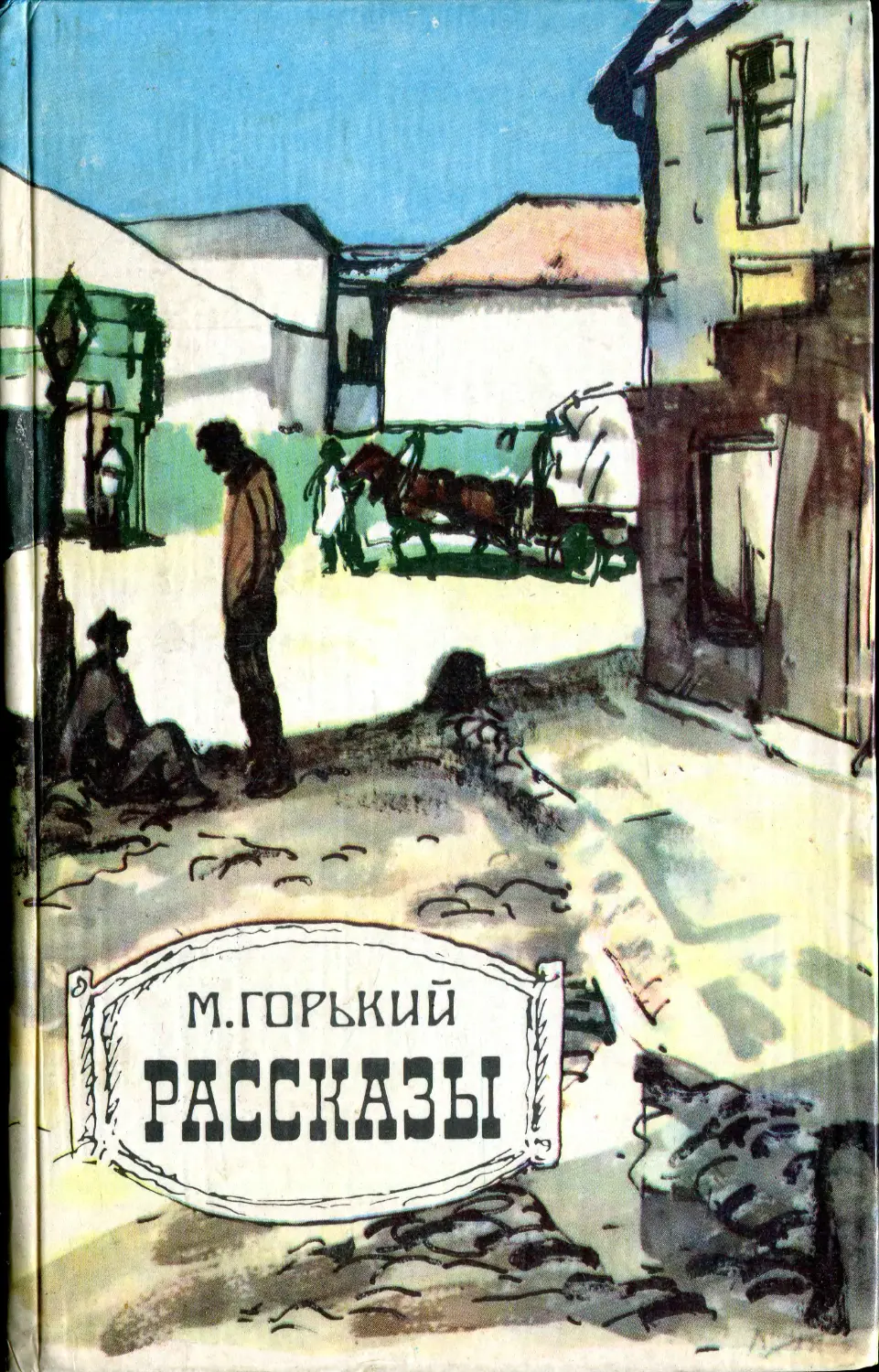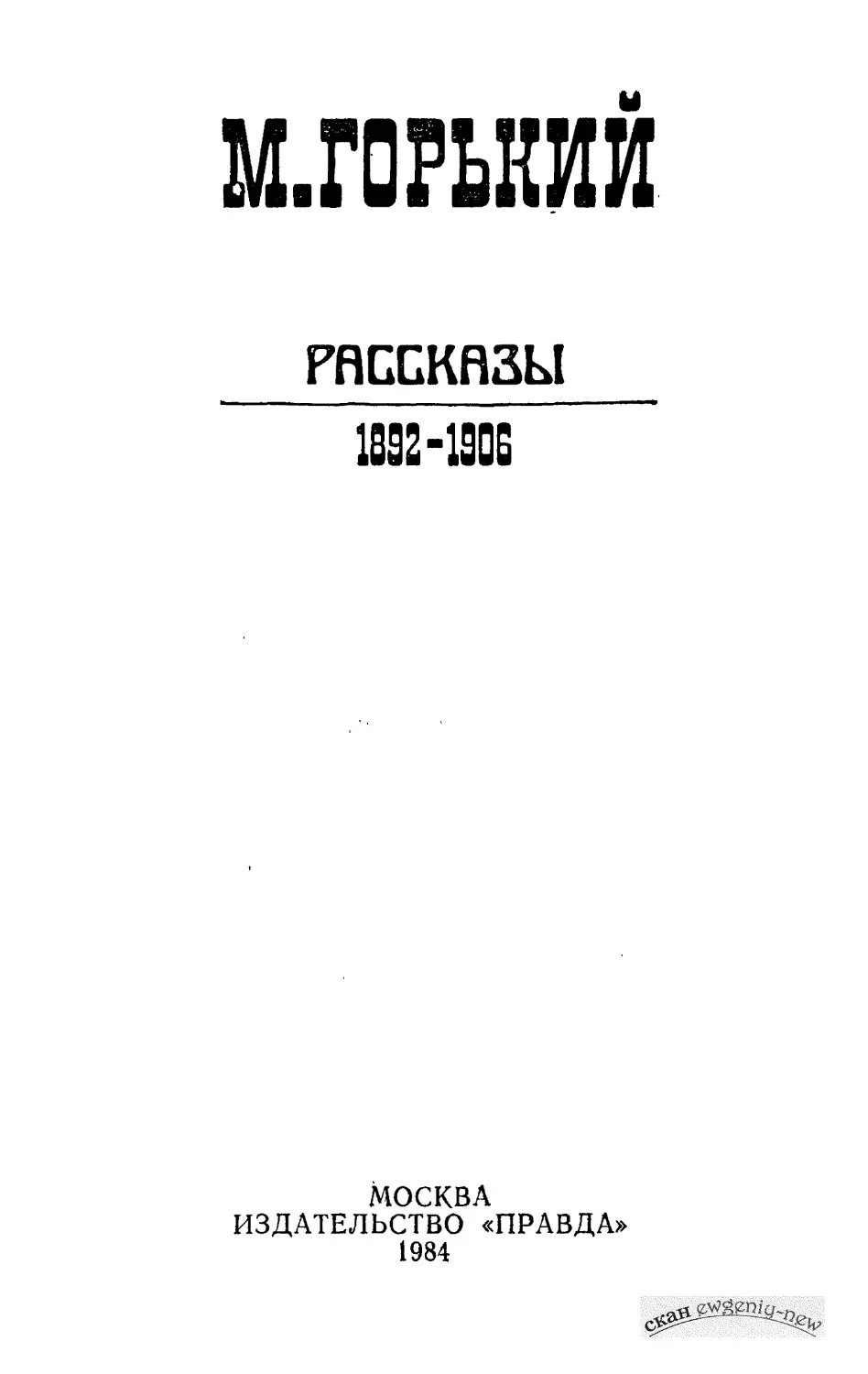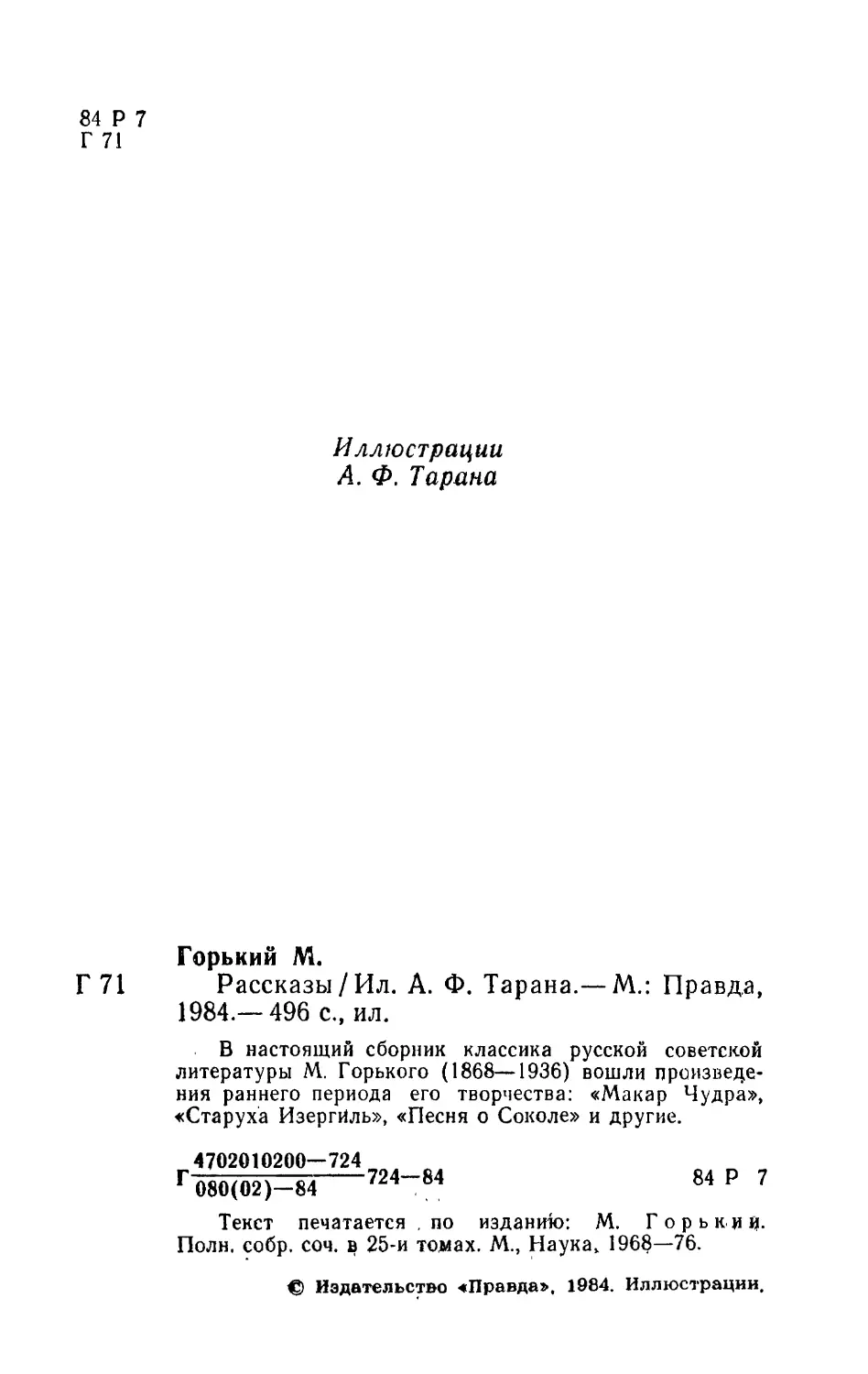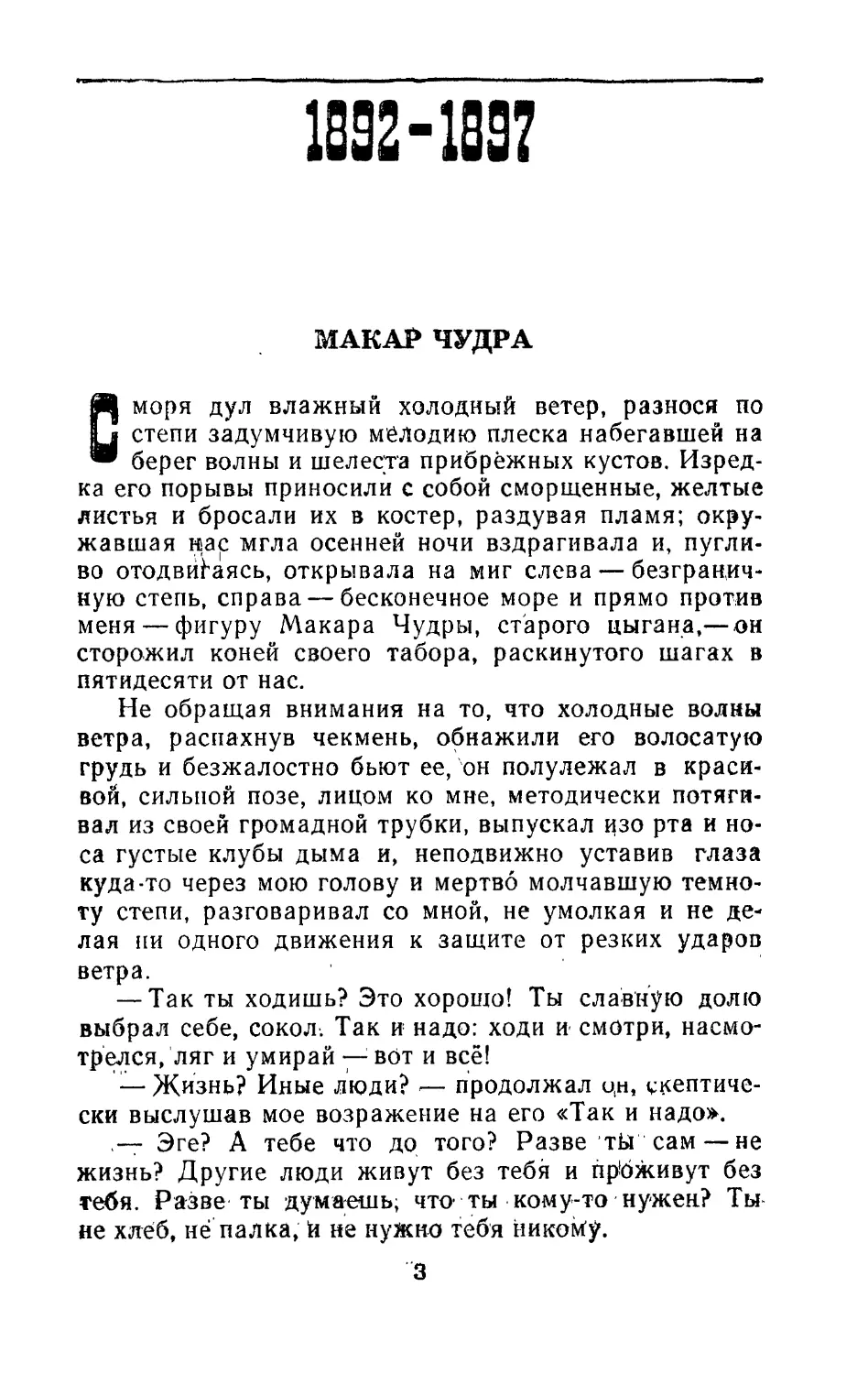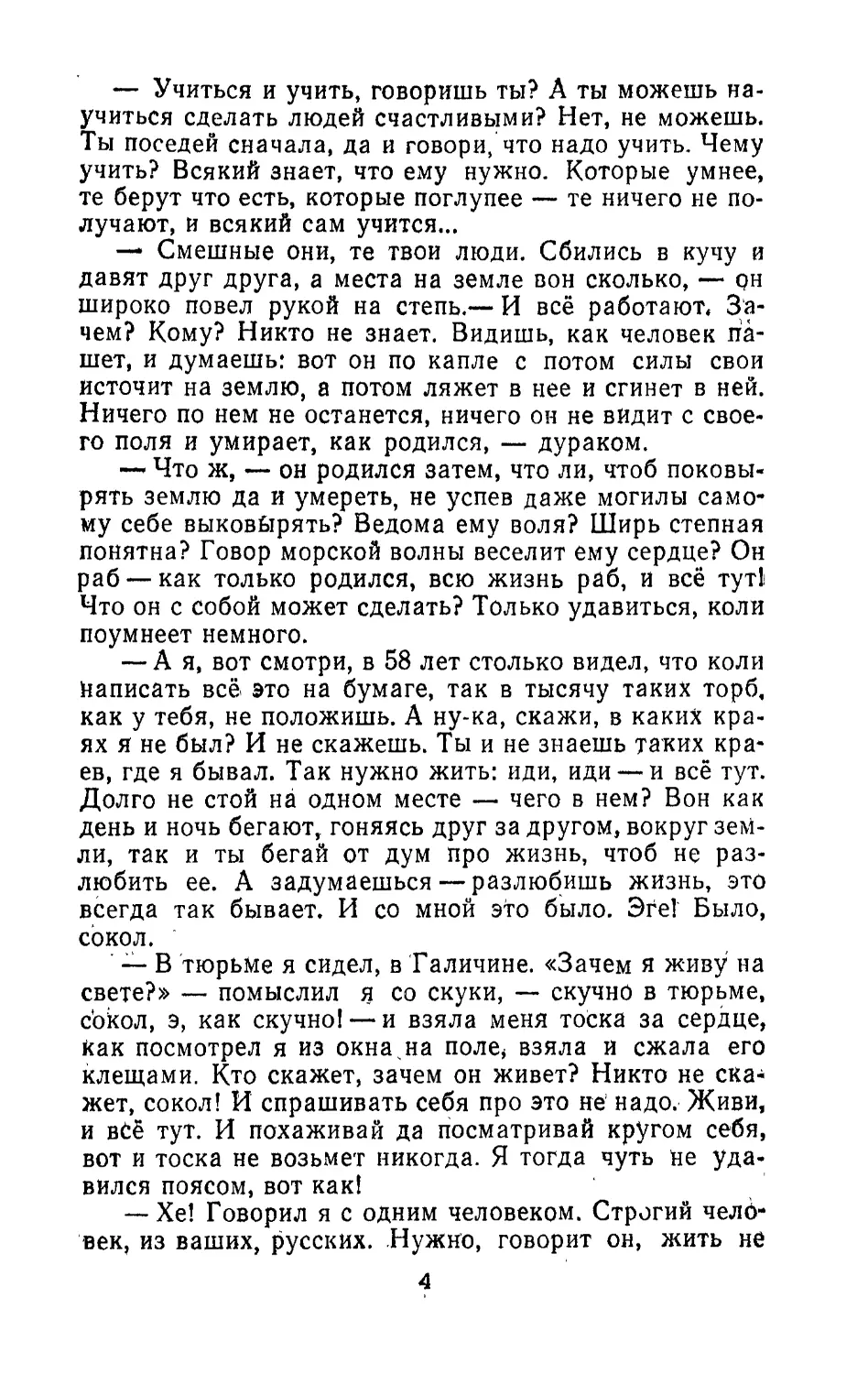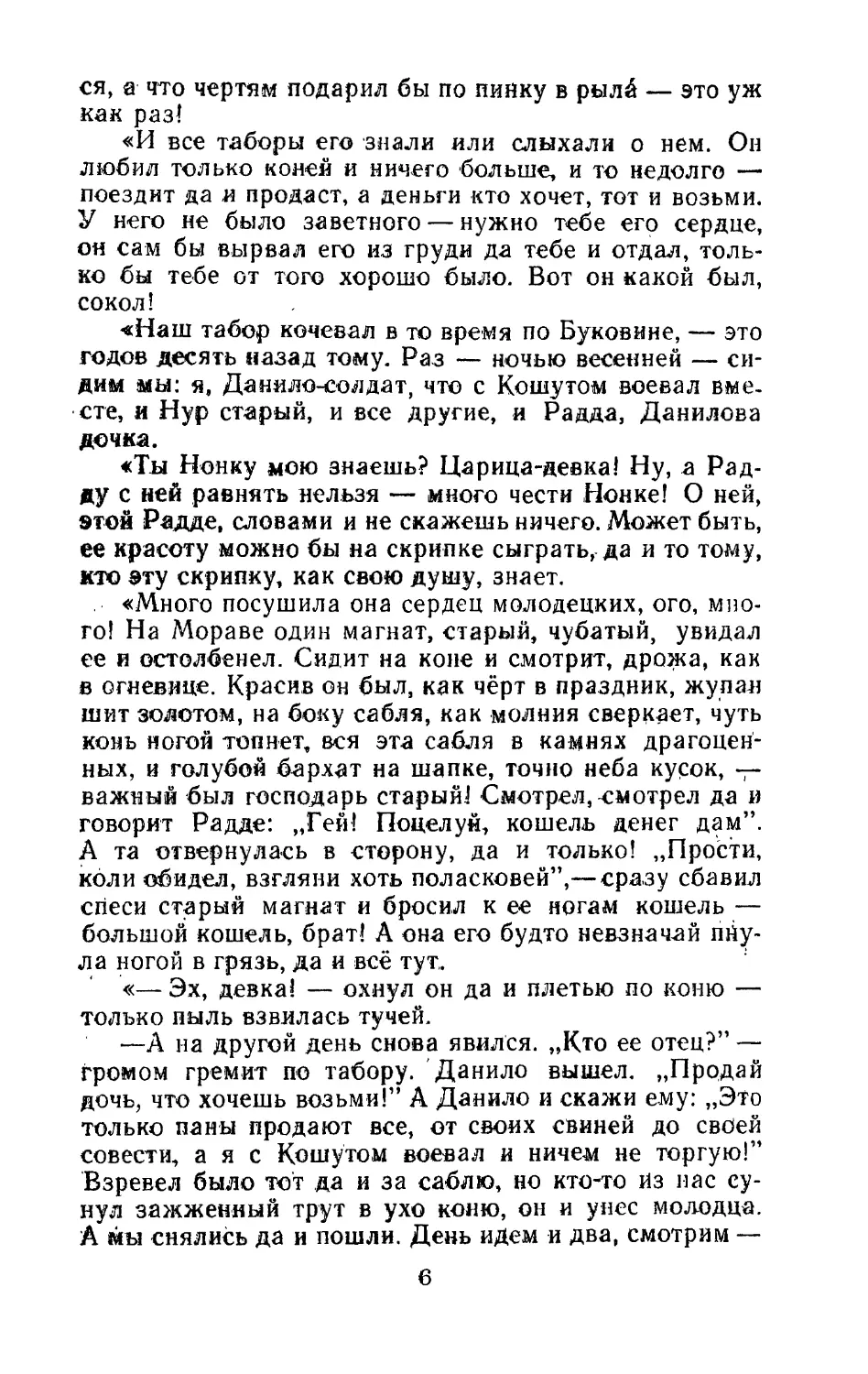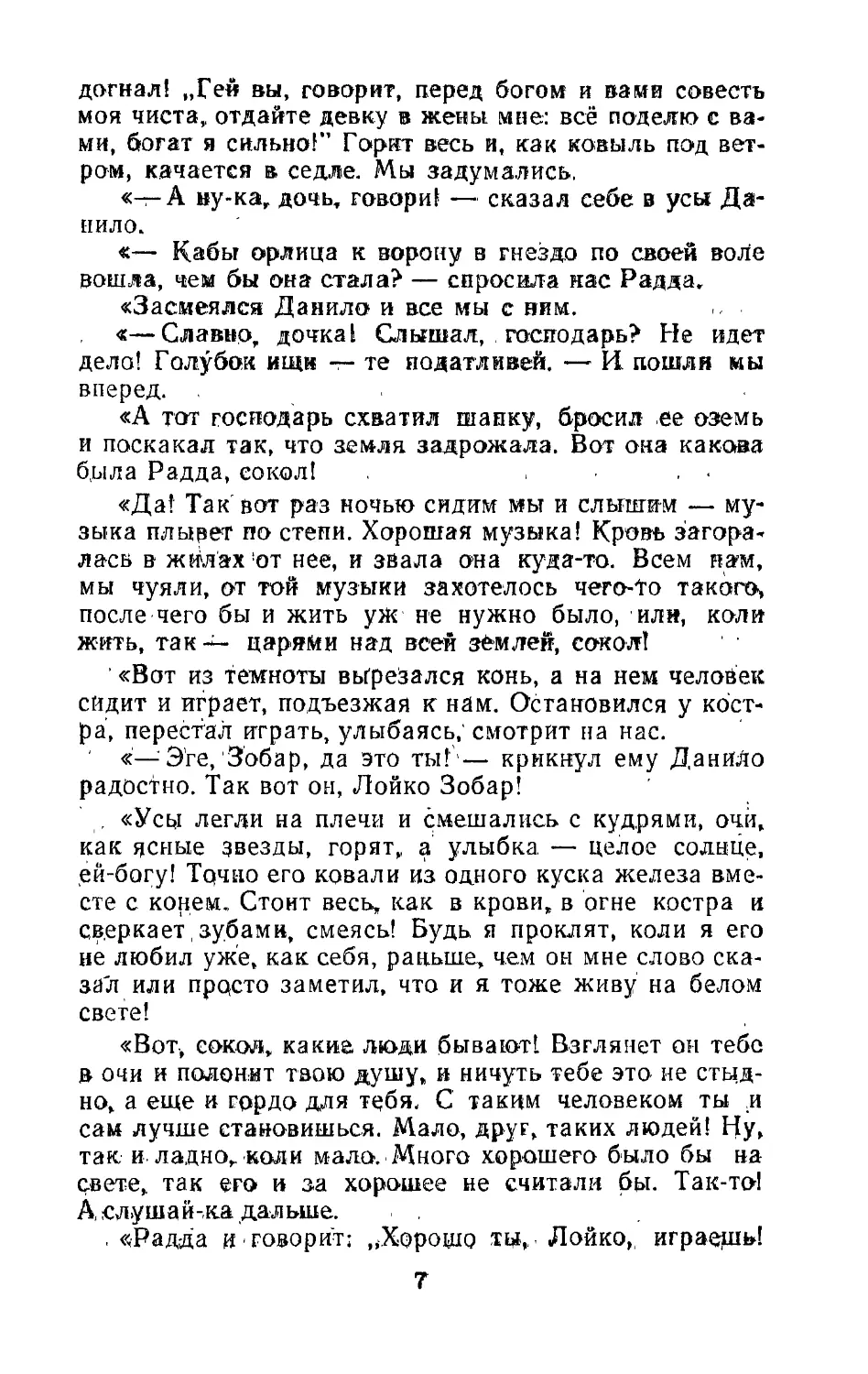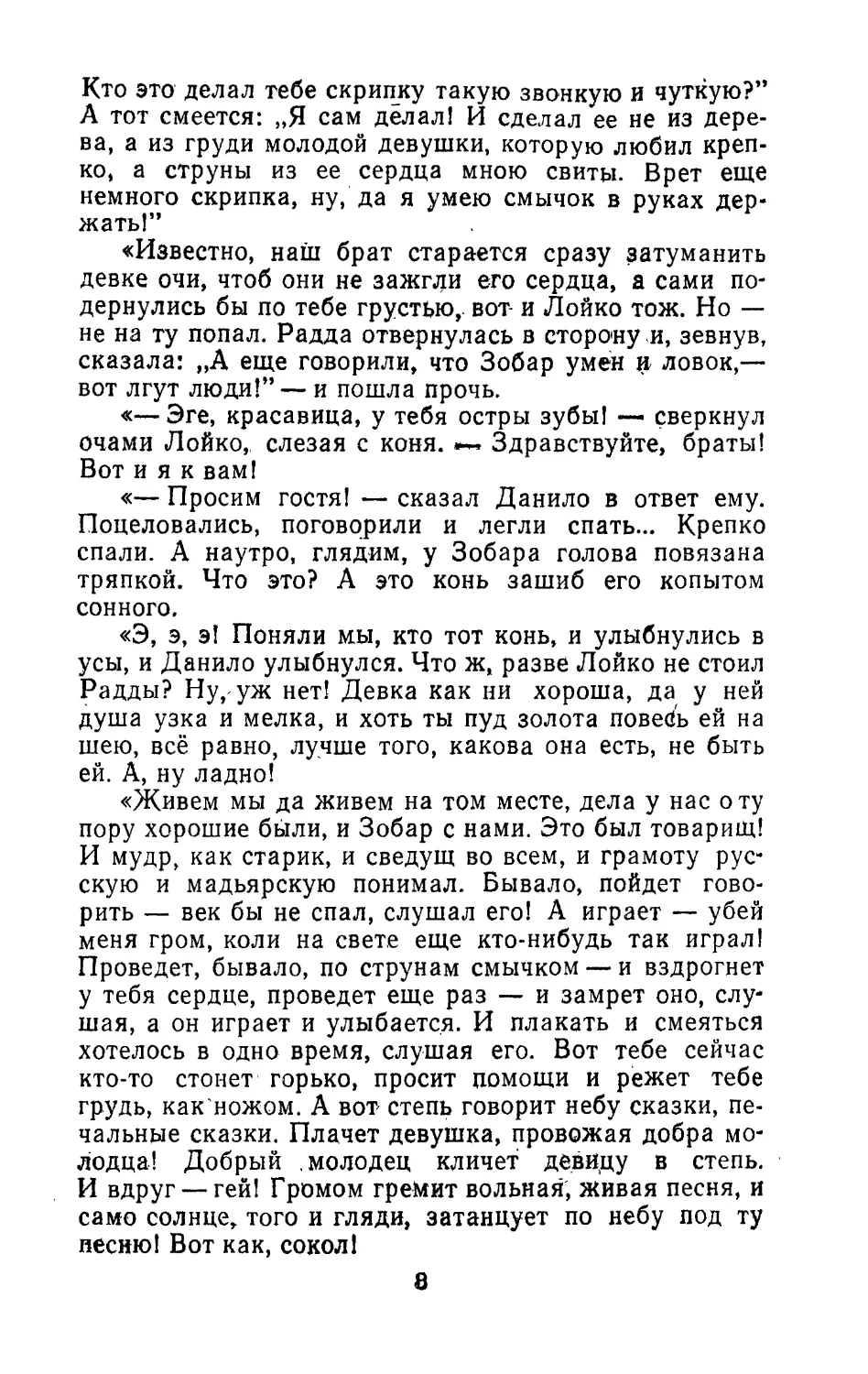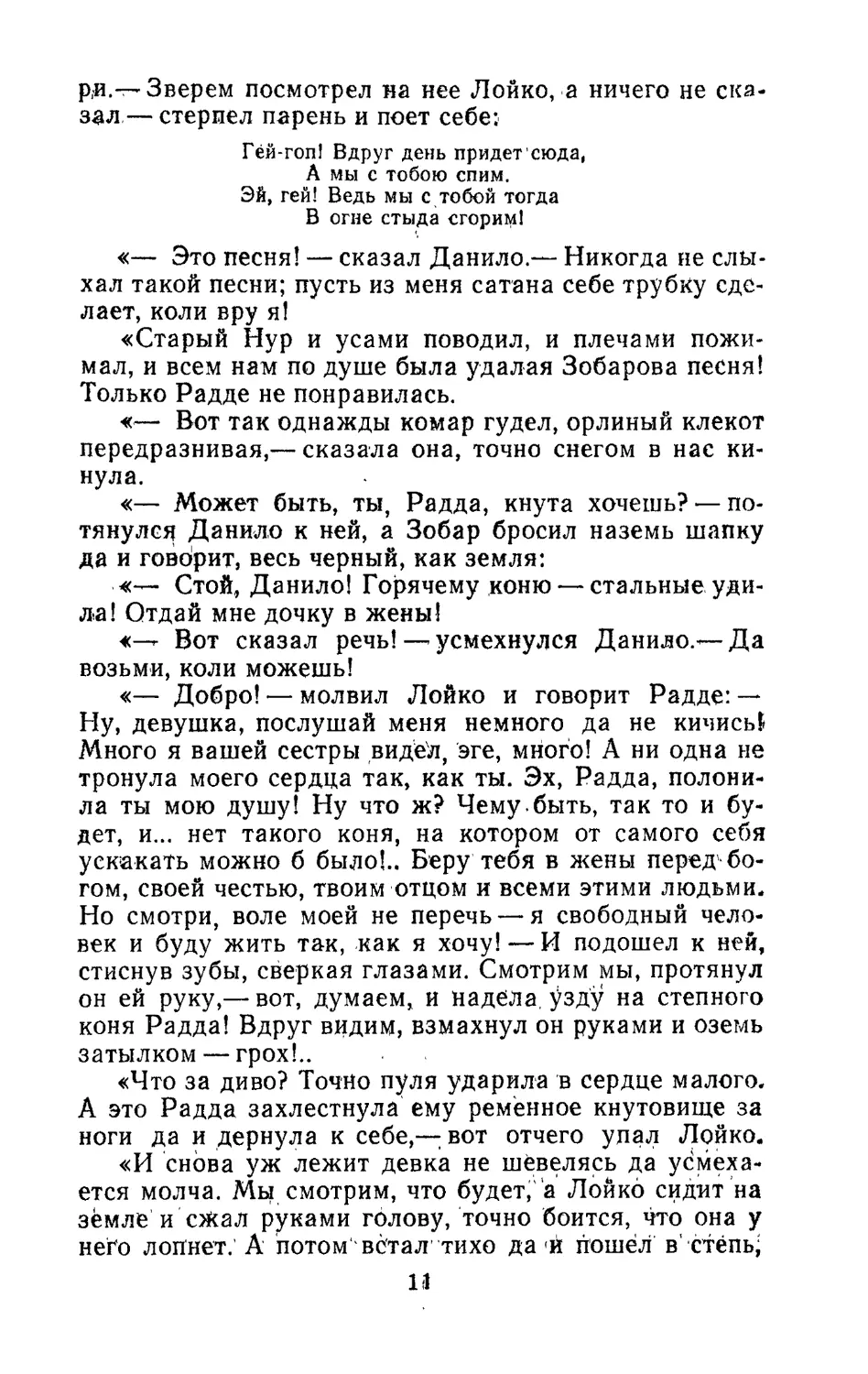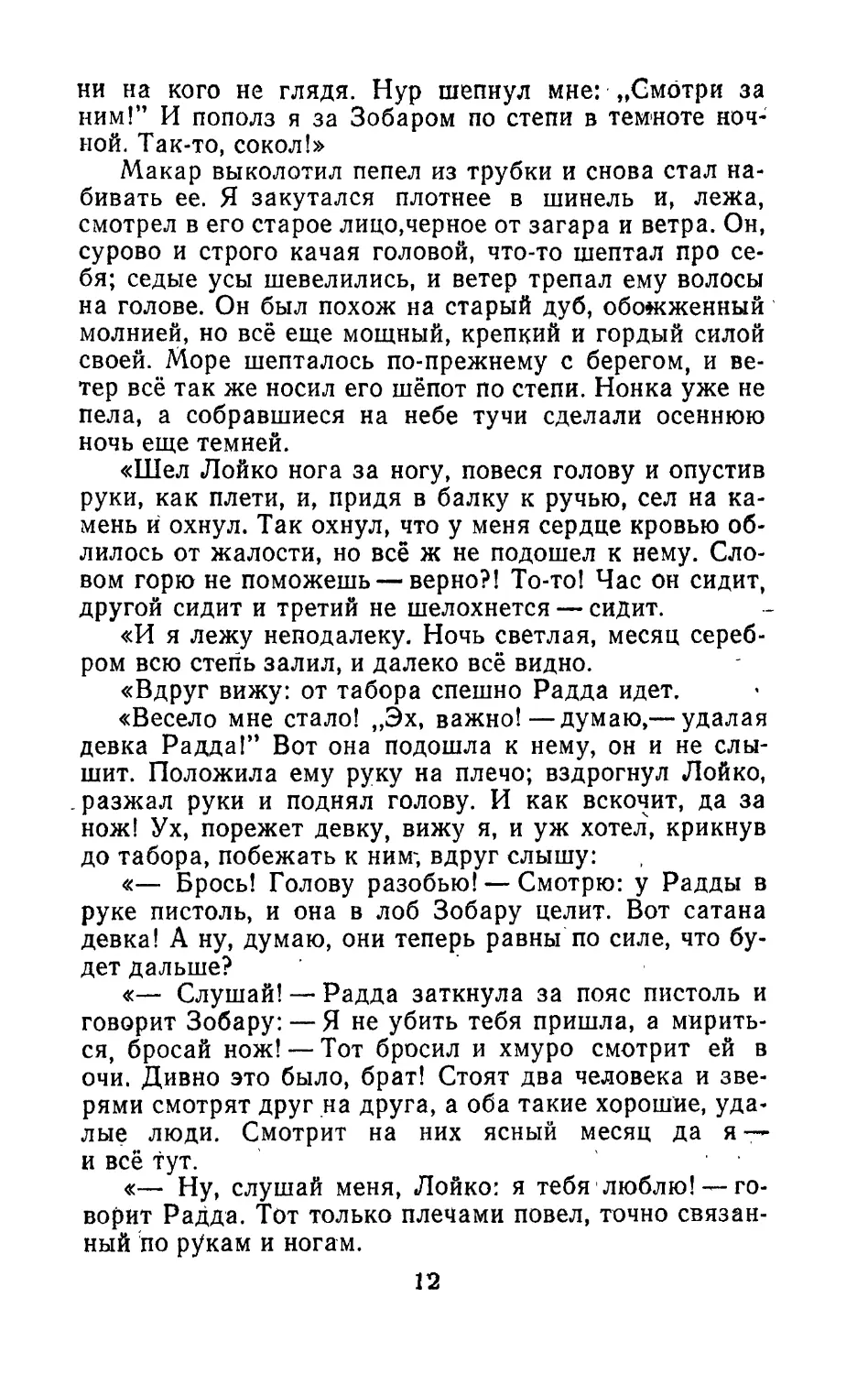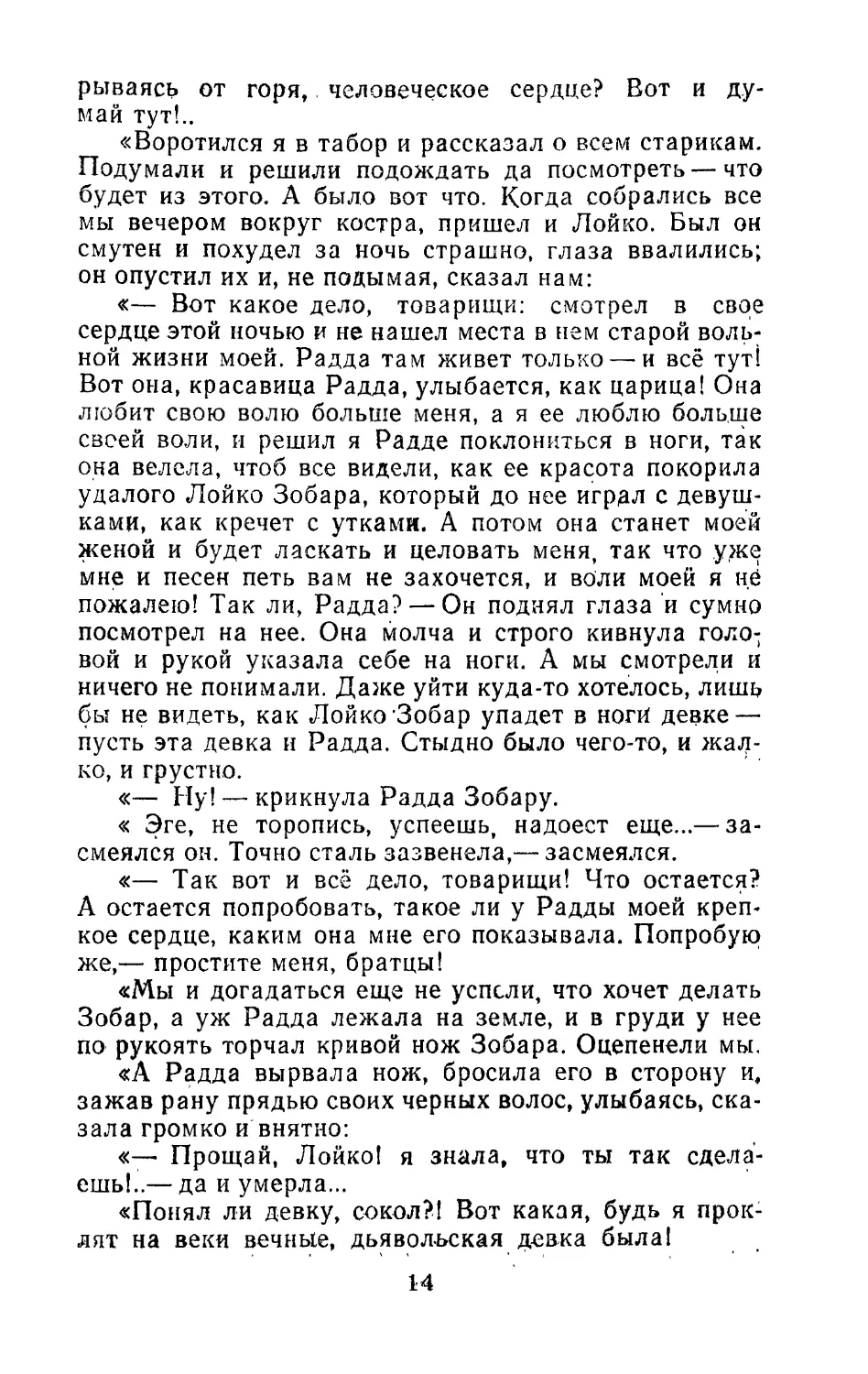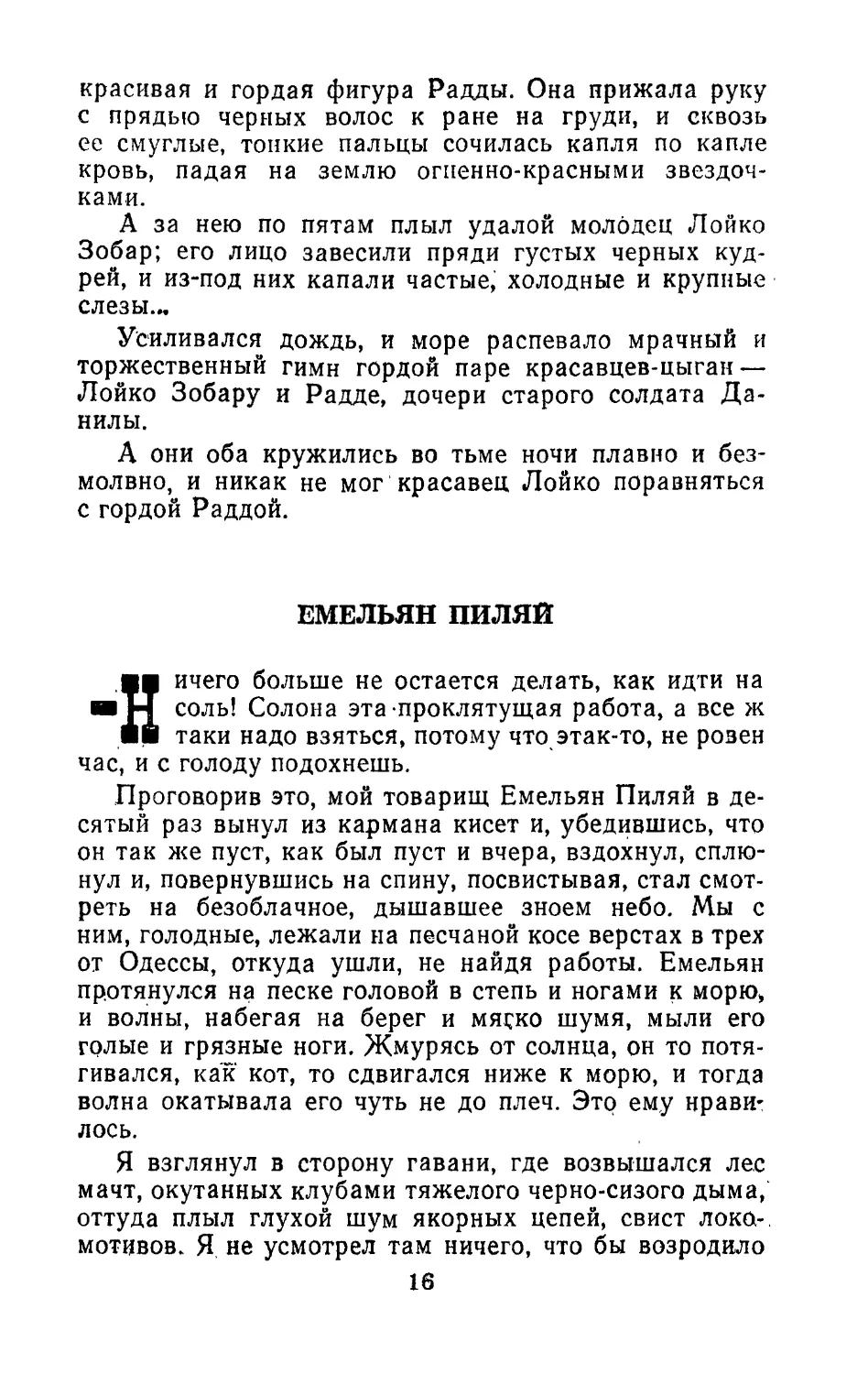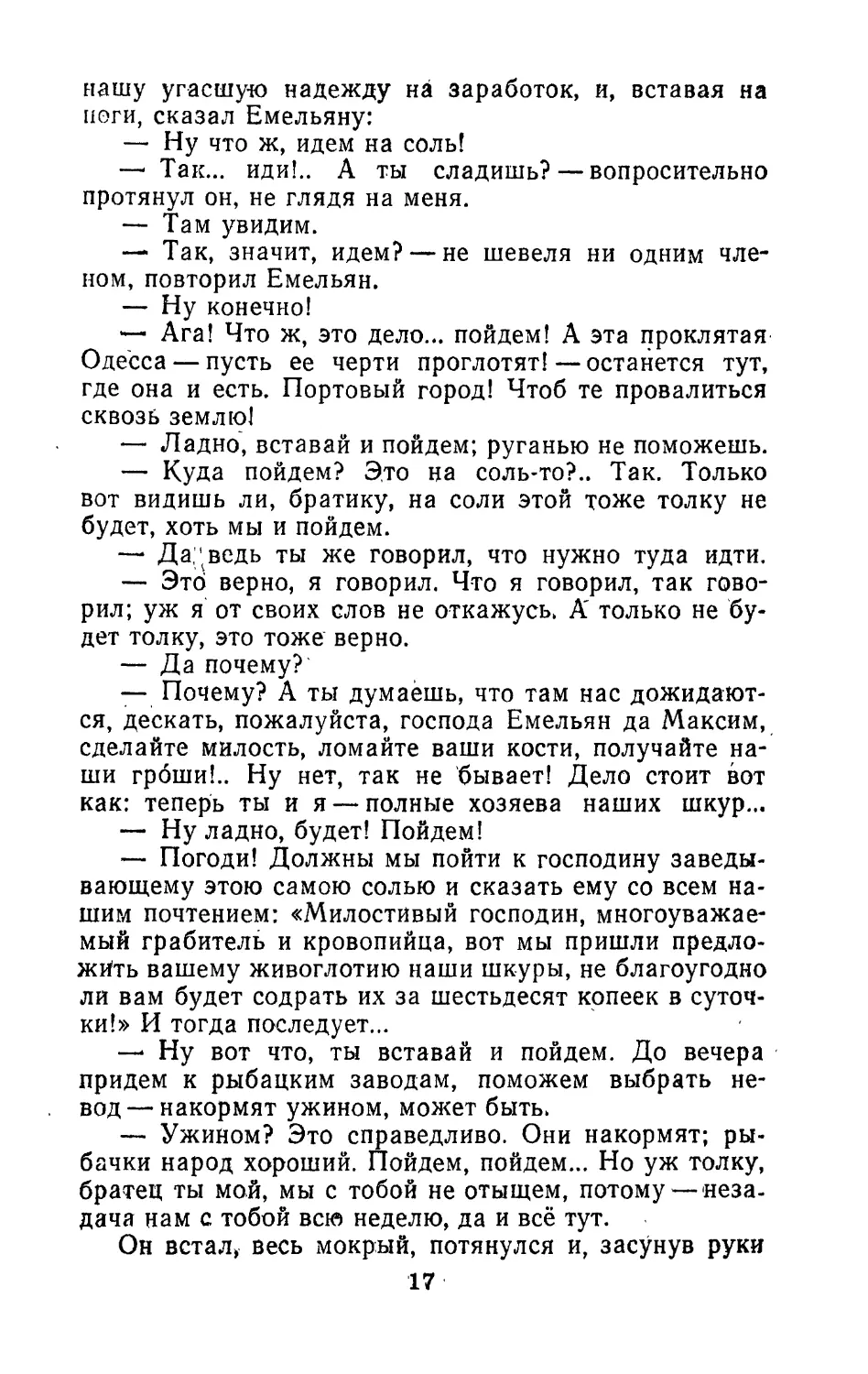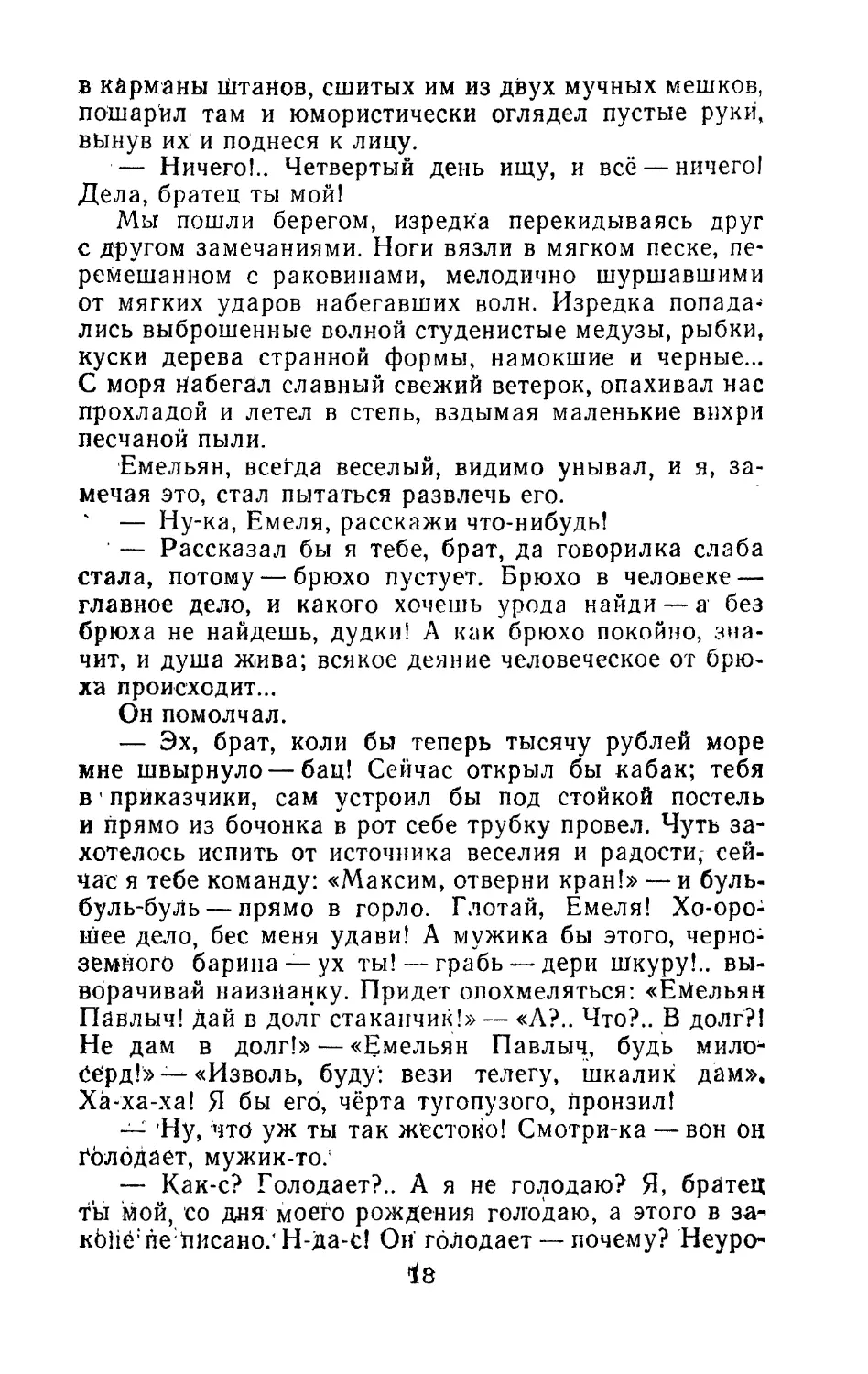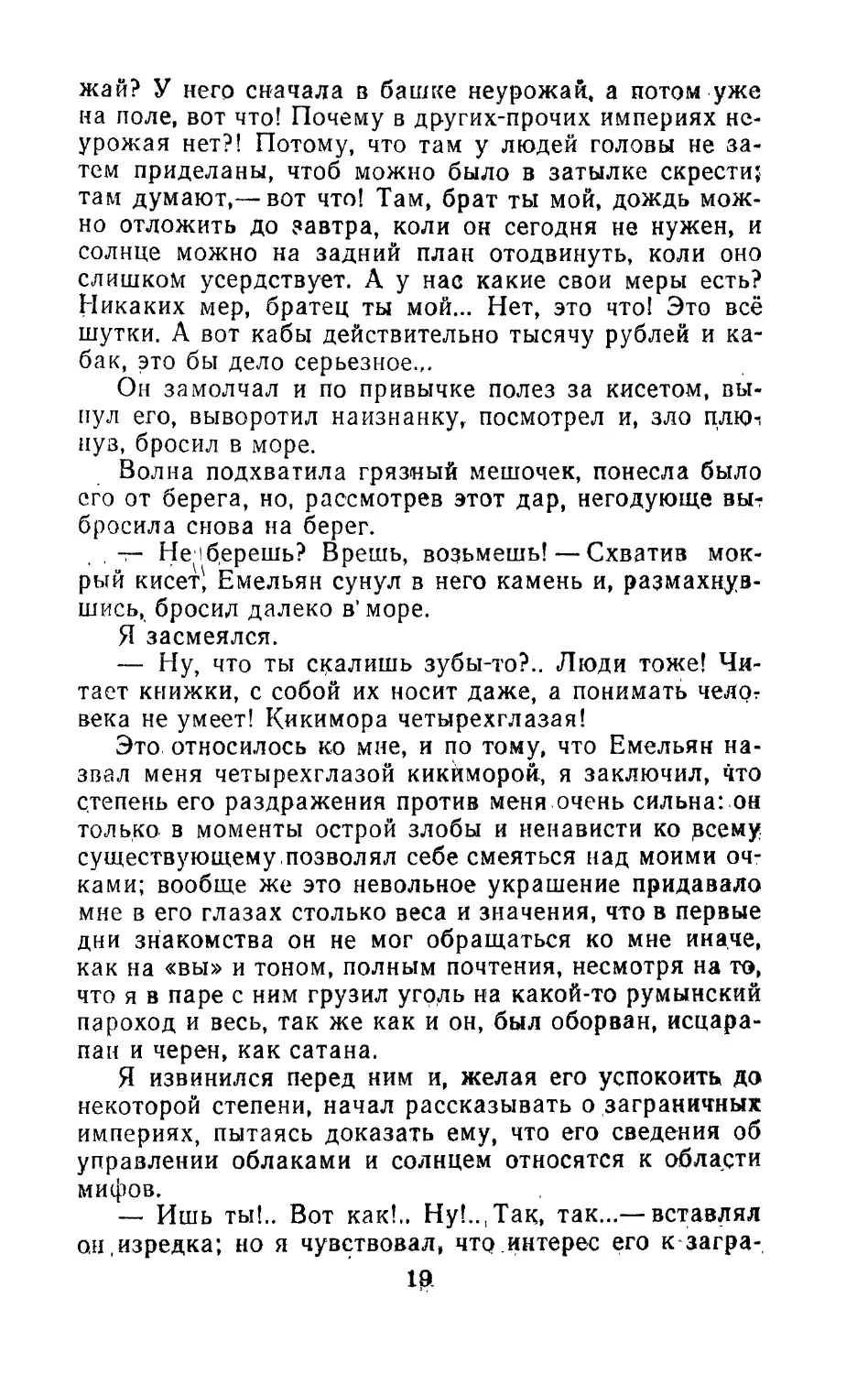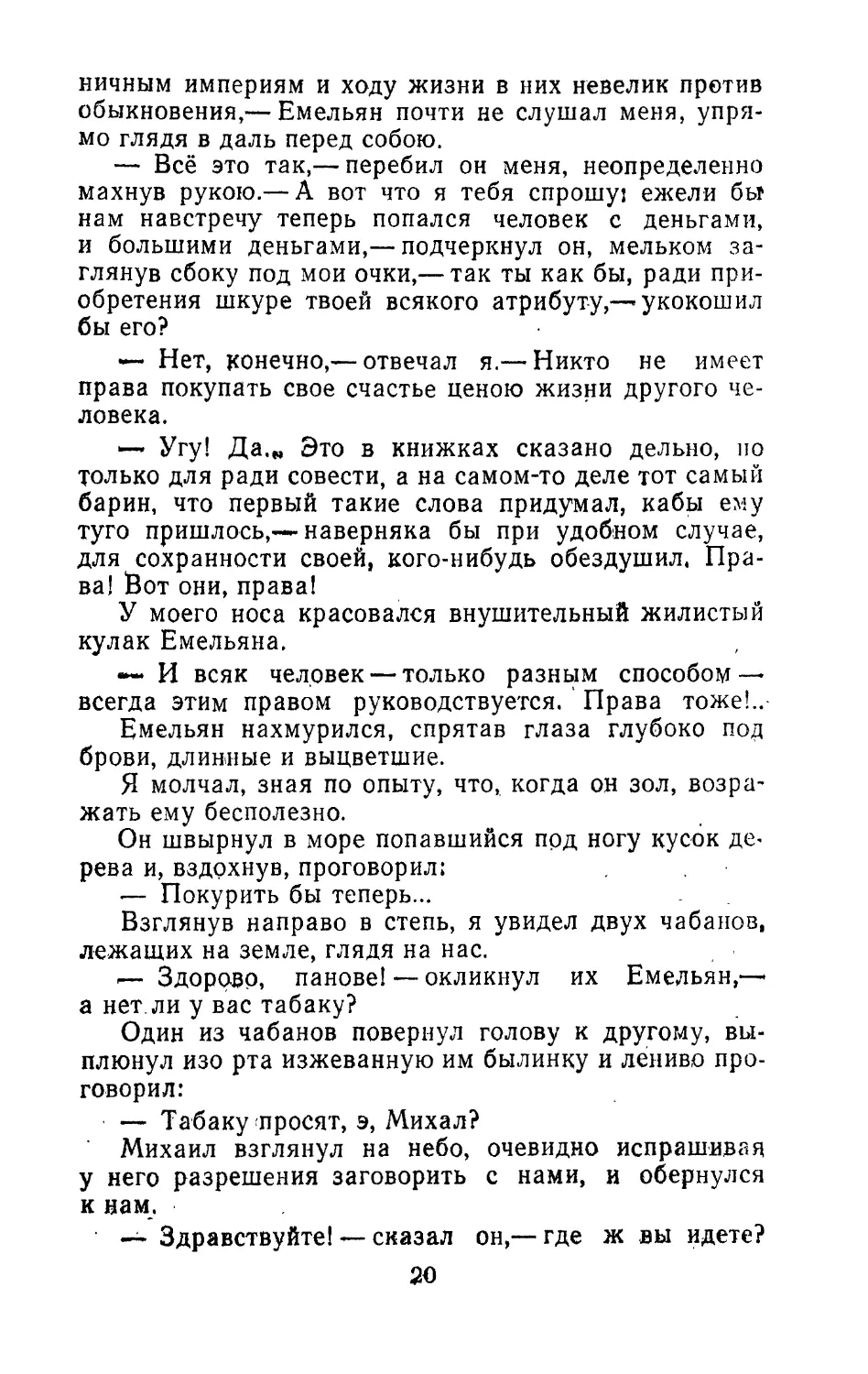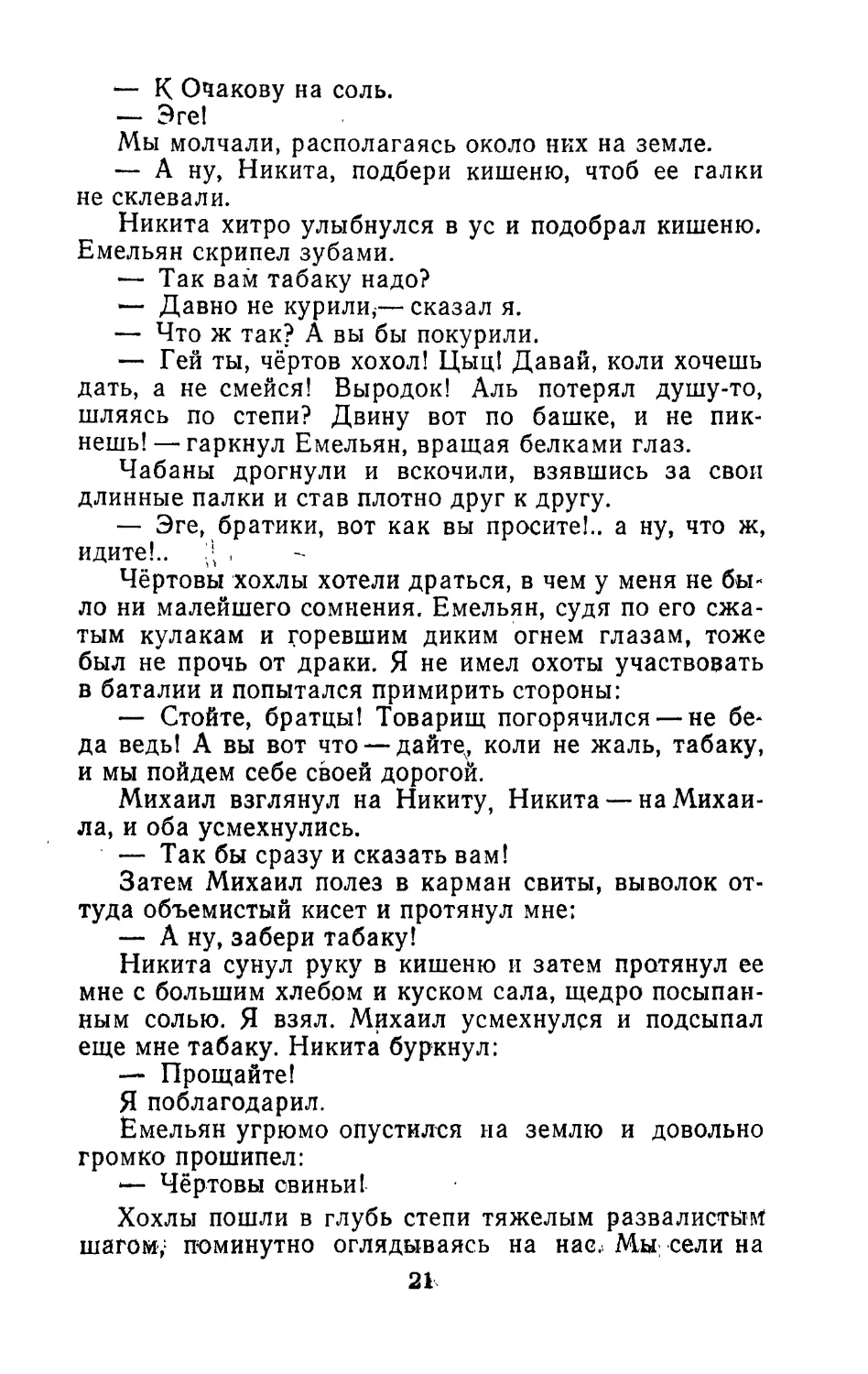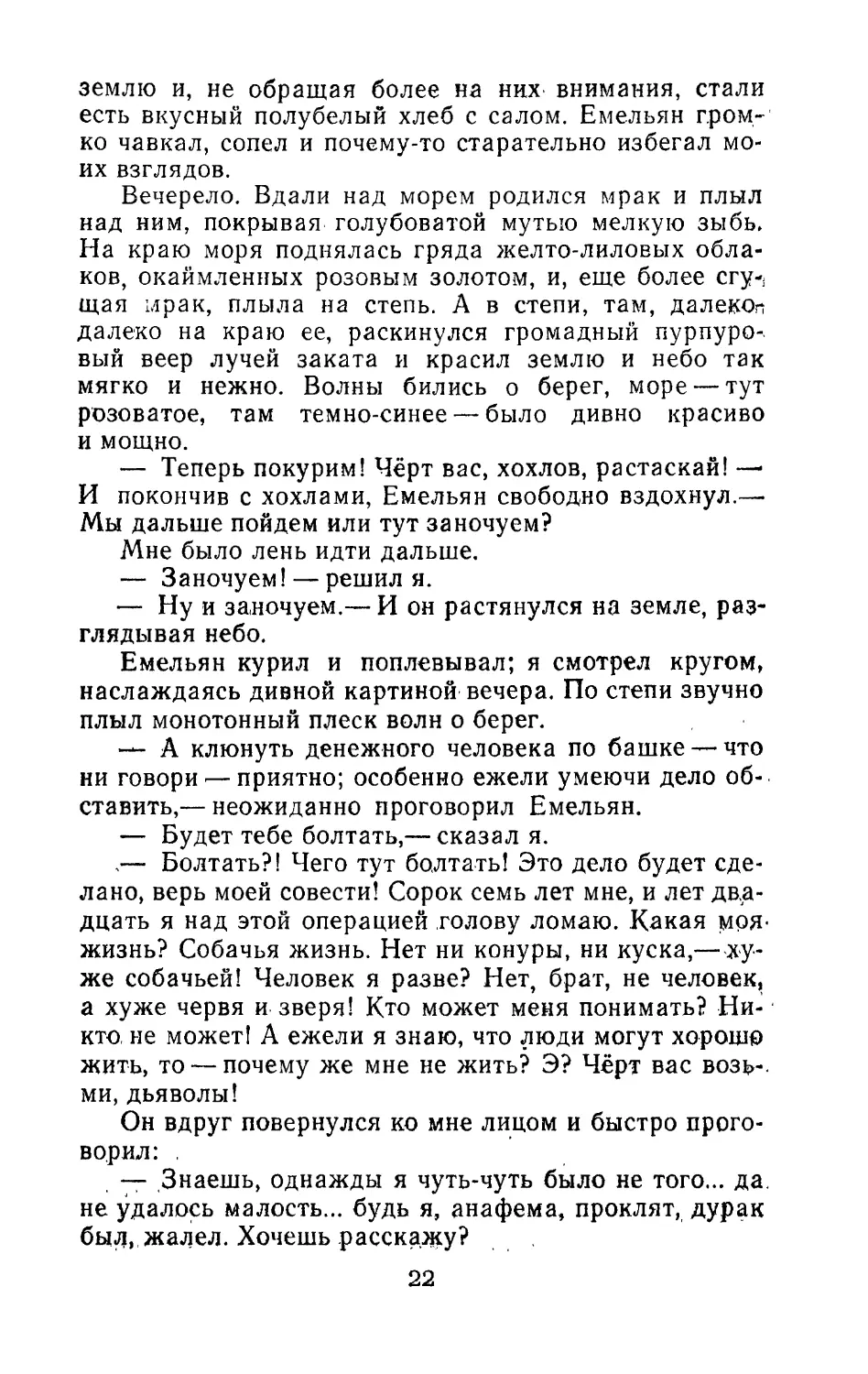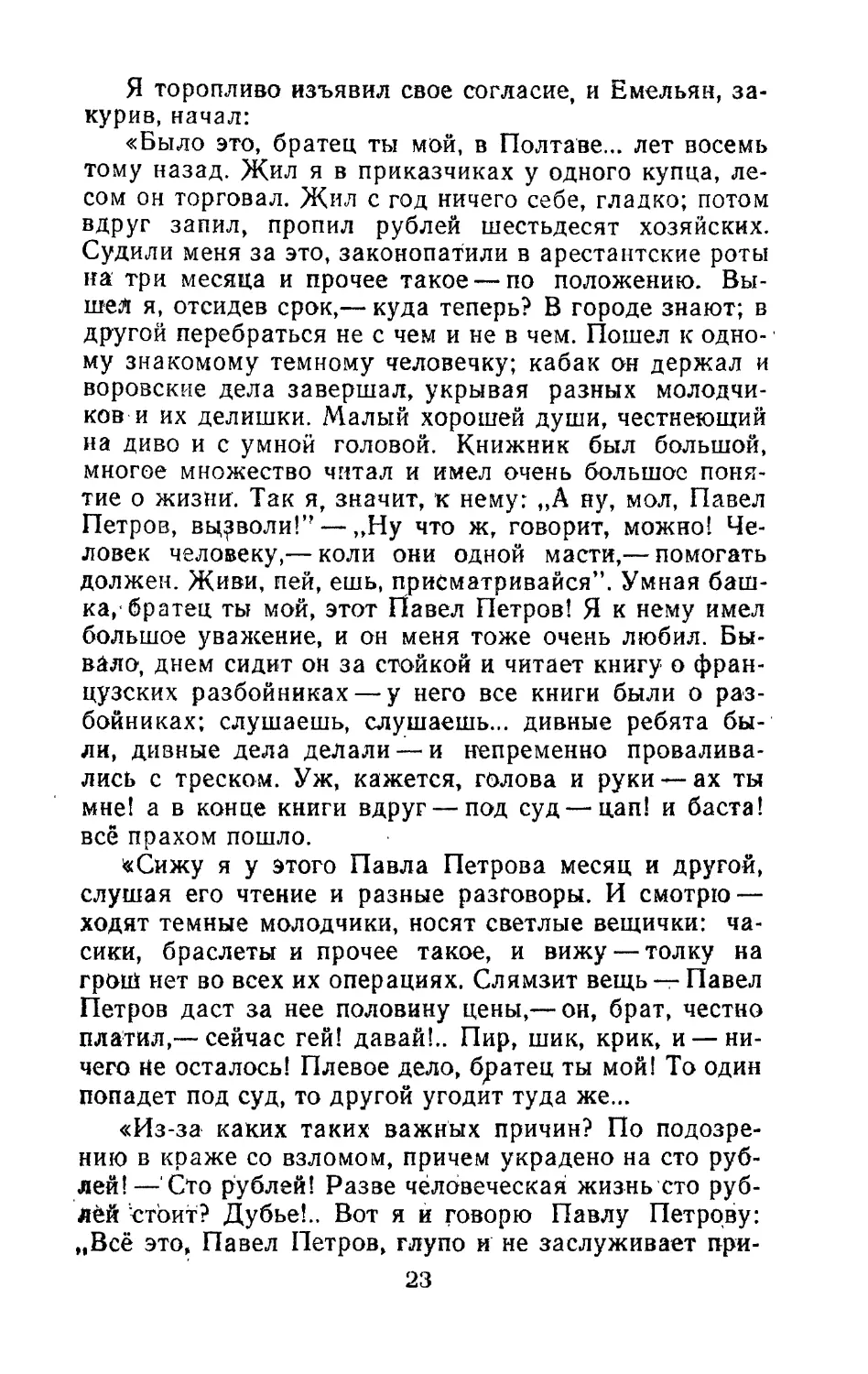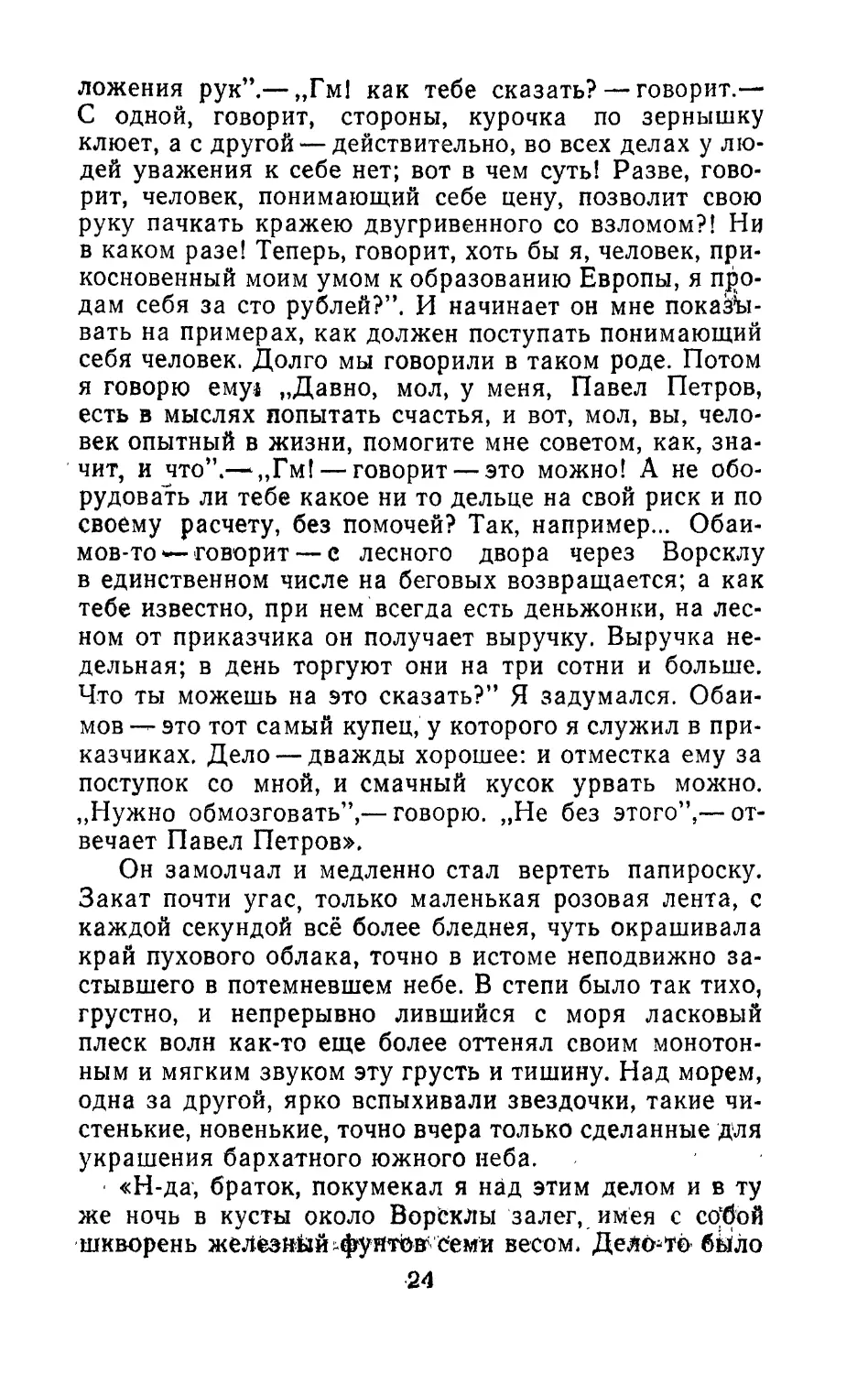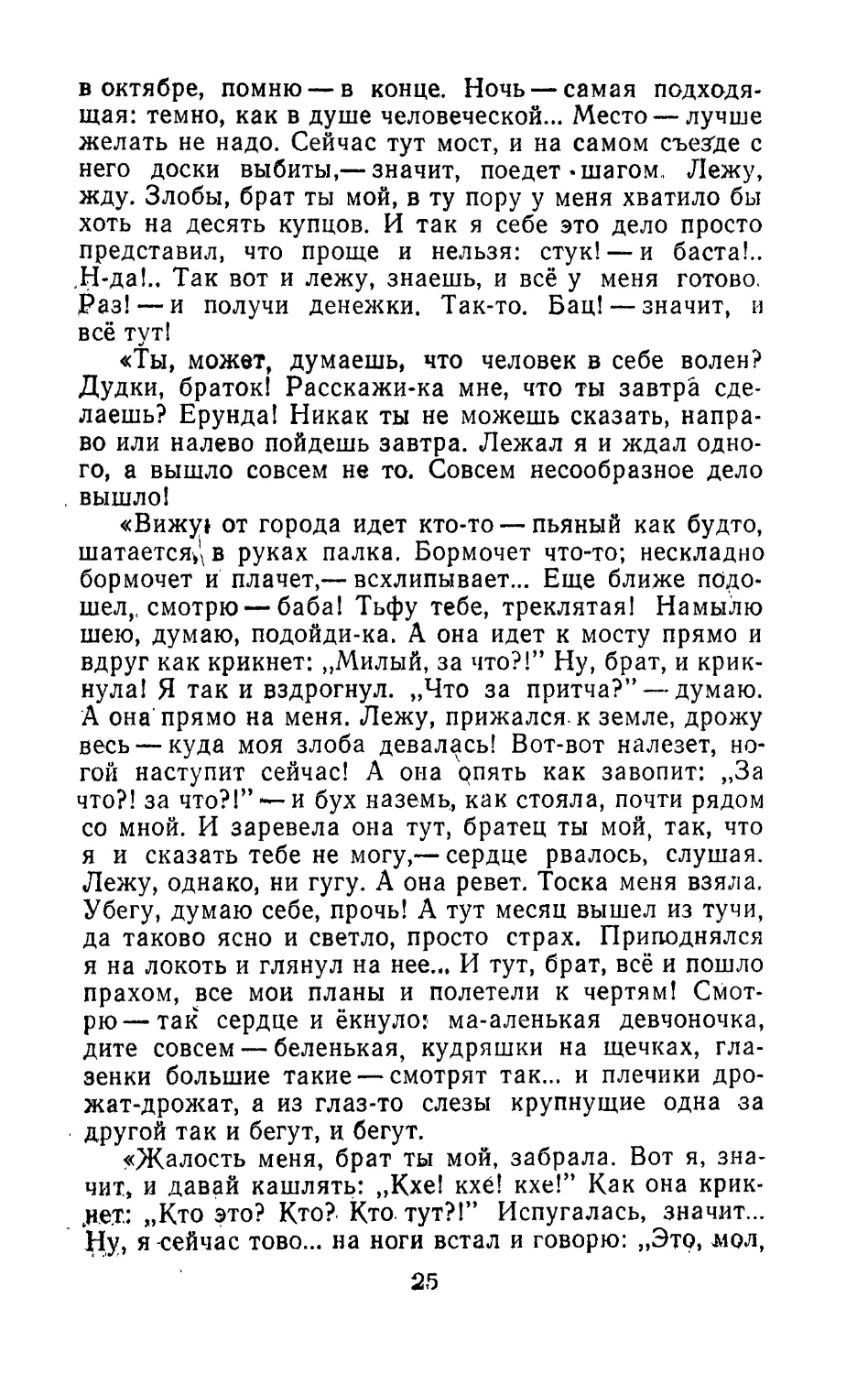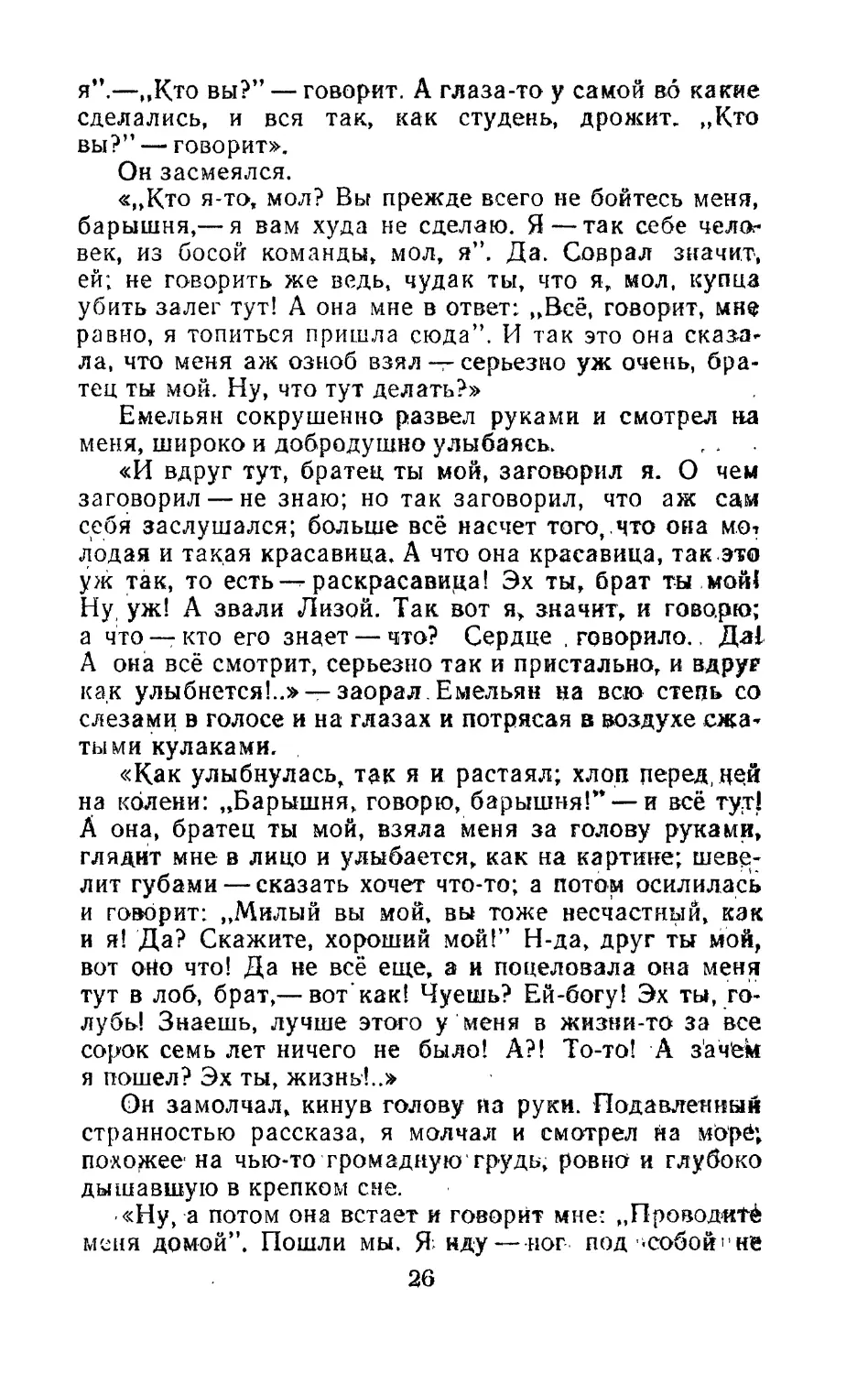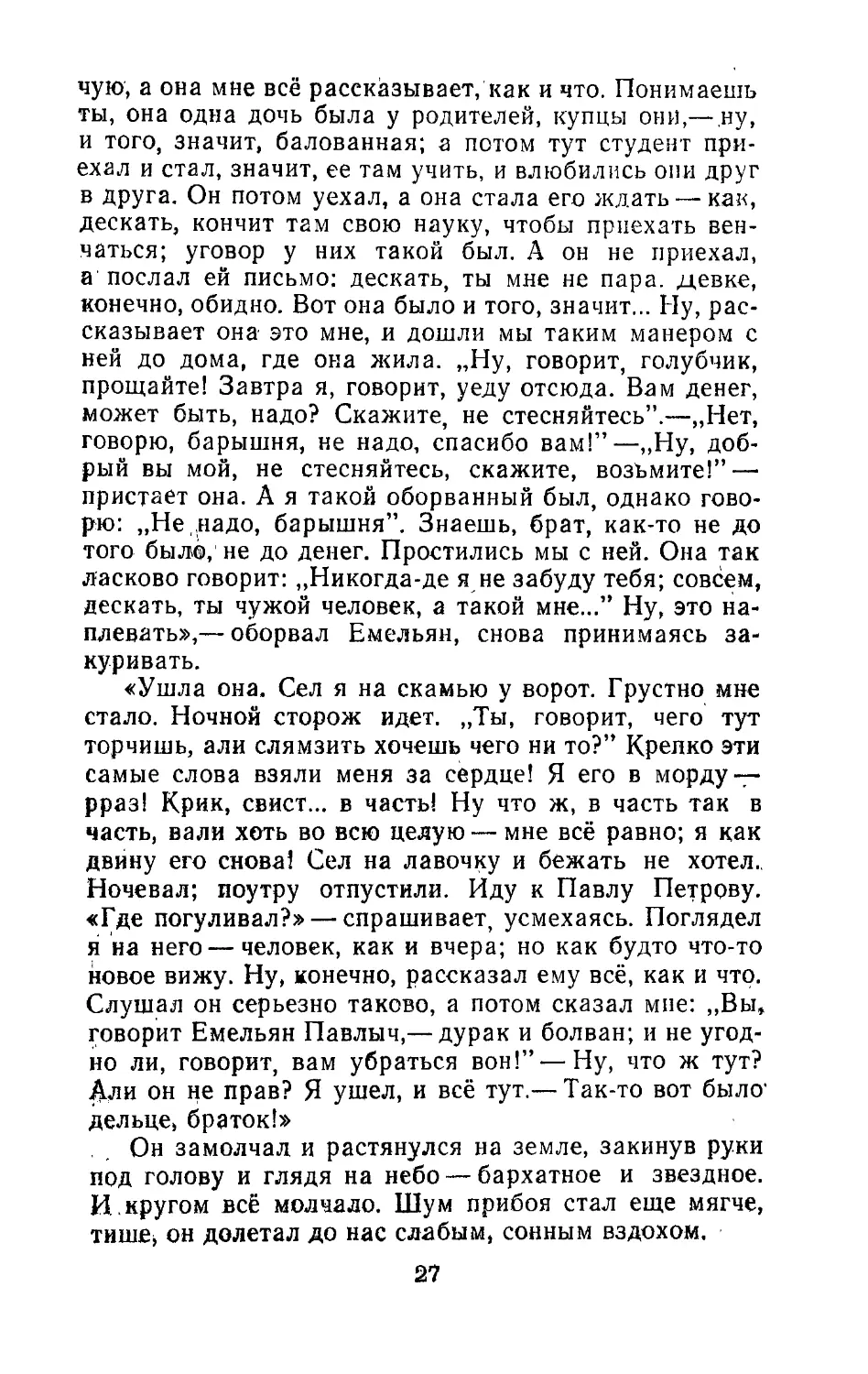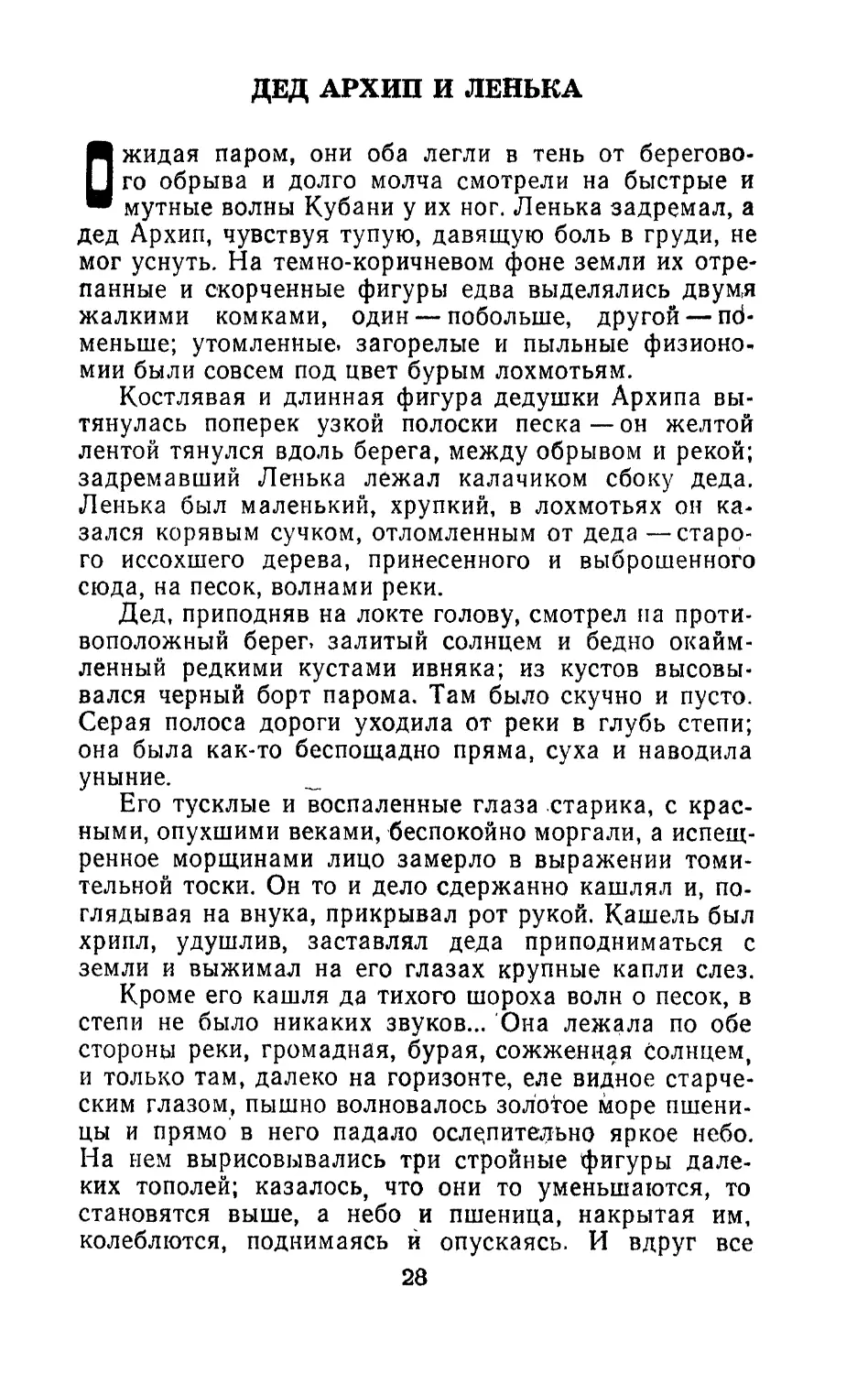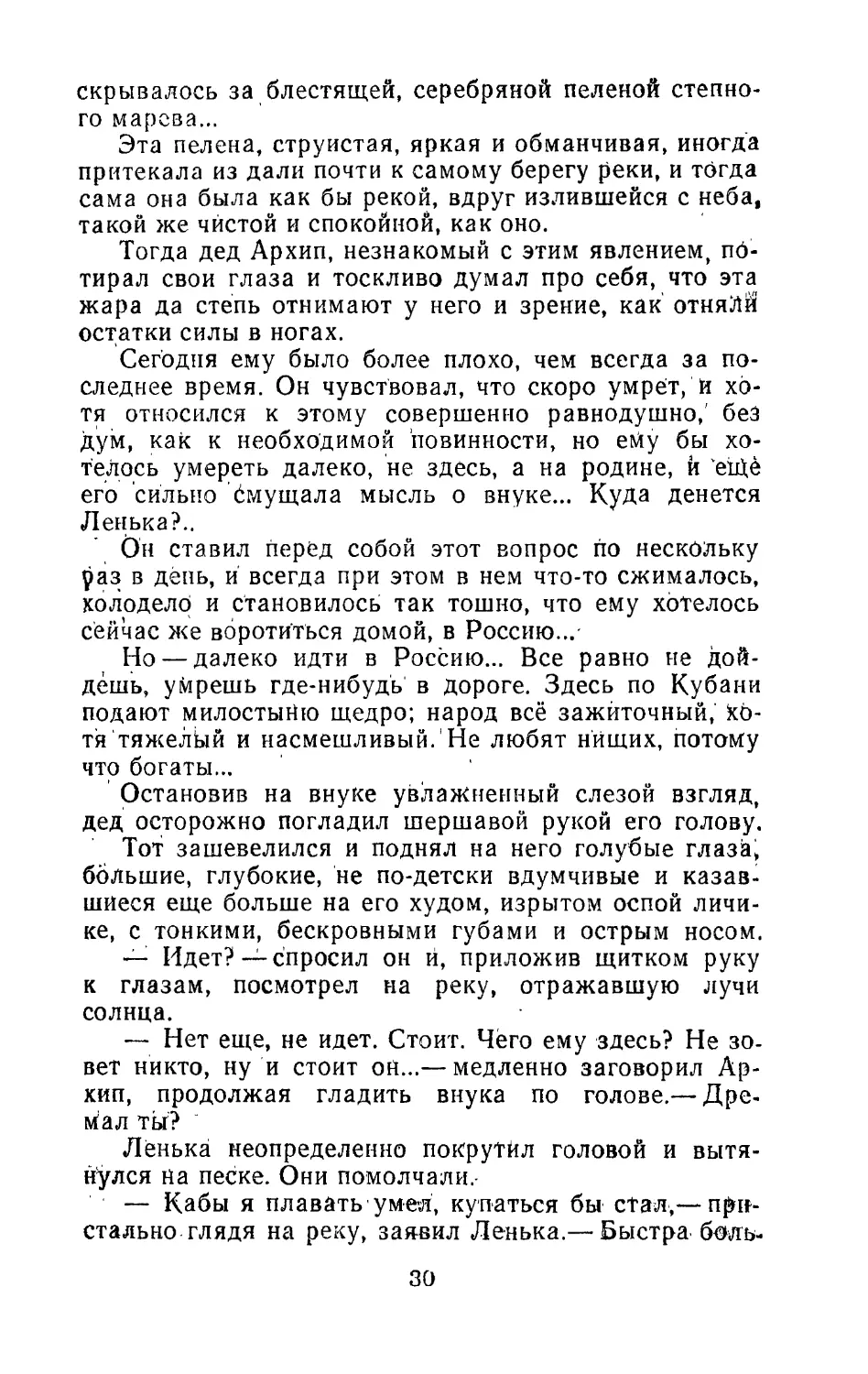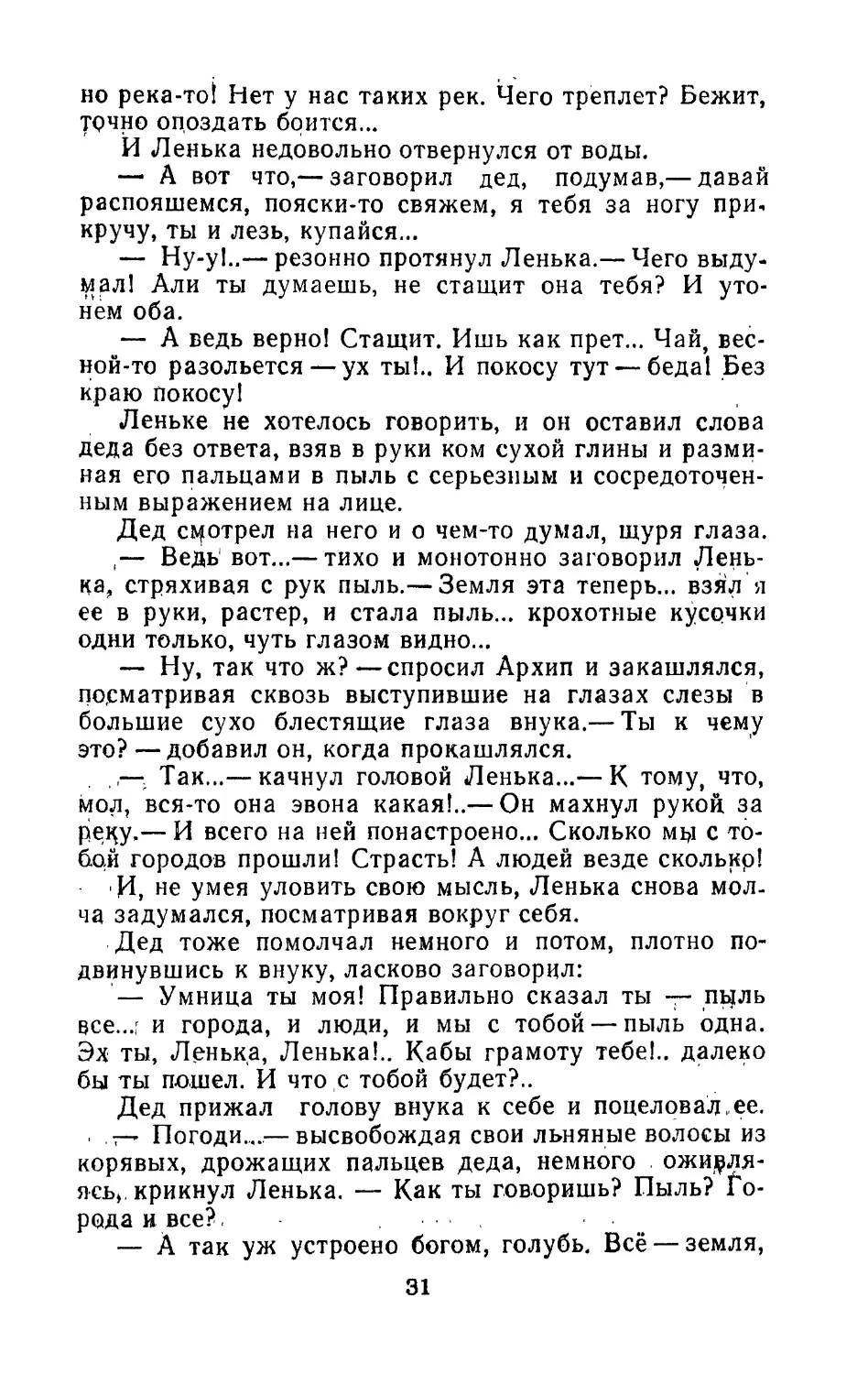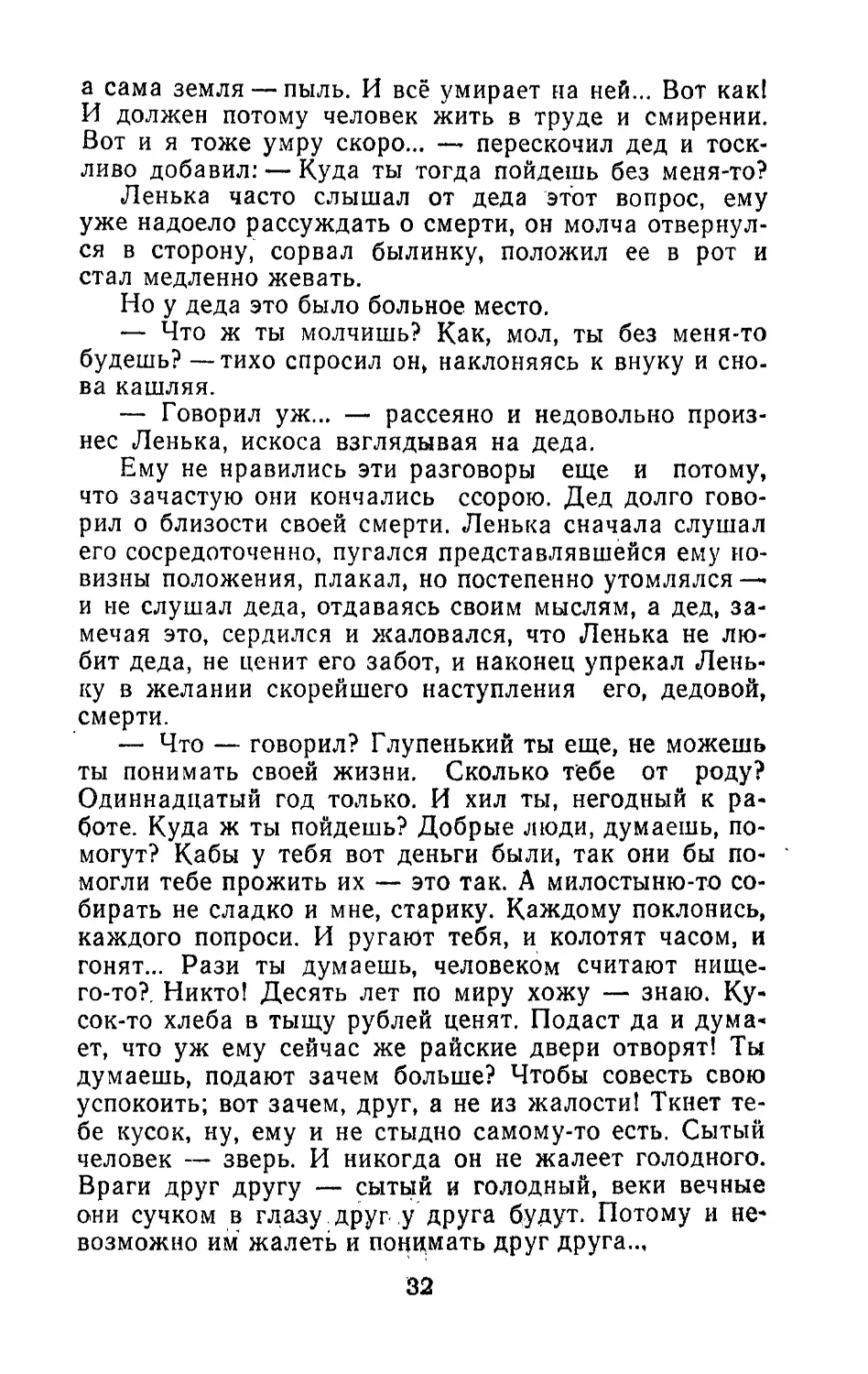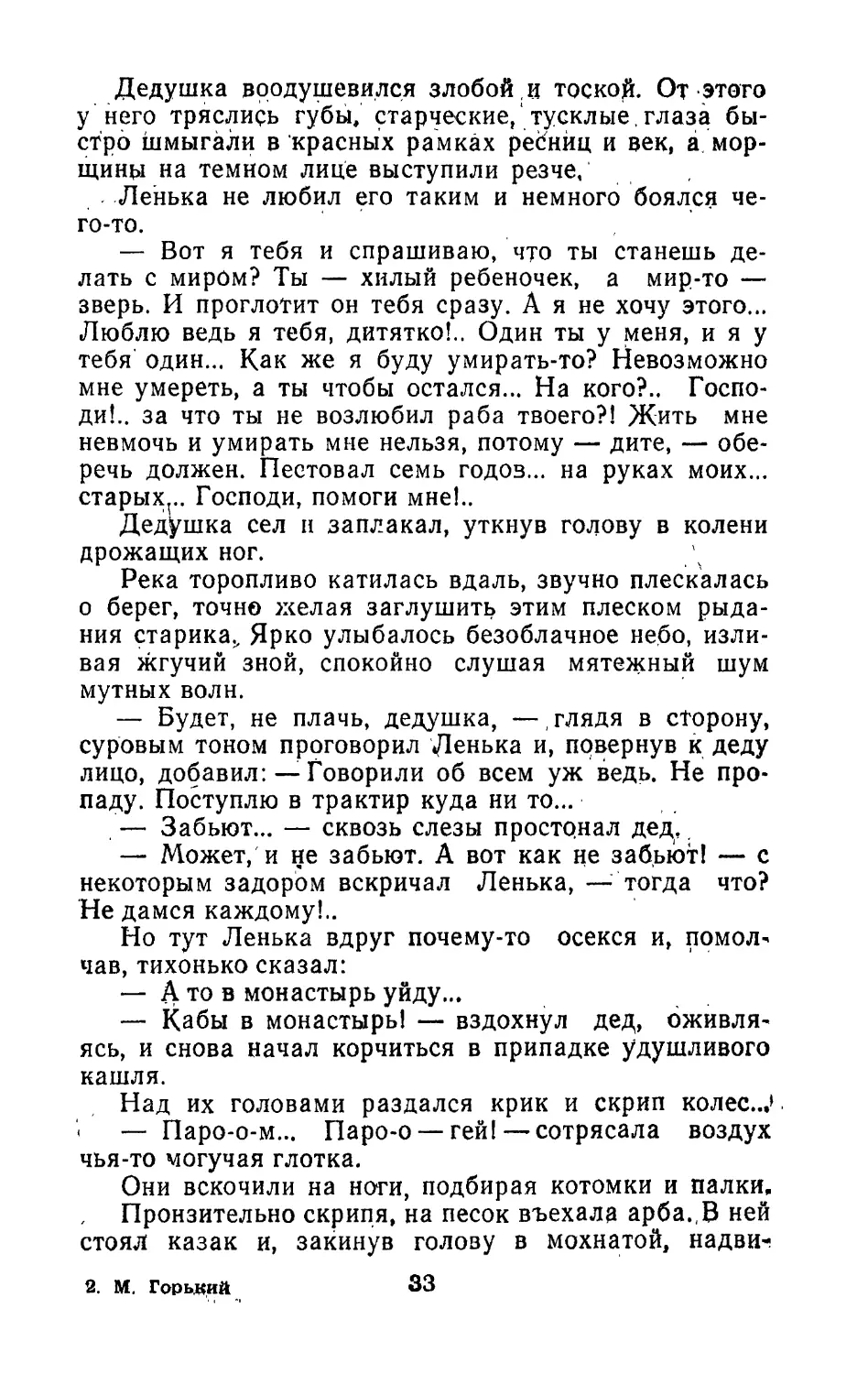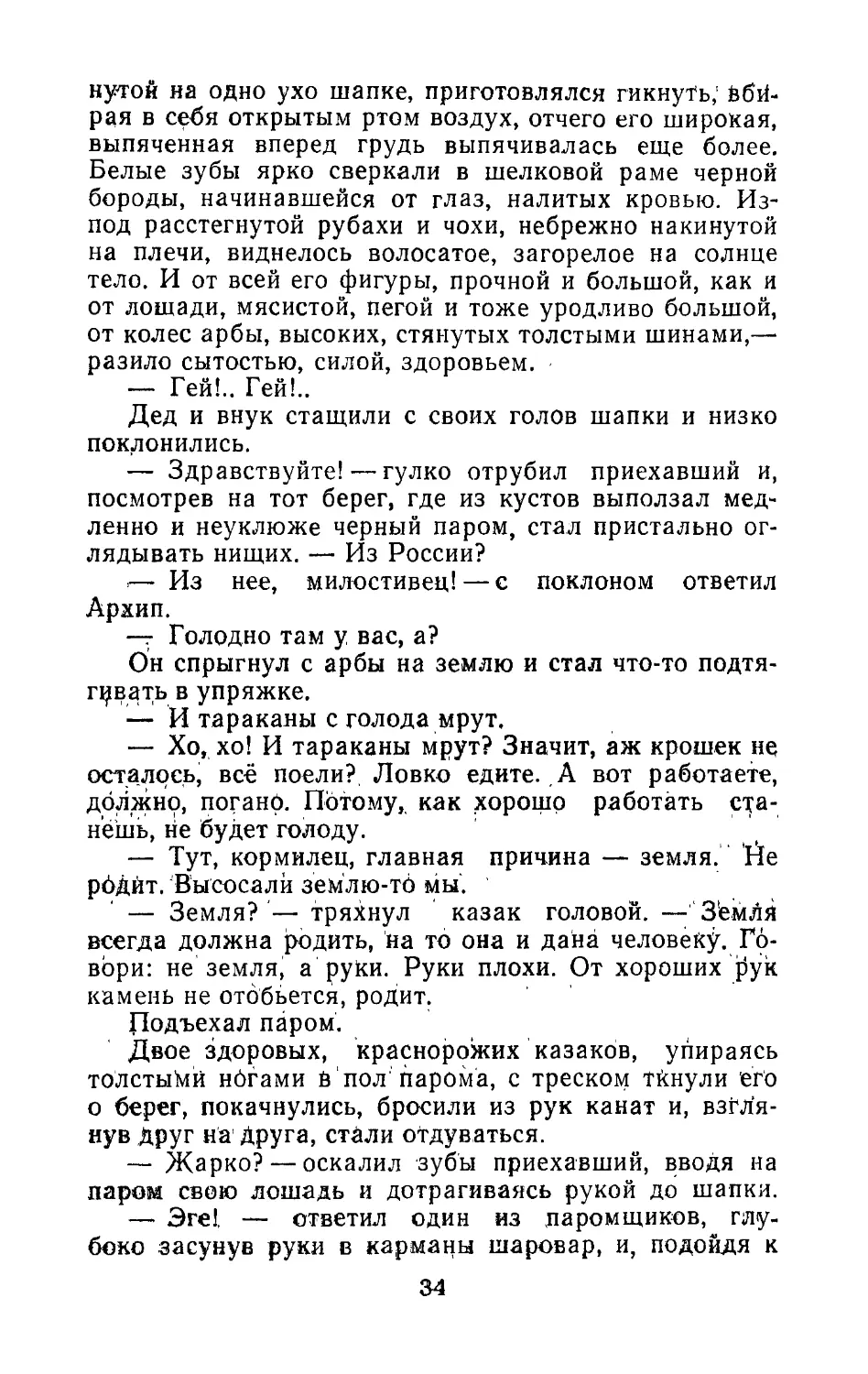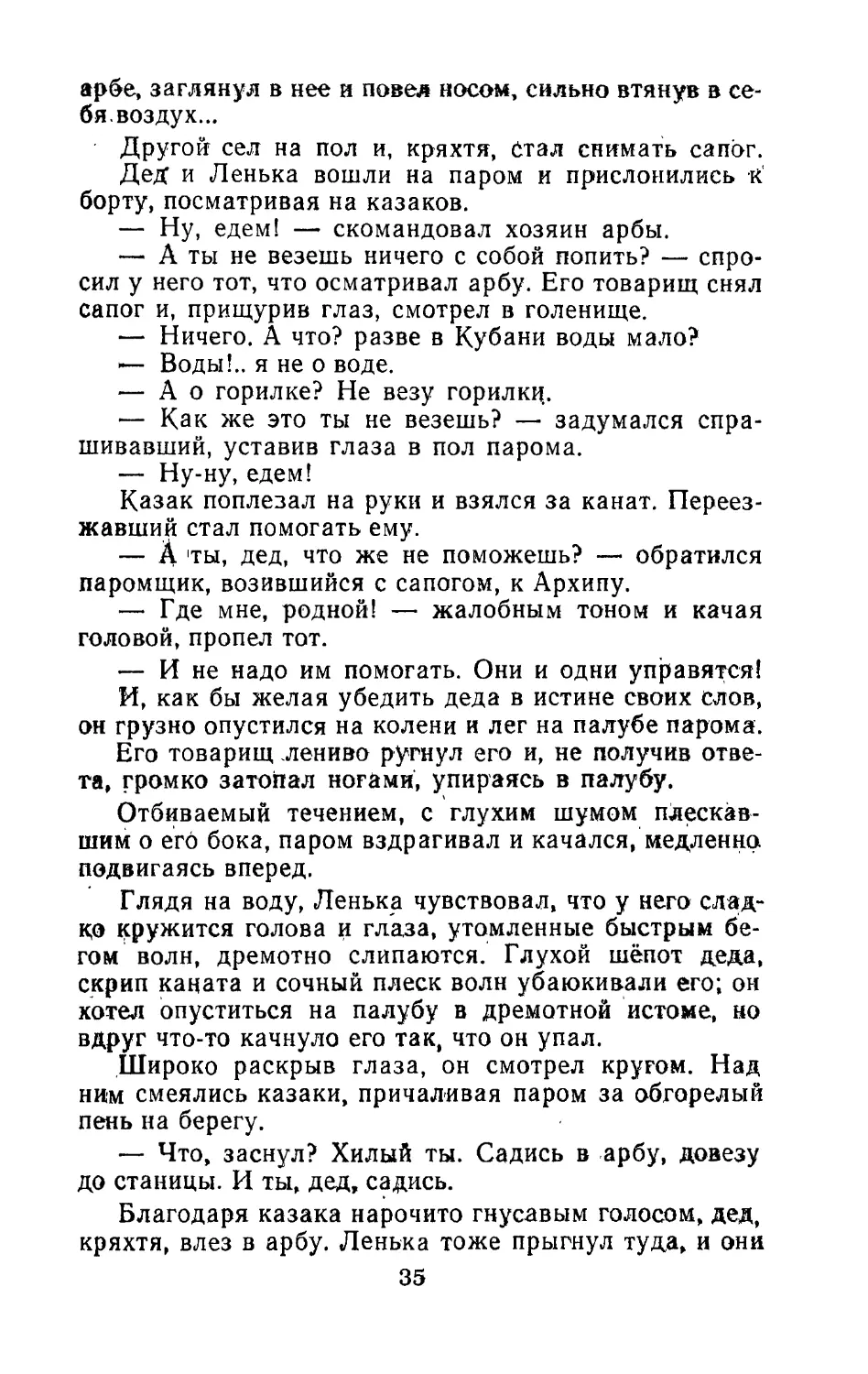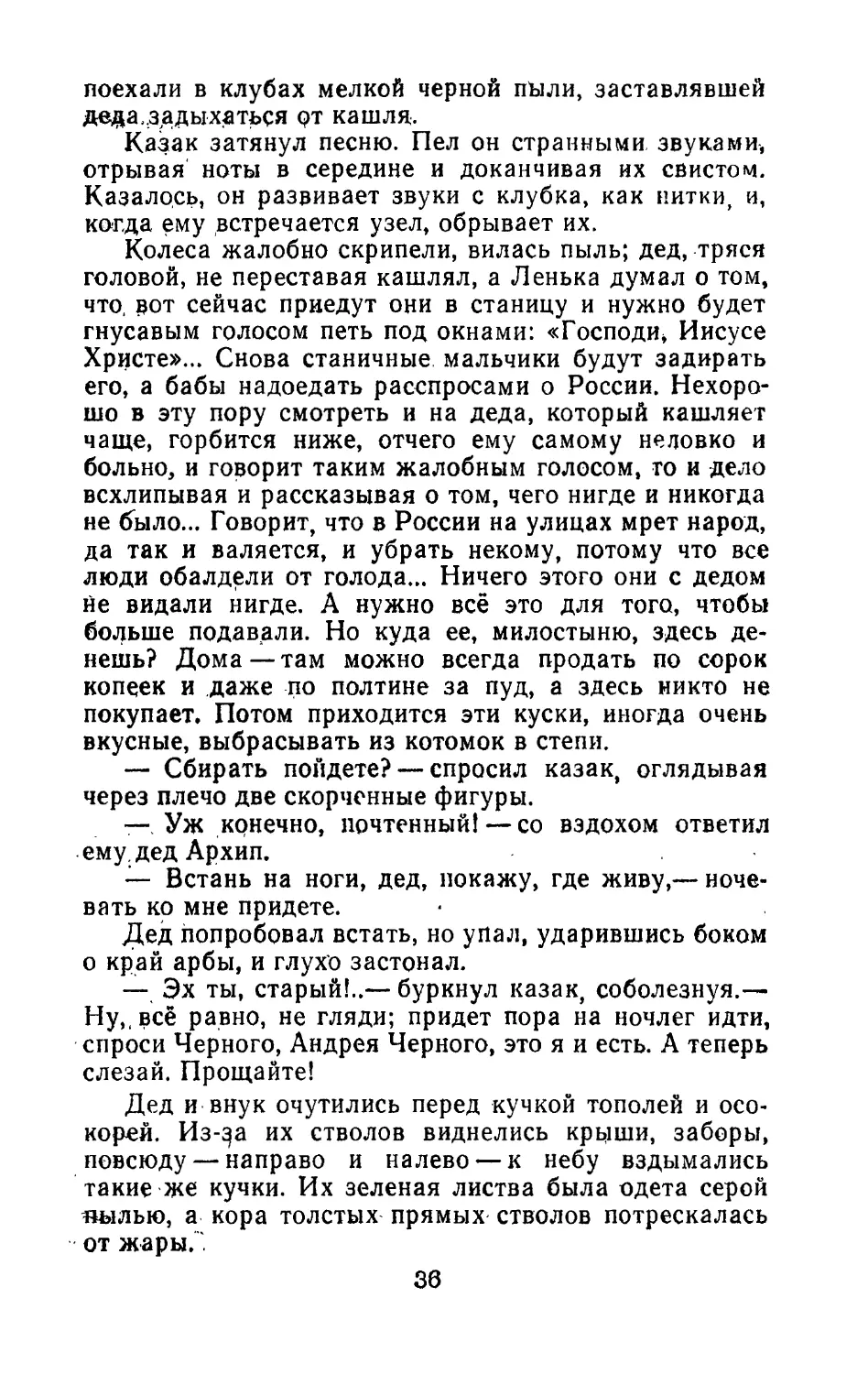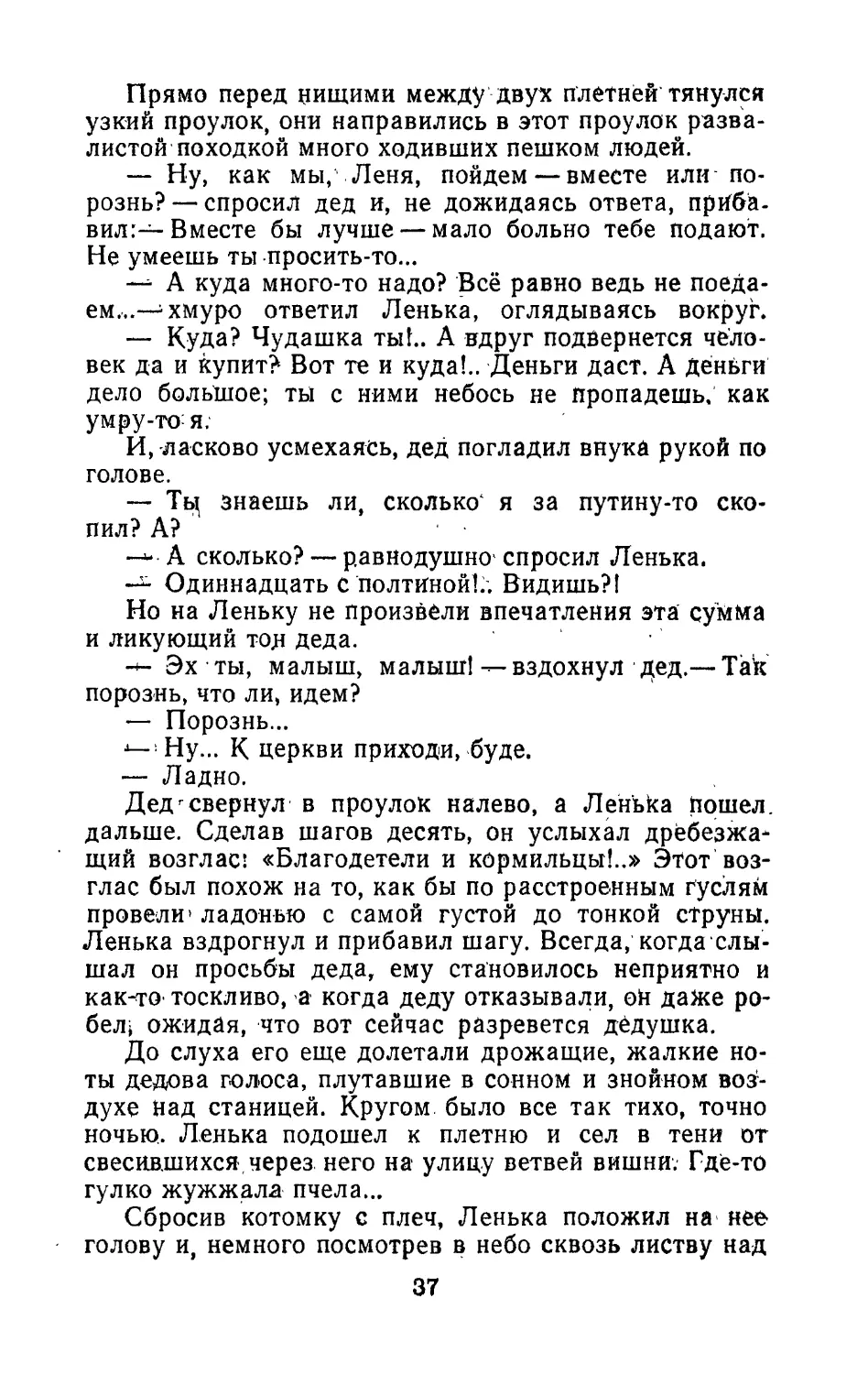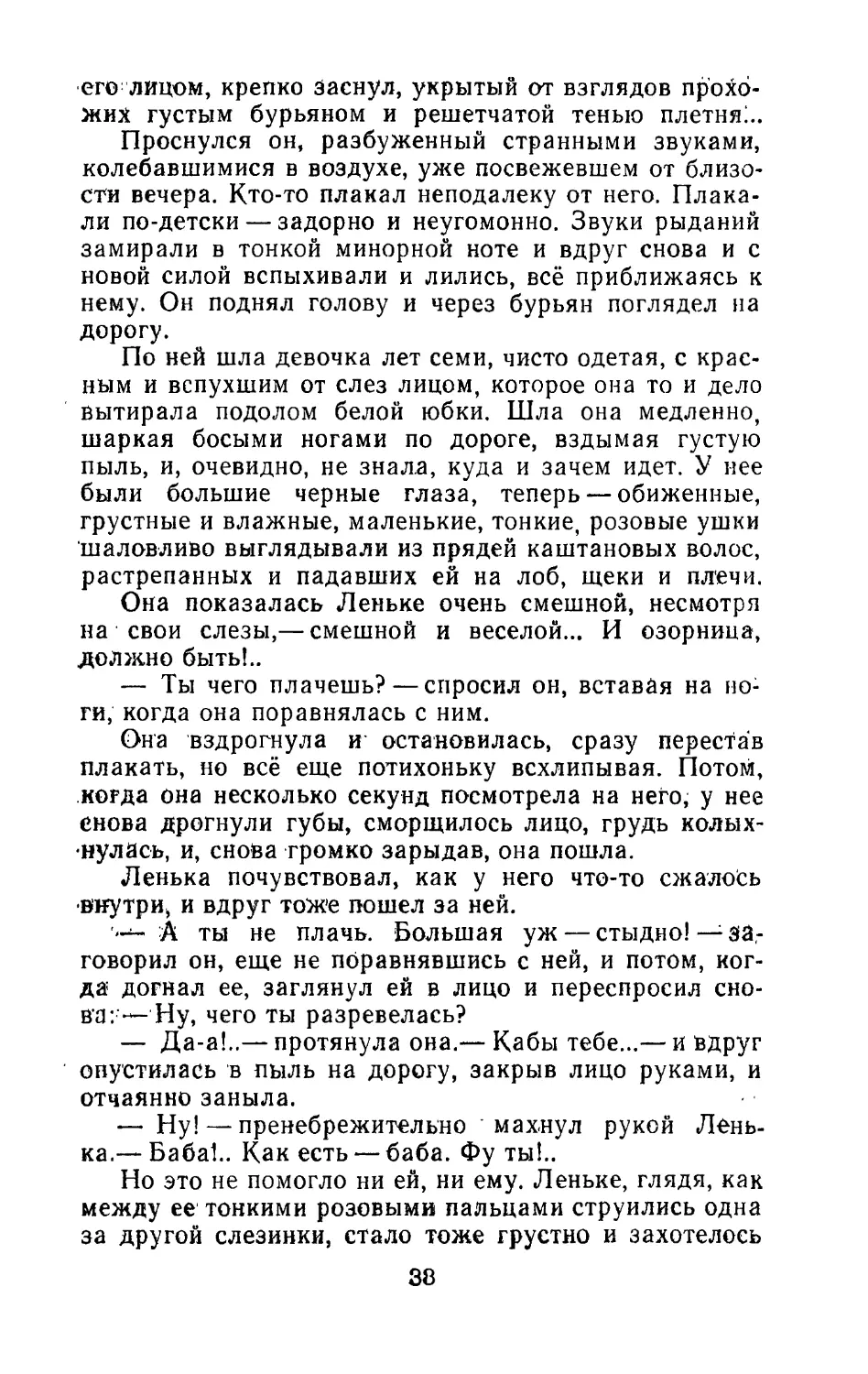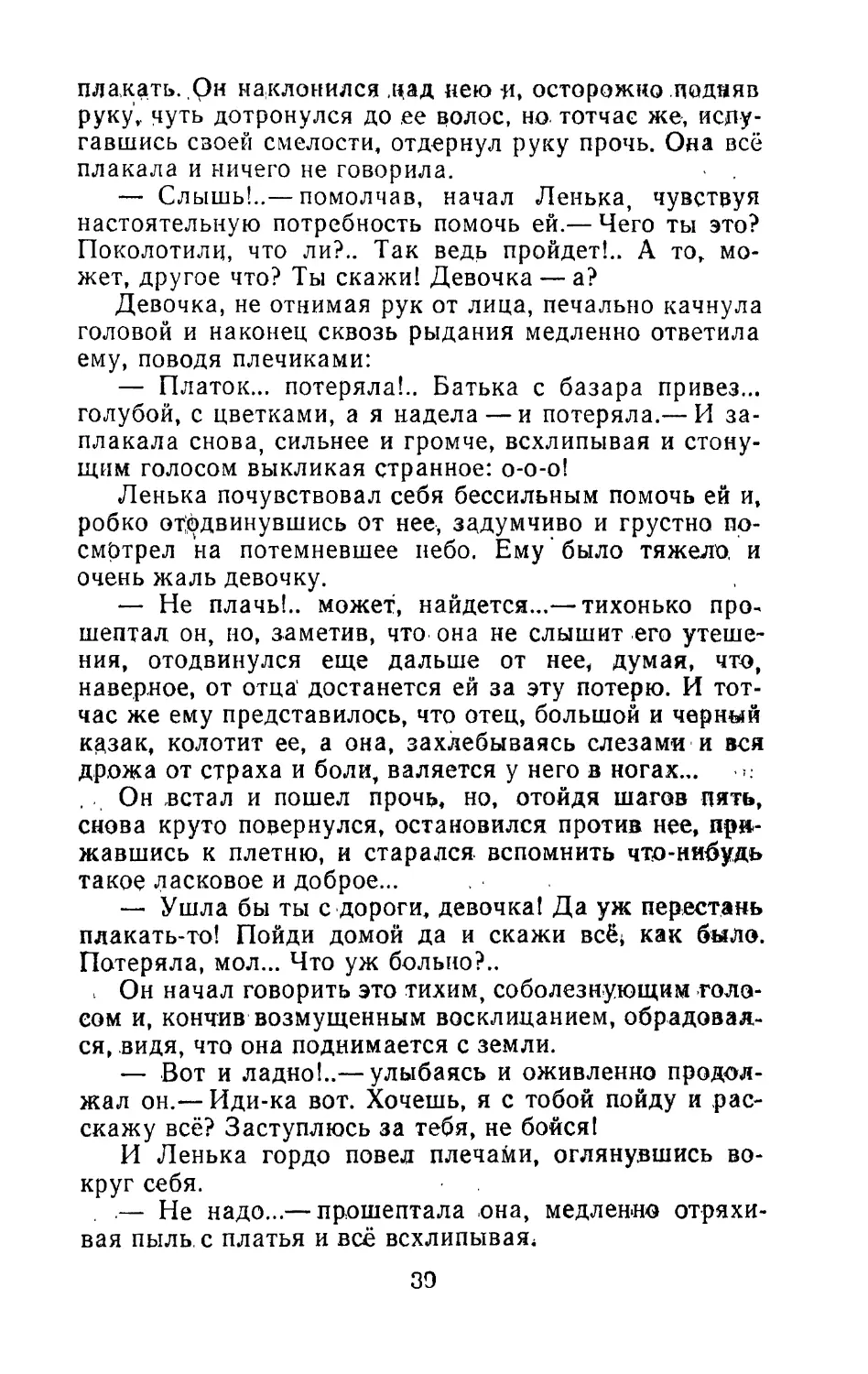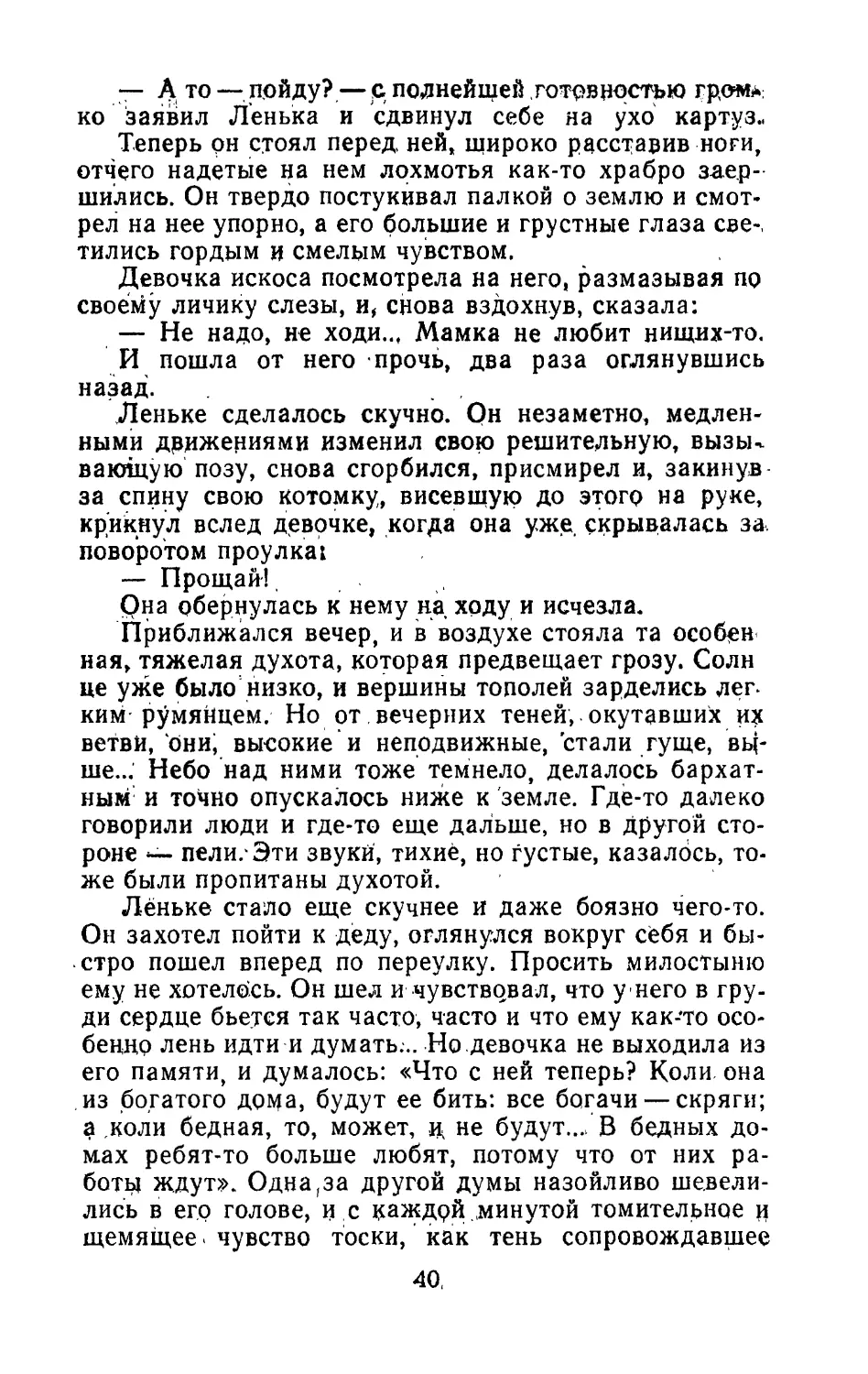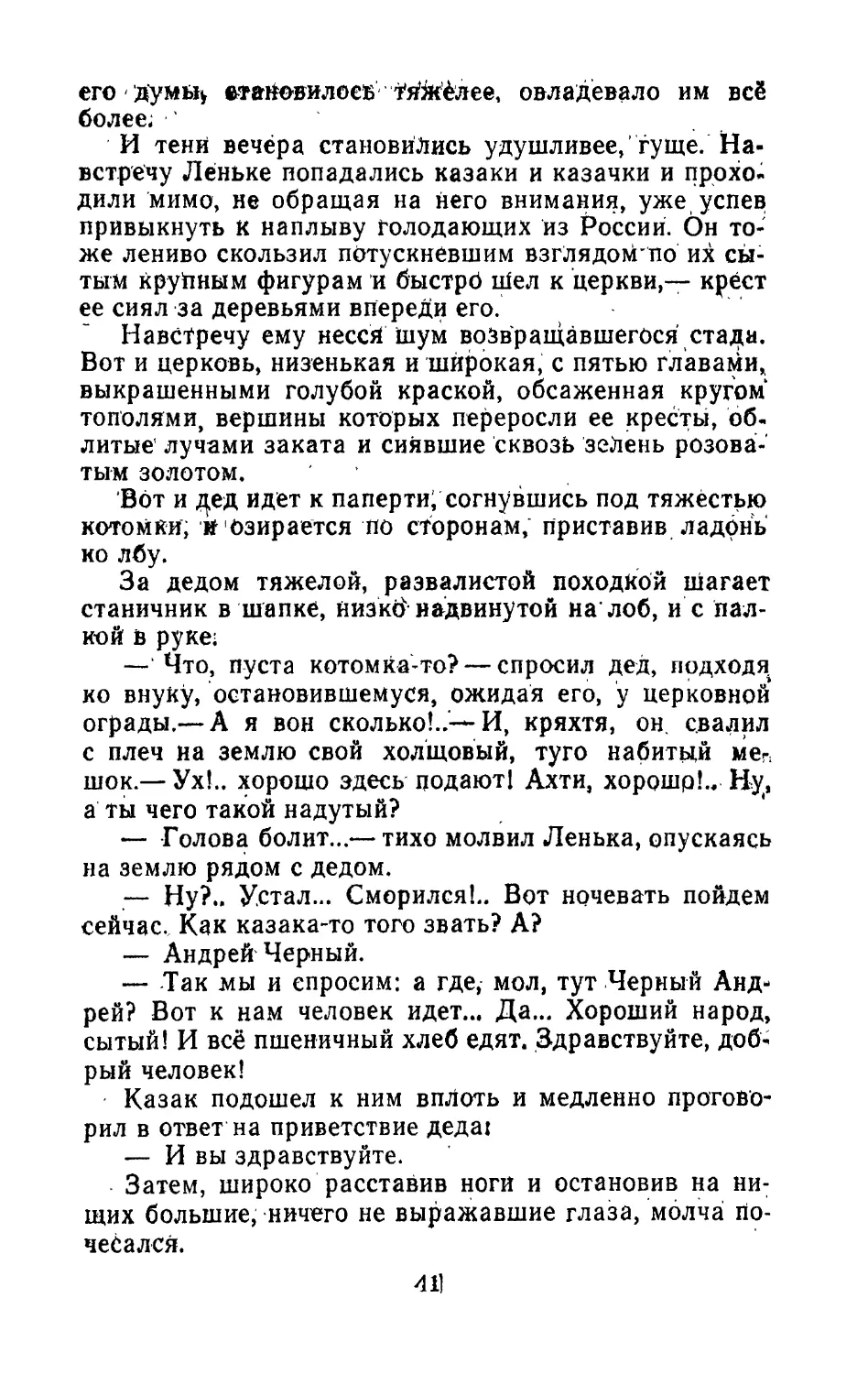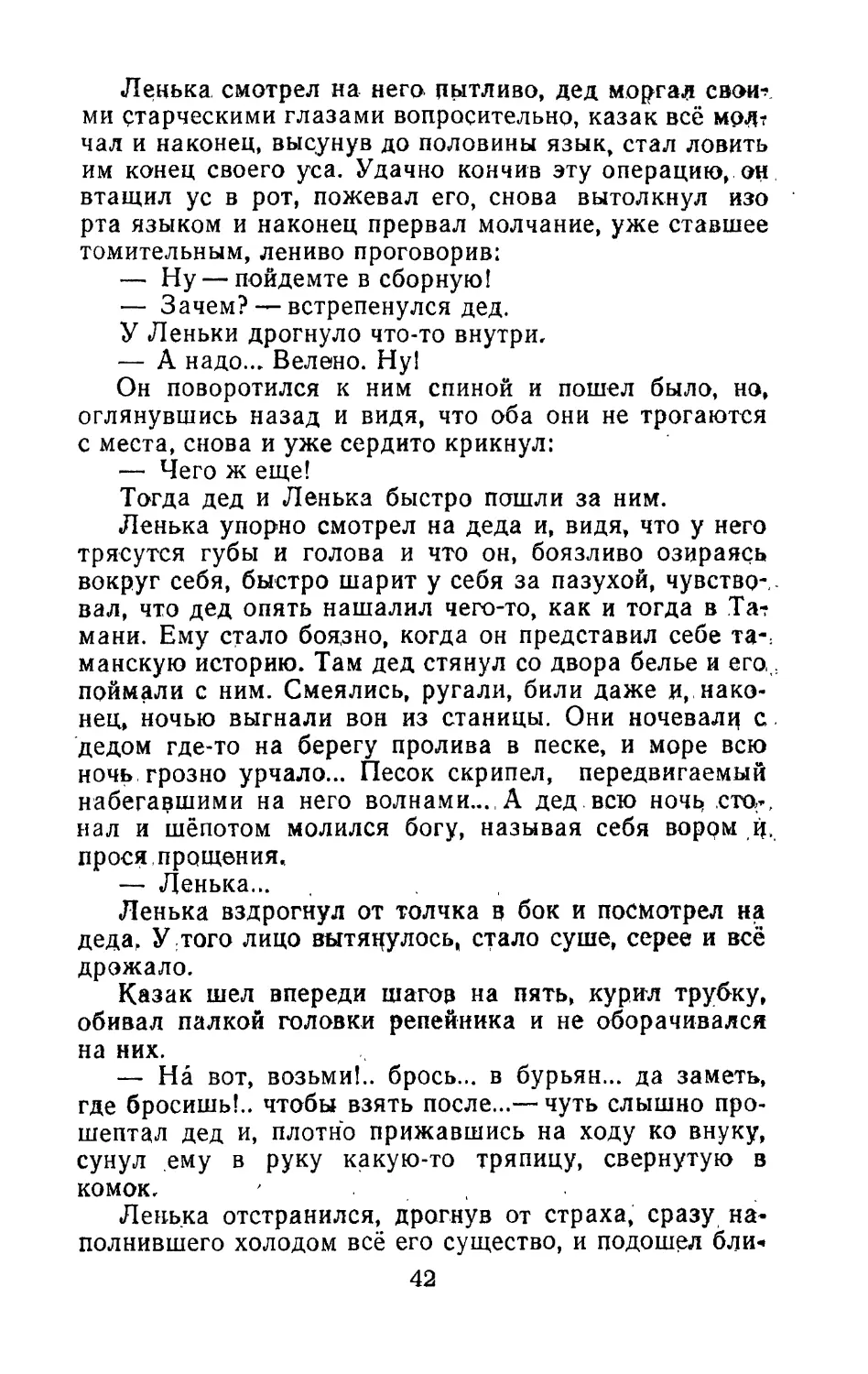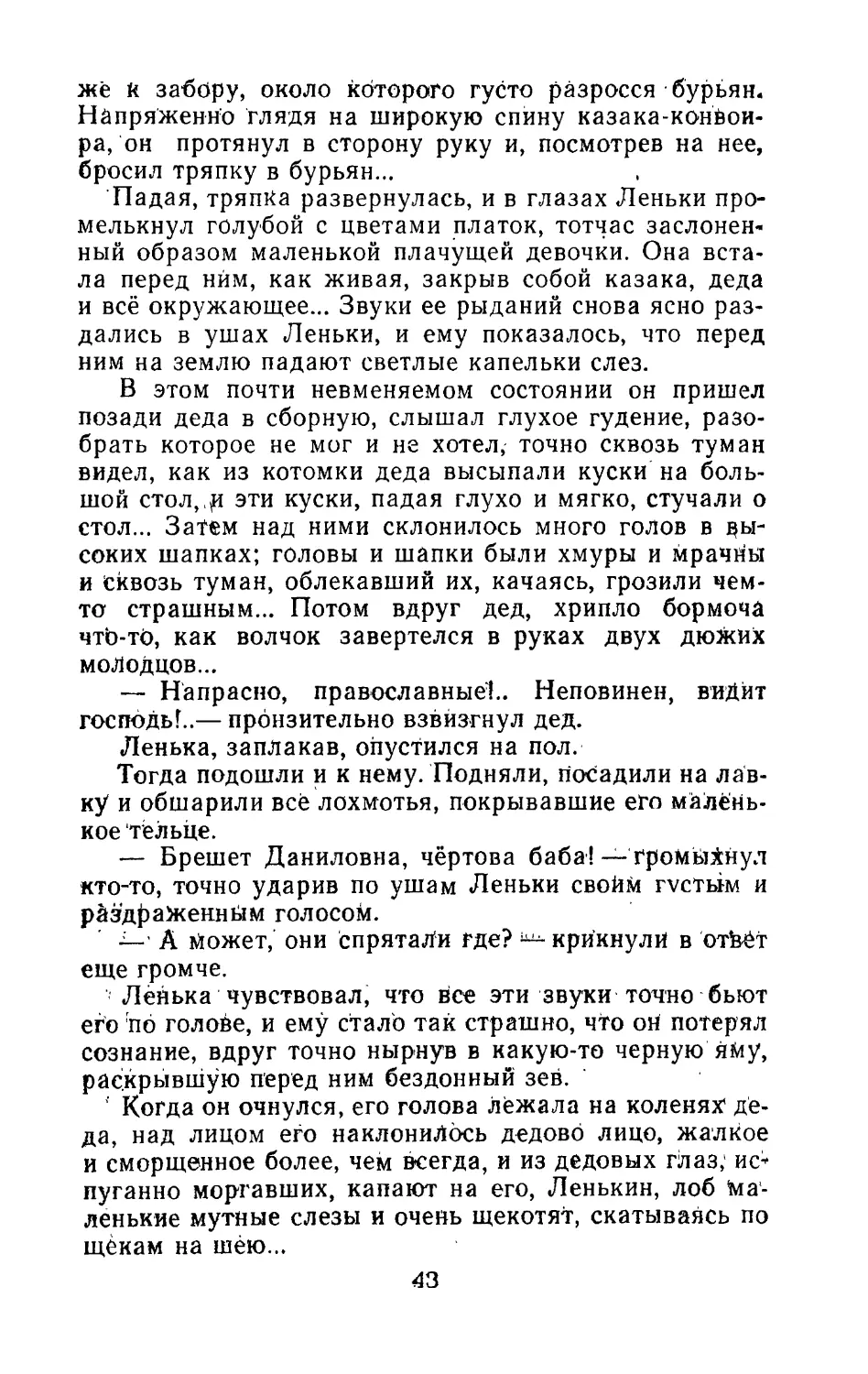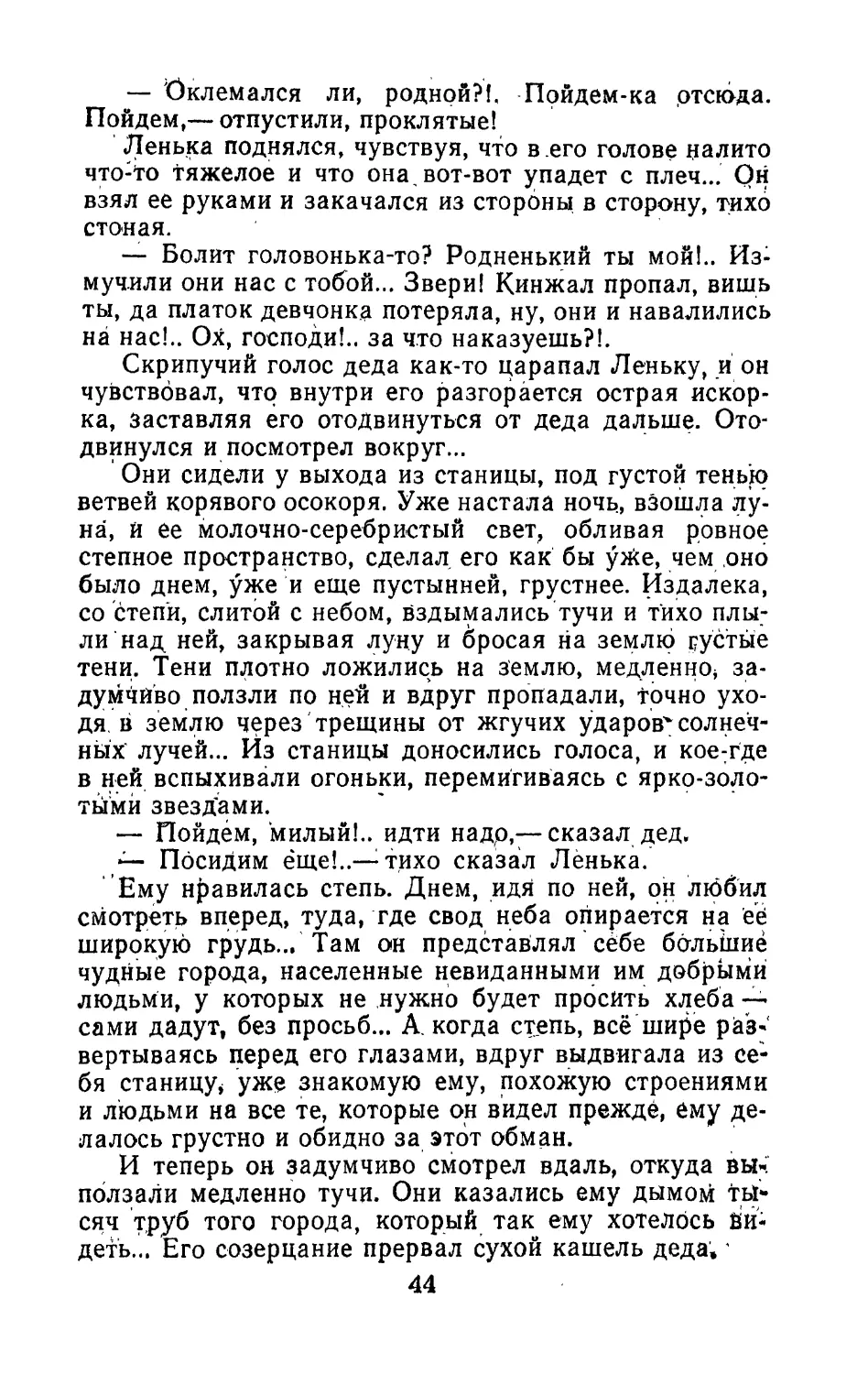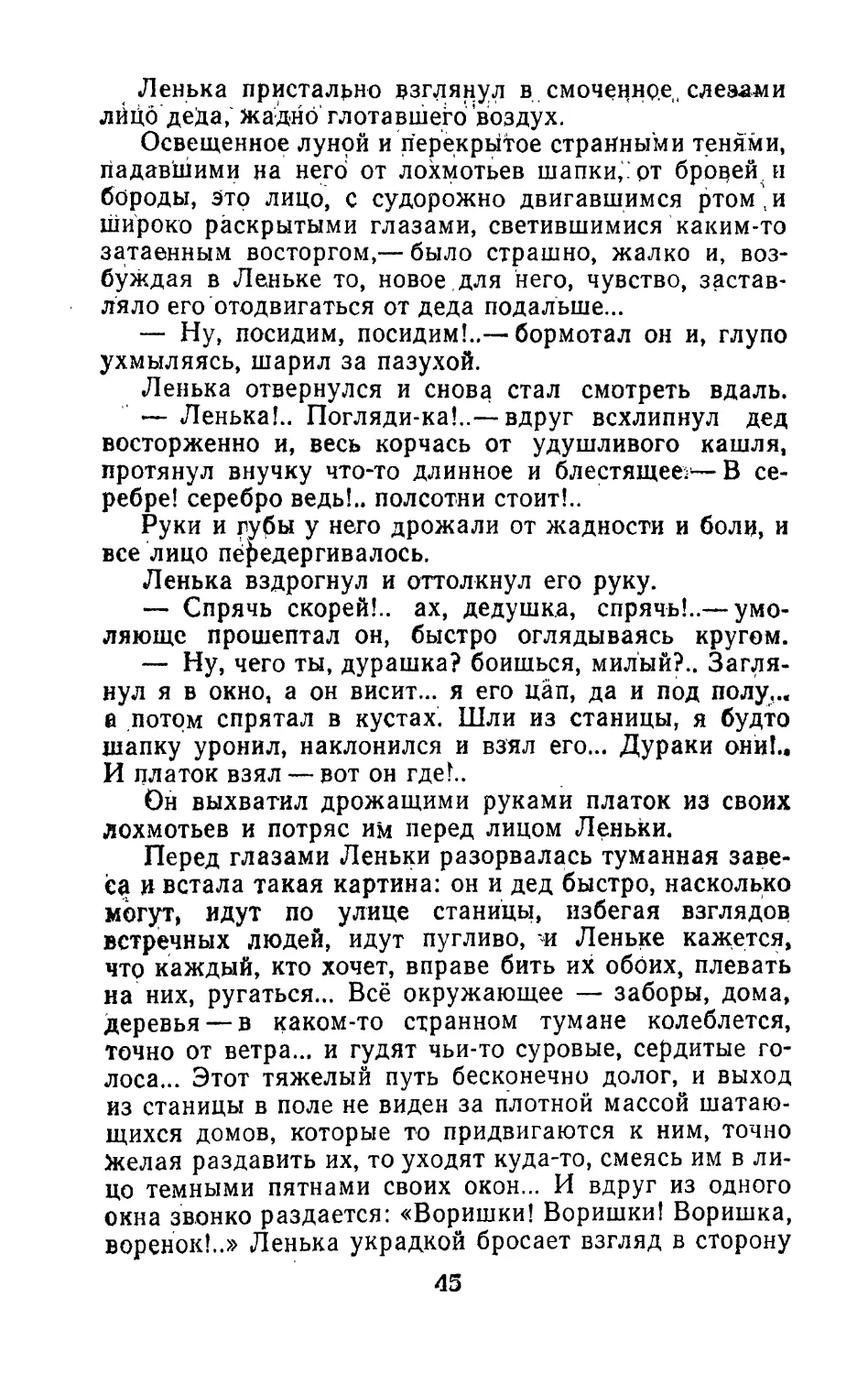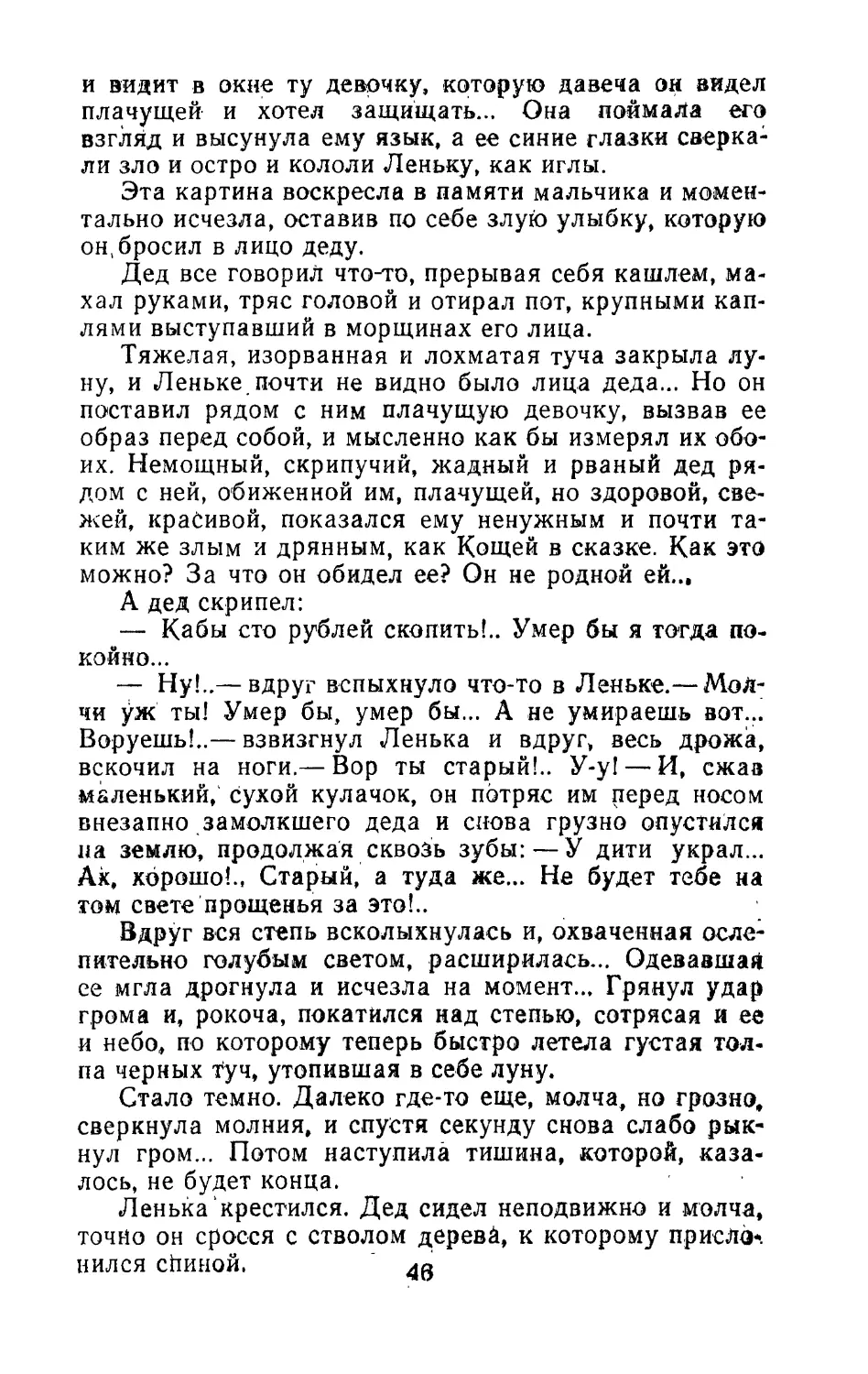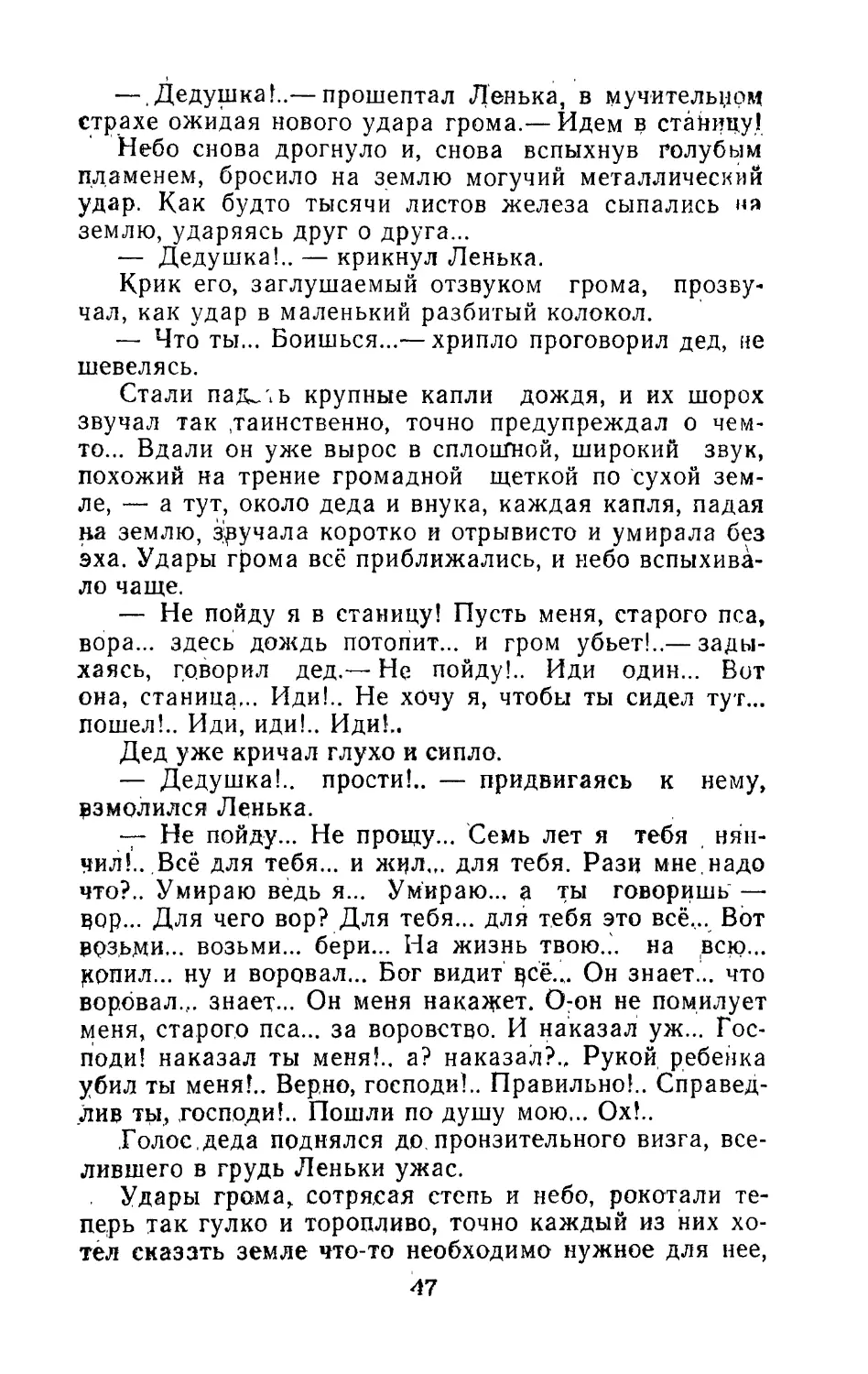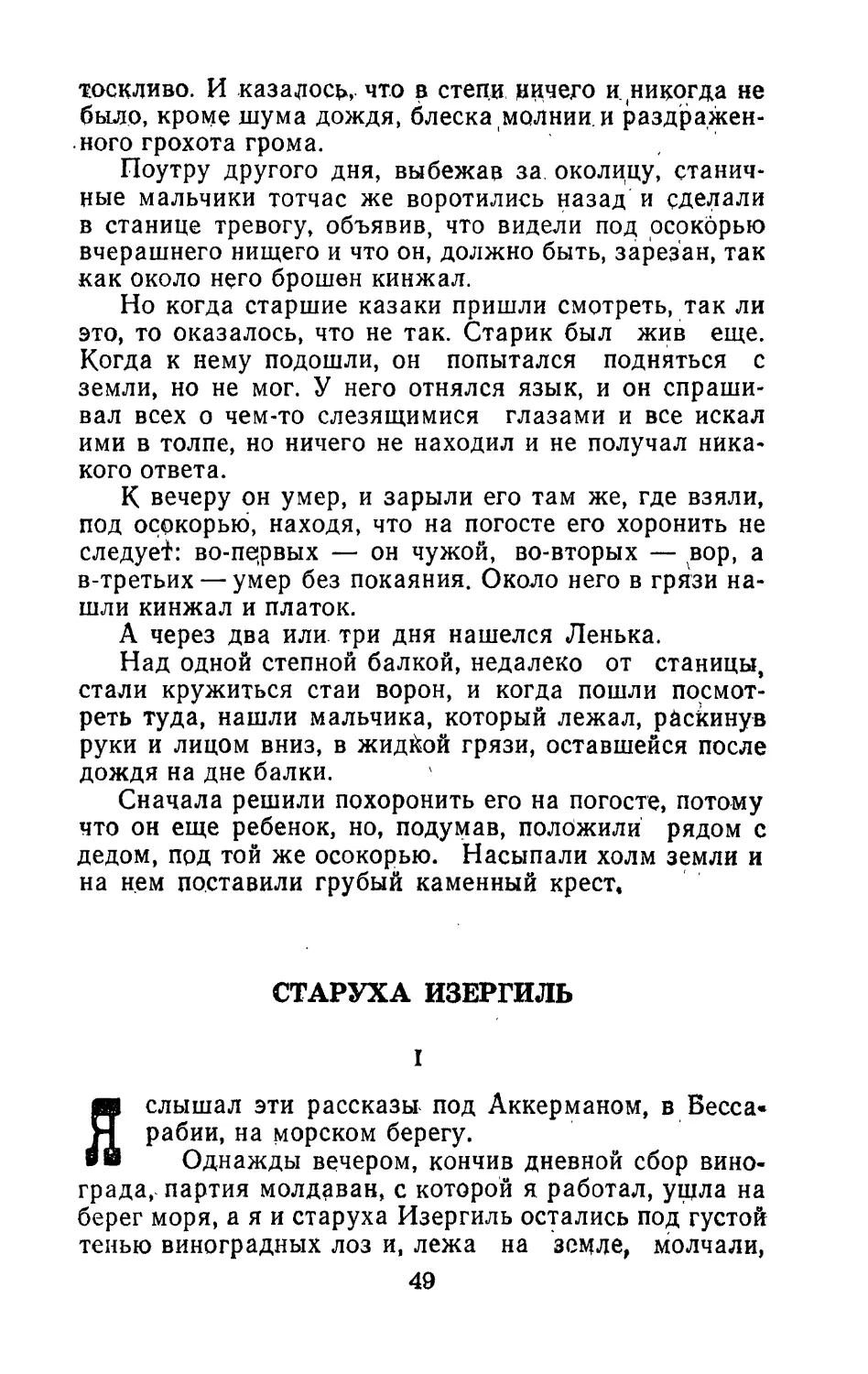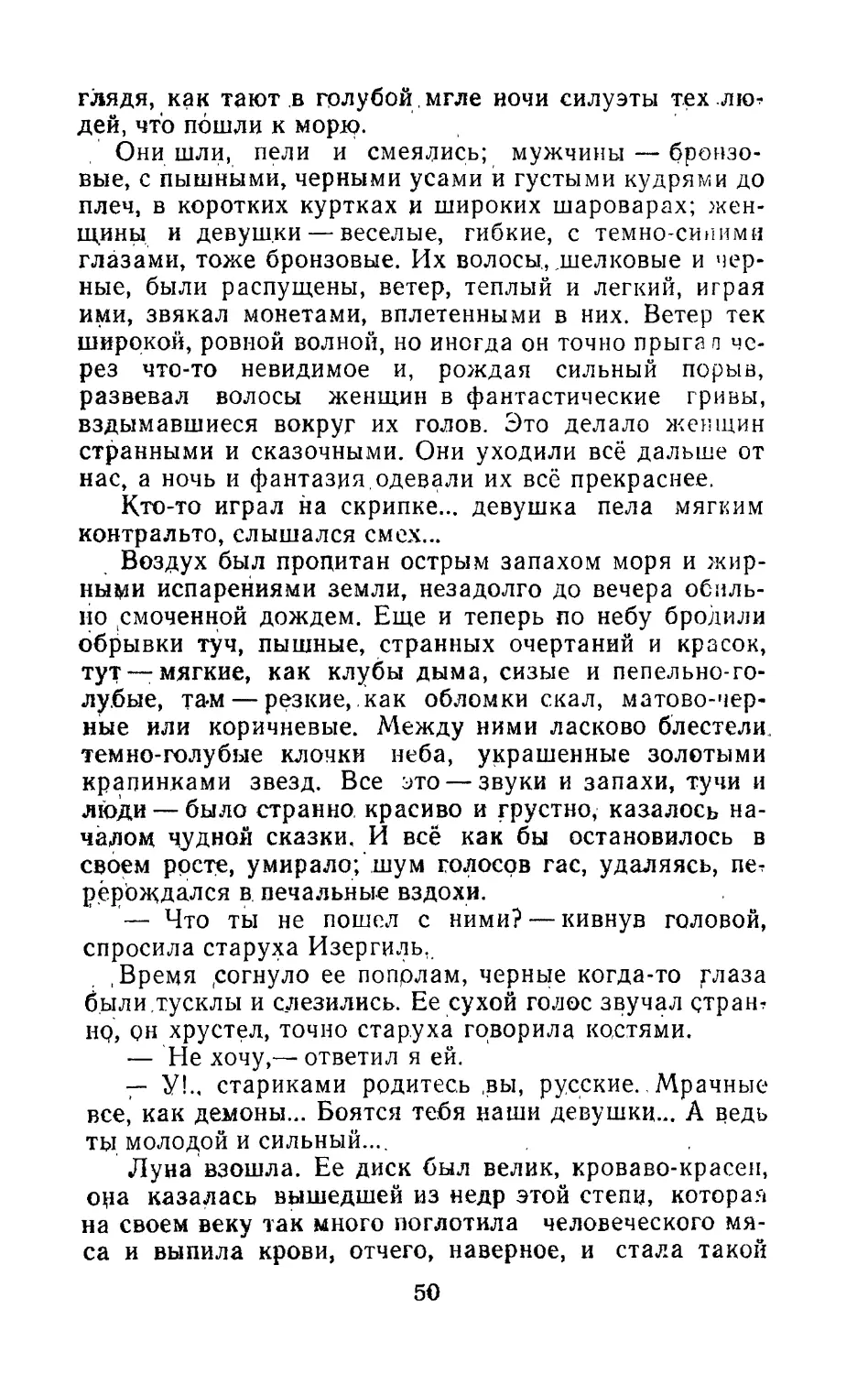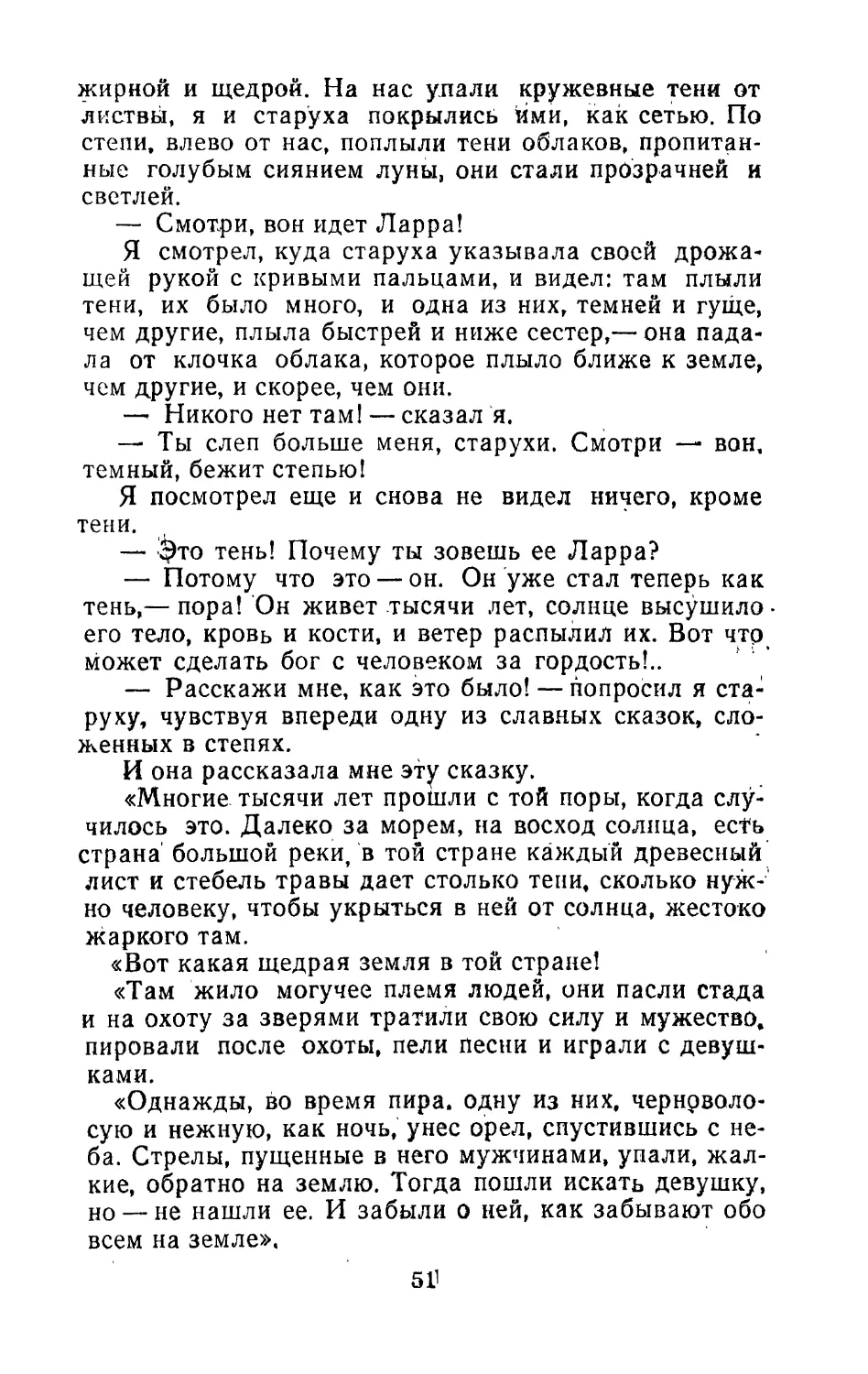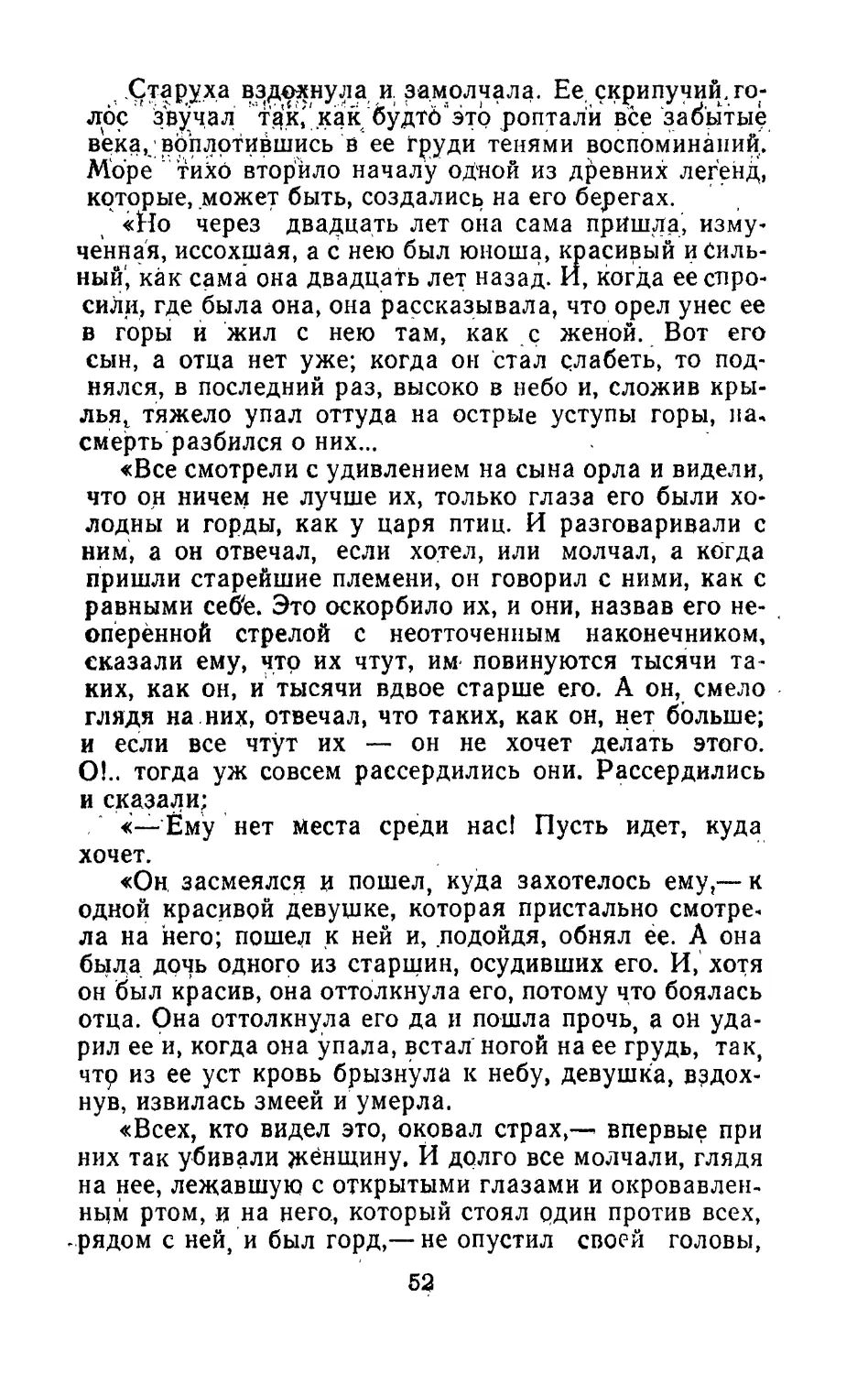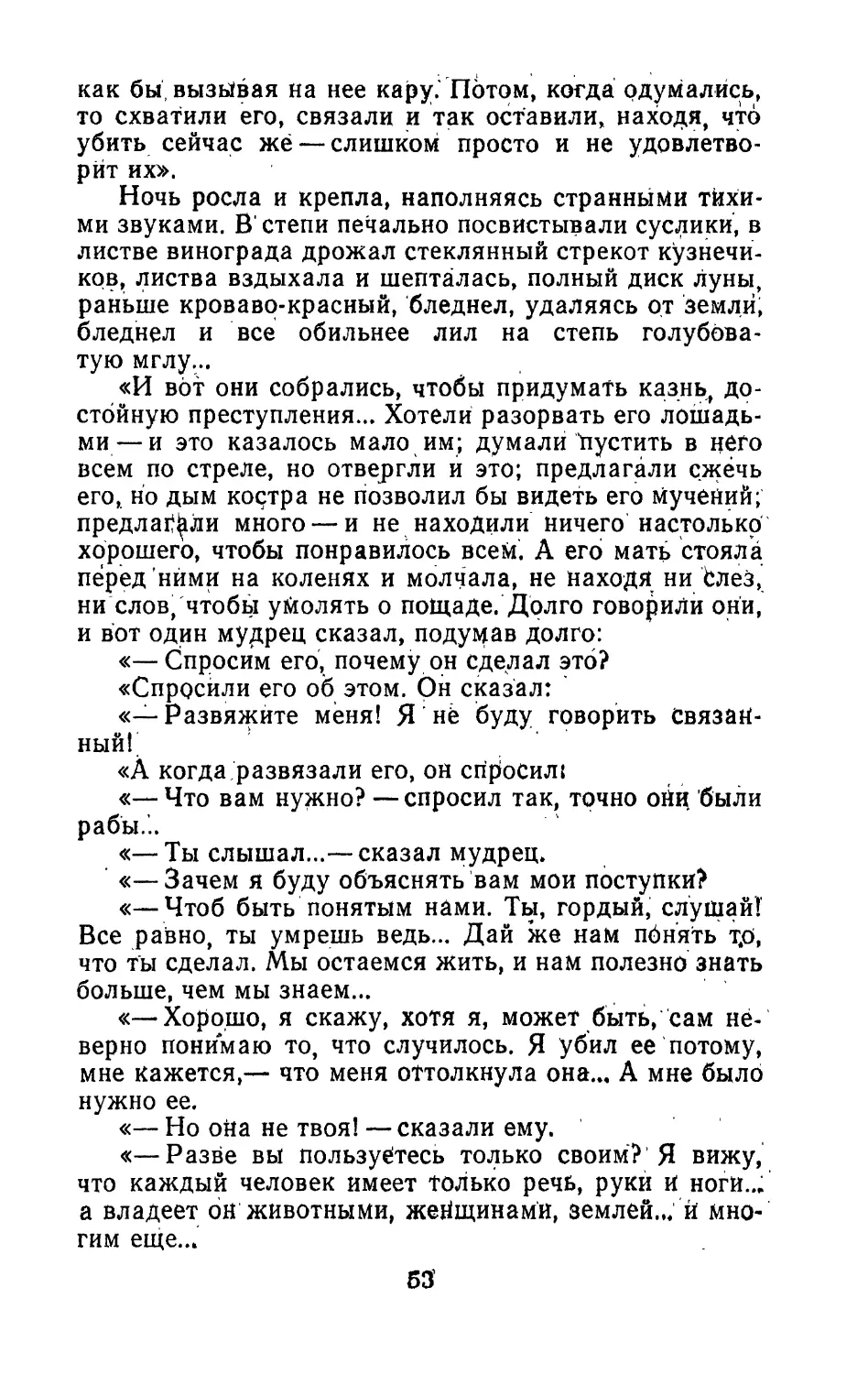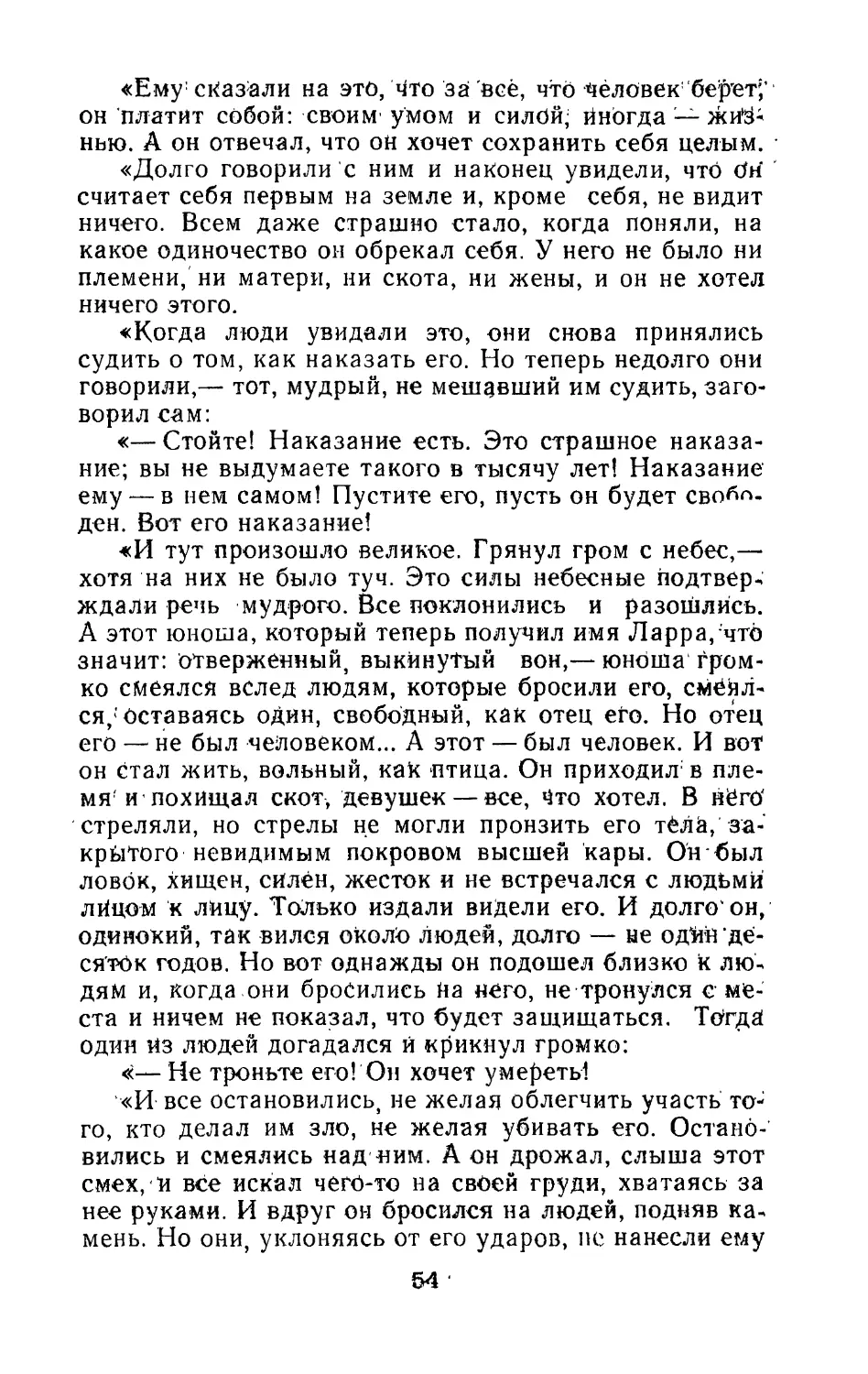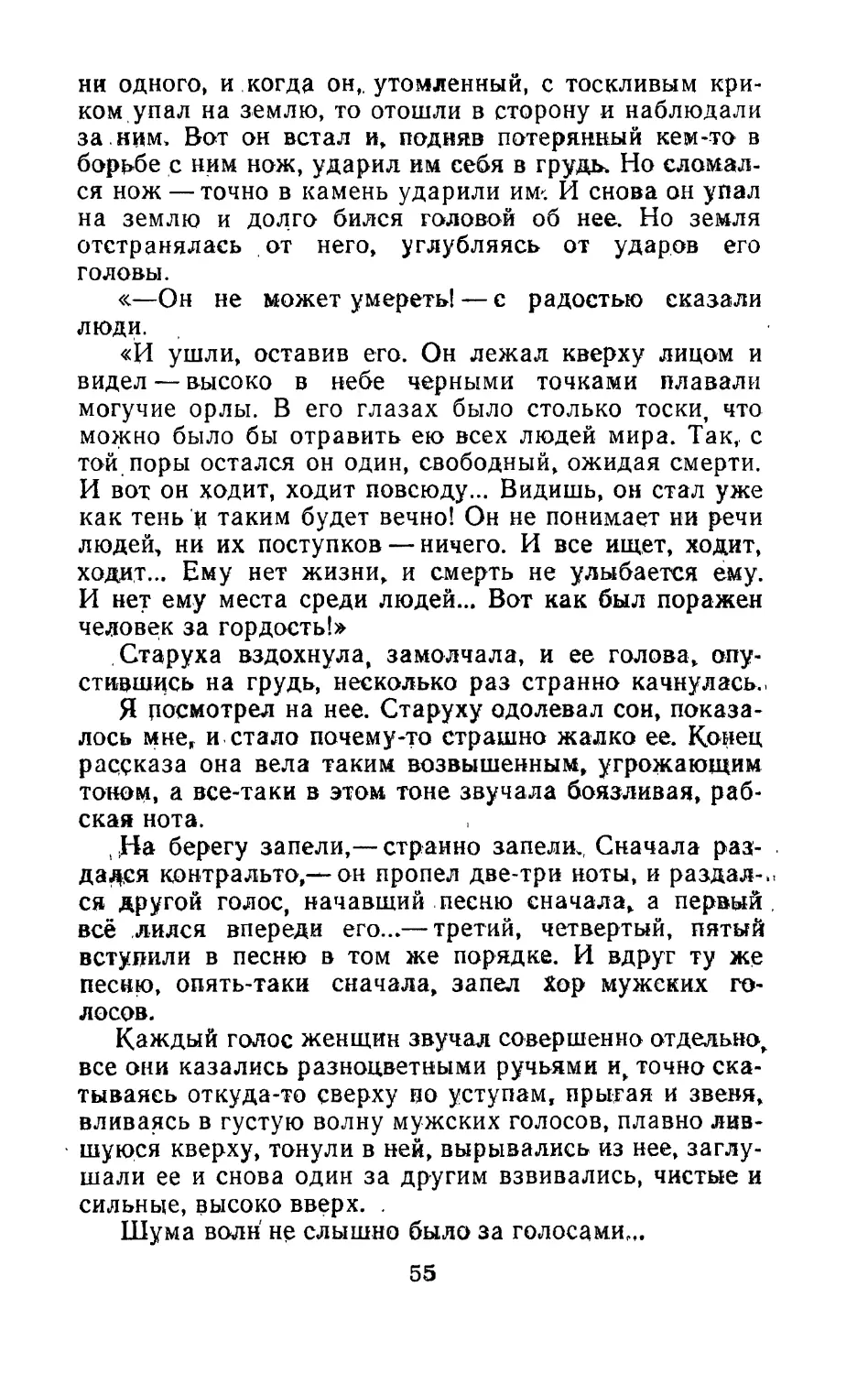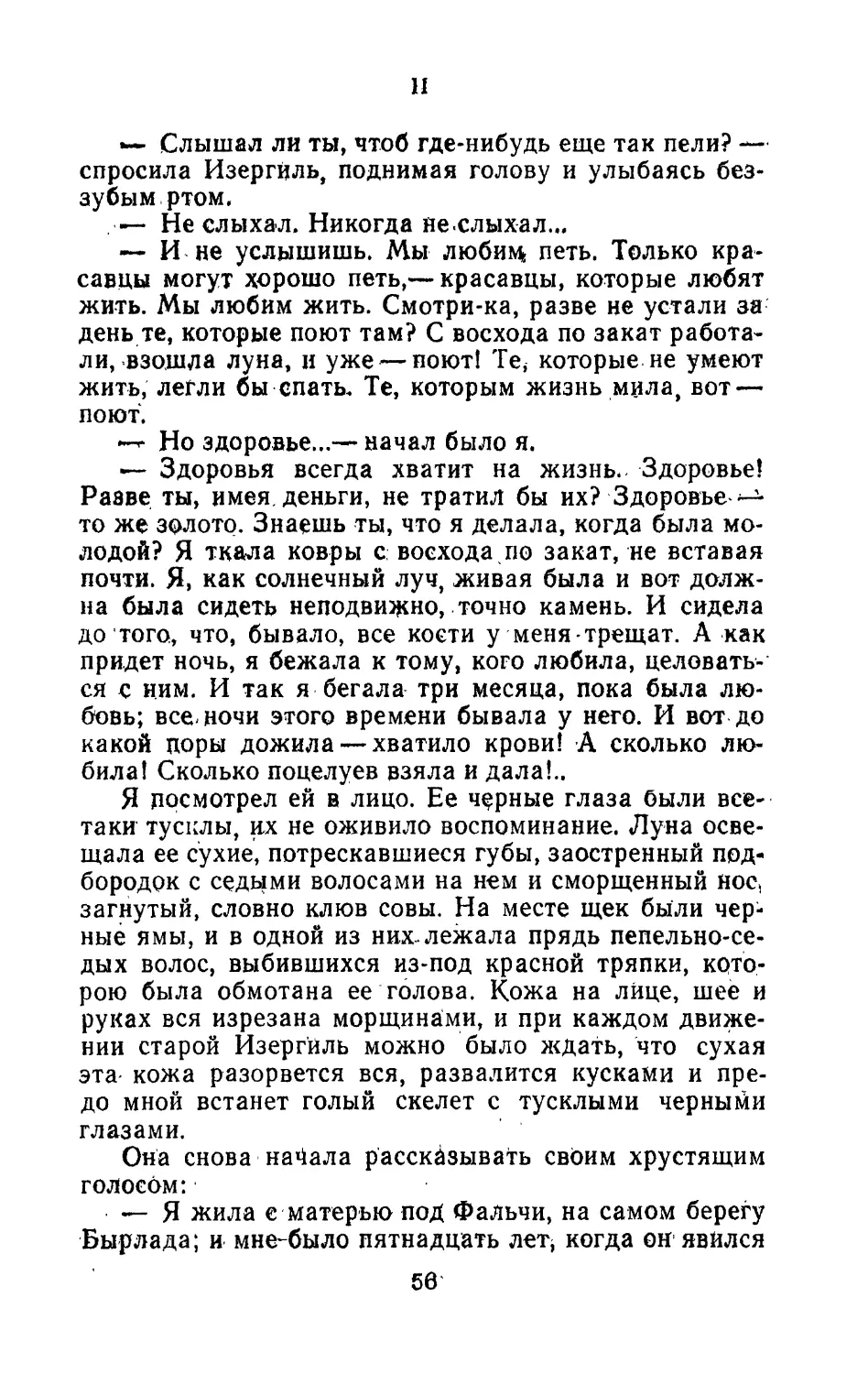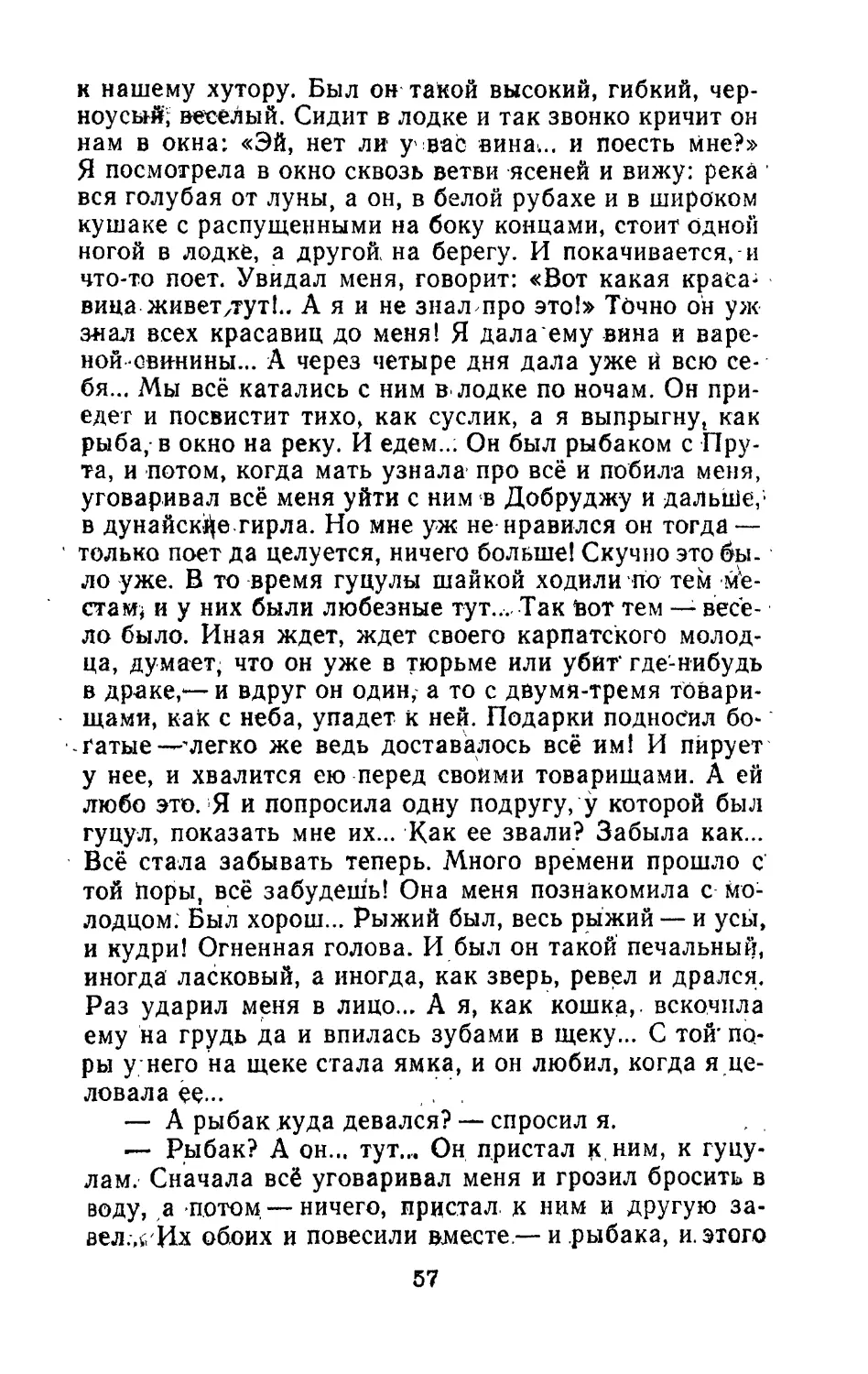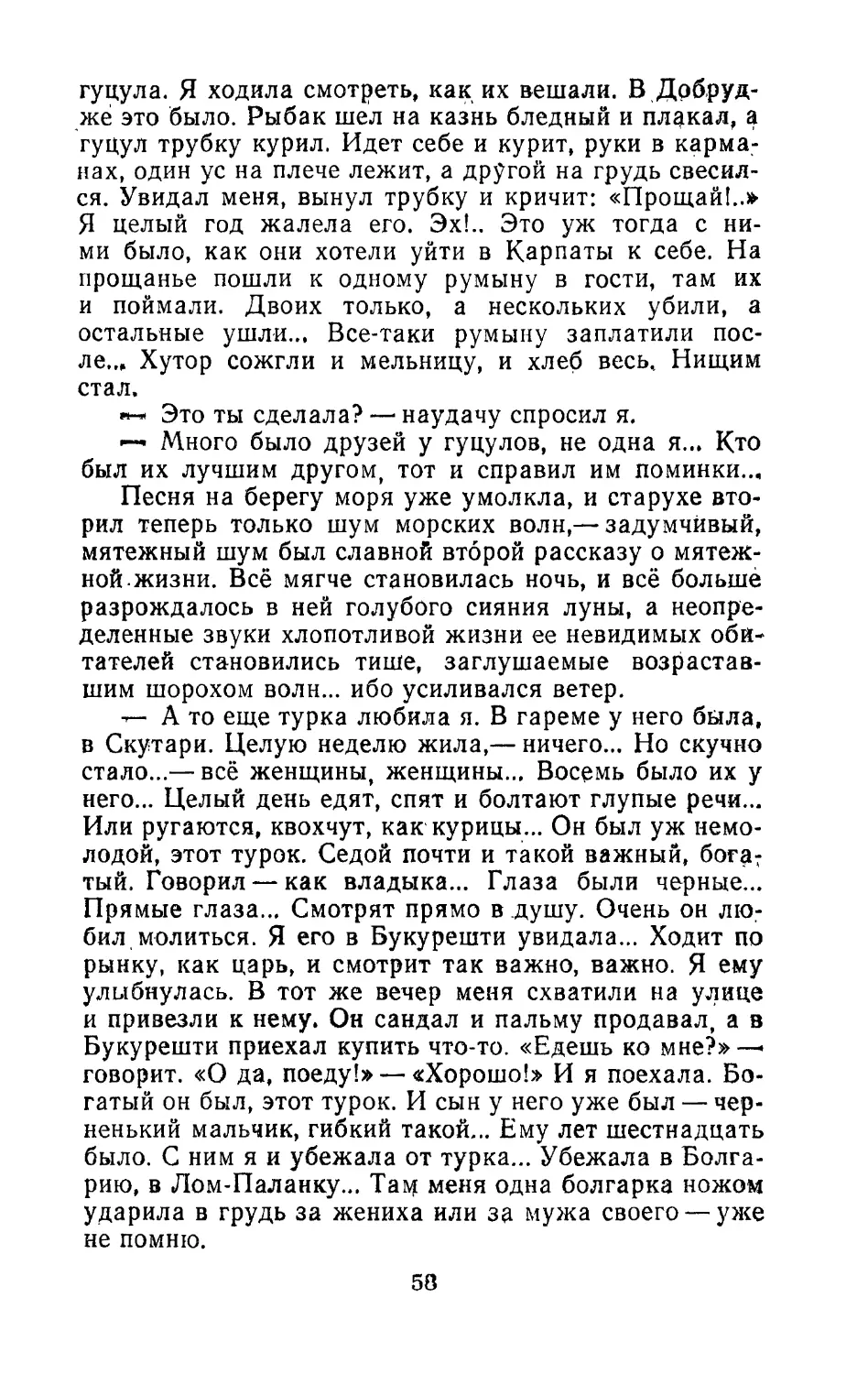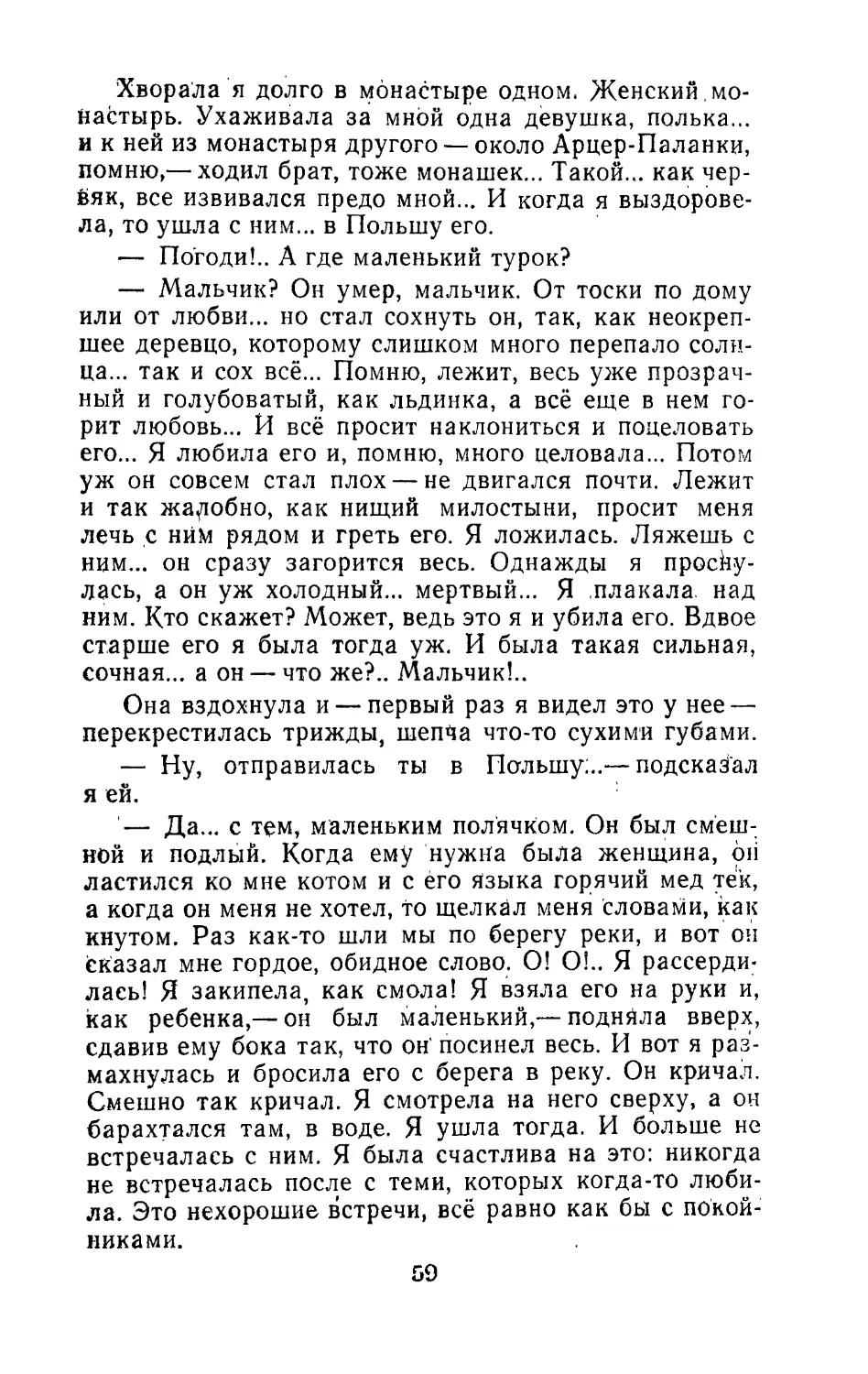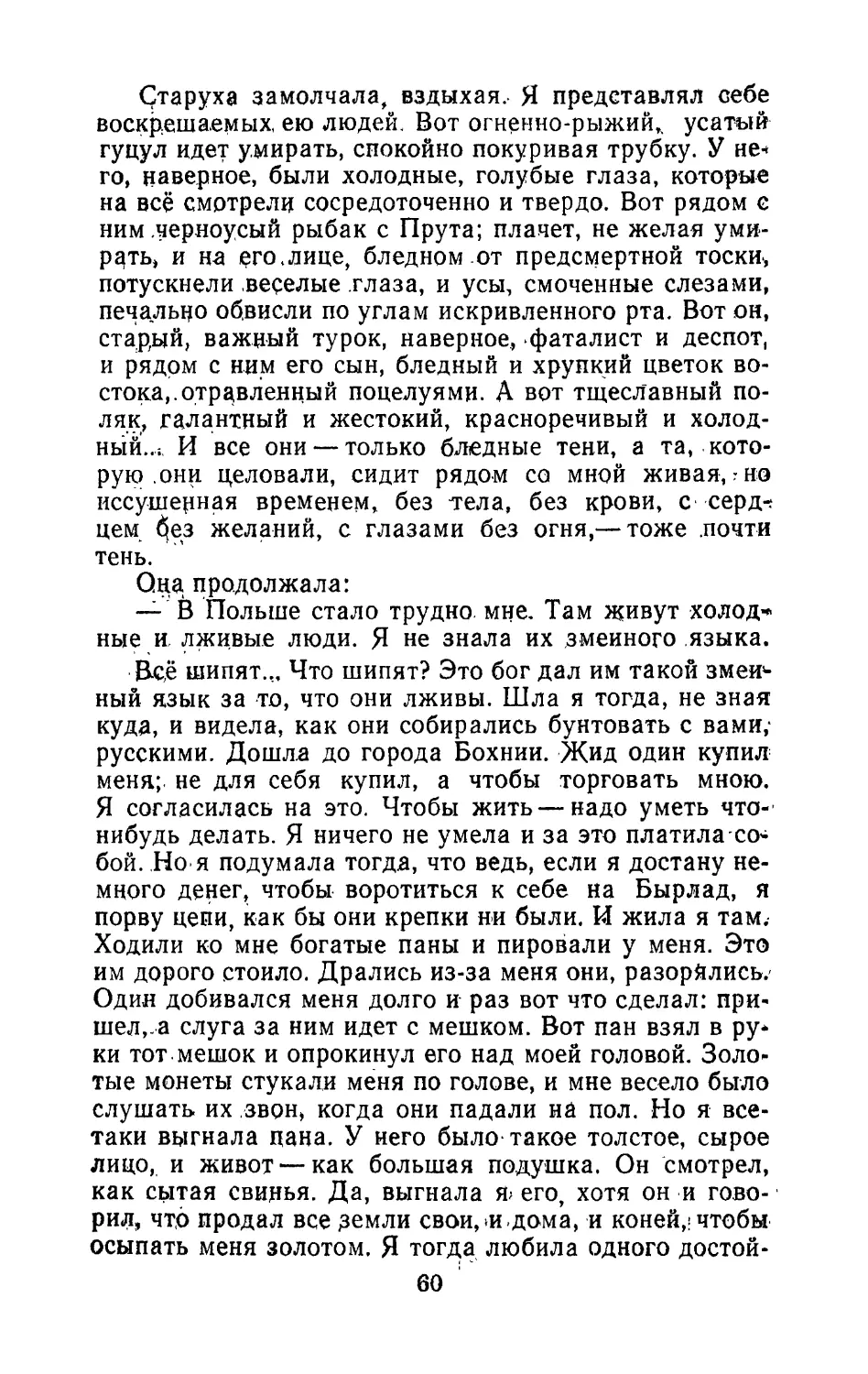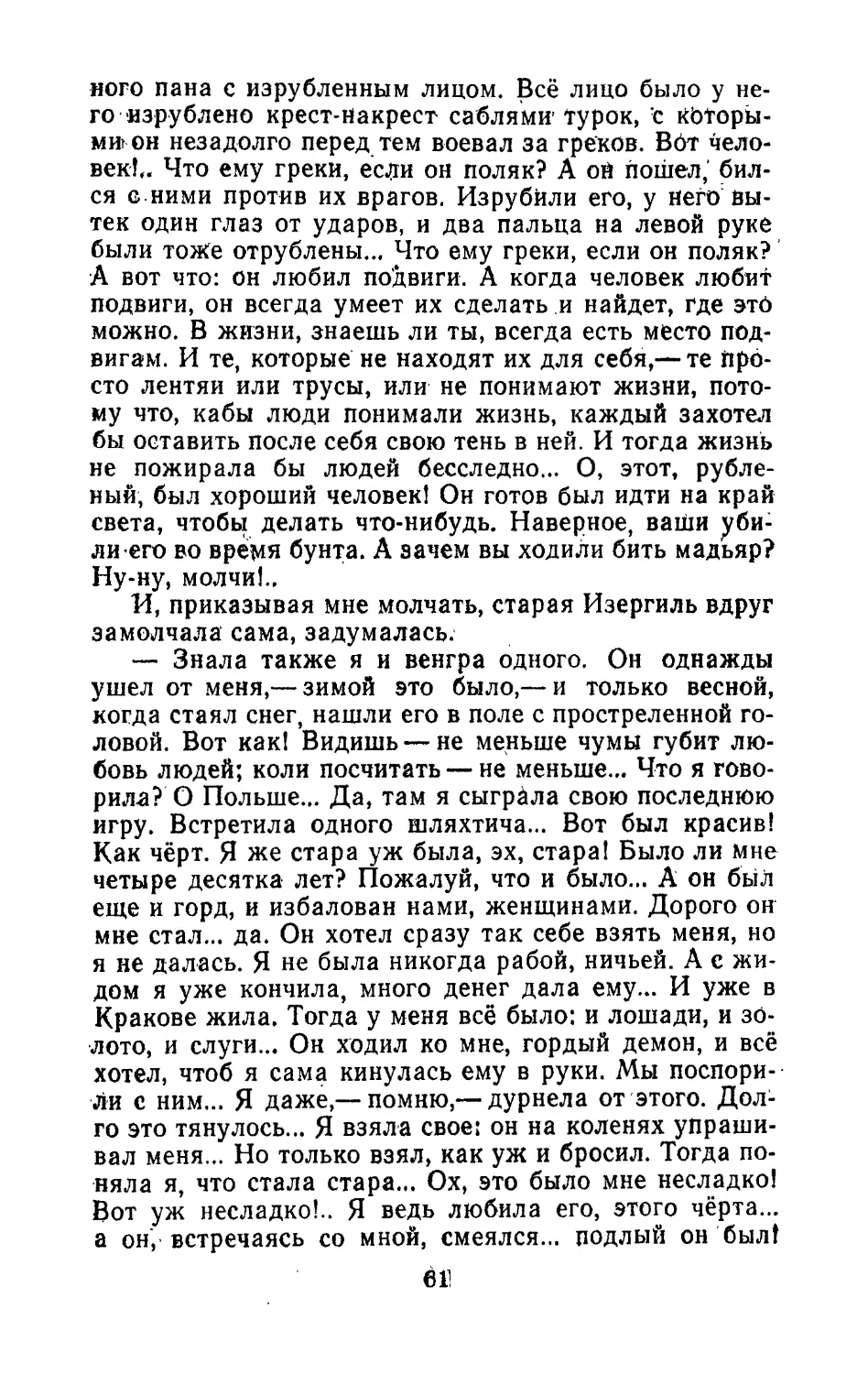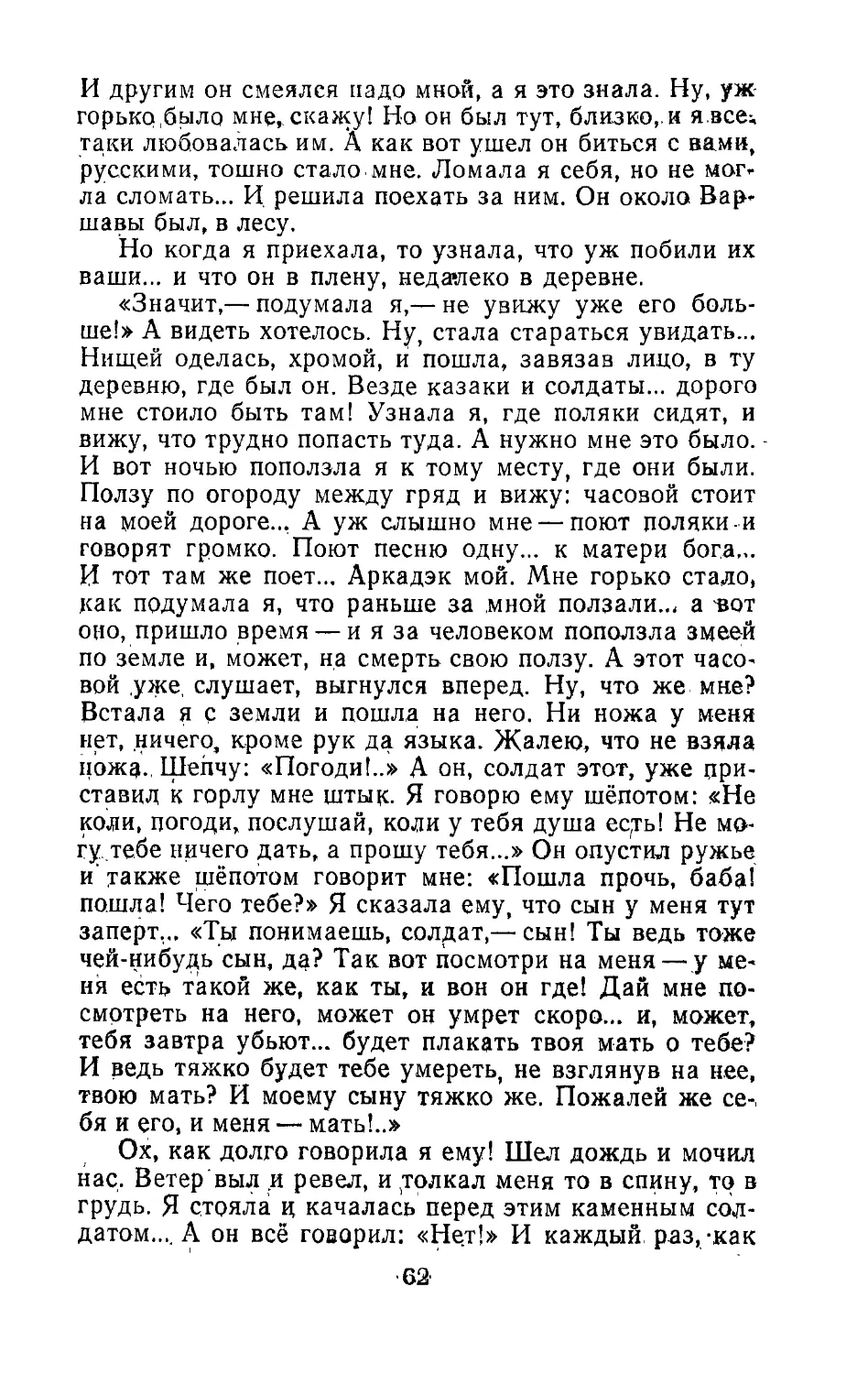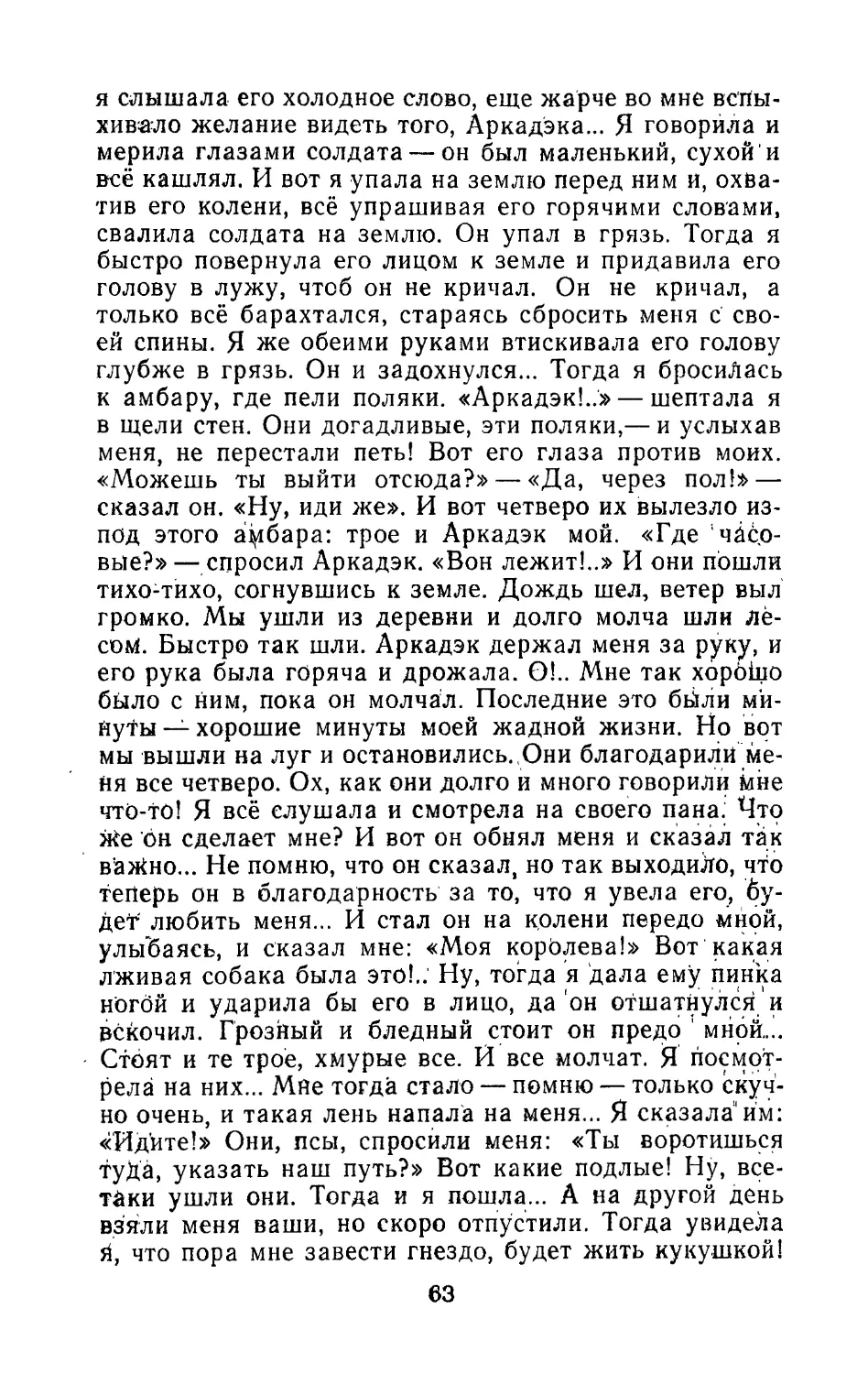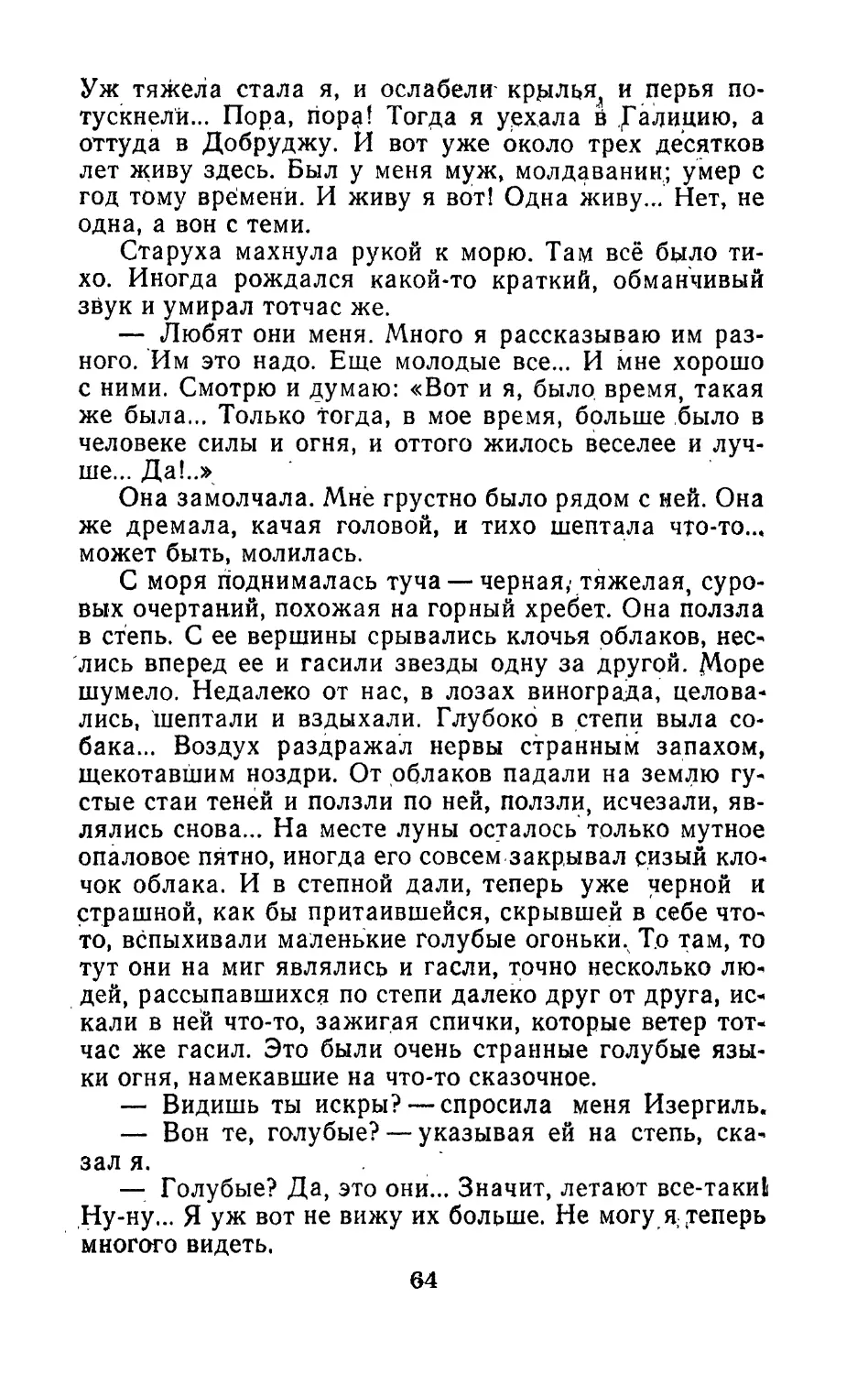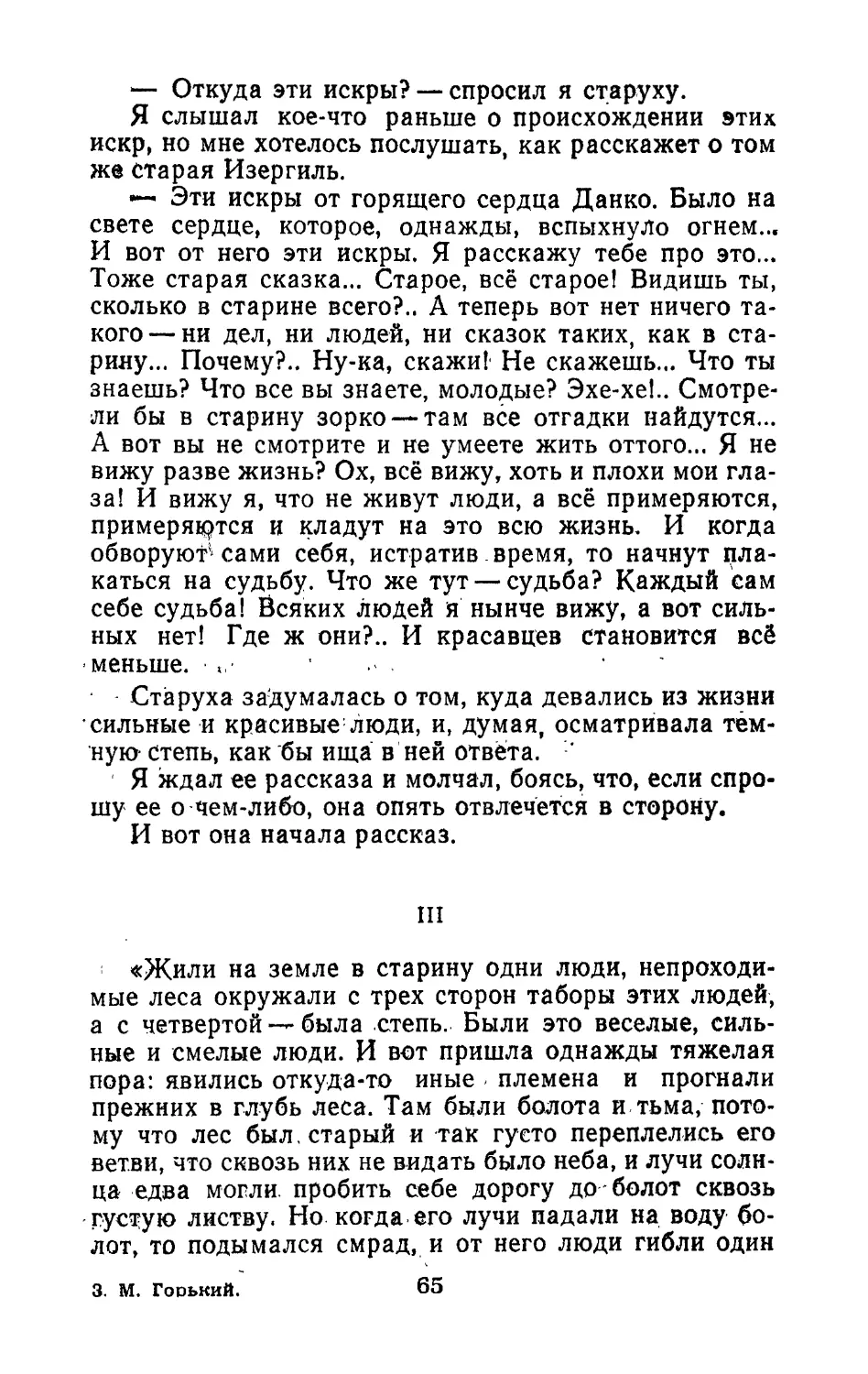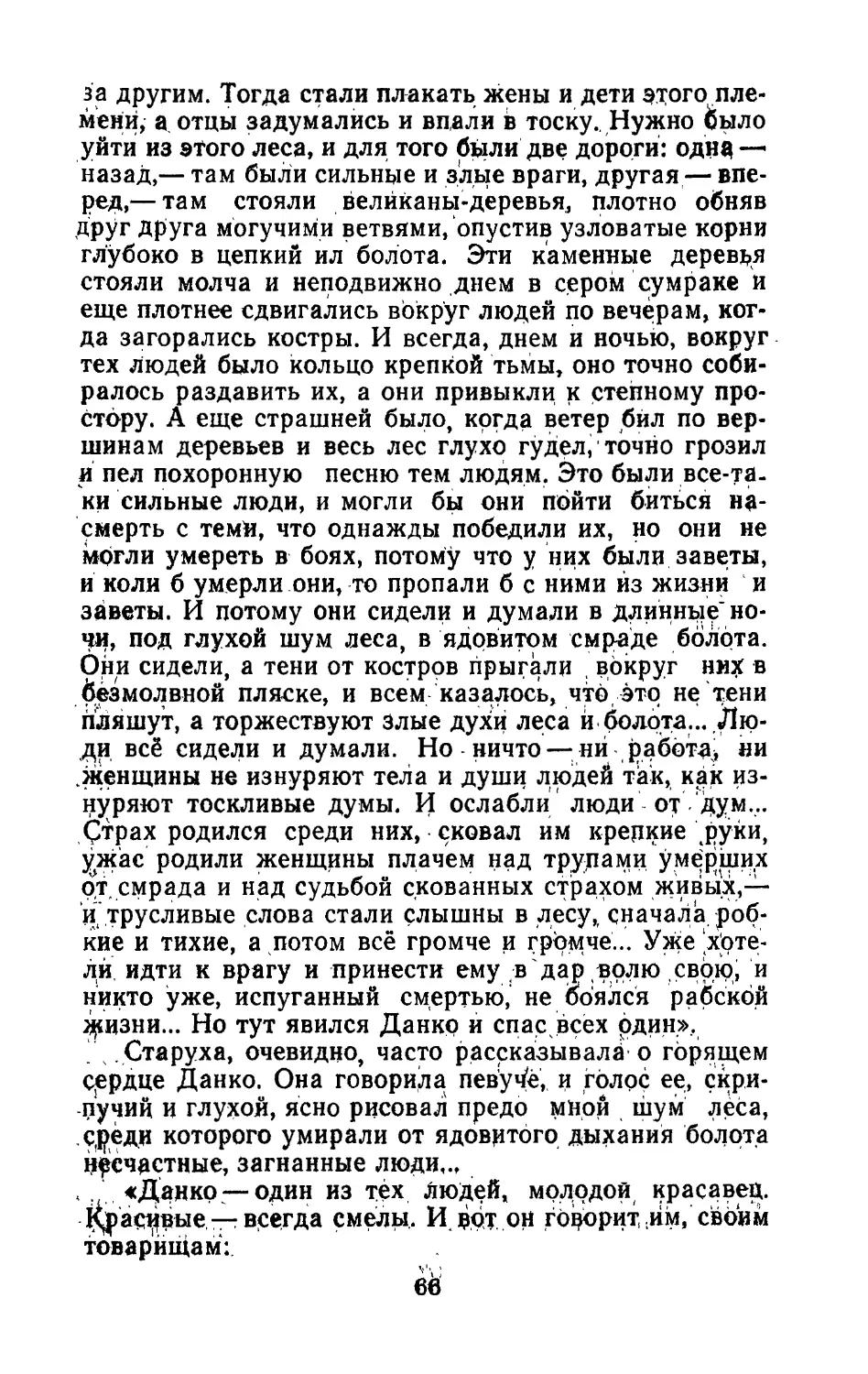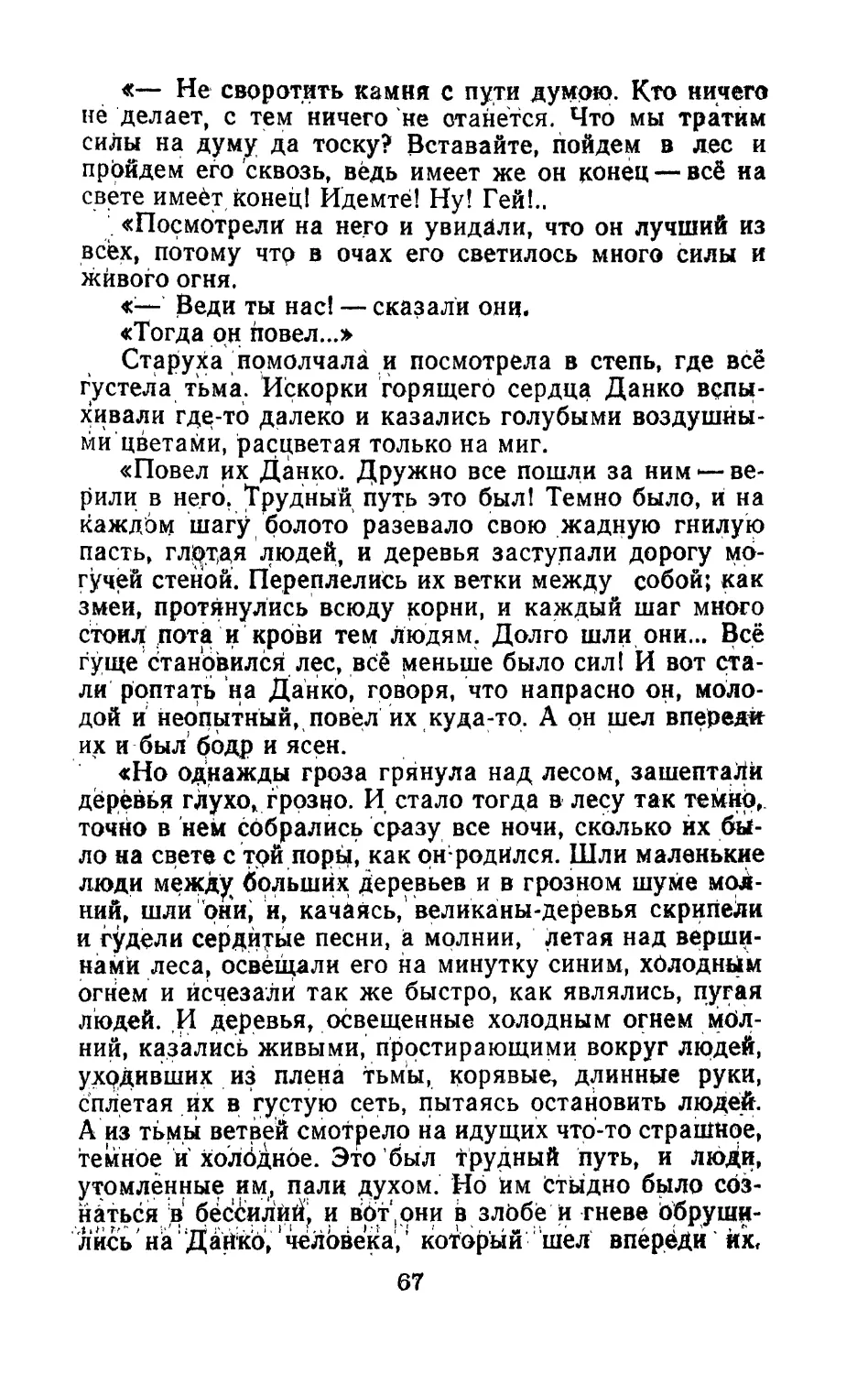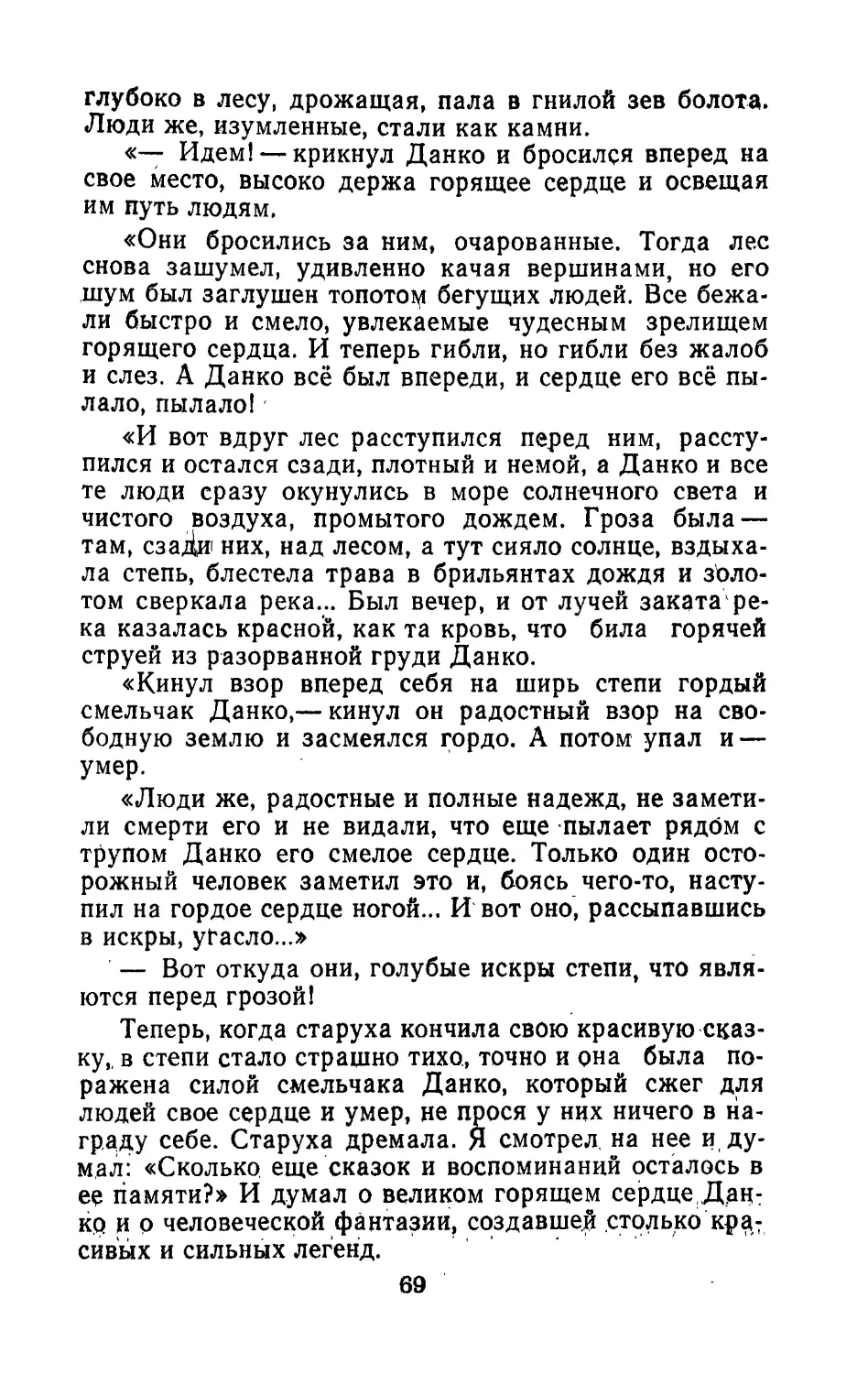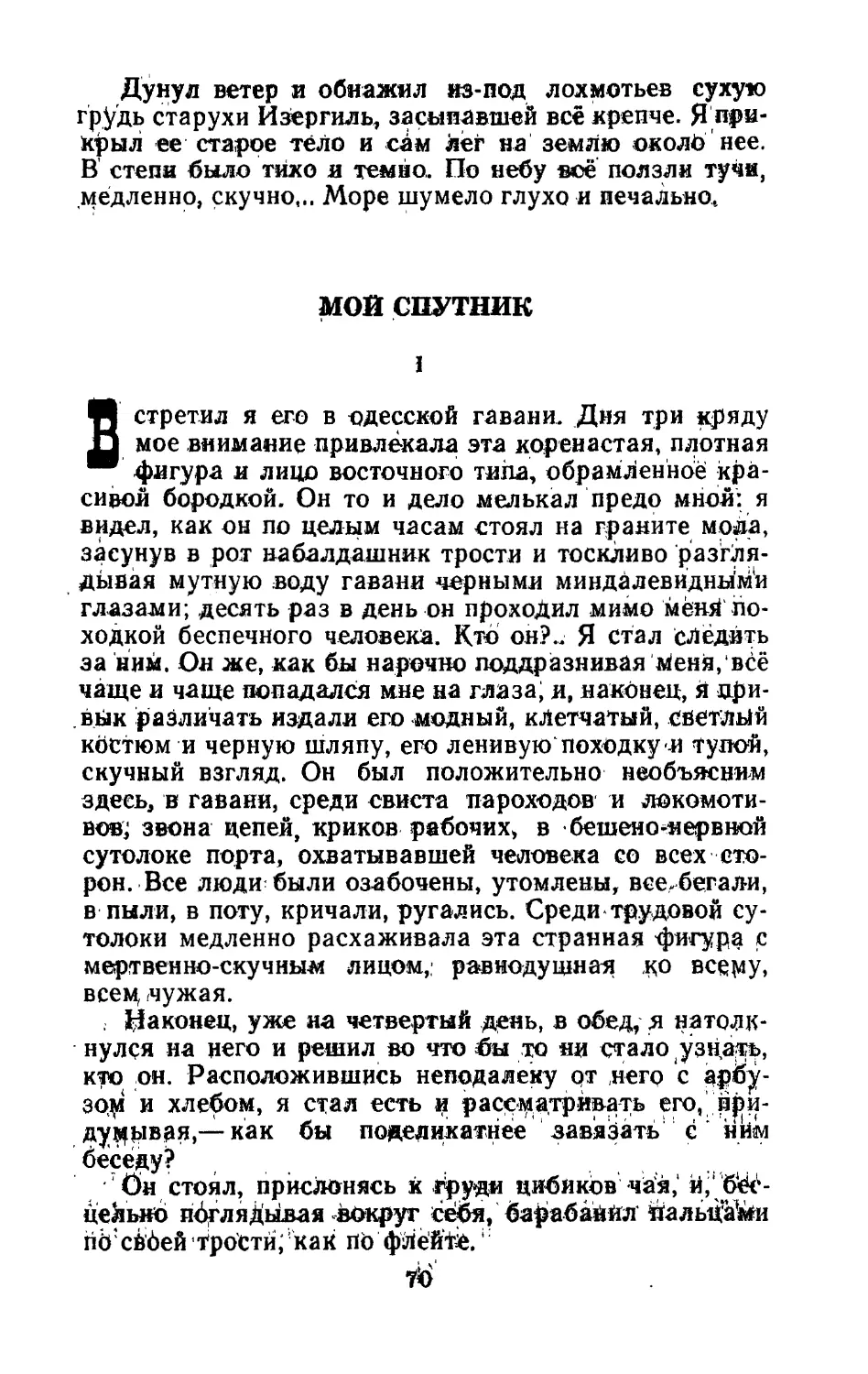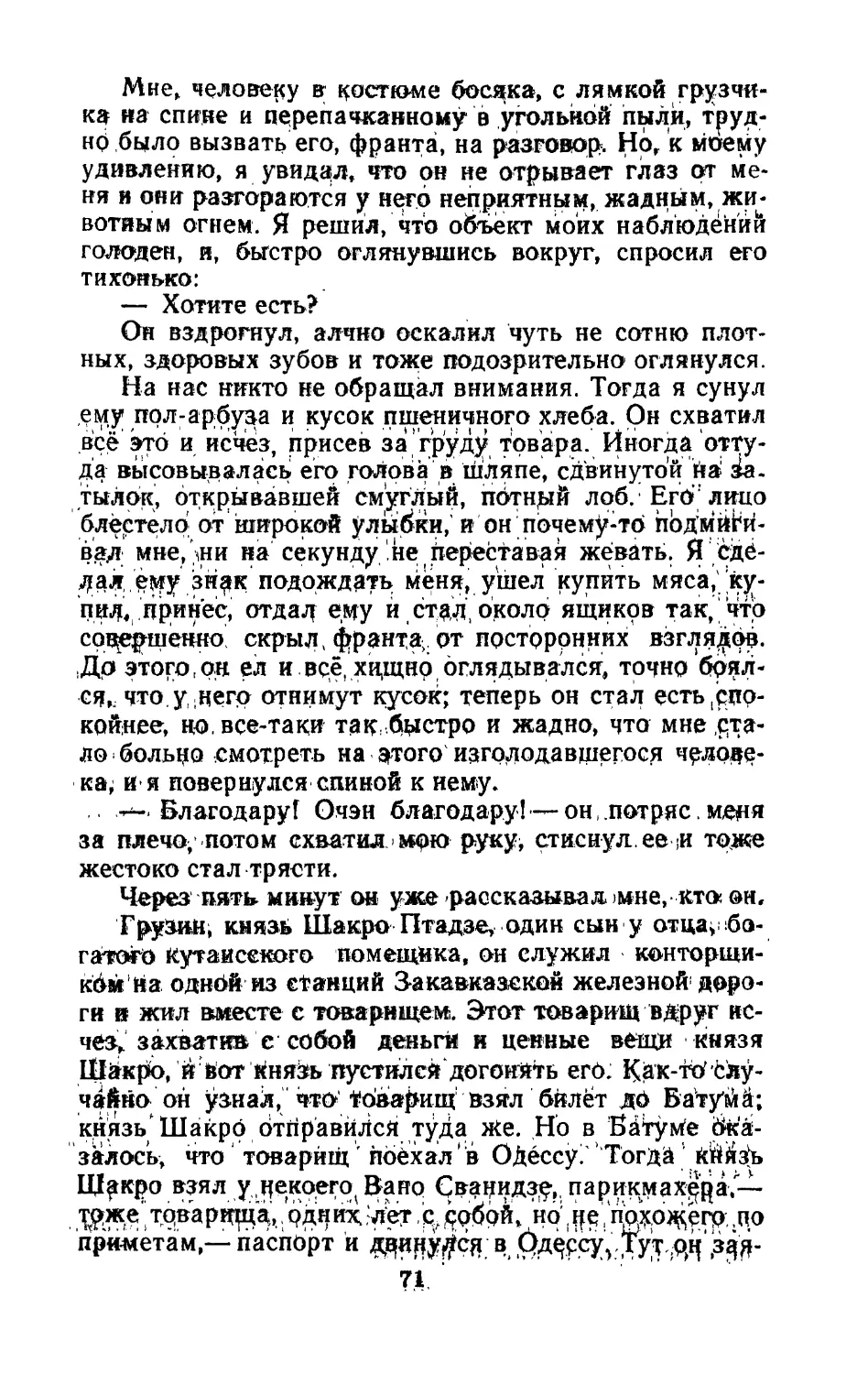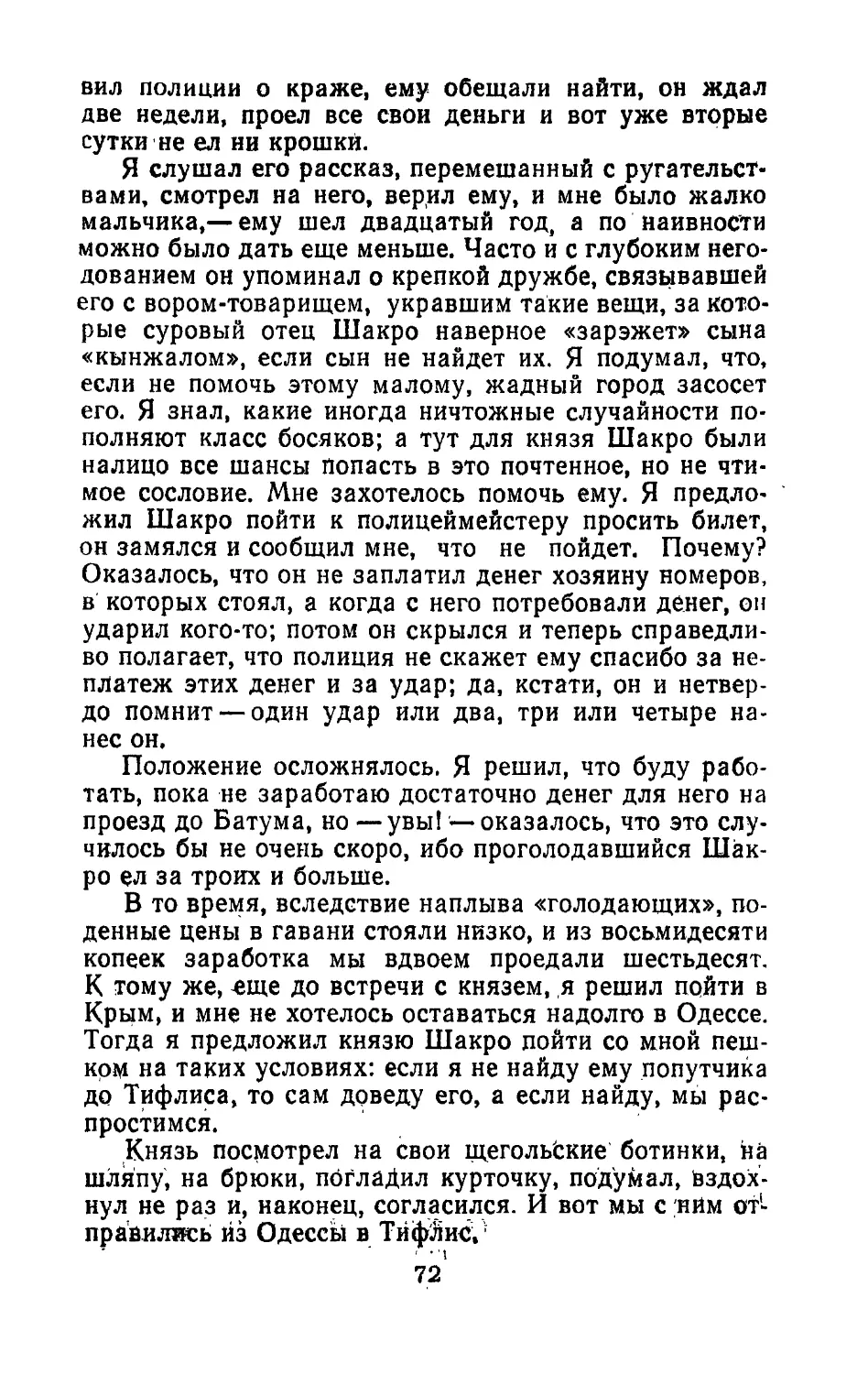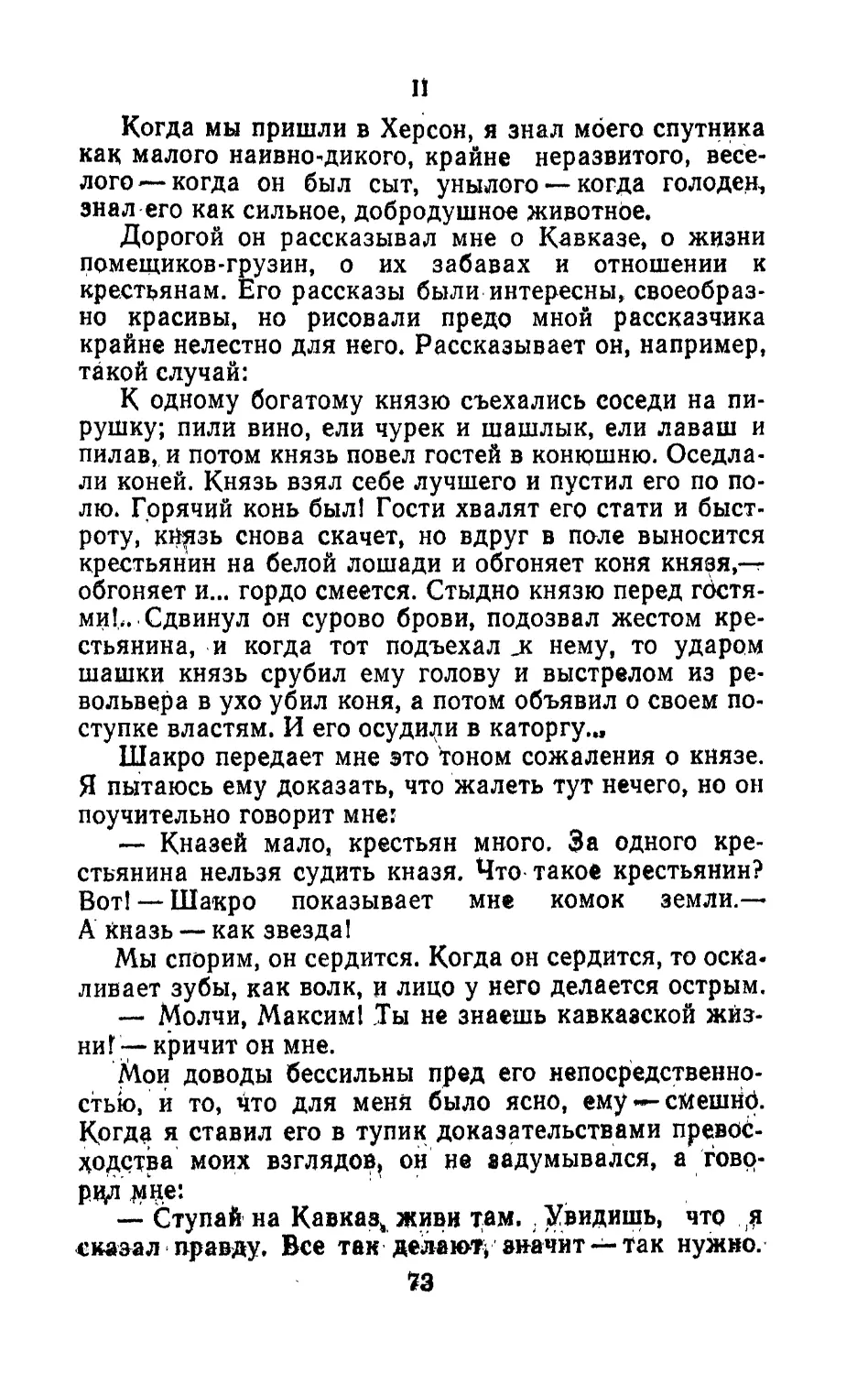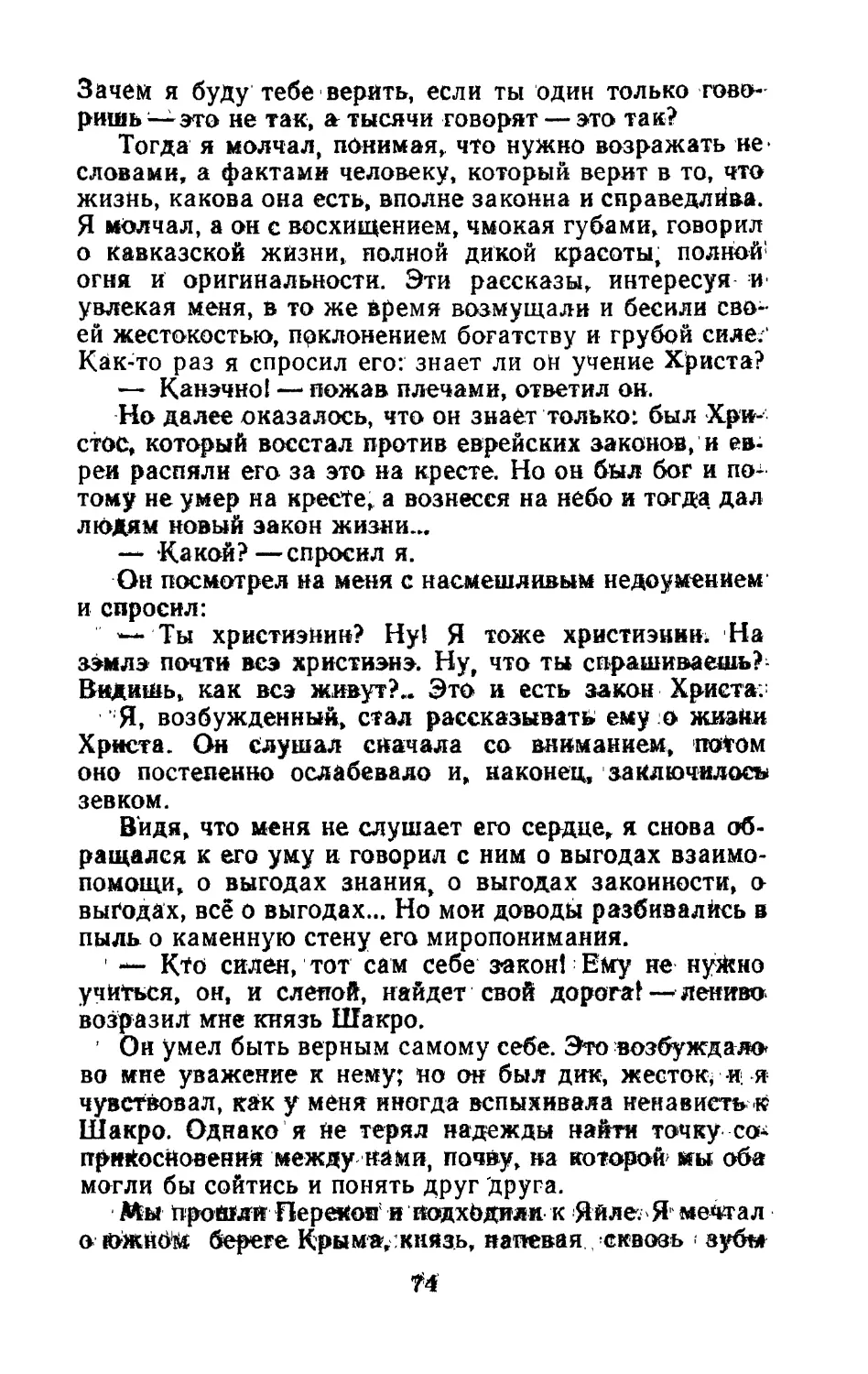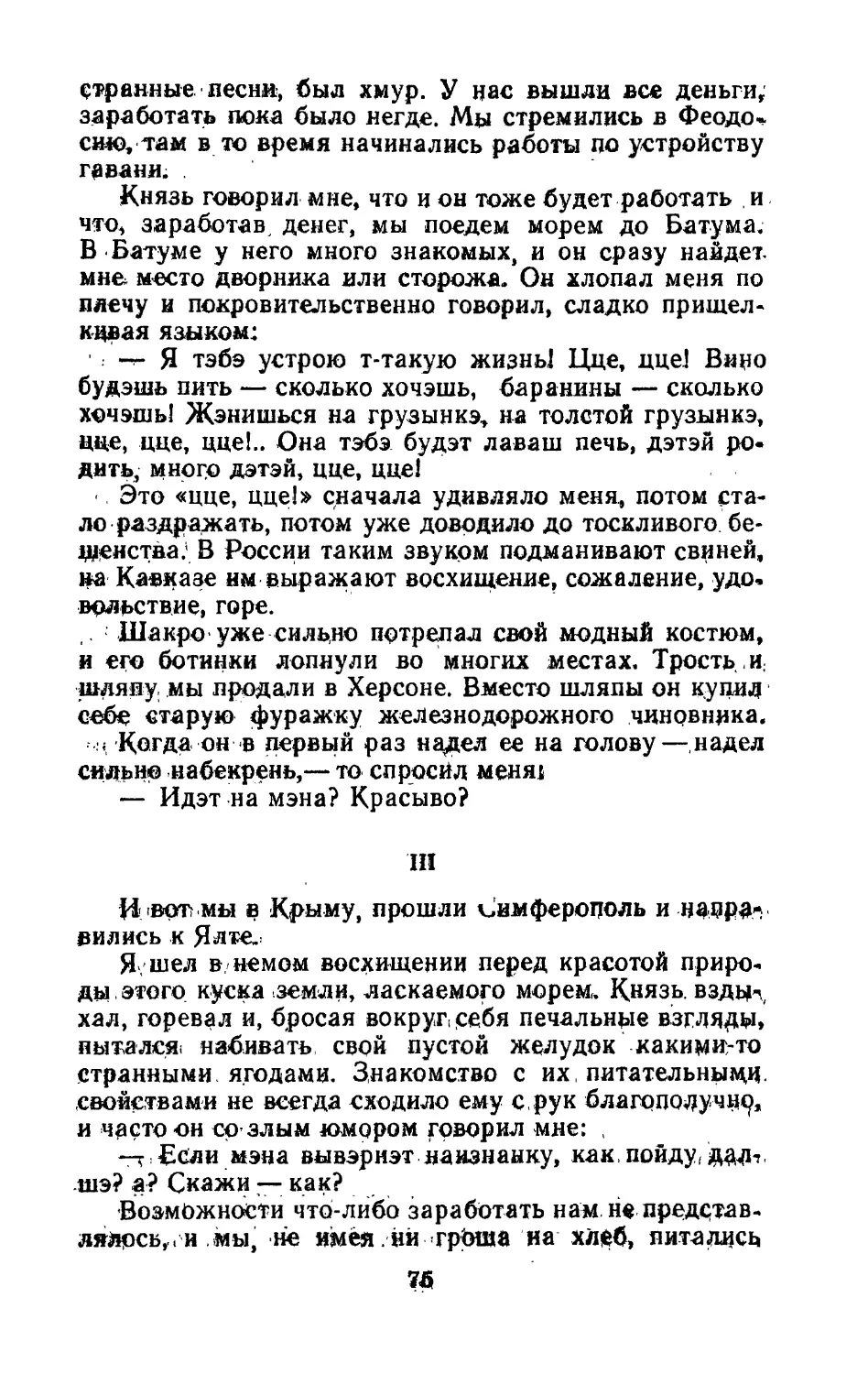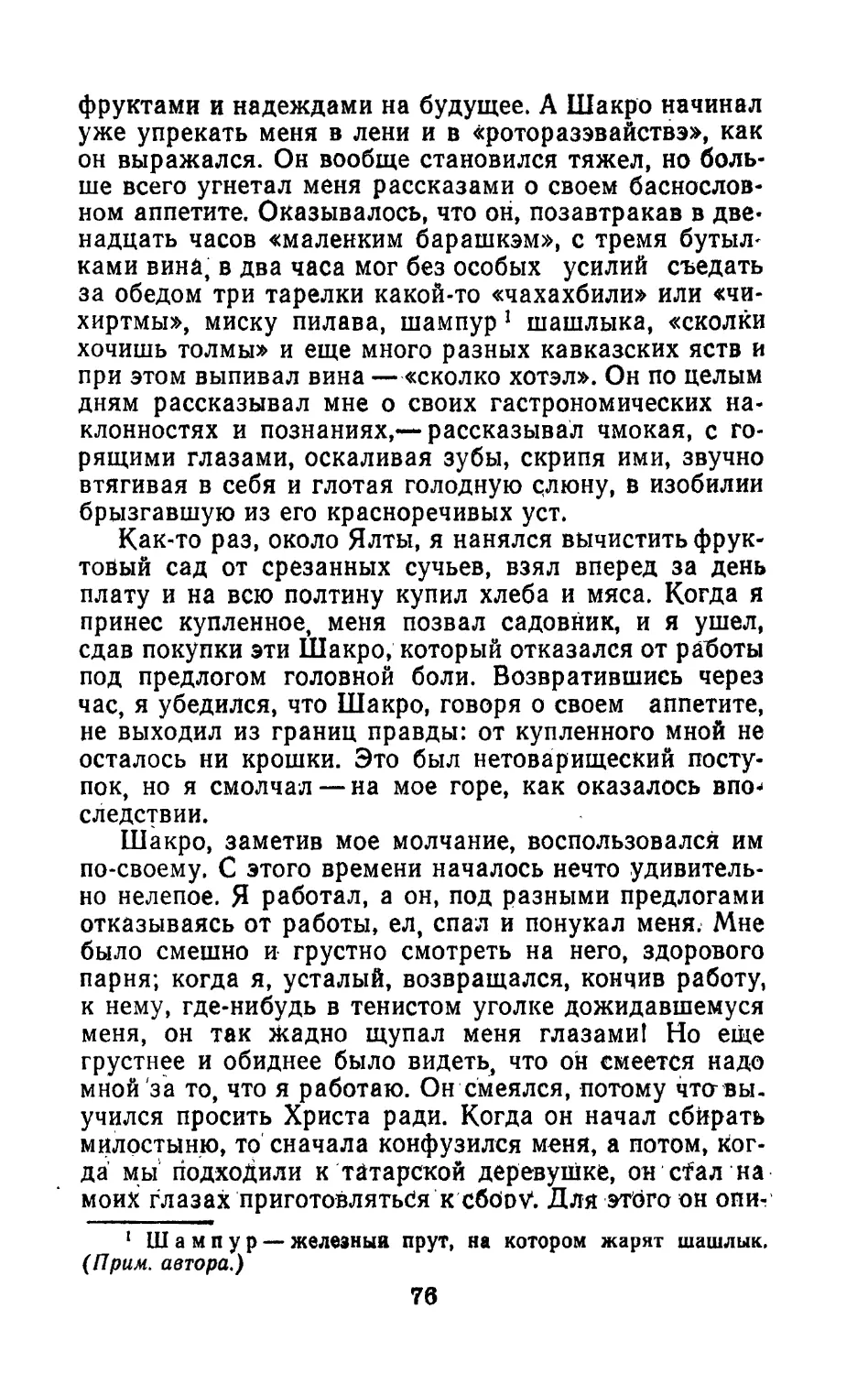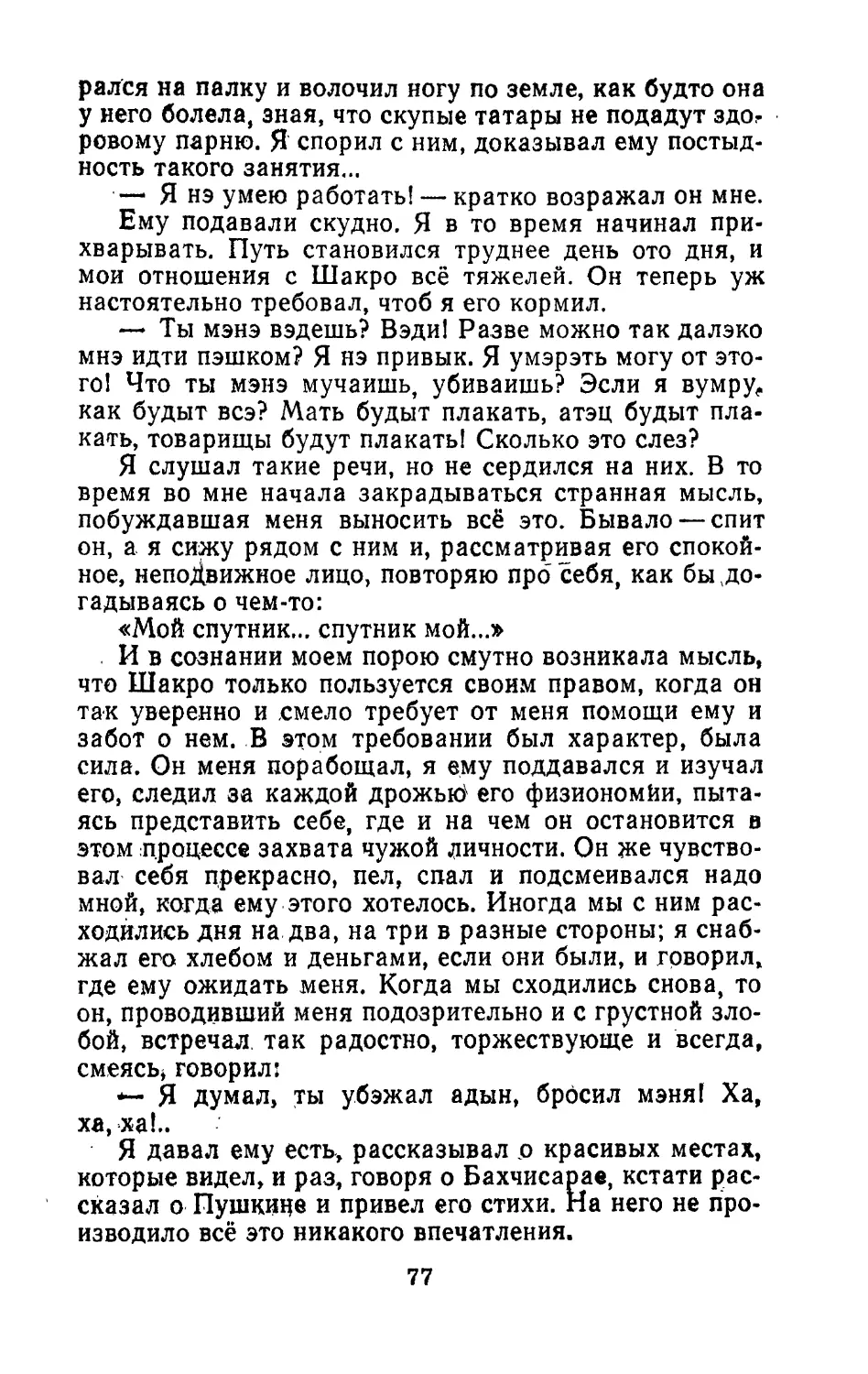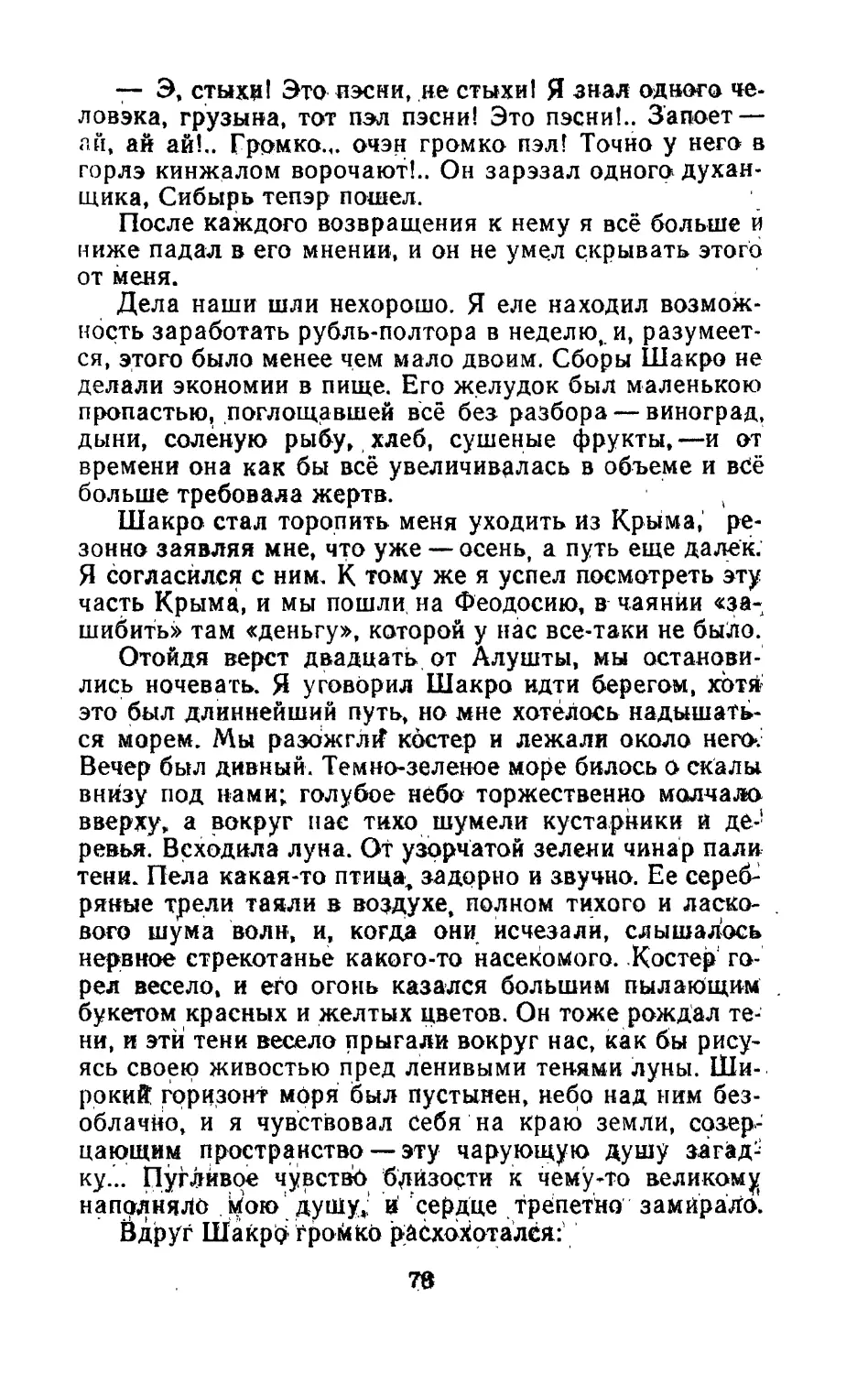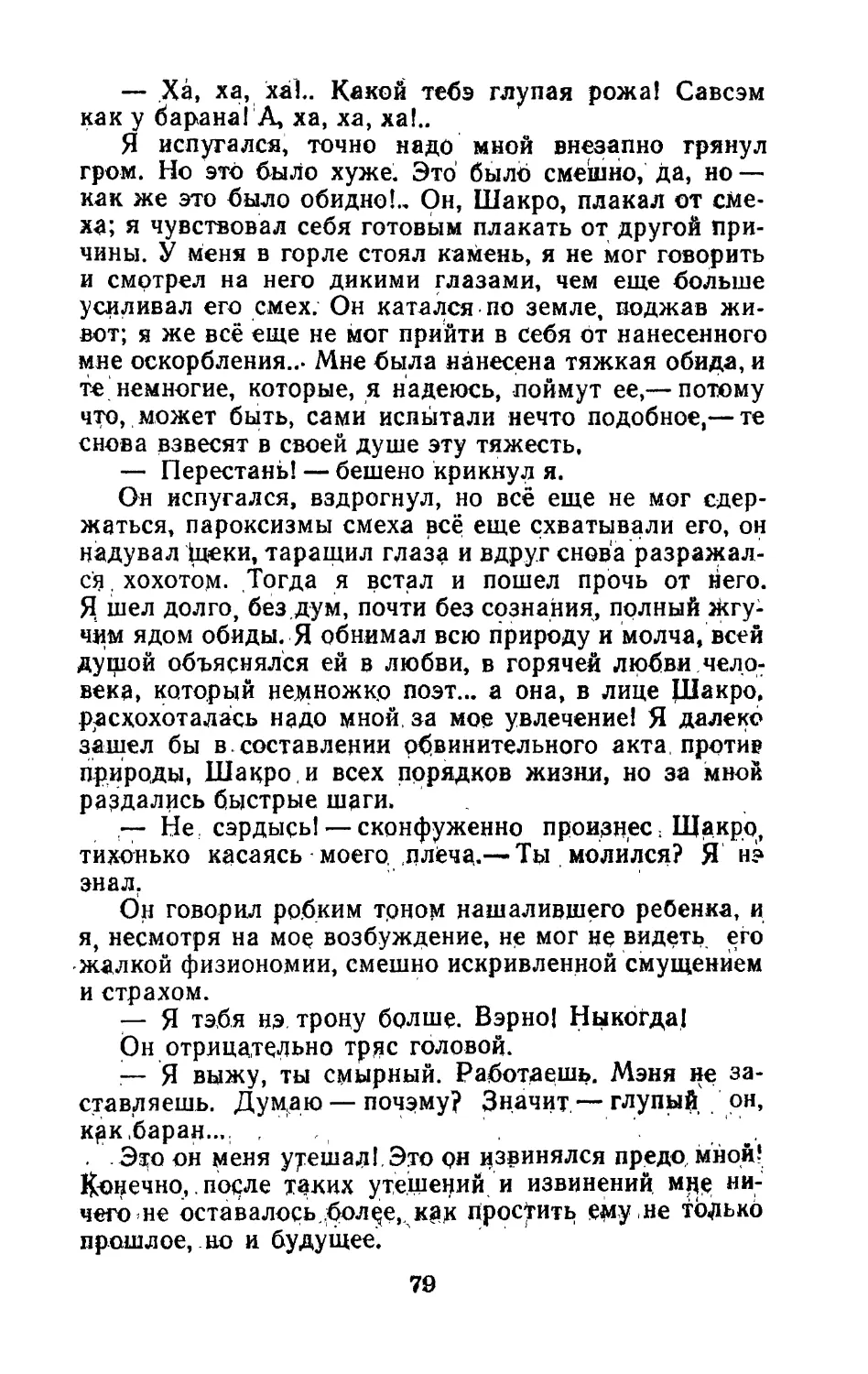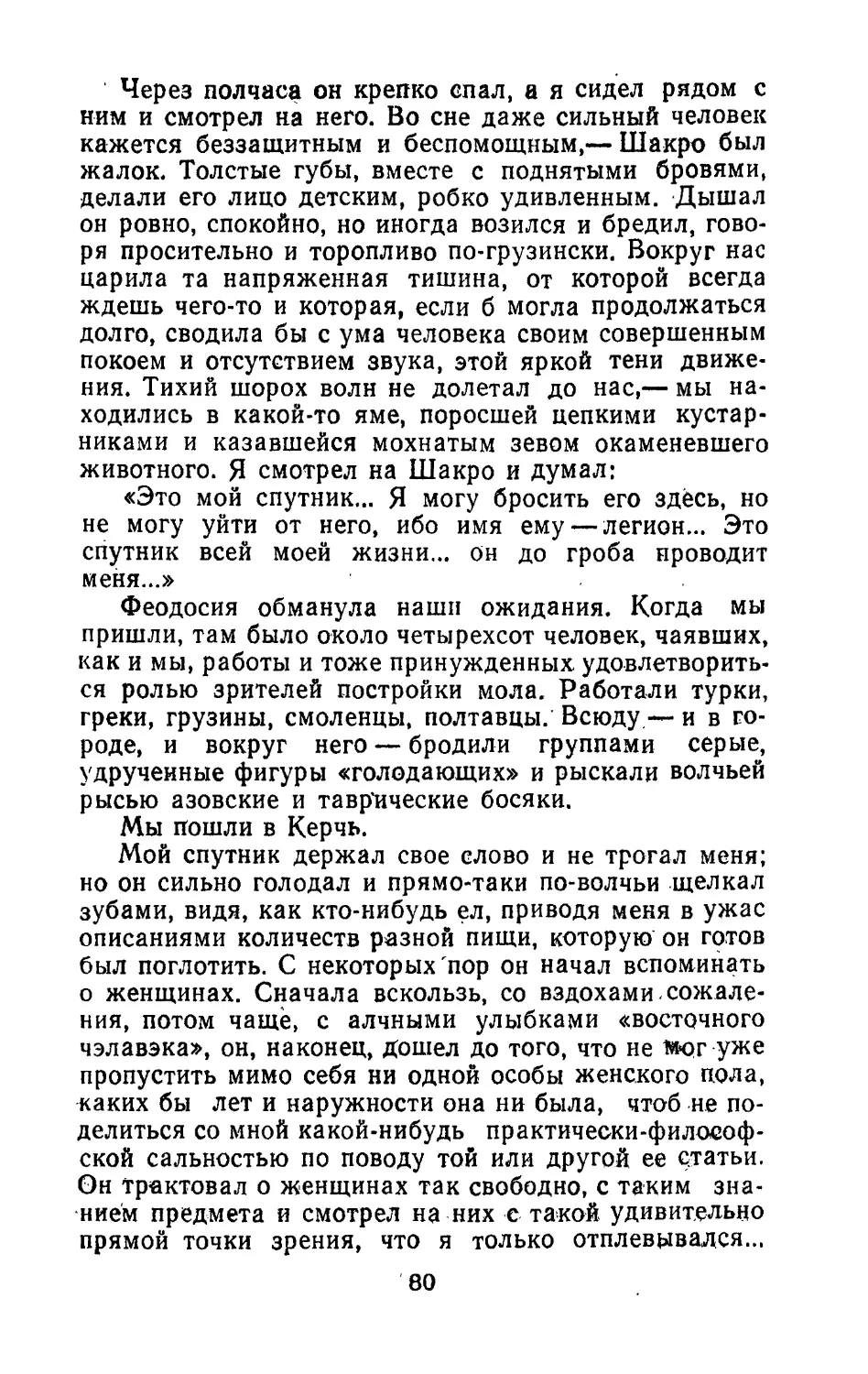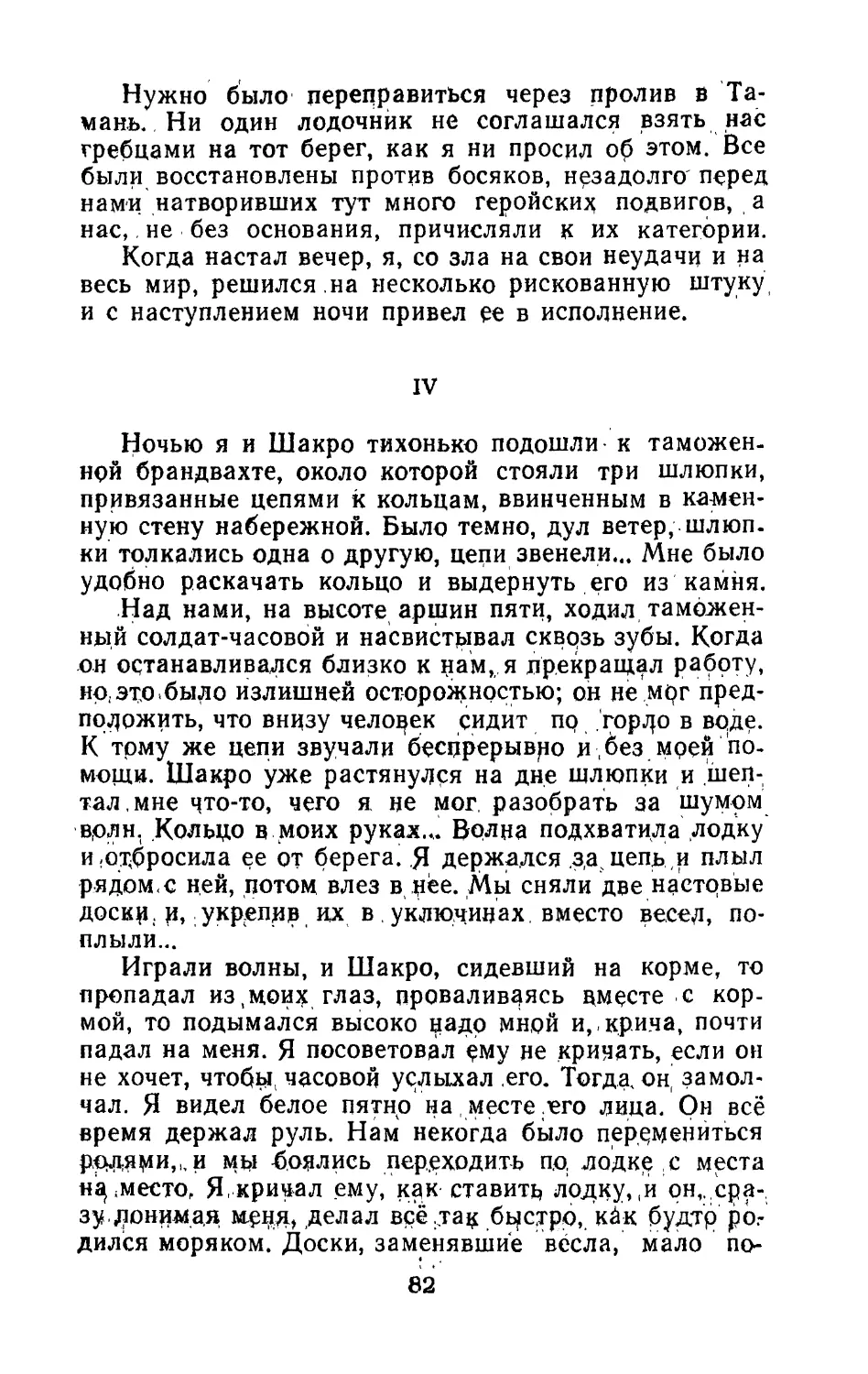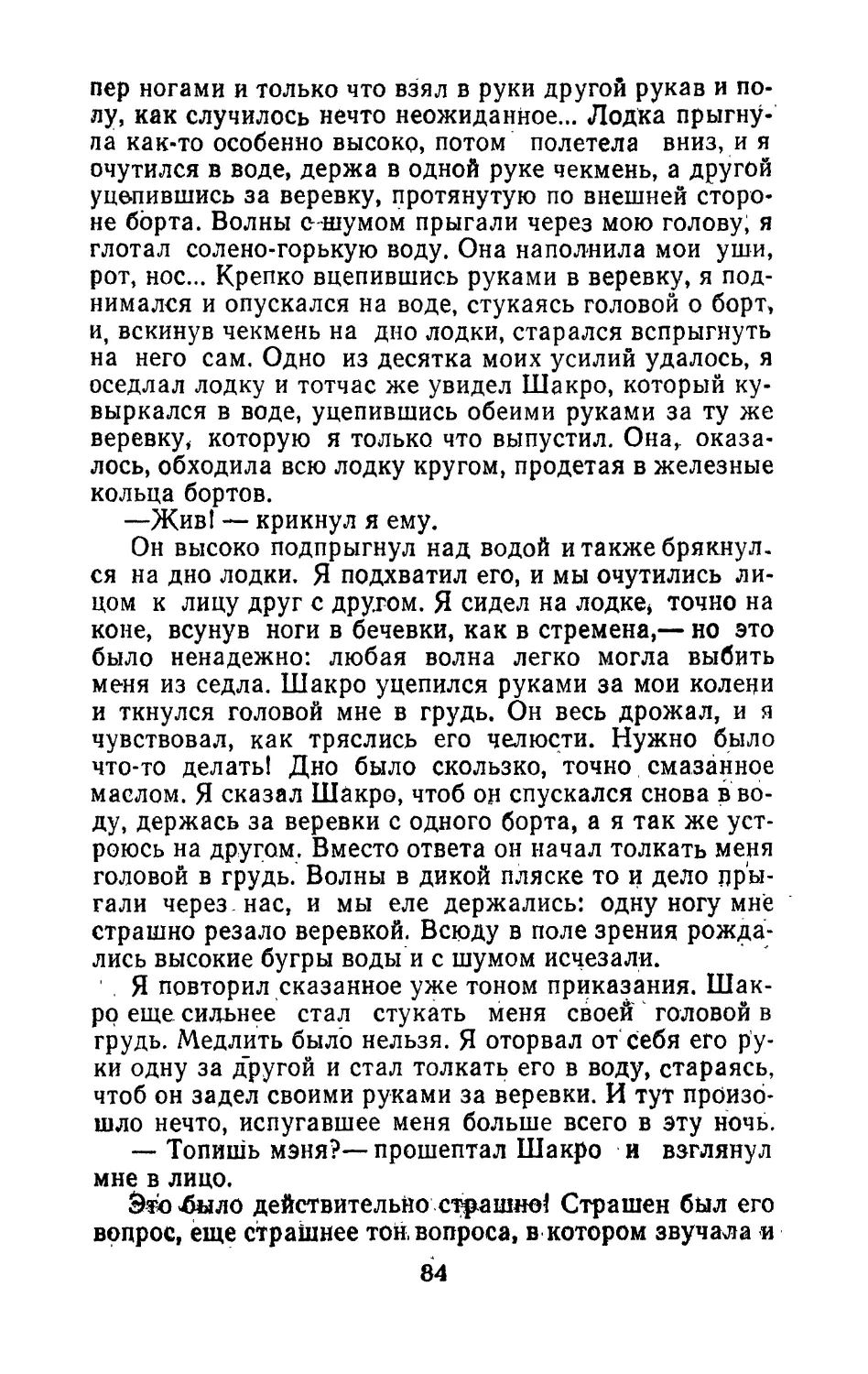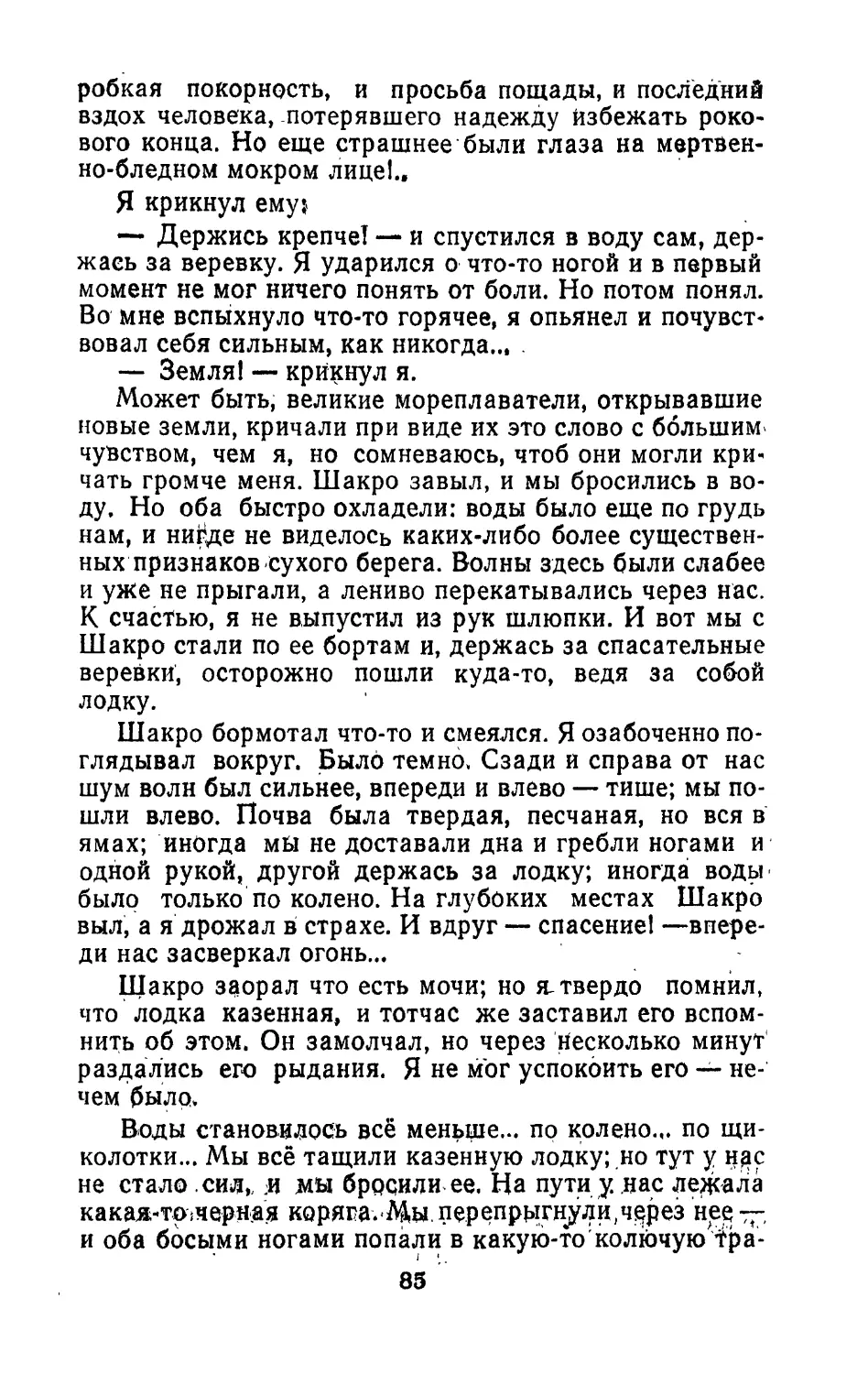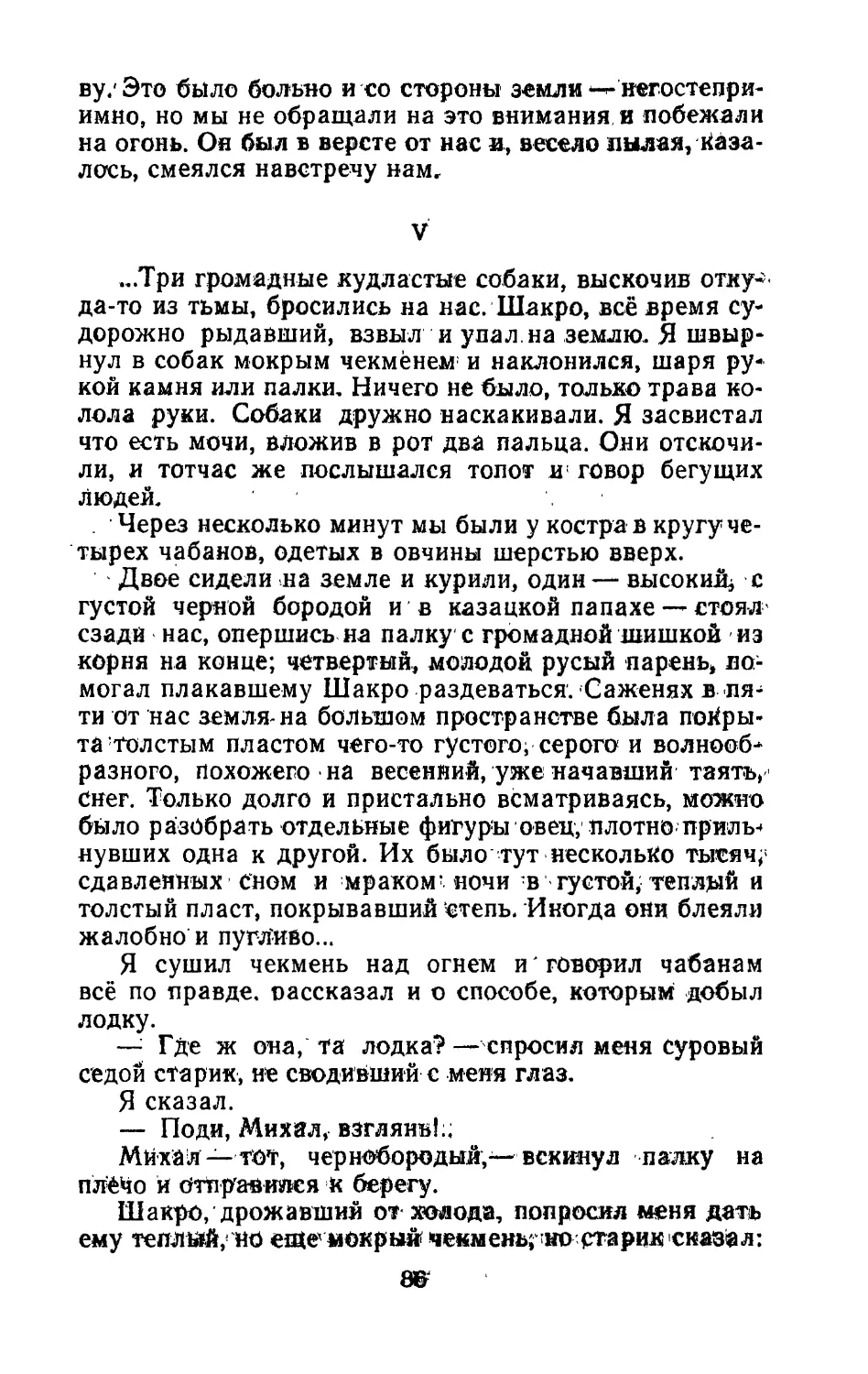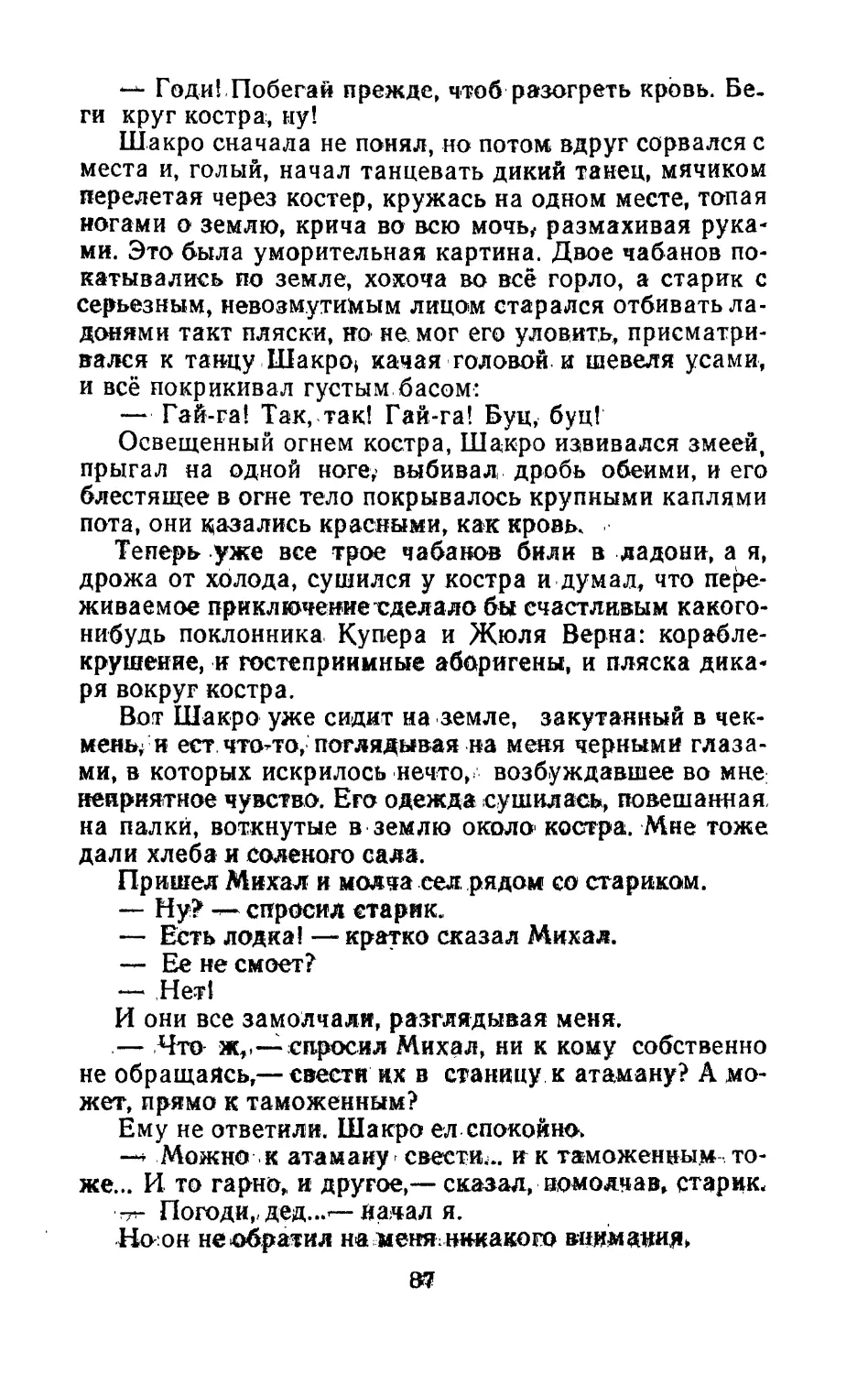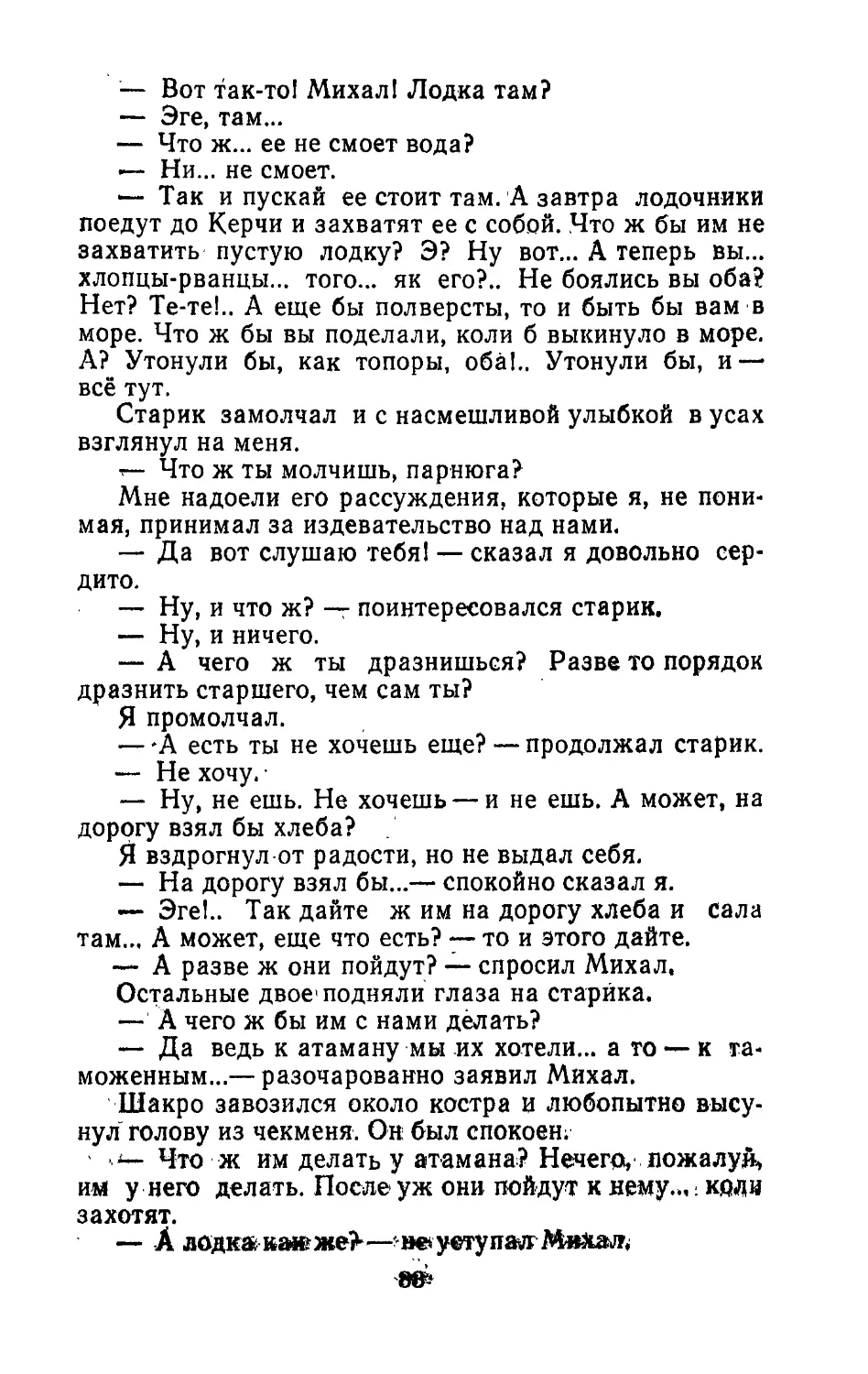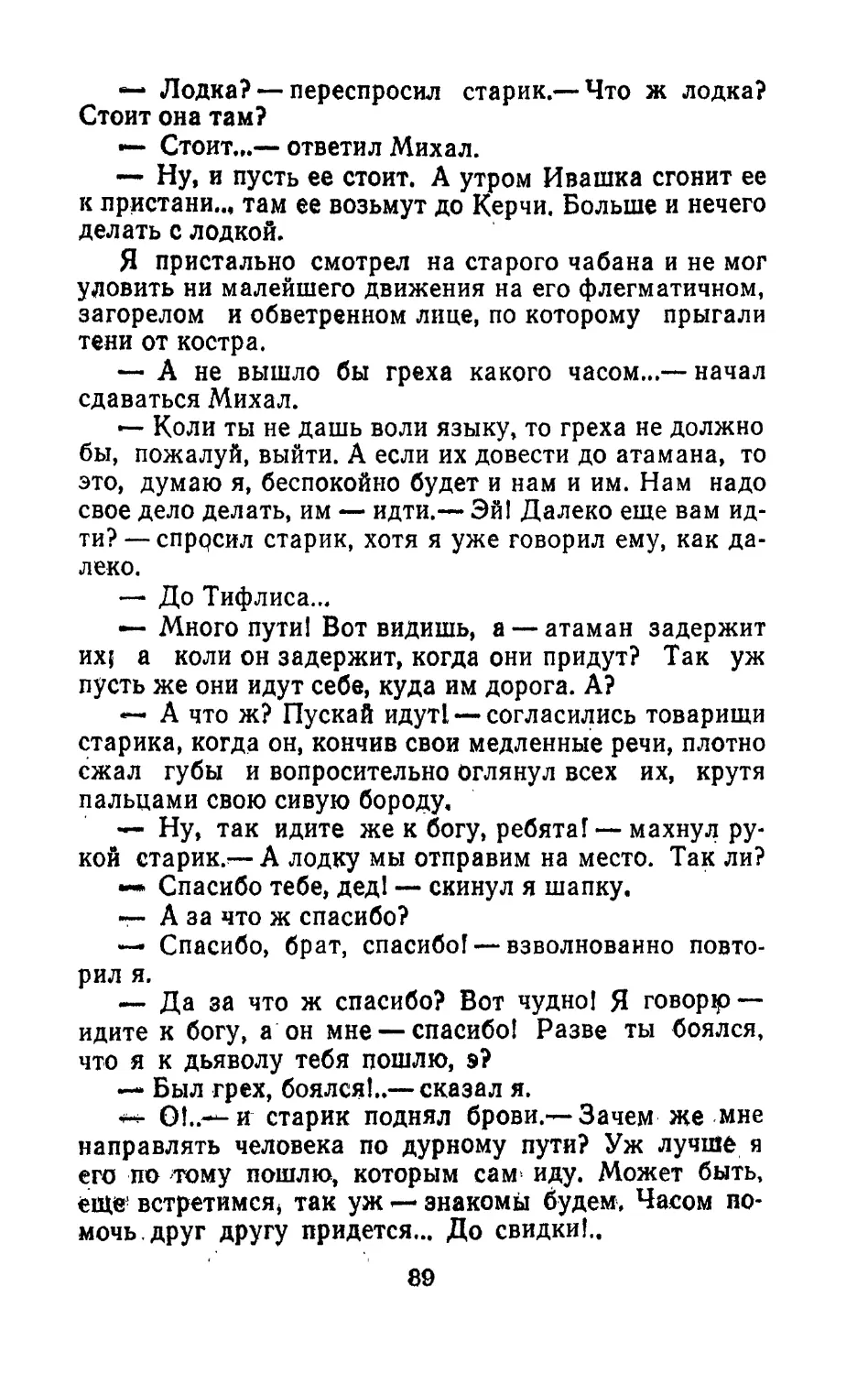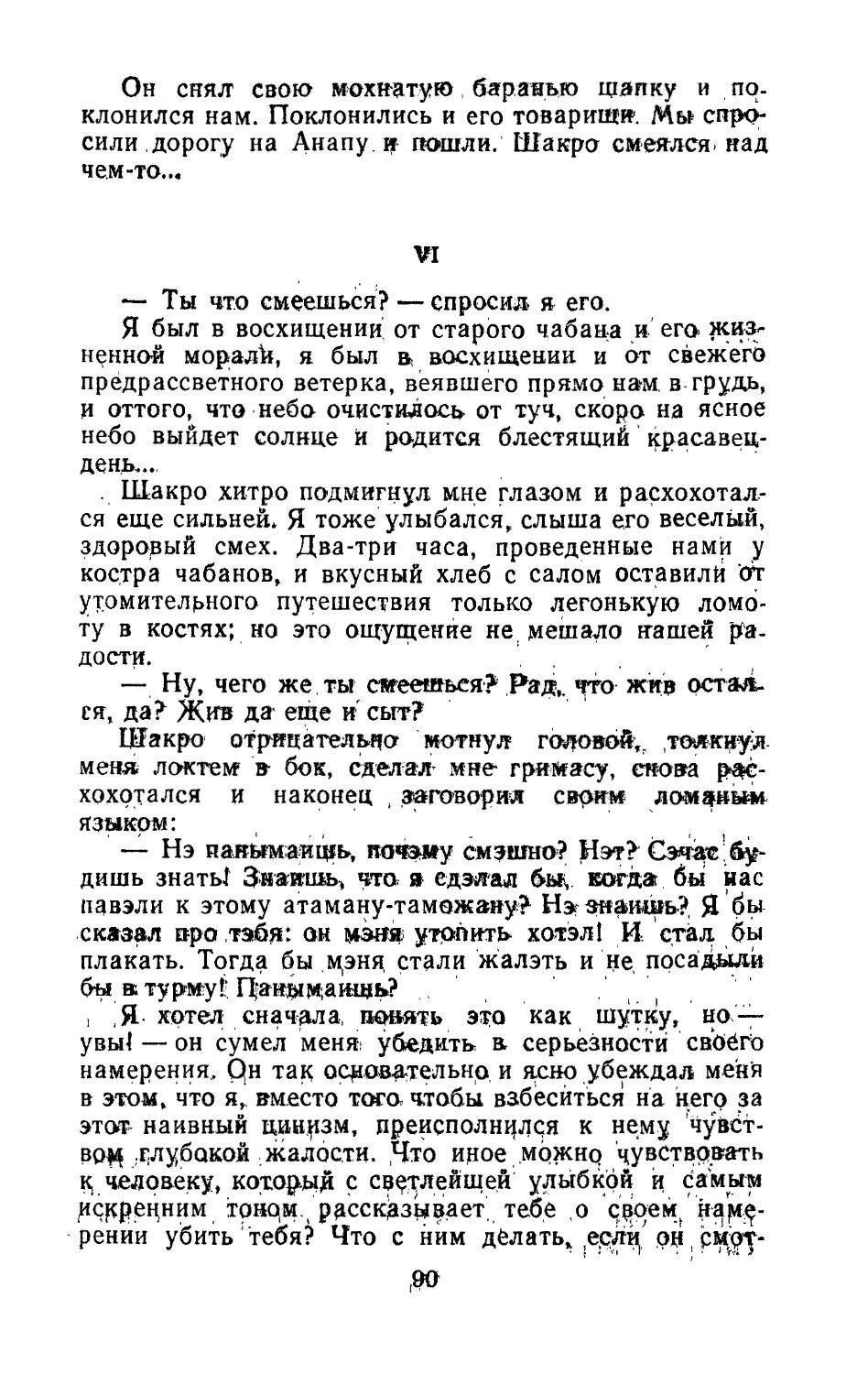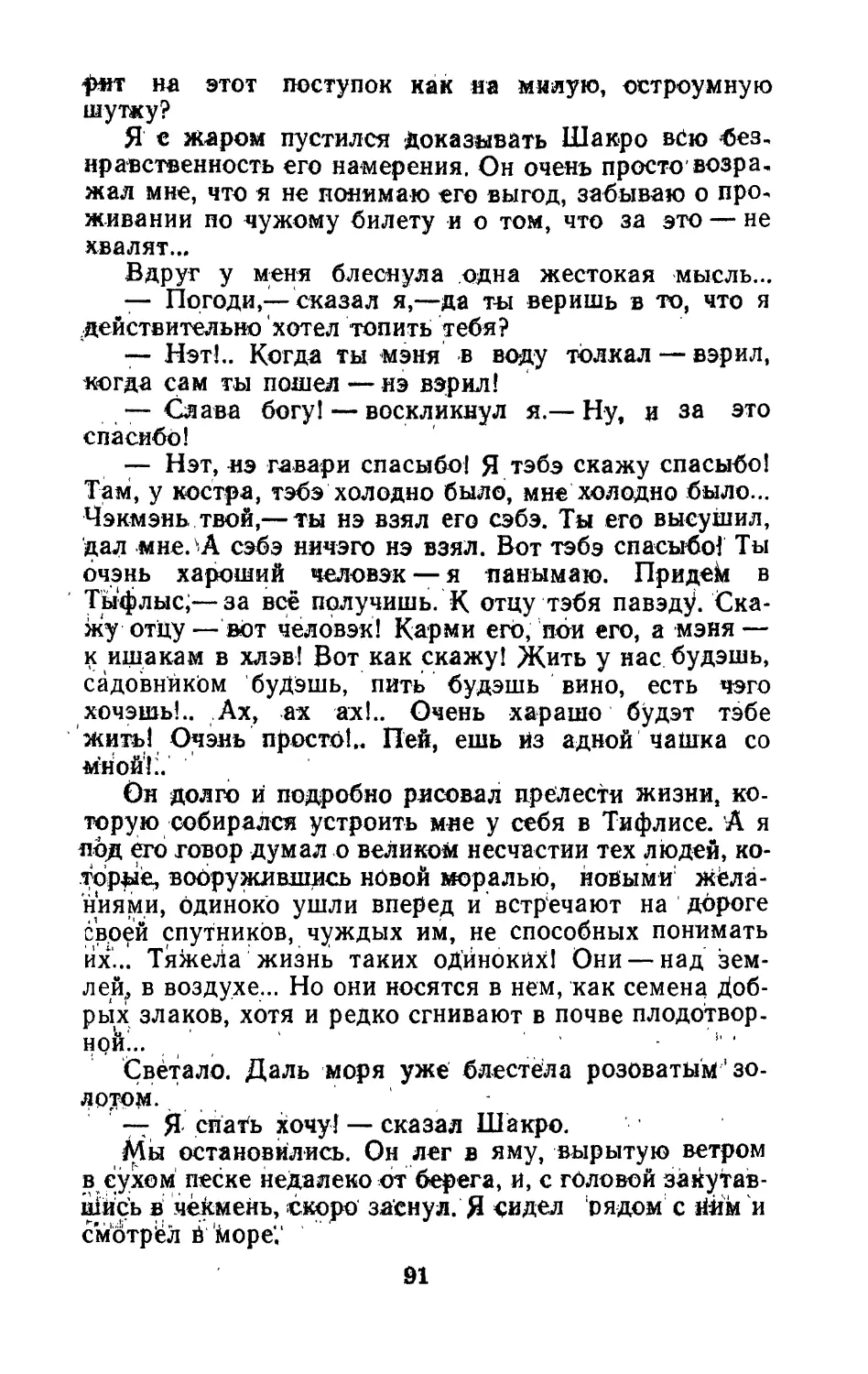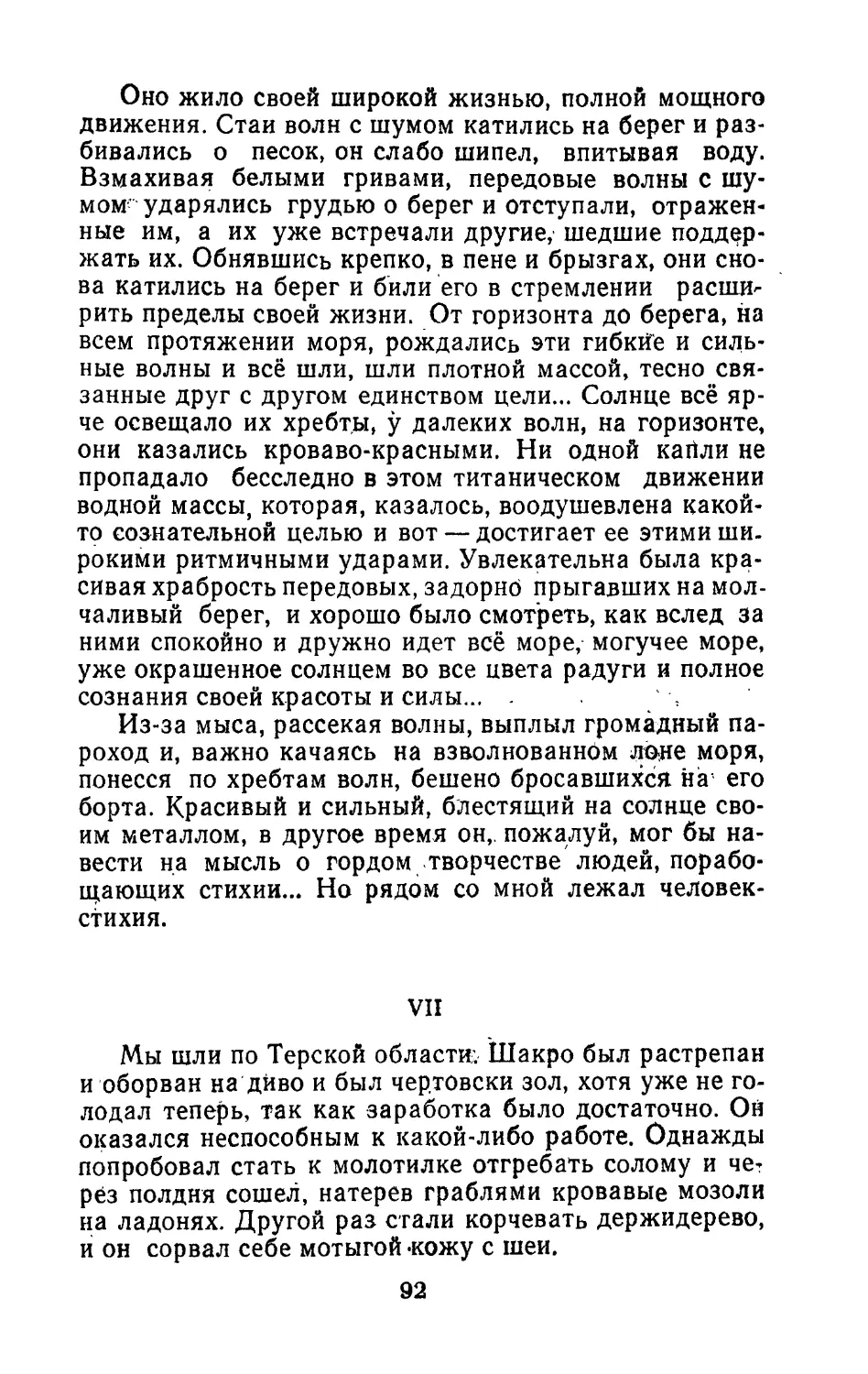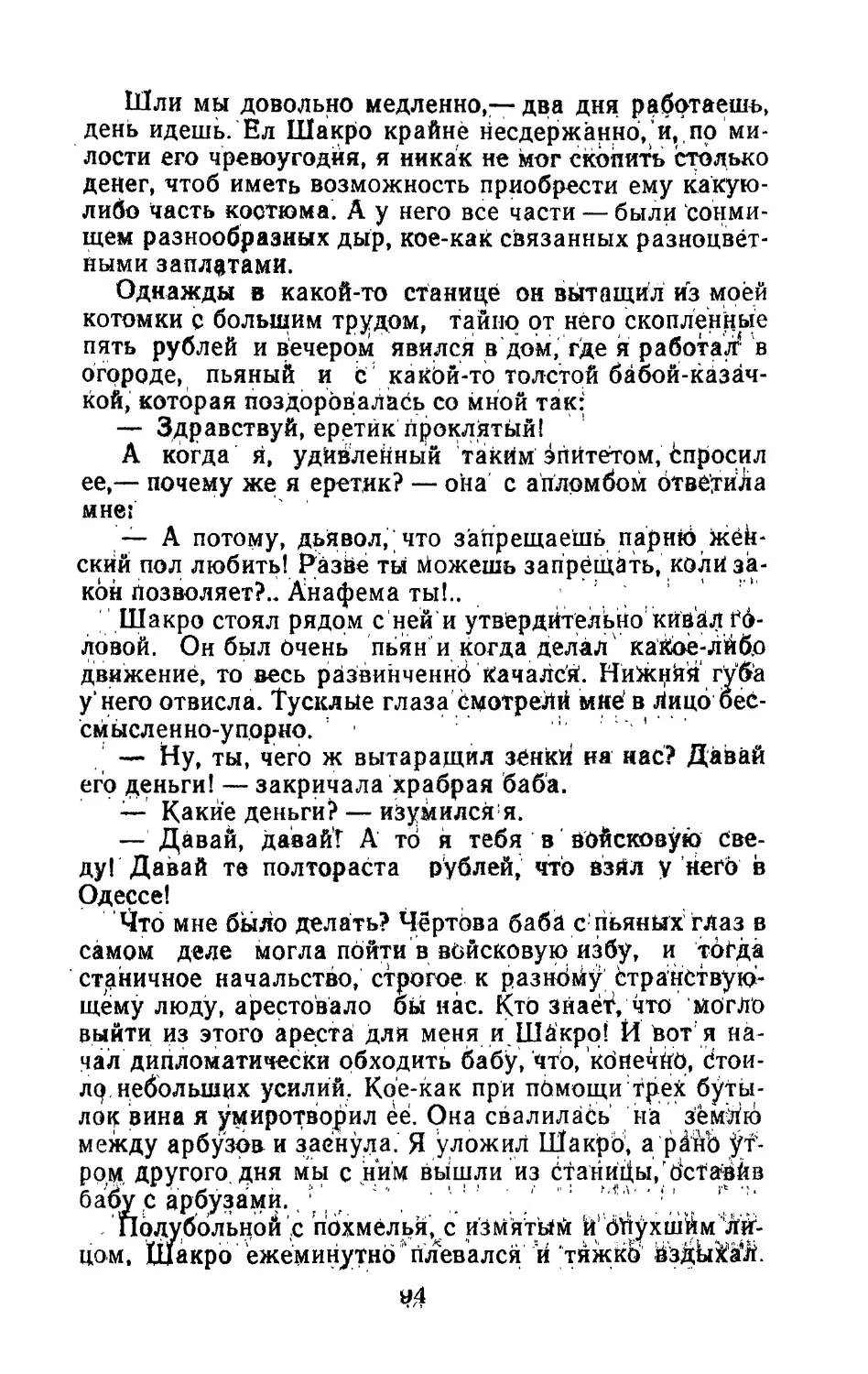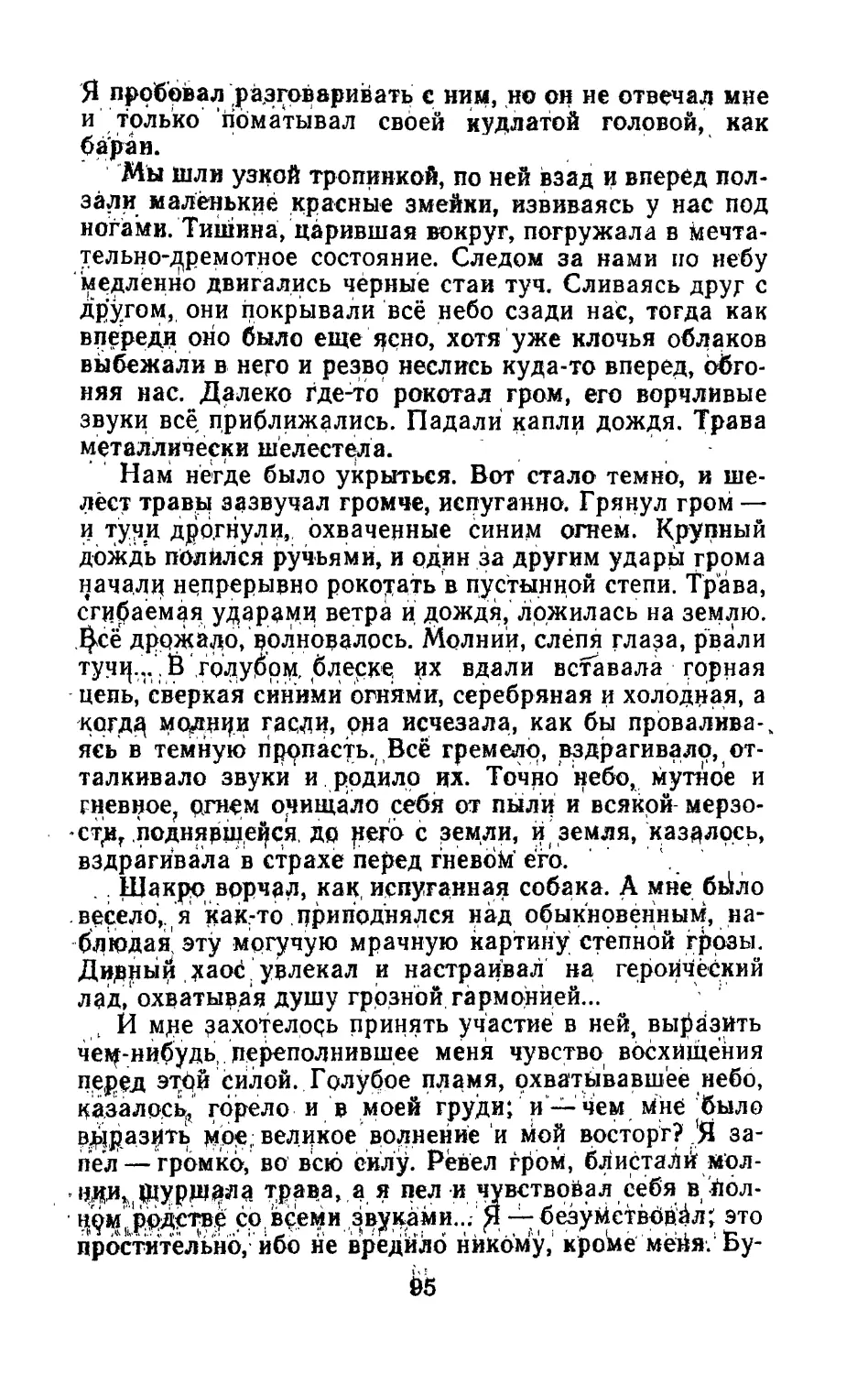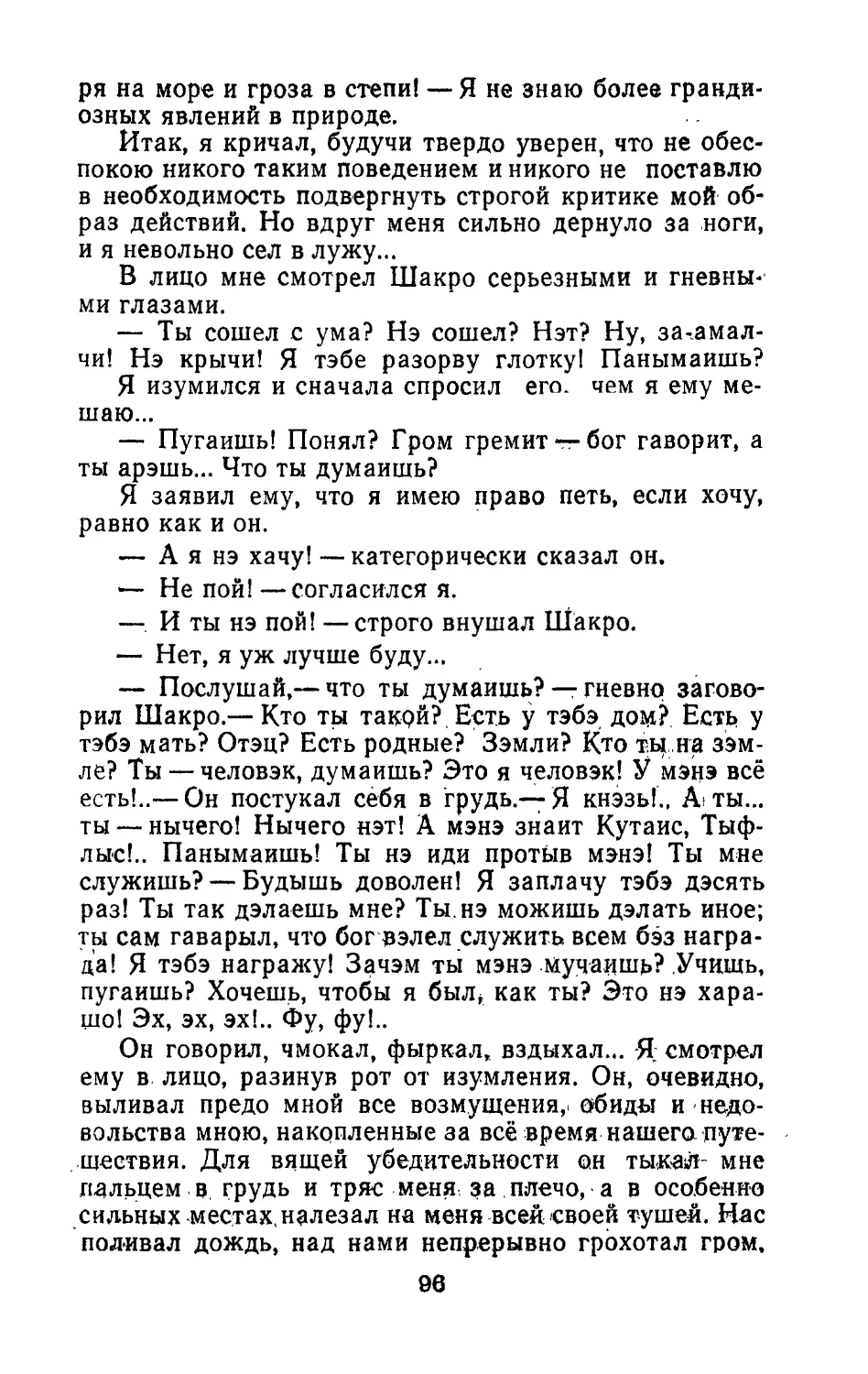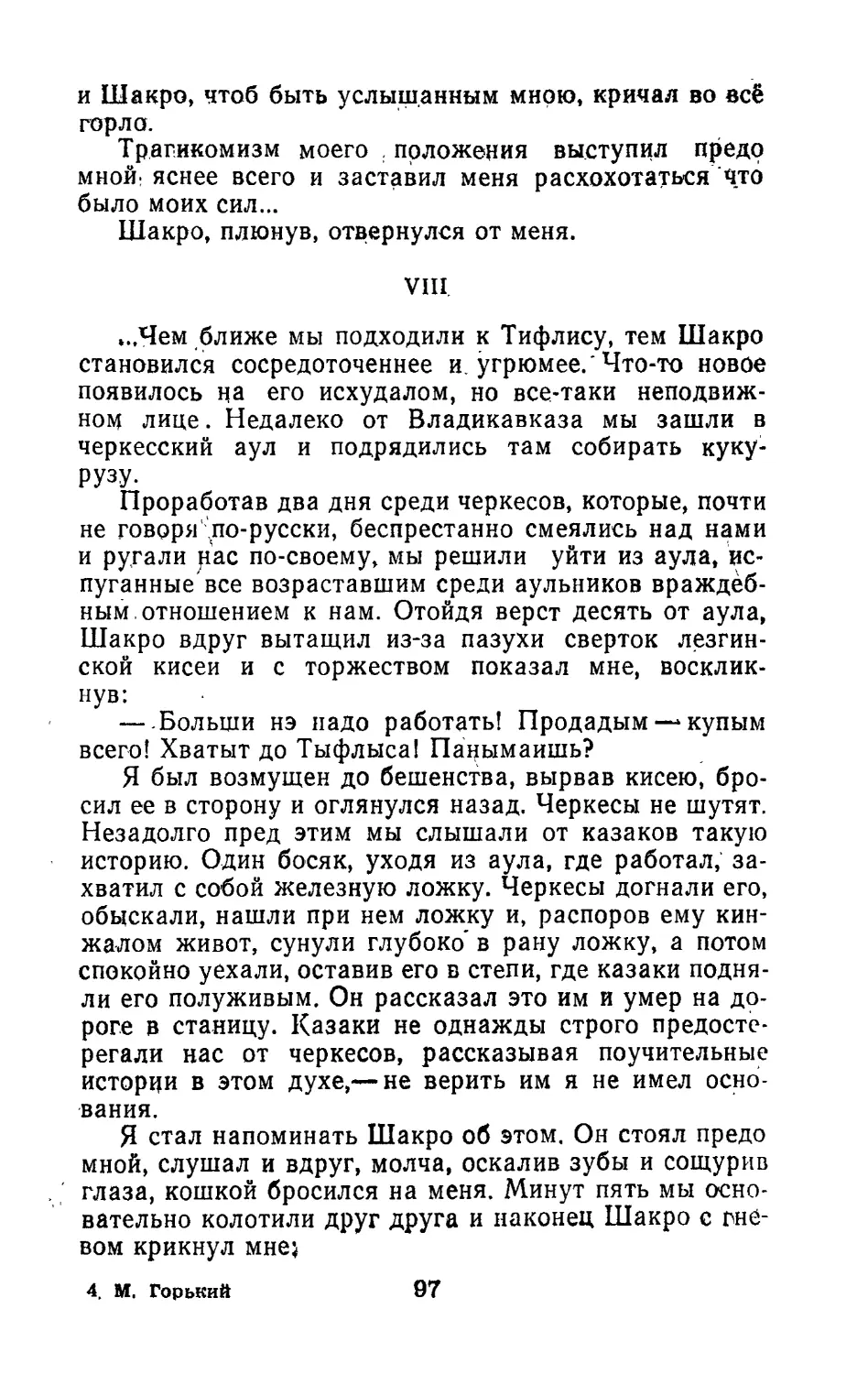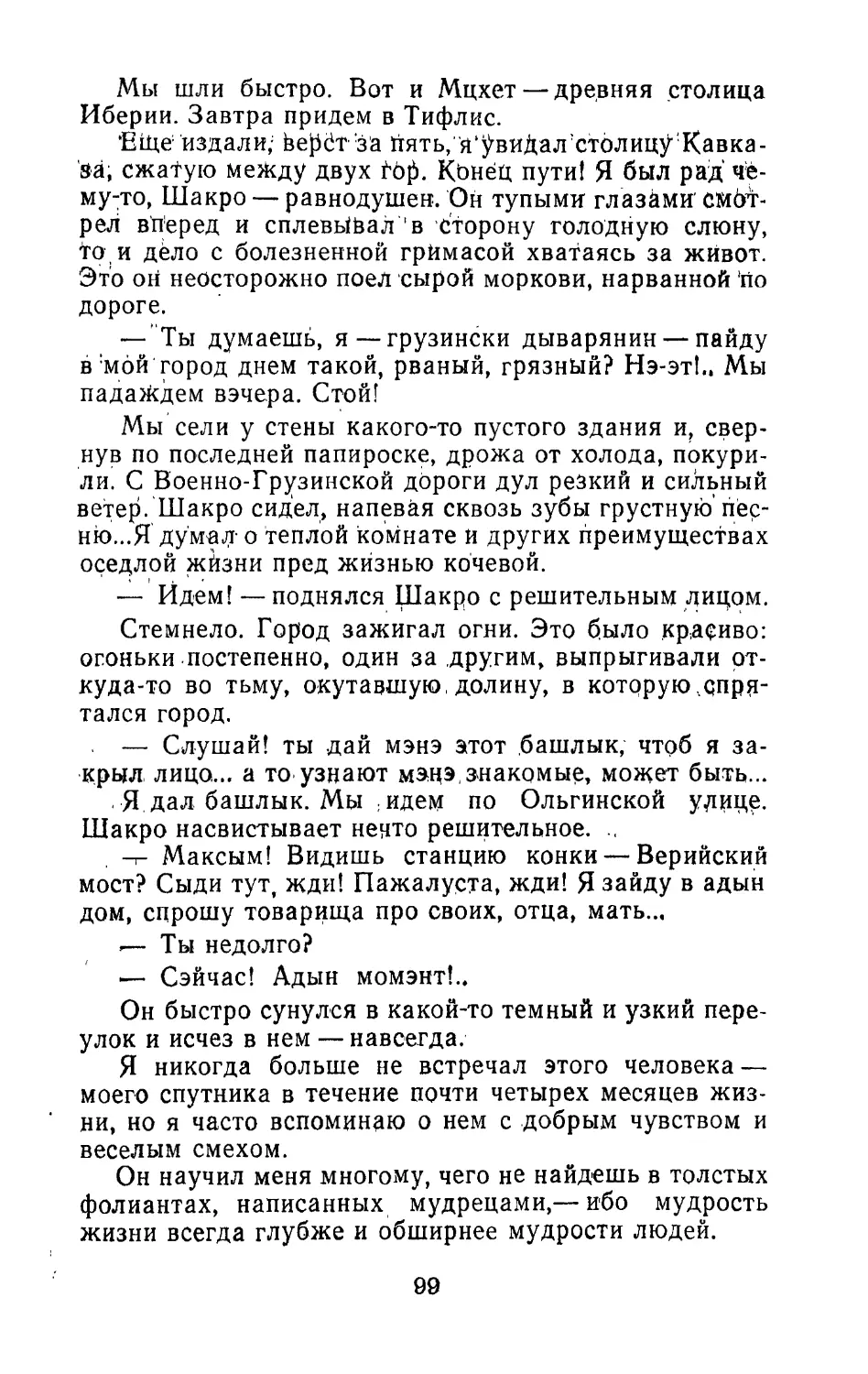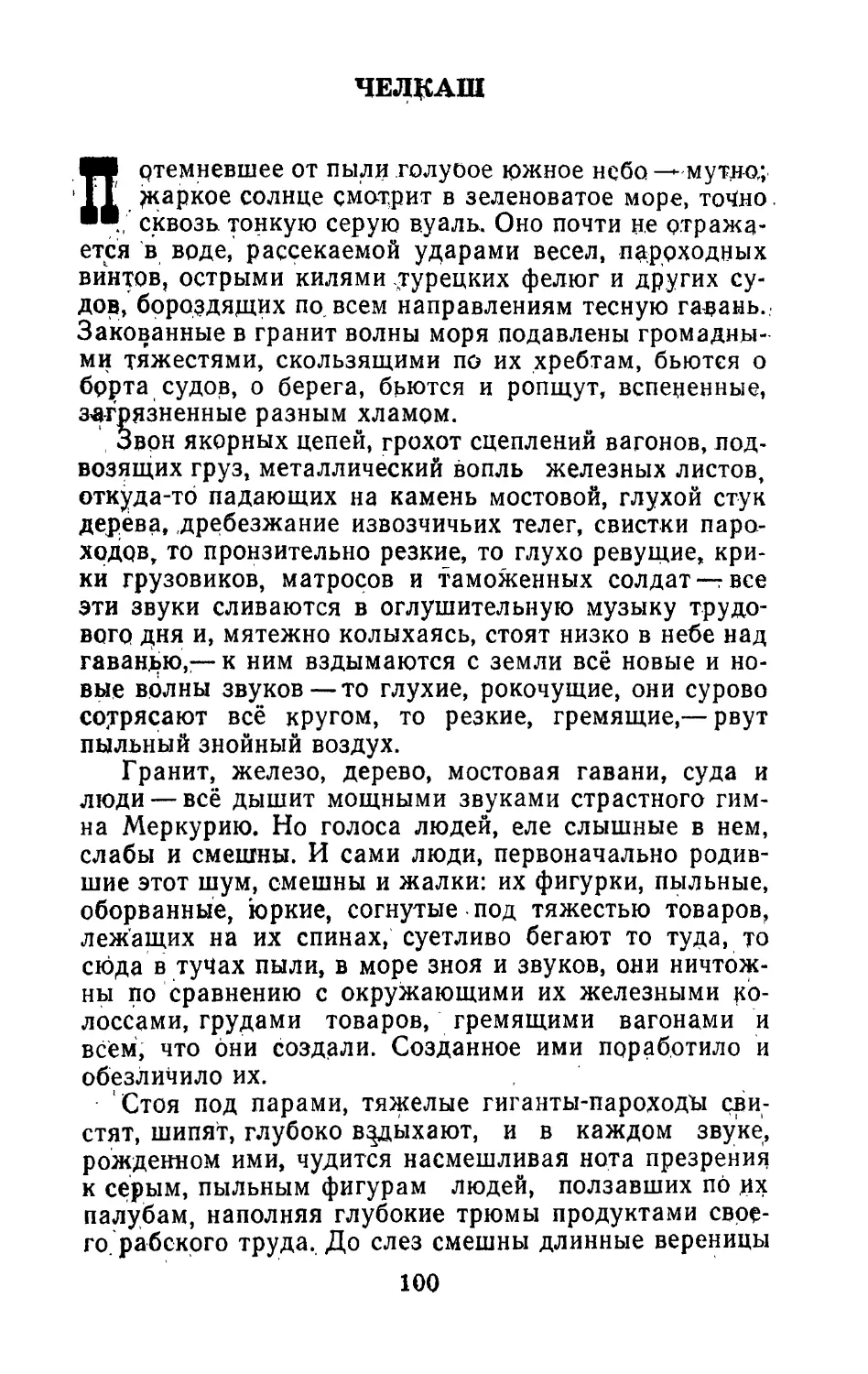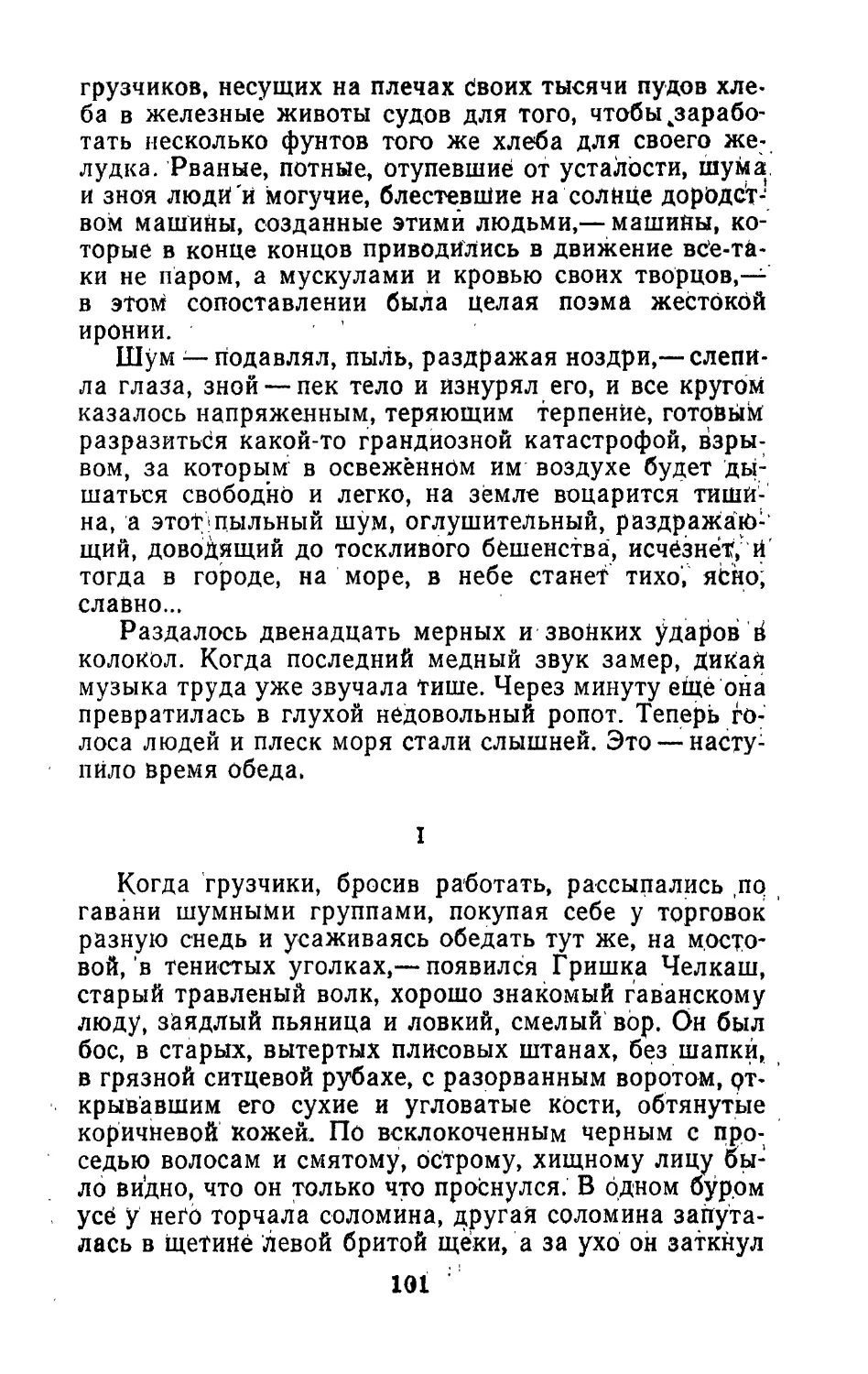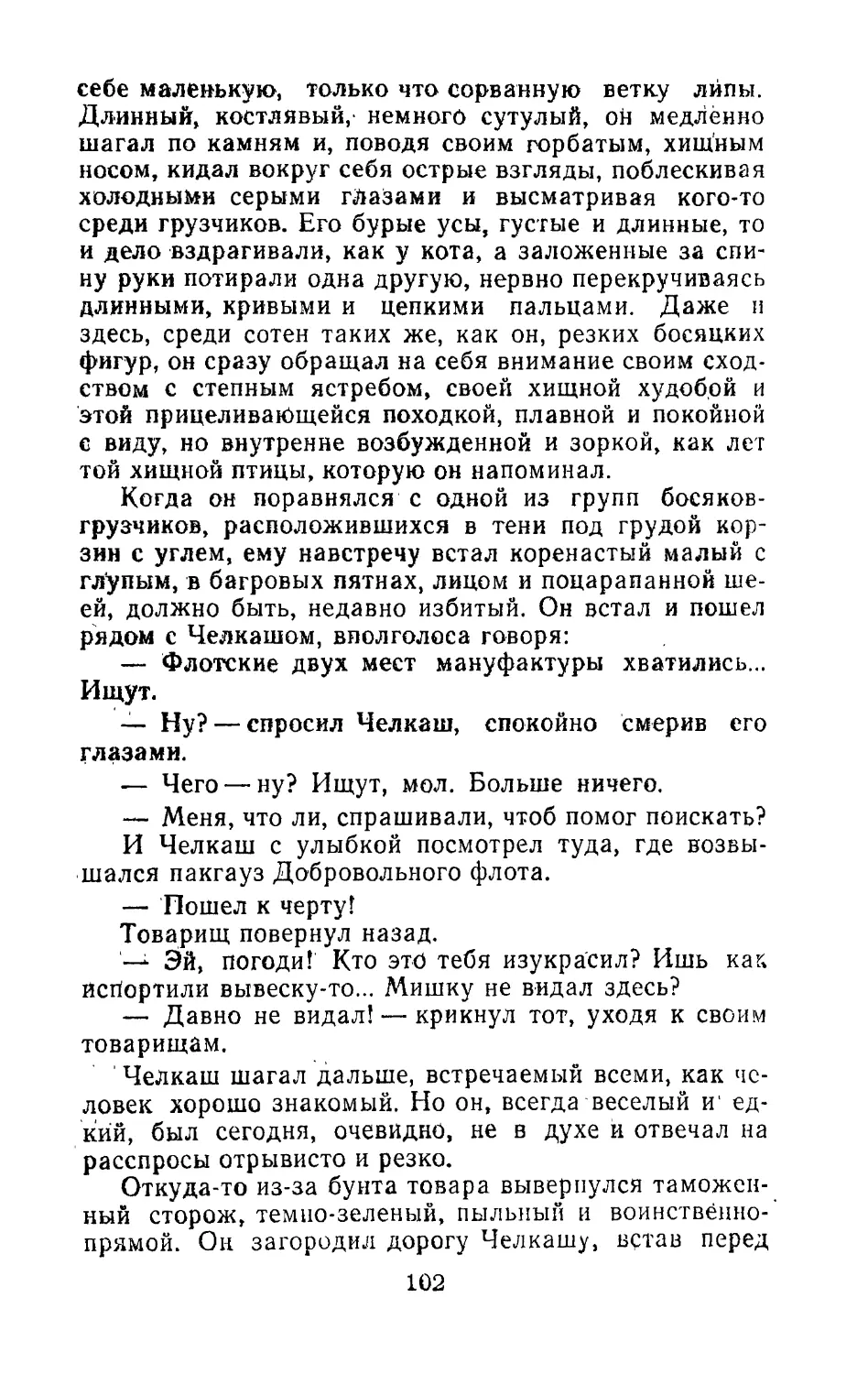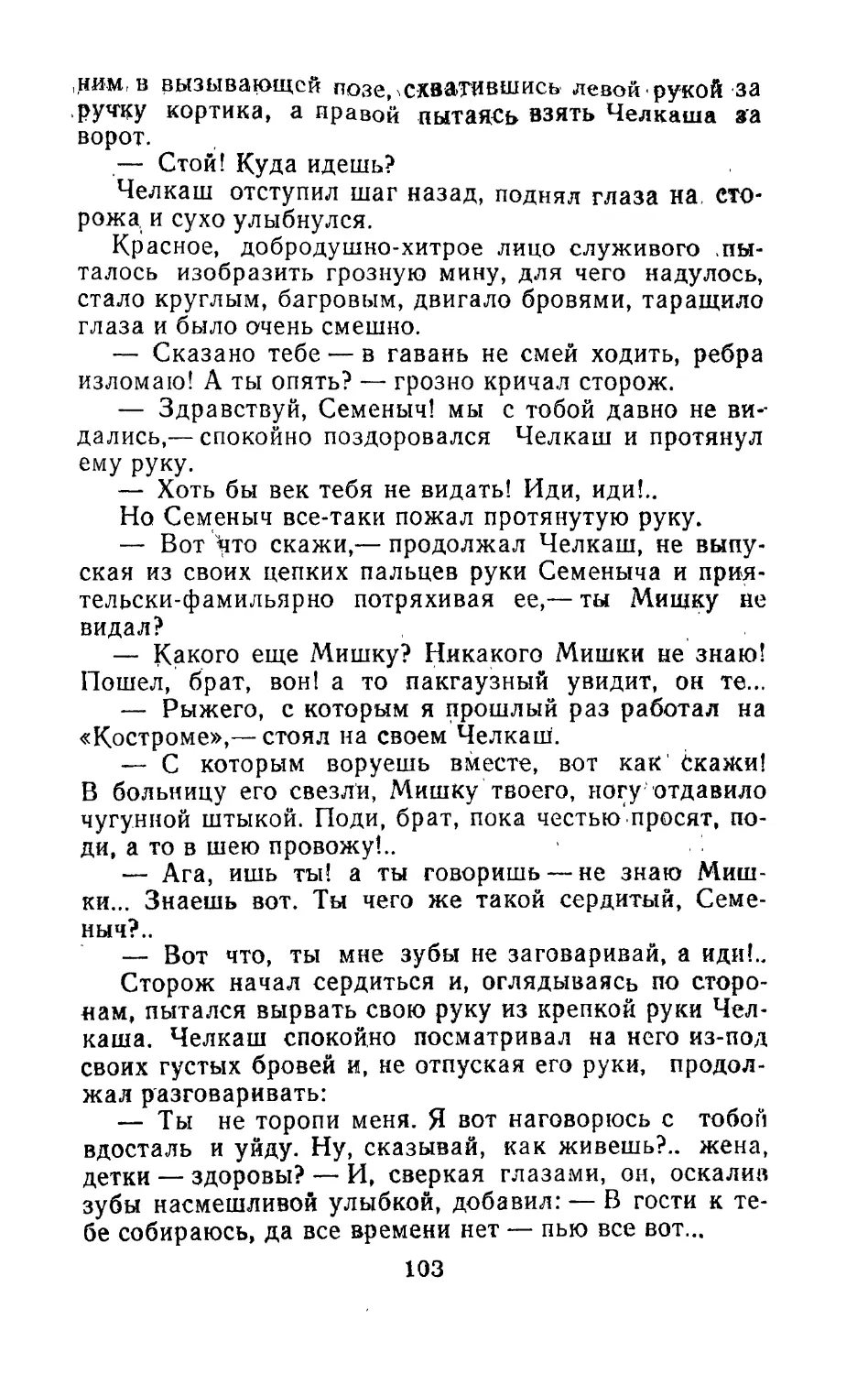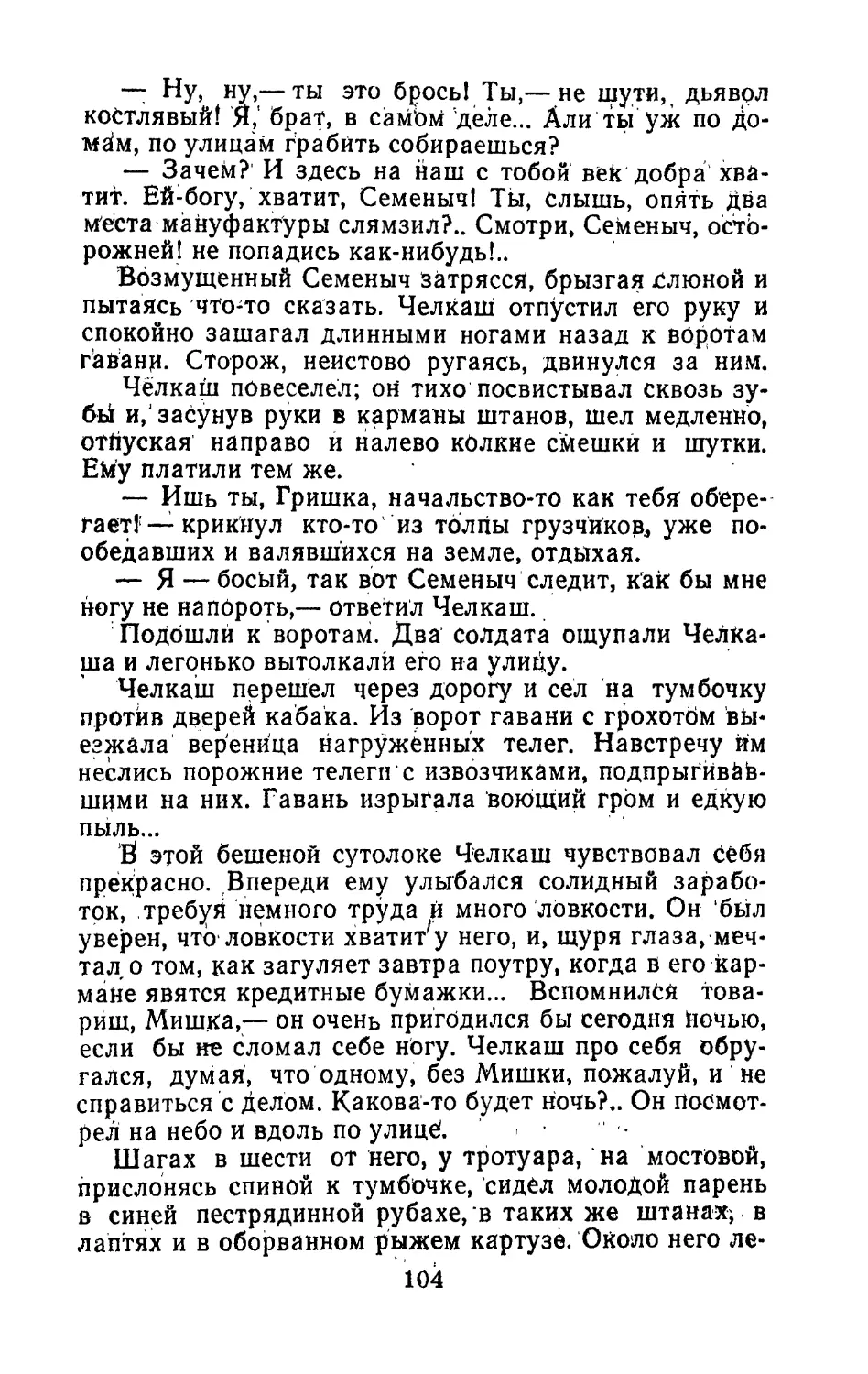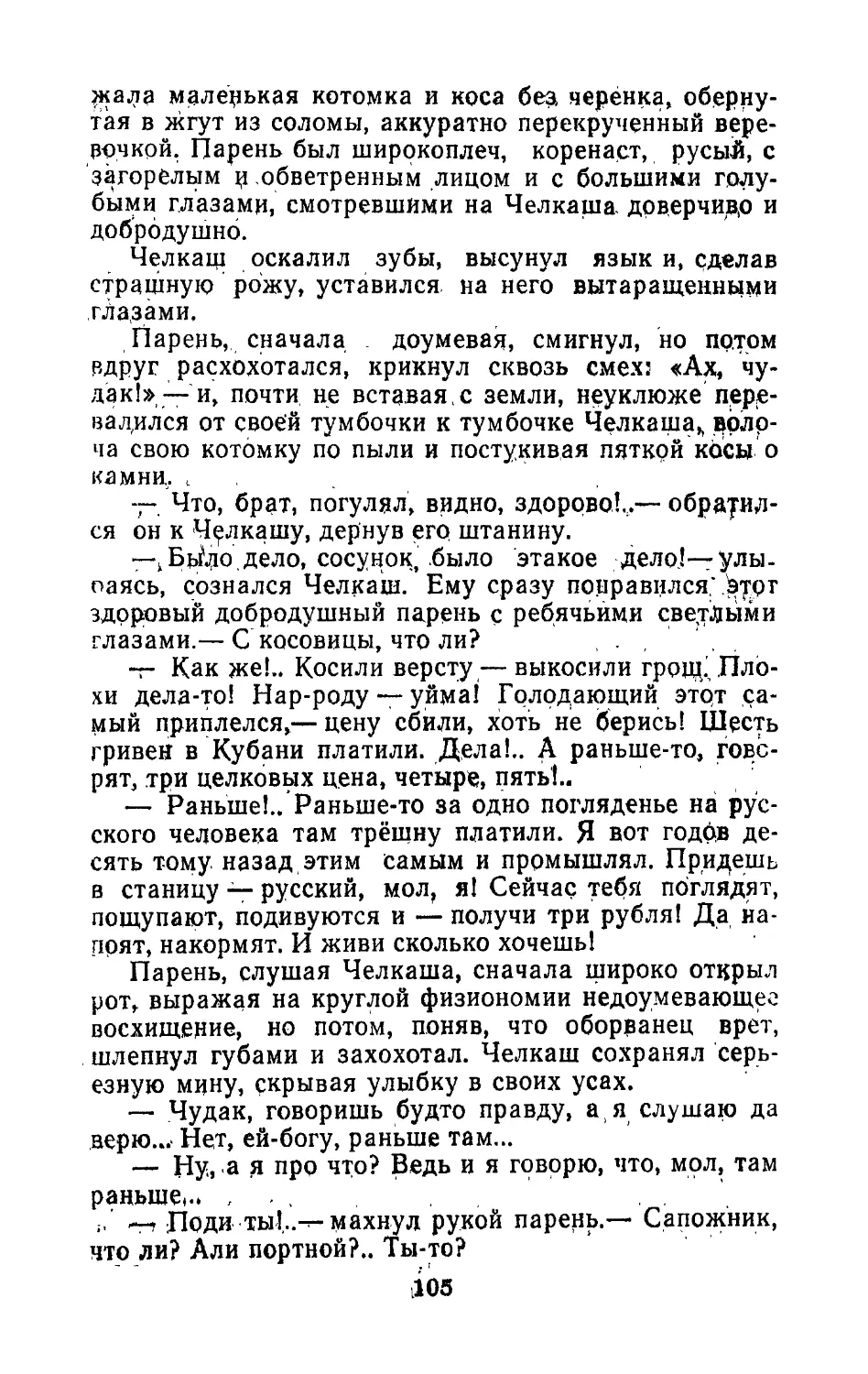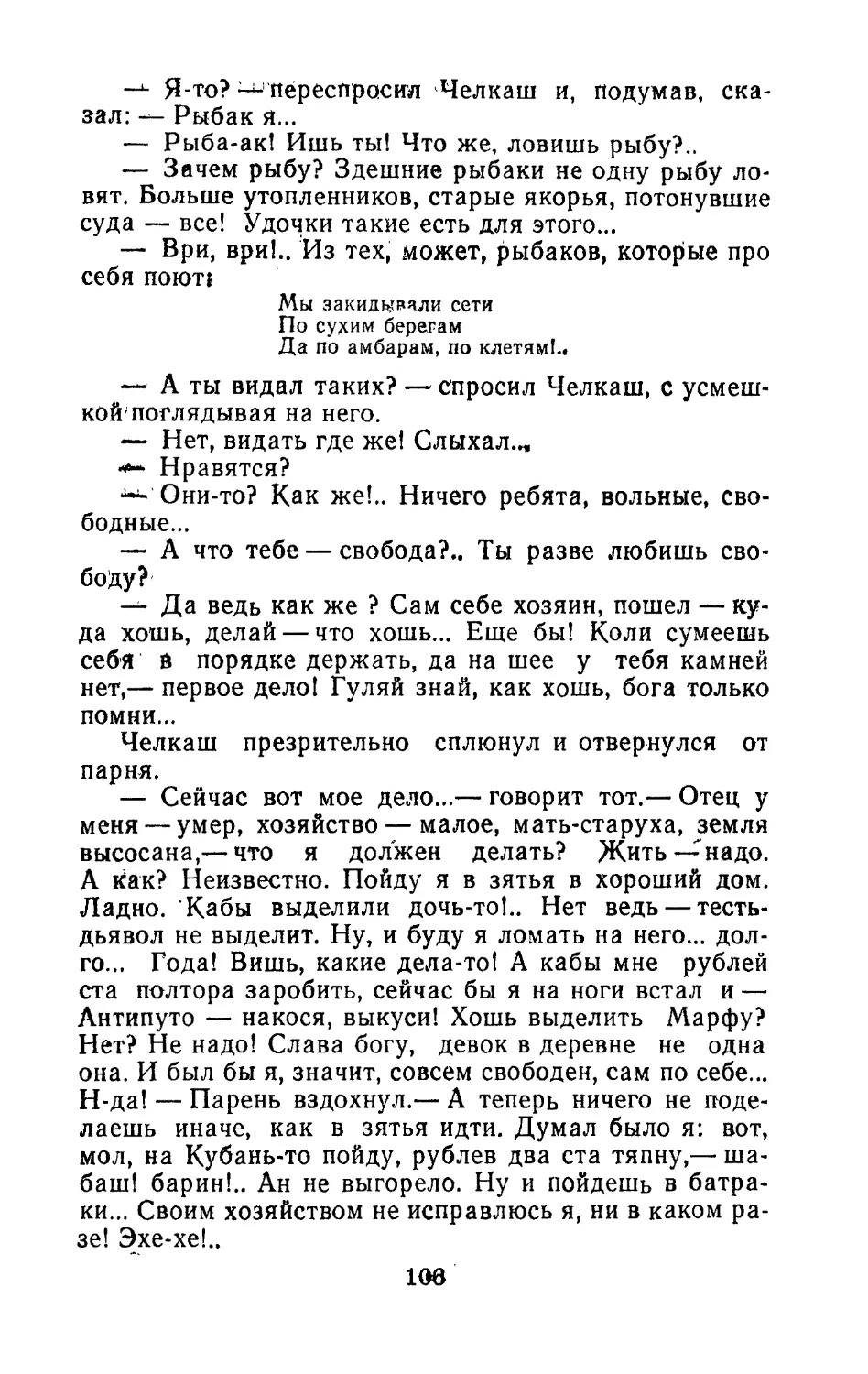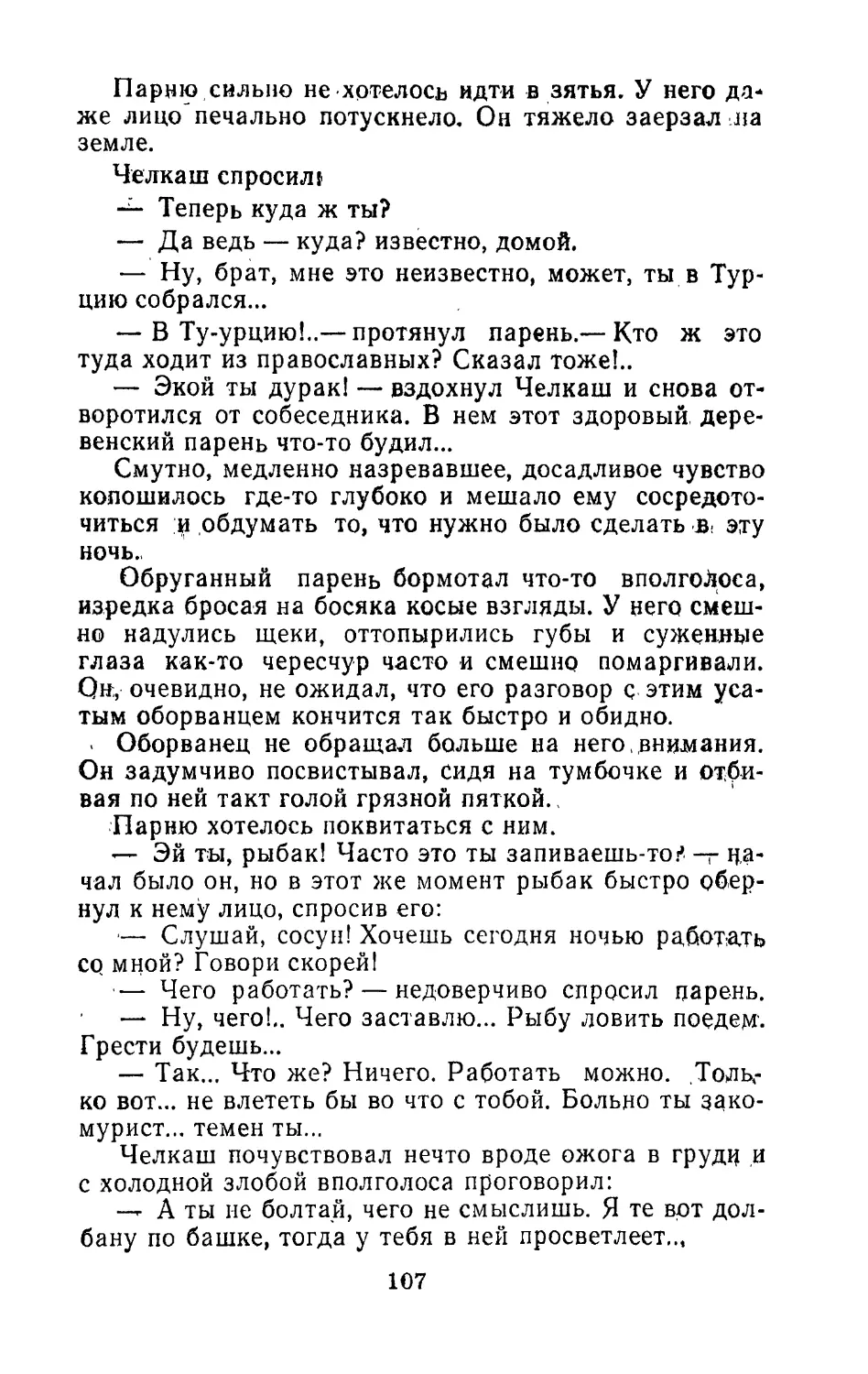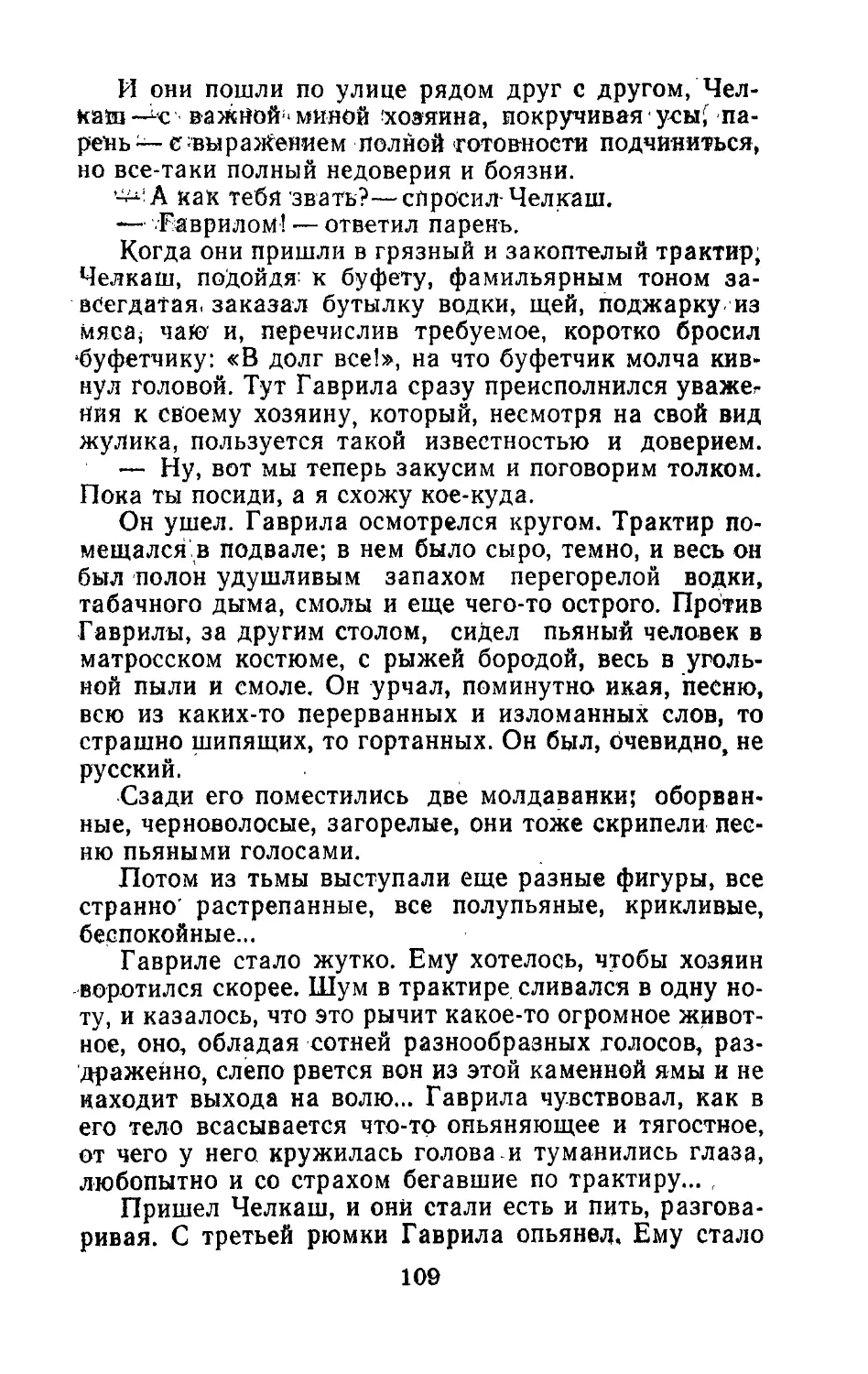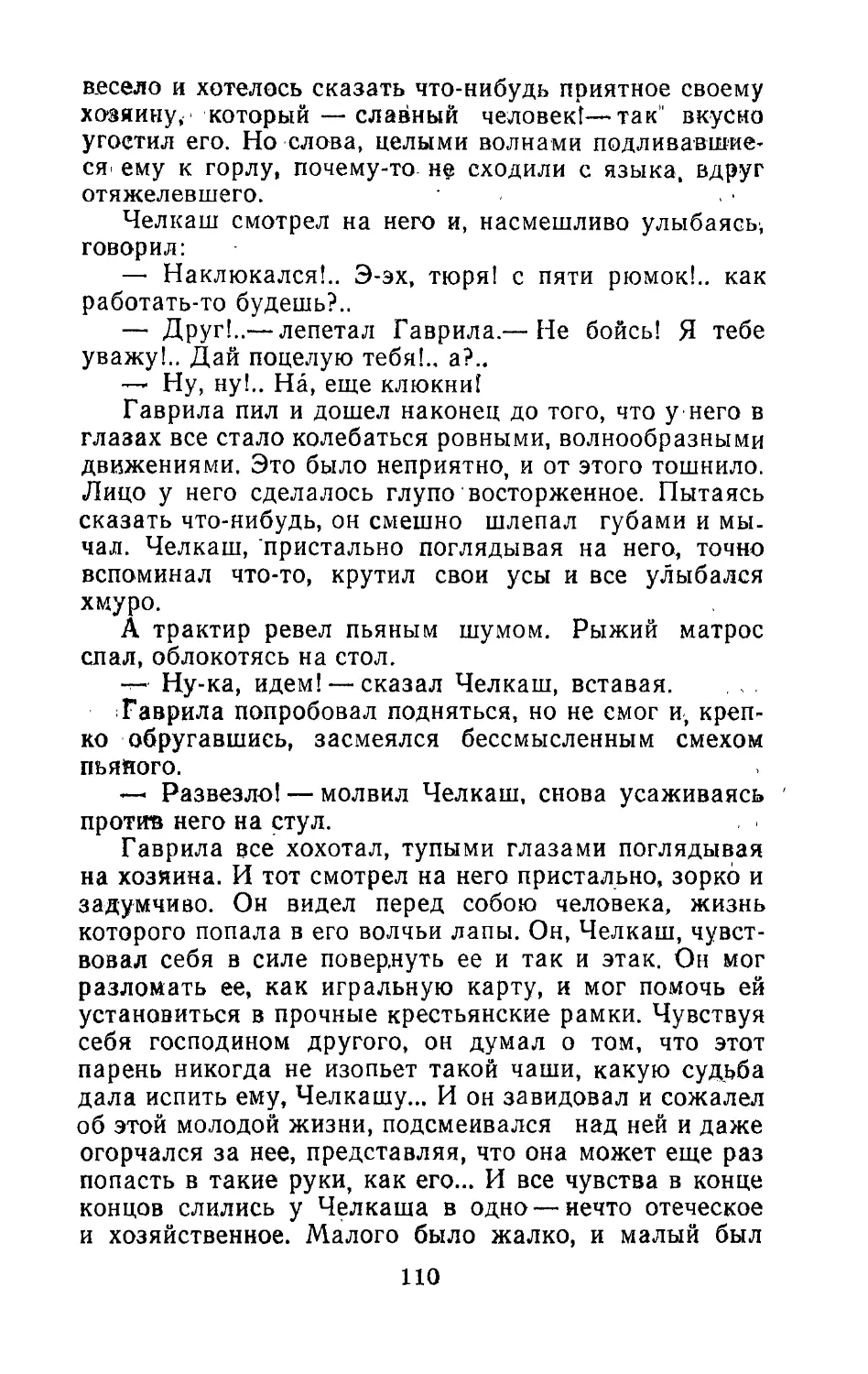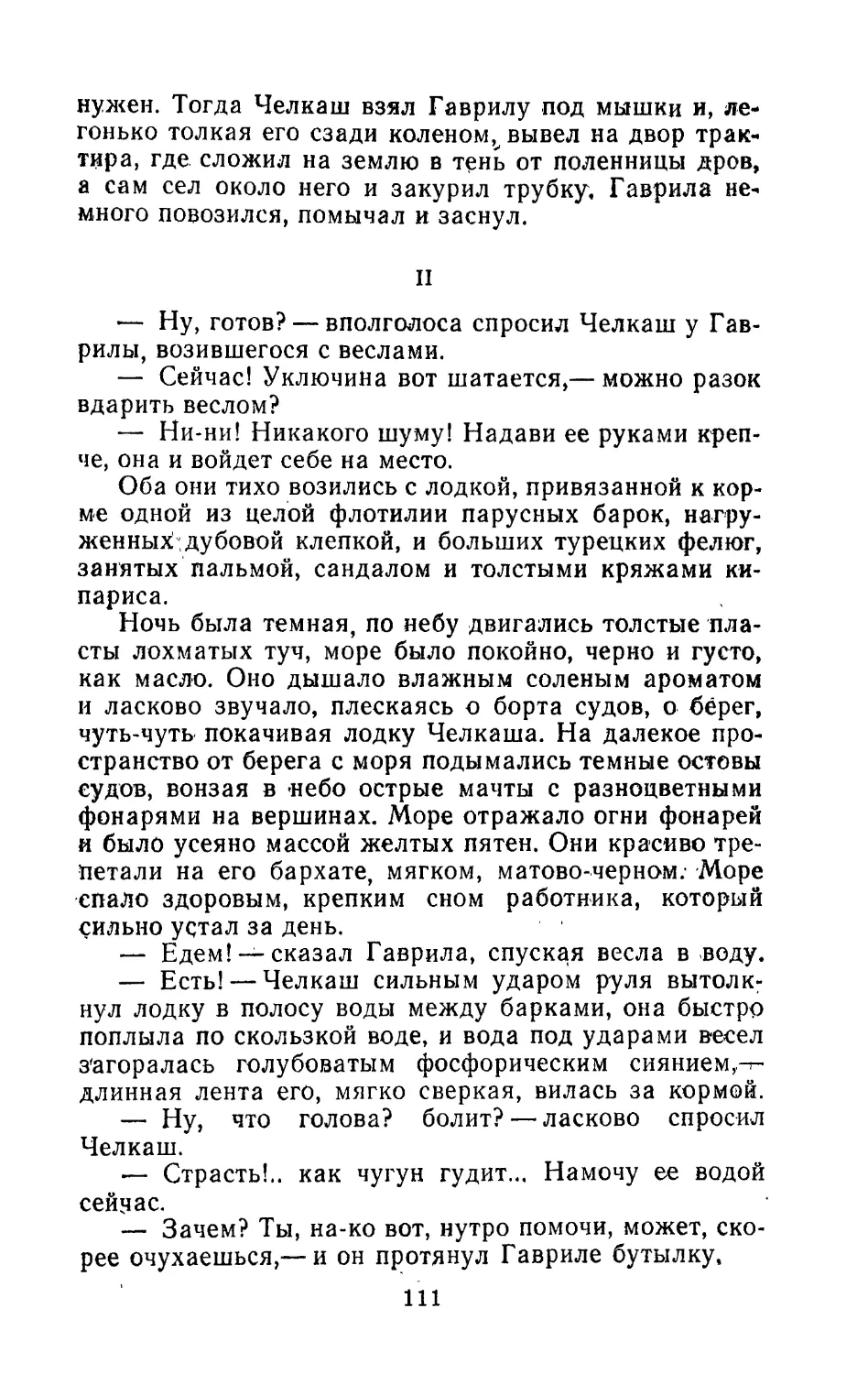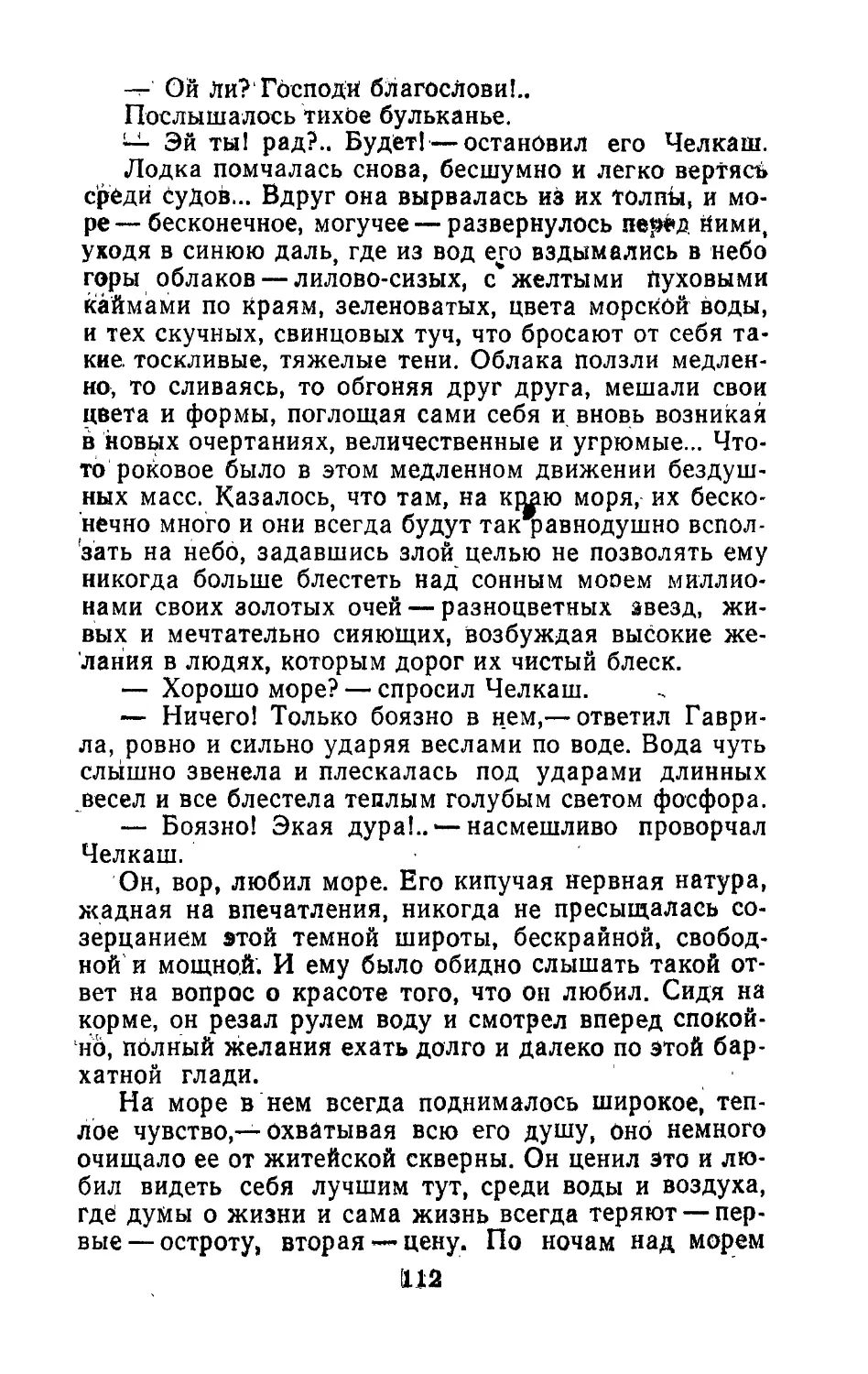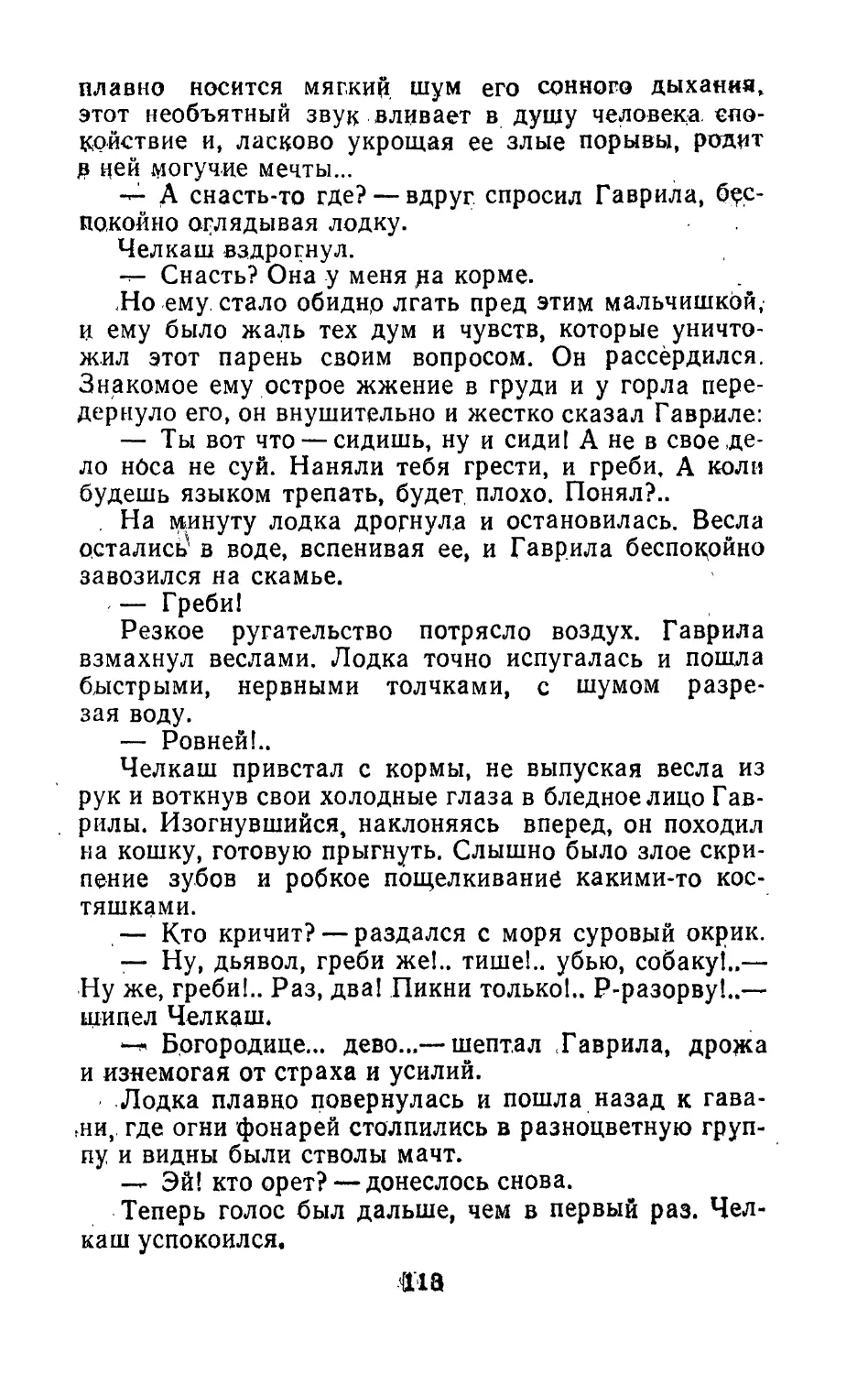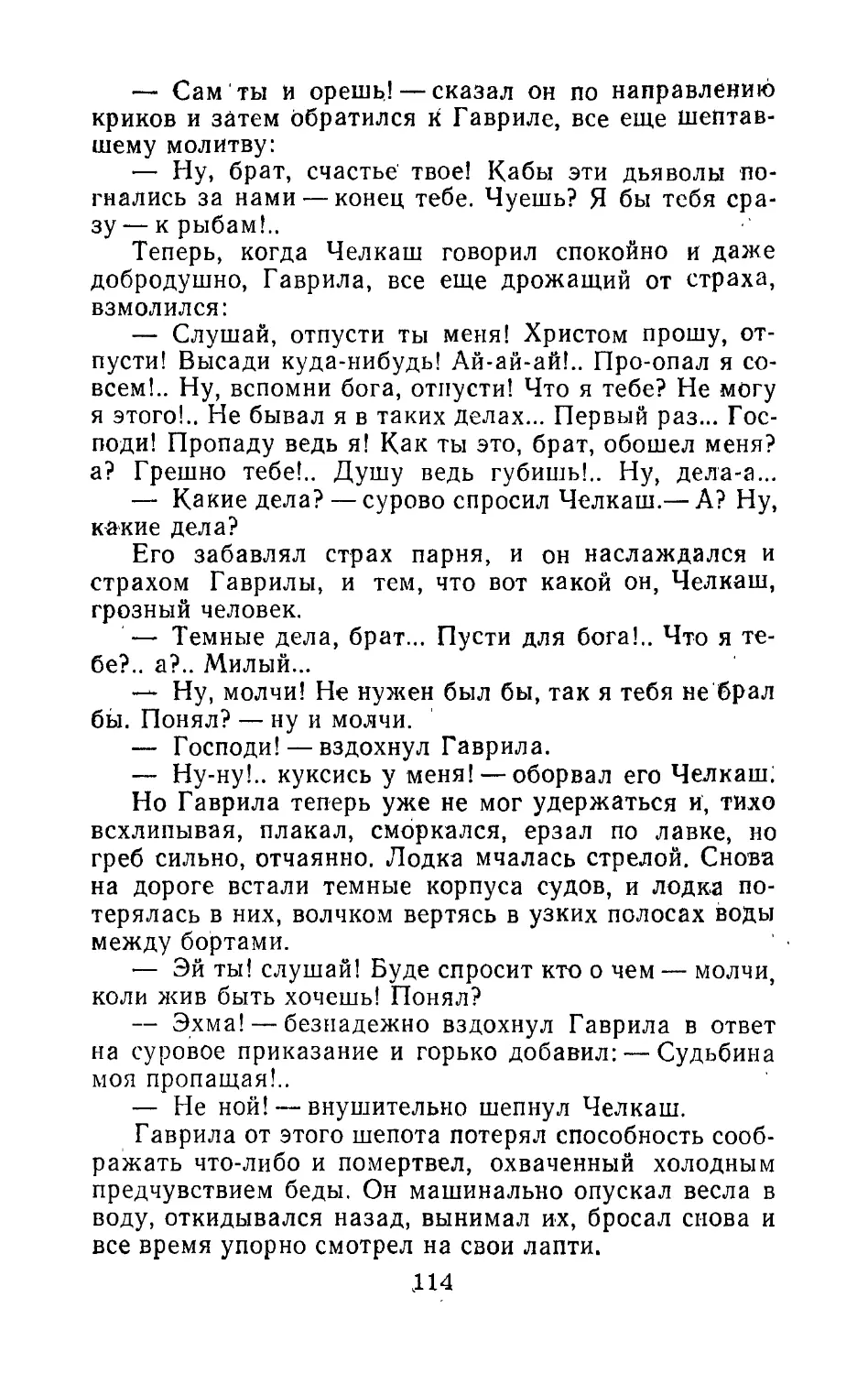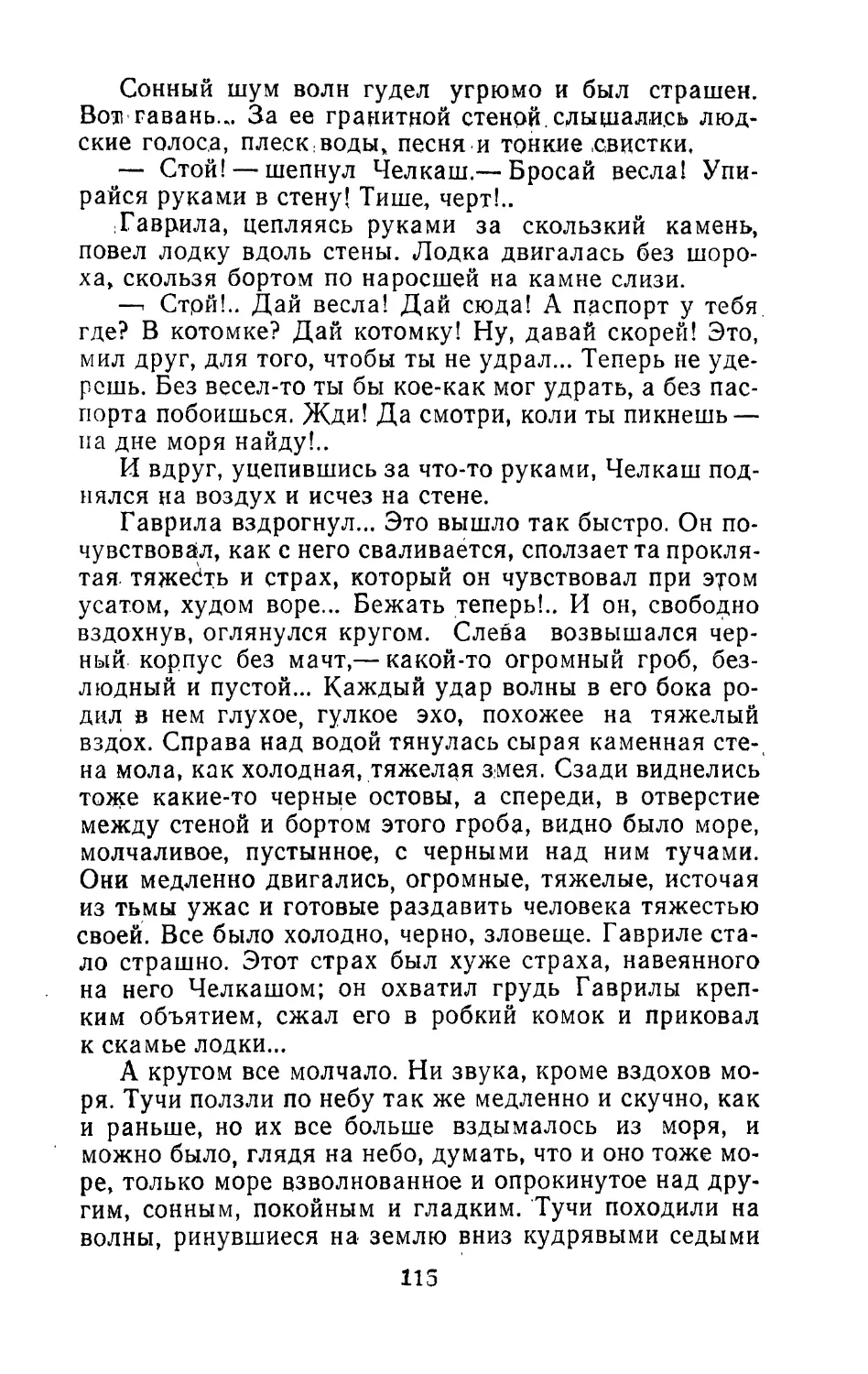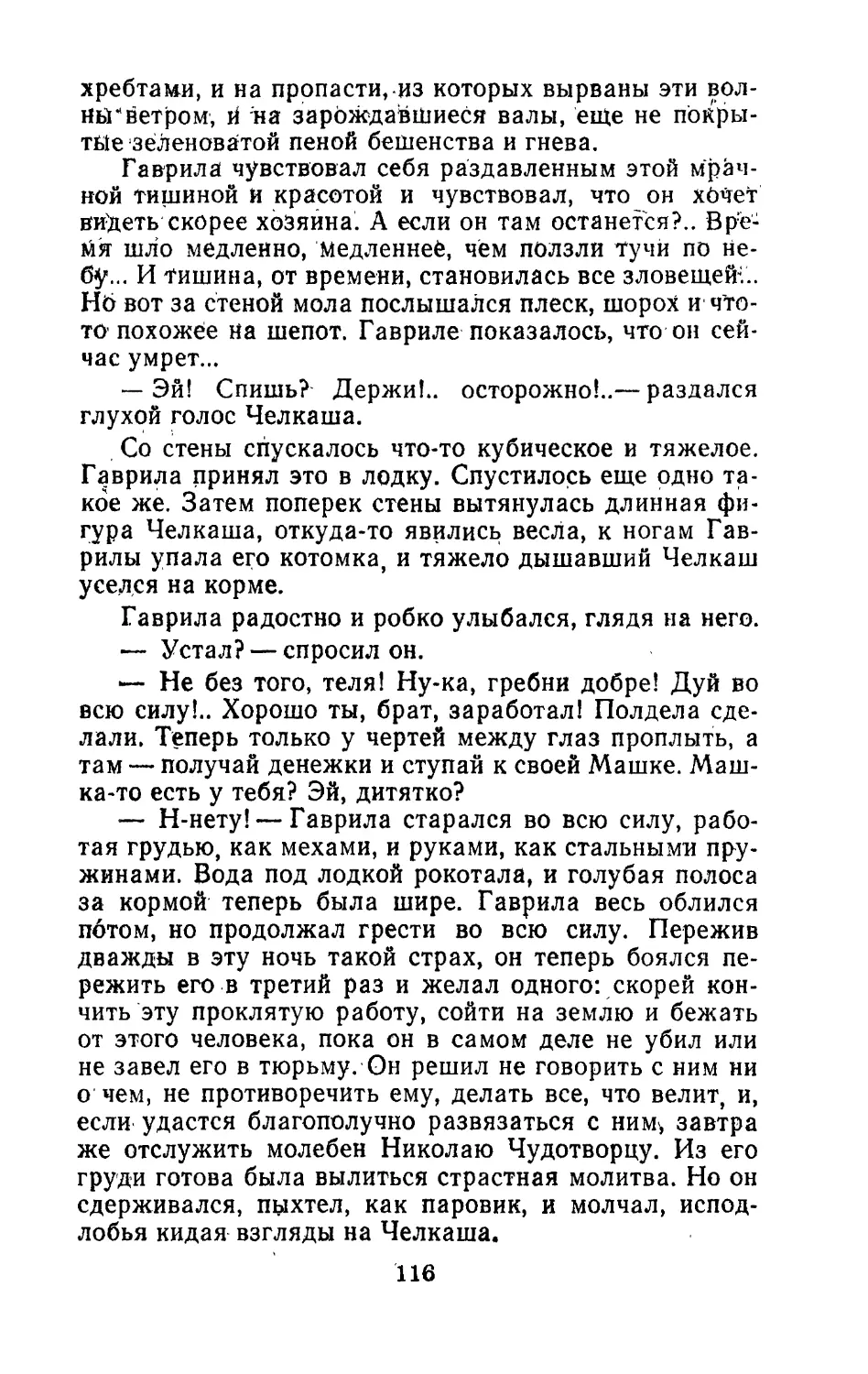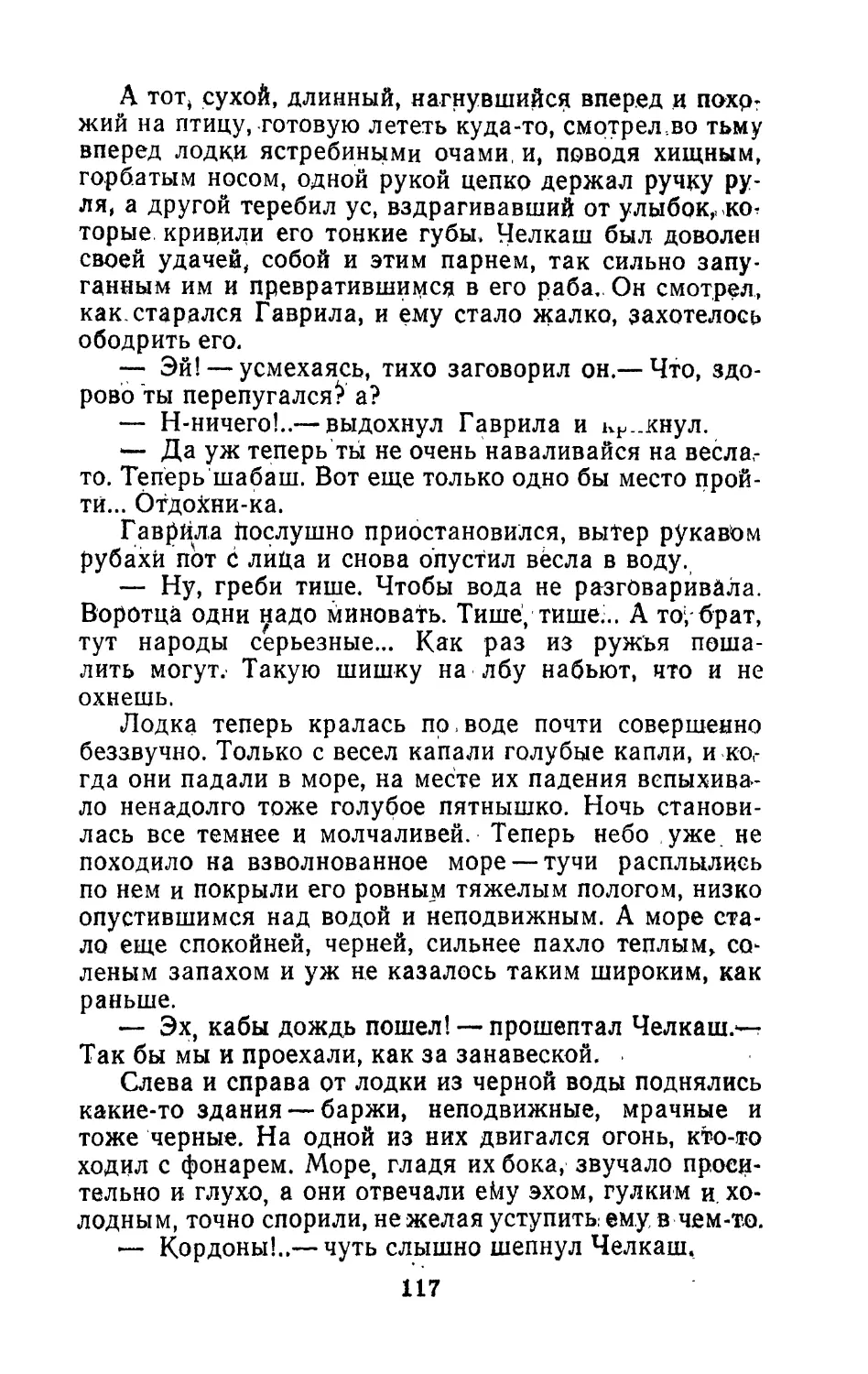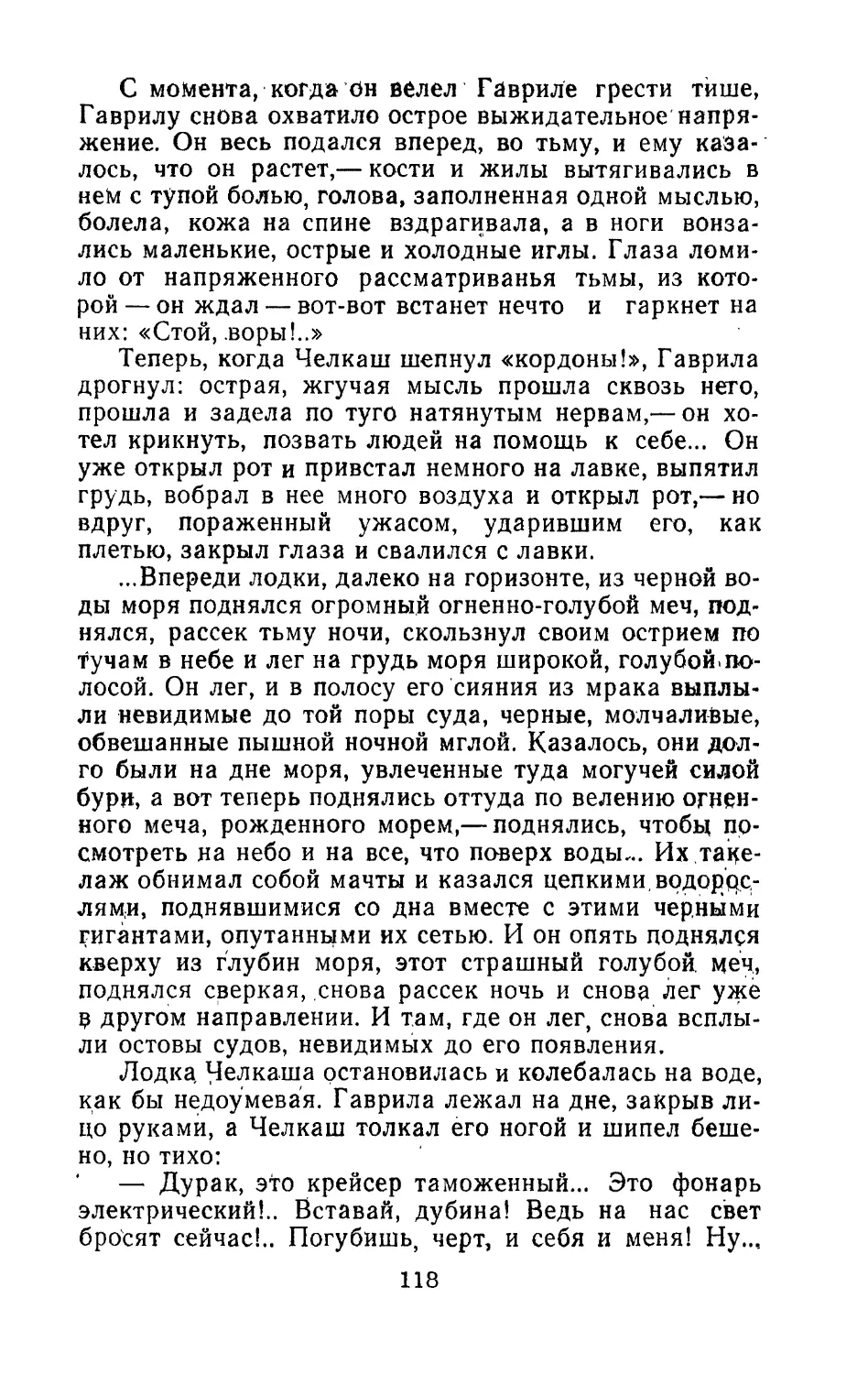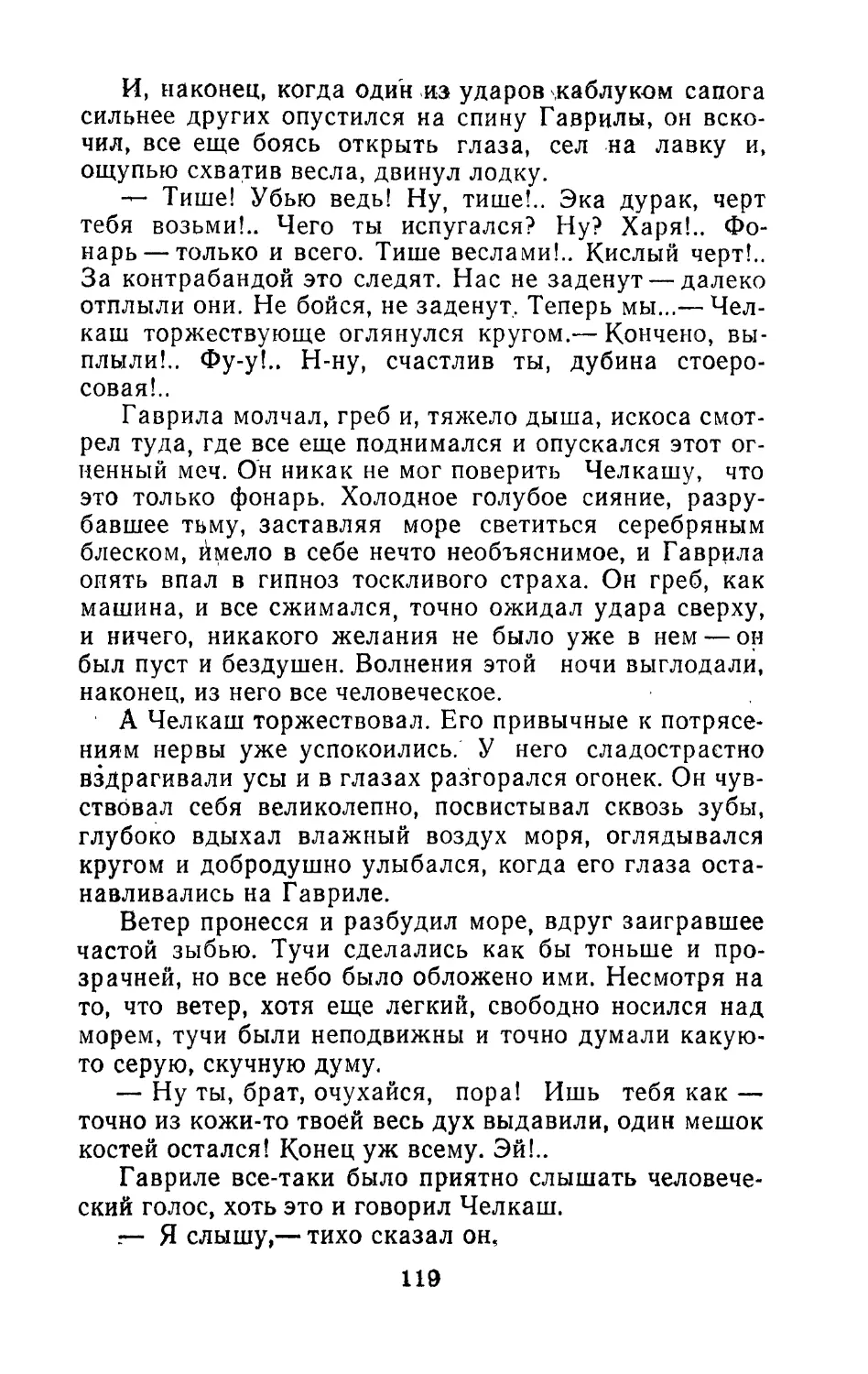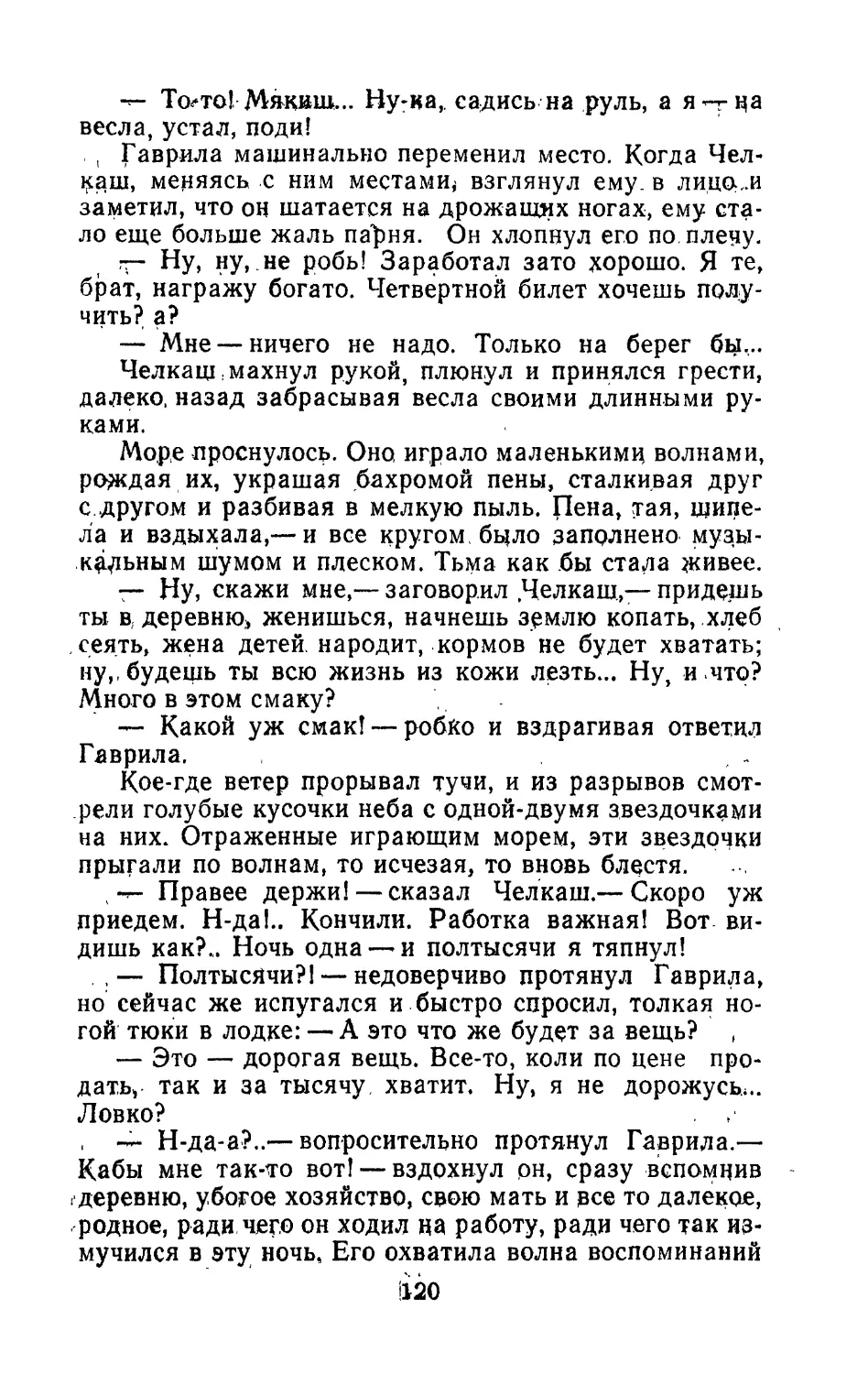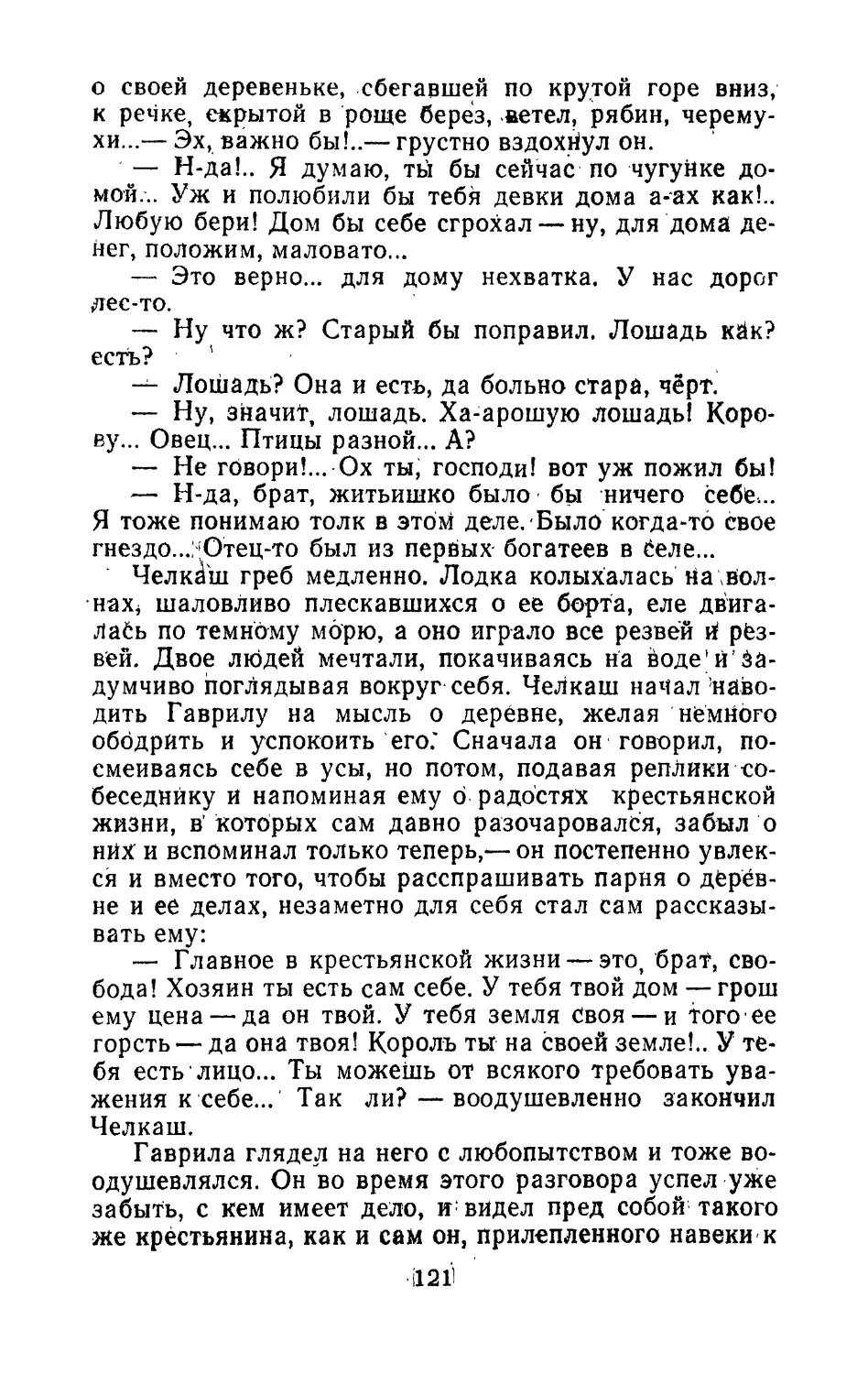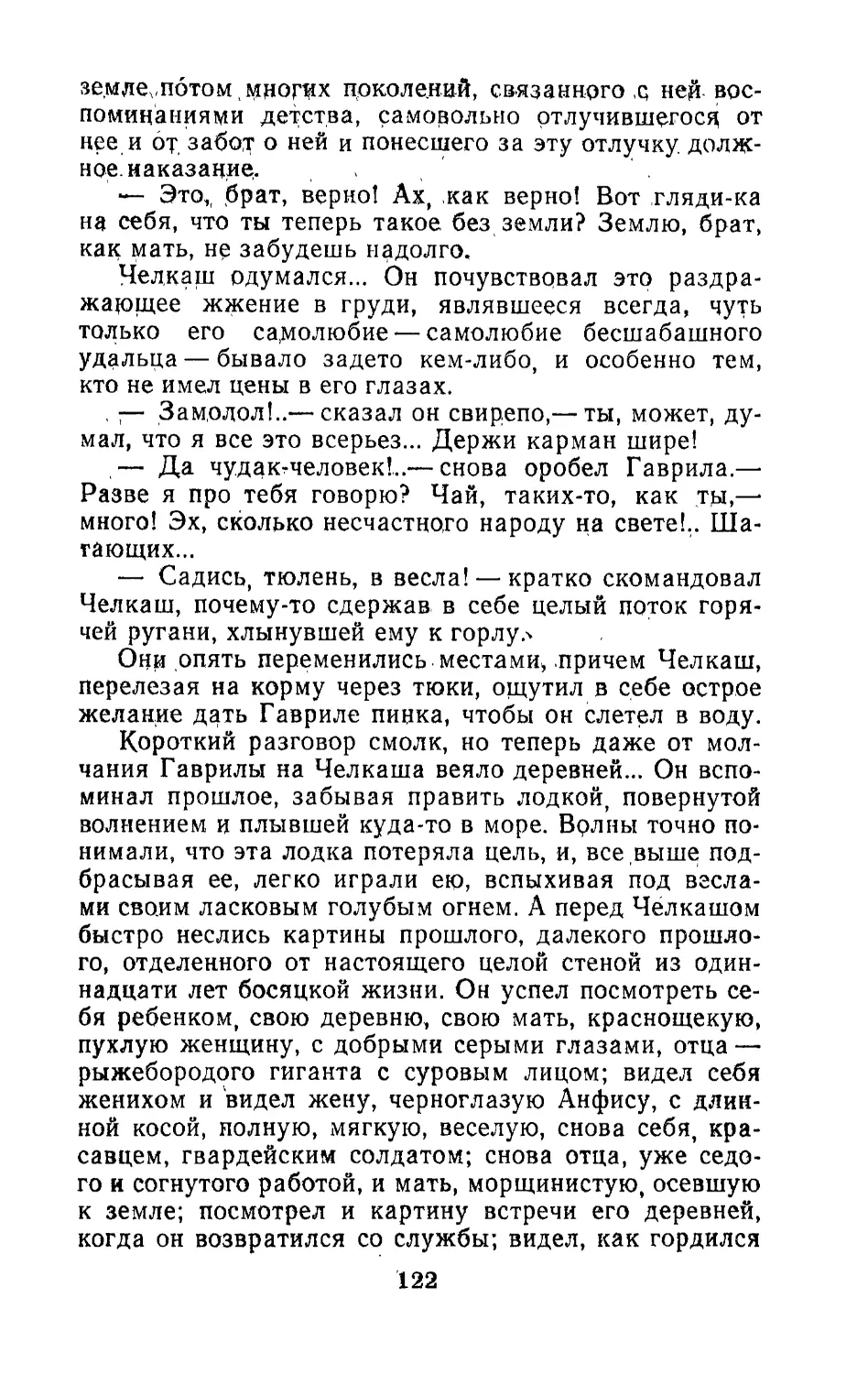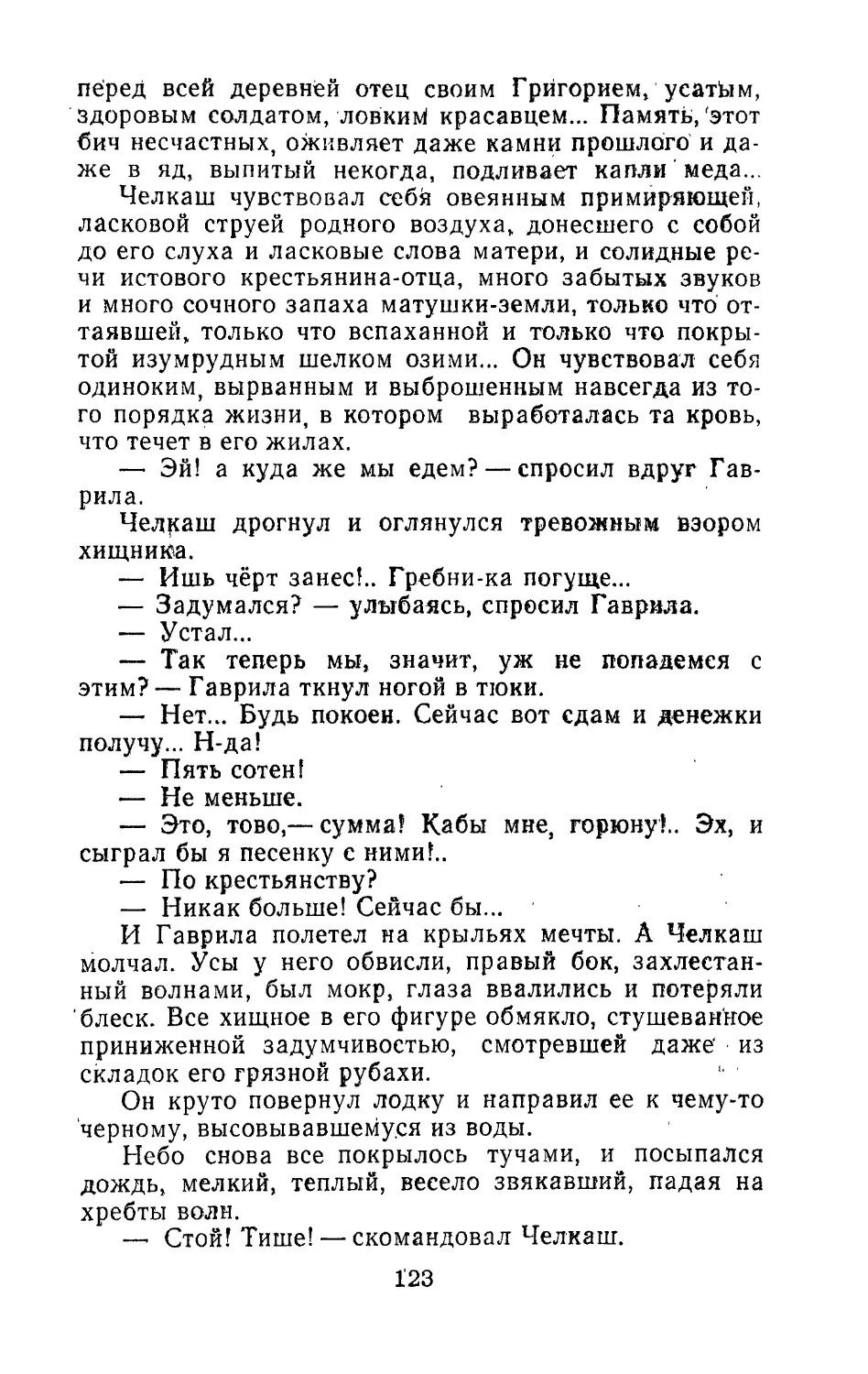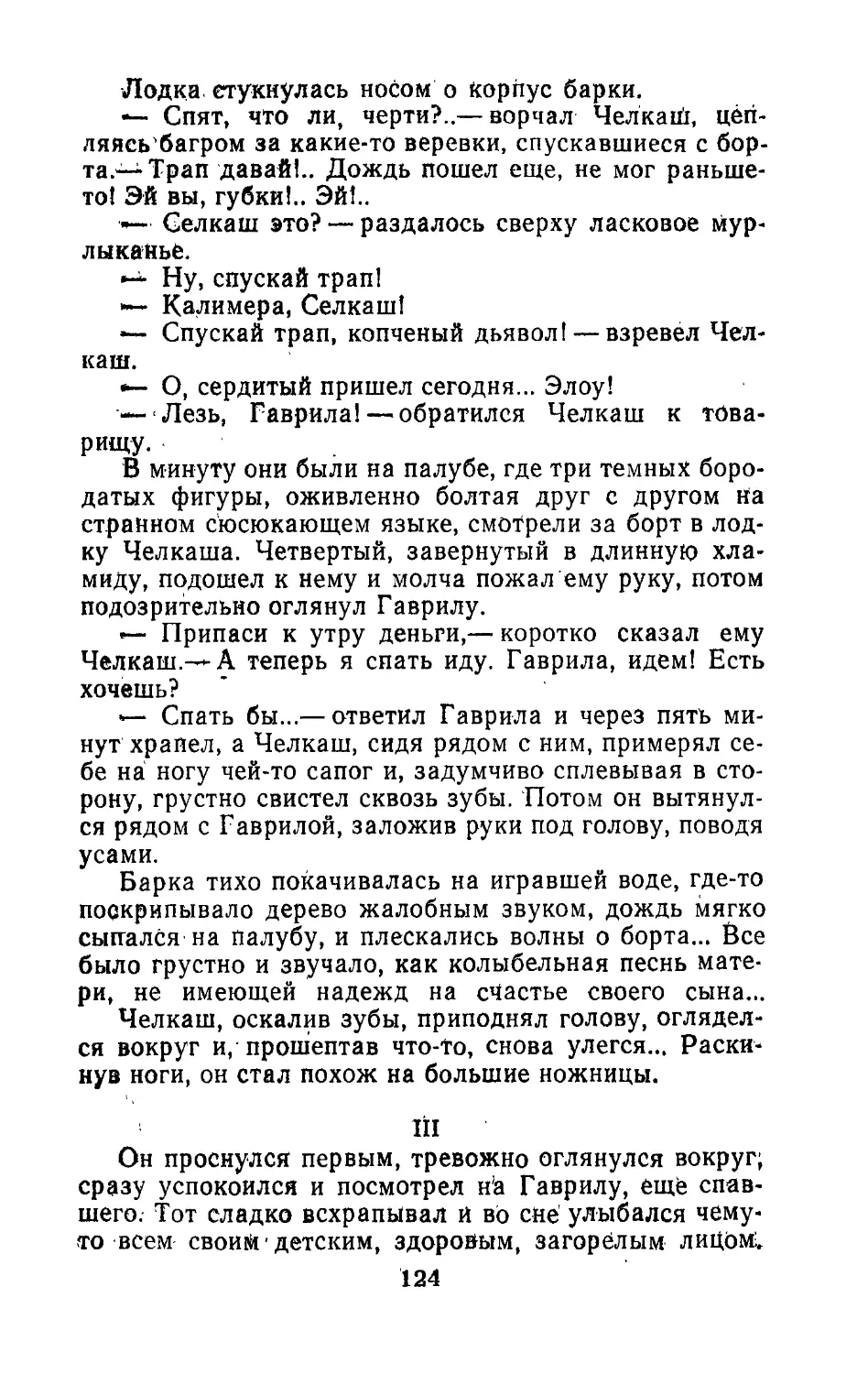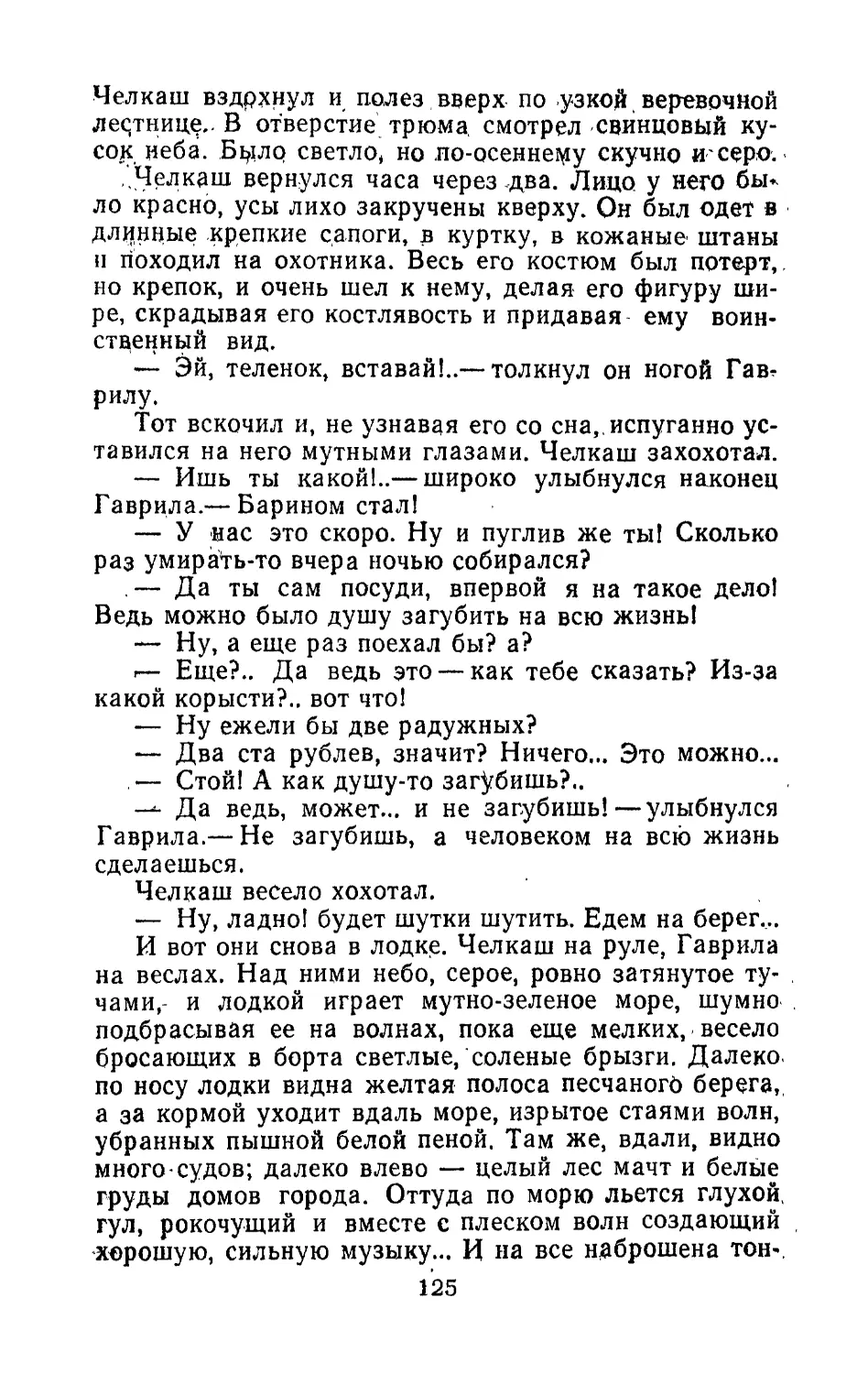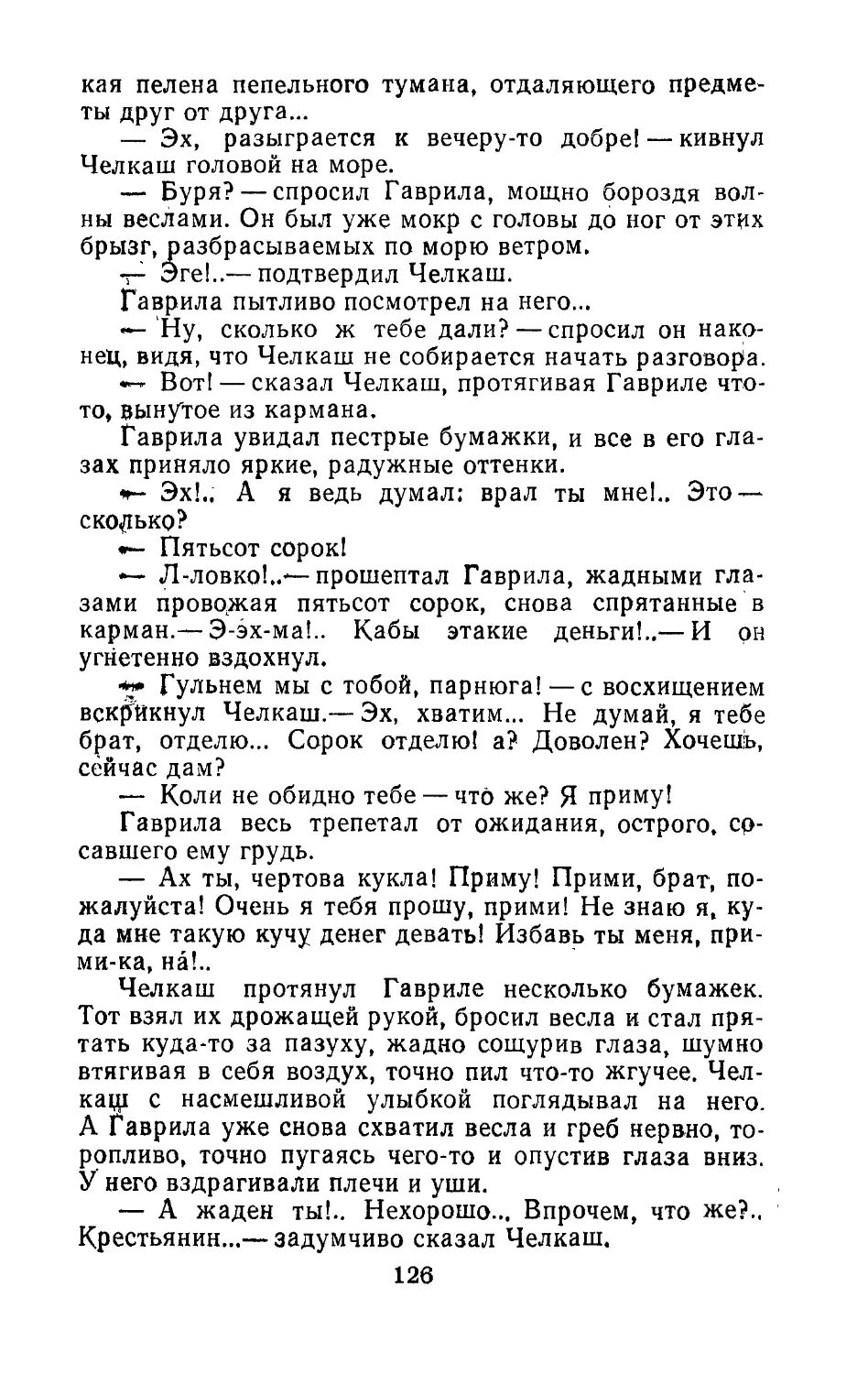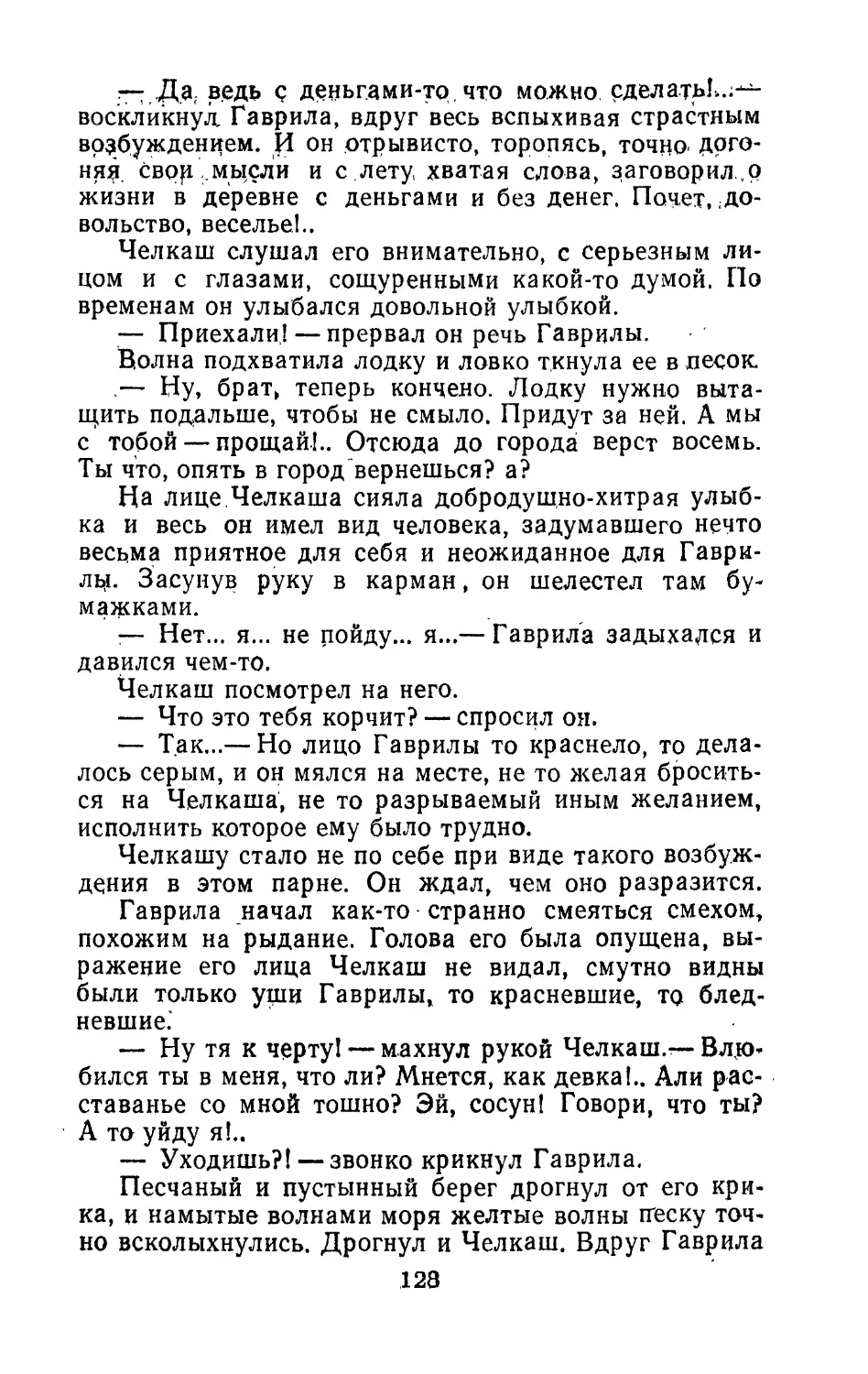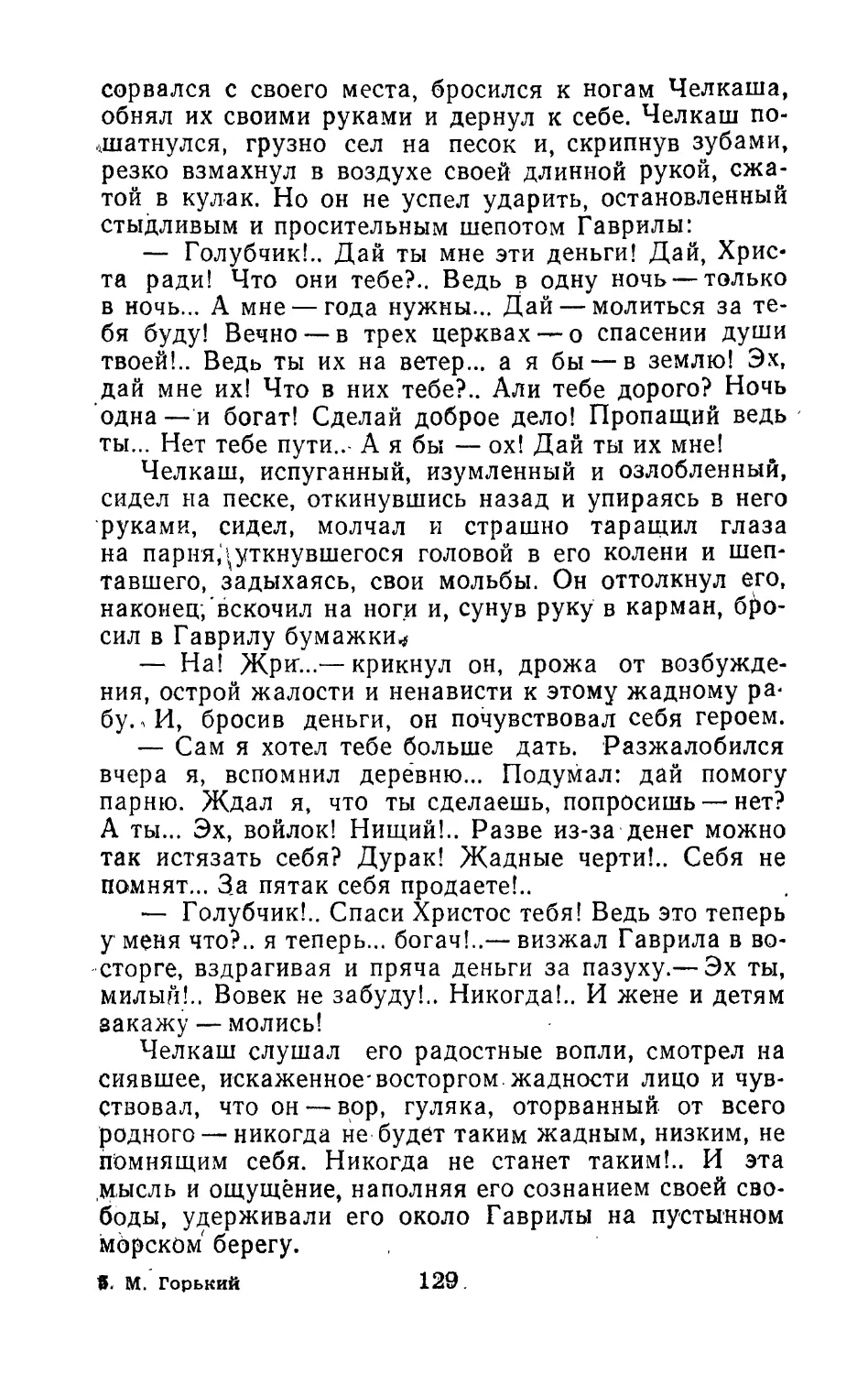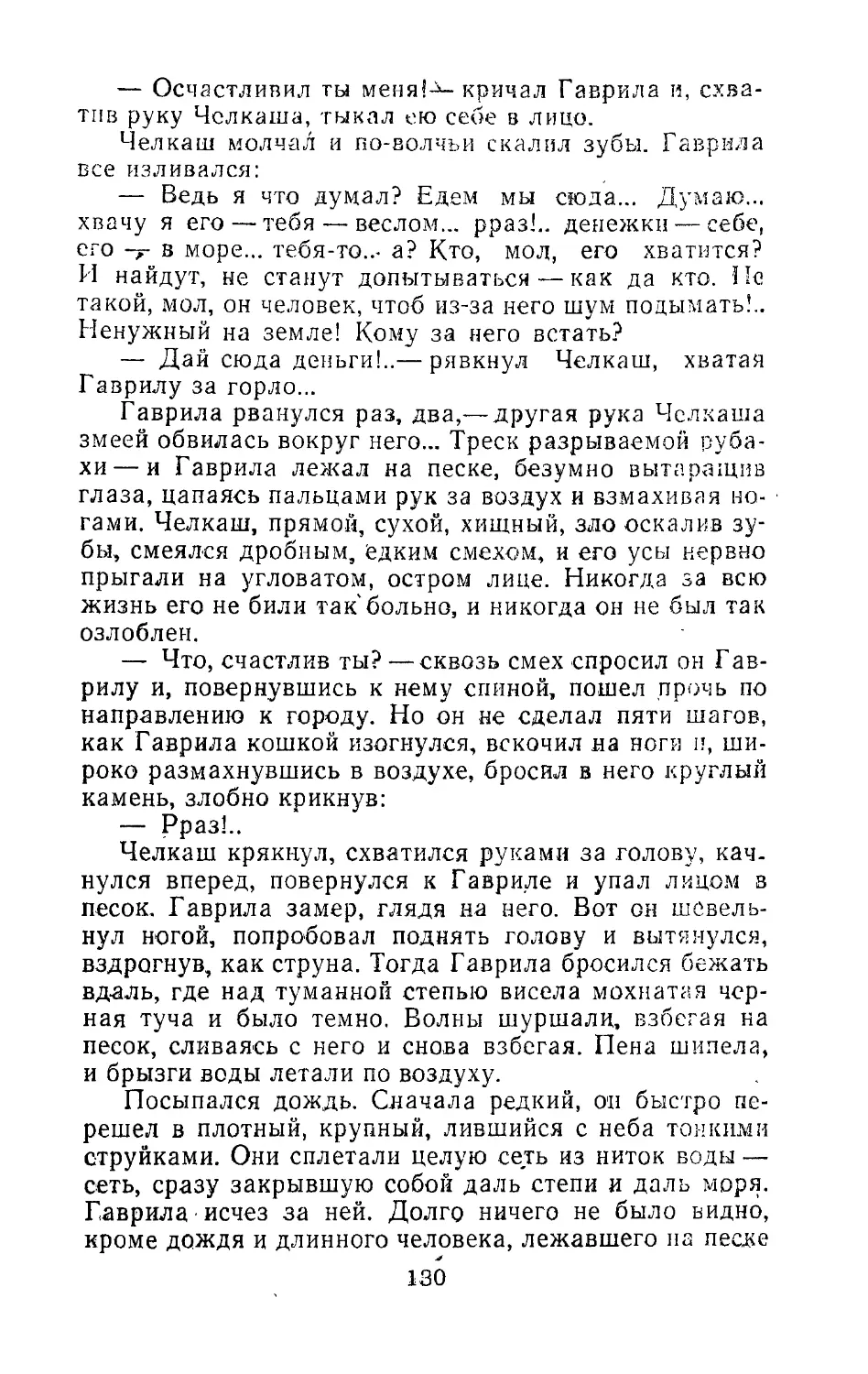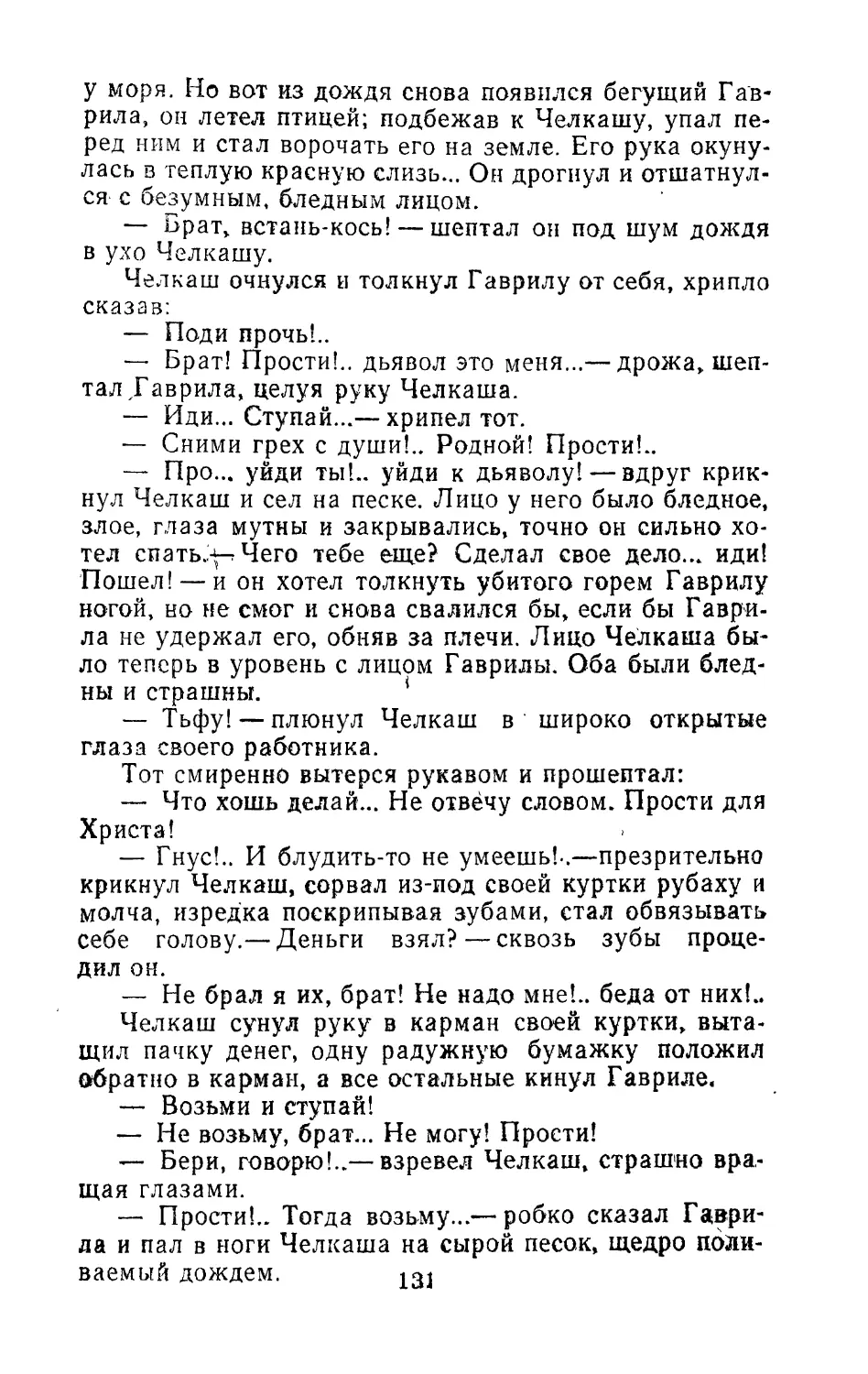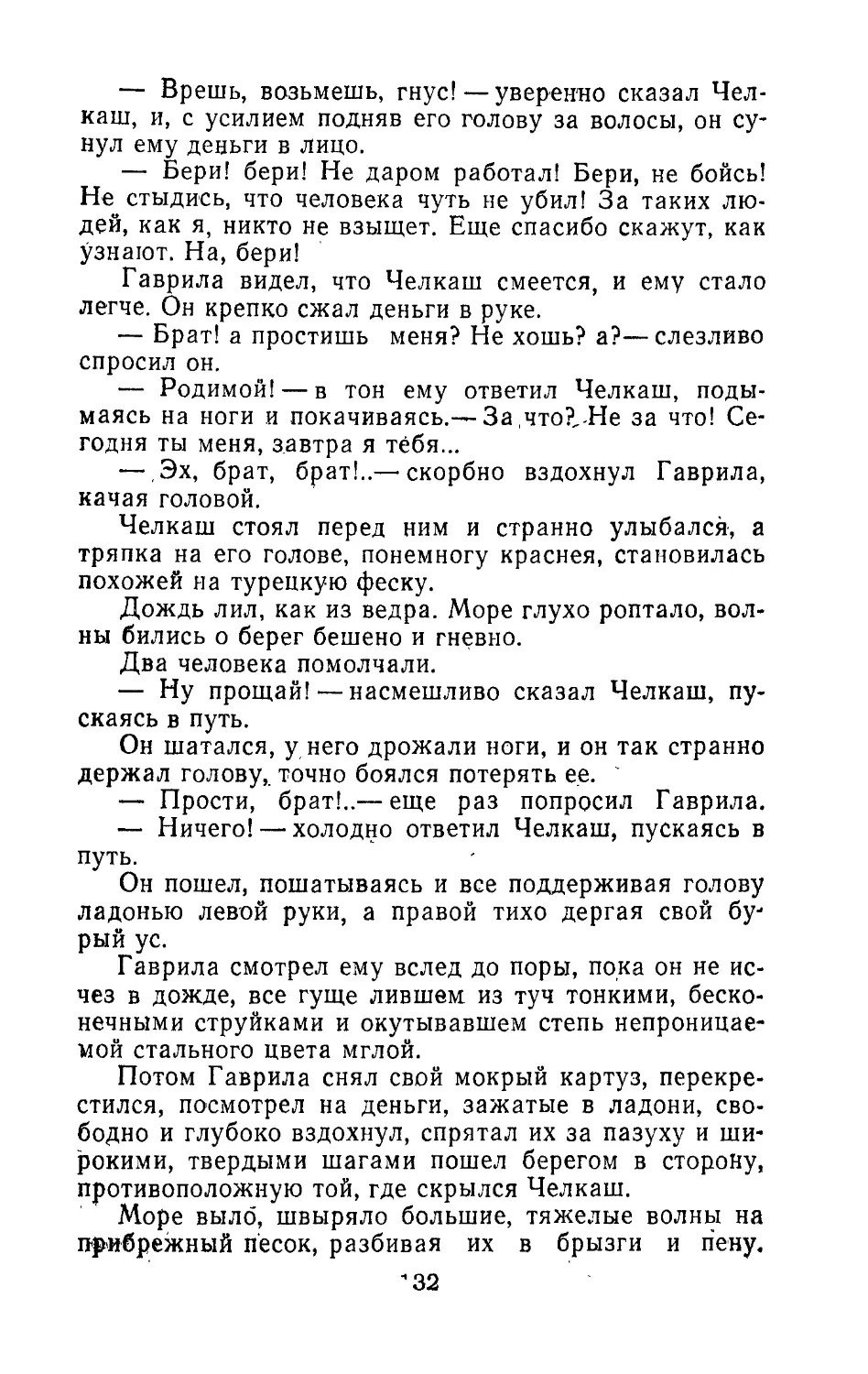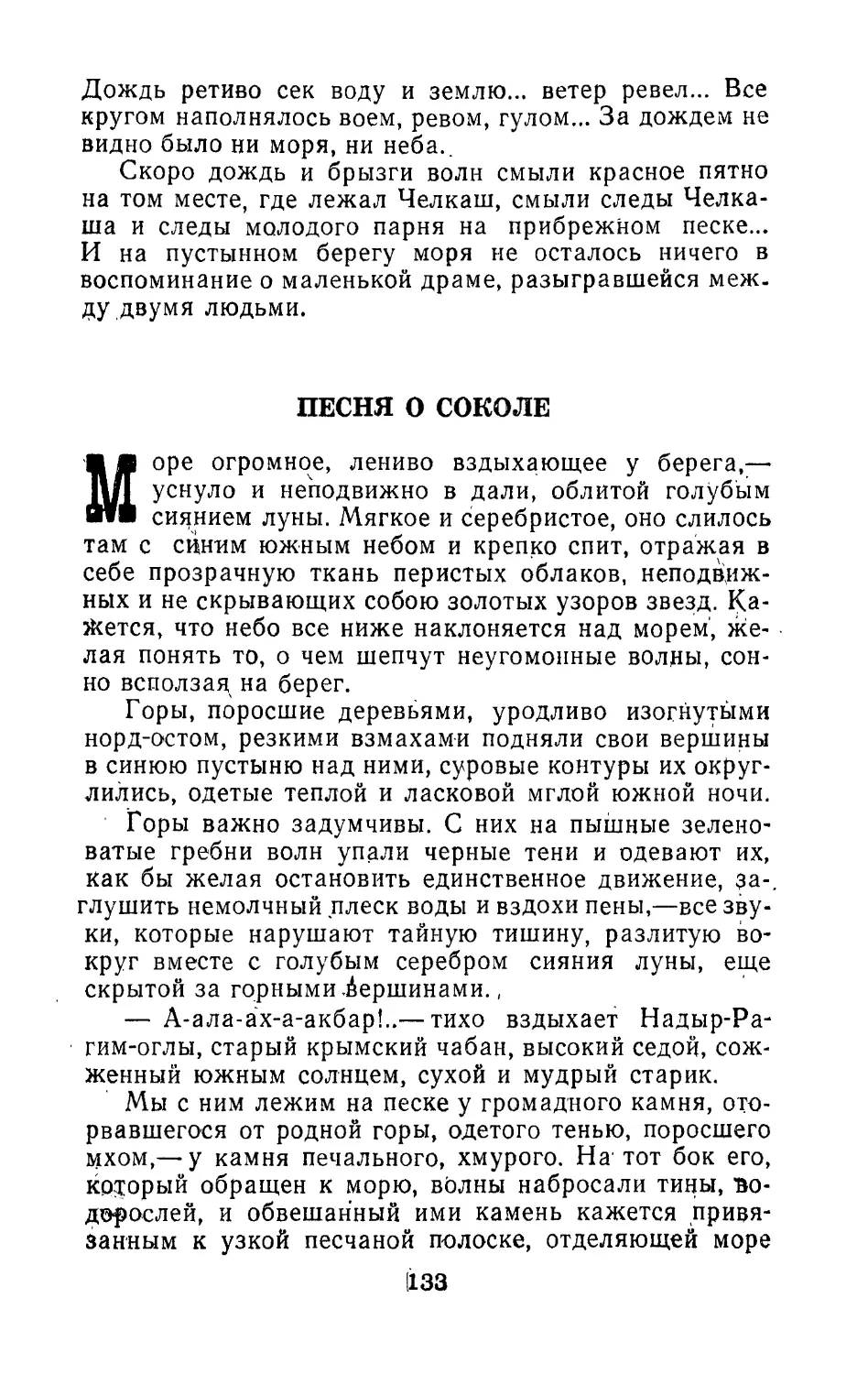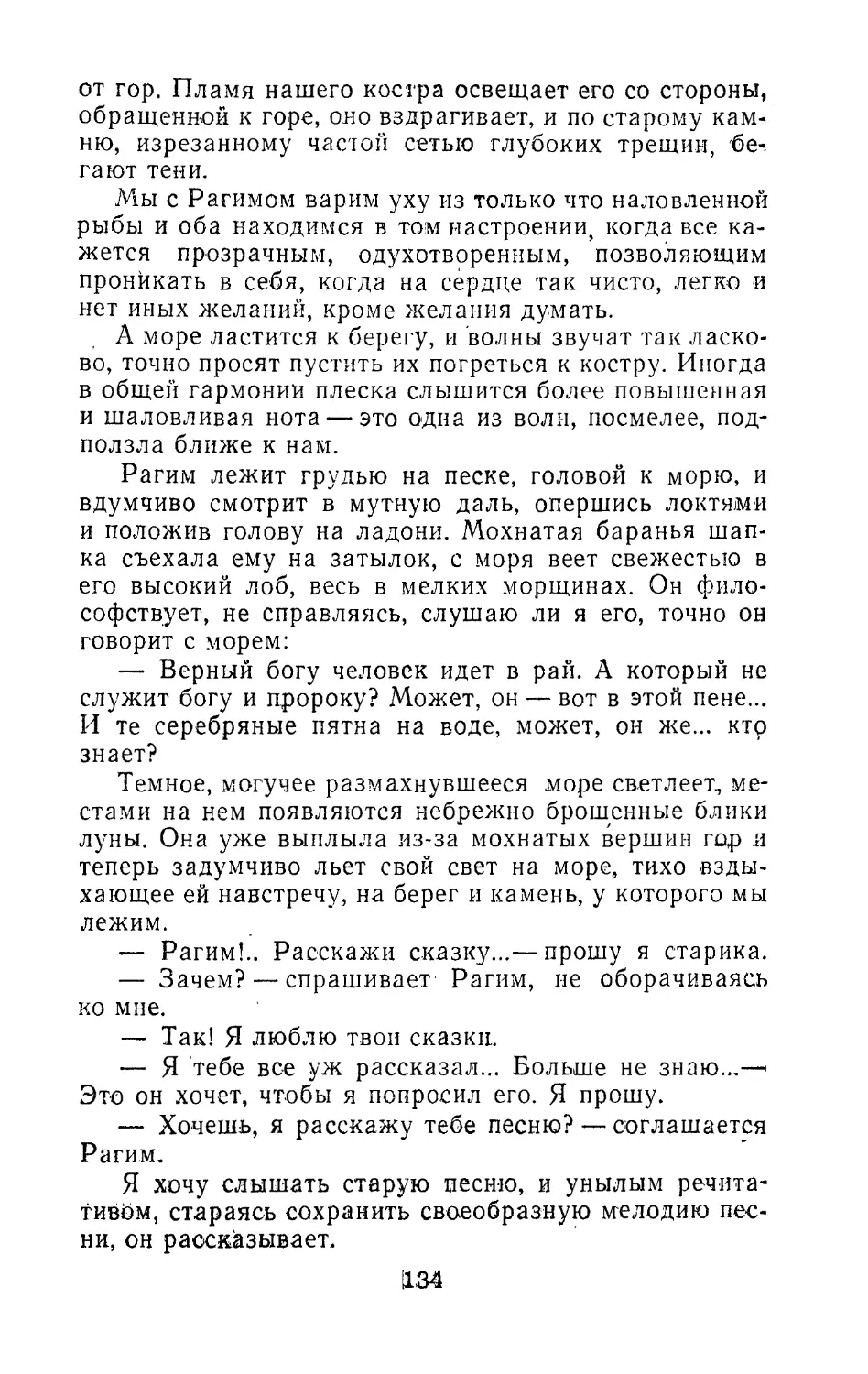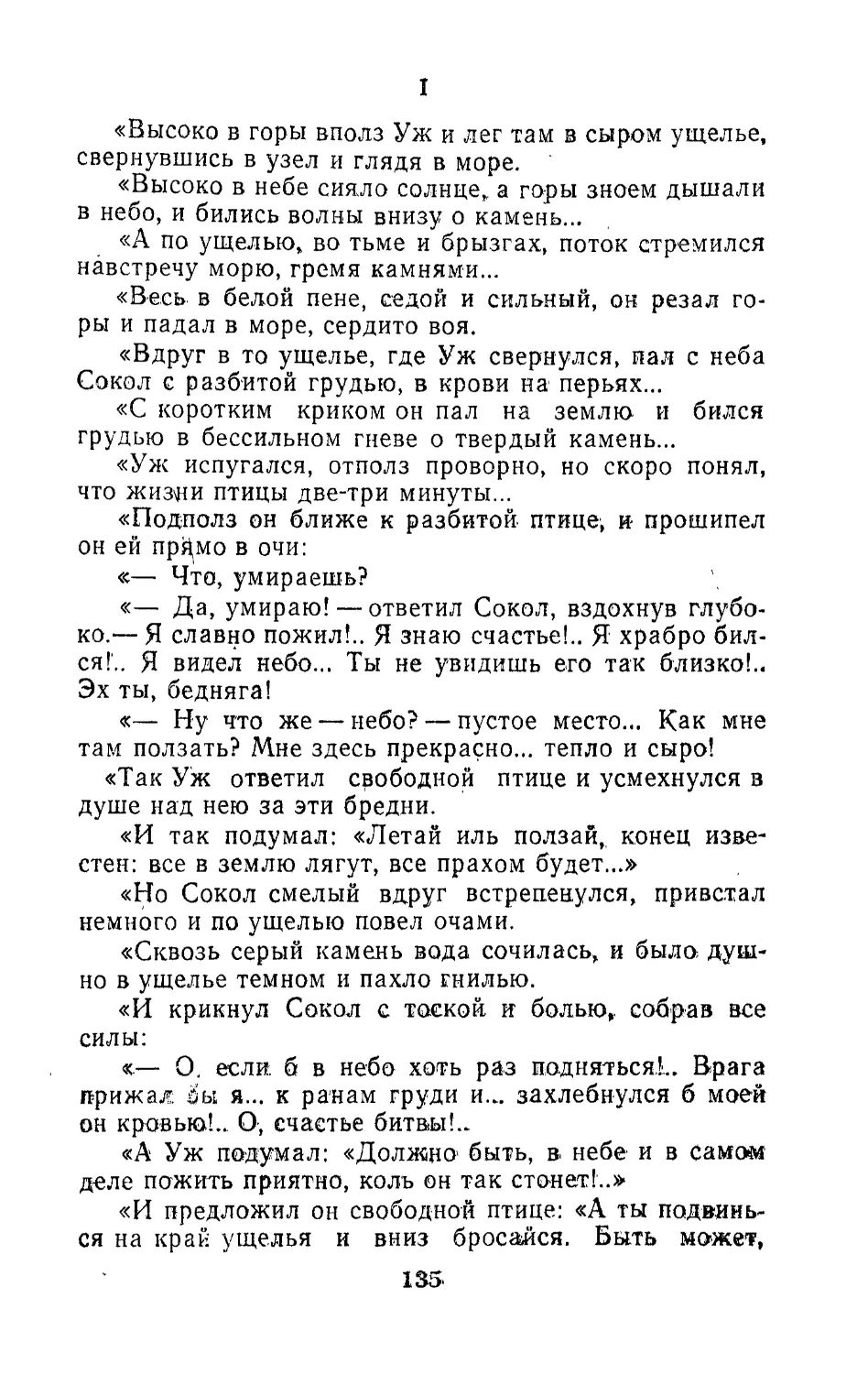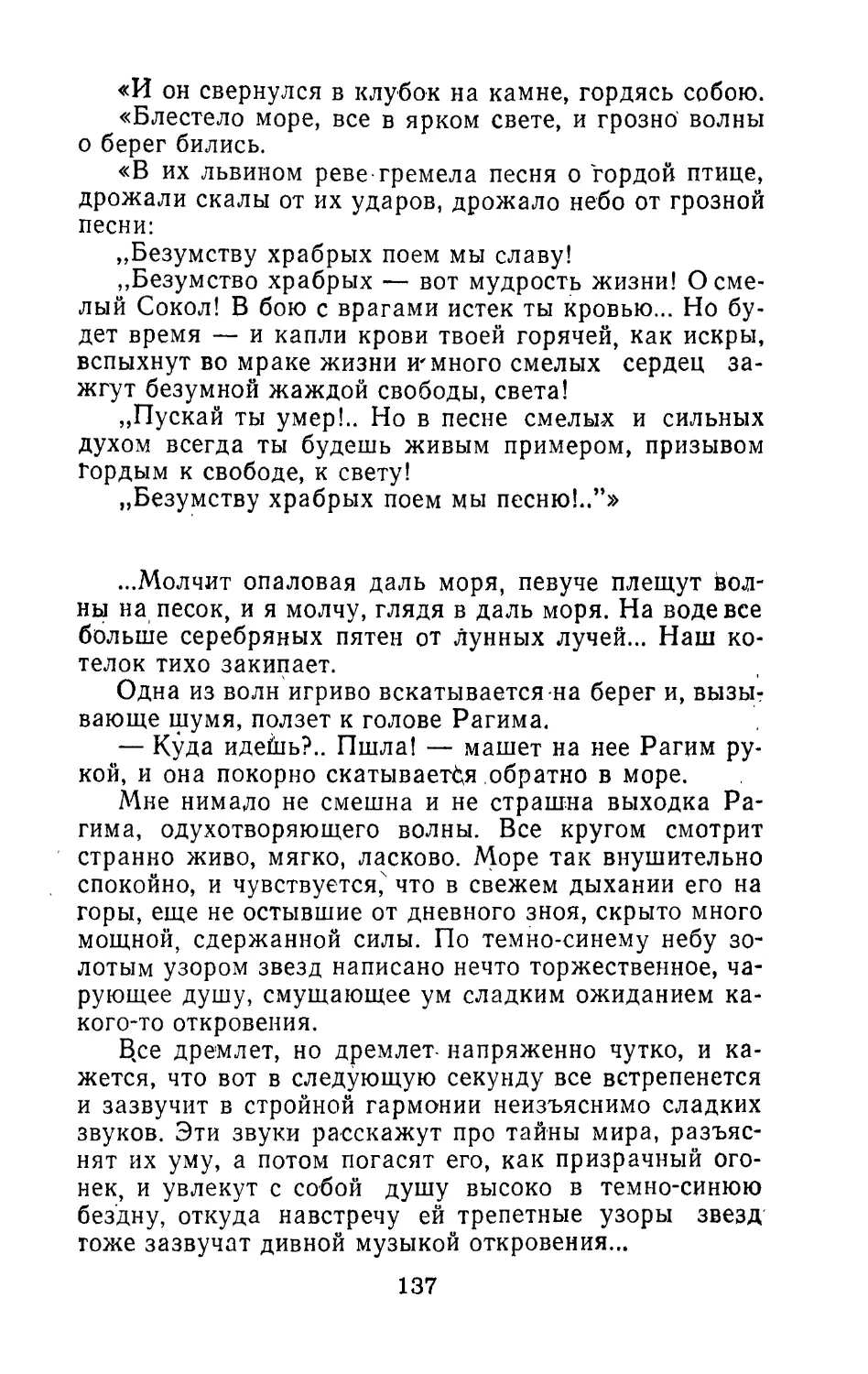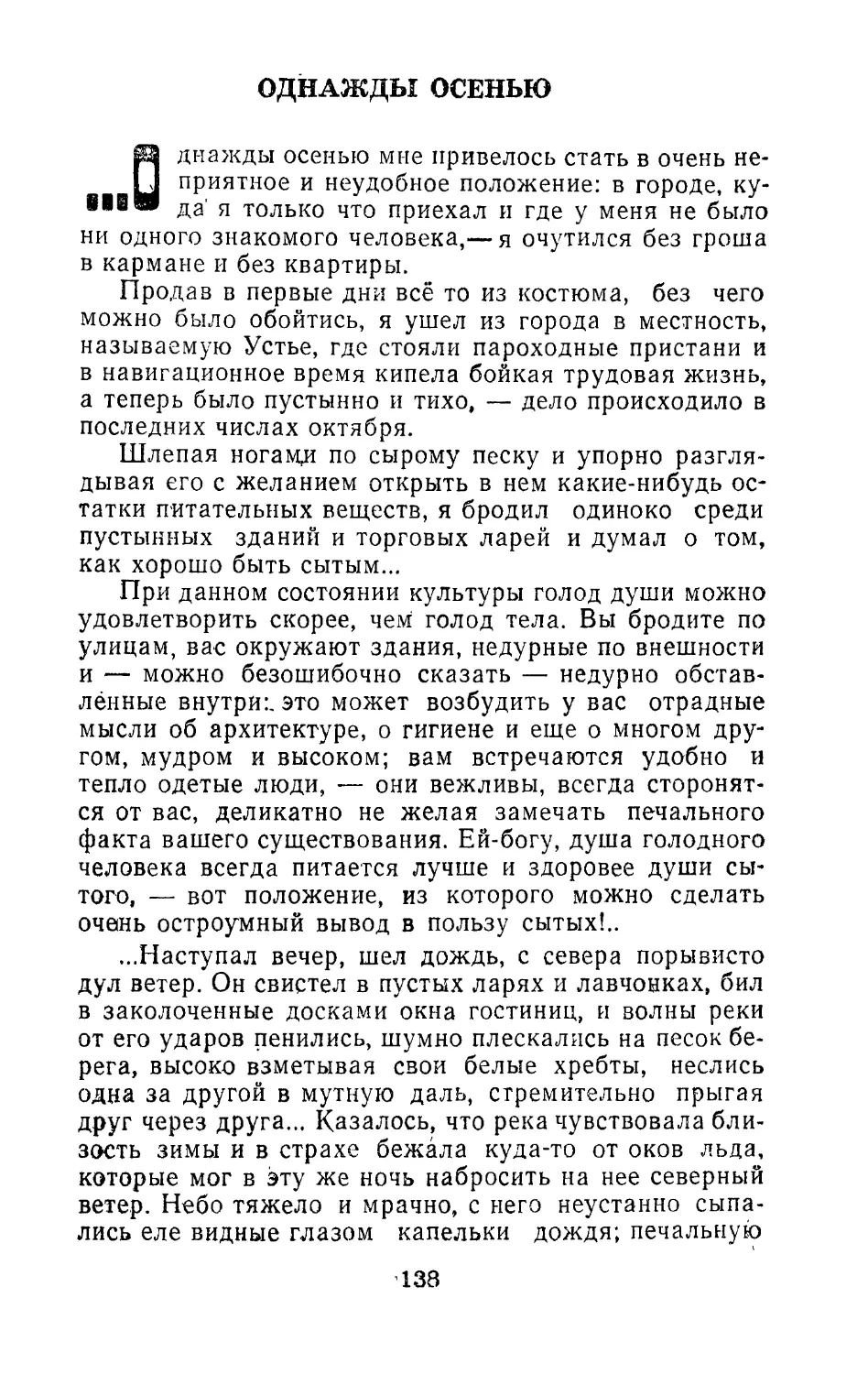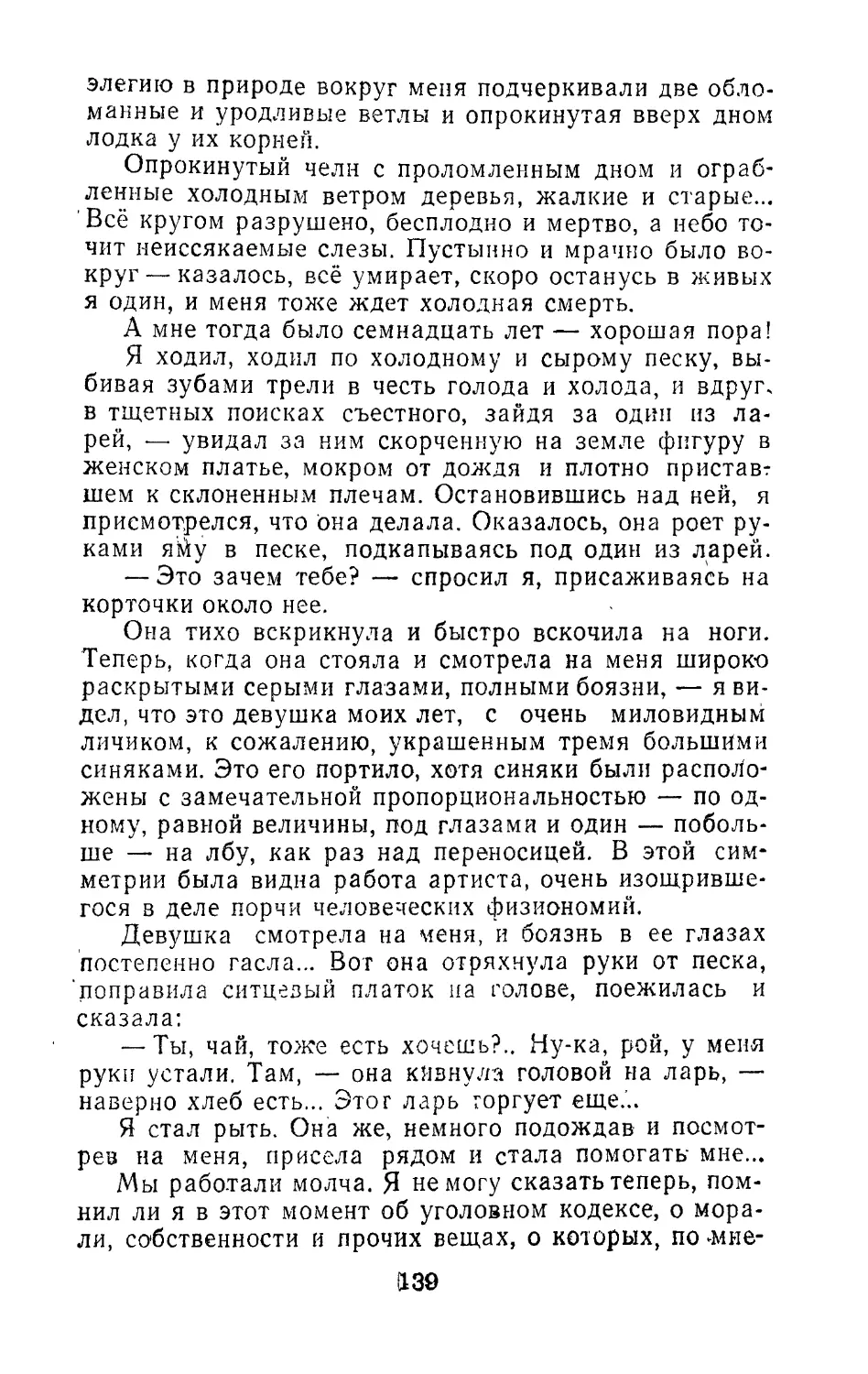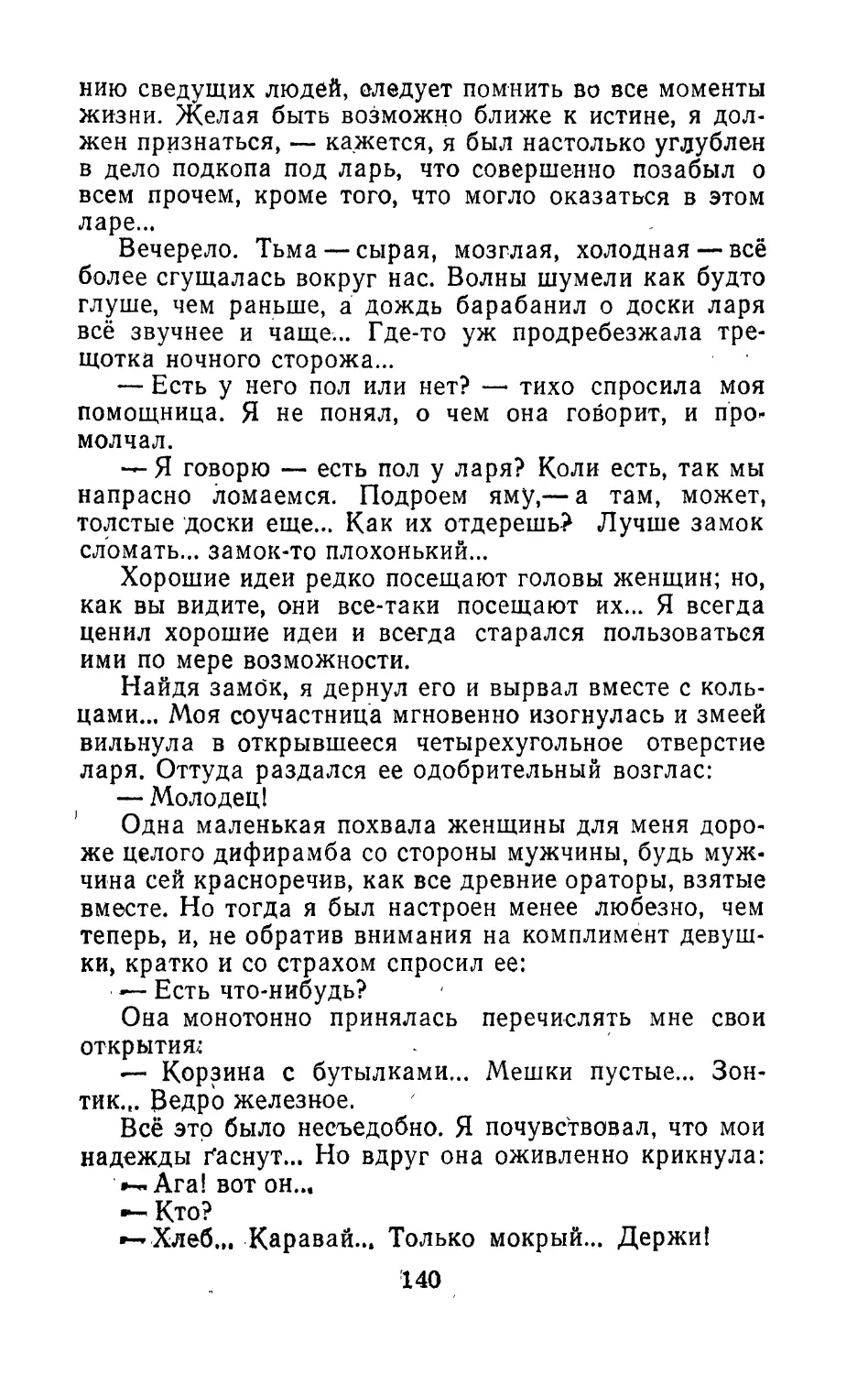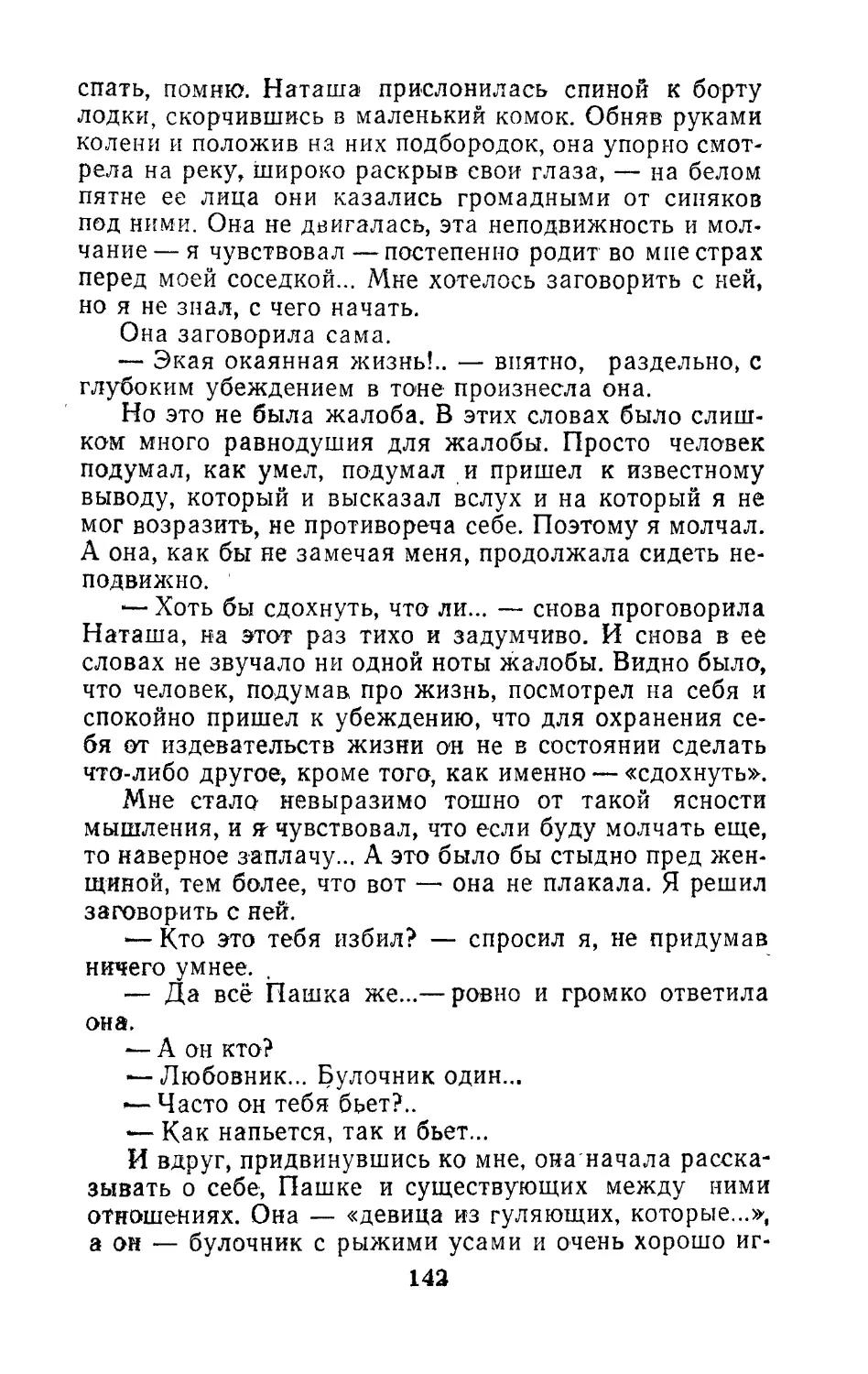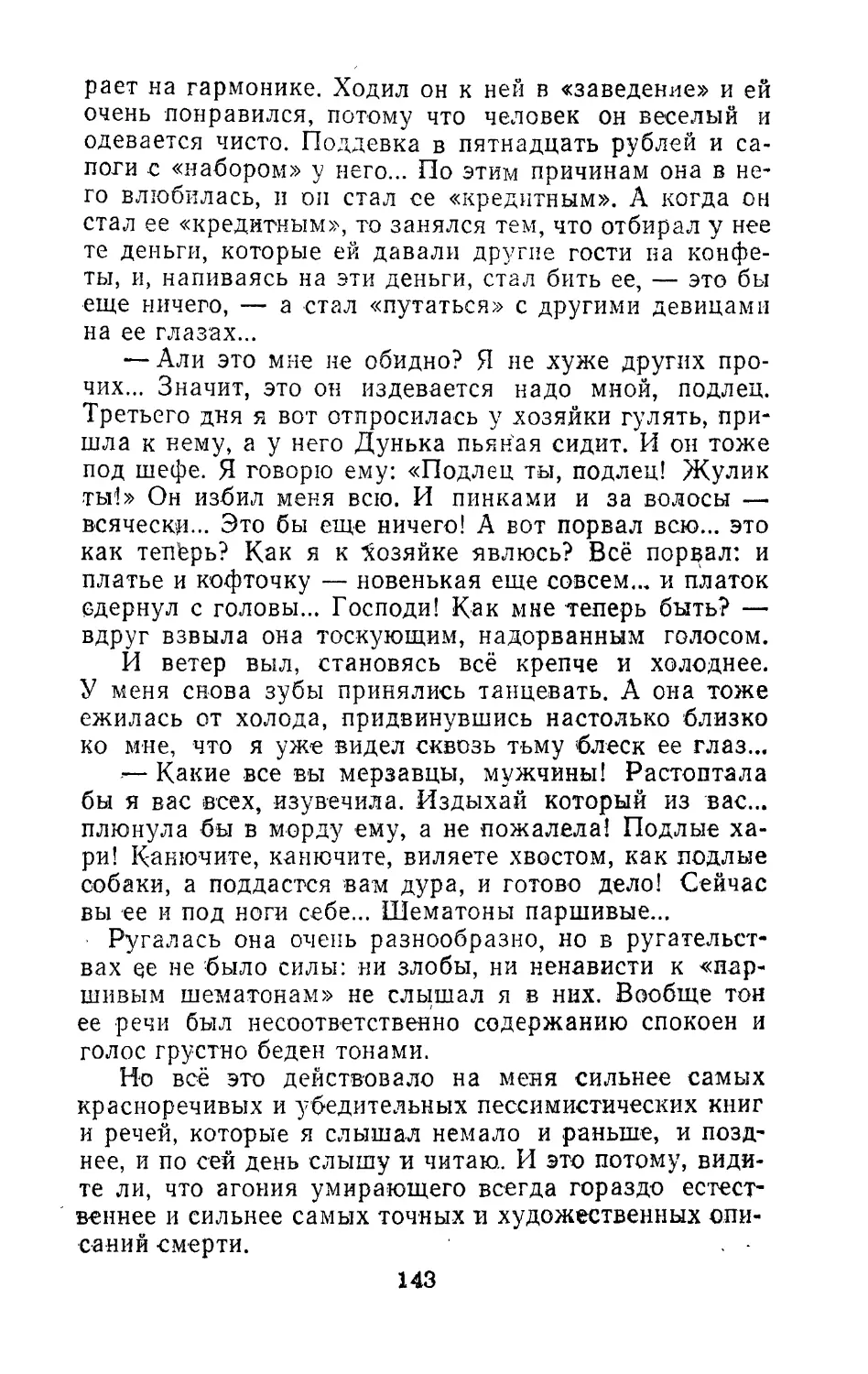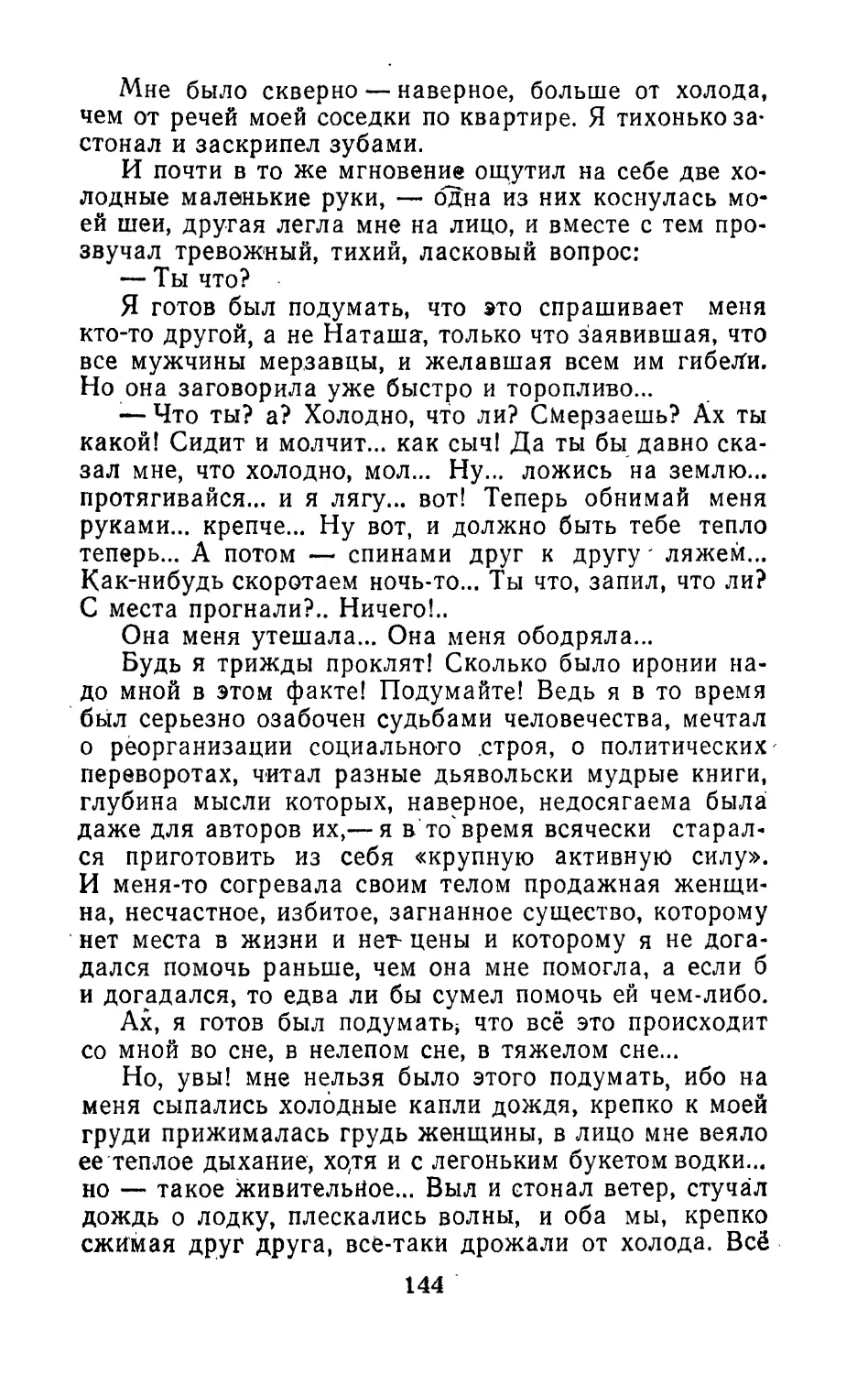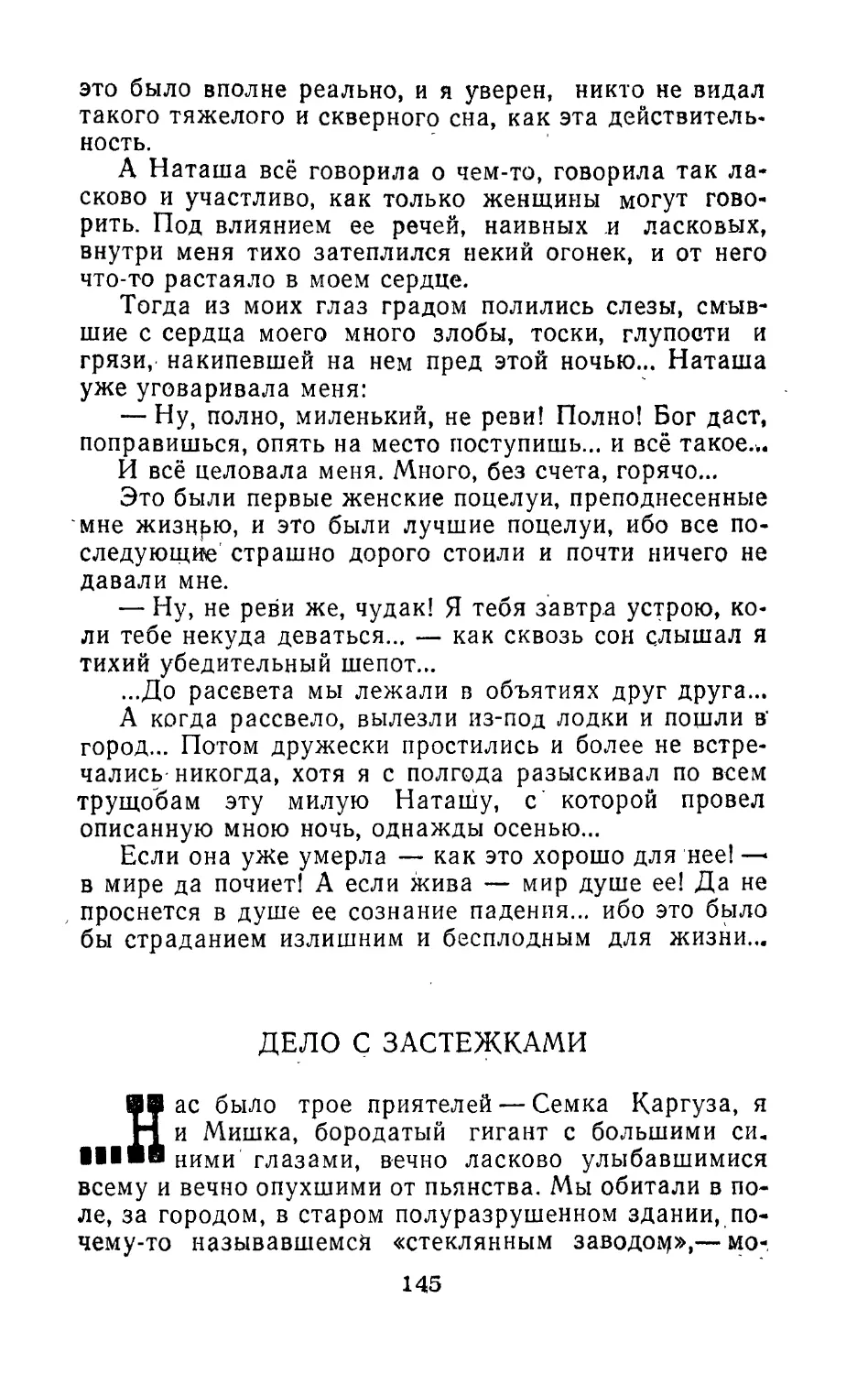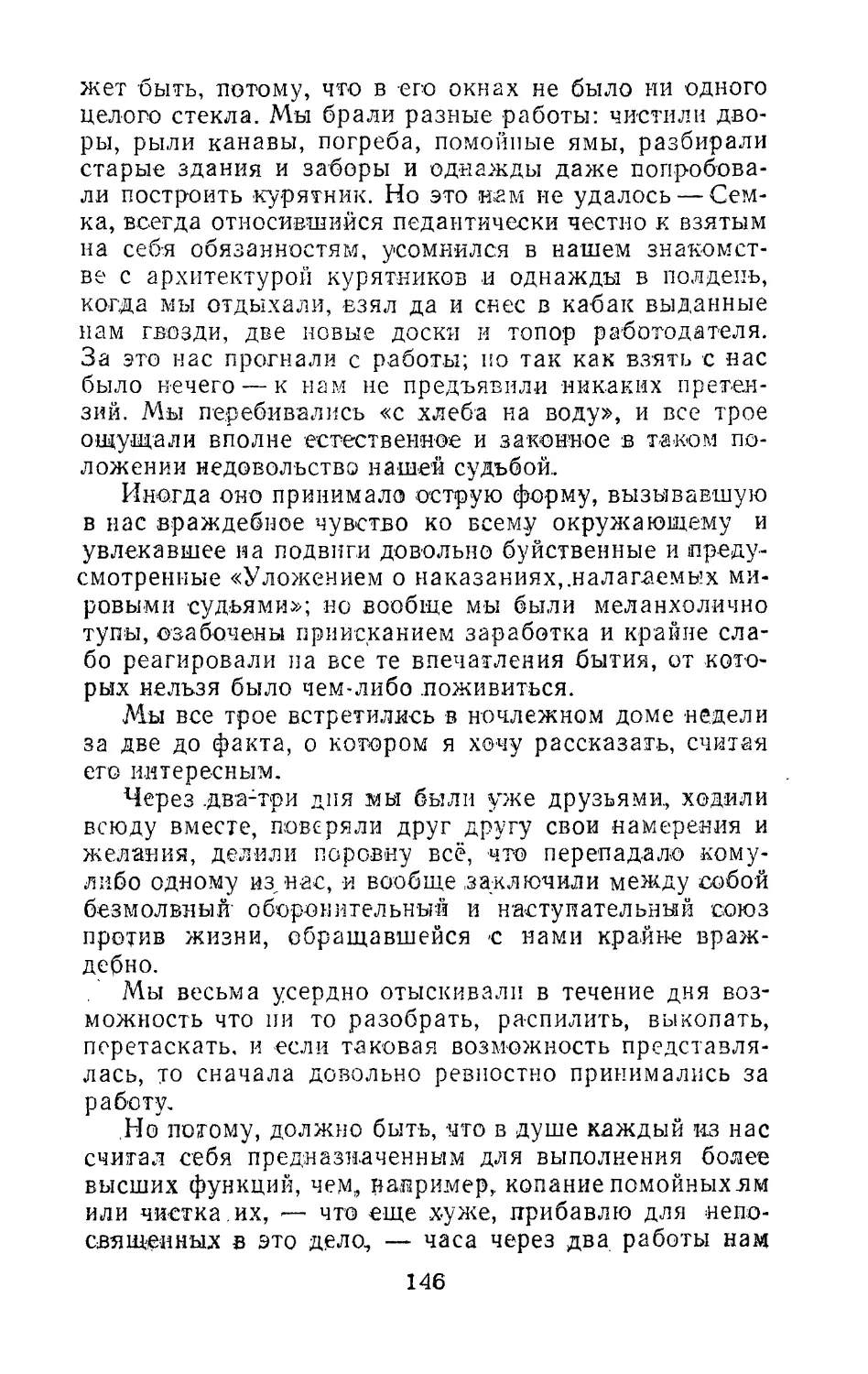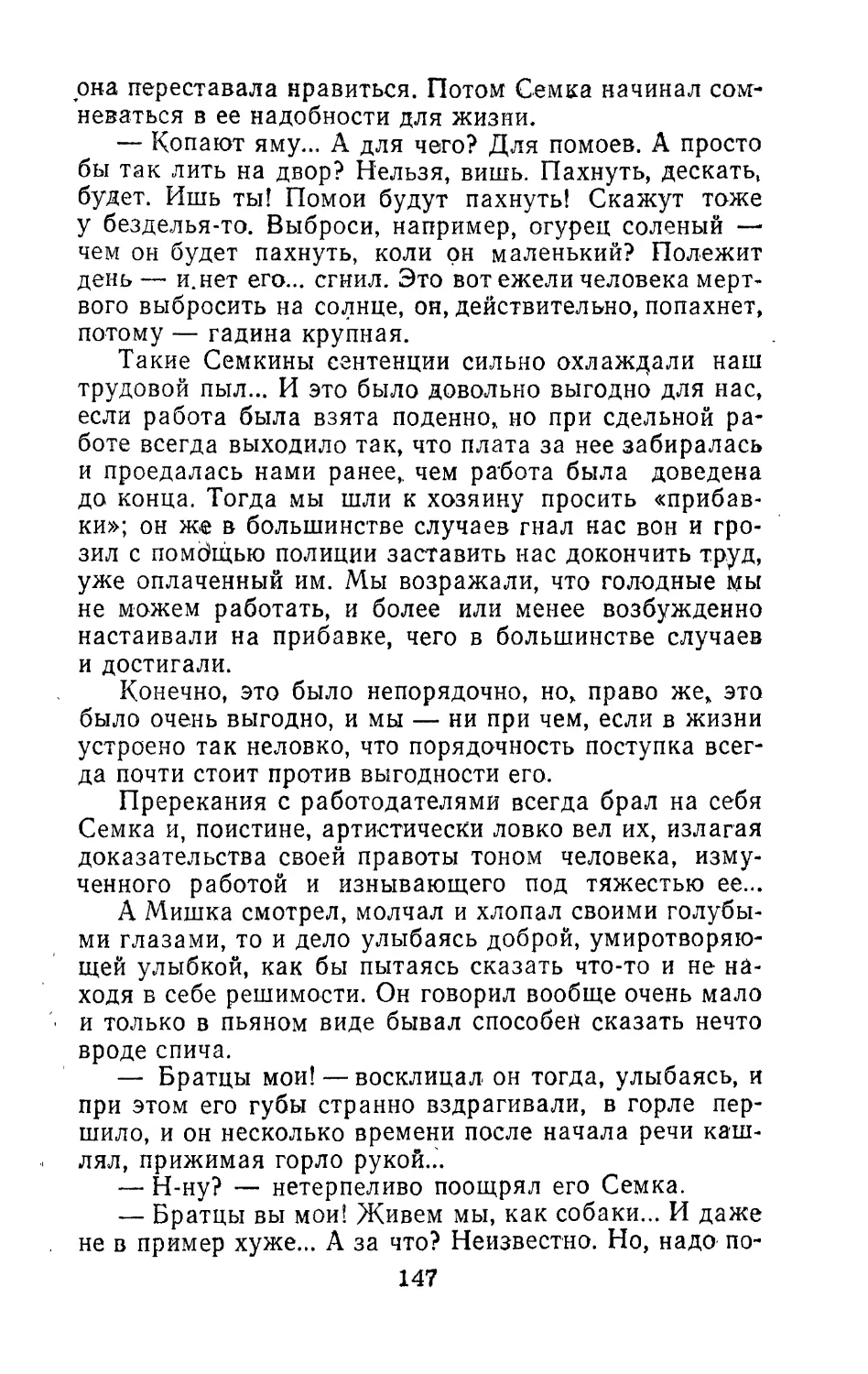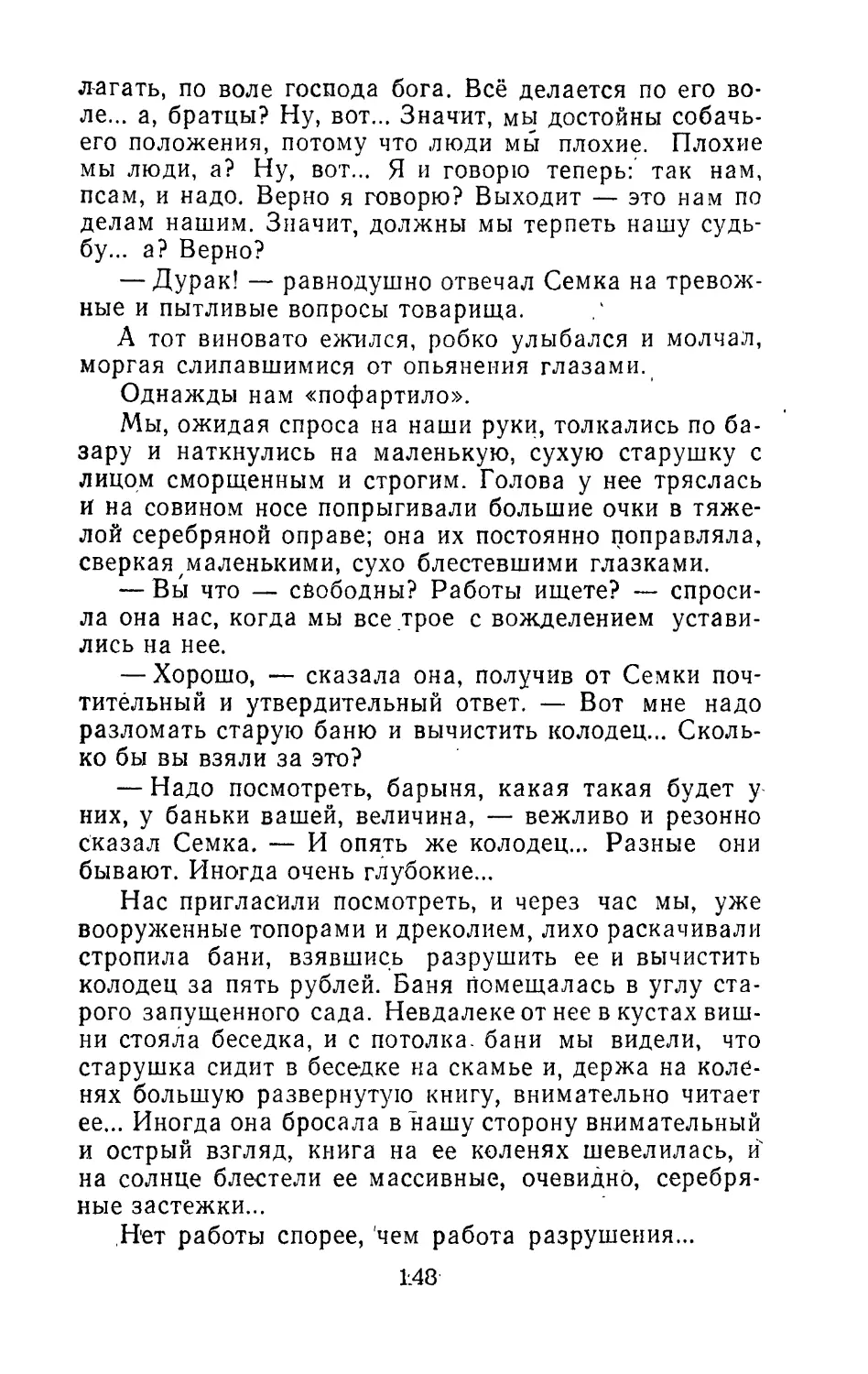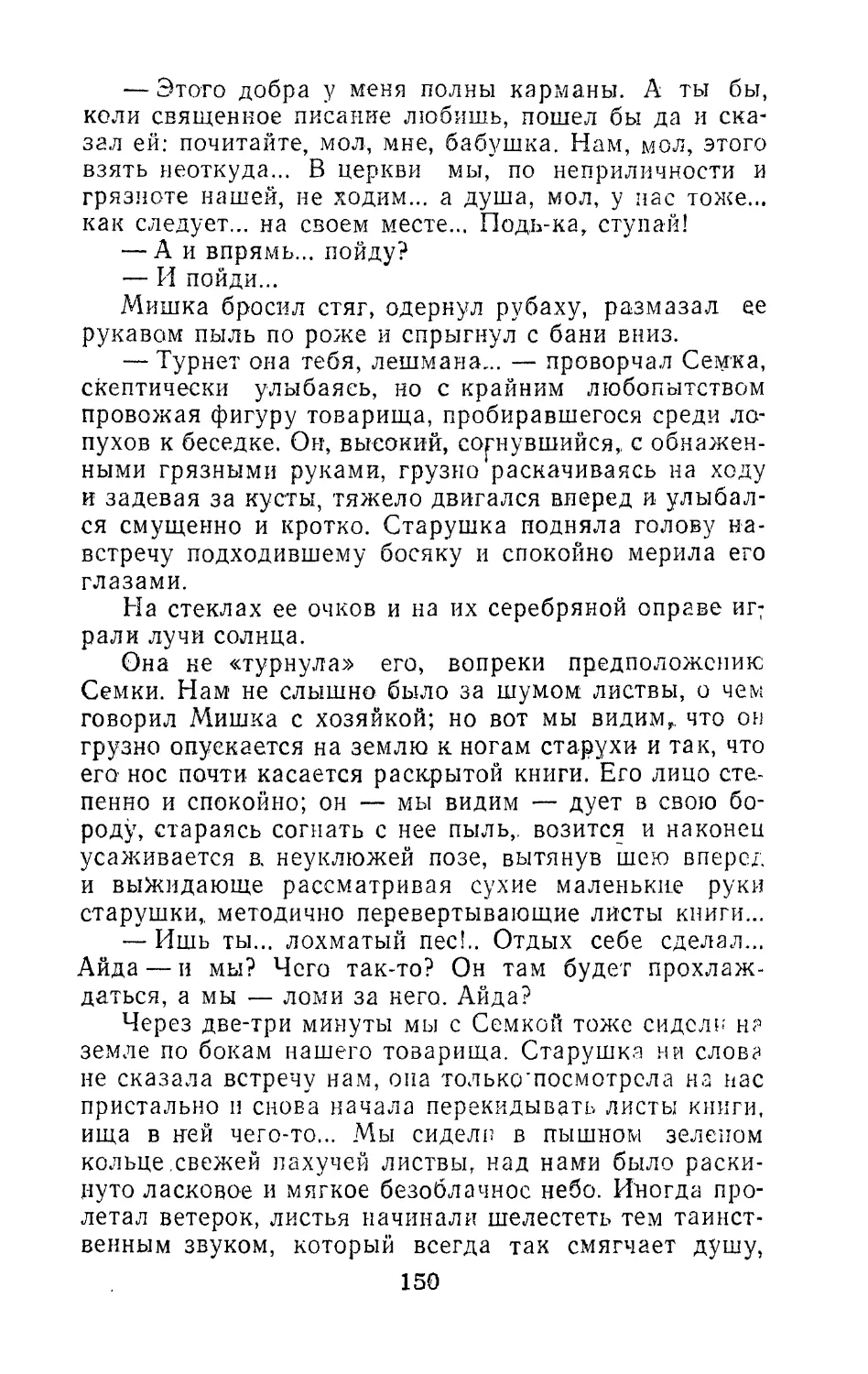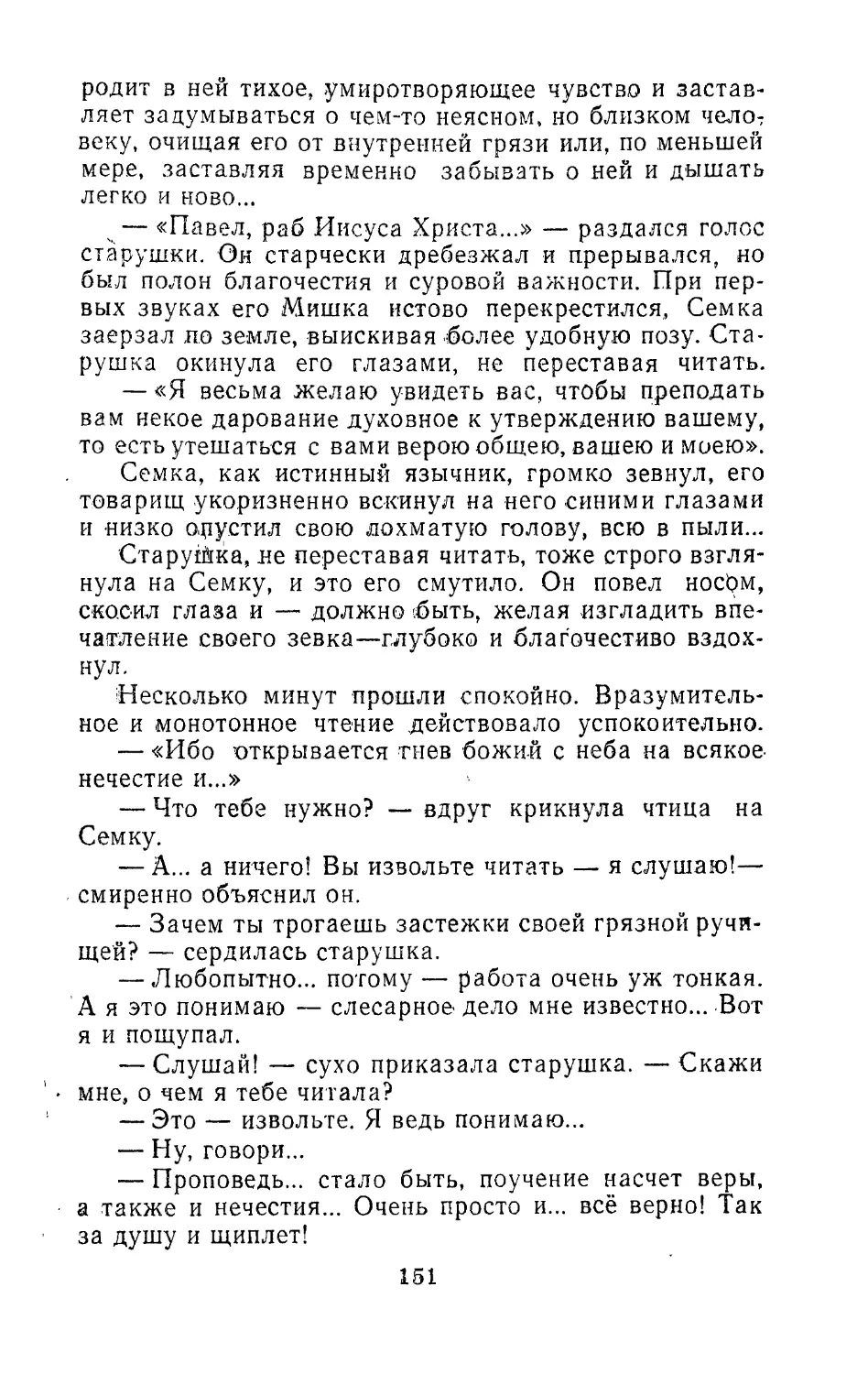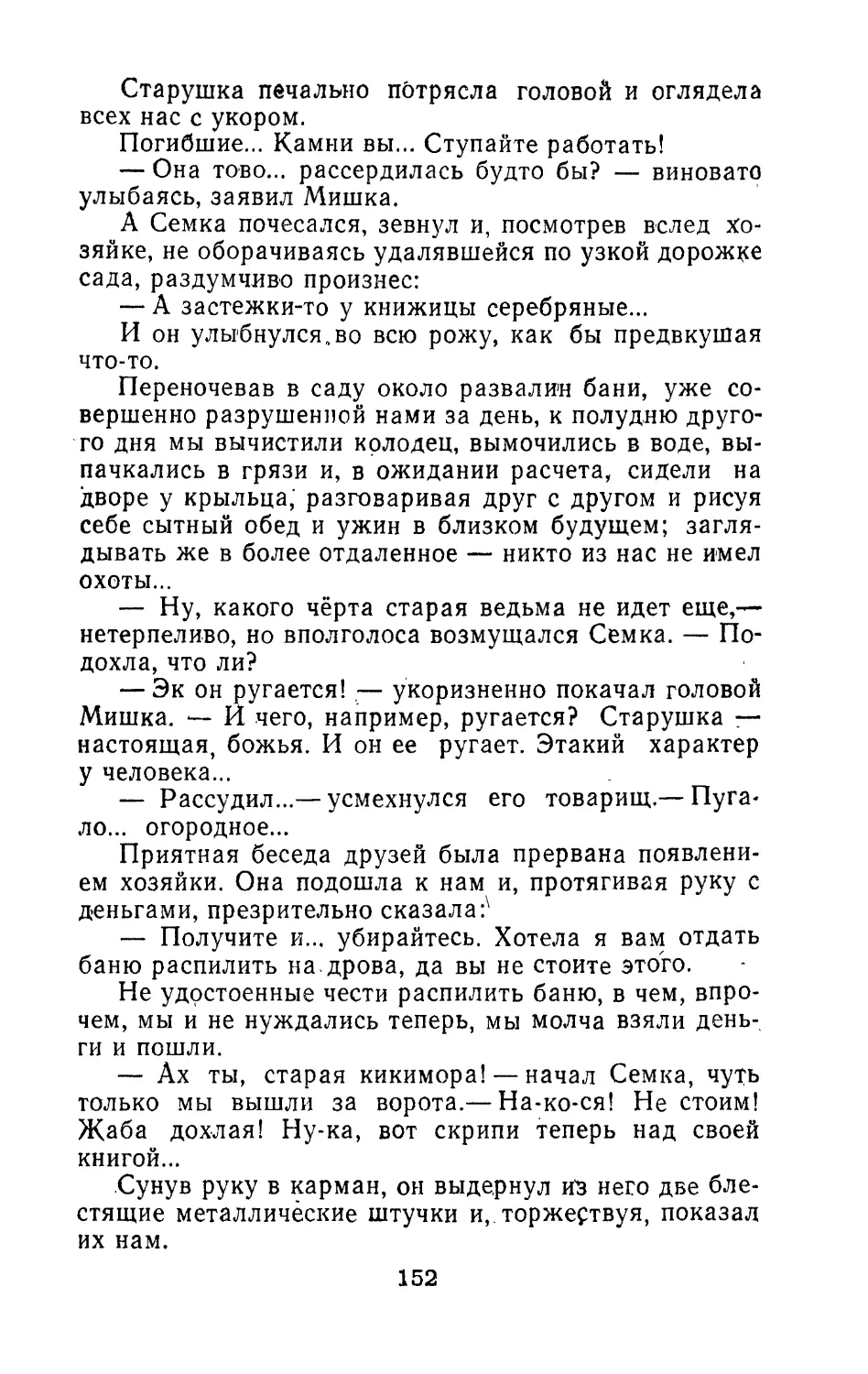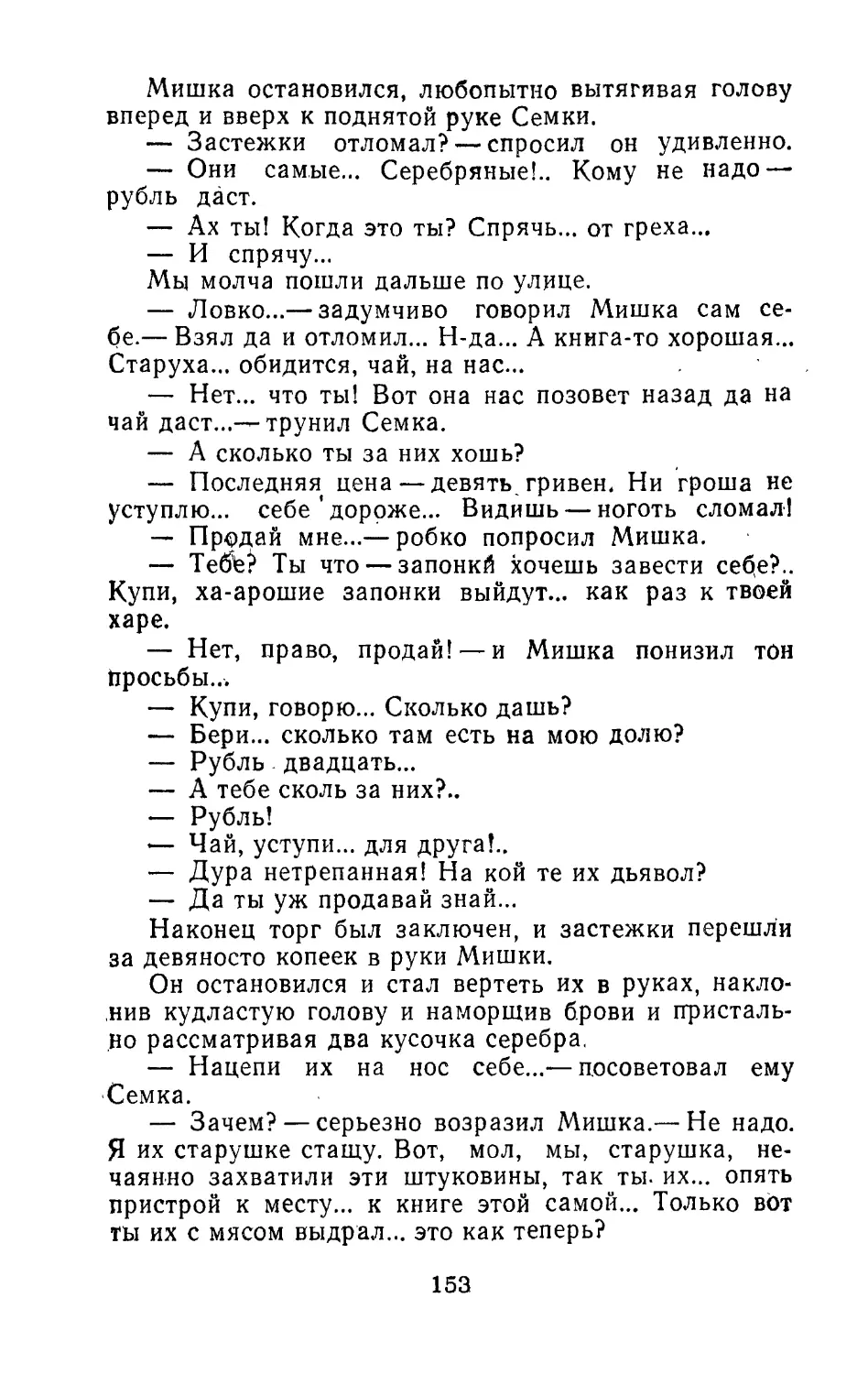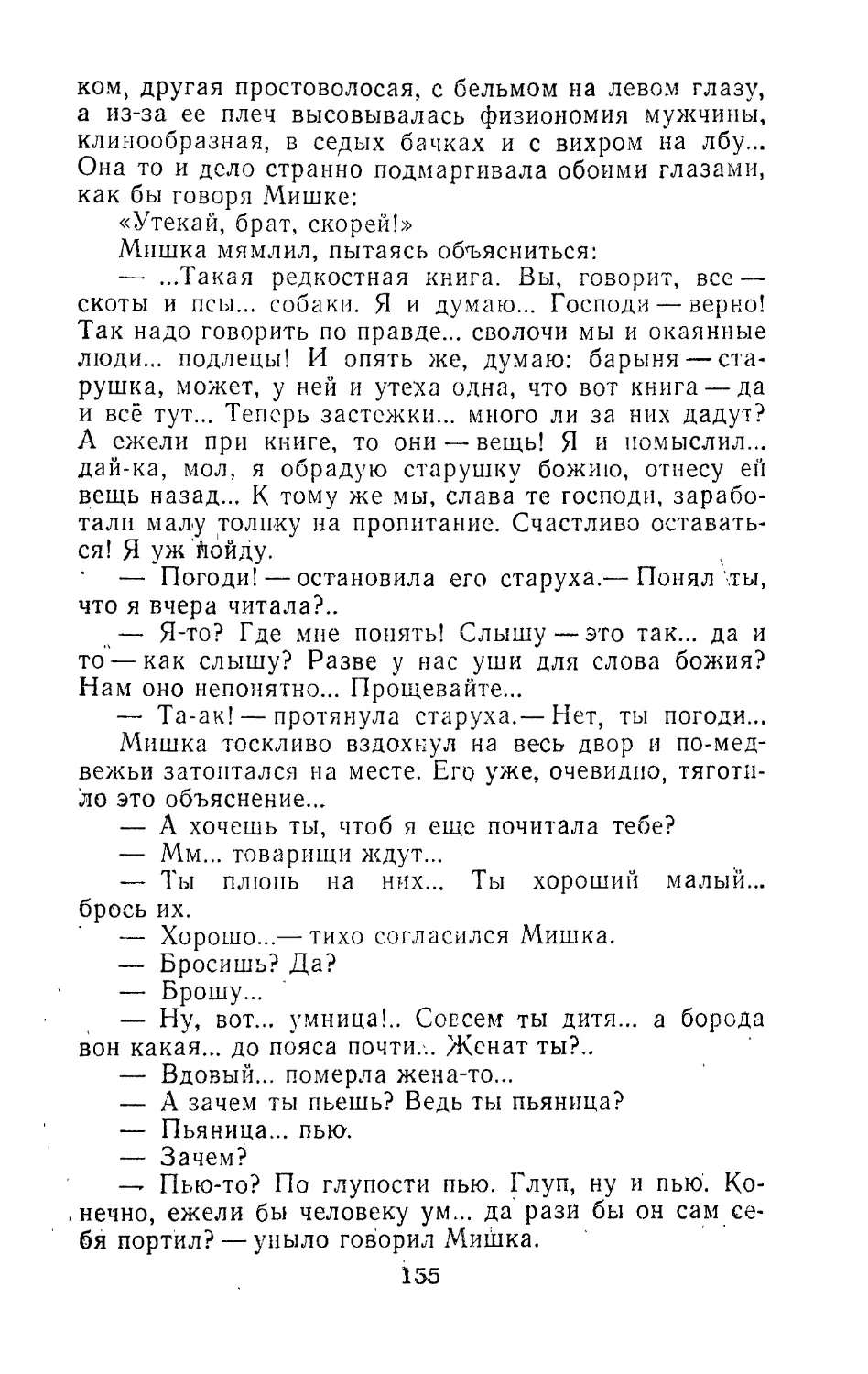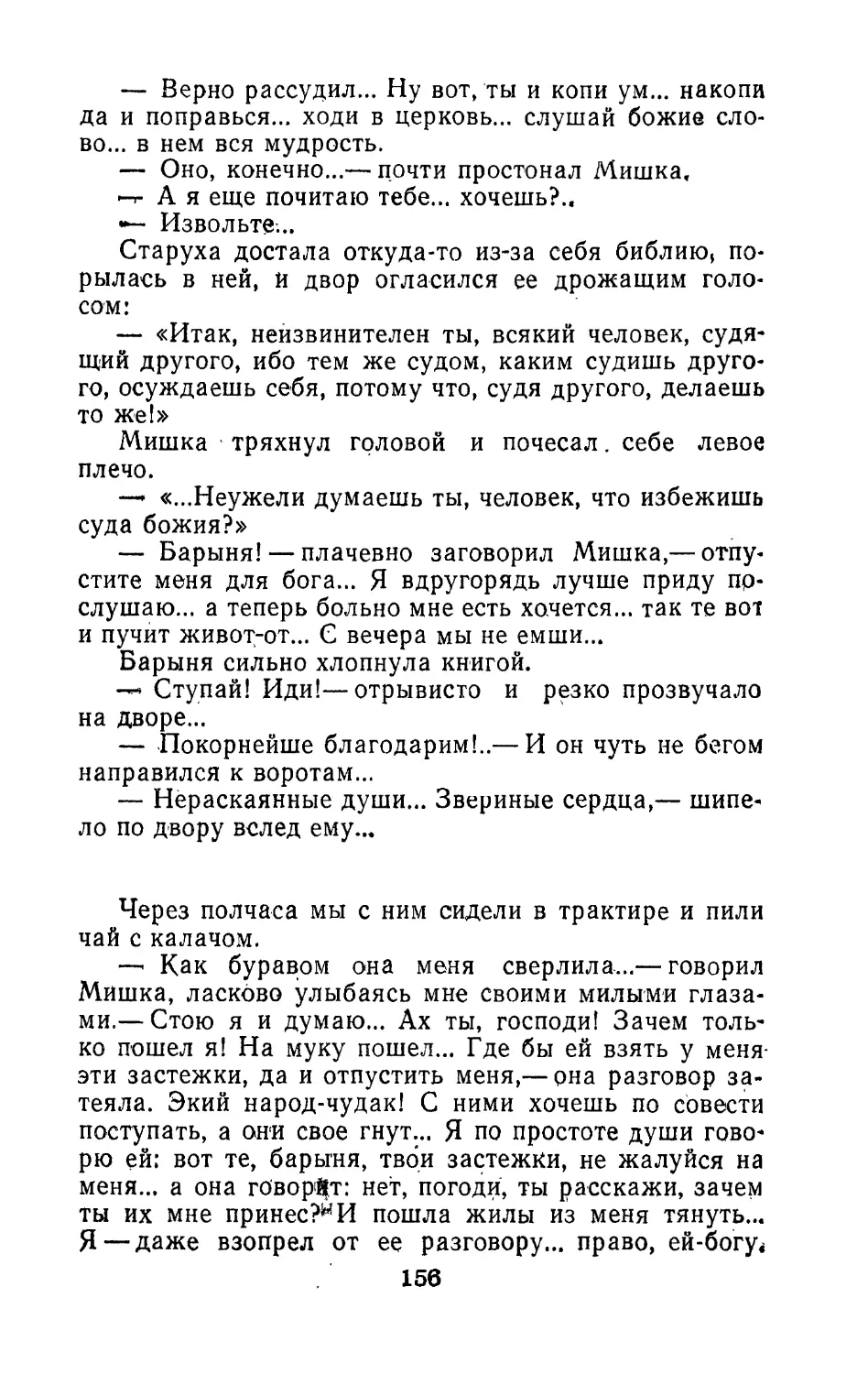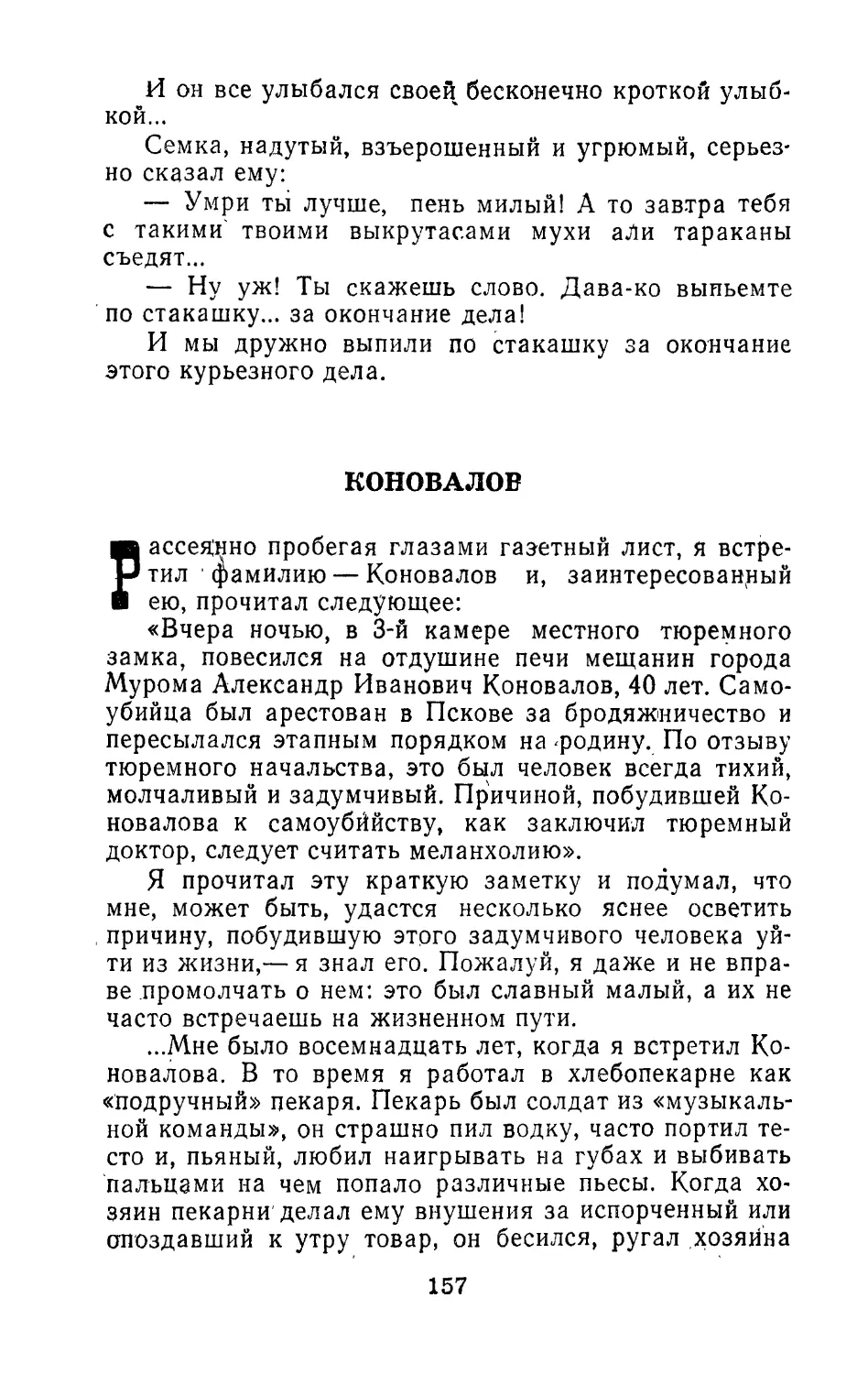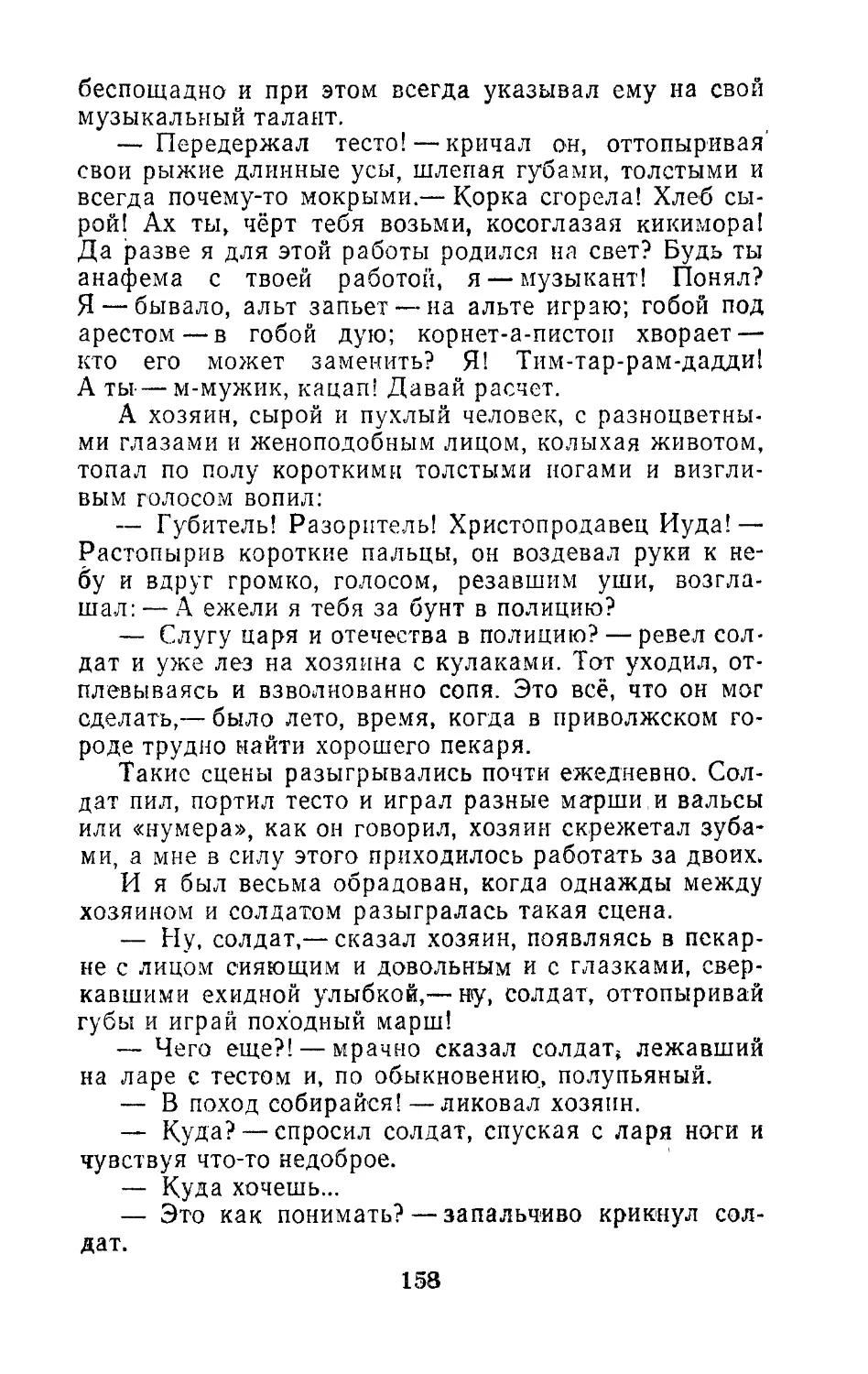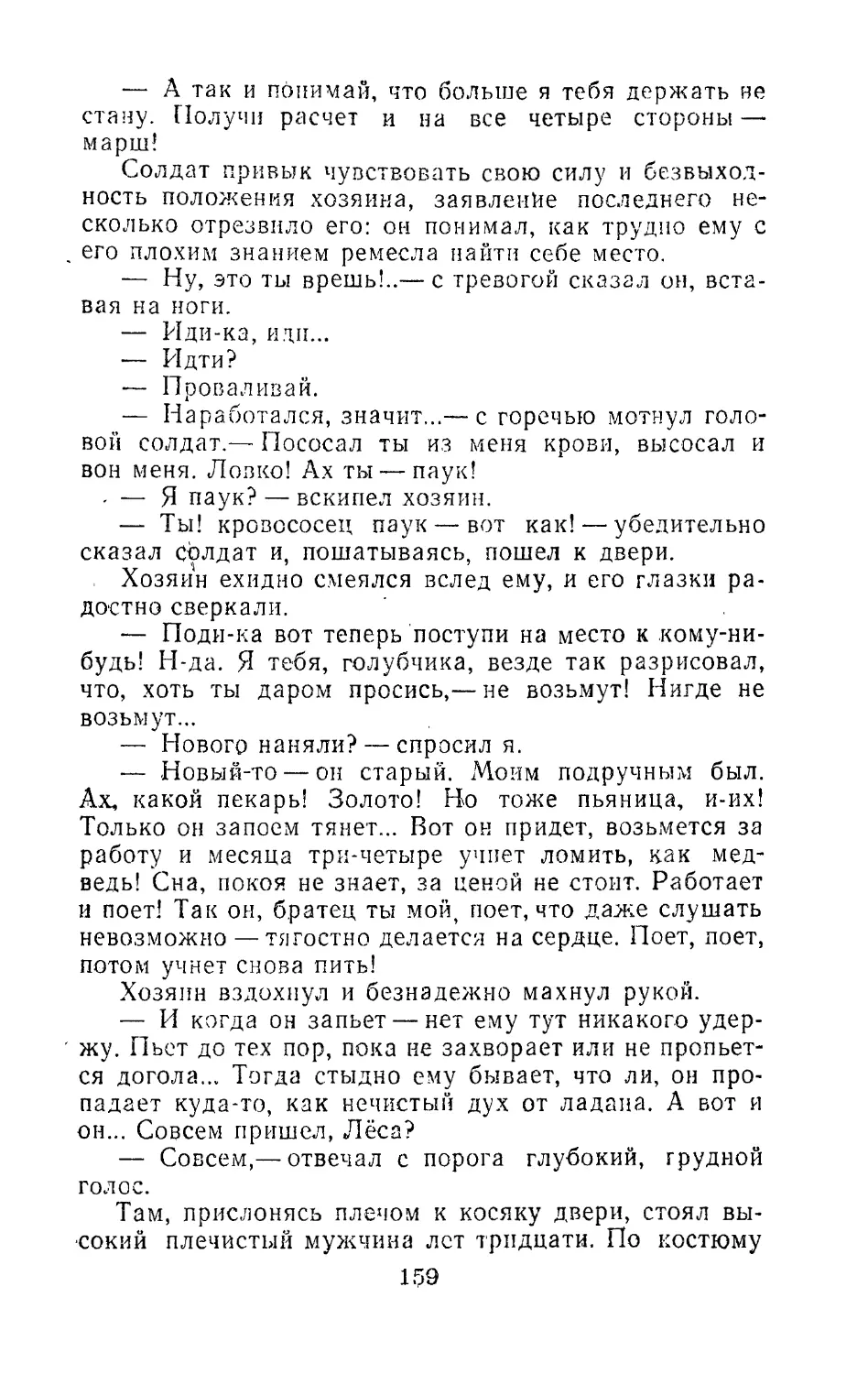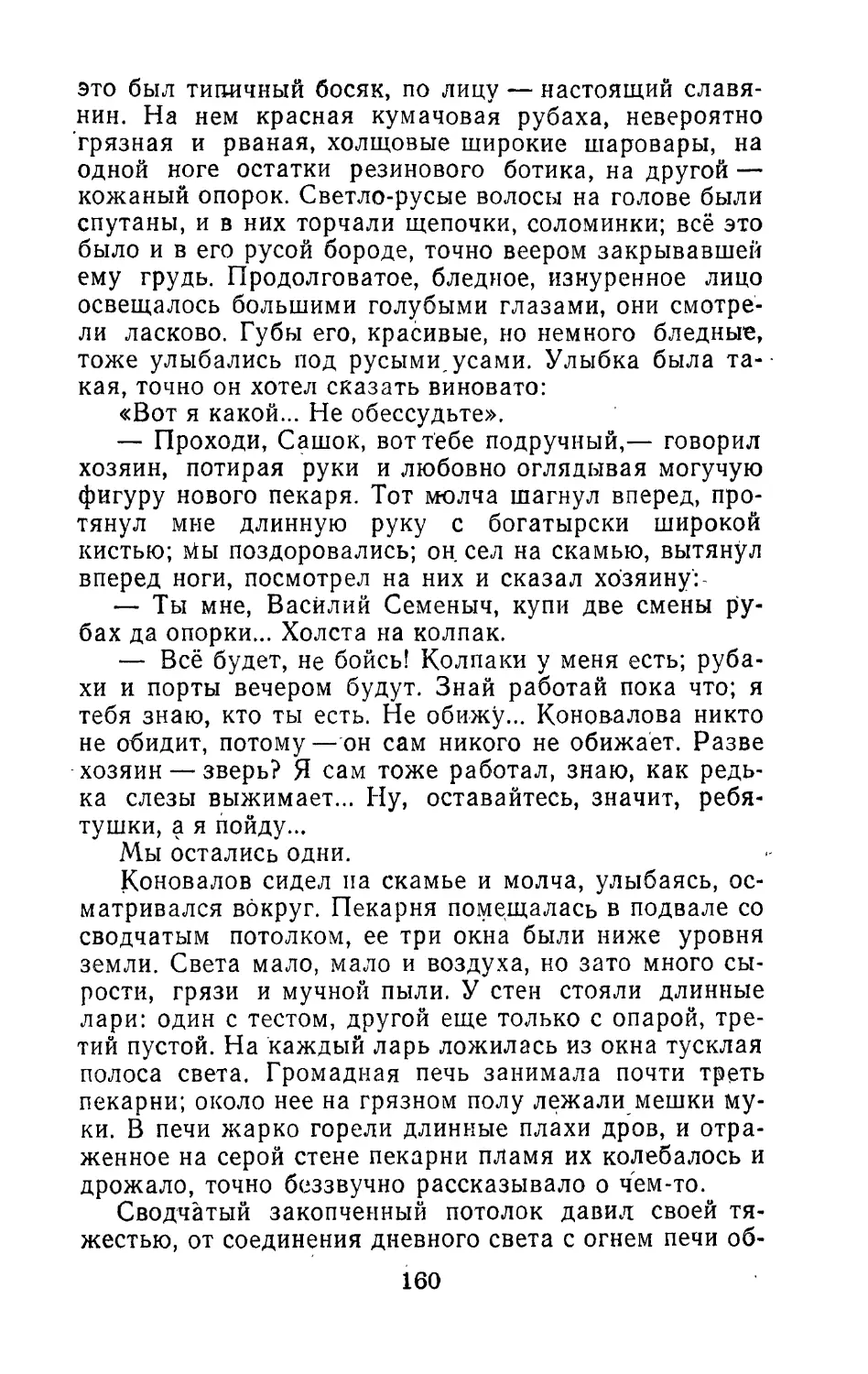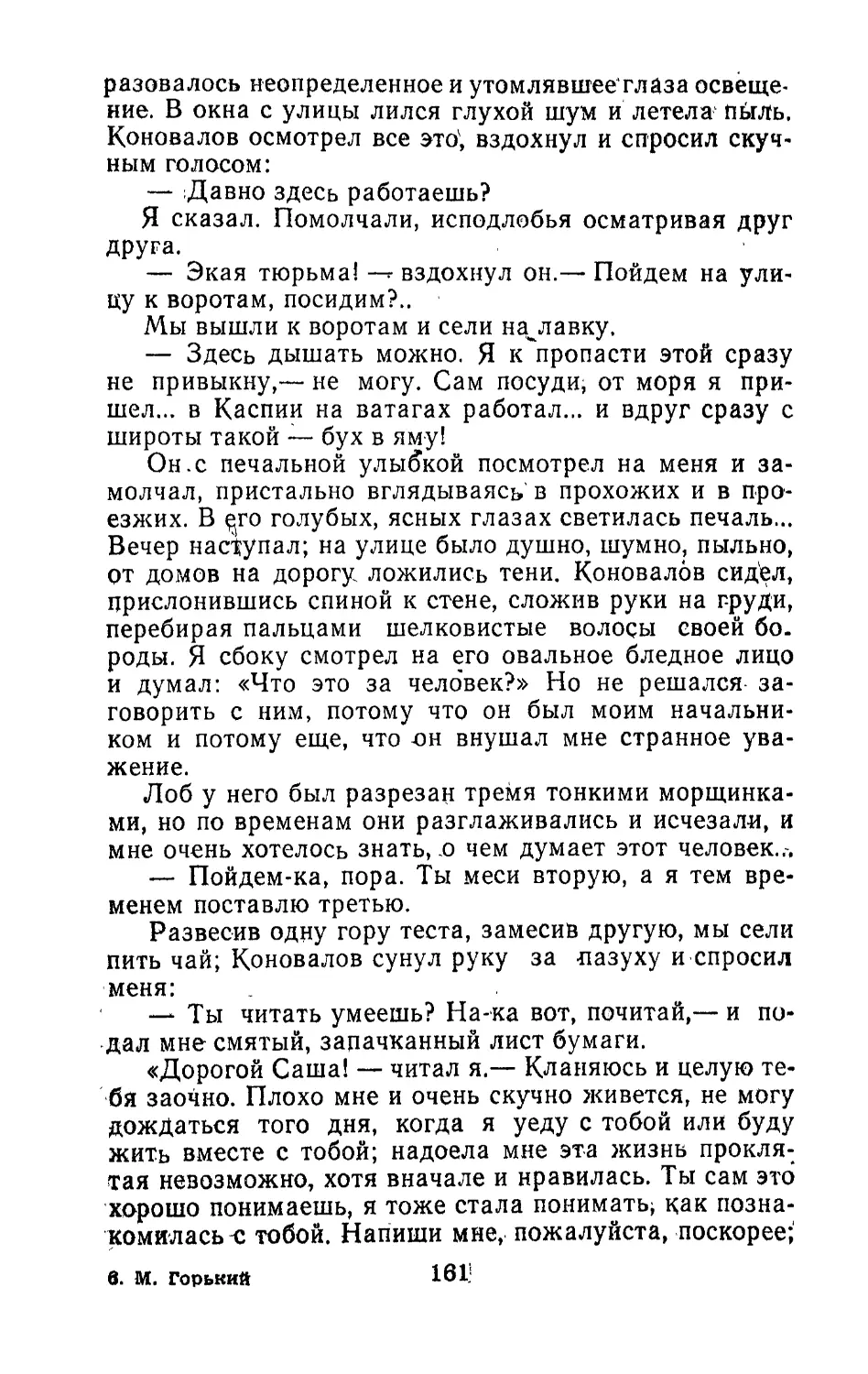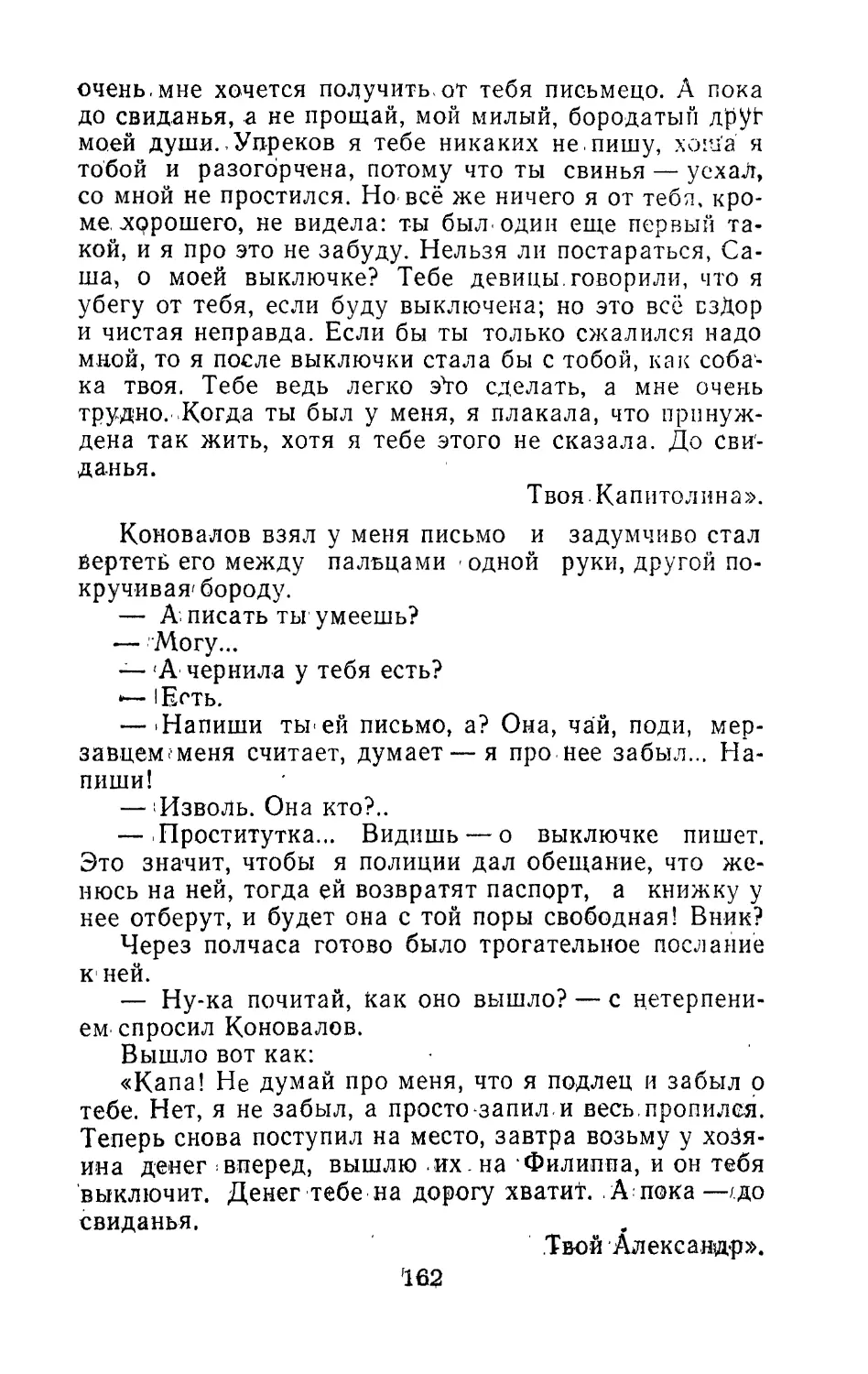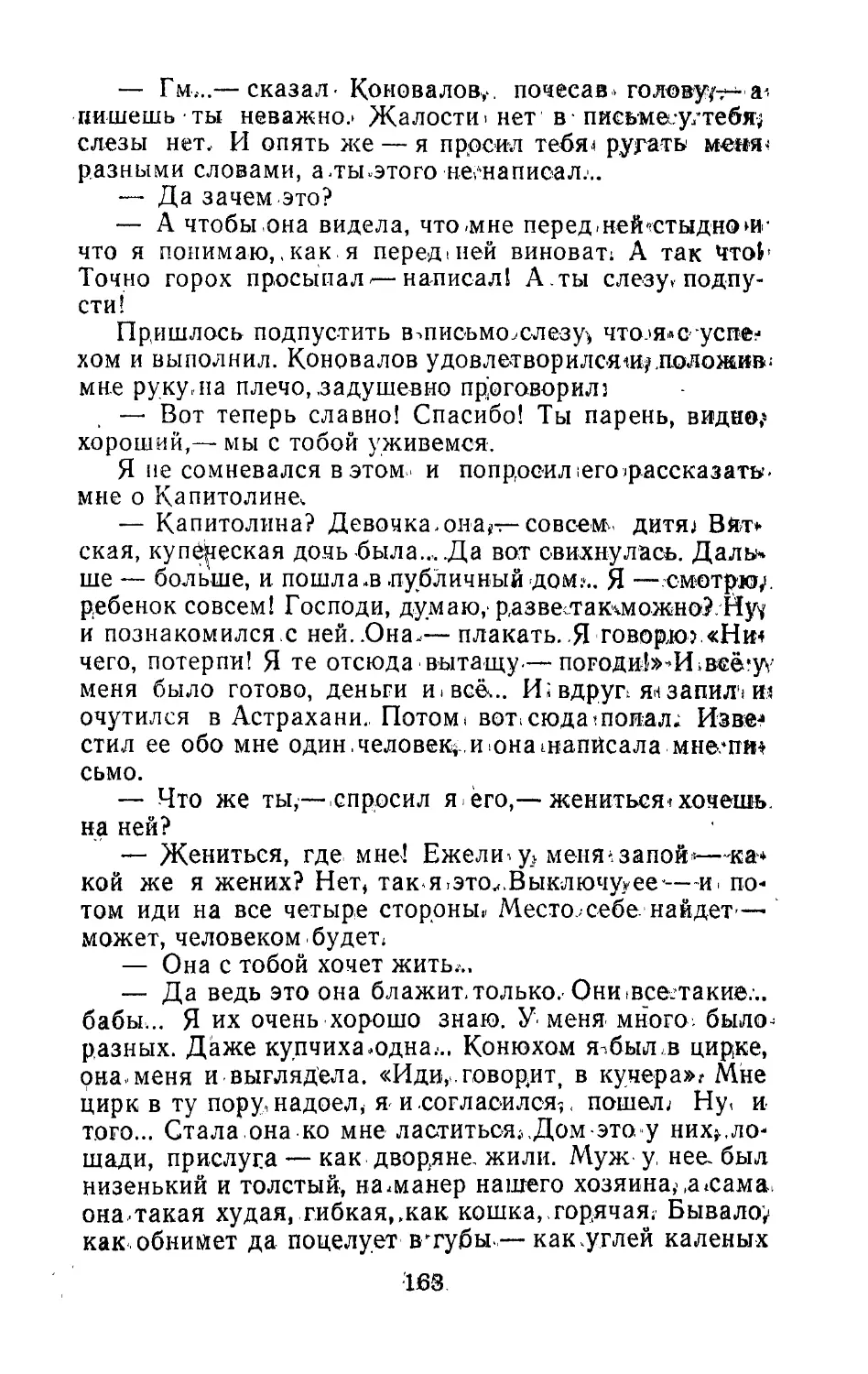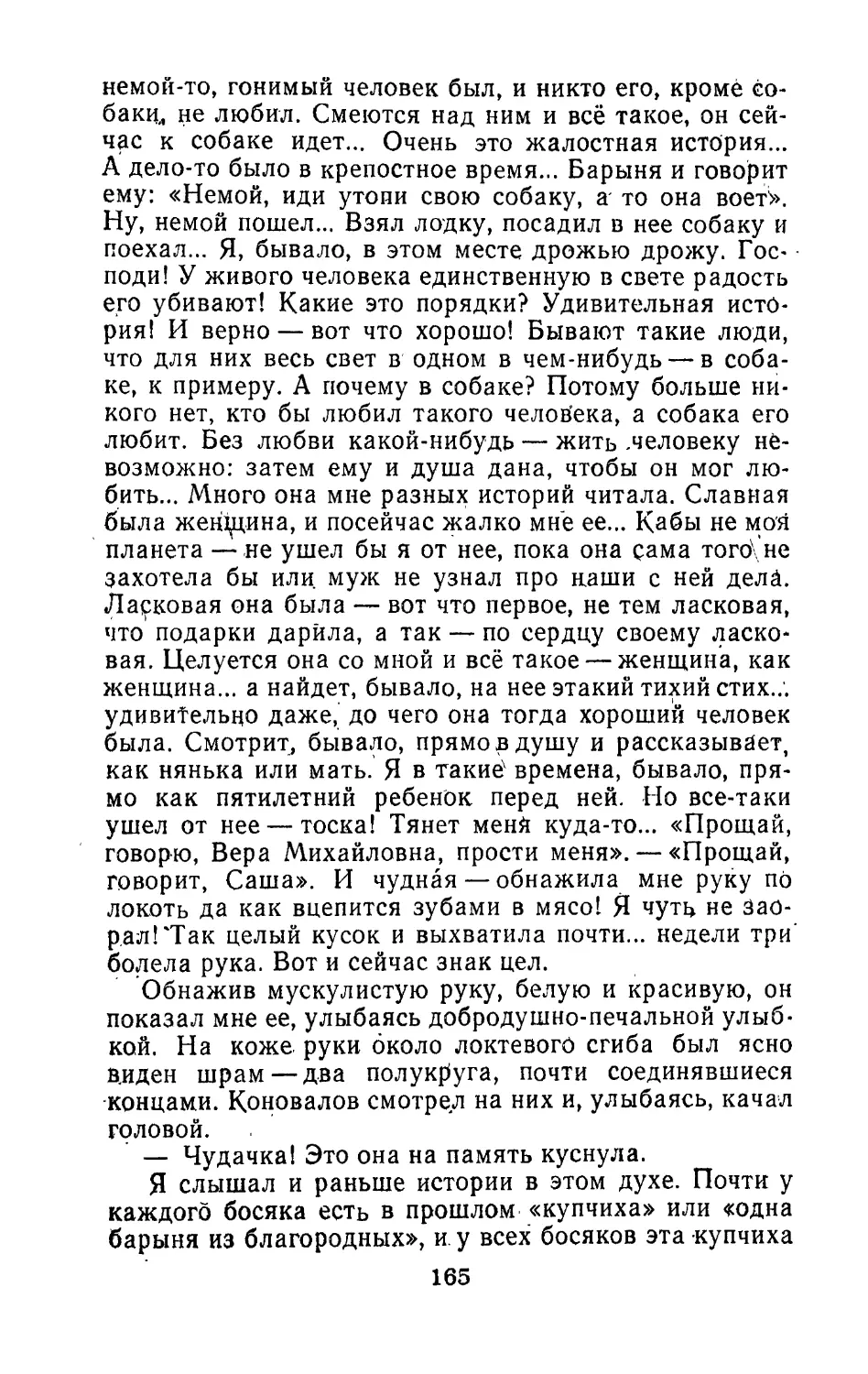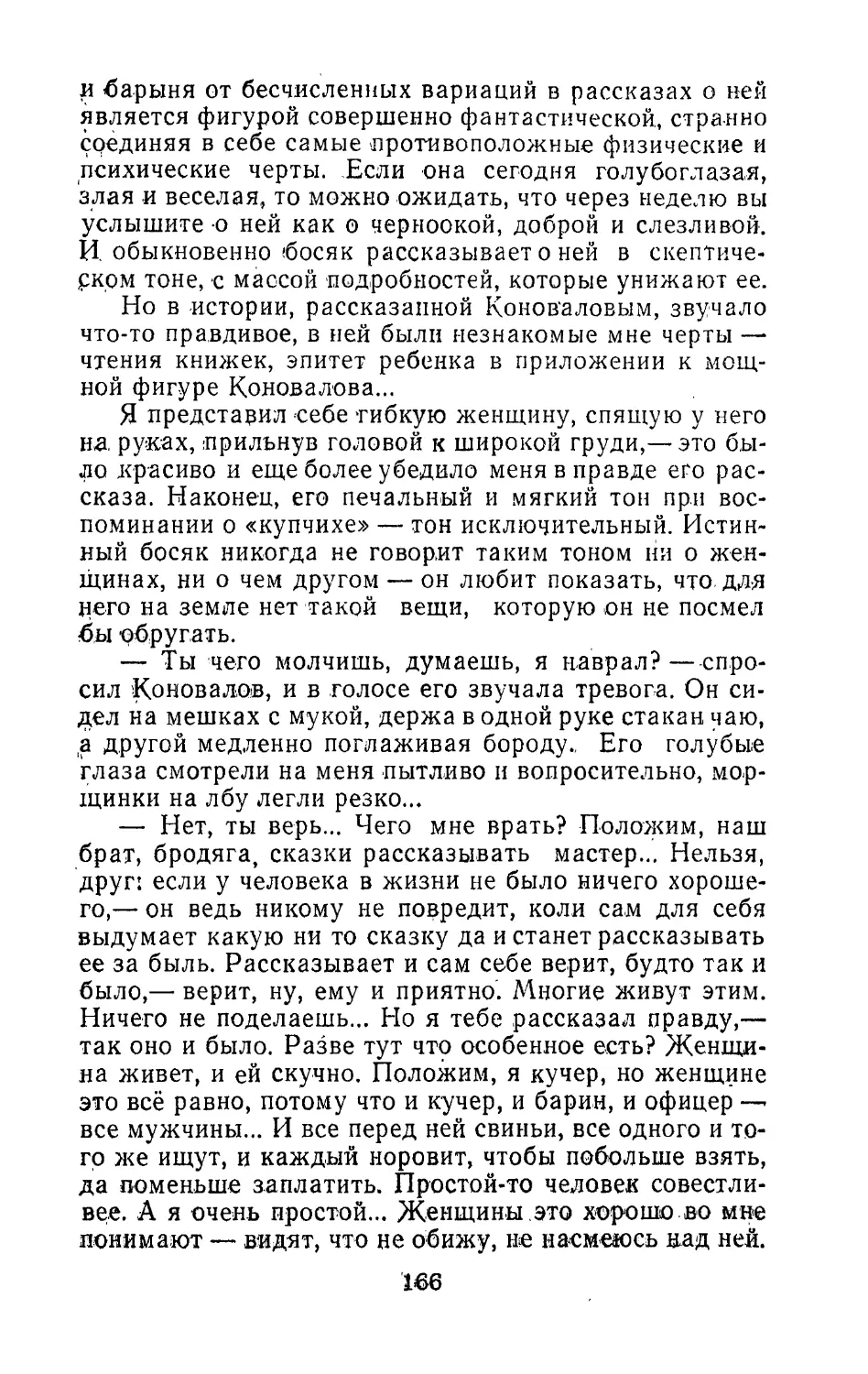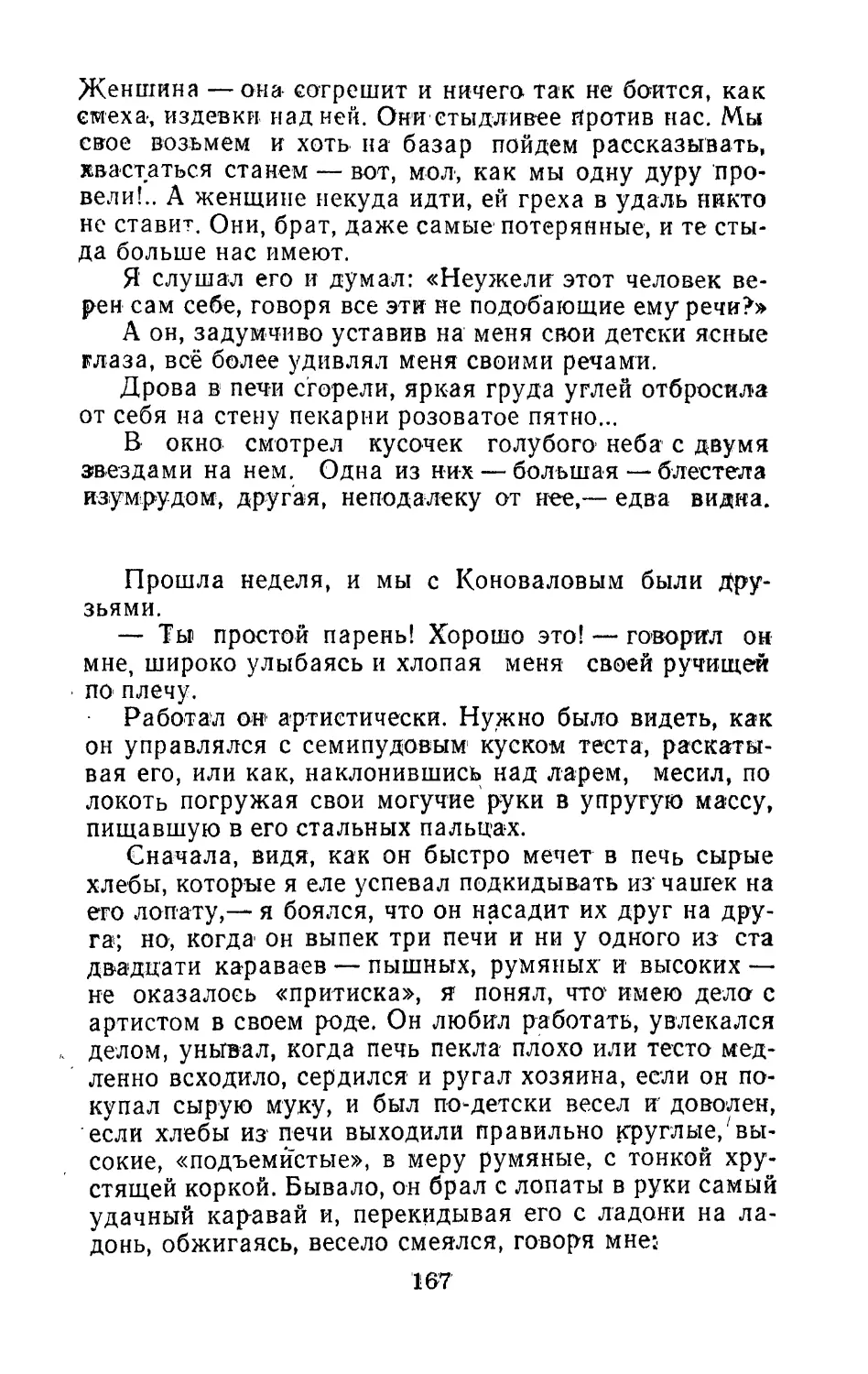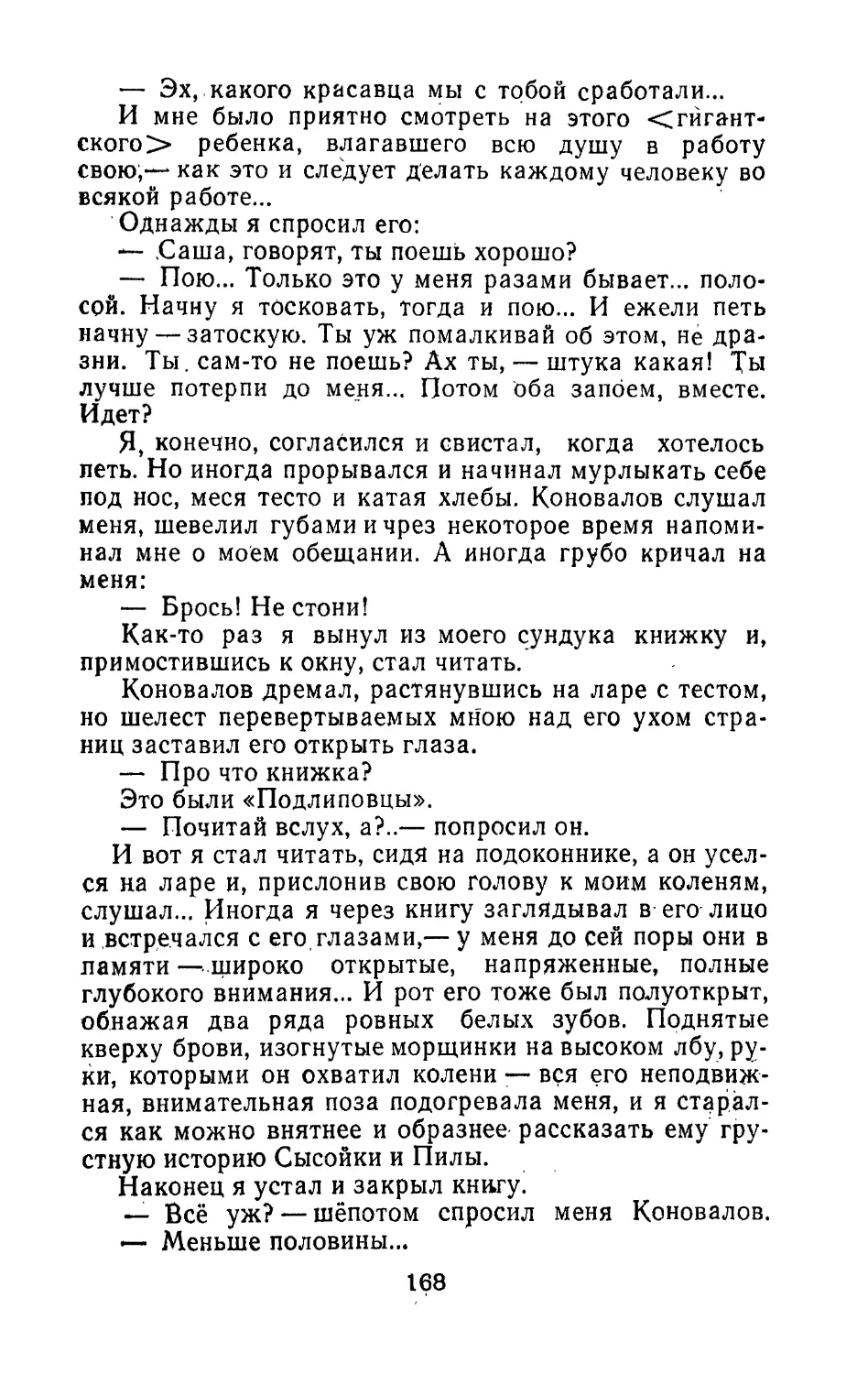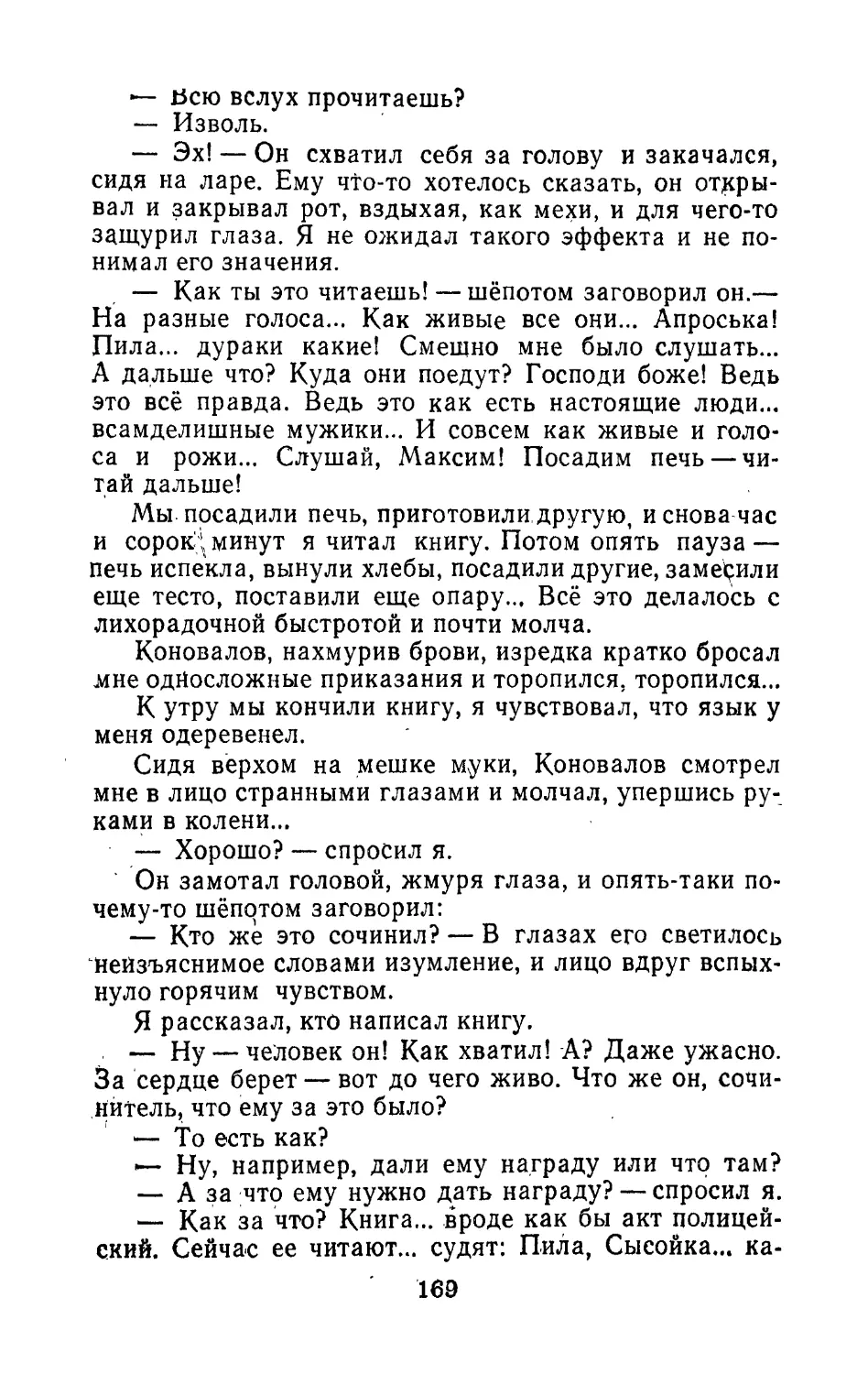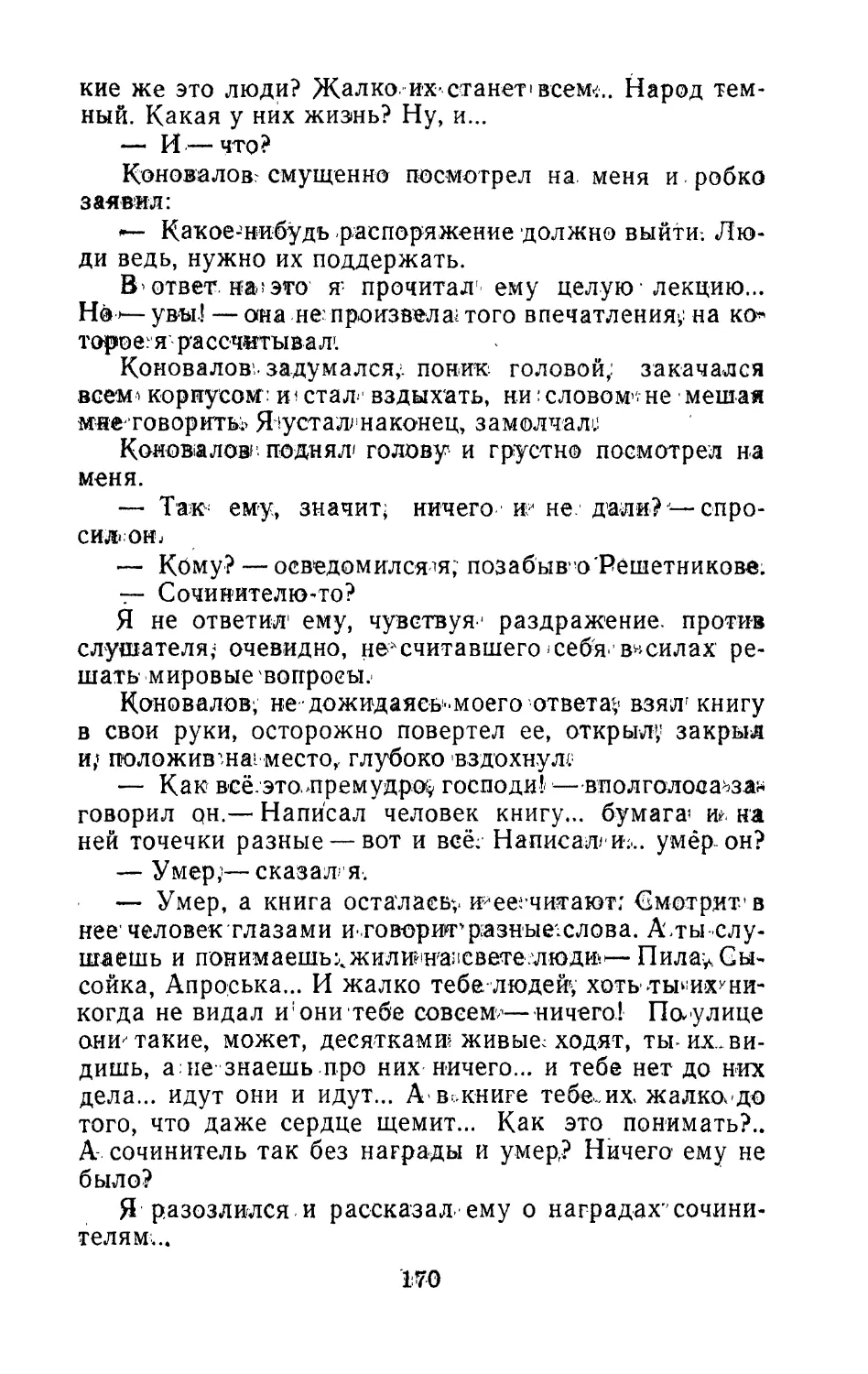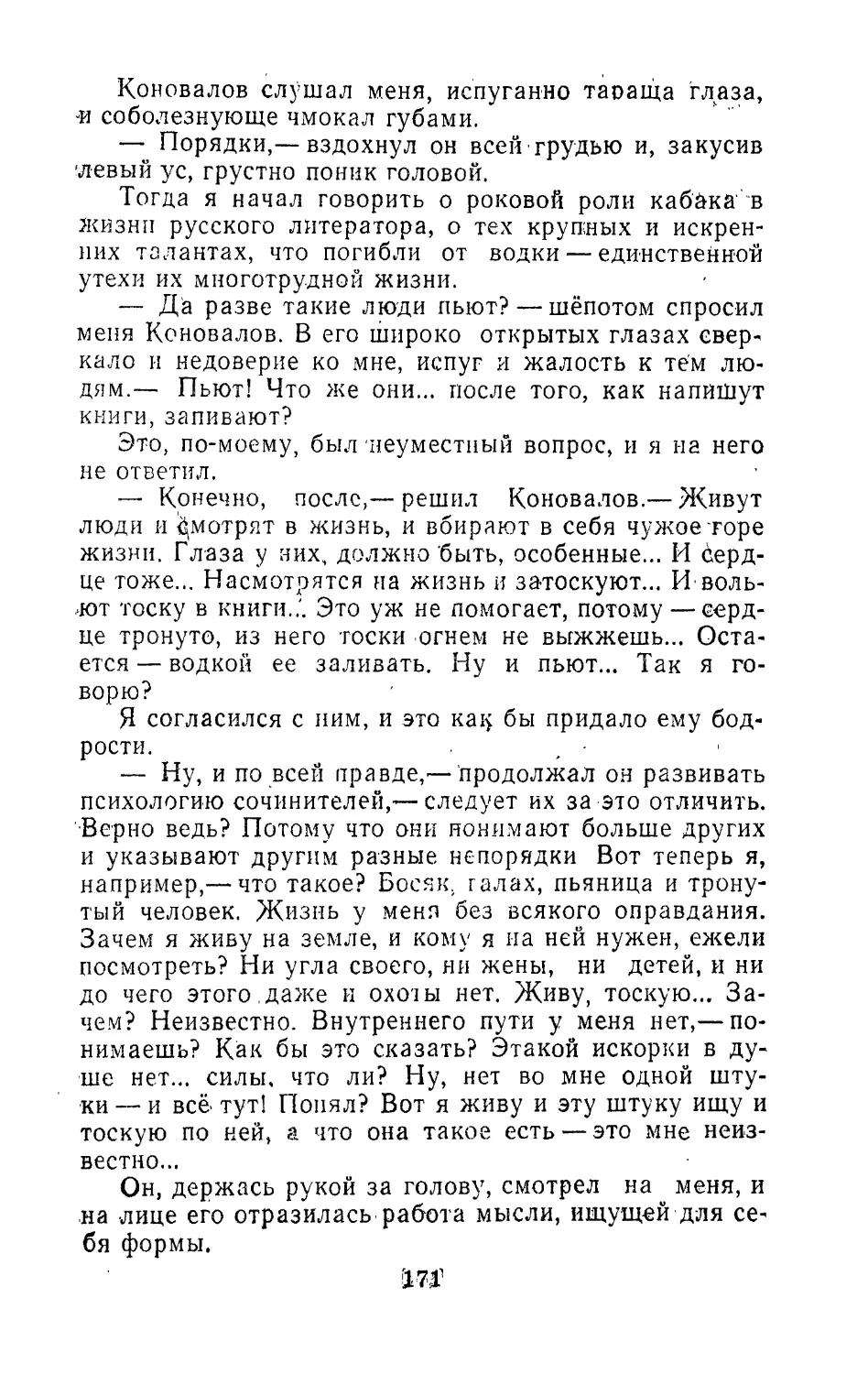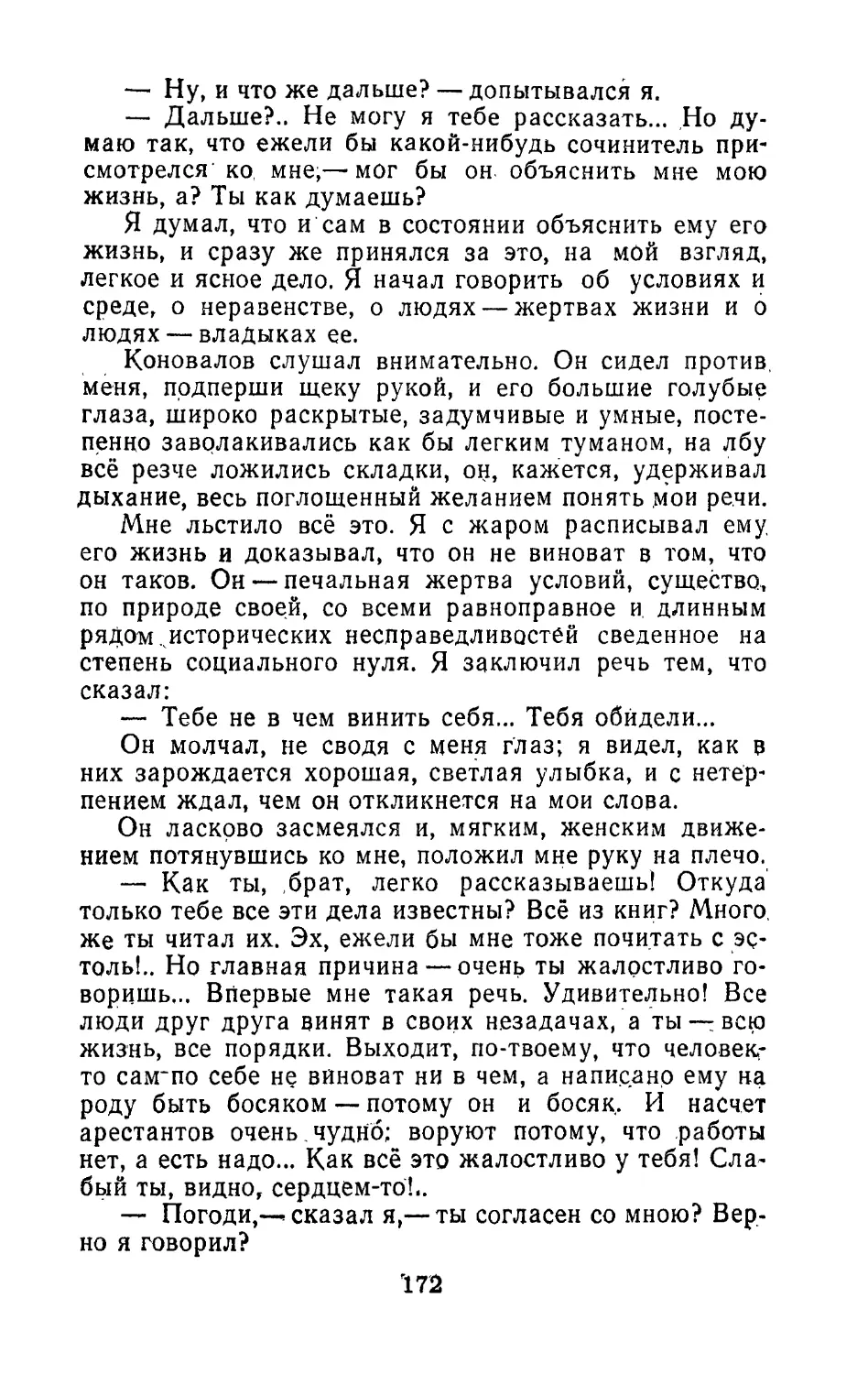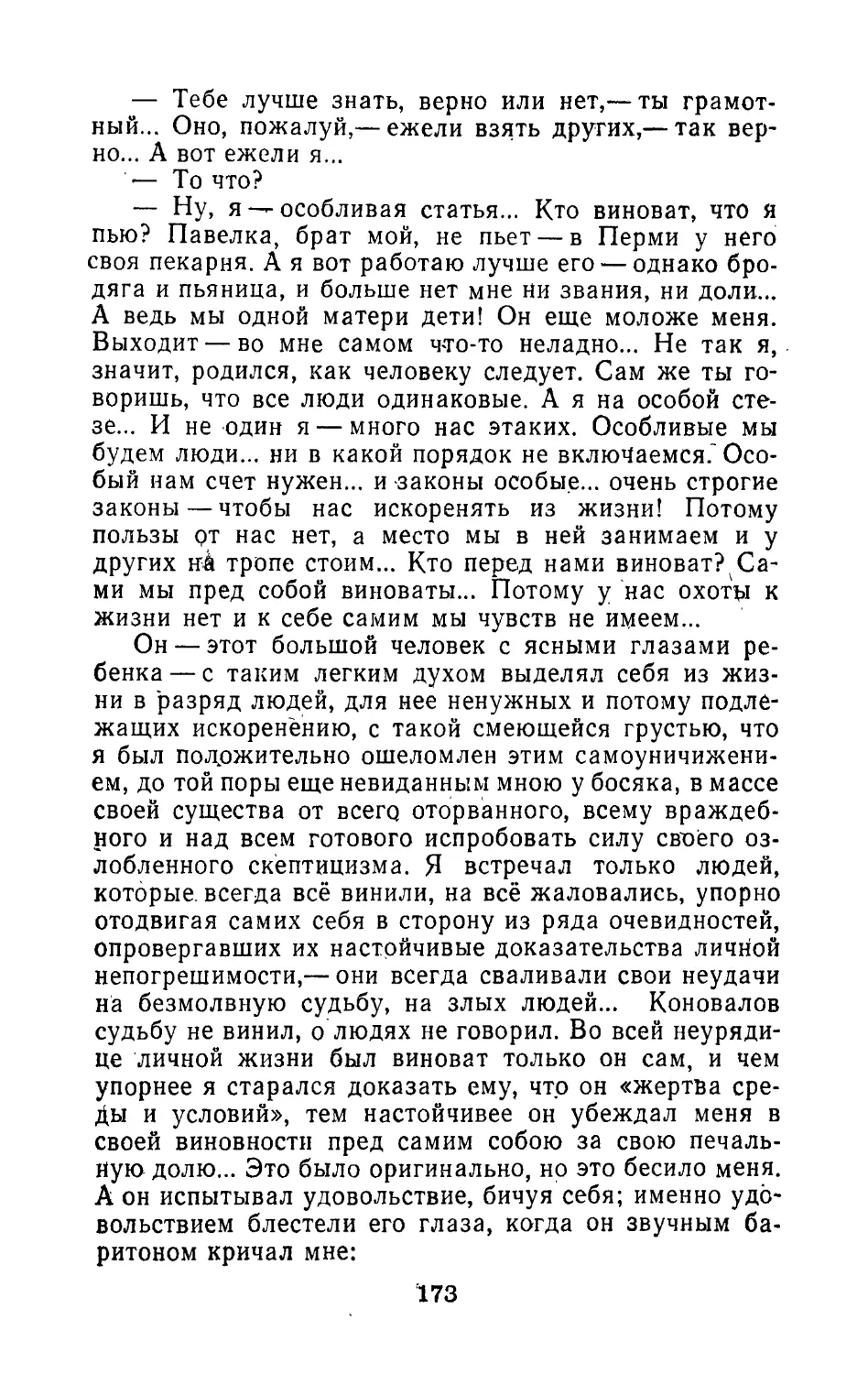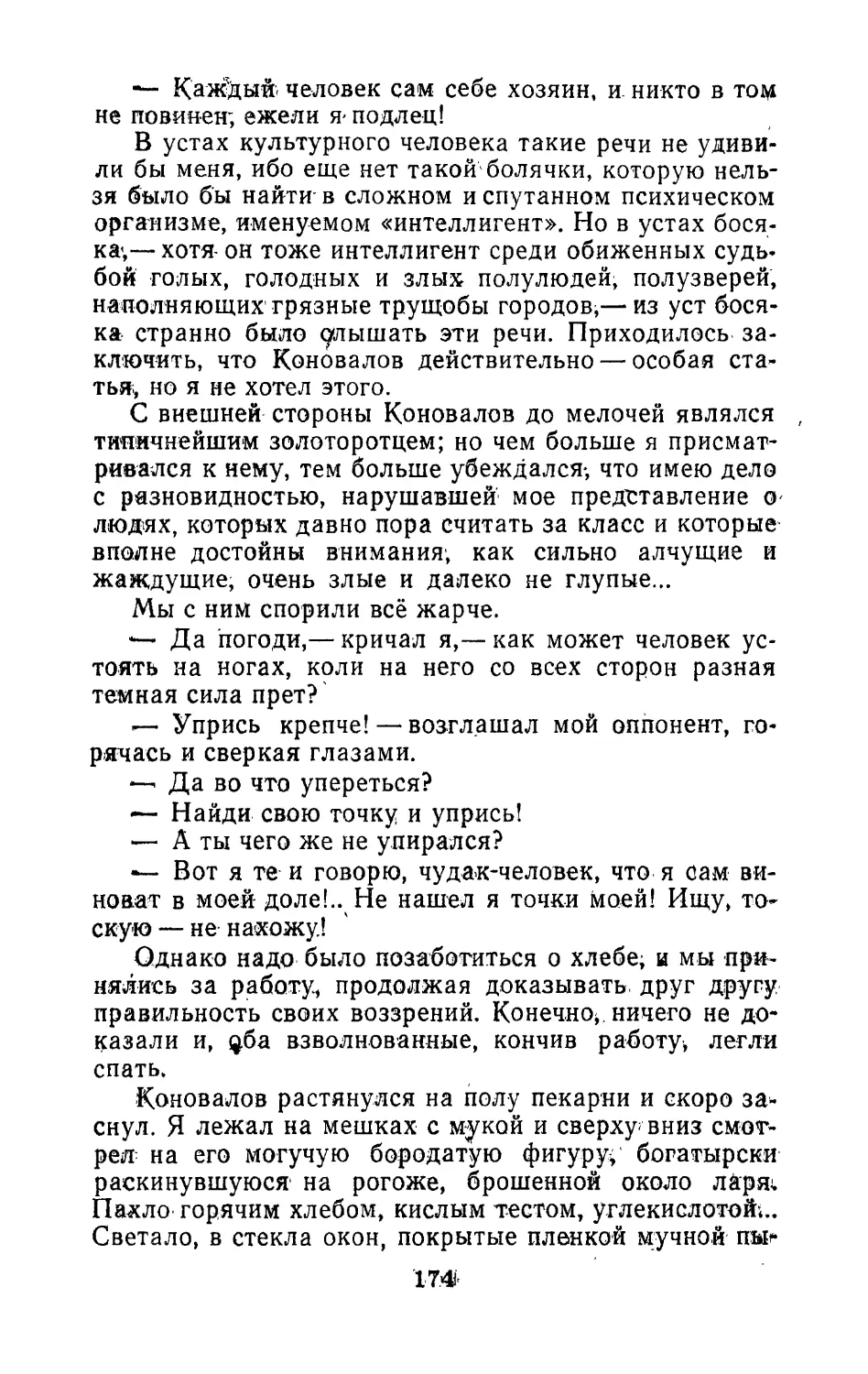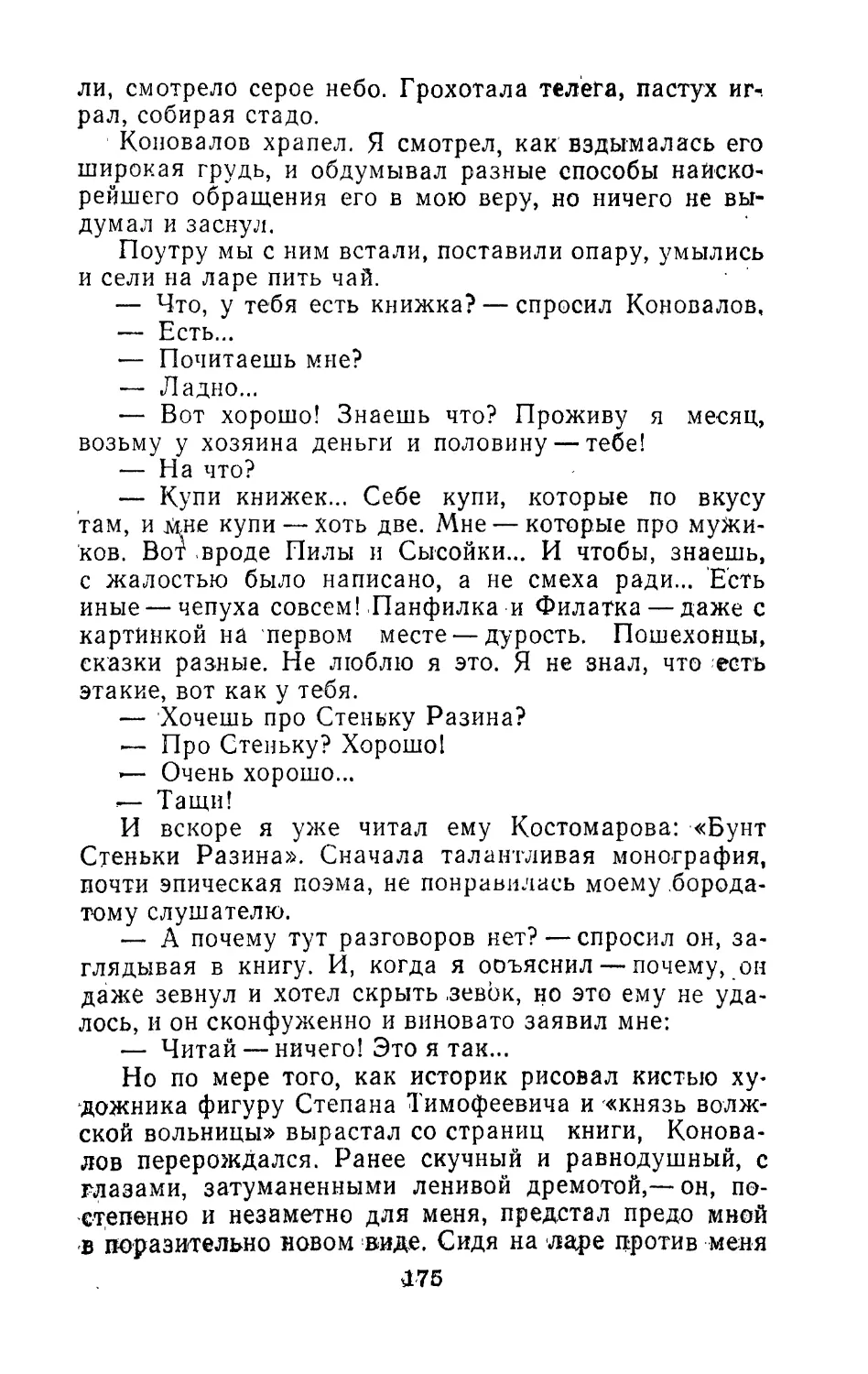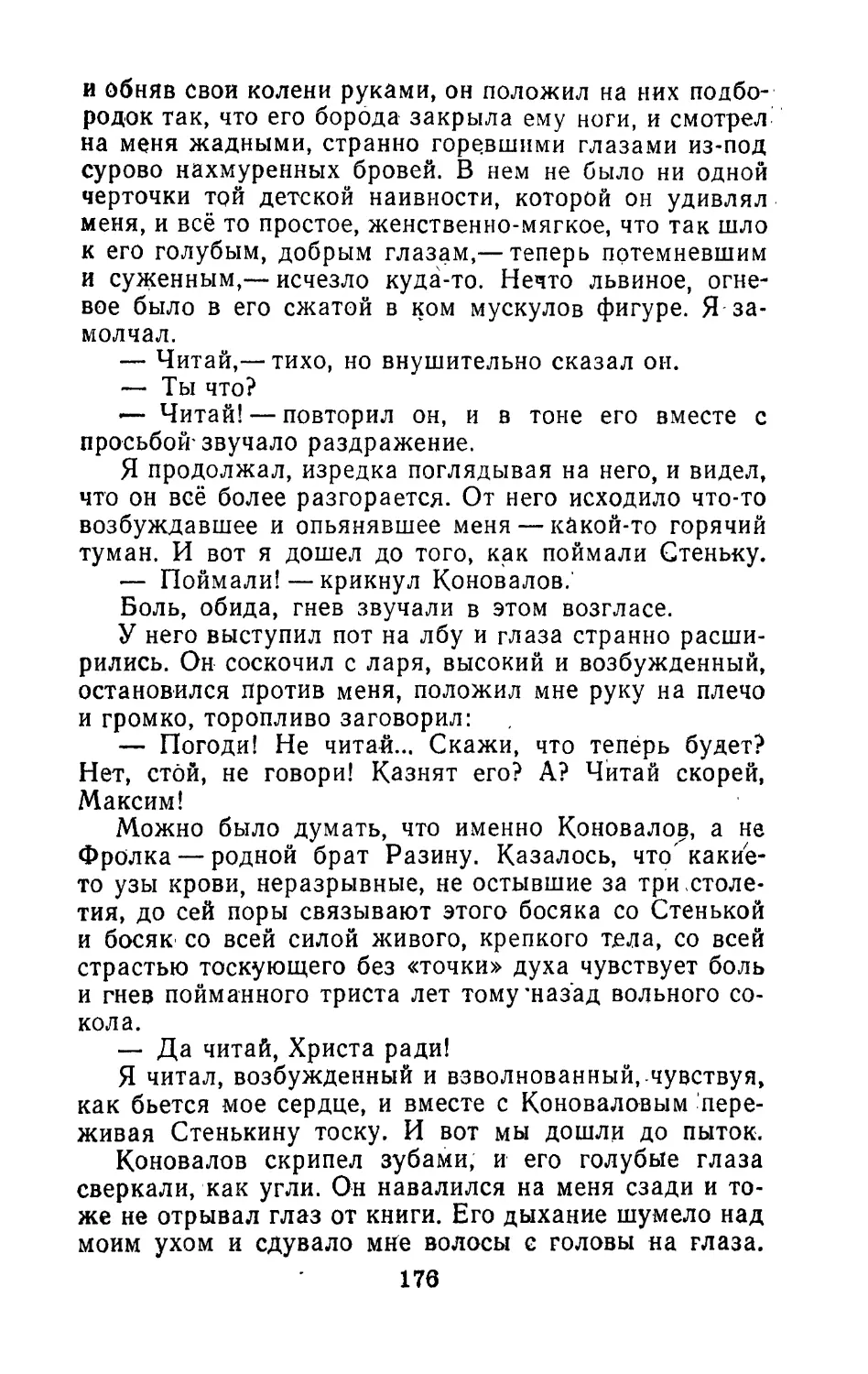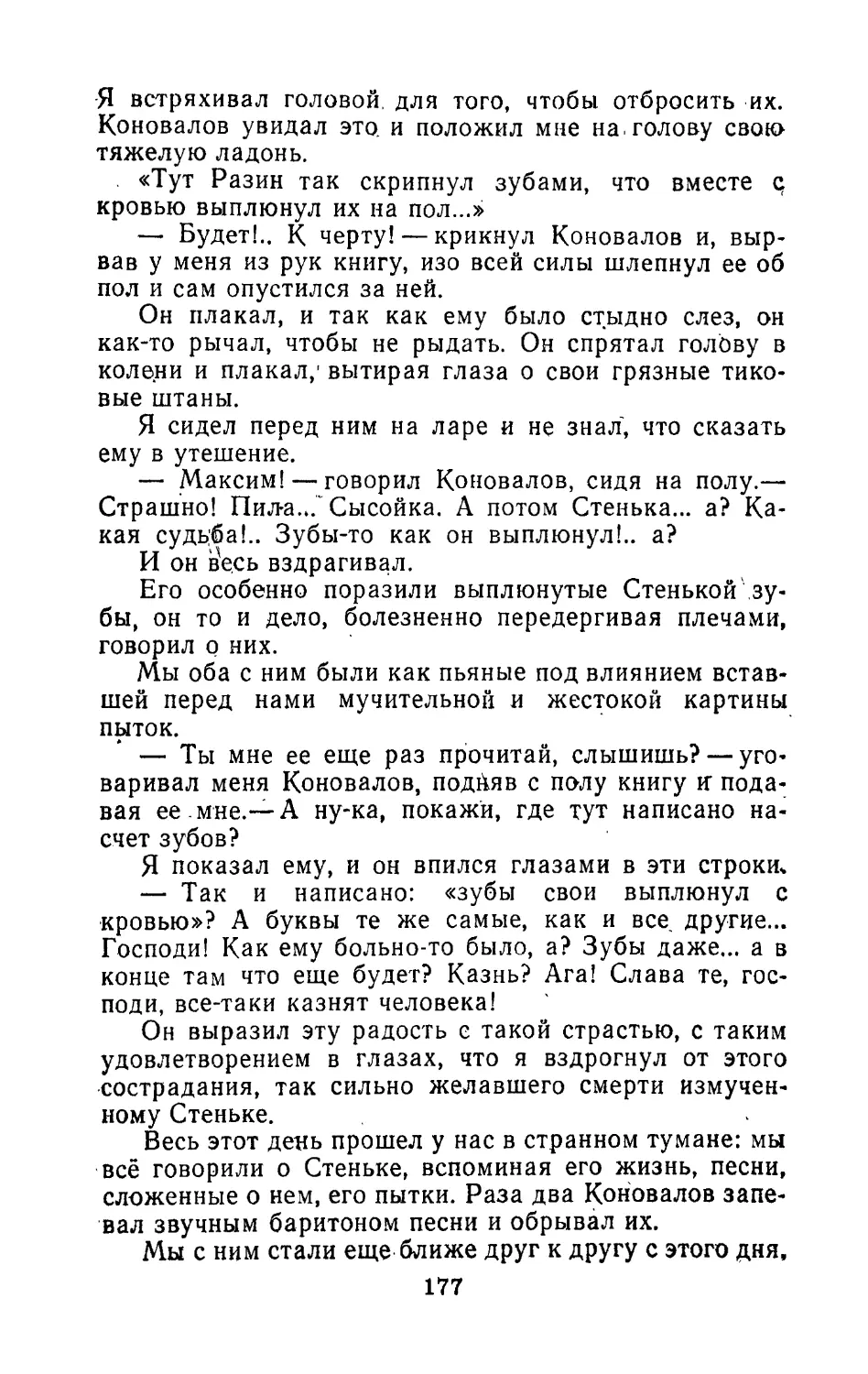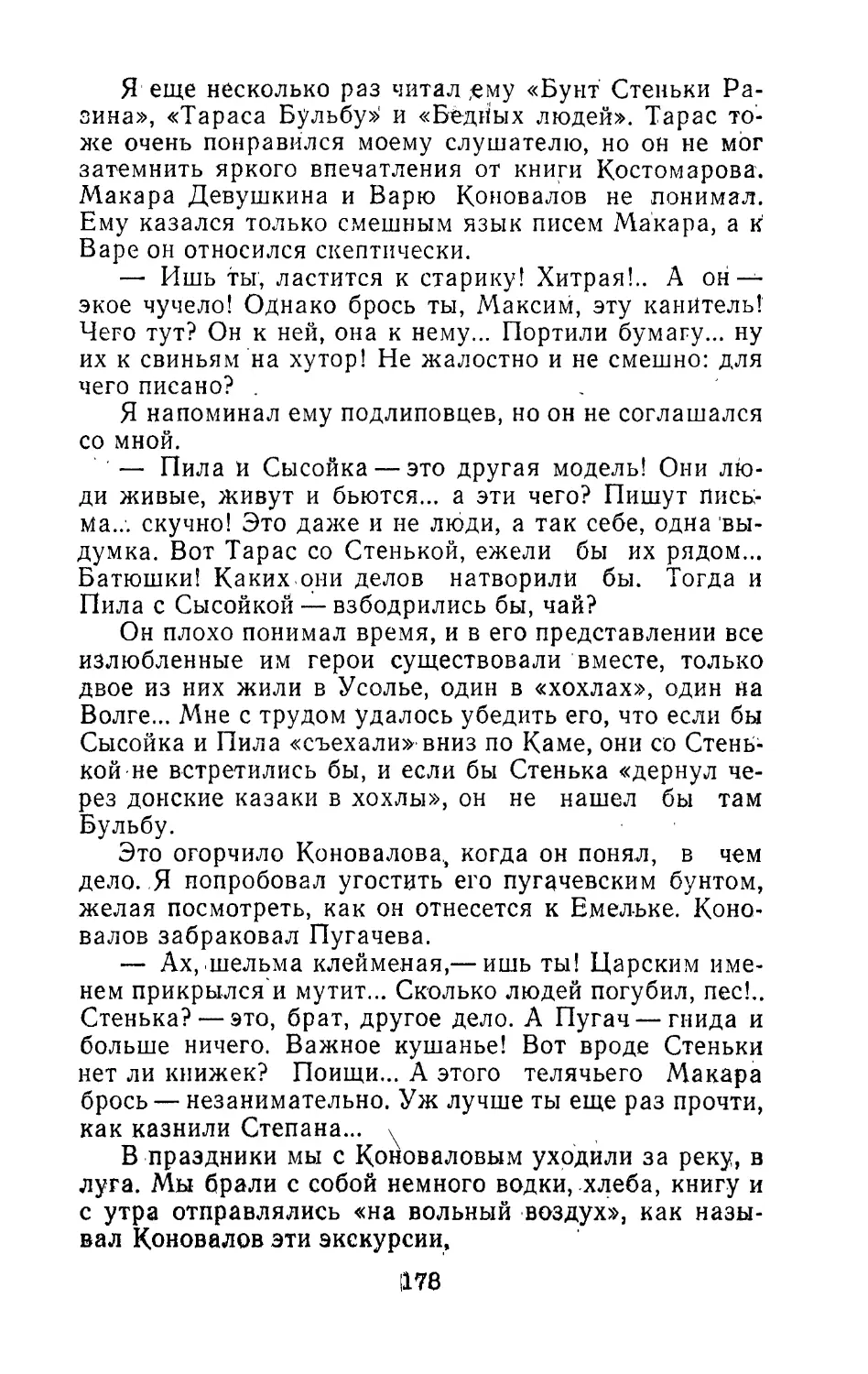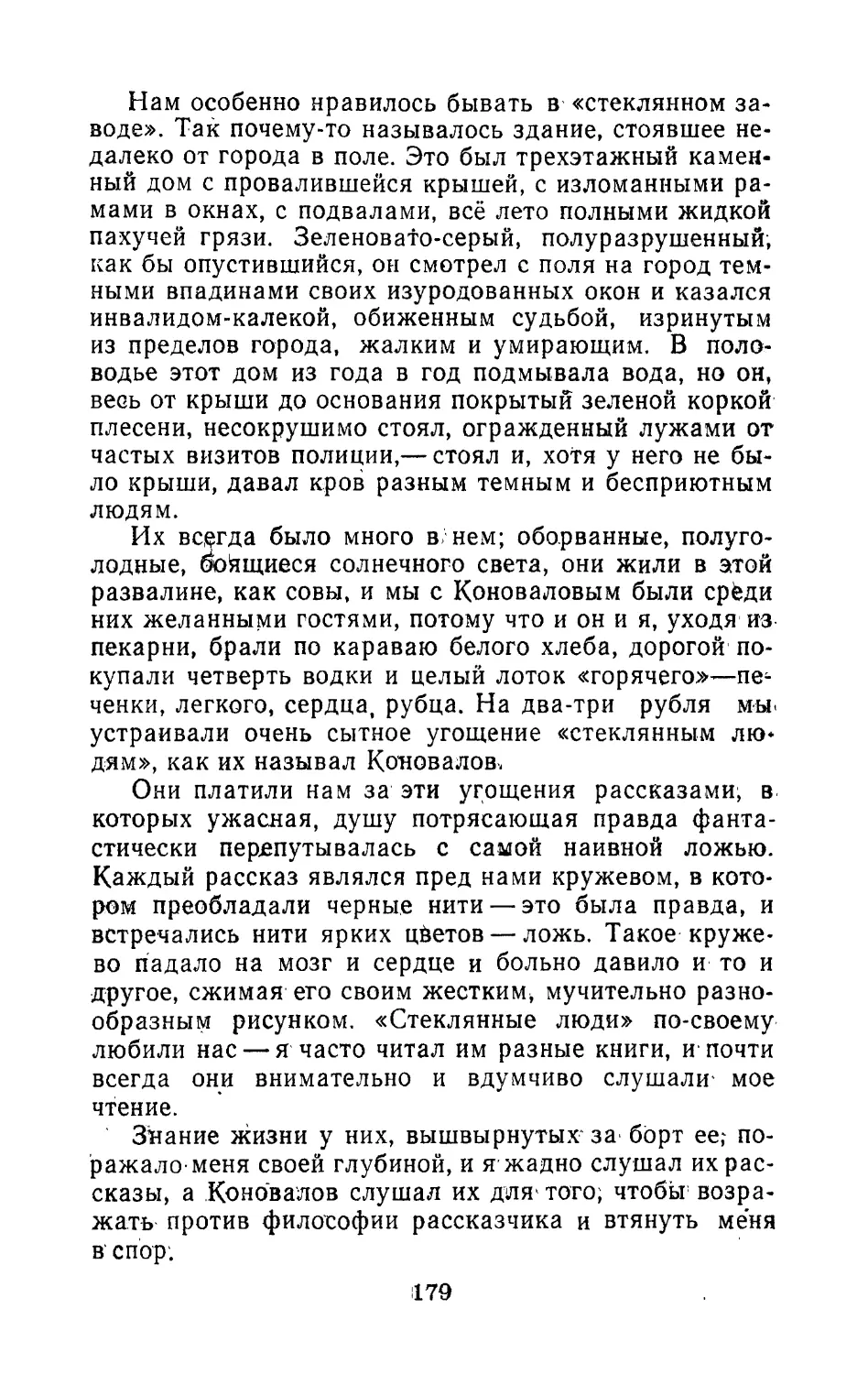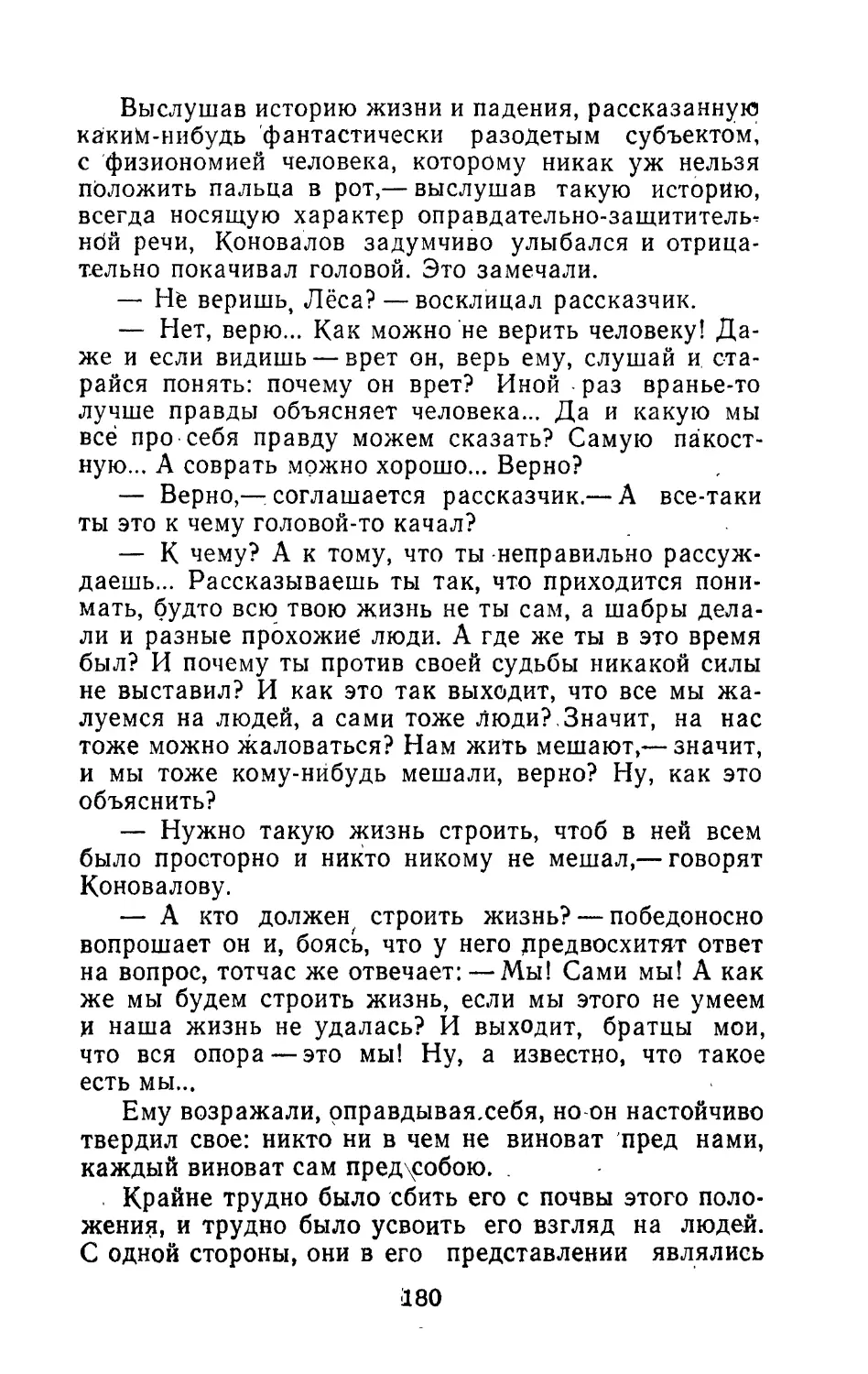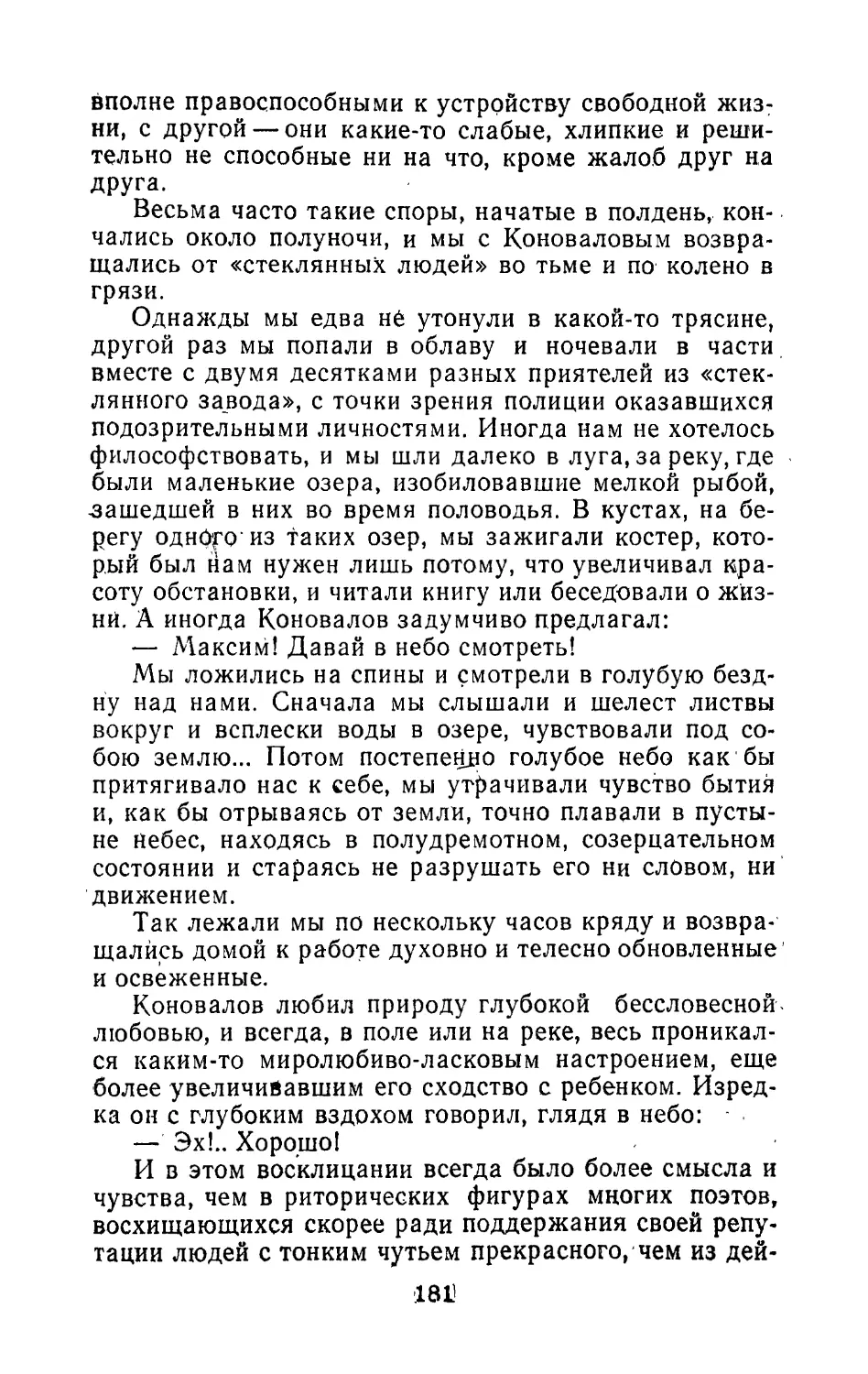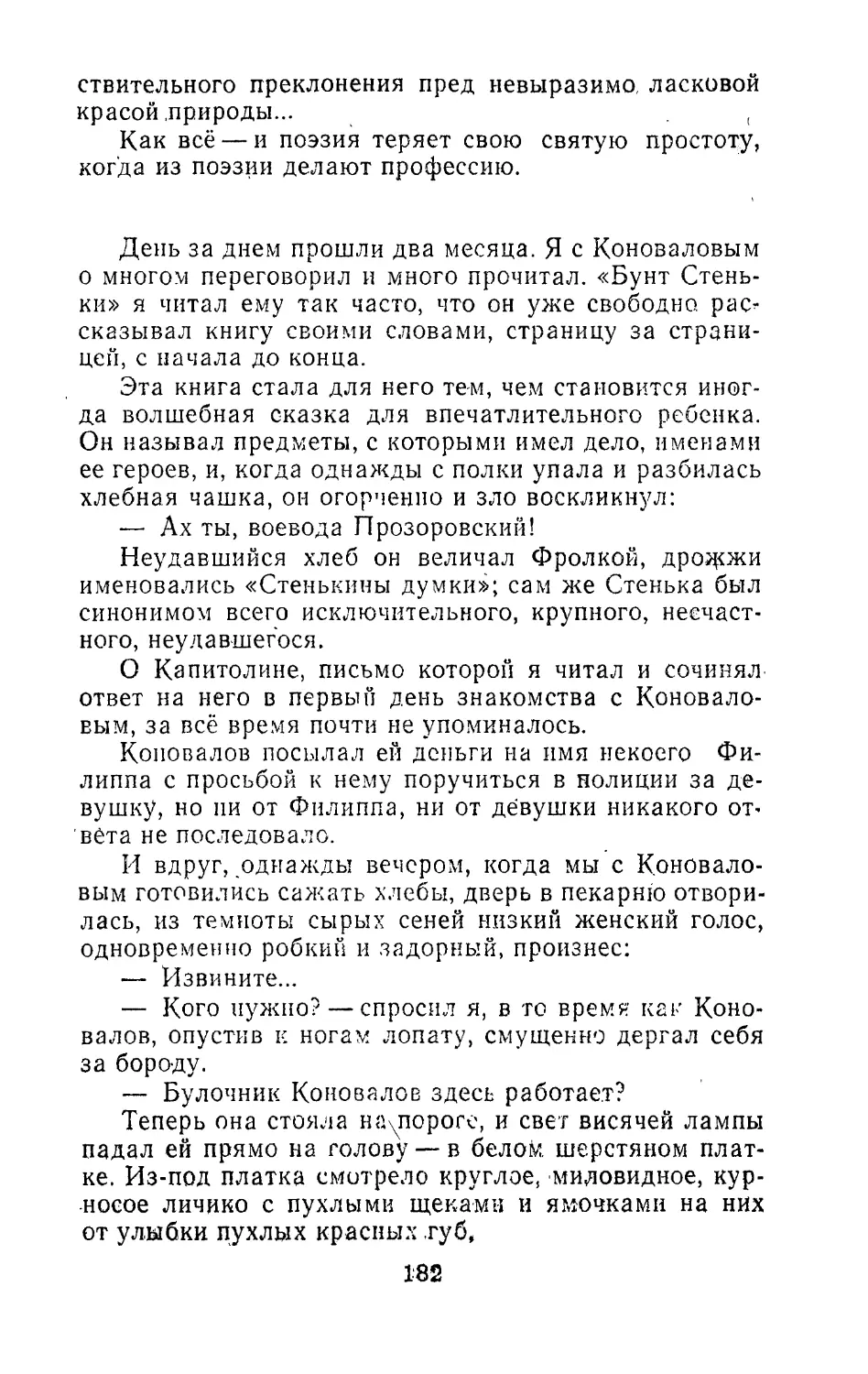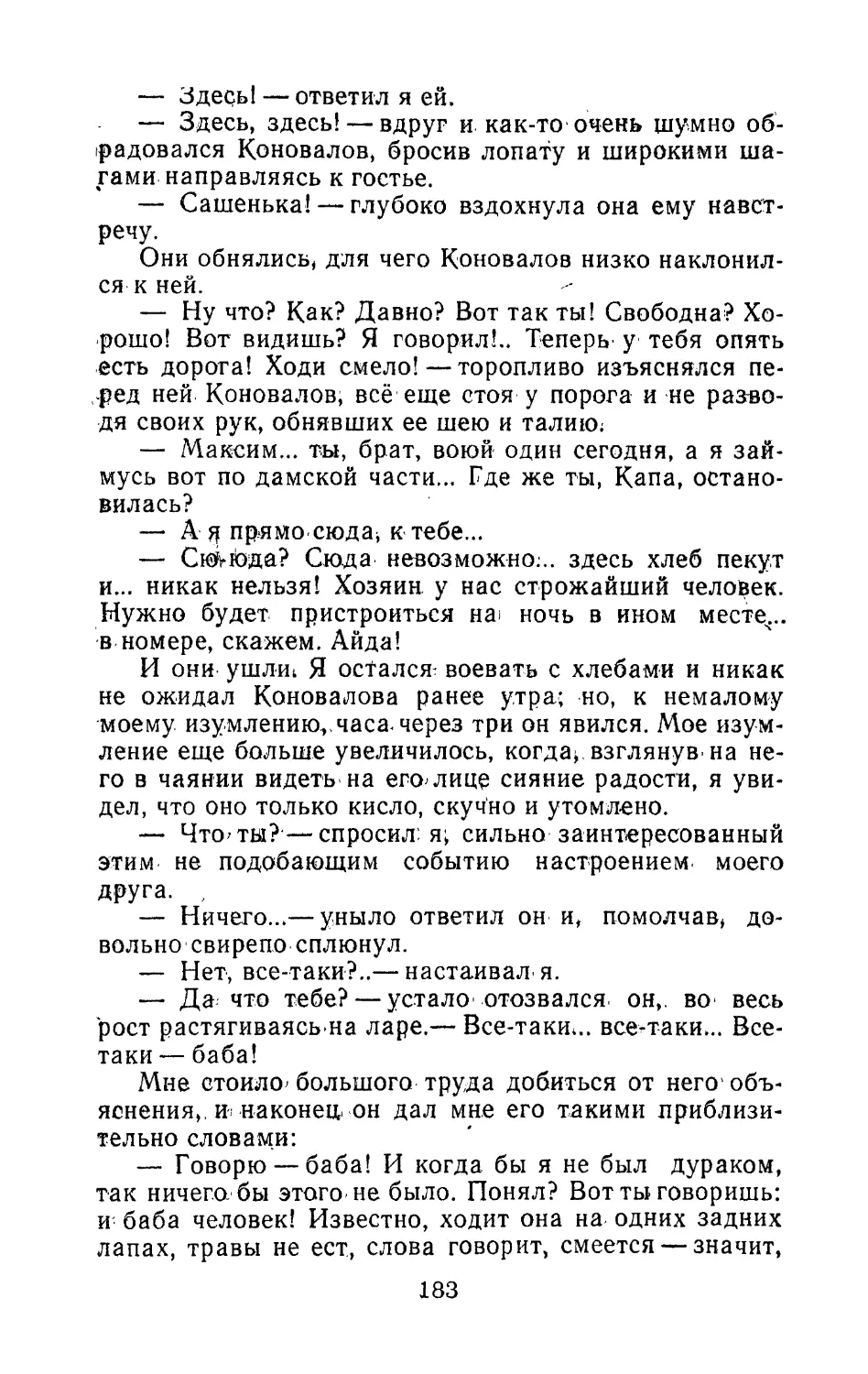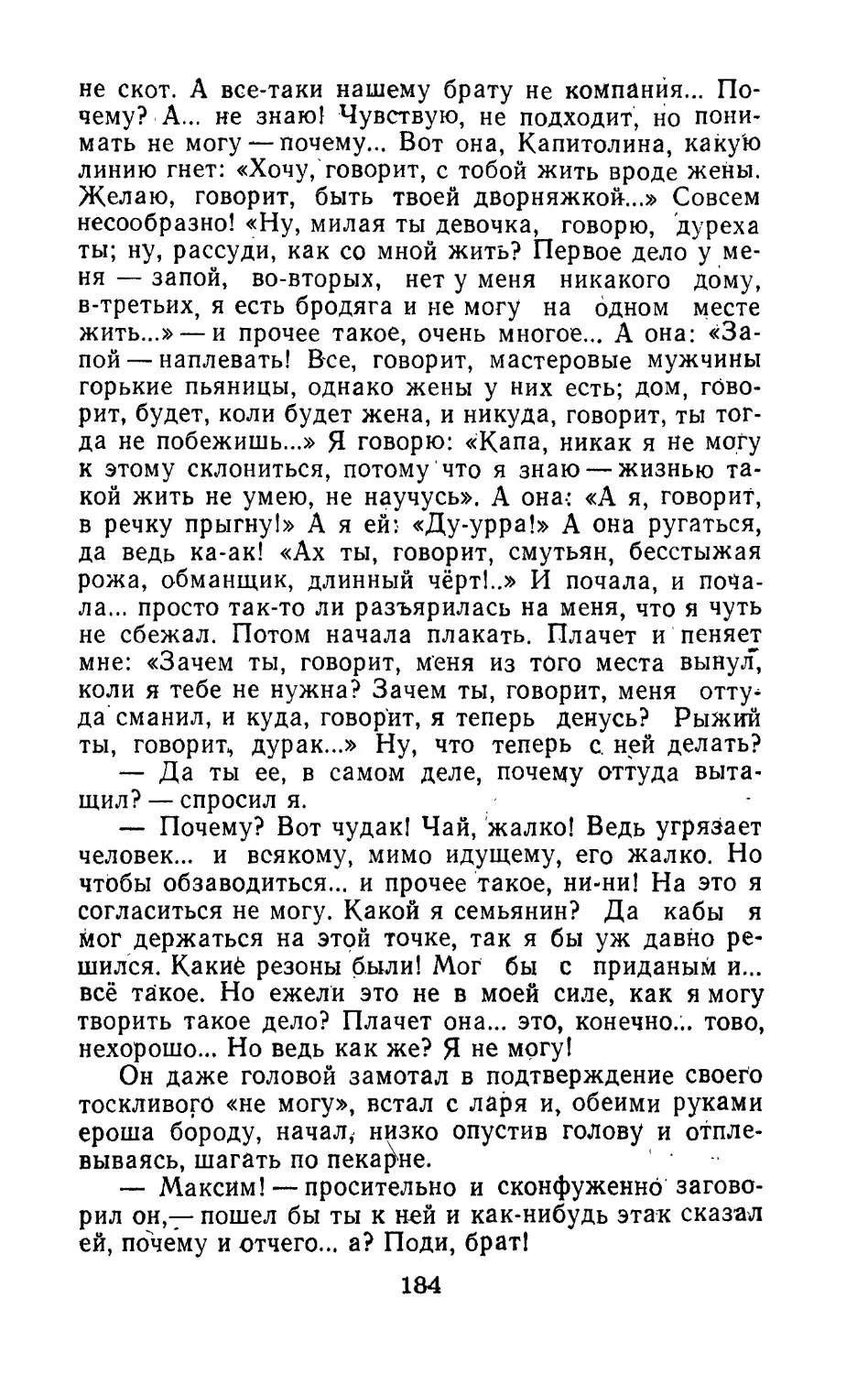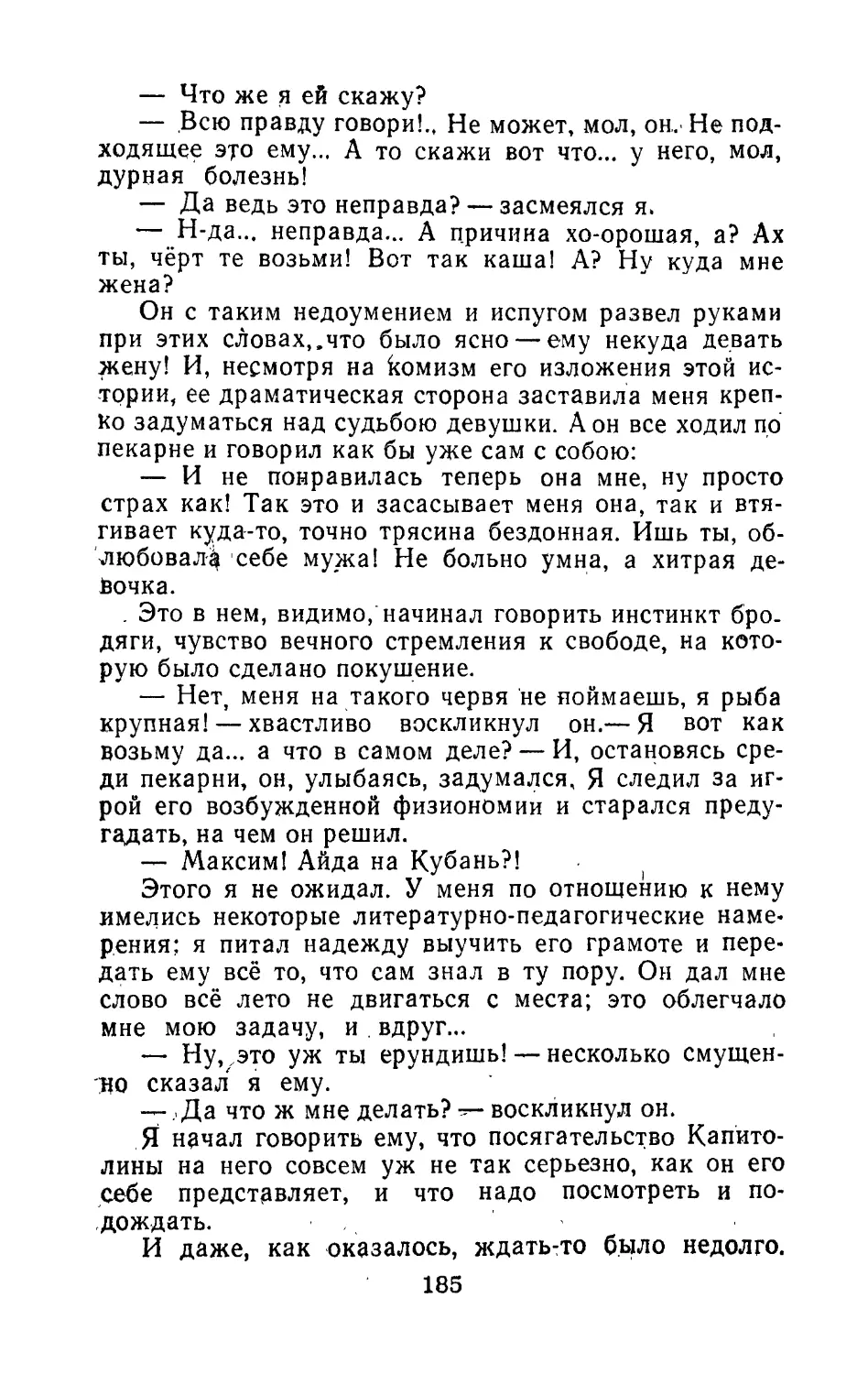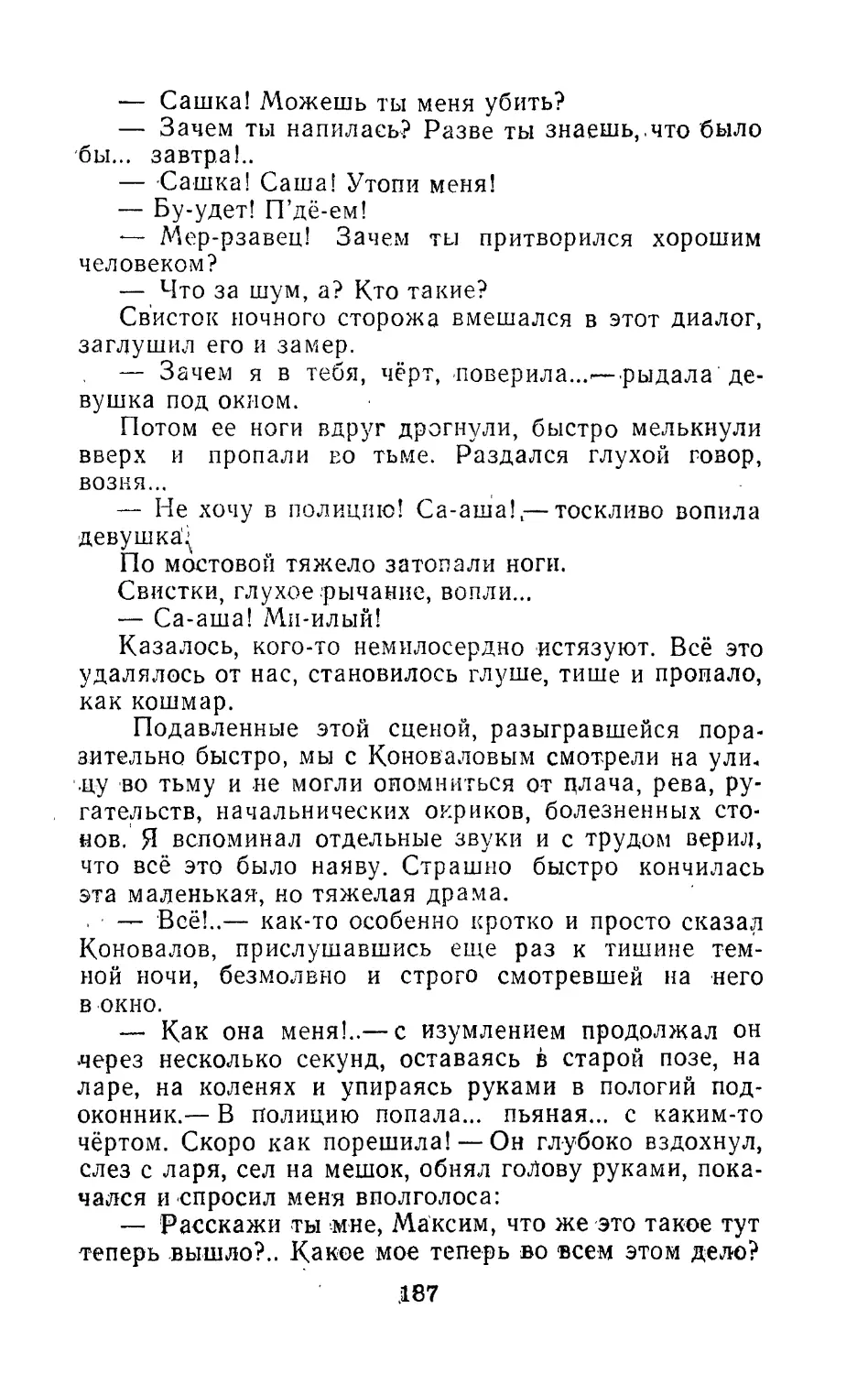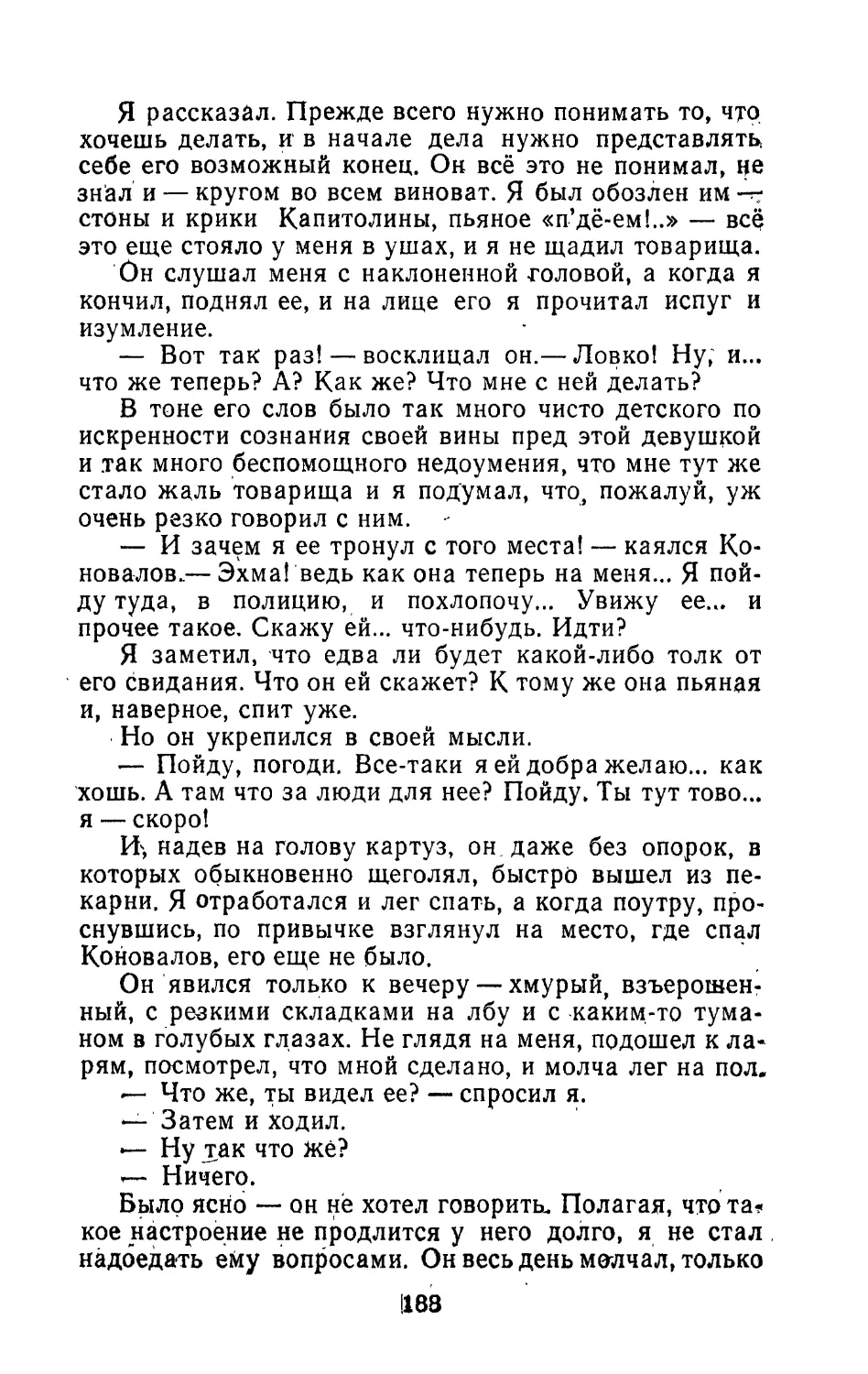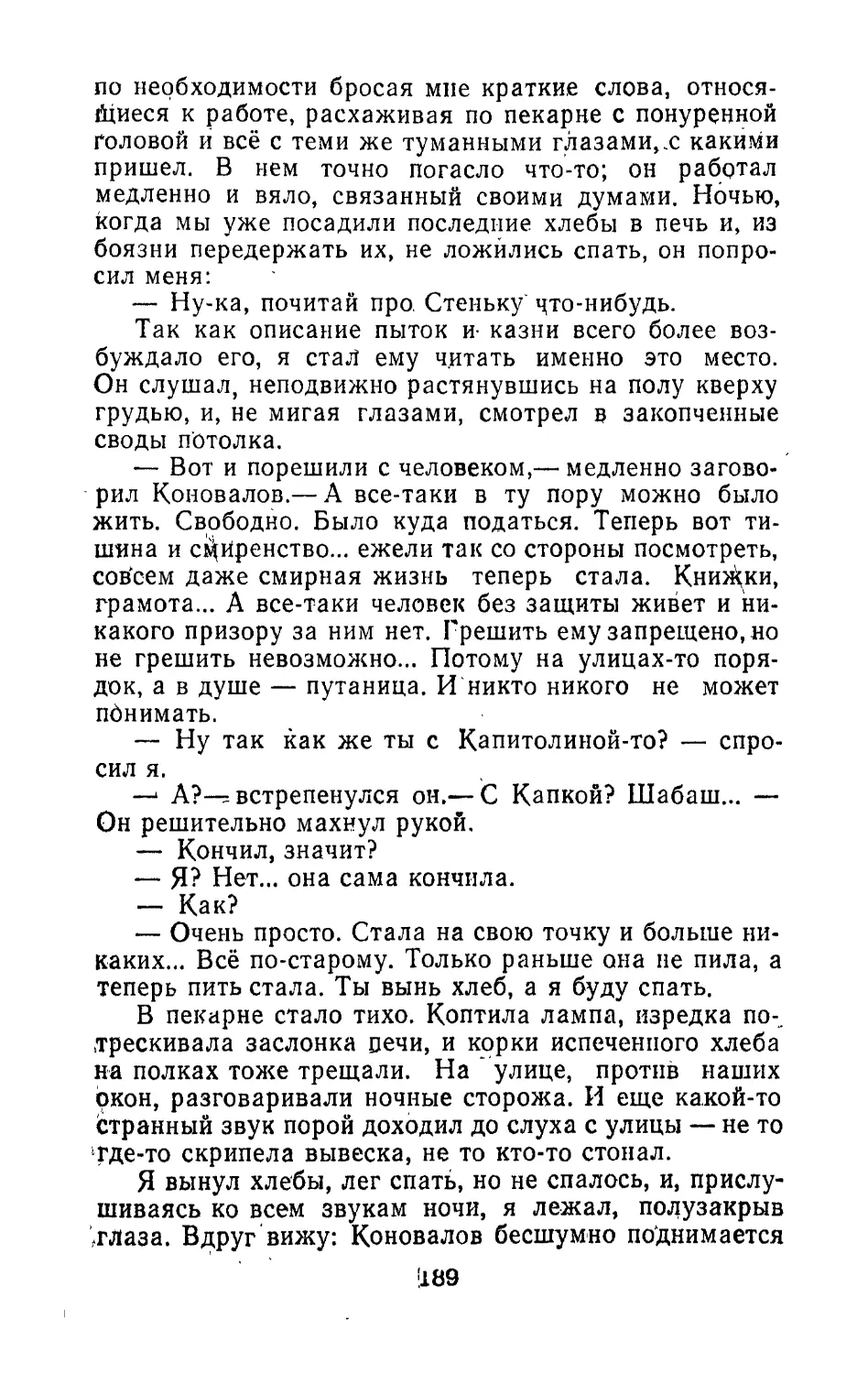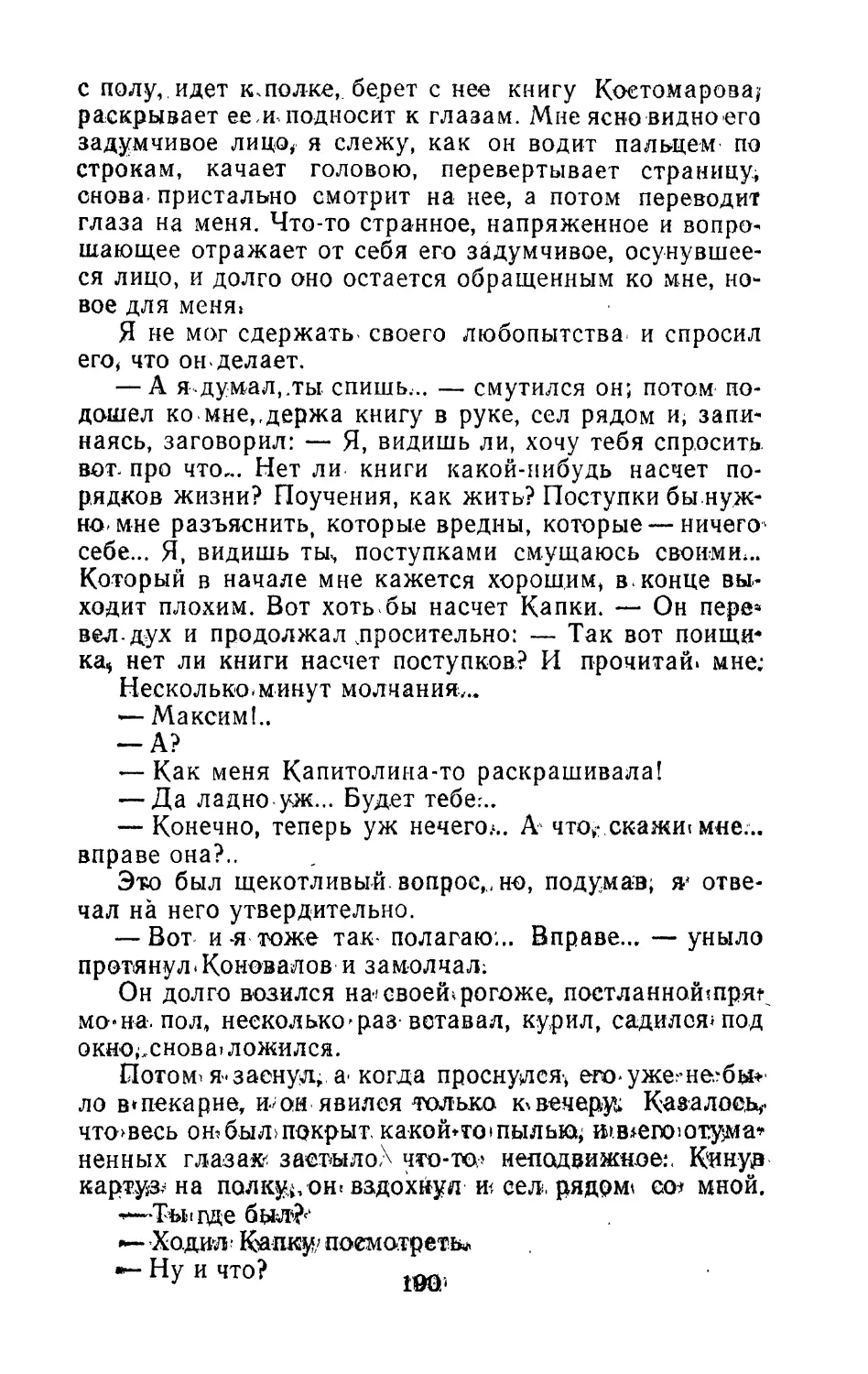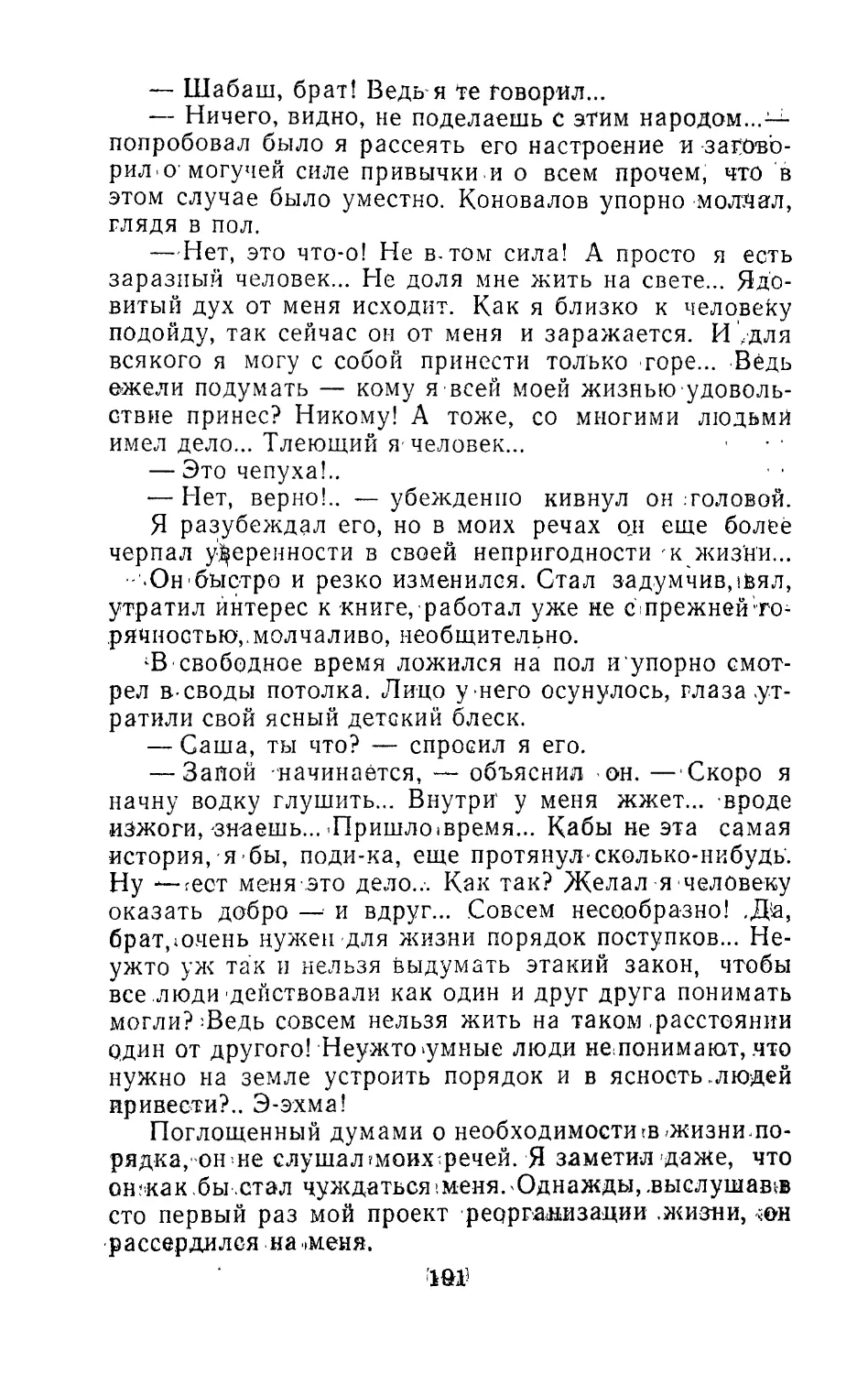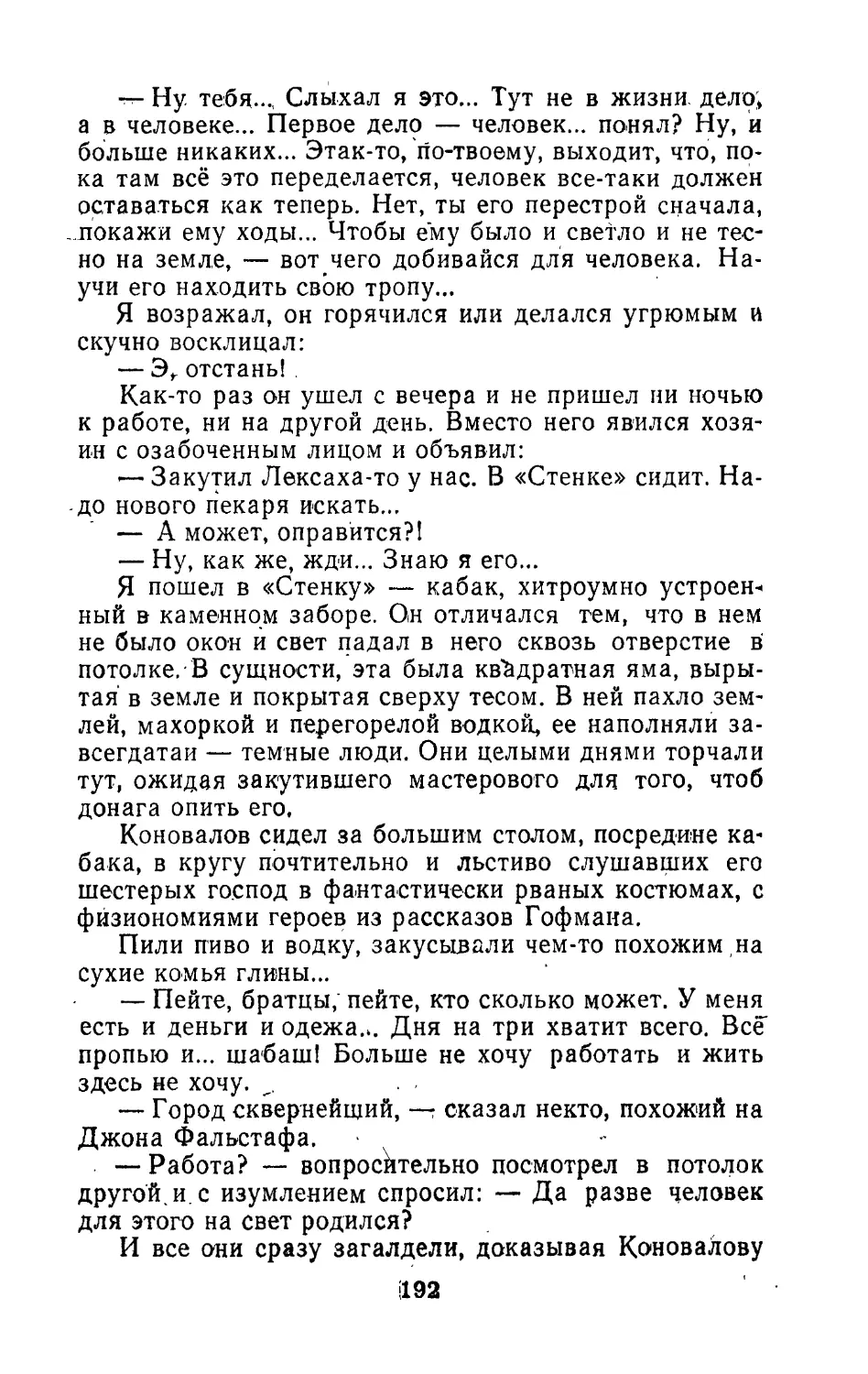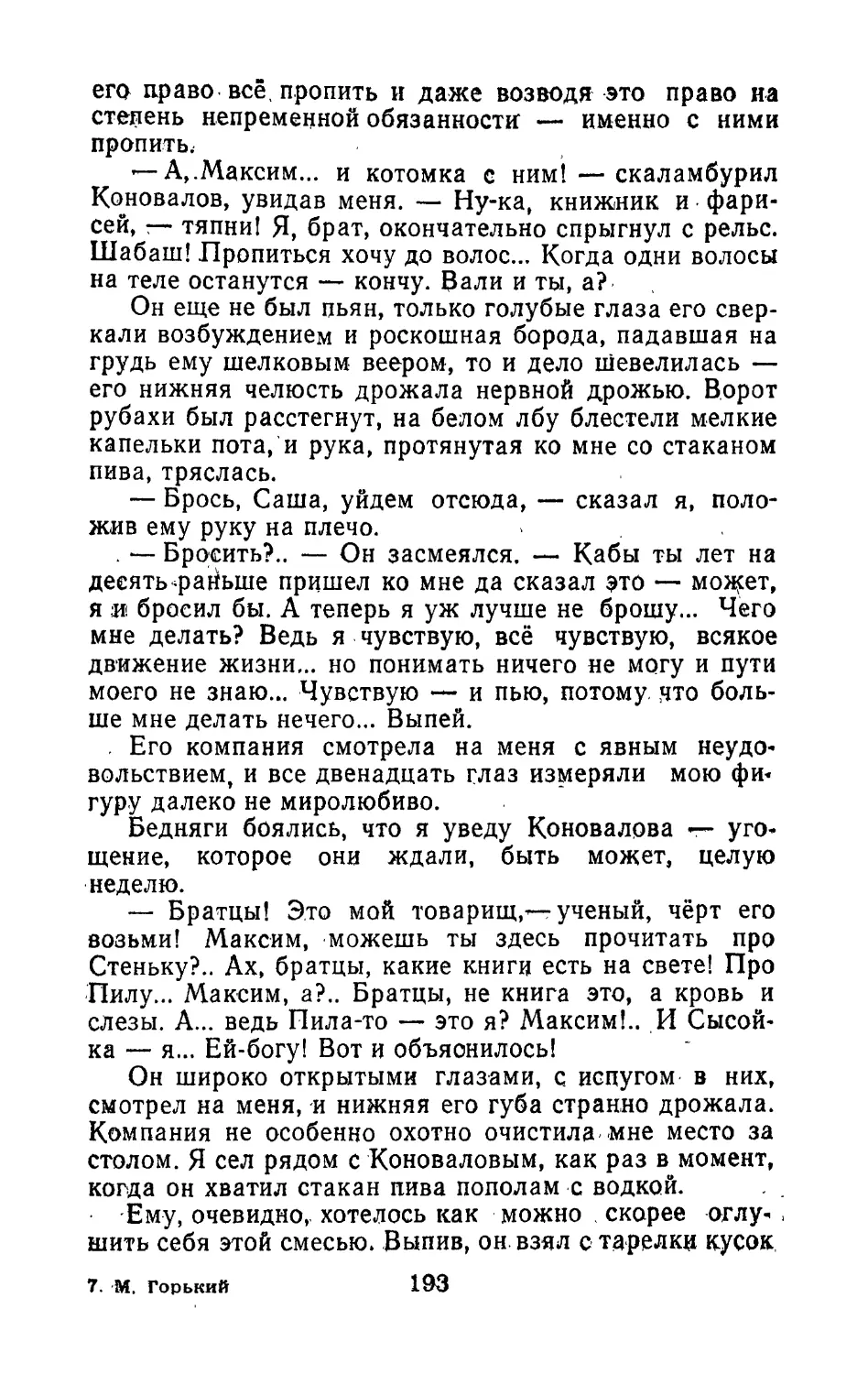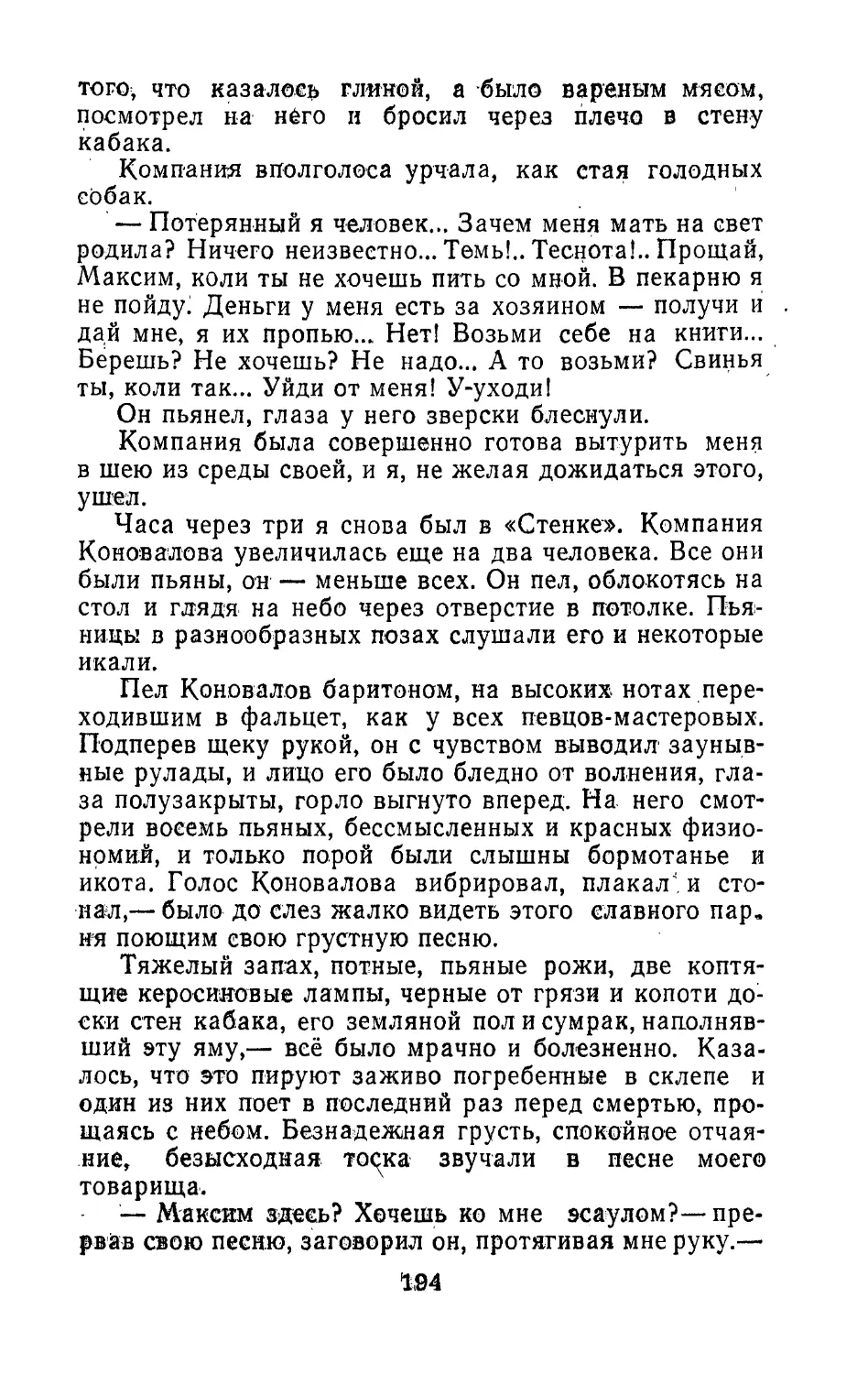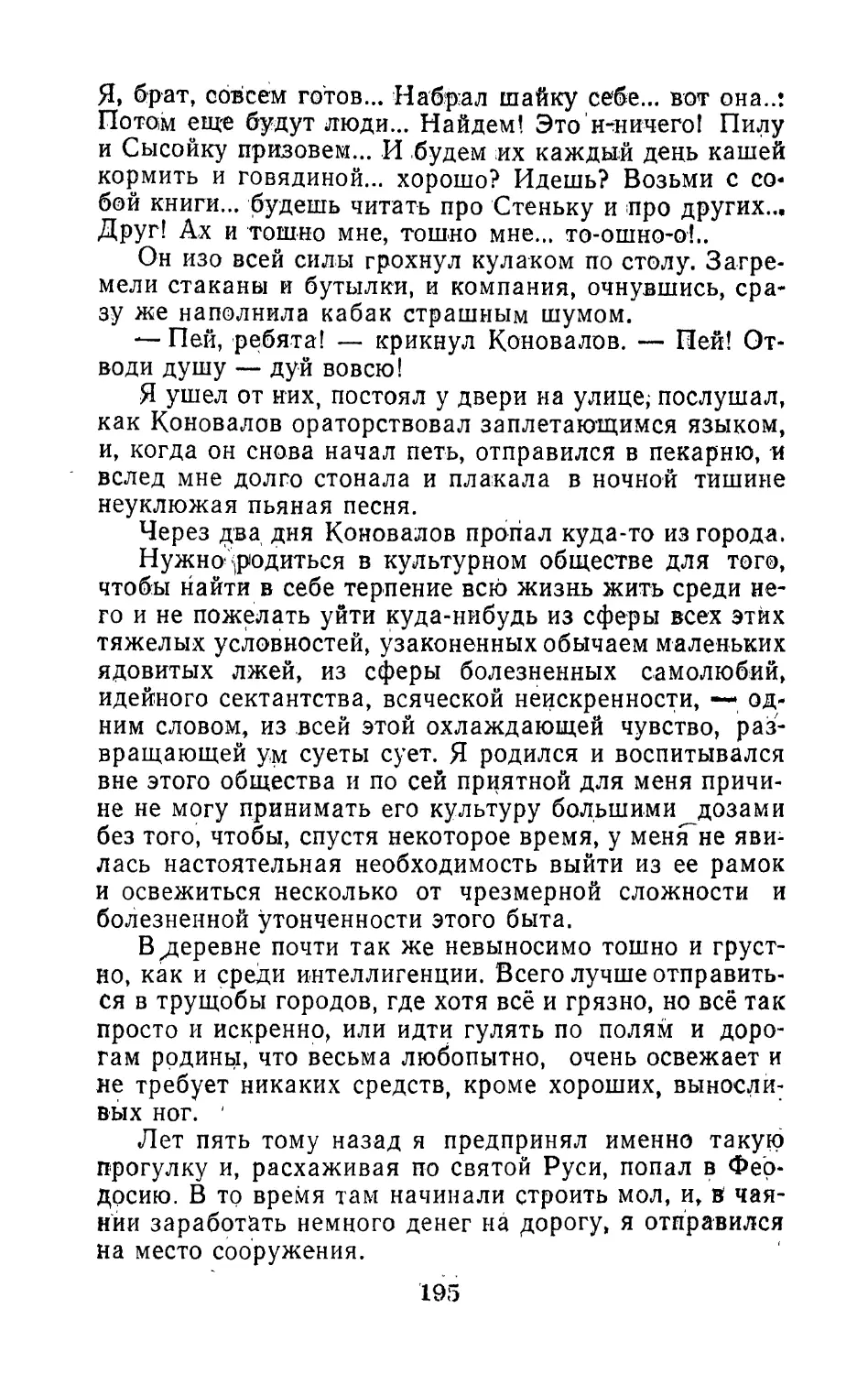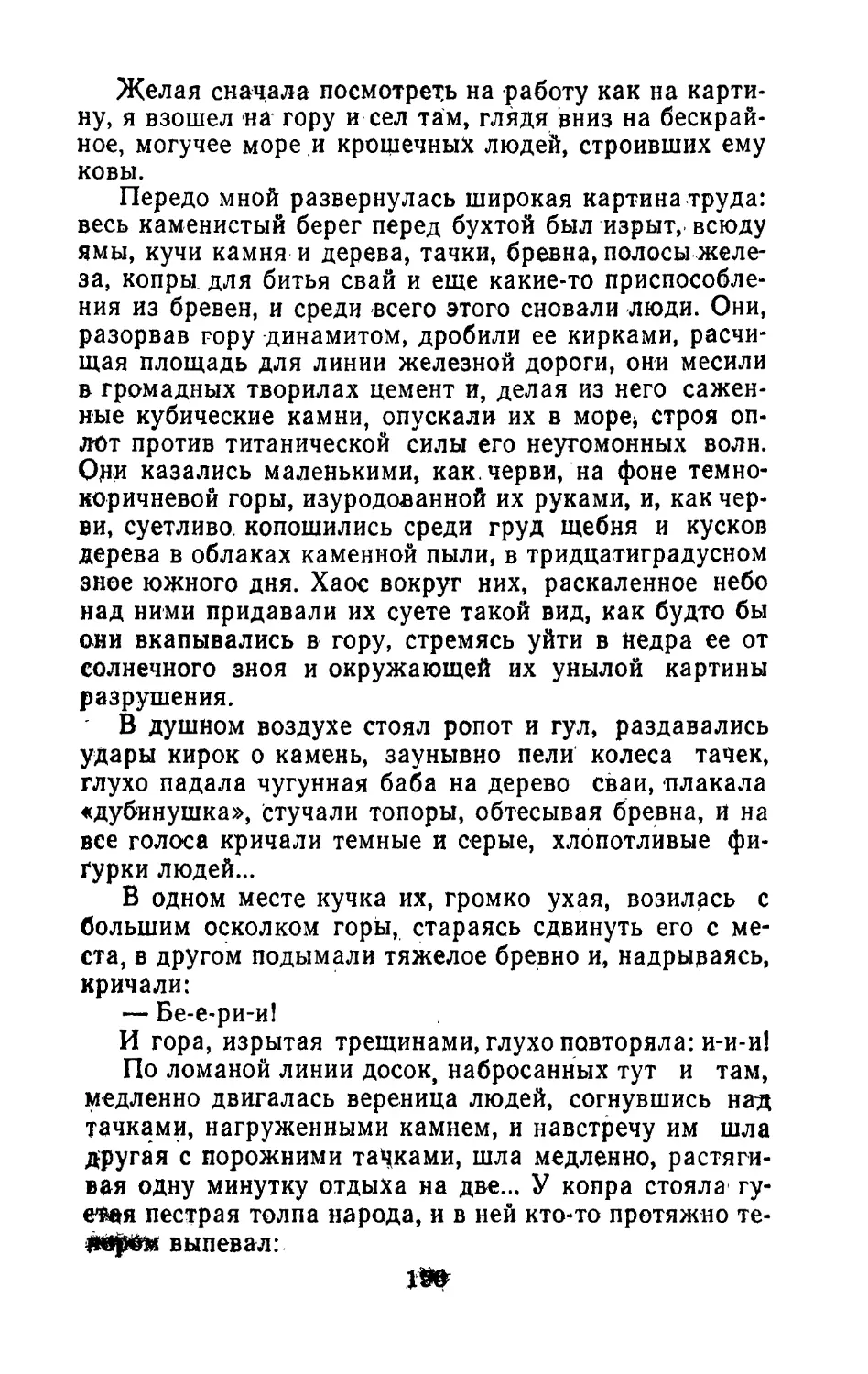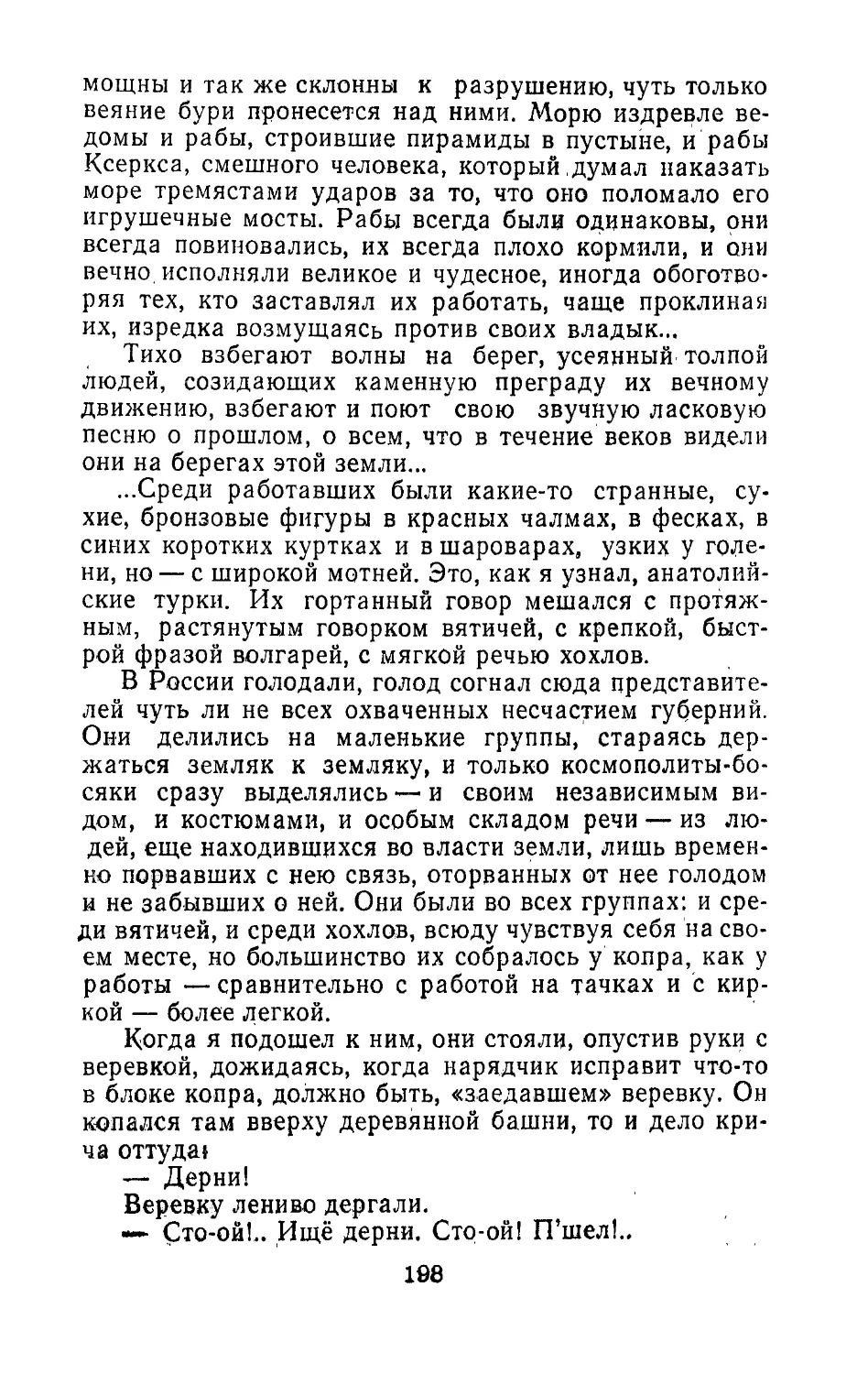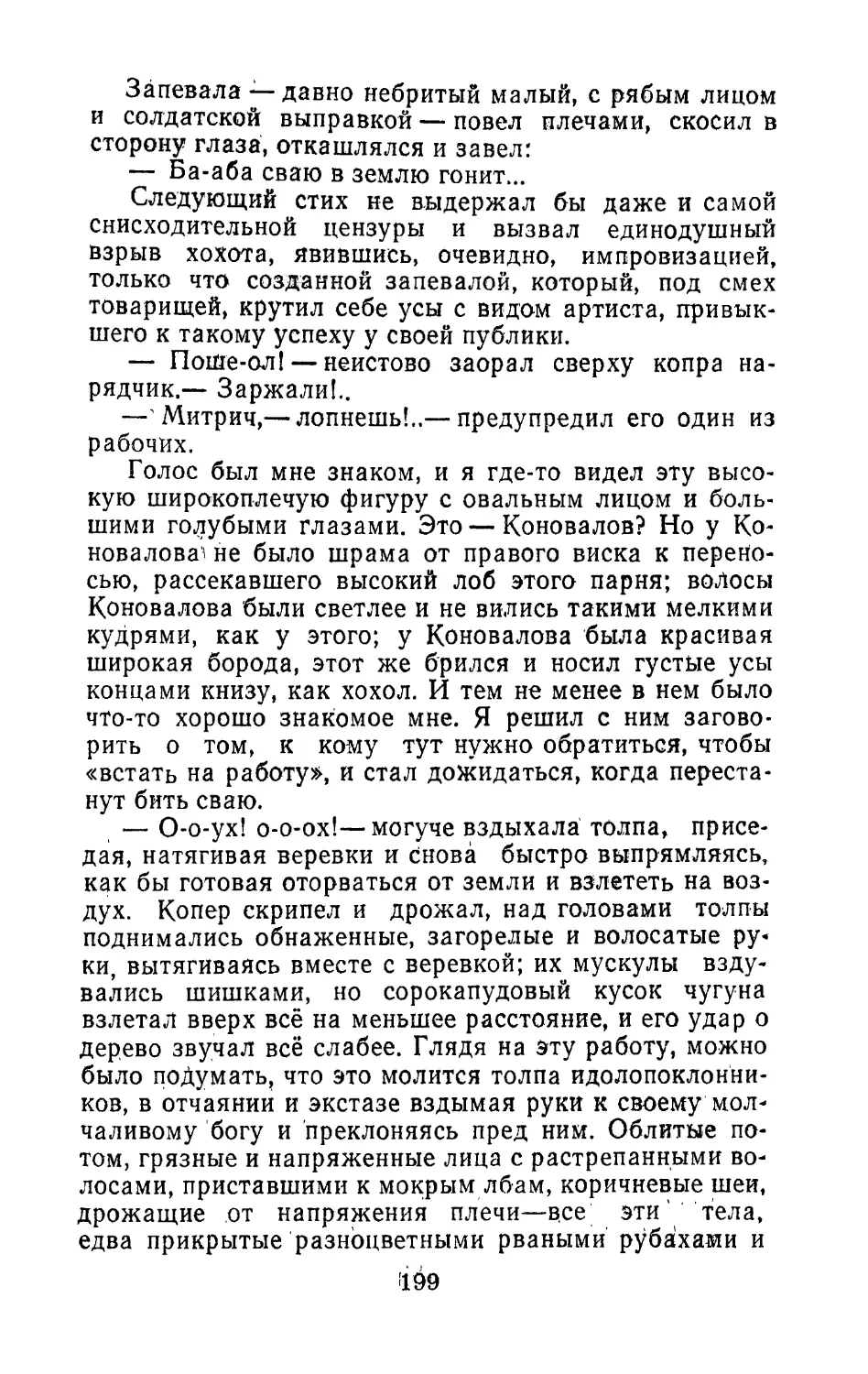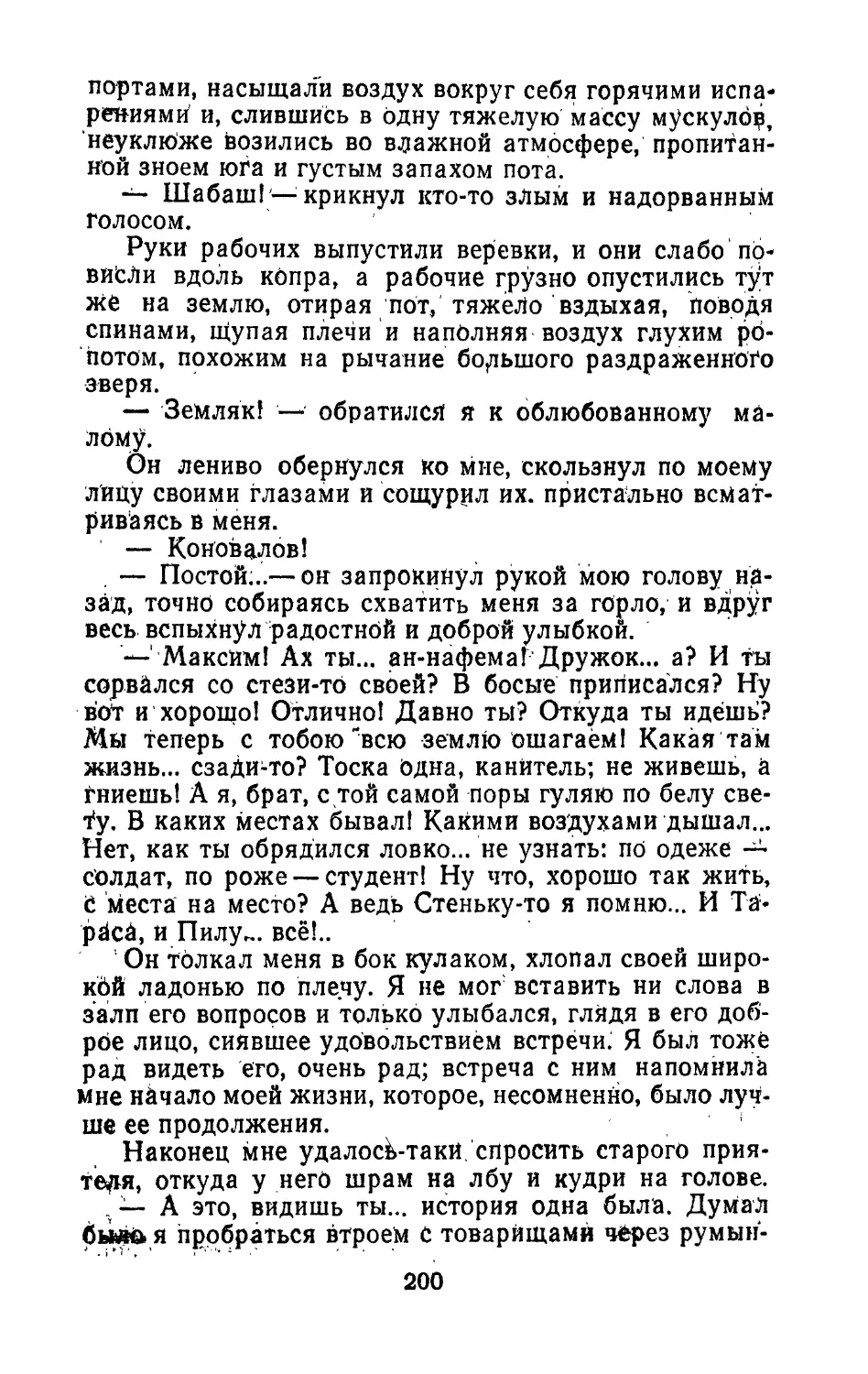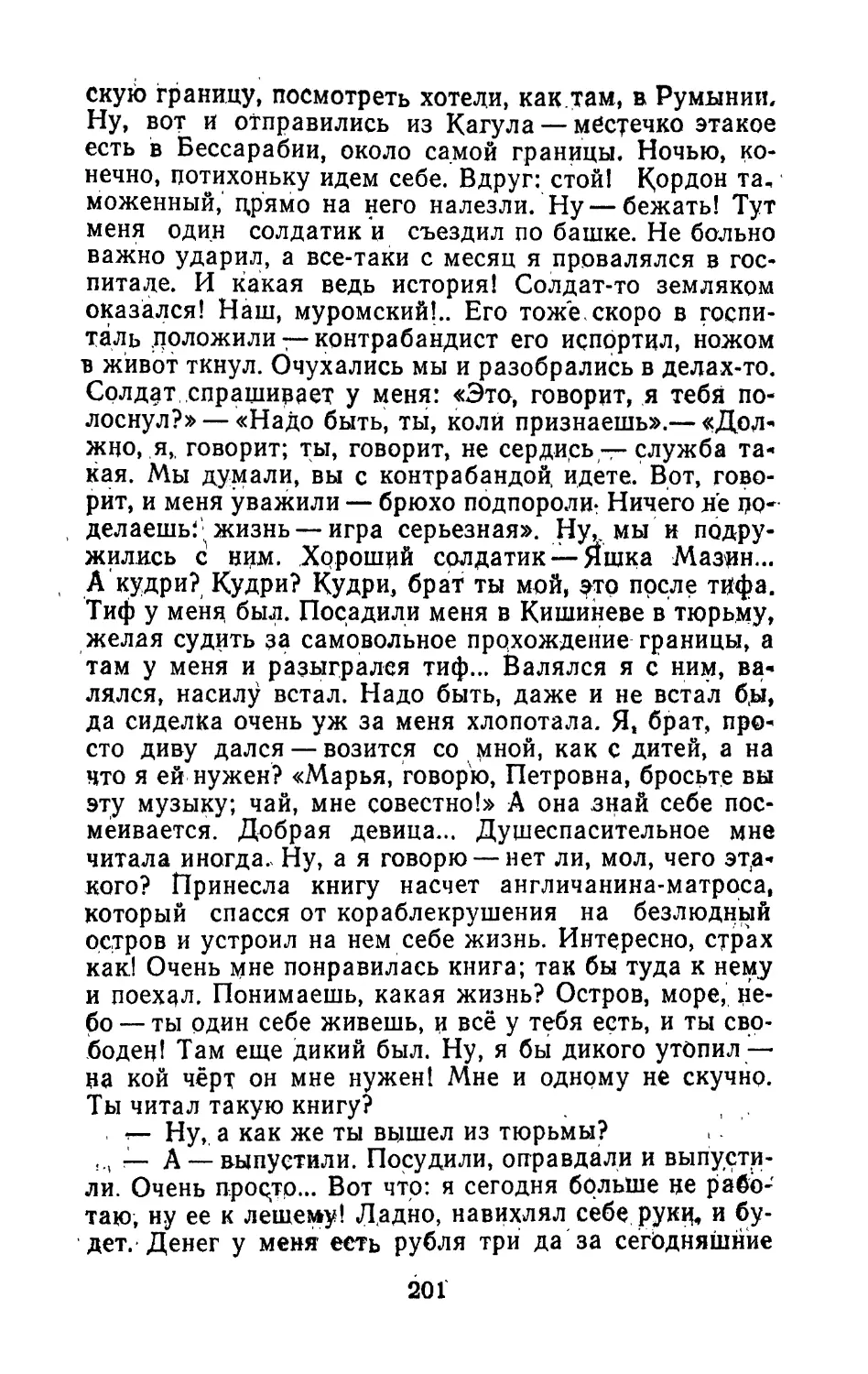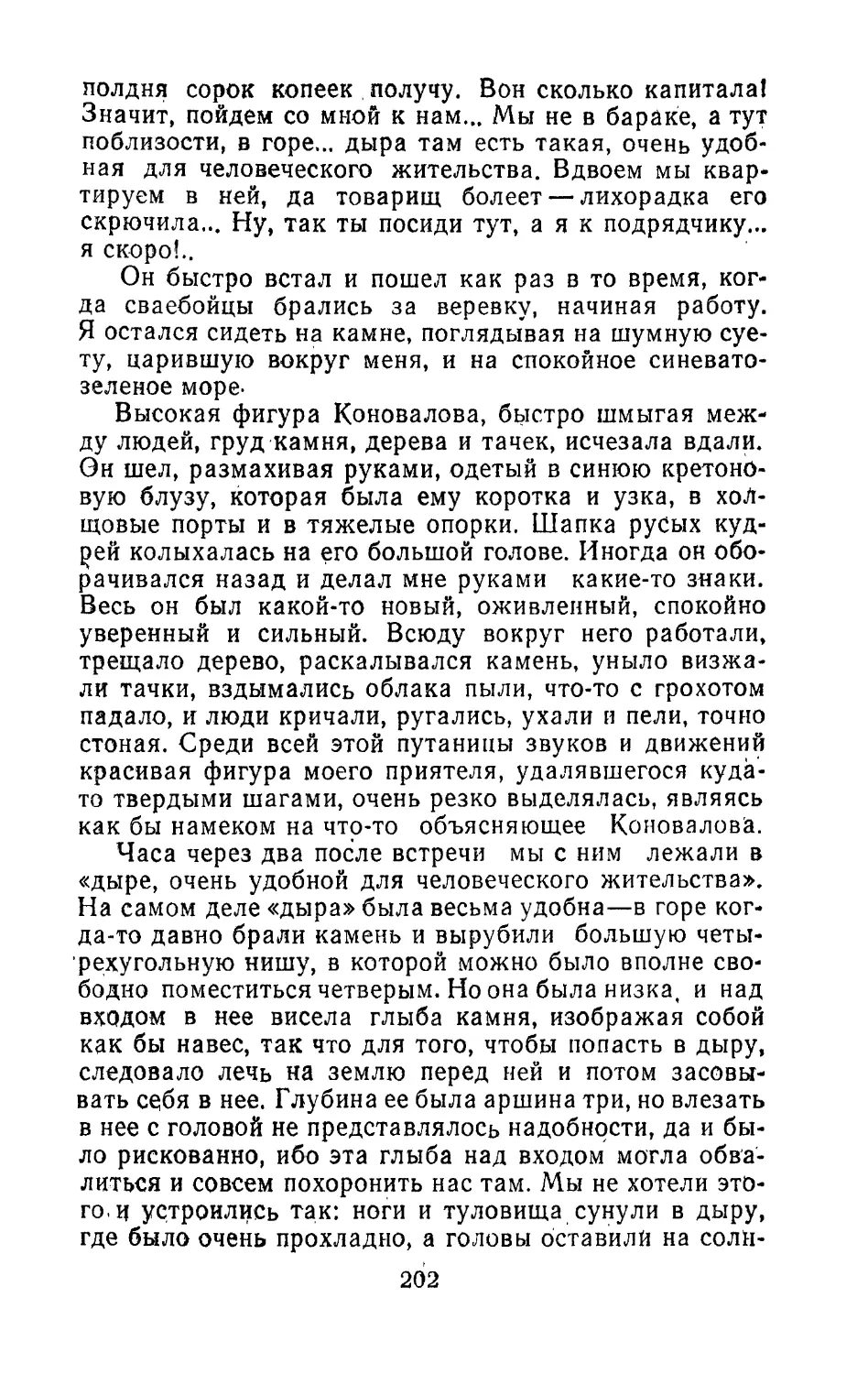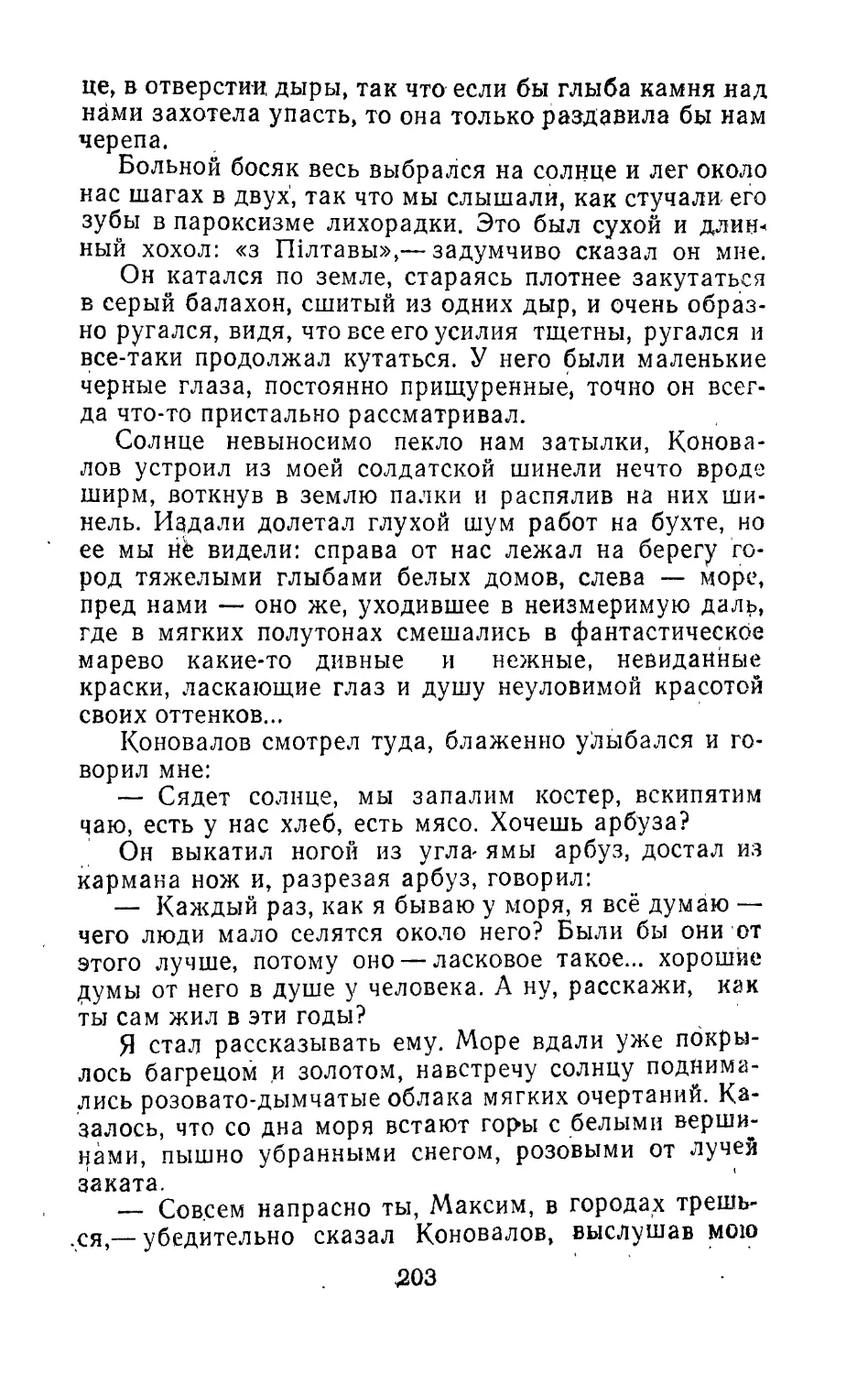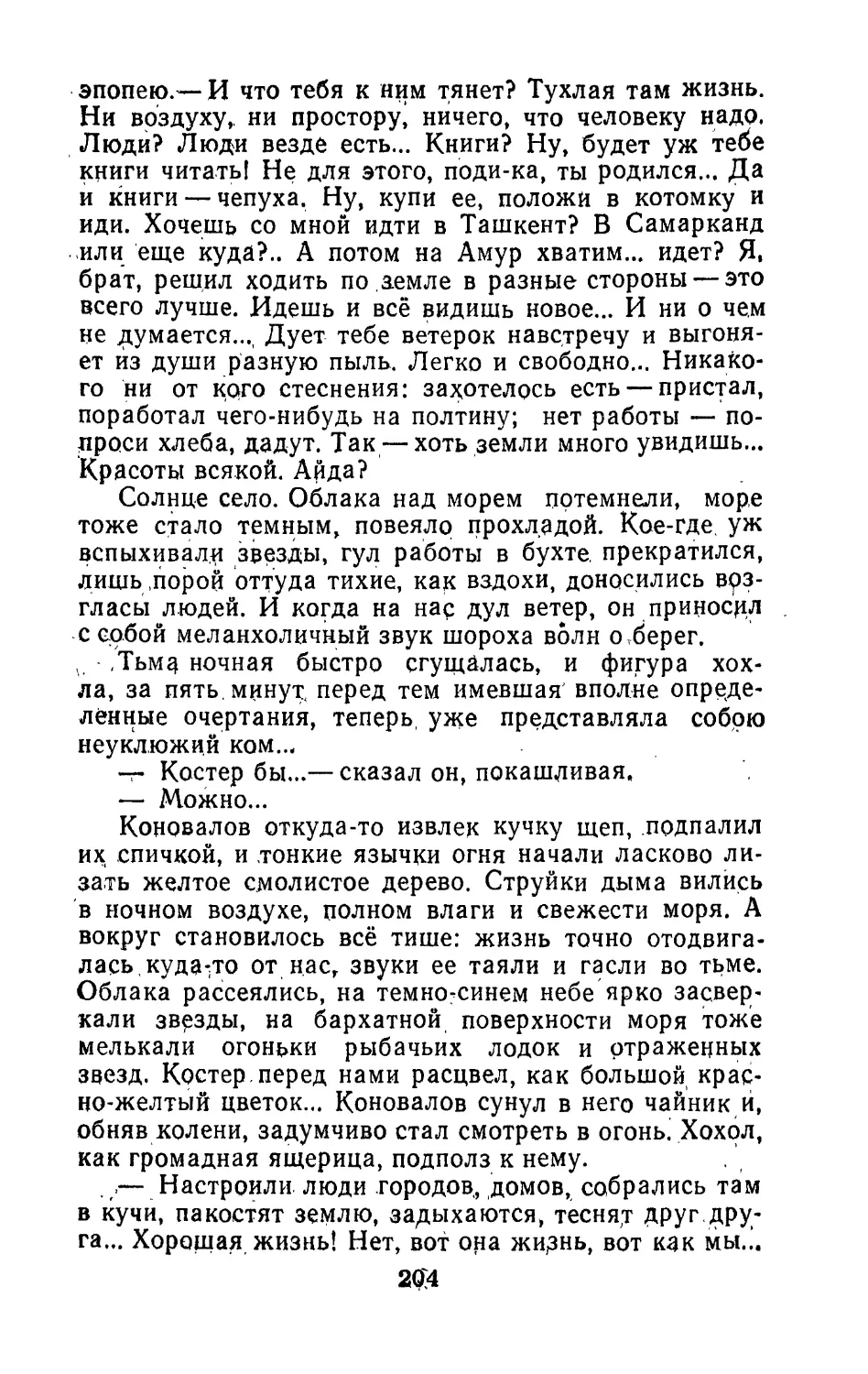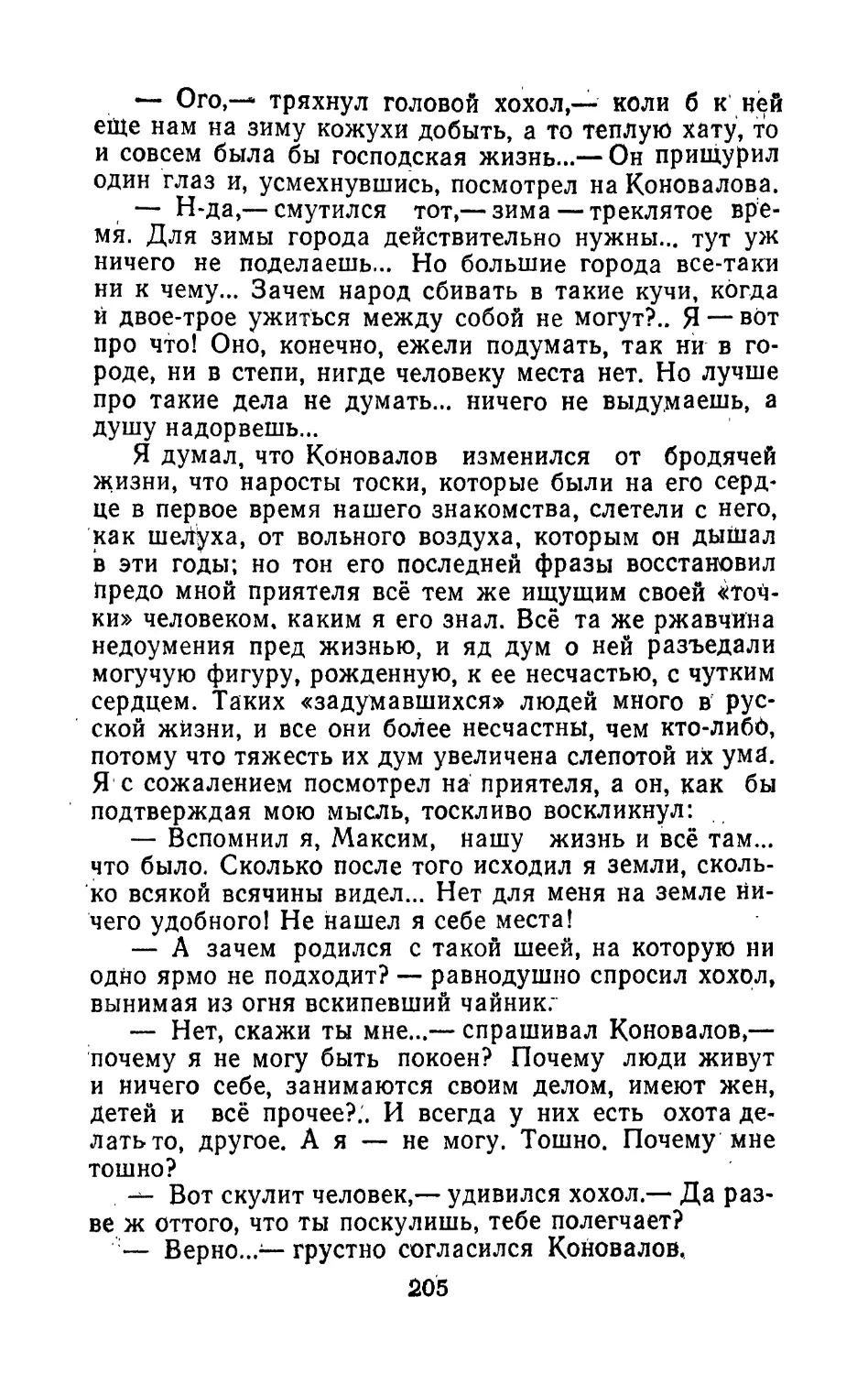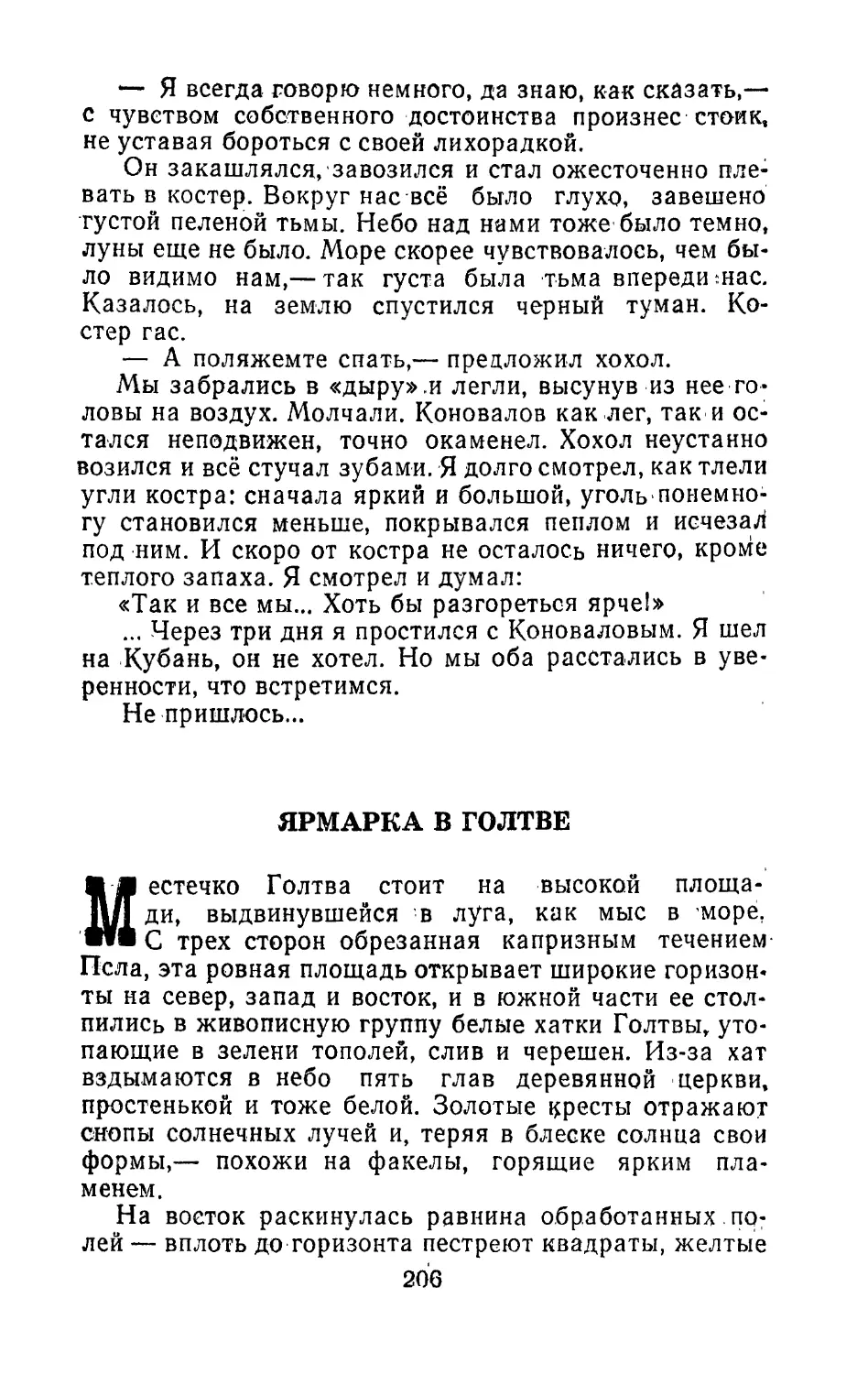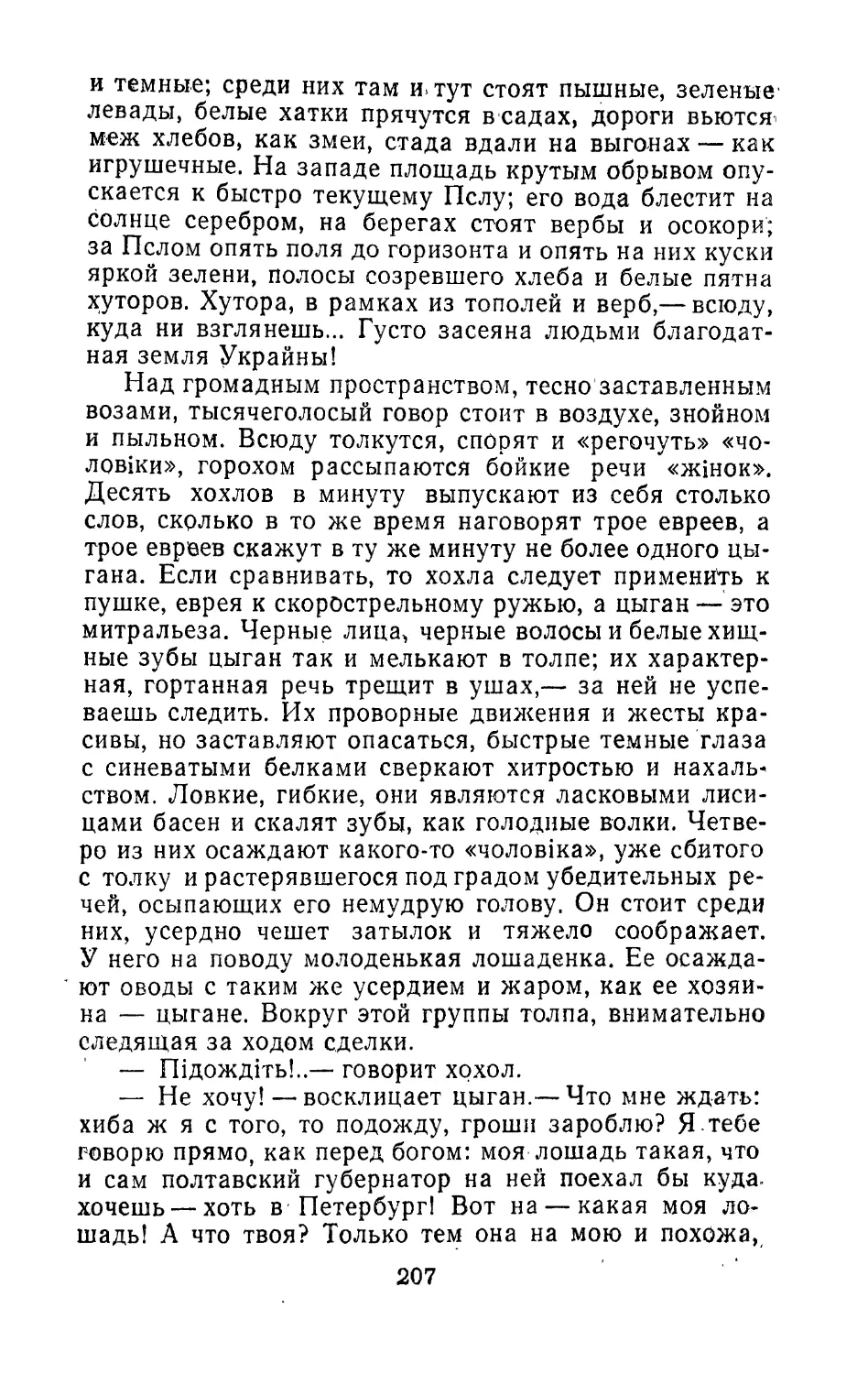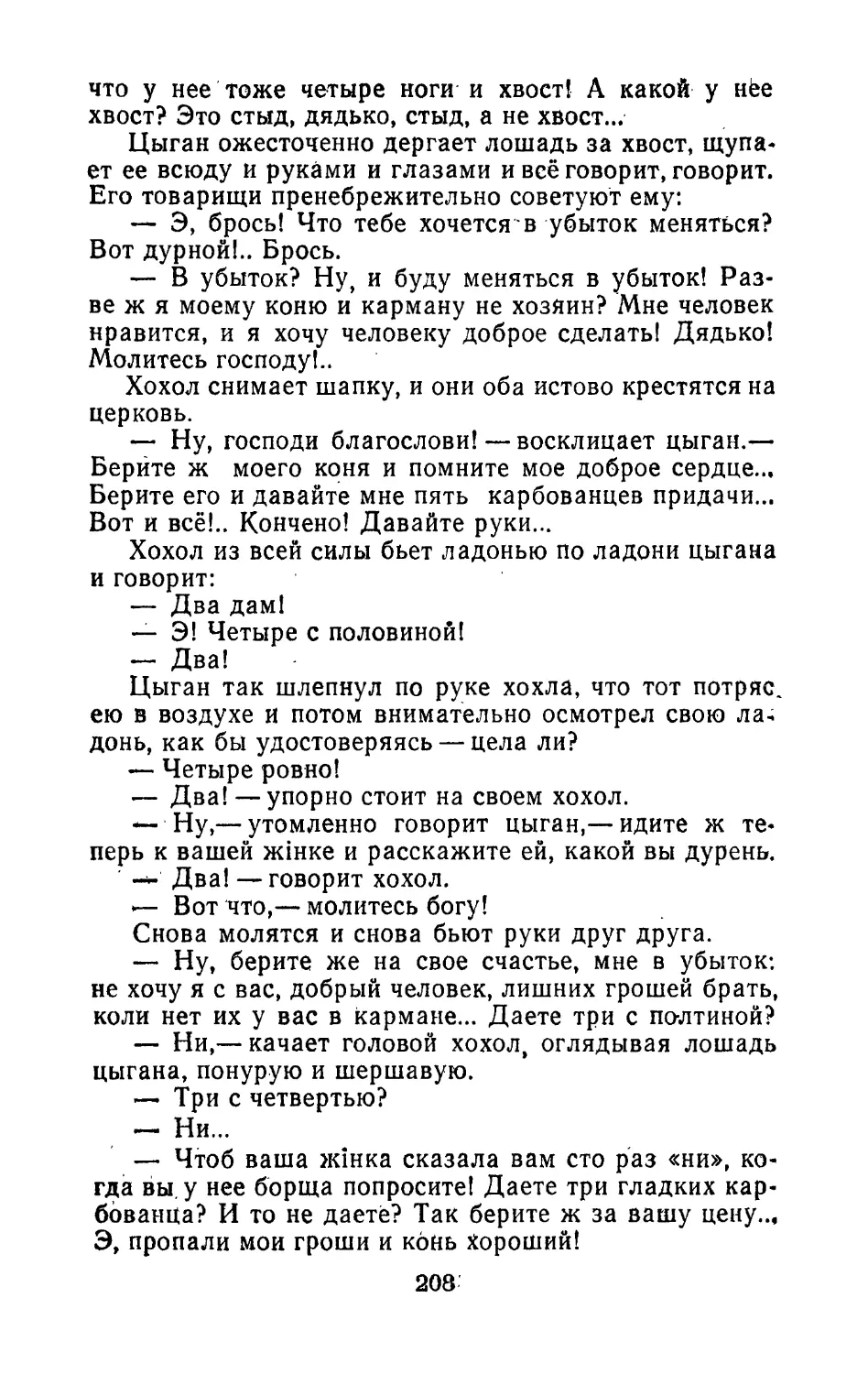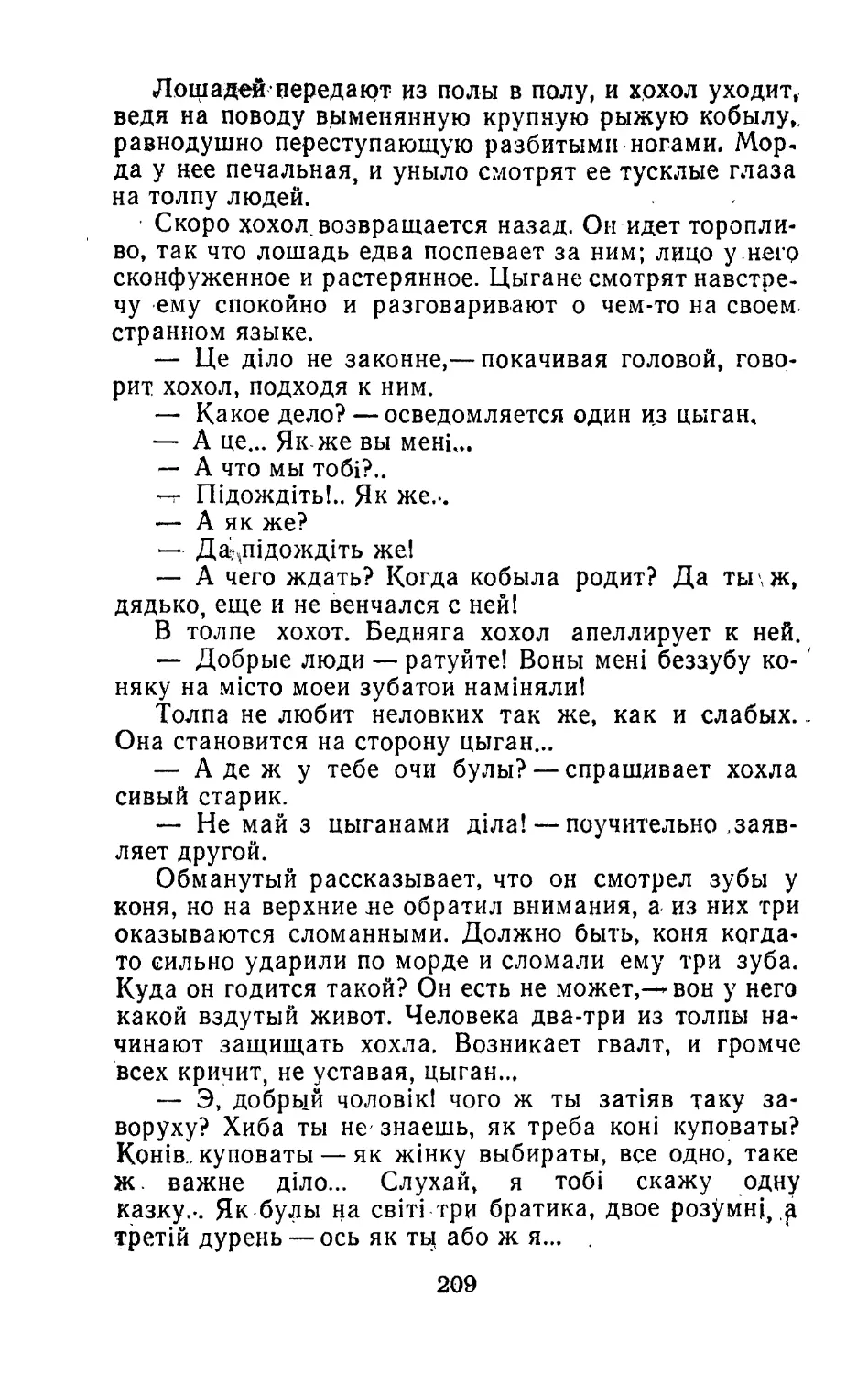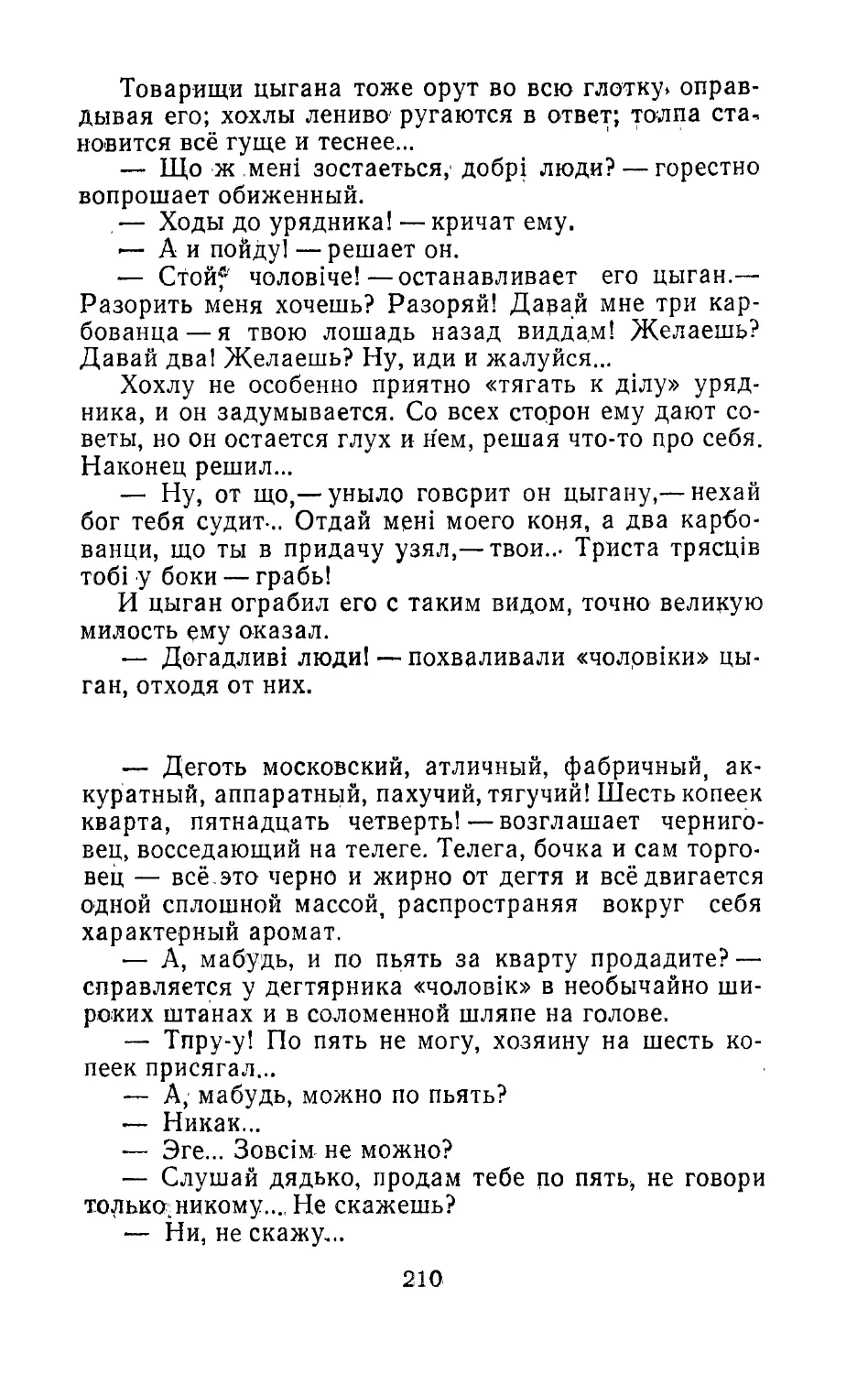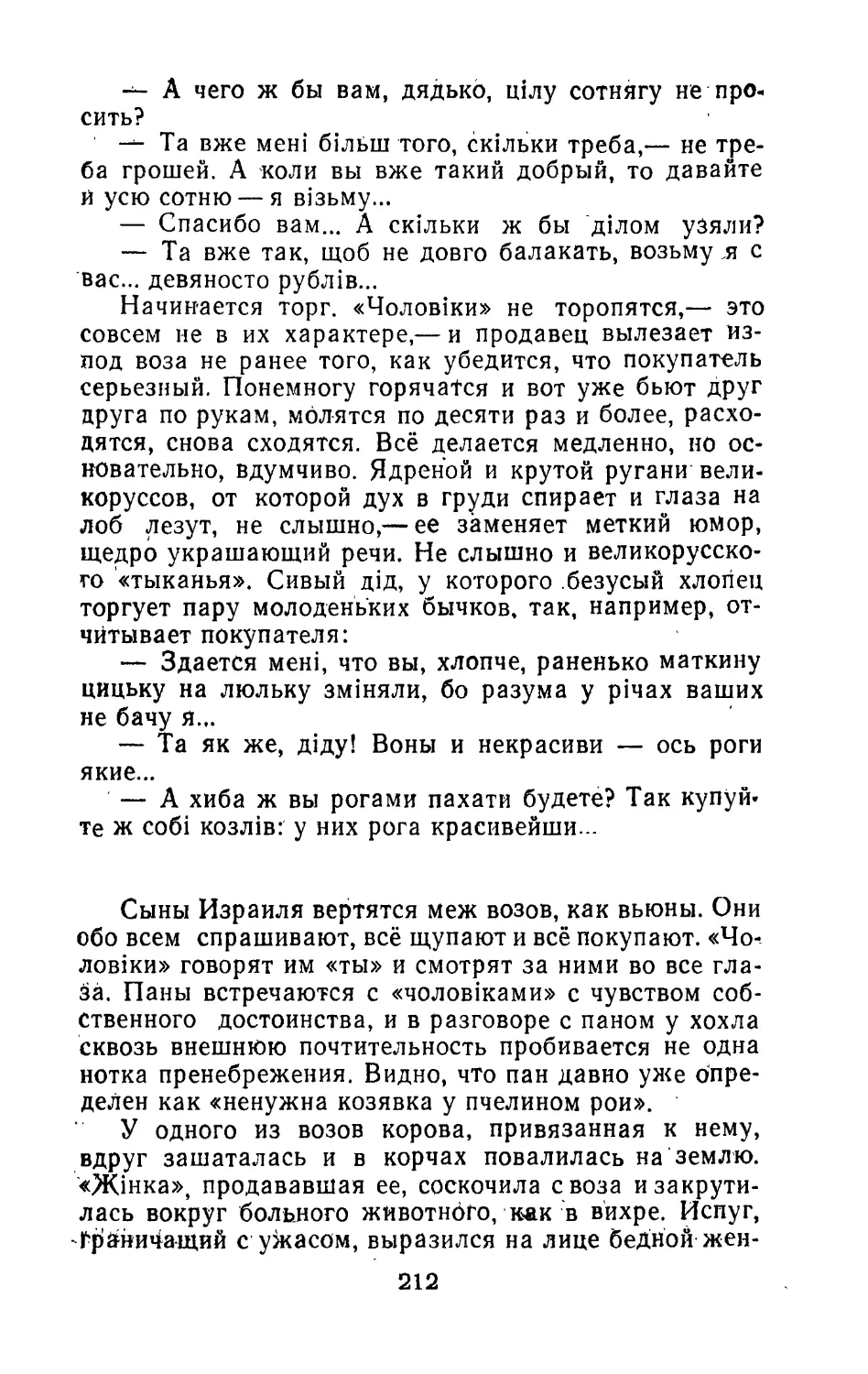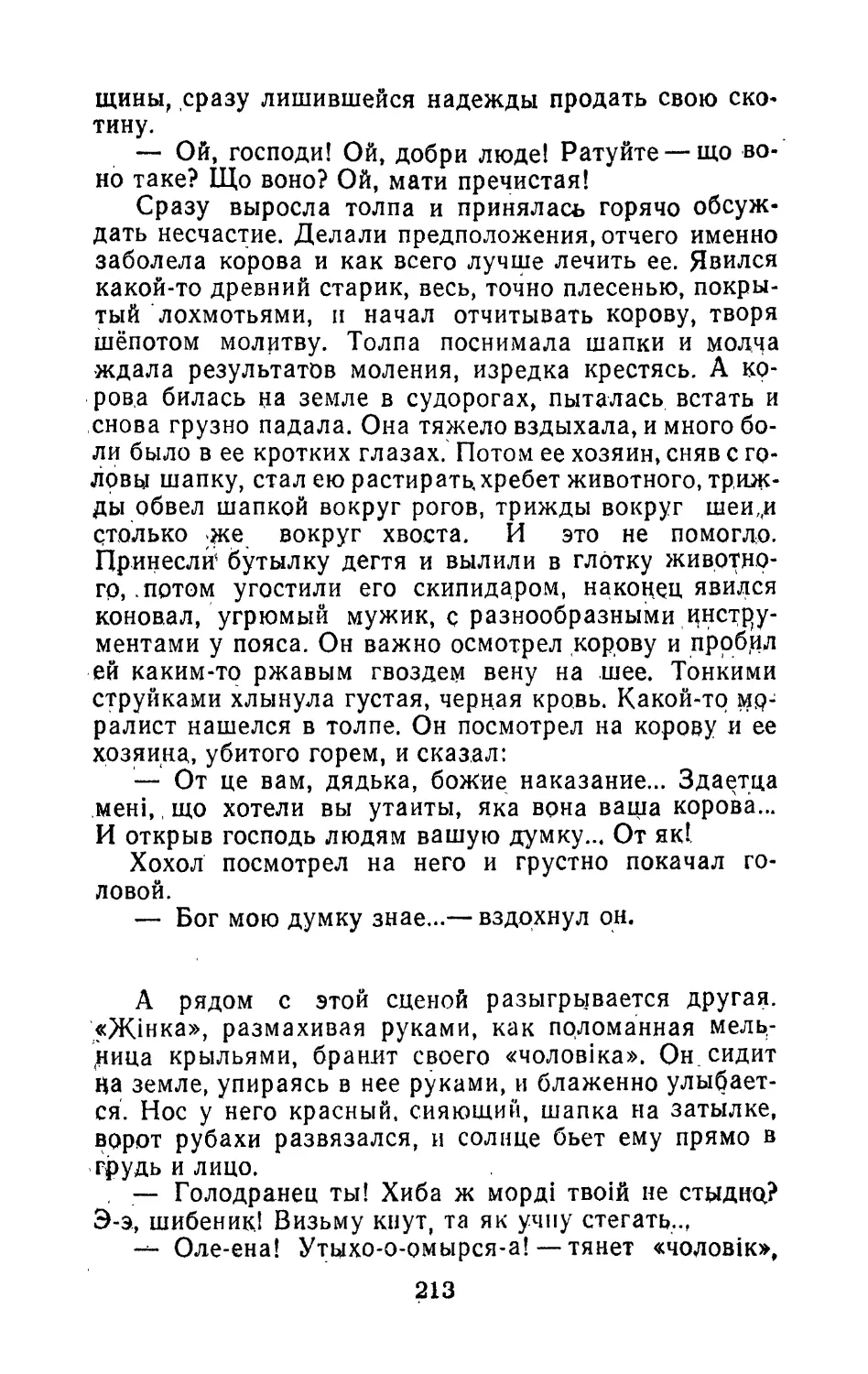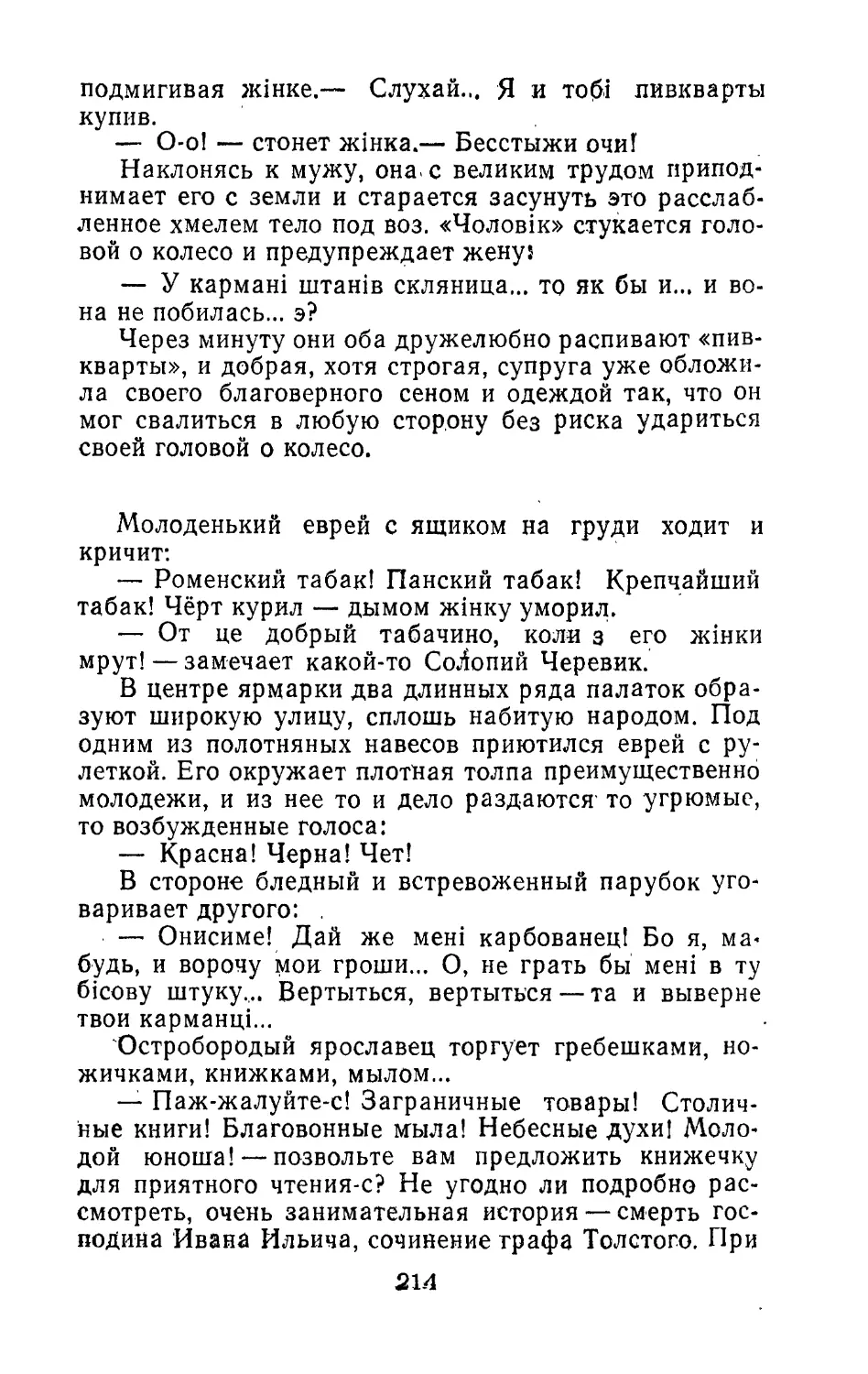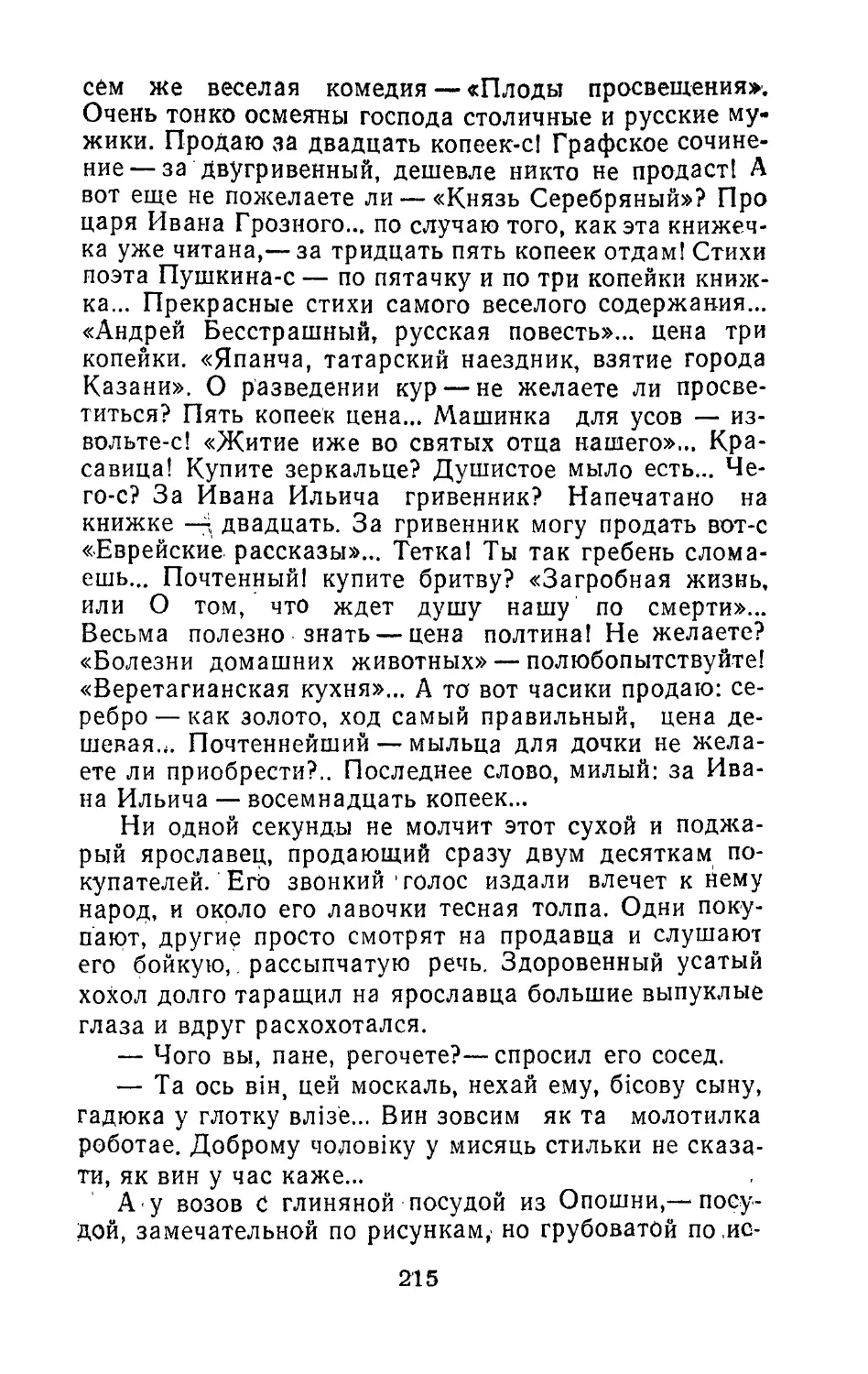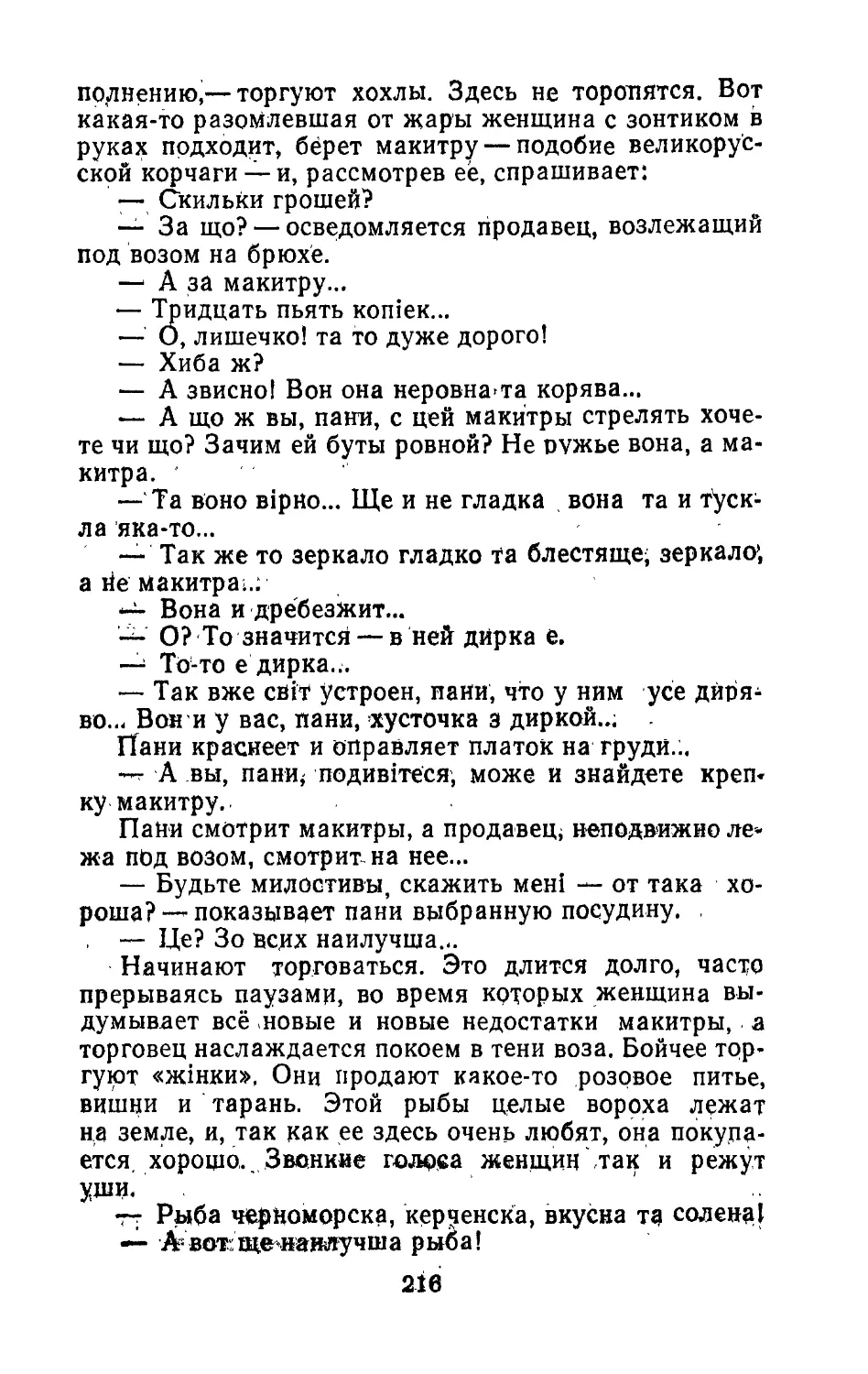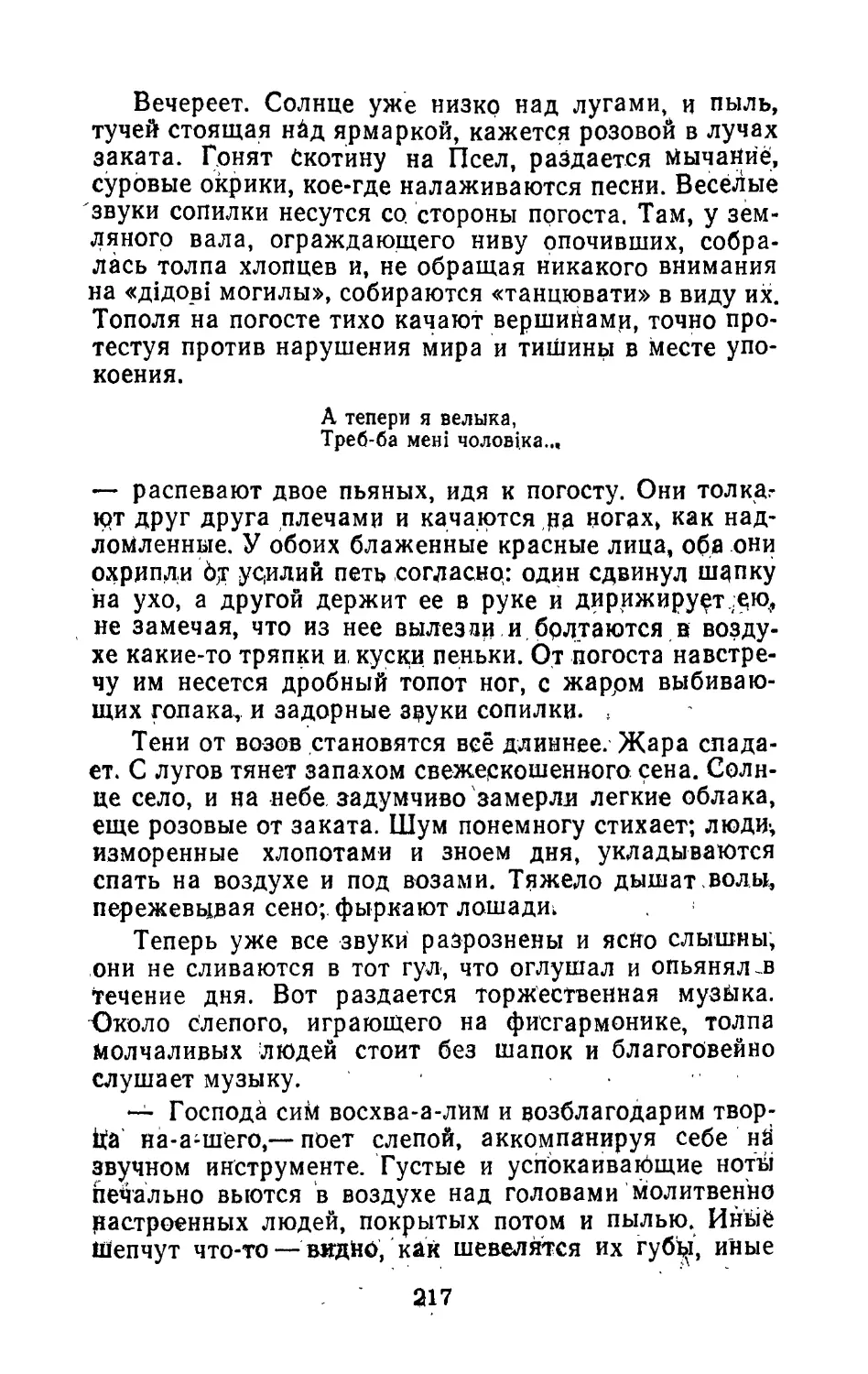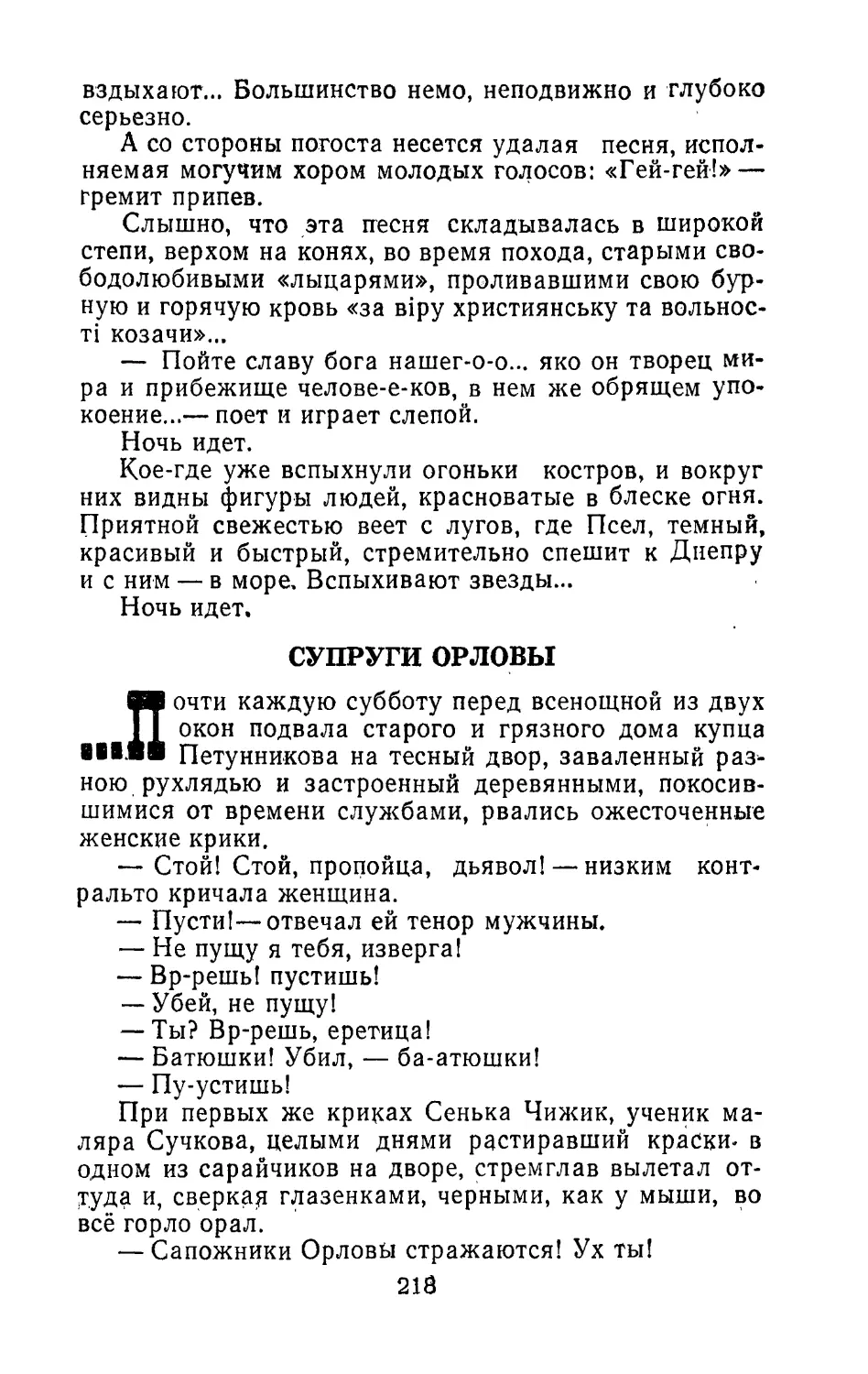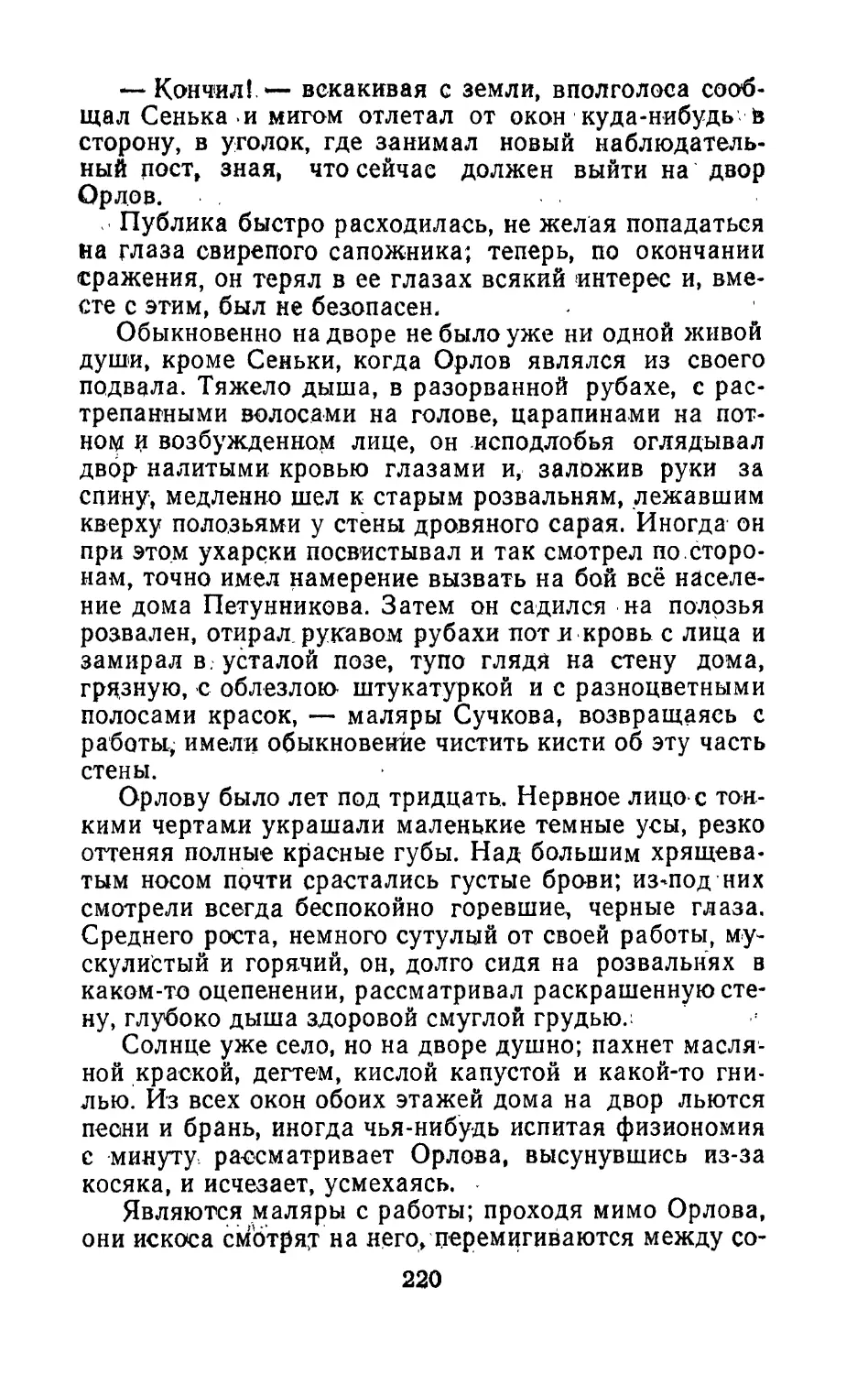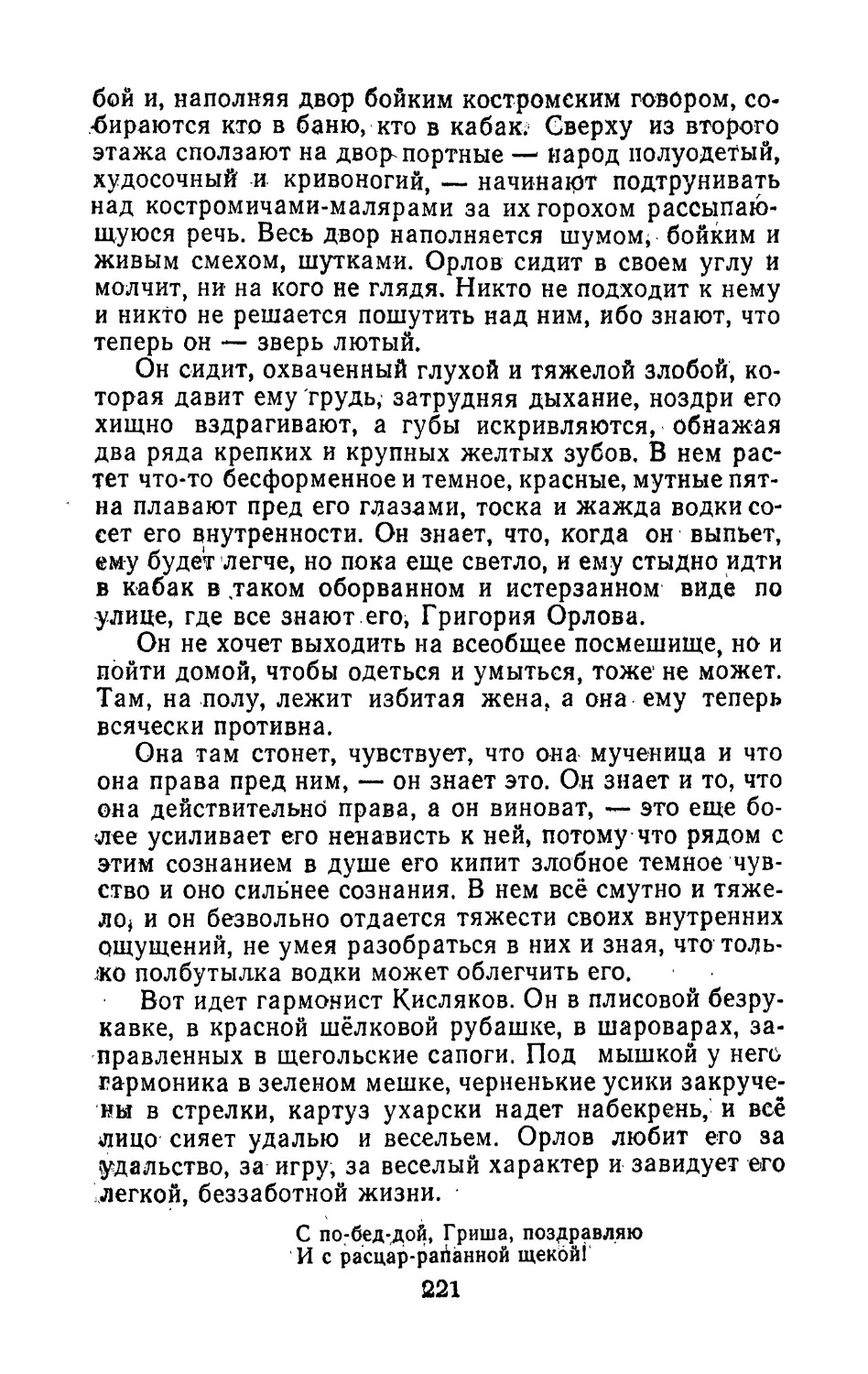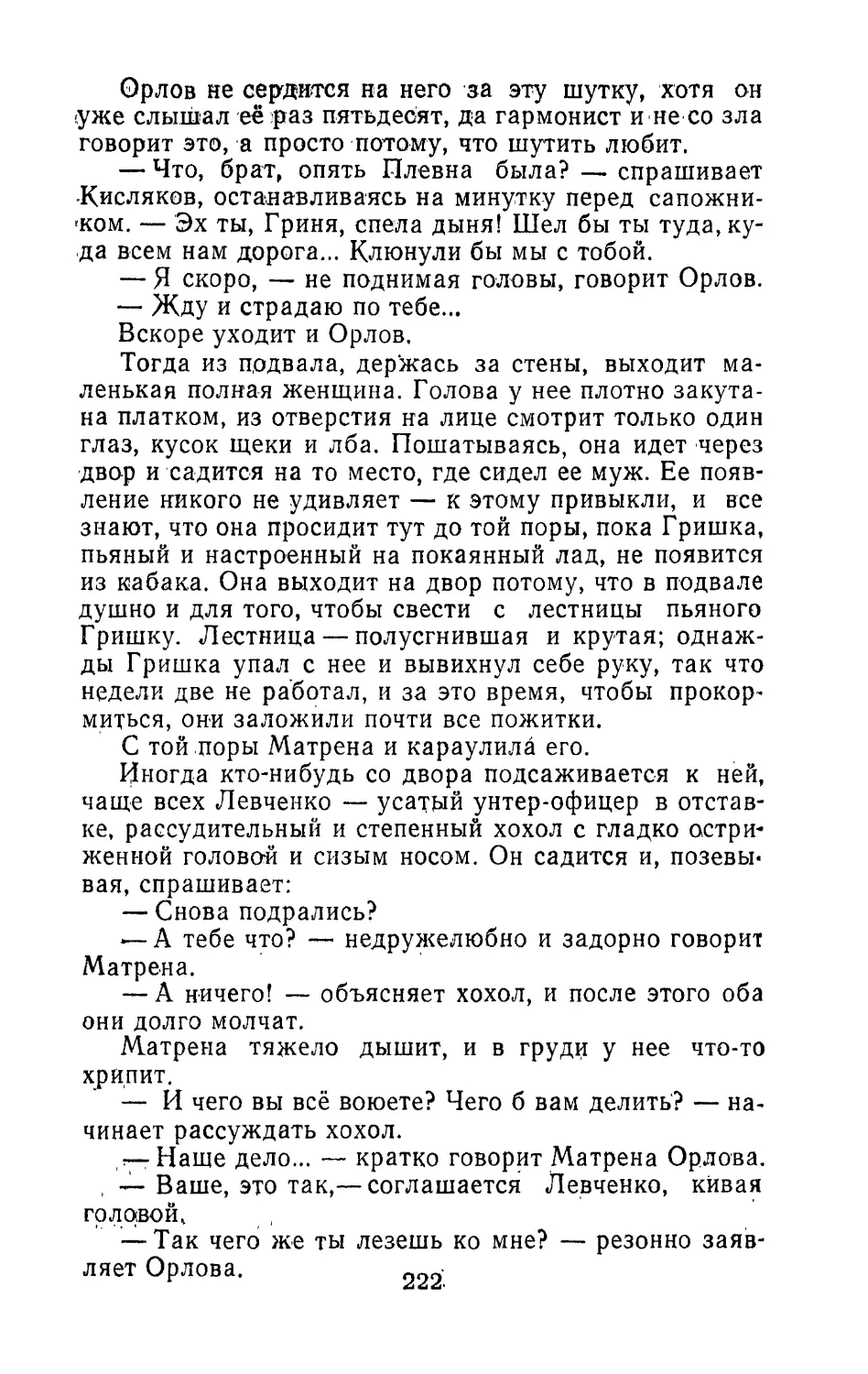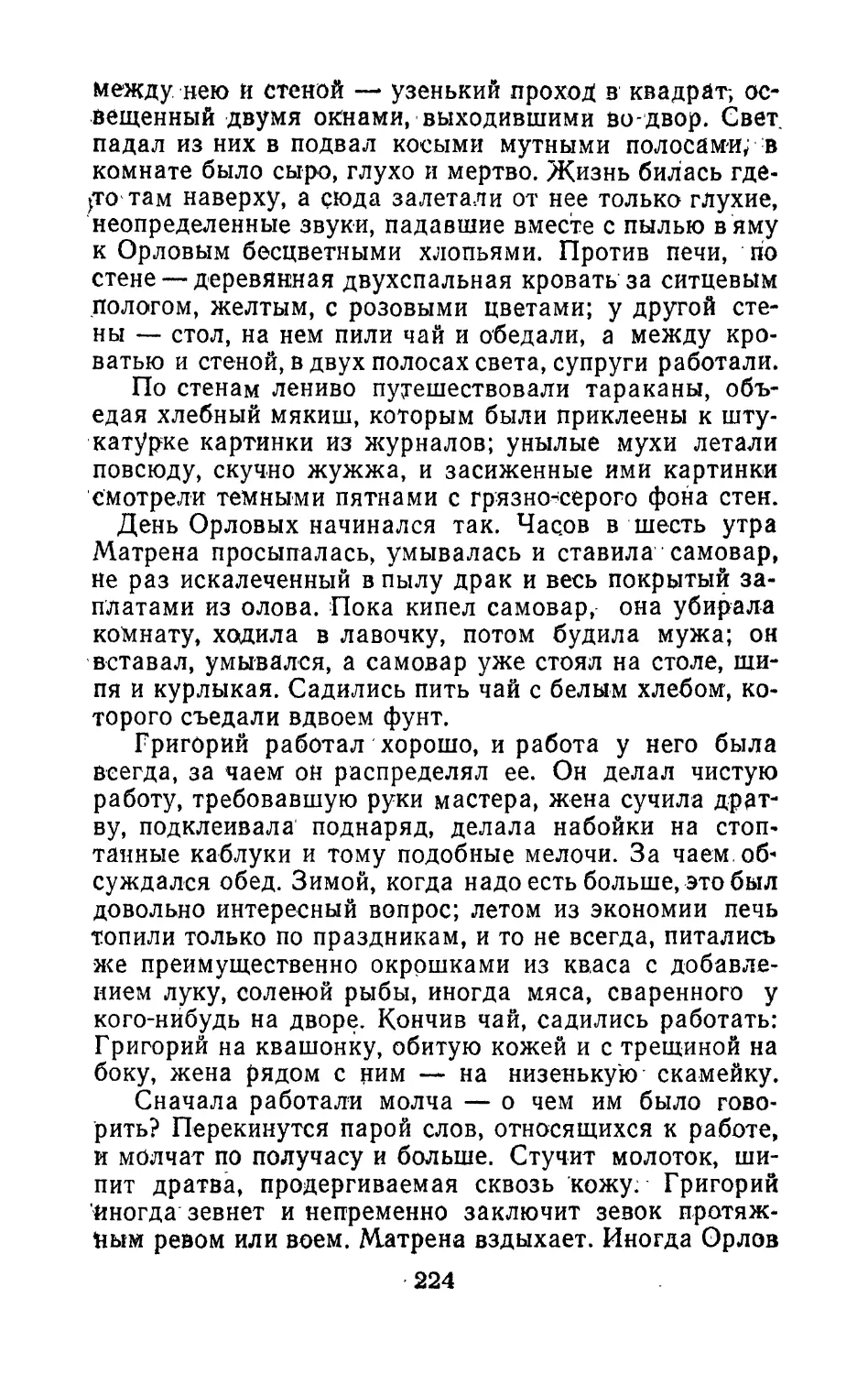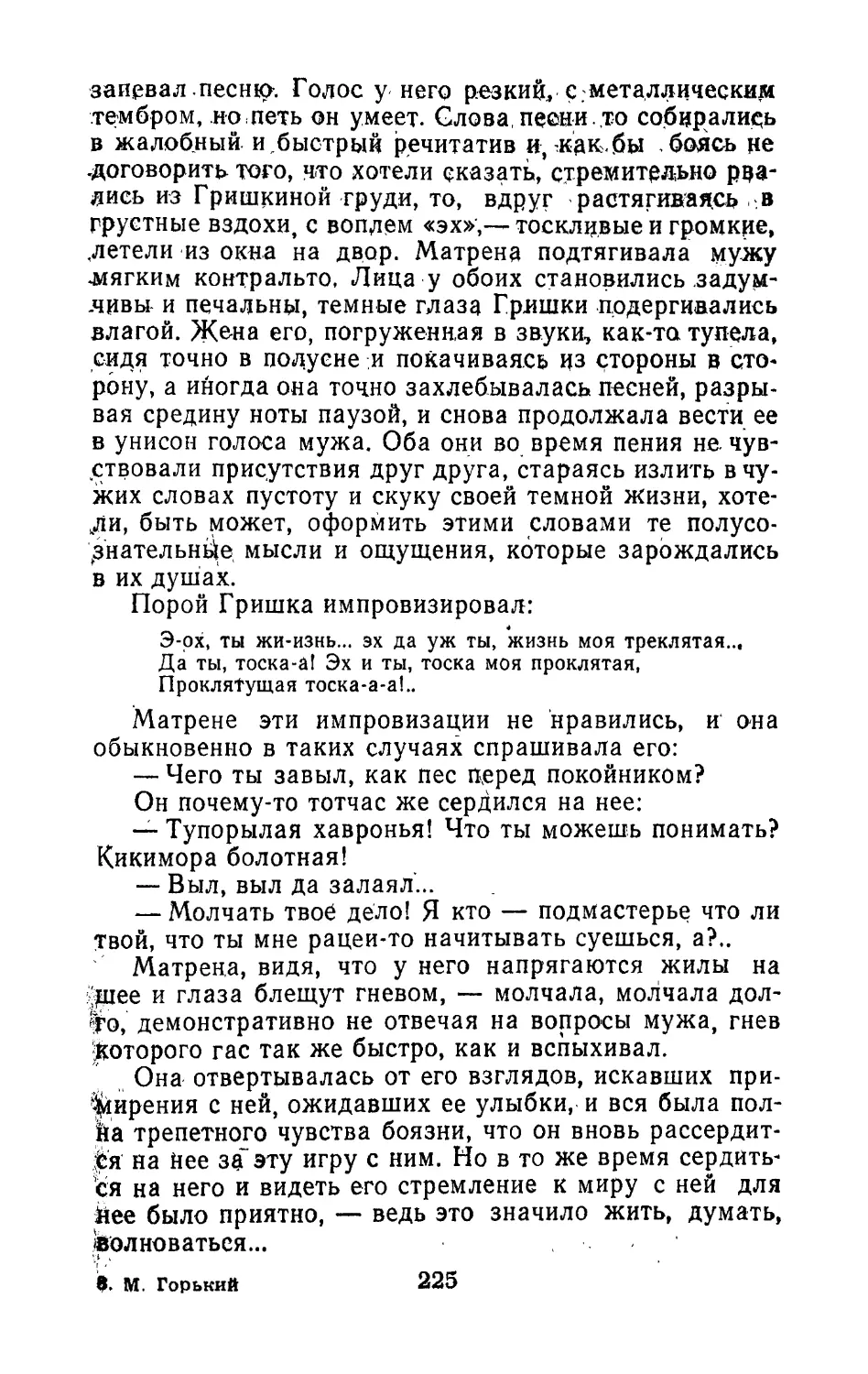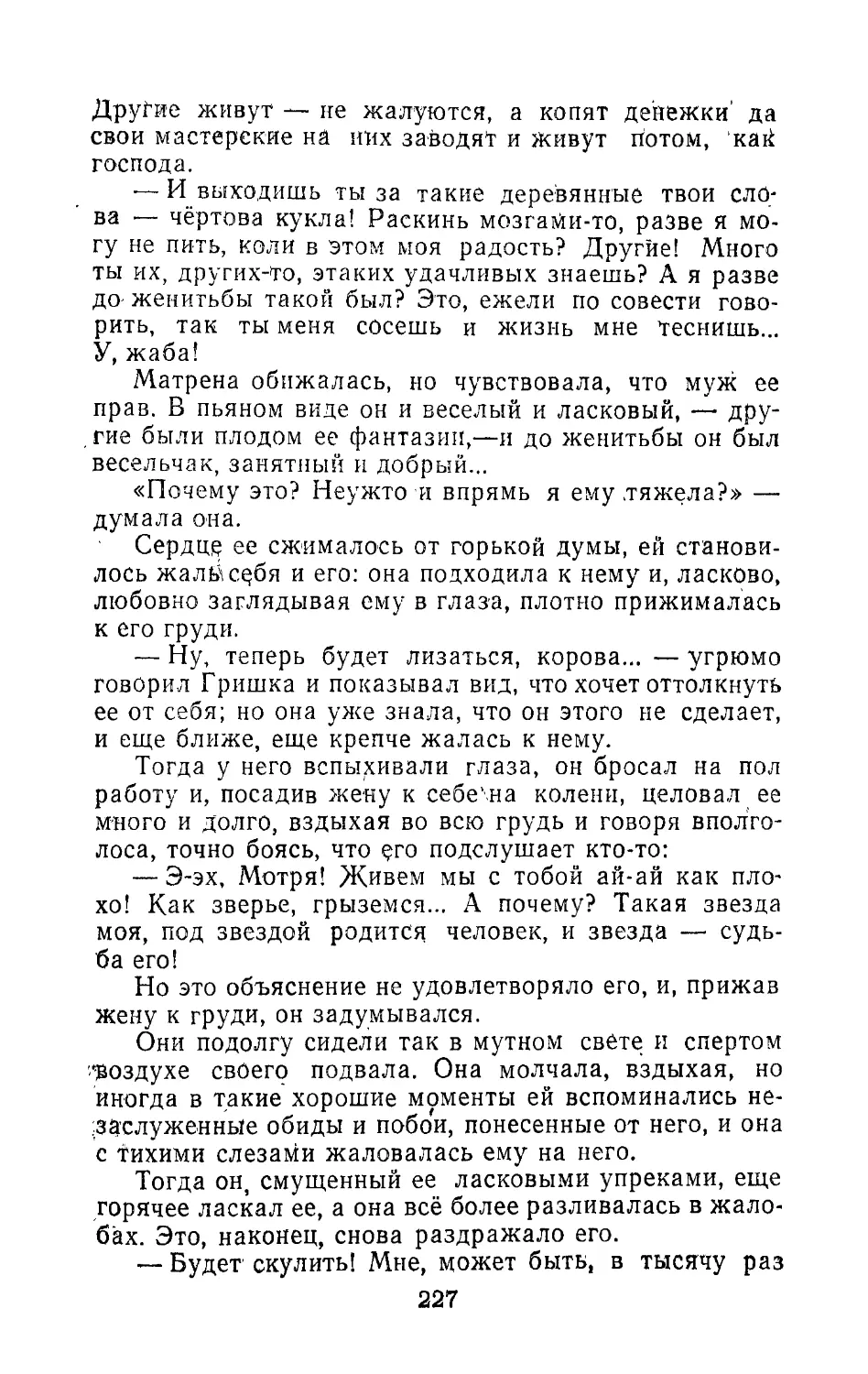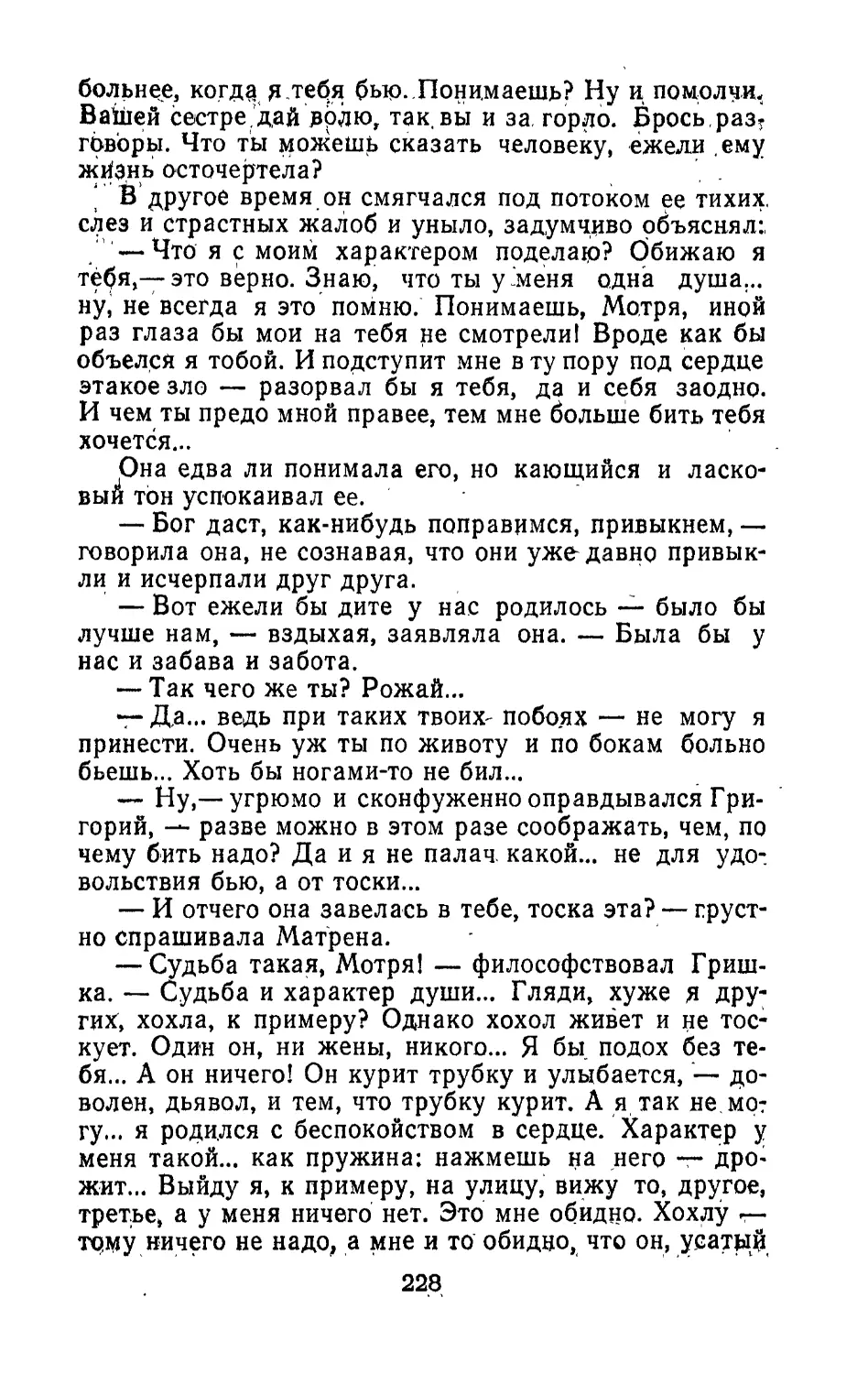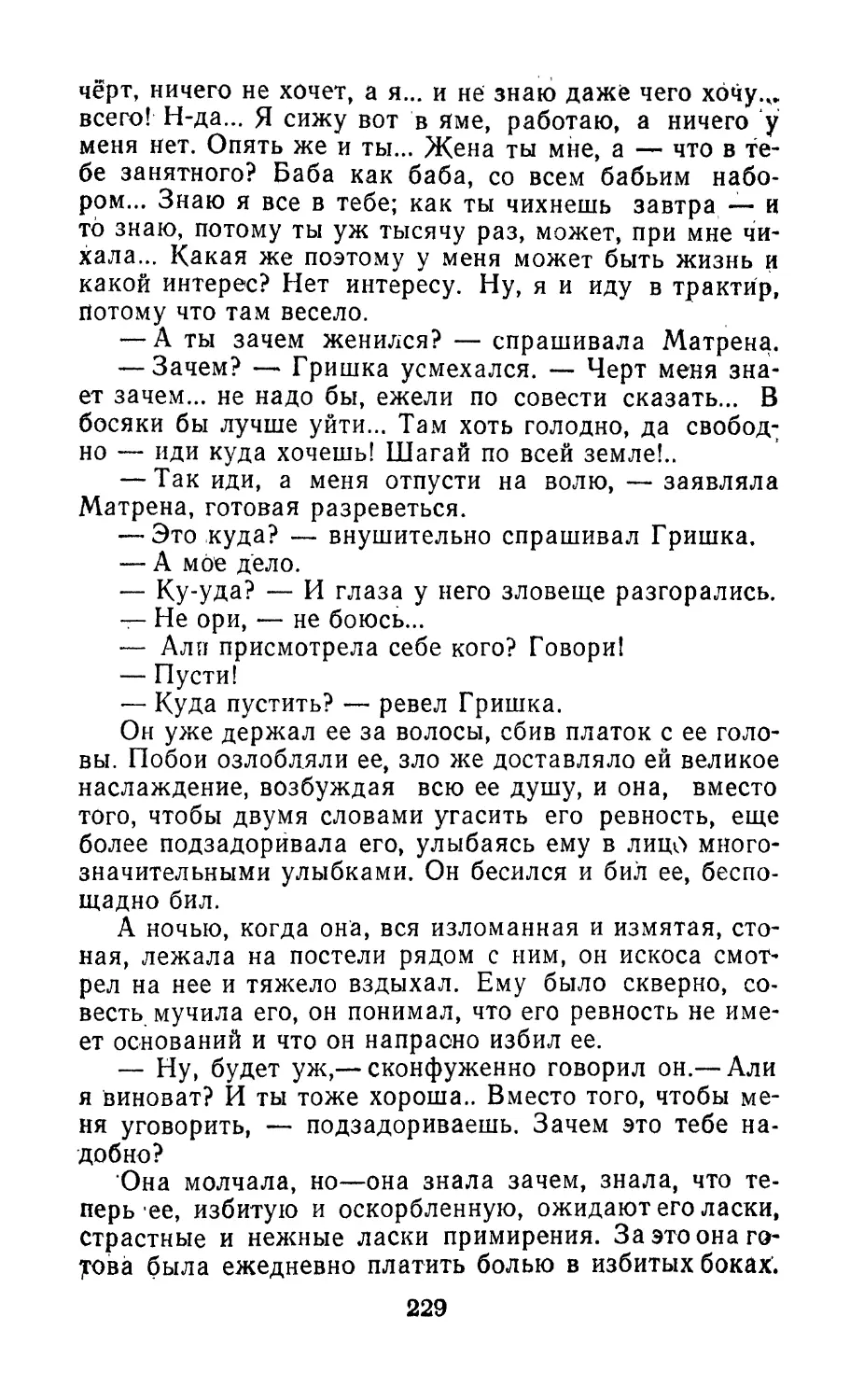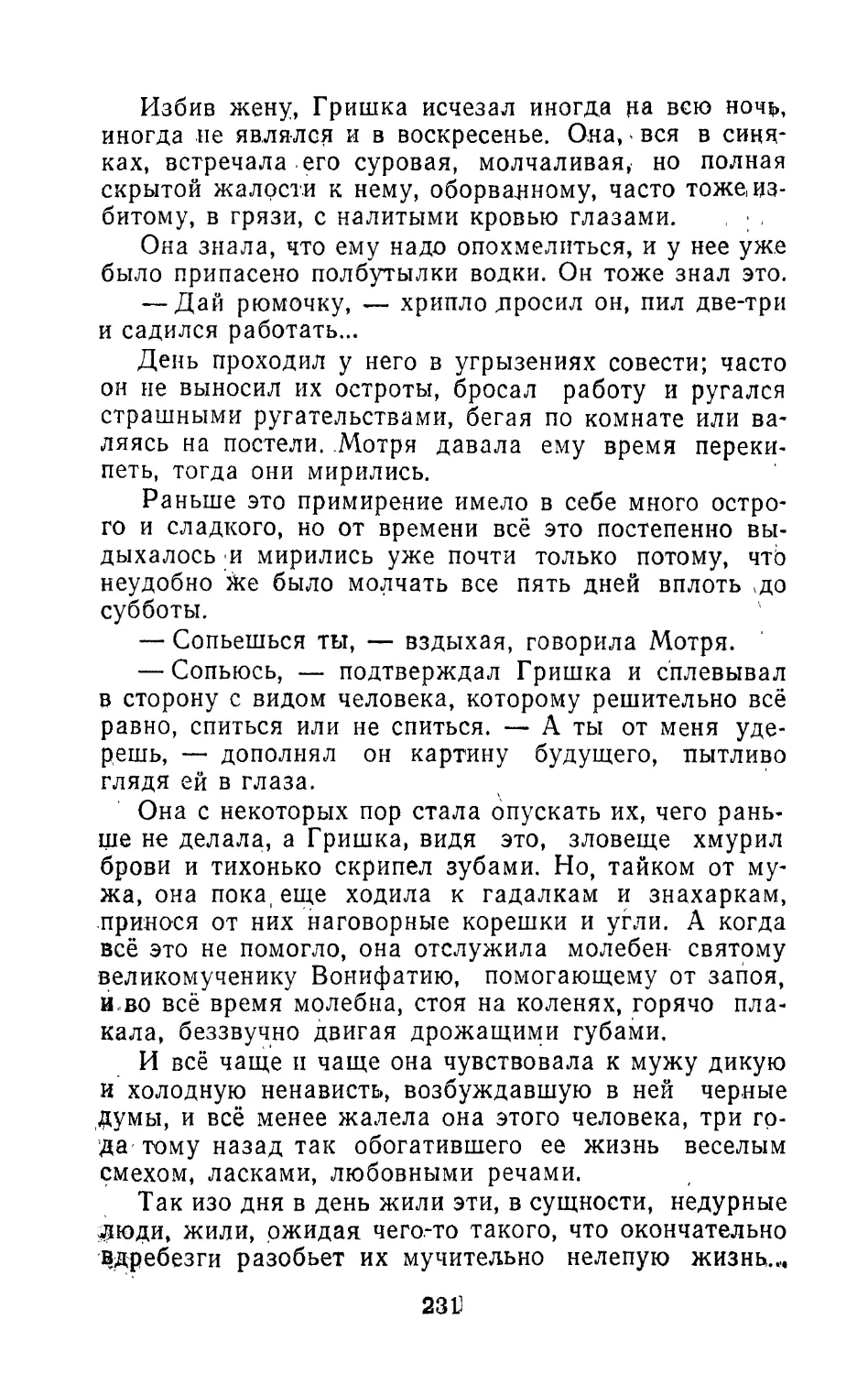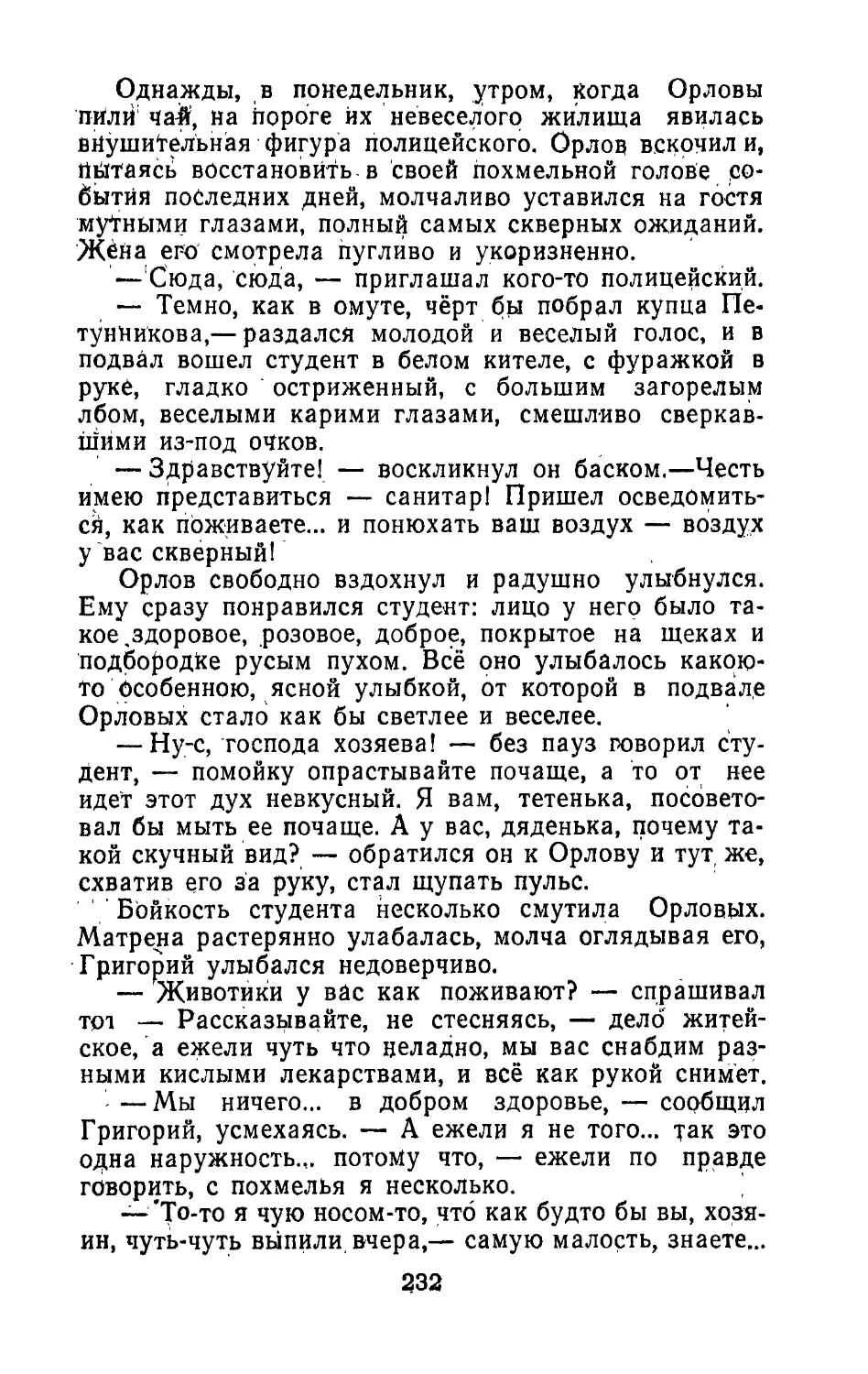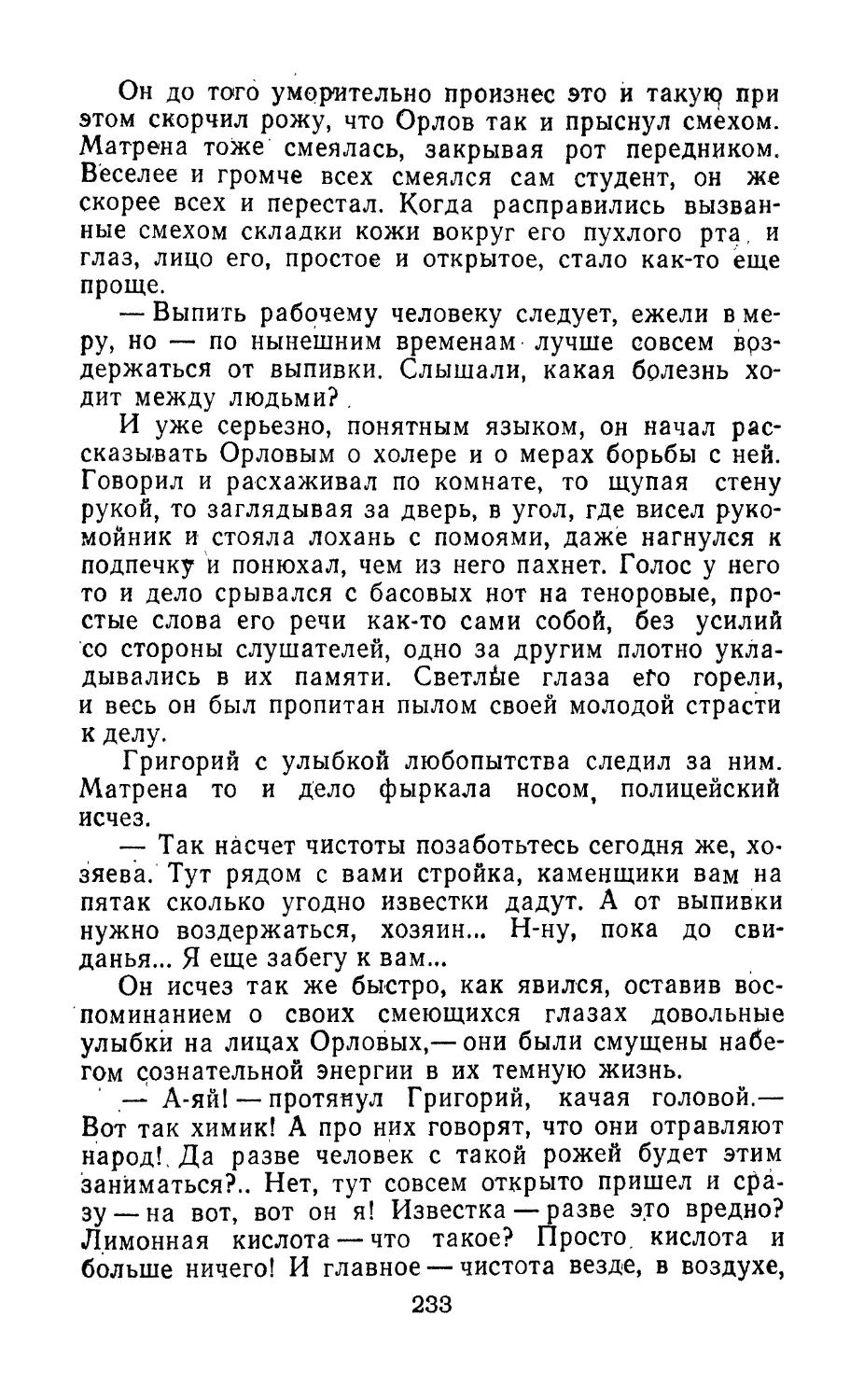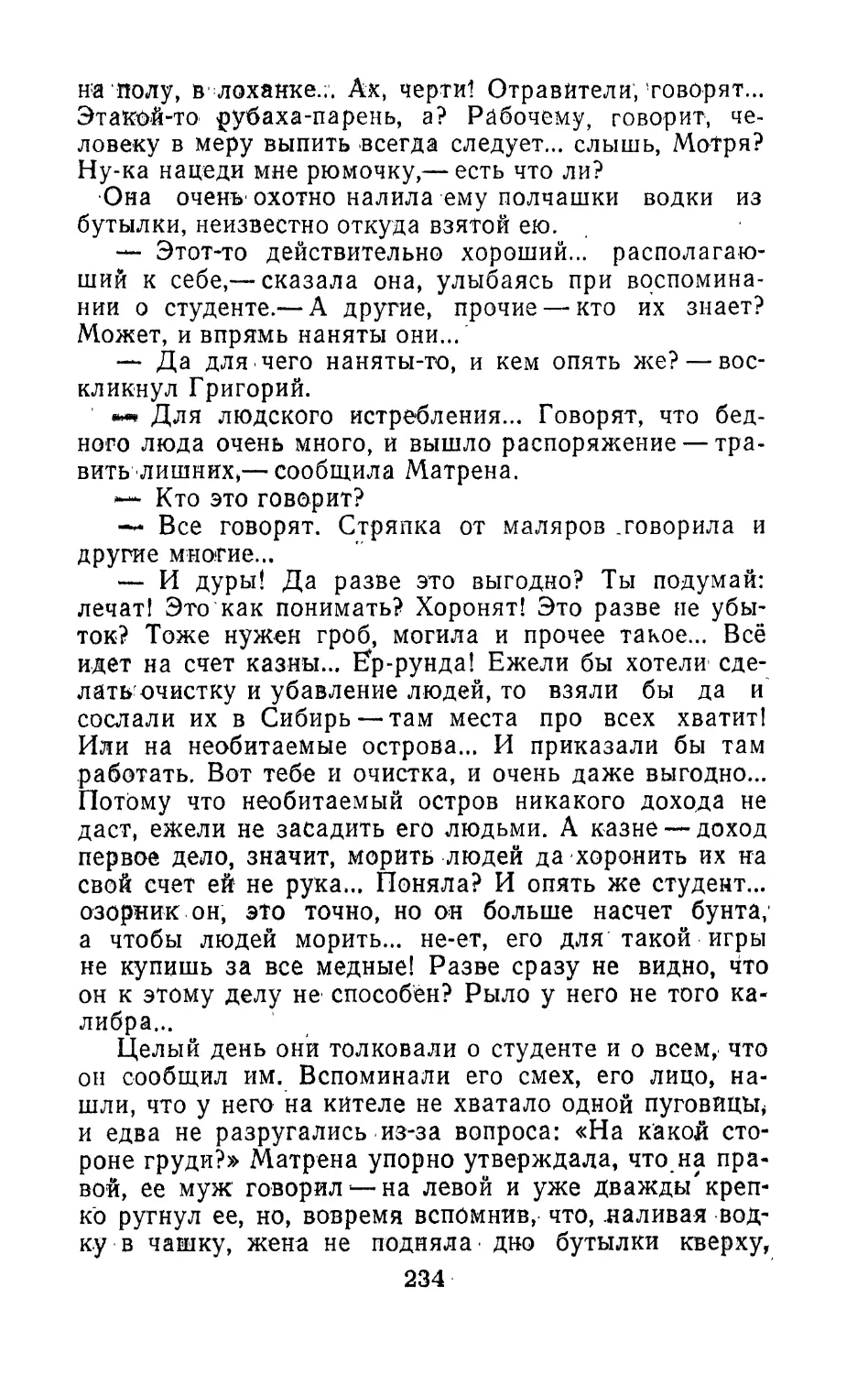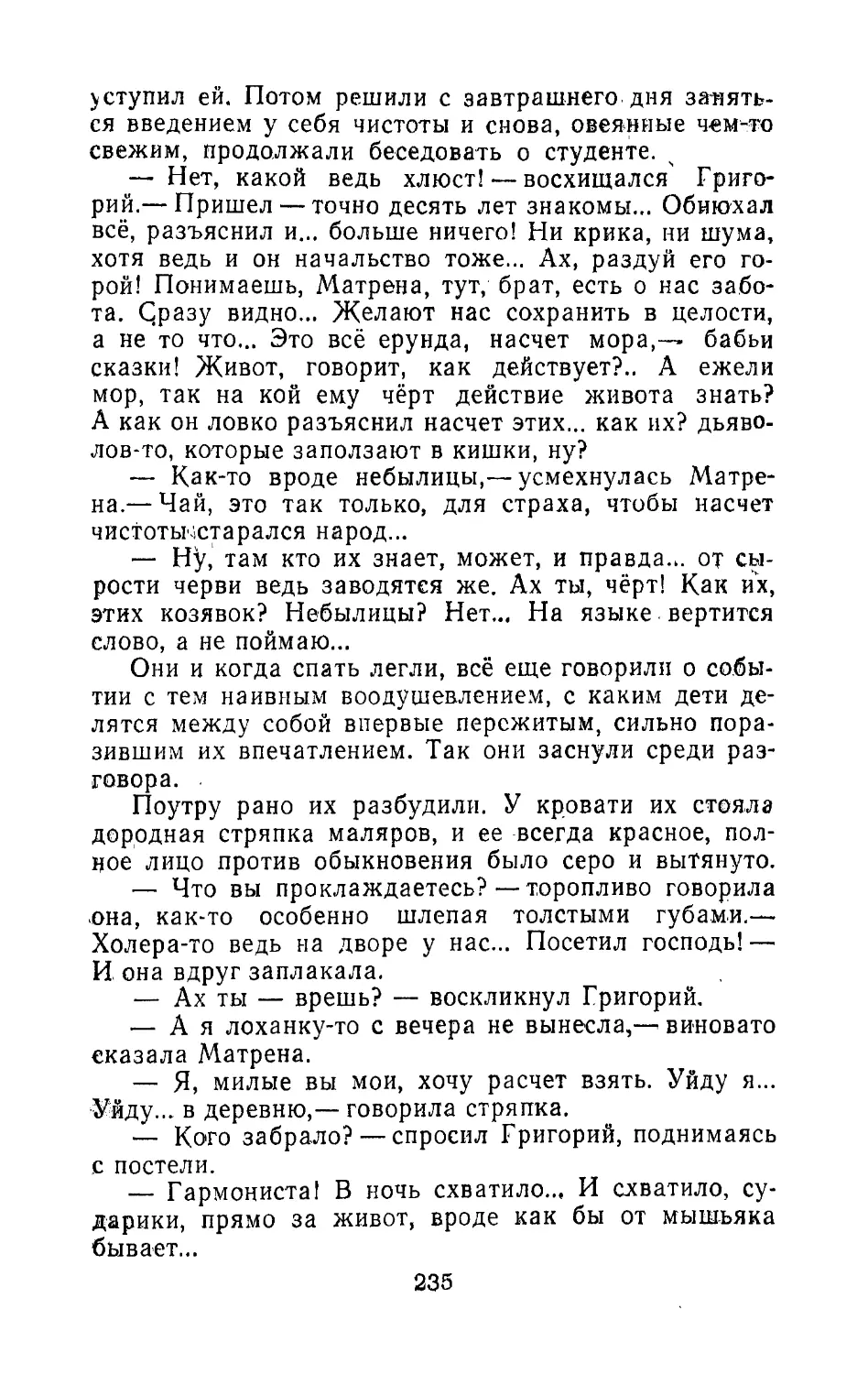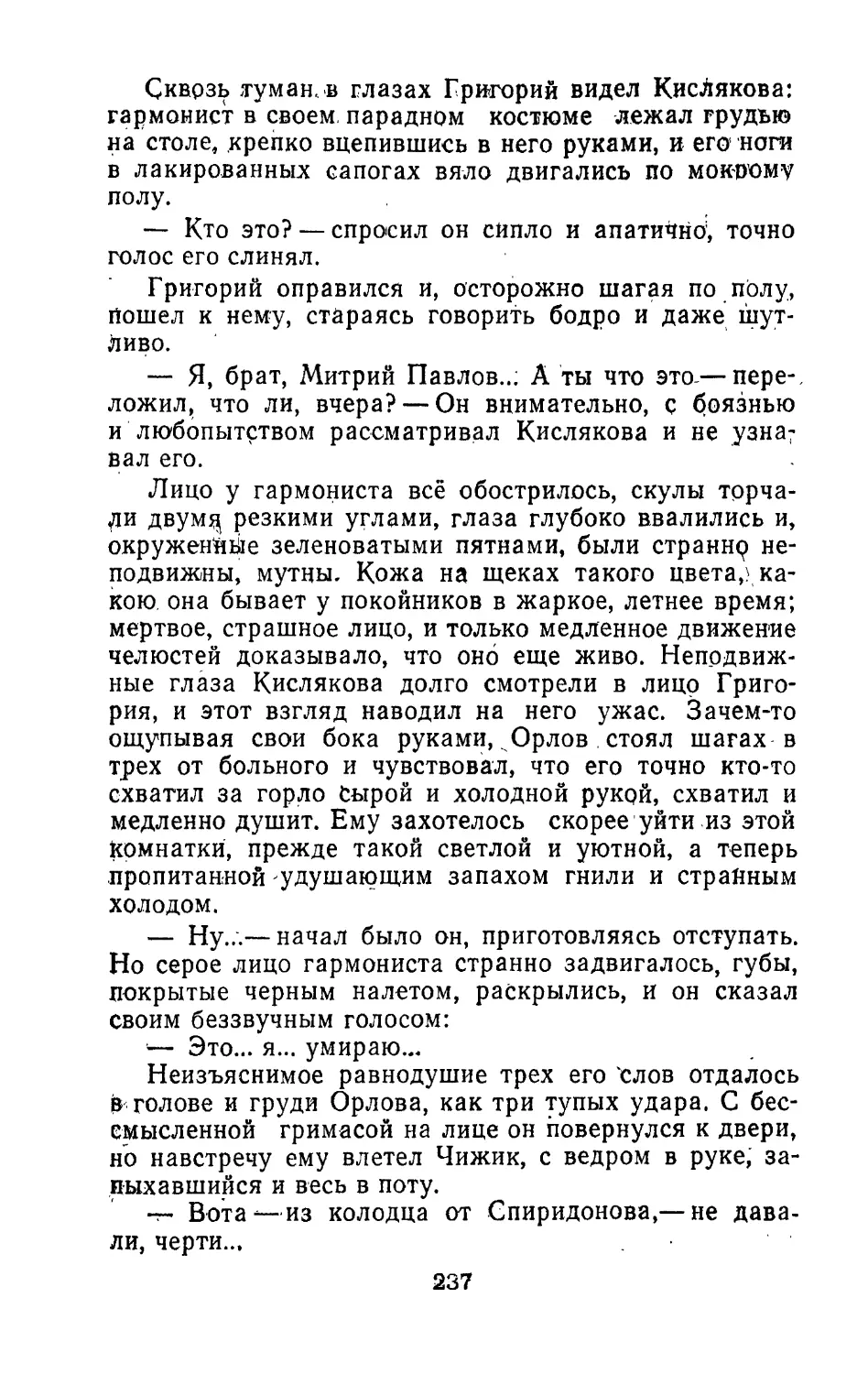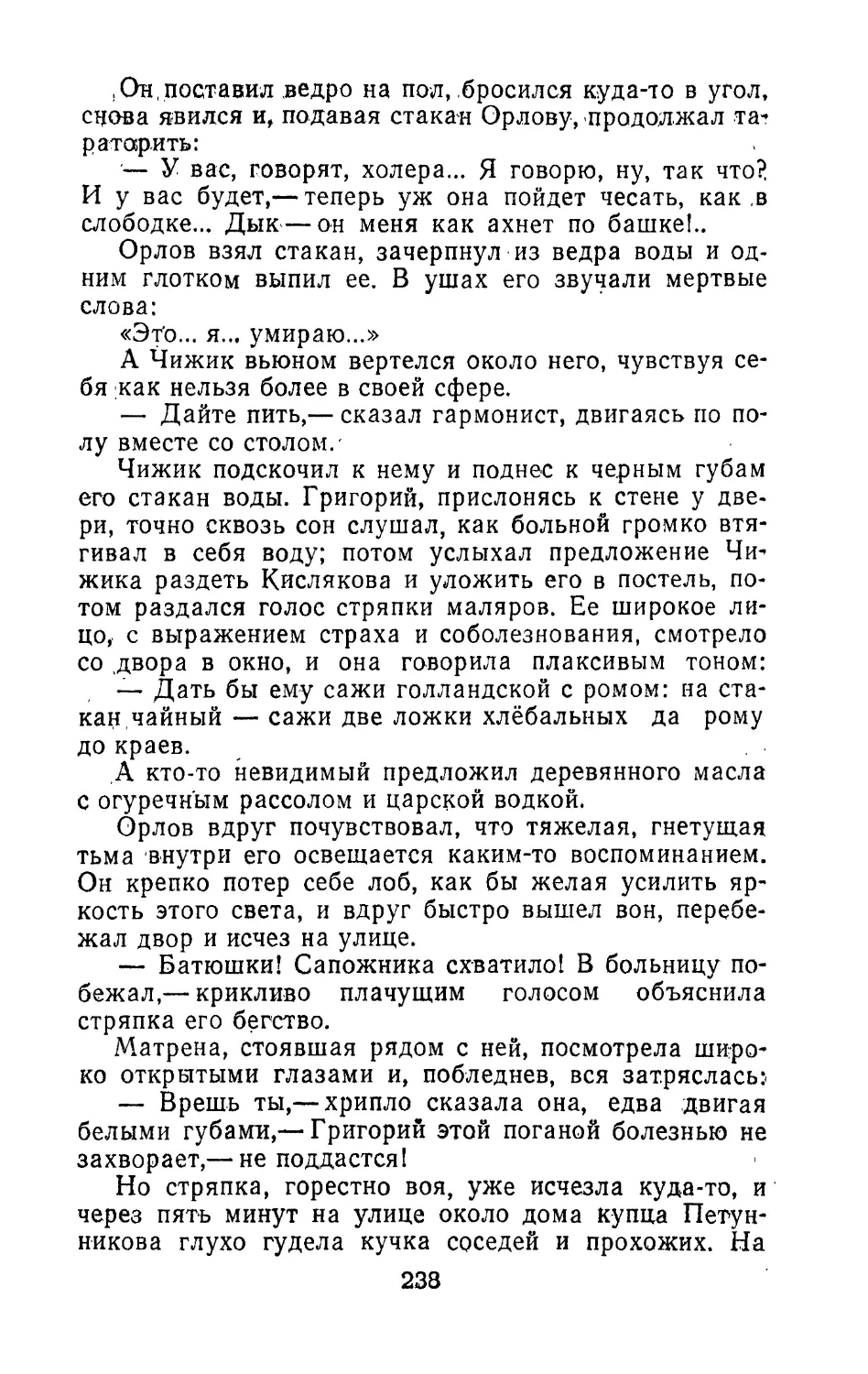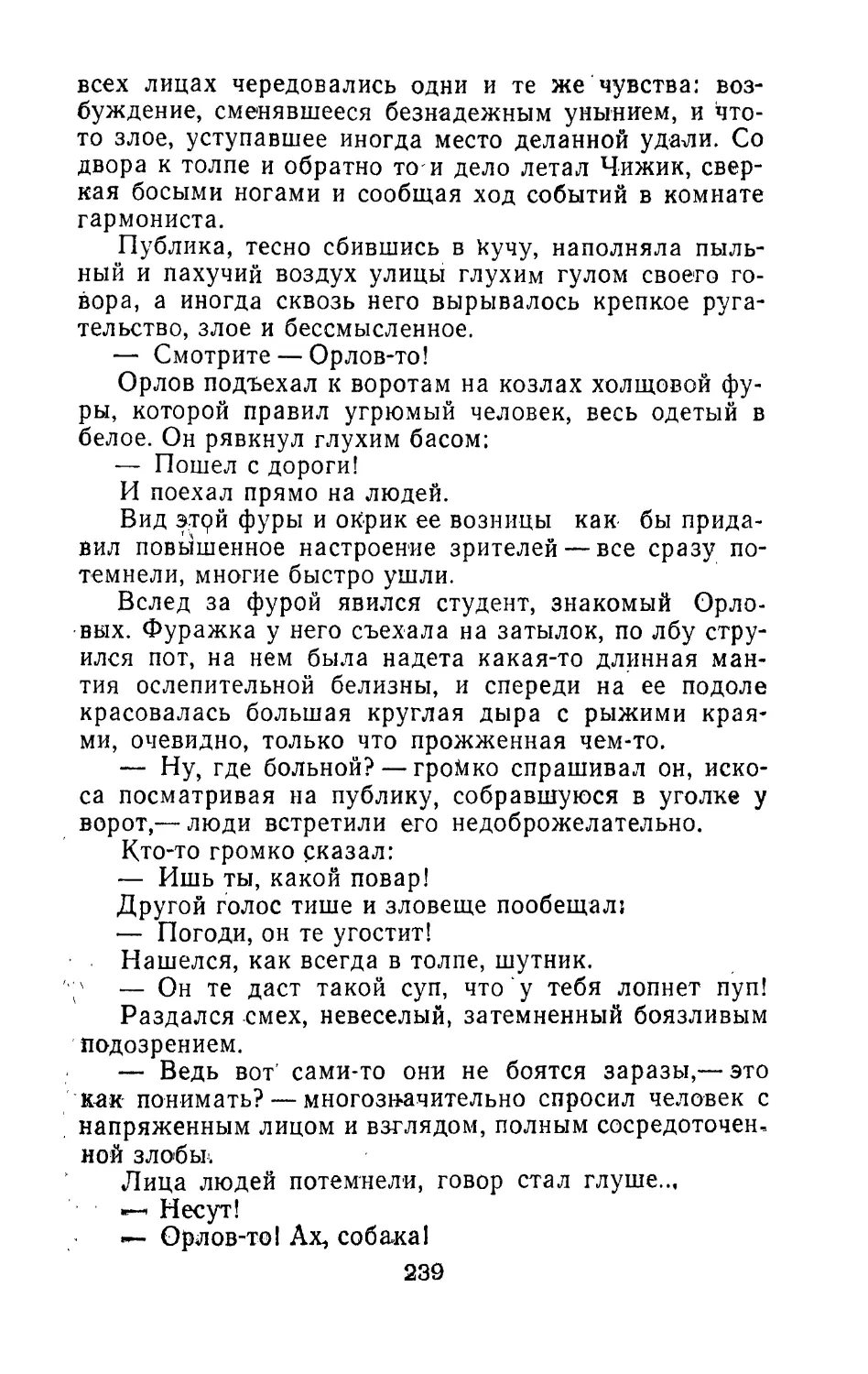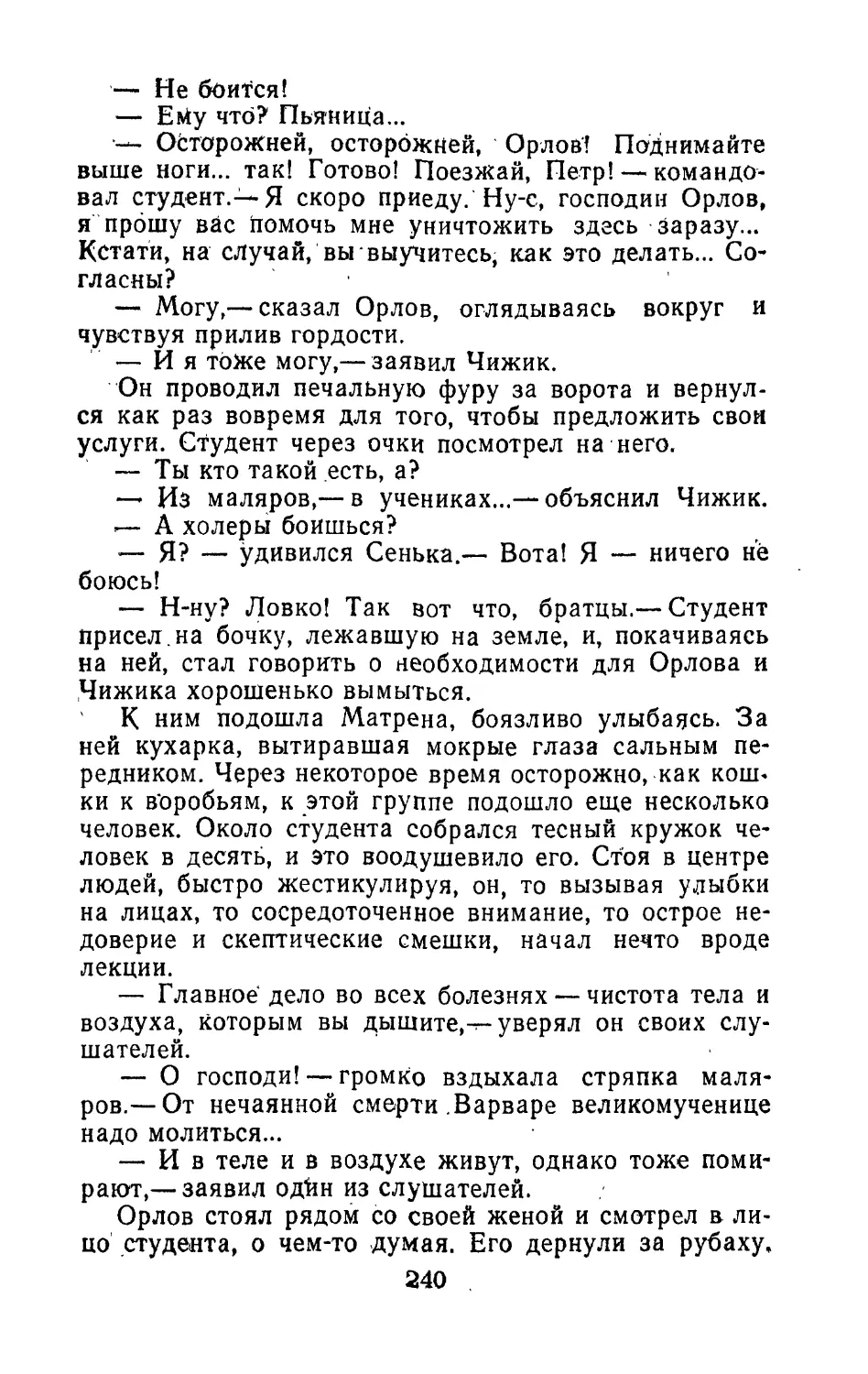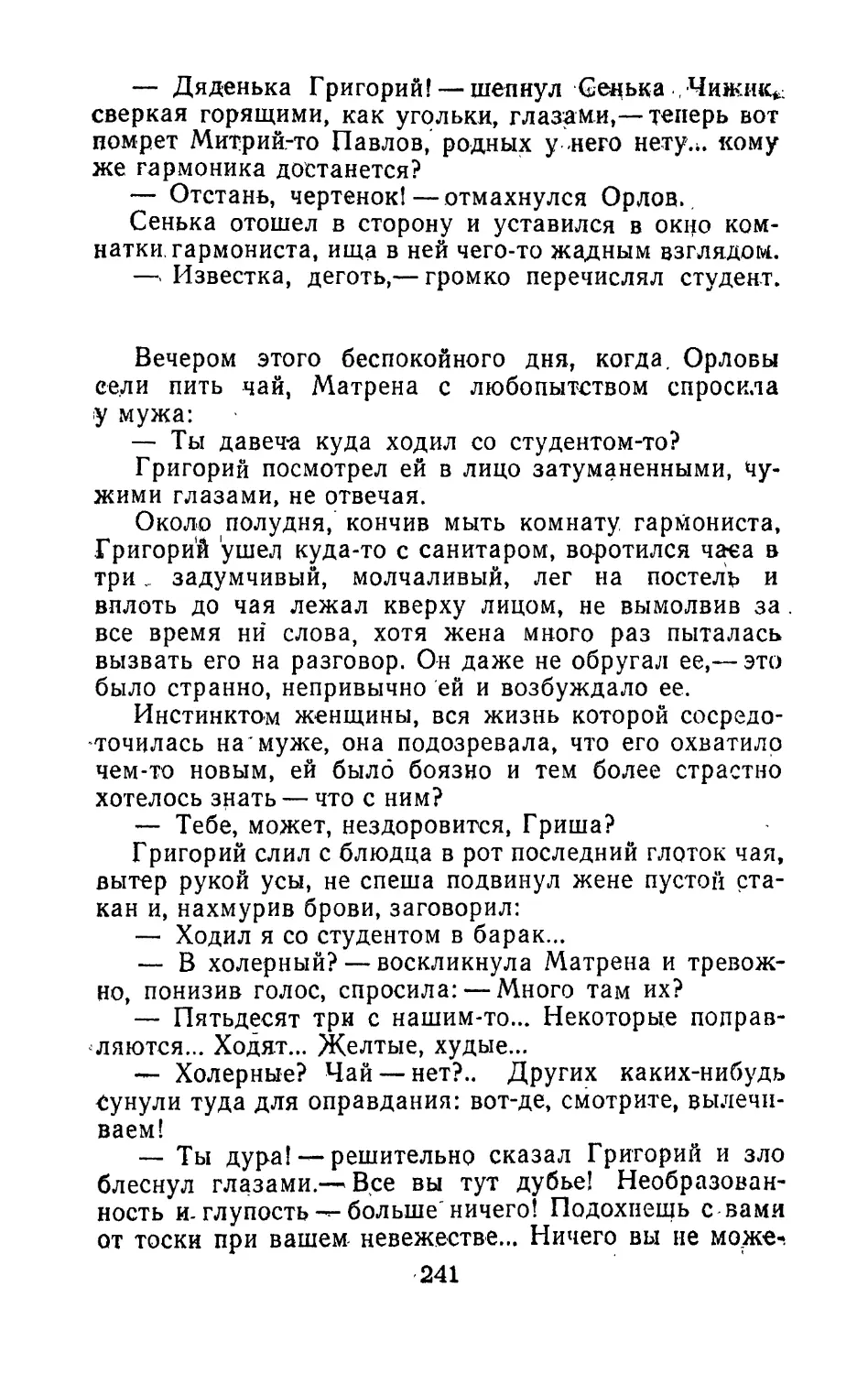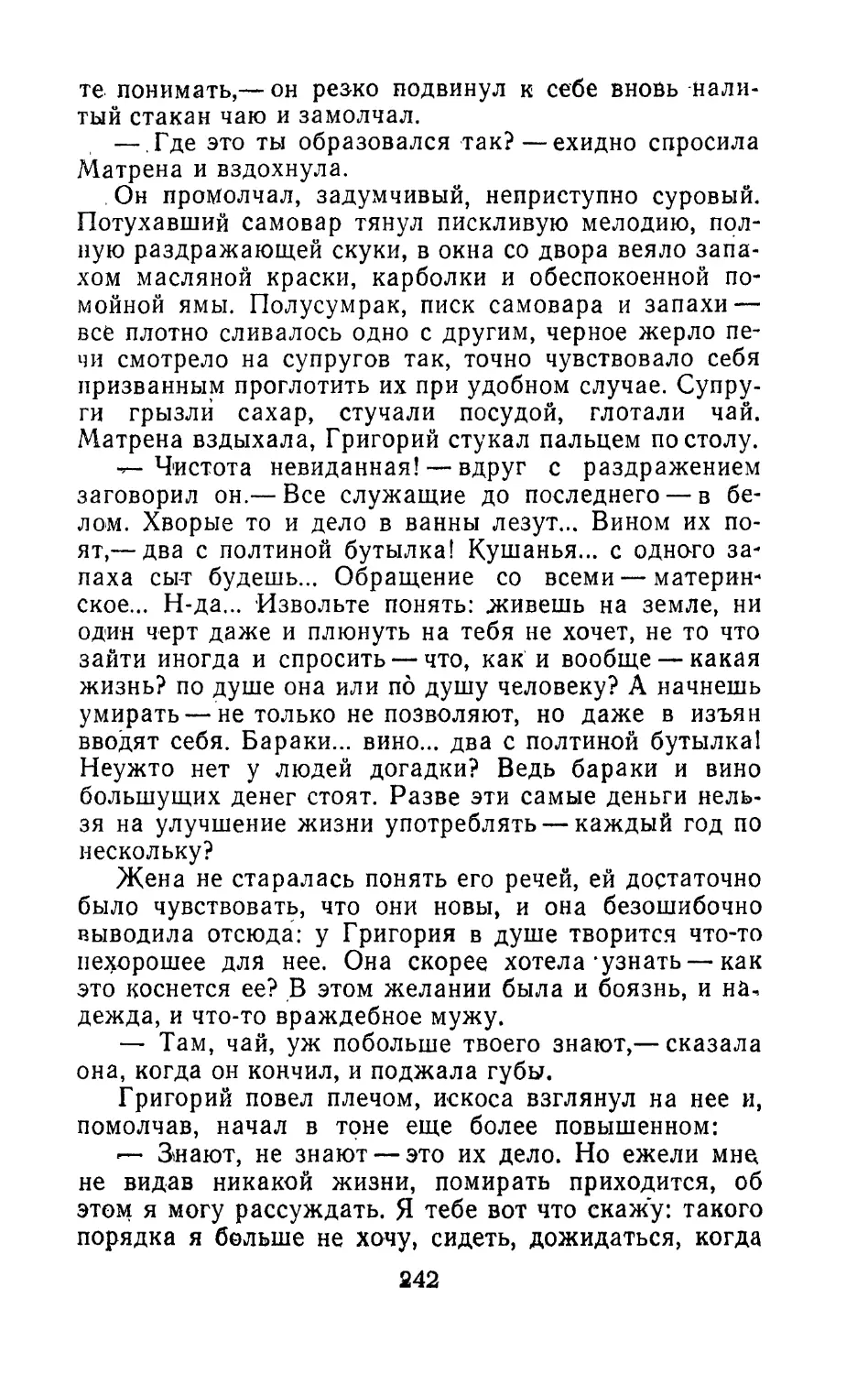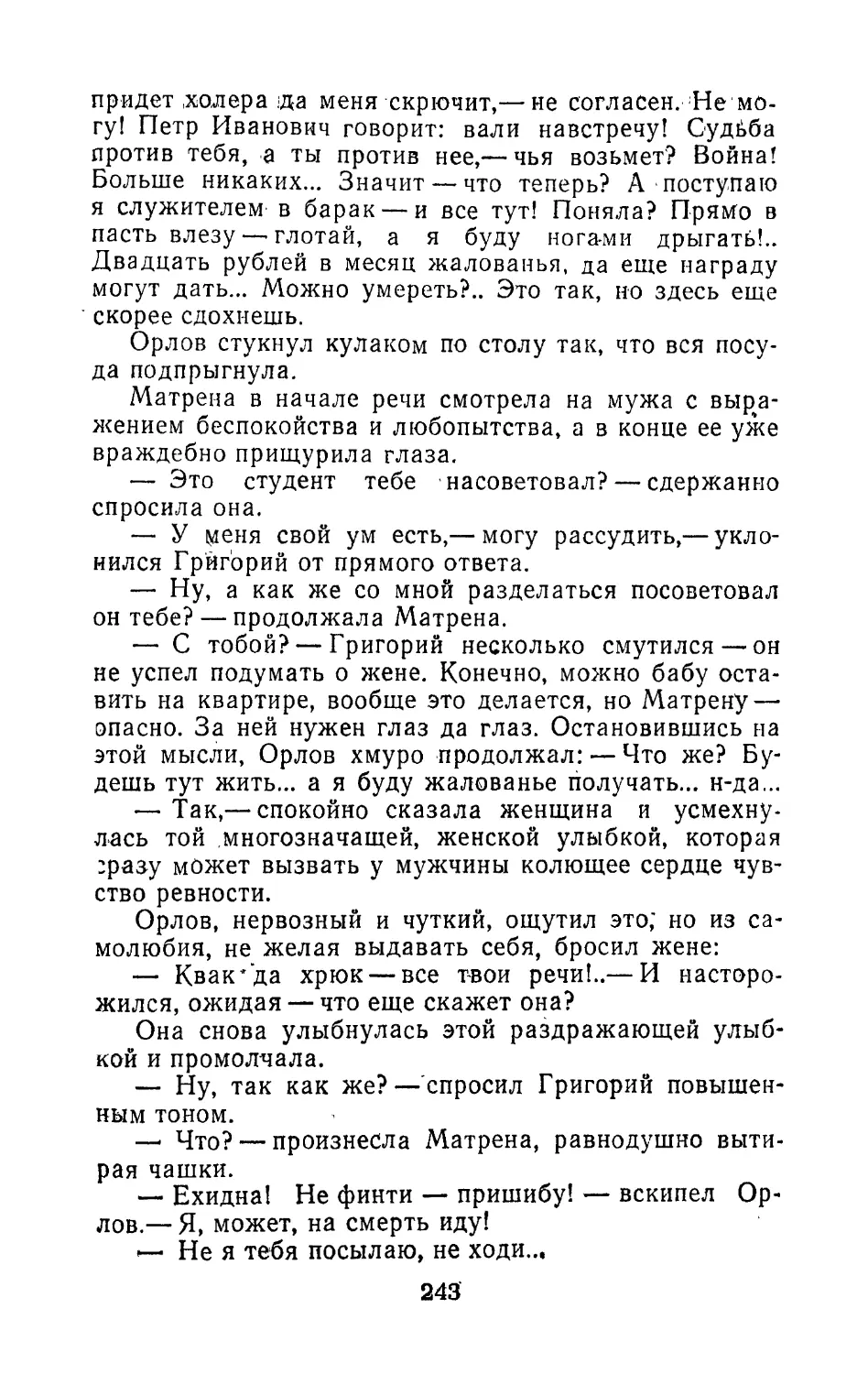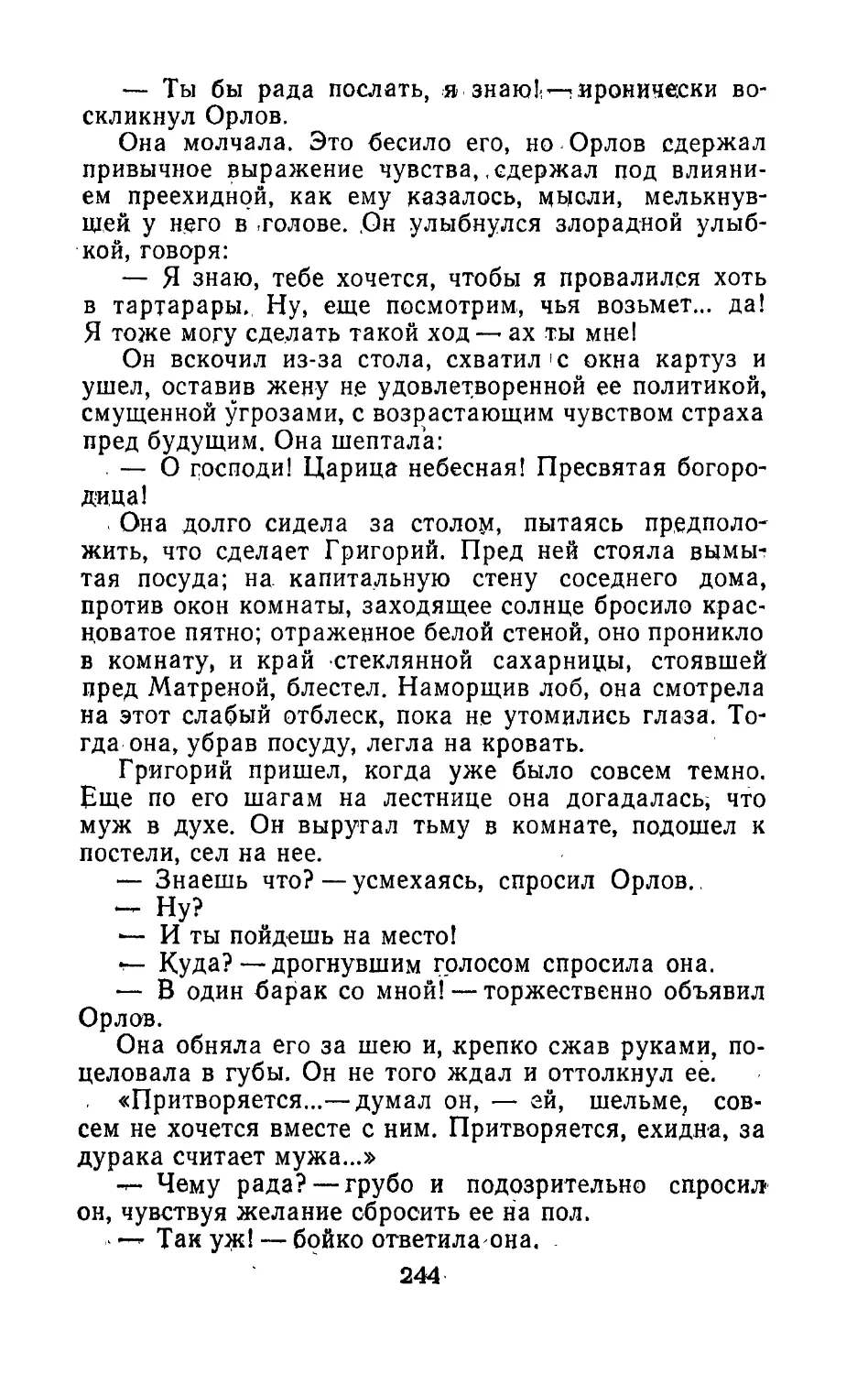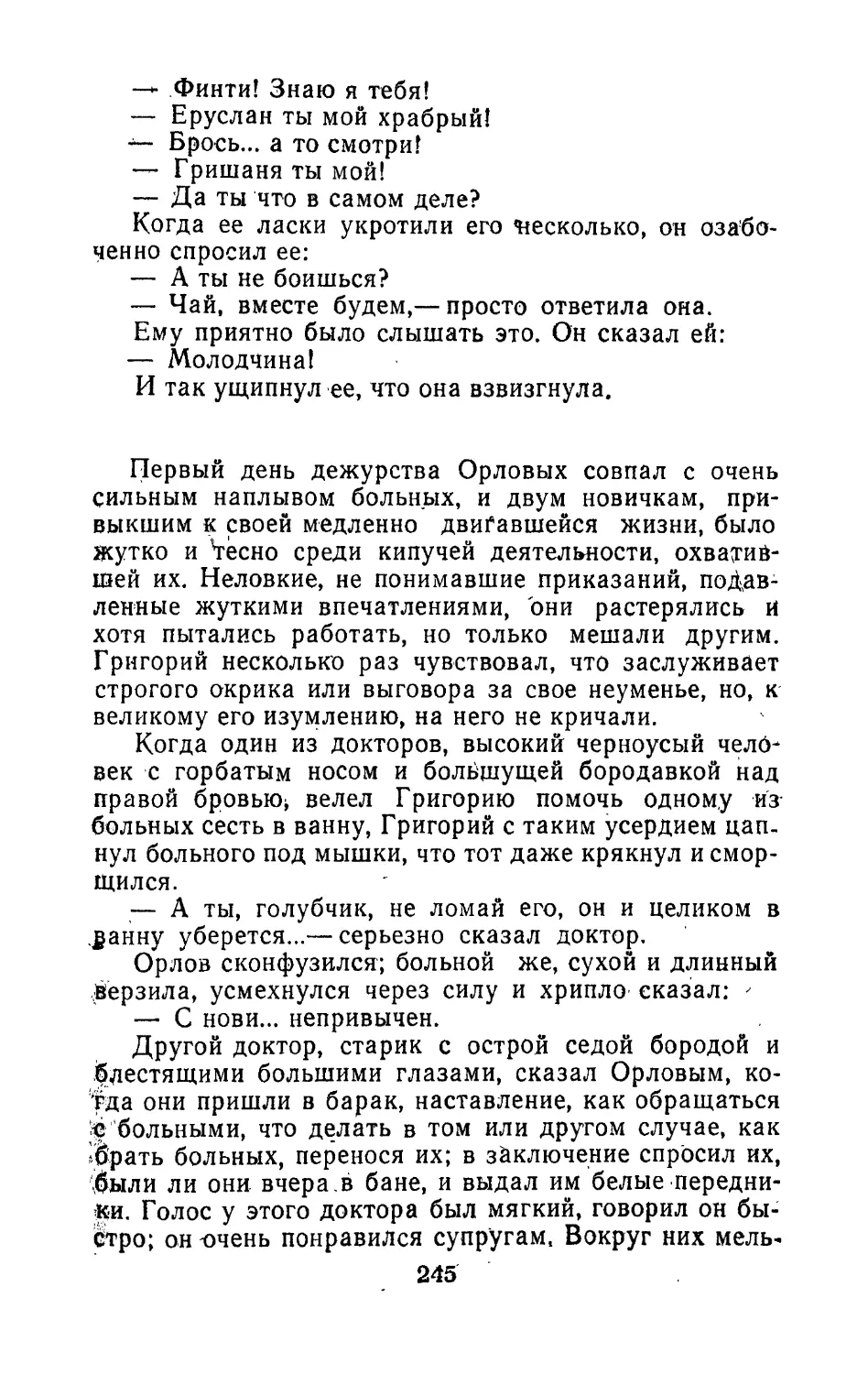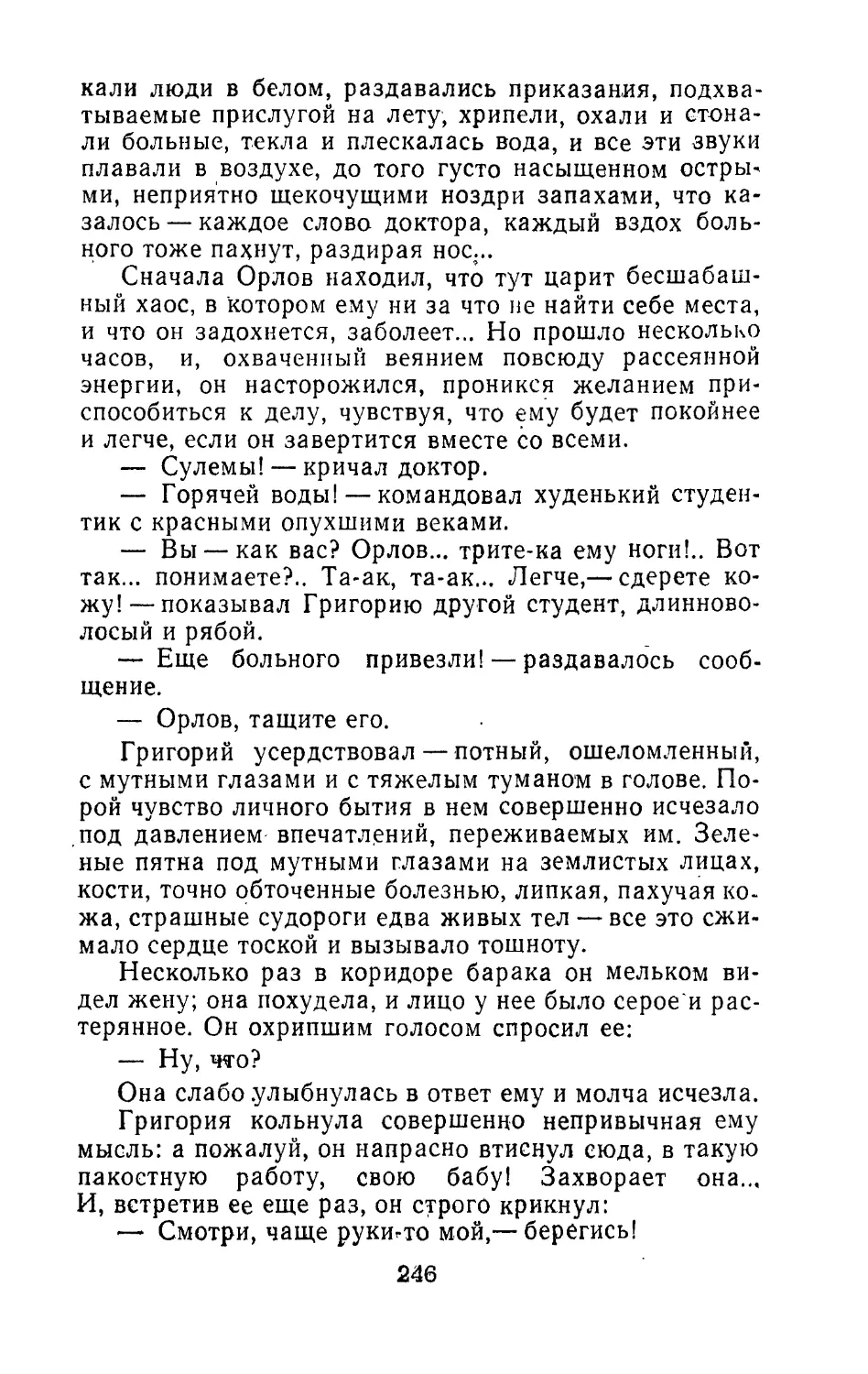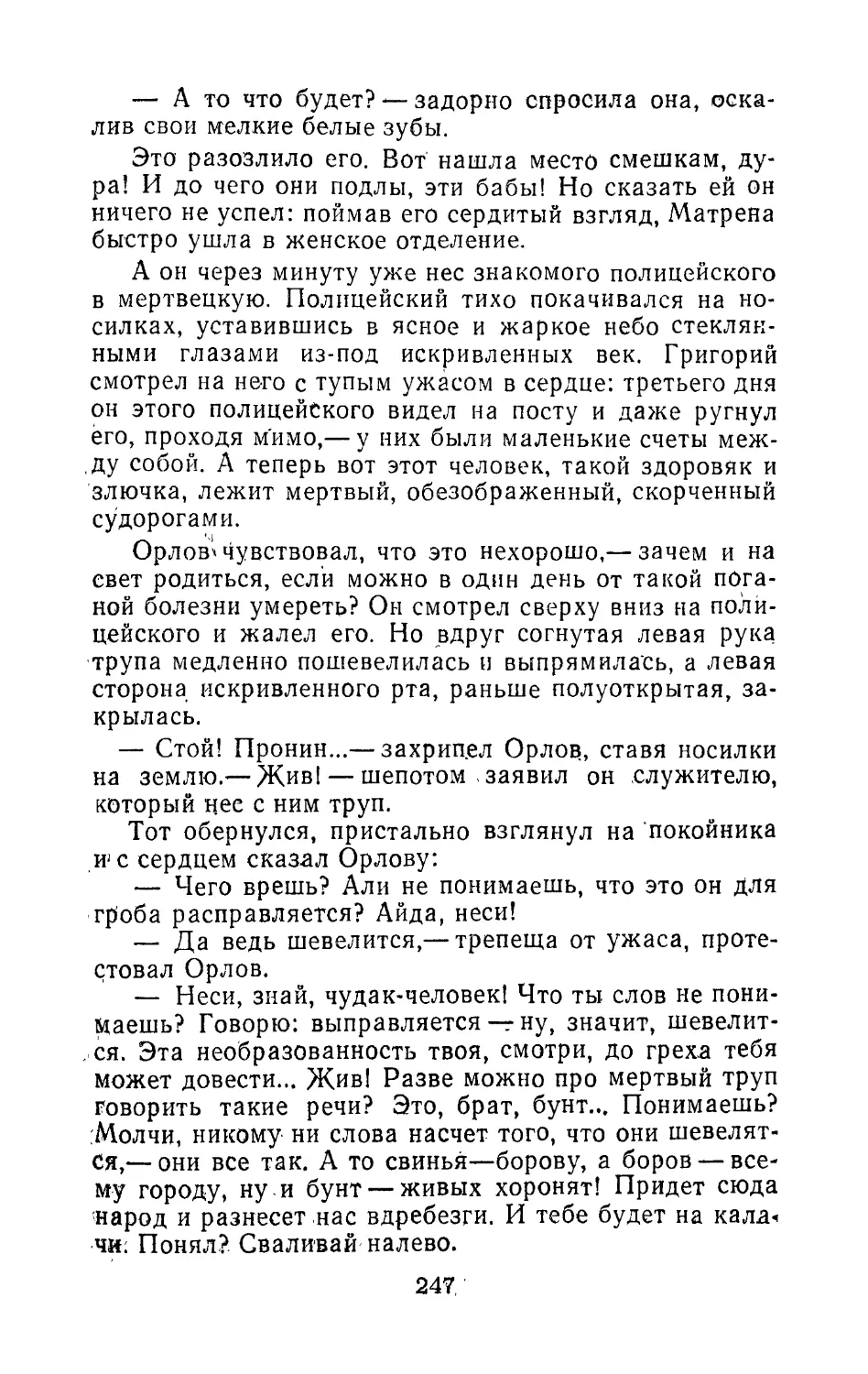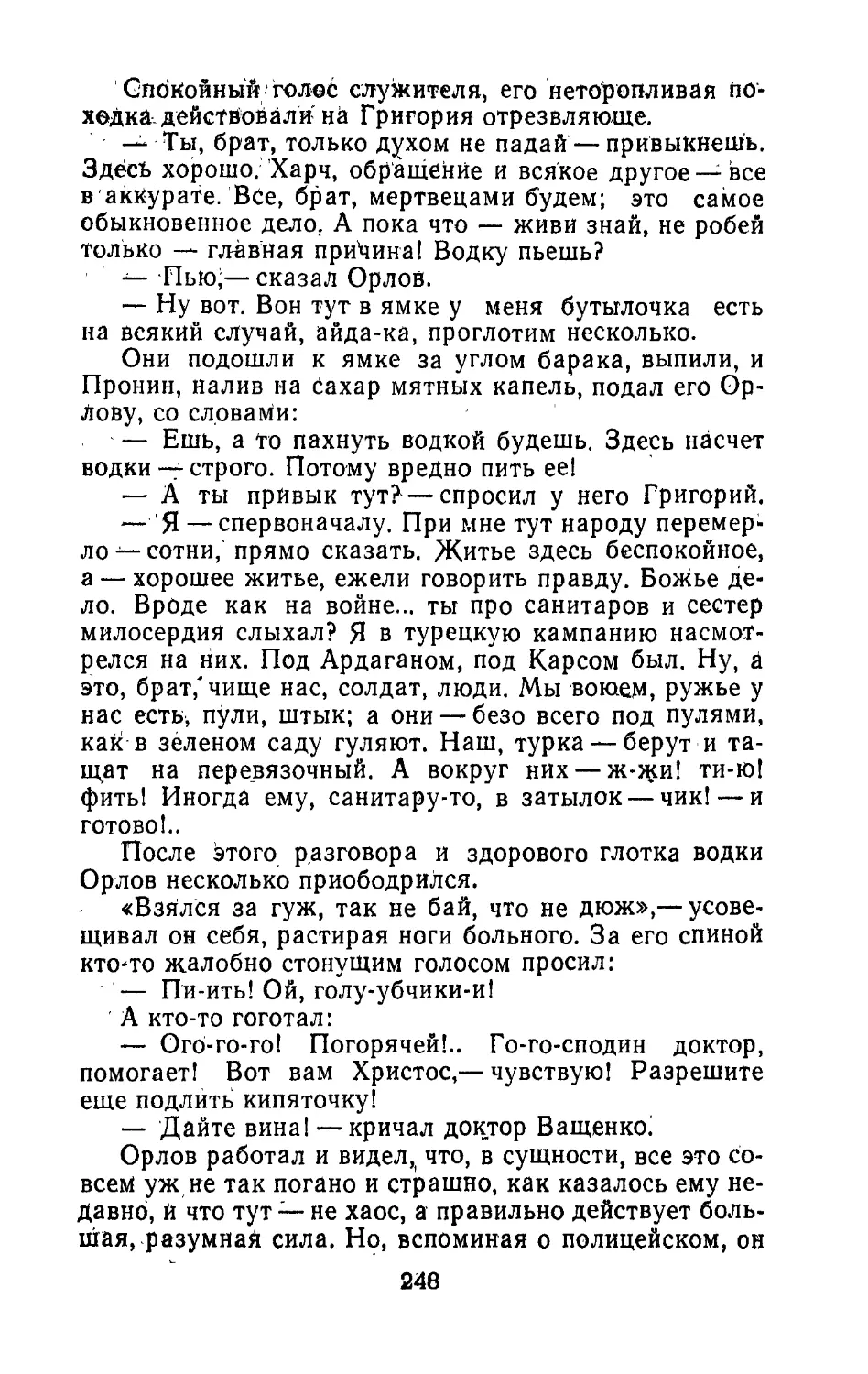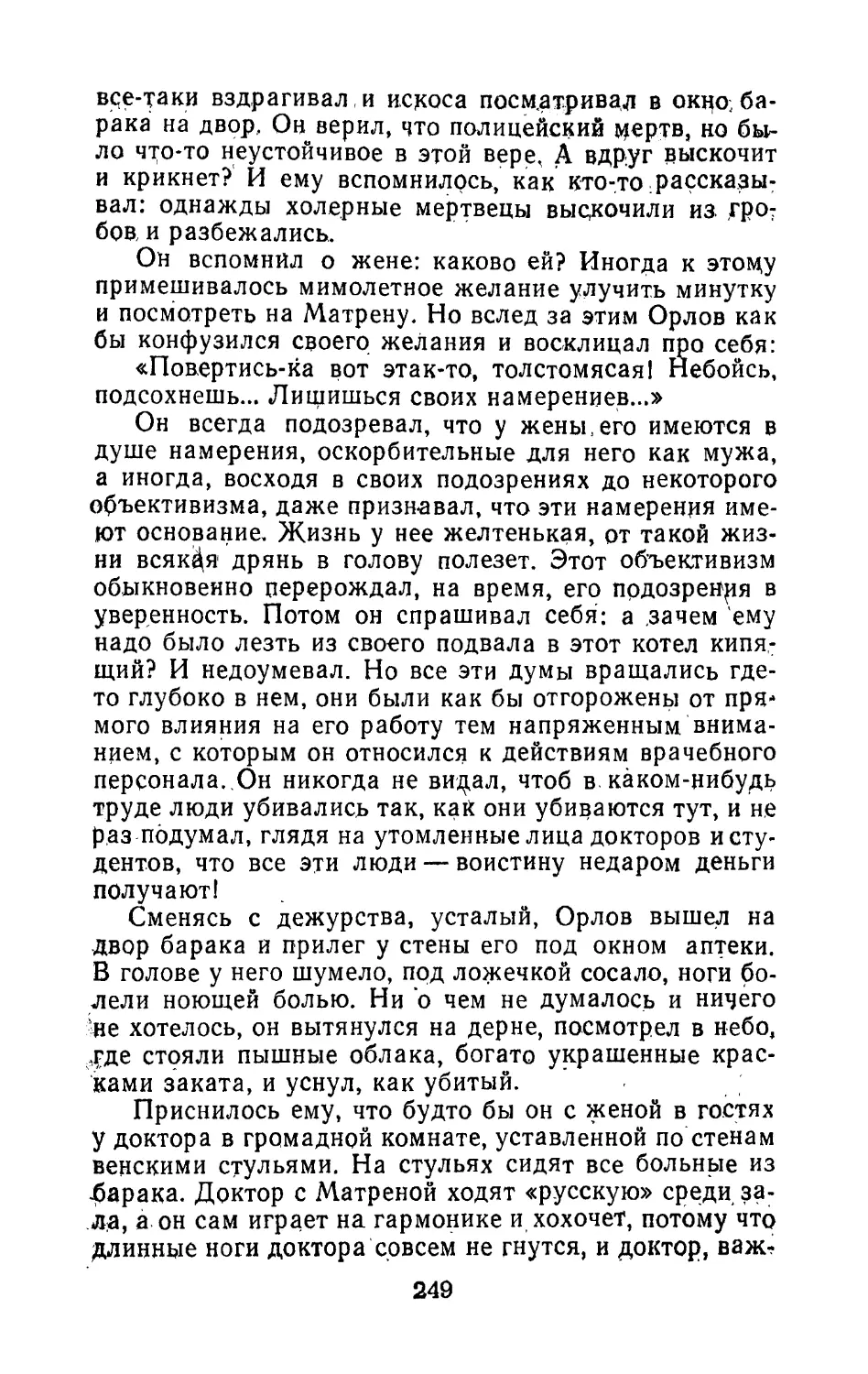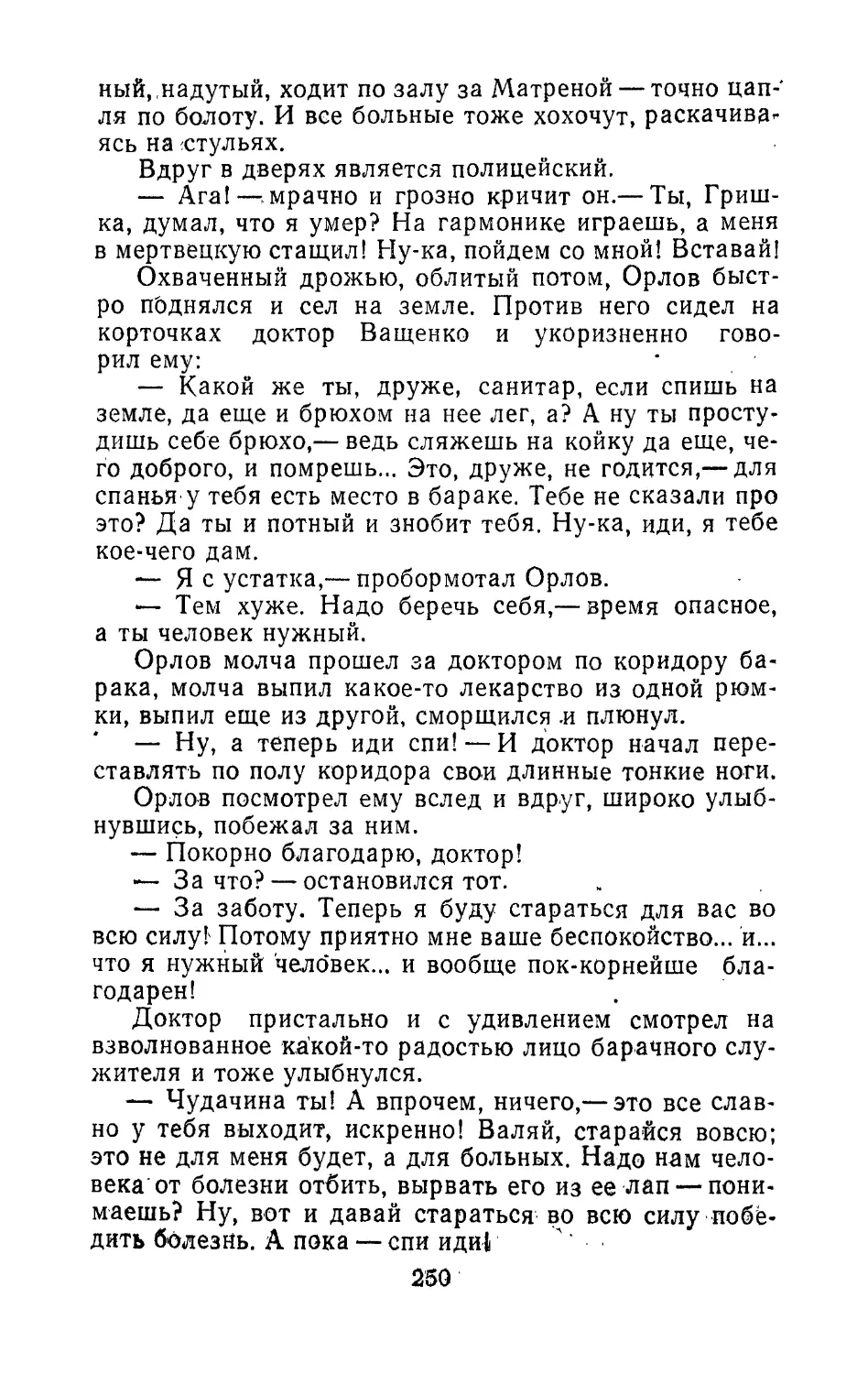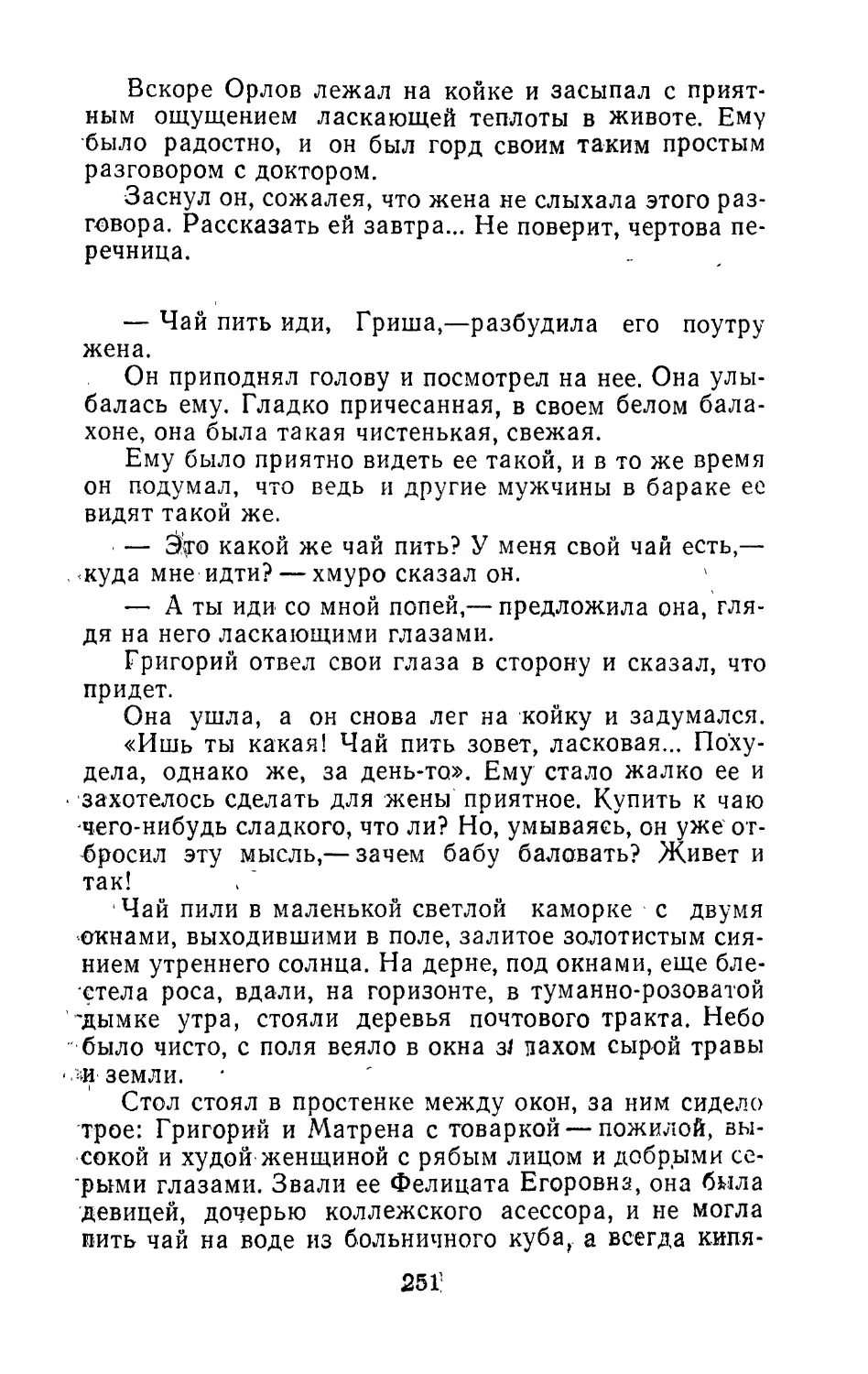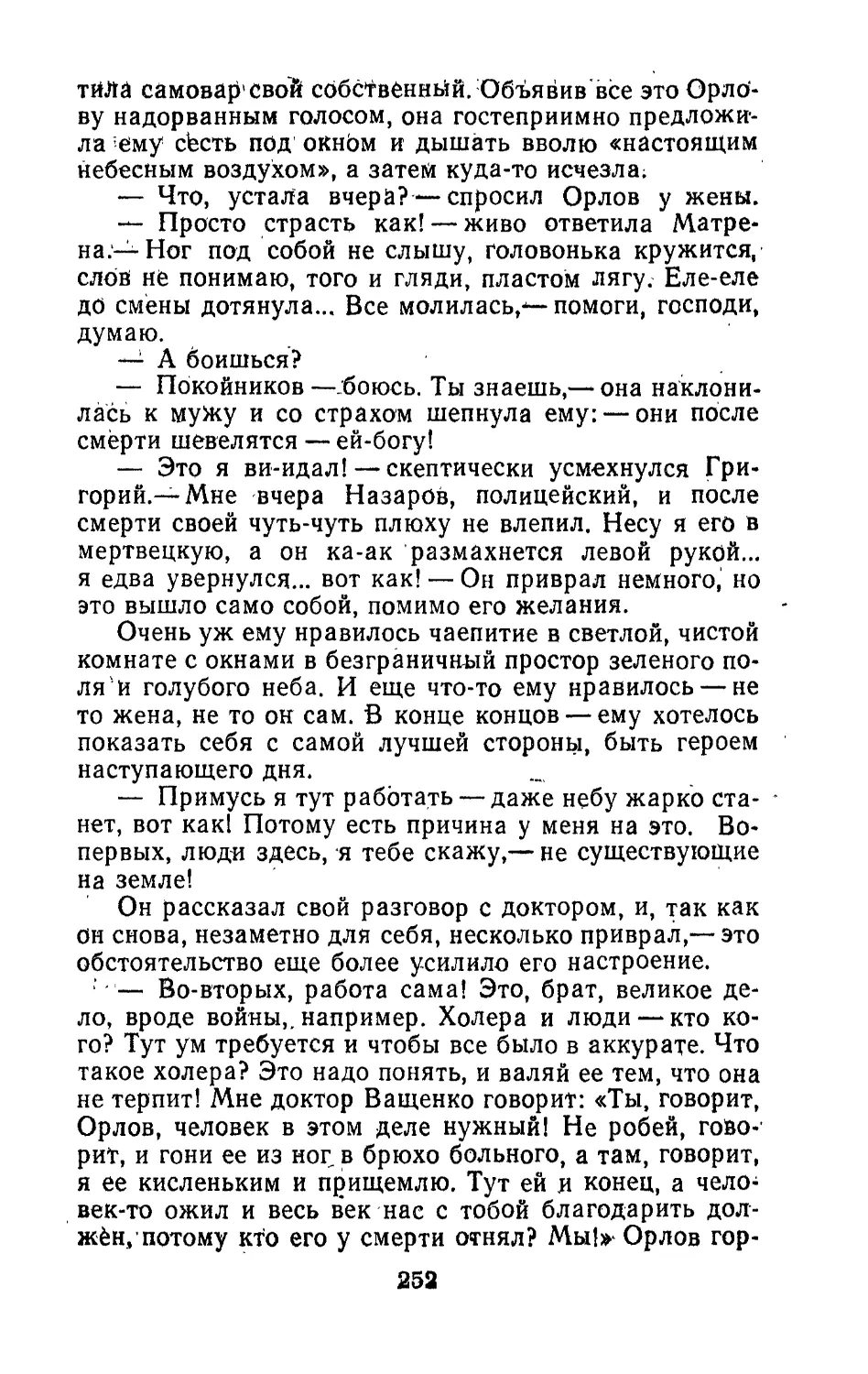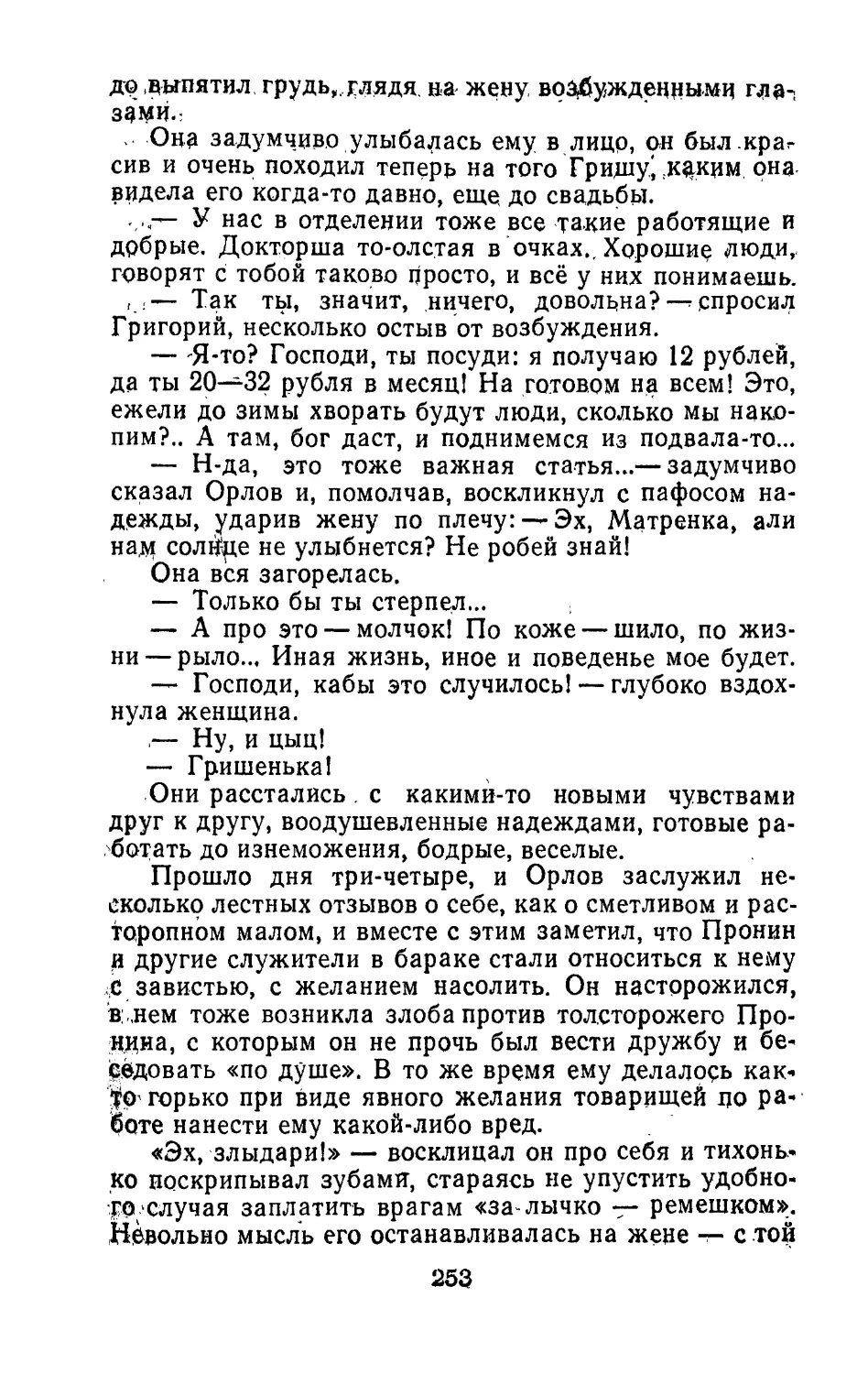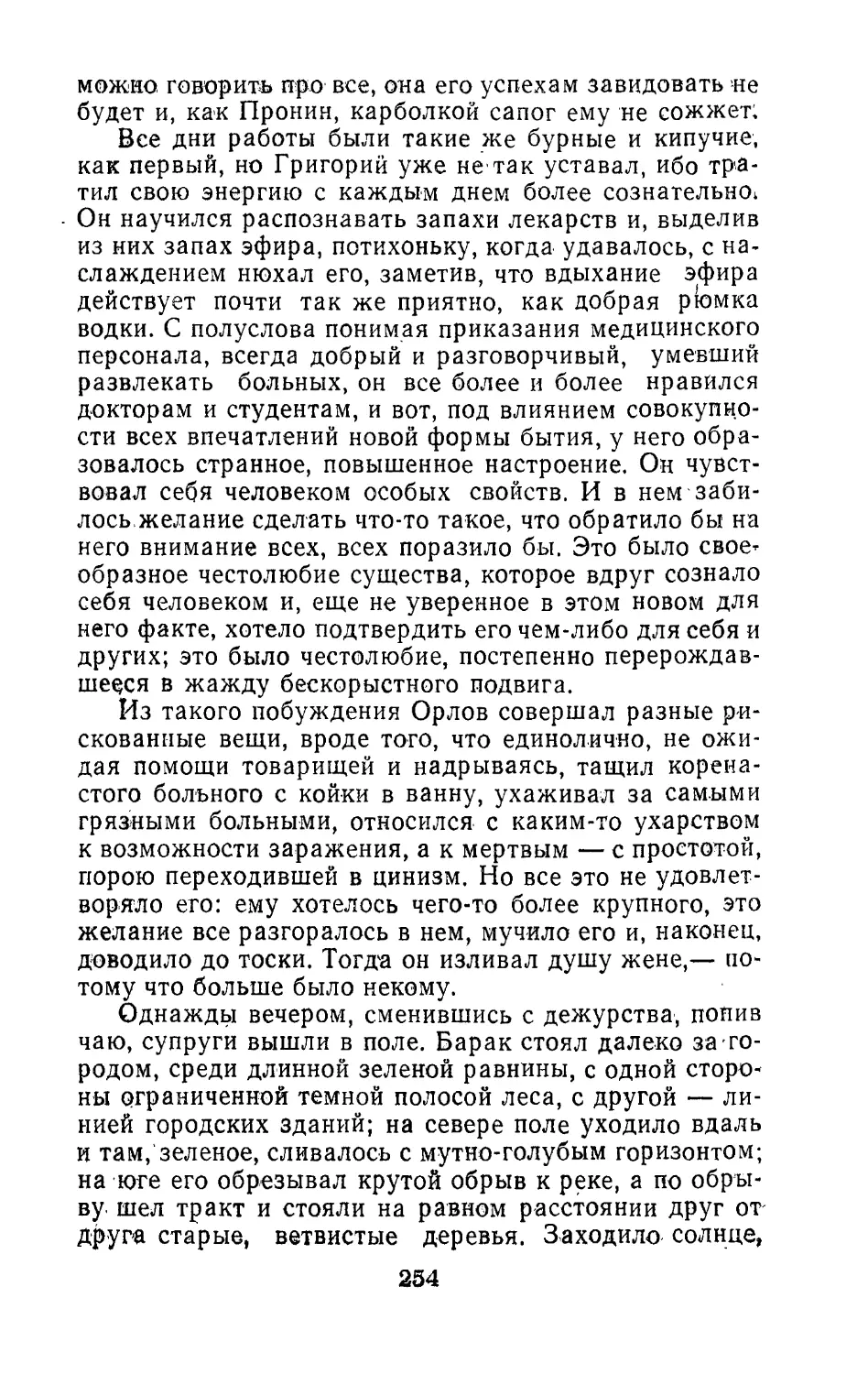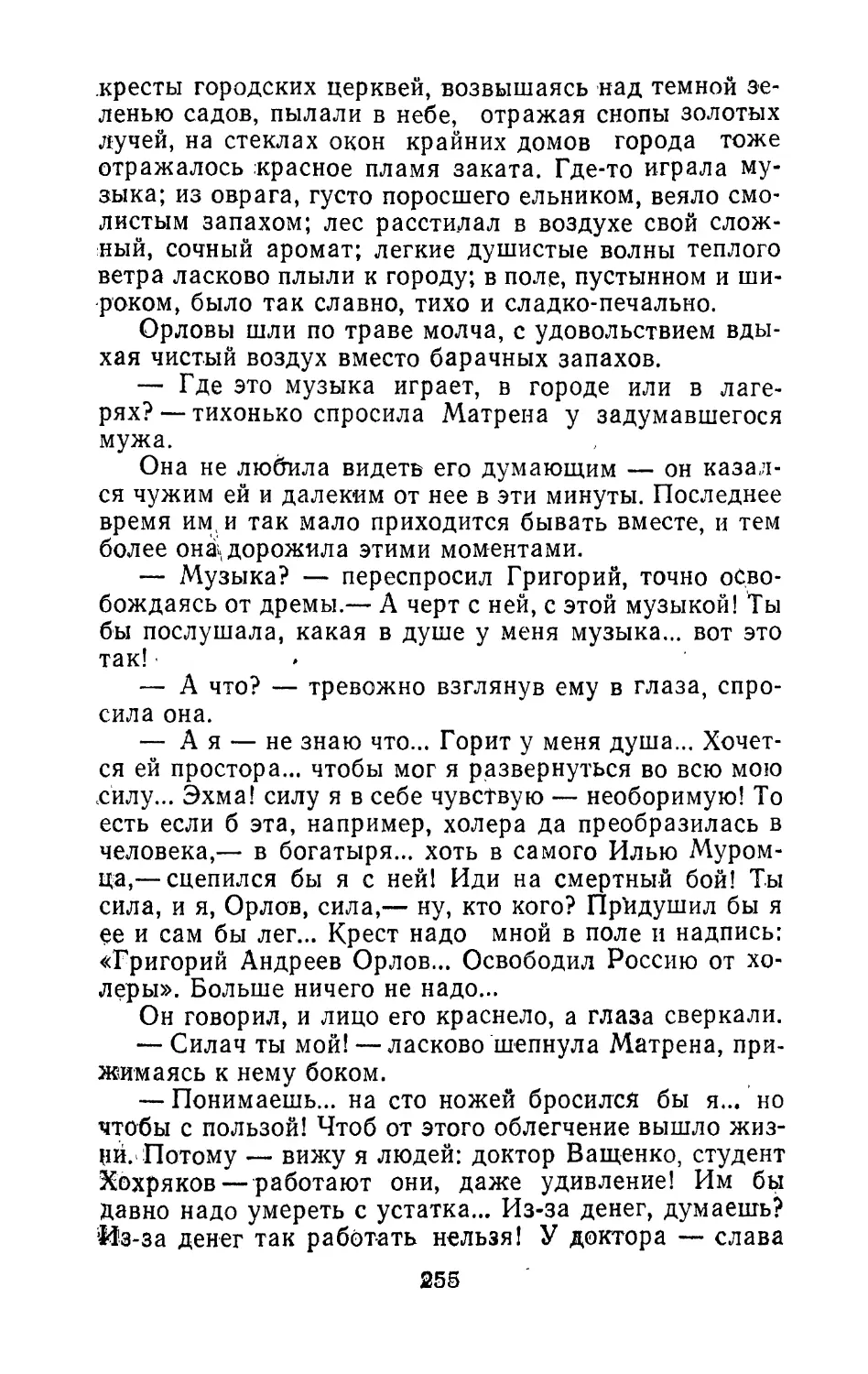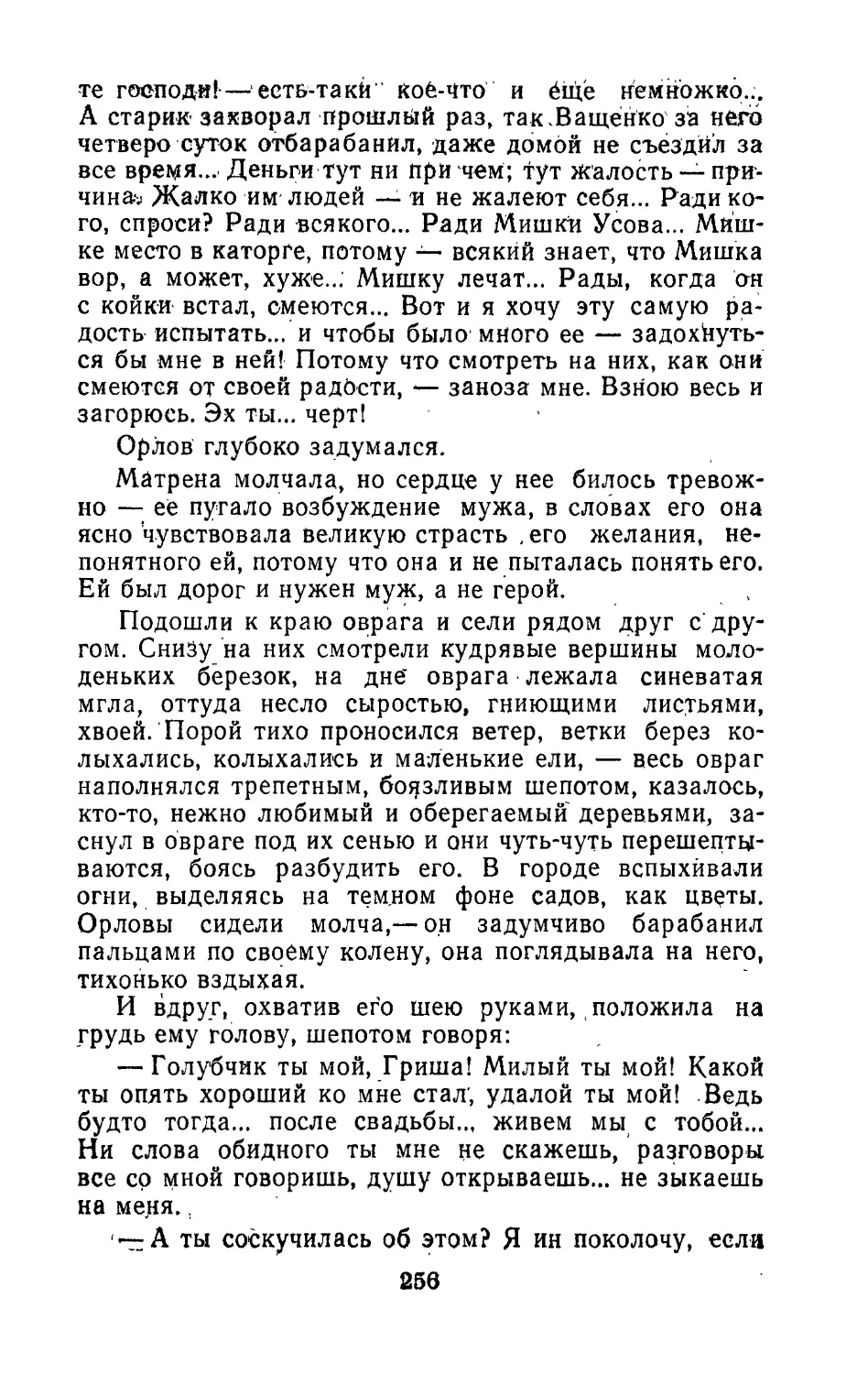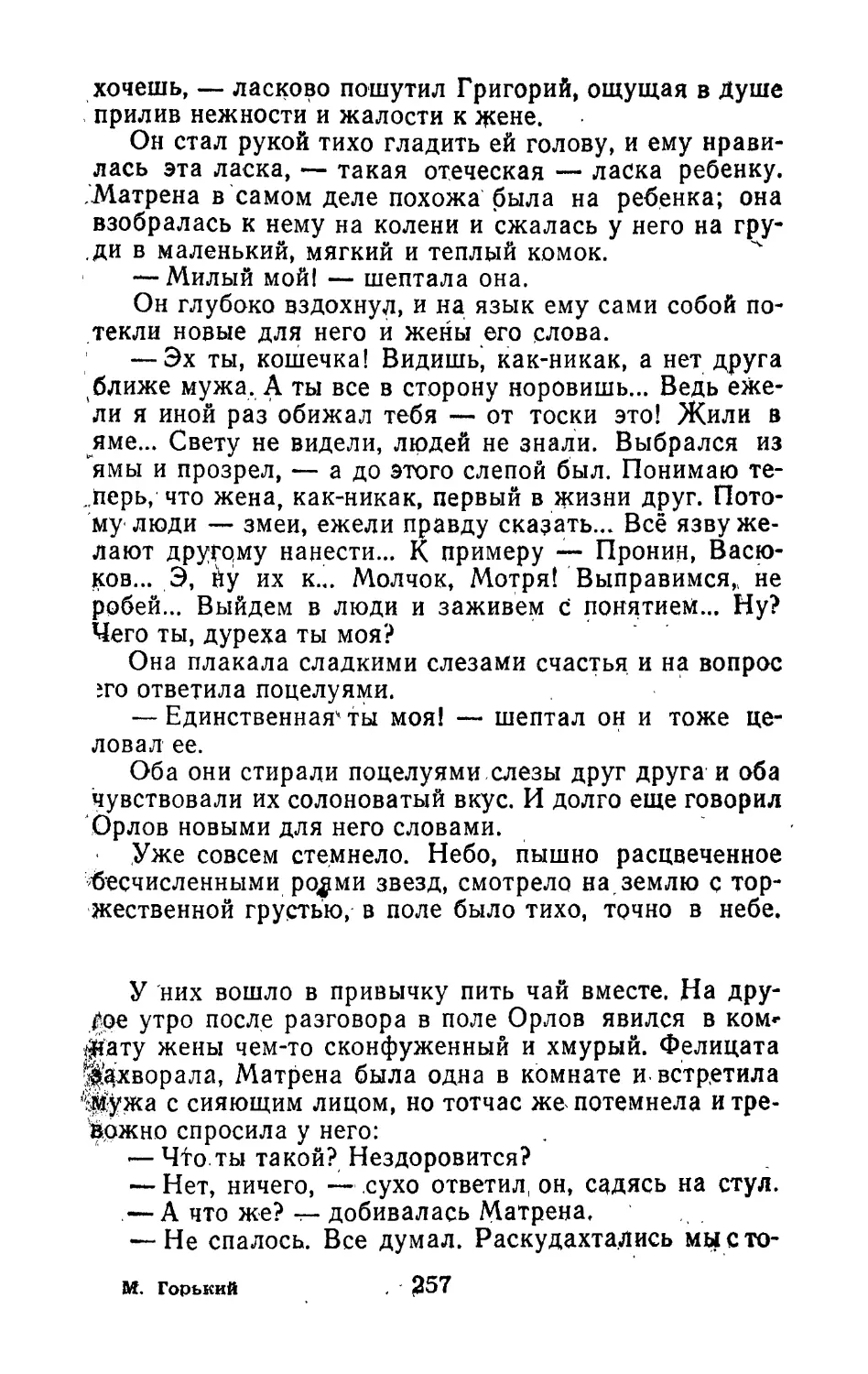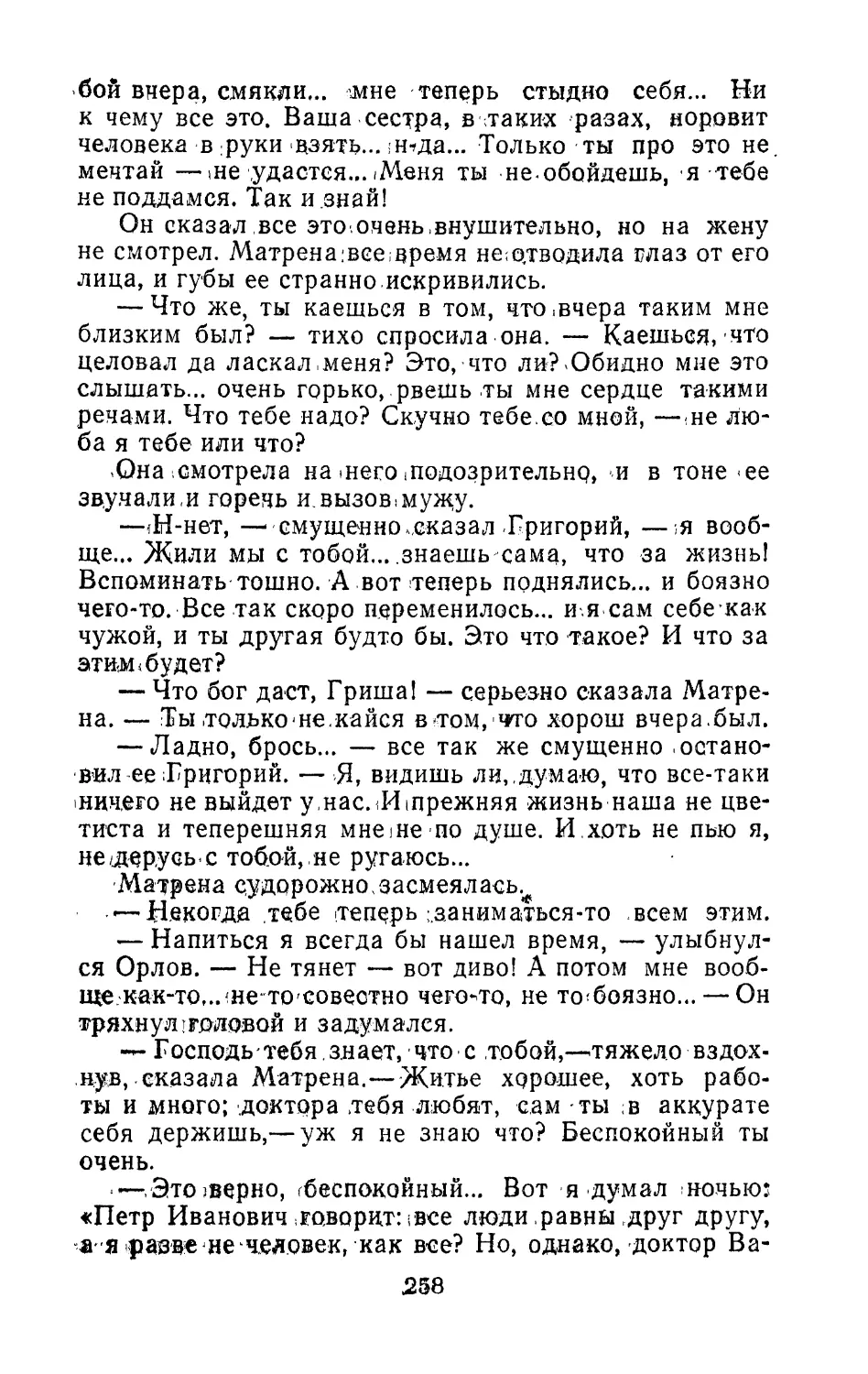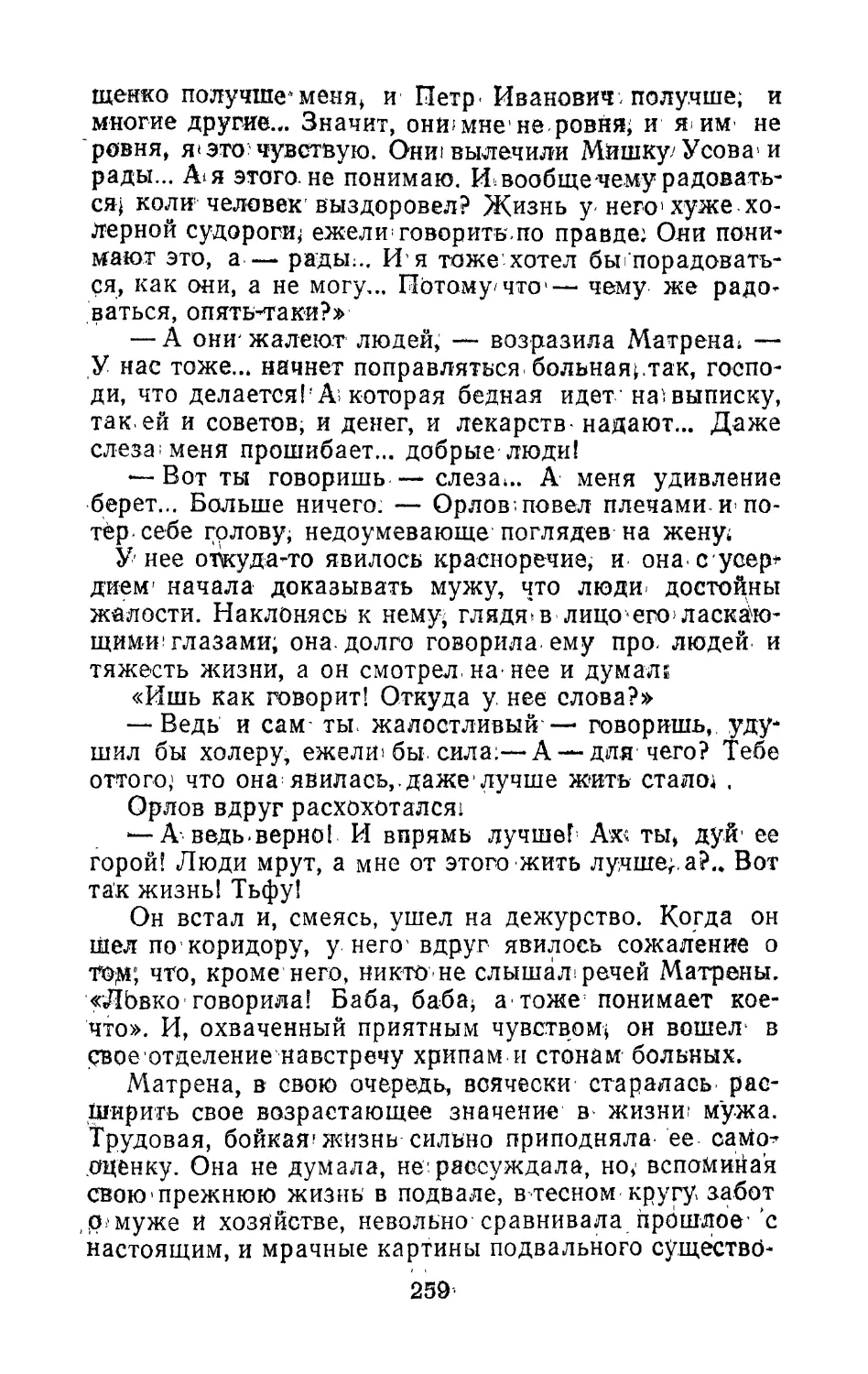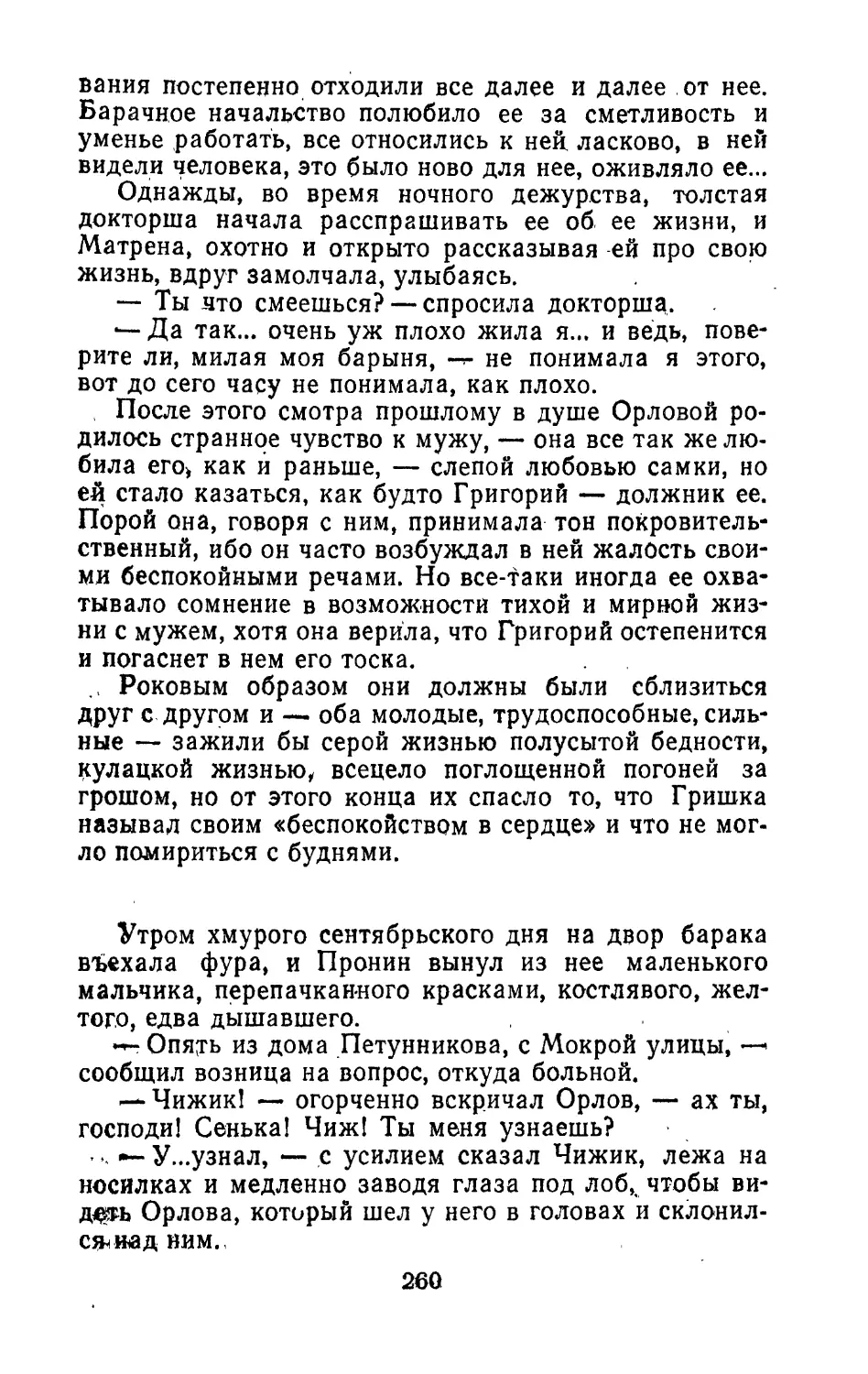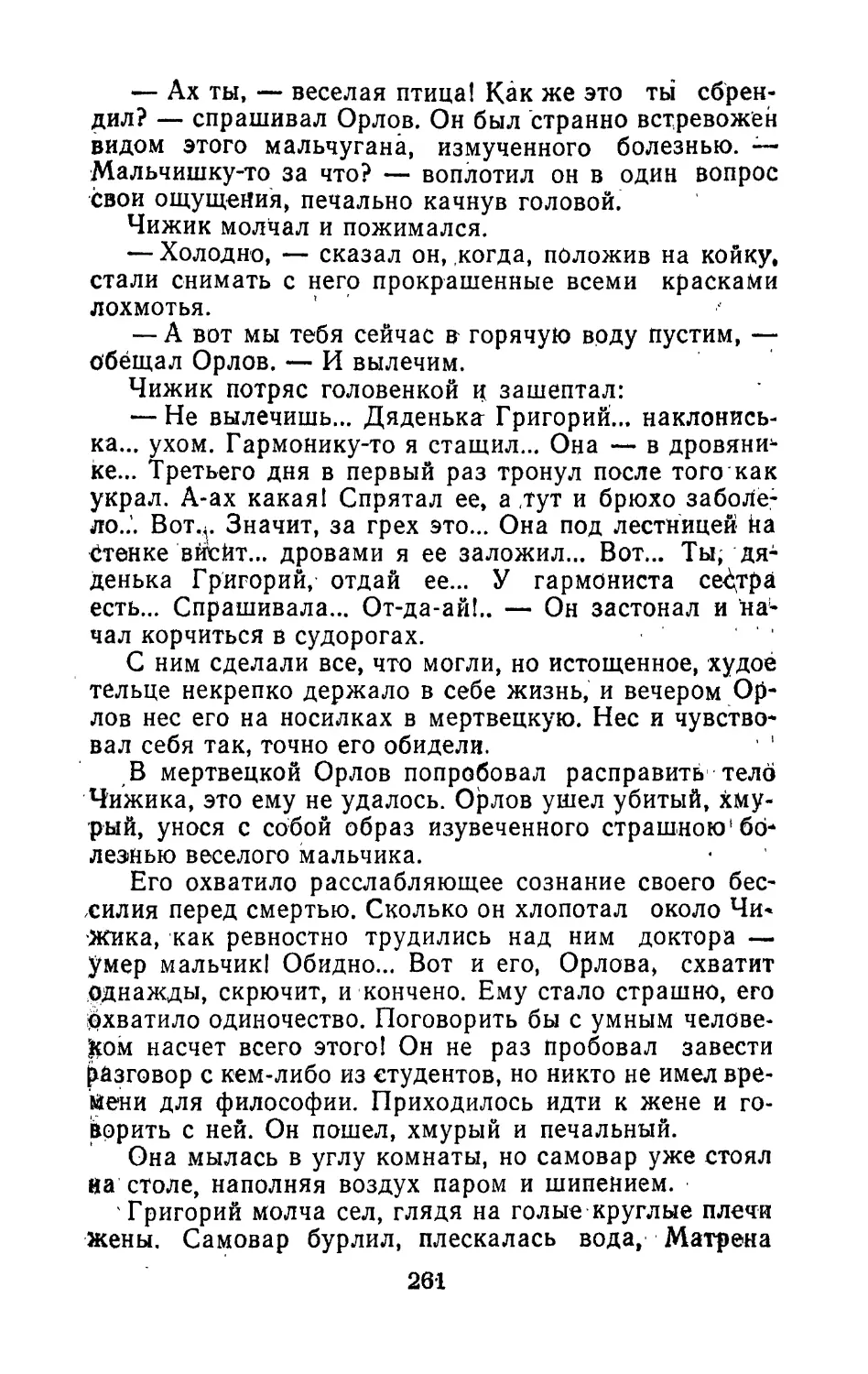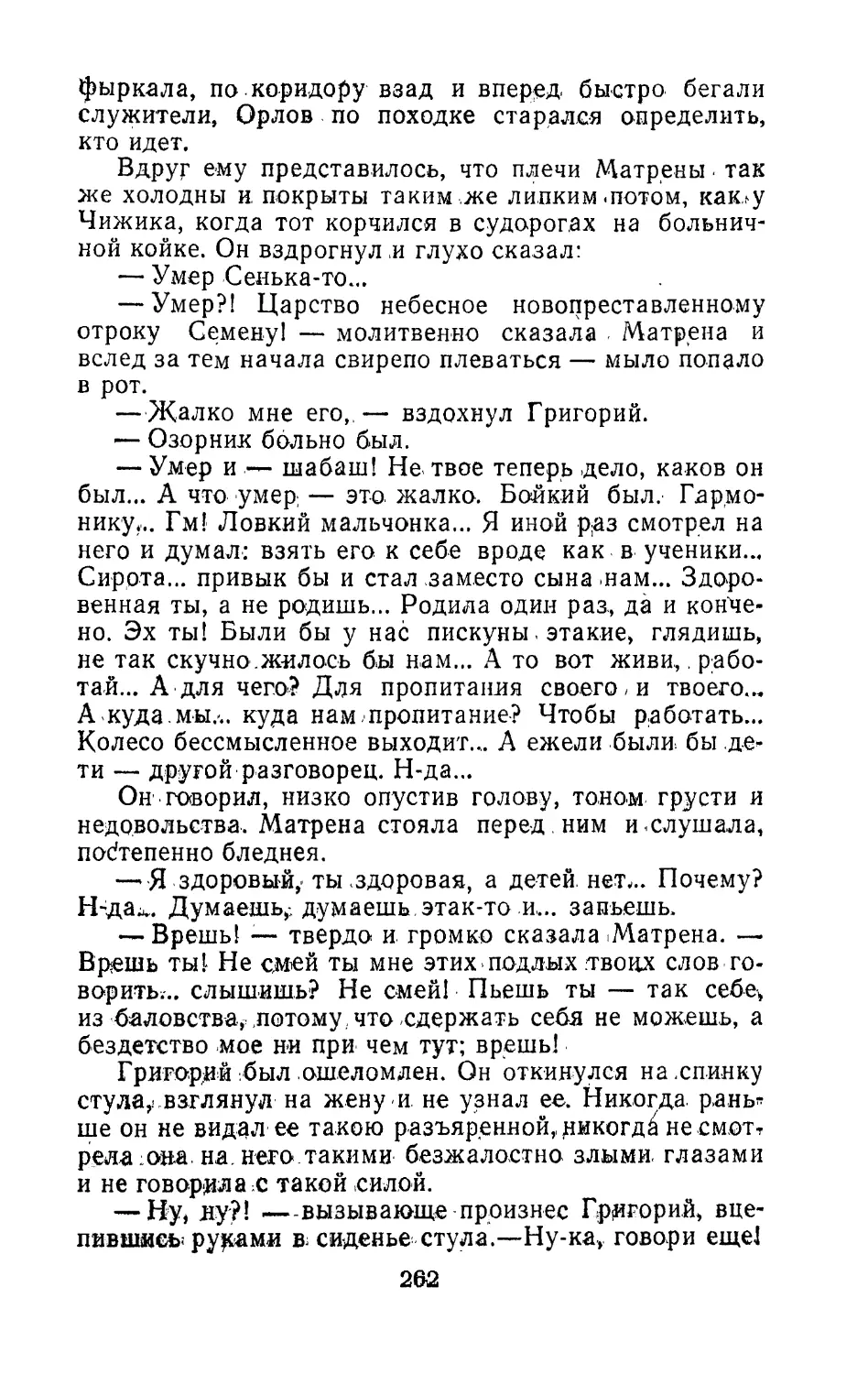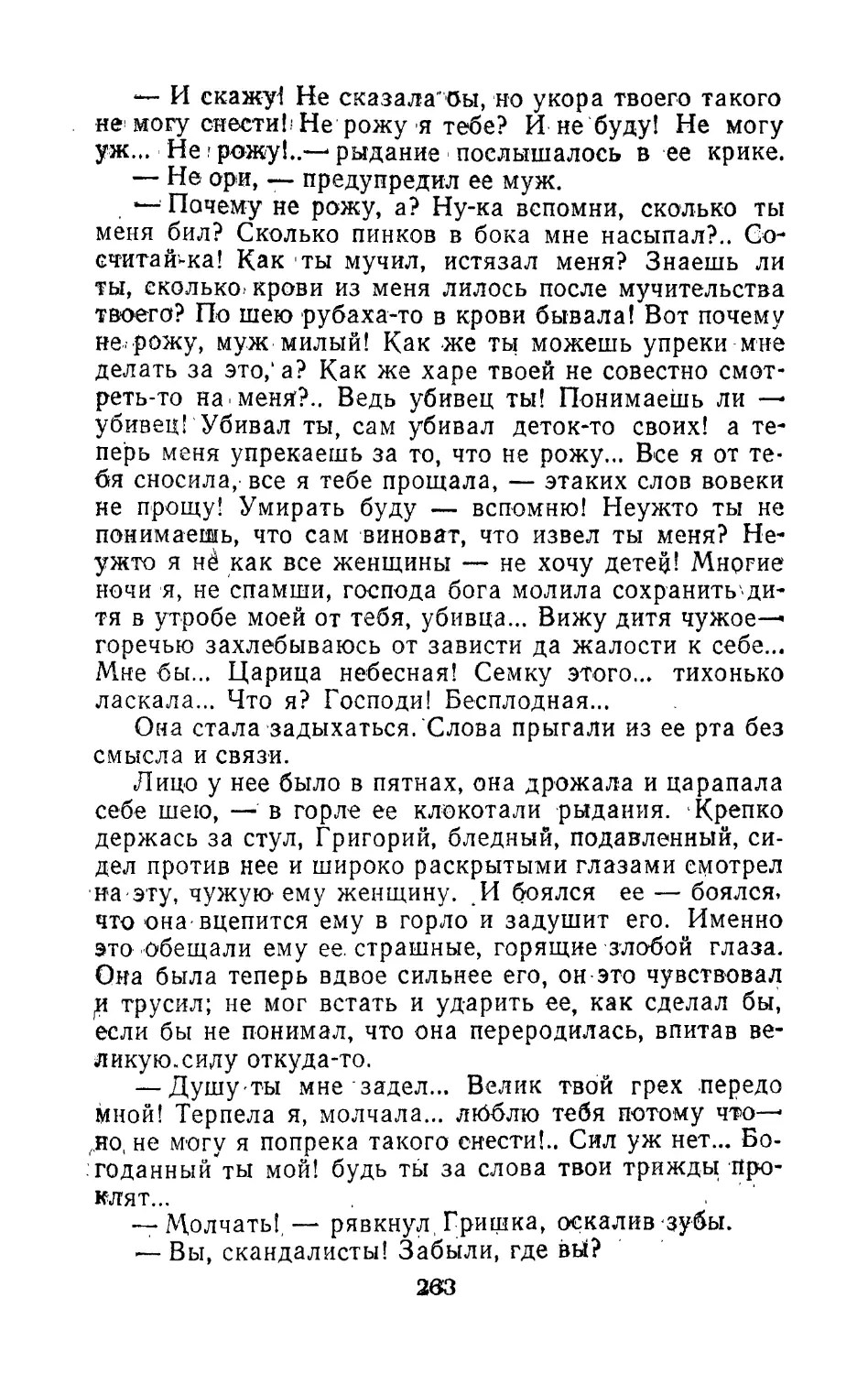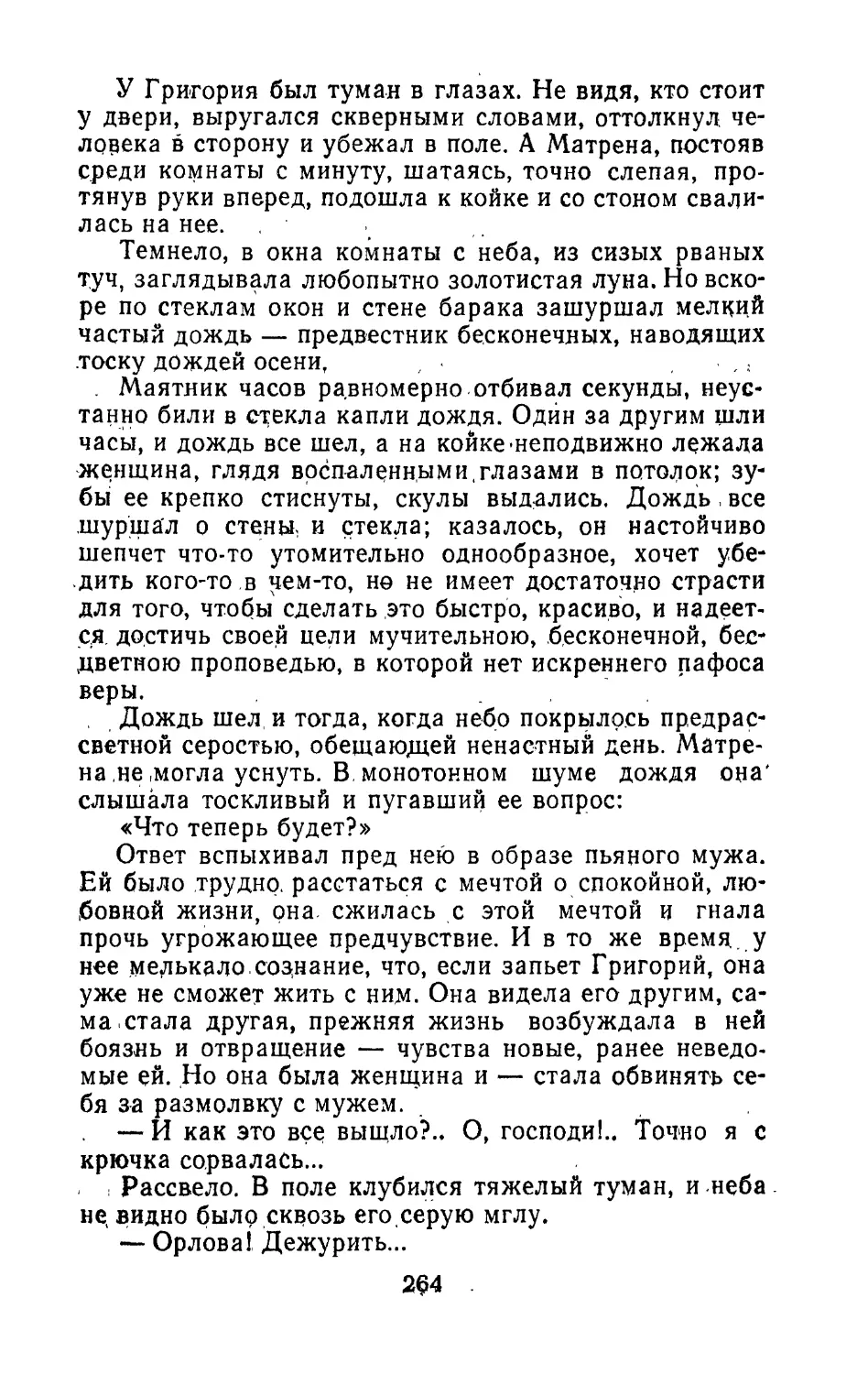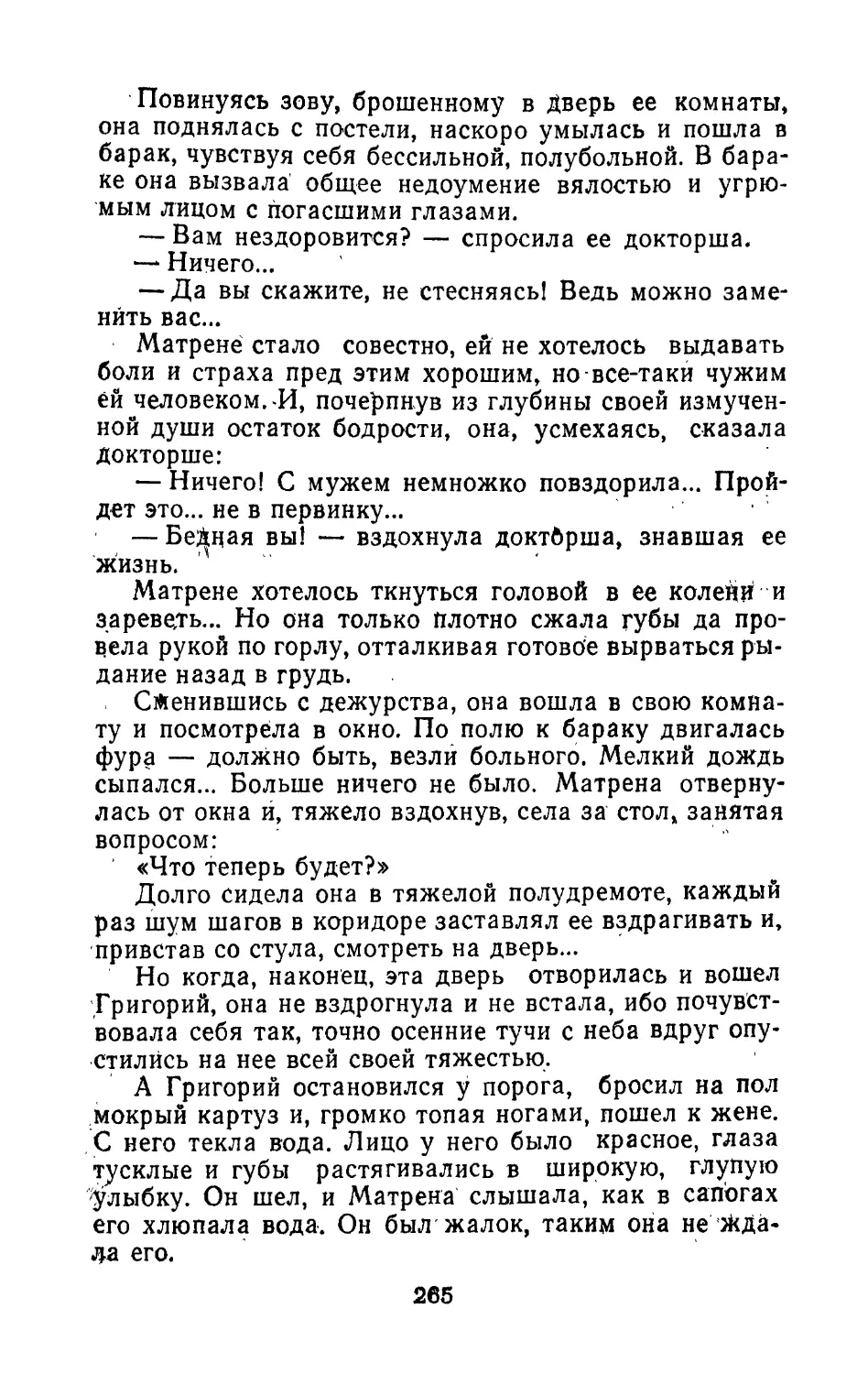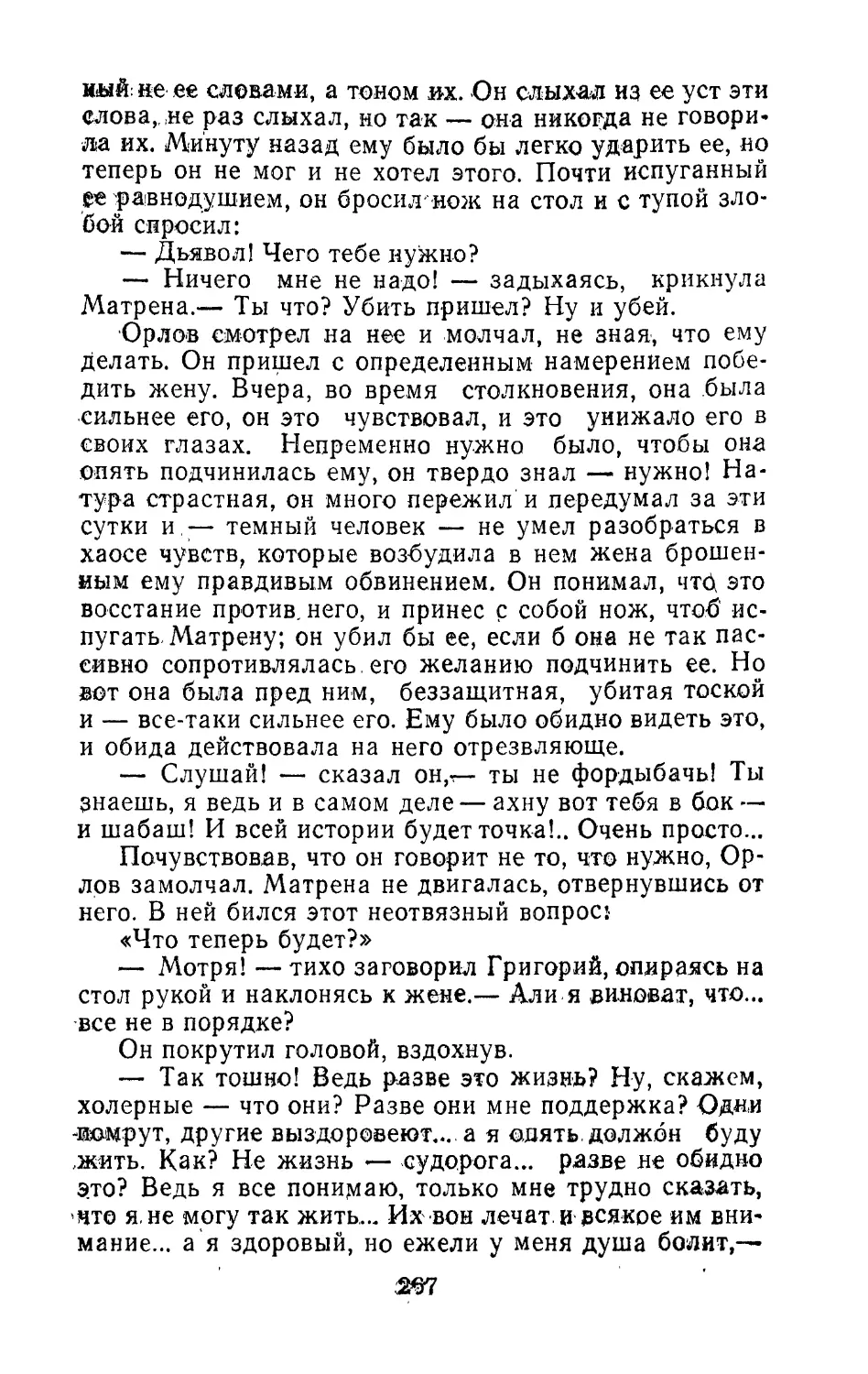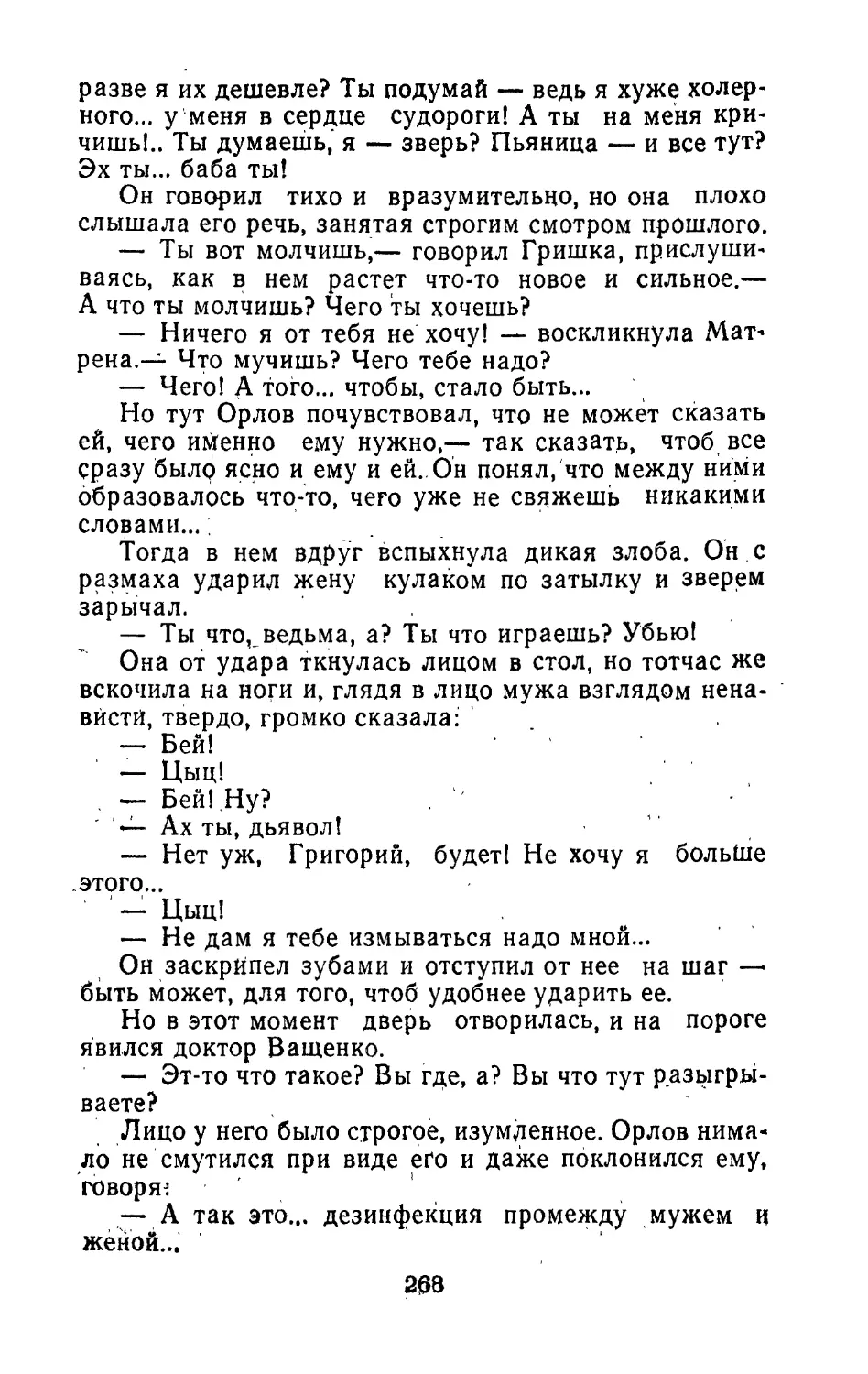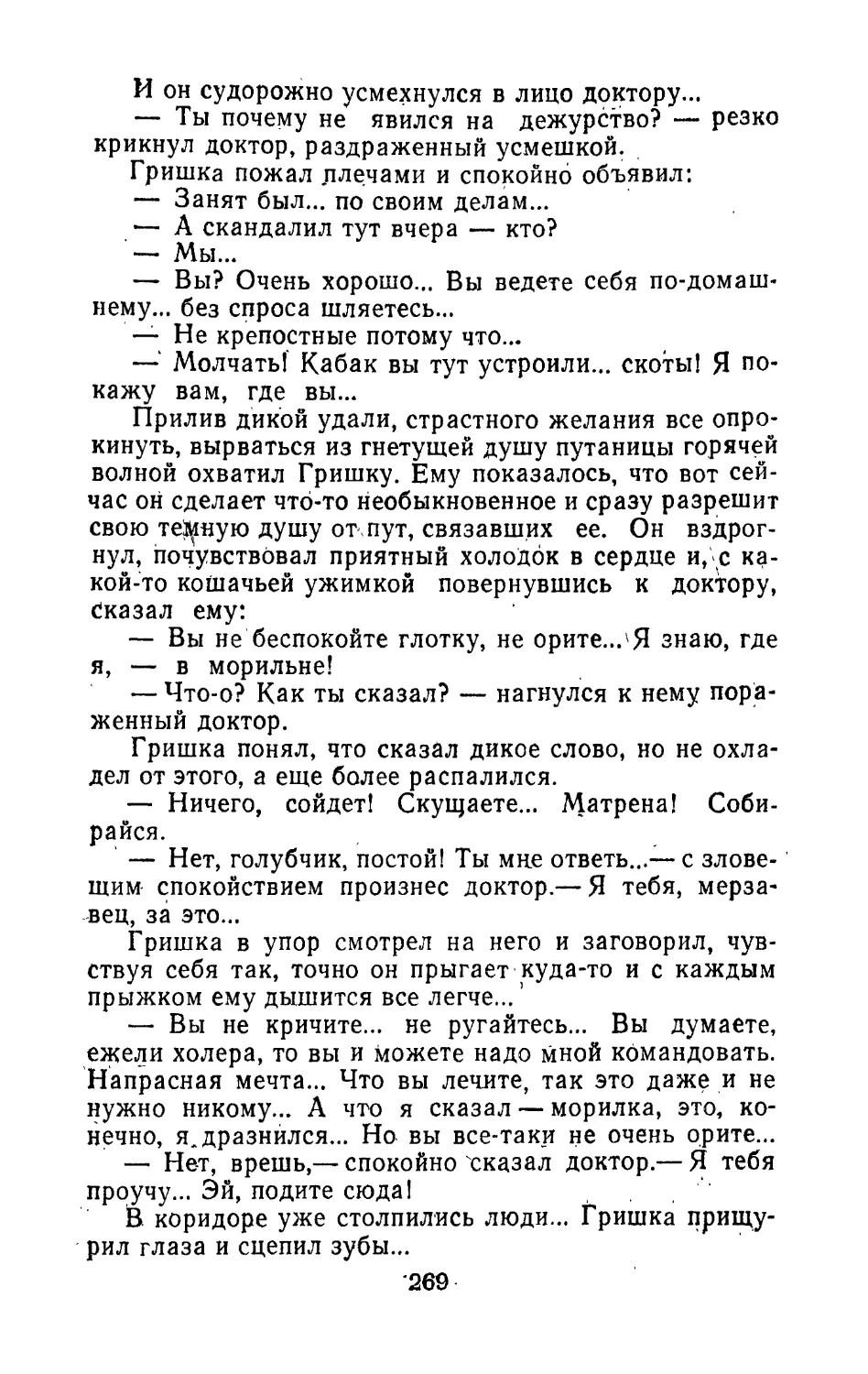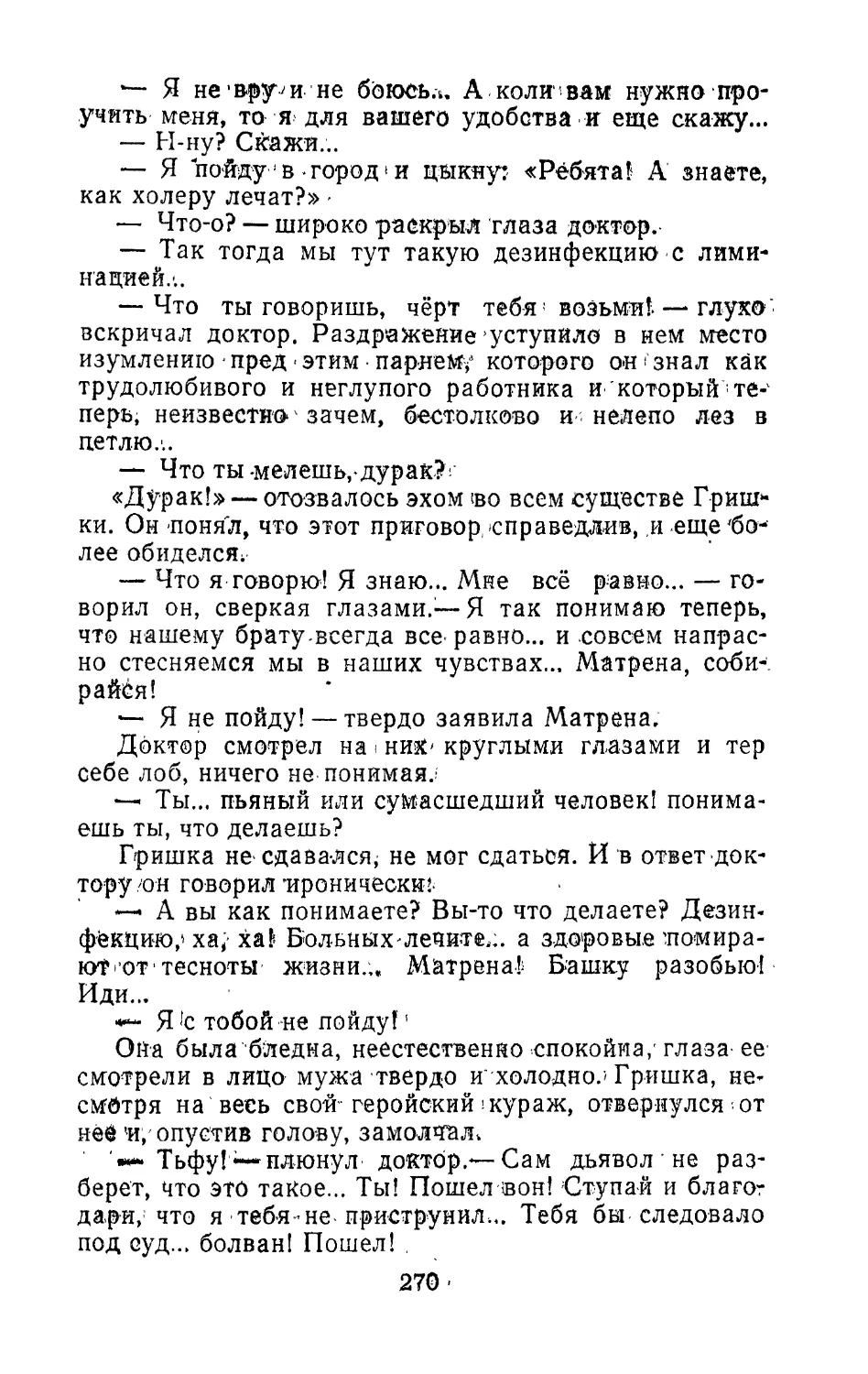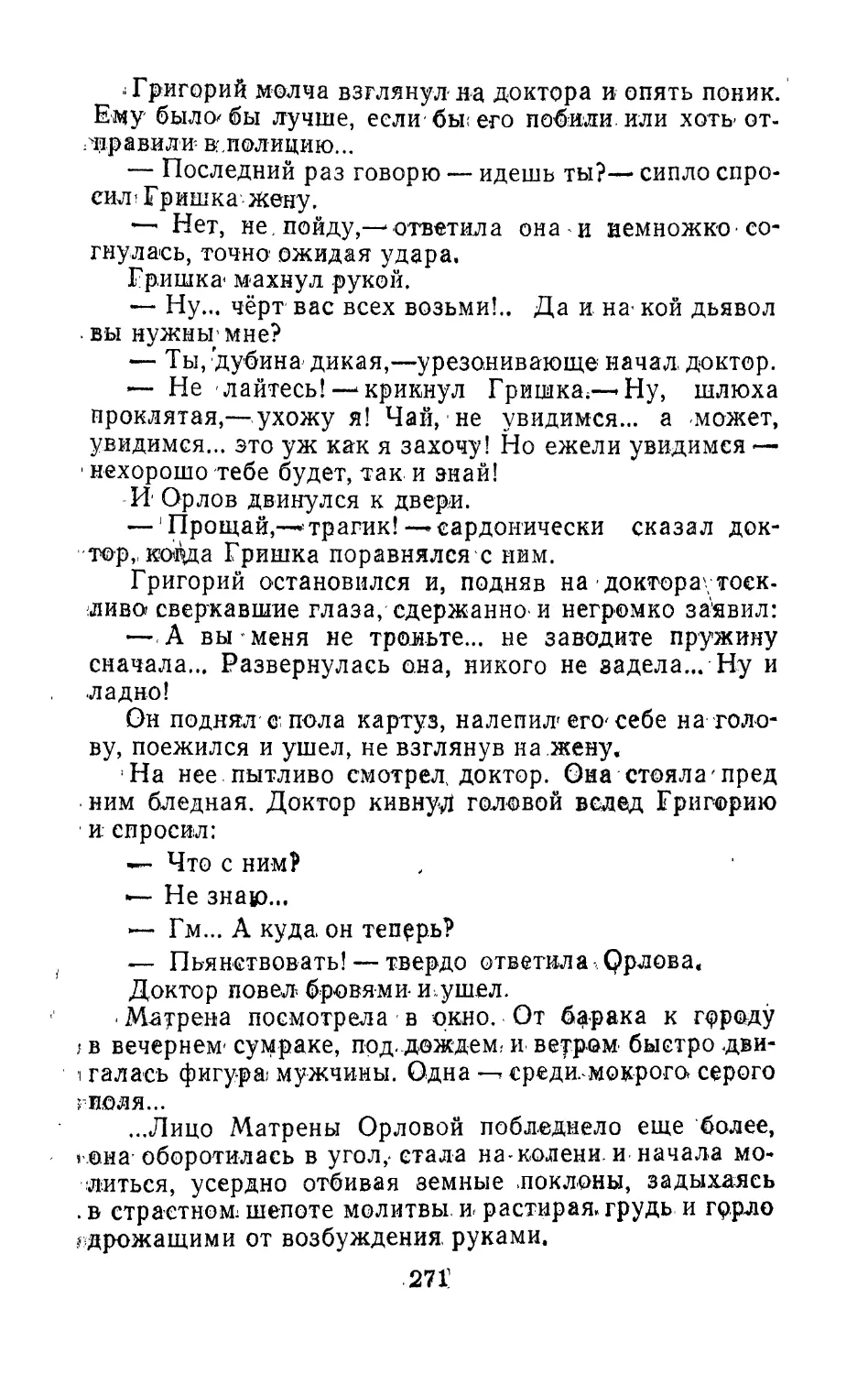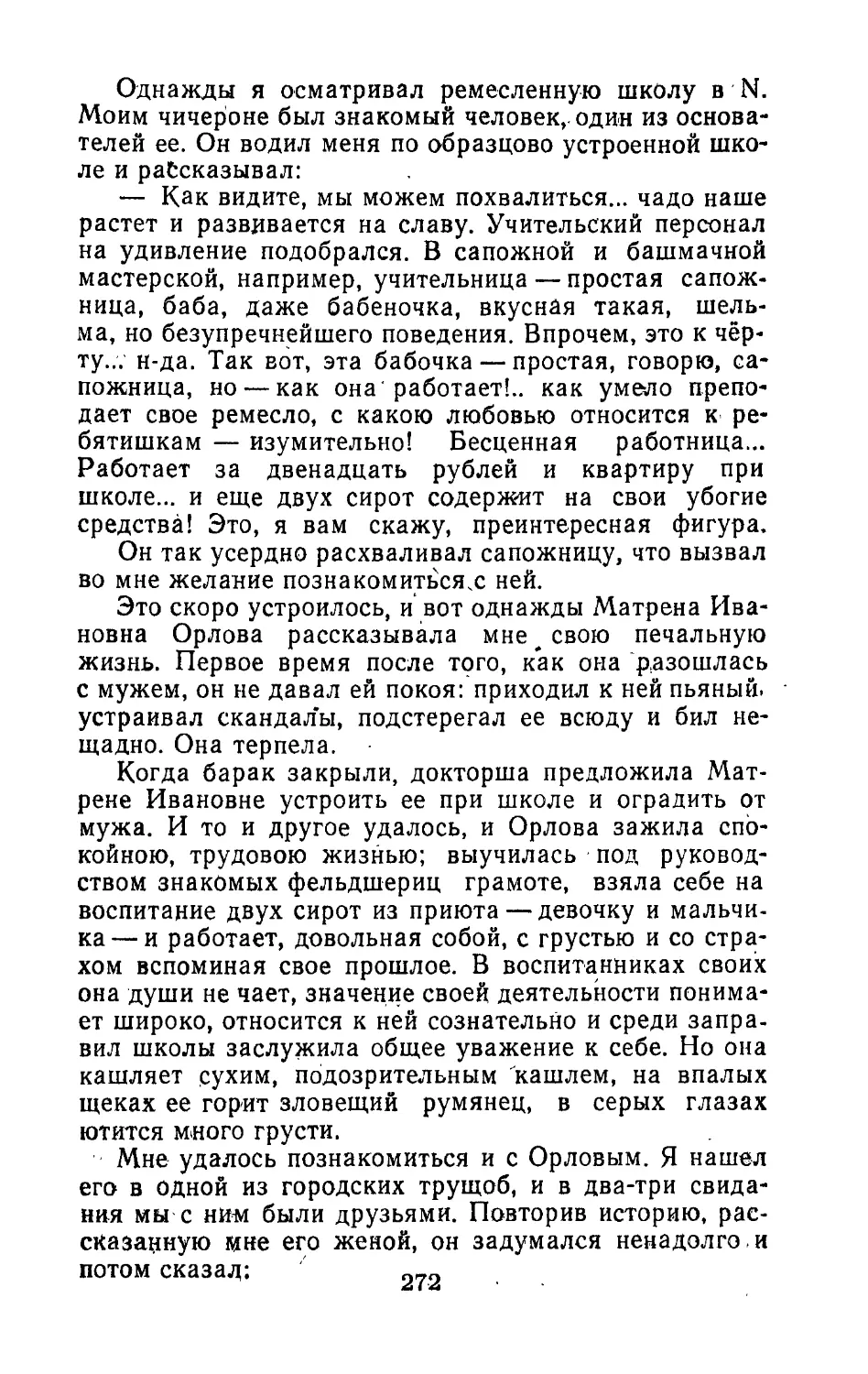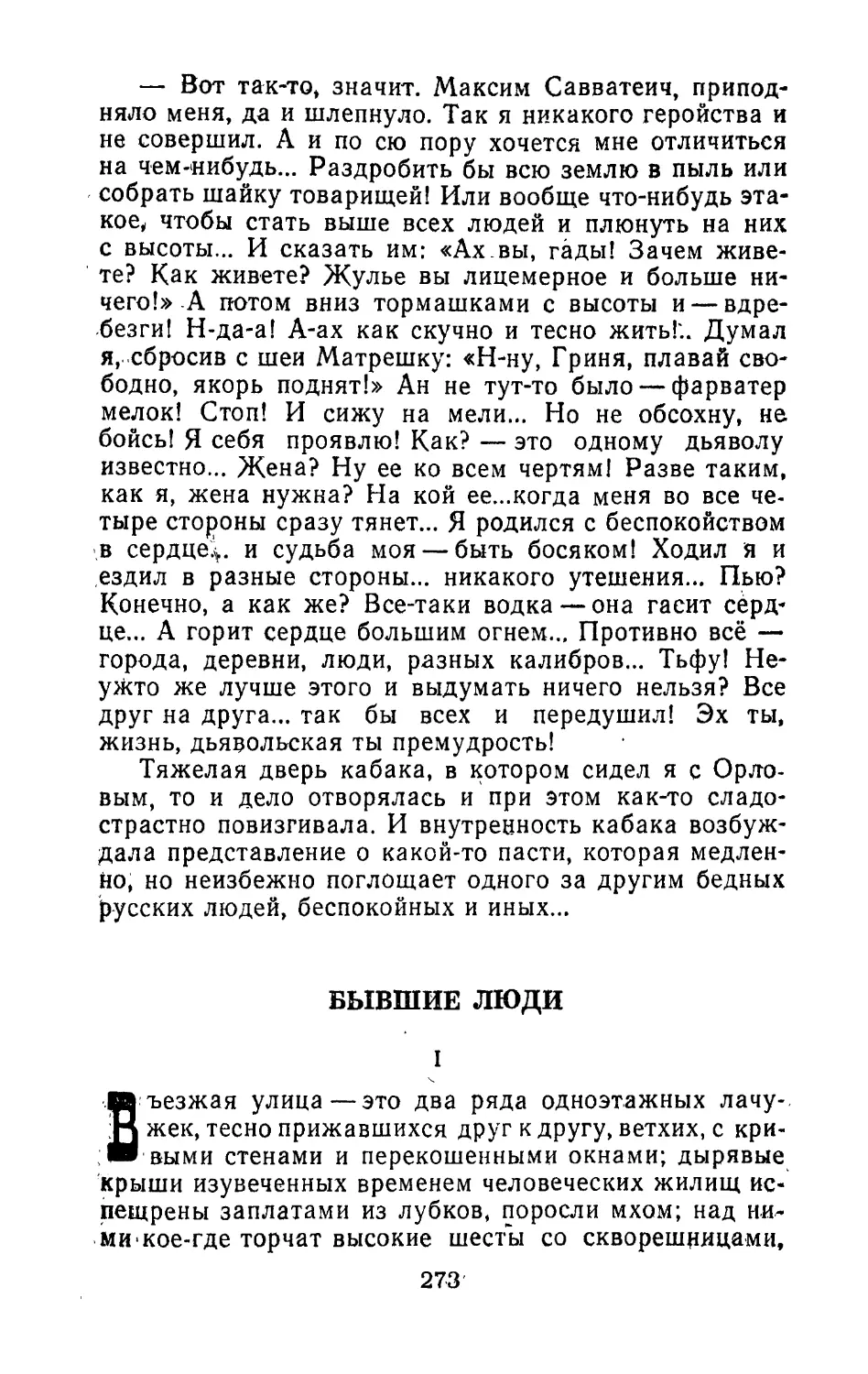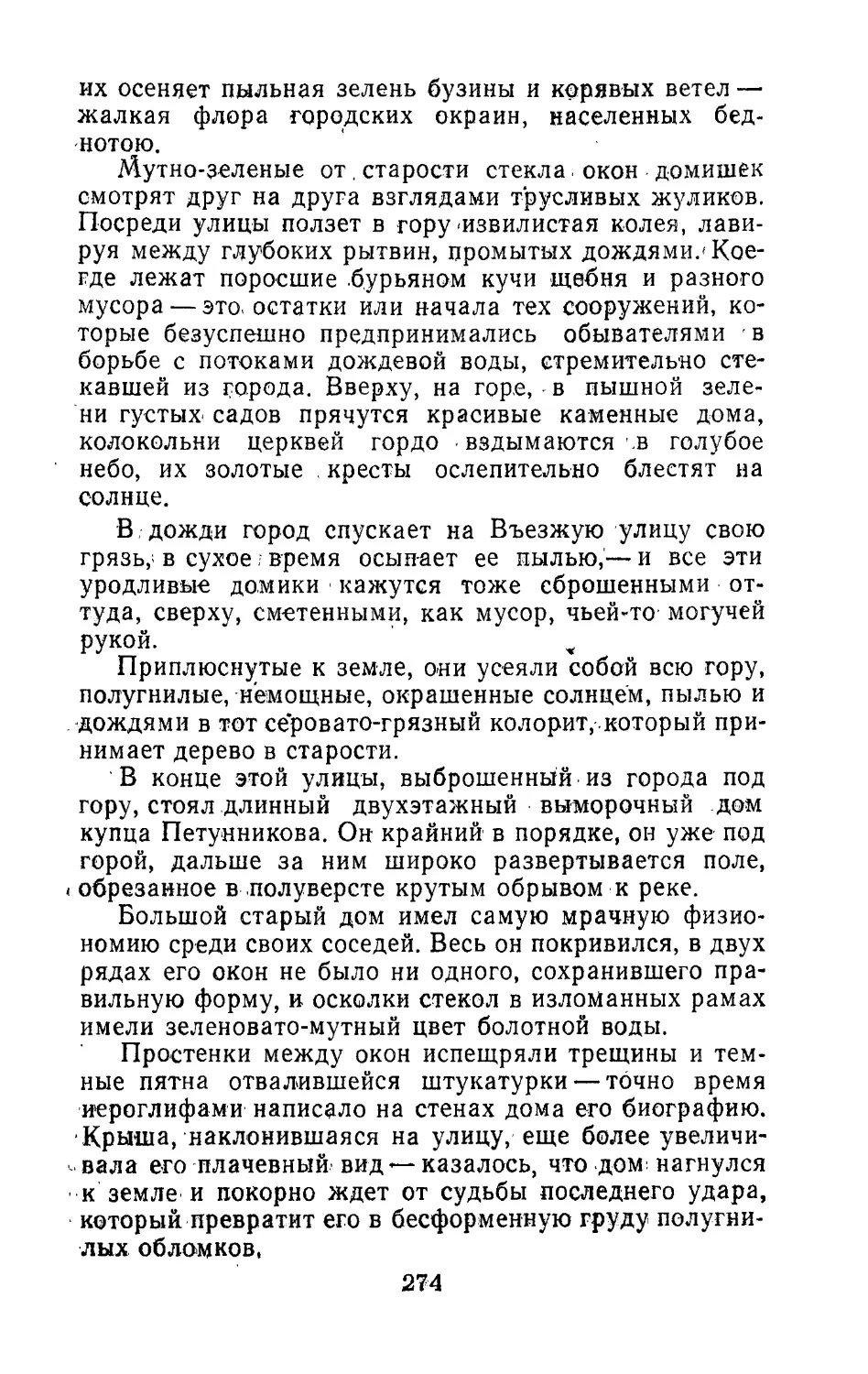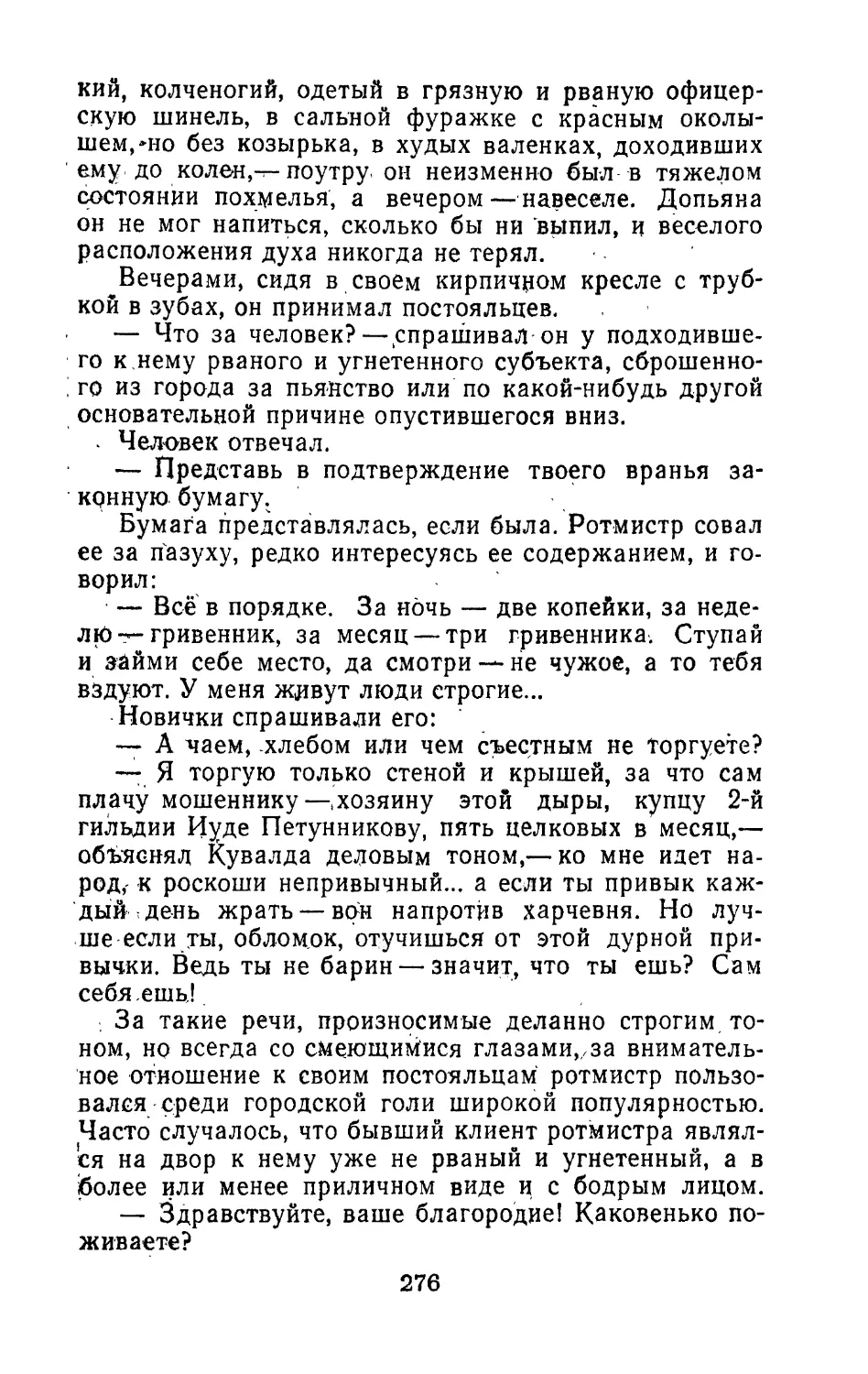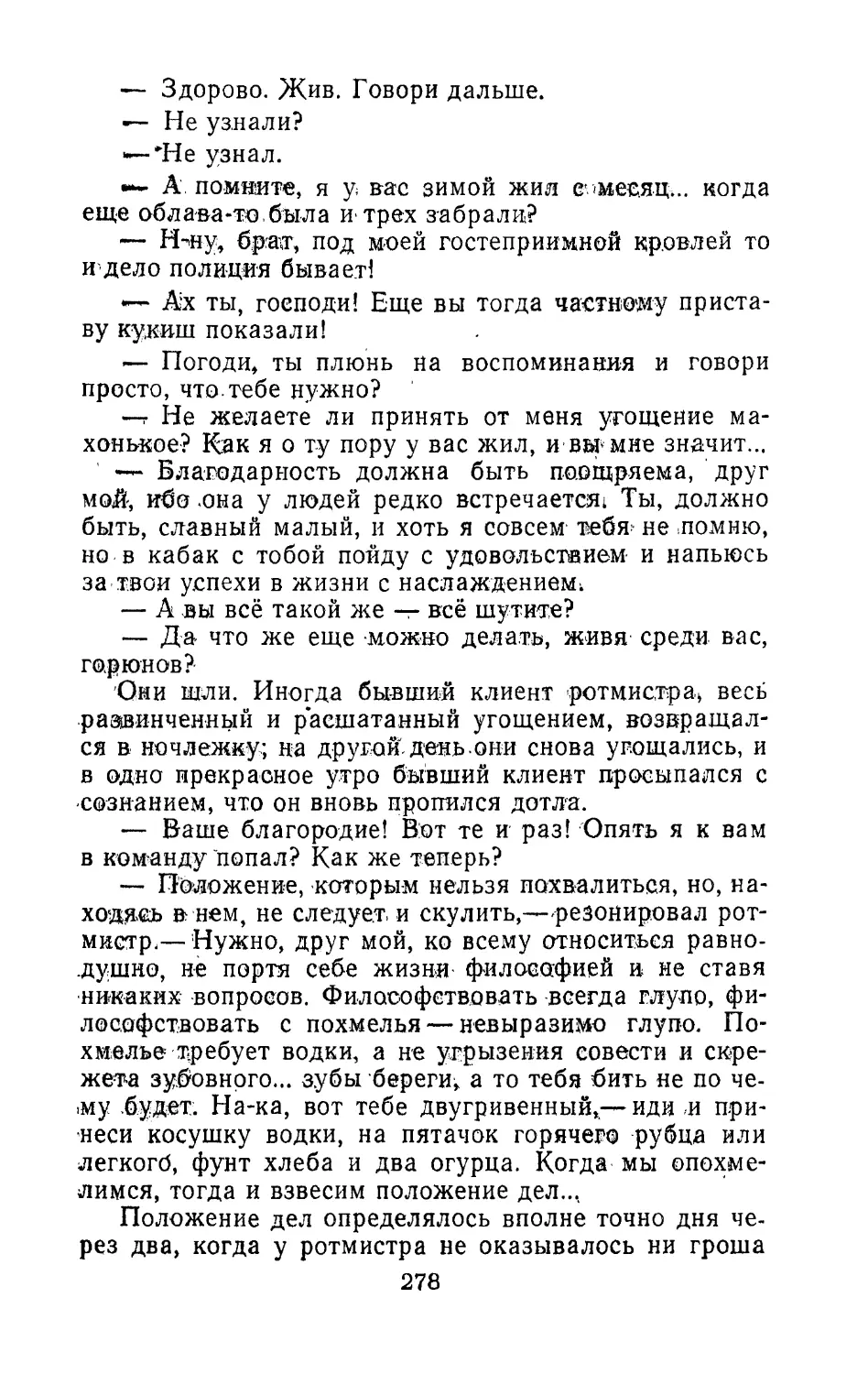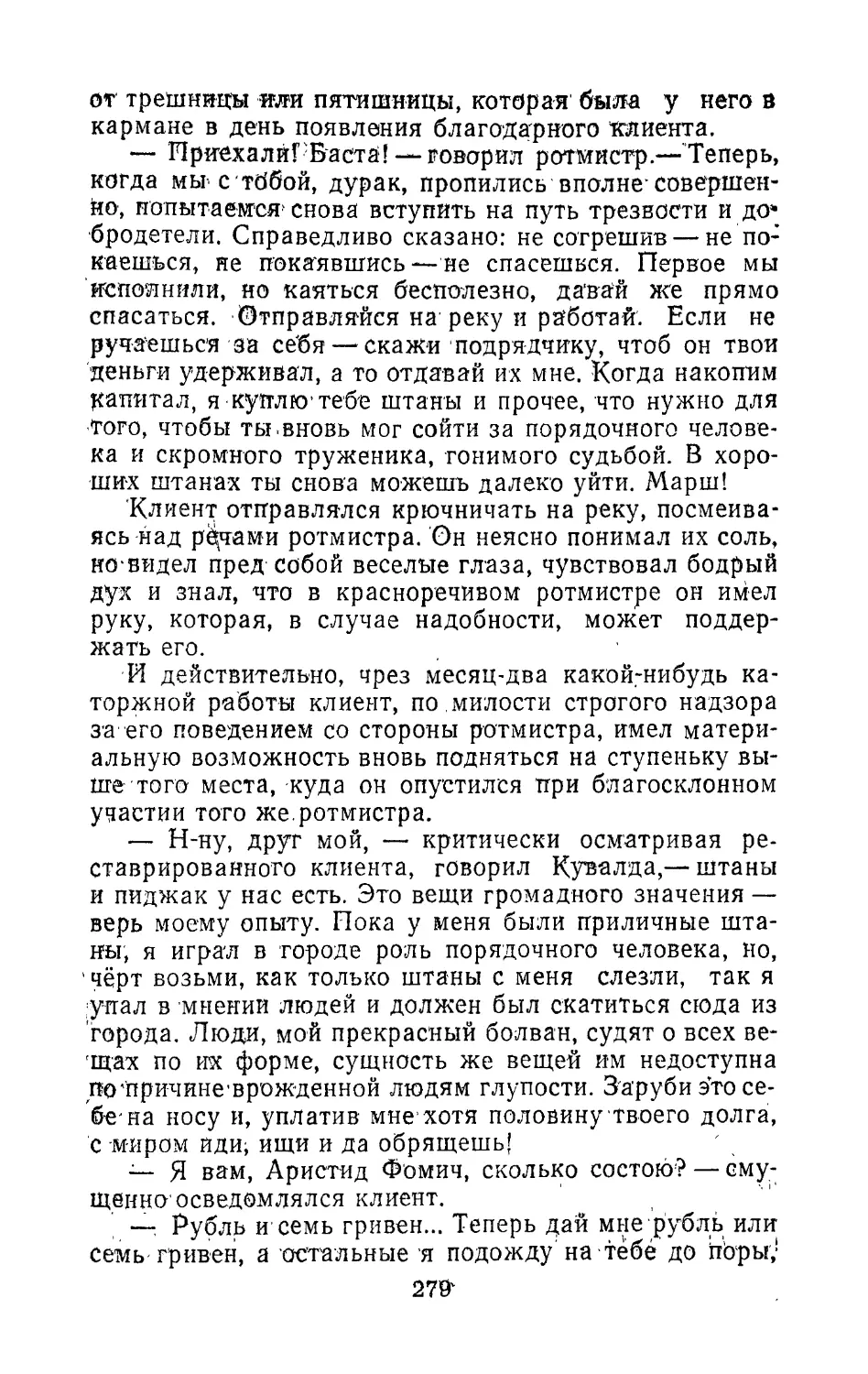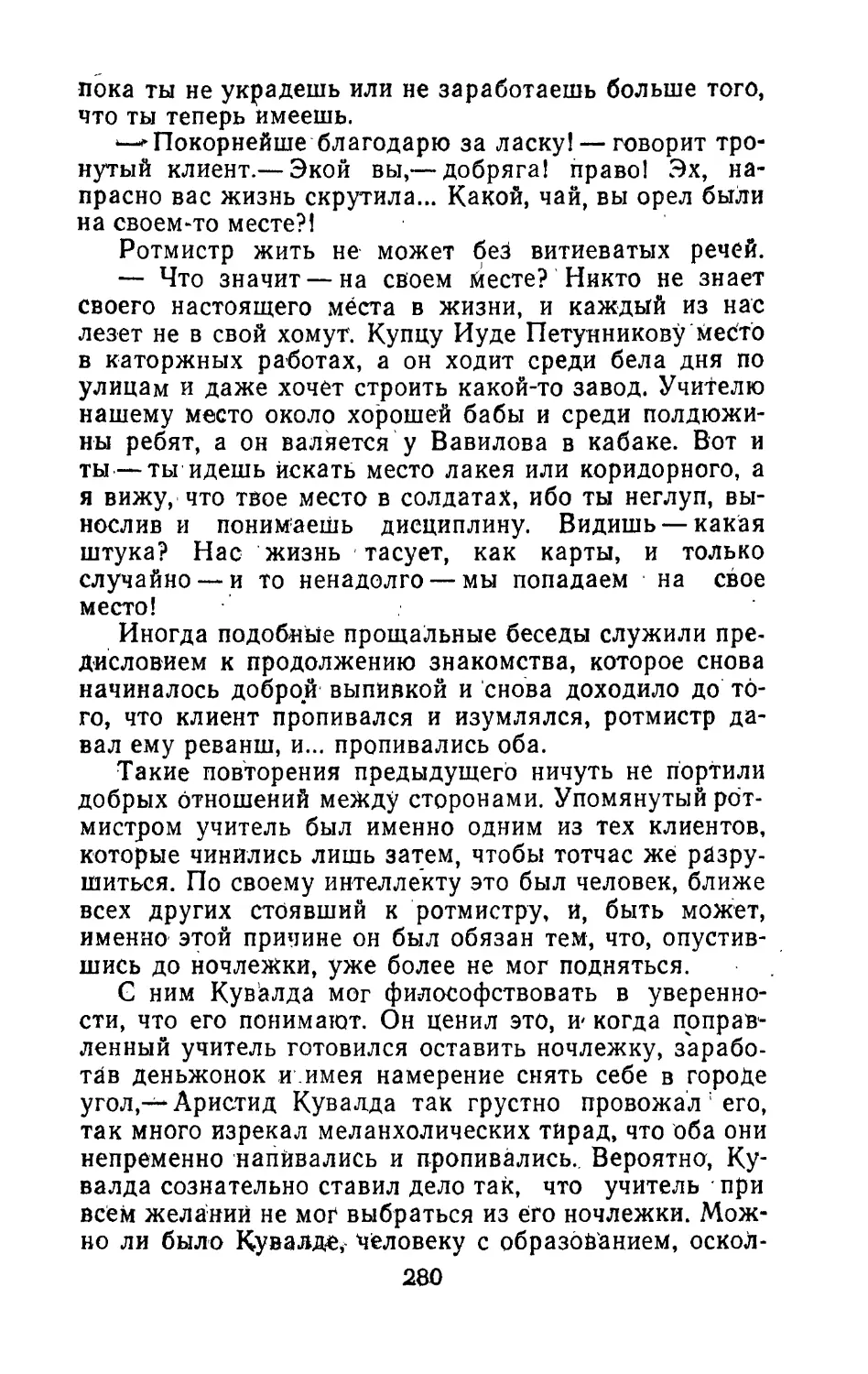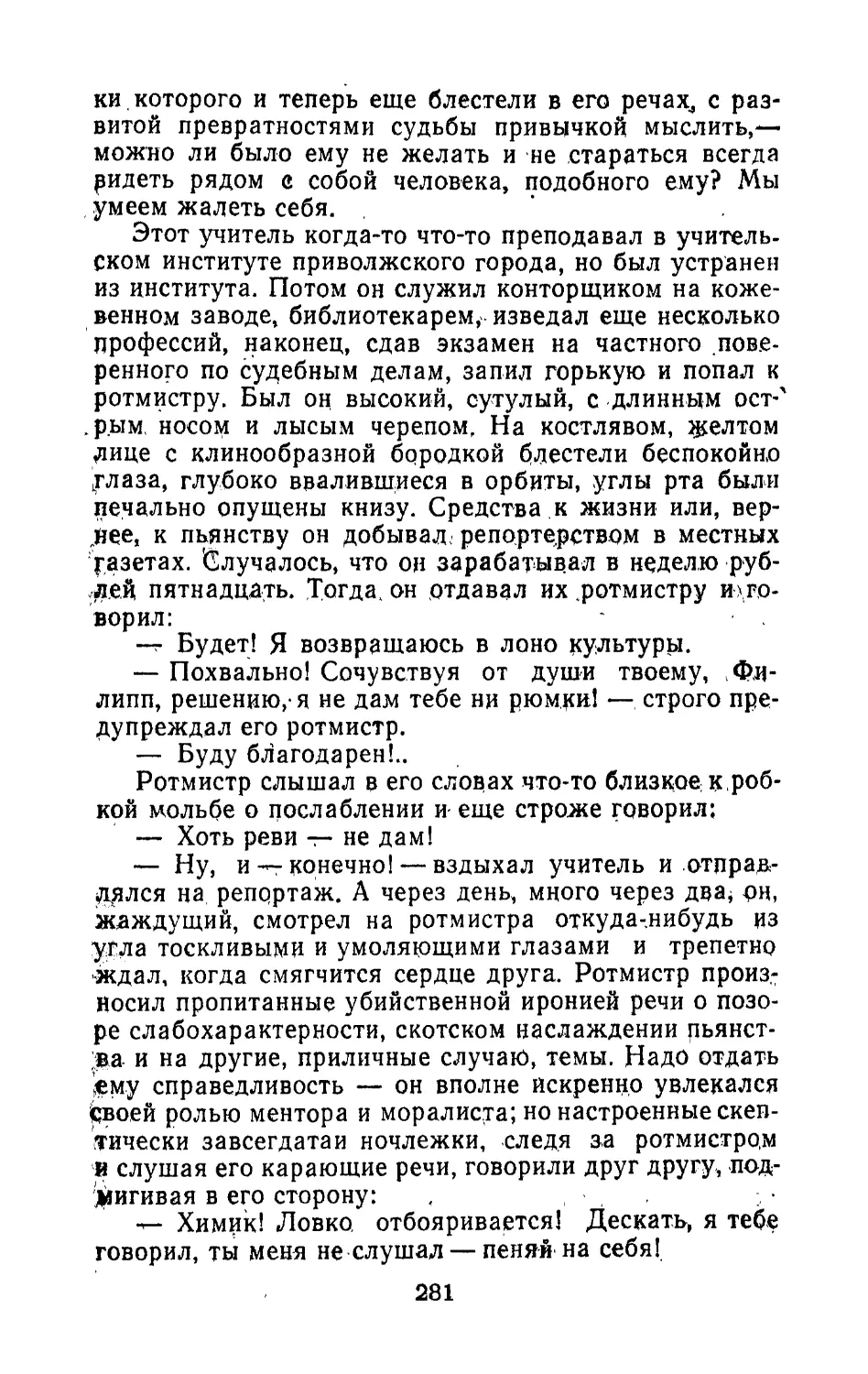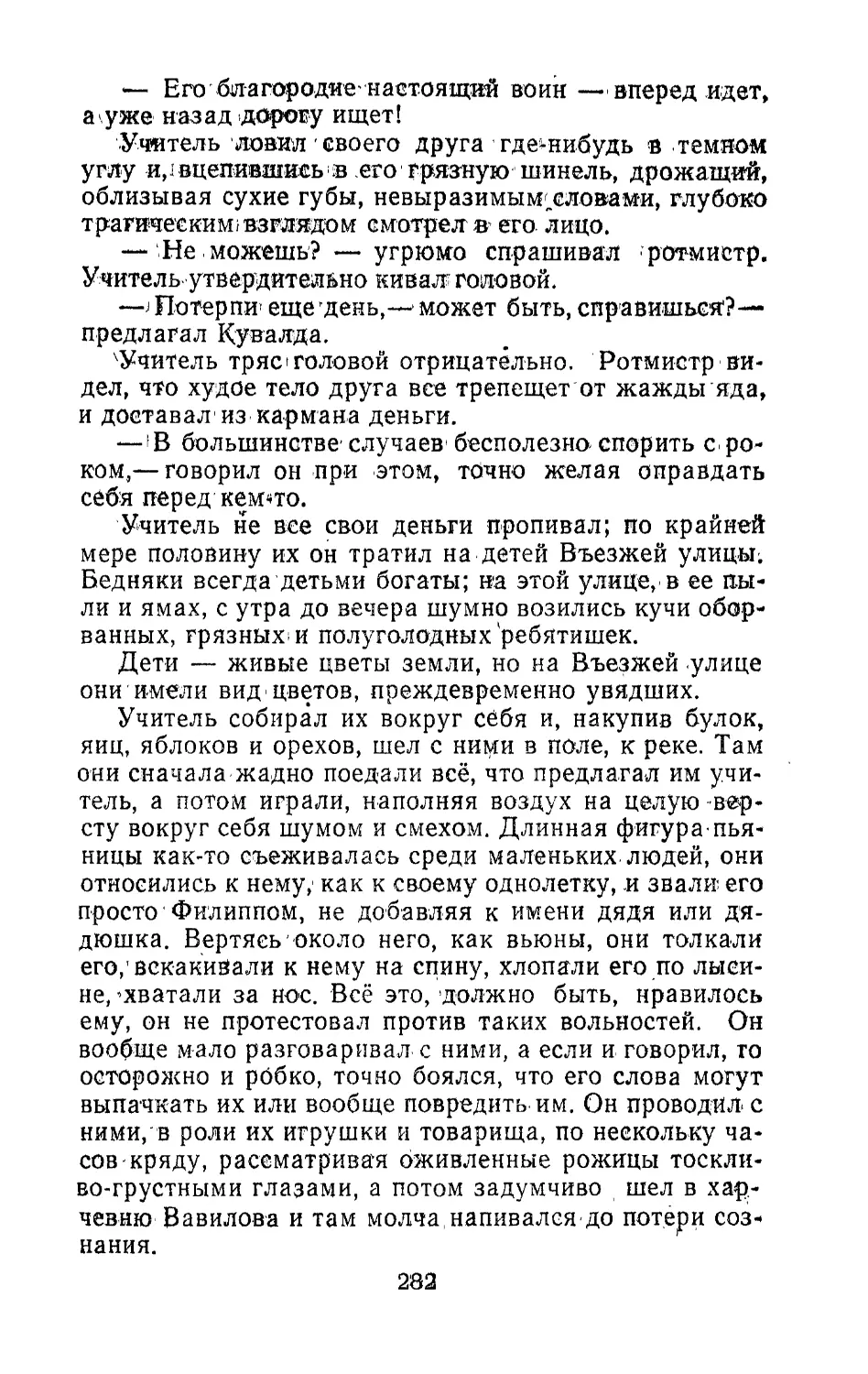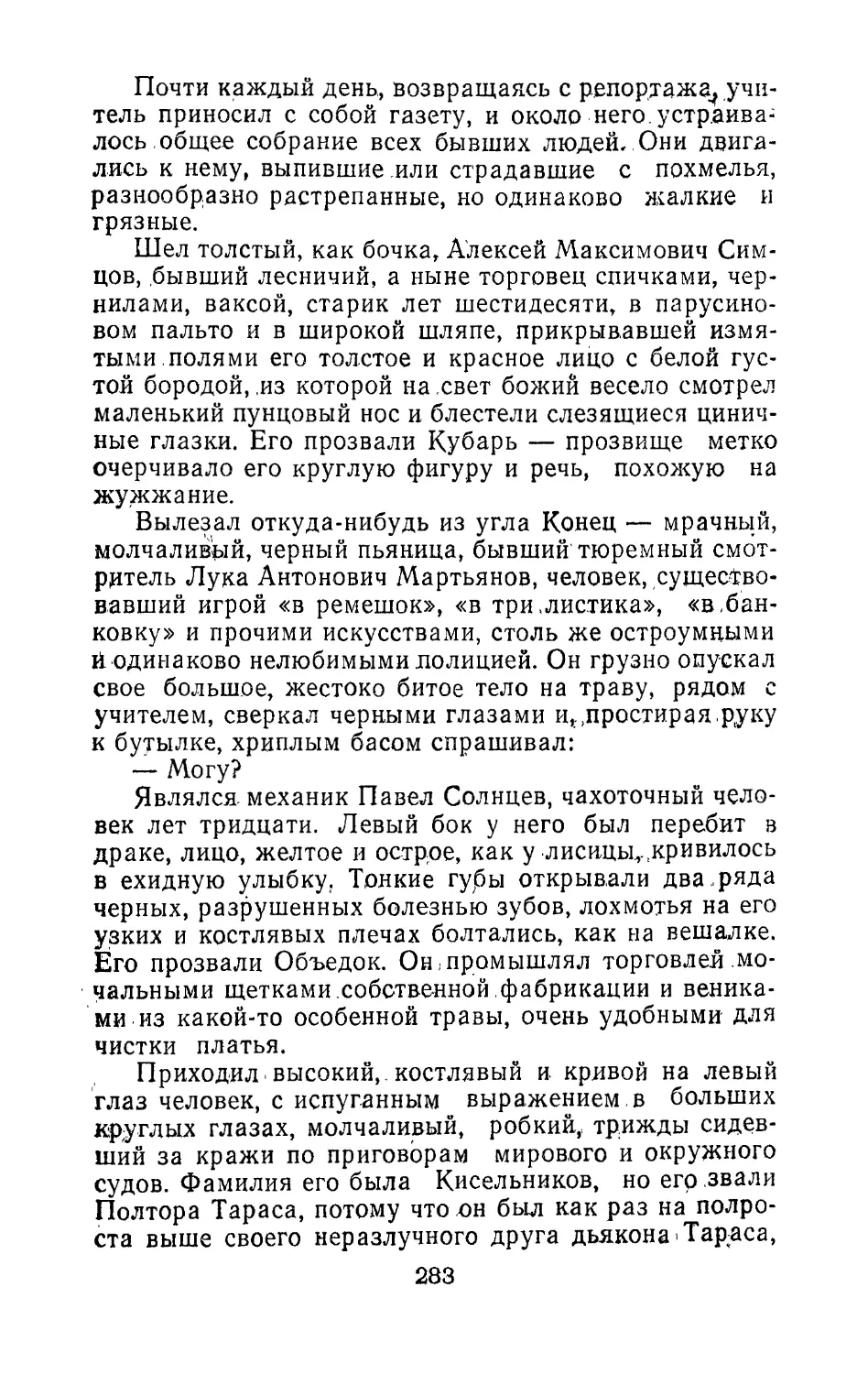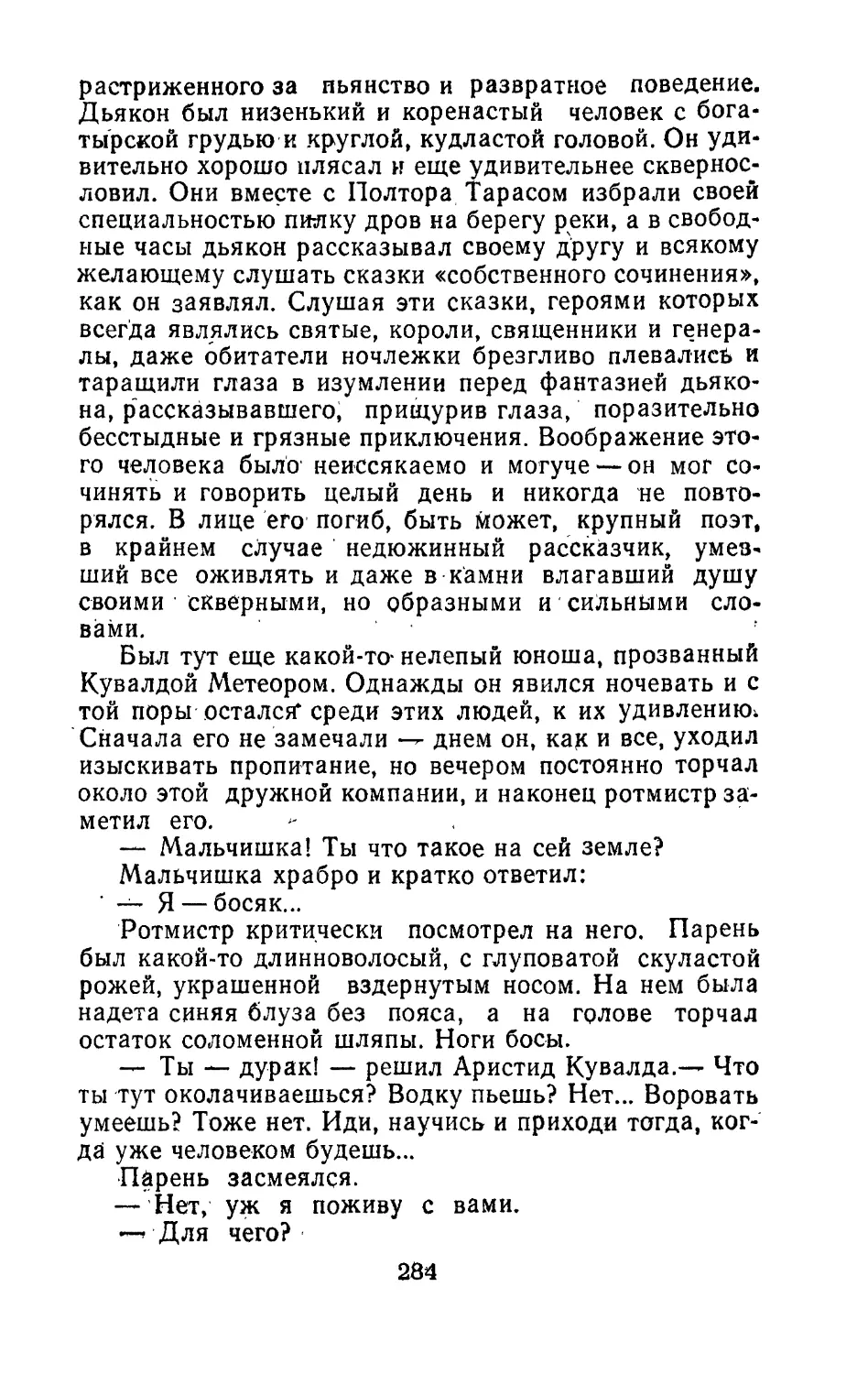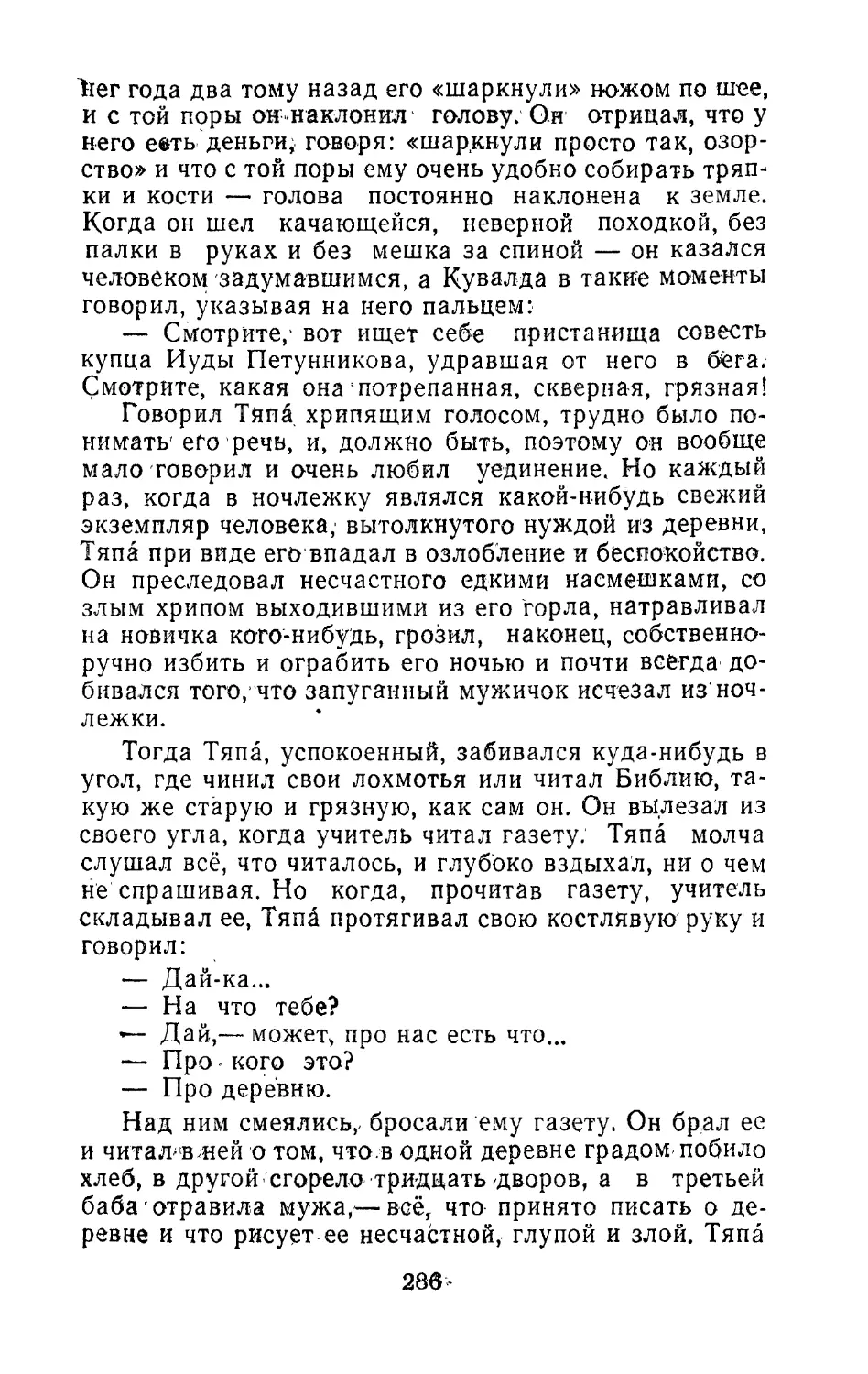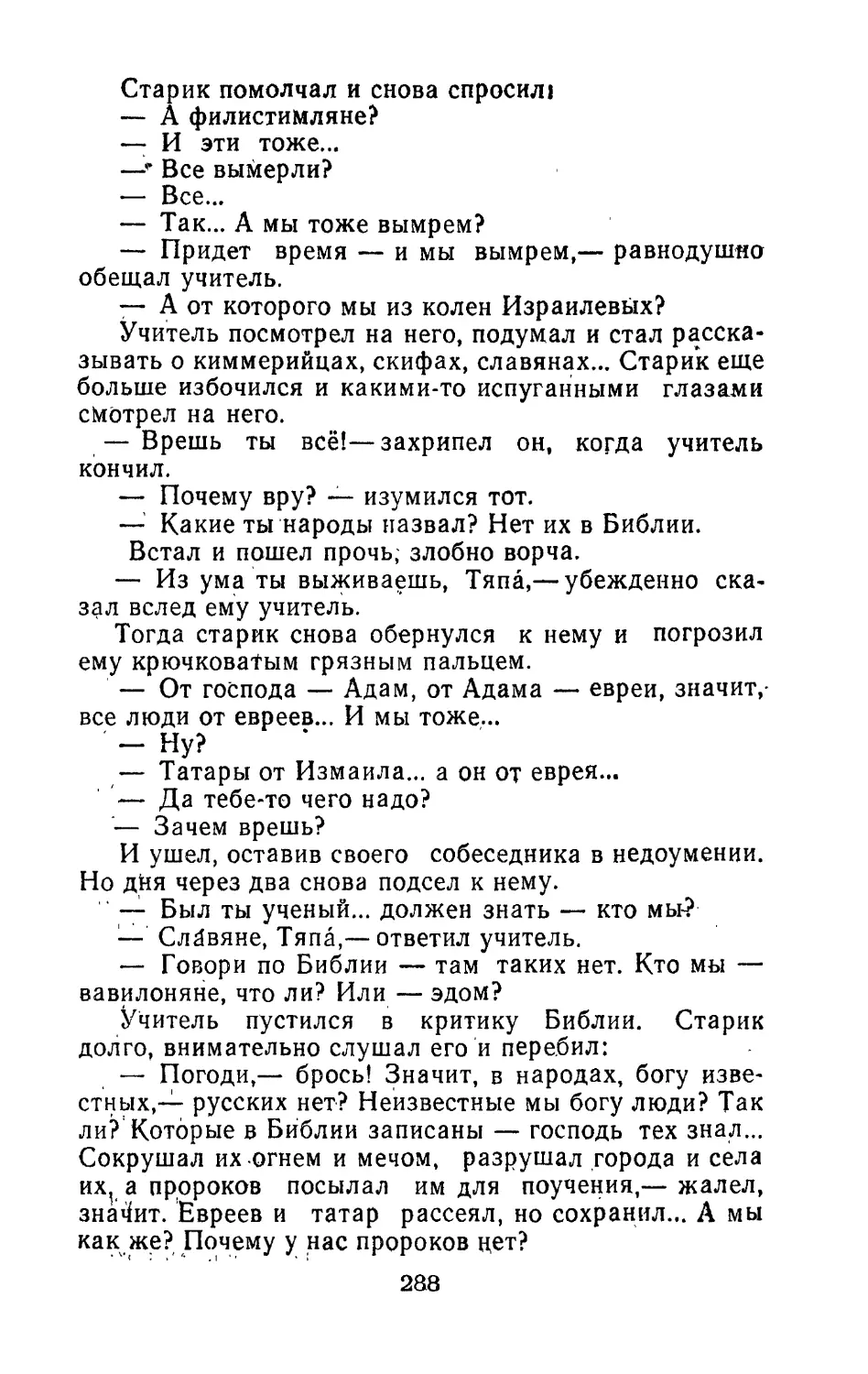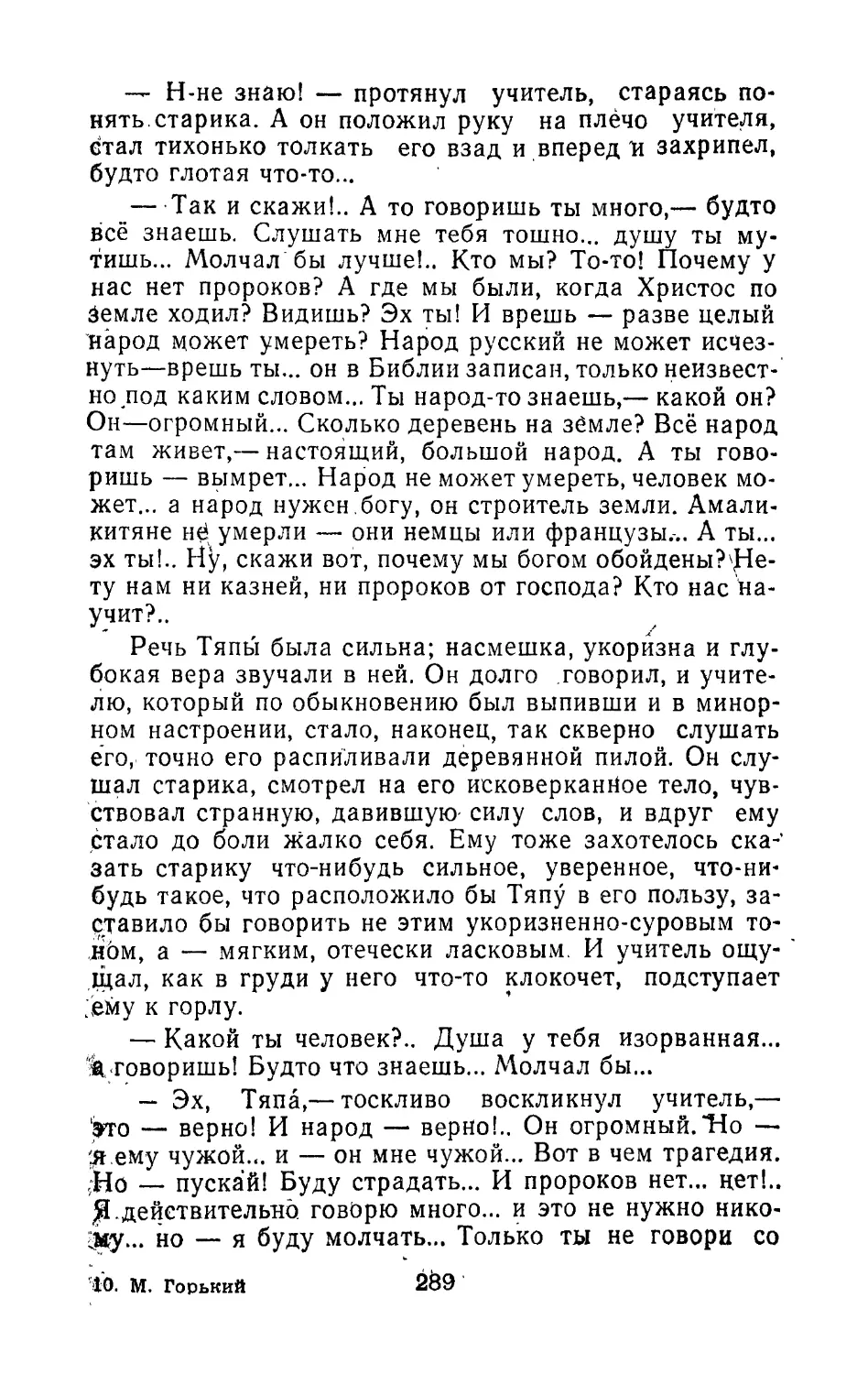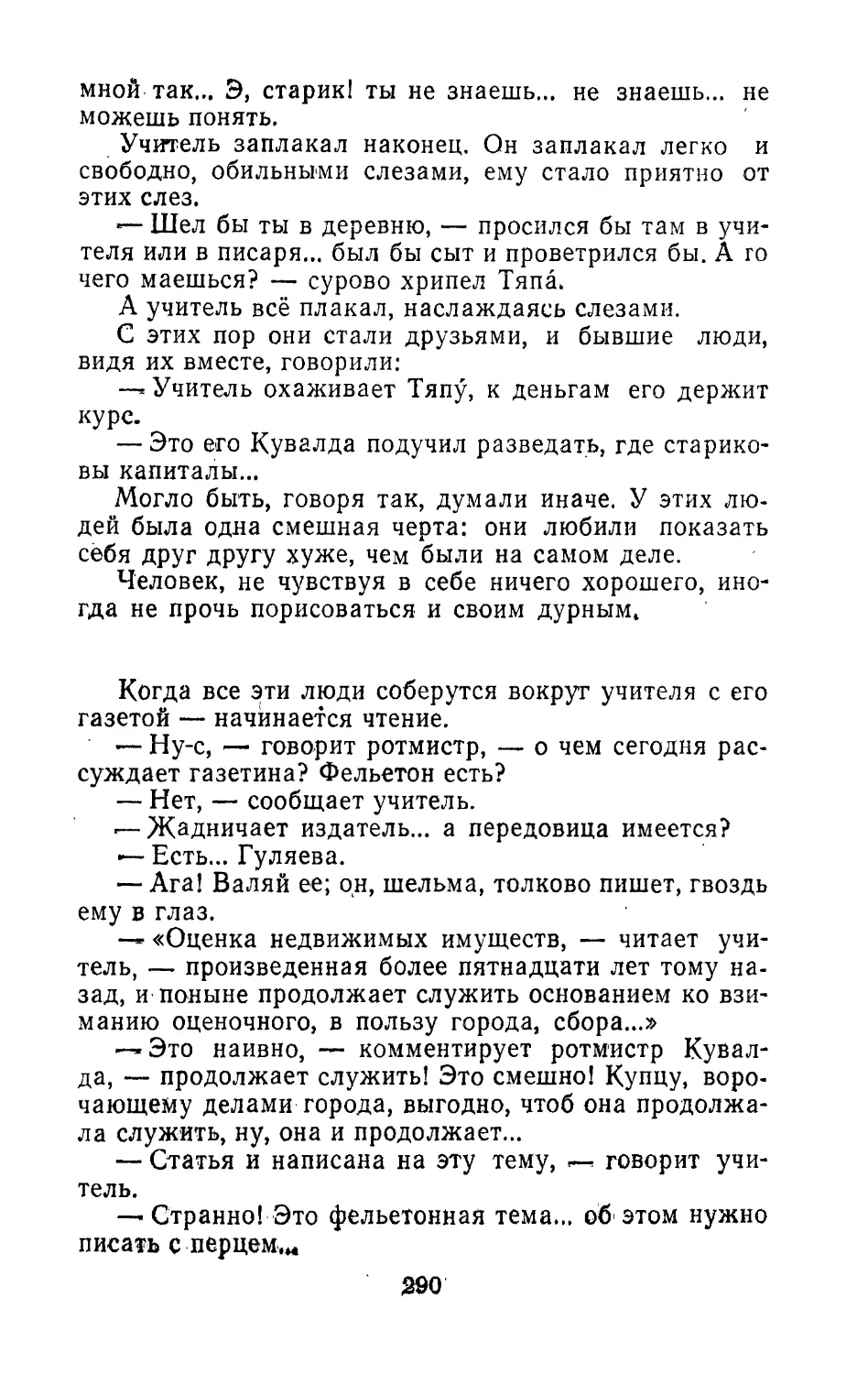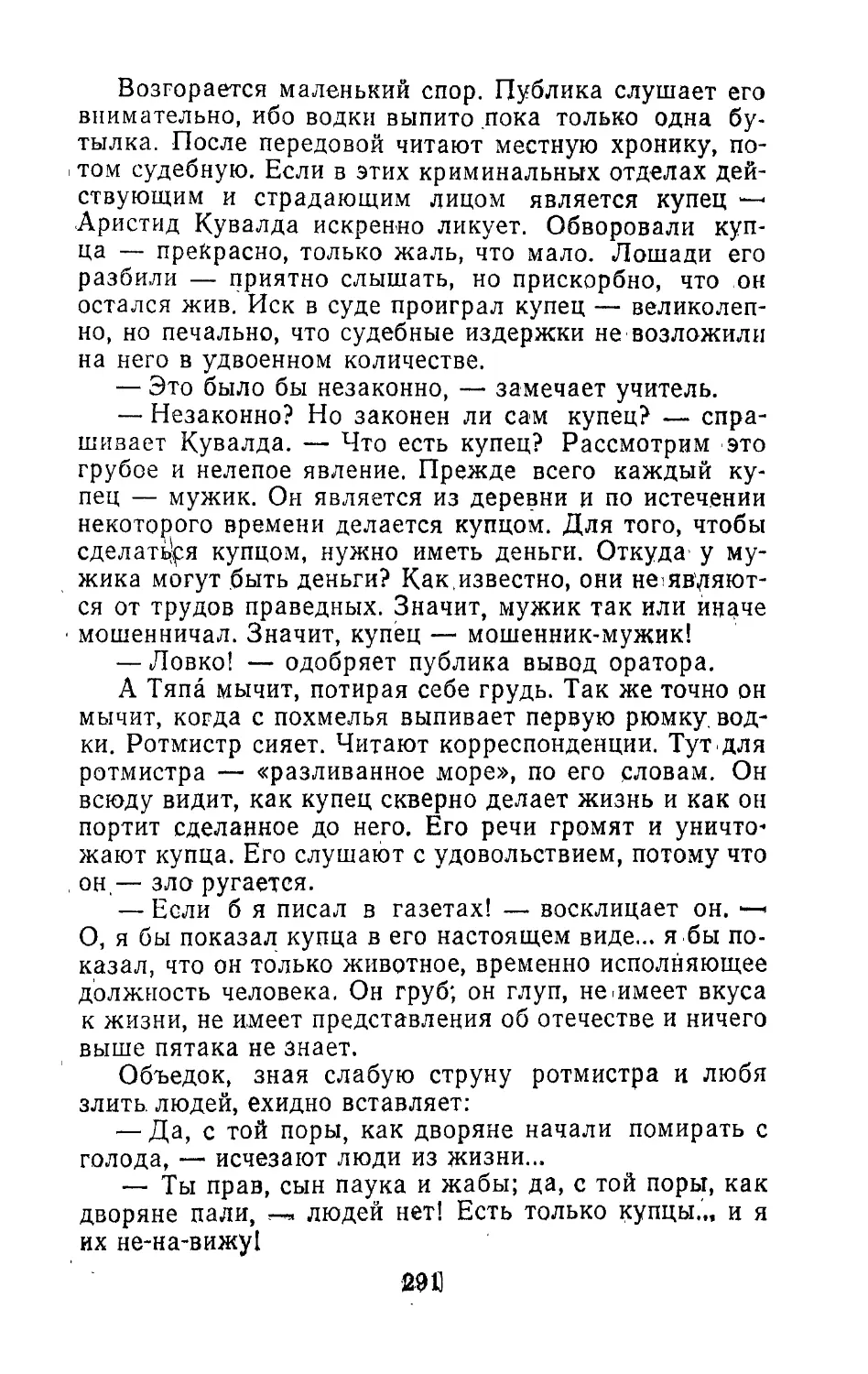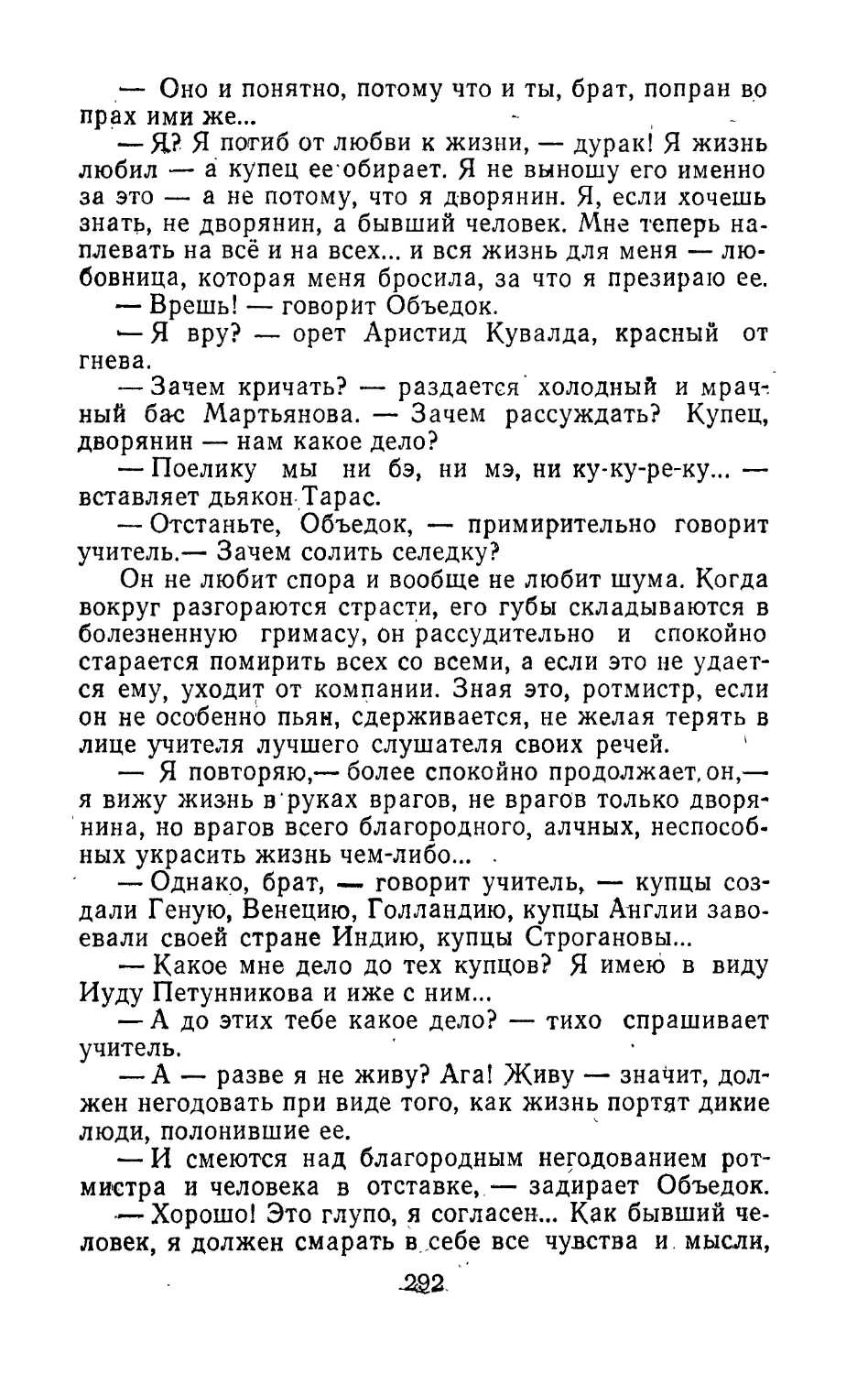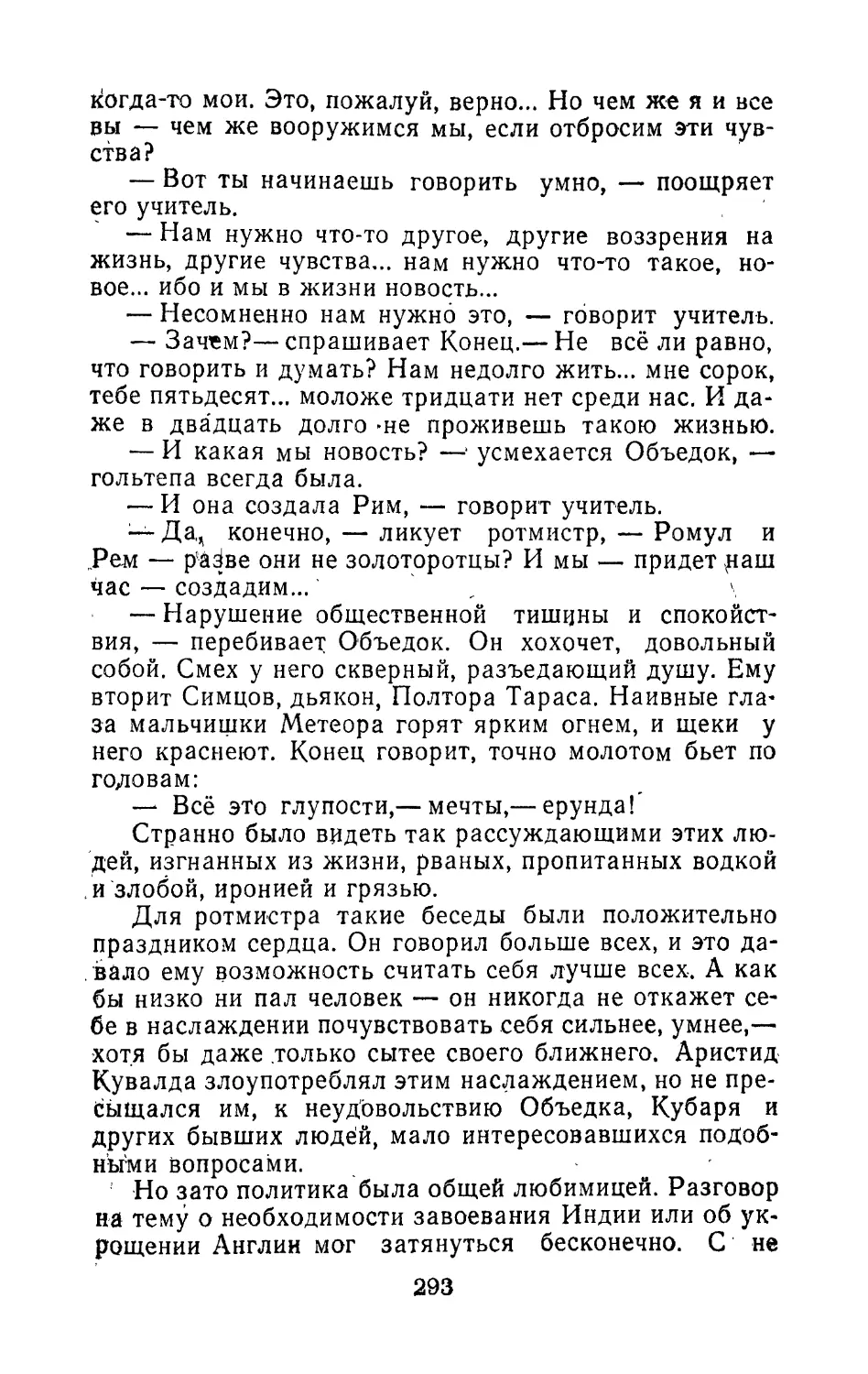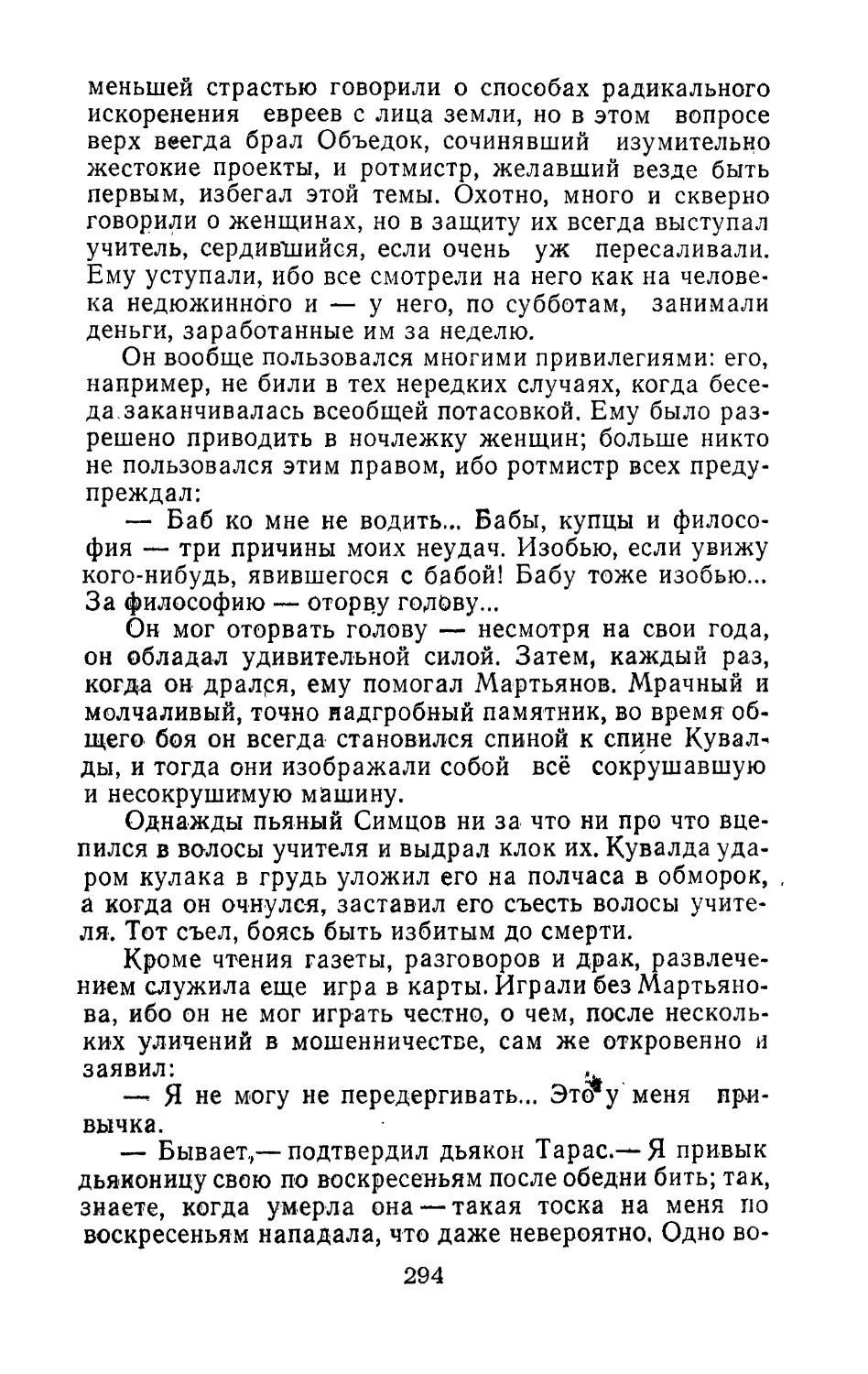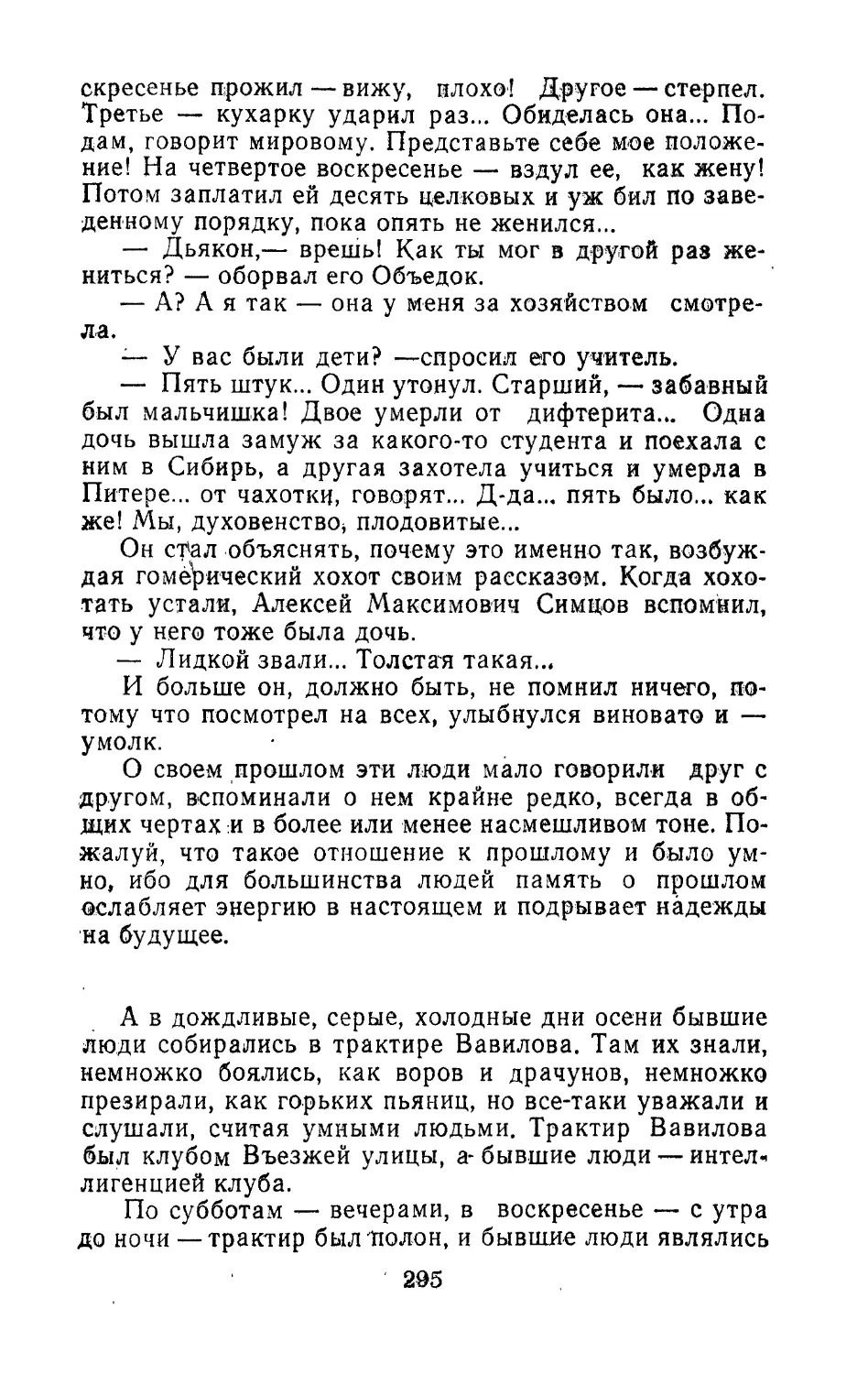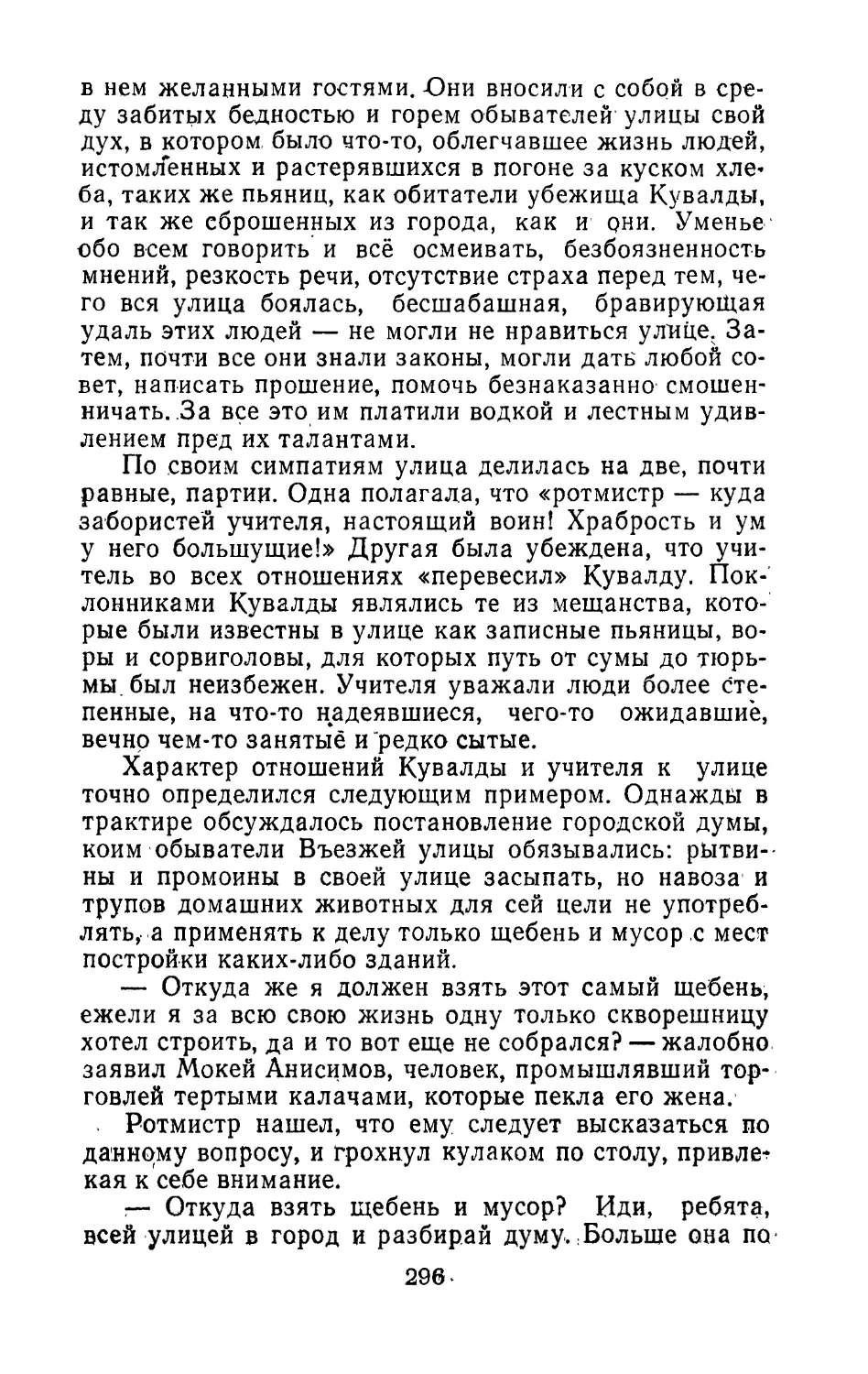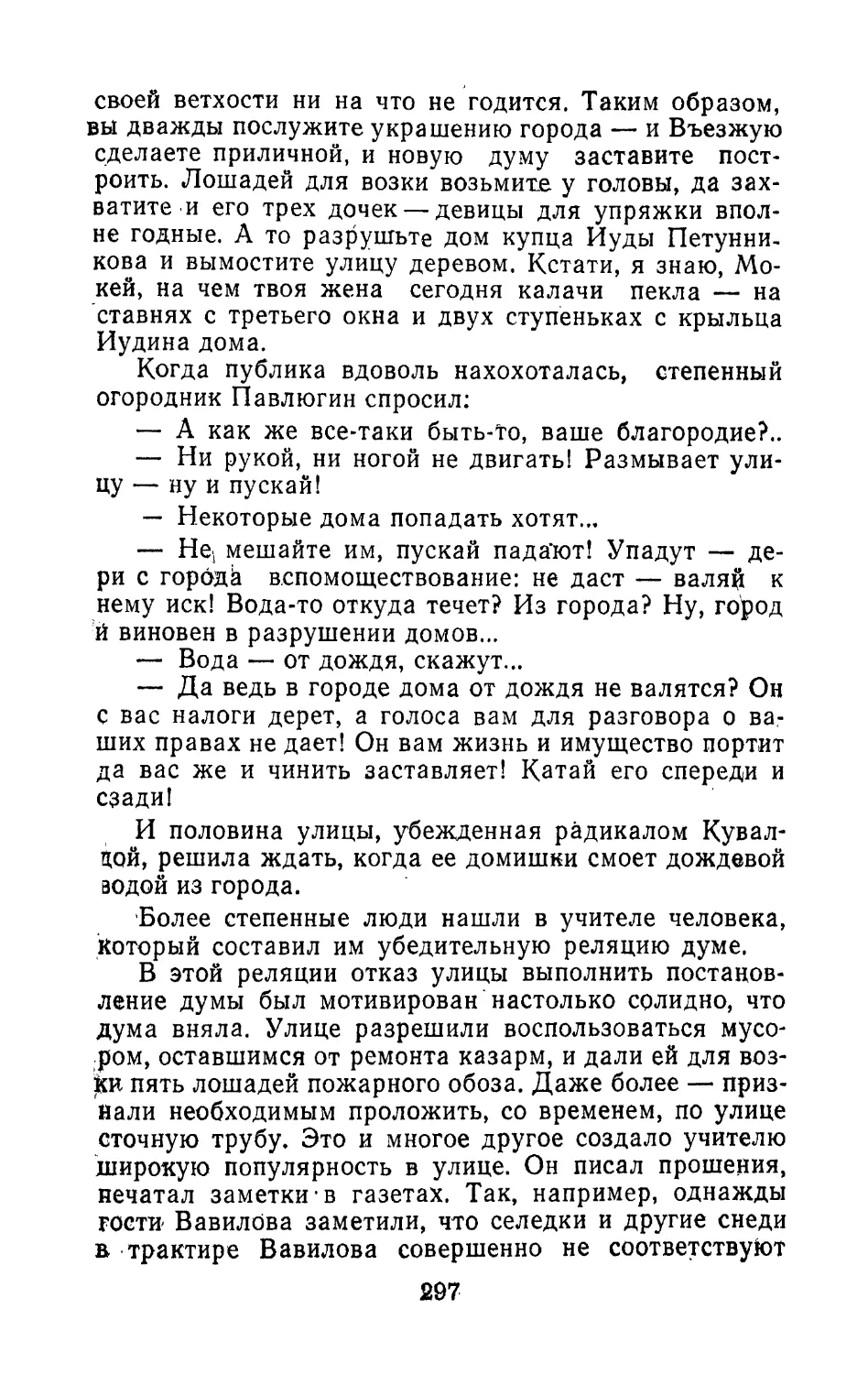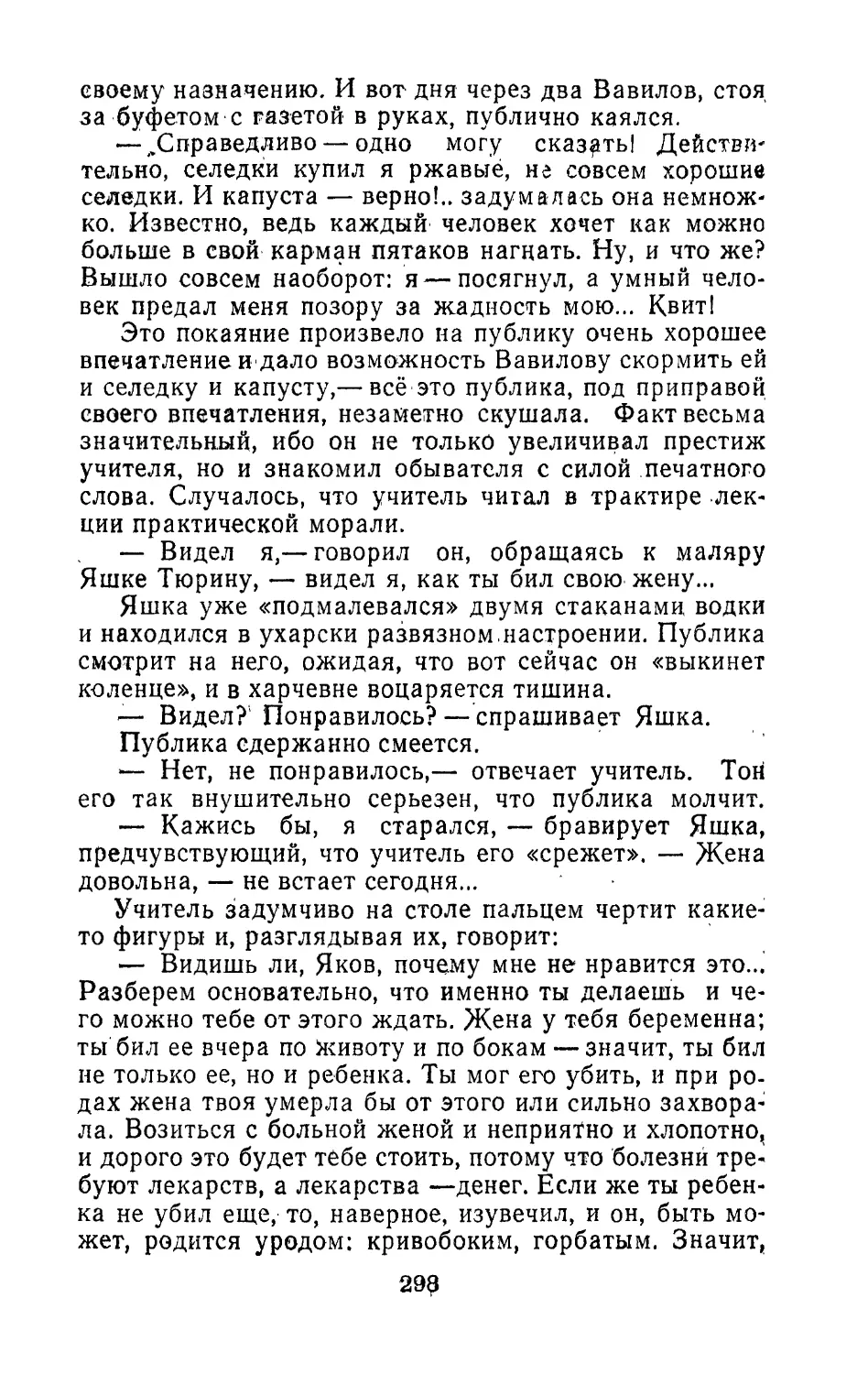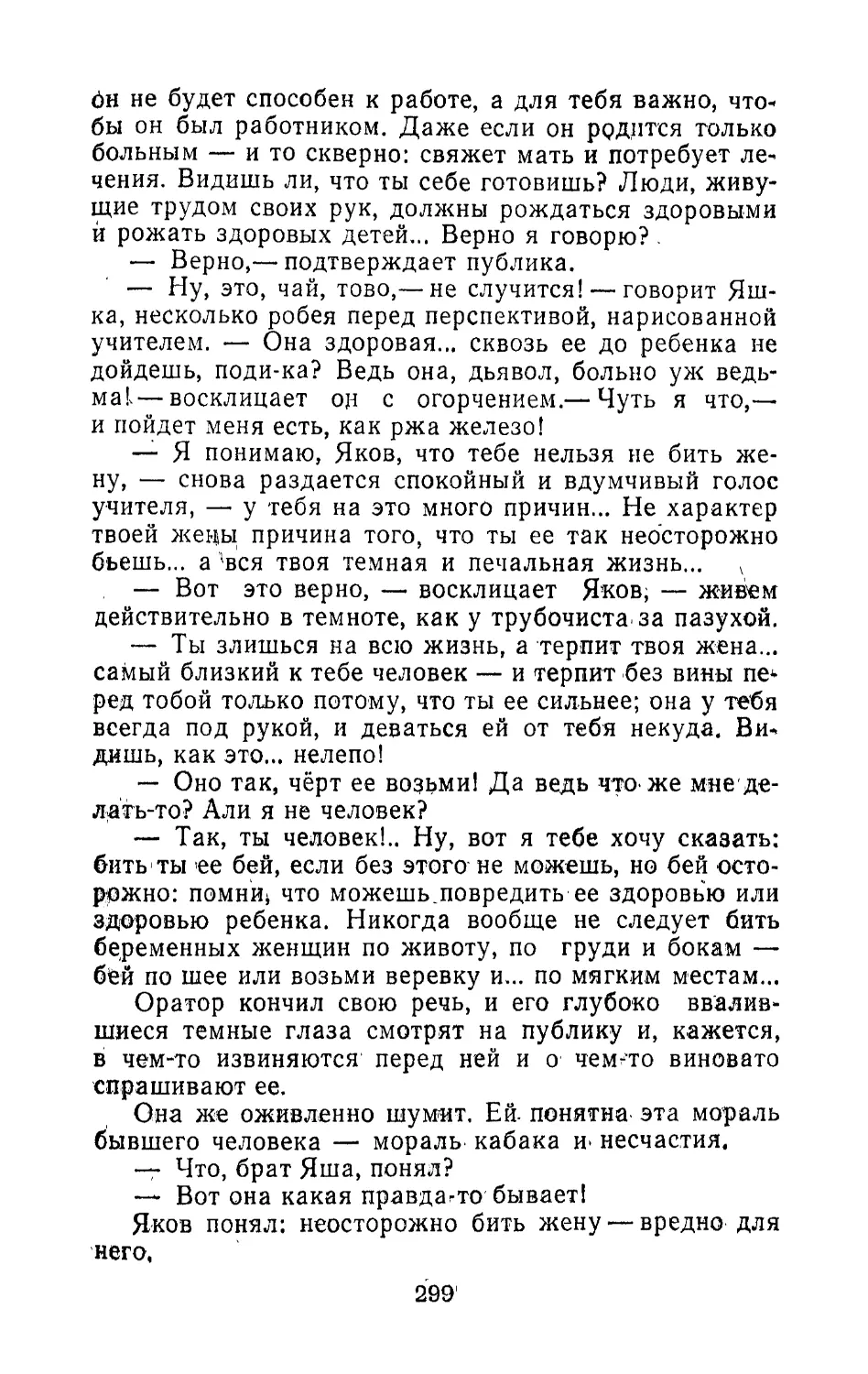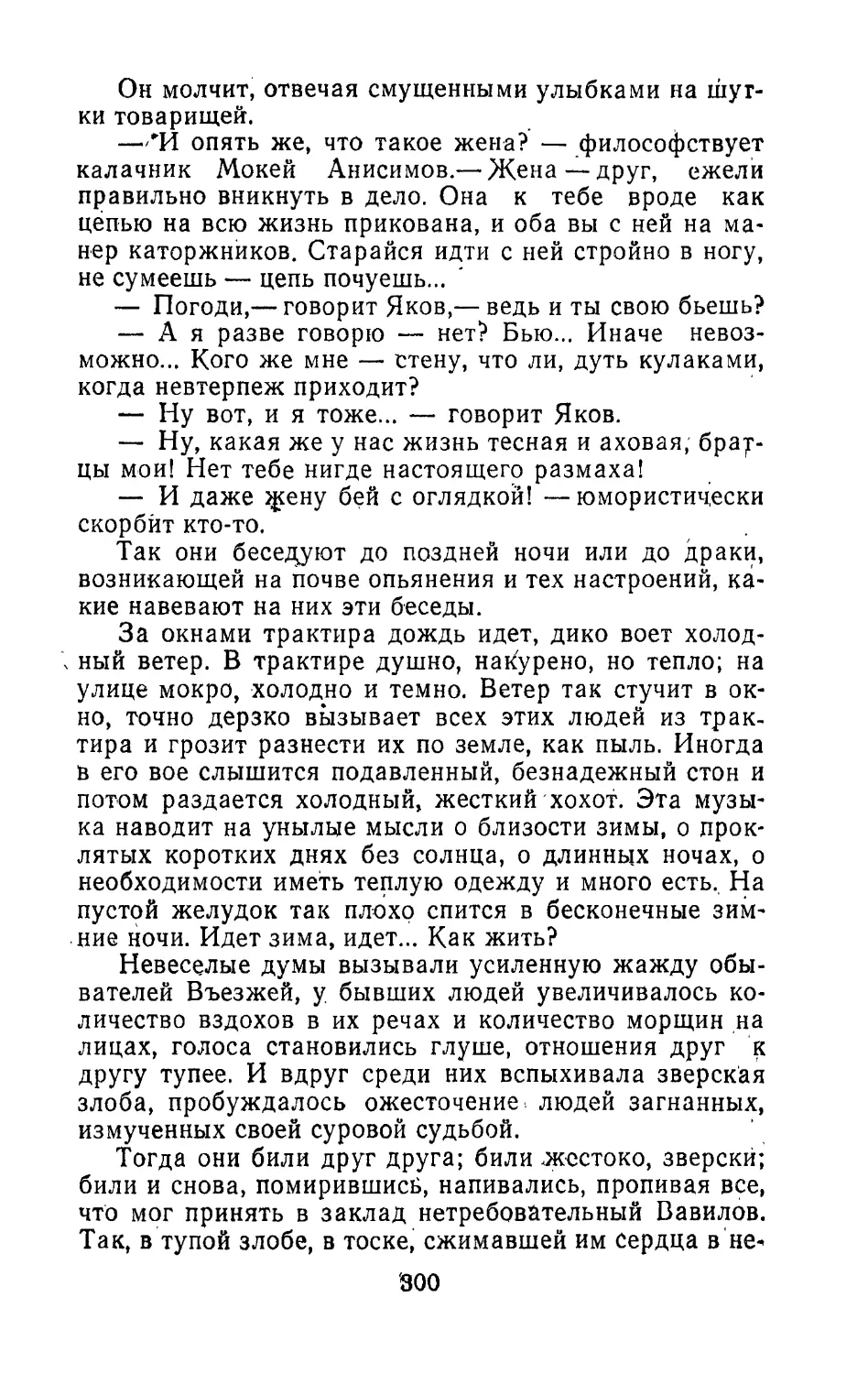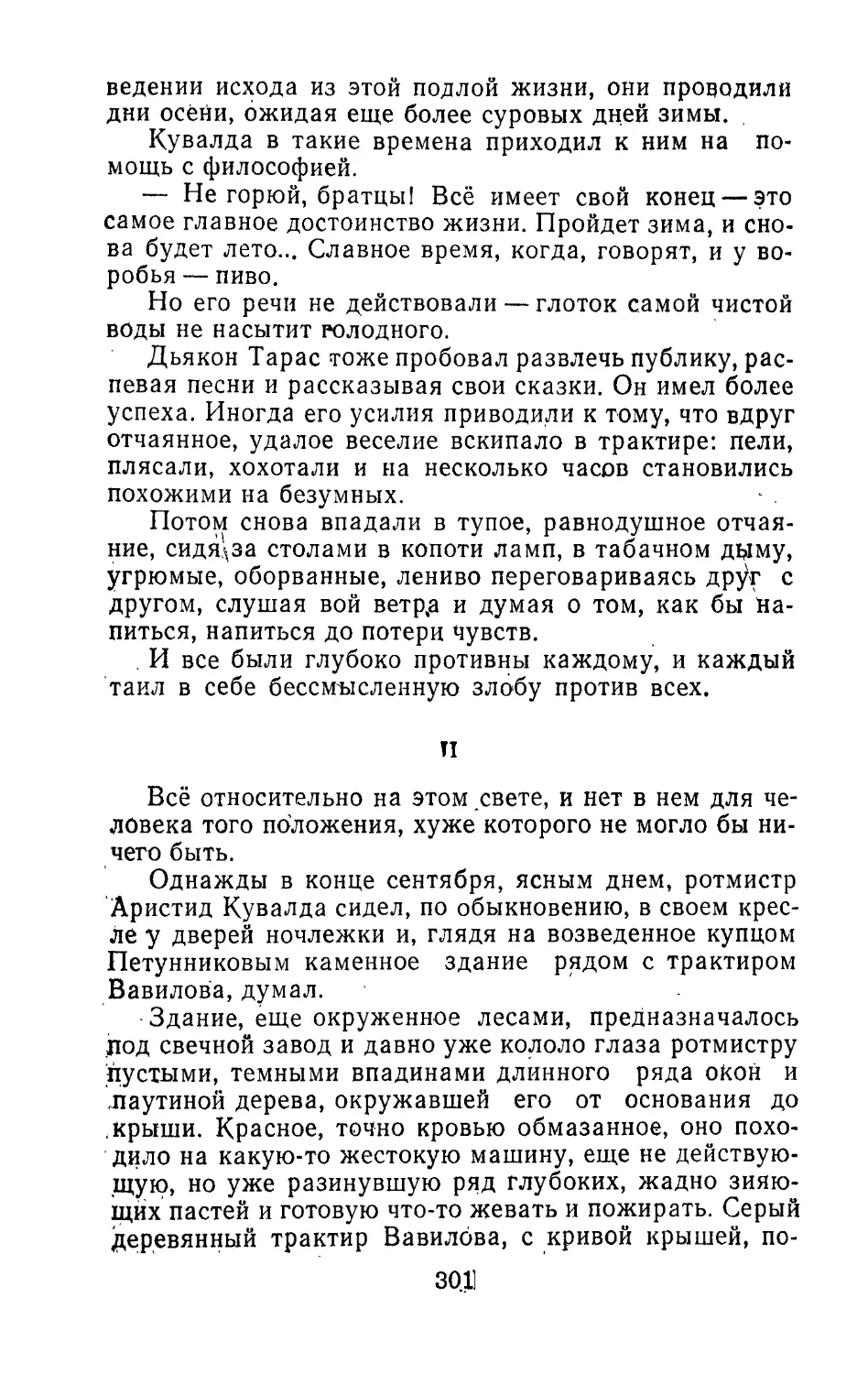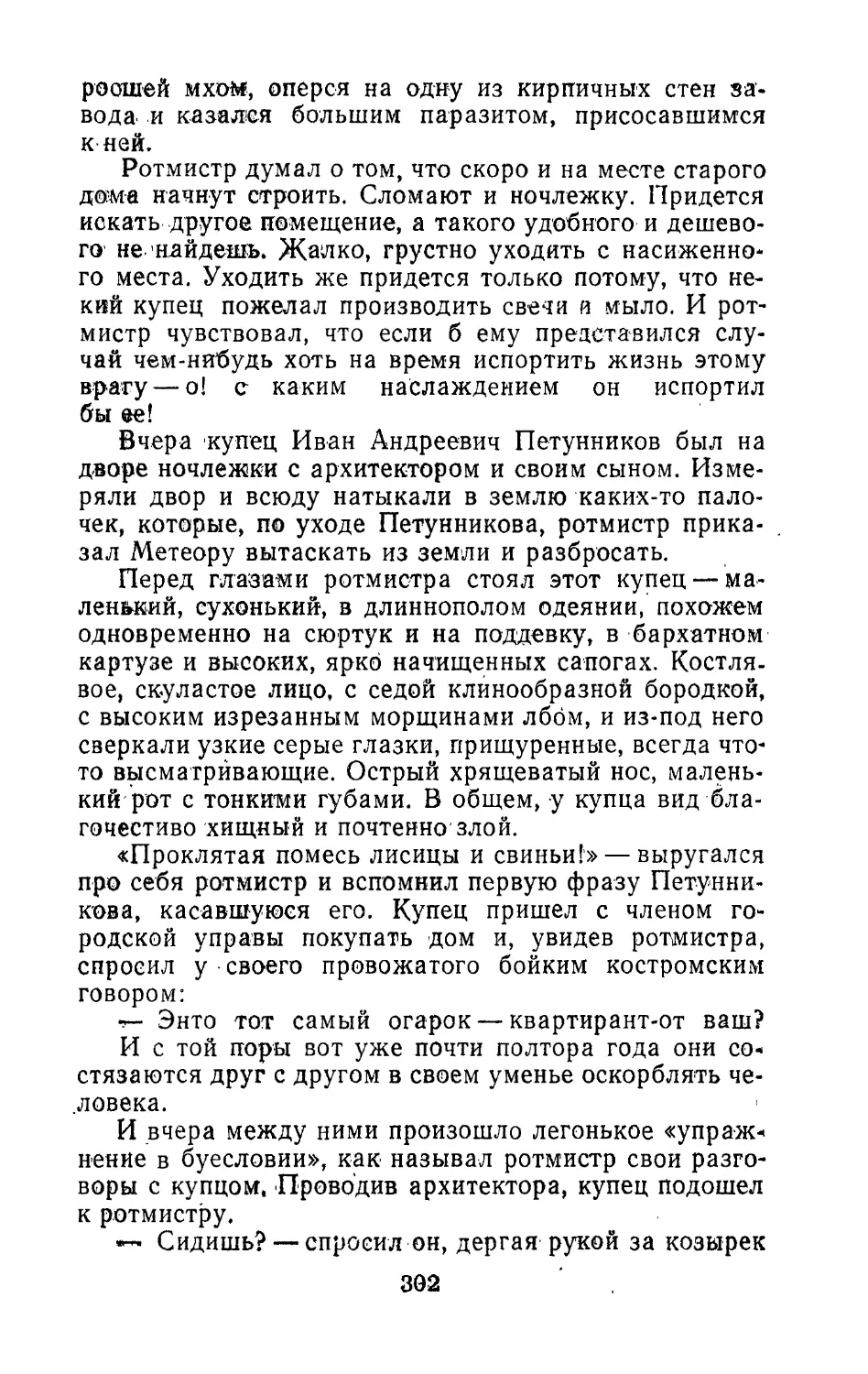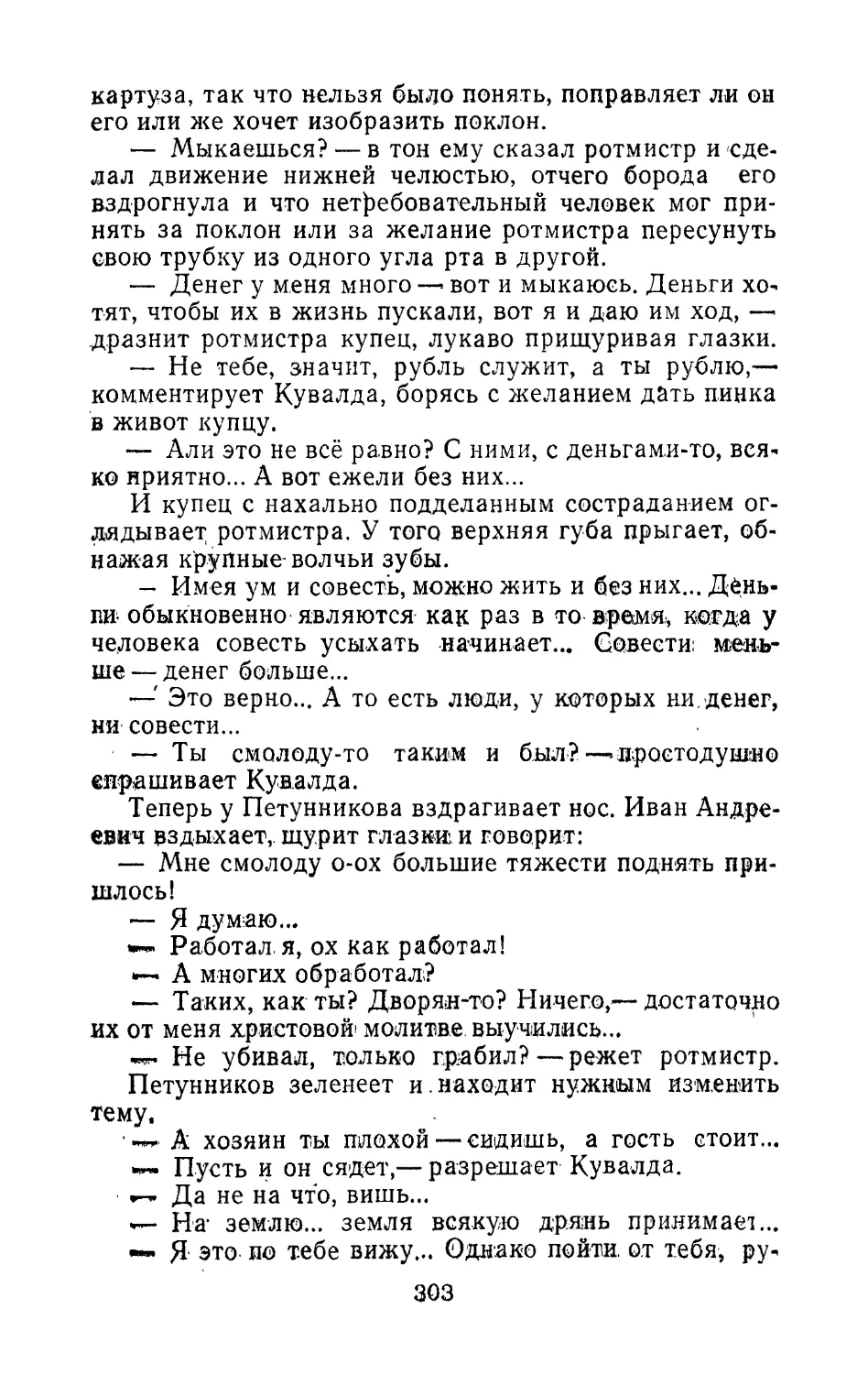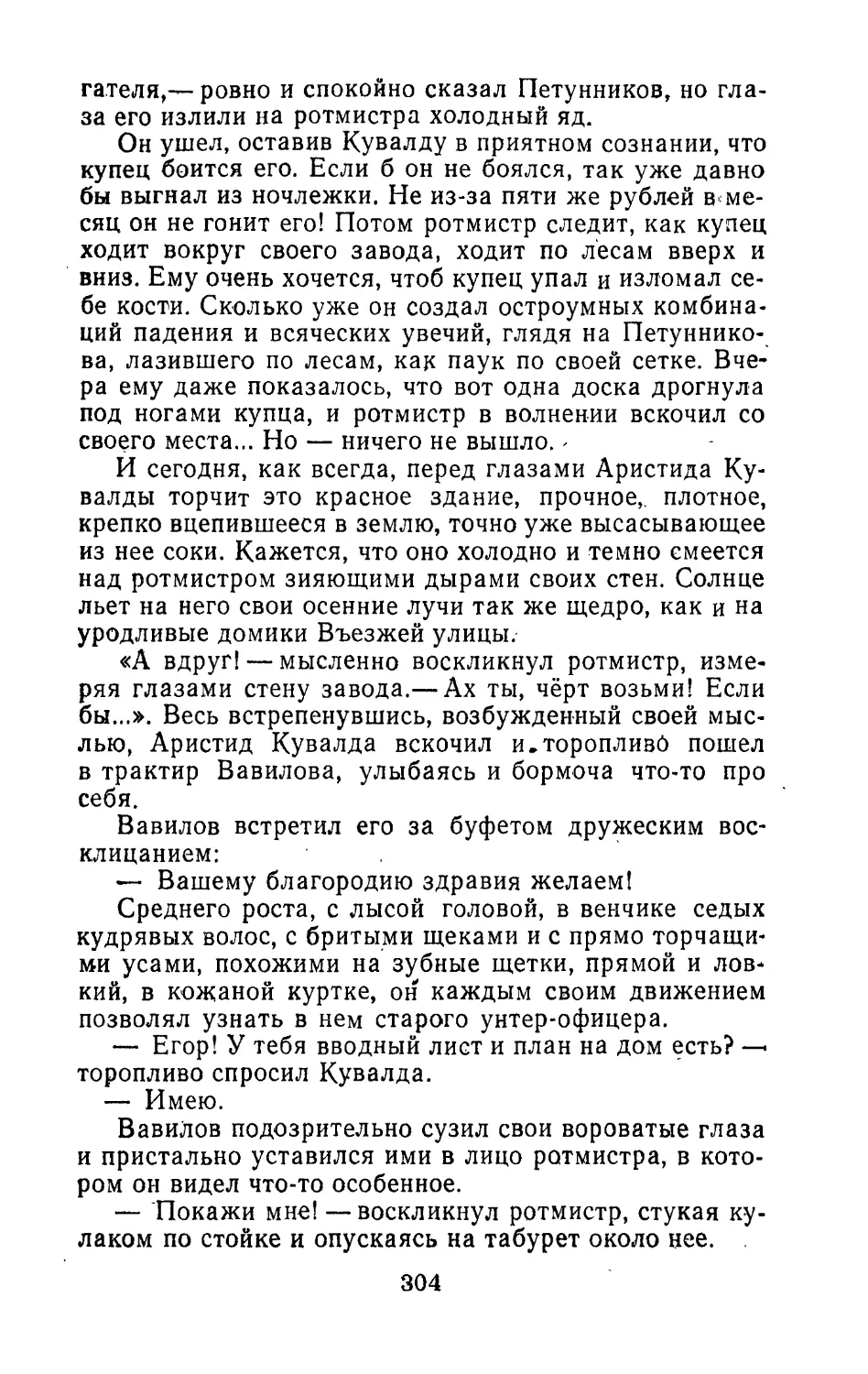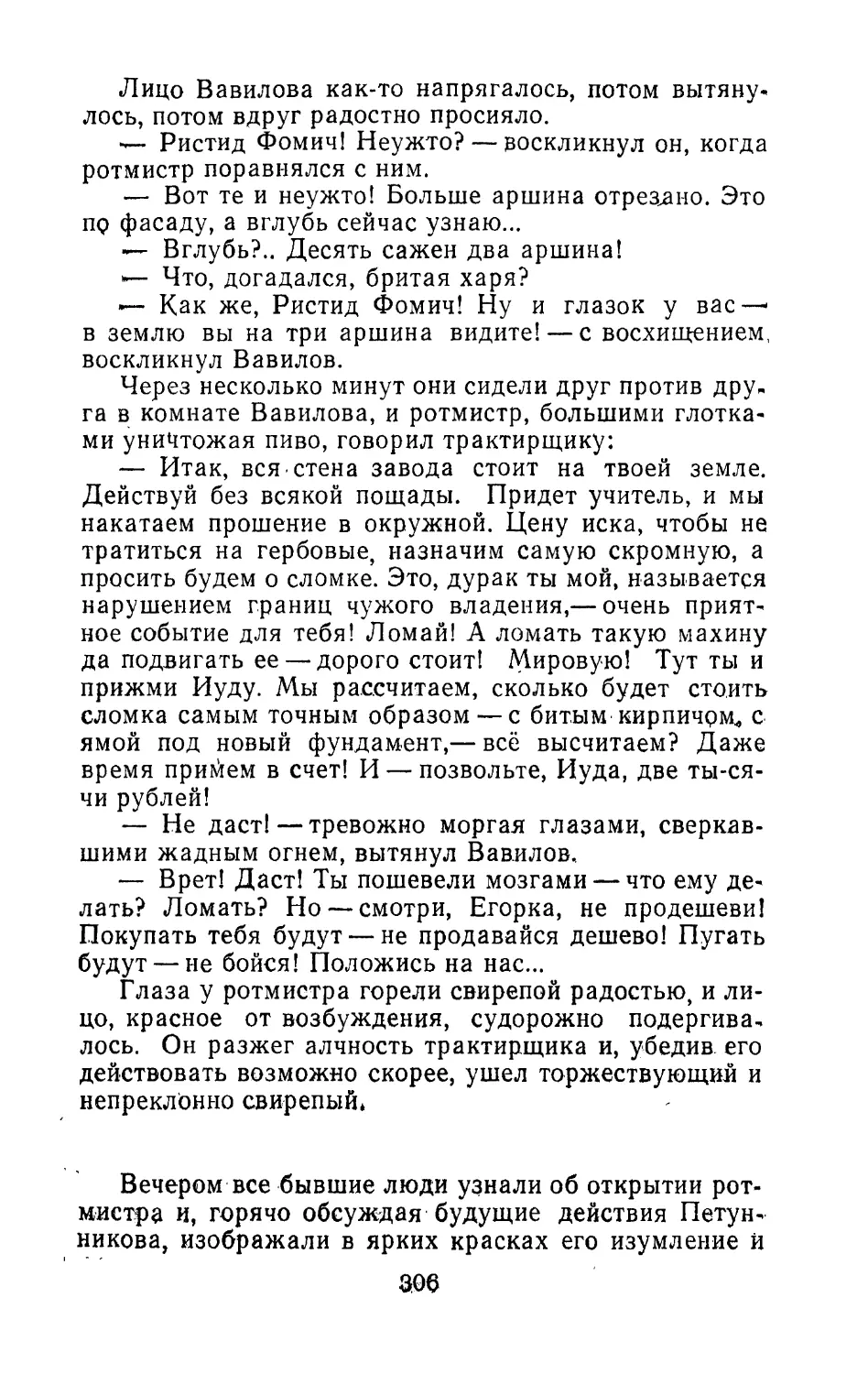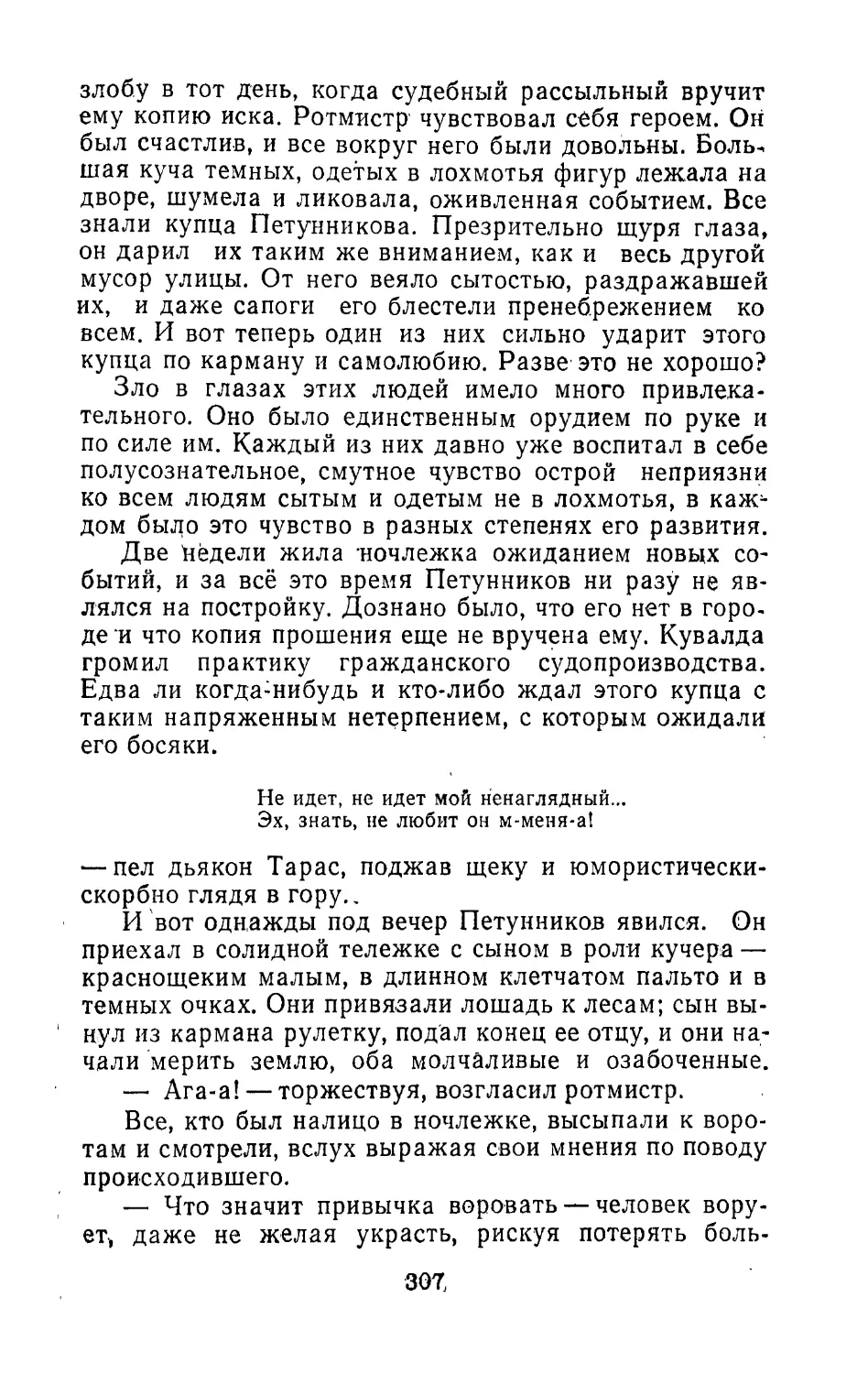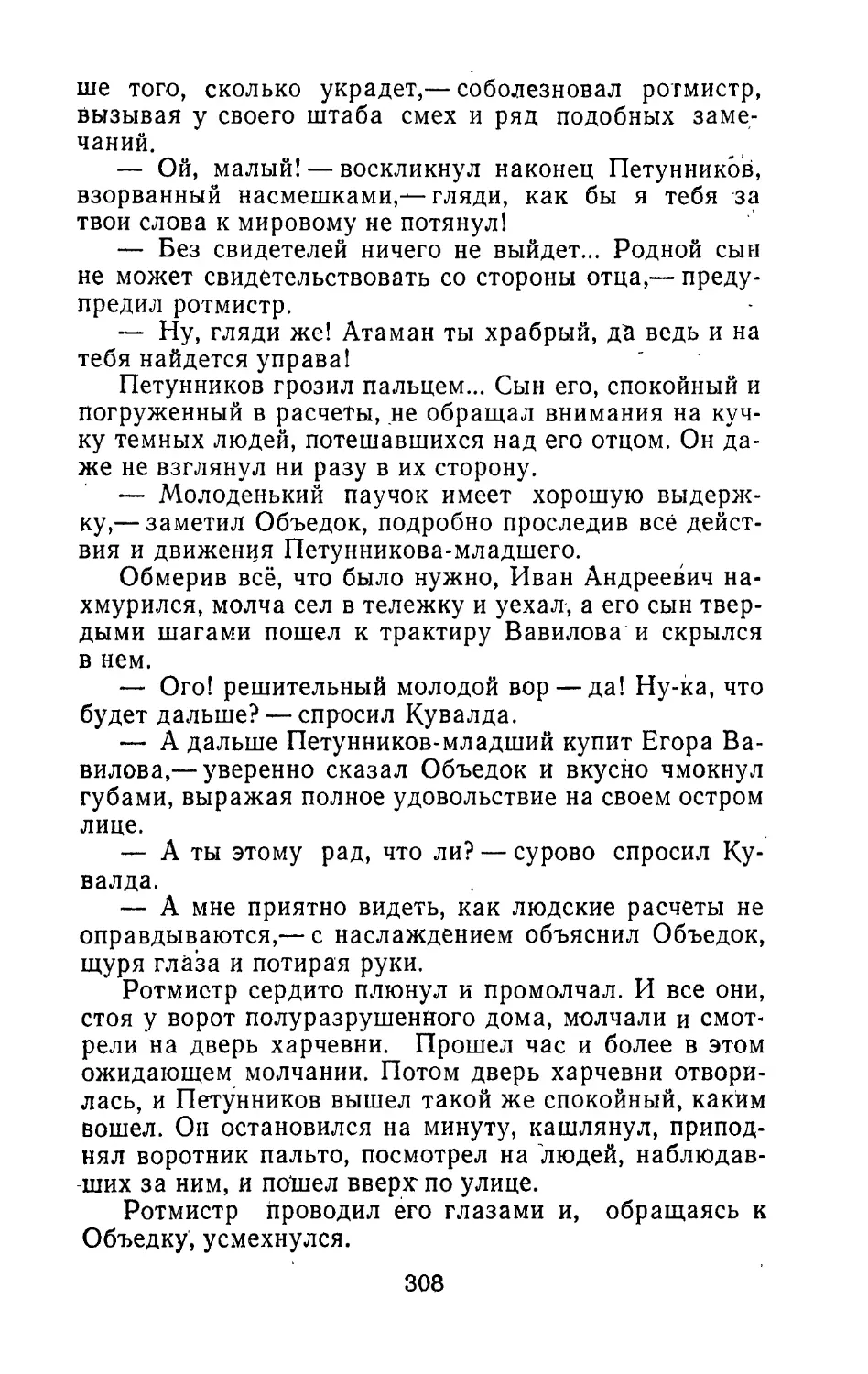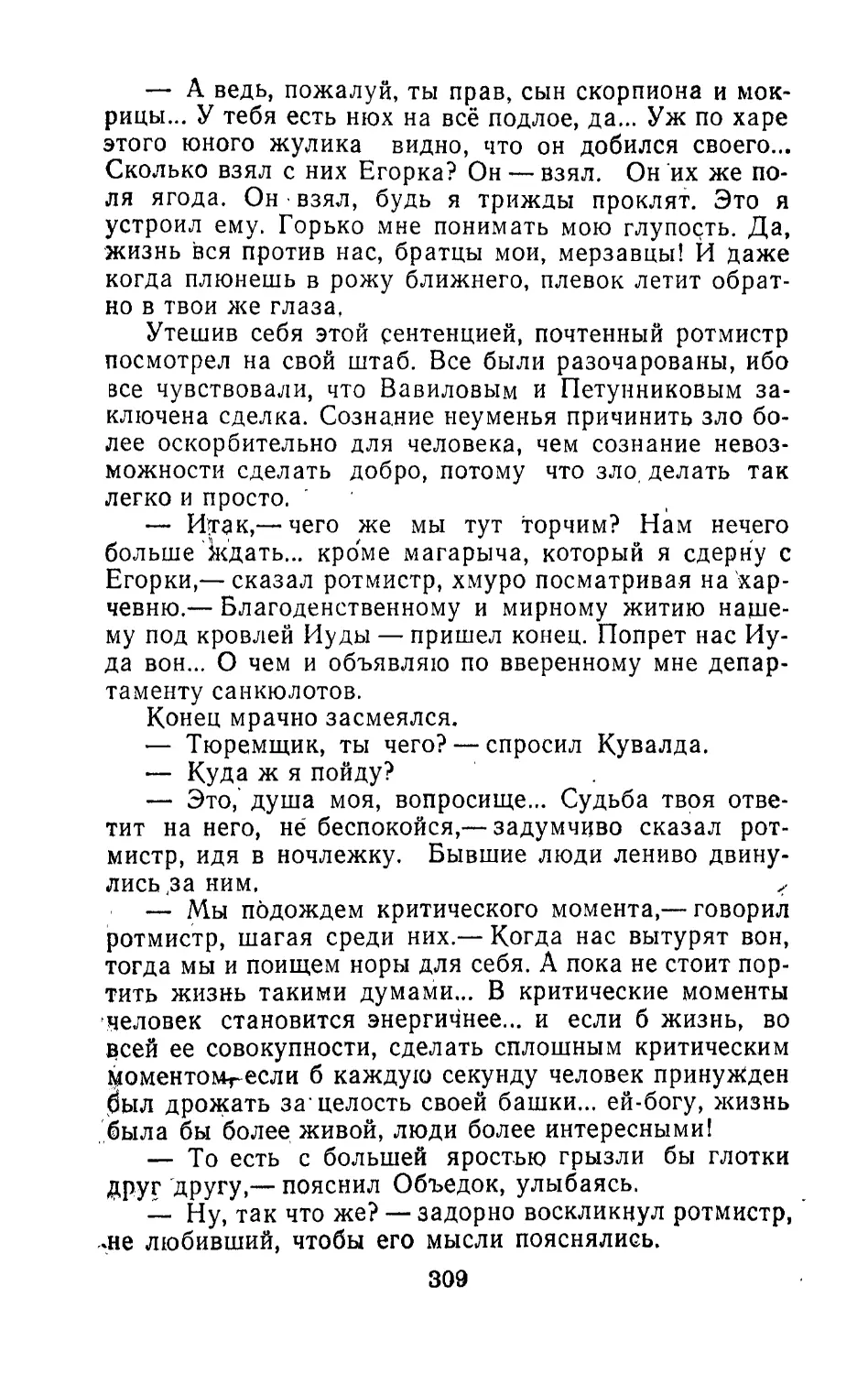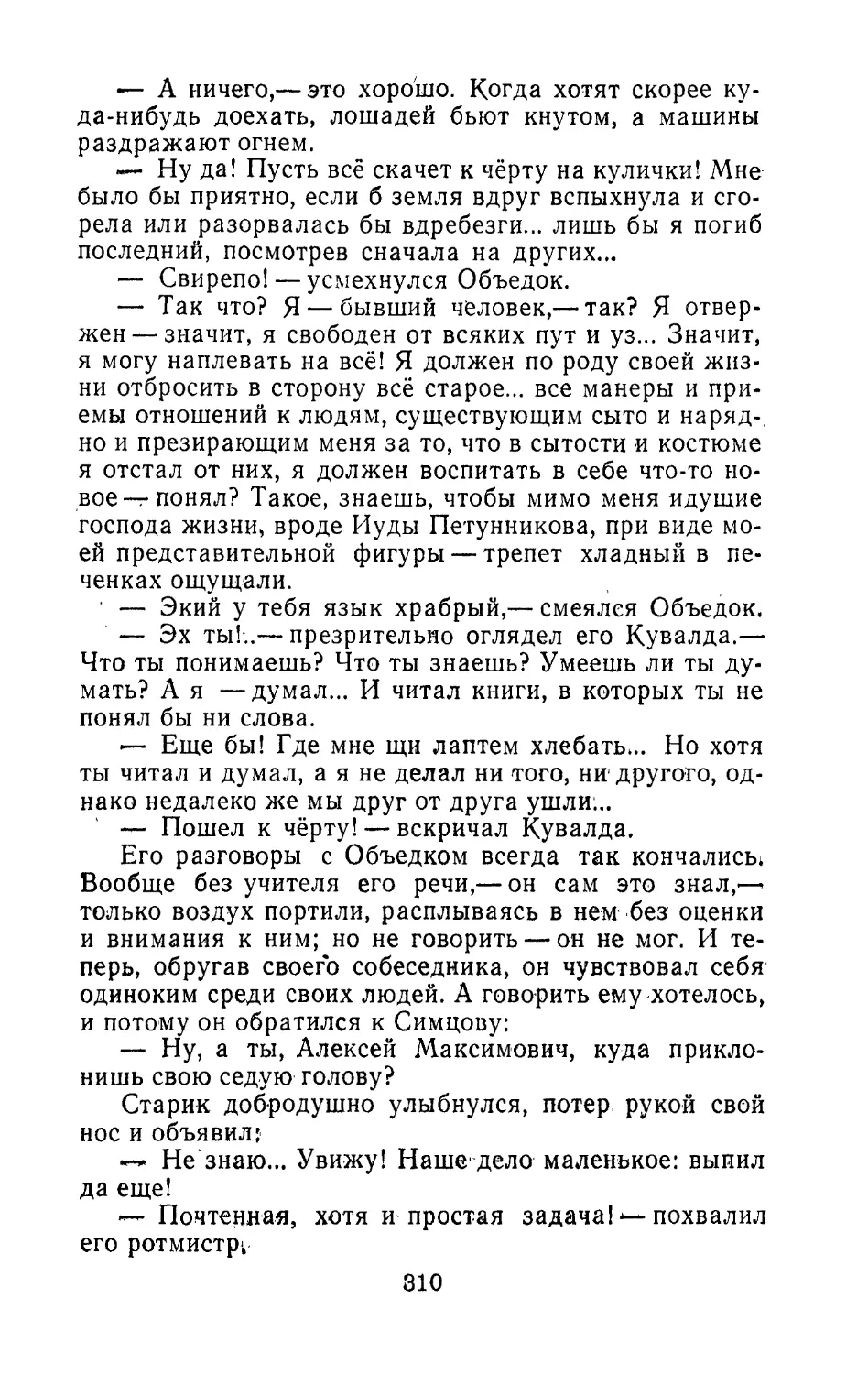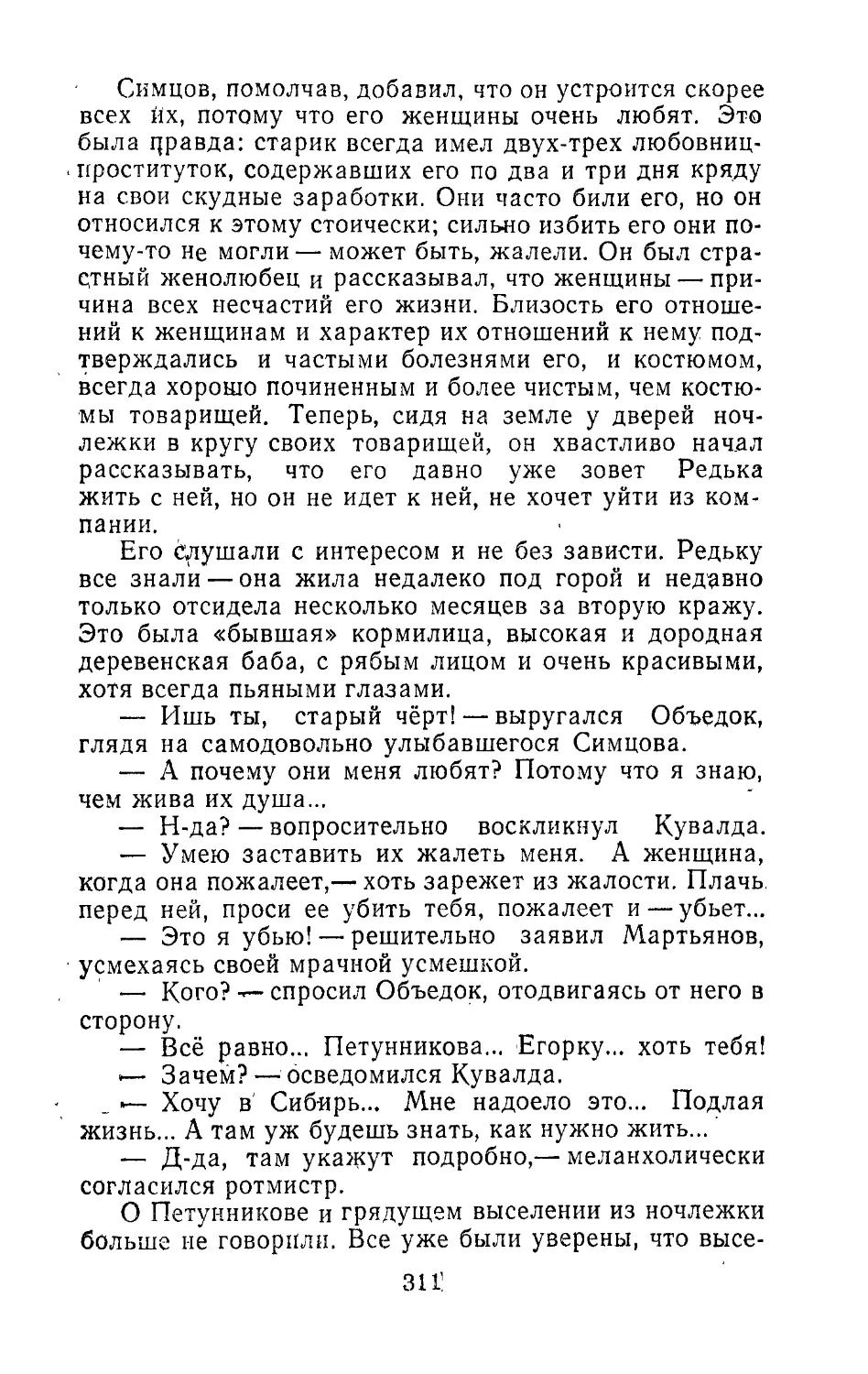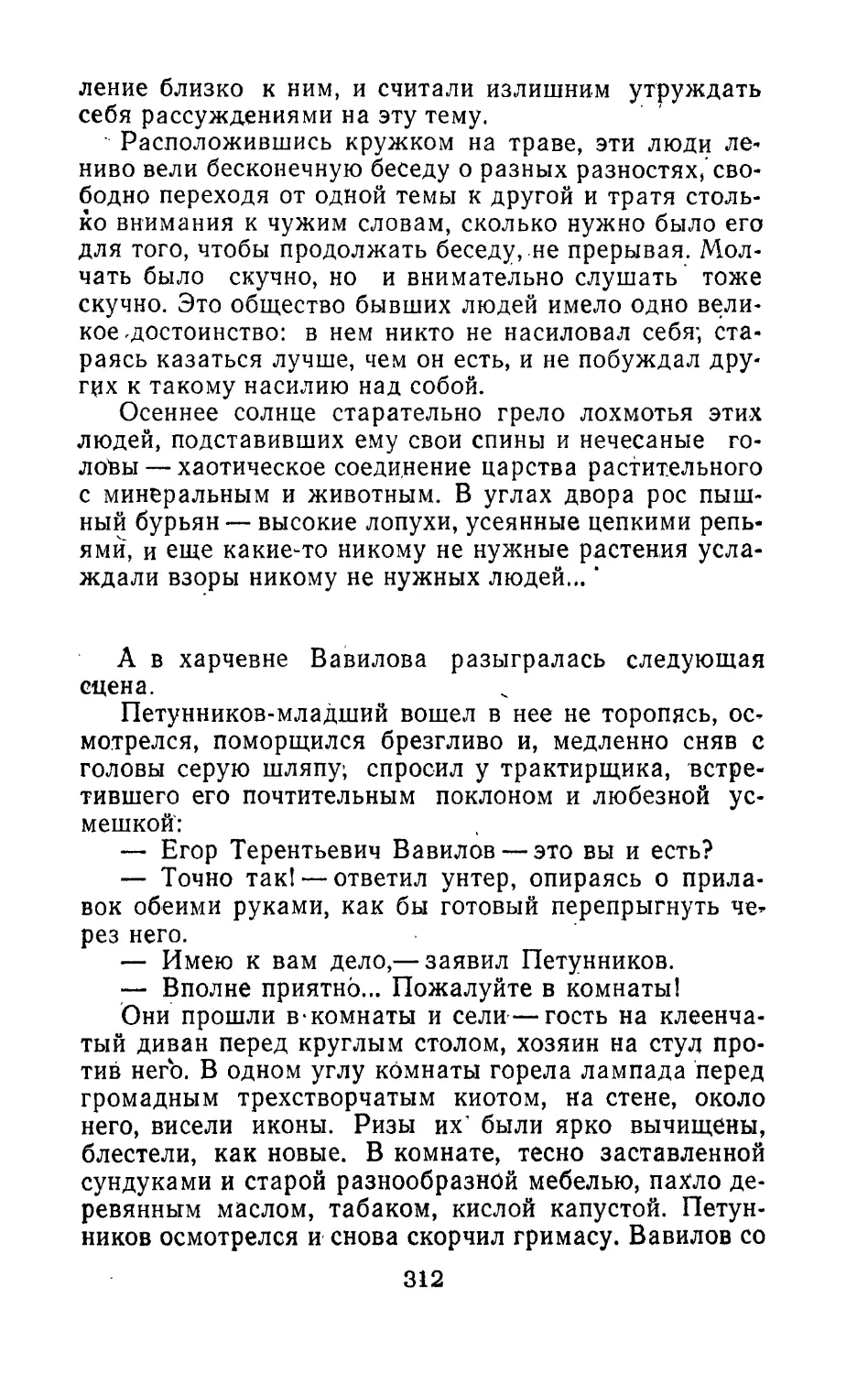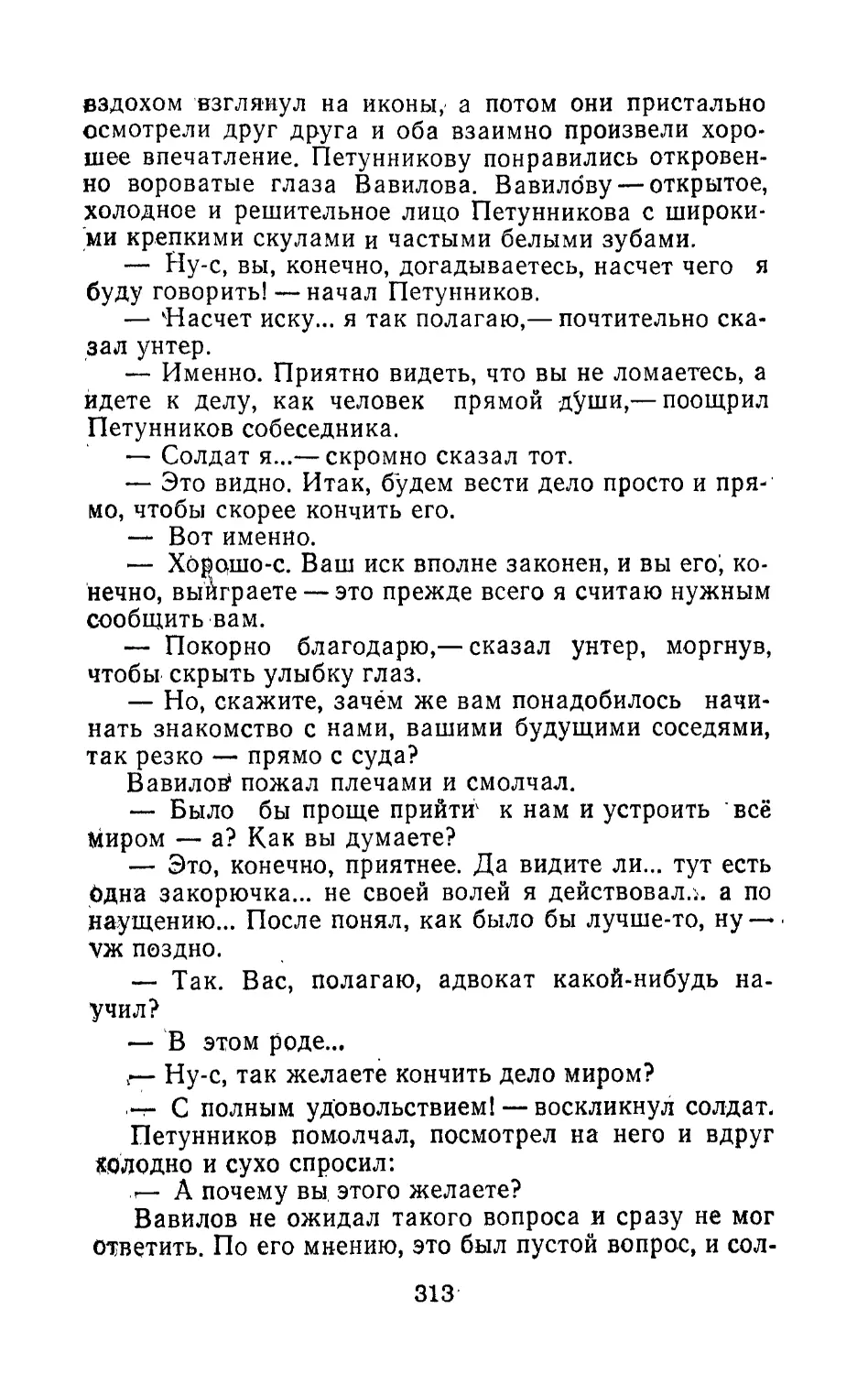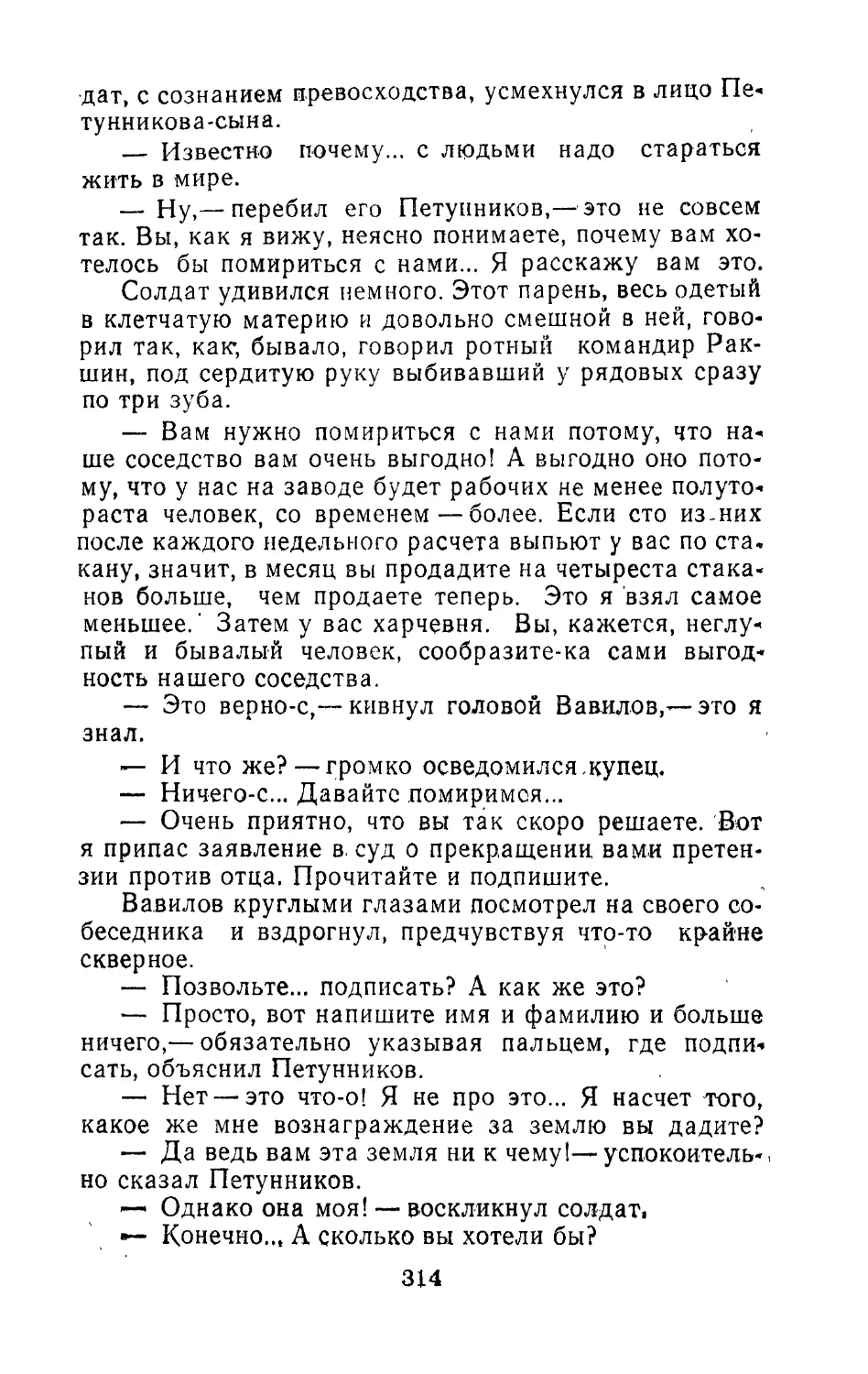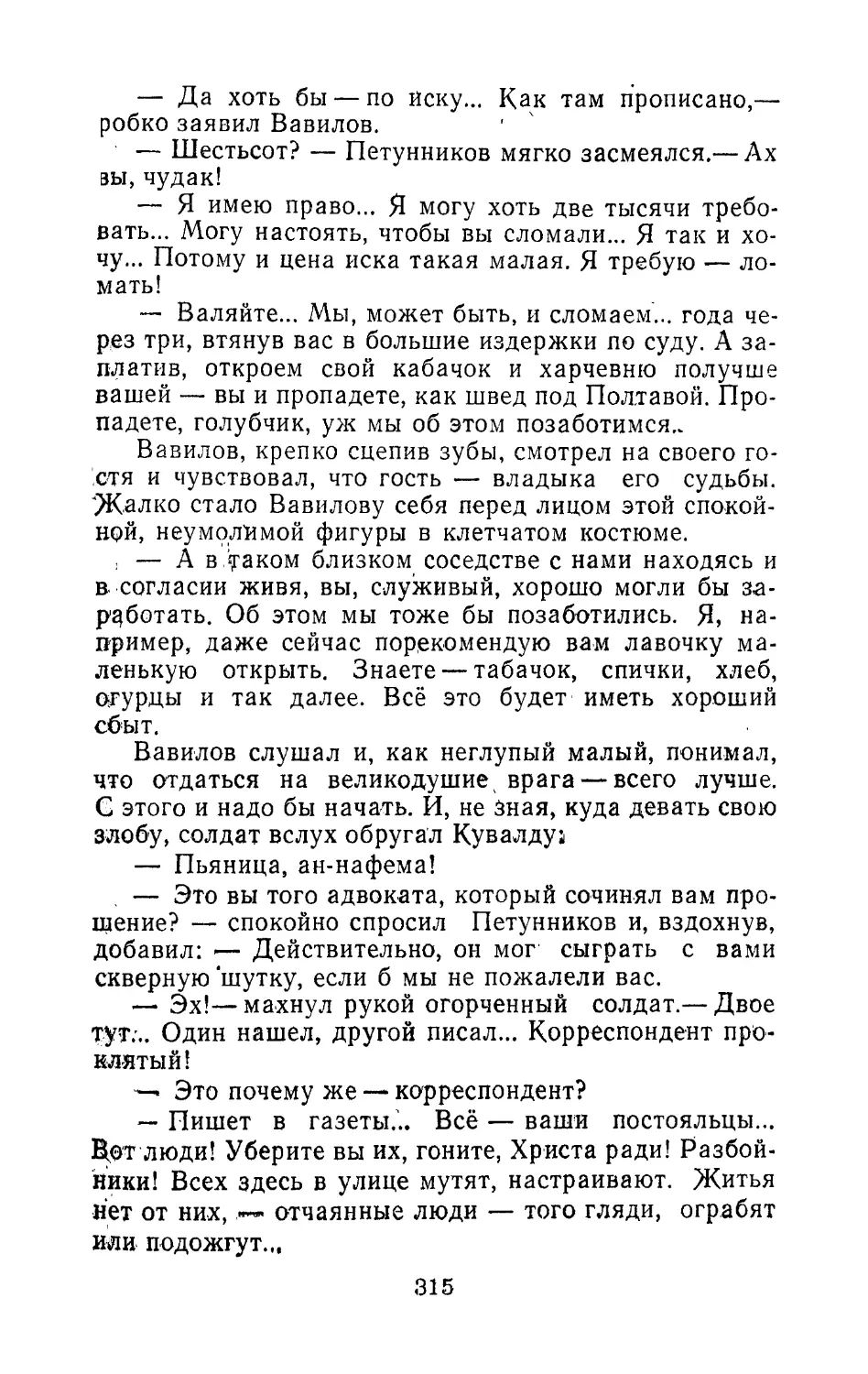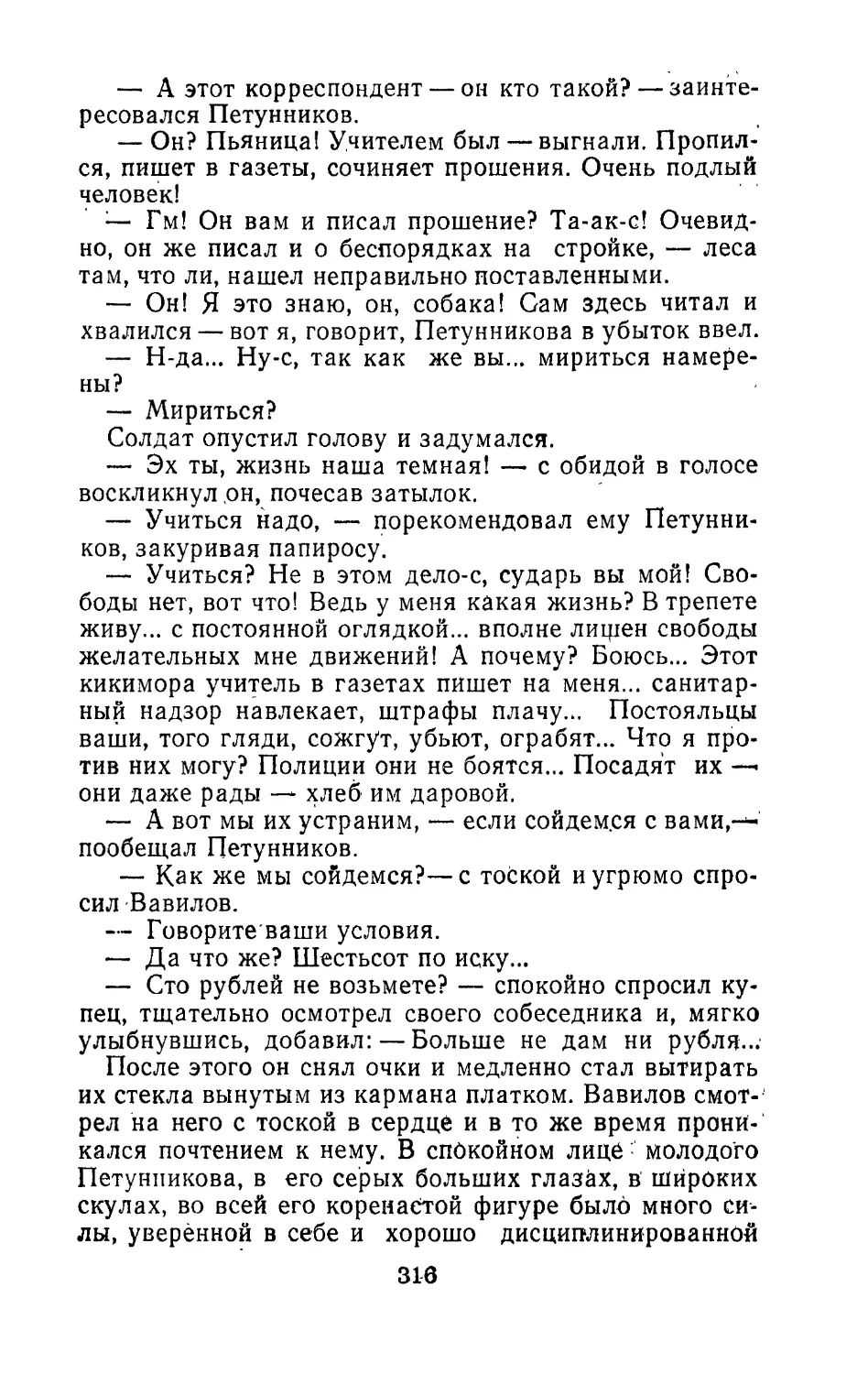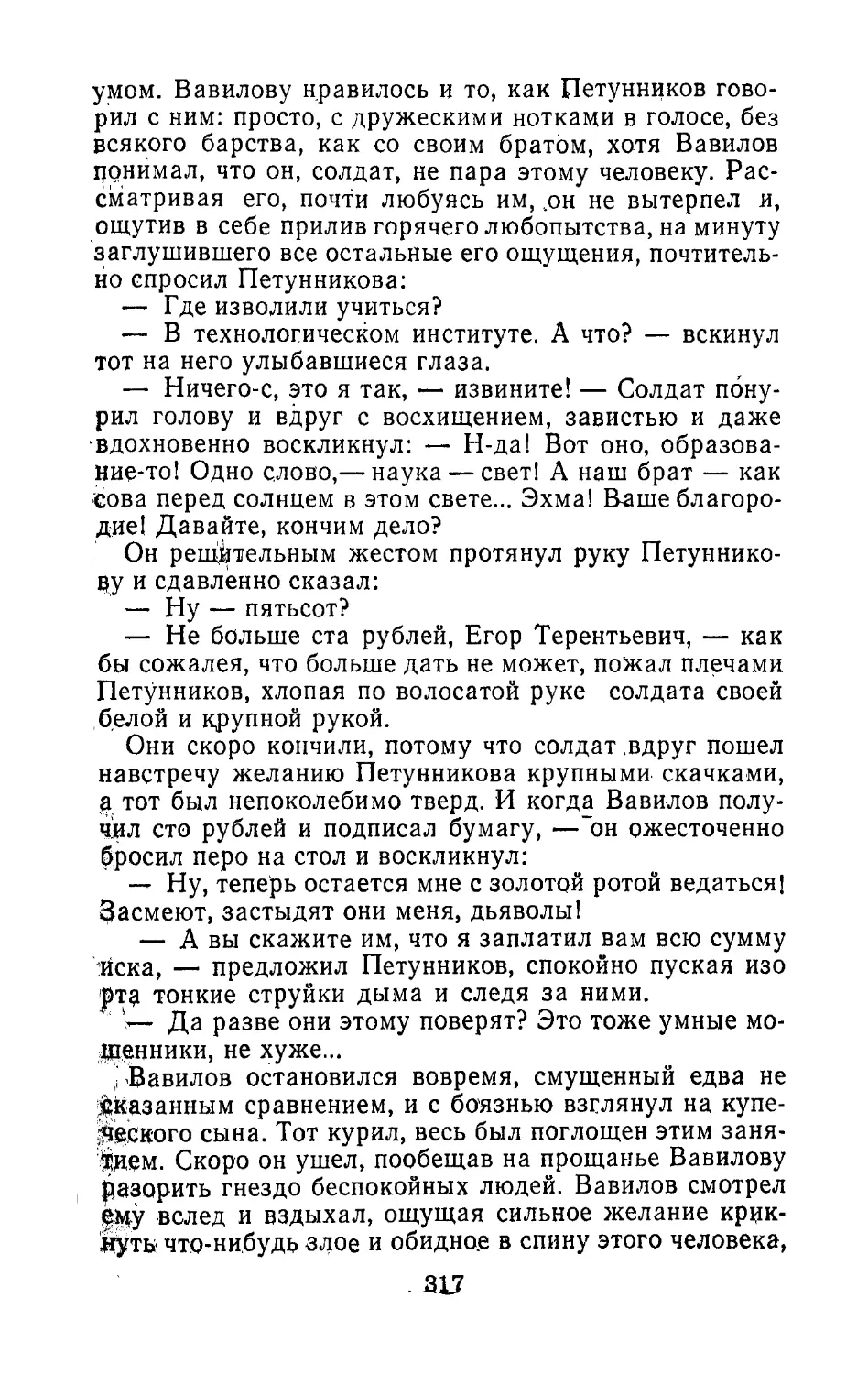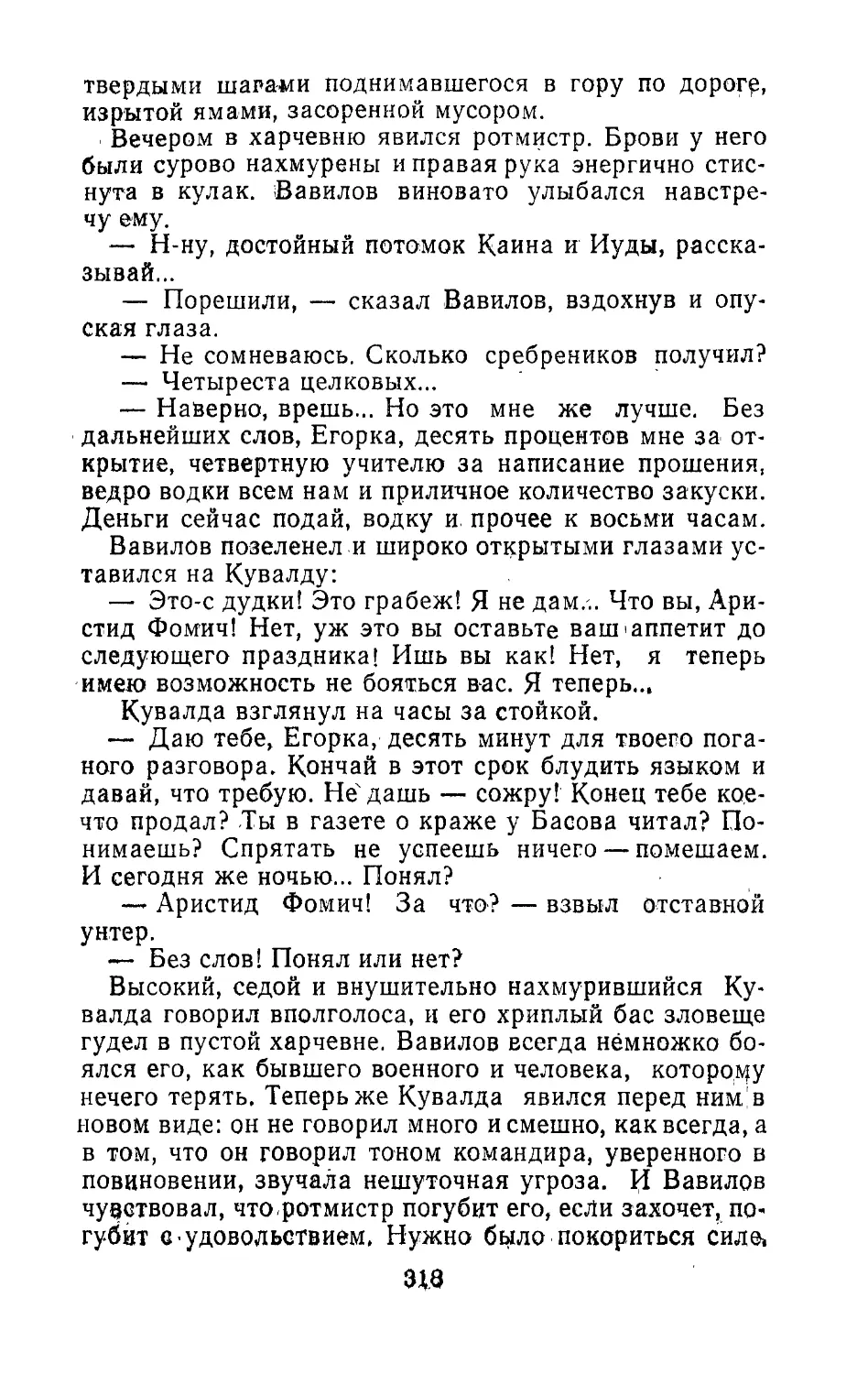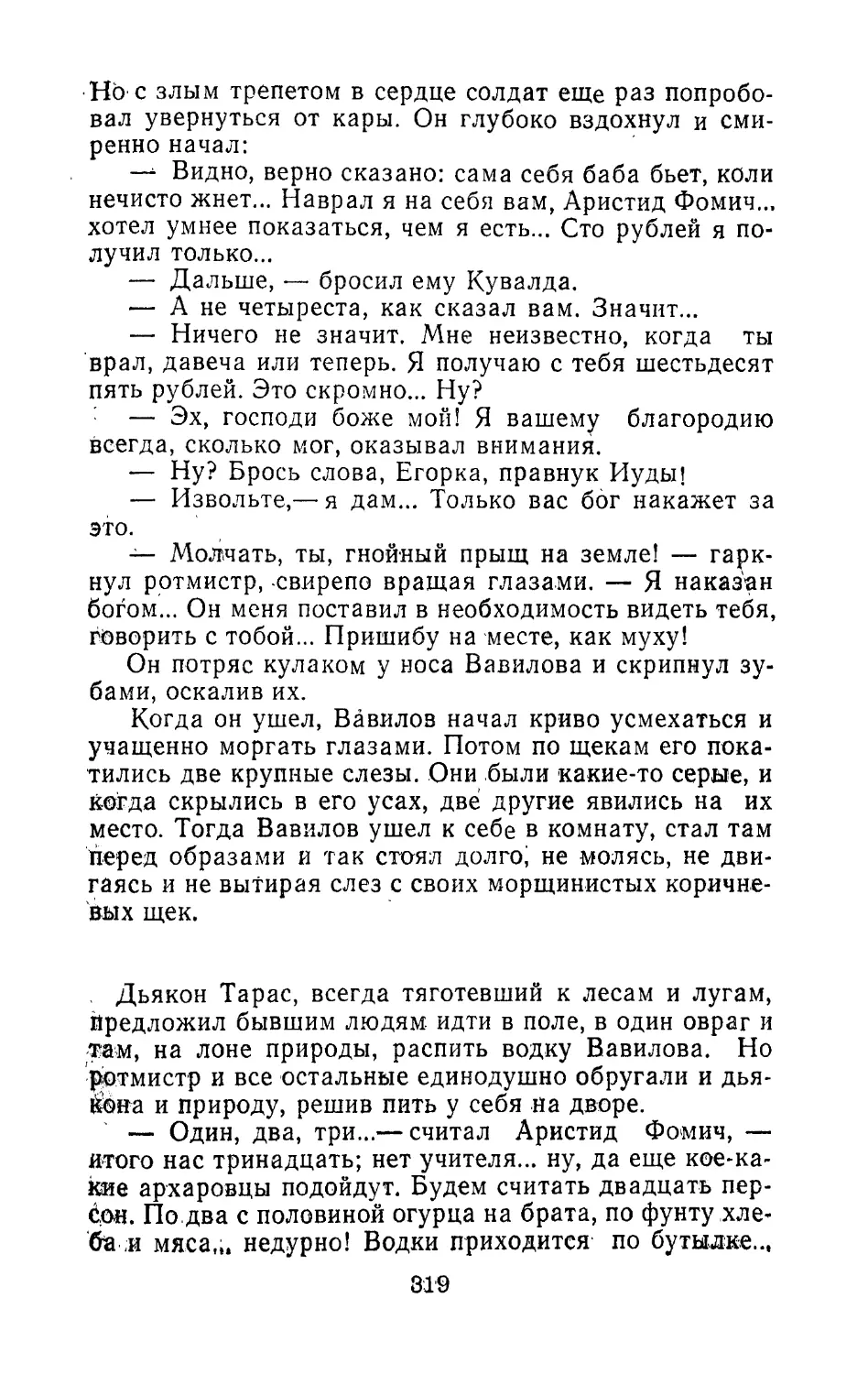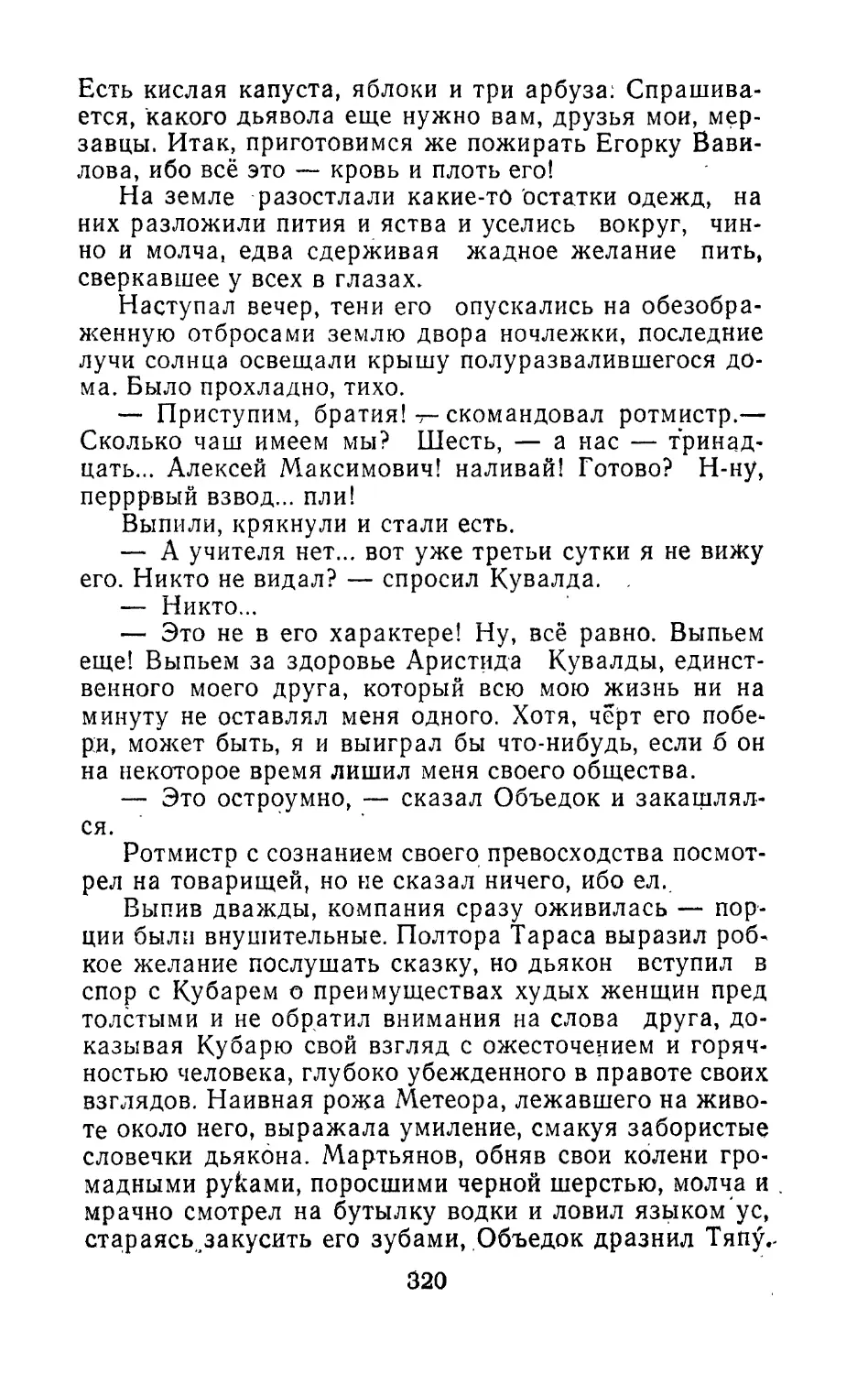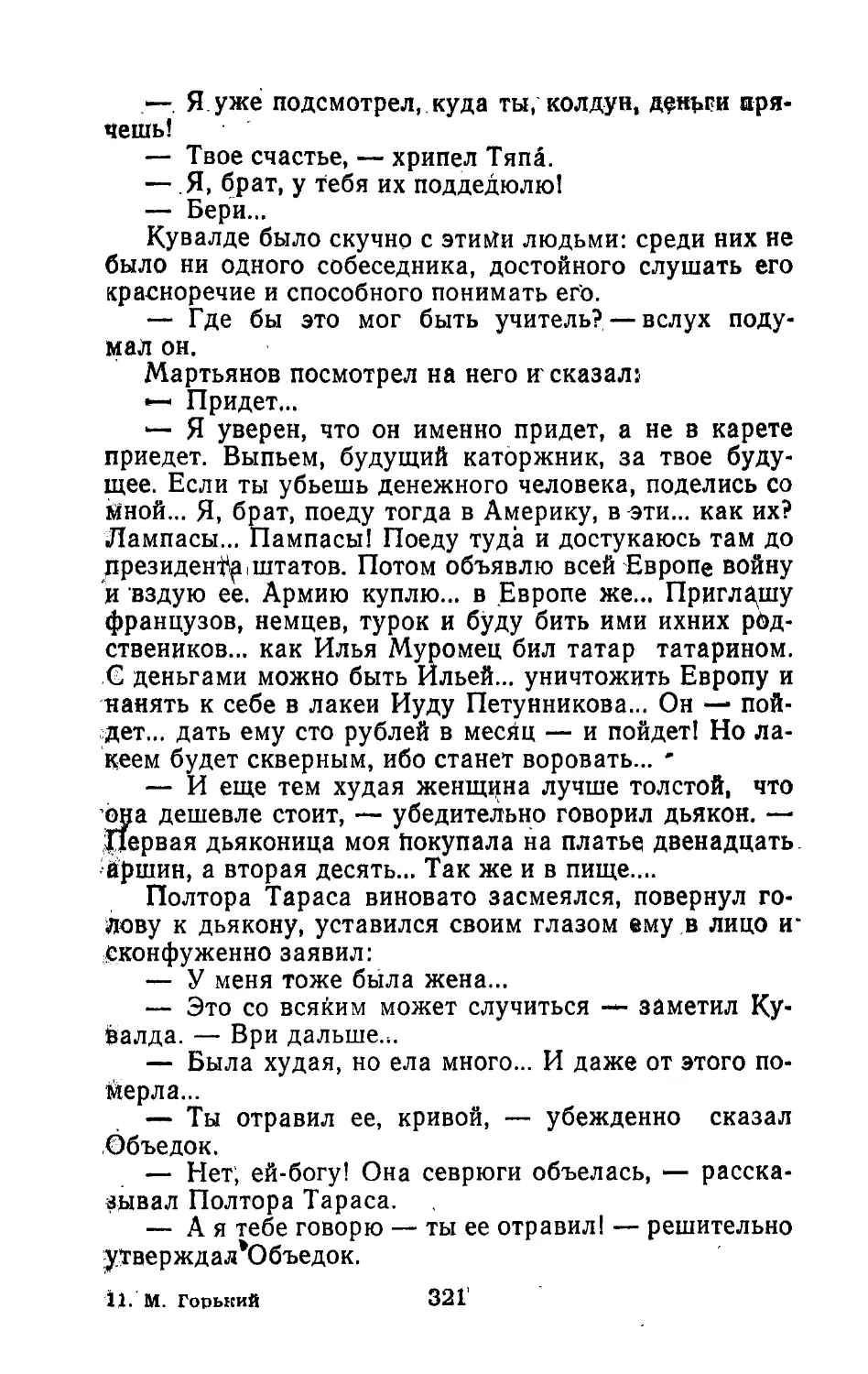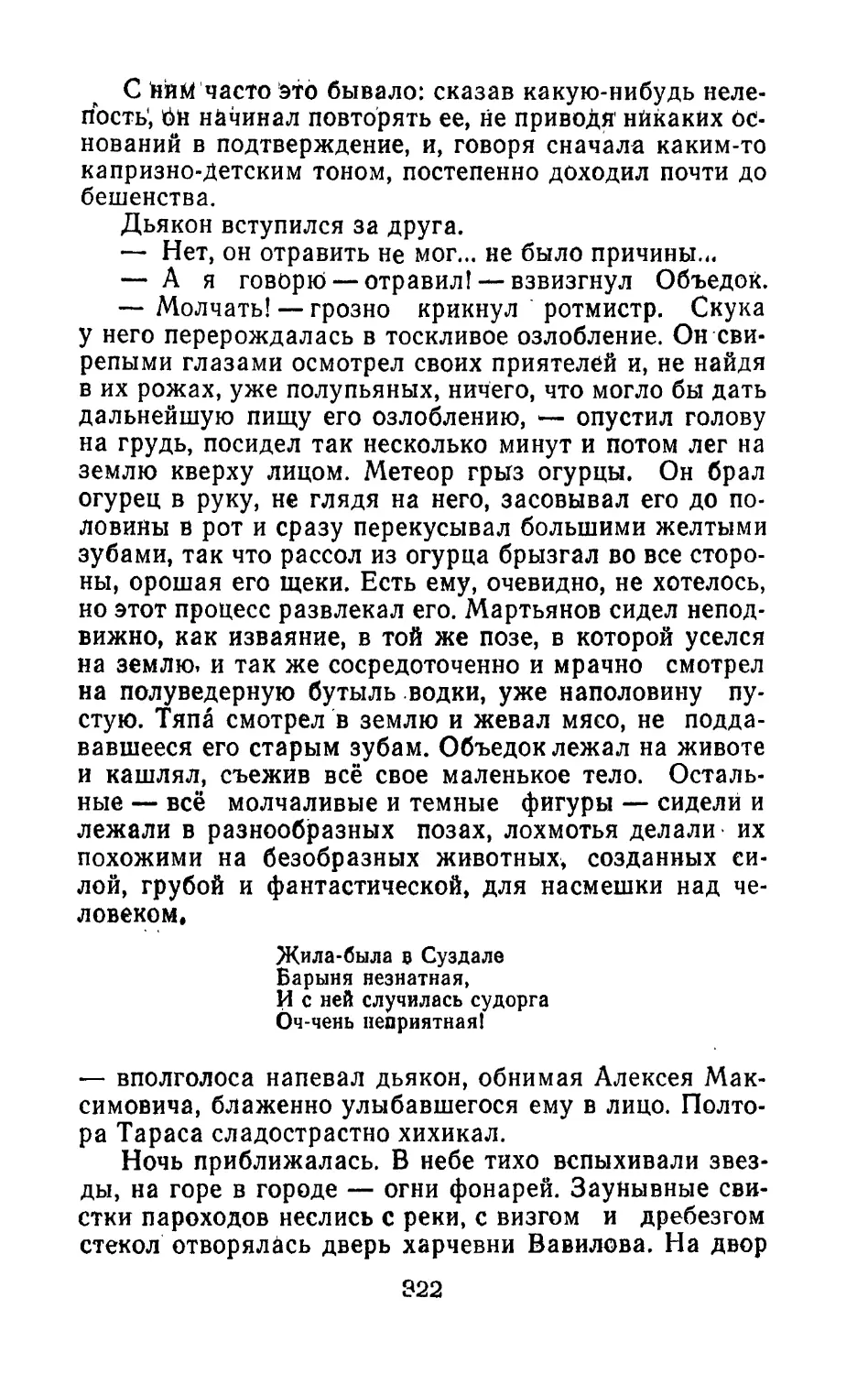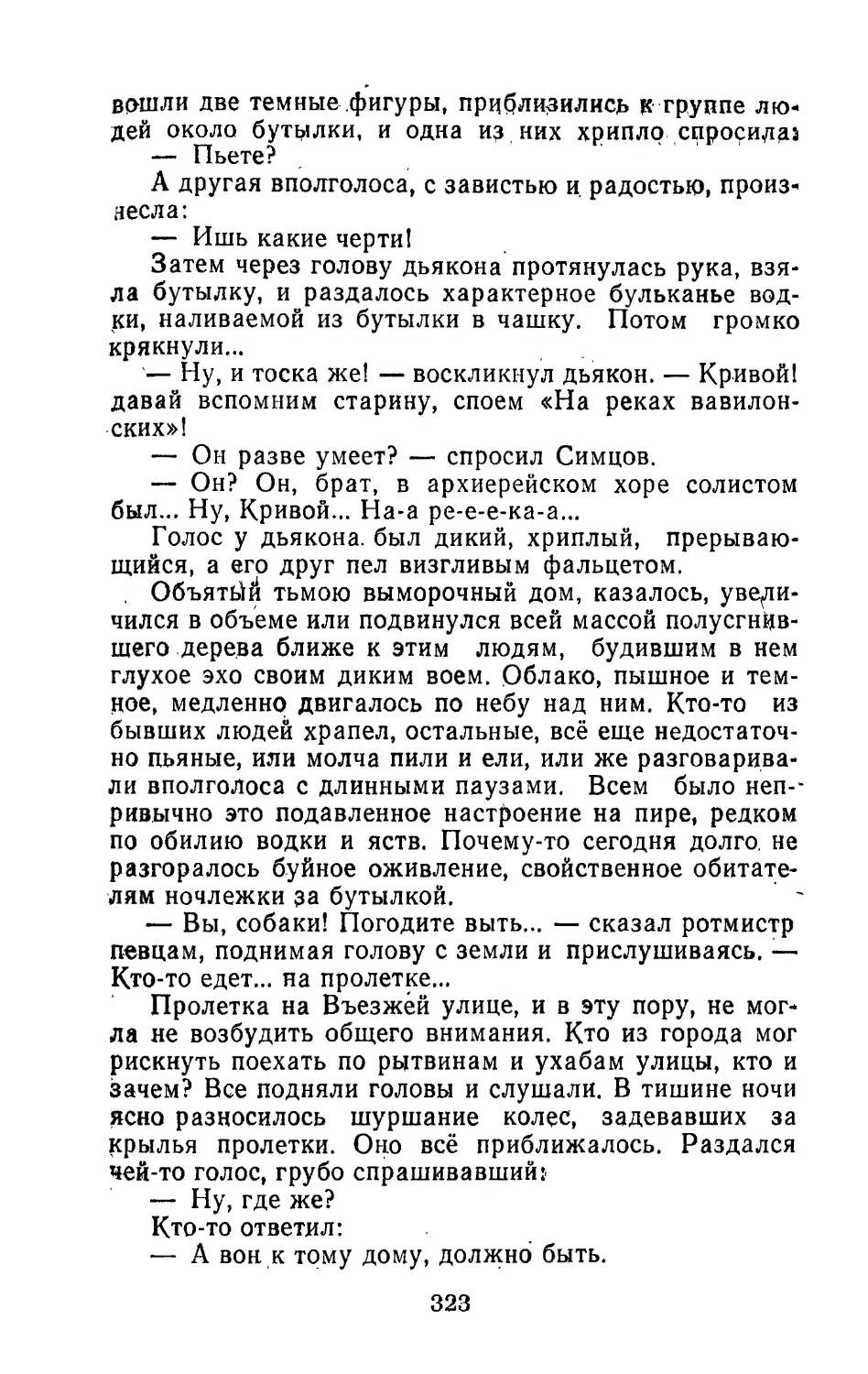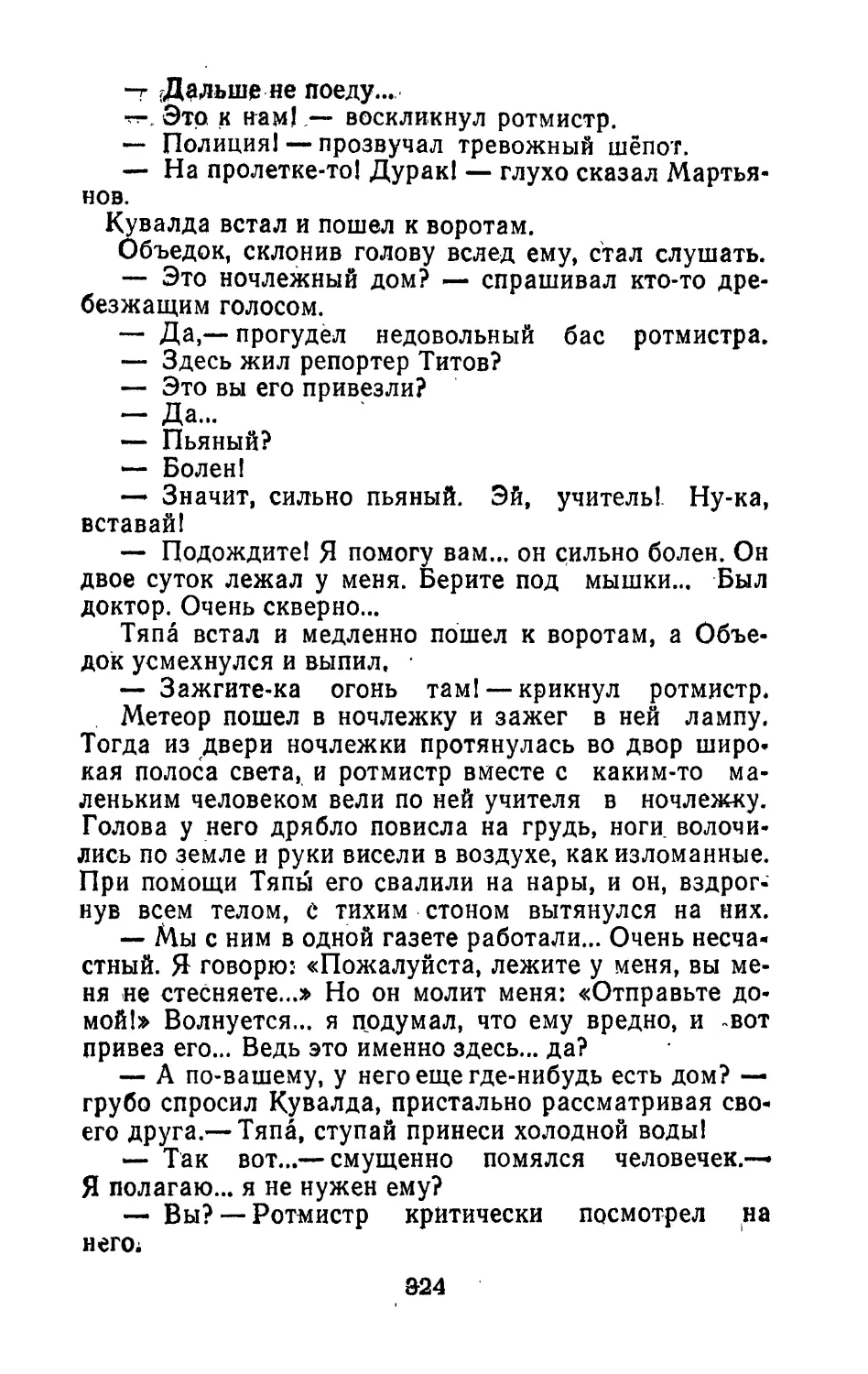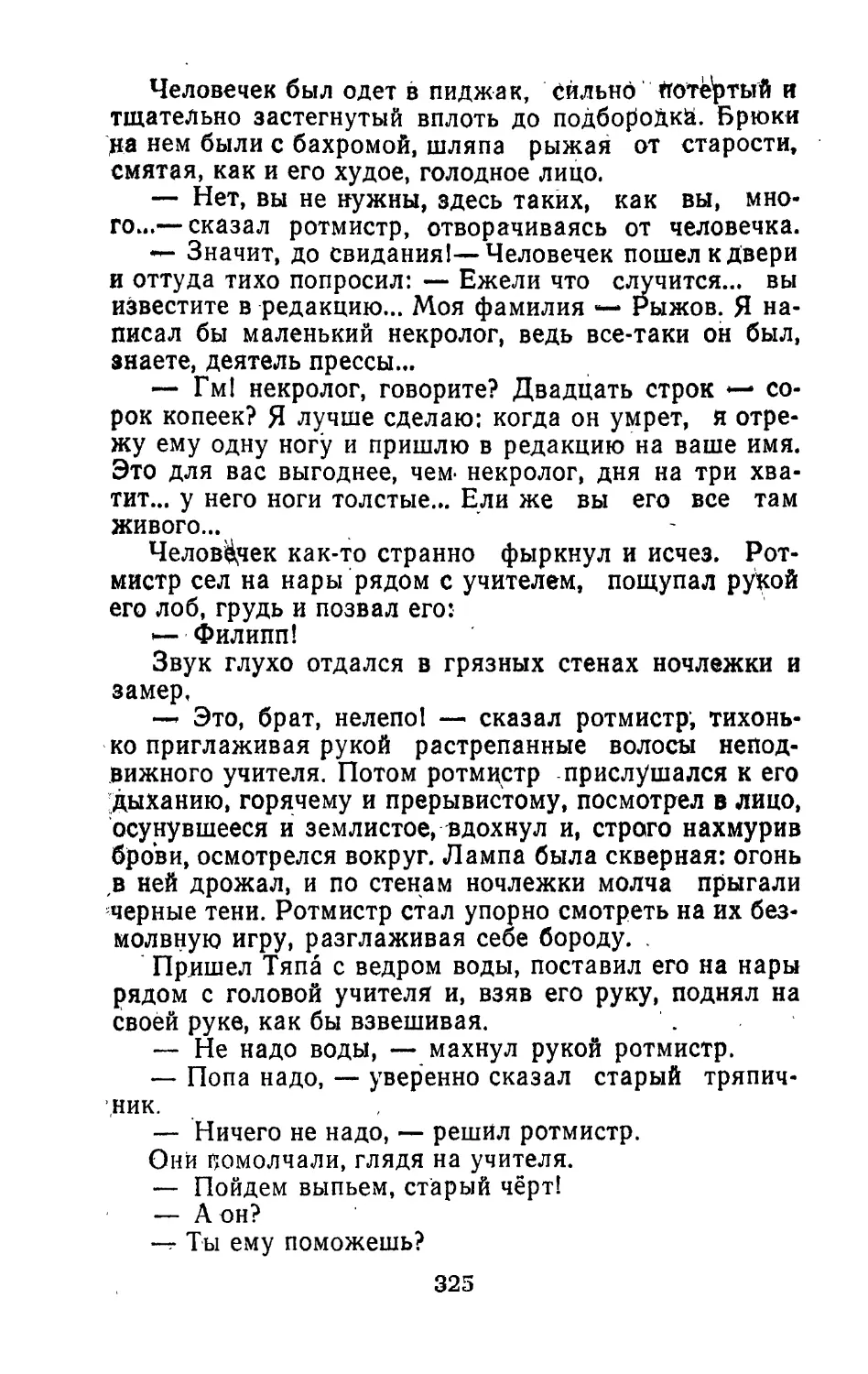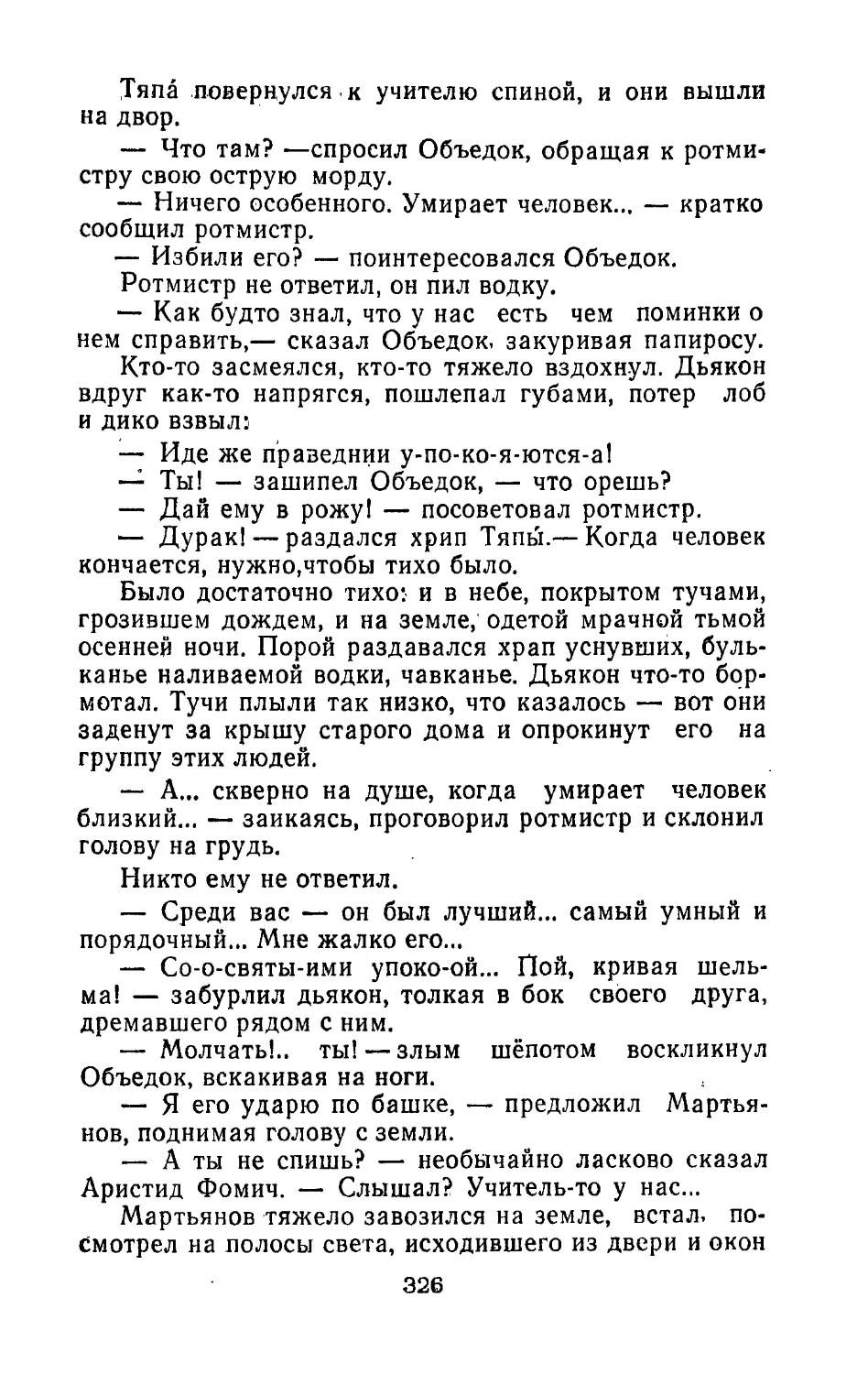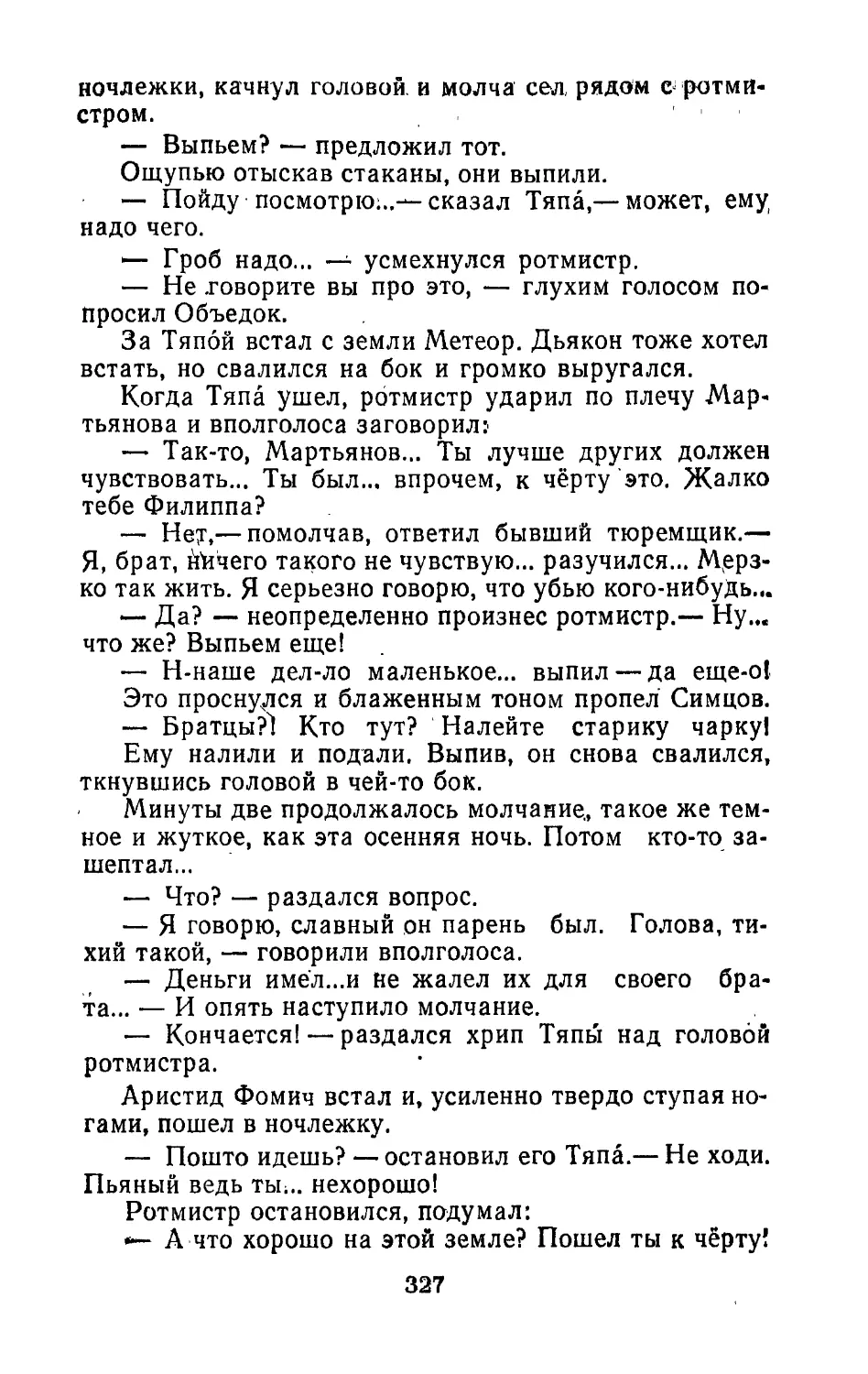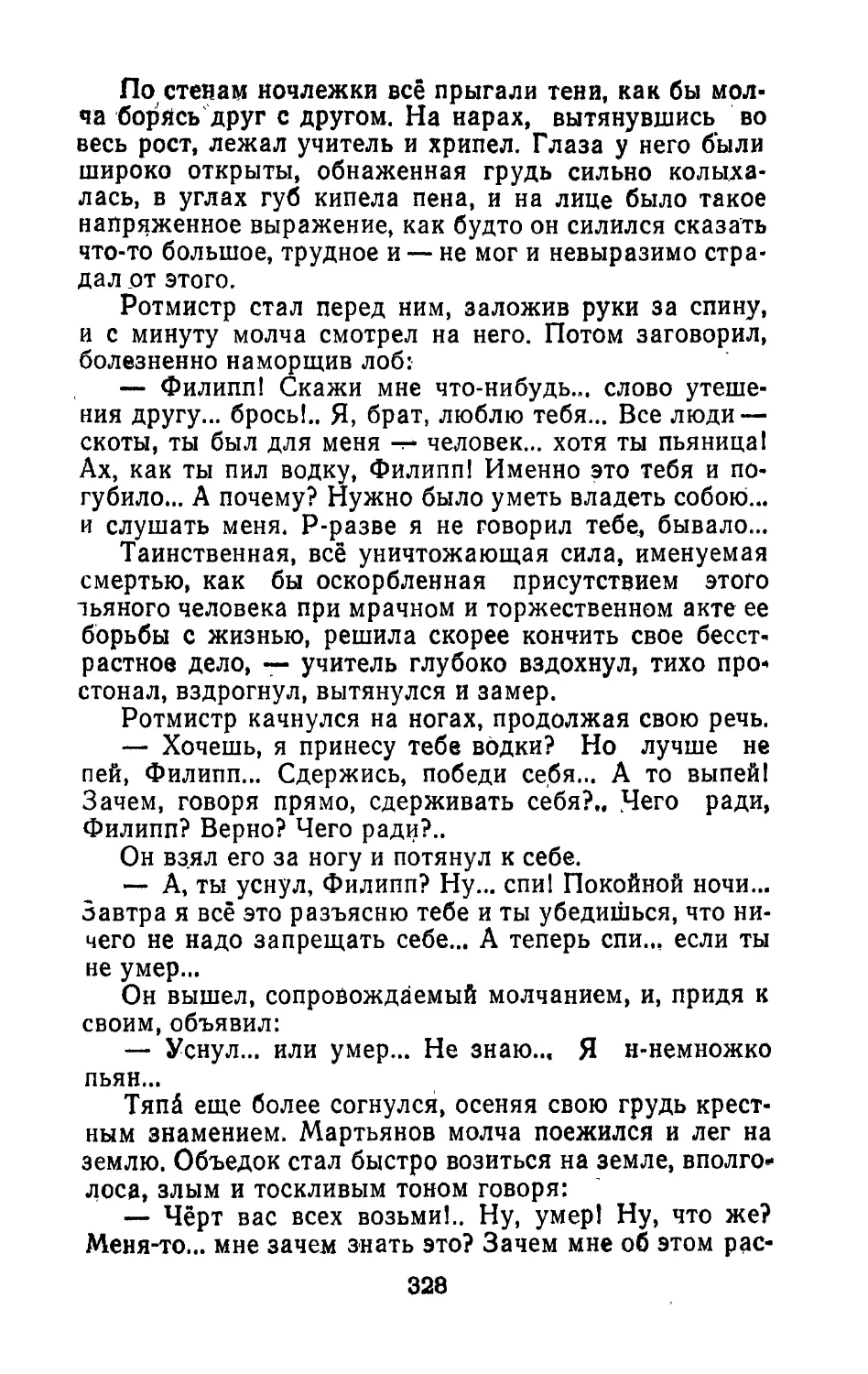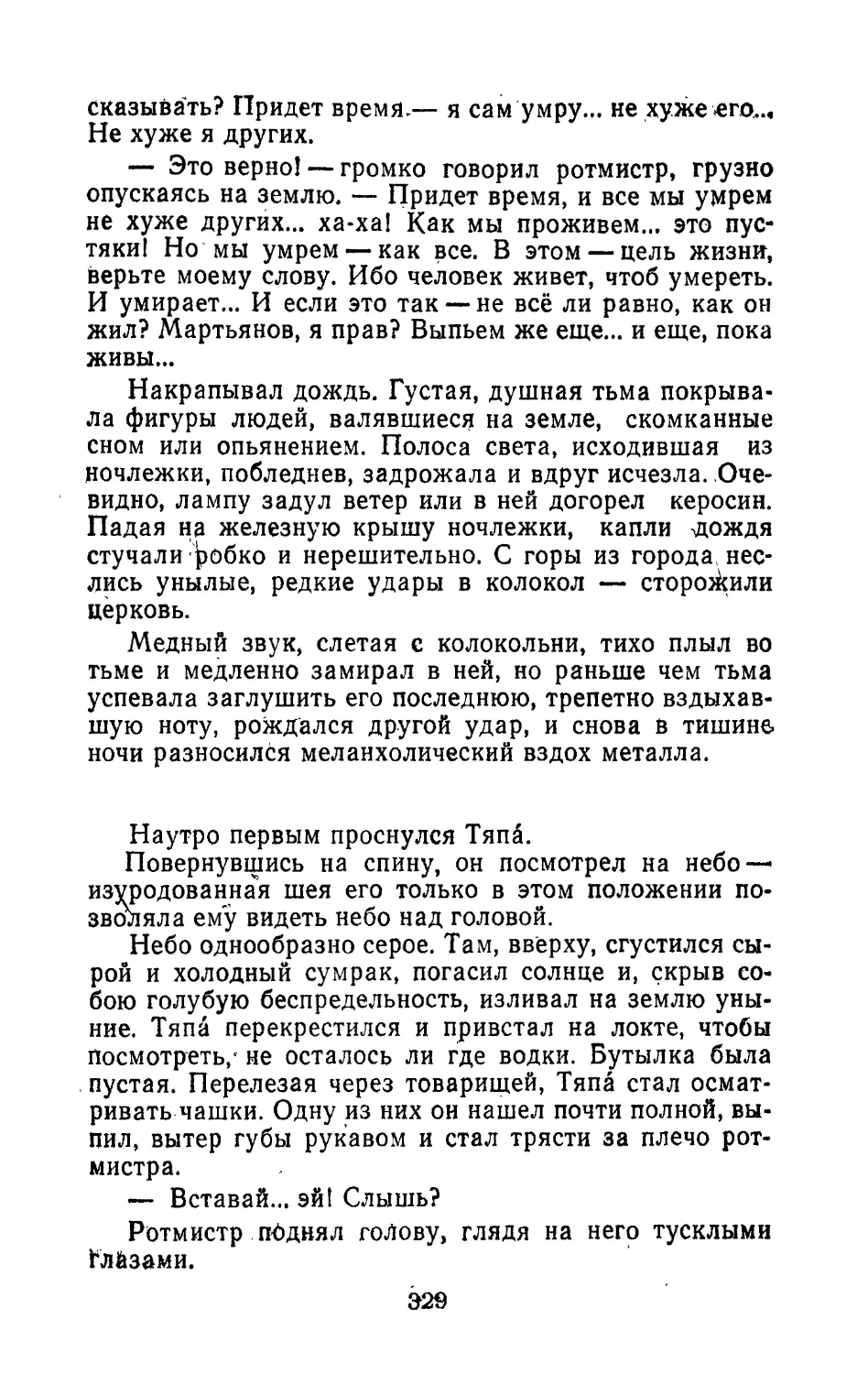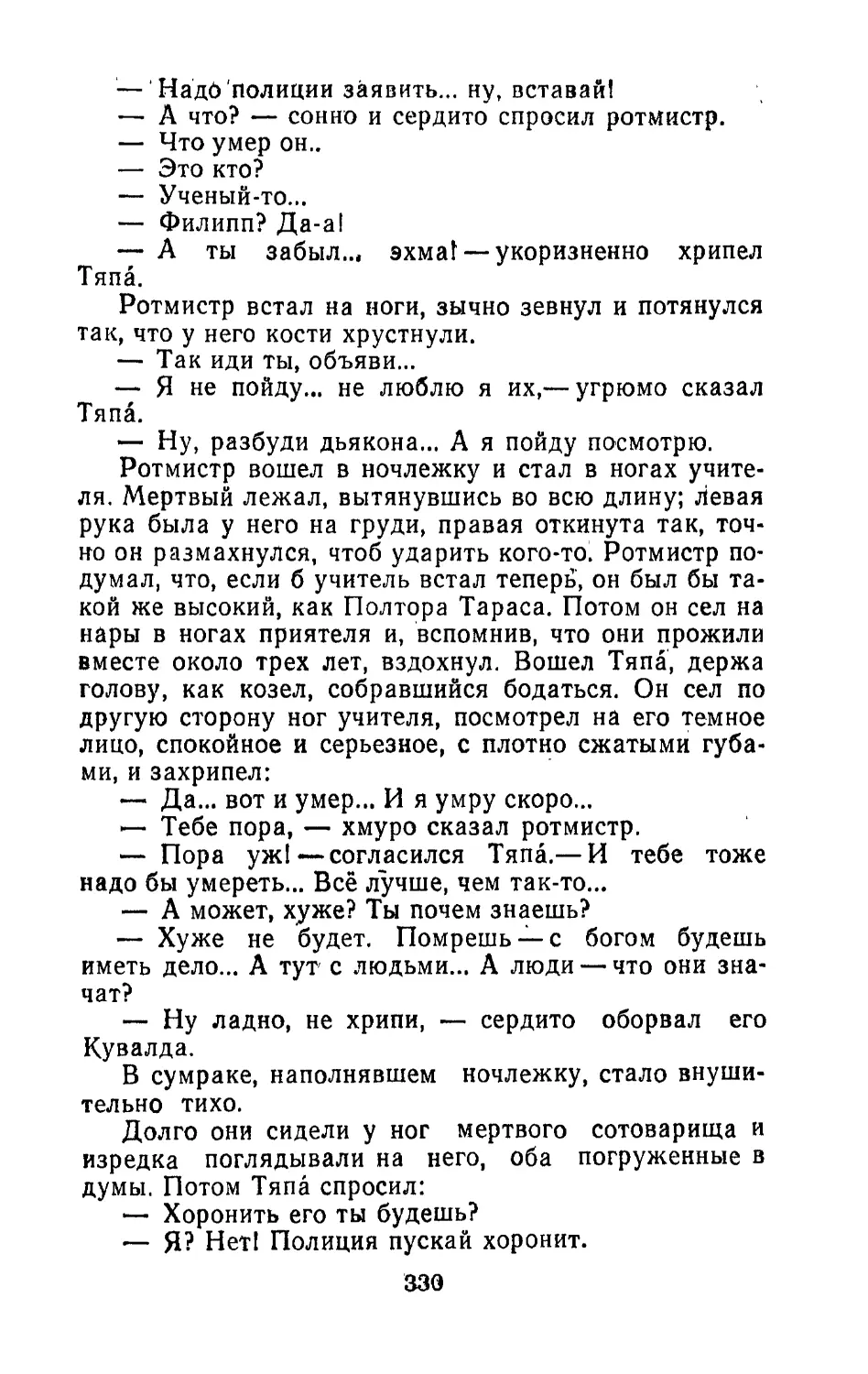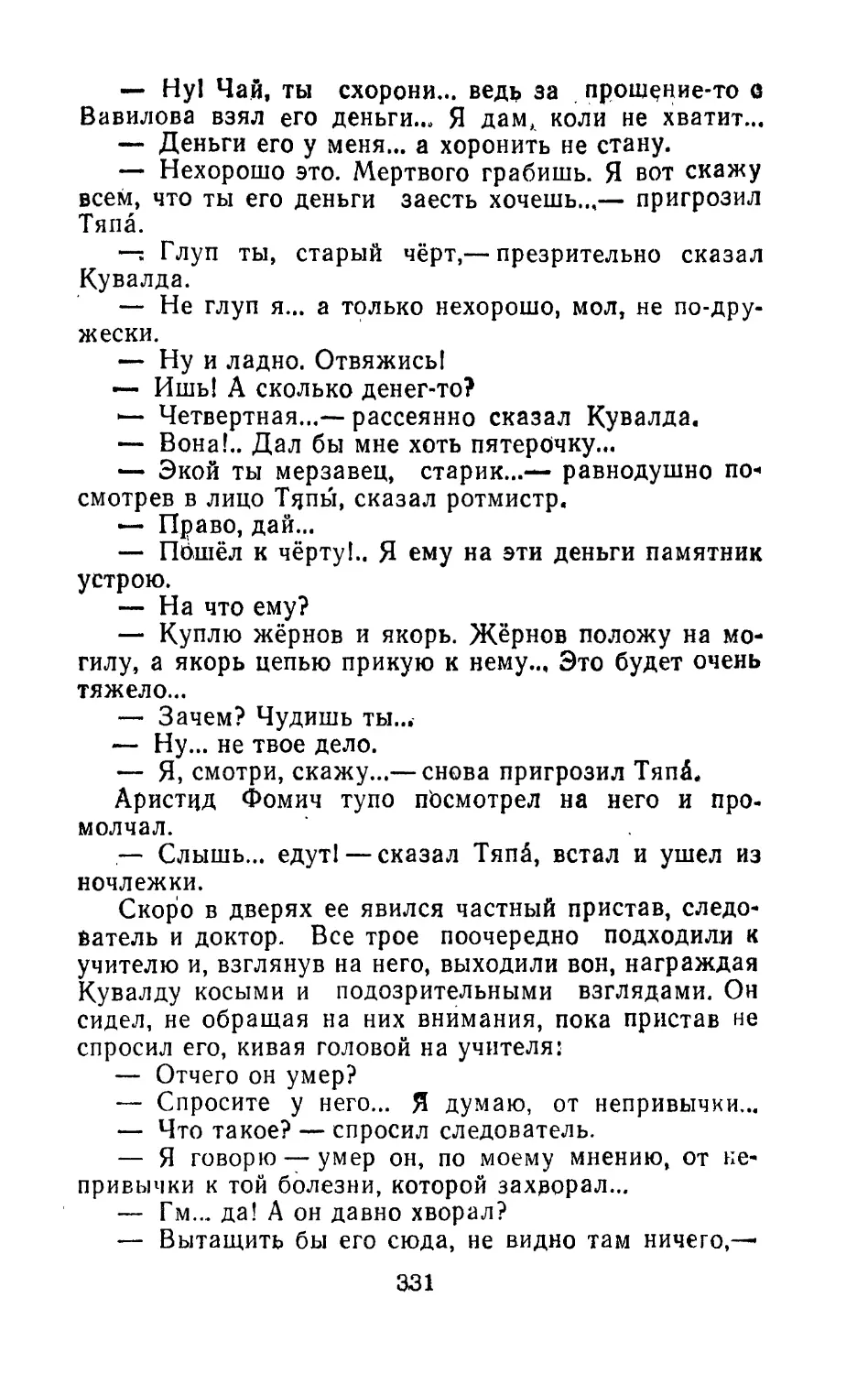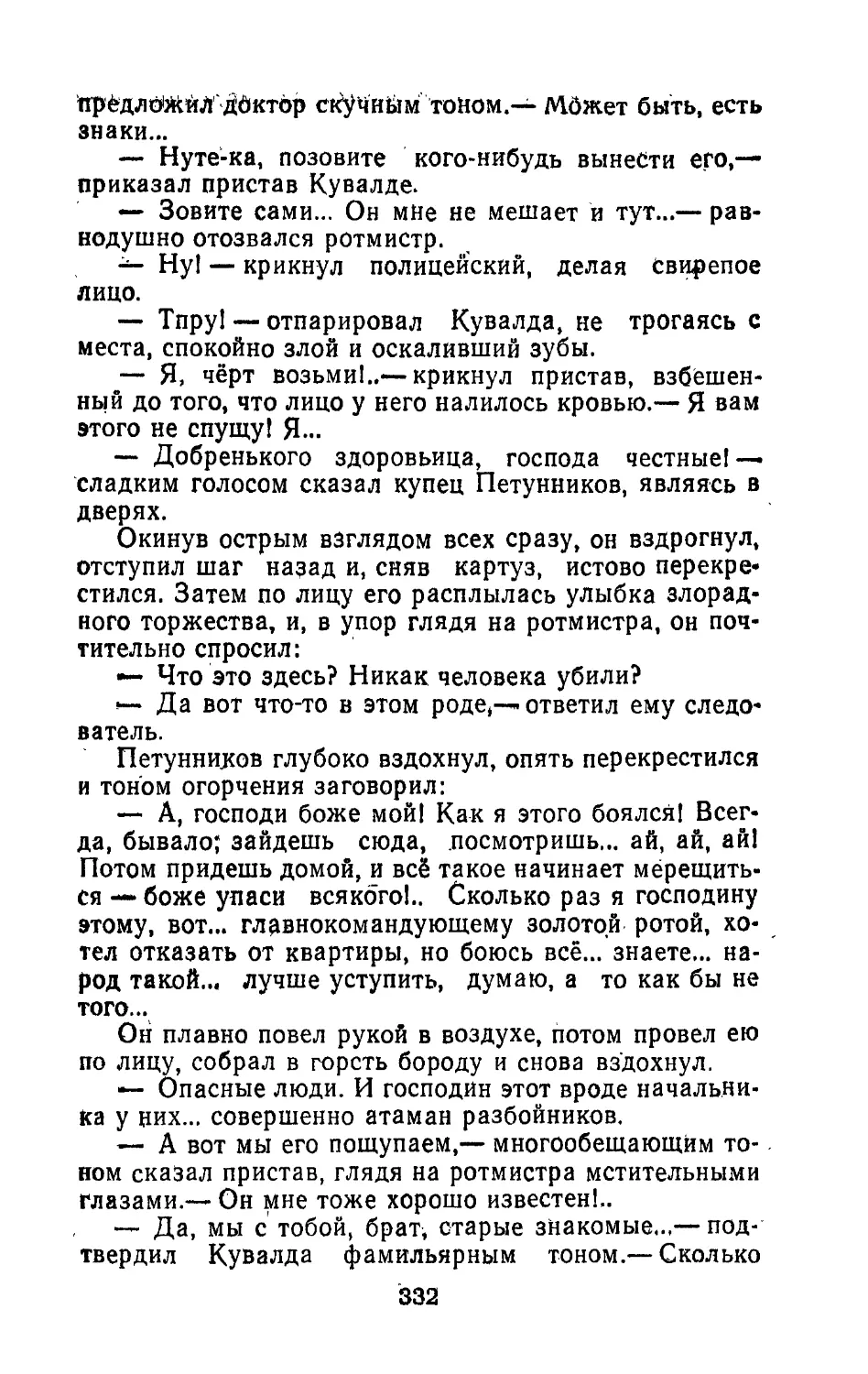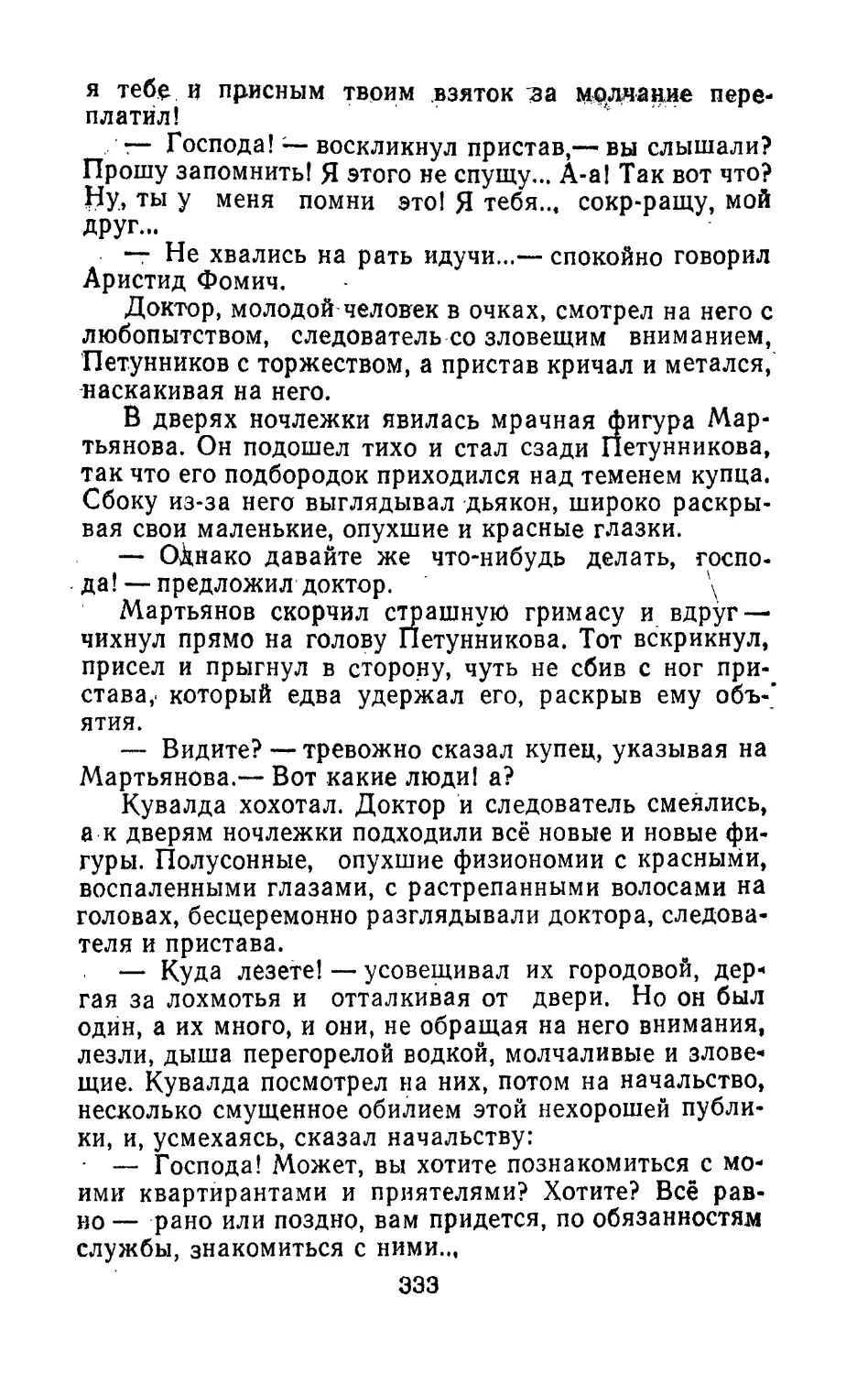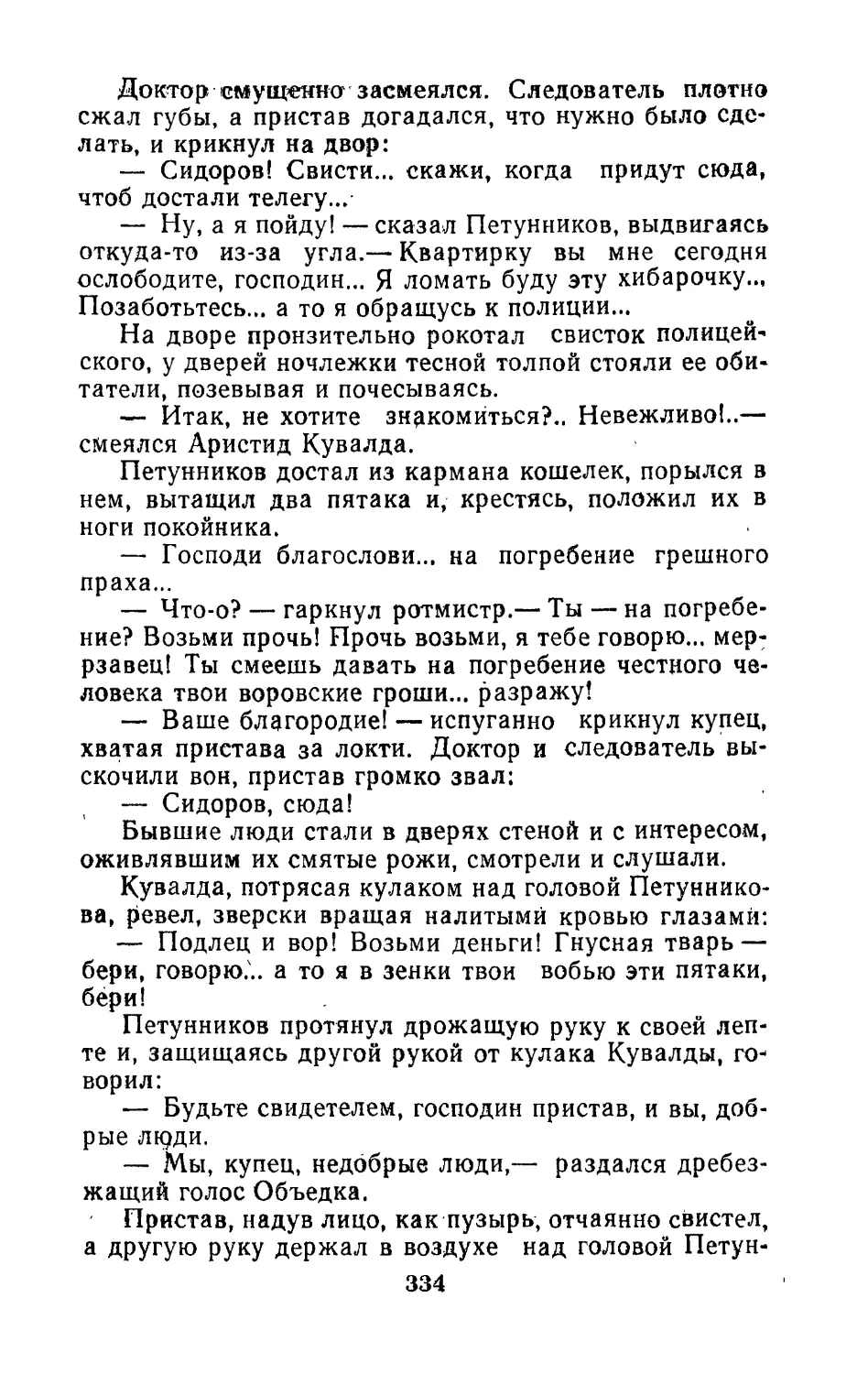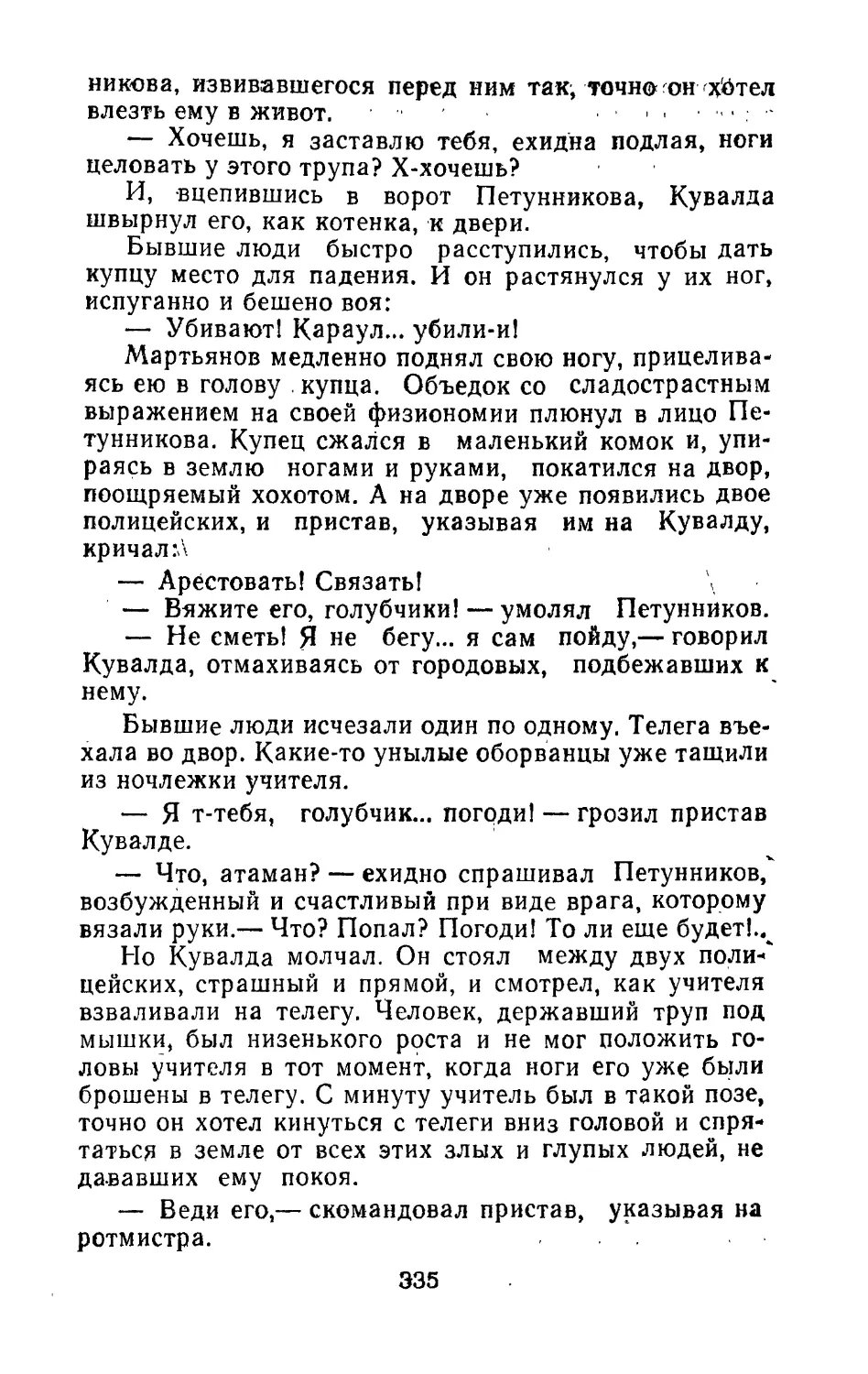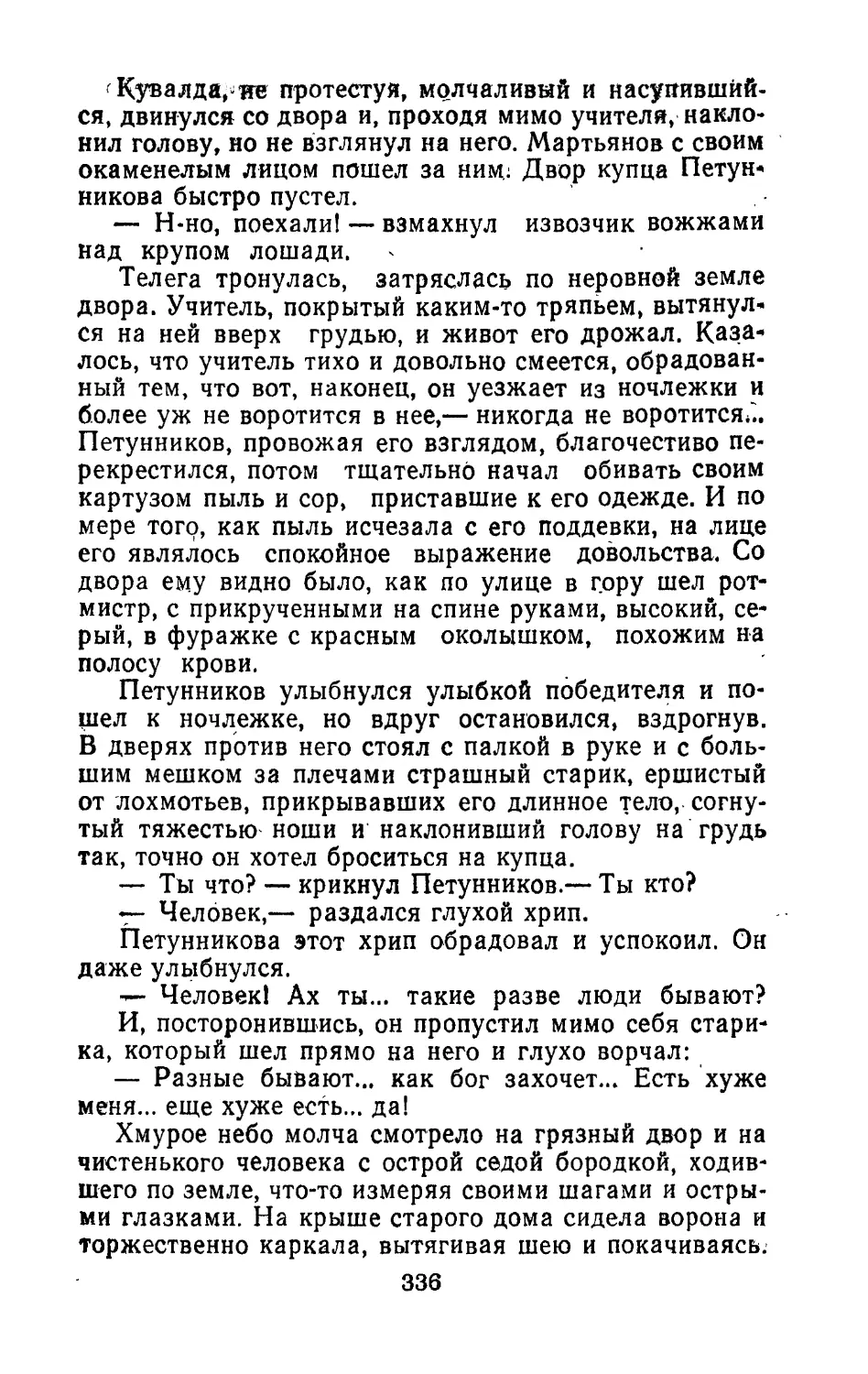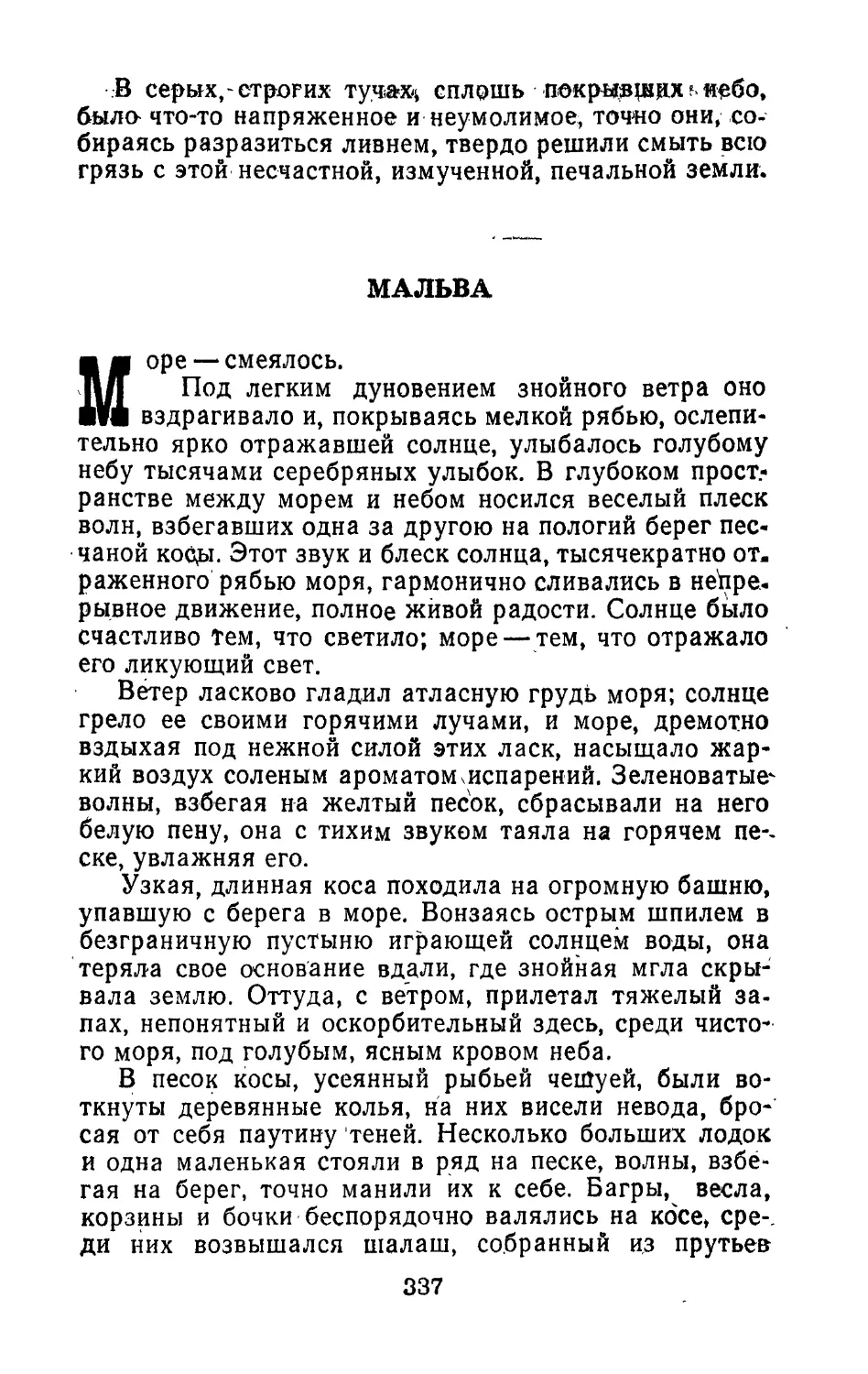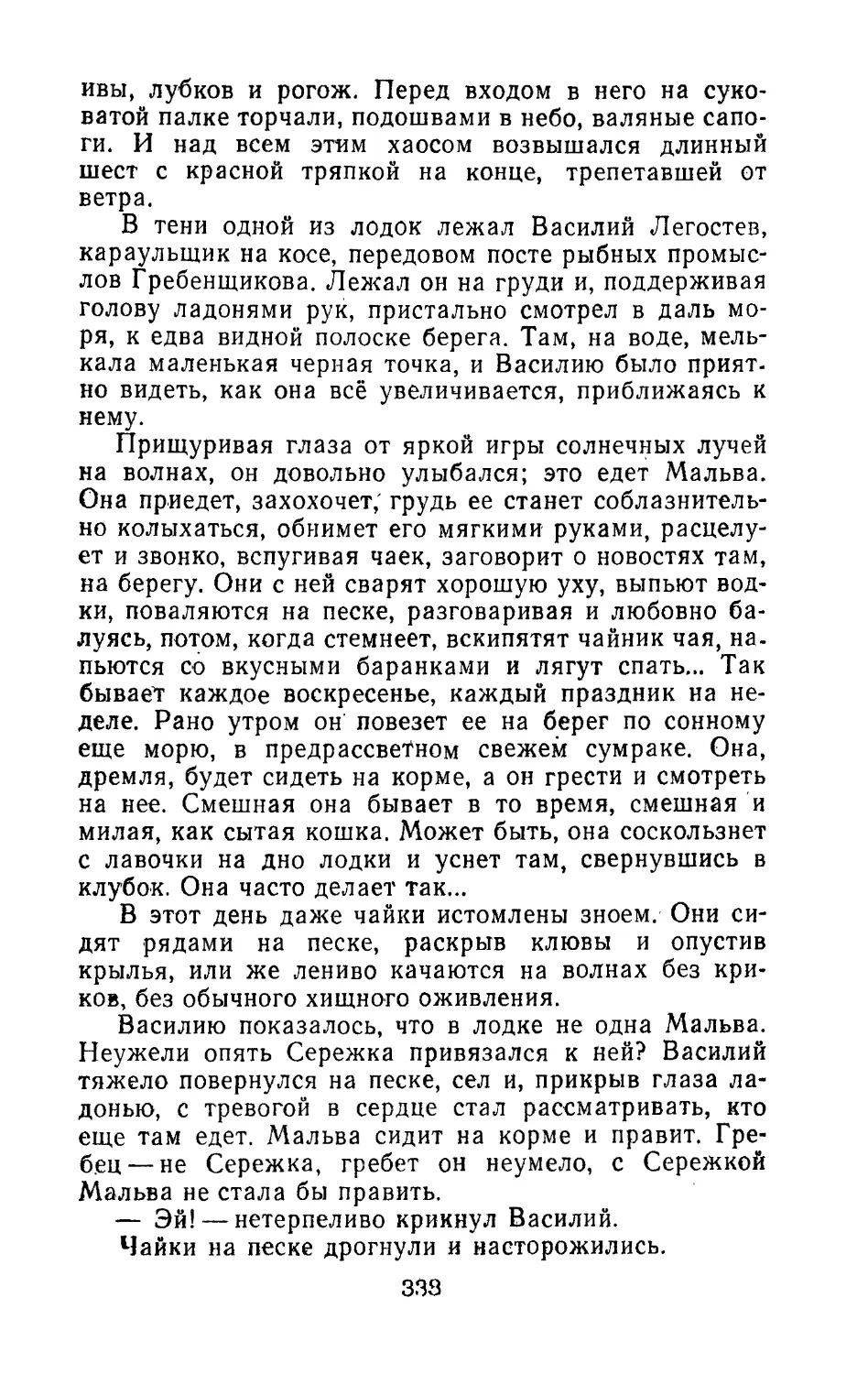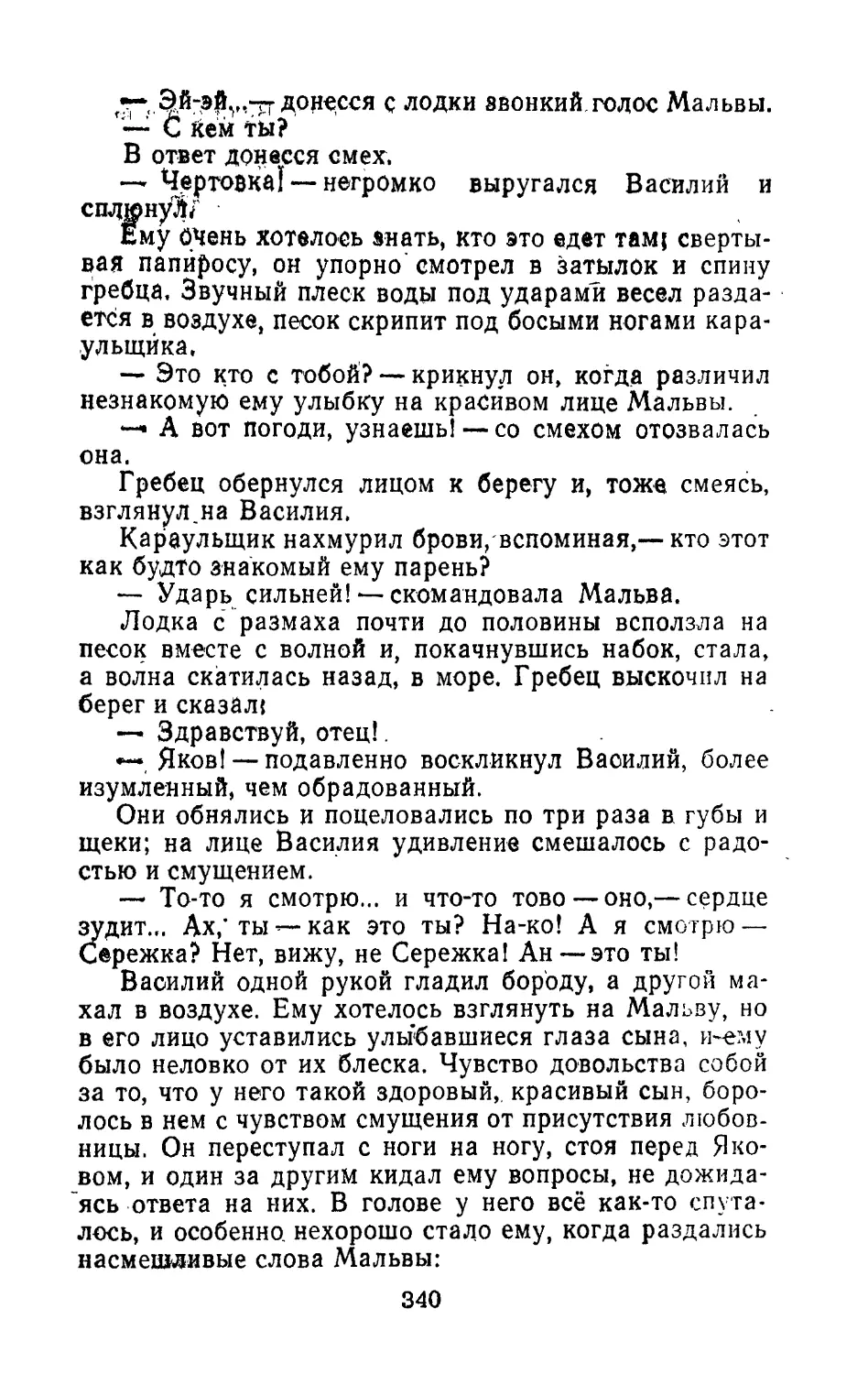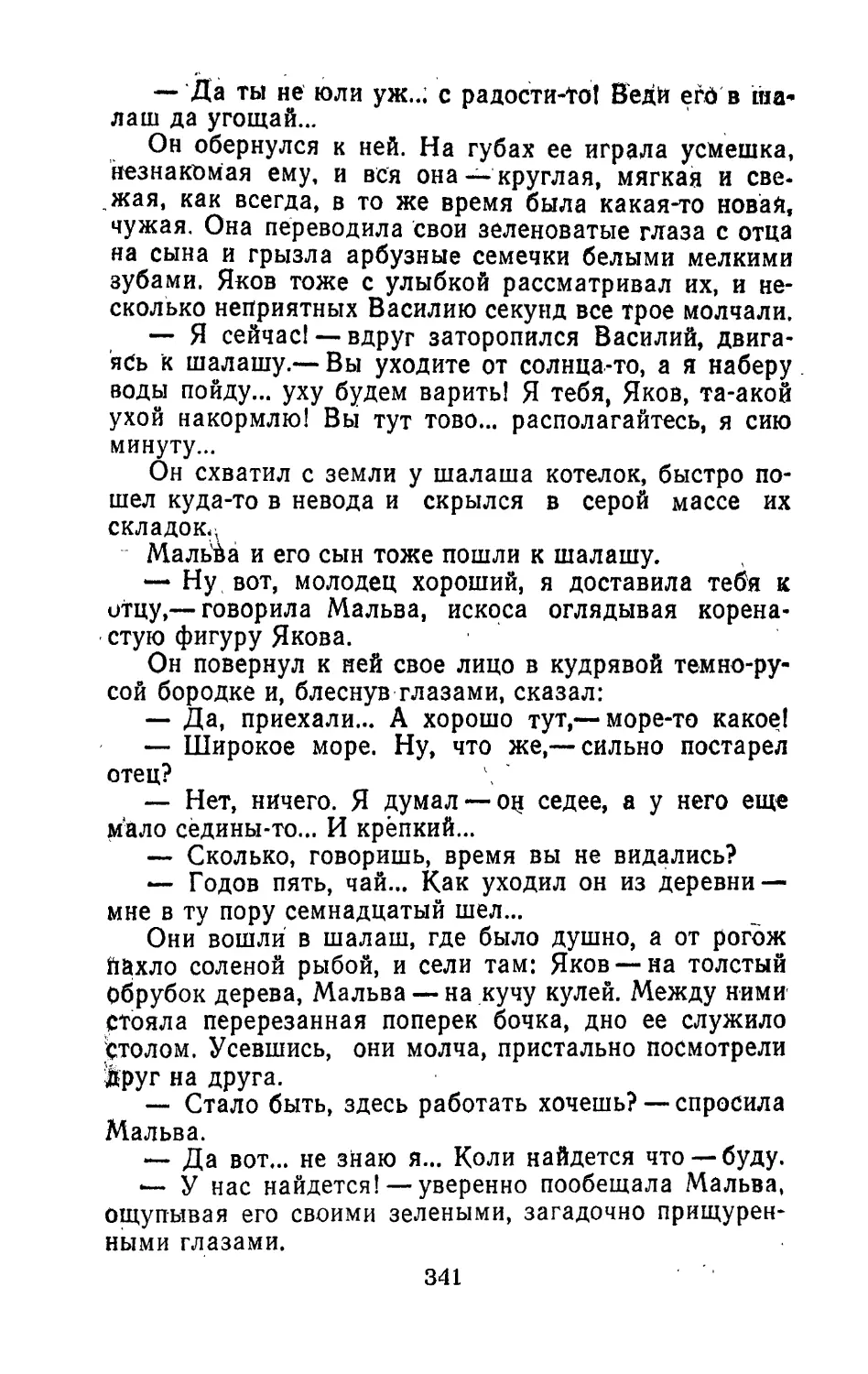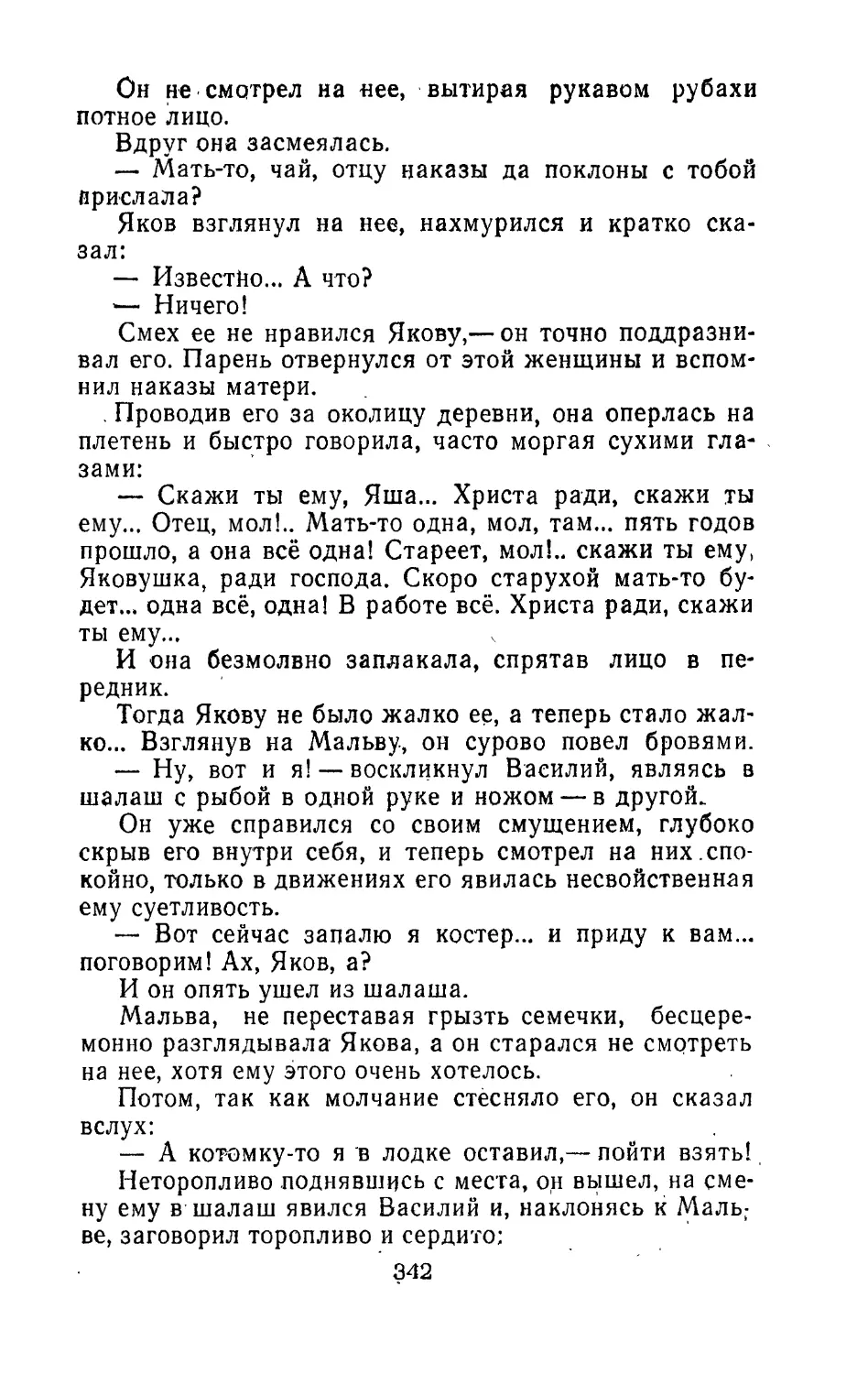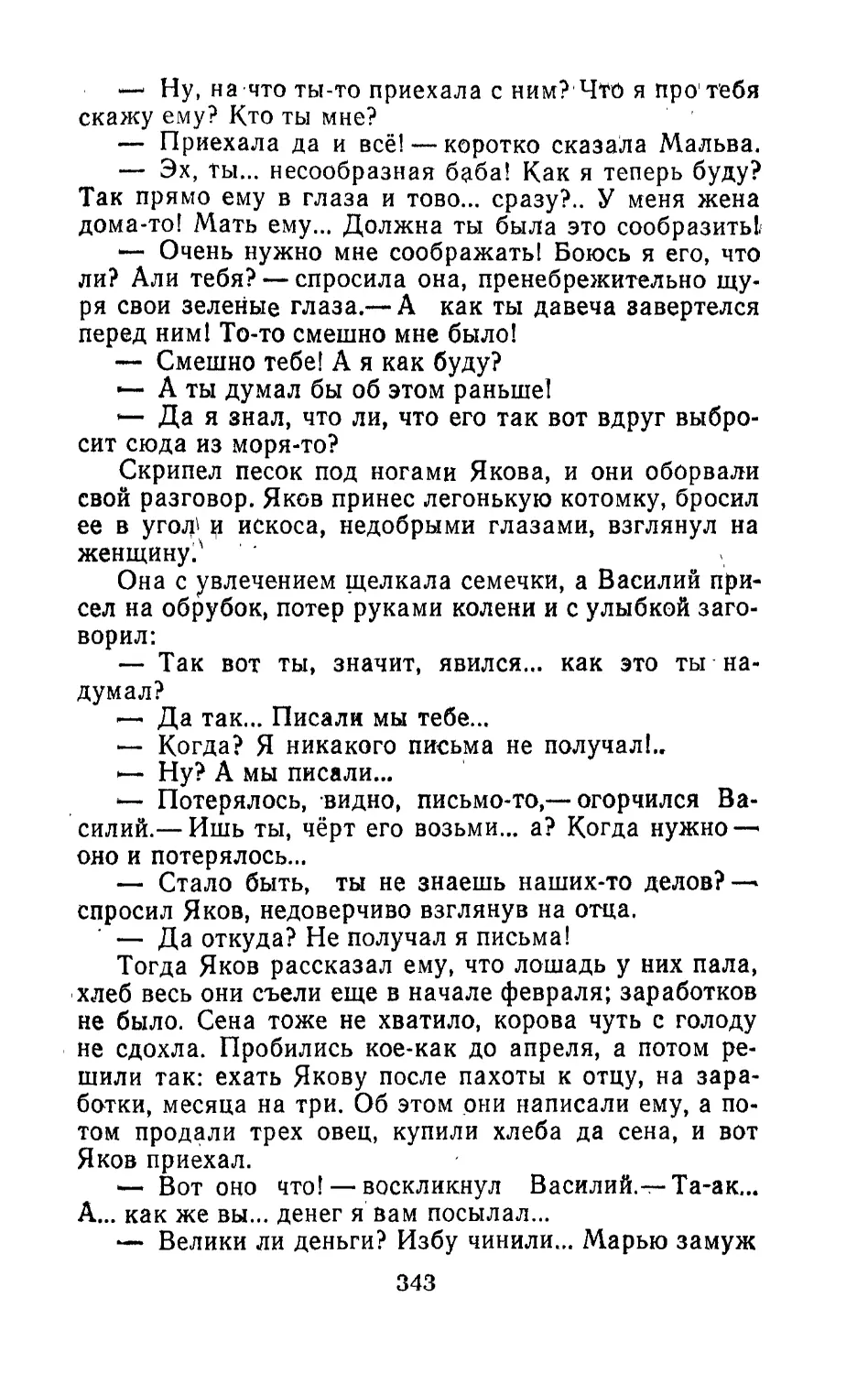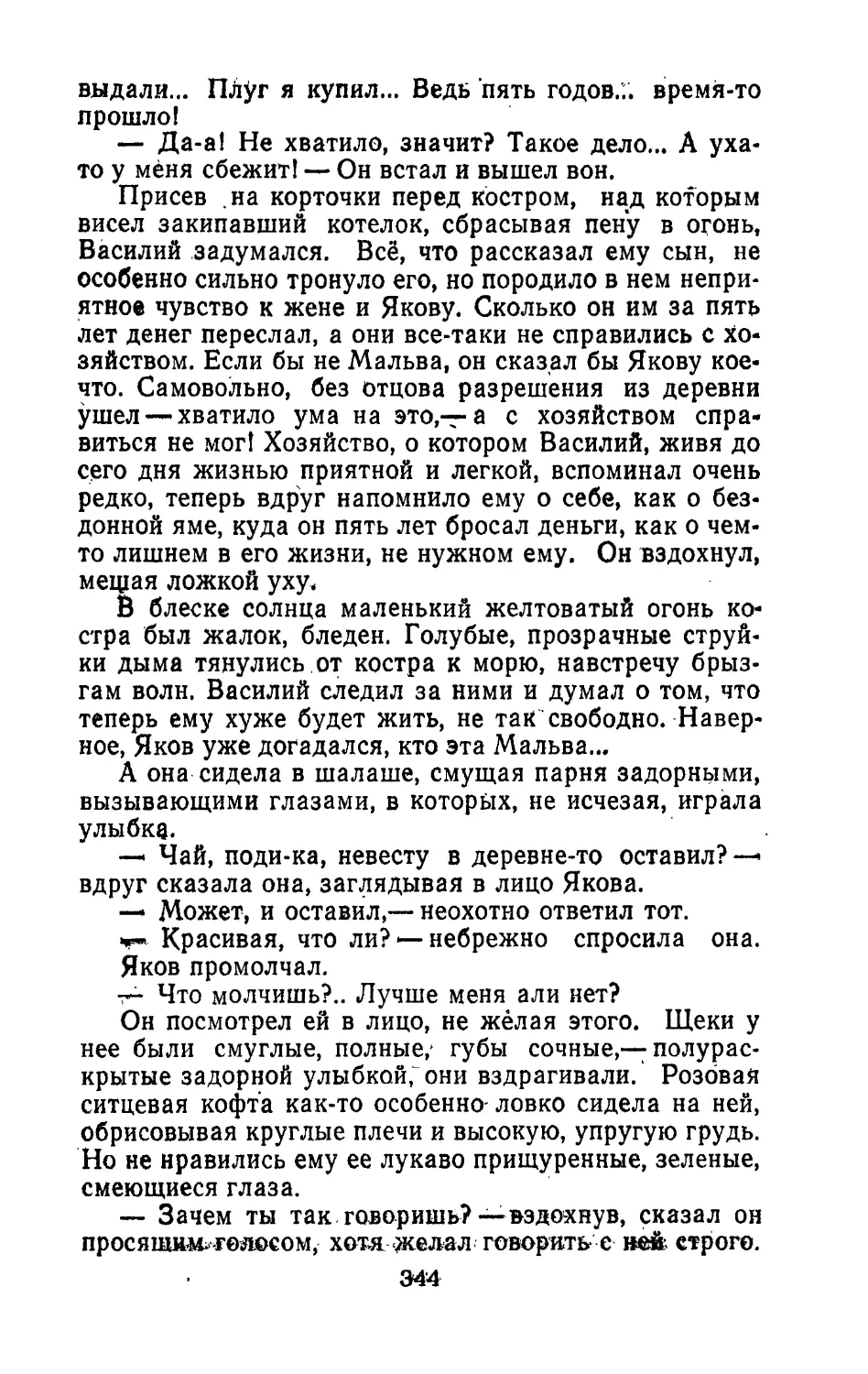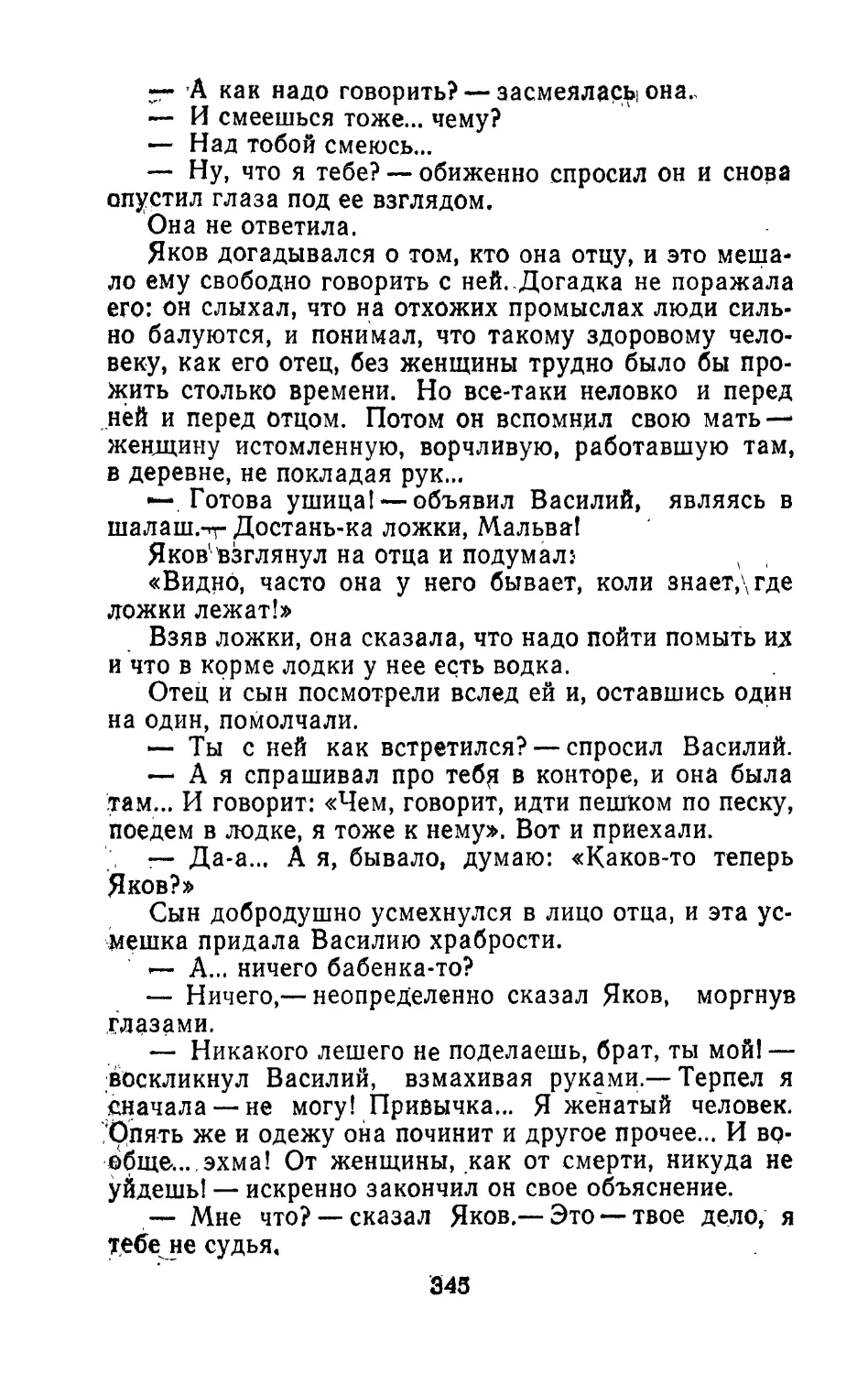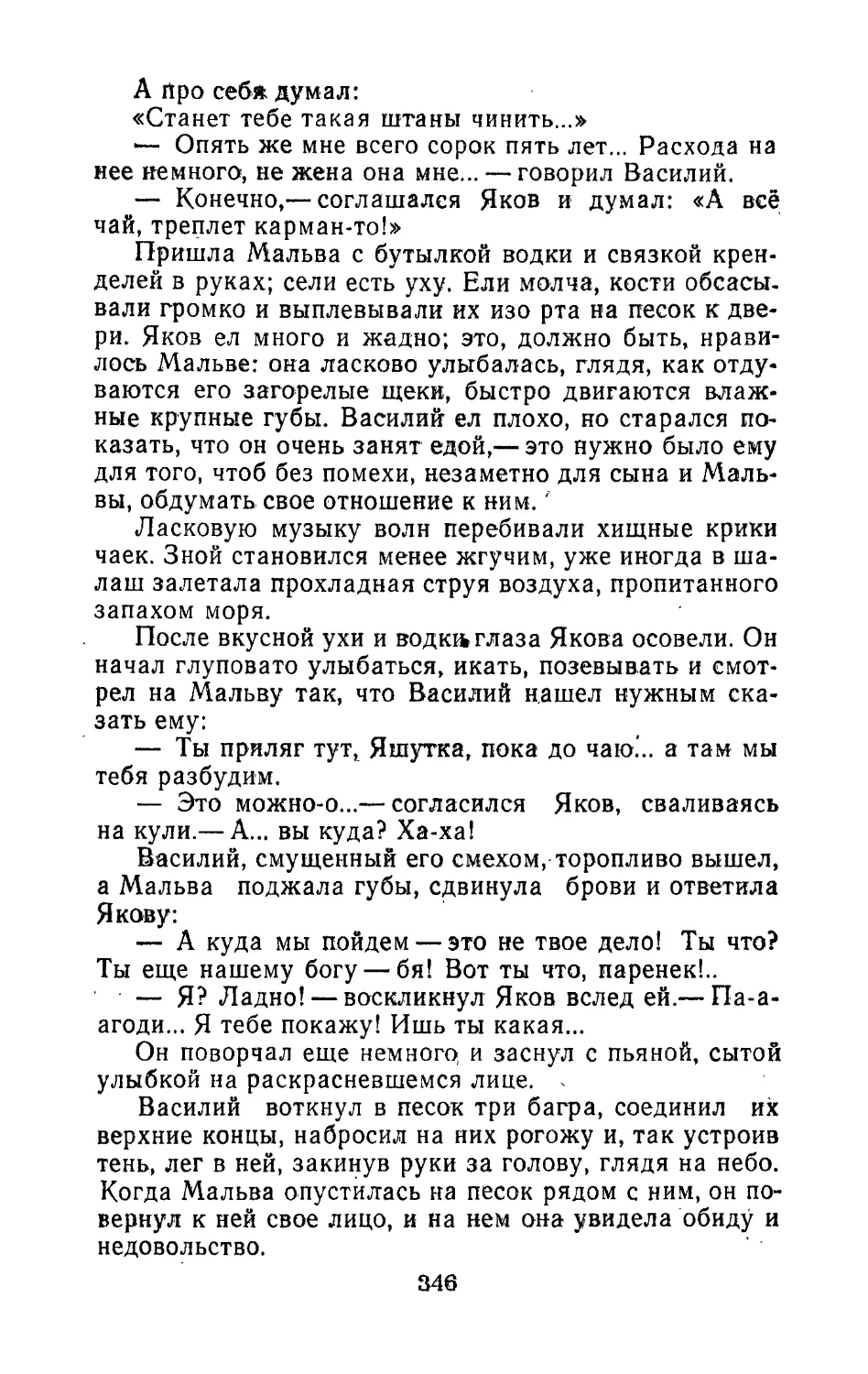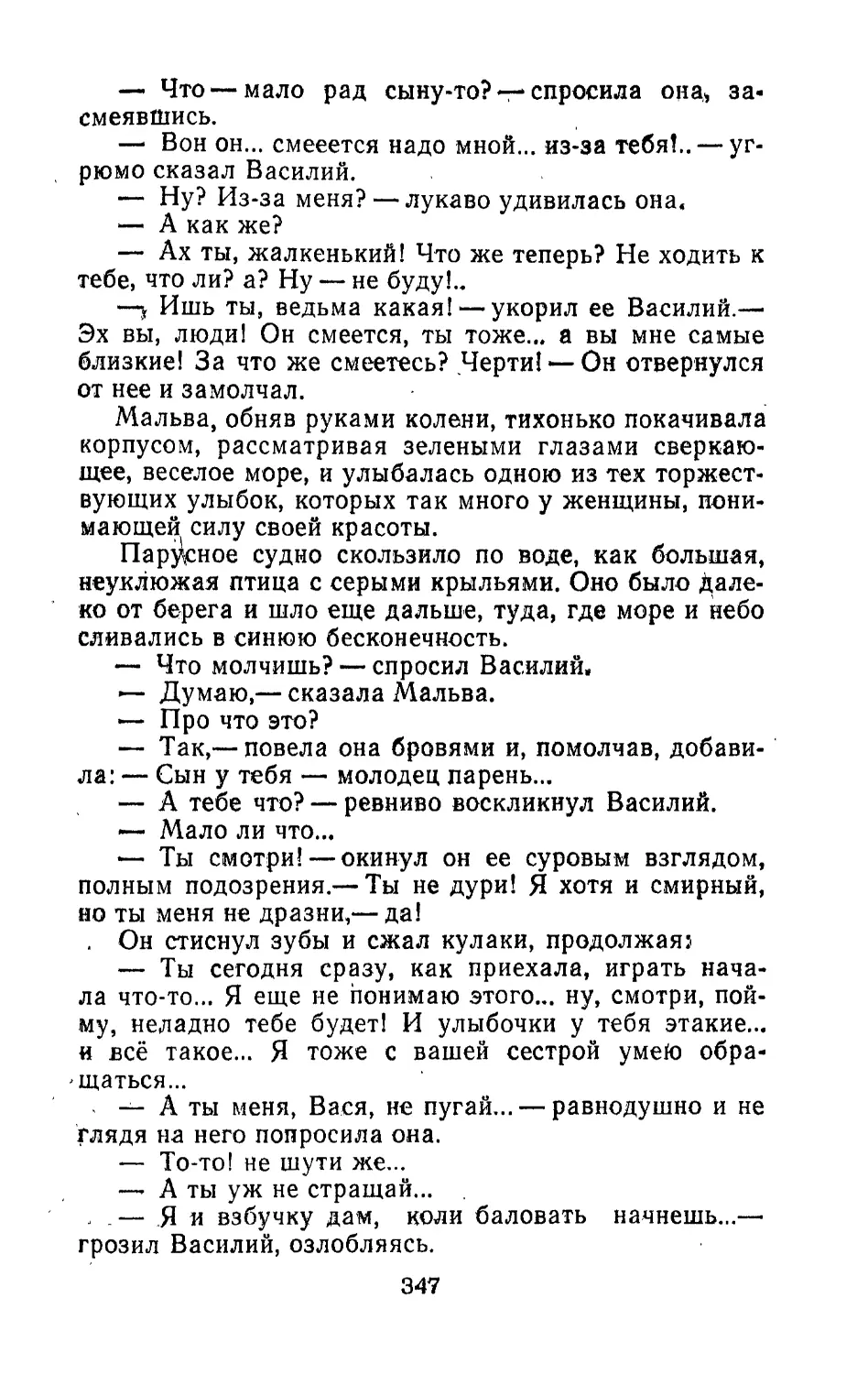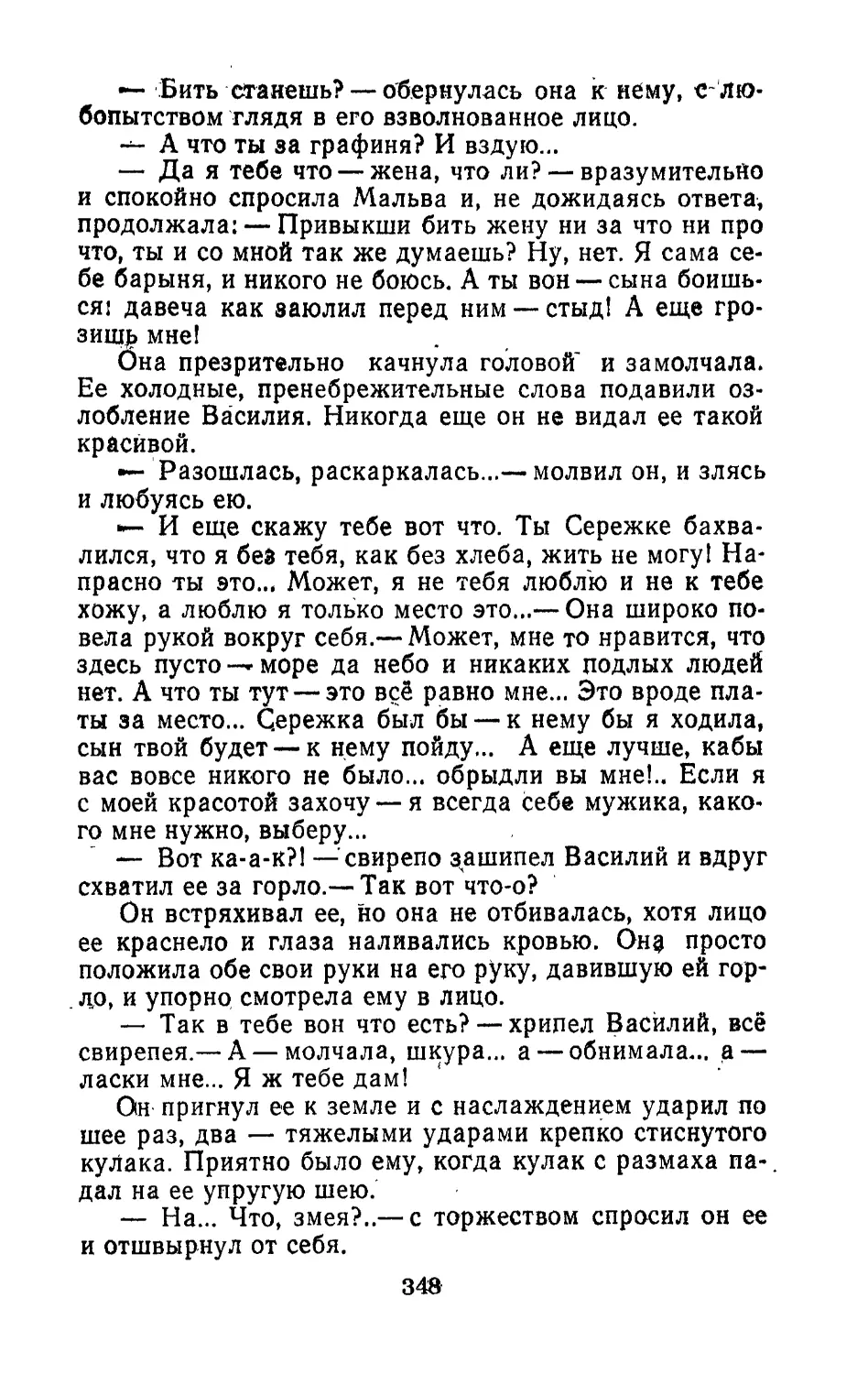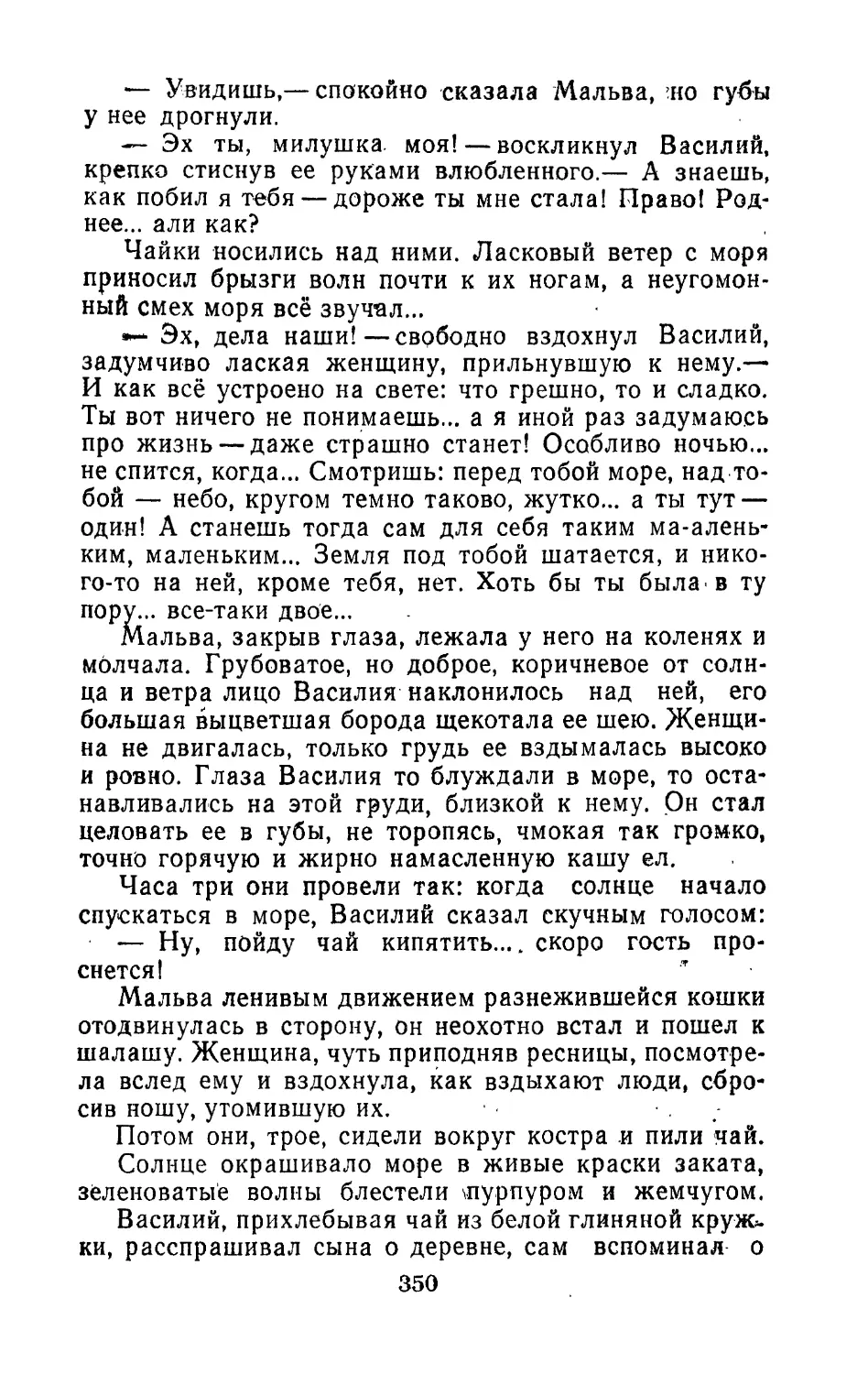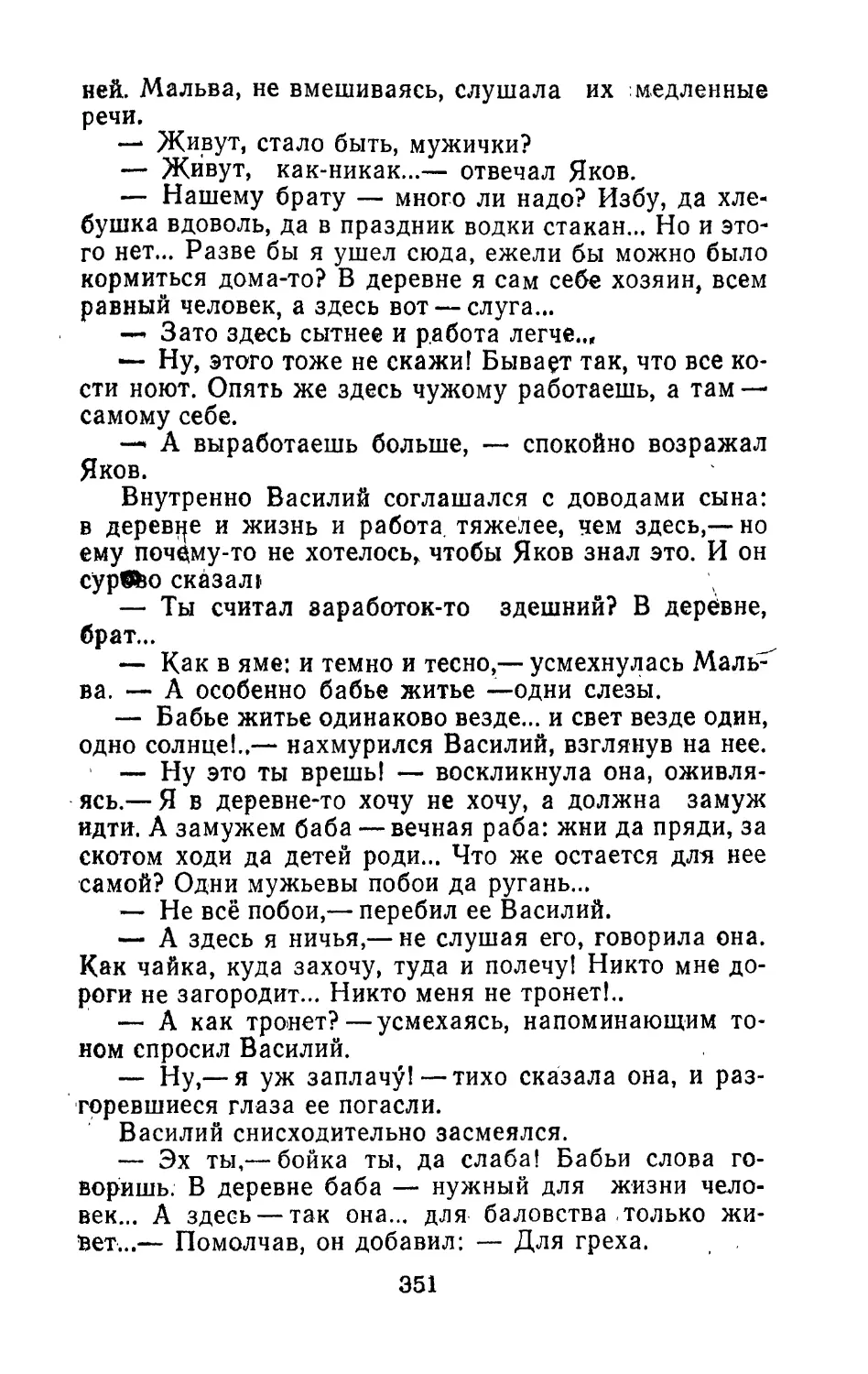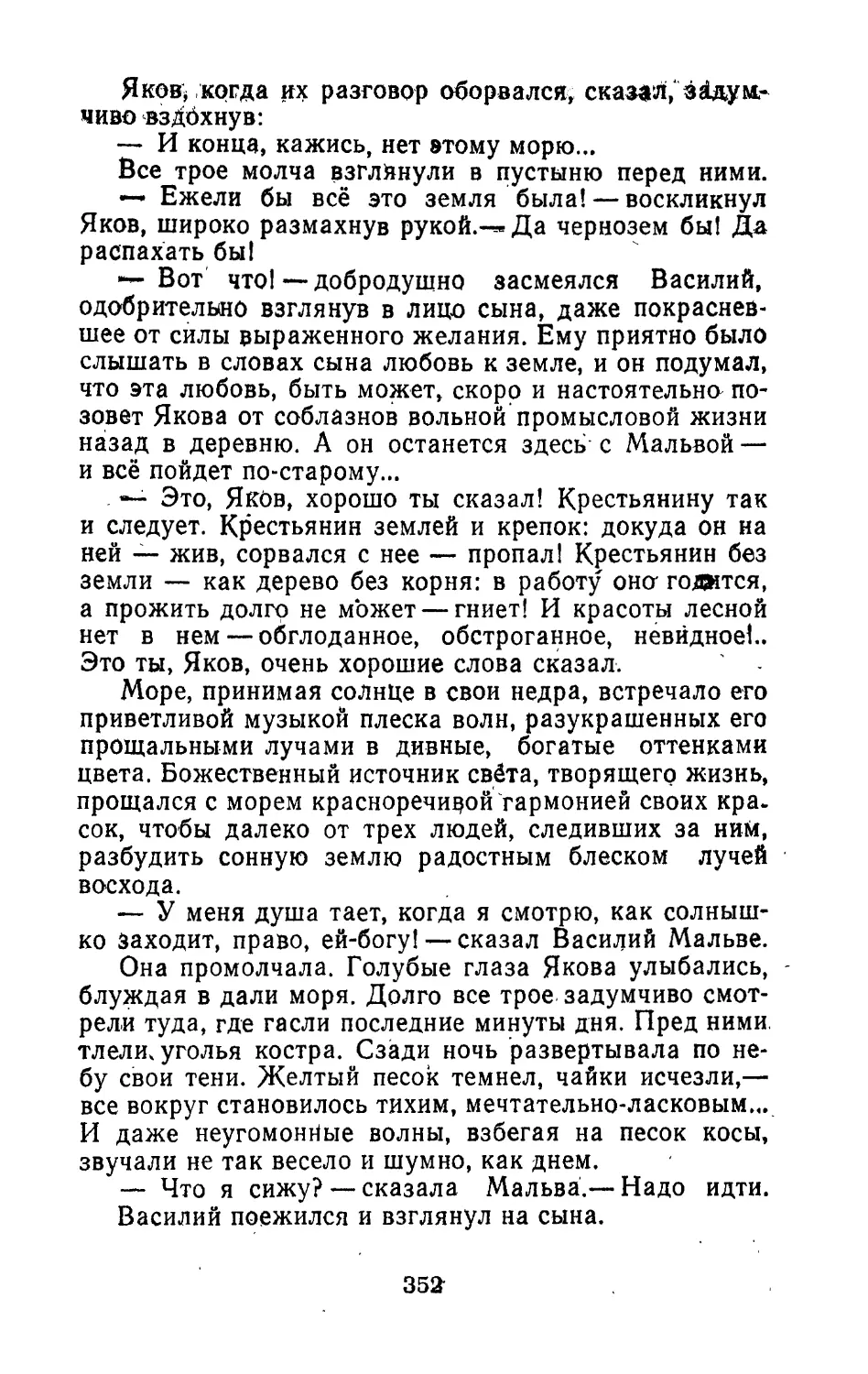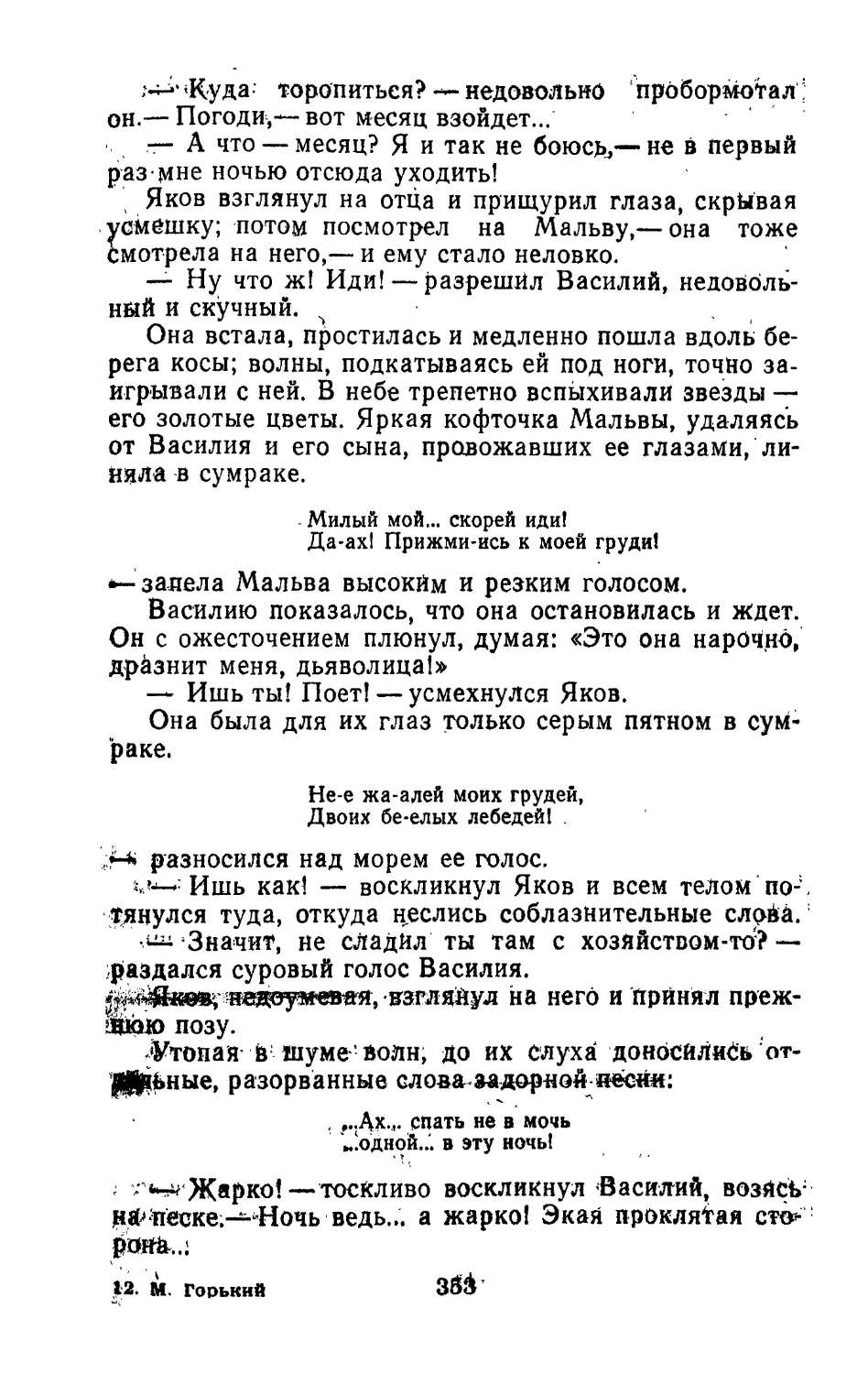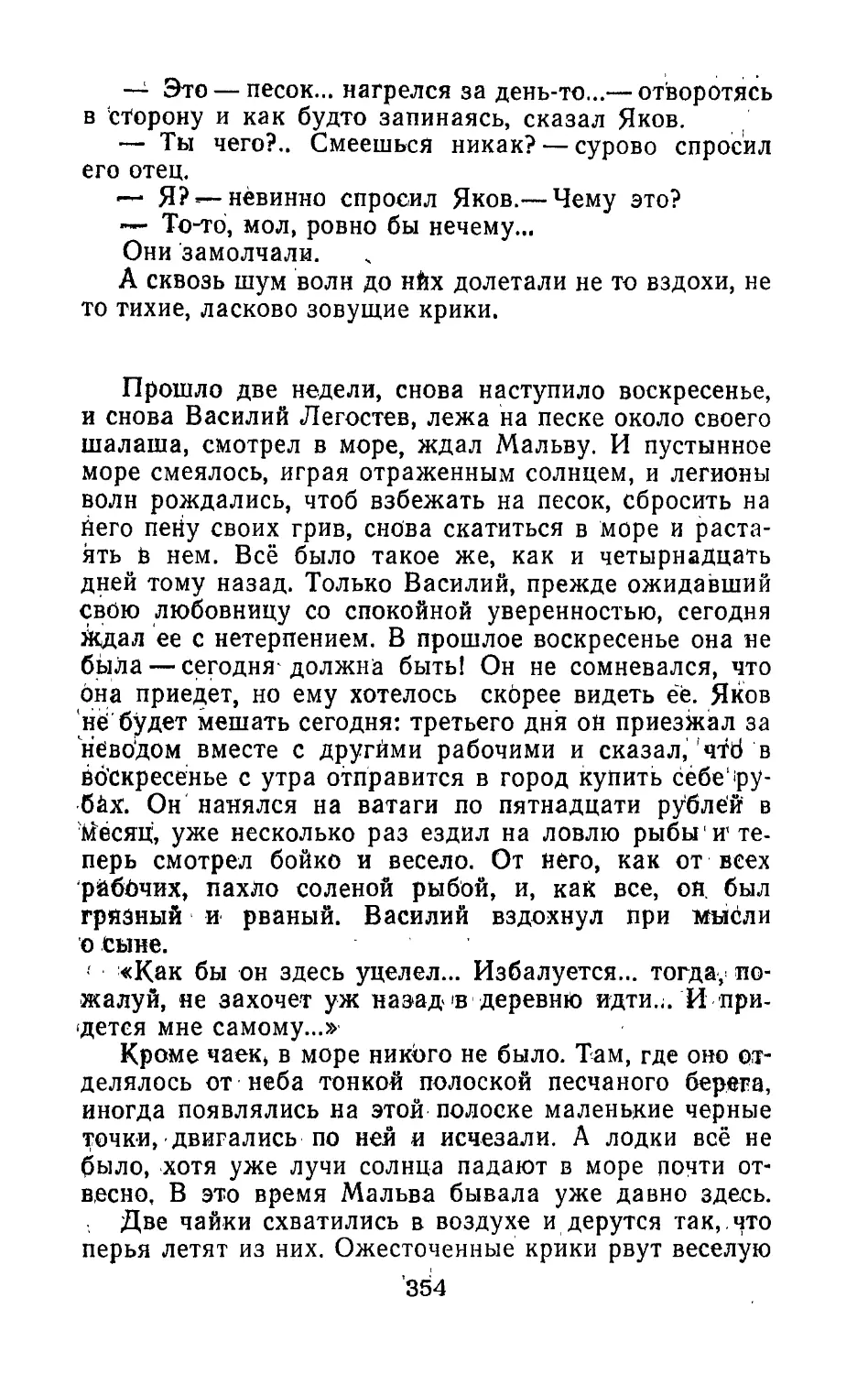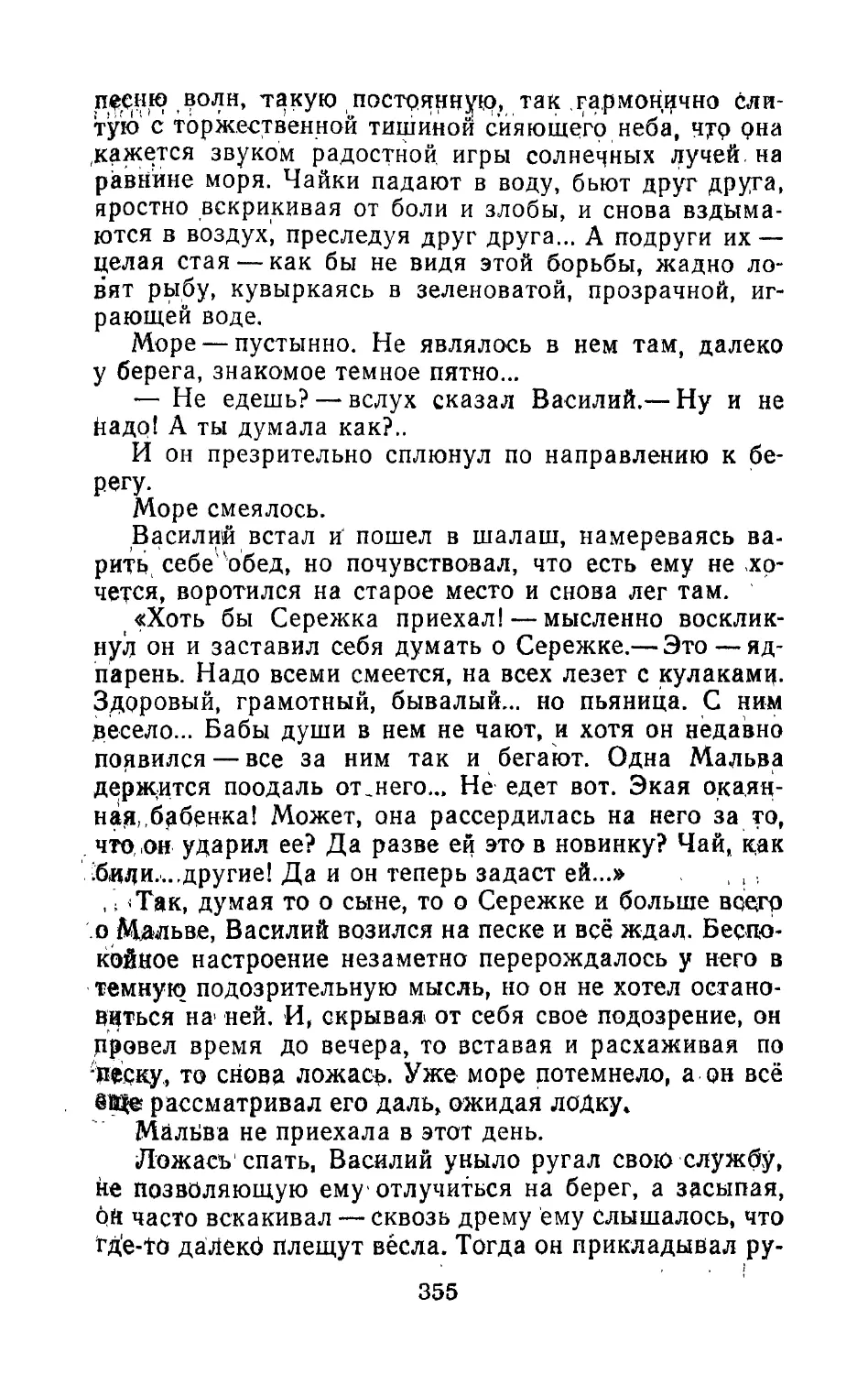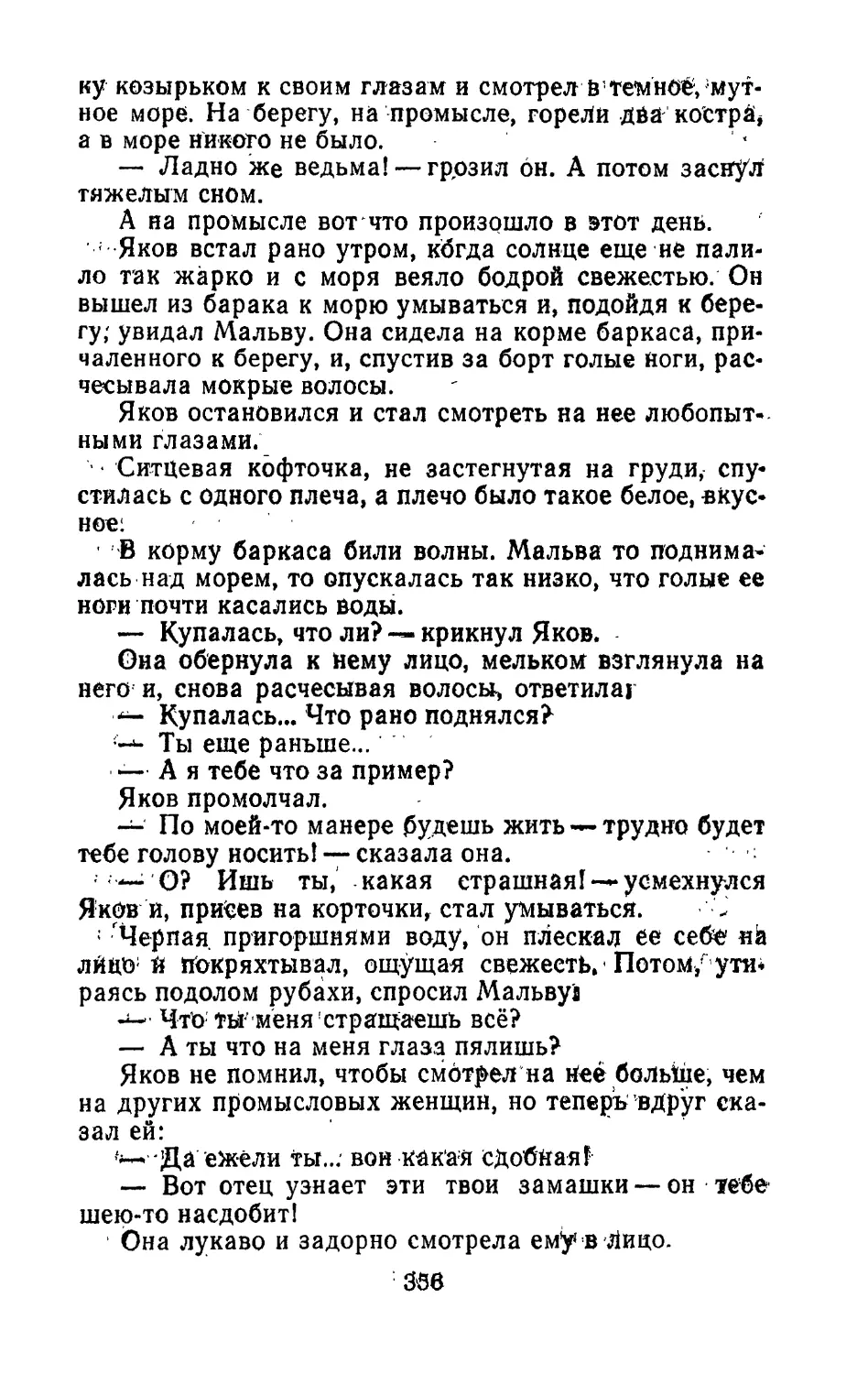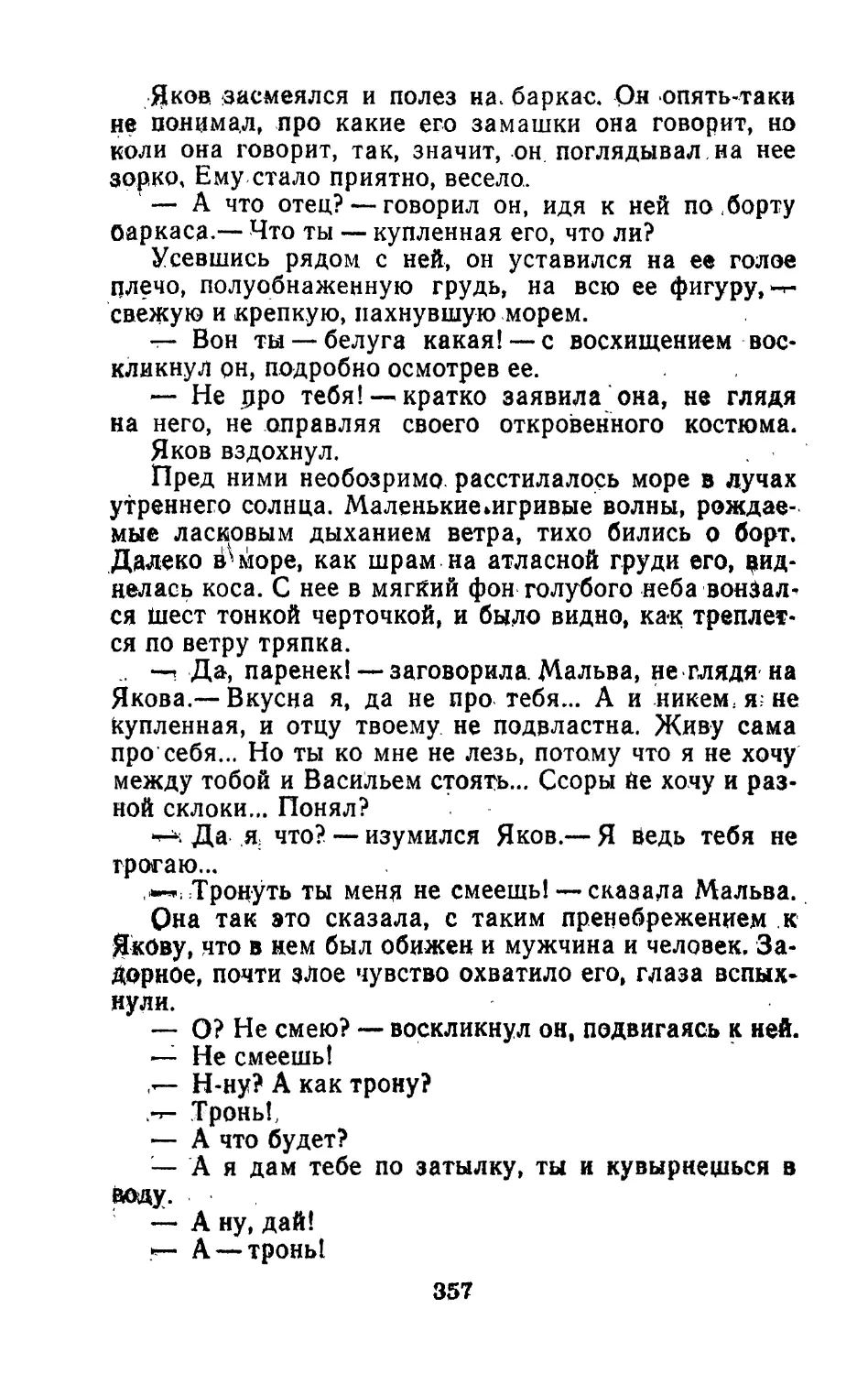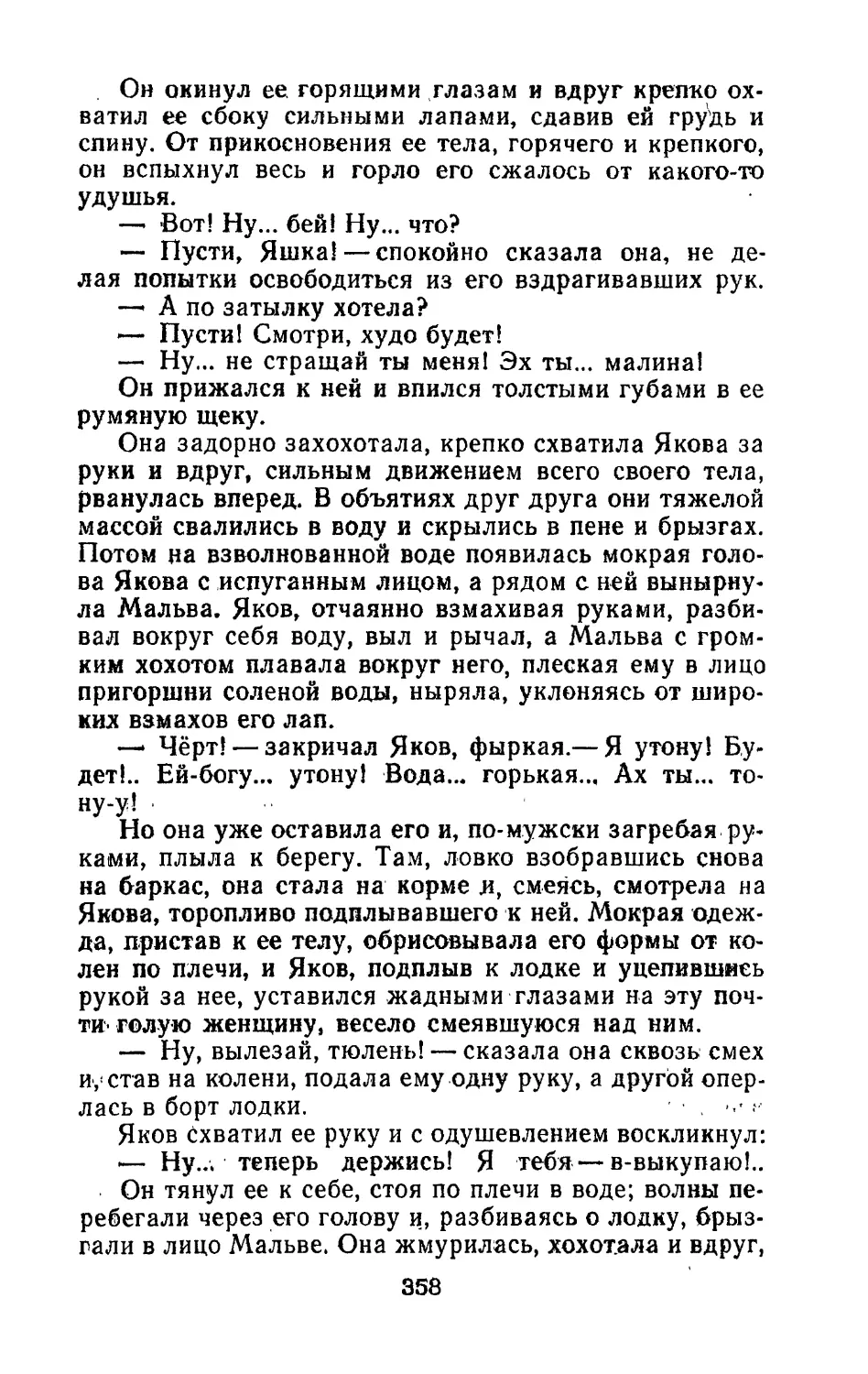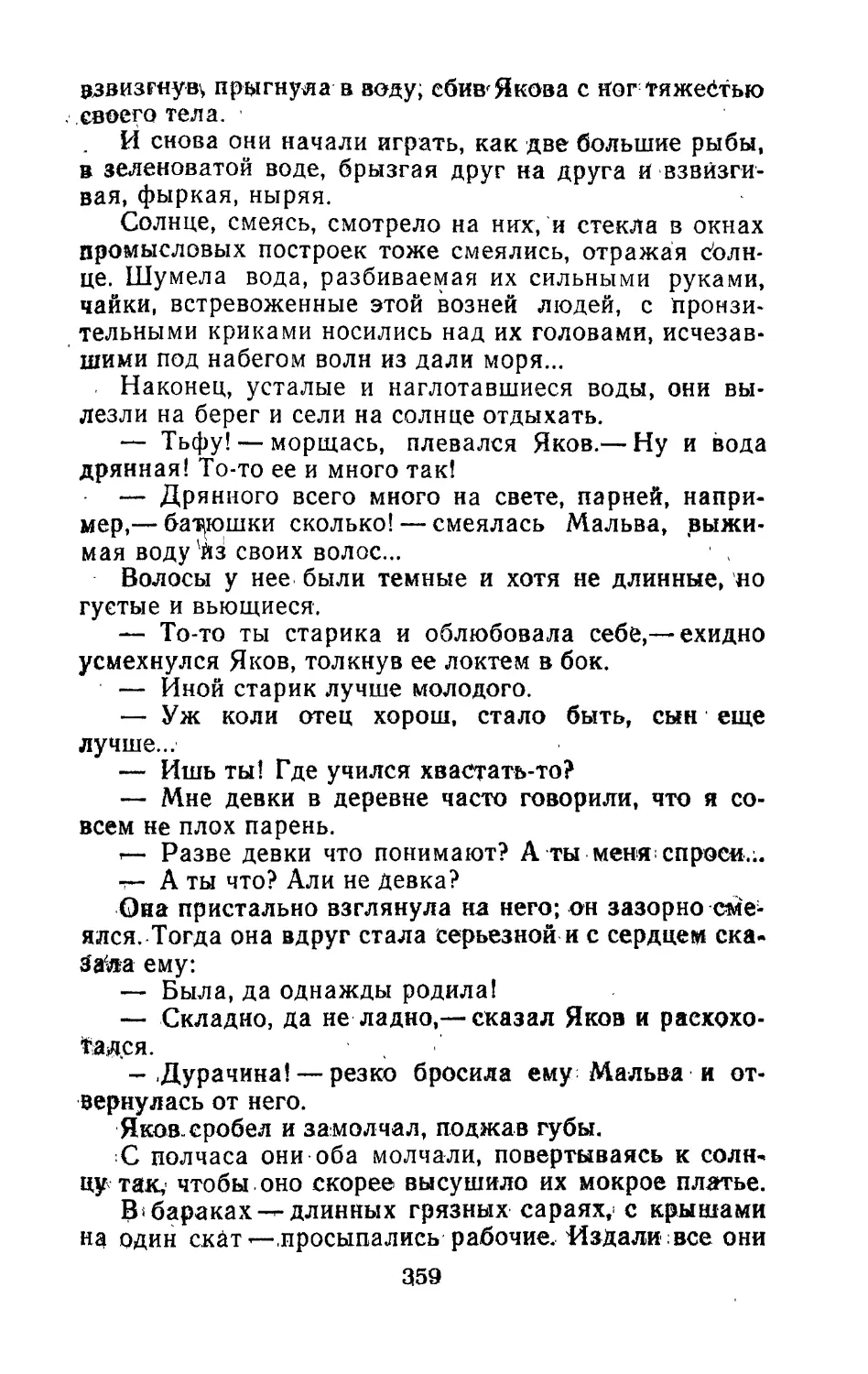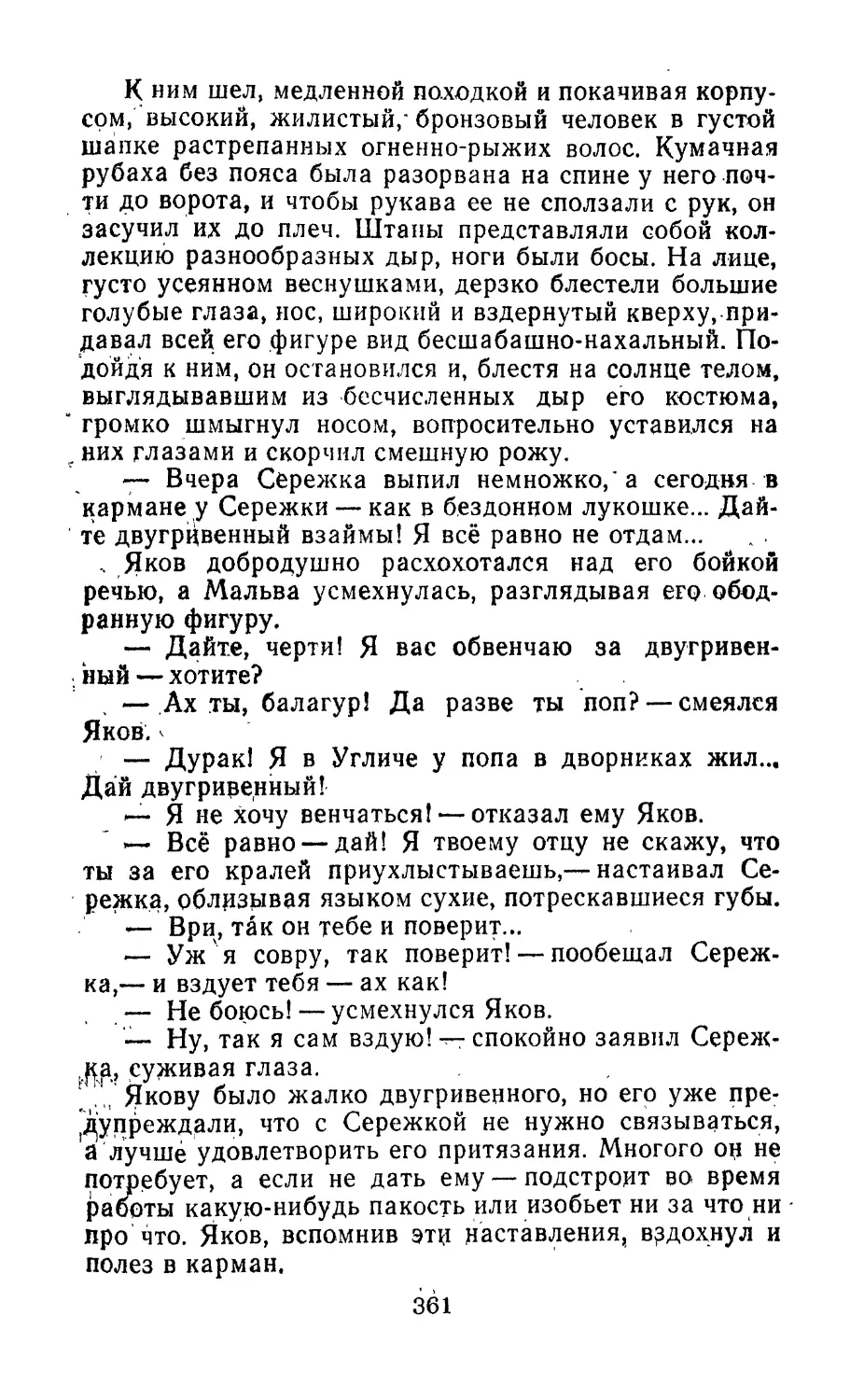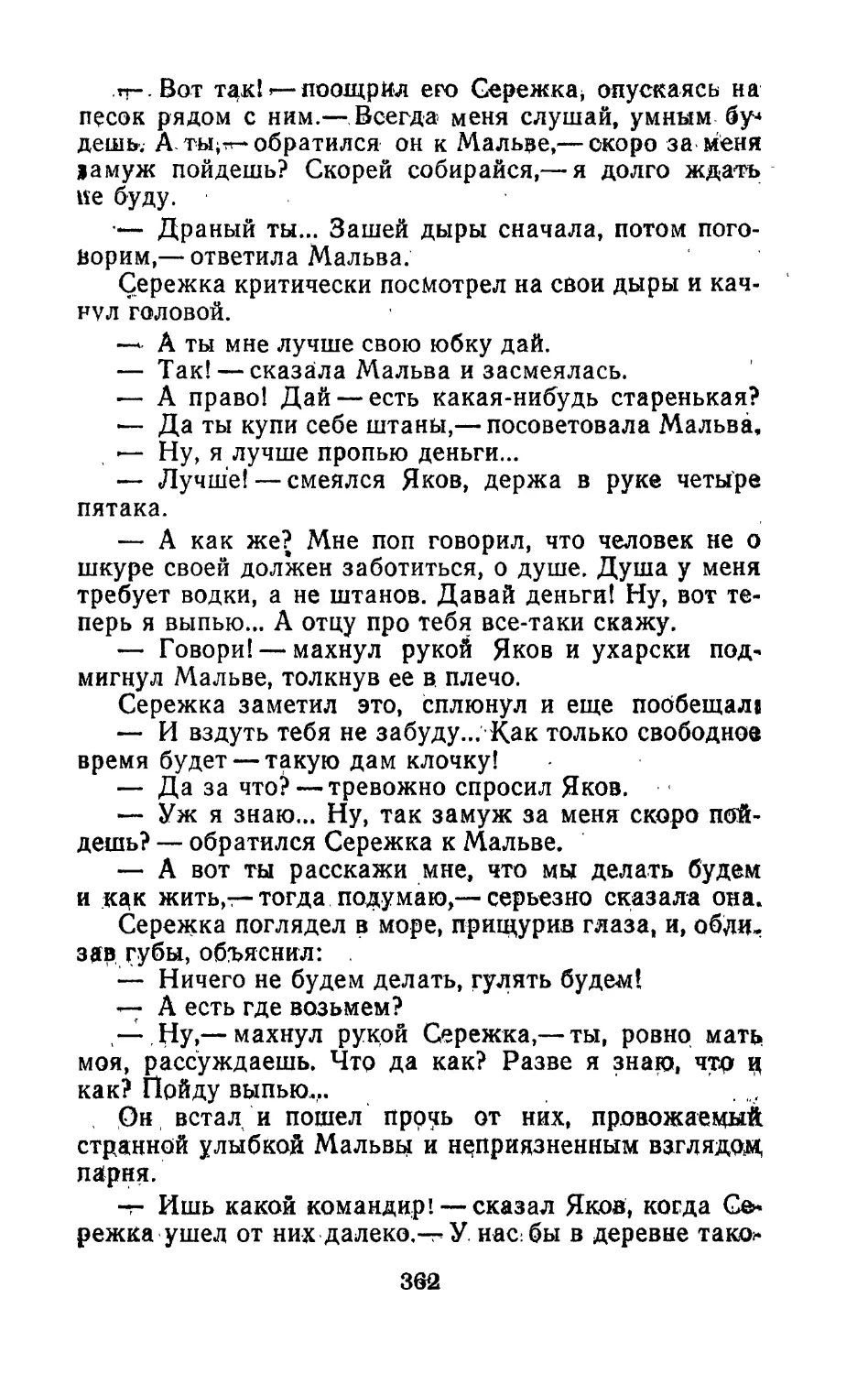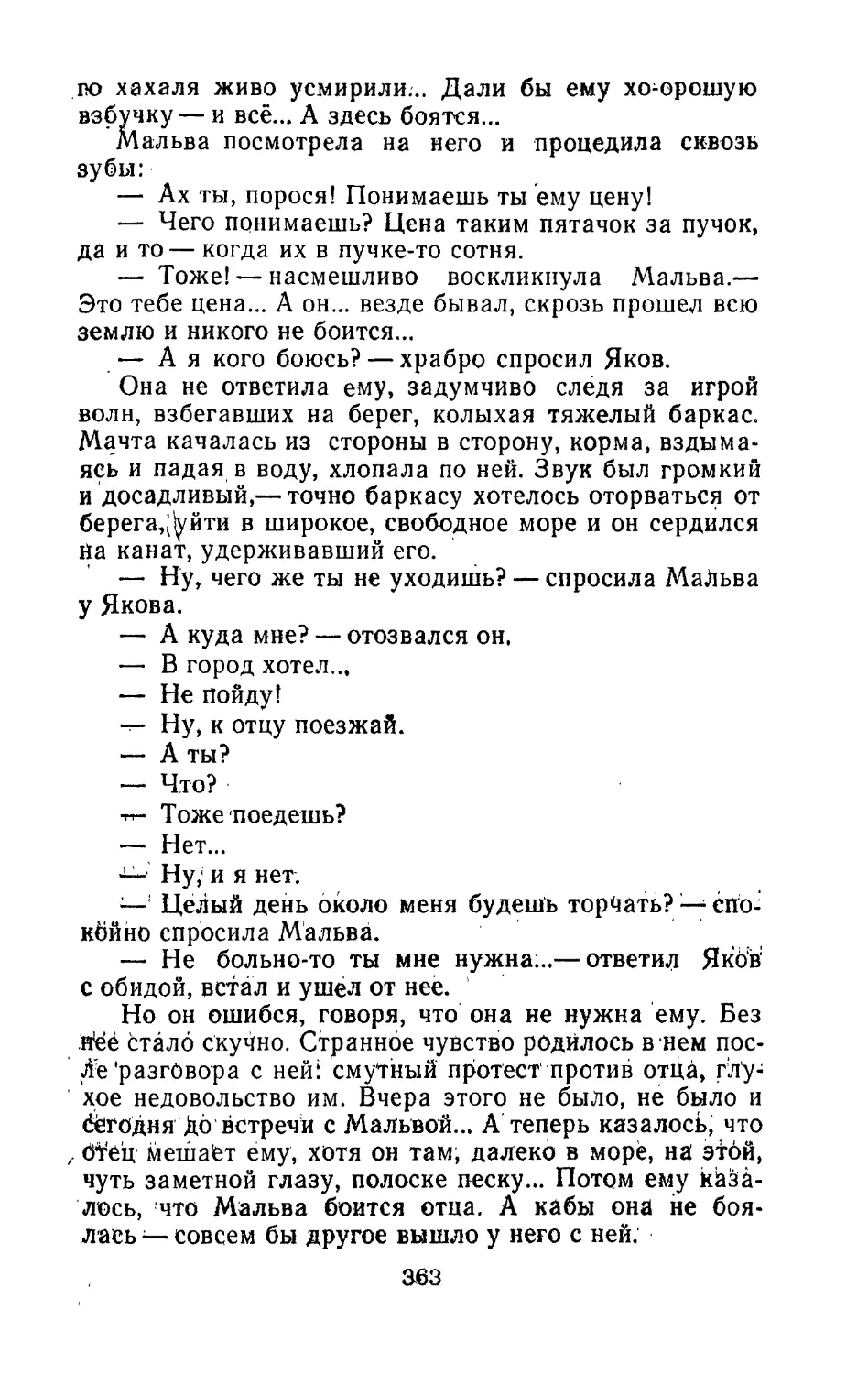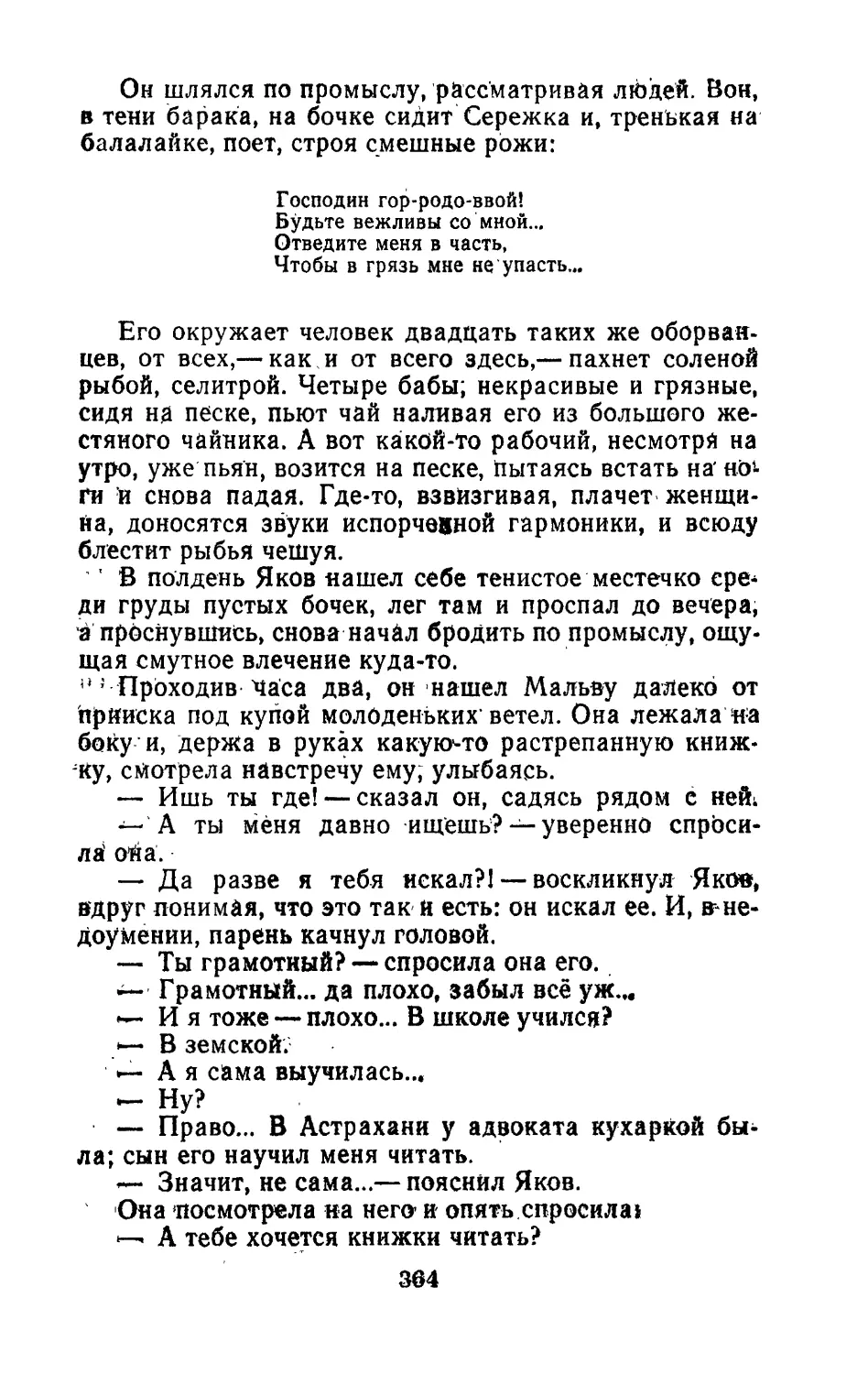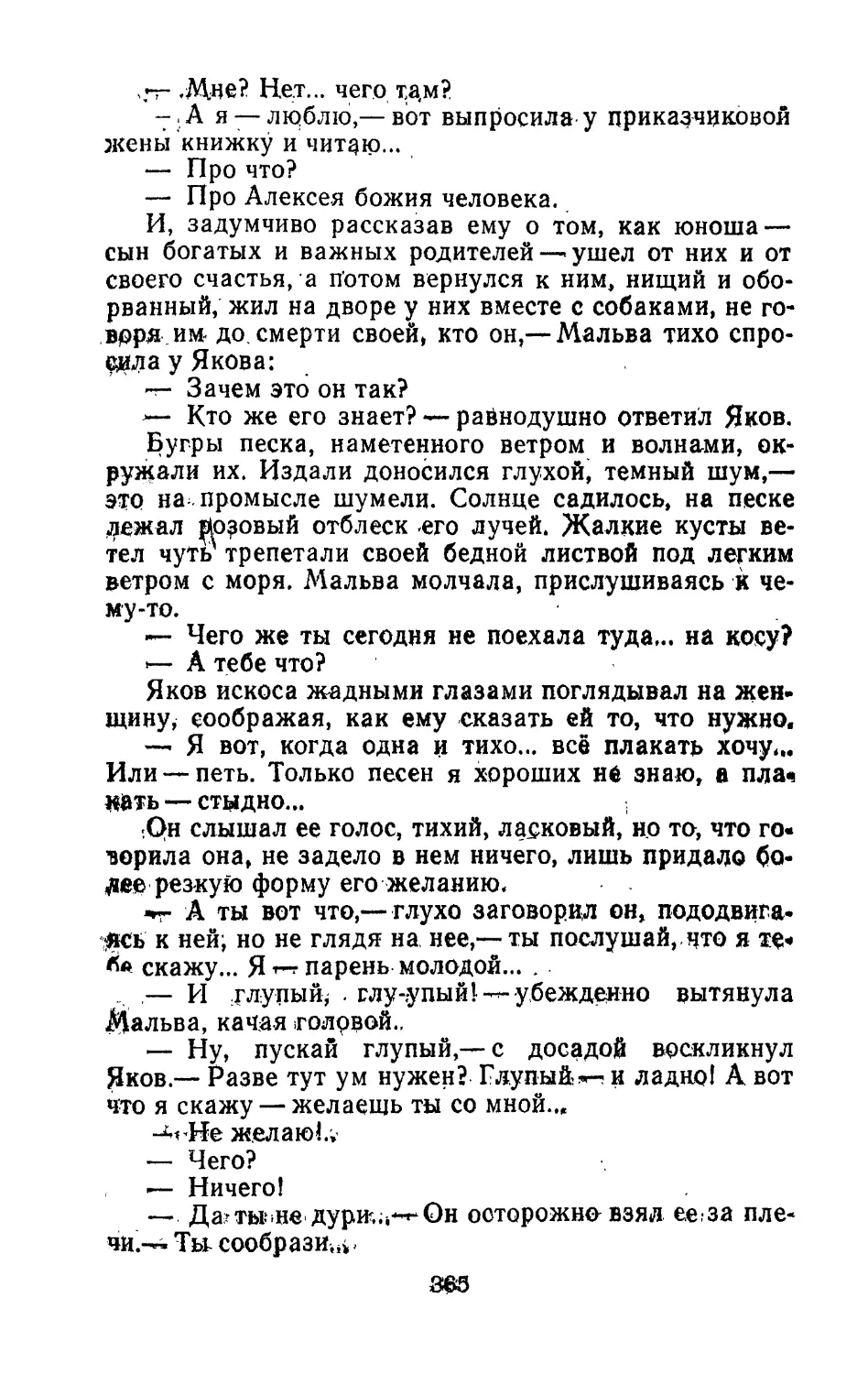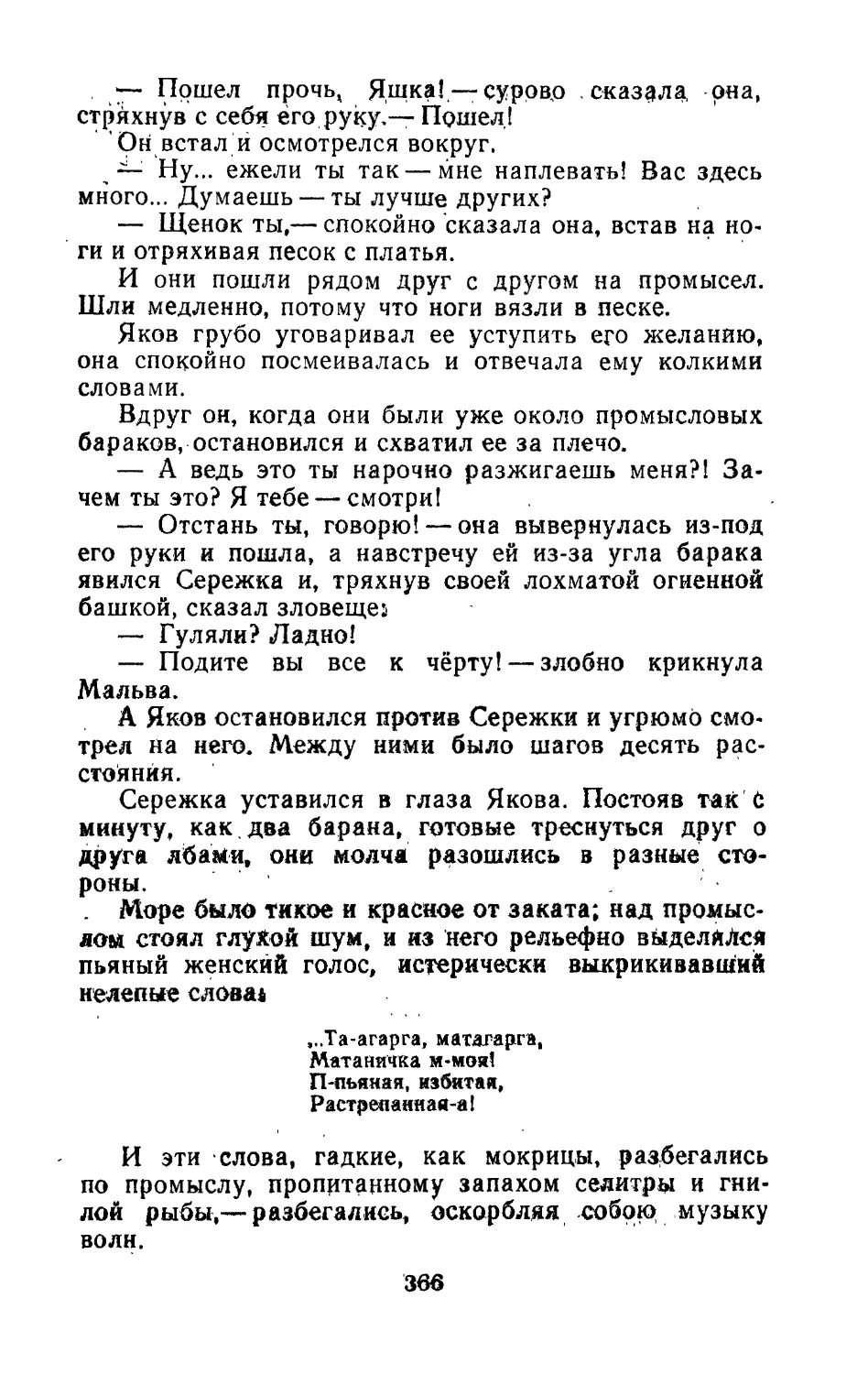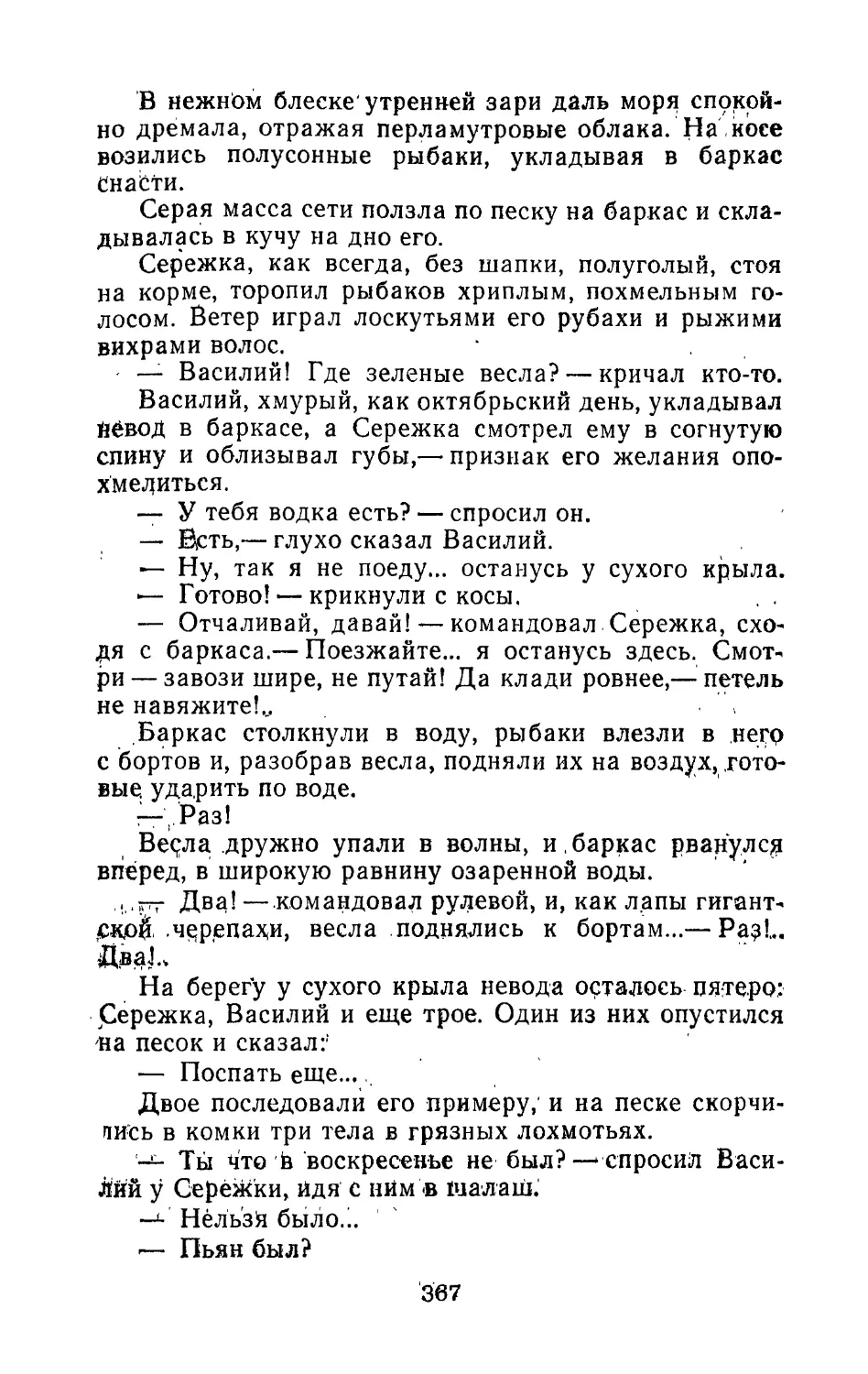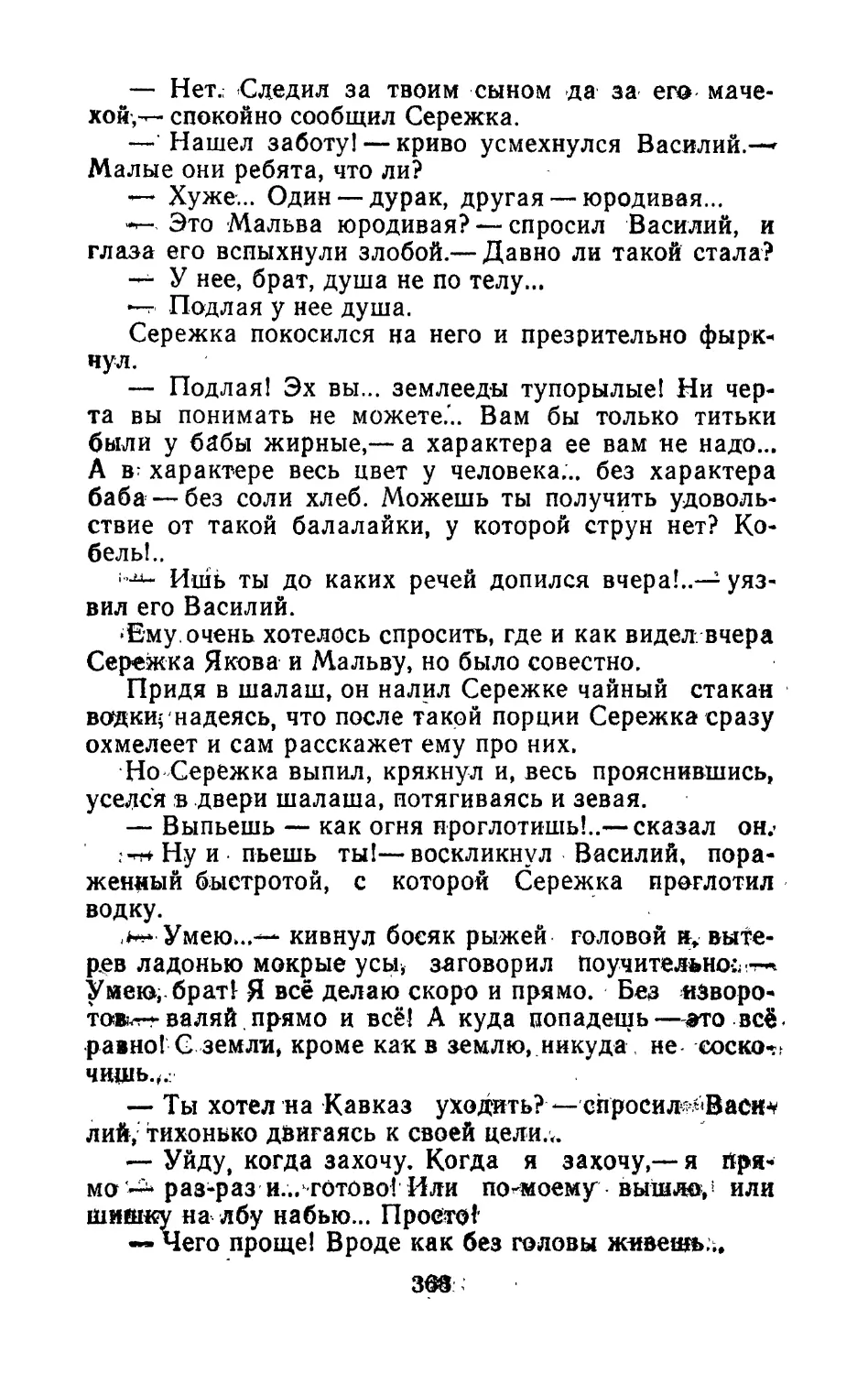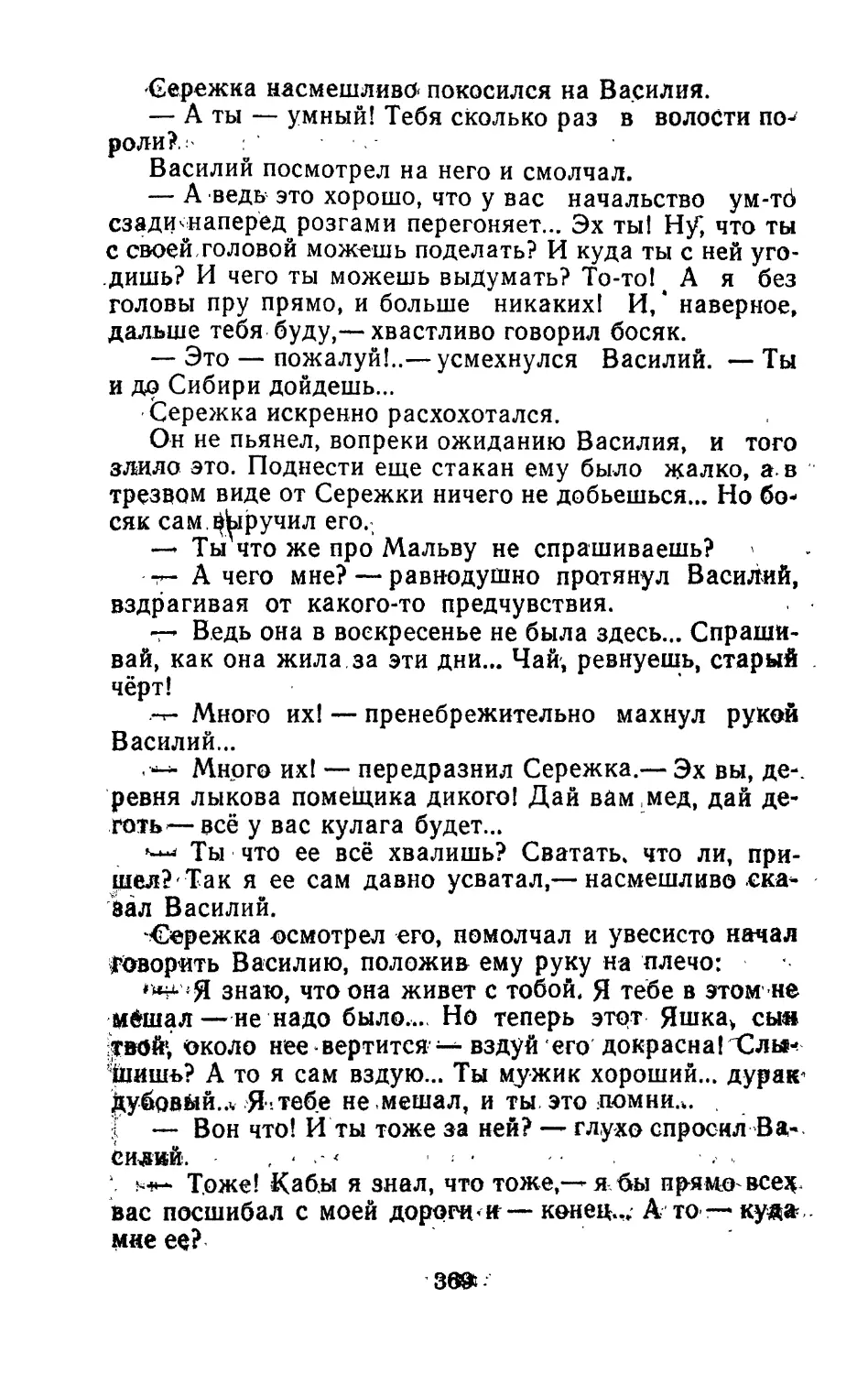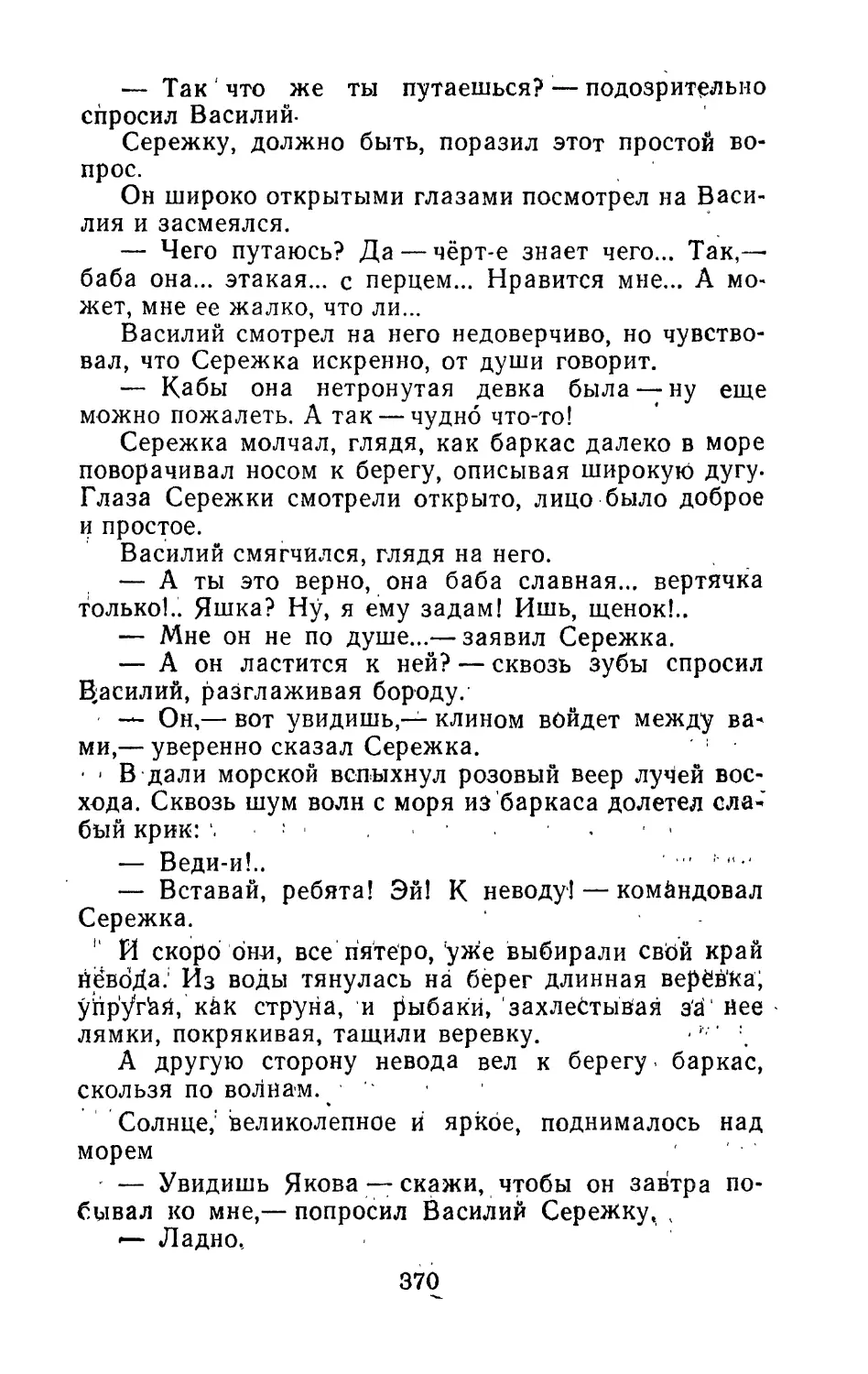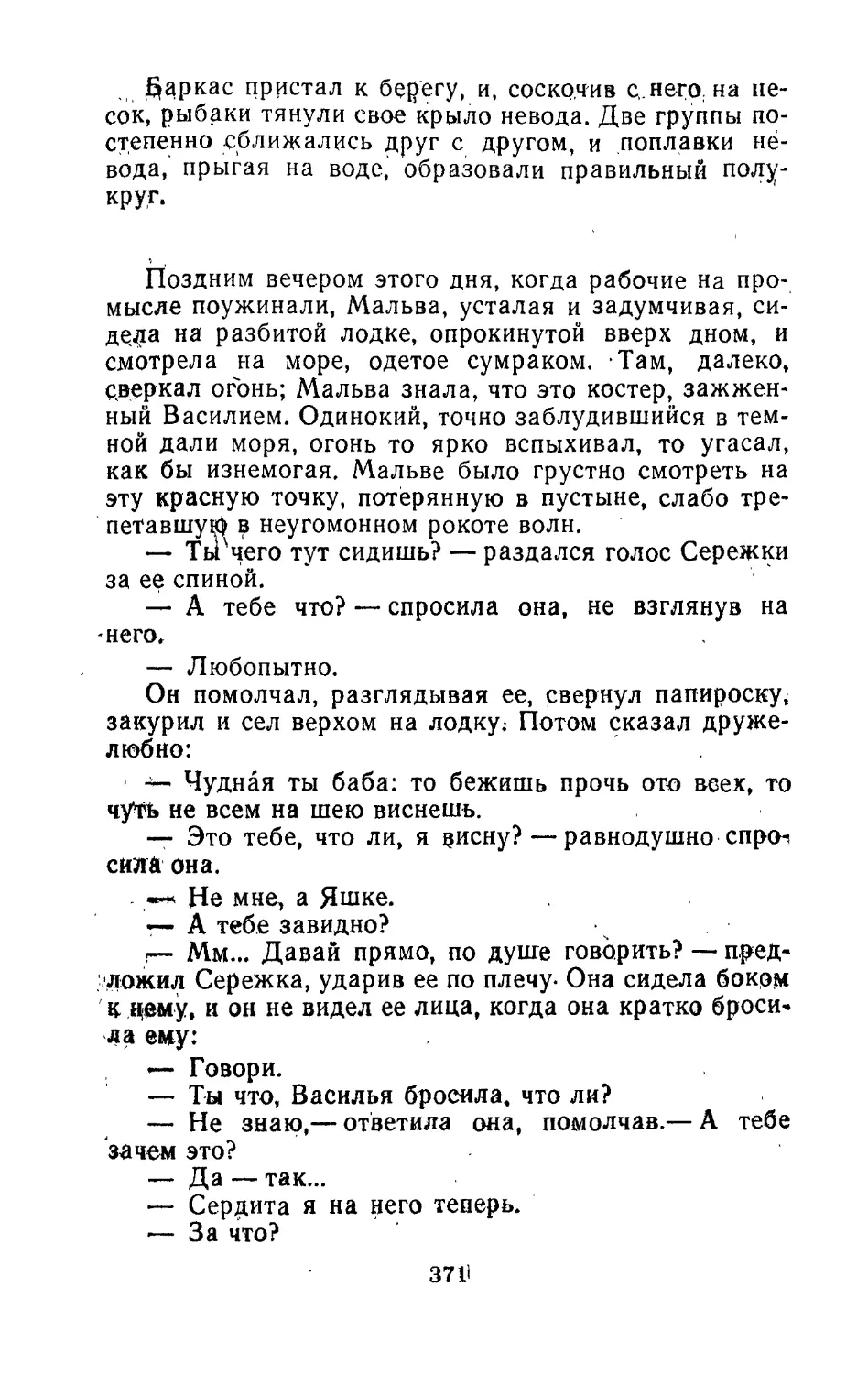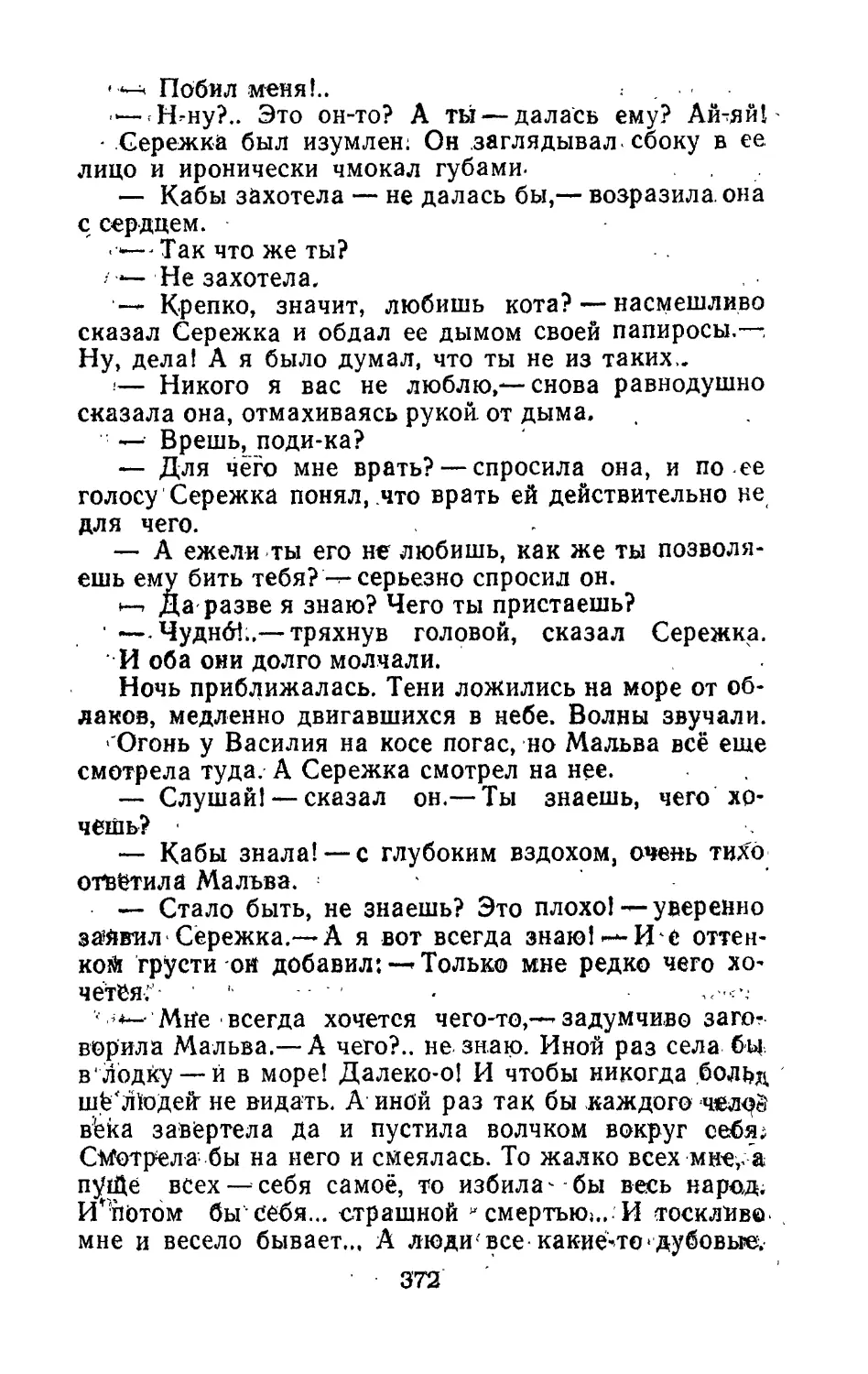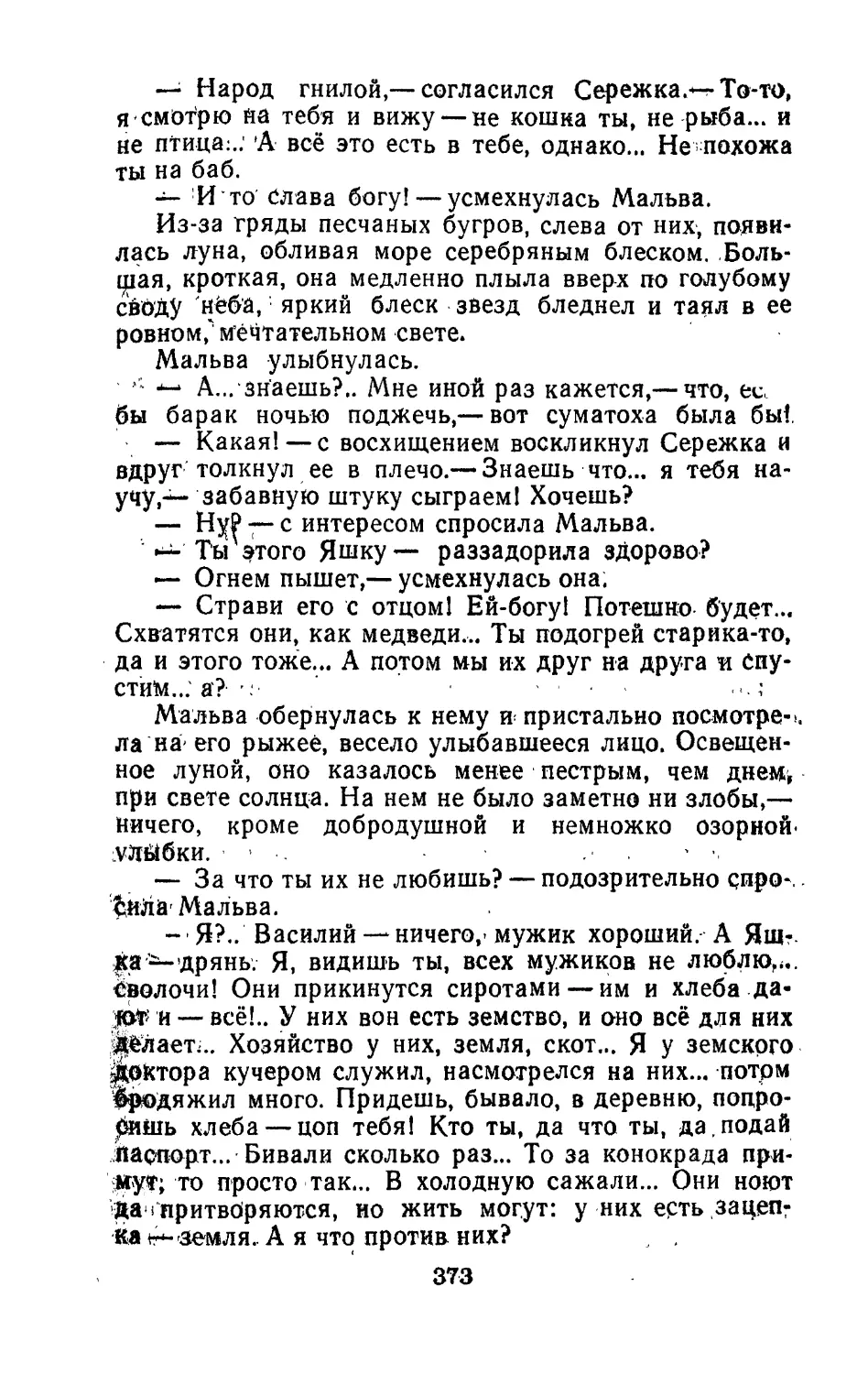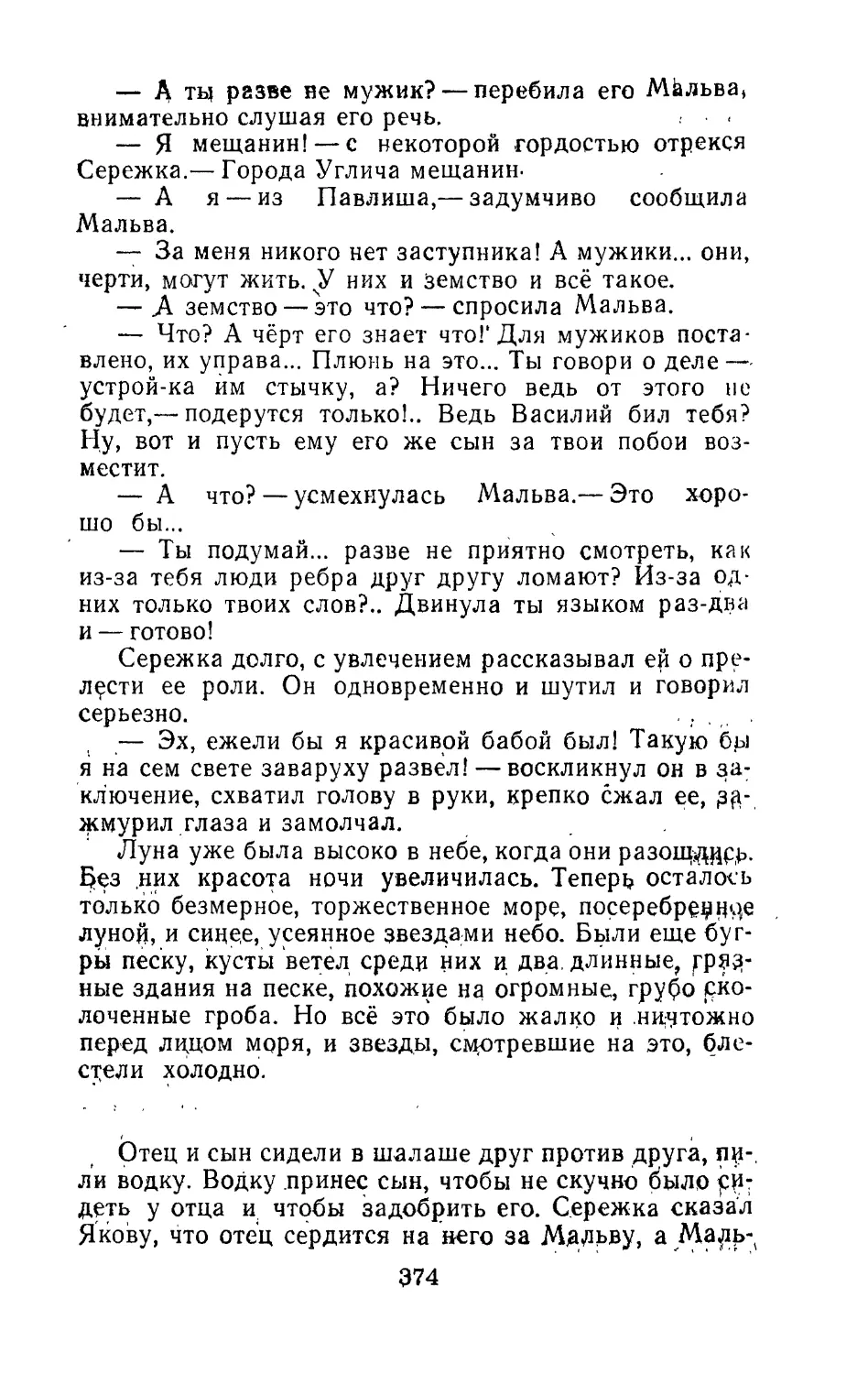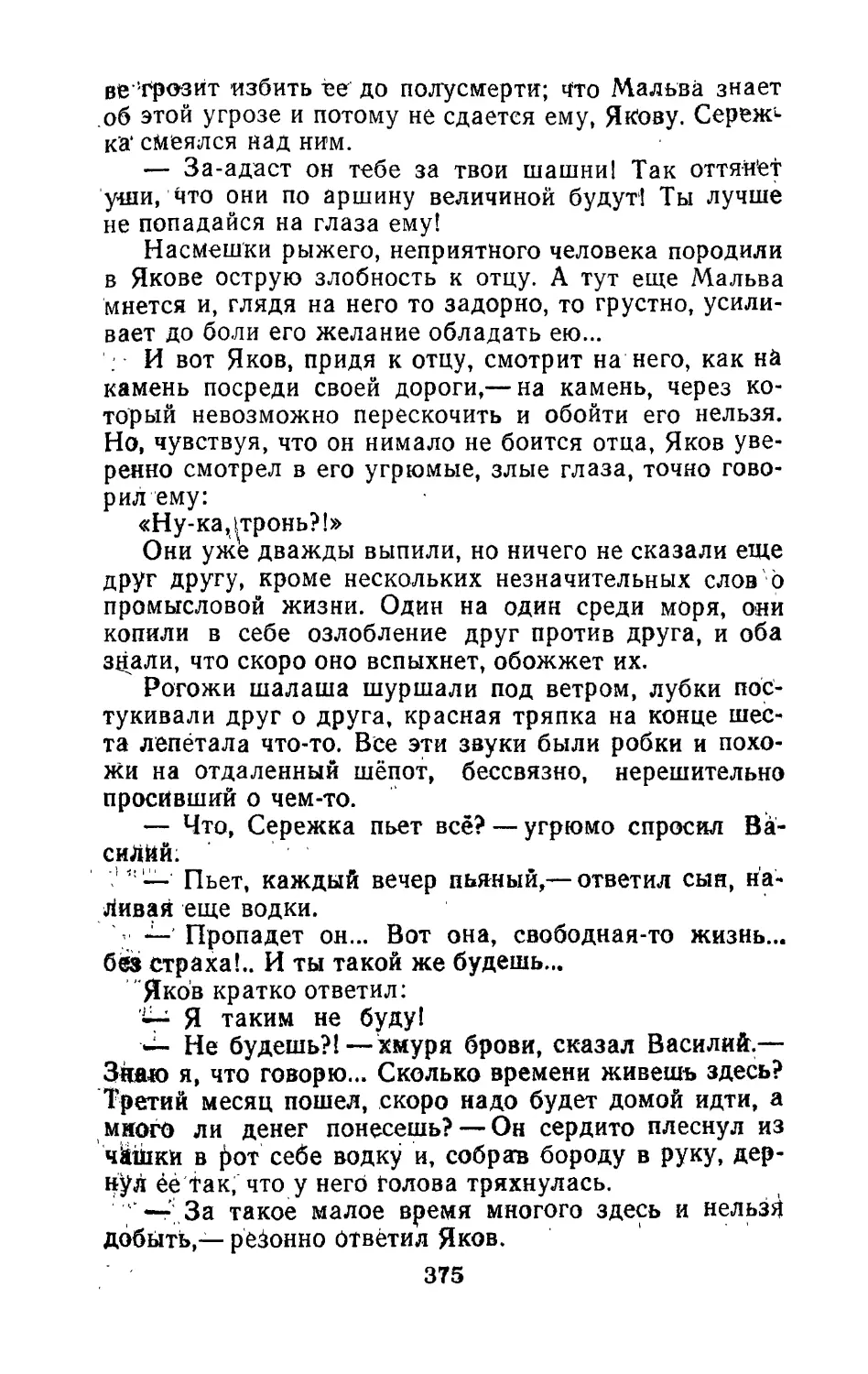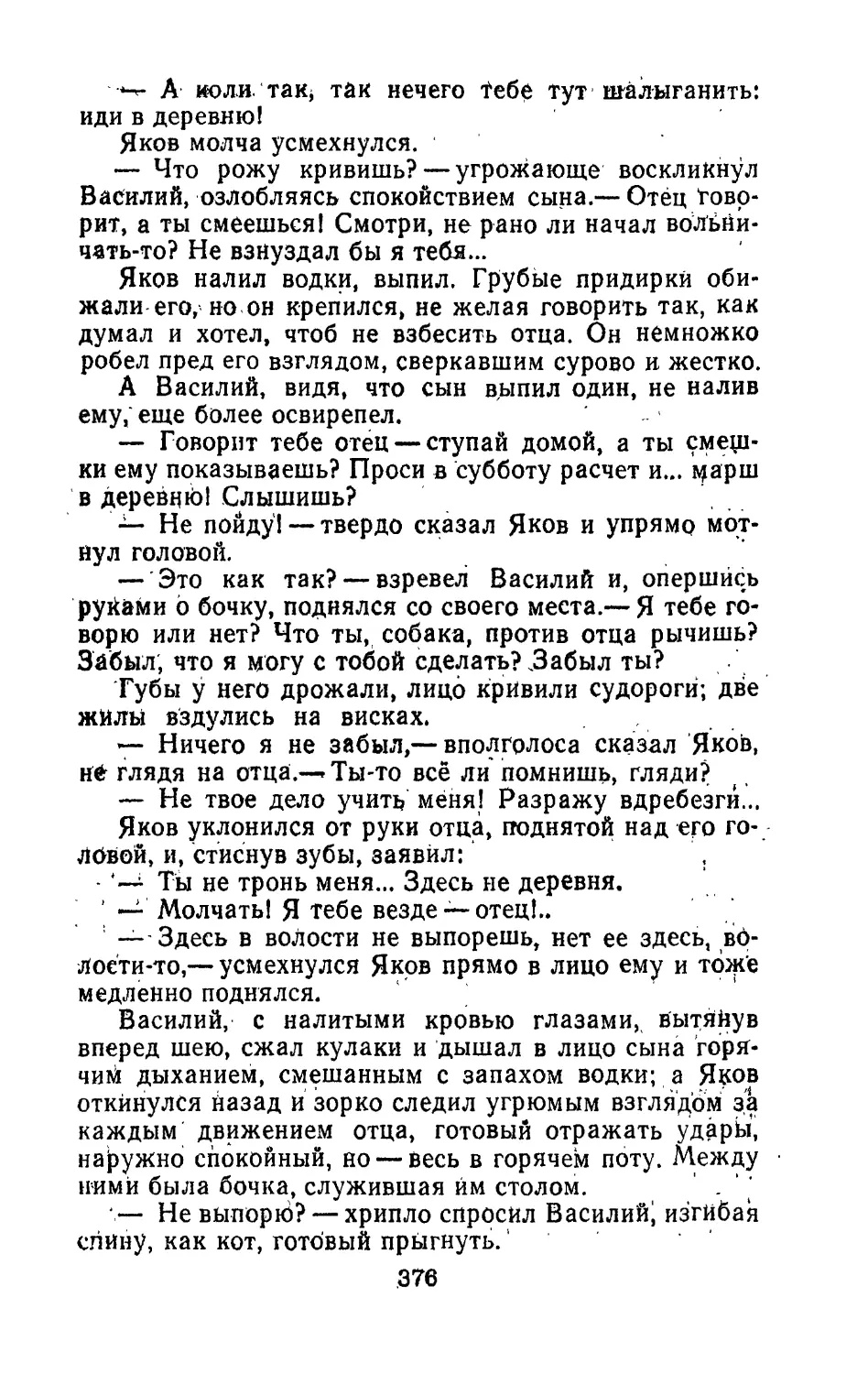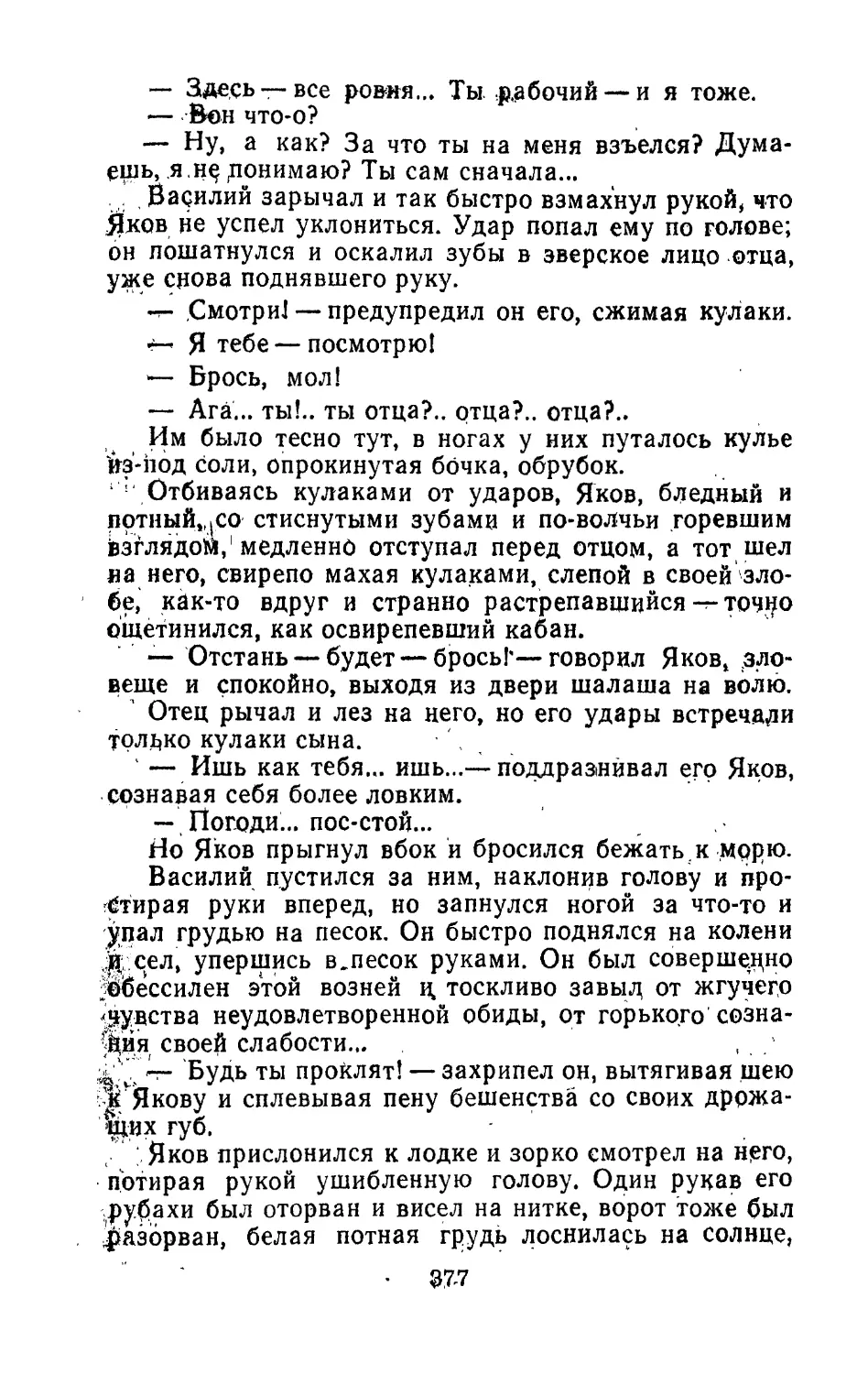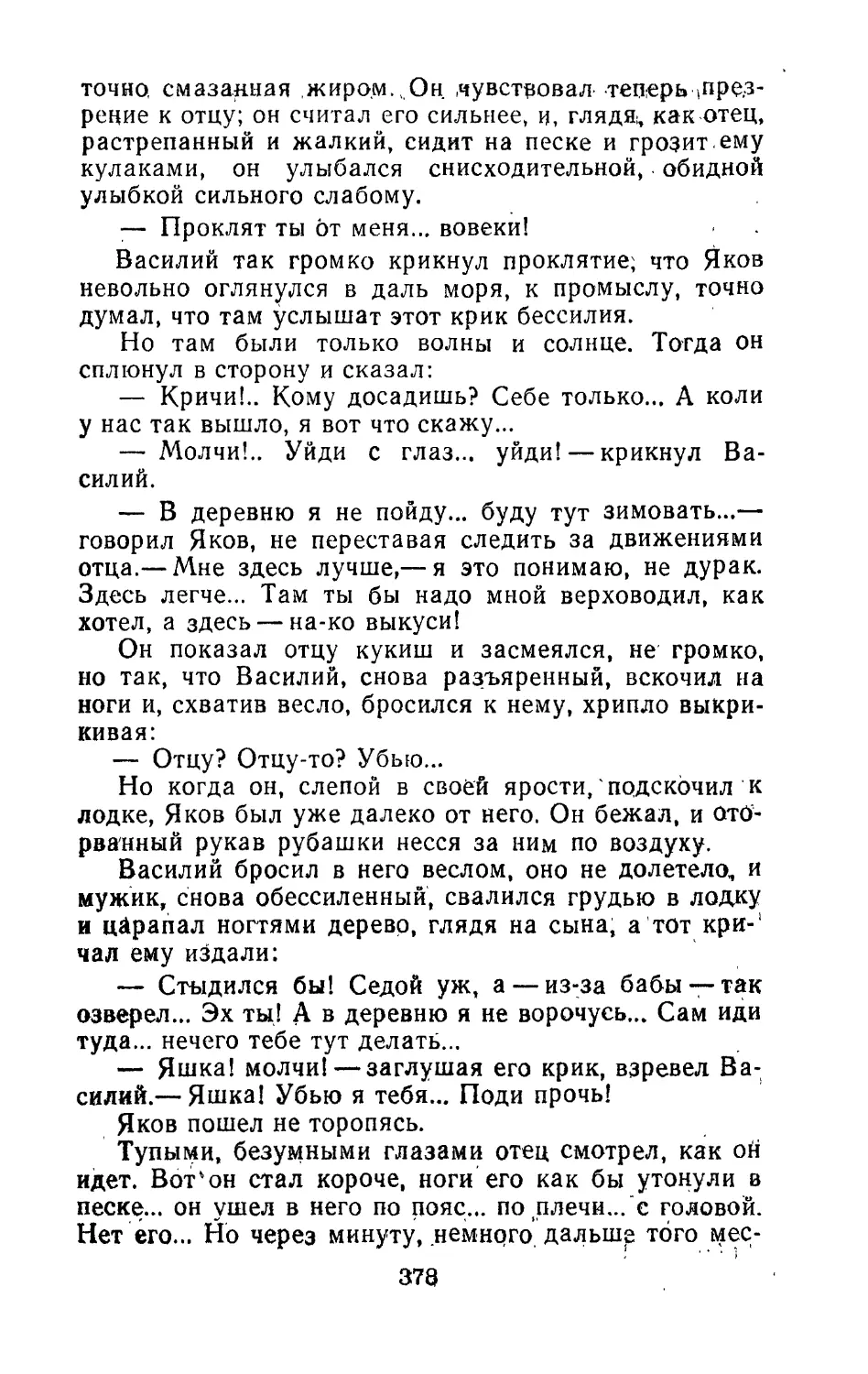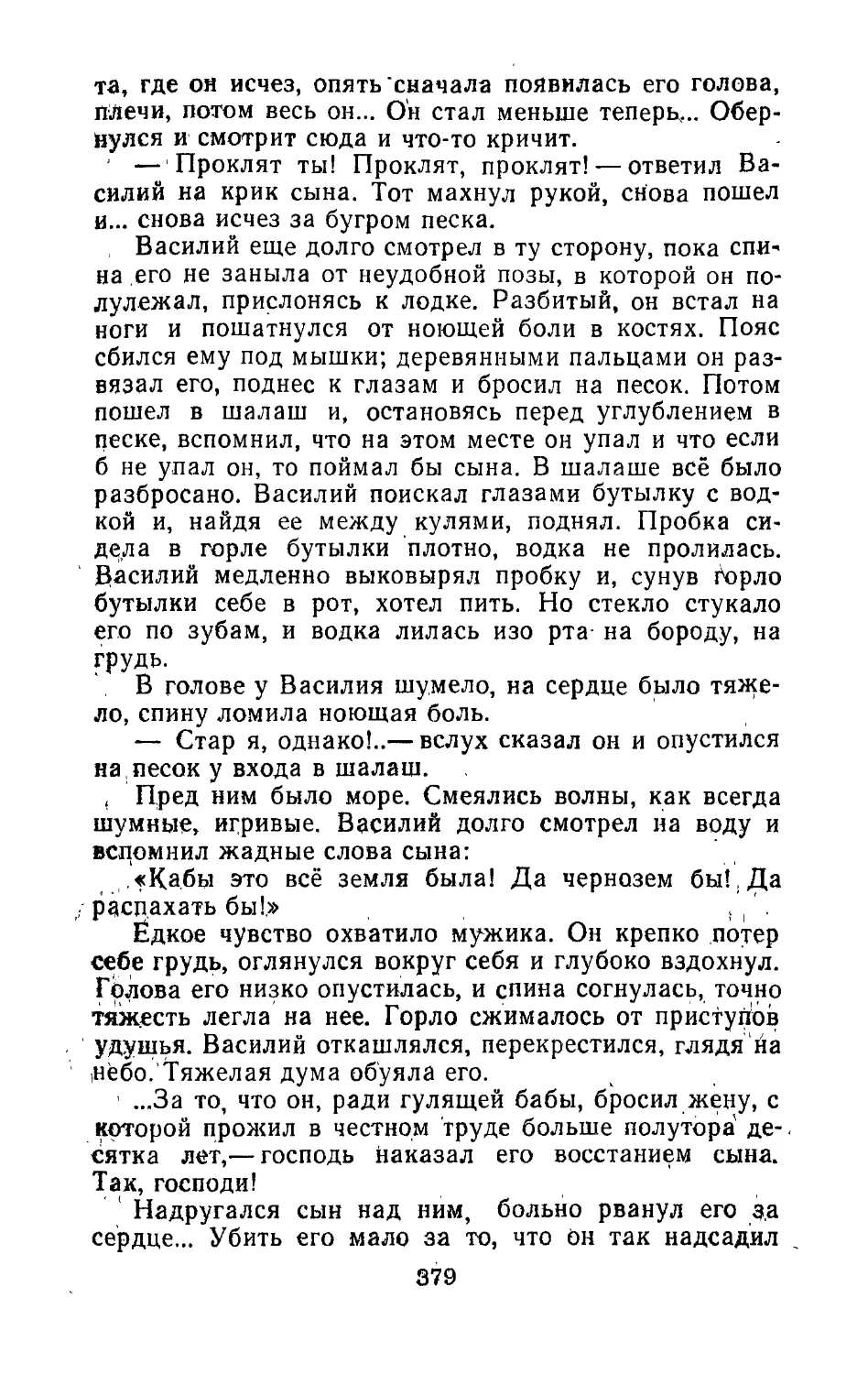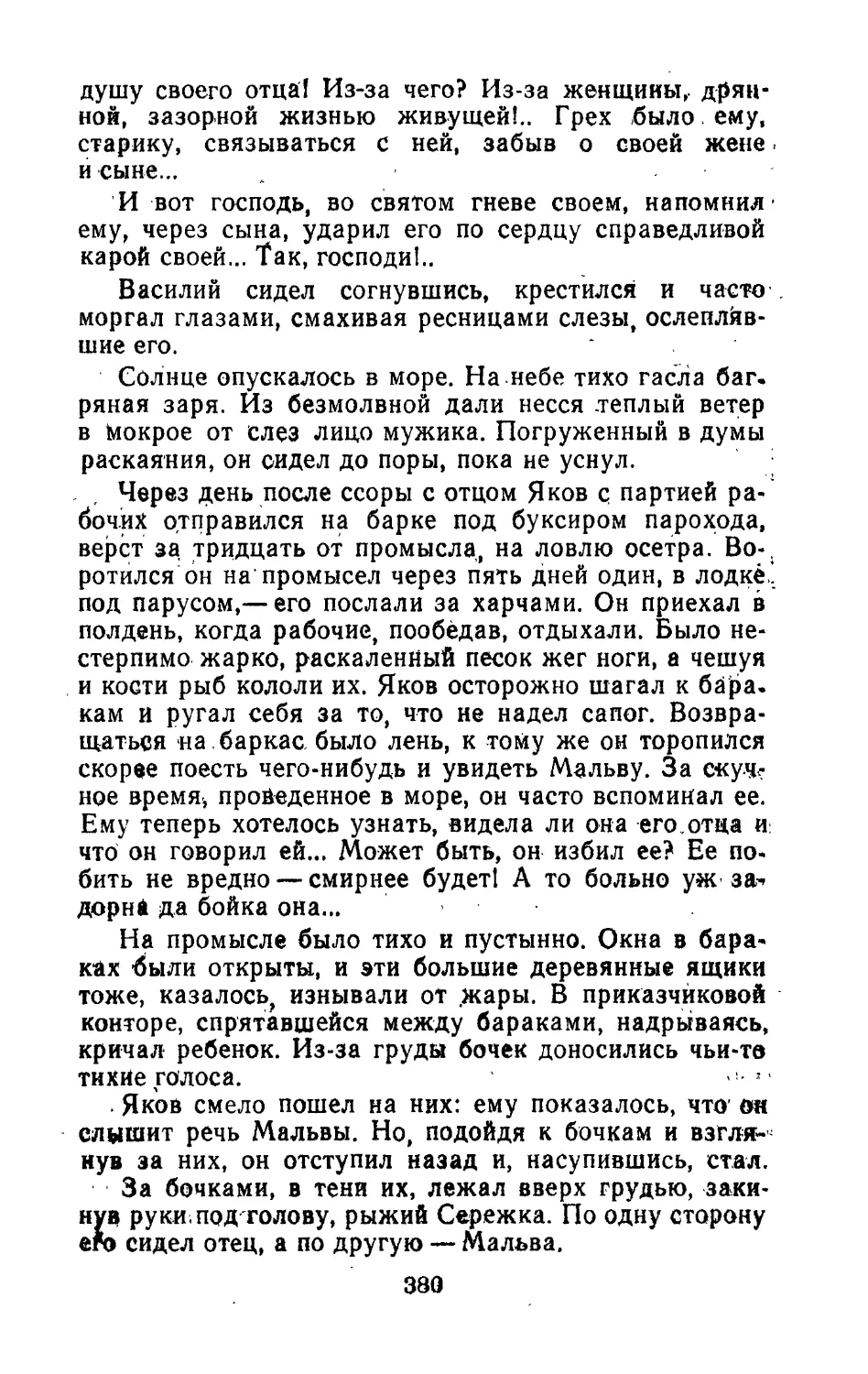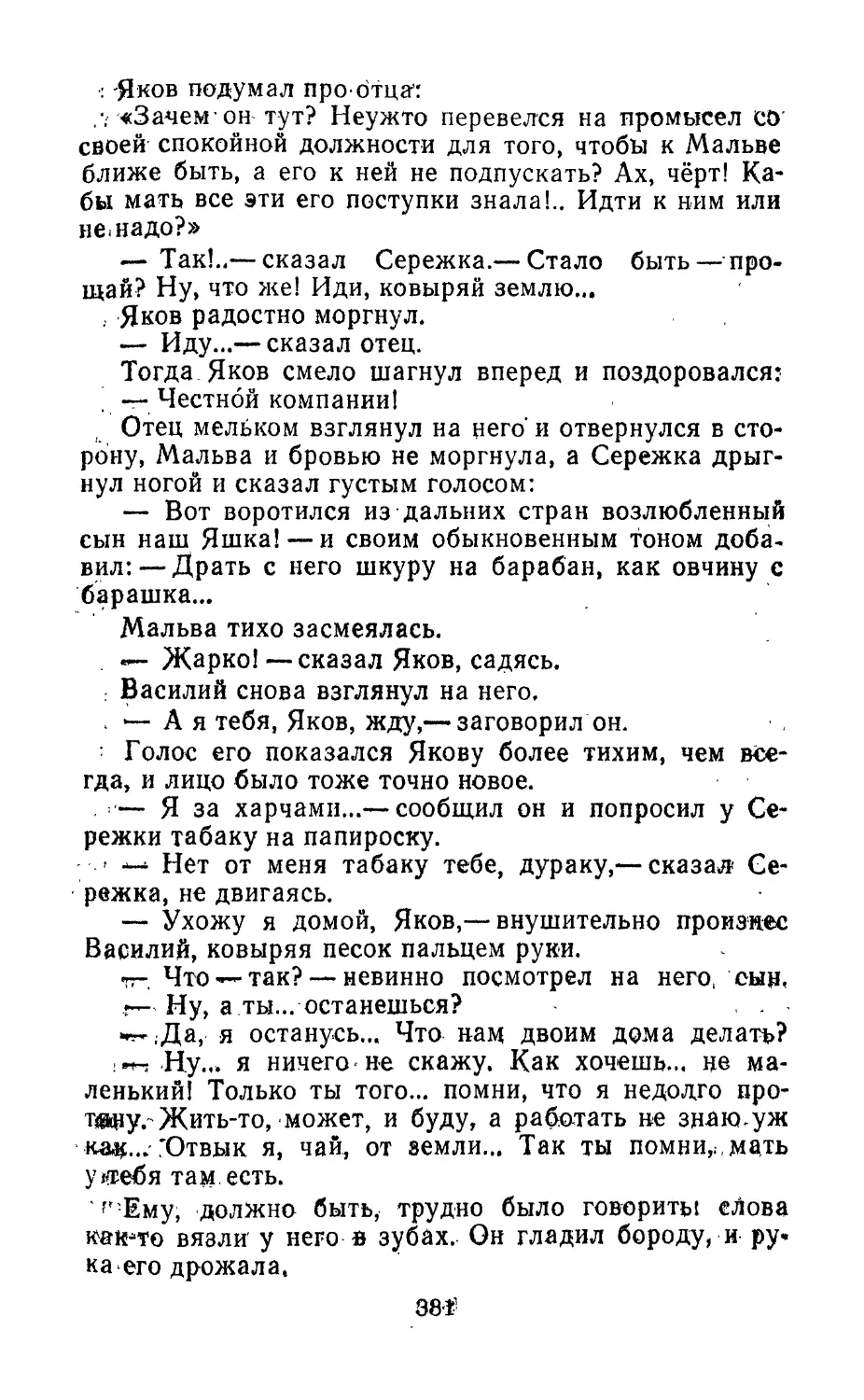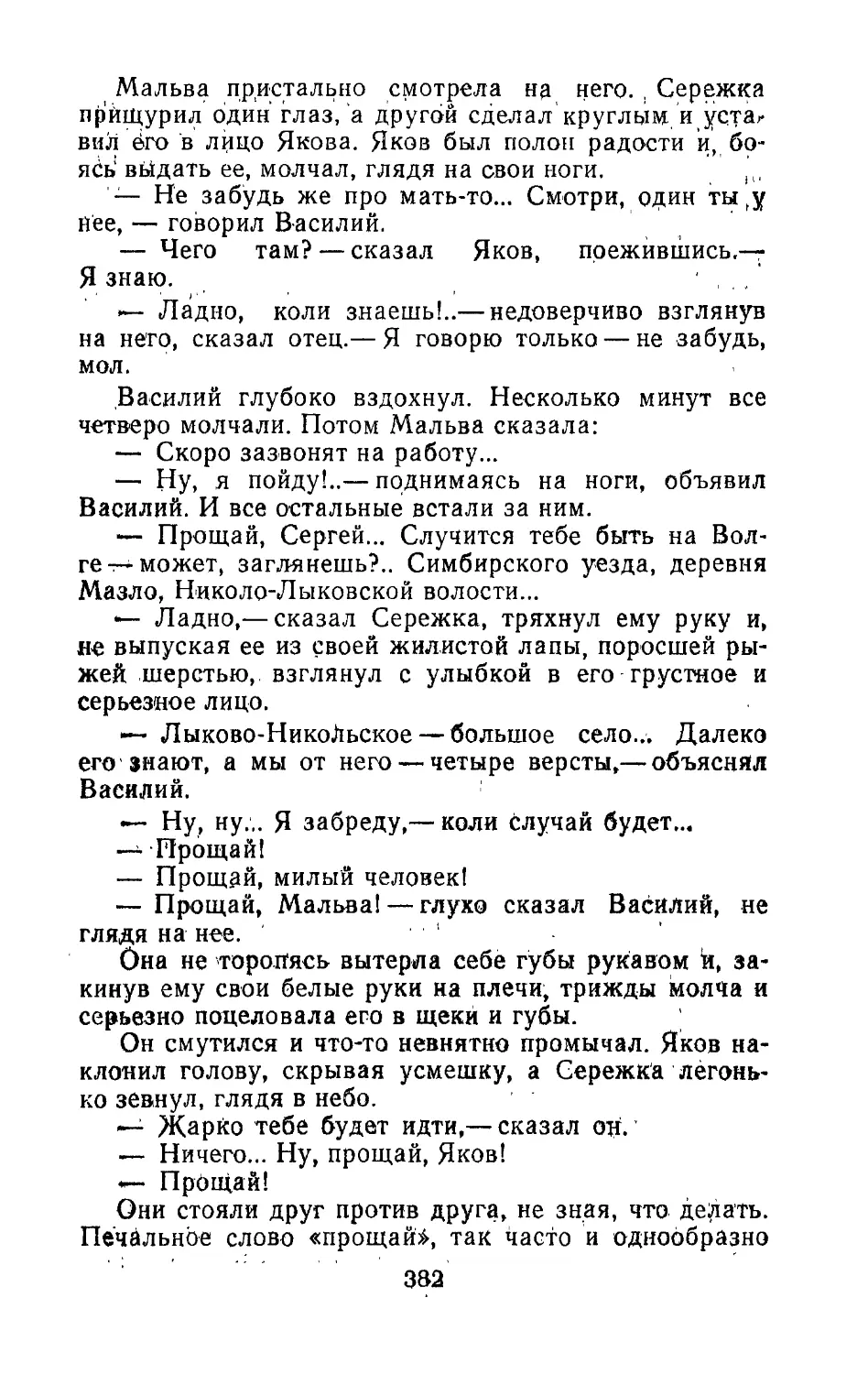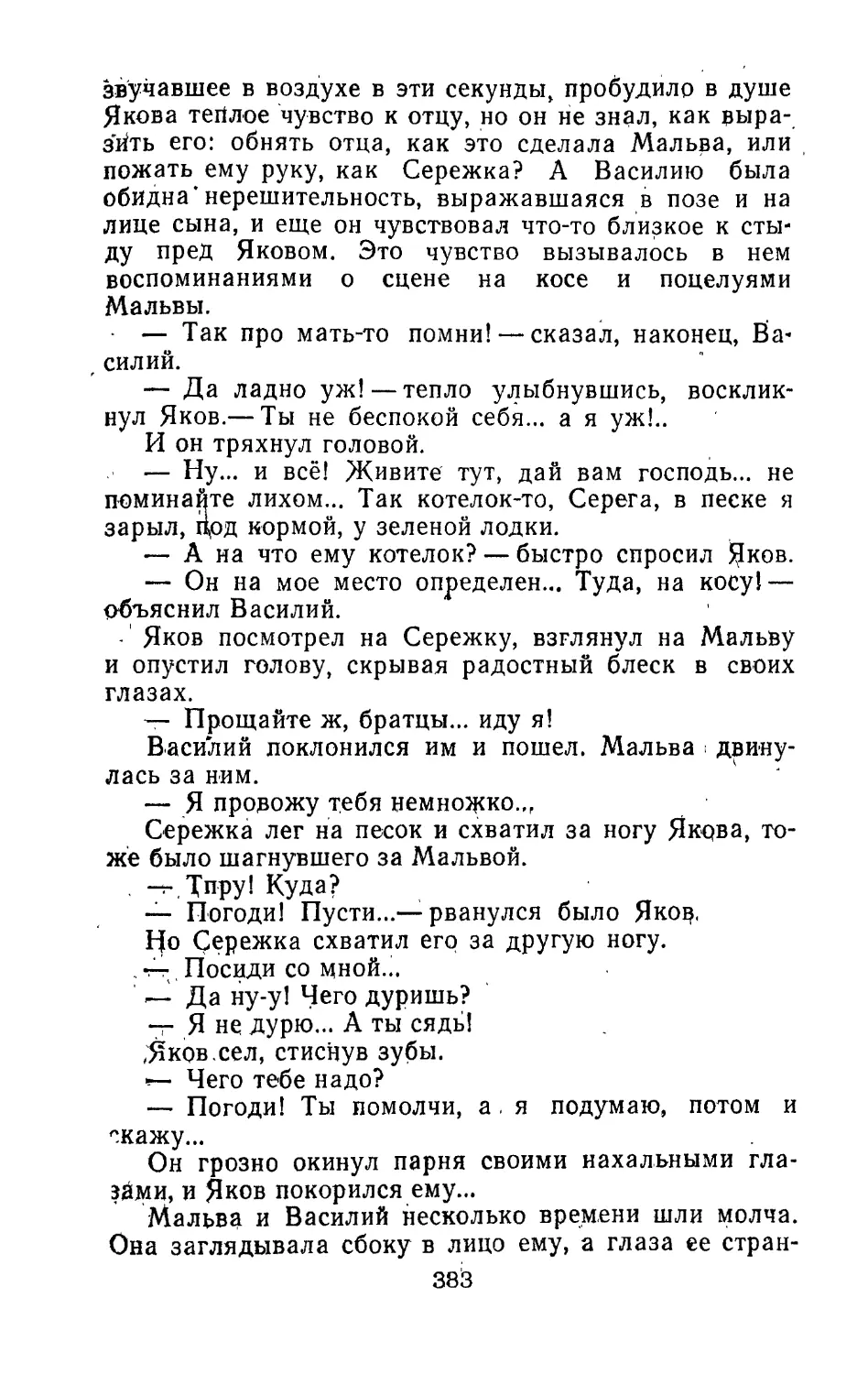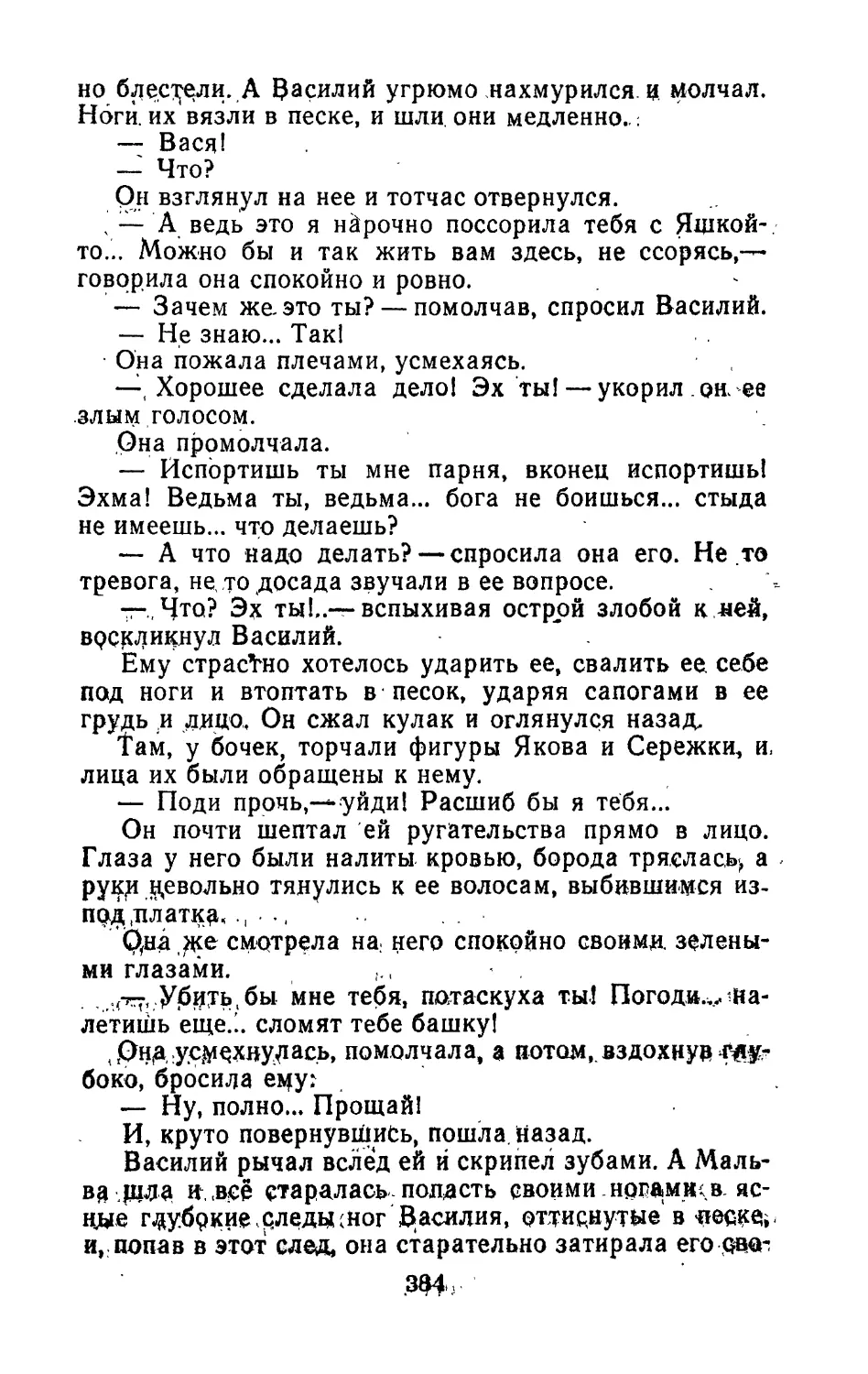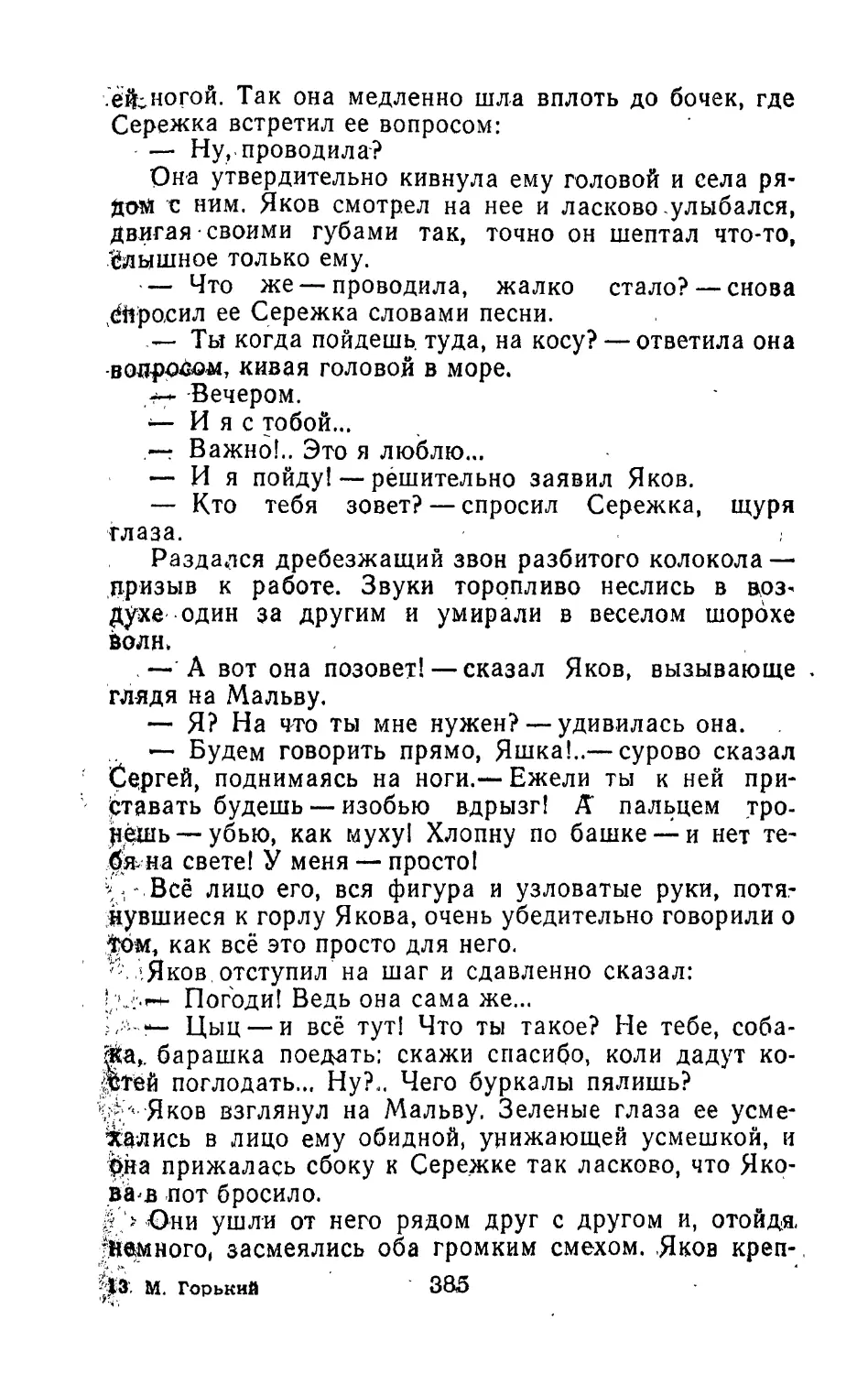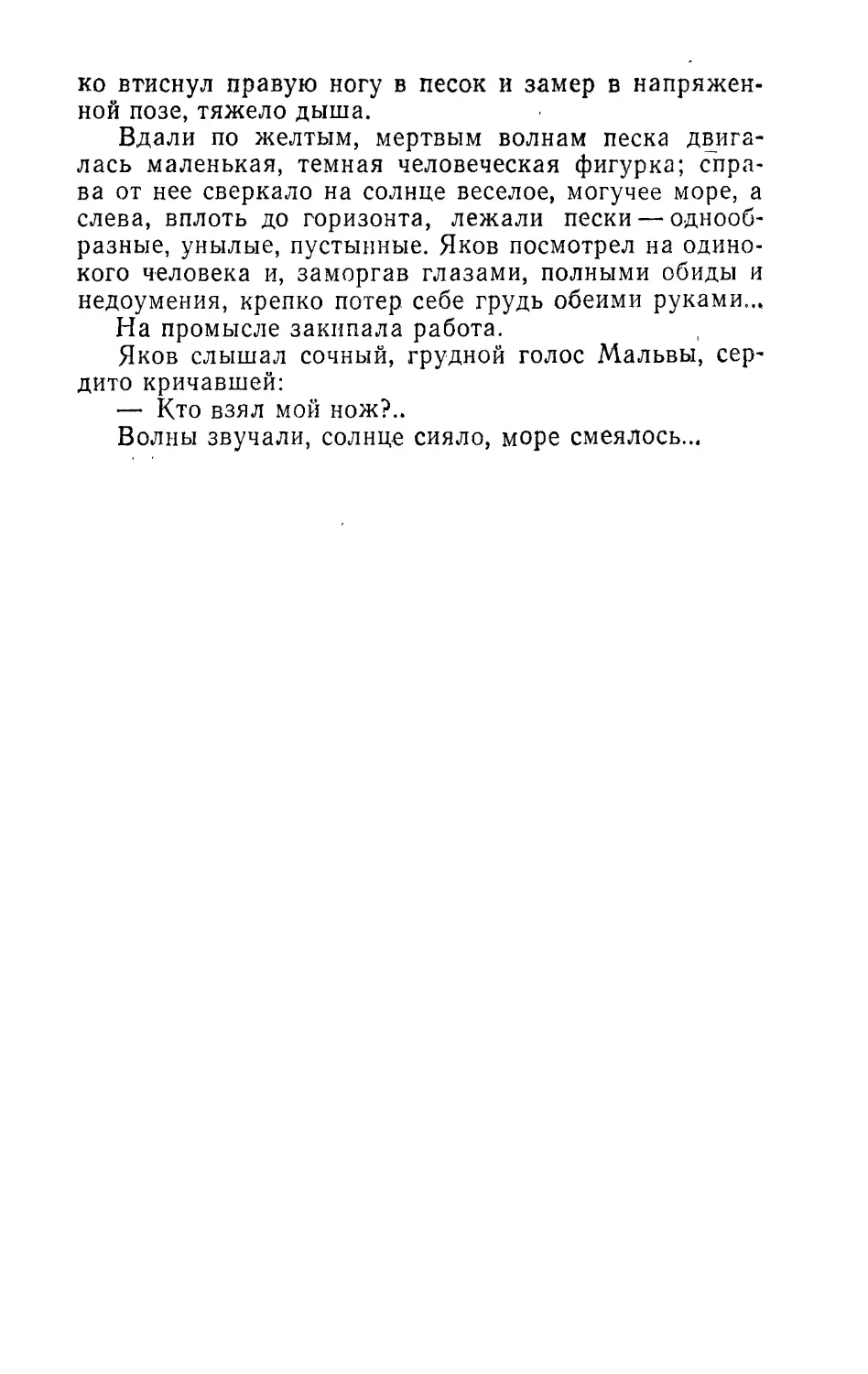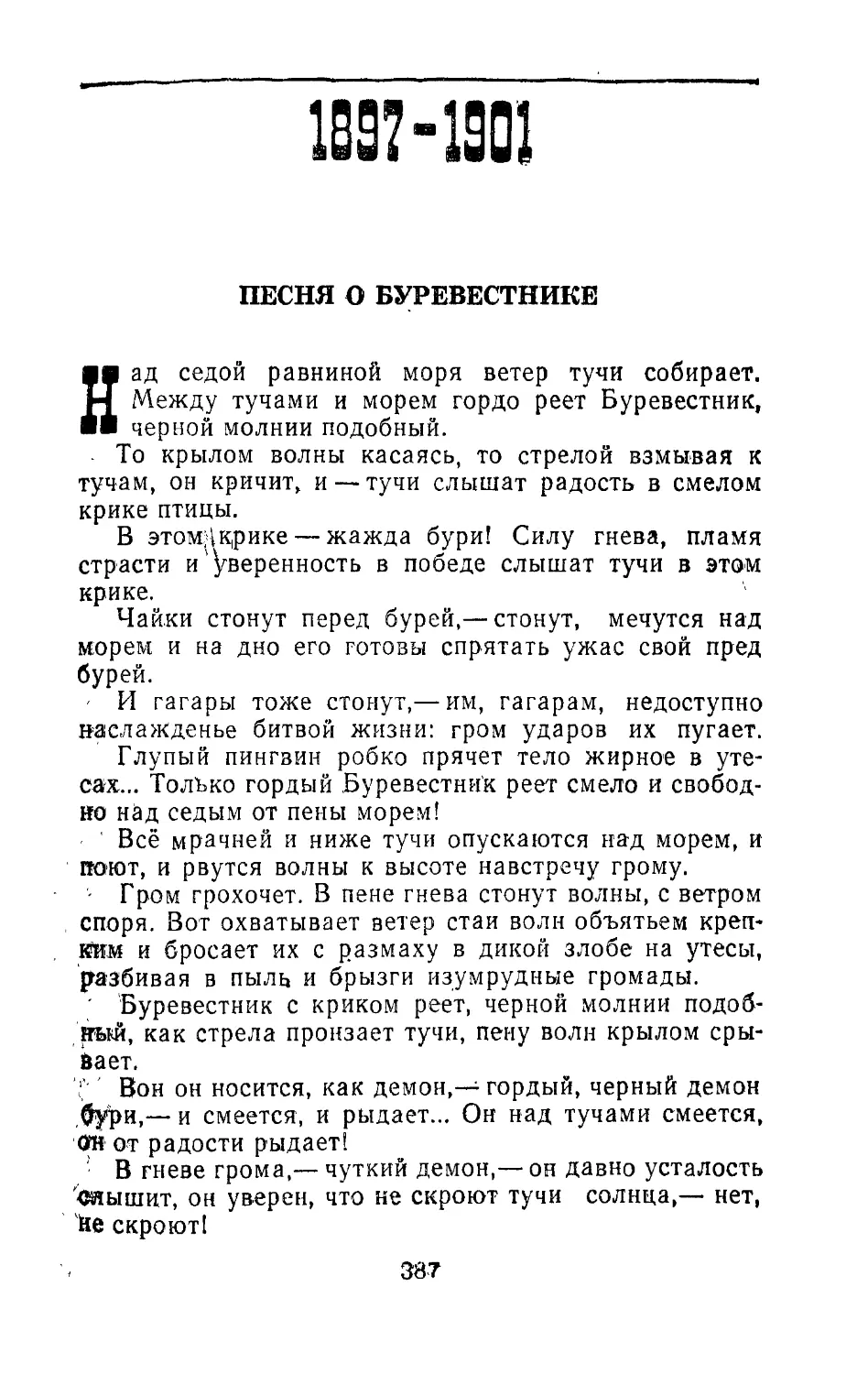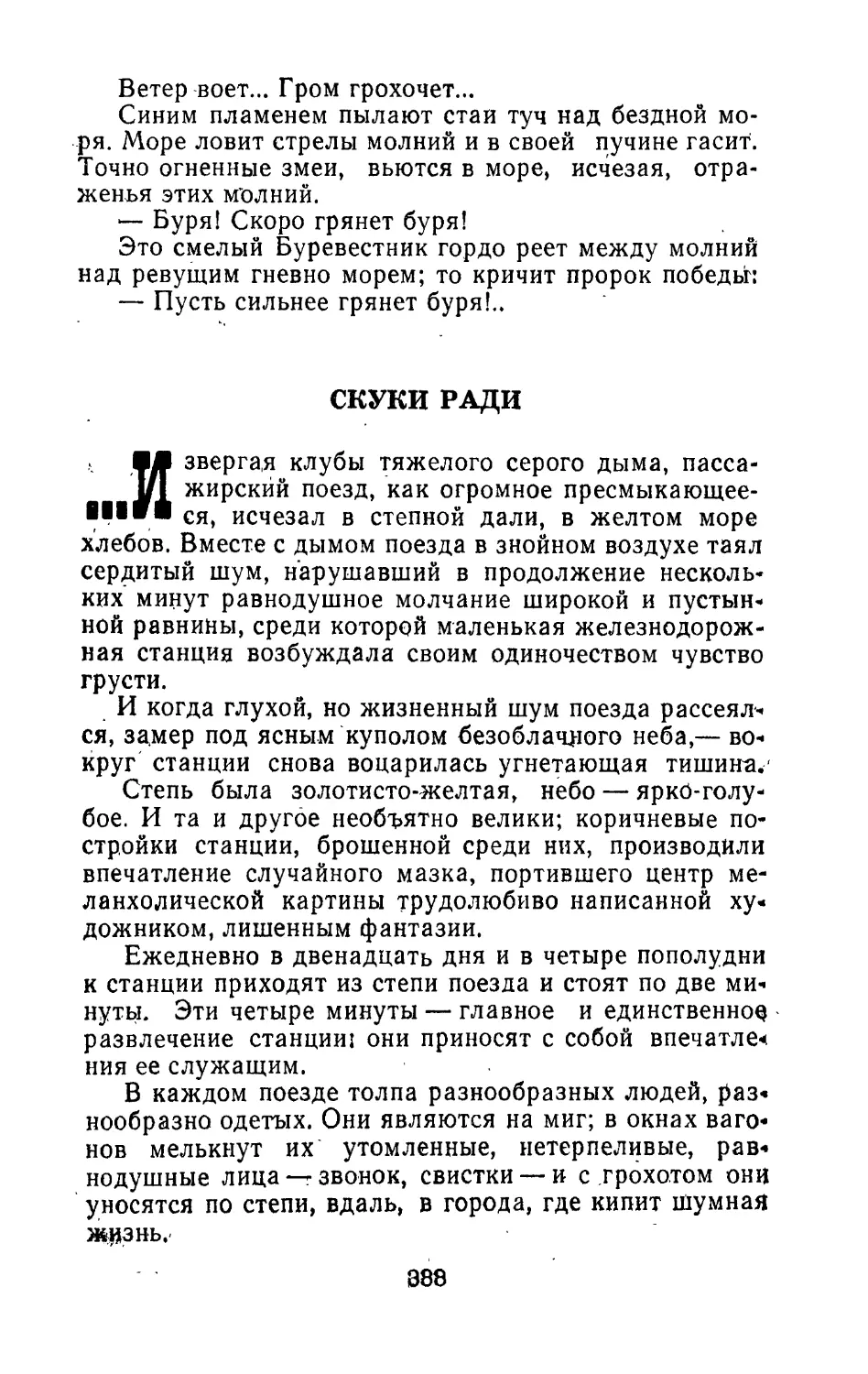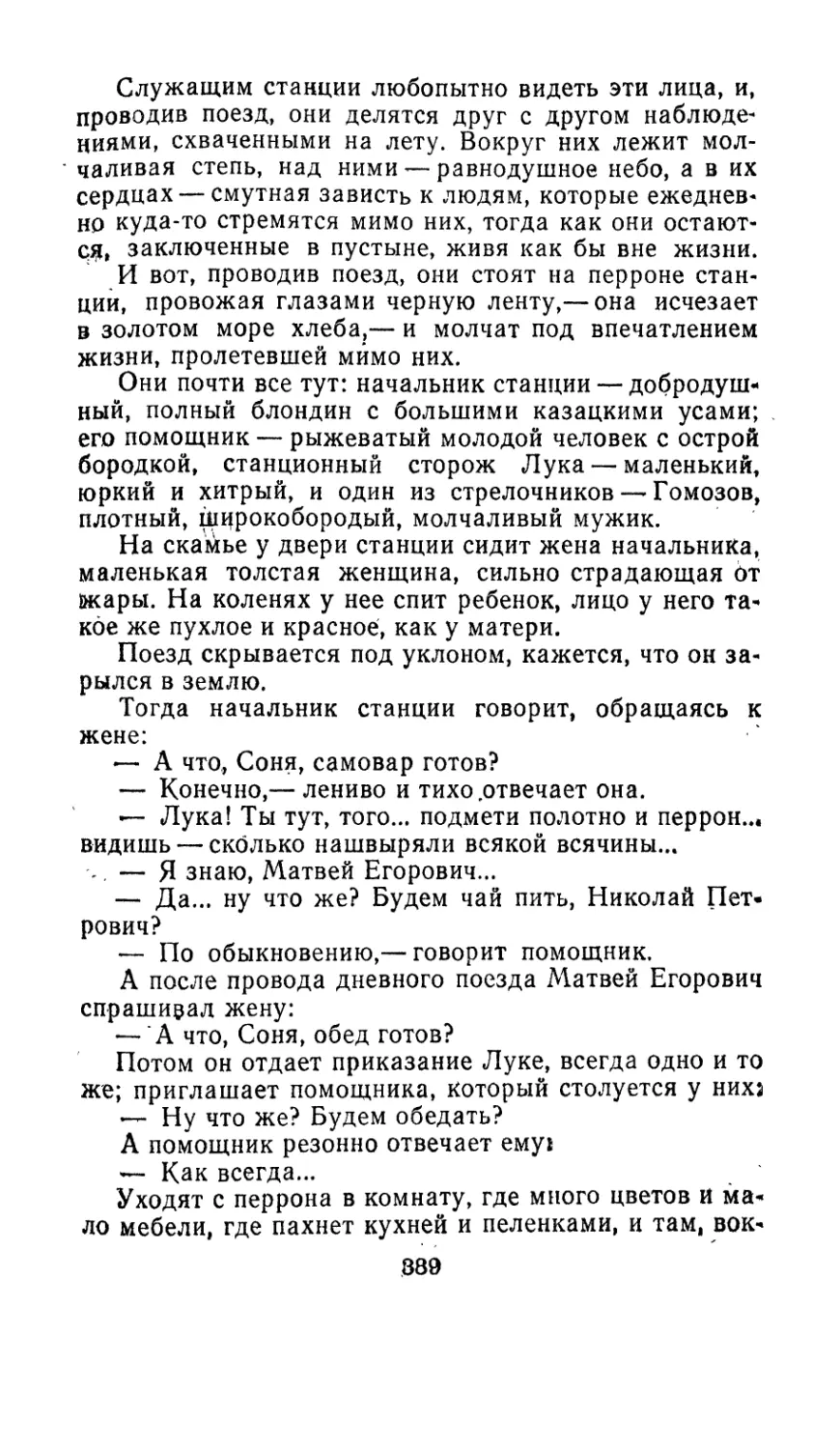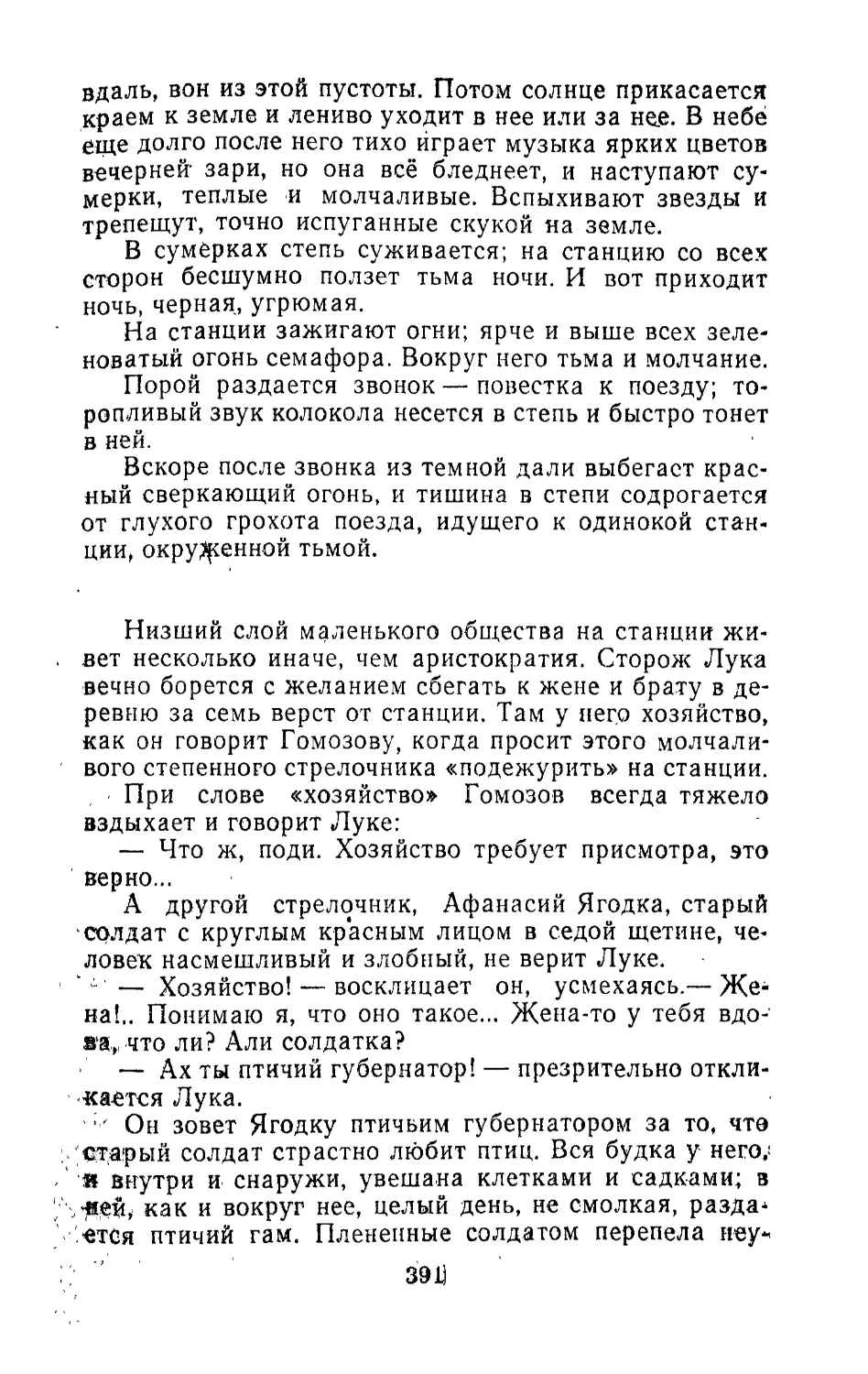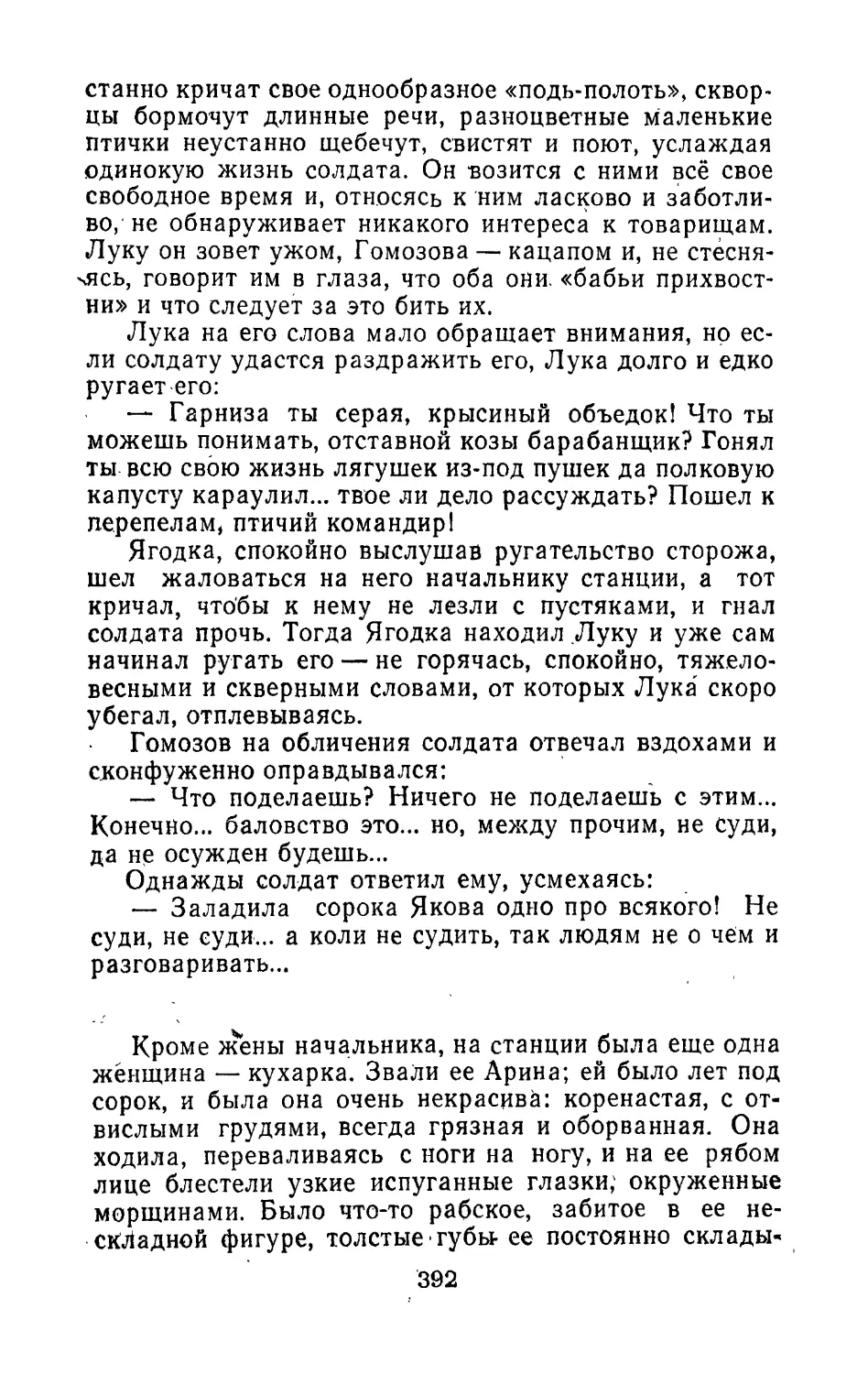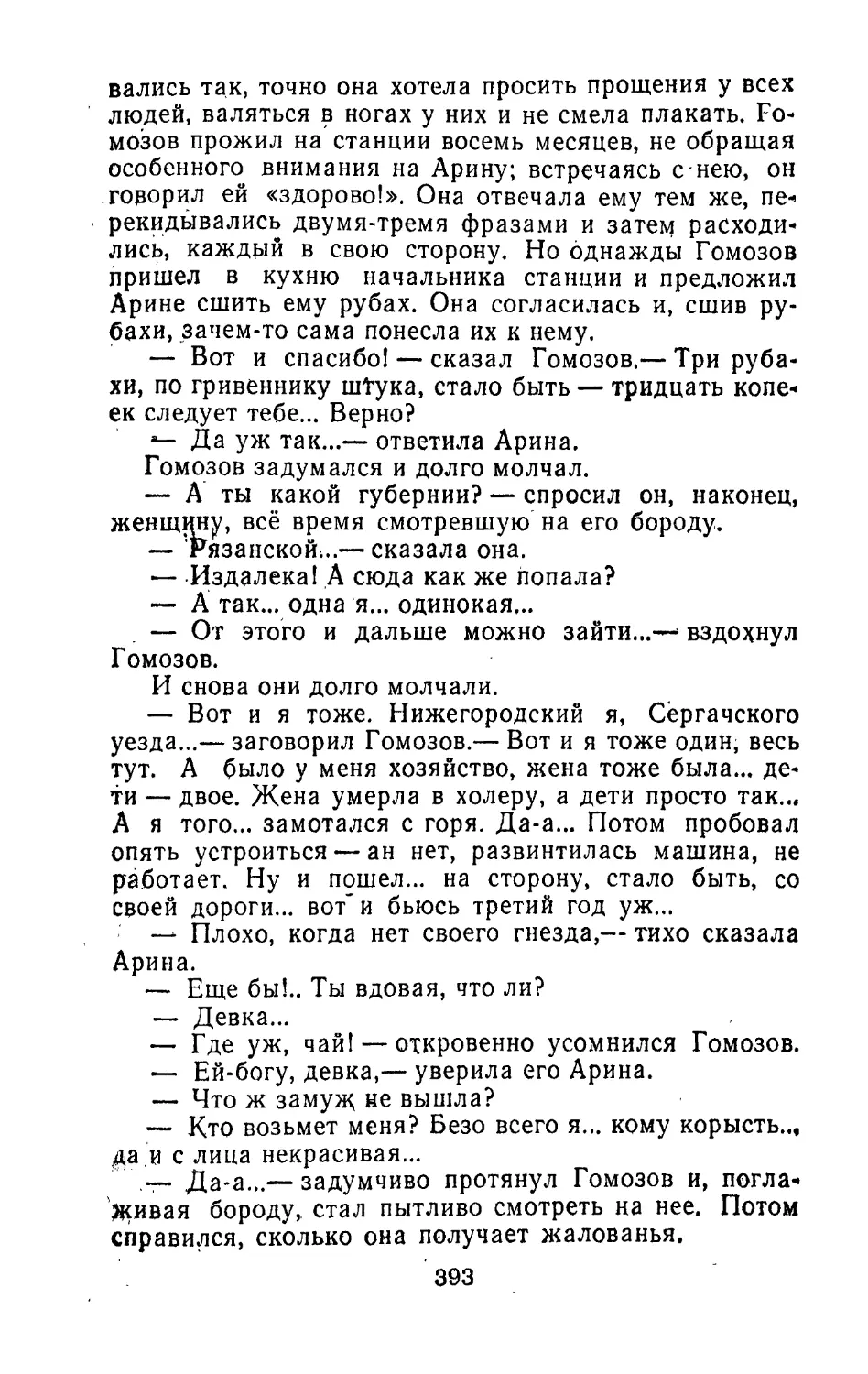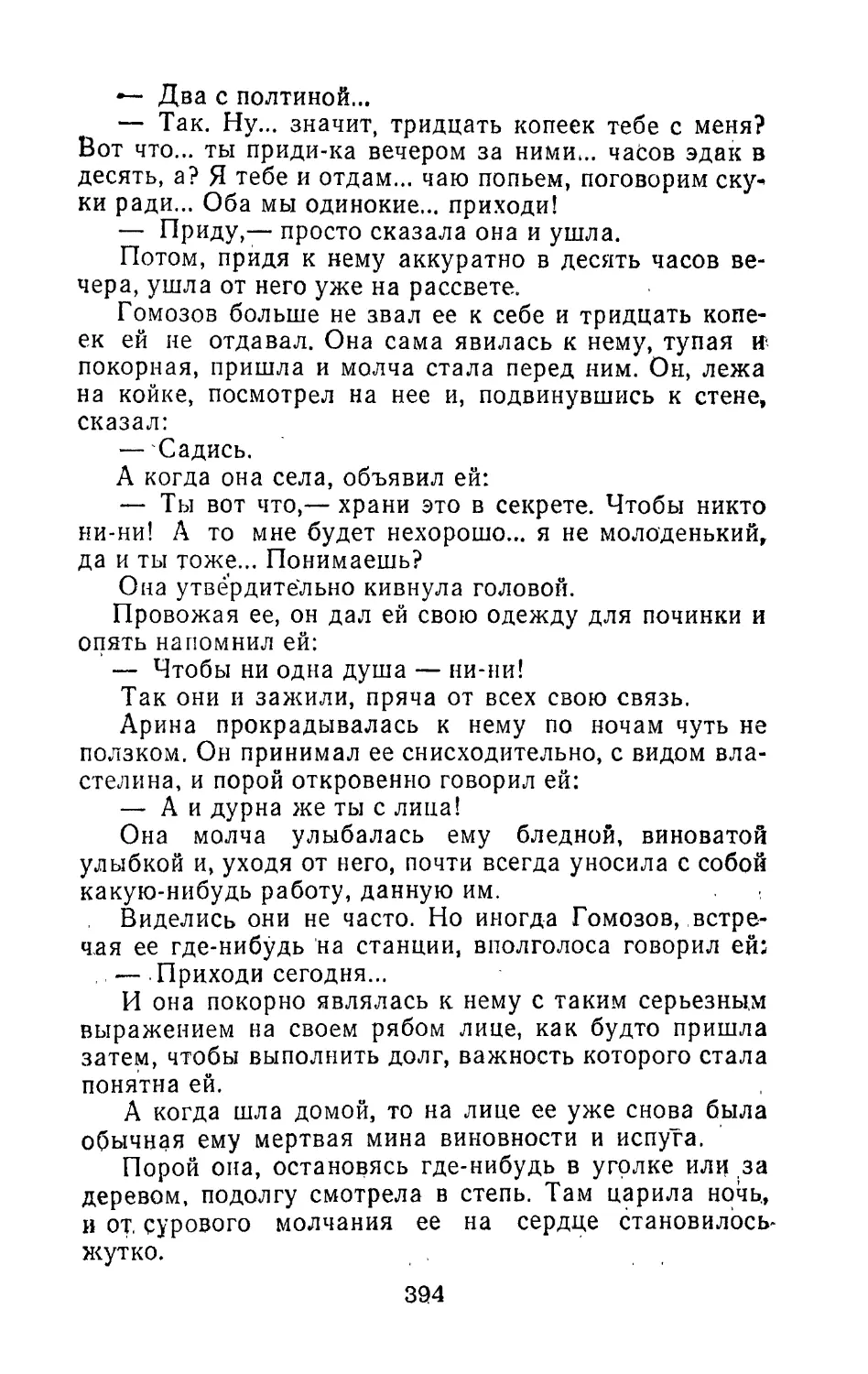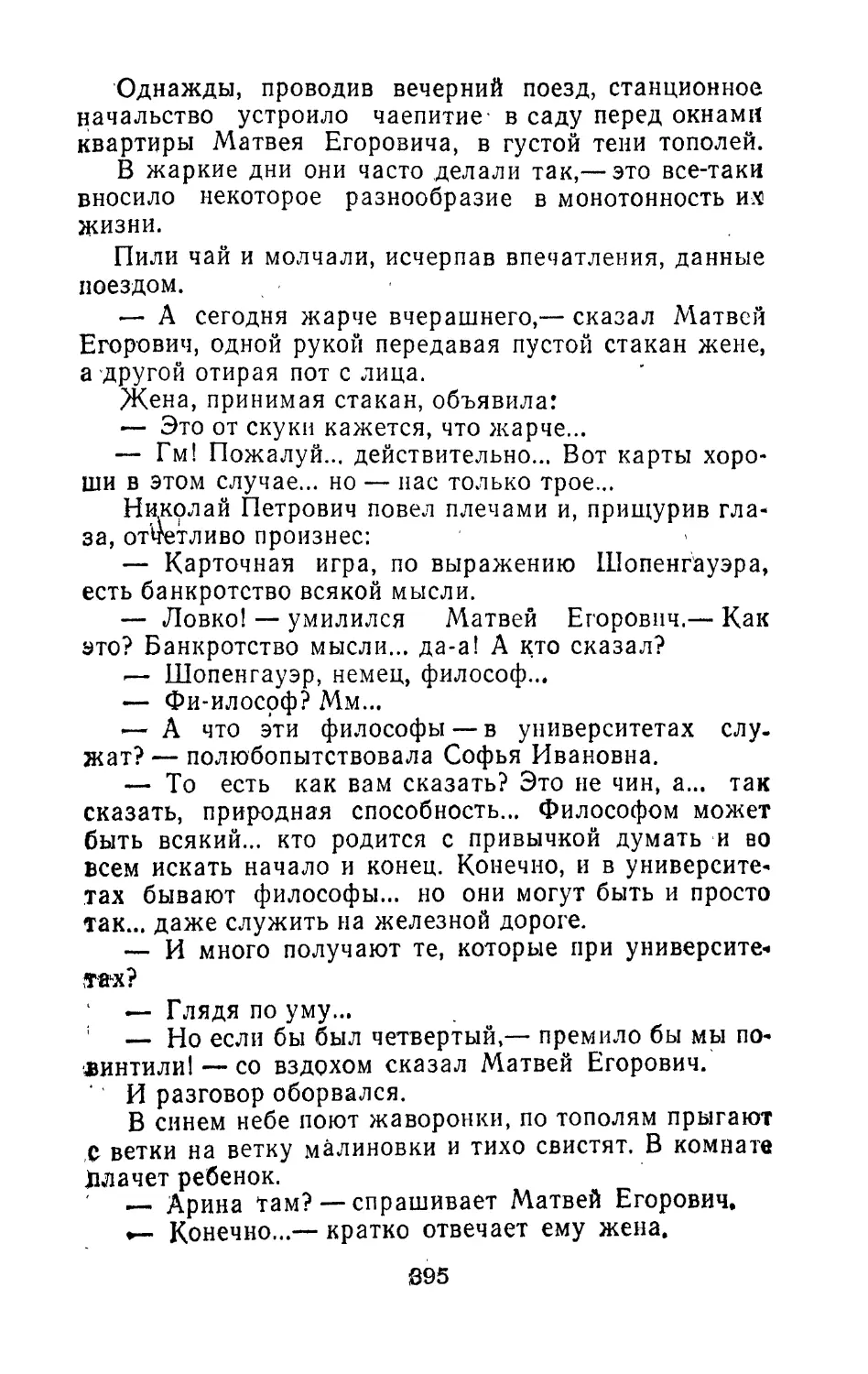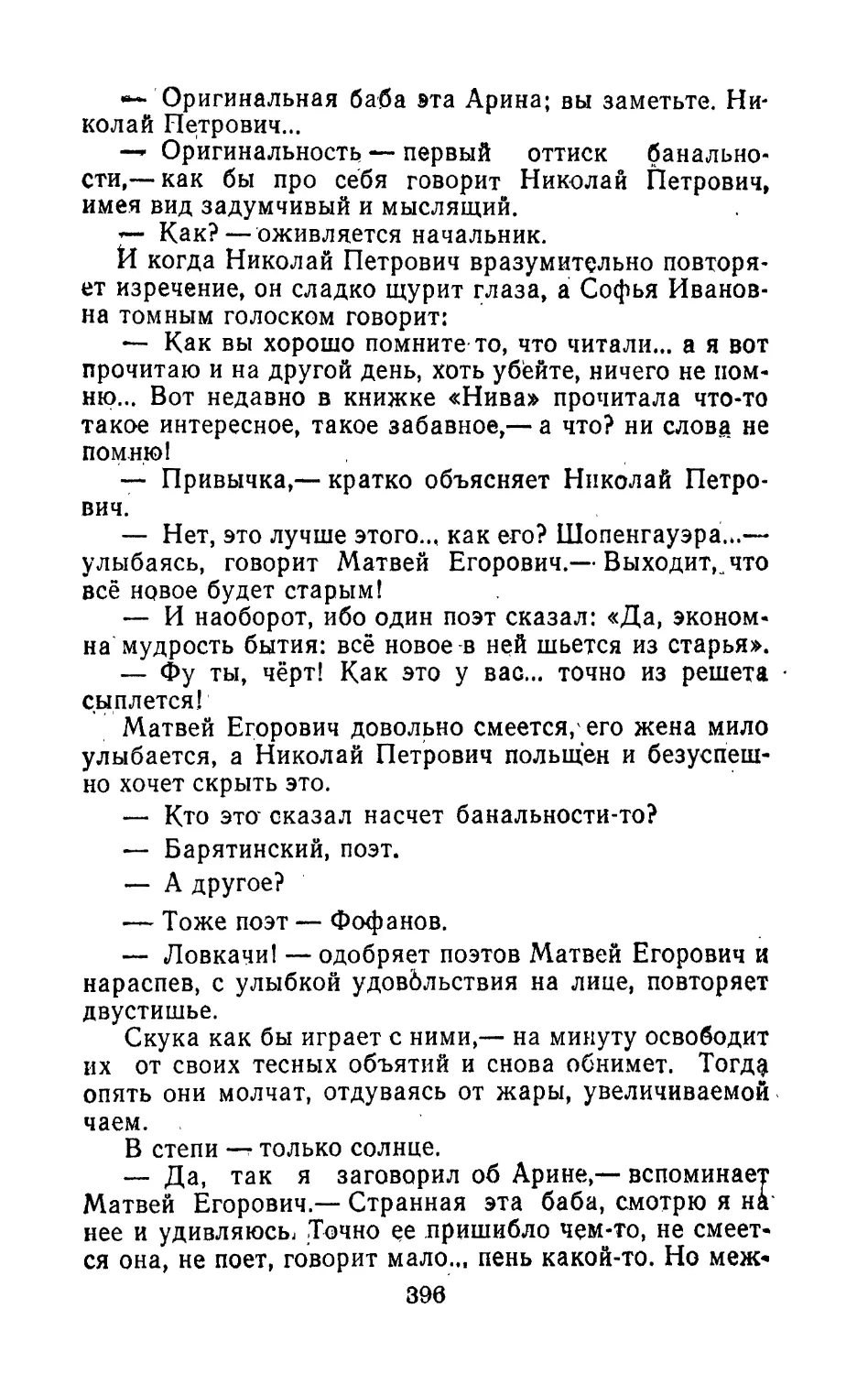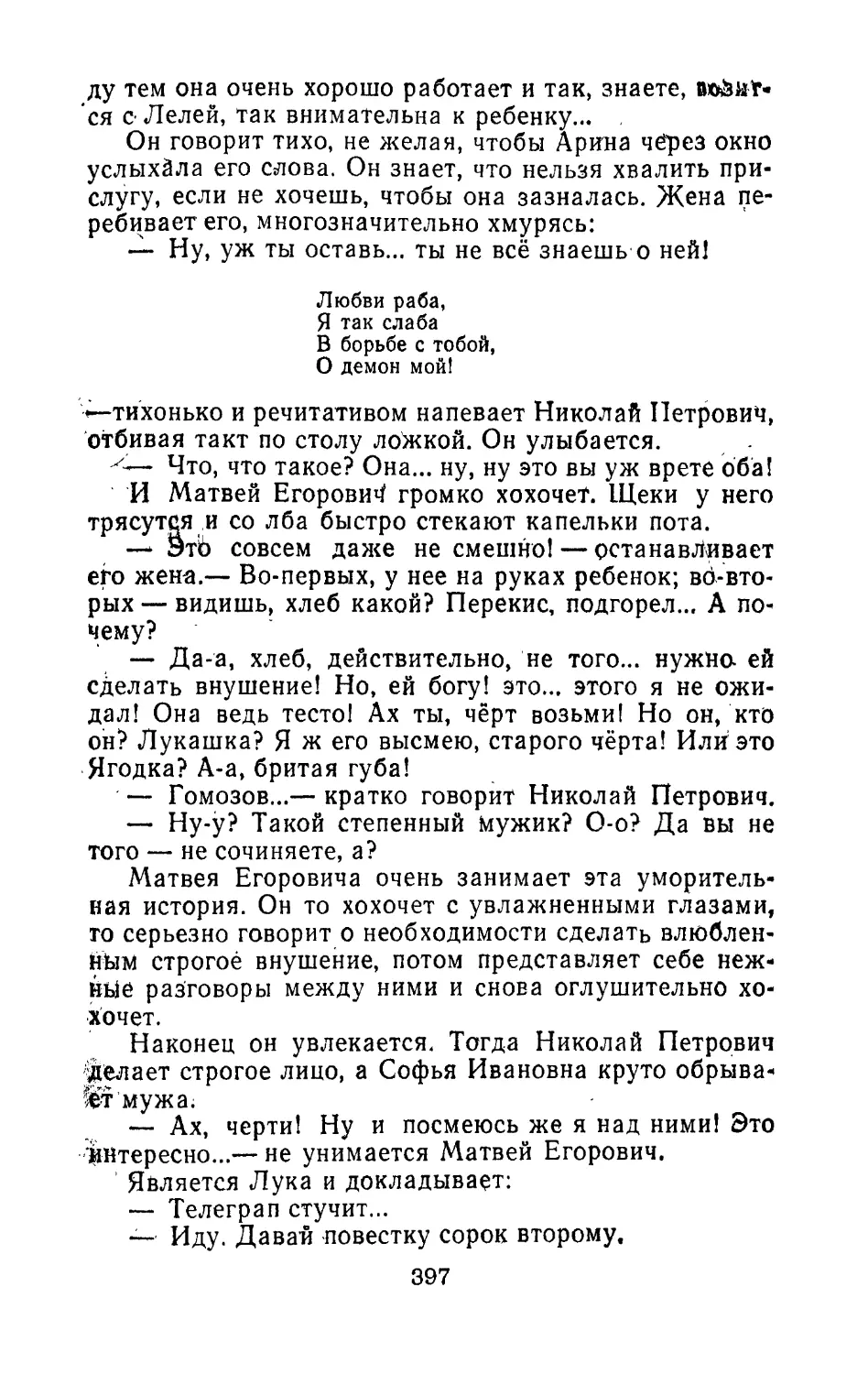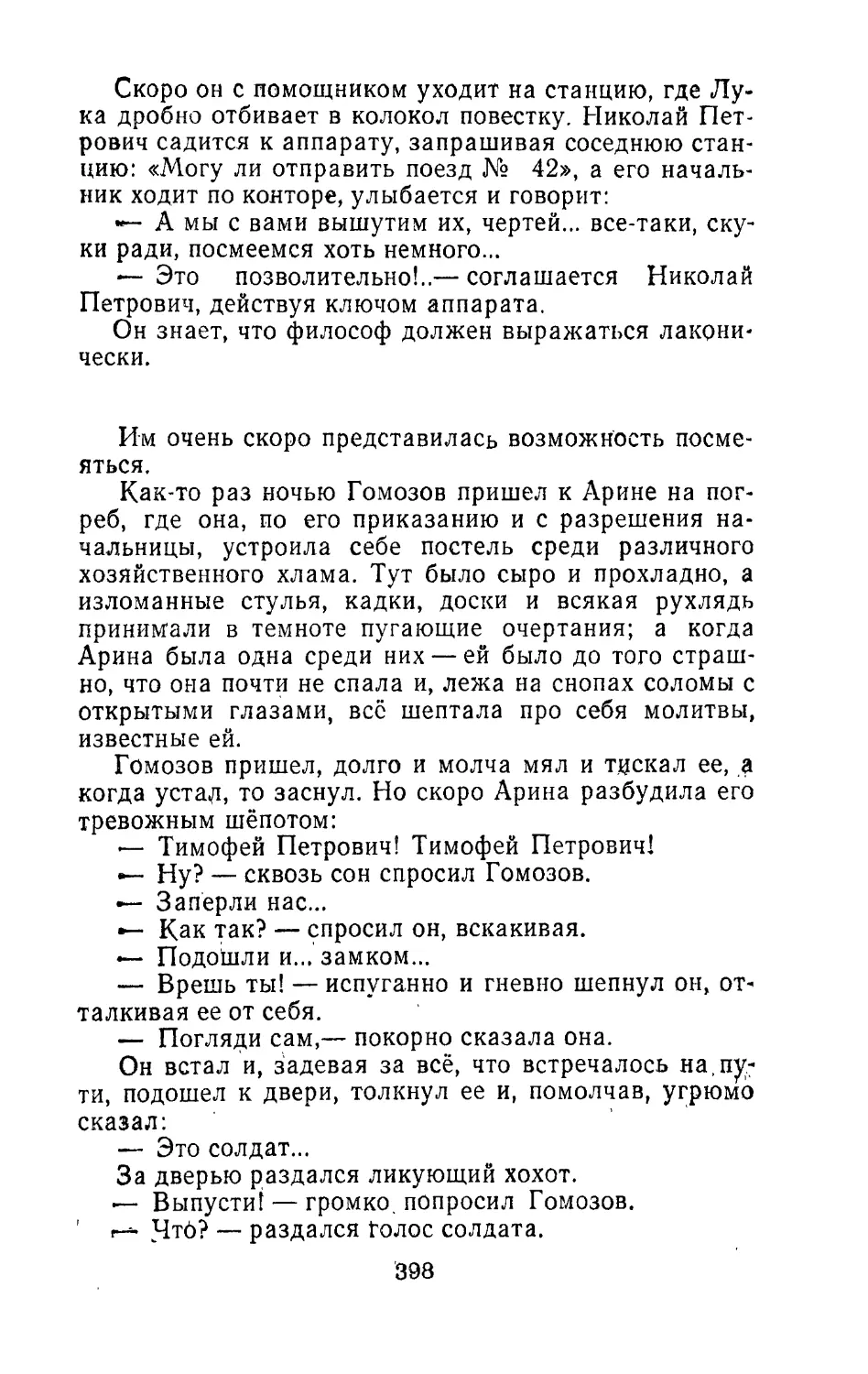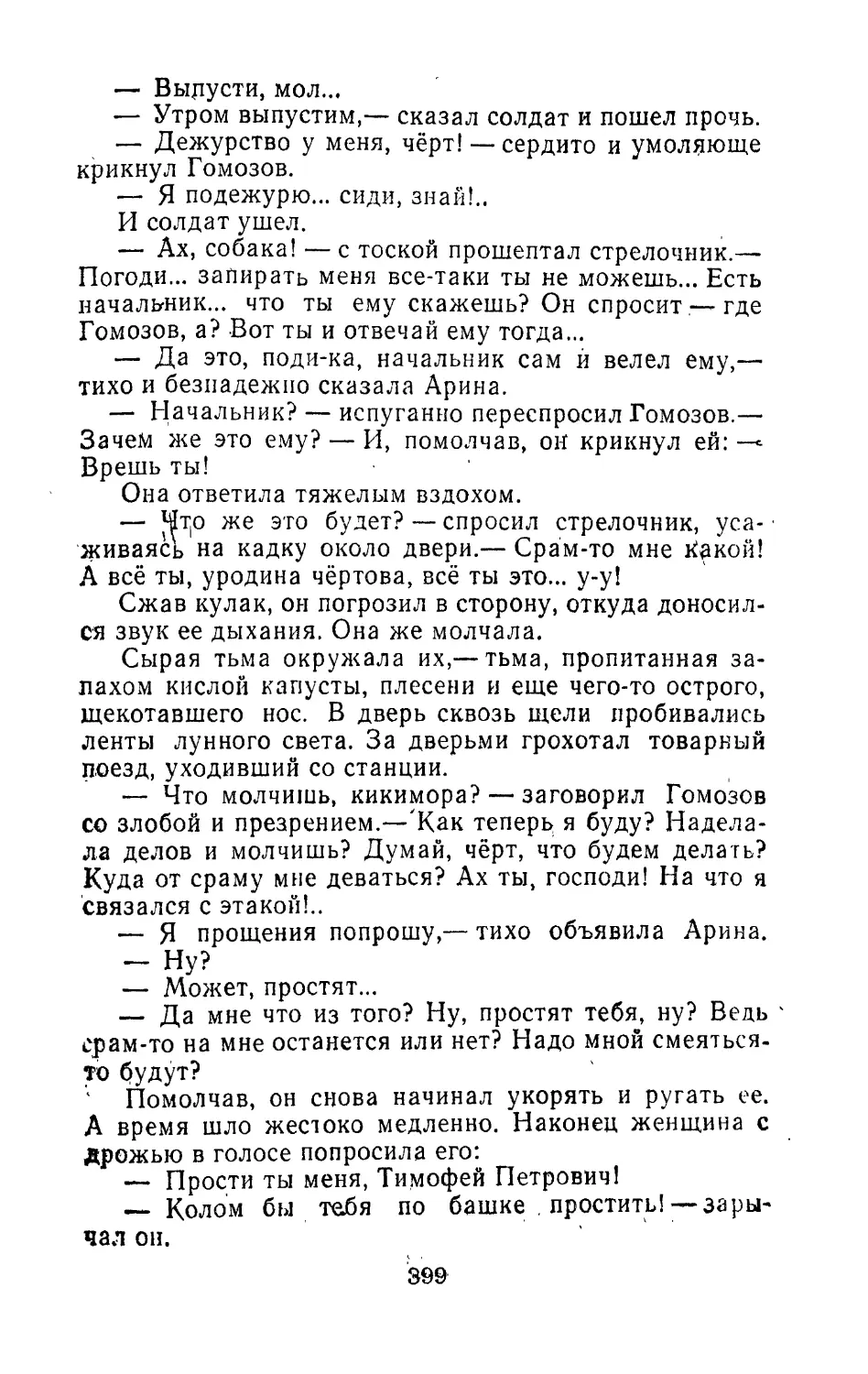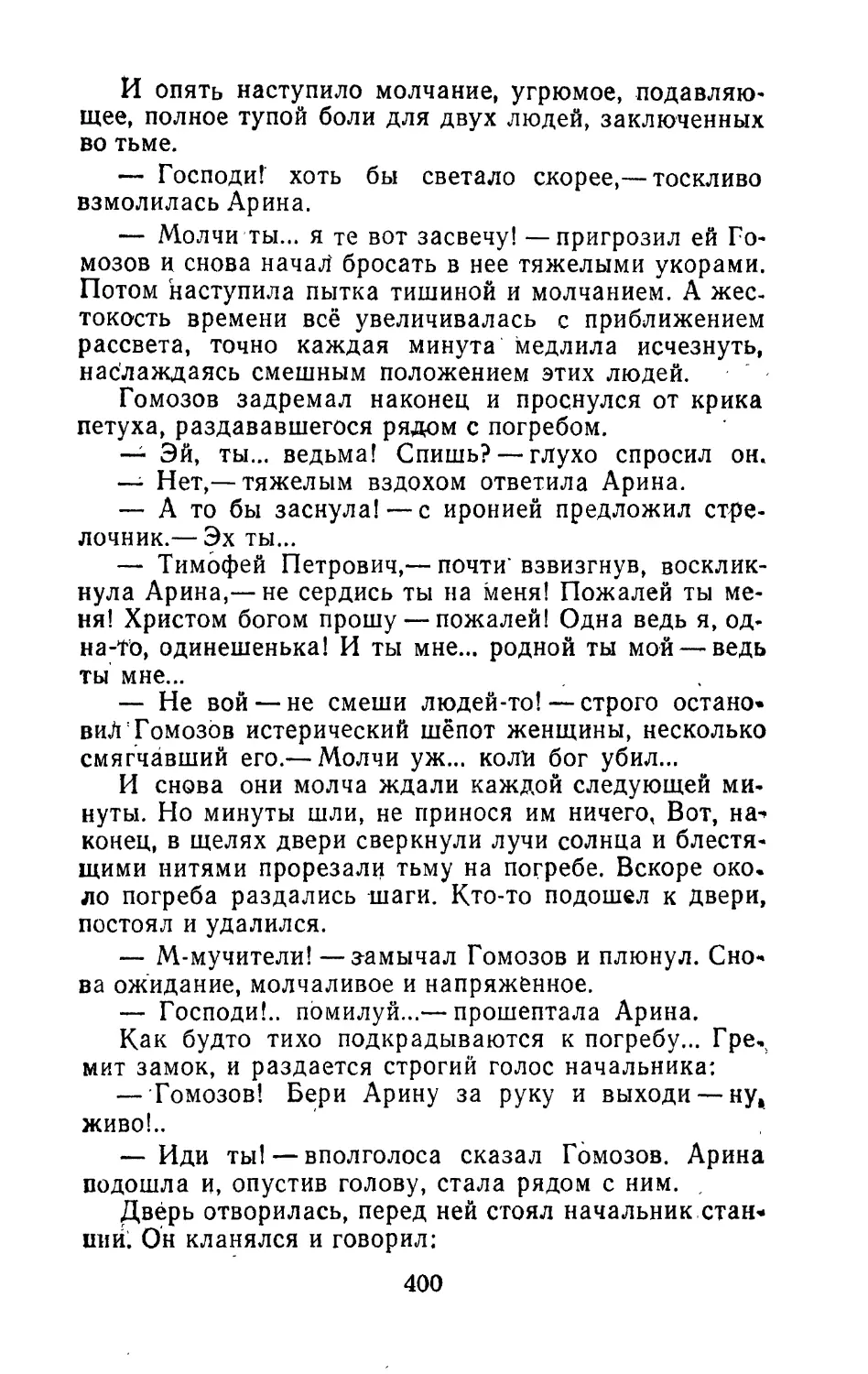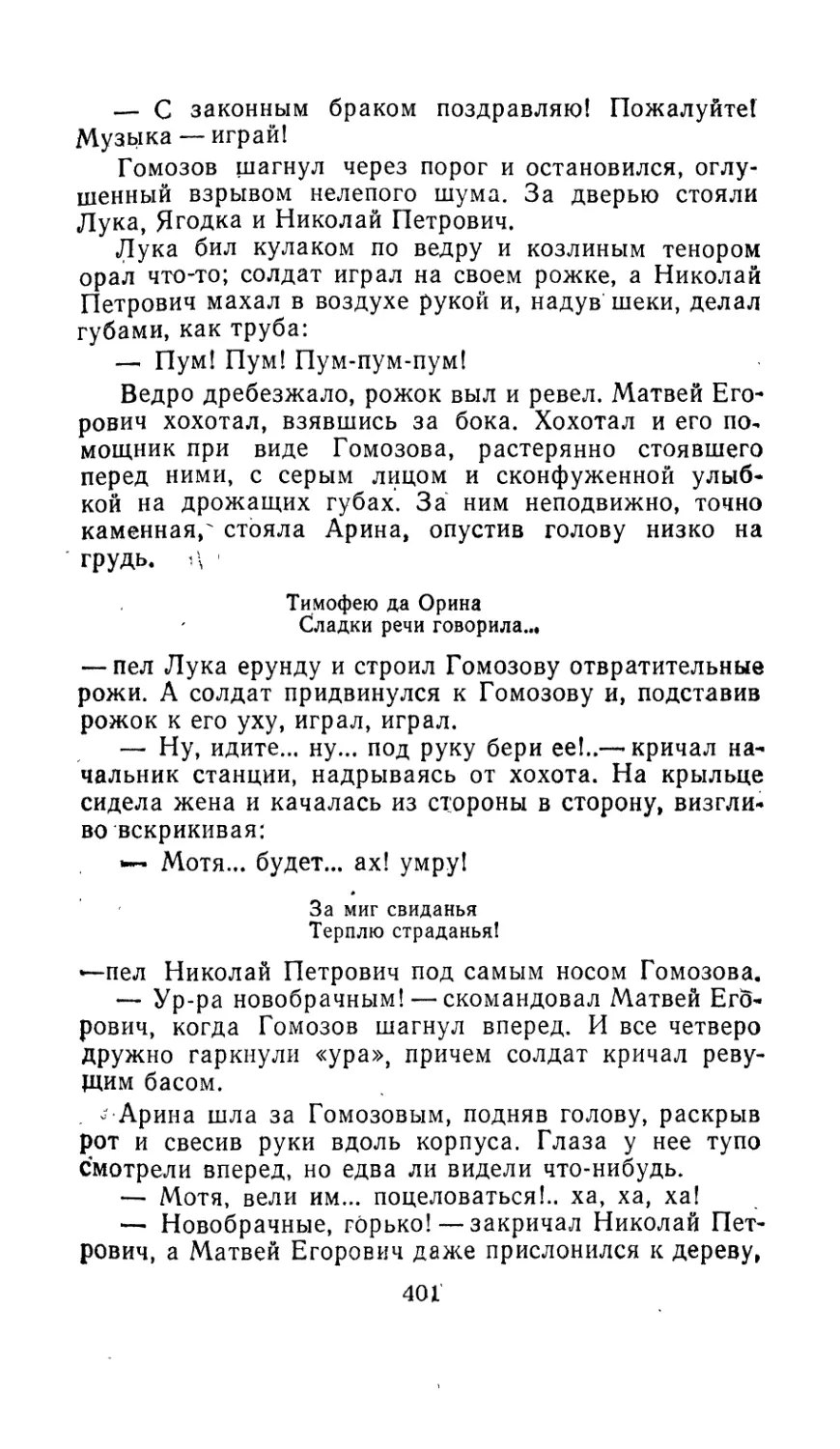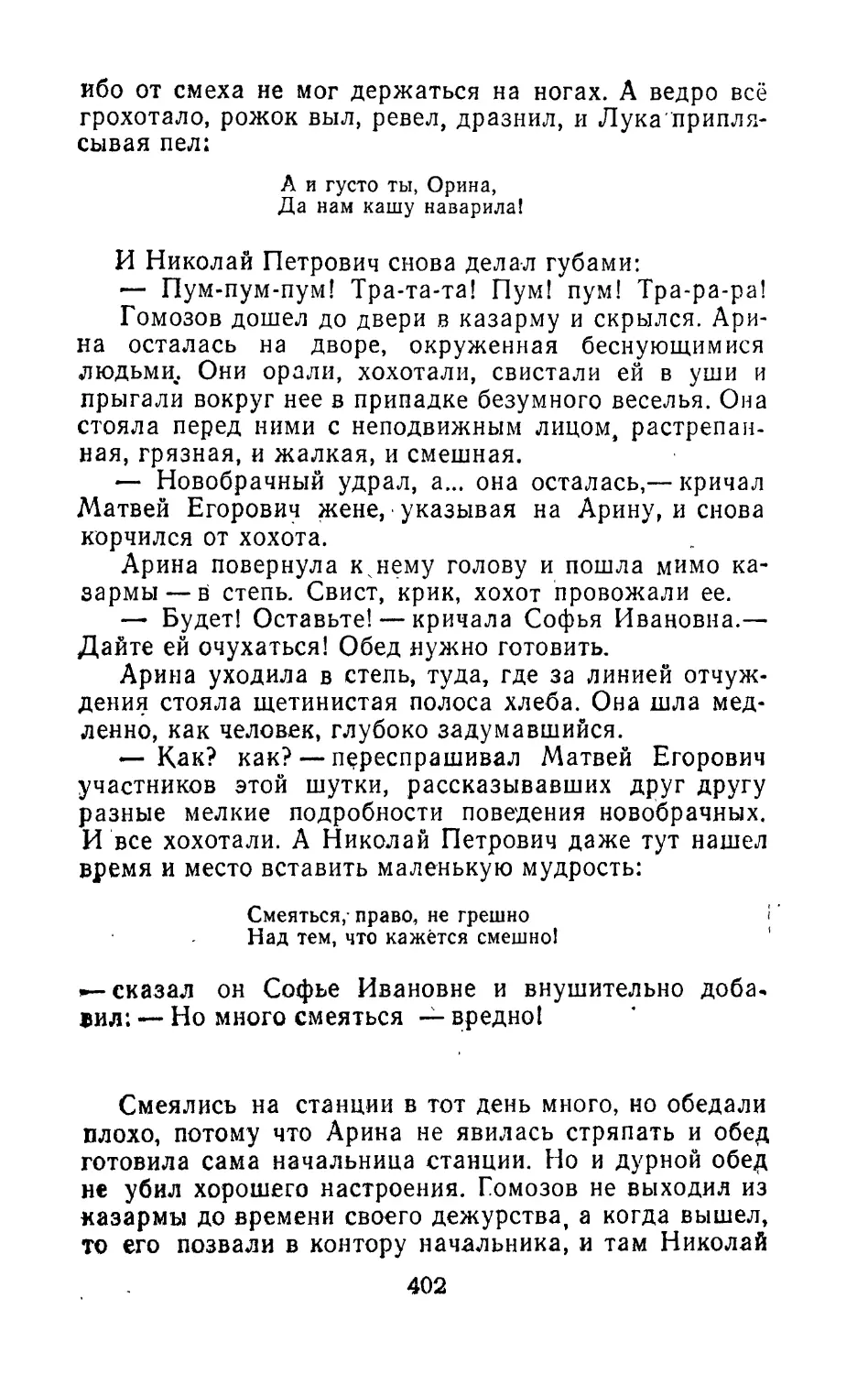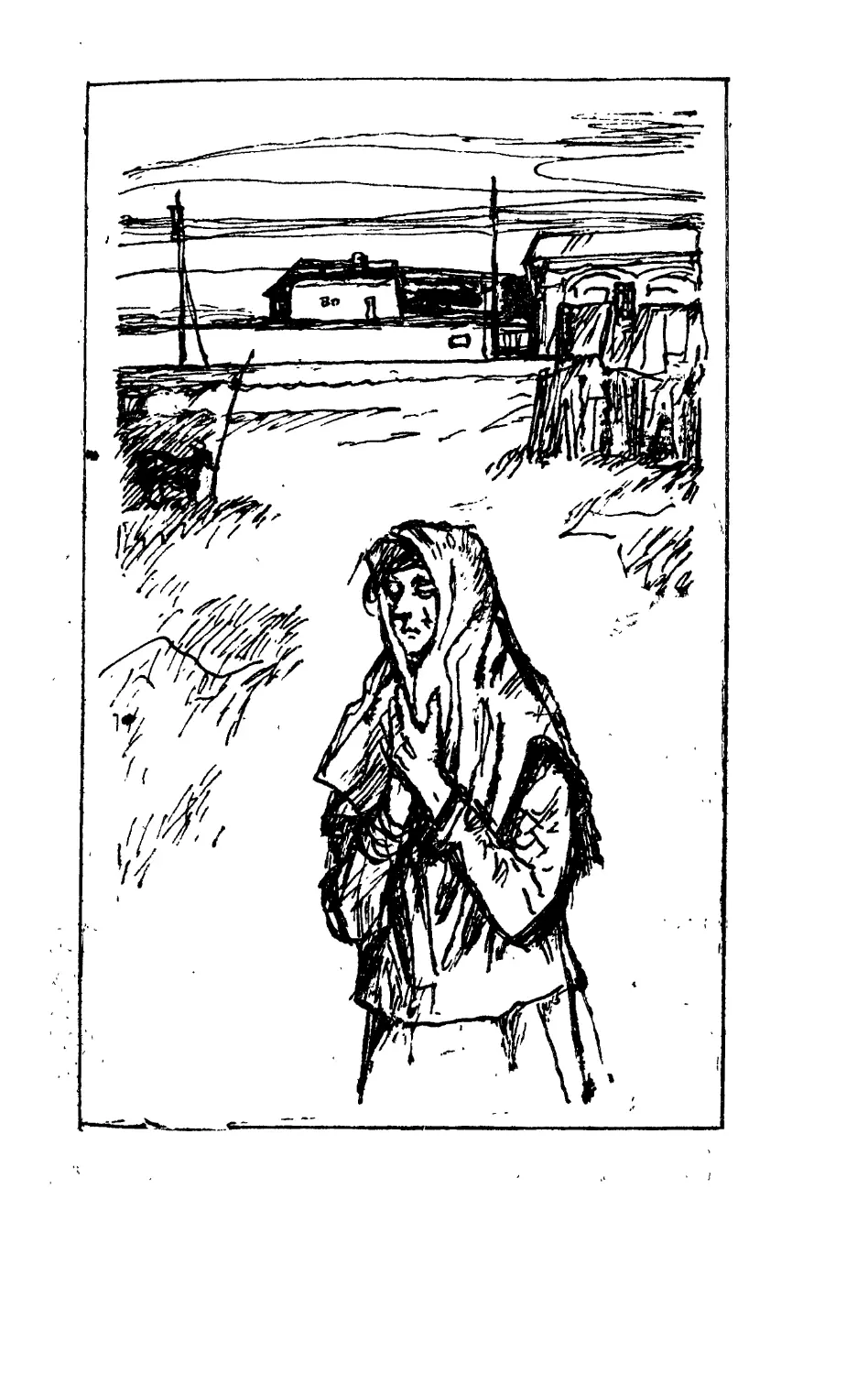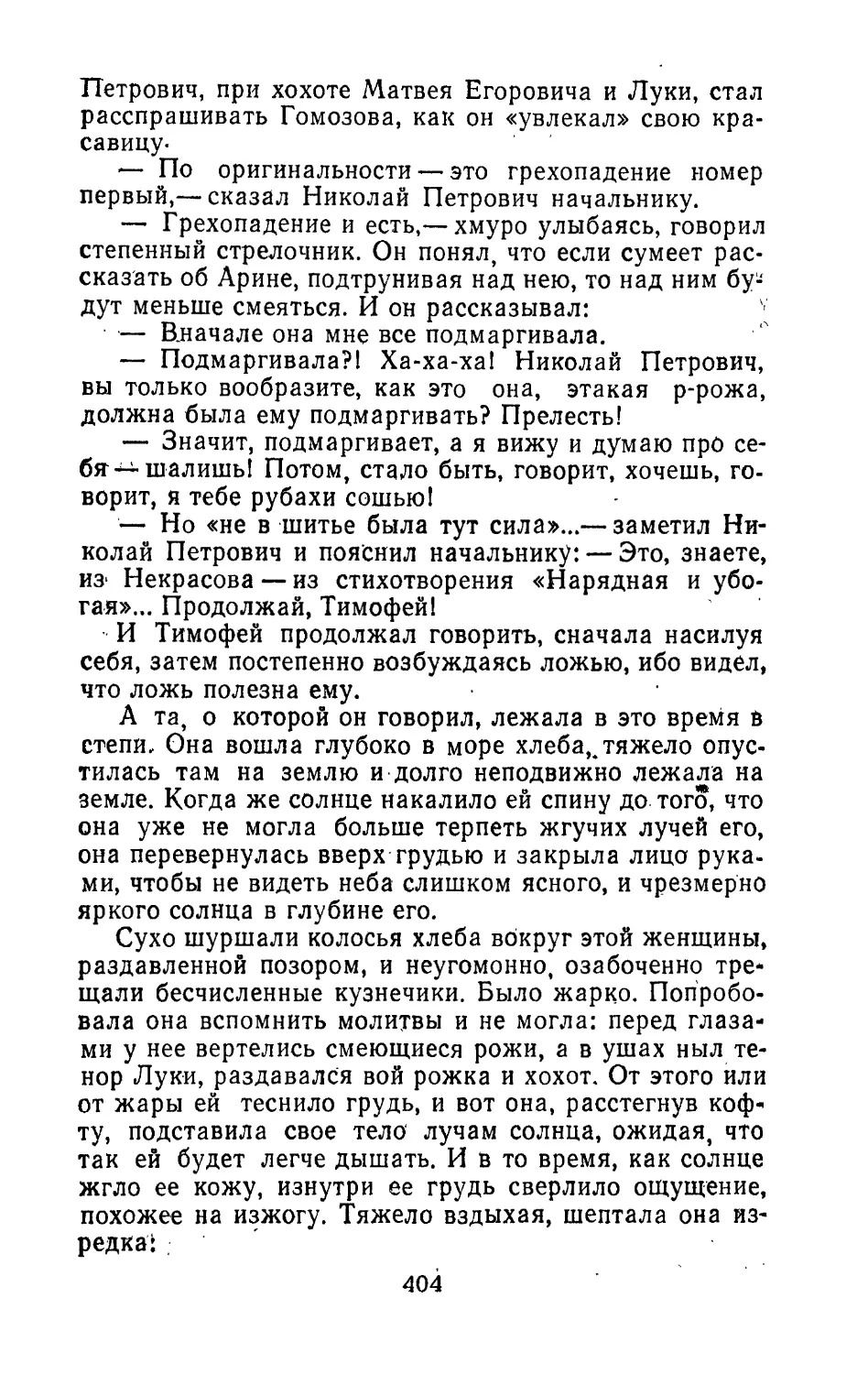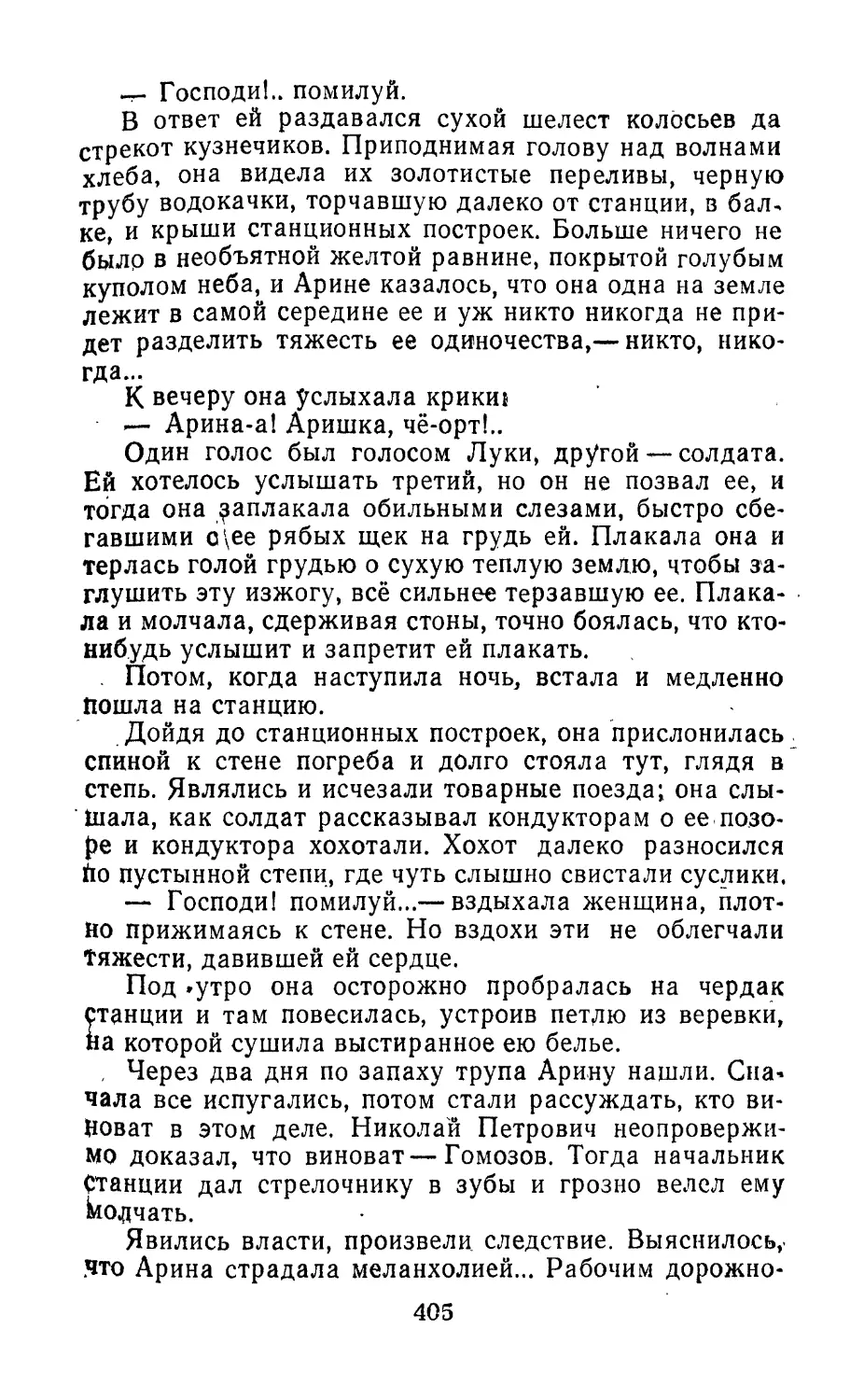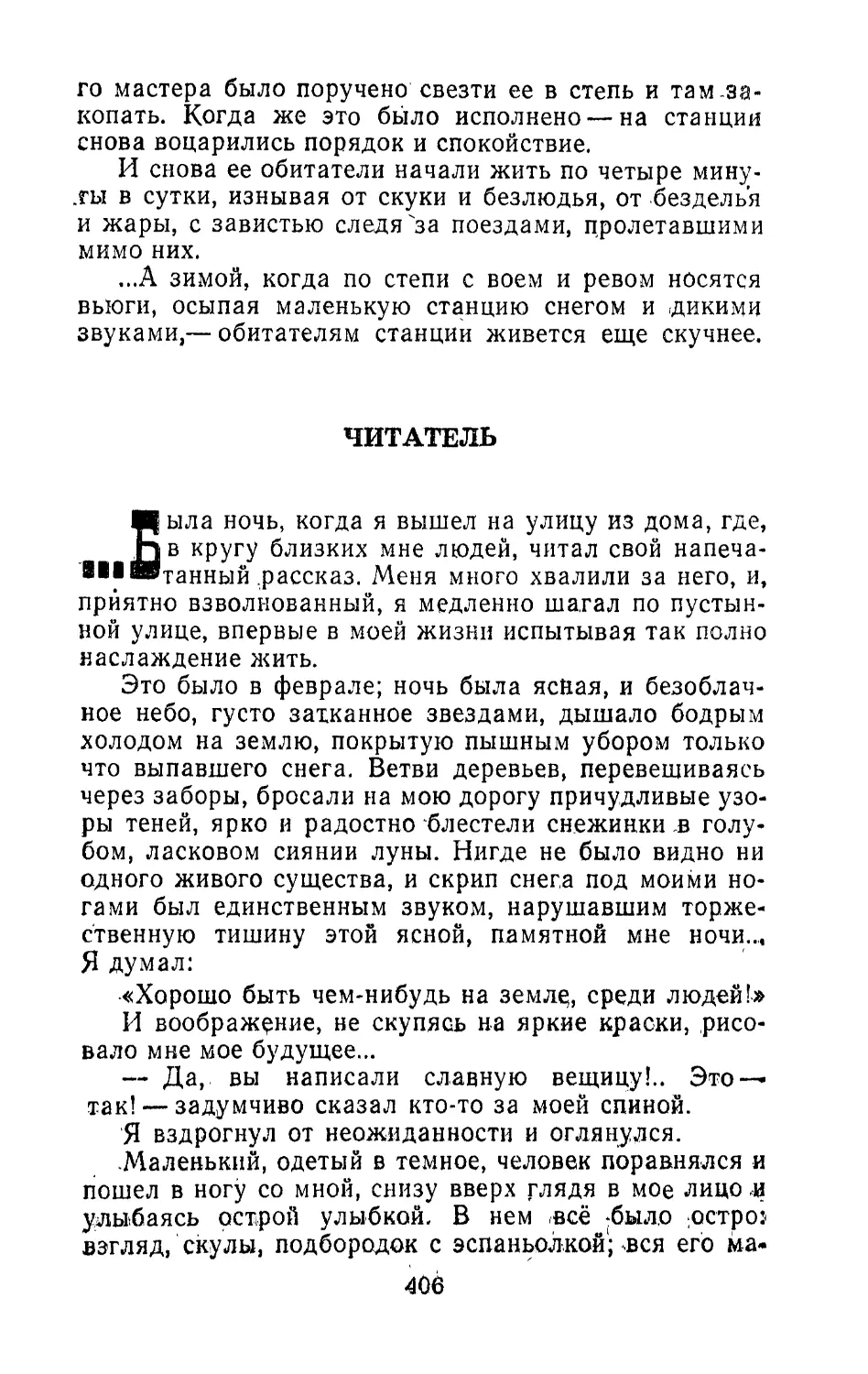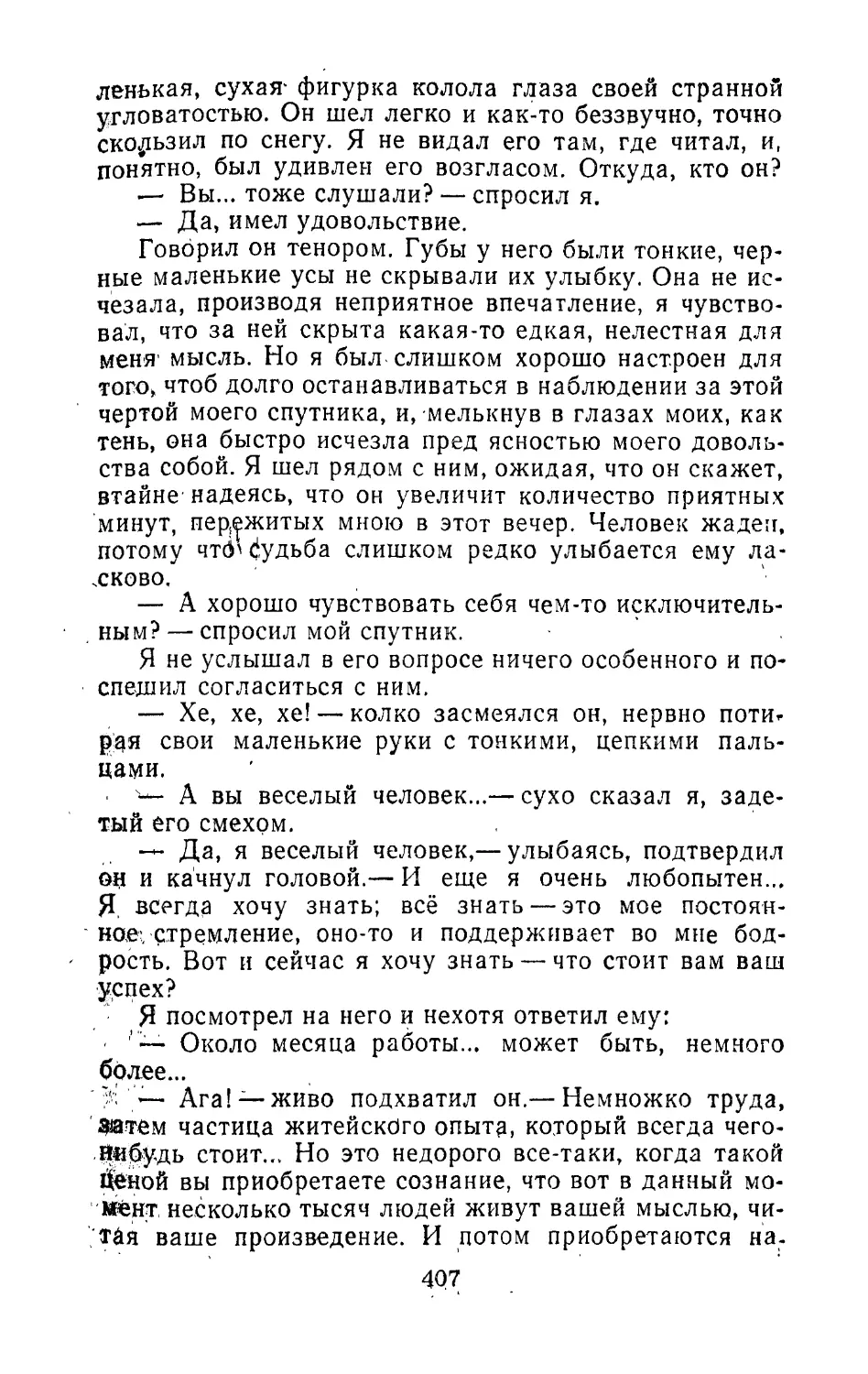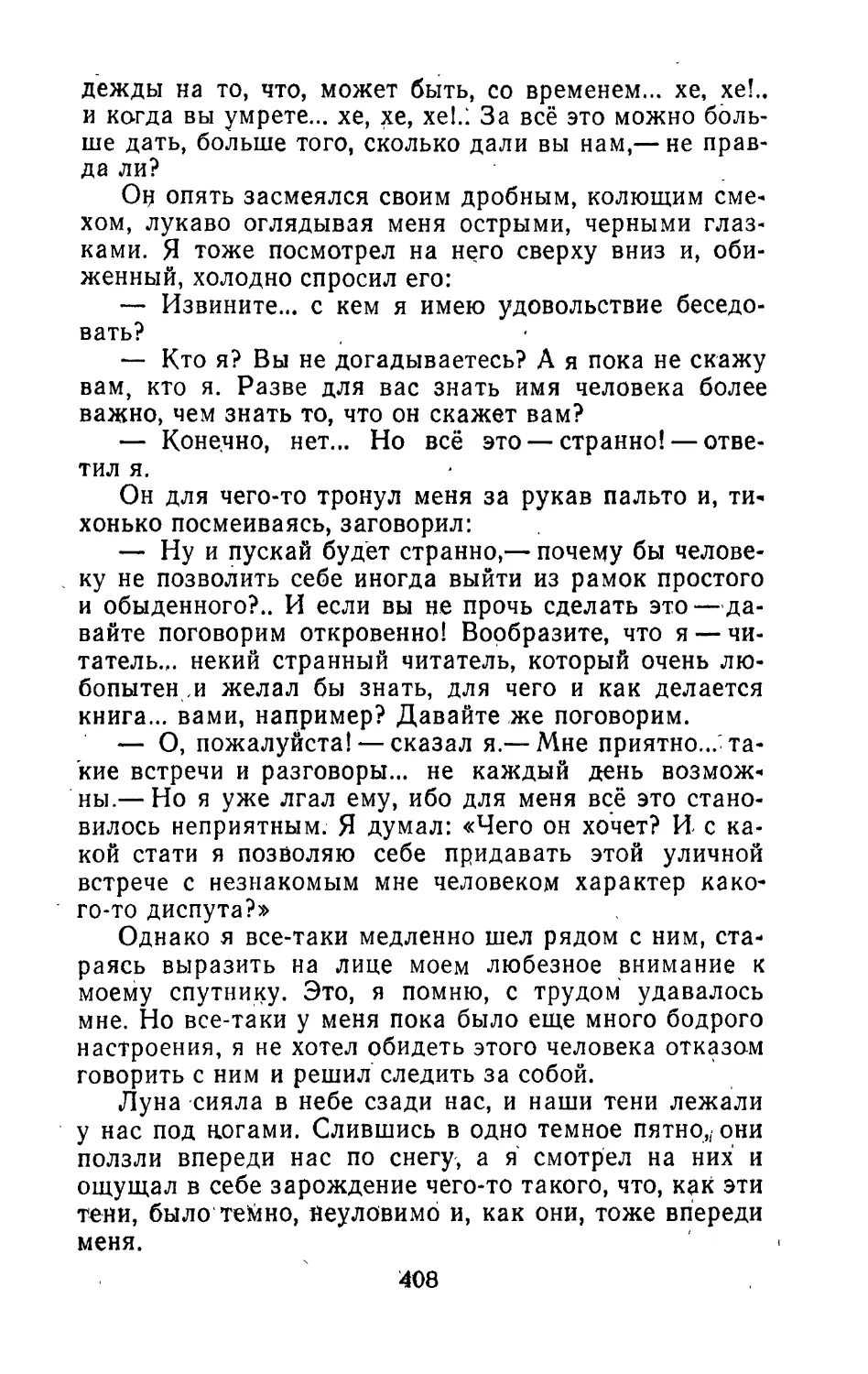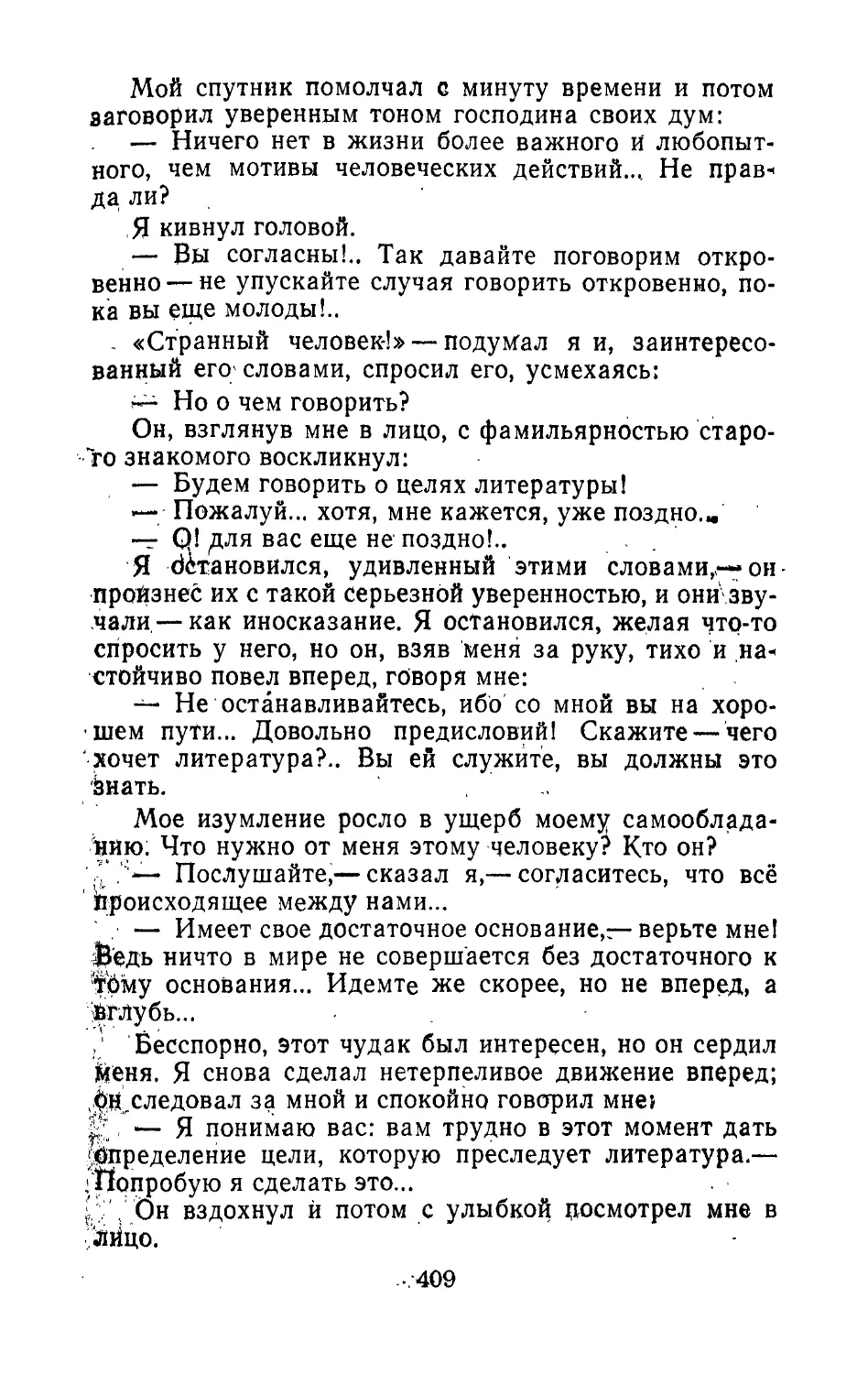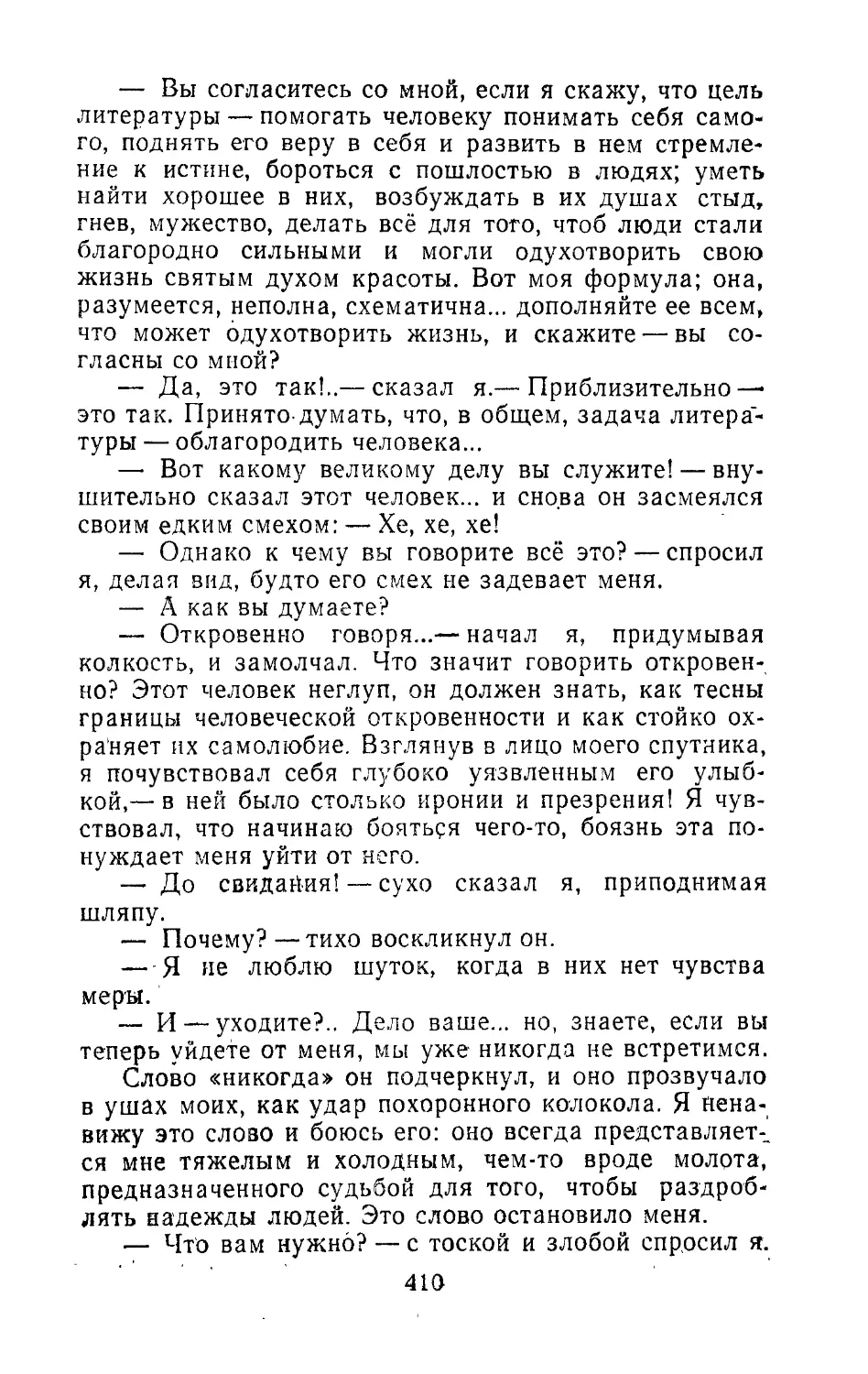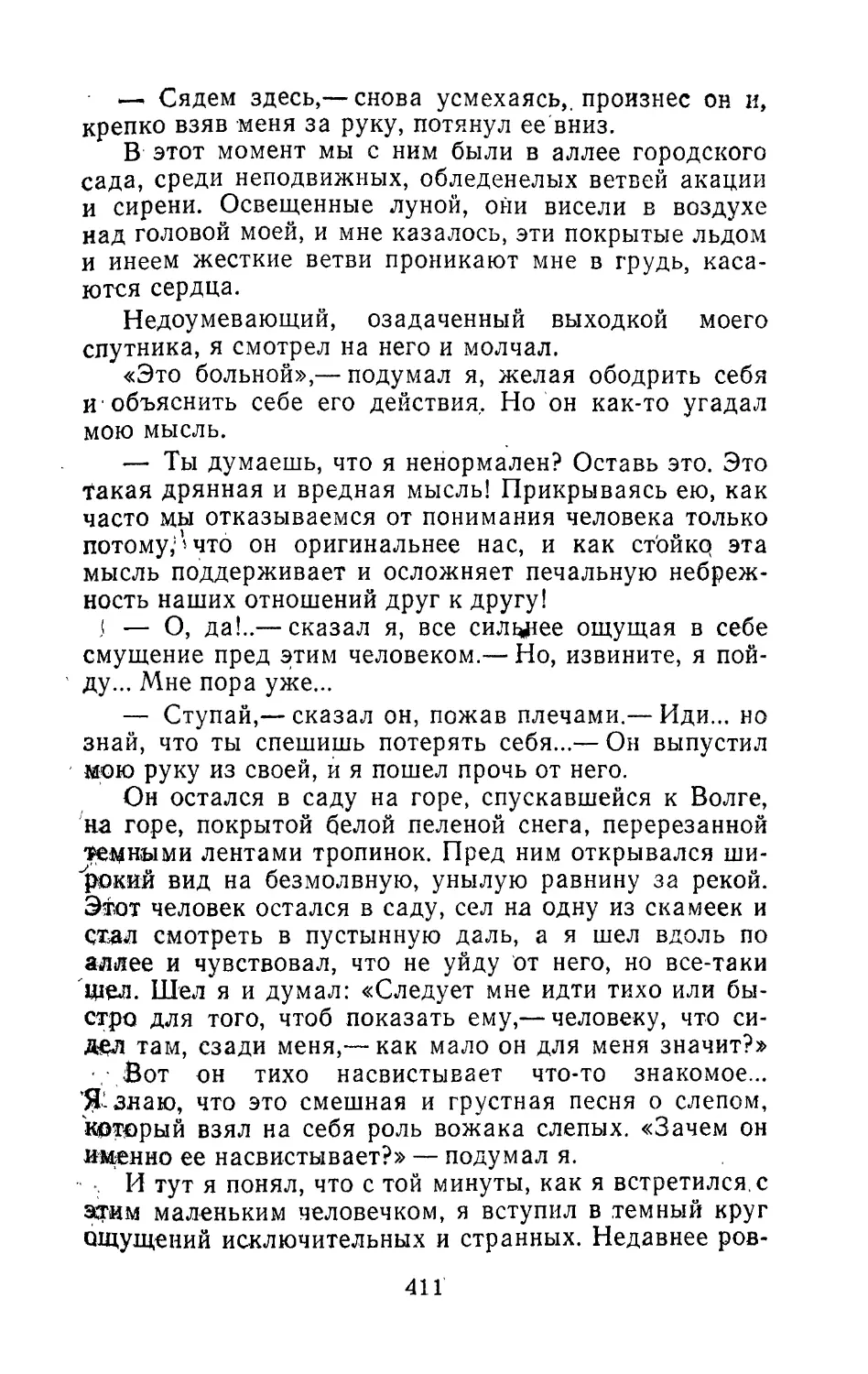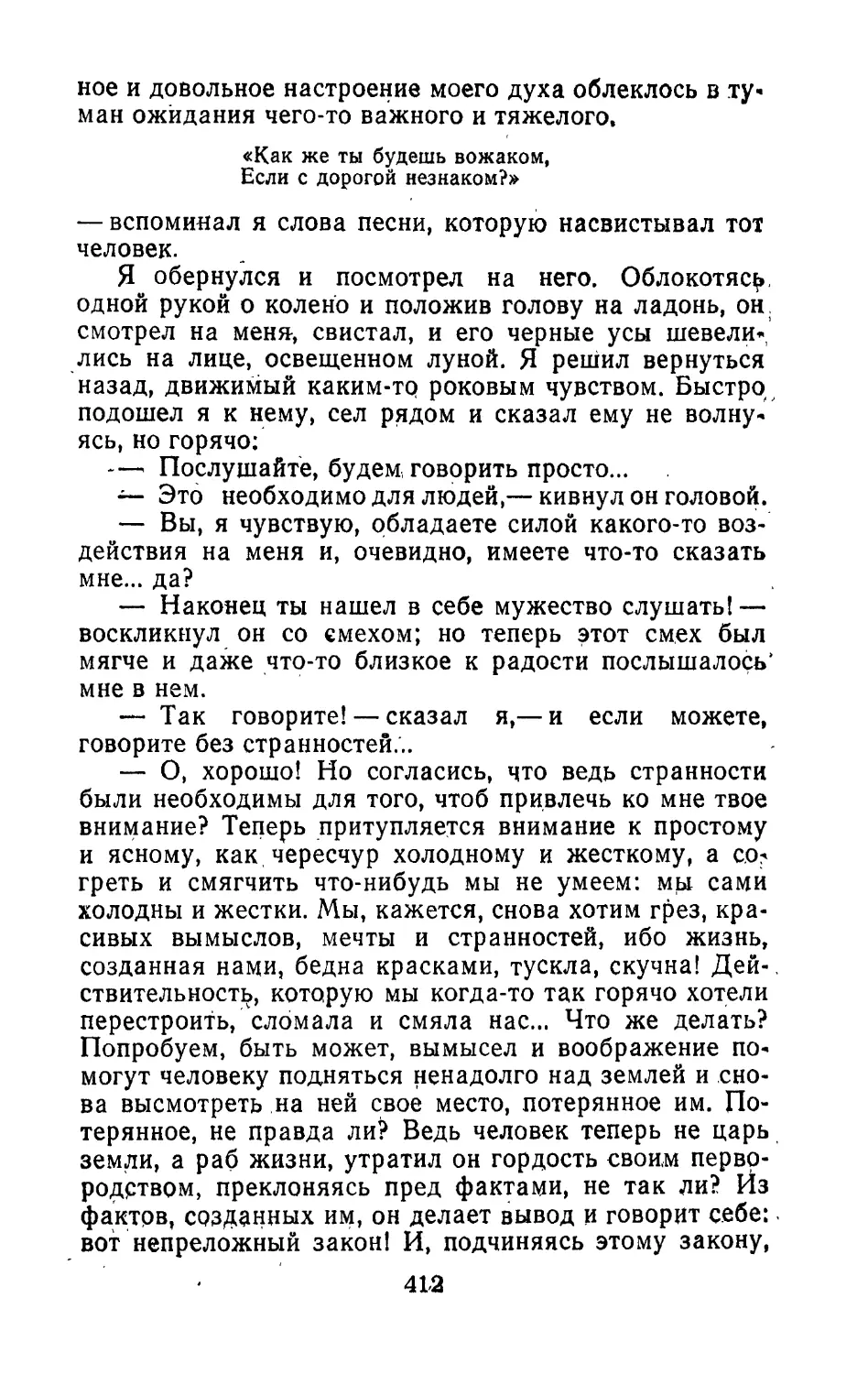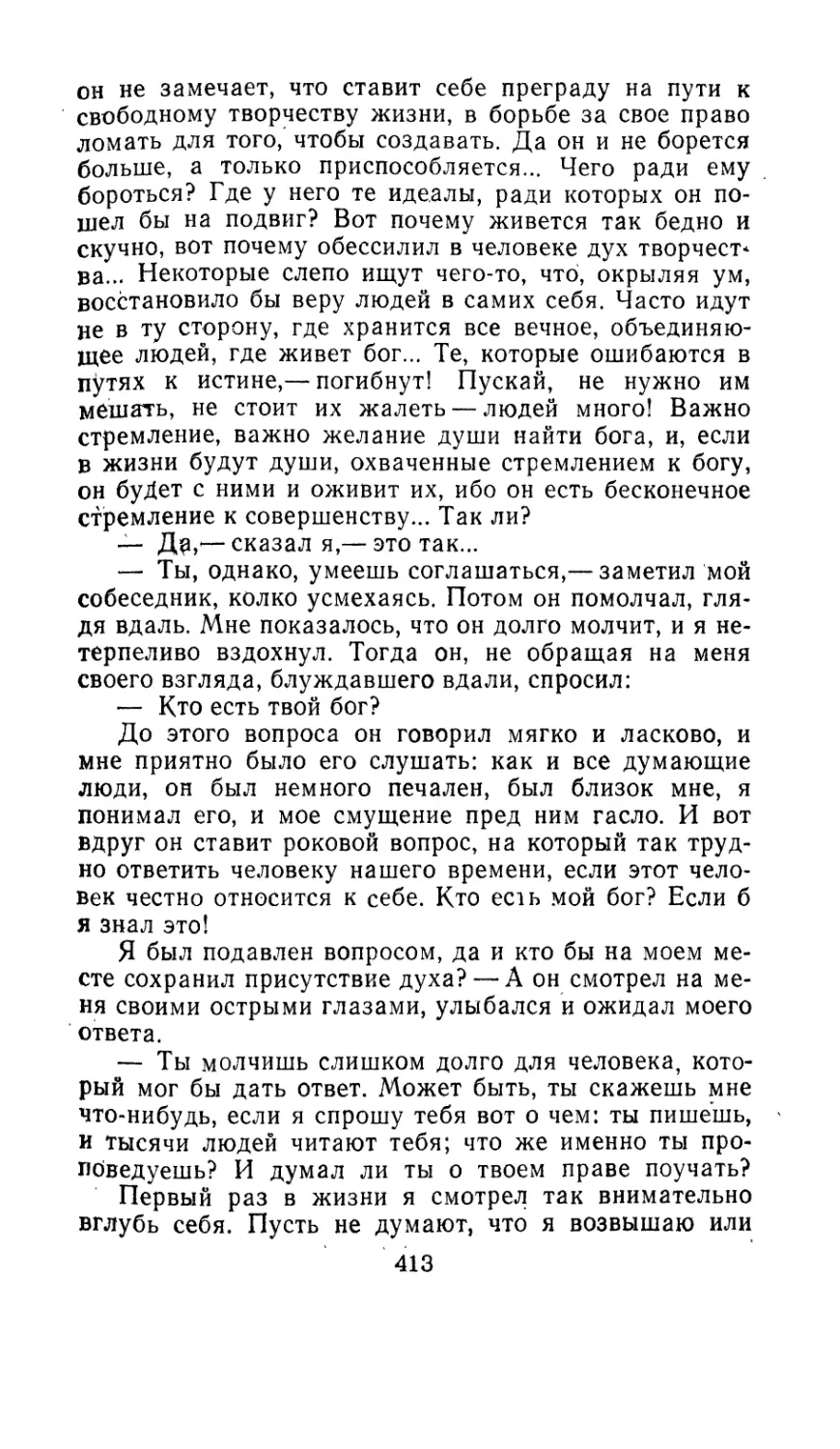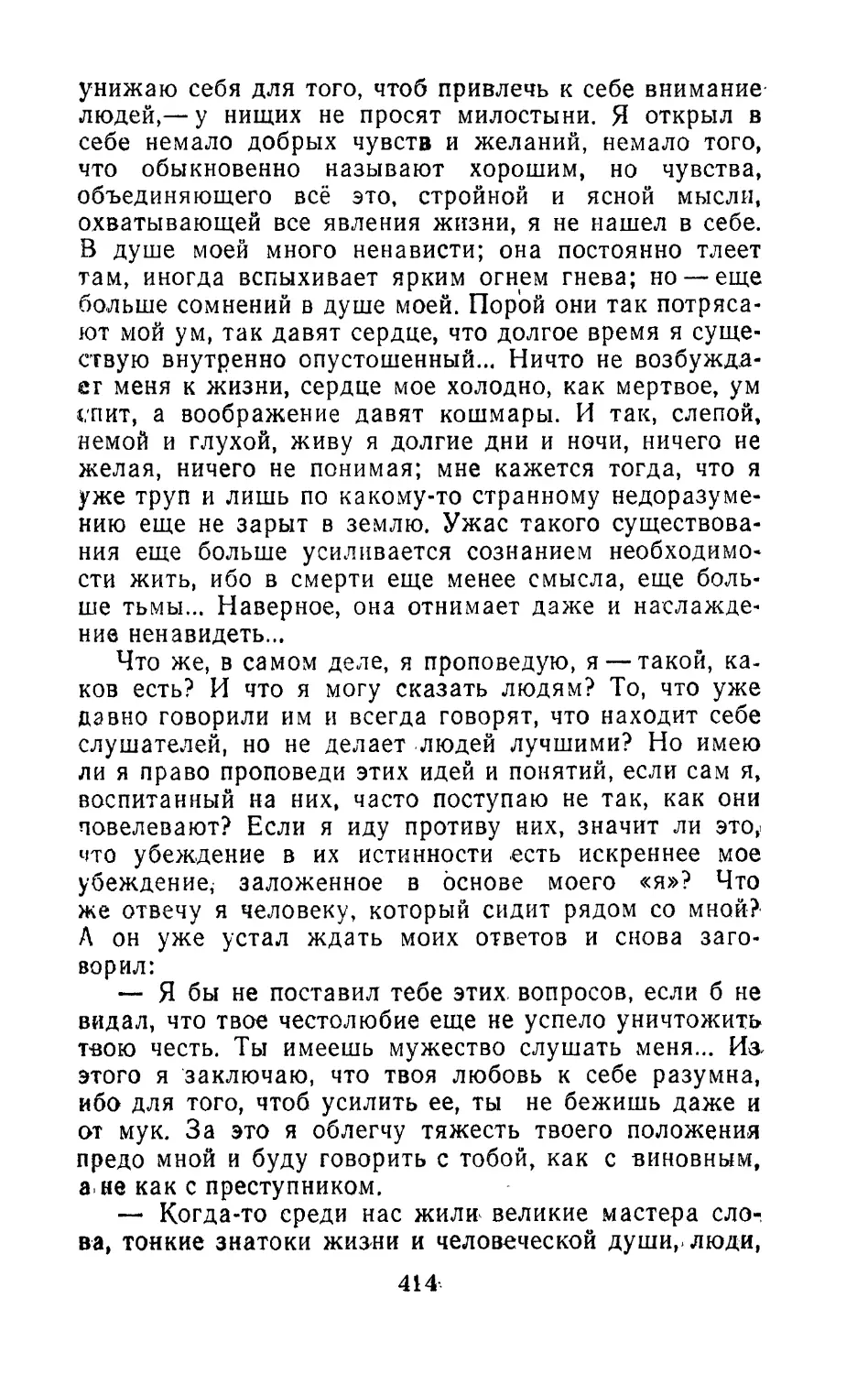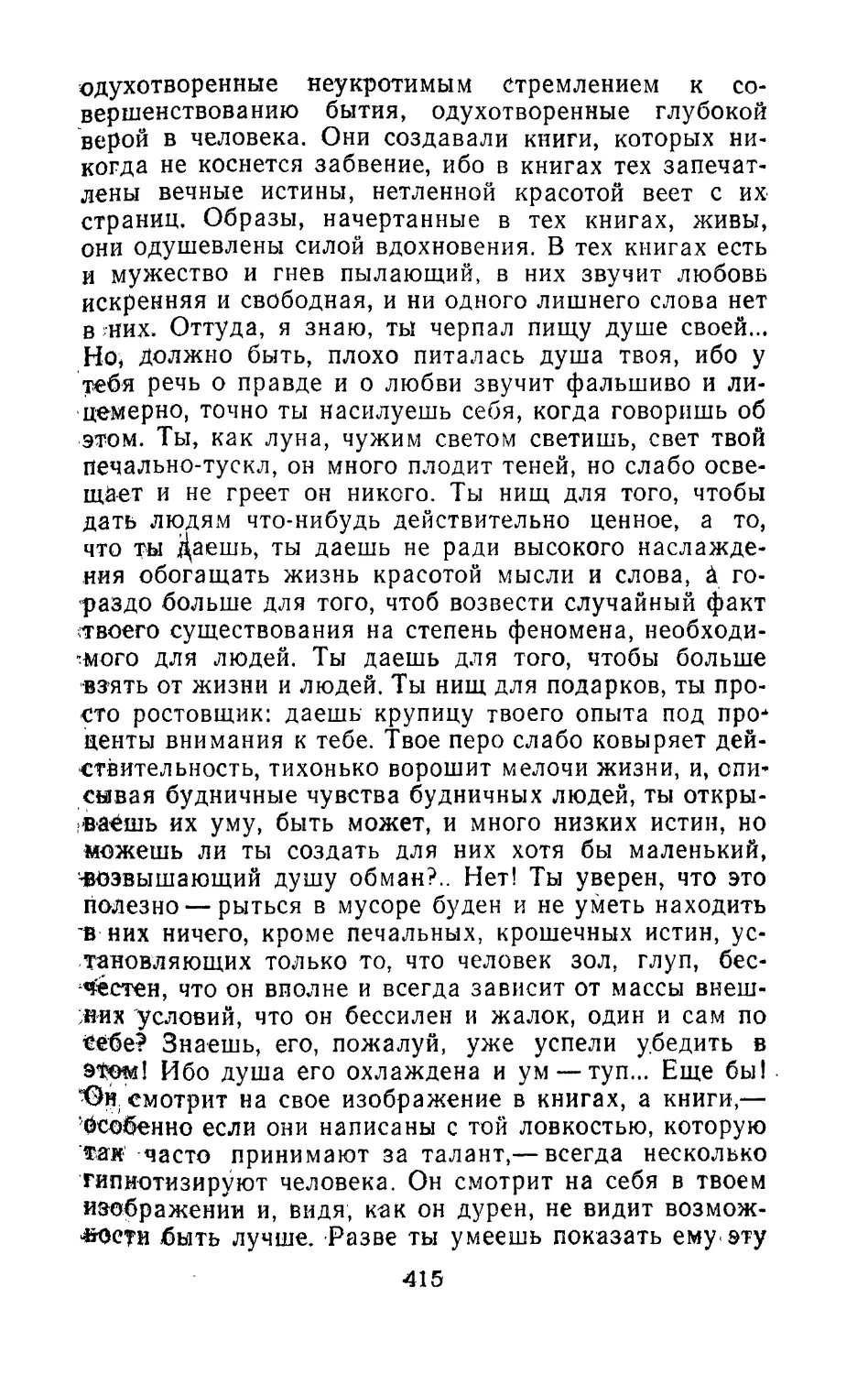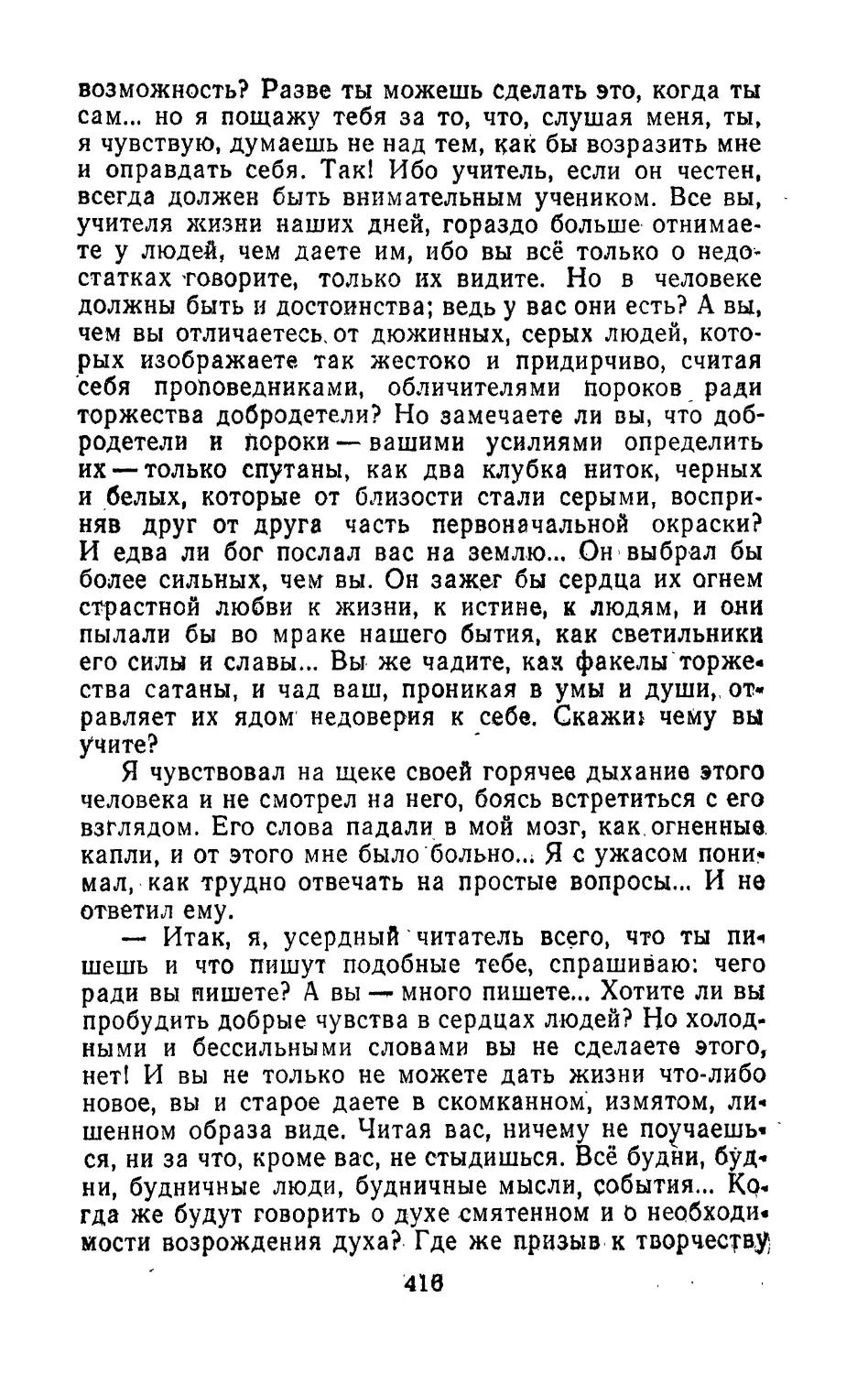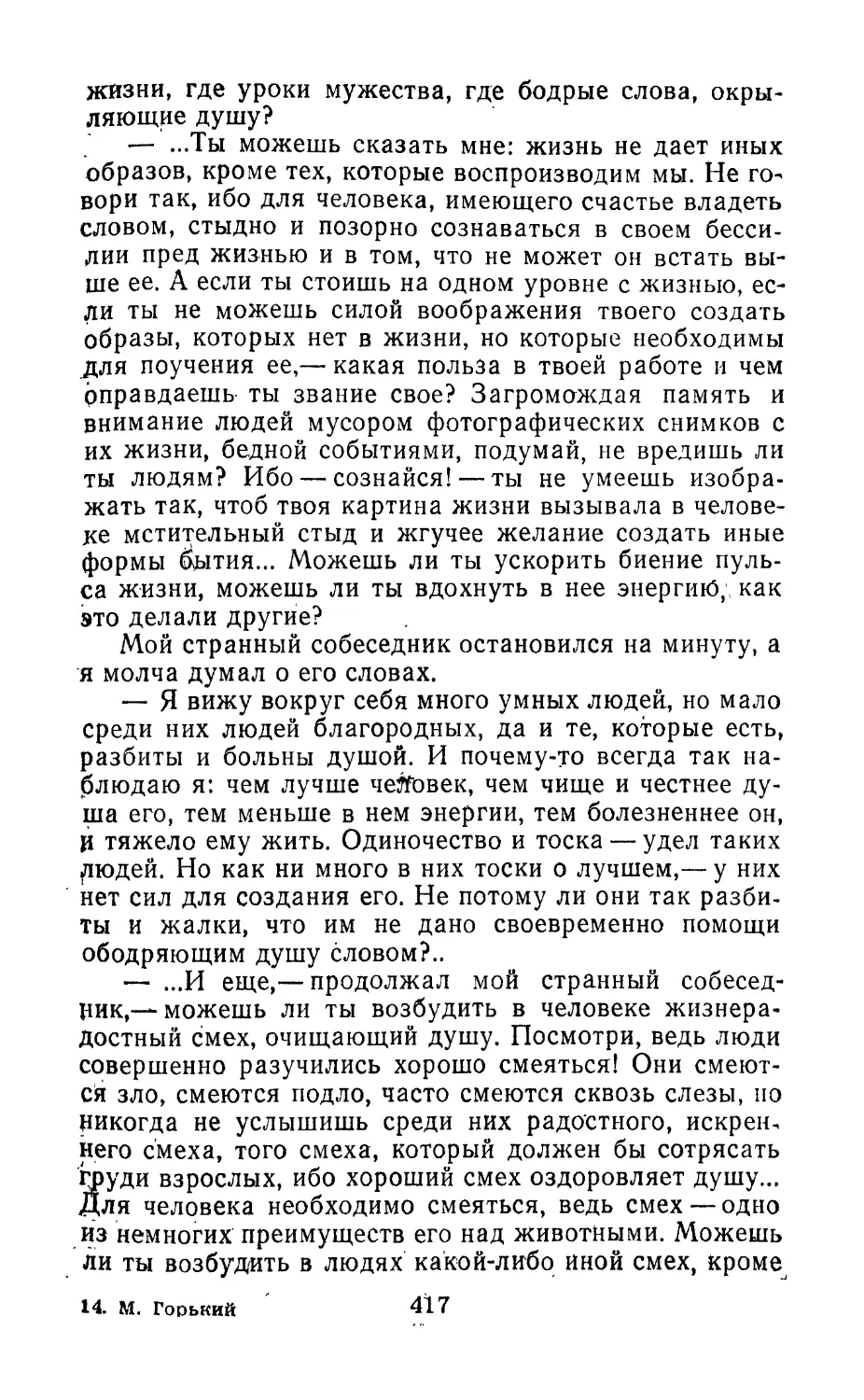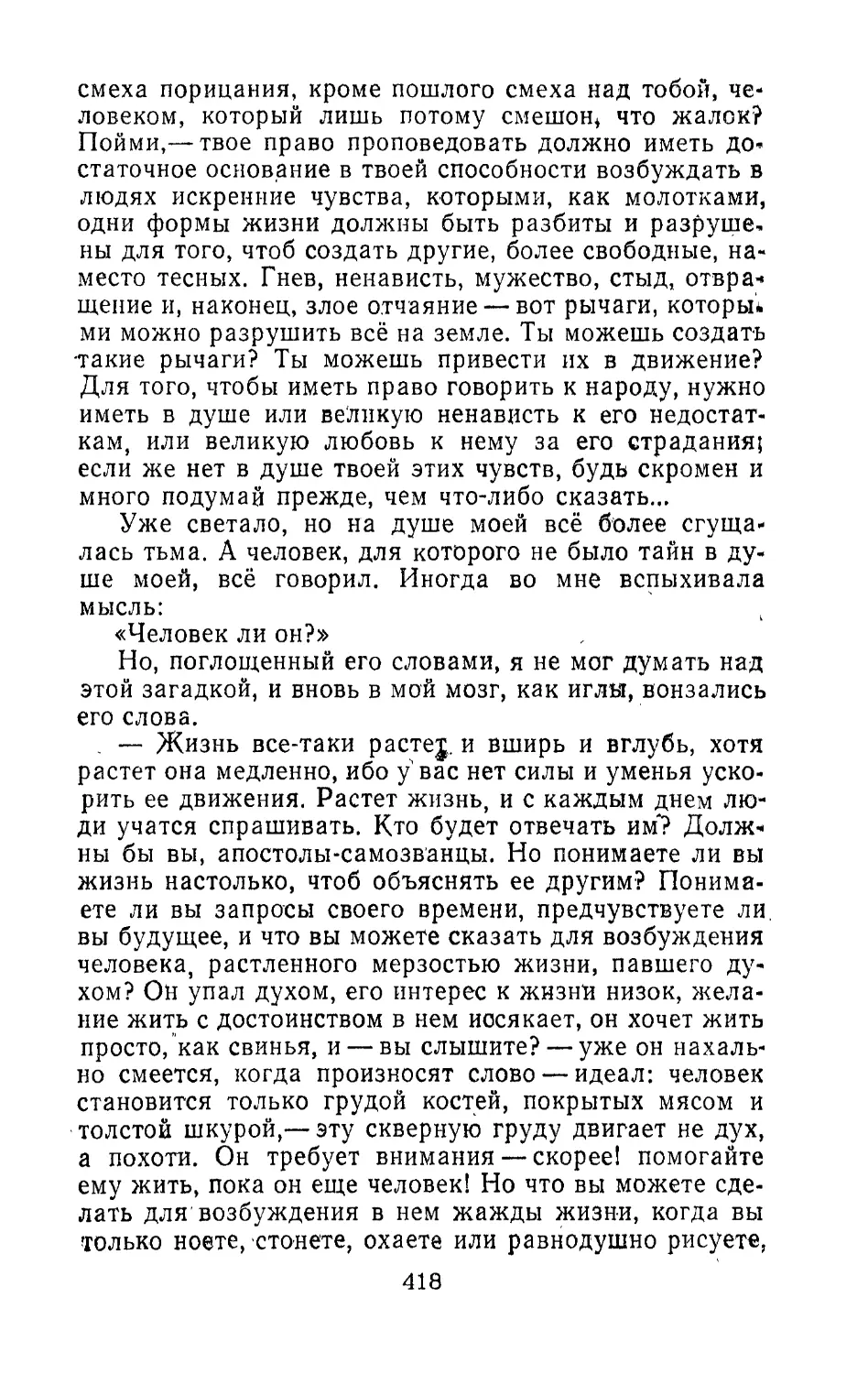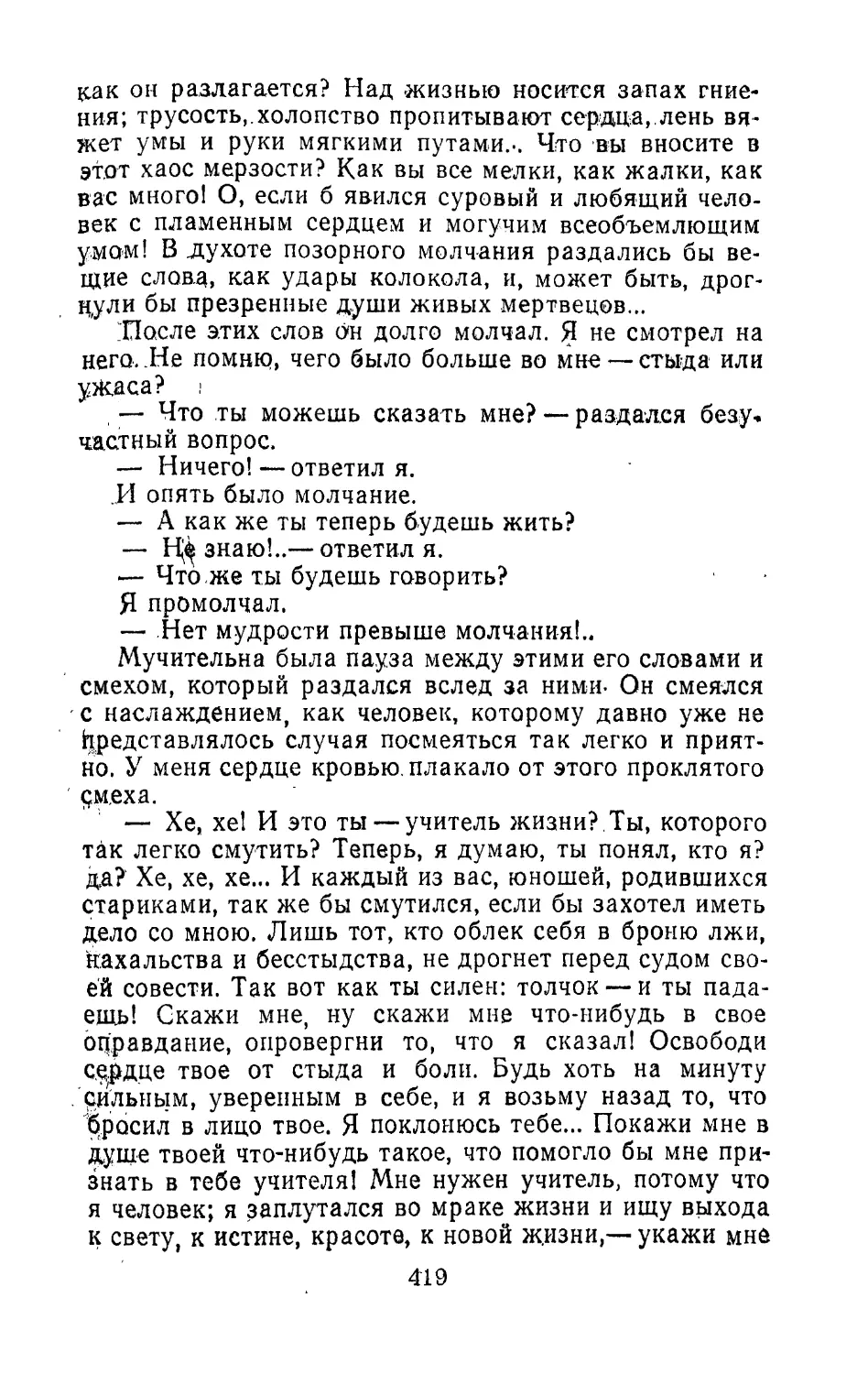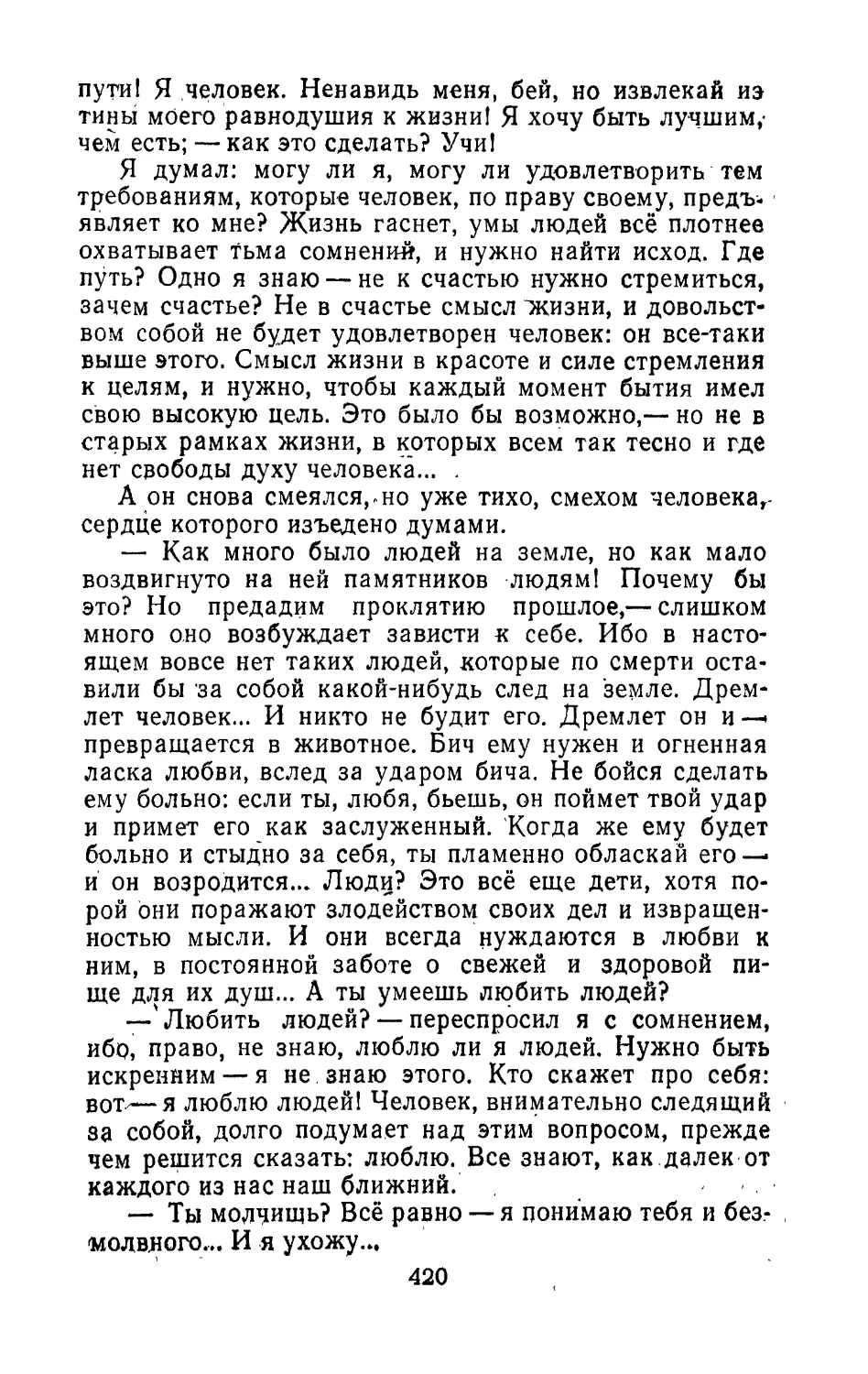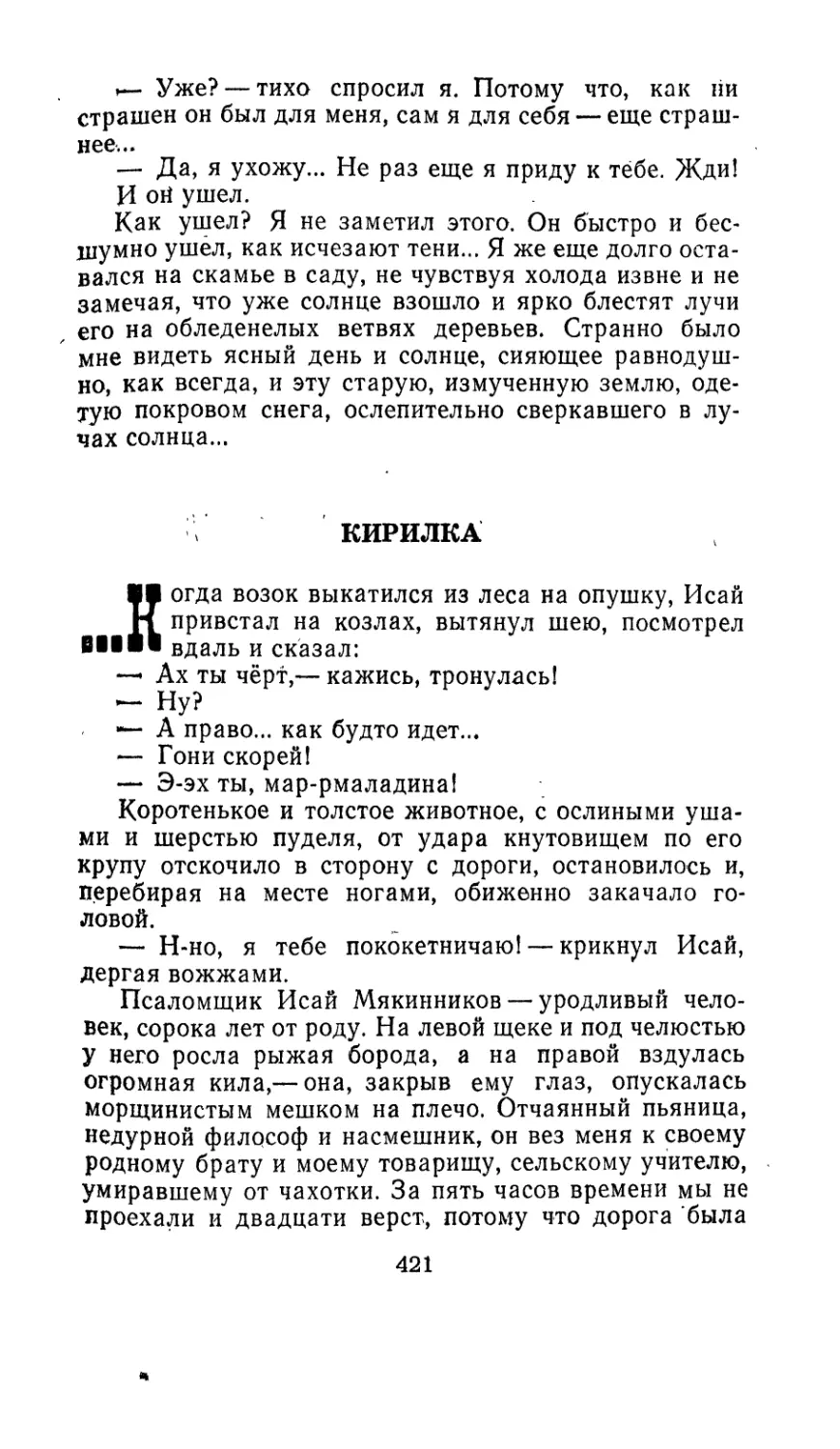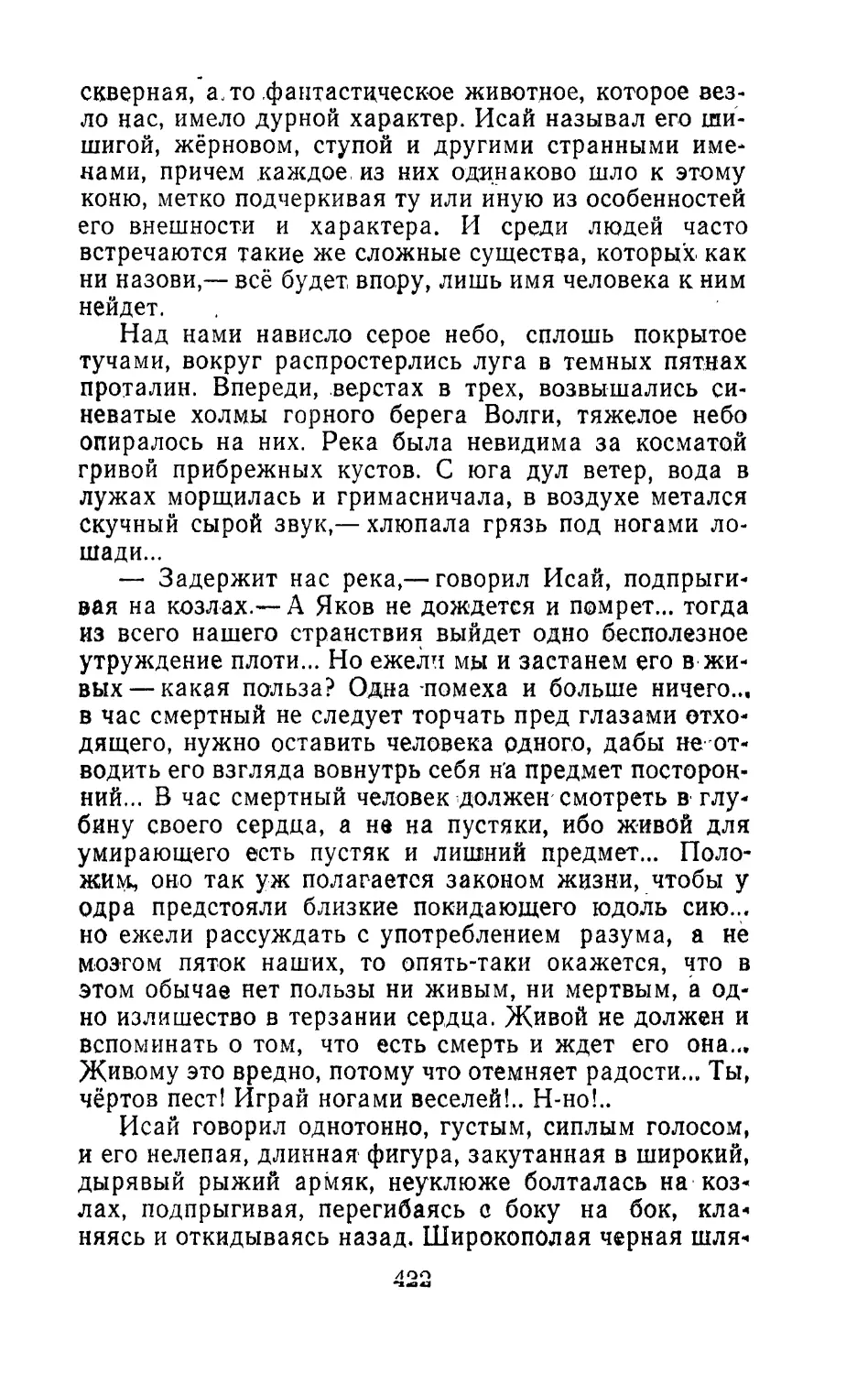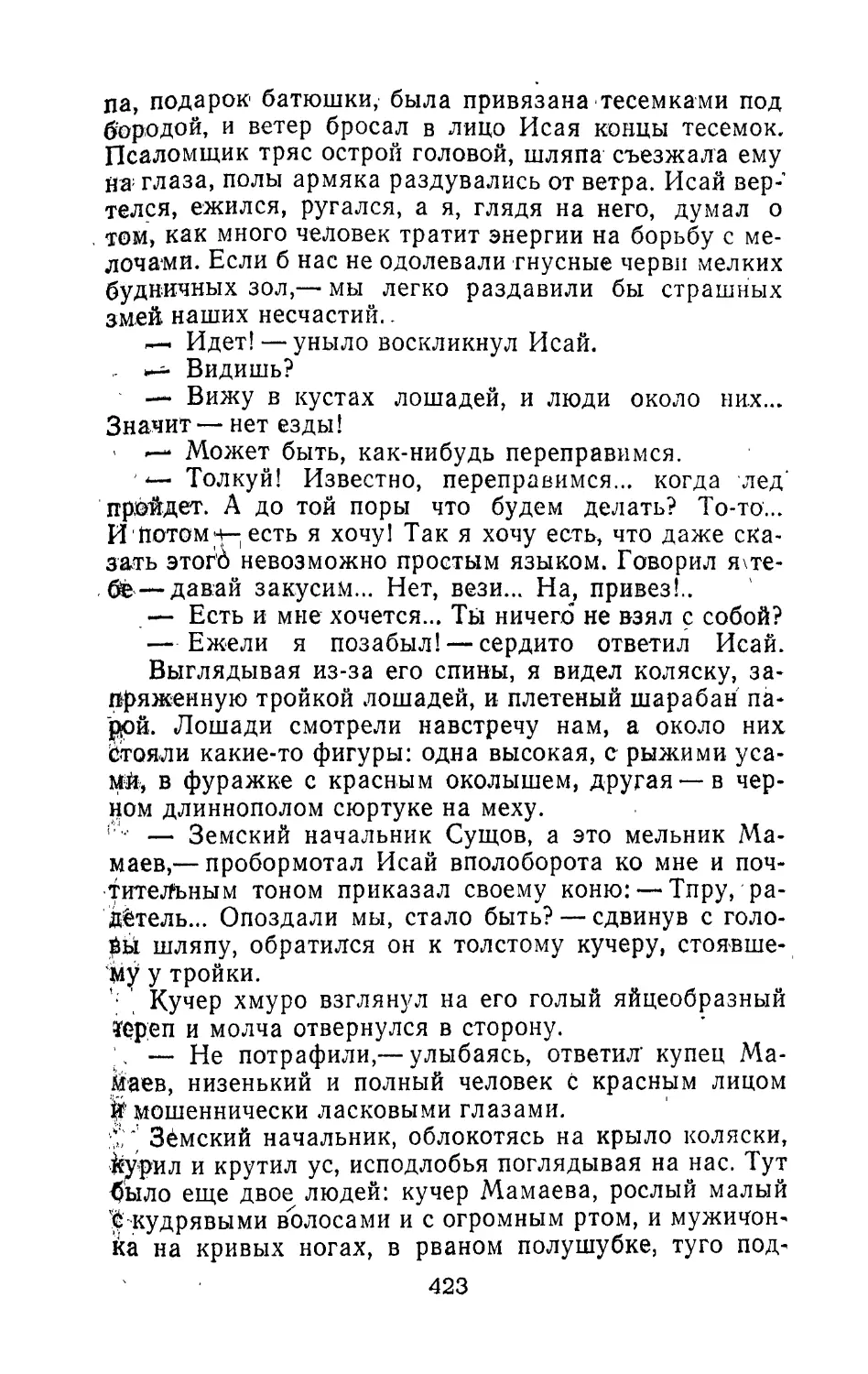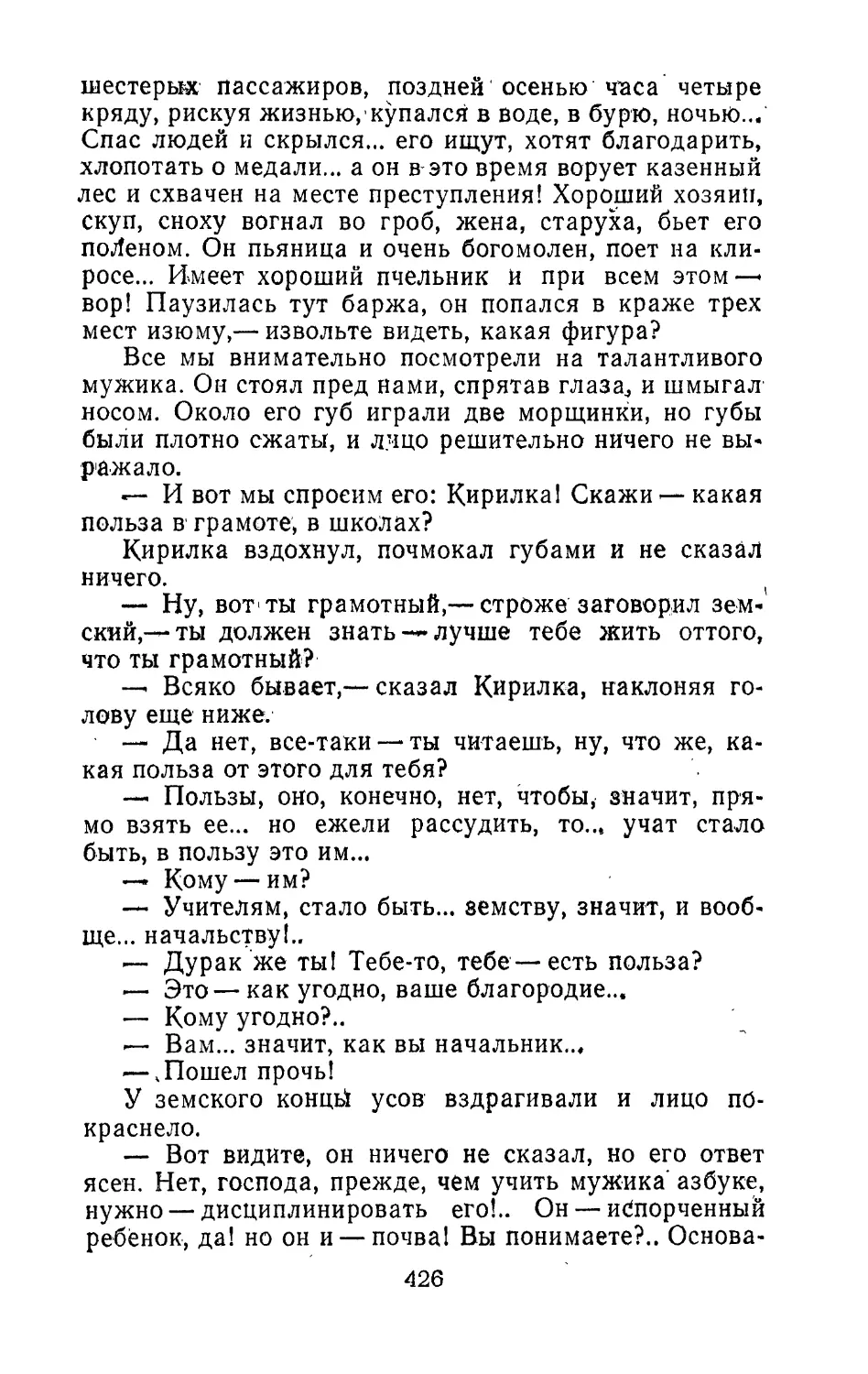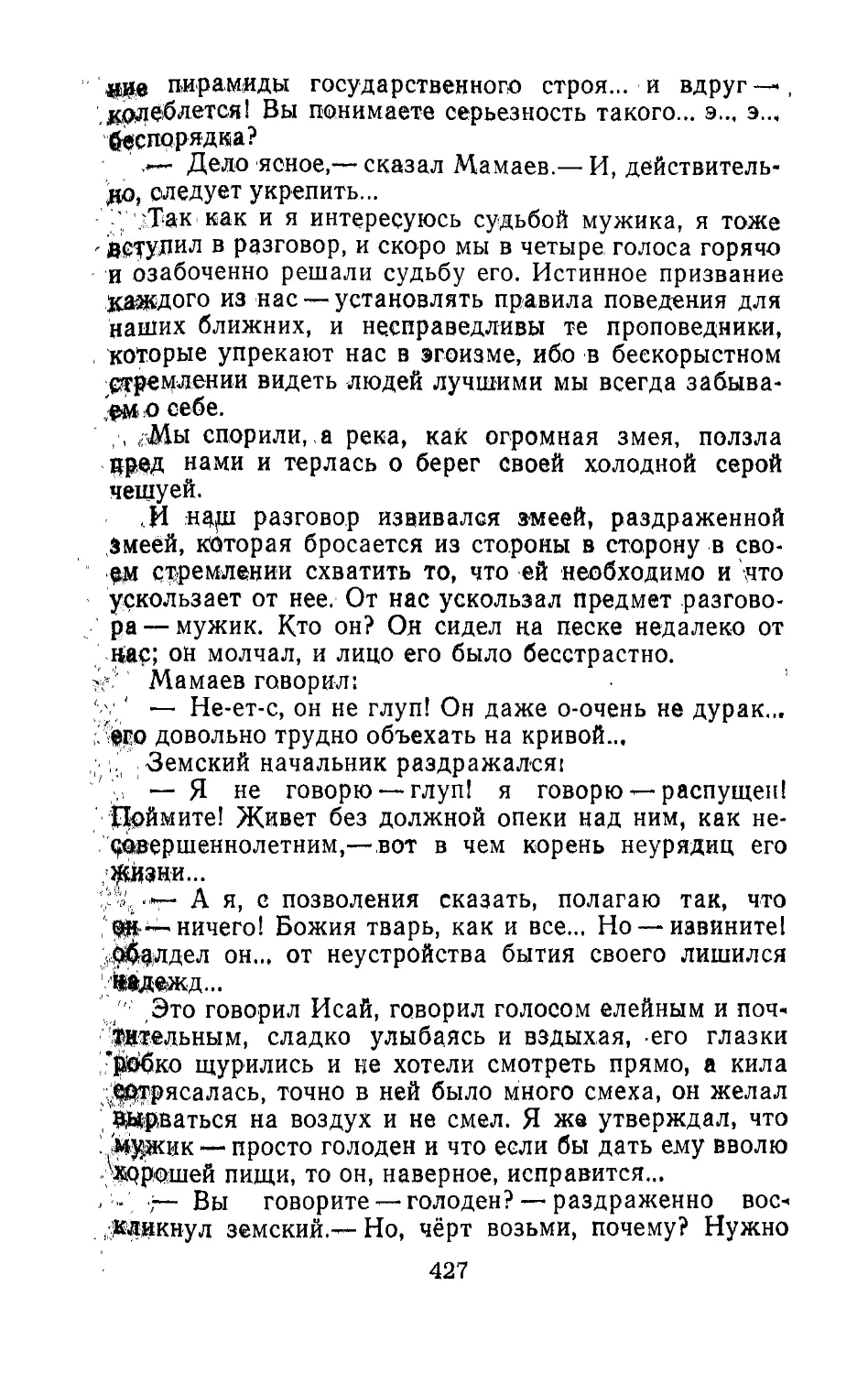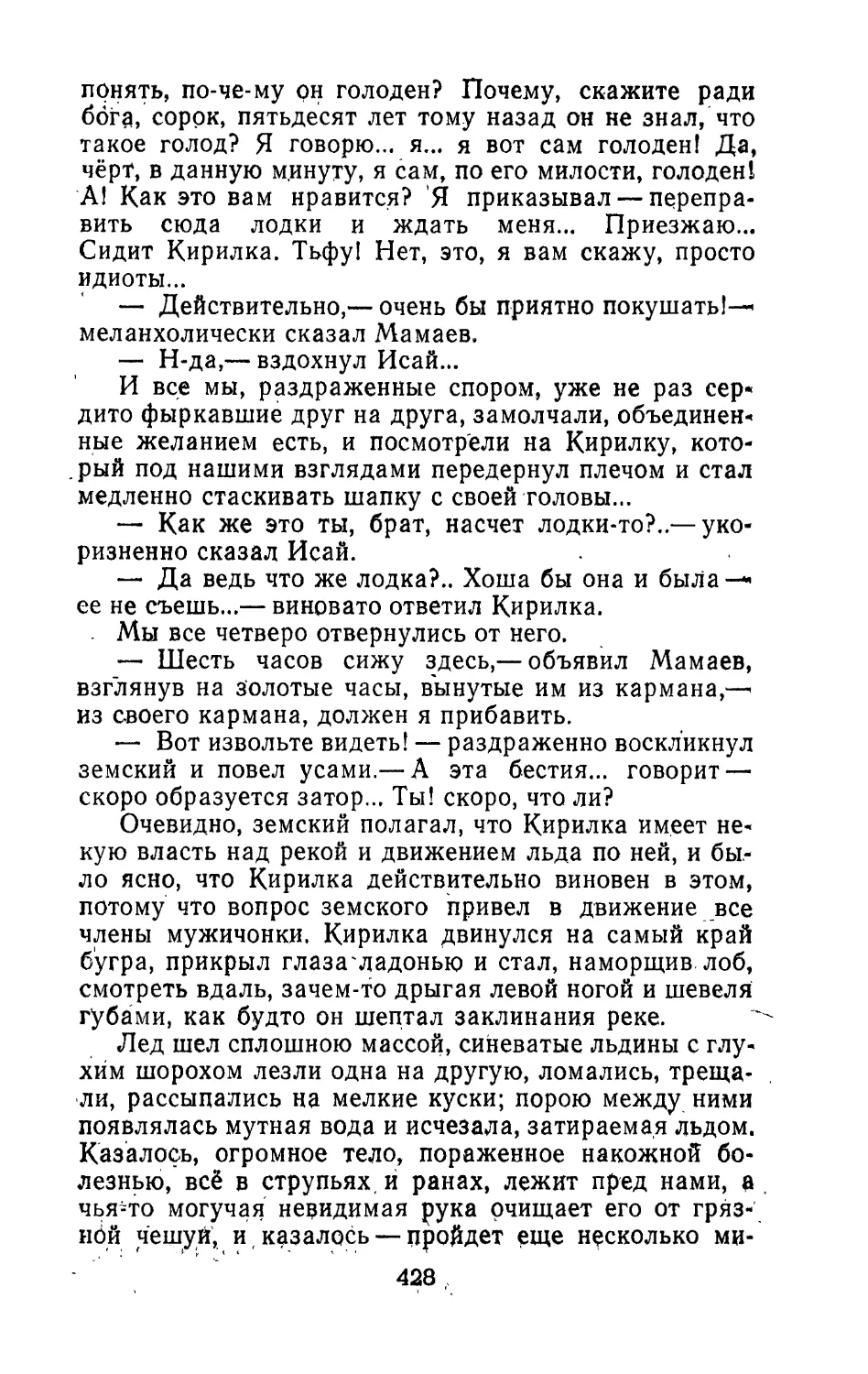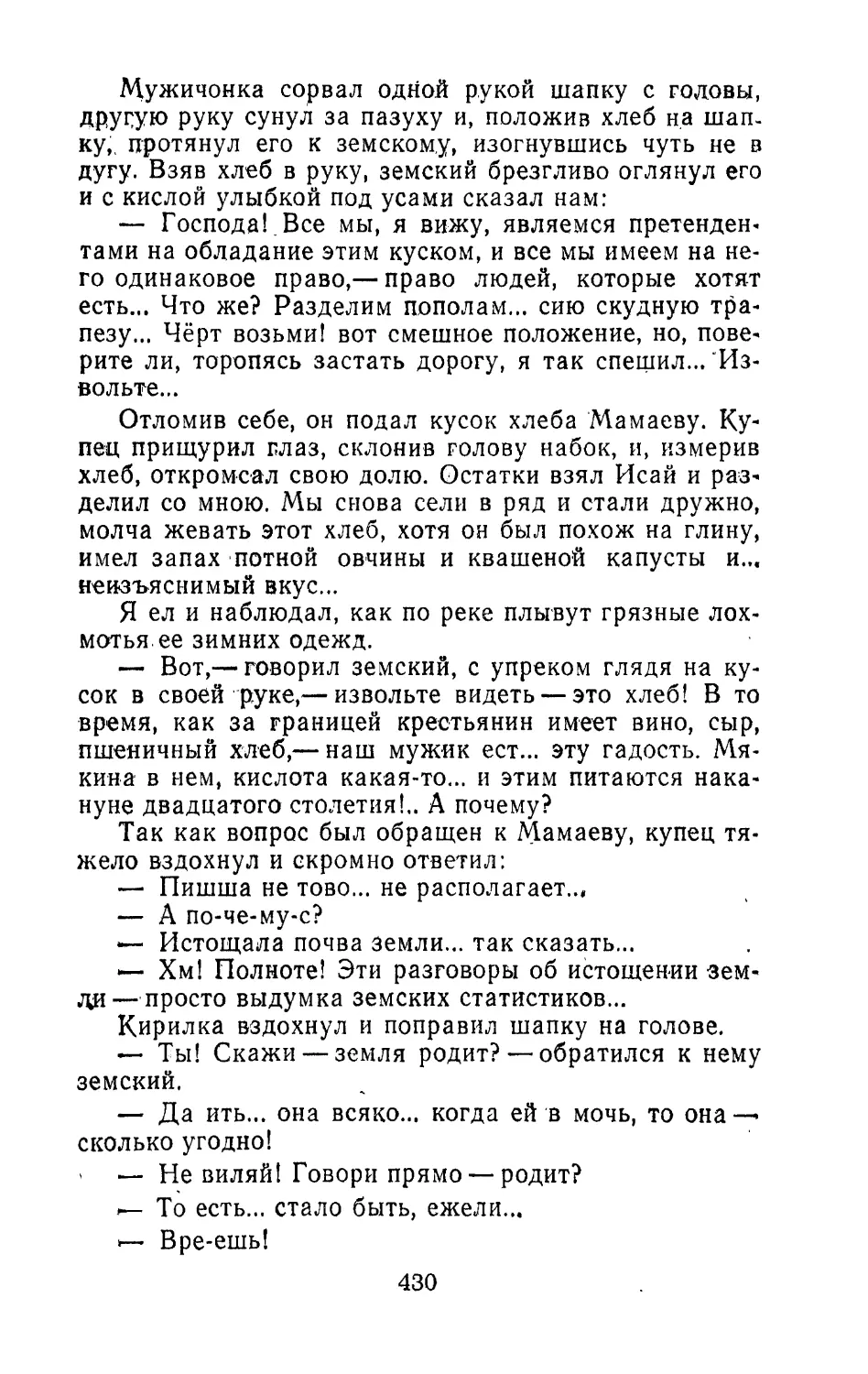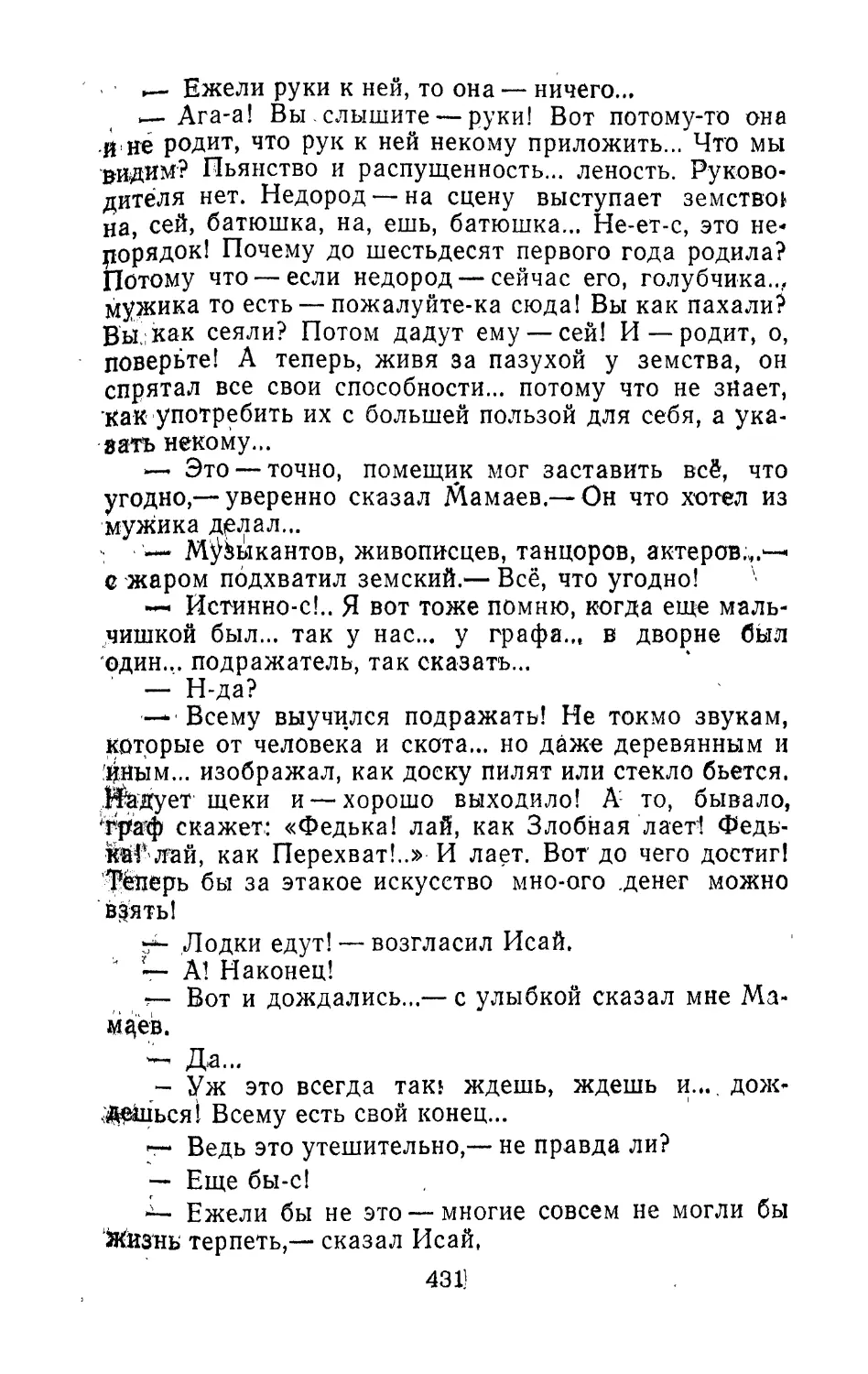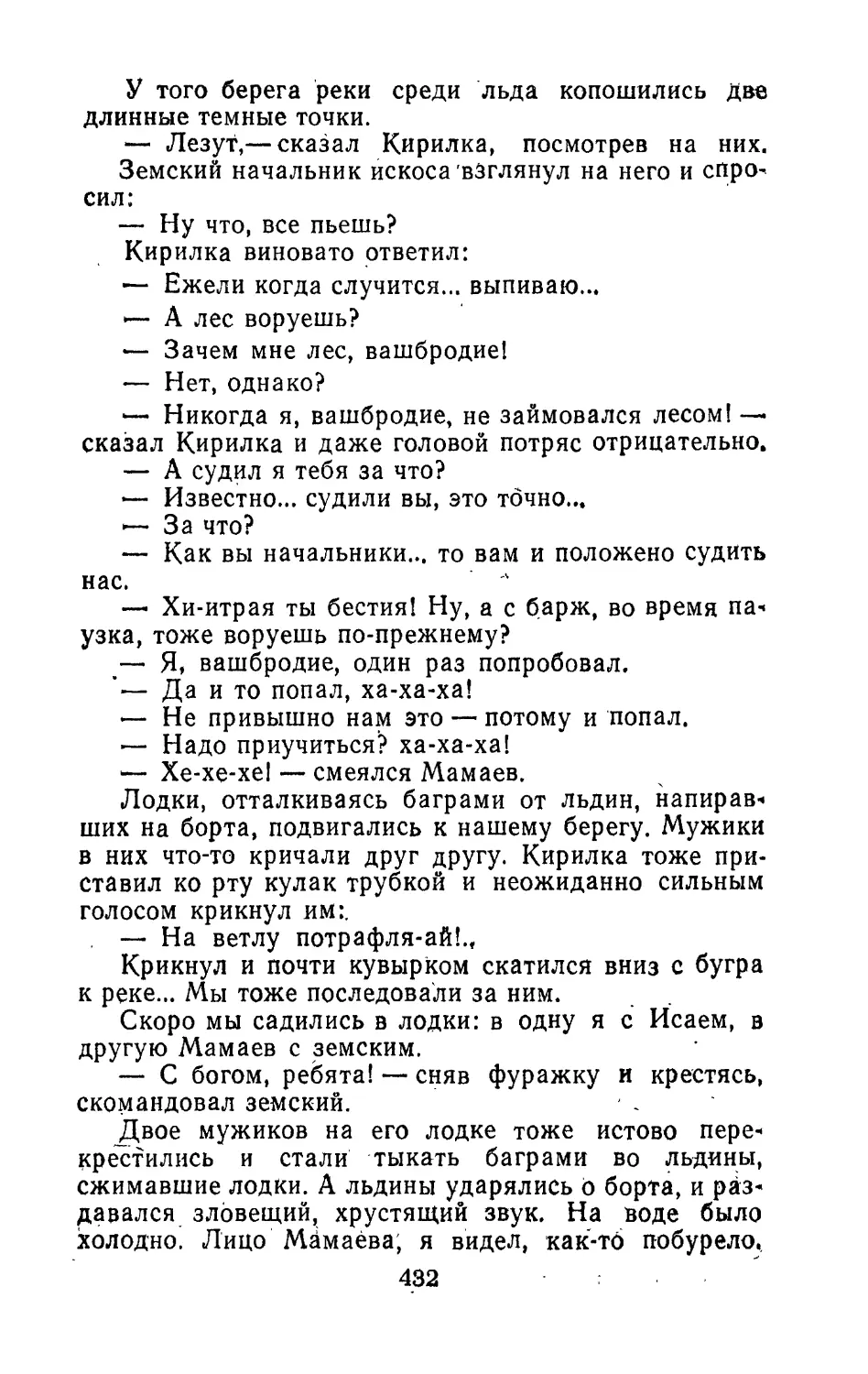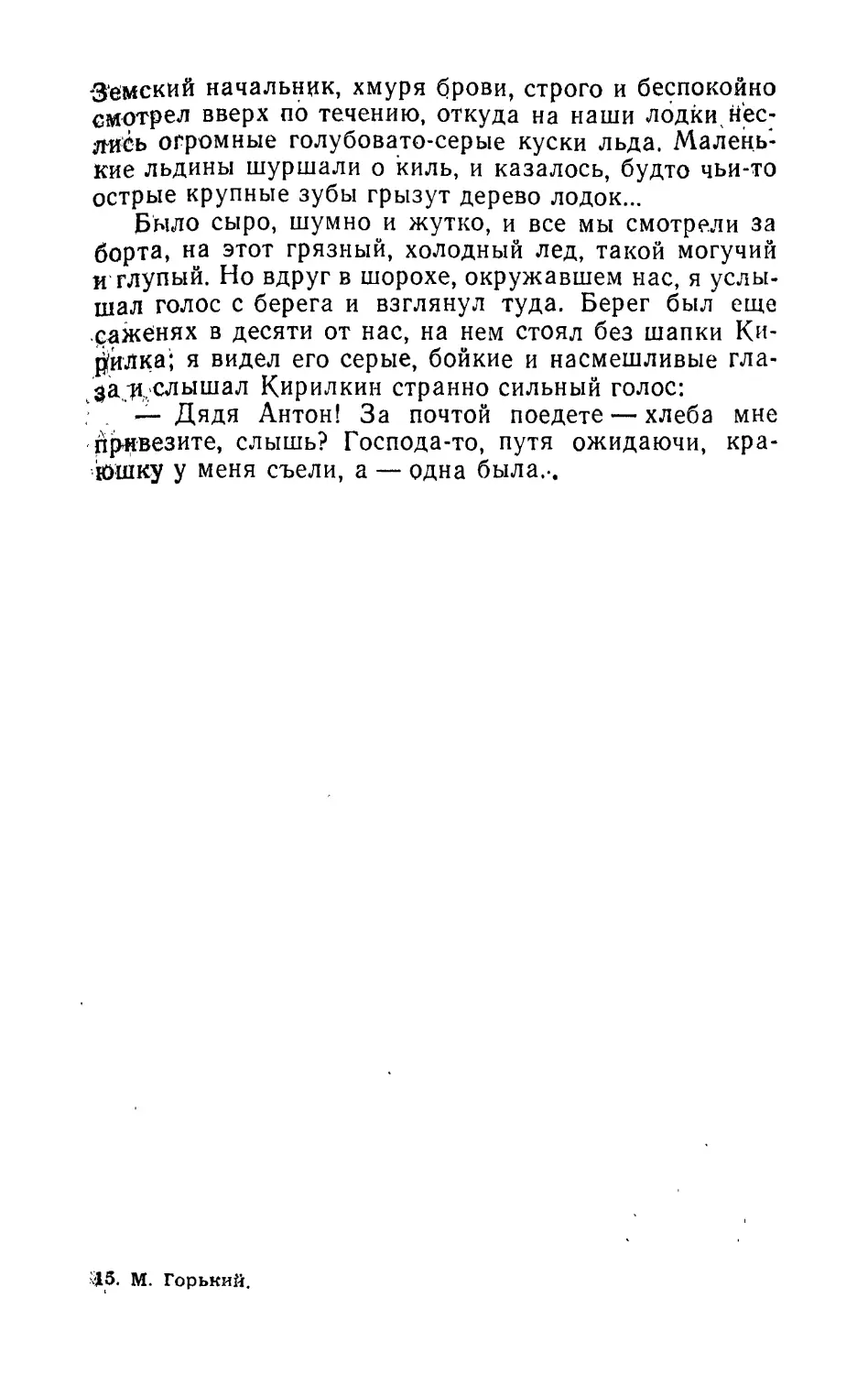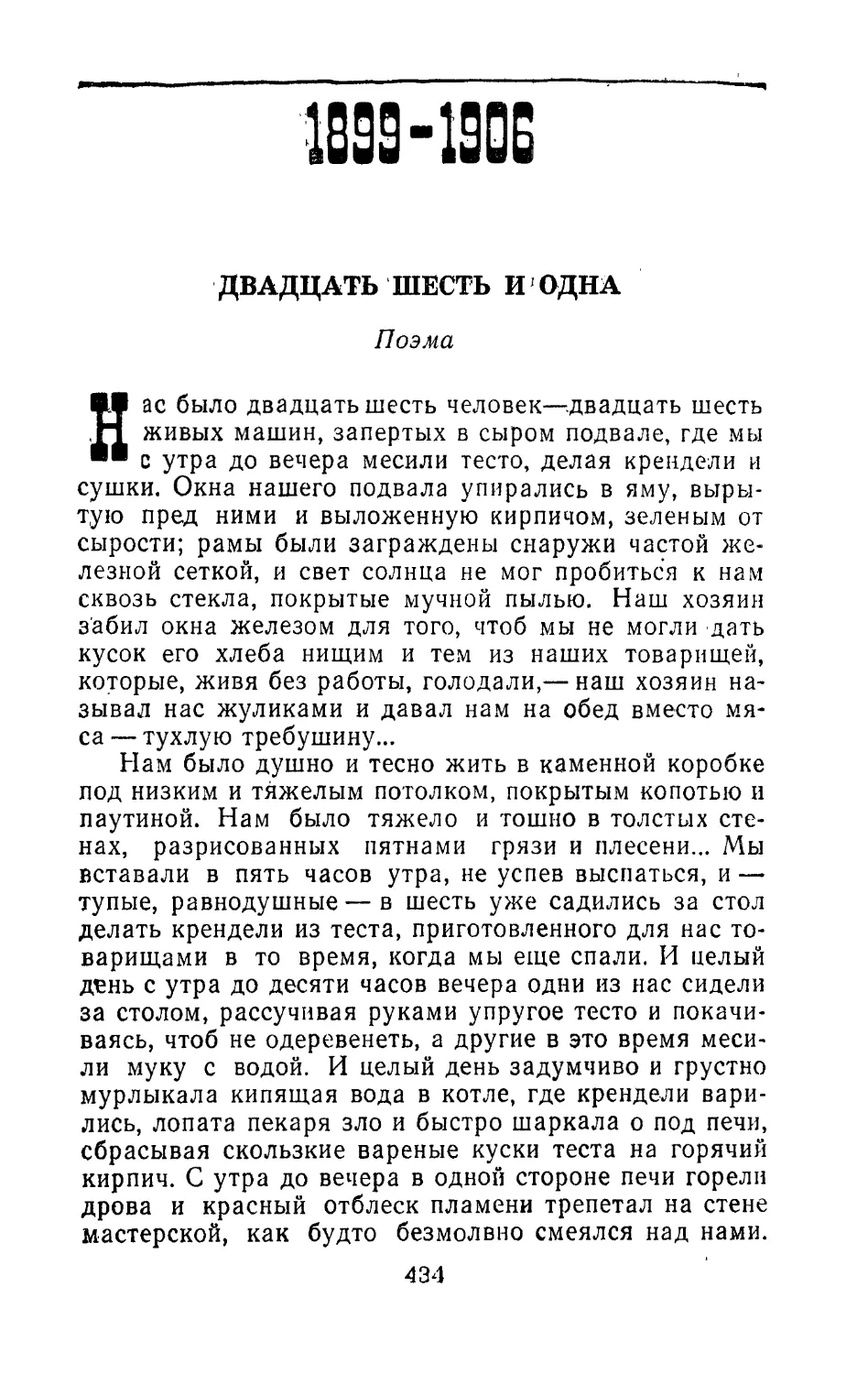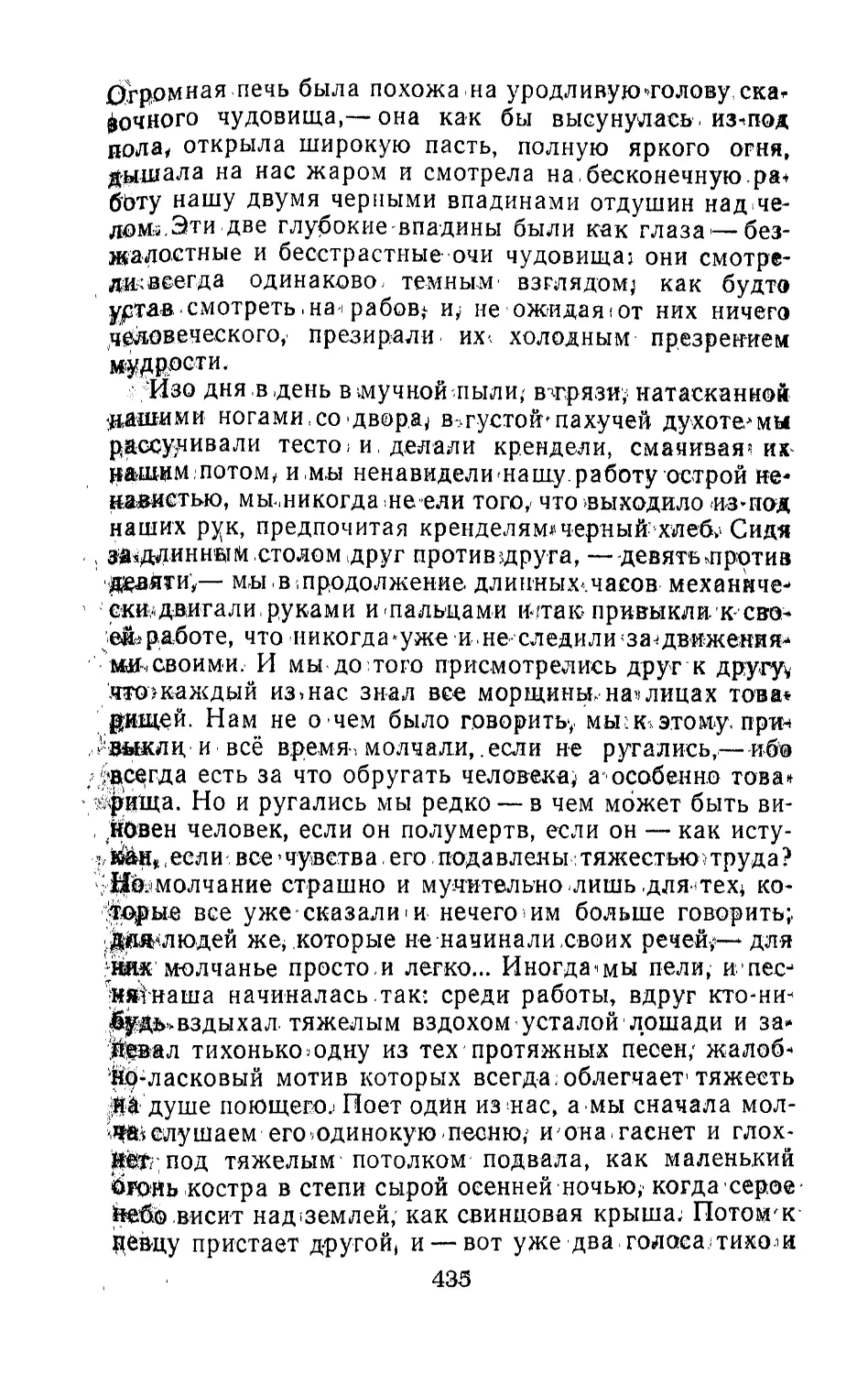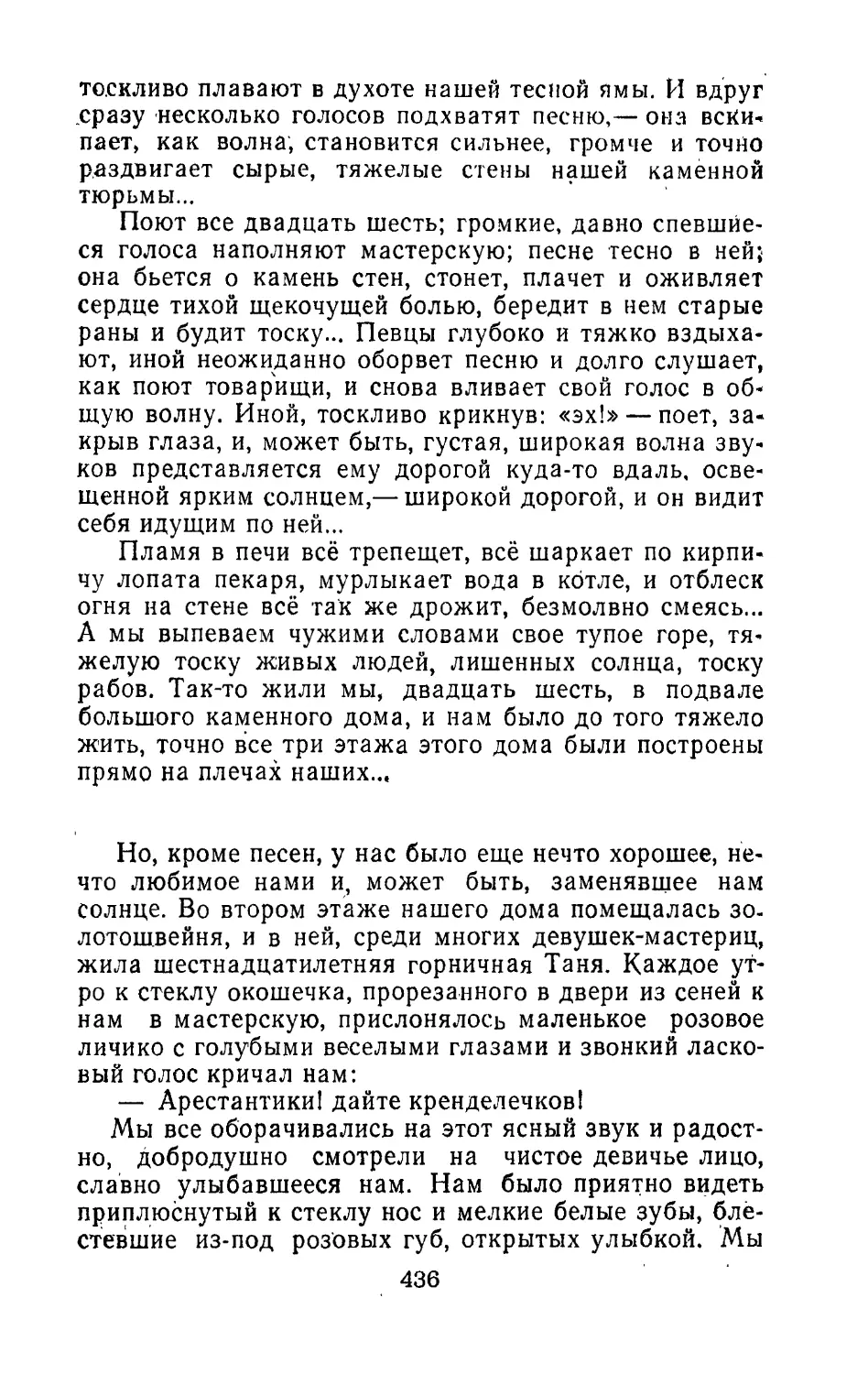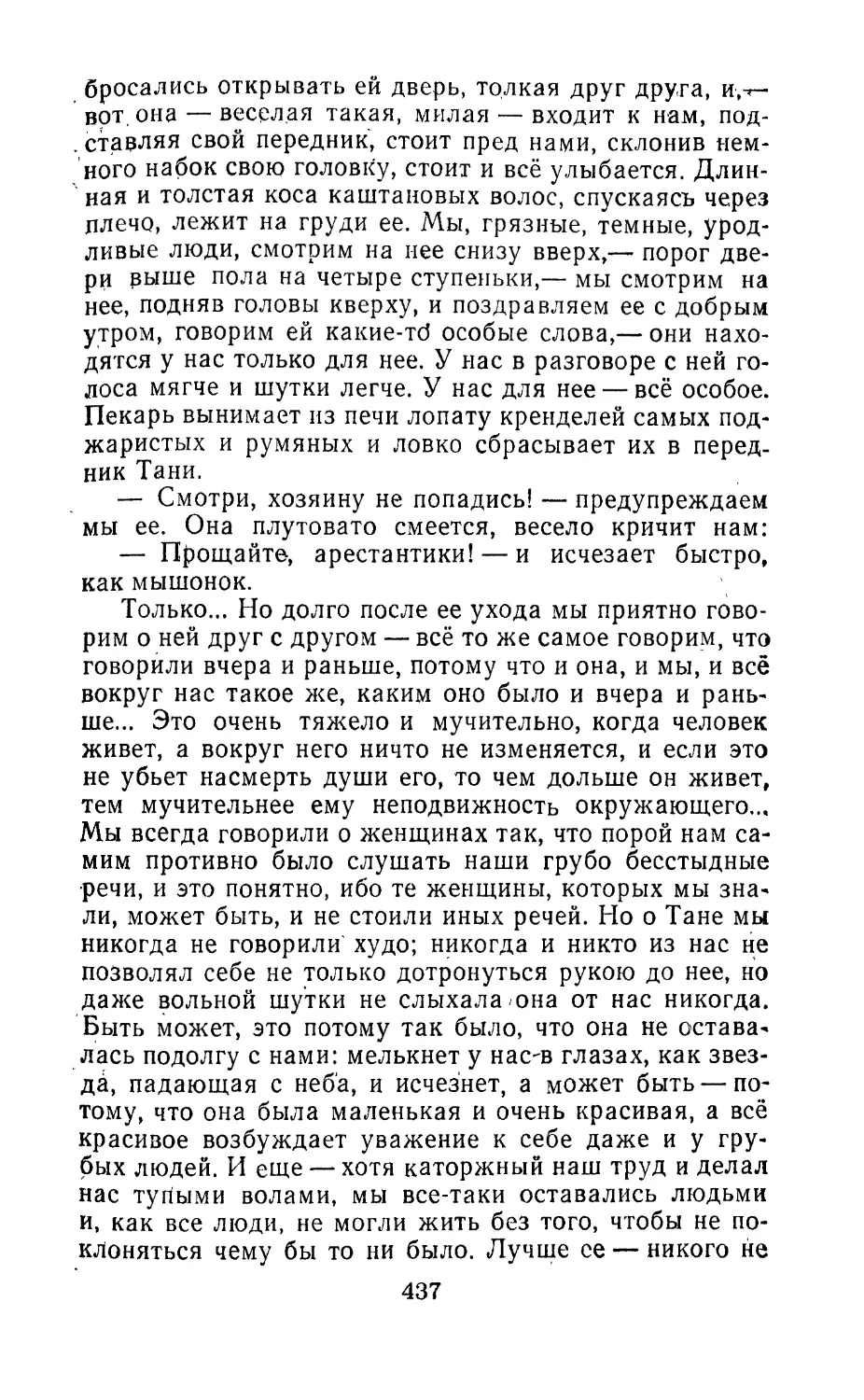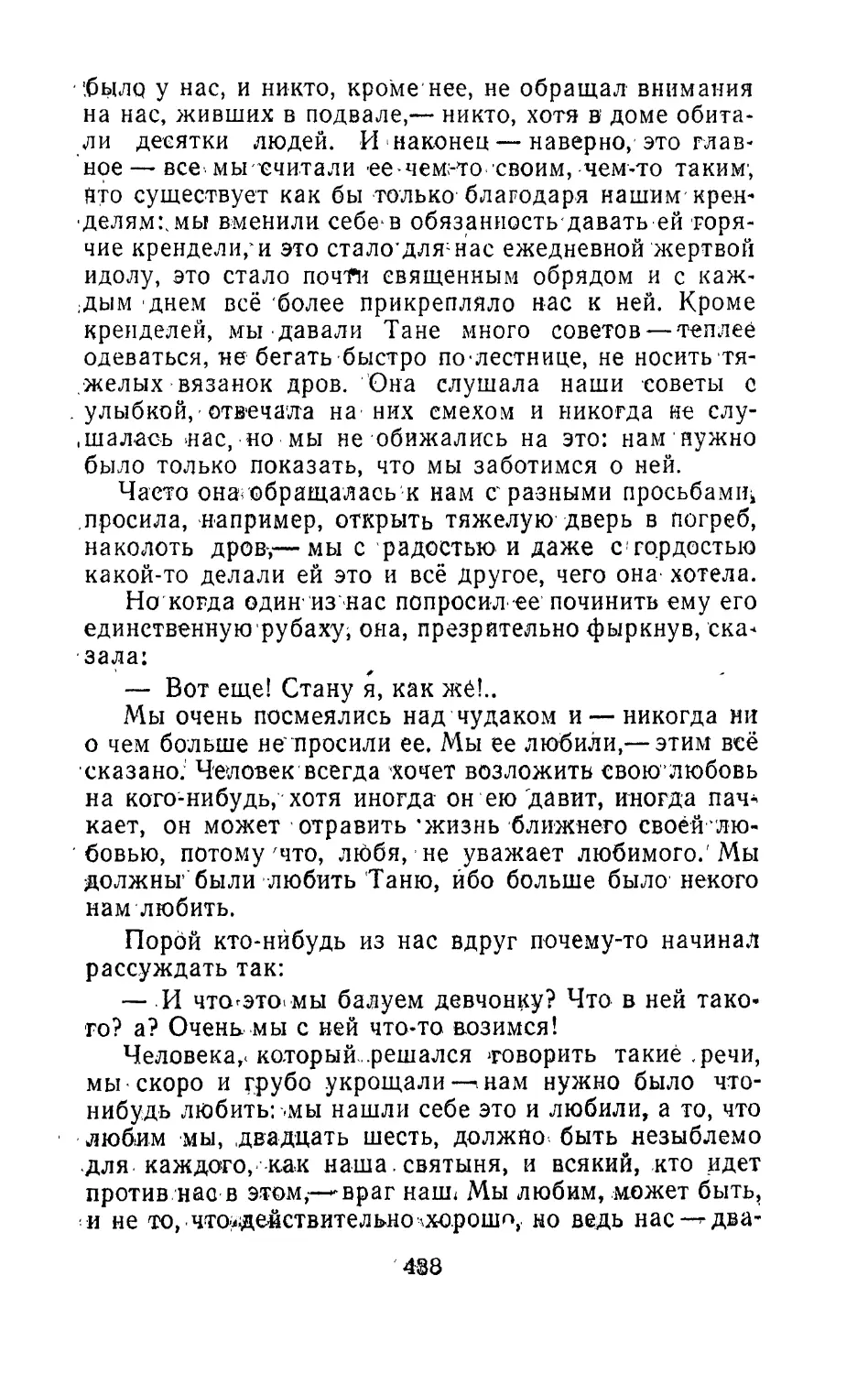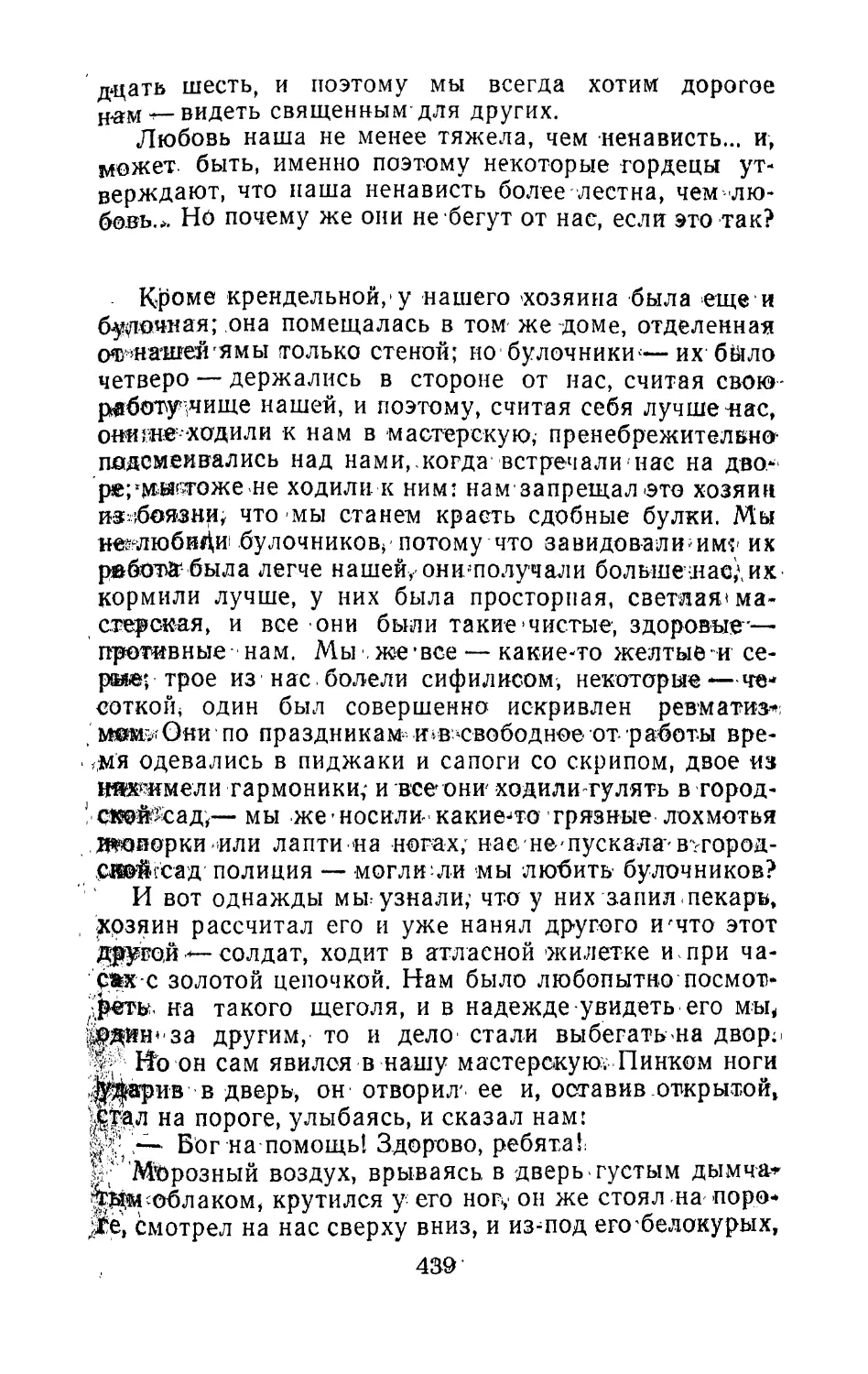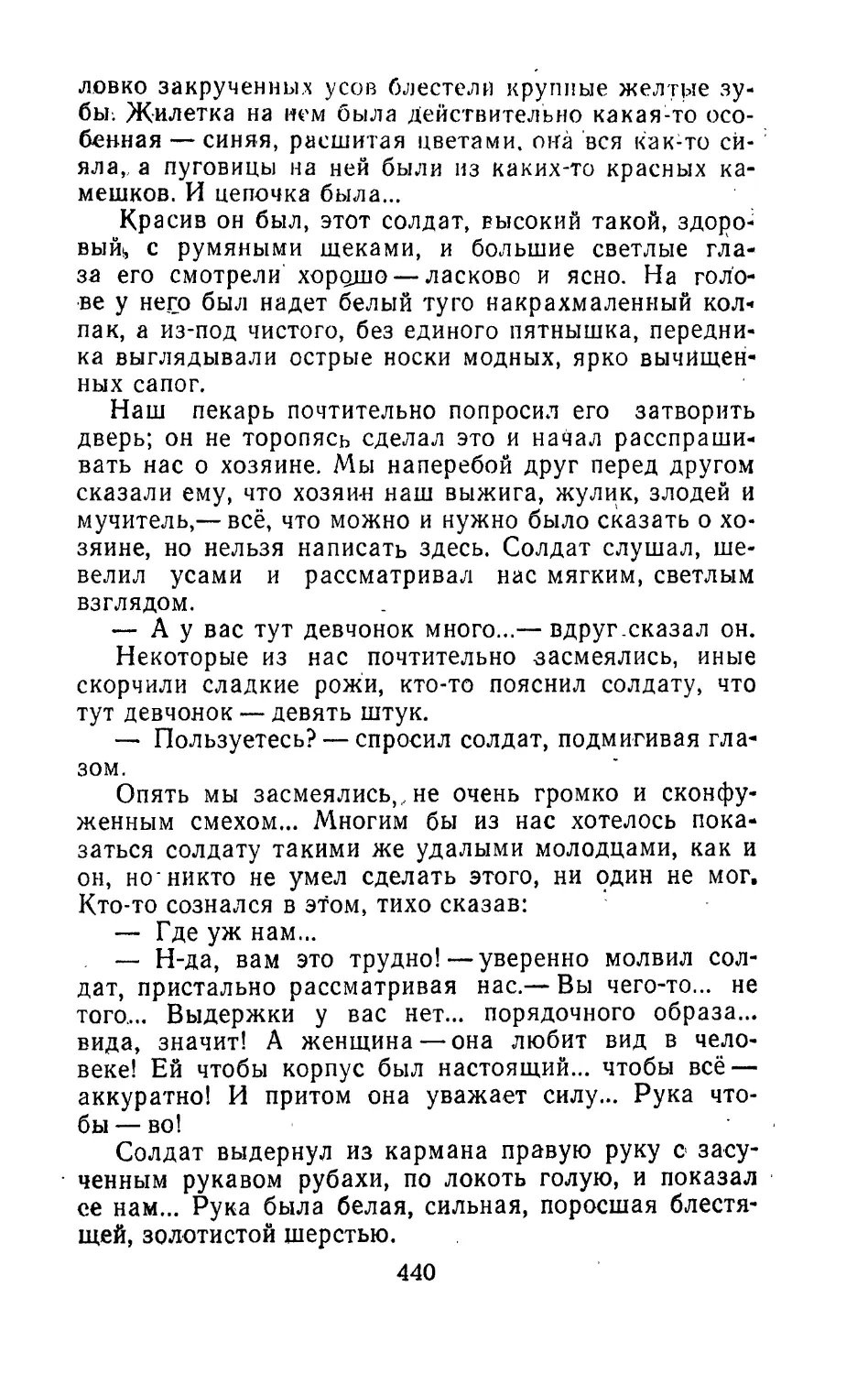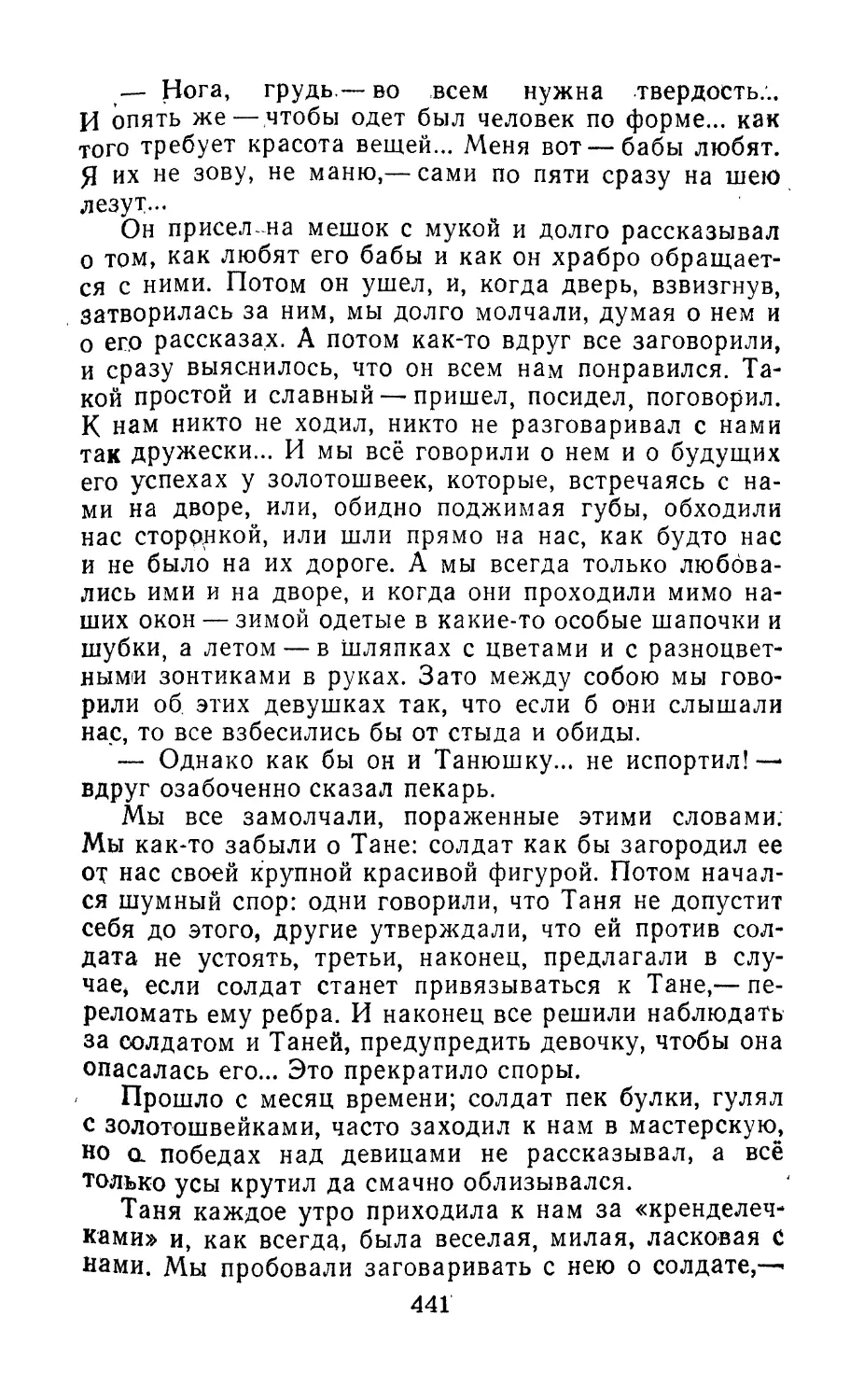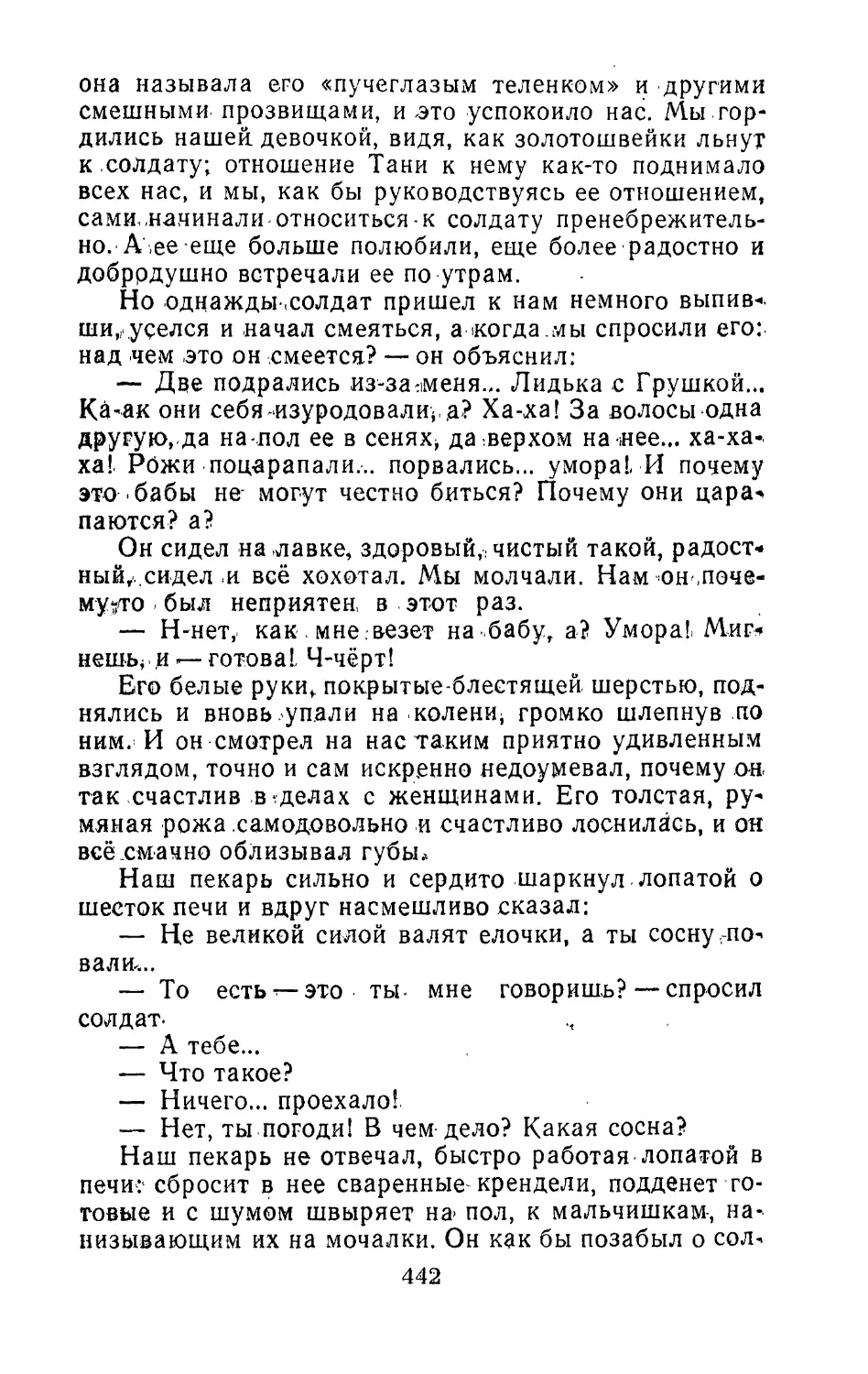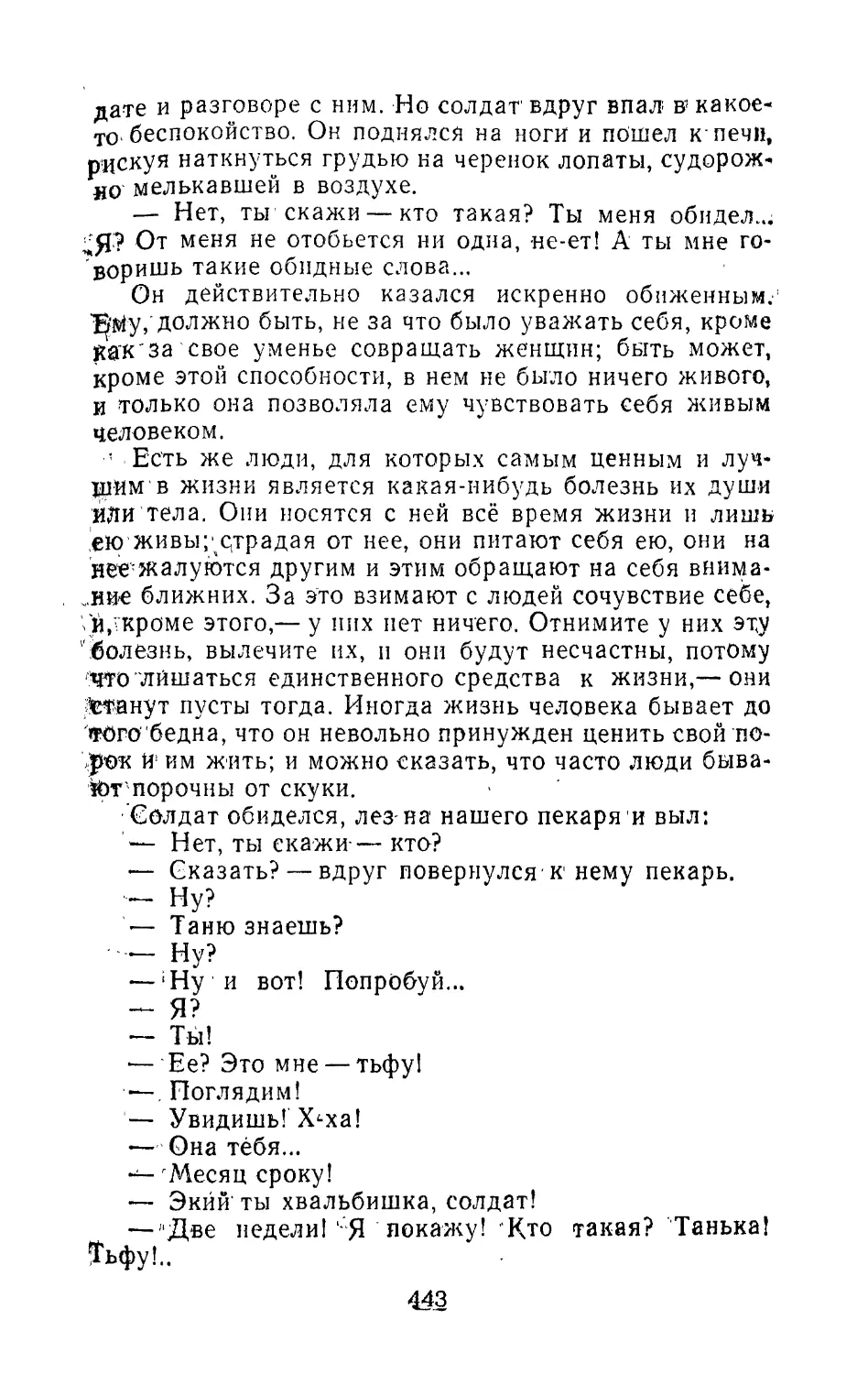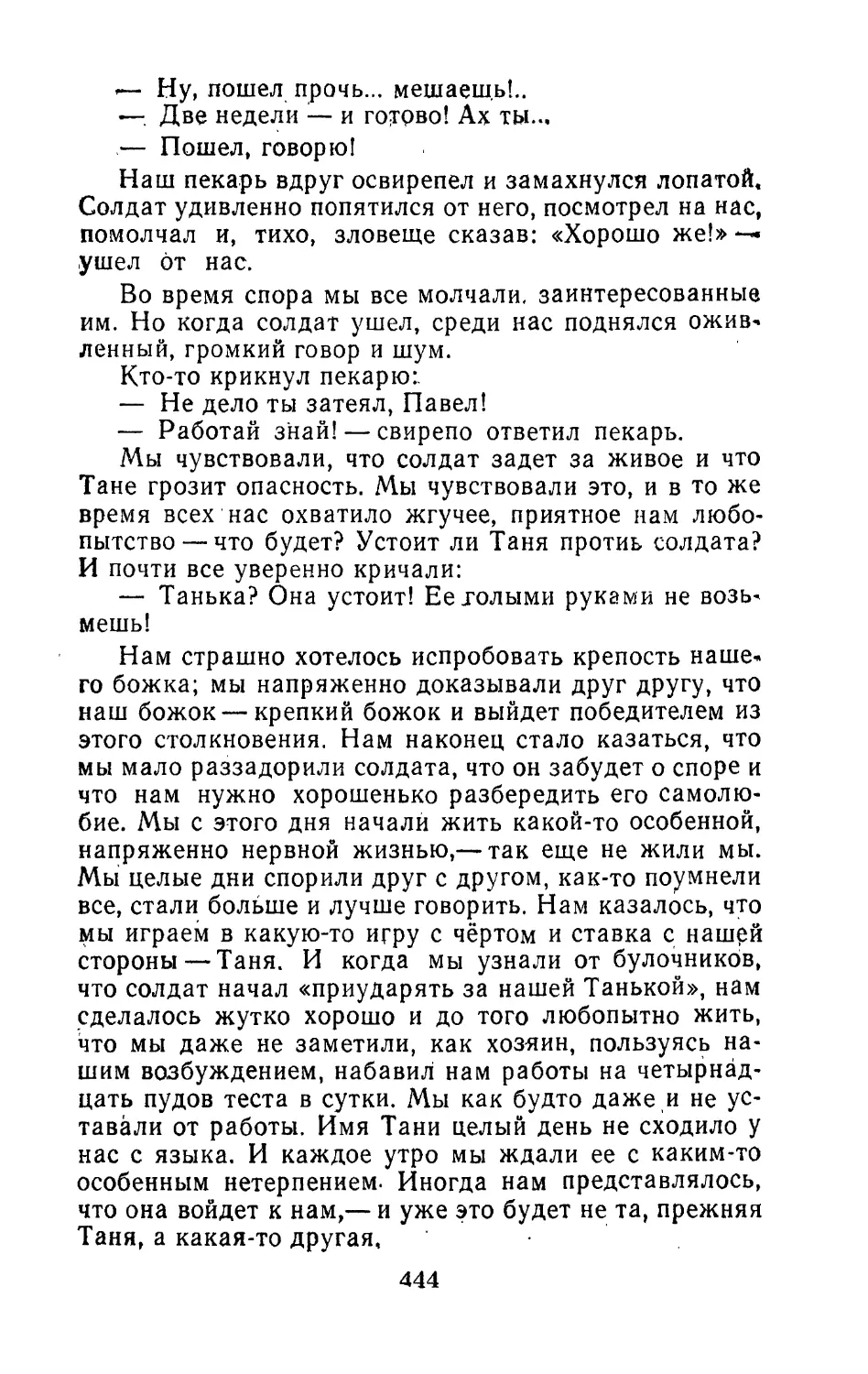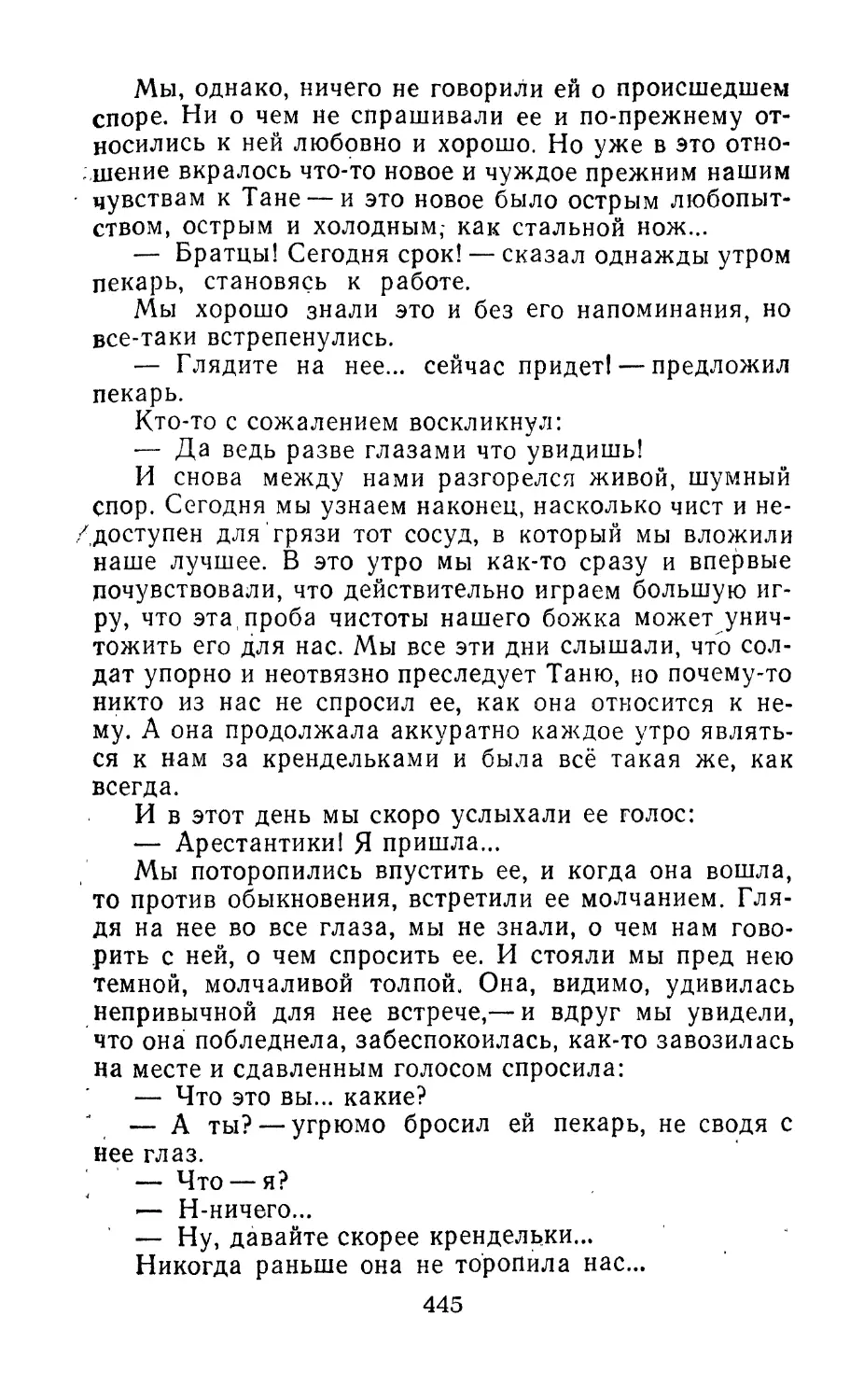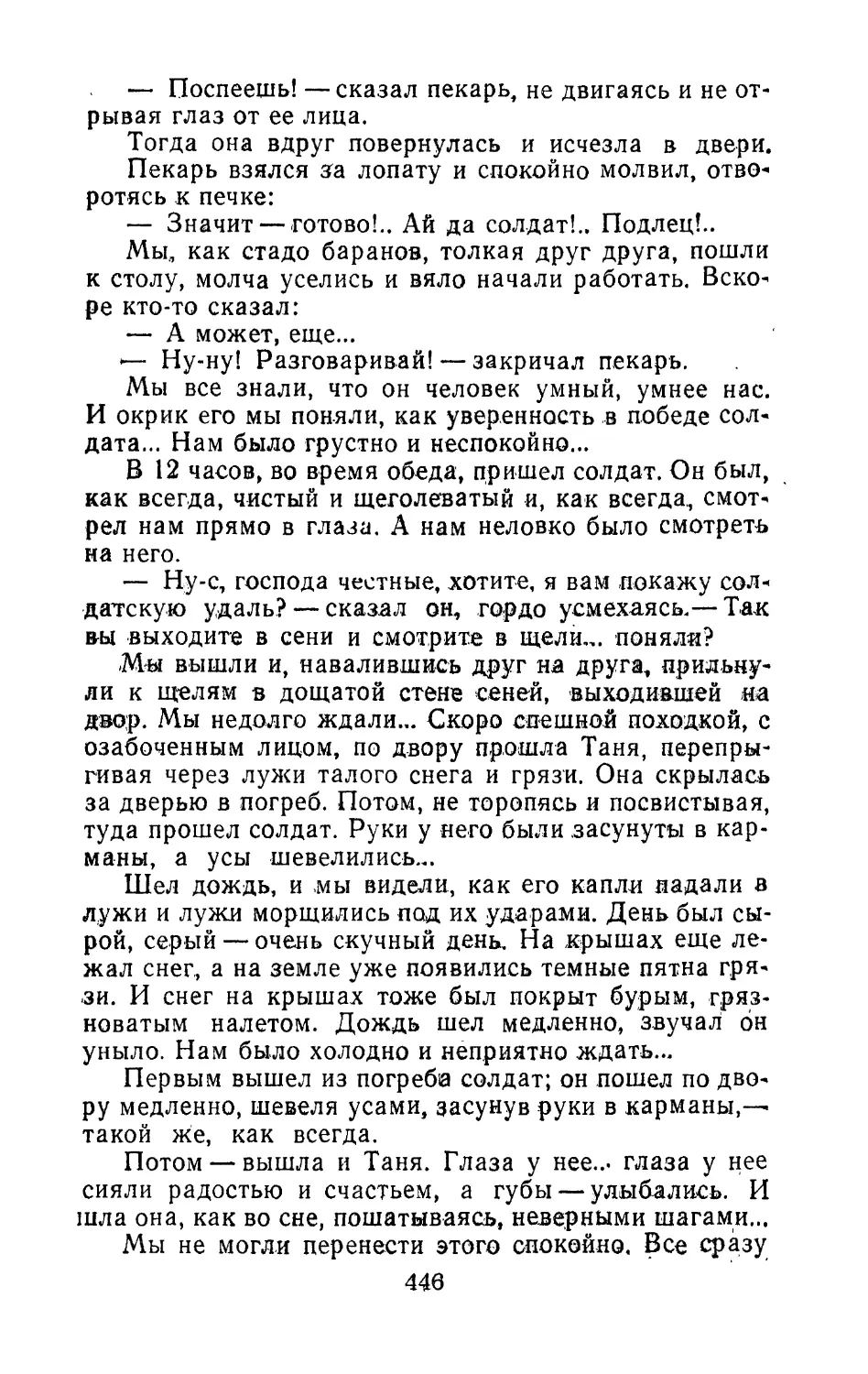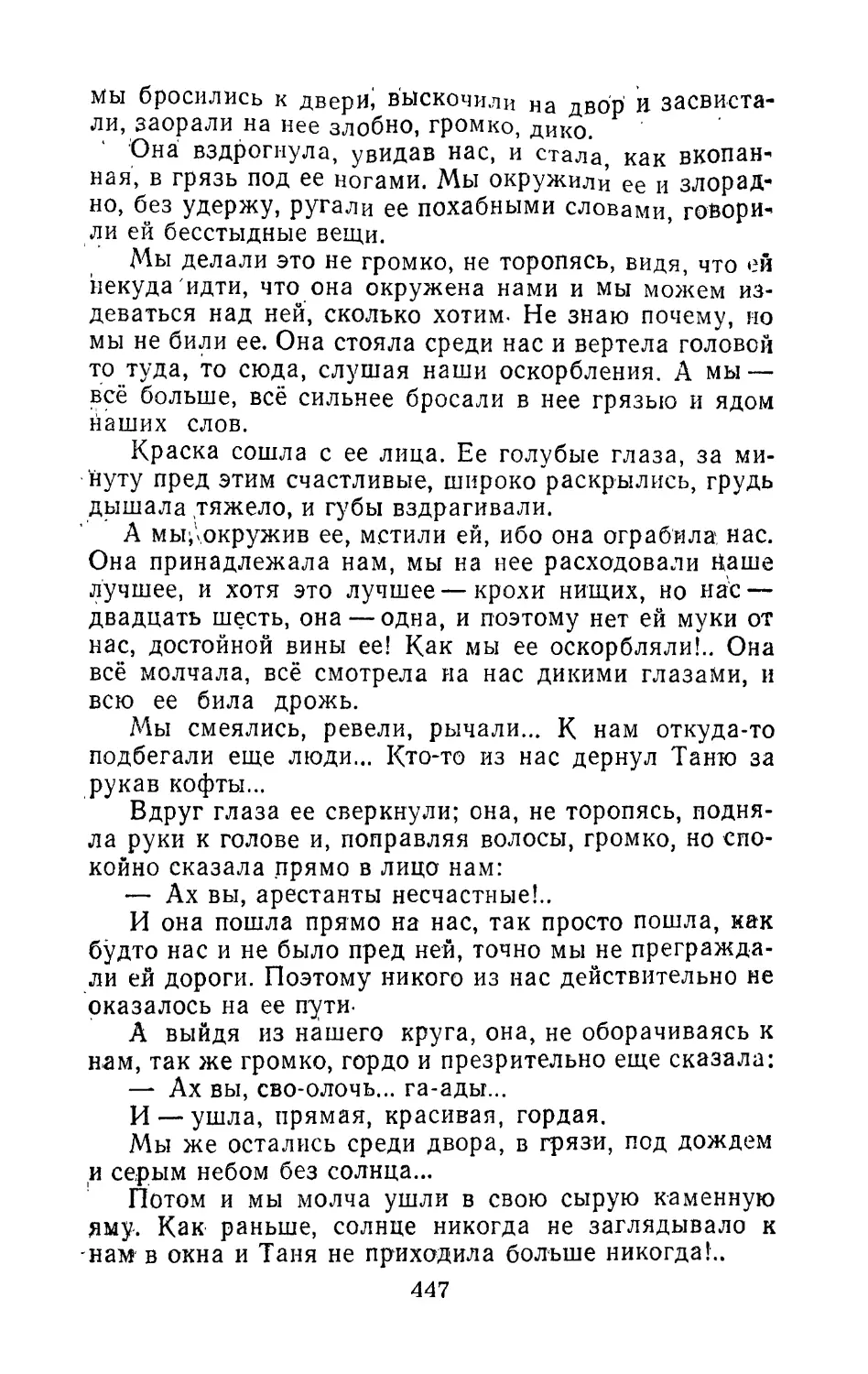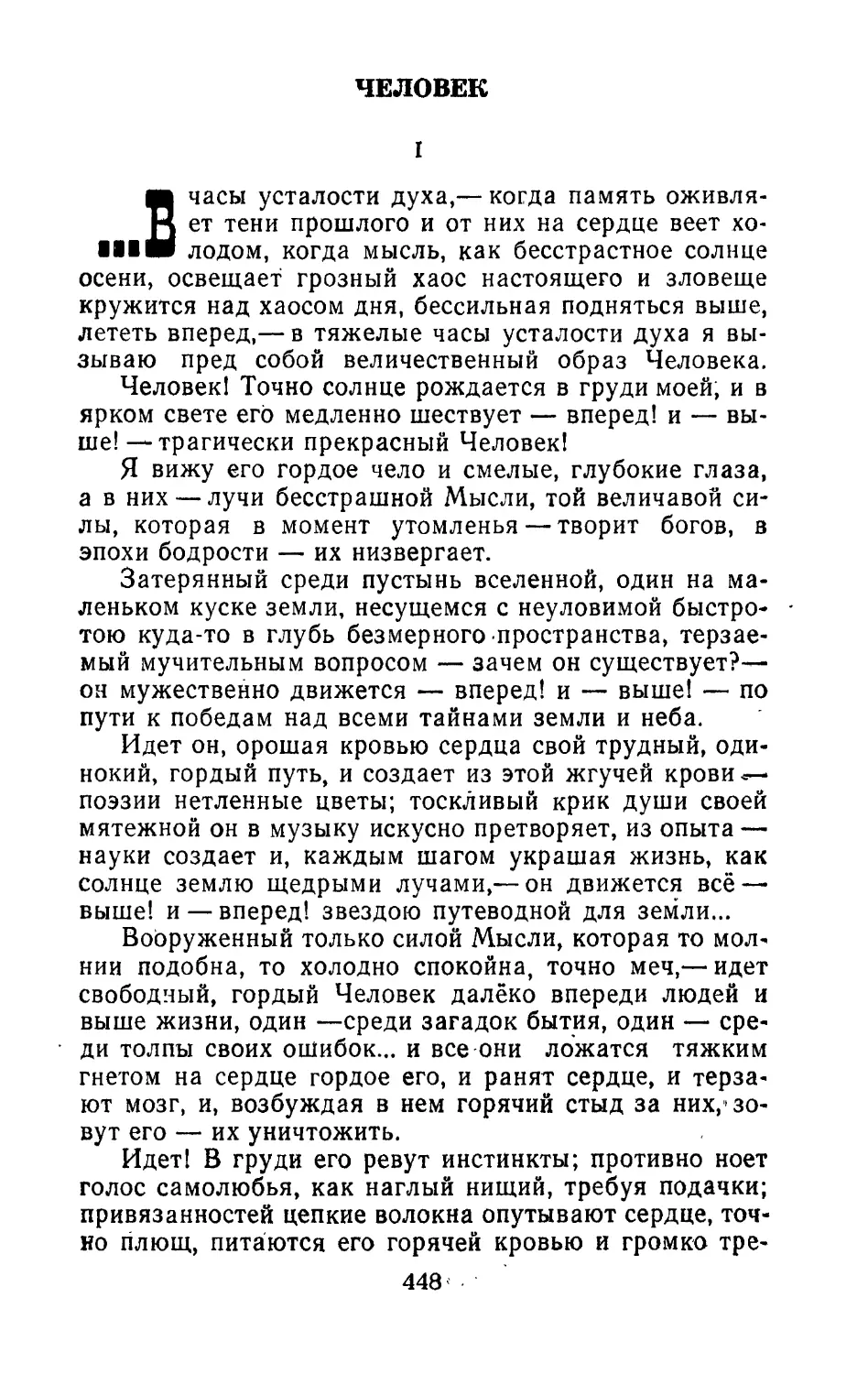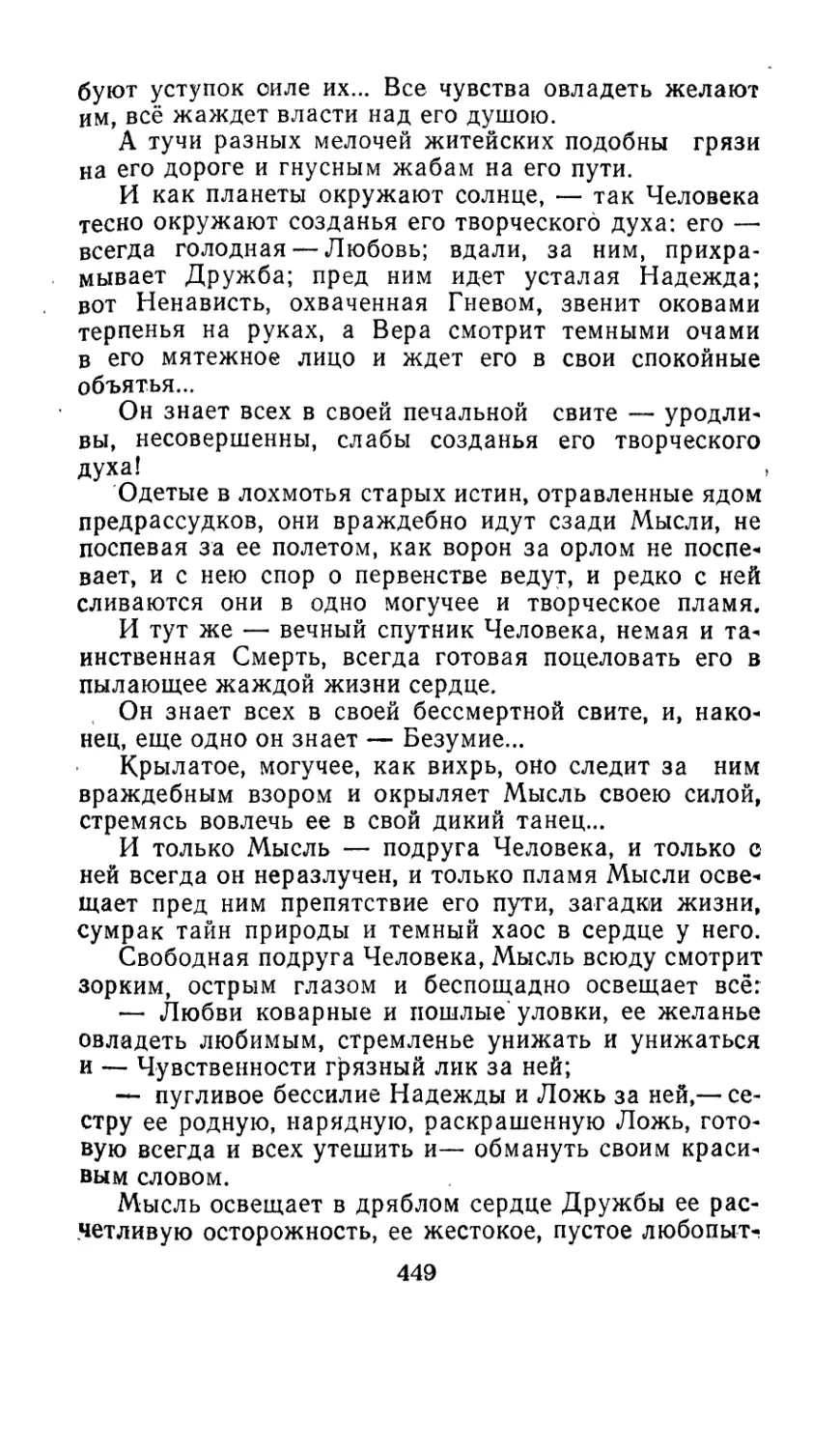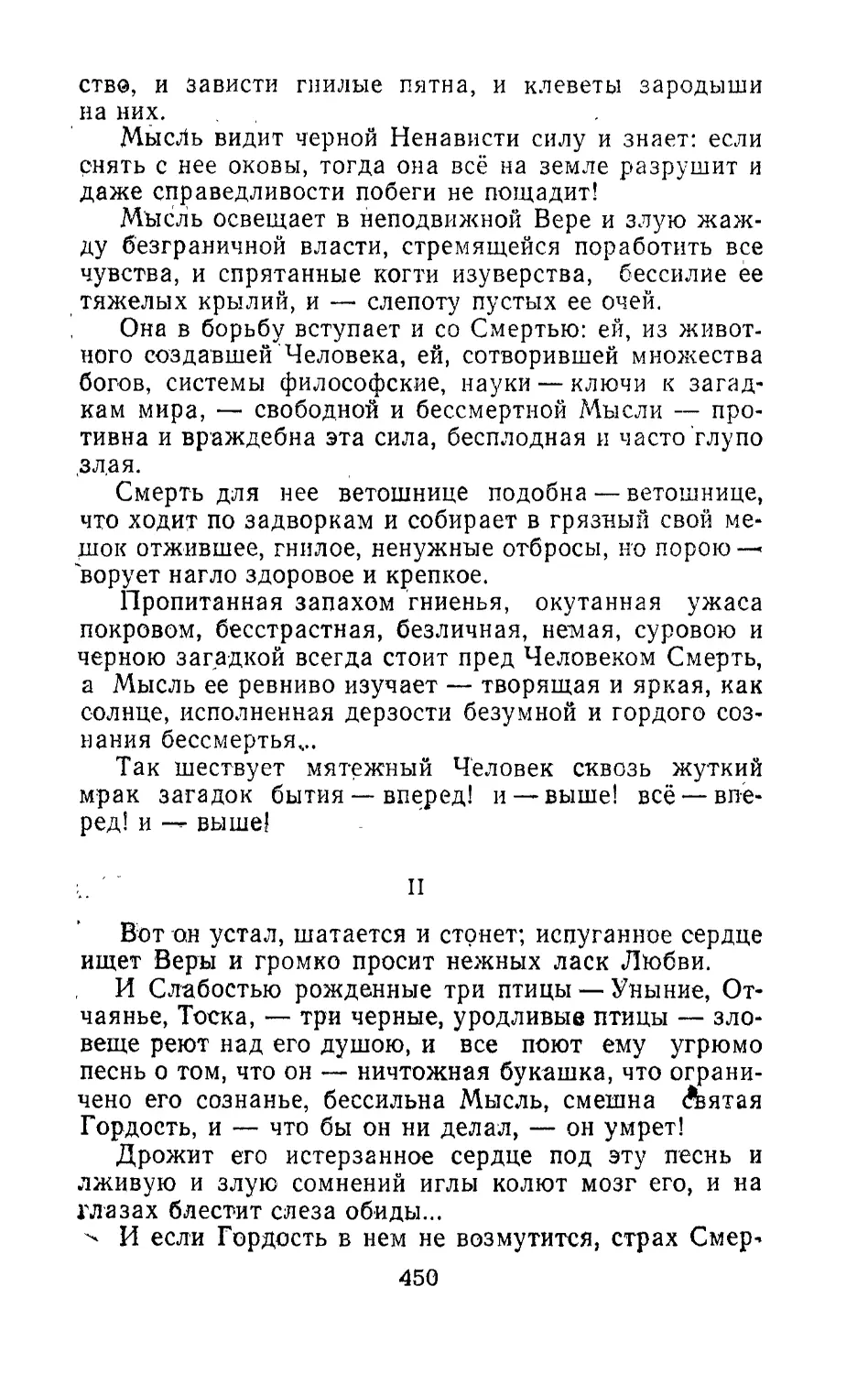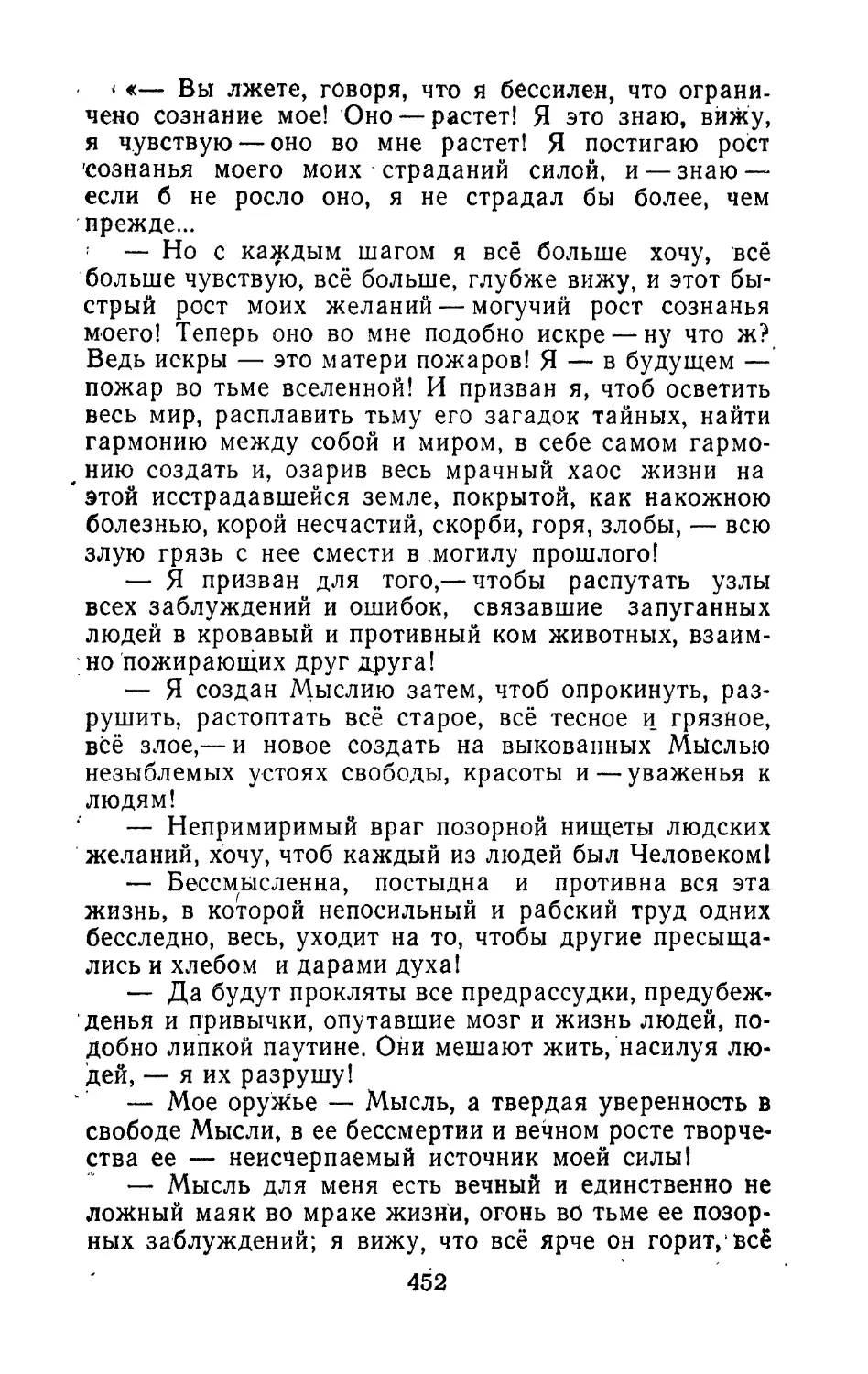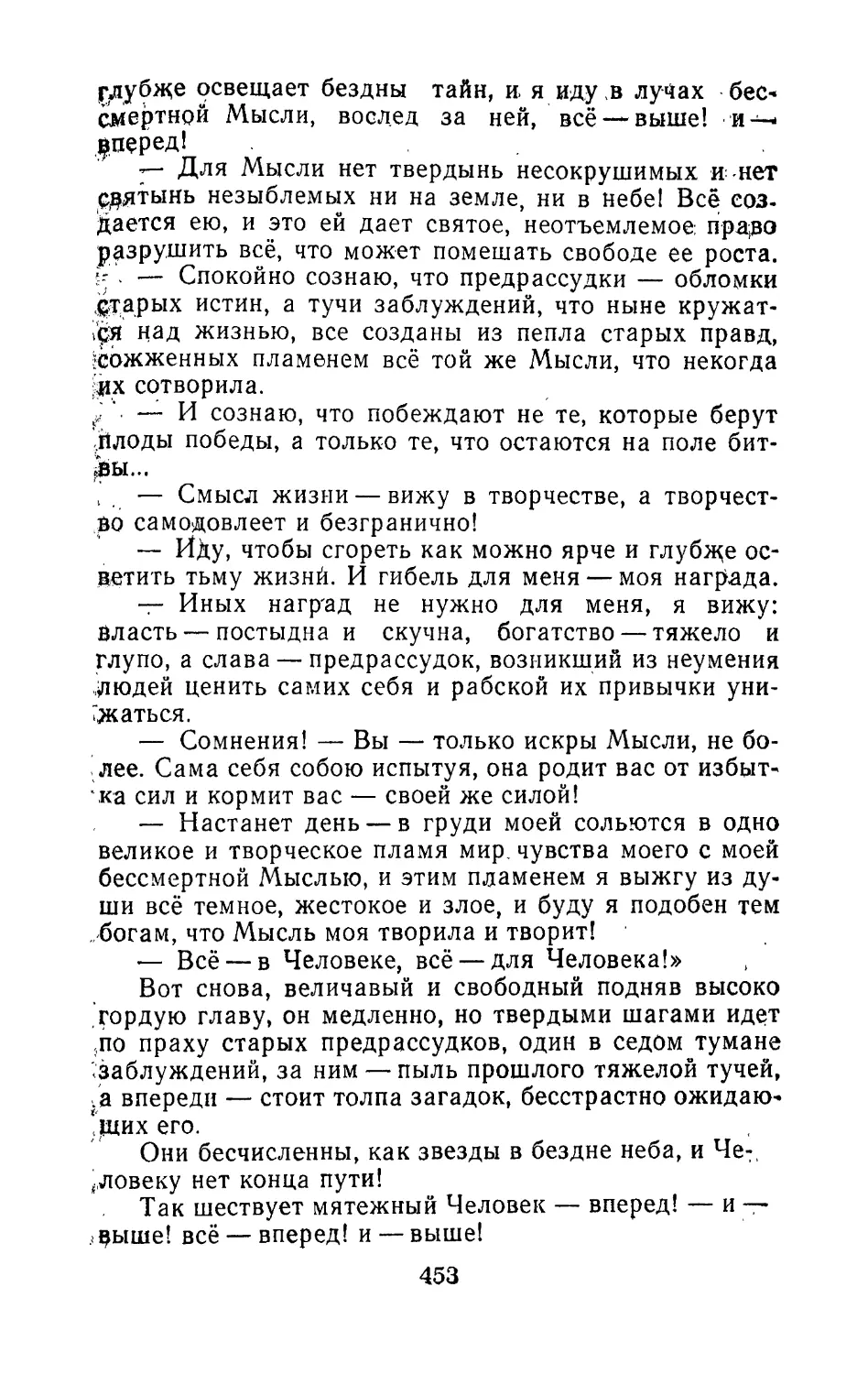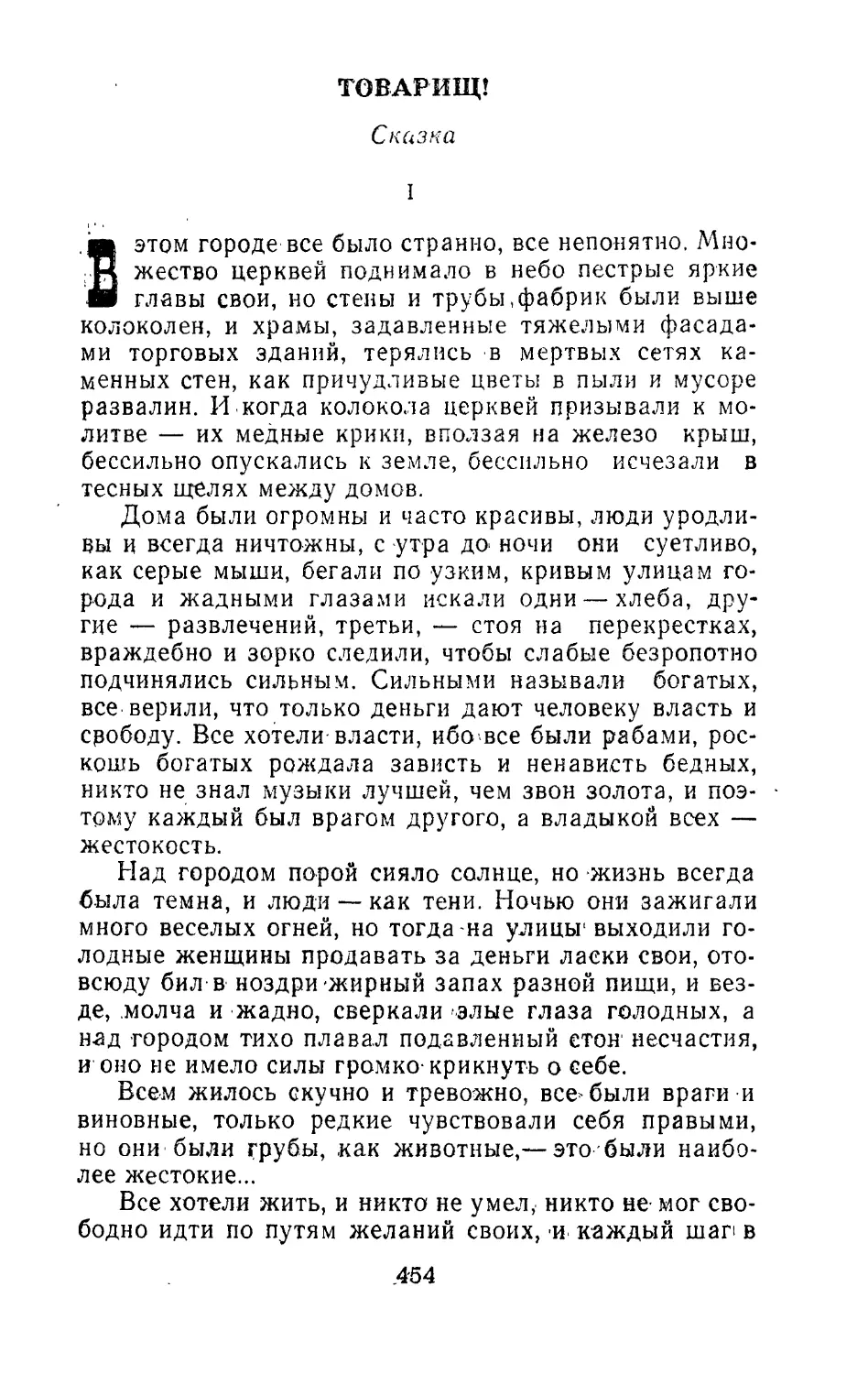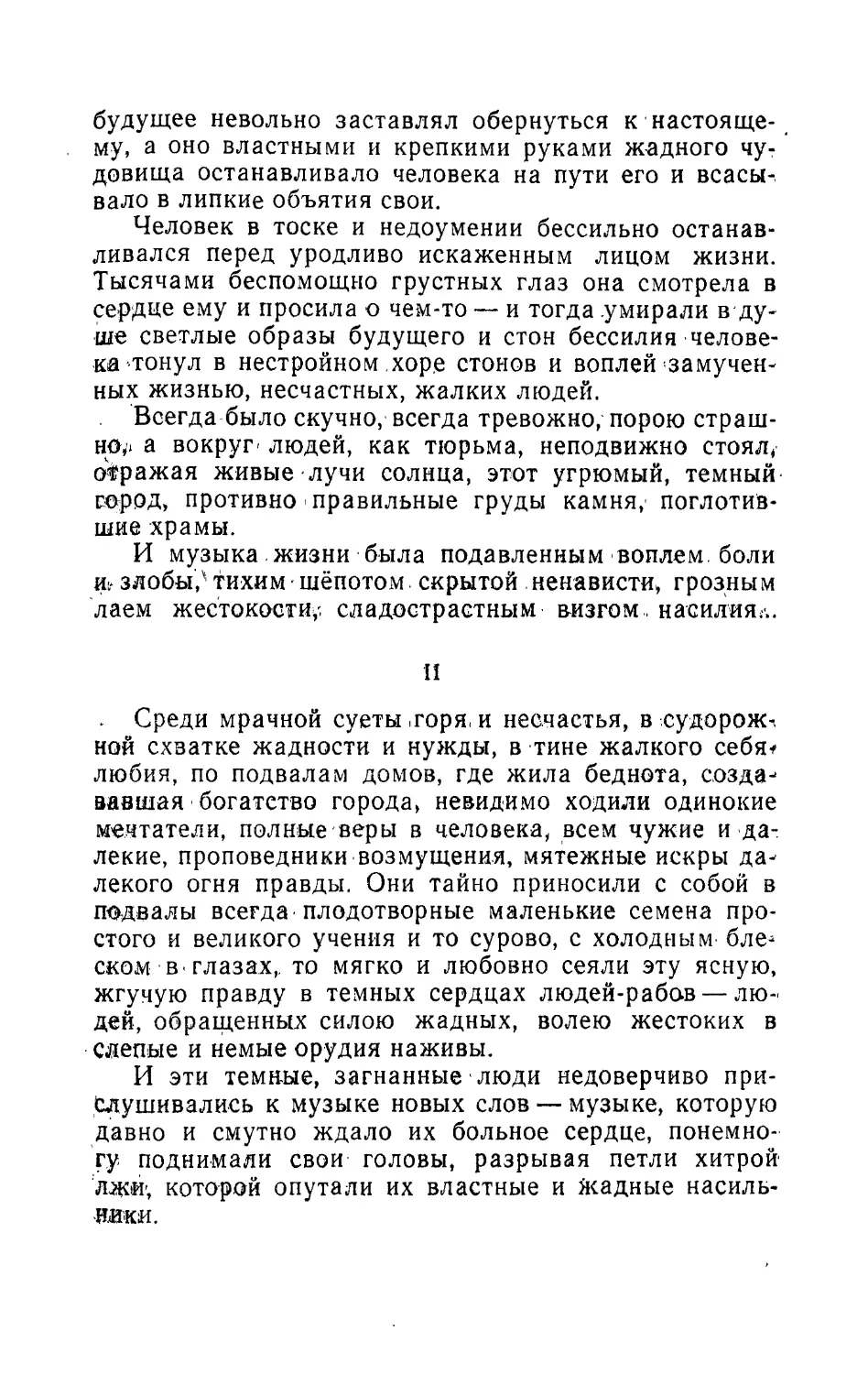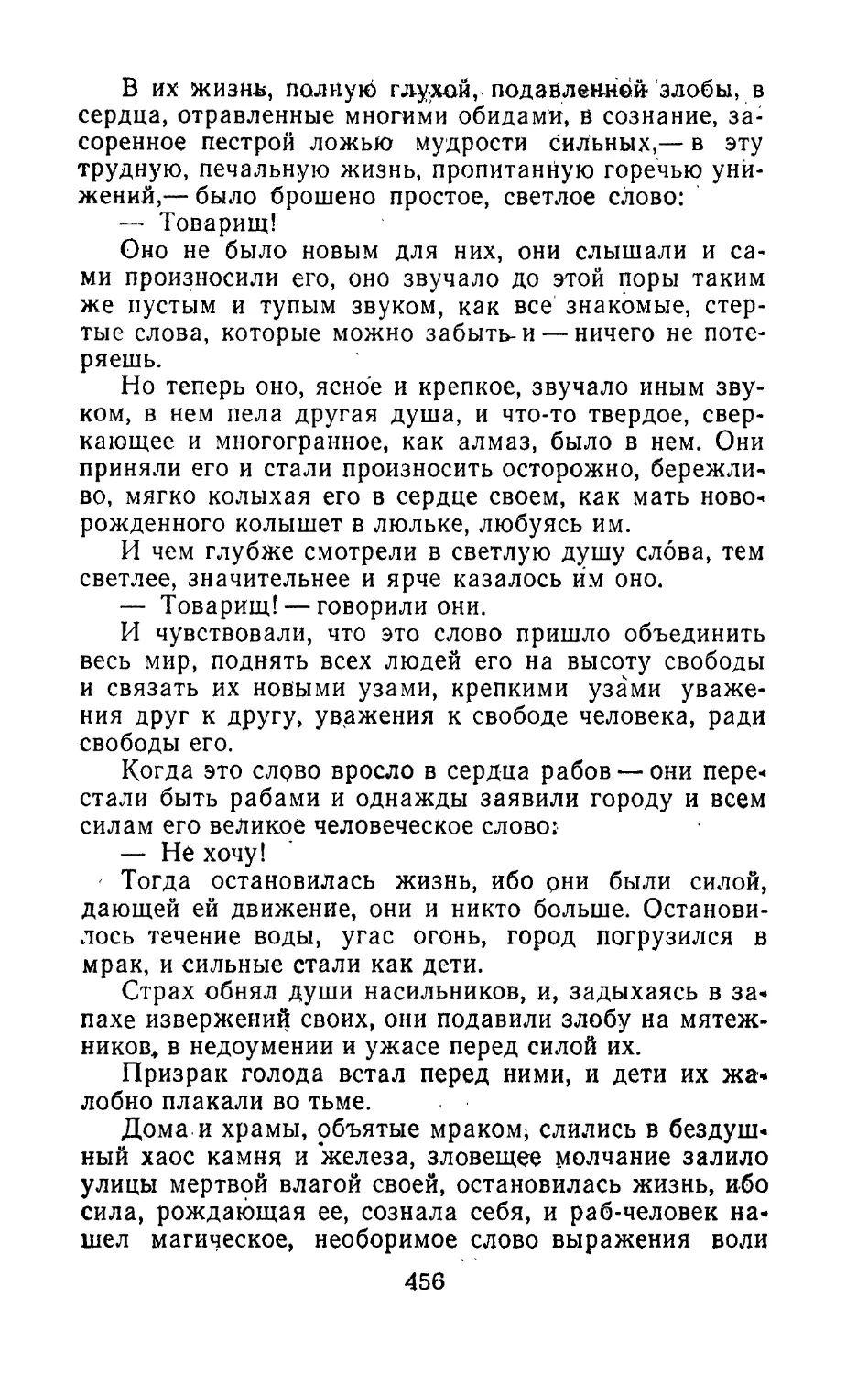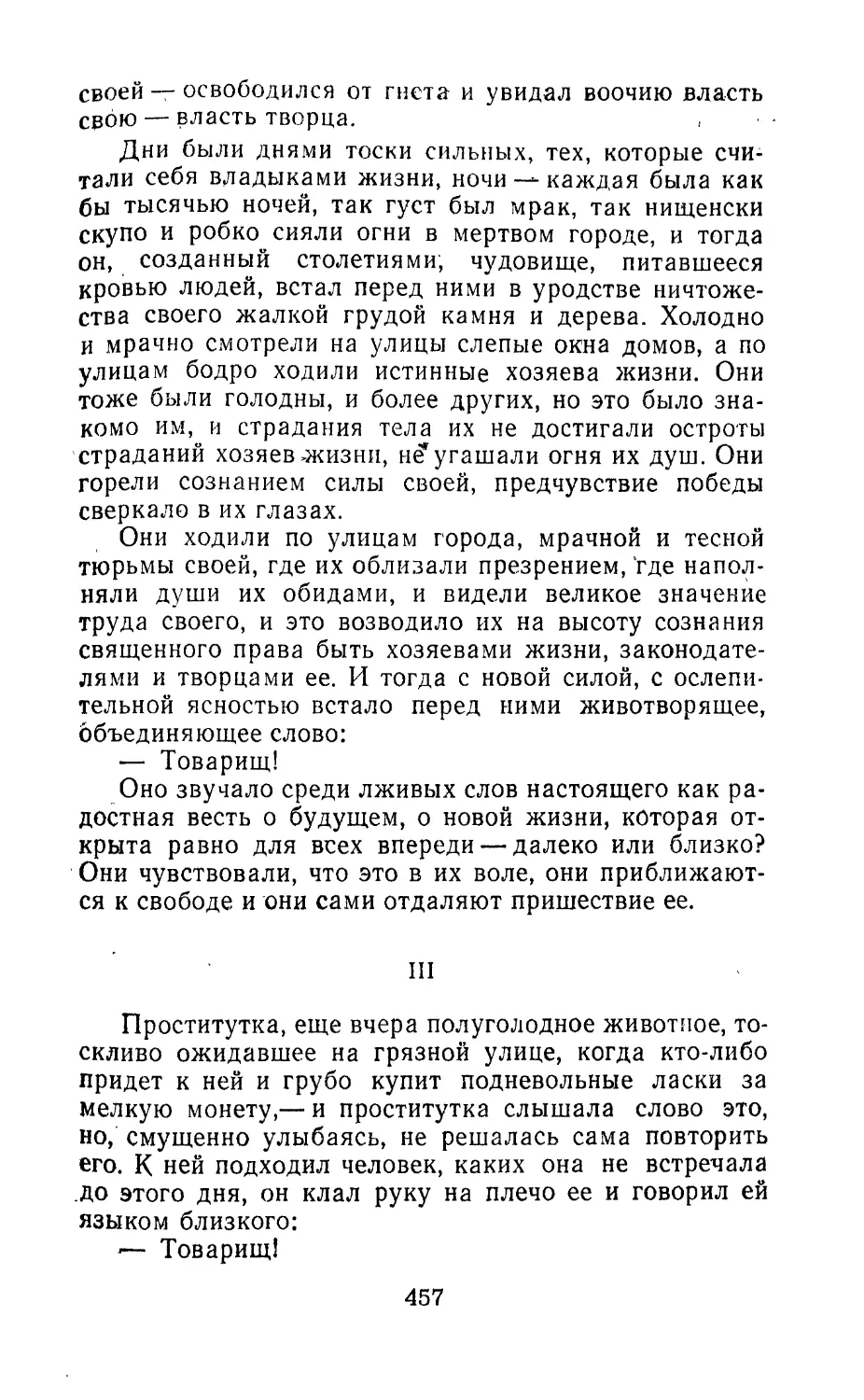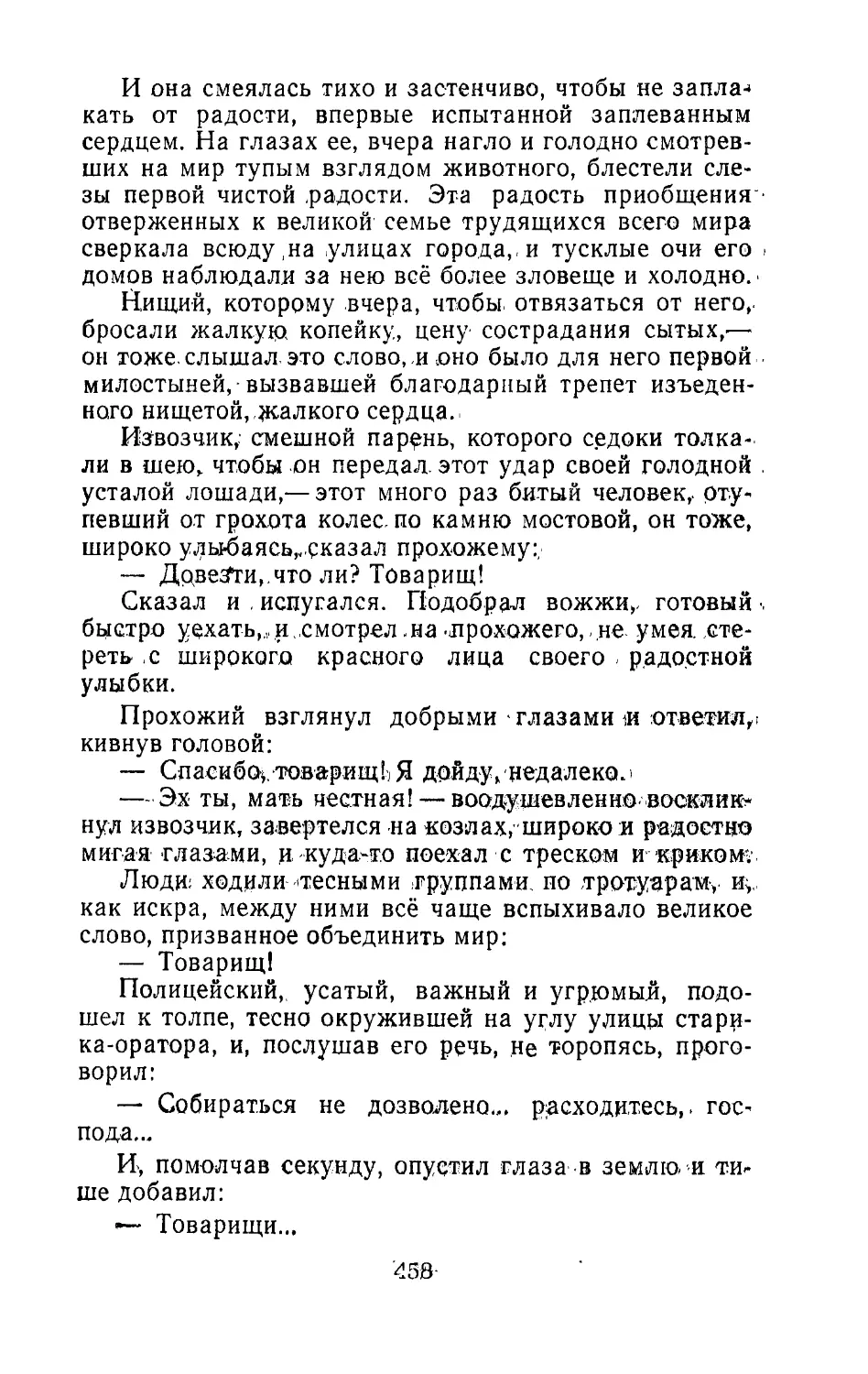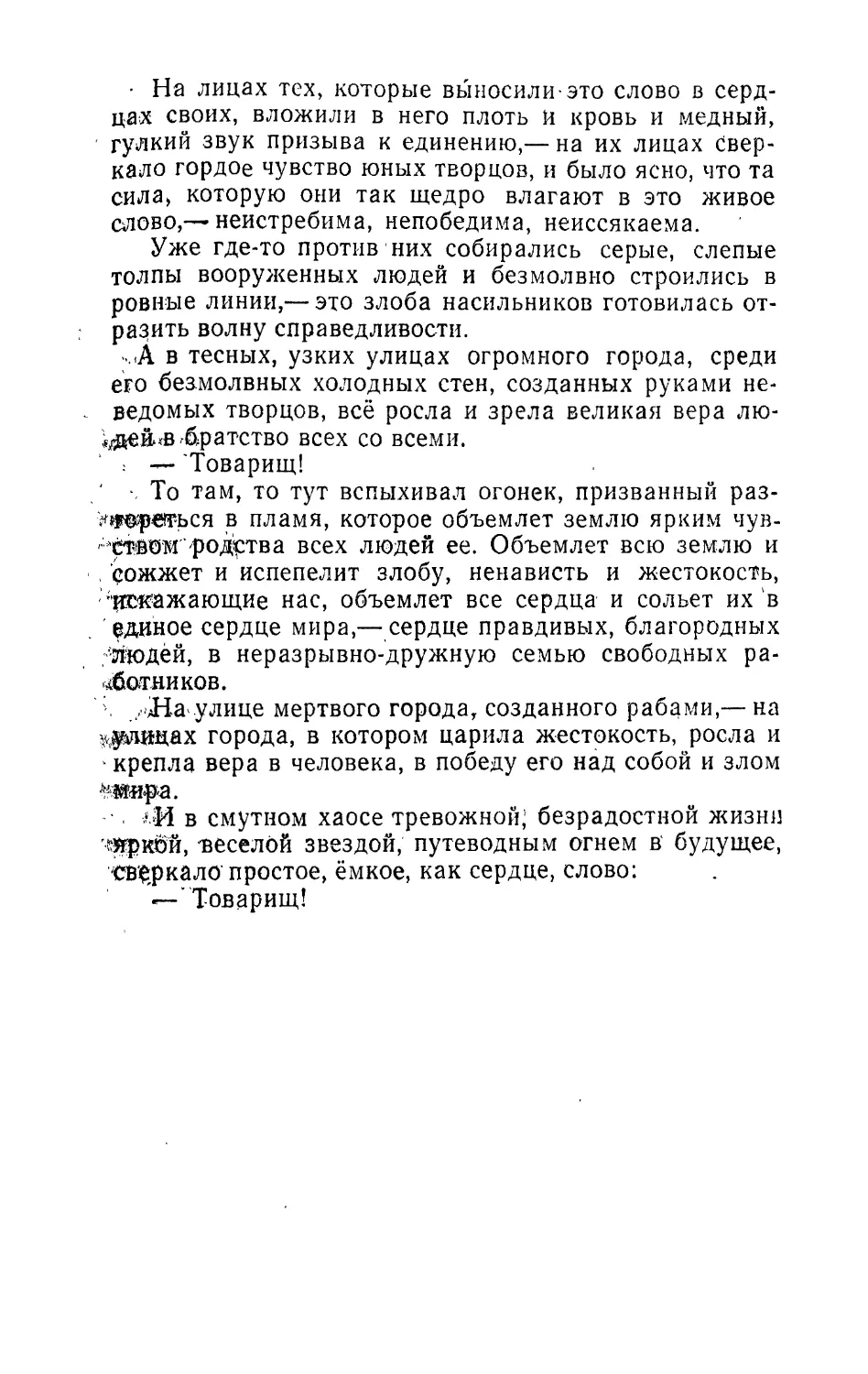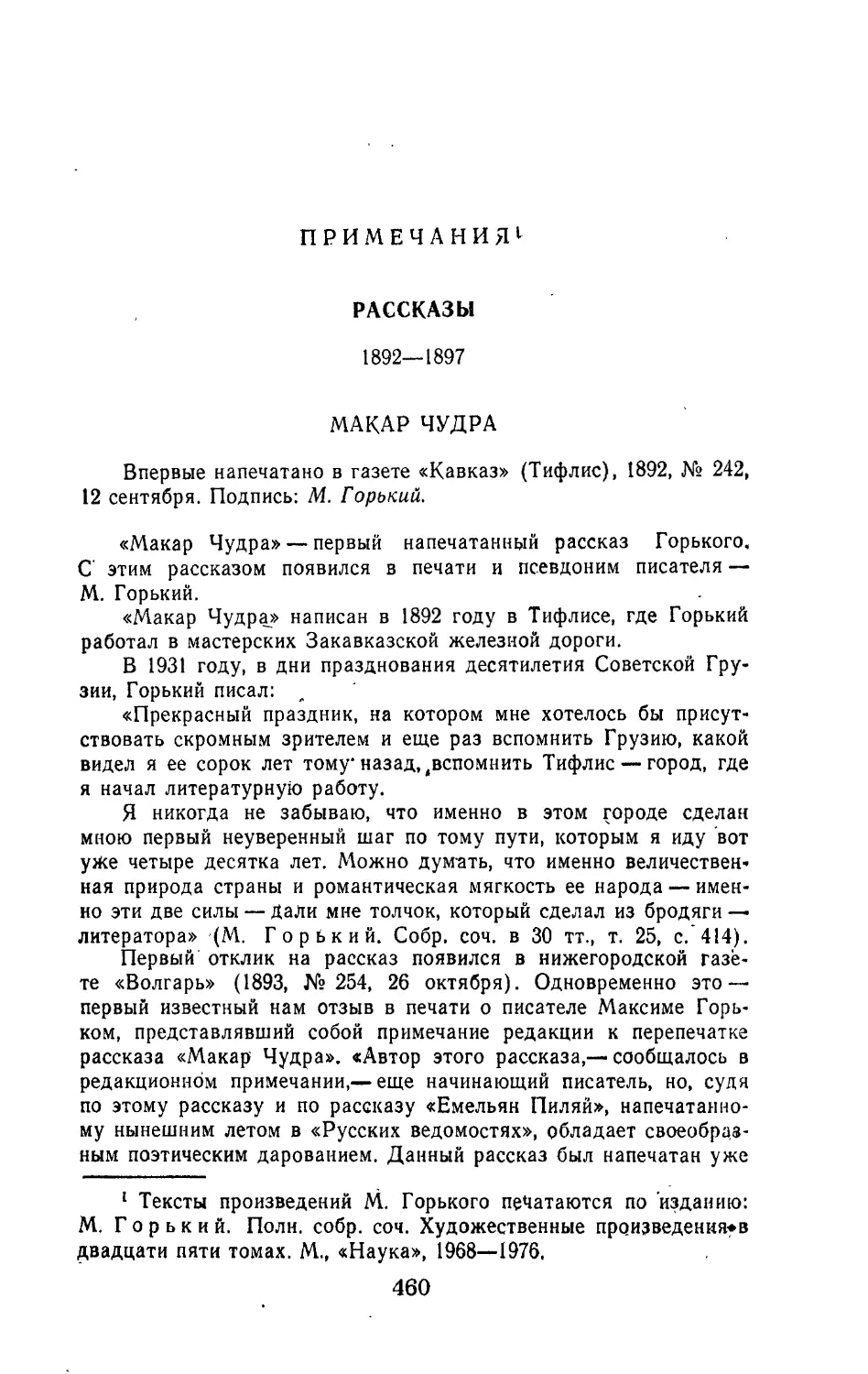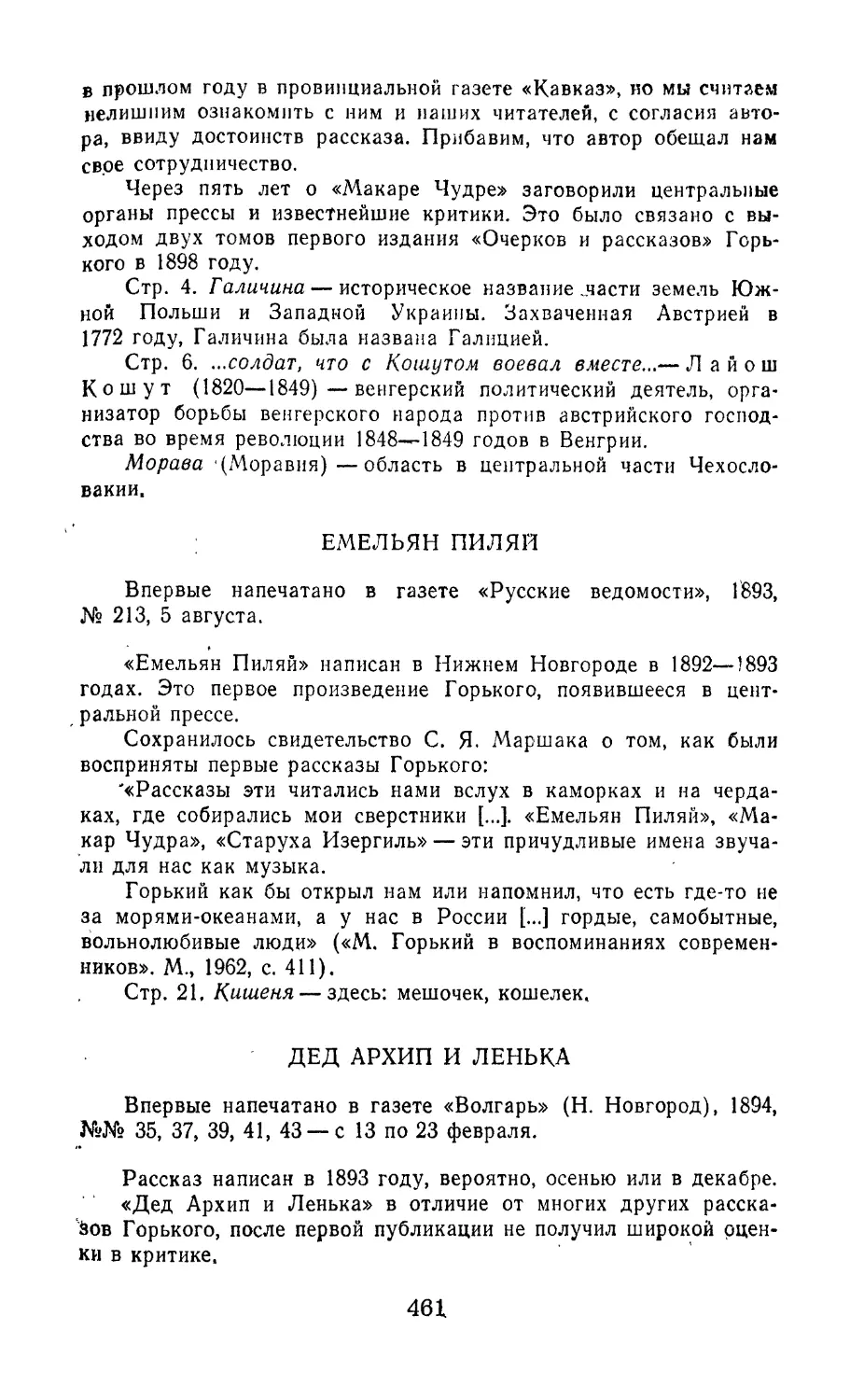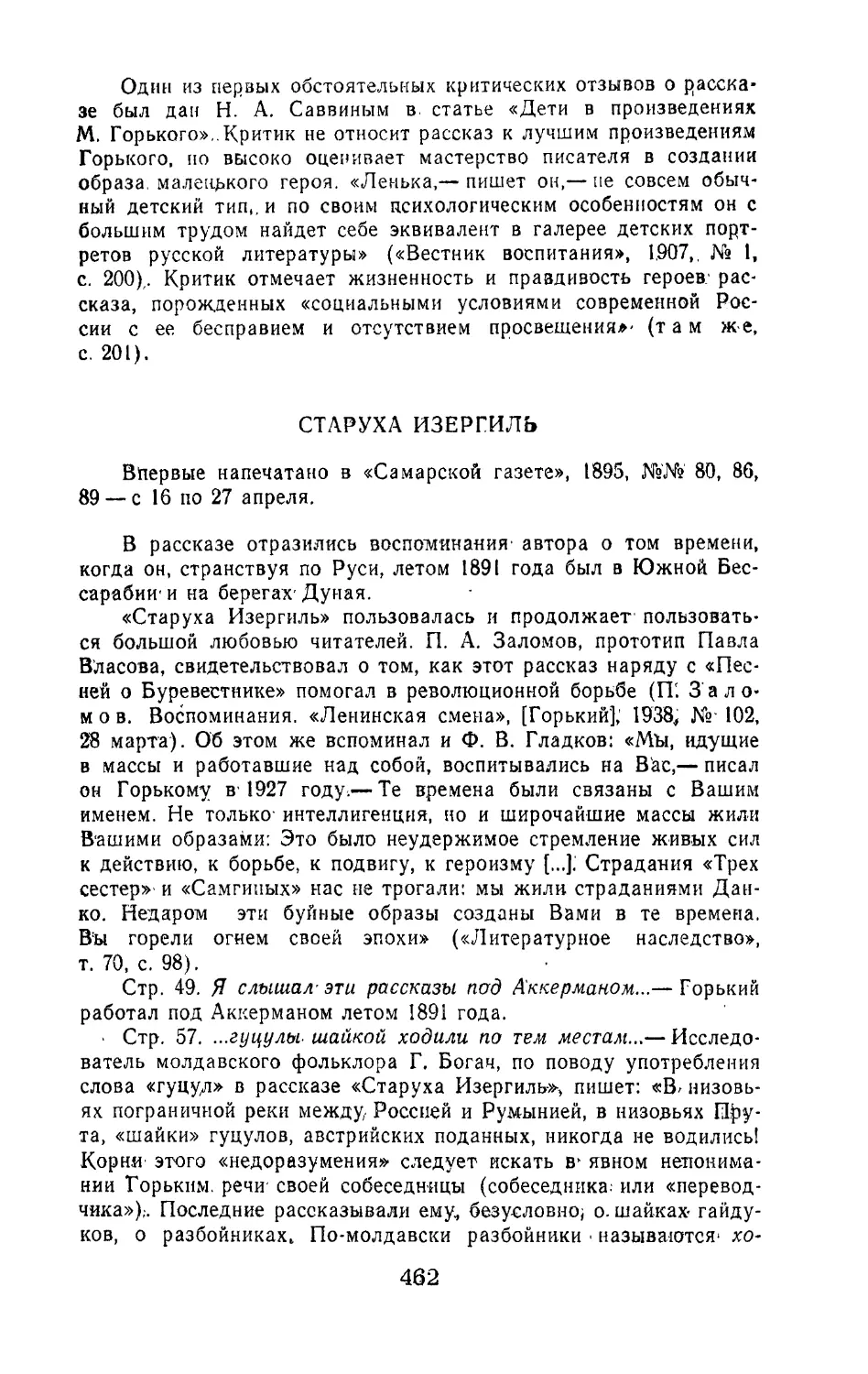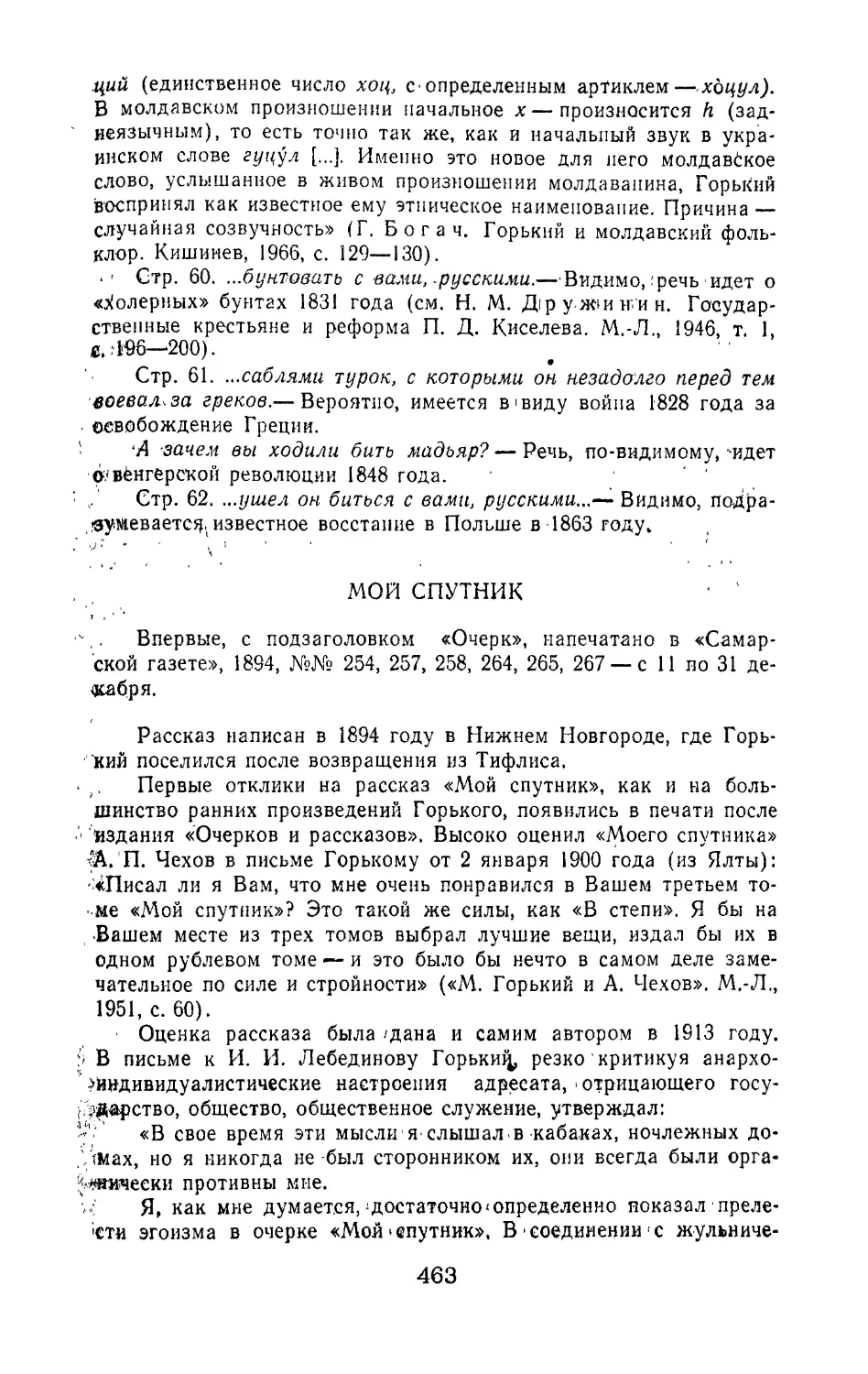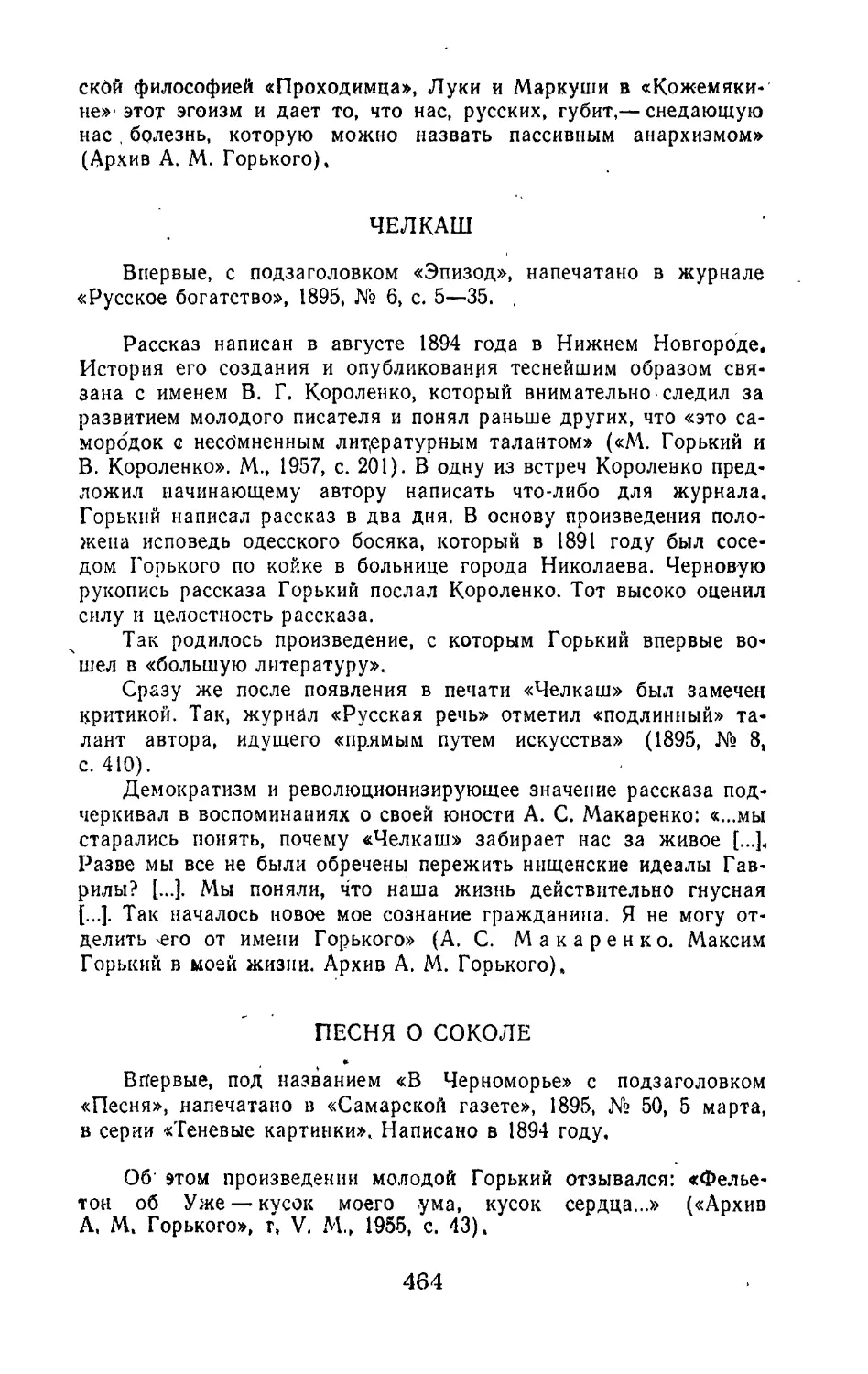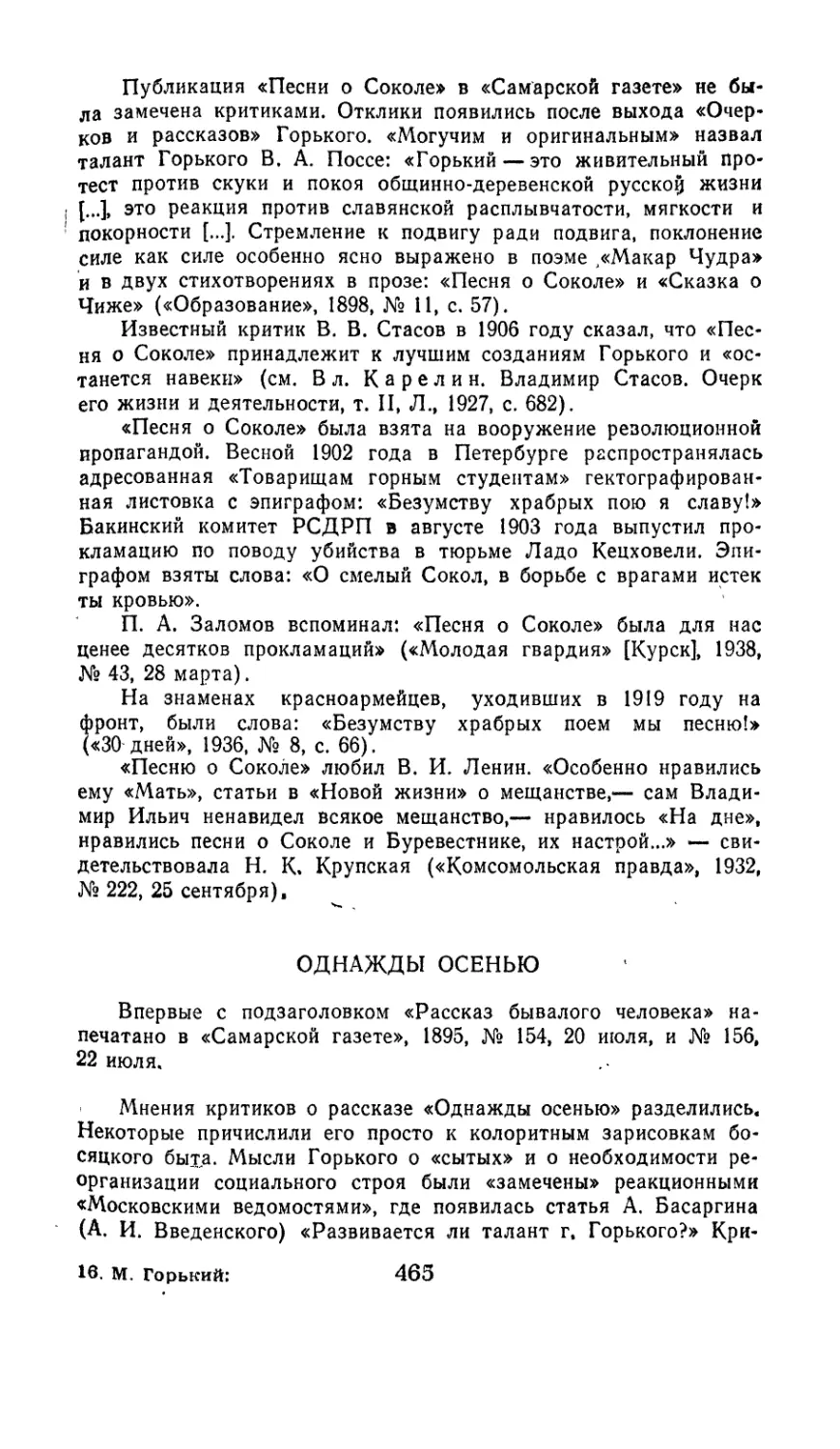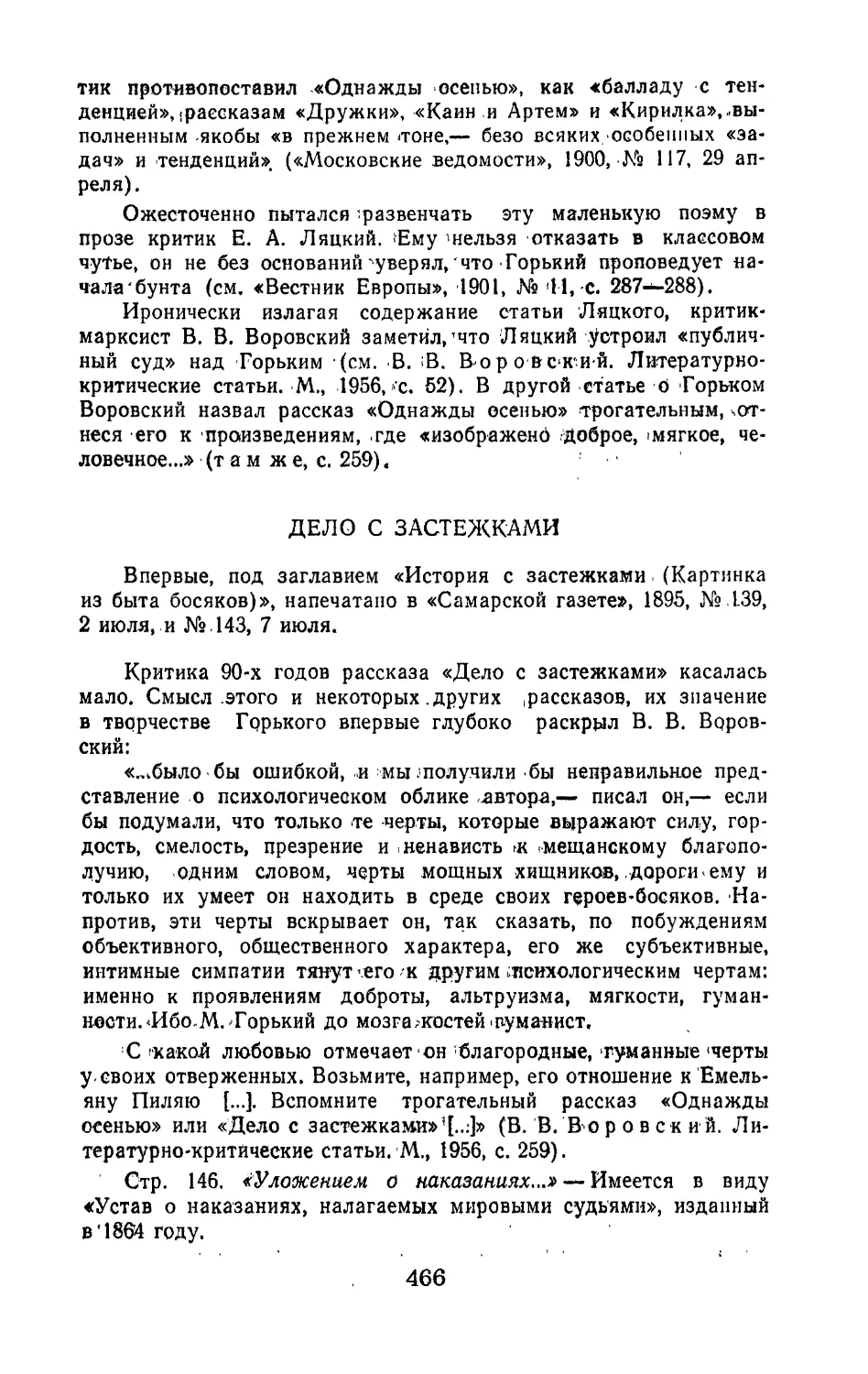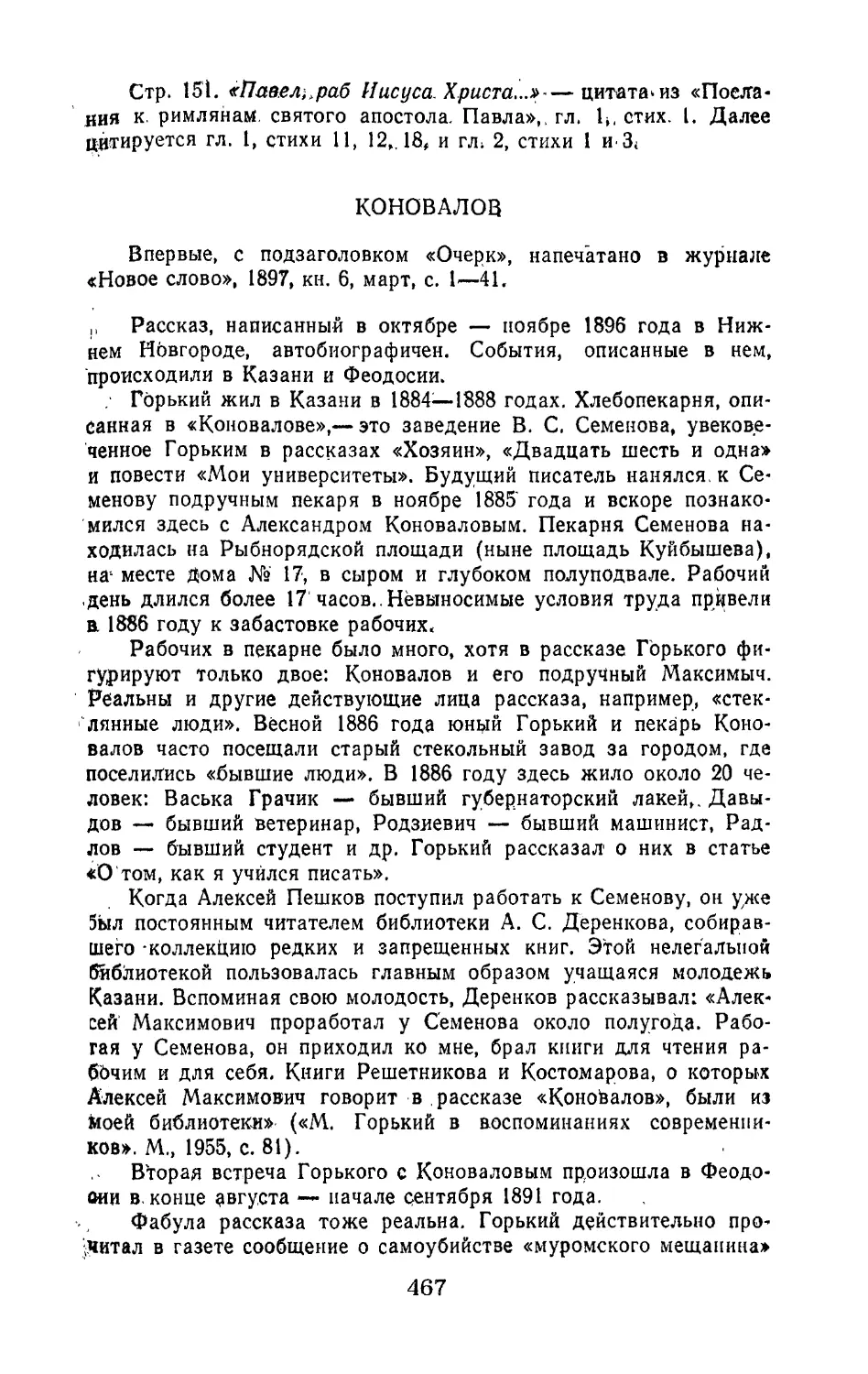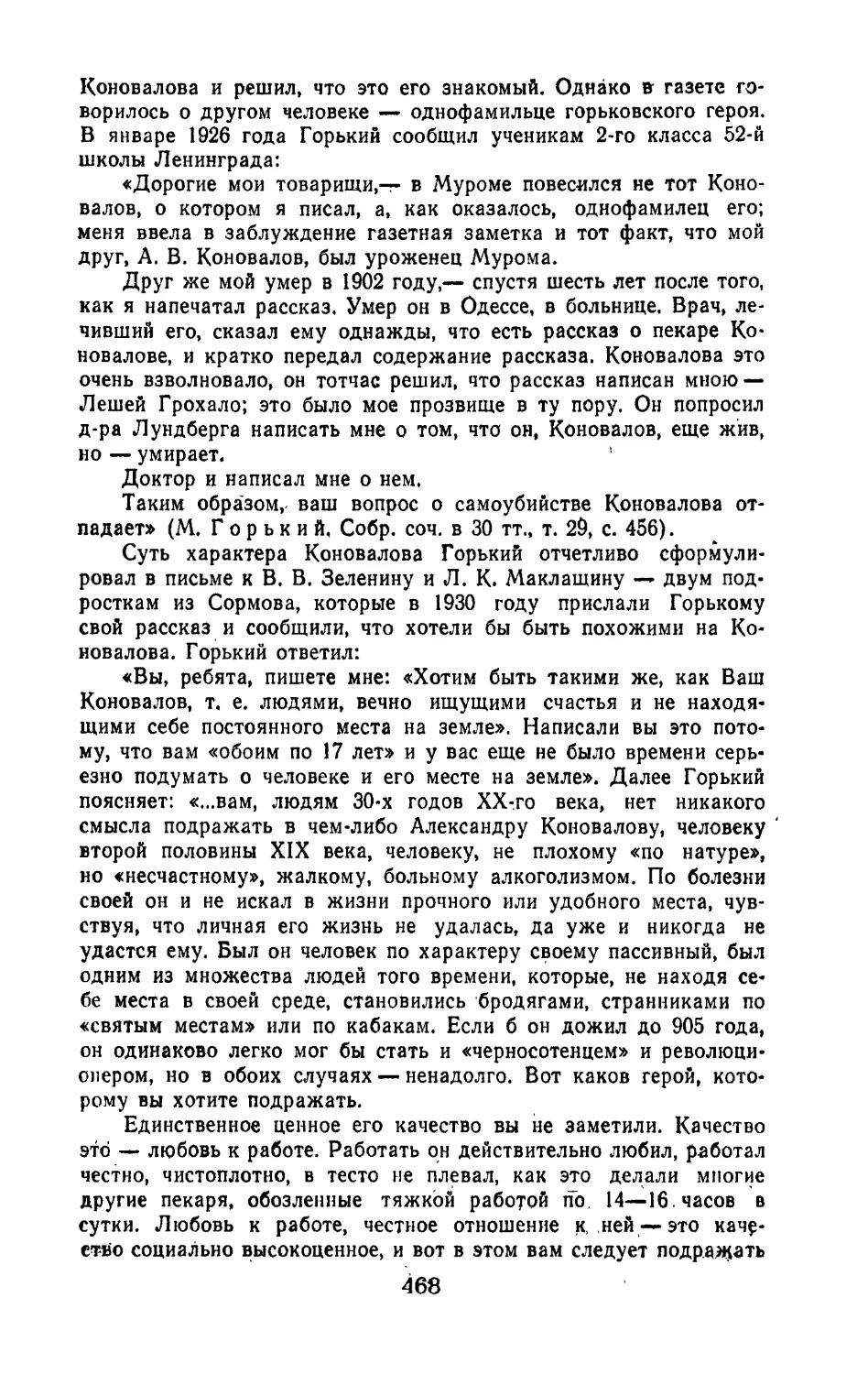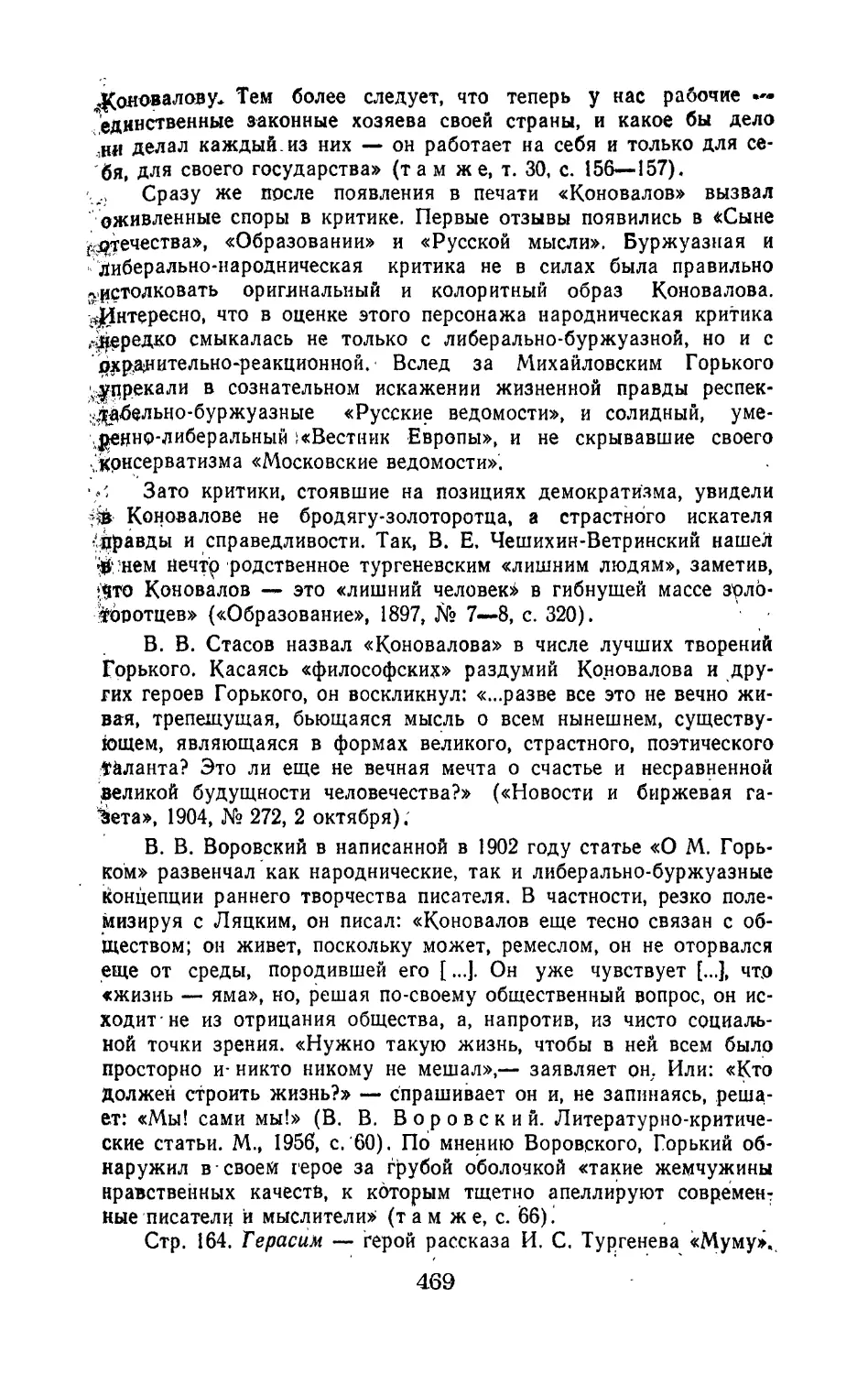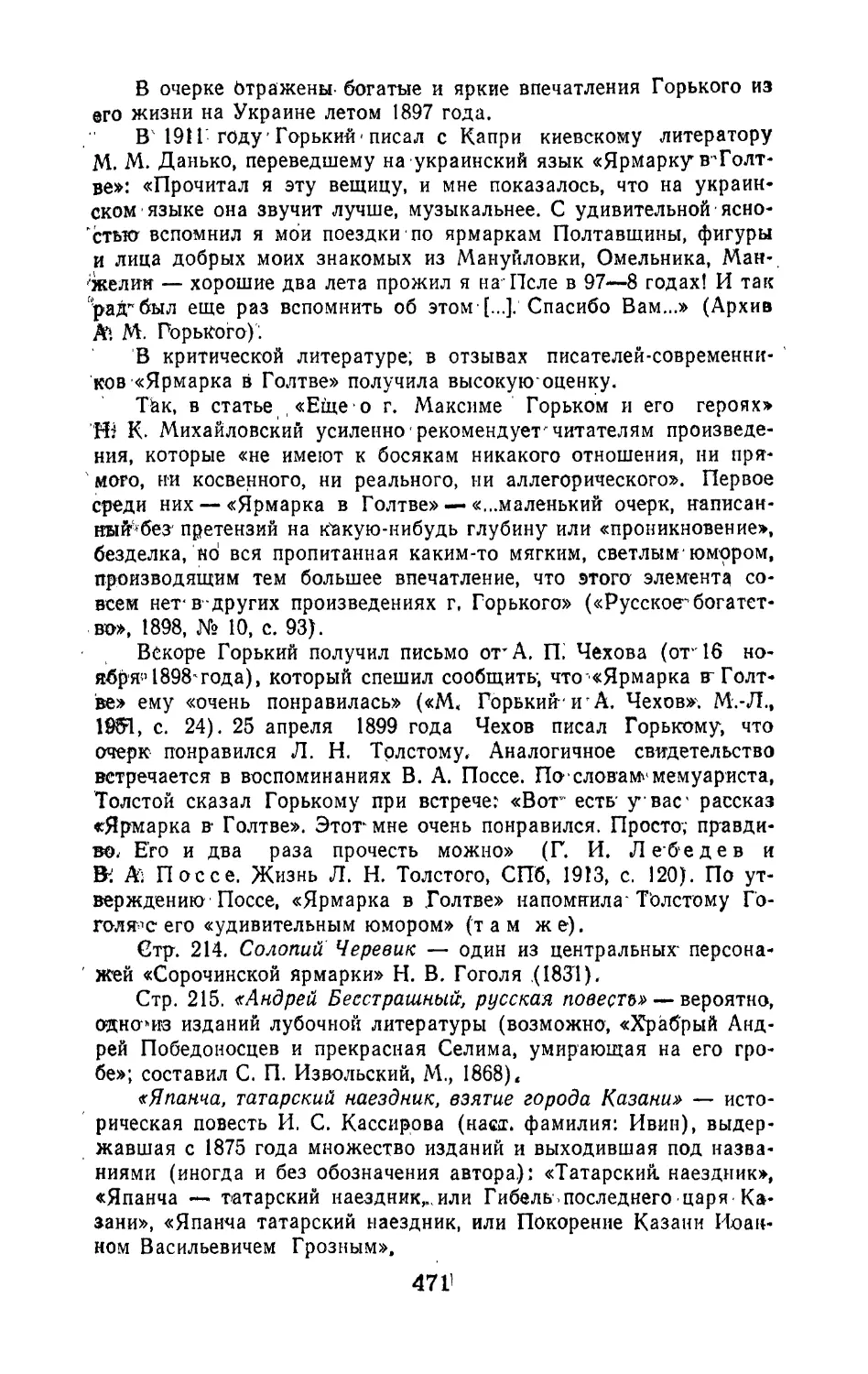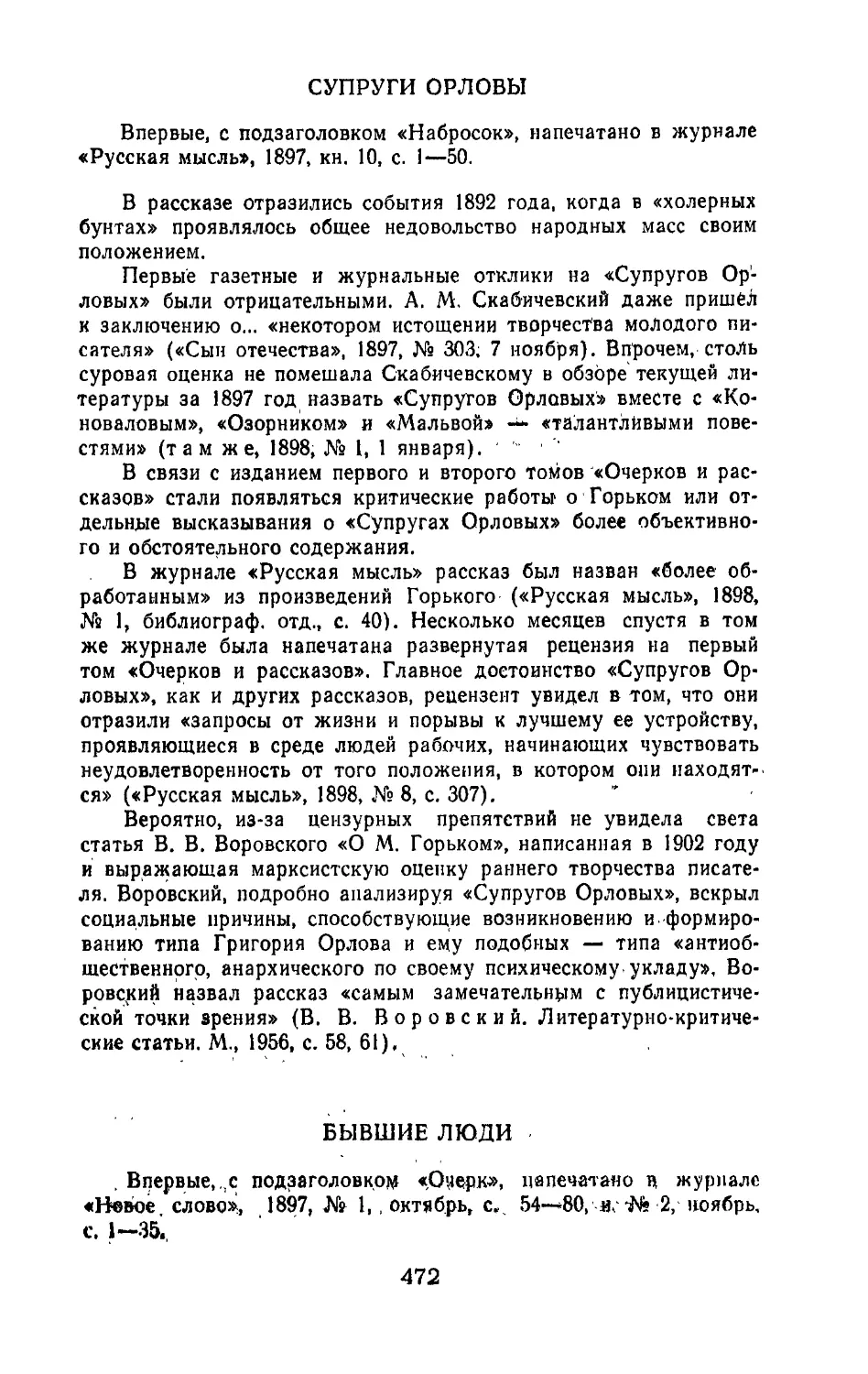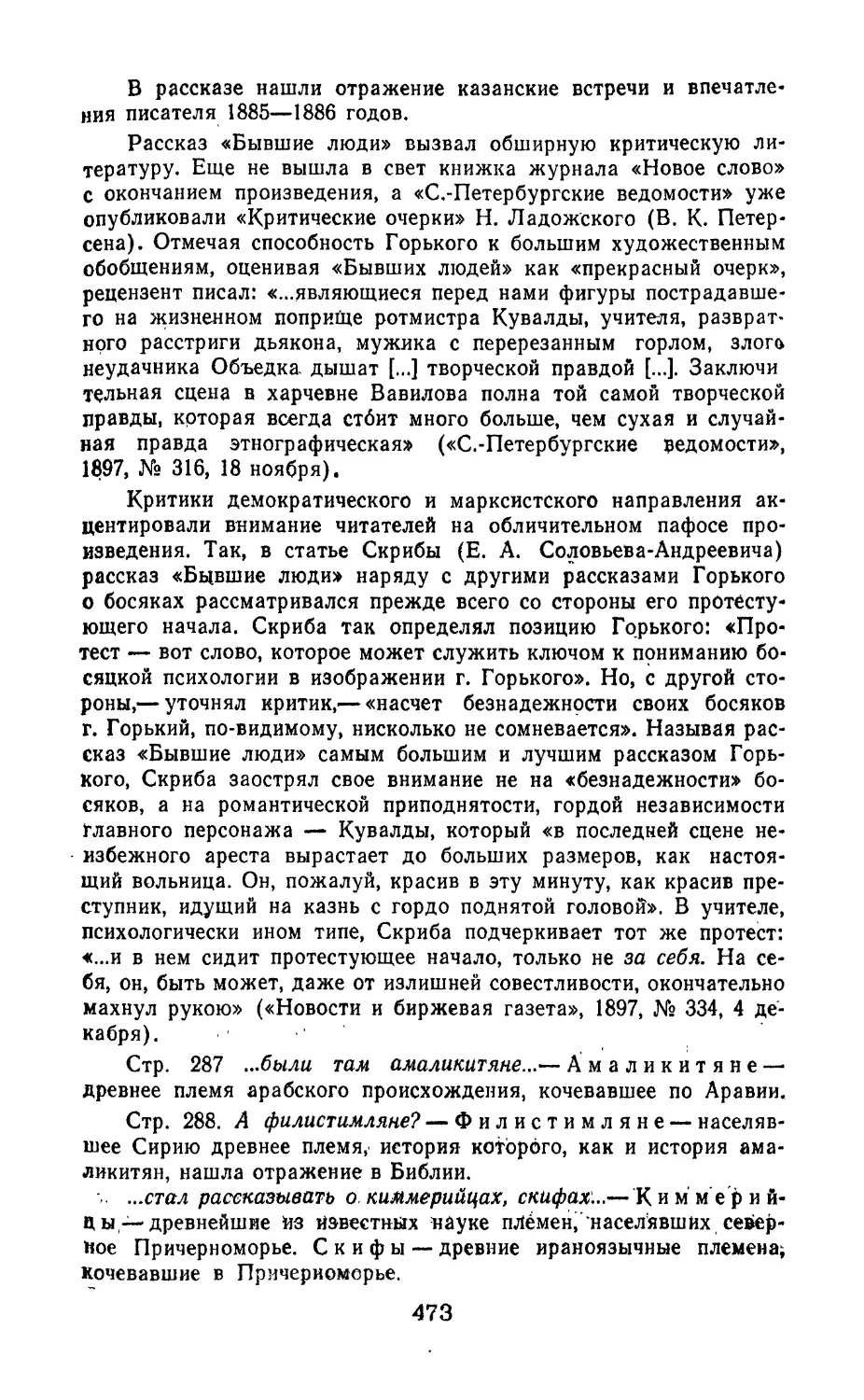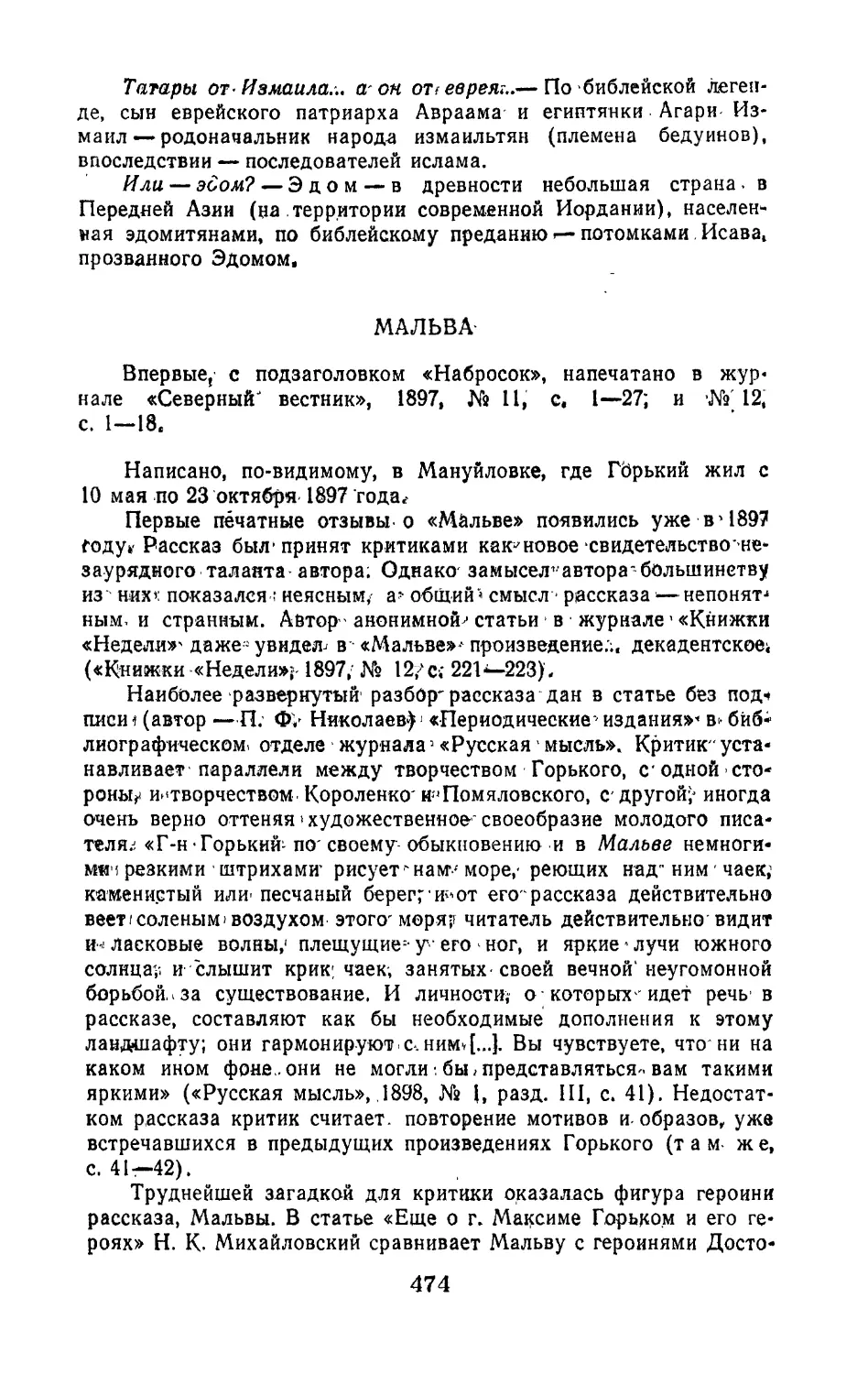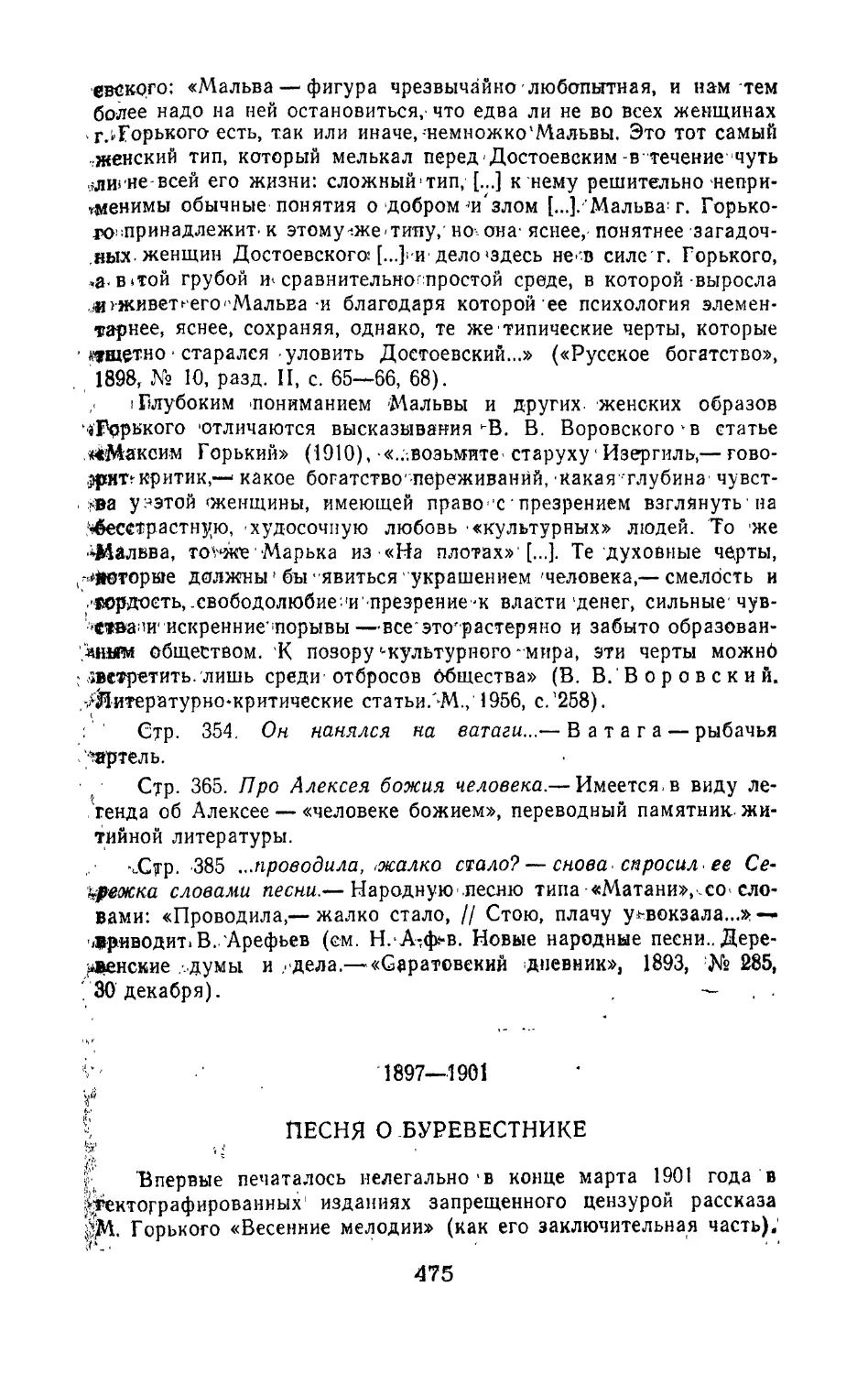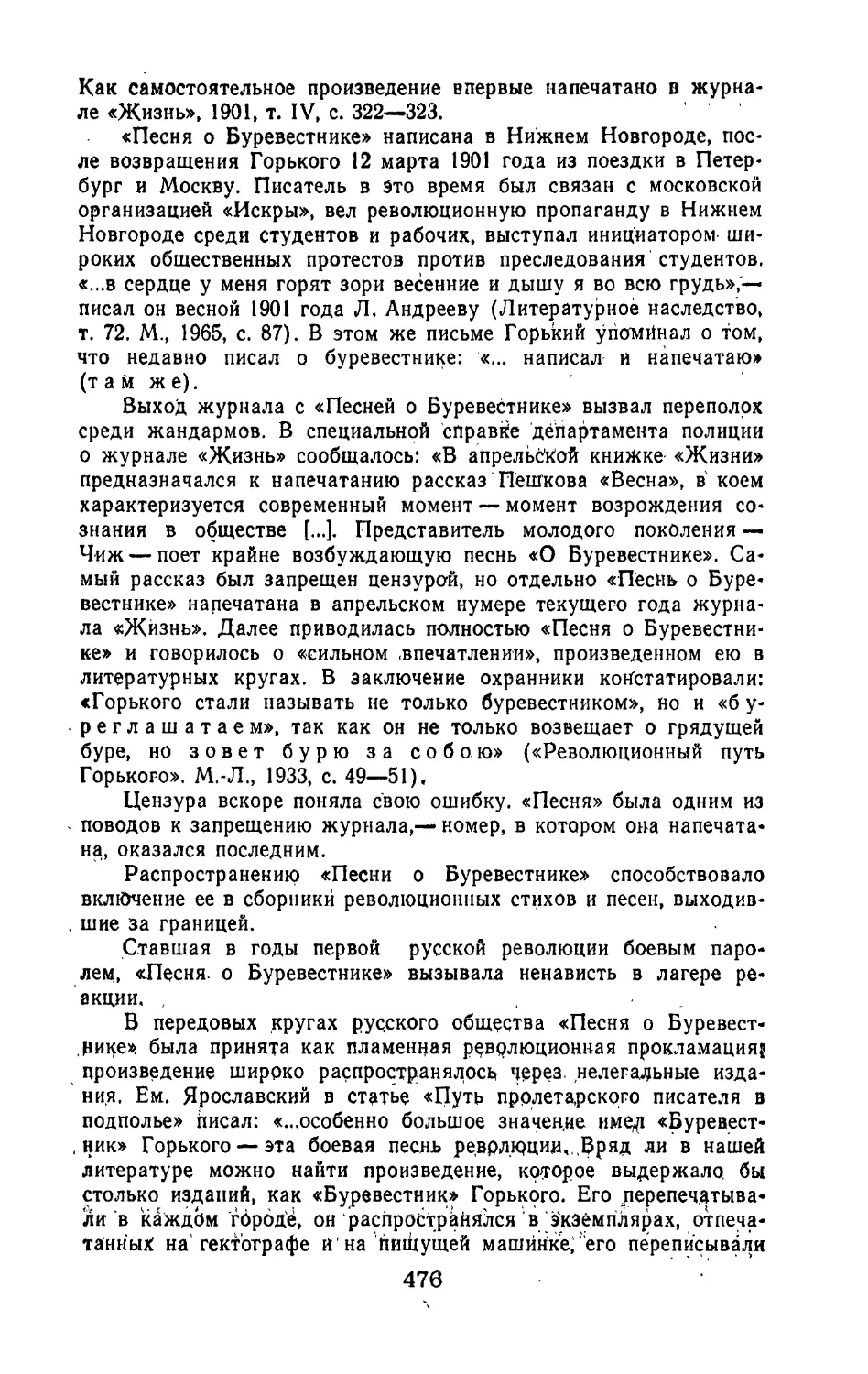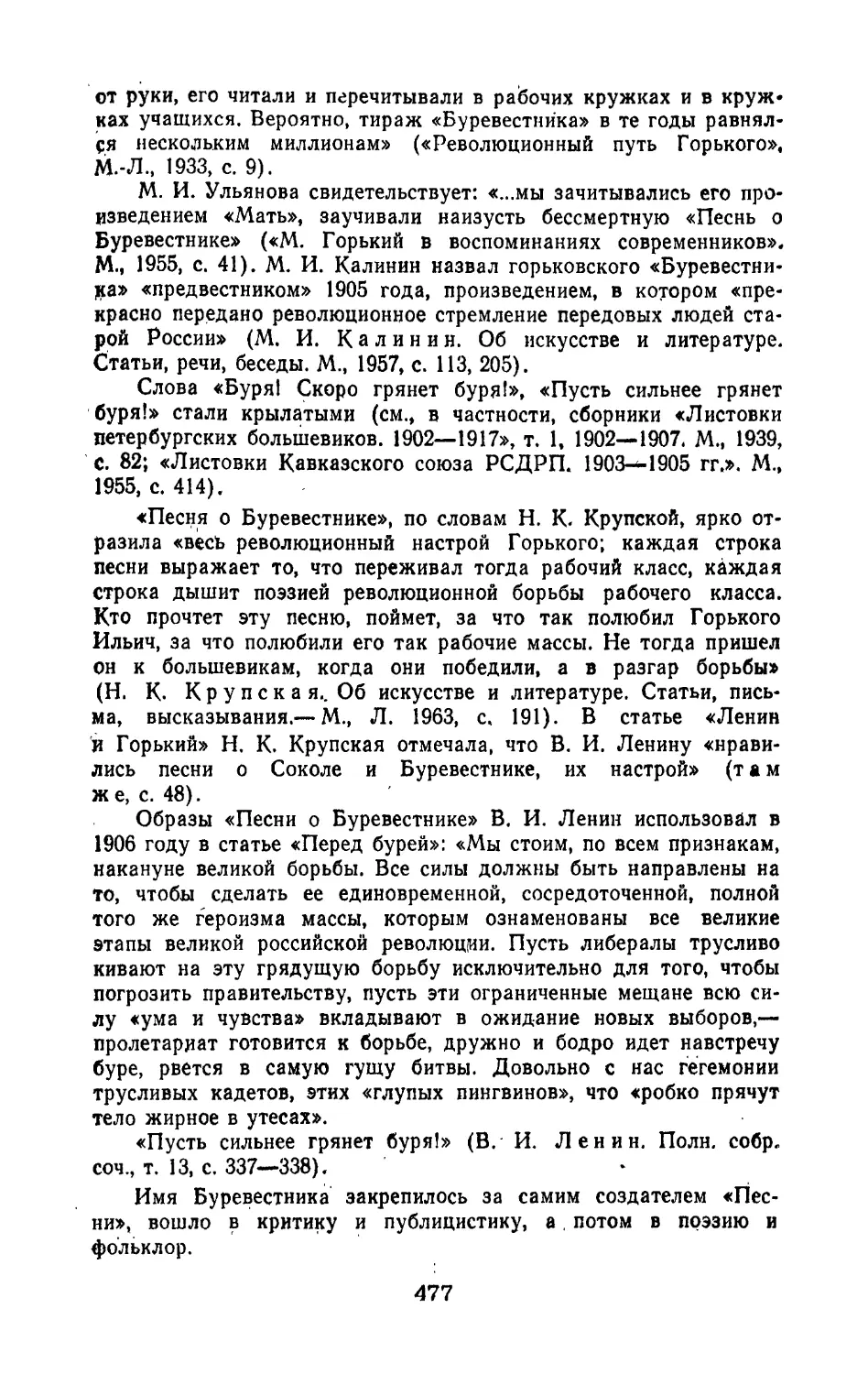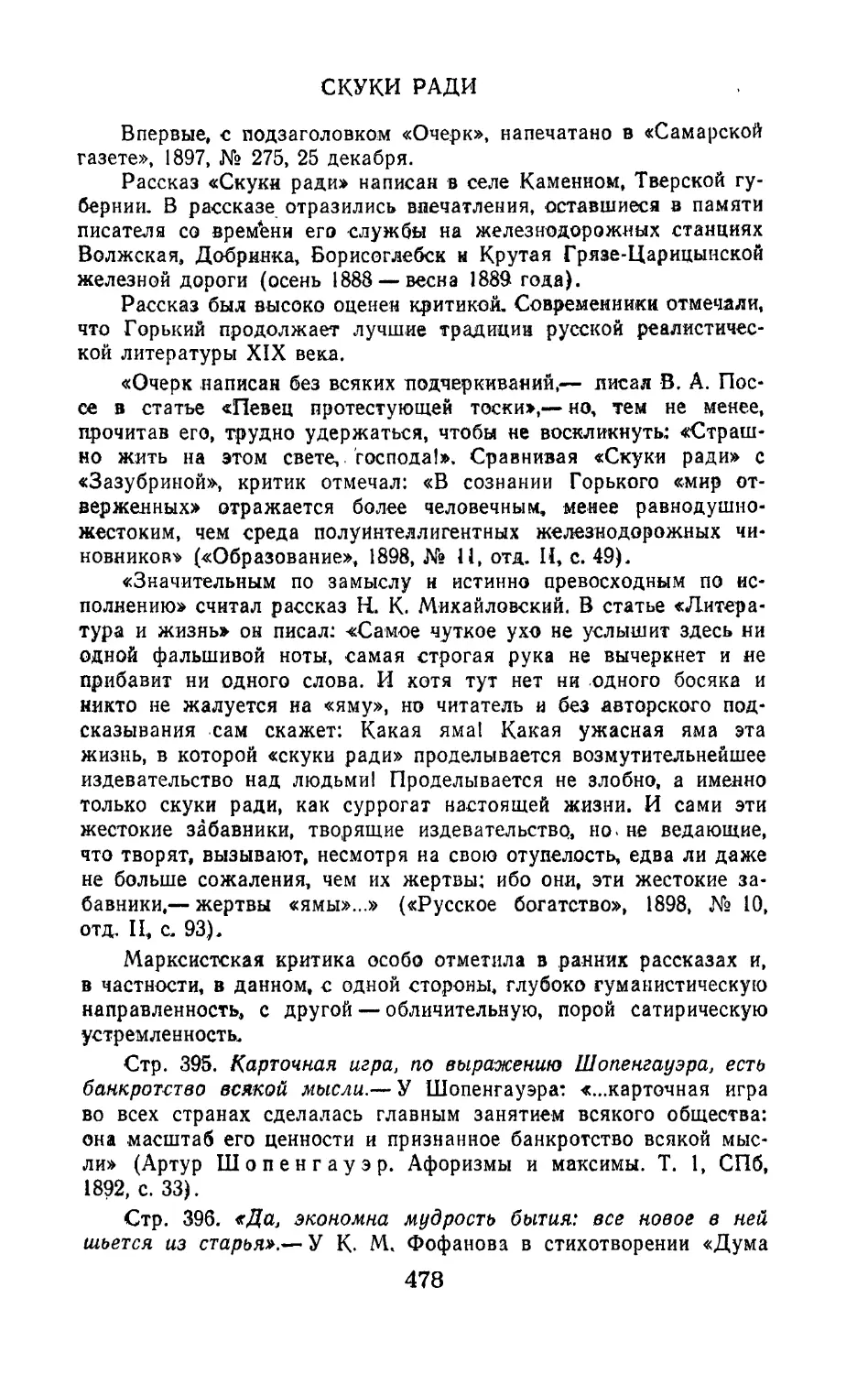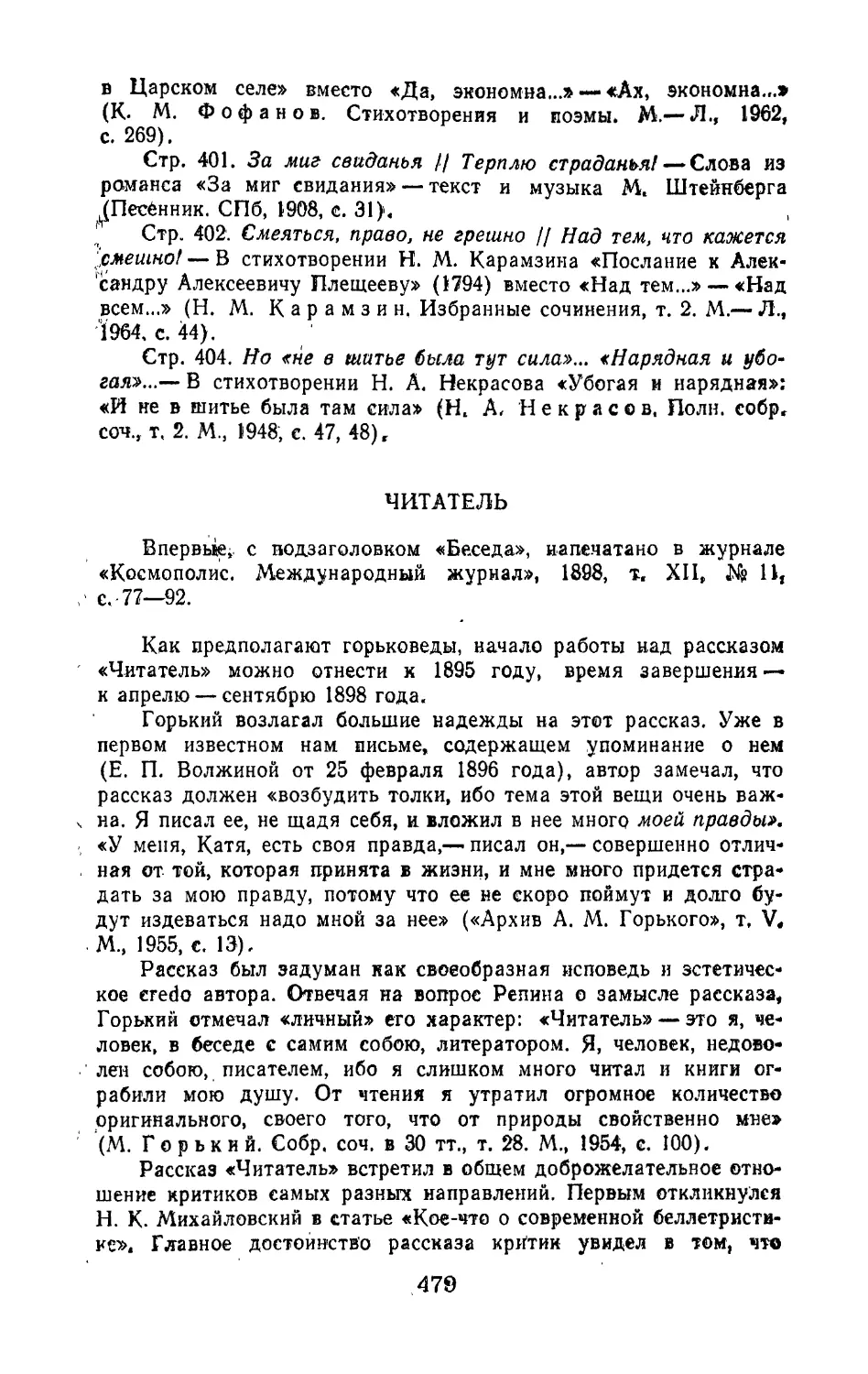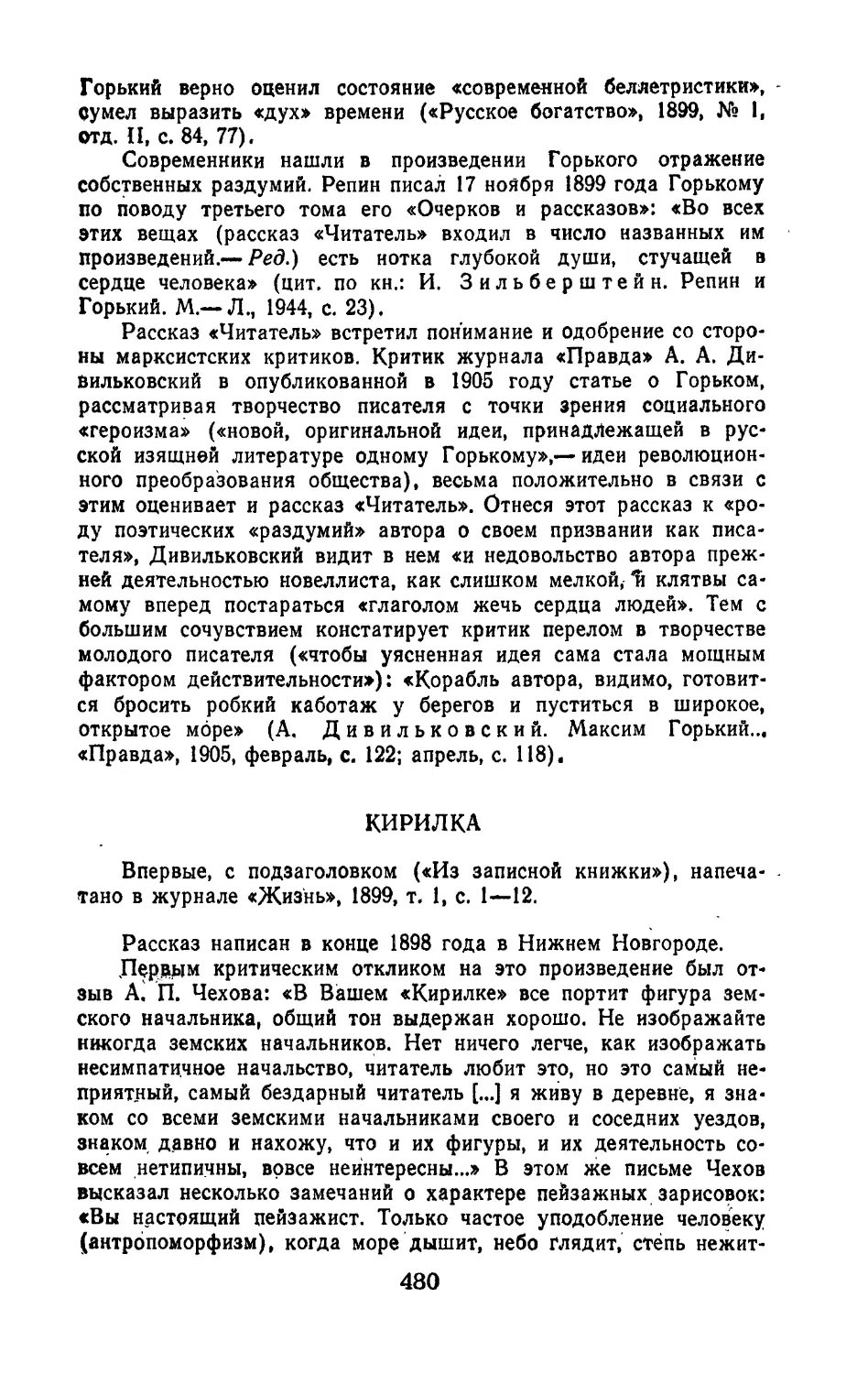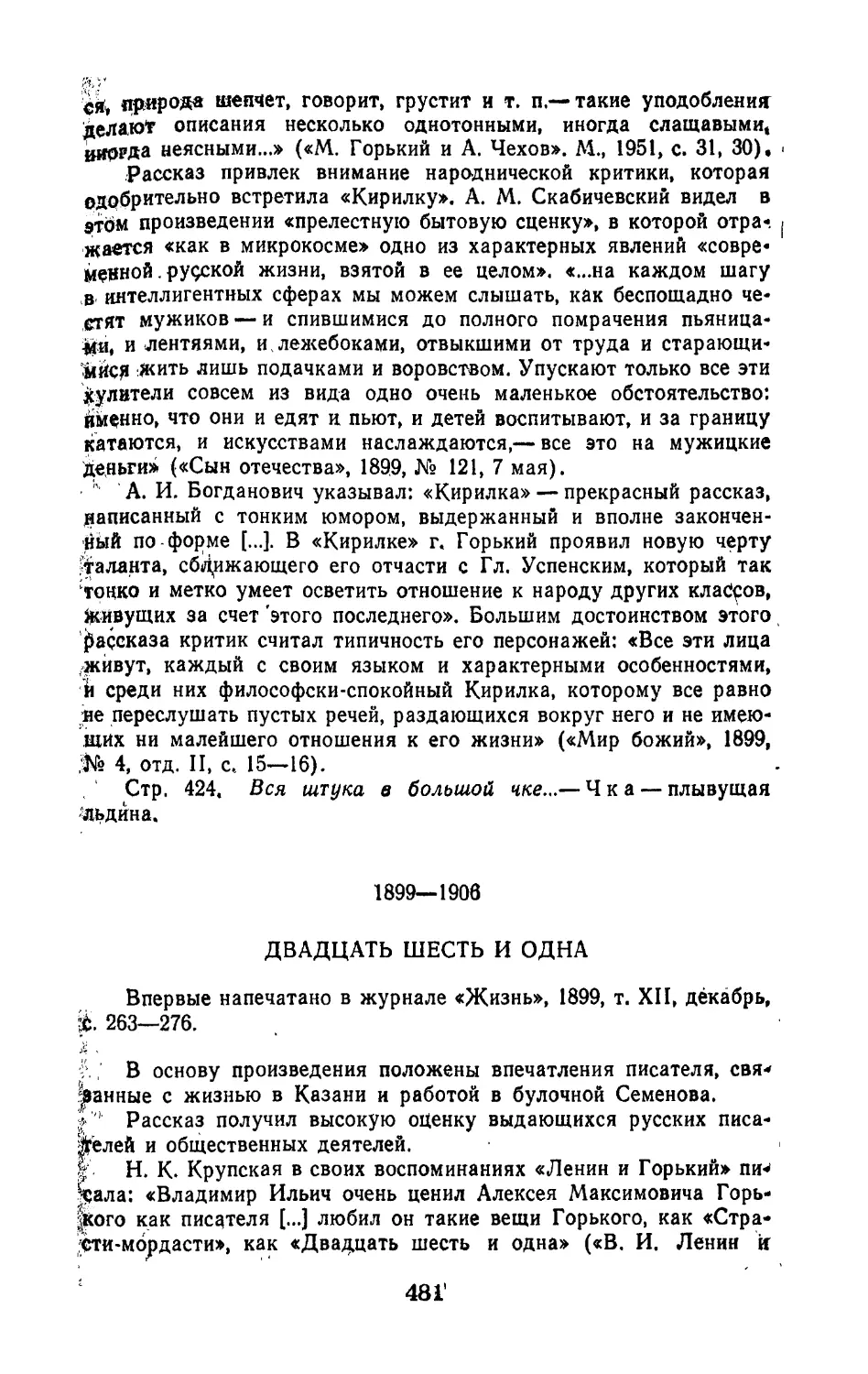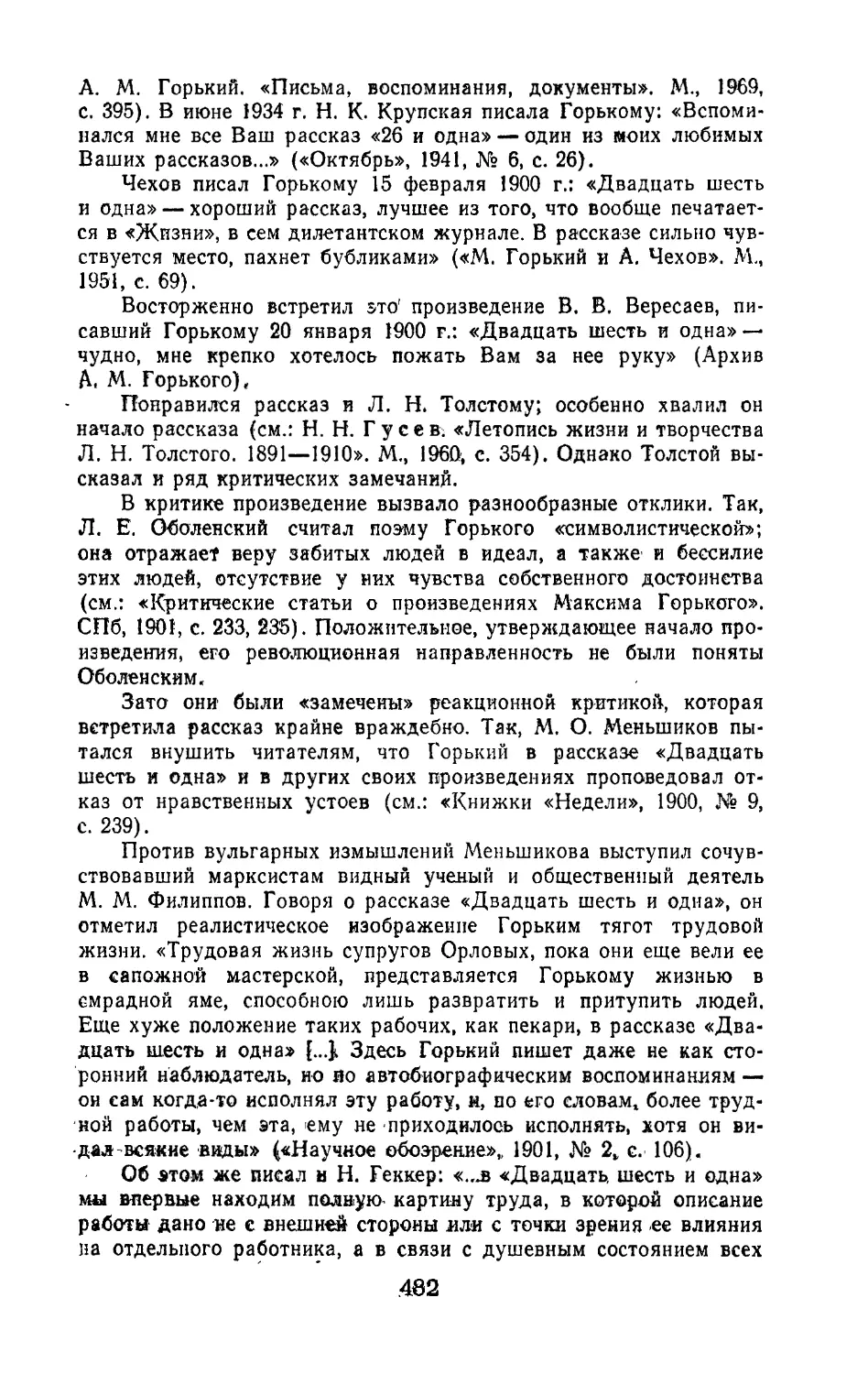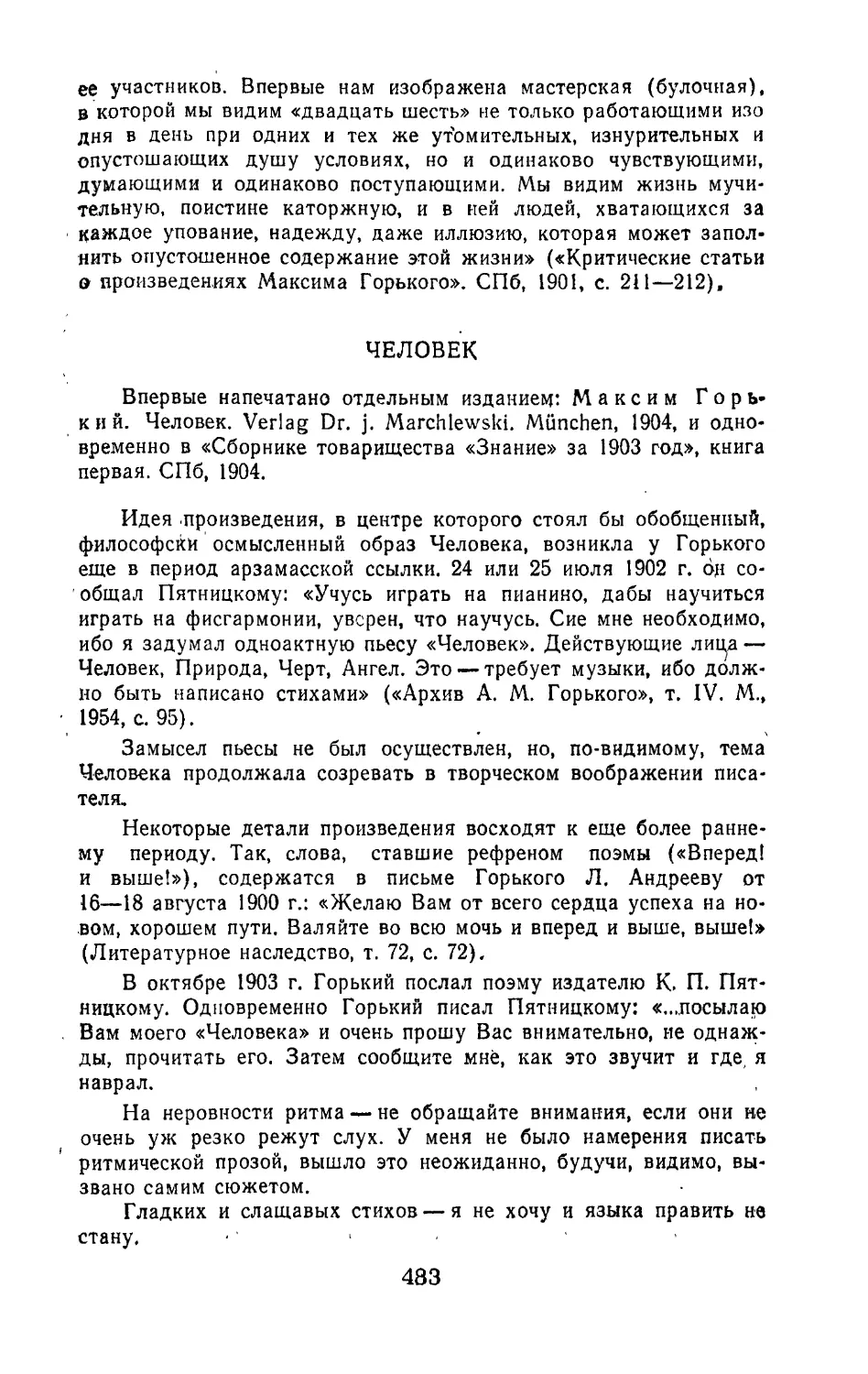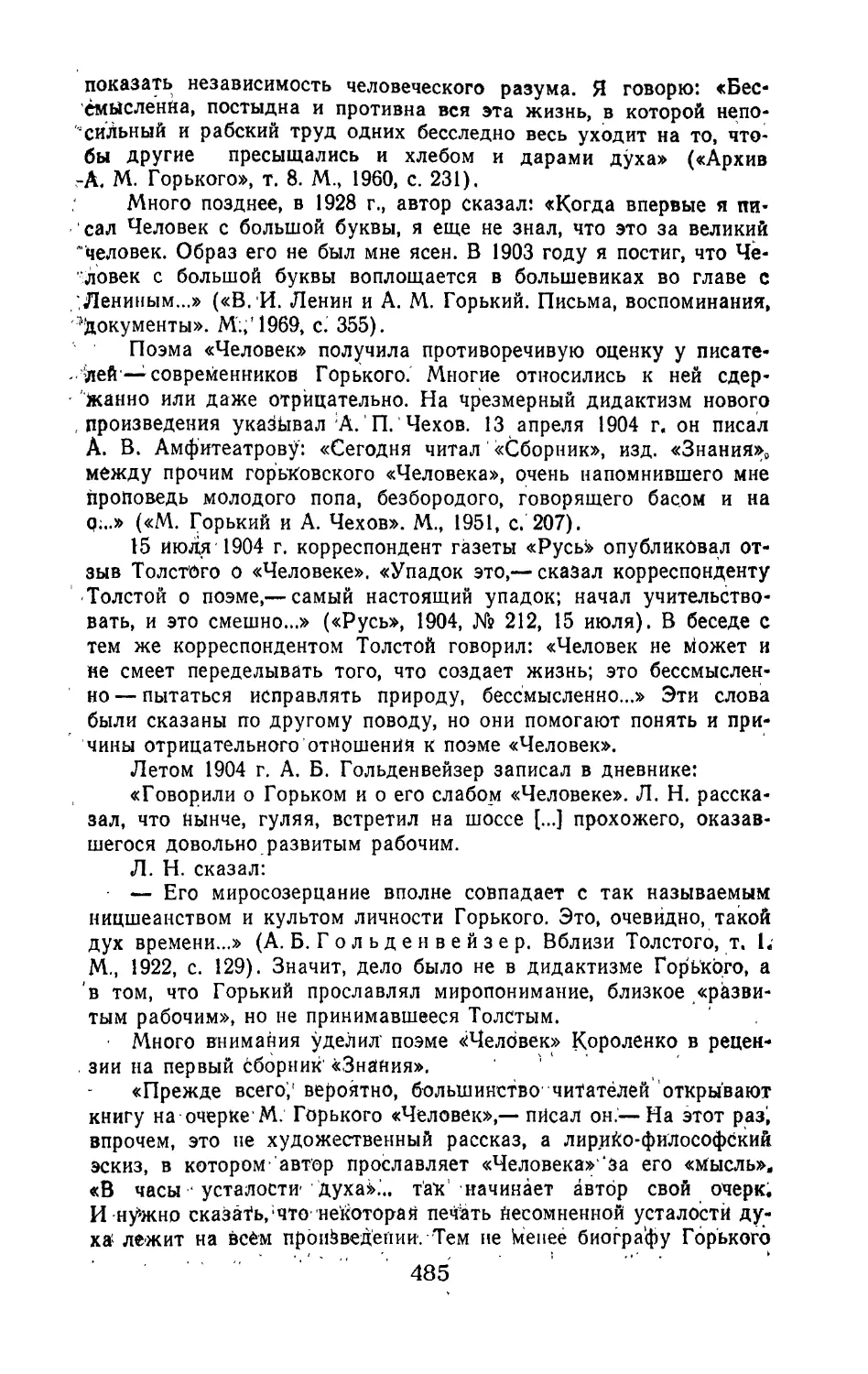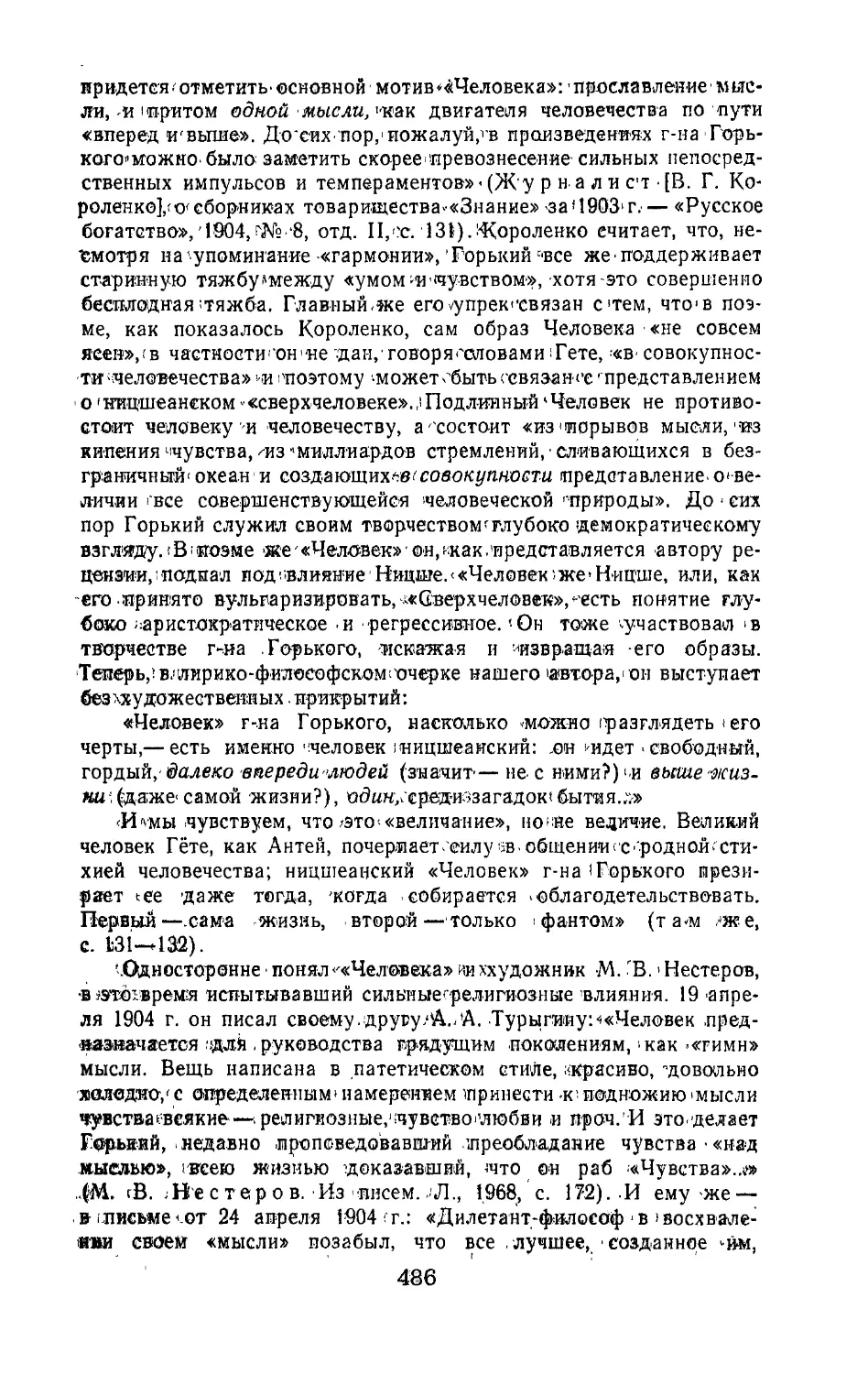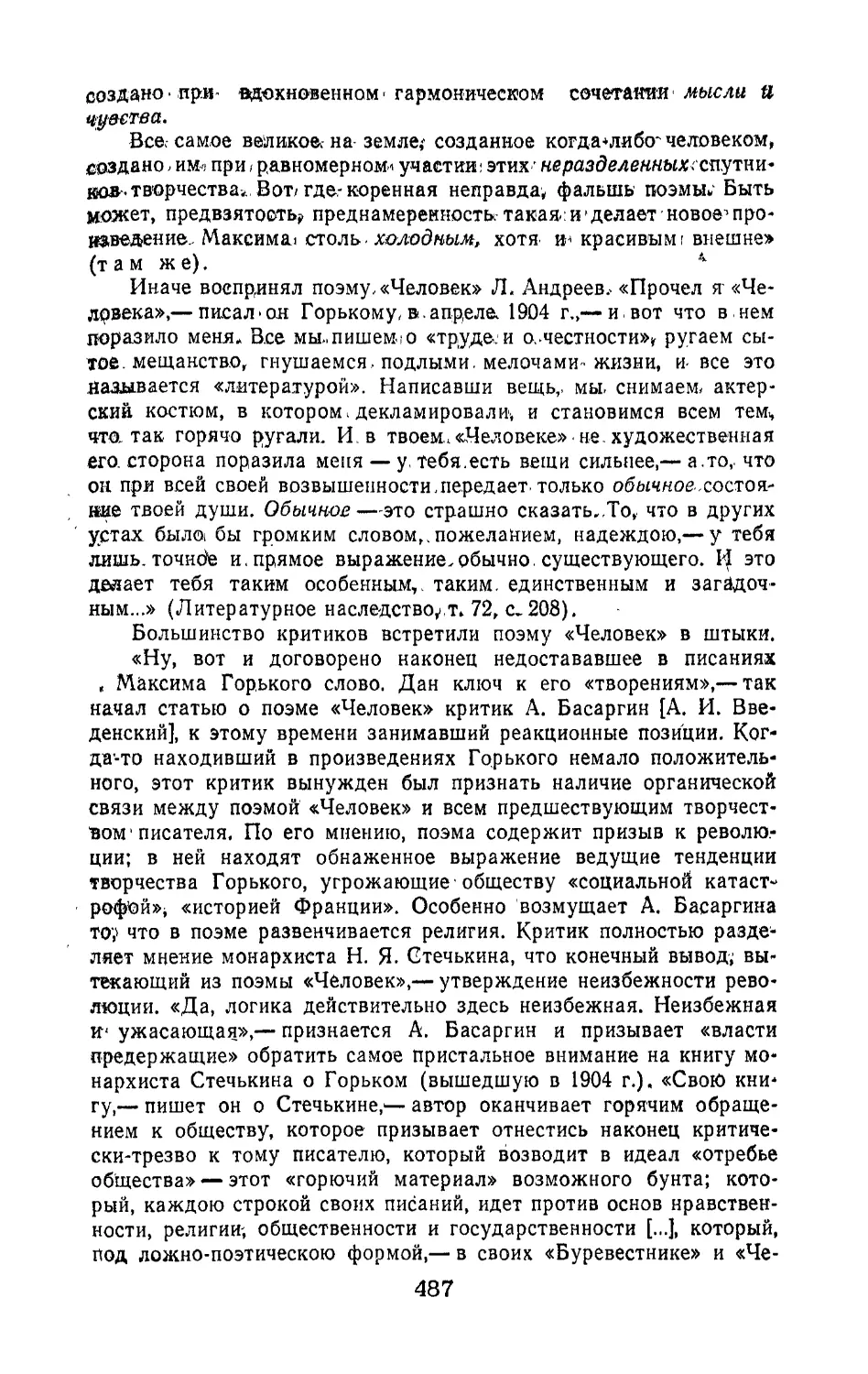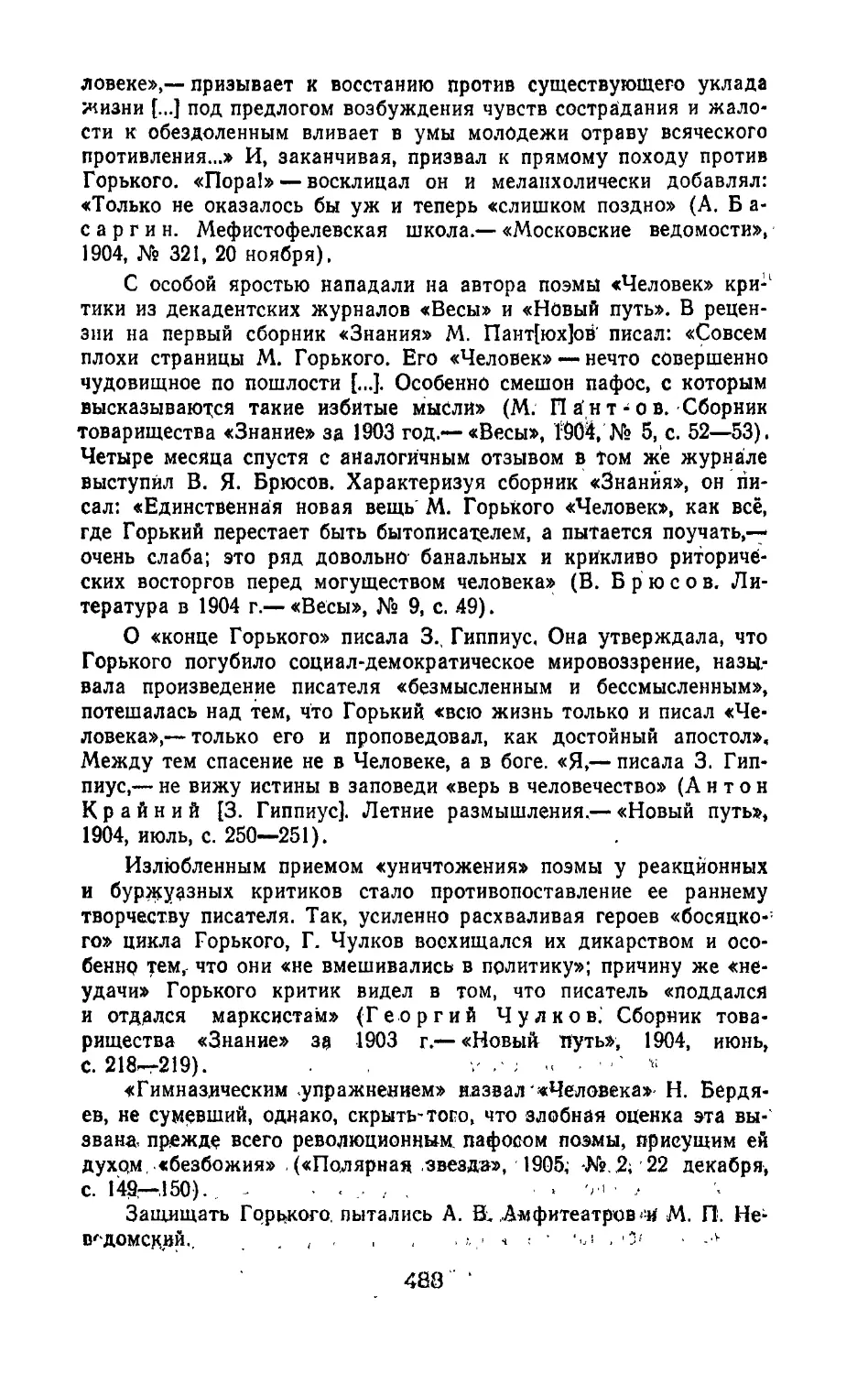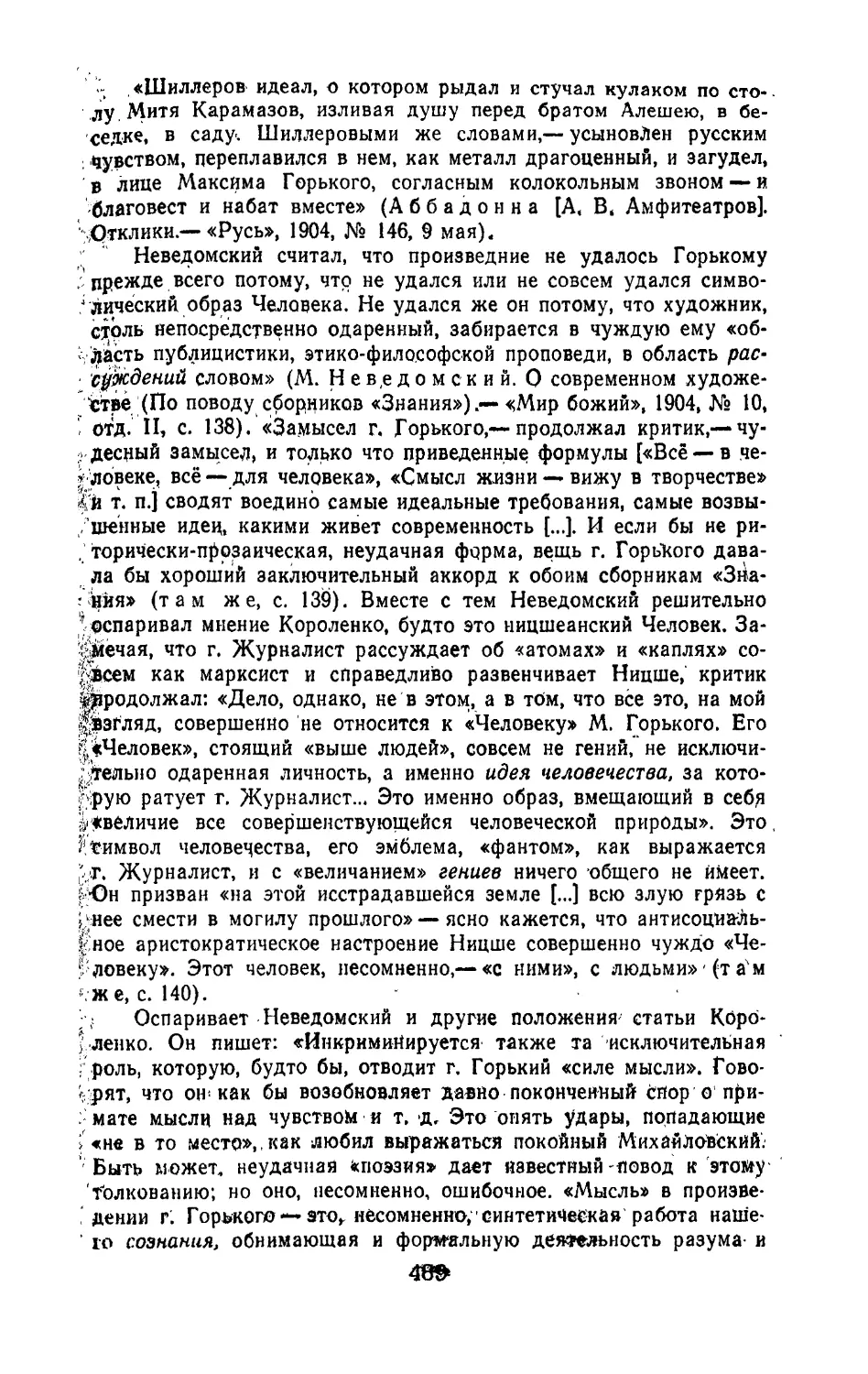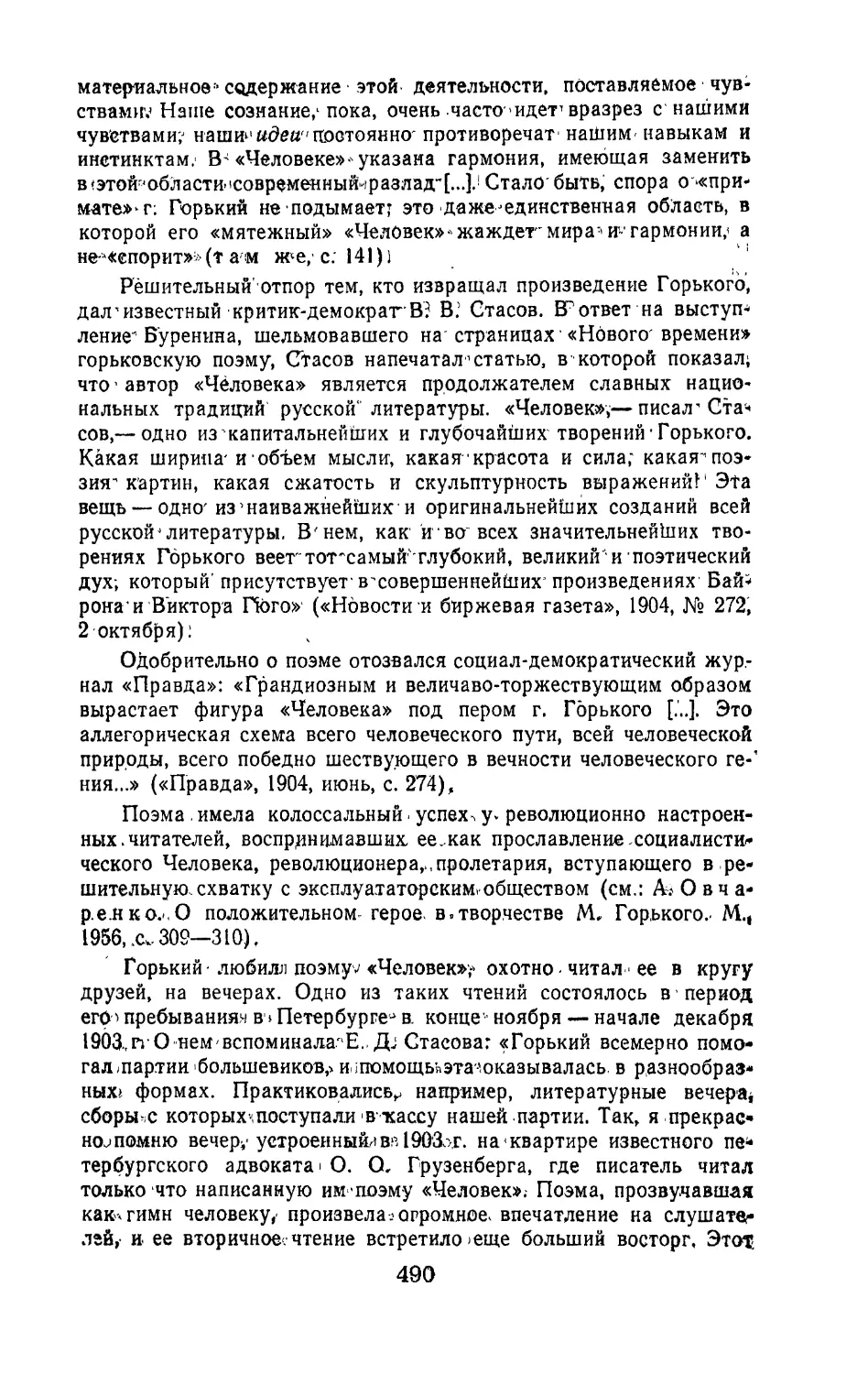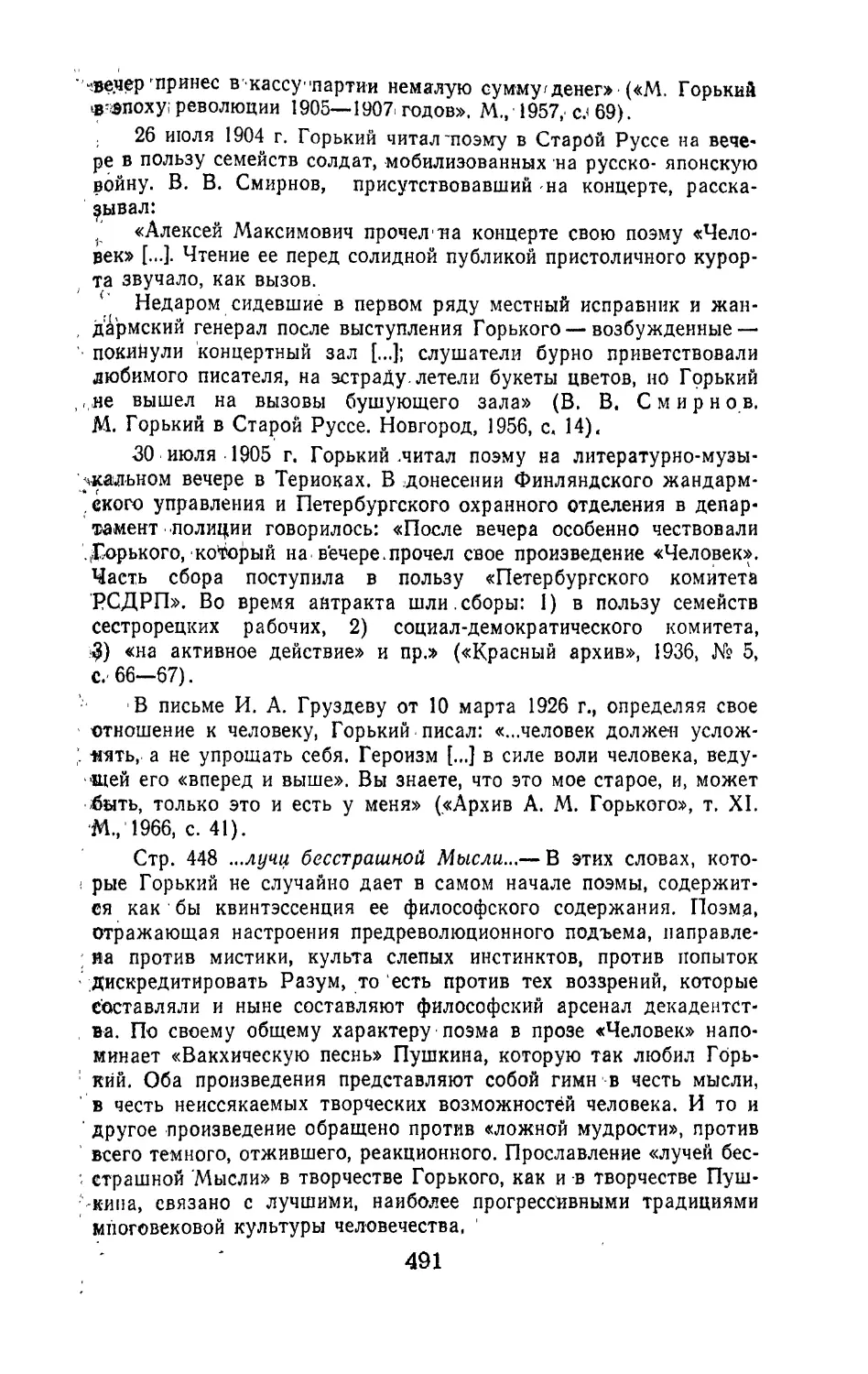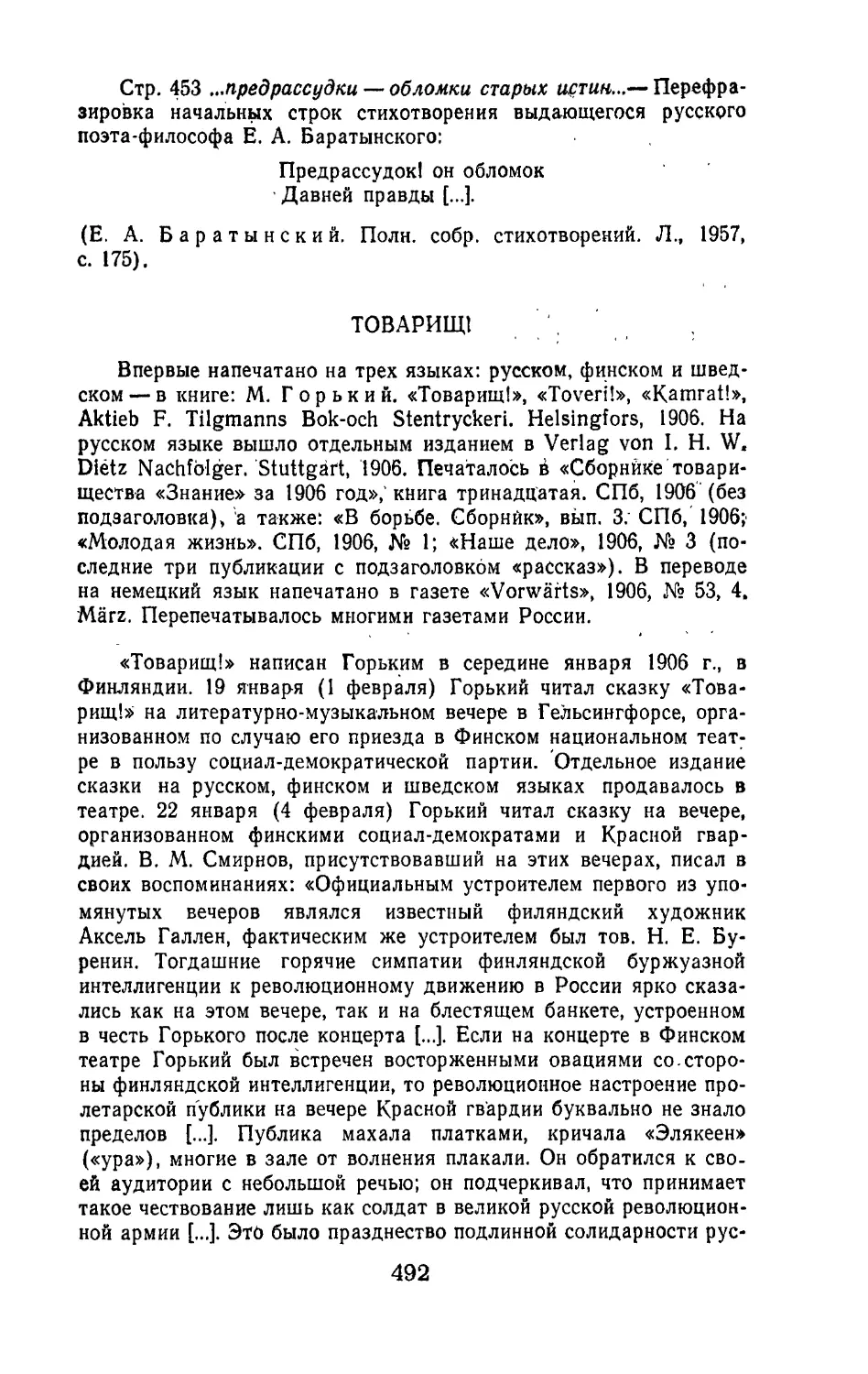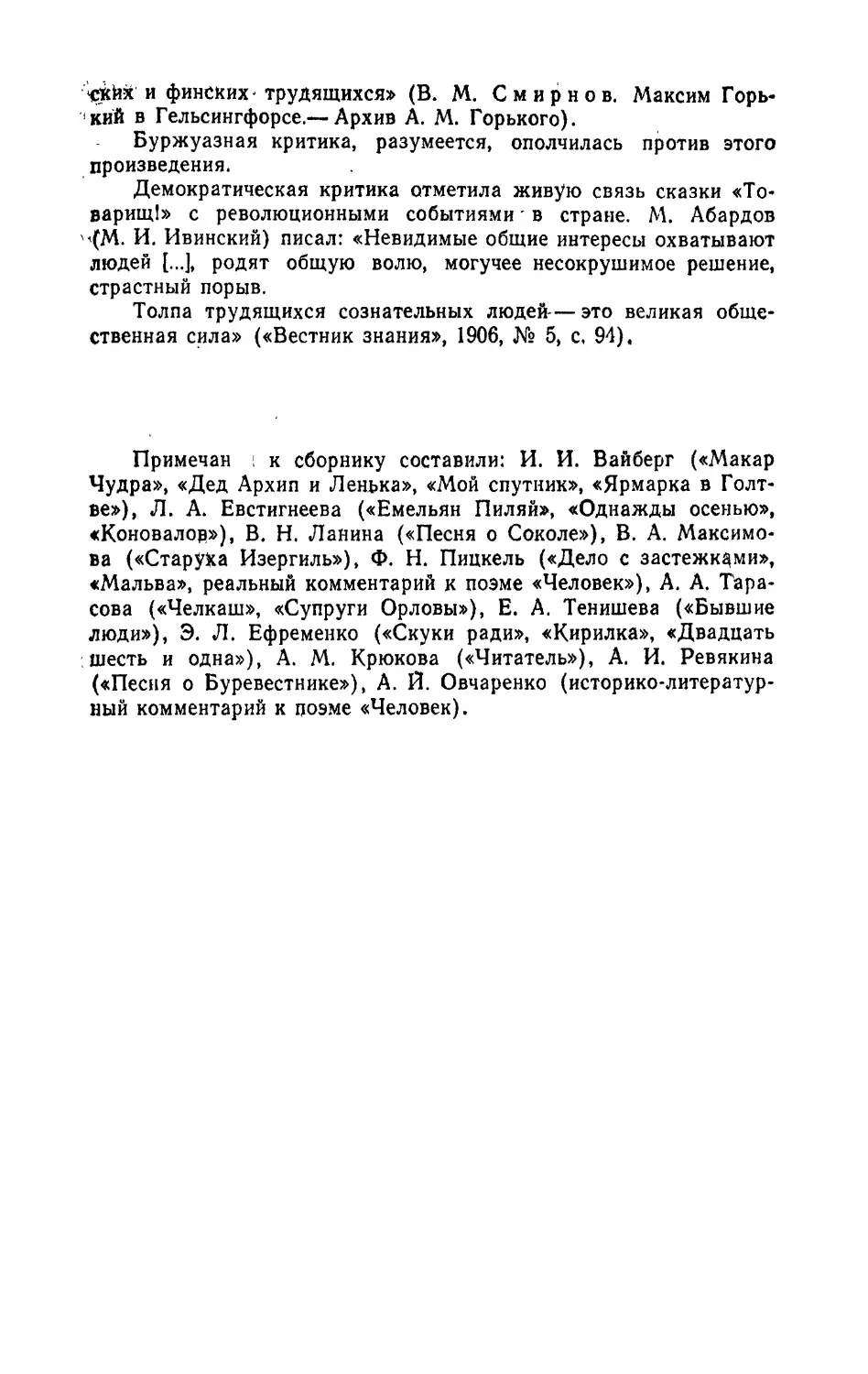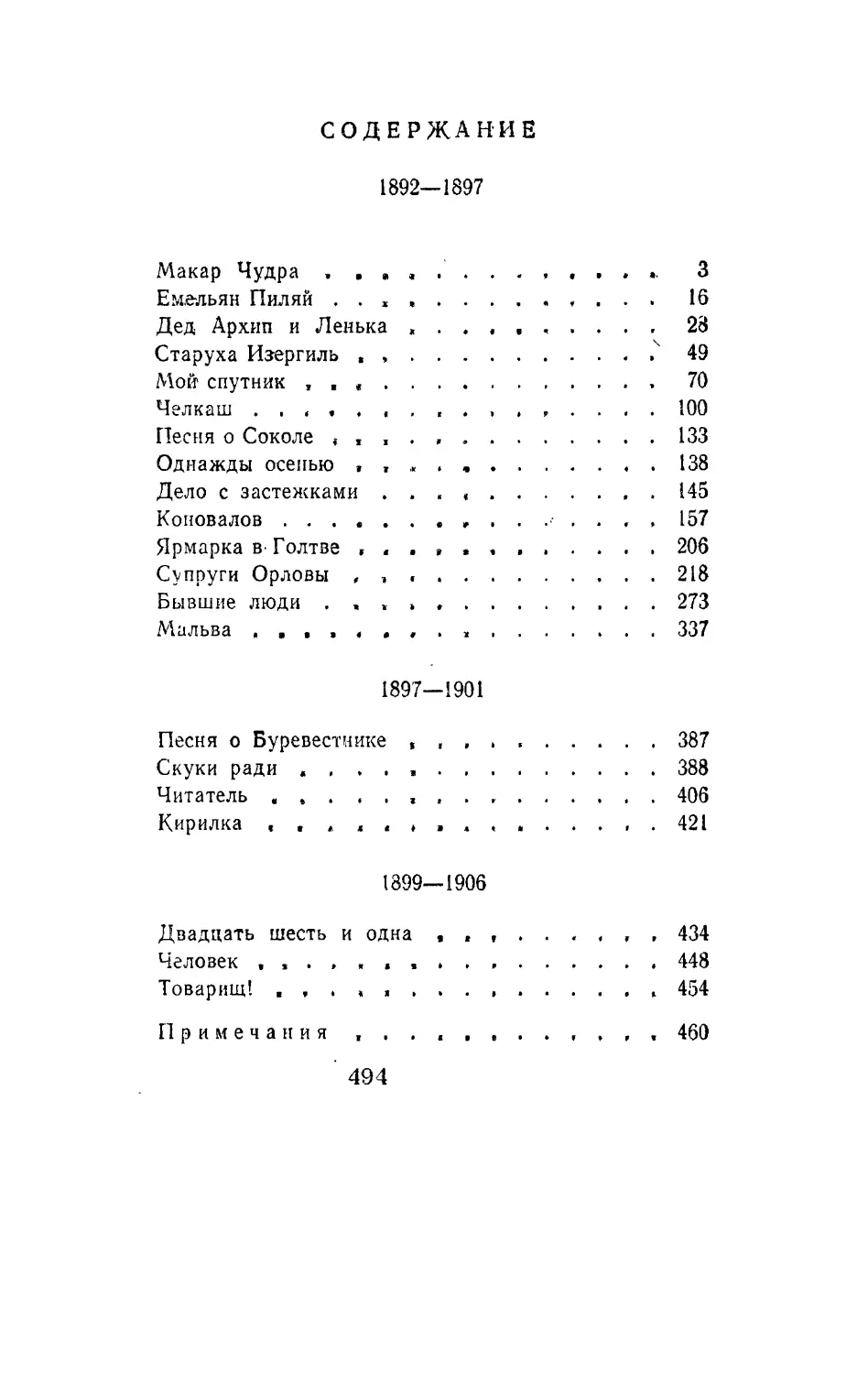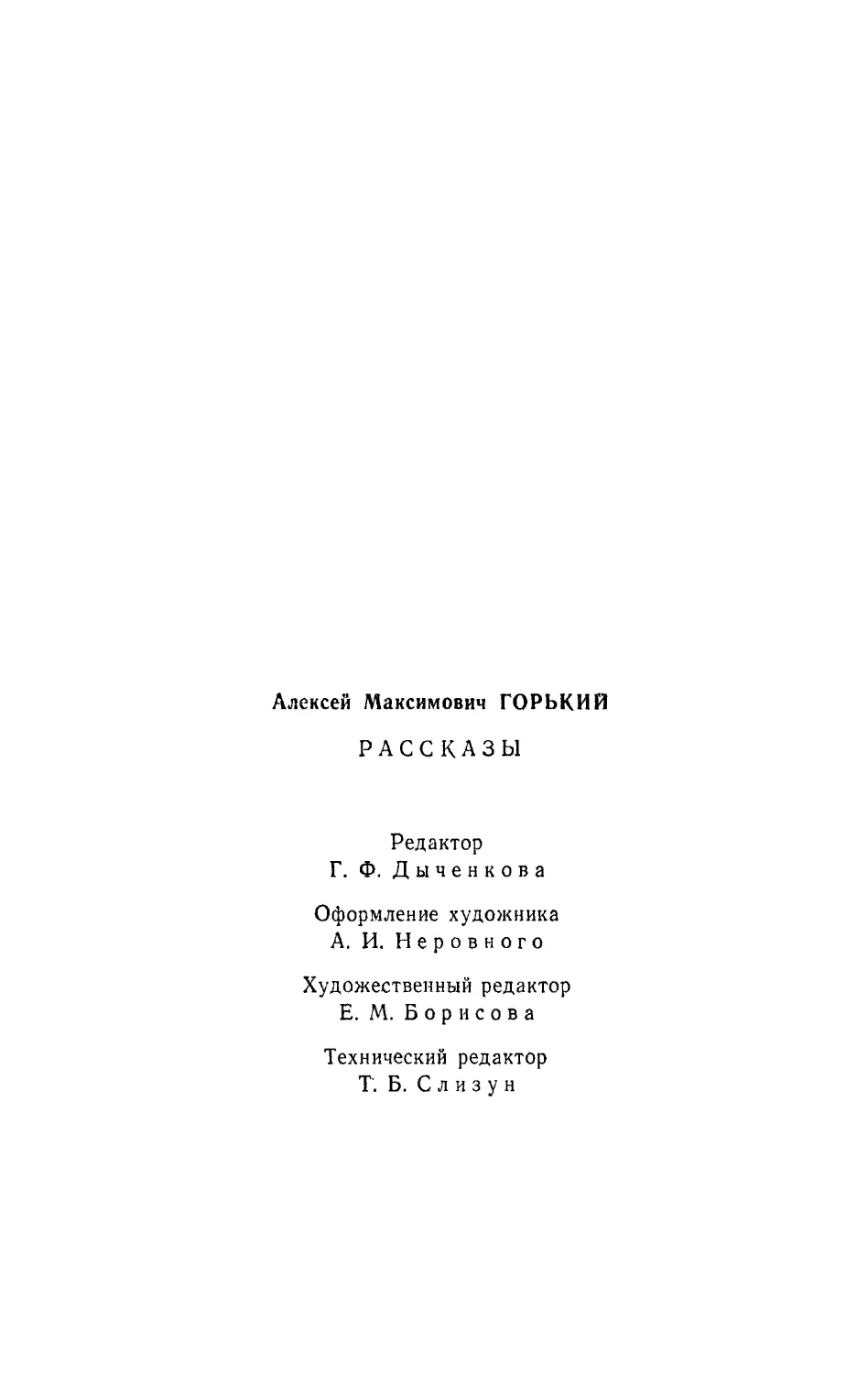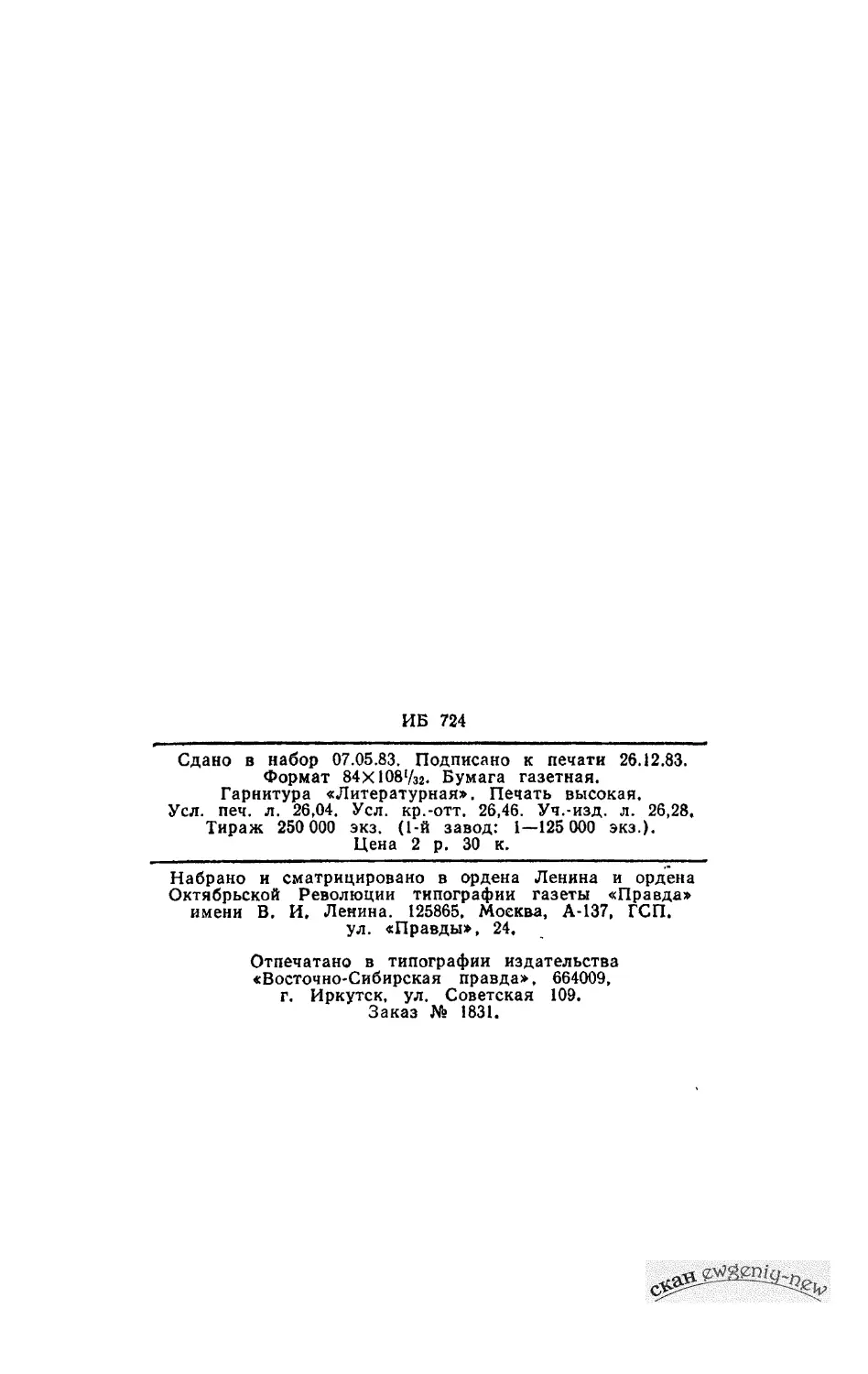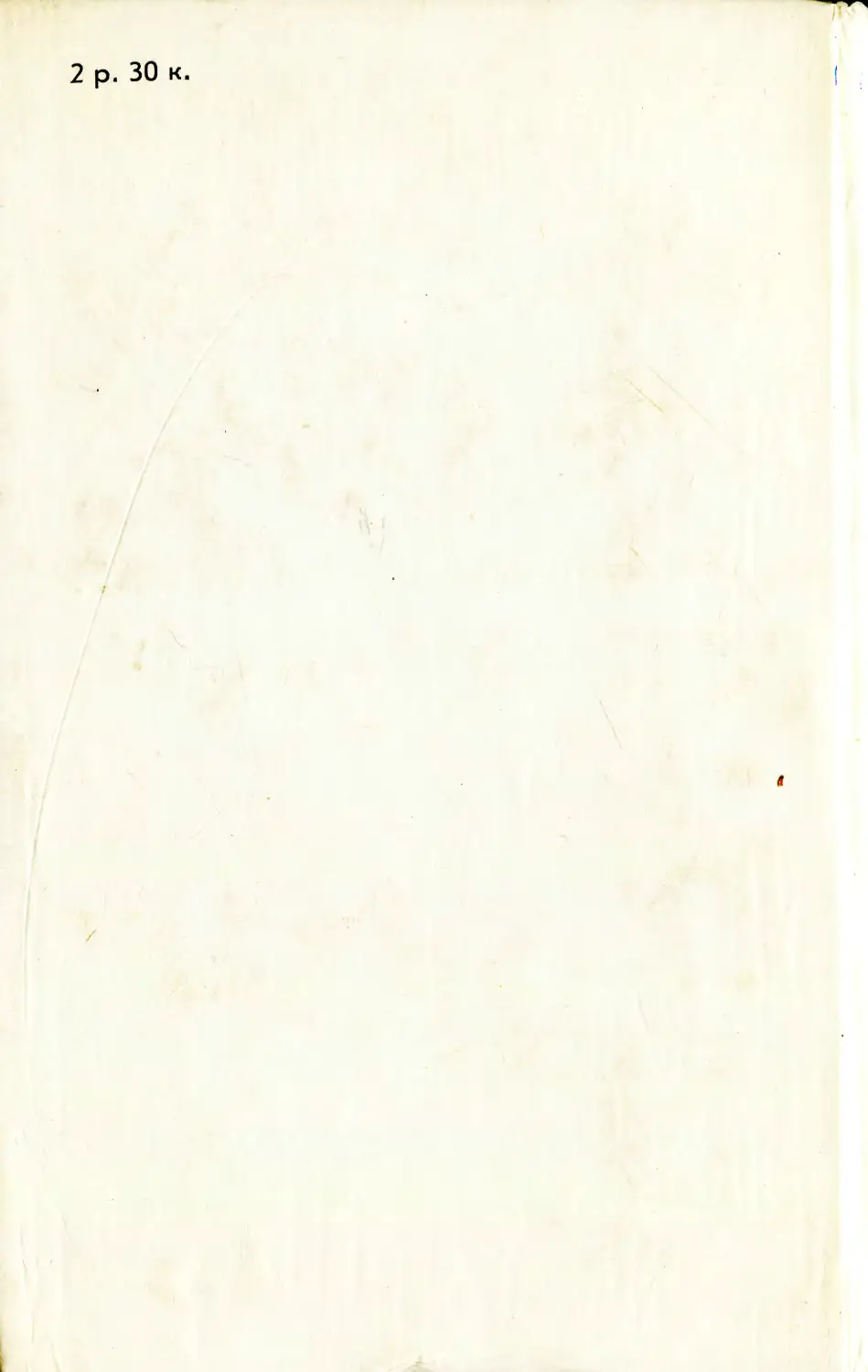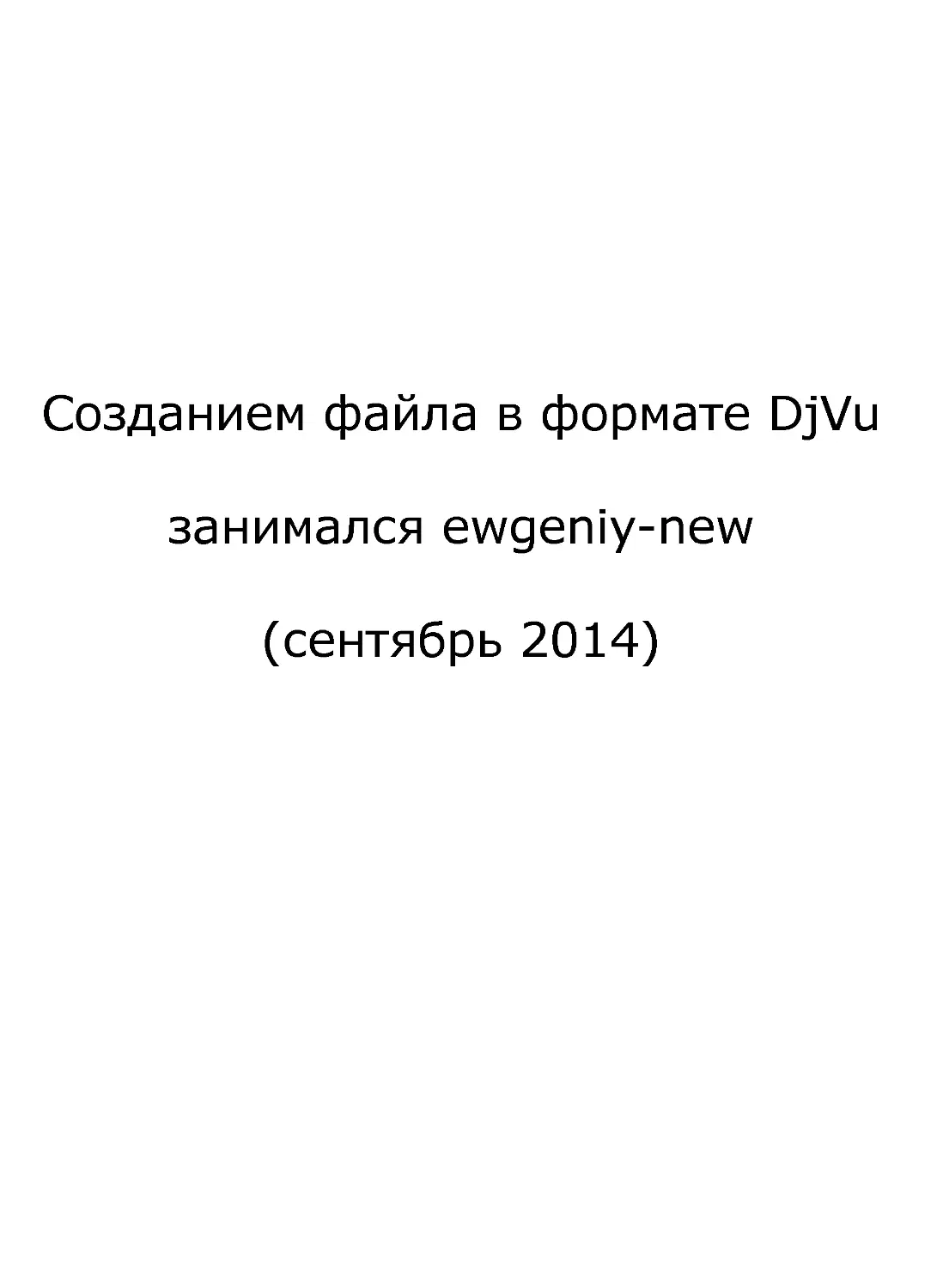Похожие
Текст
М.ГОРЫШ
РПССКНЗЫ
1в92-190Б
Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984
84 Р 7
Г 71
Иллюстрации
А. Ф. Тарана
Горький М.
Г 71 Рассказы/Ил. А. Ф. Тарана.—М.: Правда,
1984.—496 с.,ил.
В настоящий сборник классика русской советской
литературы М Горького A868—1936) вошли
произведения раннего периода его творчества: «Макар Чудра»,
«Старуха ИзергИль», «Песня о Соколе» и другие.
4702010200-724
Г080@2)-84 724~84 84Р 7
Текст печатается , по изданию: М. Горький.
Поли. собр. соч. в 25-и толах. М., Наука, 1968—76.
€> Издательство ««Правда». 1984. Иллюстрации.
1802-1897
МАКАР ЧУДРА
С моря дул влажный холодный ветер, разнося по
степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на
берег волны и шелеста прибрежных кустов.
Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые
листья и бросали их в костер, раздувая пламя;
окружавшая нар мгла осенней ночи вздрагивала и,
пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева —
безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против
меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана,— он
сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в
пятидесяти от нас.
Не обращая внимания на то, что холодные волны
ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую
грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в
красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически
потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и
носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза
куда-то через мою голову и мертво молчавшую
темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не
делая ни одного движения к защите от резких ударов
ветра.
— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю
выбрал себе, сокол. Так и: надо: ходи и смотри,
насмотрелся, ляг и умирай — вот и всё!
— Жизнь? Иные люди? — продолжал цн,
скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо».
,— Эге? А тебе что до того? Разве т& сам — не
жизнь? Другие люди живут без тебя и приживут без
тебя. Разве ты думаешь, что- ты кому-то нужен?
Тыне хлеб, не палка, й не нужно тебя никому.
— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь
научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь.
Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему
учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее,
те берут что есть, которые поглупее — те ничего не
получают, и всякий сам учится...
— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и
давят друг друга, а места на земле вон сколько, — qh
широко повел рукой на степь.— И всё работают.
Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек
пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои
источит на землю, а потом ляжет в нее и сгинет в ней.
Ничего по нем не останется, ничего он не видит с
своего поля и умирает, как родился, — дураком.
— Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб
поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы
самому себе выковйрять? Ведома ему воля? Ширь степная
понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он
раб —как только родился, всю жизнь раб, и всё тут!
Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли
поумнеет немного.
— А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли
написать всё это на бумаге, так в тысячу таких торб,
как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких
краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких
краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди —и всё тут.
Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как
день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг
земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не
разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это
всегда так бывает. И со мной это было. Эге1 Было,
сокол.
— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на
свете?» — помыслил я со скуки, — скучно в тюрьме,
сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце,
как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его
клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не
скажет, сокол! И спрашивать себя про это не1 надо. Живи,
и всё тут. И похаживай да посматривай кругом себя,
вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть йе
удавился поясом, вот как!
— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий челб-
век, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не
так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем
слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что
попросишь у него. А сам он весь в дырьях, рваный. Я и
сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога.
Рассердился он и прогнал меня, ругаясь, А до того
говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы
и простил мне, коли моя речь обидела его милость.
Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят
по десять раз в сутки.
Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая
трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали
кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка.
Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее
голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно,
недовольно и требовательно звучавший — пела ли она
песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом,
матовом лице замерла надменность царицы, а в
подернутых какой-^о тенью темно-карих глазах сверкало
сознание неотразимости ее красоты и презрение ко
всему, что не она сама.
Макар подал мне трубку.
— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб
такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не
верь девкам и держись от них дальше. Девке
целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а
поцеловал ее — и умерла воля в твоем сердце. Привяжет
она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать —
нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись
девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на
свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе
сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол,
хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как
запомнишь,— век свой будешь свободной птицей.
«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар.
Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и всё, что кругом
моря, знало его, — удалый был малый! Не было по
тем краям деревни, в которой бы пяток-другой
жителей не давал богу клятвы убить Дойко, а он себе жил,
и уж коли ему понравился конь, так хоть по^к солдат
поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем
гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди
к нему сатана со всей своей свитой, так он 0ы, коли б
не пустил в него ножа, то .наверно бы крепко поругал-
5
ся, а что чертям подарил бы по пинку в рыли — это уж
как раз?
«И все таборы его знали или слыхали о нем. Он
любил только коней я ничего больше, и то недолго —
поездит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми.
У него не было заветного — нужно тебе его сердце,
он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал,
только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был,
сокол!
«Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это
годов десять назад тому. Раз — ночью весенней —
сидим мы: я, Дашло-солдат, что с Кошутом воевал
вместе, и Hyp старый, и все другие, и Радда, Данилова
дочка.
«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Рад-
ду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней,
этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть,
ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому,
кто эту скрипку, как свою душу, знает.
«Много посушила она сердец молодецких, ого,
много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал
ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как
в огневице. Красив он был, как чёрт в праздник, жупая
шйт золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть
конь ногой топнет, вся эта сабля в казнях
драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, —
важный был господарь старый] Смотрел, смотрел да и
говорит Радде: „Гей! Поцелуй, кошель денег дам".
А та отвернулась в сторону, да и только! „Прости,
коли обидел, взгляни хоть поласковей",— сразу сбавил
спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель —
большой кошель, брат! А она его будто невзначай пйу-
ла ногой в грязь, да и всё тут,
«— Эх, девка! — охнул он да и плетью по коню —
только пыль взвилась тучей.
—А на другой день снова явился. „Кто ее отец?" —
громом гремит по табору. Данило вышел. „Продай
дочь, что хочешь возьми!" А Данило и скажи ему: „Это
только паны продают все, от своих свиней #о своей
совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую!"
Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас
сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца.
ft мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим —
догнал! „Гей вы, говорит, перед богом и вамн совесть
моя чиста,, отдайте девку в жены мне: всё поделю с
вами, богат я сильно!" Горкт весь и, как ковыль под
ветром, качается в седле. Мы задумались.
«— А ну-каг дочь^ говори* — сказал себе в усы Да-
иило.
<— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле
вошла, чем бы она стала? — серосшта нас Радда,
«Засмеялся Данила и все мы с ним.
«—Славно, дочкаI Слышал, , господарь? Не идет
дело! Голубок ищи -г- те податливей. — И пошли мы
вперед. .
«А тот господарь схватил шанку, бросил ее оземь
и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова
б,ыла Радда, сокол! , ¦ < <
«Да! Так'вот раз ночью сидим мы и слышим —
музыка плырет по степи. Хорошая музыка! Кровь ззгора-*
лась в ж^ла?х!от нее, и звала она куда-то. Всем нам,
мы чуяли, от той музыки захотелось чегсМго такого»
после чего бы и жить уж не нужно было, или, кол»
жить, так1-;- царями над всей землей, сокол!
' «Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек
сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у
костра, перестал играть, улыбаясь; смотрит на нас.
«—Э'ге, Зобар, да это ты!л— крикнул ему Данййо
радостно. Так вот он, Лойко Зобар!
, «Усы легди на плечи и рмешались с кудрями, очи,
как ясные звезды, горят,, а улыбка — целое солнце,
ей-богу! Трчыо его ковали из одного куска железа
вместе с конем., Стоит весь, как в крови* в огне костра и
сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его
не любил уже, как себя, раьшше, чем он мне слово
сказал или пррсто заметил, что и я тоже живу на белом
свете!
«Вот, сокад, какие лкщи бывают! Взглянет он тебе
jb очи и полонит твою душу, й ничуть тебе это не
стыдно* а еще и гордо для т$бя, С таким человеком ты ,и
сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну>
так и'.ладно* коли мало. Много хорошего было бы на
свете,, так его и з.а хорошее не считали бы. Так-то!
А, слушай-ка дальше.
, «Радда и-говорит; „Хорощр хда,. Лойко,, играешь!
Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?"
А тот смеется: „Я сам делал! И сделал ее не из
дерева, а из груди молодой девушки, которую любил
крепко» а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще
немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках
держать!"
«Известно, наш брат старается сразу затуманить
девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами
подернулись бы по тебе грустью,, вот и Лойко тож. Но —
не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув,
сказала: „А еще говорили, что Зобар умен ц ловок,—
вот лгут люди!" — и пошла прочь.
«—Эге, красавица, у тебя остры зубы! — сверкнул
очами Лойко,, слезая с коня. #-« Здравствуйте, браты!
Вот и я к вам!
«— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему.
Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко
спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана
тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом
сонного.
«Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в
усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил
Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней
душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота поверь ей на
шею, всё равно, лучше того, какова она есть, не быть
ей. А, ну ладно!
«Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту
пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ!
И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту
русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет
говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей
меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл!
Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет
у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно,
слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться
хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас
кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе
грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки,
печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра
молодца! Добрый , молодец кличет девицу в степь.
И вдруг —гей! Громом гремит вольная, живая песня, и
само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту
песню! Вот как, сокол!
8
«Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, й
весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул
Лойко: „В ножи, товарищи!" — то и пошли бы мы все
в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с
человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда
одна не смотрит на парня; и ладно коли б только это,
а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела
за сердце Зобара, то-то крепкой Зубами скрипит,
дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят*
а порой в них такое сверкает, что за душу страшно
становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачем
до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову
волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть?
И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся,
становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло
дело.
«Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах;
Скучно стало. Данило и просит Лойко: „Спой, Зобара
песенку, повесели душу!" Тот повел оком на Радду,
что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя
в небо, и ударил по струнам. Так: и заговорила
скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел>
Лойко:
Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!
«Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась
в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.
Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед!?
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только грязой не задень
Красавицу-луну!
«Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда
и говорит, точно воду цедит:
«— Ты бы не залетал таю высоко, Лойко, неравно
упадешь да — в лужу носом,/усы запачкаешь, смот-,
10
рда.-г- Зверем посмотрел ка нее Лойко, а ничего не
сказал— стерпел парень и поет себе:
Гёй-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!
«— Это песня! — сказал Данило.— Никогда не
слыхал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку
сделает, коли вру я!
«Старый Hyp и усами поводил, и плечами
пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня!
Только Радде не понравилась.
«— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот
передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас
кинула.
«— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? —
потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку
да и говорит, весь черный, как земля:
«— Стой, Данило! Горячему коню — стальные
удила! Отдай мне дочку в жены!
«—*¦ Вот сказал речь!—-усмехнулся Данило.—Да
возьми, коли можешь!
«— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: —
Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись^
Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не
тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда,
полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему.быть, так то и
будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя
ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед
богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми*
Но смотри, воле моей не перечь — я свободный
человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней,
стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул
он ей руку,— вот, думаем, и надела, узду на степного
коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь
затылком — грох!..
«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого.
А это Радда захлестнула ему ремёнйое кнутовище за
ноги да и дернула к себе,— вот отчего упал Лойко.
«И снова уж лежит девка не шевелясь да
усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на
земле и сЖал руками голову, точно боится, что она у
негЧ) лопнет. А потом1 встал тихо да (й пошёл в'степь;
U
ни на кого не глядя. Hyp шепнул мне: „Смотри за
ним!" И пополз я за Зобаром по степи в темноте
ночной. Так-то, сокол!»
Макар выколотил пепел из трубки и снова стал
набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа,
смотрел в его старое лицодерное от загара и ветра. Он,
сурово и строго качая головой, что-то шептал про
себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы
на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный
молнией, но всё еще мощный, крепкий и гордый силой
своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и
ветер всё так же носил его шёпот по степи. Нонка уже не
пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю
ночь еще темней.
«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив
руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на
камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью
облилось от жалости, но всё ж не подошел к нему.
Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит,
другой сидит и третий не шелохнется — сидит.
«И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц
серебром всю степь залил, и далеко всё видно.
«Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет,
«Весело мне стало! „Эх, важно!—думаю,— удалая
девка Радда!" Вот она подошла к нему, он и не
слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко,
.разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за
нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув
до табора, побежать к ним; вдруг слышу:
«— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в
руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана
девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что
будет дальше?
«— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и
говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а
мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в
очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и
зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие,
удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я-
и всё тут.
«— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю!
—говорит Радда. Тот только плечами повел, точно
связанный по рукам и ногам.
«— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их
душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил —
моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги
захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы,
а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых
цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила,
Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то,
Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне
не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу,
чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот
усмехнулся.
«— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну.
ка, скажи еще!
«— А еще вот что, Лойко: всё равно, как ты ни
вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же
даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да
ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под
поцелуй мо^ забудешь ты свою удалую жизнь... и живые
песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не
зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные,
нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром
времени,— сказала я это, значит, ты завтра покоришься
мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне
в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку
маю — и тогда я буду твоей #<еной.
«Вот чего захотела чёртова девка! Этого и слыхом
не слыхано было;, только в старину у черногорцев так
было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка,*
сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь,
голову, не выдумаешь!
«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь,
как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала
себя.
. «— Ну,, так прощай до завтра, а завтра ты
сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?
«— Слышу! Сделаю,—-застонал Зобар и протянул
к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он
зашатался как сломанное ветром дерево, и пал на землю,
рыдая и смеясь.
«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. На-
силу я привел его в себя.
«Эхе! Какому, дьяволу нужно, чтобы люди горе
горевали? Кто это любит слушать, как стонет, раз-
13
рываясь от горя,, человеческое сердце? Вот и
думай тут!..
«Воротился я в табор и рассказал о всем старикам.
Подумали и решили подождать да посмотреть—что
будет из этого. А было вот что. Когда собрались все
мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он
смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились;
он опустил их и, не подымая, сказал нам:
«— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое
сердце этой ночью и не нашел места в нем старой воль:
ной жизни моей. Радда там живет только —и всё тут!
Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она
любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше
своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так
она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила
удалого Лойко Зобара, который до нее игрдл с
девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей
женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже
мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я н.6
пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно
посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула
головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и
ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь
бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке —
пусть эта девка и Радда, Стыдно было чего-то, и жа^-
ко, и грустно.
«— Ну! — крикнула Радда Зобару.
« Эге, не торопись, успеешь, надоест еще...—
засмеялся он. Точно сталь зазвенела,— засмеялся.
«— Так вот и всё дело, товарищи! Что остается?
А остается попробовать, такое ли у Радды моей
крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую
же,— простите меня, братцы!
«Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать
Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее
по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы,
«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и,
зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь,
сказала громко и внятно:
«— Прощай, Лойко! я знала, что ты так
сделаешь!..— да и умерла...
«Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я
проклят на веки вечные, дьявольская дозка была!
14
«— Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева
гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись
наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и
замер. Мы сняли шапки и стояли-молча.
«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Hyp
сказал было: „Надо связать его!.." Не поднялись бы
руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы,
и Hyp знал^это. Махнул он рукой да и отошел в
сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Рэд-
дой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на
том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он
такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зо-
бару и сунул ему нож в спину как раз против сердца.
Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!
«— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно
сказал Лойко и ушел догонять Радду.
«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди
руку с Прядью волос, и открытые глаза ее были в
голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко
Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было
его лица.
«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого
Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в
небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на
землю и заплакал так, что ходуном заходили его
стариковские плечи.
«Было тут над чем плакать, сокол!
' «...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая
в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром,
Вот и всё, сокол!»
Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку,
запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал
сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за
другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев
нас большими умными глазами, неподвижно
останавливались, окружая нас плотным кольцом.
— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и,
похлопав ладонью шею своего любимого вороного
коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! —
Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче
вытянувшись на земле, умолк. , . '
4 Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи,
и в воздухе перед моими "глазами плавала царственна
15
красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку
с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь
ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле
кровь, падая на землю огненно-красными
звездочками.
А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко
Зобар; его лицо завесили пряди густых черных
кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные
слезы.м
Усиливался дождь, и море распевало мрачный и
торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган —
Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата
Данилы.
А они оба кружились во тьме ночи плавно и
безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться
с гордой Раддой.
ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ
Ничего больше не остается делать, как идти на
соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж
таки надо взяться, потому что этак-то, не розен
час, и с голоду подохнешь.
Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в
десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что
он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул,
сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал
смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с
ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трех
от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян
протянулся на песке головой в степь и ногами к морк>>
и волны, набегая на берег и мяско шумя, мыли его
голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то
потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда
волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему
нравилось.
Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес
мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма,
оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локое.
мотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило
16
нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на
йоги, сказал Емельяну:
— Ну что ж, идем на соль!
— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно
протянул он, не глядя на меня.
— Там увидим.
— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним
членом, повторил Емельян.
— Ну конечно!
— Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая
Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут,
где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться
сквозь землю!
— Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.
— Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так. Только
вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не
будет, хоть мы и пойдем.
— Да,'ведь ты же говорил, что нужно туда идти.
— Это верно, я говорил. Что я говорил, так
говорил; уж я от своих слов не откажусь» А только не
будет толку, это тоже верно.
— Да почему?
— Почему? А ты думаешь, что там нас
дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим,
сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте
наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот
как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...
— Ну ладно, будет! Пойдем!
— Погоди! Должны мы пойти к господину заведы-
вающему этою самою солью и сказать ему со всем
нашим почтением: «Милостивый господин,
многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли
предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно
ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в суточ-
ки!» И тогда последует...
—¦ Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера
придем к рыбацким заводам, поможем выбрать
невод— накормят ужином, может быть»
— Ужином? Это справедливо. Они накормят;
рыбачки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку,
братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому —
незадача нам с тобой всю неделю, да и всё тут.
Он встал> весь мокрый, потянулся и, засунув руки
17
в карманы Штанов, сшитых им из двух мучных мешков,
пошарил там и юмористически оглядел пустые руки,
вынув их: и поднеся к лицу.
— Ничего!.. Четвертый день ищу, и всё — ничего)
Дела, братец ты мой!
Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг
с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке,
перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими
от мягких ударов набегавших волн. Изредка попада-
лись выброшенные полной студенистые медузы, рыбки,
куски дерева странной формы, намокшие и черные...
С моря Набегал славный свежий ветерок, опахивал нас
прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри
песчаной пыли.
Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я,
замечая это, стал пытаться развлечь его.
4 — Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!
— Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба
стала, потому — брюхо пустует. Брюхо в человеке —
главное дело, и какого хочешь урода найди — а без
брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно,
значит, и душа Ж1ива; всякое деяние человеческое от
брюха происходит...
Он помолчал.
— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море
мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя
вf приказчики, сам устроил бы под стойкой постель
и прямо из бочонка з рот себе трубку провел. Чуть
захотелось испить от источника веселия и радости,
сейчас я тебе команду: «Максим, отверни кран!» — и буль-
буль-буль — прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-оро-
шее дело, бес меня удави! А мужика бы этого,
черноземного барина —ух ты! — грабь —дери шкуру!.,
выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: «Емельян
Павлыч! дай в долг стаканчик!» — «А?.. Что?.. В долг?!
Не дам в долг!» — «Емельян Павлыч, будь
милосерд!» — «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам».
Ха-ха-ха! Я бы его, чёрта тугопузого, пронзил!
—- Ну, чтб уж ты так жестоко! Смотри-ка — вон он
Голодает, мужик-то.!
— Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец
ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в за-*
Ь'^; Н-да-с! Он голодает — почему? Неуро*
is
жай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже
на поле, вот что! Почему в других-прочих империях
неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не
затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести;
там думают,—вот что! Там, брат ты мой, дождь
можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и
солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно
слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть?
Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё
шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и
кабак, это бы дело серьезное.,.
Он замолчал и по привычке полез за кисетом,
вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плкь
нуз, бросил в море.
Волна подхватила грязный мешочек, понесла было
его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе
выбросила снова на берег.
, -т- Не (берешь? Врешь, возьмешь! — Схватив
мокрый кисет1, Емельян сунул в него камень и,
размахнувшись, бросил далеко в' море.
Я засмеялся.
— Ну, что ты свалишь зубы-то?.. Люди тоже!
Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать челрт
века не умеет! Кикимора четырехглазая!
Это, относилось ко мне, и по тому, что Емельян
назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что
степень его раздражения против меня очень сильна: он
только в моменты острой злобы и ненависти ко рсему
существующему позволял себе смеяться над моими
очками; вообще же это невольное украшение придавало
мне в его глазах столько веса и значения, что в первые
дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе,
как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на те,
что я в паре с ним грузил угрдь на какой-то румынский
пароход и весь, так же как и он, был оборван,
исцарапан и черен, как сатана.
Я извинился перед ним и, желая его успокоить до
некоторой степени, начал рассказывать о заграничных
империях, пытаясь доказать ему, что его сведения об
управлении облаками и солнцем относятся к области
мифов.
— Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!..,Так, так...— вставляя
QH;изредка; но я чувствовал» чтр интерес его к загра-
Щ
личным империям и ходу жизни в них невелик против
обыкновения,— Емельян почти не слушал меня,
упрямо глядя в даль перед собою.
— Всё это так,— перебил он меня, неопределенно
махнув рукою.— А вот что я тебя спрошу: ежели бы
нам навстречу теперь попался человек с деньгами,
и большими деньгами,— подчеркнул он, мельком за?
глянув сбоку под мои очки,— так ты как бы, ради
приобретения шкуре твоей всякого атрибуту,—- укокошил
бы его?
— Нет, конечно,— отвечал я.— Никто не имеет
права покупать свое счастье ценою жизни другого
человека.
— Угу! Да.* Это в книжках сказано дельно, но
только для ради совести, а на самом-то деле тот самый
барин, что первый такие слова придумал, кабы ему
туго пришлось,— наверняка бы при удобном случае,
для сохранности своей, кого-нибудь обездушил,
Права! Вот они, права!
У моего носа красовался внушительный жилистый
кулак Емельяна,
~~ И всяк человек — только разным способом —
всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..
Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под
брови, длинные и выцветшие.
Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол,
возражать ему бесполезно.
Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок де«
рева и, вздаднув, проговорил;
— Покурить бы теперь...
Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов,
лежащих на земле, глядя на нас. ,
— Здорозр, панове!— окликнул их Емельян,—*
а нет ли у вас табаку?
Один из чабанов повернул голову к другому,
выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво
проговорил:
— Табаку просят, э, Михал?
Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая
у него разрешения заговорить с нами, и обернулся
к нам.
— Здравствуйте! — сказал он,— где ж вы идете?
20
— К Очакову на еоль.
— Эге!
Мы молчали, располагаясь около них на земле.
— А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки
не склевали.
Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню.
Емельян скрипел зубами.
<— Так вам табаку надо?
— Давно не курили,— сказал я.
— Что ж так? А вы бы покурили.
— Гей ты, чёртов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь
дать, а не смейся! Выродок! Аль потерял душу-то,
шляясь по степи? Двину вот по башке, и не
пикнешь!— гаркнул Емельян, вращая белками глаз.
Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои
длинные палки и став плотно друг к другу.
— Эге, братики, вот как вы просите!., а ну, что ж,
идите!.. :• ,
Чёртовы хохлы хотели драться, в чем у меня не
было ни малейшего сомнения. Емельян, судя по его
сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже
был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать
в баталии и попытался примирить стороны:
— Стойте, братцы! Товарищ погорячился — не
беда ведь! А вы вот что — дайтеч, коли не жаль, табаку,
и мы пойдем себе своей дорогой.
Михаил взглянул на Никиту, Никита — на
Михаила, и оба усмехнулись.
— Так бы сразу и сказать вам!
Затем Михаил полез в карман свиты, выволок
оттуда объемистый кисет и протянул мне:
— А ну, забери табаку!
Никита сунул руку в кишеню и затем протянул ее
мне с большим хлебом и куском сала, щедро
посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал
еще мне табаку. Никита буркнул:
— Прощайте!
Я поблагодарил.
Емельян угрюмо опустился на землю и довольно
громко прошипел:
•— Чёртовы свиньи!
Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым!
шагом,1 поминутно оглядываясь на нас Мы; сели на
21
землю и, не обращая более на них внимания, стали
есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян
громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал
моих взглядов.
Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл
над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь»
На краю моря поднялась гряда желто-лиловых
облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более cry-i
щая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далекоп
далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуре-;
вый веер лучей заката и красил землю и небо так
мягко и нежно. Волны бились о берег, море — тут
розоватое, там темно-синее — было дивно красиво
и мощно.
— Теперь покурим! Чёрт вас, хохлов, растаскай! —•
И покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул.—•
Мы дальше пойдем или тут заночуем?
Мне было лень идти дальше.
— Заночуем! — решил я.
— Ну и заночуем.— И он растянулся на земле,
разглядывая небо.
Емельян курил и поплевывал; я смотрел кругом,
наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно
плыл монотонный плеск волн о берег.
— А клюнуть денежного человека по башке — что
ни говори — приятно; особенно ежели умеючи дело
обставить,— неожиданно проговорил Емельян.
— Будет тебе болтать,— сказал я.
,— Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет
сделано, верь моей совести! Сорок семь лет мне, и лет двя-
дцать я над этой операцией голову ломаю. Какая цоя>
жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска,—
хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек,
а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать?
Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо
жить, то — почему же мне не жить? Э? Чёрт вас
возьми, дьяволы!
Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро
проговорил: ,
— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да,
не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак
, жалел. Хочешь расскащ?
22
Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян,
закурив, начал:
«Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь
тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца,
лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом
вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских.
Судили меня за это, законопатили в арестантские роты
на три месяца и прочее такое — по положению.
Вышел я, отсидев срок,— куда теперь? В городе знают; в
другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к
одному знакомому темному человечку; кабак он держал и
воровские дела завершал, укрывая разных
молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий
на диво и с умной головой. Книжник был большой,
многое множество читал и имел очень большое
понятие о жизни. Так я, значит, к нему: „А ну, мол, Павел
Петров, вщ-толиГ — „Ну что ж, говорит, можно!
Человек человеку,— коли они одной масти,— помогать
должен. Живи, пей, ешь, присматривайся*'. Умная
башка,'братец ты мой, этот 11авел Петров! Я к нему имел
большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бы-
в&ло, днем сидит он за стойкой и читает книгу о
французских разбойниках — у него все книги были о
разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята
были, дивные дела делали — и непременно
проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки —ах ты
мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста!
всё прахом пошло.
&Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой,
слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю —
ходят темные молодчики, носят светлые вещички:
часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на
грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь — Павел
Петров даст за нее половину цены,— он, брат, честно
платил,—сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и —
ничего rte осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один
попадет под суд, то другой угодит туда же...
«Из-за каких таких важных причин? По
подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто
рублей!— Gto рублей! Разве человеческая жизнь сто
рублей чггоит? Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:
мВсё это, Павел Петров, глупо и не заслуживает гсри-
23
ложения рук".— „Гм! как тебе сказать? — говорит.—
С одной, говорит, стороны, курочка по зернышку
клюет, а с другой — действительно, во всех делах у
людей уважения к себе нет; вот в чем суть! Разве,
говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою
руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни
в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек,
прикосновенный моим умом к образованию Европы, я пдо-
дам себя за сто рублей?". И начинает он мне
показывать на примерах, как должен поступать понимающий
себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом
я говорю ему* „Давно, мол, у меня, Павел Петров,
есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы,
человек опытный в жизни, помогите мне советом, как,
значит, и что".—„Гм!— говорит — это можно! А не
оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по
своему расчету, без помочей? Так, например... Обаи-
мов-то*— говорит — с лесного двора через Ворсклу
в единственном числе на беговых возвращается; а как
тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на
лесном от приказчика он получает выручку. Выручка
недельная; в день торгуют они на три сотни и больше.
Что ты можешь на это сказать?" Я задумался. Обаи-
мов — это тот самый купец, у которого я служил в
приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за
поступок со мной, и смачный кусок урвать можно.
,,Нужно обмозговать",— говорю. „Не без этого",—
отвечает Павел Петров».
Он замолчал и медленно стал вертеть папироску.
Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с
каждой секундой всё более бледнея, чуть окрашивала
край пухового облака, точно в истоме неподвижно
застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо,
грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый
плеск волн как-то еще более оттенял своим
монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем,
одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие
чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для
украшения бархатного южного неба.
«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту
же ночь в кусты около ВорЬклы залег, имея с со>бой
шкворень железй&й ^фуйтЪ# Семи весом, Дейб^то бЙло
24
в октябре, помню — в конце. Ночь — самая
подходящая: темно, как в душе человеческой... Место — лучше
желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом еъезгде с
него доски выбиты,— значит, поедет «шагом.. Лежу,
жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы
хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто
представил, что проще и нельзя: стук! — и баста!..
JH-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и всё у меня готово.
Раз! — и получи денежки. Так-то. Бац! — значит, и
всё тут!
«Ты, может, думаешь, что человек в себе волен?
Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра
сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать,
направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал
одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело
, вышло!
«Вижу* от города идет кто-то — пьяный как будто,
шатается^ в руках палка. Бормочет что-то; нескладно
бормочет и плачет,— всхлипывает... Еще ближе пбдо*
шел,, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю
шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и
вдруг как крикнет: „Милый, за что?!" Ну, брат, и
крикнула! Я так и вздрогнул. „Что за притча?" — думаю.
А она'прямо на меня. Лежу, прижался-к земле, дрожу
весь — куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет,
ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: „За
что?! за что?!"*—и бух наземь, как стояла, почти рядом
со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что
я и сказать тебе не могу,— сердце рвалось, слушая.
Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла.
Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи,
да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся
я на локоть и глянул на нее.., И тут, брат, всё и пошло
прахом, все мои планы и полетели к чертям!
Смотрю— так сердце и ёкнуло: ма-аленькая девчоночка,
дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках,
глазенки большие такие — смотрят так... и плечики
дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за
другой так и бегут, и бегут.
«Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я,
значит» и давай кашлять: „Кхе! кхё! кхе!" Как она крик-
дет: „Кто это? Кто? Кто. тут?!" Испугалась, значит...
Ну, я-сейчас тово... на ноги встал и говорю: „Это, мол,
25
я".—„Кто вы?" — говорит. А глаза-то у самой во какие
сделались, и вся так, как студень, дрожит. „Кто
вы?'1 — говорит».
Он засмеялся.
«„Кто я-то» мол? Вы прежде всего не бойтесь меня,
барышня,— я вам худа не сделаю. Я — так себе
человек, из босой команды» мол, я''. Да. Соврал значит,
ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца
убить залег тут! А она мне в ответ: „Всё, говорит, ит
равно, я топиться пришла сюда". И так это она
сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень,
братец ты мой. Ну, что тут делать?»
Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на
меня, широко и добродушно улыбаясь.
«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем
заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам
себя заслушался; больше всё насчет того,,что ока мот
лодая и такая красавица» А что она красавица, так это
уж так, то есть-^ раскрасавица! Эх ты, брат ты мойI
Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я> значит, и говорю;
а что — кто его знает — что? Сердце . говорило., Да!
А она всё смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг
как улыбнется!..» —заорал.Емельян на всю степь со
слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе
сжаты ми кулаками,
«Как улыбнулась, так я r растаял; хлоп передай
на колени: „Барышня, говорю, барышня!** — и всё тут!
А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками,
глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевр-
лит губами — сказать хочет что-то; а потом осилидась
и говорит: „Милый вы мой, вы тоже несчастный» как
и я! Да? Скажите, хороший мой!" Н-да, друг ты мой,
вот оно что! Да не всё еще, а и поцеловала она меня
тут в лоб, брат,— вот*как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты,
голубь! Знаешь, лучше этого у меня в >кизии-то за все
сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А з'а'чЫй
я пошел? Эх ты, жизнь!..»
Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный
странностью рассказа, я молчал и смотрел на море;
похожее1 на чью-то громаднуютр-удь, ров йог и глубоко
дышавшую в крепком сне.
«Ну, а потом она встает и говорит мне: йПровода^
меня домой". Пошли мы. Я иду — ног под «собой'не
26
чую, а она мне всё рассказывает, как и что. Понимаешь
ты, она одна дочь была у родителей, купцы они,— ну,
и того, значит, балованная; а потом тут студент
приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг
в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как,
дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать
венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал,
а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара, девке,
конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну,
рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с
ней до дома, где ока жила. „Ну, говорит, голубчик,
прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег,
может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь".—„Нет,
говорю, барышня, не надо, спасибо вам!"—„Ну,
добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!"—¦
пристает она. А я такой оборванный был, однако
говорю: „Не,надо, барышня". Знаешь, брат, как-то не до
того был©, не до денег. Простились мы с ней. Она так
ласково говорит: „Никогда-де я не забуду тебя; совсем,
дескать, ты чужой человек, а такой мне..." Ну, это
наплевать»,— оборвал Емельян, снова принимаясь
закуривать.
«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне
стало. Ночной сторож идет. „Ты, говорит, чего тут
торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?" Крепко эти
самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду —
рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в
часть, вали хоть во всю целую — мне всё равно; я как
двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел.
Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову.
«Где погуливал?» — спрашивает, усмехаясь. Поглядел
я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то
новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему всё, как и что.
Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: „Вы*
говорит Емельян Павлыч,— дурак и болван; и не
угодно ли, говорит, вам убраться вон!" — Ну, что ж тут?
iVjiH он не прав? Я ушел, и всё тут.— Так-то вот было*
дельце^ браток!»
Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки
под голову и глядя на небо — бархатное и звездное.
И,кругом всё молчало. Шум прибоя стал еще мягче,
тише* он долетал до нас слабым, сонным вздохом,
27
ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА
Ожидая паром, они оба легли в тень от
берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и
мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а
дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не
мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их
отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя
жалкими комками, один — побольше, другой — nd-
меньше; утомленные, загорелые и пыльные
физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.
Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа
вытянулась поперек узкой полоски песка—он желтой
лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой;
задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда.
Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он
казался корявым сучком, отломленным от деда
—старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного
сюда, на песок, волнами реки.
Дед, приподняв на локте голову, смотрел на
противоположный берег, залитый солнцем и бедно
окаймленный редкими кустами ивняка; из кустов
высовывался черный борт парома. Там было скучно и пусто.
Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи;
она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила
уныние. _
Его тусклые и воспаленные глаза старика, с
красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а
испещренное морщинами лицо замерло в выражении
томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и,
поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был
хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с
земли и выжимал на его глазах крупные капли слез.
Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в
степи не было никаких звуков... Она лежала по обе
стороны реки, громадная, бурая, сожженная Солнцем,
и только там, далеко на горизонте, еле видное
старческим глазом, пышно волновалось золотое море
пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо.
На нем вырисовывались три стройные фигуры
далеких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то
становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им,
колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все
28
скрывалось за блестящей, серебряной пеленой
степного марева...
Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда
притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда
сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба,
такой же чистой и спокойной, как оно.
Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, пб-
тирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта
жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли
остатки силы в ногах.
Сегодня ему было более плохо, чем всегда за
последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, й
хотя относился к этому совершенно равнодушно,' без
дум, как к необходимой повинности, но ейу бы
хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еЩё
его сильно бмущала мысль о внуке... Куда денется
Ленька?..
Он ставил перёд собой этот вопрос по нескольку
раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось,
колодело и становилось так тошно, что ему x6teлocь
сейчас же воротиться домой, в Россию...
Но — далеко идти в Россию... Все равно не
дойдёшь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани
подают милостыйю щедро; народ всё зажиточный, fcb-
тя тяжелкй и насмешливый. Не любят нищих, потому
что богаты...
Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд,
дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.
Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза>
большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и
казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой
личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.
— Идет?—спросил он и, приложив щитком руку
к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи
солнца.
— Нет еще, не идет. Стоит. Чего ему здесь? Не
зовет никто, ну и стоит ой...— медленно заговорил
Архип, продолжая гладить внука по голове.—
Дремал тьг?
Лёнька неопределенно покрутил головой и
вытянулся йа песке. Они помолчали.
— Кабы я плавать умел, купаться бы стал,—
пристально глядя на реку, заявил Ленька.— Быстра б#ль-
30
но река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит,
Трчно опоздать боится...
И Ленька недовольно отвернулся от воды.
—• А вот что,— заговорил дед, подумав,— давай
распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу при.
кручу, ты и лезь, купайся...
— Hy-yL—резонно протянул Ленька.— Чего
выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И
утонем оба.
— А ведь верно! Стащит. Ишь как прет... Чай,
весной-то разольется — ух ты!.. И покосу тут — беда1 Без
краю покосу!
Леньке не хотелось говорить, и он оставил слова
деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и
разминая его пальцами в пыль с серьезным и
сосредоточенным выражением на лице.
Дед смотрел на него и о чем-то думал, щуря глаза.
,— Ведь1 вот...— тихо и монотонно заговорил
Ленька, стряхивая с рук пыль.— Земля эта теперь... взял я
ее в руки, растер, и стала пыль... крохотные кусочки
одни только, чуть глазом видно...
— Ну, так что ж?—спросил Архип и закашлялся,
посматривая сквозь выступившие на глазах слезы в
большие сухо блестящие глаза внука.— Ты к чему
это? — добавил он, когда прокашлялся.
,,—. Так...— качнул головой Ленька...— К тому, что,
мол,, вся-то она эвона какая!..— Он махнул рукой за
деду,— И всего на ней понастроено... Сколько мц с
тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколькр!
И, не умея уловить свою мысль, Ленька снова
молча задумался, посматривая вокруг себя.
Дед тоже помолчал немного и потом, плотно
подвинувшись к внуку, ласково заговорил:
— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пцлъ
все...[ и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна.
Эх ты, Ленька, Ленька!.. Кабы грамоту тебе!., далеко
бы ты пошел. И что,с тобой будет?..
Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее.
. — Погоди...— высвобождая свои льняные волосы из
корявых, дрожащих пальцев деда, немного
оживляясь, крикнул Ленька. — Как ты говоришь? Пыль?
Города и все?. • • ¦ .
— А так уж устроено богом, голубь. Всё — земля,
31
а сама земля — пыль. И всё умирает на ней,.. Вот как!
И должен потому человек жить в труде и смирении.
Вот и я тоже умру скоро... — перескочил дед и
тоскливо добавил: — Куда ты тогда пойдешь без меня-то?
Ленька часто слышал от деда этот вопрос, ему
уже надоело рассуждать о смерти, он молча
отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и
стал медленно жевать.
Но у деда это было больное место.
— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то
будешь? —тихо спросил он» наклоняясь к внуку и
снова кашляя.
— Говорил уж... — рассеяно и недовольно
произнес Ленька, искоса взглядывая на деда.
Ему не нравились эти разговоры еще и потому,
что зачастую они кончались ссорою. Дед долго
говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал
его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему
новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся —
и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед,
замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не
любит деда, не ценит его забот, и наконец упрекал
Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой,
смерти.
— Что — говорил? Глупенький ты еще, не можешь
ты понимать своей жизни. Сколько Гебе от роду?
Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к
работе. Куда ж ты пойдешь? Добрые люди, думаешь,
помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы
помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то
собирать не сладко и мне, старику. Каждому поклонись,
каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и
гонят... Рази ты думаешь, человеком считают
нищего-то?. Никто! Десять лет по миру хожу — знаю.
Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и дума*
ет, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты
думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою
успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнет
тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый
человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного.
Враги друг другу — сытый и голодный, веки вечные
они сучком в глазу,друг .у друга будут. Потому и
невозможно им жалеть и понимать друг друга..,
32
Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого
у него тряслись губы, старческие/тусклые, глаза
быстро шмыгали в красных рамках рейкйц и век, а
морщину на темном лице выступили резче,
Ленька не любил его таким и немного боялся
чего-то.
— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь
делать с миром? Ты — хилый ребеночек, а мир-то —
зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого...
Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у
тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно
мне умереть, а ты чтобы остался... На кого?..
Господи!., за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне
невмочь и умирать мне нельзя, потому — дите, —
оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих...
старыхг Господи, помоги мне!..
Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени
дрожащих ног.
Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась
о берег, точно желая заглушить этим плеском
рыдания старика., Ярко улыбалось безоблачное небо,
изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум
мутных волн.
— Будет, не плачь, дедушка, —, глядя в сторону,
суровым тоном проговорил *Денька и, повернув к деду
лицо, добавил:— Говорили об всем уж ведь. Не
пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...
— Забьют... — сквозь слезы прострнал дед,
— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с
некоторым задором вскричал Ленька, — тогда что?
Не дамся каждому!..
Но тут Ленька вдруг почему-то осекся и,
помолчав, тихонько сказал:
— А то в монастырь уйду...
— Кабы в монастырь! — вздохнул дед,
оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого
кашля.
Над их головами раздался крик и скрип колес...*
— Паро-о-м... Паро-о—-гей! — сотрясала воздух
чья-то могучая глотка.
Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.
Пронзительно скрипя, на песок въехалз арба.,В ней
стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надви-
2. М. Горький 33
нугой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть;
рдя в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая,
выпяченная вперед грудь выпячивалась еще более.
Белые зубы ярко сверкали в шелковой раме черной
бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-
под расстегнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой
на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце
тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и
от лощади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой,
от колес арбы, высоких, стянутых толстыми шинами,—
разило сытостью, силой, здоровьем.
— Гей!.. Гей!..
Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко
поклонились.
— Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший и,
посмотрев на тот берег, где из кустов выползал
медленно и неуклюже черный паром, стал пристально
оглядывать нищих. — Из России?
— Из нее, милостивец! — с поклоном ответил
Архип.
-т Голодно там у вас, а?
Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то
подтягивать в упряжке.
•— Й тараканы с голода мрут,
— Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек hq
осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете,
должно, поганб. Потому, как хорошо работать
станешь, не будет голоду.
— Тут, кормилец, главная причина — земля. Йе
рбдйт. Высосали землю-тО мы.
— Земля? — тряхнул казак головой. —; З'емлй
всегда должна родить, на то она и дана человеку.
Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших {Зук
камень не отобьется, родит.
Подъехал паром.
Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь
толстыми нбгами й пол парома, с треском ткнули его
о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взМя-
нув Друг на1 Друга, стали отдуваться.
— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на
паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.
— Зге!; — ответил один из паромщиков,
глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к
34
арбе, заглянул в нее и повел носом, сильно втянув в
себя.воздух...
Другой сел на пол и, кряхтя, Стал снимать сапог.
Дед и Ленька вошли на паром и прислонились к
борту, посматривая на казаков.
— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.
— А ты не везешь ничего с собой попить? —
спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял
сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.
— Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?
— Воды!., я не о воде.
— А о горилке? Не везу горилкц.
— Как же это ты не везешь? — задумался
спрашивавший, уставив глаза в пол парома.
— Ну-ну, едем!
Казак поплезал на руки и взялся за канат.
Переезжавший стал помогать ему.
— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился
паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.
— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая
головой, пропел тот.
— И не надо им помогать. Они и одни управятся!
И, как бы желая убедить деда в истине своих слов,
он грузно опустился на колени и лег на палубе парома.
Его товарищ лениво ругнул его и, не получив
ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.
Отбиваемый течением, с глухим шумом
плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленна
подвигаясь вперед.
Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него слзгд-
к,о дружится голова и глаза, утомленные быстрым
бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда,
скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он
хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но
вдруг что-то качнуло его так, что он упал.
Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над
ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый
пень на берегу.
— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу
до станицы. И ты, дед, садись.
Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед,
кряхтя, влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они
35
поехали в клубах мелкой черной пыли, заставлявшей
деда^задыхаться рт кашля,
Казак затянул песню. Пел он странными, звуками,
отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом.
Казалось, он разбивает звуки с клубка, как нитки, и,
когда ему встречается узел, обрывает их.
Колеса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, тряся
головой, не переставая кашлял, а Ленька думал о том,
что, рот сейчас приедут они в станицу и нужно будет
гнусавым голосом петь под окнами: «Господи* Иисусе
Христе»... Снова станичные, мальчики будут задирать
его, а бабы надоедать расспросами о России.
Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет
чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и
больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело
всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда
не было... Говорит, что в России на улицах мрет народ,
да так и валяется, и убрать некому, потому что все
люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом
не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы
больше подавали. Но куда ее, милостыню, здесь
денешь? Дома —там можно всегда продать по сорок
копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не
покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень
вкусные, выбрасывать из котомок в степи.
— Сбирать пойдете? — спросил казак, оглядывая
через плечо две скорченные фигуры.
— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил
ему, дед Архип.
— Встань на ноги, дед, покажу, где живу,—
ночевать ко мне придете.
Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком
о край арбы, и глухо застонал.
— Эх ты, старый!..— буркнул казак, соболезнуя.—
Ну,, всё равно, не гляди; придет пора на ночлег идти,
спроси Черного, Андрея Черного, это я и есть. А теперь
слезай. Прощайте!
Дед и внук очутились перед кучкой тополей и
осокорей, Из-^а их стволов виднелись крьщи, заборы,
повсюду — направо и налево — к небу вздымались
такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой
«ылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась
от жарыГ
38
Прямо перед уищими между двух плетней тянулся
узкий проулок, они направились в этот проулок
развалистой походкой много ходивших пешком людей.
-—Ну, как мы, Леня, пойдем — вместе или
порознь?— спросил дед и, не дожидаясь ответа,
прибавил:-1-Вместе бы лучше — мало больно тебе подают.
Не умеешь ты просить-то...
—i А куда много-то надо? Всё равно ведь не
поедаем.,.—< хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.
— Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернется
человек да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги
дело большое; ты с ними небось не пропадешь, как
умру-то я.
И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по
голове.
— Тц знаешь ли, сколько4 я за путину-то
скопил? А?
-*•• А сколько? — равнодушно' спросил Ленька.
— Одиннадцать с полтиной!.; Видишь?!
Но на Леньку не произвели впечатления эта сумма
и ликующий тол деда.
-+- Эх ты, малыш, малыш!—вздохнул дед.— Так
порознь, что ли, идем?
— Порознь...
-—sHy... К церкви приходи, буде.
— Ладно.
Дедгсвернул в проулок налево, а Ленька 1пошел.
дальше. Сделав шагов десять, он услыхал дребезжа-
щий возглас! «Благодетели и кормильцы!..» Этот
возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслям
провели' ладонью с самой густой до тонкой струны.
Ленька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда
слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и
как-то- тоскливо, а когда деду отказывали, oh даже
робел; ожидая, что вот сейчас разревется дедушка.
До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие
ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном
воздухе йад станицей. Кругом, было все так тихо, точно
ночью.. Ленька подошел к плетню и сел в тени от
свесившихся,через него на улицу ветвей вишни. Где-то
гулко жужжала пчела...
Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее
голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над
37
его лицом, крепко заснул^ укрытый от взглядов
прохожих густым бурьяном и решетчатой тенью плетня!..
Проснулся он, разбуженный странными звуками,
колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от
близости вечера. Кто-то плакал неподалеку от него.
Плакали по-детски — задорно и неугомонно. Звуки рыданий
замирали в тонкой минорной ноте и вдруг снова и с
новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к
нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на
дорогу.
По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с
красным и вспухшим от слез лицом, которое она то и дело
вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно,
шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую
пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идет. У нее
были большие черные глаза, теперь —обиженные,
грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки
шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос,
растрепанных и падавших ей на лоб, щеки и плечи.
Она показалась Леньке очень смешной, несмотря
на свои слезы,— смешной и веселой... И озорница,
должно быть!..
— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на
ноги, когда она поравнялась с ним.
Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав
плакать, но всё еще потихоньку всхлипывая. Потоай,
когда она несколько секунд посмотрела на него, у нее
снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь
колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.
Ленька почувствовал, как у него что-то сжалось
•внутри^ и вдруг тоже пошел за ней.
''-и- А ты не плачь. Большая уж —
стыдно!—заговорил он, еще не поравнявшись с ней, и потом,
когда догнал ее, заглянул ей в лицо и переспросил сно-
в!а: — Ну, чего ты разревелась?
— Да-а!..— протянула она.— Кабы тебе...— и вдруг
опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и
отчаянно заныла.
— Ну! — пренебрежительно махнул рукой
Ленька.— Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!..
Но это не помогло ни ей, ни ему. Леньке, глядя, как
между ее тонкими розовыми пальцами струились одна
за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось
38
шткать. Qh наклонился лад нею я, осторожно подняв
руку, чуть дотронулся до ее волос, но. тотчас же,
испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё
плакала и ничего не говорила.
— Слышь!..— помолчав, начал Ленька, чувстзуя
настоятельную потребность помочь ей.— Чего ты это?
Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдет!.. А то,
может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?
Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула
головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила
ему, поводя плечиками:
— Платок... потеряла!.. Батька с базара привез...
голубой, с цветками, а я надела — и потеряла.— И
заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и
стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!
Ленька почувствовал себя бессильным помочь ей и,
робко отодвинувшись от нее, задумчиво и грустно по-
смЬтрел на потемневшее небо. Ему было тяжело, и
очень жаль девочку.
— Не плачь!., может, найдется...— тихонько
прошептал он, но, заметив, что она не слышит его
утешения, отодвинулся еще дальше от нее, думая, что,
наверное, от отца1 достанется ей за эту потерю. И
тотчас же ему представилось, что отец, большой и черный
казак, колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся
дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах.,. >:
Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять,
снова круто подернулся, остановился против нее,
прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь
такое ласковое и доброе...
— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань
пдакать-то! Пойди домой да и скажи всё* как было.
Потеряла, мол... Что уж больно?..
.. Он начал говорить это тихим, соболезнующим
голосом и, кончив возмущенным восклицанием,
обрадовался, видя, что она поднимается с земли.
— Вот и ладно!..— улыбаясь и оживленно
продолжал он.— Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и
расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!
И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись
вокруг себя.
.— Не надо...— прошептала она, медленш
отряхивая пыль, с платья и всё всхлипывая^
30
_ — А то — пойду? — с полнейшей гордостью до
ко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз.,
Теперь он стоял перед ней, широко расставив hofh,
отчего надетые на нем лохмотья как-то храбро з&ер-
шились. Он твердо постукивал палкой о землю и
смотрел на нее упорно, а его большие и грустные глаза сзе-;
тились гордым и смелым чувством.
Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по
своему личику слезы, и, снова вздохнув, сказала:
— Не надо, не ходи.., Мамка не любит нищих-то.
И пошла от него прочь, два раза оглянувшись
назад.
Леньке сделалось скучно. Он незаметно,
медленными движениями изменил свою решительную, вызьк
вающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув
за спину свою котомку, висевшую до этого на руке,
крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за
поворотом проулка;
— Прощай!
Она обернулась к нему на ходу и исчезла.
Приближался вечер, и в воздухе стояла та особен
ная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солн
це уже было1 низко, и вершины тополей зарделись лег
ким румяйцем. Но от.вечерних теней, окутавших щ
ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, вь|-
ше... Небо над ними тоже темнело, делалось
бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко
говорили люди и где-то еще дальше, но в другой
стороне — пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось,
тоже были пропитаны духотой.
Лёньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то.
Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и
быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню
ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в
груди сердце бьется так часто, часто и что ему как-то
особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из
его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли, она
из богатого дома, будут ее бить: все богачи — скряги;
а коли бедная, то, может, & не будут.../В бедных
домах ребят-то больше любят, потому что от них ра-
ботьд ждут». Одна,за другой думы назойливо
шевелились в его голове, и,с каждрй минутой томительное ц
щемящее * чувство тоски, как тень сопровождавшее
40,
увд овладевало им всё
более;
И тени вечера становились удушливее, гуще.
Навстречу Лёньке попадались казаки и казачки и
проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев
привыкнуть к наплыву Голодающих из России. Он
тоже ЛеНИВО СКОЛЬЗИЛ ПОТуСКНеВШИМ ВЗГЛЯДОМ'ПО ИХ
СЫТЫМ крупным фигурам и быстрб и!ел к церкви,— крест
ее сиял за деревьями впереди его.
Навё?речу ему нессй шум возвращавшегося ста^а.
Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами,
выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом'
тополями, вершины которых переросли ее кресты,
облитые' лучами заката и сиявшие сквозь зелень
розоватым золотом.
Вот и ^ед идет к паперти; согнувшись под тяжестью
котомки; if озирается по сторонам, приставив ладонь
ко лбу.
За дедом тяжелой, развалистой походкой шагает
станичник в шапке, йизко4 надвинутой на лоб, и с
палкой в руке;
— Что, пуста котомка^то?— спросил дед, подходя,
ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной
ограды.— А я вон сколько!..—И, кряхтя, он. свалил
с плеч на землю свой холщовый, туго набитцй меГ;
шок.— Ух!., хорошо здесь подают! Ахти, хорршр!.. Ну.,
а ты чего такой надутый?
— Голова болит...— тихо молвил Ленька, опускаясь
на землю рядом с дедом.
— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдем
сейчас. Как казака-то того звать? А?
— Андрей Черный.
— Так мы и спросим: а где, мол, тут Черный
Андрей? Вот к нам человек идет... Да... Хороший народ,
сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте,
добрый человек!
Казак подошел к ним вплоть и медленно
проговорил в ответ на приветствие деда:
— И вы здравствуйте.
Затем, широко расставив ноги и остановив на
нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча! по-
чеСался*
Ленька смотрел на него пытливо, дед моргая свои?.
ми старческими глазами вопросительно, казак всё мр#?
чал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить
им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он
втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо
рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее
томительным, лениво проговорив;
— Ну — пойдемте в сборную!
— Зачем? — встрепенулся дед.
У Леньки дрогнуло что-то внутри,
— А надо... Велено. Ну!
Он поворотился к ним спиной и пошел было, но,
оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются
с места, снова и уже сердито крикнул:
— Чего ж еще!
Тогда дед и Ленька быстро пошли за ним.
Ленька упорно смотрел на деда и, видя, что у него
трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь
вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой,
чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Та-?
мани. Ему стало боязно, когда он представил себе та-:
манскую историю. Там дед стянул со двора белье и его*,.,
поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже
и,-наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевал^ с.
дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю
ночь, грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый
набегавшими на него волнами..., А дед.всю ночь, .сто*,
нал и шёпотом молился богу, называя себя BOpQM ц,
прося прощения,
— Ленька...
Ленька вздрогнул от толчка з бок и посмотрел на
деда, У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё
дрожало.
Казак шел впереди щагоз на пять, курил трубку,
обивал палкой головки репейника и не оборачивался
на них.
— На вот, возьми!., брось... в бурьян... да заметь,
где бросишь!., чтобы взять после...— чуть слышно
прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку,
сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в
комок. . . , .
Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу на*
полнившего холодом всё его существо, и подошел бли«
42
же к заббру, около которого густо разросся бурьян.
Напряженно глядя на широкую спину казака-конйои-
ра, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее,
бросил тряпку в бурьян.,.
Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки
промелькнул голубой с цветами платок, тотчас
заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она
встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда
и всё окружающее... Звуки ее рыданий снова ясно
раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед
ним на землю падают светлые капельки слез.
В этом почти невменяемом состоянии он пришел
позади деда в сборную, слышал глухое гудение,
разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман
видел, как из котомки деда высыпали куски на
большой стол,,р эти куски, падая глухо и мягко, стучали о
стол... За?ем над ними склонилось много голов в $ы-
соких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачйы
и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-
то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча
чтЬ-т<э, как волчок завертелся в руках двух дюэких
молодцов...
— Напрасно, православные!.. Неповинен, виДйт
господь?..— пронзительно взвизгнул дед.
Ленька, заплакав, опустился на пол.
Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на
лавку и обшарили всё лохмотья, покрывавшие его мйлёнь-
кое тельце.
— Брешет Даниловна, чёртова баба! — гроММнул
кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густьш и
^ голосом.
' А !йожет, они спрятали где? ^ крикнули в отЪёт
еще громче.
Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют
его fno голове, и ему стало так страшно, что он потерял
сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную я^у,
раскрывшую перед ним бездонный зев.
Когда он очнулся, его голова лежала на коленям
деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое
и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз; ис;
пуганно моргавших, капают на его, Ленькин, лоб
Маленькие мутные слезы и очевь щекотят, скатываясь по
щекам на шею...
43
— Оклемался ли, родной?!. Пойдем-ка отсюда.
Пойдем,— отпустили, проклятые!
Ленька поднялся, чувствуя, что в.его голове цалито
что:то тяжелое и что она,вот-вот упадет с плеч... Он
взял ее руками и закачался из стороны в сторону, тихо
стоная.
— Болит головонька-то? Родненький ты мой!..
Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь
ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились
на нас!.. Ох, господи!., за что наказуешь?!.
Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он
чувствовал, что внутри его разгорается острая
искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше.
Отодвинулся и посмотрел вокруг...
Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью
ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь», взошла
луна, й ее молочно-серебристый свет, обливая ровное
степное пространство, сделал его как бы у>ке, чем оно
было днем, уже и еще пустынней, грустнее. Издалека,
со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо
плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю пустые
тени. Тени плотно ложились на землю, медленно*
задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно
уходя, в землю через трещины от жгучих ударов^
солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое:где
в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золо-
тымй звезд'ами.
— Пойдём, милый!., идти надр,—сказал дед.
~ Посидим еще!..—тихо сказал Ленька.
"Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил
смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на её
широкую грудь.,, Там он представлял себе большие
чудные города, населенные невиданными им добрыми
людьми, у которых не нужно будет просить хлеба —-
сами дадут, без просьб... А. когда степь, всё шире
развертываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из
себя станицу* уже знакомую ему, похожую строениями
и людьми на все те, которые он видел прежде, ему
делалось грустно и обидно за этот обман.
И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда вы-
ползали медленно тучи. Они казались ему дымом ты*
сяч труб того города, который так ему хотелось №
деть... Его созерцание прервал сухой кашель деда; *
44
Ленька пристально взглянул в смочецнр.е, слеаами
лицо дёйа, жадно глотавшего воздух.
Освещенное луной и перекрытое странными тенями,
падавшими на негб от лохмотьев шапки,, рт броней, и
брроды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом .и
широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то
затаенным восторгом,— было страшно, жалко и,
возбуждая в Леньке то, новое для него, чувство,
заставляло его отодвигаться от деда подальше...
— Ну, посидим, посидим!..— бормотал он и, глупо
ухмыляясь, шарил за пазухой.
Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.
— Ленька!.. Погляди-ка!..— вдруг всхлипнул дед
восторженно и, весь корчась от удушливого кашля,
протянул внучку что-то длинное и блестящеег—В
серебре! серебро ведь!., полсотни стоит!..
Руки и Г1у0ы у него дрожали от жадности и боли, и
все лицо передергивалось.
Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку.
— Спрячь скорей!., ах, дедушка, спрячь!..—
умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.
— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?..
Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу,.,
е потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто
шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!..
И платок взял — зот он где?..
Он выхватил дрожащими руками платок из своих
лохмотьев и потряс им перед лицом Леньки.
Перед глазами Леньки разорвалась туманная
завесу п встала такая картина: он и дед быстро, насколько
могут, идут по улице станицы, избегая взглядов
встречных людей, идут пугливо, т Леньке кажется,
что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать
на них, ругаться... Всё окружающее — заборы, дома,
деревья — в каком-то странном тумане колеблется,
точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые
голоса... Этот тяжелый путь бесконечно долог, и выход
из станицы в поле не виден за плотной массой
шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно
Желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в
лицо темными пятнами своих окон... И вдруг из одного
окна звонко раздается: «Воришки! Воришки! Воришка,
воренок!..» Ленька украдкой бросает взгляд в сторону
Л5
и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел
плачущей и хотел защищать... Она поймала его
взгляд и высунула ему язык, а ее синие глазки
сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы.
Эта картина воскресла в памяти мальчика и
моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую
он, бросил в лицо деду.
Дед все говорил что-то, прерывая себя кашлем,
махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными
каплями выступавший в морщинах его лица.
Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла
луну, и Леньке почти не видно было лица деда... Но он
поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав ее
образ перед собой, и мысленно как бы измерял их
обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед
рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой,
свежей, красивой, показался ему ненужным и почти
таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это
можно? За что он обидел ее? Он не родной ей..,
А дед скрипел:
— Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда
покойно...
— Ну!..— вдруг вспыхнуло что-то в Леньке.— МоЯ-
чи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот...
Воруешь!..— взвизгнул Ленька и вдруг» весь дрожа,
вскочил на ноги.— Вор ты старый!.. У-у! — И, сжаз
маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом
внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился
на землю, продолжая сквозь зубы:—У дити украл...
Ах, хорошо!., Старый, а туда же... Не будет тебе на
том свете прощенья за это!..
Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная
ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая
се мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар
грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и ее
и небо, по которому теперь быстро летела густая тол-
па черных туч, утопившая в себе луну.
Стало темно. Далеко где-то еще, молча, но грозна,
сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рык*
нул гром... Потом наступила тишина, которой,
казалось, не будет конца.
Ленька крестился. Дед сидел неподвижно и молча,
точно он сросся с стволом дерева, к которому приела*
нился единой, 46
— .Дедушка!..— прошептал Ленька, в мучительном
страхе ожидая нового удара грома.— Идем в станицу!
Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым
пламенем, бросило на землю могучий металличеп<ий
удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на
землю, ударяясь друг о друга...
— Дедушка!.. — крикнул Ленька.
Крик его, заглушаемый отзвуком грома,
прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол.
— Что ты... Боишься...— хрипло проговорил дед, не
шевелясь.
Стали najw'ib крупные капли дождя, и их шорох
звучал так .таинственно, точно предупреждал о чем-
то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук,
похожий на трение громадной щеткой по сухой
земле, — а тут, около деда и внука, каждая капля, падая
ва землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без
эха. Удары грома всё приближались, и небо
вспыхивало чаще.
— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса,
вора... здесь дождь потопит... и гром убьет!..—
задыхаясь, говорил дед.— Не пойду!.. Иди один... Вот
она, станица,.. Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут...
пошел!.. Иди, иди!.. Иди!,.
Дед уже кричал глухо и сипло.
— Дедушка!., прости!.. — придвигаясь к нему,
взмолился Ленька.
— Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя
нянчил!...Всё для те;бя... и жцл,,. для тебя. Рази мне.надо
что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь —
в.ор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё,.. Вот
врзьдои... возьми... бери... На жизнь твою.,4, на всю...
решил... ну и воровал... Бог видит в.се.,. Он знает... что
воровал... знает... Он меня накажет. О:он не помилует
меня, старого пса... за воровство. И наказал уж...
Господи! наказал ты меня!., а? наказал?.. Рукой ребенка
убил ты меня!.. Верно, господи].. Правильно!..
Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!..
Голос,деда поднялся до,пронзительного визга,
вселившего в грудь Леньки ужас.
. Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали
теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них
хотел сказать земле что-то необходимо нужное для нее,
47
и йсё они, перегоняя одйй другого, ревели'Почти без
пауз: Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала
и степь, то вся вспыхивая синим огйем, то погружаясь
в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно
суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль,
казалось, торопливо убегает от шума и рева...
Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при
блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие
огоньки станицы.
Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то
тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он
уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь
моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая
с его вымоченной дождем головы, попадали в них,
прислушивался к голосу деда, тонувшему в море
могучих звуков.
Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но
ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то
и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя,
понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его
локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...
Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом
друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых
потоками воды с ветвей дерева...
Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то,
уже уставая и задыхаясь.
Взглянув ему в лицс>, Ленька крикнул от страха...
При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а
вращавшиеся на нем тусклые глаза были1 безумны.
— Дедушки!;. Пойдем!.. — взвизгнул он, ткнув
свою голову в колени деда.
Дед склонился над ним, обняв его своими руками,
тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская
его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк,
схваченный капканом.
Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия,
Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой
помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза,
ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя все
глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска
молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от
страха мальчика.
1 ' ' А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно,
48
тоскливо. И казалось, что в степи цичего и. никогда не
было, кроме шума дождя, блеска молнии, и
раздраженного грохота грома.
Поутру другого дня, выбежав за, околицу,
станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали
в станице тревогу, объявив, что видели под рсокбрью
вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так
как около него брошен кинжал.
Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли
это, то оказалось, что не так. Старик был жив еще.
Когда к нему подошли, он попытался подняться с
земли, но не мог. У него отнялся язык, и он
спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и все искал
ими в толпе, но ничего не находил и не получал
никакого ответа.
К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли,
под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не
следуй: во-первых — он чужой, во-вторых — вор, а
в-третьих — умер без покаяния. Около него в грязи
нашли кинжал и платок.
А через два или. три дня нашелся Ленька.
Над одной степной балкой, недалеко от станицы,
стали кружиться стаи ворон, и когда пошли
посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув
руки и лицом вниз, в жидйой грязи, оставшейся после
дождя на дне балки.
Сначала решили похоронить его на погосте, потому
что он еще ребенок, но, подумав, полбжили рядом с
дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и
на нем поставили грубый каменный крест.
СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ
I
Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Весса*
рабий, на морском берегу.
Однажды вечером, кончив дневной сбор
винограда, партия молдаван, с которой я работал, ущла на
берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой
тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали,
49
глядя, как тают в голубой,мгле ночи силуэты т.ех.лю*
дей, что пошли к морк).
Они шли, пели и смеялись; мужчины —
бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до
плеч, в коротких куртках и широких шароварах;
женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими
глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и
черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя
ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек
широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгай
через что-то невидимое и, рождая сильный порыв,
развевал волосы женщин в фантастические гривы,
вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин
странными и сказочными. Они уходили всё дальше от
нас, а ночь и фантазия.одевали их всё прекраснее.
Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким
контральто, слышался смех...
Воздух был процитан острым запахом моря и
жирными испарениями земли, незадолго до вечера
обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили
обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок,
тут —мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-го-
лу.бые, там — резкие, как обломки скал,
матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели,
темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми
крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и
люди — было странно, красиво и грустно, казалось
началом чудной сказки, И всё как бы остановилось в
своем ррсте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, пет
рёрЬждался в, печальные вздохи.
— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой,
спросила старуха Изергиль..
.Время ,согнуло ее попрлам, черные когда-то глаза
былитусклы и слезились. Ее сухой голос звучал дтран?
ир, он хрустел, точно старуха говорила костями.
— Не хочу,— ответил я ей.
— У!., стариками родитесь ,вы, русские. Мрачные
все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь
ты, молодой и сильный....
Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен,
оца казалась вышедшей из недр этой степи, которая
на своем веку так много поглотила человеческого
мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой
50
жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от
листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По
степи, влево от нас, поплыли тени облаков,
пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и
светлей.
— Смотри, вон идет Ларра!
Я смотрел, куда старуха указывала своей
дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли
тени, их было много, и одна из нихг темней и гуще,
чем другие, плыла быстрей и ниже сестер,— она
падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле,
чем другие, и скорее, чем они.
— Никого нет там! — сказал я.
— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон,
темный, бежит степью!
Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме
тени.
— $то тень! Почему ты зовешь ее Ларра?
— Потому что это — он. Он уже стал теперь как
тень,— пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило-
его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот чтр
может сделать бог с человеком за гордость!..
— Расскажи мне, как это было! — попросил я
старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок,
сложенных в степях.
И она рассказала мне эту сказку.
«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда
случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, ecfb
страна большой реки, в той стране каждый древесный
лист и стебель травы дает столько тени, сколько
нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко
жаркого там.
«Вот какая щедрая земля в той стране!
«Там жило могучее племя людей, они пасли стада
и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество»
пировали после охоты, пели песни и играли с
девушками.
«Однажды, во время пира, одну из них, чернрволо-
сую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с
неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали,
жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку,
но —не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо
всем на земле»,
^Старуха вз^щнула и, замолчала. Ее, скрипучий,
голос ' звучал г такГ.как будтб'это роптали все забытые
в^ка,; воплотившись б ее груди тенями воспоминаний.
Море тико вторило началу одной из древних легенд,
которые, может быть, создались на его берегах.
«Но через двадцать лет она сама пришла,
измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и
Сильный', как сама она двадцать лет назад. И, когда ее
спросили, где была она, она рассказывала, что орел унес ее
в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его
сын, а отца нет уже; когда он стал рлабеть, то
поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив
крылья^ тяжело упал оттуда на острые уступы горы, па.
смерть разбился о них...
«Все смотрели с удивлением на сына орла и видели,
что он ничем не лучше их, только глаза его были
холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с
ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда
пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с
равными себ'е. Это оскорбило их, и они, назвав его не-
оперённой стрелой с неотточенным наконечником,
сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи
таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело
глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше;
и если все чтут их — он не хочет делать этого.
О!., тогда уж совсем рассердились они. Рассердились
и сказали;
«—Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда
хочет.
«Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему,— к
однюй красивой девушке, которая пристально
смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она
былд дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя
он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась
отца. Она оттолкнула его да п пошла прочь, а он
ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так,
что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка,
вздохнув, извилась змеей и умерла.
«Всех, кто видел это, оковал страх,— впервые при
них так убивали женщину. Й долго все молчали, глядя
на нее, лежавшую с открытыми глазами и
окровавленным ртом, и на него, который стоял рдин против всех,
.рядом с ней, и был горд,— не опустил споен головы,
52
как бы, вызывая на нее кару. Потом, когда одумались,
то схватили его, связали и так оставили, находя, что
убить сейчас же — слишком просто и не
удовлетворит их».
Ночь росла и крепла, наполняясь странными
тихими звуками. В" степи печально посвистывали суслики, в
листве винограда дрожал стеклянный стрекот
кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны,
раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли,
бледнел и все обильнее лил на степь
голубоватую мглу...
«И вот они собрались, чтобы придумать казнь,
достойную преступления... Хотели разорвать его
лошадьми— и это казалось мало им; думали Пустить в него
всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь
его,, но дым костра не позволил бы видеть его мучейий;
предлагали много — и не находили ничего настолько
хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла
перед ними на коленях и молчала, не находя ни ЬлеЗ,
ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они,
и вот один мудрец сказал, подумав долго:
«—Спросим его, почему он сделал это?
«Спросили его об этом. Он сказал: *
«—Развяжите меня! Я не буду говорить
Связанный!^
«А когда развязали его, он спросил:
«—Что вам нужно? — спросил так, точно ойц были
рабы...
«—Ты слышал...— сказал мудрец»
«—Зачем я буду объяснять вам мои поступки?
«—Чтоб быть понятым ними. Ты, гордый, слушай!
Все равно, ты умрешь ведь... Дай же нам пбнять тд
что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать
больше, чем мы знаем...
«—Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам
неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому,
мне кажется,— что меня оттолкнула она.„ А мне было
нужно ее.
«— Но ойа не твоя! — сказали ему.
«—Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу,
что каждый человек имеет только речь, руки й ноги...
а владеет он животными, жёйщинами, землей.,; и
многим еще...
63
«Ему1 сказали на это, что за всё, что человек1 берет;1
он платит собой: своим умом и силой; иногда — ж^
нью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.
«Долго говорили с ним и наконец увидели, что бн"
считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит
ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на
какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни
племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел
ничего этого.
«Когда люди увидали это, они снова принялись
судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они
говорили,— тот, мудрый, не мешавший им судить,
заговорил сам:
«—Стойте! Наказание есть. Это страшное
наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание
ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет сво^п.
ден. Вот его наказание!
«И тут произошло великое. Грянул гром с небес,—
хотя на них не было туч. Это силы небесные йодтвер-.1
ждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись.
А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что
значит: отверженный, выкинутый вон,— юноша
громко смеялся вслед людям, которые бросили его,
смеялся,'оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец
его — не был человеком... А этот — был человек. И вот
он стал жить, вольный, как птица. Он приходилв
племя'и похищал скот, девушек — все, ^то хотел. В него'
стреляли, но стрелы не могли пронзить его тёл&, за-
Kpbitoro невидимым покровом высшей кары. Он был
ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми
лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он,
одинокий, так вился околй людей, долго — не одМГдё-
сятОк годов. Но вот однажды он подошел близко к лкь
дям и, когда они бросились На «его, не тронулся с
места и ничем не показал, что будет защищаться. ТагдЯ
один из людей догадался й крикнул громко:
«— Не троньте его! Он хочет уме(>еть1
«И все остановились, не желая облегчить участь
того, кто делал им зло, не желая убивать его.
Остановились и смеялись над «им. А он дрожал, слыша этот
смех,'и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за
нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв
камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему
54
ни одного, и когда он,, утомленный, с тоскливым
криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали
за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в
борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь, Но
сломался нож — точно в камень ударили им-. И снова он упал
на землю и долго бился годовой об нее. Но земля
отстранялась от него, углубляясь от ударов его
головы.
«—Он не может умереть! — с радостью сказали
люди.
«Й ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и
видел — высоко в небе черными точками плавали
могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что
можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с
той поры остался он один, свободный, ожидая смерти.
И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже
как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи
людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит,
ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему.
И нет ему места среди людей... Вот как был поражен
человек за гордость!»
Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова*
опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась..
Я росмотрел на нее. Старуху одолевал сон,
показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец
рассказа она вела таким возвышенным» угрожающим
тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая,
рабская нота.
i На берегу запели,— странно запели., Сначала
раздайся контральто,—он пропел две-три ноты, и раздал-^
ся другой голос, начавший песню сначала,, а первый,
всё лился впереди его..»—третий, четвертый, пятый
вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же
песню, опять-таки сначала, запел Хор мужских
голосов.
Каждый голое женщин звучал совершенно отдельно^
все они казались разноцветными ручьями и> точно
скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня,
вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно
лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее,
заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и
сильные, высоко вверх. .
Шума волн не слышно было за голосами,,.
55
11
*— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? -—•
спросила Изергйль; поднимая голову и улыбаясь
беззубым ртом,
— Не слыхал. Никогда не «слыхал..,
— И не услышишь. Мы любивд* петь. Только
красавцы могут хорошо петь,— красавцы, которые любят
жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за
день те, которые поют там? С восхода по закат
работали, взошла луна, и уже—поют! Те, которые не умеют
жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот —
поют.
—г Но здоровье...— начал было я.
~- Здоровья всегда хватит на жизнь* Здоровье!
Разве ты, имея, деньги, не тратил бы их? Здоровье•*-*¦
то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была
молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая
почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот
должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела
до того, что, бывало, все кости у меня-трещат. А как
придет ночь, я бежала к тому, кого любила,
целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была
любовь; все, ночи этого времени бывала у него. И вот до
какой поры дожила — хватило крови! А сколько
любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..
Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза Оыли все-
таки: тусклы, их не оживило воспоминание. Луна
освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный под*
бородрк с седыми волосами на нем и сморщенный нос,
загнутый, словно клюв совы. На месте щек были
черные ямы, и в одной из них-лежала прядь
пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки,
которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и
руках вся изрезана морщинами, и при каждом
движении старой Изерг'йль можно было ждать, что сухая
эта- кожа разорвётся вся, развалится кусками и
предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными
глазами.
Она снова начала рассказывать своим хрустящим
голосом:
— Я жила е матерью под Фальчи, на самом берегу
Бырлада; и мне^было пятнадцать ле^ когда он явился
56
к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий,
черноусый; веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он
нам в окна: «Эй, нет ли у тс вина... и поесть мне?»
Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река '
вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком
кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной
ногой в лодке, а другой, на берегу. И покачивается, и
что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая
красавица живет дут!.. А я и не знал про это!» Тйчно он уж
зяал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и варе^
нойсви-нины... А через четыре дня дала уже и всю
себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он
приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну^ как
рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с
Прута, и потом, когда мать узнала про всё и побила меня,
уговаривал всё меня уйти с ним в Добруджу и дальЫе,;
в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда —
только поет да целуется, ничего больше! Скучно это
было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем ivfe-
егам; и у них были любезные тут... Так feot тем —
весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского
молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит' где-нибудь
в драке,*— и вдруг он один, а то с двумя-тремя
товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил
богатые—"легко же ведь доставалось всё им! И пирует
у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей
любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был
гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как...
Всё стала забывать теперь. Много времени прошло с
той йоры, всё забудешь! Она меня познакомила с
молодцом: Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы,
и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный,
иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался.
Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка,, вскочила
ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той'
поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я
целовала ее... , ,
— А рыбак куда девался? — спросил я.
-— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к
гуцулам. Сначала всё уговаривал меня и грозил бросить в
воду, а потом,—ничего, пристал к ним и другую за-
вел.,* Ш обоих и повесили вместе.— и.рыбака, и.этого
57
гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Дрбруд-
же это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а
гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в
карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь
свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!.>
Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с
ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На
прощанье пошли к одному румыну в гости, там их
и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а
остальные ушли.., Все-таки румыну заплатили
после.,, Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим
стал,
«-* Это ты сделала? — наудачу спросил я.
•— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто
был их лучшим другом, тот и справил им поминки...
Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе
вторил теперь только шум морских волн,— задумчивый,
мятежный шум был славной второй рассказу о
мятежной.жизни. Всё мягче становилась ночь, и всё больше
разрождалось в ней голубого сияния луны, а
неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых
обитателей становились тище, заглушаемые
возраставшим шорохом волн... ибо усиливался ветер.
— А то еще турка любила я. В гареме у него была,
в Скутари. Целую неделю жила,— ничего... Но скучно
стало...— всё женщины, женщины... Восемь было их у
него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи...
Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж
немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богат
тый. Говорил — как владыка... Глаза были черные,..
Прямые глаза... Смотрят прямо в.душу. Очень он
любил молиться. Я его в Букурешти увидала... Ходит по
рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему
улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице
и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в
Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» —•
говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала.
Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был —
черненький мальчик, гибкий такой,.. Ему лет шестнадцать
было. С ним я и убежала от турка... Убежала в
Болгарию, в Лом-Паланку... Таэд меня одна болгарка ножом
ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже
не помню.
50
Хворала я долго в монастыре одном. Женский, мо-
йастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька...
и к ней из монастыря другого — около Арцер-Паланки,
помню,— ходил брат, тоже монашек... Такой... как
червяк, все извивался предо мной... И когда я
выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.
— Погоди!.. А где маленький турок?
— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому
или от любви... но стал сохнуть он, так, как
неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало
солнца... так и сох всё... Помню, лежит, весь уже
прозрачный и голубоватый, как льдинка, а всё еще в нем
горит любовь... Й всё просит наклониться и поцеловать
его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом
уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит
и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня
лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с
ним... он сразу загорится весь. Однажды я проску-
лась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала, над
ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое
старше его я была тогда уж. И была такая сильная,
сочная... а он — что же?.. Мальчик!..
Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее —
перекрестилась трижды, шеп^а что-то сухими губами.
— Ну, отправилась ты в Польшу;..— подсказал
я ей.
— Да... с тем, маленьким полячком. Он был
смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он
ластился ко мне котом и с его Языка горячий мед тек,
а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как
кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он
сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я
рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и,
как ребенка,— он был маленький,— поднйла вверх,
сдавив ему бока так, что он1 посинел весь. И вот я
размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал.
Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он
барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не
встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда
не встречалась после с теми, которых когда-то
любила. Это нехорошие встречи, всё равно как бы с
покойниками.
59
Qrapyxa замолчала, вздыхая. Я представлял себе
воскрешаемых, ею людей. Вот огненно-рыжий* усатый
гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У не«
го, наверное, были холодные, голубые глаза, которые
на всё смотрелц сосредоточенно и твердо. Вот рядом с
ним .черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая у мин
рать» и на его .лице, бледном от предсмертной тоски,
потускнели .веселые глаза, и усы, смоченные слезами,
печальцо обвисли по углам искривленного рта. Вот он,
старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот,
и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок
востока,, отравленный поцелуями. А вот тщеславный
поляк, галантный и жестокий, красноречивый и
холодный..-., И все они — только бледные тени, а та,
которую .они целовали, сидит рядом со мной живая,:но
иссушенная временем, без тела, без крови, с серд-^
цем ^ез желаний, с глазами без огня,— тоже почти
тень.
Ощ продолжала:
— В Польше стало трудно, мне. Там живут холод*
ные и, лживые люди. Я не знала их змеиного языка.
Вс? шипят.,. Что шипят? Это бог дал им такой змеи^
ный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная
куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами/
русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил
меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною.
Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-
нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила
собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану
неумного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я
порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там.
Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это
им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорились.'
Один добивался меня долго и раз вот что сделал:
пришел,-а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в ру*
ки тот.мешок и опрокинул его над моей головой.
Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было
слушать их звоН) когда они падали на пол. Но я все-
таки выгнала цана. У него было такое толстое, сырое
лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел,
как сытая свирья. Да, выгнала я> его, хотя он и
говорил, чтF продал все земли своими.дома, и коней,;чтобы
осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достой-
60
ного пана с изрубленным лицом. Всё лицо было у
него изрублено крест-накрест саблями1 турок, с кЫгоры-
митон незадолго перед тем воевал за греков. Вбт
человек!,. Что ему греки, если он поляк? А ой пошел,
бился сними против их врагов. Изрубили его, у него
вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке
были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк?
А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит
подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где этб
можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место
подвигам. И те, которые не находят их для себя,— те
просто лентяи или трусы, или не понимают жизни,
потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел
бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь
не пожирала бы людей бесследно... О, этот,
рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край
света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши
убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр?
Ну-ну, молчи!..
И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг
замолчала сама, задумалась.
— Знала также я и венгра одного. Он однажды
ушел от меня,— зимой это было,— и только весной,
когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной
головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит
любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я
говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю
игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив!
Как чёрт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне
четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был
еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он
мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но
я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А е
жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в
Кракове жила. Тогда у меня всё было: и лошади, и
золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и всё
хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы
поспорили с ним,.. Я даже,— помню,— дурнела от этого.
Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях
упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда
поняла я, что стала стара... Ох, это было мне несладко!
Вот уж несладко!.. Я ведь любила его, этого чёрта...
а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он'был!
611
И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж
горько,было мне,,скажу! Но он был тут, близко,.и явсе*
таки любовалась им. Л как вот ушел он биться с вами,
русскими, тошно стало мне» Ломала я себя, но не мог*-
ла сломать... И; решила поехать за ним. Он около Вар*
шавы был, в лесу.
Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их
ваши... и что он в плену, недашеко в деревне.
«Значит,— подумала я,— не увижу уже его
больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидать...
Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту
деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого
мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и
вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. -
И вот ночью поползла я к тому месту, где они были.
Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит
на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и
говорят громко. Поют песню одну... к матери бога,,.
И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало»
как подумала я, что раньше за мной ползали.., а вот
оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей
по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот
часовой уже, слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне?
Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня
нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла
нож^., Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже при-
ставвд к горлу мне штык. Я говорю ему шёпотом: «Не
коли, погоди, послушай, коли у тебя душа ес,ть! Не
магу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье
и'также шёпотом говорит мне: «Пошла прочь, баба!
пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут
заперт.,. «Ты понимаешь, солдат,— сын! Ты ведь тоже
чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у
меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне
посмотреть на него, может он умрет скоро... и, может,
тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе?
И ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее,
твою мать? И моему сыну тяжко же. Пожалей же се-,
бя и его, и меня — мать!..»
Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил
нас. Ветер выл и ревел, и ^толкал меня то в спину, то в
грудь. Я стояла ц качалась перед этим каменным
солдатом.... А он всё говорил: «Нет!» И каждый р^з,-как
я слышала его холодное слово, еще жарче во мне
вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и
мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и
всё кашлял. И вот я упала на землю перед ним и,
охватив его колени, всё упрашивая его горячими словами,
свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я
быстро повернула его лицом к земле и придавила его
голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а
только всё барахтался, стараясь сбросить меня с
своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову
глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась
к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..»— шептала я
в щели стен. Они догадливые, эти поляки,— и услыхав
меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих.
«Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» —
сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-
под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где ч&ср-
вые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли
тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл
громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли
лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и
его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так xopoiiio
б&ло с ним, пока он молчал. Последние это били ми-
йуты —хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот
мы вышли на луг и остановились. Они благодарили
меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили кие
что-то! Я всё слушала и смотрела на своего пана. Что
Me он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так
валено... Не помню, что он сказал, но так выходшю, что
fertepb он в благодарность за то, что я увела его, бу-
детг любить меня... И стал он на колени передо мной,
ульГбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая
лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка
ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и
эскочил. Грозный и бледный стоит он предо ' мной..!.
Стоят и те трое, хмурые все. Й все молчат. Я
посмотрела на них... Мйе тогда стало — помню — только
скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала'им:
«Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротишься
туДа, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-
тйки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день
взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела
й, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой!
63
Уж тяжела стала я, и ослабели- крылья, и перья
потускнели... Пора, riopa! Тогда я уехала в .^Галицию, а
оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков
лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с
год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не
одна, а вон с теми.
Старуха махнула рукой к морю. Там всё было
тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый
звук и умирал тотчас же.
— Любят они меня. Много я рассказываю им
разного. Им это надо. Еще молодые все.,. И мне хорошо
с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было, время, такая
же была... Только тогда, в мое время, больше было в
человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и
лучше... Да!..»
Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она
же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то..,
может быть, молилась.
С моря поднималась туча — черная,- тяжелая,
суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла
в степь. С ее вершины срывались клочья облаков,
неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. ]Vlope
шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда,
целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла
собака... Воздух раздражал нервы странным запахом,
щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю гу-
стые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали,
являлись снова... На месте луны осталось только мутное
опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый
клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и
страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-
то, вспыхивали маленькие голубые огоньки.ч Т.о там, то
тут они на миг являлись и гасли, точно несколько
людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, ис«
кали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер
тотчас же гасил. Это были очень странные голубые
языки огня, намекавшие на что-то сказочное.
— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.
— Вон те, голубые? — указывая ей на степь,
сказал я.
— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки!
Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я, ^теперь
многого видеть.
64
— Откуда эти искры? — спросил я старуху.
Я слышал кое-что раньше о происхождении этих
искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том
же старая Изергиль.
•— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на
свете сердце, которое, однажды, вспыхнуло огнем...
И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это...
Тоже старая сказка... Старое, всё старое! Видишь ты,
сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего
такого— ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в
старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты
знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!..
Смотрели бы в старину зорко-ч- там все отгадки найдутся...
А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не
вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои
глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются,
примеряется и кладут на это всю жизнь. И когда
обворую^ сами себя, истратив.время, то начнут дла-
каться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам
себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот
сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится всё
меньше. ¦ „• ¦ .
Старуха задумалась о том, куда девались из жизни
сильные и красивыелюди, и, думая, осматривала
тёмную- степь, как бы ища в ней ответа. '
Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если
спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.
И вот она начала рассказ.
Ш
«Жили на земле в старину одни люди,
непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей,
а с четвертой — была степь. Были это веселые,
сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая
пора: явились откуда-то иные > племена и прогнали
прежних в глубь леса. Там были болота и тьма,
потому что лес был; старый и так густо переплелись его
ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи
солнца едва могли, пробить себе дорогу до болот сквозь
густую листву, Но когда его лучи падали на воду
болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один
а. М. Горький. 65
за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого
племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно йыло
уйти из этого леса, и для того были две дороги: одщ —
назад,— там были сильные и злые враги, другая —
вперед,— там стояли великаны-деревья, плотно обняв
друг Друга могучими ветвями, опустив узловатые корни
глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья
стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и
еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам,
когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг
тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно
собиралось раздавить их, а они привыкли к степному
простору. А еще страшней было, когда ветер бил по
вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил
и пел похоронную песню тем людям. Это были
все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться
насмерть с теми, что однажды победили их, но они не
могли умереть в боях, потому что у них были заветы,
и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и
заветы. И потому они сидели и думали в длиннее"
ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота.
Оци сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в
безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени
пляшут, а торжествуют злые духи леса и фодота...
Люди всё сидели и думали. Но ничто—ни работу ни
.женщины не изнуряют тела и души людей так, как
изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум...
Страх родился среди них, сковал им креркие руки,
З^жас родили женщины плачем над трупами умедших
от смрада и над судьбой скованных страхом живых,—
и трусливые слова стали слышны в лесу,, сначала
робкие и тихие, а потом всё громче и громче... Уже
^отели идти к врагу и принести ему в дар болю свою, и
никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской
}рдони... Но тут явился Данкр и спас всех один»,
.Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем
сердце Данко. Она говорила певуче, и голор ее, скри-
цучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса,
которого умирали от ядовитого дыхания болота
загнанные
«Дзнкр —один из тех люД^й, молодой красавец.
—всегда смелы. И эрт он говорит, им, своим
товарищам:
66
«— Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего
не делает, с тем ничего не отайется. Что мы тратим
силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и
пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — всё на
свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..
«Посмотрели на него и увидали, что он лучший из
всех, потому чтр в очах его светилось много силы и
живого огня.
«— Веди ты нас! — сказали они.
«Тогда on повел...»
Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё
густела тьма. Искорки горящего сердца Данко
вспыхивали где-то далеко и казались голубыми
воздушными цветами, расцветая только на миг.
«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним
>—верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на
каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую
пасть, гл^тдя людей, и деревья заступали дорогу
могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как
змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много
стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Всё
гуще становился лес, всё меньше было сил! Й вот
стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он,
молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереда
их и был 0одр и ясен.
«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали
деревья глухо* грозно. И стало тогда в лесу так темкр,
точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их
было на свете с три поры, как рнродйлся. Шли маленькие
люди между; больших Деревьев и в грозном шуме моЛ-
ний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипейи
и гудели сердимые песни, а молнии, летая над
вершинами леса, освещали его на минутку синим, хблоднЫм
огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая
людей. И деревья, освещенные холодным огнем мбл-
нии, казались живыми, простирающими вокруг людей,
уходивших из плена тгьмы, корявые, длинные руки,
сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей.
А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное,
темное и холодное, Это был трудный путь, и люди,
утомлённые им, пали духом. Но им стыдно было
сознаться в бессилии^ и в!бт(они в злЬбё й гневе ббрушц-
¦'лксь'н^'ДА^Ь^чёйбвека1/ который шел впереди их,
67
И стали они упрекать его в неумении управлять ими,-—
вот как!
«Остановились они и под торжествующий шум Леса,
среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить
Данко.
«— Ты,— сказали они,— ничтожный и вредный
человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты
погибнешь!
«— Вы сказали: „Веди!" —и я повел!— крикнул
Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть
мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что
сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели
сохранить, силы на путь более долгий! Вы только шли,
шли, как стадо овец!
«Но эти слова разъярили их еще более.
«—* Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.
«А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и
молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех,
ради которых он понес труд, и видел, что они — как
звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на
лицах их благородства, и нельзя было ему ждать по*
щады от них. Тогда и в его сердце вскипело
негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил
людей и думал, что, может быть, без него они
погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти
их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах
засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это,
подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и
разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая,
чтр он будет бороться с ними, и стали плотнее
окружать его, чтобы легче им было схватить и убить
Данко. А он уже понял их думу/оттого еще ярче
загорелось в йем, сердце, ибо эта их дума родила в нем
тоску»
«А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел,
и лил до*кдь...
«¦— Что сделаю я для людей!? — сильнее грома
крикнул Данко.
«Й вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал
из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.
«Оно пылало так ярко, как солнце; и ярче солнца, и
весь лес замолчал, освещенной этим факелом вейкко'й'
любви к людям, а тьма разлетелась от света его и taM
глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота.
Люди же, изумленные, стали как камни»
«— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на
свое место, высоко держа горящее сердце и освещая
им путь людям.
«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес
снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его
шум был заглушён топото^ бегущих людей. Все
бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем
горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб
и слез. А Данко всё был впереди, и сердце его всё
пылало, пылало!
«И вот вдруг лес расступился перед ним,
расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все
те люди сразу окунулись в море солнечного света и
чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была —
там, сзаДет них, над лесом, а тут сияло солнце,
вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и зрло-
том сверкала река... Был вечер, и от лучей заката
река казалась красной, как та кровь, что била горячей
струей из разорванной груди Данко.
«Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый
смельчак Данко,— кинул он радостный взор на
свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и —
умер.
«Люди же, радостные и полные надежд, не
заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с
трупом Данко его смелое сердце. Только один
осторожный человек заметил это и, боясь чего-то,
наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись
в искры, угасло...»
— Вот откуда они, голубые искры степи, что
являются перед грозой!
Теперь, когда старуха кончила свою красивую
сказку,, в степи стало страшно тихо, точно и она была
поражена силой смельчака Данко, который сжег для
людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в
награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и,
думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в
ее памяти?» И думал о великом горящем сердцеДац:
kq и о человеческой фантазии, создавшей столько
сивых и сильных легенд.
69
Дунул ветер и обнажил до-под, лохмотьев сухую
грудь старухи Изергиль, заставшей всё крепче. Я
прикрыл ее старое тело и с?м лёг на землю околЬ нее.
В степи было тихо я темно. По небу ®оё ползли тучи,
медленно, скучно,.. Море шумело глухо и печально.
МОЙ СПУТНИК
Встретил я его в одесской гавани. Дня три кряду
мое внимание привлекала эта коренастая, плотная
фигура и лицо восточного типа, обрамленнбё кра-
сиэой бородкой. Он то и дело мелькал предо мной: я
видел, как он по целым часам стоял на граните мода,
засунув в рот набалдашник трости и тоскливо
разглядывая мутную воду гавани черными миндалевидными
глазами; десять раз в день он проходил мимо kmd
походкой беспечного человека. Кто он?.. Я стал следить
за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, всё
чаще и чаще попадался мне на глаза, и, наконец, я *фи-
вык различать издали его .модный, клетчатый, светлый
костюм и черную шляпу, его ленивую походку<м тупой,
скучный взгляд. Он был положительно необъясним
здесь, в гавани, среди свиста пароходов и
локомотивов; звона цепей, криков рабочих» в бешено^ерввой
сутолоке порта, охватывавшей человека со всех
сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все^бегал-и,
в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой
сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура с
мертвенно-скучным лицом,, равнодушная #о всбдоу,
всем, лужая.
, Наконец, уже на четвертый день, в обед, я
натолкнулся на него и решил во что бы то эд стало узнать,
кто он. Расположившись неподалеку рт негр с щЩ-
зод| и хлебом, я стал есть м ра^ма,тртаат;ь его, й|)и-
щуцут&я,— как бы поцецижатнее зав!я;зать с ним
беседу?
Он стоял, прислогнясь к ёрут цябйкЬв 4Й,1 й^б-ёс^
цейшо п^ля^ывая вокруг себя, ба^абаййл йалыйШи
пр3с66ей трости; как по фйёЙШ'
Мне, человеку в р*сткже босяка, с лямкой грузчи-
кэ на спине и перепачканному в угольной пыли,
трудно было вызвать его, франта, на разговор. Но, кмое^у
удивлению, я увидал, что он не отрывает глаз от
меня и они разгораются у него неприятным, жадным,
животным огнем. Я решил, что объект моих наблюдений
голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его
тихонько:
— Хотите есть?
Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню
плотных, здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся.
На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул
ем^ пол-арбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил
всё это и исчез, присев за груду товара. Иногда
оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой йа^ ala-
тылдк, открывавшей смуглый, п6тн)ий лоб. Ег6г: лицо
блестело от широкой улыбки, и он почему-то под;мйЫ-
вщ мне, ши на секунду не Переставая жевать. Я'/сдё-
^аяе^узн^к подождать меня, ушел купить мяса, icjr-
пщ4 принес, отда^ ему и стад, около ящиков так, что
со^ерщенно скрыл,франта.от посторонних взгля^бр.
Да этого,он ел и всё, хгццно,оглядывался, точно
боялся,, что у него отнимут кусок; теперь он стал есть
^покойнее, НО; все-таки тм Дцстро и жадно, что мне рт^г-
лобольцо смотреть на а^того изго^одавщегося
ка, и я повернулся спиной к нему.
—> Благодару! Очэн благодару! — он, потряс.
за плечо, потом схватил >&цно руку, стиснуя.ееми
жестоко стал трясти.
Через пять минут он уже рассказывал, )мне, кто: ®н,
Груаин, князь Шакро Птадзе, один сын у отца^
богатого кутайсеж)го помещика, он служил к^нторщи-
кам на одной из станций Закавказской железной
дороги к жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг ис-
чез> захватив с собой деньги и ценные вешм князя
Щ&срЬ, й йот Йня^ь пустил ей догонять его; К|ак-тчУёлу-
чайно он у№ак, чтО^ ^оаа^ищ1 ш$гл бйлёт дб Батуми4;
князь Шак]ро отправился туда же. Но в Н^туЫе Йк'й-
залось, что товарищ поехал' в Ойёссу" Тогда ^Ййз(ь
Щ
гоАВ[анр Свацидз^?, парикмах^а,—
прилетам,—паспорт и щщ0 $^
71.
вил полиции о краже, ему обещали найти, он ждал
две недели, проел все свои деньги и вот уже вторые
сутки не ел ни крошки.
Я слушал его рассказ, перемешанный с
ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко
мальчика,— ему шел двадцатый год, а по наивности
можно было дать еще меньше. Часто и с глубоким
негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей
его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за
которые суровый отец Шакро наверное «зарэжет» сына
«кынжалом», если сын не найдет их. Я подумал, что,
если не помочь этому малому, жадный город засосет
его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности
пополняют класс босяков; а тут для князя Шакро были
налицо все шансы попасть в это почтенное, но не
чтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я
предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет,
он замялся и сообщил мне, что не пойдет. Почему?
Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров,
в которых стоял, а когда с него потребовали денег, ои
ударил кого-то; потом он скрылся и теперь
справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за
неплатеж этих денег и за удар; да, кстати, он и
нетвердо помнит — один удар или два, три или четыре
нанес он.
Положение осложнялось. Я решил, что буду
работать, пока не заработаю достаточно денег для него на
проезд до Батума, но —увы! — оказалось, что это
случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся
Шакро ел за троих и больше.
В то время, вследствие наплыва «голодающих»,
поденные цены в гавани стояли низко, и из восьмидесяти
копеек заработка мы вдвоем проедали шестьдесят,
К тому же, -еще до встречи с князем, я решил прйти в
Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе.
Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пеш-
коц на таких условиях: если я не найду ему попутчика
до Тифлиса, то сам доведу его, а если ндйду, мы
распростимся.
Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, toa
шляпу, на брюки, пбглаДил курточку, подумал,
вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот мы с ;нйм от *
правилж:ь из Одессй в ТйфЙис;'
72*
It
Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника
как; малого наивно-дикого, крайне неразвитого,
веселого— когда он был сыт, унылого — когда голоден,
знал его как сильное, добродушное животное.
Дорогой он рассказывал мне о Кавказе, о жизни
помещиков-грузин, о их забавах и отношении к
крестьянам. Его рассказы были интересны,
своеобразно красивы, но рисовали предо мной рассказчика
крайне нелестно для него. Рассказывает он, например,
такой случай:
К одному богатому князю съехались соседи на
пирушку; пили вино, ели чурек и шашлык, ели лаваш и
пилав, и потом князь повел гостей в конюшню.
Оседлали коней. Князь взял себе лучшего и пустил его по
полю» Горячий конь был! Гости хвалят его стати и
быстроту, кй^зь снова скачет, но вдруг в ноле выносится
крестьянин на белой лошади и обгоняет коня князя,-т-
обгоняет и... гордо смеется. Стыдно князю перед гдстя-
ми!>. Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом
крестьянина, и когда тот подъехал я нему, то ударом
шашки князь срубил ему голову и выстрелом из
револьвера в ухо убил коня, а потом объявил о своем
поступке властям. И его осудили в каторгу.»,
Шакро передает мне это тоном сожаления о князе.
Я пытаюсь ему доказать, что жалеть тут нечего, но он
поучительно говорит мне:
— Кназей мало, крестьян много. За одного
крестьянина нельзя судить кназя. Что такое крестьянин?
Вот! — Шакро показывает мне комок земли.—
А кназь — как звезда!
Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то octfa*
ливает зубы, как волк, и лицо у него делается острым.
— Молчи, Максим! Ты не знаешь кавказской
жизни Г— кричит он мне.
Мои доводы бессильны пред его
непосредственностью, и то, что для меня было ясно, ему •»-шешйЬ.
Кргдз я ставил его в тупик доказательствами превск:-
^од<?тва моих взглядов^ он не задумывался, а говр-
рцлще:
— Ступай на Кавказ, живи там. Увидищь, чтр я
сказал правду. Бее тек делают* »»ачит — так нужно.
Зачем я буду тебе верить, если ты один только
говоришь —это не так, а тысячи говорят — это так?
Тогда я молчал, понимая, что нужно возражать ие
словами, а фактами человеку, который верит в то, что
жизнь, какова она есть, вполне законна и справедлива.
Я молчал, а он с восхищением, чмокая губами, говорил
о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной1
огня и оригинальности. Эти рассказы, интересуя и
увлекая меня, & то же йремя возмущали и бесили
своей жестокостью, поклонением богатству и грубой силе;1
Как-то раз я спросил его: знает ли ой учение Христа?
— Канэчно! — пожав плечами, ответил он.
Но далее оказалось, что он знает только: был
Христос, который восстал против еврейских законов, и
евреи распяли его за это на кресте. Но он был бог и по^
тому не умер на кресте, а вознесся на небо и тогда дал
людям новый закон жизни...
— Какой?—спросил я.
Он посмотрел на меня с насмешливым недоумением
и спросил:
*— Ты христианин? Ну! Я тоже христианин; На
аэмлэ почти всэ христиан». Ну, что ты спрашиваешь?"
Ввдишь* как всэ нигаут?.. Это и есть закон Христа.;
Я, возбужденный» стал рассказывать ему о жизни
Христа. Он слушал сначала со вниманием, потом
оно постепенно ослабевало и, наконец, заключилось
зевком.
Видя, что меня не слушает его сердце, я снова
обращался к его уму и говорил с ним о выгодах
взаимопомощи, о выгодах знания, о выгодах законности» о
выгодах, всё о выгодах... Но мои доводы разбивались в
пыль о каменную стену его миропонимания.
1 •*- К?б силен, тот сам себе '-закон! Ему не нуйсно
учй*ьея, он, и слепой, найдет свой дорога! — ленив**
возразив мне князь Шакро.
1 Ой умел быть верным самому себе. Это возбуждало*
во мне уважение к нему; но on был дик, жесток; щ я
чувствовал, к&к у меня иногда вспыхивала ненависть гё
Шакро. Однако я йе терял надежды найти точку са*
прнйосйовевй* 'между'-й&мв, почву, ва irotopofr мы оба
могли бы сойтись и понять друг друга.
Мы прой*дй Перасоя- и йодхЬдшш к Яйле Я меадал
о й>жном береге Крыма, ккязь, патовая сквозь > зубы
7ЧГ
странные лесни, был хмур. У нас вышли все деньги,
заработать пока было негде. Мы стремились в Феодо*
отитам в то время начинались работы по устройству
гавани.
Князь говорил мне, что и он тоже будет работать , и
что* заработав, денег, мы поедем морем до Батума.
В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет
мне место дворника или сторожа. Он хлопал меня по
плечу и покровительственно говорил, сладко
прищелкивая языком:
-г- Я тэбэ устрою т-такую жизнь] Цце, цце] Ви#о
будэшь пить — сколько хочэшь, баранины — сколько
хочэшь! Жэнишься на грузынкэ* на толстой грузынкэ,
еде, цце, цце!.. Она тэбэ будэт лаваш печь, дэтэй ро*
дить, много дэтэй, цце, цце!
Это «цце, цце!» сначала удивляло меня, потом
стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бе-
венета: В России таким звуком подманивают свиней,
на Кавказе им выражают восхищение, сожаление,
удовольствие, горе.
,. Шакро уже сильно потрелал свой модный костюм,
и его ботинки лопнули во многих местах. Трость,и;
шшшу; мы продали в Херсоне. Вместо шляпы он кутщд
себ$ старую фуражку железнодорожного чинрвника.
ч Когда он в первый раз надел ее на голову — надел
седьн© набекрень,— то спросил меня!
— Идэт на мэна? Красыво?
Ш
И вот мы в Крыму, прошли ъшиферополь и надр^
вились к Ялте.
Я шел в немом восхищении перед красотой
природы этого куска земли, ласкаемого морем,. Князь, вздьи,
хам, горевал и, бросая вокруг, себя печальнее взгляд»
пытался) набивать свой пустой желудок какими-то
странными ягодами. Знакомство с их питательными
свойствами не всегда сходило ему с рук блалрпояуч*^*
и ч^сто он со злым юмором говорил мне: ,
¦гт Сели мэна вывэриэт наизнанку, как, пойду,^
шэ? а? Скажи — как?
что-либо заработать нам н«
и .мы, не имей .''ни грЬша на хлеб,
фруктами и надеждами на будущее, А Шакро начинал
уже упрекать меня в лени и в «роторазэвайствэ», как
он выражался. Он вообще становился тяжел, но
больше всего угнетал меня рассказами о своем
баснословном аппетите. Оказывалось, что он, позавтракав в
двенадцать часов «маленким барашкам», с тремя
бутылками вина, в два часа мог без особых усилий съедать
за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чи-
хиртмы», миску пилава, шампур г шашлыка, «сколки
хочишь толмы» и еще много разных кавказских яств и
при этом выпивал вина —«сколко хотэл». Он по целым
дням рассказывал мне о своих гастрономических
наклонностях и познаниях,— рассказывал чмокая, с
горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно
втягивая в себя и глотая голодную сплюну, в изобилии
брызгавшую из его красноречивых уст.
Как-то раз, около Ялты, я нанялся вычистить фрук-
тоёый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день
плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда я
принес купленное, меня позвал садовник, и я ушел,
сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы
под предлогом головной боли. Возвратившись через
час, я убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите,
не выходил из границ правды: от купленного мной не
осталось ни крошки. Это был нетоварищеский
поступок, но я смолчал — на мое горе, как оказалось вшь
следствии.
Шакро, заметив мое молчание, воспользовался им
по-своему. С этого времени началось нечто
удивительно нелепое. Я работал, а он, под разными предлогами
отказываясь от работы, ел, спал и понукал меня. Мне
было смешно и грустно смотреть на него, здорового
парня; когда я, усталый, возвращался, кончив работу,
к нему, где-нибудь в тенистом уголке дожидавшемуся
меня, он так Жадно щупал меня глазами! Но еще
грустнее и обиднее было видеть, что он смеется надо
мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому чтавы.
учился просить Христа ради. Когда он начал сбирать
милостыню, то сначала конфузился меня, а потом,
когда мы подходили к татарской деревушке, он cfал на
моих глазах приготовляться к СббоУ. Для этого он опи-
1 Ш а м п у р — железный прут, на котором жарят шашлык.
(Прим. автора.)
76
рался на палку и волочил ногу по земле, как будто она
у него болела, зная, что скупые татары не подадут здог
ровому парню. Я спорил с ним, доказывал ему
постыдность такого занятия...
— Я нз умею работать! — кратко возражал он мне.
Ему подавали скудно. Я в то время начинал
прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, и
мои отношения с Шакро всё тяжелей. Он теперь уж
настоятельно требовал, чтоб я его кормил.
— Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разве можно так далэко
мнэ идти пэшком? Я нэ привык. Я умэрэть могу от
этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру^,
как будыт всэ? Мать будыт плакать, атэц будыт
плакать, товарищы будут плакать! Сколько это слез?
Я слушал такие речи, но не сердился на них. В то
время во мне начала закрадываться странная мысль,
побуждавшая меня выносить всё это. Бывало — спит
он, а я сижу рядом с ним и, рассматривая его
спокойное, неподвижное лицо, повторяю про себя, как бы
догадываясь о чем-то:
«Мой спутник... спутник мой...»
. И в сознании моем порою смутно возникала мысль,
что Шакро только пользуется своим правом, когда он
так уверенно и смело требует от меня помощи ему и
забот о нем. В этом требовании был характер, была
сила. Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал
его, следил за каждой дрожью^ его физиономии,
пытаясь представить себе, где и на чем он остановится в
этом процессе захвата чужой личности. Он же
чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо
мной, когда ему этого хотелось. Иногда мы с ним
расходились дня на два, на три в разные стороны; я
снабжал его хлебом и деньгами, если они были, и говорил,
где ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то
он, проводивший меня подозрительно и с грустной
злобой, встречал так радостно, торжествующе и всегда,
смеясь* говорил:
*— Я думал* ты убэжал адын, бросил мэня! Ха,
ха,ха!..
Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах,
которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати
рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не
производило всё это никакого впечатления.
77
— Э, стыхц! Это пэсни, не стыхи! Я знал одного чю-
ловэка, грузына, тот пэл пэсни! Это пэсни!.. Запоет —
аи, аи аи!,. Громко.,, очэн громко пэл? Точно у него в
горлэ кинжалом ворочают!.. Он зарэзал одного
духанщика, Сибырь тепэр пошел.
После каждого возвращения к нему я всё больше и
ниже падал в его мнении, и он не умел скрывать этого
от меня.
Дела наши шли нехорошо. Я еле находил
возможность заработать рубль-полтора в неделю,, и,
разумеется, этого было менее чем мало двоим. Сборы Шакро не
делали экономии в пище. Его желудок был маленькою
пропастью, поглощавшей всё без разбора — виноград,
дыни, солёную рыбу, хлеб, сушеные фрукты,—и от
времени она как бы всё увеличивалась в объеме и в?ё
больше требовала жертв. х
Шакро стал торопить меня уходить из Крыма,
резонно заявляя мне, что уже — осень, а путь еще далек;
Я согласился с ним. К тому же я успел посмотреть эту
часть Крыма, и мы пошли на Феодосию, в чаянии
«зашибить» там «деньгу», которой у нас все-таки не было.
Отойдя верст двадцать от Алушты, мы
остановились ночевать. Я уговорил Шакро идти берегом, хот»
это был длиннейший путь, но мне хотелось
надышаться морем. Мы раэожгМ костер и лежали около него:
Вечер был дивный. Темно-зеленое море билось о скалы
внизу под нами; голубое н?бо торжественно молчало
вверху, а вокруг пае тихо шумели кустарники й де-!
ревья. Всходнла луна. От узорчатой зелени чинар пали
тени. Пела какая-то птица^ задорно и звучно. Ее сереб^
рявые трели таяли в воздухе, полном тихого и
ласкового шума волн, и, когда они исчезали, слышалось
нервное стрекотанье какого-то насекомого. Костер
горел весело, и его огонь казался большим пылающим
букетом красных и желтых цветов. Он тоже рождал
тени, и эти тени весело прыгали вокруг нас, как бы
рисуясь своею живостью пред ленивыми тенями луны.
Широкий горизонт моря был пустынен, небо над ним
безоблачно, и я чувствовал себя на краю земли,
созерцающим пространство —эту чарующую душу загад-:
ку... П^гдивое чувствб близости к чему-то великому
наполняло Мою душу,; й сердце fpeinettoo замирало!.
Bijpyr Шакрф громко р;йсхо&оталсй:
78
— Ха, ха, xaL Какой тебэ глупая рожа! Савсэм
как у барана! А, ха, ха, ха!..
Я испугался, точно надо мной внезапно грянул
гром. Но это было хуже. Это было смешно, да, но —
как же это было обидно!.. Он, Шакро, плакал от сМе-
хз; я чувствовал себя готовым плакать от другой
причины. У меня в горле стоял камень, я не мог говорить
и смотрел на него дикими глазами, чем еще больше
усиливал его смех. Он катался по земле, поджав
живот; я же всё еще не мог прийти в себя от нанесенного
мне оскорбления... Мне была нанесена тяжкая обида, и
те немногие, которые, я надеюсь, поймут ее,— потому
что, может быть, сами испытали нечто подобное,—те
снова взвесят в своей душе эту тяжесть,
— Перестань! — бешено крикнул я.
Он испугался, вздрогнул, но всё еще не мог
сдержаться, пароксизмы смеха всё еще схватывали его, он
надувал кцеки* таращил глаза и вдруг снова
разражался, хохотом. Тогда я встал и пошел прочь от riero.
Я шел долго, без дум, почти без сознания, полный якгу-
чда ядом обиды. Я обнимал всю природу и молча, йс^й
душой объяснялся ей в любви, в горячей любви
человека, который немножко поэт... а она, в лице Щакро,
расхохоталась надо мной, за мое увлечение! Я далеко
зашел бы в составлении обвинительного акта против
породы, Шакро,и всех пррядков жизни, но за мной
раздались быстрые шдги,
— Не сэрдысь! — сконфуженно произнес; Щакрр,
тихонько касаясь моего цлёчд,— Ты молился? Ян?
энал.
Он говорил робким трном нашалившего ребенка, и
я, несмотря на мо$ возбуждение, не мог нъ видеть, его
-жалкой физиономии, смешно искривленной смущением
и страхом.
— Я табя нз троцу болше. Вэрно! Никогда!
Он отрицательно тряс головой.
— Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не
заставляешь. Думаю — почэму? Значит— глупый он,
к^к баран...; , г,
. Эт он меня у^ешад! Это рн извинялся предо мной!
Конечно,. преде такт утешений и извинений м^
ничего не оставалось ^ол^,ка^ простить ъщ не только
прошлое, но и будущее.
79
Через полчаса он крепко спал, а я сидел рядом с
ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек
кажется беззащитным и беспомощным,— Шакро был
жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями,
делали его лицо детским, робко удивленным. Дышал
он ровно, спокойно, но иногда возился и бредил,
говоря просительно и торопливо по-грузински. Вокруг нас
царила та напряженная тишина, от которой всегда
ждешь чего-то и которая, если б могла продолжаться
долго, сводила бы с ума человека своим совершенным
покоем и отсутствием звука, этой яркой тени
движения. Тихий шорох волн не долетал до нас,— мы
находились в какой-то яме, поросшей цепкими
кустарниками и казавшейся мохнатым зевом окаменевшего
животного. Я смотрел на Шакро и думал:
«Это мой спутник... Я могу бросить его здесь, но
не могу уйти от него, ибо имя ему — легион... Это
спутник всей моей жизни... он до гроба проводит
меня...»
Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы
пришли, там было около четырехсот человек, чаявших,
как и мы, работы и тоже принужденных
удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки,
греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду — и в
городе, и вокруг него — бродили группами серые,
удрученные фигуры «голодающих» и рыскали волчьей
рысью азовские и таврические босяки.
Мы пошли в Керчь.
Мой спутник держал свое слово и не трогал меня;
но он сильно голодал и прямо-таки по-волчьи щелкал
зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас
описаниями количеств разной пищи, которую он готов
был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать
о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами
сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного
чэлавэка», он, наконец, дошел до того, что не шргуже
пропустить мимо себя ни одной особы женского пола,
каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не
поделиться со мной какой-нибудь
практически-философской сальностью по поводу той или другой ее с-татьи.
Он трактовал о женщинах так свободно, с таким
знанием предмета и смотрел на них с такой удивительно
прямой точки зрения, что я только отплевывался...
ВО
Однажды я попробовал доказать ему, что
женщина — существо ничем не худшее его, но, видя, что он
не только обижается на меня за мои взгляды, а даже
готов прийти в бешенство за унижение, каковому, по
его мнению, я подвергал его,— оставил мои попытки
до поры, пока он будет сыт.
На Керчь мы шли уже не "берегом, а степью, в
видах сокращения пути, в котомке у нас была всего
только одна ячменная лепешка фунта в три, куплен-
' ная у татарина на последний наш пятак. Попытки
Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни
к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это
была великая истина: действительно, до ужаса много
было людей, искавших куска хлеба в этот тяжелый год.
Мой спутник терпеть не мог «голодающих» —
конкурентов ему в сборе милостыни. Запас его
жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое
питание, не позволял ему приобрести такого испитого и
жалкого вида, каким они, по справедливости, могли
гордиться как некоторым совершенством, и он, ещё
издали видя их, говорил:
— Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут?
Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый
народ Россы и!
W когда я объяснял ему причины, побудившие
глупый русский народ ходить по Крыму в поисках хлеба,,
он, недоверчиво качая головой, возражал:
— Нэ понимаю! Какы можна!.. У нас в Грузии нэ
¦бывает таких глупостэй!
Мы пришли в Керчь поздно вечером и принужде.
ны былй'ночевать под мостками с пароходной
пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали,
что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был
вывезен весь лишний народ — босяки, мы побаивались,
что попадем в полицию; а так как Шакро
путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к
серьезным осложнениям в нашей судьбе.
Волны пролива всю ночь щедро осыпали нас
брызгами, на рассвете мы вылезли из-под мостков мокрые
и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и всё.
что удалось заработать,— это гривенник, полученный
мною с какой-то попадьи, которой я отнес мешок дынь
с базара.
81
Нужно было переправиться через пролив в
Тамань Ни один лодочник не соглашался взять нас
гребцами на тот берег, как я ни просил 00 этом. Все
были восстановлены против босяков, незадолго перед
нами натворивших тут много геройски^ подвигов, , а
нас, не без основания, причисляли к их категории.
Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на
весь мир, решился,на несколько рискованную штуку
и с наступлением ночи привел ее в исполнение.
IV
Ночью я и Шакро тихонько подошли к
таможенной брандвахте* около которой стояли три шлюпки,
привязанные цепями к кольцам, ввинченным в
каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюп,
ки толкались одна о другую, цепи звенели... Мне было
удобно раскачать кольцо и выдернуть его из камня.
Над нами, на высоте аршин пяти, ходил
таможенный солдат-часовой и насвистывал скврзь зубы. Когда
ои останавливался близко к пшг.я прекращал работу,
нр;зтхьбыло излишней осторожностью; он не мрг
предположить, что внизу человек сидит пр TOpJjo в врде.
К тому же цепи звучали беспрерывно и-без мрей
помощи. Шакро уже растянулся на дне щлюпки и
шептал, мне что-то, чего я не мог. разобрать за шумом
врлн. Кольцо в моих руках.« Бол на подхватила лодку
и,отбросила ее от берега. Я держался дацепь и плыл
рядом<с ней, потом влез в#ее. Мы сняли две настрвые
доск#; р, укредиэ, дх, в , уключинах, вместо вееед,
поплыли...
Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то
пропадал из,моих глаз, проваливаясь дм^сте с
кормой, то подымался высоко ЦЩр мнрй и, крина, почти
падал на меня. Я посоветовал щу не кринать, если он
не хочет, что$ь1, часовой услыхал его. Тогда, oni
замолчал. Я видел белое пятнр на месте ,ето лица. Он всё
время держал руль. Нам некогда было перемениться
му 4о^лись переходите по, лодк^с места
^, Я. кричал ему, к^к ставить? лрдку, ,и
рн„.сразу цощмщ ыщ^ делал всё,тац быстро,, к^к будтр ро.-
дился моряком. Доски, заменявшие вёсла, мало по-
82
морали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало
заботился о том, куда нас несет, стараясь только! чтобы нос
стоял поперек пролива. Это было легко установить,
так как еще были видны огни Керчи. Волны загляды*
вали к нам через борта и сердито шумели; чем
дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше.
Вдали слышался уже рев, дикий и грозный... А лодка
всё неслась — быстрее и быстрее, было очень трудно
держать курс. Мы то и дело проваливались в
глубокие ямы й взлетали на воДяные бугры, а ночь
становилась всё темней, тучи опускались ниже. Огни за
кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно.
Казалось, что пространство гневной воды не имело
границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших
из мрака. Они вышибли одну доску из моей руки; я
сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился1
обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом
каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я
чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, о&ру-'
женный разгневанной стихией й оглушаемый ее шУ-
мом. Без надежды в сердце, охваченный злым
отчаянием* я видел вокруг только эти волны с беловатыми
гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи
надо мной,, густые, лохматые, тоже были похожи на
волны... Я Понимал лишь одно: все, что творится вОк1
руг меня, может быть неизмеримо сильнее и
страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не
хочет быть таким. Смерть неизбежна/Но этот
бесстрастный, всё нивелирующий закон необходимо
чем-нибудь скрашивать — уж очень он тяжел и груб.
Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в
болотной трясине, я постарался бы выбрать первое -—
все-таки как-то приличнее...
* • • « *
— Поставим парус! — крикнул Шакро.
— Где он? — спросил я.
— Из моего чэкмэня...
—Бросай его сюда! Не выпускай руля!..
Шакро молча завозился на корме.
— Дэржы!..
Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая па дну!
лодки, я рторвал от наста еще доску, наДел на нее
рукав плбтной 6де>кды, поставил ее к скамье Лодки; при-
83
пер ногами и только что взял в руки другой рукав и
полу, как случилось нечто неожиданное... Лодка
прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я
очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой
уцепившись за веревку, протянутую по внешней
стороне борта. Волны с-шумом прыгали через мою голову, я
глотал солено-горькую воду. Она наполнила мои уши,
рот, нос... Крепко вцепившись руками в веревку, я
поднимался и опускался на воде, стукаясь головой о борт,
и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть
на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я
оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который
кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же
веревку, которую я только что выпустил. Она,,
оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные
кольца бортов.
—Жив1 — крикнул я ему.
Он высоко подпрыгнул над водой и также
брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились
лицом к лицу друг с другом. Я сидел на лодке* точно на
коне, всунув ноги в бечевки, как в стремена,— но это
было ненадежно: любая волна легко могла выбить
меня из седла. Шакро уцепился руками за мои колени
и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я
чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было
что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное
маслом. Я сказал 1Шкро, чтоб он спускался снова в
воду, держась за веревки с одного борта, а я так же
устроюсь на другом. Вместо ответа он начал толкать меня
головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело
прыгали через, нас, и мы еле держались: одну ногу мне
страшно резало веревкой. Всюду в поле зрения
рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.
Я повторил сказанное уже тоном приказания.
Шакро еще сильнее стал стукать меня своей головой в
грудь. Медлить было нельзя. Я оторвал от себя его
руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь,
чтоб он задел своими руками за веревки. И тут
произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.
— Топишь мэня?— прошептал Шакро и взглянул
мне в лицо*
&т 4няло действительно '.сфашна) Страшен был его
вопрос, еще страшнее тон. вопроса, в котором звучала и
84
робкая покорность, и просьба пощады, и последний
вздох человека, потерявшего надежду избежать
рокового конца. Но еще страшнее были глаза на
мертвенно-бледном мокром лице!..
Я крикнул ему?
— Держись крепче! — и спустился в воду сам,
держась за веревку. Я ударился о что-то ногой и в первый
момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял.
Во мне вспыхнуло что-то горячее, я опьянел и
почувствовал себя сильным, как никогда..» .
— Земля! — крикнул я.
Может быть, великие мореплаватели, открывавшие
новые земли, кричали при виде их это слово с большим
чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли
кричать громче меня. Шакро завыл, и мы бросились в
воду. Но оба быстро охладели: воды было еще по грудь
нам, и ниг\де не виделось каких-либо более
существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее
и уже не прыгали, а лениво перекатывались через нас.
К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот мы с
Шакро стали по ее бортам и, держась за спасательные
веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой
лодку.
Шакро бормотал что-то и смеялся. Я озабоченно
поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа от нас
шум волн был сильнее, впереди и влево — тише; мы
пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в
ямах; иногда мы не доставали дна и гребли ногами и
одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды
было только по колено. На глубоких местах Шакро
выл, а я дрожал в страхе. И вдруг — спасение!
—впереди нас засверкал огонь...
Щакро заорал что есть мочи; но я- твердо помнил,
что лодка казенная, и тотчас же заставил его
вспомнить об этом. Он замолчал, но через Несколько минут
раздались его рыдания. Я не мог успокоить его —
нечем 0ылр,
Воды становилось всё меньше... по колено.,, по
щиколотки... Мы всё тащили казенную лодку; но тут у н^с
не стало .сия,, я ыы бросили ее, На пути у. нас лежала
какаж«то*черш# коряга^Л^ы.перепр|>1гн^ли,ч|5рез нее —
и оба босыми ногами попали в какую-то'колкэчую ifpa-
85
ву.'Это было больно и со стороны ззшш ^
негостеприимно, но мы не обращали на это внимания, и побежали
на огонь. Он был в версте от нас в» весело пылая,
казалось, смеялся навстречу нам.
„.Три громадные кудластые собаки, выскочив
откуда-то из тьмы, бросились на нас. Шакро, всё время
судорожно рыдавший, взвыл и упал, на землю. Я
швырнул в собак мокрым чекмёнем; и наклонился, шаря
рукой камня или палки. Ничего не было, только трава
колола руки. Сйбаки дружно наскакивали. Я засвистал
что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они
отскочили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих
людей.
Через несколько минут мы были у костра в кругу
четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх.
Двое сидели на аемле и курили, один — высокий* с
густой черной бородой ив казацкой папахе •— стоял
сзади нас, опершись на палку с громадной шишкой из
корня на конце; четвертый, молодой русый парень» во-
могал плакавшему Шакро раздеваться. Саженях в
пяти от нас земля-на болышм пространстве была
покрыта ;толстым пластом чего-то густого, серого и волнооб-*
разного, похожего на весенний, уже начавший таять,
Снег. Только долго и пристально всматриваясь, можюо
было разобрать отдельные фигуры овец, плотно ярилы
нувших одна к другой. Их было тут несколько тысячу
сдавленных сном и мраком* ночи в густой, теплей и
толстый пласт, покрывавший-степь. Иногда они блеяли
жалобно и пуглшо...
Я сушил чекмень над огнем и говорил чабанам
всё по правде, рассказал и о способе, которым добыл
лодку.
— Где ж она/та лодка?— спросил меня суровый
седой старик, не сводивший с меня глаз.
Я сказал.
— Поди, Михал, взгляш!.,
МйхШ —тот, чернобородый,-— вскинул пашку на
ШЬЧо и атршпжя fc берегу-
Шакро, дрожавший от холода, попросил меня дать
ему й А&
— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь.
Беги круг костра, иу!
Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с
места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком
перелетая через костер, кружась на одном месте, топая
ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая
руками. Это была уморительная картина. Двое чабанов
покатывались по земле, хохоча eg всё горло, а старик с
серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать
ладонями такт пляски, ко не мог его уловить,
присматривался к та»цу Шакро* качая головой и шевеля усами,
и всё покрикивал густым басом:
— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!
Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей,
прыгал на одной ногеу выбивал; дробь обеими, и его
блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями
пота, они казались красными, как кровк
Теперь уже все трое чабанов били в ладони, а я,
дрожа от холода, сушился у костра и дума л, что
переживаемое приклютениехделало бы счастливым какого-
нибудь поклонника Купера и Жюля Верна:
кораблекрушение, к гостеприимные аборигены, и пляска
дикаря вокруг костра.
Вот Шакро уже сидит на земле, закутанный в чек-
мень, и ест что-то, поглядывая »а мевя черными
глазами, в которых искрилось нечто, возбуждавшее во мне;
неприятное чувство. Его одежда сушилась, повешаняаЯ)
на палки, воткнутые в землю около костра. Мне тоже
дали хлеба и соленого сала.
Пришел Мигал и молча сел;.рядом со стариком.
— Ну? -*- спросил старик.
— Есть лодка! — кратко сказал Михал.
— Ее не смоет?
— Нет!
И они все замолчали, разглядывая меня.
— Что mf>— спросил Мнхал, ни к кому собственно
не обращаясь,— свести ах в станицу к атаману? А
может, прямо к таможенным?
Ему не ответили. Шакро ел спокойно.
-* Можно к атаману' свести.*, и к таможенным
тоже... И то гарно,, и другое,— сказал, оомоянав, старик,
¦гут- Погоди,, дед...— й&чал я.
Но он не обратил на метт никакого внимания,
— Вот так-то! Михал! Лодка там?
— Эге, там,..
— Что ж... ее не смоет вода?
— Ни... не смоет.
•—¦ Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники
поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж бы им не
захватить пустую лодку? Э? Ну вот... А теперь вы...
хлопцы-рванцы... того... як его?.. Не боялись вы оба?
Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в
море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море.
А? Утонули бы, как топоры, оба!.. Утонули бы, и —
всё тут.
Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах
взглянул на меня.
*— Что ж ты молчишь, парнюга?
Мне надоели его рассуждения, которые я, не
понимая, принимал за издевательство над нами.
— Да вот слушаю тебя! — сказал я довольно
сердито.
— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.
— Ну, и ничего.
— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок
дразнить старшего, чем сам ты?
Я промолчал.
—А есть ты не хочешь еще? — продолжал старик.
— Не хочу,
— Ну, не ешь. Не хочешь — и не ешь. А может, на
дорогу взял бы хлеба?
Я вздрогнул от радости, но не выдал себя.
— На дорогу взял бы...— спокойно сказал я.
— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала
там.., А может, еще что есть? — то и этого дайте.
— А разве ж они пойдут? — спросил Михал,
Остальные двое* подняли глаза на старика,
— А чего ж бы им с нами делать?
— Да ведь к атаману мы их хотели... а то — к
таможенным...— разочарованно заявил Михал.
Шакро завозился около костра и любопытно
высунул голову из чекменя. Qw был спокоен;
<¦*— Что ж им делать у атамана? Нечего**, пожалуй»
ш у него делать. После уж они пойдут к нему.*,: коля
захотят.
— А
— Лодка? — переспросил старик,—Что ж лодка?
Стоит она там?
— Стоит.,.— ответил Михал.
— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее
к пристани.., там ее возьмут до Керчи. Больше и нечего
делать с лодкой.
Я пристально смотрел на старого чабана и не мог
уловить ни малейшего движения на его флегматичном,
загорелом и обветренном лице, по которому прыгали
тени от костра.
— А не вышло бы греха какого часом...— начал
сдаваться Михал.
•— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно
бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то
это, думаю я, беспокойно будет и нам и им. Нам надо
свое дело делать, им — идти.— Эй! Далеко еще вам
идти? — спррсил старик, хотя я уже говорил ему, как
далеко,
— До Тифлиса...
— Много пути! Вот видишь, а — атаман задержит
их$ а коли он задержит, когда они придут? Так уж
пусть же они идут себе, куда им дорога. А?
~ А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи
старика, когда он, кончив свои медленные речи, плотно
сжал губы и вопросительно оглянул всех их, крутя
пальцами свою сивую бороду,
—- Ну, так идите же к богу, ребятаГ — махнул
рукой старик.^- А лодку мы отправим на место. Так ли?
-* Спасибо тебе, дед! — скинул я шапку,
-г- А за что ж спасибо?
—• Спасибо, брат, спасибо! — взволнованно
повторил я.
— Да за что ж спасибо? Вот чудно! Я говору —
идите к богу, а он мне —спасибо! Разве ты боялся,
что я к дьяволу тебя пошлю, э?
— Был грех, боялся!..— сказал я.
*-*¦ О!..-^-й старик поднял брови.— Зачем же мне
направлять человека по дурному пути? Уж лучше я
его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть,
tti№ встретимся* так уж *— знакомы будем, Часом
помочь, друг другу придется... До свидки!.,
89
Он снял свою махвдтуго б&раяъю цшпку и
поклонился нам. Поклонились и его товарищи. РАы
спросили дорогу на Анапу и пошли.' Шакра смеялся- над
чем-то..*
VI
— Ты что смеешься? — спросид я его.
Я был в восхищении от старого чабана и/ его*
жизненной морадЪ, я был ^ восхищении и от свежего
предрассветного ветерка, веявшего прямо нам в грудь,
и оттого, что неба очистилось- от туч, скора на ясное
небо выйдет солнце и радится блестящий красавец-
день...,
. Щакро хитро подмигнул мне глазом и
расхохотался еще сильней, Я тоже улыбался,, слыша его веселый,
здоровый смех. Два-три часа, проведенные нами у
костра чабанов, и вкусный хлеб с салом оставили &т
утомительного путешествия только легонькую
ломоту в костях; но это ощущение не мешало нашей
радости. . ,
— Ну, чего же ты смеешься? Рад,, <гго жетр
остался, да? Жкв да еще и сыт?
Шакро отредатеявда 'мотнул* готовой;, толкнул
мета локтем в- бок, сделал- мне гримасу, снова
расхохотался и наконец , зшторш сврям ломдоызд
языком:
— Нэ пакымаишь, почему смешно? Нэт> Сэчщ %-
дишь знать! З&ащш^ ч*& я едэ^ада 6i*, когда бы нас
пдвэли к этому атаману-тамшкайу? Нэ ^наишь? % бы
сказал црр.тэбр: ш манж утоп-ить хотэл! И стал бы
плакать. Тогда бы ^эня; стали жалэть и не посадаиш
^у ..,
, [Я хотел^сиавдла, шн^оть это как шутку, но—
увы! — он сумел меня убедить а серьезности свЬёгЬ
намерения, рн тар ос^ов-ахельно и ясно .убеждая меня
в этом* что я, вместо тога ч,табы взбеситься на негр за
атат наивный дйн^зм, цреисполн^^дя к нему чувст-
вощ .Е;лубакой .жалости. ,Что ицое^можнр ^увст.в€рать
к, человеку, кохор^Д с светлейшей улыбкой и самым
^и^рецним тоном^ рэсскэз^вает, тебе о ^оем/на^
рении убить тебя? Что с ним делать,, ?$яц :Щ, &
на этот поступок как на милую, остроумную
шутжу?
Я « жаром пустился Доказывать Шакро всю «без.
нравственность его намерения. Он очень просто1 возра,
жал мне, что я не понимаю его выгод, забываю о про.
живании по чужому билету и о том, что за это — не
хвалят...
Вдруг у меня блеснула одна жестокая мысль...
— Погоди,—сказал я,—да ты веришь в то, что я
действительно хотел топить тебя?
— Нет!.. Когда ты мэня в воду толкал — варил,
когда сам ты пошел — нэ взрнл!
— Слава богу! — воскликнул я.— Ну, и за это
спасибо!
— Нэт, нэ гавари спасибо! Я тэбэ скажу спасыбо!
Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было...
Чэкмэнь твой,— ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил,
дал мне.'А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасибо! Ты
очэнь хароший чеяовэк — я tiaH-ымаю. Придай в
Тыфлыс;—за всё получишь. К отцу тэбя павэду.
Скажу отцу — вот человэк! Карми его, пои его, а мэня —
к ищакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь,
садовником будэшь, пать будэшь вино, есть чэго
хочэшь!.. Ах, ах атс!.. Очень харашо будэт тэбе
жить! Очэиь просто!.. Пей, ешь из адной чашка со
мной!:.
Он долго и подробно рисовал прелести жизни,
которую собирался устроить мне у себя в Тифлисе. А я
под его говор думал о великом несчастий тех людей, ко-
Topjjifi;, вооружившись нйвой моралью, нойыми;
желаниями, одиноко ушли вперед и встречают на дороге
своей спутников, чуждых им, не способных понимать
их..! Тяжела жизнь таких одиноких! Они — над зем-
леД, в воздухе... Но они носятся в нем, как семенц
Добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодотвор-
Й;.. , / , ^ ' / " '
Светало. Даль моря уже блестела розоватым' зо-
~7 Я ciiatb хочу! — сказал Шакро.
Мы остановклись. Он Л€г в яму, вырытую ветром
в сухом niecKe недалеко от берега, и, с головой
закутавшись d чекмень^ сзкоро заснул. Я ^идел рядом с Шк и
смотрел й kopeV
91
Оно жило своей широкой жизнью, полной мощного
движения. Стаи волн с шумом катились на берег и
разбивались о песок, он слабо шипел, впитывая воду.
Взмахивая белыми гривами, передовые волны с
шумом^ ударялись грудью о берег и отступали,
отраженные им, а их уже встречали другие, шедшие
поддержать их. Обнявшись крепко, в пене и брызгах, они
снова катились на берег и били его в стремлении
расширить пределы своей жизни. От горизонта до берега, на
всем протяжении моря, рождались эти гибкнге и
сильные волны и всё шли, шли плотной массой, тесно
связанные друг с другом единством цели... Солнце всё
ярче освещало их хребты, у далеких волн, на горизонте,
они казались кроваво-красными. Ни одной кайли не
пропадало бесследно в этом титаническом движении
водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-
то сознательной целью и вот — достигает ее этими ши.
рокими ритмичными ударами. Увлекательна была
красивая храбрость передовых, задорно прыгавших на
молчаливый берег, и хорошо было смотреть, как вслед за
ними спокойно и дружно идет всё море, могучее море,
уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное
сознания своей красоты и силы... . . \
Из-за мыса, рассекая волны, выплыл громадный
пароход и, важно качаясь на взволнованном дане моря,
понесся по хребтам волн, бешено бросавшихся на его
борта. Красивый и сильный, блестящий на солнце
своим металлом, в другое время он,, пожалуй, мог бы
навести на мысль о гордом творчестве людей,
порабощающих стихии... Но рядом со мной лежал человек-
стихия.
VII
Мы шли по Терской области; Шакро был растрепан
и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не
голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он
оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды
попробовал стать к молотилке отгребать солому и чет
рез полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли
на ладонях. Другой раз стали корчевать держидерево,
и он сорвал себе мотыгой «кожу с шеи.
92
Шли мы довольно медленно,— два дня р$б<>тае1Ш>,
день идешь. Ел Шакрю крайне несдержанно, и, по
милости его чревоугодия, я никак не мог скопить столько
денег, чтоб иметь возможность приобрести ему какую-
либо часть костюма. А у него все части — были
сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных
разноцветными заплатами.
Однажды в какой-то станице он вытащил из моей
котомки с большим трудом, тайно от него скопленные
пять рублей и вечером явился в дом, где я работал2 в
огороде, пьяный и ЬкайЬй-то толстой бйбой-казач-
кой, которая поздоровалась со мной так:
— Здравствуй, еретик проклктый!
А когда я, удййлейный таким эпитетом, Опросил
ее,— почему же я еретик? — она с апломбом ответила
мне:
— А потому, дьявол, что запрещаешь парни жёк-
ский пол любить! РкзЬе ты Можешь запрещать, коли
закон дозволяет?.. Анафема ты!.. '
Шакро стоял рядом с ней и
утвердительно'кйййл'?силовой. Он был Очень пьян и когда делал' кайое-лйбр
движение, то весь развинченнб КачалсЙ. НйЖнкя гу&а
у'него отвисла. Тусклые глаза СадотреМ мне' в jtnuo
бессмысленно-упорно. ; 1
— Ну, ты, чего ж вытаращил зёнкй на нас? Да&йй
его деньги! — закричала храбрая баба.
— Какие деньги? — изумилсяя.
— Давай, давайГ А то я тебя в й&йековую
Сведу! Давай те полтораста рублей, что азйл у него в
Одессе!
Что мне было делать? Чёртова баба с'пьяных глаз в
самом деле могла пойти в войсковую избу, и
станичное начальство, строгое к разнбйу страй'
тему люду, арестовало бы нас. Кто знает, что
выйти ^з этого аре;ста для меня и Ш?кро! Иьотя
начал дипломатически обходить бабу, что, кёйечЩ
Стойлу, небольших усилий, Кое-как при пймощи трех буты-
лоц. зина я умиротворил её. Она свалилась на Земйю
между арбузов и заснула. Я уложил Щак))Ц а рШЬ ft-
рощ, другого дня мы с'ним вышли из станины,гёе?&ёкп
бабу с арбузами.. {, _,, * *, '" V' ' , / "' .!'*']' 'Л',,, Гг.'!!
Полубольной ,с похмелья, с яШятЫй й1 бЙухшЙм Айг-
цом. Шакрр ежеминутно клевался г '----^ ^^-^ь*ь
Я пробовал разговаривать с ним, но он не отвечал мне
и только поматывал своей кудлатой головой, как
б'
р
Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперед
ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под
ногами. Тишина, дарившая вокруг, погружала в
мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами но небу
медленно двигались черные стаи туч. Сливаясь друг с
другом,, они покрывали всё небо сзади нас, тогда как
впереди оно было еще ^сно, хотя уже клочья облаков
выбежали в него и резво неслись куда-то вперед,
обгоняя нас. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые
звуки всё приближались. Падали капли дождя. Трава
металлически шелестела.
Нам негде было укрыться. Вот стало темно, в
шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром —
у туда дрогнули, охваченные синим огнем. Крупный
дождь п&лйлся ручьями, и один за другим удары грома
началу непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава,
сгцбаемдя ударами ветра и дождя, ложилась на землю.
I^ce дрржадо, эрлнйвалось. Молнии, слепя гла^а, рвали
туч^.,. Ё 'годурсш, блеске, щ вдали вставала горная
цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а
когдд мрдц^и гасли; рра исчезала, как бы провалива-,
яеь в темную пропасть. Все гремело, вздрагивало,
отталкивало звуки и родило их. Точно небо, мутное и
гневное, цгадм очищало себя от пыли и всякой мерзо-
~сщ поднярще^ся, Д8 рего с э?мли, и земля, казалось,
вздрагивала в страхе перед гневок его. \
.. Щакрр вррчал, как, испуганная собака. А мне бьЬю
весело,..я какгто приподнялся над обыкновенным,
наблюдая! эту могучую мрачную картину степной г|)рзы.
Цццръщ даос, увлекал и настраивал на героический
лад, охватывая душу грозной гармонией...
И м,не захотелррь принять участие в ней, вы^зйть
че^-нйбудь, р^р^полнившее меня чувство восхищения
п.едод эх^й силой. Голубое пламя, охватывавшее небо,
^азалрсь^ горело ив моей груди; и — чем Мпй было
вщаз#ть ^@!е;вел;1|кое волнение и iiiofl восторг?,^
запел— громко, во всю силу. Ревел гром, блистали мол-
^^Jliyppi^^ T?fBa, а я пел и чувствовал себя вйол-
• ^^м^Й^ста^ cp^cewiH звуками../ р -^ бёзуйствва^я; это
простительно, ибо не вредило никому, кроме мейя. Бу-
95
ря на море и гроза в степи! — Я не знаю более
грандиозных явлений в природе.
Итак, я кричал, будучи твердо уверен, что не
обеспокою никого таким поведением и никого не поставлю
в необходимость подвергнуть строгой критике мой
образ действий. Но вдруг меня сильно дернуло за ноги,
и я невольно сел в лужу...
В лицо мне смотрел Шакро серьезными и
гневными глазами.
— Ты сошел с ума? Нэ сошел? Нэт? Ну, за-.амал-
чи! Нэ крычи! Я тэбе разорву глотку! Панымаишь?
Я изумился и сначала спросил его. чем я ему
мешаю...
— Пугаишь! Понял? Гром гремит —бог гаворит, а
ты арэшь... Что ты думаишь?
Я заявил ему, что я имею право петь, если хочу,
равно как и он.
— А я нэ хачу! — категорически сказал он.
*— Не пой! —согласился я.
— И ты нэ пой! —строго внушал Шакро.
— Нет, я уж лучше буду...
— Послушай,— что ты думаищь? — гневно
заговорил Шакро.— Кто ты такрй? Есть у тэбэ дом?, Есть у
тэбэ мать? Отэц? Есть родные? Зэмли? Кто тц на зэм-
ле? Ты — человэк, думаишь? Это я человзк! У мэнэ всё
есть!..— Он постукал себя в грудь.—Я кнэзь!., AiTbi...
ты — нычего! Нычего нэт! А мэнэ знаит Кутаис, Тыф-
лыс!.. Панымаишь! Ты нэ иди протыв мэнэ! Ты мне
служишь? — Будышь доволен! Я заплачу тэбэ дэсять
раз! Ты так дэлаешь мне? Ты.нэ можишь дэлать иное;
ты сам гаварыл, что бог яэлел служить всем бэз
награда! Я тэбэ награжу! Зачэм ты мэнэ .муяедшь? Учишь,
пугаишь? Хочешь, чтобы я был* как ты? Это нэ хара-
шо! Эх, эх, эх!.. Фу, фу!..
Он говорил, чмокал, фыркал, вздыхал.,. Я; смотрел
ему в лицо, разинув рот от изумления. Он, очевидно,
выливал предо мной все возмущения,-абиды и
недовольства мною, накопленные за всё время нашега
путешествия. Для вящей убедительности аи тьиш* мне
пальцем в грудь и тряс меня, за плечо, а в особенно
.сильных местах, налезал на меня всей своей тушей. Шс
поливал дождь, над нами непрерывно грохотал гром,
96
и Шакро, чтоб быть услышанным мною, кричал во всё
ГОРЛ О;
Трагикомизм моего . положения выступил предо
мной: яснее всего и заставил меня расхохотаться что
было моих сил...
Шакро, плюнув, отвернулся от меня.
VIII
ь..Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро
становился сосредоточеннее и, угрюмее/ Что-то новое
появилось на его исхудалом, но все-таки
неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа мы зашли в
черкесский аул и подрядились там собирать куку-
рузу.
Проработав два дня среди черкесов, которые, почти
не говоря .по-русски, беспрестанно смеялись над нами
и ругали рас по-своему, мы решили уйти из аула,
испуганные'все возраставшим среди аульников
враждебным, отношением к нам. Отойдя верст десять от аула,
Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток
лезгинской кисеи и с торжеством показал мне,
воскликнув:
— .Волыни нэ надо работать! Продадым — купым
всего! Хватыт до Тыфлыса! Пацымаишь?
Я был возмущен до бешенства, вырвав кисею,
бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят.
Незадолго пред этим мы слышали от казаков такую
историю. Один босяк, уходя из аула, где работал,
захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его,
обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему
кинжалом живот, сунули глубоко' в рану ложку, а потом
спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки
подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на
дороге в станицу. Казаки не однажды строго
предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные
исторци в этом духе,— не верить им я не имел
основания.
Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо
мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив
глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы
основательно колотили друг друга и наконец Шакро с
гневом крикнул мне;
4. М. Горький 97
— Будэт!..
Измученные, мы долго молчали, сидя друг против
друг.а... Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул
краденую кисею, и заговорил; ,
— За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Раз-
вз я у тэбэ украл? Что тэбэ— жалко? Минэ тэбэ
жалко, патаму и украл... Работаишь ты, я нэ умэю... Что
минэ делать? Хотэл помочь тэбэ...
Я попытался объяснить ему, чтб есть кража...
— Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава, как
дерево...— презрительно отнесся он ко мне и объяснил: —
Умирать будишь — воравать будишь? Ну! А развэ это
жизнь? Малчи!
Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже
второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были в
Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные
весы. Тогда мы тоже едва не подрались.
— Ну, идем далшэ? — сказал он, когда оба мы
несколько успокоились, примирились и отдохнули.
Пошли дальше. Он с каждым днем становился всё
мрачней и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-
то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и
спускались с Гудаура, он заговорил:
— Дэнь-два пройдет—в Тыфлыс придем. Цце,
цце! — почмокал он языком и расцвел весь.— Приду
домой,— гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду...
ага! Есть буду много... ах, много! Скажу матэри —
очань хачу есть! Скажу отцу —просты мэнэ! Я видэл
мыйога горя, жизнь видэл,— разный! Босяки очэнь
харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в
духан, скажу — пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу
про тэбэ... Вот человэк,— был минэ как старший брат...
Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака!... Кормил. Тэпэрь, скажу,
корми ты его за это. Год корми! Год корми —*- вот
сколько! Слышишь; Максым?
Я любил слушать, когда он говорил так; он
приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие
речи были мне и потому интересны, что я не имел в
Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась
зима — на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся
немного на Шакро.
98
Мы шли быстро. Вот и Мцхет — древняя столица
Иберии. Завтра придем в Тифлис.
ЁгДе издали- Ье]рёт за *тять,йкувВДал;ст6лицу'Кавка-
аа, сжатую ме&ду двух Щ. Кьнёц пути! Я был рад
чему-то, Шакро — равнодушен. Ой тупыми глазами смб^-
рел вперед и сплевьШал в сторону голодную слюну,
то,и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот.
Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной 'по
дороге.
— "Ты думаешь, я—грузински дыварянин —пайду
в:м6й город днем такой, рваный, грязный? Нэ-эт!.. Мы
падаЖдем вэчера. Стой!
Мы сели у стены какого-то пустого здания и,
свернув по последней папироске, дрожа от холода,
покурили. С Военно-Грузинской дороги дул резкий и сильный
ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную пёс-
ню...Я ' д!ушцго теплой комнате и других преимуществах
оседлой жизни пред жизнью кочевой.
— Идем! — поднялся Щакро с решительным лицом.
Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво:
огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали
откуда-то во тьму, окутавшую.долину, в котррую.дпря-
тался город.
— Слушай! ты дай мэнэ атот башлык, чтоб я
закрыл лицо... а то узнают мацэ анакомые, может быть...
, Я, дал башлык. Мы ; идем по Ольгинской удице.
Щакро насвистывает ненто решительное. .,
-г- Максым! Видишь станцию конки — Верийский
мост? Сыди тут, жди! Пажалуста, жди! Я зайду в адын
дом, спрошу товарища про своих, отца, мать..,
•— Ты недолго?
— Сэйчас! Адын момэнт!..
Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий
переулок и исчез в нем — навсегда.
Я никогда больше не встречал этого человека —
моего спутника в течение почти четырех месяцев
жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и
веселым смехом.
Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых
фолиантах, написанных мудрецами,— ибо мудрость
жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
99
ЧЕЛКАШ
Пртемневшее от пыли голуоое южное небо — мутна;
. ^каркое солнце смотрит в зеленоватое море, точ(но.
4, сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не
отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных
винтов, острыми килями турецких фелюг и других
судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань...
Закованные в гранит волны моря подавлены
громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о
бррта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные,
загрязненные разным хламом.
1 Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов,
подвозящих груз, металлический вопль железных листов,
откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук
дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки
пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие,
крики грузовиков, матросов и таможенных солдат—?все
эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудо^
вого дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над
гаванью,;— к ним вздымаются с земли всё новые и
новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово
сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие,— рвут
пыльный знойный воздух.
Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и
люди — всё дышит мощными звуками страстного
гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем,
слабы и смешны. И сами люди, первоначально
родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные,
оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров,
лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то
сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они
ничтожны по сравнению с окружающими их железными
колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и
всем, что они создали. Созданное ими поработило и
обезличило их.
Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы
свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке,
рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения
к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их
палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами
своего, рабского труда. До слез смешны длинные вереницы
100
грузчиков, несущих на плечах с!воих тысячи пудов хле-
ба в железные животы судов для того, чтобы
^заработать несколько фунтов того же хлеба для своего
желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума
и зноя люди и могучие, блестевшие на солйце дородф-1
вом машины, созданные этими людьми,— машийы,
которые в конце концов приводились в движение в^е-тй-
ки не паром, а мускулами и кровью своих творцов,—
в этом сопоставлении была целая поэма жестокой
иронии.
Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри,—
слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом
казалось напряженным, теряющим терпение, готовый
разразиться какой-то грандиозной катастрофой,
взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет ды:
шаться свободно и легко, на земле воцарится тиши
на, a этот «пыльный шум, оглушительный, раздражак>-
щий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, й'
тогда в городе, на море, в небе станет тихо1,'ясно;1
слайно...
Раздалось двенадцать мерных и звойких ударов й
колокол. Когда последний медный звук замер, дикай
музыка труда уже звучала Тише. Через минуту ещё она
превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь
голоса людей и плеск моря стали слышней. Это —
наступило время обеда.
I
Когда грузчики, бросив работать, рассыпались ,nq
гавани шумными группами, покупая себе у торговок
разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на
мостовой, в тенистых уголках,— появился Гришка Челкаш,
старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому
люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был
бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки,
в грязной ситцевой рубахе, с разорванным воротом, рт-
крывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые
коричневой кожей. По всклокоченным черным с
проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу
было видно, что он только что проснулся. В одном буром
усё у него торчала соломина, другая соломина
запуталась в щетийе левой бритой щёки, а за ухо он заткнул
101 ;
себе маленькую, только что сорванную ветку липы.
Длинный, костлявый,- немного сутулый, он медленно
шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным
носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая
холодными серыми гйазами и высматривая кого-то
среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то
и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за
спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь
длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и
здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких
фигур, он сразу обращал на себя внимание своим
сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и
этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной
с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет
той хищной птицы, которую он напоминал.
Когда он поравнялся с одной из групп босяков-
грузчиков, расположившихся в тени под грудой
корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с
глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной
шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел
рядом с Челкашом, вполголоса говоря:
— Флотские двух мест мануфактуры хватились...
Ищут.
— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его
глазами.
— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.
— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?
И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где
возвышался пакгауз Добровольного флота.
— Пошел к черту!
Товарищ повернул назад.
— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как
йсйортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?
— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим
товарищам.
1 Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как
человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и'
едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на
расспросы отрывисто и резко.
Откуда-то из-за бунта товара вывернулся
таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-'
прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед
102
, в вызывающей позе^ схватившись левой рукой за
ку кортика, а правой пытаясь взять Че-лкаша за
ворот.
,— Стой! Куда идешь?
Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на,
сторожа, и сухо улыбнулся.
Красное, добродушно-хитрое лицо служивого
.пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось,
стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило
глаза и было очень смешно.
— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра
изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.
— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не
ведались,— спокойно поздоровался Челкаш и протянул
ему руку.
— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..
Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.
— Вот 1что скажи,— продолжал Челкаш, не
выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и
приятельски-фамильярно потряхивая ее,— ты Мищку не
видал?
— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю!
Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...
— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на
«Костроме»,— стоял на своем Челкаш.
— С которым воруешь вместе, вот как Скажи!
В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило
чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят,
поди, а то в шею провожу!..
— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю
Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый,
Семеныч?..
— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..
Сторож начал сердиться и, оглядываясь по
сторожам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Чел-
каша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под
своих густых бровей и, не отпуская его руки,
продолжал разговаривать:
— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой
вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?., жена,
детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалил
зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к
тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот..,
103
— Ну, ну,— ты это брось! Ты,— не шути, дьявол
костлявый! #,' брат, в самЬм деле... Али ты уж по До-
"MsiM, по улицам Грабить собираешься?
— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра
хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять Два
м^ёста мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч,
осторожней! не попадись как-нибудь!.»
Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и
пытаясь 'Что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и
спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам
гайанр. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.
Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зу-
бь! и/засунув руки в карманы штанов, шел медленно,
отйуская направо и налево колкие смешки и шутки.
Ему платили тем же.
— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя
оберегает!1 — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже
пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.
— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне
ногу не напороть,— ответил Челкаш.
Подошли к воротам. Два солдата ощупали ЧелКа-
ша и легонько вытолкали его на улийу.
Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку
против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотбм
выезжала вер'еница нагруженных телег. Навстречу им
неслись порожние телеги с извозчиками,
подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую
пыль...
Bl этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя
прекрасно. Впереди ему улыбался солидный
заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был
уверен, что ловкости хватит'у него, и, щуря глаза,
мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его
кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился
товарищ, Мишка,— он очень пригодился бы сегодня йочью,
если бы те сломал себе нОгу. Челкаш про себя
обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не
справиться с делом. Какова-то будет ночь?,. Он
посмотрел на небо и вдоль по улице.
Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой,
прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень
в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в
лаптях и в оборванном рыжем картузе. Ойоло него ле-
104
щ маленькая котомка и коса без, черенка,
обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный вере-
эочкрй. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с
загорелым ц,обветренным лицом и с большими
голубыми глазами, смотревшими на Челкаща доверчидо и
добродушно.
Челкащ оскалил зубы, высунул язык и, сделав
страшную рожу, уставился на него вытаращенными
.глазами.
Парень, сначала . доумевая, смигнул, но потом
вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах,
чудак!»—и, почти не встзваяс земли, неуклюже
перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкащгц ррлр-
ча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о
камни., . .
—. Что, брат, погулял, видно, здорово!,.—
обратился он к Цфлкащу, дернув его штанину.
—^Быйо дело, сосунок, было этакое дело!— улы-
паясь, сознался Челкаш< Ему сразу понравился; Ьург
здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми
глазами.— С косовицы, что ли? ,-,'..
-г- Как же!.. Косили версту,— выкосили гррщл
Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этрт
самый приплелся^—цену сбили, хоть не берись! Шесть
гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то,
говорят, три целковых цена, четыре, пять!..
— Раньше!..'Раньше-то за одно погляденье на
русского человека там трёщну платили. Я вот годрв
десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь
в станицу — русский, мол? я! Сейчас тебя поглядят,
пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да на-
прят, накормят. И живи сколько хочешь!
Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл
рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее
восхищение, но потом, поняв, что оборранец врет,
; шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял
серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.
— Чудак, говоришь будто правду, а,я слушаю да
верю.*. Нет, ей-богу, раньше там...
— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там
раньше*.» , . .
;.' -г* Шда-ты1,..-г-адахнул рукой парень.— Сапожник,
что ли? Али портной?.. Ты-то?
ios
—и Я-то? ^переспросил Челкаш и, подумав,
сказал: — Рыбак я...
— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..
— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу
ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие
суда — все! Удочки такие есть для этого...
— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, котор!ые про
себя поют!
Мы закидывали сети
По су^сим берегам
Да по амбарам, по клетям!..
— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмеш-
койпоглядывая на него.
— Нет, видать где же! Слыхал..,
•*- Нравятся?
^Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные,
свободные...
— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь
свободу?
— Да ведь как же ? Сам себе хозяин, пошел —
куда хошь, делай — что хоть... Еще бы! Коли сумеешь
себя й порядке держать, да на шее у тебя камней
нет,— первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только
помни...
Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от
парня.
— Сейчас вот мое дело...— говорит тот.— Отец у
меня — умер, хозяйство — малое, мать-старуха, земля
высосана,— что я должен делать? Жить —надо.
А #ак? Неизвестно. Пойду я в зятья в хороший дом.
Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-
дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него...
долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей
ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и —
Антипуто — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу?
Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна
она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе...
Н-да! — Парень вздохнул.— А теперь ничего не
поделаешь иначе, как в зятья идти. Думал было я: вот,
мол, на Кубань-то пойду, рублев два ста тяпну,—
шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в
батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком
разе! Эхе~хе!..
108
Парню,сильно не-хотелось идти в зятья. У него
даже лицо"печально потускнело. Он тяжело заерзал-да
земле.
Челкаш спросил*
-1- Теперь куда ж ты?
— Да ведь — куда? известно, домой.
— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в
Турцию собрался...
— В Ту-урцию!,.— протянул парень.— Кто ж это
туда ходит из православных? Сказал тоже!..
— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова
отворотился от собеседника. В нем этот здоровый,
деревенский парень что-то будил...
Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство
копошилось где-то глубоко и мешало ему
сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать В; эту
ночь.,
Обруганный парень бормотал что-то вполголоса,
изредка бросая на босяка косые взгляды. У него
смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженаде
глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали.
Q», очевидно, не ожидал, что его разговор q этим
усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.
. Оборванец не обращал больше на него .внимания.
Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и от;0и-
вая по ней такт голой грязной пяткой.,
Парню хотелось поквитаться с ним.
— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то* -г ца-
чал было он, но в этот же момент рыбак быстро
обернул к нему лицо, спросив его:
— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать
со мной? Говори скорей!
— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.
— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедедо.
Грести будешь...
— Так... Что же? Ничего, Работать можно.
,Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты зако-
мурист... темен ты...
Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в грудц и
с холодной злобой вполголоса проговорил:
— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот
долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...
107
Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой
ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулик и ;3аг
блестел глазами.
Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и,
робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг
друга глазами, они молчали.
— Ну? —- сурово спросил Челкаш. Он кипел и
вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему
этим,молоденьким теленком, которого он во время разговора с
ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то,, что
у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое
лицо; короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-
то там деревню* дом в ней, за то, что его приглашает в
зятья зажиточный мужик,— за всю его жизнь
прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот
ребёнок па сравнению с ним, Челкашом, смеет любить
.свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна.
Веегда неприятно видеть, что человек, которого -ты
считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит-то
же, что-и ты, и, таким образом, станобится похож на
тебя.
Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем
хозяина.
•*- Ведь я*? не прочь,..*- заговорил он.— Работы
ведь и ищу^ Мне все равно, у кого работать, у тебя или
у другого, п только к тому сказал, что не похож ты на
рабочего человека,— больноуж тово;.» драный. Ну* я
ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи,
рази я не видел пьяниц! Эх, сколько! да еще не таких,
как ты<.
-— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче пвре-
спрооил Челкаш.
-*-¦ Я-то? АйдаЦ с моим удовольствием! Говори
цену.
—. Цена у меня по работе. Какая работа будет.
Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?
по теперь дело касалось денег, а тут крестьянивг.хо-
тел быть точным и требовал той же точности от
нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозри*
тельность.
*~ Это мт не рука, брат1
Челкаш йошел в ролы:
*— Не толкуй, погоди! Щдем в трашгир!
108
И они пошли по улице рядом друг с другом, Чел-
каш—^сва^йой* миной ^хозяина, покручивая усы^
парень— е^вырал^енмем полной тотовноети подчиниться,
но все-таки полный недоверия и боязни.
^'' А как тебя звать?— спросив Челкаш.
-— Баврилом! — ответил парень.
Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир;
Челкаш, подойдя: к буфету, фамильярным тоном
завсегдатая, заказал бутылку водки, щей, поджарку из
мяса; чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил
'буфетчику: «В долг все!», на что буфетчик молча
кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважег
ййя к своему хозяину, который, несмотря на свой вид
жулика, пользуется такой известностью и доверием.
— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком.
Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.
Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир
помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он
был полон удушливым запахом перегорелой водки,
табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против
Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в
матросском костюме, с рыжей бородой, весь в
угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню,
всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то
страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не
русский.
Сзади его поместились две молдаванки;
оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели
песню пьяными голосами.
Лотом из тьмы выступали еще разные фигуры, все
странно' растрепанные, все полупьяные, крикливые,
беспокойные...
Гавриле стало жутко. Ему хотелось, чтобы хозяин
воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну
ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное
животное, оно,, обладая сотней разнообразных голосов,
раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не
заходит выхода на волю,.. Гаврила чувствовал, как в
его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное,
от чего у него кружилась голова и туманились глаза,
любопытно и со страхом бегавшие по трактиру... ,
Пришел Челкаш, и они стали есть и пить,
разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало
109
весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему
хозяину,1 который — славным человек!—так' вкусно
угостил его. Но слова, целыми волнами
подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг
отяжелевшего. ¦
Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь,
говорил:
— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!., как
работать-то будешь?..
— Друг!..— лепетал Гаврила.— Не бойсь! Я тебе
уважу!.. Дай поцелую тебя!., а?..
—* Ну, ну!.. На, еще клюкни!
Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в
глазах все стало колебаться ровными, волнообразными
движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило.
Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь
сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мы.
чал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно
вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался
хмуро.
А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос
спал, облокотясь на стол.
-*-¦ Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.
Гаврила попробовал подняться, но не смог и,
крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом
пьяйого.
— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь
против него на стул.
Гаврила зсе хохотал, тупыми глазами поглядывая
на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и
задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь
которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш,
чувствовал себя в силе поверлуть ее и так и этак. Он мог
разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей
установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя
себя господином другого, он думал о том, что этот
парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба
дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел
об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже
огорчался за нее, представляя, что она может еще раз
попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце
концов слились у Чел каша в одно—нечто отеческое
и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был
110
нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и,
легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трак-*
тира, где сложил на землю в тень от поленницы дров,
а сам сел около него и закурил трубку, Гаврила
немного повозился, помычал и заснул.
II
¦— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у
Гаврилы, возившегося с веслами.
— Сейчас! Уключина вот шатается,— можно разок
вдарить веслом?
— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками
крепче, она и войдет себе на место.
Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к
корме одной из целой флотилии парусных барок,
нагруженных!; дубовой клепкой, и больших турецких фелюг,
занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами
кипариса.
Ночь была темная, по небу двигались толстые
пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо,
как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом
и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег,
чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое
пространство от берега с моря подымались темные остовы
судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными
фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей
и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво
трепетали на его бархате, мягком, матово-черном; Море
спало здоровым, крепким сном работника, который
сильно устал за день.
— Едем! —сказал Гаврила, спуская весла в воду.
— Есть! — Челкаш сильным ударом руля
вытолкнул лодку в полосу воды между барками^ она быстро
поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел
з'агоралась голубоватым фосфорическим сиянием^-т»
длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.
— Ну, что голова? болит? — ласково спросил
Челкаш.
— Страсть!., как чугун гудит.., Намочу ее водой
сейчас.
— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может,
скорее очухаешься,— и он протянул Гавриле бутылку,
111
-г- Ой Ли?Тбсподй благослови!..
Послышалось тихое бульканье,
— Эй ты! рад?.. Будет! — останбвил его Челкаш.
Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь
среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и
море— бесконечное, могучее — развернулось перЬд йими,
уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо
горы облаков — лилово-сизых, с* желтыми Пуховыми
каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды,
и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя
такие, тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли
медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои
цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая
в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-
то роковое было в этом медленном движении
бездушных масс. Казалось, что там, на кщю моря, их
бесконечно много и они всегда будут так^авнодушно
всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему
никогда больше блестеть над сонным мооем
миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд,
живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие
желания в людях, которым дорог их чистый блеск.
— Хорошо море? — спросил Челкаш.
— Ничего! Только боязно в нем,— ответил
Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть
слышно звенела и плескалась под ударами длинных
весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.
— Боязно! Экая дура!.. —насмешливо проворчал
Челкаш.
Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура,
жадная на впечатления, никогда не пресыщалась
созерцанием этой темной широты, бескрайной,
свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой
ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на
корме, он резал рулем воду и смотрел вперед
спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой
бархатной глади.
На море в нем всегда поднималось широкое,
теплое чувство,—-Охватывая всю его душу, оно немного
очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и
любил видеть себя лучшим ?ут, среди воды и воздуха,
где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют —
первые— остроту, вторая — цену. По ночам над морем
112
плавно носится мягкий, шум его сонного дыхания*
этот необъятный звук влцвает в душу человека
спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит
Э ней могучие мечты...
— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила,
беспокойно оглядывая лодку.
Челкаш вздрогнул.
-г- Снасть? Она у меня ^а корме.
Но ему стало обиднр лгать пред этим мальчишкой,
И ему было жаль тех дум и чувств, которые
уничтожил этот парень своим вопросом, Он рассердился.
Знакомое ему острое жжение в груди и у горла
передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:
— Ты вот что —сидишь, ну и сиди! А не в свое
дело нбса не суй. Наняли тебя грести, и греби, А коли
будешь языком трепать, будет, плохо. Понял?..
. На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла
остались1 в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно
завозился на скамье.
— Греби!
Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила
взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла
быстрыми, нервными толчками, с шумом
разрезая воду.
— Ровней!..
Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из
рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо
Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил
на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое
скрипение зубов и робкое пощелкиваний какими-то
костяшками.
— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.
— Ну, дьявол, греби же!., тише!., убью, собаку!..—
Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!..—
шипел Челкаш.
--* Богородице... дево...— шептал Гаврила, дрожа
и изнемогая от страха и усилий.
Лодка плавно повернулась и пошла назад к гава-
*нн,. где огни фонарей столпились в разноцветную
группу и видны были стволы мачт.
— Эй! кто орет? — донеслось снова.
Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Чел-
каш успокоился.
— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению
криков и затем обратился к Гавриле, все еще
шептавшему молитву:
— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы
погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя
сразу— к рыбам!..
Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже
добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха,
взмолился:
— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу,
отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я
совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу
я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз...
Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня?
а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...
— Какие дела? — сурово спросил Челкаш.— А? Ну,
какие дела?
Его забавлял страх парня, и он наслаждался и
страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш,
грозный человек,
— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я
тебе?., а?.. Милый...
— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал
бы. Понял? — ну и молчи.
— Господи! — вздохнул Гаврила.
— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш;
Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо
всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но
греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова
на дороге встали темные корпуса судов, и лодка
потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды
между бортами.
— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи,
коли жив быть хочешь! Понял?
— Эхма! — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ
на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина
моя пропащая!..
— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.
Гаврила от этого шепота потерял способность
соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным
предчувствием беды. Он машинально опускал весла в
воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и
все время упорно смотрел на свои лапти.
Л 4
Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен.
Вот гавань... За ее грацитцой стеной, слышались
людские голоса, плеск воды, песня и тонкие ,свистки,
— Стой! — шепнул Челкаш.— Бросай зесла!
Упирайся руками в стену! Тише, черт!..
Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень,
повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без
шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.
—- Стрй!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя
где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это,
мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не
удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без
паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь —
на дне моря найду!..
И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш
поднялся на воздух и исчез на стене.
Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он по-
чувствовйл, как с него сваливается, сползает та
проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при э?ом
усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно
вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался
черный корпус без мачт,— какой-то огромный гроб,
безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока
родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый
вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная сте-1
на мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись
толсе какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие
между стеной и бортом этого гроба, видно было море,
молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами.
Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая
из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью
своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле
стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного
на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы
крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал
к скамье лодки...
А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов
моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как
и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и
можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже
море, только море взволнованное и опрокинутое над
другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на
волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми
115
хребтами, и на пропасти,-из которых вырваны эти вол-
ньгветром, й на зарождавшиеся валы, еще не
покрытие зеленоватой пеной бешенства и гнева.
Гаврила чувствовал себя раздавленным этой
мрачной тещиной и красотой и чувствовал, что он хйчет
вгй-аеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Вре-
йяр шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по
небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей*!..
Н6 вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-
то1 похожее на шепот. Гавриле показалось, что он
сейчас умрет...
— Эй! Спишь? Держи!., осторожно!..— раздался
глухой голос Челкаша.
Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое.
Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно
такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная
фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам
Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш
уселся на корме.
Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.
— Устал? — спросил он.
— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во
всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела
сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а
там — получай денежки и ступай к своей Машке.
Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?
— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу,
работая грудью, как мехами, и руками, как стальными
пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса
за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился
потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив
дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся
пережить его в третий раз и желал одного: скорей
кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать
от этого человека, пока он в самом деле не убил или
не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни
о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и,
если удастся благополучно развязаться с ним^ завтра
же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его
груди готова была вылиться страстная молитва. Но он
сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал,
исподлобья кидая взгляды на Челкаша.
116
А тот> сухой, длинный, нагнувшийся вперед и
похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел.во тьму
вперед лодки ястребиными очами, и, поводя хищным,
горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку
руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок,, ко.
торые кривили его тонкие губы» Челкаш был доволен
своей удачей, собой и этим парнем, так сильно
запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел,
как. старался Таврила, и ему стало жалко, захотелось
ободрить его.
— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он.— Что,
здорово "ты перепугался г> а?
— Н-ничего!..— выдохнул Гаврила и кокнул.
— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла,-
то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место
пройти... Отдо&ни-ка.
Гаврила йослушно приостановился, вытер рукавам
рубахи пот с лиЦа и снова опустил вёсла в воду.
— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала.
Воротца одни надо миновать. Тише, тише'.. А то;-брат,
тут народы серьезные... Как раз из ружья
пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не
охнешь.
Лодка теперь кралась по воде почти совершенно
беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и
когда они падали в море, на месте их падения
вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь
становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже. не
походило на взволнованное море — тучи расплылись
по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко
опустившимся над водой и неподвижным. А море
стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым,
соленым запахом и уж не казалось таким широким, как
раньше.
— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш.1—?
Так бы мы и проехали, как за занавеской.
Слева и справа от лодки из черной воды поднялись
какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и
тоже черные. На одной из них двигался огонь, ктю-шо
ходил с фонарем. Море, гладя их бока, звучало
просительно и глухо, а они отвечали еку эхом, гулким и;
холодным, точно спорили, не желая уступить; ему в чем-то.
— Кордоны!..— чуть слышно шепнул Челкаш,
117
G момента, когда Он велел Гавриле грести тише,
Гаврилу снова охватило острое выжидательное
напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему
казалось, что он растет,— кости и жилы вытягивались в
нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью,
болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги
вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза
ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из
которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на
них: «Стой, .воры!..»
Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила
дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него,
прошла и задела по туго натянутым нервам,— он
хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе..; Он
уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил
грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот,— но
вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как
плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.
...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной
воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч,
поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по
тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голу бой*
полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака
выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые,
обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они
долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой
буря, а вот теперь поднялись оттуда по велению
огненного меча, рожденного морем,— поднялись, чтобь*
посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их
такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими,водрррс-
лям,и, поднявшимися со дна вместе с этими черными
гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся
кверху из глубин моря, этот страшный голубой, меч,,
поднялся сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже
9 другом направлении. И там, где он лег, снова
всплыли остовы судов, невидимых до его появления.
Лодка, ^елкаша остановилась и колебалась на воде,
как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв
лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел
бешено, но тихо:
— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь
электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет
бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну..,
118
И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога
сильнее других опустился на спину Гаврилы, он
вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и,
ощупью схватив весла, двинул лодку.
— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт
тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!..
Фонарь— только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!..
За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко
отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы...— Чел-
каш торжествующе оглянулся кругом.— Кончено,
выплыли!.. Фу-yL Н-ну, счастлив ты, дубина
стоеросовая!..
Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса
смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот
огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что
это только фонарь. Холодное голубое сияние,
разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным
блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила
опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как
машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху,
и ничего, никакого желания не было уже в нем — он
был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали,
наконец, из него все человеческое.
А Челкаш торжествовал. Его привычные к
потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно
вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он
чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы,
глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался
кругом и добродушно улыбался, когда его глаза
останавливались на Гавриле.
Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее
частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и
прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на
то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над
морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-
то серую, скучную думу.
— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как —
точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок
костей остался! Конец уж всему. Эй!..
Гавриле все-таки было приятно слышать
человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.
— Я слышу,— тихо сказал он,
119
-г- Тото! Модиш... Ну-ка,; садись на руль, а я-гца
весла, устал, поди!
, Гаврила машинально переменил место. Когда Чел-
^аш, меняясь с ним местами* взглянул ему. в лшщ,.и
заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему
стало еще больше жаль па])ня. Он хлопнул его по плеяу.
_гг- Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те,
брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь
поручить? а?
— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...
Челкащ; махнул рукой, плюнул и принялся грести,
далеко, назад забрасывая весла своими длинными
руками.
Море проснулось. Оно, играло маленькими волнами,
ро^кдая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг
с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, щипе-
ла и вздыхала,— и все кругом, бщло заполнено
музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.
— Ну, скажи мне,— заговорил ,Челкащ,—придешь
ты в, деревню» женишься, начнешь землю копать, хлеб
сеять, жена детей, народит, кормов не будет хватать;
иу,, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что?
Много в этом смаку?
— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил
Гаврила.
Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов
смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками
на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки
прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.
t ч- Правее держи! — сказал Чел каш.— Скоро уж
приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот
видишь как?.. Ночь одна —и полтысячи я тяпнул!
,— Полтысячи?!— недоверчиво протянул Гаврила,
но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая
ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь? ,
— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене про-
дать* так и за тысячу, хватит. Ну, я не дорожусь.;..
Ловко?
, — Н-да-а?..— вопросительно протянул Гаврила.—
Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив
^деревню, убогое хозяйство, срою мать и эсе то далекое,
родное, ради чего он ходил т работу, ради чего так
измучился в эту ночь% Его охватила волна воспоминаний
120
о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз,
к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин,
черемухи...— Эх, важно бы!..— грустно вздохйул он.
— Н-да!.. Я думаю, т*л бы сейчас по чугуйке
домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома а-ах как!..
Любую бери! Дом бы себе сгрохал— ну, для дома
денег, положим, маловато...
— Это верно... для дому нехватка, У нас дорог
лес-то.
— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь кйк?
есть? *
— Лошадь? Она и есть, да больно сгара, чёрт.
— Ну, значив лошадь. Ха-арошую лошадь!
Корову... Овец... Птицы разной... А?
— Не гбвори!... Ох ты, господи! вот уж пожил бы!
— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе*..
Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое
гнездо...;Ютец-то был из первых- богатеев в ёеле...
Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась На \бол-
нах* шаловливо плескавшихся о ее борта, еле дв!ига-
лаёь по темному морю, а оно играло все резвей rf
резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на
воде'и'Задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал
'наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая 'немного
ободрить и успокоить его; Сначала он говорил,
посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики
собеседнику й напоминая ему о радостях крестьянской
жизни, в' которых сам давно разочаровался, забыл о
них и вспоминал только теперь,— он постепенно
увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о
деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам
рассказывать ему:
— Главное в крестьянской жизни — это, 6paty
свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош
ему цена — да он твой. У тебя земля Своя — и того ее
горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У
тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать
уважения к себе... Так ли? — воодушевленно закончил
Челкаш.
Гаврила глядел на него с любопытством и тоже
воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже
забыть, с кем имеет дело, if: видел пред собой такого
же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к
,потом одцог^х дрколедий, связанного.,q ней
воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от
нее и от, забот о ней и понесшего за эту отлучку
должное, наказание ,
— Это,; брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка
на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат,
как мать, не забудешь надолго,
Чедкащ одумался... Он почувствовал это
раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть
только его самолюбие — самолюбие бесшабашного
удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем,
кто не имел цены в его глазах.
, р- Замолол!..— сказал он свирепо,— ты, может,
думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!
— Да чудакгчеловек!..— снова оробел Гаврила.—
Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты,—
много! Эх, сколько несчастного народу на свете!..
Шагающих...
— Садись, тюлень, в весла!— кратко скомандовал
Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток
горячей ругани, хлынувшей ему к горлул
Они опять переменились местами* причем Челкаш,
перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое
желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.
Короткий разговор смолк, но теперь даже от
молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он
вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой
волнением и плывшей куда-то в море. Врлны точно
понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше
подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под
веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом
быстро неслись картины прошлого, далекого
прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из
одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть
себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую,
пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца —
рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя
женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с
длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя,
красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже
седого к согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую
к земле; посмотрел и картину встречи его деревней,
когда он возвратился со службы; видел, как гордился
122
перед всей деревней отец своим Григорием, усатьш,
здоровым солдатом, ловкий красавцем... Память,'этот
бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и
даже в яд, выпитый некогда, подливает капли'меда...
Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей,
ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой
до его слуха и ласковые слова матери, и солидные
речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков
и много сочного запаха матушки-земли, только что
оттаявшей, только что вспаханной и только что
покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя
одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из
того порядка жизни, в котором выработалась та кровь,
что течет в его жилах.
— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг
Гаврила.
Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором
хищника.
— Ишь чёрт занес!.. Гребни-ка погуще...
— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.
— Устал...
— Так теперь мы» значит, уж не попадемся с
этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.
— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки
получу... Н-да!
— Пять сотен!
— Не меньше.
— Это, тово,— сумма? Кабы мне, горюну!. Эх, и
сыграл бы я песенку с ними?..
— По крестьянству?
— Никак больше! Сейчас бы...
И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш
молчал. Усы у него обвисли, правый бок,
захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли
блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное
приниженной задумчивостью, смотревшей даже' из
складок его грязной рубахи.
Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то
черному, высовывавшемуся из воды.
Небо снова все покрылось тучами, и посыпался
дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на
хребты волн.
— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.
123
Лодка стукнулась носом о корпус барки.
— Спят, что ли, черти?..— ворчал Чел'кай, цёп-
ляясь'багром за какие-то веревки, спускавшиеся с
борта,—Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-
то! Эй вы, губки!.. Эй!..
¦•—• Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мур-
лыканье.
•^ Ну, спускай трап!
¦— Калимера, Селкаш!
— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Чел-
каш.
•— О, сердитый пришел сегодня... Элоу!
¦—: Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к
товарищу.
В минуту они были на палубе, где три темных
бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом ria
странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в
лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную
хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом
подозрительно оглянул Гаврилу.
•— Припаси к утру деньги,— коротко сказал ему
Челкаш.-—А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть
хочешь?
*— Спать бы...—ответил Гаврила и через пять
минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял
себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в
сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он
вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя
усами.
Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то
поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко
сыпался на йалубу, и плескались волны о борта... Все
было грустно и звучало, как колыбельная песнь
матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...
Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову,
огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся...
Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.
III
Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг;
сразу успокоился и посмотрел н;а Гаврилу, ещё
спавшего. Тот сладко всхрапывал й во сне улыбался чему-
то всем своим'детским, здорошм, загорелым лицом*
124
Челкаш вздрхнул и полез вверх по узкой веревочной
ле^ниод,. В отверстие трюма смотрел свинцовый ку-
cojk неба. Б^ло светло, но ло-осенне^у скучно и серо.
,'Челкзш вернулся часа через два. Лицо у него
было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в
длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны
и походил на охотника. Весь его костюм был потерт,,
но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру
шире, скрадывая его костлявость и придавая ему
воинственный вид.
— Эй, теленок, вставай!..— толкнул он ногой Гавг
рилу.
Тот вскочил и, не узнавая его со сна,.испуганно
уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.
— Ишь ты какой!..— широко улыбнулся наконец
Гаврила.— Барином стал!
— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько
раз умирать-то вчера ночью собирался?
,— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело!
Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!
— Ну, а еще раз поехал бы? а?
г— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за
какой корысти?., вот что!
— Ну ежели бы две радужных?
— Два ста рублев, значит? Ничего... Это можно...
.— Стой! А как душу-то загубишь?..
—*¦ Да ведь, может... и не загубишь!—улыбнулся
Гаврила.— Не загубишь, а человеком на всю жизнь
сделаешься.
Челкаш весело хохотал.
— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...
И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила
на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое ту- .
чами,- и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно .
подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело
бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко,
по носу лодки видна желтая полоса песчаногб берега,,
а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн,
убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно
много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые
груды домов города. Оттуда по морю льется глухой,
гул, рокочущий и вместе е плеском волн создающий
хорошую, сильную музыку... И на все ндброшена тон-.
125
кая пелена пепельного тумана, отдаляющего
предметы друг от друга...
— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул
Челкаш головой на море.
— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя
волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от эт^х
брызг, разбрасываемых по морю ветром.
т- Эге!..— подтвердил Челкаш.
Гаврила пытливо посмотрел на него...
-—Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он
наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.
«~ Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-
то, вынутое из кармана.
Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его
глазах приняло яркие, радужные оттенки.
*- Эх!.. А я ведь думал; врал ты мне!.. Это —
сколько?
*- Пятьсот сорок!
*— Л-ловко!..— прошептал Гаврила, жадными
глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в
карман.— Э-эх-ма!.. Кабы этакие деньги!..— И он
угнетенно вздохнул.
+*> Гульнем мы с тобой, парнюга! —с восхищением
вскрикнул Челкаш.— Эх, хватим... Не думай, я тебе
брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь,
сейчас дам?
— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!
Гаврила весь трепетал от ожидания, острого,
сосавшего ему грудь.
— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат,
пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я,
куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня,
прими-ка, на!..
Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек.
Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал
прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно
втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Чел-
кащ с насмешливой улыбкой поглядывал на него.
А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно,
торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз.
У него вздрагивали плечи и уши.
— А жаден ты!.. Нехорошо.., Впрочем, что же?..
Крестьянин...— задумчиво сказал Челкаш.
126
Д;3; ведь с деньгами-то что можно сделать!-.•J-i-
воскликнул, Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным
возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно-
догоняя, свор .мысли и с лету хватая слова, заговорил vp
жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет,
довольство, веселье!..
Челкаш слушал его внимательно, с серьезным
лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По
временам он улыбался довольной улыбкой.
— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.
Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в лесок.
.— Ну, брат» теперь кончено. Лодку нужно
вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы
с тобой — прощай!.. Отсюда до города! верст восемь.
Ты что, опять в городвернешься? а?
На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая
улыбка и весь он имел вид человека, задумавшего нечто
весьма приятное для себя и неожиданное для
Гаврилу. Засунув руку в карман, он шелестел там
бумажками.
— Нет... я... не пойду... я...— Гаврила задыхался и
давился чем-то.
Челкаш посмотрел на него.
— Что это тебя корчит? — спросил он.
— Так...— Но лицо Гаврилы то краснело, то
делалось серым, и он мялся на месте, не то желая
броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием,
исполнить которое ему было трудно.
Челкашу стало не по себе при виде такого
возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.
Гаврила начал как-то странно смеяться смехом,
похожим на рыдание. Голова его была опущена,
выражение его лица Челкаш не видал, смутно видны
были только уцщ Гаврилы, то красневшие, та блед-
невшие;
— Ну тя к черту1 — махнул рукой Челкаш.г— Вл,кь
бился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али
расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты?
А то уйду я!..
— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.
Песчаный и пустынный берег дрогнул от его
крика, и намытые волнами моря желтые волны ггеску
точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила
128
сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша,
обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш по-
дпатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами,
резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой,
сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный
стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:
— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай,
Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только
в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за
тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души
твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх,
дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь
одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь
ты... Нет тебе пути.. А я бы — ох! Дай ты их мне!
Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный,
сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него
руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза
на парня Д уткнувшегося головой в его колени и
шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его,
наконец; вскочил на ноги и, сунув руку в карман,
бросил в Гаврилу бумажки*
— На! Жри:...— крикнул он, дрожа от
возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному
рабу., И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.
— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился
вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу
парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет?
А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно
так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не
помнят... За пятак себя продаете!..
— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь
у меня что?., я теперь... богач!..— визжал Гаврила в
восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху.— Эх ты,
милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям
закажу — молись!
Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на
сиявшее, искаженное-восторгом.жадности лицо и
чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего
родного — никогда не будет таким жадным, низким, не
Помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта
мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей
свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном
мбрском' берегу.
f, M. Горький 129.
— Осчастливил ты меня!-1-кричал Гаврила и,
схватив руку Чел каша, тыкал ею себе в лицо.
Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила
все изливался:
— Ведь я что думал? Едем мы сюда... Думаю...
хвачу я его — тебя — веслом... рраз].. денежки — себе,
его -j- в море... тебя-то..- а? Кто, мол, его хватится?
И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не
такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!..
Ненужный на земле! Кому за него встать?
— Дай сюда деньги!..— рявкнул Челкаш, хватая
Гаврилу за горло...
Гаврила рванулся раз, два,—другая рука Чел каша
змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой
рубахи— и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив
глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая
ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив
зубы, смеялся дробным, едким смехом» и его усы нервно
прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю
жизнь его не били так'больно, и никогда он не был так
озлоблен.
— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он
Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по
направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов,
как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и,
широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый
камень, злобно крикнув:
— Рраз!..
Челкаш крякнул, схватился руками за голову,
качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в
песок, Гаврила замер, глядя на него. Вот он
шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся,
вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать
вдаль, где над туманной степью висела мохнатая
черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на
песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела,
и брызги воды летали по воздуху.
Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро
перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими
струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды —
сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря.
Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно,
кроме дождя ц длинного человека, лежавшего на песке
130
у моря. Ио вот из дождя снова появился бегущий
Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал
перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука
окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и
отшатнулся с безумным, бледным лицом.
— Брат,, встань-кось! — шептал он под шум дождя
в ухо Челкашу.
Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло
сказав:
— Поди прочь';..
— Брат! Прости!., дьявол это меня...— дрожа,
шептал,Гаврила, целуя руку Челкаша.
— Иди... Ступай...— хрипел тот.
— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..
— Про... уйди ты!., уйди к дьяволу! — вдруг
крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное,
алое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно
хотел спать..^Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди!
Пошел! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу
ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы
Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша
было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были
бледны и страшны. *
— Тьфу! —плюнул Челкаш в широко открытые
глаза своего работника.
Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:
— Что хоть делай... Не отвечу словом. Прости для
Христа!
— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!-.—презрительно
крикнул Челкаш, еорвал из-под своей куртки рубаху и
молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать
себе голову.— Деньги взял?—сквозь зубы
процедил он.
— Не брал я их, брат! Не надо мне!., беда от них!..
Челкаш сунул руку в карман своей куртки,
вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил
обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле,
— Возьми и ступай!
— Не возьму, брат... Не могу! Прости!
— Бери, говорю!..—взревел Челкаш, страшно
вращая глазами.
— Прости!.. Тогда возьму...— робко сказал Гаври-
да и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро
побиваемый дождем. i3j
— Врешь, возьмешь, гнус!—уверенно сказал Чел-
каш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он
сунул ему деньги в лицо.
— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь!
Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких
людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как
узнают. На, бери!
Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало
легче. Он крепко сжал деньги в руке.
— Брат! а простишь меня? Не хошь? а?—слезливо
спросил он.
— Родимой! — в тон ему ответил Челкаш,
подымаясь на ноги и покачиваясь.—За что?. Не за что!
Сегодня ты меня, завтра я тебя...
—,Эх, брат, брат!..— скорбно вздохнул Гаврила,
качая головой.
Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а
тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась
похожей на турецкую феску.
Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало,
волны бились о берег бешено и гневно.
Два человека помолчали.
— Ну прощай! — насмешливо сказал Челкаш,
пускаясь в путь.
Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно
держал голову,, точно боялся потерять ее. ^
— Прости, брат!..— еще раз попросил Гаврила.
— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в
путь.
Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову
ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой
бурый ус.
Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не
исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими,
бесконечными струйками и окутывавшем степь
непроницаемой стального цвета мглой.
Потом Гаврила снял свой мокрый картуз,
перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони,
свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и
широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону,
противоположную той, где скрылся Челкаш.
Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на
прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену.
Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все
кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не
видно было ни моря, ни неба..
Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно
на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челка-
ша и следы молодого парня на прибрежном песке...
И на пустынном берегу моря не осталось ничего в
воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся меж-
ДУ двумя людьми.
ПЕСНЯ О СОКОЛЕ
Море огромное, лениво вздыхающее у берега,—
уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым
сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось
там с синим южным небом и крепко спит, отражая в
себе прозрачную ткань перистых облаков,
неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Ка-
йсется, что небо все ниже наклоняется над морем',
желая понять то, о чем шепчут неугомонные воллы,
сонно всползая на берег.
Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми
норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины
в синюю пустыню над ними, суровые контуры их
округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.
Горы важно задумчивы. С них на пышные
зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их,
как бы желая остановить единственное движение, за-,
глушить немолчный плеск воды и вздохи пены,—все
звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую
вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще
скрытой за горными вершинами.,
— А-ала-ах-а-акбар!..— тихо вздыхает Надыр-Ра-
гим-оглы, старый крымский чабан, высокий седой,
сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.
Мы с ним лежим на песке у громадного камня,
оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего
мхом,— у камня печального, хмурого. На тот бок его,
который обращен к морю, вЬлны набросали тины,
водорослей, и обвешанный ими камень кажется
привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море
[133
от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны,
обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому
камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бе-,
га ют тени.
Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной
рыбы и оба находимся в том настроении, когда все
кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим
проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и
нет иных желаний, кроме желания думать.
А море ластится к берегу, и волны звучат так
ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда
в общей гармонии плеска слышится более повышенная
и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее,
подползла ближе к нам.
Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и
вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями
и положив голову на ладони. Мохнатая баранья
шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в
его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он
философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он
говорит с морем:
— Верный богу человек идет в рай. А который не
служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене...
И те серебряные пятна на воде, может, он же... ктр
знает?
Темное, могучее размахнувшееся море светлеет,
местами на нем появляются небрежно брошенные блики
луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гдр л
теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо
вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы
лежим.
— Рагим!.. Расскажи сказку...—прошу я старика.
— Зачем? — спрашивает' Рагим, не оборачиваясь
ко мне.
— Так! Я люблю твои сказки.
— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю...—•
Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.
— Хочешь, я расскажу тебе песню?— соглашается
Рагим.
Я хочу слышать старую иесню, и унылым
речитативам, стараясь сохранить своеобразную мелодию
песни, он рассказывает.
1
«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье,
свернувшись в узел и глядя в море. '
«Высоко в небе сияло солнце,, а горы зноем дышали
в небо, и бились волны внизу о камень...
«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился
навстречу морю, гремя камнями...
«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал
горы и падал в море, сердито воя.
«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба
Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...
«С коротким криком он пал на землю и бился
грудью в бессильном гневе о твердый камень...
«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял,
что ж издай птицы две-три минуты...
«Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел
он ей пр^мо в очи:
«— Что, умираешь?
«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув
глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро
бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!..
Эх ты, бедняга!
«— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне
там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!
«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся з
душе над нею за эти бредни.
«И так подумал: «Летай иль ползай,, конец
известен: все в землю лягут, все прахом будет...»
«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал
немного и по ущелью повел очами.
«Сквозь серый камень вода сочилась, и была
душно в ущелье темном и пахло гнилью.
«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все
силы:
«,— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага
прижал; Зы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей
он кровью!.. О, счастье битвы!..
«А Уж подумал: «Должщо* быть, в небе и в самом
деле пажить приятно, коль он так стонет!..»
«И предложил он свободной птице: «А ты
подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может,
135
крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в
твоей стихии».
«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к
обрыву, скользя когтями по слизи камня.
«И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей
грудью, сверкнул очами и т-вниз скатился.
«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро
падал, ломая крылья, теряя перья...
«Волна потока его схватила и, кровь омывши,
одела в пену, умчала в море.
«А волны моря с печальным ревом о камень
бились... И трупа птицы не видно было в'морском
пространстве...
И
«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы,
о страсти к небу.
«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает
очи мечтой о счастье.
«-«- А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой
без дна и края? Зачем такие, как он, умерши,
смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там
ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо
хоть ненадолго.
«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он
прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.
«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв
об этом, онпал на камни, но не убился, а рассмеялся...
«— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она ~—
в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней
тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в
Пустыне знойной. Там только пусто. Там много света,
но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же
гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть
безумство своих желаний и скрыть за ними свою
негодность для дела жизни? .Смешные птицы!.. Но не
обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю!
Я — видел небо...„Взлетал в него я, его измерил, познал
паденье, но не разбился, а только крепче в
Себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут,
живут обманом. Я знаю правду.^И их призывам я не
поверю, Земли творенье — землей живу я.
136
«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.
«Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны
о берег бились.
«В их львином реве гремела песня о гордой птице,
дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной
песни:
„Безумству храбрых поем мы славу!
„Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О
смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но
будет время — и капли крови твоей горячей, как искры,
вспыхнут во мраке жизни w много смелых сердец
зажгут безумной жаждой свободы, света!
„Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь живым примером, призывом
гордым к свободе, к свету!
„Безумству храбрых поем мы песню!.."»
...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут
волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все
больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш
котелок тихо закипает.
Одна из волн игриво вскатывается-на берег и,
вызывающе шумя, ползет к голове Рагима.
— Куда идеШь?.. Пшла! — машет на нее Рагим
рукой, и она покорно скатывается обратно в море.
Мне нимало не смешна и не страшна выходка
Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит
странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно
спокойно, и чувствуется,4 что в свежем дыхании его на
горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много
мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу
золотым узором звезд написано нечто торжественное,
чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием
какого-то откровения.
Вчсе дремлет, но дремлет- напряженно чутко, и
кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется
и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких
звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира,
разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный
огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю
бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд
гоже зазвучат дивной музыкой откровения...
137
ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ
Однажды осенью мне привелось стать в очень
неприятное и неудобное положение: в городе,
куда1 я только что приехал и где у меня не было
ни одного знакомого человека,— я очутился без гроша
в кармане и без квартиры.
Продав в первые дни всё то из костюма, без чего
можно было обойтись, я ушел из города в местность»
называемую Устье, где стояли пароходные пристани и
в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь,
а теперь было пустынно и тихо, — дело происходило в
последних числах октября.
Шлепая ногамд по сырому песку и упорно
разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь
остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди
пустынных зданий и торговых ларей и думал о том,
как хорошо быть сытым...
При данном состоянии культуры голод души можно
удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по
улицам, вас окружают здания, недурные по внешности
и — можно безошибочно сказать — недурно
обставленные внутри:, это может возбудить у вас отрадные
мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом
другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и
тепло одетые люди, — они вежливы, всегда
сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального
факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного
человека всегда питается лучше и здоровее души
сытого, — вот положение, из которого можно сделать
очень остроумный вывод в пользу сытых!..
...Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто
дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил
в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки
от его ударов пенились, шумно плескались на песок
берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись
одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая
друг через друга... Казалось, что река чувствовала
близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда,
которые мог в эту же ночь набросить на нее северный
ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно
сыпались еле видные глазом капельки дождя; печальную
138
элегию в природе вокруг меня подчеркивали две
обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном
лодка у их корней.
Опрокинутый челн с проломленным дном и
ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые...
Всё кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо
точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было
вокруг— казалось, всё умирает, скоро останусь в живых
я один, и меня тоже ждет холодная смерть.
А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!
Я ходил, ходил по холодному и сырому песку,
выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг*
в тщетных поисках съестного, зайдя за один из
ларей, — увидал за ним скорченную на земле фигуру в
женском платье, мокром от дождя и плотно пристав?
шем к склоненным плечам. Остановившись над ней, я
присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет
руками яйу в песке, подкапываясь под один из ларей.
— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на
корточки около нее.
Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги.
Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко
раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я
видел, что это девушка моих лет, с очень миловидным
личиком, к сожалению, украшенным тремя большими
синяками. Это его портило, хотя синяки были
расположены с замечательной пропорциональностью — по
одному, равной величины, под глазами и один —
побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой
симметрии была видна работа артиста, очень
изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.
Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах
постепенно гасла... Вот она отряхнула руки от песка,
"поправила ситцевый платок на голове, поежилась и
сказала:
— Ты, чай, тоже есть хочешь?.. Ну-ка, рой, у меня
руки устали. Там, — она кивнула головой на ларь, —
наверно хлеб есть... Этот ларь торгует еще...
Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмот-
реа на меня, присела рядом и стала помогать- мне...
Мы работали молча. Я не могу сказать теперь,
помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о
морали, собственности н прочих вещах, о которых, по *мие-
U39
нию сведущих людей, следует помнить во все моменты
жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я
должен признаться, — кажется, я был настолько углублен
в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о
всем прочем, кроме того, что могло оказаться в этом
ларе...
Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — всё
более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как будто
глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя
всё звучнее и чаще... Где-то уж продребезжала
трещотка ночного сторожа...
— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя
помощница. Я не понял, о чем она говорит, и
промолчал.
— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы
напрасно ломаемся. Подроем яму,— а там, может,
толстые доски еще... Как их отдерешь? Лучше замок
сломать... замок-то плохонький...
Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но,
как вы видите, они все-таки посещают их... Я всегда
ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться
ими по мере возможности.
Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с
кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей
вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие
ларя. Оттуда раздался ее одобрительный возглас:
— Молодец!
1 Одна маленькая похвала женщины для меня
дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь
мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые
вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем
теперь, и, не обратив внимания на комплимент
девушки» кратко и со страхом спросил ее:
— Есть что-нибудь?
Она монотонно принялась перечислять мне свои
открытиям
— Корзина с бутылками... Мешки пустые...
Зонтик... Ведро железное.
Всё это было несъедобно. Я почувствовал, что мои
надежды Гаснут... Но вдруг она оживленно крикнула:
*- Ага! вот он..,
•— Хлеб.,. Каравай.., Только мокрый... Держи!
140
К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя
доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек,
засунул его в рот и жевал...
— Ну-ка, дай мне... Да отсюда надо и уходить.
Куда бы нам идти? — Она пытливо посмотрела во тьму
на все четыре стороны... Было темно, мокро, шумно...—¦
Вон там лодка опрокинута... айда-ка туда?
— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу нашу
добычу и набивая ею рты... Дождь усиливался, река
ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый
свисток, — точно некто большой и никого не боящийся '
освистывал все земные порядки, и этот скверный
осенний вечер, и нас двух его героев... Сердце болезненно
ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем
мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны
от меня.
— К^к тебя зовут? — зачем-то спросил я ее,
— Шгаша! — отвечала она, звучно чавкая.
Я смотрел на нее — у меня больно сжалась сердце,
я посмотрел во тьму впереди меня и — мне
показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается
мне загадочно и холодно...
...По дереву лодки неугомонно стучал дождь,
мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер
свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась
какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и
жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они
.звучали так монотонно и безнадежно, точно
рассказывали о чем-то невыносимо скучном и тяжелом,
надоевшем им до отвращения, о чем-то таком, от чего им
хотелось бы убежать и-о чем все-таки необходимо
говорить. Шум дождя сливался с их плеском^ и над
опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох
з.емли, обиженной и утомленной этими вечными
сменами яркого и теплого лета — осенью холодной,
туманной и сырой. Ветер носился над пустынным
берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни...
Помещение под лодкой было лишено комфорта:
в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались
мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра...
Мы сидели молча и дрожали от холода. Мде хотелось
141
спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту
лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками
колени и положив на них подбородок, она упорно
смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, — на белом
пятне ее лица они казались громадными от синяков
под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и
молчание — я чувствовал —постепенно родит во мне страх
перед моей соседкой... Мне хотелось заговорить с ней,
но я не знал, с чего начать.
Она заговорила сама.
— Экая окаянная жизнь!.. — внятно, раздельно» с
глубоким убеждением в тоне произнесла она.
Но это не была жалоба. В этих словах было
слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек
подумал, как умел, подумал и пришел к известному
выводу, который и высказал вслух и на который я не
мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал.
А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть
неподвижно.
— Хоть бы сдохнуть, что ли... — снова проговорила
Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее
словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было,
что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и
спокойно пришел к убеждению, что для охранения
себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать
что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».
Мне стала невыразимо тошно от такой ясности
мышления, и я-чувствовал, что если буду молчать еще,
то наверное заплачу... А это было бы стыдно пред
женщиной, тем более, что вот — она не плакала. Я решил
заговорить с ней.
— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав
нкчего умнее.
— Да всё Пашка же...— ровно и громко ответила
она.
— А он кто?
— Любовник... Булочник один...
*—Часто он тебя бьет?..
— Как напьется, так и бьет...
И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала
рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними
отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые...»,
а он — булочник с рыжими усами и очень хорошо иг-
142
рает на гармонике. Ходил он к ней в «заведение» и ей
очень понравился, потому что человек он веселый и
одевается чисто. Поддевка в пятнадцать рублей и
сапоги с «набором» у него... По этим причинам она в
него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он
стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее
те деньги, которые ей давали другие гости на
конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы
еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами
на ее глазах...
— Али это мне не обидно? Я не хуже других
прочих... Значит, это он издевается надо мной, подлец.
Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять,
пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже
под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик
ты1» Он избил меня всю. И пинками и за волосы —
всяческий... Это бы еще ничего! А вот порвал всю... это
как теперь? Как я к Хозяйке явлюсь? Всё порвал: и
платье и кофточку — новенькая еще совсем... и платок
сдернул с головы... Господи! Как мне теперь быть? —
вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.
И ветер выл, становясь всё крепче и холоднее.
У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже
ежилась от холода, придвинувшись настолько близко
ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз...
— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала
бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас...
плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые
хари! Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые
собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас
вы ее и под ногн себе... Шематоны паршивые...
Ругалась она очень разнообразно, но в
ругательствах <зе не было силы: ни злобы, ни ненависти к
«паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон
ее речи был несоответственно содержанию спокоен и
голос грустно беден тонами.
Но всё это действовало на меня сильнее самых
красноречивых и убедительных пессимистических книг
и речей, которые я слышал немало и раньше, и
позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому,
видите ли, что агония умирающего всегда гораздо
естественнее и сильнее самых точных и художественных
описаний смерти. . -
143
Мне было скверно — наверное, больше от холода,
чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько
застонал и заскрипел зубами.
И почти в то же мгновение ощутил на себе две
холодные маленькие руки, — одна из них коснулась
моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем
прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:
— Ты что?
Я готов был подумать, что это спрашивает меня
кто-то другой, а не Наташаг, только что заявившая, что
все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели.
Но она заговорила уже быстро и торопливо...
— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты
какой! Сидит и молчит... как сыч! Да ты бы давно
сказал мне, что холодно, мол... Ну... ложись на землю...
протягивайся... и я лягу... вот! Теперь обнимай меня
руками... крепче... Ну вот, и должно быть тебе тепло
теперь... А потом — спинами друг к другу' ляжем...
Как-нибудь скоротаем ночь-то... Ты что, запил, что ли?
С места прогнали?.. Ничего!..
Она меня утешала... Она меня ободряла...
Будь я трижды проклят! Сколько было иронии
надо мной в этом факте! Подумайте! Ведь я в то время
был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал
о реорганизации социального .строя, о политических'
переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги,
глубина мысли которых, наверное, недосягаема была;
даже для авторов их,— я в то время всячески
старался приготовить из себя «крупную активную силу».
И меня-то согревала своим телом продажная
женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому
нет места в жизни и нет- цены и которому я не
догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б
и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.
Ах, я готов был подумать* что всё это происходит
со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне...
Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на
меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей
груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло
ее теплое дыхание, хо/гя и с легоньким букетом водки...
но — такое живительное... Выл и стонал ветер, стучал
дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко
сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Всё
144
это было вполне реально, и я уверен, никто не видал
такого тяжелого и скверного сна, как эта
действительность.
А Наташа всё говорила о чем-то, говорила так
ласково и участливо, как только женщины могут
говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых,
внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него
что-то растаяло в моем сердце.
Тогда из моих глаз градом полились слезы,
смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и
грязи, накипевшей на нем пред этой ночью... Наташа
уже уговаривала меня:
— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст,
поправишься, опять на место поступишь... и всё такое...
И всё целовала меня. Много, без счета, горячо...
Это были первые женские поцелуи, преподнесенные
мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все
последующие страшно дорого стоили и почти ничего не
давали мне.
— Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою,
коли тебе некуда деваться... — как сквозь сон слышал я
тихий убедительный шепот...
...До рассвета мы лежали в объятиях друг друга...
А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в'
город... Потом дружески простились и более не
встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем
трущобам эту милую Наташу, с' которой провел
описанную мною ночь, однажды осенью...
Если она уже умерла — как это хорошо для нее! —
в мире да почиет! А если жива — мир душе ее! Да не
проснется в душе ее сознание падения... ибо это было
бы страданием излишним и бесплодным для жизни...
ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ
ас было трое приятелей — Семка Картуза, я
и Мишка, бородатый гигант с большими си.
Н
IIIBB ними глазами, вечно ласково улыбавшимися
всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в
поле, за городом, в старом полуразрушенном здании,
почему-то называвшемся «стеклянным заводоод»,— мо-
145
жет быть, потому, что в его окнах не было ни одного
целого стекла. Мы брали разные работы: чистили
дворы, рыли канавы, погреба, помойные ямы, разбирали
старые здания и заборы и однажды даже
попробовали построить курятник. Но это н&м не удалось —
Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым
на себя обязанностям, усомнился в нашем
знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень,
когда мы отдыхали, взял да и снес в кабак выданные
нам гвозди, две новые доски и топор работодателя.
За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас
было нечего — к нам не предъявили никаких
претензий. Мм перебивались «с хлеба на воду», и все трое
ощущали вполне естественное и законное в таком
положении недовольство нашей судьбой.
Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую
в нас враждебное чувство ко всему окружающему и
увлекавшее на подвиги довольно буйственные и
предусмотренные «Уложением о наказаниях,.налагаемых
мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично
тупы, ©забочены приисканием заработка и крайне
слабо реагировали на все те впечатления бытия, от
которых нельзя было чем-либо .поживиться.
Мы все трое встретились в ночлежном доме недели
за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая
его интересным.
Через два-три дня мы были уже друзьями., ходили
всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и
желания, делили поровну всё, что перепадало кому-
либо одному из. нас, и вообще заключили между собой
безмолвный" оборонительный и наступательный союз
против жизни, обращавшейся с нами крайне враж-
де0но.
, Мы весьма усердно отыскивали в течение дня
возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать,
перетаскать, и если таковая возможность
представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за
работу.
.Но потому, должно быть, iiiTo в душе каждый из нас
считал себя предназначенным для выполнения более
высших функций, чем.,, например,, копаниепомойныхлм
или чистка.их, — что еще хуже, прибавлю для
непосвященных а это дело, — часа через два работы нам
146
она переставала нравиться. Потом Семка начинал
сомневаться в ее надобности для жизни.
— Копают яму.., А для чего? Для помоев. А просто
бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать,
будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже
у безделья-то. Выброси, например, огурец соленый —
чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит
день — и. нет его... сгнил. Это вот ежели человека
мертвого выбросить на солнце, он, действительно, попахнет,
потому — гадина крупная.
Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш
трудовой пыл... И это было довольно выгодно для нас,
если работа была взята поденно,, но при сдельной
работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась
и проедалась нами ранее,, чем работа была доведена
до конца. Тогда мы шли к хозяину просить
«прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и
грозил с помдщью полиции заставить нас докончить труд,
уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы
не можем работать, и более или менее возбужденно
настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев
и достигали.
Конечно, это было непорядочно, но, право же* это
было очень выгодно, и мы — ни при чем, если в жизни
устроено так неловко, что порядочность поступка
всегда почти стоит против выгодности его.
Пререкания с работодателями всегда брал на себя
Семка и, поистине, артистически ловко вел их, излагая
доказательства своей правоты тоном человека,
измученного работой и изнывающего под тяжестью ее...
А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими
голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй,
умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не
находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало
и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто
вроде спича.
— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и
при этом его губы странно вздрагивали, в горле
першило, и он несколько времени после начала речи
кашлял, прижимая горло рукой...
— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.
— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки... И даже
не в пример хуже... А за что? Неизвестно. Но, надо по-
147
л-агать, по воле господа бога. Всё делается по его
воле... а, братцы? Ну, вот... Значит, мы достойны
собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие
мы люди, а? Ну, вот... Я и говорю теперь: так нам,
псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по
делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу
судьбу... а? Верно?
— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на
тревожные и пытливые вопросы товарища.
А тот виновато ежился, робко улыбался и молчал,
моргая слипавшимися от опьянения глазами..
Однажды нам «пофартило».
Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по
базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с
лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась
и на совином носе попрыгивали большие очки в
тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла,
сверкая маленькими, сухо блестевшими глазками.
— Вы что — свободны? Работы ищете? —
спросила она нас, когда мы все трое с вожделением
уставились на нее.
— Хорошо, — сказала она, получив от Семки
почтительный и утвердительный ответ. — Вот мне надо
разломать старую баню и вычистить колодец...
Сколько бы вы взяли за это?
— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у
них, у баньки вашей, величина, — вежливо и резонно
сказал Семка. — И опять же колодец... Разные они
бывают. Иногда очень глубокие...
Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже
вооруженные топорами и дреколием, лихо раскачивали
стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить
колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу
старого запущенного сада. Невдалеке от нее в кустах
вишни стояла беседка, и с потолка- бани мы видели, что
старушка сидит в беседке на скамье и, держа на
коленях большую развернутую_ книгу, внимательно читает
ее... Иногда она бросала в нашу сторону внимательный
и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и
на солнце блестели ее массивные, очевидно,
серебряные застежки...
Нет работы спорее, чем работа разрушения...
1.48
Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли,
поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая
глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хо*
зяйка...
— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командою
вал Семка, и венец за венцом, кряхтя, падал на землю.
— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая, —•
задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая
ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в
мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая
всадить его в щель между бревнами, всадил и добавил
так же задумчиво: — Ежели Евангилье — больно тол-,
сто будто...
— А тебе что? — полюбопытствовал Семка.
— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу...
священную ежели... У нас в деревне был солдат Афри^
кан, так ip?, бывало, как начнет
псалтырь.чест^...,ровно барабйн бьет... Ловко читал!
— Ну, так что ж? — снова спросил Семка,
свертывая папироску.
— Ничего... Хорошо больно... Хоть оно непонятно..,
а все-таки слово этакое... на улице ты его не
услышишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово
для души.
— Непонятно — ты говоришь... а все-таки видно,
что глуп ты, как пень лесной'..'. — передразнил Семка
товарища.
— Известно... ты всегда ругаешься!.. — вздохнул
тот.
— Ас дураками как говорить? Разве они могут что
понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!
Баня рассыпалась, окружаясь обломками и утопая
в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев
уже посерели. Июльское солнце не щадило наших спин
и плеч, распаривая их...
— А книга-то в серебре, — снова заговорил Мишка.
Семка поднял голову и пристально посмотрел в
сторону беседки.
— Похоже, — кратко изрек он.
— Значит, Евангилье.-
— Ну, и Евангилье... Так что?
— Ничего...
149
— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы,
коли священное писание любишь, пошел бы да и
сказал ей: почитайте, мол, мне, бабушка. Нам, мол, этого
взять неоткуда... В церкви мы, по неприличности и
грязноте нашей, не ходим... а душа, мол, у нас тоже...
как следует... на своем месте... Подь-ка, ступай!
— Аи впрямь... пойду?
— И пойди...
Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее
рукавом пыль по роже и спрыгнул с бани вниз.
— Турнет она тебя, лешмана... — проворчал Семка,
скептически улыбаясь, но с крайним любопытством
провожая фигуру товарища, пробиравшегося среди
лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся,, с
обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу
и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и
улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову
навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его
глазами.
На стеклах ее очков и на их серебряной оправе
играли лучи солнца.
Она не «турнула» его, вопреки предположению
Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем
говорил Мишка с хозяйкой; но вот мы видим* что он
грузно опускается на землю к ногам старухи и так, что
его; нос почти касается раскрытой книги. Его лицо
степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою
бороду, стараясь согнать с нее пыль,, возится и наконец
усаживается а неуклюжей позе, вытянув шею вперед
и выжидающе рассматривая сухие маленькие руки
старушки,, методично перевертывающие листы книги...
— Ишь ты... лохматый пес!.. Отдых себе сделал...
Аида — и мы? Чего так-то? Он там будет
прохлаждаться, а мы — ломи за него. Аида?
Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели ш?
земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова
не сказала встречу нам, она тольксгпосмотрела на нас
пристально и снова начала перекидывать листы книги,
ища в ней чего-то... Мы сидели в пышном зеленом
кольце,свежей пахучей листвы, над нами было
раскинуто ласковое и мягкое безоблачное небо. Иногда
пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем
таинственным звуком, который всегда так смягчает душу,
150
родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и
заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком чело7
веку, очищая его от внутренней грязи или, по меньшей
мере, заставляя временно забывать о ней и дышать
легко и ново...
— «Павел, раб Иисуса Христа...» — раздался голос
старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но
был полон благочестия и суровой важности. При
первых звуках его Мишка истово перекрестился,, Семка
заерзал до земле, выискивая -более удобную позу.
Старушка окинула его глазами, не переставая читать.
— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать
вам некое дарование духовное к утверждению вашему,
то есть утешаться с вами верою общею, вашею и моею».
Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его
товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами
и низко ацустил свою лохматую голову, всю в пыли...
Старуйка, не переставая читать, тоже строго
взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носОм,
скосил глаза и — должно йыть, желая изгладить
впечатление своего зевка—глубоко и благочестиво
вздохнул.
Несколько минут прошли спокойно.
Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.
— «Ибо открывается тнев божий с неба на всякое-
нечестие и...»
— Что тебе нужно? —вдруг крикнула чтица на
Семку.
— А... а ничего! Вы извольте читать — я слушаю!—
- смиренно объяснил он.
— Зачем ты трогаешь застежки своей грязной
ручищей? — сердилась старушка.
— Любопытно... потому — работа очень уж тонкая.
А я это понимаю — слесарное дело мне известно... Вот
я и пощупал.
— Слушай! — сухо приказала старушка. — Скажи
¦ мне, о чем я тебе читала?
— Это — извольте. Я ведь понимаю...
— Ну, говори...
— Проповедь... стало быть, поучение насчет веры,
а также и нечестия... Очень просто и... всё верно! Так
за душу и щиплет!
151
Старушка печально потрясла головой и оглядела
всех нас с укором.
Погибшие... Камни вы... Ступайте работать!
— Она тово... рассердилась будто бы? — виновато
улыбаясь, заявил Мишка.
А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед
хозяйке, не оборачиваясь удалявшейся по узкой дорожке
сада, раздумчиво произнес:
— А застежки-то у книжицы серебряные...
И он улыбнулся „во всю рожу, как бы предвкушая
что-то.
Переночевав в саду около развалин бани, уже
совершенно разрушенной нами за день, к полудню
другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде,
выпачкались в грязи и, в ожидании расчета, сидели на
дворе у крыльца,' разговаривая друг с другом и рисуя
себе сытный обед и ужин в близком будущем;
заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел
охоты...
— Ну, какого чёрта старая ведьма не идет еще,—
нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка. —
Подохла, что ли?
— Эк он ругается! — укоризненно покачал головой
Мишка. — И чего, например, ругается? Старушка —
настоящая, божья. И он ее ругает. Этакий характер
у человека...
— Рассудил...— усмехнулся его товарищ.—
Пугало... огородное...
Приятная беседа друзей была прервана
появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с
деньгами, презрительно сказала:^
— Получите и... убирайтесь. Хотела я вам отдать
баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.
Не удостоенные чести распилить баню, в чем,
впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли
деньги и пошли.
— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть
только мы вышли за ворота.— На-ко-ся! Не стоим!
Жаба дохлая! Ну-ка, вот скрипи теперь над своей
книгой...
Сунув руку в карман, он выдернул из него две
блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал
их нам.
152
Мишка остановился, любопытно вытягивая голову
вперед и вверх к поднятой руке Семки.
— Застежки отломал? — спросил он удивленно.
— Они самые... Серебряные!.. Кому не надо —
рубль даст.
— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...
— И спрячу...
Мы молча пошли дальше по улице.
— Ловко...— задумчиво говорил Мишка сам
себе.— Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая...
Старуха... обидится, чай, на нас...
— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад да на
чай даст...—трунил Семка.
— А сколько ты за них хошь?
— Последняя цена — девять гривен, Ни гроша не
уступлю... себе'дороже... Видишь — ноготь сломал!
— Предай мне...— робко попросил Мишка.
— Te6W Ты что — запонки хочешь завести себе?..
Купи, ха-арошие запонки выйдут... как раз к твоей
харе.
— Нет, право, продай! — и Мишка понизил тон
Ьросьбы...
— Купи, говорю... Сколько дашь?
— Бери... сколько там есть на мою долю?
— Рубль - двадцать...
— А тебе сколь за них?..
— Рубль!
— Чай, уступи... для друга!..
— Дура нетрепанная! На кой те их дьявол?
— Да ты уж продавай знай...
Наконец торг был заключен, и застежки перешли
за девяносто копеек в руки Мишки.
Он остановился и стал вертеть их в руках,
наклонив кудластую голову и наморщив брови и
пристально рассматривая два кусочка серебра,
— Нацепи их на нос себе...— посоветовал ему
Семка.
— Зачем? — серьезно возразил Мишка.— Не надо.
Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка,
нечаянно захватили эти штуковины, так ты. их... опять
пристрой к месту... к книге этой самой... Только вЬт
ты их с мясом выдрал... это как теперь?
153
— Да ты, чёрт, взаправду, понесешь?— разинул
рот Семка.
— А как?.. Видишь ты, такая книга... нужно, чтоб
она в полной целости была... ломать от нее куски раз*
ные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей
умирать надо.,. Вот я и того... Вы меня, братцы,
подождите с минутку... а я побегу назад...
И раньше, чем мы успели удержать его, он
крупными шагами исчез за поворотом улицы...
— Ну и мокрица-человек! Жиделяга грязная! —
возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные
последствия.
И, отчаянно ругаясь через два слова в третье, он
начал убеждать меня:
— Аида, скорей! Провалит он нас... Теперь сидит,
чай,, поди, руки у него назад... А старая карга уж и за
будочником послала!.. Вот те и водись с этаким
пакостником! Да он ни за, сизо перышко в тюрьму тебя
вопрет! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой
души, тварь с товарищем так поступить может?! Ах
ты, господи! Ну и люди стали! Аида, чёрт, чего ты
растяпился! Ждешь? Жди, чёрт вас всех, мошенников,
возьми! Тьфу, анафемы! Не идешь? Ну так...
Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка
ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро
пошел прочь...
Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей
бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому.
Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо
опасности или неприятности.
И я не ошибся.
Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в
заборе, я увидел и услышал только следующее:
старуха сидела на ступеньках крыльца, держала в руках
«выдранные с мясом» застежки своей библии и через
очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки,
стоявшего ко мне задом...
Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз,
по углам губ у нее образовалась мягкая складка
кожи; видно было, что старушка хочет скрыть добрую
улыбку — улыбку прощекия.
Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи:
две женские, одна красная и повязанная пестрым плат-
154
ком, другая простоволосая, с бельмом на левом глазу,
а из-за ее плеч высовывалась физиономия мужчины,
клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу...
Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами,
как бы говоря Мишке:
«Утекай, брат, скорей!»
Мишка мямлил, пытаясь объясниться:
— ...Такая редкостная книга. Вы, говорит, все—
скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно!
Так надо говорить по правде... сволочи мы и окаянные
люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня —
старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да
и всё тут... Теперь застежки... много ли за них дадут?
А ежели при книге, то они —вещь! Я и помыслил...
дай-ка, мол, я обрадую старушку божию, отнесу ей
вещь назад... К тому же мы,, слава те господи,
заработали малу толику на пропитание. Счастливо
оставаться! Я уж йойду.
* — Погоди! — остановила его старуха.— Понял \ты,
что я вчера читала?..
— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и
то — как слышу? Разве у нас уши для слова божия?
Нам оно непонятно... Прощевайте...
— Та-ак! — протянула старуха.— Нет, ты погоди...
Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и
по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно,
тяготило это объяснение...
— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?
— Мм... товарищи ждут...
— Ты плюнь на них... Ты хороший малый...
брось их.
— Хорошо...— тихо согласился Мишка.
— Бросишь? Да?
—• Брошу...
— Ну, вот... умница!.. Совсем ты дитя... а борода
вон какая... до пояса почти... Женат ты?..
— Вдовый... померла жена-то...
— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?
— Пьяница... пью.
— Зачем?
—г Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Ко-
, нечно, ежели бы человеку ум... да рази бы он сам
себя портил? — уныло говорил Мишка.
155
— Верно рассудил... Ну вот, ты и копи ум... накопи
да и поправься... ходи в церковь... слушай божие
слово... в нем вся мудрость.
— Оно, конечно...— почти простонал Мишка,
^Ая еще почитаю тебе... хочешь?..
•*- Извольте...
Старуха достала откуда-то из-за себя библию,
порылась в ней, й двор огласился ее дрожащим
голосом:
— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек,
судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь
другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь
то же!»
Мишка тряхнул головой и почесал. себе левое
плечо.
—» «...Неужели думаешь ты, человек, что избежишь
суда божия?»
— Барыня! — плачевно заговорил Мишка,—
отпустите меня для бога... Я вдругорядь лучше приду пр-
слушаю... а теперь больно мне есть хочется... так те вот
и пучит живот-от... С вечера мы не емши...
Барыня сильно хлопнула книгой.
— Ступай! Иди!—отрывисто и резко прозвучало
на дворе...
— Покорнейше благодарим!..— И он чуть не бегом
направился к воротам...
— Нераскаянные души... Звериные сердца,—
шипело по двору вслед ему..,
Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили
чай с калачом.
— Как буравом она меня сверлила...— говорил
Мйшка, ласково улыбаясь мне своими милыми
глазами.— Стою я и думаю... Ах ты, господи! Зачем
только пошел я! На муку пошел... Где бы ей взять у меня-
эти застежки, да и отпустить меня,— она разговор
затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести
поступать, а они свое гнут... Я по простоте души
говорю ей; вот те, барыня, твои застежки, не жалуйся на
меня... а она говорЦт: нет, погоди, ты расскажи, зачем
ты их мне принес?ыИ пошла жилы из меня тянуть...
Я—даже взопрел от ее разговору... право, ей-богу.
156
И он все улыбался своей бесконечно кроткой
улыбкой...
Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый,
серьезно сказал ему:
— Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя
с такими твоими выкрутасами мухи аЛи тараканы
съедят...
— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте
по стакашку... за окончание дела!
И мы дружно выпили по стакашку за окончание
этого курьезного дела.
КОНОВАЛОВ
Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я
встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный
ею, прочитал следующее:
«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного
замка, повесился на отдушине печи мещанин города
Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет.
Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и
пересылался этапным порядком на уродину. По отзыву
тюремного начальства, это был человек всегда тихий,
молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей
Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный
доктор, следует считать меланхолию».
Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что
мне, может быть, удастся несколько яснее осветить
, причину, побудившую этого задумчивого человека
уйти из жизни,— я знал его. Пожалуй, я даже и не
вправе .промолчать о нем: это был славный малый, а их не
часто встречаешь на жизненном пути.
...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил
Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как
«подручный» пекаря. Пекарь был солдат из
«музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил
тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать
пальцами на чем попало различные пьесы. Когда
хозяин пекарни'делал ему внушения за испорченный или
опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина
157
беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой
музыкальный талант.
— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая'
свои рыжие длинные усы, шлепая губами, толстыми и
всегда почему-то мокрыми.— Корка сгорела! Хлеб
сырой! Ах ты, чёрт тебя возьми, косоглазая кикимора!
Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты
анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял?
Я — бывало, альт запьет —на альте играю; гобой под
арестом — в гобой дую; корнет-а-пистои хворает —
кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-дадди!
А ты-—м-мужик, кацап! Давай расчет.
А хозяин, сырой и пухлый человек, с
разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом,
топал по полу короткими толстыми ногами и
визгливым голосом вопил:
— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! —
Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к
небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши,
возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?
— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел
солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил,
отплевываясь и взволнованно сопя. Это всё, что он мог
сделать,— было лето, время, когда в приволжском
городе трудно найти хорошего пекаря.
Такие сцены разыгрывались почти ежедневно.
Солдат пил, портил тесто и играл разные марши,и вальсы
или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал ауба^
ми, а мне в силу этого приходилось работать за двоих.
И я был весьма обрадован, когда однажды между
хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.
— Ну, солдат,— сказал хозяин, появляясь в
пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками,
сверкавшими ехидной улыбкой,— ну, солдат, оттопыривай
губы и играй походный марш!
— Чего еще?! —мрачно сказал солдат* лежавший
на ларе е тестом и, по обыкновению, полупьяный.
— В поход собирайся! —ликовал хозяин.
— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и
чувствуя что-то недоброе.
— Куда хочешь...
— Это как понимать? — запальчиво крикнул
солдат.
158
~ А так и понимай, что больше я тебя держать не
стану. Получи расчет и на все четыре стороны —
марш!
Солдат привык чувствовать свою силу и
безвыходность положения хозяина, заявление последнего
несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с
. его плохим знанием ремесла найти себе место.
— Ну, это ты врешь!..— с тревогой сказал он,
вставая на ноги.
— Иди-ка, иди...
— Идти?
— Проваливай.
— Наработался, значит...— с горечью мотнул
головой солдат.— Пососал ты из меня крови, высосал и
вон меня. Ловко! Ах ты — паук!
. — Я паук? — вскипел хозяин.
— Ты! кровососен паук —вот как! — убедительно
сказал сЪлдат и, пошатываясь, пошел к двери.
, Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки
радостно сверкали.
— Поди-ка вот теперь поступи на место к
кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал,
что, хоть ты даром просись,— не возьмут! Нигде не
возьмут...
— Нового наняли? — спросил я.
— Новый-то — он старый. Моим подручным был.
Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, и-их!
Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за
работу и месяца три-четыре учнет ломить, как
медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает
и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать
невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет,
потом учнет снова пить!
Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.
— И когда он запьет — нет ему тут никакого
удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не
пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он
пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и
он... Совсем пришел, Леса?
— Совсем,— отвечал с порога глубокий, грудной
голос.
Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял
высокий плечистый мужчина лет тридцати. По костюму
159
это был тигшчный босяк, по лицу — настоящий
славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно
грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на
одной ноге остатки резинового ботика, на другой —
кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были
спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; всё это
было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей
ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо
освещалось большими голубыми глазами, они
смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные,
тоже улыбались под русыми,усами. Улыбка была
такая, точно он хотел сказать виновато:
«Вот я какой... Не обессудьте».
— Проходи, Сашок, вот тебе подручный,— говорил
хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую
фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед,
протянул мне длинную руку с богатырски широкой
кистью; Мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул
вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:-
— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены
рубах да опорки... Холста на колпак.
— Всё будет, не бойсь! Колпаки у меня есть;
рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я
тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто
не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве
хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как
редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит,
ребятушки, а я пойду...
Мы остались одни.
Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь,
осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со
сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня
земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много
сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные
лари: один с тестом, другой еще только с опарой,
третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая
полоса света. Громадная печь занимала почти треть
пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки
муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и
отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и
дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.
Сводчатый закопченный потолок давил своей
тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи об-
160
разевалось неопределенное и утомлявшеетлаза
освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела-пыль.
Коновалов осмотрел все это', вздохнул и спросил
скучным голосом:
— Давно здесь работаешь?
Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг
Друга.
— Экая тюрьма! —г вздохнул он.— Пойдем на
улицу к воротам, посидим?..
Мы вышли к воротам и сели наплавку.
— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу
не привыкну,— не могу. Сам посуди, от моря я
пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с
широты такой — бух в яму!
Он.с печальной улыбкой посмотрел на меня и
замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в
проезжих. В ^го голубых, ясных глазах светилась печаль...
Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно,
от домов на дорогу, ложились тени. Коновалов сидел,
Прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди,
перебирая пальцами шелковистые волосы своей
бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо
и думал: «Что это за человек?» Но не решался
заговорить с ним, потому что он был моим
начальником и потому еще, что он внушал мне странное
уважение.
Лоб у него был разрезан тремя тонкими
морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и
мне очень хотелось знать, .о чем думает этот человек..-.
— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем вре*
менем поставлю третью.
Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели
пить чай; Коновалов сунул руку за -пазуху и спросил
меня:
— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай,— и
подал мне смятый, запачканный лист бумаги.
«Дорогой Саша! — читал я.— Кланяюсь и целую
тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу
дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду
жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь
проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это
хорошо понимаешь, я тоже стала понимать; как
познакомилась -с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее;
в. М. Горький 161:
очень.мне хочется получить,от тебя письмецо. А пока
до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друь
моей души,, У дреков я тебе никаких не. пишу, хош'а я
тобой и разогорчена, потому что ты свинья — yexajf,
со мной не простился. Но всё же ничего я от тебя,
кроме хорошего, не видела: ты был-один еще первый
такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться,
Саша, о моей выключке? Тебе девицы.говорили, что я
убегу от тебя, если буду выключена; но это всё взДор
и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо
мной, то я после выключки стала бы с тобой, как
собака твоя. Тебе ведь легко э^го сделать, а мне очень
трудно.-Когда ты был у меня, я плакала, что
принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До
свиданья.
Твоя. Капитолина».
Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал
йертетй его между пальцами одной руки, другой
покручивая' бороду.
— А писать тьг умеешь?
.— Могу...
—- 'А чернила у тебя есть?
*— (Есть.
— Напиши ты« ей письмо, а? Она, чай, поди,
мерзавцем* меня считает, думает — я про нее забыл...
Напиши!
— Изволь. Она кто?..
— Проститутка... Видишь — о выключке пишет.
Это значит, чтобы я полиции дал обещание, что
женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у
нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?
Через полчаса готово было трогательное послание
к ней.
— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с
нетерпением спросил Коновалов.
Вышло вот как:
«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о
тебе. Нет, я не забыл, а просто запил.и весь,пропился.
Теперь снова поступил на место, завтра возьму у
хозяина денег вперед, вышлю их. на Филиппа, и он тебя
выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока —/.до
свиданья.
Твой 'Александр*.
— Гм...— сказал- Коновалову, почесав* готовую а^
пишешь ты неважно.-» Жалости« нет в* пиеьме^у/тебя;
слезы нет. И опять же — я пр-осил тебя* рудата меня*
разными словами, а .ты«этого не^написал^.
— Да зачем это?
— А чтобы юна видела, что^мне перед < ней ^стыдно >и*
что я понимаю,,как я передi ней виноват; А так Что!»
Точно горох просыпал<—написал! А.ты слезу»
подпусти!
Пришлось подпустить в*пиоьмсъслезу> что^я*о
успехом и выполнил. Коновалов удовлетворилсяш^положиви
мне руку,на плечо, задушевно проговорил з
— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видке?
хороший,—мы с тобой уживемся.
Я не сомневался в этом и попросил !его'рассказа№>
мне о Капитолине^
— Капитолина? Девочка,оиа?т- совсем- дитя; Вйт*
екая, ку плеска я дочь была.,,. Да вот свихнулась. Далы*
ше — больше, и пошл а *в .публичный .дам?.. Я —смотрю^,
ребенок совсем! Господи, думаю, развестакшожно?-Йу^
и познакомился,с ней..Она.— плакать. Я говорю?.«Ни*
чего, потерпи! Я те отсюда вытащу-—пород»1»*И1вее?.уу
меня было готово, деньги ичвс&.. И; вдруп ял запил1» ш
очутился в Астрахани. Потом» вот»сюдашои-ал;
стил ее обо мне один,человеку,и она^напйсала
сьмо.
— Что же ты,—спросил я его,— жениться!хочешь,
на ней?
— Жениться, где мне! Ежели^у^ меня*запой*—ка*
кой же я жених? Нет, так ЯтЭто^.Выключууее-—и;>
потом иди на все четыре стороны,. Место.-себе найдет—
может, человеком'будет*
— Она с тобой хочет жить л.
— Да ведь это она блажит, только,-Они ^в
бабы... Я их очень хорошо знаю. У< меня мнот,
разных. Даже кудчиха.одна... Конюхом я^бьш.в цирке,
она. меня и выглядела. «Иди^говор^ит, в кучера»? Мне
цирк в ту пору, надоел, я и согласился^ пошел; Ну^ и
того... Стала она ко мне ластиться;, Дом эта у
них>,лошади, прислуга — как дворяне, жили. Муж у нее, был
низенький и толстый, на<манер нашего хозяина?,а*сама1
онатакая худая, .гибкая*,как кошка,-, горючая* Бывало;
как. обнимет да поцелует в туОьь—как .углей каленых
16S
в сердце всыплет. Так ты весь и задрожишь, даже
страшно станет. Целует, бывало, а сама всё плачет:
плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего, ты,
Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не riq-
иимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно,
что я не понимаю-то ничего-,— очень я дураковат, сам
знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!
И, замолчав, он посмотрел на меня широко
раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то
вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало
еще печальнее и краше...
— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? —
спросил я.
— А на меня, видишь ть?, тоска находит. Такая
скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне
в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один чело*
век на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого
нет. И всё мне в ту пору противеет — и сам я себе
становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай.они—т
не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и
пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера
Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит,
надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково
нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я
себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня,*
даже кричать стала, ругаться... Потом поняла.
Опустила голову и говорят: «Что же, иди!» Заплакала. Глаза
у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не
купеческого году была, а из чиновных... Н-да... Жалко
мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей,
конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как
мешок муки.->. Плакала она долго — привыкла ко мне..,
Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю.
Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек
очень хорош бывает, такой простой; дышит,да
улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили,—
бывало, поедем с ней кататься — во весь дух она
любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь при-'
вяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь,
положит мою голову себе на колени и читает мне
какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю да и засну.
Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда^ не
забуду одной -г- о немом Герасиме и его со'баке. Он,
164
немой-то, гонимый человек был, и никто его; кроме
собаки, не любил. Смеются над ним и всё такое, он
сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история...
А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит
ему: «Немой, иди утопи свою собаку, г: то она воет».
Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и
поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу.
Господи! У живого человека единственную в свете радость
его убивают! Какие это порядки? Удивительная
история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди,
что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в
собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше
никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его
любит. Без любви какой-нибудь — жить леловеку
невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог
любить... Много она мне разных историй читала. Славная
была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя
планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того\не
захотела бы или муж не узнал про каши с ней дели.
«Парковая она была — вот что первое, не тем ласковая,
что подарки дарила, а так — по сердцу своему
ласковая. Целуется она со мной и всё такое — женщина, как
женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих...
удивительно даже, до чего она тогда хороший человек
была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает,
как нянька или мать. Я в такиех времена, бывало,
прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки
ушел от нее — тоска! Тянет менй куда-то... «Прощай,
говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай,
говорит, Саша». И чудная — обнажила мне руку nb
локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не Зао
рал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три'
болела рука. Вот и сейчас знак цел.
Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он
показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной
улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно
виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся
концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал
головой.
— Чудачка! Это она на память куснула.
Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у
каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна
барыня из благородных», и. у всех босяков эта купчиха
165
ц барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней
является фигурой совершенно фантастической, странно
соединяя в себе самые противоположные физические и
психические черты. Если она сегодня голубоглазая,
злая и веселая, то можно ожидать, что через неделю вы
услышите ю ней как о черноокой, доброй и слезливой,
И. обыкновенно босяк рассказывает о ней в
скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.
Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало
что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты —
чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к
мощной фигуре Коновалова...
Я представил себе гибкую женщину, спящую у него
на руках, прильнув головой к широкой груди,— это
было красиво и еще более убедило меня в правде его
рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при
воспоминании о «купчихе» — тон исключительный.
Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о
женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что, дда
него на земле нет такой вещи, которую он не посмел
бы обругать.
— Ты чего молчишь, думаешь, я
наврал?—спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он си-
дел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю,
,а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые
глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно,
морщинки на лбу легли резко..,
— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш
брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя,
друг: если у человека в жизни не было ничего
хорошего,— он ведь никому не повредит, коли сам для себя
выдумает какую ни то сказку да и станет рассказывать
ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и
было,— верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим.
Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду,—
так оно и было. Разве тут что особенное есть?
Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине
это всё равно, потому что и кучер, и барии, и офицер —-
все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и
того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять,
да роменьше заплатить. Простой-то человек
совестливее. А я очень простой... Женщины.это хорошо во иве
понимают — видят, что не обижу, we насмеюсь над ней.
106
Женшина —она согрешит и ничего так не боится, как
смеха, издевки над ней. Они стыдливее йротив нас. Мы
свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать,
хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру
провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто
не ставит. Они, брат, даже самые потеряйные, и те
стыда больше нас имеют.
Я слушал его и думал: «Неужели этот человек ве-
^ен сам себе, говоря все эти не подобающие ему речи?»
А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные
глаза, всё более удивлял меня своими речами.
Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила
от себя на стену пекарни розоватое пятно...
В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя
звездами на нем. Одна из них — большая — блестела
изумрудом, другая, неподалеку от нее,— едва видна.
Прошла неделя, и мы с Коноваловым были
Друзьями.
— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он
мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей
по плечу.
Работал он артистически. Нужно было видеть, как
он управлялся с семипудовым1 куском теста,
раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по
локоть погружая свои могучие руки в упругую массу,
пищавшую в его стальных пальцах.
Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые
хлебы, которые я еле успевал подкидывать из* чашек на
его лопату,— я боялся, что он насадит их друг на
друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста
двадцати караваев — пышных, румяных и высоких —
не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с
артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался
делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто
медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он
покупал сырую муку, и был ш>детски весел рг доволен,
если хлебы из печи выходили правильно
круглые/высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой
хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый
удачный каравай и, перекидывая его с ладони на
ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:
— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...
И мне было приятно смотреть на этого <Сгйгант-
ского>> ребенка, влагавшего всю душу в работу
свою,—как это и следует делать каждому человеку во
всякой работе...
Однажды я спросил его:
*— Саша, говорят, ты поешь хорошо?
— Пою... Только это у меня разами бывает...
полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И ежели петь
начну — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не
дразни. Ты. сам-то не поешь? Ах ты, — штука какая! Ты
лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе.
Идет?
Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось
петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе
под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал
меня, шевелил губами и чрез некоторое время
напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на
меня:
— Брось! Не стони!
Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и,
примостившись к окну, стал читать.
Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом,
но шелест перевертываемых мною над его ухом
страниц заставил его открыть глаза.
— Про что книжка?
Это были «Подлиповцы».
— Почитай вслух, а?..— попросил он.
И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он
уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям,
слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо
и встречался с его глазами,— у меня до сей поры они в
ламяти — широко открытые, напряженные, полные
глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт,
обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые
кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу,
руки, которыми он охватил колени — вся его
неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я
стирался как можно внятнее и образнее рассказать ему
грустную историю Сысойки и Пилы.
Наконец я устал и закрыл кишу!
— Всё уж? —шёпотом спросил меня Коновалов.
•— Меньше половины...
\68
— Ьсю вслух прочитаешь?
— Изволь.
— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался,
сидя на ларе. Ему ч1го-то хотелось сказать, он
открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то
защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не
понимал его значения.
— Как ты это читаешь! — шёпотом заговорил он.—
На разные голоса... Как живые все они... Апроська!
Пила... дураки какие! Смещно мне было слушать...
А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь
это всё правда. Ведь это как есть настоящие люди..,
всамделишные мужики... И совсем как живые и
голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь —
читай дальше!
Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час
и сорок\ минут я читал книгу. Потом опять пауза —
печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, заменили
еще тесто, поставили еще опару.., Всё это делалось с
лихорадочной быстротой и почти молча.
Коновалов, нахмурив брови, изредка кратко бросал
мне одйюсложные приказания и торопился, торопился...
К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у
меня одеревенел.
Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел
мне в лицо странными глазами и молчал, упершись
руками в колени...
— Хорошо? — спросил я.
Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки
почему-то шёпотом заговорил:
— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось
неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг
вспыхнуло горячим чувством.
Я рассказал, кто написал книгу.
— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно.
За сердце берет — вот до чего живо. Что же он,
сочинитель, что ему за это было?
— То есть как?
>— Ну, например, дали ему награду или что там?
— Аза что ему нужно дать награду? — спросил я.
— Как за что? Книга.., вроде как бы акт
полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сыеойка... ка-
169
кие же это люди? Жалко их- станет' всем*.. Народ
темный. Какая у них жизнь? Ну, и...
— И — что?
Коновалов^ смущенно посмотрел на; меня и робко
заявил:
<— Какое-нибудь распоряжение должно выйти.
Люди ведь, нужно их поддержать.
В> ответ. вдь> это я" прочитал1 ему целую лекцию...
Не•>— увы! — ана .нешроизввла* того впечатления^ на ко*
торое^я рассчитывал*.
Коновалов- задумался;, поди® головой,: закачался
веем* корпусом: и^ стал*1 вздыхать, ни:словом1'.не мешая
мдаетоворитк» Я|усталлнаконец, замолчало
Коновалов;'. поднял' голову и грусти© посмотрел на
меня.
ему, значит; ничего и не. дали? — спро-
— Кбму? — осведомился^, позабывч> Решетникове,
т- Сочинителю-то?
Я не ответил1 ему, чувствуя' раздражение; против
слушателя,^ очевидно, насчитавшего >себя- в^силах ре-
шать мировые вопросы.
Коновалов, не^ дожидаясь-моего ответа^ взялг книгу
в свои руки, осторожно повертел ее, открылу закрыв
и; положивша! место,, глубоко вздохнул/.;
— Как веё:это^премудро^ господи!?—внолголоса^за*
говорил qh.— Написал человек книгу*., бумагам at на
ней точечки разные — вот и всё; Написал; и;., умер он?
— Умер;—сказал* я.
— Умер, а книга осталаев^ иг^ее^чи^ают; €мштр^тв
нее человек глазами и-гов^риргф^азныегслова. А,ты
слушаешь и понимаешь^жили^н^1свете^лшд№'—Пила^Еы-
сойка, Апроська... И жалко тебе лшдей\
хоть^тььи'Х^никогда не видал и!они тебе совеем/-—ничего! Паулице
они^ такие, может, дееяткамш живыес ходят, ты
их.видишь, а;не знаешь про них ничего... и тебе нет до них
дела... идут они и идут... А в^книге тебе.их жалт-до
того, что даже сердце щемит... Как это понимать?..
А. сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не
было?
Я разозлился и рассказал ему о наградах"
сочинителям...
МО
Коновалов слушал меня, испуганно таоаща глаза,
-и соболезнующе чмокал губами.
— Порядки,—вздохнул он всей грудью и, закусив
«левый ус, грустно поник головой.
Тогда я начал говорить о роковой роли каб&ка в
Жизни русского литератора, о тех крупных и
искренних талантах, что погибли от водки — единственной
утехи их многотрудной жизни.
— Да разве такие люди пьют? — шёпотом спросил
меня Коновалов. В его широко открытых глазах
сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем
людям.— Пьют! Что же они... после того, как напишут
книги, запивают?
Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него
не ответил.
— Конечно, после,— решил Коновалов.— Живут
люди и ^мотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое торе
жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И
сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И воль-
,ют тоску в книги.:. Это уж не помогает, потому —
сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь...
Остается — водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я
говорю?
Я согласился с ним, и это ка^ бы придало ему
бодрости.
— Ну, и по всей правде,'—продолжал он развивать
психологию сочинителей,— следует их за это отличить.
•Верно ведь? Потому что они понимают больше других
и указывают другим разные непорядки Вот теперь я,
например,— что такое? Босяк, галах, пьяница и
тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания.
Зачем я живу на земле, и кому я на ней нужен, ежели
посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни
до чего этого,даже и охоты нет. Живу, тоскую...
Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет,—
понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в
душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной
штуки — и всё тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и
тоскую по ней, а что она такое есть — это мне
неизвестно...
Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и
на лице его отразилась работа мысли, ищущей-для
себя формы.
-— Ну, и что #се дальше? — допытывался я.
— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но
думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель
присмотрелся ко, мне,— мог бы он объяснить мне мою
жизнь, а? Ты как думаешь?
Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его
жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд,
легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и
среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о
людях — владыках ее.
Коновалов слушал внимательно. Он сидел против,
меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые
глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные,
постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу
всё резче ложились складки, он, кажется, удерживал
дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.
Мне льстило всё это. Я с жаром расписывал ему
его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что
он таков. Он — печальная жертва условий, существо,
по природе своей, со всеми равноправное и, длинным
рядом ..исторических несправедливостей сведенное на
степень социального нуля. Я заключил речь тем, что
сказал:
— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...
Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как э
них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с
нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.
Он ласково засмеялся и, мягким, женским
движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.
— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда
только тебе все эти дела известны? Всё из книг? Много,
же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эс-
толь!.. Но главная причина — очень ты жалостливо
говоришь,.. Впервые мне такая речь. Удивительно! Все
люди друг друга винят в своих незадачах, а ты —всю
жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-
то сам~по себе не виноват ни в чем, а написано ему на
роду быть босяком — потому он и босяк,. Й насчет
арестантов очень.чудно; воруют потому, что работы
нет, а есть надо... Как всё это жалостливо у тебя! Сла^
бый ты, видно, сердцем-то!..
— Погоди,—* сказал я,— ты согласен со мною?
Верно я говорил?
172
— Тебе лучше знать, верно или нет,—ты
грамотный... Оно, пожалуй,— ежели взять других,— так
верно... А вот ежели я...
— То что?
— Ну, я —особливая статья... Кто виноват, что я
пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него
своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако
бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли...
А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня.
Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так я,
значит, родился, как человеку следует. Сам же ты
говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой
стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы
будем люди... ни в какой порядок не включаемся."
Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие
законы —чтобы нас искоренять из жизни! Потому
пользы qt нас нет, а место мы в ней занимаем и у
других кк тропе стоим... Кто перед нами виноват?
Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к
жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...
Он — этот большой человек с ясными глазами
ребенка — с таким легким духом выделял себя из
жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому
подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что
я был положительно ошеломлен этим
самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе
своей существа от всего оторванного, всему
враждебного и над всем готового испробовать силу свт>его
озлобленного скептицизма. Я встречал только людей,
которые, всегда всё винили, на всё жаловались, упорно
отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей,
опровергавших их настойчивые доказательства личной
непогрешимости,— они всегда сваливали свои неудачи
на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов
судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей
неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем
упорнее я старался доказать ему, что он «жертва сре-
Ды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в
своей виновности пред самим собою за свою
печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня.
А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно
удовольствием блестели его глаза, когда он звучным
баритоном кричал мне:
173
* человек сам себе хозяин, и никто в
не повинен; ежели я^ подлец! ,
В устах культурного человека такие речи не
удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую
нельзя было бы найтиг в сложном и спутанном психическом
организме, именуемом «интеллигент». Но в устах бося-
ка<,— хотя- он тоже интеллигент среди обиженных суды
бой голых, голодных и злых полулюдей, полузверей,
наполняющих грязные трущобы городов,— из уст
босяка странно было слышать эти речи. Приходилось
заключить, что Коновалов действительно — особая
стать», но я не хотел этого.
С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся
типичнейшим золоторотцем; но чем больше я
присматривался к нему, тем больше убеждался*, что имею дело
с разновидностью, нарушавшей мое представление о-
людях, которых давно пора считать за класс и которые
вполне достойны внимания, как сильно алчущие и
жащдущие; очень злые и далеко не глупые...
Мы с ним спорили всё жарче.
— Да погоди,— кричал я,— как может человек
устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная
темная сила прет?
— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент,
горячась и сверкая глазами.
— Да во что упереться?
•— Найди свою точку и упрись!
— А ты чего же не упирался?
— Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам ви-
ноаат в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, то*
скую — не нахожу!
Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы
принялись за работу, продолжая доказывать друг другу
правильность своих воззрений. Конечно^, ничего не
доказали и, $ба взволнованные, кончив работу, легли
спать.
Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро за*
снул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз
смотрел на его могучую бородатую фигуру; богатырски
раскинувшуюся1 на рогоже, брошенной около л&ря;
Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой;..
Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пш*
17*
ли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух иг-,
рал, собирая стадо.
Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его
широкая грудь, и обдумывал разные способы
наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не
выдумал и заснул.
Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись
и сели на ларе пить чай.
— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов,
— Есть...
— Почитаешь мне?
— Ладно...
— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц,
возьму у хозяина деньги и половину — тебе!
— На что?
— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу
там, и ме купи — хоть две. Мне — которые про муЖи-
ков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь,
с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть
иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с
картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы,
сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть
этакие, вот как у тебя.
— Хочешь про Стеньку Разина?
— Про Стеньку? Хорошо!
•— Очень хорошо...
— Тащи!
И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт
Стеньки Разина». Сначала талантливая монография,
почти эпическая поэма, не понравилась моему
бородатому слушателю.
— А почему тут разговоров нет? — спросил он,
заглядывая в книгу. И, когда я ооъяснил — почему, он
даже зевнул и хотел скрыть ,зевок, но это ему не
удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:
— Читай — ничего! Это я так...
Но по мере того, как историк рисовал кистью
художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь
волжской вольницы» вырастал со страниц книги,
Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с
глазами, затуманенными ленивой дремотой,—он,
постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной
в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня
и обняв свои колени руками, он положил на них
подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел
на меня жадными, странно горевшими глазами из-под
сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной
черточки той детской наивности, которой он удивлял
меня, и всё то простое, женственно-мягкое, что так шло
к его голубым, добрым глазам,— теперь потемневшим
и суженным,— исчезло куда-то. Нечто львиное,
огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я
замолчал.
— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.
— Ты что?
— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с
просьбой звучало раздражение.
Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел,
что он всё более разгорается. От него исходило что-то
возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий
туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.
— Поймали! — крикнул Коновалов.
Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.
У него выступил пот на лбу и глаза странно
расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный,
остановился против меня, положил мне руку на плечо
и громко, торопливо заговорил:
— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет?
Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей,
Максим!
Можно было думать, что именно Коновалов, а не
Фролка — родной брат Разину. Казалось, что'какие-
то узы крови, неразрывные, не остывшие за три
столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой
и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей
страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль
и гнев пойманного триста лет тому'назад вольного
сокола.
— Да читай, Христа ради!
Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя,
как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым
переживая Стенькину тоску. И вот мы дошлц до пыток.
Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза
сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и
тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над
моим ухом и сдувало мЫе волосы с головы на глаза.
176
Я встряхивал головой, для того, чтобы отбросить их.
Коновалов увидал эта и положил мне на.голову свою
тяжелую ладонь.
«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе о.
кровью выплюнул их на пол...»
— Будет!.. К черту! — крикнул Коновалов и,
вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об
пол и сам опустился за ней.
Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он
как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в
колени и плакал,' вытирая глаза о свои грязные
тиковые штаны.
Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать
ему в утешение.
— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу.—¦
Страшно! Пил-а.». Сысойка. А потом Стенька... а?
Какая судь;ба!.. Зубы-то как он выплюнул!., а?
И он йегсь вздрагивал.
Его особенно поразили выплюнутые Стенькой
зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами,
говорил о них.
Мы оба с ним были как пьяные под влиянием
вставшей перед нами мучительной и жестокой картины
пыток.
— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? —
уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и
подавая ее.мне.—А ну-ка, покажи, где тут написано
насчет зубов?
Я показал ему, и он впился глазами в эти строки*
— Так и написано: «зубы свои выплюнул с
кровью»? А буквы те же самые, как и все другие...
Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в
конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те,
господи, все-таки казнят человека!
Он выразил эту радость с такой страстью, с таким
удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого
сострадания, так сильно желавшего смерти
измученному Стеньке.
Весь этот деяь прошел у нас в странном тумане: мы
всё говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни,
сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов
запевал звучным баритоном песни и обрывал их.
Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня,
177
Я ещё несколько раз читал #му «Бунт Стеньки
Разина», «Тараса Бульбу»' и «Бедных людей». Тарас
тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог
затемнить яркого впечатления от книги Костомарова.
Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал.
Ему казался только смешным язык писем Макара, а к
Варе он относился скептически.
— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он —
экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель!
Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну
их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для
чего писано? .
: Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался
со мной.
' — Пила й Сысойка — это другая модель! Они
люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут
письма.:, скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна
выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом...
Батюшки! Каких-они делов натворили бы. Тогда и
Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?
Он плохо понимал время, и в его представлении все
излюбленные им герои существовали вместе, только
двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на
Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы
Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со
Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул
через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там
Бульбу.
Это огорчило Коновалова,, когда он понял, в чем
дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом,
желая посмотреть, как он отнесется к Емельке.
Коновалов забраковал Пугачева.
— Ах, шельма клейменая,— ишь ты! Царским
именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!..
Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и
больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки
нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара
брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти,
как казнили Степана... ^
В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в
луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и
с утра отправлялись «на вольный воздух», как
называл Коновалов эти экскурсии,
1178
Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном
заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее
недалеко от города в поле. Это был трехэтажный
каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными
рамами в окнах, с подвалами, всё лето полными жидкой
пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный,
как бы опустившийся, он смотрел с поля на город
темными впадинами своих изуродованных окон и казался
инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым
из пределов города, жалким и умирающим. В пола>
водье этот дом из года в год подмывала вода, но он,
весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой
плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от
частых визитов полиции,— стоял и, хотя у него не
было крыши, давал кров разным темным и бесприютным
людям.
Их всегда было много в;нем; оборванные,
полуголодные, (юкщиеся солнечного света, они жили в атой
развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди
них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из
пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой
покупали четверть водки и целый лоток «горячего»—пе<-
ченки, легкого, сердца, рубца. На два^три рубля мы*
устраивали очень сытное угощение «стеклянным лю*
дям», как их называл Коновалов,
Они платили нам за эти угощения рассказами; в
которых ужасная, душу потрясающая правда
фантастически перепутывалась с самой наивной ложью.
Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в
котором преобладали черные нити — это была правда, и
встречались нити ярких цветов — ложь. Такое
кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и
другое, сжимая его своим жестким* мучительно
разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему
любили нас — я часто читал им разные книги, и почти
всегда они внимательно и вдумчиво слушали* мое
чтение.
Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее; по-
ражаломеня своей глубиной, и я жадно слушал их
рассказы, а Коновалов слушал их длятото; чтобьг
возражать против философии рассказчика и втянуть меня
в спор.
179
Выслушав историю жизни и падения, рассказанную
каким-нибудь фантастически разодетым субъектом,
с физиономией человека, которому никак уж нельзя
положить пальца в рот,— выслушав такую историю,
всегда носящую характер оправдательно-защитителы
нЬй речи, Коновалов задумчиво улыбался и
отрицательно покачивал головой. Это замечали.
— Не веришь, Леса? — восклицал рассказчик.
— Нет, верю... Как можно не верить человеку!
Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и,
старайся понять: почему он врет? Иной раз вранье-то
лучше правды объясняет человека... Да и какую мы
всё про себя правду можем сказать? Самую
пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?
— Верно,— соглашается рассказчик.— А все-таки
ты это к чему головой-то качал?
— К чему? А к тому, что ты неправильно
рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится
понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры
делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время
был? И почему ты против своей судьбы никакой силы
не выставил? И как это так выходит, что все мы
жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас
тоже можно жаловаться? Нам жить мешают,—значит,
и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это
объяснить?
— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем
было просторно и никто никому не мешал,— говорят
Коновалову.
— А кто должен строить жизнь? — победоносно
вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ
на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как
же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем
И наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои,
что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое
есть мы...
Ему возражали, оправдывая,себя, но-он настойчиво
твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами,
каждый виноват сам пред\собою.
. Крайне трудно было сбить его с почвы этого
положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей.
С одной стороны, они в его представлении являлись
180
вполне правоспособными к устройству свободной
жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и
решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на
друга.
Весьма часто такие споры, начатые в полдень,
кончались около полуночи, и мы с Коноваловым
возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в
грязи.
Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине,
другой раз мы попали в облаву и ночевали в части,
вместе с двумя десятками разных приятелей из
«стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся
подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось
философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где
были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой,
зашедшей в них во время половодья. В кустах, на
берегу одного* из таких озер, мы зажигали костер,
который был нам нужен лишь потому, что увеличивал
красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о ж:йз-
нй. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:
— Максим! Давай в небо смотреть!
Мы ложились на спины и смотрели в голубую
бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы
вокруг и всплески воды в озере, чувствовали под
собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы
притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия
и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в
пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном
состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни
движением.
Так лежали мы по нескольку часов кряду и
возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные'
и освеженные.
Коновалов любил природу глубокой бессловесной
любовью, и всегда, в поле или на реке, весь
проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще
более увеличивавшим его сходство с ребенком.
Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:
— Эх!.. Хорошо!
И в этом восклицании всегда было более смысла и
чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов,
восхищающихся скорее ради поддержания своей
репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из дей-
181!
ствительного преклонения пред невыразимо, ласковой
красой .природы... . (
Как всё — и поэзия теряет свою святую простоту,
когда из поэзии делают профессию.
День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым
о многом переговорил и много прочитал. «Бунт
Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно,
рассказывал книгу своими словами, страницу за
страницей, с начала до конца.
Эта книга стала для него тем, чем становится
иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка.
Он называл предметы, с которыми имел дело, именами
ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась
хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:
— Ах ты, воевода Прозоровский!
Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи
именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был
синонимом всего исключительного, крупного,
несчастного, неудавшегося.
О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял
ответ на него в первый день знакомства с
Коноваловым, за всё время почти не упоминалось.
Коновалов посылал ей деньги на имя некоего
Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за
девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого от*
вета не последовало.
И вдруг, однажды вечером, когда мы с
Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню
отворилась, из темноты сырых сеней низкий женский голос,
одновременно робкий и задорный, произнес:
— Извините...
— Кого нужно? — спросил я, в то время как
Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя
за бороду.
— Булочник Коновалов здесь работает?
Теперь она стояла на\пороге, и свет висячей лампы
падал ей прямо на голову — в белок шерстяном
платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное,
курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них
от улыбки пухлых красных ,губ#
1>82
— Здесь! — ответил я ей.
— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно
обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими
шагами направляясь к гостье.
— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему
навстречу.
Они обнялись, для чего Коновалов низко
наклонился к ней.
— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна?
Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять
есть дорога! Ходи смело!—торопливо изъяснялся пе-
,ред ней Коновалов; всё еще стоя у порога и не
разводя своих рук, обнявших ее шею и талию;
— Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я
займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа,
остановилась?
— А~ц прямо сюда> к тебе...
— Си^кща? Сюда невозможно:., здесь хлеб пекут
и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек.
Нужно будет пристроиться на) ночь в ином месте...
в номере, скажем. Аида!
И они ушлш Я остался- воевать с хлебами и никак
не ожидал Коновалова ранее утра; но, к немалому
моему изумлению^ часа через три он явился. Мое
изумление еще больше увеличилось, когда^взглянувна
него в чаянии видеть на его^лице сияние радости, я
увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.
— Что'ты? — спросил: я; сильно заинтересованный
этим не подобающим событию настроением моего
Друга. ,
— Ничего...— уныло ответил он и, помолчав,
довольно свирепо сплюнул.
— Нет, все-таки?..— настаивал я.
— Да что тебе? — устало отозвался он,, во весь
рост растягиваясЬ'На ларе.— Все-таки;., все-таки... Все-
таки— баба!
Мне стоило большого труда добиться от него
объяснения^, и-наконец, он дал мне его такими
приблизительно словами:
— Говорю—-баба! И когда бы я не был дураком,
так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь:
и- баба человек! Известно, ходит она на одних задних
лапах, травы не ест, слова говорит, смеется —значит,
183
не скот. А все-таки нашему брату не компания...
Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но
понимать не моту — почему... Вот она, Капитолина, какую
линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены.
Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем
несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха
ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у
меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому,
в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте
жить...» — и прочее такое, очень многое... А она:
«Запой— наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины
горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом,
говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты
тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу
к этому склониться, потому что я знаю — жизнью
такой жить не умею, не научусь». А она-: «А я, говорит,
в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться,
да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая
рожа, обманщик, длинный чёрт!..» И почала, и
почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть
не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет
мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул",
коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня отту^
да сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий
ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с. ней делать?
— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда
вытащил? — спросил я.
— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрязает
человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но
чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я
согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я
мог держаться на этой точке, так я бы уж давно
решился. Какие резоны были! Мог бы с приданым и...
всё такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу
творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово,
нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!
Он даже головой замотал в подтверждение своего
тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками
ероша бороду, начал* низко опустив голову и
отплевываясь, шагать по пекарне.
— Максим! — просительно и сконфуженно
заговорил он,— пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал
ей, почему и отчего... а? Поди, брат!
184
— Что же я ей скажу?
—- Всю правду говори!., Не может, мол, он. Не
подходящее эхо ему... А то скажи вот что... у него, мол,
дурная болезнь!
— Да ведь это неправда? — засмеялся я.
— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах
ты, чёрт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне
жена?
Он с таким недоумением и испугом развел руками
при этих словах,,что было ясно — ему некуда девать
жену! И, несмотря на комизм его изложения этой
истории, ее драматическая сторона заставила меня
крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по
пекарне и говорил как бы уже сам с собою:
— И не понравилась теперь она мне, ну просто
страх как! Так это и засасывает меня она, так и
втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты,
облюбовал^ себе мужа! Не больно умна, а хитрая
девочка.
. Это в нем, видимо/начинал говорить инстинкт
бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на
которую было сделано покушение.
— Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба
крупная! — хвастливо воскликнул он.— Я вот как
возьму да... а что в самом деле? — И, остановясь
среди пекарни, он, улыбаясь, задумался, Я следил за
игрой его возбужденной физиономии и старался
предугадать, на чем он решил.
— Максим! Аида на Кубань?! (
Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему
имелись некоторые литературно-педагогические
намерения; я питал надежду выучить его грамоте и
передать ему всё то, что сам знал в ту пору. Он дал мне
слово всё лето не двигаться с места; это облегчало
мне мою задачу, и . вдруг...
— НуЭ/это уж ты ерундишь! — несколько
смущенно сказал я ему.
—..Да что ж мне делать? •*- воскликнул он.
Я начал говорить ему, что посягательство Капито-
лины на него совсем уж не так серьезно, как он его
себе представляет, и что надо посмотреть и
подождать.
И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.
185
Мы беседовали, сидя на полу перед печью спилами
к окнам. Время, было близко к полночи, и с той поры,
как Коновалов^ пришел, прошло часа полтора-два.
Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол
шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы
оба в испуге вскочили и бросились к окну.
— Не попала! — визгливо кричали в него.— Плохо
метила. А уж бы...
— П'дё-ем! — рычал зверский бас.— П'дё-ем, а я
его после уважу!
Отчаянный* истерический и пьяный хохот, визглив
вый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.
— Это она! — тоскливо сказал Коновалов;
Я видел пока только две ноги, свешенные с панели
в углубление пред окном. Они висели и странно
болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как
бы ища себе опоры.
— Да п'дё-ем! —лопотал бас.
— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу.
Прощай, Сашка! Прощай...— следовала довольно
нецензурная брань.
Подойдя ближе к окну,, я увидал Капитолину. На*
клонившись вниз, упираясь руками в панель, она
старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные
волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький
платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Ка*
питолина была пьяна и качалась из стороны в
сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая,
растрепанная, с красным, пьяным облитым слезами
лицом... *
Над ней согнулась высокая фигура мужчины,, и он.
упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену
дома,, все рычал:
— П'дё-ем!..
— Сашка! Погубил ты меня... помни!. Будь
проклят, рыжий чёрт. Не видать бы тебе ни часу света
божьего. Надеялась я,.. Насмеялся ты, злодей, надо,
мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя
поганая... Саша... голубчик.
— Я не спрятался...—\лодойдя к окну и взлезая на
ларьу сказал глухо и густо Коновалов.— Я не
прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел;
добро будет — дума#, а; ты понесла совсем несообразное..,
186
— Сашка! Можешь ты меня убить?
— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь,.что было
бы... завтра!..
— Сашка! Саша! Утопи меня!
— Бу-удет! П'дё-ем!
— Мер-рзавец! Зачел! ты притворился хорошим
человеком?
— Что за шум, а? Кто такие?
Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог,
заглушил его и замер.
. — Зачем я в тебя, чёрт,
поверила...—.рыдала'девушка под окном.
Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули
вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор,
возня...
— Не хочу в полицию! Са-аша! г—тоскливо вопила
девушка1^
По мостовой тяжело затопали ноги.
Свистки, глухое рычание, вопли...
— Са-аша! Ми-илый!
Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Всё это
удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало,
как кошмар.
Подавленные этой сценой, разыгравшейся
поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на ули«
ду во тьму и не могли опомниться от цлача, рева,
ругательств, начальнических окриков, болезненных
стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил,
что всё это было наяву. Страшно быстро кончилась
эта маленькая* но тяжелая драма.
. — Всё!..— как-то особенно кротко и просто сказал
Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине
темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него
в окно.
— Как она меня!..— с изумлением продолжал он
-через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на
ларе, на коленях и упираясь руками в пологий
подоконник.— В полицию попала... пьяная... с каким-то
чёртом. Скоро как порешила! —Он глубоко вздохнул,
слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками,
покачался и спросил меня вполголоса:
— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут
теперь вышло?.. Какое мое теперь во ©сем этом дело?
187
Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то,
хочешь делать, и в начале дела нужно представлять»
себе его возможный конец. Он всё это не понимал, не
знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им -^
стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дё-ем!..» — всё
это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.
Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я
кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и
изумление.
— Вот так раз! — восклицал он.— Ловко! Ну, и...
что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?
В тоне его слов было так много чисто детского по
искренности сознания своей вины пред этой девушкой
и так много беспомощного недоумения, что мне тут же
стало жаль товарища и я подумал, что, пожалуй, уж
очень резко говорил с ним.
— И зачем я ее тронул с того места! — каялся
Коновалов.— Эхма! ведь как она теперь на меня... Я
пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и
прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?
Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от
его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная
и, наверное, спит уже.
Но он укрепился в своей мысли.
— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю.,, как
хошь. А там что за люди для нее? Пойду» Ты тут тово...
я — скоро!
И, надев на голову картуз, он, даже без опорок, в
которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из
пекарни. Я отработался и лег спать, а когда поутру,
проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал
Коновалов, его еще не было.
Он явился только к вечеру — хмурый,
взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то
туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к
ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол,
— Что же, ты видел ее? — спросил я.
— Затем и ходил.
— Ну так что Же?
^-Ничего.
Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что та*
кое настроение не продлится у него долго, я не стал ,
надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только
!163
по необходимости бросая мне краткие слова,
относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной
головой и всё с теми же туманными глазами,х какими
пришел. В нем точно погасло что-то; он работал
медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью,
когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из
боязни передержать их, не ложились спать, он
попросил меня:
— Ну-ка, почитай про. Стеньку что-нибудь.
Так как описание пыток и- казни всего более
возбуждало его, я стал ему читать именно это место.
Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху
грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные
своды потолка.
— Вот и порешили с человеком,— медленно
заговорил Коновалов.— А все-таки в ту пору можно было
жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот
тишина и смиренство... ежели так со стороны посмотреть,
совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки,
грамота... А все-таки человек без защиты живет и
никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но
не грешить невозможно... Потому на улицах-то
порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может
понимать.
— Ну так как же ты с Капитолиной-то? —
спросил я.
—^ А?— встрепенулся он.— С Капкой? Шабаш... —
Он решительно махнул рукой,
— Кончил,значит?
— Я? Нет... она сама кончила.
— Как?
— Очень просто. Стала на свою точку и больше
никаких... Всё по-старому. Только раньше она не пила, а
теперь пить стала. Ты вынь хлеб, а я буду спать.
В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка по-,
5трескивала заслонка оечи, и корки испеченного хлеба
на полках тоже трещали. На "улице, против наших
окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то
странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то
-где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.
Я вынул хлебы, лег спать, но не спалось, и,
прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв
Сглаза. Вдруг вижу: Коновалов бесшумно поднимается
1189
с полу, идет киполке, берет с нее книгу Костомарова?
раскрывает ее,и подносит к глазам. Мне ясновидноего
задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по
строкам, качает головою, перевертывает страницу,
снова' пристально смотрит на нее, а потом переводит
глаза на меня. Что-то странное, напряженное и
вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшее^
ся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне,
новое для меня»
Я не мог сдержать своего любопытства и спросил
его, что он делает.
— А ядумал,.ты спишь... — смутился он; потом
подошел ко мне,гдержа книгу в руке, сел рядом и;
запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить
вот- про что.,. Нет ли книги какой-нибудь насчет
порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нуж-
НО'мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего^
себе... Я, видишь тыч поступками смущаюсь своими^..
Который в начале мне кажется хорошим, в. конце
выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он пере*
вел-дух и продолжал .просительно: — Так вот поищи*
ка* нет ли книги насчет поступков? И прочитай» мне;
Несколько* минут молчания,.,
— Максим!..
-А?
— Как меня Капитолина-то раскрашивала!
— Да ладно уж... Будет тебе:..
— Конечно, теперь уж нечего.'.. А что* скажипше:..
вправе она?..
Этю был щекотливый, вопрос,., но, подумав; т
отвечал на него утвердительно.
— Вот и-я тоже так- полагаю:.. Вправе... — уныло
протянул< Коновалов и замолчал;
Он долго возился на-'своейфогоже, лостланнойшряг
мо«на. пол» несколько'раз вставал, ку>рил, садился; под
ошо^снова* ложился.
Шотом^Я'заенуя; а-когда проснулся* ега<ужег'не.гбь!*'
ло в»пекарне, шон явился только кхвечеру Казалось,-
что>весь ошбыл>п0крыт;какой*то»пшль^ шв^елоютура^
ненных глазах^ заетылоХ что-то^ неподвижное:. Кйнуэ
на полк^он<вадохйр[ ш сел, рядрм^ со^ мной,
б
щ/ поемотреть*
— Ну и что?
— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...
— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом...^
попробовал было я рассеять его настроение и -зашв'о-
рил-о-могучей силе привычки.и о всем прочем, что в
этом случае было уместно. Коновалов упорно молйагл,
глядя в пол.
—Нет, это что-о! Не в-том сила! А просто я есть
заразный человек... Не доля мне жить на свете...
Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку
подойду, так сейчас ом от меня и заражается. И /для
всякого я могу с собой принести только торе... Ведь
ежели подумать — кому я всей моей жизнью
удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми
имел дело... Тлеющий Я'человек... ¦ ; •
— Это чепуха!.. • •
— Нет, верно!., —убежденно кивнул он толовой.
Я разубеждал его, но в моих речах on еще более
черпал уверенности в своей непригодности -к жизни...
"'.Он'быотро и резко изменился. Стал задумчив, 1йял,
утратил интерес к книге, работал уже не стрежней
горячностью,, молчаливо, необщительно.
;В свободное время ложился на пол и упорно
смотрел в-своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза
.утратили свой ясный детский блеск.
— Саша, ты что? — спросил я его.
— Запой начинается, — объяснил он. — Скоро я
начну водку глушить... Внутри1 у меня жжет... вроде
изжоги, знаешь... Пришло^ремя... Кабы не эта самая
история,-я'бы, поди-ка, еще протянул-сколько-нибудь".
Ну —гест меня это дело... Как так? Желал я человеку
оказать добро —= и вдруг... Совсем несообразно! ,Д&,
брат,юяень нужен для жизни порядок поступков...
Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы
все .люди действовали как один и друг друга понимать
могли?-Ведь совсем нельзя жить на таком .расстоянии
рдин от другого! Неужто шумные люди ^понимают, .что
нужно на земле устроить порядок и в ясность „людей
привести?.. Э-эхма!
Поглощенный думами о необходимости «в/жизни.ио-
рядка, он не слушал «моих-речей. Я заметил даже, что
ошкак .бычстал чуждаться -.меня. Однажды, шыслушавш
сто первый раз мой проект -реорганизации .жизни, чон
рассердился на >меня.
-rr- Ну тебя..., Слыхал я это,.. Тут не в жизни дело;
а в человеке... Первое дело — человек... понял? Ну, и
больше никаких... Этак-то/по-твоему, выходит, что,
пока там всё это переделается, человек все-таки должен
оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала,
докажи ему ходы... Чтобы ему было и светао и не
тесно на земле, — вот чего добивайся для человека.
Научи его находить свою тропу...
Я возражал, он горячился или делался угрюмым и
скучно восклицал:
— Э^ отстань! .
Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью
к работе, ни на другой день. Вместо него явился
хозяин с озабоченным лицом и объявил:
— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит.
Надо нового пекаря искать..,
— А может, оправится?!
— Ну, как же, жди... Знаю я его...
Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно
устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем
не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в
потолке/В сущности, эта была квадратная яма, зыры-
тая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло
землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли
завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали
тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб
донага опить его,
Коновалов сидел за большим столом, посредине
кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его
шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с
физиономиями героев из рассказов Гофмана.
Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на
сухие комья глины...
— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня
есть и деньги и одежа.,. Дня на три хватит всего. Вс<Г
пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить
здесь не хочу. ^
— Город сквернейший, —г сказал некто, похожий на
Джона Фальстафа.
— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок
другой.и. с изумлением спросил: — Да разве человек
для этого на свет родился?
И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову
[192
era право-все. пропить и даже возводя это право на
степень непременной обязанности: — именно с ними
пропить.
— А,.Максим... и котомка с ним! — скаламбурил
Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и
фарисей, — тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс.
Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы
на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?
Он еще не был пьян, только голубые глаза его
сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на
грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась —
его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот
рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие
капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом
пива, тряслась.
— Брось, Саша, уйдем отсюда, — сказал я,
положив ему руку на плечо. *
. — Бросить?.. — Он засмеялся. — Кабы ты лет на
десятьфайьше пришел ко мне да сказал это — мои^ет,
я т бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего
мне делать? Ведь я чувствую, всё чувствую, всякое
движение жизни,., но понимать ничего не могу и пути
моего не знаю... Чувствую — и пью, потому ,что
больше мне делать нечего... Выпей.
, Его компания смотрела на меня с явным
неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фи«
гуру далеко не миролюбиво.
Бедняги боялись, что я уведу Коновалова —
угощение, которое они ждали, быть может, целую
неделю.
— Братцы! Это мой товарищ,—ученый, чёрт его
возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про
Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про
Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и
слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысой-
ка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!
Он широко открытыми глазами, с испугом в них,
смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала.
Компания не особенно охотно очистила мне место за
столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент,
когда он хватил стакан пива пополам с водкой.
Ему, очевидно* хотелось как можно скорее оглу* ,
шить себя этой смесью. Выпив, он. ваял стрелки кусок
7. М. Горький 193
того, что казалось глиной, а было вареным мясом,
посмотрел на него и бросил через плечо в стену
кабака.
Компания вполголоса урчала, как стая голодных
собак.
— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет
родила? Ничего неизвестно... Темь!.. Теснота!.. Прощай,
Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я
не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и
дай мне, я их пропью..., Нет! Возьми себе на книти...
Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья
ты, коли так... Уйди от меня! У-уходи!
Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.
Компания была совершенно готова вытурить меня
в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого,
ушел.
Часа через три я снова был в «Стенке». Компания
Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они
были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на
стол и глядя на небо через отверстие в потолке.
Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые
икали.
Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах
переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых.
Подперев щеку рукой, он с чувством выводил
заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения,
глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него
смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных
физиономий, и только порой были слышны бормотанье и
икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал", и
стонал,— было до слез жалко видеть этого славного пар,
ня поющим свою грустную песню.
Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две
коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти
доски стен кабака, его земляной пол и сумрак,
наполнявший эту яму,— всё было мрачно и болезненно.
Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и
один из них поет в последний раз перед смертью,
прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное
отчаяние, безысходная тос^ка звучали в песне моего
товарища.
— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом?—
прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку.—
Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она..:
Потам еще будут люди... Найдем! Это и-ничего! Пилу
и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей
кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с
собой книги... будешь читать про Стеньку и про других...
Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..
Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загре^
мели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись,
сразу же наполнила кабак страшным шумом.
— Пей, ребята! — крикнул Коновалов. — Пей!
Отводи душу — дуй вовсю!
Я ушел от них, постоял у двери на улице; послушал,
как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком,
и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, т
вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине
неуклюжая пьяная песня.
Через jopa дня Коновалов пропал куда-то из города.
Нужно ^родиться в культурном обществе для тот®,
чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди
него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих
тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких
ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий,
идейного сектантства, всяческой неискренности, ~
одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, раз-
вращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался
вне этого общества и по сей приятной для меня
причине не могу принимать его культуру большими дозами
без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня~не
явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок
и освежиться несколько от чрезмерной сложности и
болезненной утонченности этого быта.
В деревне почти так же невыносимо тошно и
грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше
отправиться в трущобы городов, где хотя всё и грязно, но всё так
просто и искренно, или идти гулять по полям и
дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и
ие требует никаких средств, кроме хороших, выносли:
вых ног. '
Лет пять тому назад я предпринял именно такую
прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в
Феодосию. В тр время там начинали строить мол, и, й
чаянии заработать немного денег на дорогу» я отправился
на место сооружения.
195
Желая сначала посмотреть на работу как на
картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на
бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему
ковы.
Передо мной развернулась широкая картина труда:
весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду
ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы
железа, копры, для битья свай и еще какие-то
приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они,
разорвав Fopy динамитом, дробили ее кирками,
расчищая площадь для линии железной дороги, они месили
в громадных творилах цемент и, делая из него
саженные кубические камни, опускали их в море* строя оп-
лФт против титанической силы его неугомонных волн.
Ощ казались маленькими, как. черви, на фоне темно-
коричневой горы, изуродованной их руками, и, как
черви, суетливо, копошились среди груд щебня и кусков
дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном
зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо
над ними придавали их суете такой вид, как будто бы
они вкапывались в гору, стремясь уйти в йедра ее от
солнечного зноя и окружающей их унылой картины
разрушения.
В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались
удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек,
глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала
«дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, й на
все голоса кричали темные и серые, хлопотливые
фигурки людей...
В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с
большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с
места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрыэаясь,
кричали:
— Бе-е-ри-и!
И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!
По ломаной линии досок, набросанных тут и там,
медленно двигалась вереница людей, согнувшись над
тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла
другая с порожними танками, шла медленно,
растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла гу-
пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно те-
выпевал:
т
И^эх-ма, бра-атцьг, дюже жарко»!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!
Мощно гудела толпа, натягивая тросы; и1 кусок
чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал Оттуда,
раздавался тупой охающий звук, и копер
вздрагивал.
На всех точках площади между горой и морем
сновали маленькие серые люди, насыщая воздух бвоим
криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них
расхаживали распорядители в белых кителях с
металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как
чьи-то желтые холодные глаза.
Море спокойно раскинулось до туманного
горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на
берег, полнцй движения. Сияя в блеске солнца, оно1 точйб
улыбалос^ добродушной улыбкой Гулливера,
сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа
лилипутов исчезнет.
Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском,—болу-
щое, сильное., доброе, его могучее дыхание веяло на бе-
рег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем,
чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь-так
кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Ohq как
бы жалело их: века его существования научили его nor
нимать, что не те злоумышляют против него, которое
строит; оно давнб уже знает,,что это только рдбы, ид
роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой бор.Ьг
бе готова и месть стихии им. Они все только строят,
вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех
сооружений на земле; но они ничего не получают за это, от';
давая все свои силы вечному стремлению сооружать,--
стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-
таки не дает людям крова к слишком мало дает им
клеба. Они — токе стихия, и вот почему море не 1\нев.
йо, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет
Шльзы. Эти серые маленькие черви, так источившие1 rd-
ру,— то же самое, что и его капли, которые первыми
вдут на неприступные и холодные скалы .берегов в
верном стремлении моря расширить свои пределы и
первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже
родственны ему, тогда они совсем как море,—«так;же
191
мощны и так же склонны к разрушению, чуть только
веяние бури пронесется над ними. Морю издревле
ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы
Ксеркса, смешного человека, который,думал наказать
море тремястами ударов за то, что оно поломало его
игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они
всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они
вечно исполняли великое и чудесное, иногда
обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная
их, изредка возмущаясь против своих владык...
Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой
людей, созидающих каменную преграду их вечному
движению, взбегают и поют свою звучную ласковую
песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели
они на берегах этой земли...
...Среди работавших были какие-то странные,
сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в
синих коротких куртках и в шароварах, узких у
голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал,
анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с
протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой,
быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.
В России голодали, голод согнал сюда
представителей чуть ли не всех охваченных несчастием губерний.
Они делились на маленькие группы, стараясь
держаться земляк к земляку, и только
космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым
видом, и костюмами, и особым складом речи — из
людей, еще находившихся во власти земли, лишь
временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом
и не забывших о ней. Они были во всех группах: и
среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на
своем месте, но большинство их собралось у копра, как у
работы —сравнительно с работой на тачках и с
киркой — более легкой.
Когда я подошел к ним, они стояли* опустив руки с
веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то
в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он
копался там вверху деревянной башни, то и дело
крича оттуда!
— Дерни!
Веревку лениво дергали.
— Сто-ой!,. Ищё дерни. Стр-ой! П'шел!..
108
Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом
и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в
сторону глаза, откашлялся и завел:
— Ба-аба сваю в землю гонит...
Следующий стих не выдержал бы даже и самой
снисходительной цензуры и вызвал единодушный
взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией,
только что созданной запевалой, который, под смех
товарищей, крутил себе усы с видом артиста,
привыкшего к такому успеху у своей публики.
— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра
нарядчик.— Заржали!..
—\Митрич,— лопнешь!..— предупредил его один из
рабочих.
Голос был мне знаком, и я где-то видел эту
высокую широкоплечую фигуру с овальным лицом и
большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у
Коновалова^ не было шрама от правого виска к
переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы
Коновалова были светлее и не вились такими мелкими
кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая
широкая борода, этот же брился и носил густые усы
концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было
что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним
заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтобы
«встать на работу», и стал дожидаться, когда
перестанут бить сваю.
— О-о-ух! о-о-ох!—могуче вздыхала толпа,
приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь,
как бы готовая оторваться от земли и взлететь на
воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы
поднимались обнаженные, загорелые и волосатые ру«
ки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы
вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна
взлетал вверх всё на меньшее расстояние, и его удар о
дерево звучал всё слабее. Глядя на эту работу, можно
было поДумать, что это молится толпа
идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему
молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые
потом, грязные и напряженные лица с растрепанными
волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи,
дрожащие от напряжения плечи—все эти тела,
едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и
199
портами, насыщали воздух вокруг себя горячими
испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускуле?,
неуклюже возились во влажной атмосфере,
пропитанной зноем юга и густым запахом пота.
— Шабаш! —крикнул кто-то злым и надорванным
ГОЛОСОМ.
Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо по-
СЛ вдоль кбпра, а рабочие грузно опустились тут
же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя
спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим
ропотом, похожим на рычание большого раздраженного
зверя.
— Земляк! — обратился я к облюбованному
милому.
Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему
лицу своими глазами и сощурил их. пристально
всматриваясь в меня.
— Коновалов!
. — Постой;..—он запрок^йул рукой мою голову
назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг
весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.
— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты
сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну
BOt и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идёшь?
Мы теперь с тобою "всю землю ошагаём! Какая там
жизнь... сзади-то? Тоска Одна, канитель; не живешь, г
Гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу све-
т*у. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал...
Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: nd одеже —
солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить,
й места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Та-
рйсй, и Пилу^. всё!..
Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей
широкий ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в
залп его вопросов и только улыбался, глйдя в его
доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже
рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила
мне нйчало моей жизни, которое, несомненйо, было
лучше ее продолжения. j
Наконец мне удалос^-такй спросить старого
приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.
.— А это, видишь ты... история одна была. Думал
пробраться втроем с товарищами ч^рез румын-
200
скую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии,
Ну, вот й отправились из Кагула — мбстечко этакое
есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью,
конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! К°РД°Н
таможенный, прямо на него налезли. Ну —бежать! Тут
меня один солдатик "и съездил по башке. Не больно
важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в
госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком
оказался! Наш, муромский!.. Его тоже,скоро в
госпиталь доложили — контрабандист его испортил, ножом
в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то.
Солдат ..спрашивает У меня: «Это, говорит, я тебя
полоснул?»— «Надо быть, ты, коли признаешь».— «Дол*
жцо, я,, говорит; ты, говорит, не сердись — служба
такая. Мы думали, вы с контрабандой, идете. Вот,
говорит, и меня уважили — брюхо подпороли: Ничего не до-
делаешь!; жизнь — игра серьезная». Ну,, мы и
подружились с ним. Хороший солдатик —Яшка Маз^н...
А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мрй, ^то после тифа.
Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму,
желая судить за самовольное прохождение границы, а
там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним,
валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал б,ы,
да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, про*
сто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на
что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы
эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе
посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне
читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего
этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса,
который спасся от кораблекрушения на безлюдный
остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх
как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему
и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море,
небо — ты один себе живешь, ц всё у тебя есть, и ты
свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил —
ра кой чёрт он мне нужен! Мне и одному не скучно.
Ты читал такую книгу?
г— Ну,, а как же ты вышел из тюрьмы?
!М г- А —выпустили. Посудили, оправдали и
выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не
работаю; ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе рушь и
будет. Денег у меня ееть рубля три да за сегЬдняшние
201
полдня сорок копеек,получу. Вон сколько капитала!
Значит, пойдем со мной к нам... Мы не в бараке, а тут
поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень
удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы
квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его
скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику...
я скоро!..
Он быстро встал и пошел как раз в то время,
когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу.
Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную
суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-
зеленое море-
Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая
между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали.
Он шел, размахивая руками, одетый в синюю
кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в
холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русых
кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он
оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки.
Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно
уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали,
трещало дерево, раскалывался камень, уныло
визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом
падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно
стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений
красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-
то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь
как бы намеком на что-то объясняющее Коновалова.
Часа через два после встречи мы с ним лежали в
«дыре, очень удобной для человеческого жительства».
На самом деле «дыра» была весьма удобна—в горе
когда-то давно брали камень и вырубили большую
четырехугольную нишу, в которой можно было вполне
свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над
входом в нее висела глыба камня, изображая собой
как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру,
следовало лечь на землю перед ней и потом
засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать
в нее с головой не представлялось надобности, да и
было рискованно, ибо эта глыба над входом могла
обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели
этого. *t устроились так: ноги и туловища сунули в дыру,
где было очень прохладно, а головы оставили на солн-
202
це, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над
нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам
черепа.
Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около
нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали, его
зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длин*
ный хохол: «з Шлтавы»,— задумчиво сказал он мне.
Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться
в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень
образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и
все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие
черные глаза, постоянно прищуренные, точно он
всегда что-то пристально рассматривал.
Солнце невыносимо пекло нам затылки,
Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде
ширм, воткнув в землю палки и распялив на них
шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но
ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу
город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море,
пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль,
где в мягких полутонах смешались в фантастическбе
марево какие-то дивные и нежные, невиданные
краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой
своих оттенков...
Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и
говорил мне:
— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим
чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?
Он выкатил ногой из угла- ямы арбуз, достал из
кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:
— Каждый раз, как я бываю у моря, я всё думаю —
чего люди мало селятся около него? Были бы они от
этого лучше, потому оно — ласковое такое... хорошие
#умы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как
ты сам жил в эти годы?
Я стал рассказывать ему. Море вдали уже
покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу
поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний.
Казалось, что со дна моря встают горы с белыми
вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей
заката.
— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешь-
ся^__ убедительно сказал Коновалов, выслушав мою
доз
эпопею.— И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь.
Ни воздуху, ни простору! ничего, что человеку надо.
Люди? Люди везде есть... Книги? JHty, будет уж тебе
книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да
и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и
иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд
или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я,
брат, решил ходить по .земле в разные стороны — это
всего лучше. Идешь и всё видишь новое... И ни о чем
не думается..., Дует тебе ветерок навстречу и
выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно...
Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал,
поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — по-
дроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь...
Красоты всякой. Аида?
Солнце село. Облака над морем потемнели, море
тоже стало темным, повеяло прохлздой. Кое-где, уж
вспыхивали звезды, гул работы в бухте, прекратился,
лишь,порой оттуда тихие, как вздохи, доносились врз-
гласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил
с собой меланхоличный звук шороха воли Огберег.
( >Тьмз ночная быстро сгущалась, и фигура
хохла, за пятьминух перед тем имевшая вполне
определённые очертания, теперь, уже представляла собою
неуклюжий ком...
-г- Костер бы...— сказал он, покашливая,
— Можно,..
Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил
их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково
лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились
в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А
вокруг становилось всё тише: жизнь точно
отодвигалась,куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме.
Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко
засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже
мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных
звезд. Костер,перед нами расцвел, как большой
красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник й,
обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь! Хохол,
как громадная ящерица, подполз к нему.
, ,— Настроили люди городов, домов, собрались там
в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг
друга... Хорошая, жизнь! Нет, вот она жи^нь, вот как мы.!.
204
— Ого,-- тряхнул головой хохол,— коли б к ней
еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то
и совсем была бы господская жизнь...— Он прищурил
один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.
— Н-да,— смутился тот,— зима — треклятое
время. Для зимы города действительно нужны... тут уж
ничего не поделаешь... Но большие города все-таки
ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда
и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот
про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в
городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше
про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а
душу надорвешь...
Я думал, что Коновалов изменился от бродячей
жизни, что наросты тоски, которые были на его серд*
це в первое время нашего знакомства, слетели с него,
как mejfyxa, от вольного воздуха, которым он дыШал
в эти годы; но тон его последней фразы восстановил
Гтредо мной приятеля всё тем же ищущим своей
«точки» человеком, каким я его знал. Всё та же ржавчина
недоумения пред жизнью, и яд дум о ней разъедали
могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким
сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в
русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либЬ,
потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума.
Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы
подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:
— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и всё там...
что было. Сколько после того исходил я земли,
сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле
ничего удобного! Не нашел я себе места!
— А зачем родился с такой шеей, на которую ни
одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол,
вынимая из огня вскипевший чайник;
— Нет, скажи ты мне...— спрашивал Коновалов,—
почему я не могу быть покоен? Почему люди живут
и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен,
Детей и всё прочее?.. И всегда у них есть охота
делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне
тошно?
->- Вот скулит человек,— удивился хохол.— Да
разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?
— Верно...— грустно согласился Коновалов,
205
— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать,—
с чувством собственного достоинства произнес стоик,
не уставая бороться с своей лихорадкой.
Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно иле-
вать в костер. Вокруг нас всё было глухо, завешено
густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно,
луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем
было видимо нам,— так густа была тьма впереди ^нас.
Казалось, на землю спустился черный туман.
Костер гас.
— А поляжемте спать,— предложил хохол.
Мы забрались в «дыру» .и легли, высунув из нее
головы на воздух. Молчали. Коновалов как лег, так и
остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно
возился и всё стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели
угли костра: сначала яркий и большой, уголь
понемногу становился меньше, покрывался пеплом и иечезаЛ
под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме
теплого запаха. Я смотрел и думал:
«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»
... Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел
на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в
уверенности, что встретимся.
Не пришлось...
ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ
Местечко Голтва стоит на высокой
площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море,
С трех сторон обрезанная капризным течением
Пела, эта ровная площадь открывает широкие горизон*
ты на север, запад и восток, и в южной части ее
столпились в живописную группу белые хатки Голтвы,
утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат
вздымаются в небо пять глав деревянной церкви,
простенькой и тоже белой. Золотые тресты отражают
снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои
формы,— похожи на факелы, горящие ярким
пламенем.
На восток раскинулась равнина обработанных
полей — вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые
206
и темные; среди них там и>тут стоят пышные, зеленые
левады, белые хатки прячутся в садах, дороги вьются
меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах — как
игрушечные. На западе площадь крутым обрывом
опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на
солнце серебром, на берегах стоят вербы и осокори;
за Пслом опять поля до горизонта и опять на них куски
яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна
хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб,— всюду,
куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми
благодатная земля Украины!
Над громадным пространством, тесно заставленным
возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном
и пыльном. Всюду толкутся, спорят и «регочуть» «чо-
лов!ки», горохом рассыпаются бойкие речи «жШок».
Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько
слов, сколько в то же время наговорят трое евреев, а
трое евреев скажут в ту же минуту не более одного
цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к
пушке, еврея к скорострельному ружью, а цыган — это
митральеза. Черные лица, черные волосы и белые
хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их
характерная, гортанная речь трещит в ушах,— за ней не
успеваешь следить. Их проворные движения и жесты
красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза
с синеватыми белками сверкают хитростью и нахаль*
ством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми
лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки.
Четверо из них осаждают какого-то «чоловжа», уже сбитого
с толку и растерявшегося под градом убедительных
речей, осыпающих его немудрую голову, Он стоит среди
них, усердно чешет затылок и тяжело соображает.
У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее
осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее
хозяина — цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно
следящая за ходом сделки.
— ГНдождпъ!..—- говорит хохол.
— Не хочу! — восклицает цыган.— Что мне ждать:
хиба ж я с того, то подожду, гроши зароблю? Я тебе
говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что
и сам полтавский губернатор на ней поехал бы куда»
хочешь —хоть в Петербург! Вот на —какая моя
лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа,
207
что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее
хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...
Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост,
щупает ее всюду и руками и глазами и всё говорит, говорит.
Его товарищи пренебрежительно советуют ему:
— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться?
Вот дурной!.. Брось.
— В убыток? Ну, и буду меняться в убыток!
Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек
нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько!
Молитесь господу!..
Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на
церковь.
— Ну, господи благослови!—восклицает цыган.—
Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце...
Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи...
Вот и всё!.. Кончено! Давайте руки...
Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана
и говорит:
— Два дам!
— Э! Четыре с половиной!
— Два!
Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс.
ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ла-;
донь, как бы удостоверяясь — цела ли?
— Четыре ровно!
— Два! —упорно стоит на своем хохол.
-—Ну,— утомленно говорит цыган,— идите ж
теперь к вашей жшке и расскажите ей, какой вы дурень.
-*-1 Два! — говорит хохол.
>— Вот что,— молитесь богу!
Снова молятся и снова бьют руки друг друга.
— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток:
не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать,
коли нет их у вас в кармане... Даете три с по-лтиной?
— Ни,— качает головой хохолэ оглядывая лошадь
цыгана, понурую и шершавую.
— Три с четвертью?
— Ни...
— Чтоб ваша жшка сказала вам сто раз «ни»,
когда вы. у нее борща попросите! Даете три гладких кар-
бЬванца? И то не даете? Так берите ж за вашу цену..,
Э, пропали мои гроши и койь Хороший!
208
Лошадей передает из полы в полу, и хохол уходит,
ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу»,
равнодушно переступающую разбитыми ногами*
Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза
на толпу людей.
Скоро хохол, возвращается назад. Он идет
торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у.неге?
сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят
навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем
странном языке.
— Це дшо не законне,— покачивая головой,
говорит хохол, подходя к ним.
— Какое дело? — осведомляется один и,з цыган,
— А це... Як же вы менк*.
— А что мы тоб1?..
-г Шдожд1ть!.. Як же...
— А як же?
— Да^шдожд1ть же!
— А чего ждать? Когда кобыла родит? Да ты\ж,
дядько, еще и не венчался с ней!
В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.
— Добрые люди — ратуйте! Боны меш беззубу ко-'
няку на м1сто моей зубатой намшяли!
Толпа не любит неловких так же, как и слабых...
Она становится на сторону цыган...
— А де ж у тебе очи булы? — спрашивает хохла
сивый старик.
— Не май з цыганами д1ла! — поучительно
.заявляет другой.
Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у
коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три
оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-
то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба.
Куда он годится такой? Он есть не может,—вон у него
какой вздутый живот. Человека два-три из толпы
начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче
всех кричит, не уставая, цыган..,
— Э, добрый чоловж! чого ж ты затгяв таку за-
воруху? Хиба ты не знаешь, як треба кош куповаты?
Кошв., куповаты — як жшку выбираты, все одно, таке
Ж. важне дыо... Слухай, я To6i скажу одну
казку... Як булы на евт три братика, двое розумщ, ?
третш дурень — ось як щ або ж я... ,
209
Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку*
оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа ста^
новится всё гуще и теснее...
— Що жмет зостаеться, добр} люди? — горестно
вопрошает обиженный.
— Ходы до урядника! — кричат ему.
— А и пойду] — решает он.
— Cfoftf чолов1че!—останавливает его цыган.—-
Разорить меня хочешь? Разоряй! Дарай мне три
карбованца— я твою лошадь назад виддам! Желаешь?
Давай два! Желаешь? Ну, иди и жалуйся...
Хохлу не особенно приятно «тягать к дшу»
урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают
советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя.
Наконец решил...
— Ну, от що,—уныло говорит он цыгану,— нехай
бог тебя судит-.. Отдай мен! моего коня, а два карбо-
ванци, що ты в придачу узял,— твои... Триста трясшв
To6i у боки — грабь!
И цыган ограбил его с таким видом, точно великую
милость ему оказал.
— Догадлив! люди! — похваливали «чолрвши»
цыган, отходя от них.
— Деготь московский, атличный, фабричный,
аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек
кварта, пятнадцать четверть!—возглашает черниго-
вец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам
торговец — всё.это черно и жирно от дегтя и всё двигается
одной сплошной массой, распространяя вокруг себя
характерный аромат.
— А, мабудь, и по пьять за кварту продадите? —
справляется у дегтярника «чоловж» в необычайно
широких штанах и в соломенной шляпе на голове.
— Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть
копеек присягал...
— А, мабудь, можно по пьять?
— Никак...
— Эге... Зовам не можно?
— Слушай дядько, продам тебе по пятц не говори
тдьке^никому..., Не скажешь?
— Ни, не скажу.,.
210
^- Ну, давай баклажку.
— На що?
— А на деготь!
— Та MeHi того вашого дегтя не треба, бо я вжо
купив... И теж по цПсть кошек и теж у вас... Я спросив
-вас за тим, що, мабудь, вы теперь дешевше виддаете
цей деготь.
Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и
едет, между возов, возглашая о своем товаре... «Чоло-
BiK» провожает его взглядом и говорит другому,
раскинувшемуся на возу:
— Коли б я не куповал кварты дегтя утром, была
бы в мене котика лишня у кишеш...
— Эге ж... Жарко!
— Як у пекли...
— Хиба ж твой батько писав тоби з пекла, як там
жарко?-^спрашивают с воза.
Томящий зной всё усиливается. Запах дегтя,
навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой
едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат волы, жуют, не
уставая, сено и смотрят в землю большими добрыми
глазами. Кажется, что они думают: у них такие
осмысленные морды и в глазах светится спокойная,
привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы,
раздается звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловши»,
приехавшие продавать скот или руно, лежат под
возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей.
«Чоловши» покупающие расхаживают между возами,
высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбро-
,санные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и
подходя к волам, покупатель считает нужным
вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы
медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и
тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.
— Скшьки за цю пару просите? — спрашивает
покупатель пространство...
Из-под воза раздается неторопливый ответ:
:— Девяносто рубл1в...
— И то гроши! — говорит покупатель и ртходйт
-или спрашивает:
21Г
~ А чего ж бы вам, дядько, шлу сотнягу
не-просить?
-s- Та вже меш бьтьш того, сюльки треба,— не
треба грошей. А коли вы вже такий добрый, то давайте
й усю сотню — я В1зьму...
— Спасибо вам... А сюльки ж бы д1лом узяли?
— Та вже так, щоб не довго балакать, возьму л с
вас... девяносто рубл!в...
Начинается торг. «Чоловжи» не торопятся,— это
совсем не в их характере,— и продавец вылезает из-
под воза не ранее того, как убедится, что покупатель
серьезный. Понемногу горячатся и вот уже бьют друг
друга по рукам, молятся по десяти раз и более,
расходятся, снова сходятся. Всё делается медленно, но
основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани вели-
коруссов, от которой дух в груди спирает и глаза на
лоб лезут, не слышно,— ее заменяет меткий юмор,
щедро украшающий речи. Не слышно и
великорусского «тыканья». Сивый Д1Д, у которого безусый хлопец
торгует пару молоденьких бычков, так, например,
отчитывает покупателя:
— Здается меш, что вы, хлопче, раненько маткину
цицьку на люльку змшяли, бо разума у {мчах ваших
не бачу я.,.
— Та як же, д1ду! Боны и некрасиви — ось роги
якие...
— А хиба ж вы рогами пахати будете? Так купуй*
те ж co6i козл1в: у них рога красивейши...
Сыны Израиля вертятся меж возов, как вьюны. Они
обо всем спрашивают, всё щупают и всё покупают. «Чо-
ловжи» говорят им «ты» и смотрят за ними во все
глаза. Паны встречаются с «чоловшами» с чувством
собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла
сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна
нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже
определен как «ненужна козявка у пчелином рои».
У одного из возов корова, привязанная к нему,
вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю.
«Жшка», продававшая ее, соскочила своза и
закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг,
ёй с ужасом, выразился на лице бедной жеи-
212
щины, сразу лишившейся надежды продать свою
скотину.
— Ой, господи! Ой, добри люде! Ратуйте — що во-
но таке? Що воно? Ой, мати пречистая!
Сразу выросла толпа и принялась горячо
обсуждать несчастие. Делали предположения, отчего именно
заболела корова и как всего лучше лечить ее. Явился
какой-то древний старик, весь, точно плесенью,
покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя
шёпотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча
ждала результатов моления, изредка крестясь. А
корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и
снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много
боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с
головы шапку, стал ею растирать,хребет животного,
трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи,,и
столько ;же вокруг хвоста. И это не помогло.
Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку живрто-
гр, .потом угостили его скипидаром, наконед явился
коновал, угрюмый мужик, с разнообразными
инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пррбдл
ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими
струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то мр-
ралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее
хозяина, убитого горем, и сказал:
— От це вам, дядька, божие наказание... Здаетца
меш,,що хотели вы утаиты, яка вона ваша корова...
И открыв господь людям вашую думку... От як!
Хохол посмотрел на него и грустно покачал
головой.
— Бог мою думку знае...— вздохнул он.
А рядом с этой сценой разыгрывается другая.
«Жднка», размахивая руками, как поломанная
мельница крыльями, бранит своего «чоловжа». Он. сидит
На земле, упираясь в нее руками, и блаженно
улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке,
ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в
трудь и лицо.
., — Голодранец ты! Хиба ж морд1 твоШ не стыдно?
Э-э, шибеник! Визьму кнут, та як учну стегать,.,
— Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! — тянет «чоловж»,
213
подмигивая жшке.— Слухай... Я и то0] ливкварты
купив.
— О-о! — стонет жшка.— Бесстыжи очи!
Наклонясь к мужу, она. с великим трудом
приподнимает его с земли и старается засунуть это
расслабленное хмелем тело под воз. «Чолов1к» стукается
головой о колесо и предупреждает жену$
— У кармат шташв скляница... то як бы и... и во-
на не побилась... э?
Через минуту они оба дружелюбно распивают «пив-
кварты», и добрая, хотя строгая, супруга уже
обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он
мог свалиться в любую сторону без риска удариться
своей головой о колесо.
Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и
кричит:
— Роменский табак! Панский табак! Крепчайший
табак! Чёрт курил — дымом жшку уморил.
— От це добрый табачино, коли з его жшки
мрут! — замечает какой-то Со^опий Черевик.
В центре ярмарки два длинных ряда палаток
образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под
одним из полотняных навесов приютился еврей с
рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно
молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые,
то возбужденные голоса:
— Красна! Черна! Чет!
В стороне бледный и встревоженный парубок
уговаривает другого: ,
— Онисиме! Дай же меш карбованец! Бо я, ма«
будь, и ворочу мои гроши... О, не грать бы меш в ту
б1сову штуку,.. Вертыться, вертыться— та и выверне
твои карманщ...
Остробородый ярославец торгует гребешками,
ножичками, книжками, мылом...
— Паж-жалуйте-с! Заграничные товары!
Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи1
Молодой юноша! — позвольте вам предложить книжечку
для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно
рассмотреть, очень занимательная история — смерть
господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При
2Ы
сём же веселая комедия — «Плоды просвещения»;
Очень тонко осмеяны господа столичные и русские
мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское
сочинение— за двугривенный, дешевле никто не продаст! А
вот еще не пожелаете ли — «Князь Серебряный»? Про
царя Ивана Грозного... по случаю того, как эта
книжечка уже читана,—за тридцать пять копеек отдам! Стихи
поэта Пушкина-с — по пятачку и по три копейки
книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания...
«Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три
копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города
Казани». О разведении кур — не желаете ли
просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов — из-
вольте-с! «Житие иже во святых отца нашего»...
Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Че-
го-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на
книжке —:• двадцать. За гривенник могу продать вот-с
«Еврейские рассказы»... Тетка1 Ты так гребень
сломаешь... Почтенный! купите бритву? «Загробная жизнь,
или О том, что ждет душу нашу по смерти»...
Весьма полезно знать — цена полтина! Не желаете?
«Болезни домашних животных» — полюбопытствуйте!
«Веретагианская кухня»... А то вот часики продаю:
серебро—как золото, ход самый правильный, цена
дешевая.,. Почтеннейший — мыльца для дочки не
желаете ли приобрести?.. Последнее слово, милый: за
Ивана Ильича — восемнадцать копеек...
Ни одной секунды не молчит этот сухой и
поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам
покупателей. ЕгЬ звонкий голос издали влечет к нему
народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни
покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают
его бойкую,, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый
хохол долго таращил на ярославца большие выпуклые
глаза и вдруг расхохотался.
— Чого вы, пане, регочете?—спросил его сосед.
— Та ось вш, цей москаль, нехай ему, 6icoBy сыну,
гадюка у глотку вл1зе... Вин зовсим як та молотилка
роботае. Доброму чоловжу у мисяць стильки не сказа-
ти, як вин у час каже...
А у возов й глиняной посудой из
Опошни,—посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой поис-
215
полнению^—торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот
какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в
руках подходит, берет макитру — подобие
великорусской корчаги — и, рассмотрев её, спрашивает:
— Скильки грошей?
— За що? — осведомляется продавец, возлежащий
под возом на брюхе.
—> А за макитру...
— Тридцать пьять кошек...
— О, лишечко! та то дуже дорого!
— Хиба ж?
— А звисно! Вон она неровна та корява...
— А що ж вы, пани, с цей макитры стрелять хоче-
те чи що? Зачим ей буты ровной? Не ружье вона, а
макитра.
— Та воно BipHo... Ще и не гладка вона та и
тускла яка-то...
— Так же то зеркало гладко та блестяще; зеркало;
a rie макитра;.:
-i- Вона и дребезжит...
-^ О? То значите** — в ней дйрка е.
—i То-то е дирка...
— Так вже cBiT устроен, пани, что у ним усе дйря-
во..« Вон и у вас* лани, хусточка з ди-ркой.»;
ГТани краснеет и оправляет платок на груди.;.
—г А вы, пани* подивггёся, може и знайдете креп*
ку макитру.
Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно-яе*
жа под возом, смотрит-на нее...
— Будьте милостивы, скажить мен! — от така
хороша? —* показывает пани выбранную посудину.
, — Це? Зо воих наилучша.,.
Начинают торговаться. Это длится долго, част;о
прерываясь паузами, во время крторых женщина
выдумывает всё новые и новые недостатки макитры, а
торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее
торгуют «жшки», Они продают какое-то розовое питье,
вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат
на земле, и, так как ее здесь очень любят, она
покупается, хорощо.. Звонкие Еолдеа женщин так и режут
уши/
-г? Р]цба черНоморска, керченска, вкусна тз солевд!
Аа рыба!
216
Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль,
тучей стоящая нйд ярмаркой, кажется розовой в лучах
заката. Гонят Скотину на Псел, раздается мычайиё,
суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые
звуки сопилки несутся со. стороны погоста. Там, у
земляного вала, ограждающего ниву опочивших,
собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания
на «дш>ш могилы», собираются «танцювати» в виду их.
Тополя на погосте тихо качают вершийами, точно
протестуя против нарушения мира и тишины в месте
упокоения.
А тепери я велыка,
Треб-ба меш чолов1,ка.„
— распевают двое пьяных, идя к погосту. Они
толкает друг друга плечами и качаются ца яогах, как
надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они
охрипли 6;Т ус;идий петь согласно; один сдвинул шзпку
на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует,€;ю^
не замечая, что из нее вылезли и брлтзются в
воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста
навстречу им несется дробный топот ног, с жаррм
выбивающих гопака^ и задорные з$уки сопилки. ,
Тени от возов становятся всё длиннее. Жара
спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена;
Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака,
еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди,
изморенные хлопотами и зноем дня, укладываются
спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат,волы,
пережевьхзая сено;, фыркают лошади* , ;
Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны;
они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял-в
течение дня. Вот раздается торжественная музыка.
-Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа
Молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно
слушает музыку. •
— Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим твору
tef на-а-шего,—поет слепой, аккомпанируя себе ни
звучном инструменте. Густые и успокаивающие нота
печально вьются'в воздухе над головами молитвенно
растроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные
Шепчут что-то — вядйб, как шевелятся их губ^л, иные
217
вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко
серьезно.
А со стороны погоста несется удалая песня,
исполняемая могучим хором молодых голосов: «Гей-гей!» —
гремит припев.
Слышно, что эта ггесня складывалась в широкой
степи, верхом на конях, во время похода, старыми
свободолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою
бурную и горячую кровь «за Bipy християнську та вольнос-
Ti козачи»...
— Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец
мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем
упокоение...— поет и играет слепой.
Ночь идет.
Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг
них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня.
Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный,
красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру
и с ним — в море. Вспыхивают звезды...
Ночь идет.
СУПРУГИ ОРЛОВЫ
I очти каждую субботу перед всенощной из двух
окон подвала старого и грязного дома купца
П.
Петунникова на тесный двор, заваленный раз-
ною рухлядью и застроенный деревянными,
покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные
женские крики.
— Стой! Стой, пропойца, дьявол! — низким
контральто кричала женщина.
— Пусти!—отвечал ей тенор мужчины.
— Не пущу я тебя, изверга!
— Вр-решь! пустишь!
— Убей, не пущу!
— Ты? Вр-решь, еретица!
— Батюшки! Убил, — ба-атюшки!
— Пу-устишь!
При первых же кризах Сенька Чижик, ученик
маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски- в
одном из сарайчиков на дворе, стремглав вылетал
оттуда и, сверка^ глазенками, черными, как у мыши, во
всё горло орал.
— Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!
218
.Страстный любитель всевозможных происшествий,
Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился
животом на землю и, свесив вниз свою лохматую
озорную голову с бойкой рожицей, выпачканной охрой и
мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и
сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и
прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две
фигуры, хрипя и ругаясь.
— Убьешь ведь, — задыхаясь, предупреждала
женщина.
— Н-ничего! — уверенно и с сосредоточенной
злобой успокаивал ее мужчина.
Раздавались тяжелые, глухие удары по чему-то
мягкому, вздохи, взвизгивания, напряженное кряхтенье
человека, ворочающего большую тяжесть.
— И-эх ты! Ка-ак он ее колодкой-то саданул! —
иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а
собравшаяся вокруг него публика — портные, судебный
рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие
любители бесплатных развлечений — то и дело
спрашивали Сеньку, в нетерпении дергая его за ноги и за
штанишки, пропитанные красками:
-Ну?
— Сидит на ней верхом и мордой ее в пол тычет, —
докладывал Сенька, сладострастно поеживаясь от пе*
реживаемых им впечатлений...*
Публика тоже наклонялась к окнам Орловых,
охваченная горячим стремлением самой видеть все детали
боя; и хотя она уже давно знала приемы Гришки
Орлова, употребляемые им в войне с женой, но все-таки
изумлялась:
— Ах, дьявол! Разбил?
— Весь нос в кровь — так и тикёт! —
захлебываясь, сообщал Сенька.
— Ах ты, господи, боже мой! — восклицали
женщины. — Ах, изверг-мучитель!
Мужчины рассуждали более объективно.
— Беспременно он ее должен до смерти забить, —
говорили они.
А гармонист тоном провидца заявлял:
— Помяните моё слово — ножом распотрошит!
Устанет возиться вот этаким манером да сразу и кончит
всю музыку!
219
— Кончил! — вскакивая с земли, вполголоса
сообщал Сенька > и мигом отлетал от окон куда-нибудь &
сторону, в уголок, где занимал новый
наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор
Орлов.
Публика быстро расходилась, не желая попадаться
на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании
сражения, он терял в ее глазах всякий интерес и,
вместе с этим, был не безопасен.
Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой
души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего
подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубахе, с
растрепанными волосами на голове, царапинами на
потном и возбужденном лице, он исподлобья оглядывал
двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за
спину, медленно шел к старым розвальням, лежавшим
кверху полозьями у стены дровяного сарая. Иногда он
при этом ухарски посвистывал и так смотрел
но.сторонам, точно имел намерение вызвать на бой всё
население дома Петунникова. Затем он садился на полозья
розвален, отирал, рукавом рубахи пот л кровь с лица и
замирал В; усталой позе, тупо глядя на стену дома,
грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными
полосами красок, — маляры Сучкова, возвращаясь с
работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть
стены.
Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с
тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко
оттеняя полные красные губы. Над большим
хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них
смотрели всегда беспокойно горевшие, черные глаза.
Среднего роста, немного сутулый от своей работы,
мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в
каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную
стену, глубоко дыша здоровой смуглой грудью.:
Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет
масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то
гнилью. Из всех окон обоих этажей дома на двор льются
песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия
с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за
косяка, и исчезает, усмехаясь;
Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова,
они искоса смБтря? на него, перемигиваются между со-
220
бой и, наполняя двор бойким костромским говором,
собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго
этажа сползают на двор^портные — народ полуодетый,
худосочный и кривоногий, — начинают подтрунивать
над костромичами-малярами за их горохом
рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и
живым смехом, шутками, Орлов сидит в своем углу й
молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему
и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что
теперь он — зверь лютый.
Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой,
которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его
хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая
два ряда крепких и крупных желтых зубов. В нем
растет что-то бесформенное и темное, красные, мутные
пятна плавают пред его глазами, тоска и жажда водки
сосет его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет,
ему будет легче, но пока еще светло, и ему стыдно идти
в кабак в /гаком оборванном и истерзанном виде по
улице, где все знают его, Григория Орлова.
Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и
пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может.
Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь
всячески противна.
Она там стонет, чувствует, что она мученица и что
она права пред ним, — он знает это. Он знает и то, что
она действительней права, а он виноват, — это еще бо-
ше усиливает его ненависть к ней» потому что рядом с
этим сознанием в душе его кипит злобное темное
чувство и оно сильнее сознания. В нем всё смутно и
тяжело* и он безвольно отдается тяжести своих внутренних
ощущений, не умея разобраться в них и зная, что
только полбутылка водки может облегчить его.
Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой
безрукавке, в красной шёлковой рубашке, в шароварах,
заправленных в щегольские сапоги, Под мышкой у него
гармоника в зеленом мешке, черненькие усики
закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и всё
лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за
удальство, за игру, за веселый характер и завидует его
/легкой, беззаботной жизни.
С по:бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-райанной щекбй!
221
Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он
уже слышал её раз пятьдесят, да гармонист и не со зла
говорит это, а просто потому, что шутить любит.
— Что, брат, опять Плевна была? — спрашивает
-Кисляков, останавливаясь на минутку перед
сапожником. — Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда,
куда всем нам дорога... Клюнули бы мы с тобой.
— Я скоро, — не поднимая головы, говорит Орлов.
— Жду и страдаю по тебе...
Вскоре уходит и Орлов,
Тогда из подвала, держась за стены, выходит
маленькая полная женщина. Голова у нее плотно
закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один
глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через
двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее
появление никого не удивляет — к этому привыкли, и все
знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка,
пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится
из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале
душно и для того, чтобы свести с лестницы пьяного
Гришку. Лестница — полусгнившая и крутая;
однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что
недели две не работал, и за это время, чтобы
прокормиться, они заложили почти все пожитки.
С той поры Матрена и караулила его.
Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней,
чаще всех Левченко — усатый унтер-офицер в
отставке» рассудительный и степенный хохол с гладко
остриженной головой и сизым носом. Он садится и,
позевывая, спрашивает:
— Снова подрались?
— А тебе что? — недружелюбно и задорно говорит
Матрена.
— А ничего! —- объясняет хохол, и после этого оба
они долго молчат.
Матрена тяжело дышит, и в груди у нее что-то
хрипит.
— И чего вы всё воюете? Чего б вам делить? —
начинает рассуждать хохол.
г—Наще дело... — кратко говорит Матрена Орлова.
— Ваше, это так,— соглашается Левченко, кивая
головой i
— Так чего же ты лезешь ко мне? — резонно
заявляет Орлова, 222
е^ Фу ты, какая! Слова ей не скажи!' Как посмотрю
я на вас *— пара вы с Гришкой! Батогами бы вас
лупить надо каждый день — раз поутру и раз вечером —•
вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...
И, рассерженный, он уходит прочь от нее, чем она
очень довольна: по двору Давно уже ходит говор, что
хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него
и на всех людей, которые суются не в свое дело. А
хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой,
бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.
Вот откуда-то к нему под ноги подвертывается
Чижик.
— Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! — впол»-
голоса сообщает он Левченку, подмигивая туда^ где
сидит Матрена.
— Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! *~
усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого
Чижика и в*щмател.ьно слушает его, зная, что Чижику
известны всЬ тайны двора.
— Около нее.не обрыбишься,— не обращая
внимания на угрозу, поясняет Чижик. —- Максимка-маляр
пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал4 —
здорово! Прямо по харе, как по барабану!
Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои
двенадцать лет, живой и впечатлительный^ он, как губка
влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его
жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, при*
знак, что Сенька Чижик думает. .
...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске
звезд, квадратный кусок синего неба, и, окруженный
высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда
с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит
маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев,
ожидая пьяного мужа...
Орловы были женаты четвертый год. Был у них
ребенок, но, прожив около полутора года, умер; они оба
недолго горевали о нем, успокоившись в надежде иметь
другого.
Подвал, где они помещались, — большая,
продолговатая, темная комната со сводчатым потолком. Пря*
ыо у двери — большая русская печь, челом к окнам;
223
между нею и стеной —» узенький проход в квадрат,
освещенный двумя окнами, выходившими so-двор. Свет
падал из них в подвал косыми мутными полосами, в
комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась
где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие,
неопределенные звуки, падавшие вместе с пылью в яму
к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по
стене — деревянная двухспальная кровать за ситцевым
пологом, желтым, с розовыми цветами; у другой
стены — стол, на нем пили чай и обедали, а между
кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.
По стенам лениво путешествовали тараканы,
объедая хлебный мякиш, которым были приклеены к
штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали
повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки
смотрели темными пятнами с грязно-серого фона стен.
День Орловых начинался так. Часов в шесть утра
Матрена просыпалась, умывалась и ставила самовар,
не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый
заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала
комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он
вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе,
шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом,
которого съедали вдвоем фунт.
Григорий работал хорошо, и работа у него была
всегда, за чаем ой распределял ее. Он делал чистую
работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дрэт-
ву, подклеивала поднаряд, делала набойки на
стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем,
обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был
довольно интересный вопрос; летом из экономии печь
топили только по праздникам, и то не всегда, питались
же преимущественно окрошками из кваса с
добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у
кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать:
Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на
боку, жена рядом с ним — на низенькую скамейку.
Сначала работали молча — о чем им было
говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе,
и молчат по получасу и больше. Стучит молоток*
шипит дратва, продергиваемая сквозь кожу; Григорий
иногда зевнет и непременно заключит зевок иротяж-
<ньш ревом или воем. Матрена вздыхает. Иногда Орлов
224
запевал.песнк*. Голос у него резкий, с металлическши
тембром, ло.пэдь он умеет. Слова, пеши. то собщ>алис;ь
в жалобный и,быстрый речитатив и, как,бы боясь не
.договорите того, что хотели сказать, стремительно рэа-
яись из Гришкиной груди, то, вдруг растягивала? в
грустные вздохи, с воплем «эх»,-— тоскливые и громкре,
,летели из окна на двор. Матрена подтягивала мужу
¦мягким контральто, Лица у обоих становились задум-
яивы и печальны, темные глаза Грящки подергивались
влагой. Жена его, погруженная в звуки, как-то тупела,
сидя точно в полусне и покачиваясь цз стороны в
сторону, а иногда она точно захлебывалась песней,
разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее
в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не.
чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в
чужих словах пустоту и скуку своей темной жизни,
хотели, быть может, оформить этими словами те
полусознательное, мысли и ощущения, которые зарождались
в их душах.
Порой Гришка импровизировал:
Э-рх, ты жи-изнь... эх да уж ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
ПрокляТущая тоска-а-а!..
Матрене эти импровизации не нравились, и она
обыкновенно в таких случаях спрашивала его:
— Чего ты завыл, как пес перед покойником?
Он почему-то тотчас же сердился на нее:
— Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать?
Кикимора болотная!
— Выл, выл да залаял...
— Молчать твоё дело! Я кто — подмастерье что ли
Твой, что ты мне рацеи-то начитывать суешься, а?,.
у Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на
:||цее и глаза блещут гневом, — молчала, молчала дол-
|го, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев
которого гас так же быстро, как и вспыхивал.
Она отвертывалась от его взглядов, искавших
примирения с ней, ожидавших ее улыбки, и вся была пол-
Йа трепетного чувства боязни, что он вновь
рассердится на Нее зС эту игру с ним. Но в то же время
сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для
Мее было приятно, — ведь это значило жить, думать,
Ьалноватьея...
jtf M. Горький 225
Оба, они — молодые и здоровые люди — любили
друг яруга и гордились друг другом. Гришка был
такой сильный, горячий, красивый, а Матрена — белая,
полная, с огоньком в серых глазах, — «ядреная
баба», ¦*¦ говорили о ней на дворе. Они любили друг
друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений*
и интересов, которые могли бы дать им возможность
отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы
естественную потребность человека волноваться, думать —
вообще жить. Если б у Орловых была жизненная цель,—
хоть бы накопление денег грош за грошом, =— тогда,
несомненно, им.жилось бы легче.
Но у них не было и этого.
Постоянно один у другого на глазах, они привыкли
друг к другу, знали все слова и жесты один другого.
День шел за днем и не вносил в их жизнь почти
ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они
ходили в гости к таким же нищим духом, как сами,
иногда к ним приходили гости, пили, пели, нередко —
дрались. А потом снова один за другим тянулись
бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей
жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным
раздражением друг против друга.
Иногда Гришка говорил:
— Вот так жизнь, ведьма ее бабушка! И зачем
только она мне далась? Работища да скучища, скучища да
работища... — И, помолчав, с поднятыми к потолку
глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: —¦
Родила меня мать по воле божией, — супротив этого
ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот
зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно,
сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня
.удовольствие?., Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот,
говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов,
шил.сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила?
И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?
Матрена молчала, чувствуя в словах мужа что-то
страшное; иногда она просила его не говорить таких
слов, потому что они против бога, который уж знает,
как устроить человеку жизнь. А иногда, гб^дучи не в
духе, она скептически заявляла мужу:
— А ты бы вот не пил винища-то — и жилось бы
тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этакие мысли.
226
Другие живут —- не жалуются, а копят денежки' да
свои мастерские на mix заводя!1 и живут потом, как
господа.
—- И выходишь ты за такие деревянные твои
слова — чёртова кукла! Раскинь мозгайи-то, разве я
могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много
ты их, других-то, этаких удачливых знаешь? А я разве
до-женитьбы такой был? Это, ежели по совести
говорить, так ты меня сосешь и жизнь мне теснишь...
У, жаба!
Матрена обижалась, но чувствовала, что муж ее
прав. В пьяном виде он и веселый и ласковый, —
другие были плодом ее фантазии,—и до женитьбы он был
весельчак, занятный и добрый...
«Почему это? Неужто и впрямь я ему .тяжела?» —
думала она.
Сердцу ее сжималось от горькой думы, ей
становилось жаль\с§бя и его: она подходила к нему и, ласково,
любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась
к его груди.
— Ну, теперь будет лизаться, корова... — угрюмо
говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть
ее от себя; но она уже знала, что он этого не сделает,
и еще ближе, еще крепче жалась к нему.
Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол
работу и, посадив жену к себе'на колени, целовал ее
много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря
вполголоса, точно боясь, что $го подслушает кто-то:
— Э-эх, Мотря! Живем мы с тобой ай-ай как
плохо! Как зверье, грыземся... А почему? Такая звезда
моя, под звездой родится человек, и звезда —
судьба его!
Но это объяснение не удовлетворяло его, и, прижав
жену к груди, он задумывался.
Они подолгу сидели так в мутном свете и спертом
воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но
иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались не-
заслуженные обиды и побои, понесенные от него, и она
с тихими слезами жаловалась ему на него.
Тогда он, смущенный ее ласковыми упреками, еще
горячее ласкал ее, а она всё более разливалась в
жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.
— Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз
227
больнее, когда э теф* быр. Понимаешь? Ну и помолчи,
Baiiiefi сестре ,дай ррлю, так. вы и за. горло. Ёрось раз?
говЬры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ,ему
жизнь осточертела?
! В другое время он смягчался под потоком ее тихих,
слез и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:
1—Что я с моим характером поделаю? Обижаю я
тебя,—-это верно. Знаю, что ты у "меня одна душа...
ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной
раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы
объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце
этакое зло — разорвал бы я тебя, да и себя заодно.
И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя
хочется...
Она едва ли понимала его, но кающийся и
ласковый тон успокаивал ее.
— Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, —
говорила она, не сознавая, что они уже давно
привыкли и исчерпали друг друга.
— Вот ежели бы дите у нас родилось — было бы
лучше нам, — вздыхая, заявляла она. — Была бы у
нас и забава и забота.
— Так чего же ты? Рожай...
— Да... ведь при таких твоих- побоях — не могу я
принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно
бьешь... Хоть бы ногами-то не бил...
— Ну,—угрюмо и сконфуженно оправдывался
Григорий, — разве можно в этом разе соображать, чем, по
чему бить надо? Да и я не палач, какой... не для
удовольствия бью, а от тоски...
— И отчего она завелась в тебе, тоска эта? —
грустно спрашивала Матрена.
— Судьба такая, Мотря! — философствовал
Гришка. — Судьба и характер души... Гляди, хуже я
других:, хохла, к примеру? Однако хохол живет и не
тоскует. Один он, ни жены, никого... Я бы, подох без
тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается, —
доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не.мр:
гу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у
меня такой... как пружина: нажмешь на него —
дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое,
третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу г—
тому ничего не надо, а мне и то обидцо, что он, уД
228
чёрт, ничего не хочет, а я... и не знак* даже чего хочу.,,
всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего у
меня нет. Опять же и ты... Жена ты мне, а — что в
тебе занятного? Баба как баба, со всем бабьим
набором... Знаю я все в тебе; как ты чихнешь завтра — и
то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне
чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и
какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир,
Потому что там весело.
— А ты зачем женился? — спрашивала Матрена.
— Зачем? — Гришка усмехался. — Черт меня
знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В
босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да
свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..
— Так иди, а меня отпусти на волю, — заявляла
Матрена, готовая разреветься.
— Это куда? — внушительно спрашивал Гришка.
— А мое дело.
— Ку-уда? — И глаза у него зловеще разгорались.
— Не ори, — не боюсь...
— Али присмотрела себе кого? Говори!
— Пусти!
— Куда пустить? — ревел Гришка.
Он уже держал ее за волосы, сбив платок с ее
головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое
наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо
того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще
более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо
многозначительными улыбками. Он бесился и бил ее,
беспощадно бил.
А ночью, когда она, вся изломанная и измятая,
стоная, лежала на постели рядом с ним, он искоса
смотрел на нее и тяжело вздыхал. Ему было скверно,
совесть мучила его, он понимал, что его ревность не
имеет оснований и что он напрасно избил ее.
— Ну, будет уж,— сконфуженно говорил он.— Али
я виноват? И ты тоже хороша.. Вместо того, чтобы
меня уговорить, — подзадориваешь. Зачем это тебе
надобно?
Она молчала, но—она знала зачем, знала, что
теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки,
страстные и нежные ласки примирения. За это она
готова была ежедневно платить болью в избитых боках.
229
И она плакала уже от одной только радости
ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.
— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно,
прости уж! — Он гладил ее волосы, целовал ее и
скрипел зубами от горечи, наполнявшей всё его
существо. /
Окна их были открыты, но небо закрывала
капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и
всегда, было темно, душно и тесно.
-—Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! —
шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того,
что с болью чувствовал. —•. От ямы это, Мотря. Что
мы? Вроде как бы прежде смерти в землю
похоронены...
— Переедем на другую квартиру, — сквозь
сладкие слезы предлагала Матрена, понимая его слова
буквально.
—- Э-эх! Не то, тетенька! Хоть на чердак заберись,
всё в яме будешь... Не квартира — яма... жизнь —
яма.
Матрена задумывалась и опять говорила:
— Бог даст, может, и поправимся...
~— Да, поправимся. Часто ты это говоришь.'А
дело-то, у нас, Мотря, не на поправку идет... Скандалы-
то всё чаще,— понимаешь?
Это было верно. Промежутки между их ссорами,
всё сокращались, и вот, наконец, каждую субботу еще
с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей
жене.
— Сегодня вечером пошабашу и в трактир к
Лысому... Напьюсь... — объявлял он.
Матрена, странно щуря глаза, молчала.
— Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее
будешь, — предупреждал он.
В течение дня он с озлоблением, возраставшим по
мере приближения вечера всё более, несколько раз
напоминал ей о своем намерении напиться,
чувствовал, что ей больно это слышать, и, „видя, как она,
сосредоточенно молчаливая, с твердым блеском в
глазах, готовая бороться, ходит по комнате, еще более
свирепел.
Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик,
объявлял о «отражении».
230
Избив жену, Гришка исчезал иногда ца всю ноч|>,
иногда не являлся и в воскресенье. Она, * вся в
синяках, встречала его суровая, молчаливая* но полная
скрытой жалости к нему, оборванному, часто тоже,
избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами. , : ,
Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нее уже
было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.
— Дай рюмочку, — хрипло дросил он, пил две-три
и садился работать...
День проходил у него в угрызениях совести; часто
он не выносил их остроты, бросал работу и ругался
страшными ругательствами, бегая по комнате или
валяясь на постели. .Мотря давала ему время
перекипеть, тогда они мирились.
Раньше это примирение имело в себе много
острого и сладкого, но от времени всё это постепенно
выдыхалось и мирились уже почти только потому, чтЬ
неудобно >ке было молчать все пять дней вплоть ^до
субботы.
— Сопьешься ты, — вздыхая, говорила Мотря.
— Сопьюсь, — подтверждал Гришка и сплевывал
в сторону с видом человека, которому решительно всё
равно, спиться или не спиться. — А ты от меня
удерешь, — дополнял он картину будущего, пытливо
глядя ей в глаза.
Она с некоторых пор стала опускать их, чего
раньше не делала, а Гришка, видя это, зловеще хмурил
брови и тихонько скрипел зубами. Но, тайком от
мужа, она пока, еще ходила к гадалкам и знахаркам,
принося от них наговорные корешки и угли. А когда
всё это не помогло, она отслужила молебен святому
великомученику Вонифатию, помогающему от запоя,
иво всё время молебна, стоя на коленях, горячо
плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.
И всё чаще и чаще она чувствовала к мужу дикую
и холодную ненависть, возбуждавшую в ней черные
думы, и всё менее жалела она этого человека, три го-
ща тому назад так обогатившего ее жизнь веселым
смехом, ласками, любовными речами.
Так изо дня в день жили эти, в сущности, недурные
$Фди, жили, ожидая чего-то такого, что окончательно
вдребезги разобьет их мучительно нелепую жизнь..,
23U
Однажды, в понедельник, утром, когда Орловы
пили ча#, на Ьороге их невеселого жилища явилась
вйушиТельная фигура полицейского. Орлоз веконили,
Питаясь восстановить-в своей похмельной голове
события последних дней, молчаливо уставился на гостя
мутными глазами, полный самых скверных ожиданий.
Жёйа его смотрела пугливо и укоризненно,
—'Сюда, сюда, — приглашал кого-то полицейский.
— Темно, как в омуте, чёрт бы побрал купца Пе-
тунникова,— раздался молодой и веселый голос, и в
подвал вошел студент в белом кителе, с фуражкой в
руке, гладко остриженный, с большим загорелым
лбом, веселыми карими глазами, смешливо
сверкавшими из-под очков.
— Здравствуйте! — воскликнул он баском.—Честь
имею представиться — санитар! Пришел осведомить-
ей, как поживаете... и понюхать ваш воздух — воздух
у вас скверный!
Орлов свободно вздохнул и радушно улыбнулся.
Ему сразу понравился студент: лицо у негр было
такое,здоровое, розовое, доброе, покрытое на щеках и
подбородке русым пухом. Всё оно улыбалось какою-
то особенною, ясной улыбкой, от которой в подвале
Орловых стало как бы светлее и веселее.
— Ну-с, господа хозяева! — без пауз говорил
студент, — помойку опрастывайте почаще, а то от нее
идет этот дух невкусный. Я вам, тетенька,
посоветовал бы мыть ее почаще. А у вас, дяденька, почему
такой скучный вид? — обратился он к Орлову и тут же,
схватив его за руку, стал щупать пульс.
Бойкость студента несколько смутила Орловых.
Матрена растерянно улабалась, молча оглядывая его,
Григорий улыбался недоверчиво.
— Животики у вас как поживают? — спрашивал
ТР1 — Рассказывайте, не стесняясь, — дело
житейское, а ежели чуть что неладно, мы вас снабдим
разными кислыми лекарствами, и всё как рукой снимет.
- —Мы ничего... в добром здоровье, — сообщил
Григорий, усмехаясь. — А ежели я не того... так это
одна наружность.,, потому что, — ежели по правде
говорить, с похмелья я несколько. '
— *Т°-то я чую носом-то, что как будто бы вы,
хозяин, чуть-чуть выпили, вчера,— самую малость, знаете,,.
232
Он до того уморительно произнес это и такук} при
этом скорчил рожу, что Орлов так и прыснул смехом.
Матрена тоже смеялась, закрывая рот передником.
Веселее и громче всех смеялся сам студент, он же
скорее всех и перестал. Когда расправились
вызванные смехом складки кожи вокруг его пухлого рта, и
глаз, лицо его, простое и открытое, стало как-то еще
проще.
— Выпить рабочему человеку следует, ежели в
меру, но — по нынешним временам лучше совсем врз-
держаться от выпивки. Слышали, какая болезнь
ходит между людьми? .
И уже серьезно, понятным языком, он начал
рассказывать Орловым о холере и о мерах борьбы с ней.
Говорил и расхаживал по комнате, то щупая стену
рукой, то заглядывая за дверь, в угол, где висел
рукомойник и стояла лохань с помоями, даже нагнулся к
подпечку и понюхал, чем из него пахнет. Голос у него
то и дело срывался с басовых нот на теноровые,
простые слова его речи как-то сами собой, без усилий
со стороны слушателей, одно за другим плотно
укладывались в их памяти. Светл&е глаза efo горели,
и весь он был пропитан пылом своей молодой страсти
к делу.
Григорий с улыбкой любопытства следил за ним.
Матрена то и дело фыркала носом, полицейский
исчез.
— Так насчет чистоты позаботьтесь сегодня же,
хозяева. Тут рядом с вами стройка, каменщики вам на
пятак сколько угодно известки дадут. А от выпивки
нужно воздержаться, хозяин... Н-ну, пока до
свиданья... Я еще забегу к вам.,.
Он исчез так же быстро, как явился, оставив
воспоминанием о своих смеющихся глазах довольные
улыбки на лицах Орловых,— они были смущены
набегом сознательной энергии в их темную жизнь.
.— А-яй!— протянул Григорий, качая головой.—
Вот так химик! А про них говорят, что они отравляют
народ!, Да разве человек с такой рожей будет этим
заниматься?.. Нет, тут совсем открыто пришел и
сразу—на вот, вот он я! Известка — разве это вредно?
Лимонная кислота — что такое? Просто, кислота и
больше ничего! И главное — чистота везде, в воздухе,
233
н;а полу, в лоханке... Ах, чертив Отравители, говорят...
ЭтакМ-то рубаха-парень, а? Рабочему, говорит,
человеку в меру выпить всегда следует... слышь, МоФря?
Ну-ка нацеди мне рюмочку,— есть что ли?
•Она очень охотно налила ему полчашки водки из
бутылки, неизвестно откуда взятой ею.
— Этот-то действительно хороший...
располагающий к себе,— сказала она, улыбаясь при
воспоминании о студенте.— А другие, прочие—кто их знает?
Может, и впрямь наняты они...
— Да для чего наняты-то, и кем опять же? —
воскликнул Григорий.
«*«* Для людского истребления.;. Говорят, что
бедного люда очень много, и вышло распоряжение —
травить лишних,— сообщила Матрена.
—- Кто это говорит?
— Все говорят. Стряпка от маляров .говорила-и
другие многие...
— И дуры! Да разве это выгодно? Ты подумай:
лечат! Это как понимать? Хоронят! Это разве не
убыток? Тоже нужен гроб, могила и прочее такое... Всё
идет на счет казны... Efp-рунда! Ежели бы хотели
сделать'очистку и убавление людей, то взяли бы да и
сослали их в Сибирь — там места про всех хватит!
Или на необитаемые острова... И приказали бы там
работать. Вот тебе и очистка, и очень даже выгодно...
Потому что необитаемый остров никакого дохода не
даст, ежели не засадить его людьми. А казне — доход
первое дело, значит, морить людей да хоронить их на
свой счет ей не рука,.. Поняла? И опять же студент...
озорник он, это точно, но он больше насчет бунта,
а чтобы людей морить... не-ет, его для такой игры
не купишь за все медные! Разве сразу не видно, что
он к этому делу не способен? Рыло у него не того ка^
либра...
Целый день они толковали о студенте и о всем, что
он сообщил им. Вспоминали его смех, его лицо,
нашли, что у него на кителе не хватало одной пуговицы,
и едва не разругались из-за вопроса: «На какой
стороне груди?» Матрена упорно утверждала, что на
правой, ее муж говорил—на левой и уже
дважды'крепко ругнул ее, но, вовремя вспомнив, что, .наливая
водку в чашку, жена не подняла дно бутылки кверху,
234
уступил ей. Потом решили с завтрашнего дня
заняться введением у себя чистоты и снова, овеянные ч€М-то
свежим, продолжали беседовать о студенте.
— Нет, какой ведь хлюст! — восхищался
Григорий.— Пришел — точно десять лет знакомы... Обнюхал
всё, разъяснил и... больше ничего! Ни крика, ни шума,
хотя ведь и он начальство тоже... Ах, раздуй его
горой! Понимаешь, Матрена, тут, брат, есть о нас
забота. Стразу видно... Желают нас сохранить в целости,
а не то что,.. Это всё ерунда, насчет мора,— бабьи
сказки! Живот, говорит, как действует?.. А ежели
мор, так на кой ему чёрт действие живота знать?
А как он ловко разъяснил насчет этих... как их? дьяво.
лов-то, которые заползают в кишки, ну?
— Как-то вроде небылицы,— усмехнулась
Матрена.— Чай, это так только, для страха, чтобы насчет
чистотькстарался народ...
— Ну, там кто их знает, может, и правда... от
сырости черви ведь заводятся же. Ах ты, чёрт! Как их,
этих козявок? Небылицы? Нет... На языке вертится
слово, а не поймаю...
Они и когда спать легли, всё еще говорили о
событии с тем наивным воодушевлением, с каким дети
делятся между собой впервые пережитым, сильно
поразившим их впечатлением. Так они заснули среди
разговора.
Поутру рано их разбудили. У кровати их стояла
дородная стряпка маляров, и ее всегда красное,
полное лицо против обыкновения было серо и вытянуто.
— Что вы проклаждаетесь?—торопливо говорила
она, как-то особенно шлепая толстыми губами.—
Холера-то ведь на дворе у нас... Посетил господь! —
И; она вдруг заплакала.
— Ах ты — врешь? — воскликнул Григорий,
— А я лоханку-то с вечера не вынесла,-— виновато
сказала Матрена.
— Я, милые вы мои, хочу расчет взять. Уйду я...
Уйду... в деревню,— говорила стряпка.
— Кого забрало? —спросил Григорий, поднимаясь
с постели.
— Гармониста! В ночь схватило.., И схватило,
сударики, прямо за живот, вроде как бы от мышьяка
бывает...
235
— Гармонист? — бормотал Григорий. Ему не
верилось»; ПРакой веселый, удалой парень; вчера он прошел
по двору таким же павлином, как и всегда.— Пойду
ззглдау*— решил Орлов, недоверчиво усмехаясь;
Обе женщины испуганно вскрикнули:
т» Гришд* ведь зараза!
—•• Что ты, батюшка, куда ты?
Григорий крепко выругался, сунул ноги в опорки
и, растрепанный, с расстегнутым воротом, рубахи,.прг
шел к двери. Жена схватила его сзади за плечо, он
чувствовал, что рука ее дрожит, и вдруг озлился
почему-то.
— В морду да:м! Прочь! — рявкнул qh и ушел,толк,
нув жейу в грудь.
На дворе было тихо и пусто. Григорий, идя к
двери гармониста, одновременно чувствовал озноб страха
и острое удовольствие оттого, что из всех обитателей
дома один он смело идет к больному. Это
удовольствие еще более усилилось, когда он заметил, что из окон
второго этажа на него смотрят портные. Он даже
засвистал, ухарски тряхнув головой. Но у двери в
каморку гармониста его ждало маленькое разочарование
в образе Сеньки Чижика.
Приотворив дверь, он сунул свой острый нос в
образовавшуюся щель и, по своему обыкновению,
наблюдал, увлеченный до такой степени/что обернулся
только тогда, когда Орлов дёрнул его за ухо.
— Вот так скрючило его, дяденька Григорий,—
шёпотом заговорил он, подняв на Орлова свою чумазую
мордочку, еще более обостренную переживаемым
впечатлением.— И вроде как'бы рассохся он,— как худая
бачка,—ей-богу!
Орлов, охваченный зловонным воздухом, стоял и
молча слушал Чижика, стараясь заглянуть одним
глазом в щель непритворенной двери.
— Воды ему дать напиться, дяденька Григорий? —
предложил Чижик.
Орлов взглянул на лицо мальчика, возбужденное
почти до нервной дрожи, и сам почувствовал взрыв
возбуждения.
— Тащи воды! — скомандовал он Чижику и,
смело распахнув дверь, остановился на пороге, несколько
подавшись назад,
236
Сквозь .туман,-в глазах Григорий видел Кислякова:
гармонист в своем, парадном костюме лежал грудью
на столе, крепко вцепившись в него руками, и его1 нога
в лакированных сапогах вяло двигались по моиошу
полу.
— Кто это? — спросил он сипло и апатично, точно
голос его слинял.
Григорий оправился и, осторожно шагая по полу,
Пошел к нему, стираясь говорить бодро и даже
шутливо.
— Я, брат, Митрий Павлов..; А ты что это-—пере-,
ложил, что ли, вчера? — Он внимательно, с боязнью
и любопытством рассматривал Кислякова и не узна;
вал его.
Лицо у гармониста всё обострилось, скулы
торчали двум^ резкими углами, глаза глубоко ввалились и,
окружение зеленоватыми пятнами, были страннр
неподвижны, мутцы. Кожа на щеках такого цветад
какою она бывает у покойников в жаркое, летнее время;
мертвое, страшное лицо, и только медленное движение
челюстей доказывало, что оно еще живо.
Неподвижные глаза Кислякова долго смотрели в лицо
Григория, и этот взгляд наводил на него ужас. Зачем-то
ощупывая свои бока руками,.Орлов стоял шагах в
трех от больного и чувствовал, что его точно кто-то
схватил за горло Сырой и холодной рукой, схватил и
медленно душит. Ему захотелось скорее уйти из этой
Комнатки, прежде такой светлой и уютной, а теперь
пропитанной удушающим запахом гнили и страйньш
холодом.
— Ну...— начал было он, приготовляясь отступать.
Но серое лицо гармониста странно задвигалось, губы,
покрытые черным налетом, раскрылись, и он сказал
своим беззвучным голосом:
— Это... я... умираю.,.
Неизъяснимое равнодушие трех его чслов отдалось
Э голове и груди Орлова, как три тупых удара. С бес-
шысленной гримасой на лице он повернулся к двери,
но навстречу ему влетел Чижик, с ведром в руке,
запыхавшийся и весь в поту.
-г- Вота —из колодца от Спиридонова,—не
давали, черти..,
237
,0н поставил ведро на пол, бросился куда-то в угол,
сщгаа явился и, подавая стакан Орлову, продолжал та-?
ратарить:
•— У вас, говорят, холера... Я говорю, ну, так что?
И у. вас будет,— теперь уж она пойдет чесать, как ,в
слободке... Дык—он меня как ахнет по башке!..
Орлов взял стакан, зачерпнул из ведра воды и
одним глотком выпил ее. В ушах его звучали мертвые
слова:
«Это... я... умираю...»
А Чижик вьюном вертелся около него, чувствуя
себя как нельзя более в своей сфере.
— Дайте пить,— сказал гармонист, двигаясь по
полу вместе со столом/
Чижик подскочил к нему и поднес к черным губам
его стакан воды. Григорий, прислонясь к стене у две-
ри^ точно сквозь сон слушал, как больной громко
втягивал в себя воду; потом услыхал предложение
Чижика раздеть Кислякова и уложить его в постель,
потом раздался голос стряпки маляров. Ее широкое
лицо, с выражением страха и соболезнования, смотрело
со двора в окно, и она говорила плаксивым тоном:
— Дать бы ему сажи голландской с ромом: на
стакан,чайный — сажи две ложки хлёбальных да рому
до краев.
,А кто-то невидимый предложил деревянного масла
с огуречным рассолом и царской водкой.
Орлов вдруг почувствовал, что тяжелая, гнетущая
тьма внутри его освещается каким-то воспоминанием.
Он крепко потер себе лоб, как бы желая усилить
яркость этого света, и вдруг быстро вышел вон,
перебежал двор и исчез на улице.
— Батюшки! Сапожника схватило! В больницу
побежал,— крикливо плачущим голосом объяснила
стряпка его бегство.
Матрена, стоявшая рядом с ней, посмотрела широт
ко открытыми глазами и, побледнев, вся затряслась:
— Врешь ты,— хрипло сказала она, едва двигая
белыми губами,— Григорий этой поганой болезнью не
захворает,— не поддастся!
Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и
через пять минут на улице около дома купца Петун-
никова глухо гудела кучка соседей и прохожих. На
238
всех лицах чередовались одни и те же чувства:
возбуждение, сменявшееся безнадежным унынием, и что-
то злое, уступавшее иногда место деланной удшш'. Go
двора к толпе и обратно то-и дело летал Чижик,
сверкая босыми ногами и сообщая ход событий в комнате
гармониста.
Публика, тесно сбившись в Кучу, наполняла
пыльный и пахучий воздух улицы глухим гулом своего
говора, а иногда сквозь него вырывалось крепкое
ругательство, злое и бессмысленное.
— Смотрите —Орлов-то!
Орлов подъехал к воротам на козлах холщовой
фуры, которой правил угрюмый человек, весь одетый в
белое. Он рявкнул глухим басом;
— Пошел с дороги!
И поехал прямо на людей.
Вид этрй фуры и окрик ее возницы как бы
придавил повышенное настроение зрителей — все сразу
потемнели, многие быстро ушли.
Вслед за фурой явился студент, знакомый Орло-
ВБ1Х. Фуражка у него съехала на затылок, по лбу
струился пот, на нем была надета какая-то длинная
мантия ослепительной белизны, и спереди на ее подоле
красовалась большая круглая дыра с рыжими
краями, очевидно, только что прожженная чем-то.
— Ну, где больной?— громко спрашивал он,
искоса посматривая на публику, собравшуюся в уголке у
ворот,— люди встретили его недоброжелательно.
Кто-то громко сказал:
— Ишь ты, какой повар!
Другой голос тише и зловеще пообещал*
— Погоди, он те угостит!
Нашелся, как всегда в толпе, шутник.
:N — Он те даст такой суп, что у тебя лопнет пуп!
Раздался смех, невеселый, затемненный боязливым
подозрением.
— Ведь вот' сами-то они не боятся заразы,— это
как понимать? — многозначительно спросил человек с
напряженным лицом и взглядом, полным сосредоточен*
ной злобы.
Лица людей потемнели, говор стал глуше..,
*— Несут!
— Орлов-то! Ах, собака!
239
— Не боимся!
— ЕМу что? Пьяница...
'—- Осторожней, осторожней, Орлов! Поднимайте
выше ноги... так! Готово! Поезжай, Петр!—
командовал студент.—Я скоро приеду. Ну-с, господин Орлов,
я прошу вас помочь мне уничтожить здесь заразу...
Кстати, на случай, вы выучитесь, как это делать...
Согласны?
— Могу,— сказал Орлов, оглядываясь вокруг и
чувствуя прилив гордости.
— И я тоже могу,— заявил Чижик.
Он проводил печальную фуру за ворота и
вернулся как раз вовремя для того, чтобы предложить свои
услуги. Студент через очки посмотрел на него.
— Ты кто такой есть, а?
— Из маляров,— в учениках...— объяснил Чижик.
— А холеры боишься?
— Я? — удивился Сенька.— Вота! Я — ничего не
боюсь!
— Н-ну? Ловко! Так вот что, братцы.— Студент
присел.на бочку, лежавшую на земле, и, покачиваясь
на ней, стал говорить о необходимости для Орлова и
Чижика хорошенько вымыться.
К ним подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За
ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза сальным
передником. Через некоторое время осторожно, как
кошки к в'оробьям, к этой группе подошло еще несколько
человек. Около студента собрался тесный кружок
человек в десять, и это воодушевило его. Стоя в центре
людей, быстро жестикулируя, он, то вызывая улыбки
на лицах, то сосредоточенное внимание, то острое
недоверие и скептические смешки, начал нечто вроде
лекции.
— Главное дело во всех болезнях — чистота тела и
воздуха, которым вы дышите,^- уверял он своих
слушателей.
— О господи! — громко вздыхала стряпка
маляров.— От нечаянной смерти.Варваре великомученице
надо молиться...
— Ив теле и в воздухе живут, однако тоже
помирают,— заявил один из слушателей.
Орлов стоял рядом со своей женой и смотрел в
лицо студента, о чем-то думая. Его дернули за рубаху,
240
— Дяденька Григорий! — шепнул -бецька
сверкая горящими, как угольки, глазами,— теперь вот
помрет Митрий-то Павлов, родных у него неяу.ь. кому
же гармоника достанется?
— Отстань, чертенок! — отмахнулся Орлов.,
Сенька отошел в сторону и уставился в окно
комнатки, гармониста, ища в ней чего-то жадным взглядом:.
—. Известка, деготь,— громко перечислял студент.
Вечером этого беспокойного дня, когда. Орловы
сели пить чай, Матрена с любопытством спросила
у мужа:
— Ты давеч-а куда ходил со студентом-то?
Григорий посмотрел ей в лицо затуманенными,
Чужими глазами, не отвечая.
Около полудня, кончив мыть комнату гармониста,
Григорий ушел куда-то с санитаром, воротился ча-еа в
три „ задумчивый, молчаливый, лег на постели и
вплоть до чая лежал кверху лицом, не вымолвив за.
все время ни слова, хотя жена много раз пыталась
вызвать его на разговор. Он даже не обругал ее,— это
было странно, непривычно ей и возбуждало ее.
Инстинктом женщины, вся жизнь которой
сосредоточилась на муже, она подозревала, что его охватило
чем-то новым, ей было боязно и тем более страстно
хотелось знать — что с ним?
— Тебе, может, нездоровится, Гриша?
Григорий слил с блюдца в рот последний глоток чая,
вытер рукой усы, не спеша подвинул жене пустой
стакан и, нахмурив брови, заговорил:
— Ходил я со студентом в барак...
— В холерный? — воскликнула Матрена и
тревожно, понизив голос, спросила: — Много там их?
— Пятьдесят три с нашим-то... Некоторые
поправляются... Ходят... Желтые, худые...
— Холерные? Чай — нет?.. Других каких-нибудь
дунули туда для оправдания: вот-де, смотрите,
вылечиваем!
— Ты дура!^-решительно сказал Григорий и зло
блеснул глазами.—Все вы тут дубье!
Необразованность и-глупость —больше" ничего! Подохнешь с вами
от тоски при вашем невежестве... Ничего вы не може-
241
те понимать,— он резко подвинул к себе вновь
налитый стакан чаю и замолчал.
— Где это ты образовался так?—ехидно спросила
Матрена и вздохнула.
, Он промолчал, задумчивый, неприступно суровый.
Потухавший самовар тянул пискливую мелодию,
полную раздражающей скуки, в окна со двора веяло
запахом масляной краски, карболки и обеспокоенной
помойной ямы. Полусумрак, писк самовара и запахи —
всё плотно сливалось одно с другим, черное жерло
печи смотрело на супругов так, точно чувствовало себя
призванным проглотить их при удобном случае.
Супруги грызли сахар, стучали посудой, глотали чай.
Матрена вздыхала, Григорий стукал пальцем по столу.
•*- Чистота невиданная!— вдруг с раздражением
заговорил он.— Все служащие до последнего — в
белом. Хворые то и дело в ванны лезут... Вином их
поят,— два с полтиной бутылка! Кушанья... с одного
запаха сы-т будешь... Обращение со всеми —
материнское... Н-да... Извольте понять: живешь на земле, ни
один черт даже и плюнуть на тебя не хочет, не то что
зайти иногда и спросить — что, как и вообще —какая
жизнь? по душе она или по душу человеку? А начнешь
умирать — не только не позволяют, но даже в изъян
вводят себя. Бараки... вино... два с полтиной бутылка!
Неужто нет у людей догадки? Ведь бараки и вино
большущих денег стоят. Разве эти самые деньги
нельзя на улучшение жизни употреблять — каждый год по
нескольку?
Жена не старалась понять его речей, ей достаточно
было чувствовать, что они новы, и она безошибочно
выводила отсюда: у Григория в душе творится что-то
нехорошее для нее. Она скорее хотела-узнать — как
это коснется ее? В этом желании была и боязнь, и на.
дежда, и что-то враждебное мужу.
— Там, чай, уж побольше твоего знают,— сказала
она, когда он кончил, и поджала губы.
Григорий повел плечом, искоса взглянул на нее и,
помолчав, начал в тоне еще более повышенном:
— Знают, не знают — это их дело. Но ежели мн$
не видав никакой жизни, помирать приходится, об
этом я могу рассуждать. Я тебе вот что скажу: такого
порядка я больше не хочу, сидеть, дожидаться, когда
242
придет .холера ;да меня скрючит,— не согласен. Не
могу! Петр Иванович говорит: вали навстречу! Судьба
против тебя^ а ты против нее,— чья возьмет? Война!
Больше никаких... Значит —что теперь? А поступаю
я служителем в барак — и все тут! Поняла? Прямо в
пасть влезу— глотай, а я буду ногами дрыгать!..
Двадцать рублей в месяц жалованья, да еще награду
могут дать... Можно умереть?.. Это так, но здесь еще
• скорее сдохнешь.
Орлов стукнул кулаком по столу так, что вся
посуда подпрыгнула.
Матрена в начале речи смотрела на мужа с
выражением беспокойства и любопытства, а в конце ее уже
враждебно прищурила глаза.
— Это студент тебе насоветовал? — сдержанно
спросила она.
— У меня свой ум есть,— могу рассудить,—
уклонился Григорий от прямого ответа.
— Ну, а как же со мной разделаться посоветовал
он тебе? — продолжала Матрена.
— С тобой? — Григорий несколько смутился-—он
не успел подумать о жене. Конечно, можно бабу
оставить на квартире, вообще это делается, но Матрену —
опасно. За ней нужен глаз да глаз. Остановившись на
этой мысли, Орлов хмуро продолжал: — Что же?
Будешь тут жить... а я буду жалованье получать... н-да...
— Так,— спокойно сказала женщина и
усмехнулась той многозначащей, женской улыбкой, которая
:разу может вызвать у мужчины колющее сердце
чувство ревности.
Орлов, нервозный и чуткий, ощутил это; но из
самолюбия, не желая выдавать себя, бросил жене:
— Квак^да хрюк — все твои речи!..— И
насторожился, ожидая — что еще скажет она?
Она снова улыбнулась этой раздражающей
улыбкой и промолчала.
— Ну, так как же? — спросил Григорий
повышенным тоном.
— Что? — произнесла Матрена, равнодушно
вытирая чашки.
— Ехидна! Не финти — пришибу! — вскипел
Орлов,— Я, может, на смерть иду!
>— Не я тебя посылаю, не ходи..,
243
— Ты бы рада послать, я знаю^—-иронически
воскликнул Орлов.
Она молчала. Это бесило его, но Юрлов сдержал
привычное выражение чувства,, сдержал под
влиянием преехиднрй, как ему казалось, мусли,
мелькнувшей у него в голове. .Он улыбнулся злорадной
улыбкой, говоря:
— Я знаю, тебе хочется, чтобы я провалился хоть
в тартарары. Ну, еще посмотрим, чья возьмет... да!
Я тоже могу сделать такой ход — ах ты мне!
Он вскочил из-за стола, схватил1 с окна картуз и
ушел, оставив жеяу н.е удовлетворенной ее политикой,
смущенной угрозами, с возрастающим чувством страха
пред будущим. Она шептала:
— О господи! Царица небесная! Пресвятая
богородица!
Она долго сидела за столом, пытаясь предполог
жить, что сделает Григорий. Пред ней стояла
вымытая посуда; на капитальную стену соседнего дома,
против окон комнаты, заходящее солнце бросило крас-
цоватое пятно; отраженное белой стеной, оно проникло
в комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей
пред Матреной, блестел. Наморщив лоб, она смотрела
на этот слабый отблеск, пока не утомились глаза.
Тогда она, убрав посуду, легла на кровать.
Григорий пришел, когда уже было совсем темно.
Еще по его шагам на лестнице она догадалась, что
муж в духе. Он выругал тьму в комнате, подошел к
постели, сел на нее.
— Знаешь что?—усмехаясь, спросил Орлов.,
— Ну?
— И ты пойдешь на место!
*— Куда? — дрогнувшим голосом спросила она.
— В один барак со мной! — торжественно объявил
Орлов.
Она обняла его за шею и, крепко сжав руками,
поцеловала в губы, Он не того ждал и оттолкнул ее.
. «Притворяется...—думал он, — ей, шельме,
совсем не хочется вместе с ним. Притворяется, ехидна, за
дурака считает мужа...»
— Чему рада? — грубо и подозрительно спросил
он, чувствуя желание сбросить ее на пол.
- —т Так у^к! — бойко ответилаона, .
244
—•- Финти! Знаю я тебя!
— Еруслан ты мой храбрый!
— Брось... а то смотри!
— Гришаня ты мой!
— Да ты что в самом деле?
Когда ее ласки укротили его «несколько, он
озабоченно спросил ее:
— А ты не боишься?
— Чай, вместе будем,— просто ответила она.
Ему приятно было слышать это. Он сказал ей:
— Молодчина!
И так ущипнул ее, что она взвизгнула.
Первый день дежурства Орловых совпал с очень
сильным наплывом больных, и двум новичкам,
привыкшим к своей медленно двигавшейся жизни, было
Жутко и VecHo среди кипучей деятельности, охватий-
шей их. Неловкие, не понимавшие приказаний, поДав-
ленные жуткими впечатлениями, 'они растерялись и
хотя пытались работать, но только мешали другим.
Григорий несколько раз чувствовал, что заслуживает
строгого окрика или выговора за свое неуменье, но, к
великому его изумлению, на него не кричали.
Когда один из докторов, высокий черноусый челб-
век с горбатым носом и большущей бородавкой над
правой бровью^ велел Григорию помочь одному из
больных сесть в ванну, Григорий с таким усердием
цапнул больного под мышки, что тот даже крякнул и
сморщился.
— А ты, голубчик, не ломай его, он и целиком в
.|анну уберется...— серьезно сказал доктор.
Орлов сконфузился; больной же, сухой и длинный
йерзила, усмехнулся через силу и хрипло сказал: '
— С нови... непривычен.
Другой доктор, старик с острой седой бородой и
блестящими большими глазами, сказал Орловым, ко-
f да они пришли в барак, наставление, как обращаться
й больными, что делать в том или другом случае, как
$рать больных, перенося их; в заключение спросил их,
$ыли ли они вчера jb бане, и выдал им белые
передними. Голос у этого доктора был мягкий, говорил он
быстро; он очень понравился супругам, Вокруг них мель-
245
кали люди в белом, раздавались приказания,
подхватываемые прислугой на лету, хрипели, охали и
стонали больные, текла и плескалась вода, и все эти звуки
плавали в воздухе, до того густо насыщенном
острыми, неприятно щекочущими ноздри запахами, что
казалось—каждое слово доктора, каждый вздох
больного тоже пахнут, раздирая нос...
Сначала Орлов находил, что тут царит
бесшабашный хаос, в котором ему ни за что не найти себе места,
и что он задохнется, заболеет... Но прошло несколько
часов, и, охваченный веянием повсюду рассеянной
энергии, он насторожился, проникся желанием
приспособиться к делу, чувствуя, что ему будет покойнее
и легче, если он завертится вместе со всеми.
— Сулемы! — кричал доктор.
— Горячей воды! — командовал худенький
студентик с красными опухшими веками.
— Вы — как вас? Орлов... трите-ка ему ноги!.. Вот
так... понимаете?.. Та-ак, та-ак... Легче,— сдерете
кожу!— показывал Григорию другой студент,
длинноволосый и рябой.
— Еще больного привезли! —раздавалось
сообщение.
— Орлов, тащите его.
Григорий усердствовал — потный, ошеломленный,
с мутными глазами и с тяжелым туманом в голове.
Порой чувство личного бытия в нем совершенно исчезало
под давлением впечатлений, переживаемых им.
Зеленые пятна под мутными глазами на землистых лицах,
кости, точно обточенные болезнью, липкая, пахучая
кожа, страшные судороги едва живых тел — все это
сжимало сердце тоской и вызывало тошноту.
Несколько раз в коридоре барака он мельком
видел жену; она похудела, и лицо у нее было серое и
растерянное. Он охрипшим голосом спросил ее:
— Ну, что?
Она слабо улыбнулась в ответ ему и молча исчезла.
Григория кольнула совершенно непривычная ему
мысль: а пожалуй, он напрасно втиснул сюда, в такую
пакостную работу, свою бабу! Захворает она..,
И, встретив ее еще раз, он строго крикнул:
— Смотри, чаще рукигто мой,— берегись!
246
— А то что будет? — задорно спросила она,
оскалив свои мелкие белые зубы.
Это разозлило его. Вот нашла место смешкам,
дура! И до чего они подлы, эти бабы! Но сказать ей он
ничего не успел: поймав его сердитый взгляд, Матрена
быстро ушла в женское отделение.
А он через минуту уже нес знакомого полицейского
в мертвецкую. Полицейский тихо покачивался на
носилках, уставившись в ясное и жаркое небо
стеклянными глазами из-под искривленных век. Григорий
смотрел на него с тупым ужасом в сердце: третьего дня
он этого полицейского видел на посту и даже ругнул
его, проходя мимо,— у них были маленькие счеты меж-
,ду собой. А теперь вот этот человек, такой здоровяк и
'злючка, лежит мертвый, обезображенный, скорченный
судорогами.
Орлов'» чувствовал, что это нехорошо,— зачем и на
свет родиться, если можно в один день от такой
поганой болезни умереть? Он смотрел сверху вниз на
полицейского и жалел его. Но вдруг согнутая левая рука
трупа медленно пошевелилась и выпрямилась, а левая
сторона искривленного рта, раньше полуоткрытая,
закрылась.
— Стой! Пронин...— захрипел Орлов, ставя носилки
на землю.— Жив! — шепотом заявил он служителю,
который нее с ним труп.
Тот обернулся, пристально взглянул на покойника
и!с сердцем сказал Орлову:
— Чего врешь? Али не понимаешь, что это он для
гроба расправляется? Аида, неси!
— Да ведь шевелится,— трепеща от ужаса,
протестовал Орлов.
— Неси, знай, чудак-человек! Что ты слов не
понимаешь? Говорю: выправляется—г ну, значит,
шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до греха тебя
может довести... Жив! Разве можно про мертвый труп
говорить такие речи? Это, брат, бунт... Понимаешь?
Молчи, никому ни слова насчет того, что они
шевелятся,— они все так. А то свинья—борову, а боров —
всему городу, ну и бунт — живых хоронят! Придет сюда
народ и разнесет нас вдребезги. И тебе будет на кала*
чи: Понял? Сваливай налево.
247,
Спокойный голос служителя, его неторопливая
походка, дейст#ойалй на Григория отрезвляюще.
— Ты, брат, только духом не падай — привыкнешь.
Здесь хорошо. Харч, обращение и всякое другое — все
в aktfypafe. Все, брат, мертвецами будем; это самое
обыкновенное дело. А пока что — живи знай, не робей
только -— глязвйая причина! Водку пьешь?
— Пью;—сказал Орлов.
— Ну вот. Вон тут в ямке у мейя бутылочка есть
на всякий случай, айда-ка, проглотим несколько.
Они подошли к ямке за углом барака, выпили, и
Пронин, налив на сахар мятных капель, подал его
Орлову, со словами:
— Ешь, а то пахнуть водкой будешь. Здесь насчет
водки —- строго. Потому вредно пить ее!
— А ты привык тут? — спросил у него Григорий.
— Я — спервоначалу. При мне тут народу перемер*
ло-^ сотни, прямо сказать. Житье здесь беспокойное,
а — хорошее житье, ежели говорить правду. Божье
дело. Вроде как на войне... ты про санитаров и сестер
милосердия слыхал? Я в турецкую кампанию
насмотрелся на них. Под Ардаганом, под Карсом был. Ну, й
это, брат/чище нас, солдат, люди. Мы воюем, ружье у
нас есть, пули, штык; а они — безо всего под пулями,
как в зеленом саду гуляют. Наш, турка — берут и
тащат на пере_вязочный. А вокруг них — ж->$и! ти-ю!
фить! Иногда ему, санитару-то, в затылок — чик! — и
готово!..
После этого разговора и здорового глотка водки
Орлов несколько приободрился.
«Взялся за гуж, так не бай, что не дюж»,—
усовещивал он себя, растирая ноги больного. За его спиной
кто-то жалобно стонущим голосом просил:
— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!
А кто-то гоготал:
— Ого-го-го! Погорячей!.. Го-го-сподин доктор,
помогает! Вот вам Христос,— чувствую! Разрешите
еще подлить кипяточку!
— Дайте вина! — кричал доктор Ващент
Орлов работал и видел,( что, в сущности, все это
совсем уж не так погано и страшно, как казалось ему
недавно, й что тут — не хаос, а правильно действует
большая, разумнай сила. Но, вспоминая о полицейском, он
248
вре-таки вздрагивал,и искоса посматривал в
окно,барака на двор, Он^ верил, что полицейский iviepTB, но
было что-то неустойчивое в этой вере, А вдруг выскочит
и крикнет? И ему вспомнилось, как кто-то
рассказывал: однажды холерные мертвецы выскочили из
гробов, и разбежались.
Он вспомнил о жене: каково ей? Иногда к этому
примешивалось мимолетное желание улучить минутку
и посмотреть на Матрену. Но вслед за этим Орлов как
бы конфузился своего желания и восклицал про себя:
«Повертись-ка вот этак-то, толстомясая! Небойсь,
подсохнешь... Лишишься своих намерениев...»
Он всегда подозревал, что у жены,его имеются в
душе намерения, оскорбительные для него как мужа,
а иногда, восходя в своих подозрениях до некоторого
оОъективизма, даже признавал, что эти намерения
имеют основание. Жизнь у нее желтенькая, от такой
жизни всякая дрянь в голову полезет. Этот объективизм
обыкновенно перерождал, на время, его подозрения в
уверенность. Потом он спрашивал себя: а зачем ему
надо было лезть из своего подвала в этот котел
кипящий? И недоумевал. Но все эти думы вращались где-
то глубоко в нем, они были как бы отгорожены от
прямого влияния на его работу тем напряженным
вниманием, с которым он относился к действиям врачебного
персонала..Он никогда не ви^ал, чтоб в каком-нибудь
труде люди убивались так, кай они убиваются тут, и не
раз подумал, глядя на утомленные лица докторов и
студентов, что все эти люди — воистину недаром деньги
получают!
Сменясь с дежурства, усталый, Орлов вышел на
двор барака и прилег у стены его под окном аптеки.
В голове у него шумело, под ложечкой сосало, ноги
болели ноющей болью. Ни "о чем не думалось и ничего
те хотелось, он вытянулся на дерне, посмотрел в небо,
дде стояли пышные облака, богато украшенные
красками заката, и уснул, как убитый.
Приснилось ему, что будто бы он с женой в гостях
у доктора в громадной комнате, уставленной по стенам
венскими стульями. На стульях сидят все больные из
$арака. Доктор с Матреной ходят «русскую» среди за-
дд, а он сам играет на гармонике и хохочет, потому что
длинные ноги доктора совсем не гнутся, и доктор, важ?
249
ный,,надутый, ходит по залу за Матреной — точно цап-'
ля по болоту. И все больные тоже хохочут, раскачив^
яеь на стульях.
Вдруг в дверях является полицейский.
— Aral —-.мрачно и грозно кричит он.— Ты,
Гришка, думал, что я умер? На гармонике играешь, а меня
в мертвецкую стащил! Ну-ка, пойдем со мной! Вставай!
Охваченный дрожью, облитый потом, Орлов
быстро поднялся и сел на земле. Против него сидел на
корточках доктор Ващенко и укоризненно
говорил ему:
— Какой же ты, друже, санитар, если спишь на
земле, да еще и брюхом на нее лег, а? А ну ты
простудишь себе брюхо,— ведь сляжешь на койку да еще,
чего доброго, и помрешь... Это, друже, не годится,— для
спанья у тебя есть место в бараке. Тебе не сказали про
это? Да ты и потный и знобит тебя. Ну-ка, иди, я тебе
кое-чего дам.
— Я с устатка,— пробормотал Орлов.
'— Тем хуже. Надо беречь себя,— время опасное,
а ты человек нужный.
Орлов молча прошел за доктором по коридору
барака, молча выпил какое-то лекарство из одной
рюмки, выпил еще из другой, сморщился .и плюнул.
— Ну, а теперь иди спи! — И доктор начал
переставлять по полу коридора свои длинные тонкие ноги.
Орлов посмотрел ему вслед и вдруг, широко
улыбнувшись, побежал за ним.
— Покорно благодарю, доктор!
— За что? — остановился тот.
— За заботу. Теперь я буду стараться для вас во
всю силу!^ Потому приятно мне ваше беспокойство... и...
что я нужный человек... и вообще пок-корнейше
благодарен!
Доктор пристально и с удивлением смотрел на
взволнованное какой-то радостью лицо барачного
служителя и тоже улыбнулся.
— Чудачина ты! А впрочем, ничего,— это все
славно у тебя выходит, искренно! Валяй, старайся вовсю;
это не для меня будет, а для больных. Надо нам
человека от болезни отбить, вырвать его из ее лап —
понимаешь? Ну, вот и давай стараться во всю силу
победить болезнь. А пока — спи иди!
250
Вскоре Орлов лежал на койке и засыпал с
приятным ощущением ласкающей теплоты в животе. Ему
было радостно, и он был горд своим таким простым
разговором с доктором.
Заснул он, сожалея, что жена не слыхала этого
разговора. Рассказать ей завтра... Не поверит, чертова
перечница.
— Чай пить иди, Гриша,—разбудила его поутру
жена.
Он приподнял голову и посмотрел на нее. Она
улыбалась ему. Гладко причесанная, в своем белом
балахоне, она была такая чистенькая, свежая.
Ему было приятно видеть ее такой, и в то же время
он подумал, что ведь и другие мужчины в бараке ее
видят такой же.
— cfoo какой же чай пить? У меня свой чай есть,—
куда мне идти? — хмуро сказал он.
— А ты иди со мной попей,— предложила она,
глядя на него ласкающими глазами.
Григорий отвел свои глаза в сторону и сказал, что
придет.
Она ушла, а он снова лег на койку и задумался.
«Ишь ты какая! Чай пить зовет, ласковая...
Похудела, однако же, за день-то». Ему стало жалко ее и
захотелось сделать для жены приятное. Купить к чаю
чего-нибудь сладкого, что ли? Но, умываясь, он уже
отбросил эту мысль,— зачем бабу баловать? Живет и
так!
Чай пили в маленькой светлой каморке с двумя
окнами, выходившими в поле, залитое золотистым
сиянием утреннего солнца. На дерне, под окнами, еще
блестела роса, вдали, на горизонте, в туманно-розоватой
Чдымке утра, стояли деревья почтового тракта. Небо
было чисто, с поля веяло в окна з! пахом сырой травы
¦щ земли.
Стол стоял в простенке между окон, за ним сидело
трое: Григорий и Матрена с товаркой — пожилой,
высокой и худой женщиной с рябым лицом и добрыми
серыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была
девицей, дочерью коллежского асессора, и не могла
пить чай на воде из больничного куба,, а всегда кипя-
251!
самовар свой собсгв&шькй. Объявив все это
Орлову надорванным голосом, она гостеприимно
предложила ему сЬсть под окнЬм и дышать вволю «настоящим
небесным 1воздухом», а затем куда-то исчезла;
— Что, устала вчера?—спросил Орлов у жены.
— Просто страсть как! — живо ответила
Матрена.-^ Шг под собой не слышу, головонька кружится,
слой не понимаю, того и гляди, пластом лягу. Еле-еле
до смены дотянула... Все молилась,^- помоги, господи;
думаю.
— А боишься?
— Покойников -—.боюсь. Ты знаешь,— она
наклонилась к мужу и со страхом шепнула ему: — они после
смерти шевелятся — ей-богу!
— Это я ви-идал! — скептически усмехнулся
Григорий.—Мне вчера Назаров, полицейский, и после
смерти своей чуть-чуть плюху не влепил. Несу я его в
мертвецкую, а он ка-ак размахнется левой рукой...
я едва увернулся... вот как! — Он приврал немного, но
это вышло само собой, помимо его желания.
Очень уж ему нравилось чаепитие в светлой, чистой
комнате с окнами в безграничный простор зеленого
поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось — не
то жена, не то он сам. В конце концов — ему хотелось
показать себя с самой лучшей стороны, быть героем
наступающего дня.
— Примусь я тут работать — даже небу жарко ста- *
нет, вот как! Потому есть причина у меня на это. Во*
первых, люди здесь, я тебе скажу,— не существующие
на земле!
Он рассказал свой разговор с доктором, и, так как
он снова, незаметно для себя, несколько приврал,— это
обстоятельство еще более усилило его настроение.
:-!— Во-вторых, работа сама! Это, брат, великое
дело, вроде войны,, например. Холера и люди — кто
кого? Тут ум требуется и чтобы все было в аккурате. Что
такое холера? Это надо понять, и валяй ее тем, что она
не терпит! Мне доктор Ващенко говорит: «Ты, говорит,
Орлов, человек в этом деле нужный! Не робей,
говорит, и гони ее из ног в брюхо больного, а там, говорит,
я ее кисленьким и прищемлю. Тут ей я конец, а
человек-то ожил и весь век нас с тобой благодарить дол-
жён, потому кто его у смерти отнял? Мы!» Орлов гор-
252
д<? выпятил грудь,, глядя т жену воэ$уждед*шэд
, ..ОВД задумчиво улыбалась ему в лицр, он был краг
сив и очень походил теперь на того Гридду^к^кцм она:
видела его когда-то давно, еще, до свадьбы.
.,.,— У нас в отделении тоже все такие работящие и
дрбрые. Докторша то-олстая в очках.. Хорошие люди,,
говорят с тобой таково просто, и всё у них понимаешь.
f ;— Так ты, значит, ничего, довольна? —спросил
Григорий, несколько остыв от возбуждения.
— Я-то? Господи, ты посуди: я получаю 12 рублей,
дэ ты 20—32 рубля в месяц! На готовом на всем! Это,
ежели до зимы хворать будут люди, сколько мы
накопим?.. А там, бог даст, и поднимемся из подвала-то..*
— Н-да, это тоже важная статья...— задумчиво
сказал Орлов и, помолчав, воскликнул с пафосом
надежды, ударив жену по плечу: —Эх, Матренка, али
наод солнце не улыбнется? Не робей знай!
Она вся загорелась.
— Только бы ты стерпел... ;
— А про это — молчок! По коже — шило, по
жизни— рыло... Иная жизнь, иное и поведенье мое будет.
— Господи, кабы это случилось! — глубоко
вздохнула женщина.
.— Ну, и цыц!
— Гришенька!
Они расстались. с какими-то новыми чувствами
друг к другу, воодушевленные надеждами, готовые
работать до изнеможения, бодрые, веселые.
Прошло дня три-четыре, и Орлов заслужил
несколько лестных отзывов о себе, как о сметливом и
расторопном малом, и вместе с этим заметил, что Пронин
р другие служители в бараке стали относиться к нему
;С завистью, с желанием насолить. Он насторожился,
'в:,нем тоже возникла злоба против толсторожего
Пронина, с которым он не прочь был вести дружбу и
беседовать «по душе». В то же время ему делалось как*
|р' горько при виде явного желания товарищей до
работе нанести ему какой-либо вред.
«Эх, злыдари!» — восклицал он про себя и
тихонько поскрипывал зубамя, стараясь не упустить удобно-
fq случая заплатить врагам «за-лычко — ремешком».
Шэольно мысль его останавливалась на жеце -г- с той
253
можно говорить про все, ома его успехам завидовать -не
будет и, как Пронин, карболкой сапог ему не сожжен
Все дни работы были такие же бурные и кипучие,
как первый, но Григорий уже не так уставал, ибо
тротил свою энергию с каждым днем более сознательно^
Он научился распознавать запахи лекарств и* выделив
из них запах эфира, потихоньку, когда удавалось, с
наслаждением нюхал его, заметив, что вдыхание эфира
действует почти так же приятно, как добрая рЬмка
водки. С полуслова понимая приказания медицинского
персонала, всегда добрый и разговорчивый, умевший
развлекать больных, он все более и более нравился
докторам и студентам, и вот, под влиянием
совокупности всех впечатлений новой формы бытия, у него
образовалось странное, повышенное настроение. Он
чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем
забилось,желание сделать что-то такое, что обратило бы на
него внимание всех, всех поразило бы. Это было
своеобразное честолюбие существа, которое вдруг сознало
себя человеком и, еще не уверенное в этом новом для
него факте, хотело подтвердить его чем-либо для себя и
других; это было честолюбие, постепенно
перерождавшееся в жажду бескорыстного подвига.
Из такого побуждения Орлов совершал разные
рискованные вещи, вроде того, что единолично, не
ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащил
коренастого больного с койки в ванну, ухаживал за самыми
грязными больными, относился с каким-то ухарством
к возможности заражения, а к мертвым — с простотой,
порою переходившей в цинизм. Но все это не
удовлетворяло его: ему хотелось чего-то более крупного, это
желание все разгоралось в нем, мучило его и, наконец,
доводило до тоски. Тогдя он изливал душу жене,—
потому что больше было некому.
Однажды вечером, сменившись с дежурства, попив
чаю, супруги вышли в поле. Барак стоял далеко за
городом, среди длинной зеленой равнины, с одной сторо*
ны (ограниченной темной полосой леса, с другой —
линией городских зданий; на севере поле уходило вдаль
и там, зеленое, сливалось с мутно-голубым горизонтом;
на юге его обрезывал крутой обрыв к реке, а по
обрыву шел тракт и стояли на равном расстоянии друг от
друга старые, ветвистые деревья. Заходило солнце,
254
кресты городских церквей, возвышаясь над темной
зеленью садов, пылали в небе, отражая снопы золотых
лучей, на стеклах окон крайних домов города тоже
отражалось красное пламя заката. Где-то играла
музыка; из оврага, густо поросшего ельником, веяло
смолистым запахом; лес расстилал в воздухе свой
сложный, сочный аромат; легкие душистые волны теплого
ветра ласково плыли к городу; в поле, пустынном и
широком, было так славно, тихо и сладко-печально.
Орловы шли по траве молча, с удовольствием
вдыхая чистый воздух вместо барачных запахов.
— Где это музыка играет, в городе или в
лагерях?—тихонько спросила Матрена у задумавшегося
мужа.
Она не любила видеть его думающим — он
казался чужим ей и далеким от нее в эти минуты. Последнее
время ими так мало приходится бывать вместе, и тем
более она* дорожила этими моментами.
— Музыка? — переспросил Григорий, точно
освобождаясь от дремы.— А черт с ней, с этой музыкой! Ты
бы послушала, какая в душе у меня музыка... вот это
так!
— А что? — тревожно взглянув ему в глаза,
спросила она.
— А я — не знаю что... Горит у меня душа,..
Хочется ей простора... чтобы мог я развернуться во всю мою
силу... Эхма! силу я в себе чувствую — необоримую! То
есть если б эта, например, холера да преобразилась в
человека,— в богатыря... хоть в самого Илью
Муромца,— сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты
сила, и я, Орлов, сила,— ну, кто кого? Придушил бы я
ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись:
«Григорий Андреев Орлов... Освободил Россию от
холеры». Больше ничего не надо...
Он говорил, и лицо его краснело, а глаза сверкали.
— Силач ты мой! — ласково шепнула Матрена,
прижимаясь к нему боком.
— Понимаешь... на сто ножей бросился бы я... но
чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жиз-
цй. Потому — вижу я людей: доктор Ващенко, студент
Хохряков —работают они, даже удивление! Им бы
давно надо умереть с устатка... Из-за денег, думаешь?
Из-за денег так работать нельзя! У доктора — слава
256
те господа!-—ест&-такй; Rofc-чтб и ещё немножко...
А старик захворал прошлйй раз, так.Ващенко зв него
четверо суток отбарабанил, даже домой не съездил за
все время... Деньги тут ни при чем; тут Жалость —
причина^ Жалко им людей -— и не жалеют себя... Ради
кого, спроси? Ради всякого... Ради Мишки Усова... Мйп-
ке место в каторге, потому — всякий знает, что Мишка
вор, а может, хуже... Мишку лечат... Рады, когда ан
с койки встал, смеются... Вот и я хочу эту самую
радость испытать... и чтобы было много ее —
задохнуться бы мне в ней! Потому что смотреть на них, как они
смеются от своей радбсти, — заноза мне. Взною весь и
загорюсь. Эх ты... черт!
Орлов глубоко задумался.
Мйтрена молчала, но сердце у нее билось
тревожно — ее пугало возбуждение мужа, в словах его она
ясно чувствовала великую страсть ,его желания,
непонятного ей, потому что она и не пыталась понять его.
Ей был дорог и нужен муж, а не герой.
Подошли к краю оврага и сели рядом друг с
другом. Снизу на них смотрели кудрявые вершины
молоденьких березок, на дне оврага лежала синеватая
мгла, оттуда несло сыростью, гниющими листьями,
хвоей. Порой тихо проносился ветер, ветки берез
колыхались, колыхались и маленькие ели, — весь овраг
наполнялся трепетным, боязливым шепотом, казалось,
кто-то, нежно любимый и оберегаемый деревьями,
заснул в овраге под их сенью и они чуть-чуть
перешептываются, боясь разбудить его. В городе вспыхивали
огни, выделяясь на темном фоне садов, как цв^ты.
Орловы сидели молча,— он задумчиво барабанил
пальцами по своему колену, она поглядывала на него,
тихонько вздыхая.
И вдруг, охватив его шею руками, положила на
грудь ему голову, шепотом говоря:
— Голубчик ты мой, Гриша! Милый ты мой! Какой
ты опять хороший ко мне стал; удалой ты мой! Ведь
будто тогда... после свадьбы.., живем мы с тобой...
Ни слова обидного ты мне не скажешь, разговоры
все со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь
на ме,ня. t
~А ты соскучилась об этом? Я ин поколочу, есла
266
хочешь, — ласково пошутил Григорий, ощущая в Душе
прилив нежности и жалости к жене.
Он стал рукой тихо гладить ей голову, и ему
нравилась эта ласка, — такая отеческая — ласка ребенку.
/Матрена в самом деле похожа была на ребенка; она
взобралась к нему на колени и сжалась у него на гру-
,ди в маленький, мягкий и теплый комок.
— Милый мой! — шептала она.
Он глубоко вздохнул, и на язык ему сами собой
потекли новые для него и жены его слова.
— Эх ты, кошечка! Видишь^ как-никак, а нет друга
ближе мужаЛ А ты все в сторону норовишь... Ведь
ежели я иной раз обижал тебя — от тоски это! Жили в
.яме... Свету не видели, людей не знали. Выбрался из
"ямы и прозрел, — а до этого слепой был. Понимаю
теперь, что жена, как-никак, первый в жизни друг.
Потому люди — змеи, ежели правду сказать... Всё язву
желают другому нанести... К примеру — Пронин, Васю-
jkob... Э, йу их к.,. Молчок, Мотря! Выправимся,, не
робей... Выйдем в люди и заживем с понятием... Ну?
Чего ты, дуреха ты моя?
Она плакала сладкими слезами счастья и на вопрос
>го ответила поцелуями.
— Единственная4 ты моя! — шептал он и тоже
целовал ее.
Оба они стирали поцелуями.слезы друг друга и оба
чувствовали их солоноватый вкус. И долго еще говорил
Орлов новыми для него словами.
Уже совсем стемнело. Небо, пышно расвдеченное
бесчисленными ро^ми звезд, смотрело на землю с
торжественной грустью, в поле было тихо, точно в небе.
У них вошло в привычку пить чай вместе. На
другое утро после разговора в поле Орлов явился в ком*
Щату жены чем-то сконфуженный и хмурый. Фелицата
^рала, Матрена была одна в комнате и встретила
с сияющим лицом, но тотчас же потемнела и тре-
щ спросила у негр:
— Что ты такой? Нездоровится?
— Нет, ничего, — сухо ответил, он, садясь на стул.
.— А что же? -г- добивалась Матрена,
— Не спалось. Все думал. Раскудахтались
ft*. Горький .
бой вчера, смякли,., мне теперь стыдно себя... Ни
к чему все это. Ваша сестрд, В'зта-кизс разах, яоровит
человека в :руки дзять... ;н-?да... Только ты про это не.
мечтай —(Не удастся.../Меня ты не обойдешь, я тебе
не поддамся. Так и.знай!
Он сказал все это.очень,внушительно, но на жену
не смотрел. Матрена;вее,зремя не^одводйла^лаз от его
лица, и губы ее странно.искривились.
— Что же, ты каешься в том, что;вчера таким мне
близким был? — тихо спросила она. — Каешься, что
целовал да ласкал ;меня? Это, что л»?<Обидно мне это
слышать... очень горько, рвешь ты мне сердце такими
речами. Что тебе надо? Скучно тебе.со мной, —<не
люба я тебе или что?
Она смотрела на»несо1подозрительнр, и в тоне ее
звучали,и горечь и.вызов*мужу.
—<Н-нет, — смущенно .сказал Григорий, — я
вообще.,. Жили мы с тобой... знаешь сама, что за жизнь!
Вспоминать тошно. А вот теперь поднялись... и боязно
чего-то. Все так скоро переменилось... и.я сам себекак
чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за
зтм сбудет?
— Что бог даст, Гриша! — серьезно сказала
Матрена. — ТытолькО'негкайся в том, что хорош вчера.был.
— Ладно, брось... — все так же смущенно
.остановил ее Григорий. — Я, видишь ли,,думаю, что все-таки
'ничего не выйдет у,наспИ1Лрежняя жизнь наша не
цветиста и теперешняя мне)не по душе. И.хоть не пью я,
не<дарувь<с тобой, не ругаюсь...
Матрена судорожно,засмеялась.^
. — Некогда .тебе теперь ;.занима$ься-то веем этим.
— Напиться я всегда бы нашел время, —
улыбнулся Орлов. — Не тянет — вот диво! А потом мне вооб-
Щ€.как-то,..ше тосовестно чего-то, не тсбоязно... — Он
тфяхнулдощшой и задумался.
— Господь • тебя. знает, что с любой,—тяжело вздох-
дув, - сказала Матрена.— Житье хррошее, хоть
работы и много; доктора ;тебя любят, сам ты ;в аккурате
себя держишь,— уж я не знаю что? Беспокойный ты
очень.
•—.Этотерно, гбеспокойный... Вот я думал ночью;
«Петр Иванович говорят:;все люди,равны .друг другу,
как все? Но, однако, доктор Ва-
258
щенко получше*меня* и Петр* Иванович, получше; и
многие другие.*. Значит, они? мне1 не ровня; и я им не
ровня, я*это чувствую. Они»вылечили Мйшку/Усова и
рады... А* я этого не понимаю. И> вообще чему
радоваться; коли1 человек'выздоровел? Жизнь у него1 хуже хо-
йерной судороги; ежели;-говоритьмта правде: Они пони*
мают это, а — радьь.. И1 я тоже хотел бы
(порадоваться, как они, а не могу,.. Потому/что*— чему же
радоваться, опять-таки?»
— А они' жалеют людей, — возр1азила Матрена; —
У нас тоже..* начнет поправляться; больная^так,
господи, что делается!'А> которая бедная идет-на^выписку,
так.ей и советов, и денег, и лекарств- надают... Даже
слеза: меня прошибает... добрые люди!
— Вот ты говоришь — слеза:.. А меня удивление
берет... Больше ничего. — Орлов.повел
плечами-и*потёр^ себе голову; недоумевающе поглядев на жену*
У'нее отпкуда-то явилось красноречие, и она. с усер*
днем' начала доказывать мужу, что люди- достойны
жалости. Наклонясь к нему; глядя* в лицо его*
ласкающим^ глазами, она-долго говорила ему про. людей и
тяжесть жизни, а он смотрел* на нее и думая*
«Ишь как говорит! Откуда у нее слова?»
— Ведь и сам- ты. жалостливый — говоришь,
удушил бы холеру; ежели; бы. сила:—А —для чего? Тебе
оттого,1 что она; явилась,, даже'лучше жвдъ стало^ ,
Орлов вдруг расхохотался!
— А ведь.верно! И впрямь лучшеГ А» ты> дуй' ее
горой! Люди мрут, а мне от этого жить лучшее а?.. Вот
так жизнь! Тьфу!
Он встал и, смеясь, ушел на дежурство. Когда он
Шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о
.$щ\ что, кроме него, никто не слышал речей Матрены,
«ЯЬвко говорила! Баба,; баба* а тоже1 понимает кое-
что». И, охваченный приятным чувством* он вошелi в
(Зое отделение навстречу хрипам и стонам больных.
Матрена, в свою очередь, всячески старалась
расширить свое возрастающее значение в жизни1 мужа.
Трудовая, бойкая? жизнь-сильно приподняла ее само^
даенку. Она не думала, не: рассуждала, но» вспомийая
свою прежнюю жизнь в подвале, в тесном кругу забот
,0'муже й хозяйстве, невольно сравнивала прошлое1'с
настоящим, и мрачные картины подвального существб-
259^
вания постепенно отходили все далее и далее от нее.
Барачное начальство полюбило ее за сметливость и
уменье работать, все относились к ней ласково, в ней
видели человека, это было ново для нее, оживляло ее...
Однажды, во время ночного дежурства, толстая
докторша начала расспрашивать ее об ее жизни, и
Матрена, охотно и открыто рассказывая ей про свою
жизнь, вдруг замолчала, улыбаясь.
— Ты это смеешься? —спросила докторша.
— Да так... очень уж плохо жила я.,, и ведь,
поверите ли, милая моя барыня, -*• не понимала я этого,
вот до сего часу не понимала, как плохо.
, После этого смотра прошлому в душе Орловой
родилось странное чувство к мужу, — она все так же
любила его> как и раньше, — слепой любовью самки, но
ей стало казаться, как будто Григорий — должник ее.
Порой она, говоря с ним, принимала тон
покровительственный, ибо он часто возбуждал в ней жалость
своими беспокойными речами. Но все-таки иногда ее
охватывало сомнение в возможности тихой и мирной
жизни с мужем, хотя она верила, что Григорий остепенится
и погаснет в нем его тоска.
,. Роковым образом они должны были сблизиться
друге другом и — оба молодые,
трудоспособные,сильные — зажили бы серой жизнью полусытой бедности,
кулацкой жизнью, всецело поглощенной погоней за
грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка
называл своим «беспокойством в сердце» и что не
могло помириться с буднями.
Утром хмурого сентябрьского дня на двор барака
въехала фура, и Пронин вынул из нее маленького
мальчика, перепачканного красками, костлявого,
желтого, едва дышавшего.
•*-? Опять из дома Петунникова, с Мокрой улицы, —•
сообщил возница на вопрос, откуда больной.
-— Чижик! — огорченно вскричал Орлов, — ах ты,
господи! Сенька! Чиж! Ты меня узнаешь?
-•* *-У..-узнал, — с усилием сказал Чижик, лежа на
носилках и медленно заводя глаза под лоб,, чтобы ви-
щ$ъ Орлова, который шел у него в головах и
склонился-н*ад ним.
260
— Ах ты, — веселая птица! Как же это ты
сбрендил? — спрашивал Орлов. Он был странно встревожен
видом этого мальчугана, измученного болезнью. ~
Мальчишку-то за что? — воплотил он в один вопрос
свои ощущения, печально качнув головой.
Чижик молчал и пожимался.
— Холодно, — сказал он, когда, положив на койку,
стали снимать с него прокрашенные всеми красками
лохмотья.
— А вот мы тебя сейчас в горячую воду пустим, —
обещал Орлов. — И вылечим.
Чижик потряс головенкой и; зашептал:
— Не вылечишь... Дяденька Григорий... наклонись-
ка... ухом. Гармонику-то я стащил... Она — в дровяни^-
ке... Третьего дня в первый раз тронул после того как
украл. А-ах какая! Спрятал ее, а /гут и брюхо
заболело... Вотм. Значит, за грех это... Она под лестницей ка
Стенке вйсйт... дровами я ее заложил... Вот... Ты, дя4
денька Григорий, отдай ее... У гармониста сестра
есть... Спрашивала... От-да-ай!.. — Он застонал и на-
чал корчиться в судорогах. ' ' '
С ним сделали все, что могли, но истощенное, худое
тельце некрепко держало в себе жизнь, и вечером
Орлов нес его на носилках в мертвецкую. Нес и чувство*
вал себя так, точно его обидели.
В мертвецкой Орлов попробовал расправить тело
Чижика, это ему не удалось. Орлов ушел убитый,
хмурый, унося с собой образ изувеченного страшною' 66*
лез>нью веселого мальчика.
Его охватило расслабляющее сознание своего бес-
хилия перед смертью. Сколько он хлопотал около Чи*
Жика, как ревностно трудились над ним доктора —
умер мальчик! Обидно... Вот и его, Орлова, схватит
однажды, скрючит, и кончено. Ему стало страшно, его
^хватило одиночество. Поговорить бы с умным
человеком насчет всего этого! Он не раз пробовал завести
^йзговор с кем-либо из студентов, но никто не имел вре-
гёени для философии. Приходилось идти к жене и
говорить с ней. Он пошел, хмурый и печальный.
Она мылась в углу комнаты, но самовар уже стоял
йа столе, наполняя воздух паром и шипением.
Григорий молча сел, глядя на голые круглые плечи
Жены. Самовар бурлил, плескалась вода, Матрена
261
фыркала, по.коридору взад и вперед, быстро бегали
служители, Орлов по походке старался определить,
кто идет.
Вдруг ему представилось, что плечи Матрены. так
же холодны и, покрыты таким же липким «потом, как*у
Чижика, когда тот корчился в судорогах на
больничной койке. Он вздрогнул и глухо сказал:
— Умер Сенька-то.,.
— Умер?! Царство небесное новопреставленному
отроку Семену! — молитвенно сказала . Матрена и
вслед за тем начала свирепо плеваться — мыло попало
в рот.
—Жалко мне его,, — вздохнул Григорий.
— Озорник больно был.
— Умер и -— шабаш! Не твое теперь дело, каков он
был... А что умер; — это жалко. Бойкий был.
Гармонику,.. Гм! Ловкий мальчонка... Я иной р;аз смотрел на
него и думал: взять его к себе вроде как в ученики...
Сирота... привык бы и стал наместо сына .нам...
Здоровенная ты, а не родишь... Родила один раз, да и
кончено. Эх ты! Были бы у нас пискуны«этакие* глядишь,
не так скучно.жллось б.ы нам... А то вот живи,
работай... А для чего? Для пропитания своего .и твоего..,
А кудам-Ыл. куда нам пропитание? Чтобы работать...
Колесо бессмысленное выходит..,. А ежели были, бы
дети — другой разговорец. Н-да.,.
Он' говорил, низко опустив голову, тоном грусти и
недовольства. Матрена стояла перед.ним и слушала,
постепенно бледнея.
— Я здоровый, ты здоровая, а детей, нет,.. Почему?
Н-да^. Думаешь^ думаешь,этак-то и... запьешь.
— Врешь! — твердо и громко сказала .Матрена. —
Врешь - ты I Не смей ты мне этих подлых твоих слов
говорить... слышишь? Не смей! Пьешь ты — так себе*
из баловства,потому,что-сдержать себя не можешь, а
бездетство мое н*и при чем тут; врешь!
Григорий был ошеломлен. Он откинулся нахшшку
стула,.-,взглянул на жену и, не узнал ее. Никогда
раньше он не видал ее такою разъяренной,, никогд^ не смотт
ре&а:Ойа на. него.такими безжалостно злыми, глазами
и не говордаяас такой ,силой.
— Ну* ду?!—вызывающе произнес Црдаорий,
вцепившись; рунами в; сиденье стухла.-— Ну-ка» говори еще]
262
— И скажу1 Не сказала'5ы, но укора твоего такого
не могу снести!; Не рожу я тебе? И не буду! Не могу
рк... Не ? рожу!..— рыдание послышалось в ее крике.
— Не ори, — предупредил ее муж.
—¦ Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, сколько ты
меня бил? Сколько пинков в бока мне насыпал?.. Со-
считай-ка! Как ты мучил, истязал меня? Знаешь ли
ты, сколько/ крови из меня лилось после мучительства
твоего? По шею рубаха-то в крови бывала! Вот почему
йегрожу, муж милый! Как же ты можешь упреки мне
делать за это; а? Как же харе твоей не совестно
смотреть-то на'Меня?.. Ведь убивец ты! Понимаешь ли —
убивец! Убивал ты, сам убивал деток-то своих! а
теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Все я от
тебя сносила, все я тебе прощала, — этаких слов вовеки
не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не
понимаешь, что сам виноват, что извел ты меня?
Неужто я иё как все женщины — не хочу дете§! Многие
ночи я, не спамши, господа бога молила сохранить^-
тя в утробе моей от тебя, убивца... Вижу дитя чужое—•*
горечью захлебываюсь от зависти да жалости к себе...
Мне бы... Царица небесная! Семку этого... тихонько
ласкала... Что я? Господи! Бесплодная...
Она стала задыхаться. Слова прыгали из ее рта без
смысла и связи.
Лицо у нее было в пятнах, она дрожала и царапала
себе шею, — в горле ее клокотали рыдания. Крепко
держась за стул, Григорий, бледный, подавленный,
сидел против нее и широко раскрытыми глазами смотрел
на эту, чужую ему женщину. М боялся ее — боялся»
что она вцепится ему в горло и задушит его. Именно
это обещали ему ее. страшные, горящие злобой глаза.
Она была теперь вдвое сильнее его, он это чувствовал
р трусил; не мог встать и ударить ее, как сделал бы,
если бы не понимал, что она переродилась, впитав
великую» силу откуда-то.
— Душуты мне задел... Велик твои грех передо
мной! Терпела я, молчала... п\66лю тебя потому чию—*
^йр, не могу я попрека такого снести!.. Сил уж нет... Бо-
годанныйты мой! будь ты за слова твои трижды
Проклят...
— Молчать!, — рявкнул, Гришка, оскалив зубы.
— Вы, скандалисты! Забыли, где вУ?
263
У Григория был туман в глазах. Не видя, кто стоит
у двери, выругался скверными словами, оттолкнул,
человека в сторону и убежал в поле. А Матрена, постояв
среди комнаты с минуту, шатаясь, точно слепая,
протянув руки вперед, подошла к койке и со стоном
свалилась на нее.
Темнело, в окна комнаты с неба, из сизых рваных
туч, заглядывала любопытно золотистая луна. Но
вскоре по стеклам окон и стене барака зашуршал мелкий
частый дождь — предвестник бесконечных, наводящих
.тоску дождей осени, , . , • ,;
. Маятник часов равномерно отбивал секунды,
неустанно били в стекла капли дождя. Один за другим щли
часы, и дождь все шел, а на койке'Неподвижно лежала
женщина, глядя воспаленными .глазами в потолок;
зубы ее крепко стиснуты, скулы выдались. Дождь, все
шуршал о стензд и стекла; казалось, он настойчиво
шепчет что-то утомительно однообразное, хочет
убедить кого-то .в чем-то, не не имеет достаточно страсти
для того, чтобы сделать это быстро, красиво, и
надеется, достичь своей цели мучительною, бесконечной, бес-
дветною проповедью, в которой нет искреннего пафоса
веры.
, Дождь шел и тогда, когда небо покрылось
предрассветной серостью, обещаюдцей ненастный день.
Матрена не ,могла уснуть. В, монотонном шуме дождя она'
слышала тоскливый и пугавший ее вопрос:
«Что теперь будет?»
Ответ вспыхивал пред нею в образе пьяного мужа.
Ей было трудно расстаться с мечтой о спокойной,
любовной жизни, она, сжилась с этой мечтой и гнала
прочь угрожающее предчувствие. И в то же время, у
нее мелькало,сознание, что, если запьет Григорий, она
уже не сможет жить с нидо. Она видела его другим,
сама стала другая, прежняя жизнь возбуждала в ней
боязнь и отвращение — чувства новые, ранее
неведомые ей. Но она была женщина и — стала обвинять
себя за размолвку с мужем.
. —И как это все; вышло?.¦ О, господи!.. Точно я с
крючка сорвалась...
. : Рассвело. В поле клубился тяжелый туман, и неба
невидно былр сквозь егосерую мглу.
— Орлова! Дежурить...
26.4
Повинуясь зову, брошенному в Дверь ее комнаты,
она поднялась с постели, наскоро умылась и пошла в
барак, чувствуя себя бессильной, полубольной. В
бараке она вызвала общее недоумение вялостью и
угрюмым лицом с погасшими глазами.
— Вам нездоровится? — спросила ее докторша.
— Ничего...
— Да вы скажите, не стесняясь! Ведь можно
заменить вас...
Матрене стало совестно, ей не хотелось выдавать
боли и страха пред этим хорошим, но все-таки чужим
ей человеком. *И, почерпнув из глубины своей
измученной души остаток бодрости, она, усмехаясь, сказала
Докторше:
— Ничего! С мужем немножко повздорила...
Пройдет это... не в первинку...
— Бе#цая вы! — вздохнула доктбрша, знавшая ее
жизнь.
Матрене хотелось ткнуться головой в ее колейй и
зареветь... Но она только плотно сжала губы да
провела рукой по горлу, отталкивая готовое вырваться
рыдание назад в грудь.
. Сменившись с дежурства, она вошла в свою
комнату и посмотрела в окно. По полю к бараку двигалась
фура — должно быть, везли больного. Мелкий дождь
сыпался... Больше ничего не было. Матрена
отвернулась от окна и, тяжело вздохнув, села за стол* занятая
вопросом:
«Что теперь будет?»
Долго сидела она в тяжелой полудремоте, каждый
раз шум шагов в коридоре заставлял ее вздрагивать и,
привстав со стула, смотреть на дверь...
Но когда, наконец, эта дверь отворилась и вошел
Григорий, она не вздрогнула и не встала, ибо
почувствовала себя так, точно осенние тучи с неба вдруг
опустились на нее всей своей тяжестью.
А Григорий остановился у порога, бросил на пол
мокрый картуз и, громко топая ногами, пошел к жене.
С него текла вода. Лицо у него было красное, глаза
тусклые и губы растягивались в широкую, глупую
^лыбку. Он шел, и Матрена слышала, как в сапогах
его хлюпала вода. Он был жалок, таким она не ЖДа-
да его.
265
*— Хорош! — сказала она.
Григорий глупо мотнул головой и спросил:
— Хочешь, в ноги поклонюсь?
Она молчала.
— Не хочешь? Твое дело... А я все думая: виноват
я пред тобой или нет? Выходит— виноват. Вот я и
говорю: хочешь, в н-ноги поклонюсь?
Она молчала, вдыхая запах водки; исходивший от
него, душу ее разъедало горькое чувство.
— Ты вот что — ты не кобенься? Пользуйся, пока
я смирный,— повышая голос, говорил Григорий.— Ну*
прощаешь?
— Пьяный ты,— сказала Матрена, вздыхая.— Иди-
ка спать...
— Врешь, я не пьяный, а— устал я. Я все ходил
и думал... Я, брат, много думал... 01 ты смотри!.,
Он погрозил ей пальцем, криво усмехаясь.-
— Что молчишь?
— Не могу я с тобой говорить.
— Не можешь? Почему?
Он вдруг весь вспыхнул, и голос у него стал тверже.
— Ты вчера накричала на меня тут, налаяла... ну;
а я вот у тебя прощения прошу. Понимай!
Он сказал это зловеще, у него вздрагивали губы и;
ноздри раздувались. Матрена знала, что это значит, и
пред ней в ярких образах воскресало прежнее; подвал,
субботние сражения, тоска и духота их жизни.
— Понимаю я! — резко сказала она.— Вижу,—
опять ты озвереешь теперь... эх ты!
— Озверею? Это к делу не идет... Я говорю:
простишь? Ты что думаешь? Нужно мне оно, твое про*
щенье? Обойдусь и без нето, а> хочу вот, чтоб ты меня
простила... Поняла?
— Уйди, Григорий! —- тоскливо воскликнула жен*
щина, отвертываясь от него: ,
-г- Уйти? — зло засмеялся Гришка.— Уйти, а ты
чтобы осталась на воле? Ну, не-ет! А ты это видела?
Он схватил ее за плечо, рванул к себе и поднес к ее
лицу нож — короткий, толстый и острый кусок
ржавого железа,
— Э^с, кабы ты меня-зарезал,— глубоко вздохнув,
сказала ;Матрена и, освободясь из-под его доки, вновь
отвернулась от него. Тогда и он отшатнулся, поражен*
вдяйке ее словами, а тоном ж. Он слыхав из ее уст эти
слова, >не раз слыхал, но так — она никогда не говори*
яа их. Минуту назад ему было бы легко ударить ее, но
теперь он не мог и не хотел этого. Почти испуганный
^«равнодушием, он бросил1 нож на стол и с тупой
злобой спросил:
— Дьявол! Чего тебе нужно?
— Ничего мне не надо! — задыхаясь, крикнула
Матрена.— Ты что? Убить пришел? Ну и убей.
Орлов смотрел на нее и молчал, не зная, что ему
делать. Он пришел с определенным намерением
победить жену. Вчера, во время столкновения, она была
сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в
своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она
опять подчинилась ему, он твердо знал — нужно!
Натура страстная, он много пережил и передумал за эти
сутки и,— темный человек — не умел разобраться в
хаосе чувств, которые возбудила в нем жена
брошенным ему правдивым обвинением. Он понимал, чтД это
восстание против, него, и принес с собой нож, чтоб
испугать-Матрену; он убил бы ее, если б она не так
пассивно сопротивлялась его желанию подчинить ее. Но
©от она была пред ним, беззащитная, убитая тоской
и — все-таки сильнее его. Ему было обидно видеть это,
и обида действовала на него отрезвляюще.
— Слушай! — сказал он,т— ты не фордыбачь! Ты
знаешь, я ведь и в самом деле — ахну вот тебя в бок —
и шабаш! И всей истории будет точка!.. Очень просто...
Почувствовав, что он говорит не то, что нужно,
Орлов замолчал. Матрена не двигалась, отвернувшись от
него. В ней бился этот неотвязный вопрос!
«Что теперь будет?»
— Мотря! — тихо заговорил Григорий, опираясь на
стол рукой и наклонясь к жене.— Али я виноват, что...
все не в порядке?
Он покрутил головой, вздохнув.
— Так тошно! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем,
холерные — что они? Разве они мне поддержка? Од*ш
-щщрут, другие выздоровеют.... а я адять.должон буду
жить. Как? Не жизнь — судорога... разве не обидно
э.то? Ведь я все понижаю, только мне трудно сказать,
что я, не могу так жить... Их вон лечат, ррсяхое им
внимание... а я здоровый, но ежели у меня душа болит,—
разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже
холерного... у меня в сердце судороги! А ты на меня
кричишь!.. Ты думаешь, я — зверь? Пьяница — и все тут?
Эх ты... баба ты!
Он говорил тихо и вразумительно, но она плохо
слышала его речь, занятая строгим смотром прошлого.
— Ты вот молчишь,— говорил Гришка,
прислушиваясь, как в нем растет что-то новое и сильное.—
А что ты молчишь? Чего ты хочешь?
— Ничего я от тебя не хочу! — воскликнула
Матрена. — Что мучишь? Чего тебе надо?
— Чего! А того... чтобы, стало быть...
Но тут Орлов почувствовал, что не может сказать
ей, чего именно ему нужно,— так сказать, чтоб все
Сразу было ясно и ему и ей..Он понял, что между ними
образовалось что-то, чего уже не свяжешь никакими
словами...; .
Тогда в нем вдруг вспыхнула дикая злоба. Он.с
размаха ударил жену кулаком по затылку и зверем
зарычал.
— Ты что,_ведьма, а? Ты что играешь? Убью!
Она от удара ткнулась лицом в стол, но тотчас же
вскочила на ноги и, глядя в лицо мужа взглядом
ненависти, твердо, громко сказала:
— Бей!
— Цыц!
— Бей!,Ну? . -
'*— Ах ты, дьявол!
— Нет уж, Григорий, будет! Не хочу я больше
этого...
' — Цыц!
— Не дам я тебе измываться надо мной...
Он заскрипел зубами и отступил от нее на шаг —
быть может, для того, чтоб удобнее ударить ее.
Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге
явился доктор Ващенко.
— Эт-то что такое? Вы где, а? Вы что тут
разыгрываете?
Лицо у него было строгое, изумленное. Орлов
нимало не смутился при виде его и даже поклонился ему,
говоря-:
— А так это... дезинфекция промежду мужем и
женой...
263
И он судорожно усмехнулся в лицо доктору...
— Ты почему не явился на дежурство? — резко
крикнул доктор, раздраженный усмешкой.
Гришка пожал длечами и спокойно объявил:
— Занят был... по своим делам...
— А скандалил тут вчера — кто?
— Мы...
— Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя
по-домашнему... без спроса шляетесь...
—- Не крепостные потому что...
— Молчать! Кабак вы тут устроили... скоты! Я
покажу вам, где вы...
Прилив дикой удали, страстного желания все
опрокинуть, вырваться из гнетущей душу путаницы горячей
волной охватил Гришку. Ему показалось, что вот
сейчас он сделает что-то необыкновенное и сразу разрешит
свою те^яую душу от,пут, связавших ее. Он
вздрогнул, почувствовал приятный холойок в сердце и, с
какой-то кошачьей ужимкой повернувшись к доктору,
Сказал ему:
— Вы не беспокойте глотку, не орите...^Я знаю, где
я, — в морильне!
— Что-о? Как ты сказал? — нагнулся к нему
пораженный доктор.
Гришка понял, что сказал дикое слово, но не
охладел от этого, а еще более распалился.
— Ничего, сойдет! Скущаете... Матрена!
Собирайся.
— Нет, голубчик, постой! Ты мае ответь...— с
зловещим спокойствием произнес доктор.— Я тебя,
мерзавец, за это...
Гришка в упор смотрел на него и заговорил,
чувствуя себя так, точно он прыгает куда-то и с каждым
прыжком ему дышится все легче...'
— Вы не кричите... не ругайтесь... Вы думаете,
ежели холера, то вы и можете надо мной командовать.
Напрасная мечта... Что вы лечлте, так это даже и не
нужно никому... А что я сказал — морилка, это,
конечно, ялдразнился... Но вы все-таки не очень орите...
— Нет, врешь,— спокойно сказал доктор.— Я тебя
проучу... Эй, подите сюда!
В коридоре уже столпились люди... Гришка
прищурил глаза и сцепил зубы...
'269
— Я не4в$р»'не бвюсьл. А коли вам нужно
проучить меня, то я для вашего удобства я еще скажу...
— Н-ну? Ск&жй...
— Я 'пойду' в . город ^ и цюгау: «Ребята! А знаете,
как холеру лечат?»'
— Что-о? — широко раекрыл глаза доктор.
— Так тогда мы тут такую дезинфекцию с
лимитацией.*..
— Что ты говоришь, чёрт тебя возьми! — глухо
вскричал доктор. Раздражение уступило в нем место
изумлению ' пред • этим парнем? которого о<н < знал как
трудолюбивого и неглупого работника и который
теперь, неизвестно зачем; бестолково и нелепо лез в
петлю...
— Что ты-мелешь, дурак?;
«Дурак!» — отозвалось эхом то всем существе Грйш*
ки. Он понял, что этот прдаовор, справедлив, и еще
^более обиделся;
— Что я говорю! Я знаю... Мне всё равно.>. —
говорил он, сверкая глазами.;—Я так понимаю теперь,
что нашему братувсегда все-равно... и совсем
напрасно стесняемся мы в наших чувствах... Матрена, собич
райбя!
— Я не пойду! — твердо заявила Матрена.
Доктор смотрел на i ншс> круглыми глазами и тер
себе лоб, ничего не-понимая*/
— Ты... пьяный или сумасшедший человек!
понимаешь ты, что делаешь?
Гришка не сдава-лся^ не мог сдаться. И -в ответ •
доктору/ан говорил-иронически*
—- А вы как понимаете? Вы-то что делаете? Дезин-
фикцию,» ха;- xaf- Вольных*леч-йрге*;. а здоровые ятомира-
K>t'от тесноты жизни.;, Матрена* Б>ашку разобью!
Иди...
*^ Я'с тобой не пойду!1
Ойа была бледна, неестественно «спокойна/глаза-ее-
смотрели в лицо мужа твердо и" холодно.' Гришка, не-
смбтря на весь свой геройский -кураж, отвернулся от
не* ад;* опустив голову, замолтал,
'•*-. Тьфу! ~плюнул доктор,— Сам дьявол не
разберет, что это такое... Ты! Пошел-©он! Ступай и благот
дари, что ятебЯ" не ириетрунил... Тебя 6bi следовало
под суд... болван! Пошел! ,
270'
¦i Григорий ш>лча взглянул- иа доктора и опять поник.
Ему был О' бы лучше, если бъь его побили или хоть от-
^игравили': в:,пшшцию...
— Последний раз говорю — идешь ты?—> сипло спро-
еил1 Гришка жену.
~ Нет, не, пойду,—'ответила она и немножко ео-
гнулась, точно ожидая удара.
Гришка* махнул рукой.
— Ну... чёрт вас всех возьми!.. Да и на* кой дьявол
вы нужньгмне?
— Ты, дубина дикая,—урезонивающе начал доктор.
•— Не лайтесь! —крикнул Гришка;—»Ну, шлюха
проклятая,— ухожу я! Чай, не увидимся... а может,
увидимся... это уж как я захочу! Но ежели увидимся —
1 нехорошо тебе будет, ^гак и энай!
И Орлов двинулся к дверм.
—' Прощай,—трагик! — сардонически сказал
доктор,, кщда Гришка поравнялся с ним.
Григорий остановился и, подняв на доктораутоек-
шива сверкавшие глаза, сдержанно и негромко заявил:
—-А вы меня не троньте... не заводите пружину
сначала... Развернулась она, никого не задела... Ну и
шадно!
Он поднял-с; пола картуз, налепив его' себе на
голову, поежился и ушел, не взглянув на.жену.
На нее пытливо смотрел, доктор. Она стояла'пред
ним бледная. Доктор кивнув головой вслед Григорию
и спросил:
*— Что с ним?
— Не знаю...
~ Гм... А куда он теперь?
— Пьянствовать! — твердо ответила Орлова*
Доктор повел бровями и,ушел.
¦ Матрена посмотрела в <зкно. От барака к г<рреду
гв вечернем' сумраке, под.д©ждем,< и ветром быстро даи-
i галась фигу-pai мужчины. Одна -т среда мокрога серого
гиоля...
...Лицо Матрены Орловой побледнело еще более,
г:®гиа« оборотилась в угол, стала иа*колени, и начала
молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь
. б страстном: шепоте молитвы и< растирая» грудь и едш>
f дрожащими от возбуждения руками.
Однажды я осматривал ремесленную школу в N.
Моим чичероне был знакомый человек, один из
основателей ее. Он водил меня по образцово устроенной
школе и рассказывал:
— Как видите, мы можем похвалиться... чадо наше
растет и развевается на славу. Учительский персонал
на удивление подобрался. В сапожной и башмачной
мастерской, например, учительница — простая сапож-
ница, баба, даже бабеночка, вкусная такая,
шельма, но безупречнейшего поведения. Впрочем, это к
чёрту... н-да. Так вот, эта бабочка — простая, говорю, са-
пожница, но — как она работает!., как умело
преподает свое ремесло, с какою любовью относится к
ребятишкам — изумительно! Бесценная работница...
Работает за двенадцать рублей и квартиру при
школе... и еще двух сирот содержит на свои убогие
средства! Это, я вам скажу, преинтересная фигура.
Он так усердно расхваливал сапожницу, что вызвал
во мне желание познакомиться.с ней.
Это скоро устроилось, и вот однажды Матрена
Ивановна Орлова рассказывала мне свою печальную
жизнь. Первое время после того, как она разошлась
с мужем, он не давал ей покоя: приходил к ней пьяный»
устраивал скандал'ы, подстерегал ее всюду и бил
нещадно. Она терпела.
Когда барак закрыли, докторша предложила
Матрене Ивановне устроить ее при школе и оградить от
мужа. И то и другое удалось, и Орлова зажила
спокойною, трудовою жизнью; выучилась под
руководством знакомых фельдшериц грамоте, взяла себе на
воспитание двух сирот из приюта — девочку и
мальчика— и работает, довольная собой, с грустью и со
страхом вспоминая свое прошлое. В воспитанниках своих
она души не чает, значение своей деятельности
понимает широко, относится к ней сознательно и среди
заправил школы заслужила общее уважение к себе. Но она
кашляет сухим, подозрительным кашлем, на впалых
щеках ее горит зловещий румянец, в серых глазах
ютится много грусти.
Мне удалось познакомиться и с Орловым. Я нашел
его в одной из городских трущоб, и в два-три
свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю,
рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго,и
потом сказав;
— Вот так-то* значит. Максим Савватеич,
приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и
не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться
на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или
собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь
этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них
с высоты... И сказать им: «Ах.вы, гады! Зачем
живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше
ничего!»-А потом вниз тормашками с высоты и —
вдребезги! Н-да-а! А-ах как скучно и тесно жить!4.. Думал
я, сбросив с шеи Матрешку: «Н-ну, Гриня, плавай
свободно, якорь поднят!» Ан не тут-то было — фарватер
мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не
бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу
известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким,
как я, жена нужна? На кой ее...когда меня во все
четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством
в сердце^, и судьба моя — быть босяком! Ходил я и
ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью?
Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит
сердце... А горит сердце большим огнем..* Противно всё —
города, деревни, люди, разных калибров... Тьфу!
Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все
друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты,
жизнь, дьявольская ты премудрость!
Тяжелая дверь кабака, в котором сидел я с
Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то
сладострастно повизгивала. И внутренность кабака
возбуждала представление о какой-то пасти, которая
медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных
русских людей, беспокойных и иных...
БЫВШИЕ ЛЮДИ
I
Въезжая улица—это два ряда одноэтажных
лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с
кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые
крыши изувеченных временем человеческих жилищ ис-
йещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ни^
МИ'кое-где торчат высокие шесты со скворешщщами,
273
их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел —
жалкая флора городских окраин, населенных
беднотою.
Мутно-зеленые от, старости стекла окон домишек
смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов.
Посреди улицы ползет в гору'Извилистая колея,
лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями.! Кое-
где лежат поросшие .бурьяном кучи щебня и разного
мусора — это остатки или начала тех сооружений,
которые безуспешно предпринимались обывателями ' в
борьбе с потоками дождевой воды, стремитель-но
стекавшей из города. Вверху, на горе,-в пышной
зелени густых садов прячутся красивые каменные дома,
колокольни церквей гордо вздымаются-в голубое
небо, их золотые кресты ослепительно блестят на
солнце.
В/дожди город спускает на Въезжую улицу свою
грязь,; в сухое; время осыпает ее пылью,— и все эти
уродливые домики кажутся тоже сброшенными
оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей
рукой.
Приплюснутые к земле, они усеяли собой вею гору,
полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и
.дождями в тот се'ровато-грязный колорит, который
принимает дерево в старости.
В конце этой улицы, выброшенный из города под
гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом
купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под
горой, дальше за ним широко развертывается поле,
< обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.
Большой старый дом имел самую мрачную
физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух
рядах его окон не было ни одного, сохранившего
правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах
имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.
Простенки между окон испещряли трещины и
темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время
иероглифами написало на стенах дома его биографию.
Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более
увеличивала его плачевный вид — казалось, что .дом: нагнулся
• к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара,
который превратит его в бесформенную груду
полугнилых обломков,
2Ы
Ворота отворены — одна половинка их, сорванная
с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками,
проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный
двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное
здание с железной крышей на один скат. Самый дом
необитаем,' но в этом здании, раньше кузнице, теперь
помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в
отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.
Внутри ночлежка—длинная, мрачная нора,
размером в четыре и шесть сажен, она освещалась — только
с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и
широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены
ее черны от копоти, потолок из барочного днища, то<
же прокоптел до черноты; посреди ее помещалась
громадная печь, основанием которой служил горн, а
вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками
всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями,
Ot стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью,
от нар — гниющим тряпьем.
Помещение хозяина ночлежки находилось на печи,
нары вокруг пе4и были почетным местом, и на них
размещались те ночлежники, которые пользовались
благоволением и дружбой хозяина.
День ротмистр всегда проводил у двери в
ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно
сложенного им из кирпичей, цли же в харчевне Егора
Вавилова, находившейся наискось от дома Петуннико-
ва; там ротмистр обедал и пил водку.
Перед тем, как снять это помещение, Аристид Ку*
валда имел в городе бюро для рекомендации
прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать,
ч$о он имел типографию, а до типографии он, по его
словам,— «просто — жил! И славно жил, чёрт возьми!
Умеючи жил, могу сказать!» ,,
Это был широкоплечий высокий челозек лет
пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в
широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые,
огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем
&• горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая
фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он
сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа
широко раздувались и губы вздрагивали, обнажав два
ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длнннору-
275
кий, колченогий, одетый в грязную и рваную
офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным
околышем, *но без козырька, в худых валенках, доходивших
ему до колен,-т~ поутру, он неизменно был в тяжелом
состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна
он не мог напиться, сколько бы ни вшил, и веселого
расположения духа никогда не терял.
Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с
трубкой в зубах, он принимал постояльцев.
— Что за человек? — спрашивал он у
подходившего к,нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенно-
! го из города за пьянство или по какой-нибудь другой
основательной причине опустившегося вниз.
. Человек отвечал.
— Представь в подтверждение твоего вранья за-
крнную бумагу.
Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал
ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и
говорил:
— Все в порядке. За ночь — две копейки, за неде-
лк)~—гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай
и займи себе место, да смотри —не чужое* а то тебя
вздуют. У меня живут люди строгие...
Новички спрашивали его:
— А чаем, -хлебом или чем съестным не Торгуете?
— Я торгую только стеной и крышей, за что сам
плачу мошеннику—хозяину этой дыры, купцу 2-й
гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц,—
об&яснял Кувалда деловым тоном,— ко мне идет
народ,- к роскоши непривычный... а если ты привык
каждый, день жрать-—вон напротив харчевня. Но
лучше если хы, обломок, отучишься от этой дурной
привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам
себя,ешь!
, За такие речи, произносимые деланно строгим,
тоном, но всегда со смеющимися глазами,/3а
внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр
пользовался среди городской голи широкой популярностью.
Часто случалось, что бывший клиент ротмистра
являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в
более или менее приличном виде и с бодрым лицом.
— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько
поживаете?
276
— Здорово. Жив. Говори дальше.
— Не узнали?
*— *Не узнал.
•*- А, пометте, я у вас зимой жил е^мешщ... когда
еще обйава^обыла и трех забрали?
— НЬну, браог, под моей гостеприимной кровлей то
и дело полиция бывает!
— Ш ты, господи! Еще вы тогда чаетвшу
приставу щтт показали!
-— Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори
просто, что.тебе нужно?
—г Me желаете ли принять от меня угощение
махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вшшне значит...
— Благодарность должна быть поощряема, друг
мой, иб0 <она у людей редко встречается! Ты, должно
быть, славный малый, и хоть я совсем жйя не помню,
но в кабак с тобой пойду с удовольствием- и напьюсь
за твои успехи в жизни с наслаждением;
— А вы всё такой же -г всё шутите?
— Да что же еще можно делать, живя среди вас,
горюнов?
(имя шли. Иногда бывший клиент -ротмистра* весь
раавинченный и расшатанный угощением,
возвращался в ночлежку; на другой дать.они снова ушщались, и
в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с
сознанием, что он вновь пропился дотла.
— Ваше благородие! Вот те и раз! -Опять я к вам
в шш-анду попал? Как же теперь?
— Ишожение, которым нельзя похвалиться, но, на-
хощшь в нем, не следует, и скулить,—-резонировал
ротмистр.— Нужно, друг мой, ко всему относиться
равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя
никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, фи-
Л0с.0фствовать с похмелья — невыразимо глупо.
Похмелье офебует водки, а ве угрызения совести и сяре-
жет-а зубовного... зубы береги^ а то тебя бить не по че-
«му будет. На-ка, вот тебе двугривенный,— иди и
привнеси косушку водки, на пятачок горячего рубца или
легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы
опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...
Положение дел определялось вполне точно дня
через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша
278
от трешнйвд шга пятишницы, которая быдеа у него в
кармане в день появления благодарного клиента.
— ПрйгехалйГ'Баста!! — говорил ротмистр.— Теперь,
когда мы стббой, дурак, пропились вполне* совершен^
но, попытаемся* снова вступить на путь трезвости и до*
бродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не по*
каешься, не покаявшись— не спасешься. Первое мы
тто'лншш, но каяться бесполезно, да'вай же прямо
спасаться. Отправляйся на реку й работай. Если не
ручаешься за себя— скажи подрядчику, чтоб он твои
деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим
Капитал, я-куплю* тебе штаны и прочее, что нужно для
•того, чтобы тььвновь мог сойти за порядочного
человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В
хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!
'Клиент отправлялся крючничать на реку,
посмеиваясь над речами ротмистра. 0н неясно понимал их соль,
но-видел пред собой веселые глаза, чувствовал бодрый
дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел
руку, которая, в случае надобности, может
поддержать его.
й действительно, чрез месяц-два какой-нибудь
каторжной работы клиент, по,милости строгого надзора
за его поведением со стороны ротмистра, имел
материальную возможность вновь подняться на ступеньку
выше того места, куда он опустился тгри благосклонном
участии того же.ротмистра.
— Н-ну, друг мой, — критически осматривая ре-
ставрированного клиента, говорил Кувалда,— штаны
и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения —
верь моему опыту. Пока у меня были приличные
штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но,
1 чёрт возьми, как только штаны с меня слезли, так я
упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из
'города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех
вещах по т форме, сущность же вещей им недоступна
яолпричйнечврожденной людям глупости. Заруби это
себе на носу и, уплатив мне1 хотя половину твоего долга,
с миром иди, ищи и да обрящешь(
— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — ему-
щенцо1 осведомлялся клиент.
— Рубль И'семь гривен... Теперь дай мне рубль или
семь гривен, а остальные я подожду на тебе до Ьоры;
пока ты не украдешь или не заработаешь больше того,
что ты теперь имеешь.
»—* Покорнейше благодарю за ласку! — говорит
тронутый клиент.— Экой вы,— добряга! право! Эх*
напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были
на своем-то месте?!
Ротмистр жить не может без витиеватых речей.
— Что значит — на своем йесте? Никто не знает
своего настоящего места в жизни, и каждый из нас
лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место
в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по
улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю
нашему место около хорошей бабы и среди
полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и
ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а
я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп,
вынослив и noHHMiaeiiib дисциплину. Видишь — какая
штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только
случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое
место!
Иногда подобные прощальные беседы служили
предисловием к продолжению знакомства, которое снова
начиналось доброй выпивкой и снова доходило до
того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр
давал ему реванш, и... пропивались оба.
Такие повторения предыдущего ничуть не портили
добрых отношений между сторонами. Упомянутый
ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов,
которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же
разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе
всех других стоявший к ротмистру, и, быть может,
именно этой причине он был обязан тем, что,
опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.
G ним Кувалда мог философствовать в
уверенности, что его понимают. Он ценил это, И' когда
поправленный учитель готовился оставить ночлежку,
заработав деньжонок и.имея намерение снять себе в городе
угол,—Аристид Кувалда так грустно провожал : его,
так много изрекал меланхолических тирад, что оба они
непременно напивались и пропивались.. Вероятна,
Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при
всем желаний не мог выбраться из его ночлежки.
Можно ли было Кувалде-? ^ёлойеку с образой'анием, оскол-
280
ки. которого и теперь еще блестели в его речах^ с
развитой превратностями судьбы привычкой мыслить,—
можно ли было ему не желать и не стараться всегда
ридеть рядом е собой человека, подобного ему? Мы
; умеем жалеть себя.
Этот учитель когда-то что-то преподавал в
учительском институте приволжского города, но был устранен
из института. Потом он служил конторщиком на
кожевенном заводе» библиотекарем, изведал еще несколько
профессий, наконец, сдав экзамен на частного
поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к
ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным ост-Л
,р.ым, носом и лысым черепом. На костлявом, желтом
ушце с клинообразной бородкой 0лестели беспокойно
.глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были
печально опущены книзу. Средства к жизни или,
вернее, к пьянству он добывал, репортерством в местных
Газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю руб-
:л&й пятнадцать, Тогда, он отдавал их .ротмистру щро-
ворил:
—г Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.
— Похвально! Сочувствуя от души твоему, ^
Филипп, решению,я не дам тебе ни рюм#и! — строго
предупреждал его ротмистр.
— Буду благодарен!..
Ротмистр слышал в его словах что-то близкое; К
робкой мольбе о послаблении и-еще строже говорил;
— Хоть реви -г- не дам!
— Ну, и —конечно! — вздыхал учитель и
отправлялся на репортаж. А через день, много через дца* рн,
жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из
ytyia тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно
-ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр
произносил пропитанные убийственной иронией речи о
позоре слабохарактерности, скотском наслаждении цьянст-
;#а и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать
$му справедливость — он вполне искренно увлекался
^воей ролью ментора и моралиста; но настроенные
скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром
й слушая его карающие речи, говорили друг другу,
подмигивая в его сторону: , , , ;. •
ч- Химрк! Ловко отбояривается] Дескать, я тебе
говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!
281
<— Его благородие< настоящий воин — вперед идет»
а уже назад дорогу ищет!
Учитель лши л' своего друга где-нибудь в темпом
углу и,1вцепй®шиеьв его грязную шинель, дрожащий,
облизывая сухие губы, невыразимымчшжам-и, глубоко
зшшдам шотрелв его лицо.
¦-Не можешь? — угрюмо спрашивал ротмистр.
; утвердительно кивал? головой.
—i Потерпи' ещегдень,—<может быть, справишься1-?—
предлагал Кувалда.
'Уадтель тряс<головой отрицательно. Ротмистр
видел, что худое тело друга все трепещет от жажды яда,
и доставал из кармана деньги.
— В большинстве случаев1 бесполезно спорить с
роком,— говорил он при этом, точно желая оправдать
себя перед кем-то.
Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней
мере гголойину их он тратил на детей Въезжей улицы;
Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице,* в ее еы-
ли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи
оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.
Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице
они имели вид цветов, преждевременно увядших.
Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок,
яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там
они сначала жадно поедали всё, что предлагал им
учитель, а потом играли, наполняя воздух на
целую-версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная
фигура-пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они
относились к нему; как к своему однолетку, к звал» его
просто'Филиппом, не добавляя к имени дядя или
дядюшка. Вертясь около него, как вьюны, они толкали
его,1 вскакивали к нему на спину, хлопали его по
лысине, 'хватали за нос. Всё это, должно быть, нравилось
ему, он не протестовал против таких вольностей. Он
вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то
осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут
выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с
ними, в роли их игрушки и товарища, по нескольку
часов кряду, рассматривая оживленные рожицы
тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в
харчевню Вавилова и там молча,напивался до потери
сознания.
282
Почти каждый день, возвращаясь с репортажа^
учитель приносил с собой газету, и около него,
устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они
двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья,
разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и
грязные.
Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Сим-
цов, .бывший лесничий, а ныне торговец спичками,
чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в
парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей
измятыми.полями его толстое и красное лицо с белой
густой бородой, ,из которой на хвет божий весело смотрел
маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся
циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко
очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на
жужжание.
Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный,
молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный
смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек,
существовавший игрой «в ремешок», «в три .листика», «в<бан-
ковку» и прочими искусствами, столь же остроумными
й одинаково нелюбимыми лолицией. Он грузно опускал
свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с
учителем, сверкал черными глазами и^простираяруку
к бутылке, хриплым басом спрашивал:
— Могу?
Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный
человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в
драке, лицо, желтое и острре, как у лисицы^кривилось
в ехидную улыбку. Тонкие гуры открывали два „ряда
черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его
узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке.
Его прозвали Объедок. Он t промышлял торговлей
мочальными щетками собственной.фабрикации и
вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для
чистки платья.
Приходил высокий,.костлявый и кривой на левый
глаз человек, с испуганным выражением,в больших
круглых глазах, молчаливый, робкий,, трижды
сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного
судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали
Полтора Тараса, потому что он был как раз на
полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тар.аса,
283
растриженного за пьянство и развратное поведение.
Дьякон был низенький и коренастый человек с
богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он
удивительно хорошо плясал и еще удивительнее
сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей
специальностью пилку дров на берегу реки, а в
свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому
желающему слушать сказки «собственного сочинения»,
как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых
всегда являлись святые, короли, священники и
генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и
таращили глаза в изумлении перед фантазией
дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно
бесстыдные и грязные приключения. Воображение
этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог
сочинять и говорить целый день и никогда не
повторялся. В лице его погиб, быть Может, крупный поэт,
в крайнем случае недюжинный рассказчик, умез-
ший все оживлять и даже в камни влагавший душу
своими скверными, но образными и сильными
словами.
Был тут еще какой-то* нелепый юноша, прозванный
Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с
той поры остался* среди этих людей, к их удивлению;
Сначала его не замечали —>- днем он, кад и все, уходил
изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал
около этой дружной компании, и наконец ротмистр
заметил его.
— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?
Мальчишка храбро и кратко ответил:
' ~ Я — босяк...
Ротмистр критически посмотрел на него. Парень
был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой
рожей, украшенной вздернутым носом, На нем была
надета синяя блуза без пояса, а на грлове торчал
остаток соломенной шляпы. Ноги босы.
— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда.— Что
ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать
умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда,
когда уже человеком будешь...
Шрень засмеялся.
— Нет, уж я поживу с вами.
—t Для чего?
284
— А так...
— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.
— Вот я ему сейчас зубы вышибу,^- предложил
Мартьянов.
— А за что? — осведомился парень.
— Так...
— А я возьму камень и по голове вас
тресну,*—почтительно объявил парены
\ Мартьянов избил бы его, если б не вступился
Кузалда.
— Оставь его... Это* брат, какая-то родня всем нам,
пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему
зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить
$ нами. Ну, и чёрт с ним... Мы все живем без
достаточного к тому основания...
— Ир лучше б вам, молодой человек, удалиться от
jrac,— посоветовал учитель, оглядывая этого парня
своими печальными глазами. , \
Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему
привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них
и всё замечал.
Перечисленные субъекты составляли главный штаб
ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их
«бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно
обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Qhh не
могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие ,лю-
^дл», и хотя не менее их испытали превратностей
судьбы, но являлись более цельными людьми, не так
страшено изломанными. Почти все они — «бывшие мужики».
Быть может, порядочный человек культурного класса и
Выше такого же человека из мужиков, но всегда пороч-
Йый человек из города неизмеримо гаже и грязнее
побочного человека деревни.
v Видным представителем бывших мужиков являлся
старик-тряпичник Тяпа. Длинный и безобразно худой,
|н держал голову так, что подбородок упирался ему
| грудь, и от этого его тень напоминала своей формой
Шочергу. В фас лица его не было видно, в профиль
?Ыожно было видеть только горбатый нос, отвисшую
нижнюю губу и мохнатые седые брови; Он был первым
№ времени постояльцем ротмистра, про него говорили,
ото где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих де.
265
Тйег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее,
и с той поры ожнаклоншг голову. Он отрицал, что у
него евть деньги, говоря: «шарднули просто так,
озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать
тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле.
Когда он шел качающейся, неверной походкой, без
палки в руках и без мешка за спиной — он казался
человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты
говорил, указывая на него пальцем:
— Смотрите/ вот ищет себе пристанища совесть
купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега.
Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!
Говорил Тяпй хрипящим голосом, трудно было
понимать' его речв, и, должно быть, поэтому он вообще
мало говорил и очень любил уединение. Но каждый
раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий
экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни,
Тяпа при виде его впадал в озлобление и беспокойство.
Он преследовал несчастного едкими насмешками, со
злым хрипом выходившими из его горла, натравливал
на новичка кого-нибудь, грозил, наконец,
собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда
добивался того/что запуганный мужичок исчезал из
ночлежки.
Тогда Тяпа, успокоенный, забивался куда-нибудь в
угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию,
такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из
своего угла, когда учитель читал газету. Тяпа молча
слушал всё, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем
не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель
складывал ее, Тяпй протягивал свою костлявую руку и
говорил:
— Дай-ка...
— На что тебе?
*— Дай,— может, про нас есть что..,
— Про - кого это?
— Про деревню.
Над ним смеялись,; бросали ему газету. Он брал ее
и читал-вгаей о том, что.в одной деревне градом побило
хлеб, в другой сгорело тридцать ^дворов, а в третьей
баба отравила мужа,— всё, что принято писать о
деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпа
читал и мычал, гвыражая этда &вуком,-быть может,
сострадание, быть может, удовольствие.
В воскресенье он не выходил за сбором*тряпок,
почти весь день читая Библию. Книгу он?-держал, упирая
ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее
или мешал ему читать.
— Эй ты, чернокнижник,—-говорил ему Кувалда,—»
что ты понимаешь? Брось!
— А что ты понимаешь?
— И я ничего не .понимаю, но я ведь не читаю
книг...
— А я читаю...
— Ну и — глуп! — решал ротмистр.— Когда в
голове заведутся наседомые — это беспокойно, но если
в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить,
старая жаба?
— Мне недолго уж,—^говорил спокойно Тяпа.
Однажды учитель захотел узнать, где он выучился
грамоте. Тяпа кратко ответил ему:
— В тюрьме...
— Ты был там?
— Был...
— За что?
.— Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес.
Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...
— Н-ну? Чем это?
— Вразумляет... Грамоте вот научился.... книгу
достал... Всё — даром...
Когда в ночлежку явился учитель, Типа уже давно
жил в ней. Он долго присматривался к учителю,—
чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпа сгибал весь
свой корпус набок,— долго прислушивался к-его. раз-
сговорам и как-то раз подсел к нему.
— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?
— Читал...
— То-то... Помнишь ее?
— Ну — помню...
Старик согнул корпус набок и посмотрел на учите-
, ля серым, суровотнедоверчивым глазом.
«— Помнишь, были там амаликитяне?
— Ну?
— Где они теперь?
, — Исчезли, Тяла,—. вымерли...
287
Старик помолчал и снова спросил!
— А филистимляне?
— И эти тоже...
—* Все вымерли?
— Все...
— Так... А мы тоже вымрем?
— Придет время — и мы вымрем,— равнодушно
обещал учитель.
— А от которого мы из колен Израилевых?
Учитель посмотрел на него, подумал и стал
рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще
больше избочился и какими-то испуганными глазами
смотрел на него.
-—Врешь ты всё!—захрипел он, когда учитель
кончил.
— Почему вру? — изумился тот.
—• Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.
Встал и пошел прочь; злобно ворча.
— Из ума ты выживаешь, Тяпа,— убежденно
сказал вслед ему учитель.
Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил
ему крючковатым грязным пальцем.
' — От господа — Адам, от Адама — евреи, значит,-
все люди от евреев... И мы тоже...
— Ну?
— Татары от Измаила... а он от еврея...
— Да тебе-то чего надо?
— Зачем врешь?
И ушел, оставив своего собеседника в недоумении.
Но дйя через два снова подсел к нему.
— Был ты ученый... должен знать — кто мы-?
¦— Славяне, Тяпа,— ответил учитель.
— Говори по Библии — там таких нет. Кто мы —
вавилоняне, что ли? Или — эдрм?
Учитель пустился в критику Библии. Старик
долго, внимательно слушал его и перебил:
— Погоди,— брось! Значит, в народах, богу
известных,— русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так
ли? Которые в Библии записаны — господь тех знал...
Сокрушал их-огнем и мечом, разрушал города и села
их^ а пророков посылал им для поучения,— жалел,
значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы
как же? Почему у нас пророков цет?
288
— Н-не знаю! — протянул учитель, стараясь
понять, старика. А он положил руку на плечо учителя,
стал тихонько толкать его взад и вперед ft захрипел,
будто глотая что-то...
— Так и скажи!.. А то говоришь ты много,— будто
всё знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты
мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у
нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по
Земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый
народ может умереть? Народ русский не может
исчезнуть—врешь ты... он в Библии записан, только неизвест-'
но,под каким словом... Ты народ-то знаешь,— какой он?
Он—огромный... Сколько деревень на земле? Всё народ
там живет,— настоящий, большой народ. А ты
говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек
может... а народ нужен.богу, он строитель земли. Амали-
китяне нё< умерли — они немцы или французы*. А ты..,
эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены?^'
ту нам ни казней, ни пророков от господа? Кто нас
научит?..
Речь Тяпы была сильна; насмешка, укоризна и
глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и
учителю, который по обыкновению был выпивши и в
минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать
его, точно его распиливали деревянной пилой. Он
слушал старика, смотрел на его исковерканное тело,
чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему
стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось
сказать старику что-нибудь сильное, уверенное,
что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу в его пользу,
заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым
тоном, а — мягким, отечески ласковым. И учитель ощу-
щал, как в груди у него что-то клокочет, подступает
;ему к горлу.
— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная...
^говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...
— Эх, Тяпа,— тоскливо воскликнул учитель,—
!дгго — верно! И народ — верно!.. Он огромный.Но —
р.ему чужой.,, и — он мне чужой... Вот в чем трагедия.
Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.,
^.действительно говорю много... и это не нужно нико-
Эд;.. но — я буду молчать... Только ты не говори со
№. М. Горький
мной так,.. Э, старик! ты не знаешь... не знаешь... не
можешь понять.
Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и
свободно, обильными слезами, ему стало приятно от
этих слез.
— Шел бы ты в деревню, — просился бы там в
учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А го
чего маешься? — сурово хрипел Тяпа*
А учитель всё плакал, наслаждаясь слезами.
С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди,
видя их вместе, говорили:
-— Учитель охаживает Тяпу, к деньгам его держит
куре.
— Это его Кувалда подучил разведать, где
стариковы капиталы...
Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих
людей была одна смешная черта: они любили показать
себя друг другу хуже, чем были на самом деле.
Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего,
иногда не прочь порисоваться и своим дурным»
Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его
газетой — начинается чтение.
— Ну-с, — говорит ротмистр, — о чем сегодня
рассуждает газетина? Фельетон есть?
— Нет, — сообщает учитель.
— Жадничает издатель... а передовица имеется?
— Есть... Гуляева.
— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь
ему в глаз.
— «Оценка недвижимых имуществ, — читает
учитель, — произведенная более пятнадцати лет тому
назад, и поныне продолжает служить основанием ко
взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»
— Это наивно, — комментирует ротмистр
Кувалда, — продолжает служить! Это смешно! Купцу,
ворочающему делами города, выгодно, чтоб она
продолжала служить, ну, она и продолжает...
— Статья и написана на эту тему, *—-. говорит учи^
тель.
— Странно! Это фельетонная тема... об-этом нужно
писать с перцем,м
290
Возгорается маленький спор. Публика слушает его
внимательно, ибо водки выпито пока только одна
бутылка. После передовой читают местную хронику,
потом судебную. Если в этих криминальных отделах
действующим и страдающим лицом является купец *—*
Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали
купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его
разбили — приятно слышать, но прискорбно, что он
остался жив. Иск в суде проиграл купец —
великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили
на него в удвоенном количестве.
— Это было бы незаконно, — замечает учитель.
— Незаконно? Но законен ли сам купец? —
спрашивает Кувалда. — Что есть купец? Рассмотрим это
грубое и нелепое явление. Прежде всего каждый
купец — мужик. Он является из деревни и по истечении
некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы
сделать^я купцом, нужно иметь деньги. Откуда у
мужика могут быть деньги? Какизвестно, они нв!яву1яют-
ся от трудов праведных. Значит, мужик так или ин^че
¦ мошенничал. Значит, купЬц — мошенник-мужик!
— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.
А Тяпа мычит, потирая себе грудь. Так же точно он
мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку,
водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для
ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он
всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он
портит сделанное до него. Его речи громят и
уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что
он,— зло ругается.
— Если б я писал в газетах! — восклицает он. —«
О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы
показал, что он только животное, временно исполняющее
должность человека. Он груб; он глуп, не.имеет вкуса
к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего
выше пятака не знает.
Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя
злить, людей, ехидно вставляет:
— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с
голода, — исчезают люди из жизни...
— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как
дворяне дали, *-* людей нет! Есть только купцы.',, и я
их не-на-вижу1
Ш
.-— Оно и понятно, потому что и ты, брат, попран во
прах ими же...
— Я? Я погиб от любви к жизни, — дурак! Я жизнь
любил — а купец ееобирает. Я не выношу его именно
за это — а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь
знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь
наплевать на всё и на всех... и вся жизнь для меня —
любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.
— Врешь! — говорит Объедок.
•— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от
гнева.
— Зачем кричать? — раздается холодный и мрач-.
ный бас Мартьянова. — Зачем рассуждать? Купец,
дворянин — нам какое дело?
— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... —
вставляет дьякон Тарас.
— Отстаньте, Объедок, — примирительно говорит
учитель.— Зачем солить селедку?
Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда
вокруг разгораются страсти, его губы складываются в
болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно
старается помирить всех со всеми, а если это не
удается ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если
он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в
лице учителя лучшего слушателя своих речей. 1
— Я повторяю,— более спокойно продолжаемой,—
я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только
дворянина, но врагов всего благородного, алчных,
неспособных украсить жизнь чем-либо... .
— Однако, брат, — говорит учитель, — купцы соз^
дали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии
завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...
— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду
Иуду Петунникова и иже с ним...
— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает
учитель.
— А — разве я не живу? Ага! Живу — значит,
должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие
люди, полонившие ее.
— И смеются над благородным негодованием
ротмистра и человека в отставке, — задирает Объедок.
— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший
человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли,
кбгда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все
вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти
чувства?
— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет
его учитель.
— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на
жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое,
новое... ибо и мы в жизни новость...
— Несомненно нам нужно это, — говорит учитель.
— Зач^м?— спрашивает Конец.— Не всё ли равно,
что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок,
тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И
даже в двадцать долго >не проживешь такою жизнью.
— И какая мы новость? —* усмехается Объедок, —
гольтепа всегда была.
— И она создала Рим, — говорит учитель.
— Да^ конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и
Рем — р^^ве они не золоторотцы? И мы — придет раш
час — создадим... ^
— Нарушение общественной тишцны и
спокойствия, — перебивает Объедок. Он хохочет, довольный
собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему
вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные
глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у
него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по
головам:
— Всё это глупости,— мечты,— ерунда!
Странно было вадеть так рассуждающими этих
людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой
и злобой, иронией и грязью.
Для ротмистра такие беседы были положительно
праздником сердца. Он говорил больше всех, и это
давало ему возможность считать себя лучше всех. А как
бы низко ни пал человек — он никогда не откажет
себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее,—
хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид
Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не
пресыщался им, к неудовольствию Объедка, Кубаря и
других бывших людей, мало интересовавшихся
подобными вопросами.
Но зато политика была общей любимицей. Разговор
на тему о необходимости завоевания Индии или об ук-
рощении Англии мог затянуться бесконечно. С не
293
меньшей страстью говорили о способах радикального
искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе
верх веегда брал Объедок, сочинявший изумительно
жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть
первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно
говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал
учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали.
Ему уступали, ибо все смотрели на него как на
человека недюжинного и — у него, по субботам, занимали
деньги, заработанные им за неделю.
Он вообще пользовался многими привилегиями: его,
например, не били в тех нередких случаях, когда
беседа.заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было
разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто
не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех
предупреждал:
— Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и
философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу
кого-нибудь, явившегося с бабой! Бабу тоже изобью...
За философию — оторву голову...
Он мог оторвать голову — несмотря на свои года,
он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз,
когда он дралря, ему помогал Мартьянов. Мрачный и
молчаливый, точно надгробный памятник, во время
общего боя он всегда становился спиной к спине Кувал^
ды, и тогда они изображали собой всё сокрушавшую
и несокрушимую машину.
Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что
вцепился в волосы учителя и выдрал клок их. Кувалда
ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок,
а когда он очнулся, заставил его съесть волосы
учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.
Кроме чтения газеты, разговоров и драк,
развлечением служила еще игра в карты. Играли без
Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после
нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и
заявил: ,,
— Я не могу не передергивать... Этсгу меня
привычка.
— Бывает,— подтвердил дьякон Тарас.— Я привык
дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так,
знаете, когда умерла она — такая тоска на меня по
воскресеньям нападала, что даже невероятно, Одно во-
294
скресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел.
Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она...
Подам, говорит мировому. Представьте себе мое
положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену!
Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по
заведенному порядку, пока опять не женился...
— Дьякон,— врешь! Как ты мог в другой раз
жениться? — оборвал его Объедок.
— А? А я так — она у меня за хозяйством
смотрела.
— У вас были дети? —спросил его учитель.
— Пять штук... Один утонул. Старший, — забавный
был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна
дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с
ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в
Питере... от чахотки, говорят... Д-да.., пять было... как
же! Мы, духовенство* плодовитые...
Он ст^ал объяснять, почему это именно так,
возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда
хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил,
что у него тоже была дочь.
— Лидкой звали... Толстая такая..*
И больше он, должно быть, не помнил ничего,
потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и —
умолк.
О своем прошлом эти люди мало говорили друг с
другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в
общих чертах и в более или менее насмешливом тоне.
Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было
умно, ибо для большинства людей память о прошлом
ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды
на будущее.
А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие
люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали,
немножко боялись, как воров и драчунов, немножко
презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и
слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова
был клубом Въезжей улицы, а-бывшие люди — интел*
лигенцией клуба.
По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра
до ночи —трактир был полон, и бывшие люди являлись
295
в нем желанными гостями. Они вносили с собой в
среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой
дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей,
истомленных и растерявшихся в погоне за куском хле*
ба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды,
и так же еброшенных из города, как и qhh. Уменье
обо всем говорить и всё осмеивать, безбоязненность
мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем,
чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая
удаль этих людей — не могли не нравиться улице.
Затем, почти все они знали законы, могли датв любой
совет, написать прошение, помочь безнаказанно
смошенничать. За все это им платили водкой и лестным
удивлением пред их талантами.
По своим симпатиям улица делилась на две, почти
равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр — куда
забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум
у него большущие!» Другая была убеждена, что
учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду.
Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства,
которые были известны в улице как записные пьяницы,
воры и сорвиголовы, для которых путь от сумы до
тюрьмы, был неизбежен. Учителя уважали люди более
степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие,
вечно чем-то занятые и "редко сытые.
Характер отношений Кувалды и учителя к улице
точно определился следующим примером. Однажды в
трактире обсуждалось постановление городской думы,
коим обыватели Въезжей улицы обязывались:
рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и
трупов домашних животных для сей цели не
употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест
постройки каких-либо зданий.
— Откуда же я должен взять этот самый щебень,
ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу
хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно;
заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший
торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.
. Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по
данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлек
кая к себе внимание.
— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята,
всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по
296 >
своей ветхости ни на что не годится. Таким образом,
вы дважды послужите украшению города — и Въезжую
сделаете приличной, и новую думу заставите
построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да
захватите и его трех дочек — девицы для упряжки
вполне годные, А то разрушьте дом купца Иуды Петунни-
кова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мо-
кей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла — на
ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца
Иудина дома.
Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный
огородник Павлюгин спросил:
— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..
— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает
улицу — ну и пускай!
— Некоторые дома попадать хотят..,
— Не4 мешайте им, пускай пада*ют! Упадут —
дери с города вспомоществование: не даст — валяй к
нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город
й виновен в разрушении домов...
— Вода — от дождя, скажут...
— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он
с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о
ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит
да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и
сзади!
И половина улицы, убежденная радикалом Кувал-
цой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой
водой из города.
Более степенные люди нашли в учителе человека,
который составил им убедительную реляцию думе.
В этой реляции отказ улицы выполнить
постановление думы был мотивирован настолько солидно, что
дума вняла. Улице разрешили воспользоваться
мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для воз-
)т пять лошадей пожарного обоза. Даже более —
признали необходимым проложить, со временем, по улице
сточную трубу. Это и многое другое создало учителю
широкую популярность в улице. Он писал прошения,
печатал заметки в газетах. Так, например, однажды
гости' Вавилова заметили, что селедки и другие снеди
в трактире Вавилова совершенно не соответствуют
297
своему назначению, И вот дня через два Вавилов, стоя
за буфетом с газетой в руках, публично каялся.
— ^Справедливо — одно могу сказать!
Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие
селедки. И капуста — верно!., задумалась она
немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно
больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же?
Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный
человек предал меня позору за жадность мою... Квит!
Это покаяние произвело на публику очень хорошее
впечатление идало возможность Вавилову скормить ей
и селедку и капусту,— всё это публика, под приправой
своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма
значительный, ибо он не только увеличивал престиж
учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного
слова. Случалось, что учитель читал в трактире
лекции практической морали.
— Видел я,— говорил он, обращаясь к маляру
Яшке Тюрину, — видел я, как ты бил свою жену...
Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами; водки
и находился в ухарски развязном,настроении. Публика
смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет
коленце», и в харчевне воцаряется тишина.
— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.
Публика сдержанно смеется.
— Нет, не понравилось,— отвечает учитель. Тон
его так внушительно серьезен, что публика молчит.
— Кажись бы, я старался, — бравирует Яшка,
предчувствующий, что учитель его «срежет». — Жена
довольна, — не встает сегодня...
Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-
то фигуры и, разглядывая их, говорит:
— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это..^
Разберем основательно, что именно ты делаешь и
чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна;
ты бил ее вчера по >кивоту и по бокам — значит, ты бил
не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при
родах жена твоя умерла бы от этого или сильно
захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно,
и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни
требуют лекарств, а лекарства —денег. Если же ты
ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть
может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит,
299
6п не будет способен к работе, а для тебя важно* что*
бы он был работником. Даже если он ррдится только
больным — и то скверно: свяжет мать и потребует
лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди,
живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми
й рожать здоровых детей,.. Верно я говорю? .
— Верно,— подтверждает публика.
— Ну, это, чай, тово,— не случится! — говорит
Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной
учителем. — Она здоровая... сквозь ее до ребенка не
дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж
ведьма!,— восклицает он с огорчением.— Чуть я что,—
и пойдет меня есть, как ржа железо!
— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить
жену, — снова раздается спокойный и вдумчивый голос
учителя, — у тебя на это много причин... Не характер
твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно
бьешь... а'^вся твоя темная и печальная жизнь... v
— Вот это верно, — восклицает Яков, — живем
действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.
— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена...
самый близкий к тебе человек — и терпит без вины не*-
ред тобой только потому, что ты ее сильнее; она у тебя
всегда под рукой, и дезаться ей от тебя некуда. Ви-»
дишь, как это... нелепо!
— Оно так, чёрт ее возьми! Да ведь что-же мне де-
лдаъ-то? Али я не человек?
— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать:
бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей
осторожно: помни> что можешь.повредить ее здоровью или
здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить
беременных женщин по животу, по груди и бокам —
6Ш по шее или возьми веревку и... по мягким местам...
Оратор кончил свою речь, и его глубоко
ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется,
в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато
спрашивают ее.
Она же оживленно шумит. Ей- понятна эта мораль
бывшего человека — мораль кабака и* несчастия.
— Что, брат Яша, понял?
~ Вот она какая правдагто бывает!
Яков понял: неосторожно бить жену —вредно для
него,
299
Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шуг-
ки товарищей.
— "И опять же, что такое жена? — философствует
калачник Мокей Анисимов.— Жена — друг, ежели
правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как
цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на
манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу,
не сумеешь — цепь почуешь...
— Погоди,— говорит Яков,— ведь и ты свою бьешь?
— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе
невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками,
когда невтерпеж приходит?
— Ну вот, и я тоже... — говорит Яков.
— Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая,
братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!
— И даже >|сену бей с оглядкой! —юмористически
скорбит кто-то.
Так они беседуют до поздней ночи или до драки,
возникающей на почве опьянения и тех настроений,
какие навевают на них эти беседы.
За окнами трактира дождь идет, дико воет холод-
\ ный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на
улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в
окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из
трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда
& его вое слышится подавленный, безнадежный стон и
потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта
музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о
проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о
необходимости иметь теплую одежду и много есть. На
пустой желудок так плохо спится в бесконечные
зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?
Невеселые думы вызывали усиленную жажду
обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось
количество вздохов в их речах и количество морщин на
лицах, голоса становились глуше, отношения друг к
другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская
злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных,
измученных своей суровой судьбой.
Тогда они били друг друга; били .жестоко, зверски;
били и снова, помирившись, напивались, пропивая все,
что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов.
Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца в'не*
300
ведении исхода из этой подлой жизни, они проводили
дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.
Кувалда в такие времена приходил к ним на
помощь с философией.
— Не горюй, братцы! Всё имеет свой конец — это
самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и
снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у
воробья — пиво.
Но его речи не действовали — глоток самой чистой
воды не насытит голодного.
Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику,
распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более
успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг
отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели,
плясали, хохотали и на несколько часов становились
похожими на безумных. - .
Потом снова впадали в тупое, равнодушное
отчаяние, сидя\за столами в копоти ламп, в табачном дь?шу,
угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с
другом, слушая вой ветр%а и думая о том, как бы
напиться, напиться до потери чувств.
, И все были глубоко противны каждому, и каждый
таил в себе бессмысленную злобу против всех.
И
Всё относительно на этом свете, и нет в нем для
человека того положения, хуже которого не могло бы
ничего быть.
Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр
Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем
кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом
Петунниковым каменное здание рядом с трактиром
Вавилова, думал.
Здание, еще окруженное лесами, предназначалось
дод свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру
йустыми, темными впадинами длинного ряда окон и
лаутиной дерева, окружавшей его от основания до
.крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно
походило на какую-то жестокую машину, еще не
действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно
зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый
деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, по-
ЗОД]
росшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен
завода и казаяея большим паразитом, присосавшимся
к ней.
Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого
дама начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется
искать другое помещение, а такого удобного и
дешевого не найдешь» Жалко, грустно уходить с
насиженного места. Уходить же придется только потому, что
некий купец пожелал производить свечи я мыло. И
ротмистр чувствовал, что если б ему представился
случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому
врагу — о! с каким наслаждением он испортил
бы ее!
Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на
дворе ночлежки с архитектором и своим сыном.
Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то
палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр
приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.
Перед глазами ротмистра стоял этот купец —
маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем
одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном
картузе и высоких, ярко начищенных сапогах.
Костлявое, скуластое лицо, с седой клинообразной бородкой,
с высоким изрезанным морщинами лбом, и из-под него
сверкали узкие серые глазки, прищуренные, всегда что*
то высматривающие. Острый хрящеватый нос,
маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид
благочестиво хищный и почтенно злой.
«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» — выругался
про себя ротмистр и вспомнил первую фразу
Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом
городской управы покупать дом и, увидев ротмистра,
спросил у своего провожатого бойким костромским
говором:
т- Энто тот самый огарок — квартирант-от ваш?
И с той поры вот уже почти полтора года они
состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять че-
.ловека.
И вчера между ними произошло легонькое «упраж*
ненйе в буесловии», как называл ротмистр свои
разговоры с купцом, Проводив архитектора, купец подошел
к ротмистру.
*- Сидишь? — спросил он, дергая рукой за козырек
302
картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он
его или же хочет изобразить поклон.
— Мыкаешься? — в тон ему сказал ротмистр и еде-
лал движение нижней челюстью, отчего борода его
вздрогнула и что нетребовательный человек мог
принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть
свою трубку из одного угла рта в другой.
— Денег у меня много —вот и мыкаюсь. Деньги
хотят, чтобы их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, —.
дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.
— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю,—
комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка
в живот купцу.
— Али это не всё равно? С ними, с деньгами-то,
всяко нриятно... А вот ежели без них...
И купец с нахально подделанным состраданием ог-
лщдывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает,
обнажая крупные: волчьи зубы.
- Имея ум и совесть, можно жить и без них... Дёнь-
ш обыкновенно являются как раз в то-арешц шгда у
человека совесть усыхать начинает... Совести;
меньше— денег больше...
— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег,
ни совести...
— Ты смолоду-то таким и был? —*1шростодуншо
спрашивает Кувалда.
Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван
Андреевич рздыхает, щурит глазкши говорит:
— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять
пришлось!
— Я дум-аю...
»- Работал я, ох как работал!
*— А многих обработал?
— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего,— достаточно
их от меня христовой' молитве выучились...
•». Не убивал, только грабил?—режет ротмистр.
Петунников зеленеет и.находит нужным изменять
тему,
'-"** А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...
*— Пусть и он сядет,— разрешает Кувалда.
¦г- Да не на что, вишь...
*— На* землю... земля всякую дрань принимает...
•>•¦• Я это по тебе вижу... Однако пойш от тебя, ру^
303
гателя,— ровно и спокойно сказал Петунников, но
глаза его излили на ротмистра холодный яд.
Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что
купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно
бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в
месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец
ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и
вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал
себе кости. Сколько уже он создал остроумных
комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петуннико-
ва, лазившего по лесам, как паук по своей сетке.
Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула
под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со
своего места... Но — ничего не вышло. -
И сегодня, как всегда, перед глазами Аристида
Кувалды торчит это красное здание, прочное,, плотное,
крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее
из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется
над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце
льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на
уродливые домики Въезжей улицы.
«А вдруг! — мысленно воскликнул ротмистр,
измеряя глазами стену завода.— Ах ты, чёрт возьми! Если
бы...». Весь встрепенувшись, возбужденный своей
мыслью, Аристид Кувалда вскочил и., торопливо пошел
в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про
себя.
Вавилов встретил его за буфетом дружеским
восклицанием:
— Вашему благородию здравия желаем!
Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых
кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо
торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и
ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением
позволял узнать в нем старого унтер-офицера.
— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? —
торопливо спросил Кувалда.
— Имею.
Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза
и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в
котором он видел что-то особенное.
— Покажи мне! —воскликнул ротмистр, стукая
кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.
304
—т А зачем? — спросил Вавилов, решившийся при
виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.
— Болван, неси скорей!
Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза
к потолку.
— Где они у меня, эти самые бумаги?
На потолке не нашлось никаких указаний, по этому
вопросу: тогда унтер устремил глаза на свой жибот и
с видом озабоченной задумчивости стал барабанить
пальцем по стойке.
— Будет тебе кобениться,—прикрикнул на него
ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему
солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.
— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они
в окружном суде остались. Как я вводился во
владение...
— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи
мне сейчас план, купчую и всё/ что есть. Может 0ыть,
ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — пойял?
Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так
внушительно, с таким серьезным видом, что глаза
унтера загорелись любопытством, и, сказав, чта
посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в
дверь за буфетом. Чер^з две минуты он возвратился с
бумагами в руках и с выражением крайнего изумления
на роже.
— А они, проклятые, дома!
— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был...—
не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук
коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем,
развернув перед собой бумаги и всё более возбуждая
любопытство Вавилова, ротмистр стал читать,
рассматривать и при этом многозначительно, мычал. Вот,^
наконец, он решительно встал и пошел к двери,
оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:
— Погоди... не прячь их...
Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик
выручки, запер его и подергал рукой — хорошо ли
заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на
крыльцо харчевни. Там он увидал, что ротмистр,
измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и
снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но
довольный.
Д05
Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытяну*
лось, потом вдруг радостно просияло.
~ Ристид Фомич! Неужто? — зоскликнул он, когда
ротмистр поравнялся с ним.
— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это
пр фасаду, а вглубь сейчас узнаю...
— Вглубь?.. Десять сажен два аршина!
*•— Что, догадался, бритая харя?
*— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас —
в землю вы на три аршина видите! — с восхищением,
воскликнул Вавилов.
Через несколько минут они сидели друг против
друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими
глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:
— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле.
Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы
накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не
тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а
просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется
нарушением границ чужого владения,— очень
приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину
да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и
прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить
сломка самым точным образом —с битым кирпичрм* с
ямой под новый фундамент,— всё высчитаем? Даже
время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-
чи рублей!
— Не даст!—тревожно моргая глазами,
сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов,
— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему
делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви!
Покупать тебя будут — не продавайся дешево! Пугать
будут — не бойся! Положись на нас...
Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и
лицо, красное от возбуждения, судорожно подергива,
лось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив, его
действовать возможно скорее, ушел торжествующий и
непреклонно свирепый*
Вечером все бывшие люди узнали об открытии
ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петун-
никова, изображали в ярких красках его изумление й
306
злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит
ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он
был счастлив, и все вокруг него были довольны. Боль^
шая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на
дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все
знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза,
он дарил их таким же вниманием, как и весь другой
мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей
их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко
всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого
купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?
Зло в глазах этих людей имело много
привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и
по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе
полусознательное, смутное чувство острой неприязни
ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в
каждом бьщо это чувство в разных степенях его развития.
Две недели жила ночлежка ожиданием новых
событий, и за всё это время Петунников ни разу не
являлся на постройку. Дознано было, что его нет в
городе ъ что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда
громил практику гражданского судопроизводства.
Едва ли когда:нибудь и кто-либо ждал этого купца с
таким напряженным нетерпением, с которым ожидали
его босяки.
Не идет, не идет мой ненаглядный...
Эх, знать, не любит он м-меня-а!
— пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-
скорбно глядя в гору.,
И вот однажды под вечер Петунников явился. Он
приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера —
краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в
темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын
вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они
начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.
— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.
Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к
воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу
происходившего.
— Что значит привычка воровать — человек вору-
ет> даже не желая украсть, рискуя потерять боль-
ше того, сколько украдет,— соболезновал ротмистр,
вызывая у своего штаба смех и ряд подобных
замечаний.
— Ой, малый! — воскликнул наконец Петунников,
взорванный насмешками,—гляди, как бы я тебя за
твои слова к мировому не потянул!
— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын
не может свидетельствовать со стороны отца,—
предупредил ротмистр.
— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, дЛ ведь и на
тебя найдется управа!
Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и
погруженный в расчеты, не обращал внимания на
кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он
даже не взглянул ни разу в их сторону.
— Молоденький паучок имеет хорошую
выдержку,— заметил Объедок, подробно проследив всё
действия и движения Петунникова-младшего.
Обмерив всё, что было нужно, Иван Андреевич
нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын
твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся
в нем.
— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что
будет дальше? — спросил Кувалда.
— А дальше Петунников-младший купит Егора
Вавилова,— уверенно сказал Объедок и вкусно чмокнул
губами, выражая полное удовольствие на своем остром
лице.
— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил
Кувалда.
— А мне приятно видеть, как людские расчеты не
оправдываются,— с наслаждением объяснил Объедок,
щуря глаза и потирая руки.
Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они,
стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и
смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом
ожидающем молчании. Потом дверь харчевни
отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким
вошел. Он остановился на минуту, кашлянул,
приподнял воротник пальто, посмотрел на людей,
наблюдавших за ним, и пошел вверх: по улице.
Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к
Объедку, усмехнулся.
308
— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и
мокрицы... У тебя есть нюх на всё подлое, да... Уж по харе
этого юного жулика видно, что он добился своего...
Сколько взял с них Егорка? Он — взял. Он их же
поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят. Это я
устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да,
жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! Й даже
когда плюнешь в рожу ближнего, плевок летит
обратно в твои же глаза,
Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр
посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо
все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым
заключена сделка. Сознание неуменья причинить зло
более оскорбительно для человека, чем сознание
невозможности сделать добро, потому что зло делать так
легко и просто.
— Ирак,— чего же мы тут торчим? Нам нечего
больше кдать... кро'ме магарыча, который я сдерну с
Егорки,— сказал ротмистр, хмуро посматривая на
харчевню.— Благоденственному и мирному житию
нашему под кровлей Иуды — пришел конец. Попрет нас
Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне
департаменту санкюлотов.
Конец мрачно засмеялся.
— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.
— Куда ж я пойду?
— Это/ душа моя, вопросище... Судьба твоя
ответит на него, не беспокойся,— задумчиво сказал
ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво
двинулись ,за ним, •
— Мы подождем критического момента,— говорил
ротмистр, шагая среди них.— Когда нас вытурят вон,
тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит
портить жизнь такими думами,.. В критические моменты
человек становится энергичнее... и если б жизнь, во
$сей ее совокупности, сделать сплошным критическим
^оментомт-если б каждую секунду человек принужден
(Выл дрожать за" целость своей башки... ей-богу, жизнь
была бы более живой, люди более интересными!
— То есть с большей яростью грызли бы глотки
друг другу,— пояснил Объедок, улыбаясь.
— Ну, так что же? — задорно воскликнул ротмистр,
>не любивший, чтобы его мысли пояснялись.
309
— А ничего,— это хорошо. Когда хотят скорее
куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины
раздражают огнем.
«— Ну да! Пусть всё скачет к чёрту на кулички! Мне
было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и
сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб
последний, посмотрев сначала на других...
— Свирепо! — усмехнулся Объедок.
— Так что? Я —бывший человек,— так? Я
отвержен— значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит,
я могу наплевать на всё! Я должен по роду своей
жизни отбросить в сторону всё старое... все манеры и
приемы отношений к людям, существующим сыто и наряд-,
но и презирающим меня за то, что в сытости и костюме
я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то
новое—понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие
господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде
моей представительной фигуры — трепет хладный в
печенках ощущали.
— Экий у тебя язык храбрый,— смеялся Объедок,
— Эх ты!..— презрительно оглядел его Кувалда.—
Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты
думать? А я —думал... И читал книги, в которых ты не
понял бы ни слова.
— Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать,.. Но хотя
ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого,
однако недалеко же мы друг от друга ушли;,.
— Пошел к чёрту! — вскричал Кувалда.
Его разговоры с Объедком всегда так кончались
Вообще без учителя его речи,— он сам это знал,—¦
только воздух портили, расплываясь в нем без оценки
и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И те-
перь^ обругав своего собеседника, он чувствовал себя
одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось,
и потому он обратился к Симцову:
— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда
приклонишь свою седую голову?
Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой
нос и объявил:
—¦ Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил
да еще!
— Почтенная, хотя и простая задача!*— похвалил
его ротмистр;
310
Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее
всех их, потому что его женщины очень любят. Это
была цравда: старик всегда имел двух-трех любовниц-
. проституток, содержавших его по два и три дня кряду
на свои скудные заработки. Они часто били его, но он
относился к этому стоически; силыю избить его они
почему-то не могли— может быть, жалели. Он был
страстный женолюбец и рассказывал, что женщины —
причина всех несчастий его жизни. Близость его
отношений к женщинам и характер их отношений к нему
подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом,
всегда хорошо починенным и более чистым, чем
костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей
ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо нач.ал
рассказывать, что его давно уже зовет Редька
жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из
компании.
Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку
все знали — она жила недалеко под горой и недавно
только отсидела несколько месяцев за вторую кражу.
Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная
деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми,
хотя всегда пьяными глазами.
— Ишь ты, старый чёрт! — выругался Объедок,
глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.
— А почему они меня любят? Потому что я знаю,
чем жива их душа...
— Н-да? — вопросительно воскликнул Кувалда.
— Умею заставить их жалеть меня. А женщина,
когда она пожалеет,— хоть зарежет из жалости. Плачь.
перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...
— Это я убью! — решительно заявил Мартьянов,
усмехаясь своей мрачной усмешкой.
— Кого? -*- спросил Объедок, отодвигаясь от него в
сторону.
— Всё равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!
*— Зачем? — осведомился Кувалда.
_ — Хочу в Сибярь... Мне надоело это... Подлая
жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...
— Д-да, там укажут подробно,— меланхолически
согласился ротмистр.
О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки
больше не говорили. Все уже были уверены, что высе-
311]
ление близко к ним, и считали излишним утруждать
себя рассуждениями на эту тему.
Расположившись кружком на траве, эти люди ле*
ниво вели бесконечную беседу о разных разностях,
свободно переходя от одной темы к другой и тратя
столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его
для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая.
Молчать было скучно, но и внимательно слушать' тоже
скучно. Это общество бывших людей имело одно
великое .достоинство: в нем никто не насиловал себя;
стараясь казаться лучше, чем он есть, и не побуждал
других к такому насилию над собой.
Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих
людей, подставивших ему свои спины и нечесаные
головы— хаотическое соединение царства растительного
с минеральным и животным. В углах двора рос
пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими
репьями, и еще какие-то никому не нужные растения
услаждали взоры никому не нужных людей..."
А в харчевне Вавилова разыгралась следующая
едена.
Петунников-младший вошел в нее не торопясь,
осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с
головы серую шляпу; спросил у трактирщика,
встретившего его почтительным поклоном и любезной
усмешкой:
— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?
— Точно так! — ответил унтер, опираясь о
прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть че*
рез него.
— Имею к вам дело,— заявил Петунников.
— Вполне приятно... Пожалуйте в комнаты!
Они прошли в*комнаты и сели — гость на
клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул
против негЪ. В одном углу комнаты горела лампада перед
громадным трехстворчатым киотом, на стене, около
него, висели иконы. Ризы их1 были ярко вычищены,
блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной
сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло
деревянным маслом, табаком, кислой капустой.
Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со
312
вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально
осмотрели друг друга и оба взаимно произвели
хорошее впечатление. Петунникову понравились
откровенно вороватые глаза Вавилова. Вавилову — открытое,
холодное и решительное лицо Петунникова с
широкими крепкими скулами и частыми белыми зубами.
— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я
буду говорить! — начал Петунников.
—* "Насчет иску... я так полагаю,— почтительно
сказал унтер.
— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а
идете к делу, как человек прямой души,— поощрил
Петунников собеседника.
— Солдат я...— скромно сказал тот.
— Это видно. Итак, будем вести дело просто и
прямо, чтобы скорее кончить его.
— Вот именно.
— Хорсщю-с. Ваш иск вполне законен, и вы его,
конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным
сообщить вам.
— Покорно благодарю,— сказал унтер, моргнув,
чтобы скрыть улыбку глаз.
— Но, скажите, зачем же вам понадобилось
начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями,
так резко — прямо с суда?
Вавилов пожал плечами и смолчал.
— Было бы проще прийти" к нам и устроить всё
Миром — а? Как вы думаете?
— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть
йдна закорючка... не своей волей я действовал.:, а по
Наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну — '
уж поздно.
— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь на-
учил?
— В этом роде...
i— Ну-с, так желаете кончить дело миром?
.-г- С полным удовольствием! — воскликнул солдат.
Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг
голодно и сухо спросил:
г— А почему вы, этого желаете?
Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог
ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и сол-
313
дат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Пе-
тунникова-сьша.
— Известно почему... с людьми надо стараться
жить в мире.
— Ну,— перебил его Петунников,— это не совсем
так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам
хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.
Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый
в клетчатую материю и довольно смешной в ней,
говорил так, как-, бывало, говорил ротный командир Рак-
шин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу
по три зуба.
— Вам нужно помириться с нами потому, что на«
ше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно
потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее
полутораста человек, со временем—более. Если сто из-них
после каждого недельного расчета выпьют у вас по ста*
кану, значит, в месяц вы продадите на четыреста
стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое
меньшее.' Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглуп
пый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгод*
ность нашего соседства.
— Это верно-с,— кивнул головой Вавилов,—это я
знал.
— И что же?—громко осведомился.купец.
— Ничего-с... Давайте помиримся...
— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот
я припас заявление в, суд о прекращении, вами
претензии против отца. Прочитайте и подпишите.
Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего
собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне
скверное.
— Позвольте... подписать? А как же это?
— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше
ничего,—обязательно указывая пальцем, где подпи*
сать, объяснил Петунников.
— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того,
какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?
— Да ведь вам эта земля ни к чему!—успокоитель-,
но сказал Петунников.
—« Однако она моя! — воскликнул солдат,
— Конечно.,, А сколько вы хотели бы?
314
— Да хоть бы — по иску... Как там прописано,—•
робко заявил Вавилов.
— Шестьсот? — Петунников мягко засмеялся.— Ах
зы, чудак!
— Я имею право... Я могу хоть две тысячи
требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и
хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую —
ломать!
— Валяйте... Мы, может быть, и сломаем... года
через три, втянув вас в большие издержки по суду. А
заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше
вашей — вы и пропадете, как швед под Полтавой.
Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся,.
Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего
гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы.
чД,алко стало Вавилову себя перед лицом этой спокой-
нрй, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.
: — А в .'таком близком соседстве с нами находясь и
в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы
заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я,
например, даже сейчас порекомендую вам лавочку
маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб,
огурцы и так далее. Всё это будет иметь хороший
сбыт.
Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал,
что отдаться на великодушие врага — всего лучше.
G этого и надо бы начать. И, не зная* куда девать свою
злобу, солдат вслух обругал Кувалду;
— Пьяница, ан-нафема!
— Это вы того адвоката, который сочинял вам
прощение? — спокойно спросил Петунников и, вздохнув,
добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами
скверную 'шутку, если б мы не пожалели вас.
— Эх!—махнул рукой огорченный солдат.— Двое
тут;.. Один нашел, другой писал... Корреспондент
проклятый!
— Это почему же — корреспондент?
— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы...
Дот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбой-
Ники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья
нет от них,.— отчаянные люди — того гляди, ограбят
шт подожгут.,,
315
— А этот корреспондент — он кто такой? —
заинтересовался Петунников.
— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали.
Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый
человек!
— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с!
Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке, — леса
там, что ли, нашел неправильно поставленными.
— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и
хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.
— Н-да... Ну-с, так как же вы... мириться
намерены?
— Мириться?
Солдат опустил голову и задумался.
— Эх ты, жизнь наша темная! — с обидой в голосе
воскликнул он, почесав затылок.
— Учиться надо, — порекомендовал ему
Петунников, закуривая папиросу.
— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой!
Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете
живу... с постоянной оглядкой... вполне лищен свободы
желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот
кикимора учитель в газетах пишет на меня...
санитарный надзор навлекает, штрафы плачу.,. Постояльцы
ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я
против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их —-
они даже рады — хлеб им даровой.
— А вот мы их устраним, — если сойдемся с вами,-^
пообещал Петунников.
— Как же мы сойдемся?—с тоской и угрюмо
спросил Вавилов.
— Говорите ваши условия.
— Да что же? Шестьсот по иску...
— Сто рублей не возьмете? — спокойно спросил
купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко
улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...
После этого он снял очки и медленно стал вытирать
их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов
смотрел на него с тоской в сердце и в то же время
проникался почтением к нему. В спокойном лице - молодого
Петунникова, в его серых больших глазах, в широких
скулах, во всей его коренастой фигуре было много
силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной
316
умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников
говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без
всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов
донимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рас^
сматривая его, почти любуясь им, .он не вытерпел и,
ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту
заглушившего все остальные его ощущения,
почтительно спросил Петунникова:
— Где изволили учиться?
— В технологическом институте. А что? — вскинул
тот на него улыбавшиеся глаза.
— Ничего-с, это я так, — извините! — Солдат пбну-
рил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже
-вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образова-
ние-то! Одно слово,— наука — свет! А наш брат — как
сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше
благородие! Давайте, кончим дело?
, Он решительным жестом протянул руку Петуннико-
еу и сдавленно сказал:
— Ну — пятьсот?
— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич, — как
бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами
Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей
белой и крупной рукой.
Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел
навстречу желанию Петунникова крупными скачками,
щ тот был непоколебимо тверд. И когда Вавилов полу-
адл сто рублей и подписал бумагу, — он ожесточенно
|росил перо на стол и воскликнул:
— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться!
Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!
— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму
иска, — предложил Петунников, спокойно пуская изо
$ тонкие струйки дыма и следя за ними.
U- Да разве они этому поверят? Это тоже умные
мошенники, не хуже...
I Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не
указанным сравнением, и с боязнью взглянул на купе-
деекого сына. Тот курил, весь был поглощен этим заня-
№$м. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову
разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел
$ц вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крцк-
: что-нибудь злое и обидное в спину этого человека,
. аи
твердыми шарами поднимавшегося в гору по дорогу,
изрытой ямами, засоренной мусором.
Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него
были сурово нахмурены и правая рука энергично
стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался
навстречу ему.
— Н-ну, достойный потомок Каина и; Иуды,
рассказывай...
— Порешили, — сказал Вавилов, вздохнув и
опуская глаза.
— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?
— Четыреста целковых..,
— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без
дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за
открытие, четвертную учителю за написание прошения,
ведро водки всем нам и приличное количество закуски.
Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам,
Вавилов позеленел и широко открытыми глазами
уставился на Кувалду:
— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы,
Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш'аппетит до
следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь
имею возможность не бояться вас. Я теперь,..
Кувалда взглянул на часы за стойкой.
— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего
поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и
давай, что требую. Не дашь — сожру! Конец тебе кое-
что продал? Ты в газете о краже у Басова читал?
Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем.
И сегодня же ночью... Понял?
— Аристид Фомич! За что? — взвыл отставной
унтер.
— Без слов! Понял или нет?
Высокий, седой и внушительно нахмурившийся
Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще
гудел в пустой харчевне. Вавилов Есегда немножко
боялся его, как бывшего военного и человека, которому
нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним,!в
новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а
в том, что он говорил тоном командира, уверенного в
повиновении, звучала нешуточная угроза. Ц Вавилов
чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет^ по«
губит с-удовольствием, Нужно было покориться силе*
3*3
Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз
попробовал увернуться от кары. Он глубоко вздохнул и
смиренно начал:
— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли
нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич...
хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я
получил только...
— Дальше, — бросил ему Кувалда.
— А не четыреста, как сказал вам. Значит...
— Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты
врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят
пять рублей. Это скромно... Ну?
,: — Эх, господи боже мой! Я вашему благородию
всегда, сколько мог, оказывал внимания.
— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!
— Извольте,— я дам... Только вас бог накажет за
это.
— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! —
гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами, — Я наказан
богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя,
говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!
Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зу^
бами, оскалив их.
Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и
учащенно моргать глазами. Потом по щекам его
покатились две крупные слезы. Они были какие-то серые, и
когда скрылись в его усах, две другие явились на их
место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, стал там
перед образами и так стаял долго; не молясь, не
двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых
коричневых щек.
, Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам,
йредложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и
там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но
ротмистр и все остальные единодушно обругали и дья-
йша и природу, решив пить у себя йа дворе.
— Один, два, три...— считал Аристид Фомич, —
итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще
кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать пер-
&(№. По два с половиной огурца на брата, по фунту хле*
&г м мяса,., недурно! Водки приходится по бутылке*.,
319
Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза:
Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои,
мерзавцы. Итак, приготовимся же пожирать Егорку
Вавилова, ибо всё это — кровь и плоть его!
На земле разостлали какие-то остатки одежд, на
них разложили пития и яства и уселись вокруг,
чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить,
сверкавшее у всех в глазах.
Наступал вечер, тени его опускались на
обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние
лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося
дома. Было прохладно, тихо.
— Приступим, братия! т~ скомандовал ротмистр.—
Сколько чаш имеем мы? Шесть, — а нас —
тринадцать... Алексей Максимович! наливай! Готово? Н-ну,
перррвый взвод... пли!
Выпили, крякнули и стали есть.
— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу
его. Никто не видал? — спросил Кувалда. .
— Никто...
— Это не в его характере! Ну, всё равно. Выпьем
еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды,
единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на
минуту не оставлял меня одного. Хотя, чё]рт его
побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он
на некоторое время лишил меня своего общества.
— Это остроумно, — сказал Объедок и
закашлялся.
Ротмистр с сознанием своего превосходства
посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел..
Выпив дважды, компания сразу оживилась —
порции были внушительные. Полтора Тараса выразил
робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в
спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред
толстыми и не обратил внимания на слова друга,
доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и
горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих
взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на
животе около него, выражала умиление, смакуя забористые
словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени
громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и .
мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус,
стараясь.,закусить его зубами, Объедок дразнил Тяпу,-
320
—, Я уже подсмотрел, куда ты, колдун» д$«ьси
прячешь!
— Твое счастье, — хрипел Тяпа.
— Я, брат, у тебя их поддедюлю!
— Бери...
Кувалде было скучно с эти\Ш людьми: среди них не
было ни одного собеседника, достойного слушать его
красноречие и способного понимать его.
— Где бы это мог быть учитель? — вслух
подумал он.
Мартьянов посмотрел на него и сказал:
•-« Придет...
*— Я уверен, что он именно придет, а не в карете
приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое
будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со
иной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их?
Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до
ррезиден^ штатов. Потом объявлю всей Европе войну
и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу
французов, немцев, турок и буду бить ими ихних рЬд-
ствеников... как Илья Муромец бил татар татарином.
G деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и
нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он —
пойдет... дать ему сто рублей в месйц — и пойдет! Но
лакеем будет скверным, ибо станет воровать... *
— И еще тем худая женщина лучше толстой, что
чэна дешевле стоит, — убедительно говорил дьякон. —
Рервая дьяконица моя Покупала на платье двенадцать.
Ш, а вторая десять... Так же и в пище....
Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул го-
к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и*
сконфуженно заявил:
— У меня тоже была жена...
— Это со всяким может случиться — заметил Ку-
Йалда. — Ври дальше.*.
— Была худая, но ела много... И даже от этого по-
йерла...
— Ты отравил ее, кривой, — убежденно сказал
©бъедок,
— Нет; ей-богу! Она севрюги объелась, —
рассказывал Полтора Тараса.
— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно
узгверждал*Объедок.
11. М. Горький 321
С ппи часто это бывало: сказав какую-нибудь неле-
пЬсть; tin начинал повторять ее, не приводя никаких 6С-
нований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то
капризно-Детским тоном, постепенно доходил почти до
бешенства.
Дьякон вступился за друга.
— Нет, он отравить не мог... не было причины.„
— А я говорю — отравил!-—взвизгнул Объедок.
— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука
у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он
свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя
в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать
дальнейшую пищу его озлоблению, — опустил голову
на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на
землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал
огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до
половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми
зубами, так что рассол из огурца брызгал во все
стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось,
но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел
неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся
на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел
на полуведерную бутыль водки, уже наполовину
пустую. Тяпа смотрел в землю и жевал мясо, не
поддававшееся его старым зубам. Объедок лежал на животе
и кашлял, съежив всё свое маленькое тело.
Остальные — всё молчаливые и темные фигуры — сидели и
лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их
похожими на безобразных животных, созданных
силой, грубой и фантастической, для насмешки над
человеком»
Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с ней случилась судорга
Оч-чень неприятная!
— вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея
Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо.
Полтора Тараса сладострастно хихикал.
Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали
звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные
свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом
стекол отворялись дверь харчевни Вавилова. На двор
822
вошли две темные фигуры, приблизились к-группе
людей около бутылки, и одна из,них хрипло спроси^дэ
— Пьете?
А другая вполголоса, с завистью и радостью,
произнесла:
— Ишь какие черти!
Затем через голову дьякона протянулась рука,
взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье
водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко
крякнули...
— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон. — Кривой!
давай вспомним старину, споем «На реках
вавилонских»!
— Он разве умеет? — спросил Симцов.
— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом
был... Ну, Кривой... На-а ре-е-е-ка-а...
Голос у дьякона, был дикий, хриплый,
прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.
Объятий тьмою выморочный дом, казалось,
увеличился в объеме или подвинулся всей массой
полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем
глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и
темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из
бывших людей храпел, остальные, всё еще
недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же
разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было неп-*
ривычно это подавленное настроение на пире, редком
по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго, не
разгоралось буйное оживление, свойственное
обитателям ночлежки за бутылкой.
— Вы, собаки! Погодите выть... — сказал ротмистр
певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. —
Кто-то едет... на пролетке...
Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не
могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог
рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и
зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи
ясно разносилось шуршание колес, задевавших за
крылья пролетки. Оно всё приближалось. Раздался
чей-то голос, грубо спрашивавший:-
— Ну, где же?
Кто-то ответа л:
— А вон к тому дому, должно быть.
323
-т гД#дьш? не поеду...
тт- Это к ttaML-— воскликнул ротмистр.
— Полиция! — прозвучал тревожный шёпот.
— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал
Мартьянов.
Кувалда встал и пошел к воротам.
Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.
— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то
дребезжащим голосом.
— Да,— прогудел недовольный бас ротмистра.
— Здесь жил репортер Титов?
— Это вы его привезли?
— Да...
— Пьяный?
— Болен!
— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель!. Ну-ка,
вставай!
— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он
двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был
доктор. Очень скверно...
Тяпа встал и медленно пошел к воротам, а
Объедок усмехнулся и выпил,
— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр*
Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу.
Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широ»
кая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то
маленьким человеком вели по ней учителя в ночлежку.
Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги
волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные.
При помощи Тяпы его свалили на нары, и он, вздрог-
нув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.
— Мы с ним в одной газете работали... Очень
несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы
меня не стесняете...* Но он молит меня: «Отправьте
домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и -вот
привез его... Ведь это именно здесь... да?
— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? —
грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая
своего друга.— Тяп?, ступай принеси холодной воды!
— Так вот...— смущенно помялся человечек.-—
Я полагаю... я не нужен ему?
— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на
324
Человечек был одет в пиджак, ейльно *то*фтый и
тщательно застегнутый вплоть до подбо^ойкй. Брюки
ра нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости,
смятая, как и его худое, голодное лицо.
— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы,
много...— сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.
— Значит, до свидания!—Человечек пошел к двери
и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы
известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я
написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был,
знаете, деятель прессы...
— Гм! некролог, говорите? Двадцать строк —
сорок копеек? Я лучше сделаю; когда он умрет, я
отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя.
Это для вас выгоднее, чем- некролог, дня на три
хватит... у него ноги толстые.». Ели же вы его все там
живого...
Человечек как-то странно фыркнул и исчез.
Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал pytcoft
его лоб, грудь и позвал его:
•—•Филипп!
Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и
замер,
—• Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр,
тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы
неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его
дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо,
осунувшееся и землистое, здохнул и, строго нахмурив
брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь
,в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали
черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их
безмолвную игру, разглаживая себе бороду. .
Пришел Тяпа с ведром воды, поставил его на нары
рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на
своей руке, как бы взвешивая.
— Не надо воды, — махнул рукой ротмистр.
— Попа надо, — уверенно сказал старый
тряпичник.
— Ничего не надо, — решил ротмистр.
Они помолчали, глядя на учителя.
— Пойдем выпьем, старый чёрт!
— А он?
-г Ты ему поможешь?
325
Типа довернулся к учителю спиной, и они вышли
на двор.
— Что там? —спросил Объедок, обращая к
ротмистру свою острую морду.
— Ничего особенного. Умирает человек... — кратко
сообщил ротмистр.
— Избили его? — поинтересовался Объедок.
Ротмистр не ответил, он пил водку.
— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о
нем справить,— сказал Объедок, закуривая папиросу.
Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон
вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб
и дико взвыл:
— Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!
— Ты! — зашипел Объедок, — что орешь?
— Дай ему в рожу! — посоветовал ротмистр.
— Дурак! — раздался хрип Тяпы.— Когда человек
кончается, нужно,чтобы тихо было.
Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами,
грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой
осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших,
бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то
бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось — вот они
заденут за крышу старого дома и опрокинут его на
группу этих людей.
— А... скверно на душе, когда умирает человек
близкий... — заикаясь, проговорил ротмистр и склонил
голову на грудь.
Никто ему не ответил.
— Среди вас — он был лучший... самый умный и
порядочный... Мне жалко его.,.
— Со-о-святы-ими упоко-ой... Пой, кривая
шельма! — забурлил дьякон, толкая в бок своего друга,
дремавшего рядом с ним.
— Молчать!., ты! — злым шёпотом воскликнул
Объедок, вскакивая на ноги.
— Я его ударю по башке, — предложил
Мартьянов, поднимая голову с земли.
— А ты не спишь? — необычайно ласково сказал
Аристид Фомич. — Слышал? Учитель-то у нас...
Мартьянов тяжело завозился на земле, встал,
посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон
326
ночлежки, качнул головой, и молча сел рядом с<
ротмистром.
— Выпьем? — предложил тот.
Ощупью отыскав стаканы, они выпили.
— Пойду посмотрю:..—сказал Тяпа,— может, ему
надо чего.
•— Гроб надо... —- усмехнулся ротмистр.
— Не говорите вы про это, — глухим голосом
попросил Объедок.
За Тяпбй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел
встать, но свалился на бок и громко выругался.
Когда Тяпа ушел, ротмистр ударил по плечу
Мартьянова и вполголоса заговорил:
— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен
чувствовать... Ты был.., впрочем, к чёрту это. Жалко
тебе Филиппа?
— Не?,— помолчав, ответил бывший тюремщик.—
Я, брат, ййчего такого не чувствую... разучился...
Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь.,*
— Да? — неопределенно произнес ротмистр.— Ну...
что же? Выпьем еще!
— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-ot
Это проснучлся и блаженным тоном пропел Симцов.
— Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!
Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился,
ткнувшись головой в чей-то бок.
Минуты две продолжалось молчание., такое же
темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то
зашептал...
— Что? — раздался вопрос.
— Я говорю, славный он парень был. Голова,
тихий такой, — говорили вполголоса.
— Деньги имел...и не жалел их для своего
брата... — И опять наступило молчание.
— Кончается! — раздался хрип Тяпы над головой
ротмистра.
Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая
ногами, пошел в ночлежку.
— Пошто идешь? — остановил его Тяпа.— Не ходи.
Пьяный ведь тьь.. нехорошо!
Ротмистр остановился, подумал:
*— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к чёрту!
327
По стенам ночлежки всё прыгали тени, как бы
молча борись друг с другом. На нарах, вытянувшись во
весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были
широко открыты, обнаженная грудь сильно
колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое
напряженное выражение, как будто он силился сказать
что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо
страдал от этого.
Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину,
и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил,
болезненно наморщив лоб:
— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово
утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди —
скоты, ты был для меня -г* человек... хотя ты пьяница!
Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и
погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою...
и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...
Таинственная, всё уничтожающая сила, именуемая
смертью, как бы оскорбленная присутствием этого
льяного человека при мрачном и торжественном акте ее
борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое
бесстрастное дело, — учитель глубоко вздохнул, тихо про-»
стонал, вздрогнул, вытянулся и замер.
Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.
— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не
пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей!
Зачем, говоря прямо, сдерживать себя?,, Него ради,
Филипп? Верно? Чего ради?..
Он взял его за ногу и потянул к себе.
— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи...
Завтра я всё это разъясню тебе и ты убедишься, что
ничего не надо запрещать себе... А теперь спи.м если ты
не умер...
Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к
своим, объявил:
— Уснул... или умер... Не знаю.., Я н-немножко
пьян...
Тяп& еще более согнулся, осеняя свою грудь
крестным знамением. Мартьянов молча поежился и лег на
землю. Объедок стал быстро возиться на земле,
вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:
— Чёрт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же?
Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рас-
328
сказывать? Придет время.— я сам умру... не хуже *его..«
Не хуже я других.
— Это верно! — громко говорил ротмистр, грузно
опускаясь на землю. — Придет время, и все мы умрем
не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это
пустяки! Но мы умрем —как все. В этом —цель жизни,
верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть.
И умирает... И если это так — не всё ли равно, как он
жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока
живы...
Накрапывал дождь. Густая, душная тьма
покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные
сном или опьянением. Полоса света, исходившая из
ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла.
Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин.
Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя
стучали ;^обко и нерешительно. С горы из города,
неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили
церковь.
Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во
тьме и медленно замирал в ней, но раньше чем тьма
успевала заглушить его последнюю, трепетно
вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине,
ночи разносился меланхолический вздох металла.
Наутро первым проснулся Тяпа.
Повернувшись на спину, он посмотрел на небо —
изуродованна^я шея его только в этом положении
позволяла ему видеть небо над головой.
Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился
сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв
собою голубую беспредельность, изливал на землю
уныние. Тяпа перекрестился и привстал на локте, чтобы
посмотреть/ не осталось ли где водки. Бутылка была
пустая. Перелезая через товарищей, Тяпа стал
осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной,
выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо
ротмистра.
— Вставай... эй! Слышь?
Ротмистр пЪ дня л голову, глядя на него тусклыми
Глазами.
— Надб полиции заявить.,, ну, вставай!
— А что? — сонно и сердито спросил ротмистр.
— Что умер он..
— Это кто?
— Ученый-то...
— Филипп? Да-а!
— А ты забыл.., эхма! — укоризненно хрипел
Тяпа.
Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся
так, что у него кости хрустнули.
— Так иди ты, объяви...
— Я не пойду... не люблю я их,— угрюмо сказал
Тяпа.
— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.
Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах
учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая
рука была у него на груди, правая откинута так,
точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр
подумал, что, если б учитель встал теперй, он был бы
такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на
нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили
вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпа, держа
голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по
другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное
лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми
губами, и захрипел:
— Да... вот и умер... И я умру скоро...
>— Тебе пора, — хмуро сказал ротмистр.
— Пора уж!—согласился Тяпа.— И тебе тоже
надо бы умереть... Всё лучше, чем так-то...
— А может, хуже? Ты почем знаешь?
— Хуже не будет. Помрешь —с богом будешь
иметь дело... А тут с людьми... А люди — что они
значат?
— Ну ладно, не хрипи, — сердито оборвал его
Кувалда.
В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало
внушительно тихо.
Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и
изредка поглядывали на него, оба погруженные в
думы. Потом Тяпа спросил:
— Хоронить его ты будешь?
— Я? Нет! Полиция пускай хоронит.
330
— Hyl Чай, ты схорони... ведь за прощ^ние-то в
Вавилова взял его деньги.., Я дам, коли не хватит..,
— Деньги его у меня... а хоронить не стану.
— Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу
всем, что ты его деньги заесть хочешь..,— пригрозил
Тяиа.
—* Глуп ты, старый чёрт,— презрительно сказал
Кувалда.
— Не глуп я... а только нехорошо, мол, не
по-дружески.
— Ну и ладно. Отвяжись!
— Ишь! А сколько денег-то?
— Четвертная...— рассеянно сказал Кувалда,
— Бона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...
— Экой ты мерзавец, старик...— равнодушно
посмотрев в лицо Tsjnbi, сказал ротмистр.
— Право, дай...
— Пбшёл к чёрту!.. Я ему на эти деньги памятник
устрою.
— На что ему?
— Куплю жёрнов и якорь. Жёрнов положу на
могилу, а якорь цепью прикую к нему... Это будет очень
тяжело...
— Зачем? Чудишь ты...
— Ну... не твое дело.
— Я, смотри, скажу...— снова пригрозил Тяпй*
Аристцд Фомич тупо посмотрел на него и
промолчал.
— Слышь... едут1 — сказал Тяпй, встал и ушел из
ночлежки.
Скоро в дверях ее явился частный пристав,
следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к
учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая
Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он
сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не
спросил его, кивая головой на учителя:
— Отчего он умер?
— Спросите у него... Я думаю, от непривычки,..
— Что такое? — спросил следователь.
— Я говорю — умер он, по моему мнению, от ке-
привычки к той болезни, которой захрорал...
— Гм... да! А он давно хворал?
— Вытащить бы его сюда, не видно там ничего,—
331
тоном,— Мбжет быть, есть
знаки...
— Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его,-—
приказал пристав Кувалде.
— Зовите сами... Он мне не мешает и тут...—
равнодушно отозвался ротмистр.
^- Ну! — крикнул полицейский, делая Свирепое
лицо.
— Тпру! — отпарировал Кувалда, не трогаясь с
места, спокойно злой и оскаливший зубы.
— Я, чёрт возьми!..— крикнул пристав,
взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью.— Я вам
этого не спущу! Я...
— Добренького здоровьица, господа честные! —
сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в
дверях.
Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул,
отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекре*
стился. Затем по лицу его расплылась улыбка
злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он
почтительно спросил:
— Что это здесь? Никак человека убили?
*— Да вот что-то в этом роде,— ответил ему еледо*
ватель.
Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился
и тоном огорчения заговорил:
— А, господи боже мой! Как я этого боялся!
Всегда, бывало; зайдешь сюда, посмотришь,., аи, аи, аи!
Потом придешь домой, и всё такое начинает
мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину
этому, вот... главнокомандующему золотой ротой,
хотел отказать от квартиры, но боюсь всё... знаете...
народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не
того...
Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею
по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.
— Опасные люди. И господин этот вроде
начальника у них... совершенно атаман разбойников.
— А вот мы его пощупаем,— многообещающим то-.
иом сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными
глазами.— Он мне тоже хорошо известен!..
— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые,.,—
подтвердил Кувалда фамильярным тоном.— Сколько
В32
я тебе и присным твоим взяток за щщлцяе
переплатил! ' '* '
— Господа!— воскликнул пристав,— вы слышали?
Прошу запомнить! Я этого не спущу,.. А-а! Так вот что?
!Ву, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой
друг...
— Не хвались на рать идучи...— спокойно говорил
Аристид Фомич.
Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с
любопытством, следователь со зловещим вниманием,
Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался,
наскакивая на него.
В дверях ночлежки явилась мрачная фигура
Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова,
так что его подбородок приходился над теменем купца.
Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко
раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.
— Однако давайте же что-нибудь делать,
господа! — предложил доктор. \
Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг —
чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул,
присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног
пристава,- который едва удержал его, раскрыв ему объ-"
ятия.
— Видите? — тревожно сказал купец, указывая на
Мартьянова.— Вот какие люди! а?
Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись,
а к дверям ночлежки подходили всё новые и новые
фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными,
воспаленными глазами, с растрепанными волосами на
головах, бесцеремонно разглядывали доктора,
следователя и пристава.
. — Куда лезете! — усовещивал их городовой, дер«
гая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был
один, а их много, и они, не обращая на него внимания,
лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и злове*
щие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство,
несколько смущенное обилием этой нехорошей
публики, и, усмехаясь, сказал начальству:
— Господа! Может, вы хотите познакомиться с
моими квартирантами и приятелями? Хотите? Всё
равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям
службы, знакомиться с ними..,
333
Доктор -смущенна засмеялся. Следователь плотно
сжал губы, а пристав догадался, что нужно было
сделать, и крикнул на двор:
— Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда,
чтоб достали телегу...
— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь
откуда-то из-за угла.— Квартирку вы мне сегодня
ослободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку...
Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...
На дворе пронзительно рокотал свисток
полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее
обитатели, позевывая и почесываясь.
— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!..—
смеялся Аристид Кувалда.
Петунников достал из кармана кошелек, порылся в
нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в
ноги покойника.
— Господи благослови... на погребение грешного
праха...
— Что-о? — гаркнул ротмистр.— Ты — на
погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мер-
рзавец! Ты смеешь давать на погребение честного
человека твои воровские гроши... разражу!
— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец,
хватая пристава за локти. Доктор и следователь
выскочили вон, пристав громко звал:
— Сидоров, сюда!
Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом,
оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.
Кувалда, потрясая кулаком над головой Петуннико-
ва, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:
— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь —
бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки,
бери!
Петунников протянул дрожащую руку к своей
лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды,
говорил:
— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы,
добрые лк^ди.
— Мы, купец, недобрые люди,— раздался
дребезжащий голос Объедка.
Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел,
а другую руку держал в воздухе над головой Петун-
334
никова, извивавшегося перед ним так; точно? сон
влезть ему в живот. ,,,..—
— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги
целовать у этого трупа? Х-хочешь?
И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда
швырнул его, как котенка, к двери.
Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать
купцу место для падения. И он растянулся у их ног,
испуганно и бешено воя:
— Убивают! Караул... убили-и!
Мартьянов медленно поднял свою ногу,
прицеливаясь ею в голову . купца. Объедок со сладострастным
выражением на своей физиономии плюнул в лицо
Петунникова. Купец сжался в маленький комок и,
упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор,
поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое
полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду,
кричал :А
— Арестовать! Связать! \
— Вяжите его, голубчики! — умолял Петуннйков.
— Не сметь! Я не бегу... я сам пойду,— говорил
Кувалда, отмахиваясь от городовых, подбежавших к
нему.
Бывшие люди исчезали один по одному. Телега
въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили
из ночлежки учителя.
— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав
Кувалде.
— Что, атаман? — ехидно спрашивал Петуннйков,
возбужденный и счастливый при виде врага, которому
вязали руки.— Что? Попал? Погоди! То ли еще будетЦ
Но Кувалда молчал. Он стоял между двух поли*
цейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя
взваливали на телегу. Человек, державший труп под
мышки, был низенького роста и не мог положить
головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были
брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе,
точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и
спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не
да-вавших ему покоя.
— Веди его,— скомандовал пристав, указывая на
ротмистра.
335
ие протестуя, молчаливый и насуггившйй-
ся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя,
наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим
окаменелым лицом пошел за ним.: Двор купца Петун«
никова быстро пустел.
— Н-но, поехали! — взмахнул извозчик вожжами
над крупом лошади.
Телега тронулась, затряслась по неровной земле
двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянул*
ся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Каза*
лось, что учитель тихо и довольно смеется,
обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и
более уж не воротится в нее,— никогда не воротится^.
Петунников, провожая его взглядом, благочестиво
перекрестился, потом тщательно начал обивать своим
картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по
мере того, как пыль исчезала с его поддевки, на лице
его являлось спокойное выражение довольства. Со
двора ему видно было, как по улице в гору шел
ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий,
серый, в фуражке с красным околышком, похожим на
полосу крови.
Петунников улыбнулся улыбкой победителя и
пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув.
В дверях против него стоял с палкой в руке и с
большим мешком за плечами страшный старик, ершистый
от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело,
согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь
так, точно он хотел броситься на купца.
— Ты что? — крикнул Петунников.— Ты кто?
~ Человек,— раздался глухой хрип.
Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он
даже улыбнулся.
—- Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?
И, посторонившись, он пропустил мимо себя
старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:
— Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже
меня... еще хуже есть... да!
Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на
чистенького человека с острой седой бородкой,
ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и
острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и
торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.
336
В серых,-стр^их тугцед сплошь покрадрщх * небо,
была что-то напряженное и неумолимое, тоадо они,
собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю
грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.
МАЛЬВА
Море — смеялось.
Под легким дуновением знойного ветра оно
вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью,
ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому
небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком
пространстве между морем и небом носился веселый плеск
волн, взбегавших одна за другою на пологий берег
песчаной кос?1. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно
отраженного рябью моря, гармонично сливались в
непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было
счастливо Тем, что светило; море — тем, что отражало
его ликующий свет.
Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце
грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно
вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жар*
кий воздух соленым ароматомчиспарений. Зеленоватые^
волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него
белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем пе--
ске, увлажняя его.
Узкая, длинная коса походила на огромную башню,
упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в
безграничную пустыню играющей солнцем воды, она
теряла свое основание вдали, где знойная мгла
скрывала землю. Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый за-
пах, непонятный и оскорбительный здесь, среди чисто*
го моря, под голубым, ясным кровом неба.
В песок косы, усеянный рыбьей чешуей, были
воткнуты деревянные колья, на них висели невода,
бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок
и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны,
взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла,
корзины и бочки беспорядочно валялись на косе» ере-,
ди них возвышался шалаш, собранный из прутьев
337
ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на
суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные
сапоги. И над всем этам хаосом возвышался длинный
шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от
ветра.
В тени одной из лодок лежал Василий Легостев,
караульщик на косе, передовом посте рыбных
промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая
голову ладонями рук, пристально смотрел в даль
моря, к едва видной полоске берега. Там, на воде,
мелькала маленькая черная точка, и Василию было
приятно видеть, как она всё увеличивается, приближаясь к
нему.
Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей
на волнах, он довольно улыбался; это едет Мальва.
Она приедет, захохочет; грудь ее станет
соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками,
расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там,
на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют
водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно
балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая,
напьются со вкусными баранками и лягут спать,.. Так
бывает каждое воскресенье, каждый праздник на
неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному
еще морю, в предрассветном свежем сумраке. Она,
дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть
на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и
милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет
с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в
клубок. Она часто делает так...
В этот день даже чайки истомлены зноем. Они
сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив
крылья, или же лениво качаются на волнах без
криков, без обычного хищного оживления.
Василию показалось, что в лодке не одна Мальва.
Неужели опять Сережка привязался к ней? Василий
тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза
ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто
еще там едет. Мальва сидит на корме и правит.
Гребец— не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой
Мальва не стала бы править.
— Эй! — нетерпеливо крикнул Василий.
Чайки на песке дрогнули и насторожились.
333
t^ Эй-э^-тт донесся с лодки звонкий голос Мальвы.
~ С йем ты?
В ответ донесся смех.
—* Чертовка! — негромко выругался Василий и
сшшнуй/
Ему очень хотелось знать, кто это едет там;
свертывая папиросу, он упорно" смотрел в затылок и спину
гребца, Звучный плеск воды под ударами весел
раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами
караульщика»
— Это кто с тобой? — крикнул он, когда различил
незнакомую ему улыбку на красивом лице Мальвы.
—¦ А вот погоди, узнаешь! — со смехом отозвалась
она.
Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже смеясь,
взглянул.на Василия.
Караульщик нахмурил брови, вспоминая,— кто этот
как будто знакомый ему парень?
— Ударь сильней! — скомандовала Мальва.
Лодка с размаха почти до половины всползла на
песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала,
а волна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на
берег и сказал?
— Здравствуй, отец!.
•—, Яков! — подавленно воскликнул Василий, более
изумленный, чем обрадованный.
Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и
щеки; на лице Василия удивление смешалось с
радостью и смущением.
— То-то я смотрю... и что-то тово — оно,— сердце
зудит.,, Ах/ты —как это ты? На-ко! А я смотрю —
Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ан — это ты!
Василий одной рукой гладил бороду, а другой
махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но
в его лицо уставились улыбавшиеся глаза сына, и-ему
было неловко от их блеска. Чувство довольства собой
за то, что у него такой здоровый,, красивый сын,
боролось в нем с чувством смущения от присутствия
любовницы. Он переступал с ноги на ногу, стоя перед
Яковом, и один за другим кидал ему вопросы, не
дожидаясь ответа на них. В голове у него всё как-то
спуталось, и особенно, нехорошо стало ему, когда раздались
насмешливые слова Мальвы:
340
— Да ты не юли уж..; с радости-tot Веди егд в
шалаш да угощай...
Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка,
незнакомая ему, и вся она —круглая, мягкая и све*
,жая, как всегда, в то же время была какая-то новай,
чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца
на сына и грызла арбузные семечки белыми мелкими
зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и
несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.
— Я сейчас! — вдруг заторопился Василий,
двигаясь к шалашу.— Вы уходите от солнца-то, а я наберу
воды пойду... уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой
ухой накормлю! Вы тут тово... располагайтесь, я сию
минуту...
Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро
пошел куда-то в невода и скрылся в серой массе их
складок,'
Мальта и его сын тоже пошли к шалашу.
— Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к
отцу,— говорила Мальва, искоса оглядывая
коренастую фигуру Якова.
Он повернул к ней свое лицо в кудрявой
темно-русой бородке и, блеснув глазами, сказал:
— Да, приехали... А хорошо тут,— море-то какое!
— Широкое море. Ну, что же,— сильно постарел
отец?
— Нет, ничего. Я думал —оц седее, а у него еще
м'ало сёдины-то... И крепкий...
— Сколько, говоришь, время вы не видались?
— Годов пять, чай... Как уходил он из деревни —
мне в ту пору семнадцатый шел...
Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож
Мхло соленой рыбой, и сели там: Яков —на толстый
Обрубок дерева, Мальва — на кучу кулей. Между ними
стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило
Столом. Усевшись, они молча, пристально посмотрели
&руг на друга.
— Стало быть, здесь работать хочешь? — спросила
Мальва.
— Да вот... не знаю я... Коли найдется что —буду.
— У нас найдется! — уверенно пообещала Мальва,
ощупывая его своими зелеными, загадочно
прищуренными глазами.
341
Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи
потное лицо.
Вдруг она засмеялась.
— Мать-то, чай, отцу наказы да поклоны с тобой
прислала?
Яков взглянул на нее, нахмурился и кратко
сказал:
— Известно... А что?
1— Ничего!
Смех ее не нравился Якову,— он точно
поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и
вспомнил наказы матери.
. Проводив его за околицу деревни, она оперлась на
плетень и быстро говорила, часто моргая сухими
глазами:
— Скажи ты ему, Яша... Христа ради, скажи ты
ему... Отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там... пять годов
прошло, а она всё одна! Стареет, мол!., скажи ты ему,
Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то
будет... одна всё, одна! В работе всё. Христа ради, скажи
ты ему...
И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в
передник.
Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало
жалко... Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.
— Ну, вот и я!— воскликнул Василий, являясь в
шалаш с рыбой в одной руке и ножом — в другой.
Он уже справился со своим смущением, глубоко
скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на
них.спокойно, только в движениях его явилась несвойственная
ему суетливость.
— Вот сейчас запалю я костер... и приду к вам...
поговорим! Ах, Яков, а?
И он опять ушел из шалаша.
Мальва, не переставая грызть семечки,
бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть
на нее, хотя ему этого очень хотелось.
Потом, так как молчание стесняло его, он сказал
вслух:
— А котомку-то я в лодке оставил,— пойти взять!
Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на
смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Маль:
ве, заговорил торопливо и сердито;
342
— Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про'тебя
скажу ему? Кто ты мне?
— Приехала да и всё! — коротко сказала Мальва.
— Эх, ты... несообразная баба! Как я теперь буду?
Так прямо ему в глаза и тово... сразу?.. У меня жена
дома-то! Мать ему... Должна ты была это сообразить!
— Очень нужно мне соображать! Боюсь я его, что
ли? Али тебя? — спросила она, пренебрежительно
щуря свои зеленые глаза.— А как ты давеча завертелся
перед ним! То-то смешно мне было!
— Смешно тебе! А я как буду?
—- А ты думал бы об этом раньше!
— Да я знал, что ли, что его так вот вдруг
выбросит сюда из моря-то?
Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали
свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил
ее в угол\ ц искоса, недобрыми глазами, взглянул на
женщину^
Она с увлечением щелкала семечки, а Василий
присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой
заговорил:
— Так вот ты, значит, явился... как это ты
надумал?
— Да так... Писали мы тебе...
— Когда? Я никакого письма не получал!..
>— Ну? А мы писали...
—- Потерялось, видно, письмо-то,— огорчился
Василий.— Ишь ты, чёрт его возьми... а? Когда нужно —
оно и потерялось...
— Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? —
спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.
— Да откуда? Не получал я письма!
Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала,
хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков
не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду
не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом
решили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на
заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а
потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот
Яков приехал.
1— Вот оно что! — воскликнул Василий.— Та-ак...
А... как же вы... денег я вам посылал...
— Велики ли деньги? Избу чинили... Марью замуж
343
выдали... Шуг я купил... Ведь пять годов.;, время-то
прошло!
— Да-а! Не хватило, значит? Такое дело... А уха-
то у меня сбежит! — Он встал и вышел вон.
Присев .на корточки перед костром, над которым
висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь,
Василий задумался. Всё, что рассказал ему сын, не
особенно сильно тронуло его, но породило в нем
неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять
лет денег переслал, а они все-таки не справились с
хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-
что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни
ушел —хватило ума на это,-г-а с хозяйством
справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до
сего дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень
редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о
бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-
то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул,
мещая ложкой уху,
В блеске солнца маленький желтоватый огонь
костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные
струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу
брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что
теперь ему хуже будет жить, не так свободно.
Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва..,
А она сидела в шалаше, смущая парня задорными,
вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла
улыбка*
—• Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил?—»
вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.
— Может, и оставил,— неохотно ответил тот.
>г* Красивая, что ли? —небрежно спросила она.
Яков промолчал.
т~ Что молчишь?.. Лучше меня али нет?
Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у
нее были смуглые, полные/ губы
сочные,—полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая
ситцевая кофта как-то особенно- ловко сидела на ней,
обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь.
Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые,
смеющиеся глаза.
— Зачем ты так говоришь?—вздохнув, сказал он
просяшыдобюсом,-- хата-дедом- говорить е тк строго.
Э44
— 'А как надо говорить? — засмеялась она.
— И смеешься тоже... чему?
— Над тобой смеюсь...
— Ну, что я тебе? — обиженно спросил он и снова
опустил глаза под ее взглядом.
Она не ответила.
Яков догадывался о том, кто она отцу, и это
мешало ему свободно говорить с ней..Догадка не поражала
его: он слыхал, что на отхожих промыслах люди
сильно балуются, и понимал, что такому здоровому
человеку, как его отец, без женщины трудно было бы
прожить столько времени. Но все-таки неловко и перед
,ней и перед отцом. Потом он вспомнил свою мать —
жендцииу истомленную, ворчливую, работавшую там,
в деревне, не покладая рук...
— Готова ушица! — объявил Василий, являясь в
шалаш.^г Достань-ка ложки, Мальва:!
Яков'Чвзглянул на отца и подумал? N
«Видно, часто она у него бывает, коли знаетдгде
ложки лежат!»
Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть юс
и что в корме лодки у нее есть водка.
Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись один
на один, помолчали.
— Ты с ней как встретился? — спросил Василий.
— А я спрашивал про тебр в конторе, и она была
там... И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку,
поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.
¦';, — Да-а... А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь
Яков?»
Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта
усмешка придала Василию храбрости.
«— А... ничего бабенка-то?
— Ничего,— неопределенно сказал Яков, моргнув
глазами.
— Никакого лешего не поделаешь, брат, ты мой! —
воскликнул Василий, взмахивая руками.— Терпел я
сначала —не могу! Привычка... Я женатый человек.
;'0(пять же и одежу она починит и другое прочее... И bq-
фбще...,эхма! От женщины, как от смерти, никуда не
уйдешь! — искренно закончил он свое объяснение.
— Мне что? — сказал Яков.— Это — твое дело, я
не судья,
945
A rtpo себ* думал:
«Станет тебе такая штаны чинить...»
¦— Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на
нее немного, не жена она мне... — говорил Василий.
— Конечно,— соглашался Яков и думал: «А всё
чай, треплет карман-то!»
Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой
кренделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости
обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к
двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть,
нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как
отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются
влажные крупные губы. Василий ел плохо, но старался
показать, что он очень занят едой,— это нужно было ему
для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и
Мальвы, обдумать свое отношение к ним.'
Ласковую музыку волн перебивали хищные крики
чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в
шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного
запахом моря.
После вкусной ухи и водкиг глаза Якова осовели. Он
начал глуповато улыбаться, икать, позевывать и
смотрел на Мальву так, что Василий нашел нужным
сказать ему:
— Ты пряляг тут, Яшутка, пока до чаю.'., а там мы
тебя разбудим.
— Это можно-о...— согласился Яков, сваливаясь
на кули.— А... вы куда? Ха-ха!
Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел,
а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила
Якову:
— А куда мы пойдем — это не твое дело! Ты что?
Ты еще нашему богу — бя! Вот ты что, паренек!..
— Я? Ладно! — воскликнул Яков вслед ей.— Па-а-
агоди... Я тебе покажу! Ишь ты какая...
Он поворчал еще немного, и заснул с пьяной, сытой
улыбкой на раскрасневшемся лице. .
Василий воткнул в песок три багра, соединил их
верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив
тень, лег в ней, закинув руки за голову, глядя на небо.
Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он
повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и
недовольство.
346
— Что —мало рад сыну-то? —спросила она*
засмеявшись.
—• Вон он... смееется надо мной... из-за тебя!.. —
угрюмо сказал Василий.
— Ну? Из-за меня? — лукаво удивилась она,
— А как же?
— Ах ты, жалкенький! Что же теперь? Не ходить к
тебе, что ли? а? Ну — не буду!.,
—у Ишь ты, ведьма какая! — укорил ее Василий.—
Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже... а вы мне самые
близкие! За что же смеетесь? Черти! — Он отвернулся
от нее и замолчал.
Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала
корпусом, рассматривая зелеными глазами
сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех
торжествующих улыбок, которых так много у женщины,
понимающей силу своей красоты.
Парусное судно скользило по воде, как большая,
неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было
Далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо
сливались в синюю бесконечность.
— Что молчишь? — спросил Василий.
— Думаю,— сказала Мальва.
— Про что это?
— Так,— повела она бровями и, помолчав,
добавила: — Сын у тебя — молодец парень...
— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.
—- Мало ли что..,
— Ты смотри! — окинул он ее суровым взглядом,
полным подозрения.— Ты не дури! Я хотя и смирный,
но ты меня не дразни,— да!
. Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:
— Ты сегодня сразу, как приехала, играть
начала что-то... Я еще не понимаю этого.,, ну, смотри,
пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие...
и всё такое... Я тоже с вашей сестрой умею
обращаться...
* — А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не
глядя на него попросила она.
— То-то! не шути же,..
— А ты уж не стращай... .
> .— Яш взбучку дам, коли баловать начнешь...—
грозил Василий, озлобляясь.
347
— Бить станешь? — обернулась она к нему, С"
любопытством глядя в его взволнованное лицо.
-+- А что ты за графиня? И вздую...
— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительйо
и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа,
продолжала: — Привыкши бить жену ни за что ни про
что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама
себе барыня, и никого не боюсь. А ты вон — сына
боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще
грозишь мне!
Она презрительно качнула головой^ и замолчала»
Ее холодные, пренебрежительные слова подавили
озлобление Василия. Никогда еще он не видал ее такой
красивой.
— Разошлась, раскаркалась...— молвил он, и злясь
и любуясь ею.
*- И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке
бахвалился, что я бей тебя, как без хлеба, жить не могу!
Напрасно ты это.., Может, я не тебя люблю и не к тебе
хожу, а люблю я только место это...— Она широко
повела рукой вокруг себя.— Может, мне то нравится, что
здесь пусто -* море да небо и никаких подлых людей
нет. А что ты тут — это всё равно мне... Это вроде
платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила,
сын твой будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы
вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Если я
с моей красотой захочу — я всегда себе мужика,
какого мне нужно, выберу...
— Вот ка-а-к?! —свирепо зашипел Василий и вдруг
схватил ее за горло.— Так вот что-о?
Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо
ее краснело и глаза наливались кровью. Он$ просто
положила обе свои руки на его руку, давившую ей
гордо, и упорно смотрела ему в лицо.
— Так в тебе вон что есть? — хрипел Василий, всё
свирепея.— А — молчала, шкура... а — обнимала... а —
ласки мне... Я ж тебе дам!
Он пригнул ее к земле и с наслаждением ударил по
шее раз, два — тяжелыми ударами крепко стиснутого
кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаха па-.
дал на ее упругую шею.
— На... Что, змея?..— с торжеством спросил он ее
и отшвырнул от себя.
348
Она, гае охнув, молчаливая н спокойная,* уп&ла на
спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее
зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с
холодной ненавистью, Но он, отдуваясь от возбуждения и
приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее
взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее —
она улыбалась. Дрогнули ее полные губы, вспыхнули
глаза, на щеках явились ямки. Василий изумленно по*
смотрел на нее.
—- Что ты,— чёрт! — грубо дернув ее за руку,
крикнул он.
— Васька!.. Это ты бил меня? — полушёпотом
спросила она.
— Ну, а кто? — Ничего не понимая, он смотрел на
нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще
раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не
поднималась ца нее.
. : — Стало быть, ты меня любишь? — снова спррси*
ла она, и от ее шёпота ему стало жарко.
— Ладно,— угрюмо сказал он.— Так ли тебя
надо!
-— А ведь я думала, что ты уже не любишь меня..,
думаю: «Вот теперь сын к нему приехал... прогонит он
меня...»
Она засмеялась странным,, слишком громким
смехом»
-г Дуреха! — сказал Василий, тоже невольно
усмехаясь. — Сын, — что он мне за уставщик?
Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но,
вспомнив ее речи, он заговорил строго:
— Сын тут ни при чем... А что я ударил тебя
—сажа виновата, зачем дразнила?
.— Так ведь я это нарочно,— пытала тебя...—•
Ш она прижалась к нему плечом.
— Пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.
— Ничего! — уверенно сказала Мальва, щуря гла-
9ф,— я не сержусь — ведь любя побил? А я тебе за
это заплачу...— Она в упор посмотрела на него и,
понизив голос, повторила: — Ох, как заплачу!
Василий в этих словах услыхал обещание,
приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:
'¦— А как?.. Ну-ка?!
349
— Увидишь,— спокойно сказала Мальва, но губы
у нее дрогнули.
— Эх ты, милушка моя! — воскликнул Василий,
крепко стиснув ее руками влюбленного.— А знаешь,
как побил я тебя — дороже ты мне стала! Право! Род-
нее... али как?
Чайки носились над ними. Ласковый ветер с моря
приносил брызги волн почти к их ногам, а
неугомонный смех моря всё звучал...
••* Эх, дела наши!—свободно вздохнул Василий,
задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему.—
И как всё устроено на свете: что грешно, то и сладко.
Ты вот ничего не понимаешь... а я иной раз задумаюсь
про жизнь — даже страшно станет! Особливо ночью...
не спится, когда... Смотришь: перед тобой море, над
тобой — небо, кругом темно таково, жутко... а ты тут —
один! А станешь тогда сам для себя таким ма-алень-
ким, маленьким... Земля под тобой шатается, и
никого-то на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была ¦ в ту
пору... все-таки двое...
мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и
молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от
солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его
большая выцветшая борода щекотала ее шею.
Женщина не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко
и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то
останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал
целовать ее в губы, не торопясь, чмокая так громко,
точно горячую и жирно намасленную кашу ел.
Часа три они провели так: когда солнце начало
спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:
— Ну, пойду чай кипятить.... скоро гость
проснется!
Мальва ленивым движением разнежившейся кошки
отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к
шалашу. Женщина, чуть приподняв ресницы,
посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди,
сбросив ношу, утомившую их. ¦ .
Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай.
Солнце окрашивало море в живые краски заката,
зеленоватые волны блестели \пурпуром и жемчугом.
Василий, прихлебывая чай из белой глиняной круж*.
ки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминал о
350
ней.. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные
речи.
— Живут, стало быть, мужички?
— Живут, как-никак...— отвечал Яков.
— Нашему брату — много ли надо? Избу, да
хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и
этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы можно было
кормиться дома-то? В деревне я сам себе хозяин, всем
равный человек, а здесь вот — слуга...
— Зато здесь сытнее и работа легче..,
— Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все
кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там —
самому себе.
—* А выработаешь больше, — спокойно возражал
Яков.
Внутренно Василий соглашался с доводами сына:
в деревце и жизнь и работа, тяжелее, чем здесь,— но
ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он
сурвЬо сказал*
— Ты считал заработок-то здешний? В деревне,
брат...
— Как в яме: и темно и тесно,— усмехнулась Маль^
ва. — А особенно бабье житье —одни слезы.
— Бабье житье одинаково везде... и свет везде один,
одно солнце!..— нахмурился Василий, взглянув на нее.
— Ну это ты врешь! — воскликнула она,
оживляясь.— Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж
идти. А замужем баба — вечная раба: жни да пряди, за
скотом ходи да детей роди... Что же остается дли нее
самой? Одни мужьевы побои да ругань...
— Не всё побои,— перебил ее Василий.
— А здесь я ничья,— не слушая его, говорила она.
Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне
дороги не загородит... Никто меня не тронет!..
— А как тронет?—усмехаясь, напоминающим
тоном спросил Василий.
— Ну,—я уж заплачу! —тихо сказала она, и
разгоревшиеся глаза ее погасли.
Василий снисходительно засмеялся.
— Эх ты,— бойка ты, да слаба! Бабьи слова
говоришь. В деревне баба — нужный для жизни
человек... А здесь — так она... для баловства-только
живет...— Помолчав, он добавил: — Для греха.
351
Яков) когда их разговор оборвался; сказал,'
чиво взДдхнув:
— И конца, кажись, нет этому морю...
Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.
~ Ежели бы всё это земля была! — воскликнул
Яков, широко размахнув рукой.^Да чернозем бы! Да
распахать бы!
-—Вот что!—добродушно засмеялся Василий,
одобрительно взглянув в лицо сына, даже
покрасневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было
слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал,
что эта любовь, быть может, скоро и настоятельна
позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни
назад в деревню. А он останется здесь с Мальвой —
и всё пойдет по-старому...
- — Это, Якйв, хорошо ты сказал! Крестьянину так
и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на
ней — жив, сорвался с нее — пропал! Крестьянин без
земли — как дерево без корня: в работу она годится,
а прожить долго не может — гниет! И красоты лесной
нет в нем — обглоданное, обстроганное, невидное!..
Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал. ' -
Море, принимая солнце в свои недра, встречало его
приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его
прощальными лучами в дивные, богатые оттенками
цвета. Божественный источник света, творящего жизнь,
прощался с морем красноречивой гармонией своих кра*
сок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним,
разбудить сонную землю радостным блеском лучей
восхода.
— У меня душа тает, когда я смотрю, как
солнышко заходит, право, ей-богу! — сказал Василий Мальве.
Она промолчала, Голубые глаза Якова улыбались,
блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво
смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Пред ними,
тлелж уголья костра. Сзади ночь развертывала по
небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли,—
все вокруг становилось тихим, мечтательно-ласковым.,.
И даже неугомонйые волны, взбегая на песок косы,
звучали не так весело и шумно, как днем.
— Что я сижу? — сказала Мальва.— Надо идти.
Василий поежился и взглянул на сына.
^ <Куда торопиться? — недовольна пробормотал!
он.— Погоди,—вот месяц взойдет...
— А что — месяц? Я и так не боюсь^—не в первый
размне ночью отсюда уходить!
Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая
усмешку; потом посмотрел на Мальву,— она тоже
смотрела на него,— и ему стало неловко.
— Ну что ж! Иди! — разрешил Василий,
недовольней и скучный. • ,
Она встала, простилась и медленно пошла вдоль
берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно
заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды —
его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь
от Василия и его сына, провожавших ее глазами, ли-
йяла в сумраке.
Милый мой... скорей иди!
Да-axl Прижми-ись к моей груди!
+*-запела Мальва высоким и резким голосом.
Василию показалось, что она остановилась и ждет.
Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она нарочно,
дразнит меня, дьяволица!»
— Ишь ты! Поет! — усмехнулся Яков.
Она была для их глаз только серым пятном в
сумраке.
Не-е жа-алей моих грудей,
Двоих бе-елых лебедей1 .
¦;Н* разносился над морем ее голос.
>>—: Ишь как! — воскликнул Яков и всем телом'по-',
тянулся туда, откуда неслись соблазнительные сл<>&*.
^ 'Значит, не сладил ты там с хозяйством-то1? —
раздался суровый голос Василия.
^^фт на него и принял преж-
ю лозу.
Утопая &шуме-волн, до их слуха доносйЛйбь от-
|||;&ные, разорванные слова ^дар^ондесн«:
, г.Дхм. спать не в мочь
Людной..', в эту ночь!
арко1—тоскливо воскликнул Василий, в
.—-Иочъ ведь..; а жарко! Экая проклятая
12. М. Горький
— Это — песок... нагрелся за день-то...— отврротясь
в борону и как будто запинаясь, сказал Яков.
— Ты чего?.. Смеешься никак? — сурово спросил
его отец.
•— Я?^—невинно спросил Яков.— Чему это?
— То-то, мол, ровно бы нечему...
Они замолчали.
А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не
то тихие, ласково зовущие крики.
Прошло две недели, снова наступило воскресенье,
и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего
шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное
море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы
волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на
йего neriy своих грив, снова скатиться в море и
растаять fe нем. Всё было такое же, как и четырнадцать
дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший
свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня
Ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не
была — сегодня должна быть! Он не сомневался, что
она приедет, но ему хотелось скорее видеть её. Яков
не будет мешать сегодня: третьего дня ой приезжал за
нево'дом вместе с другими рабочими и сказал, «rfd в
Воскресенье с утра отправится в город купить себе1 ру-
бйх. Он нанялся на ватаги по пятнадцати рублей в
Ч^ёсяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и1
теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех
р&ббчих, пахло соленой рыбой, и, как все, ой. был
грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли
о Сыне.
' «Как бы он здесь уцелел... Избалуется... тогда,
пожалуй, не захочет уж насадив деревни) идти.;. И
придется мне самому...»
Кроме чаек* в море никого не было. Там, где оно
отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега,
иногда появлялись на этой полоске маленькие черные
точки, двигались по ней й исчезали. А лодки всё не
было, хотя уже лучи солнца падают в море почти
отвесно, В это время Мальва бывала уже давно здесь.
; Две чайки схватились в воздухе и дерутся так,.что
перья летят из них. Ожесточенные крики рвут веселую
^рю волн, такую постоянную, так гармонично
слитую с торжественной тишиной сияющего неба, HTQ 9на
дажется звуком радостной, игры солнечных лучей, на
равййне моря. Чайки падают в воду, бьют друг друга,
яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова
вздымаются в воздух^ преследуя друг друга... А подруги их —
целая стая — как бы не видя этой борьбы, жадно
ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной,
играющей воде.
Море — пустынно. Не являлось в нем там, далеко
у берега, знакомое темное пятно...
— Не едешь? — вслух сказал Василий.—Ну и не
йадо! А ты думала как?..
И он презрительно сплюнул по направлению к
берегу.
Море смеялось.
Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь
варить, себеЛобед, но почувствовал, что есть ему не
хочется, воротился на старое место и снова лег там.
«Хоть бы Сережка приехал! — мысленно
воскликнул он и заставил себя думать о Сережке.— Это — яд-
парень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулакамц.
Здоровый, грамотный, бывалый,., но пьяница. С ним
весело... Бабы души в нем не чают, и хотя он недавно
появился — все за ним так и бегают. Одна Мальза
дернсится поодаль от.него.,» Не едет вот. Экая окаяи-
нщ,бабенка! Может, она рассердилась на него за то,
что, он ударил ее? Да разве ей это в новинку? Чай, щк
' ;бвдии., другие! Да и он теперь задаст ей...» , , ;
, ¦ «Так, думая то о сыне, то о Сережке и больще вое^гр
о Мальве, Василий возился на песке и всё ждал.
Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в
темную подозрительную мысль, но он не хотел
остановиться на1 ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он
рровел время до вечера, то вставая и расхаживая по
то снова ложась. Уже море потемнело, а он всё
рассматривал его даль, ожидая лодку*
М&лЬва не приехала в этот день.
Ложасъ спать, Василий уныло ругал свою службу,
не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая,
Щ часто вскакивал — сквозь дрему ему слышалось, что
"гд'е-td далеки плещут вёсла. Тогда он прикладьшал ру-
355
ку козырьком к своим глазам и смотрел b'feiviHOe,
мутное море. На берегу, на промысле, гореЛй Дба костра,
а в море никого не было.
— Ладно же ведьма! —гррзил он. А потом заснул1
тяжелым сном.
А на промысле вот что произошло в этот день.
-Яков встал рано утром, кйгда солнце еще не
палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он
вышел из барака к морю умываться и, подойдя к
берегу; увидал Мальву. Она сидела на корме баркаса,
причаленного к берегу, и, спустив за борт голые йоги,
расчесывала мокрые волосы.
Яков остановился и стал смотреть на нее
любопытными глазами.
Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди,
спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкус*
В корму баркаса били волны. Мальва то
поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее
ноги почти касались воды.
— Купалась, что ли? — крикнул Яков.
Ойа обернула к нему лицо, мельком взглянула на
него и, снова расчесывая волосы*, ответила!
•^ Купалась... Что рано поднялся?
'-»- Ты еще раньше...
— А я тебе что за пример?
Яков промолчал.
— По моей-то манере будешь жить — трудно будет
тебе голову носить! — сказала она. ;
*— О? Ишь ты, какая страшная! —- усмехнулся
Якт'% припев на корточки, стал умываться.
1 ^Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе nia
лШьа ггокряхтывал, ощущая свежесть. Потом/ ут*ь
раясь подолом рубахи, спросил Мальву*
и— Чтъ ш шня стращаешь всё?
— А ты что на меня глаза пялишь?
Яков не помнил, чтобы смотрел на itee большие, чем
на других промысловых женщин, но теперь вдруг
сказал ей:
^ Да ежели ты..: вон какая едобйая!
— Вот отец узнает эти твои замашки — он тебе
шею-то насдобит!
Она лукаво и задорно смотрела ему в Лицо,
зев
засмеялся и полез на> баркас. Он опять-таки
не понимал, про какие его замашки она говорит, но
коли она говорит, так, значит, он поглядывал,на нее
зорко, Ему стало приятно, весело.
— А что отец? — говорил он, идя к ней по,борту
оаркаса.— Что ты — купленная его, что ли?
Усевшись рядом с ней, он уставился на ее голое
плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру, *т-
свежую и крепкую, пахнувшую морем.
-г- Вон ты —белуга какая! — с восхищением
воскликнул он, подробно осмотрев ее.
— Не jjpo тебя! —кратко заявила она, не глядя
на него, не оправляя своего откровенного костюма.
Яков вздохнул.
Пред ними необозримо расстилалось море в дучах
утреннего солнца. Маленькие»игривые волны,
рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт.
Ддлеко в море, как шрам на атласной груди его,
виднелась коса. G нее в мягйий фон голубого неба вонзал*
ся Шест тонкой черточкой, и быдо видно, как
трешься по ветру тряпка.
.. —¦? Да, паренек! — заговорила. Мальва, не глядя на
Якова.— Вкусна я, да не про тебя... А и никем, я; не
купленная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама
про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу
между тобой и Васильем стоять... Ссоры йе хочу и
разной склоки.,. Понял?
.ч-* Да я что? — изумился Яков.— Я йедь тебя не
грогаю...
,*т,;Троцуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.
Она так это сказала, с таким пренебрежением к
, что в нем был обижен и мужчина и человек. За-
е, почти злое чувство охватило его, глаза вспых-
йули.
— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.
— Не смеешь!
,— Н-ну? А как трону?
;-т- Тронь!,
— А что будет?
— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в
йаду.
— А ну, дай!
г- А — тронь1
357
Он окинул ее горящими глазам и вдруг крепко
охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и
спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого,
он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то
удушья.
— Вот! Ну... бей! Ну... что?
— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, не
делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.
— А по затылку хотела?
— Пусти! Смотри, худо будет!
— Ну... не стращай ты меня! Эх ты... малина!
Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее
румяную щеку.
Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за
руки и вдруг, сильным движением всего своего тела,
рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой
массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах.
Потом на взволнованной воде появилась мокрая
голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней
вынырнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками,
разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с
громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо
пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от
широких взмахов его лап.
— Чёрт! — закричал Яков, фыркая.— Я утону!
Будет!.. Ей-богу.., утону! Вода... горькая... Ах ты... то-
ну-у!
Но она уже оставила его и, по-мужски загребая ру*
ками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова
на баркас, она стала на корме я, смеясь, смотрела на
Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая
одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от
колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись
рукой за нее, уставился жадными глазами на эту
почти- голую женщину, весело смеявшуюся над ним.
— Ну, вылезай, тюлень! — сказала она сквозь смех
иустав на колени, подала ему одну руку, а другой
оперлась в борт лодки. • • , • «• ,<
Яков Схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:
•— Ну..; теперь держись! Я тебя-— в-выкупаю!..
Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны
перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку,
брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг,
358
взвизгнув^ прилгнула1 в воду; сбив'Якова с йог тяжестью
своего тела.
И снова они начали играть, как две большие рыбы,
а зеленоватой воде, брызгая друг на друга й
взвизгивая, фыркая, ныряя.
Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах
промысловых построек тоже смеялись, отражая
солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками,
чайки, встревоженные этой возней людей, с Пронзи-
тельными криками носились над их головами,
исчезавшими под набегом волн из дали моря...
Наконец, усталые и наглотавшиеся воды, они
вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.
— Тьфу! — морщась, плевался Яков.— Ну и вода
дрянная! То-то ее и много так!
— Дрянного всего много на свете, парней,
например,— батюшки сколько! — смеялась Мальва,
выжимая воду 1йз своих волос...
Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но
густые и вьющиеся.
— То-то ты старика и облюбовала себе,— ехидно
усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.
— Иной старик лучше молодого.
— Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще
лучше...
— Ишь ты! Где учился хвастать-то?
— Мне девки в деревне часто говорили, что я
совсем не плох парень.
1— Разве девки что понимают? А ты -меня: спрос».;.
т— А ты что? Али не девка?
Она пристально взглянула на него; он зазорно
смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем ска*
ЗШа ему:
— Была, да однажды родила!
— Складно, да не ладно,— сказал Яков и раекохо-
Жадея.
- Дурачина! — резко бросила ему Мальва и
отвернулась от него.
Яков.сробел и замолчал, поджав губы.
С полчаса они оба молчали, повертываясь к солн-
щ так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.
В* бараках — длинных грязных сараях,'с крышами
Щ рдин скат —просыпались рабочие. Мздали: все они
359
были похожи друг на друга — оборванные, лохматые,
босые... Доносились до берега их хриплые голоса", кто-
то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары,
тояно рокотал большой барабан. Две женщины
визгливо ругались, лаяла собака.
— Просыпаются,— сказал Яков.— А ведь я хотел
сегодня в город ехать пораньше... и вот пробаловал
с тобой.,.
— Со мной добра не будет*— не то шутя, не то
серьезно сказала она.
— Чего ты всё пугаешь меня? — удивленно уСмех*
нулся Яков.
— А вот увидишь, как отец-то тебя...
Это напоминание об отце вдруг рассердило его.
— Что отец? Ну? — грубо воскликнул он.— Отёц{
Я сам не маленький... Важность какая... Здесь не те
порядки... я не слепой, вижу... Он сам не праведник...
он тут себя не стесняет... Ну, и меня не тронь. .
Она насмешливо поглядела ему в лицо и с
любопытством спросила:
— Не трогать тебя? А ты что делать собираешься?
—, Я? — Он надул щеки и выпятил вперед грудь,
как будто тяжесть поднимал.— Я-то? Я много могу!
М»йя чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревед-
ckj{io-to пыль сдуло с меня.
— Скоренько!.— насмешливо воскликнула Мальва.
— А что? Я вот возьму да и отобыО тебя у of цй.
— Н-ну? Неужто?
—* А то побоюсь?
— Да ну-у?
— Ты вот что,—взволнованно и пылко заговорил
Яков,— ты меня не дразни! Я... смотри!
— Что? — спокойно спросила она,
— Ничего!
Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня
удалого и уверенного в себе. ' г
— А ты задорный! Вот у приказчика черненький
кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. ИздаЗщ
лает, укусить обещает, а близко подойдешь, он положат
хвост да и бежать! !,
"¦—"Ну, ладно же! — воскликнул Яков, озлобляв
ясь.— Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!
А она смеялись в лицо ему,
360
К ним шел, медленной походкой и покачивая
корпусом, высокий, жилистый/ бронзовый человек в густой
шапке растрепанных огненно-рыжих волос. Кумачная
рубаха без пояса была разорвана на спине у него
почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он
засучил их до плеч. Штаны представляли собой
коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице,
густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие
голубые глаза, нос, широкий и вздернутый кверху,
придавал всей его фигуре вид бесшабашно-нахальный.
Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце телом,
выглядывавшим из бесчисленных дыр его костюма,
* громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на
t них глазами и скорчил смешную рожу.
~ Вчера Сережка выпил немножко," а сегодня в
кармане у Сережки — как в бездонном лукошке...
Дайте двугривенный взаймы! Я всё равно не отдам...
. #ков добродушно расхохотался над его бойкой
речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его
ободранную фигуру.
— Дайте, черти! Я вас обвенчаю за
двугривенный — хотите?
— Ах .та, балагур! Да разве ты поп? — смеялся
Яков, ч
— Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил...
Дай двугривенный!
— Я не хочу венчаться! — отказал ему Яков.
~ Всё равно — дай! Я твоему отцу не скажу, что
ты за его кралей приухлыстываешь,— настаивал
Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.
— Ври, так он тебе и поверит...
— Уж я совру, так поверит! — пообещал
Сережка,— и вздует тебя — ах как!
— Не боюсь! — усмехнулся Яков.
— Ну, так я сам вздую! -^спокойно заявил Сереж»
,$а, суживая глаза.
' <м Якову было жалко двугривенного, но его уже
предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться,
'а лучше удовлетворить его притязания. Многого оц не
потребует, а если не дать ему — подстроит во время
работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни
про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и
полез в карман,
361
гг-.Вот тщ\>—поощрил его Сережка* опускаясь на
песок рядом с ним.— Всегда меня слушай, умным бу*
дешь; А ты^ обратился он к Ма-лвде,-—скоро за меня
вамуж пойдешь? Скорей собирайся,— я долго ждать
we буду.
•— Драный ты... Зашей дыры сначала, потом
поговорим,— ответила Мальва.
Сережка критически посмотрел на свои дыры и
качнул головой.
— А ты мне лучше свою юбку дай.
— Так! — сказала Мальва и засмеялась.
— А право! Дай — есть какая-нибудь старенькая?
— Да ты купи себе штаны,— посоветовала Мальва,
— Ну, я лучше пропью деньги...
— Лучше! — смеялся Яков, держа в руке четыре
пятака.
— А как же? Мне поп говорил, что человек не о
шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня
требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот
теперь я выпью... А отцу про тебя все-таки скажу.
— Говори! — махнул рукой Яков и ухарски
подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.
Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещалв
— И вздуть тебя не забуду... Как только свободное
время будет — такую дам клочку!
— Да за что? — тревожно спросил Яков.
— Уж я знаю... Ну, так замуж за меня скоро пбй-
дешь? — обратился Сережка к Мальве.
— А вот ты расскажи мне, что мы делать будем
и щк жить,— тогда подумаю,— серьезно сказала она.
Сережка поглядел в море, прищурив глаза, и, обдяц
загв губы, объяснил:
— Ничего не будем делать* гулять будем!
— А есть где возьмем?
— Ну,— махнул рукой Сережка,— ты, ровно мать
моя, рассуждаешь, Что да как? Разве я знаю, чтр ц
как? Пойду выпью.,. ''"...'.
Он встал, и пошел прр^ь от них, провожаемый
странной улыбкой Мальвы и неприязненным взгдящщ
парня.
-г Ишь какой командир! — сказал Яков, когда Сен.
режка ушел от них далеко,— У нас. бы в деревне тако*
362
по хахаля живо усмирили... Дали бы ему хо-орошую
взбучку— и всё... А здесь боятся,..
Мальва посмотрела на него и процедила сквозь
зубы:
— Ах ты, порося! Понимаешь ты ему цену!
— Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок,
да и то — когда их в пучке-то сотня.
— Тоже! — насмешливо воскликнула Мальва.—
Это тебе цена... А он... везде бывал, скрозь прошел всю
землю и никого не боится,..
— А я кого боюсь? — храбро спросил Яков.
Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой
волн, взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас.
Мачта качалась из стороны в сторону, корма,
вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней. Звук был громкий
и досадливый,— точно баркасу хотелось оторваться от
берега^^йти в широкое, свободное море и он сердился
йа канат, удерживавший его.
— Ну, чего же ты не уходишь? — спросила МаЛьва
у Якова.
— А куда мне? — отозвался он,
— В город хотел..,
— Не пойду!
-г- Ну, к отцу поезжай.
— А ты?
— Что?
тг- Тоже поедешь?
— Нет...
¦^ Ну, и я нет.
—' Целый день около меня будешь торчать? —• спо-
кёйно спросила Мальва.
— Не больно-то ты мне нужна...— ответил Яко'в:
е обидой, встал и ушёл от нее.
Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без
Мее стало скучно. Странное чувство родилось в нем пос-
.Лте 'разговора с ней: смутный протест против отца,
глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и
(Йгс^дня До встречи с Мальвой... А теперь казалось, что
, б?ец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на[ этой,
чуть заметной глазу, полоске песку... Потом ему кйЗа-
лось, что Мальва боится отца. А кабы они не
боялась — совсем бы другое вышло у него с ней;
авз
Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон,
в тени барака, на бочке сидит Сережка и, тренькая на
балалайке, поет, строя смешные рожи:
Господин гор-родо-ввой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...
Его окружает человек двадцать таких же
оборванцев, от всех,— как и от всего здесь,— пахнет соленой
рыбой, селитрой. Четыре бабы; некрасивые и грязные,
сидя нд песке, пьют чай наливая его из большого
жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на
утро, уже пьян, возится на песке, пытаясь встать на' не*.
ги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщи-
йа, доносятся звуки испорченной гармоники, и всюду
блестит рыбья чешуя.
1 В полдень Яков нашел себе тенистое местечко
среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера;
а просйувшись, снова начал бродить по промыслу,
ощущая смутное влечение куда-то,
" * Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от
fojpracKa под купой молоденьких'ветел. Она лежала wa
боку и, держа в руках какую-то растрепанную
книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.
— Ишь ты где! — сказал он, садясь рядом е ней:
^-'А ты меня давно ищешь? — уверенно
спросила' огёа.
— Да разве я тебя искал?! — воскликнул Яков,
вдруг понимая, что это так й есть: он искал ее. И, &
недоумении, парень качнул головой.
— Ты грамотный? — спросила она его.
•— Грамотный... да плохо, забыл всё уж.,#
— И я тоже — плохо... В школе учился?
*— В земской.
>- Ая сама выучилась...
— Ну?
— Право... В Астрахани у адвоката кухаркой
была; сын его научил меня читать.
— Значит, не сама...— пояснил Яков.
Она посмотрела на нега и опять спросила!
<— А тебе хочется книжки читать?
364
т Мн Нет... чего ха,м?
-,А я —лю>блю,— вот выпросила у приказчцковой
жены книжку и чит^ю...
— Про что?
— Про Алексея божия человека.
И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша —
сын богатых и важных родителей — ушел от них и от
своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и
оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не го-
врря им* до смерти своей» кто он,— Мальва тихо
спросила у Якова:
-г- Зачем это он так?
— Кто же его знает? — райнодушно ответил Яков.
Бугры песка, наметенного ветром и волнами,
окружали их. Издали доносился глухой, темный шум,—
это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке
дожал йоровый отблеск его лучей. Жалкие кусты
ветел чуп> трепетали своей бедной листвой под легким
ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к
чему-то.
— Чего же ты сегодня не поехала туда,., на косу?
»-— А тебе что?
Яков искоса жадными глазами поглядывал на
женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.
—. Я вот, когда одна и тихо... всё плакать хочу,м
Или — петь. Только песен я хороших ни знаю, а план
ц№ъ — стыдно... ,
;Qh слышал ее голос, тихий, лайковый, но та, что
говорила она» не задело в нем ничего, лишь придало <ю-
резкую форму его желанию,
-г- А ты вот что,—глухо заговорил он> пододвнга*
$ к ней; но не глядя на нее,—ты послушай, что я ад«
rt*> скажу... Я t-r парень молодой... .
— И глупый, . глу-упый!-^-убежденно вытянула
Мальва, качая голрвой.,
— Ну, пускай глупый,— с досадой воскликнул
Яков.— Разве тут ум нужен? Глупый*-- и ладао! А вот
то я скажу — желаешь ты со мной...
— Чего?
— Ничего!
— Да?т»нб<дур]&;«***0н осторожно взял ее.-за пле-
г^ Ты сообрази,**.
;— Пошел прочь, Я.щка!.—суррвд сказала, она,
стряхнув с себя его руку,— Пршел!
Он встал и осмотрелся вокруг.
— Ну... ежели ты так—мне наплевать! Вас здесь
много... Думаешь — ты лучше других?
— Щенок ты,— спокойно сказала она, встав на
ноги и отряхивая песок с платья.
И они пошли рядом друг с другом на промысел.
Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.
Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию,
она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими
словами.
Вдруг он, когда они были уже около промысловых
бараков, остановился и схватил ее за плечо.
— А ведь это ты нарочно разжигаешь меня?!
Зачем ты это? Я тебе — смотри!
— Отстань ты, говорю! — она вывернулась из-под
его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла барака
явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной
башкой, сказал зловеще*
— Гуляли? Ладно!
— Подите вы все к чёрту! — злобно крикнула
Мальва.
А Яков остановился против Сережки и угрюмо
смотрел на него. Между ними было шагов десять рас-
стойния.
Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так С
минуту, как два барана, готовые треснуться друг о
друга лбами, они молча разошлись в разные
стороны.
. Море было тихое и красное от заката; над
промыслом стоял глу&ой шум, и из него рельефно вьэделйЖеа
пьяный женский голос, истерически выкрикивавший
нелепые слова*
,..Та-агарга, матдгарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепали ая-а!
И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались
по промыслу, пропитанному запахом селитры и
гнилой рыбы,— разбегались, оскорбляя собою; музыку
волн.
366
В нежнЬм блеске'утренней зари даль моря спсжрй-
но дремала, отражая перламутровые облака. На косе
возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас
СнаЬти.
Серая масса сети ползла по песку на баркас и
складывалась в кучу на дно его.
Сережка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя
на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным
голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими
вихрами волос.
— Василий! Где зеленые весла? — кричал кто-то.
Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал
йёвоД в баркасе, а Сережка смотрел ему в согнутую
спину и облизывал губы,— признак его желания
опохмелиться.
— У тебя водка есть? — спросил он.
— Всть,— глухо сказал Василий.
— Ну, так я не поеду... останусь у сухого крыла.
— Готово! — крикнули с косы, . .
— Отчаливай, давай! — командовал Сережка,
сходя с баркаса.— Поезжайте... я останусь здесь.
Смотри— завози шире, не путай! Да клади ровнее,— петель
не навяжите!,,.
Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в негр
с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух,
готовые, ударить по воде.
— .Раз!
Ве<;ла дружно упали в волны, и,баркас рванулс?
вперед, в широкую равнину озаренной воды.
,,,,— Два! — командовал рулевой, и, как лапы гигант-
& черепади, весла поднялись к бортам...— Pa?L
На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро;
?ережка, Василий и еще трое. Один из них опустился
-на песок и сказал:
— Поспать еще...,
Двое последовали его примеру, и на песке
скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.
'-?- Ты что k воскресенье не был? — спросий
Василий у Серёякки, идя с ним'в шалаш.1
—L' НёльзЬ было„.
¦— Пьян был?
'367
— Нет.; Сдедил за твоим сыном да за era
мачехой,— спокойно сообщил Сережка.
— Нашел заботу! —криво усмехнулся Василий.—'
Малые они ребята, что ли?
*— Хуже... Один — дурак, другая — юродивая...
-»-. Это Мальва юродивая? — спросил Василий, и
глаэа его вспыхнули злобой.— Давно ли такой стала?
— У нее, брат, душа не по телу...
—г Подлая у нее душа.
Сережка покосился на него и презрительно
фыркнул.
— Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни
черта вы понимать не можете.'.. Вам бы только титьки
были у бабы жирные,— а характера ее вам не надо...
А в- характере весь цвет у человека... без характера
баба —без соли хлеб. Можешь ты получить
удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет?
Кобель!..
'-"- Ишь ты до каких речей допился вчера!..—
уязвил его Василий.
•Ему. очень хотелось спросить, где и как видел вчера
Сережка Якова и Мальву, но было совестно.
Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан
вадкщ'надеясь, что после такой порции Сережка сразу
охмелеет и сам расскажет ему про них.
Но Сережка выпил, крякнул и, весь прояснившись,
уседоя .в двери шалаша, потягиваясь и зевая.
— Выпьешь — как огня проглотишь!..— сказал ohv
;-г* Ну и пьешь ты!—воскликнул Василий,
пораженный быстротой, с которой Сережка преглотил
водку.
>** Умею»..-— кивнул босяк рыжей головой %
вытерпев ладонью мокрые усы, заговорил поучительно;;^
Умею, брат* Я всё делаю скоро и прямо. Без «&воро«
таю^ггваляй.прямо и всё! А куда цопадещь—*то.вс8'
равно! С земли, кроме как в землю, никуда не -соска**
— Ты хотел на Кавказ уходить? — опросил*^
лий, тихонько двигаясь к своей цели.,.
— Уйду, когда захочу. Когда я захочу,— я р
ма^ раз-раз и..лготово! Или по-моему вышлют или
шишку на лбу набью... Просто!
— Чего проще! Вроде как без головы живешь;..
Сережка насмешлива покосился на Василия.
— А ты — умный! Тебя сколько раз в волости
рОЛИ?.; :
Василий посмотрел на него и смолчал.
— А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-тб
сзади^наперед розгами перегоняет... Эх ты! Н/, что ты
с своейтоловой можешь поделать? И куда ты с ней
угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! в А я без
головы пру прямо, и больше никаких! И/ наверное,
дальше тебя буду,— хвастливо говорил босяк.
— Это — пожалуй!..—усмехнулся Василий. — Ты
и до Сибири дойдешь...
Йережка искренно расхохотался.
Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того
злило это. Поднести еще стакан ему было жалко, а в
трезвом виде от Сережки ничего не добьешься... Но
босяк сам ,^>фучил его.у
—* Ты что же про Мальву не спрашиваешь?
-г- А чего мне? — равнодушно протянул Василий,
вздрагивая от какого-то предчувствия.
v Ведь она в воскресенье не была здесь...
Спрашивай, как она жила за эти дни... Чай, ревнуешь, старый
чёрт!
-г- Много их! — пренебрежительно махнул рукой
Василий...
.*-*- Много их! — передразнил Сережка.— Эх вы, де-.
ревня лыкова помещика дикого! Дай вам,мед, дай
деготь—всё у вас кулага будет...
***** Ты что ее всё хвалишь? Сватать, что ли,
пришел? Так я ее сам давно усватал,— насмешливо ска*
Зал Василий.
Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал
!Фвордаъ Василию, положив ему руку на плечо:
***^*Я знаю, что она живет с тобой, Я тебе в этом не
$1#шал—не надо было.,.. Но теперь этот Яшка* сы«
|шдй{ около нее вертится — вздуй его докрасна! ^Слы*
Шишъ? А то я сам вздую... Ты мужик хороший... дурак*
Дубовый.л Я'5 тебе не мешал, и ты, это домни.*.
I — Вон что! Й ты тоже за ней? — глуяо спросил В а-
\ ^*- Тоже! Ка&ы я знал, что тоже,—я бы р
вас посшибал с моей дорогам—конец.,; А то —куя*
мне ?
— Так ' что же ты путаешься? — подозрительно
спросил Василий.
Сережку, должно быть, поразил этот простой
вопрос.
Он широко открытыми глазами посмотрел на
Василия и засмеялся.
— Чего путаюсь? Да — чёрт-е знает чего... Так,—¦
баба она... этакая... с перцем... Нравится мне... А
может, мне ее жалко, что ли...
Василий смотрел на него недоверчиво, но
чувствовал, что Сережка искренно, от души говорит.
— Кабы она нетронутая девка была — ну еще
можно пожалеть. А так — чудно что-то!
Сережка молчал, глядя, как баркас далеко в море
поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу-
Глаза Сережки смотрели открыто, лицо было доброе
и простое.
Василий смягчился, глядя на него.
— А ты это верно, она баба славная... вертячка
только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь, щенок!..
— Мне он не по душе...— заявил Сережка.
— А он ластится к ней? — сквозь зубы спросил
Василий, разглаживая бороду.
— Он,— вот увидишь,— клином вбйдет между ва^
ми,— уверенно сказал Сережка. ;
• < В дали морской вспыхнул розовый веер лучей
восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел ела^
бый крик: 1. ; , , .
— Веди-и!.. ' •'""•'
— Вставай, ребята! Эй! К неводу! — командовал
Сережка.
" И скоро'они, все пятеро, уже выбирали свйй край
йёвоДа: Из воды тянулась на берег длинная верёвка;
у'пр'уг&й, как струна, и рыбаки, захлестывая за' нее
лямки, покрякивая, тащили веревку. ••''•" '.
А другую сторону невода вел к берегу, баркас,
скользя по волнам.^ *
Солнце,1 великолепное й яркое, поднималось над
морем
- — Увидишь Якова —; скажи, чтобы он завтра
побывал ко мне,— попросил Василий Сережку, v
•— Ладно,
370
Даркас пристал к берегу, и, сосщчив с.него. на
песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы
постепенно сближались друг с другом, и поплавки
невода, прыгая на воде, образовали правильный
полукруг.
Поздним вечером этого дня, когда рабочие на
промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая,
сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и
смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко»
сверкал огонь; Мальва знала, что это костер,
зажженный Василием. Одинокий, точно заблудившийся в
темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал,
как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на
эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо
трепетавшую в неугомонном рокоте волн.
— Тьгчего тут сидишь? — раздался голос Сережки
за ее спиной.
— А тебе что? — спросила она, не взглянув на
него.
— Любопытно.
Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску,;
закурил и сел верхом на лодку; Потом сказал
дружелюбно:
- — Чудная ты баба: то бежишь прочь ото всех; то
не всем на шею виснешь.
— Это тебе, что ли, я зисну?— равнодушно епрсн
она.
(—« Не мне, а Яшке.
г— А тебе завидно?
!— Мм... Давай прямо, по душе говорить? — пред*
дожил Сережка, ударив ее по плечу- Она сидела бркрм
к нему, н он не видел ее лица, когда она кратко
бросила ему:
«— Говори.
— Ты что, Васнлья бросила, что ли?
— Не знаю,— ответила она, помолчав.— А тебе
зачем это?
— Да — так...
— Сердита я на него теперь.
— За что?
3711
••^ Побил (меня!..
¦*- Н-ну?.. Это он^-то? А ты — далась ему? А
• Сережка был изумлен: Он заглядывал сбоку в ее
лицо и иронически чмокал губами-
— Кабы захотела — не далась бы,— возразила она
с сердцем.
••-—Так что же ты?
— Не захотела,
— Крепко, значит, любишь кота? — насмешливо
сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы.—-.
Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких*.
'¦— Никого я вас не люблю,—снова равнодушно
сказала она, отмахиваясь рукой, от дыма.
—• Врешь, поди-ка?
— Для чего мне врать? — спросила она, и по ее
голосу Сережка понял, что врать ей действительно не
для чего.
— А ежели ты его не любишь, как же ты
позволяешь ему бить тебя?-т-серьезно спросил он.
>—> Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?
¦ — Чудн<Мм—тряхнув головой, сказал Сережка.
И оба они долго молчали. .
Ночь приближалась. Тени ложились на море от
облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.
{Огонь у Василия на косе погас, но Мальва всё еще
смотрела туда. А Сережка смотрел на нее.
— Слушай! — сказал он.— Ты знаешь, чего
хочешь?
— Кабы знала! — с глубоким вздохом, очень тш(о
отстала Мальва.
— Стало быть, не знаешь? Это плохо! —уверенно
заявил Сережка.— А я вот всегда знаю! ^ И е оттен-
кой грусти ой добавил:-^Только мне редко чего хо-
*'¦¦'*—• Mrte всегда хочется чего-то,— задумчиво заго?
верила Мальва.— А чего?., не знаю. Иной раз села бы
в1 лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда б
шё-лЩейг не видать. А -иной раз так бы каждого
века завертела да и пустила волчком вокруг
Смотрела: бы на него и смеялась. То жалко всех мне/а
пуЩе всех— себя самоё, то избила- бы весь нарад;
Испитом бы- себя... страшной * смертью*.. И тоскливо>
мне и весело бывает,., А люди 'все какие-то «-дубовые?
372
— Народ гнилой,— согласился Сережка.^-То-то,
я смотрю йа тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и
не птица:.. А всё это есть в тебе, однако... Не похожа
ты на баб.
~ И то Слава богу! — усмехнулась Мальва.
Из-за гряды песчаных бугров, слева от них,
появилась луна, обливая море серебряным блеском.
Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому
сёбДУ 'нёба, "• яркий блеск звезд бледнел и таял в ее
ровном, мечтательном свете.
Мальва улыбнулась.
*' -1-1 А... знаешь?.. Мне иной раз кажется,— что, etc
бы барак ночью поджечь,— вот суматоха была бы!
— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и
вдруг толкнул ее в плечо.—Знаешь что... я тебя на-
учу,^~ забавную штуку сыграем! Хочешь?
— HjrP — с интересом спросила Мальва.
•^- Ты этого Яшку — раззадорила здорово?
— Огнем пышет,— усмехнулась она.
— Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет...
Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то,
да и этого тоже... А потом мы их друг на друга ш
спустим... а? -' ,'
Мальва обернулась к нему и-пристально посмотре-*.
ла на' его рыжее, весело улыбавшееся лицо.
Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем*
при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы,—
ничего, кроме добродушной и немножко озорной»
б
— За что ты их не любишь? — подозрительно
Мальва.
- • Я?.. Василий — ничего,' мужик хороший. А Ящ?
|а —дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю,*,.
Йволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба да-
|р$ и — всё!.. У них вон есть земство, и оно всё для них
|? Хозяйство у них, земля, скот... Я у земскрго
р кучером служил, насмотрелся на них... потрм
редяжил много. Придешь, бывало, в деревню,
подроешь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да,подай
Ьр Бивали сколько раз... То за конокрада при-
f; то просто так... В холодную сажали... Они ноют
йач притвйряются, но жить могут: у них ерть
зацепка е-земля. А я что против них? J .
373
— А тц разве яе мужик? — перебила его
внимательно слушая его речь,
— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся
Сережка.— Города Углича мещанин-
— А я —из Павлнша,— задумчиво сообщила
Мальва.
— За меня никого нет заступника! А мужики... они,
черти, могут жить. %У них и земство и всё такое.
— А земство — это что? — спросила Мальва.
— Что? А чёрт его знает что!* Для мужиков
поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты говори о деле —
устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не
будет,— подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя?
Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои
возместит.
— А что?— усмехнулась Мальва.—Это
хорошо бы...
— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как
из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за
одних только твоих слов?.. Двинула ты языком раз-два
и — готово!
Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о
прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил
серьезно. . . .
_— Эх, ежели бы я красивой бабой был! Такую бы
я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в
заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, э#-,
жмурил глаза и замолчал.
Луна уже была высоко в небе, когда они разощднрь.
них красота ночи увеличилась. Теперь, осталось
только безмерное, торжественное море, посеребрите
луной, и сице,е, усеянное звездами небо. Были еще
бугры песку, кусты ветел среди них и. два. длинные,
грязные здания на песке, похожие на огромные, груфо
уколоченные гроба. Но всё это было жалко и .ничтожно
перед лидом моря, и звезды, оуютревшие на это,
блестели холодно.
Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, щ-,
ли водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было f #?
деть у отца и, чтобы задобрить его. Сережка сказал
Якову, что отец сердится на него за Мд^ьву, a Ma$j
374
ее грозит -избить тге до полусмерти; ^то Мальва знает
об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову. Сереж*-
ка' смеялся над ним.
— За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттян-ет
у>шй, что они по аршину величиной будут! Ты лучше
не попадайся на глаза ему!
Насмешки рыжего, неприятного человека породили
в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва
мнется и, глядя на него то задорно, то грустно,
усиливает до боли его желание обладать ею...
И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как ни
камень посреди своей дороги,— на камень, через
который невозможно перескочить и обойти его нельзя.
Но, чувствуя, что он нимало не боится отца, Яков
уверенно смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно
говорил ему:
«Ну-ка,!тронь?!»
Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще
друг другу, кроме нескольких незначительных слов о
промысловой жизни. Один на один среди моря, они
копили в себе озлобление друг против друга, и оба
зцали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.
Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки
постукивали друг о друга, красная тряпка на конце
шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и
похожи на отдаленный шёпот, бессвязно, нерешительно
просивший о чем-то.
— Что, Сережка пьет всё? — угрюмо спросил Ва-
й
': — Пьет, каждый вечер пьяный,— ответил сын, на-
Дивая еще водки.
: — Пропадет он... Вот она, свободная-то жизнь...
без страха!.. И ты такой же будешь...
"Яков кратко ответил:
~ Я таким не буду!
^ Не будешь?!—хмуря брови, сказал Василий.—
3%аю я, что говорю... Сколько времени живешъ здесь?
Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а
много ли денег понесешь? — Он сердито плеснул из
чашки в ^)от себе водку и, собрав бороду в руку,
дерней её f ак, что у него Голова тряхнулась.
"—-;3а такое малое время многого здесь и нельзя
добыть,—резонно ответил Яков.
375
-•*-*- А ноли.-'так* так нечего Тебе тут цгалыганить:
иди в деревню!
Яков молча усмехнулся.
— Что рожу кривишь? — угрожающе воскликнул
Василий, озлобляясь спокойствием сына.— Отец
Говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал войьни-
чать-то? Не взйуздал бы я тебя...
Яков налил водки, выпил. Грубые придирки
обижали его, но он крепился» не желая говорить так, как
думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко
робел пред его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.
А Василий, видя, что сын выпил один, не налив
ему," еще более освирепел.
— Говорит тебе отец — ступай домой, а ты смець
ки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш
в деревдкI Слышишь?
— Не пойду! — твердо сказал Яков и упрямо
мотнул головой.
— Это как так? — взревел Василий и, опершись
руками о бочку, поднялся со своего места.— Я тебе
говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь?
Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?
Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две
жилы вздулись на висках.
— Ничего я не забыл,— вполголоса сказал Яков,
tit глядя на отца,—* Ты-то всё ли помнишь, гляди?
— Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги...
Яков уклонился от руки отца, поднятой над его го-
й, и, стиснув зубы, заявил: ,
. *_i ты не тронь меня... Здесь не деревня,
' —' Молчать! Я тебе везде —отец!..
; — Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, вр-
лоети-то,— усмехнулся Яков прямо в лицо ему и толф
медленно поднялся.
Василий, с налитыми кровью глазами, выт;яйув
вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына
горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков
откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за
каждым движением отца, готовый отражать ударй,
наружно спокойный, но — весь в горячем поту. Между
ними была бочка, служившая им столом. ' .
'.— Не выпЬрю? — хрипло спросил Василий^ изгибая
спину, как кот, готовый прыгнуть. *
376
— Здесь —все рошя... Ты рабочий — и я тоже.
—Вен что-о?
— Ну, а как? За что ты на меня взъелся?
Думаешь, я.щдонимаю? Ты сам сначала...
_ Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что
$ков не успел уклониться. Удар попал ему по голове;
он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца,
уже сиова поднявшего руку.
-г- Смотри! — предупредил он его, сжимая кулаки.
~ Я тебе — посмотрю!
— Брось, мол!
— Ага... ты!., ты отца?., отца?., отца?..
Им было тесно тут, в ногах у них путалось кулье
из-под соли, опрокинутая бочка, обрубок.
^Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и
пртный^со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим
йзглядоМ,1 медленно отступал перед отцом, а тот шел
«а него, свирепо махая кулаками, слепой в своей
злобе, кйк-то вдруг и странно растрепавшийся -т-тоодо
ощетинился, как освирепевший кабан.
— Отстань —будет —брось!'—говорил Яков^
зловеще и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.
Отец рычал и лез на него, но его удары встречали
только кулаки сына. \
1 — Ишь как тебя.,, ишь...— поддразнивал его Яков,
сознавая себя более ловким.
— Погоди... пос-стой...
Но Яков прыгнул вбок и бросился бежатьа к щрю.
Василий пустился за ним, наклонив голову и
простирая руки вперед, но запнулся ногой за что-то и
$пал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени
|t„сел, упершись в.песок руками. Он был совершенно
¦Обессилен этой возней ц тоскливо завыд от жгучего
^эд^ства неудовлетворенной обиды, от горького созна-
Щт своей слабости... t
;^У? 1г- Будь ты проклят! — захрипел он, вытягивая шею
.'к^Якову и сплевывая пену бешенства со своих дрржа-
'%их губ.
V ! Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него,
дотирая рукой ушибленную голову. Один рукав его
рурахи был оторван и висел на нитке, ворот тоже был
разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце,
• Ш7
точно, смазанная жиром.,Он. яувстровал теперь^
рецие к отцу; он считал его сильнее» и, глядя, как отец,
растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему
кулаками, он улыбался снисходительной, обидной
улыбкой сильного слабому.
;— Проклят ты от меня... вовеки!
Василий так громко крикнул проклятие; что Яков
невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно
думал, что там услышат этот крик бессилия.
Но там были только волны и солнце. Тогда он
сплюнул в сторону и сказал:
— Кричи!.. Кому досадишь? Себе только... А коли
у нас так вышло, я вот что скажу...
— Молчи!.. Уйди с глаз... уйди! — крикнул
Василий.
— В деревню я не пойду... буду тут зимовать...—
говорил Яков, не переставая следить за движениями
отца.— Мне здесь лучше,— я это понимаю, не дурак.
Здесь легче... Там ты бы надо мной верховодил, как
хотел, а здесь — на-ко выкуси!
Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко,
но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на
ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло
выкрикивая:
— Отцу? Отцу-то? Убью...
Но когда он, слепой в своей ярости, подскочил к
лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и
оторванный рукав рубашки несся за ним по воздуху.
Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и
мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку
и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кри-1
чал ему издали:
— Стыдился бы! Седой уж, а — из-за бабы —так
азверел... Эх ты! А в деревню я не ворочусь... Сам иди
туда... нечего тебе тут делать...
— Яшка! молчи! — заглушая его крик, взревел
Василий.— Яшка! Убью я тебя... Поди прочь!
Яков пошел не торопясь.
Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он
идет. Вот'он стал короче, ноги его как бы утонули в
песке... он ушел в него по пояс, по плечи,.."с головой.
Нет его... Но через минуту, немного, дальше того мес-
378
та, где он исчез, опять "сначала появилась его голова,
йЛечи, потом весь он... Он стал меньше теперь,..
Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.
; — Проклят ты! Проклят, проклят! — ответил
Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел
и... снова исчез за бугром песка.
, Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока
спина его не заныла от неудобной позы, в которой он
полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на
ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс
сбился ему под мышки; деревянными пальцами он
развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом
пошел в шалаш и, остановясь перед углублением в
песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если
б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше всё было
разбросано. Василий поискал глазами бутылку с
водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка
сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась.
Василий медленно выковырял пробку и, сунув 14>рло
бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стукало
его по зубам, и водка лилась изо рта- на бороду, на
грудь.
\ В голове у Василия шумело, на сердце было
тяжело, спину ломила ноющая боль.
— Стар я, однако!..— вслух сказал он и опустился
на,песок у входа в шалаш.
, Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда
шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и
вецомнил жадные слова сына:
.«Кабы это всё земля была! Да чернозем бы!,Да
/ распахать бы!.» > ,'.
Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер
себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко вздохнул.
Гёлова его низко опустилась, и спина согнулась, точно
тяжесть легла на нее. Горло сжималось от npncfynoB
. удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на
)Нёбо.Тяжелая дума обуяла его.
...За то, что он, ради гулящей бабы, бросил жену, с
которой прожил в честном труде больше полутора де-<
сятка лет,— господь наказал его восстанием сына.
Так, господи!
Надругался сын над ним, больно рванул его да
сердце... Убить его мало за то, что он так надсадил
379
душу своего отца! Из-за чего? Из-за женщины,,
дрянной, зазорной жизнью живущей!.. Грех было ему,
старику, связываться с ней, забыв о своей жене >
и сыне..,
И вот господь, во святом гневе своем, напомнил1
ему, через сына, ударил его по сердцу справедливой
карой своей... Так, господи!..
Василий сидел согнувшись, крестился и часто .
моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплкв-
шие его.
Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла баг.
ряная заря. Из безмолвной дали несся теплый ветер
в Мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы
раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул. ;
. , Через день после ссоры с отцом Яков q партией
рабочих отправился на барке под буксиром парохода,
верст за тридцать от промысла, на ловлю осетра. Во-,
ротился он на промысел через пять дней один, в лодке!
под парусом,— его послали за харчами. Он приехал в
полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было
нестерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя
и kogth рыб кололи их. Яков осторожно шагал к бара»
кам и ругал себя за то, что не надел сапог.
Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился
скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву, За еку%
ное время^ пройеденное в море, он часто вспоминал ее.
Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его.отща и;
что он говорил ей... Может быть, он избил ее? Ее
побить не вредно — смирнее будет1 А то больно уж за*
дорн* да бойка она...
На промысле было тихо и пустынно. Окна в
бараках были открыты, и эти большие деревянные ящики
тоже, казалось, изнывали от .жары. В приказчйковой
конторе, спрятавшейся между бараками, надрываясь,
кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-тв
тихие голоса. <••• s
. Якой смело пошел на них: ему показалось, что №
слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взгляд
нув за них, он отступил назад и, насупившись, стал.
За бочками, в тени их, лежал вверх грудью,
закинув руки,под голову, рыжий Сережка. По одну сторону
его сидел отец, а по другую — Мальва.
330
; Яков подумал проотца^:
/¦ «За^чемон тут? Неужто перевелся на промысел со
своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве
ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, чёрт!
Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним или
не* надо?»
<— Так!.,— сказал Сережка.— Стало быть —
прощай? Ну, что же! Иди, ковыряй землю,..
. Яков радостно моргнул.
— Иду...— сказал отец.
Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:
] — Честной компании!
Отец мельком взглянул на щего' и отвернулся в
сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка
дрыгнул ногой и сказал густым голосом:
— Вот воротился из дальних стран возлюбленный
сын наш Яшка! — и своим обыкновенным тоном
добавил:— Драть с него шкуру на барабан, как овчину с
барашка...
Мальва тихо засмеялась.
— Жарко! — сказал Яков, садясь.
: Василий снова взглянул на него,
, — Ая тебя, Яков, жду,— заговорил он.
- Голос его показался Якову более тихим, чем
всегда, и лицо было тоже точно новое.
— Я за харчами...— сообщил он и попросил у
Сережки табаку на папироску.
f -^ Нет от меня табаку тебе, дураку,— сказал
Сережка, не двигаясь.
— Ухожу я домой, Яков,— внушительно произнес
Василий, ковыряя песок пальцем руки.
т~ Что — так? — невинно посмотрел на него, сын,
г- Ну, а ты... останешься? , .
*^-Да, я останусь,.. Что нам двоим дома делать?
«*-? Ну.,* я ничего-не скажу. Как хочешь.., т
маленький! Только ты того... помни, что я недодго про-
зддауг Жить-то, может, и буду, а работать ве ззнаккуж
кац.„ ГОтвык я, чай, от земли... Так ты помни,.,мдть
у^ебя там есть.
^•Ему, должно быть, трудно было говорить! слова
шк^о вязли у него « зубах. Он гладил бороду, и ру«
ка его дрожала,
Мальва пристально смотрела нд него. , Середка
прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уста*-
вил его в лицо Якова. Яков был полой радости и, бо-
я&» вЫдать ее, молчал, глядя на свои ноги. и,
—- Не забудь же про мать-то... Смотри, один ты,у
нее, — говорил Василий.
— Чего там? — сказал Яков, поежившись.—
Я знаю.
*— Ладно, коли знаешь!..— недоверчиво взглянув
на него, сказал отец.— Я говорю только — не забудь,
мол.
Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все
четверо молчали. Потом Мальва сказала:
— Скоро зазвонят на работу...
— Ну, я пойду!..— поднимаясь на ноги, объявил
Василий. И все остальные встали за ним.
— Прощай, Сергей... Случится тебе быть на
Волге -г+ может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня
Мазло, Николо-Лыковской волости...
<— Ладно,— сказал Сережка, тряхнул ему руку и,
»е выпуская ее из своей жилистой лапы, поросшей
рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и
серьезное лицо.
—- Лыково-НикоЛьское — большое село... Далеко
его знают, а мы от него — четыре версты,— объяснял
Василий.
— Ну, ну:,. Я забреду,— коли случай будет..,
— Прощай!
— Прощай, милый человек!
— Прощай, Мальва! — глухо сказал Василий, не
глядя на нее.
Она не тороггясь вытерла себе губы рукавом й,
закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и
серьезно поцеловала его в щеки и губы. ]
Он смутился и что-то невнятно промычал. Яков
наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка
лёгонько зевнул, глядя в небо.
—^ Жарко тебе будет идти,— сказал сщ.'
— Ничего... Ну, прощай, Яков!
*•— Прощай!
Они стояли друг против друга, не зная, что делать.
Печальное слово «прощай*, так часто и однообразно
382
звучавшее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе
Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как эыра-
aFriTb его: обнять отца, как это сделала Мальва, или ,
пожать ему руку, как Сережка? А Василию была
обидна*нерешительность, выражавшаяся в позе и на
лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к
стыду пред Яковом. Это чувство вызывалось в нем
воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями
Мальвы.
¦ — Так про мать-то помни! — сказал, наконец,
Василий.
— Да ладно уж!—тепло улыбнувшись,
воскликнул Яков.— Ты не беспокой себя... а я уж!..
И он тряхнул головой.
— Ну... и всё! Живите тут, дай вам господь... не
поминайте лихом... Так котелок-то, Серега, в песке я
зарыл, цод кормой, у зеленой лодки.
— А на что ему котелок? — быстро спросил $ков.
— Он на мое место определен... Туда, на косу! —
объяснил Василий.
-' Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву
и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих
глазах.
— Прощайте ж, братцы... иду я!
Василий поклонился им и пошел. Мальва «
двинулась за ним.
— Я пророжу тебя немножко.,,
Сережка лег на песок и схватил за ногу Якрва,
тоже было шагнувшего за Мальвой.
-*.,Тпру1 Куда?
— Погоди! Пусти...—рванулся было Якоэ.
Но Сережка схватил его за другую ногу.
, -гт- ПОСИДИ СО МНОЙ.„
— Да ну-у! Чего дуришь?
•г- Я не дурю... А ты сядь!
;Яков.сел, стиснув зубы.
*— Чего тебе надо?
— Погоди! Ты помолчи, а , я подумаю, потом и
^кажу...
Он грозно окинул парня своими нахальными гла-
зйдеи, и Яков покорился ему...
Мальва и Василий несколько времени шли молча.
Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее стран-
38i3
но блестели. А Василий угрюмо нахмурился. ц молчал.
Ноги, их вязли в песке, и шли они медленно.:
— Вася!
— Что?
Он взглянул на нее и тотчас отвернулся.
'_— А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-,
то... Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь,—
говорила она спокойно и ровно.
— Зачем же это ты? — помолчав, спросил Василий.
— Не знаю... Так!
Она пожала плечами, усмехаясь.
—( Хорошее сделала дело! Эх ты! — укорил.он. ее
.злым голосом.
Она промолчала.
— Испортишь ты мне парня, вконец испортишь!
Эхма! Ведьма ты, ведьма... бога не боишься... стыда
не имеешь... что делаешь?
— А что надо делать? — спросила она его. Не то
тревога, не, то досада звучали в ее вопросе.
—, Что? Э# ты!,.—вспыхивая острой злобой к яей,
воскликнул Василий.
Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе
под ноги и втоптать в песок, ударяя сапогами в ее
грудь и лицо, Он сжал кулак и оглянулся назад.
Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и,
лица их были обращены к нему.
— Поди прочь,-—уйди! Расшиб бы я тебя...
Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо.
Глаза у него были налиты кровью, борода трясласц а .
рукр довольно тянулись к ее волосам, выбйвшщсся из-
под .платку ., . .,
Ода ще смотрела на него спокойно своими
зелеными глазами.
^Урфръ^бы мне тебя, патаскуха ты! Погод»*,
налетишь еще.!, сломят тебе башку!
^Ондус^хщ^ась, помолчала, а йотом, вздохнур *Ш?
боко, бросила щу:
— Ну, полно... Прощай!
И, круто повернувшись, пошла назад.
Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А
Мальва мт н-.{в?$ старалась-поддеть своими пдптшв яс-
Hjwe г^уб9кие^ледц(Ног В.асидия, <шир,ну?ые в
и, попав в aiot след, она старательно затирала его -
Так она медленно шла вплоть до бочек, где
Сережка встретил ее вопросом:
— Ну, проводила?
Она утвердительно кивнула ему головой и села ря-
ЬШ с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался,
двигая • своими губами так, точно он шептал что-то,
Зяышное только ему.
— Что же — проводила, жалко стало? — снова
0росил ее Сережка словами песни.
~ Ты когда пойдешь туда, на косу? — ответила она
*оддой0М* кивая головой в море.
,** Вечером.
— И я с тобой...
,—т Важно!.. Это я люблю...
— И я пойду! — решительно заявил Яков.
— Кто тебя зовет? — спросил Сережка, щуря
глаза.
Раздайся дребезжащий звон разбитого колокола —
призыв к работе. Звуки торопливо неслись в вдз-
духе один за другим и умирали в веселом шорохе
волн.
, ~" А вот она позовет! — сказал Яков, вызывающе
глядя на Мальву.
— Я? На что ты мне нужен? — удивилась она.
... — Будем говорить прямо, Яшка!..— сурово сказал
Сергей, поднимаясь на ноги,—Ежели ты к ней при-
равать будешь — изобью вдрызг! А" пальцем тро-
р^шь — убью, как муху! Хлопну по башке — и нет те-
шьна свете! У меня — просто!
^л Всё лицо его, вся фигура и узловатые руки,
потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о
$ом, как всё это просто для него.
"', V#kob отступил на шаг и сдавленно сказал:
\*jur+- Погоди! Ведь она сама же...
ь - —• Цыц — и всё тут! Что ты такое? Не тебе, соба-
,, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут ко-
й поглодать... Ну?,. Чего буркалы пялишь?
•-Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усме-
в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и
|:на прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якр-
в'й'в пот бросило.
|';> ©ни ушли от него рядом друг с другом и, отойда
|йешого, засмеялись оба громким смехом. Яков креп?-,
§ЙГ. М. Горький 385
ко втиснул правую ногу в песок и замер в
напряженной позе, тяжело дыша.
Вдали по желтым, мертвым волнам песка
двигалась маленькая, темная человеческая фигурка;
справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а
слева, вплоть до горизонта, лежали пески —
однообразные, унылые, пустынные. Яков посмотрел на
одинокого человека и, заморгав глазами, полными обиды и
недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками...
На промысле закипала работа.
Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы,
сердито кричавшей:
— Кто взял мой нож?..
Волны звучали, солнце сияло, море смеялось...
1В97-Щ
ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет Буревестник,
черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к
тучам, он кричит, и —тучи слышат радость в смелом
крике птицы.
В этомН^рике — жажда бури! Силу гнева, пламя
страсти ^Уверенность в победе слышат тучи в этом
крике,
Чайки стонут перед бурей,—стонут, мечутся над
морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред
бурей.
' И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно
наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в
утесах... Только гордый Буревестник реет смело и
свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и
поют,, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
- Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром
споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем креп-
тш и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы,
разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
: Буревестник с криком реет, черной молнии подо б-
ешй, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом еры-
Бает.
J ' Вон он носится, как демон,— гордый, черный демон
,5у1>и,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется,
№от радости рыдает!
• В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость
'виышкт, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет,
йе скроют!
38?
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной
моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит.
Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая,
отраженья этих мълний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний
над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
СКУКИ РАДИ
Извергал клубы тяжелого серого дыма,
пассажирский поезд, как огромное
пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море
хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял
сердитый шум, нарушавший в продолжение несколь*
ких минут равнодушное молчание широкой и пустын*
ной равнины, среди которой маленькая
железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство
грусти.
И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеял*
ся, здмер под ясным куполом безоблачного неба,—
вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина/
Степь была золотисто-желтая, небо — яркб-голу^
бое. И та и другое необъятно велики; коричневые
постройки станции, брошенной среди них, производили
впечатление случайного мазка, портившего центр
меланхолической картины трудолюбиво написанной
художником, лишенным фантазии.
Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни
к станции приходят из степи поезда и стоят по две ми-«
нуты. Эти четыре минуты — главное и единственно^
развлечение станции: они приносят с собой впечатлен
ния ее служащим.
В каждом поезде толпа разнообразных людей, раз*
нообразно одетых. Они являются на миг; в окнах
вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, рав«
нодушные лица —звонок, свистки — и с грохотом они
уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная
388
Служащим станции любопытно видеть эти лица, и,
проводив поезд, они делятся друг с другом
наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит
молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их
сердцах — смутная зависть к людям, которые
ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они
остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.
И вот, проводив поезд, они стоят на перроне
станции, провожая глазами черную ленту,— она исчезает
в золотом море хлеба,— и молчат под впечатлением
жизни, пролетевшей мимо них.
Они почти все тут: начальник станции —
добродушный, полный блондин с большими казацкими усами;
его помощник — рыжеватый молодой человек с острой
бородкой, станционный сторож Лука — маленький,
юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов,
плотный, йщрокобородый, молчаливый мужик.
На скамье у двери станции сидит жена начальника,
маленькая толстая женщина, сильно страдающая 6т
&кары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него
такое же пухлое и красное, как у матери.
Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он
зарылся в землю.
Тогда начальник станции говорит, обращаясь к
жене:
-— А что,, Соня, самовар готов?
— Конечно,— лениво и тихо .отвечает она.
— Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон..,
видишь — сколько нашвыряли всякой всячины...
-.. — Я знаю, Матвей Егорович...
— Да... ну что же? Будем чай пить, Николай Пет*
рович?
— По обыкновению,— говорит помощник.
А после провода дневного поезда Матвей Егорович
спрашивал жену:
— "А что, Соня, обед готов?
Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то
же; приглашает помощника, который столуется у нихз
— Ну что же? Будем обедать?
А помощник резонно отвечает ему!
— Как всегда...
Уходят с перрона в комнату, где много цветов и ма«
ло мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вок-
889
руг стола, разговаривают о том, чтс* промелькнуло
мимо них.
— Заметили, Николай Петрович, во втором
классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..
— Недурна, но одета безвкусно,— отвечает
помощник.
Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя
человеком, знающим жизнь и образованным. Он
кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном
коленкоре; он записывает в нее разные, изречения
знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг,
случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно
признаёт его авторитет во всем, что не касается
службы, и слушает его внимательно. Особенно ему
нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он
всегда простодушно восхищается ими. Замечание
помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея
Егоровича вопрос.
— Разве желтое не к лицу брюнеткам?
— Я говорю о фасоне, а не о цвете,— объясняет
Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из
стеклянной вазы себе на блюдечко.
— Фасон — это другое дело!..— соглашается
начальник.
В разговор вступает его жена, потому что эта тема
близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало
изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует
их чувства.
А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и
небо, важное в своем великолепном спокойствии.
Почти каждый час являются товарные поезда; но
прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти
кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной
ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о
происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили
человека; или говорят о новостях по службе: тот
оштрафован, этот переведен. Эти новости не
обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное
и редкое блюдо.
Солнце медленно сползает с неба на край степи-, и
когда оно почти коснется земли, то становится багро-
въш. На степь ложится красноватое освещение,
возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение
390
вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается
краем к земле и лениво уходит в нее или за не.е. В небе
еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов
вечерней- зари, но она всё бледнеет, и наступают
сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и
трепещут, точно испуганные скукой на земле.
В сумерках степь суживается; на станцию со всех
сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит
ночь, черная, угрюмая.
На станции зажигают огни; ярче и выше всех
зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.
Порой раздается звонок — повестка к поезду;
торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет
в ней.
Вскоре после звонка из темной дали выбегает
красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается
от глухого грохота поезда, идущего к одинокой
станции, окруженной тьмой.
Низший слой маленького общества на станции жи-
. вет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука
вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в
деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство,
как он говорит Гомозову, когда просит этого
молчаливого степенного стрелочника «подежурить» на станции.
При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело
вздыхает и говорит Луке:
— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это
верно...
А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый
солдат с круглым красным лицом в седой щетине,
человек насмешливый и злобный, не верит Луке.
: — Хозяйство! — восклицает он,
усмехаясь.—Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдо-
»»,'Что ли? Али солдатка?
— Ах ты птичий губернатор! — презрительно
откликается Лука.
;' Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, чте
: ;ща;рый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него;
Л внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в
ft как и вокруг нее, целый день, не смолкая,
птичий гам. Плененные солдатом перепела
станно кричат свое однообразное «подь-полоть»,
скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие
птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая
одинокую жизнь солдата. Он возится с ними всё свое
свободное время и, относясь к ним ласково и
заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам.
Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стёсня-
ясь, говорит им в глаза, что оба они< «бабьи
прихвостни» и что следует за это бить их.
Лука на его слова мало обращает внимания, но
если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко
ругает его:
— Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты
можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял
ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую
капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к
перепелам, птичий командир!
Ягодка, спокойно выслушав ругательство сторожа,
шел жаловаться на него начальнику станции, а тот
кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал
солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам
начинал ругать его — не горячась, спокойно,
тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро
убегал, отплевываясь.
Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и
сконфуженно оправдывался:
— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим...
Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди,
да не осужден будешь...
Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:
— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не
суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чём и
разговаривать...
Кроме жены начальника, на станции была еще одна
женщина — кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под
сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с
отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она
ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом
лице блестели узкие испуганные глазки; окруженные
морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее
нескладной фигуре, толстые губы ее постоянно склады*
392
вались так, точно она хотела просить прощения у всех
людей, валяться в ногах у них и не смела плакать.
Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая
особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он
гоэорил ей «здорово!». Она отвечала ему тем же, пе-
рекидывались двумя-тремя фразами и затем
расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов
пришел в кухню начальника станции и предложил
Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив
рубахи, „зачем-то сама понесла их к нему.
— Вот и спасибо! — сказал Гомозов.— Три
рубахи, по гривеннику шТука, стало быть — тридцать
копеек следует тебе... Верно?
¦— Да уж так...— ответила Арина.
Гомозов задумался и долго молчал.
— А ты какой губернии? — спросил он, наконец,
женщину, всё время смотревшую на его бороду.
— 'Рязанской^.— сказала она.
— Издалека! А сюда как же попала?
— А так... одна я... одинокая...
— От этого и дальше можно зайти...— вздохнул
Гомозов.
И снова они долго молчали.
— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сёргачского
уезда...— заговорил Гомозов.— Вот и я тоже один, весь
тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... де-
Фи — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так.,,
А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал
опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не
работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со
своей дороги... вот'и бьюсь третий год уж...
— Плохо, когда нет своего гнезда,— тихо сказала
Арина.
— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?
— Девка...
— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.
— Ей-богу, девка,— уверила его Арина.
— Что ж замул^ не вышла?
— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть..,
^а.и с лица некрасивая...
.— Да-а...— задумчиво протянул Гомозов и,
поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом
справился, сколько она получает жалованья.
393
— Два с полтиной...
— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня?
Вот что... ты приди-ка вечером за ними,., часов эдак в
десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим ску*
ки ради... Оба мы одинокие... приходи!
— Приду,— просто сказала она и ушла.
Потом, придя к нему аккуратно в десять часов
вечера, ушла от него уже на рассвете.
Гомозов больше не звал ее к себе и тридцать
копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и<
покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа
на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене,
сказал:
— Садись.
А когда она села, объявил ей:
— Ты вот что,— храни это в секрете. Чтобы никто
ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький,
да и ты тоже... Понимаешь?
Она утвердительно кивнула головой.
Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и
опять напомнил ей:
— Чтобы ни одна душа — ни-ни!
Так они и зажили, пряча от всех свою связь.
Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не
ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом
властелина, и порой откровенно говорил ей:
— Аи дурна же ты с лица!
Она молча улыбалась ему бледной, виноватой
улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой
какую-нибудь работу, данную им.
, Виделись они не часто. Но иногда Гомозов,
встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:
.. — . Приходи сегодня...
И она покорно являлась к нему с таким серьезным
выражением на своем рябом лице, как будто пришла
затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала
понятна ей.
А когда шла домой, то на лице ее уже снова была
обычная ему мертвая мина виновности и испуга.
Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за
деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь,,
и от, сурового молчания ее на сердце становилось*
жутко.
394
Однажды, проводив вечерний поезд, станционное
начальство устроило чаепитие' в саду перед окнами
квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.
В жаркие дни они часто делали так,— это все-таки
вносило некоторое разнообразие в монотонность их
жизни.
Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные
поездом.
-— А сегодня жарче вчерашнего,— сказал Матвей
Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене,
а другой отирая пот с лица.
Жена, принимая стакан, объявила:
— Это от скуки кажется, что жарче...
— Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты
хороши в этом случае... но — нас только трое...
Николай Петрович повел плечами и, прищурив
глаза, отчетливо произнес:
— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра,
есть банкротство всякой мысли.
— Ловко! — умилился Матвей Егорович.— Как
это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?
.— Шопенгауэр, немец, философ...
— Фи-илосрф? Мм...
•— А что эти философы — в университетах
служат?— полюбопытствовала Софья Ивановна.
— То есть как вам сказать? Это не чин, а... так
сказать, природная способность... Философом может
быть всякий... кто родится с привычкой думать и во
всем искать начало и конец. Конечно, и в
университетах бывают философы... но они могут быть и просто
так... даже служить на железной дороге.
— И много получают те, которые при университет
— Глядя по уму...
; — Но если бы был четвертый,— премило бы мы по-
шинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.
' И разговор оборвался.
В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают
С ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате
Плачет ребенок.
' — Арина там? —спрашивает Матвей Егорович.
*- Конечно...— кратко отвечает ему жена.
895
««-Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте.
Николай Петрович...
— Оригинальность — первый оттиск
банальности,— как бы про себя говорит Николай Петрович,
имея вид задумчивый и мыслящий.
*— Как? — оживляется начальник.
Й когда Николай Петрович вразумительно
повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья
Ивановна томным голоском говорит:
— Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот
прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не
помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то
такое интересное, такое забавное,— а что? ни слова не
помню!
— Привычка,— кратко объясняет Николай
Петрович.
— Нет, это лучше этого.., как его? Шопенгауэра.,.—
улыбаясь, говорит Матвей Егорович.— Выходит,^ что
всё новое будет старым!
— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да,
экономна мудрость бытия: всё новое-в ней шьется из старья».
— Фу ты, чёрт! Как это у вас. точно из решета -
сыплется!
Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило
улыбается, а Николай Петрович польщен и
безуспешно хочет скрыть это.
— Кто это' сказал насчет банальности-то?
— Барятинский, поэт.
— А другое?
— Тоже поэт — Фофанов.
— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и
нараспев, с улыбкой удовбльствия на лице, повторяет
двустишье.
Скука как бы играет с ними,— на минуту освободит
их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогд$
опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой
чаем.
В степи — только солнце.
— Да, так я заговорил об Арине,— вспоминает
Матвей Егорович.— Странная эта баба, смотрю я на
нее и удивляюсь Точно ее пришибло чем-то, не смеет*
ся она, не поет, говорит мало.., пень какой-то. Но меж-
396
ду тем она очень хорошо работает и так, знаете,
ся с- Лелей, так внимательна к ребенку... ,
Он говорит тихо, не желая, чтобы Арнгна через окно
услыхйла его слова. Он знает, что нельзя хвалить
прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена
перебивает его, многозначительно хмурясь:
— Ну, уж ты оставь... ты не всё знаешь о ней!
Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О демон мой!
«—тихонько и речитативом напевает Николай Петрович,
отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.
^— Что, что такое? Она... ну, ну это вы уж врете оба!
И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него
трясутся и со лба быстро стекают капельки пота.
— ВтЬ совсем даже не смешно! — останавливает
его жена.— Во-первых, у нее на руках ребенок;
во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А
почему?
— Да-а, хлеб, действительно, не того... нужна ей
сделать внушение! Но, ей богу! это... этого я не
ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, чёрт возьми! Но он, кто
он? Лукашка? Я ж его высмею, старого чёрта! Или1 это
Ягодка? А-а, бритая губа!
— Гомозов...— кратко говорит Николай Петрович.
— Ну-у? Такой степенный Мужик? О-о? Да вы не
того — не сочиняете, а?
Матвея Егоровича очень занимает эта
уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами,
то серьезно говорит о необходимости сделать влюблен-
Ш строгое внушение, потом представляет себе неж-
разговоры между ними и снова оглушительно хо-
кочет.
Наконец он увлекается. Тогда Николай Петрович
Шелает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрыва-
Шг'мужа.
— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это
датересно...— не унимается Матвей Егорович.
Является Лука и докладывает:
— Телеграп стучит...
~ Иду. Давай повестку сорок второму,
397
Скоро он с помощником уходит на станцию, где
Лука дробно отбивает в колокол повестку, Николай
Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю
станцию: «Могу ли отправить поезд № 42», а его
начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:
«— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки,
скуки ради, посмеемся хоть немного...
*~ Это позволительно!..— соглашается Николай
Петрович, действуя ключом аппарата.
Он знает, что философ должен выражаться
лаконически.
Им очень скоро представилась возможность
посмеяться.
Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на
погреб, где она, по его приказанию и с разрешения
начальницы, устроила себе постель среди различного
хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а
изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь
принимали в темноте пугающие очертания; а когда
Арина была одна среди них — ей было до того
страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с
открытыми глазами, всё шептала про себя молитвы,
известные ей.
Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а
когда уста^д, то заснул. Но скоро Арина разбудила его
тревожным шёпотом:
— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!
— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.
— Заперли нас...
¦— Как так? — спросил он, вскакивая.
— Подошли и... замком...
— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он,
отталкивая ее от себя.
— Погляди сам,— покорно сказала она.
Он встал и, задевая за всё, что встречалось
на,пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо
сказал:
— Это солдат...
За дверью раздался ликующий хохот.
Выпусти! — громко, попросил Гомозов.
Н — раздался Голос солдата.
398
— Вьщусти, мол..,
— Утром выпустим,— сказал солдат и пошел прочь.
— Дежурство у меня, чёрт!—-сердито и умоляюще
крикнул Гомозов.
— Я подежурю... сиди, знай!..
И солдат ушел.
— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник.—
Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть
начальник... что ты ему скажешь? Он спросит,— где
Гомозов, а? Вот ты и отвечай ему тогда...
— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему,—
тихо и безнадежно сказала Арина.
— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов.—
Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: --*
Врешь ты!
Она ответила тяжелым вздохом.
— Чтр же это будет? — спросил стрелочник, уса- •
живаясь на кадку около двери.— Срам-то мне какой!
А всё ты, уродина чёртова, всё ты это... у-у!
Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда
доносился звук ее дыхания. Она же молчала.
Сырая тьма окружала их,—тьма, пропитанная
запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого,
щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались
ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный
поезд, уходивший со станции.
— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов
со злобой и презрением.—'Как.теперь, я буду?
Наделала делов и молчишь? Думай, чёрт, что будем делать?
Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я
связался с этакой!..
— Я прощения попрошу,—тихо объявила Арина.
— Ну?
— Может, простят...
— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь v
срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться.
то будут?
Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее.
А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с
дрожью в голосе попросила его:
— Прости ты меня, Тимофей Петрович!
— Колом бы тебя по башке . простить!
—зарычал он.
И опять наступило молчание, угрюмое,
подавляющее, полное тупой боли лля двух людей, заключенных
во тьме.
— Господи! хоть бы светало скорее,—тоскливо
взмолилась Арина.
— Молчи ты... я те вот засвечу! —пригрозил ей Го-
мозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами.
Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А
жестокость времени всё увеличивалась с приближением
рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть,
наслаждаясь смешным положением этих людей.
Гомозов задремал наконец и проснулся от крика
петуха, раздававшегося рядом с погребом.
— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.
— Нет,— тяжелым вздохом ответила Арина.
— А то бы заснула! — с иронией предложил
стрелочник.— Эх ты...
— Тимофей Петрович,— почти' взвизгнув,
воскликнула Арина,— не сердись ты на меня! Пожалей ты
меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я,
одна-То, одинешенька! И ты мне... родной ты мой — ведь
ты мне...
— Не вой — не смеши людей-то!—строго остано»
виЛ: Гомозов истерический шёпот женщины, несколько
смягчавший его.— Молчи уж... коли бог убил...
И снова они молча ждали каждой следующей ми-
нуты. Но минуты шли, не принося им ничего, Вот, на^
конец, в щелях двери сверкнули лучи солнца и
блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре око*
ло погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери,
постоял и удалился.
— М-мучители! —замычал Гомозов и плюнул.
Снова ожидание, молчаливое и напряжённое.
— Господи!., помилуй...— прошептала Арина.
Как будто тихо подкрадываются к погребу... Грег
мит замок, и раздается строгий голос начальника:
— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну,
живо!..
— Иди ты1 — вполголоса сказал Гомозов. Арина
подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.
Дверь отворилась, перед ней стоял начальник стан*
сии. Он кланялся и говорил;
400
— С законным браком поздравляю! Пожалуйте!
Музыка — играй!
Гомозов шагнул через порог и остановился,
оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли
Лука, Ягодка и Николай Петрович.
Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором
орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай
Петрович махал в воздухе рукой и, надув шеки, делал
губами, как труба:
— Пум! Пум! Пум-пум-пум!
Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей
Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его по^
мощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего
перед ними, с серым лицом и сконфуженной
улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно
каменная,^ стояла Арина, опустив голову низко на
грудь. i\
Тимофею да Орина
Сладки речи говорила..*
— пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные
рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив
рожок к его уху, играл, играл.
— Ну, идите... ну... под руку бери ее!..— кричал
начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце
сидела жена и качалась из стороны в сторону,
визгливо вскрикивая:
*~ Мотя... будет... ах! умру!
За миг свиданья
Терплю страданья!
—пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.
— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей
Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо
дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал
ревущим басом.
. - Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв
рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо
смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.
— Мотя, вели им... поцеловаться!., ха, ха, ха!
—• Новобрачные, горько! — закричал Николай
Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву,
401
ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро всё
грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука
приплясывая пел;
А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!
И Николай Петрович снова делал губами:
— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!
Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся.
Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися
людьми,. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и
прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она
стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепан.
ная, грязная, и жалкая, и смешная.
— Новобрачный удрал, а... она осталась,— кричал
Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова
корчился от хохота.
Арина повернула кчнему голову и пошла мимо
казармы— в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.
— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна.—
Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.
Арина уходила в степь, туда, где за линией
отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла
медленно, как человек, глубоко задумавшийся.
— Как? как? — переспрашивал Матвей Егорович
участников этой шутки, рассказывавших друг другу
разные мелкие подробности поведения новобрачных.
И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел
время и место вставить маленькую мудрость:
Смеяться,- право, не грешно i
Над тем, что кажется смешно! '
*—сказал он Софье Ивановне и внушительно доба*
$ил: — Но много смеяться — вредно!
Смеялись на станции в тот день много, но обедали
плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед
готовила сама начальница станции. Но и дурной обед
не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из
казармы до времени своего дежурства, а когда вышел,
то его позвали в контору начальника, и там Николай
402
Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал
расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою
красавицу-
— По оригинальности — это грехопадение номер
первый,— сказал Николай Петрович начальнику.
— Грехопадение и есть,— хмуро улыбаясь, говорил
степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет
рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним бу-'
дут меньше смеяться. И он рассказывал: ^
— Вначале она мне все подмаргивала.
— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович,
вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа,
должна была ему подмаргивать? Прелесть!
— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про се-
бя-1-*" шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь,
говорит, я тебе рубахи сошью!
— Но «не в шитье была тут сила»...— заметил
Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете,
из1 Некрасова — из стихотворения «Нарядная и
убогая»... Продолжай, Тимофей!
И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя
себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел,
что ложь полезна ему.
А та, о которой он говорил, лежала в это время 6
степи. Она вошла глубоко в море хлебап тяжело
опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на
земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что
она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его,
она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо
руками, чтобы не видеть неба слишком ясного, и чрезмерно
яркого солнца в глубине его.
Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины,
раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно
трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробо*
вала она вспомнить молитвы и не могла: перед
глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл
тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или
от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув коф*
ту, подставила свое тело: лучам солнца, ожидая, что
так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце
жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение,
похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она
изредка:
404 *
~- Господи!., помилуй.
В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да
стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами
хлеба, она видела их золотистые переливы, черную
трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в бал^
ке, и крыши станционных построек. Больше ничего не
былр в необъятной желтой равнине, покрытой голубым
куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле
лежит в самой середине ее и уж никто никогда не
придет разделить тяжесть ее одиночества,— никто,
никогда..,
К вечеру она услыхала крики*
— Арина-а! Аришка, чё-орт!..
Один голос был голосом Луки, другой — солдата.
Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и
тогда она ^аплакала обильными слезами, быстро
сбегавшими с\ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и
терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы
заглушить эту изжогу, всё сильнее терзавшую ее.
Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-
нибудь услышит и запретит ей плакать.
. Потом, когда наступила ночь, встала и медленно
Пошла на станцию.
Дойдя до станционных построек, она прислонилась:
спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в
степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она
слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее
позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился
ho пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики,
— Господи! помилуй...— вздыхала женщина,
плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали
Тяжести, давившей ей сердце.
Под »утро она осторожно пробралась на чердак
станции и там повесилась, устроив петдо из веревки,
на которой сушила выстиранное ею белье.
, Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сна*
чала все испугались, потом стали рассуждать, кто ви-
йоват в этом деле, Николаи Петрович
неопровержимо доказал, что виноват—Гомозов. Тогда начальник
Станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему
к
Явились власти, произвели, следствие. Выяснилось,-
.что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожно-
405
го мастера было поручено свезти ее в степь и
там-закопать. Когда же это было исполнено — на станции
снова воцарились порядок и спокойствие.
И снова ее обитатели начали жить по четыре
минусы в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья
и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими
мимо них.
...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся
вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими
звуками,— обитателям станции живется еще скучнее.
.&
ЧИТАТЕЛЬ
|ыла ночь, когда я вышел на улицу из дома, где,
> в кругу близких мне людей, читал свой напеча-
ЙИЙВтанный рассказ. Меня много хвалили за него, и,
приятно взволнованный, я медленно шагал по
пустынной улице, впервые в моей жизни испытывая так полно
наслаждение жить.
Это было в феврале; ночь была ясная, и
безоблачное небо, густо захканное звездами, дышало бодрым
холодом на землю, покрытую пышным убором только
что выпавшего снега. Ветви деревьев, перевешиваясь
через заборы, бросали на мою дорогу причудливые
узоры теней, ярко и радостно блестели снежинки з
голубом, ласковом сиянии луны. Нигде не было видно ни
одного живого существами скрип снега под моими
ногами был единственным звуком, нарушавшим
торжественную тишину этой ясной, памятной мне ночи..,,
Я думал:
«Хорошо быть чем-нибудь на земле;, среди людей!»
И воображение, не скупясь на яркие краски,
рисовало мне мое будущее...
— Да, вы написали славную вещицу!.. Это —
так! — задумчиво сказал кто-то за моей спиной.
Я вздрогнул от неожиданности и оглянулся.
.Маленький, одетый в темное, человек поравнялся и
пошел в ногу со мной, снизу вверх глядя в мое лицо,и
улыбаясь острой улыбкой- В нем всё :бьыш :остро:<
взгляд, скулы, подбородок с эспаньолкой; шея его ма«
406
ленькая, сухая- фигурка колола глаза своей странной
угловатостью. Он шел легко и как-то беззвучно, точно
скользил по снегу. Я не видал его там, где читал, и,
понятно, был удивлен его возгласом. Откуда, кто он?
— Вы... тоже слушали? — спросил я.
— Да, имел удовольствие.
Говорил он тенором. Губы у него были тонкие,
черные маленькие усы не скрывали их улыбку. Она не
исчезала, производя неприятное впечатление, я
чувствовал, что за ней скрыта какая-то едкая, нелестная для
меня мысль. Но я был слишком хорошо настроен для
того> чтоб долго останавливаться в наблюдении за этой
чертой моего спутника, и, мелькнув в глазах моих, как
тень, она быстро исчезла пред ясностью моего
довольства собой. Я шел рядом с ним, ожидая, что он скажет,
втайне надеясь, что он увеличит количество приятных
минут, пережитых мною в этот вечер. Человек жаден,
потому чтфёудьба слишком редко улыбается ему ла-
хково,
— А хорошо чувствовать себя чем-то
исключительным? — спросил мой спутник.
Я не услышал в его вопросе ничего особенного и ш>
спешил согласиться с ним.
— Хе, хе, хе! — колко засмеялся он, нервно поти*
р^я свои маленькие руки с тонкими, цепкими
пальцами.
N— А вы веселый человек...— сухо сказал я,
задетый его смехом.
—- Да, я веселый человек,— улыбаясь, подтвердил
Gfi и качнул головой.— И еще я очень любопытен...
Я, всегда хочу знать; всё знать — это мое
постоянное., стремление, оно-то и поддерживает во мне
бодрость. Вот и сейчас я хочу знать —что стоит вам ваш
ус:пех?
Я посмотрел на него и нехотя ответил ему:
'— Около месяца работы... может быть, немного
более...
^ ~ Ага! —живо подхватил он.— Немножко труда,
Затем частица житейского опытр, который всегда чего-
нибудь стоит,., Но это недорого все-таки, когда такой
Йеной вы приобретаете сознание, что вот в данный мо-
меёнт, несколько тысяч людей живут вашей мыслью, чи-
ваше произведение. И потом приобретаются на.
4Q7
дежды на то, что, может быть, со временем... хе, хе!..
и когда вы умрете... хе, хе, хе!.: За всё это можно
больше дать, больше того, сколько дали вы нам,— не
правда ли?
Оц опять засмеялся своим дробным, колющим
смехом, лукаво оглядывая меня острыми, черными
глазками. Я тоже посмотрел на него сверху вниз и,
обиженный, холодно спросил его:
— Извините... с кем я имею удовольствие
беседовать?
— Кто я? Вы не догадываетесь? А я пока не скажу
вам, кто я. Разве для вас знать имя человека более
важно, чем знать то, что он скажет вам?
— Конечно, нет... Но всё это — странно! —
ответил я.
Он для чего-то тронул меня за рукав пальто и,
тихонько посмеиваясь, заговорил:
— Ну и пускай будет странно,— почему бы
человеку не позволить себе иногда выйти из рамок простого
и обыденного?.. И если вы не прочь сделать это —
давайте поговорим откровенно! Вообразите, что я —
читатель.,, некий странный читатель, который очень
любопытен ,и желал бы знать, для чего и как делается
книга... вами, например? Давайте же поговорим.
— О, пожалуйста! — сказал я.— Мне приятно...
такие встречи и разговоры... не каждый день
возможны.— Но я уже лгал ему, ибо для меня всё это
становилось неприятным. Я думал: «Чего он хочет? И с
какой стати я позволяю себе придавать этой уличной
встрече с незнакомым мне человеком характер
какого-то диспута?»
Однако я все-таки медленно шел рядом с ним,
стараясь выразить на лице моем любезное внимание к
моему спутнику. Это, я помню, с трудом удавалось
мне. Но все-таки у меня пока было еще много бодрого
настроения, я не хотел обидеть этого человека отказом
говорить с ним и решил следить за собой.
Луна сияла в небе сзади нас, и наши тени лежали
у нас под аогами. Слившись в одно темное пятно,/ они
ползли впереди нас по снегу, а я смотрел на них и
ощущал в себе зарождение чего-то такого, что, как эти
тени, было темно, неуловимо и, как они, тоже впереди
меня.
408
Мой спутник помолчал с минуту времени и потом
заговорил уверенным тоном господина своих дум:
— Ничего нет в жизни более важного и
любопытного, чем мотивы человеческих действий... Не
правда ли?
Я кивнул головой.
— Вы согласны!.. Так давайте поговорим
откровенно— не упускайте случая говорить откровенно,
пока вы еще молоды!..
- «Странный человек-!» — подумал я и,
заинтересованный его словами, спросил его, усмехаясь:
^ Но о чем говорить?
Он, взглянув мне в лицо, с фамильярностью старо-
то знакомого воскликнул:
— Будем говорить о целях литературы!
—~ Пожалуй... хотя, мне кажется, уже поздно.*
— О! ,для вас еще не поздно!.. .
Я Становился, удивленный этими словами,,*—он-
произнес их с такой серьезной уверенностью, и они
звучали,— как иносказание. Я остановился, желая что-то
спросить у него, но он, взяв меня за руку, тихо и на*
стойчиво повел вперед, гбворя мне:
— Не останавливайтесь, ибо со мной вы на
хорошем пути... Довольно предисловий! Скажите — чего
'хочет литература?.. Вы ей служите, вы должны это
ёнать.
Мое изумление росло в ущерб моему
самообладанию. Что нужно от меня этому человеку? Кто он?
.', .'— Послушайте,— сказал я,— согласитесь, что всё
Происходящее между нами...
— Имеет свое достаточное основание,— верьте мне!
ничто в мире не совершается без достаточного к
основания... Идемте же скорее, но не вперед, а
>' Бесспорно, этот чудак был интересен, но он сердил
Щт. Я снова сделал нетерпеливое движение вперед;
^следовал за мной и спокойно говорил мне?
|J, —- Я понимаю вас: зам трудно в этот момент дать
Определение цели, которую преследует литература.—
^Попробую я сделать это...
7Он вздохнул и потом с улыбкой досмотрел мне в
-409
— Вы согласитесь со мной, если я скажу, что цель
литературы — помогать человеку понимать себя
самого, поднять его веру в себя и развить в нем
стремление к истине, бороться с пошлостью в людях; уметь
найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд,
гнев, мужество, делать всё для того, чтоб люди стали
благородно сильными и могли одухотворить свою
жизнь святым духом красоты. Вот моя формула; она,
разумеется, неполна, схематична... дополняйте ее всем,
что может одухотворить жизнь, и скажите — вы
согласны со мной?
— Да, это так!..— сказал я.— Приблизительно—•
это так. Принято-думать, что, в общем, задача литера"-
туры — облагородить человека...
— Вот какому великому делу вы служите! —
внушительно сказал этот человек... и снова он засмеялся
своим едким смехом: — Хе, хе, хе!
— Однако к чему вы говорите всё это? — спросил
я, делая вид, будто его смех не задевает меня.
— А как вы думаете?
— Откровенно говоря...—начал я, придумывая
колкость, и замолчал. Что значит говорить
откровенно? Этот человек неглуп, он должен знать, как тесны
границы человеческой откровенности и как стойко ох-
ра'няет их самолюбие. Взглянув в лицо моего спутника,
я почувствовал себя глубоко уязвленным его
улыбкой,—в ней было столько иронии и презрения! Я
чувствовал, что начинаю бояться чего-то, боязнь эта
понуждает меня уйти от него.
— До свидания!— сухо сказал я, приподнимая
шляпу.
— Почему? —тихо воскликнул он.
— Я ие люблю шуток, когда в них нет чувства
меры.
— И — уходите?.. Дело ваше... но, знаете, если вы
теперь уйдете от меня, мы уже никогда не встретимся.
Слово «никогда» он подчеркнул, и оно прозвучало
в ушах моих, как удар похоронного колокола. Я
ненавижу это слово и боюсь его: оно всегда представляет-,
ся мне тяжелым и холодным, чем-то вроде молота,
предназначенного судьбой для того, чтобы
раздроблять надежды людей. Это слово остановило меня.
— Что вам нужно? — с тоской и злобой спросил я.
410
.— Сядем здесь,— снова усмехаясь,, произнес он и,
крепко взяв меня за руку, потянул ее вниз.
В этот момент мы с ним были в аллее городского
сада, среди неподвижных, обледенелых ветвей акации
и сирени. Освещенные луной, они висели в воздухе
над головой моей, и мне казалось, эти покрытые льдом
и инеем жесткие ветви проникают мне в грудь,
касаются сердца.
Недоумевающий, озадаченный выходкой моего
спутника, я смотрел на него и молчал.
«Это больной»,— подумал я, желая ободрить себя
и объяснить себе его действия. Но он как-то угадал
мою мысль.
— Ты думаешь, что я ненормален? Оставь это. Это
?акая дрянная и вредная мысль! Прикрываясь ею, как
часто мы отказываемся от понимания человека только
потому,'* что он оригинальнее нас, и как ст'ойкр эта
мысль поддерживает и осложняет печальную
небрежность наших отношений друг к другу!
J — О, да!..— сказал я, все сильнее ощущая в себе
смущение пред этим человеком.— Но, извините, я
пойду... Мне пора уже...
— Ступай,— сказал он, пожав плечами.— Иди... но
знай, что ты спешишь потерять себя...— Он выпустил
мою руку из своей, и я пошел прочь от него.
Он остался в саду на горе, спускавшейся к Волге,
на горе, покрытой белой пеленой снега, перерезанной
•щ^ными лентами тропинок. Пред ним открывался ши-
~ршодй вид на безмолвную, унылую равнину за рекой.
ЭАот человек остался в саду, сел на одну из скамеек и
стад смотреть в пустынную даль, а я шел вдоль по
аллее и чувствовал, что не уйду от него, но все-таки
Шел. Шел я и думал: «Следует мне идти тихо или
быстро для того, чтоб показать ему,— человеку, что си-
д&л там, сзади меня,— как мало он для меня значит?»
,Вот он тихо насвистывает что-то знакомое...
Ж знаю, что это смешная и грустная песня о слепом,
крдерый взял на себя роль вожака слепых. «Зачем он
именно ее насвистывает?» — подумал я.
\ И тут я понял, что с той минуты, как я встретился,с
¦щшы маленьким человечком, я вступил в темный круг
ощущений исключительных и странных. Недавнее ров-
411
ное и довольное настроение моего духа облеклось в
туман ожидания чего-то важного и тяжелого»
«Как же ты будешь вожаком,
Если с дорогой незнаком?»
— вспоминал я слова песни, которую насвистывал тот
человек.
Я обернулся и посмотрел на него. Облокотяс^,
одной рукой о колено и положив голову на ладонь, он,
смотрел на мен», свистал, и его черные усы шевели*
лись на лице, освещенном луной. Я решил вернуться
назад, движимый каким-тр роковым чувством. Быстро»,
подошел я к нему, сел рядом и сказал ему не волну-*
ясь, но горячо:
— Послушайте, будем, говорить просто...
~ Это необходимо для людей,— кивнул он головой.
— Вы, я чувствую, обладаете силой какого-то
воздействия на меня и, очевидно, имеете что-то сказать
мне... да?
— Наконец ты нашел в себе мужество слушать! —
воскликнул он со смехом; но теперь этот смех был
мягче и даже что-то близкое к радости послышалось*
мне в нем.
— Так говорите! — сказал я,— и если можете,
говорите без странностей...
— О, хорошо! Но согласись, что ведь странности
были необходимы для того, чтоб привлечь ко мне твое
внимание? Теперь притупляется внимание к простому
и ясному, как, чересчур холодному и жесткому, а сол
греть и смягчить что-нибудь мы не умеем: мы сами
холодны и жестки. Мы, кажется, снова хотим грез,
красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь,
созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Дей-,
ствительность, которую мы когда-то так горячо хотели
перестроить, сломала и смяла нас... Что же делать?
Попробуем, быть может, вымысел и воображение
помогут человеку подняться ненадолго над землей и
снова высмотреть на ней свое место, потерянное им. По-*
терянное, не правда ли? Ведь человек теперь не царь
земли, а раб жизни, утратил он гордость своим перво-
родртвом, преклоняясь пред фактами, не так ли? Из
фактрв, созданных им, он делает вывод и говорит себе: -
вот непреложный закон! И, подчиняясь этому закону,
4L2
он не замечает, что ставит себе преграду на пути к
свободному творчеству жизни, в борьбе за свое право
ломать для того, чтобы создавать. Да он и не борется
больше, а только приспособляется... Чего ради ему
бороться? Где у него те идеалы, ради которых он
пошел бы на подвиг? Вот почему живется так бедно и
скучно, вот почему обессилил в человеке дух творчест*
ва... Некоторые слепо ищут чего-то, что, окрыляя ум,
восстановило бы веру людей в самих себя. Часто идут
не в ту сторону, где хранится все вечное,
объединяющее людей, где живет бог... Те, которые ошибаются в
путях к истине,— погибнут! Пускай, не нужно им
мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно
стремление, важно желание души найти бога, и, если
в жизни будут души, охваченные стремлением к богу,
он буДет с ними и оживит их, ибо он есть бесконечное
стремление к совершенству... Так ли?
— Д^,—сказал я,— это так...
— Ты, однако, умеешь соглашаться,— заметил мой
собеседник, колко усмехаясь. Потом он помолчал,
глядя вдаль. Мне показалось, что он долго молчит, и я
нетерпеливо вздохнул. Тогда он, не обращая на меня
своего взгляда, блуждавшего вдали, спросил:
— Кто есть твой бог?
До этого вопроса он говорил мягко и ласково, и
мне приятно было его слушать: как и все думающие
люди, он был немного печален, был близок мне, я
понимал его, и мое смущение пред ним гасло. И вот
вдруг он ставит роковой вопрос, на который так
трудно ответить человеку нашего времени, если этот
человек честно относится к себе. Кто ecib мой бог? Если б
я знал это!
Я был подавлен вопросом, да и кто бы на моем
месте сохранил присутствие духа? — А он смотрел на
меня своими острыми глазами, улыбался и ожидал моего
ответа.
— Ты молчишь слишком долго для человека,
который мог бы дать ответ. Может быть, ты скажешь мне
что-нибудь, если я спрошу тебя вот о чем: ты пишешь,
и тысячи людей читают тебя; что же именно ты про-
пбведуешь? И думал ли ты о твоем праве поучать?
Первый раз в жизни я смотрел так внимательно
вглубь себя. Пусть не думают, что я возвышаю или
413
унижаю себя для того, чтоб привлечь к себе внимание
людей,— у нищих не просят милостыни. Я открыл в
себе немало добрых чувств и желаний, немало того,
что обыкновенно называют хорошим, но чувства,
объединяющего всё это, стройной и ясной мысли,
охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе.
В душе моей много ненависти; она постоянно тлеет
там, иногда вспыхивает ярким огнем гнева; но — еще
больше сомнений в душе моей. Порой они так
потрясают мой ум, так давят сердце, что долгое время я
существую внутренно опустошенный... Ничто не
возбуждает меня к жизни, сердце мое холодно, как мертвое, ум
спит, а воображение давят кошмары. И так, слепой,
немой и глухой, живу я долгие дни и ночи, ничего не
желая, ничего не понимая; мне кажется тогда, что я
уже труп и лишь по какому-то странному
недоразумению еще не зарыт в землю. Ужас такого
существования еще больше усиливается сознанием
необходимости жить, ибо в смерти еще менее смысла, еще
больше тьмы... Наверное, она отнимает даже и
наслаждение ненавидеть...
Что же, в самом деле, я проповедую, я — такой,
каков есть? И что я могу сказать людям? То, что уже
давно говорили им и всегда говорят, что находит себе
слушателей, но не делает людей лучшими? Но имею
ли я право проповеди этих идей и понятий, если сам я,
воспитанный на них, часто поступаю не так, как они
повелевают? Если я иду противу них, значит ли это,,
что убеждение в их истинности есть искреннее мое
убеждение, заложенное в основе моего «я»? Что
же отвечу я человеку, который сидит рядом со мной?'
Л он уже устал ждать моих ответов и снова
заговорил:
— Я бы не поставил тебе этих; вопросов, если б не
видал, что твое честолюбие еще не успело уничтожить
тяою честь. Ты имеешь мужество слушать меня... Из*
этого я заключаю, что твоя любовь к себе разумна,
ибо для того, чтоб усилить ее, ты не бежишь даже и
от мук. За это я облегчу тяжесть твоего положения
предо мной и буду говорить с тобой, как с виновным,
а. не как с преступником.
— Когда-то среди нас жили великие мастера ело-,
ва, тонкие знатоки жизни и челове^ческой души,, люди,
4*4
одухотворенные неукротимым стремлением к
совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой
верой в человека. Они создавали книги, которых
никогда не коснется забвение, ибо в книгах тех
запечатлены вечные истины, нетленной красотой веет с их
страниц. Образы, начертанные в тех книгах, живы,
они одушевлены силой вдохновения. В тех книгах есть
и мужество и гнев пылающий, в них звучит любовь
искренняя и свободная, и ни одного лишнего слова нет
в них. Оттуда, я знаю, ты черпал пищу душе своей...
Но* Должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у
т&бя речь о правде и о любви звучит фальшиво и
лицемерно, точно ты насилуешь себя, когда говоришь об
этом. Ты, как луна, чужим светом светишь, свет твой
печально-тускл, он много плодит теней, но слабо
освещает и не греет он никого. Ты нищ для того, чтобы
дать людям что-нибудь действительно ценное, а то,
что ты Даешь, ты даешь не ради высокого
наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова, &
гораздо больше для того, чтоб возвести случайный факт
твоего существования на степень феномена,
необходимого для людей. Ты даешь для того, чтобы больше
взять от жизни и людей. Ты нищ для подарков, ты
просто ростовщик: даешь крупицу твоего опыта под про-1
центы внимания к тебе. Твое перо слабо ковыряет
действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, опи*
швая будничные чувства будничных людей, ты
открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но
можешь ли ты создать для них хотя бы маленький,
шэвышающий душу обман?.. Нет! Ты уверен, что это
полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить
'fi них ничего, кроме печальных, крошечных истин,
усыновляющих только то, что человек зол, глуп, бес-
«йстен, что он вполне и всегда зависит от массы внеш-
условий, что он бессилен и жалок, один и сам по
? Знаешь, его, пожалуй, уже успели убедить в
Ибо душа его охлаждена и ум —туп... Еще бы!
и. смотрит на свое изображение в книгах, а книги,—
-Особенно если они написаны с той ловкостью, которую
fa» часто принимают за талант,— всегда несколько
гипнотизируют человека. Он смотрит на себя в твоем
б и, видя, кзк он дурен, не видит возмож-
лучше. Разве ты умеешь показать ему «эту
415
возможность? Разве ты можешь сделать это, когда ты
сам,., но я пощажу тебя за то, что, слушая меня, ты,
я чувствую, думаешь не над тем, как бы возразить мне
и оправдать себя. Так! Ибо учитель, если он честен,
всегда должен быть внимательным учеником. Все вы,
учителя жизни наших дней, гораздо больше
отнимаете у людей, чем даете им, ибо вы всё только о
недостатках говорите, только их видите. Но в человеке
должны быть и достоинства; ведь у вас они есть? А вы,
чем вы отличаетесь, от дюжинных, серых людей,
которых изображаете так жестоко и придирчиво, считая
себя проповедниками, обличителями пороков ради
торжества добродетели? Но замечаете ли вы, что
добродетели и пороки — вашими усилиями определить
их — только спутаны, как два клубка ниток, черных
и белых, которые от близости стали серыми,
восприняв друг от друга часть первоначальной окраски?
И едва ли бог послал вас на землю... Он выбрал бы
более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем
страстной любви к жизни, к истине, к людям, и они
пылали бы во мраке нашего бытия, как светильники
его силы и славы... Вы же чадите, как факелы
торжества сатаны, и чад ваш, проникая в умы и души,;
отравляет их ядом недоверия к себе. Скажи* чему вы
учите?
Я чувствовал на щеке своей горячее дыхание этого
человека и не смотрел на него, боясь встретиться с его
взглядом. Его слова падали в мой мозг* как,огненные,
капли, и от этого мне было больно..; Я с ужасом пони»
мал, как трудно отвечать на простые вопросы.., И не
ответил ему.
— Итак, я, усердный читатель всего, что ты пи*
шешь и что пишут подобные тебе, спрашиваю: чего
ради вы пишете? А вы —•• много пишете... Хотите ли вы
пробудить добрые чувства в сердцах людей? Но
холодными и бессильными словами вы не сделаете этого,
нет! И вы не только не можете дать жизни что-либо
новое, вы и старое даете в скомканном, измятом, ли«
шенном образа виде, Читая вас, ничему не поучаешь?
ся, ни за что, кроме вас, не стыдишься. Всё будни,
будни, будничные люди, будничные мысли, события...
Когда же будут говорить о духе смятенном и о необходи*
мости возрождения духа? Где же призыв к творчеству)
418
жизни, где уроки мужества, где бодрые слова,
окрыляющие душу?
— ...Ты можешь сказать мне: жизнь не дает иных
образов, кроме тех, которые воспроизводим мы. Не
говори так, ибо для человека, имеющего счастье владеть
словом, стыдно и позорно сознаваться в своем
бессилии пред жизнью и в том, что не может он встать
выше ее. А если ты стоишь на одном уровне с жизнью,
если ты не можешь силой воображения твоего создать
образы, которых нет в жизни, но которые необходимы
доя поучения ее,— какая польза в твоей работе и чем
рправдаешь ты звание свое? Загромождая память и
внимание людей мусором фотографических снимков с
их жизни, бедной событиями, подумай, не вредишь ли
ты людям? Ибо — сознайся! — ты не умеешь
изображать так, чтоб твоя картина жизни вызывала в
человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные
формы (йытия... Можешь ли ты ускорить биение
пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергшб}\ как
это делали другие?
Мой странный собеседник остановился на минуту, а
я молча думал о его словах.
— Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало
среди них людей благородных, да и те, которые есть,
разбиты и больны душой. И почему-то всегда так
наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее
душа его, тем меньше в нем энергии, тем болезненнее он,
И тяжело ему жить. Одиночество и тоска — удел таких
/иодей. Но как ни много в них тоски о лучшем,— у них
нет сил для создания его. Не потому ли они так
разбиты и жалки, что им не дано своевременно помощи
ободряющим душу словом?..
— ...И еще,— продолжал мой странный
собеседник,—-можешь ли ты возбудить в человеке
жизнерадостный смех, очищающий душу. Посмотри, ведь люди
совершенно разучились хорошо смеяться! Они смеют-
ей зло, смеются подло, часто смеются сквозь слезы, но
никогда не услышишь среди них радостного, искрен.
него смеха, того смеха, который должен бы сотрясать
Н>уди взрослых, ибо хороший смех оздоровляет душу...
ля человека необходимо смеяться, ведь смех — одно
из немногих преимуществ его над животными. Можешь
ли ты возбудить в людях какой-либо иной смех, кроме^
14. М. Горький 417
смеха порицания, кроме пошлого смеха над тобой,
человеком, который лишь потому смешон* что жалок?
Пойми,—твое право проповедовать должно иметь до*
статочное основание в твоей способности возбуждать в
людях искренние чувства, которыми, как молотками,
одни формы жизни должны быть разбиты и разруще*
ны для того, чтоб создать другие, более свободные,
наместо тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвра*
щение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которьь
ми можно разрушить всё на земле. Ты можешь создать
такие рычаги? Ты можешь привести их в движение?
Для того, чтобы иметь право говорить к народу, нужно
иметь в душе или ве'йикую ненависть к его
недостаткам, или великую любовь к нему за его страдания;
если же нет в душе твоей этих чувств, будь скромен и
много подумай прежде, чем что-либо сказать...
Уже светало, но на душе моей всё более
сгущалась тьма. А человек, для которого не было тайн в
душе моей, всё говорил. Иногда во мне вспыхивала
мысль:
«Человек ли он?»
Но, поглощенный его словами, я не мог думать над
этой загадкой, и вновь в мой мозг, как иглн, вонзались
его слова.
. — Жизнь все-таки растер и вширь и вглубь, хотя
растет она медленно, ибо у вас нет силы и уменья
ускорить ее движения. Растет жизнь, и с каждым днем
люди учатся спрашивать. Кто будет отвечать им*? Долж«
ны бы вы, апостолы-самозванцы. Но понимаете ли вы
жизнь настолько, чтоб объяснять ее другим?
Понимаете ли вы запросы своего времени, предчувствуете ли.
вы будущее, и что вы можете сказать для возбуждения
человека, растленного мерзостью жизни, павшего
духом? Он упал духом, его интерес к жизни низок,
желание жить с. достоинством в нем иссякает, он хочет жить
просто, как свинья, и — вы слышите? — уже он
нахально смеется, когда произносят слово — идеал: человек
становится только грудой костей, покрытых мясом и
толстой шкурой,— эту скверную груду двигает не дух,
а похота. Он требует внимания— скорее! помогайте
ему жить, пока он еще человек! Но что вы можете
сделать для'возбуждения в нем жажды жизни, когда вы
только ноете, стонете, охаете или равнодушно рисуете,
418
как он разлагается? Над жизнью носится запах
гниения; трусость, холопство пропитывают сердца, лень
вяжет умы и руки мягкими путами... Что вы вносите в
этот хаос мерзости? Как вы все мелки, как жалки, как
вас много! Q, если б явился суровый и любящий
человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим
умом! В духоте позорного молчания раздались бы
вещие слова, как удары колокола, и, может быть,
дрогнули бы презренные души живых мертвецов...
ЗЗосле этих слов ан долго молчал. Я не смотрел на
нега. .Не помню, чего было больше во мне — стыда или
ужаса? !
V— Что ты можешь сказать мне?—раздался безу«
частный вопрос,
— Ничего! — ответил я.
И опять было молчание.
— А как же ты теперь будешь жить?
— Щ знаю!..— ответил я.
— Что .же ты будешь говорить?
Я промолчал.
— Нет мудрости превыше молчания!..
Мучительна была пауза между этими его словами и
смехом, который раздался вслед за ними. Он смеялся
с наслаждением, как человек, которому давно уже не
Представлялось случая посмеяться так легко и
приятно. У меня сердце кровью, плакало от этого проклятого
— Хе» хе! И это ты — учитель жизни?,Ты, которого
так легко смутить? Теперь, я думаю, ты понял, кто я?
да? Хе, хе, хе... И каждый из вас, юношей, родившихся
стариками, так же бы смутился, если бы захотел иметь
дело со мною. Лишь тот, кто облек себя в броню лжи,
йахальства и бесстыдства, не дрогнет перед судом
своей совести. Так вот как ты силен: толчок — и ты пада-
emjbl Скажи мне, ну скажи мне что-нибудь в свое
оправдание, опровергни то, что я сказал! Освободи
сердце твое от стыда и боли. Будь хоть на минуту
. ^ильным, уверенным в себе, и я возьму назад то, что
бросил в лицо твое. Я поклонюсь тебе... Покажи мне в
душе твоей что-нибудь такое, что помогло бы мне
признать в тебе учителя! Мне нужен учитель, потому что
я человек; я заплутался во мраке жизни и ищу выхода
к свету, к истине, красоте, к новой ж.изни,—укажи мне
419
пути! Я человек. Ненавидь меня, бей, но извлекай иэ
тины моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим,»
чем есть; — как это сделать? Учи!
Я думал: могу ли я, могу ли удовлетворить тем
требованиям, которые человек, по праву своему,
предъявляет ко мне? Жизнь гаснет, умы людей всё плотнее
охватывает тьма сомнений, и нужно найти исход. Где
путь? Одно я знаю — не к счастью нужно стремиться,
зачем счастье? Не в счастье смысл 'жизни, и
довольством собой не будет удовлетворен человек: он все-таки
выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления
к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел
свою высокую цель. Это было бы возможно,— но не в
старых рамках жизни, в которых всем так тесно и где
нет сзободы духу человека... .
А он снова смеялся,,но уже тихо, смехом человека^
сердце которого изъедено думами.
— Как много было людей на земле, но как мало
воздвигнуто на ней памятников людям! Почему бы
это? Но предадим проклятию прошлое,— слишком
много оно возбуждает зависти к себе. Ибо в
настоящем вовсе нет таких людей, которые по смерти
оставили бы за собой какой-нибудь след на 'земле.
Дремлет человек... И никто не будит его. Дремлет он и—»
превращается в животное. Бич ему нужен и огненная
ласка любви, вслед за ударом бича. Не бойся сделать
ему больно: если ты, любя, бьешь, он поймет твой удар
и примет его как заслуженный. Когда же ему будет
больно и стыдно за себя, ты пламенно обласкай его —
и он возродится... Люди? Это всё еще дети, хотя
порой они поражают злодейством своих дел и
извращенностью мысли. И они всегда нуждаются в любви к
ним, в постоянной заботе о свежей и здоровой
пище для их душ... А ты умеешь любить людей?
—'Любить людей? — переспросил я с сомнением,
ибо, право, не знаю, люблю ли я людей. Нужно быть
искренним — я не знаю этого. Кто скажет про себя:
вот—я люблю людей! Человек, внимательно следящий
за собой, долго подумает над этим вопросом, прежде
чем решится сказать: люблю. Все знают, как.далек от
каждого из нас наш ближний. .
— Ты модаищь? Всё равно — я понимаю тебя и
безмолвного... И я ухожу.м
420
^— Уже? — тихо спросил я. Потому что, как ни
страшен он был для меня, сам я для себя — еще
страшнее...
— Да, я ухожу... Не раз еще я приду к тебе. Жди!
И ori ушел.
Как ушел? Я не заметил этого. Он быстро и
бесшумно ушёл, как исчезают тени... Я же еще долго
оставался на скамье в саду, не чувствуя холода извне и не
замечая, что уже солнце взошло и ярко блестят лучи
его на обледенелых ветвях деревьев. Странно было
мне видеть ясный день и солнце, сияющее
равнодушно, как всегда, и эту старую, измученную землю, оде-
уую покровом снега, ослепительно сверкавшего в
лучах солнца...
,К
КИРИЛКА
огда возок выкатился из леса на опушку, Исай
привстал на козлах, вытянул шею, посмотрел
Bill! вдаль и сказал:
— Ах ты чёрт,— кажись, тронулась!
— Ну?
— А право... как будто идет...
— Гони скорей!
— Э-эх ты, мар-рмаладина!
Коротенькое и толстое животное, с ослиными
ушами и шерстью пуделя, от удара кнутовищем по его
крупу отскочило в сторону с дороги, остановилось и,
перебирая на месте ногами, обиженно закачало
головой.
— Н-но, я тебе пококетничаю! — крикнул Исай,
дергая вожжами.
Псаломщик Исай Мякинников — уродливый
человек, сорока лет от роду. На левой щеке и под челюстью
у него росла рыжая борода, а на правой вздулась
огромная кила,— она, закрыв ему глаз, опускалась
морщинистым мешком на плечо. Отчаянный пьяница,
недурной философ и насмешник, он вез меня к своему
родному брату и моему товарищу, сельскому учителю,
умиравшему от чахотки. За пять часов времени мы не
проехали и двадцати верст, потому что дорога была
421
скверная, а,то фантастическое животное, которое
везло нас, имело дурной характер. Исай называл его
шишигой, жёрновом, ступой и другими странными
именами, причем каждое, из них одинаково шло к этому
коню, метко подчеркивая ту или иную из особенностей
его внешности и характера. И среди людей чзсто
встречаются такие же сложные сущестэа, которых как
ни назови,— всё будет впору, лишь имя человека к ним
нейдет.
Над нами нависло серое небо, сплошь покрытое
тучами, вокруг распростерлись луга в темных пятнах
проталин. Впереди, верстах в трех, возвышались
синеватые холмы горного берега Волги, тяжелое небо
опиралось на них. Река была невидима за косматой
гривой прибрежных кустов. С юга дул ветер, вода в
лужах морщилась и гримасничала, в воздухе метался
скучный сырой звук,— хлюпала грязь под ногами
лошади...
— Задержит нас река,— говорил Исай,
подпрыгивая на козлах.—А Яков не дождется и помрет... тогда
из всего нашего странствия выйдет одно бесполезное
утруждение плоти... Но ежели мы и застанем его в
живых— какая польза? Одна -помеха и больше ничего..,
в час смертный не следует торчать пред глазами
отходящего, нужно оставить человека одного, дабы не
отводить его взгляда вовнутрь себя на предмет
посторонний... В час смертный человек должен смотреть в
глубину своего сердца, а не на пустяки, ибо живой для
умирающего есть пустяк и лишний предмет...
Положим», оно так уж полагается законом жизни, чтобы у
одра предстояли близкие покидающего юдоль сию...
но ежели рассуждать с употреблением разума, а не
мозгом пяток наших, то опять-таки окажется, что в
этом обычае нет пользы ни живым, ни мертвым, а
одно излишество в терзании сердца. Живой не должен и
вспоминать о том, что есть смерть и ждет его она.,.
Живому это вредно, потому что отемняет радости... Ты,
чёртов пест! Играй ногами веселей!.. Н-но!..
Исай говорил однотонно, густым, сиплым голосом,
и его нелепая, длинная фигура, закутанная в широкий,
дырявый рыжий армяк, неуклюже болталась на
козлах, подпрыгивая, перегибаясь с боку на бок,
кланяясь и откидываясь назад. Широкополая черная шля*
/IOO
па, подарок1 батюшки, была привязана тесемками под
бородой, и ветер бросал в лицо Исая концы тесемок.
Псаломщик тряс острой головой, шляпа съезжала ему
№ глаза, полы армяка раздувались от ветра. Исай
вертелся, ежился, ругался, а я, глядя на него, думал о
. тшм» как много человек тратит энергии на борьбу с
мелочами. Если б нас не одолевали гнусные черви мелких
будничных зол,— мы легко раздавили бы страшных
змей наших несчастий..
~-« Идет! — уныло воскликнул Исай.
.. ь-л Видишь?
—• Вижу в кустах лошадей, и люди около них...
Значит — нет езды!
' — Может быть, как-нибудь переправимся.
' *— Толкуй! Известно, переправимся... когда лед'
нрМдет. А до той поры что будем делать? То-то...
И йотом 4~н есть я хочу] Так я хочу есть, что даже
сказать этого невозможно простым языком. Говорил я\те-
6fe— давай закусим... Нет, вези... На, привез!..
— Есть и мне хочется... Ты ничего не взял с собой?
— Ежели я позабыл! — сердито ответил Исай.
Выглядывая из-за его спины, я видел коляску, за-
пряженную тройкой лошадей, и плетеный шарабан па*
рой. Лошади смотрели навстречу нам, а около них
Йгсшш какие-то фигуры: одна высокая, с рыжими уса-
Ш*, в фуражке с красным околышем, другая —в
черном длиннополом сюртуке на меху.
г v — Земский начальник Сущов, а это мельник
Мамаев,— пробормотал Исай вполоборота ко мне и
почтительным тоном приказал своему коню: — Тпру, ра-
'Яё-тель... Опоздали мы, стало быть? — сдвинув с голо-
$й шляпу, обратился он к толстому кучеру,
стоявшему у тройки.
1; ' Кучер хмуро взглянул на его голый яйцеобразный
Щт и молча отвернулся в сторону.
\ — Не потрафили,— улыбаясь, ответил' купец Ма-
йаев, низенький и полный человек с красным лицом
|f; мошеннически ласковыми глазами.
?~ Земский начальник, облокотясь на крыло коляски,
%рил и крутил ус, исподлобья поглядывая на нас. Тут
#ыло еще двое людей: кучер Мамаева, рослый малый
% кудрявыми волосами и с огромным ртом, и
мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго под-
423
шестерых пассажиров, поздней осенью часа четыре
кряду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью.,/
Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить,
хлопотать о медали... а он в-это время ворует казенный
лес и схвачен на месте преступления! Хороший хозяин,
скуп, сноху вогнал во гроб, жена, старуха, бьет его
поЛеном. Он пьяница и очень богомолен, поет на
клиросе... Имеет хороший пчельник и при всем этом—*
вор! Паузилась тут баржа, он попался в краже трех
мест изюму,— извольте видеть, какая фигура?
Все мы внимательно посмотрели на талантливого
мужика. Он стоял пред нами, спрятав глаза^ и шмыгал
носом. Около его губ играли две морщинки, но губы
были плотно сжаты, и лчцо решительно ничего не вы*
рожало.
— И вот мы спросим его: Кирилка! Скажи — какая
польза в грамоте, в школах?
Кирилка вздохнул, почмокал губами и не сказал
ничего.
— Ну, вот1 ты грамотный,— строже заговорил зем-1
ский,— ты должен знать -~ лучше тебе жить оттого,
что ты грамотный?
— Всяко бывает,— сказал Кирилка, наклоняя
голову еще ниже.
— Да нет, все-таки — ты читаешь, ну, что же,
какая польза от этого для тебя?
— Пользы, око, конечно, нет, чтобы, значит,
прямо взять ее... но ежели рассудить, то..* учат стало
быть, в пользу это им...
— Кому — им?
— Учителям, стало быть... земству, значит, и
вообще... начальству!..
— Дурак же ты! Тебе-то, тебе — есть польза?
— Это — как угодно, ваше благородие..,
— Кому угодно?..
— Вам... значит, как вы начальник..,
— .Пошел прочь!
У земского конць! усов вздрагивали и лицо
покраснело.
— Вот видите, он ничего не сказал, но его ответ
ясен. Нет, господа, прежде, чем учить мужика' азбуке,
нужно — дисциплинировать его!.. Он — испорченный
ребёнок, да! но он и — почва! Вы понимаете?.. Основа-
426
пирамиды государственного строя... и вдруг—*.,
.колеблется! Вы понимаете серьезность такого... э.., э..,
беспорядка?
¦ ,' v*- Дело ясное,— сказал Мамаев.— И,
действительно, следует укрепить...
у ;Так как и я интересуюсь судьбой мужика, я тоже
гй?ТУЛил в разговор, и скоро мы в четыре голоса горячо
и озабоченно решали судьбу его. Истинное призвание
даадого из нас —установлять правила поведения для
наших ближних, и несправедливы те проповедники,
, которые упрекают нас в эгоизме, ибо в бескорыстном
крещении видеть людей лучшими мы всегда забыва-
додоебе.
/, ,Мы спорили,.а река, каре огромная змея, ползла
щщ нами и терлась о берег своей холодной серой
чешуей.
И H3JUI разговор извивался змеей, раздраженной
амеей, которая бросается из стороны в сторону в сво-
.до стремлении схватить то, что ей необходимо и пто
ускользает от нее. От нас ускользал предмет разгово-
ра — мужик. Кто он? Он сидел на песке недалеко от
;'/НйЬр; он молчал, и лицо его было бесстрастно.
-V' Мамаев говорил:
'v/ ¦— Не-ет-с, он не глуп! Он даже о-очень не дурак...
1(Що довольно трудно объехать на кривой..,
,;<'',Г.Земский начальник раздражался:
у — Я не говорю — глуп! я говорю-—распущен!
|3^ймите! Живет без должной опеки над ним, как
несовершеннолетним,— вот в чем корень неурядиц его
А я, с позволения сказать, полагаю так, что
^-ничего! Божия тварь, как и все... Но — извините!
он.м от неустройства бытия своего лишился
// .Это говорил Исай, говорил голосом елейным и поч«
Штельным, сладко улыбаясь и вздыхая, его глазки
7|Wko щурились и не хотели смотреть прямо, а кила
^трясалась, точно в ней было много смеха, он желал
/Шрваться на воздух и не смел. Я же утверждал, что
! М — просто голоден и что если бы дать ему вволю
й пищи, то он, наверное, исправится...
; г Вы говорите —голоден? —раздраженно вое-
,:ЭД]йкнул земский.—Но, чёрт возьми, почему? Нужно
427
понять, по-че-му он голоден? Почему, скажите ради
66га., сорок, пятьдесят лет тому назад он не знал, что
такое голод? Я говорю... я... я вот сам голоден! Да,
чёрт, в данную м.инуту, я сам, по его милости, голоден!
А! Как это вам нравится? Я приказывал —
переправить сюда лодки и ждать меня... Приезжаю...
Сидит Кирилка. Тьфу! Нет, это, я вам скажу, просто
идиоты...
— Действительно,— очень бы приятно покушать!—*
меланхолически сказал Мамаев.
— Н-да,— вздохнул Исай...
И все мы, раздраженные спором, уже не раз сер*
дито фыркавшие друг на друга, замолчали, объединен*
ные желанием есть, и посмотрели на Кирилку, кото-
.рый под нашими взглядами передернул плечом и стал
медленно стаскивать шапку с своей головы...
— Как же это ты, брат, насчет лодки-то?..— уко«
ризненно сказал Исай.
— Да ведь что же лодка?.. Хоша бы она и была —¦
ее не съешь...— виновато ответил Кирилка.
. Мы все четверо отвернулись от него.
— Шесть часов сижу здесь,— объявил Мамаев,
взглянув на золотые часы, вынутые им из кармана,—
из своего кармана, должен я прибавить.
— Вот извольте видеть! — раздраженно воскликнул
земский и повел усами.— А эта бестия... говорит —
скоро образуется затор... Ты! скоро, что ли?
Очевидно, земский полагал, что Кирилка имеет не-*
кую власть над рекой и движением льда по ней, и
было ясно, что Кирилка действительно виновен в этом,
потому что вопрос земского привел в движение все
члены мужичонки. Кирилка двинулся на самый край
бугра, прикрыл глаза ладонью и стал, наморщив лоб,
смотреть вдаль, зачем-то дрыгая левой ногой и шевеля
губами, как будто он шептал заклинания реке.
Лед шел сплошною массой, синеватые льдины с
глухим шорохом лезли одна на другую, ломались,
трещали, рассыпались на мелкие куски; порою между ними
появлялась мутная вода и исчезала, затираемая льдом.
Казалось, огромное тело, пораженное накожной
болезнью, всё в струпьях, и ранах, лежит пред нами, э
чья-то могучая невидимая рука очищает его от гряз-
нбй чещуй, и казалось — пройдет еще несколько ми-
428
нут— река освободится от тяжелых оков и явится
перед нами широкая, могучая, прекрасная, сверкнут из-*
под снега и льда ее волны, и солнце, прорвав тучи, ра^
дрстно и ярко взглянет на нее.
. ' — Теперь уж — сичас вашбродие! — оживленно
воскликнул Кирллка.— Редеет,— эна там! вона у косы!
Он простирал руку с шапкой вдаль, где я ничего
не видел, кроме льда...
i— До Ольховой далеко?
— Ежели прямо идти, верст пять, вашбродие..,
— Ч-чёрт... гм! Может быть, у тебя есть
что-нибудь? Картофель, хлеб?
— Хлеб?.. Это точно, хлеб есть... А картофелю
нету... не родилось его ныне, картофелю-то.„
— С тобой хлеб?
.— Хлеб-то? за пазухой, вон он..,
•— Надкой чёрт ты носишь его за пазухой?
— Да его немного, вашбродие, фунта с два.м и
опять же — теплее он от этого...
— Э, дурак... Надо было давеча еще кучера
послать в Ольховую! Молока бы, что ли, выпить... но этот
все твердит — чичас! чичас!.. Этакая мерзость!
Земский начал зло дергать усы, а Мамаев ласково
уставился на пазуху мужика, который стоял, понурив
голову, и медленно поднимал к ней руку с шапкой.
Исай делал Кирилке какие-то знаки пальцами; му-
Жйк взглянул на него и стал бесшумно подвигаться
в его сторону, обернув лицо к спине земского
начальника.
Лед редел, между льдинами являлись трещины,
точно морщины на скучном, бескровном лице. Играя
на нем, они придавали реке то одно, то другое выра*
жение, всегда Одинаково мудрое, всегда холодное,
но — то печальное, то насмешливое, то искаженное
болью. Сырая масса облаков смотрела на игру льда
неподвижно, бесстрастно, шорох льдин о песок звучал,
как чей-то робкий шёпот, и наводил уныние.
1— Дай мне, брат, хлебца! — услыхал я
подавленный шёпот Исая.
И ц то же время Мамаев густо крякнул, а земский
громко и сердито сказал:
.т, Кирилка! дай срда. хлеб..,
429
Мужичонка сорвал одной рукой шапку с головы,
другую руку сунул за пазуху и, положив хлеб на
шапку,, протянул его к земскому, изогнувшись чуть не в
дугу. Взяв хлеб в руку, земский брезгливо оглянул его
и с кислой улыбкой под усами сказал нам:
— Господа!.Все мы, я вижу, являемся претендент
тами на обладание этим куском, и все мы имеем на
него одинаковое право,— право людей, которые хотят
есть.,. Что же? Разделим пополам... сию скудную
трапезу... Чёрт возьми! вот смешное положение, но,
поверите ли, торопясь застать дорогу, я так спешил...
'Извольте...
Отломив себе, он подал кусок хлеба Мамаеву.
Купец прищурил глаз, склонив голову набок, и, измерив
хлеб, откромсал свою долю. Остатки взял Исай и
разделил со мною. Мы снова сели в ряд и стали дружно,
молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину,
имел запах потной овчины и квашеной капусты и...
неизъяснимый вкус...
Я ел и наблюдал, как по реке плывут грязные
лохмотья, ее зимних одежд.
— Вот,— говорил земский, с упреком глядя на
кусок в своей руке,— извольте видеть —это хлеб! В то
время, как за границей крестьянин имеет вино, сыр,
пшеничный хлеб,— наш мужик ест... эту гадость.
Мякина в нем, кислота какая-то,., и этим питаются
накануне двадцатого столетия!,. А почему?
Так как вопрос был обращен к Мамаеву, купец
тяжело вздохнул и скромно ответил:
— Пишша не тово... не располагает..,
— А по-че-му-с?
— Истощала почва земли... так сказать...
¦— Хм! Полноте! Эти разговоры об истощении зем-
ди — просто выдумка земских статистиков...
Кирилка вздохнул и поправил шапку на голове.
— Ты! Скажи — земля родит? — обратился к нему
земский.
— Да ить... она всяко... когда ей в мочь, то она —
сколько угодно!
— Не виляй! Говори прямо — родит?
*— То есть... стало быть, ежели...
*— Вре-ешь!
430
,—. Ежели руки к ней, то она — ничего...
.— Ara-а! Вы «слышите — руки! Вот потому-то она
й № родит, что рук к ней некому приложить... Что мы
дадим? Пьянство и распущенность... леность.
Руководителя нет. Недород — на сцену выступает земство*
на, сей, батюшка, на, ешь, батюшка... Не-ет-с, это не*
рорядок! Почему до шестьдесят первого года родила?
Потому что — если недород — сейчас его, голубчика..,,
мужика то есть — пожалуйте-ка сюда! Вы как пахали?
Вы;как сеяли? Потом дадут ему — сей! И —родит, о,
поверьте! А теперь, живя за пазухой у земства, он
спрятал все свои способности... потому что не зйает,
Как употребить их с большей пользой для себя, а
указать некому...
~ Это — точно, помещик мог заставить всё, что
угодно,— уверенно сказал Мамаев,—Он что хотел из
мужика дрлал...
; — М^шкантов, живописцев, танцоров, актеров;,,1—
с жаром подхватил земский.— Всё, что угодно!
*— Йстинно-с!.. Я вот тоже помню, когда еще
мальчишкой был... так у нас... у графа.., в дворне был
один... подражатель, так сказать...
- Н-да?
— •Всему выучился подражать! Не токмо звукам,
которые от человека и скота... но даже деревянным и
:й«ым... изображал, как доску пилят или стекло бьется.
Зет щеки и — хорошо выходило! А1 то, бывало,
ф скажет: «Федька! лай, как Злобная лает! Федь-
f лай, как Перехват!..» И лает. Вот до чего достиг!
бы за этакое искусство мно-ого денег можно
?- Лодки едут! — возгласил Исай.
¦ ~ А! Наконец!
г— Вот и дождались...— с улыбкой сказал мне Ма-
- Да..,
- Уж это всегда так* ждешь, ждешь и.... дож-
! Всему есть свой конец...
т* Ведь это утешительно,— не правда ли?
— Еще бы-с!
^- Ежели бы не это — многие совсем не могли бы
Мйзнь терпеть,— сказал Исай,
431!
У того берега реки среди льда копошились две
длинные темные точки.
— Лезут,— сказал Кирилка, посмотрев на них.
Земский начальник искоса взглянул на него и сиро*
сил:
— Ну что, все пьешь?
Кирилка виновато ответил:
— Ежели когда случится... выпиваю...
•— А лес воруешь?
•— Зачем мне лес, вашбродие!
— Нет, однако?
— Никогда я, вашбродие, не займовался лесом! —
сказал Кирилка и даже головой потряс отрицательно.
— А судил я тебя за что?
— Известно... судили вы, это точно...
— За что?
— Как вы начальники... то вам и положено судить
нас.
— Хи-итрая ты бестия! Ну, а с барж, во время
паузка, тоже воруешь по-прежнему?
и— Я, вашбродие, один раз попробовал.
"— Да и то попал, ха-ха-ха!
— Не привышно нам это — потому и попал.
— Надо приучиться? ха-ха-ха!
1— Хе-хе-хе! — смеялся Мамаев.
Лодки, отталкиваясь баграми от льдин, напирав*
ших на борта, подвигались к нашему берегу. Мужики
в них что-то кричали друг другу. Кирилка тоже
приставил ко рту кулак трубкой и неожиданно сильным
голосом крикнул им:,
. — На ветлу потрафля-айЦ
Крикнул и почти кувырком скатился вниз с бугра
к реке... Мы тоже последовали за ним.
Скоро мы садились в лодки: в одну я с Исаем, в
другую Мамаев с земским.
— С богом, реёята! — сняв фуражку и крестясь,
скомандовал земский.
J^Boe мужиков на его лодке тоже истово пере*
крестились и стали тыкать баграми во льдины,
сжимавшие лодки. А льдины ударялись о борта, и-р*з«
.давался зловещий, хрустящий звук. На воде было
холодно. Лицо Мамаева; я видел, как-то побурело.
432 :
Зёмекий начальник, хмуря брови, строго и беспокойно
шотрел вверх по течению, откуда на наши лодки нес-
дайь огромные голубовато-серые куски льда.
Маленькие льдины шуршали о киль, и казалось, будто чьи-то
острые крупные зубы грызут дерево лодок...
Было сыро, шумно и жутко, и все мы смотрели за
борта, на этот грязный, холодный лед, такой могучий
и глупый. Но вдруг в шорохе, окружавшем нас, я
услышал голос с берега и взглянул туда. Берег был еще
ражёнях в десяти от нас, на нем стоял без шапки Ки-
$йлка; я видел его серые, бойкие и насмешливые гла-
^а^;;слышал Кирилкин странно сильный голос:
; —Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне
йрлвезите, слышь? Господа-то, путя ожидаючи, кра-
Ь у меня съели, а — одна была...
М. Горький.
Ш-Ж
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА
Поэма
Нас было двадцать шесть человек—двадцать шесть
живых машин, запертых в сыром подвале, где мы
с утра до вечера месили тесто, делая крендели и
сушки. Окна нашего подвала упирались в яму,
вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от
сырости; рамы были заграждены снаружи частой
железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам
сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин
забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать
кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей,
которые, живя без работы, голодали,— наш хозяин
называл нас жуликами и давал нам на обед вместо
мяса — тухлую требушину...
Нам было душно и тесно жить в каменной коробке
под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и
паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых
стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы
вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и —
тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол
делать крендели из теста, приготовленного для нас
товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый
день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели
за столом, рассучивая руками упругое тесто и
покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время
месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно
мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели
варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи,
сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий
кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели
дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене
мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами.
434
Огромная печь была похожа на уродливую«голову, ска*
^Очного чудовища,— она как бы высунулась, из-под
пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня,
дышала на нас жаром и смотрела на-бесконечную.ра«
бьту нашу двумя черными впадинами отдушин над че-
деш.Эти две глубокие впадины были как
глаза'—безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотре-
дй;веегда одинаково ¦> темньш взглядом? как будто
jrpTaa«смотреть.на i рабов^ и^ не ожздая<от них ничего
человеческого^ презирали ¦ их* холодным презрением
Изо дня в .день в мучной пыли; вагрязи^ натасканной
давдими- ногами, со дв^ра^ в >густой* пахучей духота мы
тесто; и, делали крендели, сманивая* их^
.1потом, и,мы ненавидели^нашу.работу острой йе*
мы ^никогда ^не ели того,< что выходило иа-ггод
наших рук, предпочитая кренделям*черный<хше& Сидя
столом,друг противщруга, —девятвотротив
и-^— мььв,продолжение, длинныхччаеов механичен
екй,^ двигал и, руками и <па льдами л
&б что никогда^уж^ и>не следили<
И мы до того присмотрелись друг к руу
/дашкаждый из * нас знал все морщины, на* лицах това*
§ищей. Нам не о чем было говоритц- мыгк^этому, прш
v-щкли, и всё время-; молчали, .если не ругались,—ибв
/|^сегда есть за что обругать человека,! а-особшнв това^
Чйрища. Но и ругались мы редко — в чем может быть ви-
; ;фвен человек, если он полумертв, если он — как исту-
?, Itfi&H» ,еели все 'чувства. его подавлены тяжестыо?труда?
^шмолчание страшно и мучительно лишь для^тех^ ко-
$ все уже-сказали'И нечего^им больше говорить;.
шшдей же^ которые не начинали,своих речей^—для
молчанье простони легко... Иногдаiмы пели, и-'пес-
начиналась.так: среди работы, вдруг кто-ни-
|рыхал тяжелым вздохом усталой лошади и за**
;й&вал тихонькоюдну из тех протяжных песен; жалоба
Мр-ласковый мотив которых всегда i облегчает тяжееть
1D душе ноющеш; Поет один из^нас, а мы сначала мол-
Щ&ьслушаем егоюдинокую>песню/ и она;гаснет и глох-
од тяжелым потолком подвала, как маленький
костра в степи сырой осенней ночью; когда серое-
.висит над;землей, как свинцовая крыша. Потош'К
пристает другой, и — вот уже два голоса;тихони
435
тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг
сразу несколько голосов подхватят песню,— она веки-*
пает, как волна, становится сильнее, громче и точно
раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной
тюрьмы...
Поют все двадцать шесть; громкие, давно
спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней;
она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет
сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые
раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжко
вздыхают, иной неожиданно оборвет песню и долго слушает,
как поют товарищи, и снова вливает свой голос в
общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «эх!» — поет, за*
крыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна
звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль,
освещенной ярким солнцем,— широкой дорогой, и он видит
себя идущим по ней...
Пламя в печи всё трепещет, всё шаркает по
кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск
огня на стене всё так же дрожит, безмолвно смеясь...
А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе,
тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску
рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале
большого каменного дома, и нам было до того тяжело
жить, точно все три этажа этого дома были построены
прямо на плечах наших...
Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее,
нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам
солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась
золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц,
жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое
утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к
нам в мастерскую, прислонялось маленькое розовое
личико с голубыми веселыми глазами и звонкий
ласковый голос кричал нам:
— Арестантики! дайте кренделечков!
Мы все оборачивались на этот ясный звук и
радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо,
славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть
приплюснутый к стеклу нос и мелкие белые зубы,
блестевшие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы
436
бросались открывать ей дверь, толкая друг друга, »,-*-
вот, она — веселая такая, милая — входит к нам, под-
,стазляя свой передник, стоит пред нами, склонив
немного набок свою головку, стоит и всё улыбается.
Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через
ллечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные,
уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх,— порог
двери рыше пола на четыре ступеньки,— мы смотрим на
нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым
утром, говорим ей какие-тб особые слова,— они
находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней
голоса мягче и шутки легче. У нас для нее — всё особое.
Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых
поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в перед,
ник Тани.
— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем
мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:
— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро,
как мышонок.
Только... Но долго после ее ухода мы приятно
говорим о ней друг с другом — всё то же самое говорим, что
говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и всё
вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и
раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек
живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это
не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет,
тем мучительнее ему неподвижность окружающего...
Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам
самим противно было слушать наши грубо бесстыдные
речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы
знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тане мы
никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не
позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но
даже вольной шутки не слыхала ^она от нас никогда.
Быть может, это потому так было, что она не
оставалась подолгу с нами: мелькнет у нао-в глазах, как
звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть —
потому, что она была маленькая и очень красивая, а всё
красивое возбуждает уважение к себе даже и у
грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал
нас туг1ыми волами, мы все-таки оставались людьми
и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не
поклоняться чему бы то ни было. Лучше се — никого не
437
у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания
на нас, живших в подвале,— никто, хотя в1 доме обита*
ли десятки людей. И наконец — наверно, это глав-
Н9е — все мьгсчитали ее чем^о своим, чем-то таким1,
йто существует как бы только благодаря
нашим'кренделям:,мы вменили себе в обязанность давать ей
горячие крендели,*и это сталоудля;нас ежедневной жертвой
идолу, это стало поч?и священным обрядом и с каж-
,дым днем всё более прикрепляло нас к ней. Кроме
кренделей, мы давали Тане много советов — теплее
одеваться, не бегать быстро пслестнице, не носить
тяжелых вязанок дров, ©на слушала наши советы с
улыбкой, - отвечала на них смехом и никогда не слу-
.шал&еь >нас, *ю мы не обижались на это: нам нужно
было только показать, что мы заботимся о ней.
Часто онагобращалась к нам с разными просьбами*
просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб,
наколоть дров,— мы с радостью и даже с гордостью
какой-то делали ей это и всё другое, чего она хотела.
Но когда одинизнас попросил ее починить ему его
единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, ска*
зала:
— Вот еще! Стану я, как же!..
Мы очень посмеялись над чудаком и — никогда ни
о чем больше не просили ее. Мы ее любили,— этим всё
сказано. Чешовек всегда хочет возложить своюлюбовь
на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда
пачкает, он может отравить 'жизнь ближнего
своей'любовью, потому 'что, любя, не уважает любимого.' Мы
должны были любить Таню, ибо больше было некото
нам любить.
Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал
рассуждать так:
— И чтО'Это^мы балуем девчонку? Что в ней
такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!
Человека^ который решался говорить такие .речи,
мы скоро и грубо укрощали—^нам нужно было что-
нибудь любить: -мы нашли себе это и любили, а то, что
•-любим мы, двадцать шесть, должно быть незыблемо
для каждого, как наша.святыня, и всякий, кто идет
против нас в этом,—^враг наш* Мы любим, может быть,
и не то, чтоедействительночхорошп,, но ведь нас -^ два-
'488
д.цать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое
^-видеть священным для других.
Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и,
м быть, именно поэтому некоторые гордецы
утверждают, что наша ненависть более лестна, чем-лю-
бть.» Ш почему же они не бегут от нас, если это так?
Кроме крендельной/у нашего хозяина была еще и
она помещалась в том же доме, отделенная
ямы только стеной; но булочники *—их бь1ло
четверо — держались в стороне от нас, считая свою-
нашей, и поэтому, считая себя лучше iiac,
к нам в мастерскую* пренебрежителБнс*-
подсмеивались над нами,лсогда встречали нас на два*
р&;*мшгоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин
б что мы станем красть сдобные булки. Мы
] булочников^ потому что завидовали'им?' их
р легче нашей, они-получали большечнае,\их
кормили лучше, у них была просторная, светлая* ма-
стершая, и все они были такие чистые, здоровые-—
гсретавные нам. Мы , же 'все — какие-то желтые и се-
ршш; трое из нас болели сифилисом, некоторые—чге*
шткой* один был совершенно искривлен ревматизм
^утшОйи по праздникам- ичвсвободное от работы вре-
,мя одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из
ндашмели гармоники,- и вее онет ходилитулять в город-
Ш^— мы же*носили>какие-то грязные лохмотья
-или лапти на н^гах; нас не^пускала- в>город-
полиция — могли-ли мы любить булочников?
И вот однажды мыгузнали; что у них запил.пекарь»
2крзяин рассчитал его и уже нанял другого и'что этот
&солдат, ходит в атласной жилетке и при ча-
золотой цепочкой. Нам было любопытно посмоть
на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы,
'За другим, то и дело; стали выбегать на двор;.
Йо он сам явился в нашу мастерскую:. Пинком ноги
в дверь, он отворил' ее и, оставив открытой!
Ш|л на пороге, улыбаясь, и сказал нам:
|?.;— Бог на помощь! Здорово, ребятаГ
W;1 Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымча*
§^й^облаком, крутился у его ног>, он же стоял на поре*
|ре, смотрел на нас сверху вниз, и из-под егбр
439
ловко закрученных усов блестели крупные желтые
зубы. Жилетка на нем была Действительно какая-то
особенная — синяя, расшитая цветами, ока вся как-то ей-
яла,, а пуговицы на ней были из каких-то красных
камешков. И цепочка была...
Красив он был, этот солдат, высокий такой,
здоровый*, с румяными щеками, и большие светлые
глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На
голове у него был надет белый туго накрахмаленный кол-»
пак, а из-под чистого, без единого пятнышка,
передника выглядывали острые носки модных, ярко
вычищенных сапог.
Наш пекарь почтительно попросил его затворить
дверь; он не торопясь сделал это и начал
расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом
сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и
мучитель,— всё, что можно и нужно было сказать о
хозяине, но нельзя написать здесь. Солдат слушал,
шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым
взглядом.
— А у вас тут девчонок много...—вдруг.сказал он.
Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные
скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что
тут девчонок — девять штук.
— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая
глазом.
Опять мы засмеялись,, не очень громко и
сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось пока*
заться солдату такими же удалыми молодцами, как и
он, но* никто не умел сделать этого, ни один не мог.
Кто-то сознался в этом, тихо сказав:
— Где уж нам...
. — Н-да, вам это трудно!—уверенно молвил
солдат, пристально рассматривая нас.— Вы чего-то... не
тога... Выдержки у вас нет... порядочного образа...
вида, значит! А женщина — она любит вид в
человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы всё —
аккуратно! И притом она уважает силу... Рука
чтобы— во!
Солдат выдернул из кармана правую руку с
засученным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал
се нам... Рука была белая, сильная, поросшая
блестящей, золотистой шерстью.
440
—-Нога, грудь —во всем нужна твердость...
И опять же—.чтобы одет был человек по форме... как
того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят.
Я их не зову, не маню,— сами по пяти сразу на шею
лезут...
Он присел-на мешок с мукой и долго рассказывал
о том, как любят его бабы и как он храбро
обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув,
затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и
о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили,
и сразу выяснилось, что он всем нам понравился.
Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил.
К нам никто не ходил, никто не разговаривал с нами
так дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих
его успехах у золотошвеек, которые, встречаясь с
нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили
нас сторонкой, или шли прямо на нас, как будто нас
и не было на их дороге. А мы всегда только
любовались ими и на дворе, и когда они проходили мимо
наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и
шубки, а летом — в шляпках с цветами и с
разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы
говорили об. этих девушках так, что если б они слышали
нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.
— Однако как бы он и Танюшку... не испортил!—»
вдруг озабоченно сказал пекарь.
Мы все замолчали, пораженные этими словами.
Мы как-то забыли о Тане: солдат как бы загородил ее
ох нас своей крупной красивой фигурой. Потом
начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит
себя до этого, другие утверждали, что ей против
солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в
случае, если солдат станет привязываться к Тане,—
переломать ему ребра. И наконец все решили наблюдать
за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она
опасалась его... Это прекратило споры.
Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял
с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую,
но а победах над девицами не рассказывал, а всё
только усы крутил да смачно облизывался.
Таня каждое утро приходила к нам за «кренделеч-
ками» и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с
Нами. Мы пробовали заговаривать с нею о солдате,—
441
она называла его «пучеглазым теленком» и другими
смешными прозвищами, и .это успокоило нас. Мы
гордились нашей, девочкой, видя, как золотошвейки льнут
к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало
всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением,
сами ,наминали относиться к солдату
пренебрежительно. А ,ее еще больше полюбили, еще более радостно и
добррдушно встречали ее по утрам.
Но однаждььсолдат пришел к нам немного выпив<
ши„.уселся и начал смеяться, а-когда.мы спросили его:
над чем это он смеется? — он объяснил:
Две подрались из-за^меня.,. Лидька с Грушкой.»,
они себя-изуродовали^ д? Ха-ха! За волосы одна
руу,.да на-пол ее в сенях> да верхом на нее... ха-ха-
ха!; Рбжи поцарапали... порвались.;, умора!, И почему
эта-бабы не- могут честно биться? Почему они цара*»
паются? а?
Он сидел на лавке, здоровый,, чистый такой, радост-
ный,:.сидел а всё хохотал. Мы молчали. Нам онлоче-
збл неприятен, в этот раз.
— Н^нет, как мне.везет на бабу, а? Умора!; Миг-»
нешь* и — готова!; Ч-чёрт!
Его белые руки* покрытьш-блестящей шерстью, под^
нялись и вновь.^пяли-на-колени* громко шлепнув до
ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным
взглядом, точно и сам искренно недоумевал, почему <ж
так счастлив в уделах с женщинами. Его толстая,
румяная рожа самодовольно т счастливо лоснились, и он
всё .смачно облизывал губы*
Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о
шесток печи и вдруг насмешливо сказал:
— Не великой силой валят елочки, а ты сосну гпо-
вали^...
— То есть'—это тьь мне говоришь? — спросил
солдат.
— А тебе...
— Что такое?
— Ничего... проехало!
— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?
Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в
печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет
готовые и с шумом швыряет на> пол, к мальчишкам,
нанизывающим их на мочалки. Он как бы позабыл о сол*
442
дате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в{ какое-
да беспокойство. Он поднялся на ноги и пйшел к-печи,
рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты,
судорожно мелькавшей в воздухе.
— Нет, ты1 скажи — кто такая? Ты меня обидел...
^#? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне
говоришь такие обидные слова...
Он действительно казался искренно обиженным.-1
,"должно быть, не за что было уважать себя, кроме
а свое уменье совращать женщин; быть может,
кроме этой способности, в нем не было ничего живого,
и только она позволяла ему чувствовать себя живым
человеком.
;•' Есть же люди, для которых самым ценным и луч*
цшм в жизни является какая-нибудь болезнь их души
щш тела. Они носятся с ней всё время жизни и лишь
ею живы^традая от нее, они питают себя ею, они на
негжалукУгся другим и этим обращают на себя
внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе,
/й,\Кроме этого,— у них пет ничего. Отнимите у них эт-у
болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому
дао "Лишаться единственного средства к жизни,— они
Шанут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до
¦ЧФго'бедна, что он невольно принужден ценить свойпо-
Трш И! им жить; и можно сказать, что часто люди быва-
Йгпорочны от скуки.
Солдат обиделся, лез-на нашего пекаря и выл:
'— Нет, ты скажи-— кто?
— Сказать?— вдруг повернулся к1 нему пекарь.
— Ну?
'— Таню знаешь?
— Ну?
— ;Ну и вот! Попробуй...
— Я?
— Ты!
— Ее? Это мне —тьфу!
•~-, Поглядим!
— Увидишь! Х^ха!
Она тебя...
•А-'"Месяц сроку!
— Экий ты хвальбишка, солдат!
— 'Две недели! Я покажу! Кто такая? Танька!
5Гьфу!..
443
— Ну, пошел прочь... мешаешь!..
—. Две недели — и готрво! Ах ты..,
— Пошел, говорю!
Наш пекарь вдруг освирепел и замахнулся лопатой.
Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас,
помолчал и, тихо, зловеще сказав: «Хорошо же!» -*•
ушел от нас.
Во время спора мы все молчали, заинтересованные
им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся
оживленный, громкий говор и шум.
Кто-то крикнул пекарю:
— Не дело ты затеял, Павел!
— Работай знай! — свирепо ответил пекарь.
Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что
Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же
время всех нас охватило жгучее, приятное нам
любопытство—что будет? Устоит ли Таня против солдата?
И почти все уверенно кричали:
— Танька? Она устоит! Еехолыми руками не
возьмешь!
Нам страшно хотелось испробовать крепость наше*
го божка; мы напряженно доказывали друг другу, что
наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из
этого столкновения. Нам наконец стало казаться, что
мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и
что нам нужно хорошенько разбередить его
самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной,
напряженно нервной жизнью,— так еще не жили мы.
Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели
все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что
мы играем в какую-то игру с чёртом и ставка с наш?й
стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников,
что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам
сделалось жутко хорошо и до того любопытно жить,
что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь
нашим возбуждением, набавил нам работы на
четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не
уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у
нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то
особенным нетерпением. Иногда нам представлялось,
что она войдет к нам,— и уже это будет не та, прежняя
Таня, а какая-то другая,
444
Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем
споре. Ни о чем не спрашивали ее и по-прежнему
относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отно-
;шение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим
чувствам к Тане — и это новое было острым
любопытством, острым и холодным; как стальной нож...
— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром
пекарь, становясь к работе.
Мы хорошо знали это и без его напоминания, но
все-таки встрепенулись.
— Глядите на нее... сейчас придет! — предложил
пекарь.
Кто-то с сожалением воскликнул:
— Да ведь разве глазами что увидишь!
И снова между нами разгорелся живой, шумный
спор. Сегодня мы узнаем наконец, насколько чист и
недоступен для'грязи тот сосуд, в который мы вложили
наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые
почувствовали, что действительно играем большую
игру, что эта,проба чистоты нашего божка может
уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что
солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то
никто из нас не спросил ее, как она относится к
нему. А она продолжала аккуратно каждое утро
являться к нам за крендельками и была всё такая же, как
всегда.
И в этот день мы скоро услыхали ее голос:
— Арестантики! Я пришла...
Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла,
то против обыкновения, встретили ее молчанием.
Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам
говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею
темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась
непривычной для нее встрече,— и вдруг мы увидели,
что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась
на месте и сдавленным голосом спросила:
— Что это вы... какие?
\ — А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с
нее глаз.
] — Что — я?
-— Н-ничего...
— Ну, давайте скорее крендельки...
Никогда раньше она не торопила нас...
445
— Поспеешь! —сказал пекарь, не двигаясь и не
отрывая глаз от ее лица.
Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.
Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отво*
ротясь к печке:
— Значит —готово!.. Аи да солдат!.. Подлец!..
Мыл как стадо баранов, толкая друг друга, пошли
к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вско^
ре кто-то сказал:
— А может, еще...
•— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.
Мы все знали, что он человек умный, умнее нас.
И окрик его мы поняли, как уверенность в победе
солдата... Нам было грустно и неспокойно...
В 12 часов, во время обеда, пришел солдат. Он был,
как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда,,
смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть
на него.
— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу сел-
датскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь.— Так
&ы выходите в сени и смотрите в щели,,, поняли?
Мы вышли и, навалившись друг на друга,
прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходившей на
двор. Мы недолго ждали.,. Скоро спешной походкой, с
озабоченным лицом, по двору прошла Таня,
перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась
за дверью в погреб. Потом, не торопясь и посвистывая,
туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в
карманы, а усы шевелились...
Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в
лужи и лужи морщились под их ударами. День был
сырой, серый — очень скучный день. На крышах еще
лежал снег, а на земле уже появились темные пятна
грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым,
грязноватым налетом. Дождь шел медленно, звучал он
уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...
Первым вышел из погреба солдат; он пошел по
двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы,—
такой же, как всегда.
Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее
сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И
шла она, как во сне, пошатываясь, неверными шагами...
Мы не могли перенести этого спокойно, Все сразу
446
мы бросились к двери; выскочили на двор и
засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.
Она вздрогнула, увидав нас, и стала, как
вкопанная, в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и
злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами,
говорили ей бесстыдные вещи.
Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей
некуда идти, что она окружена нами и мы можем
издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но
мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой
то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы —
всё больше, всё сильнее бросали в нее грязью и ядом
наших слов.
Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за
минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь
дышала,тяжело, и губы вздрагивали.
А мыДокружив ее, мстили ей, ибо она ограбила, нас.
Она принадлежала нам, мы на нее расходовали Наше
лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас —
двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от
нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она
всё молчала, всё смотрела на нас дикими глазами, и
всю ее била дрожь.
Мы смеялись, ревели, рычали... К нам откуда-то
подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за
рукав кофты...
Вдруг глаза ее сверкнули; она, не торопясь,
подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но
спокойно сказала прямо в лицо нам:
— Ах вы, арестанты несчастные!..
И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как
будто нас и не было пред ней, точно мы не
преграждали ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не
оказалось на ее пути-
А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к
нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:
— Ах вы, сво-олочь... га-ады...
И — ушла, прямая, красивая, гордая.
Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем
и серым небом без солнца...
Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную
яму. Как раньше, солнце никогда не заглядывало к
нам в окна и Таня не приходила больше никогда!..
447
,в
ЧЕЛОВЕК
I
часы усталости духа,— когда память
оживляет тени прошлого и от них на сердце веет хо-
IIIШ лодом, когда мысль, как бесстрастное солнце
осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще
кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше,
лететь вперед,— в тяжелые часы усталости духа я
вызываю пред собой величественный образ Человека.
Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в
ярком свете его медленно шествует — вперед! и —
выше!—трагически прекрасный Человек!
Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза,
а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой
силы, которая в момент утомленья — творит богов, в
эпохи бодрости — их низвергает.
Затерянный среди пустынь вселенной, один на
маленьком куске земли, несущемся с неуловимой
быстротою куда-то в глубь безмерного пространства,
терзаемый мучительным вопросом — зачем он существует?—
он мужественно движется — вперед! и — выше! — по
пути к победам над всеми тайнами земли и неба.
Идет он, орошая кровью сердца свой трудный,
одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови «—
поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей
мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта —
науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как
солнце землю щедрыми лучами,— он движется всё —
выше! и —вперед! звездою путеводной для земли...
Вооруженный только силой Мысли, которая то
молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч,— идет
свободный, гордый Человек далёко впереди людей и
выше жизни, один —среди загадок бытия, один —
среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким
гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и
терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них/
зовут его — их уничтожить.
Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет
голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки;
привязанностей цепкие волокна опутывают сердце,
точно плющ, питаются его горячей кровью и громко тре-
448
буют уступок силе их... Все чувства овладеть желают
им, всё жаждет власти над его душою.
А тучи разных мелочей житейских подобны грязи
на его дороге и гнусным жабам на его пути.
И как планеты окружают солнце, — так Человека
тесно окружают созданья его творческого духа: его —
всегда голодная — Любовь; вдали, за ним,
прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда;
вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами
терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами
в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные
объятья...
Он знает всех в своей печальной свите —
уродливы, несовершенны, слабы созданья его творческого
духа!
Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом
предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не
поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не
поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней
сливаются они в одно могучее и творческое пламя.
И тут же — вечный спутник Человека, немая и
таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в
пылающее жаждой жизни сердце.
Он знает всех в своей бессмертной свите, и,
наконец, еще одно он знает — Безумие...
Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним
враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой,
стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...
И только Мысль — подруга Человека, и только с
ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли осве«
щает пред ним препятствие его пути, загадки жизни,
сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.
Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит
зорким, острым глазом и беспощадно освещает всё:
— Любви коварные и пошлые' уловки, ее желанье
овладеть любимым, стремленье унижать и унижаться
и — Чувственности грязный лик за ней;
— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней,—
сестру ее родную, нарядную, раскрашенную Ложь,
готовую всегда и всех утешить и— обмануть своим
красивым словом.
Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее
расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопыт-
449
ств0, и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши
на них.
МысЛь видит черной Ненависти силу и знает: если
снять с нее оковы, тогда она всё на земле разрушит и
даже справедливости побеги не пощадит!
Мътсль освещает в неподвижной Вере и злую
жажду безграничной власти, стремящейся поработить все
чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее
тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.
Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из
животного создавшей Человека, ей, сотворившей множества
богов, системы философские, науки —ключи к
загадкам мира, — свободной и бессмертной Мысли —
противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо
злая.
Смерть для нее ветошнице подобна — ветошнице,
что ходит по задворкам и собирает в грязный свой
мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою —
"ворует нагло здоровое и крепкое.
Пропитанная запахом гниенья, окутанная ужаса
покровом, бесстрастная, безличная, нетмая, суровою и
черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть,
а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как
солнце, исполненная дерзости безумной и гордого
сознания бессмертья,..
Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий
мрак загадок бытия — вперед! и —выше! всё —
вперед! и — выше!
Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце
ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.
И Слабостью рожденные три птицы —Уныние,
Отчаянье, Тоска, — три черные, уродливые птицы —
зловеще реют над его душою, и все поют ему угрюмо
песнь о том, что он — ничтожная букашка, что
ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна снятая
Гордость, и — что бы он ни делал, — он умрет!
Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и
лживую и злую сомнений иглы колют мозг его, и на
глазах блестит слеза обиды...
^ И если Гордость в нем не возмутится, страх Смер-
450
яи властно гонит Человека в темницу Веры„ Любовь,
добедно улыбаясь, влечет его в свои объятья, скрывая
в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть
свободной и жадный деспотизм инстинкта...
В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о
радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и
мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий
дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки,
..дочери ее.
' И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо
^.насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной
^Йжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути
лйншю, как путь на скотный двор спокойного до вольет-
вд^самим собою.
Но Мысль горда, и Человек ей дорог,— она вступа-
V&T.B злую битву в Ложью, и поле битвы — сердце Чело-
;
Как filpar, она преследует его; как червь, неутомимо
мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как па-
•ж&и9 пытает Человека, безжалостно сжимая его серд-
да чбодр'Ящим холодом тоски по правде, суровой
мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но
лй^яо видима сквозь:сумрак заблуждений, как некий аг-
данный цветок, рожденный Мыслью.
Жо если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и
щуотно верит, что на земле нет счастья выше полноты
желудка и души, нет наслаждений выше сытости, по-
ж>я и мелких жизненных удобств, тогда в плену ли-
^кующего чувства печально опускает крылья Мысль и —•
/дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.
Му облаку заразному подобна, гнилая Пошлость,
дащюй скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека,
окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и
гааза.
И Человек теряет сам себя, перерожденный ела*
своею в животное без Гордости и Мысли...
Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбу*
Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь тер-
;шия своих ошибок, один средь жгучих искр своих
сомнений, один среди развалин старых истин!
Величественный, гордый и свободный, он
мужественно смотрит в очи Правде и говорит сомнениям
45 Г
< «— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что
ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу,
я чувствую — оно во мне растет! Я постигаю рост
'сознанья моего моих страданий силой, и — знаю —
если б не росло оно, я не страдал бы более, чем
прежде...
¦ — Но с каждым шагом я всё больше хочу, всё
больше чувствую, всё больше, глубже вижу, и этот
быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья
моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж?
Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем —
пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить
весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти
гармонию между собой и миром, в себе самом гармо-
t нию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на
' этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною
болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю
злую грязь с нее смести в могилу прошлого!
— Я призван для того,— чтобы распутать узлы
всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных
людей в кровавый и противный ком животных,
взаимно пожирающих друг друга!
— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть,
разрушить, растоптать всё старое, всё тесное и грязное,
всё злое,— и новое создать на выкованных Мыслью
незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к
людям!
— Непримиримый враг позорной нищеты людских
желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!
— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта
жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних
бесследно, весь, уходит на то, чтобы другие
пресыщались и хлебом и дарами духа!
— Да будут прокляты все предрассудки, предубеж-
денья и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей,
подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя
людей, — я их разрушу!
— Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в
свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте
творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!
— Мысль для меня есть вечный и единственно не
ложный маяк во мраке жизни, огонь вб тьме ее
позорных заблуждений; я вижу, что всё ярче он горит,'Всё
452
?лу освещает бездны тайн, и, я иду в лучах
бессмертной Мысли, вослед за ней, всё —выше! ¦ ¦и-*-*
!
Для Мысли нет твердынь несокрушимых и; нет
р незыблемых ни на земле, ни в небе! Все
создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое праро
разрушить всё, что может помешать свободе ее роста.
1г\ — Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки
щарых истин, а тучи заблуждений, что ныне
кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд,
дожженных пламенем всё той же Мысли, что некогда
$х сотворила.
,;'. — И сознаю, что побеждают не те, которые берут
й победы, а только те, что остаются на поле бит-
&ы..
";' . — Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчест-
йо самодовлеет и безгранично!
— ЙАу, чтобы сгореть как можно ярче и глубж;е
осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.
— Иных наград не нужно для меня, я вижу:
Власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и
глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения
;пюдей ценить самих себя и рабской их привычки уни-
йкаться.
— Сомнения! — Вы — только искры Мысли, не
более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от
избытка сил и кормит вас — своей же силой!
— Настанет день —в груди моей сольются в одно
великое и творческое пламя мир. чувства моего с моей
бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из
души всё темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем
„богам, что Мысль моя творила и творит!
— Всё — в Человеке, всё — для Человека!»
Вот снова, величавый и свободный подняв высоко
гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет
,по праху старых предрассудков, один в седом тумане
^заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей,
,а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно
ожидающих его.
Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Че-,
^ловеку нет конца пути!
Так шествует мятежный Человек — вперед! — и —
всё — вперед! и — выше!
453
ТОВАРИЩ!
Сказка
Вэтом городе все было странно, все непонятно.
Множество церквей поднимало в небо пестрые яркие
главы свои, но стены и трубы,фабрик были выше
колоколен, и храмы, задавленные тяжелыми
фасадами торговых зданий, терялись в мертвых сетях
каменных стен, как причудливые цветы в пыли и мусоре
развалин. И-когда колокола церквей призывали к
молитве — их медные крики, вползая на железо крыш,
бессильно опускались к земле, бессильно исчезали в
тесных щелях между домов.
Дома были огромны и часто красивы, люди
уродливы ц всегда ничтожны, с утра до> ночи они суетливо,
как серые мыши, бегали по узким, кривым улицам
города и жадными глазами искали одни — хлеба,
другие — развлечений, третьи, — стоя на перекрестках,
враждебно и зорко следили, чтобы слабые безропотно
подчинялись сильным. Сильными называли богатых,
все верили, что только деньги дают человеку власть и
срободу. Все хотели власти, ибо все были рабами,
роскошь богатых рождала зависть и ненависть бедных,
никто не знал музыки лучшей, чем звон золота, и
поэтому каждый был врагом другого, а владыкой всех —
жестокость.
Над городом порой сияло солнце, но жизнь всегда
была темна, и люди — как тени. Ночью они зажигали
много веселых огней, но тогда-на улицы1 выходили
голодные женщины продавать за деньги ласки свои,
отовсюду бил в ноздри ^жирный запах разной пищи, и
везде, молча и жадно, сверкали злые глаза голодных, а
над городом тихо плавал подавленный стон1 несчастия,
и оно не имело силы громко» крикнуть о себе.
Всем жилось скучно и тревожно, все* были враги и
виновные, только редкие чувствовали себя правыми,
но они были грубы, как животные,—-это были
наиболее жестокие...
Все хотели жить, и никто не умел, никто не мог
свободно идти по путям желаний своих, и каждый шал в
.454
будущее невольно заставлял обернуться к
настоящему, а оно властными и крепкими руками жадного
чудовища останавливало человека на пути его и всасьь
вало в липкие объятия свои.
Человек в тоске и недоумении бессильно
останавливался перед уродливо искаженным лицом жизни.
Тысячами беспомощно грустных глаз она смотрела в
сердце ему и просила о чем-то — и тогда умирали в
душе светлые образы будущего и стон бессилия
человека тонул в нестройном,хоре стонов и воплей
замученных жизнью, несчастных, жалких людей.
. Всегда было скучно, всегда тревожно, порою
страшно,» а вокруг' людей, как тюрьма, неподвижно стоял,
отражая живые лучи солнца, этот угрюмый, темный
шрод, противно правильные груды камня,
поглотившие храмы.
И музыка жизни была подавленным воплем, боли
т злобы,у тихим шёпотом, скрытой .ненависти» грозным
лаем жестокости^ сладострастным визгом, насилия^.
И
. Среди мрачной суеты хоря, и несчастья, в -.судорож*
ной схватке жадности и нужды* в тине жалкого себя*
любия, по подвалам домов, где жила беднота, созда-*
вавшая богатетво города, невидимо ходили одинокие
мечтатели, полные веры в человека, всем чужие и да^
лекие, проповедники возмущения, мятежные искры
далекого огня правды. Они тайно приносили с собой в
подвалы всегда плодотворные маленькие семена
простого и великого учения и то сурово, с холодным бле*
ском в глазах,, то мягко и любовно сеяли эту ясную,
жгучую правду в темных сердцах людей-рабав
—людей, обращенных силою жадных, волею жестоких в
слепые и немые орудия наживы.
И эти темные, загнанные люди недоверчиво
прислушивались к музыке новых слов — музыке, которую
давно и смутно ждало их больное сердце,
понемногу- поднимали свои головы, разрывая петли хитрой
лдаг, которой опутали их властные и Жадные насиль-
етпш.
В их жизт», полную глулш, подавленней злобы, в
сердца, отравленные многими обидами, в сознание,
засоренное пестрой ложью мудрости сильных,— в эту
трудную, печальную жизнь; пропитанную горечью
унижений,— было брошено простое, светлое слово:
— Товарищ!
Оно не было новым для них, они слышали и
сами произносили его, оно звучало до этой поры таким
же пустым и тупым звуком, как все знакомые,
стертые слова, которые можно забыть-и— ничего не
потеряешь.
Но теперь оно, ясное и крепкое, звучало иным
звуком, в нем пела другая душа, и что-то твердое,
сверкающее и многогранное, как алмаз, было в нем. Они
приняли его и стали произносить осторожно,
бережливо, мягко колыхая его в сердце своем, как мать ново-,
рожденного колышет в люльке, любуясь им.
И чем глубже смотрели в светлую душу слова, тем
светлее, значительнее и ярче казалось им оно.
— Товарищ! — говорили они.
И чувствовали, что это слово пришло объединить
весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы
и связать их новыми узами, крепкими узами
уважения друг к другу, уважения к свободе человека, ради
свободы его.
Когда это слово вросло в сердца рабов — они
перестали быть рабами и однажды заявили городу и всем
силам его великое человеческое слово:
— Не хочу!
Тогда остановилась жизнь, ибо они были силой,
дающей ей движение, они и никто больше.
Остановилось течение воды, угас огонь, город погрузился в
мрак, и сильные стали как дети.
Страх обнял души насильников, и, задыхаясь в за*
пахе извержений своих, они подавили злобу на
мятежников, в недоумении и ужасе перед силой их.
Призрак голода встал перед ними, и дети их
жалобно плакали во тьме.
Дома и храмы, объятые мраком* слились в
бездушный хаос камня и железа, зловещее молчание залило
улицы мертвсрй влагой своей, остановилась жизнь, ибо
сила, рождающая ее, сознала себя, и раб-человек
нашел магическое, необоримое слово выражения воли
456
своей — освободился от гнета и увидал воочию власть
свою — власть творца.
Дни были днями тоски сильных, тех, которые
считали себя владыками жизни, ночи —каждая была как
бы тысячью ночей, так густ был мрак, так нищенски
скупо и робко сияли огни в мертвом городе, и тогда
он, созданный столетиями, чудовище, питавшееся
кровью людей, встал перед ними в уродстве
ничтожества своего жалкой грудой камня и дерева. Холодно
и мрачно смотрели на улицы слепые окна домов, а по
улицам бодро ходили истинные хозяева жизни. Они
тоже были голодны, и более других, но это было
знакомо им, и страдания тела их не достигали остроты
страданий хозяев жизни, не? угашали огня их душ. Они
горели сознанием силы своей, предчувствие победы
сверкало в их глазах.
Они ходили по улицам города, мрачной и тесной
тюрьмы своей, где их облизали презрением, где
наполняли души их обидами, и видели великое значение
труда своего, и это возводило их на высоту сознания
священного права быть хозяевами жизни,
законодателями и творцами ее. И тогда с новой силой, с
ослепительной ясностью встало перед ними животворящее,
ббъединяющее слово:
— Товарищ!
Оно звучало среди лживых слов настоящего как
радостная весть о будущем, о новой жизни, которая
открыта равно для всех впереди — далеко или близко?
Они чувствовали, что это в их воле, они
приближаются к свободе и они сами отдаляют пришествие ее.
ill
Проститутка, еще вчера полуголодное животное,
тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо
придет к ней и грубо купит подневольные ласки за
мелкую монету,— и проститутка слышала слово это,
но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить
его. К ней подходил человек, каких она не встречала
до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей
языком близкого:
— Товарищ!
457
И она смеялась тихо и застенчиво, чтобы не запла-»
кать от радости, впервые испытанной заплеванным
сердцем. На глазах ее, вчера нагло и голодно
смотревших на мир тупым взглядом животного, блестели
слезы первой чистой радости. Эта радость приобщения-•
отверженных к великой семье трудящихся всего мира
сверкала всюду на улицах городами тусклые очи его •
домов наблюдали за нею всё более зловеще и холодно.
Нищий, которому вчера, чтобы отвязаться от него,,
бросали жалкущ копейку, цену сострадания сытых,'—
он тоже, слышал, это слово, и оно было для него первой
милостыней, вызвавшей благодарный трепет
изъеденного нищетой, ^калкого сердца.
Извозчик, смешной парень, которого седоки
толкали в шею, чтобы он передал, этот удар своей голодной .
усталой лошади,— этот много раз битый человеку
отупевший от грохота колес по камню мостовой, он тоже,
широко у#ь>баясь,<.?казал прохожему;
— Довести,.что ли? Товарищ!
Сказал и , испугался. Подобрал вожжи,, готовый«.
быехрр у§хать„ насмотрел,на 'Прохожего, ,не умея
стереть с широкого красного лица своего > радостной
улыбки.
Прохожий взглянул добрыми глазами 1И отвемя,;
кивнув головой:
— Спасибо*.товарлщЬЯ дрйду, недалеко.)
— Зх ты, мата иестная!— воощшевленно'восшшк*
нул извозчик, завертелся на козлах, широко и радостно
мигая глазами, и куда^ш поехал с тресков и -крикокк.
Люди; ходили лесными ]Группами по л^рш^раму Щ
как искра, между ними всё чаще вспыхивало великое
слово, призванное объединить мир:
— Товарищ!
Полицейский,, усатый, важный и угрюмый,
подошел к толпе, тесно окружившей на углу улицу
старика-оратора, и, послушав его $ечъ, не торопясь,
проговорил:
— Собираться не дозволено,,, расходитесь, >
господа...
И>, помолчав секунду, опустил глаза в землю, и ти*
ше добавил:
•— Товарищи...
'45В-
• На лицах тех, которые выносилиэто слово в
сердцах своих, вложили в него плоть и кровь и медный,
гулкий звук призыва к единению,— на их лицах
сверкало гордое чувство юных творцов, и было ясно, что та
сила) которую они так щедро влагают в это живое
слово,— неистребима, непобедима, неиссякаема.
Уже где-то против них собирались серые, слепые
толпы вооруженных людей и безмолвно строились в
ровные линии,— это злоба насильников готовилась
отразить волну справедливости.
"...А в тесных, узких улицах огромного города, среди
его безмолвных холодных стен, созданных руками не-
ведомых творцов, всё росла и зрела великая вера лю-
4ратство всех со всеми.
— Товарищ!
То там, то тут вспыхивал огонек, призванный раз-
рдаься в пламя, которое объемлет землю ярким чув-
^ родства всех людей ее. Объемлет всю землю и
сожжет и испепелит злобу, ненависть и жестокость,
чкжажающие нас, объемлет все сердца и сольет их 'в
сердце мира,— сердце правдивых, благородных
в неразрывно-дружную семью свободных ра-
I , На улице мертвого города, созданного рабами,— на
доцщах города, в котором царила жестокость, росла и
ь крепла вера в человека, в победу его над собой и злом
fta.
*№ в смутном хаосе тревожной; безрадостной жизни
, -веселой звездой, путеводным огнем в будущее,
простое, ёмкое, как сердце, слово:
!
ПРИМЕЧАНИЯ1
РАССКАЗЫ
1892—1897
МАКАР ЧУДРА
Впервые напечатано в газете «Кавказ» (Тифлис), 1892, № 242,
12 сентября. Подпись: М. Горький.
«Макар Чудра» — первый напечатанный рассказ Горького,
С этим рассказом появился в печати и псевдоним писателя —
М. Горький.
«Макар Чудра» написан в 1892 году в Тифлисе, где Горький
работал в мастерских Закавказской железной дороги.
В 1931 году, в дни празднования десятилетия Советской
Грузии, Горький писал:
«Прекрасный праздник, на котором мне хотелось бы
присутствовать скромным зрителем и еще раз вспомнить Грузию, какой
видел я ее сорок лет тому* назад,,вспомнить Тифлис — город, где
я начал литературную работу.
Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан
мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду вот
уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величествен*
ная природа страны и романтическая мягкость ее народа —
именно эти две силы — Дали мне толчок, который сделал из бродяги —
литератора» (М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 25, с. 414).
Первый отклик на рассказ появился в нижегородской
газете «Волгарь» A893, №254, 26 октября). Одновременно это —
первый известный нам отзыв в печати о писателе Максиме
Горьком, представлявший собой примечание редакции к перепечатке
рассказа «Макар Чудра». «Автор этого рассказа,—сообщалось в
редакционном примечании,— еще начинающий писатель, но, судя
по этому рассказу и по рассказу «Емельян Пиляй»,
напечатанному нынешним летом в «Русских ведомостях», обладает
своеобразным поэтическим дарованием. Данный рассказ был напечатан уже
1 Тексты произведений М. Горького печатаются по изданию:
М. Горький. Поли. собр. соч. Художественные произведения-^
двадцати пяти томах. М., «Наука», 1968—1976.
460
в прошлом году в провинциальной газете «Кавказ», но мы считаем
нелишним ознакомить с ним и наших читателей, с согласия
автора, ввиду достоинств рассказа. Прибавим, что автор обещал нам
свое сотрудничество.
Через пять лет о «Макаре Чудре» заговорили центральные
органы прессы и известнейшие критики. Это было связано с
выходом двух томов первого издания «Очерков и рассказов»
Горького в 1898 году.
Стр. 4. Галичина — историческое название ласти земель
Южной Польши и Западной Украины. Захваченная Австрией в
1772 году, Галичина была названа Галицией.
Стр. 6. ...солдат, что с Кошутом воевал вместе...— Л а й о ш
Кошут A820—1849) — венгерский политический деятель,
организатор борьбы венгерского народа против австрийского
господства во время революции 1848—1849 годов в Венгрии.
Морава '(Моравия) — область в центральной части
Чехословакии.
; ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ
Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1893,
№ 213, 5 августа.
«Емельян Пиляй» написан в Нижнем Новгороде в 1892—1893
годах. Это первое произведение Горького, появившееся в
центральной прессе.
Сохранилось свидетельство С. Я. Маршака о том, как были
восприняты первые рассказы Горького:
'«Рассказы эти читались нами вслух в каморках и на
чердаках, где собирались мои сверстники [...]. «Емельян Пиляй»,
«Макар Чудра», «Старуха Изергиль» — эти причудливые имена
звучали для нас как музыка.
Горький как бы открыл мам или напомнил, что есть где-то не
за морями-океанами, а у нас в России [...] гордые, самобытные,
вольнолюбивые люди» («М. Горький в воспоминаниях
современников». М., 1962, с. 411).
Стр. 21. Кишеня — здесь: мешочек, кошелек,
ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА
Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1894,
35, 37, 39, 41, 43— с 13 по 23 февраля.
Рассказ написан в 1893 году, вероятно, осенью или в декабре.
' «Дед Архип и Ленька» в отличие от многих других
рассказов Горького, после первой публикации не получил широкой
оценки в критике,
461
Один из первых обстоятельных критических отзывов о
рассказе был дай Н. А. Саввиным в. статье «Дети в произведениях
М. Горького»,.Критик не относит рассказ к лучшим произведениям
Горького, но высоко оценивает мастерство писателя в создании
образа, маленького героя. «Ленька,— пишет он,— не совсем
обычный детский тип,, и по своим психологическим особенностям он с
большим трудом найдет себе эквивалент в галерее детских
портретов русской литературы» («Вестник воспитания», 1907,, № 1,
с. 200),. Критик отмечает жизненность и правдивость героев:
рассказа, порожденных «социальными условиями современной
России с ее бесправием и отсутствием просвещения»' (там же,
с. 201).
СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ
Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, №№ ВО, 86,
89-—с 16 по 27 апреля.
В рассказе отразились воспоминания1 автора о том времени,
когда он, странствуя по Руси, летом 1891 года был в Южной
Бессарабии- и на берегах' Дуная.
«Старуха Изергиль» пользовалась и продолжает
пользоваться большой любовью читателей. П. А. Заломов, прототип Павла
Власова, свидетельствовал о том, как этот рассказ наряду с
«Песней о Буревестнике» помогал в революционной борьбе (ГГ. Зало-
м о в. Воспоминания. «Ленинская смена», [Горький]; 1938^ Кг 102,
28 марта). Об этом же вспоминал и Ф. В. Гладков: «Мы, идущие
в массы и работавшие над собой, воспитывались на Вас,— писал
он Горькому в-1927 году.— Те времена были связаны с Вашим
именем. Не только- интеллигенция, но и широчайшие массы жили
Вашими образами: Это было неудержимое стремление живых сил
к действию, к борьбе, к подвигу, к героизму [...]; Страдания «Трех
сестер»- и «Самгииых» нас не трогали: мы жили страданиями Дан-
ко. Недаром эти буйные образы созданы Вами в те времена.
В;ы горели огнем своей эпохи» («Литературное наследство»,
т. 70, с. 98).
Стр. 49. Я слышал-эти рассказы под Аккерманом...— Горький
работал под Аккерманом летом 1891 года.
- Стр. 57. ...гуцулы шайкой ходили по тем местам..,—
Исследователь молдавского фольклора Г. Богач, по поводу употребления
слова «гуцул» в рассказе «Старуха Изергиль-^ пишет: «В>
низовьях пограничной реки между Россией и Румынией, в низовьях Щу-
та, «шайки» гуцулов, австрийских поданных, никогда не водились!
Корни этого «недоразумения;» следует искать в> явном
непонимании Горьким, речи- своей собеседницы (собеседника, или
«переводчика»);. Последние рассказывали ему* безусловно) о. шайках-
гайдуков, о разбойниках^ По-молдавски разбойники • называются' хо-
462
ций (единственное число хоц, с определенным артиклем — хЬцул).
В молдавском произношении начальное х—произносится h
(заднеязычным), то есть точно так же, как и начальный звук в
украинском слове гуцул [...]. Именно это новое для пего молдавское
слово, услышанное в живом произношении молдаванина, Горький
воспринял как известное ему этническое наименование. Причина —
случайная созвучность» (Г. Богач. Горький и молдавский
фольклор. Кишинев, 1966, с. 129—-130).
i' Стр. 60. ...бунтовать с вами,-русскими.— Видимо,:речь идет о
«Холерных» бунтах 1831 года (см. Н. М. Д|р ужш нги н.
Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.-Л., 1946, т. 1,
Л? №6—200).
Стр. 61. ...саблями турок, с которыми он незадолго перед тем
еоееалза греков.— Вероятно, имеется в'виду война 1828 года за
освобождение Греции.
> <А -зачем вы ходили бить мадьяр? — Речь, по-видимому, эдет
а<венгерской революции 1848 года.
,' Стр. 62. ...ушел он биться с вами, русскими...— Видимо, no-ijia-
фшевается, известное восстание в Польше в 1863 году*
¦•>"• ' \ ! '
МОЙ СПУТНИК ' '
4 , Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в
«Самарской газете», 1894, №№ 254, 257, 258, 264, 265, 267 —с 11 по 31 де-
деафря.
Рассказ написан в 1894 году в Нижнем Новгороде, где
Горький поселился после возвращения из Тифлиса.
Первые отклики на рассказ «Мой спутник», как и на
большинство ранних произведений Горького, появились в печати после
'¦ издания «Очерков и рассказов». Высоко оценил «Моего спутника»
Щ. П. Чехов в письме Горькому от 2 января 1900 года (из Ялты):
'«Писал ли я Вам, что мне очень понравился в Вашем третьем
томе «Мой спутник»? Это такой же силы, как «В степи». Я бы на
.Вашем месте из трех томов выбрал лучшие вещи, издал бы их в
одном рублевом томе — и это было бы нечто в самом деле
замечательное по силе и стройности» («М. Горький и А. Чехов». М.-Л.,
1951, с. 60).
¦ Оценка рассказа была /дана и самим автором в 1913 году.
bВ письме к И. И. Лебединову Горьки^, резко критикуя анархо-
' >&идивидуалистические настроения адресата, отрицающего госу-
^|№$>етво, общество, общественное служение, утверждал:
^' «В свое время эти мысли Я'слышала кабаках, ночлежных до-
, лмах, но я никогда не -был сторонником их, они всегда были орга-
:Шгшееки противны мне.
U Я, как мне думается, * достаточно * определенно показал преле-
<сти эгоизма в очерке «Мой* спутник», В'соединении с жульниче-
463
ской философией «Проходимца», Луки и Маркуши в
«Кожемякине»- этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит,— снедающую
нас, болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом»
(Архив А. М. Горького)»
ЧЕЛКАШ
Впервые, с подзаголовком «Эпизод», напечатано в журнале
«Русское богатство», 1895, № 6, с. 5—35. ,
Рассказ написан в августе 1894 года в Нижнем Новгороде.
История его создания и опубликования теснейшим образом
связана с именем В. Г. Короленко, который внимательно следил за
развитием молодого писателя и понял раньше других, что «это
самородок с несомненным литературным талантом» («М. Горький и
В. Короленко». М., 1957, с. 201). В одну из встреч Короленко
предложил начинающему автору написать что-либо для журнала.
Горький написал рассказ в два дня. В основу произведения
положена исповедь одесского босяка, который в 1891 году был
соседом Горького по койке в больнице города Николаева. Черновую
рукопись рассказа Горький послал Короленко. Тот высоко оценил
силу и целостность рассказа.
Так родилось произведение, с которым Горький впервые
вошел в «большую литературу».
Сразу же после появления в печати «Челкаш» был замечен
критикой. Так, журнал «Русская речь» отметил «подлинный»
талант автора, идущего «прямым путем искусства» A895, № 8,
с. 410).
Демократизм и революционизирующее значение рассказа
подчеркивал в воспоминаниях о своей юности А. С. Макаренко: «...мы
старались понять, почему «Челкаш» забирает нас за живое [...]«
Разве мы все не были обречены пережить нищенские идеалы
Гаврилы? [...]. Мы поняли, что наша жизнь действительно гнусная
[...]. Так началось новое мое сознание гражданина. Я не могу
отделить -его от имени Горького» (А. С. Макаренко. Максим
Горький в моей жизни. Архив А. М. Горького),
ПЕСНЯ О СОКОЛЕ
«
Впервые, под названием «В Черноморье» с подзаголовком
«Песня», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 50, 5 марта,
в серии «Теневые картинки». Написано в 1894 году.
Об' этом произведении молодой Горький отзывался:
«Фельетон об Уже — кусок моего ума, кусок сердца..,» («Архив
А, М. Горького», г» V. М.р 1955, с. 43) %
464
Публикация «Песни о Соколе» в «Самарской газете» не
была замечена критиками. Отклики появились после выхода
«Очерков и рассказов» Горького. «Могучим и оригинальным» назвал
талант Горького В. А. Поссе: «Горький — это живительный
протест против скуки и покоя общинно-деревенской русской жизни
; [...], это реакция против славянской расплывчатости, мягкости и
1 покорности [...]. Стремление к подвигу ради подвига, поклонение
силе как силе особенно ясно выражено в поэме /<Макар Чудра»
и в двух стихотворениях в прозе: «Песня о Соколе» и «Сказка о
Чиже» («Образование», 1898, № 11, с. 57).
Известный критик В. В. Стасов в 1906 году сказал, что
«Песня о Соколе» принадлежит к лучшим созданиям Горького и
«останется навеки» (см. В л. Карелин. Владимир Стасов. Очерк
его жизни и деятельности, т. II, Л., 1927, с. 682).
«Песня о Соколе» была взята на вооружение революционной
пропагандой. Весной 1902 года в Петербурге распространялась
адресованная «Товарищам горным студентам»
гектографированная листовка с эпиграфом: «Безумству храбрых пою я славу!»
Бакинский комитет РСДРП в августе 1903 года выпустил
прокламацию по поводу убийства в тюрьме Ладо Кецховели.
Эпиграфом взяты слова: «О смелый Сокол, в борьбе с врагами истек
ты кровью».
П. А. Заломов вспоминал: «Песня о Соколе» была для нас
ценее десятков прокламаций» («Молодая гвардия» [Курск], 1938,
№ 43, 28 марта).
На знаменах красноармейцев, уходивших в 1919 году на
фронт, были слова: «Безумству храбрых поем мы песню!»
(«30 дней», 1936, № 8, с. 66).
«Песню о Соколе» любил В. И. Ленин. «Особенно нравились
ему «Мать», статьи в «Новой жизни» о мещанстве,— сам
Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство,— нравилось «На дне»,
нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой...» —
свидетельствовала Н. К» Крупская («Комсомольская правда», 1932,
№ 222, 25 сентября).
ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ
Впервые с подзаголовком «Рассказ бывалого человека»
напечатано в «Самарской газете», 1895, № 154, 20 июля, и № 156,
22 июля.
Мнения критиков о рассказе «Однажды осенью» разделились.
Некоторые причислили его просто к колоритным зарисовкам
босяцкого быта. Мысли Горького о «сытых» и о необходимости
реорганизации социального строя были «замечены» реакционными
«Московскими ведомостями», где появилась статья А. Басаргина
(А. И. Введенского) «Развивается ли талант г. Горького?» Кри-
16. м. Горький: 465
тик противопоставил «Однажды осенью», как «балладу с
тенденцией», ^рассказам «Дружки», «Каин и Артем» и «Кирилка»,
..выполненным якобы «в прежнем <тоне,— безо всяких, особенных
«задач» и тенденций» («Московские ведомости», 1900, № 117, 29
апреля) .
Ожесточенно пытался -развенчать эту маленькую поэму в
прозе критик Е. А. Ляцкий. 'Ему iнельзя отказать в классовом
чутье, он не без оснований ">уверял,'что Горький проповедует на-
чала'бунта (см, «Вестник Европы», 1901, JSTs 11, с. 287~288).
Иронически излагая содержание статьи Ляцкого, критик-
марксист В. В. Боровский заметил,'что Ляцкий устроил
«публичный суд» над Горьким (см. В. В. В>ор о &с<к:ий. Литературно-
критические статьи. М., 1956,'с. 52), В другой статье б Горьком
Боровский назвал рассказ «Однажды осенью» трогательным, ч
отнеся его к произведениям, где «изображено Доброе, 'мягкое,
человечное...» (там же, с. 259),
ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ
Впервые, под заглавием «История с застежками, (Картинка
из быта босяков)», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 1.39,
2 июля, и №Л43, 7 июля.
Критика 90-х годов рассказа «Дело с застежками» касалась
мало. Смысл этого и некоторых.других рассказов, их значение
в творчестве Гррького впервые глубоко раскрыл В. В. Вдров-
ский:
«.„было бы ошибкой, и мышолучили бы неправильное
представление о психологическом облике .автора,— писал он,— если
бы подумали, что только те черты, которые выражают силу,
гордость, смелость, презрение и .ненависть >к .мещанскому
благополучию, одним словом, черты мощных хищников, дороги«ему и
только их умеет он находить в среде своих героев-босяков.
Напротив, эти черты вскрывает он, так сказать, по побуждениям
объективного, общественного характера, его же субъективные,
интимные симпатии тянутого-к другим «психологическим чертам:
именно к проявлениям доброты, альтруизма, мягкости,
гуманности. <Ибо М. ^Горький до мозга лсостей пума-нист,
С »какой любовью отмечает он ^благородные, гуманные 'черты
у. своих отверженных. Возьмите, например, его отношение к Емель-
яну Пиляю [...]. Вспомните трогательный рассказ «Однажды
осенью» или «Дело с застежками»1 [..:]» (В. В. Во р о в с к и й.
Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 259).
Стр. 146. «Уложением о наказаниях...» — Имеется в виду
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», изданный
в '1864 году.
466
Стр. 151. «Павелираб Иисуса. Христа*..»—цитата«• из
«Послания к. римлянам, святого апостола. Павла»,, гл. U, стих. I. Далее
цитируется гл. I, стихи И, 12,;18, и пь 2, стихи 1 и 3;
КОНОВАЛОВ
Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале
«Новое слово», 1897, ки. 6, март, с. 1—41.
,, Рассказ, написанный в октябре — ноябре 1896 года в
Нижнем Новгороде, автобиографичен. События, описанные в нем,
происходили в Казани и Феодосии»
. Горький жил в Казани в 1884—1888 годах. Хлебопекарня,
описанная в «Коновалове»,— это заведение В. С. Семенова,
увековеченное Горьким в рассказах «Хозяин», «Двадцать шесть и одна»
и повести «Мои университеты». Будущий писатель нанялся, к
Семенову подручным пекаря в ноябре 1885' года и вскоре
познакомился здесь с Александром Коноваловым. Пекарня Семенова
находилась на Рыбнорядской площади (ныне площадь Куйбышева),
на- месте Дома № 17, в сыром и глубоком полуподвале. Рабочий
день длился более 17 часов..Невыносимые условия труда привели
а 1886 году к забастовке рабочих.
Рабочих в пекарне было много, хотя в рассказе Горького
фигурируют только двое: Коновалов и его подручный Максимыч.
Реальны и другие действующие лица рассказа, например,
«стеклянные люди». Весной 1886 года юный Горький и пекарь
Коновалов часто посещали старый стекольный завод за городом, где
поселились «бывшие люди». В 1886 году здесь жило около 20
человек: Васька Грачик — бывший губернаторский лакей,,
Давыдов — бывший ветеринар, Родзяевич — бывший машинист, Рад-
лов — бывший студент и др. Горький рассказал о них в статье
«О том, как я учился писать».
Когда Алексей Пешков поступил работать к Семенову, он уже
5ыл постоянным читателем библиотеки А. С. Деренкова,
собиравшего -коллекцию редких и запрещенных книг. Этой нелегальной
библиотекой пользовалась главным образом учащаяся молодежь
Казани. Вспоминая свою молодость, Деренков рассказывал:
«Алексей' Максимович проработал у Семенова около полугода.
Работая у Семенова, он приходил ко мне, брал книги для чтения
рабочим и для себя; Книги Решетникова и Костомарова, о которых
Алексей Максимович говорит в рассказе «Коновалов», были из
Моей библиотеки» («М. Горький в воспоминаниях
современников». М., 1955, с. 81).
Вторая встреча Горького с Коноваловым произошла в
Феодосии в, конце августа — начале сентября 1891 года.
Фабула рассказа тоже реальна. Горький действительно
прочитал в газете сообщение о самоубийстве «муромского мещанина»
467
Коновалова и решил, что это его знакомый. Однако ъ газете
говорилось о другом человеке — однофамильце горьковского героя.
В январе 1926 года Горький сообщил ученикам 2-го класса 52-й
школы Ленинграда:
«Дорогие мои товарищи,— в Муроме повесился не тот
Коновалов, о котором я писал, а, как оказалось, однофамилец его;
меня ввела в заблуждение газетная заметка и тот факт, что мой
друг, А. В. Коновалов, был уроженец Мурома.
Друг же мой умер в 1902 году,— спустя шесть лет после того,
как я напечатал рассказ. Умер он в Одессе, в больнице. Врач,
лечивший его, сказал ему однажды, что есть рассказ о пекаре
Коновалове, и кратко передал содержание рассказа. Коновалова это
очень взволновало, он тотчас решил, что рассказ написан мною —
Лешей Грохало; это было мое прозвище в ту пору. Он попросил
д-ра Лундберга написать мне о том, что он, Коновалов, еще жив,
но — умирает.
Доктор и написал мне о нем.
Таким образом, ваш вопрос о самоубийстве Коновалова
отпадает» (М. Горький, Собр. соч. в 30 тт., т. 29, с. 456).
Суть характера Коновалова Горький отчетливо
сформулировал в письме к В. В. Зеленину и Л. К. Маклащину —* двум
подросткам из Сормова, которые в 1930 году прислали Горькому
свой рассказ и сообщили, что хотели бы быть похожими на
Коновалова. Горький ответил:
«Вы, ребята, пишете мне: «Хотим быть такими же, как Ваш
Коновалов, т. е. людями, вечно ищущими счастья и не находя*
щими себе постоянного места на земле». Написали вы это
потому, что вам «обоим по 17 лет» и у вас еще не было времени
серьезно подумать о человеке и его месте на земле». Далее Горький
поясняет: «...вам, людям 30-х годов ХХ-го века, нет никакого
смысла подражать в чем-либо Александру Коновалову, человеку '
второй половины XIX века, человеку, не плохому «по натуре»,
но «несчастному», жалкому, больному алкоголизмом. По болезни
своей он и не искал в жизни прочного или удобного места,
чувствуя, что личная его жизнь не удалась, да уже и никогда не
удастся ему. Был он человек по характеру своему пассивный, был
одним из множества людей того времени, которые, не находя
себе места в своей среде, становились бродягами, странниками по
«святым местам» или по кабакам. Если б он дожил до 905 года,
он одинаково легко мог бы стать и «черносотенцем» и
революционером, но в обоих случаях — ненадолго. Вот каков герой,
которому вы хотите подражать.
Единственное ценное его качество вы не заметили. Качество
это — любовь к работе. Работать он действительно любил, работал
честно, чистоплотно, в тесто не плевал, как это делали многие
другие пекаря, обозленные тяжкой работой по. 14—16, часов в
сутки. Любовь к работе, честное отношение к,,ней —это
качество социально высокоценное, и вот в этом вам следует подражать
468
Доковалаву* Тем более следует, что теперь у нас рабочие »~
единственные законные хозяева своей страны, и какое бы дело
да делал каждый, из них — он работает на себя и только для
себя, для своего государства» (та м же, т. 30, с. 156—157).
Сразу же после появления в печати «Коновалов» вызвал
оживленные споры в критике. Первые отзывы появились в «Сыне
^отечества», «Образовании» и «Русской мысли». Буржуазная и
Либерально-народническая критика не в силах была правильно
истолковать оригинальный и колоритный образ Коновалова.
Цянтересно, что в оценке этого персонажа народническая критика
^ередко смыкалась не только с либерально-буржуазной, но и с
хмсрд#итель.но*реакционной. Вслед за Михайловским Горького
^црекали в сознательном искажении жизненной правды
респектабельно-буржуазные «Русские ведомости», и солидный, уме-
,^енно-либеральный \«Вестник Европы», и не скрывавшие своего
консерватизма «Московские ведомости».
;.*1 Зато критики, стоявшие на позициях демократизма, увидели
*Щ Коновалове не бродягу^золоторотца, а страстного искателя
правды и справедливости. Так, В. Е. Чешихин-Ветринский нашел
р:нем нечто родственное тургеневским «лишним людям», заметив,
$то Коновалов — это «лишний человек» в гибнущей массе зрло-
кооотцев» («Образование», 1897, № 7—8, с. 320).
В. В. Стасов назвал «Коновалова» в числе лучших творений
Горького. Касаясь «философских» раздумий Коновалова и
других героев Горького, он воскликнул: «...разве все это не вечно
живая, трепещущая, бьющаяся мысль о всем нынешнем,
существующем, являющаяся в формах великого, страстного, поэтического
Таланта? Это ли еще не вечная мечта о счастье и несравненной
великой будущности человечества?» («Новости и биржевая
газета», 1904, № 272, 2 октября);
В. В. Воровский в написанной в 1902 году статье «О М. Горь-
: ком» развенчал как народнические, так и либерально-буржуазные
концепции раннего творчества писателя. В частности, резко
полемизируя с Ляцким, он писал: «Коновалов еще тесно связан с
обществом; он живет, поскольку может, ремеслом, он не оторвался
еще от среды, породившей его [...]. Он уже чувствует [...], что
«жизнь — яма», но, решая по-своему общественный вопрос, он
исходит не из отрицания общества, а, напротив, из чисто
социальной точки зрения. «Нужно такую жизнь, чтобы в ней всем было
просторно и- никто никому не мешал»,— заявляет он. Или: «Кто
должен строить жизнь?» — спрашивает он и, не запинаясь,
решает: «Мы! сами мы!» (В. В. Воровски и.
Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 60). По мнению Воровского, Горький
обнаружил в своем герое за грубой оболочкой «такие жемчужины
нравственных качеств, к которым тщетно апеллируют соврёмент
ные писатели и мыслители» (там же, с. 66).
Стр. 164. Герасим — герой рассказа И. С. Тургенева «Муму»,
469
Стр., 168 .;±гщустщю историю Сысбйки а Пилы-— Имеется t
виду повесть 'Ф. Решетникова A841—1871) «Подлиповцы».
•Стр. [Ш'//. И. 'Костомаров 'A817— №85) —историк, аятор
книги «Бунт Стеньки Разина».
'Стр. *178. «Бедные люди» —• первая• повесть Ф. М. Достоевско*
то.' Макар Девушкин — - герой п овести.
Усолье*— город и а Урале, в'верховьяхlреки Камы
(переименован в Березники).
Стр. 179. «Стеклянные люди».— Старый стекольный завод под
Казанью, <щуиж№\ ежа -л купцу=ста роверу В. Савинову. Позднее
там была сектантская молельная, закрытая по
распоряжению'правительств a *в i\ 850-х годах. После этого завод служил
пристанищем да я "бешриютных. При <Советской власти здесь создан
огороди о-жмвотоводческий ховхоз iNV ' 1 К аз а некой - железной
дорога (Н. кК^а я и«ми. 'Горький в 'Казани в 1884— 1888 гг, Казань,
1940, с. 42).
Стр. \&2^Воевада1Прозороваки&*~ был тяжелоранен при
взятия /Астрахани^Степаном fРазиным,!По приказу ^Разина"сбрашен
с башни.
Ст:р* 192.;/^^а«,,;Эрнест^еод^^Амадей<<177б—Ш22) — нив-
мецкий -писатель, v один из «выдающихся . одредета&ителей
западноевропейского романтизма.
Фальстаф — персонаж шекспировских .пьес «Генрих IV»,
«Виндзорские проказницы».
Стр. 195 „.попал в Феодосию.— Б 1890 году .Севастополь .вновь
стал главной базой Черноморского .флотами коммерческий лорт &
нем был закрыт. В связи с этим началось строительство .большой
гавани в Феодосии. Горький лршлел туда л* поисках работы &
конце августа — начале сентября Л 891 года.
Стр. 197. Гулливер — герой известного v романа * Свифта
«Путешествие Гулливера» A726).
Стр, 198. Ксеркс — персидский царь D86—465 гг. до н. э,),
предпринявший поход для завоевания Греции/Был разбит в
морском сражении.
...анатолийские турки — Анатолия — старое название иолу»,
острова Малой лАзии, на котором расположена Турция.
Стр.'201. ...книгу насчет англичанина-матроса... — Имеется в
виду'Робинзон — гербй романа Даниэля Дефо «Жизнь и
удивительные пр включения Робинзон а Кру зо» A71Щ»
ЯРМАРКА В ТОЛ ТВ Б
Впервые, ее * подзаголовком **Очерк», ^нашечата но -в f азете «Ни-
листок», 1897, Ш-Ш6,и20 рполя, >и $ls 2Ш, 3 августа,
Написано в 1897 шду -^.вдеввдно, < в < первой шладвине > mourn,
доеетил ярмарку в селе Ролхва-29'лкжя этого же года.
470
В очерке бтражены- богатые и яркие впечатления Горького из
его жизни на Украине летом 1897 года.
БЛ 19П году Горький-писал с Капри киевскому литератору
М. М. Данько, переведшему на украинский язык «Ярмарку вТолт-
ве»: «Прочитал я эту вещицу, и мне показалось, что на
украинском языке она звучит лучше, музыкальнее. С удивительной ясно-
"стьку вспомнил я мои поездки по ярмаркам Полтавщины, фигуры
и лица добрых моих знакомых из Мануйловки, Омельника, Ман-
'желиет — хорошие два лета прожил я на-Пеле в 97—8 годах! И так
рад^был еще раз вспомнить об этом[...].' Спасибо Вам...» (Архив
А*. М. Горького).
В критической литературе; в отзывах
писателей-современников «Ярмарка в Голтве» получила высокую"оценку.
Так, в статье , «Еще > о г. Максиме Горьком и его героях»
'Ш К. Михайловский усиленно • рекомендует' читателям
произведения, которые «не имеют к босякам никакого отношения, ни пря*
' mofo, ни косвенного, ни реального, ми аллегорического». Первое
среди них — «Ярмарка в Голтве» —«...маленький очерк,
написанный^ без'претензий на кЪкую-нибудь глубину или «проникновение»,
безделка, мо вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором,
производящим тем большее впечатление, что этого элемента
совсем нет* в-других произведениях г, Горького» («Русское4
богатство», 1898, № 10, с. 93).
Вскоре Горький получил письмо от'А. П. Чехова (от 16
ноября^ 1898-года), который спешил сообщить; что-«Ярмарка в~
Голтве» ему «очень понравилась» («М< Горький'игА. Чехов». М;-Л.,
1961, с. 24). 25 апреля 1899 года Чехов писал Горькому, что
очерк понравился Л. Н. Толстому, Аналогичное свидетельство
встречается в воспоминаниях В. А. Поссе. Па*елов'ам^ мемуариста,
Толстой сказал Горькому при встрече: «Botv есть' увасу рассказ
«Ярмарка в- Голтве». Этот мне очень понравился. Просто;
правдиво; Его и два раза прочесть можно» (Г. И. Лебедев и
Ш>. № Поссе. Жизнь Л. Н. Толстого, СПб, 1913, с; 120). По
утверждению'Поссе, «Ярмарка в .Голтве» напомнила-Толстому Го-
голя^с его «удивительным юмором» (там ж е).
втр. 214. Солопий Черевик — один из центральных- персона-
' жей «Сорочинской ярмарки» Н. В. Гоголя A831).
Стр. 215. «Андрей Бесстрашный, русская повесть» — вероятно,
одночгз изданий лубочной литературы (возможно, «Храбрый
Андрей Победоносцев и прекрасная Селима, умирающая на его
гробе»; составил С. П. Извольский, М., 1868).
«Япанча, татарский наездник, взятие города Казани» —
историческая повесть И. С. Кассиррва (наог; фамилия: Ивии),
выдержавшая с 1875 года множество изданий и выходившая под
названиями (иногда и без обозначения автора): «Татарский наездник»,
«Япанча — татарский наездник,.,или Гибель последнего царя Ка-
аани», «Япанча татарский наездник, или Покорение Казани
Иоанном Васильевичем Грозным».
471'
СУПРУГИ ОРЛОВЫ
Впервые, с подзаголовком «Набросок», напечатано в журнале
«Русская мысль», 1897» кн. 10, с, 1—50.
В рассказе отразились события 1892 года, когда в «холерных
бунтах» проявлялось общее недовольство народных масс своим
положением.
Первые газетные и журнальные отклики на «Супругов
Орловых» были отрицательными. А. М, Скабичевский даже пришел
к заключению о... «некотором истощении творчества молодого
писателя» («Сын отечества», 1897, № 303, 7 ноября). Впрочем, столь
суровая оценка не помешала Скабичевскому в Ьбзоре текущей
литературы за 1897 год назвать «Супругов Орловых» вместе с
«Коноваловым», «Озорником» и «Мальвой» -^ «талантливыми
повестями» (там же, 1898; № 1, 1 января). ; '"
В связи с изданием первого и второго томов «Очерков и
рассказов» стали появляться критические работы о Горьком или
отдельные высказывания о «Супругах Орловых» более
объективного и обстоятельного содержания.
В журнале «Русская мысль» рассказ был назван «более
обработанным» из произведений Горького («Русская мысль», 1898,
№ 1, библиограф, отд., с. 40). Несколько месяцев спустя в том
же журнале была напечатана развернутая рецензия на первый
том «Очерков и рассказов». Главное достоинство «Супругов
Орловых», как и других рассказов, рецензент увидел в том, что они
отразили «запросы от жизни и порывы к лучшему ее устройству,
проявляющиеся в среде людей рабочих, начинающих чувствовать
неудовлетворенность от того положения, в котором опи
находятся» («Русская мысль», 1898, № 8, с. 307).
Вероятно, из-за цензурных препятствий не увидела света
статья В. В. Воровского «О М. Горьком», написанная в 1902 году
и выражающая марксистскую оценку раннего творчества
писателя. Воровский, подробно анализируя «Супругов Орловых», вскрыл
социальные причины, способствующие возникновению и
формированию типа Григория Орлова и ему подобных — типа
«антиобщественного, анархического по своему психическому укладу»,
Воровский назвал рассказ «самым замечательным с
публицистической точки зрения» (В. В. Воровский.
Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 58, 61).
БЫВШИЕ ЛЮДИ
, Впервые, .,с подзаголовком «Оуе.рк», напечатано п журнале
«Новое слово», 1897, № 1,, октябрь, с> 54—*.8О, чн, № 2, ноябрь,
с. 1—351,
472
В рассказе нашли отражение казанские встречи и
впечатления писателя 1885—1886 годов.
Рассказ «Бывшие люди» вызвал обширную критическую
литературу. Еще не вышла в свет книжка журнала «Новое слово»
с окончанием произведения, а «С.-Петербургские ведомости» уже
опубликовали «Критические очерки» Н. Ладожского (В. К. Петер-
сена). Отмечая способность Горького к большим художественным
обобщениям, оценивая «Бывших людей» как «прекрасный очерк»,
рецензент писал: «.^являющиеся перед нами фигуры
пострадавшего на жизненном поприСце ротмистра Кувалды, учителя, разврат-
нрго расстриги дьякона, мужика с перерезанным горлом, злого
неудачника Объедка дышат [...] творческой правдой [...]. Заключи
тельная сцена в харчевне Вавилова полна той самой творческой
правды, которая всегда стбит много больше, чем сухая и
случайная правда этнографическая» («С.-Петербургские ведомости»,
1897, № 316, 18 ноября).
Критики демократического и марксистского направления
акцентировали внимание читателей на обличительном пафосе
произведения. Так, в статье Скрибы (Е. А. Соловьева-Андреевича)
рассказ «Бцвшие люди» наряду с другими рассказами Горького
о босяках рассматривался прежде всего со стороны его
протестующего начала. Скриба так определял позицию Горького:
«Протест — вот слово, которое может служить ключом к пониманию
босяцкой психологии в изображении г. Горького». Но, с другой
стороны,— уточнял критик,— «насчет безнадежности своих босяков
г. Горький, по-видимому, нисколько не сомневается». Называя
рассказ «Бывшие люди» самым большим и лучшим рассказом
Горького, Скриба заострял свое внимание не на «безнадежности»
босяков, а на романтической приподнятости, гордой независимости
Главного персонажа — Кувалды, который «в последней сцене
неизбежного ареста вырастает до больших размеров, как
настоящий вольница. Он, пожалуй, красив в эту минуту, как красив
преступник, идущий на казнь с гордо поднятой головой». В учителе,
психологически ином типе, Скриба подчеркивает тот же протест:
«...и в нем сидит протестующее начало, только не за себя. На
себя, он, быть может, даже от излишней совестливости, окончательно
махнул рукою» («Новости и биржевая газета», 1897, № 334, 4
декабря).
Стр. 287 ...были там амаликитяне...— Амаликитяне —
древнее племя арабского происхождения, кочевавшее по Аравии.
Стр. 288. А филистимляне? — Филистимляне —
населявшее Сирию древнее племя, история которого, как и история ама-
ликитян, нашла отражение в Библии.
стал рассказывать о. киммерийцах, скифах:..—К и м мер и й-
ды-древнейшие из известных науке племен, населявших
северное Причерноморье. Скифы — древние ираноязычные племена;
кочевавшие в Причерноморье.
473
Татары от Измаила... а он отч еврея*,.— По библейской
легенде, сын еврейского патриарха Авраама и египтянки Агари
Измаил— родоначальник народа измаильтян (племена бедуинов),
впоследствии — последователей ислама.
Или — эоом? — Э д о м — в древности небольшая страна. в
Передней Азии (на .территории современной Иордании),
населенная эдомитянами, по библейскому преданию •— потомками Исава»
прозванного Эдомом,
МАЛЬВА1
Впервые, с подзаголовком «Набросок», напечатано в
журнале «Северный/ вестник», 1897, №11, с» 1—27; и •№' 12,
с. 1—18.
Написано, по-видимому, в Мануйловке* где ГЬрький жил с
10 мая по 23 октября 1897 "года*
Первые печатные отзывы о «Мальве» появились уже в 4897
году»'Рассказ был* принят критиками как?новое свидетельство*
незаурядного таланта автора; Однако- замысел^автораг большинству
из' них»: показался -г неясным/ а> общий* смысл- рассказа;—непонято
ным, и странным. Автор- анонимной • статьи в журнале»«Книжки
«Неделим даже - увидел-' в «Мальве»* произведение.;, декадентское*
(«Книжки «Недели»? 1897, № 12/с; 221^—223),
Наиболее развернутый разбор'рассказа дан в статье без под-*
гшси* (автор —П. Ф/ Николаев^1 «Периодические'издания»* в- бйб*
лиографическом* отделе журналаа «Русскаял мысль»» Критик'
устанавливает параллели между творчеством Горького, с одной сто*
poHbty иитворчеством Короленко'и^Помяловского, с другой? иногда
очень верно оттеняя * художественное^ своеобразие молодого
писателям «Г-н -Горький^ по- своему обыкновению и в Мальве немногие
мим резкими ' штрихами* рисует ^на\г< море,- реющих над- ним' чаек,1
каменистый или- песчаный берег;"и^от его-4рассказа действительно
вееисоленым» воздухом этого' моря? читатель действительно видит
неласковые волны,1 плещущие= -у>- его ног, и яркие * лучи южного
солнцау. № слышит крик-чаек, занятых-своей вечной1 неугомонной
борьбой, за существование. И личности; о которых - идет речь1 в
рассказе, составляют как бы необходимые дополнения к этому
ландшафту; они гармонируют.с.hhmv[...]. Вы чувствуете, что:ни на
каком ином фоне.они не могли-, бы>представляться- вам такими
яркими» («Русская мысль», ,1898, № I, разд. III, с. 41).
Недостатком рассказа критик считает, повторение мотивов и образову уже
встречавшихся в предыдущих произведениях Горького (т а м- ж е,
с, 41—42).
Труднейшей загадкой для критики оказалась фигура героини
рассказа, Мальвы. В статье «Еще о г» Максиме Горък-ом и его ге?
роях» Н. К. Михайловский сравнивает Мальву с героинями Досто-
474
евйкого; «Мальва — фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем
более надо на ней остановиться,- что едва ли не во всех женщинах
, r>FopbKoro есть, так или иначе, "немножко'Мальвы. Это тот самый
.женский тип, который мелькал передДостоевским в течение чуть
•шигне-всей его жизни: сложный > тип,¦[..-.] к нему решительно
неприменимы обычные понятия о доброму'злом [...]/Мальва: г. Горько-
15О';принадлежит- к этому^же^титту,' ко. она- яснее, понятнее
загадочны* женщин Достоевскогог [...]»«и' дело<здесь неш силет. Горького,
*а в»той грубой и<сравнительвоппростой среде, в которой выросла
,ж)'живетсего'^Мальва и благодаря которой ее психология
элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые
' тщетно* старался уловить Достоевский...» («Русское богатство»,
, 1898, № 10, разд. II, с. 65—66, 68).
у (Юлубоким 'Пониманием Мальвы и других женских образов
'отличаются высказывания ^В. В. Воровского vв статье
Горький» A910), «...возьмите старуху * Изергиль,— гово-
TJ-критик,—' какое богатство'переживаний, какая тлубинз1
чувсту^этой ^женщины, имеющей право "Спрезрением взглянуть1 на
худосочную любовь «культурных» людей. То же
а, то^даеМарька из «На плотах»1 [...]. Те духовные че\рты,
должныJ бы -явиться украшением 'человека,— смелость и
,'1дардоеть, .свободолюбие''и:преэрение"К власти денег, сильные' чув-
Щ1 искренние-порывы—-всеэто'растеряно и забыто образован-
обществом. К позору '-культурного -мира, эти черты можнб
j 5встр€тить.лишь среди отбросов общества» (В. В.' В о р о в с к и й.
, Литер а тур но* критические статьи/"М., 1956, с. П2б8).
: ' Стр. 354. Он нанялся на ватаги...— Ватага — рыбачья
Стр. 365. Про Алексея божия человека.— Имеется>в виду
легенда об Алексее — «человеке божием», переводный
памятник-житийной литературы.
«ьСтр. 385 „.проводила, <жалко стало? — снова спросил ее Се-
щежка словами песни.— Народнуюлееню типа «Матани»,-со<
словами: «Проводила,— жалко стало, // Стою, плачу у ^вокзал а...», —
приводит* В./Арефьев (ем. Н.'Аф^в. Новые народные песни., Дере-
]О1енские ,думы и .-дела.—«Саратовский дневник», 1893, ;№ 285,
; 30 декабря). , — . .
1897—1901
ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
|- Впервые печаталось нелегально ib конце марта 1901 года в
|#ектографированных' изданиях запрещенного цензурой рассказа
|$М. Горького «Весенние мелодии» (как его заключительная часть);
475
Как самостоятельное произведение впервые напечатано в
журнале «Жизнь», 1901, т. IV, с. 322—323.
«Песня о Буревестнике» написана в Нижнем Новгороде,
после возвращения Горького 12 марта 1901 года из поездки в
Петербург и Москву. Писатель в Это время был связан с московской
организацией «Искры», вел революционную пропаганду в Нижнем
Новгороде среди студентов и рабочих, выступал инициатором
широких общественных протестов против преследования студентов,
«...в сердце у меня горят зори весенние и дышу я во всю грудь»,—
писал он весной 1901 года Л. Андрееву (Литературное наследство,
т. 72. М., 1965, с. 87). В этом же письме Горький упоминал о том,
что недавно писал о буревестнике: «... написал и напечатаю»
(тай же),
Выход журнала с «Песней о Буревестнике» вызвал переполох
среди жандармов. В специальной справке департамента полиции
о журнале «Жизнь» сообщалось: «В апрельской книжке «Жизни»
предназначался к напечатанию рассказ Пешкова «Весна», в коем
характеризуется современный момент — момент возрождения
сознания в обществе [...]. Представитель молодого поколения —
Чиж — поет крайне возбуждающую песнь «О Буревестнике».
Самый рассказ был запрещен цензурой, но отдельно «Песнь о Буре-
вестнике» напечатана в апрельском нумере текущего года
журнала «Жизнь». Далее приводилась полностью «Песня о
Буревестнике» и говорилось о «сильном впечатлении», произведенном ею в
литературных кругах. В заключение охранники констатировали:
«Горького стали называть не только буревестником», но и «б у-
р е г л а ш а т а е м», так как он не только возвещает о грядущей
буре, но зовет бурю за собою» («Революционный путь
Горького». М.-Л., 1933, с. 49—51),
Цензура вскоре поняла свою ошибку. «Песня» была одним из
поводов к запрещению журнала,— номер, в котором она
напечатана, оказался последним.
Распространению «Песни о Буревестнике» способствовало
включение ее в сборники революционных стихов и песен, выходив-
. шие за границей.
Ставшая в годы первой русской революции боевым
паролем, «Песня, о Буревестнике» вызывала ненависть в лагере
реакции, ,
В передовых кругах русского общества «Песня о
Буревестнике», была принята как пламенная революционная прокламация?
произведение широко распространялось, через, нелегальные
издания. Ем. Ярославский в статье «Цуть пролетарского писателя в
подполье» писал: «...особенно большое значение имел «Буревест-
, ник» Горького — эта боевая песнь ре,врлю,цвди.]вряд ли в нашей
литературе можно найти произведение, которое выдержало, бы
столько изданий, как «Буревестник» Горького. Его
перепечатывали в каждом гбродё, он распространился в Экземплярах,
отпечатанных" на'гектографе и на пишущей машинке;'его переписывали
476
от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в
кружках учащихся. Вероятно, тираж «Буревестника» в те годы
равнялся нескольким миллионам» («Революционный путь Горького»,
М.-Л., 1933, с. 9).
М. И. Ульянова свидетельствует: «...мы зачитывались его
произведением «Мать», заучивали наизусть бессмертную «Песнь о
Буревестнике» («М. Горький в воспоминаниях современников».
М., 1955, с. 41). М. И. Калинин назвал горьковского
«Буревестника» «предвестником» 1905 года, произведением, в котором
«прекрасно передано революционное стремление передовых людей
старой России» (М. И. Калинин. Об искусстве и литературе.
Статьи, речи, беседы. М., 1957, с. ИЗ, 205).
Слова «Буря! Скоро грянет буря!», «Пусть сильнее грянет
буря!» стали крылатыми (см., в частности, сборники «Листовки
петербургских большевиков. 1902—1917», т. 1, 1902—1907. М., 1939,
С. 82; «Листовки Кавказского союза РСДРП. 1903-^-1905 гг.». М.,
1955, с. 414).
«Песня о Буревестнике», по словам Н. К. Крупской, ярко
отразила «весь революционный настрой Горького; каждая строка
песни выражает то, что переживал тогда рабочий класс, каждая
строка дышит поэзией революционной борьбы рабочего класса.
Кто прочтет эту песню, поймет, за что так полюбил Горького
Ильич, за что полюбили его так рабочие массы. Не тогда пришел
он к большевикам, когда они победили, а в разгар борьбы»
(Н. К. Крупская.. Об искусстве и литературе. Статьи,
письма, высказывания.— М., Л. 1963, с, 191). В статье «Ленин
и Горький» Н, К. Крупская отмечала, что В. И. Ленину
«нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой» (там
же, с. 48).
Образы «Песни о Буревестнике» В. И. Ленин использовал в
1906 году в статье «Перед бурей»: «Мы стоим, по всем признакам,
накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на
то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной
того же героизма массы, которым ознаменованы все великие
этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо
кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы
погрозить правительству, пусть эти ограниченные мещане всю
силу «ума и чувства» вкладывают в ожидание новых выборов,—
пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу
буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии
трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут
тело жирное в утесах».
«Пусть сильнее грянет буря!» (В. И. Ленин. Поли. собр.
соч., т. 13, с. 337—338).
Имя Буревестника закрепилось за самим создателем
«Песни», вошло в критику и публицистику, а, потом в поэзию и
фольклор.
477
СКУКИ РАДИ
Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в «Самарской
газете», 1897, № 275, 25 декабря.
Рассказ «Скуки ради» написан в селе Каменном, Тверской
губернии. В рассказе отразились впечатления, оставшиеся в памяти
писателя со времени его службы на железнодорожных станциях
Волжская, Добринка, Борисоглебск и Крутая Грязе-Царицынской
железной дороги (осень 1888 — весна 1889 года).
Рассказ был высоко оценен критикой. Современники отмечали,
что Горький продолжает лучшие традиции русской
реалистической литературы XIX века.
«Очерк написан без всяких подчеркиваний,— писал В. А. Пос-
се в статье «Певец протестующей тоски»,— но, тем не менее,
прочитав его, трудно удержаться, чтобы не воскликнуть:
«Страшно жить на этом свете, господа!». Сравнивая «Скуки ради» с
«Зазубриной», критик отмечал: «В сознании Горького «мир от-
верженных> отражается более человечным, менее равнодушно-
жестоким, чем среда полуинтеллигентных железнодорожных
чиновников» («Образование», 1898, № Н, отд. И, с. 49).
«Значительным по замыслу и истинно превосходным по
исполнению» считал рассказ К. К. Михайловский. В статье
«Литература и жизнь» он писал: «Самое чуткое ухо не услышит здесь ни
одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не
прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и
никто не жалуется на «яму», но читатель а без авторского
подсказывания сам скажет: Какая яма! Какая ужасная яма эта
жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее
издевательство над людьми! Проделывается не злобно, а именно
только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти
жестокие забавники, творящие издевательство, но* не ведающие,
что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже
не больше сожаления, чем их жертвы; ибо они, эти жестокие
забавники,— жертвы «ямы»...» («Русское богатство», 1898, № 10,
отд. II, с, 93).
Марксистская критика особо отметила в ранних рассказах и,
в частности, в данном, с одной стороны, глубоко гуманистическую
направленность, с другой — обличительную, порой сатирическую
устремленность.
Стр. 395. Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть
банкротство всякой мысли.— У Шопенгауэра: «...карточная игра
во всех странах сделалась главным занятием всякого общества:
она масштаб его ценности и признанное банкротство всякой
мысли» (Артур Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. Т. 1, СПб,
1892, с. 33).
Стр. 396. «Да, экономна мудрость бытия: все новое в ней
шьется из старья».— У К. М, Фофанова в стихотворении «Дума
478
в Царском селе» вместо «Да, экономна...» — «сАх, экономна...»
(К. М. Фофанов. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1962,
с. 269).
Стр. 401. За маг свиданья // Терплю страданья/ — Слова из
романса «За миг свидания» — текст и музыка М Штеййберга
^Песенник. СПб, 1908, с. 31),
Стр. 402'. Смеяться, право, не грешно Ц Над тем, что кажется
'смешно! — В стихотворении HI. M. Карамзина «Послание к Алек-
'сандру Алексеевичу Плещееву» A794) вместо «Над тем...» — «Над
всем...» (Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, т. 2. М.— Л.,
1964, с. 44).
Стр. 404. Но «не в шитье была тут сила»... «Нарядная и
убогая»...— В стихотворении Н. А, Некрасова «Убогая н нарядная»:
«й ие в шитье была там сила» (Н. А, Некрасов. Поли, еобр,
соч., т, 2. М, 1948, с. 47, 48),
ЧИТАТЕЛЬ
Впервые;, с подзаголовком «Бехеда», напечатано в журнале
«Космополис. Международный журнал», 189В, т. XII, «№ 1Ц
с, -77—92.
Как предполагают горьковеды, начало работы над рассказом
«Читатель» можно отнести к 1895 году, время завершения ~~
к апрелю — сентябрю 1898 года.
Горький возлагал большие надежды на этот рассказ. Уже в
первом известном нам письме, содержащем упоминание о нем
(Е. П. Волжиной от 25 февраля 1896 года), автор замечал, что
рассказ должен «возбудить толки, ибо тема этой вещи очень
важна. Я писал ее, не щадя себя, и вложил в нее много моей правды».
«У меня, Катя, есть своя правда,—- писал он,— совершенно
отличная от той, которая принята в жизни, и мне много придется
страдать за мою правду, потому что ее не скоро поймут и долго
будут издеваться надо мной за нее» («Архив А. М. Горького», т, V,
М, 1955, с. 13),
Рассказ был задуман как своеобразная исповедь и
эстетическое credo автора. Отвечая на вопрос Репина о замысле рассказа*
Горький отмечал «личный» его характер: «Читатель» — это я,
человек, в беседе с самим собою, литератором. Я, человек, недово*»
лен собою, писателем, ибо я слишком много читал и книги
ограбили мою душу. От чтения я утратил огромное количество
оригинального, своего того, что от природы свойственно мне»
(М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 28. М, 1954, с. 100).
Рассказ «Читатель» встретил в общем доброжелательное
отношение критиков самых разных направлений. Первым откликнулся
Н. К. Михайловский в статье «Кое-что о современной
беллетристике». Главное достоинство рассказа критик увидел в том, что
479
Горький верно оценил состояние «современной беллетристики»,
Сумел выразить «дух» времени («Русское богатство», 1899, № I,
отд. II, с. 84, 77),
Современники нашли в произведении Горького отражение
собственных раздумий. Репин писал 17 ноября 1899 года Горькому
по поводу третьего тома его «Очерков и рассказов»: «Во всех
этих вещах (рассказ «Читатель» входил в число названных им
произведений.— Ред.) есть нотка глубокой души, стучащей в
сердце человека» (цит. по кн.: И. Зильберштейн. Репин и
Горький. М.— Л., 1944, с. 23).
Рассказ «Читатель» встретил понимание и одобрение со
стороны марксистских критиков. Критик журнала «Правда» А. А. Ди-
вильковский в опубликованной в 1905 году статье о Горьком,
рассматривая творчество писателя с точки зрения социального
«героизма» («новой, оригинальной идеи, принадлежащей в
русской изящней литературе одному Горькому»,— идеи
революционного преобразования общества), весьма положительно в связи с
этим оценивает и рассказ «Читатель». Отнеся этот рассказ к
«роду поэтических «раздумий» автора о своем призвании как
писателя», Дивильковский видит в нем «и недовольство автора
прежней деятельностью новеллиста, как слишком мелкой,Иг клятвы
самому вперед постараться «глаголом жечь сердца людей». Тем с
большим сочувствием констатирует критик перелом в творчестве
молодого писателя («чтобы уясненная идея сама стала мощным
фактором действительности»): «Корабль автора, видимо,
готовится бросить робкий каботаж у берегов и пуститься в широкое,
открытое море» (А, Дивильковский. Максим Горький..,
«Правда», 1905, февраль, с. 122; апрель, с. 118).
КИРИЛКА
Впервые, с подзаголовком («Из записной книжки»),
напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. 1, с. 1—12.
Рассказ написан в конце 1898 года в Нижнем Новгороде.
Первом критическим откликом на это произведение был
отзыв К П. Чехова: «В Вашем «Кирилке» все портит фигура
земского начальника, общий тон выдержан хорошо. Не изображайте
никогда земских начальников. Нет ничего легче, как изображать
несимпатичное начальство, читатель любит это, но это самый
неприятный, самый бездарный читатель [.,.] я живу в деревне, я
знаком со всеми земскими начальниками своего и соседних уездов,
знаком давно и нахожу, что и их фигуры, и их деятельность
совсем нетипичны, вовсе неинтересны...» В этом же письме Чехов
высказал несколько замечаний о характере пейзажных зарисовок:
«Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку
(антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежит-
480
'Ш ярирода шепчет, говорит» грустит и т. п,—такие уподобление
делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми»
иногда неясными...» («М. Горький и А. Чехов». М., 1951, с. 31, 30),
Рассказ привлек внимание народнической критики, которая
одобрительно встретила «Кирилку». А. М. Скабичевский видел в
этом произведении «прелестную бытовую сценку», в которой отра«
жается «как в микрокосме» одно из характерных явлений «совре*
менной. русской жизни, взятой в ее целом», «...на каждом шагу
vBi интеллигентных сферах мы можем слышать, как беспощадно че-
етят мужиков — и спившимися до полного помрачения
пьяницами* и лентяями, и,лежебоками, отвыкшими от труда и
старающимися Жить лишь подачками и воровством. Упускают только все эти
хулители совсем из вида одно очень маленькое обстоятельство:
именно, что они и едят и пьют, и детей воспитывают, и за границу
катаются, и искусствами наслаждаются,—все это на мужицкие
Деньги» («Сын отечества», 1899, № 121, 7 мая).
" А. И. Богданович указывал: «Кирилка» — прекрасный рассказ,
написанный с тонким юмором, выдержанный и вполне
законченный по форме [...]. В «Кирилке» г. Горький проявил новую черту
фаланта, сближающего его отчасти с Гл. Успенским, который так
'тондо и метко умеет осветить отношение к народу других классов,
йшвущих за счет 'этого последнего». Большим достоинством этого
Црсказа критик считал типичность его персонажей: «Все эти лица
живут, каждый с своим языком и характерными особенностями,
и среди них философски-спокойный Кирилка, которому все равно
ж переслушать пустых речей, раздающихся вокруг него и не
имеющих ни малейшего отношения к его жизни» («Мир божий», 1899,
Ш 4, отд. II, с, 15—16).
:, ' Стр. 424, Вся штука в большой ч/се...—Ч к а — плывущая
Шьдйна,
1899—1906
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА
Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. XII, декабрь,
Ш. 263—276.
? , В основу произведения положены впечатления писателя, евя*
Данные с жизнью в Казани и работой в булочной Семенова.
V1 Рассказ получил высокую оценку выдающихся русских писа-
^ и общественных деятелей.
Н. К. Крупская в своих воспоминаниях «Ленин и Горький» пи^
^ала: «Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича
Горького как писателя [...) любил он такие вещи Горького, как «Стра*
!$ти-мордасти», как «Двадцать шесть и одна» («В. И. Ленин ir
481'
А. М. Горький. «Письма, воспоминания, документы». М., 1969,
с. 395). В июне 1934 г. Н. К. Крупская писала Горькому:
«Вспоминался мне все Ваш рассказ «26 и одна» — один из моих любимых
Ваших рассказов...» («Октябрь», 1941, № 6, с. 26).
Чехов писал Горькому 15 февраля 1900 г.: «Двадцать шесть
и одна» — хороший рассказ, лучшее из того, что вообще
печатается в «Жизни», в сем дилетантском журнале. В рассказе сильно
чувствуется место, пахнет бубликами» («М. Горький и А. Чехов». М.,
1951, с. 69).
Восторженно встретил sto' произведение В. В. Вересаев,
писавший Горькому 20 января 1900 г.: «Двадцать шесть и одна» —
чудно, мне крепко хотелось пожать Вам за нее руку» (Архив
А, М. Горького),
Понравился рассказ н Л. Н* Толстому; особенно хвалил он
начало рассказа (см.: Н. Н. Гусев; «Летопись жизни и творчества
Л. Н. Толстого. 1891—1910». М, I960, с. 354). Однако Толстой
высказал и ряд критических замечаний.
В критике произведение вызвало разнообразные отклики. Так,
Л. Е. Оболенский считал поэму Горького «символистическою»;
она отражает веру забитых людей в идеал, а также и бессилие
этих людей, отсутствие у них чувства собственного достоинства
(см.: «Критические статьи о произведениях Максима Горького».
СПб, 1901, с. 233, 235). Положительное, утверждающее начало
произведения, его революционная направленность не были поняты
Оболенским,
Зато они были «замечены» реакционной критикой, которая
встретила рассказ крайне враждебно. Так, М. О. Меньшиков
пытался внушить читателям, что Горький в рассказе «Двадцать
шесть и одна» и в других своих произведениях проповедовал
отказ от нравственных устоев (см.: «Книжки «Недели», 1900, № 9,
с. 239).
Против вульгарных измышлений Меньшикова выступил
сочувствовавший марксистам видный ученый и общественный деятель
М. М. Филиппов. Говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна», он
отметил реалистическое изображение Горьким тягот трудовой
жизни. «Трудовая жизнь супругов Орловых, пока они еще вели ее
в сапожной мастерской, представляется Горькому жизнью в
смрадной яме, способною лишь развратить и притупить людей.
Еще хуже положение таких рабочих, как пекари, в рассказе
«Двадцать шесть и одна» [„.% Здесь Горький пишет даже не как
сторонний наблюдатель, но йо автобиографическим воспоминаниям —
он сам когда-то исполнял эту работу, м, по его словамг более
трудной работы, чем эта, -ему не приходилось исполнять* хотя он
видал-всякие ввды» («Научное обозрение»» 1901, № 2* с. 106).
Об «том же писал и Н. Геккер: «..л «Двадцать, шесть и одна»
мы впервые находим полную картину труда, в которой описание
работы дано не с внешней стороны или с точки зрения ее влияния
на отдельного работника, а в связи с душевным состоянием всех
482
ее участников. Впервые нам изображена мастерская (булочная),
в которой мы видим «двадцать шесть» не только работающими изо
дня в день при одних и тех же утомительных, изнурительных и
опустошающих душу условиях, но и одинаково чувствующими,
думающими и одинаково поступающими. Мы видим жизнь
мучительную, поистине каторжную, и в ней людей, хватающихся за
- каждое упование, надежду, даже иллюзию, которая может
заполнить опустошенное содержание этой жизни» («Критические статьи
а произведениях Максима Горького». СПб, 1901, с. 211—212).
ЧЕЛОВЕК
Впервые напечатано отдельным изданием: Максим
Горький. Человек. Verlag Dr. j. March tewski. Munchen, 1904, и
одновременно в «Сборнике товарищества «Знание» за 1903 год», книга
первая. СПб, 1904.
Идея произведения, в центре которого стоял бы обобщенный,
философски осмысленный образ Человека, возникла у Горького
еще в период арзамасской ссылки. 24 или 25 июля 1902 г. он со-
, ' общал Пятницкому: «Учусь играть на пианино, дабы научиться
играть на фисгармонии, уверен, что научусь. Сие мне необходимо,
ибо я задумал одноактную пьесу «Человек». Действующие лии^а —
Человек, Природа, Черт, Ангел. Это — требует музыки, ибо
должно быть написано стихами» («Архив А. М. Горького», т. IV. М.,
1954, с. 95).
Замысел пьесы не был осуществлен, но, по-видимому, тема
Человека продолжала созревать в творческом воображении
писателя.
Некоторые детали произведения восходят к еще более
раннему периоду. Так, слова, ставшие рефреном поэмы («Вперед!
и выше!»), содержатся в письме Горького Л. Андрееву от
16—18 августа 1900 г.: «Желаю Вам от всего сердца успеха на
новом, хорошем пути. Валяйте во всю мочь и вперед и выше, выше!»
(Литературное наследство, т. 72, с. 72).
В октябре 1903 г. Горький послал поэму издателю К. П.
Пятницкому. Одновременно Горький писал Пятницкому: «...посылаю
, Вам моего «Человека» и очень прошу Вас внимательно, ие
однажды, прочитать его. Затем сообщите мне, как это звучит и где, я
наврал.
На неровности ритма — не обращайте внимания, если они не
очень уж резко режут слух. У меня не было намерения писать
ритмической прозой, вышло это неожиданно, будучи, видимо,
вызвано самим сюжетом.
Гладких и слащавых стихов — я не хочу и языка править не
стану,,
483
А вот — что тут лишнее и чего не хватает? Вообще-^
посмотрите. Потом возвратите рукопись вместе с теми примечаниями
и указаниями, которые найдете нужным сделать.
Очень меня' эта вещь смущает. Как всегда — я, кажется,
испортил хорошую тему» («Архив А. М. Горького», т. 4, с. 141).
Горький послал Пятницкому машинопись, на которой
последний написал «Первая версия...». Кроме этой машинописи,
вариантом, запечатлевшим один из первоначальных этапов работы
Горького над поэмой, является неавторизованная рукопись,
сделанная А. Н. Тихоновым. Она кончается обращением писателя к
М. Ф. Андреевой:
«Вот Вам моя песня. В ней за громкими и грубыми словам,и
скрыта великая мечта моей души, единственная моя вера, она-то
именно давала и дает мне силу жить [хотя теперь]. Мною много
было испытано. Часто Смерть смотрела в очи мне и дышала в лицо
мое холодом и хотела убить сердце мое леденящим дыханием
ужаса — но и Смерть не убила мечты моей. Не однажды крылатое
Безумие над моею головою властно реяло, и я чувствовал пламя
над черепом, но и в нем не сгорела мечта моя. И не раз слышал
я злой смех Дьявола над убитыми грезами юности, но и острая
сила сомнения не разрушила эту мечту мою, ибо с ней родилось
мое сердце».
И далее приписка карандашом:
«Я кладу его к Вашим ногам. Оно крепкое. Вы можете
сделать из него каблучок для своих туфель» (Архив А. М. Горького).
Горького волновал вопрос, удалась ли ему поэма, в которой
он воплотил самые дорогие, выстраданные убеждения, дойдет ли
суть ее до читателя.
После того как машинопись была послана Пятницкому,
Горький снова принялся за работу над поэмой. Все ярче выступал
образ Человека, который не склоняет головы перед трудностями и
невзгодами, образ Человека-победителя, бойца, который вновь
идет дальше «величественный, гордый и свободный». Поэма
завершается апофеозом Человека-победителя, причем во второй
редакции автор дает слово самому Человеку, а не говорит за него, как
это былр в первой редакции.
Еще до того, как поэма была опубликоваина, она начала
распространяться в списках. 14 февраля 1904 г. Горький сообщал
Е. П. Пешковой: «...В Питере по рукам ходят списки
«Человека»... («Архив А. М. Горького», т. 5. М., 1955, с. 98).
Горький придавал большое значение поэме, считая, что в ней
более непосредственно, чем в других его произведениях,
отразилось его мировоззрение.
Получив в 1906 г. изданную в переводе на испанский язык
пьесу «На дне», Гррький писал ее переводчикам; «Я был бы
также рад, если бы на испанский, язык было переведено другое мое
произведение, цод назвалием «Человек», в котором воплощена и
развита главная мысль «На дне». В поэме «Человек» я стремлюсь
484
показать независимость человеческого разума. Я говорю:
«Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой
непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то,
чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа» («Архив
rA, M. Горького», т. 8. М., 1960, с. 231),
Много позднее, в 1928 г., автор сказал: «Когда впервые я
писал Человек с большой буквы, я еще не знал, что это за великий
"человек. Образ его не был мне ясен. В 1903 году я постиг, что
Человек с большой буквы воплощается в большевиках во главе с
.Лениным...» («В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания,
Документы». М;,'1969, с. 355).
Поэма «Человек» получила противоречивую оценку у писате-
- 'Лей—: современников Горького. Многие относились к ней сдер-
- жанно или даже отрицательно. На чрезмерный дидактизм нового
произведения указывал А. П. Чехов. 13 апреля 1904 г, он писал
А. В. Амфитеатрову: «Сегодня читал' «Сборник», изд. «Знания»,
между прочим гбрьковского «Человека», очень напомнившего мне
проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом и на
Q;..» («М. Горький и А. Чехов». М., 1951, с. 207).
15 июдя 1904 г. корреспондент газеты «Русь» опубликовал
отзыв Толстого о «Человеке». «Упадок это,— сказал корреспонденту
Толстой о поэме,— самый настоящий упадок; начал
учительствовать, и это смешно...» («Русь», 1904, № 212, 15 июля). В беседе с
тем же корреспондентом Толстой говорил: «Человек не может и
не смеет переделывать того, что создает жизнь; это
бессмысленно — пытаться исправлять природу, бессмысленно...» Эти слова
были сказаны по другому поводу, но они помогают понять и
причины отрицательного отношений к поэме «Человек».
Летом 1904 г. А. Б. Гольденвейзер записал в дневнике:
«Говорили о Горьком и о его слабом «Человеке». Л. Н.
рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе [...] прохожего,
оказавшегося довольно развитым рабочим.
Л. Н. сказал:
— Его миросозерцание вполне совпадает с так называемым
ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой
дух времени..,» (А. Б. Г о л ь д е н в е и з е р. Вблизи Толстого, т. L
М., 1922, с. 129). Значит, дело было не в дидактизме Горького, а
'в том, что Горький прославлял миропонимание, близкое
«развитым рабочим», но не принимавшееся Толстым.
Много внимания уделил4 поэме «Человек» Короленко в рецен-
. зии на первый сборник «Знания».
«Прежде всего;1 вероятно, большинство читателей открывают
книгу на очерке М.' Горького «Человек»,— писал он.—На этот раз',
впрочем, это не художественный рассказ, а лирийо-фйлософскйй
эскиз, в котором автор прославляет «Человека» 'за его «Мысль»,
«В часы усталости- духа»... тай' начинает автор свой очерк.
И ну*жно сказать,;что некоторая печать йесомненнои усталости
духа лежит на всём произведении. Тем не менее биографу Горького
; 485
иридете-я.' отметить • основной ¦ мотив * «(Человека»: ¦ прославление ¦ м ьтс-
jth, >и ипритом одной мысли, 1<как двигателя человечества по пути
«вперед и' выше». До*еиХ'пор,1 пожалуй/в произведениях г-наГхгрь-
кого'можно было заметить скорее превознесение сильных
непосредственных импульсов и темпераментов» «(Жу р н а л и сч [В. Г.
Короленко]/ о< сборниках товарищества*«3нание» за }1903> г. — «Русское
богатство», '1904, г№ '8, отд. II, <:с. 131).Короленко считает, что,
несмотря на ^упоминание «гармонии», 'Горький *все же поддерживает
старинную тяжбу *ме жду «умом-и; чувств ом», хотя это совершенно
бесшгодаая;тяжба. Главный,*ке его ^упрек»'связан с'тем, что1 в
поэме, как показалось Короленко, сам образ Человека «не совеем
ясен», f в частности гон •«€ дан,: говоря головами! Гете, «в-
совокупности-человечества» щ^поэтому -можетобыт-ьсевязансе'Представлением
- о' ницшеаиском - «сверхчеловеке». ri Подлинный,*Человек не
противостоит человеку г'И человечеству, а ^состоит «издарывов мысли, вз
кипения ^чувства, *из * миллиардов стремлений, ¦ сливающихся в без-
граничн ьтй< о ке ан ¦ и созда ющиха» (совокупности гпр е дата вл ен ие. о
^величии шее совершенствующейся 'человеческой ''природы». До > сш
пор Горький служил своим творчеством ^глубоко демократическому
взглвду. t В j ^оэме же' «Человек» - он, та к. чир едет а© л яется а вто ру р е-
цшзш, I подпал под < тл ияиие ¦ Ницше. < «Чел овек •- же * Бищп е, ил и, к ак
-его .мрявято вульгаризировать, ^Сверхчеловек», ^есть понятие глу-
<5ако ^аристократическое -и ¦ регрессиштое. <Он таже участвовал >в
тшрчестве гнна .Горького, -здекажая и '-тззр&щт его образы.
'Теиер ь, ? в,' лир и ко -ф ил©со фском i х>чер ке на ш его автора, i он в ыступ ает
безххудажествевных. прикрытий:
«Человек» г-на Горького, насколько можно (разглядеть *его
черты,— есть именно ^человек лницшеаиский: .ои ^идет «евобхэд*шй,
гордый, далеко впереди "людей (значит—нес ними?Iи выше
жизни \ ?д.атже< с а мой ж изни ?), хадин,ссре^шза. гад ок t быти я.;:»
сИлмы^чувствуем, что )это> «величание», но^йе ведичие. Вешик-ий
человек Гёте, как Антей,
почердоает^еилу^общении('С(.родной^стихией человечества; ницшеанский «Человек» г-на (Горького ирези-
|)ает tee даже тогда, 'когда собирается »облагодетельствовать.
Первый;—.сам!а -жизнь, второй — только <фантом» (та^м дже,
е. 1:31—^132).
'.Односторонне • понял ««Человека» ии ххудожник >М. 'В.»Нестеров,
-в дасшвреш испытывавший силвныегрелигиозные1'влияния. 19
'апреля 1904 г. он писал своему -другу Ж. пА. Ту рыгни у ^«.Человек лред-
шаакачаетея .'эдля руководства крадущим поколениям, >как '«гимн»
мысли. Вещь написана в патетическом стиле, жраеиво, ^довольно
железо, < с а1Тредешеш1 ы м > и а мереное м ш р ин ести -к * над нож и ю > м ы с л и
чувства ^всякие —, рел игноз н ы е,' чувство wщбв и и пр оч.' И это дела ет
Г^ькйй, ; недавно .шропсведовавший преобладание чувства • «над
мыслью», {'Есею жизнью ^доказавший, ^что он раб «Чувства»..^»
.Щ. гВ. .Нестеров. Из -писем. .'Л., 1968, с. 172).. И ему же—
¦ имписьме ^от 24 апреля !Ш4 т.: «Дилетант-философ в >восхваше-
н»и своем «мысли» позабыл, что все ,лучшее, 'созданное ^йад,
486
создано • дри- вдохновенном:- гармоническом сочетании мысли и
Все,-самое великое* на-земле; созданное когда-либо4 человеком,
воздано > имл при, равномерном* участии; этих/ неразделенных<сщ71ш~
яо*< творчества*. Вот/ где- коренная неправда* фальшь поэмы* Быть
может, предвзятость? преднамеренность.- такая-: и * делает - новое1 про-
щве&ение. Максима столь - холодным^ хотя, m красивым г внешне»
(там же), А
Иначе воспринял поэму, «Человек» Л* Андреев^ «Прочел я*
«Человека»,— писал»он Горькому, в,. апреле. 1904 г.»— и. вот что в. нем
поразило меня* Все мымпишемчо «труден и о, > честности»* ругаем
сытое, мещанство, гнушаемся» подлыми, мелочами-1 жизни» Иг все это
называется «литературой». Написавши вещь,, мы, снимаем*
актерский костюм, в которомk декламировали, и становимся всем темч
что, так горячо ругали. И. в твоем, «Человеке» не-художественная
его. сторона поразила меня — у, тебя.есть вещи сильнее,— а.то,, что
он при всей своей возвышенности .передает, только обычное,
состояние твоей души. Обычное—это страшно сказать,,То, что в других
устах было! бы громким словом,,пожеланием, надеждою,— у тебя
лишь, точнде и. прямое выражение.обычно, существующего. И это
дшает тебя таким особенным,, таким, единственным и
загадочным...» (Литературное наследство,»,т. 72, с_ 208).
Большинство критиков встретили поэму «Человек» в штыки.
«Ну, вот и договорено наконец недостававшее в писаниях
, Максима Горького слово. Дан ключ к его «творениям»,— так
начал статью о поэме «Человек» критик А. Басаргин [А. И.
Введенский], к этому времени занимавший реакционные позиции.
Когда-то находивший в произведениях Горького немало
положительного, этот критик вынужден был признать наличие органической
связи между поэмой «Человек» и всем предшествующим
творчеством1 писателя* По его мнению, поэма содержит призыв к револю-
ции; в ней находят обнаженное выражение ведущие тенденции
творчества Горького, угрожающие'обществу «социальной катает-
рефой»^ «историей Франции». Особенно возмущает А. Басаргина
tov что в поэме развенчивается религия. Критик полностью
разделяет мнение монархиста Н. Я. Стечькина, что конечный вывод;
вытекающий из поэмы «Человек»,— утверждение неизбежности
революции. «Да, логика действительно здесь неизбежная. Неизбежная
w ужасающая»,— признается А. Басаргин и призывает «власти
предержащие» обратить самое пристальное внимание на книгу
монархиста Стечькина о Горьком (вышедшую в 1904 г.), «Свою кни*
Гу.— пишет он о Стечькине,1— автор оканчивает горячим
обращением к обществу, которое призывает отнестись наконец
критически-трезво к тому писателю, который возводит в идеал «отребье
общества» — этот «горючий материал» возможного бунта;
который, каждою строкой своих писаний, идет против основ
нравственности, религии, общественности и государственности [...], который,
под ложно-поэтическою формой,— в своих «Буревестнике» и «Че-
487
ловеке»,— призывает к восстанию против существующего уклада
жизни [•••] под предлогом возбуждения чувств сострадания и
жалости к обездоленным вливает в умы молодежи отраву всяческого
противления...» И, заканчивая, призвал к прямому походу против
Горького. «Пора!» — восклицал он и меланхолически добавлял:
«Только не оказалось бы уж и теперь «слишком поздно» (А.
Басаргин. Мефистофелевская школа.— «Московские ведомости»*
1904, № 321, 20 ноября),
С особой яростью нападали на автора поэмы «Человек» кри^1
тики из декадентских журналов «Весы» и «Новый путь». В
рецензии на первый сборник «Знания» М. Пант[юх]6й писал: «Совсем
плохи страницы М. Горького. Его «Человек» — нечто совершенно
чудовищное по пошлости [«..]. Особенно смешон пафос, с которым
высказываются такие избитые мысли» (М. П ант -ов. Сборник
товарищества «Знание» за 1903 год.—«Весы», Т9Й, № 5, с. 52—53).
Четыре месяца спустя с аналогичным отзывом в том же журнале
выступил В. Я. Брюсов. Характеризуя сборник «Знания», он
писал: «Единственная новая вещь' М. Горького «Человек», как всё,
где Горький перестает быть бытописателем, а пытается поучать,—
очень слаба; это ряд довольно банальных и крикливо
риторических восторгов перед могуществом человека» (В. Брюсов.
Литература в 1904 г.— «Весы», № 9, с. 49).
О «конце Горького» писала 3., Гиппиус, Она утверждала, что
Горького погубило социал-демократическое мировоззрение,
называла произведение писателя «безмысленным и бессмысленным»,
потешалась над тем, что Горький, «всю жизнь только и писал
«Человека»,— только его и проповедовал, как достойный апостол».
Между тем спасение не в Человеке, а в боге. «Я,— писала 3.
Гиппиус,— не вижу истины в заповеди «верь в человечество» (Антон
Крайний [3- Гиппиус]. Летние размышления,— «Новый путь»,
1904, июль, с. 250—251).
Излюбленным приемом «уничтожения» поэмы у реакционных
и буржуазных критиков стало противопоставление ее раннему
творчеству писателя. Так, усиленно расхваливая героев
«босяцкого» цикла Горького, Г. Чулков восхищался их дикарством и осо-
беннр тем, что они «не вмешивались в политику»; причину же
«неудачи» Горького критик видел в том, что писатель «поддался
и отдался марксистам» (Георгий Чулков. Сборник
товарищества «Знание» за 1903 г.— «Новый «уть», 1904, июнь,
с. 21&-219). . , v .- ; ,«-¦<' *
«Гимназическим .упражнением» назвал'«Человека» Н.
Бердяев, не сумевший, однако, скрыть*того, что злобная оценка эта вы-
звана прежде всего революционным пафосом поэмы, присущим ей
духом, «безбожия» («Полярная звезд»», 1905; <№ ,2; 22 декабря,
с. 149—150).. -. •«..,. > vi *
Защищать Горького, пытались A. BL Амфитеатрова М. П. Не-
488 '
- «Шиллеров идеал, о котором рыдал и стучал кулаком по сто-.
лу.Митя Карамазов, изливая душу перед братом Алешею, в
беседке, в саду. Шиллеровыми же словами,— усыновлен русским
. чувством, переплавился в нем, как металл драгоценный, и загудел,
в лице Максима Горького, согласным колокольным звоном — и
благовест и набат вместе» (А б б а д о н н а [А* В, Амфитеатров].
'-Отклики,—«Русь», 1904, № 146, 9 мая).
;| Неведомский считал, что произведние не удалось Горькому
; прежде всего потому, что не удался или не совсем удался
символический образ Человека. Не удался же он потому, что художник,
с^оль непосредственно одаренный, забирается в чуждую ему «об-
^ ласть публицистики, этико-фило.софской проповеди, в область рас»
¦ суждений словом» (М. Неведомский. О современном
художестве (По поводу сборников «Знания»).— «Мир божий», 1904, № 10,
'отд. II, с. 138). «Замысел г. Горького,—продолжал критик,—чу-
* десный замысел, и только что приведенные формулы [«Всё — в
человеке, всё — для человека», «Смысл жлзни—• вижу в творчестве»
$& т. п.] сводят воедино самые идеальные требования, самые возвы-
,'шеиные идец, какими живет современность [...], И если бы не ри-
, торически-п^озаическая, неудачная фдрма, вещь г. Горького
давала бы хороший заключительный аккорд к обоим сборникам «Зн\а-
;|шя» (там же, с. 139). Вместе с тем Неведомский решительно
^спаривал мнение Короленко, будто это ницшеанский Человек. За-
Цкечая, что г. Журналист рассуждает об «атомах» и «каплях»
совсем как марксист и справедливо развенчивает Ницше, критик
Продолжал: «Дело, однако, не в этом, а в том, что все это, на мой
Цзг'ляд, совершенно не относится к «Человеку» М. Горького. Его
|*Человек», стоящий «выше людей», совсем не гений, не
исключительно одаренная личность, а именно идея человечества, за
которую ратует г. Журналист... Это именно образ, вмещающий в себя
|*величие все совершенствующейся человеческой природы». Это,
Символ человечества, его эмблема, «фантом», как выражается
(Vj\ Журналист, и с «величанием» гениев ничего общего не имеет.
jvJOh призван «на этой исстрадавшейся земле [i.J всю злую грязь с
^яее смести в могилу прошлого» — ясно кажется, что антисоцталь-
|ное аристократическое настроение Ницше совершенно чуждо «Че-
f ловеку». Этот человек, несомненно,—«с ними», с людьми»'(т^м
<;же, с. 140).
;\{ Оспаривает Неведомский и другие положения статьи Коро-
I денко. Он пишет: «Инкриминируется также та исключительная
f роль, которую, будто бы, отводит г. Горький «силе мысли». Гово-
Црят, что он как бы возобновляет давно поконченный сяор о п?и-
: мате м.ыслн над чувством я т, дг Это опять удары, попадающие
\ «не в то место»,;как любил выражаться покойный Михайловский.
Быть может* неудачная «поэзия» дает известный повод к этому
'толкованию; но оно, несомненно, ошибочное. «Мысль» в
произведении р. Горького —это^ несомненно, синтетическа» работа наше-
' го сознания, обнимающая и формальную деятельность разума- и
48»
материальное* содержание этой деятельности, поставляемое чув-
ctbhmhv Наше сознание/пока, очень часто идеттвразрез с нашими
чувствами/ наида< идея''постоянно- противоречат1 нашим- навыкам и
инстинктам: В-1 «Человеке»* указана гармония, имеющая заменить
вотой^областиисовременныйчразлад-4!...].1 Стало'быть, спора о>«при«
мате» г; Горький не подымает; это. да же^ единственна я область, в
которой его «мятежный» «Человек»*жаждет"мира3 и11 гармонии^ а
нел«€порит* (т а м ж*е, с: 141I
Решительный отпор тем, кто извращал произведение Горького*
дал* известный критик-демократ В? В.- Стасов. ВР ответ на выступ^
ление~ Вуренина, шельмовавшего на'страницах1 «Нового' времени»
горьковскую поэму, Стасов напечатал1 статью, в "которой показал;
что1 автор «Человека» является продолжателем славных
национальных традиций русской" литературы. «Человек»;— писаля Ста5*
сов,— одно из капитальнейших и глубочайших творений Горького.
Какая ширина-и объем мысли-, какая1 красота и сила; какая" поэ»
зияп к'артин, какая сжатость и скульптурность выражений*1 Эта
вещь —одно-из1 наиважнейших и оригинальнейших созданий всей
русской Литературы. В'нем, как 'и • во~ всех значительнейших
творениях Горького веет тот-самый1'глубокий, великий" и поэтический
дух; который' присутствует-вховершеннейших'произведениях Бай*
рона' и Виктора Пого» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272,
2 октября):
Одобрительно о поэме отозвался социал-демократический жур,-
нал «Правда»: «Грандиозным и величаво-торжествующим образом
вырастает фигура «Человека» под пером г. Горького [.'..]. Это
аллегорическая схема всего человеческого пути, всей человеческой
природы, всего победно шествующего в вечности человеческого ге-1
ния...» («Правда», 1904, июнь, с. 274),
Поэма, имела колоссальный. успехл у* революционно
настроенных, читателей, воспринимавших, ее.как прославление.социалиста
ческого Человека, революционера,,,пролетария, вступающего
в.растительную, схватку с эксплуататорским* обществом (см.: .А* О в ч а-
р.е.нко.',О положительном^ герое* в»творчестве М-* Горького.- М.,
1956,лс.-309—310),
Горький- любилл поэмуу «Человек»;* охотно- читал- ее в кругу
друзей, на вечерах. Одно из таких чтений состоялось в период
его^ пребываниям в > Петер бур ге* в конце ноября — начале декабря
19бЗ.,ггО"Нем'Вспоминала.'>Е.. Д; Стасова: «Горький всемерно
помогал ^партии-большевиков,* иипомощьпэта-юказывалась. в
разнообразных* формах. Практиков а дисб^ например, литературные вечера*
сборььс которых-^поступали -в--кассу нашей партии. Так; я прекрас-
hojпомню вечера устроенный^ вя 1903,/,г. на квартире известного пе^
тербургского адвоката! О. О; Грузенберга, где писатель читал
только что написанную им поэму «Человек». Поэма, прозвучавшая
как* гимн человеку, произвелаоогромное^ впечатление на слущатв^
лей? » ее вторичное, чтение встретило »еще больший восторг* Э
490
• -вечер 'принес w кассу 'партии немалую сумму денег» («М. Горький
явшюху революции 1905—-1907. годов». М., 1957, с.< 69).
, 26 июля 1904 г. Горький читал -поэму в Старой Руссе на
вечере в пользу семейств солдат, -мобилизованных на русско- японскую
, войну. В. В. Смирнов, присутствовавший на концерте,
рассказывал:
^ «Алексей Максимович прочел на концерте свою поэму «Чело-
рек» [...]. Чтение ее перед солидной публикой пристоличного
курорта звучало, как вызов.
° Недаром сидевшие в первом ряду местный исправник и жан-
, дармский генерал после выступления Горького — возбужденные —
'; покинули концертный зал [...]; слушатели бурно приветствовали
любимого писателя, на астраДу. летели букеты цветов, но Горький
,, не вышел на вызовы бушующего зала» (В. В, Смирн о в.
, М. Горький в Старой Руссе. Новгород, 1956, с, 14)<
30 июля 1905 г. Горький .читал поэму на литературно-музы-
чкал-ьном вечере в Териоках. В донесении Финляндского жандарм-
* екого управления и Петербургского охранного отделения в
департамент полиции говорилось: «После вечера особенно чествовали
Горького, который на вечере.прочел свое произведение «Человек».
Часть сбора поступила в пользу «Петербургского комитета
РСДРП». Во время антракта шли.сборы: 1) в пользу семейств
сестрорецких рабочих, 2) социал-демократического комитета,
$) «на активное действие» и пр.» («Красный архив», 1936, № 5,
с., 66—67).
В письме И. А. Груздеву от 10 марта 1926 г., определяя свое
Отношение к человеку, Горький i писал: «...человек должен услож-
;. -мять, а не упрощать себя. Героизм [...] в силе воли человека, веду-
;:эдей его «вперед и выше». Вы знаете, что это мое старое, и, может
быть, только это и есть у меня» («Архив А. М. Горького», т. XI.
М„ 1966, с. 41).
Стр. 448 ...лучи бесстрашной Мысли...— В этих словах, кото-
< рые Горький не случайно дает в самом начале поэмы,
содержится как бы квинтэссенция ее философского содержания. Поэма,
отражающая настроения предреволюционного подъема, направле-
; йа против мистики, культа слепых инстинктов, против попыток
дискредитировать Разум, то есть против тех воззрений, которые
составляли и ныне составляют философский арсенал декадентст-
, ва. По своему общему характеру поэма в прозе «Человек»
напоминает «Вакхическую песнь» Пушкина, которую так любил Горь-
1 кий. Оба произведения представляют собой гимн-в честь мысли,
в честь неиссякаемых творческих возможностей человека. И то и
," другое произведение обращено против «ложной мудрости», против
всего темного, отжившего, реакционного. Прославление «лучей бес-
• страшной Мысли» в творчестве Горького, как и в творчестве Пуш-
Чкииа, связано с лучшими, наиболее прогрессивными традициями
многовековой культуры человечества, '
491
Стр. 453 ...предрассудки — обломки старых метин...—
Перефразировка начальных строк стихотворения выдающегося русского
поэта-философа Ё. А. Баратынского:
Предрассудок! он обломок
Давней правды [...].
(Е. А. Баратынский. Поли. собр. стихотворений. Л., 1957,
с. 175).
ТОВАРИЩ! , ,
Впервые напечатано на трех языках: русском, финском и
шведском— в книге: М. Горький. «Товарищ!», «Toveri!», «Kamrat!»,
Aktieb F. Tilgmanns Bok-och Stentryckeri. Helsingfors, 1906. Ha
русском языке вышло отдельным изданием в Verlag von I. H. W,
Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906. Печаталось в «Сборнике
товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая. СПб, 1906 (без
подзаголовка), а также: «В борьбе. Сборник», вып. 3. СПб, 1906?
«Молодая жизнь». СПб, 1906; Ш 1; «Наше дело», 1906, № 3
(последние три публикации с подзаголовком «рассказ»). В переводе
на немецкий язык напечатано в газете «Vorwarts», 1906, № 53, 4.
Marz. Перепечатывалось многими газетами России.
«Товарищ!» написан Горьким в середине января 1906 г., в
Финляндии. 19 января A февраля) Горький читал сказку
«Товарищ!» на литературно-музыкальном вечере в Гельсингфорсе,
организованном по случаю его приезда в Финском национальном
театре в пользу социал-демократической партии. Отдельное издание
сказки на русском, финском и шведском языках продавалось в
театре. 22 января D февраля) Горький читал сказку на вечере,
организованном финскими социал-демократами и Красной
гвардией. В. М. Смирнов, присутствовавший на этих вечерах, писал в
своих воспоминаниях: «Официальным устроителем первого из
упомянутых вечеров являлся известный филяндский художник
Аксель Галлен, фактическим же устроителем был тов. Н. Е.
Буренин. Тогдашние горячие симпатии финляндской буржуазной
интеллигенции к революционному движению в России ярко
сказались как на этом вечере, так и на блестящем банкете, устроенном
в честь Горького после концерта [...]. Если на концерте в Финском
театре Горький был встречен восторженными овациями
со.стороны финляндской интеллигенции, то революционное настроение
пролетарской публики на вечере Красной гвардии буквально не знало
пределов [...]. Публика махала платками, кричала «Элякеен»
(«ура»), многие в зале от волнения плакали. Он обратился к
своей аудитории с небольшой речью; он подчеркивал, что принимает
такое чествование лишь как солдат в великой русской
революционной армии [...]. Это было празднество подлинной солидарности рус-
492
чйсйх и финских трудящихся» (В. М. Смирнов. Максим
Горький в Гельсингфорсе.— Архив А. М. Горького).
Буржуазная критика, разумеется, ополчилась против этого
произведения.
Демократическая критика отметила живую связь сказки
«Товарищ!» с революционными событиями - в стране. М. Абардов
Ч[М. И. Ивинский) писал: «Невидимые общие интересы охватывают
людей [...], родят общую волю, могучее несокрушимое решение,
страстный порыв.
Толпа трудящихся сознательных людей— это великая
общественная сила» («Вестник знания», 1906, № 5, с, 94),
Примечай i к сборнику составили: И. И. Вайберг («Макар
Чудра», «Дед Архип и Ленька», «Мой спутник», «Ярмарка в Голт-
ве»), Л. А. Евстигнеева («Емельян Пиляй», «Однажды осенью»,
«Коновалов»), В. Н. Ланина («Песня о Соколе»), В. А.
Максимова («Старуха Изергиль»), Ф. Н. Пицкель («Дело с застежками»,
«Мальва», реальный комментарий к поэме «Человек»), А. А.
Тарасова («Челкаш», «Супруги Орловы»), Е. А. Тенишева («Бывшие
люди»), Э. Л. Ефременко («Скуки ради», «Кирилка», «Двадцать
шесть и одна»), А. М. Крюкова («Читатель»), А. И. Ревякина
(«Песня о Буревестнике»), А. Й. Овчаренко
(историко-литературный комментарий к поэме «Человек).
СОДЕРЖАНИЕ
1892—1897
Макар Чудра ,.*,.......». 3
Емеяьян Пиляй ..«,.....,... 16
Дед Архип и Ленька *.¦,,,..., 28
Старуха Изергиль , » 49
Мой спутник ».*.... » 70
Челкаш .....«.,.,.,.... 100
Песня о Соколе «*,.,. 133
Однажды осенью *,«*•..."..«. 138
Дело с застежками . . « « 145
Коновалов .,.....,, 157
Ярмарка в- Голтве ,<•#», 206
Супруги Орловы , , 218
Бывшие люди . , » » 273
Мальва ...,«,,.» 337
1897-1901
Песня о Буревестнике ,,,»,..... 387
Скуки ради „,»»., 388
Читатель 406
Кирилка ,.*,„¦,**. 421
1899—1906
Двадцать шесть и одна ..,..«,,. 434
Человек ,*.,,«,»., 448
Товарищ! >,«.»» * 454
Примечания , , . « , , , . f , , ш 460
494
Алексей Максимович ГОРЬКИЙ
РАССКАЗЫ
Редактор
Г. Ф. Дыченкова
Оформление художника
А. И. Неровного
Художественный редактор
Е. М. Борисова
Технический редактор
Т. Б. С л и з у н
ИБ 724
Сдано в набор 07.05.83. Подписано к печати 26.12.83.
Формат 84Х1087з2. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 26,28,
Тираж 250 000 экз. A-й завод: 1—125 000 экз.).
Цена 2 р. 30 к.
Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865. Москва, А-137, ГСП.
ул. «Правды», 24,
Отпечатано в типографии издательства
«Восточно-Сибирская правда», 664009,
г, Иркутск, ул. Советская 109.
Заказ № 1831.
Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeniy-new
(сентябрь 2014)