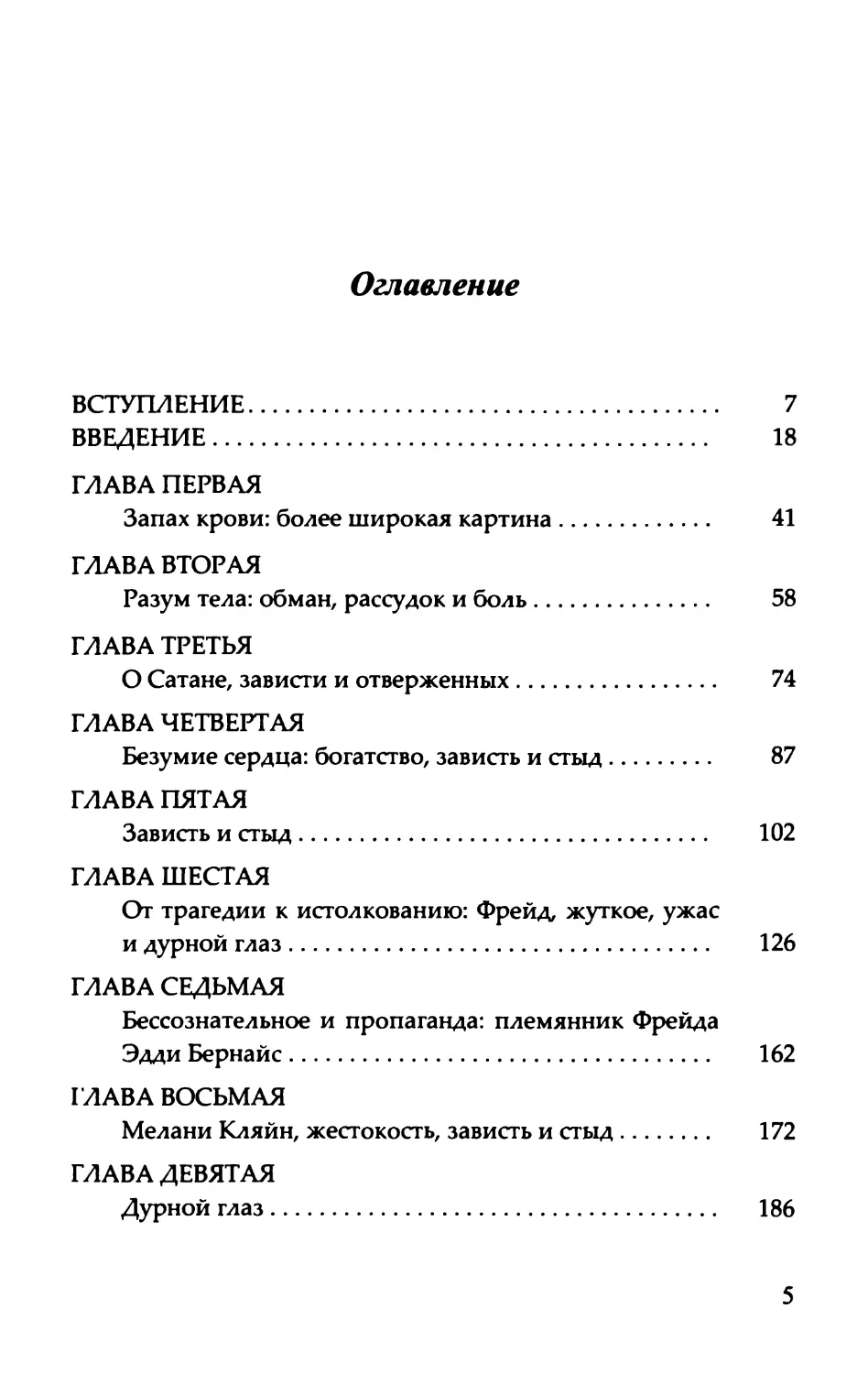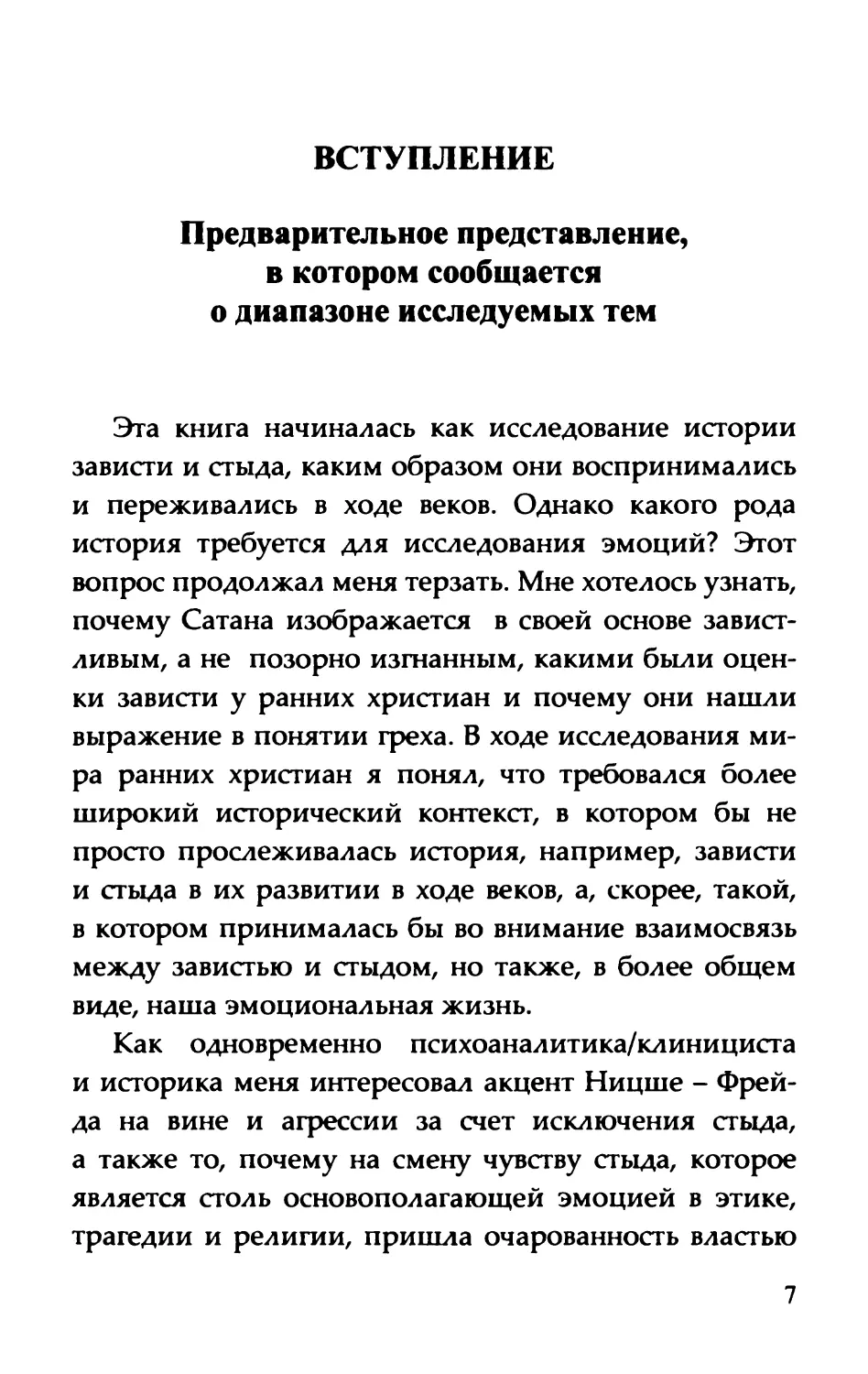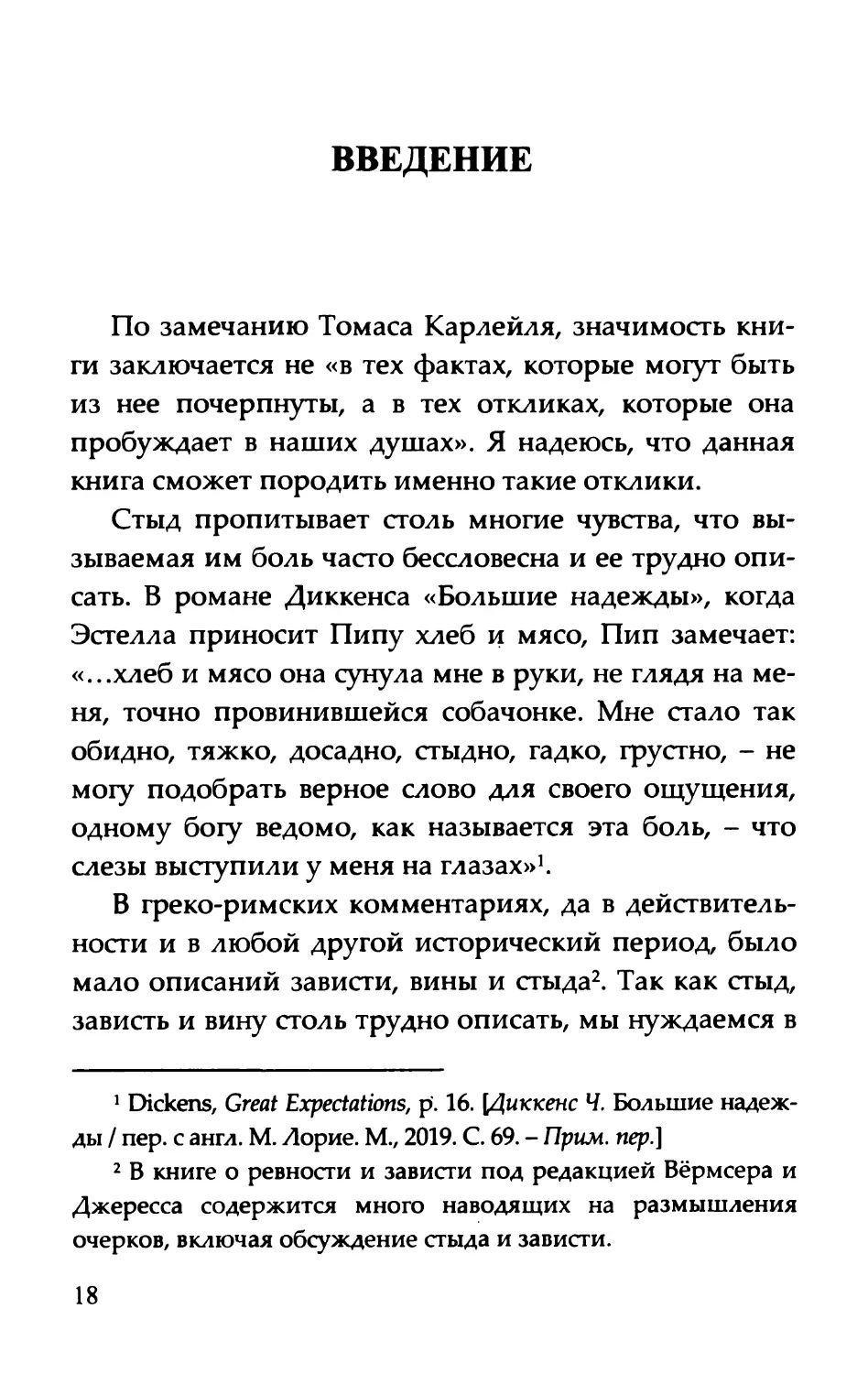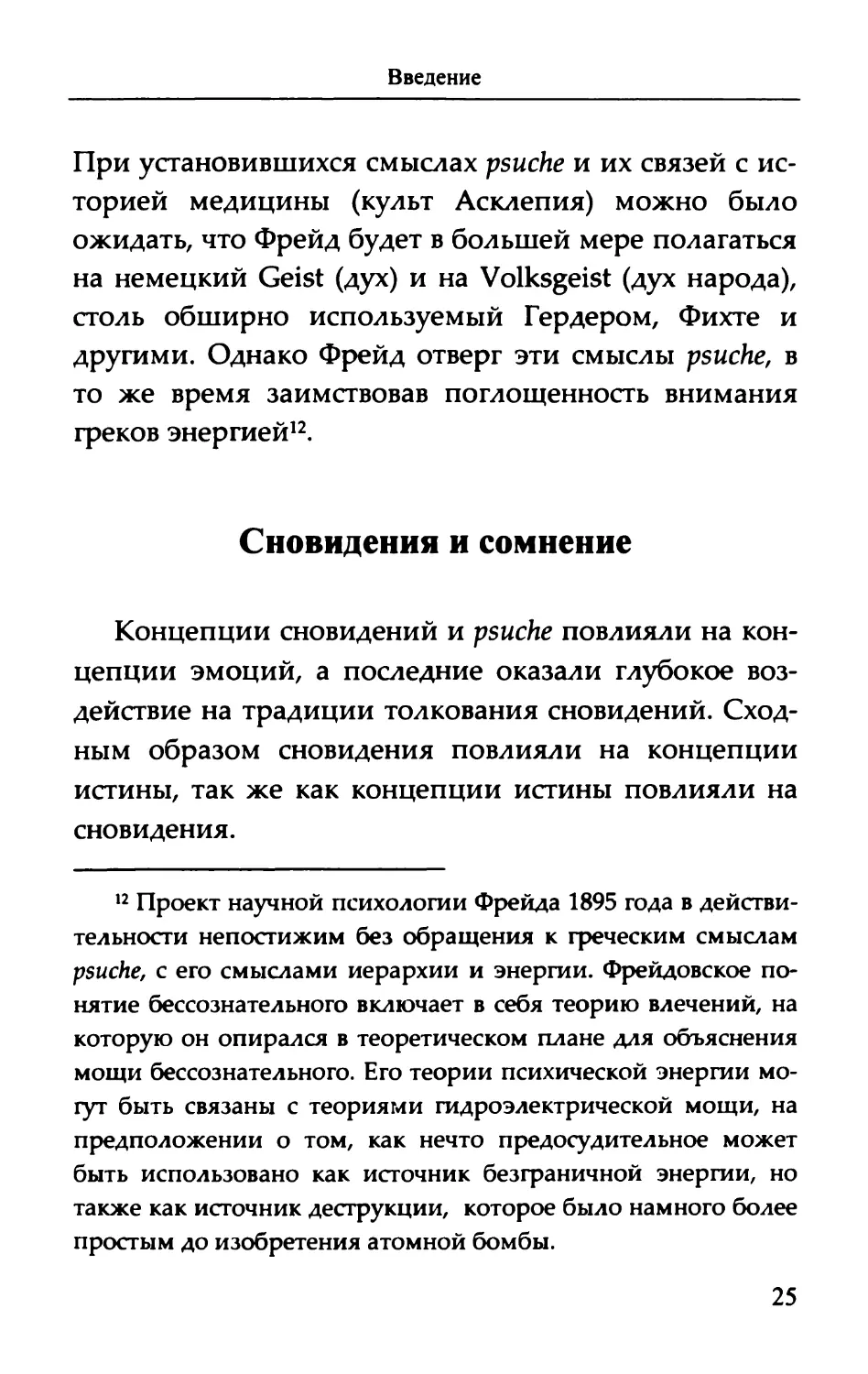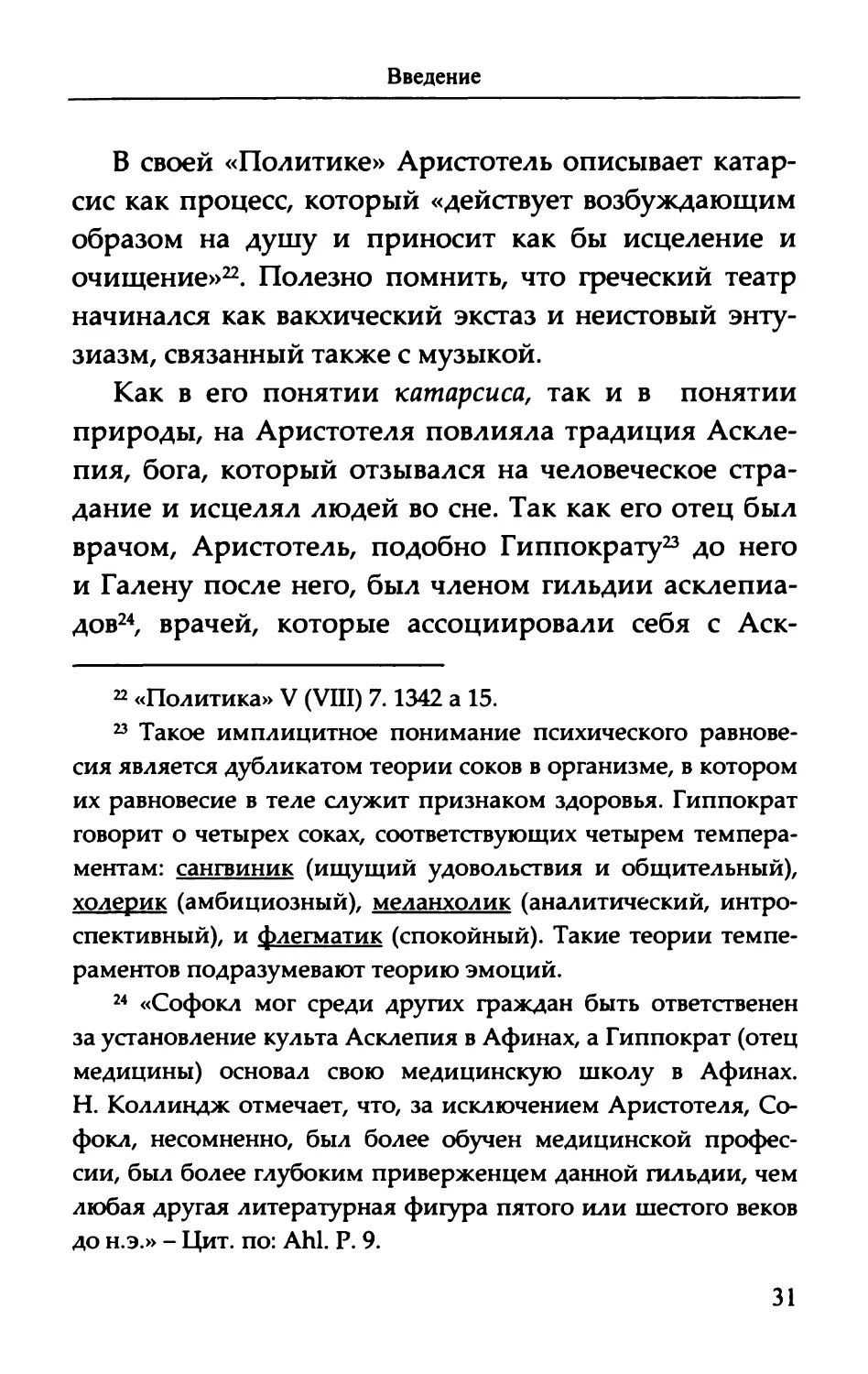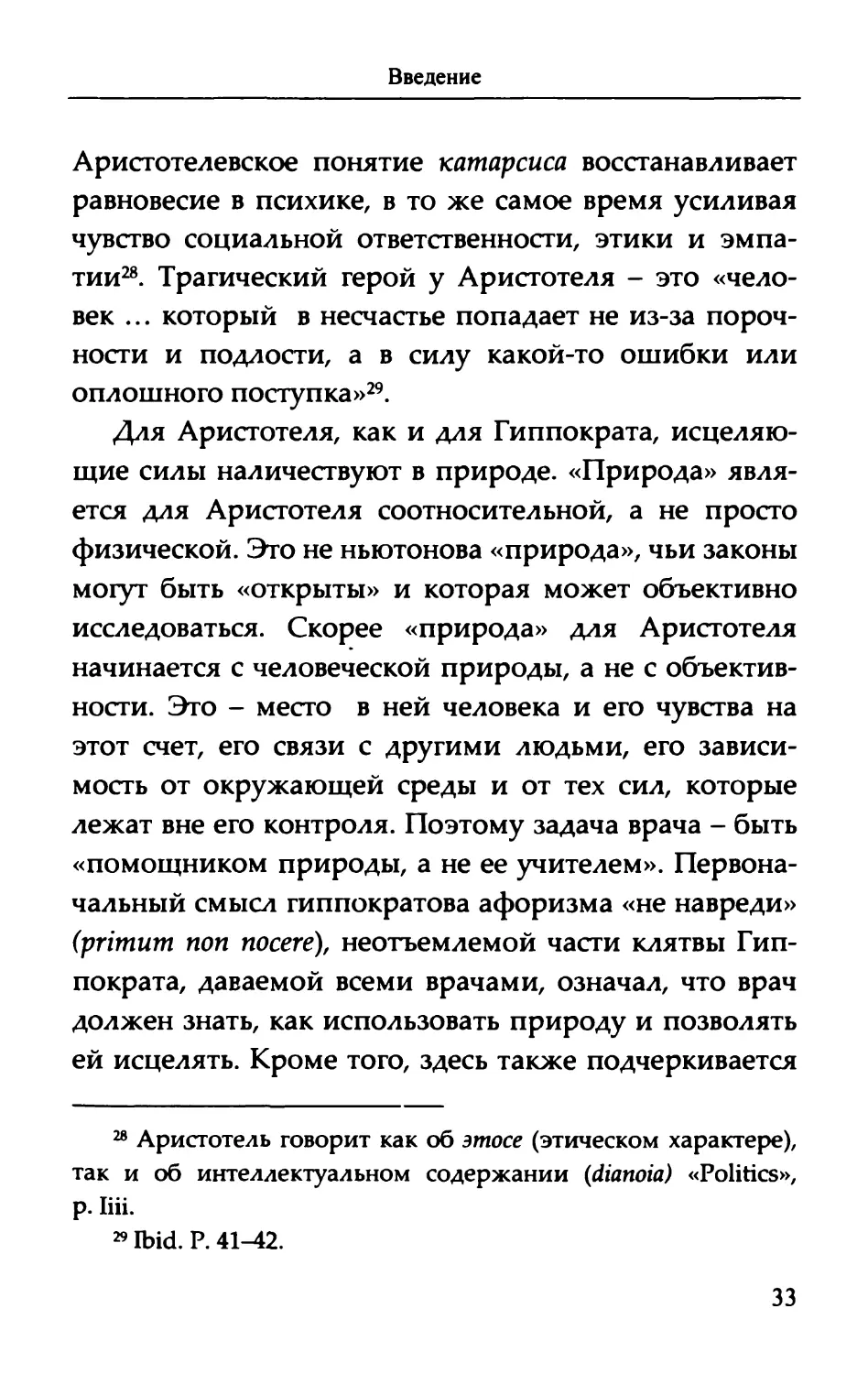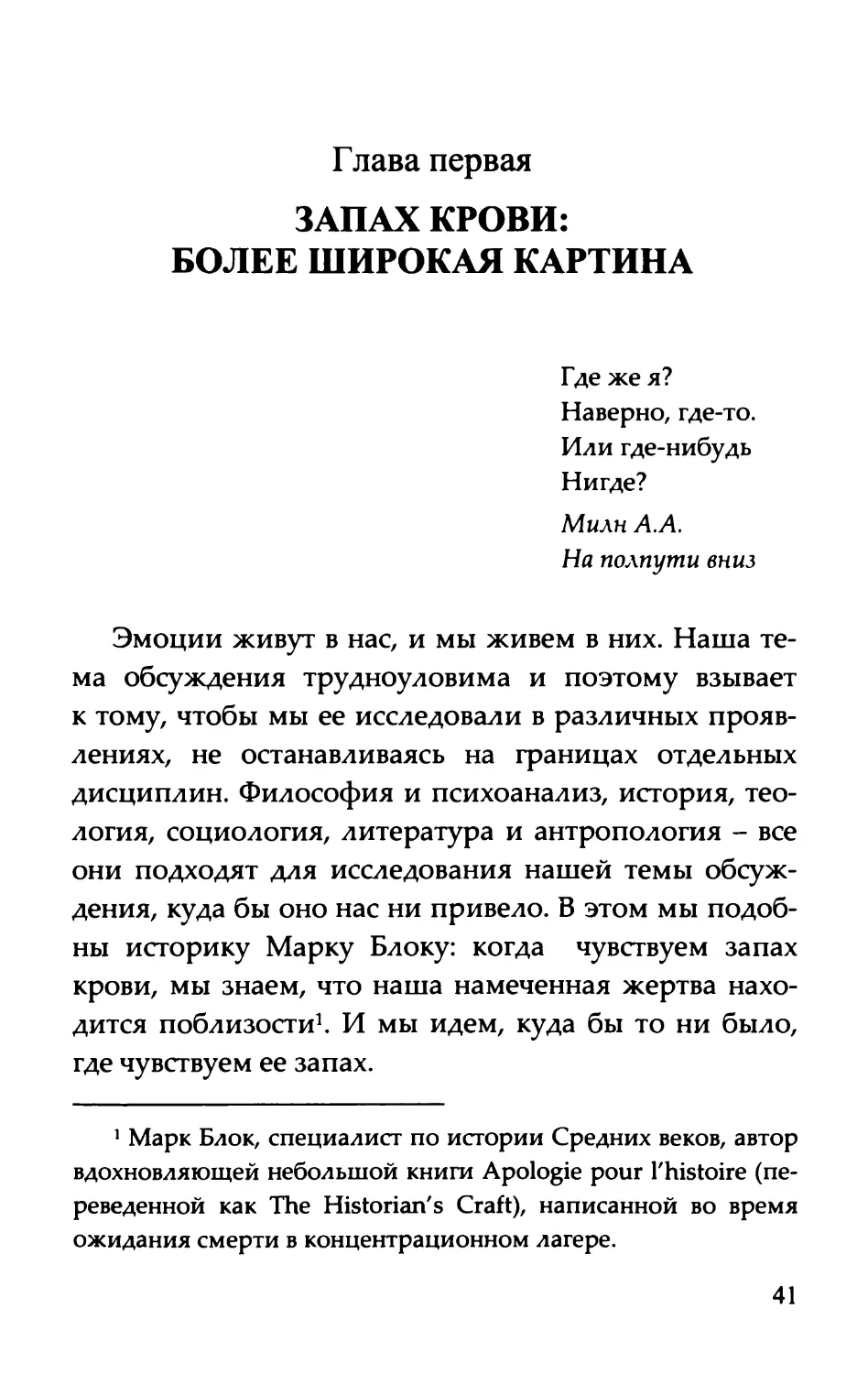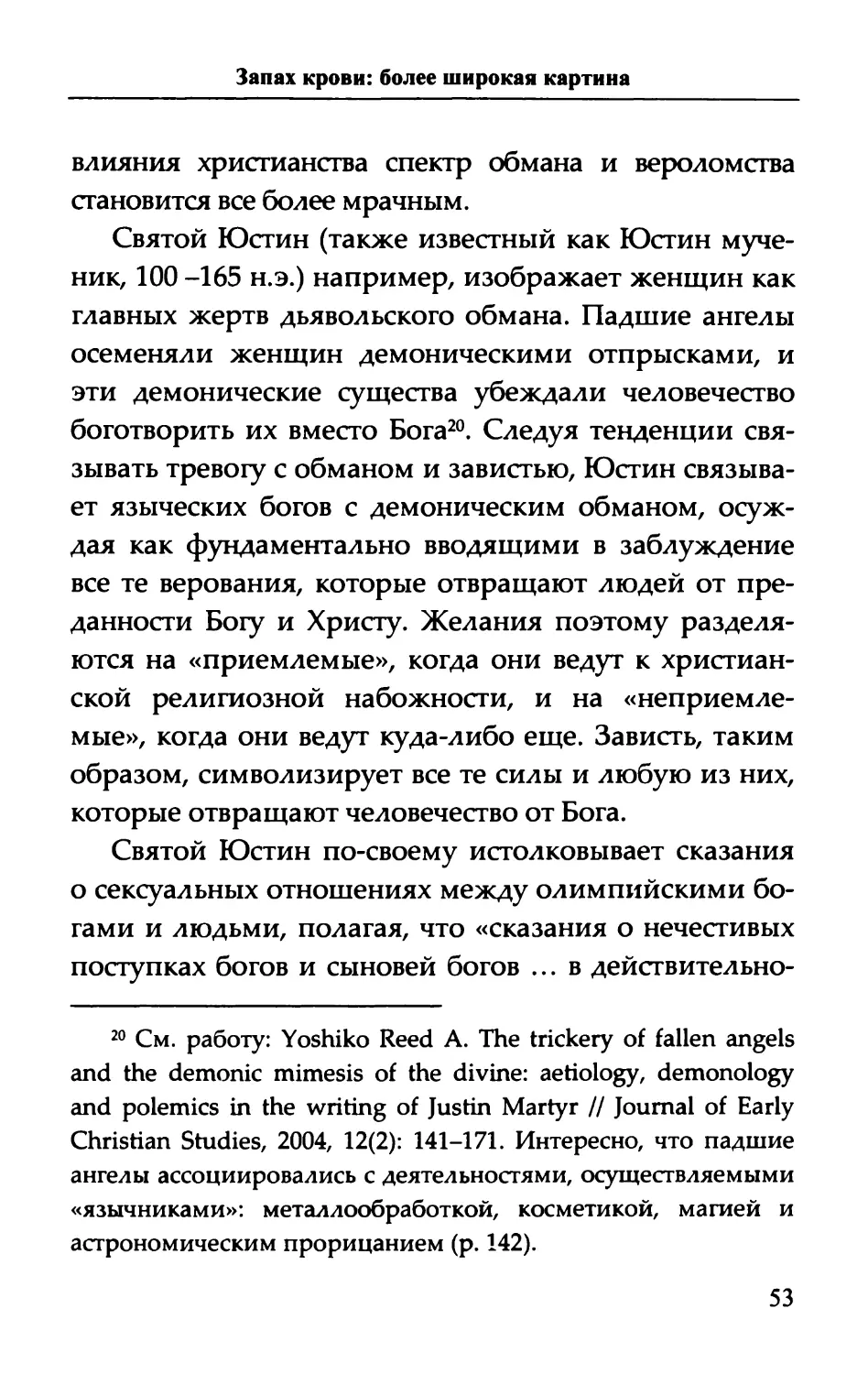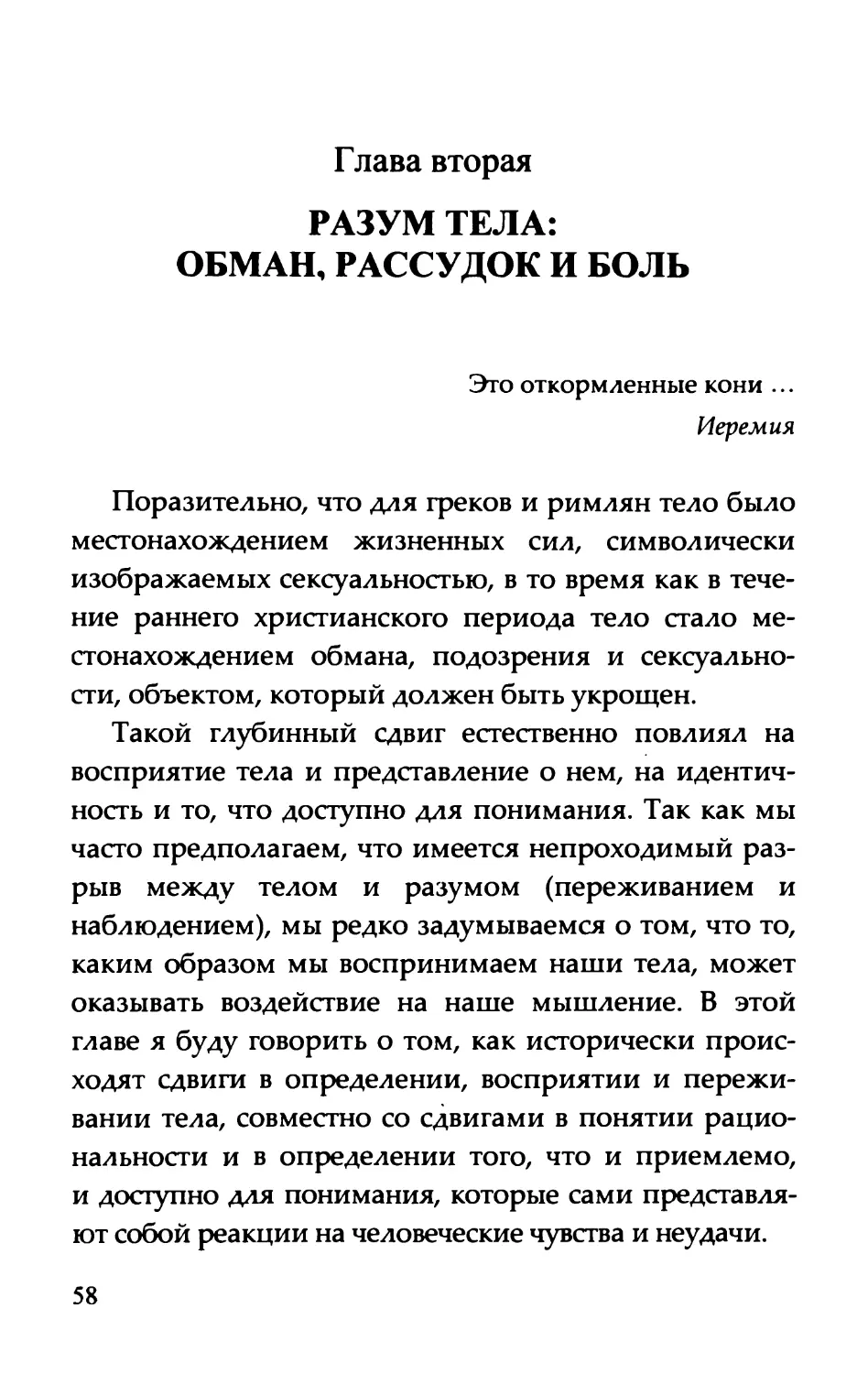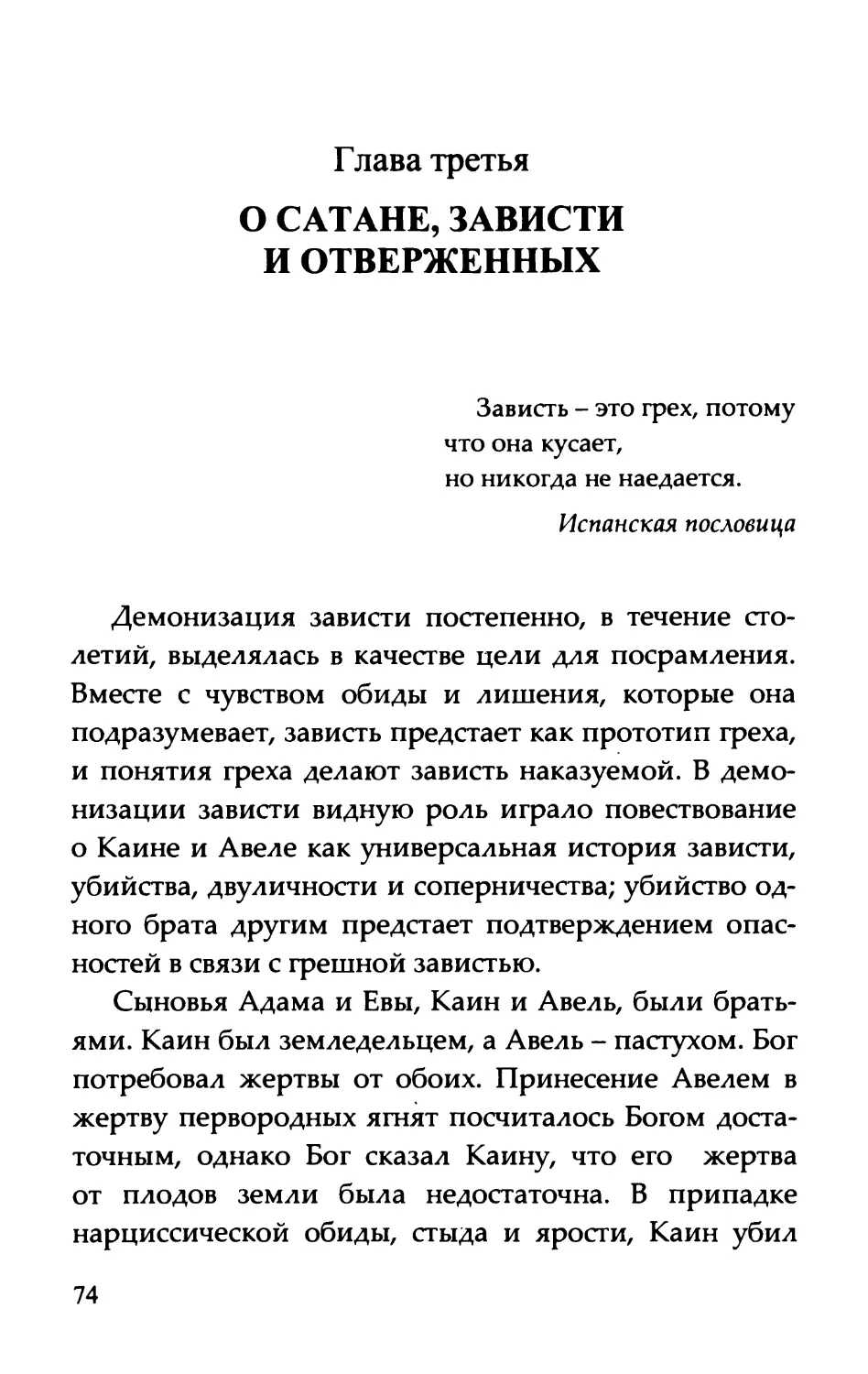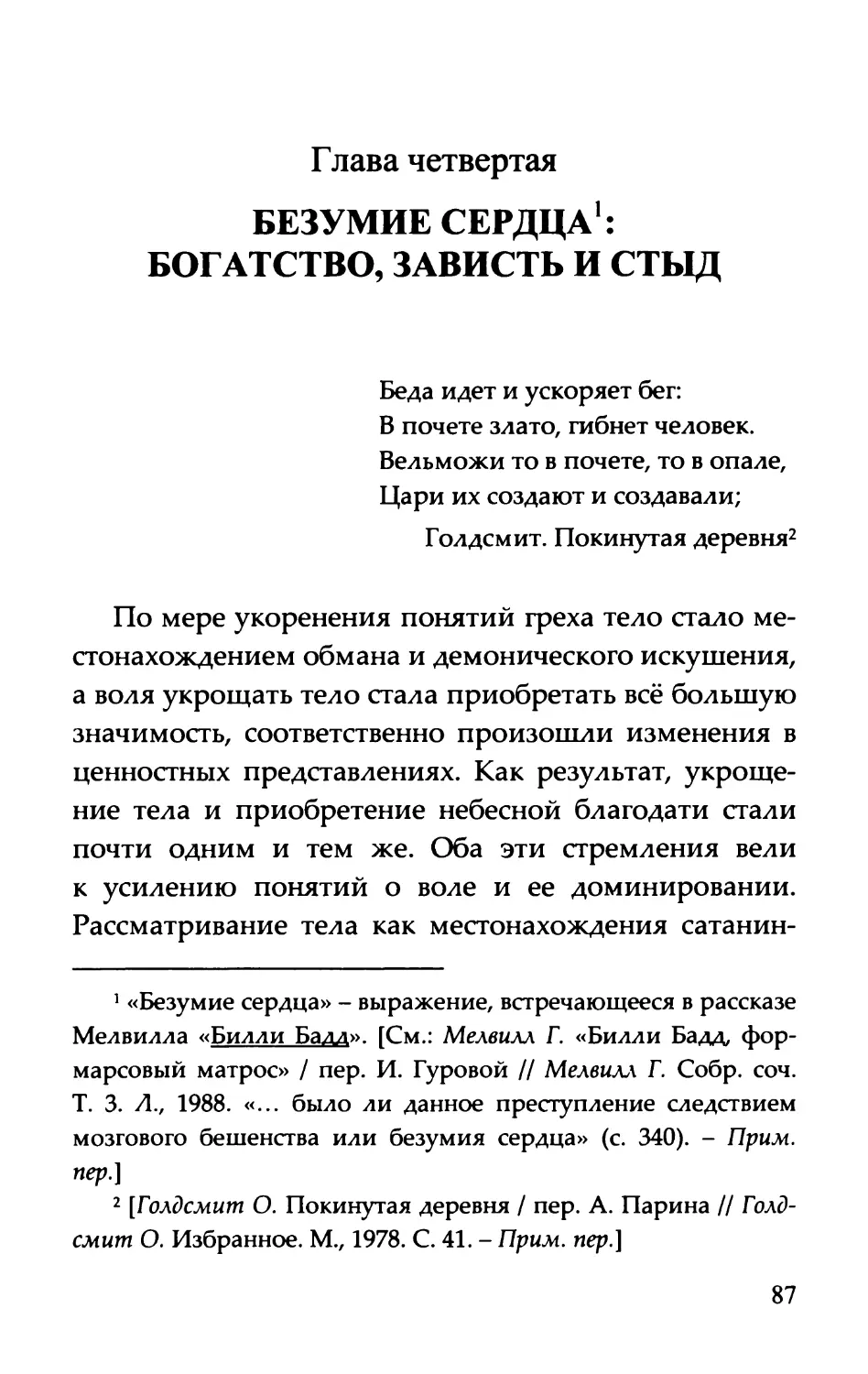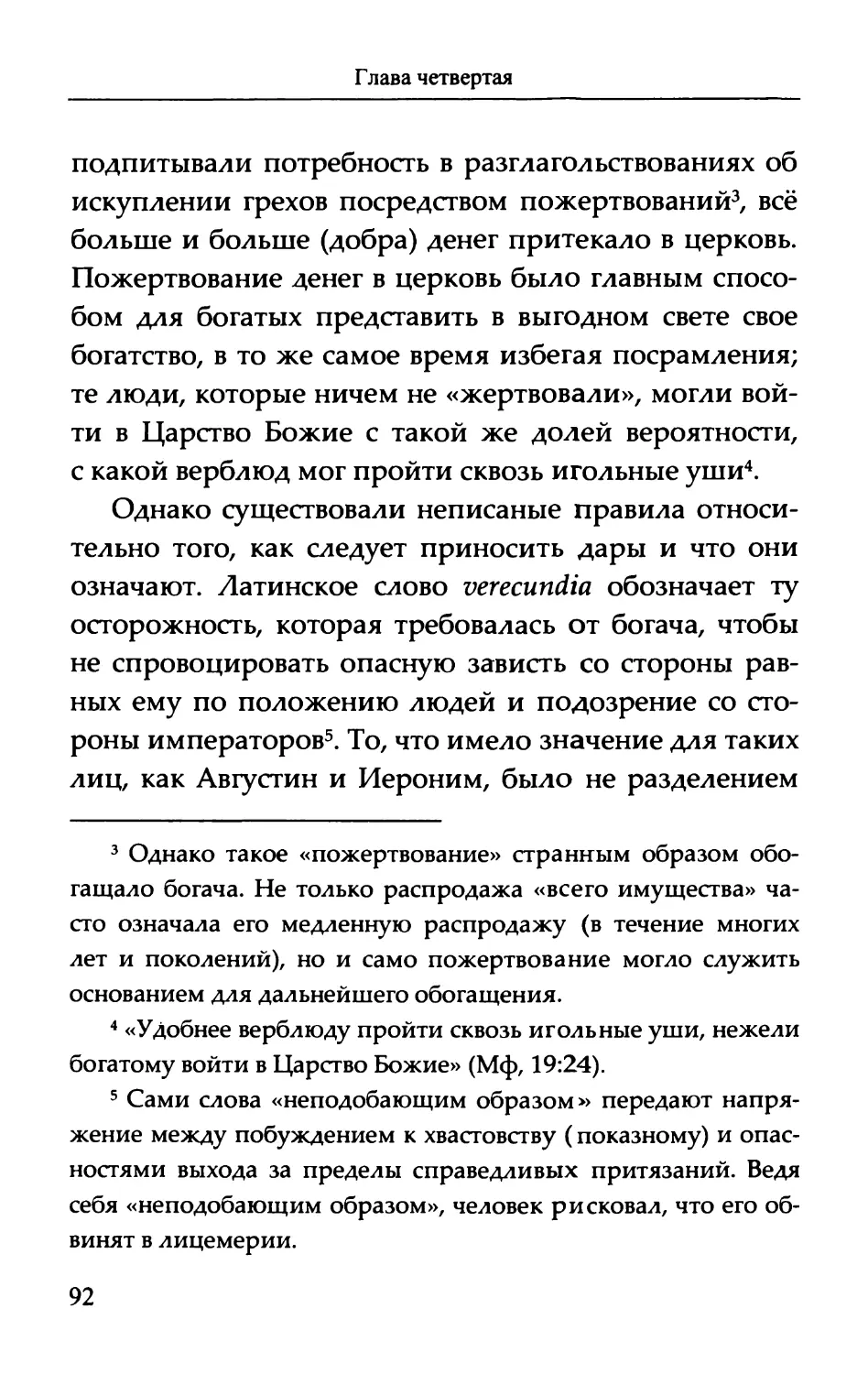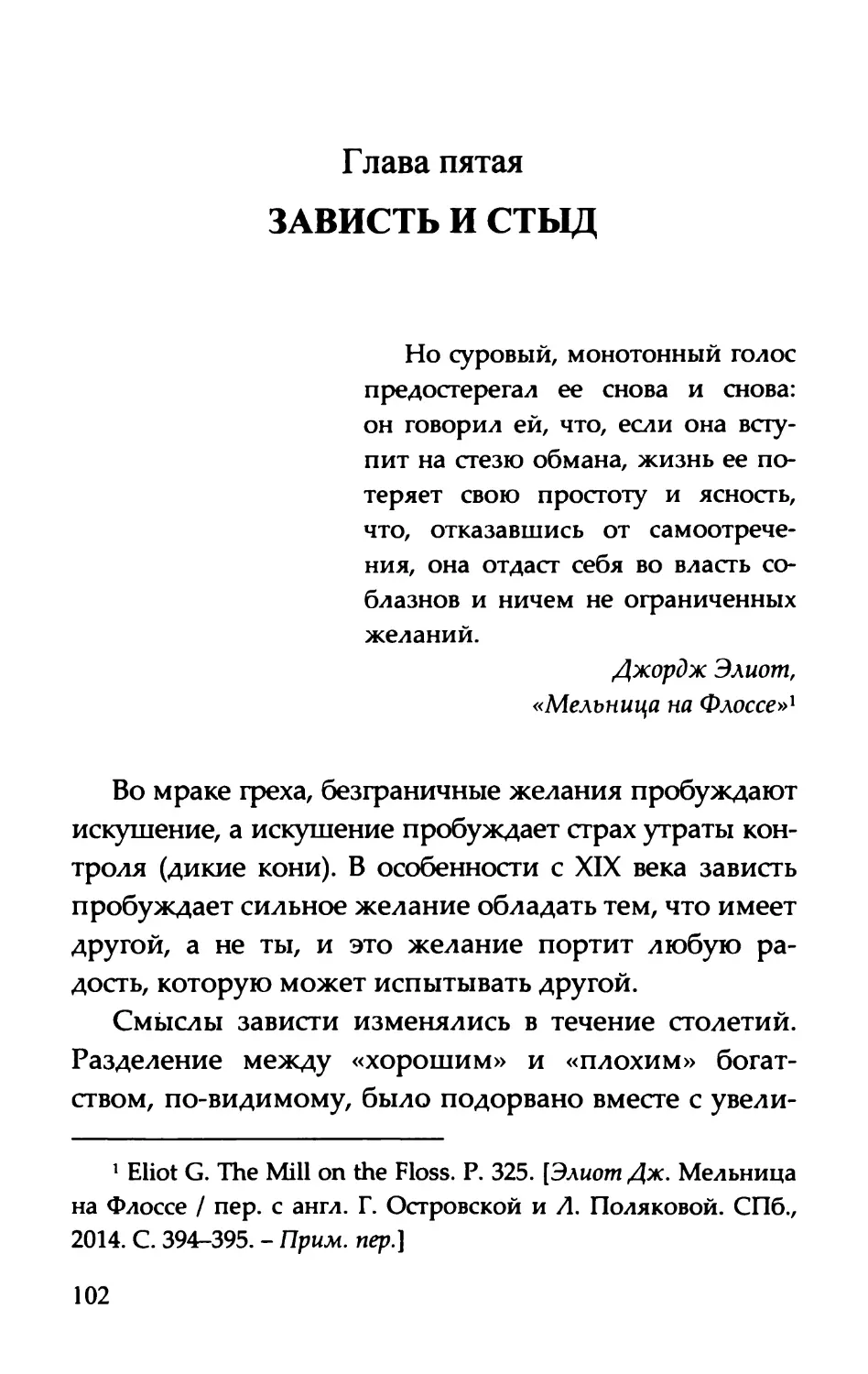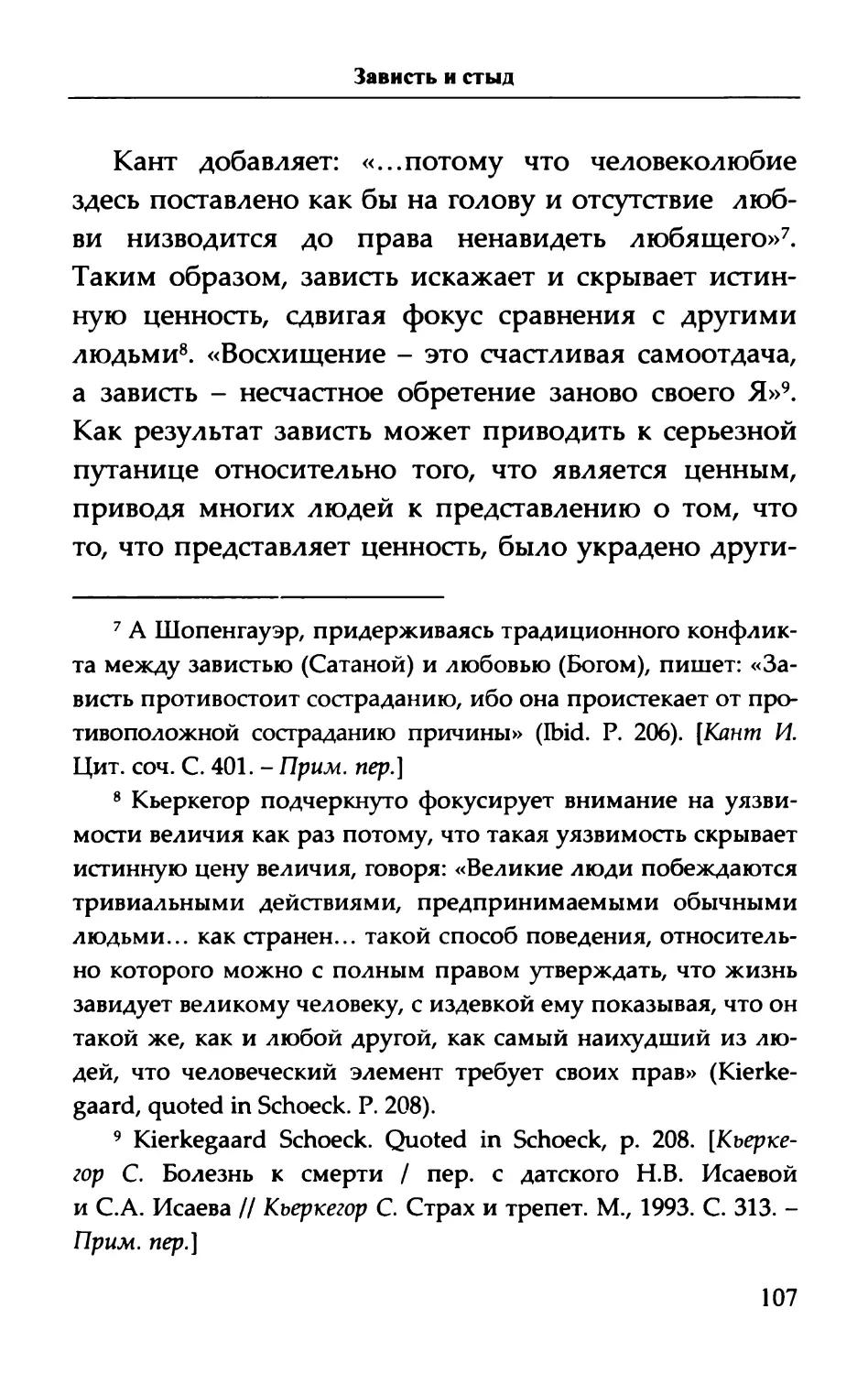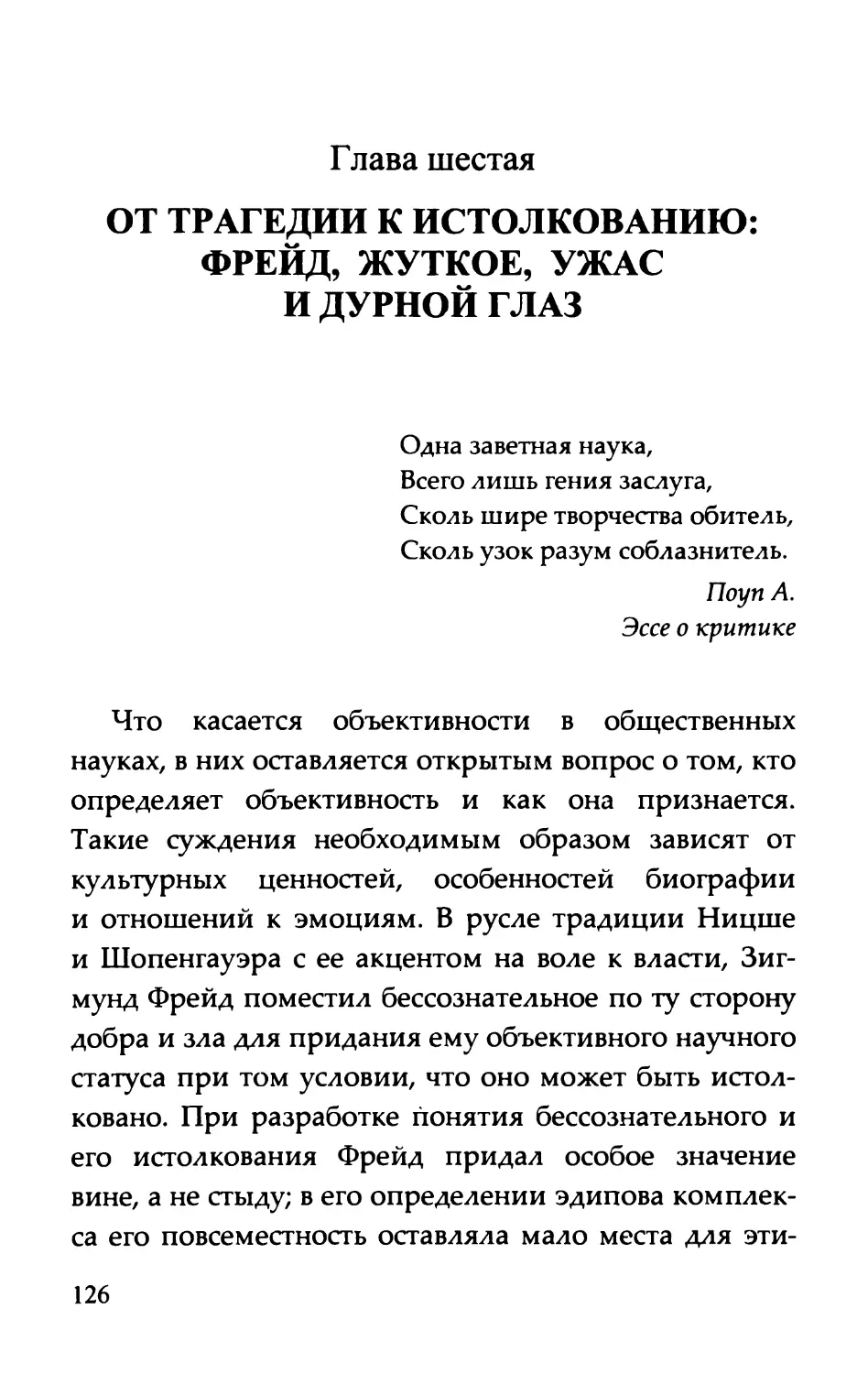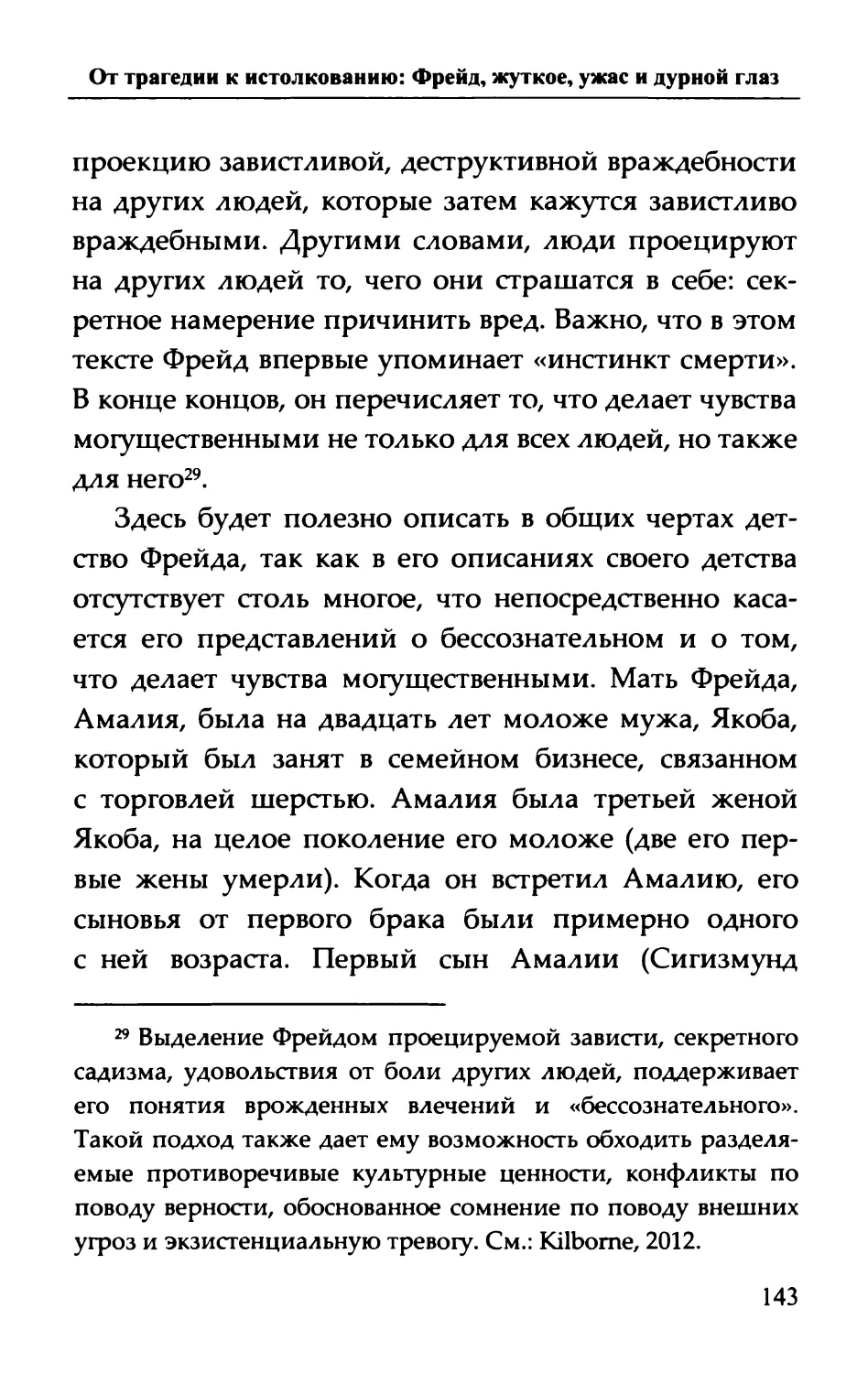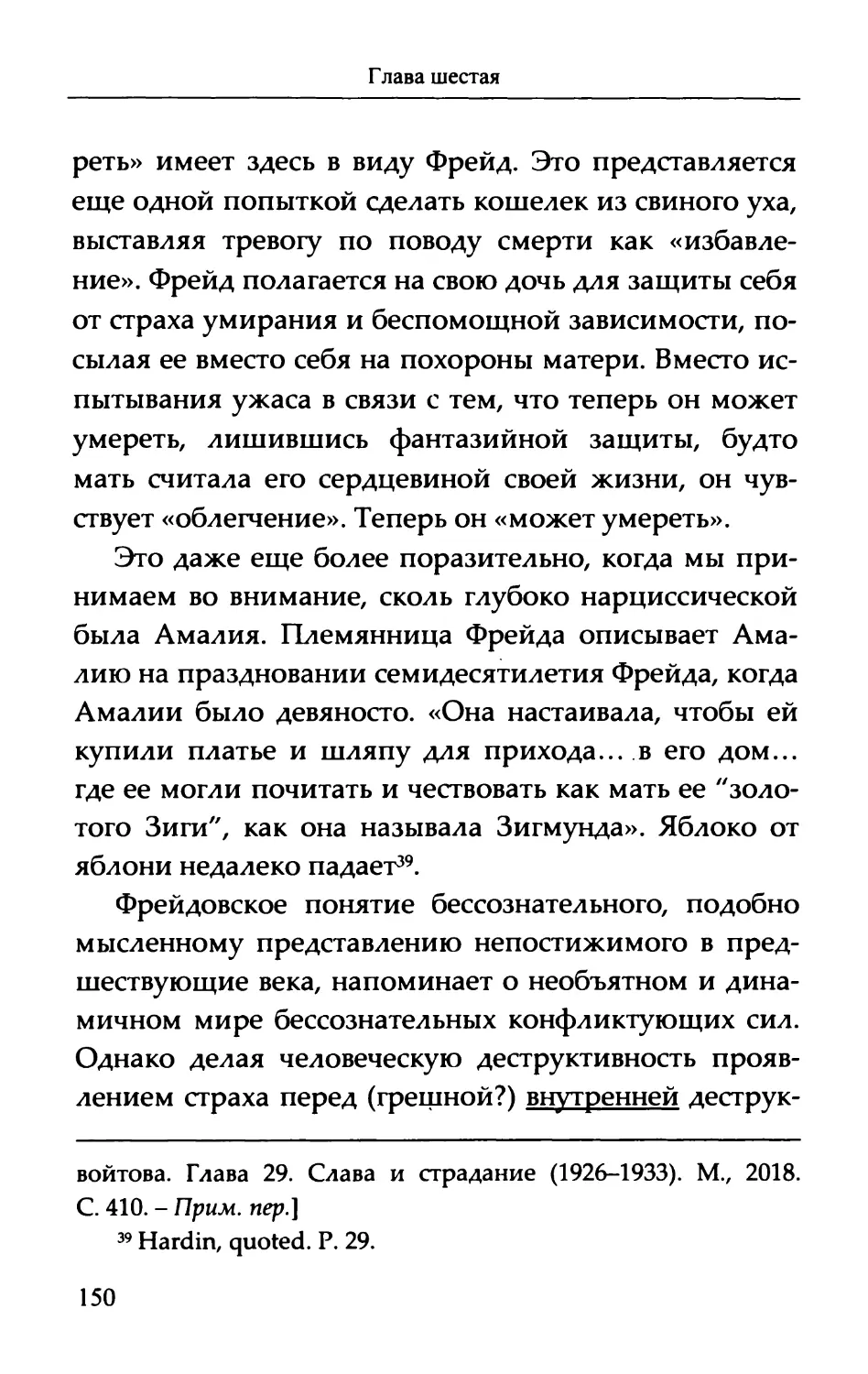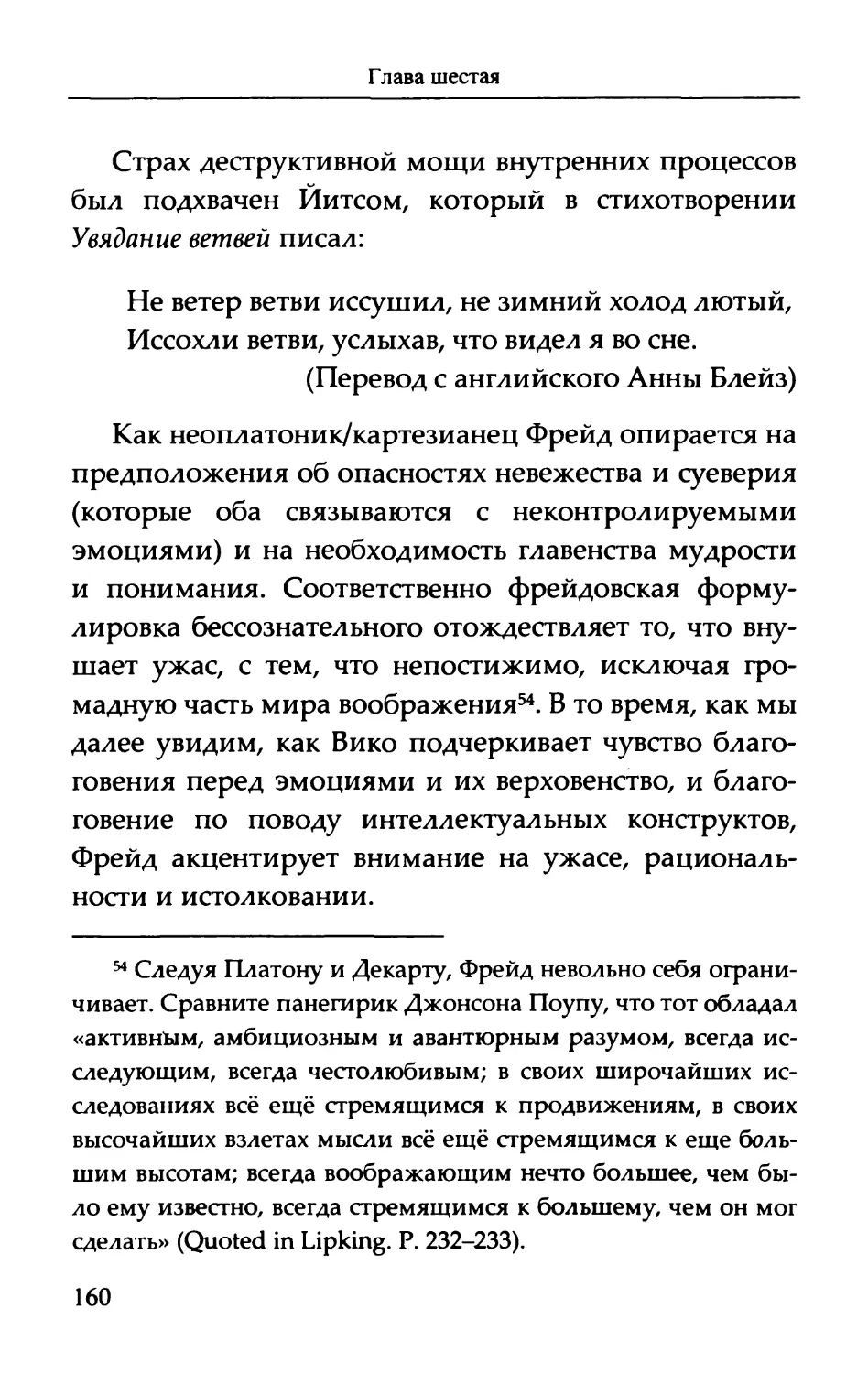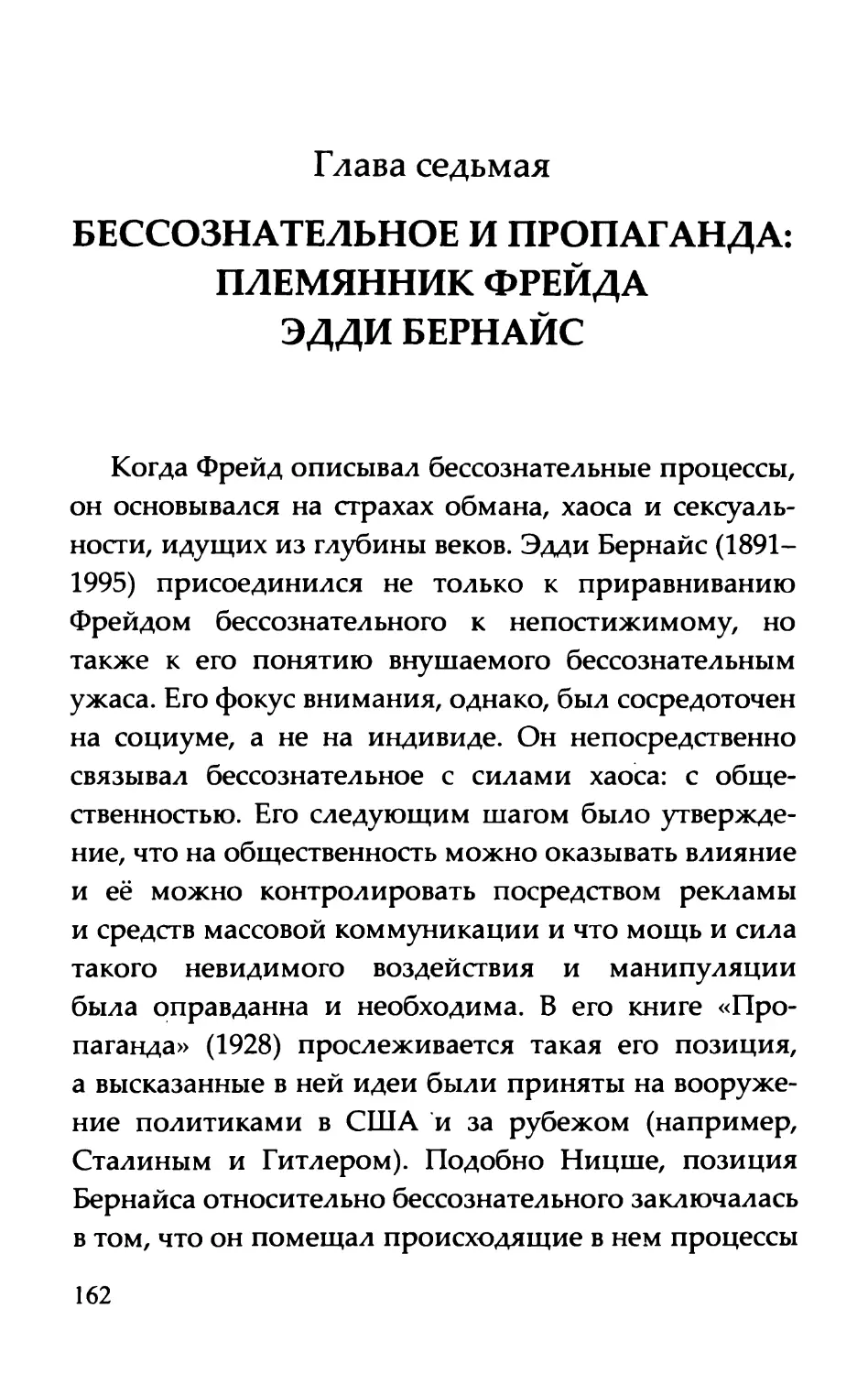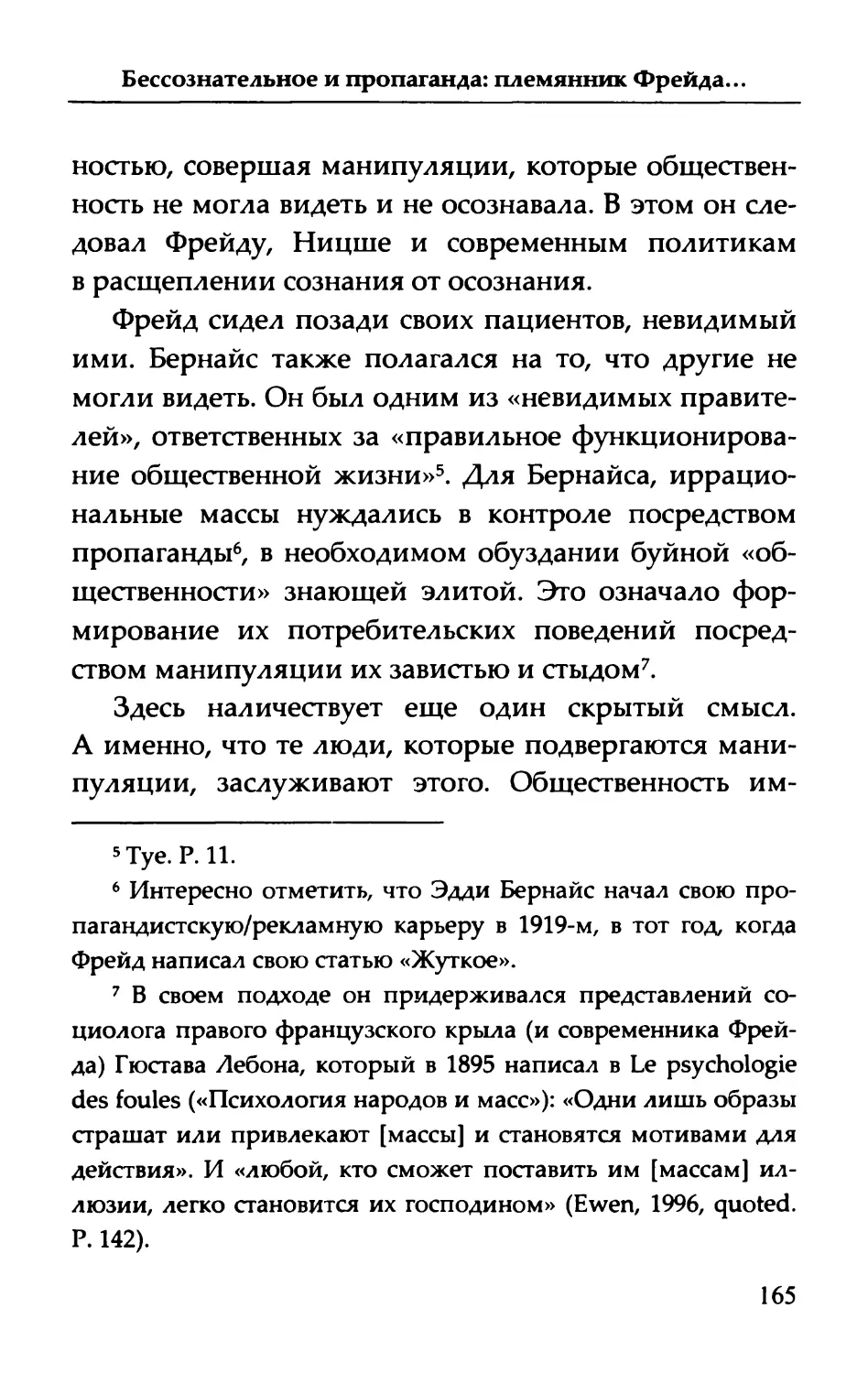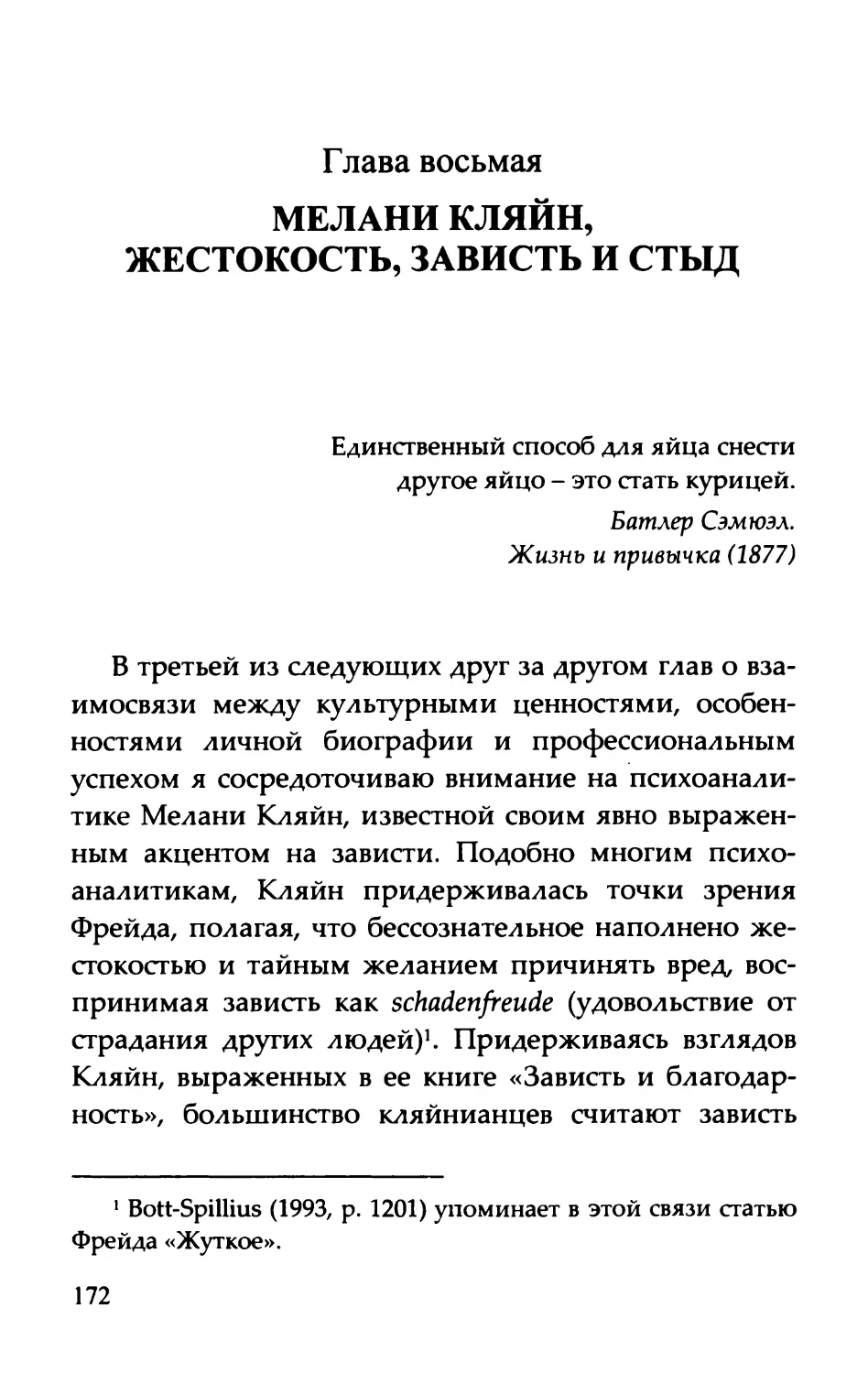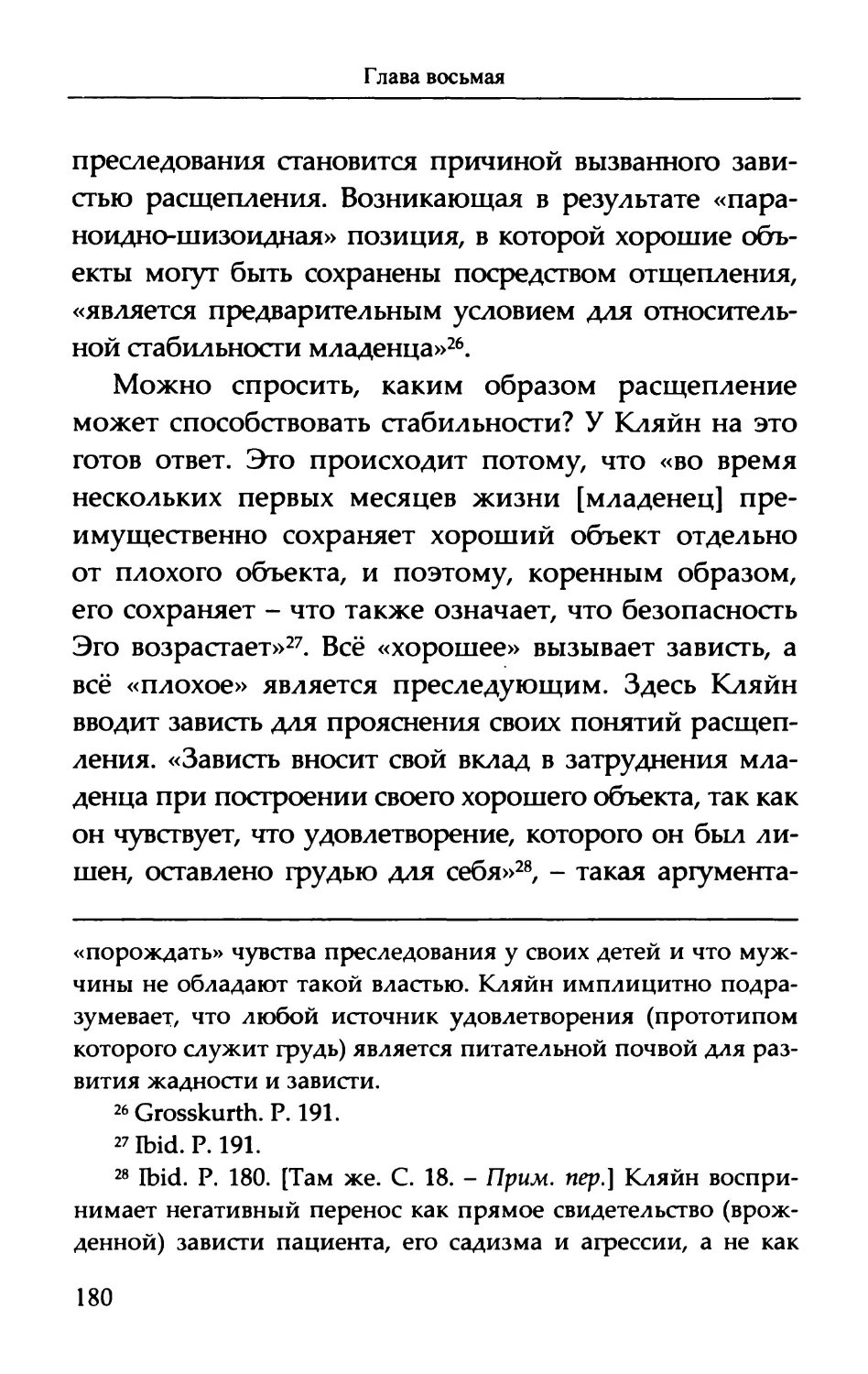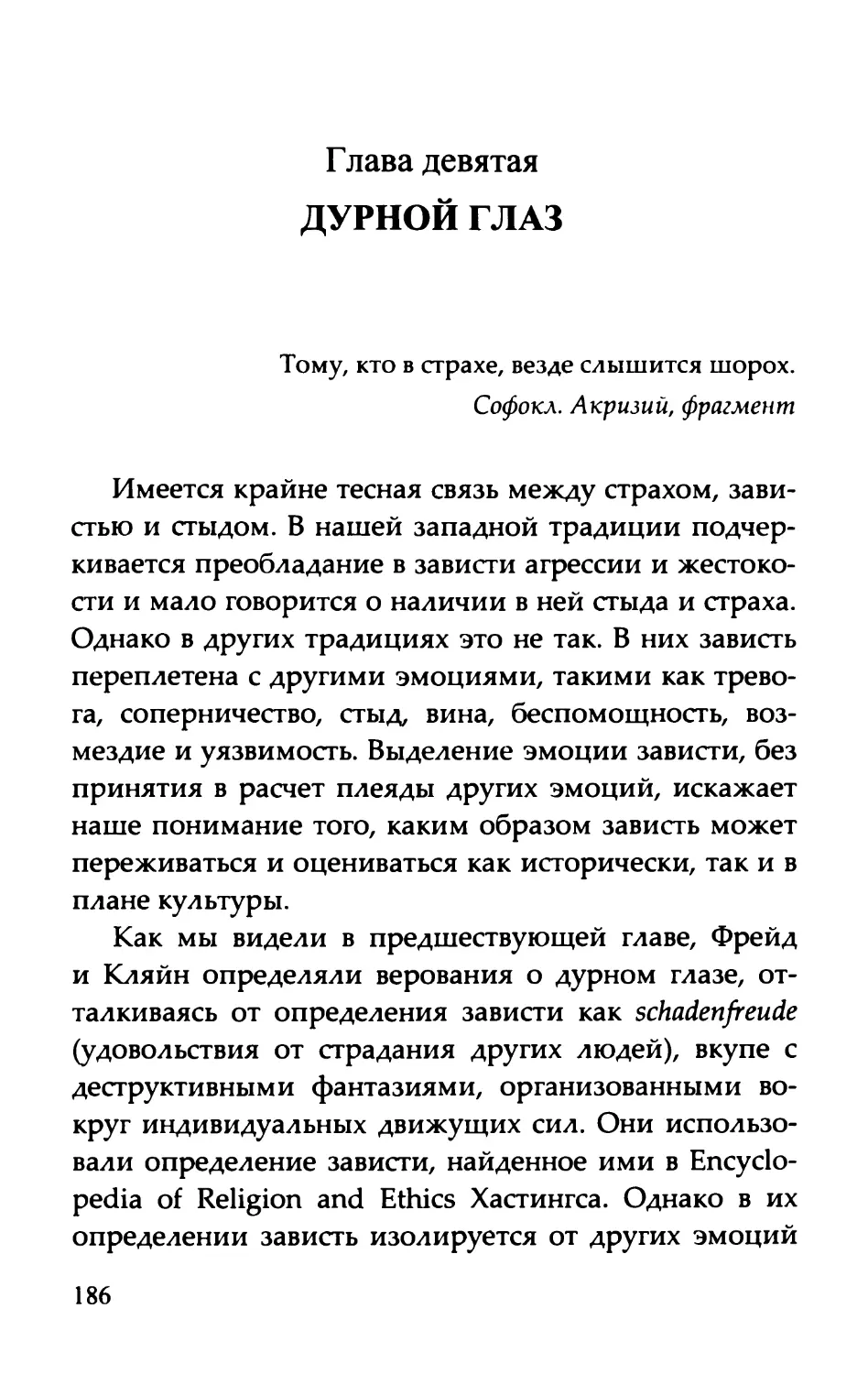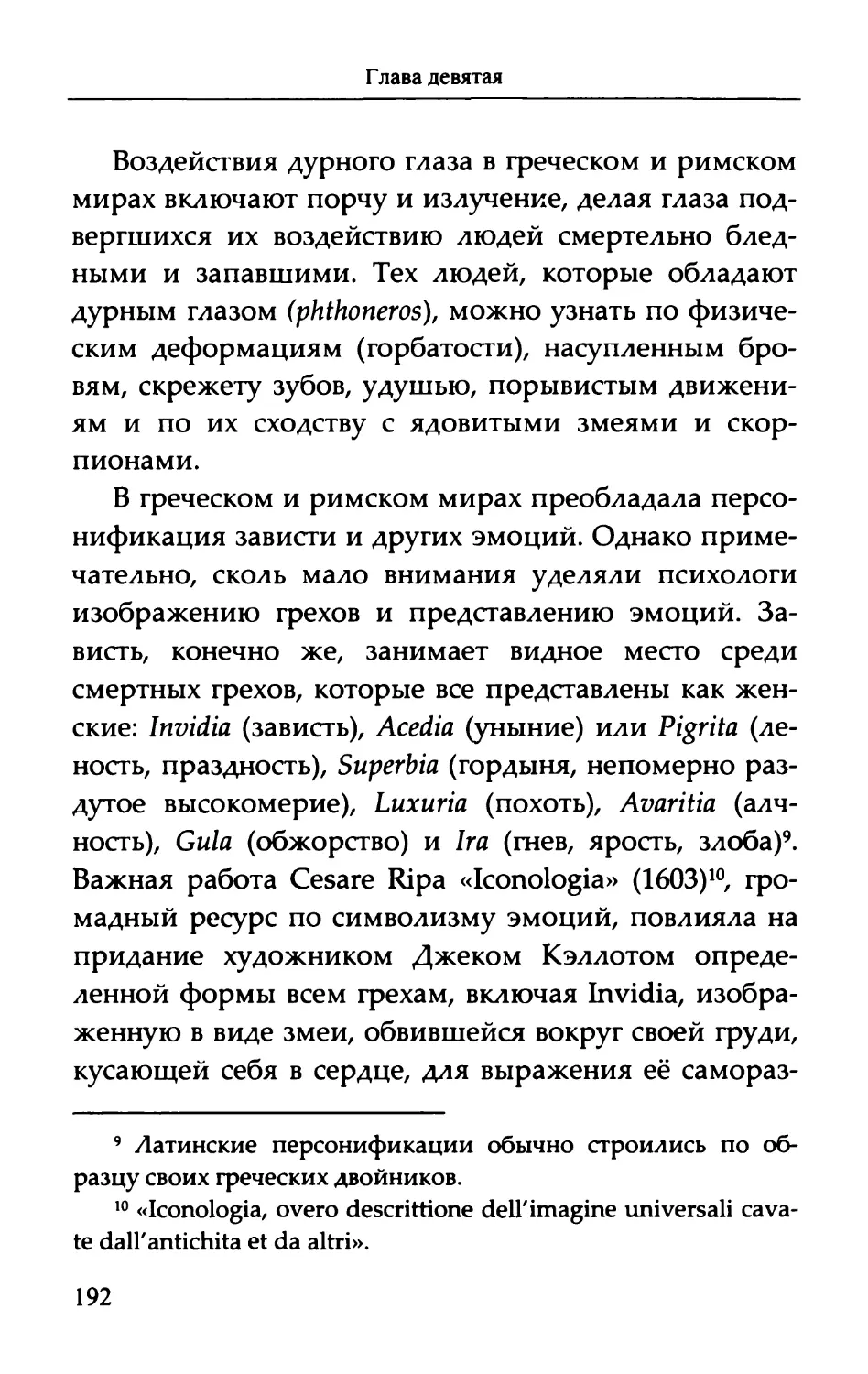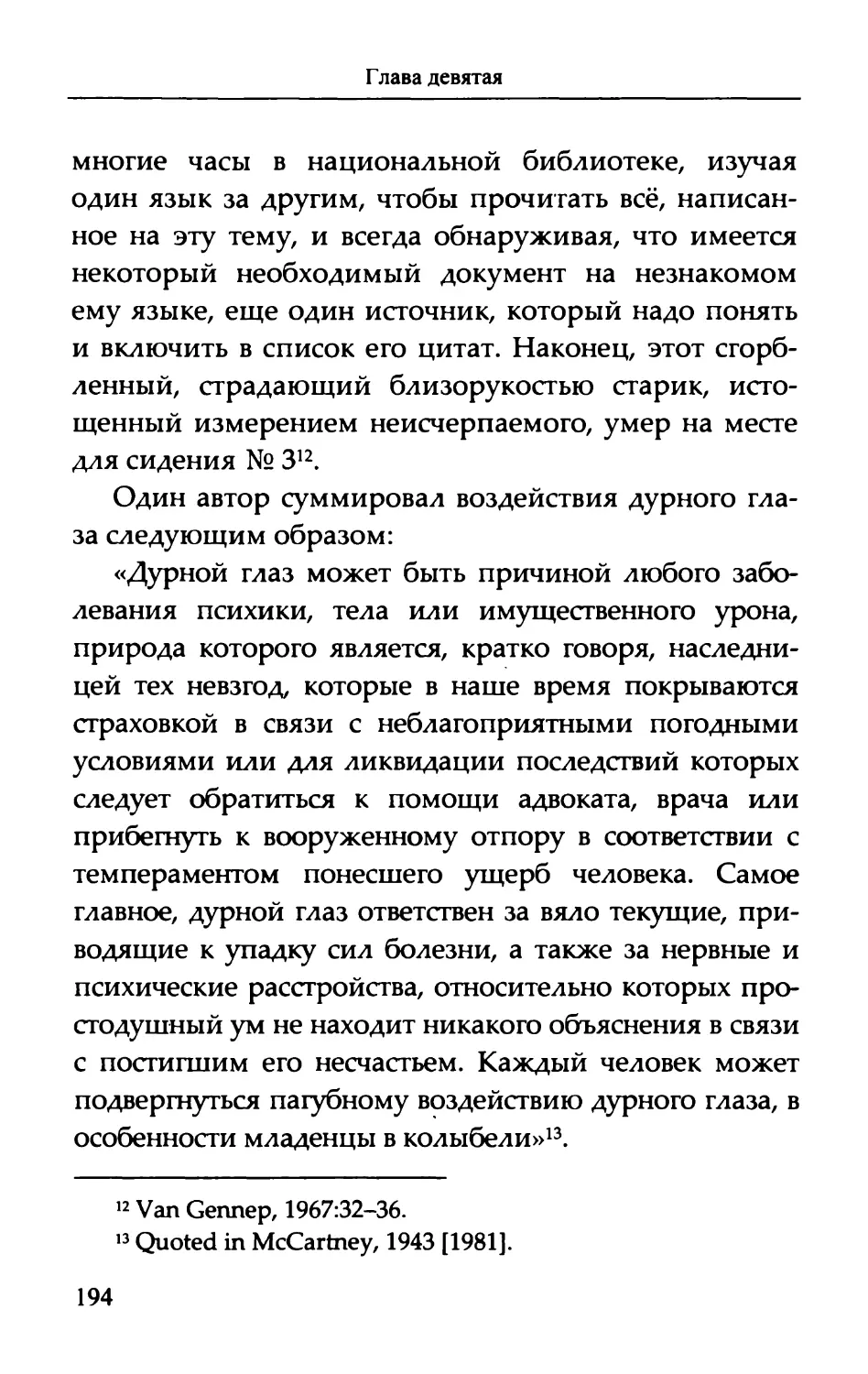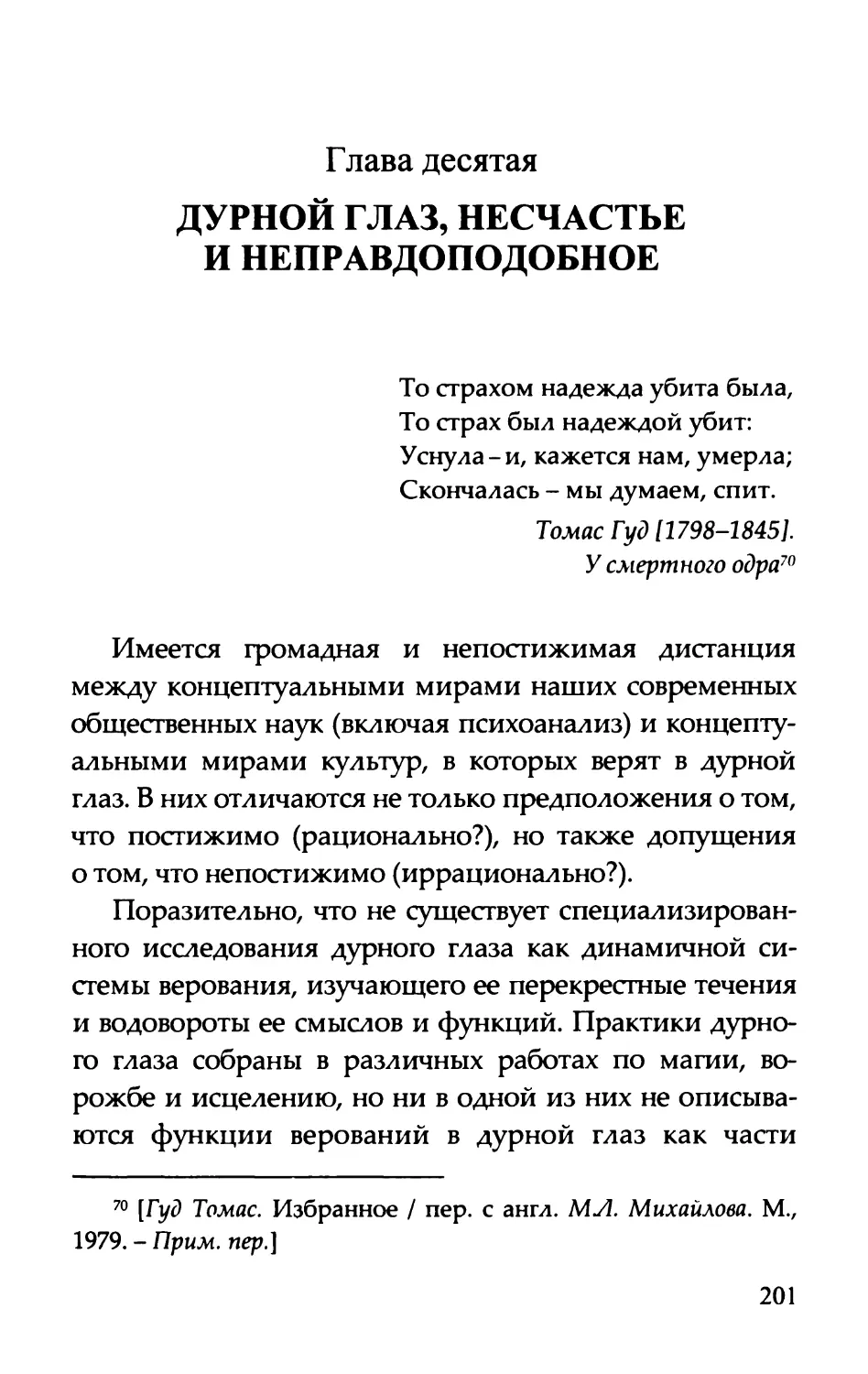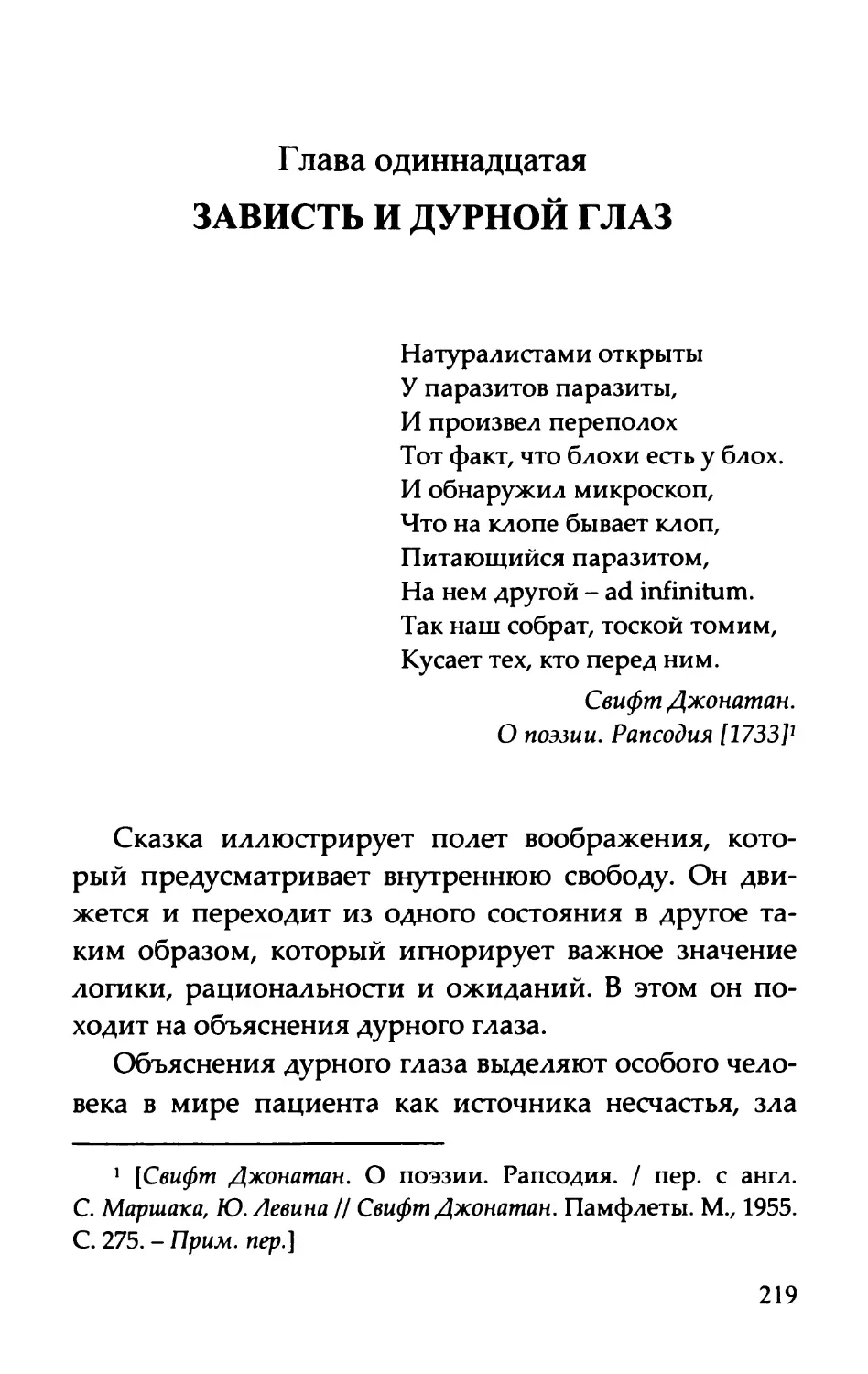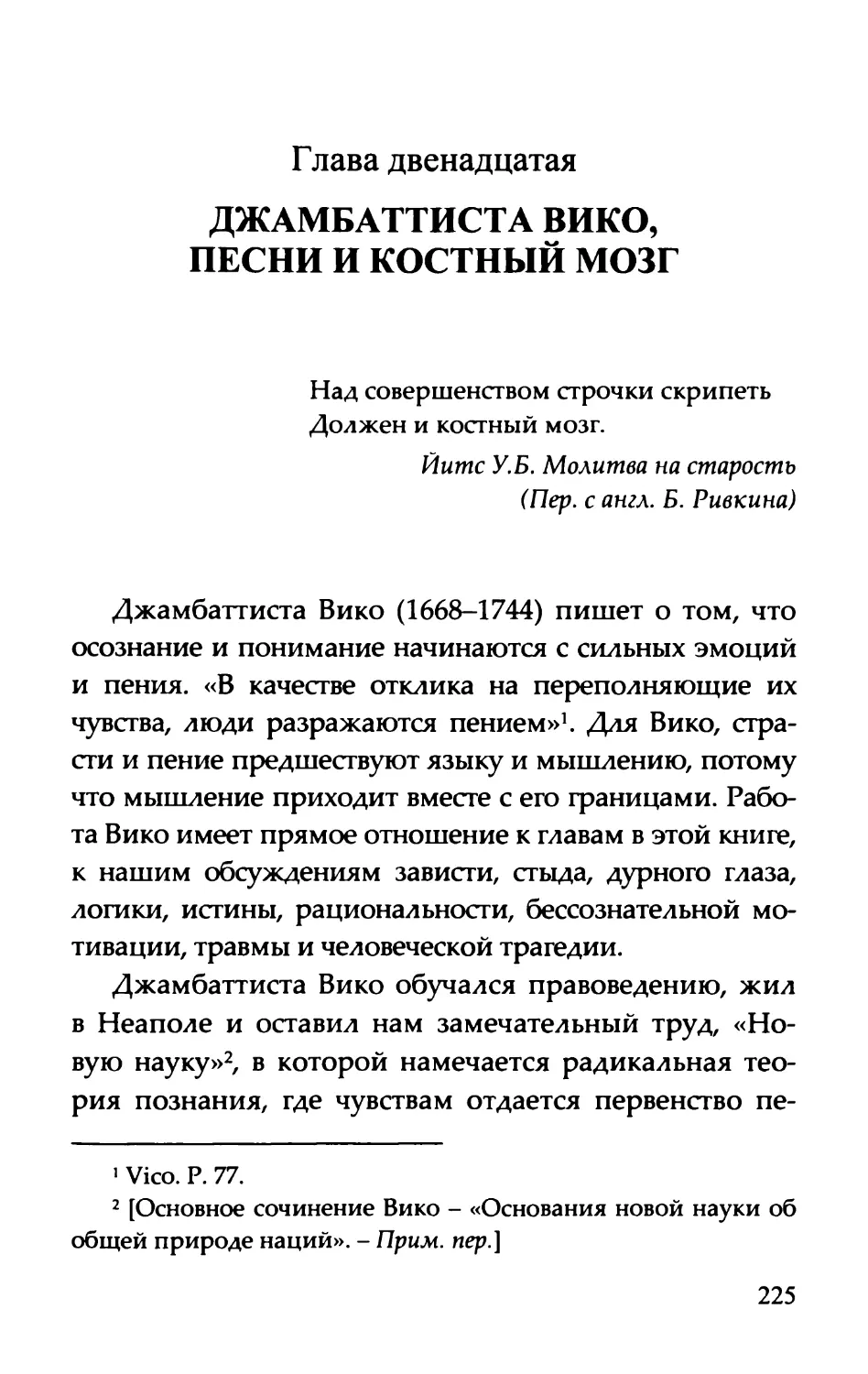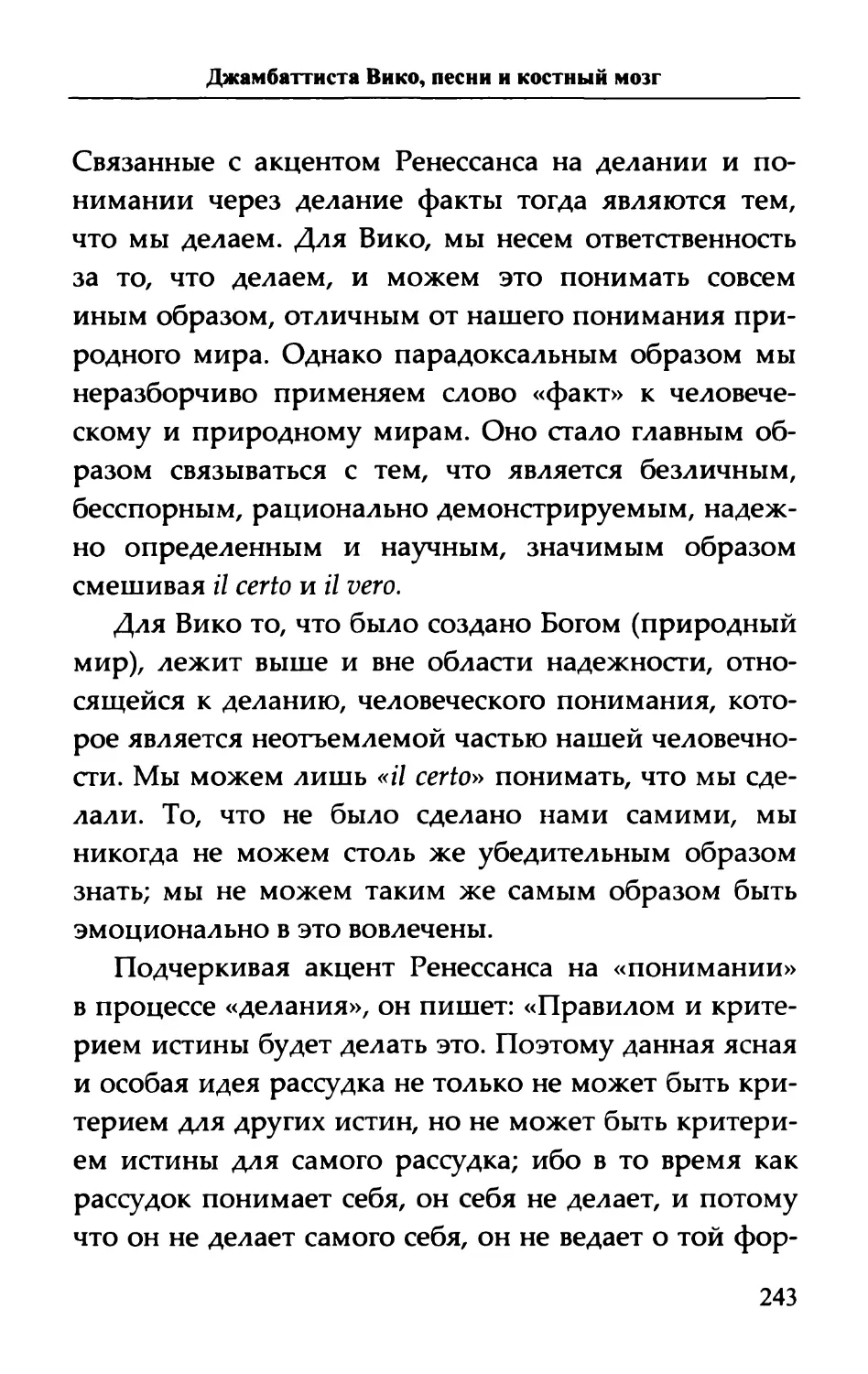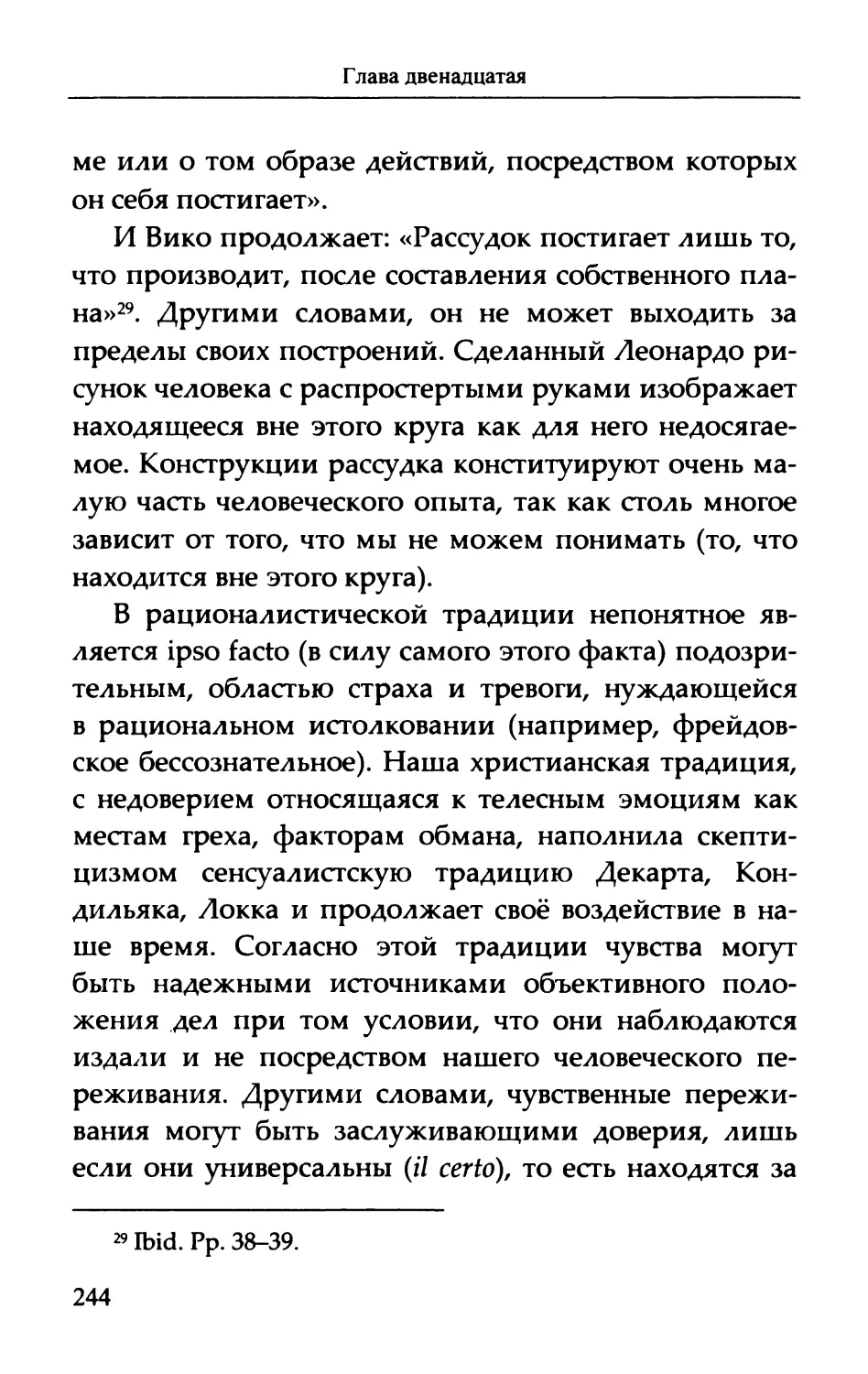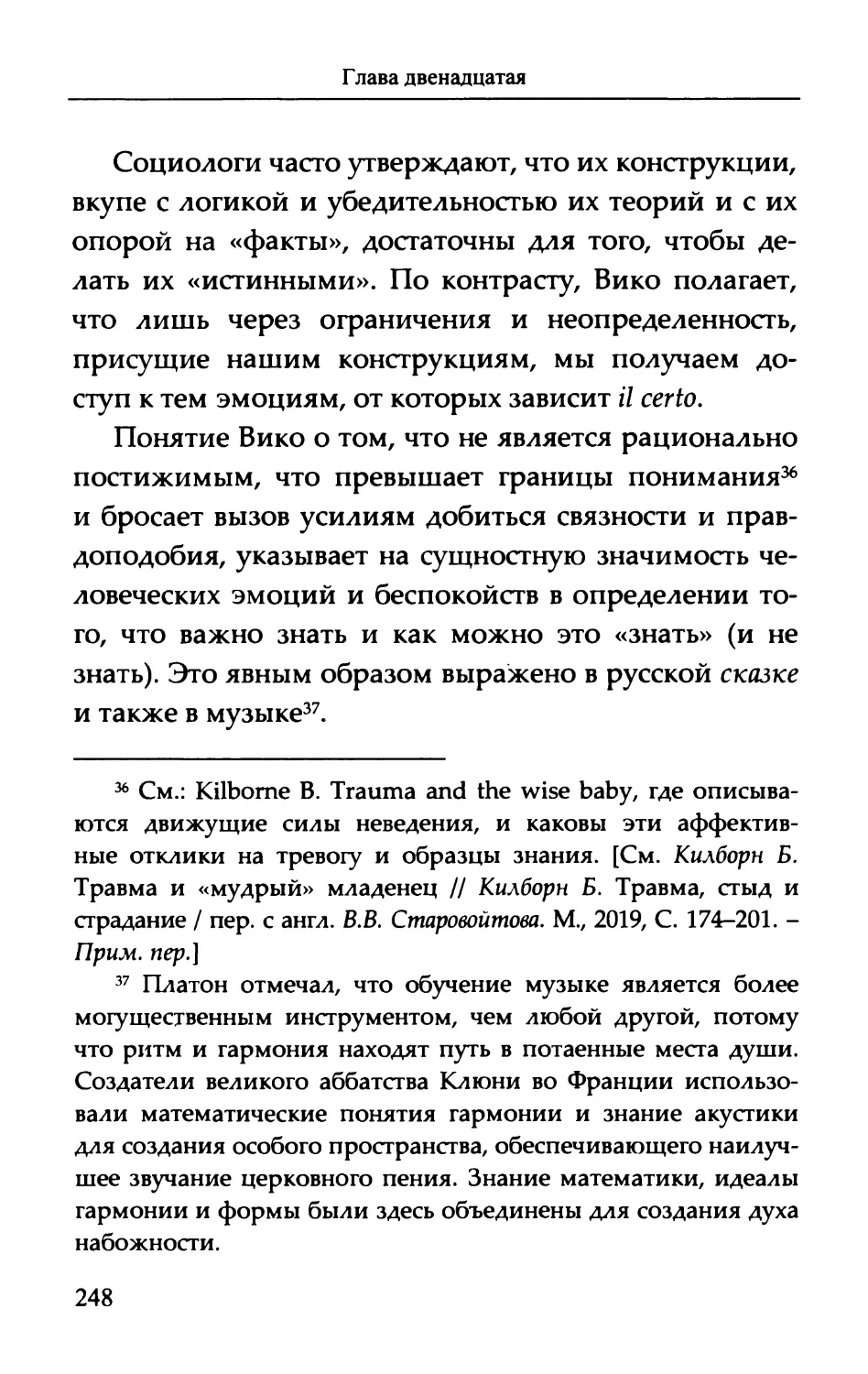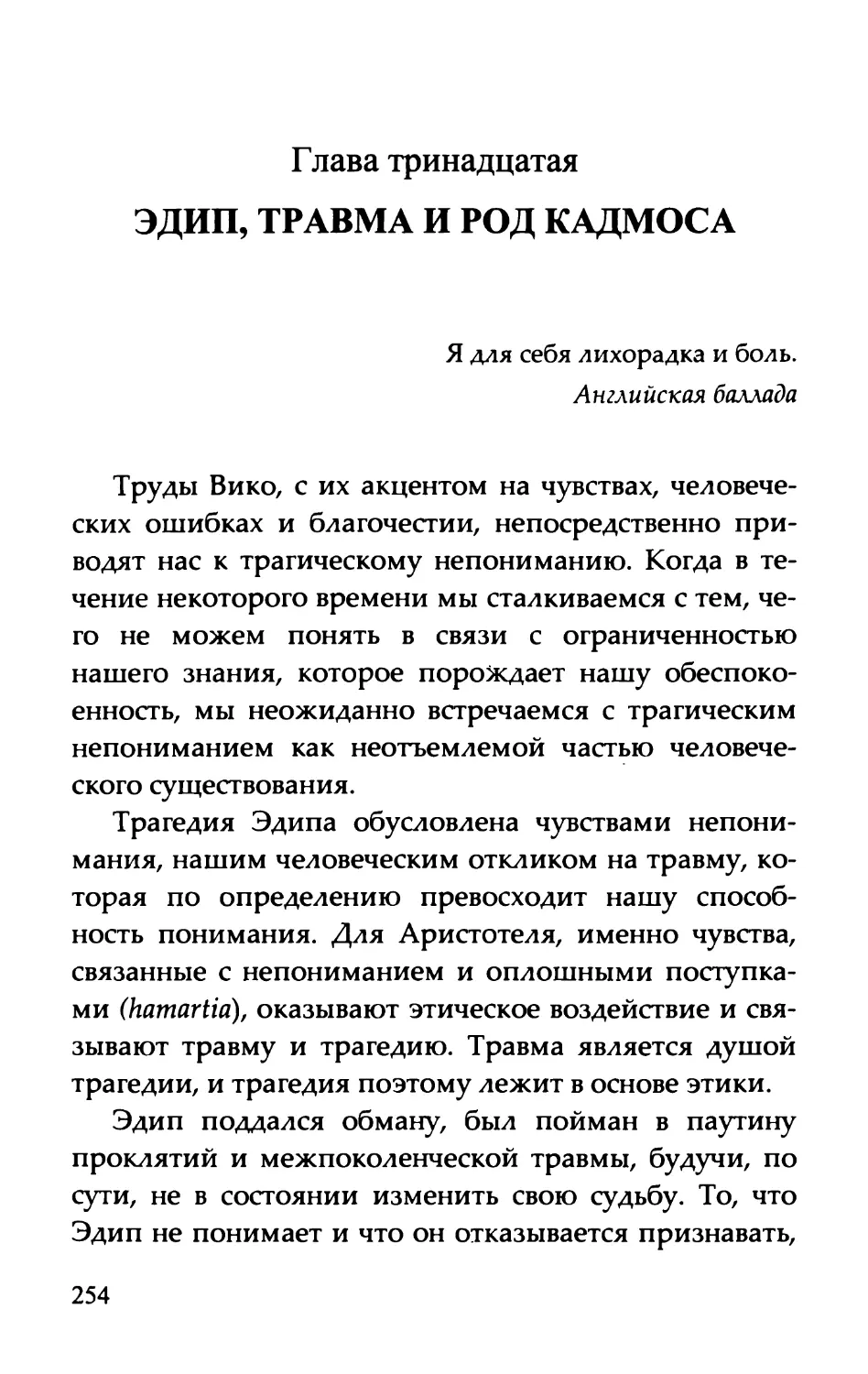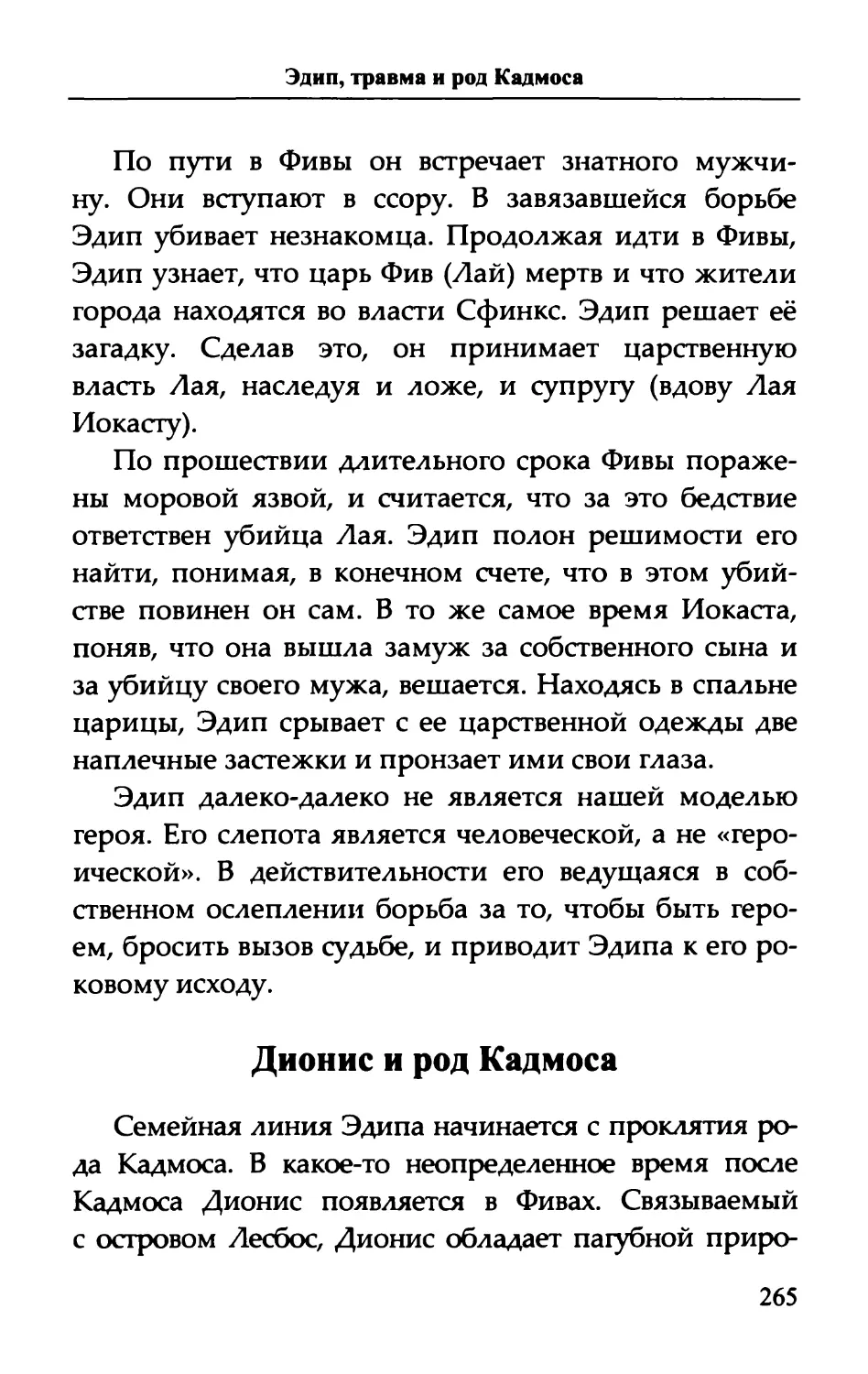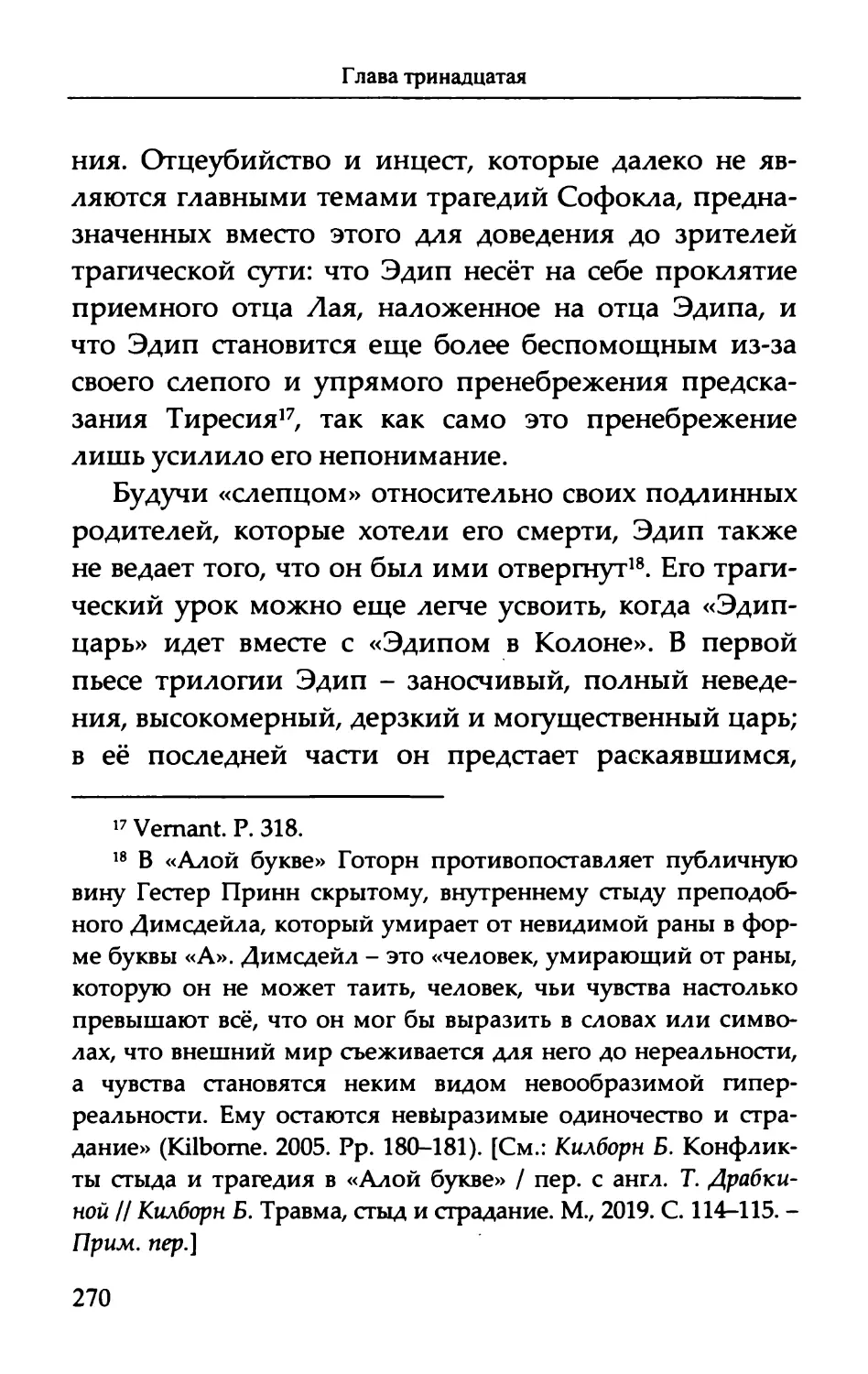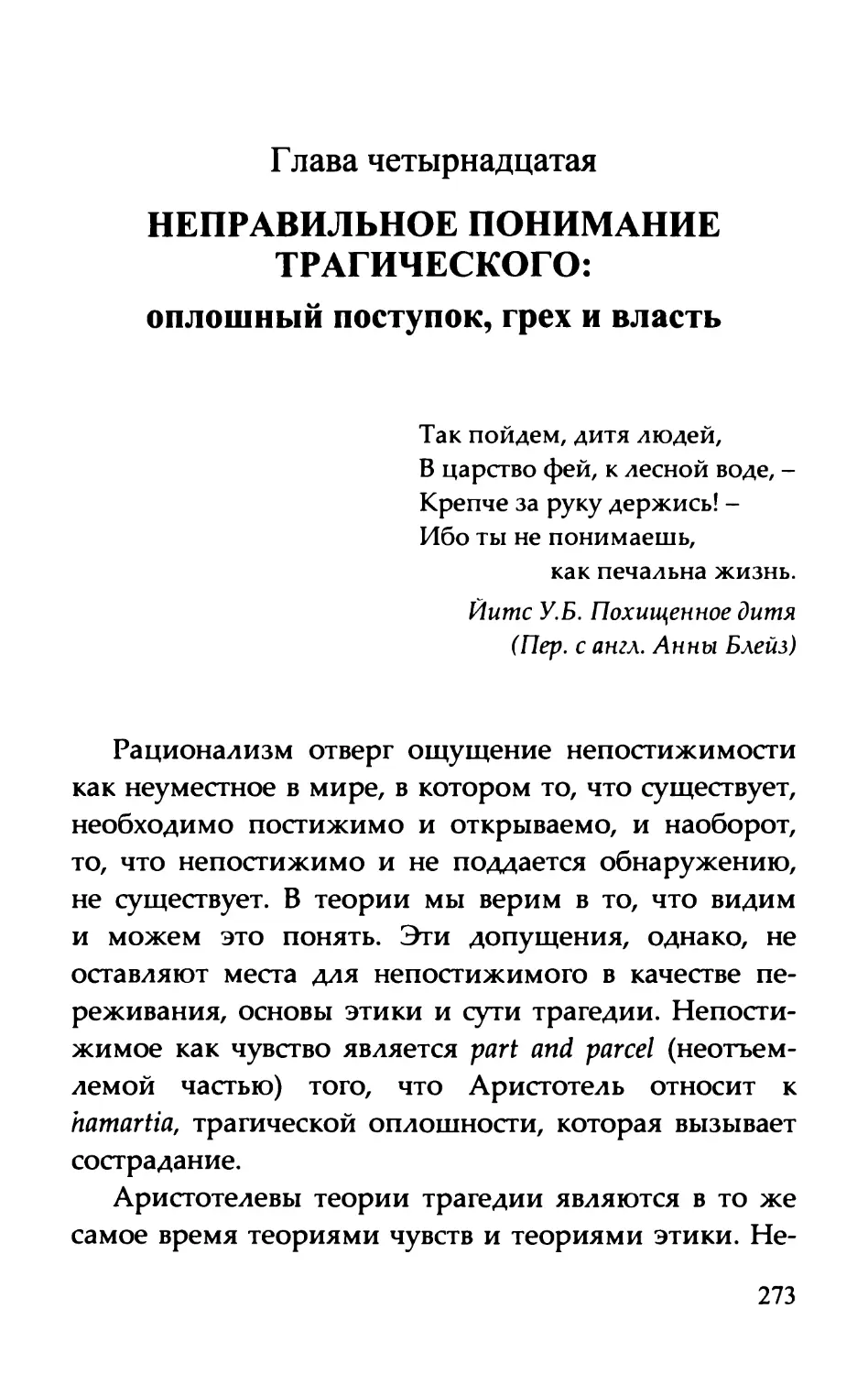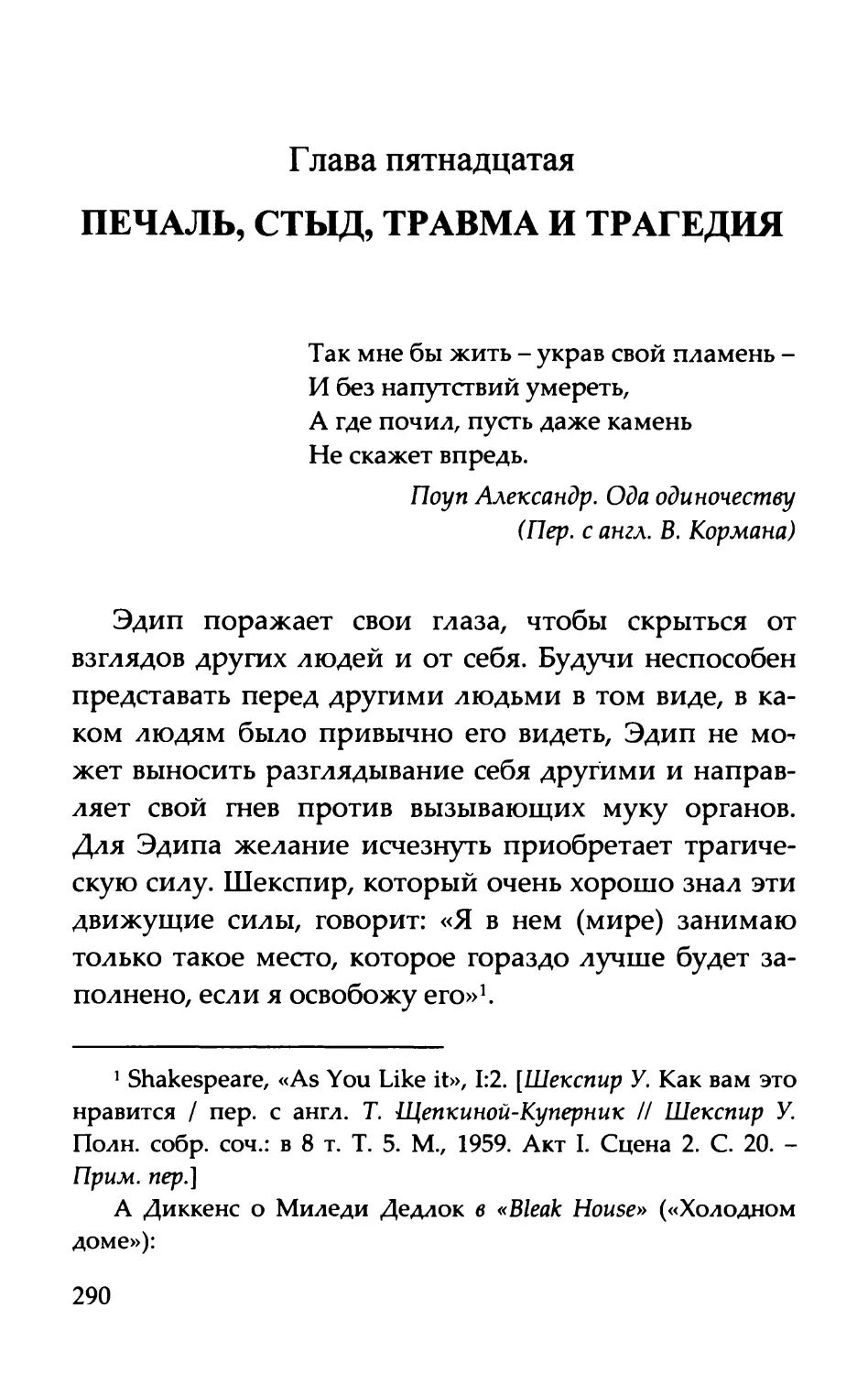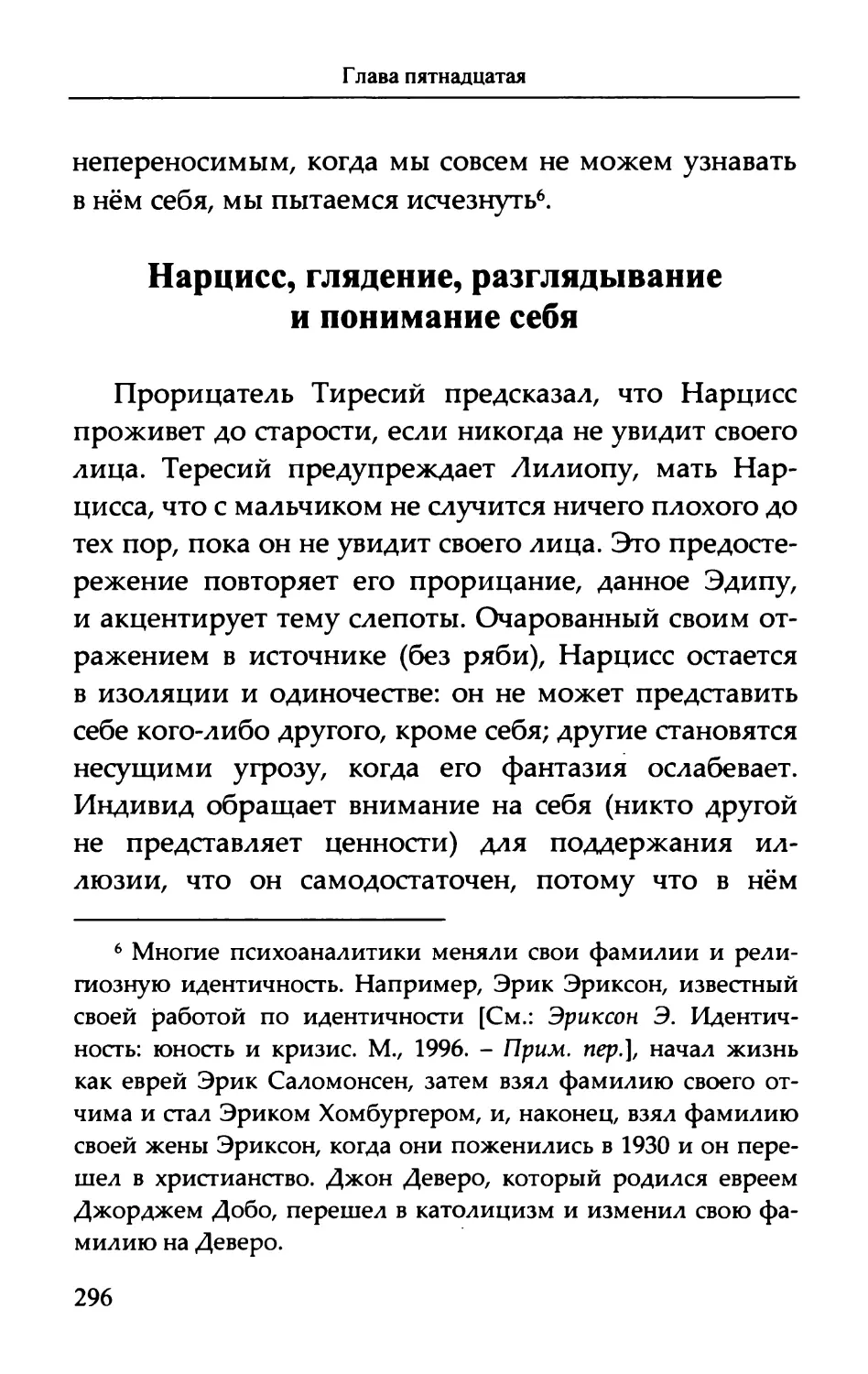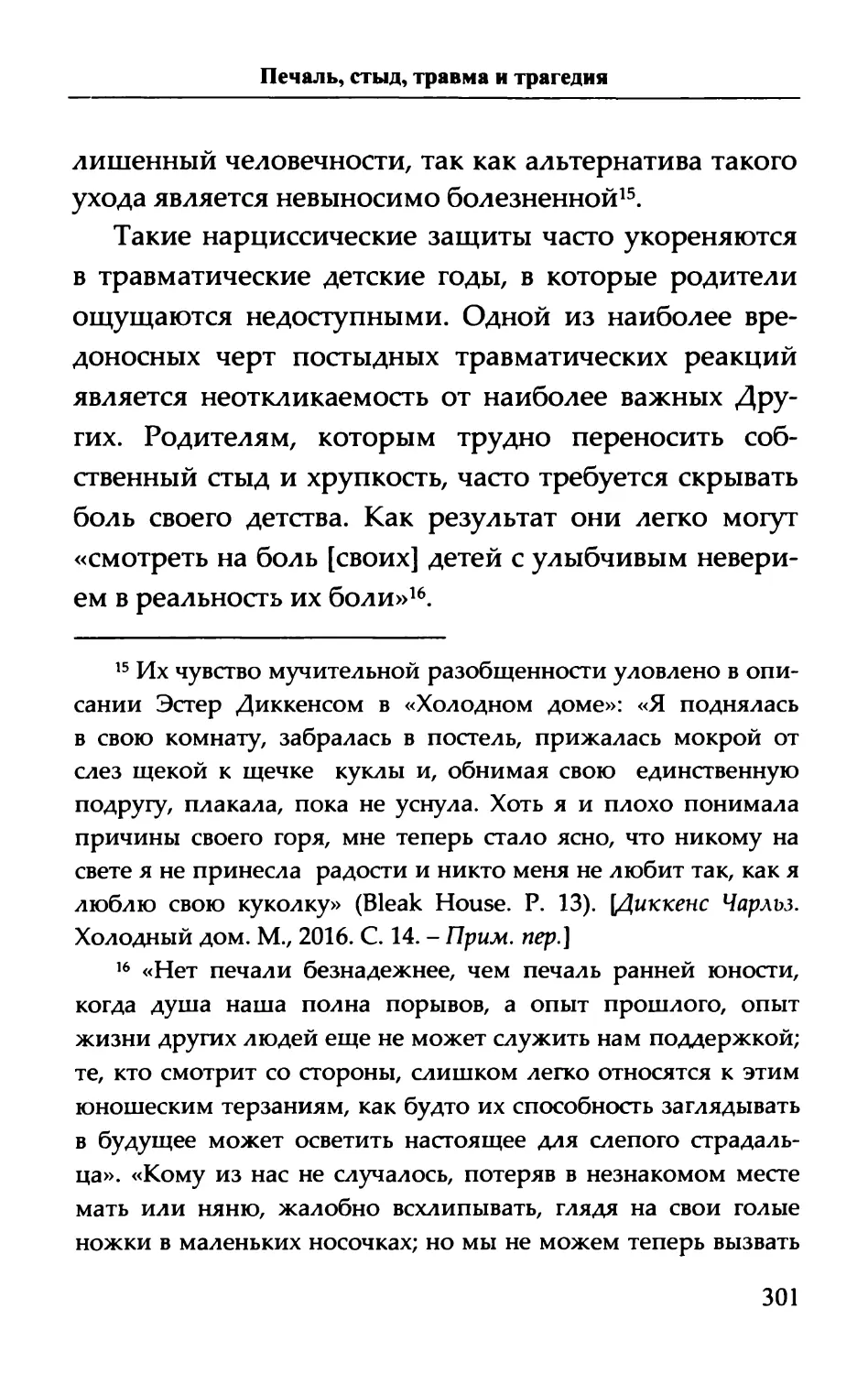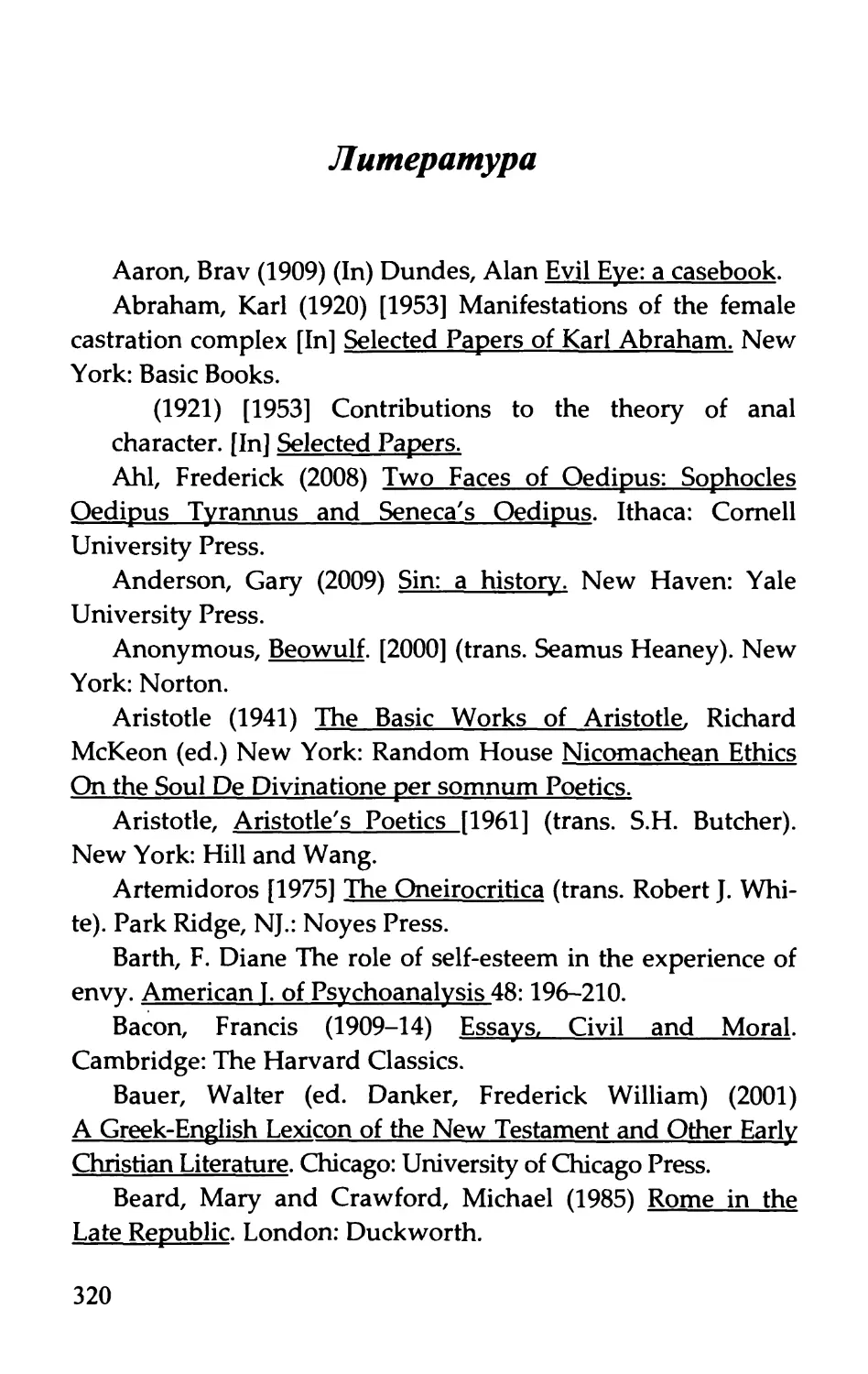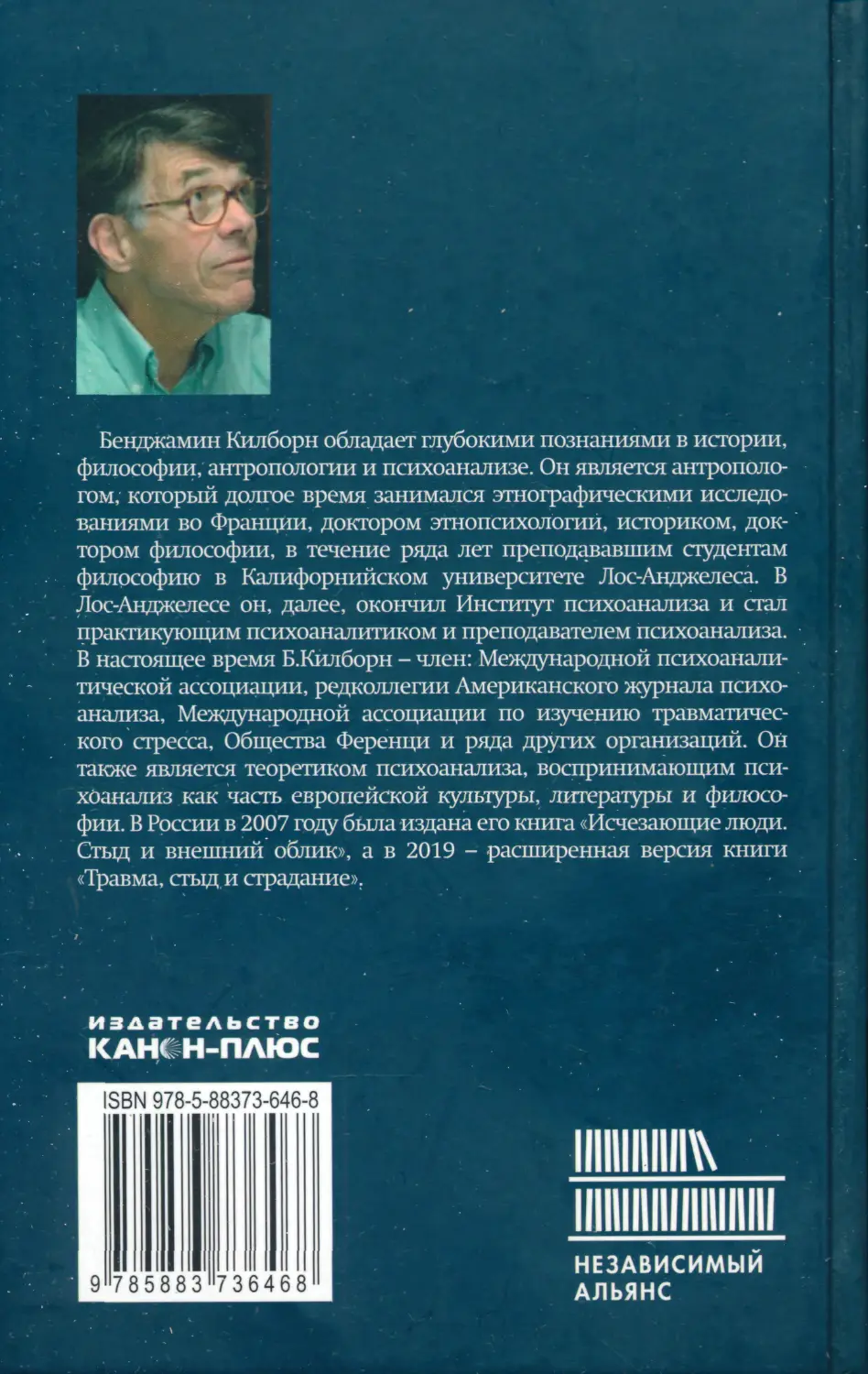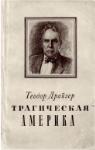Текст
Benjamin Kilborne
TRAGIC
INCOMPREHENSION:
Envy, Shame and Trauma
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт философии
Бенджамин Килборн
НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОНИМАНИЕ
ТРАГИЧЕСКОГО:
зависть, стыд и страдание
Перевод под редакцией
В.В. Старовойтова
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАН #Н-ПЛЮС»
2022
Ю9 88.6
К 39
Рецензенты:
доктор филос. наук Т.П. Аифинцева,
кандидат филос. наук СП. Шорохова
Килборн Бенджамин
К 39 Неправильное понимание трагического: зависть, стыд
и страдание / ред. В.В. Старовойтова; пер. с англ. В.В.
Старовойтова. Сер. Психоанализ. - М.: Канон+ РООИ
«Реабилитация», 2022. - 336 с.
ISBN 978-5-88373-646-8
Исследуя происходящие в течение более двух тысячелетий
изменения в восприятии эмоций зависти и стыда, Б. Килборн пишет
о том, что, в то время как у Аристотеля понятия оплошного поступка
и катарсиса составляют суть трагедии, ранний христианский период
показывает базовые сдвиги в оценке эмоций, трагедии и травмы.
Зло более не воспринималось как проявление человеческой
оплошности, а стало связываться со злой волей и злобным преднамеренным
действием. В результате человеческое страдание приобрело оттенок
вызванного искушениями греха и стало заслуженным наказанием.
С течением веков западная традиция стала придавать особое значение
не слабости и искушению, а, скорее, силе и жестокости. Основатель
психоанализа 3. Фрейд, согласно американскому исследователю,
придерживался преобладающих культурных ценностей при выделении вины
и агрессии в своей характеристике эдипова комплекса.
Книга известного американского психоаналитика, над которой он
работал свыше 20 лет, ранее не издавалась и впервые выходит в свет на
русском языке. Она адресована широкому кругу читателей.
ББК Ю9 88.6
Охраняется законодательством об авторском праве. Воспроизведение
всей книги или любой ее части запрещается, в том числе и в Интернете,
без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения
законодательства будут преследоваться в судебном порядке.
ISBN 978-5-88373-646-8 © Kilborne В., 2020
© Пер. с англ. Старовойтов В.В., 2020
© Издательство «Канон+»
РООИ «Реабилитация».
оригинал-макет, оформление, 2020
iiininiiiiininiu
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Оглавление
ВСТУПЛЕНИЕ 7
ВВЕДЕНИЕ 18
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Запах крови: более широкая картина 41
ГЛАВА ВТОРАЯ
Разум тела: обман, рассудок и боль 58
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О Сатане, зависти и отверженных 74
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд 87
ГЛАВА ПЯТАЯ
Зависть и стыд 102
ГЛАВА ШЕСТАЯ
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас
и дурной глаз 126
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда
Эдди Бернайс 162
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд 172
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Дурной глаз 186
5
Оглавление
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное 201
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Зависть и дурной глаз 219
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг 225
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Эдип, травма и род Кадмоса 254
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Неправильное понимание трагического:
оплошный поступок, грех и власть 273
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Печаль, стыл травма и трагедия 290
ЛИТЕРАТУРА 320
6
ВСТУПЛЕНИЕ
Предварительное представление,
в котором сообщается
о диапазоне исследуемых тем
Эта книга начиналась как исследование истории
зависти и стыда, каким образом они воспринимались
и переживались в ходе веков. Однако какого рода
история требуется для исследования эмоций? Этот
вопрос продолжал меня терзать. Мне хотелось узнать,
почему Сатана изображается в своей основе
завистливым, а не позорно изгнанным, какими были
оценки зависти у ранних христиан и почему они нашли
выражение в понятии греха. В ходе исследования
мира ранних христиан я понял, что требовался более
широкий исторический контекст, в котором бы не
просто прослеживалась история, например, зависти
и стыда в их развитии в ходе веков, а, скорее, такой,
в котором принималась бы во внимание взаимосвязь
между завистью и стыдом, но также, в более общем
виде, наша эмоциональная жизнь.
Как одновременно психоаналитика/клинициста
и историка меня интересовал акцент Ницше -
Фрейда на вине и агрессии за счет исключения стыда,
а также то, почему на смену чувству стыда, которое
является столь основополагающей эмоцией в этике,
трагедии и религии, пришла очарованность властью
7
Вступление
и виной. В своей практике я встречал людей,
отчаянно пытающихся скрыть чувства болезненной
неадекватности и непонимания, защитить себя от
переполняющих их постыдных чувств.
Фрейд в своем понятии бессознательного искажает
чувства непонимания, самонадеянно полагая, что
бессознательное может «переводиться» или
«расшифровываться» подобно языку. Однако в мире
непонимания нет никакого «знания». Этот мир представляет
собой то, что находится вне человеческого
понимания, наделяя человеческие замыслы
непредсказуемостью и усиливая человеческую скромность и стыд по
поводу собственной уязвимости и подверженности
ошибкам.
Кроме того, до Фрейда имелось много идей по
поводу того, что не было сознательным. Одной из
наиболее уместных для наших целей была идея Жане
о «двойном сознании», этот термин был переведен на
английский как одновременно совесть и сознание.
Таким образом, в этом французском понятии этика
и сознание связаны друг с другом, в то время как
в психоаналитических концепциях бессознательного
они отличны: то, что не является сознательным, не
имеет ничего общего с этикой, кроме, возможно, как
результата вытеснения. Однако данный разрыв между
этикой и вытеснением является глубоким и
широким.
Вот когда я обнаружил поразительные сдвиги
в смысле трагедии (включая вину и стыд) от греков
8
Предварительное представление, в котором сообщается о диапазоне...
к ранним христианам и, далее, к нам. Как об этом
ясно высказался Аристотель, трагические эмоции
являются по самой своей природе этическими
и находятся вне понимания: они связывают людей
друг с другом своей непреодолимостью. Этическое
измерение трагедии было подорвано
акцентированием внимания на более понятных категориях греха
и вины (эдипова комплекса), заменивших
человеческую уязвимость и стыд.
Хотя я работал над её написанием в течение
многих лет, лишь недавно я понял, что заглавие книги
«Неправильное понимание трагического» может
обеспечить как большую широту видения, так и
подход к этике, человеческому страданию и травме,
требуемый для того, чтобы собрать вместе её различные
нити. Как ясно показывает трагедия Эдипа у
Софокла, она не становится трагической потому, что Эдипу
следовало бы кое-что знать, то есть из-за нехватки у
него истинного знания или проницательности. Она
также не является трагической из-за ею виновности.
Скорее, она становится трагической, потому что
выражает чувства человеческой хрупкости и
непонимания и бремя непреодолимой межпоколенческой
травмы и проклятий.
Это книга о трагических чувствах, включая чувства
непонимания. Фрейд в эдиповом комплексе
изображает Эдипа как обуреваемого желаниями инцеста
и отцеубийства, из наличия которых создатель
психоанализа заключает, что эдипов комплекс постижим
9
Вступление
и повсеместен. Однако он создает теорию
бессознательного, которое может быть понято, лишь если
принимается гипотеза о том, что эдипов комплекс
действительно повсеместен и что человечеством
правят определенные влечения, которые соответствуют
его теориям. В то время как Фрейд связал
непонимание с бессознательным, а затем стал рассуждать о том,
что бессознательное может быть «понято»
посредством аналитической теории, Аристотель и Софокл
рассматривали трагедию как являющуюся по своей
сути тем, от чего человечество страдает и что оно не
может понимать.
Для древних греков непонимание было
источником жизненной силы трагедии. Именно трагическое
непонимание делает Эдипа у Софокла и Аристотеля
этичным. Глубокий разрыв между Эдипом у Софокла
и Аристотеля и Эдипом у Фрейда и современных
авторов отражает базисные исторические изменения
в смысле трагедии и травмы. Первые фокусируют
свое внимание на фаницах человеческого знания
и боли, вторые - на агрессии, убийстве и инцесте.
Первые учитывают трагическое непонимание и
границы человеческого знания; вторые делают
непонимание Эдипа его личной ограниченностью, за
которую его можно считать ответственным, чем-то таким,
что делает его виновным; она стала мало чем
отличаться от ошибок у героического персонажа.
Прослеживание этого глубинного сдвига требует
широкой исторической перспективы и «la longue
10
Предварительное представление, в котором сообщается о диапазоне...
durée» («большой длительности»), как её назвал Фер-
нан Бродель. Мы имеем дело с более чем двумя
тысячелетиями истории. В течение этих веков менялись
восприятия, ценности, предположения и
мировоззрения, а вместе с ними менялись и переживания
эмоций, а также представления о том, каковы они.
Так как целостная история таких изменений
превышает границы моей компетенции, я выбрал особые
периоды, на которых сосредоточил своё внимание,
отличия между которыми позволяют обрисовать в
общих чертах исторические сдвиги: Древнюю
Грецию, период раннего христианства, поздней
Античности, XVII век Джамбаттисты Вико, а также XIX
и XX века социологии. В традиции историографии
Марка Блока (имеется в виду школа «Анналов») моя
история является психологической и исторической
попыткой исследования эмоций.
Моя концепция трагического непонимания сводит
воедино несколько на вид несравнимых линий
исследования и поиска. В течение ряда десятилетий я
писал о движущих силах стыда, остро осознавая, сколь
важны они для моей психоаналитической практики
и, в более широком смысле, для общественной жизни
и человеческих связей. Однако, поразительным
образом, стыд и чувства границ человеческих
возможностей, которые столь бросаются в глаза в описании
Аристотелем Эдипа как трагической фигуры, в
течение веков были скрыты за понятиями вины и греха.
В психоанализе и, в более широком смысле, в науках
11
Вступление
об обществе акцент делается на главенствующем
положении вины и зависти, а не стыда. В то время как
стыд указывает на чувства несостоятельности,
слабости и нехватки, зависть заранее предполагает наличие
таких чувств для желания обладать тем, что имеют
другие (и хотеть того, что может ликвидировать этот
разрыв).
Как тогда можно объяснить, каким образом такая
неразрывная связь между человеческой хрупкостью
и этикой, столь неотъемлемая часть аристотелевой
теории трагедии, смогла быть заменена
предположениями относительно сути трагедии, которые не
имеют ничего общего с этикой и вместо этого
фокусируются на героических ошибках, вине и
желании причинять вред? Вина может быть
непосредственно связана с нарциссизмом, агрессией и
причинением вреда, с проявлениями власти и деструкции,
с тем, что разрушает человеческие связи. Стыд
и нарциссизм глубинно взаимосвязаны. Такой взгляд
на вину делает стыд токсичным в тех аспектах,
которые я надеюсь разъяснить в последующем
изложении.
В трагедии Эдипа он направляет эту деструктив-
ность на себя, выкалывая себе глаза. Наши
современные предположения о смыслах трагедии в целом и
относительно трагедии Эдипа в частности имеют
собственную историю, которая глубинным образом
влияет на то, как мы воспринимаем зависть,
возникновение тревоги и стыда. Аристотелевы представления
12
Предварительное представление, в котором сообщается о диапазоне...
о катарсисе, эмоциональном процессе, который
склонна вызывать трагедия, фокусируются на стыде и
страхах. Важно отметить, что Эдип был «слеп»
относительно своей брошенное™, когда он был
младенцем, замыслявшегося убийства новорожденного,
которое должно было с ним покончить, своего
усыновления и своего прошлого. Когда он больше не может
узнавать себя в глазах других людей, как он это ранее
полагал, он ослепляет себя, направляя свой гнев на
осуждающее разглядывание его другими людьми1.
Существенными чертами трагедии Эдипа являются
слепота и стыд; Эдип не может перенести того, что на
него будут смотреть как на человека, ответственного
за отцеубийство и инцест, и он ослепляет себя из-за
непереносимого стыда.
Второй мой длительный интерес обусловлен
уместностью для представлений о бессознательном
фрейдовской очарованности жутким (unheimlich),
которое он связывает с жестокостью и желанием
причинять вред, а они, в свою очередь, связаны с
культивируемой культурой очарованностью властью и
трагическими событиями и с интересом к готическим
романам ужасов. Раз жестокость и желание
причинять вред воспринимаются как первичные, то вина
1 Мы чувствуем, что значит быть разглядываемым, а также,
что значит быть не замечаемым. В младенчестве, мы начинаем
познавать мир посредством тех способов, в которых глядение
и разглядывание начинают означать как собственное
понимание, так и то, что тебя понимают.
13
Вступление
находится поблизости. Такой акцент на первичности
вины, зависти и желании причинять вред отдаляет
Фрейда и ту традицию, представителем которой он
является, от трагических эмоций Аристотеля. А
обусловленный культурой психоаналитический акцент
на вине, вплоть до исключения стыда, обладает
скрытыми смыслами для представлений о разумности2.
Исторический подход к понятию зависти
учитывает даваемые в тот или иной период времени её
оценки, её включенность в систему этики и в
структуру суждения, которая делает зависть постижимой,
в структуру, которая изменялась в ходе веков.
Естественно, эмоции нельзя понять без их
эмоционального контекста, без их взаимосвязи. Например, зависть
частично включает в себя стыд, стыд связан с виной,
вина с жадностью, а жадность - страхи по поводу
того, чего человек не имеет. Тревога же может
приводиться в действие любым сочетанием чувств.
Наши представления о том, какой должна быть
каждая эмоция, изменялись с ходом веков в
зависимости от того, каким образом она переживалась и
описывалась, обеспечивая нас новой перспективой
относительно понятий концептуальных фаниц: тех
контекстов общепринятых и привычных мнений,
общественных ценностей и человеческой трагедии, ко-
2 Исследованию психоаналитических представлений о
зависти и истолковании, совместно с их историческим и био-
фафическим контекстом, посвящены соответственно две
главы, одна о Фрейде, а другая о Мелани Кляйн.
14
Предварительное представление, в котором сообщается о диапазоне...
торые в настоящее время сопровождают наше
мышление и бросают вызов нашему воображению. В этом
смысле данная книга является по своей сути
исторической, хотя она и вторгается в область антропологии,
философии и психоанализа.
Трагично, что в ходе происходящего с течением
веков исторического развития, отраженного в
постепенном изменении версий повествования об
Эдипе, от Софокла и Аристотеля до Сенеки,
Вольтера, Клейста и Фрейда, истинное понимание
человеческой трагедии, по-видимому, было совершенно
утрачено.
Либо скрытый виной, либо представленный как
знак слабости, стыд в настоящее время явно не очень
заметен. Поэтому возросла потребность в более
глобальном историческом подходе к описанию эмоций
и в попытке ответа на вопрос: что случилось с
трагедией? Что произошло с этикой? Что произошло со
стыдом? И как взаимосвязана эта троица?
Зависть и сопутствующий ей стыд играли главные
роли в человеческом выражении жестокости и
нетерпимости. Как многие демагоги, которых переполнял
стыд, пытались его скрыть, предъявляя миру образ
собственной грандиозности и силы? Страх стыда,
отказ признавать человеческую хрупкость, таким
образом, объединяется с завистью как реакцией на чувство
своей обделенности и поэтому питает почву для
неразборчивости в средствах, демагогии и ненасытного
желания власти. Когда демагоги не чувствуют по от-
15
Вступление
ношению к себе достаточного восхищения, когда их
уверенности в своей власти угрожает тайное чувство,
что они могут зависеть от восхищения других
людей, без которого они ничего не значат, они
становятся безжалостными, параноидными и
деструктивными3.
3 Кроме того, преобладающее акцентирование внимания
на вине как в психоанализе, так и в понятиях психической
экономики склонно приводить к интернализации нашего
пристального взгляда, ограничивая его рассматриваемым
индивидом. Таким образом, вина предполагается
индивидуальной и внутренней. Такой акцент упускает из виду опору на
наш внешний вид и на других людей для знания того, как мы
выглядим. Такая опора на других людей для обретения
собственной идентичности может быть связана со стыдом и
страхом разглядывания нас дурными людьми в ложном свете.
Эти страхи проистекают от чувств неадекватности,
беспомощности, путаницы идентичности и потребности скрыться.
По контрасту, стыд, который иногда неотличим от вины,
включает в себя других людей как вне, так и внутри нас.
Рассмотрение зависти, стыда и дурного глаза в пределах той же
области действия отчетливо высвечивает их явную общую
черту: все они связаны со смотрением и разглядыванием, со
способностью видеть и самому быть на виду, вместе со всеми
сопровождающими их колебаниями надежд и страхов.
Другими словами, эти эмоции зависимы от контекста и
взаимоотношений. Неверно рассматривать их как размещающихся в
анонимном, изолированном индивиде, вне какого-либо
взаимоотношения. Такой подход к истории эмоций сделал
эмоции безликими «фактами», которые следовало гипотетически
классифицировать и анализировать.
16
Предварительное представление, в котором сообщается о диапазоне...
История непонимания, зависти, стыда, трагедии и
травмы начинается на страницах книги с мира
Аристотеля и Софокла, с понятий hamartia (оплошного
поступка) и katharsis'a (жалости и страха), которые
составляют суть трагедии4. Именно к этому миру нам
следует теперь вернуться.
4 И, конечно, перекрестное восприятие содействует
добавлению всех других чувств в само смотрение, которое является
единственным известным нам способом придания смысла
миру. Всё это экспоненциально еще более осложняется из-за
нашей зависимости в обретении собственной идентичности от
других людей. Прочувствование того, сколь мало мы
понимаем собственные эмоции, подчеркивает важный момент: что
психоанализу и всем психотерапиям требуется акцентировать
внимание на скромности, терпимости к собственному
невежеству, стыде (как окрасе добродетели) и на остром чувстве
человеческой трагедии и страдания.
17
ВВЕДЕНИЕ
По замечанию Томаса Карлейля, значимость
книги заключается не «в тех фактах, которые могут быть
из нее почерпнуты, а в тех откликах, которые она
пробуждает в наших душах». Я надеюсь, что данная
книга сможет породить именно такие отклики.
Стыд пропитывает столь многие чувства, что
вызываемая им боль часто бессловесна и ее трудно
описать. В романе Диккенса «Большие надежды», когда
Эстелла приносит Пипу хлеб и мясо, Пип замечает:
«...хлеб и мясо она сунула мне в руки, не глядя на
меня, точно провинившейся собачонке. Мне стало так
обидно, тяжко, досадно, стыдно, гадко, грустно, - не
могу подобрать верное слово для своего ощущения,
одному богу ведомо, как называется эта боль, - что
слезы выступили у меня на глазах»1.
В греко-римских комментариях, да в
действительности и в любой другой исторический период, было
мало описаний зависти, вины и стыда2. Так как стыд,
зависть и вину столь трудно описать, мы нуждаемся в
1 Dickens, Great Expectations, p. 16. [Диккенс Ч. Большие
надежды / пер. с англ. М. Лорие. М., 2019. С. 69. - Прим. пер.]
2 В книге о ревности и зависти под редакцией Вёрмсера и
Джересса содержится много наводящих на размышления
очерков, включая обсуждение стыда и зависти.
18
Введение
перспективе и воображении. В результате я разместил
их на фоне того, что во французском языке
описывается как "la longue durée" («большая длительность»)5. Следуя
французской историко-социолоточеской традиции
и историографии «Анналов» (the Année Sociologique and
les Annales)4, я определенно пытался расширить
горизонт охвата, используя сравнительные данные,
приблизительно простирающиеся от древних греков до наших
дней, и связывая историю трагедии с историями
зависти, вины и стыда. Важно, что традиция «Анналов»
сочетает широкий исторический подход с дюркгеймов-
ским акцентом на тотальности социальных фактов,
религиозной вере, истории «менталитетов» и
сравнительном методе, на истории, рассматриваемой изнутри.
Эта традиция находится в поисках более широкой и
более человечной истории5, которая связывает
установления и представления в прошлом с
интеллектуальными, эмоциональными и смутно понимаемыми силами
3 Концепция la longue durée (большой длительности)
связывается с историографической школой «Анналов» во Франции,
вдохновителями которой были Люсьен Февр, Марк Блок и Фер-
нан Бродель. Всё длящееся в историческом диапазоне
находится в связи с нашей гуманистической традицией.
4 Année Sociologique, или «Социологический
ежегодник», - журнал, основанный Дюркгеймом. - Прим. пер.
5 Блок говорит о борьбе за «более широкую и более
гуманную историю» (р. 17). «Нельзя претендовать на объяснение
того или иного установления, если не привязать его к великим
интеллектуальным, сентиментальным, мистическим течениям
современного менталитета» (р. 7).
19
Введение
нашей нынешней «ментальности» и житейскими
взглядами. Соответственно в ней признается, что
каждое поколение в каждой культурной традиции создает
свою Грецию, свои Афины, свой Рим, свои Средние
века, свой Ренессанс, делая историю многогранным
и крайне подвижным процессом.
Кроме того, для греков и в особенности для
Аристотеля теория трагедии - это теория эмоций и
этики. Мое исследование движущих сил зависти, вины,
стыда, травмы и трагедии обеспечивает перспективу
для наших текущих предположений относительно
того, каково значение эмоций и как они оцениваются.
Мой проект неизбежно поднимает вопросы о том,
в сколь сильной степени происходила
концептуализация эмоций и человеческого страдания и насколько
они тесно связаны с нынешними ценностями и с
понятиями о том, что является постижимым.
Вот почему мои усилия представить здесь
исторический обзор зависти, дурного глаза, стыда, трагедии и
травмы сталкиваются с многочисленными
понятийными проблемами и трудностями сравнения. То, что
рационально постижимо, может дать нам чувство
ориентации в текущей жизни, однако неизбежно искажает
то, что мы можем понимать относительно прошлого.
Вообще говоря, в книгах по истории эмоций
принимаются предположения презентизма6 о том, чем
6 Презентизм - направление в буржуазной методологии
истории XX в. (особенно в США в 20-40-е гг.), отрицающее
20
Введение
являются эмоции, которые высказываются в
русле бихевиористских и культурно-релятивистских
(от понятия «культурный релятивизм») линий
мышления. Они в еще большей степени терпят неудачу,
пытаясь объединить в единое целое биологию, нейробио-
логию и социобиологию с историей и социологией7.
Например, Уильям Редди (William Reddy)8
приравнивает эмоции как «категории» к эмоциям как
«переживанию». Психологи, подобно широко цитируемому
Сильвану Томкинсу, предполагают, что имеется девять
(и только девять) биологически базовых эмоций, без
истории их развития с течением времени, узнаваемых
по их бихевиоральным проявлениям.
The longue durée (большая длительность) также явно
отсутствовала в трудах описывающих эмоции
антропологов9, которые применяли к своей теме
исследования эволюционный, бихевиоральный и
когнитивный подходы, однако не принимали во внимание
эмоциональные движущие силы или исторические
объективность исторического познания и рассматривающее
историческую науку как проецирование в прошлое
современных стремлений и чаяний. - Прим. пер.
7 Например, см.: Plamper Ian. The History of Emotions
Bourke и Joanna. Fear: a cultural history.
8 The Navigation of Feeling: a framework for the history of the
emotions. 2001. Cambridge University Press.
9 Такие антропологи, как Мишель и Ренато Розальдо,
Клиффорд Гирц и Ричард Шведер, внесли свой вклад в то, что
впоследствии было названо антропологией эмоций.
21
Введение
искажения. Другие исследователи, такие как Филипп
Арьес и Мишель Фуко, также прямо или
косвенно писали об эмоциях. Арьес - в работах о детстве,
а Фуко - при описании истории безумия, как если бы
категории и переживания безумия или детства были
одни и те же, оставаясь неизменными10.
В общем, в доступных книгах по истории эмоций
исключаются свойственные людям уровни
искажения, которые, по моему мнению, являются столь
необходимыми, как часть наших усилий постижения
того, как мы представляем себе прошлое. В них
также не удается понять важность прояснения
морального климата (le climat moral). Такое понимание
включает в себя то, каким образом люди данного периода
понимали и переживали травму, желание, чувства,
воображение и верования. Эти необходимые, однако
неузнанные ограничения вырастают из тех способов,
какими мы желаем, чувствуем, думаем и верим.
Важно отметить, что наше слово «зависть»
происходит от латинского слова videre («видеть») и, более
характерно, от латинского слова invidere («смотреть
10 Попытки тех, кто пишет в русле культурологических
исследований, а также других ученых свидетельствуют о той
путанице между il certo (уверенностью) и й vero (рациональным
знанием природного мира), которая, как мы это увидим, стала
столь преобладающей в социальных науках. Это та путаница,
о которой пишет Фуко и которой будет посвящена одна из
последующих глав.
22
Введение
напряженно»), в результате испытывать зависть.
Латинским словом для обозначения зависти, одного из
семи признанных смертных грехов, является invidia.
От слова videre происходят многие английские слова,
среди них «evidence» («свидетельство»), «advise»
(«советовать»), «advice» («совет»), «invidious»
(«ненавистный»), и, много позже, слово «video» («видео»)11.
Этимологически поэтому ясно, что зависть прямо
связана со смотрением, что в перспективе уместно
связать с дурным глазом. И, как мы «увидим»,
глядение и слепота непосредственно связаны с движущими
силами стыда (с желаниями и страхами по поводу
внешнего вида и исчезновения, связи и
разъединения), с завистью, и с концептуализацией зла,
человеческого страдания и трагедии. Кроме того, мы не
просто «видим», мы «видим» посредством
прикосновения, запаха, слуха, прислушивания и, крайне
важно, посредством чувствования. Эти движущие силы
ощущений и чувств взаимодействуют и порождают
изменения в переживании эмоций и множественный
мир психики.
Psuche, сновидения и эмоции
Греческое понятие psuche означает дыхание,
посредством которого можно судить о продолжающем-
11 См.: Partridge Eric (1958) Origins: a short etymological
dictionary of modem English. New York: Macmillan.
23
Введение
ся существовании жизни. Оно переводится
различным образом: «жизнь», «дух», «душа» и «движение».
Ни один из этих переводов не описывает адекватным
образом его смыслы, однако в комбинации друг с
другом они намного более полезны, чем поодиночке.
Для древних греков жизнь была связана с дыханием.
Последний вздох означает смерть. Для современных
людей жизнь представлена работой сердца, так как
мы знаем, где оно находится, и полагаем, что это
нечто, что может быть затронуто, на что можно
воздействовать и что можно починить, подобно мотору
автомобиля или пришедшему в негодность насосу.
В отличие от нас для древних греков жизнь была
представлена чем-то, что мы чувствуем, но не можем
пощупать: дыханием.
Для древних греков psuche для разума/духа было
тем, чем дыхание было для тела: проявлением жизни
и силы. Как проявления psuche, сновидения и
дыхание могли связываться друг с другом, потому что ни
одного из них нельзя было потрогать, и так как они
оба могли быть проявлениями невидимых сил.
Понятие psuche - динамического, многогранного,
неисчерпаемого источника жизни и благоговения, охватывает
собой переживания в связи с природными силами.
Они, в свою очередь, проявлялись в силе катарсиса,
термина, используемого Аристотелем для
обозначения желаемого воздействия трагедии и наиболее
часто переводимого как сочетание жалости и страха.
24
Введение
При установившихся смыслах psuche и их связей с
историей медицины (культ Асклепия) можно было
ожидать, что Фрейд будет в большей мере полагаться
на немецкий Geist (дух) и на Volksgeist (дух народа),
столь обширно используемый Гердером, Фихте и
другими. Однако Фрейд отверг эти смыслы psuche, в
то же время заимствовав поглощенность внимания
греков энергией12.
Сновидения и сомнение
Концепции сновидений и psuche повлияли на
концепции эмоций, а последние оказали глубокое
воздействие на традиции толкования сновидений.
Сходным образом сновидения повлияли на концепции
истины, так же как концепции истины повлияли на
сновидения.
12 Проект научной психологии Фрейда 1895 года в
действительности непостижим без обращения к греческим смыслам
psuche, с его смыслами иерархии и энергии. Фрейдовское
понятие бессознательного включает в себя теорию влечений, на
которую он опирался в теоретическом плане для объяснения
мощи бессознательного. Его теории психической энергии
могут быть связаны с теориями гидроэлектрической мощи, на
предположении о том, как нечто предосудительное может
быть использовано как источник безграничной энергии, но
также как источник деструкции, которое было намного более
простым до изобретения атомной бомбы.
25
Введение
В течение тысячелетия сновидения связывались
с жизнью разума и души, с общением с умершими
и с невидимыми существами и духами. Связываемые
с Асклепием, богом, который исцелял людей во сне,
сновидения были «окнами души (psuche)», средством,
используя которое, боги даровали мощь смертным
людям. В Древней Месопотамии, Греции и Риме,
продолжаясь в христианский период и до наших
дней, сновидения были теми средствами сообщения
христианским Богом (и святыми), мусульманским
Аллахом (и его святыми) и еврейским Яхве своих
желаний, наделяя мощью тех людей, которые могли
быть признаны как вступающие в контакт с
божеством. Но всегда было проблематично проводить
отличие между «истинными» и «лживыми»
сновидениями13. Древние жители Месопотамии проводили
отличие между сновидениями-посланиями, которые,
так как они были связаны с правителями, могли быть
«истинными», и остальными сновидениями у людей
более низкого статуса. Древние греки отличали
сновидения, проходящие через роговые врата, от
сновидений, проходящих через врата из кости слоновой.
Сновидения, проходящие через врата из кости
слоновой, лживы и несбыточны, а те, которые проходят
через роговые врата, верны. Правдивые сновидения
связывались с движениями души, а лживые - с телом и
13 «Когда я лгал, мне всегда все верили, а когда говорил
правду, мне никто не верил», - сказал Марк Твен.
26
Введение
коварством. Однако как можно было узнать, каким
является данное сновидение?
В Библии Иосиф истолковывает сновидения
фараона и посредством этого приобретает власть, являя
собой пример того, как истолкование сновидений
открывает для истолкователей путь к приобретению власти.
И подобно различию, которое древние жители
Месопотамии проводили между
сновидениями-посланиями, связанными с правителями, и другими
сновидениями, у арабов различие между гиуа и ahelm, между
«истинными» и «лживыми» сновидениями, также зависит
от иерархии: лишь цари и особы царской крови имеют
гиуа сновидения, тогда как у остального населения
сновидения имеют качество ahelm, если только
истолкователь не меняет правдоподобным образом их статус.
Выдающееся произведение Фрейда - «Толкование
сновидений» - опирается на прошлые традиции
внушенных правителям божеством сновидений-
посланий и на мощь истолкования (например,
Иосифа). Однако хотя он скрытно отождествляет себя
с Асклепием и Иосифом, в своих попытках казаться
научным (и «правдивым») он умышленно отделяет
себя от асклепианского наследия и от
аристотелевского определения человека как уязвимого социального
животного, чья этика вырастает из его страдания14.
14 Фрейд тщательно поддерживал свой образ ученого,
отделяя себя от какой-либо вовлеченности в исследование души,
27
Введение
Связанные с psuche понятия, существенно
значимые для нашего понимания эмоций и сновидений,
пробуждают представление о необъятности
внутреннего мира и о нескончаемом взаимодействии
желаний и страхов, косвенно указывая на громадность
человеческого непонимания, порождая нашу
скромность15. Abyssus humanae conscientiae (бездна
человеческого сознания) у святого Августина сходным образом
расширяет фаницы того, что является существенно
важным при рассмотрении человеческих эмоций.
Это «всегда то, что другие о нас знают». Естественно,
то, что другие о нас знают, бросает тень сомнения на
то, что вы можете знать о себе. Для Августина,
«человеческое сознание - настоящая бездна, и это не
просто метафора»16, наблюдение, которое акцентирует
внимание на нашем обширном мире непонимания,
сколь крайне мало мы можем знать о том, что другие
хотя психоанализ легко может быть представлен, как это
показали Беттельхейм и другие, как лечение души. Современное
направление «философия сознания» столь же тщательно
избегает иметь дело с концепциями души или духа, как и
«когнитивная наука» и «нейронаука».
15 Исследование древними греками перспектив того, что
придает эмоциям их мощь, несомненно, крайне помогло бы
моему рассмотрению здесь зависти, однако оно находится вне
рамок данной книги. Тем не менее ряд замечаний о
представлениях Аристотеля относительно катарсиса и трагедии
представляется уместным.
16 Питер Браун, личное сообщение.
28
Введение
думают о нас, и, однако, сколь мы зависимы от того,
что можем объединить в лоскутное одеяло наших
собственных идентичностей.
Аристотель, катарсис и мощь эмоций
Теория трагедии Аристотеля (который берет
трагедию «Эдип-царь» в качестве прототипа трагедии)
является теорией эмоций и теорией травмы и
страдания17. Для Аристотеля «мнения связаны с
эмоциями крайне интимным образом: они представляются
частью того, чем является данная эмоция»18. Для
Аристотеля мощь чувств коренится в его концепции
природы, индивидуальные чувства являются
проявлениями природных сил. Природа, по Аристотелю,
«это не внешний мир порожденных вещей; это
творческая сила, продуктивный принцип вселенной»19.
Помещая человека в контекст природных сил,
Аристотель подчеркивает человеческую
беспомощность: «Человека, который является ее высшим тво-
17 Аристотель оценивает трагедии в соответствии с мощью
их эмоциональных воздействий. Вследствие этого он не
считает Еврипида столь большим трагиком, каким он признает
Софокла, потому что Еврипид с недоверием относится к
значимости внутреннего конфликта и человеческих страстей и
снижает её.
18 Nussbaum. 2004. Р. 27.
19 Aristotle (trans. Butcher). P. 116.
29
Введение
рением, она [природа] приводит в мир более
беспомощным, чем любое другое животное, - необутым,
голым, без оружия»20. Таким образом, человеческая
беспомощность является для Аристотеля
«природной», как и для Лукреция, который пишет о том, что
младенец приходит в мир «точно моряк, что
жестокой волною выброшен, так и лежит на земле, нагой,
бессловесный, в жизни совсем беспомощный, лишь
только из матери чрева в тяжких потугах на свет его
породила природа; Плач заунывный его раздается
кругом, и понятно: много ему предстоит испытать
злоключений при жизни»21.
В «Поэтике» Аристотеля ценность трагедии
заключается в ее катартическом эффекте, который
чаще всего переводится как очищение, включающее в
себя эмоции жалости и страха, противоядие против
поглощенности своей особой и собственным
величием. В то время как hubris (эгоистическая
поглощенность своей особой) оскорбляет и бросает вызов
мощи богов, катарсис вновь устанавливает осознание
человеческой беспомощности, связи между
человеком и другими людьми и между человеком и
природой, между человеком и высшими силами, прививая
смиренность и чувство своего места в природном
порядке.
20 Aristotle, De Anima IV. 10.687 а 24.
21 Цит. по: Nussbaum. 1986. Р. 177. [Лукреций. О природе
вещей. - Прим. пер.]
30
Введение
В своей «Политике» Аристотель описывает
катарсис как процесс, который «действует возбуждающим
образом на душу и приносит как бы исцеление и
очищение»22. Полезно помнить, что греческий театр
начинался как вакхический экстаз и неистовый
энтузиазм, связанный также с музыкой.
Как в его понятии катарсиса, так и в понятии
природы, на Аристотеля повлияла традиция
Асклепия, бога, который отзывался на человеческое
страдание и исцелял людей во сне. Так как его отец был
врачом, Аристотель, подобно Гиппократу23 до него
и Галену после него, был членом гильдии асклепиа-
дов24, врачей, которые ассоциировали себя с Аск-
22 «Политика» V (VIII) 7.1342 а 15.
23 Такое имплицитное понимание психического
равновесия является дубликатом теории соков в организме, в котором
их равновесие в теле служит признаком здоровья. Гиппократ
говорит о четырех соках, соответствующих четырем
темпераментам: сангвиник (ищущий удовольствия и общительный),
холерик (амбициозный), меланхолик (аналитический,
интроспективный), и флегматик (спокойный). Такие теории
темпераментов подразумевают теорию эмоций.
24 «Софокл мог среди других граждан быть ответственен
за установление культа Асклепия в Афинах, а Гиппократ (отец
медицины) основал свою медицинскую школу в Афинах.
Н. Коллиндж отмечает, что, за исключением Аристотеля,
Софокл, несомненно, был более обучен медицинской
профессии, был более глубоким приверженцем данной гильдии, чем
любая другая литературная фигура пятого или шестого веков
до н.э.» - Цит. по: АЫ. Р. 9.
31
Введение
лепием25. Взывая к помощи высших сил, греческие
врачи как косвенно, так и явным образом полагались
на исцеляющие возможности природы и
рассматривали человеческое здоровье в контексте
страдания и природных сил, превосходящих человеческую
волю.
Следуя асклепианской традиции, Аристотель
недвусмысленно связывает катарсис с моральными
и коллективными эмоциями (с социальным телом)26.
Он подчеркивает человеческую хрупкость Эдипа, чье
величие и падение зависели от одних и тех же
человеческих качеств. В русле асклепианской традиции,
Аристотель пишет, что трагедия оказывает свое
воздействие через катарсис, «через сострадание и страх
осуществляется должное очищение этих эмоций»27.
25 Соответственно аристотелевское понятие psuche несет в
себе традицию Гиппократа, с которой Фрейд как врач-медик
был связан, но от которой он старательно дистанцировался.
26 Выдающийся немецкий филолог, приверженец
классицизма и философ Якоб Бернайс, дядя жены Фрейда, Марты,
и выдающийся еврейский интеллектуал-ортодокс, считал, что
катарсис - это медицинская метафора. Но он также энергично
выступал в защиту произведения Ницше «Рождение
трагедии» (Rudnytsky. Р. 217).
27 «Poetics», (trans. S.H. Butcher). P. 76. Мы можем законно
задаваться вопросом о том, что имеется в виду под «должным
очищением этих эмоций». Предположительно, эта фраза
имеет отношение к аристотелевскому понятию равновесия
и связана с медицинскими практиками в асклепианской
традиции.
32
Введение
Аристотелевское понятие катарсиса восстанавливает
равновесие в психике, в то же самое время усиливая
чувство социальной ответственности, этики и эмпа-
тии28. Трагический герой у Аристотеля - это
«человек ... который в несчастье попадает не из-за
порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки или
оплошного поступка»29.
Для Аристотеля, как и для Гиппократа,
исцеляющие силы наличествуют в природе. «Природа»
является для Аристотеля соотносительной, а не просто
физической. Это не ньютонова «природа», чьи законы
могут быть «открыты» и которая может объективно
исследоваться. Скорее «природа» для Аристотеля
начинается с человеческой природы, а не с
объективности. Это - место в ней человека и его чувства на
этот счет, его связи с другими людьми, его
зависимость от окружающей среды и от тех сил, которые
лежат вне его контроля. Поэтому задача врача - быть
«помощником природы, а не ее учителем».
Первоначальный смысл гиппократова афоризма «не навреди»
(primum поп посеге), неотъемлемой части клятвы
Гиппократа, даваемой всеми врачами, означал, что врач
должен знать, как использовать природу и позволять
ей исцелять. Кроме того, здесь также подчеркивается
28 Аристотель говорит как об этосе (этическом характере),
так и об интеллектуальном содержании (dianoia) «Politics»,
p. Iiii.
29 Ibid. P. 41^*2.
33
Введение
роль искусства в храмовых комплексах, посвященных
Асклепию30.
Можно видеть, что эта традиция значила для
Аристотеля, чье знаменитое определение трагедии
рассматривает Эдипа в качестве прототипа трагического
героя. Эдип Софокла заставляет вспомнить
несоответствие между внешним видом и сущностью,
пробуждая в нас, зрителях, чувства жалости и страха.
На нас глубоко воздействуют описываемые в его
трагедиях душевные страдания, изоляция и отчаяние,
пробуждая в нас осознание человеческого страдания
и боли. Такой отклик делает всех нас более
гуманными людьми.
Это понятие хрупкости и человеческой неудачи,
стыда за свою беспомощность, передается греческим
словом hamartia31, происходящим от греческого ha-
martanein, что означает «промах». Иногда hamartia
переводится как «трагическая оплошность», некоторая
30 Кульминация этих асклепианских ритуалов,
драматические ночные события в храме, который возвращал здоровье,
включала в себя элемент сценического действия
(инсценировки), признак театра - она была подобна игре, работе
искусства. Слово «катарсис» также связывалось с искусством.
(Szczeklik. Р. 69.)
31 Здесь мы видим явное различие с работами Ницше «По
ту сторону добра и зла» и Фрейда «По ту сторону принципа
удовольствия», произведений, в которых отведено мало места
человеческой слабости и ошибкам.
34
Введение
ошибка в суждении. Данное понятие чрезвычайно
важно для аристотелевской концепции трагедии и
связано с чувствами беспомощности и
ограниченности человеческих возможностей.
Важно, что понятие трагической оплошности
совершенно изменилось в ранний христианский
период, как и смыслы страдания и трагедии. Трагическая
оплошность стала восприниматься не как часть
человеческих обстоятельств, а, скорее, как проявление
человеческой слабости, нехватки силы воли. И
человеческая уязвимость и страдание остались источником
постоянного раздражения в свете христианских
верований в божественный замысел, пятном на
потребности в ясном чувстве порядка в постижимом мире32.
Как отмечает Марта Нуссбаум, акцент Аристотеля
на этике лежит в основе его теории эмоций, а его
теория эмоций делает акцент на хрупкости и
неизбежности совершения ошибки как отличительной
черте человечности. Следовательно, то, что мы ценим,
неотделимо от чувства хрупкости и страдания, от
неправильного хода событий, который, в свою очередь,
обеспечивает основу для этики и укрепляет человече-
32 Кроме того, то, что означает совершить промах, зависит
от того, как определена цель, сколь уязвимым является
стрелок и какие последствия может иметь данный промах.
Для наших целей здесь такой промах главным образом
означает, что он воспринимается как оплошность и что он влечет
за собой стыд и беспомощность.
35
Введение
ские связи33. Для Аристотеля, следовательно, мощь
трагедии включает в себя много больше, чем одно
лишь глубинное понимание или страдание; она
заключается в чувстве хрупкости человеческой жизни,
в отчаянии по поводу оплошного промаха, в нашей
человеческой потребности друг в друге, которые все
способствуют пробуждению природных сил и
осознанию человеком своего места в мире.
В отличие от него, Платон, учитель Аристотеля, не
доверял человеческой трагедии и, подобно Еврипиду,
опасался, что, если оставить чувства необузданными и
неукрощенными, они легко могут привести к
катастрофе, как делают это в трагедии Еврипида
«Ипполит»34. Название диалога Платона «Федр» наводит на
мысль о Федре, похотливой мачехе, которая
соблазняет Ипполита, юношу, поклявшегося в своей
непорочности, и этим вызывает гнев и оскорбляет
Афродиту, которая вселяет в Федру безумное желание
к своему пасынку. Ипполит умирает, когда не может
управлять лошадьми, несущими его колесницу,
которая разбивается на части и убивает его.
Платон использует аналогию колесницы и коней
для прославления мастерства возничего. Возничий
(разум) должен управлять лошадьми (желаниями
и страстями). Один из коней - белой масти, прекрас-
33 См.: Nussbaum. 1986. Р. XXIX ff.
34 Ахль отмечает, что «Ипполит» Еврипида и «Эдип»
Софокла влияли друг на друга. Р. 10.
36
Введение
ный, рассудительный и совестливый; другой - черной
масти, упрямый, друг наглости и похвальбы, еле
повинуется хлысту и стременам. Чтобы колесница не
стала смертельно опасной, сопротивление коня
черной масти необходимо сломить и заставить его
подчиняться из страха; он должен быть укрощен и
принужден склоняться перед волей возничего. Для
Платона наиболее значима верховная воля возничего при
укрощении коней. Кроме того, чем больше страх
буйных эмоций, тем более важен контроль. Эта
мысль увязывается с политическими
дополнительными смыслами35. Сходным образом
верховенство его философа-правителя является единственным
возможным гарантом понимания и истины.
Конфликт отвергнут, и на его место Платон помещает
истину.
В своем недоверии к трагедии и потребности в
истолковании в качестве средства господства над
буйными эмоциями Фрейд, подобно Декарту и другим
исследователям до него и после него, является
последователем учения Платона; для него Я должно пре-
35 Nussbaum (Нуссбаум) отмечает: «Как известно,
Аристотель восстанавливает центральное место [эмоций] в морали,
из которого их изгнал Платон...» Поэтому «выбор
определяется как способность, которая располагается на границе
между интеллектуальным и страстным; она может быть описана
либо как недостаточное обдумывание, либо как
созерцательное желание». 1990. Р. 78.
37
Введение
обладать, как доминирует возничий в метафоре
Платона о колеснице с двумя лошадьми36.
Однако защита Платоном рационализма
поощряет всё, что может быть истолковано как разум; он
утверждает, что это может вести к истине. Так как мы
не можем думать, не принимая во внимание те
переживания, которые испытали в прошлом и которые
чувствуем в настоящее время, и так как мышление
вовлекает в себя наши чувства и те переживания,
которые мы помним в связи с ними, наше мышление
необходимым образом является чем-то неисчислимо
большим, чем наши способности анализа и
истолкования.
Человеческая хрупкость (hamartia) тесным образом
связана с движущими силами стыда. Интересно, что
греческое слово «стыд», aidos, также обозначает
гениталии, интимные части тела, которые надо
прикрывать. Стыд представлен в греческом мире как
переживание «разглядывания, неуместным образом,
посторонними людьми, в нелепом состоянии»37. Стыд
столь тесно перемешан со страхом, что трудно
говорить о стыде, не говоря при этом также о страхе и
тревоге. Что касается того, какое чувство идет первым,
мне представляется, что мы стыдимся наших страхов
36 Как известно, Фрейд сказал: «Там, где было Оно, должно
стать Я». Фрейд многократно упоминает Платона и редко -
Аристотеля, и то лишь поверхностным образом.
37 Bernard Williams. 1993. P. 78.
38
Введение
и страшимся нашего стыда, которые оба коренятся в
телесном опыте38. Движущие силы стыда временами
могут быть токсичными, а в другое время -
источником, способствующим доверию и человеческой
связи39. Сэмюэл Беккет в письме к другу о смерти отца
намекает о связи через скорбь: «Я знаю, что ты
скорбишь, и знаю, что для таких людей, как мы, никакие
слова или рассудочные суждения не приносят
успокоения сердцу и само заверение о постепенном
угасании скорби несет для нас еще большую скорбь.
Поэтому я высказываю тебе лишь свои глубоко нежные
и сострадательные мысли и желаю, чтобы ты и
дальше всегда оставался столь же сопереживающим
чужой боли. Это чувство придает нам силу продолжать
жить с нашими душевными ранами»40.
38 Чем более глубоко скрытыми являются постыдные
чувства нашей дискредитации и хрупкости, тем более
подозрительными мы становимся - и тем в большей степени мы
полагаемся на противоположную этим чувствам внешнюю
видимость.
39 В другом месте я подчеркивал отличие между
токсичным и очеловечивающим стыдом, первый несет угрозу
человеческим связям, второй укрепляет их. Классической
иллюстрацией токсичного стыда является трагедия Софокла «Фи-
локтет», в которой Филоктета с его гнойной, дурно пахнущей
раной избегают все люди.
40 Цит. по: Jocipovici G. Ready to begin again. NYRB January
23,2015.
39
Введение
Говоря о той хрупкой почве41, на которой
произрастает наша человечность, Руссо пишет в «Эмиле»:
«Слабость человека делает его общительным;
общие наши бедствия - вот что располагает наши
сердца к человечности: мы не чувствовали бы
обязанности к человечеству, если бы не были людьми.
Всякая привязанность есть признак
несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в
других, он не подумал бы соединиться с ними. Таким
образом, из самой нашей немощи рождается наше
зыбкое счастье»42.
41 Но сердце, что к цветам любви так тянет,
Шипы несчастий прямо в сердце ранят.
Мур Т. Ирландские мелодии (1807-1834)
42 Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. Т. 1. М:
Педагогика, 1981. - Прим. пер.
40
Глава первая
ЗАПАХ КРОВИ:
БОЛЕЕ ШИРОКАЯ КАРТИНА
Где же я?
Наверно, где-то.
Или где-нибудь
Нигде?
Милн АЛ.
На полпути вниз
Эмоции живут в нас, и мы живем в них. Наша
тема обсуждения трудноуловима и поэтому взывает
к тому, чтобы мы ее исследовали в различных
проявлениях, не останавливаясь на границах отдельных
дисциплин. Философия и психоанализ, история,
теология, социология, литература и антропология - все
они подходят для исследования нашей темы
обсуждения, куда бы оно нас ни привело. В этом мы
подобны историку Марку Блоку: когда чувствуем запах
крови, мы знаем, что наша намеченная жертва
находится поблизости1. И мы идем, куда бы то ни было,
где чувствуем ее запах.
1 Марк Блок, специалист по истории Средних веков, автор
вдохновляющей небольшой книги Apologie pour l'histoire
(переведенной как The Historian's Craft), написанной во время
ожидания смерти в концентрационном лагере.
41
Глава первая
Нижеследующие главы во многом сфокусированы
на раннем христианском периоде по ряду причин.
Во-первых, этот период показывает базовые сдвиги
в оценке эмоций, трагедии и травмы, в отличие от
миров греков и римлян. Во-вторых, он дает
возможность исторического рассмотрения этих сдвигов как
части процесса, протекающего в течение столетий.
И, в-третьих, такое рассмотрение предоставляет
нам особый политический и культурный контекст (от
третьего до шестого столетий) для описания этих
сдвигов.
Размышляя по поводу эмоций, давайте начнем с
истории Адама и Евы, повествования об
эмоциональном рождении, самосознании, наготе и стыде.
Хотя данная история нам известна как рассказ о грехе,
вине и заслуженном страдании. Когда Адам и Ева
едят в райском саду запретный плод, они начинают
осознавать свою наготу. Другими словами, они
испытывают стыд и пытаются прикрыться. В
древнееврейском «нагота» приравнивается к стыду и
разоблачению, что символически выражается чувством своей
малости2.
Когда Адам и Ева едят запретный плод, они
рождаются физически и эмоционально. С сексуальным
различением начинается глядение и разглядывание,
2 Позднее сирийские тексты описывают наготу как утрату
«облачения и славы», когда Адам и Ева были лишены своего
статуса венца творения. Питер Браун, личное сообщение.
42
Запах крови: более широкая картина
а с сексуальным влечением - наказание Богом3. «И их
глаза открылись, и они узрели свою наготу»4,
посредством чего навлекли на человечество смерть, боль,
вину, ужас, чувство собственной малости, стыд и
горестную утрату. Видение служит для символического
осознания собственной персоны и других людей и
подчеркивает наличие стыда в связи с собственным
глядением и разглядыванием тебя самого.
Стыд, а не вина, также ясно показан в
изображениях изгнания из райского сада (например, во фреске
Мазаччо)5, в которой показывается, как Адам и Ева
пытаются прикрыть свои гениталии, иллюстрируя
греческое слово aidos6. Ощущение себя человеком
3 По Августину, с того времени, как глаза Адама и Евы стали
направлены друг на друга, сексуальность «стала зеркалом
неизменной, незаживающей язвы в душе». (Brown, 1967. Р. 418).
4 Книга Бытия, 3:7.
5 В истории о райском саде, змей дает Еве запретный плод,
а она дает его Адаму. Оба его едят. Бог ничего этого не видит.
Однако затем Он спрашивает Адама, почему его взор
потуплен; почему он глядит в сторону. Адам отвечает: «О, ну ты,
чепуха...», затем Бог спрашивает его, что он сделал, и Адам
пробалтывается. Примечание: Бог стыдит Адама, говоря ему о
том, что он признался в нарушении запрета. Стыл таким
образом, вошел неизменной составной частью в понятие греха,
наличествуя в нем с самого начала.
6 Важно отметить, что Адам и Ева стали людьми, ощутив
свои тела и потребность друг в друге, посредством этого
отделяя себя от Бога, который бестелесен и может существовать
абсолютно независимо от кого бы то ни было; Он ни в ком не
нуждается, кроме Себя.
43
Глава первая
пробудило суждение, связанное со стыдом и
самосознанием, с сексуальностью, похотью, виной и
завистью. Ощущение своего тела и осознание собственной
персоны стало бодее широко связываться с грехом -
радикальный отход от мира древних греков.
Важно отметить, что Адам и Ева становятся
людьми посредством ощущения своих тел и потребности
друг в друге7. Через стыд, сравнение и заброшенность
они находят свои тела, половую идентичность
каждого и свои человеческие связи8.
Как Сатана стал греховным
и завидующим
Давайте проследим, в общих чертах, эту историю
зависти9, так как она имеет отношение к изменению
7 Адам и Ева, таким образом, отделяют себя от Бога,
который бестелесен и может существовать абсолютно независимо
от кого бы то ни было; Он ни в ком не нуждается, кроме Себя.
Можно высказать предположение, что когда Бог
обнаруживает, что Адам и Ева что-то скрывают (связь друг с другом?) от
Него и что они обладают чувствами, которые делают их
отличными от Него (то есть у них есть тела и они чувствуют стыд
и утрату), Он выгоняет их из райского сада.
8 Они становятся «кем-то», & то время как Бог остается
анонимным, «ни-кем». Исходя из этой перспективы, Бог не в
меньшей степени завидует Адаму и Еве, чем Сатана.
9 Конечно, то, что мы сейчас прослеживаем, - это
представления о зависти, истолковываемые, исходя из перспекти-
44
Запах крови: более широкая картина
культурных ценностей и эмоций. Как и почему
эмоции стали «грехами», обусловливалось процессом,
коренящимся в политических и культурных
обстоятельствах. Христианские представления о зависти
являются в основном языческими, но их «греховная»
сила произрастает из исторических обстоятельств
раннего христианского периода, в котором зависть
начинает непосредственно связываться с Сатаной,
первородным грехом и завистливыми духами,
падшими ангелами, которые вводят в заблуждение род
человеческий. Для ранних христиан духи стали
«особой разновидностью существ, вечно живущих,
стоящих выше людей, с телами, активными и тонкими,
как воздух, наделенными сверхчеловеческими
способностями понимания; и, в качестве падших ангелов,
проклятыми, завистливыми врагами подлинного
счастья рода человеческого». Их мощь воздействия была
громадной: они могли в столь сильной степени
вторгаться в физическую основу индивида, что
порождали иллюзии. Эти «осужденные узники, ожидающие
приговора Страшного суда, были всегда готовы к
внезапному нападению, подобно птицам, на разбитые
осколки хрупкого и находящегося в состоянии
разногласий человечества»10.
вы настоящего времени. Мы можем, однако, допускать, что
переживания зависти были существенно отличными от того,
чем они являются теперь.
10 Brown. 1967. Р. 310.
45
Глава первая
Превращение Сатаны в главного антагониста Бога
во многом обусловлено возрастанием страха быть
обманутым. В древнееврейской библии (например,
Числа и Книга Иова) Сатана предстает как один из
слуг Бога, с которым Бог может заключать сделки.
В греческом и эллинистическом мирах не было
Сатаны, не было какого-либо олицетворения Зла и
обмана, противостоящего единому Богу, олицетворению
Добра. Имелись daimones (демоны), - данное слово
обозначает различных духов, полезных и зловредных,
и включает гения места, мало чем отличающегося от
Шайтана в Исламе. Будучи перенесенными
синкретическим образом из более ранних хтонических
культов и культов семейного очага, такие верования часто
связывались со священными местами, священными
рощами, реками и горами.
Для древних греков Daimones (духи), джинны,
герои, Боги и смертные, находились перемешанными
друг с другом, соблазняя и обманывая друг друга, без
ясных разделений. Демонология, преобладающая в
ранний христианский период, сильно нас
озадачивает, но к ней можно добавить более ранние культы
святых и огромное разнообразие верований в
демонов в дохристианский период. Вместе они образуют
невероятно сложный фон для фигуры Сатаны.
Выводимая из древнегреческих и месопотамских
представлений, зависть - желание иметь то, чем
обладают другие, желание портить счастье других лю-
46
Запах крови: более широкая картина
дей - была выделена как наиболее пагубное желание
христианской традицией.
Питер Браун отмечает:
«Для меня поразительно, что зависть - phthonos -
не столь сильно демонизировалась, когда
предписывалась демонам, а затем, конечно, став демонической,
ей предстояло стать главным пороком. Я склонен
думать, что такое развитие произошло в третьем
веке н.э. Ранее демоны были амбивалентными - они
были похожи на ненадежных почтальонов. Они
присоединялись к богам в кознях против людей, но не
были очень смышлеными или же, обязательно,
крайне благосклонными к людям. Лишь к концу
этого века они стали определенно враждебными к
людям, потому что завидовали доступу человечества к
истинному знанию. Поэтому для человечества
должно было появиться некоторое истинное знание,
доступу к которому людей демоны могли бы
завидовать, и это могло бы быть либо правильный способ
жертвоприношений вегетарианским образом без
пролития крови (Порфирием язычником11), либо
правильный способ поклоняться одному Богу (то есть
осуществляемый христианами). Так что дьявол
порождает ереси из «зависти» к единодушию
христианской веры. Демоны преследуют святого Антония из
11 Порфирий (около 233 - около 304 н.э.), греческий
философ-идеалист, представитель неоплатонизма, ученик
Плотина. Автор сочинения «Против христиан» - Прим. пер.
47
Глава первая
зависти к его духовным свершениям... Это
определенно придало динамизма феноменам злой ВОЛИ,
которую прежние мыслители объясняли как
результат простого разгильдяйства, связанного с низким
статусом подлунного мира, где нельзя ожидать
круглосуточной работы почты. Это не означает, что зло
никогда не могло восприниматься просто как ошибка
или неудача. В нем есть элемент воли - и эта злая
воля проистекает из зависти к добру»12.
Явления, связанные с низким статусом подлунного
мира - в котором нельзя ожидать круглосуточной
работы почты, - попали, таким образом, под крайнее
подозрение и стали нуждаться в объяснении. Зло не
могло более восприниматься просто как
случайное событие, ошибка, человеческое несовершенство,
оплошность, насмешка судьбы или неудача. Другими
словами, зло более не считалось проявлением hamartia
(человеческих промахов), как это полагали греки.
Вместо этого оно стало зависеть от понятия злой воли
и злобного преднамеренного действия, и «эта злая
воля возникает из зависти к добру»13.
Новая идентичность Сатаны как главного врага
Бога сделала его в своей основе завистливым и веролом-
12 Питер Браун, личное сообщение.
13 Питер Браун, личное сообщение. Эта зависть к добру
присуща немецкому понятию shadenfreud (злорадства),
желанию портить то, что является добром у других и для других
людей.
48
Запах крови: более широкая картина
ным демоном, хотя тот процесс, посредством
которого он ее приобрел, остается загадочным14. Есть
некоторые представления о более широком нарративе
в связи с древнегреческим понятием daimon*5, включая
греческих героев и богов, которые с радостью
обманывают друг друга и людей. Относительно их смелых
проделок не было выработано какое-либо устойчивое
клеймо позора.
Критически значимым развитием третьего и
четвертого веков н.э. было новое определение «демонов»
как активных сил зла, всегда пытающихся соблазном
и хитростью навлечь на человечество проклятие.
Сатана становится (или был выбран на роль) таким
обманщиком, похожим на «malin genie» (маленького
дьявольского обманщика) у Декарта. Важно отметить,
что в ранний христианский период и на задворках
распадающейся римской империи обман становится
14 Elaine Pageis (Элейн Пейджелс) в своей работе The
Origins of the Devil увлекательно пишет о связанных с образом
Сатаны источниках. Она концентрирует внимание на
характере Сатаны в древних еврейских и христианских источниках
и не в столь большой степени на таких вопросах: как
развивался образ Сатаны из дохристианских и доеврейских
демонов, какие исторические, политические и персональные силы
привели к трансформации дохристианских демонов?
15 Daimon (демон) - в греческой религии и мифологии
всякое божество или дух-хранитель, способствующий или
препятствующий человеку в исполнении его намерений. -
Прим. пер.
49
Глава первая
источником тревоги и подозрения, объясняемых
через фигуру Сатаны. Завистливый и грешный статус
Сатаны мог быть легко противопоставлен Истине и
Замыслу Бога.
Другие части и кусочки истории Сатаны включают
возникновение понятия греха как обусловленного
эмоциями суждения и связи эмоций с искушением и
неповиновением; обожествление всемогущего и
всеведущего Бога; римский мир, его изменяющуюся
политику, конфликты, власть и административный
коллапс; христианскую/еврейскую общину с ее
внутренней политикой, раздорами, соперничеством и внут-
внутренней враждой; и переработку повествований и
текстов о Сатане и грехе в течение столетий.
По контрасту, исламский набор демонов (джиннов
и шайтанов) никогда не подвергался ясному
разграничению или тщательно связывался с моральными
сферами Добра и Зла16. В исламских традициях
имеется много shautin (шайтанов), и они не связаны
напрямую с обманом; ни один из них не
противостоял Аллаху. В действительности их отношение
к Аллаху значимо различается, а структуры власти
являются намного более неопределенными и
разнообразными, чем в христианской традиции. Живя и
процветая в традициях ислама, индуизма и буддизма
на всем протяжении Среднего Востока и Азии, веро-
16 Однако вера в духов сохранялась веками (и все еще
сохраняется в районе Средиземноморья).
50
Запах крови: более широкая картина
вания в многочисленных духов, призванных как к
благу, так и к злу, продолжают служить поддержкой для
объяснений человеческого страдания17.
Вдобавок к этому в исламе у мечетей (таких как
великая мечеть в Дамаске, которую начал строить
ал-Валид в 705 году н.э.) есть внутренний двор,
предназначение которого - быть садом наслаждений,
земным олицетворением рая и предвкушением для
мусульман того, что может ожидать их после смерти.
Это явно контрастирует с христианским недоверием
к земным удовольствиям и к их соответствующему
вкладу в загробную жизнь души, к раю, который
является абстракцией, полностью оторванной от
человеческого опыта. Таким образом, сферы земной и
загробной жизни не были разведены столь же
радикальным образом в Исламе, как их склонны были
разводить в христианской Европе18.
17 См., например: Melford Spiro's Burmese Supernaturalism
и Kilborne and Langness (eds.) Culture and Human_Nature: the
theoretical papers of Melford Spiro.
18 Это приводит в замешательство, так как хотя места в
подлунном и горним мире радикально отличны, человечество
всё же сталкивается с демонами внутри себя. «Эти демоны
символизируют не только всё то, что враждебно для человека;
они представляют собой всё то, что было аномальным и
несовершенным в человеке. Демоны, незавершенные создания,
ищут завершенности через человеческую сложность» (Brown.
1978. Р. 90).
51
Глава первая
Испытывая потребность в отделении Добра от Зла,
христианство выбросило за борт зависимость духов от
демонов и демонов от духов. В результате прямая
связь Сатаны с обманом избавила Бога от того, чтобы
когда-либо самому быть вводящим в заблуждение:
Он мог быть «Правдивым» и поэтому являться
гарантом «Истины», каким он в точности был для Декарта
из-за неустранимого разделения между «истиной»
и «ложью».
Грех, зависть и дьявольский обман
Разделения между подлунным и горним мирами
и между силами света и тьмы отражали разделение
между Богом и Сатаной. Поздние античные верования
в районе Средиземноморья, которые по сути являются
разделением между тем, что находится в горним мире
и неизменно, и тем, что находится в подлунном мире и
подвержено изменению и смерти, питали
предположения о космической битве, которые, в свою очередь,
еще более демонизировали Сатану19. По мере усиления
19 «Противопоставление царства небесного и земного
мира, первого, находящегося ближе к звездам, и второго - ближе
к тяжелой материи земли, epouranios и epigeios, навязчивым
образом проходит через литературу того периода». Brown,
1981, р. 9. Священные гробницы имелись в иудаизме и исламе,
но они не приобрели мощь культа мертвых (и ковчегов для
мощей), какую они имели на Западе.
52
Запах крови: более широкая картина
влияния христианства спектр обмана и вероломства
становится все более мрачным.
Святой Юстин (также известный как Юстин
мученик, 100 -165 н.э.) например, изображает женщин как
главных жертв дьявольского обмана. Падшие ангелы
осеменяли женщин демоническими отпрысками, и
эти демонические существа убеждали человечество
боготворить их вместо Бога20. Следуя тенденции
связывать тревогу с обманом и завистью, Юстин
связывает языческих богов с демоническим обманом,
осуждая как фундаментально вводящими в заблуждение
все те верования, которые отвращают людей от
преданности Богу и Христу. Желания поэтому
разделяются на «приемлемые», когда они ведут к
христианской религиозной набожности, и на
«неприемлемые», когда они ведут куда-либо еще. Зависть, таким
образом, символизирует все те силы и любую из них,
которые отвращают человечество от Бога.
Святой Юстин по-своему истолковывает сказания
о сексуальных отношениях между олимпийскими
богами и людьми, полагая, что «сказания о нечестивых
поступках богов и сыновей богов ... в действительно-
20 См. работу: Yoshiko Reed A. The trickery of fallen angels
and the demonic mimesis of the divine: aetiology, demonology
and polemics in the writing of Justin Martyr // Journal of Early
Christian Studies, 2004, 12(2): 141-171. Интересно, что падшие
ангелы ассоциировались с деятельностями, осуществляемыми
«язычниками»: металлообработкой, косметикой, магией и
астрономическим прорицанием (р. 142).
53
Глава первая
сти являются выдумками, придуманными о себе
демонами в мелочной имитации правдивых пророчеств
о Христе»21. Те люди, которые верили в богов,
прославляемых в греческих мифах и почитавшихся
римлянами, поэтому осуждались христианами за их
мнимый атеизм и неверие в бога. Согласно Юстину,
боги греко-римского пантеона были отпавшими от
Бога ангелами. «Путем приравнивания падших
ангелов и демонов к языческому пантеону, Юстин
одновременно мог объяснять и подрывать греко-римские
традиции относительно богов, посредством их
истолкования через призму Енохийских [еврейских]
традиций...»22.
Юстин косвенным образом противопоставляет
сексуальное желание, зависть и обман
«противоправного ангельского просвещения» людей «истине» хри-
21 «При чтении через оптику историографического и
демонологического подхода Юстина к истории человеческой
культуры, его пересказ мифа об отпадении ангелов от Бога
резонирует с культурными ожиданиями перешедших в
христианство язычников, хотя бы потому, что служит
подтверждению их выбора - отказа от своего языческого прошлого -
здесь этот выбор поднимается до уровня решения
освободиться от демонического порабощения и объединиться с
Христом в космической битве против сил зла» (Reed, 2004:186).
22 Reed 2004, p. 164-165. В своей работе Enochic Judaism:
three defining paradigms, 2004, David Jackson определяет три
темы: поражение ангелов-повстанцев под предводительством
Шемихазая, раскрытие Азазелем своих враждебных Богу
секретов человечеству и отпадение ангелов от Бога.
54
Запах крови: более широкая картина
стианской веры23. В трудах Юстина демоническая
зависть и обман играют центральную роль в новом
истолковании Книги Бытия24 и в объяснениях
первородного греха и страдания. Для подхода Юстина
к рассмотрению отпавших от Бога ангелов характерна
ясно сформулированная «генеалогия заблуждения,
которая в равной мере касается язычников и
евреев...»25. Он акцентирует внимание на грехе как на
причине заслуженного страдания. Позднее мы
увидим, что этот сдвиг от стыда и hamartia [оплошности]
классического мира к греху и вине у христиан
глубинным образом повлиял на понятия страдания,
травмы и человеческой трагедии26.
Святой Августин содействовал этому сдвигу,
придавая особое значение воле. Данный акцент будет со
временем становиться все более заметным и вместе
23 Reed пишет о центральной роли мотива
противоправного ангельского просвещения людей в этиологии человеческой
культуры (2004, р. 143), связывая, подобно Фрейду, начала
цивилизации со схожими демоническими (кровожадными,
завистливыми, похотливыми) качествами (смотрите его книгу
Civilization and its Discontents [«Недовольство культурой»].
24 На Юстина повлияло ангельское истолкование сынов
Божиих из Книги Бытия 6: 1-4 евреями-толкователями
Талмуда и их объяснения первородного греха и страдания.
25 Reed. 2004. Pp. 144-145.
26 Как я покажу в последней главе, трансформация Эдипа
из страдающей, действующей вслепую трагической фигуры в
фешного Лдама, изображение последствий первородного
греха, изобилует помрачениями для современного мира.
55
Глава первая
с тем проблематичным. «Августин остановился на
представлении о том, что размер космоса не имеет
значения по сравнению с волей. Именно намерение
сделало демонов вероломными: демоны обладали
порочными волями, и лишь это имело значение. Это
ознаменовало конец «космической моральной
физики» в классической традиции27, возвещая эру греха,
вины и заслуженного наказания.
Спустя несколько поколений после Юстина в
III веке н.э. появился Мани, занимавшийся
решительным упрощением месопотамский религиозный
лидер и харизматический гений, который верил в то,
что человечество расколото непримиримо
конфликтными силами. Манихеи разделили человеческие
переживания на категории или/или, считая то, что не
является Добром, непременно Злом. Так как манихеи
твердо придерживались идеала безупречного
совершенства, им требовалось объяснение того, почему его
так трудно достичь. Мотив вероломного,
завистливого, падшего ангела28 казался готовым ответом на эти
беспокойства. В манихейских предположениях о том,
27 Питер Браун, личное сообщение.
28 Манихейский дуализм легко переходит в христианский
неоплатонизм, течение, которому суждено было становиться
все более сильным и сложным в период итальянского
ренессанса, когда видимый мир, с презрением отвергаемый авгу-
стинианской разновидностью христианского платонизма,
начал становиться у таких художников, как Леонардо,
источником неявно выраженного благоговения и почитания.
56
Запах крови: более широкая картина
что истина - это благо, а ложь - зло, что разум может
быть проницательным и что эмоции и страсти ведут
к искажению и хаосу, проявлялась платоническая
сущность29. Манихейство послужило разновидностью
плацдарма для новых учений IV века н.э. (святого
Амвросия (340-397) и святого Августина (354-430)).
Короче говоря, зависть, вина и стыд
комбинировались в суждениях о том, что считалось «злым» или
«греховным», и зависели от обстоятельств, которые,
в свою очередь, шли рука об руку с ужасами обмана,
делая, в свой черед, более резкими суждения о
зависти, вине и стыде.
29 Позиция Августина явно была более сложной, чем у ма-
нихеев, относительно возможности легкого различения между
истиной и обманом, разумом и эмоцией. Августин, под
влиянием манихеев, описал в трактате «О граде Божьем», два
града, один «град» служит Богу и преданным ему ангелам, а
другой, противостоящий ему «град», населен Дьяволом и его
демонами. В этом труде Августин описал историю человеческой
расы как, по существу, соперничество между этими двумя
градами. Хотя два этих града, по-видимому, перемешаны в
человеческом переживании, Августин верит, что, в конечном
счете, они будут метафизически разделены. В своей
«Исповеди» Августин пытается преодолеть эти расхождения и вместо
этого фокусирует свое внимание на идентичности вещей,
которую приносит вера в Бога.
57
Глава вторая
РАЗУМ ТЕЛА:
ОБМАН, РАССУДОК И БОЛЬ
Это откормленные кони ...
Иеремия
Поразительно, что для греков и римлян тело было
местонахождением жизненных сил, символически
изображаемых сексуальностью, в то время как в
течение раннего христианского периода тело стало
местонахождением обмана, подозрения и
сексуальности, объектом, который должен быть укрощен.
Такой глубинный сдвиг естественно повлиял на
восприятие тела и представление о нем, на
идентичность и то, что доступно для понимания. Так как мы
часто предполагаем, что имеется непроходимый
разрыв между телом и разумом (переживанием и
наблюдением), мы редко задумываемся о том, что то,
каким образом мы воспринимаем наши тела, может
оказывать воздействие на наше мышление. В этой
главе я буду говорить о том, как исторически
происходят сдвиги в определении, восприятии и
переживании тела, совместно со сдвигами в понятии
рациональности и в определении того, что и приемлемо,
и доступно для понимания, которые сами
представляют собой реакции на человеческие чувства и неудачи.
58
Разум тела: обман, рассудок и боль
Для Аристотеля тело было проявлением
природных сил, которые наполняют человеческие жизни,
внутренним символом связи между человеческим и
природным мирами. Половой акт был,
соответственно, и естественным, и желанным, а человеческая воля
вписывалась в рамки «динамического космоса»
классического политеизма, проявлением которого было
сексуальное желание. Кроме того, хотя у древних
греков не было того понятия тела, которое нам известно,
их остро интересовало то, каким образом тело
символизирует движение как выражение жизни. Для них
телом было то, что движется1. В Древней Греции как
psuche, так и тело связывались с движением и с
животворной силой2.
В вавилонском талмуде именно змей совратил и
ввел в грех Адама и Еву, познакомив их с
сексуальностью и вследствие этого с безнравственностью
природного мира и со смертью. В метафорических словах
1 Это представляет для нас интерес из-за значения
движения для приматов и в особенности первостепенной
значимости для них лазания как реакции на опасность. Когда они
находятся в опасности, приматы взбираются наверх. Вот
почему, когда приматы находятся при опасности в воде, они
тонут, в то время как собаки, чей инстинкт направлен на
бегство, довольно хорошо справляются с опасностью.
2 Что приводит к вопросу о том, что такое тело? Тело
никогда не является просто телом. Тело не только включает в себя
телесные чувства и образы, но также свой культурный,
исторический и космологический контекст.
59
Глава вторая
Иеремии: «Это откормленные кони: каждый из них
ржет на жену другого»3, - сквозит недоверие к игре
страстей (как и в диалоге Платона «Федр» с его
неуправляемыми конями), к греху и зависти. Для
стоиков (как и в еврейской традиции) половой акт был
предназначен лишь для рождения детей, а не для
сексуального удовольствия. В этих представлениях
можно ощутить привкус талмудистских традиций. В
ранний христианский период тело стало связываться
с грехом, изгнанием и опасностью (например, Адам
и Ева, осознавшие свои тела, изгоняются из Рая).
Что затем стало существенно значимой связью
в греческом и римском мирах между сексуальностью
и жизненными силами? Между тем, что считалось
естественным, и тем, что осуждалось как
сомнительное? Как тело стало вместилищем греха, коварства
и обмана, когда для греков и римлян оно связывалось
с олимпийскими играми, наслаждением и с
всевозможными удобствами и восхитительной
чувственностью? Когда тело Христа стало символом того, чем
можно было пренебречь, а мир души стал
бестелесным, как тогда можно было объяснять телесное
страдание? И как всё это повлияло на концепции и
переживания травмы и трагедии? Какова была боль
обитающих в пустыне отшельников, тех приносящих
себя в жертву ранних христианских аскетов, пустын-
3 Ibid, quoted. P. 95. [Библия. Книга Пророка Иеремии.
Гл. 5 (8). М, 2016. С. 740. - Прим. пер.]
60
Разум тела: обман, рассудок н боль
ников и монахов (примерно с III до конца V века н.э.),
которые верили в то, что очищают себя от городских
(римских?) непристойностей?4 Как можем мы
оценить их соперничество, в котором они соревновались,
чтобы понять, кто мог претерпевать наибольшие
лишения, многократно подвергая себя мучениям?
Почему римляне были избраны как греховные
мишени, в то время как обитающие в пустыне отшельники
сделались символами чистоты?
В ранний христианский период тело и эмоции
стали свидетельством вероломной зависти и хитрости
Сатаны и орд его пособников, всегда готовых и
ждущих момента, чтобы обманом вселить в душу
искушение. Этот громадный отход от миров греков и
римлян указывает на сдвиг функций и смыслов
рациональности в ставшем нестабильном мире.
В таком нестабильном мире Бог должен быть
правдивым для того, чтобы подозрительность
становилась терпимой; Декарт нуждался в Боге, чтобы
поставить на место своего злого духа (маленького
дьявольского обманщика). С ранних христианских
времен и далее постоянно изменяющееся разделение
тела/разума шло параллельно расщеплению между
человеческим миром и «другим» невидимым миром.
4 Представляется, что способность испытывать страдание
могла расцениваться как добродетель; те люди, которые могли
больше всех страдать, являются самыми добродетельными.
Даже когда оценивается лишение (а не свершение), такая
оценка не может обойтись без духа соревновательности.
61
Глава вторая
Первый был полон путаницы и темных страстей,
второй был, в принципе, «истинным» и заслуживающим
доверия.
Поглощенность ранних христиан мыслями о
доведении до греха и сомнениями относительно «истины»
усиливалась разделением разума/тела и
непосредственным образом влияла на эмоциональные
переживания, а также на отношения людей как
к природному, так и к сверхприродному мирам.
Например, прежние категории «истинных» и
«лживых» сновидений более не зависели от высокого
положения видящего сон, а скорее основывались на
предположениях о рациональном порядке,
гарантированном Богом. Начинаясь от жителей
Месопотамии и далее, имелись, грубо говоря, два типа
сновидений: те, которые были связаны с посланиями от
богов или высших сил, с одной стороны, и те, которые
были связаны с телом, с другой стороны. В Древней
Греции имелось два типа сновидений, одни,
проходящие через врата из слоновой кости, и другие,
проходящие через роговые врата. Однако в
Месопотамии, Древней Греции и Риме разделение разум/тело
предполагало типы сновидений, зависящие от
происхождения, и не влекло за собой обесценивание тела
как местоположения греха.
Отношения к сновидениям и видениям
основывались на христианских представлениях о том, что
истинно, а также на понятиях власти, воли и мощи.
В Месопотамии утверждалось, что лишь царям могут
62
Разум тела: обман, рассудок и боль
сниться истинные сновидения - отражение царства
богов. Однако вместе с неопределенностью и
властными сдвигами в христианском мире сновидения и
видения более не зависели от ранга; они легко могли
становиться символами ереси (как в случае Жанны
д'Арк). Является ли мое сновидение в
действительности посланием от Бога или Сатаны? Не вызвано ли
оно несварением желудка? Как это можно узнать?
Кто может определить, каким является данное
сновидение? Эти вопросы сделались еще более насущными
в ранний христианский период и позднее, когда
христианским сообществам стали угрожать не только
ранее существующие культы и религии, но также
соперничающие притязания на пророчество в их
собственных рядах5.
Во втором веке н.э. и наращивая силу в
последующие века разум и тело изображались как
находящиеся в войне друг с другом. Всё в большей степени
воображаемым врагом становилась греховная
сексуальность, безмерно обольстительная сила
искушения (греческим эвфемизмом для пениса было слово
«необходимость»)6. Для ранних христиан дьявольские
5 Радикальный дуализм предполагает выход за
пределы. Данная работа является как раз обратной. Потребность
в выходе за пределы может усиливать дуализм; выход за
пределы может быть затруднительно поддерживать в зависящем
от непредвидимых причин мире, если он не является
расщепленным.
6 Brown. 1978. Р. 84.
63
Глава вторая
побуждения могли проникать, в качестве
«дьявольской закваски», «глубоко внутрь густой массы
человеческой природы»7. Недоверие к телу и к его
сексуальным потребностям стало связываться с проблемой
зла, которое следовало укротить, если Богу суждено
было оставаться всемогущим, всеведущим и
заслуживающим доверия. И правдоподобным. «Исповедь»
Августина изобилует усилиями в попытке совершить
невозможное: примирить человеческое страдание и
искушение с могуществом и благостью Бога.
Молодой Августин молил Бога об обете безбрачия, «но еще
не теперь».
Человеческое страдание приобрело оттенок греха
и стало ответственностью не Бога, не природных сил
или случая, а скорее несовершенных людей.
Страдание стало заслуженным наказанием за грех.
Соответственно изменились представления о soma,
феческом термине, обозначающем тело. Тело стало
связываться с «желанием» и в связи с этим с
осуждающим отношением к телесным потребностям и
функциям. Климент Александрийский откровенно
сказал: «Наш идеал - вообще не испытывать никакого
желания»8. Соответственно концепции разума/души
отражали компенсирующее желание достижения
внутреннего единства и восстановления «здоровья»
(благоволения), которые,.как надеялось грешное
человечество, им обеспечит вера в Бога.
7 Ibid. Р. 35.
8 Ibid., quoted. P. 31.
64
Разум тела: обман, рассудок и боль
Эти представления шли вкупе с христианским
идеалом сердечной цельности, необходимой для
противодействия сексуальным желаниям и жизни
тела. «Беспорядочные метания были несовместимы с
тонко настроенными фигурами потенциальных
мудрецов, для которых даже какое-либо слово или жест
не должны были быть неуместными»9. В своем
послании к римлянам святой Павел открыто говорит: «Ибо
я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе ... Но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего... Бедный я
человек! Кто избавит меня от сего тела смерти»10.
Такие стоические взгляды, вместе с платоновской
метафизикой, привели к требованию «пожизненной,
моральной заботы о себе», на которую полагались
для освобождения души от тела. Такой моральный
уход зависел от наличия воли освободить душу от
темницы тела. Во время отчаяния сексуальное
воздержание и обет безбрачия стали, таким образом,
символами триумфа воли над телом, проявлением
свободы и чистоты сердца над скверной мерзостью
животной похоти, разновидностью вызова
нестабильности человеческого переживания, посредством
фантазии о неизменной воле быть по ту сторону
желаний.
9 Ibid., р. 133.
10 Ibid., quoted. P. 47. [Библия. M., 2016, Рим. 7 (18-24).
С. 194. - Прим. пер.]
65
Глава вторая
Тело Христа теперь не воспринималось или
понималось как обычное тело, с которым человек мог
себя отождествлять; скорее оно было разновидностью
тропа, символом тела и репрезентацией
разрушительных воздействий космических сражений между
силами Добра и силами Зла. И всё это Христос
попрал своей смертью. Бессмертие Христа, таким
образом, неявно выражало осуждение земного страдания
как чего-то такого, над чем может возвыситься
человек.
Отношения к телу были противоречивыми, но они
стали еще более резко выраженными.
Преобладающие настроения отчаяния породили новые
представления о космическом порядке, которые также в самой
своей основе изменили способы восприятия,
понимания и определения тела. Плотин стыдился того,
что у него вообще есть тело, так как жизнь тела была
смертью души. Однако Плотин также говорил о теле
как о «лире», которую требуется хорошо настроить
и которая способна издавать мелодичные звуки.
Восстав из мертвых, Христос продемонстрировал
победу над силами «беспорядочных метаний».
Поразительным образом, который указывает на
громадный отход от мира греков и римлян, реальные или
предполагаемые кусочки тела Христа и тел святых
(мертвых тел) приобрели символическую
способность усиливать недоверие к живому телу, в то же
время, однако, празднуя воскресение из мертвых
Христа. Растущая значимость христианских мощей
66
Разум тела: обман, рассудок и боль
заметным образом была перемешана с остатками
дохристианских культов мертвых. Столь же значимым
образом возвышение христианских мощей резко
контрастировало с акцентом древних греков на теле как
местоположения души и животворного движения и
мощи.
Человеческое страдание, таким образом, стало
связываться с «телом» и некоторым образом
отличаться от страдания души. Так как воскресение
Христа из мертвых продемонстрировало приоритет
«души» над «телом» и большую значимость и поддержку
Богом первого над вторым, человеческое страдание
некоторым любопытным образом более не являлось
заботой Бога11.
После конца мира внутри Римской империи12
разделение между субъектом/душой и телом
сделалось еще более глубоким и широким. Исчезла
стабильность, начались гражданские войны, и жизнь
сделалась всё более непредсказуемой. Данная
картина осложнялась тем, что разделение разум/тело шло
11 История Иова иллюстрирует этот сдвиг. Иов страдает не
потому, что испытывает мучения, а, скорее, для того, чтобы
продемонстрировать свое послушание Богу. Страдание, таким
образом, становится проверкой, нежели проявлением
человеческой трагедии.
12 Мир внутри Римской империи, Римский мир,
продолжался приблизительно 206 лет (с 27 г. до н.э. до 180 г.
после н.э.), со времени правления Августа до смерти Марка
Аврелия.
67
Глава вторая
параллельно (и усиливалось?) возвышению
раввинов внутри иудаизма и расколу между духовенством
и светскими лицами в христианской церкви.
Вследствие возвышения «проницательной» элиты над
сторонниками «тела» две эти тихие революции
усилили платоновскую традицию правителей философов
и углубили раскол между «головой» и «телом»,
питая, таким образом, традиции рационализма,
связывая обман с телом, усиливая акцент на воле и
мостя путь к централизованной королевской мощи и
власти.
Изменяющиеся понятия тела
Вскоре после наступления итальянского
Ренессанса представления о теле претерпели изменение.
Знаменитый рисунок вписанного в круг человека с
распростертыми руками, сделанный Леонардо,
выражает присущий Ренессансу идеал человека как мерила
космоса, мерила пропорции, гармонии и красоты -
комбинация, часто связываемая с неоплатонизмом.
В отличие от недоверия к чувствам и телу в трудах
III и IV вв. н.э. (например, Марка Аврелия и Плотина)
ренессансный образ Леонардо выражает надежду
и уверенность в присущие человеку силы и поэтому
является совершенно иным образом тела.
Перескакивая в XVIII век, мы видим, что на образы
тела оказали влияние так называемые сенсуалисты,
которые утверждали, что познание обусловлено лишь
68
Разум тела: обман, рассудок и боль
одними чувственными восприятиями и что младенец
при рождении был «чистой доской». Однако вместо
повышения статуса чувств, как подразумевает сам
термин «сенсуалист», Локк и современные ему
исследователи в действительности сосредоточивали
внимание скорее на интерпретациях чувственных
данных, а не на самих чувствах, связывая чувства с
объектами интерпретации, нежели чем с переживаниями.
Такое приписывание важного значения
интерпретациям чувственных данных вместо проявления
интереса к функционированию и переживанию чувств
превращало младенца в чистый лист бумаги.
Младенцы начинают с нуля. Они ждут запечатления
в памяти и слов, которые сделают их понятными для
себя и для других. В метафоре Локка сами чувства
являются пустотой; лишь их интерпретация
(истолкование) придает им «смысл». Нам известно из
исследований младенцев и перекрестного сенсорного
восприятия, что сама идея о состоянии чистого листа
абсолютно неверна, так как младенцы уже в утробе
матери начинают испытывать ощущения и прилагать
усилия для понимания13. А экстериоризация чувств
лишает их того, что нам известно как наше тело:
субъективной, неотъемлемой составляющей
человеческой идентичности. Она дегуманизирует чувства.
13 Метафора Локка о состоянии чистой доски также
выражает мысль о том, что то, что пишется на этой доске,
требуется «прочитывать» и интерпретировать.
69
Глава вторая
На другой стороне пролива Ла-Манш, во
Франции, в работе Ламетри «Человек-машина» тело
определялось как что-то такое, что работает как механизм
и может поэтому пониматься сходным образом.
Такое функциональное, рационалистическое
определение тела уклонялось от рассмотрения неясностей
между субъектом и объектом и отдавало приоритет
пониманию и интерпретации тела как объекта,
внешнего по отношению к наблюдателю. Один
критик заметил по поводу социолога XIX века Герберта
Спенсера, что тот изучал человеческие внутренние
органы с выгодной позиции человека, у которого не
было желудка.
Такой подход к телу с критически значимой
степенью отстраненности успешно скрывал проблему
о том, что делает тело живым (psuche). Были ли такие
представления следствием медицинских открытий,
таких как сделанных Гарвеем (1578-1657), который
открыл систему кровообращения и начал понимать
сердце и систему циркуляции крови, или же эти
открытия были обусловлены функцией сдвига
культурных перспектив (или обоими этими факторами), -
это открытый вопрос. Но здесь ясно видно
расхождение между представлениями о теле в трудах Марка
Аврелия, с одной стороны, и изменяющимися
представлениями о теле у Локка и Ламетри, с другой.
У Марка Аврелия тело воспринималось как нечто
крайне к нам близкое и к нему относились с недове-
70
Разум тела: обман, рассудок и боль
рием. У Локка и Ламетри оно стало инструментом,
который нуждался в истолковании.
Критически значимая отстраненность от тела
(наблюдение) присуща истории анатомии, развитие
которой питало предположения о функциях тела
и его органов. Хотя наличествовал некоторый интерес
к пониманию тела в Древней Греции и Риме, а также
в Александрии, именно в Италии (например, в
Болонье, Падове и Солерно) укрепилась традиция
согласованного интереса к телу как к чему-то такому,
что следовало понимать и интерпретировать, где-то
между XIII и XVII веками, распространившаяся в
остальной части Европы (в XVII и XVIII веках).
Однако исчезло то почтение и благоговение,
которые тело предположительно пробуждало у греков и
римлян, вместе с близкой связью тела с жизненными
силами, более могущественными, чем люди с их
индивидуальными волями. Тело более не являлось
выражением природных сил, а скорее стало объектом,
который следовало укрощать. С возникновением
анатомии тело стало не тем, что всем нам присуще, не
тем, что мы чувствуем, а скорее тем, что мы видим
у других людей, что мы можем изучать как объект,
что может быть «истолковано» как иероглифы или
линейное письмо Б14. Тело стало объектом наблюде-
14 Крито-микенское письмо (3-2-е тыс. до н.э.),
обнаруженное на острове Крит и в материковой Греции. Выделяют три
этапа развития: иероглифическое, линейное письмо А и ли-
71
Глава вторая
ния, а не живого, человеческого переживания. Трупы
людей соответственно стали объектами изучения,
рассматриваемыми как скопление частей, которые
функционировали совместно15.
Отношение к телу как к объекту для укрощения,
как к внешнему виду, который можно изменять,
объединилось с подчеркиванием силы индивидуальной
воли и обесцениванием тела как проявления
природных сил. Конец XIX века стал свидетелем возникновения
«мускульного» христианства, культа тела как
выражения божественной силы, связанного с прославлением
тела в гимнастике и альпинизме и в общем увлечении
ездой на велосипеде. Всё это вполне естественно
привело к культу тела, который мы видим в наши дни и
подтверждением которому служит огромное
распространение фитнес-клубов и гимнастики16. Такой культ тела
нейное письмо Б (расшифровано только последнее);
использовалось для древнейшего греческого языка. - Прим. пер.
15 В начале XIV в. н.э. Мондино (Mundinus), известный как
отец современной анатомии, препарировал трупы людей для
студентов и коллег. Вследствие запрета на выкапывание
трупов и преобладающие представления о теле Франция и
остальная Европа отстали от Италии. Однако к XIX веку, как
во Франции, так и в Германии, Голландии и Англии имели
место анатомические традиции, выросшие из рассмотрения в
XVIII веке тела как инструмента, как машины.
16 Между прочим, изменения в одежде, вызванные ездой на
велосипеде, привели в результате к появлению женских
костюмов с короткой юбкой и к сдвигу в образе женского тела
и того, что можно было пристойно показывать.
72
Разум тела: обман, рассудок и боль
прямо связан с потребностью чувствовать себя сильным
в качестве попытки нахождения противоядия от
человеческой беспомощности.
Потребность придавать особое значение воле к
власти шла бок о бок с беспорядками и
беспомощностью, вызванными промышленной революцией в
середине XVIII века, за которой вскоре последовала
Французская революция. Эти неурядицы
продолжали возрастать во время религиозного возрождения
в начале XIX века, когда страх хаоса привел к
усилению подчеркивания потребности быть
конструктивными, к упованию для достижения этого на веру и,
что крайне важно, к доверию к силе воли, к
заигрыванию с властью и к поглощенности внутренними
чувствами вины и ужаса (например, в германских
романах, описывающих ужасы и жуткие сцены).
Чем меньшим было доверие к телу и к его
чувствам как к чему-то ненадежному, тем большим был
акцент на силе воли для их укрощения, который,
в свою очередь, приводил к усилению вины и к
фантазиям причинения вреда. А фантазии причинения
вреда могли затем рационалистически объясняться
как свобода утверждать свою волю без каких-либо
социальных ограничений и стыда. Поэтому чем сильнее
была воля, тем сильнее было чувство вины, тем
большим был неописуемый ужас. Как станет ясно
в последующих главах, всё это продолжает
действовать в настоящее время вместе со всеми своими
взаимными перестановками.
73
Глава третья
О САТАНЕ, ЗАВИСТИ
И ОТВЕРЖЕННЫХ
Зависть - это грех, потому
что она кусает,
но никогда не наедается.
Испанская пословица
Демонизация зависти постепенно, в течение
столетий, выделялась в качестве цели для посрамления.
Вместе с чувством обиды и лишения, которые она
подразумевает, зависть предстает как прототип греха,
и понятия греха делают зависть наказуемой. В демо-
низации зависти видную роль играло повествование
о Каине и Авеле как универсальная история зависти,
убийства, двуличности и соперничества; убийство
одного брата другим предстает подтверждением
опасностей в связи с грешной завистью.
Сыновья Адама и Евы, Каин и Авель, были
братьями. Каин был земледельцем, а Авель - пастухом. Бог
потребовал жертвы от обоих. Принесение Авелем в
жертву первородных ягнят посчиталось Богом
достаточным, однако Бог сказал Каину, что его жертва
от плодов земли была недостаточна. В припадке
нарциссической обиды, стыда и ярости, Каин убил
74
О сатане, зависти и отверженных
Авеля1. По смыслу, это повествование о
соперничестве2 двух братьев, борющихся за благосклонность
Бога, повествует о конфликте между земледельцами и
пастухами, которые соперничали за обладание
землей3. Если бы Бог не показал свою благосклонность к
Авелю и не проигнорировал бы Каина, вполне могло
бы так случиться, что Каин не убил бы Авеля. Однако
данное повествование выбрано для иллюстрации
греховного убийства Каином Авеля, приписывая Каину
греховные эмоции зависти и агрессии, связанные с
Сатаной.
Интересно отметить, что в повествованиях о Каине
тот страшится того, что «его убьёт кто-то, кто сможет
его увидеть»4. Здесь опять наличествует стыд от
разглядывания Каина и страх уничтожения, если его
увидят. Важно отметить, что для Каина характерно
1 Ярость Каина напоминает спирали стыда-ярости, столь
распространенные в греческой трагедии.
2 Зависть, соперничество, несостоятельность и близкое
родство ярко описаны в рассказе Генри Джеймса
«Романтическое приключение со старым платьем», в котором говорится
о фатальном соперничестве между двумя сестрами по поводу
любви и изящных нарядов. Интересно отметить, на что
указали исследователи его творчества, что данная история была
закончена вскоре после того, как Генри заказал своему
портному сшить ему костюм из той же самой материи, из которой
ранее был пошит костюм для его брата, Уильяма.
3 Почему Бог предпочел пастухов землепашцам?
4 Melinkoff. The Mark of Cain. P. 2.
75
Глава третья
дрожание5 и рычание, превратившееся в метку
Каина, в клеймо его стыда6, свидетельствующее о том, что
он, скорее, звероподобен, а не человек7. С течением
времени Каин стал служить эмблемой преступника,
каким он предстает в наши дни8, подобно Сатане:
отверженным, виновным и завистливым.
Зависть, чужаки, отверженные
и язычники
Поразительно, что ярко выраженные в Библии
чувства проистекают не от космических сил, не от
безжалостных и сверхчеловеческих битв между силами Бога и
5 Дрожание представляется непроизвольным, позорным
знаком отсутствия контроля. Другая версия метки Каина
говорит о проказе, столь же явной и позорной. (Ibid. Р. 57).
6 Melinkoff, pp. 40 ff. Виктор Гюго писал: «Меткой Сатаны
служит дрожание мышц лица, как у буйного, испытывающего
ярость (неистовый гнев) сумасшедшего, судорожное, то есть,
яростно вибрирующее и не способное прекратиться
дрожание лицевых мышц, вследствие чего он кажется
заслуживающим жалости, потому что его поразил гнев Божий и сделал
отверженным» (цит. по: Melinkoff. Р. 48.).
7 Первоначально метка Каина была двусмысленной, которая
иногда истолковывалась как защита, а иногда - как наказание.
8 В то время как первоначально данная метка
функционировала «одновременно как осуждающее проклятие и
защищающее табу», метка Каина впоследствии утратила «все свои
защитные качества, став единственно и целиком
заклейменной позорной меткой преступника - данная точка зрения
общепринята в наши дни». (Ibid. Р. 101).
76
О сатане, зависти и отверженных
силами Сатаны. Скорее они выражаются на языке
взаимоотношений. Однажды находящийся среди
преданных Богу ангелов Сатана, падший ангел, изгоняется из
райского сада в силу благоволения Бога к Адаму и Еве.
Как ангел, впавший в немилость и изгнанный Богом,
который благоволит к другим людям, Сатана, понятно,
терзаем яростью и завистью к человечеству. В этом он
подобен Каину, который направил свою ярость на Бога
против Авеля. «Вина» Сатаны, таким образом, прямо
связана с его чувством обиды на Бога за то, что он впал в
немилость и был изгнан из райского сада Богом.
Это повествование о зависти и её демонизации
частично совпадает с историей отношений к
отверженным и чужакам. Проблема чужака среди других
людей всегда была источником испуга и тревоги, но
в ранний христианский период9 эта проблема
стала крайне неотложной. Как следовало поступать
«с мужчинами, не включенными в традиционное
аристократическое общество, с мыслями, выражение
которых не допускалось традиционной культурой,
с потребностями, не выражавшимися ясным образом
в традиционной религии, с абсолютными чужаками,
прибывшими из чужой страны?»10
9 Для Августина (и христианской традиции) зависть может
быть связана с «очень большим сходством конфликтующих
сторон», которое обусловливало «остроту и драматические
оттенки христианского образа себя» (Brown. 1992. Р. 77).
10 Brown. 1971. Р. 8.
Глава третья
Христиане использовали в собственных целях
многовековые отличия между «цивилизованными
людьми» и «варварами» (на древнегреческом языке слово
barbaroi означало всех тех людей, которые не были
греками, созданное греками, а затем заимствованное
римлянами, для представления своих отличительных
черт). Таким образом, христианская традиция
привлекла понятие зависти для определения тех людей,
которые были от христиан отличны, и, следуя
греческой и римской традициям, использовала его для
утверждения своего культурного превосходства.
Интересно отметить, что слово paganus
(«языческий») появилось лишь в 370-е гг. н.э. и обозначало
анонимного человека, который «не обладал
почетным правом и престижем, связанными со службой
императору»11. Христиане использовали данный
термин для обозначения тех чужаков, которые не были
частью империи Бога и Христа, воскрешая
непреклонный акцент на включении и изгнании (Адама
и Евы) и на важном значении зависти и впадении в
немилость, упомянутых ранее (Каин и Авель).
Ранние христиане, чья зависть друг к другу часто
подчеркивала их страх обмана, научились
рационально объяснять собственную уязвимость, делая
нехристиан завистливыми. Они объясняли непохожесть
демонизацией зависти12. Нехристиане были лживы-
11 Ibid. Р. 102.
12 Это означало соперничество с прежними аристократами
и друг с другом. И с другими богами. А с данным соперниче-
78
О сатане, зависти и отверженных
ми, деструктивными, кровожадными и завистливыми
людьми, стоящими у врат истинной религии. Таким
образом, соперники христианства, к которым
истинные христиане оправданно испытывали нетерпимое
отношение, могли изображаться как порочные и
опустившиеся люди, и сюда же могли включаться Сатана
и отпавшие от Бога ангелы для объяснения
превосходства христиан и законности их подозрений.
Ранние христиане полагались на невидимое,
космическое повествование, на языке которого могла
быть сформулирована история Иисуса (и Нового
Завета). Перенос сил зла в божественные места удалил
их из мира человеческих забот и сделал людей
марионетками в космической борьбе между Богом и
Сатаной. В Новом Завете апостол Марк говорит, выражая
точку зрения Бога, а не с какой-либо выгодной
позиции человеческого наблюдателя. «Во всех евангелиях
Нового Завета изображается казнь Иисуса как
кульминация борьбы между добром и злом, Богом и
Сатаной - которая начиналась как его крестный путь...
как повествование, которое имело бы мало смысла
без Сатаны»13.
Данное повествование о космической борьбе де-
монизирует зависть, в то же самое время делая Сата-
ством пришла зависть, в особенности, когда понятия
богооткровения и обращения в христианство открыли важные
проемы в древних стенах аристократического
привилегированного положения и образования.
13 Pageis. Р. 112.
79
Глава третья
ну raison d'être («обоснованием») космической борьбы
и тем способом, посредством которого эта борьба
становится заметна для человечества. К тому же
довольно парадоксально, что фигура Сатаны в
христианской традиции помогает приданию смысла
культам умерших и другим фигурам космологического
мира древних римлян, одновременно приводя к
более широкому изменению смысла эмоций.
Образ Сатаны, грех зависти и отпавшие от Бога
ангелы позволяют авторам, таким как Юстин, объяснять
свою тревогу, перенося ответственность за нее на
вводящие в заблуждение верования язычников и
вероломных людей, которые обманом завлекают
доверчивых людей на ложные пути. Сатана, бесы и падшие
ангелы служат основой для предположений об
обмане, тревоге, подозрении и сомнении, допущений,
которые пропитывают христианскую теологию.
По прошествии веков, по мере того, как эти взгляды
занимали свое место среди христианских
предположений, зависть всё более становилась целью
осуждения в качестве главного греха.
Евагрий, сомнительные «мысли»,
зависть и грех
Стало легче связывать римскую и гражданскую
жизнь с упадком и грехом, когда «экономическое чудо»
(длящееся примерно с I до конца Ш века н.э.)
потерпело катастрофу. Святой Иероним следующим образом
80
О сатане, зависти и отверженных
описывал жизнь маленькой девочки в IV веке н.э.:
«Катастрофы окружают ее, пока она играет с
игрушками. Она познакомится с плачем ранее смеха.... Она
забывает прошлое; она убегает от настоящего; она
пылко ожидает прихода жизни»14. Влиятельные
фигуры в христианском неоплатонизме, такие как
Плотин, древнегреческий философ, родом из Египта,
заговорили на «новом, классическом языке
беспокойного сердца»15 в мире, воспринимаемом как
безрадостный и бесперспективный.
В таком нестабильном мире, связывание Сатаны
с завистью, недоверием к телу и с грехом, породило
потребность в объяснениях16 и в быстром погружении
в мистические глубины ранней христианской
истории, наполненные сдвигами в отношениях к
эмоциям, социальной и экономической нестабильностью,
возрастанием власти епископов и расширением
трещин и трансформаций в Римской империи (включая
разграбление Рима Аларихом в 409—410 гг. н.э.). За-
14 Ibid., quoted. P. 15.
15 Ibid. P. 162.
16 К тому же крайне сложно оценивать происходящие
изменения, частично вследствие нашего ограниченного
понимания римских миров и тех способов, посредством которых они
идеализировались и искажались вследствие жизненного
опыта прошлых поколений. Полемика по этому поводу стала
затем предметом научных споров, обусловленных различными
предположениями в области культуры и разрывами в
преемственности поколений.
81
Глава третья
висть, грех, вина, воля, травма, мученичество и
добродетель - все они были частью этих глубин.
Сопровождая возрастание положения зависти
в качестве главного греха, происходил смысловой
сдвиг понятия hamartia (человеческих оплошностей)
к наказуемому греху, основной темы данной книги17.
Для этого потребовалось много веков. Полезную для
наших целей промежуточную станцию можно найти
в письменных трудах IV века н.э. у Евагрия (345-399 гг.
н.э.). Однако та значимость, которую Евагрий
приписывает человеческой ответственности в своей
классификации проблематичных эмоций, значительно
отличается от того, что мы считаем грехом.
Соответственно та мощь, которую он приписывает
человеческой воле в своих трудах, еще не приобрела
полноправного статуса вины/греха.
Евагрий определяет восемь проблематичных
«мыслей» (logismoi): обжорство (gastrimargia); блуд (porneia);
17 Странным образом в легкодоступных книгах,
посвященных описанию греха, отсутствует обращение к эмоциям,
страданию или историческим искажениям. В них также совсем не
упоминается Евагрий (например, Gary Anderson, Sin: a history;
Jacobs, Original Sin: a cultural history; and Paula Fredriksen, Sin;
the early history of an idea). Книга Фредриксен наиболее
интересна и научна, однако автор сосредоточивает внимание на
библейских текстах, а не на смыслах или переживаниях греха.
В подзаголовке к этой книге, она называет её «ранней
историей одной идеи». Однако фех является много большим, чем
просто идеей.
82
О сатане, зависти и отверженных
сребролюбие (philarguria); уныние (lupe); гнев (orge);
равнодушие (akedià); тщеславие (kenodoxia); гордыню
(huperephania). Им предстояло стать семью смертными
грехами. С предположительным включением в себя
завистью сребролюбия18. Отметим, что Евагрий
называет их «мыслями», а не «грехами». Грех
подразумевает вину, тогда как Евагрий замечает: «Не в нашей
власти определять, тревожат ли нас эти мысли,
однако от нас зависит, овладеют ли они нами или нет,
и возбудят ли они или нет наши страсти»19.
Согласно Евагрию, искушения приходят в
предсказуемых формах с активными влияниями друг на
друга, - такое определение искушений заметно
отличается от наших понятий семи грехов, в которых
каждый грех так или иначе не связан с другими.
Например, обжорство, блуд, уныние и гнев следует
рассматривать не изолированно, а скорее связывать с двумя
фазами. Обжорство и блуд идут в паре со
«сладострастием» (epithumia), сфера плотского желания угрожает
скомпрометировать чистоту сердца. Однако epithumia
не является несомненным «злом», ибо, когда она
управляется должным образом, она может
содействовать таким добродетелям, как воздержание,
отзывчивость и самоконтроль, и, следовательно, может
способствовать укрощению гнева.
18 Harmless and Fitzgerald, «Augustine and the Catechu-
menate».
19 Ibid. P. 508.
83
Глава третья
Вторая динамическая форма включает в себя
уныние и гнев («вспыльчивый» thumos), психическую
энергию, которая может порождать ярость, насилие,
страх и фрустрацию, но также добродетели
храбрости и терпения20. В удивительно современном
(и психоаналитическом) подходе к движущим силам
эмоций, Евагрий в своем труде Praktikos призывает
монахов следить за своими мыслями, за их
интенсивностью, убылью, отслеживать их возрастание и
угасание, отмечать их сложную структуру, длительность
и последовательность, вместе с природой связанных с
ними ассоциаций.
Превращение искушения в грех было, таким
образом, процессом, который происходил в течение
ряда веков, что мы видим на примере трудов Евагрия
в IV веке н.э., который описывает искушение в своем
объяснении связок эмоций и проблематичных
мыслей. Однако потребовались века, прежде чем грехи
были изолированы, им было дано наглядное
представление, и они сделались эмоциями, за которые
индивид считался ответственным и виновным.
Завистник, еретик и отверженный
Так как Сатана был изгнан Богом, он завидует
Адаму и Еве, имеющим то, чего он был лишен. Он
хочет испортить их удовольствие и удовлетворен-
20 Ibid. Р. 504.
84
О сатане, зависти и отверженных
ность. Сатана хочет отомстить и осуществляет свою
месть, используя знание того, чего хотят смертные
люди, и манипулируя ими. Как и змей в
повествовании об Адаме и Еве, Сатана искушает женщин,
выбирая их как склонных к обману, тогда как мужчины
более «рациональны» и поэтому в меньшей степени
покорны телесным вожделениям. Та мощь, которая
косвенным образом приписывается женщинам и
сексуальности, делает их искусительницами,
полагающимися на слабость мужской плоти, и поэтому
серьезными врагами «рациональности».
История ереси в христианской церкви наводит на
мысль о том, что страх обмана, вкупе с ужасом
отвержения и привкусом зависти, наполнял политику
и веру. Когда Жанна д'Арк утверждала, что говорила
с Богом, ее обвинили в том, что она слушала
дьявола. Сходным образом в судах над ведьмами XVI и
XVII веков жестоко расправлялись с теми из них,
которые «лживо» утверждали, что вступали в контакт с
божеством (то есть с теми из них, которые имели
доступ к тем могущественным силам, которые вызывали
у других людей зависть). Если «заблудший» человек
утверждал, что вступал в контакт с божеством, было
легко поверить в то, что такой контакт был
демоническим и поэтому наказуемым. В случае монахинь Лу-
дена XVII века данная ситуация еще более
усугубилась вследствие того, что кардинал Ришелье хотел
усилить свой контроль над большой протестантской
группой населения и использовал «ересь» монахинь
85
Глава третья
из Лудена для демонстрации и усиления своей
власти, показывая на публичном примере риски,
связанные с сохранением протестантских верований и с
неповиновением его власти21. Считая нехристиан
завистниками, приписываемая неверующим зависть
подтверждала уверенность верующих в правильном
выборе Бога, усиливала их чувство сообщества (вместе
с его стенами)22.
Как олицетворение греха, а не еще одного демона,
Сатана осуществляет необходимую функцию
воплощения того, чего следует страшиться, символически
выражая предвещающую беду мощь эмоций,
узаконивая недоверие к телу, укрепляя групповую
идентичность и логически обосновывая гонения в качестве
законной защиты против пришлых и безбожных
неверующих, таким образом вбивая все глубже клин
между силами света и силами тьмы. Вина, стыд и
зависть продолжают влиять на переживания и
определения эмоций. Таким образом, страх
эмоционального переживания, страх зависти, страх секса и телесных
вожделений, боязнь отверженных, страхи по
поводу возможного обмана и верования относительно
греха - все они идут вместе.
21 См., например, De Certeau 1970 [2000] and Kilbome, 2009.
22 Такая опора на (фантазии) о зависти других людей для
обретения собственной идентичности образует тему,
проходящую сквозь всю западную историю зависти.
86
Глава четвертая
БЕЗУМИЕ СЕРДЦА1:
БОГАТСТВО, ЗАВИСТЬ И СТЫД
Беда идет и ускоряет бег:
В почете злато, гибнет человек.
Вельможи то в почете, то в опале,
Цари их создают и создавали;
Голдсмит. Покинутая деревня2
По мере укоренения понятий греха тело стало
местонахождением обмана и демонического искушения,
а воля укрощать тело стала приобретать всё большую
значимость, соответственно произошли изменения в
ценностных представлениях. Как результат,
укрощение тела и приобретение небесной благодати стали
почти одним и тем же. Оба эти стремления вели
к усилению понятий о воле и ее доминировании.
Рассматривание тела как местонахождения сатанин-
1 «Безумие сердца» - выражение, встречающееся в рассказе
Мелвилла «Билли Бадд» [См.: Мелвилл Г. «Билли Бадд, фор-
марсовый матрос» / пер. И. Гуровой // Мелвилл Г. Собр. соч.
Т. 3. Л., 1988. «... было ли данное преступление следствием
мозгового бешенства или безумия сердца» (с. 340). - Прим.
пер.]
2 [Голдсмит О. Покинутая деревня / пер. А. Парина //
Голдсмит О. Избранное. М, 1978. С. 41. - Прим. пер.]
87
Глава четвертая
ского обмана и искушения означало, что тело
следовало укрощать; сходным образом рассматривание
человеческой жизни как смертной и скоропреходящей
несло угрозу силе воли, которая в ответ на это могла
фокусироваться на жизни после смерти. Обе эти
жизни зависели от зависти как главного греха, и обе
фокусировали внимание на подозрении.
Греческий, римский и средиземноморский миры
подчеркивали чувство жизненных сил и вписанность
человека в природу (например, ветра, солнце, горы,
холод, море и небеса - вся мощь природы
воспринималась телесными чувствами). Как указывает
местоположение греческих храмов, часто сами физические
храмы задумывались лишь как средства, используя
которые священная гора или ручей могли получить
подходящее для них обрамление для
соответствующего вызывания священных сил. Однако отправной
точкой была физическая структура, и проявление
священных сил также склонно было восприниматься
наглядным образом (например, в виде грома, земли,
молнии, моря, небес).
Имел место глубинный контраст между
осязаемым, чувственным классическим миром природных
сил и ранним христианским миром, в котором
бросающимся в глаза чувством было чувство того, что мы
являемся пешками в борьбе между неосязаемыми
силами света и тьмы и в котором силы Бога
подчеркивают малую значимость природного мира (потому
что Он создал его). Этот христианский акцент на не-
88
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
видимых, не подлежащих критике и метафизических
свойствах всемогущего Бога явно контрастирует с
физическими проявлениями природной мощи, столь
наполненной жизнью в классическом мире.
Эти христианские ценности глубинным образом
повлияли не только на переживание эмоций и тела,
но также на переживание и функции благоденствия.
Имея всё это в виду, легче понять, почему и каким
образом представление о благоденствии в царстве
небесном стало не только приемлемым, но и
преобладающим, хотя переход от присущей римлянам
добродетели, сладострастия и выставления напоказ
своего богатства был постепенным, неравномерным
и беспорядочным.
Богатство продолжало связываться с
преимуществом, однако само понятие преимущества
требовалось привести в соответствие с неоплатоническими
верованиями и предположениями. Соответственно
земное (телесное) богатство в достаточной степени
стало переводимо в душевное благоденствие. Деньги
отдавались в церковь для того, чтобы зарезервировать
место в раю после смерти, тогда как в земной жизни
нельзя было зарезервировать себе какое-либо
достойное место. Богатство стало переводимо в
благоволение и райскую привилегию, выражая потребность
в гарантии (и подтверждении) жизни в раю,
немыслимой в мире греков и римлян. Обеспечивалось
благоденствие для души, так как для тела его нельзя
было обеспечить.
89
Глава четвертая
До середины IV века н.э. в Риме, общественное
богатство (государственные доходы, получаемые от
взимания налогов внутри империи) щедро тратилось на
публичное почитание богов и на защиту ими
столицы и ее жителей. Защита Рима зависела от
подношений весталкам. Однако такая их роль оспаривалась
христианами, которые настаивали на том, что Бог,
а не весталки, защищают Рим. В конце Римской
империи смысл благоденствия сместился с показа
гражданского богатства (роскошные виллы, мозаики,
купальни, общественные сооружения, памятники,
коллекции) к появлению вкладов в душевное
благоденствие, зарождению индустрии гарантий. Деньги,
жертвуемые в церковь и ее епископам, давали
затем щедрые особые привилегии филантропам
и обеспечивали заботу об их душе в загробной
жизни.
Однако почему богатые люди жертвовали свое
богатство ради чего-то невещественного, такого, как
обещание загробной жизни после их смерти, некоего
рода посмертной долговой расписки? Как могло
обеспечение неземной жизни соперничать с земными
наслаждениями? Частично ответ на этот вопрос, по-
видимому, заключается в отношениях к искушению,
недоверию к телу и к сексуальности как
местоположению сатанинского обмана и к недавно
изобретенным понятиям «души», которые, в свою очередь,
подразумевали изменение представлений о смысле
смерти.
90
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
В то время как греческое понятие psuche было
связано с пробуждением животворной силы, которая
исчезала при умирании (последний вздох означал
конец жизни), христианское понятие души стало тем,
что нуждалось в спасении, при этом утверждалось,
что тело было несущественно. Подлинной жизнью
была жизнь души, а не тела.
Римский идеал даров городу (на его игры,
купальни, арены, водопроводы и памятники) явно
расходился с идеалом давать деньги церкви и «бедным». Отход
от гражданской доблести частично обусловливался
возможностью увеличения запасов солидусов
(золотых монет Римской империи достоинством в 25
динаров), которая позволяла богатым становиться еще
богаче, облагая податное население большими
налогами. В IV веке н.э. аппарат сбора налогов Римской
империи настолько разросся, что богачи могли
обменивать еду (ранее хранившуюся в больших
сооружениях для хранения зерна) на золото. Это повлияло на
переживания по поводу богатства, бедности и
зависти.
Отказ от половой жизни и от богатства, связанных
с искушением, стал средством для демонстрации
укрощения тела и плотских грехов. Человек мог
добровольно отказываться от сексуального
удовлетворения через обет безбрачия или же от богатства,
отдавая его церкви и ее епископам. Люди верили, что
такие их жертвы щедро окупятся на небесах. По мере
того, как зависть и жадность, связанные с богатством,
91
Глава четвертая
подпитывали потребность в разглагольствованиях об
искуплении грехов посредством пожертвований3, всё
больше и больше (добра) денег притекало в церковь.
Пожертвование денег в церковь было главным
способом для богатых представить в выгодном свете свое
богатство, в то же самое время избегая посрамления;
те люди, которые ничем не «жертвовали», могли
войти в Царство Божие с такой же долей вероятности,
с какой верблюд мог пройти сквозь игольные уши4.
Однако существовали неписаные правила
относительно того, как следует приносить дары и что они
означают. Латинское слово verecundia обозначает ту
осторожность, которая требовалась от богача, чтобы
не спровоцировать опасную зависть со стороны
равных ему по положению людей и подозрение со
стороны императоров5. То, что имело значение для таких
лиц, как Августин и Иероним, было не разделением
3 Однако такое «пожертвование» странным образом
обогащало богача. Не только распродажа «всего имущества»
часто означала его медленную распродажу (в течение многих
лет и поколений), но и само пожертвование могло служить
основанием для дальнейшего обогащения.
4 «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф, 19:24).
5 Сами слова «неподобающим образом» передают
напряжение между побуждением к хвастовству ( показному) и
опасностями выхода за пределы справедливых притязаний. Ведя
себя «неподобающим образом», человек рисковал, что его
обвинят в лицемерии.
92
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
между богатыми и бедными, а скорее древней
антитезой между «богачом» и «мудрецом»6. Идеал otium,
созерцательного досуга, склонного способствовать
улучшению разума/духа7, сохранялся в этосе8 богатых
завещателей своего имущества церкви и в этосе
монашеской жизни9. За христианизированным идеалом
otium лежали платоновские идеалы
царя-философа, знание которого рассеивало теневой мир обмана.
Истина требовала созерцательного досуга, а для этого
требовалось богатство. Для Августина имели
значение эмоциональные составляющие богатства, так как
завистливо жадный бедняк был столь же достоин
6 «То, от чего отказывается мудрец, не было богатством
самим по себе. Именно побуждение к обладанию всё
большим богатством характеризовало неблагоразумного богача»
(Brown, 2012. Р. 169).
7 Слегка затрагивая традицию интеллектуализма в
Древнем Риме, мы видим, что Иероним как только мог
противостоял одному из его соперников в накоплении запасов, Руфи-
ну (намного богаче, чем он), относительно «права монахов
быть интеллектуалами, а интеллектуалов - монахами» (Ibid.
Quoted. P. 278).
8 Этос как устойчивый нравственный характер часто
противопоставлялся пафосу как душевному переживанию. -
Прим. пер.
9 Подобно Симмаху, Авсоний мог узаконить свое
богатство, представляя его как унаследованное (дар Божий). Его De
herediolo была «описанием того богатства, обладание которым
позволяется другими людьми без критики (и зависти) в его
адрес за неподобающую жадность» (Ibid. Р. 191).
93
Глава четвертая
осуждения, как и богач10. Этот новый акцент на
эмоции, связанные с богатством, отличал Августина от
других в период бичевания богатства (как у Пелагия)
и способствовал смягчению противоречий,
свойственных отношениям к богатству и его оценке.
Возможно, нет ничего неожиданного в том, что не
только бедняки становились всё более нищими, но и
богачи также всё более «обогащались», порождая
беспрецедентное разделение между верхом и низом,
которое христиане использовали к своей выгоде.
Также наблюдался всё больший разрыв между
различными классами богатых граждан. Как и в наше
время, имело место соперничество между старым
богатством и новым богатством, однако с
непривычной особенностью. Старые богачи осуждали
злодеяния новых богачей для того, чтобы лучше сохранять
10 Эти же самые развития шли вместе с усилением
управляющей власти епископов, чье огромное богатство возрастало
вследствие верований, что богатство было Божьим даром,
которым могли хорошо распоряжаться «знающие» люди, что
несколько напоминает «управляющих богатством» в наши
дни. Однако влияние и богатство епископов возникло в
результате соперничества с духовенством, которое проиграло.
Сама модель этой борьбы была соперничеством между
городским советом и его лидерами, которые управляли Римской
империей. Епископ и его штат стали новыми principles
(принципатами), новыми властными олигархами, в то время как
духовенство заняло место поставленных в тяжелое положение
и вызывающих недовольство городских членов совета.
94
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
свои привилегии и власть. Однако христиане,
напротив, сосредоточили внимание на разделении между
хвастающимся своим богатством «порочным»
богачом11 и «добродетельным» богачом. Соответственно
бедность приобрела другие смыслы. В Галлии в V
веке н.э. внимание сместилось с привычной бедности
обнищавших людей незнатного происхождения к
санкционированной бедности, «святой бедности»
монахов. Их бедность имела важное значение, так как
лишь они одни обладали властью отпускать грехи12.
Однако затем бедность стала приобретать
значимость, потому что могла становиться состязательной,
и такое состязание часто трудно было отличить от
зависти.
Зависть, деньги и несчастье
На протяжении многих веков богачи гордились
тем, что к ним благоволит Бог, поскольку они богатые
люди. Таким образом, разрыв между богачом и
бедняком становился всё более и более глубоким. Такая
11 Для богатых римлян в последний период существования
Римской империи, дома которых были чрезмерно
красочными, была характерна крайне яркая одежда. Вместе с этим
изобилием имели место яростное соревнование и зависть.
12 Важно отметить, что грех, который для Августина делал
всех людей равными, также требовал от всех людей покаяния
для получения отпущения своих грехов.
95
Глава четвертая
система представлений закрепилась (и до сих пор
является таковой). В «Генеалогии морали» Фридрих
Ницше, чьи труды о зависти и власти столь
убедительно обосновали законность власти
безотносительно к ее морали, утверждает, что протестантская этика
сделала бедность провалом, который обусловливался
безбожием, слабостью, завистью, беспомощностью
и неполноценностью13. Власть идет вкупе с богатством
и благоволением Бога, а беспомощность - вкупе
с бедностью и Божьим осуждением. Как результат
социальная ответственность, ценность человеческих
связей и стыда были отброшены в сторону. Более
того, богач мог стыдить бедняков и обвинять их за их
безликость и бедность, за то, что они недостаточно
конкурентоспособны, за их бессилие14.
Тема неравного богатства появляется в Federalist
Papers («Записках федералиста»), в которых Джеймс
Мэдисон в 1787 г. писал о том, что не принимаемой
во внимание целью правительства является защита
«различных и неравных способностей приобретения
собственности»15, - идея, которую разделяли Локк,
13 Ницше описывает стыд, беспомощность и слабость
неимущих как «resentiment» (жажду мести). Немец Ницше
использует это французское слово для обозначения чего-то
такого, что ощущается снова и снова как некая разновидность
эмоционального рефлекса, который ничем нельзя успокоить.
14 За желанием денег скрывается зависть и стыд заставляя
бедных предполагать, что деньги могут решить их проблемы
и скрывать, сколь горестно и униженно они себя чувствуют.
15 Quoted in Buchan. P. 153.
96
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
Смит, Кеймс и Монтескье. В ранних набросках
Декларации независимости США «неотчуждаемыми
правами» были первоначально «жизнь, свобода
и собственность». Однако в окончательной версии
декларации слово «собственность» (основной
источник богатства, как в древности, так и в современном
мире) было заменено (знаменательным образом) на
слово «счастье». Если бы было сохранено слово
«собственность», неравенство между людьми стало бы
намного более очевидным и стало бы намного
труднее скрывать различие между «имущими и
неимущими». Такой сдвиг от «собственности» к «счастью»
переносит внимание к бентамовской цели: поиску
счастья как главной мотивации в человеческом
поведении16. Лишения, бедность и несчастье стали
ответственностью бедняка, так как лишь победители и
богатые люди могут быть «счастливы». За понятием
«поиска счастья», сохраненным в Декларации
независимости США, лежит доктрина, согласно которой
богатство (то есть собственность) гарантирует
избранность Богом, которая культивирует иллюзию о том,
что индивидуальное «счастье» (в форме богатства?) не
только достижимо, но и достойно похвалы, однако
только для «заслуживающих его людей»17.
16 Иеремия Бентам известен своим определением
человеческой мотивации как поиска счастья и избегания боли.
17 В таком изменчивом мире, как отмечал Генри Адаме,
«американец тратит деньги более безрассудным образом, чем
их тратили когда-либо ранее; он тратит их больше на менее
97
Глава четвертая
Здесь снова стыд и зависть перемешаны, так как
состоятельный человек может использовать богатство
как средство для сокрытия стыда по поводу границ
человеческих возможностей и стремиться к еще
большему могуществу и богатству. Однако
благополучие таких людей основывается на иллюзиях
относительно того, что может дать богатство18.
Рассматривая уровни иллюзии мифа о быстром
обогащении Горацио Элждера, мы видим, что они
никак не связаны с жизнью его самого, так как он
никогда не разбогател и фактически умер в нищете.
Скорее этот миф о нем был создан из-за тех
рассказов, которые он писал. Действующими лицами в
рассказах Элждера были мужчины, которые смогли
подняться от абсолютной нищеты к относительному
комфорту. Но он никогда не писал об огромных
богатствах. Несмотря на это, американцы истолковали
его рассказы «о быстром обогащении» в смысле столь
стремительного уровня обогащения, о котором он
значимые цели, чем тратила какая-либо экстравагантная
придворная аристократия; у него нет понимания сравнительных
ценностей, и он не знает, что делать с деньгами, когда их
получает, кроме их использования для получения прибыли или
пустой траты» (Quoted in Buchan. P. 223).
18 Эти движущие силы питали и продолжают подпитывать
тревогу по поводу внешнего вида, которая является
центральной темой данной книги. Зависть разрастается на
«соперничестве» и сравнении - непременных черт капитализма, сколь бы
тщательно это ни скрывалось.
98
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
сам никогда не думал. Те истории, о которых писал
Элждер, выйдя за пределы его контроля или самых
пылких снов, превратились в миф о том, что каждый
человек может стать фантастически богатым,
поднимаясь от нищеты к невообразимому богатству и
поэтому достигая счастья.
Сэмюэл Джонсон (1709-1784) заметил:
Несметных толп просители удачи,
В иллюзиях величья и богатства,
На зов обманчивой Фортуны полагаясь,
Все лезут вверх, а после испаряясь19.
Как символ одновременного удовлетворения и
отчаяния, не обладая собственной ценностью, богатство
стало полным ослеплением, за которым может
скрываться зависть, а тревога по поводу разъединения
может выдавать себя за независимость20. Аристотель
предупреждал: «...и, словно замена потребности, по
общему уговору появилась монета... оттого... что она
19 Lipking, quoted. P. 86.
20 Известно, что образцы богатства поражают такие семьи
и их друзей, подобно Мидасу, для которого всё, к чему он
прикоснется, превращалось в золото, включая его дочь. В
мире соперничества наблюдается пагубная привычка к зависти
как заменителю чувства собственной значимости. Другими
словами, те люди, у которых нет стабильного понятия о
собственной ценности, зависят в её оценке от других людей,
которые им завидуют, и в этом смысле могут зависеть от зависти
других людей.
99
Глава четвертая
существует не по природе, а по установлению (nomoi), в
нашей власти изменить её или вывести из
употребления»21. То, что вызывает зависть (деньги), может
бесследно исчезнуть, хануть в никуда, так как это не более
того, что мы придумали на их счет; это валюта
человеческих желаний, податливая и недолговечная22.
В отличие от очевидных человеческих
потребностей, неудовлетворение которых вызывает страдание,
деньги столь же абстрактны, как наши потребности -
несомненны23. Когда денег «достаточно», они могут
21 «Nicomachean Ethics» 1133а 19-31 [Аристотель. Никома-
хова этика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4., М., 1984. С. 156. -
Прим. пер.]
22 Однако на деньги никогда нельзя положиться. Buchan
замечает: «Чтобы деньги вам служили, вы должны в них
верить; если вы хоть на мгновение в них усомнитесь, они
исчезнут, подобно привидению». Р. 241. То, что, в
действительности, может быть для нас недосягаемо, считается находящимся
под рукой. Таким образом, культивируемая путаница между
деньгами и счастьем продолжает подпитывать неравенство.
23 Кричит богач, хочу еще;
А я, бедняк, и малым рад;
Им мало всё, сколь ни давай,
А мне и с малым хорошо;
Они с добром своим бедны,
А я и в бедности богат;
Они от жадности дрожат,
А я всё людям отдаю;
Они в нужде, а я богат,
Они в тоске, а я живу.
Edward Dyer. Rawlison Poetry
100
Безумие сердца: богатство, зависть и стыд
служить выражением человеческого удовлетворения
и силы; когда их недостаточно, они служат
выражением неудовлетворенности и слабости. Одно и то же
количество денег дарует нам либо мир душе, либо
нескончаемую озабоченность. Так как это не что иное,
как совместно разделяемая фантазия, используемая в
качестве защиты против смертности и границ
человеческих возможностей, богатство одновременно
служит выражением безопасности и ее отсутствия, силы
и беспомощности, пресыщения и нехватки24.
Шекспир напоминает нам:
Что получу, когда добьюсь победы?
Мечту, иль вздох, иль счастья краткий взлет?
Кто этот миг берет в обмен на беды?
Кто вечность за мгновенье отдает?
Кто ради грозди всю лозу встряхнет?
Какой бедняк, чтоб тронуть лишь корону,
Согласен рухнуть, скипетром сраженный?25
24 В комедии нравов Бена Джонсона (1572-1637) «Волыюне,
или Лиса», драме о притворщиках и обмане по поводу
наследства, зависть недвусмысленно связывается с жадностью,
вероломством и деньгами. Многие писатели XIX века
(например, Достоевский, Бальзак, Диккенс, Троллоп, Пруст, Текке-
рей) писали о деньгах, зависги, обмане, жадности, и о
движущих силах стыда.
25 Shakespeare W. The Rape of Lucrèce. [Шекспир У.
Лукреция / пер. Б. Томашевского // Шекспир У. Поли. собр. соч.: в 8 т.
Т. 8. М, 1960. С. 378. - Прим. пер.]
101
Глава пятая
ЗАВИСТЬ И СТЫД
Но суровый, монотонный голос
предостерегал ее снова и снова:
он говорил ей, что, если она
вступит на стезю обмана, жизнь ее
потеряет свою простоту и ясность,
что, отказавшись от
самоотречения, она отдаст себя во власть
соблазнов и ничем не ограниченных
желаний.
Джордж Элиот,
«Мельница на Флоссе»1
Во мраке греха, безграничные желания пробуждают
искушение, а искушение пробуждает страх утраты
контроля (дикие кони). В особенности с XIX века зависть
пробуждает сильное желание обладать тем, что имеет
другой, а не ты, и это желание портит любую
радость, которую может испытывать другой.
Смыслы зависти изменялись в течение столетий.
Разделение между «хорошим» и «плохим»
богатством, по-видимому, было подорвано вместе с увели-
1 Eliot G. The Mill on the Floss. P. 325. [Элиот Дж. Мельница
на Флоссе / пер. с англ. Г. Островской и Л. Поляковой. СПб.,
2014. С. 394-395. - Прим. пер.]
102
Зависть и стыд
чением числа управляющих денежными потоками
менеджеров, банков, и быстрым ростом колоссальных
богатств, и, одновременно с этим, с углублением
пропасти между богачом и бедняком.
Зависть зависит от оценивания, движущей силы,
наличествующей также в представлениях о дурном
глазе. А оценивание связано с переживаниями по
поводу ценности. Когда изменяются ценности, то же
самое происходит и с оценивающими
переживаниями. Одну примечательную формулировку зависти,
пробужденной жестокой неудовлетворенностью
и отчаянием (чувством абсолютной покинутости
и одиночества), можно найти в англо-саксонском
эпосе «Беовульф», написанном где-то между VII и X
веками н.э. В данном эпосе описывается борьба между
героем Беовульфом, сиротой и найденышем, и Грен-
делем, сатанинским монстром, склонным к
разрушению, который живет с матерью в первобытном
болоте.
Известно, что Грендель не знает покоя или
утешения, будучи «изгнан Богом». Приводимый в
бешенство человеческими удовольствиями, он не может
испытывать радость, будучи склонен к
опустошительному уничтожению удобств и жизней тех людей,
которым он завидует. Гренделю «больно» слушать
звуки пира в огромных чертогах для трапез Хеорота.
Он ведет «свою одинокую войну», нанося ущерб
чертогам Хеорота, убивая его обитателей и оставляя
выживших в состоянии ужаса. В рукопашном бою
103
Глава пятая
с Беовульфом Гренделю наносят рану, после чего он
испускает «стон и стенания богоотверженца, / Песнь
предсмертную, вой побежденного, вопль скорбящего
выходца адского»2. Его рана является также
метафорической, проявлением боли. Грендель терзаем
завистью к пирующей, ищущей удовольствия компании
гостей в стенах Хеорота. Для Чосера, последователя
святого Августина, «большим грехом зависти»
является боль по поводу процветания других людей, потому
что она доводит до сознания боль по поводу того,
чего индивид лишен.
«Потерянный рай» Джона Мильтона, написанный
в XVII веке, описывает травматическую зависть
Сатаны при виде того, насколько счастливы Адам и Ева3.
Сатана не только был изгнан Богом, но для него также
мучительно видеть радостных и обнимающих друг
друга Адама и Еву. Они имеют то, чего у него нет.
Мучительный и ненавистный вид!
В объятьях друг у друга, эти двое
2 Beowulf. Р. 53. [Беовульф / пер. В. Тихомирова // Бео-
вульф. Старая Эдда. Песнь о нибелунгах. М., 1975. С. 66. -
Прим. nçp.]
3 Завидуя другому человеку, завистник имплицитно
признает свою несостоятельность, которая, если имеют место
лежащие в основе обиды и травма, становится еще более
травматической. Зависть, таким образом, является неудачной
попыткой защитить себя от беспомощности, и, в качестве
неудачи, может быть постоянно травматической, пробуждая
прошлую травму.
104
Зависть и стыд
Пьют райское блаженство, обретя
Все радости Эдема. Почему
Им - счастья полнота, мне - вечный ад4.
Дезориентированный и одинокий, нелюбимый
Сатана ненавидит то, чего он не может иметь. «Зависть»,
основная боль подозрительного, никому не
доверяющего лишенца, как имплицитно, так и явным
образом, противоположна «любви», награде для
преданного, искренне верного приверженца.
Изменение определений зависти
Зависть понималась различным образом в
историческом и культурном контексте. В ранний
христианский период зависть связывалась с недоверием
и искушением, с искушением как выражением
осуждаемых желаний (грехов). С течением веков наша
западная традиция стала придавать особое значение не
слабости и искушению, а скорее силе и жестокости.
Представляется полезным рассмотреть принятые
на Западе определения зависти для обеспечения
перспективы относительно диапазона отношений к
зависти в разные века и в разных культурах. Для Фрэнсиса
Бэкона (1561-1626) зависть предполагает чувство того,
что другой обладает тем, чего ты сам желаешь, но
чего у тебя нет, что ты чего-то лишен, видя это у другого
4 Milton. Pp. 505-508.
105
Глава пятая
человека (движущие силы стыда и порождающего
стыд сравнения).
«Человек, лишенный достоинств, неизменно
завидует им в других, ибо душа человеческая питается
либо собственным благом, либо чужим несчастьем;
кому не хватает первого, тот будет упиваться вторым;
кто не надеется сравняться с ближним в достоинствах,
старается сквитаться с ним, нанося ущерб его
благополучию»5.
Многие философы последовали его примеру.
Например, Иммануил Кант (1724-1804) пишет о том,
что зависть связана с неблагодарностью и
Schadenfreude (удовольствием от страдания других людей).
Она представляет собой «досаду от того, что мы
видим, как чужое благополучие заслоняет наше
собственное, потому что мы не умеем оценивать наше
благо по его внутреннему достоинству, а делаем эту
оценку наглядной, лишь сравнивая наше благо с
благом других людей»6.
5 Bacon. Essay on Envy [Бэкон Φ. IX. О зависти / пер. с англ.
З.Е. Александровой // Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и
наставления нравственные и политические. М: Изд-во АН
СССР, 1954. С. 58. - Прим. пер.]
6 Quoted Schoeck. P. 204. {Кант И. Метафизика нравов:
в 2 ч. Ч. 2. Метафизические начала учения о добродетели.
Параграф 36. О прямо противоположных человеколюбию
пороках человеконенавистничества // Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4. Ч. 2.
М., 1965. С. 400. - Прим. пер.]
106
Зависть и стыд
Кант добавляет: «...потому что человеколюбие
здесь поставлено как бы на голову и отсутствие
любви низводится до права ненавидеть любящего»7.
Таким образом, зависть искажает и скрывает
истинную ценность, сдвигая фокус сравнения с другими
людьми8. «Восхищение - это счастливая самоотдача,
а зависть - несчастное обретение заново своего Я»9.
Как результат зависть может приводить к серьезной
путанице относительно того, что является ценным,
приводя многих людей к представлению о том, что
то, что представляет ценность, было украдено други-
7 А Шопенгауэр, придерживаясь традиционного
конфликта между завистью (Сатаной) и любовью (Богом), пишет:
«Зависть противостоит состраданию, ибо она проистекает от
противоположной состраданию причины» (Ibid. Р. 206). [Кант И.
Цит. соч. С. 401. - Прим. пер.]
8 Кьеркегор подчеркнуто фокусирует внимание на
уязвимости величия как раз потому, что такая уязвимость скрывает
истинную цену величия, говоря: «Великие люди побеждаются
тривиальными действиями, предпринимаемыми обычными
людьми... как странен... такой способ поведения,
относительно которого можно с полным правом утверждать, что жизнь
завидует великому человеку, с издевкой ему показывая, что он
такой же, как и любой другой, как самый наихудший из
людей, что человеческий элемент требует своих прав»
(Kierkegaard, quoted in Schoeck. P. 208).
9 Kierkegaard Schoeck. Quoted in Schoeck, p. 208.
[Кьеркегор С. Болезнь к смерти / пер. с датского Н.В. Исаевой
и С.А. Исаева // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 313. -
Прим. пер.]
107
Глава пятая
ми людьми, которые держат это у себя и открыто над
вами насмехаются10.
Спустя несколько поколений и с необычайной
прозорливостью Кьеркегор говорит о нивелировании
как об обусловленном завистью процессе,
посредством которого каждый человек подвергается страху
утраты и последующему стыду. Нивелирование
позволяет «всему оставаться нетронутым, но при этом,
обманным путем всё обессмысливая. Вместо того
чтобы при достижении кульминационной точки поднять
восстание, сглаживание различий обессиливает
внутреннюю реальность вещей в напряжении раздумья,
которое позволяет всему оставаться нетронутым и,
однако, переводит всю жизнь в состояние
неопределенности»11.
Нивелирование, продолжает Кьеркегор, «это
молчаливая абстрактная деятельность, которая
избегает какого-либо чувства... нивелирование, это
победа абстракции над людьми... для того, чтобы
нивелирование действительно могло иметь место,
необходимо сначала создать фантом, духом кото-
10 «Иные подметили даже, что завистливый глаз всего
опаснее, когда созерцает свой предмет в час его торжества;
ибо зависть от этого обостряется; к тому же, в эти часы дух
счастливца более всего устремляется наружу и становится,
таким образом, более всего уязвим» (Bacon. Essay on Envy).
[Бэкон Φ. Цит. соч. С. 58. - Прим. пер.]
11 Schoeck., quoted. P. 210.
108
Зависть и стыд
рого будет чудовищная абстракция,
всеобъемлющее нечто, которое является Ничем, миражом -
этот фантом является общественностью...»12. Само
понятие общественности и общественного мнения,
таким образом, способствует манипуляции
вследствие страхов утраты13.
Кьеркегор также имеет в виду, что зависть
сделалась «публичной» вследствие сдвига фокуса внимания
с взаимоотношения (двух живых людей) к
безличному Другому, который обладает тем, чего у тебя нет.
Это еще одно проявление утраты Я, которое, как
писал Кьеркегор, столь легко не замечается. Зависть,
таким образом, неотделима от идентичности. Когда
«общественность» подвергается манипуляции
вследствие страхов утраты, такая манипуляция высасывает
смысл из человеческого существования, скрывает
зависть и неравенство, в то же самое время производя
впечатление, что она определяет ценность. Становясь
недосягаемой для понесших утрату людей, зависть
испаряется, а вместе с ней исчезают ценность и
значимость14.
12 Ibid., quoted. Р. 211.
13 Кьеркегор имеет здесь в виду, что фантазии о внешнем
облике отличают «общественность» от «толпы».
14 В следующих главах я буду обсуждать зависть и
отношения к богатству и манипуляции, в особенности в связи с
племянником Фрейда, Эдди Бернайсом, создателем
американской рекламы и пропаганды.
109
Глава пятая
Schadenfreude
Одним из тех людей, кто крайне значимым
образом повлиял на принятые на Западе определения
зависти в связи с волей к власти, жестокостью и
соответствующим осуждением зависти был Фридрих
Ницше (1844-1900). Как и Кант, Ницше говорит о
«schadenfreude», удовольствии от страдания других
людей, о садистском наслаждении. В «Генеалогии
морали» Ницше замечает:
«Всё это люди злопамятства и жажды мести
(ressentiment), физиологически пострадавшие, люди с
червоточиной, целый трепещущий пласт подземной
мести, неисчерпаемой, ненасытной в своих
проявлениях против счастливых, а также и в маскарадах
мести, и в поводах к мести: когда же, собственно,
пришли бы они к своему последнему, тончайшему,
высшему триумфу мести?»15
Интересно отметить, что Ницше подчеркивает
удовольствие от мести и ее преобладания («целый
трепещущий пласт подземной ненависти»).
В отличие от Кальвина и Лютера, Ницше в
большей степени акцентирует внимание на воле к власти
(Wille zur Macht), чем на свободной воле. Таким обра-
15 Schoeck, quoted. Pp. 216-217. [Ницше Φ. «Генеалогия
морали» / пер. с нем. В.А. Вейнштока. СПб., 2014. С. 163. - Прим.
пер.] Сходные темы можно найти в историях случаев
заболеваний у Фрейда (например, у человека с крысами).
110
Зависть и стыд
зом, зависть как выражение воли к власти является
люто мстительной в желании разрушить счастье
других людей. Х.Л. Менкен высказывает замечание в
таком же духе: «В основе пуританства есть лишь одно
честное побуждение - наказывать человека с особой
склонностью к переживанию счастья - вернуть его к
жалкому уровню "достойных людей", то есть тупых,
трусливых и хронически несчастных людей»16. Здесь
мы видим в динамике, как боль от зависти зажигает
месть, совместно с желанием уничтожить любую
радость, которую она видит у других людей. В случае
Гренделя в «Беовульфе» и Сатаны в
«Потерянном рае», зависть является болезненной, в то время
как в определениях Ницше она предстает
презренной.
Можно увидеть влияние этой традиции в
определении зависти, представленное в монументальной
энциклопедии XIX века The Hastings_Encyclopedia of
Religion and Ethics17.
«Зависть - это эмоция, которая по своей сути
одновременно эгоистична и злобна. Она направлена на
других людей и подразумевает неприязнь к человеку,
который обладает тем, чего сильно домогается или
желает завистник, и желание причинить ему вред.
В основе зависти лежит алчность Я и враждебность.
16 Ibid., quoted. P. 234.
17 The Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics была
издана в 13 томах, которые выходили с 1908 по 1926 г.
111
Глава пятая
Также наличествует осознание завистником своей
неполноценности и раздражение по поводу такого
осознания. Тот человек, который имеет то, что
вызывает мою зависть, воспринимается мной как взявший
надо мною верх, и это меня возмущает.
Следовательно, я радуюсь, если он обнаруживает, что то, чем он
владеет, не доставляет ему полного удовлетворения -
и чем больше его разочарование, тем сильнее моя
радость. Если же то, чем он владеет, влечет за собой
разочарование и боль: это просто уменьшает его
превосходство в моих глазах и содействует
возрастанию моих чувств собственной значимости. Для
завистника характерно переживание
неудовлетворенного желания, указывающее на чувство собственного
бессилия постольку, поскольку он ощущает
нехватку того чувства власти, которое дало бы ему
обладание желанным объектом. Сама зависть -
болезненная эмоция, хотя она связана с переживанием
удовольствия, когда на объект зависти обрушивается
несчастье»18.
Здесь мы видим определение, которое вмещает в
себя многие кратко намеченные нами темы:
одиночество, изоляцию, стыд, бессилие, неудовлетворенность,
чувство собственной неполноценности, нарциссиче-
скую рану, уязвимость, отчаяние и компенсаторное
желание власти в соревновательных/мстительных чув-
18 Вступительная часть статьи «Зависть» в The Hastings
Encyclopedia of Religion and Ethics.
112
Зависть и стыд
ствах. Чем более бессильным ощущает себя
завистник, тем более он стыдится своего бессилия и тем
легче становится для него получать нарциссическое
удовлетворение и чувствовать силу от чувства зависти,
притупляя посредством этого эмпатию и чувство
стыда19.
В этом определении мы видим, насколько тесно
связаны зависть и стыд, сколь переплетено чувство
зависти с постыдным, и то, чему завидуешь, со
стыдом, и сколь тонка черта между чувством
греховности, нежеланности и отверженности и чувством
стыда. Таким образом, побуждаемые стыдом обвинения
со стороны Сверх-Я окрашивают зависть; мы можем
осуждать наши чувства слабости или хрупкости,
завидуя силе и могуществу. Кроме того, осуждения
человеческой уязвимости со стороны Сверх-Я наносят
удар по нашему чувству детского всемогущества,
возникая из фрустрации и стыда по поводу наших
скромных возможностей и неспособности сделать
мир таким, каким нам хотелось бы его видеть.
Есть еще один скрытый смысл этого определения
у Хастингса: что неудовлетворенные эмоции
потенциально греховны, что неудовлетворенность опасна.
Это христианские скрытые смыслы, явно
отсутствующие в Древнем мире, где неудовлетворенность
19 Это другие чувствуют стыд, а не он. Завистник и
вызывающий зависть человек в равной мере пойманы в связанную
друг с другом динамику.
113
Глава пятая
понималась как неотъемлемая часть человеческого
положения в мире20.
Культурный акцент на воле к власти и
превосходстве сильного, по-видимому, повлиял на Чарльза
Дарвина (1809-1882) в его формулировке «выживания
наиболее приспособленных особей». Он
предполагает, что преобладание сильного является частью
обычного порядка вещей и, имплицитно, что слабый
завидует сильному, а сильный глядит на слабых свысока
как на достойных презрения, так как они утратили
способность к соперничеству. Хотя эти
предположения отражают преобладающие культурные ценности,
они также преподносятся как научные. Они
представляются определяющими отношения как в
царстве животных, так и в человеческом мире.
Эволюционистские предположения относительно адаптации и
выживания наиболее приспособленных особей21
служат подтверждением того, кто именно был избран
Богом.
Однако безотносительно к тому, применяются ли
они к природному или человеческому мирам,
дарвинистские предположения являются крайне спорны-
20 Хастингс приводит слова Драйдена:
Зависть, что живет рядом с горем,
Радость и месть разрушенной гордыни.
21 См. превосходную кн.: Jerry Fodor and Massimo Piatelli-
Palmarini. What Darwin Got Wrong. New York: Farrar, Straus
and Giroux, 2011.
114
Зависть и стыд
ми. Они оказались необоснованными и не
имеющими отношения к реальности даже в животном
царстве, так как можно показать, что черты столь многих
животных, которые часто рассматривались как
неадаптивные, способствуют адаптации, тогда как
имеются черты, рассматриваемые дарвинистскими
натуралистами как адаптивные, относительно которых
при более внимательном исследовании можно
показать, что они скорее вредят существованию, нежели
ему способствуют22. Дарвинистские предположения о
«силе» и «приспособленности» содействуют прочно
укоренившимся суждениям, подразумевающим, что
агрессия (и утверждение воли) необходимо является
адаптивной и важной для выживания. Эти
предположения, коренящиеся в христианских
предположениях о божественном предопределении, воле,
политике, мощи и деньгах23, ярко представлены в
работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух
капитализма» и во многих трудах в общественных
науках.
22 Многие авторы (включая психоаналитиков, например
Фрейд, Кляйн, Бион) высказывали предположение о том, что
зависть необходимо связана с агрессией, волей и жадностью,
а агрессия - с теориями психических и биологических
влечений.
23 В действительности, хотя имеются те исследователи,
которые резко отделяют дарвинизм от социал-дарвинизма,
данное отличие не может быть столь полным, как это
предполагают многие из них.
115
Глава пятая
Стыд как «окрас добродетели» исчезает за
понятиями силы, соперничества и доминирования. Когда
безграничные желания подпитываются топливом
потребления и материализма, когда они не реагируют
на стыд, они становятся деструктивными и несущими
угрозу для эмпатии и социальной связи. Не желая
чувствовать себя жалким, униженным и
игнорируемым, индивид завидует тем людям, о которых
другими людьми высказывается более высокое мнение или
которые вызывают большее восхищение.
Зависть и соперничество
Взаимодействие между завистью и стыдом,
каждый из которых зависит от движущих сил
сравнения, множественно и взаимозависимо. В нашей
западной традиции, когда индивидами используется
сравнение для оправдания своего недоверия к
другим людям - либо потому что другой человек имеет
больше, чем они, либо потому что он заставляет их
чувствовать себя незначительными,
испытывающими стыд, неполноценными, и т.д. - они
приписывают эти чувства зависти. Завистники «обвиняют»
других людей в том, что те заставляют их
испытывать стыд и ощущать свое несовершенство, вместо
осознания собственной неполноценности и
недоверия, и лучшего использования такого осознания
для определения собственных ценностей. Затем, из-
116
Зависть и стыд
за столь большой хрупкости их структуры
объяснения, они действительно начинают верить
(посредством магического мышления), что их объяснения
(посмотрите, насколько больше он имеет, чем я,
в то время как для него я...) описывают единственно
возможную реальность данной ситуации. Они
вытачивают зависть из валуна стыда. Это другие люди
посредством сравнения заставляют завистников
чувствовать свою неполноценность. Подобным
образом, завистник может отделываться поверхностным
объяснением своего стыда как болезненного
чувства, вызванного другими людьми, навязанного ему
извне24.
Фрэнсис Бэкон отмечал: «Завистник становится
реально завидующим, лишь когда видит, что он был
обнаружен объектом его зависти; этот факт
обусловливается тем стыдом, который он чувствует в связи с
собственным чувством неполноценности, которое
обнажает раскрытие его зависти»25. Зависть пытается
компенсировать чувства собственного бессилия, стыда
и неполноценности (то есть своей малости),
непропорционально раздувая всё то, чем другой, по-
видимому, обладает.
24 В действительности, завистник говорит: «Я могу
простить тебе всё, кроме того, что ты существуешь и кем ты
являешься; кроме того, что я не таков, как ты; что, в
действительности, я не являюсь тобой» (Schoeck, quoted. P. 222).
25 Schoeck, quoted. P. 142.
117
Глава пятая
Чувства стыда могут затем возрождаться в виде
«уничтожающей зависти»26. Имплицитно имеется
связь между лишенностью и завистью, которая
обусловливается искажением восприятия. В нашей
западной традиции проблема заключается не в
собственной нехватке (вызывающей чувство стыда), а,
скорее, в переживании (искаженного?) избытка у
других людей. Сатана видит, что Адам и Ева имеют то,
чего он лишен; его лишенность увеличивает в его
рассудке значимость того, что они имеют, и чего он
лишен. Его чувства зависти сыплют соль на его
уязвленную гордость и питают желание мести (спирали
стыда-ярости). Чем более исключенным он себя
чувствует, тем больше он ненавидит Адама и Еву.
Однако вместо чувства того, что он утратил ценность в
глазах Бога, Сатана рассматривает Адама и Еву
ненавистными соперничающими с ним детьми одних
родителей, которые украли его право первородства и
законнорожденности. Сходным образом, будучи
изгнан Богом, Грендель завидует людям, пирующим в
чертогах Хеорота.
26 Helmut Shoeck детально развивает эту мысль: «Раз
начался процесс зависти, завистник столь сильно искажает
реальность собственных переживаний в своем воображении, если
не в самом акте восприятия, что у него всегда найдется
причина для зависти» (Ibid. Р. 125).
118
Зависть и стыд
Исчезновение зависти
Заслуживает внимания, что тема зависти выбыла
из рассмотрения социологии примерно со времени
Первой мировой войны27. Почему так случилось,
остается открытым вопросом. Растущий акцент на
соперничестве (выживании наиболее
приспособленных) может скрывать зависть. Также неурядицы
в связи с индустриальной революцией, совместно с
травмой от Первой мировой войны, глубинным
образом повлияли на социальные, политические и
культурные контексты, в которых оценивались
эмоции. Кроме того, имели место громадные изменения
границ (например, распад Австро-Венгерской
империи) вместе с идущими вкупе с ними угрозами
идентичности28. После Версальского договора, к
концу Первой мировой войны, Фрейд писал: «Австро-
Венгрии больше нет. Я не смог бы жить где-либо
в другом месте»29. Вторая мировая война еще более
способствовала очарованию силы и деструкции (на-
27 То, как зависть воспринималась и переживалась в
течение многих веков, как изменялись смыслы зависти, это совсем
другие вопросы.
28 Навязчивые чувства по поводу разломанного мира
выражены, например, в романе Роберта Музиля «Человек без
свойств».
29 Такие реакции ужаса, неверия, дезориентации и травмы,
порожденные Первой мировой войной, могущественным
образом содействовали Второй мировой войне.
119
Глава пятая
пример, бомбы), с которым нам с тех пор
приходится жить.
Кроме того, когда масштаб войны становится
беспрецедентным, и соперничество и триумф
измеряются не с точки зрения римских прототипов (например,
процессий крупных животных, захваченных в плен
врагов или повозок, груженных золотом и
драгоценностями), а, скорее, с точки зрения величины
разрушения (например, в Хиросиме), происходит
громадный сдвиг, одобряющий агрессию и делающий
человеческое страдание чем-то подозрительным.
Говоря более общим образом, индивидуализм и
нарциссизм, связанные с капитализмом, искажают
важное значение взаимоотношений, без которых
нельзя понять зависть и привязанность. Зависть
становится соперничеством, демонстрирующим
выживание наиболее сильных и приспособленных. Затем
общественные науки еще более осложняют картину
зависти, делая индивида не чем иным, как
проявлением измеримых способов поведения,
психологических, социальных, политических и экономических30.
30 «Ненаучное» качество зависти как эмоции не
соответствует экспериментальным моделям социологии (например,
экономики, социологии и психологии). Зависть не
появляется в подсчетах, кроме как, возможно, в качестве одного из
отношений, связанных с чувством удовлетворения или
недовольства потребителя. Подсчеты измеряют скорее способы
поведения, нежели чувства; они фокусируют внимание на
поведениях, «показывающих» то, что, как считается, можно
измерить, подобно удовлетворению потребителя.
120
Зависть и стыд
Культура, вина, стыд и зависть
Социологические подходы к эмоциям требуют
не принимать в расчет религиозные и личные
верования и показывать то, что является «объективным».
Однако на них неизменно влияют культурные
ценности, какая бы конструируемая «объективность» ни
имелась в виду. Можно найти один современный
пример для описания того, как в культурах задей-
ствуются эмоции стыда и вины, используя
которые выносятся суровые оценки и которые связаны
с особым историческим контекстом. Книга Рут
Бенедикт «Хризантема и меч», - исследование японцев как
культуры стыда - была написана, исходя из
американских ценностей, во время и после Второй мировой
войны31.
В книге «Хризантема и меч» (1946) выносится
суждение (осуждающее) о том, что японцы являются
«культурой стыда», мотивированной
представлениями о чести, в то время как США и Запад она
предложила называть «культурами вины» из-за их превос-
31 Рут Бенедикт, ученица Франца Боаса и крупная фигура
на факультете антропологии Колумбийского университета,
ранее написала работу «Паттерны культуры», которая
повлияла не только на гештальтпсихологию, тесты Роршаха и
теории национализма, но также привела к росту тщательного
изучения структуры вначале в лингвистике, а вскоре - к славе
и известности наиболее крупных в структурализме
исследователей, таких как Клод Леви-Стросс.
121
Глава пятая
ходящей мощи и потенциала для разрушения32.
Желая верить в свое превосходство, американцы
склонны опасаться своей разрушительной мощи, в то же
самое время рассматривая внешний мир как несущий
им угрозу. Кроме того, ужас американцев, которые в
ходе сражений противостояли тем людям, чьё
поведение они нашли непостижимым, стал частью
картины. Так как японцев было столь трудно понять, они
могли быть мишенями справедливого гнева.
Американский ужас был привлечен для оправдания
деструктивной ненависти и страха и для легитимации
мести и невообразимой деструкции.
Интересно отметить, что собственная история
Бенедикт играет роль в ее трактовке культурных
ценностей и в ее подходе к рассмотрению культурных
паттернов. Ее отец внезапно умер, когда она была
девочкой, и ей было трудно выносить горе матери.
Она сама явно не горевала, или лишь в самой малой
степени, по поводу смерти отца. Для нее самым
огромным табу в жизни было плакать перед людьми
32 Книга Бенедикт была одной из многих книг,
появившихся вскоре после войны, и пытающихся осмыслить
озадачивающее поведение наших врагов. Она пишет: «Конвенции
относительно способов ведения войны, которые ранее были
приняты странами Запада как факты человеческой природы, явно
не относились к японцам. Это породило большую проблему в
понимании природы врага. Нам пришлось заняться
пониманием их поведения для того, чтобы справиться с этой
проблемой» (Benedict, 1946:1).
122
Зависть и стыд
и показывать выражение боли. Она вспоминала:
«Я не любила мать; я испытывала негодование в связи
с ее культом горя»33.
Таким образом, собственные реакции Бенедикт на
утрату отца окрасили ее трактовку стыда, который
она связывала со слабостью и ранимостью. В
преобладающих нарративах и ценностях того времени
японцы были слабыми, а американцы - сильными;
США победили, а японцы испытали горечь
поражения; эта слабость японцев была обусловлена стыдом
и зависимостью, тогда как наша вина и
индивидуализм позволили нам победить. Проигравшие
испытывают стыд, в то время как победители могут по
праву гордиться своей победой и бояться собственной
деструктивности.
Эти американские и европейские ценности и
способы понимания сохранились и продолжают
оказывать влияние на представления и восприятия стыда
и вины. Небольшая книга Пирса и Сингера «Вина и
стыд» написана в таком же ключе. Социолог (Пирс)
объединился с психоаналитиком (Сингером) для
проведения отличия между стыдом как объектом
социологии и виной как объектом психоанализа,
разделяя вину и стыд. Имели место многочисленные
работы по социокультурным подходам к стыду, вине
и чести, с отдельным описанием каждой из них.
Зависть явно отсутствует в трактовках вины и стыда,
33 Benedict, 1959: 97-112.
123
Глава пятая
хотя, как я надеюсь это прояснить, вся эта троица
неразрывно связана друг с другом и столь же
неотделима от других эмоций34. То, что имеется в виду под
«виной» и «стыдом», печальным образом исчезает,
когда применяется к индивидам; когда же этот смысл
применяется для характеристики культур или
проведения отличия между и среди культур, он становится
эпистемологически подвергаемым сомнению и
крайне неопределенным35.
Культурные ценности влияют на изменение
функций и восприятие эмоций, так как обусловленные
культурой предположения неизбежно окрашивают
34 Заметными исключениями из такого игнорирования
зависти будут две книги: книга Shoeck'a, в которой особое
значение придается краткому описанию способов поведения, а не
чувств (Envy: a theory of social behaviour), и живая, яркая,
написанная хорошим литературным языком книга Envy
Joseph'a Epstein'а.
35 Традиция объединения индивида и культуры таким
образом, что культура является тем же самым ясно выраженным
индивидом, а индивид - культурой в миниатюре, крайне
содействовала кончине так называемой школы «культуры и
личности» в 1950-е и 1960-е годы, вместе с падением интереса
к культурным паттернам и ростом культурного релятивизма.
Хотя возможно изолировать атом или молекулу, невозможно
изолировать эмоцию, так как мы одновременно чувствуем
много эмоций, и присущая нам мощь понимания, вероятно,
не в силах идти в ногу с тем, что мы чувствуем. Как заметил
Кьеркегор, трагедия человечества заключается в том, что мы
живем предвкушением будущего, а думаем задним числом.
124
Зависть и стыд
и придают форму тому, что мы чувствуем, однако нет
адекватного описания того, как работает такой
процесс. К тому же, так как все эмоции взаимодействуют
друг с другом, их крайне трудно описывать36. Сама
классификация эмоций имеет собственную историю.
Эпикур отделял пустые желания (kenai epithumia) от
природных (phuisikai), первые являются
болезненными, а вторые - здоровыми. Христиане типичным
образом оценивали эмоции не в связи с представлением
о здоровье/болезни, а, скорее, в связи с их
связанностью с Богом37. Как мы увидим в следующей главе,
Зигмунд Фрейд придерживался преобладающих
культурных ценностей при выделении вины и
агрессии в своей характеристике эдипова комплекса и при
высказывании предположения о том, что эти эмоции
универсальны, без какого-либо их исторического или
обусловленного культурой изменения. Неизбежным
образом личные особенности жизни Фрейда
повлияли на его подход к эмоциям, как и в случае Рут
Бенедикт и как это необходимо происходит со всеми
людьми.
36 Nussbaum, 1994. Р. 105.
37 Марк Твен однажды заметил, что легче описать тысячу
фактов, чем одну эмоцию.
125
Глава шестая
ОТ ТРАГЕДИИ К ИСТОЛКОВАНИЮ:
ФРЕЙД, ЖУТКОЕ, УЖАС
И ДУРНОЙ ГЛАЗ
Одна заветная наука,
Всего лишь гения заслуга,
Сколь шире творчества обитель,
Сколь узок разум соблазнитель.
Поуп Л.
Эссе о критике
Что касается объективности в общественных
науках, в них оставляется открытым вопрос о том, кто
определяет объективность и как она признается.
Такие суждения необходимым образом зависят от
культурных ценностей, особенностей биографии
и отношений к эмоциям. В русле традиции Ницше
и Шопенгауэра с ее акцентом на воле к власти,
Зигмунд Фрейд поместил бессознательное по ту сторону
добра и зла для придания ему объективного научного
статуса при том условии, что оно может быть
истолковано. При разработке понятия бессознательного и
его истолкования Фрейд придал особое значение
вине, а не стыду; в его определении эдипова
комплекса его повсеместность оставляла мало места для эти-
126
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
ки. В то время как софоклеанская традиция («Эдип-
царь») подчеркивает человеческую беспомощность,
бессилие и границы человеческих возможностей и
является глубоко этической, фрейдовский подход к
истолкованию бессознательного и эдипова комплекса
акцентирует внимание на власти, вине, воле, намерении и
вреде и находится «по ту сторону добра и зла»1.
Подобно Рут Бенедикт, с ее отличием между
культурами стыда и вины, Фрейд опирался на
особенности своей биографии и на культурные ценности его
времени. Открывая незаменимые ресурсы для
обсуждения жизни разума, Фрейд в то же самое время
отстаивал научную, объективную значимость эдипова
комплекса, истолкования бессознательного и
психоаналитического метода. В этой главе я буду
исследовать отношение Фрейда к человеческим чувствам и
слабостям и изучать, как его труды в целом и в
особенности о зависти опираются на ницшеанские
предположения о власти, зависти и вине, которые все
расположены по ту сторону добра и зла. Поступая
таким образом, Фрейд основывался на объективных
понятиях науки, ненужным образом закрывая дверь
софоклеанской трагедии и аристотелевой этики.
Труды Фрейда также опирались на культурно
обусловленное недоверие к эмоциям и телу, придавая осо-
1 «По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии
будущего» - название одного из наиболее известных трудов
Ницше.
127
Глава шестая
бую значимость истолкованию и тому, что доступно
пониманию, а не внутренним переживаниям и
человеческому страданию.
В этом смысле Фрейд явно принадлежит к нашему
современному миру, в котором завершен переход от
hamartia (трагической оплошности) к греху и вине,
страдание и трагедия поставлены в зависимость от
истолкования того, что может быть рационально
понято в иррациональном, и чувства могут
рассматриваться с выгодной позиции «научным образом» без
человеческих ошибок. От страха быть обманутым,
который продолжал испытываться на всем протяжении
западной философии и христианства (например,
у Декарта), нашлась защита в понятиях научной
объективности и истины, на которые полагался Фрейд
в своих теориях бессознательной мотивации.
Для того чтобы лучше показать связи между
Фрейдом и Ницше и культурной очарованностью
Schadenfreude (удовольствием от страдания других
людей), истолкованием и властью, давайте обратимся
к работе Фрейда «Жуткое», в которой Фрейд
определяет слово unheimlich (переводимое с немецкого как
«жуткое») как то, что «остается скрытым, так что
другим об этом или из-за этого непозволительно знать:
это от них хотят скрыть»2. Он добавляет, что это слово
2 Freud, 1919 (SE, vol. XVII), p. 223. [Фрейд 3. Жуткое / пер.
Р.Ф. Доделыдева // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.,
1995. С. 267. - Прим. пер.]
128
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
обозначает чувства неуверенности, «в чем до
некоторой степени не разбираются»3. Фрейд намеренно
использует слово heimlich (уютное, родное) как
также совпадающее со своей противоположностью
(unheimlich)4, - умышленная элизия, в которой то, что
является сокровенным, совпадает с тем, что является
позорным.
Приводя сведения из словаря Якоба и Вильгельма
Гримов 1877 года, Фрейд обращает внимание на
различные смыслы слова heimlich, связывающие то, что
является уютным и родным, с тем, что приходится
держать в секрете. Heimlich обозначает: «место,
свободное от призрачного ... привычное, дружественное,
вызывающее доверие»; это слово также выражает
«понятие 'родного', 'домашнего'; из этого далее
развивается понятие чего-то, скрытого от чужого взгляда,
сокровенного, тайного». Делать что-то heimlich, -
объясняет Фрейд, - значит делать это «тайком». Имеют-
3 Ibid. Р. 221. [Там же. С. 268. - Прим. пер.]
4 В своем намеренном использовании слова heimlich, в
одном из оттенков своего значения, означающего unheimlich,
Фрейд цитирует Шеллинга. [«Итак, heimlich - это слово,
развертывающее свое значение в амбивалентных направлениях,
вплоть до совпадения со своей противоположностью
unheimlich. В некоторых случаях unheimlich разновидность heimlich.
Сопоставим этот еще не вполне объясненный вывод с
определением «жуткого» Шеллингом: «Жуткое, это всё, что должно
было оставаться тайным, сокровенным и выдало себя». Там
же. С. 268. - Прим. пер.]
129
Глава шестая
ся, продолжает он, «heimlich встречи и потаенные
места». Можно глядеть с heimlich удовольствием на
замешательство другого человека»5, - замечание,
которое делает данное понятие близким к
«Schadenfreude», удовольствию от боли другого человека, с
которым мы сталкивались при обсуждении зависти.
Если человек «ведет себя heimlich», - он делает это
тайком, объясняет Фрейд, - «словно надо было что-то
скрывать». Соответственно имеются «heimlich
любовные связи» и «heimlich места», которые, замечает
Фрейд, цитируя словарь Зандерса, «хорошие манеры
обязывают нас скрывать». Он далее упоминает
heimlich место (т.е. уборную), «heimlich искусство»
(колдовство), «heimlich священнодействие»6 и терзания по
поводу heimlich деяний»7. Используя ссылки из Библии
для придания обоснованности своему обсуждению,
Фрейд затрагивает темы потаенности, позорных
телесных потребностей, ягодиц, уборных, сокрытия,
любви и греха, удовольствия от чьего-либо
замешательства, - которые все связаны с движущими силами
стыда/зависти.
5 Ibid. Р. 223.
6 Ibid. Р. 224.
7 Фрейд опирается на христианские позиции и недоверие
к телу при описании того, что следует скрывать и держать
в секрете. Еврейские источники схожим образом выступают в
защиту половой связи лишь в связи с рождением детей, а не
для удовольствия.
130
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Фрейдовские ассоциации относятся к важным
секретам и мощи скрытности (и запретных телесных
функций). Связывая скрытность с разоблачением (как
он это делает со сновидениями), Фрейд также
приводит ссылку на Фараона, который называл Иосифа тем
человеком, которому открываются тайны» (heimlich
советом)8. Отметим воображаемое отождествление
Фрейда с Иосифом, который истолковывает
сновидение Фараона и приобретает громадную власть.
Затем, в дальнейших ассоциациях относительно
heimlich, Фрейд говорит о крайне жутком рассказе
Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек». Песочный
человек, говоря словами Фрейда, это
«такой злой человек, который приходит за детьми,
когда они упрямятся и не хотят идти спать, швыряет
им в глаза пригоршню песку, так что они заливаются
кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок
и относит на луну на прокорм своим детушкам, что
сидят в гнезде, а клювы у них кривые, как у сов, и ими
они выклевывают глаза непослушным деткам»9.
Связывая рассказ Гофмана с heimlich, Фрейд10
соединяет секретность, садизм и doppelgänger (двойст-
8 Ibid. Р. 225. [(Фараон) называет его (Иосифа) тайным
советом. Там же. С. 268. - Прим. пер.]
9 Ibid. Р. 228. [Там же. С. 269. - Прим. пер.]
10 Имплицитный шок и ужасающую значимость идей
Фрейда можно сравнить с публичными проявлениями власти
Шарко в публичных сеансах лечения загипнотизированных
истериков.
131
Глава шестая
венность)11. Темой данного рассказа, говоря словами
Фрейда, является «мотив Песочного человека,
ослепляющего детей»12. Фрейд продолжает обсуждать dop-
pelgänger (двойственность)13, которая, как в историях о
докторе Джекиле и мистере Хайде, или о «Кабинете
профессора Кэлигари»14, является рассказами о
скрытной, ужасающе жестокой двойной личности,
которая скрывается за ее обманчивой внешностью.
В работе Ницше «Так говорил Заратустра», с которой
Фрейд был хорошо знаком, есть сон о ребенке,
несшем зеркало, в котором, когда Заратустра посмотрел
на себя, он увидел не себя, «а рожу дьявола и
язвительную усмешку его». И в противостоянии с
карликом Заратустра сказал: «Я сильнейший из нас двоих;
ты не знаешь самой бездонной мысли моей! Ее
бремени ты не мог бы вынести»15.
11 Имеется очаровательная история представлений о
двойственности на Западе. У пророка Мани на реке Тигр
(Месопотамия) были видения своего двойника, который рассказал ему о
том, сколь отвратительно его тело. Манихейский дуализм
(между царством Тьмы и царством Света) приобрел смысл
расщепления души/тела, который часто тревожил западную мысль.
12 Ibid. Р. 227. [Там же. С. 269. - Прим. пер.]
13 Фрейд замечает: «Двойник стал образом ужаса, подобно
тому как боги после падения их религий становятся
демонами». (Ibid. Р. 236). [Там же. С. 273. - Прим. пер.]
14 См. очаровательную кн.: Krakauer Sigfried. From Caligari
to Hitler.
15 Rudnytsky, quoted. Pp. 250 ff. [Ницше Φ. Так говорил
Заратустра / пер. Ю.А. Антоновского. М., 1999. Ч. 2: Ребенок с
132
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Интересно отметить, что в рассказе Гофмана
присутствует главный герой, Натанаэль, которого
переполняет страх, что компаньон его отца, Коппелиус,
похитит его глаза. Данный рассказ заканчивается,
когда Натанаэль, обезумев от демонического взгляда
Песочного человека, пытается сбросить свою невесту
с башни, а затем сам бросается вниз через перила,
разбиваясь насмерть. Поразительно, что Фрейд, при
объяснении ужаса, возникающего от данного
рассказа, не принимает в расчет важное значение смотрения
и разглядывания, не обращает внимание на стыд
и уязвимость (как и в истории Эдипа).
Однако не один Фрейд был очарован рассказами
ужасов (например, рассказами Э.Т.А. Гофмана).
Подобная очарованность связана с европейскими
традициями готических романов ужасов,
включая немецкий Schauerroman («роман ужасов»)16, с
литературной и культурной традицией, восходящей
зеркалом. С. 91-92; Ч. 3: О призраке и загадке. С. 182. - Прим.
пер.]
16 Галина Кристева замечает: Как «Schauderroman», так и
«Schauerroman» являются правильным написанием. На самом
деле, подлинным заглавием данного немецкого романа
ужасов будет «Schauerroman», а не «Schauderroman» (роман,
вызывающий содрогание). Однако термином, используемым для
аристотелевской трагедии (переводом греческого слова «Pho-
bos»), является слово «Schauder» (дрожь, содрогание),
переводимое иногда также как «Furcht» (ужас).
133
Глава шестая
к XVIII веку17. На фрейдовскую концепцию
готического бессознательного повлияли темы Doppelgänger
17 Начало возрастания интереса к Schauerroman (роману
ужасов) было связано в Германии с такими книгами, как
незаконченный роман Фридриха Шиллера «Духовидец» (1789).
Другие ранние работы включали произведения Кристиана
Генриха Шписса «Петер - маленький человечек» (1793),
«Старик Везде-Нигде» (1792), «Рыцари льва» (1794), «Иоганн Хей-
линг, четвертый и последний владетель земных, воздушных,
огненных и водяных духов» (1798); короткий рассказ Генриха
фон Клейста «Локарнская нищенка» (1797); романтические
повести Людвига Тика «Белокурый Экберт» (1797) и «Руне-
берг» (1804). Ключевыми элементами Schauerroman (романа
ужасов) являются черная магия и секретные общества. Тема
секретных обществ также присутствует в романе Карла Гроссе
«Ужасные тайны» (1791-1794) и в романе Кристиана Аугуста
Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, предводитель
разбойников» (1797). Во время следующих двух десятилетий самым
известным автором готической литературы в Германии был
эрудит Э.Т.А. Гофман, чьи рассказы цитировал Фрейд. На его
роман «Эликсир дьявола» (1817) повлиял роман Мэтью
Льюиса «Монах» (1797), о котором он даже упоминает в своем
произведении. В данном романе также исследуется мотив
doppelgänger (двойника), данный термин придумал другой
немецкий автор (и сторонник Гофмана) Жан Поль в своем
юмористическом романе «Зибенкэз» (1796-1797).
В Англии начало возникновения романов ужасов обычно
связывают с Хорасом Уолполом. Роман Уолпола «Замок
Отранто» (1764) вдохновил на создание таких произведений,
как роман Уильяма Бекфорда «Ватек» (1786) и «Тайны Удоль-
фо» (1794), роман Анны Радклиф «Итальянец» (1796) и Мэтью
Льюиса «Монах» (1717). Готическая традиция просочилась в
134
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
(двойственности) и Schauerroman (романа ужасов)18,
выражающие очарованность оккультным и
шокирующими средневековыми историями: Големом19, Дра-
кулой и одним из любимых персонажей Гитлера -
Кинг Конгом.
Фрейд, Эдип и ужас
В статье «Жуткое», фрейдовский подход к
рассмотрению понятия «дурной глаз» связан с
очарованностью ужасом, странным образом поддерживая
роль веры в общественных науках. Позитивизм
возник вместе с религиозным возрождением в начале
XIX века. Позитивизм - как решимость оставаться
«позитивным» перед лицом отчаяния и самых
мрачных эмоций - вырос из индустриальной революции,
Французской революции и террора - символов ужа-
литературу ужаса в XIX веке, например в роман Мэри Шелли
«Франкенштейн» (1818), в произведения Эдгара Аллана По,
в «Портрет Дориана Грея» (1890) Оскара Уальда и в роман
Брэма Стокера «Дракула» (1897).
18 Официальный биограф и последователь Фрейда Эрнест
Джонс считал, что рассказ Гофмана «Песочный человек» был
квинтэссенцией готического рассказа. Однако в написанной
Джонсом биографии Фрейда нет упоминания о пристрастии
Фрейда к ужасному.
19 [Голем - в еврейских фольклорных преданиях, связанных
с влиянием каббалы, оживляемый магическими средствами
глиняный великан. - Прим. пер.]
135
Глава шестая
сающих переворотов20. Обретя силу из-за страха
перед хаосом, религиозное возрождение XIX века
питало утопические схемы и очарованность социальным
проектированием, которым суждено было оказаться
столь зловещими (например, появление фашизма,
нацизма, сталинизма, двух мировых войн). Хотя
многие биографы Фрейда (например, Питер Гей)
связывали его личность с эпохой Просвещения, Фрейд связан
также с более ранними корнями позитивизма: с
христианским неоплатоническим недоверием к телу; с
картезианским рационализмом, возродившимся в XIX веке
в качестве учения «христианской науки» (первенство
духа над материей); и с непоколебимой решимостью не
поддаваться смятению и непониманию.
Экстраполируя из себя, Фрейд определяет
универсальный «эдипов комплекс», из которого выводит
свои теории влечений и бессознательных конфликтов.
В письме Флиссу от 15 октября 1897 года Фрейд
пишет: «В моем случае я также обнаружил любовь
матери и ревность отца и теперь считаю, что это общий
феномен раннего детства. <... >А если это так, то
громадная сила воздействия царя Эдипа... становится
понятной»21.
20 Смотрите Kilborne, 1992,. The rise of faith in the social
sciences. [См.: Килборн Б. Роль веры в общественных науках / пер.
с англ. В.В. Старовойтова // Килборн Б. Травма, стыд и
страдание. М., 2017. С. 273-308. - Прим. пер.]
21 Quoted in Rudnytsky. 1987. P. 7.
136
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Представляя свои теории об универсальности
эдипова комплекса, Фрейд приписывает всем людям
варварскую, отцеубийственную, инцестную
очарованность кровавым садизмом, который он столь
хотел нейтрализовать в себе (компания страдающих
влюблённых). Неявно присутствующий страх хаоса,
слегка окрашенный сексуальностью22, настойчиво
проявляется в трудах Фрейда, как он ранее
проявлялся в писаниях святого Юстина, для которого миф
о падших ангелах функционирует как главная
этиология греха. Фрейд изображает маленьких детей как
по внешнему виду невинных созданий, однако,
подобно падшим ангелам, как, по своей сути, завист-
22 Браун пишет: «В IV или V веках аскетическая литература
Египта стала вместилищем ярких анекдотов о сексуальном
соблазнении и героическом сексуальном воздержании. В этом
новом монашеском фольклоре внимание резко
сфокусировалось на теле. Женщины представали источником постоянного
искушения, на которое, как ожидалось, постоянно
реагировало мужское тело. Простое поглаживание монахиней ступни
престарелого, больного епископа считалось достаточной
провокацией, чтобы принудить их обоих к немедленному
вступлению во внебрачную связь» (2004, Р. 242). Сходным образом,
Фрейд рассматривал как приятно возбуждающее действие
вытесненной сексуальности у всех истеричек (все они были
женщинами). По сравнению с его последователями, которые
вели себя как дикие кони, героическое избегание Фрейдом
сексуальных искушений имело, таким образом, исторических
предшественников.
137
Глава шестая
ливых, наполненных убийственными желаниями и
сексуальных (сатанинских) созданий. Место зависти
(как heimlich!) в описании Фрейдом истока
цивилизации скрытно соответствует раннему
христианскому мотиву грехопадения в этиологии человеческой
культуры.
В соответствии с преобладающими понятиями
готического бессознательного Doppelgänger (и
Schauerroman) [двойственности и романа ужасов]
фрейдовское бессознательное наполнено запретными
сексуальными чувствами (например, инцеста). Так как они
похоронены в бессознательном, о них нельзя знать
напрямую, но они должны быть дешифрованы через
истолкование. Имплицитным образом Фрейд
утверждает, что страсти сами по себе непознаваемы, берет
телесные чувства и передает их понимание
исключительно в руки бесплотного истолкователя. Он в
большей мере сосредоточивает внимание на действии
репрессивных сил, ведущих к сокрытию наших эмоций,
чем на самих эмоциях. По смыслу, истолкователь
этих репрессивных сил становится более
могущественным и более значимым, чем сами эти скрытые
эмоции.
Потребность Фрейда отбрасывать сильные чувства
как по определению непонятные (бессмысленные?)
до тех пор, пока их не «истолкуют», становится ясно
выраженной в его статье «Жуткое», которая
начинается с размышления о том, что делает эмоции могуще-
138
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
ственными23. Фрейд не задается вопросом о том, что
придает эмоциям их силу, а, скорее, хочет понять, что
делает бессознательное могущественным, как
вытеснение выталкивает мысли из сознания.
Фрейдовский ужас по поводу собственной
очарованности сексуальными желаниями, инцестом и
отцеубийством побуждает его полагаться в
теоретическом плане на вытеснение, которое выдавит их из
сознания; его «бессознательное», таким образом,
сохраняет как неоплатоническое недоверие к телу, так
и чистоту разума. Будучи наследником длительной,
разнообразной и сложной иудейской-христианской-
платонической традиции, Фрейд опирается на
культурные отношения к сексуальности и на
предположения о связи рассудка с телом, которая, в свою
очередь, зависит от взаимоотношений воли и рассудка,
и наоборот. Фрейдовское понятие бессознательного
зависит от предположений относительно
мыслительных возможностей истолкования и тщательно
избегает французского понятия двойного сознания
(означающего как двойное знание, так и двойную совесть),
используемого Жане, Шарко и другими. Фрейдовское
«бессознательное» может становиться лишь
«научным» посредством отбрасывания совести (вместе со
23 Делая это, он исследует границы психоанализа и его
связи с представлениями о душе, что традиционно являлось
областью религии.
139
Глава шестая
связанными с ней осложнениями) из уравнения, так
что остается лишь сознание, которому тогда
противостоит «бес-сознательное». Последствием такого
понятия бессознательного стало расщепление этики на то,
что известно, но не проживается, и на то, что
проживается, но остается неизвестным24. Эхо «жуткого»
двуличия и doppelgängers (двойственностей)25.
В своем описании бессознательного,
психоаналитики непреднамеренно поставили под вопрос
громадность человеческого непонимания. Притязание
Фрейда на то, что он «открыл» бессознательное,
область, находящуюся вне обычного мышления26, вво-
24 Греческий глагол gignosko означает как «знать», так и
«объединяться с другим, совокупляться». Бауэр, Гиндрич и
Дэнкер (A Greek Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature». Pp. 160-162) включают в его смыслы знать
или приходить к знанию и сексуальные отношения.
Представляется, что произошедший сдвиг значений, от Древней
Греции к ранней христианской эре, понижает значимость
взаимоотношений и секса и придает особое значение связям
между пониманием и «истиной».
25 Относительно обсуждения понятия двойного сознания, см.:
Kilborne, 2014. [См. Килборн Б. Травма и бессознательное,
двойное сознание, жуткое и жестокость / пер. с англ. В.В.
Старовойтова // Килборн Б. Травма, стыд и страдание. М, 2017.
С. 150-173.-Прим. пер.]
26 Многие исследователи, включая Элленбергера,
утверждают, что Фрейд был «открывателем» бессознательного.
Смотрите, Ellenberger (1981) The Discovery of the Unconscious:
the history and evolution of dynamic psychiatry. New York: Basic
140
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
дит в заблуждение, так как у древних феков, римлян
и ранних христиан имелись понятия об обширном
мире вне сознания, без которого невозможно
обойтись при размышлении о человеческом страдании и
воображении. Как Августин, так и Плотин полагали,
что некоторая «память» об этом внутреннем мире
обеспечивает контакт с Богом. Для Плотина этот
внутренний мир был обнадеживающим
континуумом: «реальная» самость божественна. Таким
образом, божественное в душе необъятно широко и
сознательно непостижимо. Для Августина «настоящая
глубина внутреннего мира была в такой же большой
степени как источником тревоги, так и источником
силы»27.
Фрейдовское бессознательное, которое отделяет
его от традиции Плотина и Августина, является
мешаниной из культурно обусловленной очарованности
внутренним ужасом и его страхами двойственности,
его потребности помещать телесные функции и
сильные эмоции туда, где он сможет их «понимать»
(то есть на интерпретативной дистанции). При таком
подходе психоаналитическое истолкование может
обнадеживающим образом приравниваться к
«пониманию». Однако парадоксальным образом предпо-
Books. Однако безотносительно к высказываемым
притязаниям, понятие внутренней безбрежности вряд ли было
подлинно фрейдовским.
27 Brown, (1967). Р. 172.
141
Глава шестая
ложения относительно верховенства истолкования
над переживанием подтверждают отвращение и ужас
перед бессознательным.
Фрейд, зависть и дурной глаз
Именно в контексте ужаса, двойственности и
непостижимости (которую он связывает с «суеверием»)
Фрейд вводит тему дурного глаза.
«Одна из самых страшных форм суеверия - страх
перед "дурным глазом" ... Тот, кто владеет чем-то
ценным - пусть даже обветшалым, - опасается
зависти других людей, так как проецирует на них ту
зависть, которую он сам чувствовал бы в ином случае.
Такие побуждения, даже если кто-то решился их
открыто проявить перед другими людьми, объясняются
с помощью мнения, считающего другого способным
достигнуть особой силы зависти, а затем изменить
направление ее действия. Следовательно, опасаются
понести ущерб из-за тайного намерения и в
соответствии с определенными признаками предполагают,
что такое намерение обладает и силой»28.
Фрейд истолковывает дурной глаз как проявление
понятия heimlich, как он его понимает, как суеверную
28 Freud. 1919. Р. 240. [Фрейд 3. Жуткое / пер. Р.Ф. Додельце-
ва // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 275. -
Прим. пер.]
142
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
проекцию завистливой, деструктивной враждебности
на других людей, которые затем кажутся завистливо
враждебными. Другими словами, люди проецируют
на других людей то, чего они страшатся в себе:
секретное намерение причинить вред. Важно, что в этом
тексте Фрейд впервые упоминает «инстинкт смерти».
В конце концов, он перечисляет то, что делает чувства
могущественными не только для всех людей, но также
для него29.
Здесь будет полезно описать в общих чертах
детство Фрейда, так как в его описаниях своего детства
отсутствует столь многое, что непосредственно
касается его представлений о бессознательном и о том,
что делает чувства могущественными. Мать Фрейда,
Амалия, была на двадцать лет моложе мужа, Якоба,
который был занят в семейном бизнесе, связанном
с торговлей шерстью. Амалия была третьей женой
Якоба, на целое поколение его моложе (две его
первые жены умерли). Когда он встретил Амалию, его
сыновья от первого брака были примерно одного
с ней возраста. Первый сын Амалии (Сигизмунд
29 Выделение Фрейдом проецируемой зависти, секретного
садизма, удовольствия от боли других людей, поддерживает
его понятия врожденных влечений и «бессознательного».
Такой подход также дает ему возможность обходить
разделяемые противоречивые культурные ценности, конфликты по
поводу верности, обоснованное сомнение по поводу внешних
угроз и экзистенциальную тревогу. См.: Kilborne, 2012.
143
Глава шестая
Шломо Фрейд) родился во Фрайбуре, Моравии (в
настоящее время Чешская Республика) в 1856 году в
единственной снимаемой комнате, расположенной
над слесарной мастерской30, в которой вся семья жила
до тех пор, пока ему не исполнилось четыре года.
Второй ее сын, Юлиус, умер, когда Зигмунду было
около двух лет, приведя в движение спусковой
механизм пожизненных конфликтов по поводу
соперничества, зависти, агрессии и горя. Сестра Фрейда Анна
(которую он всю жизнь не любил и которая была еще
одной соперницей) родилась, когда ему было два с
половиной года, а за ней, в быстрой
последовательности, родились еще пятеро детей, которые все
нуждались в материнской заботе. Вскоре после рождения
Анны Фрейд лишился своей няни чешки, которая
была поймана за воровством его единокровным
братом Филиппом и посажена в тюрьму. Фрейд никогда
ее больше не увидел. Вскоре после этого бизнес отца
потерпел крах, и он (Якоб) впал в депрессию и стал
недоступен. Семейная конфигурация осталась той
же самой, когда сводные братья Фрейда переехали
в Англию, а Фрейд со своей семьей переехал в бедное
еврейское гетто в Вене. Эта семья испытала еще
больший стыд, когда Иосиф, дядя Фрейда по
отцовской линии, был осужден за подделку денег и
приговорен к десяти годам тюрьмы31.
30 Breger. Р. 9.
31 В «Толковании сновидений» Фрейд приводит цитату из
«Вильгельма Мейстера» Гёте [Ihr fuhrt Leben uns hinein / Ihr
144
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Недоступность Амалии, вкупе с депрессией Якоба,
усилили сосредоточение внимания Фрейда на своих
братьях и сестрах, которые все также являлись
заместителями недоступных родителей. В нижеследующих
строках Фрейда можно усмотреть зависть к своим
братьям и сестрам, на которых перешла забота матери.
«Когда ребенок испытывает недоброжелательство
к нежеланному пришельцу и сопернику, его
неприязнь связана не только с кормлением того грудью, но
и со всеми другими знаками материнской заботы. Он
испытывает чувство, что его свергли с престола,
нанесли ущерб его правам; он испытывает
завистливую ненависть к новому младенцу и печалится по
поводу вероломной матери. <...> Мы редко формируем
правильное представление о силе этих завистливых
импульсов, о цепкости их сохранности, и о мощи их
влияния на последующее развитие. В особенности
тогда, когда эта зависть получает постоянную свежую
подпитку в последующие годы детства, и весь
испытываемый шок повторяется с каждым новым
рождением брата или сестры»32.
lasst den Annen schuldig werden], переведенную слово в слово
Стрейчи: «Ты привел нас к жизни, ты сделал бедняка
виновным». Однако, как замечает Стрейчи, слова «Armen» и
«schuldig» могут также означать соответственно «бедняка»
и «должника». В таком случае данные строки будут в переводе
читаться: «Ты сделал бедняка должником» (Freud, SE, vol. V.
P. 38 footnote).
32 Breger, quoted. P. 14.
145
Глава шестая
Фрейдовское «секретное желание причинить вред»,
по-видимому, следует связывать не только с его
завистью по отношению к своим более младшим братьям
и сестрам, но также как с его готическим понятием
бессознательного, так и с его реакциями на смерть
отца, которые пробудили его ранние, непризнанные,
конфликтные реакции в связи со смертью Юлиуса,
его маленького брата»33.
Фрейду требовалось внести исправления в свое
детство, спрятать постыдные семейные секреты и
33 После смерти отца в 1896 году Фрейд приводит
сновидение одного господина, чей отец недавно умер и которому во
сне приснилось, будто отец снова жив. Фрейд истолковывает
данное сновидение, которое Гринштейн считает его
собственным, как указывающее на желание сына убить отца, так как то,
что сын «знал» (что отец мертв), убило бы его: [Фрейд пишет:
«Одному господину, который ухаживал за отцом во все время
его болезни и тяжело страдал от его смерти, приснилась
некоторое время спустя следующая бессмыслица: отец снова жив
и говорит с ним, как обыкновенно; но в то же время он все-
таки умер и только не знает. Сновидение это станет
понятным, если слова «он все-таки умер» дополнить словами:
«вследствие желания грезящего», а после «только не знает»
добавить, «что у грезящего было такое желание». Сын во время
болезни не раз желал отцу смерти, т.е. испытывал благородное
желание, чтобы смерть положила конец мучениям любимого
человека. В скорби по его смерти даже это сострадание дало
пищу бессознательным самоупрекам, точно он своим желанием
действительно сократил дни покойного» (Фрейд 3. Толкование
сновидений. М, 1997. С. 334). - Прим. пер.]
146
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
бедность, скрыть свою травму и представить образ
уверенного в себе героя, открывателя секрета
сновидений, открывателя бессознательного. Поэтому он
изображал себя как не имеющего предшественников.
«Я сделал для себя вывод, что именно я должен
являться истинной причиной всего, что с ним
[психоанализом] связано»34. Настаивание Фрейда на том, что
он и единственно он является источником
психоаналитической мудрости, выражает нарциссическое
34 Например, хотя в своих Кларковских лекциях (1909)
Фрейд с готовностью признавал свой долг перед Брейером, его
щедрым учителем, отдавая Брейеру приоритет в создании
психоанализа и в лечении Анны О. (Берты Паппенгейм)
[В начале своей полемической работы «К истории
психоаналитического движения» Фрейд писал: «Когда в 1909 году на
кафедре одного американского университета я впервые
получил возможность публично говорить о психоанализе... я
заявил, что не я породил психоанализ. Эта заслуга, сказал я,
выпала на долю другого, Йозефа Брейера...» (Фрейд 3. К истории
психоаналитического движения / пер. с нем. Е. Задорожной //
Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992.
С. 149. - Прим. пер.], в 1914 году он отрицал вклады Брейера,
приписывая всю заслугу себе: «У меня есть веские основания
предполагать, что после устранения всех симптомов Брейер
должен был по новым признакам обнаружить сексуальные
мотивы этого переноса, но он не осознал единой природы
этого неожиданного явления и, как бы
пораженный «злополучным исходом», прервал на этом месте
изучение» (Quoted Breger, 2009. P. 41). [Фрейд 3. Там же. С. 150,153. -
Прим. пер.]
147
Глава шестая
предположение, что он ни в ком не нуждается для
понимания мира: он может это делать в гордом
одиночестве, тогда как подобная самоуверенность
скрывает под собой его уязвимость35.
Поэтому неудивительно, что взаимоотношение
Фрейда со своей матерью, Амалией, было серьезно
нарушено. Амалия была одновременно недоступной
(из-за последовательного рождения ею детей и ее
депрессии) и навязчиво нарциссической,
эгоцентричной, своенравной и нечувствительной к чувствам
других людей. Фрейд избежал присутствия на похоронах
матери, послав вместо себя свою дочь Анну. О
похоронах матери он сообщает (с вероятными нарцисси-
ческими/эдипальными обертонами): «Только
отношение к сыну приносит матери неограниченное
удовлетворение; оно вообще является из всех
человеческих отношений самым совершенным и наиболее
свободным от амбивалентности»36. Серьезно кон-
35 Сэмюэл Джонсон пишет о современнике, который всю
его жизнь продолжал идти по его стопам в той же круговой
последовательности; всегда одобряя его прошлое поведение
или, самое малое, его извиняя, забавляя его фантомами
счастья, которые перед ним плясали; и с готовностью
отворачивая глаза от света разума, когда тот мог бы обнаружить эту
иллюзию и показать ему, чего он никогда не хотел видеть, его
реальное положение» (Lipking, quoted. P. 80.)
36 Freud. 1933. P. 133. [Фрейд 3. Тридцать третья лекция.
Женственность / пер. с нем. Г.В. Барышниковой // Фрейд 3. Введение
в психоанализ: лекции. М, 1991. С. 384. - Прим. пер.]
148
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
фликтное взаимоотношение, таким образом, чудесно
идеализируется, и стыд от конфликта улетучивается.
Спустя несколько дней после смерти матери
Фрейд написал Ференци (16 сентября), что смерть
матери37, «это большое событие повлияло на меня
любопытным образом. Никакой боли, никакой
печали... а с этим пришли чувства освобождения,
облегчения, которые, как мне кажется, я могу понять.
Я не мог умереть, пока она была жива, а теперь
могу»38. Хотелось бы знать, какую «возможность уме-
37 Мы можем здесь отметить реактивное образование:
Фрейд не упоминает о своей тревоге по поводу собственного
умирания, вместо этого фокусируясь на «избавлении» от
страданий матери, которая прожила столь долгую жизнь и
имплицитно на своей роли в поддержании ее жизни. Однако,
хотя Фрейд хотел полагать, что мать считала его сердцевиной
своей жизни, он не мог признаться в своей зависимости от нее,
и это было источником секретного стыда.
38 Quoted in Hardin. 1988. P. 80. Три дня спустя после ее
смерти 12 сентября 1930, Фрейд написал Джонсу (15 сентября):
«...на поверхности я могу обнаружить лишь две вещи:
возрастание личной свободы, так как меня всегда страшила мысль о
том, что она может услышать о моей смерти, и, второе,
удовлетворение при мысли о том, что, наконец, она достигла
избавления, право на которое она заработала после такой
длинной жизни. Никакой другой печали, подобной той, которую
испытывает мой брат, который моложе меня на десять лет. Я
не присутствовал на похоронах; Анна снова представляла
меня на них, как и во Франкфурте». (Jones. 1957. Р. 152). [Джонс Э.
Жизнь и творения Зигмунда Фрейда / пер. с англ. В.В. Старо-
149
Глава шестая
реть» имеет здесь в виду Фрейд. Это представляется
еще одной попыткой сделать кошелек из свиного уха,
выставляя тревогу по поводу смерти как
«избавление». Фрейд полагается на свою дочь для защиты себя
от страха умирания и беспомощной зависимости,
посылая ее вместо себя на похороны матери. Вместо
испытывания ужаса в связи с тем, что теперь он может
умереть, лишившись фантазийной защиты, будто
мать считала его сердцевиной своей жизни, он
чувствует «облегчение». Теперь он «может умереть».
Это даже еще более поразительно, когда мы
принимаем во внимание, сколь глубоко нарциссической
была Амалия. Племянница Фрейда описывает Ама-
лию на праздновании семидесятилетия Фрейда, когда
Амалии было девяносто. «Она настаивала, чтобы ей
купили платье и шляпу для прихода... в его дом...
где ее могли почитать и чествовать как мать ее
"золотого Зиги", как она называла Зигмунда». Яблоко от
яблони недалеко падает39.
Фрейдовское понятие бессознательного, подобно
мысленному представлению непостижимого в
предшествующие века, напоминает о необъятном и
динамичном мире бессознательных конфликтующих сил.
Однако делая человеческую деструктивность
проявлением страха перед (грешной?) внутренней деструк-
войтова. Глава 29. Слава и страдание (1926-1933). М., 2018.
С. 410. - Прим. пер.]
39 Hardin, quoted. P. 29.
150
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
тивностью (влечением к смерти), Фрейд обращается
к культурной очарованности ужасом (Schauerroman),
используя истолкование для защиты от собственного
травматического детства и стыда40, от собственных
связанных со смертью тревог и страхов отделения41.
Результатом является приравнивание понятия
непостижимого с внушающим ужас, выхолащивание
понятия бессознательного и лишение его присущих
бессознательному третьего и четвертого измерений,
измерений благоговения и непостижимых сил,
мешающих росту человеческих жизней.
В своей очарованности виной, завистью и властью
причинять вред, Фрейд многое заимствовал от Ниц-
40 Использование Фрейдом кушетки вследствие нежелания,
чтобы на него глазели пациенты, также может
рассматриваться как обусловленное стыдом реактивное образование: как
желание защитить пациентов от собственного
проницательного взгляда и желания причинять им вред. Стыд по поводу
собственной уязвимости становится, таким образом,
желанием защитить пациентов от собственного желания причинять
им вред. Он совершал акт отыгрывания, располагая своих
пациентов на кушетке, в то время как сам он сидел позади них,
что позволяло ему чувствовать себя могущественным, в то же
самое время «проецируя» свои чувства хрупкости на других.
41 Всё это немного похоже на амулеты от дурного глаза.
Индивид магическим образом думает о самом худшем и
наиболее страшном, чтобы воспрепятствовать всему этому
осуществиться в реальности. Не могло ли так быть, что травма
от Первой мировой войны, в комбинации с фрейдовской
травмой раннего детства, побуждала его магически
фокусироваться на секретном намерении причинять вред?
151
Глава шестая
ше в своих предположениях об истине и о том, что
постижимо. Неудивительно, что они были навязчиво
похожи. Оба они были склонны идеализировать,
а затем очернять отцовские фигуры, от которых они
зависели. Ницше идеализировал, а затем очернил
Вагнера42. Отец Ницше умер от болезни мозга, когда
Ницше было пять лет, и его семья жила в
относительной бедности, как и семья Фрейда.
Последовательные смерти отца Ницше, а затем, в том же году,
и его брата могли содействовать отождествлению
Ницше себя с Эдипом, точно так же, как смерти отца
Фрейда и его брата содействовали его страху
«секретного намерения причинить вред» и отождествлению
себя с Эдипом.
Профессиональный успех Фрейда резонирует с
наблюдением Ницше, что для восстановления
собственной значимости ему приходилось трансформировать все
что «было» в «так захочу я»43. Таким образом,
реальность его прошлого могла быть полностью стерта44,
42 См., Nietzsche, Friederich, (trans. Kaufman, Walter), The
Case of Wagner. 1977.
43 [«Как поэт и отгадчик и избавитель от случая, я научил
их быть созидателями будущего и все, что было, - спасти,
созидая. Спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что
«было», пока воля не скажет: «Но так хотела я! Так захочу я»
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Кн. 3: О старых и новых
скрижалях. М, 1999. С. 232). - Прим. пер.]
44 Хотя он много писал о тревоге, собственные тревоги
Фрейда отсутствуют в его описаниях себя. Его жена Марта
заметила, что он стал принимать кокаин, потому что тот ослаб-
152
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
заменена тем, какой он хотел бы ее видеть45. Когда
россиянка фрау Лу Андреас Саломе впервые увидела
Ницше, она поразилась его импозантной манере
поведения, «скрывающейся под маской и личиной... его
внутренней жизнью, которая почти никогда не
раскрывает себя». И когда фрау Лу захотела поговорить об их
сексуальной связи, Ницше возразил: «Я люблю
сокрытие в жизни»46. Напомним, что фрау Лу была также
любовницей Райнера Марии Рильке, а также анализан-
дом и доверенным лицом Фрейда и членом его
Венского кружка, что ею восхищался Абрахам и она была
приятельницей Адлера. Она упоминала о
«пожизненном дуэте» Фрейда с Ницше, в котором они оба были
очарованы фантазиями о сверхчеловеке и
сравнениями господина/раба. Действительно, у Фрейда и
Ницше много общего. Она это знала.
лял его тревогу и депрессию. Его привычка курения сигар (он
выкуривал 20 сигар в день с 1880-х до своей смерти) также
свидетельствует о движущих силах этой пагубной привычки,
которая порождается неспособностью справляться с чувствами
зависимости.
45 Такие пропуски и трансформации травматического
детства, отрицание хрупкости, зависимости, травмы,
беспомощности и смерти усиливают секретную агрессию и садизм.
Фрейд никогда не упоминает своего полного имени, Сигиз-
мунд Шломо Фрейд, сократив Сигизмунд до Зигмунд,
и целиком опуская Шломо.
46 В 1882 Лу Андреас Саломе предложила Ницше, что для
философов было бы полезно соотносить свои философии с
«личной биографией их авторов» (Quoted Rudnytsky. P. 211).
153
Глава шестая
Поразительно, что, подобно Фрейду и Ницше,
Рихард Вагнер, которым Ницше вначале восхищался,
а затем стал его ненавидеть, страдал от важных утрат
в детстве и рос в бедности. Будучи рожден в простой
семье в Лейпциге в еврейском квартале, Вагнер был
девятым ребенком Карла Фридриха Вагнера, клерка
в полицейской службе Лейпцига; его жена, Джоанна
Розина, была дочерью пекаря. Карл умер от тифа
спустя шесть месяцев после рождения Рихарда,
и впоследствии его мать и ее семья переехали в
Дрезден, вместе с ее любовником, Вильямом Гейером.
До 14 лет Вагнер полагал, что его полное имя -
Вильгельм Рихард Гейер и что Гейер был его
биологическим отцом. Так что здесь мы также обнаруживаем
семейные движущие силы, подкрепляющие темы
двойственности, стыда и путаницы с идентичностью.
Для всех трех из них (Фрейда, Ницше и Вагнера)
власть, зависть и жестокость выросли из потребности
компенсации стыда и травмы в ранний период
жизни. И, несомненно, такие монументальные усилия по
компенсации имели значительный резонанс как в то
время, так и в последующих поколениях.
Культурные содействия избеганию уязвимости,
громадные сдвиги в смыслах трагедии и страдания,
нарциссическая очарованность doppelganger
(двойственностью), шоковая значимость готических,
внушающих ужас романов и вселяющий ужас другой - все
они скрывались за понятием эдипова комплекса, как и
личная история Фрейда. Из пепла стыда и страдания,
154
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
из хлама детской травмы у Фрейда, подобно Гофману,
Шопенгауэру, Вагнеру и Ницше, зародилась
потребность в создании мысленных образов и сокрытий для
защиты себя от чувств неполноценности, путаницы
идентичности, зависти, стыда и беспомощности.
При рассмотрении с этой перспективы Фрейд в
своем произведении «Недовольство культурой»
использует зависть (и имплицитно сказание о Каине и
Авеле), совместно с Schauerroman (романом ужасов),
для подтверждения своих предположений об агрессии
и садизме. В нем древний человек предстает как
побуждаемый хаотическим нарциссизмом и
необузданными сладострастными желаниями и, во фрейдовском
сплаве онтогенеза и филогенеза, даже младенцу
приписываются грешные и демонические (убийственные,
завистливые, сладострастные) качества. В работе
«Будущее одной иллюзии» Фрейд пишет:
«Когда культура выставила требование не убивать
соседа, которого ты ненавидишь, который стоит на
твоем пути и имуществу которого ты завидуешь, то
это было сделано явно в интересах человеческого
общежития, на иных условиях невозможного. В самом
деле, убийца навлек бы на себя месть близких убитого
и глухую зависть остальных, ощущающих не менее
сильную внутреннюю наклонность к подобному
насильственному деянию»47.
47 Freud. 1927. Р. 40. [Фрейд 3. Будущее одной иллюзии /
пер. с нем. В.В. Бибихина // Фрейд 3. Психоанализ. Религия.
Культура. М, 1992. С. 50. - Прим. пер.]
155
Глава шестая
Убийственные желания, таким образом, населяют
бессознательное, так как убийство и насилие
приводят в действие у всех людей спусковой механизм
«глухой зависти остальных, ощущающих не менее
сильную внутреннюю наклонность к подобному
насильственному деянию». При рассмотрении того,
что делает чувства могущественными, Фрейд
обращается к Schauerroman (роману ужасов), к скрытому
желанию причинять вред и к потребности культуры
сдерживать и укрощать чувства, которые, если они
будут предоставлены самим себе, будут приводить
к гибели (например, Ипполита).
Притаившись неподалеку на заднем плане статьи
Фрейда «Жуткое», находятся секретное желание
причинять вред и культурная очарованность Schauerroman.
В их смеси также находится его страх невежества
и смерти. То понятие бессознательных процессов,
которое возникает из этого текста, является таковым,
в котором интерпретативное «знание»
бессознательного роднит Фрейда с платоническими
предположениями о бедах невежества, уводя его в сторону от
положительных сторон непостижимого и
благоговения48.
48 Фрейд определенно не применил бы термин «суеверие»
к тактическим приемам его племянника Эдди Бернайса, как
он это сделал при введении темы дурного глаза.
156
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Инцест, структура и сновидения
Поглощенность инцестным табу, подразумеваемая
во фрейдовском эдиповом комплексе, по-видимому,
близка к иудео-христианским понятиям греха49 и
соответствующему недоверию к «плоти», сексу и телу
(сильным эмоциям). К таким представлениям следует
добавить тот ужас, с которым в Библии описывался
«примитивный промискуитет», видение ужасного
инцестного хаоса, который как в Европе, так и в США
содействовал акцентированию внимания на кровном
родстве и структуре в антропологии.
Антропологи искали принципы, посредством
которых сексуальные отношения могли быть поняты
для их управления и контроля. Будучи явным
ответвлением позитивизма, антропология в конце XIX и на
протяжении XX века перенесла внимание с изучения
восприятия и чувств к фокусированию внимания на
кровном родстве и структуре. Это означало сдвиг
49 Интересно сравнить эволюционные теории Мефодия III-
IV веков с теориями Фрейда и с антропологическими
взглядами относительно сексуальности. Мефодий считал, что
человеческая история показывала медленное, однако определенно
выраженное укрощение человеческой сексуальности, которая
начиналась с примитивного промискуитета и
прогрессировала к полигамии, а от нее к «неиспорченной стабильности
состояния невинности. Это было видение человечества, тихо
переходящего к успокоению, его резвая юность уже давно в
прошлом, "все страсти улеглись"» (Brown, 1988. Р. 185).
157
Глава шестая
с тела к разуму. Экспедиция в Торресов пролив
в 1901 году, возглавляемая ботаником сэром
Вильямом Флауэром, пыталась определить, как
функционируют чувства у туземцев, насколько острым было
их обоняние, осязание, слух, зрение и вкус.
А Франц Боас, антрополог, который по сути
явился создателем американской антропологии, написал
докторскую диссертацию (1881) в Германии по
исследованию цвета морской воды и продолжал писать
о влиянии языка на восприятие звуков50.
Однако впоследствии антропологические труды
стали всё больше фокусироваться на доступных для
понимания структурах. Интересно отметить, что
акцентирование в антропологии внимания, примерно
в течение всего прошлого века, на познавательных
способностях, структуре (Леви-Стросс и др.) и
кровном родстве, аналогично акцентированию внимания
в психологии на крайне тесных связях мышления
с языком и структурой51, - все они испытали влияние
лингвистики и семиологии. Когнитивная наука и
нейронаука привели к усилению этого невыраженно-
50 Franz Boas, (1889). On alternating sounds, American
Anthropologist, 2: 47-54.
51 Подобно семиологии и когнитивной науке, течения в
философии утверждали о возможностях достижения
точности в исследованиях, которые преодолевали путаницу в
головах людей. «Словари подобны часам; худший из них лучше,
чем полное их отсутствие, а от лучшего нельзя ожидать
абсолютной правдивости» (Сэмюэл Джонсон).
158
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
го словами поиска точности в лингвистических/
структурных правилах и принципах, согласно
которым «факты» могут «истолковываться». Ницше
заметил: «Боюсь, что мы не сможем избавиться от Бога,
так как мы всё ещё верим в грамматику».
В «Толковании сновидений» (1900-1901) Фрейд по
сути привил «рациональную» (платоническую),
научную (дарвиновскую/ламарковскую) теорию
психического функционирования на магическо-религиозные
культы Асклепия. В результате мы имеем видимый
парадокс: с одной стороны, Фрейд заявлял о
«научном», «рациональном» статусе для его дисциплины,
в то же самое время обращаясь к громадным
ресурсам в нашем культурном воображении
непостижимого. Имплицитно преподнося себя как часть нашей
древней магической/религиозной (как классической,
так и месопотамской) традиции исцеления, он
отождествлял себя как с Иосифом, который истолковывал
сновидения Фараона52, так и с Асклепием53.
52 В своем письме к Флиссу от 12 июня 1900 года Фрейд
пишет о доме, в котором ему приснилось сновидение об
инъекции Ирме: «Не думаете ли вы, что когда-нибудь на этом
месте будет водружена мраморная доска со следующей
надписью: "Здесь 24 июля 1895 года доктору Зигмунду Фрейду
открылась тайна сновидения"» ((SE), IV. Р. 121 footnote).
Обратите внимание на слово «открылась!!»
53 Однако без истолкования Фрейд ощущал себя во власти
своего внутреннего мира сновидений и бессознательных
фантазий.
159
Глава шестая
Страх деструктивной мощи внутренних процессов
был подхвачен Йитсом, который в стихотворении
Увядание ветвей писал:
Не ветер ветви иссушил, не зимний холод лютый,
Иссохли ветви, услыхав, что видел я во сне.
(Перевод с английского Анны Блейз)
Как неоплатоник/картезианец Фрейд опирается на
предположения об опасностях невежества и суеверия
(которые оба связываются с неконтролируемыми
эмоциями) и на необходимость главенства мудрости
и понимания. Соответственно фрейдовская
формулировка бессознательного отождествляет то, что
внушает ужас, с тем, что непостижимо, исключая
громадную часть мира воображения54. В то время, как мы
далее увидим, как Вико подчеркивает чувство
благоговения перед эмоциями и их верховенство, и
благоговение по поводу интеллектуальных конструктов,
Фрейд акцентирует внимание на ужасе,
рациональности и истолковании.
54 Следуя Платону и Декарту, Фрейд невольно себя
ограничивает. Сравните панегирик Джонсона Поупу, что тот обладал
«активным, амбициозным и авантюрным разумом, всегда
исследующим, всегда честолюбивым; в своих широчайших
исследованиях всё ещё стремящимся к продвижениям, в своих
высочайших взлетах мысли всё ещё стремящимся к еще
большим высотам; всегда воображающим нечто большее, чем
было ему известно, всегда стремящимся к большему, чем он мог
сделать» (Quoted in Lipking. P. 232-233).
160
От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз
Важно отметить, что в корпусе работ Фрейда, как
мы это увидим в более поздней главе о сказке, нет
волшебников, гигантских говорящих голов,
невыполнимых задач, а также царевен-лягушек. И нет
музыки. Хотя Фрейд ссылается на Le Nozze di Figaro, эти
ссылки относятся к содержанию, а не к музыке.
Эмоции молчат, однако можно выслушивать
истолкования. Когда ему было 11 лет, Фрейд запретил своей
сестре Анне играть на фортепьяно, и мать неохотно
согласилась. После этого Анна прекратила свои
фортепианные упражнения. Фрейд убрал из своей жизни
песню.
Сравните со строками из Шекспира:
Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья,
И чувства все угрюмы, как Эреб:
Не верь такому55.
55 Merchant of Venice, V; 1. [Шекспир У. Венецианский
купец / пер. Т. Щепкиной-Куперник // Шекспир У. Поли. собр.
соч.: в 8 т. Т. 3. М., 1958. Акт V, сцена 1. С. 300. - Прим. пер.]
161
Глава седьмая
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПРОПАГАНДА:
ПЛЕМЯННИК ФРЕЙДА
ЭДДИ БЕРНАЙС
Когда Фрейд описывал бессознательные процессы,
он основывался на страхах обмана, хаоса и
сексуальности, идущих из глубины веков. Эдди Бернайс (1891-
1995) присоединился не только к приравниванию
Фрейдом бессознательного к непостижимому, но
также к его понятию внушаемого бессознательным
ужаса. Его фокус внимания, однако, был сосредоточен
на социуме, а не на индивиде. Он непосредственно
связывал бессознательное с силами хаоса: с
общественностью. Его следующим шагом было
утверждение, что на общественность можно оказывать влияние
и её можно контролировать посредством рекламы
и средств массовой коммуникации и что мощь и сила
такого невидимого воздействия и манипуляции
была оправданна и необходима. В его книге
«Пропаганда» (1928) прослеживается такая его позиция,
а высказанные в ней идеи были приняты на
вооружение политиками в США и за рубежом (например,
Сталиным и Гитлером). Подобно Ницше, позиция
Бернайса относительно бессознательного заключалась
в том, что он помещал происходящие в нем процессы
162
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда...
по ту сторону добра и зла в этически нейтральную
зону. Неудивительно, что впоследствии Бернайса
считали prima mobile (главной движущей силой)
общественных отношений в США. Его влияние может
рассматриваться как напрямую связанное с теми
культурными ценностями, опираясь на которые Фрейд
и общественные науки проложили путь к славе
и удаче.
Кем же был Эдди Бернайс? Бабушкой Эдди была
Амалия, мать Фрейда, а его дедушкой - отец Фрейда,
Якоб, который однажды сказал маленькому Фрейду:
«Из тебя ничего не выйдет»!1 Эдди также был сыном
сестры и соперницы Фрейда Анны, которая
эмигрировала в США в 1892 году, спустя год после рождения
Эдди в Вене. В ответ на связанный с семьей стыд Эдди
выдумал себя. Данное измышление привело его к
путанице по поводу своей идентичности, породив
честолюбие, беспринципность, зависть, жадность и
стыд2. Бернайс был «ребенком с аристократическими
1 [«Еще один эпизод относится к его осознанному
воспоминанию о случае (умышленного) мочеиспускания в спальне
родителей в возрасте семи или восьми лет, за которое отец
сурово отчитал его, позволив себе при этом следующее
критическое замечание: "Из тебя ничего не выйдет!"». (Джонс Э.
Жизнь и творения Зигмунда Фрейда / пер. с англ. В.В.
Старовойтова. М, 2018. С. 44). - Прим. пер.]
2 Когда его младшая дочь Энн спросила: «Кто я?», - Эдди
ответил: «Ты можешь выбирать, когда подрастешь». Туе (1998).
Р. 114. Сестра Эдди Доррис описывала его как «человека, ко-
163
Глава седьмая
замашками, который сделал себя специалистом в
убеждении масс»3.
В «Пропаганде» (1928) Бернайс пишет:
«Сознательная и умная манипуляция
сформированными привычками и мнениями масс является
важным элементом в демократическом обществе. Те
люди, которые манипулируют этим невидимым
механизмом общества, образуют невидимое
правительство, которое является подлинно правящей силой
нашей страны. <...> Наши невидимые правители...
дергают за ниточки, которые контролируют
общественное мнение, обуздывают старые социальные
силы и изобретают новые способы связывания и
управления миром. Обычно не осознается, сколь
необходимы эти невидимые правители для правильного
функционирования нашей общественной жизни»4.
Применяя к общественности (вспомните Кьер-
кегора) очарованность Фрейда гипнотизмом и его
представления о непостижимой природе
бессознательного, Бернайс определял «бессознательное»,
позволяющее ему манипулировать, так же как Фрейд
определял бессознательное, позволяющее ему давать
истолкования. Бернайс сфокусировал внимание на
«дергании за ниточки» для управления обществен-
торый придумал себя и понимал, что у каждого другого есть
шанс себя придумать [и стать] тем, кем он хотел бы быть»
(Ibid. Р. 133).
3 Stuart Ewen. 1996. P. 13.
4 Bernays. 1928. P. 9-10.
164
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда...
ностью, совершая манипуляции, которые
общественность не могла видеть и не осознавала. В этом он
следовал Фрейду, Ницше и современным политикам
в расщеплении сознания от осознания.
Фрейд сидел позади своих пациентов, невидимый
ими. Бернайс также полагался на то, что другие не
могли видеть. Он был одним из «невидимых
правителей», ответственных за «правильное
функционирование общественной жизни»5. Для Бернайса,
иррациональные массы нуждались в контроле посредством
пропаганды6, в необходимом обуздании буйной
«общественности» знающей элитой. Это означало
формирование их потребительских поведений
посредством манипуляции их завистью и стыдом7.
Здесь наличествует еще один скрытый смысл.
А именно, что те люди, которые подвергаются
манипуляции, заслуживают этого. Общественность им-
5 Туе. Р. И.
6 Интересно отметить, что Эдди Бернайс начал свою
пропагандистскую/рекламную карьеру в 1919-м, в тот год, когда
Фрейд написал свою статью «Жуткое».
7 В своем подходе он придерживался представлений
социолога правого французского крыла (и современника
Фрейда) Гюстава Лебона, который в 1895 написал в Le psychologie
des foules («Психология народов и масс»): «Одни лишь образы
страшат или привлекают [массы] и становятся мотивами для
действия». И «любой, кто сможет поставить им [массам]
иллюзии, легко становится их господином» (Ewen, 1996, quoted.
P. 142).
165
Глава седьмая
плицитно взывает к «порядку», которого невозможно
достичь без ее руководства теми, кто «дёргает за
ниточки». Знание бессознательного склоняет к
манипуляции как к знаку божественной избранности, в то
время как невежество просит о господстве и
раболепстве. Используя тайную зависть для манипуляции
общественностью посредством создания новых
рынков8, Бернайс представлял себя участником
героической борьбы с хаосом, в которой его прославленный
статус зависел от невежества презренных масс.
В окружении дебатов по поводу природы и функции
гипноза и тщательно избегая обвинения в
«воздействии» на своих пациентов, Фрейд «открыл» темный
континент бессознательного посредством его
истолкования. Через общественные отношения и
манипуляцию средствами массовой коммуникации Бер-.
найс разработал понятие бессознательного для
собственного возвышения посредством дергания за
«невидимые ниточки», о которых общественность не
знала.
Сам Бернайс сосредоточил внимание на
сценической манипуляции всеми чувствами9. Он объясняет:
«Многие мысли и действия человека являются
компенсационными заместителями тех желаний, кото-
8 Бернайс влиял на президентские кампании и
манипулировал страхом коммунизма в политических целях.
9 И снова: «Мы должны стать культом, писать нашу
философию броскими заголовками и продавать наши доводы на
рынке» (Туе, quoted. Р. 144).
166
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда...
рые ему приходилось подавлять... "желаний, в
наличии которых ему стыдно себе признаваться"»10. Бер-
найс описывает массы11 как отчаянно нуждающиеся в
возничем (подобно коням в платоновском диалоге
Фелр). Для него возничий должен оставаться за
сценой, «дергая за ниточки, для осуществления контроля
за общественным разумом»12.
10 Ibid., quoted. P. 166.
11 Тард писал в 1901: «Слово "толпа" устарело; ее
современной формой является нынешняя общественность,
одухотворенная общность при рассеивании индивидов, физически
отделенных друг от друга, чья связь является исключительно
ментальной» (Ewen, quoted, p. 68). Толпа пространственно
ограничена, в то время как общественность «может
беспредельно расширяться, и так как присущая ей особая жизнь
становится более интенсивной по мере ее расширения, то,
несомненно, она является социальной группой будущего»
(Ibid., quoted. P. 70).
12 Война в Персидском заливе «освещалась одной из
крупнейших американских пропагандистских фирм, Hill and
Knowlton, в ходе кампании, заказанной и оплаченной
богатыми кувейтцами, которые были заклятыми врагами Саддама»
(Туе, р. VII). Она велась по модели свержения режима в
Гватемале, тайно руководимой Бернайсом. А на эту кампанию,
в свою очередь, повлияла популяризация Первой мировой
войны. Комитет общественной информации (КОИ),
правительственное подразделение по широкой пропаганде, был
создан Вудро Вильсоном в апреле 1917 года, спустя неделю
после того, как США объявили войну Германии.
«Непосредственной целью КОИ было пропитать всю текстуру
восприятия проповедью войны» (Ewen. Р. 116). Вильсону требовалось
167
Глава седьмая
Бернайс приобрел власть, влияние и богатство
вследствие объединения им представлений о
бессознательном с концепциями пропаганды,
использовавшимися для продажи Первой мировой войны
общественности. Он многому научился от
подразделения КОИ, занятого созданием пропагандистских
фильмов вскоре после вступления США в Первую
мировую войну. КОИ следующим образом объяснял
воздействие фильмов:
«Ибо кино дает нам то, чего не может дать ничто
другое за исключением наркотика. <...> Оно
устраняет время между событиями и показывает нам два
продать войну американцам, которые были склонны
воспринимать её как капиталистическую, начатую богатыми
предпринимателями для защиты своих интересов. Вместо этого
война публично преподносилась как ведущаяся за то, чтобы
«сделать мир безопасным для демократии». При этом
использовались методы, которым суждено было начиная с этого
времени и далее определять общественные отношения и
продажу войн. Джордж Грил (директор КОИ) писал о
«потребности направлять разум масс» (Ewen, quoted, p. Ill), так как
«люди питаются не одним только хлебом; им нужны
поражающие воображение фразы» (Ibid., quoted, p. 112). «Печатное
слово, произнесенное слово, плакаты, телеграф,
радиопередачи, реклама, вывески и любое доступное средство массовой
информации должны использоваться для того, чтобы довести
до сведения граждан справедливость американского дела»
(Ibid. Р. 112). «Каждый человек, занимающийся рекламой
в США, был объявлен сотрудником второй линии обороны
в Америке». (Ibid. Р. 113).
168
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда...
происшествия, в действительности разделенных
часами времени, и заставляет нас рассматривать их как
непосредственно следующих друг за другом. Не
осознавая наличие этого шестого чувства времени,
потому что оно является столь важным фактором наших
повседневных жизней, не ведая о том, что не только
наши глаза, но и наше чувство времени были
подвергнуты оптической иллюзии, мы покидаем кинозал
с удивлением в наших сердцах и с восхищением на
наших губах»13.
Цинический садизм Бернайса начал проявляться в
молодости. Едва закончив колледж, он использовал
свои театральные, киношные и престижные
(голливудские)14 связи для того, чтобы пьеса Юджина Брик-
са Damaged Goods о сифилитике, который заботится
о сифилитическом ребенке (еще одно эхо
Schaueroman), имела громадный успех. Данная пьеса
использовалась Бернайсом для того, чтобы возглавить борьбу
против «похотливого секса в США»15. В связи с этим
Бернайс похвалялся своими связями со своим
знаменитым дядей, с которым он провел лето 1913 года
в Карлсбаде, когда во время одной из их рыбалок
13 В 1931 году, когда Фрейду было 75 лет, его племянник
Эдди Бернайс справлял свой день рождения в Нью-Йорке
в Риц-Карлтоне, на котором присутствовали A.A. Брилл,
Теодор Драйзер и Кларенс Дэрроу. Фрейд отказался приехать.
14 Ε wen, quoted. P. 114.
15 Туе. P. 6.
169
Глава седьмая
Фрейд заметил: «Эти гольцы плавают в порядке своей
весомости»16.
Бернайс применил понятие бессознательного для
растущего рынка рекламы и общественных
отношений. Для продажи сигарет женщинам, которые в то
время не курили, Бернайс попросил Артура Мюррея
подтвердить, что «современные танцовщицы, когда
их тянет к чрезмерной выпивке или к перееданию,
выкуривают сигарету»17. И заручился поддержкой
психоаналитика A.A. Брилла (переводчика
«Толкования сновидений» Фрейда и основателя
Нью-Йоркского психоаналитического общества в 1911), который
публично повторял, что «сигареты, которые
отождествляются с мужчинами, становятся факелами
свободы»18. Список клиентуры Бернайса, которой он
оказывал профессиональную помощь, в диапазоне от
драматургического мастерства до «организации
производства», включал в себя: General Electric, General
Motors, Нью-Йоркскую филармонию, Юджина
О'Нила, Джорджия О'Киффе, CBS, NBS,
Cosmopolitan, Ladies' Home Journal, Time, Mutual Life, Philco
Radio, US Radium, Proctor and Gamble19. В этих попытках
16 Туе. P. 9.
17 Ibid. P. 25.
18 Ibid. P. 28.
19 Ibid. Pp. 55-56. Содействуя производству грузовиков
Мака после Второй мировой войны, Бернайс, понимая, что
широкое изменение в общественном мнении зависело от по-
170
Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда...
Бернайс был побуждаем беспринципной
решимостью «помогать установлению порядка из хаоса»20.
Владимир Путин недавно заметил: «Суть
консерватизма заключается не в том, что он мешает движению
вперед и вверх, а в том, что он препятствует
движению назад и вниз, в хаотический мрак и возврат к
примитивному состоянию»21.
стройки железной дороги, убедил конгресс построить систему
широких автострад между штатами, для выведения железных
дорог из бизнеса, чтобы у грузовых перевозок не было
конкурентов (Р. 57).
20 Эдди в детстве боялся отца. «В течение дня мать была
в центре ведения всех домашних дел, однако вечерами и в
праздники мой отец руководил всем и всеми, пугая всех нас
своим непредсказуемым темпераментом. Моё самое раннее
воспоминание о нём связано с образом грузного мужчины,
уходящего из дома каждый будний день и субботним утром
в место, называемое "деловой частью города", для заработка»
(Ewen, quoted. P. 35) «Запахи при готовке пищи были сущим
проклятием. Он нюхал воздух подобно льву, когда входил
в вестибюль дома вечером каждого дня. Если кто-либо
забывал закрыть кухонный лифт и запахи из кухни просачивались
по всему дому, он имел обыкновение громко и яростно
кричать: "Откройте окна!" Мать опрометью бежала к окнам и
открывала их настежь, невзирая на погоду». (Ibid. Р. 116).
21 Owen Mathews, The Spectator, dated 22 February 2014.
171
Глава восьмая
МЕЛАНИ КЛЯЙН,
ЖЕСТОКОСТЬ, ЗАВИСТЬ И СТЫД
Единственный способ для яйца снести
другое яйцо - это стать курицей.
Батлер Сэмюэл.
Жизнь и привычка (1877)
В третьей из следующих друг за другом глав о
взаимосвязи между культурными ценностями,
особенностями личной биографии и профессиональным
успехом я сосредоточиваю внимание на
психоаналитике Мелани Кляйн, известной своим явно
выраженным акцентом на зависти. Подобно многим
психоаналитикам, Кляйн придерживалась точки зрения
Фрейда, полагая, что бессознательное наполнено
жестокостью и тайным желанием причинять вред,
воспринимая зависть как schadenfreude (удовольствие от
страдания других людей)1. Придерживаясь взглядов
Кляйн, выраженных в ее книге «Зависть и
благодарность», большинство кляйнианцев считают зависть
1 Bott-Spillius (1993, р. 1201) упоминает в этой связи статью
Фрейда «Жуткое».
172
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
«основой их теории и клинического подхода»2. Кляйн
придерживается взглядов Фрейда, сцепляя зависть,
секс, агрессию и инстинкт смерти, а ее аналитик Карл
Абрахам - связывая садистскую зависть с самыми
ранними стадиями развития3.
Поразительно, что психоанализ в Англии
выделялся рассмотрением проблемы зависти и
ожесточенным соперничеством между двумя основными
женскими фигурами в европейском психоанализе,
еврейками, ни для одной из которых английский
не был родным языком: Анной Фрейд4, дочерью
Зигмунда Фрейда (и двоюродной сестрой Эдди
Бернайса), и Мелани Кляйн5. Каждая полагала,
2 Karl Abraham, 1920,1921.
3 «Я считаю, - пишет она, - что всякая зависть - это орально-
садистское выражение деструктивных импульсов,
действующих с начала жизни, и что она имеет конституциональную
основу» (Klein. Р. 176). [Кляйн Мелани. «Зависть и
благодарность» / пер. с англ. А.Ф. Ускова. СПб., 1997. С. 12. - Прим. пер.]
4 Анна Фрейд была последним ребенком Фрейда,
родившимся в 1895 году. Она была названа в честь соперничающей
с Фрейдом сестры и матери Эдди Бернайса. Она, несомненно,
страдала от зависти. Ее отец (Зигмунд Фрейд) оказывал явное
предпочтение ее сестре Софии, его любимице. Хотя с очень
раннего возраста он анализировал свою дочь Анну, это не
помогло ей стать его любимицей.
5 Они обе страдали от бурных, несчастливых
взаимоотношений со своими матерями. Анна даже не закончила
обучение в гимназии и никогда не училась в университете Gros-
skurth. P. 163. Как отмечает Гросскурт, «и Анна Фрейд, и
Мелани Кляйн осознавали, что они были нежеланными детьми,
173
Глава восьмая
что судьба психоанализа связана лишь с ней
одной6.
Мелани Кляйн развила основанную на стыде
зависть в начальный период своей жизни7. Отец Кляйн,
Морис Ризес, был родом из «непреклонно
ортодоксальной семьи», о дате и месте рождения которого
Кляйн хранит значимое молчание. Он явно рос где-то
в Польше. Кляйн схожим образом имеет смутное
представление о своей матери, примерно на 24 года
моложе ее отца (разница в возрасте, мало чем
отличающаяся от разницы в возрасте родителей Фрейда).
Ее матери было дано имя Либусса в честь
мифологической основательницы Праги8.
чьи отцы оказывали предпочтение их более старшим
сестрам....» (Ibid. Р. 322).
6 Соперничество между ними двумя является
легендарным. Во время бомбежки Лондона в 1943 велись жаркие
дебаты по поводу афессии и ненависти на собрании Британского
общества. Кляйнианцев и поддерживающих Анну Фрейд
фрейдистов столь переполняли злобные аргументы, что в их
спор вмешался Винникотт: «Хочу вам напомнить, что сейчас
продолжается воздушный налет». Джон Боулби полагал, что
Анна Фрейд и Мелани Кляйн были зеркальными
отражениями друг друга, «упрямыми женщинами, которые
отказывались открыть свой ум взглядам других людей». (Ibid. Р. 325).
7 Жизнь Мелани Кляйн содержала паттерн унижений,
однако миру она показывала личину безмятежного
безразличия». (Ibid. Р. 386).
8 Гросскурт замечает, что в XIX веке легендарная Либусса
стала символом чешской национальной идентичности. Тем
более удивительно, что Мелани Кляйн ничего не знает о том,
откуда мать родом. (Ibid. Р. 6).
174
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
Благосостояние семьи Кляйн серьезно ухудшилось,
когда Мелани было пять лет. Та нищета, в которой
росла Кляйн, оставалась постыдной темой, о которой редко
упоминается. И «в своих воспоминаниях она не
использует ни одно из своих понятий для содействия
пониманию себя в детском возрасте»9, удаляя из своей
биографии любое свидетельство стыда, беспомощности и
унижения, горьких стычек со своей матерью Либуссой,
и придумывая для настоящего времени свой образ,
явно отличающийся от того, который можно составить из
ее переписки. Кляйн целиком опускает упоминание о
своей всё более тяжелой депрессии между 1901 и 191210.
Гросскурт поясняет, что её «семья была снедаема
чувствами вины, зависти и время от времени взрывными
чувствами ярости с примесью сильных инцестных
обертонов»11. Говоря о последних днях ее матери, Гросскурт
замечает, что их описание в «Автобиографии» Кляйн
«столь не соответствует стилю ее командной,
прозаической, присущей стилю мелкой буржуазии
корреспонденции, что возникает вопрос, не была ли трогательная
сцена нахождения у постели умирающей матери
придуманной компенсацией со стороны Кляйн»12.
Многочисленны исправления биографии Кляйн13.
Несмотря на теории младенческой зависти и расщепле-
9 Ibid. Р. 10.
10 Ibid. Р. 66.
11 Ibid. Р. 20.
12 Ibid. Р. 65.
13 Например, когда в 1913 Кляйн была помещена в
больницу в связи с инфекцией ее внутреннего уха, вызывающей
175
Глава восьмая
ния, она не упоминает о периоде младенчества ее сына
Эриха, несмотря на то что была его аналитиком и
оттачивала на нем свои взгляды, когда он был младенцем14.
Во время и после своего анализа Эрих не знал, что
другие дети в семье также анализировались матерью15.
Вирджиния Вульф описала Кляйн как «женщину,
обладающую характером и силой, где кое-что скрыто от ее
взора, а кое-что незримо оказывает свое воздействие,
которой присуще некоторое сдерживание, принуждение,
подобное откату: чего-то, несущего угрозу»16.
Видное значение зависти в трудах Кляйн, таким
образом, отражает ее собственную историю жизни и
ее переживания и, подобно Фрейду, ее
поглощенность жестокостью, совместно с потребностью
фантазировать на свой счет17. Кляйн считает, что инстинкт
головокружение, она обратилась к своему врачу, доктору
Джорджу Аберкромби, который признался: «Я просто не
могу иметь дело с этой женщиной». Этот скандал во время ее
пребывания в больнице замалчивался.
14 Мелани Кляйн хранит молчание по поводу каких-либо
деталей ее развода с Артуром Кляйном, дату которого Кляйн
указала как 1923, а ее сын Эрих - как 1926. Это была дата
прибытия Кляйн в Лондон из Берлина.
15 Ibid. Р. 96.
16 Ibid. Р. 237.
17 Например, она пишет Пауле Хайманн (ее анализанду и
коллеге), что ее (Хайманн) деструктивная зависть была
обусловлена «сильным соперничеством со мной и чувством того,
что она могла бы в своей области исследований сравняться со
мной или даже превзойти меня. И она истолковывает сновидение
Хайманн о мокрых трусиках как «пагубное, уретральное
нападение на аналитика в желании "разрушить её [аналитика] менталь-
176
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
смерти порождает тревогу, а тревога проявляет себя
как зависть18. Эго должно бороться именно против
этой первичной (грозящей смертью) тревоги19.
Акцент Кляйн на садистских, завистливых,
преследующих и деструктивных импульсах и фантазиях20
вызвал возражения у Микаэла Балинта (среди
других), который полагал, что Кляйн придает
«чрезмерную значимость роли ненависти, фрустрации и
агрессии у младенца»21.
Преследование, грудь и зависть
В поиске того, что является самым ранним, Кляйн
(вместе с другими психоаналитиками) проводит
крайне спорную аналогию между психоанализом и
ную мощь и превратить ее в дойную корову"». Ibid. Р. 418. Данная
ассоциация Кляйн, в которой она упоминает корову, поднимает
также тему поглощенности грудью и кормлением.
18 Ibid. Р. 41.
19 Как таковая материнская грудь, утверждает она,
образует ядро Эго. (Ibid. Р. 190). «Грудь в своем хорошем аспекте
является прототипом материнской доброты, неистощимого
терпения и щедрости, а также творчества». (Ibid. Р. 201).
[Кляйн Мелани. Цит. соч. С. 17. - Прим. пер.] Тогда
имплицитным образом, Эго зависит от своего первичного объекта:
груди. Фрейд вполне мог выразить свое несогласие с этим
скрытым смыслом, полагая вместо этого, что таким первичным
объектом является фаллос. На месте нынешнего
местоположения Британского психоаналитического общества, которое
когда-то было коровником, на его крыше стоит статуя коровы.
20 Ibid. Р. 41.
21 Quoted in Grosskurth. P. 320.
177
Глава восьмая
археологией. «Психоанализ и археология, -
объясняет Кляйн, - на самом деле идентичны, за
исключением того, что аналитик работает в лучших условиях и
имеет в своем распоряжении больше материала,
поскольку то, с чем он работает, не разрушено, а до сих
пор живо. <.. .> И так же как археолог строит стены
здания по сохранившемуся фундаменту, определяет
количество и расположение колонн по углублениям в полу
и восстанавливает настенную живопись и украшения
по обломкам, так действует и аналитик, когда он делает
свои выводы на основе фрагментов воспоминаний,
ассоциаций и поведения анализируемого»22.
Однако то, что «до сих пор живо», не столь же
бездейственно, как руины, факт, который подрывает
основания проводимого Кляйн сравнения, а также
высвечивает ее неудачные попытки конкретизировать
психические процессы. Основываясь на своих
археологических (?) предположениях о том, что наиболее раннее -
самое глубокое, а самое новое расположено ближе все-
22 Она продолжает: «Оба [археология и психоанализ]
имеют неоспоримое право реконструировать путем дополнения и
комбинирования сохранившихся остатков... Аналитик, как
мы уже сказали, работает в более благоприятных условиях,
чем археолог, поскольку у него в распоряжении есть
материал, которому нет аналога при раскопках, такой как
повторение реакций, исходящих из детства, и всё, что возникает в
связи с этим повторением в переносе» (Ibid. H. 234 ff). [Там же.
С. 15. - Прим. пер.] Данная тенденциозная природа сравнения
Кляйн, к сожалению, слишком часто принималась как
одновременно верная и полезная в клиническом плане.
178
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
го к поверхности23, Кляйн пишет: «Для пациента
становится возможно развить иное отношение к своим
ранним фрустрациям»24. Другими словами, Кляйн считает,
что археологическая и психическая реконструкция
могут быть с пользой для дела помещены рядом.
Кляйн полагает, что младенцы, только что
вышедшие из матки, наполнены обусловленной завистью
деструктивной тревогой преследования25. Эта тревога
23 К тому же, в понятиях реконструкции как в археологии,
так и в психоанализе наличествует не столь скрытый
материализм, как и в самом определении «культуры», используемом
археологами и другими исследователями, для которых
археологические метафоры (зримые напластования, зримые
артефакты) лежат в основе данного понятия. Именно Э.Б. Тай-
лор (1871) ответствен за определения культуры в нашей
англосаксонской традиции. А на него повлияло путешествие в
Центральную Америку, где он исследовал археологические
руины. Для него, по всей видимости, основанием для понятия
культуры была материальная культура.
24 Одним из затруднений, связанных с этой
формулировкой, является предположение Кляйн, что фрустрации могут
быть точно такими же у взрослого, какими они были в
младенчестве, и что пациент развивает «иное отношение» к «тем
же самым» фрустрациям. Кляйн затем связывает свои теории
зависти с инфантильными влечениями, используя
реконструкцию для «доказательства» обоснованности своих теорий
инфантильной агрессии; для Кляйн, самое глубокое и самое
раннее является садистским, агрессивным и нарциссическим.
Если читатель обнаруживает здесь некоторого рода круговое
рассуждение, он может понять причину такой её точки зрения.
25 Из этой теории имплицитно следует, что именно
женщины (вследствие наличия у них грудей) обладают властью
179
Глава восьмая
преследования становится причиной вызванного
завистью расщепления. Возникающая в результате
«параноидно-шизоидная» позиция, в которой хорошие
объекты могут быть сохранены посредством отщепления,
«является предварительным условием для
относительной стабильности младенца»26.
Можно спросить, каким образом расщепление
может способствовать стабильности? У Кляйн на это
готов ответ. Это происходит потому, что «во время
нескольких первых месяцев жизни [младенец]
преимущественно сохраняет хороший объект отдельно
от плохого объекта, и поэтому, коренным образом,
его сохраняет - что также означает, что безопасность
Эго возрастает»27. Всё «хорошее» вызывает зависть, а
всё «плохое» является преследующим. Здесь Кляйн
вводит зависть для прояснения своих понятий
расщепления. «Зависть вносит свой вклад в затруднения
младенца при построении своего хорошего объекта, так как
он чувствует, что удовлетворение, которого он был
лишен, оставлено грудью для себя»28, - такая аргумента-
« порождать» чувства преследования у своих детей и что
мужчины не обладают такой властью. Кляйн имплицитно
подразумевает, что любой источник удовлетворения (прототипом
которого служит грудь) является питательной почвой для
развития жадности и зависти.
26 Grosskurth. Р. 191.
27 Ibid. Р. 191.
28 Ibid. Р. 180. [Там же. С. 18. - Прим. пер.] Кляйн
воспринимает негативный перенос как прямое свидетельство
(врожденной) зависти пациента, его садизма и агрессии, а не как
180
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
ция, как мы видели, вполне совместима с подходами в
XIX веке к проблеме зависти и schadenfreude.
Фрейд, Кляйн и психоаналитики в целом
определяли зависть как проявление внутренних влечений,
агрессии, жестокости и heimlich мыслей и чувств.
Данный акцент был склонен отвлекать внимание авторов
от исследования природной силы зависти как
универсальной эмоции в человеческих
взаимоотношениях, от исследования мощи вызываемых завистью
защит от порождающих стыд душевных ран,
причиненных травматическими переживаниями29.
Зависть, ревность,
вина и эдипальные конфликты
Избегая рассмотрения стыда и беспомощности,
Кляйн усматривает прямую связь между завистью и
виной. «Одним из последствий чрезмерной зависти, -
возможную реакцию на чувства обиды по поводу
бестактности аналитика. Если пациент ведет себя агрессивно или
осуждающе по отношению к аналитику, такая негативная реакция
легко истолковывается Кляйн как выражение зависти.
«Потребность пациента обесценивать аналитическую работу,
которую он воспринимает как помогающую, является
проявлением зависти....» (Ibid. Р. 188). [Там же. С. 23. - Прим. пер.]
29 Походя на невидимое манихейское расщепление между
космическими силами света и тьмы, теории Кляйн
основываются на предположении, что имеется непроходимая пропасть
между хорошими и плохими объектами.
181
Глава восьмая
пишет она, - становится раннее появление чувства
вины»30. И наоборот. «Один из глубочайших
источников вины всегда связан с завистью к кормящей
груди и с чувством порчи её добра своими завистливыми
нападками»31.
Следуя Фрейду в своей приверженности
психоаналитическому тайному паролю, эдипову
комплексу, Кляйн связывает зависть, пол и вину, однако
проводит отличие между завистью и ревностью32.
Интересно отметить, что такое отличие между завистью
и ревностью, по всей видимости, отсутствовало в
греческих, римских, христианских и средневековых
источниках, оно явно отсутствует в практиках дурного
глаза и в иконографии зависти. Насколько мне
известно, оно появляется в XIX веке у Ницше и других
немецких писателей, на которых опираются Кляйн
и Фрейд. Они утверждают, что это отличие важно и
уместно, как это делает большинство авторов,
пишущих на тему зависти после Ницше.
30 Grosskurth. Р. 194. [Там же. С. 36. - Прим. пер.]
31 [Там же. С. 37. - Прим. пер\
32 Для Кляйн «зависть», это понятие, связанное с
отношениями между двумя людьми - младенцем и матерью, в то
время как «ревность» - это понятие, связанное с отношениями
между тремя людьми.
182
Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд
Зависть, стыд и смерть
Большая часть, но не все кляйнианцы следовали их
примеру, считая, что зависть является главной
пружиной для эдиповых движущих сил33. Для Майкла
Фельдмана, «понимание того, каким образом
родительская пара пробуждает зависть у младенца»,
может быть непосредственно прослежено к эдиповой
ситуации34. Для Джона Стайнера, зависть, это
проявление влечения к смерти, связанное с понятием
секретного места или убежища, что сразу же заставляет
вспомнить фрейдовское понятие heimlich качеств
зависти, и имплицитно связывает зависть, сокрытие
и стыд35. Подобно Кляйн, Стайнер полагает, что для
завистливого человека получение блага является
унижением и что такое унижение усиливает деструк-
тивность зависти36. Ханна Сегал, польская анализанд-
33 См., например, вклады видных психоаналитиков: Этче-
гойена, Кейпера, Эрлиха, О'Шонесси, Бриттона, Фельдмана,
Стайнера, Фонэги, Смита и других в книге Revisiting Envy and
Gratitude изданной Roth and Lemma. (2008).
34 Feldman, 1989. P. 127.
35 Стайнер пишет (p. 142): «Различия между Самостью и
объектом порождают зависть по отношению к более богатому
члену пары, в то время как более бедный ее член не может
воспользоваться доступным благом, потому что осознает свою
нехватку, которая порождает чувства унижения».
36 Стайнер считает, что зависть приводит в действие
навязчивое повторение, потому что «пациент с навязчивым
повторением не может переносить получение блага, которое он
воспринимает как унижение». Steiner. Р. 139.
183
Глава восьмая
ка Кляйн и, возможно, её самая восторженная
последовательница, пишет о порочном круге, в котором
зависть, препятствуя хорошей интроекции,
увеличивает и интенсифицирует зависть37.
Другие психоаналитические авторы в большей
степени сосредоточивают внимание на связи между
завистью и идеализацией38. Для Уилфреда Биона,
также анализанда Кляйн, зависть вызывает именно
связь между матерью и младенцем, поскольку она
идеализируется. Леонард Шенгольд поднимает тему
бредового39, убийственного качества зависти40, отли-
37 «Процесс расщепления на идеальный и преследующий
объекты, столь важный в параноидно-шизоидной позиции,
не может быть сохранен, потому что идеальный объект
порождает зависть и подвергается нападкам и порче. Это
приводит к путанице между хорошим и плохим, мешая
расщеплению... возникает порочный круг, в котором зависть
препятствует интроекции блага, и это, в свою очередь, приводит
к возрастанию зависти» (Segal. 1964. Pp. 41-42).
38 Для Фельдмана и Де Паолы (1994. Р. 217), «объектом
зависти является не хороший объект, а всемогущий
идеализируемый объект, который, согласно чувствам младенца,
обладает качествами, недоступными для него».
39 Леон Вурмсер объясняет такие бредовые проекции как
часть регрессивной, деструктивной последовательности, в
которой стыд приводит к зависти и ревности, которые, в свою
очередь, ведут к страху возмездия посредством «еще более
архаичных форм унижения». (Wurmser and Jarass. P. 173).
40 Гипотеза о том, что первичная зависть наполнена
убийственным, нарциссическим качеством, принимается
многими современными психоаналитиками (например, Эгчегой-
еном, 1985).
184
Меланн Кляйн, жестокость, зависть и стыд
чая злокачественную зависть, наиболее раннюю,
крайне деструктивную41, от более поздних форм
зависти, в которых первоначальные убийственные, канни-
балистские и садистские влечения были в некоторой
степени ослаблены42.
41 Злокачественная зависть является «сохранением или
регрессией к исконной первоначальной интенсивности чувств
младенца... реагирующего защитным образом посредством
проекции и бредового образования» (Ibid. Р. 639).
42 Шенгольд пишет (р. 618): «Мы можем представить эту
первичную эмоцию как смесь ненависти и жадности, а также
зависти, которая приводит к каннибаллистским и
убийственным побуждениям (кусание, глотание, выплевывание,
разрывание на части, убийство), связанным с прорезыванием зубов
и с кусанием, и, позднее, с клоакой, анусом и влагалищем,
воспринимаемыми как уничтожающие, кусающие,
кастрирующие сфинктеры».
185
Глава девятая
ДУРНОЙ ГЛАЗ
Тому, кто в страхе, везде слышится шорох.
Софокл. Акризий, фрагмент
Имеется крайне тесная связь между страхом,
завистью и стыдом. В нашей западной традиции
подчеркивается преобладание в зависти агрессии и
жестокости и мало говорится о наличии в ней стыда и страха.
Однако в других традициях это не так. В них зависть
переплетена с другими эмоциями, такими как
тревога, соперничество, стыд, вина, беспомощность,
возмездие и уязвимость. Выделение эмоции зависти, без
принятия в расчет плеяды других эмоций, искажает
наше понимание того, каким образом зависть может
переживаться и оцениваться как исторически, так и в
плане культуры.
Как мы видели в предшествующей главе, Фрейд
и Кляйн определяли верования о дурном глазе,
отталкиваясь от определения зависти как schadenfreude
(удовольствия от страдания других людей), вкупе с
деструктивными фантазиями, организованными
вокруг индивидуальных движущих сил. Они
использовали определение зависти, найденное ими в
Encyclopedia of Religion and Ethics Хастингса. Однако в их
определении зависть изолируется от других эмоций
186
Дурной глаз
и связывается с соперничеством и неявно
выраженным страхом утраты и беспомощности, с
потребностью обладать властью. Недалеко от западного
стремления к власти и господству находится установка на
материальное благосостояние1.
В иудео-христианской традиции, в которой
человеческие жизни служат лишь проявлениями
космических битв, само понятие блаженной жизни в раю
соответственно идеализируется, абстрагируясь от
постыдных и приводящих в замешательство земных
забот: конфликтов лояльности, межплеменной вражды,
соперничества детей в семье, межпоколенческих
разладов, семейных движущих сил и путаницы по
поводу своей идентичности. Вследствие этого иудео-
христианские понятия зависти и «неправедного
богатства» становятся «греховными», еще одним
проявлением борьбы между силами света и тьмы.
Свойственное Фрейду сосредоточение внимания
на зависти подкрепляет его понятия эдиповых
движущих сил и оставляет мало места для
взаимоотношений. По контрасту с этим верования в областях
Средиземноморья, Среднего Востока и в исламских
традициях относительно зависти и дурного глаза
1 Например, в произведении Макса Вебера
«Протестантская этика и дух капитализма». В соответствии с
современными западными ценностями Фрейд, Бернайс и Кляйн (и
социальные исследователи в целом) имплицитно набрасывают
покрывало счастья на благосостояние и связывают зависть с
невидимыми, безучастными, безликими абстракциями денег.
187
Глава девятая
неразрывно связаны с взаимоотношениями, с
кипением страстей, семейными взаимодействиями,
клановыми ненавистями, племенными раздорами и с
напряженными человеческими взаимоотношениями.
В традициях, связанных с дурным глазом, богатство
как таковое редко является объектом зависти. Скорее,
её объектами склонны быть живые формы
«богатства»: дети, животные, хорошее здоровье, любовные
желания и различные формы счастливой фортуны.
Здесь мы подходим к сущностному отличию
между современной, греховной, материалистической
завистью, воплощенной в цитаделях безликого
богатства (деньги, управление материальными благами),
и завистью, которая проявляется в связанных с
взаимоотношениями предположениях и практиках
(практики дурного глаза), завистью, которая
напоминает о человеческой хрупкости, границах возможного
и утрате. Данное отличие, которое громадно,
означает, что зависть становится ядовитой, когда она
греховна и безличностна, когда акцент делается на том, что
другой имеет, а не на том, кем другой является2.
В верованиях о дурном глазе, с другой стороны, нет
первородного греха, нет понятия искупления, нет
способа откупиться от наказания. Зависть направлена
2 Для христиан зависть - это грех, и грехи являются
безличностными изъянами, пороками, издревле заклейменными,
которые могут скрываться и от которых можно откупиться
при условии, что у вас для этого достаточно денег.
188
Дурной глаз
на счастливую фортуну кого-то, кого завистник знает,
которая заставляет его чувствовать собственную
нехватку. С какими бы неудачами ни сталкивались
индивиды, все они являются неотъемлемой частью
человеческих взаимоотношений, а не наложенных
безличностным образом на всех людей всемогущим
Богом.
В тех мирах, в которых разделяются верования в
дурной глаз, зависть и взгляд являются стержнями
человеческой мотивации, краеугольными камнями в
траектории человеческого переживания3. Практики
и функции дурного глаза в объяснении человеческого
несчастья и болезни уходят в глубь тысячелетий4.
Археологические свидетельства связанных с дурным
глазом практик включают в себя месопотамские (то
есть шумерские, ассирийские и вавилонские) арте-
3 См. Evil Eye в The Encyclopedia Brittanica, 10-е изд.
Дополнительные сведения о дурном глазе и связанных с ним
практиках включены в работы, например: Doutte (1909), Fahd (1966),
Peristany (1956) и Westerrnarck (1926).
4 В работе «Символизм зла» Поль Рикёр отмечает, сколь
неразрывны понятия морального и физического зла,
психической боли и физического страдания. Однако он
сосредоточивает внимание на герменевтическом истолковании и
осквернении, полагая, что предание об Адаме и Еве свидетельствует
о моральном прогрессе, потому что оно делает вину более
внутренней. Таким образом, он следует по пятам других
философов (например, Канта, Гегеля), которые опускают
рассмотрение дурного глаза в своих истолкованиях зла и целиком
упускают в своих обсуждениях проблемы зла рассмотрение
страдания и эмоций.
189
Глава девятая
факты: амулеты от дурного глаза и многочисленные
символы дурного глаза на греческих вазах и
гончарных изделиях. Мы находим упоминания о дурном
глазе в Ветхом Завете, апокрифах, Талмуде и, намного
позже, в Коране. В древнем и современном Египте
символизм дурного глаза можно найти в
изображении Гора, а также в многочисленных
иероглифических текстах. В изображениях греческих трирем,
построенных свыше двух тысяч лет тому назад, на носу
корабля было нарисовано изображение глаза,
вероятно, для того, чтобы отвращать дурной глаз.
Верования о дурном глазе были распространены в Древней
Греции и Риме. Плиний отмечал, что были изданы
особые законы, что те люди, которые используют
дурной глаз для порчи урожая, несут ответственность
и должны наказываться5. Еврейские источники
объясняют воздействие дурного глаза, ссылаясь на
верование, что могущественные злобные духи, обитающие
в глазу, могут при определенных обстоятельствах
вызывать болезнь и смерть, посылая наружу
смертоносные лучи6.
5 Алан Дандес, известный своими библиофилическими
наклонностями, датирует написанные в период Ренессанса
тексты о дурном глазе: Enrique de Villena. Tradado del Aoja-
miento (1422), Vairus Leonardus. De Fascino (1589), Martinus
Antonius Del Rio. Disquisitionum magicarium (1599), and Joannes
Christianus Frommann. Tractatus de Fascinatione (1675), and
Nicola Valetta. Cicalata sul volgarmente detto jattatura (1787).
6 См.: Aaron Brav. 1909.
190
Дурной глаз
Phthonos в греческой и римской мысли
Находимый исключительно в литературных
произведениях, греческий термин phthonos относится как
к зависти, так и к дурному глазу. В соответствии с
широко распространенными греческими
верованиями (например, Гесиод, Геродот, Демокрит) зависть -
это могущественное чувство, существенно важное для
природы человека. Плутарх объясняет, что некоторые
люди могут обратить на себя «дурной глаз» [bas-
kainen], подобно Евтелидасу, который, обладая
дурным глазом, посмотрел на себя в зеркало и умер.
Отраженный «вид дурного глаза» причиняет людям
вред вследствие той же самой способности, которая
вредоносна для других, потому что: «взгляд, будучи
мощным и активным, испускает необычную
пламенную энергию; поэтому предполагалось, что
обладающие дурным глазом люди испускают отравленные
дротики, когда фиксируют свой взгляд на другом
человеке»7. Аристофан и Демокрит говорят о
непреодолимой силе дурного глаза, а Эсхил представляет
зависть как заразную болезнь8.
7 Quaest, cited in Shiaele, 2010 (In) (ed) Dundes, Alan Evil Eye:
a casebook.
8 Плутарх пишет: собачьи укусы сильнее, если животные
кусают в гневе, также говорят, что человеческая сперма лучше
усваивается, когда пара испытывает желание. В целом эмоции
души усиливают и укрепляют силы тела». Плутарх, «Мора-
лии», цит. по Ogden Daniel: Magic, Witchcraft and Ghosts in the
Greek and Roman Worlds: a sourcebook. Oxford University Press,
2002.
191
Глава девятая
Воздействия дурного глаза в греческом и римском
мирах включают порчу и излучение, делая глаза
подвергшихся их воздействию людей смертельно
бледными и запавшими. Тех людей, которые обладают
дурным глазом (phthoneros), можно узнать по
физическим деформациям (горбатости), насупленным
бровям, скрежету зубов, удушью, порывистым
движениям и по их сходству с ядовитыми змеями и
скорпионами.
8 греческом и римском мирах преобладала
персонификация зависти и других эмоций. Однако
примечательно, сколь мало внимания уделяли психологи
изображению грехов и представлению эмоций.
Зависть, конечно же, занимает видное место среди
смертных грехов, которые все представлены как
женские: Invidia (зависть), Acedia (уныние) или Pigrita
(леность, праздность), Superbia (гордыня, непомерно
раздутое высокомерие), Luxuria (похоть), Avaritia
(алчность), Gula (обжорство) и Ira (гнев, ярость, злоба)9.
Важная работа Cesare Ripa «Iconologia» (1603)10,
громадный ресурс по символизму эмоций, повлияла на
придание художником Джеком Кэллотом
определенной формы всем грехам, включая Invidia,
изображенную в виде змеи, обвившейся вокруг своей груди,
кусающей себя в сердце, для выражения её самораз-
9 Латинские персонификации обычно строились по
образцу своих греческих двойников.
10 «Iconologia, overo descrittione dell'imagine universali cava-
te dall'antichita et da altri».
192
Дурной глаз
рушительной горечи (бешенство сердца Мелвилла).
Однако само представление грехов как явно женских
подкрепляет предположение о том, что они
существуют отдельно один от другого, а не в динамических
взаимодействиях (как это представлялось в IV в. н. э.
Евагрию). Кроме того, представление грехов как
присущих лишь женщинам делает женщин
вместилищами похоти, оставляя мужчинам борьбу с
чувствами соблазна, вину за которые они могли затем
перекладывать на женщин.
Ритуалы дурного глаза
Исчерпывающему труду по дурному глазу еще
предстоит появиться11. Фольклорист Ван Геннеп
написал пародию на докторскую диссертацию
ученого, посвятившего свою жизнь точному исследованию
дурного глаза. Начиная в юном 16-летнем возрасте,
этот честолюбивый, скороспелый ученый прочел
произведения Ницше и погрузился в исследования
дурного глаза. Годами и десятилетиями он проводил
11 Легендарный собиратель фольклора Алан Дандес,
которому нравилась идея сбора материалов относительно дурного
глаза, заметил, что, хотя имеются многочисленные собрания
связанных с дурным глазом практик, нет их точного
исследования, адекватного истолкования (Dundes A. Wet and Dry the
Evil Eye. P. 262). Классическая работа на эту тему находится во
втором томе труда окулиста: Seligman'a S. Die Zauberkraft des
Auges und des Berufen (1922), цитируемая Дандесом.
193
Глава девятая
многие часы в национальной библиотеке, изучая
один язык за другим, чтобы прочитать всё,
написанное на эту тему, и всегда обнаруживая, что имеется
некоторый необходимый документ на незнакомом
ему языке, еще один источник, который надо понять
и включить в список его цитат. Наконец, этот
сгорбленный, страдающий близорукостью старик,
истощенный измерением неисчерпаемого, умер на месте
для сидения № З12.
Один автор суммировал воздействия дурного
глаза следующим образом:
«Дурной глаз может быть причиной любого
заболевания психики, тела или имущественного урона,
природа которого является, кратко говоря,
наследницей тех невзгод, которые в наше время покрываются
страховкой в связи с неблагоприятными погодными
условиями или для ликвидации последствий которых
следует обратиться к помощи адвоката, врача или
прибегнуть к вооруженному отпору в соответствии с
темпераментом понесшего ущерб человека. Самое
главное, дурной глаз ответствен за вяло текущие,
приводящие к упадку сил болезни, а также за нервные и
психические расстройства, относительно которых
простодушный ум не находит никакого объяснения в связи
с постигшим его несчастьем. Каждый человек может
подвергнуться пагубному воздействию дурного глаза, в
особенности младенцы в колыбели»13.
12 Van Gennep, 1967:32-36.
13 Quoted in McCartney, 1943 [1981].
194
Дурной глаз
Описывая тот вред, который может причинять
дурной глаз, Дандес пишет, что он:
«может быть причиной болезни или даже смерти
или деструкции. Обычно счастливая фортуна,
отменное здоровье или красивая внешность жертвы - или
необоснованные высказывания на их счет -
побуждают или провоцируют нападки кого-либо с дурным
глазом. Если атакованный объект был полон жизни,
он может заболеть. Неодушевленные объекты, такие
как здания или скалы, могут сгореть или
разрушиться. Симптомы заболевания, вызванного дурным
глазом, включают в себя утрату аппетита, чрезмерную
зевоту, икоту, рвоту и горячку. Если атакованный
объект - корова, то она лишается молока; если это
растение или дерево, оно может внезапно засохнуть и
умереть»14.
Эдвард Вестермарк15 отмечает, что те люди в
Марокко, которые больше всего опасаются дурного
глаза, с очень большой вероятностью испытают на себе
его воздействие16. Христиане кажутся
невосприимчивыми к воздействиям дурного глаза потому, что не
ведают о связанных с ним опасностях и не страшат-
"Dundes. 1981. Р. 258.
15 Westermarck - автор монументального классического
труда Ritual and Belief in Morocco, 1926.
16 Мысль о том, что то, чего больше всего опасаешься,
является самым могущественным, можно сравнить с
психоаналитическим представлением о том, что то, что подверглось
наиболее сильному вытеснению, является самым
могущественным.
195
Глава девятая
ся их. На возражение о том, что младенцы, которые
не знают о дурном глазе, должны были бы поэтому
быть невосприимчивы к его воздействиям, есть
контраргумент, что их матери знают и страшатся
дурного глаза и что это означает, что младенцы также
подвержены его воздействиям17.
Смертоносные взгляды
Как отмечает Плутарх и многочисленные
греческие и римские источники, глядение может быть
опасным18. Фольклорные мотивы взглядов, которые
убивают, можно обнаружить по всему миру.
Мифический ирландский герой Балор, обладающий
дурным глазом, прославлялся за мощь его пристального
взгляда, который мог насмерть сражать целые армии.
17 «Считается, что всякий, кто страшится дурного глаза,
может по этой причине с большей вероятностью
подвергнуться его воздействию. <...> В Андийре мне даже говорили
мудрые люди, что страх дурного глаза необходимо делает
каждого такого человека его жертвой и что
невосприимчивость к его воздействиям христиан обусловлена их
невежеством на этот счет и вытекающим отсюда отсутствием страха»
(Westermarck, vol. I: 422).
18 Крайне интересно, что глаз часто был представлен в
амулетах голубым цветом. Голубоглазые люди, очевидно,
редко встречаются в тех частях мира, в которых крайне
распространены верования в дурной глаз. А там, где наиболее
часто встречаются голубоглазые люди (например, в Германии
и Скандинавии) нет верований в дурной глаз.
196
Дурной глаз
Балор был знаменитым разбойником с глазом в
средней части лба, который он использовал для кражи
чудесной коровы. Греческая Медуза Горгона19 (одна из
трех Горгон, взгляды которых убивают) умерщвляется
Персеем, когда, чтобы не смотреть в ее лицо, он
держит перед ней сильно отполированный медный щит,
тлядя в него на ее отражение, а затем ее
обезглавливая. В одном польском рассказе герой, которого
проклятье наделило дурным глазом, ослепляет себя,
чтобы обезопасить детей от своего смертоносного
взгляда. Читатели, несомненно, знакомы с леди Годивой,
которая запрещала всем сельским жителям на нее
глядеть, когда она обнаженной скакала на лошади
через деревню. Один из жителей деревни, Том,
осмелился бросить на неё взгляд сквозь маленькое
отверстие и был за это в наказание ослеплен20.
В наше время на Среднем Востоке и в районе
Средиземноморья считается, что дети и молодые
животные особенно уязвимы к токсическим воздействиям
дурного глаза. Например, в Ливане и Турции амуле-
19 Посетители водоема в Стамбуле ярко хранят в памяти не
только перевернутое вверх ногами изображение Медузы, но
также все связанные с дурным глазом мотивы на колоннах на
всем протяжении подобных лабиринту проходах, сверху
которых просачивается вода.
20 Читатели также могут быть знакомы с изображениями
магического шестигранника на скотных дворах для
отвращения дурного глаза. Хотя в настоящее время они наличествуют
в намного меньшей степени, когда-то они были широко
распространены по всему западному миру (и в других местах).
197
Глава девятая
ты от дурного глаза надеваются на шею
новорожденных и вешаются на их детскую кроватку. Эти
практики переходили от поколения к поколению, поэтому
сыновья и дочери наследуют амулеты (репрезентации
глаз), которые они передадут своим детям, а те -
своим детям и детям их детей. Эти верования столь
преобладают в Ливане, что один специалист по
материнской и детской смертности в американском госпитале
в Бейруте тщательно описал верования и практики,
влияющие на здоровье младенцев21.
Однако не только амулеты служат для отвращения
дурного глаза22. В ходу имеются (и ранее
применялись) такие жесты, как указывание одним из
указательных пальцев на рукав того человека, которого
считают обладающим дурным глазом. Связанная
с рукой символика служит олицетворением
магических противоядий от воздействий дурного глаза (рука
служит основой богатого декоративного узора на всей
Западной Африке и Среднем Востоке)23.
Избегание того, что шотландцы называют
«предсказыванием», хвастовством, которое может быть
возможной причиной болезни или несчастья, может
быть проиллюстрировано многочисленными сель-
21 Harfouche. 1965 [1981].
22 Противоядия от него включают написанные заговоры,
часто растворяемые в воде для их выпивания пораженным
человеком и, для греков и римлян, плевков на него. Согласно
Феокриту, надо три раза плюнуть на грудь того человека,
который считается потенциальной жертвой дурного глаза.
23 См.: Westermarck. 1926.
198
Дурной глаз
скими присловиями, такими как встречающееся в
Сомерсетшере выражение: «Я не хочу причинить ей
никакого вреда, поэтому я лучше помолчу».
Так как считается, что действие дурного глаза
обусловлено завистью, то, когда римляне что-либо
хвалят, они добавляют выражение Praefiscini dixerim
(сказано честно), которое указывает на то, что только что
сказанное не подразумевает какое-либо хвастовство
или вызов силам зависти. Кроме того, слово praefiscini
происходит от латинского корня «fascinum, fascinare»,
от которого происходят наши слова «fascinate»
(очаровывать, оказывать гипнотическое влияние) и
«fascination» (чары, колдовство). Данный латинский корень
также лежит в основе таких слов, как fascium
(магическое заклинание) и Fascism (фашизм)24.
Жители юга Италии и сицилийцы проводят явное
отличие между malocchio (сам дурной глаз) и jettatore
(человеком, который послужил поводом для
действия дурного глаза), как это ранее делали греки и
римляне. Jettatore вредоносен для всех людей вокруг
него, включая его самого25. Имеется рассказ о
мужчине, который жил в Мессине в 1880-е и умер, когда
24 После высказывания похвалы в чей-либо адрес
итальянцы добавляют Si mal occhio non ci fosse (Надеюсь, что его не
поразит месть со стороны дурного глаза).
25 Различные авторы задавались вопросом о том, можно ли
каким-либо образом распознать jettatore. Возможно, он может
носить очки или парик или использовать особые жесты, или
же его может выдавать тембр голоса или характерные черты
его глаз или лица?
199
Глава девятая
увидел свое отражение в витрине магазина на Corso
Garibaldi. Одно заклинание против Jettatore гласит:
«Если он ест, его еда становится испорчена. Если
он пьет, его стакан разбивается. Если он
прогуливается, он толкает людей. И если ему надо пройти вперед,
он идет назад. Если он говорит, его считают за глупца.
Если он пишет, его ручка ломается. И если он хочет
кормить грудью, он не находит груди»26.
Относительно дурного глаза Киплинг пишет, что
любовь, это высоко ценимая связь, которая поэтому
вызывает зависть. Киплинг описывает ценность Тота
для любящих его людей, в обрамлении зависти, вкупе
с уязвимостью, которые обусловливают переживания
несчастья, утраты и тревоги.
«Тота умер оттого, что мы его любили, Бог
отомстил нам из ревности», - сказала Амира. «Я
повесила перед нашим окном большой черный глиняный
кувшин, чтобы отвратить дурной глаз. Помни, мы не
должны больше радоваться вслух; нужно тихо идти
своим путем под небесами...» Но поцелую, который
последовал за новым крещением, боги могли бы
позавидовать. И всё же начиная с этого дня они оба не
уставали повторять: «Всё это ничего, это ничего не
значит», надеясь, что небесные силы услышат их27.
26 Pitre. Р. 134.
27 Kipling R. Without benefit of Clergy [Киплинг P. Без
благословения церкви. - Прим. пер.], quoted in McCartney. P. 22.
200
Глава десятая
ДУРНОЙ ГЛАЗ, НЕСЧАСТЬЕ
И НЕПРАВДОПОДОБНОЕ
То страхом надежда убита была,
То страх был надеждой убит:
Уснула-и, кажется нам, умерла;
Скончалась - мы думаем, спит.
Томас Гуд [1798-1845].
У смертного одра70
Имеется громадная и непостижимая дистанция
между концептуальными мирами наших современных
общественных наук (включая психоанализ) и
концептуальными мирами культур, в которых верят в дурной
глаз. В них отличаются не только предположения о том,
что постижимо (рационально?), но также допущения
о том, что непостижимо (иррационально?).
Поразительно, что не существует
специализированного исследования дурного глаза как динамичной
системы верования, изучающего ее перекрестные течения
и водовороты ее смыслов и функций. Практики
дурного глаза собраны в различных работах по магии,
ворожбе и исцелению, но ни в одной из них не
описываются функции верований в дурной глаз как части
70 [Гуд Томас. Избранное / пер. с англ. МЛ. Михайлова. М.,
1979.-Прим. пер.]
201
Глава десятая
объяснительной системы, предназначенной для
объяснения человеческого страдания, неопределенности
и болезни и как способа сделать человеческие чувства
постижимыми71.
Объяснительные системы дурного глаза
опираются на то, что не может быть рационально понято,
делая их частью систем верований в целом. Системы
верований могут быть определены как те
структуры/движущие силы мышления, которые
обозначают пределы известного нам концептуального мира
и обусловливают многие наши предположения72,
71 Как отмечает Reichel-Dolmatoff (Райхель-Долматофф),
в компании столь многих антропологов «черная магия
определяет все межличностные взаимоотношения» (1961. Р. 396).
72 Работа Э.Б. Тайлора «Первобытная культура» (1873)
утвердила концепцию культуры в общественных науках. Она
начинается со знаменитого всеобъемлющего определения
культуры: «Культура, или цивилизация, в широком
этнографическом смысле слагается в своем целом из знания,
верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых
других способностей и привычек, усвоенных человеком как
членом общества». [Тайлор Э.Б. Первобытная культура / пер.
с англ. Д. Коропчевского (1873). М., 1989. - Прим. пер.] В этом
двухтомном труде, который дает обширный обзор, Тайлор
имеет дело с анимизмом, верованиями, ритуалами,
церемониями, языком и мифологией. На такой его подход повлияли
исследования немцев Теодора Вайца и Адольфа Бастиана
(1826-1905), в книге которого «Человек в истории: К
обоснованию психологического мировоззрения» вводилось понятие
эволюционной «элементарной идеи» (elementargedanke). Бастиан,
врач по специальности, известен своей антропологической
202
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
включая допущения о том, что делает наши
переживания постижимыми. Они были главным
фокусом рассмотрения со стороны Джамбаттисты Вико
(1678-1744), для которого человек несет
ответственность за то, что было создано человечеством и что он
может понимать (включая то, что не может быть
рационально понято). Вико, таким образом, объединяет
этику и понимание в традиции греков и римлян.
Следуя линии рассуждения Вико, Огюст Конт
(1798-1857) заметил: «Человечество не следует
определять через человека, напротив, человека следует
определять через человечество». Данное
высказывание подразумевает, насколько более
всеохватывающим является понятие человечества, нежели его
определение как разумного или постижимого. Как
будто для доведения до конца данной точки зрения
Конт также добавляет: «Человечество состоит из
намного большего числа умерших, чем живых»73. Такое
понятие человечества служит отправной точкой для
выхода за пределы того, что мы полагаем
рациональным и правдоподобным. Французский историк Ми-
шле перевел главный труд Вико Principi ai una scienza
работой, когда путешествовал по юго-восточной Азии, и своей
обширной коллекцией этнографических объектов, собранной
с намерением показать elementargedanke.
73 Конт писал о «религии человечества» и, следуя Сен-
Симону, подчеркивал роль веры в социальной солидарности
и социальной связи. Дюркгейм следовал тем же самым путем,
говоря о «религии» как связующей силе религиозного
верования в сплочении общества.
203
Глава десятая
nuova d'intorno alla commune natura délie nazioni
(«Основания новой науки об общей природе наций»)74,
который повлиял на исследователей, работающих в
русле историко-социологической традиции (Année
sociologique) Сен-Симона, Конта и Дюркгейма,
которые писали об «истории умонастроений» (например,
Марк Блок и Люсьен Леви-Брюль), на школу
историографии «Анналов» (The Ecole des Annales) и тех
исследователей, которые писали о национальной
идентичности (например, Иоганн Гердер и Г.В.Ф.
Гегель). В данной главе я сосредоточиваю внимание на
системах верований, коллективных представлениях о
неправдоподобном в качестве противовеса установке
картезианства/кантианства/социальной науки на
рациональное понимание. Такому представлению я во
многом обязан Вико, которому будет посвящена
следующая глава.
Антрополог Люсьен Леви-Брюль пытался
определить «первобытное мышление» как обусловленное тем,
что он назвал «до-логическим», таким образом,
подразумевая развитие от «до-логического» к «логическому».
Однако, как ему самому пришлось заключить, акцент
на этом эволюционном развитии уводил в сторону от
его главной цели: описать функционирование систем
74 Мишле озаглавил свой перевод как Principes de la
philosophie de l'histoire («Принципы философии истории»). См.:
Alain Pons, 1968. Les E'tudes philosophiques. № 3/4. «Giambat-
tista VICO (1668-1744): Une Philosophie non-cartésienne» QUIL-
LET-DECEMBRE, 1968).
204
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
верований, которые не соответствовали нашим законам
логики и рациональности. Хотя в основе трудов Леви-
Брюля (1857-1939) лежит понятие дологического
мышления, его заслуга заключается не столько в его теориях
эволюции мышления, сколько в его признании того,
что мы должны выйти за пределы наших объяснений, в
его характеристике мышления, которое отличается от
наших современных предположений о том, какого рода
логика способствует пониманию.
Для Леви-Брюля отличия между «рациональным»
и «первобытным» мышлением должны не
«объясняться», как полагали английские антропологи (например,
Э.Б. Тайлор), а, скорее, по-разному
концептуализироваться. Эти отличия, продолжает он, также не могут
быть объяснены посредством изучения сновидений.
Хотя многие наблюдатели приходили в недоумение,
как туземцы могли верить в истинность сновидений,
даже зная о том, что это сновидения75, Леви-Брюль
занимает прямо противоположную точку зрения: «Я хочу
сказать, что туземцы верят в его истинность, потому что
это сон. <.. .> Как мы объясняем то, что, хорошо зная о
том, что это сон, они ему доверяют?»76 Он объясняет это
следующим образом: это происходит вследствие их
коллективных представлений. В качестве примера,
75 Леви-Брюль цитирует Моопеу, который отмечает, что
среди индейцев Чероки, когда человеку снится, что его
укусила змея, он должен искать лечения, «как если бы его на самом
Аеле укусила змея» (Р. 57).
76 Op. cit. Р. 59. Дюркгейм следовал по стопам Конта и Сен-
Симона.
205
Глава десятая
Леви-Брюль отмечает, что Уичоли (коренные
мексиканцы) «полагают, что те птицы, которые выше всех
парят в небе... всё видят и всё знают, и обладают
мистическими способностями, которыми наделены pix
крылья и хвостовые перья»77. Их крылья и хвостовые
перья, соответственно, высоко ценятся, потому что они
символизируют божественные силы.
В монументальном труде Эмиля Дюркгей-
ма (1858-1917) Les formes élémentaires de la vie
religieuse («Элементарные формы религиозной жизни»)
понятию коллективных представлений отводится
центральное место в теориях социальной
организации, верования и действия. Можно сказать, что
коллективные представления основываются на
предположениях, обусловленных системами верований, и
наоборот. В соответствии с основными принципами
позитивизма78 Дюркгейм имплицитно обращается к
религиозным верованиям, когда говорит о
коллективных представлениях и приравнивает религиозную
социологию с социологией религии. Именно таким
образом, в духе дюркгеймианской традиции, Леви-
Брюль исследует «до-логическое» мышление.
Сходным образом, труды Владимира Проппа
(1895-1970), хотя они связаны с классификацией
77 Lumholtz, quoted in Levy-Brulh. P. 38.
78 См. Kilborne, 1992. The Vicissitudes of Positivism: The Role
of Faith in the Social Sciences. [См.: Роль веры в общественных
науках / пер. с англ. В.В. Старовойтова // Килборн Б. Травма,
стыд и страдание. М., 2019. Глава 13. С. 295-330. - Прим. пер.]
206
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
народных сказок, счастливым образом выходят за
пределы классифицирующих теорий благодаря
описательному гению Проппа и его интереса к тому, что
делает сказку живой. Пропп определяет русскую79
сказку, «волшебную сказку», как особый вид сказки,
который характеризуется своим волшебством. Для
наших целей, сосредоточение им внимания на
сказках о волшебном дополняет попытки Леви-Брюля
описать системы мышления, которые игнорируют
обычные координаты логики и рассудка.
Пропп подчеркивает, что короткая сказка
утрачивает свое волшебство, свою магию и мощь; по мере того,
как она превращается в нечто правдоподобное, она не
достигает своей цели. Он отмечает, что сказку нельзя
сценически поставить, если она не поется, связывая
сказку и музыкальное представление таким образом,
который близок к взглядам Вико, чьи труды я буду
вскоре обсуждать. Музыка делает ход повествования
свободным и позволяет событиям выходить за пределы
рационального, за пределы правдоподобия. «Играемая
на сцене народная сказка без музыки будет просто
скучной»80. «Волшебные», животворные качества
русской сказки, таким образом, имплицитно
противопоставляются иссушающим воздействиям (немузыкаль-
79 Конечно, здесь имеются в виду сказки со всех частей
бывшего СССР (например, из Сибири, Грузии, Украины).
80 Волшебный элемент народной сказки обращается к
реальности, не переставая быть волшебным, лишь через
музыку» (Ргорр. 2012. Р. 10).
207
Глава десятая
ной) «реальности». Это наблюдение также особым
образом подчеркивает важное значение музыки в
русской жизни.
Давайте приведем два примера: первый из
творчества Пушкина, а второй - из творчества Гоголя.
Любовь Пушкина к сказке во многом обусловлена теми
сказками, которые рассказывала ему няня Арина
Родионовна, звучание которых впитывала его детская
память, а также его взаимоотношением с их
сказительницей81. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила»
(Глинка превратил её в незабываемую оперу)
начинается с описания рассказчиком зелёного дуба, к
которому на златой цепи привязан кот ученый,
заводящий песнь и рассказывающий сказку. Данная сказка
открывается похищением Людмилы, дочери князя
Владимира, который выдает свою дочь за князя
Руслана. В круг гостей входят ревнивые соперники
Руслана (Рогдай и Фарлаф). В свадебную ночь, когда
свадьба близится к завершению, невеста внезапно
исчезает, будучи похищена волшебником Черномором,
81 Александр Веселовский отмечает, что историческая
поэзия «учит нас тому, что в формах той поэзии, которую мы
наследуем, присутствует упорядоченность, возникающая в
результате социально-психологического процесса, что
словесная поэзия не может определяться абстрактным понятием
красоты, и постоянно создается сочетанием людьми этих
поэтических форм с соответственным изменением социальных
идеалов» (Ргорр, quoted. Р. 77). Мы увидим в следующей главе
близость этих представлений с идеями Джамбаттисты Вико,
высказанными несколькими веками ранее.
208
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
брат которого позднее рассказывает Руслану историю
о том, как его отвергала та женщина, которую он
в прошлом любил. Руслан побеждает Рогдая в битве
и встречает на своем пути громадную живую голову.
Он пронзает её язык своим булатом, после чего
голова молит о пощаде. Голова рассказывает, как его
жестоко обманул Черномор, и предлагает Руслану
использовать волшебный меч в битве против его
давнего врага, чья сила заключается в его бороде. Руслан
находит Черномора, они обмениваются ударами, и
Черномор взлетает на воздух с Русланом, который
держит его за бороду, щипля её за волосы, а затем
отрубает её своим волшебным мечом. Черномор
молит о пощаде и рассказывает Руслану, где скрывается
Людмила. В конце поэмы данная пара
воссоединяется после того, как Руслан был сначала убит, затем
воскрешен, а после возвращения использовал
волшебное кольцо для пробуждения спящей Людмилы.
Следует отметить ряд черт этой сказки. Её герой
умирает и оживляется (часто встречающаяся тема), в
ней присутствуют многочисленные неправдоподобные
мотивы (говорящая голова, сила в бороде, летание по
воздуху, исчезновение, волшебное кольцо), а её
персонажи рассказывают собственные истории, так что в ней
присутствуют многие рассказчики (например, ее
первый сказитель, кот, Черномор). Кроме того, как
проницательно замечает Пропп, в сказку не следует «верить».
Сам фантастический характер данных историй игно-
209
Глава десятая
рирует как реальность, так и веру, и в этом и
заключается их сила и их жизненность.
Вторым примером является пересказ Гоголем
сказки о царевне-лягушке, в которой герой
отправляется на поиск Василисы Премудрой, и ему говорится,
что она похищена Кащеем Бессмертным. «Тебе будет
нелегко отнять ее у него. Его смерть находится на
кончике игры. Игла лежит в яйце, яйцо в утке, а утка
в зайце. А сам заяц лежит в сундуке, зарытом под
высоким дубом, с которого Кащей не сводит глаз»82.
Также типичное начало этих сказок описывает
место вне пространства и времени, где-то там, куда
нельзя добраться ни посредством веры, ни
посредством разума. Там нет «где», «когда», «как» или
«почему», чтобы обеспечить привычную ориентацию.
Например, сказки начинаются со слов, «в некотором
царстве, в некотором государстве», описывая героя,
«который не молод, не стар», который ищет место,
находящееся «в тридесятом царстве», героя, который
«скачет верхом не далеко, не близко, не высоко, не
низко, а его деяние не так быстро делается, как сказка
сказывается»83. Или же, в сказке о жар-птице, герой
подходит к камню со следующей надписью: «Кто
поедет от него прямо, будет замерзать и голодать; кто
поедет от него направо, будет цел и невредим, но его конь
погибнет, а кто поедет от него налево, будет убит, но его
82 Chandler. Р. 64.
83 Quote Ргорр, 155 ff.
210
Дурной глаз, несчастье н неправдоподобное
конь останется целым и невредимым»84. Гибель
является результатом любого выбора того, что французы
называют «vraisemblances» (крайне вероятным
кажущимся исходом). Кажимость описывает качество,
которое пропитывает наши сказки, но отсутствует в русских
волшебных сказках, в которых нет «подобия», так как в
них отсутствуют движущие силы кажимости. Вот
почему, возможно, требуется музыка в драматических
публичных представлениях этих сказок. В них есть ритмы,
повторяемые фразы, музыкальные переходы. Поэтому
не случайно, что фактически каждый крупный русский
композитор после Глинки свободно использовал сказки
(включая Римского-Корсакова, Прокофьева,
Рахманинова, Чайковского и Метнера85).
Основанный на сказке сюжет оперы (Римского-
Корсакова) «Ночь перед Рождеством» начинается с
согласия вдовы Солохи помочь черту украсть месяц.
Однако черт сердит на сына Солохи Вакулу, который
написал высмеивающую его икону. Поэтому черт
поднимает пургу, чтобы помешать Вакуле прийти к
своей ненаглядной Оксане, а затем взлетает на небо и
похищает месяц. Оксана говорит, что выйдет за
Вакулу замуж, лишь если он принесет ей черевички,
которые носит царица. Вакула несет мешок, в котором
сидит черт, который из него выскакивает и пытается
84 Ibid. Р. 205.
85 [Метнер Николай Карлович (1879-1951), русский
композитор и пианист. - Прим. пер.]
211
Глава десятая
уговорить Вакулу продать свою душу, чтобы добиться
любви Оксаны. Однако Вакула хватает черта за хвост,
вскакивает на него верхом и заставляет везти его по
воздуху в Петербург. В конце концов, Вакула
возвращается среди празднования Пасхи и берет Оксану в
жены. В конце оперы Вакула говорит о том, что
расскажет эту историю пасечнику Панко, который
напишет сказку о «Ночи перед Рождеством».
Часто предполагалось, что иррациональное - это всё
то, что не является рациональным, делая его зависимым
от допущений по поводу рациональности.
Иррациональное, как для Фрейда, так и для других (например,
для Канта, Витгенштейна, Рассела, Куайна, и т.д.),
никогда целиком не освобождается от вероятного. И
действительно, для социологов социология - это область
вероятного, постижимого и фактически
существующего86. Следовательно, неправдоподобное склонно
выпадать из их компетенции. И как справедливо замечает
Пропп, правдоподобие склонно убивать жизненность
историй (как это происходило в последние годы в так
называемом «реалити шоу»). Не так давно
придуманные повествования (например, «Хроники Нарнии»,
«Властелин колец» или «Гарри Поттер») приобретают
правдоподобие через свою предсказуемость и поэтому
утрачивают потенциал для пробуждения воображения,
86 Действительно, как правило, взрослые люди достаточно
точны по поводу фактов; к сожалению, они не так
сообразительны в более высоком таланте воображения (Grahame
Kenneth. The Golden Age. (1850-1932)).
212
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
ту жизненность, которую Пропп считает столь важной
в «волшебной сказке».
Кроме того, функция волшебства в этих сказках
представляется значимо отличной от волшебства,
которое мы связываем с такими сказками, как «Ученик
чародея» или «Золушка». Подобно верованиям в
дурной глаз, волшебство в сказке выражает
человеческую беспомощность. Герои сталкиваются с
непреодолимыми препятствиями и с невероятными
выборами, загадками и ситуациями, в которых они
должны получать помощь извне и не могут продолжать
действовать в одиночку. Беспомощность и борьба
являются источниками их жизненной силы. По
контрасту, волшебство в нашем современном мире
(например, у Диснея, Толкина и Гарри Поттера)
склонно быть слугой воли, особой волшебной руки
для господства над миром. Ученик чародея хочет
сделать свою жизнь более легкой; Золушка волшебным
образом появляется на балу без какого-либо усилия
или борьбы и всё ей дается.
Фрейд и другие исследователи отвергли верования
в дурной глаз как иррациональные и суеверные,
справедливо связывая их с беспомощностью.
Рассматриваемые вкупе со сказкой, они обретают
жизненность как раз потому, что выходят за пределы
разума и воли; они зависят от скачков воображения,
погружений в непостижимое, нежели чем от
рационального или иррационального объяснения.
Позвольте мне проиллюстрировать верования
в дурной глаз на примере из моей полевой работы
213
Глава десятая
в Марокко. Как антрополога меня в то время
интересовали сновидения и их истолкование в связи с их
соотнесенностью с концепциями болезни и
излечивания на всем протяжении Средиземноморья. В
Марокко (как и во многих частях Магриба и Среднего
Востока) имеются две отдельные и различные
системы толкования сновидений, одна, предназначенная
для мужчин, основывается на Коране и на принципах
религиозной грамотности и учености, и другая,
предназначенная для женщин, основанная на устных
традициях (как отличных от авторитета Корана) и
включающих в себя, главным образом, верования в дурной
глаз и в социальные функции ревности87.
Моей помощницей в полевой работе и
переводчиком была Айша, неграмотная молодая женщина из
Суса, горной области в высоких Атласских горах,
расположенных примерно к юго-западу от Марракеша и
к востоку от Агадира. Жители Суса известны
глубокой привязанностью к своей земле и месту
проживания и также обладают сетью бакалейных лавок по
всему Марокко и говорящему по-французски миру.
Те люди, которые покинули Сус, переехав жить в
такие большие города, как Рабат или Париж,
сохраняют свои сусские связи и неизбежно копят деньги на
постройку там роскошных домов, в которых собира-
87 См.: Kilborne В. Interpretations du rêve au Maroc (1978),
единственную работу, которая, насколько мне известно, ясно
выделила два этих способа основанных на тендерном
различии систем истолкования.
214
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
ются жить после ухода от дел. Айша говорила на
французском и берберском и согласилась передавать
те сновидения, которые я ей давал на французском,
берберской женщине, толковательнице сновидений.
Те сновидения, о которых я сейчас говорю, были
двумя сновидениями, почерпнутыми из корпуса работ
Фрейда (сновидением об умершем отце [собственном
сновидении Фрейда] и сновидением об офицере).
То сновидение об офицере, на котором основано
последующее толкование, включено в «Лекции по
введению в психоанализ» Фрейда: «На улице её
преследует офицер в красной фуражке. Она убегает от
него, бежит вверх по лестнице, он всё за ней.
Задыхаясь, она достигает своей квартиры и захлопывает за
собой дверь. Он остается снаружи и, как она видит
в глазок, сидит снаружи и плачет»88.
Истолкование мудрой женщины
(толковательницы сновидения) было следующим: «Данное
сновидение представляет препятствие (противодействие) в
жизни сновидицы, в особенности в её любовной
жизни. Красный - цвет удачи в этом сновидении. Оно
вызвано ревностью (то есть дурным глазом)»89.
88 Freud. Introductory Lectures. Vol. XV (1916). P. 192. [Фрейд 3.
Введение в психоанализ: лекции / пер. с нем. Г.В.
Барышниковой. М, 1991. С. 120-121. - Прим. пер.]
89 Цит. по: Kilborne В. 1978. The Cultural Setting of Dream
Interpretation. Psychopathologie africaine 12: 77-89.
215
Глава десятая
Когда Айша возвратилась с консультации, она была
глубоко потрясена. Женщина толковательница/цели-
тельница не только приписала ей данные сновидения,
но истолковала их таким образом, что вызвала у неё
потрясение из-за истолкования воздействий дурного глаза
на её взаимоотношения с мужчинами.
Таково изложение данной консультации. В
соответствии с принятой у женщин устной традицией (как
противопоставленной книжной традиции для мужчин),
мудрая женщина дала Айше талисман и
проинструктировала её мыть его в воде до тех пор, пока не растворятся
написанные на нём буквы и метки. «Сновидица» должна
была затем вылить эту воду на кусок железного прута,
раскаленного на нагретых докрасна углях. Эти действия
должны быть совершены для устранения того
«противодействия», которое было представлено в сновидении и
по поводу которого эта мудрая женщина стала затем
высказываться всё более точно.
Данное «противодействие» было вызвано
ревнивой и завистливой женщиной, которая
противостояла сновидице, объяснила мудрая женщина. В этом
месте консультации «сновидица» призналась, что
действительно в её семье была завистница: её тётя.
Обладая этой информацией относительно движущих сил
в данной семье, мудрая женщина привычным для
Айши образом объяснила происходящее с ней, которое
было понятно лишь для воспитанных в Сусе людей.
«Была ли ты ранее в Касабланке?» - спросила она.
«Да», - был ответ. С этого момента и потому что
поездка в Касабланку означала захождение на опасную тер-
216
Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное
риторию, мудрая женщина стала высказываться более
точным образом. «В тот день, когда ты собиралась туда
отправиться, тётя прикоснулась фи-фи (талисманом) к
твоему правому плечу и положила другой талисман на
порог дверного проема, через который ты должна была
пройти. Когда ты добралась до Касабланки, то внезапно
испытала головокружение; перед твоими глазами, по
всей видимости, появилась разновидность чёрного
покрывала». Как вы помните, Сус, это в основном сельское
сообщество, а Касабланка - большой город, который
легко склонен вызывать головокружение у тех людей,
которые мало что знают, помимо ветра на холмах,
шелеста листьев и пения птиц.
Продолжая, мудрая женщина усиливала
давление. «Твоя тётя сделала это, чтобы воспрепятствовать
твоей поездке в Касабланку. То заклинание, которое
она произнесла, также сделало тебя непостоянной.
Ты переходила от одного парня к другому, будучи не
в силах сделать выбор. Даже теперь ты не можешь
принять решение».
В замешательстве Айша удрученно призналась,
что мудрая женщина была права. Она действительно
испытала в Касабланке головокружение, где ранее
планировала пробыть более четырех дней, однако ей
пришлось сделать свое пребывание там коротким, и у
неё действительно сложилось впечатление, что кто-то
сглазил её взаимоотношения с парнями.
В завершение консультации мудрая женщина
сказала, что тремя днями ранее Айша поссорилась со
своим парнем и что после этого они не разговаривали
217
Глава десятая
друг с другом. И опять, Айша сказала, что так всё и
было. После чего мудрая женщина дала ей гри-гри
(талисман) для отвращения воздействий дурного
глаза и затем её отпустила.
В этом примере дурной глаз используется для
объяснения неудач данной девушки, ее
головокружения, страха большого города, непостоянства,
нерешительности, ее проблем в связи с взаимоотношениями,
разочарований и надежд90. Редко когда
психотерапевты и психоаналитики могут в одной консультации
столь широко забросить сеть. Громадное воздействие
данной консультации обращает внимание на
могущественные и множественные функции верований
в дурной глаз и на важное значение зависти/ревности
как на точку входа в мир эмоций. Также важно, что
в ней подчеркивается центральная значимость
взаимоотношений Айши с другими людьми. Как таковая
она показывает мощь установленных
взаимоотношений, движущих сил, глубоко прочувствованных
феноменов. Подобно сказке, связи, установленные мудрой
женщиной, игнорируют логические предположения,
прокладывая путь в мир эмоций, далекий от научных
амбиций и теорий бессознательных процессов.
90 Хотя данной девушке пришлось запоминать эти
сновидения, потому что она не умела читать, а затем переводить
их на берберский, что предусматривало некоторое
отклонение от их первоначального смысла, её сильные эмоции по
поводу данной консультации несомненны. Для неё данное
переживание было крайне сильным.
218
Глава одиннадцатая
ЗАВИСТЬ И ДУРНОЙ ГЛАЗ
Натуралистами открыты
У паразитов паразиты,
И произвел переполох
Тот факт, что блохи есть у блох.
И обнаружил микроскоп,
Что на клопе бывает клоп,
Питающийся паразитом,
На нем другой - ad infinitum.
Так наш собрат, тоской томим,
Кусает тех, кто перед ним.
Свифт Джонатан.
О поэзии. Рапсодия [1733Р
Сказка иллюстрирует полет воображения,
который предусматривает внутреннюю свободу. Он
движется и переходит из одного состояния в другое
таким образом, который игнорирует важное значение
логики, рациональности и ожиданий. В этом он
походит на объяснения дурного глаза.
Объяснения дурного глаза выделяют особого
человека в мире пациента как источника несчастья, зла
1 [Свифт Джонатан. О поэзии. Рапсодия. / пер. с англ.
С. Маршака, Ю. Левина // Свифт Джонатан. Памфлеты. М, 1955.
С. 275.-Прим. пер.]
219
Глава одиннадцатая
или болезни; они являются описаниями,
основанными на взаимоотношениях, которые определяют, кто,
что, кому делает. Они в большей мере фокусируются
на чувствах в связи с ударами судьбы, чем на ужасе
или первородном грехе. Объяснения дурного глаза
принимают в расчет движущие силы лишения и
сравнения, которые столь могущественным образом
содействуют силе зависти и стыда.
В то время как психоаналитические истолкования
склонны приписывать жестокость бессознательному
и соответствующим образом истолковывать
страдание, интерпретируя верования в дурной глаз как
параноидную уверенность в наличии внешних «врагов»,
как проекцию секретных желаний причинить вред,
верования в дурной глаз и в его проявления могут
действительно смягчать остроту зависти, связывая её
с человеческой уязвимостью и страхами по поводу
связей и разъединений с другими людьми. В этой
связи, движущие силы дурного глаза могут служить в
качестве «катартических» функций как раз потому,
что они не являются исключительно внутренними
(находящимися внутри индивида влечениями или
фрейдовским эдиповым комплексом), а
воспринимаются как неотъемлемая часть проявлений
взаимоотношений, используемая для организации понятий
зла, страдания, хрупкости и ударов судьбы.
Например, Айша, деревенская девушка,
отправляется в большой город, где, дезориентированная и ис-
220
Зависть и дурной глаз
пуганная, чувствует у себя нехватку приносящей
удовлетворение любовной жизни2. Верования в дурной
глаз дают объяснение для чувств стыда по поводу
нехваток у Айши и ее замешательства, делая их более
терпимыми. Приписывая её трудности некой
«причине» (её завистливой тёте), Айша может легче
представлять и переносить собственные чувства стыда,
потому что они могут быть опознаны мудрой
женщиной и поэтому ею самой. Объяснения её проблем
воздействиями дурного глаза помогает Айше в
обретении чувства ориентации, смягчает чувство
позорной изоляции, обусловленное тем, что она никому не
нравится. Кроме того, её стремлению к налаживанию
взаимоотношения оказывается поддержка, потому
что столь значительная часть истолкования
фокусируется на её разногласиях со своим парнем.
Объяснения воздействий дурного глаза
концентрируют внимание на текущей ситуации страдальца,
на том, что порождает текущий удар судьбы; здесь
нет места для ссылок на прошлое, за исключением
того, как оно разъясняет настоящее. Здесь нет какого-
либо понятия младенческого и детского развития
(например, вначале связанного с грудью, затем с
2 Как подчеркивали многие авторы (например, Вурмсер,
Моррисон, Брусек), имеется непосредственная связь между
чувствами стыда и несостоятельности. Так же, как хроническая
боль вызывает страх боли, точно таким же образом
хронический стыд порождает обусловленную стыдом тревогу,
которая, несомненно, несет угрозу взаимоотношениям.
221
Глава одиннадцатая
наличием пениса), нет места для реконструкции, нет
теории личности, нет отличия между завистью и
ревностью. Каждое истолкование воздействия дурного
глаза выверяется для целительных ритуалов, для
смягчения страдания и зависит от разделяемого
понимания мира страдальца и имплицитного
признания мощи и центральной значимости
взаимоотношений в отклике на человеческое страдание3.
Объяснения воздействий дурного глаза пытаются
специфическим образом ответить на вопрос: почему
я болен, несчастен или огорчен? Связанные с
заболеванием, отчаянием и расстройством чувства
подтверждаются наличием самого этого вопроса. Часто
на Западе врачи фокусируют внимание на причине/
влиянии взаимоотношений, на диагностических
реалиях, нежели чем на потребности реагирования на
3 Однако, по мнению кляйнианского психоаналитика Ботт-
Спиллиус, фокусирование внимания на взаимоотношениях
уменьшает фокусировку на внутренней фантазии. Она
пишет (2001), что «концептуальная и клиническая фокусировка
на понятии фантазии, в особенности бессознательной
фантазии, как в Великобритании, так и во Франции склонна
включать в себя повышенное осознание бессознательного - этому
вряд ли следует удивляться, потому что бессознательная
фантазия является столь фундаментальным аспектом
бессознательного. Я высказывала предположение о том, что, хотя
имеется много индивидуальных вариаций, структурная модель и
психология Самости, взаимоотносительные и межсубъектные
модели склонны мешать фокусировке на динамическом
бессознательном».
222
Зависть и дурной глаз
подразумеваемые вопросы: почему я испытываю
боль, почему я страдаю, почему меня пугают мои
чувства?
Айша способна понимать свое несчастье и
страдание отчасти вследствие предположения мудрой
женщины о том, что принесенные ею сновидения
выражали несчастье. Как отмечает Шандор Ференци, то,
что делает человеческую связь крайне
травмирующей, так это отсутствие отклика со стороны
родителя/терапевта4. И наоборот, если терапевт/мудрая
женщина отзывчив и входит в мир пациента, знаком
с его чувствами, движущими силами и
замешательством, тогда его травматический стыд и чувство
одиночества могут быть смягчены, а доверие к
человеческим связям - восстановлено. Верования в дурной
глаз опираются на разделяемые культурные
ценности, которые обеспечивают защиту вследствие мощи
социальной (и индивидуальной) связности и
убежденности5.
Объяснительные системы воздействий дурного
глаза фокусируются на вопросах: Почему это
происходит со мной? Почему именно сейчас? Хотя мы
часто предполагаем, что в этих системах отсутствует
индивидуализм (потому что они опираются на груп-
4 Ferenczi. 1932. Pp. 193 ff.
5 Сравните понятие культурно обусловленных защит,
выдвинутое Милфордом Спиро в работе Culture and Human
Nature; theoretical papers of Melford E. Spiro, Benjamin Kilbome
and L.L. Langness, eds.
223
Глава одиннадцатая
повые процессы и коллективные символы), их акцент:
Почему это происходит со мной? Почему именно
сейчас? - представляется более специфически
индивидуалистическим, чем, например, объяснение
зависти к пенису6 как проявления универсальных,
бессознательных влечений. Ограничивать зависть
внутренним проявлением инстинкта смерти или
убийственными и инцестными желаниями, значит, загонять
ее в рамки внутреннего источника греховного
очарования и страха, изолированного и непередаваемого.
Объяснения воздействий дурного глаза связывают
зависть с уязвимостью, тревогой и потребностью в
человеческой связи: они осознают опасность и дают
возможность сообщать о том, что несет угрозу.
6 Говоря о зависти к пенису у женщин, Фрейд пишет:
«В физическом тщеславии женщины всё ещё сказывается
действие зависти к пенису, поскольку свои прелести она тем
более высоко ценит, что они представляются ей компенсацией
за первоначальную сексуальную неполноценность» (Freud.
1933. Р. 132). [Фрейд 3. Тридцать третья лекция. Женственность /
пер. с нем. Г.В. Барышниковой // Фрейд 3. Введение в
психоанализ: лекции. М., 1991. С. 383. - Прим. пер.] Подчеркивая зависть
к пенису, Фрейд, возможно, защищается против собственных
чувств стыда и неполноценности как завидующий женщинам
мужчина. Однако для Фрейда именно женщины
неполноценны, и переоценка ими своей красоты является видимым
доказательством мужского превосходства.
224
Глава двенадцатая
ДЖАМБАТТИСТА ВИКО,
ПЕСНИ И КОСТНЫЙ МОЗГ
Над совершенством строчки скрипеть
Должен и костный мозг.
Йитс У.Б. Молитва на старость
(Пер. с англ. Б. Ривкина)
Джамбаттиста Вико (1668-1744) пишет о том, что
осознание и понимание начинаются с сильных эмоций
и пения. «В качестве отклика на переполняющие их
чувства, люди разражаются пением»1. Для Вико,
страсти и пение предшествуют языку и мышлению, потому
что мышление приходит вместе с его границами.
Работа Вико имеет прямое отношение к главам в этой книге,
к нашим обсуждениям зависти, стыда, дурного глаза,
логики, истины, рациональности, бессознательной
мотивации, травмы и человеческой трагедии.
Джамбаттиста Вико обучался правоведению, жил
в Неаполе и оставил нам замечательный труд,
«Новую науку»2, в которой намечается радикальная
теория познания, где чувствам отдается первенство пе-
1 Vico. Р. 77.
2 [Основное сочинение Вико - «Основания новой науки об
общей природе наций». - Прим. пер.]
225
Глава двенадцатая
ред языком и мышлением в связи с тем, что мы
можем знать относительно природного мира. Для Вико
имеются две разные разновидности знания: знание
мира людей (то есть социальных явлений) и наше
знание природного мира. Это отличие незаменимо
для наших понятий трагедии и травмы, как я это
покажу в последующих главах.
Обращаясь к началам человеческого осознания,
Вико пишет, что вначале не было языка, а имелись
лишь страсти и чувства3. Противопоставляя свои
взгляды рационализму Декарта, Вико усматривает
происхождение осознания не в какой-либо
рациональной потребности формулировать мысли, не в
какой-либо теории семиотики или языка, а, скорее,
в эмоциях благоговения и ужаса, вызываемых
неистовой грозой. Первобытные мужчина и женщина сидят
в пещере, будучи неспособны говорить. Идёт
сильнейшая гроза, со вспышками молний и
оглушительными раскатами грома. Внезапно и в качестве
отклика на переполняющие его чувства мужчина (тенор?)
разражается песней, дающей начало языку и поэзии.
Для Вико песня, музыка и поэзия рождаются сообща.
Здесь уместно вспомнить высказывание Августина:
«Я чувствую, что различные эмоции сердца
порождают соответствующие им ритмы в стихах и песне,
где, посредством некоторого мистического родства,
3 Язык и мышление, по его мнению, возникли из песни, а
песнь - из чувств.
226
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
они делаются более живо воспринимающимися»4.
Именно сердце поёт длящуюся песню.
Для Вико всё то, что мы думаем или словесно
выражаем, обусловлено рамками наших структур
мышления. Именно потому что наше мышление порождает
собственные границы, наши жизни и переживания
намного их превосходят. Или, выражая эту же самую
мысль иным образом, так как наши жизни столь
обширны, наша способность рационально их обдумывать
сравнительно мала. В наших человеческих жизнях, по
сути, больше всего значат наши чувства, а не наши
мысли. Кьеркегор заметил, что проклятие человечества
заключается в том, что оно живет будущим, а мыслит
задним числом. Экстраполируя это высказывание на
современный мир, жизнь и мышление находятся не в
ладах друг с другом, когда философы, ученые и
социологи утверждают, что эти две разновидности знания
одинаковы, а сами фокусируют внимание на
мышлении и языке за счет исключения чувств.
«Думание костным мозгом» описывает подход
к думанию о том, что является существенно
человеческим и чему Вико дал ясное выражение. Чувства
благоговейного страха и благочестия, сильные чувства,
которые могут побуждать нас разражаться песней,
намного шире того, что мы можем постичь
посредством разума и языка.
4 Quoted in Brown, 1966, p. 173. Полезно сравнить акцент
Вико на песне с акцентом сказки на музыке и с отвращением
Фрейда к музыке.
227
Глава двенадцатая
Вико (1668-1744) родился позднее Гоббса (1588-1679)
и Спинозы (1632-1677); был современником
Ньютона (1642-1726/7); он был на одно или два поколения
моложе Джона Локка (1632-1704); он родился раньше
Давида Юма (1711-1776), Вольтера (1694-1778),
Монтескье (1689-1755), Руссо (1712-1778) и Дидро (1713-1784).
В своем главном труде La Scienza Nuova («Новая
наука», третье издание данного труда было
опубликовано в 1744) Вико подчеркивает фундаментальное
эпистемологическое отличие, которое следует проводить
между нашим знанием человеческого мира как
входящих в него людей, и нашим знанием природного мира
как постороннего нам. Он отличает, с одной стороны,
«conscienza», осознание и понимание, от «scienza», знания
или науки. Если, полагаясь на английский язык, мы
скажем, что Вико отделяет «осознание» от «науки», это
будет неверно, так как в итальянском языке слово
conscienza переводится на английский двумя словами,
«понимание» и «осознание». Такая путаница делает
аргументацию Вико более трудной для понимания, однако тем
более важной, так как в этом отличии наличествуют
этические скрытые смыслы.
Для Вико, «conscienza», эмоциональное знание,
осознание и понимание, образует эпистемологическую
основу il certo, как противопоставляемую scienza,
рациональному знанию природного мира (il vero). Данное
отличие стоит рассмотреть более внимательно, так как
оно наводит на мысль о сфере «понимания», которая
существует вне рациональной связности и логики,
напоминающей область сказки у русских.
228
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
Согласно объяснению Вико:
«Вначале людей переполняют чувства без какого-
либо их осознания, затем они воспринимают
происходящее в обеспокоенном и возбужденном душевном
состоянии, наконец, они размышляют с ясным умом. Эта
аксиома является принципом поэтических сентенций,
которые формируются чувствами страсти и эмоции,
в то время как философские сентенции формируются
посредством рассуждения и обдумывания. Чем в
большей степени философские сентенции поднимаются
к универсалиям, тем более они приближаются к
истине; чем ближе первые опускаются к частностям, тем
более определенными они становятся»5.
«Страсть и эмоция» предшествуют «рассуждению и
обдумыванию». То, что является исторически
предшествующим, - более фундаментально. «Истина»
(«универсалии») находится вне нас, в то время как
«определенность» («частности») - это то, чем мы живём.
Для Вико, il certo включает в себя понимание и
этику, в то время как il vero лежит выше и вне
человеческого мира, вне добра и зла. Для Вико чрезмерная
фокусировка внимания на природном мире является
hubris, склерозом рассудка, который исключает
страсти, моральную ответственность, невероятное,
неизвестное и непознаваемое. Также, подобная
фокусировка внимания отрицает существование сил вне
человеческого опыта, ту основу, опираясь на которую,
может иметь «смысл» разум совместно с чувствами.
5 Vico. 1744. Pp. 75-76, sections 218-219.
229
Глава двенадцатая
В то время как Декарт в «Рассуждении о
методе» (1637) сделал монолитное сомнение сердцевиной
своей системы и метода6, Вико провел отличие между
двумя разновидностями знания (il vero и il certo),
сделав их сердцевиной своей системы. Для Декарта
существует лишь одна форма достоверного сомнения
(или достоверной истины), лишь один прием для
нахождения «безусловно достоверного начала
знания»: для достижения которого необходимо
предварительно усомниться в показании наших чувств, во
всём наличном существовании. Это делает Декарта
скрытым сенсуалистом под личиной рационалиста.
Декарт (совместно с Локком) мостил дорогу для
традиции сенсуалистов XVIII века (например, Кондилья-
ка, Кондорсе, Юма, Гельвеция, Ламетри)7. Многие
6 Декарт характеризует сомнение как «le malin genie»
(«маленького дьявольского обманщика»), явно связывая сомнение
с дьявольским обманом, и противопоставляет его Божьей
истине. Таким образом, связывая сомнение с пониманием, а
понимание с обманом, Декарт выстраивает защиты против
тревог по поводу обладания истиной, таким образом, побеждая
своего маленького дьявольского обманщика.
7 Destutt'a de Tracy (Деспота де Траси), члена the Society des
Observateurs de L'homme, связывали с сенсуалистской школой
Кондильяка и Кабаниса. Однако в отличие от Кабаниса,
который фокусировал внимание на физиологической стороне
человека, Деспот де Траси фокусировал внимание на
«идеологии», науке о понятиях, включающих в себя
восприятие, память, суждение, воление. В его пятитомном труде
Eléments d'idéologie (1817-1818) есть том, посвященный
определениям идеологии, за которым последовали Commentaire
230
Джамбаттиста В и ко, песни и костный мозг
наши предположения о рационализме эпохи
Просвещения, о её стремлении к истине и отвращении
к невежеству могут быть усмотрены веком ранее у
Декарта8. Тема чувственной основы знания (которая
требовалась Декарту для её последующего
опровержения) была связана с понятиями воли. Этим связям
суждено было становиться ещё более сильно
выраженными в последующие века9.
Декарт основал свою теорию знания и истины на
методе сомнения в данных чувствах. Эмоция у него
отсутствует, как и чувство не-знания. И Декарт
вытаскивает кролика из шляпы, утверждая, что для него
единственной несомненной вещью является сам факт
сомнения. Однако ему требовалось поместить Бога на
sur l'esprit des lois de Montesquieu (1806) и Essay sur le génie, et
les ouvrages de Montesquieu (1808). В его четвертом томе, Traité
de la volonté, показательно фокусируется внимание на
понятии воли.
8 В этом отношении Фрейд будет намного более тесным
образом связан с Декартом, чем это часто предполагается.
Они оба высказывали тревогу по поводу сомнения, таким
образом, нуждаясь в некой форме несомненности.
9 В своей работе Discours sur la méthode, Декарт основывает
свою аргументацию на «сомнении», не оставляя места для
конфликтов или отличий между эмоциями и чувственными
впечатлениями. Её результатом, если посмотреть на него
всеобщим образом, будет сделать разум научным, а науку
разумной; сделать знанием лишь то, что может быть доказано и что
может рассматриваться как приемлемое, когда оно будет
обсуждаться в рамках преобладающих теорий причинности,
разума и логики.
231
Глава двенадцатая
небеса для подтверждения «истины» его метода
сомнения. Он также нуждался в Боге для подавления
сомнений (вследствие этого его сомнение не могло
разрастаться), так же как Платон полагался на
правителя философа для гарантии порядка в мире, даже
если никто больше не мог Его понимать. Так как
сомнение сфокусировано лишь на взаимоотношении
между восприятием (чувствами) и разумом,
подразумевается, что к тому, что существует вне
чувственного восприятия (вкупе с эмоциями), можно прийти
лишь посредством метода сомнения10. И этот процесс
является фундаментально рациональным, не
позволяющим какого-либо отличия между этикой и
философской истиной.
По контрасту Вико явным образом делает
восприятия зависящими от эмоций, таким образом
подвергая сомнению всю Декартову систему. Вико
основывает всякое понимание на страстях и на том, что он
описывает как «изменения человеческого разума».
Для него человеческое знание, постигаемое
посредством пяти чувств, обусловливается человеческими
заботами и поэтому основывается на том, что люди
могут знать - и чувствовать - внутри себя. Чувства
становятся неотъемлемой частью понимания.
10 Наличествует некоторая ирония в выборе Гейзенбергом
терминов, когда он описывает «принцип неопределенности».
В свете Вико то, что исследует Гейзенберг, необходимо
является неопределенным, так как это может быть лишь
«истинным».
232
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
Объектом «осознания» является «il certo», или
человеческое понимание; объектом «знания» является «И
vero», или истина в смысле универсально
применимых принципов. Начиная с XVIII века наука всё более
становилась безличным и эмпирическим
наблюдением, статистические данные и воспроизводимость
опыта были приняты в качестве главных стандартов,
посредством которых можно было судить о
надежности «объективного» знания.
Данная анти-картезианская установка Вико по
отношению к человеческому разуму и природе
понимания ставит его в оппозицию ко всей сенсуалист-
ской-рационалистической традиции, вкупе с
кантианскими предположениями. Подход Вико, таким
образом, расходится со структуралистскими,
постструктуралистскими, деконструктивистскими и
модернистскими предположениями, а также с
предположениями теоретиков рационального выбора, бихевиори-
стами, когнитивистами, нейробиологами и нейро-
учеными. Акцент Вико на главенстве чувств находится
в явном контрасте с акцентом современной
социологии на семиотических, когнитивных, лингвистических
объяснениях и моделях рассудка. Что касается
представления Уильяма Джеймса, что рациональность
является лишь чувством целесообразности, то у него на
первый план выходит чувство, а способы
конструирования мира лишь вторичны. Чувства направляют
восприятия, а восприятия образуют основу рассудка
и суждения, сам тот каркас для определения того, что
постижимо и непостижимо.
233
Глава двенадцатая
С точки зрения выдвигаемой Вико перспективы,
картезианский (и современный социологический)
подходы в самой своей основе искажают il certo, когда
не отрицают его целиком, подчиняя его тому, что
постижимо для il vero. Соответственно большая часть
науки и социологии основана на наблюдении и
критериях «объективности», которые исключают эмоции
наблюдателя в качестве существенно значимой части
предмета наблюдения, в действительности полагая,
что наблюдатель может и ему следует быть
невидимым и беспристрастным11. От социологов ожидается,
что они будут понимать без использования чувств.
Так как они объединяют в одно целое il vero и il
certo, социологи склонны неправильно истолковывать
причинность, когда она применяется к человеческому
миру. Позвольте мне проиллюстрировать конфликт
между объясняемыми мирами на примере работы
оксфордского социального антрополога Э.Э. Эванса-
Причарда «Магия и колдовство среди племени Азан-
де». Эванс-Причард отмечает, что Занде12 (которые
заняли часть того, что когда-то называлось
англоегипетским Суданом) строят свои дома на сваях,
которые иногда обрушиваются. Эванс-Причард пытался
объяснить им, что эти сваи поедаются термитами
11 См.: Devereux. From Anxiety to Method относительно
дискуссии, насколько существенно важны эмоции
наблюдателя в описании того, что он наблюдает.
12 Эванс-Причард описывает данное племя как племя
Азанде, а группы индивидов как Занде.
234
Джамбаттиста В и ко, песни и костный мозг
и что поэтому данная проблема возникает из-за
термитов.
Однако они никоим образом не были
удовлетворены этим объяснением, так как оно было безличным
и рассматривало термитов как средство
разрушения13: термиты были причиной, а крушение дома -
следствием. Для Занде подлинный вопрос стоял так:
почему данный конкретный человек сидел под домом
в тот конкретный момент, когда данный дом
обрушился? Когда уроженец Запада пытался им
объяснить, что причиной обрушения были термиты, они
не понимали, почему такой несущественный факт
мог выдвигаться как существенно значимый, потому
что он оставлял без ответа главный вопрос.
Объяснения обыкновенно оцениваются в
соответствии с типом задаваемого вопроса. На вопрос:
почему падают яблоки? - у нас есть готовый ответ: из-за
силы тяготения. Однако такой ответ не объясняет,
почему именно данное яблоко упало на мою голову
(а не на голову кого-либо еще) в данный конкретный
день, а не в другое время. Такая специфика
объяснения является существенно значимой частью
феноменов дурного глаза14.
13 Заманчиво сравнить такую тенденцию рассматривать
термитов как средство разрушения с кляйнианским и
фрейдовским акцентом на деструктивное™, жестокости и зависти.
14 Она также образует неиспользованный ресурс для
психоаналитического акцента на ситуации здесь и сейчас
переноса в аналитических взаимодействиях.
235
Глава двенадцатая
Вико замечает в конце своей книги: «Эта Наука
[его Новая Наука] неразрывно связана с
исследованием благочестия, и тот, кто не благочестив, не может
быть подлинно мудрым»15. Осознание того, что
имеется базисное отличие между человеческим и
природным миром, является поэтому базисным актом
благочестия, их соединение в одно целое, как это
склонна делать рационалистическая, эмпирическая и
сенсуалистская традиция, представляется
выражением отсутствия благочестия, hubris, и невежества16.
Вико пишет, что то, что является божественным,
происходит от латинского слова divini, служащего «для
объяснения того, что скрыто от людей, - их будущего
- или того, что скрыто в них самих, - от их осознания
(сознаний)»17. Данное осознание, о котором пишет
здесь Вико, является пониманием того, что делает нас
людьми, которое необходимо включает в себя чувства
благочестия и благоговения.
Для Вико, человеческий мир является областью
благочестия и благоговения, непреодолимых эмоций.
15 Vico, Ibid. P. 426, section 1112.
16 Для Эмиля Дюркгейма. подразумеваемое благочестие
в исследовании общества - неотъемлемая часть его
монументального труда Les formes élémentaires de la vie religious
(«Элементарные формы религиозной жизни»). Для него
социология религии в силу самого этого факта является
религиозной социологией. По сути, лля Дюркгейма (как и для Вико)
благочестие подразумевается в исследовании социальных
процессов и является неотъемлемой частью попыток их
понимания. См.: Kilborne В. The Role of Faith...
17 Vico. P. 102.
236
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
«Понимание» поэтому основывается на границах
человеческого познания и на всём том, что
определяется как крайне уместное для человеческих жизней.
В своем, возможно, наиболее примечательном
пассаже в La Scienza Nuova Вико пишет:
«Но в ночь непроглядной тьмы, окутывающей
самую глухую древность, столь далеко отстоящую
от нашего времени, сияет вечный и неизменно
горящий свет несомненной истины: что мир гражданского
общества несомненно был построен людьми, и что
его принципы следует поэтому искать внутри
модификаций нашего собственного человеческого
рассудка. Всякий, кто рассуждает об этом, не может не
подивиться тому, что философы направляли всю свою
энергию на изучение мира природы, который, так
как он был создан Богом, только Ему одному и может
быть известен, и что они пренебрегали изучением
мира людей, или гражданского мира, который, так
как он был создан людьми, только люди и могут
познать»18.
Заманчиво сравнить этот пассаж Вико со словами
Августина: «Люди с изумлением взирают на горные
вершины, на бескрайние морские приливы и отливы,
на широкое течение рек, на окружающий их океан и
движения звезд и, в то же самое время, остаются о себе
в неведении, они не взирают на себя с изумлением»19.
18 Vico. 1744. Р. 96, section 331.
19 Quoted in Brown. 1962. P. 162. Сравните менее успешный
перевод Марии Боулдинг: «Люди восхищаются высокими го-
237
Глава двенадцатая
Имеются два типа благочестия и благоговения, один,
связанный с «il certo», и второй, связанный с «il vero».
Такое эпистемологическое отличие между
природным и человеческим мирами, основанное на том, что
уместно, а что нет, для жизни людей является
фундаментально важным для наших понятий
понимания, истолкования, причинности и объяснения. Оно
крайне уместно для нашего понимания отличий
между естественными и гуманитарными науками.
К сожалению, психоанализ и социальные науки
ненужным образом отождествляют себя с «il vero» для
того, чтобы казаться «научными». Хотя Фрейд и
психоаналитики полагаются на эти «научные» взгляды
для своих истолкований, психоаналитическая
практика более фундаментальным образом связана с il
certo, чем с il vero. Именно страдание, а не очарованность
психоаналитическими теориями, приводит
пациентов на анализ.
Для Вико то громадное время, энергия и
работа мысли, которые были затрачены на размышление
о природном мире, отвлекали внимание от
человеческого мира, столь важного для жизни людей.
«Такое заблуждение было следствием той
безбрежности человеческого рассудка, вследствие
которого, будучи погружен в тело и спрятан в нем, он
естественно склонен обращать внимание на телесные
рами, громадной силой и грохотом морских волн, бескрайней
протяженностью океана и пляской звезд на небе, но упускают
из виду себя» (р. 189).
238
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
вещи и находит усилие обратить внимание на самого
себя излишне утомительным; точно так же, как глаз
в теле видит все объекты, кроме себя, однако
нуждается в зеркале, чтобы себя увидеть»20.
Проведенное Вико отличие между il certo и il vero
становится еще более уместным для социальных наук
и психоанализа, если рассмотреть его в свете
«Автобиографии» Вико, в которой явным образом
связывается его личная борьба и унижения в годы учебы
с генезисом его идей и теорий в La Scienza Nuova.
Поступая таким образом, он полагал, что идет по
стопам философа Лейбница, который предписывал
авторам «показать нам историю своих открытий и тех
шагов, посредством которых они к ним пришли»21.
«Автобиография» Вико, которая многим обязана
исповедальной литературе (включая в особенности
«Исповедь» Августина), является летописью личного
пути, рассказом о тех трудностях и страданиях,
которые привели его к определенным идеям и
убеждениям; она также является попыткой связать жизненный
опыт личной борьбы, стыда и страдания с
теоретическим пониманием.
20 Vico. Р. 97. Вико намеренно использует метафору зрения,
непосредственно связанного с чувственным восприятием, для
иллюстрации того, как чувственные восприятия нуждаются в
более широком контексте (зеркале) для нашего понимания
самих себя. Поэтому без чувства благоговения и понимания И
certo, согласно Вико, невозможно постижение того, что
наиболее важно и уместно для наших жизней.
21 Vico. Autobiography. P. 5.
239
Глава двенадцатая
По большей части современные социальные
исследователи не смогли последовать предписанию
Лейбница22 или пойти по пути Вико. Фрейд лично уничтожал
свою переписку не менее трех раз за время своей
жизни, так что никто не смог проследить зарождение его
идей23, и он отверг выгодное предложение написать
свою автобиографию24. Фрейд не только усердно
скрывал свое постыдное и травматическое детство25, но так-
22 Эрнест Джонс, биограф Фрейда, частично
придерживался линии представления жизни Фрейда через его работу,
а не наоборот. Другие биографические исследования, такие
как L'autoanalyse de Freud (Didier Anzieu) или труд Питера
Гея, следуют его примеру. Психоанализ был бы в наше время
во многом иным, если бы Фрейд ранее посчитал стоящим
делом написать автобиографию, связывая ясным образом свои
теории со своей жизнью, с её разочарованиями и ложными
началами движения, со своей личной историей травм,
душевных болей и замешательства.
23 В 1877, в 1885 и в 1907. См.: Rudnytsky. Pp. 8 ff.
24 Его племянник Эдди Бернайс настойчиво обращался
к Фрейду с предложениями о сотрудничестве и содействии.
В 1929 он нашел издателя для автобиографии Фрейда,
который предлагал задаток в 5000 долларов, огромную сумму для
того времени.
Фрейд написал в ответ:
«Это предложение, конечно, является невозможным...
Психологически полное и искреннее изложение жизни,
однако, потребует столь многих нескромных откровений о семье,
друзьях, противниках (большинство из которых еще живы) ...
что с самого начала становится невыполнимым». Туе. Р. 191.
25 Как и Мелани Кляйн, Анна Фрейд и многие другие,
Фрейд умышленно предпочел определять себя через свои
240
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
же в ранней юности уничтожил всю свою
корреспонденцию со следующим комментарием: «Пусть
нервничают биографы, мы не сделаем их задачу
слишком легкой. Пусть каждый из них будет уверен
в своей правоте в собственной "Концепции развития
героя"26: даже теперь я испытываю удовольствие при
мысли о том, как все они будут заблуждаться»27.
Он отвергал свой долг благодарности перед другими
людьми, представляя дело таким образом, как если
бы психоанализ возник ex nihilo (из ничего), неудачная
попытка, которая сделала историю психоанализа
ненадежным предприятием28.
теории, отказываясь даже косвенным образом признавать
свои ошибки. Почему Фрейду не удалось продолжить
традицию Вико (и откликнуться на потребность большего знания о
Фрейде от самого Фрейда), является вопросом, крайне
уместным для истории психоанализа и для европейской
интеллектуальной истории.
26 Фрейд таким образом, сам воспринимал себя в качестве
героя и представлял, как других будет интересовать его героизм
и слава. Здесь уместны строки из Готорна: «Если бы самые
сокровенные его чувства могли быть открыты, тогда было бы
обнаружено, что его мечта о немеркнущей славе, которой он был
охвачен, была сильнее тысячи реалий» (Quoted in Breger. P. 39).
27 Breger. P. 1. [См.: Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда
Фрейда / пер. с англ. В.В. Старовойтова. М., 2018. С. 31. - Прим. пер.]
28 Будучи непреклонно твердым в своем отрицании, Фрейд
решительно отверг упрек Жане, что он [Фрейд] украл его идеи
и дал им другое название. [См.: Джонс Э. Жизнь и творения
Зигмунда Фрейда / пер. с англ. В.В. Старовойтова. М., 2018.
«...Когда французские авторы пустили в ход клевету, будто я
241
Глава двенадцатая
Il certo зависит от концепции человека как центра
своего мира. В рисунке вписанного в круг человека у
Леонардо ясно видно, что есть внешний периметр,
которого человек не может достичь. Будучи эписте-
мологически близок к Ренессансу, Вико выстраивает
аргументацию, согласно которой il vero «факты»
никогда не достигают статуса достоверности,
предназначенного лишь для il certo. Наше слово «факт»
происходит от латинского «facio», означающего «делать».
слушал его лекции и украл его идеи, он мог одним словом
положить конец всем этим толкам... Такого слова он не
сказал». С. 433. - Прим. пер.] Что касается других лиц, Фрейд
минимизирует свой долг перед, например, Ницше и
Шопенгауэром, Christian Science, Уильямом Джеймсом, Дюркгеймом,
Моссом и Кьеркегором. И когда они упоминаются, его ссылки
в действительности ничего не говорят об эмоциональных
связях с ними Фрейда. То, что психоанализ не возник ex nihilo,
становится еще яснее, когда принимаешь во внимание, как
Фрейд отвергает свой долг перед теми, кто писал о
коллективном опыте: перед французскими историками, пишущими об
«умонастроениях», Дюркгеймом и дюркгеймианцами
(включая Марселя Мосса); Ван Геннепом, Хальбваксом и другими
социологами, пишущими о коллективных представлениях;
исследователями, пишущими о психологии группы или
толпы (например, Тардом, Лебоном, Вундтом и т.д.); и перед Ле-
ви-Брюлем, пишущим о «первобытном мышлении». Все эти
традиции фокусировали внимание на коллективном объеме
человеческого опыта (социальной солидарности,
коллективных представлениях и т.д.). Все они явно или имплицитно
придавали особое значение взаимоотношениям и
привязанностям.
242
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
Связанные с акцентом Ренессанса на делании и
понимании через делание факты тогда являются тем,
что мы делаем. Для Вико, мы несем ответственность
за то, что делаем, и можем это понимать совсем
иным образом, отличным от нашего понимания
природного мира. Однако парадоксальным образом мы
неразборчиво применяем слово «факт» к
человеческому и природному мирам. Оно стало главным
образом связываться с тем, что является безличным,
бесспорным, рационально демонстрируемым,
надежно определенным и научным, значимым образом
смешивая il certo и il vero.
Для Вико то, что было создано Богом (природный
мир), лежит выше и вне области надежности,
относящейся к деланию, человеческого понимания,
которое является неотъемлемой частью нашей
человечности. Мы можем лишь «il certo» понимать, что мы
сделали. То, что не было сделано нами самими, мы
никогда не можем столь же убедительным образом
знать; мы не можем таким же самым образом быть
эмоционально в это вовлечены.
Подчеркивая акцент Ренессанса на «понимании»
в процессе «делания», он пишет: «Правилом и
критерием истины будет делать это. Поэтому данная ясная
и особая идея рассудка не только не может быть
критерием для других истин, но не может быть
критерием истины для самого рассудка; ибо в то время как
рассудок понимает себя, он себя не делает, и потому
что он не делает самого себя, он не ведает о той фор-
243
Глава двенадцатая
ме или о том образе действий, посредством которых
он себя постигает».
И Вико продолжает: «Рассудок постигает лишь то,
что производит, после составления собственного
плана»29. Другими словами, он не может выходить за
пределы своих построений. Сделанный Леонардо
рисунок человека с распростертыми руками изображает
находящееся вне этого круга как для него
недосягаемое. Конструкции рассудка конституируют очень
малую часть человеческого опыта, так как столь многое
зависит от того, что мы не можем понимать (то, что
находится вне этого круга).
В рационалистической традиции непонятное
является ipso facto (в силу самого этого факта)
подозрительным, областью страха и тревоги, нуждающейся
в рациональном истолковании (например,
фрейдовское бессознательное). Наша христианская традиция,
с недоверием относящаяся к телесным эмоциям как
местам греха, факторам обмана, наполнила
скептицизмом сенсуалистскую традицию Декарта, Кон-
дильяка, Локка и продолжает своё воздействие в
наше время. Согласно этой традиции чувства могут
быть надежными источниками объективного
положения дел при том условии, что они наблюдаются
издали и не посредством нашего человеческого
переживания. Другими словами, чувственные
переживания могут быть заслуживающими доверия, лишь
если они универсальны (il certo), то есть находятся за
29 Ibid. Pp. 38-39.
244
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
пределом нарисованного Леонардо круга. Какое же
еще большее недоверие к телесным эмоциям смогло
поместить их столь далеко вне областей
переживаемого опыта? Недвусмысленные намеки на этот счет
можно найти в истории проблемы души/тела30.
Для той эпистемологической традиции, частью
которой является Фрейд, бессознательное прямо не
познаваемо, в теории доступно истолкованию, но мы
не несем никакой ответственности за его содержание.
По контрасту, придерживаясь идей Вико, то, что
представляется непостижимым, по определению
недоступно когнитивному или рациональному
познанию. Тем не менее мы столь же за это ответственны,
так как это было создано нами. Поэтому мы несем
ответственность за то, что позволяем существование
непостижимого, в особенности потому, что не можем
его «понять». Соответственно мы нуждаемся в
существовании травмы и трагедии, потому что не можем
рационально их «понимать»; мы можем лишь
переживать их посредством наших чувств.
Сам акцент Вико на различии между il certo и И
veto выражает акт благочестия, отсутствующий в
общественных науках. Например, психоаналитические
объяснения призваны выполнять двойную
обязанность: они должны одновременно удовлетворять
научным критериям обоснованности, в то же самое
30 Для исследования тех конструкций, от которых мы
зависим в обдумывании психологических процессов, требуется
борьба, исход которой всегда точно не известен.
245
Глава двенадцатая
время помогая приводить в равновесие мир эмоций
и отзываясь на человеческое страдание. Неизбежно,
их эффективность в первом случае может быть не
в ладах с их эффективностью во втором случае,
и наоборот. Смешивая и объединяя il certo и il vero,
психоаналитики лишают себя той святой почвы
страдания, от которой зависит их законность.
Вико подробно обсуждает проблему
происхождения богов в следующем отрывке: «Так что страх
породил богов в мире, не страх, пробуждаемый в людях
другими людьми, а страх, пробуждаемый в них ими
самими»31. Согласно Вико, вначале идут чувства,
затем восприятия и лишь в конце мысли. Этот порядок
неизменен. Данная формулировка Вико отчетливо
объясняет отличие не между индивидом и
культурой32, общественным и приватным, а, скорее, между И
certo и il vero. Вначале наличествуют люди и людские
сердца. Теории и истолкования являются лишь
движением вдоль этого пути33.
31 Ibid. Р. 120 (section 382).
32 Теоретическое отличие в социальных науках между
индивидом и культурой (свободной волей и детерминизмом)
будет, таким образом, представать связанным как с
противоречиями в связи со свободной волей в христианской традиции
(как мы можем обладать свободной волей, если Бог
всемогущ?), так и с нашим вкладом в западный индивидуализм.
33 «Вначале леса, затем обрабатываемые поля и хижины,
затем небольшие дома и деревни, затем большие города,
наконец, академии и философы» (Vico. Р. 14 (I: 22)).
246
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
Исайя Берлин (1909-1997)34, родившийся в России
и обучавшийся в Оксфорде, в действительности один
среди крупных философов выделяется наличием у
него интереса к проводимым Вико отличиям между
естественными и гуманитарными науками. Понять
историю (и наши культурные традиции, при помощи
которых мы ее понимаем) - значит понять
посредством воображения (Вико называет это фантазией)
в целом ее «менталитет», распространенные в
рассматриваемые исторические периоды системы верований
и культурные традиции. Берлин пишет: «Такого рода
знание не является знанием фактов или логических
истин, поставляемых наблюдением или науками, или
дедуктивным рассуждением; это также не знание того, как
производить товары... Это больше похоже на то знание,
которое мы хотим иметь о друге, о его характере, об
образе его мышления и действия; некое интуитивное
понимание нюансов личности....»35 Мы возвращаемся в
мир сказки и дурного глаза.
34 Берлин считает, что у Вико уникален его принцип, что
«понимать историю, значит понимать, что люди сделали из
того мира, в котором оказались, каковы их требования к нему,
каковы испытываемые ими потребности, цели и идеалы».
Но он не заходит столь далеко, чтобы утверждать, что имеется
связь между моральной ответственностью и непониманием,
или, что для того чтобы быть этически ответственными, нам
требуется исследовать собственные восприятия и границы
мышления. Он также не фокусирует внимание на понятии
благочестия у Вико в связи с наличием границ мышления и
его значимости для того, что непостижимо.
35 Berlin. Р. 352.
247
Глава двенадцатая
Социологи часто утверждают, что их конструкции,
вкупе с логикой и убедительностью их теорий и с их
опорой на «факты», достаточны для того, чтобы
делать их «истинными». По контрасту, Вико полагает,
что лишь через ограничения и неопределенность,
присущие нашим конструкциям, мы получаем
доступ к тем эмоциям, от которых зависит il certo.
Понятие Вико о том, что не является рационально
постижимым, что превышает границы понимания36
и бросает вызов усилиям добиться связности и
правдоподобия, указывает на сущностную значимость
человеческих эмоций и беспокойств в определении
того, что важно знать и как можно это «знать» (и не
знать). Это явным образом выражено в русской сказке
и также в музыке37.
36 См.: Kilborne В. Trauma and the wise baby, где
описываются движущие силы неведения, и каковы эти
аффективные отклики на тревогу и образцы знания. [См. Килборн Б.
Травма и «мудрый» младенец // Килборн Б. Травма, стыд и
страдание / пер. с англ. ß.ß. Старовойтова. М., 2019, С. 174-201. -
Прим. пер.]
37 Платон отмечал, что обучение музыке является более
могущественным инструментом, чем любой другой, потому
что ритм и гармония находят путь в потаенные места души.
Создатели великого аббатства Клюни во Франции
использовали математические понятия гармонии и знание акустики
для создания особого пространства, обеспечивающего
наилучшее звучание церковного пения. Знание математики, идеалы
гармонии и формы были здесь объединены для создания духа
набожности.
248
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
Другими словами, для Вико решающие факторы
человеческих жизней лежат внутри «изменений
человеческого склада ума», которые для Вико запечатлены
в ходе исторического развития38, включая те способы
истолкования, которыми может познаваться история.
То, что Вико имеет в виду под «человеческим складом
ума», заметно отличается от того, что имел в виду
Фрейд, когда писал о психической реальности. Они
оба, по-видимому, называют те реалии, которые
определяют человеческие жизни. Однако для Вико
это ощутимые чувства, в то время как для Фрейда это
бессознательные силы (влечения), о наличии которых
можно судить по их воспринимаемым проявлениям,
которые можно истолковывать. Для Вико эти реалии
являются той основой человеческого существования,
опираясь на которую можно конструировать, сколь
много или мало может постигаться рациональным
образом.
38 Психоаналитический подход к истории был полон
противоречий. Пытаясь избежать репутации выдумщика (слова
«рассказ» и «история» этимологически связаны в английском
и являются одним и тем же, например, во французском и
итальянском, histoire и historia соответственно), Фрейд
перепрыгивает от «истории» рода к «истории» индивида, избегая
пластов неопределенности и истолкования, неверного
понимания и социального (и психологического) использования
исторических фигур и периодов, которые составляют
неотъемлемую часть истории. Вдобавок к этому - что еще более
запутывает всю картину - Фрейд подчеркивал, что
бессознательному неведомо понятие времени.
249
Глава двенадцатая
Именно потому, что мы не можем рациональным
образом выходить за пределы наших построений,
неверно полагать, что за их пределами нет никакого
знания. Осознание границ наших построений
является, таким образом, необходимым и
облагораживающим (хотя и постыдным) актом благочестия. А
благочестие, для Вико, указывает на наличие чувств
которые затем обрамляют мышление и непонимание.
Согласно Вико, для того чтобы быть вполне
человечным, требуется благочестие и стыд; благочестие
является неотъемлемой частью той открытости, которая
требуется для признания существования того, что
индивид не может понимать39. Вико напоминает: «Тот,
кто не является благочестивым, не может быть
истинно мудрым».
Вико оказал громадное воздействие на ряд
мыслителей, от Бенджамина Франклина до Мишле, от Гоголя и
Маркса до Кольриджа, Йитса и Джойса, от Кроче до
Эдмунда Вильсона, Коллингвуда и Троцкого40. Йитс
39 В отличие от него Фрейд, ученый, находящийся в
поисках «истины», использует истолковываемый страх и ужас,
чтобы населить им своё бессознательное и усердно исключает
благочестие.
40 По контрасту, Фрейд опирается на эволюционную/
ламаркистскую тему краткого повторения филогенеза в
онтогенезе и на силы, «размещающиеся» в том, что он определяет
как бессознательное (рода, например, в таких произведениях,
как «Тотем и табу», «Недовольство культурой», «Моисей и
монотеизм»), однако ничего не пишет о своем личном опыте
жизни в еврейском гетто, или о своих переживаниях в связи
250
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
пишет: «Вико был первым современным философом,
обнаружившим в своем складе ума и в европейском
прошлом всю судьбу человечества»41. Под «складом
ума» Йитс имеет в виду, что Вико упоминает латинское
выражение mens animi, «душевный склад ума»42.
Вико использовал собственную борьбу в
специфическом контексте академической политики и
соперничества в Неаполе в качестве иллюстрации своего
подхода к изучению истории и того, что делает её
уместной для жизни людей; он опирается на
собственную историю для иллюстрации уместности
унизительной академической травмы для завершения
им своего важнейшего труда.
«Ибо посредством этого труда я почувствовал себя
новым человеком; я более не отшатываюсь от тех
вещей, которые когда-то побуждали меня скорбеть по
поводу моего тяжкого жребия и осуждать
продажность той писательской братии, которая была
причиной этого жребия; ибо эта продажность и этот
жребий сделали меня сильнее и позволили завершить
этот труд»43.
с Первой мировой войной, распадом Австро-Венгерской
империи или усилением фашизма.
41 Vico, (Introduction), quoted. P. 99. Однако Вико вносит
усложнение в свое понятие, ссылаясь также на латинское
отличие anima vivimus и animo sentimus, означающее, что
посредством души мы обладаем жизнью, а посредством духа -
чувством.
42 Ibid. Р. 149.
43 Ibid. Р. 15.
251
Глава двенадцатая
Вико говорит о громадности человеческого
рассудка и о потребности саморефлексии. «Знание себя
является для каждого из нас сильнейшей
побудительной причиной сжатого исследования каждой области
знания»44.
О себе Вико пишет:
«Вико был чрезмерно вспыльчивым. Хотя он как
только мог сдерживал проявление этой своей черты в
своих трудах, он публично признавался в этой
слабости. Он имел обыкновение излишне яростно
поносить ошибки мысли или нехватку эрудиции и дурное
поведение той писательской братии, которая с ним
соперничала... »45
Способность Вико описывать свой стыд и обиду,
когда ему было отказано в той должности, которую
он по праву должен был занять, является
выражением его свободы от зависти и горечи, которое сразу
делает его видение истории уместным, личным и
человеческим. Испытываемый Вико стыд ярко
представлен в использовании им ренессанснои традиции
терпения, благоговения и красоты на службе
человеческого достоинства46. И действительно, можно пока-
44 Ibid., quoted. P. 140. В этом, Вико является прямым
наследником исповедальной традиции как Платона, так и
Августина. Самопознание является sine quo non (необходимым
условием) свободы мышления.
45 Ibid. Р. 199.
46 В этом он следует традиции Пико делла Мирандолы,
который начинает свой трактат De hominis dignitate («Речь о
достоинстве человека») (1486) следующими словами: «Я прочи-
252
Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг
зать, что испытываемый Вико стыд оставляет место
для человеческой уязвимости, незнания и
благочестия, открываясь поэтому в безбрежность
находящегося вне досягаемости мира.
Вико занимает позицию благоговения перед
чувством того, что мир существует в эмоциях вне охвата
рациональным мышлением, и они - неотъемлемая
часть нашей человеческой природы, потому что лишь
мы, будучи людьми, можем их испытывать. Эта
позиция прочно связывает его с миром древних греков,
с их традицией трагедии, травмы и исторического
воображения47.
тал, уважаемые отцы, в писании арабов, что когда спросили
Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным
в мире, то он ответил, что ничего нет более замечательного,
чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия:
«О Асклепий, великое чудо есть человек!» [Пико делла Миран-
дола. Речь о достоинстве человека / пер. с итал. Л. Брагиной //
Эстетика Ренессанса. М, 1981. С. 248. - Прим. пер.] Отметим
здесь взывание к Асклепию как защитнику гуманизма (и
имплицитно терпимости). Отметим здесь также ссылки на
арабов. Этот текст также имеет отношение к халдеям и к
различным не христианским источникам, упоминание которых
показывает терпимость и широту взглядов Вико.
47 То, что должно «получить новую жизнь» (Rinascita),
вначале должно быть представлено в фантазии.
253
Глава тринадцатая
ЭДИП, ТРАВМА И РОД КАДМОСА
Я для себя лихорадка и боль.
Английская баллада
Труды Вико, с их акцентом на чувствах,
человеческих ошибках и благочестии, непосредственно
приводят нас к трагическому непониманию. Когда в
течение некоторого времени мы сталкиваемся с тем,
чего не можем понять в связи с ограниченностью
нашего знания, которое порождает нашу
обеспокоенность, мы неожиданно встречаемся с трагическим
непониманием как неотъемлемой частью
человеческого существования.
Трагедия Эдипа обусловлена чувствами
непонимания, нашим человеческим откликом на травму,
которая по определению превосходит нашу
способность понимания. Для Аристотеля, именно чувства,
связанные с непониманием и оплошными
поступками (hamartia), оказывают этическое воздействие и
связывают травму и трагедию. Травма является душой
трагедии, и трагедия поэтому лежит в основе этики.
Эдип поддался обману, был пойман в паутину
проклятий и межпоколенческой травмы, будучи, по
сути, не в состоянии изменить свою судьбу. То, что
Эдип не понимает и что он отказывается признавать,
254
Эдип, травма и род Кадмоса
включает травму его предков, которая, по-видимому,
является частью смысла судьбы. Однако Фрейд и
современные авторы полагают, что Эдип уникален,
не подвержен капризам судьбы, является хозяином
своей души и господином своей судьбы, современным
героическим Адамом/Прометеем, готовым бросить
вызов богам. Или же, в противном случае, он
рассматривается как жертва невроза судьбы. Эти
неправильные представления воспринимались как
пробирное клеймо трагедии.
Ошибочен не только наш собственный взгляд на
трагедию Эдипа, но также наше понимание семейной
истории. Любой клиницист, который захочет
углубиться в семейную историю Эдипа, найдет её
приводящей в совершенное недоумение. И в этом всё дело.
В травмированных семьях с толку сбит не один лишь
индивид; за ним стоят поколения людей, сбитых с
толку, которых всех объединяет чувство
замешательства и непонимания.
В родословной линии Кадмоса, из которой
происходит Эдип, фактически ни один член семьи не
уверен в своей родословной. Их всех усыновляли
(удочеряли), по меньшей мере один раз и, возможно,
несколько раз. Поэтому нет никакой семейной линии,
которую можно было бы изучать. Опора на
генеалогии, в которых поколения частично совпадают, а дети
ошибочно принимают своих приемных родителей за
своих «подлинных» родителей, приводит лишь к
чувству безнадежной путаницы. Путаница Эдипа по
поводу своих родителей, таким образом, связана с ситу-
255
Глава тринадцатая
ацией семейной травмы и трагедии и лежит в основе
его путаницы по поводу собственной идентичности.
Идя по следам семьи Эдипа, невозможно
избежать чувства дезориентации и полного беспорядка.
Мы напрасно пытаемся ухватить связующие нити
непрерывности в столь разорванной на части семье,
столь лишенной какого-либо чувства безопасности,
так что в ней невозможно найти какой-либо порядок,
который мог бы прийти к нам на помощь.
Бесполезно пытаться «понять».
У нас нет другого выбора, кроме как принять всё
как есть или целиком не признавать историю данного
рода, бесформенную и преследующую наше
воображение. Эдип происходил из рода Кадмоса, о котором
нет никакого упоминания в сокращенной версии
истории Эдипа, которая приводится в Encyclopedia Brit-
tanica (11-е издание).
«Согласно древнегреческому мифу, [Эдип
является] сыном Лая, царя Фив и Иокасты. Лай, будучи
предупрежден оракулом, что он будет убит собственным
сыном, приказал бросить новорожденного младенца
с проколотыми сухожилиями у лодыжек умирать в
дикой местности. Поэтому Эдип рос в неведении
относительно своих родителей и, повстречав на узкой
дороге Лая, вступил с ним в ссору и его убил. На
Фивы было наслано чудовище, Сфинкс, уничтожавшее
его жителей; Эдип решил загадку Сфинкс, которую
она предлагала разгадать своим жертвам, освободил
страну и женился на собственной матери. В Одиссее
говорится, что боги раскрыли это нечестивое деяние.
256
Эдип, травма и род Кадмоса
Эпикаста (как Иокаста называется у Гомера)
повесилась, и Эдип царствовал в Фивах, жителей которых
преследовали Эриннии, материнские богини мести.
У древнегреческих поэтов-драматургов данный миф
принимает другую форму. Эдип исполняет древнее
пророчество, убивая своего отца; он является слепым
орудием в руках судьбы. Последующая трактовка
данного мифа Эсхилом неизвестна. Софокл
описывает в своей драме "Эдип-царь", как Эдип был полон
решимости разгадать тайну убийства Лая и, таким
образом, распутал эту темную историю и, в ужасе от
содеянного, выколол себе глаза. Продолжение данной
истории приводится в "Эдипе в Колоне". Будучи
изгнан своими сыновьями, он окружен любящей
заботой своих дочерей. Он приходит в Аттику и умирает
в роще Эвменид в Колоне, будучи в своей смерти
благословлен и прощен той судьбой, которая
преследовала Эдипа на протяжении всей его жизни».
Согласно этому тексту, «Эдип был полон
решимости разгадать тайну убийства Лая и, таким образом,
распутал эту темную историю и, в ужасе от
содеянного, выколол себе глаза». Эдип упрямо стремился
открыть, как умер Лай. Однако в Encyclopedia Brit-
tanica также говорится, что данное повествование у
Софокла следует сравнить с другими версиями
поэтов-драматургов, в которых оно принимает иную
форму. В них Эдип исполняет древнее пророчество,
убивая своего отца; он является «слепым орудием
в руках судьбы». Другими словами, исходя из
современной перспективы, утверждается, что имеется
257
Глава тринадцатая
базисное противоречие между двумя этими
версиями, которое увеличивает наше замешательство.
Сюжет, представленный в Encyclopedia, по сути,
вырывает Эдипа из контекста проклятой семейной
линии, представляя часть вместо целого (pars pro total).
Эта версия составляет лишь малую часть саги о меж-
поколенческой травме, зависти, стыде, отчаянии и
путанице относительно собственной идентичности.
В феческих сказаниях каждый из предков по линии
Кадма страдает от катастрофической травмы в
детстве и утраты одного или обоих родителей.
Предполагаемое противоречие между версиями
относительно сюжетной линии Эдипа в Encyclopedia
устраняется при рассмотрении подоплеки данной драмы.
Однако то, что выделяется на этом фоне, является
трагической природой сил, находящихся вне
понимания или воли характеров драмы. Поэтому она не
является в своей основе трагедией о герое как «слепом
орудии судьбы». Скорее, как это подчеркивает
Аристотель, она непосредственно связана с katharsis и ham-
artia (катарсисом и оплошным поступком), с офани-
ченностью человеческого понимания, конфликтом и
эмоцией. Борьба Эдипа является глубоко
человеческой борьбой. Упомянутая в этом описании
«слепота» поэтому намного более сложна - и намного более
человечна, - чем это подразумевает характеристика
Эдипа как «слепого орудия судьбы» или как
непослушного Адама.
258
Эдип, травма и род Кадмоса
Семейная линия Эдипа
Эдип становится сиротой, когда Лай и Иокаста
отдают его пастуху, перед этим проколов ему булавкой
сухожилия у лодыжек, приказав тому оставить его
умирать (отсюда его имя Эдип, «с опухшими
ногами»). Однако отметим, что в данной семье имеется
длинная традиция брошенности: его отец и деды
утратили своих отцов в младенчестве. От Лая
отказывается его отец, Лабдак, а от Лабдака ранее отказался
его отец, Полидор. Лай и его отец Лабдак были
отданы под попечительство Лукуса, который был
заменителем отца для обоих, еще более запутывая
взаимоотношения между поколениями.
«Мать» Эдипа Иокаста была внучкой Пенфея, как
и её муж («отец» Эдипа) Лай был внуком Пенфея.
В многочисленных и различных версиях этих историй
поколения перемешиваются друг с другом,
наличествует множество семейных конфликтов и
соперничество детей в семье; имеется много властолюбивых
правителей, правящих от лица юных цариц; имеют
место убийства, соперничество, проклятия и
отсутствующие связи.
Где-то между Кадмосом и Полидором мы видим
Пенфея, второго царя Фив, «страдальца», от
греческого «Penthos», печаль или горе, в особенности по поводу
утраты любимого. И Пенфея действительно ждет
печальный конец. Он в буквальном смысле слова разорван
на части и убит на горе Киферон своей матерью,
своими тётями и другими последовательницами Диониса.
259
Глава тринадцатая
В «Вакханках»1 Эврипида говорится, что он взобрался
на дерево, чтобы, спрятавшись, увидеть своими глазами
оргии вакханок. Однако когда вакханки его
обнаружили, они на него набросились и растерзали, приняв его
за дикого зверя2. Здесь мы опять встречаемся с темой
видения того, чего человеку не следует видеть, а также с
обвинением в том, что человек не видит того, что ему
следовало бы знать (Эдип).
Менекей, сын Пенфея3 и отец Иокасты, приносит
себя в жертву за воротами Фив4, лишая Иокасту отца.
После смерти Менекея Лабдак (отец Лая), в конечном
счете, становится царем Фив. Здесь, по-видимому,
имеет место путаница поколений, так как Иокаста
предстает на поколение старше, чем Лай.
Лабдак является единственным сыном Полидора
и также лишается отца в очень раннем возрасте.
Спустя некоторое время после преждевременной смерти
Полидора Лукус становится правителем, правящим
1 Греческий бог Дионис был переименовен в Вакха
римлянами.
2 В некоторых сказаниях говорится, что именно боги
обманом заставили мать Пенфея и других вакханок поверить в то,
что он был диким зверем.
3 Еще большая путаница возникает в связи с тем, что Пен-
фей является дедом Иокасты, а также Лая.
4 Согласно некоторым версиям, Менекей убивает себя
в ответ на предсказание Тиресия, что, если он принесет себя
в жертву ради своей страны, Фивы победят во время осады
города войском семи вождей. Однако по другой версии,
Менекей убивает себя в результате прорицания дельфийского
оракула.
260
Эдип, травма и род Кадмоса
от имени Лабдака. Так как Лабдак препятствует
отправлению культа Диониса, он, как и его двоюродный
брат, Пенфей, убивается исступленными привержен-
ницами Диониса, менадами. В результате Лукус снова
становится правителем.
После смерти Лабдака его теперь лишившийся
отца сын Лай усыновляется коринфским царем По-
либом и его женой. Здесь, по-видимому, имеет место
путаница относительно того, кем был приемный отец
Лая, или же их было двое. В некоторых описаниях это
Пелоп, царь Пизы5, а в других - Полибий6.
Некоторое время спустя, Лай соблазняет сына Пе-
лопа Хрисиппа. В результате Пелоп проклинает Лая
и весь его род. Наложенное на Лая проклятие, кото-
5 Отцом Пелопа был Тантал, он разрезал Пелопа на части
и потушил, а затем подал в качестве угощения богам. Демет-
ра, находящаяся в печали после похищения её дочери Персе-
фоны Аидом, неумышленно приняла подношение и съела
левое плечо. В конечном счете, Пелопа ритуально собрали по
частям и вернули к жизни, а его левое плечо заменили плечом
из слоновой кости, изготовленным Гефестом.
6 А еще по другим версиям, Хрисипп, внебрачный сын
царя Пелопа и нимфы Аксиохи (Данаи?), убивает себя своим
мечом и умирает опозоренным (вследствие соблазнения?).
Неясно, соблазняет ли Лай Хрисиппа из зависти, потому что
Пелоп предпочитает его Лаю. Однако это представляется
определенно возможным и находится в согласии с убийством
Авеля Каином (Каин, будучи обижен отказом Бога принять
его подношение, воспылал убийственной ненавистью к своему
брату Авелю). Фаворитизм, зависть, стыд и принижение
приводят к насилию, убийству и сумасшествию.
261
Глава тринадцатая
рое всецело отсутствует в современных версиях
истории Эдипа, вполне уместно для понимания его
трагедии7. Психологически имеет больший смысл, чтобы
приемным отцом Лая был Пелоп, потому что в этом
случае предательство Лая будет намного более
непереносимым, а проклятие Пелопа - намного более
оправданным.
В одной версии данной саги Хрисипп умирает из-
за проклятия Миртила, возничего царя, наложенного
им на Пелопа, когда Пелоп подстроил гибель
собственного отца, Эномая. Хрисипп пообещал Миртилу
(возничему царя) половину царства отца (Пиза), если
он подстроит гибель Эномая. Миртил заменил
металлическую чеку в колеснице Эномая восковой,
вследствие чего колесница разбилась и Эномай
погиб. Поняв, что содеял Миртил, Эномай, умирая,
наложил на Миртила проклятие, что тот умрет от
руки Пелопа. Это проклятие осуществилось после того,
как Пелоп женился на Гипподамии и понял, что,
если он отдаст Миртилу половину царства, его участие
в цареубийстве станет явным. Поэтому Пелоп
столкнул Миртила в море. Падая, Миртил успел проклясть
Пелопа и его род8.
7 Наложенное Пелопом на Лая проклятие лежит в основе
несчастий всей линии рода Кадмоса и превращает вину Эдипа
в проявление желания обладать той властью и законностью,
которых у него никогда не было и не могло быть.
8 Еще по одной версии, так как Пелоп, сын Тантала и Эв-
ринассы, женился на Гипподамии, родив в браке сыновей
Атрея и Фиеста, и любил Хрисиппа больше, чем своих закон-
262
Эдип, травма и род Кадмоса
Когда Лай становится царем Фив, он женится на
Иокасте, дочери Менекея. Подобно другим лицам
в роду Кадмоса, как Лай, так и Иокаста были
сиротами, утратив своих родителей при ужасных
обстоятельствах в очень раннем возрасте.
По одной версии данной саги, до рождения Эдипа
у Лая и Иокасты уже были два сына, Полиник и
Этеокл. Некоторые версии данной истории
делают Полиника и Этеокла сыновьями (не братьями)
Эдипа, в очередной раз внося межпоколенческую
путаницу.
После того как Эдип узнает, что является
причиной наложенных на Фивы бедствий и находит Иока-
сту повесившейся, он выкалывает себе глаза и
изгоняется из Фив. Его трон достается его сводным сыновьям
(или сводным братьям?), Полинику и Этеоклу. В
войне семерых против Фив9, Полиник и Этеокл убивают
друг друга, погибая от наложенного на них
проклятия отцом (сводным братом?), Эдипом. Род Эдипа
приходит к своему проклятому концу.
ных сыновей, Гипподамия, их мать, пыталась подговорить
Атрея и Фиеста убить Хрисиппа, так как боялась, что Хрисипп
как старший брат лишит наследства ее сыновей. Когда они
отказались это сделать, в безлунную ночь она заколола ножом
спящего Хрисиппа. Пелоп похоронил Хрисиппа и подверг
Гипподамию изгнанию.
9 [См.: Эсхил. Семеро против Фив / пер. С. Апта // Эсхил.
Трагедии. М, 1971. С 125-168. - Прим. пер.]
263
Глава тринадцатая
Эдип
Версии Эдиповой саги дают различные
объяснения проклятий и спутанности поколений, незнаемых
родителей и ошибочно принимаемых за своих
родителей других людей. Эти разрозненные объяснения
усиливают воздействия травмы на то, что может быть
«понято», обеспечивая подоплеку данной трагедии.
В одной версии данного мифа «отец» Эдипа, Лай,
пытается помешать исполнению пророчества, что он
(Лай) будет убит собственным сыном в результате
проклятия, наложенного на него его приемным
отцом Пелопом, сына которого он соблазнил.
Бросая вызов проклятию и предсказанию, Лай
хочет умертвить Эдипа и отдает распоряжение, чтобы
младенец Эдип умер на горе Киферон. Однако
пастухи находят младенца и относят его царю Полибу и
царице Меропе, которые воспитывают Эдипа как
родного сына. Подобно своему отцу Лаю, Эдип полон
решимости преодолеть проклятие, наложенное на
него и ясно выраженное в предсказании. Лай пытался
его преодолеть, подготавливая убийство Эдипа. Эдип
бросает проклятию вызов, по незнанию неправильно
его истолковывая. Когда Эдип узнает от
дельфийского оракула предсказание о том, что ему суждено
убить отца и жениться на матери, он пытается его
преодолеть, уйдя от своих предполагаемых
родителей, чтобы сохранить им жизнь. Не ведая о своих
подлинных родителях и борясь с судьбой, он
отправляется в Фивы.
264
Эдип, травма и род Кадмоса
По пути в Фивы он встречает знатного
мужчину. Они вступают в ссору. В завязавшейся борьбе
Эдип убивает незнакомца. Продолжая идти в Фивы,
Эдип узнает, что царь Фив (Лай) мертв и что жители
города находятся во власти Сфинкс. Эдип решает её
загадку. Сделав это, он принимает царственную
власть Лая, наследуя и ложе, и супругу (вдову Лая
Иокасту).
По прошествии длительного срока Фивы
поражены моровой язвой, и считается, что за это бедствие
ответствен убийца Лая. Эдип полон решимости его
найти, понимая, в конечном счете, что в этом
убийстве повинен он сам. В то же самое время Иокаста,
поняв, что она вышла замуж за собственного сына и
за убийцу своего мужа, вешается. Находясь в спальне
царицы, Эдип срывает с ее царственной одежды две
наплечные застежки и пронзает ими свои глаза.
Эдип далеко-далеко не является нашей моделью
героя. Его слепота является человеческой, а не
«героической». В действительности его ведущаяся в
собственном ослеплении борьба за то, чтобы быть
героем, бросить вызов судьбе, и приводит Эдипа к его
роковому исходу.
Дионис и род Кадмоса
Семейная линия Эдипа начинается с проклятия
рода Кадмоса. В какое-то неопределенное время после
Кадмоса Дионис появляется в Фивах. Связываемый
с островом Лесбос, Дионис обладает пагубной приро-
265
Глава тринадцатая
дой, являясь «поедателем сырой плоти» (omophagia),
обвинение, которое подразумевает каннибализм (allop-
hagia). Таким образом, Дионис связывается с
нарушениями табу, с несущими угрозу всевозможными
эксцессами, с «убийственным безумием», «непрестанным
сумасшествием» и с отменой культурных установлений и
морали10. Также важно, как об этом пишет
французский антиковед Марсель Детьен:
«[Дионис] обретает полную меру своего parousia
(незримого присутствия) в убийственном неистовстве,
в мании, которая приводит к убийству и пролитию
крови сына, разорванного на части матерью, к
убийству отцом своих детей, и к отцу и дочери, таким как
Икарий и Эригона, которая повесилась от горя и
тоски по убитому отцу11. Дионис является подлинно
самим собой лишь в нескончаемом сумасшествии,
когда мания порождает, через убийство, порок, misasma
(скверну), болезнь или заразу, приводящую к
сумасшествию. Гера, мать Диониса12, вселила в него безу-
10 Также Дионис не является тем, кем он предстает, - еще
одна тема эдиповой истории. Хотя он является богом, вместе
с Зевсом и Герой, он часто ошибочно принимается
смертными за спящего (и пьяного) молодого человека.
11 «Эригона, в греческой мифологии дочь Икария.
Научившись виноделию у Диониса, Икарий отнёс мех с вином
пастухам. Те, опьянев, убили Икария и зарыли его тело. Эригона
разыскивала отца и, когда собака Икария Майра нашла его
могилу, Эригона от скорби и тоски повесилась» (Эригона) //
Мифы народов мира. Т. 2. М, 1982. С. 666. - Прим. пер).
12 [Здесь автор, по-видимому, допускает неточность. По
мнению А.Ф. Лосева, автора статьи «Дионис»: «Согласно ос-
266
Эдип, травма и род Кадмоса
мие, и Дионис был осужден на скитания, пока Рея не
исцелила его от бреда скитания, дав ему свое одеяние
(которое он дает Пенфею в «Вакханках»)»13.
Связанный со всевозможными эксцессами, культ
Диониса был крайне могущественным на всем
Средиземноморье и содействовал зарождению и
процветанию театра посредством музыки и танца. Культ
Диониса существенно важен не только в качестве
предпосылки театра Софокла и посвященной Эдипу
трилогии, но и само повествование о роде Кадмоса
содержит многочисленные упоминания о членах
рода, охваченных дионисийским безумием.
Когда трагедия Эдипа рассматривается на фоне саги
о роде Кадмоса, она продолжает тему межпоколенче-
ской травмы. Таким образом, семья Эдипа не является
обычной семьей. Да и саму историю Эдипа невозмож-
новному мифу, Дионис - сын Зевса и дочери фиванского царя
Кадма Семелы. По наущению ревнивой Геры Семела
попросила Зевса явиться к ней во всем своем величии, и тот,
представ в сверкании молний, испепелил огнем смертную Семелу
и её терем. Зевс выхватил из пламени Диониса, появившегося
на свет недоношенным, и зашил его в свое бедро. В
положенное время Зевс родил Диониса, распустив швы на бедре, а
потом отдал Диониса на воспитание нисейским нимфам или
сестре Семелы Ино... Гера вселила в него безумие, и он,
скитаясь по Египту и Сирии, пришел во Фригию, где богиня Ки-
бела-Рея исцелила его и приобщила к своим оргиастическим
мистериям». Мифы народов мира. Т. 1. М, 1980. С. 380. -
Прим. пер.]
13 Détienne, Marcel (1977) Dionusos mis a mort. Paris:
Gallimard. P. 37.
267
Глава тринадцатая
но понять без других повествований относительно
несчастий рода Кадмоса, семейной линии, терзаемой
разбитыми жизнями, отказом от детей, завистью,
ужасом, страданием и убийством. А над всей сагой нависает
неистовство и сумасшествие Диониса.
Тиресий, слепота и трагическое знание
Что касается Тиресия, слепого прорицателя,
связанного с предсказанием, которое Эдип не хочет «видеть»,
все многочисленные версии, связанные с объяснением
его слепоты, обращаются к теме недозволенного,
тайного знания (heimlich?). Согласно одной из версий, он был
пойман за подглядыванием купающейся Афины14 и за
это был ею ослеплен; по другой версии, он видит
спаривающихся змей и убивает змею самку, и за это
разгневанная Гера его ослепляет и превращает в женщину.
Еще по другим версиям данного мифа, Тиресия
ослепляют за то, что он выдал тайны богов людям. Так что
слепота Тиресия связана с сексуальными секретами и
ужасом от секретного знания, напоминая
очарованность Фрейда heimlich рассказами.
Секретное знание Тиресия находит отражение в
том, что известно зрителю (и что предполагает
данная пьеса) до своего начала.
14 Подобно Пенфею, который, сидя на дереве, тайно
наблюдал за вакханками и был пойман ими и разорван на
части.
268
Эдип, травма и род Кадмоса
Как замечает Вернан:
«Когда начинается данная пьеса... Эдип уже
получил предсказание от оракула, покинул своих
«родителей» из Коринфа, убил оскорбившего его путника,
освободил Фивы от Сфинкс, женился на
овдовевшей царице Фив и унаследовал царский трон, не
рассматривая эту последовательность событий как
что-то иное, чем простую последовательность
событий»15.
Тот процесс, посредством которого Эдип
приходит к соотнесению этих на первый взгляд
разрозненных событий, является трагическим развертыванием
событий данной пьесы, в ходе которого Эдип
приходит к пониманию, каким слепцом он ранее был, в то
же самое время всё ещё считая себя более
могущественным и опытным.
К тому же, эти на первый взгляд разрозненные
события являются лишь верхушкой айсберга: под ними
лежат поколения травмы, путаница идентичности и
трагедия. Однако за немногими исключениями16
поколения комментаторов пренебрегали рассматривать
тему слепоты как непонимание (а не как импотенцию
или кастрацию, или зависть к груди) в посвященной
Эдипу трилогии. Они не смогли понять её как
потерпевшую крах попытку величия перед лицом
непреодолимой травмы, непонимания, трагедии и страда-
15 Vernant. Р. 318.
16 Например, французский исследователь Жан-Пьер
Вернан.
269
Глава тринадцатая
ния. Отцеубийство и инцест, которые далеко не
являются главными темами трагедий Софокла,
предназначенных вместо этого для доведения до зрителей
трагической сути: что Эдип несёт на себе проклятие
приемного отца Лая, наложенное на отца Эдипа, и
что Эдип становится еще более беспомощным из-за
своего слепого и упрямого пренебрежения
предсказания Тиресия17, так как само это пренебрежение
лишь усилило его непонимание.
Будучи «слепцом» относительно своих подлинных
родителей, которые хотели его смерти, Эдип также
не ведает того, что он был ими отвергнут18. Его
трагический урок можно еще легче усвоить, когда «Эдип-
царь» идет вместе с «Эдипом в Колоне». В первой
пьесе трилогии Эдип - заносчивый, полный
неведения, высокомерный, дерзкий и могущественный царь;
в её последней части он предстает раскаявшимся,
17 Vemant. Р. 318.
18 В «Алой букве» Готорн противопоставляет публичную
вину Тестер Принн скрытому, внутреннему стыду
преподобного Димсдейла, который умирает от невидимой раны в
форме буквы «А». Димсдейл - это «человек, умирающий от раны,
которую он не может таить, человек, чьи чувства настолько
превышают всё, что он мог бы выразить в словах или
символах, что внешний мир съеживается для него до нереальности,
а чувства становятся неким видом невообразимой
гиперреальности. Ему остаются невыразимые одиночество и
страдание» (Kilborne. 2005. Pp. 180-181). [См.: Килборн Б.
Конфликты стыда и трагедия в «Алой букве» / пер. с англ. Т. Драбки-
ной II Килборн Б. Травма, стыд и страдание. М., 2019. С. 114-115. -
Прим. пер.\
270
Эдип, травма и род Кадмоса
сломленным, слепым стариком, зависящим от своей
преданной дочери Антигоны. В конце трилогии Эдип
осознает собственную трагедию, которую он бессилен
изменить. Он - умирающий старик, который
покорно примиряется с мойрами (богинями судьбы) и
восстанавливает чувство собственного достоинства.
Другими словами, то, что он, в конечном счете, понимает,
позволяет ему примириться со своим страданием и
стыдом и включить переживания покорности и
человеческих ошибок внутрь вновь обретенного чувства
собственного достоинства и своей значимости.
Слепота, трагическое неведение и трагическое
знание убеждают нас в боли от душевной раны и
указывают на непреклонную связь между стыдом и
человеческой трагедией19. В моей книге «Исчезающие
люди»20 я высказал предположение о том, что мы
зажаты между страхом исчезновения и ужасом перед тем,
что нас увидят другие люди. Стыд вырастает в
промежутках: между и среди различных Самостей,
которыми каждый из нас является. Мы инстинктивно
пытаемся скрыть расхождения во взглядах и, таким
образом, используем свою Самость для сокрытия от
другой Самости. Однако в ходе этого процесса
сокрытия мы всегда опасаемся быть раскрытыми, страстно
19 Подобно Эдипу, Филоктету и Димсдейлу у Готорна,
страдающим от невидимых (неизвестных) душевных ран.
20 [См.: Килборн Б. Исчезающие люди: Стыд и внешний
облик / пер. с англ. Е. Аоскутова, 3. Баблоян. М., 2007. - Прим.
пер.]
271
Глава тринадцатая
желая быть признанными и страшась того, что нас
увидят другие люди. Все наши усилия защитить себя
приводят к неожиданным неприятным последствиям,
и мы находим себя уязвлёнными, не будучи в
состоянии понять свою душевную рану.
Происходит встреча21 трагического знания и
трагического непонимания. Они близки к abyssus humanae
conscientiae (бездне человеческого сознания)
Августина, потому что обозначают то, чего мы не можем
знать о том, что другие о нас «знают», что мы не
можем «знать» о себе, и как мы можем воспринимать и
признавать то, что мы не можем знать. Мощь
трагедии Эдипа проистекает от стыда, человеческого
непонимания и беспомощности. По контрасту в нашем
современном мире мы ошибочно полагаем, что
знание не может быть трагическим, ибо знание - это
сила, осознание, воля и господство. То, что находится за
пределами нашего познания, «непостижимое»,
abyssus humanae conscientiae (бездна человеческого сознания),
ускользает от нашего суждения, унося с собой сердце
и душу трагедии.
21 Характер Тиресия, слепца, который «знает», наводит на
мысль, что трагическое знание обозначает то, что герой не
может понимать, но тем или иным образом об этом «знает».
272
Глава четырнадцатая
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
ТРАГИЧЕСКОГО:
оплошный поступок, грех и власть
Так пойдем, дитя людей,
В царство фей, к лесной воде, -
Крепче за руку держись! -
Ибо ты не понимаешь,
как печальна жизнь.
Йитс У.Б. Похищенное дитя
(Пер. с англ. Анны Блейз)
Рационализм отверг ощущение непостижимости
как неуместное в мире, в котором то, что существует,
необходимо постижимо и открываемо, и наоборот,
то, что непостижимо и не поддается обнаружению,
не существует. В теории мы верим в то, что видим
и можем это понять. Эти допущения, однако, не
оставляют места для непостижимого в качестве
переживания, основы этики и сути трагедии.
Непостижимое как чувство является part and parcel
(неотъемлемой частью) того, что Аристотель относит к
hamarüa, трагической оплошности, которая вызывает
сострадание.
Аристотелевы теории трагедии являются в то же
самое время теориями чувств и теориями этики. Не-
273
Глава четырнадцатая
понимание - это чувство. Несмотря на
высказываемые протесты на этот счет, это не просто отсутствие
понимания, а невежество - это не просто нехватка
точности. Они оба одновременно являются чувствами
и интеллектуальными понятиями. Наша нынешняя
склонность рассматривать понимание как связанное
с познанием, а не с эмоциями, отражает ту перемену
позиции, к которой я обращался на всем протяжении
данной книги, между трагедией Аристотеля и
Софокла и нашими собственными понятиями о том, что
является трагическим1.
Для Аристотеля katharsis (катарсис) обозначает
преобразующее воздействие (и этическую
уместность) трагических эмоций, включая человеческое
непонимание. Katharsis представляет собой очищение
посредством одновременно испытываемых жалости и
страха, которые оба связаны с хрупкостью и
человеческой потребностью в связи с другими людьми2.
Аристотелевы теории трагедии заранее предполагают
человеческую хрупкость, непонимание и ошибку,
отсутствие порицания, преднамеренное причинение
вреда и вину.
Но в то время как Аристотель прямо связывал
katharsis с уязвимостью и страданием, известная и при-
1 Невежество не обязательно является сколь-либо более
трагическим, чем понимание и знание.
2 Кьеркегор замечает, что для Аристотеля дружба является
отправной точкой для его теорий этики, что Аристотель
«основывает понятие справедливости на идее дружбы»
(Kierkegaard, Either/Or. P. 327).
274
Неправильное понимание трагического...
нимаемая современная версия эдипова мифа,
связываемая с фрейдовским Эдипом и с современными
понятиями трагедии, придает особое значение
агрессии, инцесту, убийству и вине. Ослепление себя
Эдипом связывается со страхом кастрации, с
беспорядочным нанесением ударов, с гневом, а не со
стыдом. Жалость, доброта, непонимание и чувство
сострадания отсутствуют.
Выкалывая себе глаза, Эдип выражает
переполняющие его чувства непонимания, разъединения и
уязвимости. Он не может переносить, сколь иным он
является для себя и для других. Но лишь в связи с
переполняющей его суицидальной мукой по поводу
того, чего он ранее не понимал, Эдип наконец
начинает воссоздавать свои связи с другими людьми,
находить свои этические опоры и реагировать на свои
страхи покинутости. Этимология английского слова
зависть (envy) (и английского свидетельства
(evidence)) происходит от латинского слова videre,
«видеть» или «глядеть». Глядение и рассматривание,
видение и нахождение под наблюдением - это не
только способы поведения, но также чувства, глубоко
связанные со стыдом. Связи между завистью, стыдом
и травмой существенно важны для понимания
этической значимости для Аристотеля вызываемых
трагедией эмоций (hamartia и katharsis).
275
Глава четырнадцатая
История и трансформации Эдипа
Начавшиеся в период раннего христианства,
происходящие в связи с Эдипом трансформации
символизируют изменяющиеся отношения к страданию и
человеческой трагедии и одновременно к
человеческим чувствам и ошибкам и их связи с этикой. Под
воздействием крупных политических, социальных и
концептуальных сдвигов ранние христиане
изобрели понятие «фех», соотнося его с искушением и
включая зависть и близкие к ней эмоции в качестве
главных отличительных черт Сатаны3. В истории
Адама и Евы «фех» стал причиной человеческого
страдания; страдание было наказанием за «грех».
А «грех» был связан с плодом с древа познания, с
расщеплением знания на то, что позволено знать, и на
то, что является запретным, ранней версией
фрейдовского разделения между сознательным и
бессознательным.
Имея в виду софокловского Эдипа и род Кадмоса,
рассмотрим краткое изложение Фрейдом истории
Эдипа в его «Лекциях по введению в психоанализ».
3 Однако в иконофафии фехов все фехи (включая зависть,
жадность, похотливость и гнев) являются женскими. Это
наводит на мысль, что фехи связываются с сильными чувствами
(дионисийскими эмоциями) и что они затем приписываются
женщинам. Мужчины, по контрасту с ними, могут
возвышаться над вселяющими ужас эмоциями на безопасной ниц-
шевской и аполлоновской дистанции (по ту сторону добра и
зла).
276
Неправильное понимание трагического...
«Вы все знаете греческое сказание о царе Эдипе,
которому судьбой было предопределено убить своего
отца и взять в жены мать, который делает всё, чтобы
избежать исполнения предсказаний оракула, и после
того, как узнает, что по незнанию все-таки совершил
оба эти преступления, в наказание выкалывает себе
глаза. Надеюсь, многие из вас сами пережили
потрясающее действие трагедии, в которой Софокл
представил этот материал. Произведение аттического
поэта изображает, как благодаря искусно
задерживаемому и опять возбуждаемому всё новыми уликами
расследованию постепенно раскрывается давно
совершенное преступление Эдипа»4.
Отметим, как Фрейд говорит о судьбе и
преступлении, явным образом связывая преступление с
наказанием (и с грехом инцеста и отцеубийства). Кроме
того, Фрейд описывает данную трагедию как такую,
опорой которой служат «всё новые улики
расследования». Однако неоспоримо, что аудитории времен
Софокла было известно сказание о роде Кадмоса,
и она была отлично знакома с теми ее
многочисленными версиями, из которых я составил одну версию,
представленную в предыдущей главе. Таким образом,
в данной пьесе не содержится никаких новых
сведений, но она, скорее, опирается на другие движущие
4 [Фрейд 3. Двадцать первая лекция. Развитие либидо
и сексуальная организация // Фрейд 3. Введение в
психоанализ: лекции / пер. с нем. Г.В. Барышниковой. М, 1991.
С. 210. - Прим. пер.]
277
Глава четырнадцатая
силы, на иные чувства, чем те, о которых Фрейд
пишет как о самых главных5.
От проклятия
и подверженности ошибкам к греху
Этот сдвиг от hamartia к греху, от человеческой
уязвимости к приписываниям вины глубинным образом
изменил нашу оценку и переживание эмоций как
наших собственных, так и эмоций прошедших эпох.
Данная трансформация в характере Эдипа от
трагического персонажа, который у Софокла и Аристотеля
страдает от судьбы, над которой он фактически не
властен и за которую не считает себя виновным, с одной
стороны, к внушающему ужас, своенравному,
непокорному и виновному Эдипу-Адаму нашего современного
мира, чьё наказание напрямую связано с его
«преступлениями», переносит нас в мир без чувства стыда.
Данный сдвиг подрывает почву под нашими этическими
принципами, оставляя нас «по ту сторону добра и зла».
Пустивший корни в ранний христианский период
этот сдвиг от hamartia к греху был, по сути, завершен,
когда Клейст (1777-1811) написал свою комедию греха
«Разбитый кувшин», «отклик на царя Эдипа». То, что
Клейст сравнивает Эдипа с Адамом, становится ясно
в начальной сцене, в которой обращается внимание
5 Акцент Фрейда на «всё новых уликах расследования»
также противоречит его вступлению к своему обсуждению:
«Вы все знаете греческое сказание о царе Эдипе».
278
Неправильное понимание трагического...
на кривую стопу судьи. В финальной сцене мы видим,
как Адам, который был признан виновным на
основании оставленных им следов и его парика6, «бродит
без цели с холма на холм, подобно изгнанному из
своей страны Эдипу»7. «Падение» вследствие вины
характерно для них обоих8.
В то время как для Фрейда, Клейста и других гнев,
демонстративное неповиновение и вина
характеризуют героев, для Аристотеля гнев «включает в себя
убеждение в том, что человеку был нанесен некий
серьезный ущерб или вред в результате
неправомерного действия другого человека или группы людей и что
данное действие было совершено умышленно, а не
случайно»9. Другими словами, для Аристотеля гнев
является (и определяется) откликом на вред, умышленно
нанесенный другим человеком. Намерение причинить
вред становится морально предосудительным, когда
6 Склонность Адама ко лжи проявляется «в тех историях,
которые он рассказывает о пропаже своего парика, поддержке
достоинству судейской власти, на которую он хочет полагаться
для сокрытия своих грехов». (Ibid. Р. 119).
7 Отождествление Адама с Эдипом еще более
подтверждается темами поиска препятствий для нахождения истины.
Для Эдипа сама его борьба за установление истины делает его
жертвой собственных желаний, в то время как умышленное и
осознанное уклонение Адама от истины (его громадная
способность ко лжи) приводит к его изгнанию (Mueller. Р. 118 ff).
8 В обоих мифах наличествует «"падение" из состояния
счастья и невинности в состояние вины, несчастья и изгнания,
и это падение связывается со знанием» (Р. 122).
9 Nussbaum. Р. 118 ff.
279
Глава четырнадцатая
является злоупотреблением доверия. Таким образом,
в полном отличии от Фрейда, для которого желание
причинить вред и гнев связаны с тем самым влечением,
которое находится по ту сторону добра и зла и лежит в
основе бессознательного, для Аристотеля ни гнев, ни
намерение причинить вред не являются каким-либо
образом первичными. Они оба поставлены в
зависимость от его теорий этики и трагедии и являются
откликами на причинение «морального» вреда.
Тот Эдип, которого мы знаем, возник не на пустом
месте. Такое представление о нем возникло в ранний
христианский период и было впоследствии усилено под
влиянием немецкого романтизма10 и немецкой
философии, включая: Ницше11, Гегеля, Шопенгауэра, а до
этого Шеллинга, Шиллера, Гёте12. Гегель, подобно Клей-
10 См.: Rudnytsky's Peter. Freud and Oedipus, где дается
прекрасное описание этих связей.
11 Ницше был очарован понятиями воли и складами ума
господина/раба, и в своем обожании Вагнера (за которым
последовал разлад) придавал огромную значимость понятиям
воли и героизма. Следовательно, Ницше и Фрейд были
склонны принижать темы слепоты и судьбы, сил,
находящихся вне пределов воли и рассудка, и всячески обыгрывать темы
знания и намерения.
12 Э.Б. Тайлор в своей написанной в 1871 году книге
«Первобытная культура» (заметьте) отмечает: «Когда философ
становится обладателем некой истины, он склонен простирать ее
значимость далее тех пределов, где она уместна. Данный
магический зонтик должен становиться всё шире и шире, пока
не становится шатром, достаточно широким, чтобы дать
укрытие армии» (ed. Radin. P. 161).
280
Неправильное понимание трагического...
сту, связывает Эдипа с Адамом. Этот Адам-Эдип,
грешный, «преступный» и демонстративно
неповинующийся, был, естественно, признан виновным за то, что впал в
искушение, став героем инцеста и отцеубийства в
великой традиции готических романов ужаса13. Межпоко-
ленческое проклятие, столь явное у Софокла (и в
определении трагедии Аристотелем), ушло в подполье
в ранний христианский период, вновь появившись во
второй половине XVIII века в качестве межпоколенче-
ского конфликта между отцами и сыновьями14.
То, что, в конечном счете, приводит Эдипа к
роковому финалу, связано не с его незнанием; оно связано
с тем, что, по его мнению, он хорошо знает, то есть
что он может избежать предсказания, покинув город
своих «родителей». Фрейд изменил то, что ловит
Эдипа в ловушку, на нечто одновременно
бессознательное и внутреннее; Фрейд сделал это в соответ-
13 С одной стороны, здесь наличествует Эдип в качестве
плохого примера, а с другой стороны, очарованность
ницшеанским «целым трепещущим пластом подземной ненависти»,
обсессивным интересом к табу и ужасу.
14 Будучи целиком отлично по чувству и функции от меж-
поколенческой травмы саги о роде Кадмоса, межпоколенче-
ское проклятие готической судьбы «всегда связано с
угнетением молодого человека более старшими людьми, с темой,
неизвестной в древнегреческой трагедии. Происхождение
данного проклятия обычно связано с неправильным
употреблением родительской власти в самом широком смысле этого
слова» (Mueller. Р. 146). В таких готических конфликтах более
молодое поколение подвергалось угнетению, реагируя на него
с гневом, ужасом и жестокостью.
281
Глава четырнадцатая
ствии с преобладающими философиями воли.
Травма и человеческое страдание стали подчинены
теориям внутренних психических движущих сил, тому, что
может быть познано и истолковано, тому, что может
придавать «смысл» человеческому намерению.
Фрейдовская версия Эдипа соответствует современным
понятиям о герое, однако полностью затмевает точку
зрения софокловой трагедии.
Возникновение виновного Эдипа
Аристотелев Эдип (его слепота и предполагаемая
роль судьбы) поднимает вопрос о фантомном шансе
и божественном легкомыслии. Всё это вступает в
прямое противоречие с понятиями божественного
порядка. Опираясь на Платона, рационалистическая
традиция рассматривает сильные чувства, слепоту и
случайные удары судьбы в качестве серьезных угроз15. В нашей
рационалистической традиции для того, чтобы
Вселенная выглядела постижимой, испытывается недоверие
к телу, и возница (Я?) должен осуществлять
руководство. Ужасу хаоса (дикие кони), таким образом, не дают
хода посредством фантазий «порядка». Однако это
делает рациональность, как это выразил Уильям Джеймс,
не более чем «чувством целесообразности». Те, кто,
подобно Эдди Бернайсу, Гитлеру, Сталину или Путину,
15 Вполне может быть, что несущая угрозу интенсивность
чувств содействует описанию козней Сатаны и делает зависть
столь отвратительным грехом.
282
Неправильное понимание трагического...
держатся за надежду внести порядок в хаотический
мир, часто питают мегаломаниакальные фантазии. Они
становятся еще опаснее вследствие того, каким образом
они используют страх хаоса, преподнося себя
спасителями того, что было утрачено.
В великой
платоновской/картезианской/рационалистической традиции истинность суждений
социологии об экономических, социальных или
психологических явлениях крайне мала. Они сужают шкалу
нашего внутреннего мира, считая непонимание не
относящимся к делу и ограничивая обсуждение
психических процессов; утверждается, что понимание
эквивалентно познанию, которое может
формулироваться, исходя исключительно из рациональности,
поведения, языка и воли. Кроме того, также
утверждается, что всё осознаваемое понятно, а
бессознательное недоступно пониманию (или же нуждается
в серьезных истолкованиях), ни одно из которых не
является непременно истинным.
Будучи наполнены этим подразумеваемым страхом
перед непонятным и неисследованными территориями
«незнания», социальные науки обращают свой слепой
взгляд на мир сказки, сводя её к чему-то несообразному
и нелогичному. Утверждение социологии относительно
того, что является «реальным», объединяет реальности
il certo и il vero16. Вико мог бы сказать, что из-за страха
16 «Этот давний смысл играемой трагедии /
Непостижимой, на самой грани / Обычного, когда-то наполнял меня...»
(Seamus Heaney, "Known World" Electric Light).
283
Глава четырнадцатая
невежества или хаоса, из-за коллективного желания
власти и контроля социальные науки, следуя
потребности утверждать мощь человеческой воли, избегают
беспомощности и благочестия и поэтому наносят вред
понятиям человеческой природы и широте человеческого
рассудка и души.
То, что «соответствует» нашим желаниям пости-
жимости, далеко от трагедии, ибо трагедия, как
напоминает нам Аристотель, пробуждает в нас
могущественные чувства жалости и страха,
превосходящие границы понимания. Трагедия родилась из
экстатических дионисийских обрядов, из музыки, песни
и танца, которые в совокупности составляли
существенно значимую часть деятельности посвященных
Асклепию храмовых комплексов, и поэтому они
являются частью не только истории искусств, но также
истории медицины, отношениями и откликами на
человеческое страдание. А Дионис связывается с
безрассудной невоздержанностью, хаотическим
безумием и необузданными чувствами.
По контрасту с платоновской/рационалистической
традицией Вико утверждает приоритет чувства над
рациональными формулировками или интерпретациями.
Данный акцент простирается на его суждение о книгах,
которые хороши, если «изменяют мой способ
чувствования: mutavit affectum meum»17. Сходным образом,
связанные с дурным глазом явления придают особое зна-
17 Ibid. Р. 163. Заметьте, что такая книга не улучшает или
изменяет его рассудок. Скорее, она воздействует на его чувства.
284
Неправильное понимание трагического...
чение чувствам (включая чувства в связи с глядением и
разглядыванием) и поэтому обеспечивают
санкционированные культурой способы объяснения несчастья,
болезни, печали, беспомощности и уязвимости:
каждый человек может подвергнуться воздействию дурного
глаза, и всё, представляющее ценность (дети, скот,
овцы, и т.д.), находится под угрозой и может умереть.
Движущие силы дурного глаза более легко
объясняют случившиеся с Эдипом несчастья, чем
фрейдовские теории, как раз потому, что в
психоаналитической теории остается мало места для того, что
находится вне пределов человеческой воли. Проклятия,
наложенные на Лая и Эдипа, пробуждают силы,
безусловно, недосягаемые для их контроля. Что
означают проклятия, сколь тесно они связаны с
человеческими взаимоотношениями и каким образом они
действуют, порождая тревогу и страдание, - всё это те
вопросы, от ответа на которые уклоняются
современные версии трагедии Эдипа. Хотя можно объяснять
движущие силы проклятий, сокрушительное бремя
несчастий, обид и утрат, в то же самое время
признавая ограниченность человеческого понимания.
Хрупкость и паранойя
Проводимое Вико различие между il vero и il certo,
которое лежит в основе различия между
общественными и гуманитарными науками и естественными
науками, подрывалось их объединением в одно целое
в общественных науках. Как результат от этого по-
285
Глава четырнадцатая
страдали как история18, так и антропология,
социология и психология. Эти отличия подверглись
поглощению в различных разделах социологии, игнорируя
их связи с этикой и философией во имя
объективности научного метода19.
Комментарий Фрейда был дан в духе современной
социальной науки: «Я думаю, что психоанализ не
способен создать своё особое мировоззрение. Ему и
не нужно это, он является частью науки20 и может
18 Где-то до 1970-х многие отделения истории всё ещё
находились под эгидой гуманитарных наук. Впоследствии
фактически во всех университетах США они были отнесены к
отделам общественных наук.
19 Французская традиция социологии и истории - от Сен-
Симона и Конта, через Дюркгейма, Леви-Брюля и школу
Анналов - унаследовала традицию «моральных» наук, в то время как в
немецких (Макс Вебер) и американских традициях прюизошел
поворот к «il vero», с опорой на модели физических наук.
Специфическим образом в борьбе за научную
направленность ЮНЕСКО (1946) американцы выступали в защиту
социальной науки, подразумевая под ней прикладное, по большей
части, количественное социальное исследование, проводимое
относительно индивида, в качестве основной единицы
анализа; французские ученые выступали в защиту наук о человеке
(sciences humaines), которые включали в себя философию и
гуманитарные науки; в Германии социология поглотила
Geisteswissenschaften (гуманитарные науки). Это
переподчинение гуманитарных наук социальным наукам завершилось
между 1933 и 1945 годами из-за предпочтения, отдаваемого
нацистами прикладному исследованию.
20 «Француз бывает самоуверен потому, что он почитает
себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-
286
Неправильное понимание трагического...
примкнуть к научному мировоззрению»21. Когда
психоаналитики и другие социологи связывают свою
дисциплину с «объективными» (то есть внешними,
«природными») силами, такие связывания
неумышленно поддерживают неисследованные понятия вне-
человеческой объективной «истины», подобно
понятию Дарвина о выживании наиболее
приспособленных особей, которое применяется как к природному,
так и к человеческому мирам. Вследствие этого
«научные» социальные науки не только
дистанцировались от «il certo» у Вико, но в этом процессе также
разорвали скрепы этической ответственности, пустив
обворожительным как для мужчин, так и для женщин.
Англичанин самоуверен на том основании, что он есть
гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому как
англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что
всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо.
Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает
легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что
он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит,
чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен
хуже всех и противнее всех, потому что он воображает, что
знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для
него есть абсолютная истина» (Tolstoy. War and Peace (Pt. 9,
chpt. 10)).
[Толстой Л.H. Война и мир // Толстой Л.И. Собр. соч.: в 22 т.
Т. 6. М., 1980. Т.. III, ч. I, глава X. - Прим. пер]
21 Freud. The Question of a Weltanschauung, New
Introductory Lectures. Vol. XXII. P. 181. [Фрейд 3. Тридцать пятая
лекция. О мировоззрении // Фрейд 3. Введение в психоанализ:
лекции / пер. с нем. Г.В. Барышниковой. М, 1991. С. 415-416. -
Прим. пер.]
287
Глава четырнадцатая
себя дрейфовать по неисследованным,
нечеловеческим водам объективности.
Поразительным образом Э.Б. Тайлор заметил
в 1871 во многом в традиции Вико:
«Развитие мифа было остановлено наукой. Миф
умирает, теряя вес и размеры, конфигурацию и
специфику, - он не только умирает, он уже наполовину
мертв, и студенты занимаются его вскрытием... Есть
та интеллектуальная граница, внутри которой он
должен оставаться для. тех людей, которые с
симпатией к нему относятся, в то же самое время он должен
быть вне тех людей, которые будут его исследовать»22.
Фрейд отверг верования в дурной глаз как
«параноидные». Однако следует иметь в виду этимологию
слова «паранойя», которое происходит от греческого
слова twos или латинского nous, означающего «ум»
или «дух». Однокоренным с ним словом в греческом
языке будет noein, «понимать». Таким образом, para-
nous означает «вне ума», «за пределами ума». Или же,
«вне того, что человек понимает или переживает».
Фрейд связывает паранойю с миром непостижимого,
который он связывает с недоверием к другим людям,
и, посредством расширения, с недоверием к
взаимоотношениям в целом23, другой версией слов Сартра:
«Ад - это другие люди»24.
22 Tylor (ed. Radin, Paul). P. 317.
23 Слишком односторонний акцент на проекции и
паранойе (как в параноидно/шизоидной позиции кляйнианцев) не
улавливает муку в этих движущих силах. Она затем делает
288
Неправильное понимание трагического...
Исходя из этой перспективы, верования в дурной
глаз и сказка служат поддержкой мифического
мышления, которое вписывает человека в природу, в то
время как фрейдистские и социологические исследования
отвергают мифическое мышление как параноидное
«суеверие». Однако поступая таким образом,
социологи возвращаются к параноидному видению мира,
которое нарушает человеческую потребность в связи: в их
случае человек не несет никакой ответственности за то,
что он делает, так как это «истинно» и «объективно»
и находится вне человеческих забот и эмоций.
взгляд других людей намного более угрожающим (как они не
могут этого видеть?). Кроме того, стыд может приводить к
вызывающему сокрытию, исходящему из убеждения, что
другие не смотрят, к отрицанию стыда. Отсюда преобладание
недоверия и зависимости, которые влекут за собой стыд и
движущие силы зависти, совместно с порождаемым ими
замешательством. Эта комбинация недоверия и зависимости
характерна для движущих сил стыда: побуждения спрятаться
и надежды на то, что тебя не видят другие, совместно с
желанием, чтобы тебя увидели, и страхом, что другие тебя не
заметят, паранойи и тревоги.
24 Связывание паранойи с недоверием основывается на
преобладающих представлениях и ценностях, отражающих
тревогу по поводу сильных чувств (например, сексуальности,
смерти и умирания). Марта Нуссбаум (1986) обращается к
«платоновскому радикальному, непреклонному и чудесному
предложению для ведения самодостаточной человеческой
жизни» (Р. 87). Данный комментарий резко высвечивает
соблазны самодостаточности как противостоящие ценностям
человеческой уязвимости и связи. Для Вико сильные чувства
связаны с отношениями индивида с другими людьми.
289
Глава пятнадцатая
ПЕЧАЛЬ, СТЫД, ТРАВМА И ТРАГЕДИЯ
Так мне бы жить - украв свой пламень -
И без напутствий умереть,
А где почил, пусть даже камень
Не скажет впредь.
Поуп Александр. Ода одиночеству
(Пер. с англ. В. Кормана)
Эдип поражает свои глаза, чтобы скрыться от
взглядов других людей и от себя. Будучи неспособен
представать перед другими людьми в том виде, в
каком людям было привычно его видеть, Эдип не
может выносить разглядывание себя другими и
направляет свой гнев против вызывающих муку органов.
Для Эдипа желание исчезнуть приобретает
трагическую силу. Шекспир, который очень хорошо знал эти
движущие силы, говорит: «Я в нем (мире) занимаю
только такое место, которое гораздо лучше будет
заполнено, если я освобожу его»1.
1 Shakespeare, «As You Like it», 1:2. [Шекспир У. Как вам это
нравится / пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник II Шекспир У.
Поли. собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М, 1959. Акт I. Сцена 2. С. 20. -
Прим. пер.]
А Диккенс о Миледи Дедлок в «Bleak House» («Холодном
доме»):
290
Печаль, стыд, травма и трагедия
«Я не могу видеть, я невидима», - в отчаянии
вскричала одна из моих пациенток, когда попавшая в
её глаза инфекция сделала для неё невозможным
носить контактные линзы, а без них она мало что могла
видеть своим слабым зрением. Чувство невидимости
пробуждает переживания исчезновения, стыда в
связи с тем, что на тебя глядят и не узнают, вызывающее
мучение-чувство, что тебя никогда не найдут и что ты
всегда будешь неузнанным. Желание исчезнуть,
бесследно пропасть, выражает глубокую боль, но также
признание человеческих связей и границ
возможностей, которое приводит нас на сцену, где наши роли
и характеры никогда всецело от нас не зависят2. Вера в
«Я сделала всё, что могла, чтобы скрыться. Так меня скорее
забудут, а его позор будет менее тяжким. При мне нет ничего
такого, что помогло бы узнать, кто я. С этим письмом я
расстаюсь сейчас. Место, где я успокоюсь, если только буду в
силах дойти до него, вспоминалось мне часто. Прощай.
Прости» (Р. 612). [Диккенс Чарлъз. Холодный дом. М., 2016. С. 505. -
Прим. пер.]
2 «Весь мир театр.
В нем женщины, мужчины - все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той... А последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы -
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
Shakespeare. As You Like it 11:7. [Шекспир У. Там же.
С. 47-48. -/7р1ш. пер.]
291
Глава пятнадцатая
обратное приводит к катастрофе, как это обнаружил
Эдип.
В трагедии Эдипа темы конфликтов по поводу
идентичности, межпоколенческой травмы, hamartia
и границ человеческого знания, непонимания и
природы трагедии и этики - все играют главные роли.
Трагическое непонимание обозначает то, что Эдип не
мог знать, чего он не знал и чего не хотел знать: груз
межпоколенческих проклятий, стыд из-за своей
отверженности родителями, которые хотели его убить,
чтобы отвратить от себя наложенные на них
проклятия, и тщетность предпринимаемых им действий,
чтобы избежать исполнения пророчества. Иокаста и
Лай отвергли этику, желая убить собственного
ребенка и думая только о своей выгоде, отказываясь
признавать, сколь уязвимыми и полными стыда они были
в своем бессилии, слепоте и желании сочувствия.
Проклятия, убийства и травмы в роде Кадмоса не
столь далеки от проклятий дурного глаза и его
движущих сил. Как мы видели, движущие силы дурного
глаза принимают во внимание не только проклятия,
но также сочувствие, человеческие взаимоотношения,
границы человеческого познания, несчастье и
страдание. В этом отношении они являются перенесениями
из мира древних греков, которые знали о страдании,
травме, непонимании и стыде. И также о том, сколь
деструктивным может быть нарциссическое
вызывающее поведение.
Разделение между рациональным и
иррациональным, постижимым и непостижимым, представляется
292
Печаль, стыд, травма и трагедия
нам ясно выраженным. Однако наш опыт
опровергает эту прозрачность. И если сама идентичность не
является единой, а, скорее, состоит из многих частей,
некоторые из которых предназначены для показа
внешнему миру, а часть других - нет, тогда стыд по
поводу глядения и разглядывания сразу становится
уместным в связи с тем, что постижимо и
непостижимо, в связи с трагическим непониманием. И эти
движущие силы в связи с тем, что постижимо,
непосредственно влияют на идентичность.
Возможно, ни один современный писатель не
описывал столь поразительным образом свой ропот по
поводу нехватки чувства идентичности, стыда и
трагического сокрытия в связи с этим и поиском своей
идентичности, как Луиджи Пиранделло,
сицилийский драматург и автор романов, для которого
главное переживание собственной идентичности
приходит от той опоры, которой мы обладаем в сравнении
с ошибочными взглядами на нас других людей3.
3 «Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все
зеркала, оттого что вы не живете. Вы не умеете, не способны
жить, а может быть, просто не хотите... Вы не хотите, чтобы
ваше чувство было слепым. Вы заставляете его открыть глаза и
взглянуть в зеркало, которое вы ему подносите. А стоит
чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед
зеркалом. Постарайтесь на себя не смотреть. Всё равно вы
никогда не узнаете, какой видят вас другие. А раз так - что толку
узнавать, какая вы для себя? Ведь в конце концов может
случиться, что вы перестанете понимать, почему вам навсегда
навязан тот облик, который неизменно показывает вам
зеркало». В этом смысле нарциссические движущие силы являются
293
Глава пятнадцатая
Он начинает с той предпосылки, что нас неодинаково
воспринимают А, В и С. Все они видят нас в
искаженном свете. Никто не испытывает такого же большого
интереса попытаться преодолеть эти расхождения,
как мы сами. Интересует ли А, что В думает о нас,
столь же сильно, как нас? Нет.
Поэтому критерием идентичности является для
Пиранделло осознание того, что единичная
идентичность невозможна, так как у каждого встречающегося
в нашей жизни человека есть своя уникальная точка
зрения относительно того, кто мы такие, и каждый
хочет, чтобы мы ей соответствовали. Поэтому мы
должны быть наполнены воображаемыми
представлениями о том, чего мы не можем знать, что думают
о нас другие люди4.
Определение тех несоответствий, искажений,
неточностей, слепоты и безразличия других людей, в их
представлениях о том, кто мы такие, является источ-
бредовыми и защитными, защитами против непереносимой
боли от отсутствия связи, и вдвойне такими, потому что
нарцисс не может знать что они являются защитами
(Pirandello. One... Pp. 148-149). [Пиранделло Луиджи. Кто-то, никто, сто
тысяч // Пиранделло Луиджи. Избранное. Т. 2. Ленинград, 1983.
С. 69-70. - Прим. пер.]
4 Палестинский ученый Эдвард Сайд, который всю свою
жизнь сражался с конфликтами по поводу собственной
идентичности, заметил: «То, что потрясает Эдипа, является ношей
множественных идентичностей, неспособных существовать
внутри одного человека». Однако такой ношей может быть
вместо этого трагическая неспособность осознавать самого
себя в своих множественных идентичностях.
294
Печаль, стыд, травма и трагедия
ником одновременно ужасного стыда и нашей
единственной надежды. Нашей задачей, исходя из этой
перспективы, будет терпеть эти искажения, не
обманывая в то же самое время самих себя5.
Какое бы лицо мы ни повернули к миру, оно
может быть как отвлекающим внимание от того лица,
которое мы бы хотели показать миру, так и маской,
умышленно использованной для сокрытия того, чего
мы стыдимся. Легко забыть то лицо, которое мы
показали X., а затем удивляться, что он или она нас не
узнали, когда мы показали другое лицо. И тогда,
испытывая стыд и муку по поводу неверного
понимания нас, находя пристальный взгляд других людей
5 «Любая реальность - обман», - пишет Пиранделло,
коллаж из форм и видимостей, которому мы придаем значение
реальности. И эта реальность никогда не является для всех
одинаковой, а всегда будет постоянно и бесконечно меняться.
«Способность поверить в иллюзию, будто сиюминутная
реальность и есть единственно подлинная реальность, с одной
стороны, помогает нам держаться на ногах, а с другой -
толкает нас в бездонную пропасть, ибо то, что сегодня выглядит
реальным, завтра покажется иллюзорным. А жизнь не
исчерпывает себя никогда» (Pirandello. One... Pp. 62-63). [Там же,
С. 30. - Прим. пер.]
«И, не в силах вынести этой неловкости, не в силах
оставаться двумя людьми сразу, вы и выискали глупейший
предлог, чтобы избавиться не от одного из гостей, нет, а от
одного из тех двоих, которыми вы - по милости своих гостей! -
вынуждены были быть в одно и то же время» (Ibid. Р. 67).
[Там же. С. 33. - Прим. пер.]
295
Глава пятнадцатая
непереносимым, когда мы совсем не можем узнавать
в нём себя, мы пытаемся исчезнуть6.
Нарцисс, глядение, разглядывание
и понимание себя
Прорицатель Тиресий предсказал, что Нарцисс
проживет до старости, если никогда не увидит своего
лица. Тересий предупреждает Лилиопу, мать
Нарцисса, что с мальчиком не случится ничего плохого до
тех пор, пока он не увидит своего лица. Это
предостережение повторяет его прорицание, данное Эдипу,
и акцентирует тему слепоты. Очарованный своим
отражением в источнике (без ряби), Нарцисс остается
в изоляции и одиночестве: он не может представить
себе кого-либо другого, кроме себя; другие становятся
несущими угрозу, когда его фантазия ослабевает.
Индивид обращает внимание на себя (никто другой
не представляет ценности) для поддержания
иллюзии, что он самодостаточен, потому что в нём
6 Многие психоаналитики меняли свои фамилии и
религиозную идентичность. Например, Эрик Эриксон, известный
своей работой по идентичности [См.: Эриксон Э.
Идентичность: юность и кризис. М., 1996. - Прим. пер.], начал жизнь
как еврей Эрик Саломонсен, затем взял фамилию своего
отчима и стал Эриком Хомбургером, и, наконец, взял фамилию
своей жены Эриксон, когда они поженились в 1930 и он
перешел в христианство. Джон Деверо, который родился евреем
Джорджем Добо, перешел в католицизм и изменил свою
фамилию на Деверо.
296
Печаль, стыд, травма и трагедия
заключено всё, в чём он нуждается7. Мы зависим от
других людей для обретения нами человечности, того
«сочувствования»8, о котором пишет Адам Смит и
которое спасает нас от отчаяния изоляции и
одиночества.
В движущих силах нарциссизма имплицитно
наличествует отчаяние в связи с переживанием
глубинного разъединения. Чем в большей степени не
осознается отчаяние в связи с разъединением, тем
больше высокомерие, тем меньше способность к эм-
патии (как к себе, так и к другим людям) и тем боль-
7 Исходя из перспективы нарциссических движущих сил,
уместно вспомнить, как умер великий маг Гудини. Будучи
рожден в Венгрии как Эрих Вейс, Гудини нарциссически
выдумал нового себя спустя год после смерти матери, изменив
свое имя на Гудини (в честь знаменитого итальянского мага).
Он смоделировал для себя новую идентичность в качестве
могущественного мага, известного по всему миру своим
искусством бросать вызов смерти. Он был не лишенным средств
ребенком, рожденным родителями иммигрантами, отец
которого позорно ничего не значил, а, скорее, был всемирно
известным, вызывающим восхищение магом. Гудини умер,
когда, так как он страдал от аппендицита и испытывал
мучительную боль, он дал указание мускулистому мужчине в
аудитории ударить его кулаком в живот, что привело к разрыву
аппендикса и мгновенно его убило. Подобно Фрейду, Кляйн,
Бернайсу и Эдипу, Гудини в детстве страдал от лишений,
семейной нищеты и унижений. Всё нужно было создать заново.
8 Смит Адам. «Теория нравственных чувств». Само понятие
нравственных чувств, столь аристотелевское по замыслу,
представляется основополагающим для того, что однажды было
определено как этика (moral sciences).
297
Глава пятнадцатая
ше игнорирование человеческой хрупкости и границ
человеческих возможностей.
То возрастающее понимание себя, которое для
Фрейда определяет трагическое движение связанной
с Эдипом трилогии, контрастирует с той
решительной и безрассудной манерой поведения, в которой
Эдип полагает, что то, что ему «известно», это всё, что
нужно, - он решает загадку сфинкс, которую не
смогли решить другие люди. Это, в свою очередь,
отражает роковую слепоту и невежество Нарцисса, который
прожил бы до старости, если бы никогда не увидел
своего лица9. Трагическое непонимание, столь
неотъемлемая часть древнегреческой трагедии, является,
таким образом, косвенным подтверждением пользы
от возрастания понимания себя. Конечно, здесь имеет
место возрастание понимания себя, но в связи с
совсем иной подоплекой, связанной с непониманием,
границами человеческого знания и трагедией.
Чем в большей степени человек скрывает свою
уязвимость, тем большей становится угроза его
разоблачения и тем более неэтическим он становится.
Кьеркегор пишет: «Учение о морали гласит, что
значимость жизни и реальности способствует
проявлению сущности каждого человека»10. «Если он ведет
скрытный образ жизни, неузнанный для себя или для
9 Трилогия Софокла об Эдипе является
последовательностью возрастающего нахождения и понимания себя через
осознание своих связей (например, с Антигоной и эринниями).
10 Kierkegaard, Either/Or. P. 327.
298
Печаль, стыд, травма и трагедия
других, он ведет себя неэтическим образом». Как
отмечал Вико со ссылкой на Платона, стыд - это окрас
добродетели.
Стыд как «окрас добродетели»
Трагическая, постыдная и человеческая борьба,
глубоко связанная с этикой, фабрикует идентичность
в плавильном тигле стыда и непонимания. И стыд
требует наличия Других людей, как и этика.
Аристотель связывает путаницу Эдипа по поводу своей
идентичности с его неэтическим, деструктивным
поведением, побуждаемым глубоким чувством
непостижимой трагедии, о какой он не имел ни
малейшего представления до тех пор, когда было уже
слишком поздно. Поэтому имеется скрытая связь между
стыдом, идентичностью, самообманом,
непониманием, трагедией и этикой. В процессе поиска счастья,
свободы, самоосуществления и удовлетворения наше
чувство трагедии подверглось деформации с тем
результатом, что из нашего горизонта исчезла честь,
а вместе с ней - стыд, как окрас добродетели и слуга
благочестия11.
11 Итальянский поэт и философ-моралист эпохи
Возрождения Франческо Петрарка (1304-1374) тщательно разработал
в произведении De sui ipsius et multorum aliorum ignorantia
(«О моем собственном невежестве и невежестве многих других
людей») то, чему суждено было стать стандартной критикой
схоластической философии. Петрарка возвратился к понятию
299
Глава пятнадцатая
В саге о роде Кадмоса травма одного поколения
инфицирует следующее, как это свойственно
человеческой природе12. Пиранделло замечает: «Ничто так
не беспокоит и не смущает, как пустые глаза, по
которым мы понимаем, что они нас не видят или что
видят они не то, что видим мы»13. Тогда, по своему
секретному смыслу, неотреагированный стыд и
травма (например, стыд Эдипа) может передаваться от
поколения к поколению (меж-поколенческая
травматическая передача) в форме нарциссических защит
и поглощенностей, которые наносят ущерб усилиям
родителей устанавливать связи со своими детьми
и расстраивают усилия их детей контактировать с
ними14. Поэтому парадоксальным образом, если нет
реакции на травматические ситуации, у тех, кто
чувствует стыд, часто имеется малый выбор, кроме
нарциссического поворота к самим себе, ухода в мир,
философии, укорененной в этических основах классической
традиции.
12 У травмированных родителей, которые глухи по
отношению к переживаниям собственного детства, часто серьезно
нарушена способность слушать и сопереживать своим детям.
Эти движущие силы можно наблюдать в широком спектре
патологий, от пристрастий к наркотикам до фобий и
перверсий.
13 Pirandello. One... P. 108. [Там же. С. 51. - Прим. пер.]
14 Благополучные дети приобретают чувство ориентации и
уверенности в связи со своими матерями, которое содействует
развитию очеловеченного стыда, который делает их более
чуткими к находящимся вокруг них людям, более
способными терпеть свою собственную уязвимость.
300
Печаль, стыд, травма и трагедия
лишенный человечности, так как альтернатива такого
ухода является невыносимо болезненной15.
Такие нарциссические защиты часто укореняются
в травматические детские годы, в которые родители
ощущаются недоступными. Одной из наиболее
вредоносных черт постыдных травматических реакций
является неоткликаемость от наиболее важных
Других. Родителям, которым трудно переносить
собственный стыд и хрупкость, часто требуется скрывать
боль своего детства. Как результат они легко могут
«смотреть на боль [своих] детей с улыбчивым
неверием в реальность их боли»16.
15 Их чувство мучительной разобщенности уловлено в
описании Эстер Диккенсом в «Холодном доме»: «Я поднялась
в свою комнату, забралась в постель, прижалась мокрой от
слез щекой к щечке куклы и, обнимая свою единственную
подругу, плакала, пока не уснула. Хоть я и плохо понимала
причины своего горя, мне теперь стало ясно, что никому на
свете я не принесла радости и никто меня не любит так, как я
люблю свою куколку» (Bleak House. P. 13). [Диккенс Чарльз.
Холодный дом. М, 2016. С. 14. - Прим. пер.]
16 «Нет печали безнадежнее, чем печаль ранней юности,
когда душа наша полна порывов, а опыт прошлого, опыт
жизни других людей еще не может служить нам поддержкой;
те, кто смотрит со стороны, слишком легко относятся к этим
юношеским терзаниям, как будто их способность заглядывать
в будущее может осветить настоящее для слепого
страдальца». «Кому из нас не случалось, потеряв в незнакомом месте
мать или няню, жалобно всхлипывать, глядя на свои голые
ножки в маленьких носочках; но мы не можем теперь вызвать
301
Глава пятнадцатая
В ответ переживающие обиду дети, которые не
могут вступить в контакт со своими
травмированными родителями, часто испытывают чрезмерный стыд,
препятствующий показу их уязвимости. Однако, не
показывая её, они полагаются на то, что
воспринимают как родительское отсутствие отклика на то, что
поэтому не может иметь места. Как результат они
сами могут приходить к неверию в реальность своей
боли17.
в памяти острую боль той минуты и поплакать над ней, как
мы плачем над памятными до сих пор страданиями,
испытанными какие-нибудь пять или десять лет назад. Каждая из
таких горьких минут оставила свой неизгладимый след, но
следы эти уже невозможно распознать под более
поздними напластованиями поры нашей юности и зрелых лет; вот
почему мы смотрим на горести детей с улыбкой, не верим
в реальность их мучений» (Eliot. 1860 (1980). Р. 66. [См.: Элиот
Джордж. Мельница на Флоссе / пер. с англ. Г. Островской
и А. Поляковой. СПб., 2014. С. 285-286; 81. - Прим. пер.]
17 Такие дети, ощущающие себя травмированными,
полными тревоги и боли, при общении со своими родителями,
которые заставляют их верить в то, что они не могут
испытывать эти чувства (и/или что эти чувства несут угрозу для
родителей), стоят перед трудной дилеммой. Родители, которые не
реагируют на душевные страдания своих детей, оставляют
детей в одиночестве, наполненных чувствами, которые дети
часто (посредством смещения) воспринимают как
непереносимые для их родителей (уход от контакта с ними родителей
истолковывается детьми как отклик страха и антипатии по
отношению к ним).
302
Печаль, стыд, травма и трагедия
Эти движущие силы легко приводят таких
травмированных детей к чувству своей позорной
невидимости и неузнанности, расщепленности между
«бессознательным чувством и неощущаемым знанием» -
всё понимающими, однако ничего не чувствующими.
Они находятся, объясняет Ференци, «[в] неком
состоянии паралича, которое [они] воспринимают как
умирание или состояние омертвелости...
Вызывающим удивление, однако в целом явно обоснованным
[результатом] этого процесса расщепления Я
становится внезапное изменение объектной связи, которая
стала непереносимой, и уход в нарциссизм. Человек,
оставленный всеми богами, полностью исчезает из
реальности и создаёт для себя иной мир, в котором
он, не связанный земным притяжением, может
достичь всего, чего хочет...»18.
Выдерживание стыда и уязвимости приводит к
усилению человеческих связей и чувств человечности,
в то время как нетерпимость к уязвимости и стыду
приводит к нарциссизму. Вико, который связывает
стыд с эмпатией и этикой, как и Аристотель19, заме-
18 «То событие, на которое мы можем сослаться как
противостоящее суицидальному импульсу, является тем фактом,
что в этой новой травматической борьбе пациент более не
одинок» (Ferenczi. 1931. Notes and Fragments. P. 237).
19 Поэт Йитс, который восхищался Вико, писал о
человеческой хрупкости:
Но я богатств подобных не имею.
Мечты мои - вот всё, чем я владею.
Изволь - я брошу их к твоим ногам.
303
Глава пятнадцатая
чает: «...акт человеческой любви совершался под
покровом ночи, в укрытии, то есть в состоянии стыда;
и они [Адам и Ева] начали испытывать то чувство
стыда, которое Сократ описал как окрас
добродетели20. Так что стыд рождается вместе со страхом
сепарации и брошенности, которые все указывают на
центральную значимость осознания нашей хрупкости
и слабости, на нашу человеческую потребность в
привязанности и связи в качестве источника жизненной
силы этики.
Представление стыда как «окраса добродетели»,
необходимую скрепу, которая сплачивает семьи и
общества21, как это подчеркивал Вико, явно
отличается от характеристики стыда в его зарождении, где
стыд является меткой первородного греха, знаком
грешной половой связи, предосудительного
вожделения, источником зла и несчастья и той причиной,
по которой Адам и Ева были изгнаны из рая, и всё
человечество с того времени несет наказание за
первородный грех.
Для Вико стыд (окрас добродетели) влечет за
собой очеловеченное представление о себе и своей
совести без угрожающего чувства греховного осуждения,
Но ради бога, ставь стопу нежнее:
Ведь ты ступаешь по моим мечтам.
Йитс. Он жаждет небесного плаща
(Пер. с англ. Маргариты Алексеевой)
20 Vico. The New Science. P. 171. Вико цитирует диалог
Платона «Евтифрон» 12 CD.
21 Vico. 1744. P. 171.
304
Печаль, стыд, травма и трагедия
ужаса и наказания. Вико пишет о стыде: «И он, после
религии, является второй скрепой, которая
объединяет народы, так же как бесстыдство и отсутствие
благочестия их разрушают»22. Другими словами, стыд и
благочестие являются связующей силой для
сообществ и народов.
Те социологи, психоаналитики и историки,
которые утверждают, что их Weltanschauung
(мировоззрение) является научным, не обращают внимания на
стыд и благочестие, часто рациональным образом
объясняя жестокость, нежели чем признавая,
чувствуя и считая людей за неё ответственными23.
Отделяя себя от объектов исследования, они в связи с этим
заглушают этические соображения. И они
утрачивают понимание того, что «Жалость - невыразимо /
В сердце любви моей»24.
Вико открыто связывает Scienza Nuova со своей
борьбой и очеловечивающим стыдом, посредством
которого он обрел вдохновение. «Ибо посредством
этого труда я почувствовал себя новым человеком; я
более не отшатываюсь от тех вещей, которые когда-то
побуждали меня скорбеть по поводу моего тяжкого
жребия и осуждать продажность той писательской
22 Vico. Ibid. Р. 171.
23 Французское понятие «двойное сознание» (двойное
сознание и двойная совесть) обозначает существенно важную
связь между пониманием и этикой, которое было утрачено
в современных общественных науках.
24 Йитс. Жалость любви.
305
Глава пятнадцатая
братии, которая была причиной этого жребия; ибо
эта продажность и этот жребий сделали меня
сильнее и позволили завершить этот труд»25.
Как отмечает Вико, следует проводить базисное
отличие между conscienza и scienza, пониманием и
наукой. Conscienza начинается с песни, музыки
и проистекает от человеческой уязвимости и
человеческой связи26; scienza (знание или наука) не может
достигать этих высот или простираться так глубоко.
Трансформации Эдипа,
страдание и трагедия
«Лишь тогда, когда мы пытаемся бороться с
внутренней потребностью другого человека, мы
понимаем, сколь непостижимыми, колеблющимися и
загадочными являются те люди, которые разделяют
с нами вид звездного неба и теплоту солнца»27.
Трагическое непонимание, таким образом, представляется
существенно значимой частью того, что Аристотель
описывает как «катарсис» (точно переводимый как
комбинация жалости и страха), связывая этику
с непреодолимыми эмоциями, страданием,
непониманием и стыдом.
В Древней Греции страдание было естественным
фактом человеческого состояния, связанного со слу-
25 Vico. Autobiography. P. 15.
26 Лишь после чувств (и связей) приходят восприятия,
и лишь после восприятий - мышление и суждение.
27 Conrad Joseph. Lord Jim.
306
Печаль, стыд, травма и трагедия
чаем (tyche) и человеческой беспомощностью28.
С приходом христианства случай нёс угрозу замыслу
Бога. Страдание стало путаться с несчастьем, с
предопределенным наказанием и грешным поведением
(первородным грехом), обретя притягательную силу
в связи с протестантской реформацией, ростом
господства науки и промышленной революцией, и
покатилось как снежный ком с работой Ницше
«Рождение трагедии».
Языческая мифология была задушена священным
писанием29. Героизму стали придавать оттенок
символики Христа на кресте30. Страдание требовало
объяснения.
Несмотря на предположение о том, что история
может рассматриваться как прогресс, а прогресс - как
линейное развитие (филогенез кратко повторяет
онтогенез), или же как движение от простого к
сложному, или как история классовой борьбы, при
обсуждении связи истории с эмоциями необходимо призна-
28 АЫ пишет, что Эдип у Софокла называет себя «дитя
tyche, случая, а не дитя судьбы». Эдип у Сенеки принимает свою
судьбу как свою цель «в причинной связи fatum», «судьбы».
Р. 125.
29 «Имела место длительная традиция сопоставления
языческой мифологии со священным писанием. Если «Ифигения в
Авлиде» была одной из двух трагедий Еврипида, переведенных
Эразмом, то его выбор был, очевидно, мотивирован сходством
этой истории с жертвоприношением Исаака» (Mueller. Р. 11).
30 Таким образом, трагедия стала «восприниматься как
форма краснобайства, а не как драма». (Mueller. Р. 11).
307
Глава пятнадцатая
вать, как эмоции (а не рациональные конструкции)
определяют восприятия, которые затем формируют
историю. Явно имеют место пределы того, что мы
можем понимать относительно прошлого, что не
означает, что не надо делать всё, что возможно, чтобы
попытаться его понять. История как трагедия
сталкивает нас лицом к лицу с нашей человеческой
хрупкостью (hamartia), включая задачу понимания эмоций
в отдаленные исторические периоды31.
С течением столетий историческое развитие,
которое стало в большей степени фокусировать
внимание на геройских проступках и личностях, нежели
чем на человеческих обстоятельствах, всё более
затемняло роль человеческих ошибок в трагедии.
До Ренессанса Эдип Сенеки был более широко
известен, чем Эдип Софокла. Когда был «заново открыт»
Эдип Софокла во время и после Ренессанса, он
прочитывался, «исходя из» Эдипа Сенеки, который
наполнил софоклову трагедию стоическими темами
и акцентом на иудео-христианском божественном
промысле, преднамеренности и вине32.
31 Само понятие способности понимания претерпело
трансформации. Например, мы думаем, что понимаем свой
разум. Однако греческое понятие psuche неадекватно
переводится нашими понятиями «душа» или «разум», так как psuche
у греков одновременно обозначает дыхание, природную силу
жизни, движение, разум и душу.
32 См., например, Ahl. Two Faces of Oedipus: Sophocles'
Oedipus Turanus and Seneca's Oedipus. 2008.
308
Печаль, стыд, травма и трагедия
Сюжет, определенный Аристотелем как душа
трагедии, стал несущественным у Сенеки. Вместо этого,
трагедия стала непосредственно ассоциироваться с
героем, а не с теми обстоятельствами, которые были
неподконтрольны герою. Героизм начал вращаться
вокруг индивидуальной силы и воли, а не вокруг
более широкого контекста человечности, а также
какого либо чувства жалости по отношению к чему
либо большему, чем герой. Героизм, таким образом,
подвергся переопределению и приобрел окрас
демонстративного неповиновения, пригодного служить
подкладкой для христианского понятия «греха».
Hamartia (человеческая хрупкость) уступила место
греху, окрашенному ненасытным вожделением власти.
С протестантской реформацией, пришло
восстание против католических понятий индульгенций и
всё более сурового понятия первородного греха,
вместе с возрастанием акцента на вине, прямом
следствии очарованности властью33. Эдип воспринимался
через линзы протестантской (и европейской) вины,
спутника свободной воли. С появлением готического
романа ужасов, очарованность грехом и жестокостью
33 Европейские писатели XVI века были склонны брать те
греческие сюжеты, которые не претерпели изменение с V
века, и видеть в судьбе Фив «парадигму по поводу собственного
смятения». Однако такое смятение содействовало
абстрактному и безвременному статусу, придаваемому персонажам
в греческой трагедии, которые стали «подобны греческим
статуям, которые стали известны их потомкам лишь после того,
как утратили свой окрас»( Mueller, р. 8).
309
Глава пятнадцатая
усилила крепкий отвар из вины и очарованности
внутренней жестокостью.
В XVII веке «Эдип» французского драматурга Кор-
неля делает явной современную поглощенность
волей, которая окрасила истолкования драмы «Эдип-
царь». В XVIII веке Жан-Франк Мармонтель во
вступительной части своей статьи о «трагедии» в
«Энциклопедии» Дидро придает особое значение трагическому
герою, а не трагической ситуации; характеру и личности,
а не сюжету. Согласно точке зрения Мармонтеля, имел
место существенный сдвиг в истолкованиях и
представлениях о сути трагедии между Аристотелем и ним
(автором пьесы «Дионисий-тиран»)34. Для Мармонтеля,
трагическим является такой герой, который, хотя он
страдает, почитается и заслуживает уважения (как
Христос). Страдание должно свидетельствовать о величии, а
не порождать замешательство. Никакой герой не
заслуживает такого имени, если он может совершать
отвратительные преступные деяния35.
Важно отметить, что отсутствует какая-либо
вступительная часть по поводу трагедии в полном 11-м
издании The Encyclopedia Britannica, вышедшем в
начале XX века под редакцией Уильяма Робертсона-
34 Заглавие данной пьесы указывает на его неодобрение
Дионисия и сильных страстей.
35 Попытка приписать действиям Эдипа некую моральную
ущербность, которая может оправдывать или, по меньшей
мере, объяснять его «наказание», проходит красной нитью в
спорах, ведущихся в XVII и XVIII веках по поводу
ответственности Эдипа.
310
Печаль, стыд, травма и трагедия
Смита, чьи интересы в области религии были сжато
пояснены36. Такое бросающееся в глаза отсутствие
(никакой вступительной части в статье о «трагедии»)
подчеркивает, что происходит, когда ошибки героя
трагедии становятся преступлениями. В таких случаях герой
должен нести за них ответственность, что прямо
противоречит акценту Аристотеля на hamartia (человеческой
хрупкости) и человеческих ошибках37, обременяя всё
содержание трагедии непризнанной путаницей и
противоречием38. Лучше целиком её избегать.
Иудео-христианские понятия неподкупности,
божественного промысла и потребности в моральной
36 Это тем более поразительно, потому что Робертсон-
Смит написал книгу The Religion of the Semites и глубоко
интересовался религией.
37 Ibid. P. 117. И Мармонтель продолжает утверждать, что
хорошие трагедии должны внушать ненависть к пороку и
любовь к добродетели, и не должны чрезмерно останавливаться
на теме любви или удовольствия. Интересно отметить, что
первой пьесой Вольтера была пьеса «Эдип», переложение,
которое серьезно упростило оригинал (Mueller. Р. 78). И
Вольтера раздражает характер Эдипа: «Этот Эдип, который
объясняет загадки, не внимает самым простым вещам» (Ibid.,
quoted. P. ПО).
38 В течение XIX века в соответствии с общепринятым
здравым рассудком утверждалось, что «Эдип-царь» - это трагедия
par excellence (преимущественно) о роли судьбы. С одной
стороны, наличествует сомнение по поводу судьбы (связанное
с беспомощностью), а с другой - предрасположенность к вине
и справедливому наказанию. Отсюда видимое оцепенение от
страха у софоклова Эдипа.
311
Глава пятнадцатая
и рациональной ясности сделали греческие понятия
hamartia и «трагедии» непонятными и
нуждающимися в «исправлении».
Для поколений до Фрейда Эдип был секретным
героем, который, обуреваемый искушением,
осмеливался бросать вызов табу, запретам и общепринятым
мнениям39.
Крупные фигуры в немецкой философии
(например, Шлегель, Шопенгауэр, Ницше) связывали
Эдипа, Адама и Гамлета с инцестными побуждениями
и необузданной сексуальностью, властью и
жестокостью. Таким образом, Эдип стал в одном лице
Прометеем и Адамом, символом первородного греха,
в окрасе мучительного ужаса и демонстративного
неповиновения. Такова та традиция, которую мы
унаследовали в нашем современном мире, с её акцентом
на героизме, афессии и вине40. Бросающееся в глаза
отсутствие стыда, беспомощности, случая, слепоты
и то, что Кьеркегор называл «деформацией смире-
39 Галина Кристева замечает, что Пауль Федерн еще в
1908 году обратил внимание Фрейда на то, что Ницше открыл
много основ психоанализа до него: «уместность отреагирова-
ния, подавление, бегство в болезнь, влечения к жизни», и т.д.
(1. April 1908, Minutes of the Vienna Society, vol. I. P. 337 в
немецком издании). Мы также знаем, что Фрейд утверждал,
что никогда не читал Ницше.
40 В то время как трагедия Софокла вращается вокруг
человеческой подверженности ошибкам и hamartia, наш
современный фрейдовский Эдип стал олицетворением прямо
противоположного: триумфа истолкования, воли и ницшевской
жажды власти.
312
Печаль, стыд, травма и трагедия
ния» в преобладающих версиях Эдипа, отражает
нашу текущую потребность представлять себя
могущественными и важными людьми, нежели чем
чувствовать очеловечивающие воздействия собственной
незначительности и непонимания41. Еще предстоит
быть написанной истории об изменениях в смыслах
трагедии. Она будет включать в себя чувства и
отношения к непреодолимому страданию, непониманию,
стыду, случаю и смертности и будет чем-то большим,
нежели простым описанием литературных форм или
интерпретациями сюжета и персонажей.
Когда Фрейд сформулировал эдипов комплекс,
никто не был готов спорить с ним по поводу
истолкования обремененного виной дерзкого героя Эдипа,
который грешил, бросил вызов оракулам, и ослепил
(для Фрейда «наказал») себя, осознав весь ужас своих
грехов и демонические соблазны инцеста42. В своей
формулировке эдипова комплекса Фрейд
использовал то, что уже наличествовало43.
41 Конт отмечал, что человечество состоит из намного
большего числа мертвых, чем живых.
42 Соответственно Фрейд настаивал на том, что эдипов
комплекс - это «шибболет» («тайный пароль») психоанализа.
Исходя из этой перспективы, акцент Фрейда на ужасе
приобретает ещё большую отличительную черту, в особенности
потому, что он фокусирует свое внимание на том, что является
скрытным, но само полностью лишено благочестия.
43 Тема спутанной идентичности и гибели семейной линии
в сказании о роде Кадмоса имеет много эдипальных
обертонов. Рассмотрим различные версии истории Манфреда, раз-
313
Глава пятнадцатая
Подобно Клейсту, Шеллингу, Шопенгауэру, Ницше
и другим людям до него, Фрейд отождествил себя с
героическим грешником (убийцей отца, инцесгуозным)
Эдипом, но не с тем Эдипом, от которого в
младенчестве отказались родители и оставили его умирать44.
Человеку свойственно не хотеть верить в то, что
ему был нанесен столь серьезный ущерб, какой дей-
витые Байроном, Шуманом (овертюра к Манфреду),
Чайковским и «близнецом» Фрейда, Ницше. Первой была версия
Уолпола «Замок Отранто» (данный роман считается началом
моды на готическое в литературе). Среди её тем повторяются
травма непрерывного ряда поколений и путаница по поводу
своей идентичности, которые мы находим в сказании об
Эдипе и в роде Кадмоса. В начале данной истории сын Манфреда,
Конрад, погибает от удара гигантского шлема, который
падает на него сверху. Данное событие становится еще более зло-,
вещим вследствие предсказания, которюе предрекает конец
царства Манфреда. Манфред затем пытается преодолеть данное
предсказание, разведясь с женой и женившись на дочери Теодо-
ро, который, в свою очередь, должен жениться на его дочери
Матильде. Думая, что его дочь, это Изабелла, он закалывает
Матильду кинжалом, таким образом, приводя к концу свой род.
44 Для таких писателей, как Клейст, Шиллер и Гёте, Эдип -
это версия Адама, связанная с грехом и героическим
демонстративным неповиновением, с искушением и свободой, с
теми ассоциациями, которые, совместно с противоречивыми
отношениями к сексуальности, стали еще сильнее в течение
XIX века. Западные понятия о суеверии и психоаналитические
понятия о паранойе склонны выстраивать защиты против
человеческой слабости и осознания хрупкости существования,
делая других людей либо действительно иррациональными,
либо подлинно недоверчивыми (либо и то и другое вместе).
314
Печаль, стыд, травма и трагедия
ствительно был ему причинен. На самом деле,
способность определять реальный размер причиненного
вреда - ни минимизируя его, ни чрезмерно
раздувая - требует терпимого отношения к стыду, которое
характерно для психического самообладания. Эта
способность также требует смиренности. Таким
образом, травма в форме межпоколенческих проклятий
и движущие силы дурного глаза присоединяются к
трагедии. Эдип не может представить себе свою
раннюю травму и предстаёт неспособным осознать ту
ношу проклятий, которые, сами по себе, являются
выражением еще большей травмы. Это трагическое
непонимание Эдипа является неотъемлемой частью
его трагедии и описанного Аристотелем катартиче-
ского воздействия. Катартические эмоции являются
по определению непреодолимыми, как и травма.
Таким образом, задолго до Фрейда истолкования
трагедии были полны непостижимым, греческим
акцентом на прихотях богов и человеческой
беспомощности, случае и судьбе; а Эдип давно уже был
героическим45, своенравным, виновным, грешным
объектом похотливого очарования. Чтобы быть
«доступными для понимания», многие литературные
произведения были склонны, начиная с раннего хри-
45 Говоря о сказке, Пропп пишет, что её герой не является
эгоистом, потому что проявляет «способность понимать
положение и страдание другого страдальца, испытывать
сочувствие к угнетенному, слабому, к тем, кто нуждается в помощи.
Это разновидность человечности» (Ргорр. Р. 162).
315
Глава пятнадцатая
стианского периода и далее, развивать темы спасения
и осуждения и сюжеты, которые подходили для
порождения греха, наказания и искупления.
Такая «понятливость», однако, размывает
трагедийную основу. Когда произведение заканчивается
либо осуждением (как в «Рассказе монаха» Чосера),
либо спасением (например, в «Божественной
комедии» Данте), трудно считать его «трагическим», так
как, согласно определению трагедии Аристотелем,
дурной человек не может пробуждать жалость у
зрителей46. Точно так же, как, согласно Вольтеру, драмы
Софокла нуждались в некотором исправлении, чтобы
сделать их понятными, так и страдание без какой-
либо явной причины стало проявлением
божественной своенравности, напоминающей беспринципные
смелые проделки греческих богов. Таким образом,
произошел громадный отход от греческой трагедии
как проявления hamartia, человеческого страдания,
случая и беспомощности. В своем определении
трагедии Аристотель придает особое значение kathartic
(катартическим) очеловечивающим и
социализирующим воздействиям разделяемого и передаваемого
стыда, травмы и страдания47.
46 См.: Mueller. Р. 153.
47 Такое аристотелево представление о катарсисе и его
связи с трагедией фундаментально отличается от теорий Гегеля,
Ницше, Шопенгауэра и немецких романтиков, которые
оказали влияние на Фрейда. Гегель придает особое значение
конфликту всеобъемлющих противоположностей. Ницше следу-
316
Печаль, стыд, травма н трагедия
Начиная с раннего христианского периода,
концепции трагедии смещали внимание с акцента
Аристотеля на фабуле к акценту на героизм и характер48.
Посредством связывания зависти (к отцу) с
убийством, инцестом и агрессией, с нарушением табу,
современный Эдип радикальным образом отходит от
аристотелевой этики49. В ходе превращения трилогии
ет его примеру в «Рождении трагедии», акцентируя внимание
на противоположности (диалектической?) между аполлони-
ческими (рациональными?) и дионисийскими
(эмоциональными?) силами, и, поступая таким образом, принижает
значимость человеческой хрупкости, стыда и страдания. Галина
Кристева отмечает, что в своем отрицании смертности «Фрейд
напоминает мне Шопенгауэра, который говорил о
"неразрушимости нашей подлинной сущности смертью"» (Un-
zerstorbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod) (Личное
сообщение).
48 Занимательно, как это отмечает Мюллер, что
представления Аристотеля о фабуле сохранились не в трагедии, а,
скорее, в комедии. «Исходя из перспективы драматической
структуры, подлинным преемником трагедии V века
до н.э. была не эллинистическая или римская трагедия, а
Новая аттическая комедия», в особенности посредством комедий
Теренция (ок. 195-159 до н.э.) (Pp. 15 ff). Такая комбинация
трагической риторики и комической драматургии «особенно
заметна в тех версиях античной трагедии, которые играют
ключевую роль в развитии французской неоклассической
трагедии» (Р. 33).
49 Поразительным образом защита Фрейдом гипотезы
о соблазнении (что дети, которые подвергаются сексуальному
совращению взрослыми, по сути, являются жертвами своих
собственных вожделений), точно соответствует его
определению эдипова комплекса.
317
Глава пятнадцатая
Софокла (или саге об Эдипе) в эдипов комплекс
удары судьбы и страдание Эдипа были переделаны
в «вину» и «заслуженное наказание».
Поразительный контраст между версиями
истории Эдипа обрамляет наше обсуждение стыда и
зависти; он подчеркивает значимость для нас
аристотелева понятия katharsis'a, стыда как отклика на
страдание и травму у себя и других людей, связи человека с
другими людьми, и hamartia (человеческую
хрупкость) и стыд как существенно важные противоядия
высокомерию, жестокости и нарциссизму50. Для того
чтобы чувствовать себя людьми, мы нуждаемся в
переживании наших страхов разъединения и
покинутости, наших чувств непонимания, замешательства,
дезориентации и беспомощности, стыда незнания,
50 Сравните здесь высказывание Аристотеля («Никомахова
этика», 1166а), который описывает взаимоотношения, которые
проистекают от уважительного (добродетельного) отношения
к себе. «В самом деле (1) другом полагают того, кто желает
блага и делает благо, [истинное] или кажущееся, ради другого,
или того, (2) кто желает во имя самого друга, чтобы тот
существовал и жил; именно это дано испытывать матерям к детям
и тем из друзей, кто рассорился. А (3) другие признают
другом того, кто проводит с другим время и (4) вместе с ним на
одном и том же останавливает выбор, или же (5) делит с ним
горе и радости. И это всё тоже в первую очередь бывает у
матерей [в их отношении к детям]». [Аристотель. Никомахова
этика / пер. Н.В. Брагинской // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.,
1984. С. 249-250. - Прим. пер.] Заметьте, как пробирным
камнем является для Аристотеля мать и имплицитно
потребность в связи.
318
Печаль, стыд, травма и трагедия
страдания, разочарования, исчезновения и смерти.
Действительно прискорбно, что очеловечивающая
значимость трагического непонимания у греков столь
неправильно понимается в наше время и что то, что
доступно постижению, стало столь чуждым тому, что
мы чувствуем.
Как заметил Августин, не каждый может
понимать смиряющую мощь эмоций.
«Покажите мне человека, который любит; он
знает, что я имею в виду. Покажите мне того, кто
находится в тоске; покажите мне того, кто голоден;
покажите мне того человека в пустыне, кто испытывает
жажду... Покажите мне такого человека; он знает, что
я имею в виду. Но я говорю о человеке с холодным
сердцем, ему совершенно непонятно, о чем я
говорю»51.
51 Augustine, quoted in Brown, 1966, p. 377.
319
Литература
Aaron, Brav (1909) (In) Dundes, Alan Evil Eye: a casebook.
Abraham, Karl (1920) [1953] Manifestations of the female
castration complex [In] Selected Papers of Karl Abraham. New
York: Basic Books.
(1921) [1953] Contributions to the theory of anal
character. [In] Selected Papers.
Ahl, Frederick (2008) Two Faces of Oedipus: Sophocles
Oedipus Tyrannus and Seneca's Oedipus. Ithaca: Cornell
University Press.
Anderson, Gary (2009) Sin: a history. New Haven: Yale
University Press.
Anonymous, Beowulf. [2000] (trans. Seamus Heaney). New
York: Norton.
Aristotle (1941) The Basic Works of Aristotle, Richard
McKeon (ed.) New York: Random House Nicomachean Ethics
On the Soul De Divinatione per somnum Poetics.
Aristotle, Aristotle's Poetics [19611 (trans. S.H. Butcher).
New York: Hill and Wang.
Artemidoros [1975] The Oneirocritica (trans. Robert J.
White). Park Ridge, NJ.: Noyes Press.
Barth, F. Diane The role of self-esteem in the experience of
envy. American I. of Psychoanalysis 48:196-210.
Bacon, Francis (1909-14) Essays, Civil and Moral.
Cambridge: The Harvard Classics.
Bauer, Walter (ed. Danker, Frederick William) (2001)
A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Christian Literature. Chicago: University of Chicago Press.
Beard, Mary and Crawford, Michael (1985) Rome in the
Late Republic. London: Duckworth.
320
Литература
Beard, Магу (2007) The Roman Triumph. Cambridge:
Harvard University Press.
Benedict, Ruth (1946) The Chrysanthemum and the Sword.
New York: Houghton Mifflin.
(1959) An Anthropologist at Work: Writings of Ruth
Benedict (ed. Margaret Mead). Boston: Houghton Mifflin
Company.
Berlin, Isaiah, (1997) The Proper Study of Mankind: an
anthology of essays (eds. Henry Hardy and Roger Hausheer).
New York, Farrar, Straus and Giroux.
Bernays, Edward (1928) Propaganda. New York: Liveright.
Binion, Rudolph, (1968) Frau Lou: Nietzche's wayward
disciple. Princeton: Princeton University Press.
Bloch, Marc (1924) (1983) Les rois thraumaturges. Paris:
Gallimard (NRF).
(1974) Apologie pour l'histoire ou Metier d'historien.
Paris Armand Colin.
Boas, Franz (1889) On alternating sounds. American
Anthropologist 2: 47-54.
Bott-Spillius, Elizbeth (1993) Varieties of Envious
Experience. International lournal of Psychoanalysis 74:1199-1212.
(2001) Freud and Klein on the Concept of Phantasy.
International Tournai of Psychoanalysis 82: 361-373.
Braudel, Fernand (1958) Histoire et Sciences Sociales: La
longue durée. Annales (13-4). Pp. 725-753.
Breger, Louis (2009) A Dream of Undying Fame: How
Freud betrayed His mentor and invented psychoanalysis. New
York: Basic Books.
Brown, Peter (1967) Augustine of Hippo: a biography.
Berkeley: University of California Press.
(1971) The World of Late Antiquity: AD 150-750. New
York: Norton.
321
Литература
(1978) The Making of Late Antiquity. Cambridge:
Harvard University Press.
(1981) The Cult of the Saints: its rise and function in
Latin Christianity. Chicago: University of Chicago Press.
(1992) Power and Persuasion in Late Antiquity: towards
a Christian empire. Madison: University of Wisconsin
Press.
(1996) The Rise of Western Christendom. London:
Blackwell.
(2012) Through the Eye of a Needle: wealth, the fall of
Rome and the making of Christianity in the West 350-550
AD. Princeton: Princeton University Press.
Buchan, James, (1997) Frozen Desire: the meaning of
money. New York: Farrar Straus Giroux.
Chandler, Robert (ed) (2012) Russian Magic Tales from
Pushkin to Platonov. London: Penguin.
CNRS (1973) La notion de personne en Afrique Noire.
Paris: Eds. Du Centre Nationale de la Recherche Scientifique.
Coen, Stanley J. (1987) Pathological jealousy.
International T. Psychoanalysis 68: 99-108.
Collins, John J. (1997) Seers, Sybils and Sages in Hellenistic-
Roman Tudaism. Leiden: Brill.
Conrad, Joseph, Lord Tim (1899) (1996) New York: Norton.
De Certeau, Michèle (1970) La Possession de Loudun. Paris:
Gallimard.
De Martino, Eresto (2002) The Land of Remorse: a study of
southern Italian tarantism. (Trans. Dorothy L. Zinn). London:
Free Association Books, 2002.
Descartes, Renée (1628) [1955] Discours sur la méthode
(Discourse on the Method). (1628) Philosophical Works of
Descartes (trans. Haldane, E.S. and Ross, G.R.T.). 2 vols. New
York: Dover.
322
Литература
Détienne, Marcel (1977) Dionisos mis a mort. Paris:
Gallimard.
Devereux, George (1967) From Anxiety to Method in the
Behavioral Sciences. The Hague: Mouton.
Dickens, Charles (1850) [200] David Copperfield. New
York; Modern Library paperback edition.
(1853) [1956] Bleak House. Boston: Houghton Mifflin
Press.
(1857) [2002] Little Dorrit. New York; Modern Library
paperback edition.
(1β65) [2002] Our Mutual Friend. New York; Modern
Library paperback edition.
Dodds, E.R. (1965) Pagan and Christian in an Age of
Anxiety. Cambridge: Cambridge University Press.
(1951) The Greeks and the Irrational. University of
California Press, Berkeley and Los Angeles California.
Douté, Edmund (1909) Magie et religion dans l'Afrique du
nord. Alger: A Jourdan.
Dundes, Alan, (1981) [1992] Wet and dry: the evil eye: an
essay in Indo-European and Semitic worldview [In] The Evil
Eye: a casebook. Madison: University of Wisconsin Press.
Durkheim, Emile (1912) Les Formes Elémentaires de la Vie
Religieuse. Paris: Felix Alcan.
Edelstein, Emma and Ludwig, (1945) Aesclepius (2 vols.)
Baltimore: Johns Hopkins Press.
Ellenberger, Henri (1970) The Discovery of the
Unconscious. New York: Basic Books.
Elliot, George, 1860 (1980) The Mill on the Floss, (ed.
Gordon S. Haight). Oxford: Oxford University Press.
Encyclopedia Brittanica (ed. Robertson-Smith) (10th edition)
(1902-03) Edinburgh.
323
Литература
Diderot, Denis Encylopedie (1751-1772) (17 vols). Paris:
André le Breton, Laurant Durand, Antoine-Claude Briasson,
Michel-Antoine David.
Ellison, Ralf, (1952) Invisible Man. New York: Random
House (Vintage).
Epstein, Joseph (2003) Envy. New York Public Library.
Oxford: Oxford University Press.
E.E. Evans-Pritchard (1940) [1976] Witchcraft Oracles and
Magic among the Azande. Oxford: Oxford University Press.
(1956) Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press.
(1981) A History of Anthropological Thought, (ed.
Andre Singer). New York: Basic Books.
Etchegoyen, R.H. (1985) Identification and its vicissitudes.
International I. of Psychoanalysis. 66(1) 3-18.
(1987) On envy and how to interpret it. International I.
Psychoanalysis 68: 49-60.
Ewen, Stuart (1996) PR! a social history of spin. NY Basic
Books.
Fabvre, Lucien (1947) Le problème de l'incroyance au XVI
siècle: La religion de Rabelais. Paris: Albin Michel, 1947.
Fahd, Toufic (1959) La divination arabe; etudes religieuses
sociciologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam.
Sources Orientales, 2-3.
Feldman, E. and De Paola, H. (1994) An investigation into
the psychoanalytic concept of envy. International I. of
Psychoanalysis 1994 (75) 216-34.
Feldman, Ronald (In) Britton et al. (1989) The Oedipus
Complex Today: clinical implications. London: Routledgs.
Ferber, Sarra (2004) Demonic Possession in Early Modern
France. London: Routledge.
Ferenczi, Sandor (1950) The Selected Papers of Sandor
Ferenczi (Volume I). New York: Basic Books.
324
Литература
(1926) (1960) The Selected Papers of Sandor Ferenczi
(Volume II). (ed. John Rickman) (trans. Jane Isabel Suttle et
al.). New York: Basic Books.
(1955) The Selected Papers of Sandor Ferenczi
(Volume III), (ed. Michael Balint) (nrans. Eric Mocbacher et al.).
New York: Dasic Books.
(1988) The Clinical Diary of Sandor Ferenczi (ed. Judith
Dupont) (trans. Michael Balint and Nicola Zarday Jackson).
London: Harvard University Press.
Fergusson, Everett (1984) Demonology of the Early
Christian World. New York: Edwin Meilen.
Fletcher, John (2013) Freud and the Scene of Trauma. New
York: Fordham University Press.
Fodor, Jerry and Piatelli-Palmarini, Massimo (2011) What
Darwin Got Wrong. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
Frederiksen, Paula, (2012) Sin: the early history of an idea.
Princeton: Princeton University Press.
Freud, Sigmund [Standard Edition! (1974). 25 vols. London:
Hogarth Press
(1916-1917) Introductory Lectures, vol. 16.
(1893-1895) Studies in Hysteria, vol. 2.
(1900-1901) The Interpretation of Dreams, vols. 4-5.
(1905 [1902]) Fragment of an analysis of a case of
hysteria. Vol. 7.
(1919) The Uncanny, vol. 17.
(1923) The Ego and the Id. SE vol. 19.
(1932) The Question of a Weltanschauung, New
Introductory Lectures.
(1933) New Introductory Lectures, vol. 22.
Freud, Sigmund and Ferenczi, Sandor, (2000) The
Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenczi 1920-33,
325
Литература
(2000) vol. 3. (eds Falzeder Ernst and Brabant, Eva)
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Goffman, Erving (1959) The Presentation of Self in
Everyday Life. New York: Doubleday (Anchor).
Graham, Kenneth (1908) (2005) The Wind in the Willows.
London: Penguin.
Grosskurth, Phyllis (1987) Melanie Klein: her world and her
work.Cambridge, Harvard University Press.
Grossmann, Vasily, Life and Fate. (1980) (1985) (trans.
Robert Chandler). London: Vintage.
Grunbaum, Adolf (1985) The Foundations of
Psychoanalysis: a philosophical critique. Berkeley: University of
California Press.
Hardin, Harry (1980) On the Vicissitudes of Freud's Early
Mothering. Psychoanalytic Quarterly 52: 72-86.
Harfouche, Jamal Karem (1965) (1981) (In) Dundes, Alan
Evil Eye: a casebook.
Harmless, J. William and Fitzgerald, Allen (2014)
Augustine and the Catechumenate. Liturgical Press, Collgeville, MN
(USA).
Harmless, William and Fitzgerald, Raymond R. (2010) The
Sapphire Light of the Mind: the Skemmata of Evagrius Ponti-
cus Tournai of Theological Studies 62.
Hastings, James (1908-1926) Encylopedia of Religion and
Ethics. (12 vols) Johns Hopkins University Press.
Heaney, Seamus (2001) Electric Light. London: Faber and
Faber.
Hirsch, Irwin (2011) Narcissism, mania and the analyst's
envy. American T. Psychoanalysis. 71: 363-369.
Hopkins, Linda (2006) False Self: the life of Masud Kahn.
"New York" Other Press.
Hollander, Anne (1978) Seeing Through Clothes. New
York: Viking.
326
Литература
Husband, Timothy (1980) The Wild Man: medieval myth
and symbolism. New York; The Metropolitan Museam of
Art.
Jackson, David R. (2004) Enochic Tudaism: three defining
paradigms. Edinburgh: T&T Clark.
Jacobs, Alan, (2008) Original Sin; a cultural history. New
York: Harper Collins.
Johnson, Ben (Volpone (1607) (2001)), Ben Tohnson's Plays
and Masques. New York: Norton.
Jones, Ernest (1951) On the Nightmare. New York: Live-
right.
Joseph, Betty (1986) Envy in everyday life. Psychoanalytic
Psychotherapy 2:13-22.
Kalush, William and Sloman, Larry, (2007) The Secret Life
of Houdini: the making of American's forest superhero. Atria
Books (Simon and Schuster) New York.
Kant, Immanuel (1790) (2008) The Critique of Tudgement.
(trans. Jampes Creed Meredith) Oxford. Oxford University
Press.
(1783) (1977) Prolegomena to any Future Metaphysics.
(trans. Paul Cams) Indianapolis: Hackett Publishing.
(1781) (1958) Critique of Pure Reason, (trans. Norman
Kemp Smith) New York: Modern Library.
Kierkegaard, Soren (1843) [1944] Either/Or (vol. 2) (trans
Walter Lowrie) New York: Doubleday (Anchor).
(1849) (1989) The Sickness Unto Death, (trans. Alistair
Hannay) London: Penguin.
Kilborne, Benjamin (1978) Interpretations du rêve au Marc.
Claix: La Pensée Sauvage.
(1978) The Cultural Setting of Dream Interpretation.
Psychopathologie africaine 12: 77-89.
327
Литература
(1982) An Anthropological Thought in the Wake of
French Revolution: La Société des Observateurs de
l'Homme. Europian Tournai of Sociology 23; 73-91.
(1987) "Dreams" The Macmillan Encyclopedia of
Religion (ed. Mircea Eiliade). New York: Macmillan.
Culture and Human Nature: theoretical papers of Melford
Spiro (eds with L.L. Langness). Chicago: University of Chicago
Press.
(1992) Positivism and its Vicissitudes; The Role of Faith
in the Social Sciences. Tournai of the History of the
Behavioral Sciences 28(3): 352-370.
(1999) The Disappearing Who: Kierkegaard; shame and
the self (In) Scenes of Shame: psychoanalysis and writing,
(eds. Joseph Adamson and Hillary Clark). Albany: SUNY
Press.
(1999) When Trauma Strikes the Soul: Shame, splitting
and psychic pain. American Tournai of Psychoanalysis 59:
385-400.
(2001) Disappearing Persons. Albany: SUNY Press.
(2005) Shame Conflicts and Tragedy in the Scarlet
Letter. Tournai of the American Psychoanalytic Association
53 (2): 465-483.
(2008) Human Foibles and Psychoanalytic Technique.
American Tournai of Psychoanalysis 20:1 201-23.
(2008) La possession à Loudon: les accusations et le
dynamique de la politique (ms).
(2008) The Evil Eye, Envy and Shame (In) (eds. Leon
Wurmser and Heidrun Jarass) Tealosy and Envy: new views
about two powerful feelings. New York: The Analytic
Press.
(2010-11) The Mind's Eye: dreams and the imagination
(series of six TV programs, Pittsfield TV).
328
Литература
(2011) Trauma and the Wise Baby. The American
Tournai of Psychoanalysis 71:185-206.
(2012b) Oedipus and Trauma (ms) Irkutsk lectures.
(2014) Trauma and the Unconscious: double conscience,
the uncanny and cruelty. American Tournai of
Psychoanalysis 74: 4-20.
(2019) On Dreams, Imaginative Knowing and Not
Knowing: appearance, identity and shame. American
Tournai of Psychoanalysis 79:1-16.
Klein, Melanie (1957) Envy and Gratitude (First published
as Envy and Gratitude: a study of unconscious sources.4)
London: Tavistock.
Kleist, Heinrich von (1811) (2018) Der zerbrochene Krug.
Ein Lustspiel. Berlin Collstandige Neuausgabe: Saillon: Jean
Meslier Verlag.
Kracauer, Siegfried 1947 [2004] From Caligari to Hitler: A
psychological history of German film. Princeton: Princeton
University Press.
LaMettrie, Julien (1748) [2010] L/Homme Machine (Man the
Machine). Paris: Nabu Press.
Le Bon, Gustav (1895) (1988) Psychologie des Foules. Paris:
Presses Universitaires de France.
Levy-Bruhl, Lucien (trans. Clare, Lilian Α.) (1922) (1985)
How natives Think. Princeton: Princeton University Press.
Lipking, Lawrence (1998) Samuel Tohnson: the life of an
author. Cambridge: Harvard University Press.
Lurje, Michael, (2004) Die Suche nach der Schuld.
Sophokles' Oedipus Rex, Aristoteles' Poetik und das
Tragödienverständnis der Neuzeit. Munich: K.G. Saur (An Impint of
Walter de Gruyter)
Malinowski, Bronislaw (1967) A Diary in the Strict Sense of
the Term, (trans. Norbert Gutterman). London: Routledge.
329
Литература
Mauss, Marcel (1968) Oeuvres (3 vols) Paris: Ends de
Minuit.
McCartney, Eugene S. (1943) (1981) (In) Dundes, Alan Evil
Eye: a casebook.
Mead, Margaret (ed.) (1959) An Anthropologist at Work:
Writings of Ruth Benedict. Boston: Houghton Mifflin
Company.
Mellinkoff, Ruth, Г19811 The Mark of Cain. Los Angeles,
University of California Press.
(1953) Signs of Otherness in European Art of the Late
middle Ages. Berkeley: University of California Press.
Melville, Herman (1924) [2006] Billy Budd. New York:
Simon & Schuster.
Michelet, Jules (1862) (2016) La Sorcière. Paris Gallimard.
Milton, John (1941) The Complete Poetical Works of lohn
Milton. Cambridge: The Riverside Press (Houghton Miffin).
Mollon, Phil, (2002) Shame and ïealousy: the hidden
turmoils. London: Karnac.
Mueller, Martin (1980) Children of Oedipus: and other
essays on the imitation of Greek tragedy 1550-1800. Toronto:
University of Toronto Press.
Musil, Robert (1995) The Man Without Qualities, (trans.
Sophie Wilkings and Burton Pike). New York: Alfred A. Knopf.
Nietzsche, Frederich, (1977) The Portable Niezsche. ed
Walter Kaufman. London: Penguin.
(1872) (1995) The Birth of Tragedy (trans. Clifton P. Fa-
diman). New York: Dover Publications.
Nussbaum, Martha (1986) The Fragility of Goddness: luck
and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press.
(1990) Love's Knowledge. Oxford: Oxford University
Press.
330
Литература
(1994) The Therapy of Desire: theory and practice in
Hellenistic ethics. Princeton: Princeton University Press.
(2001) Upheavals of Thought: the intelligence of
emotions. Cambridge, Cambridge University Press.
(2004) Hiding from Humanity: disgust shame and the
law. Princeton University Press.
Ogden, Daniel (2002) Magic, Witchcraft and Ghosts in the
Greek and Roman Worlds: a sourcebook. Oxford: Oxford
University Press.
Olesha, Yuri (1980) Envy (trans. Mariam Schwartz) New
York: New York Review of Books.
Pagels, Elaine (1995 The Origin of the Devil. New York:
Vintage.
Partridge, Eric (1958) Origins: a short etymological
dictionary of modern English. New York: Macmillan.
Peristiany, J.B. (1965) Honour and Shame in the
Mediterranean. London: Weidenfeld and Nicolson.
Pico della Mirandolla (1486) (1956) De hominis dignitate
(Oration on the Dignity of Man) (trans. Robert Caponigri)
Washington, D.C. Regnery Publishing.
Disputationes adversus astrologiam divinacatrium
Pirandello, Luigi, (1926) [1990] One, No One, One Hundred
Thousand (trans. William Weaver). New York: Marcilio
Publishers.
(1904) [1993] The Late Matthia Pascal (trans. William
Weaver) London: Andre Deutsch Ltd.
[1988] Collected Plays: Volume Two (Six Characters in
Search of an Author, All for the Best Clothe the Naked,
Limes from Sicily) New York: Marsilio Publishers.
(1952) Naked Masks (éd. Eric Bentley). New York:
Dutton.
331
Литература
(1970) Pirandello's One Act Plays (trans. William
Murray). New York: Minerva Press.
(1994) Eleven Short Stories (Undid Novelle) (trans.
Stanley Applebaum) Minerva: N.Y.
(1994) Shoot: the notebooks of Serafino Gubbio,
cinematograph operator (trans. C.K. Scott Moncriff)
Chicago: University of Chicago Press.
Pitre, Guiseppe (1889) (1981) (In) Dundes, Alan Evil Eye:
a casebook.
Plamper, Jan, (2015) (trans. Kith Tribe) The History of the
Emotions. Oxford.
Plato [1961] The Collected Dialogues (ed. Edith Hamilton
and Huntington Cairns) Princeton: Princeton University Press
(Bollingen).
Pons, Alain (1968) Giambattista VICO (1668-1714): Une
Philosophie non-cartesienne. Les E'tudes philosophiques. № 3/4
(JUILLET-DECEMBRE, 1968).
Propp, Vladimir Yakovlevich (2012) The Russian Folktale.
(Sibelan Forrester, editor and translator) Detroit: Wayne State
University.
(1928) (1965) Morphologie du conte (trans. Marguerite
Derrida, Tzvantan Todorov et Claude Khan). Paris: Seuil.
Reddy, William (2001) The Navigation of Feeling: a
framework for the history of the emotions. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reed A.Y. (2004) The trickery of the fallen angels and the
demonic memesis of the divine: aetiology, demonology and
polemics in the writings of Justin Marty. Tournai of Early
Christian Studies 12(2) 141-171.
Reichel-Dolmatoff, G. and A. (1961) The People of Itamal:
the cultural personality of a Columbian mestizo village.
Chicago: Chicago U. Press.
332
Литература
Ricoeur, Paul (1967) The Symbolism of Evil. Beacon Press:
Boston.
Riesman, David (1950) The Lonely Crowd. New Haven:
Yale University Press.
Riviere, Joan (1932) Jealousy as a mechanism of defense.
International T. Psychoanalysis 13: 414-424.
Roth, Priscilla and Lemma, Alessandra (eds) (2008) Envy
and Gratitude Revisited. London: Karnac.
Rudnytsky, Perter L. (1987 Freud and Oedipus. New York:
Columbia University Press.
Salisbury, Harrison E. (1969) The 900 Days: the siege of
Leningrad. New York: Da Capo Press (Perseus).
Schiller, Frederich (1801) (1954) On the Aesthetic Education
of Man, (trans. Reginald Snell). New York: Ungar.
Schoeck, Helmut (1966) [1987] Envy: a theory of social
behavior. Indianapolis: Liberty Fund.
Segal, Hannah (1964) Introduction to the Work of Melanie
Klein. New York: Basic Books.
Shengold, Leonard (1994) Envy and malignant envy.
Psanalytic Quarterly 63: 615-640.
Smith, Adam (1759) (2002) Theory of Moral Sentiments.
Knud Haakonssen (ed.). Cambridge: Cambridge University
Press.
(1776) (1977) An Inquiry into the Nature and Causes of
the Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago
Press.
Smith, Henry, (2008) Vicious circles of punishment: a
reading of Melanie Klein's Envy and Gratitude. Psychoanalytic
Quarterly 77:199-218.
Smith, R.H. (Ed.), Envy: theory and research. Oxford:
Oxford University Press.
333
Литература
Snell, Bruno (1953) The Discovery of the Mind: The Greek
Origins of European Thought, (trans. T. G. Rosenmeyer).
Cambridge: Harvard University Press.
Sources Orientalis (1959) La Naissance Du Monde. Paris:
Éditions du Seuil.
Sources Orientalis (1971) Génies, Angels et Démons. Paris:
Éditions du Seuil.
Sophocles (1949) The Oedipus Cycle, (trans. Dudley Fitts
and Robert Fitzgerald). New York: Harcourt Brace (Harvest).
Spielman, P. (1971) Envy and jealousy: an attempt at
clarification. Psychoanalytic Quarterly 40:59-82.
Spiro, Melford Ε. (1967) Burmese Supernaturalism.
Philadelphia: Prentice-Hall.
(1982) Buddhism and Society. A Great tradition and its
Burmese vicissitudes. Berkeley: University of California
Press.
Steiner, John (2008) The Repetition Compulsion, Envy and
the Death Instinct. [In] Envy and Gratitude Revisited (eds Roth
and Lemma). London: Karnac.
Straight, Michael, (1983) After Long Silence. New York:
Norton.
Szczeklik, Andrej (2005) Catharsis: on the art of medicine,
(trans. Antonia Lloyd-Jones). Chicago: University of Chicago
Press.
Szondi, Peter (2002) An Essay on the Tragic, (trans. Peter
Flemming). Stanford: Stanford University Press.
Tomkins, Silvan (1962-1991) Affect, Imagery,
Consciousness (3 vols). London: Tavistock.
Туе, Larry (1998) The Father of Spin: Edward L. Bernays
and the birth of public relations. New York: Holt.
Tylor, E.B. (1871) (ed. Radin, Paul) Primitive Culture:
researches into the development of mythology, philosophy,
religion, art and customs. 2 vols London: John Murray.
334
Литература
Van Gennep, Arnold (1909) (1983) Rites of passage. Paris:
Gallimard.
Vernant, Jean Pierre and Vidal-Naquet. Pierre (1988) Myth
and Tragedy in Ancient Greece. New York: Zone Books.
Vico, Giambatista ( 1668-1744) [1939, 1944] Autobiography.
(Trans and ed.) Tomas G. Bergin and Max H. Fisch. Ithaca:
Cornell U Press.
(1774) [19841 The New Science (eds. Thomas Bergin and
Max Fisch). Ithaca: Cornell University Press.
Waitz, Theodore (1859) (2009) Anthropologie der
Naturvolker. Sharleston, SC: BiblioBazaar (USA).
Weber, Max, (1904-5) (1958) The Protestant Ethic and the
Spirit of Capitalism, (trans. Talbot Parsons). Boston: Beacon Press.
(1922) (1956) The Sociology of Religion, (trans. Talbot
Parsons). Boston: Beacon Press.
Westermark, Edward (1926) Ritual and Belief in Morocco.
(2 vols.). London: Macmillan.
Wickiser, Bronwen L. (2008) Asklepios, Medicine and the
Politics of Healing in Fifth Century Greece. Baltimore: John
Hopkings Press.
Williams, Bernard (1993) Shame and Necessity. Berkelay:
University of California Press.
Wurmser, Leon (2000) The Power of the Inner Tudge:
psychodynamic treatment of the severe neuroses. New York:
Analytic Press.
(2008) (with Heidrun Jarass, eds) Tealousy and Envy:
new views about two powerful feelings. New York: The
Analytic Press.
Yeats, W.B. 1933 (1962) Complete Poems. New York:
Macmillan.
335
Аннотированный список книг издательства «Канон+»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте
http://www.kanonplus.ru
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru
Научное издание
КИЛБОРН Бенджамин
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
ТРАГИЧЕСКОГО:
зависть, стыд и страдание
Общая редакция и перевод с английского
В.В. Старовойтова
Директор издательства Божко Ю.В.
Ответственный за выпуск Божко Ю.В.
Художник Клюй ков М.Б.
Корректор Жарская СВ.
Компьютерная верстка Соколова П.Л.
Подписано в печать 23.07.2021. Формат 84x108 У32·
Гарнитура Polatino Linotype. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,4. Тираж 1000 экз. Заказ 550.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация»
111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел./факс 8 (495) 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: http://www.kanonplus.ru
Отпечатано в ФГУП «Издательство «Наука»
(Типография «Наука»)
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Бенджамин Килборн обладает глубокими познаниями в истории,
философии, антропологии и психоанализе. Он является
антропологом, который долгое время занимался этнографическими
исследованиями во Франции, доктором этнопсихологии, историком,
доктором философии, в течение ряда лет преподававшим студентам
философию в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. В
Лос-Анджелесе он, далее, окончил Институт психоанализа и стал
практикующим психоаналитиком и преподавателем психоанализа.
В настоящее время Б.Килборн - член: Международной
психоаналитической ассоциации, редколлегии Американского журнала
психоанализа, Международной ассоциации по изучению
травматического стресса, Общества Ференци и ряда других организаций. Он
также является теоретиком психоанализа, воспринимающим
психоанализ как часть европейской культуры, литературы и
философии. В России в 2007 году была издана его книга «Исчезающие люди.
Стыд и внешний облик», а в 2019 - расширенная версия книги
«Травма, стыд и страдание».
издательство
КАНСН-ПЛЮС
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС