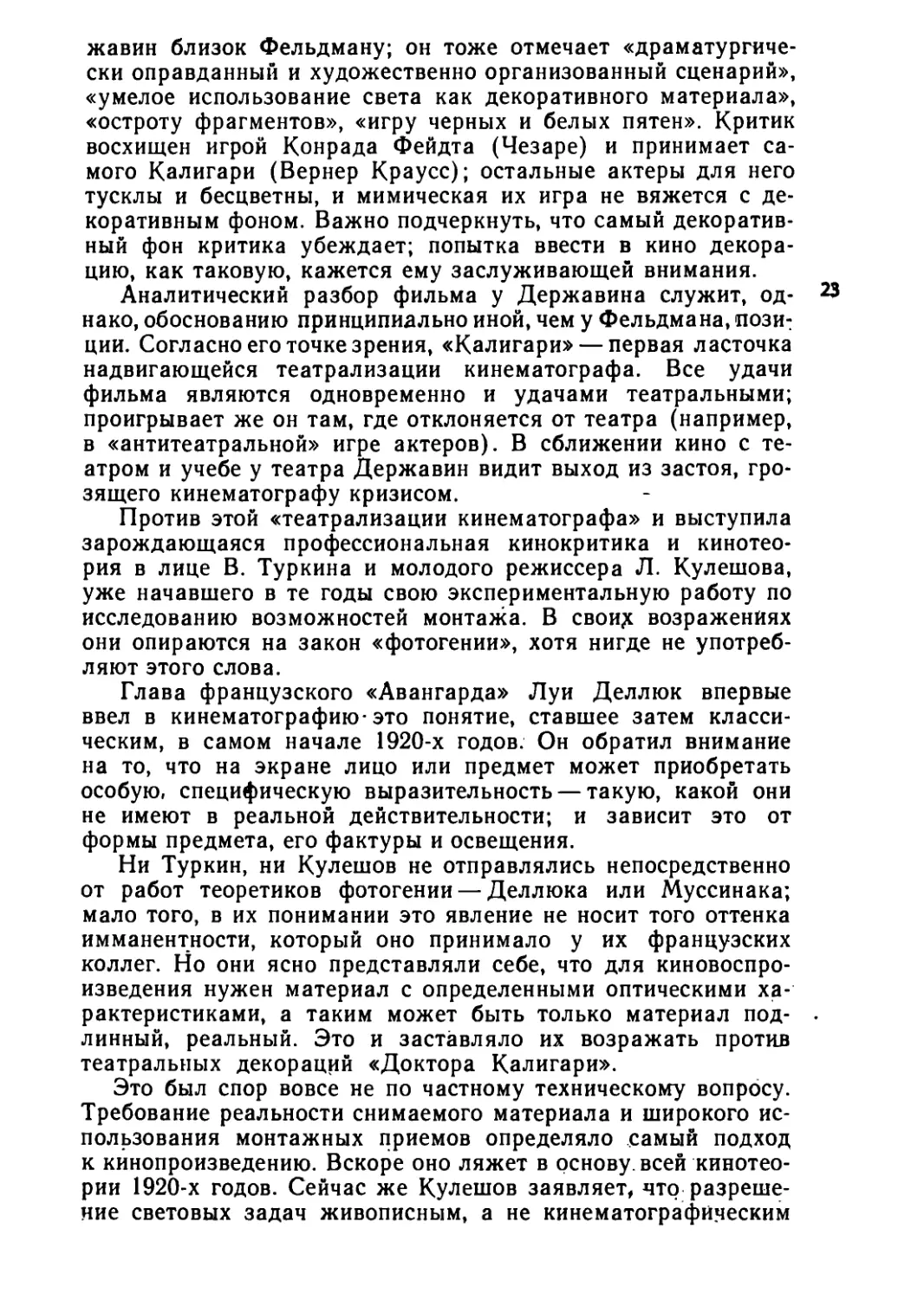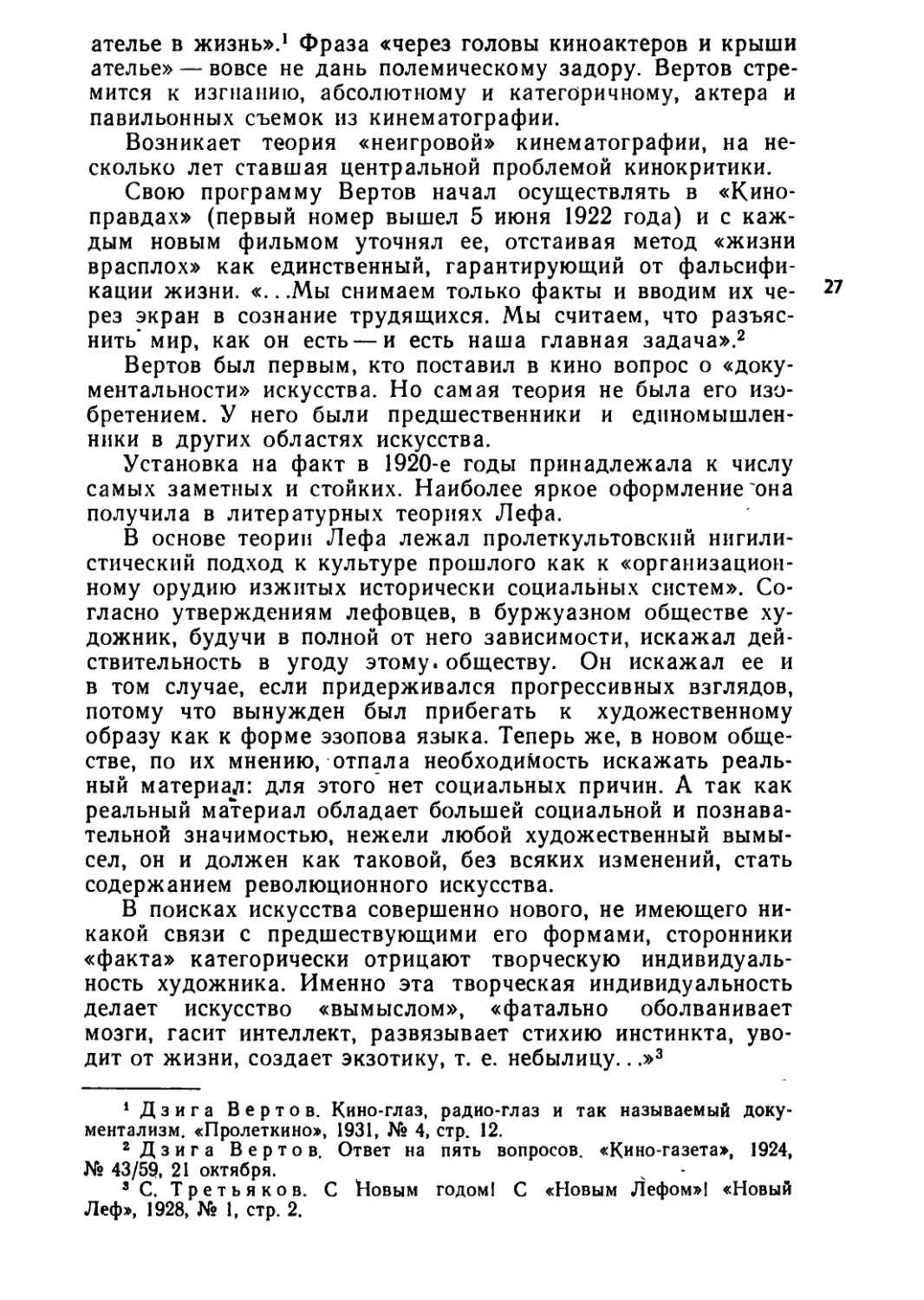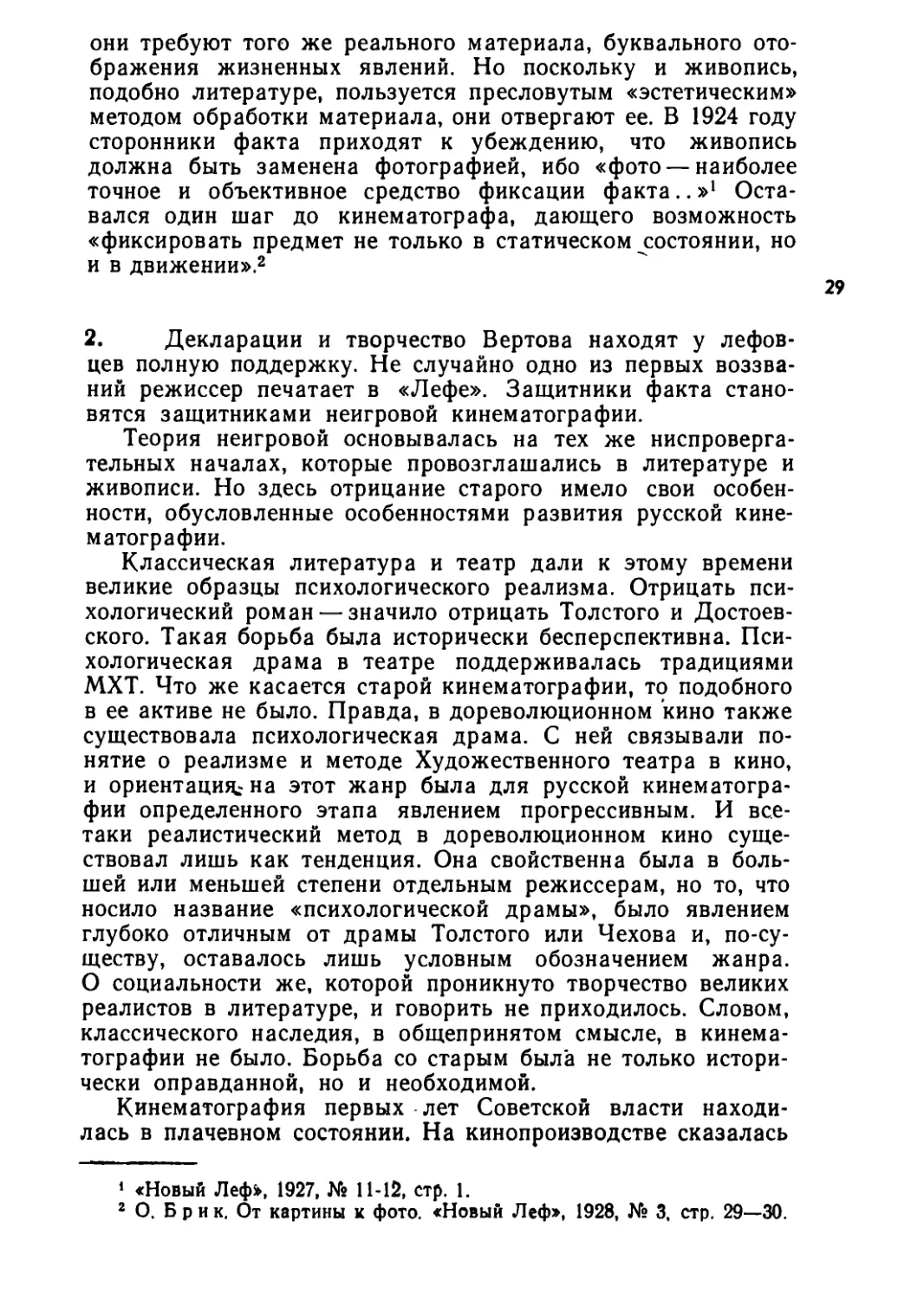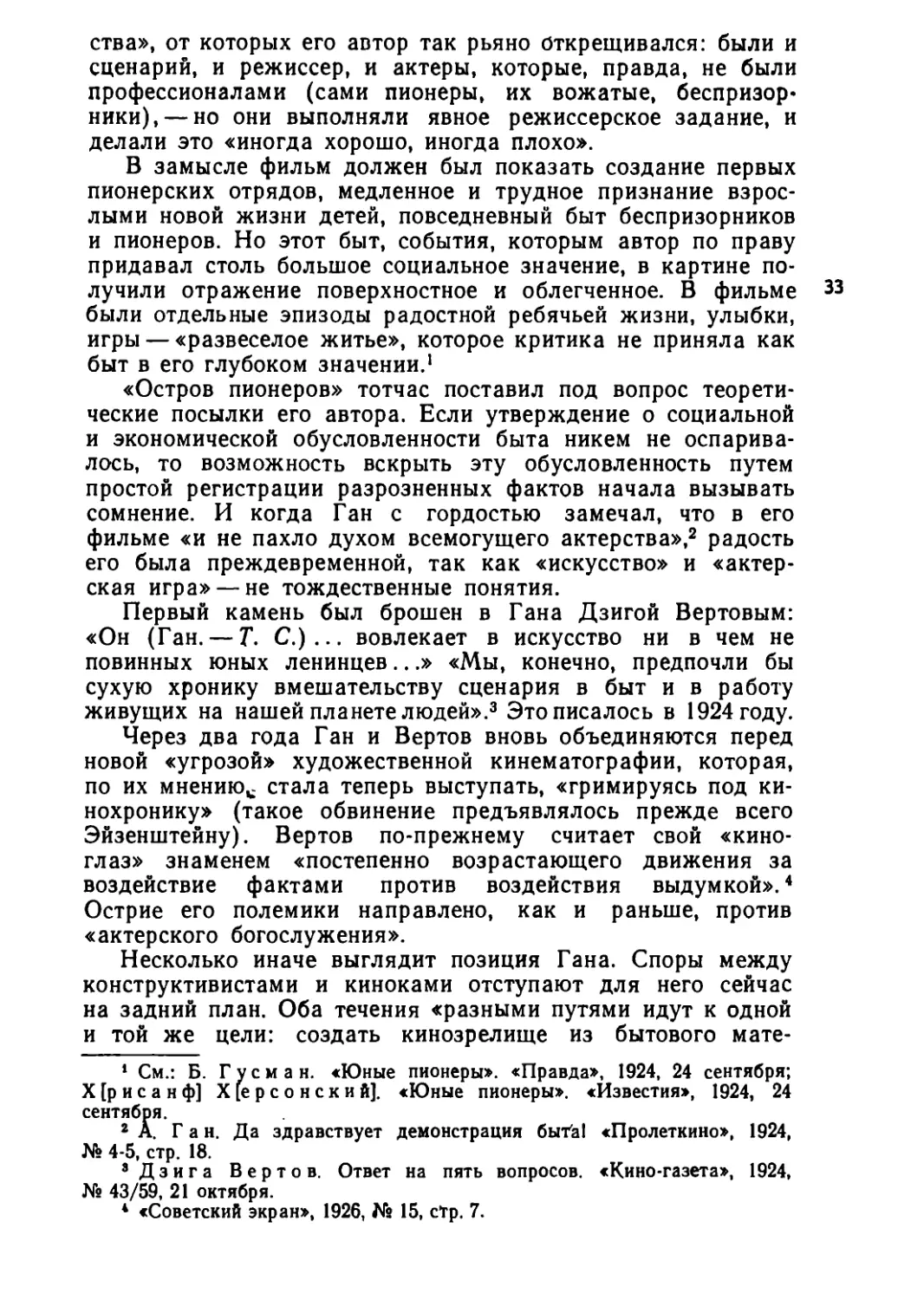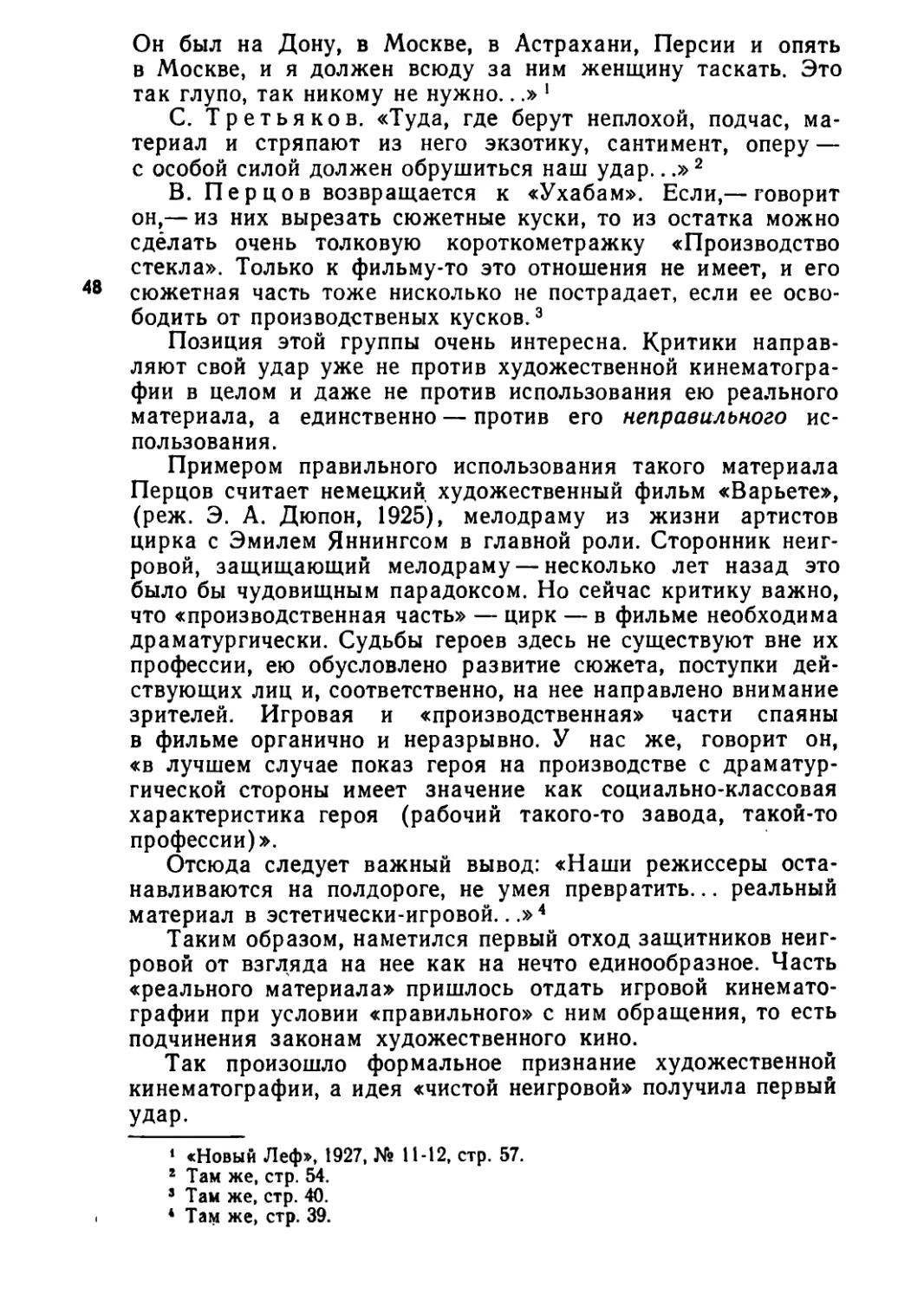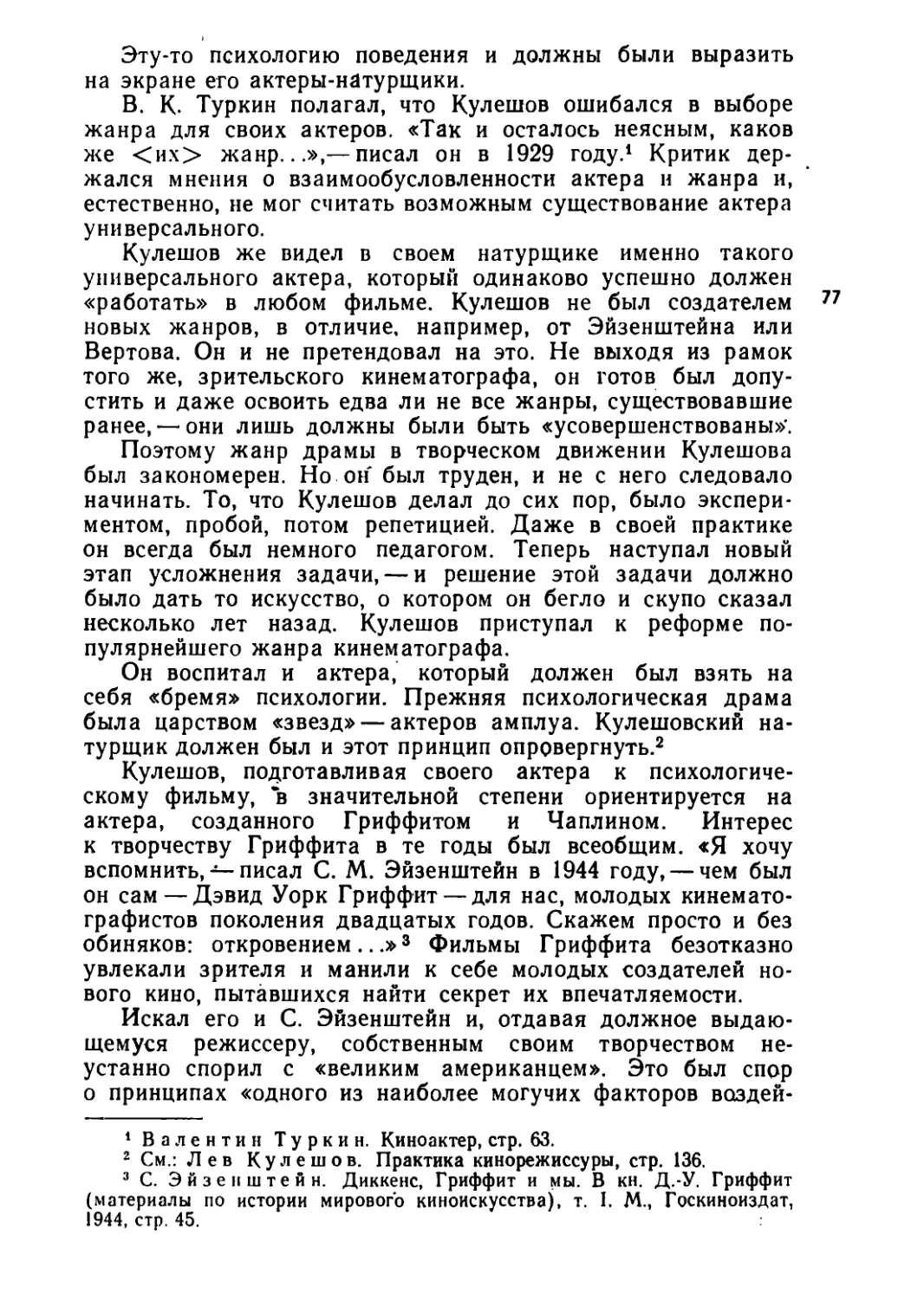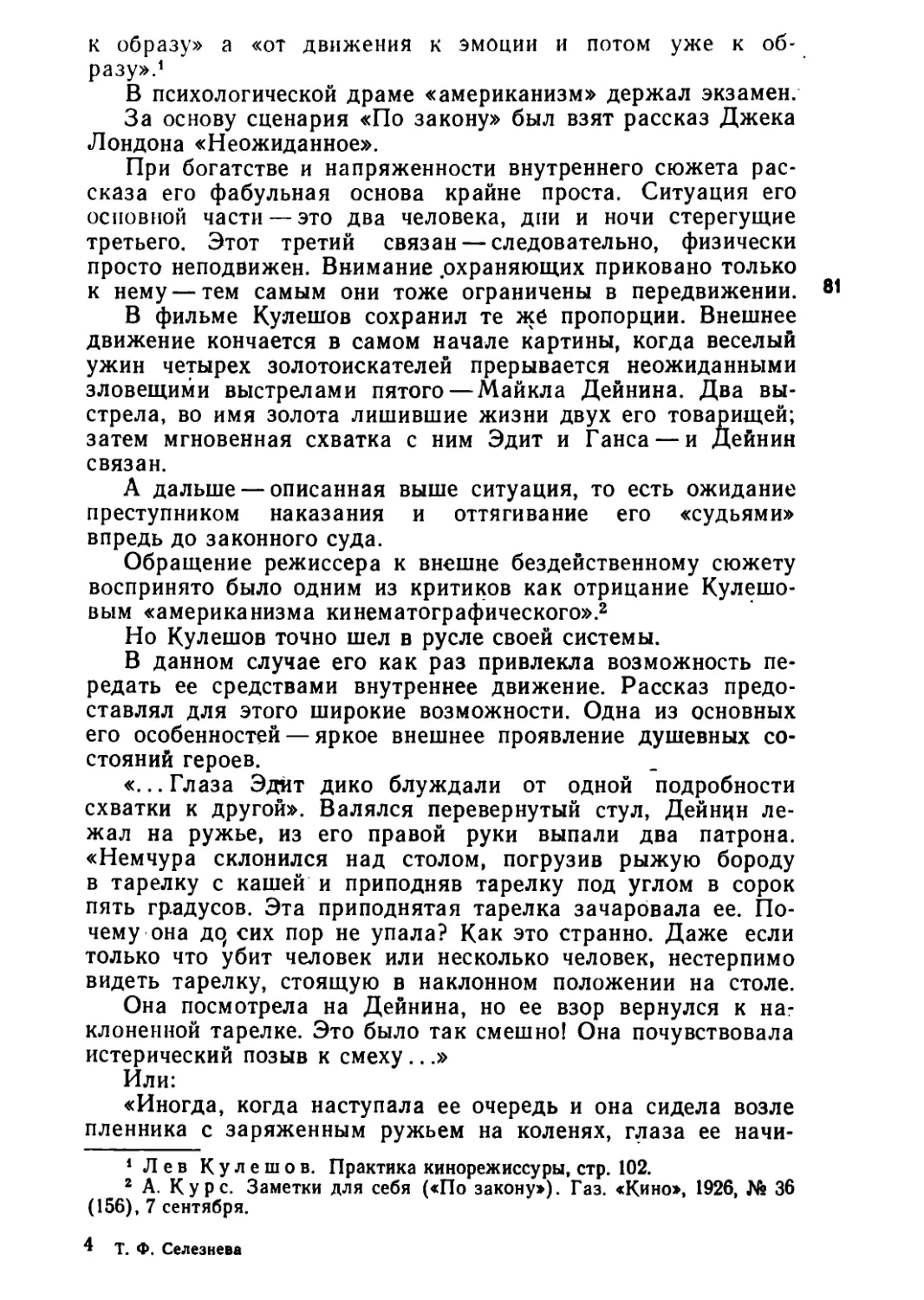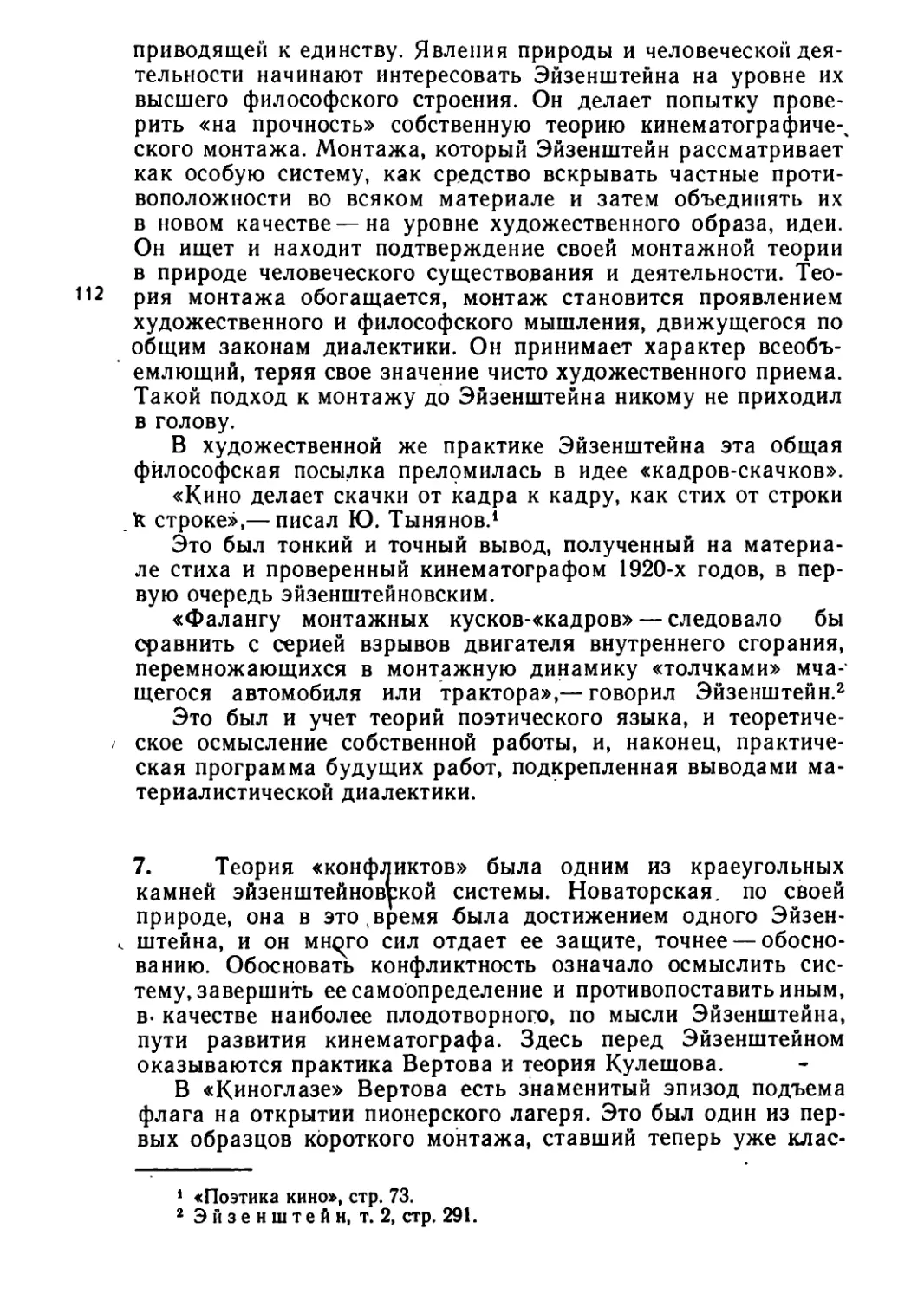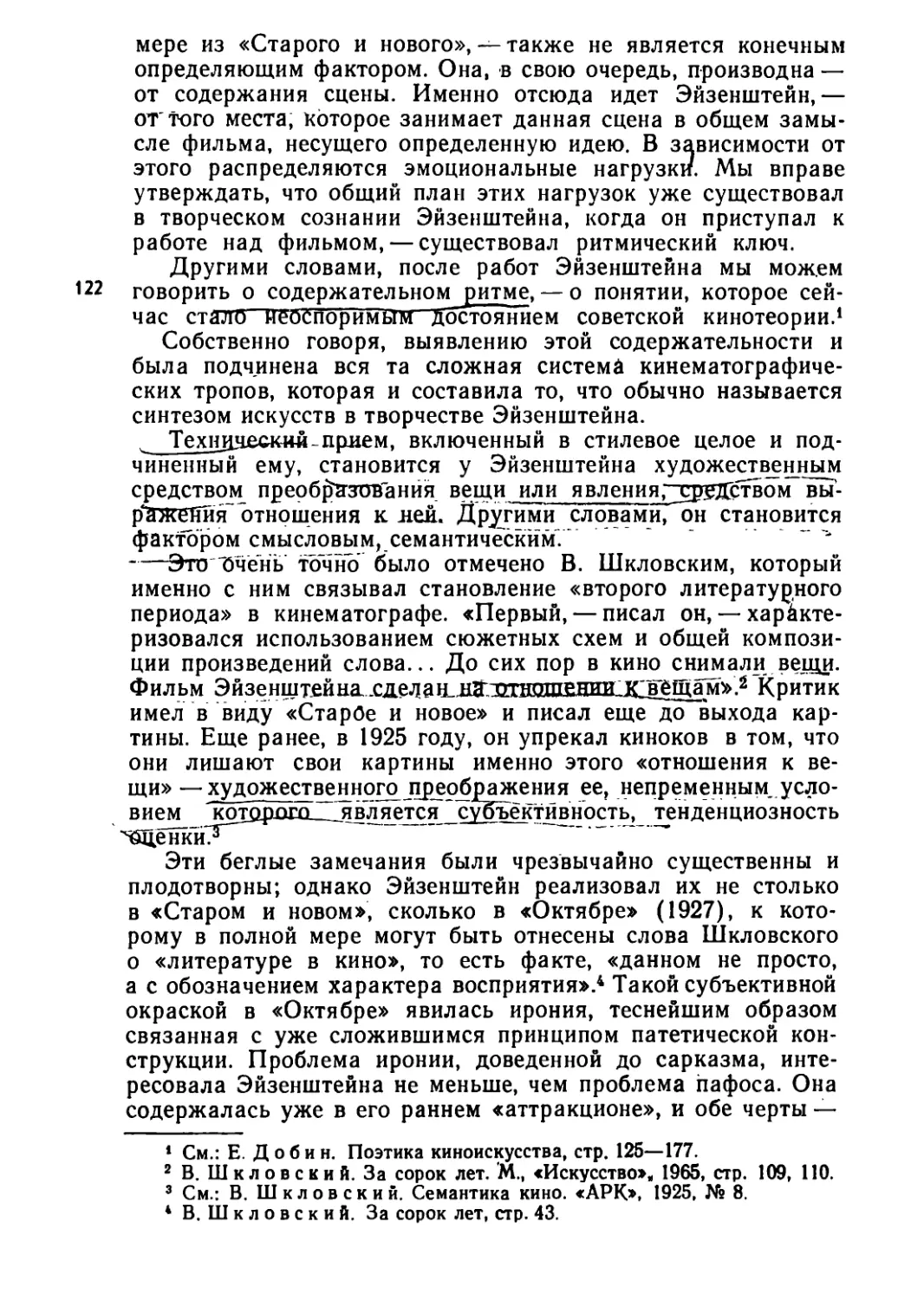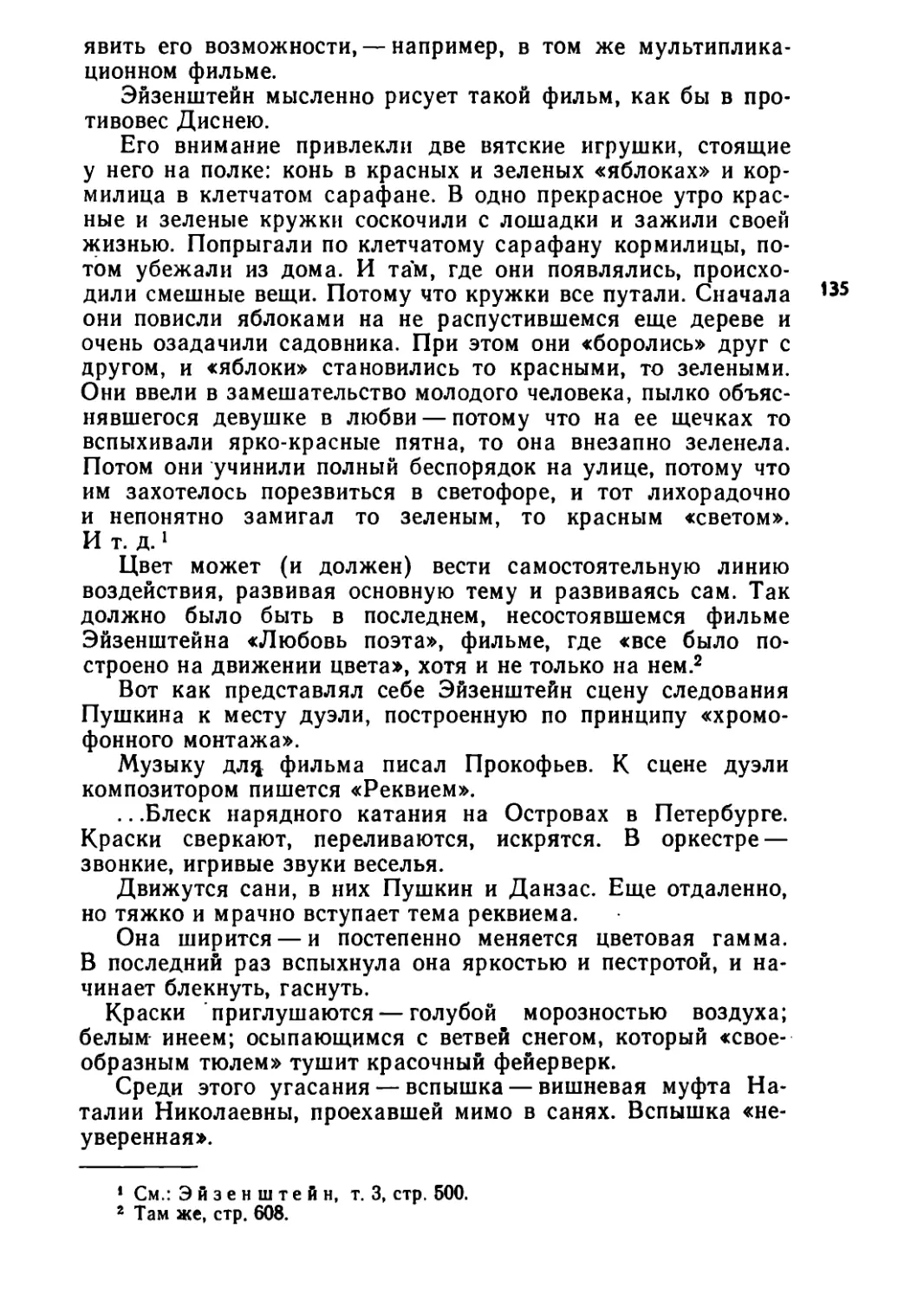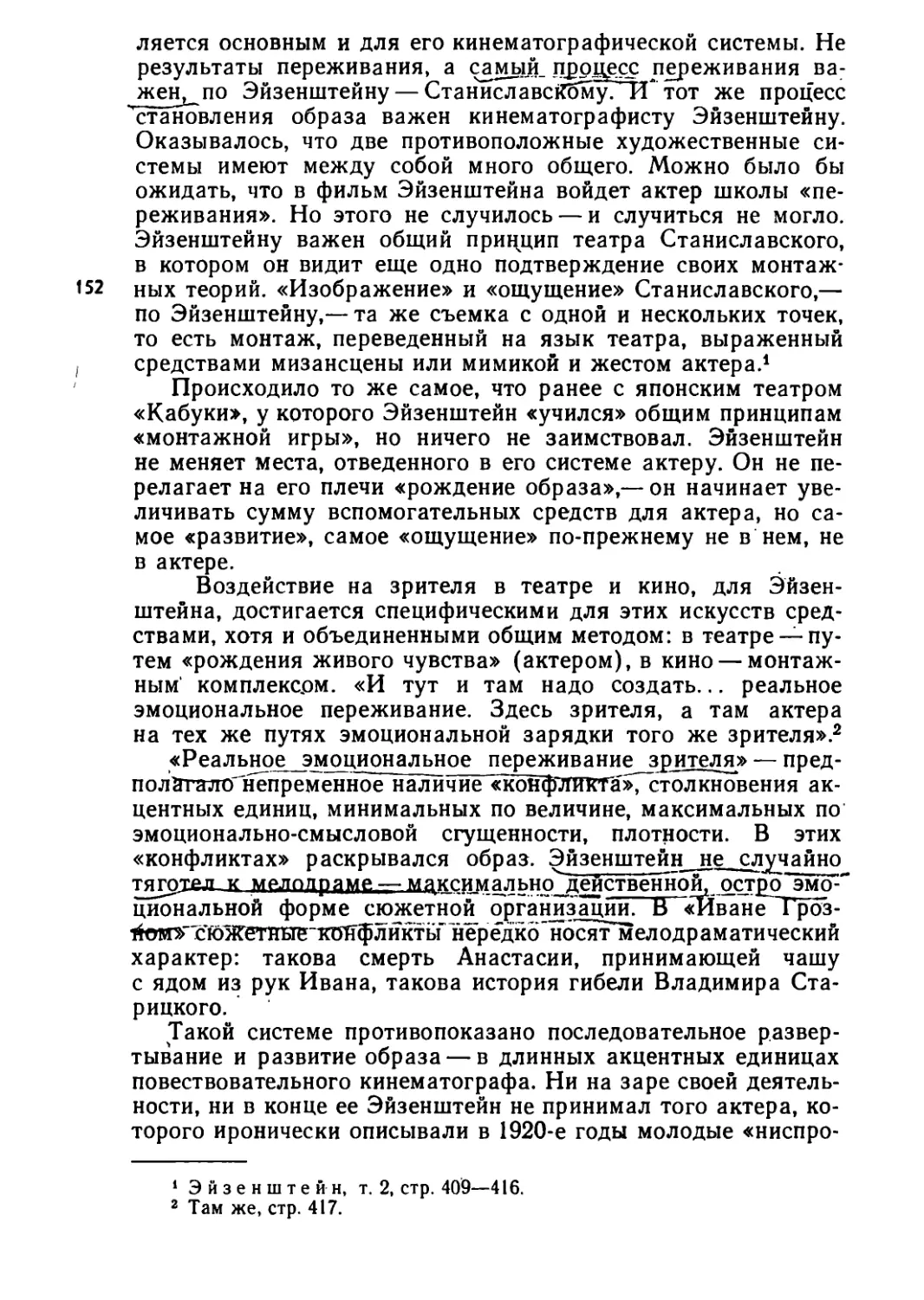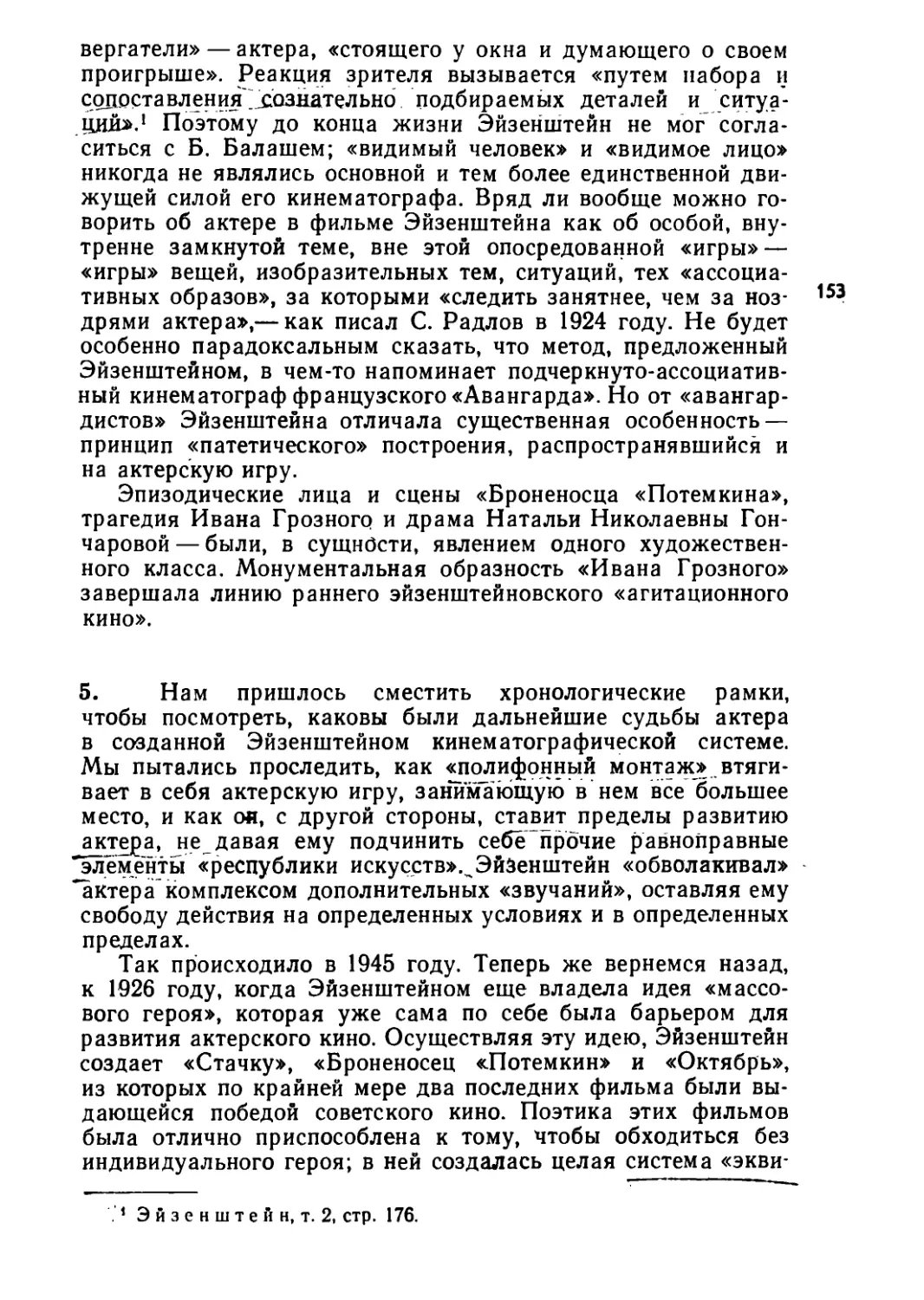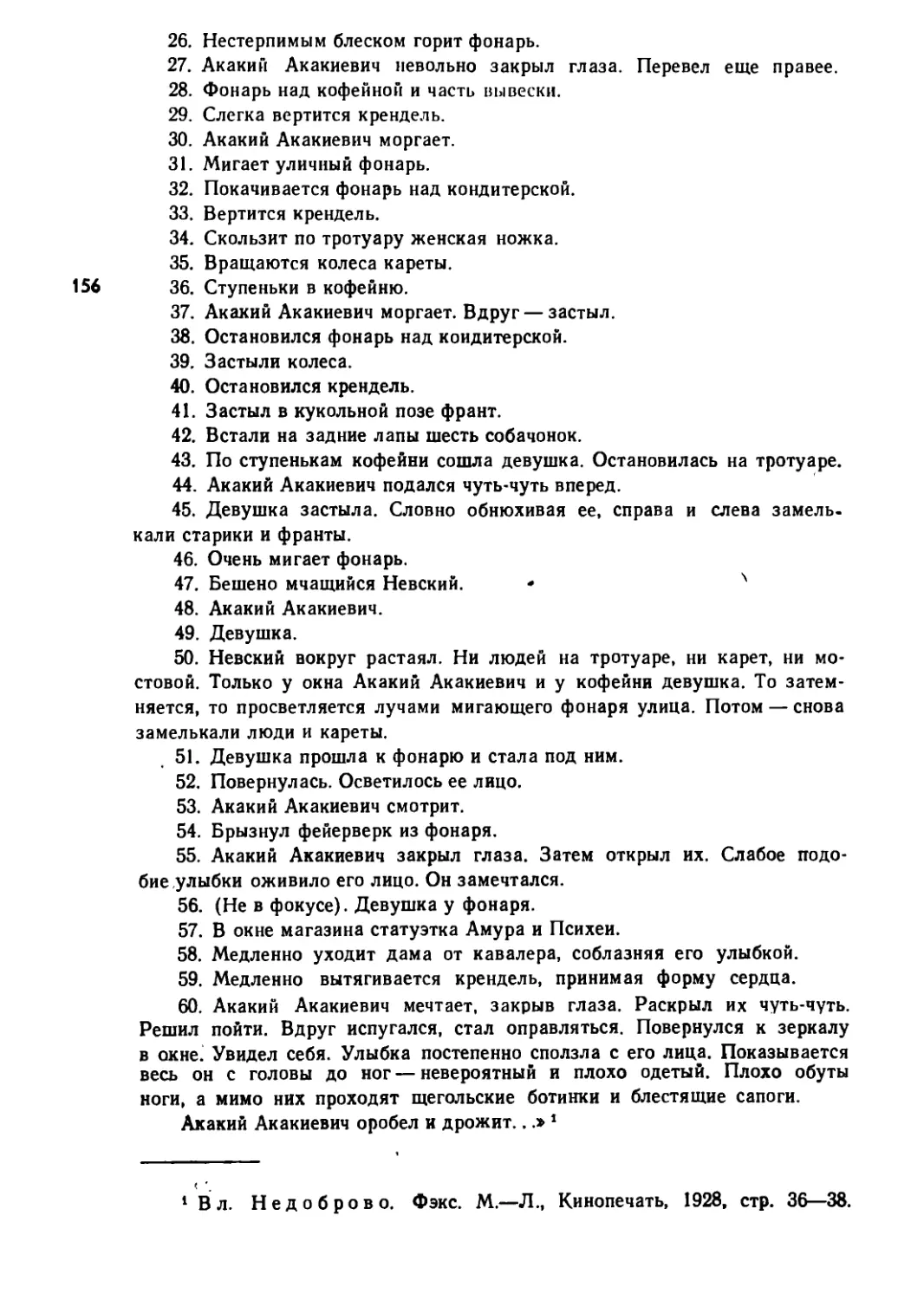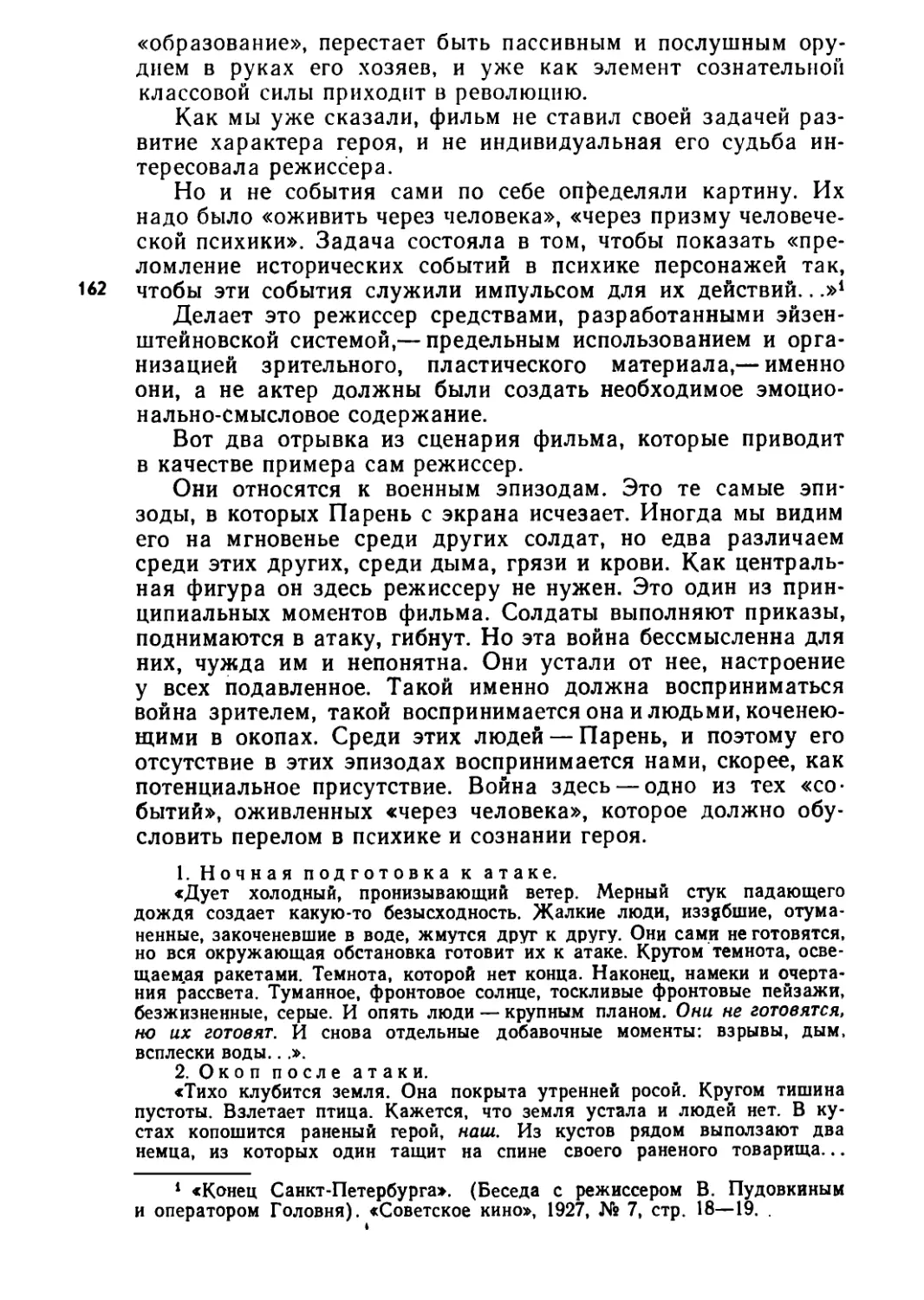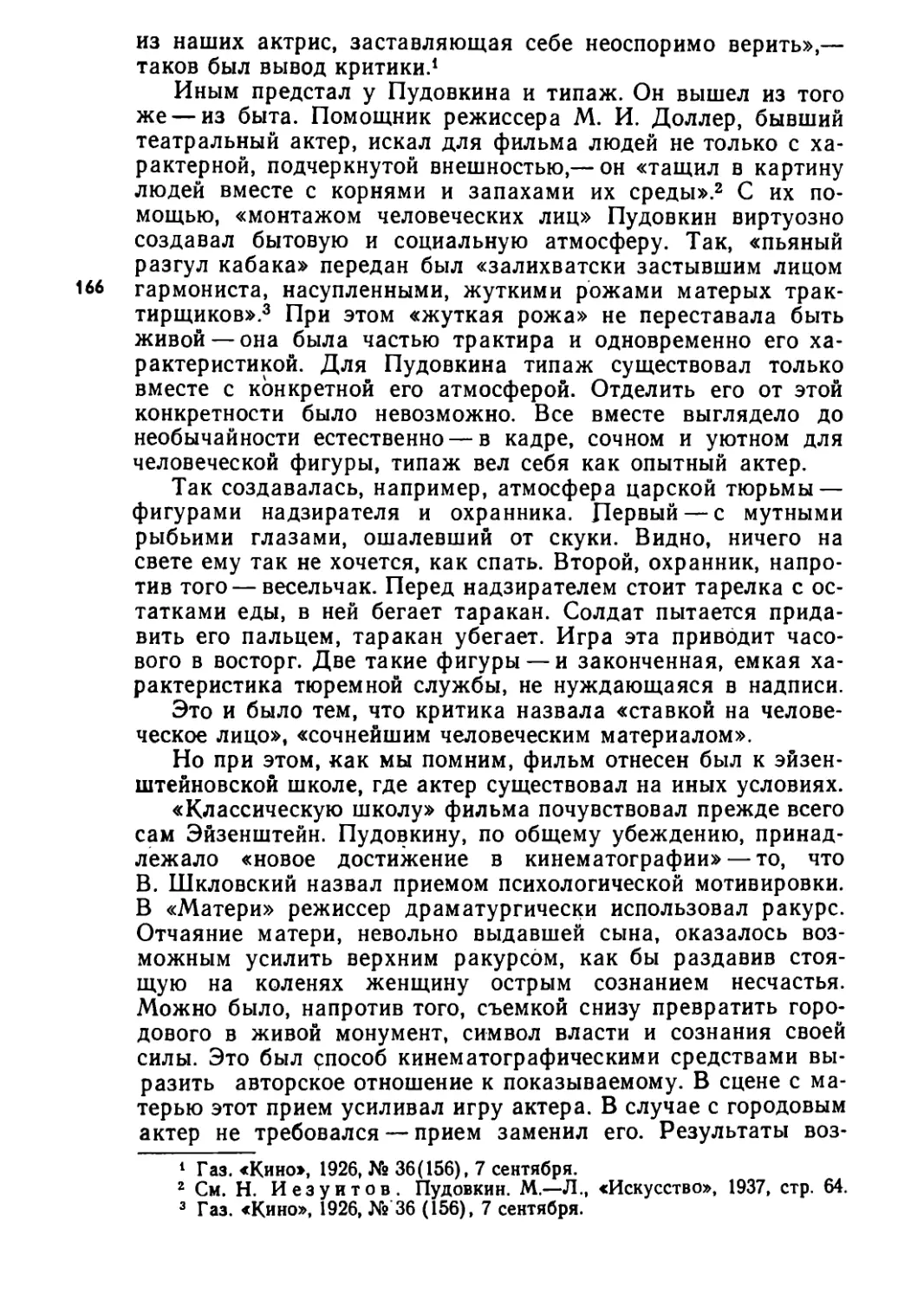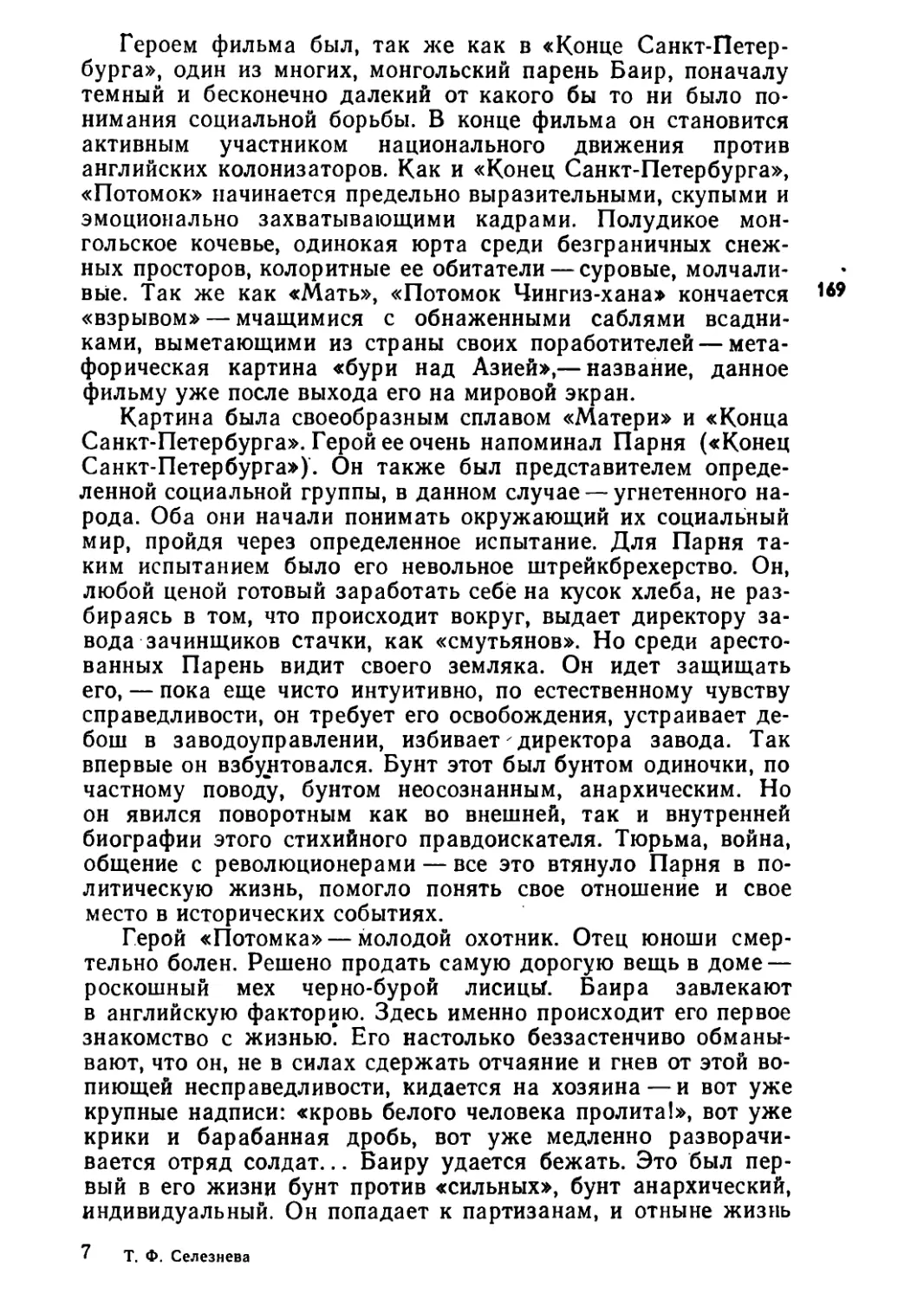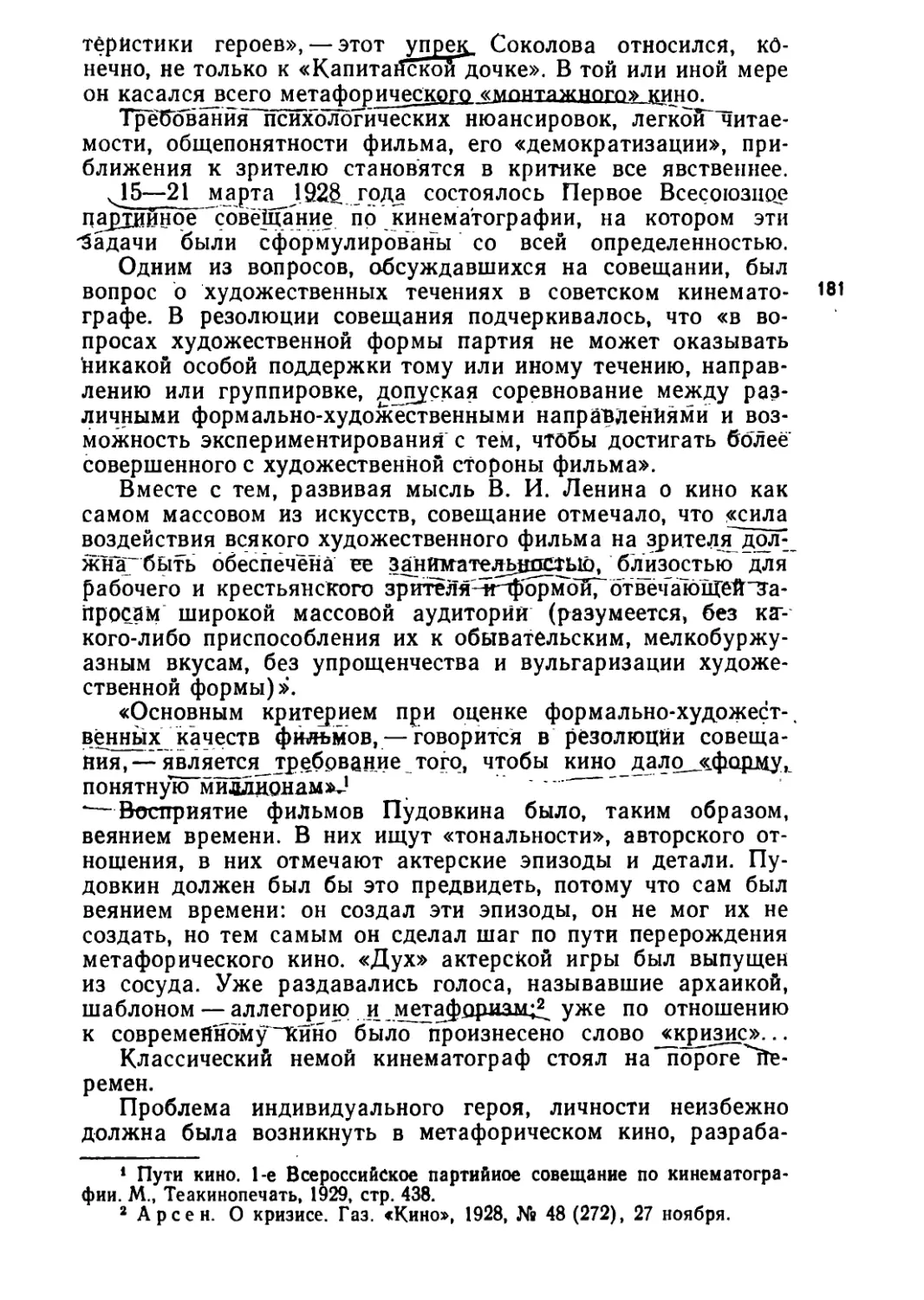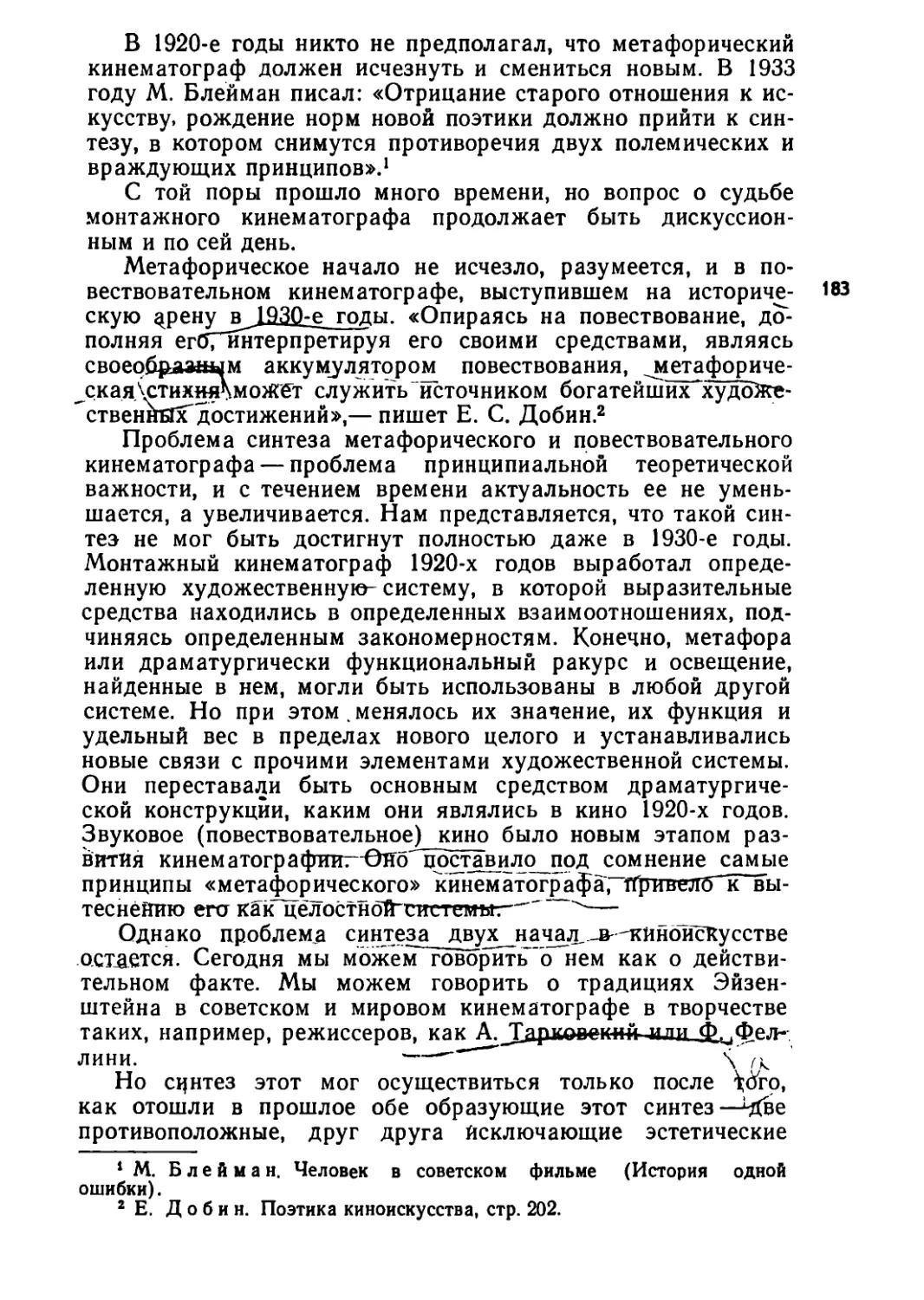Текст
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1072
778С Книга Т. Ф. Селезневой посвящена рассмотрению магистраль-
С29 них линий развития советской кинематографической теории
в 20-е годы. На материале теоретических исследований и ча-
стично творческой практики крупнейших режиссеров того
времени: Эйзенштейна, Пудовкина, Кулешова, Вертова, Ко-
зинцева и Трауберга — в книге ставится ряд важнейших про-
• блем — об игровом и неигровом кино, о фактичности н пуб-
лицистичности, об актере и натурщике в кино, о связи кино
и театра.
8—1—5
132—72
Тамара Федоровна
Селезнева
КИНОМЫСЛЬ
1920-х
ГОДОВ
Редактор Н. Р. Мервольф. Художник Я. М.
Я шок. Художественный редактор Э. Д. Ку-
знецов. Технический редактор М. С. Стер-
нина. Корректор А. А. Гроссман. Сдано в на-
бор 6/IV 1972г. Подписано к печати 11/VIII
1972 г. Формат 6OX9O'/ie- Бумага типогр. № 2
Усл. печ. л. И,Б. Уч.-изд л. 12,05. Тираж
7500. М-51964. Изд. № 107. Зак. № 911.
Издательство «Искусство», Ленинград,
Невский, 28. Ленинградская типография
№ 4 Главполиграфпрома Комитета по пе.
чатн при Совете Министров СССР, Социа-
листическая. 14. Цена 1 руб.
Посвящается моему учителю
Ефиму Семеновичу Добину
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОКИ СОВЕТСКОЙ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ 7
ГЛАВА ВТОРАЯ
«ИГРОВАЯ» ИЛИ «НЕИГРОВАЯ»?
(ДЗИГА ВЕРТОВ) 26
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЛЕВ КУЛЕШОВ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДРАМА 56
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«ВТОРОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПЕРИОД».
С. ЭЙЗЕНШТЕЙН 92
ГЛАВА ПЯТАЯ
АКТЕР
В МОНТАЖНОМ КИНО 139
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа посвящена становлению советской кинематографи- 5
ческой теории и охватывает хронологически период до 1928 года, то есть
время зарождения и расцвета немого кино в СССР.
Каждый период в истории развития искусства имеет свои особенности.
1920-е годы для советской кинематографии — эпоха становления. Это пер-
вый этап строительства нового кинематографа, начавшийся после Октябрь-
ской революции,— период, поставивший перед всей культурой задачу со-
здания искусства остросоциального, подчеркнуто классового.
Кинематограф занимает в строительстве этой новой культуры особое
место: молодое искусство таило в себе богатые, но неизведанные возмож-
ности как социального, так и эстетического порядка. Именно этим объяс-
няется пристальное к нему внимание революционных художников, и имен-
но поэтому период 1920-х годов для кинематографа — время поисков.
Оно характеризуется необыкновенной, не имеющей прецедентов интен-
сивностью развития киноискусства. На протяжении каких-нибудь пяти
лет возникают и утверждаются кинематографические школы Вертова, Ку-
лешова, Эйзенштейна со своими типологическими особенностями, своей
художественной манерой, со своими эстетическими принципами.
Школы эти вовсе не существовали изолированно друг от друга. Они
находились в непрерывном взаимодействии, вступая в отношения союза
или вражды, они исправляли, продолжали, отменяли или развивали друг
друга. Они шли- в общем русле развития советского кино, в котором сами
оии были ярчайшими, вершинными явлениями. Каждый новый фильм
крупного художника становился событием; выход его влек за собой серии
статей и устных дискуссий. Художники и сами не чуждались дискуссий:
1920-е годы — это время деклараций, провозглашаемых во всеуслышание
эстетических кредо, автоосмыслений и автооценок. Творцы становились
рецензентами, критиками, теоретиками; ощущая себя строителями новой,
революционной культуры, они спешили объяснить или даже предсказать
ее качество, направление, характер. В этой разноголосице и противобрр-
стве мнений, иногда, на наш сегодняшний взгляд, наивных или ошибочных,
иногда точных и проницательных, рождалась советская кинематографиче-
ская теория. Она развивалась параллельно с развитием киноискусства, то
обгоняя практику, то отставая от нее, но столь же интенсивно: в на-
чале 1920-х годов еще служит предметом обсуждения вопрос «искусство
ли кино» и чем оно отличается от театра; в конце десятилетия появляются
статьи Эйзенштейна, вошедшие в золотой фонд мировой кинотеории.
Киномысль двадцатых годов еще только начинает изучаться. Мы знаем
ее в наиболее ярких проявлениях; между тем она не только заслуживает,
но настоятельно требует к себе внимания. Развитие кинокритики и кино-
эстетики — существенная и полноправная часть общего процесса развития
кинематографии; более того, этот последний не может без ее учета быть
осмыслен полно и правильно.
Столь же важное значение имеет она и для осмысления некоторых тен-
денций в киноискусстве нашего времени. В ходе дискуссий 1920-х годов
в советской кинематографии были созданы значительные теоретические
ценности, которые, будучи извлечены из забвения и изучены, наглядно
показывают, что «современность» явлений искусства прошлого — не пу-
стая фраза.
Тот, кто заинтересован судьбами советского и прогрессивного зарубеж-
ного кино, кто внимательно следит, например, за взаимопроникновением
художественного и документального начала в современном фильме,— тот
не может не обратиться к киномысли 1920-х годов: ведь именно в совет-
ском кинематографе этого периода поставлен был вопрос об игровом п
неигровом кинематографе, о сущности подлинного, документального мате-
риала в кино, о соотношении его с художественным началом и о возмож-
ности существования «объективного» фильма без вмешательства режис-
сера. Ход полемики и ее выводы могут многое объяснить, а может быть,
даже предсказать в развитии этой тенденции.
Не менее показателен и тот факт, что сегодняшние советские и зару-
бежные теоретики, ставя важный вопрос о сущности внутрикадрового
движения, обращаются к так называемому «эффекту Кулешова», который
также вызывал дискуссии в двадцатые годы.
Советская киноэстетика в высших своих образцах, главным образом,
в работах С. Эйзенштейна, давно уже признана выдающимся вкладом
в развитие мировой эстетической мысли новейшего времени. Но ни одно
явление нельзя познавать в отдельных, разрозненных его проявлениях,
какова бы ни была абсолютная их ценность. Нет ничего бесплоднее, как
рассматривать, например, теоретические положения С. М. Эйзенштейна
как сумму высказываний, вне времени и пространства. Это не высказы-
вания, это мысли, возникшие в размышлениях и дискуссиях, в живом об-
мене мнениями, в разговоре. Нужно восстановить контекст этого разго-
вора. Чем полнее мы восстановим его, тем яснее станет для нас, что из
него отошло в прошлое, а что продолжается и сейчас.
Эта книга является попыткой такой реконструкции. Она не даст чита-
телю полной картины многообразных теоретических исканий,— для этого
нужно несколько книг. Многое и важное останется за ее пределами — и
проблема кинодраматургии, и киножанров, и другие, столь же существен-
ные вопросы, которые привлекают и еще будут привлекать внимание исто-
риков и теоретиков. Она очертит лишь некоторые из магистральных линий
развития советскдй кинотеории 1920-х годов — в связи с творчеством
крупнейших художников этих лет — Вертова, Кулешова, Эйзенштейна, Пу-
довкина, Козинцева и Трауберга. Анализ их творческой практики также
не входит в ее задачу,— она привлекается лишь постольку, поскольку во-
площала в себе некие теоретические принципы режиссера или давала ма-
териал для критического или теоретического истолкования.
Творчество каждого из названных художников ставило перед кинокри-
тикой ряд проблем, среди которых автор книги пытался уловить наибо-
лее важные и существенные: некоторые из них были указаны или разра-
ботаны самими режиссерами. Об этих проблемах, собственно, и пойдет
речь в дальнейшем изложении; ограничив их число, автор стремился осве-
тить их возможно детальнее, привлекая для этой цели как материалы
теоретического наследия самих режиссеров, так и материалы критических
статей, затерянных в кинопериодике тех лет. Лишь для Эйзенштейна при-
шлось сделать исключение: здесь современная ему критика использована
минимально. Лучшим истолкователем и критиком Эйзенштейна был он сам,
и задача заключается в том, чтобы постараться, насколько возможно, на-
метить вехи и внутренние закономерности его теоретической эволюции.
Если, закрывая эту книгу, читатель составит себе общее представ
ление об основных тенденциях развития советского кино 1920-х годов —
«метафорического» кино; если он уловит основные черты кинематографи-
ческого мышления этого времени и убедится в закономерности его возник-
новения и развития, если он согласится с тем, что в нем немало ценного
н для нашего времени,— автор будет считать, что книга достигла своей
цели.
ПЕРВАЯ
» ИСТОКИ СОВЕТСКОЙ
* КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
1. Первые попытки осмыслить специфику киноискусства 7
относятся к 1912—1913 годам. Вопрос об определении эстетиче-
ского потенциала кинематографа был тогда поднят театраль-
ной критикой и явился результатом целого комплекса проблем,
связанных с необычайно быстрым ростом популярности кине-
матографа, с одной стороны, и «кризисом» театра — с другой.
Известно, что появление кино враждебно было встречено
представителями и приверженцами традиционных искусств —
литературы и театра. Неприязненное отношение и уничижи-
тельные его характеристики вызваны были разными, но впол-
не реальными причинами. Главная из них заключалась в рез-
ком несоответствии эстетических достоинств тогдашнего кино
и старших искусств.
То, что кинематограф на первых порах упорно, но крайне
неудачно копировал театр, что экоанизации по примитивно-
сти изложения материала напоминали пародию, а игра акте-
ров по принципу «психологии вскачь» выглядела фарсом,—
все это не могло не тревожить. Казалось, ^варвар»— синема-
тограф появился специально для того, чтобы разрушить веко-
вое искусство сцены, свести на нет его воздействие на умы и
подорвать эстетические основы зрительского восприятия. Ка-
залось, этот новый вид зрелища мощным потоком вульгар-
щины угрожает самой духовности человеческой культуры.
Кинематограф воспринимается как искусство «низкое*,
«вульгарное», второсортное.
Было в нем, однако, нечто, порождающее ощущение «за-
гадочности» и что спустя какой-нибудь десяток лет вылилось
в социологическую и психологическую проблему восприятия
кино. Этим «нечто» была невероятная по своим масштабам
популярность кинематографа. Она увеличивалась с каждым
днем, охватывала самые разные слои населения, и вскоре раз-
дались тревожные сигналы — публика покидает театры во имя
кинематографа.1 Тогда-то и начались разговоры о «нашест-
вии» кино.
1 По данным, приведенным С. Гинзбургом в кн. «Кинематография до-
революционной России» (М., «Искусство», 1963), количество посещений
кинематографа было уже в 1909 году в пять раз бодыде театральных
посещений.
В них было много воинственности и одновременно расте-
рянности. Призывы «не есть, не спать», пока театр не вернет
себе былого преимущества, переплетались с элегическими уко-
рами по адресу театра. И среди хора разнообразных призы-
вов и кличей слышались почти обреченные нотки, советы «не
радоваться и не печаловаться», ибо «грядущее царство кине-
матографа неизбежно». «Театр гибнет, театр побежден. Театр
задыхается»,— так охарактеризовал один из критиков паниче-
ские настроения в театральной Среде.
Беспокойство усилилось, когда театральные актеры начали
8 сотрудничать в кино. В 1911 году В. Н. Давыдов еще реши-
тельно отказывается «кренделить» в кинематографе, видя
в этом непоправимый урон для своего престижа; в 1913 году
К. С. Станиславский предлагает идти в «синематограф» един-
ственно для того, чтобы увидеть разницу между искусством
представления и искусством переживания.1 Однако в том же
1913 году К. А. Варламов признается, что он не является
принципиальным противником кино,— его лишь не устраивают
сценарии, в которых нечего делать актеру. А спустя короткое
время газета «Новое время» помещает уже следующее ядови-
тое сообщение: «Представителям русского искусства остава-
лось дойти только до кинематографа, чтоб завершить этим
свое движение с Парнаса в находящиеся у предгорья базары
деревень Фокиды, и это завершение состоялось: артист Варла-
мов и балерина Смирнова дебютируют в Петербурге в кине-
матографе».1 2
То обстоятельство, что театр принужден «делиться арти-
стами с кинематографом», вскоре воспринимается уже как
привычный (хотя и неприятный) факт и свидетельствует о не-
сомненной и важной победе кино. Более того, к этому времени
у кинематографа появились уже и собственные артисты. Как
на пример такого рода защитники кино обычно ссылались на
Асту Нильсен («Нордиск», Дания), которая с 1910 года рабо-
тала только в кинематографе, и уже в 1911 году «одного
имени Нильсен было достаточно для того, чтобы театры были
переполнены».
Таким образом, 20-й век начался для театра неспокойно.
Тому немало способствовал обозначившийся «кризис» театра
и поиски путей его обновления.3 Некоторые критики считали,
1 Ю. С. Калашников, М. Сатаева. К. С. Станиславский и
кино. (Обзор и публикация материалов). «Вопросы киноискусства». М„
Изд-во АН СССР, 1962, вып. 6, стр. 284.
2 Цит. по «Сине-фоно», 1913, № 19, стр. 13.
3 См.: сб. «Кризис театра». М., «Проблемы искусства», 1908; «Театр.
Книга о новом театре». СПб., изд-во «Шиповник», 1908; «В спорах
о театре». М., Книгоиздательство писателей, 1913; В. Всеволодский
(Гернгросс). История русского театра, т. 11. Л.—М., Теакинопечать, 1929,
гл. 9.
и не без основания, что этот кризис был одной из причин ук-
репления позиций кинематографа.1
В самой театральной критике назревал раскол. Пока еще
легкая, еле заметная трещина бежала по монолиту, обозна-
чая будущие партии защитников и противников кино в среде
адептов театрального искусства. В 1913 году в журнале
«Маски», бывшем до этого непримиримым противником кино,
развернулась первая серьезная дискуссия о театре и кинема-
тографе под характерным названием — «Кто победит? Кине-
матограф или театр?» С пришельцем приходилось считаться,
и лучше всего было сразу же разделить «сферы влияния».
С этой дискуссией по своей проблематике были ближай-
шим образом связаны две работы, принадлежавшие признан-
ным знатокам театра: «Письма о театре» Леонида Андреева
(1912) и «Утверждение театра» А. Р. Кугеля, вышедшая не-
сколько лет спустя.
Основным пафосом дискуссии было «спасение» и «утверж-
дение» театра.
Театр можно спасти, отделив от него кинематограф,—
ведь последнему незачем посягать на то, с чем он никогда
справиться не сможет. У театра есть и за ним остается глав-
ное— творческая человеческая работа, у него есть «мысль и
слово», «тонкие и нежные тени, зыбь сложнейших душевных
переживаний», которые не в состоянии «взять» кинемато-
граф,— таково общее убеждение участников дискуссии.
Что касается кинематографа, то у него есть «соответствие
ритму и темпу современности»,1 2 он может показывать «кар-
тины морской бури или пожара в степи, кавалерийскую атаку
и т. п.»,3 его стихия — быт, «кудрявые дети», «приезд, отъезд,
житейская пестрядь...»4 Наконец, «огромна его культурно-
просветительная роль».5 Но одно из главных «преимуществ»
кинематографа и его сила — это его примитивность. «И это
чудесно», потому что «если кинематограф показывает вам зло-
дея, так это уж настоящий злодей, и вы начинаете ненавидеть
1 См., напр., статью В. Фриче «Театр в современном и будущем об-
ществе», где автор определяет эволюцию буржуазного театра как путь
от классической драмы к сборной программе (quart d’heure), варьете и
кабаре — грань, за которой начинается уничтожение театра. Импрессио-
нистическая и натуралистическая драма,— утверждает Фриче,— то и дело
впадая в пантомиму, подготовила кинематограф — немой «театр-модерн».
В прямолинейных социологических построениях Фриче кино — порождение
капиталистической машинной техники — должно упразднить «сцену жи-
вых людей» (сб. «Кризис театра», стр. 173—174).
2 М. Бонч-Томашевский. «Маски», 1912—1913, № 6, стр. ПО.
3 С. Глаголь. «Маски», 1912—1913, № 6, стр. 109.
‘Homo Novus [А. Р. Кугель]. Утверждение театра. Изд-во жур-
нала «Театр и искусство», стр. 183.
5Т. Циперович. Кинематограф. «Современный мир», 1912, Я? 1,
стр. 181,
его с первого же взгляда, за одну его шляпу, за одну его
черную, зверскую бороду».1
Эта своеобразная апология кинематографа была разви-
тием высказанной ранее точки зрения Леонида Андреева —
писателя, тесно связанного с театром и кровно заинтересован-
ного erb судьбой. В разгар споров о «кризисе» и «нашествии»
он первым выступает на защиту Кинемо, указав на спаси-
тельность его миссии для театра.
Для Андреева старый театр обречен на гибель. Его не
спасет вся его «зрелищность»; он отравлен «наивным натура-
W лизмом вещей, стремительным действием и стремительной
псевдопсихологией, столь напоминающей похороны вскачь».
Нахмуренные брови, страстные поцелуи, оперно-условные вы-
ражения невинности и любви,— весь этот реквизит, напоми-
нающий «Вампуку», театру не нужен. Он-то и отойдет в кине-
матограф, который сумеет воспользоваться им и извлечет из
сценического действия «новые блистательные алмазы».
«Именно ему, кинематографу, ныне эстетическому апашу и
хулигану, суждено освободить театр от великого груза ненуж-
ностей, привходящего и чуждого, под тяжестью которого сги-
бается и гибнет современная сцена... вырождается и слабеет
мощное слово».1 2 Будущий театр — театр психологии и слова.
Ни то, ни другое кинематографу не доступно. Специфика
кино — движение и молчание.
Итак, войны не будет. Демаркационная линия установлена,
сферы влияния поделены. За кинематографом скрепя сердце
было признано право суверенности. Театр и кино не должны
иметь друг к другу территориальных претензий.
Это была иллюзия, потому что набирающий силу кинема-
тограф был по натуре своей агрессором и экспансионистом.
Он не сидел спокойно в отведенных границах и продолжал
свои посягательства.
Крайне симптоматичной была заметка в одном из журна-
лов: «К. С. Станиславский не раз уже высказывал мысль об
учреждении при студии отдела светотворчества. Ему не-
приятно, что его ученики часто продают свой труд таким
фабрикам, картины которых оскорбительны для искусства...»
«Было бы очень хорошо,— делал вывод автор заметки,— если
бы К. С. Станиславский осуществил свою мысль. Ибо он ско-
рее других мог бы дать солидные обоснования для теории
артистического творчества в кинематографе».3
Кино начинало нуждаться в своем актере, причем не в ка-
ком-нибудь, а школы Станиславского. И пока предприимчи-
1 Н. Л о п а т и н. «Сине-фоно», 1913, № 27, стр. 20.
2 Л. Андреев. Письма о театре. Письмо первое. Альманах «Ши-
повник», 1914, № 22, стр. 230.
3 Н. Туркин. Теория К. С. Станиславского и артисты экрана. «Пе-
гас», 1916, № 2, стр. 51—53.
вне кинопромышленники переманивают к себе учеников
главы русского психологического театра, защитники «вели-
кого немого» обращаются к его противникам: вы переживаете
кризис, вы ищете новые театральные формы, вы пересматри-
ваете функцию и значение актера. Он вам не нужен. Отдайте
его нам.
Эти идеи проникают в театральную критику. В 1915 году
автор «Дневника театрала», напечатанного в том же «Пе-
гасе», высказывает опасение, что новаторы театра грозят
уничтожить огромное его завоевание — принципы актерской
игры, выработанные в результате пятнадцатилетней работы 11
Художественным театром. Теперь кино берет под свою защиту
эти завоевания. «Экран беспощадно относится к артистам,
склонным к позированию во вкусе старых мелодрам. Они ему
не нужны. Вот почему театральной критике (а не кинемато-
графической) приходится радоваться тесному сплетению те-
атра с кинематографом».1 И тоже самое говорит вечный поле-
мист и парадоксалист — А. Р. Кугель, всю жизнь проведший
на передовых позициях актерского театра, живущий только
театром, которого уж никак нельзя заподозрить в еретическом
сочувствии к кинематографу. Кино, по его убеждению, «хотя
и невоспитанный, но истинный друг театра», потому что он
«возвеличивает актера».* 2
Так пролагались пути к теоретическому осмыслению ак-
терского кино.
Что же касается’ взаимоотношений кино и театра, то
здесь кончался их первый этап. Второй начался с перелома
в искусстве, который несла с собой Октябрьская революция.
2. Революция обострила и ускорила процесс разложения
старых театральных систем. На очередь дня стала проблема
связи сценического искусства с революционной действитель-
ностью. В театр хлынул новый зритель, не обладавший рафи-
нированной культурой прошлого, но с обостренной восприим-
чивостью к искусству, жаждой приобщения к нему, повышен-
ной реакцией на злободневность, актуальность спектакля. Пе-
ред художниками, отстаивавшими лозунг революционного
искусства, во всей сложности встала задача создания спек-
такля для этого нового зрителя; сценического зрелища, остро-
современного и активно воздействующего на самую широкую
аудиторию.
Начало 1920-х годов характеризуется новым всплеском по-
исков обновления театра.
*Дий Одинокий. Дневник театрала. «Пегас», 1915, № 2, стр.
2 А. Р. К у г е л ь. Утверждение театра, стр. 185.
Нужно сказать, что, вне зависимости от субъективно рево-
люционной настроенности «левых» театральных деятелей,
в теоретической разноголосице начала 1920-х годов нередко
на первый план выступали ошибочные эстетические взгляды.
Ошибочность их не стала очевидной сразу; внешняя револю-
ционность обеспечивала им популярность. Так произошло
с идеей «коллективного театра». Это, конечно, не мистиче-
ская «соборность» 1908 года, хотя один из защитников этой
идеи и теоретик Пролеткульта В. Керженцев не прочь опе-
реться па мистико-анархические построения Г. Чулкова. Ско-
12 рее, это обновленная теория «театрализации жизни» Н. Ев-
реинова. Как известно, ее творец искал начало театрализации
в присущих человеку игровых потенциях, нашедших свое
первоначальное выражение в древних ритуальных играх.1
В. Керженцев, Эм. Бескин, В. Тихонович теоретически обосно-
вывают идею «массового театра» как наиболее соответствую-
щего коллективному пролетарскому сознанию. Театр — по-
рождение эпохи буржуазии и индивидуализма — заменят мас-
совые празднества, шествия, хоры — театр «не для народа,
а театр народа..., где актер и зритель сольются воедино».
«Театр необходимо вернуть родной стихии — народу, площади,
массе, его породившей».
Ни социальная, ни эстетическая платформа теоретиков не
отличается четкостью. С одной стороны — несомненно идеа-
листическая и «не пролетарская» теория Евреинова, служа-
щая своего рода отправной точкой; с другой — стремление на
этой основе поставить искусство на службу революции. Как
это бывало не раз, теоретики Пролеткульта пытаются создать
«чисто пролетарское» искусство, идя на поводу у старых
эстетических теорий. Помимо их воли, они двигались либо
к созданию искусственных, мертворожденных форм театраль-
ного зрелища, не опиравшихся на исторически сложившиеся
театральные традиции (то есть к крайнему варианту «эстети-
ческого театра»), либо к растворению спектакля в массовом
празднестве, гулянье, демонстрации,— то есть к ликвидации
театра как искусства. Историческая бесперспективность по-
добных устремлений скоро стала очевидной. Но в рассматри-
ваемый период они были болезнью роста даже той прогрес-
сивной части режиссеров и теоретиков, которые не уничто-
жали театр, а стремились к его обновлению путем выработки
новых, «революционных» форм профессионального спектакля.
К этому новому спектаклю предъявляется требование ост-
рой экспрессивности, агитационности, публицистичности. Вни-
мание привлекают те формы театра, где исторически сочета-
лась массовость, доступность и острая зрелищность. В драма-
1 О позднейших трансформациях теории Евреинова см., напр., у
Б. Алперса (Театр социальной маски. М.—Л., ГИХЛ, 1931).
тический театр вторгаются «низкие» виды спектакля — мюзик-
холл, цирк. А. Ган вспоминал, что еще до 1920 года группа
пропагандистов-коммунистов пыталась «во что бы то ни
стало» возродить балаган, чтобы «зрелищные йнстинкты
массы отвлечь от интеллигентских театральных богослуже-
ний». В 1920 году С. Радлов вводит цирковых артистов в спек-
такли Театра народной комедии; Мейерхольд, ставя «Зори»
Верхарна, прямо обращается к зрителям с агитационными
призывами и политической информацией.
В это время резко меняется и отношение к кинематографу.
То, что раньше объявлялось «смрадной накипью города»,
ныне предстает как «новая философия»,1 как искусство, вы-
ражающее то «беспокойно мятущееся, движущееся, динамич-
ное», чем определялась новая эстетика; как самое яркое вы-
ражение машинного века.1 2
В период первых выступлений Л. Андреева «техницизм»
кино нуждался в защите и оправдании. Теперь он — показа-
тель прогрессивности. «Не может быть сомнений, что кино...
есть законный плод нашего времени, его певучести, ритма, его
изощренности и машинной культуры и поэтому явится цент-
ральным видом искусства новейшей эпохи».3 «Мироощуще-
ние нашей современности — мироощущение кино», «стиль на-
шей современности — стиль кино».4 5
Подобные оценки кино, конечно, были связаны с прямоли-
нейно социологическим пониманием пролетарской эпохи в це-
лом. Раз пролетариат — класс, непосредственно связанный
с материальным производством, его культура может быть
только урбанистичной, динамичной, отражающей темпы и
ритмы производственного процесса. Нечто подобное происхо-
дило, как известно, и в других сферах искусства,— вспомнить
хотя бы поэтическую практику первых пролетарских поэтов
с их культом машины, завода, индустрии.
Сторонники «массового, коллективного» искусства ждут
теперь от кино того, чего не может им дать театр. В. Кержен*
цева6 не устраивает «иллюзия толпы», которую вынужден
создавать театр, ограниченный сценической площадкой. Ему
хочется видеть «самую толпу, подлинную, многоликую, бур-
ную, творящую историю». Показать великие народные рево-
люции прошлого, пользуясь грандиозного масштаба декора-
циями и всеми историческими зданиями и местностями,— это
может и должно сделать кино.
13
1 И. Соколов. Скрижаль века. «Кино-фот», 1922, № 1, стр. 3.
2 Г. Болтянский. Искусство будущего. «Кино», 1922, № 1, стр. 7.
3 Там же.
* И. Соколов. Скрижаль века. «Кино-фот», 1922, № 1, стр. 3.
5 В. Керженцев. Революция и театр. М., «Денница», 1918, стр.
38—39.
В самой непосредственной связи с этим высказыванием на-
ходятся требования «социального сценария». Так назвал свою
статью А. Топорков, решительно отвергший постановку вер-
харновских «Зорь» в театре Мейерхольда как якобы
исключающую всякое социальное начало. Порочность пьесы
критик видит в самом ее методе: передать социальные про-
блемы в преломлении индивидуального сознания. Эта идея
была рождена все тем же прямолинейным пониманием массо-
вости искусства. Топорков утверждал, что метод подобного
рода в самом существе своем индивидуалистичен и ведет
14 к «наскучившим всем переживаниям». Его идеал — греческая
трагедия, где действующие лица не характеры, а «лишь выра-
жение действия».1 Как на пример правильного решения со-
циальной темы Топорков ссылается на отрывки из «Девятого
ноября» Келлермана, где автор прибегнул к «кинематографи-
ческому» (монтажному) способу изложения: например, обна-
женная танцовщица развлекает на маскараде бывшую лю-
' бовницу его высочества, а ее муж в это время под непрерыв-
ным огнем вражеских батарей задыхается в землянке от
удушливых газов. Но в пределах литературы, по мнению То-
поркова, эта задача полностью разрешена быть не может.
Она под силу только кинематографу. Так возможности кино-
поэтики ставятся на службу социальному заданию.
Кинематограф воспринимается как искусство антииндиви-
дуалистическое и в этом своем качестве противопоставляется
театру. Если в 1912—1913 годах основным и решающим недо-
статком кинематографа называли неспособность его выра-
жать «тончайшие душевные переживания», то в начдле 1920-х
годов это воспринимается как его основное достоинство.
Сторонники «массового действа» видят в кинематографе
убийцу «идеалистического» театра со всей его «психологией»,
«красотой» и прочей «театральной требухой». Они уповают на
молодое искусство, которое «снимет «душу», ибо эту несуще-
ствующую душу он разложит на те движения глаз, лба, рта,
которые мы сейчас не видим, но которые он своим механиче-
ским глазом узрит и преподнесет нам как фотографию «со-
вести» и «мысли». Это пишет Эм. Бескин, десять лет назад
решительно выступавший против кинематографа. Теперь, за-
хваченный общей волной эстетических переоценок, он готов
даже преувеличивать возможности кино; внимательный чита-
тель «вульгарных материалистов», враг идеализма и атеист,
он хочет видеть, как экран показывает зрителю самую
мысль — «движение материальных частиц» — и наносит тем
самым смертельный удар «метафизическим» основам старого
искусства.
1 А. Топорков. Социальный сценарий. «Кино», 1923, № 2/6, стр. 7.
Совершенно закономерно выйдя на первый план, социаль-
ное задание кино не было, как мы видим, свободно от край-
ностей. Но кто из критиков этих лет мог бы похвастать, что
он знает, как нужно строить революционное новое искусство?
Абстрактность, схематичность, теоретические блуждания были
понятны в условиях, когда самое марксистское искусствозна-
ние делало свои первые шаги.
Ошибки и издержки преодолевались в течение последую-
щих десятилетий,— иные быстро, иные медленнее и труднее,—
и преодолевались они прежде цсего в самой практике режис-
серов. Режиссеры были и создателями теорий. Но не своими
ошибками, очевидными и наивными на наш сегодняшний
взгляд, важен для нас период первых шагов советской кино-
теории, и не ими он определяется. Уравнение в правах театра
и кино и возложение на кинематограф ответственнейшей за-
дачи— создания нового, агитационного зрелища, признание
кино в эпоху демократизации искусства — вот что было опре-
деляющим и привело вскоре к полному революционному пре-
образованию самых основ этого искусства.
В то время как рецензенты и критики спорили о формах
взаимоотношений кино и театра, в практике театра, незаметно
и исподволь, шел процесс «кинематографизации». Критика
1910-х годов не придавала ему особого значения, хотя и отме-
чала использование в спектаклях кинематографа, его приемов
и технических новшеств. В 1920-е годы процесс стал интенсив-
нее, а поворот критики к проблемам кинематографа вообще
способствовал тому, что он предстал явлением важным и
принципиальным.
Еще в 1918 году, например, в постановках Макса Рейн-
гардта и Ван-дер-Вельда применялись особые эффекты осве-
щения, движущаяся сцена, раздвигавшая сценическую пло-
щадку. Такая сцена позволяла «монтажно» перебрасывать
место действия и необычайно развивать «чувство места».1
В Советской России, в начале 1920-х годов, эта тенденция
выступает уже как сознательная и последовательная. В 1921 —
1922 годах В. Смышляев, излагая основы режиссуры, указывает
на репетиционный прием под названием «кинематограф»,
прочно вошедший в практику режиссерской работы. Смысл
приема заключается в умении убыстрить темп сцены за счет
сокращения ее во времени (или наоборот).1 2 Одновременно
в театре делаются опыты прямого сочетания театрального
спектакля и киносеанса. 1922—1923 годы — годы наиболее яр-
ких в .этом смысле театральных постановок: «Женитьба»
Г. Козинцева и Л. Трауберга и «На всякого мудреца довольно
1 См.: В. Керженцев. Творческий театр. Изд. 3-е. М„ изд-во
ВЦИК, 1919, стр. 11; А. Р. К у гель. Утверждение театра, стр. 187.
2 Вал. Смышляев. Техника обработки сценического зрелища. Изд.
2-е, ч. I и II. М., «Всероссийский Пролеткульт», 1922, стр. 185—186.
простоты» С. Эйзенштейна. Спектакль Эйзенштейна включал
в себя «кусок детективной фильмы» («Похищение дневника
Глумова»); в «Женитьбе» действовал «Чарли Чаплин», кото-
рый в то же время был героем фильма «Чарли Чаплин и кра-
сотка Бетси».
Авторы спектаклей — будущие кинематографисты. Очень
скоро им суждено будет стать основоположниками советской
кинематографии, но сейчас их интересуют проблемы театра,
и кино для них еще только «составная часть театрального ап-
парата» наряду с музыкально-эксцентрическим антре, шанта-
16 ном, боксом, гиньолем.
Спектакли были отражением двойственности в подходе
к кинематографу, характерной для тех лет: теоретически
именно на него возлагаются надежды решить проблему созда-
ния социального искусства; практически же в это время кине-
матограф еще не выходит за рамки обычного аттракциона.
Он используется в театре в сочетании с мюзик-холлом и цир-
ком, для создания зрелища «ошарашивающего, мгновенного,
стремительного и броского», и, по существу, остается еще тем
же «балаганом», каким его воспринимали несколько лет назад
его противники.
Разрыв между практическими исканиями и теоретическими
построениями обнаруживается тем больше, что в теории все
сильнее ощущается стремление определить особенности кино
как искусства.
3. Сборник статей «Кинематограф», изданный в 1919 году,
был призван стать первым шагом на пути теоретической раз-
работки вопросов кинематографа.
Он открывался статьей А. В. Луначарского «Задачи госу-
, дарственного кинодела в РСФСР». Нарком просвещения ви-
дел эти задачи в создании нового духа в кинематографии,
мобилизации кино для решения проблем просвещения, эстети-
ческого воспитания, для пропаганды и агитации. Последняя
задача была особенно подчеркнута и в редакционном преди-
словии: кино, 'Говорилось там, часто становилось мощным
орудием в руках господствующих классов, служа возвеличе-
нию устоев церкви, нуждам воинствующих шовинистов, за-
темняя классовое самосознание. Советская кинематография,
ныне создаваемая заново, должна служить нуждам пролета-
риата.
Установки редакционной коллегии и Луначарского прямо
перекликались с правительственными документами. В 1919
году В. И. Ленин подписал Декрет о национализации кино-
производства. В известных высказываниях В. И. Ленина
о кино звучало, в первую очередь, признание его колоссаль-
ных пропагандистских и воспитательных возможностей.
Таким образом, социальная роль кино сомнений не вызы-
вала. Столь же очевидной была и его роль как подсобного
средства в научных исследованиях. Возможность запечатле-
вать на пленке непрерывно развивающиеся и трудно фикси-
руемые процессы была давно уже оценена представителями
точных и естественных наук.
Более трудным и спорным было другое — эстетическая
ценность и функции кинематографа, и сборник 1919 года за-
служивает особого внимания как первая попытка их принци-
пиального освещения.
Просматривая сейчас статьи, помещенные в сборнике «Ки- 17
нематограф», мы обнаружим несколько общих и любопытных
особенностей.
Одна из них — недифференцированность самого понятия
«кино».
Ни Бауэр, ни Протазанов, ни ранний Чаплин не восприни-
маются даже как творческие индивидуальности, не только как
представители разных школ. Все сливается в едином понятии
«кинематограф». Это выглядит особенно странно, если вспом-
нить, что дореволюционная критика различала стили и даже
пыталась разграничить кинематографические школы. Рецен-
зент «Вестника кинематографии» искал в фильмах Протаза-
нова аналогий творческому методу Московского Художествен-
ного театра; В. Ахрамович («Театральная газета») и Веро-
нин («Вестник кинематографии») выделяли «стиль Бауэра»
с присущей ему ориентацией на лирическую драму и особыми
принципами живописного и пластического построения кадра.
Киножанры определились уже после 1912 года. Теперь все это
исчезло. Теория кино как будто начинается заново.
Причины этого явления следует искать в том резком сме-
щении, которое „претерпели самые представления о кино как
искусстве. Кино как бы переместилось с одного эстетического
уровня на другой,— и при этом оказалось, что его реальная
практика до этого уровня не поднимается. В глазах крити-
ков индивидуальные достижения режиссеров безнадежно те-
рялись в массе вульгарной и низкопробной продукции, кото-
рая не заслуживала никакого отбора, никакой критической
оценки. Критики начала 1920-х годов меньше всего задава-
лись целью исторического анализа,— они были зрителями,
судьями,— критиками в полном и точном значении этого
слова. Вся старая кинематография подлежала для них пол-
ному и безусловному отрицанию,— на смену ей должно
прийти новое и подлинное искусство кино.
Вторая определяющая черта кинокритики — стремление
установить истинные основания для реабилитации кино, найти
определения, специфические особенности и законы этого ис-
кусства, которые делают его самостоятельным по отношению
к литературе, живописи, театру. И в этих целях кино прихо-
Т. Ф. Селезнева
дилось также рассматривать как некое единое целое, не уста-
навливая внутри него никаких подразделений. Кино бралось
как некое типологическое целое, как предмет не историче-
ского, не критического, но строго теоретического анализа.
Первые советские кинотеоретики начинают с общей теории
нового искусства.
Наконец, третья особенность сборника — участие в нем
представителей различных искусств: литературы, изобрази-
тельного искусства, театра,— объединенных желанием осмыс-
лить кино под углом зрения каждого из них.
18 В сборнике были помещены статьи А. Сидорова и С. Шер-
винского, посвященные вопросам: кино и изобразительные
искусства, кино и ранние формы драмы и эпоса. Характерно,
что исследователи литературы и изобразительного искусства
выступают противниками сближения кино и театра. С. В. Шер-
винский, выделяя немоту в качестве отличительной черты ки-
нематографа, противопоставляет кино театру как искусство,
принципиально лишенное диалога. Но еще более важно, что
Шервинский обращает внимание на эпические, повествова-
тельные элементы кино. Для критика театр — искусство слова
и действия, и этим определяется его условность, где каждая
жизненная ситуация должна быть разыграна, подана через
действие и диалог. В кино же едва ли не основная роль при-
надлежит неигровым, повествовательным кускам — описатель-
ным, пейзажным и т. д. Исследователь и переводчик антич-
ной драмы видит в кино некий аналог ранним формам эпоса.1
Равным образом пытается отделить кино от театра и А. А. Си-
доров, историк изобразительного искусства, в первую оче-
редь графики. Он идет, естественно, другими путями и нахо-
дит в живописи и рисунке зародыши сюжета и динамики.
Примером ему служат хотя бы полотна ранних мастеров Воз-
рождения, где желание показать временную смену эпизодов
заставляет художника соответственным образом строить ком-
позицию картины: рассматривая в нужной последовательно-
сти изображенные на ней сцены, можно заметить, что они
представляют собою несколько фиксированных этапов одного
и того же развивающегося действия. Еще ярче стремление
к «кинематографической» смене обнаруживают серии рисун-
ков, излюбленные карикатуристами.
Эти идеи получат свое место при дальнейшем развитии
советской кинотеории. В 1922 году В. К- Туркин, один из пио-
неров профессиональной советской кинокритики, известный
сценарист и теоретик, выскажет близкую точку зрения. В яв-
ном стремлении перейти от абстрактной постановки вопроса
«кино не театр» к конкретному анализу элементов киноязыка,
1 С. Шервинский. Сущность кинематографического искусства. Сб.
«Кинематограф». М., Государственное издательство, 1919.
он ставит вопрос о композиции кинокадра. Туркин обращает
внимание на несостоятельность подхода к кино с мерками
сценической, театральной композиции. Театральная мизан-
сцена, пишет Туркин, использует трехмерность пространства;
она рассчитана на восприятие из всех точек зрительного зала,
но только из одной точки дает наилучший эффект. Иное
дело — кинокадр, фиксирующий изображение из одной точки,
где установлен объектив. Поэтому понятие мизансцены для
кинематографа не существует; двухмерность кадра сближает
его с живописным построением. Кино определяется как «дина-
мическая живопись» и подчиняется законам живописной ком- 19
позиции.1
Интересна дальнейшая судьба этой идеи, высказанной
в ранний период становления кинотеории, во многом ап-
риорно, умозрительно, без достаточной опытной базы. Прямая
аналогия кадра и живописного построения, конечно, была
неверна; в кино действуют совершенно иные законы — и фото-
гении, и композиции, и кадр вовсе не двухмерен, как это
могло казаться в начале 1920-х годов. Но главное даже не
в этом, а в том, что кадр нельзя рассматривать как отдельно
взятую единицу; его композиция находится в непосредствен-
ной зависимости от композиции смонтированных с ним пред-
шествующих и последующих кадров, и природа его — не
статическая, а динамическая. Но все это стало аксиомой зна-
чительно позже. Понадобился С. Эйзенштейн, чтобы оконча-
тельно разрушить возможность такой аналогии. И вместе
с тем, как ни покажется странным, именно Эйзенштейн углу-
бил и сделал частью своей теории это наивное сопоставление.
Он воспользовался наблюдениями над динамической природой
графики и живописи, *на которую взглянул уже с высоты
своего кинематеграфического опыта. Такова была диалектика
движения теоретической мысли.
Основное место в сборнике, однако, принадлежит театраль-
ной критике. Мы находим здесь имена крупных театральных
деятелей — Ф. Ф. Комиссаржевского, В. Г. Сахновского. Они
ставят проблему актёрской игры в кино. Этой проблеме по-
священа статья Ф. Комиссаржевского. Комиссаржевский тра-
диционно определяет кино как искусство молчания и движе-
ния. Однако он не останавливается на этом, а пытается вы-
вести отсюда специфические особенности игры киноактера,
которая должна принципиально отличаться от игры актера
1 Стржигоцкий (В. К. Туркин). Композиция кинематографиче-
ского кадра. «Кино», 1922, № 3, стр. 9—11. В гораздо более отвлеченной
и общей форме критик поднимал близкие вопросы в своей дореволюци-
онной статье «О путях светотворчества» («Пегас», 1916, № 6-7, стр. 8).
Рецензируя фильмы Е. Ф. Бауэра, он писал: «Мне кажется, что художник
по профессии — Е. Бауэр лучше других понял тайну красоты экрана.
Все другие режиссеры упорно продолжают копировать на экране сцену».
театрального. Сейчас актер кино просто искажает сложив-
шиеся в театре методы игры; он позирует, «таращит на аппа-
рат глаза», «играет» напропалую». Новый актер должен быть
актером «жеста», выразительного движения, которое, как и
сам кинематограф, «не нуждается ни в словах, ни в надпи-
сях, ни в звуках».1 Но этим новым актером для Комиссаржев-
ского и ограничивается специфика кино. Режиссер не в си-
лах вырваться из-под власти установившихся театральных
представлений. Его кино — несколько видоизмененный театр,
обходящийся без звучащего слова, то есть театр пантомимы.
20 Проблема поставлена; но, решая ее, режиссер оказывается
на уровне 1912 года, когда впервые аналогия «кино — пан-
томима» заняла на некоторое время внимание критики.
Поиски шли ощупью, но они шли. И если в 1919 году круп-
ный театральный режиссер считал возможным сводить театр
к пантомиме, то в 1924 году другой деятель театра —
С. Э. Радлов выскажет мысль, которая предвосхитит прин-
ципы последующего монтажного кинематографа.
Актер кино не в состоянии конкурировать с театральным:
он лишен непосредственного живого общения со зрительным
залом. Но квалифицированный зритель ищет в кинематографе
вовсе не «движений ноздрей актера». Фильм может обойтись
без актера; его заменит «игра вещей» — и она бесконечно
расширит возможности кинематографа. «Если герой думает
о повешении — пусть мне покажут просто и без выворочен-
ных негритянских белков выжимающего эмоцию актера,
сперва одну веревку, потом потолок, потом лампу, снятую
с крюка, потом подслеповатых траурных кляч, гроб, хлю-
пающий в мокрую землю... брр... Ясно. Я уже понял. Он раз-
думал кончать самоубийством».1 2
То, что описал Радлов, было не что иное, как ассоциатив-
ный монтаж. Наступало осознание сцецифичности кино;
у него оказывались свои, никакому другому искусству не
свойственные средства художественного выражения. И харак-
терным симптомом этого начавшегося подлинного самоопре-
деления стала развернувшаяся на протяжении 1922—1923 го-
дов интереснейшая дискуссия о фильме «Кабинет доктора
Калигари».
«Кабинет доктора Калигари», поставленный в 1919 году
Р. Вине, по сценарию К- Майера и Т. Яновица, был вершиной
немецкого экспрессионистического кино и выдающимся собы-
тием в мировой кинематографии. Кошмарная фантастика и
тщательно разработанная сюжетная структура авантюрного
фильма здесь получили социальное и философское наполне-
1 Федор Комиссаржевский. Экран и актер. Сб. «Кинемато-
граф», стр. 33—38.
2 Сергей Радлов. Кино-драма и кино-роман «Кино-неделя», 1924,
№ 5.
ние. «Кабинет доктора Калигари» мыслился его создателями
как фильм о преступлениях и безумии; за его конкретным со-
держанием должно было просматриваться иное, более об-
щее— признание безумия, охватившего весь мир, и Германию
в частности. Мир одержим маниакальной жаждой власти, по-
гряз в маниакальных и бессмысленных преступлениях. Безум-
цем оказывается имморалист ницшеанского толка доктор Ка-
лигари; в руках его послушным орудием служит сомнамбула
Чезаре, велением доктора творящий насилие и убийства. Но
и жертва доктора, устами которой рассказана вся эта исто-
рия,— тоже сумасшедший. Реальность всего происходящего
оказывалась поколебленной, и уже нельзя было понять,
случилось ли все в действительности или это горячечный
бред воспаленного воображения; реальность, превращен-
ная в фантомы, или фантомы, превращенные в реальность.
Художественный мир «Доктора Калигари» наполовину
призрачен. В нем две сферы образов. Одна — обитатели го-
родка, посетители балаганов, клерки, торговцы, обыватели.
К другому принадлежит тонкая черная фигура сомнамбулы
с застывшей маской-лицом и подведенными глазами. Сюда
же относится отчасти и сам Калигари — натуралистически по-
данная фигура опустившегося старика-фокусника с жалко-
заискивающей улыбкой, за которой, однако же, всегда таится
нечто недосказанное и зловещее. Эта вторая сфера подчерк-
нута и выделена намеренно условными экспрессионистиче-
скими декорациями, о ,которых всегда говорят, когда заходит
речь об этом фильме. Зыбкость, фантастичность, нервозность
атмосферы создается нагромождением рисованных на холсте
черных домов, обобщенно трактованных, лишенных фактуры,
стоящих наклонно к рисованным изломанным тротуарам. Не-
естественно застывший и потому особенно зловещий мир —
и живые люди, как бы по странной случайности вторгшиеся
в него,— этот контраст должен был подчеркивать и оттенять
философский замысел фильма.
Обратившись к критическим отзывам о фильме в совет-
ских журналах, сразу можно заметить, что им заинтересова-
лись не критики, а теоретики. Идея «Кабинета доктора Кали-
гари» не встретила сочувствия как отражение «всего самого
больного, самого надломленного, самого истеричного, что
есть в экспрессионизме».1 Равным образом рецензенты совер-
шенно снимали вопрос о соответствии замысла и художест-
венного воплощения. В центр внимания стала кинематографи-
ческая форма фильма, рассмотренная под тем углом зрения,
который больше всего занимал деятелей кино в это время.
21
‘Константин Державин. «Кабинет Калигари». «Жизнь ис-
кусства», 1923, № 7, стр 13.
Вновь, но уже на новом уровне, всплывает вопрос «кино или
театр».
Первые отклики на фильм появились у нас еще до его вы-
хода на экраны страны. В 1922 году в Обществе кинодеятелей
состоялся доклад о картине. Автор его, К. И. Фельдман, видел
фильм во время заграничной поездки. Доклад с самого на-
чала перерос рамки информации и превратился в проблемное
выступление применительно к положению в советском кино,—
своего рода осмысление опыта «Калигари». Редакция жур-
нала «Кино», печатая статью Фельдмана, прямо рассчиты-
22 вала на дискуссию — как о фильме, так и о назревших вопро-
сах советской кинематографии.1
Для Фельдмана фильм — «выдающееся событие экрана».
Таким его делает «конструктивность сюжета», освобожден-
ного от побочных линий и в высшей степени обладающего
единством действия. Сюжету соответствует «декорум», пол-
ностью подчиненный монтировочному плану, и игра актеров,
с ее скупым, сдержанным жестом,— кинематографическим,
а не театральным. Произведение киноискусства предстает, тем
самым, как единое целое, все части которого взаимно обуслов-
лены и необходимы. Это уже первые шаги по пути осознания
кино как особой художественной системы. За малоудачным
термином «конструкция» скрывается как раз это новое отно-
шение к кино. Отталкиваясь от театра, «замыкающего все-
ленную в узкое пространство сценической площадки», Фельд-
ман вновь апеллирует к безграничным возможностям кино.
Обращает на себя внимание, с каким постоянством критика
начала 1920-х годов возвращалась к вопросу о монтаже. По
мнению Фельдмана, крупным достоинством фильма является
его монтажное решение, которое, собственно, и открывает пе-
ред кинематографом невиданные доселе перспективы. Вторая
важная особенность, отмеченная им,— это «живопись светом»,
«позволяющая развернуть перед зрителем пластическую кра-
соту человеческих движений и зафиксировать все нюансы ак-
терской выразительности».2
В следующем, же году обозначаются две принципиальные
критические позиции. К. Державин, отвергая идейно-фило-
софские основы экспрессионизма, в то же время приветствует
фильм как сильный и убедительный протест против «той
антихудожественности, которой проникнуто кино всех стран и
народов, не исключая и РСФСР с ее «Скорбью бесконечной»
и «Отцом Серафимом». Таким образом, критик соотносит
фильм с дореволюционной продукцией и ее эпигонами.
На этом фоне отчетливо вырисовываются особенности по-
этики «Доктора Калигари». В оценке этих особенностей Дер-
1 «Кино», 1922, № 4, стр, 10 (От редакции).
• /-. 2.К. Ф ел ьдм а н. .«Кабинет-доктора .Калигари», «Кино», 1922, № 4,
стр. 11. См. также «Жизнь искусства», 1923, № 5, стр. 16.
жавин близок Фельдману; он тоже отмечает «драматургиче-
ски оправданный и художественно организованный сценарий»,
«умелое использование света как декоративного материала»,
«остроту фрагментов», «игру черных и белых пятен». Критик
восхищен игрой Конрада Фейдта (Чезаре) и принимает са-
мого Калигари (Вернер Краусс); остальные актеры для него
тусклы и бесцветны, и мимическая их игра не вяжется с де-
коративным фоном. Важно подчеркнуть, что самый декоратив-
ный фон критика убеждает; попытка ввести в кино декора-
цию, как таковую, кажется ему заслуживающей внимания.
Аналитический разбор фильма у Державина служит, од-
нако, обоснованию принципиально иной, чем у Фельдмана, пози:
ции. Согласно его точке зрения, «Калигари» — первая ласточка
надвигающейся театрализации кинематографа. Все удачи
фильма являются одновременно и удачами театральными;
проигрывает же он там, где отклоняется от театра (например,
в «антитеатральной» игре актеров). В сближении кино с те-
атром и учебе у театра Державин видит выход из застоя, гро-
зящего кинематографу кризисом.
Против этой «театрализации кинематографа» и выступила
зарождающаяся профессиональная кинокритика и кинотео-
рия в лице В. Туркина и молодого режиссера Л. Кулешова,
уже начавшего в те годы свою экспериментальную работу по
исследованию возможностей монтажа. В свои^ возражениях
они опираются на закон «фотогении», хотя нигде не употреб-
ляют этого слова.
Глава французского «Авангарда» Луи Деллюк впервые
ввел в кинематографию-это понятие, ставшее затем класси-
ческим, в самом начале 1920-х годов. Он обратил внимание
на то, что на экране лицо или предмет может приобретать
особую, специфическую выразительность — такую, какой они
не имеют в реальной действительности; и зависит это от
формы предмета, его фактуры и освещения.
Ни Туркин, ни Кулешов не отправлялись непосредственно
от работ теоретиков фотогении — Деллюка или Муссинака;
мало того, в их понимании это явление не носит того оттенка
имманентности, который оно принимало у их французских
коллег. Но они ясно представляли себе, что для киновоспро-
изведения нужен материал с определенными оптическими ха-
рактеристиками, а таким может быть только материал под-
линный, реальный. Это и заставляло их возражать против
театральных декораций «Доктора Калигари».
Это был спор вовсе не по частному техническому вопросу.
Требование реальности снимаемого материала и широкого ис-
пользования монтажных приемов определяло самый подход
к кинопроизведению. Вскоре оно ляжет в основу, всей кинотео-
рии 1920-х годов. Сейчас же Кулешов заявляет, что разреше-
ние световых задач живописным, а не кинематографическим
23
путем (то есть цветом, а не фактическим освещением) яв-
ляется в кино крупным художественным просчетом. Законы
кинематографической перспективы подчиняют себе построен-
ную декорацию; на пленке выходит не она, а «пространствен-
ная форма того, на что нанесена краска». «Декорации должны
быть пространственными — совершенно без живописных эле-
ментов и с настоящим освещением». Эта задача может быть
разрешена только путем монтажных комбинаций реально су-
ществующих элементов.1
Не упоминая «проклятого вопроса» «театр или кино», Ку-
24 лешов объективно направляет свои возражения против теат-
рализации кинематографа — в тех формах, которые предлагал
«Кабинет Калигари». Выступление Кулешова поддержал
В. Туркин. Из его статьи раскрывается и теоретический смысл
выставленных Кулешовым положений, хотя, на первый взгляд,
он тоже начинает с анализа технических просчетов фильма.
«Жидкая, однообразная фактура кадра (фанера и краска, без
использования возможностей пространственно-кубического
построения и естественной светотени),— трактовка павильона,
низводящая его до роли сценической коробки, с макетом или
декорацией, неподвижной для зрителя и в отдаленном
плане,— особливо случайная и слабая (напоминающая пло-
хой театр) «мизансцена»...— неопытный, слабо подражающий
кинематографическому — монтаж действия.. .»2 Вслед за Ку-
лешовым Туркин выступает против фотосъемки «самоцель-
ной» декорации: построение кадра должно быть основано на
знании различного коэффициента светопоглощения и светоот-
ражения, на правильных соотношениях «контрастных масс
света и тени». Монтаж для кино — органический сюжетообра-
зующий элемент фильма, позволяющий строить действие во
времени. Опыт «Кабинета доктора Калигари», пренебрегшего
этими важнейшими требованиями кинематографического ис-
кусства, для Туркина свидетельство того, что «условный
стиль» в кинематографе не может быть подражанием услов-
ному театру, но должен выразиться в специфических формах,
оперирующих с «материальными элементами киноискус-
ства»— декоративными материалами, вещами, человеком-ак-
тером и монтажными комбинациями «условно» построенных
кадров во времени. Выводы Туркина были знамением вре-
мени. «Театральный» период кино кончался. С ним заканчи-
валась и предыстория советской кинотеории, уступая место
ее «историческому периоду».
Участники дискуссии 1923 года принадлежали к новому
поколению кинематографической критики. Они противостояли
уже не защитникам психологического театра, как это делали
1 Наша трибуна. О «Кабинете доктора Калигари». «Кино», 1923,
№ 1/5, стр. 15—17.
‘ Там же, стр. 19.
сторонники кино несколько лет назад. Они противостояли
всякому театру — будь то театр условный или реалистический.
Теоретические проблемы, выдвинутые ими в дискуссии
о «Калигари», отталкивались уже от собственно кинематогра-
фического опыта, накопленного к этому времени. Правда, этот
опыт был всего лишь эмпирическим и эстетически мало значи-
мым, и потому заслуга кинокритики начала 1920-х годов опре-
делится яснее, если хотя бы в нескольких словах попытаться
определить сущность кинематографа, с которым они имели
дело.
Дореволюционная кинематография, действительно, не
была явлением однородным,— и в этом отношении наша, со-
временная точка зрения ближе, например, к критикам «Вест-
ника кинематографии» 1917 года, различавшим художествен-
ные манеры Бауэра и Протазанова, нежели к полемистам на-
чала 1920-х годов. Ранний период русского кино имел свою —
достаточно поучительную историю, свою эволюцию, направле-
ния, своих мастеров. Своей же образной системы этот кине-
матограф не имел.
Если под образной системой мы будем понимать осознан-
ную и устойчивую в своих основаниях совокупность зритель-
ных средств, способных выразить художественную мысль
собственными силами,— то мы должны будем признать спра-
ведливость этого, быть может, слишком категоричного утверж-
дения. Раннее русское кино пользуется чужим, заемным язы-
ком. Зрительный образ в нем послушно следует за надписью-
титром, как иллюстрация за текстом книги. Сцена дублирует
надпись, которая, по существу, движет и держит сюжет.
Борьба за самоопределение кино была не чем иным, как борь-
бой против этой диктатуры надписи, а шире — за автономную,
не взятую наррокат у других искусств, кинематографическую
поэтику.
Это понимали, чувствовали или угадывали так или иначе
все, кто ратовал за отделение кино от смежных искусств, и
пафос отрицания старого был лишь оборотной стороной па-
фоса строительства.
Пафос же строительства — уже не только теоретического,
но и практического — и составляет основное содержание того
периода, который мы назвали историческим периодом совет-
ской кинотеории.
ВТОРАЯ
«ИГРОВАЯ» ИЛИ «НЕИГРОВАЯ»!
(ДЗИГА ВЕРТОВ)
1. В 1922 году, в период, когда началось движение за
утверждение самостоятельности киноискусства, когда начали
выходить первые советские киножурналы, в журнале «Кино-
фот» появился «Вариант манифеста», подписанный Дзигой
Вертовым.
«Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его
настоящего.. .»1
Позиция и программа Вертова были реакцией не только
на старую кинематографию, но на старое искусство вообще,
и в первую очередь на театр, методами которого пользова-
лось старое кино.
«Обновление» театра, приход в него художников-кон-
структивистов, биомеханики, «технизация» и «кинематогра-
физация» театра не вызывают сочувствия у Вертова. Для
него такое обновление — «не только не синтез, но даже не
закономерная смесь». «Мы, киноки, решительные противники
преждевременного синтеза... понимаем, что бесцельно сме-
шивать крохи достижений: малютки сразу же погибают от
тесноты и беспорядка».1 2
Вертов отстаивает самостоятельность кино, противопо-
ставляя его театру, якобы не способному освободиться от
тяготеющих над ним традиций и стать идеологическим пред-
ставителем нового общества.
«Киноки», — так называла себя группа Вертова, — при-
зывают осуществить в кинематографе «переворот через ки-
нохронику». Хроника, по мысли Вертова, должна заменить,
вернее, отменить все старые формы киноискусства. Она по-
зволит сделать достоянием нового зрителя самую жизнь,
в противовес «придуманным мелким переживаниям».
В 1923 году, на диспуте «Искусство ли кино?» Вертов
подтвердил свою позицию: «Продолжайте... если вам
угодно,, спорить — искусство ли кино или не искусство...
я еще раз вас убеждаю: путь для развития революционного
кино найден. Он лежит через головы киноактеров и крыши
1 Дзига Вертов. Мы. Вариант манифеста. «Кино-фот», 1922, № 1,
стр. 11.
2 Дзига Вертов. Кииоки. Переворот. «Леф», 1923, Xs 3, стр. 143.
ателье в жизнь».1 Фраза «через головы киноактеров и крыши
ателье» — вовсе не дань полемическому задору. Вертов стре-
мится к изгнанию, абсолютному и категоричному, актера и
павильонных съемок из кинематографии.
Возникает теория «неигровой» кинематографии, на не-
сколько лет ставшая центральной проблемой кинокритики.
Свою программу Вертов начал осуществлять в «Кино-
правдах» (первый номер вышел 5 июня 1922 года) и с каж-
дым новым фильмом уточнял ее, отстаивая метод «жизни
врасплох» как единственный, гарантирующий от фальсифи-
кации жизни. «.. .Мы снимаем только факты и вводим их че-
рез экран в сознание трудящихся. Мы считаем, что разъяс-
нить’мир, как он есть — и есть наша главная задача».* 2
Вертов был первым, кто поставил в кино вопрос о «доку-
ментальности» искусства. Но самая теория не была его изо-
бретением. У него были предшественники и единомышлен-
ники в других областях искусства.
Установка на факт в 1920-е годы принадлежала к числу
самых заметных и стойких. Наиболее яркое оформление она
получила в литературных теориях Лефа.
В основе теории Лефа лежал пролеткультовский нигили-
стический подход к культуре прошлого как к «организацион-
ному орудию изжитых исторически социальных систем». Со-
гласно утверждениям лефовцев, в буржуазном обществе ху-
дожник, будучи в полной от него зависимости, искажал дей-
ствительность в угоду этому, обществу. Он искажал ее и
в том случае, если придерживался прогрессивных взглядов,
потому что вынужден был прибегать к художественному
образу как к форме эзопова языка. Теперь же, в новом обще-
стве, по их мнению, отпала необходимость искажать реаль-
ный материал: для этого нет социальных причин. А так как
реальный материал обладает большей социальной и познава-
тельной значимостью, нежели любой художественный вымы-
сел, он и должен как таковой, без всяких изменений, стать
содержанием революционного искусства.
В поисках искусства совершенно нового, не имеющего ни-
какой связи с предшествующими его формами, сторонники
«факта» категорически отрицают творческую индивидуаль-
ность художника. Именно эта творческая индивидуальность
делает искусство «вымыслом», «фатально оболванивает
мозги, гасит интеллект, развязывает стихию инстинкта, уво-
дит от жизни, создает экзотику, т. е. небылицу.. .»3
27
*Дзига Вертов. Кино-глаз, радио-глаз и так называемый доку-
ментализм. «Пролеткино», 1931, № 4, стр. 12.
2Дзига Вертов. Ответ на пять вопросов. «Кино-газета», 1924,
№ 43/59, 21 октября.
3 С. Третьяков. С Новым годом! С «Новым Лефом»! «Новый
Леф», 1928, № 1, стр. 2.
Отрицание творческой индивидуальности художника со-
четалось с отрицанием человека как предмета художествен-
ного анализа. Факт понимается как событие, явление,
вещь, — в этой эстетической системе он одинаково противо-
стоит как психологии, так и художественному образу.
Обращение к факту было для Лефа одной из форм
борьбы за социально действенное, агитационное искусство.
«Агитационное действие романа в конкретных условиях де-
ревни,— писали они, — нельзя сравнить с описанием реаль-
ного события».1 Точность и достоверность жизненного мате-
28 риала лефовцы считали наилучшей формой агитации за
революцию, и чем более свободной от субъективности худож-
ника она представала, тем больше, с их точки зрения, была
сила агитационного воздействия произведения.
Рассматривая художественный вымысел не как форму от-
ражения и познания действительности, а как «наивные фо-
кусы» беллетриста, сторонники факта на деле, конечно, су-
жали и сферу искусства, и его агитационные возможности.
Социальные функции художественного обобщения теоретикам
Лефа оказывались неясны. Примером может служить хотя
бы рецензия О. Брика на фадеевский «Разгром», где автора
упрекали за «обобщения» — «героев и злодеев», вместо чего
ему следовало бы показать «живых людей, с которыми он
делал революцию». Категорическое требование документаль-
ности пришло в противоречие с развивающейся литературой
социалистического реализма.
Вместе с тем деятельность Лефа не определялась все-
цело его теоретическими ошибками. На избранном пути, хотя
суженном и ограниченном, его сторонники ставили и решали
ряд насущных для того времени задач. Неверно было отри-
цать необходимость учебы у классиков. Ошибкой было проти-
вопоставлять «традиционному» «Разгрому» Фадеева очерк и
репортаж, объявляя их единственно важными и нужными
формами искусства. Но особое внимание к этим жанрам при-
вело прозаиков Лефа к значительным достижениям на пути
создания художественного очерка, к обогащению и развитию
документального жанра.
Что же касается обостренного внимания к непосредствен-
ной действительности, то оно в первые годы революции было
особенно понятным, как понятна и потребность ощущать
себя не только свидетелями, но и активными участниками
строительства новой жизни, когда эта жизнь предстала бо-
гаче и интереснее любых ее художественных интерпретаций.
Последовательно проводя установку на факт, лефовцы не
ограничивают свои требования литературой. От живописи
1 В. Перцов История и беллетристика. «Новый Леф», 1928, № 8,
стр. 24. См. также: Н. Чужак. Литература жизнестроения. «Новый Леф»,
1928, № п.
они требуют того же реального материала, буквального ото-
бражения жизненных явлений. Но поскольку и живопись,
подобно литературе, пользуется пресловутым «эстетическим»
методом обработки материала, они отвергают ее. В 1924 году
сторонники факта приходят к убеждению, что живопись
должна быть заменена фотографией, ибо «фото — наиболее
точное и объективное средство фиксации факта.. »* Оста-
вался один шаг до кинематографа, дающего возможность
«фиксировать предмет не только в статическом состоянии, но
и в движении».1 2
2. Декларации и творчество Вертова находят у лефов-
цев полную поддержку. Не случайно одно из первых воззва-
ний режиссер печатает в «Лефе». Защитники факта стано-
вятся защитниками неигровой кинематографии.
Теория неигровой основывалась на тех же ниспроверга-
тельных началах, которые провозглашались в литературе и
живописи. Но здесь отрицание старого имело свои особен-
ности, обусловленные особенностями развития русской кине-
матографии.
Классическая литература и театр дали к этому времени
великие образцы психологического реализма. Отрицать пси-
хологический роман — значило отрицать Толстого и Достоев-
ского. Такая борьба была исторически бесперспективна. Пси-
хологическая драма в театре поддерживалась традициями
МХТ. Что же касается старой кинематографии, то подобного
в ее активе не было. Правда, в дореволюционном кино также
существовала психологическая драма. С ней связывали по-
нятие о реализме и методе Художественного театра в кино,
и ориентации на этот жанр была для русской кинематогра-
фии определенного этапа явлением прогрессивным. И все-
таки реалистический метод в дореволюционном кино суще-
ствовал лишь как тенденция. Она свойственна была в боль-
шей или меньшей степени отдельным режиссерам, но то, что
носило название «психологической драмы», было явлением
глубоко отличным от драмы Толстого или Чехова и, по-су-
ществу, оставалось лишь условным обозначением жанра.
О социальности же, которой проникнуто творчество великих
реалистов в литературе, и говорить не приходилось. Словом,
классического наследия, в общепринятом смысле, в кинема-
тографии не было. Борьба со старым была не только истори-
чески оправданной, но и необходимой.
Кинематография первых лет Советской власти находи-
лась в плачевном состоянии. На кинопроизводстве сказалась
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 1.
2 О. Б р и к. От картины к фото. «Новый Леф», 1928, № 3, стр. 29—30.
послевоенная разруха, 1921 год был самым непродуктивным
в истории советского кино.1 Работа частных кинофирм, раз-
вернувших деятельность в период нэпа, шла в русле тради-
ционной старой кинематографии с коммерческим уклоном.
В 1923 году журнал «Пролеткино» пессимистически воскли-
цал: «Советской кинематографии., в Советской Республике
на шестом году революции нет!»2
Единственным видом кинематографии, который существо-
вал, и не только существовал, — откликался быстро и непо-
средственно на события фронта и тыла и был носителем ре-
30 волюционной идеологии, — единственным жанром, который
представительствовал всю новую кинематографию в трудные,
для нее годы, — была хроника. Огромные возможности хро-
ники как пропагандиста достижений Советской власти среди
самых широких масс населения страны сразу, же оценил
В. И. Ленин: широко известны его указания, что именно
с хроники должна начаться новая кинематография.3 По-
этому обращение и внимание к ней молодых революцион-
ных художников было абсолютно оправданным.
Однако в возникающей кинотеории здесь произошло на-
рушение пропорций и перспектив. Вопрос о кинохронике на-
ложился на борьбу за факт в литературе и живописи и пред-
стал как часть этой борьбы.
Подобно теоретикам факта, Дзига Вертов в первой по-
ловине двадцатых годов провозглашает монопольность ки-
нохроники в убеждении, что это — единственный путь разви-
тия революционной, «социальной» кинематографии. Спорами
о сущности и роли хроники проникнут и объясняется весь
период противопоставления неигровой — игровой.
Коммерческая кинематография отождествляется защит-
никами неигровой с искусством вообще, и борьба с ней при-
нимает гипертрофированные формы. Эмоциональное в искус-
стве принимает облик «шикарных мужчин и элегантных жен-
щин», актер — странных «больших людей, приклеивающих
себе носы и в шести частях играющих в папу и маму.. .»*
По мнению сторонников кинематографии факта, искусство
воздействует на подсознание, отвлекает от реальной жизни и
развивает склонность к пассивному мечтательству. «Одур-
манить и внушить — основной метод воздействия кинохудо-
жественной драмы роднит ее с воздействием религиозного
порядка и позволяет некоторое время держать человека
1 См.: Н. А. Лебедев. Очерк истории кино СССР. Ч. I. Немое кино.
Изд. 2-е. М., «Искусство», 1965, стр. 143.
2 Почти тезисы. «Пролеткино», 1923, № 1—2, стр. 4.
3 См. замечание А. Луначарского: «Владимир Ильич сказал мне,
что производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идея-
ми, отражающих советскую действительность, надо начинать с хро*
ники...» (Луначарский о кино. М., «Искусство», 1965, стр. 40).
‘Дзига Вертов. Кино-глаз. «Кино-неделя», 1924, № 36.
в возбужденно-бессознательном состоянии...»1 Вывод де-
лается самый категоричный: «Нужно раз и навсегда выки-
нуть из картины всю ее романтику, всю ее психологическую
эмоциональность. Нужно совершенно откровенно говорить,
что в кинофильме мы не собираемся возбуждать ни радость,
ни печаль, что мы хотим показать нужные факты и собы-
тия».1 2
Вместе с эмоциональностью и актерским «жречеством»
отвергается и сценарий как «выдумка одного человека или
группы людей».3
3. В вертовской формуле «жизнь врасплох» все эти ху-
дожественные устремления собрались в единый фокус.
«Жизнь врасплох» предполагала точное отражение реально-
го материала, фотографически достоверную его копию. Эта
установка на информационность, регистрацию рейльно иду-
щих процессов сближала Вертова с режиссерами хроники
и в дальнейшем стала источником едва ли не общей
ошибки — отождествления вертовского фильма с хроникой.
К этому вопросу нам еще предстоит вернуться. Вторая часть
формулы — «врасплох» указывала и на методы работы Вер-
това: неприятие инсценировок, стремление воспроизвести
естественный ход событий в тот момент, когда участники не
знают, что на них направлен объектив кинокамеры.
Подробного теоретического обоснования своей позиции
Вертов не давал; в декларациях киноков больше эпатажа,
чем эстетических рассуждений. Но некоторые из единомыш-
ленников группы выступили с теоретическими работами.
К их числу принадлежал А. Ган, редактор журнала «Кино-
фот», где в 1922 году он приветствовал Вертова как союзника
и новую силу fl кинематографии, «свежего работника, который
не зацапан потными руками прекрасного».4
Последовательно проводя идею о кино как явлении су-
губо техническом, утилитарном, объективно фиксирующем
жизненные явления, Ган, по существу, являлся одним из ве-
дущих теоретиков конструктивизма, хотя претендовал на не-
сколько обособленное положение среди борющихся группи-
ровок. Его одинаково не удовлетворяли ни «правый», ни
«левый» фронт в искусстве, поскольку он ратовал за ликви-
дацию самого искусства.5 В 1923 году он уже стремится
1 Д э ига Вертов. Кино-глаз. Сб. «На путях искусства». М„ Про-
леткульт, 1926, стр. 214. (Статья написана в 1924 г.).
2 О М. Брик. Противокиноядие. «Новый Леф», 1927, № 2, стр. 28.
’ Дэига Вертов. Кино-глаз. Сб. «На путях искусства», стр. 222.
4 А. Г[а н]. Кино-правда (13-й опыт). «Кино-фот», 1922, № 5, стр. 6.
8 См. его статью: «Левый фронт» и кинематография. «Кино-фот»,
1922, № 5, стр. 3.
отделить себя и от Вертова и выпускает брошюру «Да здрав-
ствует демонстрация быта!», где излагает свою позитивную
программу. Его упреки «Кино-правдам» сводятся к тому, что
они берут жизнь с ее внешней, «парадной» стороны, остав-
ляя без внимания события, на первый взгляд мелкие, но
в которых, по его мнению, заключена самая суть обществен-
ных (человеческих) изменений в новом обществе. Ган при-
зывает вскрыть это глубокое социальное содержание быто-
вых конфликтов, сущность которых — в столкновении но-
вых, созданных революцией форм взаимоотношений между
32 людьми и тяготеющих над человеческой психологией старых
привычек и пережитков. Материал для наблюдения Ган
предлагает искать, например, в суде, в отделении мили-
ции,— стоит только заглянуть туда, «как на вас хлынет та-
кое обилие тем, что не хватит ни людей, ни аппаратов за-
фиксировать все это на пленке».1 Раз экономика определяет
сознание, то нужно брать эту экономику, где бы она ни была:
«в обеденной миске, на койках, в жилой площади», словом,
«от раннего утреннего пробуждения, через дневной водово-
рот труда и склоки, через вечерние часы свободного отдыха,
до поздней ночи». Все, вместе взятое, даст «грандиозное зре-
лище во всей его полноте и правде».
Теория А. Гана была одной из первых попыток поставить
кино на службу социологическому исследованию. Но эту со-
циологическую функцию кинематографа теоретик провозгла-
шает единственной, призванной отменить его эстетическую
сущность и вырвать кино из ряда «искусств».
Пытаясь реализовать свою программу, Ган сразу столк-
нулся с техническими трудностями. Состояние кинотехники
не давало возможности снимать быт таким образом, чтобы
невольные актеры не замечали присутствия кинокамеры и не
выходили из колеи «обычных поведений дня». Ган предлагал
явно нереальный выход, который тогда был воспринят иро-
нично: «научить натуру держаться перед аппаратом». Эта ого-
ворка уже указывала на внутреннюю неустойчивость таков-
ской теории, практически зачеркивая «жизнь врасплох».
Через год после выхода в свет книги, в 1924 году, Ган
создает агитфильм «Остров юных пионеров» — первый опыт
неигровиков по созданию полнометражного фильма и первая
попытка дать демонстрацию быта.
Критика отмечала, что картина — «наша», что она — «хо-
рошее противоядие против осточертевшей салонности бур-
жуазных фильмов.. .».2 Но в то же время, по единодушному
утверждению критики, Ган здесь отказался от метода
«жизни врасплох». В фильме были все элементы «искус-
1 Алексей Ган. Да здравствует демонстрация быта! М., Госкино,
1923, стр. 15.
2 Борис Гусман. «Юные пионеры». «Правда», 1924, 24 сентября.
ства», от которых его автор так рьяно открещивался: были и
сценарий, и режиссер, и актеры, которые, правда, не были
профессионалами (сами пионеры, их вожатые, беспризор*
ники), — но они выполняли явное режиссерское задание, и
делали это «иногда хорошо, иногда плохо».
В замысле фильм должен был показать создание первых
пионерских отрядов, медленное и трудное признание взрос-
лыми новой жизни детей, повседневный быт беспризорников
и пионеров. Но этот быт, события, которым автор по праву
придавал столь большое социальное значение, в картине по-
лучили отражение поверхностное и облегченное. В фильме
были отдельные эпизоды радостной ребячьей жизни, улыбки,
игры — «развеселое житье», которое критика не приняла как
быт в его глубоком значении.1
«Остров пионеров» тотчас поставил под вопрос теорети-
ческие посылки его автора. Если утверждение о социальной
и экономической обусловленности быта никем не оспарива-
лось, то возможность вскрыть эту обусловленность путем
простой регистрации разрозненных фактов начала вызывать
сомнение. И когда Ган с гордостью замечал, что в его
фильме «и не пахло духом всемогущего актерства»,1 2 радость
его была преждевременной, так как «искусство» и «актер-
ская игра» — не тождественные понятия.
Первый камень был брошен в Гана Дзигой Вертовым:
«Он (Ган. — Т. С.)... вовлекает в искусство ни в чем не
повинных юных ленинцев...» «Мы, конечно, предпочли бы
сухую хронику вмешательству сценария в быт и в работу
живущих на нашей планете людей».3 Это писалось в 1924 году.
Через два года Ган и Вертов вновь объединяются перед
новой «угрозой» художественной кинематографии, которая,
по их мнению^ стала теперь выступать, «гримируясь под ки-
нохронику» (такое обвинение предъявлялось прежде всего
Эйзенштейну). Вертов по-прежнему считает свой «кино-
глаз» знаменем «постепенно возрастающего движения за
воздействие фактами против воздействия выдумкой».4
Острие его полемики направлено, как и раньше, против
«актерского богослужения».
Несколько иначе выглядит позиция Гана. Споры между
конструктивистами и киноками отступают для него сейчас
на задний план. Оба течения «разными путями идут к одной
и той же цели: создать кинозрелище из бытового мате-
1 См.: Б. Гусман. «Юные пионеры». «Правда», 1924, 24 сентября;
Х[рисанф] X [е р с о н с к и й]. «Юные пионеры». «Известия», 1924, 24
сентября.
2 А. Ган. Да здравствует демонстрация быта1 «Пролеткино», 1924,
№ 4-5, стр. 18.
’Дзига Вертов. Ответ на пять вопросов. «Кино-газета», 1924,
№ 43/59, 21 октября.
* «Советский экран», 1926, № 15, сТр. 7.
33
риала».1 Но Ган не случайно называет свою новую про-
граммную статью «За организацию фактов жизни». До сих
пор, замечает он, с хроникой «связывался только один
прием — прием фиксации случаев, происшествий и событий
общественной жизни». Теперь сам он требует «крепких бы-
товых сюжетов», на которых конструктивисты и стремятся
«строить свои вещи». Трудно сказать, было ли это переоцен-
кой своего собственного опыта. Но к 1926 году вопрос об
организации снимаемого материала приобрел особую
остроту, и Ган, несомненно, откликается на выдвинутые вре-
34 менем проблемы.
Проблемы эти достигли особой остроты как раз в связи
с выходом на экраны вертовских фильмов.
4. Выпущенный в 1924 году «Кино-глаз» представлялся
Вертову реализацией принципа «жизни врасплох». На самом
же деле Вертов во многих случаях давал инсценировку.
Увлекшись техническими возможностями кинокамеры, он ли-
шил документальности те сцены, от которых больше всего
можно было ждать действительного показа жизненных явле-
ний. Так произошло с эпизодом, который должен был пока-
зать преимущество кооперативной торговли перед частной.
Фраза: «Кооператив получает мясо прямо с бойни» — иллю-
стрировалась, с помощью обратной съемки, показом посте-
пенного превращения куска мяса, лежавшего на прилавке,
в быка. «То, что 20 минут тому назад было быком... Воз-
вращаем быку его внутренности... Надеваем на него
шкуру... Бык оживает... В предубойной камере... В ва-
гоны ... Опять в стадо».1 2 В других случаях зритель получил
неорганизованный набор случайных моментов. Как на при-
мер такого рода обычно указывают на эпизод приезда пио-
неров из деревни в Москву. Во время съемок фильма в Мо-
скву привезли слона. На некоторое время слон занял вни-
мание режиссера и зрителя. Просыпающийся беспризорник,
кокаинист, пивная оказались привлекательным материалом
для режиссера, но не в плане разработки основной темы
фильма—столкновения нового со старым, а сами по себе.
Эпизод должен был наглядно демонстрировать метод объек-
тивной фиксации жизни. Но сцены, сохранившие в данном
случае абсолютную документальность, не будучи организо-
ваны, разрывали и без того непрочную скрепляющую фильм
нить, мешая следить за смыслом вещи.3 Как раз в этой серии
1 «Советский экран», 1926, № 15, стр. 6.
2 Цит. по кн.: Н. П. Абрамов. Дзига Вертов. М., Изд-во АН СССР,
1962, стр. 51.'
8 См., напр.: Вл. Ерофеев. «Кино-глаз». «Кино-газета», 1924,
Хе 43/59, 21 октября.
«Кино-глаза» усматривали водораздел между теориями Вер-
това и Гана и их практическим осуществлением.1 Но осо-
бенно ясно это почувствовалось в дискуссии, возникшей во-
круг фильмов Вертова «Шагай, Совет!» и «Шестая часть
мира» (1926).
Вопрос о жанровой принадлежности этих фильмов в со-
ветском киноведении можно считать решенным. Вертов да-
вал остропублицистическую, лирико-монументальную поэму.
Сейчас бесспорно, что в истории советского и мирового кино
эти работы Вертова сыграли выдающуюся роль. Значение их
признавала и современная критика. «Его (Вертова. — Т. С.) 35
стихия — монументальная поэма, построенная на материале
хроники... Вертов достигает своей цели. А победителей не
судят», — писал Г. М. Болтянский.1 2 «Песенность», «героич-
ность» фильмов Вертова тогда же отмечал и В. Б. Шклов-
ский, подчеркивая, что будущие авторы хроник «будут обя-
заны своей выдумкой выдумке мимо прошедшего Дзиги Вер-
това».3
Но, с другой стороны, вряд ли многие картины того вре-
мени вызывали столь ожесточенные споры. Если сам Вертов
насчитывал пятьдесят положительных рецензий на «Шестую
часть мира», то число критических было, пожалуй, не мень-
шим. Особенность кинокритики двадцатых годов в том и со-
стояла, что «судили» почти исключительно победителей.
Складывающаяся кинотеория напряженно разрабатывала
проблемы художественного метода и выразительных
средств; задача создания советской, новаторской кинемато-
графии была столь животрепещущей, что новые фильмы ин-
тересовали не столько сами по себе, сколько как повод для
теоретических выводов. Фильмы Вертова дали мощный тол-
чок к обсуждению проблемы соотношения «хроникальности»
и «художественности», выработке жанровых признаков, по-
искам сюжетных законов.
Не будем забывать, что советская кинокритика в первую
очередь была озабочена созданием остросоциальной, активно
воздействующей кинематографии, это в значительной мере
направляло и теоретические поиски.
Итак, первая проблема, возникшая в связи с фильмами
Вертова 1926 года, — проблема художественности и доку-
ментальности, выступавшая как часть вопроса об игровой и
неигровой.
1 См.: Н. Юдин. О направлениях, теоретиках, практиках и многом
прочем, что считается важным и значительным. «Пролеткино», 1924, № 6-
7, стр. 8.
2 Г. Болтянский. «Шестая часть мира». «Жизнь искусства», 1926,
№ 42, стр. 18.
9 В. Шкловский. Киноки и надписи. Газ. «Кино», 1926, № 44
(164), 30 октября.
В «Кино-глазе» Вертов разрушал документальность тех-
ническими трюками. В фильмах «Шагай, Совет!» и «Шестая
часть мира» таких трюков не было. И тем не менее критика
была единодушна — не в оценке картины, но в выводах, ко-
торые она сделала. Киноки переродились, отказались от
своих прежних методов, или, еще того хуже, никогда и не
стремились к показу «жизни как она есть», а занимались
художественным оформлением хроники.1
На этом сходились все — и «друзья» и «враги» Вертова.
Сообщая о дискуссии в АРК в связи с просмотром фильма,
36 И. Соколов отмечал, что некоторые из выступавших крити-
ковали картину «с точки зрения метода киноглаза и хро-
ники», О. Бескин, один из самых последовательных защит-
ников теории «факта», обвинил «Шестую часть мира»
в «эстетизации материала».1 2 В. Блюм усмотрел победу Вер-
това в том, что тот дал «бесспорный образец неигровой ху-
дожественной фильмы (не хроники!)».3 Все это было вовсе
не тем результатом, на который рассчитывал Вертов, претен-
довавший на создание как раз хроникального фильма.
Кадры в фильмах «Шагай, Совет!» и «Шестая часть
мира» были задуманы именно как хроникальные, информа-
ционные. Но критика единодушно утверждала, что эта инфор-
мационность в процессе создания картин была утеряна. От
хроники требовали закрепленности за определенным време-
нем, местом, лицом. «Говорящий Муссолини меня интересует.
А просто толстый и лысый человек, который говорит—пу-
скай он говорит за экраном», — писал Шкловский.4
Это не было критической придиркой, вылавливанием мел-
ких ошибок и случайных промахов. Критики, оценивавшие
фильмы Вертова с точки зрения собственных его деклараций,
по тем законам, которые признавал над собою сам худож-
ник, приходили к выводу, что вся система неигровой в вер-
товском понимании на практике оказывается полной самых
неожиданных внутренних противоречий. Эти противоречия
обнаруживались даже тогда, когда критики стремились под-
черкнуть достоинства новой работы Вертова. Измаил Уразов,
безоговорочно принимавший «Шагай, Совет!», писал: «Вер-
тов умеет найти нужную точку зрения: одну, другую, третью...
1 Хрисанф Херсонский. Борьба фактов, взглядов, идей и спо-
собов воздействия. «Кино-фронт», 1926, № 9-10, стр. 21. См. также:
А. Курс. Самое могущественное. М.—Л., Теакинопечать, 1927, стр. 47
и след.; Ипп. Соколов. «Шестая часть мира». «Кино-фронт», 1927,
№ 2, стр. 9.
2 О. Бескин. «Шестая часть мира». «Советское кино», 1926, № 6-7,
стр. 16.
8 В. Блюм. Новая победа советского кино. «Жизнь искусства», 1926,
№ 44, стр. 11.
* В. Шкловский. Куда шагает Дзига Вертов? «Советский экран»,
1926, № 32, стр. 4.
Он свяжет все в целое, даст то, чего хотел, смонтирует все
сам в вашем сознании. Отсюда и кирпичи постройки вяжутся
воедино с животом беременной женщины».1
Сам того не подозревая, критик наносил Вертову удар не
менее чувствительный, чем противники фильма. Он возводил
в достоинство то, что Вертов должен был бы считать смерт-
ным грехом — именно ассоциативность монтажных кусков.
Как раз эту особенность вертовских фильмов И. Соколов со-
вершенно справедливо считал показателем их принадлежно-
сти к художественной кинематографии. «В «Шестой части
мира» приемы монтажа взяты из художественной кинемато-
графии ... Монтаж деформирует факты. От перестановки
кусков меняется их смысл. Когда ночной Берлин монтируется
с «Шоколадными ребятами» (негритянская оперетта и джаз-
банд.— Т. С.), то это обычная для искусства «фальсифика-
ция фактов»: «шоколадные ребята» сняты в Москве, в Гое-
цирке».1 2 Монтажная перекомпоновка материала, к которой
прибегал Вертов, обнаруживала, что режиссер руковод-
ствуется в построении фильма художественным замыслом,
возникающим, правда, в процессе работы. Это отличало
фильмы Вертова от художественных, но отличие не было
принципиальным. Автор художественного фильма приступает
к съемке, имея уже, готовый замысел будущей картины, и
подчиняет ему материал. Так же подчинял его себе и Вер-
тов, вырывая факты из жизненного контекста, разрушая их
реальные связи, лишая причинно-следственной обусловленно-
сти и располагая их так, как диктовала ему художественная
задача целого. То, что при этом Вертов пользовался уже го-
товым материалом, не меняет дела по существу. Осуще-
ствлял Вертов этот план всей картины при помощи монтажа,
который стал ддя него основным методом работы.
Говоря о вертовском монтаже, прежде всего говорили
о его «литературности», показателем которой служила вертов-
ская надпись.
Надписям Вертов придавал особое значение в драматур-
гии фильма. Читаясь то как стихи, то как ораторская речь,
они были исполнены большого эмоционального содержания,
публицистичности, доходящей до пафоса, даже экзальтации.
Они призваны были установить контакт со зрителем, убедить
его, заставить почувствовать себя частицей того, о чем гово-
рил фильм, превратить зрителя из пассивного созерцателя
в активно воспринимающего то, что происходило на экране.
Надписи несли на себе и основную смысловую нагрузку.
Кадры монтировались «на надпись», которая цементировала
всю картину, создавая ее основной стержень, ее костяк.
1 Измаил Уразов. «Шагай, Совет!». «АРК», 1926, Хе 3, стр. 27.
2 Ипп. Соколов. «Шестая часть мира». «Кино-фронт», 1927, № 2,
стр. 9.
37
«Вы, купающие овец в морском прибое... и вы, купающие овец
в ручье... вы... в аулах Дагестана... вы... в сибирской тайге... вы
в тундре... на реке Печоре... и вы... свергнувшие в Октябре власть
капитала... открывшие путь к новой жизни... прежде угнетенным наро-
дам страны... Вы... татары... вы... буряты... узбеки... кал-
мыки. .. хакасы... вы, коми из области Коми... и вы, из далекого аула...
вы, на оленьих бегах... мать, играющая с ребенком... ребенок, играю-
щий с пойманным песцом... вы, по колено в воде... вы, прядущие
шерсть в горах... вы все... хозяева советской земли... в ваших руках
ШЕСТАЯ ЧАСТЬ МИРА».1
Этот кусок монтажного сценария читается как самостоя-
38 тельное литературное произведение, независимо от того, есть
ли он способ организации уже отснятого материала или часть
первоначального сценария. Важно, что в процессе создания
фильма надпись обособилась и подчинила себе зрительное
изображение. Без словесного сопровождения фильм Вертова
перестал бы существовать.
Более того, кадр не продолжал надпись и не раскрывал
ее — он ее дублировал. Поэтому так часто в рецензиях на
фильмы Вертова повторялось слово «диапозитив»:
«Когда мне дают надпись: ребенок, сосущий грудь, а по-
том показывают ребенка, сосущего грудь, я понимаю, что
меня повернули назад к диапозитивам».1 2
«К фразе (надписи), более или менее удачной, добавлены
диапозитивы».3
«У Вертова надписи, начиненные агитационным пафосом,
играют командующую роль. Кадры же являются лишь как
бы иллюстративным приложением к надписям, так же как это
имеет место в диапозитивах».4
Кадр существовал в фильме как отдельность, он был зам-
кнут в себе самом, и лишь надпись могла ассоциативно свя-
зать его со следующим. И. Соколов, посвятивший фильму
большую и интересную наблюдениями критическую статью,
дал, на наш взгляд, наиболее точное определение вертовской
организации материала. Это — организация словесного пе-
риода, обычного в эмоциональной ораторской прозе: перечис-
ление, сравнение, сопоставление. Критик попытался выделить
в каждой части фильма «Шестая часть мира» ведущий худо-
жественный прием. Первая часть построена на слове «Вижу»
с дальнейшим сравнением (фокстрот — машины, капитал —
рабы...) и перечислением (попы, фашисты, короли и т. д.).
Во второй части фильма — тот же прием; «узловым» здесь
является слово «Вы» («Вы, купающие баранов в морском
1 Цит. по кн.: Н. П. Абрамов. Дзига Вертов, стр. 90—91.
2 В. Шкловский. Киноки и надписи. Газ. «Кино», 1926, № 44
(164), 30 октября.
3С. Тимошенко. «Шестая часть мира». Мнения киноработников
о фильме. Газ. «Кино», Л., 1927, № 7, 15 февраля.
4 Д. Борисов. «Шестая часть мира». Газ. «Кино», Л., 1927, № 3,
16 января.
прибое...»—см. вышеприведенный кусок). Третья часть, даю-
щая «территориальный контраст», держится на словах «от —
до», «от Кремля» — «до китайской границы»... «от полярных
сов» — «До чаек на Черном море» и т. д.1 Н. П. Абрамов нето-
чен, утверждая, что у Вертова «кадры, которые шли после
надписей, не воспринимались как иллюстрации», ибо они «по-
этически, эмоционально углубляли авторскую мысль».1 2 Мы
можем принимать или не принимать мнения критики 1920-х
годов о фильмах Вертова, но факт остается фактом — кадры
его фильмов воспринимались почти исключительно как иллю-
страции. Не существовало в фильме Вертова и «музыкального
построения», поскольку не существовало внутренней законо-
мерности в движении зрительной темы. В фильмах Вертова
были лишь внешние признаки, позволявшие говорить о музы-
кальности— ритм и темп монтажных кусков.
Отношение к художнику, к специфическим режиссерским
приемам Вертова со временем было пересмотрено и уточнено.
Но в середине двадцатых годов резкое осуждение Вертова за
иллюстративность возникло совершенно закономерно и было
исторически абсолютно справедливо.
Экспрессивный публицистический монолог, который давал
Вертов в своих фильмах, шел вразрез с наметившейся как
раз в это время тенденцией к поискам внутренней обусловлен-
ности, целостности кинокартины, жесткой закономерности ее
сюжетного построения. Его опыт в сюжетном, композицион-
ном отношении мало что давал развивающейся кинематогра-
фии. При общей неразработанности принципов построения
фильма он выглядел не как открывание новых путей, а как
шаг назад — в сторону иллюстративности, статичности, от-
каза от медленно и трудно завоевываемых методов построе-
ния картины. Поэтому современная критика не могла и не
должна была поддерживать сюжетную аморфность и иллю-
стративность вертовских фильмов. Она со страстностью обру-
шилась на «отсутствие организации» в «Шагай, Совет!» и
и «Шестой части мира». Убеждение, что фильмам Вертова не
хватает сценария,— убеждение, продиктованное обостренным
вниманием к принципам организации материала в кино,—
разделялось большинством рецензентов. Когда В. Фефер пе-
чатно заявил, что «Шагай, Совет!» имеет то достоинство, что
не пользуется сюжетными приемами художественной кине-
матографии, и что «только железной организацией заснятых
фактов возможно было втиснуть в одну кдртину столь разно-
образный и значительный материал»,3 редакция журнала сде-
лала к статье примечание: «Придавая огромное значение ме-
тоду Кино-глаза, кладущего. в основу своей работы факт
1 Ипп. Соколов. «Шестая часть мира». «Кино-фронт», 1927, № 2.
2 Н. П. А б рамов. Дзига Вертов, стр. 91.
3 В. Фефер. «Шагай, Совет!». «Советское кино», 1926, № 2, стр. 13.
39
(в противовес анекдоту, выдумке)... редакция считает, что
принцип засъемки и монтажа фактов без действенно-сюжет-
ной их увязки не дает зрителю законченного представления
р работе Совета.. .»1 Речь шла, конечно, не о механическом
перенесении сюжетных приемов из художественной кинема-
тографии, а о выработке специфических форм. Многие кри-
тики Вертова отлично понимали, что вопрос ставится в прин-
ципиальной, теоретической плоскости, и иногда замечания
сторонников «факта» и «искусства» в этом отношении сближа-
лись. Вот что писал один из критиков, стоявший на позициях
40 игровой кинематографии. «.. .В момент волевого выбора ма-
стер игровой фильмы более последователен, чем кинок, и
в своем творчестве идет через и вопреки случайным и
хаотично существующим в жизни отдельным признакам
материала к максимальной его организации: т. е. художник
игровой фильмы умеет не только видеть, но он умеет, и не
отказывается внести в материал своей художественной кон-
струкции свою выдумку, свое мышление, культурный навык
дифференциации, расчленения, синтезирования, обобщения,
концентрации разрозненных в жизни элементов изображае-
мого явления: биологическое отношение к материалу кино-
ков— в игровой фильме заменяется социальным отношением
к материалу, т. е. в данном случае совершается доподлинно
творческий процесс».1 2 В этом важном высказывании постав-
лен вопрос о необходимости художественной концепции
произведения, которая внешне выражается в принципах его
построения и противостоит натуралистическим устремлениям
киноков. Обнаженная публицистичность вертовских фильмов
не удовлетворяет: идейная направленность произведения
должна сказываться, по убеждению большинства, не в ком-
ментарии титрами, а проникать всю художественную ткань.
Несколько более узко, но столь же остро и не менее убеди-
тельно ставил вопрос Шкловский: сюжет, говорил он, как
бытовая мотивировка кадров представляется кинокам чем-то
стоящим вне кинематографии. «Между тем сюжет — это
только частный случай конструкции».3 Другими словами,
отказываясь от бытовых мотивировок действия, необходимо
искать их эквивалент.
5. Осмысливая примененный Вертовым способ монтирова-
ния кадров и надписей, критика, естественно, пришла и к дру-
гому принципиально важному вопросу — к вопросу о худо-
жественном образе в вертовских фильмах. Ход мысли поле-
1 «Советское кино», 1926, № 2, стр. 13.
2 Арсен. Хиврин Променад. «Кино-фронт», 1927, № 2, стр. 15.
3 См.: В. Шкловский. Киноки и надписи. Газ. «Кино», 1926,
№ 44 (164), 30 октября.
мистов показывал, что монтаж в кино уже осознается не
только как техническое средство. Выдвинувшись на передний
план как определяющий элемент киноязыка, монтаж у Вер-
това стал выражением личного, авторского начала худож-
ника, средством передать его социальные и эстетические
взгляды. И специфика монтажной организации вертовских
фильмов обусловила собой специфику всех остальных эле-
ментов его художественной системы. В первую очередь это
касалось образности его картин.
Когда надпись у Вертова гласила: «Ты, уходящий в ледя-
ную даль...» и затем показывался кадр удаляющегося на лы-
жах человека, смысл кадра расширялся и определяющей
становилась его эмоциональная сторона, а информационное
значение отходило на задний план. Удаляющийся на лыжах
человек должен был олицетворять навсегда уходящее прош-
лое. Кадр с нэпманами, танцующими фокстрот, имел значение
«разлагающаяся буржуазия».
Критика это сразу отметила: «.. .Т. к. снятые... факты
должны были служить чрезвычайно общим понятиям, то не-
зависимо от их подлинного содержания они обращены в сим-
волы. ..»1 Ту же мысль высказывал и Соколов (о «Шестой
части мира»): «Кадры построены на расширении их смысла
при помощи надписей. Абстрактное слово по своему логи-
ческому объему гораздо шире всякого конкретного кадра.. .»1 2
«Вещь потеряла свою вещественность и стала сквозить, как
произведение символистов», — присоединялся к ним Шклов-
ский.3
Итак, разрушение документальности кадра приводило
у Вертова к его символизации, которую критика так же не
приняла.
Совершенно-'естественно, что там, где не хватало докумен-
тального материала, художественная система Вертова допус-
кала инсценировку. Кадр с «буржуазией» имел, как заметила
критика, чисто игровой характер. Какие-то элементы инсцени-
ровки были даже в «Кино-правдах», хотя там они терялись
среди подлинно хроникального материала. Шкловский ирони-
зировал: «В «Кино-правде» Дзиги Вертова, посвященной ра-
дио, я увидел в качестве крестьянина одного из помрежей
Вертова. А по «Правде» это был середняк».4 В этой шутке
был большой полемический заряд.
41
1 Хрисанф Херсонский. Борьба фактов, взглядов, идей и ‘спо-
собов воздействия. «Кино-фронт», 1926, № 9-10, стр. 21.
2 Ип п. Соколов. «Шестая часть мира». «Кино-фронт», 1927, We 2,,
стр. 9.
* В. Шкловский. Их настоящее. М.— Л., Кинопечать, 1927, стр. 64.
4 Виктор Шкловский. Гамбургский счет. Л., Издательство пи-
сателей в Ленинграде, 1928, стр. 179.
Полемическая заостренность рецензий объяснялась не
только простым непониманием революционного новаторства
Вертова (как это иногда пытаются утверждать в новейших
исследованиях) и даже не только проблемами эстетического
порядка.
Требование фиксации строительства новой действительно-
сти, повседневных изменений в стране, ее хозяйстве, быту,
культурной жизни — для себя, для истории — во многом опре-
деляло позицию защитников хроники. Тот же В. Шкловский,
который всячески поддерживал деятельность Вертова на пер-
42 вых ее этапах, в 1927 году восклицал: «Как мало и как
скучно снимали!.. В сегодняшние дни еще хуже. Нет Днепро-
строя. Нет порогов... Нет мелиоративных работ, между тем
в одной Воронежской губернии площадь новых прудов равна
половине площади озера Ильмень. Революция не снята весе-
лой, строительство не снято совсем... Время уходит у нас
сквозь пальцы».1
От Вертова ждали хронику, и фильмы его в этом смысле
оказались фильмами обманутых надежд.
Полемика вокруг центральных работ режиссера заканчи-
валась на негативных нотах.
Не будем, однако, спешить с окончательными выводами,
тем более что спор о кинематографических жанрах этим не
кончился, а, по существу, только начинался.
Своеобразный Колумб 1920-х годов, Дзига Вертов пу-
стился в путь на поиски обетованной Индии «чистого факта»
и нашел Америку — кинопублицистику. Повторив открытие,
он повторил и ошибку первооткрывателя. Он называл хрони-
кой то, что хроникой не было, а было чем-то новым, иным,
чего он и сам не понял и чье значение определилось десяти-
летиями позже. Современники Вертова оказались под обая-
нием его первоначальных идей. Идея «чистого жанра», в дан-
ном случае идея неигровой, возникшая в борьбе против преж-
него «актерского жречества», владела теоретической мыслью.
Этой жесткой схеме, выработанной в значительной степени
умозрительно, еще предстояло пройти проверку практикой, и
проверка эта проходила отнюдь не безболезненно. Не будем
забывать при этом, что и сама практика, в том числе и более
всего практика Вертова, возникала на основе и в русле
теоретических выкладок и что критическая борьба, иногда
несправедливая, иногда ошибочная, приводила к созданию
значительных художественных явлений и значительных до-
стижений в области кинематографической теории. Принципу
неигровой — как бы он ни изменялся и ни уточнялся в ходе
последующих дискуссий — суждено было наложить неизгла-
1 В- Шкловский. По поводу картины Эсфирь Шуб. «Новый Леф».
1927, № 8-9, стр. 54.
димую печать на всю раннюю советскую кинематографию и
кинотеорию, и каждый этап этой критической борьбы означал
преодоление и вместе с тем обогащение прежних понятий и
принципов по всеобщим законам диалектического отрицания.
Первый этап был связан с именем Вертова. Второй на-
чался тогда, когда в кругах создателей и энтузиастов совет-
ского кино впервые было громко произнесено имя Эсфири
Ильиничны Шуб.
6. Эсфирь Шуб к этому времени работала уже несколько
лет монтажером, перемонтировала хронику и иностранные ху-
дожественные ленты. Вопросы теории занимали ее мало, и,
в отличие от киноков, ее практические работы декларациями
не сопровождались. В 1926 году, накануне десятилетия Фев-
ральской революции, ей был заказан фильм о событиях тех
лет под названием «Февраль». Задача была сложной и новой.
О предварительной работе, которую пришлось проделать,
чтобы приступить к созданию фильма, рассказала впослед-
ствии сама Э. И. Шуб.
«Вот лежат передо мной найденные после тщательных
поисков списки хроник дореволюционной жизни России
с 1905 года и кончая первой империалистической войной.
В моих руках списки не только русских хроник, но и «Патэ»,
«Гомона», «Эклер», американские хроники. Отделения этих
фирм были в России. И, что является для меня неожидан-
ным,— узнаю: последний русский царь имел своего киноопера-
тора и много снимался. Но где эти хроники? Как их найти?
Что снято? Как получить доступ к обнаруженным в списках
хроникам?. -»1
Проверены были все московские и ленинградские архивы,
немало материалов оказалось в частных руках. В Ленинграде
найден был и личный архив Николая И.
Шуб просмотрела 60 тысяч метров найденной хроники,
многие кадры потребовали лабораторной обработки. Для
фильма отобрано было 5 200 метров, вошло в фильм — 1 500.
В 1927 году фильм под названием «Падение династии Рома-
новых» вышел на экраны страны.
Уже одна работа по розыску исторического хроникального
киноматериала была большим и важным государственным
делом. Эта работа не прекращалась и после того, как «Паде-
ние династии Романовых» было закончено. В процессе его -со-
здания отбирался и накапливался материал для следующего
фильма — «Великий путь», который Шуб готовила к 10-летию
Октябрьской революции. Фильм должен был показать на фак-
тах и документах первые десять лет существования Советской
43
1 Эсфирь Шуб. Крупным планом. М., «Искусство», 1959, стр. 90.
республики. Было выяснено, что часть хроник попала за гра-
ницу. Наводились справки, велись активные поиски, и в ре-
зультате был куплен у американского посольства «целый
ящик советских хроник». И среди них, пишет Шуб, «я вдруг
обнаружила негатив никому до сих пор не известных кадров
В. И. Ленина».1 Эти шесть уникальных кадров вошли затем
в фильм «Великий путь».
Таким образом, фильмы Шуб созданы были на основе
хроники. Единственные досъемки, которые позволила себе ре-
жиссер, были съемки исторических документов, газет и вещей.
44 Почти одновременно с фильмами Шуб к десятилетию Ок-
тября снимался фильм «Москва в Октябре» режиссера
Б. Барнета. Барнет подошел к своей задаче с иной стороны —
он задался целью восстановить обстановку в Москве в рево-
люционные дни 1917 года. В его руках не было хроникаль-
ных кадров; он снимал Москву через десять лет после собы-
тий, и от реального исторического материала, по ирониче-
скому замечанию С. Третьякова, в картине остались только
небо и булыжники.2 Барнет показывал участников событий,
но уже состарившихся на десять лет. Он вынужден был при-
бегнуть и к инсценировке, стилизуя отдельные кадры так,
чтобы они производили впечатление хроникальных.
Эти-то фильмы — Шуб и Барнета — и оживили начавшую
было угасать полемику вокруг хроникальной и художествен-
ной кинематографии.
7. Уже полемика вокруг фильмов Вертова заставила
спорящих несколько раздвинуть границы понятий игровой и
неигровой кинематографии. Происходило это помимо жела-
ния спорящих и не всегда осознанно. Прежде всего, оказа-
лось, что хроникальность не исчерпывает понятия «неигро-
вая», и что самая хроникальность — термин не слишком
определенный, допускающий различные толкования. Рецен-
зенты вертовских фильмов, как мы помним, приходили к вы-
воду, что Вертов утрачивает в кадре необходимую для хро-
ники временную и пространственную определенность и одно-
значность, что его фильм ничего не документирует, а иной
раз «сквозит», как символ. Вертов, напротив, до конца оста-
вался при убеждении, что он делает хронику. Во-вторых, ока-
зывалось не вполне ясно, что такое организация хроникаль-
ного материала в пределах фильма. Необходимость такой
организации казалась уже самоочевидной, но возникал во-
прос: каково же здесь будет соотношение между художест-
венным и внехудожественным методом работы и не яв-
1 ЭсфирьШуб. Крупным планом, стр. 92.
2 С. Третьяков, Кино к юбилею. «Новый Леф», 1927, Ns 10,
стр. 27.
ляется ли построение картины по единому, заранее обдуман-
ному плану чудовищным предательством по отношению
к принципу «жизни врасплох» и тайным сговором с художе-
ственной кинематографией. Истинная глубина и сложность
проблемы заслонялась одним-единственным вопросом — о хро-
никальное™ и не-хроникальности, о чистоте единого жанра
«неигровой фильмы», недифференцированного и тождествен-
ного «хронике». Ясным казалось одно — неигровая — это
прежде всего «флагрантный», то есть неискаженный, реаль-
ный материал.
Поэтому защитники кинематографии факта решительно
отвергли фильм Барнета, который был, по их выражению,
«контрадикцио ин адъекто» (противоречие в самом подходе),
ибо хроника и инсценировка были вещи несовместные. «Мо-
сква в Октябре» была объявлена «образчиком того, чего
не нужно делать не только к юбилейным дням, но и в по-
рядке текущей работы».1
Напротив, основную ценность фильмов Шуб видели в том,
что в них «нет ни одного фальсифицированного куска (каж-
дый вызывавший хоть малейшее сомнение кусок либо много-
кратно проверялся, либо отбрасывался совсем, во избежание
греха)...»* 2 Эти фильмы вызвали бурную приветственную ре-
акцию критики. Писали б «безусловном и высококультурном»
успехе. «После... фильмы зритель выходит не только нагру-
женный великолепным грузом фактов, но и заряженный по-
ложительными эмоциями»,— говорил С. Третьяков.
Это было совершенно справедливо, но как раз тут и воз-
никал повод для размышлений. Вряд ли зритель оказался бы
«заряженным положительными эмоциями», если бы посмот-
рел просто разрозненные куски старой царской хроники,
к тому же невыразительно снятой и плохо сохранившейся.
В какой мере можно было называть флагрантным мате-
риалом фильм, в котором хроникальные кадры, снятые в раз-
ное время и по разным поводам, были смонтированы в соот-
ветствии с единым и целенаправленным замыслом режиссера?
Шуб прибегла к методу монтажных сопоставлений. Она ста-
вит рядом кадры, изображающие крестьянина, надрывающе-
гося на пашне, и помещика, ковыряющего землю палкой,—
и создает зрительный контраст двух типов отношения к земле
и к труду. По такому принципу построены были наиболее
сильные куски фильма, приобретая яркую социально-полити-
ческую окраску.
Впервые на материале чистой хроники создан был фильм
такого острого публицистического звучания, и это справед-
ливо было воспринято как новая победа неигровой.
45
‘С. Третьяков. Кино к юбилею. «Новый Леф», 1927, № 10.
2 Там же, стр. 28.
Пересмотр прежних теоретических представлений теперь
становился неизбежным. Надо думать, что «чистая хроника»,
с которой работала Шуб, никак не имела в виду запечатлеть
«падение династии Романовых». Ленту с таким именно на-
званием и таким именно конечным выводом Шуб сделала
монтажным путем. Но ведь хроникальный материал, с точки
зрения защитников кинематографии факта, не допускал вме-
шательства, и монтаж такого рода должен был быть признан
не чем иным, как той же фальсификацией.
Эти вопросы и были в центре внимания специального со-
46 вещания, проведенного сторонниками кинематографии факта
после выхода фильмов Шуб.
Срочность этого совещания диктовалась серьезностью
«основной проблемы сегодняшнего киноспора об игровой и
неигровой фильме», спора, который Шкловский определял
как «сложный и болезненный».1
Все участники совещания, как и год назад, оставались за-
щитниками неигровой. Теоретически им было ясно — «доку-
мент» не допускает искажения, и в этом его сила. Но прак-
тика вносила коррективы, теория требовала уточнения. «Сей-
час, когда все наперерыв стремятся заявить о том, что они
«признают» неигровую картину, становится ясным, как мало
мы о ней знаем»,— признается В. Перцов.1 2
8. Совещание началось выступлением С. Третьякова, ко-
торый высказал точку зрения, сразу всеми отвергнутую:
«Мне представляется,— сказал он,— что казавшаяся чрезвы-
чайно резкой демаркация между «игровой» и «неигровой»
является очень относительной».3
Каждый следующий пытался доказать обратное. Но дока-
зательства рождали новые вопросы.
Отправной точкой для рассуждения В. Перцова послу-
жили два игровых фильма — «Ухабы» А. Роома и «Кружева»
С. Юткевича, которые, как ему кажется, «наметили новый
этап в советской художественной ленте». Новое заключается
в том, что они, как и «почти все вновь поступающие, так на-
зываемые бытовые сценарии, включают в себя показ завода
или какого-нибудь производственного процесса».4
Действие фильмов Роома и Юткевича действительно про-
исходило на стекольном заводе («Ухабы») и на кружевной
фабрике («Кружева»). Показ производственных процессов
1 Леф и кино. Стенограмма совещания. «Новый Леф», 1927, № 11-12,
стр. 56. .
2 В. Перцов. «Игра» и демонстрация. «Новый Леф», 1927, № 11-12,
стр. 33.
? «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 54.
* Там же, стр. 39.
никак не являлся основной задачей этих фильмов, но он
в них присутствовал — в меньшей степени у Юткевича,
в большей — у Роома, где каждая часть картины начиналась
с показа работы стеклодувного цеха.
Но для критика здесь важна сама тенденция. Для него
важно то, что художественная кинематография стала широко
использовать «реальный материал», то есть материал не-
игровой.
Эту тенденцию участники совещания признали как факт,
но отнеслись к нему по-разному.
Самый последовательный противник игровой кинематогра- 47
фии Осип Брик этот факт радостно приветствует. Для него
он — явное подтверждение того, что художественная кинема-
тография доживает последние дни. Она гибнет под натиском
реального материала, его силы, всеобщей в нем заинтересо-
ванности. «Художественной кинематографии становится все
труднее выдумывать такие зрелища, которые могли бы пере-
шибить занимательность реальных событий...», и хотя «есть
еще способы поднять активность художественного зрелища,
есть еще возможности, неиспользованные художественной ки-
нематографией, но любопытно, что эти вспомогательные сред-
ства главным образом берутся из запаса реальных фактов».1
Таковы впечатления Брика.
Большинство держится иной точки зрения. Для них ис-
пользование игровой кинематографией реального мате-
риала— просто порча этого материала. «Мелодрама забивает
^материал». Это значит, что художественная лента, пользуясь
«документом», не выявляет его истинного содержания, не ис-
пользует его по назначению; она настолько трансформирует
этот реальный материал в угоду сюжетной схеме кинодрамы,
что он теряет свою ценность документа времени.
В качестве выхода из положения один из участников со-
вещания предложил «перевести всю аудиторию на хронику».
«Мы должны настаивать на том, чтобы вся наша ’ кинемато-
графия, в отличие от западной, взяла курс на производствен-
ную фильму».1 2 Это было возвращение к старому лозунгу:
«Долой художественную кинематографию!»
Основная часть критиков такого вывода, однако, уже не
делает. Их полемика тоньше. Эта группа и с Бриком не спо-
рит — она смотрит на вещи с другого конца. Послушаем их:
В. Шкловский. «Есть такой человек Брагин, который
говорит, чтобы снимали хлеб, а сам начинает сюда вкатывать
любовь. Только что разговор шел о ржи, теперь ее отправ-
ляют в Лондон. Надо и эту парочку отправить тоже в Лон-
дон. Ничего не получается... Также... со Стенькой Разиным.
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 46.
2 Там же, стр. 67.
Он был на Дону, в Москве, в Астрахани, Персии и опять
в Москве, и я должен всюду за ним женщину таскать. Это
так глупо, так никому не нужно...» 1
С. Третьяков. «Туда, где берут неплохой, подчас, ма-
териал и стряпают из него экзотику, сантимент, оперу —
с особой силой должен обрушиться наш удар...»2
В. Перцов возвращается к «Ухабам». Если,— говорит
он,— из них вырезать сюжетные куски, то из остатка можно
сделать очень толковую короткометражку «Производство
стекла». Только к фильму-то это отношения не имеет, и его
48 сюжетная часть тоже нисколько не пострадает, если ее осво-
бодить от производетвеных кусков.3
Позиция этой группы очень интересна. Критики направ-
ляют свой удар уже не против художественной кинематогра-
фии в целом и даже не против использования ею реального
материала, а единственно — против его неправильного ис-
пользования.
Примером правильного использования такого материала
Перцов считает немецкий художественный фильм «Варьете»,
(реж. Э. А. Дюпон, 1925), мелодраму из жизни артистов
цирка с Эмилем Яннингсом в главной роли. Сторонник неиг-
ровой, защищающий мелодраму — несколько лет назад это
было бы чудовищным парадоксом. Но сейчас критику важно,
что «производственная часть» — цирк — в фильме необходима
драматургически. Судьбы героев здесь не существуют вне их
профессии, ею обусловлено развитие сюжета, поступки дей-
ствующих лиц и, соответственно, на нее направлено внимание
зрителей. Игровая и «производственная» части спаяны
в фильме органично и неразрывно. У нас же, говорит он,
«в лучшем случае показ героя на производстве с драматур-
гической стороны имеет значение как социально-классовая
характеристика героя (рабочий такого-то завода, такой-то
профессии)».
Отсюда следует важный вывод: «Наши режиссеры оста-
навливаются на полдороге, не умея превратить... реальный
материал в эстетически-игровой.. ,»4
Таким образом, наметился первый отход защитников неиг-
ровой от взгляда на нее как на нечто единообразное. Часть
«реального материала» пришлось отдать игровой кинемато-
графии при условии «правильного» с ним обращения, то есть
подчинения законам художественного кино.
Так произошло формальное признание художественной
кинематографии, а идея «чистой неигровой» получила первый
удар.
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 57.
2 Там же, стр. 54.
3 Там же, стр. 40.
। * Там же, стр. 39.
9. Судьбы художественного кино сами по себе мало за-
ботили участников совещания, собравшихся, чтобы решить
насущные проблемы «неигровой фильмы». Однако к его
опыту — скрыто или явно — обращаются почти все участники
дискуссии. Оказывалось, что сила воздействия на зрителя ре-
ального материала, как такового, — отнюдь не аксиома. Не-
игровая лента «скучна», она «меньше всего заботится о зри-
теле», и зритель платит ей тем же равнодушием. Возникав
вопрос: как «добиться эмоционализации, возбуждения людей
материалом реальной действительности»?1
«Среди многих кинематографистов,— говорил Перцов,—
распространено представление, что неигровая лента не мо-
жет и не должна ставить своей задачей дать зрителю эмо-
циональную зарядку. Эмоциональное воздействие считается
почему-то свойственным только художественной картине».
Это «почему-то» не- возникло бы два года назад, но сейчас
сторонники факта, продолжая оставаться глашатаями агита-
ционного искусства, не могут уже не считаться с тем, что
художественная кинематография владеет секретом увлекать
зрителя, далеко оставляя за собой в этом отношении кинема-
тографию факта, за которую все они так болели. И коль
скоро само художественное кино не считает зазорным учиться
у других искусств, и в том числе у хроники,— продолжает
далее Перцов,— нужно не бояться идти по ее следам. «Нам
нечего быть чистоплюями. Нужно драматизировать материал
в пределах неигрового принципа».
Но что значит «драматизировать»? ..
И здесь мы возвращаемся к главному вопросу совеща-
ния — о факте и монтаже, то есть — по общему признанию —
к «совершенно необследованной проблеме композиции реаль-
ного материала».
В свое время как раз эта проблема — организации фактов
вставала и перед Вертовым, и перед апологетом «жизни как
она есть» А. Ганом. Как и раньше, конечной целью такой
организации остается воздействие на зрителя.
С точки зрения Брика, правильно уловившего тенденцию
мирового искусства к реальному, невыдуманному материалу,
способом такого воздействия будет минимальное искажение
материала. «Прежде всякое искажение, всякий тенденциоз-
ный отбор материала рассматривался как необходимое усло-
вие художественного творчества, как плюс. Теперь именно
это искажение, этот тенденциозный отбор рассматривается
как недостаток метода, как минус».1 2
Напрашивался вопрос: возможно ли создание подчеркнуто
агитационного искусства при отсутствии тенденциозного
49
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 52.
2 Там же, стр. 49—50.
3 Т. Ф. Селезнева
отбора материала? В какой зависимости оказываются требо-
вание активного воздействия на зрителя и установка на
неприкосновенность факта?
Год назад, анализируя фильм Вертова, Шкловский писал:
«Хроника нуждается в надписи, в датировке... Я хочу знать
номер того паровоза, который лежит на боку в картине Вер-
това». Год назад он возмущался, что Дзига Вертов «режет
хронику»?
Но год назад еще не было фильмов Шуб. Сейчас реальная
практика кинематографа поставила теоретиков лицом к лицу
50 с довольно сложными проблемами, и Перцову, который те-
перь анализировал фильм Шуб, приходилось труднее.
В «Великом пути» есть кусок, где кадры капиталистиче-
ской биржи перебиваются крупными планами биржевого ко-
роля Рокфеллера.
Действительно ли это та биржа, где владычествует Рок-
феллер, или, может быть, какая-то другая? С точки зрения
«чистого» документализма вопрос закономерен. Но беда
в том, что сам режиссер этого не знает и знать не может.
В его руках были лишь кадры из старых лент, и, быть может,
эти сцены и не выдержат строгого источниковедческого эк-
замена.
Второй, уже знакомый нам пример — кадры помещика и
крестьянина в «Падении династии Романовых».
«Выставляется требование,— говорит Перцов,— чтобы по-
мещик ковырял именно ту землю, которую обрабатывает
крестьянин, и чтобы данный крестьянин находился в эконо-
мической зависимости именно от данного помещика. Иначе
какой же это «факт»!»
С точки зрения достоверности факта оба требования, ка-
залось бы, справедливы. Но в 1927 году они представляются
критику «прямолинейными», потому что монтажная задача
этих кусков — «воздействовать на зрителя в определенном
направлении» — ив этом основная их ценность. «Если же
верно,— разводит руками Перцов,— что монтаж лишает
куски их документального значения, то этот вывод для неиг-
ровой фильмы является убийственным».1 2
Итак, документальность в прежнем понимании, неприкос-
новенность единичного факта приносится в жертву ради смы-
словой и эмоциональной задачи фильма.
Вот Рокфеллер добродушно улыбается на экране. «Может
быть, <он> в момент съемки считал себя благодетелем че-
ловеческого рода, может быть, за минуту перед тем он спас
кого-то от голодной смерти, но все эти' достоверные факти-
ческие моменты не существенны». Значение куска «Рокфел-
1 «Советский экран», 1926, № 32, стр. 4.
2 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 34.
лер — биржа» «в том и заключается, что он — биржевой ко-
роль». Именно такое значение куска критик называет объек-
тивным. Отсюда,— говорит он,— и эмоциональное воздей-
ствие, которое возникает от контраста: благодушная улыбка,
а лицо — высохшее, «напоминающее рисунок в анатомиче-
ском атласе», этакая «страшная маска». Вот он — один из
«королей республики»!
«Объективно-достоверное значение куска может не совпа-
дать с той частной конкретной достоверностью, в условиях
которой он был заснят».1
Эти выводы, к которым приходит Перцов, наглядно по-
казывают, какой шаг вперед сделала кинокритика и кино-
теория со времени первых вертовских деклараций. Изме-
няется и уточняется самое понятие факта. Его достоверность
в прежнем смысле оказывается уже недостаточной,— он дол-
жен давать не только внешнее описание предмета или собы-
тия, но и вскрывать и его внутренний, глубинный смысл; он
должен показывать не разрозненные явления, но и отноше-
ния между ними.
Брик тоже признает это. Он уточняет свою позицию —
и очень существенно. Оказывается, что заснять, например,
советский Кавказ «может только политически образованный
человек, человек с очень точным знанием установки .того,
что он хочет снять»; оказывается, что «если бы нам сказали,
чтобы мы показали Николая I таким, каким он был, а неко-
торые говорят, что он был не так плох, то мы не стали бы
этого делать». И Брик формулирует вывод: «вопрос в том,
с какой целью снимать».1 2
Таким образом, подчеркиваются две проблемы первосте-
пенной важности: проблема отбора материала и его органи-
зации.
Теперь критикам приходится вернуться несколько назад
и по-новому взглянуть на работы Вертова, которого упрекали
за отсутствие частной конкретной достоверности кадра. Те-
перь Перцов признает, что «Шестая часть мира» «является
героическим усилием выскочить из традиционных рамок пло-
ского, психологически необязательного предъявления фак-
тов».3
Спор, начавшийся декларациями киноков, подходил
к концу. Можно сказать, что в нем не было победителей или,
лучше, не было побежденных. Из неудач, ожесточенной
борьбы, достижений, срывов и ошибок рождалась некая
истина, и она-то становилась важным достижением теорети-
ческой мысли двадцатых годов, имевшим серьезное значение
и для последующей практики советского кино.
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 35.
2 Там же, стр. 63.
3 Там же, стр. 41—42.
51
Участники дискуссии подходили к вопросу, который
в свете тогдашних взглядов на принципиальные основы кино
представал как самый важный, острый и болезненный. Это
был вопрос о том, где же все-таки проходит демаркационная
линия между игровой и неигровой.
Со стороны могло бы показаться, что для участников
спора наступал период универсального скептицизма. Это было
не совсем так, но факт оставался фактом — пересмотру под-
вергались самые основы^ казалось бы, незыблемо установлен-
ных понятий. Еще несколько лет назад мало кто решился бы
52 спорить с тем, что неигровая кинематография — это кинема-
тография без актерской игры. Сейчас возникал вопрос, что
считать игрой. Понятие расширялось; под словом игра стали
понимать и искусственно созданные, не флагрантные ситуа-
ции. В основу теоретической дискуссии ложилось подсказан-
ное практикой понимание реального и нереального материала.
Игра могла существовать без актера, и это было не сов-
сем парадоксом. Игру создавал режиссер. Еще два года
назад, в 1925 году, В. Пудовкин, работая над фильмом «Ме-
ханика головного мозга», пришел к убеждению, что «нигде
не становится такой ясной ограниченность приемов киноков,
как на съемках именно этого материала «из жизни».1
Такого рода вопросы возникали в дискуссии на каждом
шагу.
В. Жемчужный рассказывал о немецком фильме из жизни
пчел. Снимаются пчелы в разные периоды их жизни. Подме-
чают те моменты, которые нужны, и их снимают. Можно ли
назвать эту ленту игровой? — спрашивал Жемчужный.— Ти-
пично игровая,— отвечал Шкловский.
Нужен был новый термин для обозначения этой режиссер-
ской «игры» в научном и производственном фильме. Термин
появился. Он принадлежал Перцову. Возникло слово «демон-
страция».
Перцов приводит эпизод из съемок фильма «Нефть»
Н. Лебедева и А. Литвинова. Съемочная группа попала
в затруднительное положение. Нужно было снять сцену по-
жара нефтяной вышки. Если бы режиссер прибегнул к после-
довательному методу «жизни врасплох», ему нужно было бы
поселиться на промысле и ждать, пока «повезет», то есть
вышка загорится, либо, во имя реальности, самому ее под-
жечь. Вышли из положения проще: подожгли отработавшую
вышку, пожар тушили по всем правилам, и хоть он был
«ненастоящий», в фильме это значения не имело.
То же самое, по мнению Перцова, происходит и с «чело-
веческим материалом». В научном фильме Геники «Утомле-
1 В. Пудовкин. Монтаж научной фильмы. «АРК», 1925, № 9,
стр. 10.
ние и борьба с ним» тема утомления раскрывалась на при-
мере работы машинистки. Нужно было показать, как в тече-
ние рабочего дня увеличивается количество ошибок при пе-
реписке' текста. Ученый, под руководством которого делался
опыт, нарочно заставлял работать регистрационный аппарат,
вообще проявлял более бурную деятельность, чем это тре-
буется в нормальных условиях его исследовательской ра-
боты. Но, «если бы заснять ее «врасплох», то зритель ничего
замечательного не увидел бы и не разобрался бы в том, что
ему показывают».1
Другими словами, «демонстрацией реальных процессов»
.Перцов называл предварительную подготовку той ситуации,
которая будет отснята в научном и производственном фильме.
Такая демонстрация является, по его мнению, «совершенно
необходимой и не имеет ничего общего с инсценировкой».
Инсценировка же у него предполагает актерскую игру, и
в неигровой недопустима.
Перцову возражал Третьяков. Он тоже пытался найти ли-
нию разграничения игровой и неигровой, и с этой целью пред-
лагал разделить материал на группы, по степени его «иска-
жения».
Самым объективным будет материал флагрантный, то есть
снятый «врасплох». Но съемка врасплох не всегда возможна.
Приходится прибегать ко второму способу, который он назы-
вает «подмоченный флагрант».
«Я снимаю дровосека,— поясняет он,— не во время ра-
боты. Я привожу его к дереву, выбранному мною, и говорю:
«рубите это дерево», а затем снимаю».
При такой съемке присутствие кинокамеры обязательно
будет влиять на поведение снимаемого человека, он не будет
чувствовать себя абсолютно естественно, и потому материал
будет искажен,“хоть и немного.
Эту сцену с дровосеком, этот «подмоченный флагрант»
Третьяков называет инсценировкой.
Позиции спорящих сторон, по существу, не отличались
друг от друга. Спор как будто шел о словах; дровосек не был
актером; он не играл, а работал. «Инсценировка», по Третья-
кову, укладывалась в понятие «демонстрации», по Перцову,
и наоборот. Но Перцов продолжал возражения. Он привел
теперь пример из игровой ленты. Актер должен был играть
роль офицера в фильме «Леон Кутюрье». Для того, чтобы
свободно чувствовать себя в офицерском костюме, он на-
чал носить его задолго до съемок фильма, то есть «прошел
учебу офицера». Но, полагает критик, «эта учеба необходима
была ему для того, чтобы лучше обмануть зрителя в том, что
перед ним настоящий белогвардейский офицер». «В случае
53
1 «Новый Леф», 1927, Ns 11-12, стр. 38.
с дровосеком,— заключает он,— мы имеем неигровой, демон-
страционный материал, в случае с актером-«офицером» —
эстетический материал...»1
Здесь вставляет реплику В. Шкловский: «Когда снимали
«Фредерикус Рекс»,1 2 собрали две тысячи человек, дали им
подлинное оружие, два месяца держали в казарме и учили.
Когда их выпустили на съемку, они взяли оружие и заняли
станцию. Они вошли в роль...»3
Пример был почти анекдотичен, но в нем действительно
стиралась грань между игровой и неигровой. Дискуссия ухо-
54 дила в песок; достигнуть столь желанного общеобязательного
определения было невозможно.
И не только невозможно, но и не нужно.
Если бы участники пришли к искомому соглашению, то
значение спора было бы бесконечно меньше, нежели при до-
стигнутом нулевом результате. Он отражал реальное положе-
ние вещей и более того — историческую тенденцию. Ошибка
заключалась в том, что изначала определялись два понятия.
Их было больше, и каждый из участников спора, так или
иначе, осознанно или неосознанно, подходил к этой истине.
Когда Перцов приводил в пример кадр из фильма «Вели-
кий путь», где Дыбенко, смущенный, то мрачно-серьезный,
то улыбающийся, «позировал» перед направленным на него
аппаратом у входа в Смольный в 1917 году,— было ли это
примером «обесценивания хроникального значения кадра»?
Конечно, нет. Об этом говорила и Э. Шуб: «.. .Мы хотим
снимать сегодняшний день, сегодняшних людей, сегодняшние
события. Будет ли .. .Ленин плохо или хорошо играть перед
аппаратом и будет ли это момент игры, нас это совершенно
не беспокоит. Нам важно, чтобы аппарат заснял и Ленина
и Дыбенко, если даже они не умеют демонстрировать себя
перед аппаратом...»4 ►
В самом деле, ценность и специфика хроникальных за-
съемок — в их исторической достоверности, и в жанре, хро-
ники совершенно безразлично — будёт ли снят материал
«врасплох» или это будет «подмоченный флагрант». Задача
хроники — «установить тождество» лица или события.
Однако «кино не есть только художественная фильма и
хроника, но кино является исключительно важным средством
и в области научного исследования, и в области вообще по-
знавания человеческой деятельности».5 Речь, таким образом,
шла о жанрах, которые сейчас мы относим к научно-популяр-
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 60.
2 «Фредерикус Рекс» (1921—1922)—двухсерийный немецкий фильм
режиссера А. фон Черепи.
3 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 62.
4 Там же, стр. 58.
5 Там же, стр. 59. *
ному кино и в которых изменяется удельный вес «демонстра-
ции» и «игры». В производственном, научном (то есть, по на-
шей терминологии, научно-популярном) фильме «демонстра-
ция» не только допустима, но и необходима. При этом очень
характерно, что дискуссия 1920-х годов, яростно отрицавшая
актера, как раз здесь приоткрыла для него лазейку. «Демон-
страционный материал неигровой ленты может сниматься
в ателье, причем очень широко может быть использован
прием условных декораций-макетов».1
Это высказывание было почти кощунством в устах после-
довательных сторонников реальности, флагрантности мате-
риала. От «демонстрации» такого рода до признания инсце-
нировки был исчезающе малый шаг. Жанр начинал осозна-
ваться как близкий игровой кинематографии.
Так в ожесточенных спорах под влиянием кинематографи-
ческой практики киномысль, по существу, приходит к отказу
от прежнего деления кино на «игровое и неигровое». Место
его занимает новое, жанровое деление. Новые жанры рожда-
лись медленно и трудно,— так же медленно и в муках рож-
далось и их осознание и осмысление. Важно было то, что
теория и практика почти не отставали друг от друга.
, В этом было серьезное историческое значение дискуссии,
окончившейся ничем.
И, быть может, значение ее станет для нас еще более
явным, если мы прислушаемся еще к одному высказыванию:
«Задача «неигровиков» прийти к флагранту, материалу, за-
хваченному врасплох... Устанавливая программу максимум,
мы скажем: подавайте нам «кино-глаз», «жизнь врасплох»
и т. д..Но поскольку у нас есть требование возбуждения эмо-
ционального, постольку мы работаем методом монтажа ат-
тракционов, постольку у нас должны быть руки развязаны
для воздействия на зрителя, нам придется брать и другой
вид материала, может быть придется отстаивать и инсцени-
ровочный материал, то есть работать методами Эйзен-
штейна».1 2
С. Третьяков, произнесший эти слова, признал, таким об-
разом, еще один жанр — кинопублицистики, открытый Дзигой
Вертовым и обогащенный С. Эйзенштейном. Задача актив-
ного, то есть агитационного воздействия на зрителя сохраня-
лась,— вернее, никогда не исчезала, откуда бы ни приходило
ее решение — от «флагрантной» хроники или еретического
«игрового» кинематографа.
1 «Новый Леф», 1927, № 11-12, стр. 38.
2 Там же, стр. 53—54.
ТРЕТЬЯ
“ ЛЕВ КУЛЕШОВ
4 И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
* ДРАМА
1. Психологизм и новое искусство — две вещи несовмест-
ные,— таково было мнение молодых революционных худож-
ников, в том числе, если не прежде всего, кинематографистов.
С психологией непременно ассоциировались воспоминания
о душераздирающих дореволюционных кинодрамах, их болез-
ненность, излом, «вакханалия черных орхидей, лиловых нег-
ров и экзотических неврастеничек» — то «упадочное», то «ко-
выряние в душе», что подавляло и размагничивало, дёлало
человека пассивным, «оболванивало»,— по выражению Вер-
това. «Мы воюем с психологическим кинематографом»,—
провозглашал А. Ган.1 «Ориентация на психодраму в 6 ча-
стях. .. ориентация на свой собственный зад...»,— уточнял
Дзига Вертов.1 2 Русская «психологическая» драма ложна с на-
чала до конца. Она лжет одновременно и кинематографии и
жизни,— такова была и позиция Льва Кулешова.3
Кулешов всегда считался отцом нового поколения кинема-
тографистов, пришедших в кино вместе с революцией. Почти
«патриарх» новаторов художественного кинематографа. Пер-
вый из них, занявшийся кинематографической азбукой. Автор
первых сознательных монтажных опытов. Один из первых
теоретиков нового кинематографа. «Теоретику» было 18 лет,
когда он выступил с первыми творческими декларациями,4
что не помешало им занять серьезное место в развивающейся
советской кинотеории. В 1922 году, когда советской кинема-
тографии практически еще не существовало и еще в силе
был спор «искусство ли кино?», Кулешов уже публикует
главы из своей книги.5 6 Наконец, Кулешов — первый, вернее,
единственный среди своих молодых товарищей кинематогра-
фист-профессионал, изучивший на практике кинематографи-
ческое ремесло еще в дореволюционную пору, прошедший
хорошую школу у Е. Ф. Бауэра, бывший декоратором, акте-
1 Алексей Ган. Мы воюем. «Кино-фот», 1922, № 3, стр. 8.
2 «Леф», 1923, № 3, стр. 136.
3 См., напр., Лев Кулешов. Наш быт и американизм. «Кино-га-
зета», 1924, № 17-18.(33-34), 23 апреля.
* См.: «О задачах художника в кинематографии». «Вестник кинемато-
графии», 1917, № 127; «О сценариях». Там же.
6 Книга «Искусство кино» вышла в 1929 г. с подзаголовком «Мой
опыт».
ром и снявший свою первую самостоятельную работу
(«Проект инженера Прайта») в 1917 году.
Поиски, достижения и просчеты Кулешова многократно
анализировались, и хотя тот факт, что начало его творческой
деятельности было исторически значительнее ее завершения,
ни для кого не является секретом, значение и место его
в истории советской кинематографии, кажется, сомнения не
вызывают.
Все это истина, и если мы возвращаемся к ней, то для
того, чтобы обратить внимание на некоторые особенности
творческой биографии Кулешова, которые могут уточнить и
несколько расширить наши представления об общем процессе
развития советского кино в двадцатые годы и о роли Куле-
шова в этом процессе.
В 1933 году один из крупнейших советских кинокритиков
М. Ю. Блейман написал статью «Человек в советском
фильме».1 Статья эта — умный, глубокий и интересный ана-
лиз движения советской кинематографии и обобщение ее
опыта как он сложился к началу звукового периода кино.
О Кулешове в этой статье сказано: «.. .нужно отвлечься
от фетишизма и понять, .. .что совершенно неосновательно
было зачислять в кинематографические новаторы Кулешова,
который всегда был эпигоном американской кинематогра-
фии».1 2
Основные положения и выводы статьи мы сейчас анализи-
ровать не будем. Нам важна здесь пока только характери-
стика Кулешова и попытка «отобрать» его у новаторов. Во
внешнем подражательстве американской кинематографии Ку-
лешова обвиняли часто, но точка зрения авторитетного кри-
тика, высказанная так настойчиво и убежденно, заслуживает
внимания.
Сразу же возразим: Кулешов несомненно новатором был.
Но добавим, что в применении к нему термин новаторство
нуждается в уточнении.
То, на чем строил Кулешов свою систему и даже теорию,
действительно существовало до него — в пределах традицион-
ного «зрительского» кинематографа. Мы обозначим этим
словом кинематограф массового, недифференцированного зри-
теля,— то, что иначе называют кинематографом «коммерче-
ским» или «кассовым». Оба эти понятия успели скомпроме-
тировать себя, давно приобрели оценочный характер и стали
синонимом кинематографа второго, низшего сорта.
Но «кассовый», «коммерческий» характеризуют не самое
явление, а его функцию, его утилитарное назначение —
1 М. Блейман. Человек в советском - фильме (История одной
ошибки). «Советское кино», 1933, № 5-6, стр. 48—57; № 8, стр. 51—60;
№ 9, стр. 27—42.
2 «Советское кино», 1933, № 5-6, стр. 50.
57
с точки зрения предпринимателя или продюсера. Для Куле-
шова было существенно другое — именно то, что такого рода
кинематограф существует, имеет свои законы (как творче-
ства, так и восприятия), свою определенную художественную
систему и свою, очень широкую аудиторию.
С этим приходилось считаться, несмотря на то, что «зри-
тельский кинематограф» чаще всего действительно бывал сур-
рогатом подлинного, большого искусства. Он сопутствовал
ему как «младший», эстетически неполноправный род кине-
матографии и сплошь и рядом вульгаризовал его завоева-
58 ния. Вместе с тем он пытался выработать свои средства
и формы — доступные, демократические и жизнеспособные.
Идея Кулешова была проста — найти эти средства и
формы, уже проверенные на миллионах зрителей, и исполь-
зовать их в «большом искусстве». Идея эта была новатор-
ской, потому что должна была привести к обновлению «стар-
ших» кинематографических жанров.
Кулешов обращает внимание на одну из основных черт
этого кинематографа — на учет в нем особенностей зритель-
ского восприятия. Как правило, этот учет бывает бессозна-
тельным, чаще всего он основывается на интуиции худож-
ника и на эмпирическом опыте. Молодые советские кинемато-
графисты, приступавшие к созданию новой кинематографии
как особой художественной системы, сознательно сделали
зрителя эстетической точкой отсчета, во всяком случае, двое
из них на этом настаивали. Эти двое были Лев Кулешов и
Сергей Эйзенштейн.
У каждого из них зритель был «свой», и это имело зна-
чение.
Вот как рассказывал Эйзенштейн о первом столкновении
с этой проблемой. Произошло это в театре Пролеткульта,
и человеком, натолкнувшим его на далеко идущие размыш-
ления, был семилетний мальчуган.
На одной из репетиций Эйзенштейн обратил внимание на
сынишку кого-то из служащих. Малыш во все глаза смотрел
на сцену, на лице его, как в зеркале, отражалось все, что
там происходило, и все, что выполняли актеры, мальчик по-
вторял мимикой и жестом.
Это поразило молодого режиссера, запало в голову, не да-
вало покоя и вылилось, в результате, в глубокое сочувствие
зрителю. Судьба мальчика, а с ним и зрителей вообще, рисо-
валась ему в самых мрачных тонах.
Еще бы.
Если зритель, сидя в зале, так активно сопереживает
тому, что видит, если он может быть фиктивно «благородны^
с Францем Моором, отделываться от тягот низменных ин-
стинктов через соучастие с Карлом Моором, чувствовать
себя мудрым с Фаустом.., страстным — с Ромео, патриотич-
ным — с графом де Ризоором...» — то «ведь это ужасно!»
«Ведь имея эту возможность — фиктивно достигать удовле-
творения,— размышлял Эйзенштейн,— кто же станет искать
его в результате реального, подлинного, действительного осу-
ществления того, что можно иметь за небольшую плату,
не двигаясь, в театральных креслах, из которых встаешь
с чувством абсолютной удовлетворенности!»1
Тогда-то и зародились особые взаимоотношения режис-
сера и зрителя, которые позже Эйзенштейн определял как
«перепахивание психики».
Искусство Эйзенштейна было призвано сломать, преодо- 59
леть установившееся зрительское восприятие. Оно стало ис-
кусством насильственного воздействия, оно должно было
быть сильнее психики зрителя. Только так понимал Эйзен-
штейн агитационное искусство, и в его художественной си-
стеме не было места «утешительству», не было места «обход-
ным» путям.
Кулешов со зрителем не спорил. Он его изучал.
Кулешов знал силу воздействия кинематографа. Знал, что
ежедневно и ежевечерне миллионы людей всех возрастов и
профессий во всех частях света, не смущаясь погодой и оче-
редями, тянутся в кинотеатры. Знал, что миллионы людей по-
корно предали себя этому новому виду наркотика, знал, что
ни одно из искусств не пленило массы так безоговорочно и
полно, как кино. Знал и относился к этому серьезно.
Это началось где-то году в 1916. Социолог-одиночка от-
правился в кинотеатры. Кинотеатры выбирал дешевые — пуб-
лика там была «хуже воспитана» и потому непосредственнее
реагировала на то, что видела. Крики, аплодисменты, свист,
смех, шум — в^е учитывалось и анализировалось. Важно
было понять, «какие и как сделанные картины производят
максимальное воздействие на зрителя». «Нам... важно было
найти самое средство кинематографической впечатляемости,
и мы знали, что если мы это средство найдем, то уж сумеем
направить его туда, куда нужно».* 2
Кулешов понимал, что в невиданной популярности кино
как зрелища заключена не только его эстетическая (в кавыч-
ках или без), но и огромная социальная сила. И в обновлен-
ной Октябрьской революцией стране, в новых условиях он
избрал для перестройки именно этот, знакомый ему, изучен-
ный зрительский кинематограф. Средством обновления стала
созданная им кинематографическая система — «америка-
низм».
‘С. М. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах,
т. 1. М., «Искусство», 1964, стр. 100—101.
2 Лев Кулешов. Искусство кино. Л., Теакинопечать, 1929, стр. 12—
13.
В конечном счете, Кулешов Двигался в том же направле-
нии, что и Эйзенштейн, но основой своей системы он сделал
как раз то, что было неприемлемо для Эйзенштейна — сопе-
реживание зрителя киногерою. Задачей Эйзенштейна было
зрителя отвоевать, задачей Кулешова — завоевать его. И
если Эйзенштейн согласен был пойти на то, чтобы сузить
свою аудиторию, Кулешову важно было, чтобы картина
«с интересом смотрелась всеми: рабочим, обывателем, нэпма-
ном, деловым человеком и провинциалом».
Нам нужен сейчас кинематограф «простой, понятный и
60 героический» — этими словами Кулешова1 можно в общих
чертах определить направление и конечную цель его системы.
Если «монтаж аттракционов» Эйзенштейна был основой
искусства интенсивного, напряженного, «трудного», то «аме-
риканизм» Кулешова был призван «экономить зрительскую
энергию». Фильм должен усваиваться и «перевариваться»
легко. Зритель не должен затруднять себя головоломками.
Наиболее доходчивой будет та лента, режиссер которой
точно знает, что он хочет сказать зрителю в каждый данный
момент.
Кулешов приступает к разработке правил для такой
ленты.
Представьте себе, говорит он, сцену: человек застрелился.
Застрелился в своей комнате, сидя за письменным столом.
Комната, как известно, имеет стены, окна, двери, обои,
занавески, цветы, картинки, печку и т. д. Конечно, все это
можно расставить и развесить, посадить среди всего этого
актера и заставить его готовиться к «самоубийству» и со-
вершить его.-
Кулешову было ясно, что при таком построении сцены,
«в то время, когда актер изображает самые ядреные психо-
логические переживания», зритель совершенно спокойно мо-
жет рассматривать картинку или заинтересоваться ножкой
стола. И он «упустит» актера, потому что «каждый кусок по
действию имеет ограниченную длительность».2
Между тем впечатления комнаты можно добиться какой-
нибудь одной деталью. Когда позже Кулешов снимал «Жур-
налистку» (1927), ему нужно было показать комнату актрисы
так, чтобы зритель сразу получил представление о характере
хозяйки, еще не видя ее. Художником-декоратором был
А. Родченко. Режиссер и художник долго ломали голову,
испробовали десятки вариантов, натаскали массу безвкус-
ных вещей, а впечатления — никакого. Тогда, вспоминал
Кулешов, «мы все вынеслИд все убрали и оставили только —
на стене на полочке — стеклянного нелепого слона, а на ди-
‘Лев Кулешов. Камерная кинематография. «Кино-фот», 1922,
№ 2, стр. 3.
2 Л е в К у л е ш о в. Искусство кино, стр. 20, 68.
ване в вазе — вешалку из-под платья». И сущность ком-
наты, и особенности ее хозяйки стали ясны сразу.1
Так формулируется одно из основных условий: в кадре
должно быть только то, что категорически необходимо. Если
рисунок обоев не имеет «рабочего задания», то нечего им
отвлекать зрителя. В этом же секрет и впечатляемости
кадра, сцены, ибо максимум впечатления достигается только
показом того, что необходимо зрителю, причем показом «са-
мым крупным, самым ясным способом».1 2
Но ясность и логическая простота кадра — это еще не
цель, это — условие. Цель же — распространение той же 61
ясности и логичности на всю совокупность кадров и сцен
фильма. Здесь решающее слово принадлежало монтажу.
2. В монтаже Кулешов видел основное средство воз-
действия на зрителя. Отдельный кадр, кусок, сцена — еще
кинематографией не являются. Они становятся таковой
только в дальнейшем соединении друг с другом, в том или
ином сочетании, в той или иной комбинации.
«Не так важно содержание кусков само по себе, как '
важно соединение двух кусков разных содержаний и способ
их соединения и их чередования».3
Эта фраза Кулешова стала «знаменитой», и позднее на
нее много и часто нападали — за первую часть, тогда как
Кулешову важна была вторая. Именно эту вторую часть
пытался растолковать и защитить В. Пудовкин, подчерки-
вая, что мысль Кулешова не означает, будто «не важно ка-
чество кадра, а значит как важно сопоставление».4
И фраза Кулешова, и уточнение Пудовкина имели в виду
известные монтажные опыты Л. Кулешова. Без описаний
этих опытов не обходится ни одна работа по истории или
теории кинематографа. Нам тоже без них не обойтись, и два
таких опыта мы читателю напомним.
Опыт первый
Сделали мы однажды такую сцену,— пишет Кулешов:
В кадрах:
1. Идет женщина
2. Идет мужчина
3. Встречаются
4. Жмут руки и смотрят на...
5. .. .Белый дом
6. Идут и поднимаются по его лестнице.
1 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 69—70.
2 Там же, стр. 22.
3 Там же, стр. 16.
‘Всеволод Пуд'овкин. Принципы сценарной техники. «АРК»,
1925, № 1, стр. 18.
Пять кадров из шести были сняты в разных местах
Москвы, а кадр с Вашингтонским Белым домом—это кусок
из американской ленты.
Все места жителями Москвы узнавались сразу, но мон-
таж снятых в разное время и разных местах кадров созда-
вал впечатление, что все: и Петровка (1-й кадр), и набереж-
ная Москвы-реки (2-й), и Пречистенский бульвар (3-й), и
памятник Гоголю (4-й), и Белый дом (5-й) —все это нахо-
дится в одном месте, где и действуют герои сценки.
62 Опыт второй
Поспорил Кулешов с В. Полонским: будет ли разница в выражении
лица актера, если ему придется сыграть такие две ситуации:
а) Человек долго сидит в тюрьме, изголодался. Ему приносят тарелку
щей, он страшно рад ей.
б) Человек сидит в тюрьме. На сей раз он сыт, но тоскует по воле —
«по птичкам, по солнцу». Его выводят на улицу — он видит и облака
и птичек — и тоже радуется.
Будут ли эти две радости разными, если их сыграть?
Полонский уверял, что, разумеется, будут.
Тогда, говорит Кулешов, мы эти сценки сняли. И —
«как бы я куски эти ни переставлял и как бы их ни рас-
сматривали,— никто никакой разницы в лице этого актера
не увидел. Причем,— добавляет Кулешов,— игра его была
абсолютно различна».1
Таких опытов у Кулешова было несколько, но вывод, ко-
торый он сделал из них, был один: с помощью монтажа воз-
можно все. С помощью монтажа можно исправить, наладить
что-то в уже готовой ленте, но можно и разрушить, а можно
искусственно создать даже то, чего в действительности не су-
ществует. Открытие это его почти ошеломило.
Сейчас мы относимся к самым этим нехитрым экспери-
ментам со снисходительной и чуть грустной улыбкой — как
смотрят на детскую фотографию взрослого человека.
Но мог ли предположить их автор, что спустя несколько
десятилетий вопрос о значении и роли монтажа вновь станет
одним из самых серьезных и важных? Более того, что при-
стальное внимание к монтажу в 1960-е годы будет вызвано
именно его способностью «создавать несуществующее», от-
крытой некогда Кулешовым?
Этот вопрос сегодня перестал быть проблемой чисто эсте-
тической. Он оказался связанным с более острой и для мно-
гих художников болезненной проблемой — о правде и иска-
жении действительности, о нравственности искусства. Доста-
точно вспомнить теоретиков новейших течений «кино-правды»
(«синема-верите», «прямое кино» и т. п.); точки зрения
1 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 25, 28.
французских кинокритиков А. Базена и М. Мартена, поль-
ского киноведа Е. Плажевского и т. д.
В нашу задачу не входит подробное рассмотрение этих
современных точек зрения. Нам важно напомнить читателю,
что за последние десять—пятнадцать лет проблема монтажа
и его способности «искажать» действительность для миро-
вого искусства оказалась частью более широкой проблемы,
связанной с отбором и осмыслением материала, именно —
проблемы социальной позиции художника, его общественных
принципов и его «моральной ответственности».
Для Кулешова эта проблема существовала в первона- 63
чальной, еще очень невинной форме, и примеры, им приво-
димые, сейчас выглядят наивными. Вот один из них. Пред-
лагается представить себе несколько возможных кадров:
Открываются окна; выглядывают из них люди; скачет
конница; сигналы; бегущие мальчишки; хлынувшая через
плотину вода; марширует пехота.
Что это? Праздник открытия электростанции или вступ-
ление в город неприятеля? Это, говорил Кулешов, будет за-
висеть от последовательности сцен, от их монтажа.
Кулешов намеренно игнорирует конкретное содержание
кадров. В этом смысле его пример условен, но эта услов-
ность существа дела не отменяла: проблема осмысления
материала через монтажное сопоставление уже сущест-
вовала.
В свое время Кулешов работал режиссером кинохроники
на Колчаковском фронте. Он знал, что одни и те же куски
хроникальной ленты могут иметь различный смысл, будучи
смонтированы для разных целей. Позже он познакомился
с практикой перемонтирования заграничных художествен-
ных лент и русских картин в заграничном прокате; знал, что
«различные смены, различная конструкция — монтаж кад-
ров — дадут различный смысл целому эпизоду».1 Знал это
все, но, открыв в монтаже его силу, сам почти испугался ее.
Представляя себе разнообразные возможности монтажа,
Кулешов в своей практике ими, по существу, не воспользо-
вался, и для него его эксперименты остались лишь экспери-
ментами. Он прибегал к ним в редчайших случаях,— тогда
только, когда это диктовалось технической необходимостью.
Так, при съемках «Инженера Прайта» нужно было снять
отца и дочь, которые шли бы по полю и видели бы перед
собой ферму. Снять это в одном месте оказалось невозмож-
ным. Тогда отдельно сняли ферму, отдельно (уже в другом
месте) — отца с дочерью. Они шли по лугу, смотрели в опре-
деленном направлении и говорили про ферму. В следующем
кадре была ферма.
1 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 100—101.
В другом случае — отсутствовали нужные актеры — за-
держивалась съемка одного куска. И кусок-то был «ней-
тральный»: нужно было, чтобы встретились он и она и поздо-
ровались. Взяли пальто обоих отсутствовавших актеров,
надели на других, а в кадре сняли одни руки — приветствен-
ное пожатие.
Вот, пожалуй, и все, если не считать неосуществленный
замысел эксцентрического фильма, построенного на монтаж-
ных эффектах.1 Между тем эксперименты Кулешова содер-
жали в себе потенции несравнимо более глубокие и бо-
64 гатые.1 2
Когда в 1927 году вышли фильмы «Падение династии Ро-
мановых» и «Великий путь», вместе с другими рецензиями
появилась восторженная статья о них Кулешова.3
Мы уже говорили, какое влияние оказали монтажные
принципы этих фильмов на дальнейшее развитие теории
неигровой. Сейчас нам важно то внимание, которое проявил
к этим фильмам Кулешов.
Оно объясняется вовсе не только его всегдашним инте-
ресом к хронике, который он сохранил с 1919 года.
Не • объяснила этого внимания и редакция «Нового
Лефа», где напечатана была статья Кулешова, а к ней —
редакционное примечание. В нем было сказано, что статья
особенно интересна тем, что «Л. В. Кулешов — режиссер
художественной кинематографии—объявляет в наши дни
примат приемов неигровой фильмы и зовет учиться у нее».
Л. В. Кулешов — режиссер художественной кинематогра-
фии— не объявлял примата приемов неигровой фильмы
хотя бы потому, что очень скоро, на дискуссии о путях не-
игровой, выяснилось, что «приемы» эти вовсе неигровой не
принадлежат; напротив — они взяты из кинематографии ху-
дожественной. И более того, добавим мы (хотя на дискус-
сии об этом не говорилось), — эти приемы имеют прямое и
непосредственное отношение к монтажным открытиям са-
мого Л. В. Кулешова. Ибо что такое были знаменитые шу-
бовские кадры-сопоставления, как не столь же знаменитые
ранние опыты Кулешова? Они не были их повторением, но
они были их использованием в творческой практике.
При сохранении всей конкретности кадров монтаж Шуб
подтверждал ту относительность этой конкретности, кото-
рую декларировали кулешовские эксперименты.
Вспомним еще раз эпизод фильма «Падение династии
1 См.: В. Шкловский. Их настоящее, стр. 38.
2 Интересный анализ монтажных опытов Кулешова содержится в ст.
Н Клеймана «Кадр как ячейка монтажа» («Вопросы киноискусства».
М„ Изд-во АН СССР, 1968, вып. 11).
3 Л. Кулешов. Экран сегодня. «Новый Леф», 1927, № 4, стр. 31—
34.
Романовых», который приводит Кулешов. В руках Шуб были
нейтральные кадры: губернатор с супругой и бульдогом
спускаются по лестнице. Завтракают в саду. Были кадры
деревни. Лебеди в прудах. Помещик — тот самый, что ковы-
рял палкой землю. И крестьянин, на этой земле работающий.
Смонтированные в определенной последовательности,
эти куски утеряли свою нейтральность, стали характеристи-
кой— и помещика, и губернатора, характеристикой их как
социального явления — точной и яркой.
Тем самым мысль Кулешова, что монтажом можно изме-
нить материал, тоже подтверждалась. Все зависело от того,
во имя чего и с какой позиции. Вот что привлекло особое
внимание Кулешова к этим фильмам. И не понял ли в этот
момент режиссер, что прошел мимо собственного открытия?
Известны резкие возражения Эйзенштейна Кулешову.
Они касались определения сущности кадра. Кулешов рас-
сматривал его как «букву», которая ляжет в основу целого
«слова» и «фразы». Эйзенштейн же выдвигал понятие кадра-,
ячейки, обладающего большей самостоятельностью и значи-
мостью. Этот спор велся с позиций двух различных кинемато-
графических систем, противоположных друг другу. Но эта
различность не отменяет генетической общности эксперимен-
тов Кулешова и теории «конфликта» Эйзенштейна.
В разработке теории' монтажа Кулешов остановился на
пол пути; в практике же своей он пошел по пути совсем
иному. Его «американизм» исключал его же собственное от-
крытие. Быть может, избегая, таящихся в этих открытиях
коварных «опасностей», он все силы направил на то, чтобы
монтаж был ясный, точный, понятный.
Именно поэтому он спорил с вертовским монтажом, ко-
торый он называл субъективно-художественным. Хроника,
с его точки зрения, не должна вызывать «обостренного впечат-
ления», не должна давать «эффекты ритмического.порядка»
или «демонстрировать субъективное впечатление художника
от событий». Монтаж хроники должен быть «спокойной,
убеждающей материалом ... демонстрацией событий».1 В от-
сутствии этого он обвинял Вертова. А ведь Вертов, так же
как и Шуб, наглядно демонстрировал возможности и пер-
спективы им же, Кулешовым, найденного пути.
Но нет, «зрителй не должен путаться», настаивает Ку-
лешов. Зрителю все должно быть ясно. Иначе кадр значение
свое как «буквы» не выполнит. Переставим элементы этой
формулы: если кадр не «буква» — зритель начнет путаться.
«Запутываться» для Кулешова значило многое. Вертовский
монтаж запутывал. Запутывали и ассоциации. «Америка-
низм» Кулешова принципиально безассоциативен.
65
1 «Новый Леф», 1927, № 4, стр. 32.
В этом смысле характерно восприятие Кулешовым эпи-
зода с бойней из «Стачки» Эйзенштейна. Эйзенштейн считал
эту сцену самой сильной в фильме, Кулешов — самой слабой.
«Бойня» не подготовлена второй параллельной линией дей-
ствия (расстрелом рабочих) и потому, с точки зрения Куле-
шова, незаконна. «При параллельных построениях должна
быть соблюдена... твердая логическая связь.. .»*
Монтаж Кулешова точнее всего определил его ученик —
В. И. Пудовкин. Ученик довольно скоро превзошел учителя,
но не перестал его понимать. В 1929 году он написал: Куле-
66 шов «установил исходные принципы примитивного, описа-
тельного монтажа, в котором снимаемое явление может быть
снято разными планами... и вместе с тем все куски могут
быть связаны в одно непрерывное целое по их простейшему
признаку — по форме движения».1 2
Эту характеристику не нужно воспринимать как уничи-
жительную: это не оценка, это — определение.
3. Итак, кадры должны быть ясными, легко читаемыми,
потому что «короткого времени «мелькания» монтажного
кадра не хватило бы на полное рассмотрение всего его со-
держания». 3
Но почему же непременно «короткое время», «мелька-
ние», которые Кулешов выдвигает следующим принципом
своего «американизма»?
Принцип этот вытекает из определения монтажа Куле-
шова как пространственного — монтажа «по движению», и из
самой идеи движения — пожалуй, самой популярной 'в искус-
стве двадцатых годов.
В этой идее совместилось все: диалектика как философ-
ская категория, как идея поступательности в развитии, дви-
жение как биологический закон эволюции; движение как
символ строительства нового, как символ борьбы, целе-
устремленности, преодоления препятствий, как противовес
застою социальному и духовному и, наконец, движение, ди-
намика— как отличительные черты стремительного 20 ве-
ка — века бурных темпов и невиданных скоростей.
Темп, движение воспринимаются и как краеугольный ка-
мень эстетики кино с его движущейся пленкой. А молодые
художники, одержимые идеей разрушения старого и созида-
ния нового, как будто сами были сотканы из этого движе-
ния— кипели, бурлили, изобретали, сталкивались, шумели.
1 Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». М., Кинопечать, 1926,
стр. 11.
2 В. Пудовкин. Творчество кинорежиссера. «Кино и культура»,
1929, № 7-8, стр. 12.
3 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 75.
«Я в непрерывном движении! — возбужденно кричал Вер-
тов. — Я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю
под них, я влезаю в них... Я врезываюсь на полном ходу
в толпу... я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь вместе
с аэропланами, а падаю и взлетаю вместе с падающими и
взлетающими телами».1
«Реализм материала и сногсшибательность действия —
вот что нам нужно!» — вторил ему Б. Арватов.1 2
«Максимум движения», «действенность», «быстрота» —
без этих слов не обходится ни одна статья Кулешова. Дина-
мичность, движение становятся в его теории синонимами ки- 67
нематографичности.
Согласно психофизическим законам, «человек не может
равнодушно созерцать процесс движения».3 Поэтому оно
является лучшим способом вывести зрителя из пассивного
состоянии. В этом Кулешов убедился и сам, наблюдая реак-
цию зрителей.
Движение предполагает максимум событий, а быстрая их
смена обеспечивает зрителю максимум впечатлений, законо-
мерно и экономно расходуя при этом его энергию. Подтверж-
дая это положение, Кулешов приводит следующий пример.
Он предлагает представить себе забор «верст на 10 длиной».
Часть его выкрашена в красный цвет, другая в зеленый,
дальше — синий и т. д. Человек идет вдоль этого забора, и
ему нужно уловить последовательность смены цветов. Если
цветовые куски будут слишком длинными, то человек между
ними связи не уловит, — он затратит слишком много времени
на восприятие одного и того же цвета, и пока дойдет до си-
него цвета, забудет, что перед зеленым был красный. «Если
же, — говорит Кулешов, — этот забор будет через каждый
аршин менять свой цвет..., — вы все время будете воспри-
нимать комбинацию... цветовых сооотношений».4
Нечто подобное происходит и в фильме. Монтажно соеди-
ненные куски должны быть короткими и быстро меняться.
Кулешов экспериментирует, режет, клеит. Короче. Бы-
стрей. Еще короче, еще быстрей. Таков принцип, такова
практика. Его останавливают протесты знакомых зрителей,
не поспевающих за этим бешеным мельканием. Помилуйте,
от ваших «кусочков» в глазах невероятный кавардак — все
прыгает, ничего не понять. Вы «совершенно сумасшедшие
футуристы»! «Тогда, — говорит Кулешов, — мы стали ду-
мать...»5
1 Д. Вертов. Киноки. Переворот. «Леф», 1923, № 3, стр. 141.
2 Б. Арватов. Агит-кино. «Кино-фот», 1922, № 2, стр. 2.
3 М. Левидо в. Человек и кино. М., Кинопечать, 1927, стр. 62.
‘Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 17. (Подчеркнуто мною —
6 Там же, стр. 29.
Размышления вели Кулешова не к отказу от принятых
принципов, а к их расширению и углублению. Режиссер не
усомнился в своей системе, но понял, что повышенная дина-
мичность фильма покупается ценой утраты ясности. Ясность
же была вторым краеугольным камнем «американизма».
Кулешов начинает приводить к гармоническому сплаву
элементы своей системы. Она углубляется, захватывая все
более широкие сферы поэтики-его фильмов. На всем протя-
жении картины внимание зрителя должно развиваться точно,
по нарастающей. Для этого необходимо общее и неуклонное
68 движение всего сюжета. Провалы в сюжетной конструкции
недопустимы. Кулешов присматривается к ошибкам — чужим
и своим. Пудовкин, бывший в то время актером, режиссером
и сценаристом в группе Кулешова, отмечал одну такую
ошибку в построении сценария в «Необычных приключениях
мистера Веста». «Две наиболее динамичные части были по-
ставлены вначале и ... уничтожив нарастание действия, раз-
рушили общее впечатление от картины».1
Принцип ясности и «легкой читаемости» Кулешов рас-
пространял и на героя своих фильмов. Кинематографические
системы двадцатых годов знали фильм «без героя». Картины
Кулешова немыслимы без героя-деятеля, и, быть может,
нигде связь режиссера со «зрительским кинематографом» не
ощущается столь ясно, как в типе кулешовского протагони-
ста. Он был условием всей системы и, в полном согласии
с ней, должен был олицетворять собой «одну постоянную...
резко подчеркнутую идею — чаще всего идею «добра» или
«зла». На фильме, заполненном динамическими событиями,
зрителю думать и выбирать некогда — «время у него
остается лишь для того, чтобы чувствовать».2 Поэтому, по
Кулешову, героизм должен быть «примитивным», а герой —
«храбр, быстр и силен».
4. Во всех этих «условиях» мы без труда узнаем прин-
ципы, законы и основные черты американского авантюрного
фильма и вестерна — жанров, расцветших в американской
кинематографии в 1910—1920-х годах.
Здесь время играло на Кулешова.
Создавать фильмы с героями, брызжущими жизнерадост-
ностью и оптимизмом, в России предреволюционных лет
(когда эта мечта зародилась) вряд ли было естественно и
уместно. Другое дело — новая, Советская Россия, перед ко-
торой стояло огромное количество самых разнообразных за-
дач. Решать их надо было в труднейших условиях и в крат-
1 Вс. П удовкин. О методах работы «Луча смерти». «Кино-газета»,
1924, № 49 (65), 2 декабря.
2 М. Левидо в. Человек и кино, стр. 62—63.
чайшие сроки. Это должны были делать люди, строители и
деятели, настойчивые, целеустремленные и сильные. Здесь не
должно было быть места пассивному созерцанию, индивиду-
ализму, пессимизму.
Дух предприимчивости, здоровья и оптимизма Кулешов
искал в американской кинематографии, умевшей, как ника-
кая другая, воздействовать на массы зрителей, впечатлять
их, возбуждать желаемые эмоции, покорять идеальными ге-
роями, поощрять сильных и утешать слабых.
«Утешать» Кулешову было не нужно, и этот корректив он
сразу же внес в свое понимание «американизма». Столь же
естественно он исключил из него и культ собственности. Но
хеппи энд вошел в его систему как обязательное условие.
Герой должен побеждать. Зритель же не должен уходить
с фильма неудовлетворенным: напряжение его нервной энер-
гии требует разрядки, и его растраченная «эмоция сочув-
ствия» должна быть оправдана результатом.
Итак, «фильм приключений, происходящих в СССР,
фильм, в котором сильные люди побеждают все препятствия
и врагов», — такова цель Кулешовд-режиссера.1
В 1924 году он создает «Необычайные приключения ми-
стера Веста в стране .большевиков», в 1925 году — «Луч
смерти».
Первый из них — эксцентрическая комедия с пародийным
оттенком, второй — фильм приключенческий. .
Действие «Мистера Веста» происходит в Москве. Шайка
мошенников и воров завлекает к себе некоего мистера
Веста — американского туриста, приехавшего в СССР. При
нем телохранитель — ковбой Джедди, ибо , мистер Вест до-
статочно наслышан про «большевистские ужасы», которые
мерещатся ему’на каждом шагу. Шайка во главе с авантю-
ристом Жбаном усиленно интересуется бумажником мистера
Веста. Используя нелепые представления американца о Со-
ветской России, они с упоением разыгрывают перед ним
«большевиков» — в шкурах, с ножами, с мимикой и повад-
ками дикарей. В тот момент, когда насмерть напуганный свя-
занный мистер Вест ждет «казни», приходит неожиданное
спасение в лице блистательного Джедди и милиционера.
В конце фильма мистер Вест в сопровождении советского
представителя едет по Москве и видит подлинную Совет-
скую Россию.
Действие «Луча смерти» происходит за рубежом и
в СССР.
На заводе «Гелиум» (в одной из капиталистических
стран) организовано революционное выступление. Онб же-
69
1 Л. Кулешов. Что надо делать? «Кино-газета», 1923, № 3, 26 сен-
тября.
стоко подавлено, а его руководитель рабочий Томас Ланн
арестован. Товарищи по борьбе помогают ему бежать. Он про-
бирается в СССР, где инженер Подобед изобрел мощный
прибор — «луч смерти», который может помочь готовяще-
муся восстанию. Вместе с Ланном в России оказываются
главари фашистской организации, узнавшие о «луче смерти».
Они похищают изобретение. Следует ряд приключений, кро-
вавых схваток, в результате которых Л-анн овладевает при-
бором и возвращается на родину в самый разгар восстания.
С помощью «луча смерти» враги-эксплуататоры уничтожены,
70 восставшие рабочие одерживают победу.
Всех этих событий, неожиданностей, динамических эпизо-
дов, трюков — хорошо продуманных и точно выполненных по
всем правилам «американизма», хватило бы, по словам Ку-
лешова, «на добрую дюжину детективов».1 Непонятным
оставалось одно — более чем прохладная реакция критики.
«Мистер Вест» родился в Америке. Что заставило его
эмигрировать в СССР? — раздраженно спрашивал Шклов-
ский.— ...Кинематограф должен исходить из того, что
можно снять, от материала. Эта небольшая истина будет,
кажется, изношена в .России прежде, чем получит примене-
ние». 2
Режиссер мог бы остаться глухим к замечаниям критики,
если бы кассовый успех фильмов подтвердил точность его
расчетов. Но зритель, широкий зритель, на восприятии ко-
торого строилась вся система, остался столь же холоден. Он
не смеялся на комедии «Мистер Вест», не ломился в кино-
театры на авантюрный «Луч смерти», не чувствовал себя
после них «бодрей, здоровей, лучше». И хотя «осторожно
ступающие по полу остроносые лакированные ботинки фа-
шиста» («Луч смерти»), по мнению одного из критиков, еще
долго не будут превзойдены, все это,— «как сказал на
просмотре один рабочий, — все это ни к чему...»3
Рецензенты разочарованно отметили, что «американизм»
оказался «обескровленным», «непривлекательным», «выму-
ченным» и — увы — «даже скучным».4
Протесты против подражательности были справедливы и
аргументы критиков точны. «Американизм заключается...
не только во внешности, а выражает собою целую гамму
соотношений... структуру (в известных социально-экономи-
ческих условиях) быта страны и жизни тамошнего человече-
* Л. Кулешов. «Вест» — «Луч»—«По закону». Газ. «Кино», 1926,
№ 36 (156), 7 сентября.
2 В. Шкловский. Мистер Вест не на своем месте. «Кино-неделя»,
1924, № 21.
3 Альберт Сыркин. Весьма «простые истины» запутанного «Лу-
ча смерти». «Кино-неделя», 1925, № 11.
4 Н. Юдин. О черепаховых очках, брюках с отворотами и остро-
носых ботинках. «Пролеткино», 1924, № 2, стр. 41—42.
ского общества, структуру, обобщающую многое, — начиная
от классовых нравов и кончая ценами на табак».1
Этой органической связи стиля и материала у Кулешова
не было. «Героический быт советских людей» обернулся
абстрактным и даже условным «героическим бытом» вообще,
СССР — оказался лишь местом действия. В этом смысле
жанр приключенческого фильма, для создания которого
у режиссера были вес данные, «не получился», и фильмы
в его творческой биографии остались такими же эксперимен-
тами, как и ранние монтажные опыты.
Нужно сказать, что приключенческий жанр (несмотря на 71
отдельные удачные попытки — например, «Красные дьяво-
лята») в те годы вообще «не стал твердым постоянным жан-
ром в репертуаре советского кино».1 2 Что же касается Куле-
шова, то его попытки создать такой фильм принесли ему
репутацию «первого претендента на звание настоящего ре-
жиссера».3 Через год, когда вышел фильм «Мать», сделан-
ный учеником Кулешова,— победа советской кинематографии,
равная победе «Броненосца «Потемкина», тот же
В. ,Б. Шкловский писал: «Без «Луча смерти» — вещи, сде-
ланной на совершенно условном, материале, — не было бы
«Матери» Пудовкина, в которой он применил свой опыт и
опыт Кудешова уже на бытовом материале».4 5 А двумя го-
дами позже М. Левидов, анализируя творчество Кулешова,
заметил, что в «Луче смерти» молодой режиссер показал
себя не только «хозяином вещей», но и «хозяином масс», и
что «на этих массовых сценах учился Эйзенштейн, давший
затем «Потемкина»Л
«Не получившийся» у Кулешова жанр дал свои плоды.
5. Центральным звеном системы Кулешова был актер, и
здесь, казалось, создатель «американизма» вступал в проти-
воречие с провозвестником всемогущества монтажа. Ранние
монтажные опыты Кулешова должны были бы актера унич-
тожить.
Но Кулешов никогда не призывал заменить актера, он хо-
тел его изменить. Он считал, что кинематографу нужен
актер, который будет работать на более совершенной основе,
нежели система переживания, даже если это гениальная си-
стема Станиславского. «Входить в роль» за два часа до
съемок — это не для кинематографа, тем более что зрителю
1 Н. Ю д и н. О черепаховых очках, брюках с отворотами и остроно-
сых ботинках. «Пролеткино», 1924, № 2, стр. 41—42.
2 Валентин Туркин. Киноактер. М., Теакинопечать, 1929, стр. 69.
эМих. Левидов. Простые истины. «Кино-неделя», 1925, № 11.
4 В. Шкловский. Их настоящее, стр. 56.
5 Мих. Левидов. Лев Кулешов. М., Кинопечать, 1927, стр. 10.
важен результат эмоции, а не она сама. Результата же
(к тому же более точного), по мнению Кулешова, можно до-
биться путем более быстрым и экономным.
Кулешов занялся созданием нового актера. Так возник
знаменитый «натурщик». Термин «натурщик», впервые введен-
ный В. Туркиным в 1918 году, обозначал сцециального кино-
актера, то есть такого, который, в отличие от актера театраль-
ного, знал специфику киносъемки.
Термин прочно закрепился за кулешовским актером и за
самим коллективом Кулешова — первой советской актерской
72 кинематографической школой, где объединились молодые
энтузиасты — сплоченная, дружная и талантливая группа
приверженцев нового кино.
Мы помним, что Кулешов начинал свой творческий путь
с отрицания «живописности» и «театральщины» в кинемато-
графе, с выступления против эстетики знаменитого «Доктора
Калигари». С тех пор эстетическим кредо Кулешова остава-
лись «реальный человек, реальная жизнь, в каких угодно
фантастических формах, но непременно реальная...»1
Реальное — то есть «натуральное» в противовес «искус-
ственному». Отсюда особое понимание слова натурщик.
Чем менее актер «театрален», чем больше он «не актер»,
тем выразительнее, реальнее он будет на экране.
Кулешов предлагает для примера сравнить—'кто на
экране окажется естественнее: актер Камерного театра,
театра Мейерхольда или "МХТ? Задание для всех одинако-
вое: нужно изобразить грузчика, который переносит мешки
с мукой, то есть сыграть «трудовой процесс». Какой из акте-
ров сделает это лучше?
— Конечно, — говорит Кулешов, — работа актера Худо-
жественного театра «к кинематографу подходит больше» и
выйдет на экране «значительно лучше, выразительнее, есте-
ственнее», нежели работа других актеров.
Но все-таки лучше всего на экране выйдет настоящий
грузчик. Равным образом, если вам нужно снять бег, то
«лучше всего, естественно, на экране выйдет специалист
по бегу».2
Тот же смысл — в другом примере, из практики работы
в киношколе. Приходит человек поступать в школу, пишет
Кулешов. Говоришь ему, что в комнате жарко, надо-де от-
крыть форточку... Тот сразу начинает «изображать жару,
подходить к воображаемому окну, играть — будто бы откры-
вает форточку и т. д. и т. >д.». Это вместо того, чтобы подойти
к настоящей форточке и открыть ее.3
‘Лев Кулешов. Прямой путь. «Кино-газета», 1924, № 48, (64),
25 ноября.
2 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 34—36.
3 Там же, стр. 49.
Итак, подлинность действия и движения — первое усло-
вие для кинематографического актера. Второе условие —
внешность.
Внешность должна художественно оправдывать то, что
делает герой на экране. Ее не заменят ни талантливость, ни
красота. Если герой фильма должен быть высоким и ху-
дым— тут никакое перевоплощение не поможет, разве что
«человек высокого роста умеет так сокращаться в мышцах,
что может стать человеком маленького роста» и наоборот.1
Эти принципы, впервые выдвинутые Кулешовым для ху-
дожественной кинематографии, по сути дела формулировали 73
идею кинематографического типажа, время для которого
в советском кино пришло несколько позже.
Типаж — в противоположность актеру — это человек, по
своим естественным психофизическим данным подходящий
к той или иной роли и могущий тем самым, в силу естествен-
ности этих данных, наиболее точно передать поведение своего
героя — без вынужденной «игры», без «перевоплощения».
О типаже.речь еще впереди; сейчас же важно отметить, что
эта идея заложена была в основании теории натурщика.
Но в практике самого Кулешова реализовалась не эта
идея.
Кинокритика неоднократно говорила о близости кулешов-
ского натурщика к «выразительному человеку» Дельсарта-
Волконского — с одной стороны, и к актеру новейших теа-
тральных систем — с другой.1 2
Действительно, в системе Кулешова легко просматри-
вались и принцип «целесообразного» поведения актера на
сцене при помощи «оправданных» жеста и мимики (Дель-
сарт-Волконский) и биомеханика и метрлритмическая си-
стема актера Мейерхольда, Таирова, Фердинандова.
Но, соприкасаясь со всеми этими системами, система Ку-
лешова представляла собою нечто от них отличное.
Мы не будем рассматривать здесь эстетических собратьев
и предшественников кулешовского натурщика. Отметим
только, что их создатели пытались найти новые основы игры
для театрального актера. Кинематографист Лев Кулешов пер-
вый задумался об этих основах для актера кинематографи-
ческого. И вместе с тем, борясь с «театральщиной», он для
создания такого актера обращается к опыту театра.
6. Видел ли Кулешов в своем натурщике «выразитель-
ного человека»? Несомненно. Он мог не употреблять, по-
добно Волконскому, слов «искусство», «красота», но полно-
1 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 47.
2 См., напр.: Ипполит Соколов. Методы игры перед киноаппа-
ратом. <Кнно-фронт», 1927, №5, №6; Валентин Туркин. Киноактер.
стью разделял его точку зрения, когда заверял, что у его
актера не будет такого, чтоб «ноги заплетались, тело не
слушалось, в голове был сумбур».
Кулешову-режиссеру нужен был не просто человек, по-
дошедший к окну и открывший форточку, — ему нужен был
человек, умеющий открыть ее «максимально хорошо». И на-
стоящий грузчик лучше актера потому, что «перенесет груз
наиболее выгодным для себя способом»; потому, что он ра-
ботает «хорошо и экономно». А такая работа «дает на
экране самые ясные, самые выразительные, самые четкие ре-
74 зультаты».1
«Выразительный человек», по Кулешову, должен обла-
дать мгновенной реакцией, виртуозно владеть телом и мими-
кой, свободно ориентироваться в ограниченном пространстве
кинематографической площадки, — словом, работать «хо-
рошо и экономно». Никаких подставок, замен — натурщик
обязан уметь выполнить любой трюк. Это был и спортсмен,
и тот самый пресловутый «механизм», который режиссером
подразделялся на сочленил, тренировался по «осям» и «ли-
нейкам», под счет, под ритм и т. д.
И все-таки не «выразительный человек» был главной за-
дачей кулешовской системы. Главным было «выразительное
движение».
Кулешов уточняет Дельсарта.
По Дельсарту, например, ожидание — это поза. Ожидание
означает, что вес человека на одной ноге, другая нога осво-
бождена.
По Кулешову, ожидание — процесс. Человек, по мере
уставания, переносит тяжесть тела с одной ноги на другую.
«Еле уловимый момент переноса и будет нашим главным ма-
териалом»,— говорит режиссер.1 2 3 Важны не позы — они лишь
исходные моменты, важно то, что между ними, то есть дви-
жение.
Опять движение? Не опять, а по-прежнему.
Родившись из теории монтажного движения, кулешовский
актер призван был стать его высшим выражением и вопло-
щением.
В авантюрных лентах Кулешова он был носителем внеш-
него движения, в соответствии с требованиями жанра, он бе-
гал, преследовал, отлично дрался. Внешнее движение проти-
вопоставлялось психологичности — внешнему бездействию.2
Мысль, что кино есть искусство внешнего движения, ро-
дилась раньше, чем стала общеобязательной для новаторов
1 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 36.
2 Лев Кулешов. Практика кинорежиссуры. М„ ГИХЛ, 1935, стр.
108.
3 Кулешов. Американщина (из книги о кинематографии Кулешова).
«Кино-фронт», 1922, № 1, стр. 14.
1920-х годов. Ее высказывал еще Леонид Андреев в разгар
споров о кризисе театра и о губительном нашествии на него
варвара-кинематографа.
Ища путь спасения театра и одновременно пытаясь опре-
делить специфику кинематографа, Андреев разделял сферы
их деятельности, предрекая кино необычайный расцвет на пу-
тях освоения внешнего движения и оставляя театру психоло-
гию, движение внутреннее, кинематографу противопоказан-
ное. 1
В 1916 году кинематограф начал опровергать такое раз-
деление функций — он стал посягать на психологию. В на- 75
чале 1920-х годов психология была признана «нефотогенич-
ной». «Фотогеничным» стало движение. Казалось, кинема-
тограф вернулся к Л. Андрееву.
Ранние фильмы Кулешова с их повышенной динамично-
стью, его декларативно подчеркнутое пристрастие к корот-
ким монтажным кускам, тренированные актеры, находя-
щиеся в непрестанном движении, — что это было, если не
симптомы возвращения вспять: утверждение внешней дина-
мики, воинствующе заостренное против всех и всяких пси-
хологических тонкостей?
Такой вывод напрашивается сам собой, но ему мешает
одно обстоятельство. В 1926 году апологет «чистого дви-
жения» и ярый враг «психоложества» Лев Кулешов выпу-
стил на экраны свою новую работу — психологическую кино-
драму «По закону».
7. Парадоксальность этого явления — кажущаяся. Если
мы внимательно, проследим за развитием Кулешова-кинема-
тографиста, она'обратится закономерностью.
Вернемся к тому высказыванию режиссера, с которого мы
начали историю его творческого пути: «Русская «психологи-
ческая» драма ложна с начала до конца...», — писал он
в 1924 году. Отметим маленькую деталь: слово «психологи-
ческая» Кулешов ставит в кавычки. В этом кроется не
только определенный смысл, ню и объяснение парадокса.
От психологического кинематографа Кулешов никогда не
отказывался. Его ориентация на зрителя, его установка на
актера не только не исключала этот жанр — она его предпо-
лагала.
Но понимание психологического жанра у Кулешова уже
было новым. Он должен быть переосмыслен с позиций си-
стемы «американизма». Если мы продолжим приведенное
выше высказывание, мы прочтем следующее: «Я утверждаю,
1 См.: Л. Н. Андреев. Письма о театре, «Шиповник», кн. 22. СПб.,
1914, стр. 225—290.
что психологические и остродраматические проблемы
должны быть разрешены современным кинематографом ...
Но динамический фундамент будет служить поддержкой не
театральной (Фрелихо-максимовской) надстройке, а подлин-
ной кинематографической драме..., возникшей в движении и
разрешающейся в нем»}
Кинематографист Кулешов был верен себе.
Вряд ли стоит определять — сколько в этой заявке было
стремления строить искусство в соответствии с новейшими
научными достижениями — объективной психологии и реф-
76 лексологии, а сколько от особого, только тому времени свой-
ственного, почти мистического отношения к всемогуществу
движения как специфического «материала кино», которым
нужно научиться пользоваться и которым можно «выявлять
причинную связь событий», «строить моральный силлогизм».
Нет, со времени Л. Андреева кино изменилось неузна-
ваемо. Как только появилась теория кинематографа, как
только началось его самоосмысление — казавшееся столь ло-
гичным рассуждение Андреева о движении внешнем и внут-
реннем предстало наивным и трогательным, как сам ранний
Кинемо.
Кинематограф совсем не собирался довольствоваться бе-
гом, прыжками, борьбой, ездой. Он не только посягнул на
«внутреннее движение», он задумался над возможностью
выразить его движением внешним.
У него не было слова. Но зато у него было «действие-
движение», которое можно было «дробить», чтобы «дойти до
простейших <его> элементов... (одной головы, руки, пальца)
в долях секунды..., когда от каждого мелкого движения за-
висит смысл или развязка эпизода...». И уже казалось воз-
можным самую проблему психологии в кино «свести к проб-
леме движения...»2
Психология, по Кулешову, — это именно действие-движе-
ние. Кулешов никогда не примет кинематографа, где психо-
логия—это «не то, когда герой проигрывает в карты,
а когда он, стоя у окна, смотрит на улицу и думает о своем
проигрыше».
Психологизм такого рода в его систему не укладывался,
уложиться не мог и потому совершенно закономерно при-
знан был явно негодным для кинематографии.
Психология-движение Кулешова — это «поведение чело-
века и его рефлексы», которые, как он теперь считает, «инте-
реснее элементарного движения».3
‘Лев Кулешов. Наш быт и американизм. «Кино-газета», 1924,
№ 17-18, (33-34), 23 апреля. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)
2 Стржигоцкий. Что такое кинематографический монтаж? «Кино»,
1922, № 4, стр. 2—5.
3 Л е в Кулешов. Искусство кино, стр. 105.
Эту-то психологию поведения и должны были выразить
на экране его актеры-натурщики.
В. К. Туркин полагал, что Кулешов ошибался в выборе
жанра для своих актеров. «Так и осталось неясным, каков
же <их> жанр...»,— писал он в 1929 году.1 Критик дер-
жался мнения о взаимообусловленности актера и жанра и,
естественно, не мог считать возможным существование актера
универсального.
Кулешов же видел в своем натурщике именно такого
универсального актера, который одинаково успешно должен
«работать» в любом фильме. Кулешов не был создателем 77
новых жанров, в отличие, например, от Эйзенштейна или
Вертова. Он и не претендовал на это. Не выходя из рамок
того же, зрительского кинематографа, он готов был допу-
стить и даже освоить едва ли не все жанры, существовавшие
ранее, — они лишь должны были быть «усовершенствованы»'.
Поэтому жанр драмы в творческом движении Кулешова
был закономерен. Но он был труден, и не с него следовало
начинать. То, что Кулешов делал до сих пор, было экспери-
ментом, пробой, потом репетицией. Даже в своей практике
он всегда был немного педагогом. Теперь наступал новый
этап усложнения задачи, — и решение этой задачи должно
было дать то искусство, о котором он бегло и скупо сказал
несколько лет назад. Кулешов приступал к реформе по-
пулярнейшего жанра кинематографа.
Он воспитал и актера, который должен был взять на
себя «бремя» психологии. Прежняя психологическая драма
была царством «звезд» — актеров амплуа. Кулешовский на-
турщик должен был и этот принцип опровергнуть.1 2
Кулешов, подготавливая своего актера к психологиче-
скому фильму, в значительной степени ориентируется на
актера, созданного Гриффитом и Чаплином. Интерес
к творчеству Гриффита в те годы был всеобщим. «Я хочу
вспомнить, — писал С. М. Эйзенштейн в 1944 году, — чем был
он сам — Дэвид Уорк Гриффит — для нас, молодых кинемато-
графистов поколения двадцатых годов. Скажем просто и без
обиняков: откровением...»3 Фильмы Гриффита безотказно
увлекали зрителя и манили к себе молодых создателей но-
вого кино, пытавшихся найти секрет их впечатляемости.
Искал его и С. Эйзенштейн и, отдавая должное выдаю-
щемуся режиссеру, собственным своим творчеством не-
устанно спорил с «великим американцем». Это был спор
о принципах «одного из наиболее могучих факторов воздей-
1 Валентин Туркин. Киноактер, стр. 63.
2 См.: Лев Кулешов. Практика кинорежиссуры, стр. 136.
3 С. Эйзенштейн. Диккенс, Гриффит и мы. В кн. Д.-У. Гриффит
(материалы по истории мирового киноискусства), т. I. М., Госкиноиздат,
1944, стр. 45.
ствия» — монтажа, его природе, его эстетической и социаль-
ной функции.
Кулешова в эти годы вопросы монтажа интересуют уже
меньше; он занят, скорее, проблемой жанра. Этим объяс-
няется его повышенное внимание к гриффитовской мело-
драме и, конечно, к ее актеру.
Любопытно сравнить восприятие актера Гриффита Куле-
шовым и Белой Балашем, этим страстным поклонником
актера в кино, видевшим в нем огромные потенции к созда-
нию глубоких психологических образов, достойных литера-
78 туры и театра, и где-то даже превосходящих их.
Кулешов и Балаш ищут у Гриффита психологизма, ко-
торый каждый из них понимает, по-своему. Балаш находит
«невидимое лицо», то есть не мимику актера, а то, что ее
наполняет, то, что — за ней, что идет «изнутри».
Он приводит эпизод из «Сломанных побегов» в исполнении
Лилиан Гиш. Героиня фильма — замученное, запуганное
дитя,' попадает к молодому китайцу и впервые чувствует
к себе доброе, нежное отношение. Несчастный ребенок не
умеет даже улыбаться, но покорно растягивает пальцами
губы в подобие улыбки, когда молодой человек, просит ее
улыбнуться. С этой маской улыбки девочка жалко смотрит
на своего друга и покровителя. «Но он, — пишет Балаш,—
отвечает на этот взгляд такой теплой, любовной улыбкой,
что сердце ее оживает и происходит чудо — мимическое
чудо, совершающееся на наших глазах: механически сде-
ланная, безжизненная гримаса превращается в патетическую
улыбку радости без малейшего видимого изменения, без вся-
кого движения линий рта».1
Кулешов «лица» не ищет. Оно может быть ему интересно,
но тогда оно должно быть лицом Конрада Фейдта, как будто
созданным «по всем правилам кинематографической выра-
зительности». В лице знаменитого артиста, лице экзальти-
рованном, по словам Балаша, почти экспрессионистском, Ку-
лешова привлекает его способность пластически выражать
«внутреннюю значительность».1 2
Но еще больше режиссера интересует «психологическая
работа сочлений», которую он находит у актеров Гриффита.
Он убежден, что руки и ноги человека — самые выразитель-
ные части тела; что руки, например, могут выразить «бук-
вально все: происхождение, характер, здоровье, профессию,
отношение человека к явлениям.. .»3 И потому у гриффи-
1 Бела Балаш. Невидимое лицо. Газ. «Кино», Л., 1926, № 23,
8 июня.
2 Лев Кулешов. Конрад Фейдт. «Кино-газета», 1923, № 7, 23 ок-
тября.
3Л. Кулешов. Работа рук. «Советский экран», 1926, № 11,
стр. 6—7.
товского актера он отмечает «покусывание губ, перебирание,
заплетение рук, трогание предметов и т. п.», то есть умение
«сложнейшими движениями своего механизма передавать
психологическое состояние».1
Если Гриффит был откровением для молодых кинемато-
графистов, то Чаплин был их кумиром. В связи с его твор-
чеством возникали вопросы самые разнообразные — и эсте-
тического и социологического порядка. Позже возник даже
термин «чаплинизм».
Для Кулешова Чаплин всегда был мечтой и загадкой.
«Что же это такое за человек, что за удивительный натур- 79
щик? Почему нас к нему так тянет и почему он так знаме-
нит?»— спрашивал он в 1922 году.* 2 Задача, на первый
взгляд казавшаяся такой простой, не решалась. Когда же,
в 1926 году, увидели первый режиссерский фильм Чаплина
«Парижанка», задача осложнилась еще больше. Фильм вы-
звал даже растерянность своей непохожестью на .привыч-
ного Чаплина, и тогда именно прозвучал призыв одного из
критиков: «... Подождите вертеть — вглядитесь в «Пари-
жанку» Чаплина!»3
Кулешов вглядывался.
Перед ним была психологическая драма, почти прими-
тивная, почти сентиментальная, без обычных для Чаплина
трюков и без всякого «чистого движения».
И так же, как в лентах Гриффита, Кулешов находит
в «Парижанке» свое — то, что нужно будет ему для его
психологического фильма: «Чаплин свел почти на нет эле-
ментарный показ переживаний на лице. Он демонстрирует
поведение человека в различных ,случаях его жизни через
общение с вещами, с предметами».4
Такой или почти такой мыслилась игра актера и самому
Кулешову.
8. Еще каких-нибудь два года — и в кинотеории и прак-
тике проблемы жанра и актера выдвинутся на передний план.
Сейчас, в 1926 году, они только намечаются.
Но уже фэксы объявляют о своем намерении приступить
к созданию «психо-драмы»: «Мы... постараемся не убояться
таких заплеванных в последнее пятилетие слов, как «эмо-
ция», «медленный монтаж», «игра актера».5
‘Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 104.
2 Лев Кулешов. Если теперь... «Кино-фронт», 1922, № 3, стр. 4—5
’Хрисанф Херсонский. Чаплин-режиссер. «Кино-фронт», 1926.
№2-3, №5—6.
4 Лев Кулешов. Искусство кино, стр. 104—105.
5 Леонид Трауберг. Фэксы о себе. Газ. «Кино», 1926, № 12
(132), 23 марта.
Недавно пришедший из театра А. Роом декларирует:
«Преимущественное значение в картине принадлежит жи-
вому человеку. Настоящее кино там, где оно -эмоционально
насыщенно, где экран безошибочно воздействует на зри-
теля... Таким образом, выступает на, первый план актер,
подающий зрителю всего человека».1
В том же 1926 году выходит актерская картина В. Пу-
довкина «Мать».
Кулешов шел, таким образом, в общем русле движения
советской кинематографии. Но самое намерение поставить
80 психологическую драму «чисто кинематографическими метс£
дами» возникло, как мы видели, не извне, а изнутри; оно
было естественным результатом творческой эволюции режис-
сера.
Нечто подобное происходило и с выработкой методов
актерской игры. Как раз в эти годы делаются попытки найти
такие методы на основе рефлексологических теорий, которые
кажутся более научными и совершенными, нежели система
переживания Станиславского, опиравшаяся на традицион-
ную психологию.1 2 В конце 1926 года была даже создана
экспериментальная лаборатория по научному изучению и вы-
работке методики кинообразования актера.
Но метод игры в фильме «По закону» был продемонстри-
рован коллективом1 Кулешова пятью годами раньше — еще
в период постановки учебных этюдов в Государственной
школе кинематографии. В их числе был этюд «Золото»,
в котором были заняты Хохлова, Пудовкин и Подобед и
который Кулешов считал «предком» картины «По закону».
Сюжет его был весьма несложен. Трое грабителей крадут
золото. Каждый движим стремлением присвоить это золото
себе. Пудовкин подсыпает Подобеду в чай стрихнин, Хох-
лова убивает Пудовкина ножом, а отравленный Подобед
стреляет в Хохлову. «Когда все трое уже окончательно
умерли, этюд кончался».
Сначала Кулешов пытался ставить этюд методом пере-
живания. Но ничего не получалось, и тогда, — вспоминал
он, — «я... начал ставить буквально каждое движение, каж-
дый сантиметр, а актеры... увязывали эти схемы с настоя-
щим чувством». Режиссер обращал внимание на то, что
«этюд «Золото» явился первой вещью, построенной... на
очень четких и ясно построенных движениях», то есть, что
«это была первая кинематографическая вещь».3
В, кинодраме «По закону» Кулешов также отказывается
от метода переживания, избирая путь не «от эмоции
1 А. Роом. Мои киноубеждения. «Советский экран», 1926, № 8,стр.5.
2 См., напр.: Ипполит Соколов. Метода игры перед киноаппа-
ратом. «Кино-фронт», 1927, № 5, стр. 10—14.
’Лев Кулешов. Практика кинорежиссуры, стр. 162—164.
к образу» а «от движения к эмоции и потом уже к об-
разу».1
В психологической драме «американизм» держал экзамен.
За основу сценария «По закону» был взят рассказ Джека
Лондона «Неожиданное».
При богатстве и напряженности внутреннего сюжета рас-
сказа его фабульная основа крайне проста. Ситуация его
основной части — это два человека, дни и ночи стерегущие
третьего. Этот третий связан — следовательно, физически
просто неподвижен. Внимание .охраняющих приковано только
к нему — тем самым они тоже ограничены в передвижении. 81
В фильме Кулешов сохранил те же пропорции. Внешнее
движение кончается в самом начале картины, когда веселый
ужин четырех золотоискателей прерывается неожиданными
зловещими выстрелами пятого — Майкла Дейнина. Два вы-
стрела, во имя золота лишившие жизни двух его товарищей;
затем мгновенная схватка с ним Эдит и Ганса — и Дейнин
связан.
А дальше — описанная выше ситуация, то есть ожидание
преступником наказания и оттягивание его «судьями»
впредь до законного суда.
Обращение режиссера к внешне бездейственному сюжету
воспринято было одним из критиков как отрицание Кулешо-
вым «американизма кинематографического».1 2
Но Кулешов точно шел в русле своей системы.
В данном случае его как раз привлекла возможность пе-
редать ее средствами внутреннее движение. Рассказ предо-
ставлял для этого широкие возможности. Одна из основных
его особенностей — яркое внешнее проявление душевных со-
стояний героев.
«... Глаза Эдит дико блуждали от одной подробности
схватки к другой». Валялся перевернутый стул, Дейнцн ле-
жал на ружье, из его правой руки выпали два патрона.
«Немчура склонился над столом, погрузив рыжую бороду
в тарелку с кашей и приподняв тарелку под углом в сорок
пять градусов. Эта приподнятая тарелка зачаровала ее. По-
чему она до, сих пор не упала? Как это странно. Даже если
только что убит человек или несколько человек, нестерпимо
видеть тарелку, стоящую в наклонном положении на столе.
Она посмотрела на Дейнина, но ее взор вернулся к на-
клоненной тарелке. Это было так смешно! Она почувствовала
истерический позыв к смеху...»
Или:
«Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела возле
пленника с заряженным ружьем на коленях, глаза ее начи-
1 Лев Кулешов. Практика кинорежиссуры, стр. 102.
2 А. Курс. Заметки для себя («По закону»). Газ. «Кино», 1926, № 36
(156), 7 сентября.
4 Т. Ф. Селезнева
нали смыкаться и ее начинала охватывать дремота. Но она
тотчас же вскакивала, как от укуса, хватаясь за ружье и
бросая быстрый взгляд на Дейнина. Это были нервные
толчки, весьма плохо отзывавшиеся на ней. Так велика была
ее боязнь этого человека, что даже в те минуты, когда она
бодрствовала, стоило ему двинуться под одеялом, как она
невольно вскакивала и быстро схватывала ружье».
Такие сцены были для Кулешова готовым режиссерским
сценарием и воспроизведены в фильме буквально.
Более того, некоторые эпизоды рассказа, слишком сжа-
82 тые, Кулешов развивает сам, последовательно проведя тот
же принцип — передачи внутренних состояний простейшей
двигательной реакцией. Как раз эти эпизоды критика отме-
тила как пример «кинематографической игры» его актеров.
После убийства и схватки с Дейниным Ганс бессмыслен-
но движется по комнате. Ему что-то нужно сделать, что — он
никак не может понять или вспомнить. Он автоматически
снимает с огня чайник, пытается убрать со стола и т. д. На-
конец, находит: кровавое пятно на полу. Это оно так беспо-
коило— и Ганс яростно начинает его соскабливать.
Кулешов вскрывает семантику двигательного автома-
тизма. Он может сделать это, не выходя за пределы своей
системы.
В фильме Дейнин убивает одного товарища, а другого
ранит. Ганс и Эдит еще надеются, что он выживет. Ганс вхо-
дит в дом, снимает шапку, вешает ее на гвоздь и узнает, что
раненый умер. Ганс растерян — он машинально поднимает
руку к обнаженной голове, будто собираясь снять шапку.
Никаких «переживательных» реакций на лице Ганса—Ко-
марова мы не заметим. Оно непроницаемо, хотя он испыты-
вает и волнение, и растерянность, и смятение. Кулешов убеж-
ден, что «находящийся в состоянии аффектации человек го-
ворит о себе, о своих мыслям, волнениях, переживаниях —
своей устремленностью, двигательными рефлексами».1 То,
что испытывает Ганс — это «нарушение нормального состоя-
ния психики», и критика проницательно заметила, что Куле-
шов передает его «теми движениями, которые одни только и
выдают подобные состояния: движения ошибочные, авто-
матические, бессознательные».2 Развивая эти сценки, Ку-
лешов оказывается предельно близок к Лоидону-«бихевио-
ристу».
Однако, как только мы обратимся к Эдит — главному дей-
ствующему лицу, с которым связаны самые сложные пси-
хологические коллизии в рассказе и фильме, положение ока-
жется иным.
1 Я. Б ру ксон. Творчество кино. Л., Изд-во «Колос», 1926, стр. 14.
2 А. Курс. Самое могущественное. М.—Л., Теакинопечать, 1927,
стр. 75.
Перед нами заключительная сцена рассказа — сцена
казни Дейнина. Эдит измучена до предела — и морально и
физически. Все остатки душевных сил собраны ею для того,
чтобы этого не выдать, скрыть свой ужас перед тем, что
ей предстоит сейчас сделать: убить человека. А жертва не
кричит, не бьется, даже шутит. Эдит хотелось в эти минуты
«пронзительно завизжать, броситься в снег, закрыть лицо
руками и слепо бежать отсюда...». Но это — последнее ее ис-
пытание, и хотя голос ее становится хриплым и подкаши-
ваются ноги, она неженским усилием воли сдерживает себя.
И Ганс, который столько раз порывался прикончить Дей- 83
инна, начинает теперь понимать, насколько это тяжко, почти
невозможно.
Как «кинематографически» выразить это «хотелось за-
визжать»? Как передать состояние Ганса, чувствующего свое
полное бессилие? Кулешов пытается перевести его в дина-
мический план — и вот на экране высоко вскинутые брови и
безумные глаза Эдит, почти цирковое движение ее ноги, вы-
бивающей бочонок из-под Дейнина, конвульсивные движе-
ния ее сверхнапряженных рук, и намеренно застывшая
в своей неподвижности спина Ганса с поднятыми плечами.
Режиссер использует все возможные средства, которые
должны помочь актеру, — и в первую очередь те, которые
так привлекали его в фильме Чаплина — вещи.
Отношение героя к вещи, его способы общения с нею яв-
ляются тончайшим индикатором его душевного состояния.
Такой вывод, как мы помним, сделал Кулешов, изучая «се-
креты» чаплинской «Парижанки». Это эмпирическое наблю-
дение он измерил и рассчитал, превратив в заранее задан-
ное, непременное условие. Каждая вещь в его фильме вы-
полняет определенную функцию, она служит актеру, — и как
будто ведет его за собой. Она словно диктует ему его со-
стояние. Бритва в руках Ганса, бреющего Дейнина, вызы-
вает в нем с трудом преодолеваемое желание полоснуть
пленника по горлу; молитвенник в руках Эдит мгновенно де-
лает ее фанатичной, болезненно-экстатичной. Если в часы.
ночных дозоров в руках ее оказывается ружье—ее руки
стискивают оружие, тело напряженно вытягивается, сжи-
мается рот... Вещь получает то самодовлеющее значение,
которого не было у Чаплина.
Вещи у Кулешова непрерывно «играют», так же как не-
прерывно «играют» актеры. Режиссер не позволяет им ни на
минуту оставаться бездейственными, пассивными. Как это
было в этюде «Золото», каждый момент разложенного актер-
ского движения продуман, выверен и передан с математи-
ческой точностью. Эти моменты следуют один за другим,
контакт актеров Кулешова беспрерывен — в этом отношении
ему мог бы позавидовать сам Станиславский.
Но контакт этот достигался ценою непоправимых потерь.
Это был контакт спортивной игры, где каждый молниеносно
и «по правилам» реагирует на движения партнера. Правила
очень скоро становились знакомыми, их уже можно было
предугадать. Если Дейнин шевельнется во сне — то охраняю-
щий его Ганс должен немедленно вскинуться; если Дейнин
встряхнул развязанными руками — Эдит должна в испуге
отшатнуться.
Актер Кулешова делал все возможное в тех пределах,
которые предоставлял ему «американизм». Но система, осно-
84 ванная на понимании психологии как цепи двигательных
реакций, жестко ограничила его возможности, поставив ему
точные и узкие границы.
Прежде всего она поставила предел развитию человече-
ских характеров. Система такого развития не требовала —
она требовала «логики поведения» в каждый отдельный мо-
мент. Она должна была прийти в противоречие с сюжетным
заданием фильма.
В первые дни после совершенного преступления была по-
нятна бессильная ненависть Дейнина, были оправданы и
ужас Эдит перед совершенным, и с трудом сдерживаемое
делание Ганса поскорее расправиться с убийцей.
Шли дни, недели, месяцы совместного существования, и
то, что казалось вначале понятным и логичным, теряло свой
смысл и оправдание. Отношения трех героев не упростились,
а осложнились. Теперь преступник стал лицом страдатель-
ным, справедливость его судей превратилась в садизм и бес-
смысленность, ясно ими осознаваемые. Положение оказалось
почти безвыходным, и люди страдали, но по-иному, чем в на-
чале фильма.
Показать это иное фильм Кулешова был бессилен.
С точки зрения «логики поведения» разницы не должно было
существовать, и ее не существовало. Ее не было даже в по-
ведении Эдит — носительницы основного сюжетного кон-
фликта,— и мы не в силах уловить принципиальных разли-
чий между: ее реакцией после выстрелов Дейнина; ее нерв-
ным расстройством, вызванным бессонными ночами; почти
безумием ее в сцене казни. Ужас Эдит, внутренняя борьба,
страх перед Дейнином, страх за мужа, который вот-вот сам
расправится с осточертевшим ему преступником, наконец, ее
истерика в последней сцене — истерика от ощущения внут-
реннего освобождения, победы над самой собой, — все эти
оттенки исчезли. Рефлекторная система их не учитывала, ибо
для нее истерика есть истерика, какими бы причинами она
ни была вызвана.
Здесь произошла совершенно неожиданная вещь: Хохлова
в моменты аффективного состояния стала пользоваться сред-
ствами, очень похожими на игру актеров старой мелодрамы —
те же заламывания рук, конвульсивные движения, то же «та-
ращение глаз». Это выглядело тем заметнее, что игралось
всерьез, не так как в «Мистере Весте» с его откровенно па-
родийным заданием.
Жесткая система, исключавшая «нюансы, переходные,
смутные, переливающиеся грани» сковала возможности
актера, и это доказала А. Хохлова, лучшая актриса Куле-
шова. Она заставила вспомнить слова В. Б. Шкловского,
написанные им еще до выхода «По закону»: «У Кулешова
есть вина, — писал он. — Он не нашел для Хохловой сцена-
рия... Мы не видим <ее> в том жанре, в котором она
должна работать — в психологическом фильме».1
В. Б. Шкловскому предоставлялась возможность «спасти»
актрису — сценарий «По закону» писал он. Но дело было не
в сценарии. Кулешов-режиссер не мог предложить ей иной
системы, чем та, которую он последовательно развивал и ко-
торая для актрисы оказалась узка.
Впрочем, дважды Хохлова, сама того не желая, «прорва-
лась» за твердые границы, ей отведенные, и тогда зритель
увидел ее «лицо». Оно только мелькнуло, и, казалось, это про-
изошло потому, что актриса устала от непрерывного дви-
жения. Она перестала следить за «системой» — и на какое-то
мгновенье поддалась искушению выразить внутреннее со-
стояние средствами психологической игры. Мы имеем в виду
мимолетный эпизод с часами, подаренными Дейнином Эдит
в день ее рождения, — тот эпизод, который был отмечен кри-
тикой как образец тонкого мастерства.1 2
Хохлова разглядывает часы, держа, их за цепочку, слегка
раскачивая. Свободная поза; на лице — п-лусмущенная,
полуудивленная улыбка, светлые и неожиданно мягкие
глаза. Это лийо, выражение которого можно домысливать.
И почти то же — в заключительной сцене фильма, koi да со-
вершилась казнь, и Ганс и Эдит, уже успокоившиеся, сидят
в хижине. Внезапно медленно открывается дверь, впустив
дождевой вихрь, и так же медленно на пороге вырастает
«повешенный» Дейнин с обрывком веревки на шее. Не-
сколько секунд абсолютной и естественной неподвижности.
И за эти несколько секунд в глазах Эдит—Хохловой про-
мелькнуло «нерассчитанное»: испуг, оторопелость и что-то
похожее на радость.
Дейнин бросает судьям веревку. «На счастье», — усме-
хается он и уходит в дождь.
Эта актерская сценка, кстати, отсутствующая у Лон-
дона,— отлична от остальных и в высшей степени симптома-
1 В. Шкловский, С. Эйзенштейн. А. Хохлова. М., Кинопечать,
1926, стр. 14.
2 А. Курс. Заметки для себя. Газ. «Кино», 1926, Хе 36 (156), 7 сен-
тября.
85
тична. Она принадлежит тому, что можно назвать «неожи-
данным» в рассчитанном фильме Кулешова.
Когда Кулешов совершенствовал систему Дельсарта, бо-
рясь с ее статичностью, он перевел ее в процесс: главное не
статика, главное то, что между двумя статичными состоя-
ниями, то есть движение.
Любое внутреннее состояние поддается передаче движе-
нием внешним, которое гарантирует определенное восприя-
тие этого внутреннего, отметая, исключая всякие его разно-
чтения. Так думал Кулешов.
86 Оказалось, что психология внешним движением пе исчер-
пывается и не передается полностью. Оказалось, что она за-
ключает в себе нечто, не поддающееся механически-действен-
ному выражению, то есть то, что гнездится где-то между
двигательными реакциями. Внутреннее движение порой тре-
бовало внешнего бездействия, статики.
Это было не парадоксом, это было диалектикой. Практика
режиссера как будто сама подсказывала ему, что нужно
уточнить и расширить понимание движения. Но Кулешов
не сделал этого — и механистическая крайность системы на-
чала мстить своему создателю.
Актеру Кулешова, на своей узкой площадке, не спра-
виться было с «внутренним движением», которое оказывалось
шире и сильнее актера, режиссера и его системы. Изгоняемое
из актерской игры, искусственно сдерживаемое, оно стало
«распирать» систему изнутри, прорываясь в менее защищен-
ных местах.
Так появились в стилистике фильма элементы, чуждые
прежнему Кулешову и никак не предусмотренные в его си-
стеме.
Система не допускала статичности,— напряжение вещи
всецело создавалось непрерывной динамикой,— так было
в «Проекте инженера Прайта», в «Мистере Весте», так было
в «Луче смерти».
В психологической драме «По закону» появились целые
куски, необычайные по выразительности, напряженность ко-
торых достигалась иными средствами.
Трудно себе представить чтобы в насквозь рациональной
системе Кулешова нашлось бы вдруг место андреевскому
; «что-то».1 Но оно возникло в той самой заключительной сцене,
когда неожиданно как будто сама ио себе вдруг открывается
дверь хижины, создавая ощущение чего-то таинственно-пу-
гающего, необъяснимого...
Точно рассчитанный кадр Кулешова с его изысканным ла-
конизмом оставался. Но где-то он неожиданно начинал пре-
1 А. Арсен. Социальное значение картины «По закону». «Кнно-
фронт», 1926, Ns 9-10, стр. 31.
вращаться в живописно-литературный ассоциативный кадр —
вещь, совершенно для Кулешова недопустимая. Таким был
знаменитый кадр шествия к месту казни — кульминация
вещи. По композиционному совершенству и выверенное™
он стал классическим; кадр принадлежал к тем, которые кри-
тика отмечала ‘как стоящие «вровень с кадрами «Пари-
жанки».1
Низкий горизонт, справа — чуть склоненная северная со-
сна. Слева к ней движется процессия. Впереди — экспрессив-
ная фигура Эдит — разметавшиеся волосы, почти невидящий
взгляд, Библия в резко выброшенной вперед руке. Следом 87
с трудом передвигает ноги Дейнин, как бы придавленный тя-
жестью к земле, со связанными за спиной руками. Ганс
с ружьем наперевес заключает процессию. Кадр вызвал не-
медленную и справедливую ассоциацию: «Голгофа», «вариа-
ция сотни раз воспроизведенной в сотнях разных картин
казни Христа». Его деталь — крупный план Эдит с поднятыми
руками — была воспринята как «буквальное изложение еван-
гельского речевого оборота «руки воздетые горе».1 2 Принци-
пиально безассоциативная система «американизма» уступала
позиции, допуская «разработанные образцы художественной
мысли», и даже, как заметили рецензенты, из области «рели-
гиозной романтики»...
Исследователи творчества Кулешова неизменно обращают
внимание на одну сцену фильма, которая считается едва ли
не лучшей. Это сцена похорон убитых.
Ганс и Эдит хоронят погибших товарищей. Ураганный
ветер рвет открытые'двери, когда выносят трупы. Хлещет
ливень, двое тянут самодельные дроги, ноги вязнут, скользят,
людей швыряет, они падают, чтобы снова подняться и идти.
В это время связанному по рукам и ногам Дейнину уда-
ется упасть с кровати. Катясь и извиваясь, он добирается
до двери, а открыв ее, оказывается под потоками воды, на ве-
тру— и затихает тут же, обессиленный... Возле могил ме-
чется в истерике Эдит, в жидкой грязи под хлещущим
дождем.
Сцена длинная; главное в ней — не актеры, они на вто-
ром плане. Главное — «ожившая» природа, тревожно мятуща-
яся, возмущенная, негодующая. Она создает то, чего также
прежде не было у Кулешова — настроение, атмосферу. Сцена
сюжета не движет, драматургически она статична, критика
даже восприняла ее как лишнюю.3 Определение было неточ-
1 Мих. Левидо в. Новелла Кулешова. Газ. «Кино», 1926, № 36 (156),
7 сентября.
2 А. А р с е и. Социальное значение картины «По закону». «Кино-
фронт», 1926, №9-10, стр. 30.
3 Там же.
ным, точным было восприятие: она была лишней в системе
Кулешова — кульминация психологического напряжения до-
стигнута в ней также за счет отказа от внешнего дви-
жения.
Вторгшиеся в фильм чужеродные средства создали ту
крайнюю напряженность, которая оказалась еще одной харак-
терной особенностью кулешовской драмы.
Эта напряженность возникла даже там, где не должна
была, не могла возникнуть — в актерской сфере. Но показать
«логику поведения индивидуума в чрезвычайных условиях»,
88 как того требовало задание фильма, кулешовский натурщик
мог только одним способом: количественно наращивая, сгу-
щая изначально заданные, строго определенные состояния —
страха, ненависти, утомления, взвинченности. Отсюда — от-
меченное критикой обилие «крайних граней», «высоких нот»
и «восклицательных знаков» в ленте Кулешова...
«Американизм» менялся в своем качестве.
Когда критика отмечала напряженность кулешовского
фильма, она сближала его метод с методами ранних агит-
фильмов с их «высоким тоном» и утрированностью, доведен-
ной до неправдоподобия. Но существовала иная художест-
венная система, более высокая и близкая Кулешову по вре-
мени, сравнение с которой напрашивается само собой. То,
что предстало в «По закону» как «невыносимое обсасывание
томительной грязи положений» и «смакование депрессивного
материала»,1 было, в сущности, аналогом эйзенштейновского
«аттракциона», уже заявившего о себе в кинематографе. Ана-
логом, но одновременно антиподом,— «аттракционность» и
«американизм» были два прямо противоположных метода ху-
дожественного общения со зрителем, который и для Эй-
зенштейна и для Кулешова был первой точкой отсчета.
Предельное сгущение эмоции, доведение зрителя до со-
стояния аффекта, бывшие особенностью кинематографа
Эйзенштейна, объяснялись стремлением создать искусство
агитационное, стимулирующее к непосредственному дейст-
вию,— то, что Эйзенштейн называл повышением потенциаль-
ного классового тонуса.1 2 Такое искусство должно было отка-
заться от предоставления зрителю немедленной психической
разрядки, которая рассматривалась Эйзенштейном как уга-
сание активности.
Кулешов в «По закону» как будто поставил себе ту же
задачу — вызвать у зрителя сильные эмоции — гнева, сар-
казма, негодования на ханжескую буржуазную, мораль и за-
1 См.: Вл. Недоброе о. «По закону». «Жизнь искусства», 1926,
№ 51, стр. 16; А. Арсен. Социальное значение картины «По закону».
«Кино-фронт», 1926, №9-10.
2 С. М. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах,
т. 1, стр. 117.
коны. Но в то же время не отказался и от обязательного для
него хеппи энда, кстати, отсутствующего у Лондона.
Как бы ни видоизменялся «американизм», он не был рас-
считан на решение таких художественных задач. Вместо чув-
ства гнева и сарказма, по убеждению критики, зрителя ожи-
дали «испорченное пищеварение» и «ночные кошмары».1
Конечным психологическим эффектом картины оказывалось
состояние эмоциональной угнетенности, и благополучный фи-
нал лишь усугублял ощущение бессмысленности и тягостно-
сти происшедшего.
Мало того. Герои фильма оказались фигурами абстракт-
ными. У них был внешний облик, но не было характеров, и
критики предсказывали, что эмоцией зрителя будет не сочув-
ствие, а столь же абстрактный интерес.1 2 Сам режиссер, по-
видимому, затруднился бы определить, кому из героев дол-
жен отдат^ свое сочувствие зритель. Это уже была критика
с позиций самого «американизма», который требовал, чтобы
зрительские симпатии были на стороне одного и непременно
положительного героя.
Наконец, фильм обладал еще одним качеством, совер-
шенно противопоказанным «американизму» — он был сложен.
Фильм был рассчитан на «сугубо культурного зрителя».
Как же могли появиться в фильме Кулешова эти «чуже-
родные» элементы? Ведь ни один художник, тем более кино-
режиссер не творит по наитию. Он многократно просматри-
вает и отбирает отснятый материал, и Кулешов, почувство-
вав чужое, Должен был бы заменить кусок или сцепу.
Если в фильме «По закону» этого не случилось, значило ли
это, что автор «американизма» .сознательно отказывается
от своей системы? Отнюдь нет. Напротив, он стремился про-
водить ее принципы как можно более точно.
Но сам «американизм» экзамена на прочность и жизне-
способность не выдержал. Он перерождался. Из первона-
чально стройной системы возникало нечто иное, в существе
своем эклектичное, хотя и помнившее свое родство. Это эк-
лектическое несло в себе потенции «высокой» кинематогра-
фии— и авантюрной, и ассоциативной — всякой. Сама же
система должна была погибнуть, и она погибла^— но ее ра-
циональные зерна остались.
9. «По закону» можно считать высшим возможным до-
стижением в области психологичёского фильма, построенного
на механистическом понимании поведения.
89
1 Вл. Недоброе о. «По закону». «Жизнь искусства:», 1926, № 51.
2 В. Перцов. Социальное значение картины «По закону». «Кино-
фронт», 1926, № 9-10, стр. 28.
Предприняв первым такую попытку, Кулешов показал
и возможности такого фильма, и пределы этих возможностей.
Путь был явно бесперспективный, и развитие советского пси-
хологического фильма закономерно пошло по иному пути.
«По закону» также'можно считать лучшей работой Куле-
шова и последним достижением «американизма», который
в пей, по существу, кончился.
Как эстетическая система, как целое «американизм»
не имел потенций к развитию. Система была слишком жест-
кой, слишком в самой себе замкнутой и негибкой и не смогла
90 противостоять разрушительному натиску изнутри. Существо-
вание ее было недолговечным, и ни одного шедевра новой
советской кинематографии она не принесла.
Но не будем забывать, что она была первой сознательно
организованной кинематографической системой в советском
кино, системой, адресованной зрителю и воспитавшей первую
группу советских киноактеров.
Актер, прошедший эту школу, получился странным и про-
изводил впечатление некоторой неестественности. Его «кине-
матографичность» чаще воспринималась как движение «точ-
ками, толчками, рывками, кусочками, пунктиром».1 Эти
особенности действительно отличали кулешовского натур-
щика, и они ограничивали возможности актера. Но они,
в свою очередь, были производным от плодотворной для
киноискусства идеи членения движения, которой кинемато-
граф также обязан Кулешову.
Расчленив движение на отдельные моменты, автор идеи
остановился, полагая цель достигнутой. Для своих фильмов
он избрал движение механическое, и сложные формы дви-
жения предстали у него в виде арифметической суммы про-
стейших двигательных актов.
Что движение — это синтез, что это не сумма, а произве-
дение,— это скажет.не он. Это скажет другой первооткрыва-
тель, создатель иной кинематографической системы, стоящей
на несколько ступеней выше. В ней кулешовское расчлененное
движение, осложненное и преобразованное, явится как новое
открытие кинематографии — вертикальный монтаж.
Но чтобы Эйзенштейн смог оспорить утверждение «кадр-
буква, кирпичик» и противопоставить ему диалектический
«кадр-ячейку», Кулешов должен был сначала найти самый
«кирпичик» — единицу кинематографического движения. Он
сначала должен был дать идею, от которой можно было бы
оттолкнуться.
Один из современных Кулешову критиков сравнивал его
роль в становлении новой кинематографии с ролью трамп-
1 Ипполит Соколов. Методы игры перед киноаппаратом. «Ки-
но-фронт», 1927, № 5, стр. 13.
лина, от которого надо обязательно оттолкнуться,— «ибо, если
не оттолкнешься, не будет прыжка». Но, с другой стороны,
утверждал тот же критик, без этого трамплина «прыжка не
сделаешь».1 Это совершенно справедливо.
Именно это имел в виду В. Перцов, когда, заканчивая свой
анализ фильма «По закону», писал: «...Три четверти дейст-
вующих сейчас выдающихся наших режиссеров или прошло
через учебу у Кулешова, или связано с его работой в боль-
шей или меньшей степени... Общее мнение утвердило за ним
несколько враждебную кличку «формалиста». Но Кулешов
«родил» Эйзенштейна и Пудовкина. Формалист оказался
исключительно удачливым по части «материалистического»
потомства.. .»1 2
И если Кулешов как индивидуальный художник остался
в стороне от общего развития советской кинематографии, его
перегнавшей, то, тем не менее, его новаторство сомнению под-
лежать не должно.
1 А. Арсен. Социальное значение картины «По закону». «Кино-
фронт», 1926, № 9-10.
2 В. Перцов. Социальное значение картины «По закону». «Кино-
фронт», 1926, № 9-10.
ЧЕТВЕРТАЯ
«ВТОРОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПЕРИОД».
С. ЭЙЗЕНШТЕЙН
1. К тому времени, когда возник кинематограф Эйзен-
штейна, самоопределение кино как искусства, казалось, было
закончено. Кинематограф' определил уже свою специфику.
Частные его проблемы были разработаны с возможной, по-
видимому, полнотой. «Фотогения» в ее деллюковском пони-
мании провела грань между кино и живописью. Дискуссия
о «Кабинете доктора Калигари» закрепила эту грань, объявив
единственно возможным для кино материал реальный, пред-
метный, а не писанный на холсте. Открытие монтажа позво-
лило найти собственные, специфически кинематографические
средства организации этого реального материала и тем са-
мым отмежеваться от театра, скованного единством сцени-
ческой площадки. Фотогения и монтаж дали также возмож-
ность изменить актера. У кинематографа появился свой
актер, и это была одна из наиболее серьезных побед его над
театром.
Реальность материала, кинематографическая игра и мон-
таж были теми основными компонентами, из которых склады-
валось искусство кино к середине 1920-х годов. Каждым
из этих компонентов кинематограф пользовался достаточно
свободно, и суверенность кино отныне, очевидно, была акси-
омой и как аксиома переоценке не подлежала.
Однако понадобился кинематограф Эйзенштейна для того,
чтобы это самоопределение состоялось de facto, чтобы после
двух десятилетий осмысления нового искусства были закрыты
все пути для проведения поверхностных внешних аналогий
кино с искусствами смежными. Эйзенштейн завершил целый
этап в теории и практике кинематографа.
Но сделал он это не ранее, чем, как бы парадоксально это
ни звучало,— впустил в кинематограф все эти смежные искус-
ства, только через другие двери и на иных условиях.
Началось с литературы.
Порвать с литературой кинематографу оказалось гораздо
сложнее, чем с театром и живописью, даже новаторскому
кинематографу 1920-х годов. Понадобился Вертов с его мак-
симализмом, чтобы кинематограф мог избавиться от этой,
казалось, неизбежной зависимости. Требования освободиться
от «литературщины» и «театральщины», как мы помним,
были основными для кинематографистов-новаторов 1920-х го-
дов. Но проблема этими лозунгами не решалась — без лите-
ратурного материала кинематограф существовать не мог.
Эйзенштейн был во главе кинематографа новаторского. ч
Тем более странным может показаться заявление этого нова-
тора: «Пусть прошлое укорит... легкомысленных людей в из-
лишней заносчивости... в отношении литературы, которая
внесла многое и многое в это, казалось бы, беспрецедентное
искусство...»1 Заявление это не было простым возвратом
к давно отвергнутым взглядам. Оно отражало практику ки-
нематографа двадцатых годов. Кинематограф вступал в но- 93
вый этап: если на первых порах теория опережала практику,
то в середине 1920-х годов новый всплекс теоретической мысли
стал возможен только в результате и в теснейшей связи с раз-
витием самого кинематографа. Теория и практика объеди-
нились на высшем уровне — прежде всего в творчестве са-
мого Эйзенштейна, и именно у него возникло необыкновенно
любопытное и очень точное понятие «второго литературного
периода»,1 2 которое обозначило целую полосу в истории со-
ветской кинематографии. Она была представлена в первую
очередь кинематографом Эйзенштейна, фэксов и отчасти
Пудовкина.
Это обозначение носит типологический, исторический и
теоретический характер и очень важно для понимания не
только теории, но и практики крупнейших мастеров совет-
ского немого кипо. К анализу его мы и перейдем.
1926 год можно считать годом «нашествия» литературы
на кинематограф. В этом году в газете «Кино» появляется
целая серия статей, посвященных разнообразным вопросам
кинематографической поэтики. Авторами их были исследова-
тели литературы, занимавшиеся в ту пору прежде всего изу-
чением теоретических вопросов стиля: Ю. Н. Тынянов,
А. И. Пиотровский, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум,
Б. В. Казанский.
Всех этих людей, которым суждено было сыграть важную
роль в истории советской науки и литературы, влекли к себе
неизведанные области кинематографического . языка. Фило-
логи ощущали в нем, действительно, особый художественный
язык, организованный по своим законам, не менее, а, быть
может, более богатым, чем законы литературы. Перед иссле-
дователями открывалось обширное и манящее поле для на-
1 С. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах, т. 5.
М„ «Искусство», 1968, стр. 161, (Далее—Эйзенштейн, том, страница.)
2 См., напр.: «Понимание кило сейчас вступает во «второй литератур-
ный период» («Бела забывает ножницы», 1926), «Кинематография... вновь
возвращается в то состояние, которое я назвал... вторым литературным
периодом» (Предисловие к кн Г. Зебера «Техника кинотрюка», 1929).
блюдений, аналогий, выводов; возникал соблазн проверить
здесь многое из того, что было добыто на материале поэзии
и прозы. Соблазн был тем более велик, что «великий немой»
находился в очевидном, но неизвестно еще, в каком родстве
с искусством слова; они были похожи друг на друга как две
самостоятельные системы поэтической речи.
До 1926 года это было трудно почувствовать. Это обна-
ружилось в фильмах Эйзенштейна.
Таковы были первые плоды параллельного движения те-
ории и практики. Эйзенштейн с расчетом инженера и интуи-
94 цией художника создавал фильм; он вкладывал в его созда-
ние и теоретическую мысль, которая продолжала работать и
после того, как фильм был уже закончен; он осмысливал и
истолковывал результат своего труда. Разносторонность и
серьезность его занятий, которые с годами росли, сочетались
с настоящей одержимостью, какой-то страстью к кинемато-
графу. Режиссер и теоретик всю жизнь искал пути и способы
отражения и выражения в кинематографе революционной
действительности, искал адекватного ей языка. Его работа
становилась предметом анализа исследователей поэтики
в смежной области — литературе. Но и он не мог остаться
равнодушным к их заключениям и выводам. Все, что он чи-
тал, давало новую и новую пищу напряженной работе его
ума.
В его высказывании 1926 года: «Моим художественным
принципом было и остается не интуитивное творчество, а ра-
циональное, конструктивное построение воздействующих эле-
ментов; воздействие должно быть проанализировано и рас-
считано заранее, это самое важное...»1— есть, конечно,
немалая доля полемического преувеличения. Но есть и зерно
истины. В исследованиях Эйзенштейна кинематограф дейст-
вительно превращался в своеобразный сложный механизм,
который нужно было построить, чтобы изучать, и изучить,
чтобы построить. Да и полемика Эйзенштейна тоже была
оправдана. Уже в 1935 году произошел тот знаменитый обмен
репликами между Эйзенштейном и С. Васильевым, который
сохранили нам стенограммы Всесоюзного совещания работни-
ков кинематографии. Автор «Чапаева» выражал тогда опа-
сение, что Эйзенштейну грозит отрыв от практики. Опасение
многим тогда казалось справедливым: великий советский ре-
жиссер переживал в это время полосу творческих неудач.
Но это были неудачи Эйзенштейна, и они были тем отрица-
тельным результатом, который в экспериментальной работе
иной раз равен положительному. Эйзенштейн был экспери-
ментатором,— и понимал это. Он говорил своему оппоненту:
«...Я не на статуэтки смотрю и абстрактно созерцаю, когда
1 Эйзенштейн, т. 1, стр. Б44.
сижу в кабинете. Я работаю над проблемами, которые будут
двинуты подрастающему молодняку кинематографии. И если
я сижу и работаю в кабинете, то это для того, чтобы ты не
терял времени в кабинетах, а мог бы и дальше делать столь
замечательные картины, как твой «Чапаев».1
Вся последующая практика советского кинематографа
подтвердила правоту этих слов.
Эйзенштейн изучал механику, лингвистику, музыку, япон-
скую живопись и рефлексологию. Все это, составлявшее в со-
вокупности его творческую лабораторию, преломилось затем
у него в решение частных кинематографических проблем. 95
Но только в исследованиях по теории литературы, совершав-
шихся на его глазах, он нашел подход к стилю как к некоей
целостной системе, компоненты которой взаимосвязаны и
подчиняются внутренним законам связи и взаимовлияния.
Это вполне соответствовало складывающимся у него самого
представлениям о целостности, системности кинематографи-
ческого искусства.
Поэтому он не назвал вторую половину двадцатых годов
ни «рефлексологическим», ни «живописным», ни даже «му-
зыкальным» периодом. Он обозначил ее как «второй литера-
турный период», подчеркнув самое главное, то, что с его
точки зрения определяло существо происходящих в кино из-
менений.
2. Первым плодом «эскалации литературы» был сборник
статей «Поэтика кино», вышедший в свет в 1927 году.1 2 Сюда
вошли статьи . Б. Эйхенбаума («Проблемы киностили-
стики»), Б. Казанского («Природа кино»), В. Шкловского
(«Поэзия и проза в кинематографии»), А. Пиотровского
(«К теории киножанров») и, наконец, статья Ю. Тынянова
«Об основах кино», посвященная как раз интересующей нас
проблеме осмысления кино над особой художественной си-
стемы. Эта статья была естественным следствием и продол-
жением той работы, которую уже проделал Тынянов на ма-
териале стиха и на основе которой выросла его книга
«Проблемы поэтического языка» (1923).
Первое, что важно Тынянову,— временной, динамический
характер искусства кино. Это давно уже стало аксиомой,
не подлежащей ни обсуждению, ни осмыслению. Из этой ак-
сиомы, однако, Тынянов делает несколько важных выводов.
Первый вывод был уже получен им при исследовании
стиха и лишь применен для анализа киноискусства. Тыня-
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 128.
2 «Поэтика кино». М.—Л., Кинопечать, 1927.
нов рассматривает стих как единство, которое «не есть зам-
кнутая симметрическая целость», но «развертывающаяся
динамическая целостность». Между ее элементами «нет ста-
тического знака равенства или сложения, но всегда есть ди-
намический знак соотносительности и интеграции».1 Это спра-
ведливо и для единства кинематографического. Вывод важен,
и к нему придется еще неоднократно обращаться.
Второй вывод следует из определения кино как искусства
и касается общих вопросов эстетики кино. Для всякого ис-
кусства важен прежде всего не объект, а отношение к объ-
96 екту. Именно это отношение отличает искусство от неискус-
ства, литературное слово от простого разговора, кинемато-
граф— от фотографии.
Здесь Тынянову приходится вступить в полемику, которую
в ближайшем будущем продолжит Эйзенштейн. Он возражает
одному из крупнейших кинотеоретиков 1920-х годов — Беле
Балашу.
В 1925 году Балаш издал книгу под названием «Видимый
человек». Уже из самого названия книги становилось очевид-
ным, что именно Балаш считал основным «материалом» кино.
Таким «материалом» был для него человек, актер, обладав-
ший богатейшим арсеналом выразительного жеста, который
Балаш понимает очень широко. По существу, книга Балаша
была обоснованиём психологического актерского фильма, и
многие ее выводы сохранили свое значение до наших дней;
многое было принято уже кинематографией 1930-х годов.
Однако развернувшийся спор нам нужно оценить истори-
чески.
В середине 1920-х годов защита актерского кинемато-
графа могла быть только абстрактно-теоретической. Мы пом-
ним ту борьбу, которую вели ранние теоретики советского
кино против дореволюционной актерской кинематографии;
помним и те своеобразные пути, по которым двигался к' но-
вому психологическому кинематографу Л. Кулешов. Период
«отрицания актера» был закономерным и оставался таким
до тех пор, пока кинематограф не создал собственную си-
стему и собственную теорию. Книга Б*. Балаша появилась
как раз тогда, когда система и теория переживали трудный
и плодотворный момент, становления — «второй литератур-
ный период».
Создатели и теоретики системы должны были выступить
против книги Балашд. Они и выступили. Их аргументы ока-
зались довольно близкими.
Тынянов задал вопрос: какое же место занимает «видимый
человек» Балаша внутри этрй сложной кинематографической
1 Ю. Тынянов. Проблемы стихотворного языка. М., «Советский пи-
сатель», 1965, стр. 28.
целостности? Какова его специфическая функция? Подчиня-
ется ли он ее законам? Если теория Балаша не отвечает
на эти вопросы, то она неясна. Ведь «видимый человек», как
и «видимая вещь», не будучи преображен средствами искус-
ства, остается объектом «репродуктивно-материальным»,
принадлежащим больше фотографии, нежели киноискусству.
И Тынянов развертывает целое рассуждение о соотношении
кино и фотографии,— то есть о тех проблемах, которые по
сей день не перестают интересовать развивающуюся кино-
теорию.
В этом рассуждении Тынянов затрагивает вопрос, который
был очень важным для Эйзенштейна,— вопрос о сходстве и
различии фотографии и кинокадра и динамической природе
последнего. Анализ сущности фото приводит к парадоксаль-
ному, на первый взгляд, заключению: фотография деформи-
рует материал. И дело не только в том, что освещение, ра-
курс или поза делают портрет не совсем похожим на ориги-
нал. «Деформирование» неизбежно сопутствует даже самым
«похожим» фотографиям,— как портретным, так и пейзаж-
ным. Это происходит потому, что отснятый объект выделен,
вырван из общей связи, в которой он существует в природе,
как бы ни был бесхитростен ракурс и как бы пространно ни
было выделенное место. Самый факт фиксации поэтому
«в миллионы раз преувеличивает индивидуальные черты...
и как раз этим вызывает эффект «несходства».1 Деформация,
таким образом, в фотографии — качество невольное, неосоз-
нанное, это ее недостаток, если угодно, хотя слово «деформа-
ция» Тынянов употребляет не как оценку, а как термин.
Более того, как только группа предметов или предмет
оказываются выделенными, продолжает Тынянов, они пре-
вращаются в единство. Это единство подчиняется определен-
ному закону — закону тесноты соотношения, в которую всту-
пают предметы или элементы внутри него. Внутреннее
единство, тем самым, ведет к изменению, перераспределению
естественных соотношений между предметами или элементами.
На передний план могут выступать при. этом такие черты и
качества, которые не замечаются, когда это единство не было
таковым, а растворялось в более широком и общем контексте.
«Деформация», «непохожесть» увеличиваются.
Мысль о единстве как тесноте соотношений, о деформации
как перераспределении соотношений внутри этого единства
была также развита Тыняновым применительно к стиху. Эта
мысль оказалась удивительно плодотворной, будучи приме-
нена к кинематографу, в котором давно уже шли споры
о «мельчайших единицах» фильма и путях и способах их объ-
единения. Кадр для Тынянова — «такое же единство, как
97
1 «Поэтика кино», стр. 69.
фото, как замкнутая стиховая строка. В стиховой строке
по этому закону все слова, составляющие строку, находятся
в особом соотношении, в более тесном взаимодействии; поэ-
тому смысл стихового слова не тот, другой по сравнению не
только со всеми видами практической речи, но и по сравне-
нию с прозой. При этом все служебные словечки, все неза-
метные второстепенные слова нашей речи — становятся в сти-
хах необычайно заметны, значимы.
Так и в кадре — его единство перераспределяет смысловое
значение всех! вещей, и каждая вещь становится соотноси-
9® тельна с другими и с целым кадром».*
Именно поэтому и только поэтому Тынянов склонен был
уподоблять кино поэзии. И здесь нам необходимо сделать
небольшое отступление.
Слова «поэтическое кино» употреблялись многократно и
продолжают употребляться до нашего времени. При этом да-
леко не все критики видят разницу между «поэтическим» и
«поэтичным». Понятие «поэтическое кино» приобрело такую
многозначность, какой, вероятно, не имеет ни одно другое
определение.
В 1961 году Е. С. Добин в исследовании «Поэтика кино-
искусства» обратил внимание на пагубные последствия этой
терминологической путаницы. Он призвал уточнить «демар-
кационную линию» и провел ее между повествовательным
(прозаическим) и метафорическим (поэтическим) началами
в кино.2 Такое деление и принято в большинстве работ по-
следнего времени. «Поэтическое» и «прозаическое» кино ут-
вердилось как термины с типологическим значением, причем
широким и условным. В реальной практике не существует
«чисто поэтического» и «чисто прозаического» кино, подобно
тому, как и метафора вовсе не исключительное достояние
поэзии.
Выводы и определения Е. Добина представляются нам
совершенно справедливыми, и мы будем придерживаться того
понимания «прозаического» и «поэтического» кино, которое
обосновано в книге «Поэтика киноискусства».
Но при этом мы будем отделять проблему «поэтического
кино» от проблемы «кино и поэзия», которая, собственно, и
стоит в центре внимания критики 1920-х годов. Тынянов го-
ворил не о метафоре, а об общих законах построения,— и
в этом смысле для него всякий фильм вольно или невольно
был «поэтическим», так как всякий кадр фильма был подобен
стиховой строчке. Проблемы типологии возникли позже, уже
в 1930-е годы, когда окончательно сформировался тип «про-
заического», повествовательного кино.
1 «Поэтика кино», стр. 70.
2 Е. Добин. Поэтика киноискусства. (Повествование и метафора).
М., «Искусство», 1961, стр. 49.
Теперь мы можем вновь вернуться к статье Тынянова, где,
как мы видели, было дано определение кадра — элемента ки-
нематографии, имеющего в ней значение первостепенное.
Во всяком случае, такое значение придавал кадру Эйзен-
штейн, затрагивающий эту проблему почти во всех своих ра-
ботах. Мы не слишком погрешим против истины, если скажем,
что теория Эйзенштейна во многом начиналась с теории
кадра.
Тынянов устанавливает понятие «кадр-кусок» в противо-
вес обычному техническому пониманию кадра. Последним
пользовалась фотография и ранние теоретики кинематографа.
Кадр-кусок — это кадр, существующий непременно в кон-
тексте. Он представляет собою единство, но, в отличие
от фото, единство относительное. В этом смысле он подобен
слову, которое реализуется только в предложении.
Как будто оспаривая у Тынянова пальму первенства
в этом динамическом понимании кадра, Сергей Эйзенштейн
печатает в,газете «Кино» статью «Бела забывает ножницы».
«Бела» — это Бела Балаш. Даже противник у Тынянова
и Эйзенштейна оказывается общим. Эйзенштейн отвечал
на статью Балаша «О будущем фильмы», где критик для ут-
верждения своей позиции пользовался кинематографическим
опытом «Броненосца «Потемкина».1
«Кадр,— писал здесь Эйзенштейн,— только трактует пред-
мет в установке на использование его в сопоставлении с дру-
гими кусками. Характерно, Балаш всегда говорит: «картина»,
«кадр» и ни разу — «кусок»! Кадр — это только продление
отбора. Отбора именно этого предмета, а не другого — пред-
мета именно с этой точки, в этом «обрезе»... а не в другом.
И кинематографические условия создают «образ» из сопостав-
ления этих «обрезов».1 2
Итак, кадр — явление относительное. За кадром идет
следующий кадр. Эйзенштейн против «персонификации кино
в индивидуализированном кадре». «Бела забывает ножницы»,
сопоставление, контекст, то есть монтаж.
Об этой относительности кадра, как мы помним, говорил
и Кулешов. Но в практике, как мы тоже помним, Кулешов
это свойство кадра не использовал. На первых порах, по вос-
поминаниям самого Эйзенштейна, его привлекала идея абсо-
лютной относительности двух кадров, то есть точка зрения,
которую пытался обосновать своими экспериментами ранний
Кулешов. Эйзенштейна очень занимало открытое явление,
что «два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо
соединяются в новое представление, возникающее из этого
сопоставления как новое качество».3 Казалось заманчивым
1 Газ. «Кино», 1926, № 27 (147), 6 июня.
2 Э й зе н ш те й н, т. 2, стр. 277.
3 Там же, стр .157.
99
получать из двух кусков «некое третье», извлекать неожидан-
ные эффекты, меняя их контекст. «На этом,— писал он,—
во многом строится мудрое и злое искусство перемонтажа...
Какие запасы остроумия тратились подчас на это дело!»1 Эй-
зенштейн приводит пример перемонтажа эпизода из фильма
«Дантон» (в советском прокате «Гильотина»), Демулен от-
правлен на гильотину. К Робеспьеру вбегает потрясенный Дан-
тон. Робеспьер отворачивается и медленно утирает слезу.
И надпись — «Во имя свободы я должен был пожертвовать
другом...»
100 В немецком оригинале сцена выглядела так. Дантон дей-
ствительно вбегал к Робеспьеру и... плевал ему в лицо. Ро-
беспьер отворачивался и стирал с лица плевок, произнося
сквозь зубы угрозу Дантону. «Два маленьких надреза
в пленке,— пишет Эйзенштейн,— извлекли кусочек фильма —
от момента посыла плевка до попадания. И оскорбительность
плевка стала слезой сожаления по павшему другу.. .»2
Таким образом, относительность кадра-куска ранний Эй-
зенШтейн понимает так же, как Кулешов. Однако дальше
пути их расходятся. Уроки перемонтажа для обоих были раз-
личны. Не лишено значения, что перед Эйзенштейном и Куле-
шовым был разный материал. Эйзенштейн учился на перемон-
таже заграничных художественных лент,’он учился «вкла-
дывать в действие людей новое содержание и неожиданно
сопоставлять'куски». Кулешов и Шуб монтировали хронику,
то есть, «материал, трудно поддающийся режиссерской обра-
ботке».3
Опыты Кулешова были направлены к тому, чтобы лишить
кадр его конкретного содержания, преодолеть его. Это. была
не просто формальная игра. Кулешов выявил, тем самым,
одну сторону этого кадра — его мобильность, его гибкость.
Он ее абсолютизировал,— это было понятно в условиях поле-
мики, которую он вел. Отстаивая монтаж, его способность
«соединять все со всем», Кулешов попутно затронул про-
блему кадра и его свойств, выделив среди них то, которое
ему казалось главным — относительность значения.
И Эйзенштейн, и Кулешов экспериментировали, чтобы
сделать выводы теоретического порядка, которые затем лягут
в основу их творческой практики. Выводы были различными.
«Природа кинокадра,— пишет Эйзенштейн,— сильно от-
лична от природы слова, звука или всего иного. В отличие
от них, комплексность кинокуска, «кадра» гораздо более туго
поддается самостоятельной обработке. И поэтому взаимная
работа кадра и монтажа кажется гиперболизированной кар-
тиной этого процесса, свойственного всем искусствам, новта-
1 Эйзенштейн, т. 5, стр. 69.
2 Там же, стр. 70.
3 В. Шкловский. Их настоящее, стр. 81.
ком масштабе, что оно уже звучит новым качеством. Так или
иначе, рассматриваемый с точки зрения сопротивления мате-
риалов кинокадр в процессе обращения с ним, пожалуй, упор-
нее гранита. Эта сопротивляемость для него специфична. И
тяга его к полной фактической неизменяемости,^ пережившей
все этапы загибов и перегибов, гнездится глубоко в его при-
роде. Это его упорство во многом определило богатство форм
и разнообразие монтажного стиля... Минимально искаженный
природный фрагмент-кадр и большое остроумие в их сочета-
нии— монтаж».1 Начав*с «кулешовских» опытов, Эйзенштейн
натолкнулся в процессе работы на эту природную сопротив-
ляемость кадра и имел случай убедиться на практике, что
кадр является замкнутым единством. Таким образом, идея
относительности внутрикадрового содержания должна была
получить корректив. Относительность эта не беспредельна. Эй-
зенштейн отметил это, но одновременно отметил и другое —
многообразие свойств этого комплекса — кадра. Эти свойства
можно подчеркнуть или приглушить, создавая разный кон-
текст, разные сочетания. Отсюда требование «остроумия со-
четаний»— исходная посылка всех будущих монтажных тео-
рий Эйзенштейна.
Спор Эйзенштейна с Кулешовым относится, однако, уже
к более позднему времени и основывается уже на режис-
серском опыте Эйзенштейна. Он нужен был нам для того,
чтобы показать, как шло осмысление релятивности кадра,
к которому режиссеры пришли самостоятельно, от практи-
ческих опытов, задолго до появления статьи Тынянова. Те-
оретические работы 1926 года не открывали кинематографи-
ческих Америк. Значение их было в другом: в последователь-
ном рассмотрении кино как внутренне обусловленной
динамической системы.
Вместе с тем выдвинутая здесь идея смыслового контек-
ста имела непосредственное отношение и к режиссерской
практике, и, в частности, к последующим спорам Эйзен-
штейна с Кулешовым. Разное понимание кадра — это была
лишь небольшая часть их разногласий. Спор еще не на-
чался,— но Тынянов как будто предвосхищает его, сразу ста-
новясь на сторону Эйзенштейна: «Кадры в кино не «развер-
тываются» в последовательном строе, постепенном порядке,—
они сменяются. Такова основа монтажа». «Монтаж не есть
связь кадров, это дифференциальная смена кадров.. .»1 2
«Сущность кино,— как бы продолжает эту мысль Эйзен-
штейн,— надо искать не в кадрах, а во взаимоотношениях
кадров». «...Действительно выразительный эффект в кино —
результат сочетаний, сопоставлений . отдельных кусков...3
1 Э й з е н ш т е й н, т. 5, стр. 57.
2 «Поэтика кино», стр. 73.
3 Э й з е н ш те й н, т. 2, стр. 277.
101
Тынянов говорит о монтаже, исходя из своего понимания
кадра и распространяет принципы кадра на монтаж: «Так
же как слова и звуки в стихе, «герои» кадра... должны быть
дифференцированными, различными, только тогда они соот-
носительные между собой, только тогда они взаимодействуют
и взаимно окрашивают смыслом друг друга».1
Эйзенштейн избирает для себя именно такую соотноси-
тельность— по принципу дифференцированности, различия,
и развивает ее в теории кинематографического конфликта.
Теперь нам необходимо вернуться на несколько лет назад,
102 к самому началу ,1920-х годов, когда С. Эйзенштейн еще
не думал о профессии кинорежиссера, а пытался постигнуть
тайны театра в мастерской В. Э. Мейерхольда. Вспомнить
об этом нужно потому, что к середине 1920-х годов, к моменту
вступления кино в неожиданный альянс с литературой, Эйзен-
штейн был уже сложившейся творческой личностью, с прак-
тическим и теоретическим опытом.
Наивно было бы думать, что Эйзенштейн строил свои
фильмы, руководствуясь статьями теоретиков литературы, и
что близость позиций его и Тынянова — это близость источ-
ника и подражания. Совсем нет,— это была близость двух са-
мостоятельных, но параллельно идущих и соприкасающихся
теорий, осознание общности основных законов построения
фильма и литературного произведения. На этом уровне шло
взаимное обогащение и своеобразное сотрудничество филоло-
гов и кинематографистов, и справедливо было бы говорить
не только об «эскалации литературы», но и о проникновении
в литературу кинематографа. Это особая тема, и мы не будем
касаться ее здесь, но любой внимательный читатель прозы
Тынянова заметит, сколь многим он обязан кино.
Эйзенштейн не был ретивым неофитом. Труды в области
поэтики и стилистики были включены им в своем принципи-
альном качестве^ рождавшуюся теоретическую поэтику кине-
матографа; они обогатили ее и заставили пересмотреть, усо-
вершенствовать или привести в систему те выводы, которые
были получены независимо от них и на ином материале.
3. Эйзенштейн пришел к Мейерхольду с намерением сло-
мать старый театр в его основании. Подобно Кулешову, он за-
давался вопросом: «какая же механика лежит в основе этого
«святого искусства»?! В существовании механики он убежден,
но, чтобы познать ее, нужно побыть художником, «на вре-
мя»,— с тем, чтобы потом, во всеоружии научного знания,
«изобличать и разбивать».1 2
1 «Поэтика кино», стр. 74.
2 Э й з е и ш т е й и, т. 1, стр. 100.
Стремление найти «законы» искусства, мечта «о подведе-
нии некоей научной’базы под все здание современного театра»
вовсе не чужды были и Мейерхольду. С. И. Юткевич, учив-
шийся вместе с Эйзенштейном, вспоминал, что Мейерхольд за-
ставлял их «чертить какие-то схемы, где пытался установить
закономерности взаимоотношений отдельных элементов те-
атра».1 Эйзенштейн чертил схемы и вместе с другими студен-
тами разрабатывал терминологию для задуманной Мейер-
хольдом театральной энциклопедии. Этот род учебы окажется
ему полезным позже, когда он будет искать точные определе-
ния и «элементы» для киноискусства. Но тайна все не откры-
валась; она находилась не здесь, а где-то в другом месте, быть
может, в репетициях «Норы», которые Эйзенштейн не мог за-
быть и четверть века спустя и в которых Мейерхольд показал,
«как за три дня может родиться спектакль». «Лукавство» Ма-
стера опускало перед тайной непроницаемую завесу,— и уче-
ник всю жизнь не простил этого учителю. Как будто бросая
вызов Мейерхольду, он всю жизнь объяснял свое собственное
искусство*, объясняя даже необъяснимое, так что его интер-
претаторам почти ничего не оставалось; всю жизнь он был
убежден, что его «художественным принципом было и оста-
ется не интуитивное творчество, а рациональное, конструк-
тивное построение воздействующих элементов...» Но не будем
забегать вперед. Пока Эйзенштейн ждет «раскрытия тайны»,
у него зреет уже свое. Год, как он студент Мейерхольда, но
уже два года он ведет самостоятельную работу в Первом те-
атре Пролеткульта. В мае 1921 года он ставит совместно
с В. Смышляевым «Мексиканца», а осенью 1921 года присту-
пает к работе над знаменитым своим спектаклем «На всякого
мудреца довольно простоты», «по А. Н. Островскому». 2 апре-
ля 1923 года в Большом театре был показан отрывок из него
под названием «Жоффр в поход собрался», а в апреле-мае
спектакль шел уже целиком.
В нем Эйзенштейн дал свободную импровизацию, почти ни-
чего общего не имевшую с оригиналом. Из пьесы строилась
«крепкая мюзик-холльная цирковая программа». Критика пи-
сала о «драматургическом Вавилоне», о сомнительности и бес-
полезности-«препирательства с комедией Островского», призна-
вая, тем не менее, что спектакль недурен и что «если позабыть
о том, что идет пьеса, и о рабочем театре, и вообще обо всем,
что помнить надлежит, то получается ряд следующих друг за
другом номеров акробатических и эксцентрических...» «Эйзен-
штейн оказался очень остроумным режиссером. Изучив трюки
цирка и кино, он разместил их таким образом, что получился
смешной калейдоскоп эстрадно-детективного толка».1 2
103
1 «Встречи с Мейерхольдом». Сб. воспоминаний. М., ВТО, 1967, стр. 211.
2 Н. Д. Волков. Театральные вечера. М., «Искусство», 1966, стр. 338
4. Между тем задачи молодого режиссера были иными.
Сразу вслед за выходом «Мудреца» в «Лефе» появляется ста-
тья Эйзенштейна «Монтаж аттракционов». Это была первая
попытка режиссера теоретически осмыслить только что сде-
ланную вещь и поделиться своим открытием? Открытием —
потому что двадцатипятилетний бунтарь нашел то, что искал.
Он открыл «научную основу» сценического искусства, «еди-
ницу театра», которую он назвал «аттракцион».
Казалось, цель была достигнута — Эйзенштейн побыл «не-
множко» художником, нашел искомое и подготовился к тому,
104 чтобы «изобличать и разбивать» искусство. На деле оказалось
иначе. В искусство входил один из самых серьезных и пре-
данных его служителей. Разрушительная энергия молодого
художника отныне всецело направляется на созидание.
Чем же был для Эйзенштейна его «аттракцион», вызывав-
ший впоследствии столько споров и кривотолков, и для чего он
понадобился режиссеру?
Самое слово «аттракцион» взято было из циркового лекси-
кона, и значение его было приблизительно такое же. Спек-
такль, разделенный на ряд последовательных моментов, дол-
жен был каждым из них вызывать у зрителя острую реакцию,
так же как буффонада, или «опасный номер» в цирке, или
«жестокая сцена» в театре Гиньоль.
Эйзенштейн мог и не обращаться к цирку. Перед его гла-
зами были более близкие примеры «аттракционности», почти
в его понимании,— прежде всего театр Мейерхольда. Именно
Мейерхольд «расчленял драму на отдельные картины, ища
для каждого эпизода наиболее характерного выражения... Он
готов был с настойчивой последовательностью соединять тра-
гическое и комическое, торжественное и низкое, возвышенное
и пародийное. Он поднимал зрителя до трагического пафоса,
с тем чтобы через минуту бросить его к откровенно обнажен-
ной буффонаде. Он не мог себе представить зрителя вне смены
резких впечатлений и вне постоянно возбуждаемого и раз-
дражаемого интереса и любопытства».1
Если расширять область сопоставлений и аналогий, можно
найти «аттракцион» в литературе. «Закон экономии материала
существовал до изобретения кинематографа,— писал Эрен-
бург, анализируя кинематографию 1927 года.— Никто не ду-
мал называть «аттракционом» кусок холодной телятины, дов-
левшей над Свидригайловым...»
Пример, может быть, не совсем удачен. Но мы без труда
отыщем в «Носе» Гоголя, в сказках и памфлетах Щедрина,
в сатире Маяковского примеры гиперболы и гротеска, которые
-будут сродни аттракционам. Мы говорим: сродни, потому что
простая гипербола и гротеск для Эйзенштейна в это время
1 «Встречи с Мейерхольдом», стр. 17—18.
недостаточны. Ему нужны такие средства, которые бы дейст-
вовали на зрителя непосредственно и оглушающе, минуя его
эстетическое чувство, почти физиологически. Он ищет сверх-
сильных способов эмоционального воздействия, лежащих за
пределами обычных, «канонических» искусств. Поэтому он бе-
рет себе в союзники цирк и гиньоль.
Вместе с тем он понимает, что самый принцип «аттракци-
она»—«ударного момента» не является новостью в искусстве.
Да он и не собирается порывать с ним и считает нужным ого-
вориться: «Всяким, набившим руку режиссером по чутью, ин-
туитивно аттракцион так или иначе использовался.. (от-
сюда даже свой жаргон — «эффектный под занавес», «богатый
выход», «хороший фортель» и т. п.). Но существенно то, что
делалось это лишь в рамках сюжетного правдоподобия..,
а главное, бессознательно...»1 Действительно, это было сущест-
венно.
105
5. Проблема воздействия на зрителя, как мы знаем, была
одной из основных для молодого революционного искусства.
В статье «Как я стал режиссером», написанной в 1945 году,
Эйзенштейн, вспоминая свои первые поиски в искусстве, пи-
сал, что зритель тогда «выдвигался в качестве решающего
элемента».1 2
Почти ни одна его статья ранних лет не обходится без тре-
бования «обработки зрителя в желаемом направлении».
«Наиболее важным является уловление массовых настроений
и заражение ими зрительной массы.. .»;3 «возбудить необходи-
мую реакцию у зрителя и добиться огромного напряжения...»4
и т. д.
Вслед за Вертовым и Кулешовым, хотя и не повторяя их,
Эйзенштейн последовательно и сознательно требует построения
спектакля в расчете прежде всего на зрителя. Отныне каждый
элемент спектакля будет рассчитан так, чтобы вызвать реак-
цию, заранее предусмотренную художником. Зритель каждую
минуту должен находиться в состоянии возбуждения и актив-
ности,— не возрастающей заинтересованности, не напряжен-
ного внимания, как это было у Кулешова,— нет, он должен
быть заражен, потрясен, оглушен. Добиться этого должна
была эстетическая система, построенная на принципе аттрак-
циона.
«Аттракционная» система, создаваемая Эйзенштейном, не
была лишь результатом перенесения в кино принципов цирка
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 272.
2 Там же, т. 1, стр. 104.
3 Что говорят о «Броненосце «Потемкине» (С. Эйзенштейн). «Совет-
ский экран», 1926, № 2, стр. 10.
4 Эйзенштейн, т. 1, стр. 544.
или мейерхольдовского театра. Ее истоки следует искать за
пределами собственно искусства, и это совершенно законо-
мерно. Вспомним, какое значение Эйзенштейн придавал на-
учному "обоснованию эстетической теории и художественной
практики. И если Кулешов шел к «американизму» от эмпири-
ческого наблюдения и законов физиологического восприятия,
то Эйзенштейну этого мало. Он обращается к достижениям
современной ему психологии, причем такой, которая стреми-
лась выяснить самый механизм психологического процесса на
материалистической основе. В 1920-е годы эту задачу пыта-
106 лась решить так называемая объективная психология, пози-
ции которой укрепляются в русском естествознании с начала
20 века. Одной из наиболее распространенных ветвей ее была
рефлексология, разработанная В. М. Бехтеревым.
Согласно Бехтереву, в основе сложных психических про-
цессов лежит «обыкновенный» (безусловный) рефлекс, при-
рожденная или унаследованная реакция организма на внеш-
нее раздражение. На основе этих простейших реакций возни-
кает рефлекс более высокого порядка, так называемый
«сочетательный» (по Павлову, условный). В его образовании
так или иначе участвует прошлый индивидуальный опыт. Все
психические явления восприятия, речи и т. д. «суть не что
иное, как различной сложности сочетательные рефлексы, воз-
никшие на почве Обыкновенных рефлексов, вызываемых со-
ответствующими раздражениями воспринимающих орга-
нов».1
Эти положения Бехтерева легли в основу и его социологи-
ческих построений. Личность, по Бехтереву, формируется под
влиянием, с одной стороны, биологических, с другой—соци-
альных условий; ее индивидуальный опыт, ее сочетательные
рефлексы обобщаются в коллективе путем подражания и
образуют коллективный опыт. Таким образом; коллективные
действия и реакции тоже, в конечном счете, сводятся к «кол-
лективным или общественным рефлексам», которые могут
быть изучены объективными методами «коллективной рефле-
ксологии». Отсюда уже как частность следовал вывод о воз-
можности применить эти методы для изучения психологии ис-
кусства. «Нетрудно убедиться,— писал Бехтерев,— что объе-
динение в театральной публике, созерцающей то или другое
зрелище, или в публике, слушающей концерт, устанавливается
благодаря общему воздействию зрелища или концерта, к воз-
буждению одних и тех же реакций... Не может быть никакого
сомнения, что эти собрания также являются материалом для
коллективной рефлексологии».1 2
1 В. М. Б е х т е р е в. Об общих основах рефлексологии как научной
дисциплины. «Природа», 1917, ноябрь-декабрь, стр. 1102.
2 В. М. Бехтерев. Коллективная рефлексология. Пг., Изд-во «Ко-
лос», 1921, стр. 91.
В начале 1920-х годов теория Бехтерева получила по-
пулярность в искусствоведческих кругах. В 1924 году ее ос-
новоположник сам выступил в театральном альманахе «Аре-
на» со статьей «Личность художника в рефлексологическом
освещении». Бехтерев решительно отвергал «полумистиче-
ское» понимание творчества как «озарения» и «вдохновения»
и противопоставлял ему рефлексологическую теорию как раз
в применении к психологии творческого процесса.
Ученики и последователи Бехтерева пошли дальше, и тре-
мя годами позже появилась книга А. М. Иванова «Искус-
ство. Опыт социально-рефлексологического анализа». Автор
книги рассматривал искусство ..как некоторый соответствую-
щим образом организованный внешний раздражитель среды,,
воздействующий преимущественно на зрительный и слуховой
аппараты. Этот раздражитель, будучи биологически актив-
ным, несет в себе большой заряд и социальной активности.
Искусство, построенное по этому принципу, «не рассуждает,
а приказывает». Но для того, чтобы оно могло выполнить та-
кую задачу, необходим «научный подход», «учет и правиль-
ное использование социально-рефлексологических законов»1.'
«Рефлексология искусства» в том виде, в каком она воз-
никла в начале 1920-х годов, была данью механистическому
материализму. Элементарный биологический акт не давал,
конечно, ключа к познанию сложнейших законов психиче-
ской жизни, творчества и восприятия искусства. Работы по
«рефлексологии искусства» даже самого Бехтерева, не говоря
уже об его интерпретаторах, носили на себе отпечаток эк-
лектического соединения биологии и социологии. Но они про-
тивостояли субъективной психологии, а тем самым и идеали-
стическим трактовкам искусства. Киноэстетика начала 1920-х
годов, искавшая" материалистического объяснения психиче-
ской жизни, законов творчества и восприятия, берет себе в
союзники рефлексологию, которая, как казалось тогда, даст
надежный путь к созданию социально-активных произведений
киноискусства.
Мы не можем утверждать, что Эйзенштейн специально
изучал работы крупнейших русских физиологов. Работ Пав-
лова в начале 1920-х годов, по его собственному признанию,
он не читал. Нет сомнения, однако, что он знал популярные
труды Бехтерева. Но, быть может, не столь уж важно, откуда
он черпал свои сведения по психологии восприятия,— непо-
средственно из первоисточника или из искусствоведческих
трудов, — как бы то ни было, его высказывания этих лет сви-
детельствуют о довольно близком знакомстве с теорией реф-
лексов, которая входит в фундамент возводимого им эстети-
107
1 А. М. Иванов. Искусство. Опыт социально-рефлексологического
анализа. М., «Пролеткульт», 1927, стр. 7, 137, 138-
ческого здания. «Чувственное и психологическое воздействие»
в теории аттракционов было не чем иным, как «обыкновен-
ным» (безусловным) рефлексом в бехтеревском понимании.
«Мудрец» был первой проверкой «умения театра держать
в руках внимание и эмоцию зрителя» с помощью аттракцио-
на. Собственно, сам по себе аттракцион, не будучи непосредст-
венно изобретением Эйзенштейна, был достаточно проверен
многовековой практикой хотя бы того же циркового искус-
ства. Но даже и в самом театре Эйзенштейн мог убедиться
в его возможностях. В. Э. Мейерхольд отлично владел, по
Ю8 существу, тем же самым аттракционом. Строя спектакль, он
почти наверняка мог предсказать, в каком месте зрительный
зал' начнет аплодировать. Аг1лодисменты были показателем
того, что сцена построена правильно, то есть что аттракцион
«срабатывает» в нужном направлении. И когда несколькими
годами позже Мейерхольд будет напоминать Эйзенштейну
о театральном происхождении его аттракционов,1 в этом
замечании будет значительная доля истины.
Агитационное воздействие аттракционов в «Мудреце» ока-
залось очень относительным, а проще сказать — не состоя-
лось. Аттракционов оказалось слишком много, и их идейная
направленность, как мы сейчас понимаем, была подчас сом-
нительна и далеко не всегда последовательна. Это сказалось
на результатах.
• В следующем спектакле «Слышишь, Москва?» (1924) Эй-
зенштейн как бы пытается исправить просчеты «Мудреца»,
продемонстрировать агитационные возможности «аттракци-
она». Режиссер выбирает для постановки пьесу С. Третья-
кова, посвященную борьбе коммунистического движения в
Германии с гинденбурговской реакцией. Задача состояла в
том, чтобы вызвать у зрителей два одинаковых по силе ощу-
щения: ненависть к реакции и сочувствие коммунистам, «мак-
симальное напряжение нервов в.сторону тревоги, насторожен-
ности, гнева и пр. активных эмоций».
В «Лефе» был помещен отчет об этом спектакле.
«2 и 3 акты создали достаточное напряжение в публике,
разрядившееся в 4 акте при сцене штурма рабочими фашист-
ских трибун. В публике повскакали с мест. Раздавались вы-
крики: «Вон, вон! Граф удирает! Хватай его!» Какой-то ве-
ликовозрастный рабфаковец, вскочив, кричал по направлению
кокотки: «Чего с ней церемониться, бери ее», покрыв эту фра-
зу крепким словом, а когда кокотку по пьесе убили и сбро-
сили с лестницы, облегченно выругался и добавил: «так ей и
надо», — настолько внушительно, что сидевшая рядом дама
в мехах не выдержала, вскочила и, перепуганно выпалив:
1 См>: Н. Юдин. Мейерхольд снова против. «Кино-фронт», 1927, Ns 1,
стр. 13—15.
«Господи! Да что это! Этак и здесь начнут еще», — бросилась
к выходу. Каждый убитый фашист покрывался аплодисмен-
тами и криками. Из задних рядов некий военный, как сооб-
щают, выхватил было наган и направил на кокотку, но со-
седи вовремя привели его в чувство. Этот подъем коснулся
даже сцены: участвовавшие в сценической толпе студийцы
«Изо» Пролеткульта, стоявшие для декорации, не выдержали
и полезли в атаку на установку. Пришлось стягивать за ноги,
иначе добровольцы рисковали перепутать всю планировку»1.
Реакция такой именно-силы и непосредственности «в задан-
ной классовой установке» и являлась задачей «аттракциона».
Казалось, цель была достигнута, однако даже этот спек-
такль не удовлетворяет Эйзенштейна полностью. У него зре-
ет ощущение ограниченности возможностей театра вообще.
Точнее — левого театра, в котором он сам работал и кото-
рый именно, с его точки зрения, должен был создать искомое
революционное искусство.
Театр спасти не удастся — даже такому мастеру, как Мей-
ерхольд. Будущее его представляется Эйзенштейну плачев-
ным, он не видит для театра иного пути, кроме «бурь в ста-
кане воды» или «эстетизации» — «двигать-то его ведь больше
некуда!»...* 2
Впрочем, не совсем так. Путь спасения есть. Это—кине-
матограф.
В своих рассуждениях Эйзенштейн оказывается неожи-
данно близким к проблематике и полемике 1910-х годов о
«кризисе» театра и о «спасительной» роли кинематографа. Но
если тогда кинематограф рассматривался как своеобразный
очиститель театра, призванный освободить театр от всего не-
нужного, для него неорганичного, ему мешающего, то точка
зрения Эйзенштейна иная. Для него кинематограф не столько
путь спасения театра, сколько закономерная и неизбежная
ступень развития искусства, которая призвана отменить все
прежние.
С первых же шагов кино, как мы помним, под пером кри-
тиков и теоретиков выросла эта антагонистическая пара:
театр — кино. Дебаты о сравнительных преимуществах и на-
значении того и другого шли в течение двух десятилетий и к
началу 1920-х годов, по мнению многих, успели изрядно на-
доесть. Но вопрос этот не исчез, Он только осложнился и
углубился.
К 1920-м годам и театр и кинематограф изменились. Из-
менились их взаимоотношения, и прежние непримиримые вра-
ги начали заключать соглашения; Шел процесс «кинемато-
графизации» театра. Для Эйзенштейна 1924 года старая
* S. «Слышишь, Москва?» (Новые работы Пролеткульта). «Леф», 1924,
№ 4, стр. 217—218.
2 Эйзенштейн, т. 2, стр. 281. ,
109
дилемма в своем прежнем метафизическом виде уже не суще-
ствует. Для него на первый план выступают неиндивидуальные
отличия этих двух искусств, а их внутренняя связь. Эйзен-
штейн как будто забывает о специфических законах театраль-
ного и кинематографического искусства, то есть о том, что
составляло основное содержание споров в предшествующие
десятилетия. Он рассматривает театр и кино с одной только
стороны — единственно важной для него как художника-прак-
тика— именно, со стороны их социальной функции. И перед
«общностью основного материала — зрителя и общностью
110 целевой установки — обработки этого зрителя в желаемом на-
правлении» их специфические различия для Эйзенштейна те-
ряются, как несущественные. Если для критиков начала века
кинематограф был вульгаризированным театром, то сейчас
Эйзенштейн воспринимает левый театр как недоразвившийся
кинематограф, а кинематограф — как «сегодняшний этап те-
атра», его «очередную последовательную фазу»1.
6. Эйзенштейн принес из театра в кино идею «аттракцио-
на» и сцепления аттракционов — их «монтажа».
За этой идеей, как мы попытались показать, стояли теат-
ральные эксперименты Мейерхольда и выводы «социальной
рефлексологии». В основе же ее лежал несколько метафизи-
ческий техницизм, представление о членимости художествен-
ного произведения, о его прерывистом строении. Подобно
тому, как вещество может делиться до мельчайшего элемента,
сохраняющего его свойства, можно делить и спектакль до
мельчайших эпизодов, сохраняющих функцию воздействия на
зрителя. Мы увидим в дальнейшем, как это представление
развивается и уточняется у Эйзенштейна-кинематографиста.
Но в 1925 году, в период ранней «аттракционной» теории,
Эйзенштейн ориентируется преимущественно на пространст-
венную членимость художественного произведения и видит
его содержание в «сводке подлежащих сцеплению потрясе-
ний, которым желают в определенной последовательности
подвергнуть аудиторию».1 2 Самому сцеплению он еще особого
значения не придает, и слово монтаж («монтаж аттракцио-
нов») употребляет не в эстетическом, а скорее в техническом
смысле: монтаж как соединение, как сборка. Главным на пер-
вых порах оставался самый «аттракцион», основное орудие
социального воздействия.
Занятия теорией литературы приносят с собою представле-
ние о контексте, которое, в свою очередь, заставляет переоце-
нить понятие «сцепления». В пределах кинематографического
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 281.
2 Там же, т. 1, стр. 118.
целого каждый из «аттракционов» оказывался связан с со-
седними тончайшей системой взаимных отношений, изменяю-
щей в известной степени его характер и смысловую нагрузку.
Исследуя эти отношения частей и целого, Эйзенште.йн прихо-
дит к выводу, что «сцепление потрясений», столь дерзко при-
мененное им в театре и в первом его фильме — «Стачке», не
может быть не чем иным, как распределением эмоциональных
нагрузок на протяжении всего фильма, драматургическим
началом, организующим «кадры-куски». «Мельчайшей еди-
ницей» фильма оказывался не атом-аттракцион, а некая «мо-
лекула», гораздо более сложного строения; монтажная фра- 1
заорганизованная определенным образом и внутри себя и во-
вне — в пределах сцены и всего фильма. Возникало некое
подобие поэтического синтаксиса в кино. Эйзенштейн начи-
нает искать законы этого синтаксиса. Такой всеобщий закон
он видит теперь в столкновении антагонистических пар, в
«конфликте», проникающем все элементы художественной си-
стемы, определяющем собою как межкадровое, так и внутри-
кадровое построение. «Конфликт графических направлений
(линий); конфликт планов (между собой); конфликт объемов..;
крупного и мелкого плана..; кусков, решенных объемно с кус-
ками, решенными плоско..; кусков темных и светлых... и т. д.
Наконец, имеются и такие конфликтные неожиданности, как:
конфликт предмета и его пространственности и конфликт со-
бытия и его временности...»1
Эта контрастность, конфликтность возникает для Эйзен-
штейна как частный случай всеобщей диалектичности явле-
ний.
Так, внутренняя структура отдельных частей «Броненосца
«Потемкина» построена «по принципу алогизма и контраст-
ности. Например: караул вызван стрелять — отказ стрелять.
Оплакивающая труп матроса-революционера разномастная
толпа внезапно превращается в единый яростный митинг про-
теста. Население, радостно везущее припасы на броненосец,
не менее радостные приветствия, посылаемые с Одесской лест-
ницы победоносному красному флагу на «Потемкине», сме-
няемые залпами в спину, превращающими радостно настроен-
ную толпу в груду скатывающегося по лестнице кровавого
мяса. Каждая часть включает подобный диалектический пере-
лом... Он введен не как прием стилизации, а... он отвечает
моменту диалектической заостренности противоречий, харак-
теризующих эпоху и каждую данную ситуацию в себе.. .»1 2
Все жизненные явления, человеческое мышление, филосо-
.фия, психика рассматриваются Эйзенштейном под знаком
этой всеобщей диалектичности, борьбы противоположностей,
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 290—291.
2 «Советский экран», 1926, № 2, стр. 10.
приводящей к единству. Явления природы и человеческой дея-
тельности начинают интересовать Эйзенштейна на уровне их
высшего философского строения. Он делает попытку прове-
рить «на прочность» собственную теорию кинематографичен
ского монтажа. Монтажа, который Эйзенштейн рассматривает
как особую систему, как средство вскрывать частные проти-
воположности во всяком материале и затем объединять их
в новом качестве—на уровне художественного образа, идеи.
Он ищет и находит подтверждение своей монтажной теории
в природе человеческого существования и деятельности. Тео-
112 рия монтажа обогащается, монтаж становится проявлением
художественного и философского мышления, движущегося по
общим законам диалектики. Он принимает характер всеобъ-
емлющий, теряя свое значение чисто художественного приема.
Такой подход к монтажу до Эйзенштейна никому не приходил
в голову.
В художественной же практике Эйзенштейна эта общая
философская посылка преломилась в идее «кадров-скачков».
«Кино делает скачки от кадра к кадру, как стих от строки
К строке»,— писал Ю. Тынянов.1
Это был тонкий и точный вывод, полученный на материа-
ле стиха и проверенный кинематографом 1920-х годов, в пер-
вую очередь эйзенштейновским.
«Фалангу монтажных кусков-«кадров» — следовало бы
сравнить с серией взрывов двигателя внутреннего сгорания,
перемножающихся в монтажную динамику «толчками» мча-
щегося автомобиля или трактора»,— говорил Эйзенштейн.1 2
Это был и учет теорий поэтического языка, и теоретиче-
/ ское осмысление собственной работы, и, наконец, практиче-
ская программа будущих работ, подкрепленная выводами ма-
териалистической диалектики.
7. Теория «конфликтов» была одним из краеугольных
камней эйзенштейновской системы. Новаторская, по своей
природе, она в это,время была достижением одного Эйзен-
<. штейна, и он mhqto сил отдает ее защите, точнее — обосно-
ванию. Обосновать конфликтность означало осмыслить сис-
тему, завершить ее самоопределение и противопоставить иным,
в- качестве наиболее плодотворного, по мысли Эйзенштейна,
пути развития кинематографа. Здесь перед Эйзенштейном
оказываются практика Вертова и теория Кулешова.
В «Киноглазе» Вертова есть знаменитый эпизод подъема
флага на открытии пионерского лагеря. Это был один из пер-
вых образцов короткого монтажа, ставший теперь уже клас-
1 «Поэтика кино», стр. 73.
2 Эйзенштейн, т. 2, стр. 291.
сическим: он состоит из 53 кадров, сменяющихся в течение
минуты с небольшим. Современная Вертову критика отмечала
этот эпизод как образец монтажного ритма и динамики. Но
Эйзенштейн в своей оценке расходится с критикой. В своих
теоретических исканиях он ушел уже вперед. Для него прием
Вертова лишь статическое обследование процесса, а не са-
мый процесс. Эйзенштейн вовсе не задается целью осудить
Вертова — его интересует принципиальный вопрос о сущности
кинематографической динамики. Вертов сделал процесс рас-
члененным, он показал фазы, результаты движения и из этих
результатов попытался построить самое движение. Это, по
Эйзенштейну, опыт, обреченный на неудачу. Нельзя создать
движение из серии статических кадров.
Под этим замечанием Эйзенштейна мог бы подписаться
любой сторонник школы Кулешова. Но отнюдь не с ее пози-
ции Эйзенштейн вел критику Вертова. Более того, теории
Эйзенштейна и Кулешова противостояли друг другу в самом
понимании идеи движения в кинематографе.
Кулешов понимал движение как временное и пространст-
венное, однонаправленное, элементарное и последовательное.
Он избегал статики, рассматривая ее как отсутствие движе-
ния. Как мы помним, его интересовали не «позы», а «то, что
между ними», процесс, совершающийся в промежутке между
двумя обозначенными состояниями. Для Эйзенштейна этот
процесс важен лишь постольку, поскольку он не является'
элементарным. Он должен вести от изображения к образу, то
есть нести с собой качественный элемент, изменение художе-
ственного значения. Эйзенштейн говорит об «уплотнении
внутри процесса», когда «промежуточная цепь сводится к ми-
нимуму, и мы ощущаем лишь начало и конец процесса».1
Эти начало и койец — исходная точка и художественный ре-
зультат.
Движение интересует Эйзенштейна прежде всего как ста-
новлений. Поэтому движение у Эйзенштейна всегда интенсив-
но и трудно, в отличие от последовательно развивающегося,
«облегченного» движения у Кулешова. И поэтому он преис-
полнен глубочайшего интереса к «позам», то есть начальной
и конечной фазам процесса, которые у Кулешова постоянно
были готовы раствориться в самом движении. Из этих двух
фаз основной, конечно, является вторая, результативная. Это
высшая точка данной стадии процесса, качественно новая,
возникающая как следствие конфликта.
Именно такое понимание развития Эйзенштейн противо-
поставил Пудовкину, который вышел из кулешовской школы
и твердо отстаивал взгляд своего учителя на монтаж как
сцепление кусков. «В цепь. «Кирпичики...», — иронизировал
113
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 161.
5
Т. Ф. Селезнева
Эйзенштейн. — «Я ему противопоставил свою точку зрения
монтажа как столкновения. Точка, где от столкновения двух
данностей возникает мысль».1
В вопросах монтажа Пудовкин долгое время был привер-
женцем кулешовской школы. Достаточно сравнить его работу
«Кинорежиссер и киноматериал», вышедшую в 1926 году, и
книгу Кулешова «О кинорежиссуре», которая частями пуб-
ликовалась уже с 1922 года и вышла в 1929-м. Мы найдем
в обеих совпадения, почти текстуальные. Оба часто поль-
зуются примерами, заимствованными друг у друга. Ясность
114 и логичность — вот главные условия монтажа, которые ут-
верждают и учитель и ученик.
Вслед за Кулешовым Пудовкин и для документального
фильма требует «очень простого и очень бережного отношения
к снятому хроникальному материалу» и потому отказывается
признать Вертова документалистом.1 2
Совпадают и взгляды Пудовкина и Кулешова на ассоциа-
тивную работу зрителя. Эта работа, которую совершает зри-
тель, соединяя куски в целое, требует большой напряженно-
сти, и поэтому «наличие ее предъявляет к зримому на экране
пластическому материалу, прежде всего, категорическое тре-
бование ясности».3
Подчеркивая значение «ясности», Пудовкин приравнивает
ее к понятию кинематографической выразительности,—
мысль, которую он развивает в том же году в статье «Фото-
. гения», написанной под непосредственным впечатлением кни-
ги Деллюка.4 Французский теоретик понимал фотогению как
специфическую выразительность, которую приобретает на эк-
ране реальная, не бутафорская вещь, обладающая своей фак-
турой, объемом, зрительной определенностью. Пудовкин про-
тивопоставляет деллюковской «фотогении» свое представле-
ние о кинематографической выразительности, которая, по его
мнению, неотъемлема от движения, динамики. Он выдвигает
понятие ритмической гармонии, где соблюдены пропорцио-
нальность и последовательность в изложении кинематогра-
фического материала и соединении кадров-кусков: «Простой
и отчетливый ритм — пространственный в форме и временной
в движении. Не здесь ли заключается основа фотогении?»5
В таком определении ритма Эйзенштейна не устраивала
прежде всего идея гармонической последовательности, «яс-
ности и отчетливости»—по Кулешову. Именно такому пони-
манию он и противопоставил теорию конфликтов. Пудовкин
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 290.
2 «Кино и культураэ, 1929, № 7-8, стр. 12.
3 См.: Всеволод Пудовкин. Принципы сценарной техники.
«АРК», 1925, № 1, стр. 17. .
* Луи Деллю к. Фотогения кино. М., «Новые Вехи>, 1924.
® Всеволод Пудовкин. Фотогения. «АРК», 1925, № 4-5, стр. 11.
принял ее, — и Эйзенштейн с удовлетворением отмечал, что
прежний оппонент к 1929 году стал адептом его теории.1 В са-
мом деле, Пудовкин печатно признал это. В 1929 году он пи-
сал: «...Впечатление, которое получает аудитория от кинема-
тографа, строится не на последовательности показываемых
кусков, а на их столкновении, на их конфликте. Это первый
отчетливо формулировал С. М. Эйзенштейн. Он глубоко
прав».1 2
Оговоримся сразу: Пудовкин вовсе не отказывается пол-
ностью от описательного кулещовского монтажа, и свидетель-
ство тому — его последующие статьи и практические работы.
Но он видит теперь в эйзенштейновском столкновении боль-
шое преимущество: усиление выразительности, тот «иной эф-
фект», которого описательный монтаж дать не в состоянии.
Это «третье» Пудовкин показывает на примере из своего
фильма «Потомок Чингиз-хана». На экране одна за другой
следуют надписи: «Великий...», «бессмертный...», «мудрый
лама». В следующем кадре — крошечный ребенок. Это дейст-
вительно лама. Но предшествующие три кадра с надписями
подготавливают зрителя совсем к иному его облику, и потому
в результате возникает смех. В эпизоде использован прием
иронии, хотя ни в одной из этих двух частей иронии нет. Дру-
гими словами, говорит Пудовкин, здесь появилось «третье»,
возникшее в результате «интеллектуального толчка» (сомне-
ние) и «эмоционального толчка» (смех).3
Победа в этом споре была важной победой Эйзенштейна.
Правда, она не была абсолютной, потому что Пудовкин не
придавал «конфликту» столь универсального значения, как
Эйзенштейн. Признав, что теория конфликта — новый этап
в развитии мощажа по сравнению с Вертовым и Кулешовым,
всячески защищая и утверждая ее, Пудовкин замечал все же,
что «понятие конфликта опасно понимать буквально, как
столкновение...» и что «прямое столкновение есть такой же
частный случай, как и последовательное сцепление.. .».4 Такая
оговорка была понятной в устах режиссера, в творчестве ко-
торого уже намечаются первые контуры прозаического кине-
матографа 1930-х годов.
Как бы то ни было, Пудовкин признал теорию конфликта,
а Эйзенштейн продолжал дальнейшую ее разработку.
Наиболее ярким выражением теории конфликта, своего
рода вершиной его в кинематографической системе Эйзен-
штейна явилась проблема пафоса, конструкции «патетического»
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 290.
2 В. Пудовкин. К вопросу звукового начала в фильме. «Кино и
культура», 1929, № 5:6, стр. 3.
3 Там же, стр. 4.
‘В. Пудовкин. Творчество кинорежиссера. «Кино ц культура»,
J929, № 7-8, стр. 15. Ч '
115
произведения. Впрочем, иных произведений у Эйзен-
штейна не было. Прежде всего, это обусловлено временем,
которое сформировало его как художника, — временем гран-
диозного социального конфликта. Атмосфера революции была
той питательной средой, в которой развились индивидуаль-
ные пристрастия Эйзенштейна как художника, и сам он по-
стоянно говорил о роли, которую Октябрьская революция
сыграла в его жизни.
Как художник Эйзенштейн всегда тяготел к переломным
событиям в истории, отмеченным мощным столкновением про-
116 тивоположных сил; к предельно сильным человеческим эмо-
циям, к контрастности и противоборству страстей; ему нра-
вился Золя с его гиперболизированной деталью, физиологи-
ческой перенасыщенностью быта, доведенного почти до
раблезианского гротеска,— но страшного, а не смешного.
Этой силой ощущений, их нагнетанием и исступленностью
стремился Эйзенштейн заразить своего зрителя. И всего луч-
ше, если эти ощущения, состояния будут резко противопо-
ложными. Чтобы — как в «Одесской лестнице» — заставить
зрителя испытать крайнюю степень страха, ужаса, гнева,
чтобы затем резко повергнуть его в состояние почти экстаза—
когда грозно поворачиваются орудия революционного броне-
носца— на помощь городу, против машины смерти.
Этой цели был подчинен «монтаж аттракционов», сущ-
ностью которого, функцией и строением интересовались тео-
ретики «второго литературного периода». Его осмысление сде-
лано было, в частности, А. Пиотровским, одним из первых
занявшимся теорией киножанров.
Пиотровский соотносит «монтаж аттракционов» с класси-
ческой композиционной формулой Гриффита «катастрофа—
погоня — спасение», которую теоретик рассматривает как
своего рода ступень к «монтажу аттракционов».
Одной из исторических заслуг Д. Гриффита, как известно,
явилось создание нового кинематографического жанра — ме-
лодрамы, в которой американский режиссер применил и раз-
вил основной композиционный принцип авантюрного фильма.
Именно с его именем связано освоение в кинематографе
приема задержки действия. Герои гриффитовских фильмов
нередко попадают в критические, опасные для жизни ситуа-
ции. Это может быть готовящаяся казнь невиновного, как
в «Нетерпимости», или, как в «Водопаде жизни», ледоход,
уносящий ослабевшую несчастную девушку и т. д. Катастрофа,
опасность, неминуемо нависающая над героем,— характерны,
как правило, для второй половины фильма Гриффита, вызы-
вающей наибольшее напряжение зрительского внимания. На-
пряжение усиливается, когда вступает в действие парал-
лельный драматургический ход — «погоня», помощь, которая
роковым образом запаздывает. Чем больше режиссер вводит
препятствий на пути спасителей, тем круче растет напряже-
ние. И когда оно достигает апогея, когда герой уже на воло-
сок от смерти — подоспевает помощь, он успевает спастись —
«во исполнение кинематографического принципа «счастливых
концов».1
Счастливый конец Гриффит также одним из первых на-
учился «подавать» наиболее выгодно. Зритель должен был
пройти все стадии напряженного ожидания, после чего благо-
получная развязка приносила ему максимум удовлетворения.
Благополучный конец (хеппи энд) строился на известном
учете психологических законов восприятия. Это хорошо знал 117
уже Л. Кулешов, который как мы помним, первый пытался
поставить эти законы на службу новой кинематографии. Если
восприятие фильма — интенсивный эмоциональный процесс,
в результате которого зритель затрачивает огромное количе-
ство нервной энергии, то эта энергия не должна затрачиваться
впустую — зритель должен получить разрядку. Хеппи энд как
раз и был частным случаем такой разрядки. В этом смысле
он отдаленно напоминает аристотелевский катарсис. Отсут-
ствие катарсиса оставляет зрителя в состоянии психической
подавленности. Так произошло с фильмом Кулешова «По
закону».
Мелодрама Гриффита в чем-то была родственна кинема-
тографу Эйзенштейна. Принципы задержки действия, нагне-
тания напряжения и разрядки, разработанные Гриффитом,
Эйзенштейн изучал внимательно и много позже изложил
свои наблюдения в статье «Диккенс,/Гриффит и мы». И здесь
нам вновь приходится вспомнить Кулешова с его «америка-
низмом», потому что выводы, сделанные из одного и того же
материала двум* новаторами советского кино, были во мно-
гом противоположными.
Кулешов близко следовал эмоциональному рисунку гриф-
фитовского фильма. Эйзенштейн постоянно отходил от него и
усложнял его. Проводя зрителя через серии сцен нарастаю-
щего напряжения, давая ложные развязки, где напряжение
это рассеивалось на несколько секунд, чтобы затем возрасти
до высочайшей степени в следующей сцене, Эйзенштейн го-
товил таким образом эмоциональные удары сверхсильного,
«аттракционного» характера. В ранний свой период он даже
утверждал, что вообще не собирается предоставлять зрителю
«разрядку». Это он писал, готовясь к «Стачке». В самом деле,
в «Стачке» разрядки не бьрто,— но как раз опыт этого фильма
заставил Эйзенштейна несколько видоизменить принятую
систему. «Стачка» заканчивалась массовой расправой, бой-
ней, уничтожением. Этот завершающий «аттракцион» сгущал
напряжение до предела и вызывал не ту реакцию, на которую
_________ \
1 ^Прэтика кино», ртр. 164.
рассчитывал режиссер, всегда зорко следивший за поведе-
нием зрителя. У зрителя не возникало ощущения «социаль-
ного гнева» — возникали страх и подавленность. Установка
«не сработала». Эйзенштейн продолжает поиски, и в «Бро-
неносце «Потемкине» мы находим уже иной, сильно изме-
ненный эмоциональный рисунок. На этом первом шедевре
Эйзенштейна можно изучать, как гриффитовская формула
обогащалась и осложнялась «монтажом аттракционов». Это
отметил тогда уже А. Пиотровский, который установил ста-
диальные отношения монтажа Эйзенштейна и Гриффита:
118 «монтаж аттракционов» явился таким же развитием, таким
же следующим этапом по отношению к формуле Гриффита,
каким эта последняя была по отношению к композиции аван-
тюрного фильма.1
В «Броненосце «Потемкине» и возникает практически тот
метод построения фильма, который Эйзенштейн обозначил
словом «пафос», и с этого именно фильма ведет изучение «па-
фоса» сам его создатель. Эйзенштейн посвятил драматургии
пафоса второй раздел своей последней крупной теоретической
работы «Неравнодушная природа» и часть первого ее раз-
дела, который так и назывался: «Органичность и пафос в ком-
позиции фильма «Броненосец «Потемкин».1 2
.. .Восставший броненосец один на один с адмиральской
эскадрой. Они идут навстречу друг другу. Развернутым фрон-
том, в полной тишине на броненосец движется грозная без-
ликая масса.
Сокращается расстояние — растет напряжение на броне-
носце— будет или не будет выстрел? Быстро сменяются
кадры: «мачта», «дуло вверх», «матрос», «пароходы с пуш-
ками», «дуло», «лицо»...
И вдруг...
Крик: «Братья!»...
Атмосфера томительного ожидания взорвана —
«Ура!» —
Выстрела не будет!
На броненосце взвивается красный флаг — единственное
цветное пятно в черно-белом фильме...
Для Эйзенштейна здесь особенно важны два момента:
момент перелома, подчеркнутый, ударный, который мы здесь
выделили словами «И вдруг», потому что у нас нет в распо-
ряжении того зрительного ряда, которым режиссер подгото-
вил и обозначил крик «Братья!», и момент фиксации этого
перелома — завершающая высшая идейно-эмоциональная
точка. В сцене «Встреча с эскадрой» это был красный флаг —
смелая зрительная метафора, первоначальный прообраз буду-
1 «Поэтика кино», стр. 164—166.
2 Эйзенштейн, т. 3, стр. 44—233.
щей теории драматургического значения цвета. В «Одесской
лестнице» такой завершающей* точкой был вскочивший лев.
Это то новое, что Эйзенштейн вносит в классическую схему
напряжение — разрядка. Это — аттракцион.
Однако Эйзенштейн на этом не останавливается. Ему
важно, что по принципу пафоса могут и должны строиться
сцены, которые ничего внешне патетического в себе не со-
держат, но в контексте фильма должны наполняться боль-
шим внутренним драматизмом. Поэтому, раскрывая понятие
пафоса, он избирает для анализа сцену с сепаратором в
«Старом и новом».
...Перед нами чисто бытовая сцена. «Почти пустая изба
молочной артели. Кучка сомневающихся мужиков и баб.
Тройка энтузиастов: активистка Марфа Лапкина, белокурый
комсомолец, районный агроном. Да тускло поблескивающая
молочная машина». Но на эту невидную молочную машину
поставлено, как на карту, очень многое — доверие крестьян.
Сработает машина или нет? Сгустеет молоко или нет? От
этого зависит сейчас престиж артели. Быть ей или нет? Пой-
дут в нее крестьяне или не пойдут — сейчас это решит капля
сливок.
И вот стоят вокруг сепаратора мужики и бабы, стоят и,
кто с любопытством, кто с недоверием и даже насмешкой,
смотрят на это, непонятное для них.
Режиссеру результат известен. Результат будет — лико-
вание. Это будет «ощущение зарождающегося коллективиз-
ма», пафос коллективного единства, аналогичный финалу
«Броненосца «Потемкина».
Можно было решить эту сцену актерскими средствами.
Эйзенштейну это^решение не представляется интересным, ему
кажется неуместным и нелепым стихийный пляс вокруг се-
паратора в манере «ночи на Лысой горе».1 Он не уверен в ре-
акции зрителей. А ему нужно быть уверенным.
Он избирает средства кинематографические и объединяет
сцену «Встречи с эскадрой» и «Сцену с сепаратором» одина-
ковым композиционным строем—по схеме «цепной реакции»—
накопление напряжения—взрыв—скачки «из взрыва в взрыв»,
то есть скачки «из состояния в состояние», «экстаз частностей,
слагающихся в пафос целого»1 2. Больше того. При первона-
чальном монтировании фильма Эйзенштейн вклеивает в эту
сцену фрагмент из «Встречи с эскадрой», — как он говорит,
«в порядке пластической ассоциации»3.
Игра напряженного ожидания у сепаратора строится на
серии «конфликтов» — «сомнений и надежды, подозрительно-
сти и уверенности, любопытства и нескрываемого волнения».
1 Эйзенштейн, т. 3, стр. 77.
2 Там же.
3 Там же, стр. 78.
119
Первая часть антагонистической пары — недоверчивые кресть-
яне, вторая — Марфа Лапкина -и активисты.
Так же как во «Встрече с эскадрой», растет томительное
напряжение. Но если там это напряжение строится на серии
кадров преимущественно среднего плана, здесь Эйзенштейн
это движение нарастания обогащает.
.. .Сменяются кадры, все крупнее становятся планы. Все
быстрее раскручивают ручку сепаратора. Включаются планы
вертящихся дисков, все чаще в разных ракурсах появляются
трубы сепаратора, темп нарастает. Предел...
120 Так было в «Одесской лестнице», когда вскакивал лев. Эй-
зенштейн считал финал этой сцены очень плодотворным. За-
ключительная метафора — вскочивший лев — возникала там
тогда, когда исчерпаны были выразительные средства, взятые
из самой ситуации — сцены расстрела. Оживающий внезапно
каменный лев — это «парадоксальное выразительное сред-
ство», контрастно введенный сверхсильный «аттракцион».
То же в «Старом и новом».
Струя густых сливок перебрасывается
сначала — «в поток восторженных крупных планов каскады белоснеж-
ных потоков молока»,
затем — «в водяные столбы бьющих фонтанов». (Это уже — «парадо-
ксальные средства», это уже метафора — «молочные реки».)
Новый скачок — новый образ — «засверкавший фейерверк», фонтан ог-
ней. Огней многоцветных. (Сверкание белого фонтана перескакивало в но-
вое качество — в сверкание цветовое.)
Следующий скачок — снова качественный — из цветного в бесцвет-
ное— бесцветные куски с четким графическим выделением черного и бело-
го. Белые зигзаги на черном фоне. Растут, укрупняются — и вот на экра-
не — цифра 4, крупнее — 38, крупно — 50, следующий — «членов артели».
Серия укрупняющихся цифр— аналог красному флагу
«Потемкина», только развитый во времени.
8. В теории и практике Эйзенштейна складывалось новое
понятие — то самое, которое по сие время вызывает споры и
разные толкования — понятие ритма
Теоретики литературы, которым во многом был обязан
Эйзенштейн, разрабатывали эту проблему на материале стиха.
Первое, что они сделали, — отвергли прежнее представление
о ритме как понятии временном, основанном на чередовании
коротких и длинных единиц речи. Ритм совсем не равнозначен
метру. Он не имеет привычных количественных мер. Меры его
другие — количества эмоциональной энергии, содержащиеся в
том или ином отрезке стиховой и, быть может, прозаической
речи.
Эйзенштейн резко возражал и против «метрического» пони-
мания ритма. Примером такого рода для него было твор-
чество раннего Кулешова. Контрастное чередование коротких
и длинных кусков, убыстряющийся темп погонь и драк аван-
тюрного фильма — все это автору «Броненосца «Потемкина»
кажется уже примитивным и не достигающим цели. Для Эй-
зенштейна это движение — внешнее; он ищет внутреннего, да
и самое движение понимает уже широко, едва ли не универ-
сально. Даже понимание механического, внешнего движения
у него, как мы видели, бесконечно осложняется.
У него меняется привычное понимание динамики и статики.
Статическому кадру можно сообщить внутреннюю динамику.
Для этого необходимо, чтобы статичность его воспринима- 121
лась как намеренный перерыв, как пауза, как контраст, на
фоне которого еще резче выступит динамический характер
смежных с ним кусков. И обратно — пауза окажется резко
выделенной. На нее упадет акцент. Она окажется «сильным
местом» сцены, создавая эффект неожиданности, ожидания,
эмоционального напряжения. Такова роль контекста. В. Пу-
довкин замечал, что сцены «Броненосца «Потемкина», по-
строенные на внешнем движении, значительно менее удачны,
чем статичные кадры ожидания встречи с эскадрой. В послед-
нем случае напряжение зрителя идет по нарастающей и до-
стигает огромной степени, хотя в кадрах внешнего движения
почти нет совсем.
Итак, понятие статического кадра у Эйзенштейна уточня-
ется и углубляется. То, что содержит в себе «нуль» внешнего
движения, может нести едва ли не максимум движения внут-
реннего. Отсюда понятно, почему принцип соотношения ко-
ротких и длинных кусков для Эйзенштейна уже не имеет
столь важного значения, как для его предшественников. Дело
не_ столько в длине куска^-сколвкп в том, какое количество
эмоциияа/Гь^ТЭнерпГиЗГанегошриходится. -
----Конечно, ^бътлсГТьГ ошибочно думать, что метрическая ха-
рактеристика кадров была безразлична Эйзенштейну. От-
нюдь нет, — она продолжала играть свою роль, и роль нема-
лую, но она выступала теперь не как самодовлеющая, а как
подчиненная иным, более важным режиссеру средствам ки-
нематографического языка. В этой своей подчиненной функ-
ции она «работала» безошибочно и точно. Но подобно тому,
как короткая стиховая строка могла нести на себе ту же эмо-
циональную нагрузку, что и соседствующие с ней длинные, .ко-
роткий кадр мои. стать эмоционально-эквивалентен длиниомут
Стоящему рядом. Такой эквивалент превращался в сгусток
эмоции на л ьттий— энёрттпГ"~и м еннов силу__того... что он ко-
""роток.’
Таким образом, Эйзенштейн как будто приходит к «днер-
гетическому» пониманию ритма, подобно тому, как это сде-
лал Тынянов в книге о поэтическом языке. Но ведь энерге-
тическая характеристика, — как можно было увидеть на при-
мере из «Старого и нового», — также не является конечным
определяющим фактором. Она, в свою очередь, производна —
от содержания сцены. Именно отсюда идет Эйзенштейн,—
от того места, которое занимает данная сцена в общем замы-
сле фильма, несущего определенную идею. В зависимости от
этого распределяются эмоциональные нагрузки. Мы вправе
утверждать, что общий план этих нагрузок уже существовал
в творческом сознании Эйзенштейна, когда он приступал к
работе над фильмом, — существовал ритмический ключ.
Другими словами, после работ Эйзенштейна мы можем
122 говорить о содержательном ритме, — о понятии, которое сей-
час стало йёОСТюримым Достоянием советской кинотеории.1
Собственно говоря, выявлению этой содержательности и
была подчинена вся та сложная система кинематографиче-
ских тропов, которая и составила то, что обычно называется
синтезом искусств в творчестве Эйзенштейна.
v Тсхнцческийприем, включенный в стилевое целое и под-
чиненный ему, становится у Эйзенштейна художественным
средство^ преобразования вещи или явления,~~ср^Дством вы-
рЪжейия отношения к леи. Другими словами, он становится
фактором смысловым, семантическим. ’
----Это "Очень точно было отмечено В. Шкловским, который
именно с ним связывал становление «второго литературного
периода» в кинематографе. «Первый, — писал он, — характе-
ризовался использованием сюжетных схем и общей компози-
ции произведений слова... До сих пор в кино снимали вещи.
Фильм ЭйзенштейнахделаИ-Лггзшшшнии^СвёЩам^ 1 2 Критик
имел в виду «Старое и новое» и писал еще до выхода кар-
тины. Еще ранее, в 1925 году, он упрекал киноков в том, что
они лишают свои картины именно этого «отношения к ве-
щи» — художественного преображения ее, непременным, усло-
вием котохюпгЗ является субъективность, тенденциозность
'^ЦёнкиТ3
Эти беглые замечания были чрезвычайно существенны и
плодотворны; однако Эйзенштейн реализовал их не столько
в «Старом и новом», сколько в «Октябре» (1927), к кото-
рому в полной мере могут быть отнесены слова Шкловского
о «литературе в кино», то есть факте, «данном не просто,
а с обозначением характера восприятия».4 Такой субъективной
окраской в «Октябре» явилась ирония, теснейшим образом
связанная с уже сложившимся принципом патетической кон-
струкции. Проблема иронии, доведенной до сарказма, инте-
ресовала Эйзенштейна не меньше, чем проблема пафоса. Она
содержалась уже в его раннем «аттракционе», и обе черты —
1 См.: Е. Д о б и н. Поэтика киноискусства, стр. 125—177.
2 В. Шкловский. За сорок лет. М., «Искусство», 1965, стр. 109, ПО.
3 См.: В. Шкловский. Семантика кино. «АРК», 1925, № 8.
* В. Шкловский. За сорок лет, стр. 43.
пафос и ирония — были отличительными и ведущими чертами
эйзенштейновского искусства вообще.
Так снята одна из центральных сцен фильма «Октябрь»
«Корниловский мятеж»:
.. .Керенский подписывает приказ о восстановлении смертной казни.
Корнилов.
Надпись: «Во имя бога!»
Покосившаяся церковь.
Боги, божки, идолы.
Сам собой восстанавливается из обломков разрушенный памятник
Александру III.
Корнилов на коне с поднятой рукой.
Мраморный Наполеон в той же позе.
Надпись: «Два Бонапарта».
Керенский со скрещенными на груди руками, смотрящий исподлобья.
Наполеон, чуть улыбающийся, в той же позе.
Сближаются...
В упор.
Два деревянных идола на тонких ножках.
Божки и идолы — стремительно, в коротком монтаже, как бы скачу-
щие и смеющиеся.
С воплем кидается Керенский на кровать.
Дым, вздыбленный танк.
Разбивается мраморный Наполеон.
Судорожно прячет голову в подушки Керенский.
Содержание сцены — «развенчание» в его различных мо-
дификациях: развенчание Керенского—Наполеона, развенча-
ние «демократии» (восстановление памятника царю), развен-
чание лозунга «во имя бога» и, наконец, самого понятия «ре-
лигия».
«Сферой новой кинословесности, как оказывается, является
сфера не показа явления, ни даже социальной трактовки,
а возможность отвлеченной социальной оценки»,— так осмыс-
ливает Эйзенштейн свой опыт в «Октябре».1
Эта оценка, отношение к вещи, деформация ее — были ре-
ализацией «смыслового преобразования бытовых объектов»—
свойство, которое, по мнению Тынянова, роднит кино и стих.
Именно после «Октября» В. Шкловский стал писать о «вто-
ром литературном периоде» как о реальной фазе, в кото-
рую вступает кинематограф.
В споре Эйзенштейна с Кулешовым выяснилось существо
природы кинокадра. Идея Кулешова об абсолютной относи-
тельности кадрового содержания получает корректив, но идея
создания «некоего третьего» у Эйзенштейна остается. Оста-
ется и развивается идея очищения кадра, обнажения его
смысла. Эйзенштейн загипнотизирован идеей «конфликта»,
кажущегося ему универсальным и неограниченным,— он ищет
способ освободить кадр от дополнительных значений, от мно-ч
гозначности, дающей возможность прочитывать иные смыслы
1 Эйзенштейн, т. 5, стр. 33.
и прослушивать обертоны. (Это придет позже, в «Иване Гроз-
' ною>.)ГВ кинематографе раннем,— можно сказать с уверен-
ностью,— кадр ЭйзенштейнабезассоциативеНд, и в этом смысле
у него не может быть «атм5сферы»,П0д0бной атмосфере фак-
сов или даже Кулешова («По закону»).
«Октябрь» переполнен метафорами. Но все они — происхо-
ждения словесяого, иятеллектуального. Кадры Эйзенштейна—
это кадры-знаки, и на их сталкивании, конфликте рождается
искомая величина. В самом кадре поднимающегося по лест-
нице Керенского нет ничего символического и иносказатель-
124 ного. Но лестница повторяется многократно, без малейших
изменений — и рождается кинематографическая метафора
«к вершинам власти».
Такого рода метафорическое расширение кадра типично
для поэтики «Октября», — и хрестоматийным примером его
является монтажная фраза «религия», с резко саркастиче-
ской окраской, — последовательный монтаж идолов, дегради-
рующих от барочного Христа до примитивного деревянного
божка.
Так Эйзенштейн приходит к мысли о возможности фильма
абстрактных понятий, «интеллектуального кино», — но непре-
менно с «непосредственной социальной оценкой». Его уже не
удовлетворяют поиски «кинематографического синтаксиса»,
аналогичного синтаксису поэтической речи. Ему нужен кине-
матографический аналог слову. Метафоры «Октября» ока-
зываются сродни языковой метафоре, — такова «вершина
власти», обозначаемая лестницей, или «сладкое пение» мень-
шевика, монтируемого параллельно арфистке. В этом заклю-
чалась сущность «интеллектуального кино», замысел которого
был ближайшим следствием «второго литературного пе-
риода».
«Октябрь» был экспериментальной работой,—быть может,
наиболее экспериментальной из всех лент Эйзенштейна. «От-
ношение к вещи», найденное в нем, в дальнейшем было за-
креплено и развито.
Что касается «интеллектуального монтажа»,— то ему пред-
стояло получить коррёкти^-жак только Эйзенштейн при-
нялся за разработку понятия «доминанты».
Уже в «Броненосце «Потемкине» Эйзенштейн подошел
к кинематографическому произведению как к «динамической
целостности», говоря словами Тынянова. Эйзенштейн прони-
зал фильм сквозными, закономерно развивающимися зритель-
ными темами. Роль этих тем в построении сцен была неоди-
наковой.
«Тональным» монтажом, например, он создавал партию
«света», меняя интенсивность и характер освещенности кад-
ров и кусков на протяжении всего фильма. Пространственное
перемещение при этом могло отсутствовать. Воздействие
строилось тогда вне зависимости от него. Это было воздейст-
вие по принципу эмоциональной доминанты.
Так построена сцена предрассветных туманов в Одесском
порту. Она предшествует сцене траура у тела Вакулинчука,
и основное эмоциональное содержание ее — печаль. Эмоцио-
нальная гамма создается серией кадров разной степени
«туманности» и «освещенности». Палитра серо-белых тонов,
плавно сменяющихся, создает ощущение «лирического ми-
пора»: парусник, замерший на лунной дорожке; тающие в бе-
лесом тумане обнаженные мачты; подернутое пеленой море;
присмиревшие волны; траурно-черные силуэты кораблей.1 Все
вокруг будто пропитано печалью...
Этот же технический прием перемены освещения мог со-
здавать и иное эмоциональное воздействие — более интенсив-
ное, более напряженное, мог служить нагнетанию напряже-
ния не менее, чем ритмический монтаж.
Эйзенштейн приводит пример такого использования ос-
вещения в фильме «Старое и новое» (сцена «Запоздалая
жатва»).
Приближается гроза, — все вокруг становится мрачным и
тяжелым. Интенсивность световой гаммы меняется от светло-
серого к свинцово-черному. Усиление напряжения идет по
линии усиления звучания «доминантной струны». «Лириче-
ский минор» «одесских туманов» здесь сменяется «минором
трагическим» (то есть активным).1 2
Сцены могут включать в себя и пространственные переме-
щения, при условии подчинения их той же эмоциональной
задаче. В «Броненосце «Потемкине» это были — «еле замет-
ное колебание воды», «легкое покачивание спящих на якорях
судов», «медленно подымающийся дым», «медленно опускаю-
щиеся в воду чайки»;3 в «Старом и новом» — усиливающийся
ветер, густеющие тучи, «уплотняющийся» дождь, переходя-
щий в хлещущий водяной поток...
Другой образующей художественного целого было пласти-
ческое движение зрительной темы.
Эйзенштейн сам описал его, — но к этому осмыслению
пришел довольно поздно. Гораздо раньше он пришел к его
практической реализации — и здесь художник обогнал теоре-
тика. В статье «Э1», написанной в 1934 году, Эйзенштейн рас-
сказал, как развивалась зрительная тема в эпизоде с яликами
из «Броненосца «Потемкина».
Эйзенштейн выбирает для анализа четырнадцать кадров-
кусков, которыми начинается сцена «Одесская лестница»:
125
1 См.: Литературно-монтажная запись фильма. В кн. «Броненосец
«Потемкин». М., «Искусство», 1969.
2 Эйзенштейн, т. 2, стр. 65.
3 Там же, стр. 64.
город посылает продукты матросам. Как и всегда, Эйзенштейну
недостаточно чисто фабульного (бытового) задания. Истин-
ное содержание эпизода — «взлет приветствий», ликование,
устремление жителей Одессы к восставшему броненосцу.
К такому решению направлено композиционное (пластиче-
ское и ритмическое) построение эпизода.
В нем две темы: ялики, устремившиеся к «Потемкину»,
и жители Одессы, машущие кораблю с берега. Обе темы
сливаются в конце эпизода. Это слияние завершает первую
композиционную группу «Ялики и берег» и одновременно начи-
126 нает новую группу—«Ялики и броненосец (братание)». «Ком-
позиционным водоразделом и одновременно идеологическим
объединителем обеих композиционных групп служит мачта
с революционным знаменем».
Развитие темы происходит по горизонтальной и вертикаль-
ной линиям. Горизонтальная — это собственно ялики. Что
касается вертикальной темы, то именно она подготавливает
появление мачты с флагом на броненосце. Подготовка, то есть
развитие вертикальной темы идет по степени нарастания экс-
прессивности.
Тема начинается «игрой мелких вертикальных парусов»
(кадр I).
Она оформляется в строгом ритме вертикальных непо-
движных колонн балюстрады (кадр II).
Она продолжается, то удаляясь («мелко движущиеся
вглубь люди»), то приближаясь (крупные статичные фигуры
людей, «снятых с лица») (кадры III—VI).
С кадра VIII вертикальная тема выходит на первый план.
Экспрессивность ее развития достигается следующим пласти-
ческим решением:
VIII. Машущие руки.
IX. Два лица (крупно).
X. Два лица Переходят в одно. Очень энергичный взлет руки за кадр.
XI. Взлет предыдущего кадра повторяется вертикальным парусом.
XII. Парус XI рассыпается во множество вертикальных парусов.
ХПГ. Рассыпавшись на мелкие паруса, большой парус собирается
вновь, но на этот раз уже не в парус, а в. знамя над «Потемкиным».
Это — «новое качество куска, оно и статично и подвиж-
но,— мачта вертикальна и неподвижна, полотнище рвется по
ветру».
«Замена паруса знаменем переводит принцип пластиче-
ского объединения к объединению идейно-тематическому. Это
уже не только вертикаль, пластически объединяющая отдель-
ные элементы композиции, — это революционное знамя, объе-
диняющее броненосец, ялики и берег».1
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 90—91
Эйзенштейн замечает, что куски эти «могут быть перестав-
лены в любых сочетаниях», без такой строгой и продуманной
их композиции. Фабульная сторона эпизода от этого, может
быть, и не пострадает. Но для достижения идейно-эмоцио-
нального «взлета», для выражения этого «взлета», строжай-
ший отбор кусков и закономерность их построения — необхо-
димое условие.
Эйзенштейн как будто дополняет и уточняет свои аргу-
менты, выдвинутые в ранней полемике с Белой Балашем, хотя
сейчас перед ним уже другой «противник». Конкретным, на-
меренно суховатым анализом объясняет он тот эмоциональ-
ный результат, который первым попытался объяснить Балаш
восемь лет назад: «Восторг населения Одессы показан все
возрастающим ритмом группировок восторженных масс, и
начинает казаться: куда же дальше? Чем же можно явить
еще больший восторг, радость, экстаз? И вдруг роскошная
картина. Как экстатический гимн, прерывающая звучанием
все, бывшее дотоле: ялики, летящие навстречу броненосцу.
По фабуле они перевозят пищевые продукты восставшим мат-
росам. В картине кажется, что они мчат им миллионы сер-
дец. В этом легком, окрыленном полете сотен развевающихся
парусов явлена такая картина коллективного проявления
восторга, радости, любви, надежды, какое не могло бы выра-
зить ни одно лицо даже величайшего артиста».1
Балаш говорил как зритель, восхищенный открывшейся ему
картиной. Эйзенштейнникогда не говорил как зритель, а ско-
рее как технологГЭто были профессиональные размышления
художника, одарённого подлинным вдохновением, в пушкин-
ском смысле^—тем самым вдохновениемгдлитготброго нужно
иметь холоднукигрлову.
В 1937 году он начинает писать одну из значительных
своих теоретических работ — «Монтаж». «Я считаюсь одним
из наиболее «бесчеловечных» художников»,— скажет он. «Опыт
моих семнадцати лет сознательной творческой работы богат
не столько в области образа человека в искусстве, сколько в
области образа самого произведения»-* 2 И далее докажет с
полной Несомненностью, что именно «образ самого произве-
дения», развивавшийся и обогащавшийся на протяжении всего
его творческого пути, есть полное и высокое проявление челове-
ческого начала в искусстве.
«Образ произведения» обращен к человеческому созна-
нию— в разных его ипостасях и на разных уровнях. То, что
читается как непосредственное «содержание», «фабульность»,
обогащается и в пространственно-композиционных характе-
ристиках. Вовсе небезразлично, например, как будет построена
‘Бела Балаш. О будущем фильмы. Газ. «Кино», 1926, 27 (147),
6 июля.
2 Эйзенштейн, т. 2, стр. 329.
127
мизансцена, в которой бывший благополучный буржуа, а
ныне преступник и каторжник Вотрен бросает вызов тому об-
ществу, которое его отвергло. Бытоврй убедительности мизан-
сцены здесь вовсе недостаточно,— она должна самым своим
построением подчеркивать идею противопоставленности, не-
примиримого антагонизма. Ее композиция должна нести
в себе метафору противостояния. Только 'в этом случае можно
будет говорить о художественном реализме, который являет
«единичное бытовое поведение данной группы людей в усло-
виях данной драматической ситуации и одновременно те же
128 отношения, приведенные к наиболее их обобщенному виду».
Нетрудно заметить, что «горизонтали» и «вертикали» «Бро-
неносца «Потемкина» были зерном, из которого развились эти
рассуждения. Их назначение — не только экспрессивное, но и
метафорически-образное.
Теперь, в середине 1930-х годов, эта семантика художест-
венной изобразительности волнует Эйзенштейна, быть может,
даже больше, чем двенадцать лет назад. «Строй произведения
является отражением черт человеческого сознания — Чело-
века — внутри одной особенности строения формы»,— вновь
формулирует он свой исходный тезис.1 Его все больше зани-
мает кадр — мельчайшая единица содержательной формы.
Его интересует не столько столкновение, цепь, взрыв, сколько
пластическая непрерывность, динамическая устойчивость кадра.
Это тоже было «угадано» в композициях «Потемкина».
Движение зрительной темы всегда подчинялось у Эйзен-
штейна общему замыслу фильма; оно не могло приобрести
самодовлеющего значения и являлось одним из средств ху-
дожественного выражения, наряду с метрическими характе-
ристиками, композиционными приемами и т. д.
Нет ничего удивительного в том, что на опыты Эйзен-
штейна особенно остро реагировали как раз те режиссеры
Запада, чьи поиски двигались в том же направлении, которые
искали средств соединить «зрительную симфонию» и общест-
венное содержание фильма. В свою тонкую и сложную си-
стему Эйзенштейн включил те методы изображения, которые
разрабатывались этими режиссерами,— и во многих отноше-
ниях разрешил те задачи, которые они себе ставили.
Очень показательна заметка о восприятии «Броненосца
«Потемкина», опубликованная в газете «Кино»: «Потемкин»
перепутал все карты и произвел полное смятение в рядах
французских кинодеятелей. Не говоря уже об авангарде пере-
довых киноработников, во главе с Муссинаком, которые, по
дошедшим до нас сведениям, нашли в «Потемкине» разреше-
ние многих своих мучительных исканий.. .»1 2
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 387.
2 Н. К - ман. Французы о «Потемкине». Газ. «Кино», 1927, № 5 (177),
29 января.
Действительно, мировое воздействие «Броненосца «По-
темкина» не могло идти ни в какое сравнение с воздействием
фильмов представителей «Авангарда». А ведь одной из глав-
ных задач, которую они себе ставили, — была «объединяю-
щая» роль кино, его «всеобщность», которой они стремились
добиться, основываясь на «всеобщности» подсознательной
жизни человека. Фильм Эйзенштейна, рожденный первой в
мире социалистической революцией и посвященный ей, фильм,
принципиально отстаивающий классовый подход к искусству,
оказался более «общечеловеческим», более «объединяющим»,
чем «внеклассовые» фильмы «Авангарда». С нескрываемым
восхищением писала одна из ведущих режиссеров «Авангар-
да» Ж. Дюлак о художественных открытиях Эйзенштейна —
о «могучей зрительной эпопее» и о силе воздействия эйзен-
штейновской «зрительной музыки». «Я питаю огромную на-
дежду, — писала она, — на то, что тот идеал, во имя которого
многие из нас получают и отдают удары, жертвуя при этом
своим житейским благополучием, явится к нам из такой новой
страны, как СССР».1
Этот лаконичный отзыв очень ценен и важен. Он был од-
ним из первых свидетельств европейского признания не только
фильма, но и теории Эйзенштейна.
9. Эйзенштейн шел все к более и более глубоким и спе-
цифическим планам строения фильма. Быть может, только в
его теории и практике кино было впервые по-настоящему ос-
мыслено как синтетическое искусство. Это признавали все—
и молча, и декларативно, но никто до Эйзенштейна не сделал
этот умозрительный и очевидный тезис отправной точкой для
построения картины. Фильм походил иной раз на живопис-
ное полотно, иной раз на метрическую конструкцию, даже на
музыкальную сюиту. У Эйзенштейна'он стал и тем, и дру-
гим, и третьим, и бесконечно большим.
Когда Эйзенштейн экспериментировал с монтажными со-
поставлениями двух кадров для получения некоего, «неза-
планированного» третьего, он впервые столкнулся с мобиль-
ностью кадра, его гибкостью, его многозначностью. Он стал
изучать эту многозначность как теоретик. Он отметил, что
традиционные случаи сочетания кадров — это сочетание их
по одному ведущему признаку — темпу, главному внутри-
кадровому направлению, длительностям кусков. Так монтиро-
вали Кулешов и ранний Пудовкин. Так делал и сам Эйзен-
штейн на заре своей кинематографической деятельности. Это
был монтаж «по доминантам».
129
1 Жермена Дюлак. Идеал. (Анкета среди зарубежных деятелей
кино). «Советское кино», 1927, № 8-9, стр. 16—17.
130
В 1929 году Эйзенштейн приходит к выводу об относитель-
ности и изменчивости доминанты. Он приводит в пример ряд
монтажных кусков:
1. Седой старик
2. Седая старуха
3. Белая лошадь
4. Занесенная снегом крыша.
«Далеко еще не известно, — говорит он, — работает ли этот
ряд на «старость» или на «белизну».1 Доминанта если и яв-
ляется наиболее сильным, то далеко не единственным «раз-
дражителем» в куске. Ей всегда сопутствует комплекс второ-
степенных значений. Поэтому монтаж по доминантам, в ко-
нечном счете, — монтаж по переднему только плану, то есть
монтаж обедненный. В 1929 году Эйзенштейну он даже ка-
жется «схоластическим».
Эйзенштейн как будто вступает в спор с самим собой. Чем
был «интеллектуальный монтаж», как не доминантой «лек-
сического», рационально логического содержания сцены, вла-
стно подчинявшей себе все остальное? Разве прозрачность
словесной метафоры не достигалась ценой утраты сопутст-
вующих значений, которые отсекались искусственно, чтобы
«ряды» «работали» однозначно на «старость» или «белизну»?
Аналогия с искусством слова и даже с языком зашла слиш-
ком далеко. Теперь нужно было вернуть искусству чувствен-
ного образа его поколебленные праваГ ~ ' -----------
10. Отказ от «доминанты» не был отказом от сотрудни-
чества с литературой, — напротив, он знаменовал высшую
точку «второго литературного периода». Мы помним, что ocj
новным его завоеванием была идея динамического контекста.
Она претворяется у Эйзенштейна в зрительной полифонии.
Он обращает внимание на второстепенные, дополнитель-
ные значения, содержащиеся в кадре и сочетании кадров, и
вводит понятие зрительного обертона — по аналогии с музы-
кальным произведением. Доминанта «обволакивается» комп-
лексом второстепенных звучаний. «Ощущение» куска воз-
никает в результате комплексного единства всех «раздра-
жителей».
Эйзенштейн приводит пример из «Старого и нового», где
на смену единодержавию доминанты приходит «демократи-
ческое» равноправие всех значений-«раздражителей»: фак-
туры, света, звука, пластического и музыкального решения.
Эта мысль, в смутной, не вполне осознанной и поэтому
излишне заостренной и декларативной форме намечалась
уже в его юношеских поисках, когда он писал: «Говорок Ос-
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 46.
тужева не более цвета трико примадонны; удар в литавры
столько же, сколько и монолог Ромео...». Трудно было ска-
зать, чего здесь больше — признания ли равноправности этих
«демократических» и «аристократических» составляющих
спектакля — или просто неприязни к традиционному театру.
Но вот в 1929 году он, уже режиссер, создавший и совер-
шенствующий свою систему, впервые сталкивается с тради-
ционнейшим из театров — японским «Кабуки». И перед ним
воочию развертывается практически осуществленный «не-
жданный стык» разнородных искусств — подлинный кинема-
тограф, созданный задолго до Луи Люмьера. Он обнаружи- 131
вает здесь «видимый звук», или «слышимое движение» —
в сцене «харакири» из пьесы Т. Идзумо «47 самураев»,— где
движение руки героя, перерезающего горло, сочетается с ры-
дающим звуком флейты за сценой, «графически совпадаю-
щим с движением ножа».1 Эйзенштейна захватывает этот
совершенный пример разрушения «доминанты» — равнознач-
ности и, более того, взаимозаменяемости звукового и зри-
тельного образа, движения музыки и движения графического,
контурного. Этому последнему он всегда придавал большое
значение. «Контур—абрис — линия есть как бы наиболее от-
четливый выразитель самой идеи движений».1 2 С детских лет
у него сохранилось впечатление от необыкновенного искус-
ства одного из знакомых семьи — быстрым контуром рисо-
вать зверюшек мелом на ломберном сукне. На глазах буду-
щего кинематографиста возникало движение бегущей линии-
контура— «линии как динамического движения, линии как
процесса, линии как пути».3
«Бег линии» графической и музыкальной воочию пред-
ставлял движение. Графически-музыкальной была сцена
с яликами. «Графической интерпретацией внутреннего хода
музыки» отличались фильмы «непревзойденного гения» та-
кого рода сочетаний — Уолта Диснея. «Идет мелодия, и ме-
лодии вторят все отдельные сгибы линии, совпадая или не
совпадая...». Хороша в этом смысле баркарола из «Сказок
Гофмана». Павлин стоит у озера, глядится в воду, и «слож-
ный ход музыки замечательно уловлен в перекатывающемся
хвосте, который вертится и отражается внизу, в воде».4
Такой синхронности и добивается теперь Эйзенштейн, — но
уже не только в линейном построении кадра, но и в тональ-
ном, пространственном, игровом и объемном. На смену до-
минанте приходит полифоничность зрительного строения.
Так Эйзенштейн строит сцену ночи накануне «Ледового
побоища» в «Александре Невском» — «рассвет, полный тре-
1 Эйзенштейн, т. 5, стр. 307.
2 Там же, т. 2, стр. 244.
3 Там же, т. I, стр. 262.
* Там же, т. 3, стр. 609.
вожного ожидания»: Александр на Вороньем камне, русское
воинство у его подножия. Вглядываются вдаль, ждут наступ-
ления врага.
Все двенадцать кадров сцены — статичны. Движение осу-
ществляется не внутрикадровым перемещением. Его создают
«обертоны».
Над «Александром Невским» Эйзенштейн работал вместе
с С. Прокофьевым. История их сотрудничества переворачи-
вает обычные представления о роли режиссера и компози-
тора в создании фильма. Обычно режиссер берет на себя
132 изобразительную часть, а композитор пишет к ней музыку.
Таково исторически сложившееся разделение труда, и ему
соответствует естественное разделение родов искусства. Ка-
кое бы важное значение ни приобретала в фильме музыка,
никто не приходит фильм слушать: он существует для глаза,
и, строго говоря, может быть совершенно «немым». Однако
Эйзенштейн был последователен в своем отказе от «доми-
нанты» и, следовательно, от «доминанты» зрительного изобра-
жения по сравнению с «музыкальным сопровождением». Он
делает музыку полноправным элементом зрительного ряда —
и режиссер и композитор все время меняются местами. Их
задача — «сочинить ритмический ход сцены», найти исход-
ную ритмическую формулу. Это делает один,— тот, кому
удается; на долю второго приходится уже — «возвести адек-
ватное здание из средств, возможностей и элементов своей
области».1 Здесь должно учитываться все: «фактура пред-
мета или пейзажа и тембр какого-то музыкального пассажа;
потенциальная ритмическая возможность, в которой можно
сопоставить ряд крупных планов в соответствии с ритмиче-
ским рисунком другого музыкального пассажа; рационально
невыразимая «внутренняя созвучность» какого-то куска му-
зыки какому-то куску изображения и т. д. и т. д.»1 2
Эйзенштейн сам дал анализ вышеупомянутой сцены из
«Александра Невского» («рассвет, полный тревожного ожи-
дания»), совместив на таблице зрительный, графический и
звуковой ряд. Он вычертил график движения музыкальной
темы и показал, как создается унисон всех «обертонов»
в кадрах-кусках. То идущая вверх, то падающая «линия му-
зыки» соответствует движению глаза по линиям пластиче-
ской композиции, движению тонально-световому — от темного
к светлому или наоборот; движению пространственному —
перспективно в глубь кадра; показал, как, «нарастая от пло-
скости экрана», линия «вторит нарастающей вверх гамме
звуков».3
1 Эйзенштейн, т. 3, стр. 367.
2 Там же, стр. 368.
3 Там же, т. 2, стр. 244 и след.
Эта сцена напряженного томительного ожидания — одна
из самых впечатляющих в фильме, и зрители, которым пере-
дается эта тревожная напряженность, конечно, не подозре-
вают, какое количество «раздражителей» воздействует в это
время на их слух, глаз и мозг. Вероятно, и оппоненты Эйзен-
штейна, иронически-пренебрежительно относившиеся к «рас-
четам» Эйзенштейна, не до конца представляли себе, в чем
«секрет» этой сцены и почему ее содержание оказалось выяв-
ленным с такой полнотой и совершенством.
Между тем секрет этот был синтезирован в той же самой
лаборатории, где много лет назад был получен монтаж пер- 133
вичных «раздражителей» — аттракционов. От того аттрак-
циона, который применял Эйзенштейн в своих ранних теат-
ральных опытах, не осталось почти ничего, — он изменился
до неузнаваемости. Он превратился в явление необыкновен-
ной сложности, включая все виды художественных характе-
ристик— звуковую, световую, пластическую, графическую,
становился частью общей ритмической схемы и получал
сверх того — и прежде всего — смысловую и эмоциональную
нагрузку. Такой осложненный комплекс, соответствующий
некоему эмоциональному импульсу, Эйзенштейн обозначил
словом «жест». внешнее выражение психоло-
гического момента. В этом — широком — значении это слово
употреблял? например, Алексей Толстой.
В основе музыкальных и пластических построений Эйзен-
штейна лежит это общее, организующее и управляющее на-
чало— жест, сгусток «движения» в том общем смысле, в ко-
тором понимал его Эйзенштейн.1
Один из ярчайших примеров «музыкального жеста»
у Эйзенштейна мы находим в «Иване Грозном»— в сцене
смуты, в диалоге Ивана и Григория — Малюты Скуратова.
Иван. «Чары, говоришь? Колокола попадали?»
Протянул руку.
«Иная голова, которая чарам верит, сама что колокол...»
Стучит пальцем по лбу Григория:
«.. .пустая».
Кругом смешок.
Иван. «А нешто голова сама слететь может?»...
Говорит Иван ласково:
«Чтоб слетела,—
и вдруг мрачнеет —
. .Срезать надо!»
Слова «срезать надо!» сопровождаются резким коротким
жестом, имитирующим движение сабли, и звуком. Оркестр
дает столь же резкий визжащий звук, «графически» воспро-
изводящий движение сабли, отсекающей голову.
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 246.
Так Эйзенштейн заплатил свой «долг» японскому театру
Кабуки, достижения которого он включил в создаваемую им
си стегну-
^'Систеуа эта —жинематограф Эйзенштейне — дейс.твитель-
но оъгяД'республикой равноправных искусств.
11. Ни цвет, ни звук принципиально не изменили кинема-
тограф Эйзенштейна. Черно-белый беззвучный фильм для
Эйзенштейна никогда не был бескрасочным и немым. Музыка
134 и цвет — свет, тональность — присутствовали в каждой сня-
той им ленте, и когда он ссылался на «одесские туманы» как
на эквивалент звучания и цвета,1 — это была истина. Когда
он уверял, что сцену пира в «Иване Грозном» он мог бы сде-
лать столь же впечатляющей без музыки и красок,1 2•—он
имел на это все основания. И меньше всего парадокса в его
фразе по поводу_«Ивана Грозного»: «Мой очередной фильм
тоже делается ^етовыКГ^- черно-белым.. .»3
Цвет в системе" Эйзенштейна явился таким же равнознач-
ным элементом, как изображение и музыка. Перефразируя
слова самого Эйзенштейна, можно было бы сказать: «вы
должны работать с музыкой, цветом и изображением^- как
если бы вы работали на одном изображении». \\
Насколько у Диснея Эйзенштейна привлекало соответ-
ствие пластическое и музыкальное, настолько не устраивала
у него «цветовая мелодия», ибо ее попросту не было.
«Осталась та же мультипликация, только раскрашенная».4
А между тем для Эйзенштейна даже станковая картина «есть
тоже, по существу, временное построение». У цвета есть
свое «звучание», цвет включается в кинематограф как явле-
ние динамическое. И эта динамика должна быть вскрыта.
«Цветовая мелодия» должна развивать основную тему на
равных правах и с тон же ответственностью, что и остальные
компоненты фильма.
Эйзенштейн любил приводить в пример принцип пользо-
вания бритвой «жиллет». Ее нужно завинтить до отказа, а за-
тем сделать пол-оборота назад. Он работал по этому прин-
ципу. Он полагал необходимым для выявления возможностей
того или иного художественного приема, его закономерности
довести его до крайней степени обострения, чтобы затем сде-
лать «пол-оборота» назад. Так, например, он «пробовал» мета-
фору в «Октябре». Так начал он «пробовать» цвет. Для на-
чала, говорил он, нужно «цвет» отделить от «предмета»,
потому что цвет — это не раскрашенность. Затем нужно вы-
1 См.: Эйзенштейн, т. 2?стр. 54; т. 3, стр. 251 и след.
2 См.: Там же, т. 3, стр. 601.
3 Там же, стр. 499.
4 Там же, стр. 610.
явить его возможности, — например, в том же мультиплика-
ционном фильме.
Эйзенштейн мысленно рисует такой фильм, как бы в про-
тивовес Диснею.
Его внимание привлекли две вятские игрушки, стоящие
у него на полке: конь в красных и зеленых «яблоках» и кор-
милица в клетчатом сарафане. В одно прекрасное утро крас-
ные и зеленые кружки соскочили с лошадки и зажили своей
жизнью. Попрыгали по клетчатому сарафану кормилицы, по-
том убежали из дома. И там, где они появлялись, происхо-
дили смешные вещи. Потому что кружки все путали. Сначала 135
они повисли яблоками на не распустившемся еще дереве и
очень озадачили садовника. При этом они «боролись» друг с
другом, и «яблоки» становились то красными, то зелеными.
Они ввели в замешательство молодого человека, пылко объяс-
нявшегося девушке в любви — потому что на ее щечках то
вспыхивали ярко-красные пятна, то она внезапно зеленела.
Потом они учинили полный беспорядок на улице, потому что
им захотелось порезвиться в светофоре, и тот лихорадочно
и непонятно замигал то зеленым, то красным «светом».
И т. д.1
Цвет может (и должен) вести самостоятельную линию
воздействия, развивая основную тему и развиваясь сам. Так
должно было быть в последнем, несостоявшемся фильме
Эйзенштейна «Любовь поэта», фильме, где «все было по-
строено на движении цвета», хотя и не только на нем.1 2
Вот как представлял себе Эйзенштейн сцену следования
Пушкина к месту дуэли, построенную по принципу «хромо-
фонного монтажа».
Музыку для фильма писал Прокофьев. К сцене дуэли
композитором пишется «Реквием».
.. .Блеск нарядного катания на Островах в Петербурге.
Краски сверкают, переливаются, искрятся. В оркестре —
звонкие, игривые звуки веселья.
Движутся сани, в них Пушкин и Данзас. Еще отдаленно,
но тяжко и мрачно вступает тема реквиема.
Она ширится — и постепенно меняется цветовая гамма.
В последний раз вспыхнула она яркостью и пестротой, и на-
чинает блекнуть, гаснуть.
Краски приглушаются — голубой морозностью воздуха;
белым инеем; осыпающимся с ветвей снегом, который «свое-
образным тюлем» тушит красочный фейерверк.
Среди этого угасания — вспышка — вишневая муфта На-
талии Николаевны, проехавшей мимо в санях. Вспышка «не-
уверенная».
1 См.: Эйзенштейн, т. 3, стр. 500.
2 Там же, стр. 608.
Гамма переходит в туманно-серую и затем резко— в чер-
ную с белым.
Место дуэли.
Белый снег. Черные силуэты противников.
И кроваво-красный круг зимнего солнца.
Туда, в этот круг без лучей, хочет Эйзенштейн мчать ко-
ней с телом смертельно раненного поэта.
Красный цвет—цвет пролитой крови. Тема его в рек-
виеме вступает красным околышем Данзаса...’
То же значение несет в себе красный цвет в «Иване Гроз-
136 ном», в знаменитой сцене Пира в Александровой слободе.
Тема включается красной праздничной рубахой царя,
раскидана красными пятнами — рубахами пляшущих оприч-
ников. Она активизируется на диалоге Грозного с Басмано-
вым-старшим. «Сирота я покинутый, пожалеть меня не-
кому...»,— притворно-жалобно тянет Иван, обращаясь к Вла-
димиру. В разговор вмешивается Басманов-старший: «Не
гоже царю с земщиной якшаться...» и получает выговор:
«Не тебе руку на царский род подымать!».
Спор Басманова с царем — о кровной близости:
Иван. .. .близость кровную к царю святыней почитай!
Басманов. А не мы ли ближние тебе, ।
с тобою иною —
пролитою —
кровью связанные?..
На этих словах появляется красное освещение4, лица стано-
вятся красными — появилась тема пролитой крови.
Она продолжается и выплескивается, когда вскакивает
царь в красной рубахе, когда «подхватывают» этот цвет уст-
ремившиеся к нему опричники, когда раскатывается красный
ковер перед Владимиром Андреевичем, облаченным в свер-
кающие золотом одежды...
Ковер режется декорацией и ломается у двери, за кото-
рой— смерть, и «последняя точка красного» — огонек свечи
в руке обреченного Владимира. «Красная тема» перепле-
тается с черной — темой смерти.
Вначале «черная тема» на втором плане. Она вырывается
на мгновения из фейерверка красок — то черными кафта-
нами опричников, то блестящей черной рубахой Петра-
убийцы. Когда же смерть надвигается на Владимира Андре-
евича, черная тема начинает «съедать» красную.
В эпизоде шествия к заутрене — один Владимир в золо-
том (царском) облачении. За ним идет свита опричников
в черных рясах, а черная шуба царя «вносит элемент жути
и ощущение рокового момента». Следующий кусок — черно-
белый...
1 См.: Эйзенштейн, т. 3, стр. 492.
Появление и исчезновение единственной цветовой части
в этом черно-белом фильме — не одинаковы.
Врывается она внезапно, резким фейерверком. Ей пред-
шествует многозначительная сцена с Малютой. Он принес
царское приглашение Владимиру Андреевичу — пожаловать
на пир, и царское подношение Старицкой— чашу с вином.
Уходят Малюта и Владимир.
Снимает Евфросинья плат с чаши.
Чаша пустая...
Зловещая подспудная напряженность этой сцены взрывом
сменяется другой — красочной буйной пляской опричников 137
на пиру. Эйзенштейну нужен был сильный ритмический удар.
Резкая смена, взрыв цвета, трудная для обычного танца
«монтажная» музыка Прокофьева — создали его. Зловещая
тема из подспудной становится явной.
«Уходит» же цветовая часть постепенно. Цвет «гасит»
разросшаяся «черная тема». Она продолжается и дальше —
в сменившем цветовой черно-белом эпизоде. Но уже — сред-
ствами «общей выразительности».1
12. <Монтаж аттракционов» завершился «вертикальным
монтажом», — к нему добавилась полифония. Но требование
обязательного пронизывания всех отдельных элементов еди-
ным композиционным началом было отправным для всех
этапов развития эйзенштейновской кинематографической си-
стемы.
В исследовании «Неравнодушная природа», подводя итоги
анализу «Ивана Грозного», Эйзенштейн писал: «Для того
чтобы созвучно «пели» и поступок и кадр, которым он будет
схвачен, нужно, чтобы в пространственной композиции дей-
ствия были заложены те же элементы, по которым будет
строиться «вырез» этого поступка прямоугольником кадра;
чтобы была созвучность деяния и произносимых слов, нужно,
чтобы элементы мизансцены несли бы те же признаки про-
странственного «белого стиха», если белым стихом написан
текст; чтобы в унисон звучала музыка (или хоры) и среда —
нужно, чтобы тональная картина взаимной игры света и те-
ней вторила бы тембру, мелодии и ритму той звуковой сти-
хии, которая будет пронизывать экранное пространство.
И, главное, нужно, чтобы все, начиная от игры артиста и
кончая игрой складок его облачения, было бы в равной мере
погружено в звучание той единой, все опррпрляюшей эмоции,
которая лежит в основе полифонии всей многогранной ком-
позиции».1 2
1 Эйзенштейн, т. 3, стр. 530—535, 591—610.
2 Там же, стр. 341.
В творчестве Эйзенштейна кино впервые до конца осо-
знало себя как «синтез искусств». Когда-то, еще совсем мо-
лодым человеком, уходя из мастерской Мейерхольда, он про-
рочил театру уничтожение и переход в высшую стадию — ки-
нематограф. Сейчас, после десятилетий творческого искуса,
он знал ясно и точно, какое место принадлежит каждому из
искусств в общей сокровищнице человеческой художествен-
ной деятельности. Однако его ранняя идея не исчезла — она
уточнилась и приобрела весомость, ибо была подтверждена
творческим опытом одного из величайших режиссеров мира.
Кино, — говорит теперь Эйзенштейн, — для каждого из ис-
кусств «является как бы высшей стадией воплощения его
возможностей и тенденций».
«Для скульптуры кинематограф — это цепь сменяющихся
пластических форм, взорвавших наконец вековую неподвиж-
ность».
Для живописи — достижение небывалого ранее «искусства
вольного тока сменяющихся, преображающихся и переливаю-
щихся друг в друга форм, картин и композиций».
Музыка с приходом кинематографа... приобретает воз-
можности образно зрительные, образно ощутимые, конкретно
образные...
Для литературы кино — непосредственная материализация
«в звукозрительное восприятие». .
Кино преодолевает ограниченность других искусств, пока-
зывая действительность во всем богатстве звуков, красок, объ-
емов; человека — во всей многогранности его физического, ду-
ховного и общественного бытия.
В этом отношении искусства действительно стремятся
к своей высшей стадии — кинематографу.
JHo горе кинематографу,, если он забудет свое родство
с этими искусствами, если он отречется от литературы, те-
атра, музыки, живописи, ибо «корни каждого из элементов
кино лежат в других искусствах». Так пишет Эйзенштейн
в 1940 году.1 2 Только на основе других искусств достигается
высший синтез, кинематографическое единство «идеи, драмы
играющего человека, экранного изображения, звука, трех-
мерности и цвета», — то единство, которое, согласно Эйзен-
штейну, является отражением великого диалектического за-
кона единства в многообразии, лежащего в основе нашего
мышления.
Таков был тот естественный предел, к которому шло ис-
кусство, вступившее во «второй литературный период».
1 Эйзенштейн, т. 5, стр. 96.
2 Там же, стр. 91.
ПЯТАЯ
АКТЕР
В МОНТАЖНОМ КИНО
1. Советское кино 1920-х годов развивалось с голово- 139
кружительной быстротой.
Кинематографические системы Вертова, Кулешова, Эйзен-
штейна, факсов (Козинцева и Трауберга), Пудовкина, с их
индивидуальными особенностями, возникли на протяжении
каких-нибудь пяти лет. Фильмы появлялись почти одновре-
менно, и трудно представить себе, как и когда режиссеры ус-
певали отменять одно и развивать другое в теоретическом и
практическом творчестве своих «предшественников». А они
делали это,— и советская кинематография этих лет была аре-
йой соревнования и борьбы.
В этой борьбе свое место занимала и проблема актера,
к середине двадцатых годов ставшая одной из насущнейших.
Как мы помним, Дзиге Вертову не удалось создать чистой
«неигровой фильмы» и тем более обратить в свою веру всех,
кто работал рядом и наряду с ним. Но даже для него, убеж-
денного неигровика, проблема существовала — актер был
«опасностью», которой нужно было избежать, «ошибкой»,
в которую поминутно впадали его противники. Опасность эта
была отнюдь не мифической; теоретическая дискуссия 1926
года показала, каких существенных поправок требует, каза-
лось, столь ясная и незыблемая теория неигровой.
Лев Кулешов сделал актерскую игру одним из краеуголь-
ных камней своей системы. В борьбе со старым психологиче-
ским фильмом, «жречеством», «магией» он не стал открещи-
ваться от актера, как Вертов. Он видоизменил его и с этим
новым актером, «натурщиком» стал строить свой, специфи-
ческий, авантюрный и психологический фильм.
Эйзенштейн и здесь избрал своеобразный путь, — но стал
ближе к Кулешову, нежели к Вертову. Он экспериментировал
смело и на большой глубине. Он понимал, подобно Кулешову,
что проблема актера — это часть более общей и широкой
проблемы героя. С этой последней и начал Эйзенштейн—еще
в своих театральных постановках — в «Слышишь, Москва!» и
особенно в «Противогазах». Отсюда «массовый герой» пришел
в его кинематограф — впервые в мировом кино.
В теоретическом смысле идея коллективного героя не была
открытием Эйзенштейна. Ее выдвинула «левая» эстетика ре-
волюционных лет, в частности эстетика Пролеткульта, с ме-
тафизической резкостью противопоставившая индивидуальную
интригу и индивидуального героя — коллективным, массовым,
как единственно воплощающим социальную жизнь. В ранних
декларациях Эйзенштейна мы заметим отзвук этих теорий. Но
художник одержим не только идеей разрушения «индивиду-
ализма» и «треугольника» буржуазного кино, но и идеей сози-
дания. Она оказалась плодотворной: она дала «Броненосца
«Потемкина». В советской науке о кино было уже заме-
чено— и совершенно справедливо, что самая идея «коллек-
140 тивного героя» требует к себе диалектического подхода и
не может быть объяснена исключительно из теоретической
схемы Пролеткульта.1 В творчестве Эйзенштейна — теоретика
и социолога она поддерживалась и его общефилософскими
и социальными представлениями о роли массы, народа в исто-
рическом процессе; в эстетическом же смысле она обнаружи-
вала свою вульгарно-социологическую природу лишь тогда,
когда объявлялась универсальной и являлась как органиче-
ская часть наивной и догматической пролеткультовской кон-
цепции лабораторной социологической культуры.
Позднее, уже зрелым художником, оценивая ранний пе-
риод своего творчества, Эйзенштейн отмечал «резкий пере-
гиб», при котором изображение массы.как героя «оставалось
лишь на самом общем понимании». В то же время он пре-
красно понимал, что это была не ошибка, а неизбежная исто-
рическая ограниченность. Самую же идею он считал зако-
номерной, поскольку потребность в коллективном герое,
«коллективности вообще» была горячей и настоятельной, по-
тому что «образа коллективного действия, образа коллектива
никакой экран до-этого не видел» и «массу как пропагандиста
действия экран еще не знал».2 Восприятие «Стачки» и осо-
бенно «Броненосца «Потемкина» было тому лучшим свиде-
тельством.
«Стачка»... впервые разрешила... задачу создания драмы,
где героем и главным действующим лицом являлась бы
масса»,3 — так был встречен первый фильм Эйзенштейна.
Между первым и вторым его фильмом прошёл год. За это
время «массовый герой» успел эволюционировать.
«Стачка» — это и первая проба «монтажа аттракционов».
Аттряк^илннпсть^то есть-предельно сильное воздействие на
зрителя, должна была, строиться на «близкцх_и~~знакомых»
рабочему положения^-«Впечатление^ по моему замыслу.—
говорил Эйзенштейн^— дОлжтГоставаться не от исполните-
---------- ” —. — __ —-
1 См.: Н. М. 3 о р к а я. Советский историко-революционный фильм. М.,
Изд-во АН СССР, 1962, стр. 34, 51 и след.
2 См.: Эйзенштейн, т. 5, стр. 75—76.
3 И. А. Аксенов. «Стачка» (первая кинолента С. М. Эйзенштейна).
«АРК», 1925, Xs 17, стр. 15.
лей, а от ситуации».1 Забастовка, митинг, слежка, голод,
Избиение в полиции, зверства полицейских, избиение семей
рабочих, солидарность, массовая расправа — вот те «ситуа-
ции», те «знакомые и близкие» рабочим положения, которые
явились содержанием «Стачки». Эти ситуации, каждая из
которых была блестяще разработана, исключали индивидуа-
лизацию последовательно, вплоть до отсутствия имен. Это
было именно то, «самое общее понимание героя-коллектива»,
о котором писал Эйзенштейн несколько лет спустя. Это был
«массовый герой», выведенный при помощи самой массы.
В «Броненосце «Потемкине» он явился уже как масса рас-
члененная.
По сравнению со «Стачкой» «Броненосец «Потемкин» бук-
вально переполнен персонажами, запоминающимися своей
внешностью, поведением, выражением лица, эмоциональными
реакциями. Все «герои» Одесской лестницы, матросы, капитан
броненосца, судовой врач, — словом, почти все, выхваченные
хотя бы на мгновенье, врезались в зрительную измппмоя
нальнуЮ-Дамять. как врезаются ску л ьпТурныенгатГ'плакатные
группы, приковывали внимание и в течение своего кратковре-
менного пребывания на экране успевалтг нроизвести максимум
впечатления на Зрителя. Ни один из них при этом не являлся
развернутым психологическим портретом — развернутая пси-
хология в задачу фильма не входила. За исходное Эйзен-
штейн берет состояние группы людей в определенной ситуа-
ции. Оно едино по общему эмоциональному и идейному ключу.
Оно многообразно по своему выражению. Самым_важным для
режиссера являлось «уловление массовых настроений и'згяр?
жение ими зрительной массы, Для которой- эТсг беикинсчно
значительнее точного' протокольного воспроизведения собы-
тий и мелочей».1 2 ——
Такой принцип изображения «массового героя» был встре-
чен приветственно. Уверяли, что «эпопеи классовых бурь мо-
гут быть показаны только так» и что «в кинопроизводстве
будущего этот прием будет одним из самых сильных».3 4 * Вос-
хищались «остроумным приемом» режиссера — дать впечат-
ление массы при помощи крупныхПланО’вТ1 ’ 7
Но так считала лишь часть критйки. Мы знаем, что
А. Роом, например, бросил упрек Эйзенштейну за «отсут-
ствие человека» в фильме. Это было возражение убежденного
сторонника актерского кино, не принимавшего «коллектив-
1 Г. Г. «Чертово гнездо» («Стачка»). Беседа с режиссером С. Эйзен-
штейном. «Кино-газета», 1924, № 46 (62), 11 ноября.
а Что говорят о «Броненосце «Потемкине». (С. Эйзенштейн). Совет-
ский экран», 1926, № 2, стр. 10.
3 Николай Лебедев. Шесть аргументов «Потемкина». «АРК»,
1926, № 2, стр. 2.
4 Л е о М у р. Из дискуссии на «четверге» АРК 14 января 1926 г.
«АРК», 1926, № 2, стр. 8.
141
ного героя». Интереснее всего было то, что и защитники, и
противники эйзенштейновского героя сошлись на одном: что
актер у Эйзенштейна — плох. Пудовкину игра актеров пока-
залась даже «удручающе шаблонной». Правда, Пудовкин
в это время находился скорее в «лагере» Роома. Однако, на-
пример, Хр. Херсонский, разделявший принципиальную уста-
новку фильма, также замечал, что «человек у Эйзенштейна...
слаб» и что «часто его вовсе не чувствуется». Его позиция,
пожалуй, ярче всего отразила колебания, свойственные вре-
мени. Возможен ли «коллективный герой», как таковой?
142 Можно ли обойтись в фильме без личности? Херсонский
убежден, что нельзя. Но он пытается примирить идею лич-
ности с идеей коллективного героя. «Личность, — говорит
он, — надо показать. И надо именно так показать... как это
делает Эйзенштейн, крупным планом в толпе, на момент
в течение дня революции». Личность «на момент» — это, ко-
нечно, не личность. И Херсонский, видимо, чувствует внут-
реннюю непрочность такого понимания. Он разделяет эйзен-
штейновских актеров на «плохих» и «хороших». Он ощущает
«сухость мяса, из которого сделана человеческая масса рево-
люции», но он убежден, что в значительной мере это проис-
ходит из-за отсутствия «хороших актеров».1
Так начинался спор вокруг эйзенштейновского актера,—
спор, не утихающий и по сей день. Он касался общих принци-
пов, захватывал частности. То, в чем Хр. Херсонский видел
победу режиссера — в принципе подачи «массы» отдельными
крупными планами, — В. Шкловский усматривал поражение.
Эйзенштейн «не вполне владеет1_человеческим движением и
блестящрчеловеком в статике». «И это, — говорйтТПклов-
ский, — заставляет Эйзенштейна создать массовые сцены
из... крупных планов».2
Мнение современной критики было почти единодушным:
в эйзенштейновской «эмоциональной стихии» не хватало ак-
тера. «Когда Эйзенштейн начнет искать актера, работать над
ним, создавать его — тогда можно будет ожидать от режис-
сера «Потемкина» более синтетической киноработы».3
Однако актер у Эйзенштейна был не плох и не хорош —
у него были другие свойства. Он действительно не был похож
на традиционного актера, и эта непривычность постоянно
давала пищу для дискуссий. Актер Кулешова, при всей его
трансформированности, был более традиционен — он не ме-
нял свою эстетическую функцию.
Эйзенштейн в значительной мере эту функцию нарушил.
Его кинематограф отобрал у актера роль основного возбуди-
1 X р и с. Херсонский. От «Стачки» к «Потемкину». «АРК», 1926,
№ 2, стр. 3—5.
’В. Шкловский. Эйзенштейн. «АРК», 1926, № 2, стр. 5—6.
’ А. Курс. Молодая плеяда. «Советский экран», 1926, №8, стр. 3—4.
теля, носителя и проводника эмоционального содержания.
Воздействие на зрителя — основную свою задачу — режиссер
стал решать иными, внеактерскими средствами. В кинемато^
графе Эйзенштейна возникло понятие эквивалента актер-
ской игры.
В «Стачке» таким эквивалентом могут служить знамени-
тые «характеристики» сыщиков. «Кинопортрет одного из
шпиков, пьющего из бутылки водку, сопоставлялся с кадром
мартышки, тянущей из бутылки молоко. Кадр другого шпика
с тонким хитрым лицом сталкивался с крупным планом
лисы, третьего — мрачного, глазастого — с крупным планом
совы, а четвертого, задыхающегося от погони за «подозри-
тельными», — с жарко дышащим и выпроставшим язык буль-
догом».1
Внеактерские средства расширяли возможности автор-
ского отношения к вещам, их авторской оценки.
2. Актер Эйзенштейна был своеобразным преломлением
в художественной системе принципа реальности материала,
одного из краеугольных камней, на которых режиссер осно-
вывал зрелище еще в свой театральный период. В кинема-
тографе фотогения реального материала развита была Эй-
зенштейном максимально. В кинематограф Эйзенштейна он
входил на иных правах, чем у Вертова. Теоретическая уста-
новка Вертова на флагрантность, неискаженность у Эйзен-
штейна поддержки не находила. Одна из претензий его Вер-
тову относилась к «импрессионистичности» вертовского под-
хода к материалу, к постоянному, но неточному расчету на
его самовпечатляемость. «Вертов берет то, что его впечатляет,
ajie то, чем рв* будет впечатлять зрителя».2 В "системе Эйзен-
штейна рёальныи матерпатГподвергается"эстетической транс-
формации и в этом качестве теряет свою флагрантность. Не
случайно Вертов всегда не принимал кинематограф Эйзен-
штейна, полагая его эклектическим, промежуточным.3 Он
находил смешение там, где на самом деле была трансфор-
мация. С точки зрения Вертова и эйзенштейновский «типаж»
не имел права на существование, потому что он подвергся
сильнейшей эстетической обработке на первом этапе. Этот
первый этап заключался в выборе типажа.
Для фильма «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейну пона-
добился «.. .мужчина. Рост и лета безразличны, тип упитан-
ного обывателя, наглое выражение лица, белобрысый, жела-
1 Описание дано по кн.: Р. Юренев. «Броненосец «Потемкин» Сер-
гея Эйзенштейна. М., «Наука», 1965, стр. 20.
‘Эйзенштейн, т. 2, стр. 114.
8 См., напр.: Дэнга Вертов. Кино-глаз, радио-глаз и так назы-
ваемый документализм. «Пролетарское кино», 1931, № 4, стр. 12.
143
телен дефект в построении глаз (легкое косение, широкая
расстановка глаз и т. д.)».1 Для «Генеральной линии» («Ста-
рое и новое») нужен был паренек на роль «комсомольца
с «соломенными» волосами»; в поисках этого непременно
белобрысого паренька были объезжены дворы, села, деревни.1 2
Уже в стадии отбора «реальному материалу» сообщаются
непременные эстетические условия. Они привносятся режис-
сером, задача которого — предельно сгустить и сконцентри-
ровать эмоциональное наполнение образа. В то же время
Эйзенштейн мог снимать в фильме и актера, и это дало до-
144 полнительный повод Вертову обвинить Эйзенштейна в «теат-
ральности», а критике — пожелать Эйзенштейну «хорошего»
актера взамен «плохого». Для самого же Эйзенштейна актер
и типаж уравнивались в правах, включаясь в систему на оп-
ределенных и жестких условиях.
Замечания Пудовкина и Шкловского, что статичные ге-
рои Эйзенштейна лучше, нежели «человек в движении», за-
служивают внимания. Принцип максимальной психологиче-
ской выразительности, эмоциональной подчеркнутости «ти-
пажа» на раннем этапе творчества Эйзенштейна действительно
не требует развития образа во времени. Это — выразитель-
ность статуарная, плакатная. Типаж Эйзенштейна статичен,
и он требует gQHTgKCTa.J Такова вторая особенность актера
Эйзенштейна. Он как бы развивал в своей практике экспе-
римент Кулешова: сопоставление крупного плана актера
с тремя различными кадрами. Кулешов сделал тогда вывод
об относительности выражения лица актера и, стало быть,
о возможности «конструировать» актера. Эйзенштейн, по-ку-
лешовски, убежден, что «если мы показываем улыбающееся
лицо и даем после него крупным планом ребенка», то всегда
можно сказать, «что это добродушный мужчина или добрая
женщина, полные отцовских или материнских чувств». Если
же, говорит Эйзенштейн, мы даем то же самое улыбаю-
щееся лицо и показываем убийство, «выражение этого лица
приобретает оттенок садизма». Другими словами, «всегда
можно использовать относительность выражения, сопостав-
ляя два монтажных куска».3 ""
' В~~СЦене с сепаратором в «Старом и новом» «играет» сам
сепаратор. Стоящие вокруг «актеры» — те же «статичные»
герои с определенными, сгущенными эмоциональными харак-
теристиками— удивленный, недоверчивый, ухмыляющийся,
напряженный, надеющийся. Здесь дан «психологический про-
цесс игры мотивов — веры и сомнения», процесс, «разложен-
1 Цит. по кн.: Р. Юренев. «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзен-
штейна, стр. 34.
2 «Генеральная линия». Беседа с С. М. Эйзенштейном. «Советское
кино», 1927, № 2, стр. 7—8.
3 Эйзенштейн, т. 1, стр. 561—562.
ный на оба крайних положения радости (уверенности) и
мрака (разочарованности)».1
В «Броненосце «Потемкине», в сцене траура — люди пла-
чут над трупом. «Актеры», занятые в этой сцене, «не знали,
что к чему», потому что «мертвое тело снимали в одном
месте, а люди были сняты в другом месте, в другой день, и
многим из них пришлось направлять блики в глаза, чтобы
создать впечатление плачущих людей».2
Не перед исполнителями в данных случаях ставилось
психологическое задание, оно возникало позже, в контексте,
в монтаже. Для Эйзенштейна было важно не психологии^- 145
ское состояние героя, а состояние зрителя.
В этом смысле блестящий пример эквивалента актерской
игры — коляска на Одесской лестнице. Именно она доводит
до максимума зрительское напряжение, вызывая нужную
цепь ассоциаций: зритель представляет себе беспомощного
ребенка, он с ужасом ждет и не верит в его гибель, он охва-
чен з эту минуту необходимым режиссеру переживанием ве-
личайшей на свете жестокости — насилия над невинностью и
слабостью. В свое время, в «Стачке», Эйзенштейн шел в ана-
логичной сцене по иному пути. .. .Ворвавшиеся на галереи
рабочих домов конные полицейские разгоняют и топчут на-
род. На одной из площадок двое ребятишек, едва научив-
шихся ходить, мирно играют. Казак хватает одного из них
за рубашонку и сбрасывает вниз, в пролет. «Безактерская»
коляска в «Броненосце» — сильнее. Сила появилась в резуль-
тате монтажного контекста. Сцена лишилась бытовых черто-
чек и «реальности» «Стачки», но она освободилась от нату-
рализма и перестала быть статичной — она включилась в рит-
мическую конструкцию — наряду с солдатскими сапогами,
упавшим на лестнице мальчиком, катящейся вниз толпой, —
все они заняли определенное место в этом монтажном по-
строении, нагнетающем напряжение зрителя. Коляска была
высшей точкой этого напряжения.
В этой системе «эквивалентов» находил свое место и ак-
тер. Его функция была функцией крупного плана, который^---
Эйзенштейн понимал какавдщще--дагчсственное, связанное
с «оценкой видимого». ]£рупный план«новый качествен;
НЫЙ сплав, иытркям-цпий ипрЛтгрггр ,
—К-тему-зремени, как создается «Иван Грозный» — послед-
ний шедевр Эйзенштейна, едва ли не высшее достижение его
творчества, — в системе, разработанной режиссером, суще-
ствовал богатейший ассортимент «эквивалентов», заменяю-
щих актера.
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 294—295.
2 Там же, т. 1, стр. 561—562.
3 Там же, т. 5, стр. 166.
IV26 т. Ф. Селезнева
146
Уже в последние годы к ним добавляется звук и цвет.
Цвет Эйзенштейн только-только начинает пробовать в «Иване
Грозном». Но мастер полон творческих идей и планов. В его
бумагах сохранились сценарные разработки цветного филь-
ма— «Любовь поэта». Здесь мы находим интереснейшие при-
меры «актерской игры» цвета. Цвет служит характеристике
героя — в данном случае Натальи Николаевны.
Она виновна. Мы не знаем, как бы характеризовала ее
виновность актриса и что бы осталось на ее долю. Но вот что
выпадает на долю цвета.
.. .Через пестрые стекла дверей на антресоли выбивается
красный ромбик-зайчик и падает на побелевшие от страха
пальцы Натальи Николаевны. Это продолжение темы «про-
литой крови», начавшейся в сцене дуэли багровым кругом
солнца. Красный зайчик тоже кажется кровью, — Наталья
Николаевна прячет руки, потому что пятно на руке смыть
невозможно. На ней пышное белое платье. Когда женщина
быстро поднялась с места, чтобы пропустить приехавшую
Карамзину, она попала в игру лучей сквозь пестрые стекла
той же двери, — и вот уже на белоснежном платье — целый
каскад ромбиков-зайчиков, всех цветов радуги. Невинно бе-
лый наряд Натальи Николаевны «внезапно становится пест-
рым нарядом арлекина». У зрителя должна возникнуть мгно-
венная ассоциация со сценой маскарада, где достигает апогея
мучительная ревность ПуЩкина и где лейтмотивом проходит
насмешливый костюм «дамы-арлекина». Сейчас наряд На-
тальи Николаевны как две капли воды похож на костюм
именно этой маски. В памяти зрителя сразу всплывает тре-
вожная, зловещая сцена, и хртя Наталья Николаевна не ска-
зала еще ни слова — но уже самым активным образом вклю-
чилась в происходящее.1
Вдумаемся в эту сцену, которая является известным симп-
томом перелома в отношении Эйзенштейна ц актеру.
Повторяем, мы не знаем, что бы оставил Эйзенштейн акт-
рисе. Но совершенно очевидно, что он не ищет полной за-
мены актерской игры;‘до какого бы минимума ни свел режис-
сер инициативу исполнительницы роли жены Пушкина, —
она останется в центре фильма, а не исчезнет после стати-
ческого и предельно выразительного эпизода. Поэтому мы
не можем считать здесь цвет эквивалентом актерской игры
в том смысле, в какой мы употребляем это слово для ран-
него творчества Эйзенштейна. Цв^т_не подменяет актерскую
игру. Он «играет» не вместо актера,"но вместе с актером,
а' КГоткетбЫт ь, и в помощь ему.
Ймея в виду это обстоятельство, мы и обратимся к рас-
смотрению «Ивана Грозного» — единственного развитого ак-
1 См.: Эйзенштейн, т. 3, стр. 492—499,
терского фильма, который оставил Нам Эйзенштейн, — чтобы
посмотреть, каковы были пути и пределы развития актер-
ского начала в его творческом наследии.
3. Ко времени создания «Ивана Грозного» идея «кол-
лективного героя» давно отошла в прошлое.
«Иван Грозный» населен людьми, имеющими имена, свой
индивидуальный облик и даже исторических прототипов. Ря-
дом с Иваном располагаются первая жена его, Анастасия
Захарьина, тетка его Евфросинья Старицкая с сыном, «скорб- 147
ным умом» Владимиром Андреевичем; ближайшие друзья
Ивана — Филипп Колычев и князь Андрей Курбский; потом
опричники — Григорий Малюта Скуратов, отец и сын, Бас-
мановы. За ними — князья церкви, бояре; митрополит Пимен,
Шуйские, Бельские, Колычевы-Немятые, Колычевы-Умные;
король польский Сигизмунд, иностранные послы. Иные из
них появляются на мгновенье, но каждый, появляясь, остав-
ляет свой след.
Лучшие актеры заняты были в фильме Эйзенштейна —
Н. Черкасов, С. Бирман, Л. Целиковская, М. Жаров, П. Ка-
дочников, М. Названов, А. Мгебров... Не без удивления об-
наруживаем мы среди этой плеяды имена актеров театраль-
ных, таких, как Мгебров или развивавшая школу психологи-
ческой игры Серафима Бирман.
Дистанция огромного размера отделяла, казалось, актера
в «Броненосце «Потемкине» от актера в «Иване Грозном».
И вместе с тем здесь есть столь же очевидное сходство.
Образы «Ивана. Грозного» монументальны и- -статичны.
Их статичность является тем более разительной, что каждый
из них наделен своей особой судьбой и своим характером.
Характер этот не меняется на протяжении всего фильма., Он
не меняется потому, что в его основе лежит единая, ведущая
страсть. Это характеры классической трагедии.
Присмотревшись внимательнее, мы убедимся, что это
справедливо и для центрального образа — Ивана Грозного.
Им владеет единая идея — цельности государства, и все его
поступки и даже духовная его жизнь в фильме подчинены ей
одной. Он остается государственным деятелем — и только
им — и на своем смертном одре, и у ложа умирающей Ана-
стасии, и в моменты душевного кризиса: «прав ли я?!» Его
личная драма — трагедия борьбы чувства и долга.
Ему противостоит Евфросинья Старицкая со своей идеей
боярской власти — леди Макбет русского XVI века, но без
ее угрызений совести.
Рядом с ним стоит Курбский — изменник. Это изменник
всегда и во всем. Основа его характера — двоедушие, и ни
разу он не выдерживает с честью борьбы между долгом и
1х/а6*
148
соблазнами. Он слушает искусителей — ливонца и Евфро-
синью — и уходит молча, колеблясь. Он добивается любви
Анастасии, оставаясь другом Ивана. Он поднимает руку на
царя — и вуалирует дерзость самоотверженностью. Он при-
сягает— один из всех — царевичу Дмитрию, но один из всех
он знает, что Иван жив и не умрет. Его жизнь — это серия
сделок с совестью.
Чем дальше отходим мы на периферию этого мира, тем
резче и плакатнее становятся характеристики. Князь Влади-
мир Андреевич — слабоумен. Он любит выпить и развле-
кается ловлей мух. А далее — характеры вскрываются одной,
резко введенной зрительной темой. Возникает знаменитый
эйзенштейновский типаж.
Типаж был нужен Эйзенштейну в «Иване Грозном», — и
не будет преувеличением сказать, что все герои этого фильма
типажны.
Типажен сам Иван — ангелоподобный отрок в двенадцать
лет; юноша с резкими волевыми чертами лица, с длинной
шеей и выдающимся кадыком в семнадцать, — возбужден-
ный, нервный, порывистый; наконец, зрелый муж с печатью
внутренней трагедии, с длинной изогнутой бородой и длин-
ными волосами. У реального Ивана борода была окладистая,
после возвращения из Александровой слободы она очень по-
редела; а голову, по описаниям, он брил.
Типажна Анастасия — идеальный тип русской красавицы,
но не дородной; с большими глазами и точеным носом.
Типажен Курбский; красавец «рыцарь», французский или
английский, но не русский, западный.
Главные герои «Ивана Грозного» очень красивы или очень
безобразны. Здесь тоже есть принцип — типажной стилиза-
ции. Эйзенштейн стилизует лицо, иногда деформируя его.
Лицо в «Иване Грозном» характеризуют глаза и бороды. У
Филиппа Колычева огромная, черная, как смоль, борода,
заплетенная в косицы, — облик человека напористого, силь-
ного и непреклонного, монументального, как боги на вави-
лонских барельефах. У Курбского аккуратная «западная»
бородка. Это не русский человек. У Басманова — «естествен-
ная», "неухоженная борода, с мягким, красивым, светлым
подшерстком, как у волка. Широкую, «русскую» бороду, под-
стриженную «лопатой», носит Малюта. Извивающуюся, ос-
троконечную, продолжающую и без того длинное лицо ас-
кета-фанатика— Пимен. Весь зарос бородой и волосами ди-
карь Шуйский.
Борода Грозного меняется, меняя его лицо. Юношеская
короткая черная бородка; затем длинная, тонкая, нервная;
она задирается кверху, когда изможденный болезнью царь
теряет сознание; потом она дает зловещий силуэтный профиль
настороженного Ивана в проеме окна Александровой ело-
боды, и она же характеризует лицо царя, делает его без-
ошибочно узнаваемым, когда тень его простирается над
тенью глобуса, символизируя мировое значение и могущество
Московского государства.
По мере сужения функций персонажа характеристики
его становятся Лаконичнее и однозначнее. Эйзенштейн поль-
зуется (^типажной метафорой?/ Такие метафоры-характери-
стики он применял в «Стачке», строя их по принципу парал-
лельного монтажа: сыщик-бульдог, сыщик-обезьяна. В
«Иване Грозном» возникает 1мет^фарач1ортрет. Вот малень-
кая лысая голова без шеи, лежащая в центре огромного
жабо, — голова грифа. .Так характеризуется' один из «хищ-
ников»— иностранных послов. В эпизодах фильма эти «жи-^
дотные»—метафоры, очень нередки. Застигнутая вспышкой
гнева Грозного, Старицкая, 'п одобр а в длинный, волочащийся
по земле подол, проворно исчезает в черном узком отверстии
бокового входа — метафора «крысы». В другом эпизоде ее
черная фигура навКса'ет над закутанной в белое Анастасией:
«ворона» и «голубица». В третьем — прося царской ласки,
трется щекой о руку Ивана Малюта, «ры^щй^дес^
Этот внешний, зрительный, ассоциативный план стано-
вится неизбежным спутником актерской игры.' Самая
«игра» — меньше всего в голосе, жесте, мимике. Она одно-
линейна, эмфатична, подчеркнута. Реплцки_персонажей не
имеют подтекста; их подтекст — иносказание. Каждая ~pfe-
плика веска и значительна?''oilа коротка^ насыщена и дви-
жет действие как бы «толчком». Эйзенштейну почти не нужно
слово; его слово —это озвученная надпись. Зато ему нужно
пластическое~'движеш1£. поза, -п_оворот головьГПТ^глаз. Его
герои jie имеют быта, и невозможно представить их^в бы-"
товои среде. Они живут^_н£_~в . рояльном, а в «историческом*
временили появление их перед зрителем — это момент «запе-
чатления». Таков Грозный в Александровой слободе — зна-
менитый, почти хрестоматийный кадр с профильным силу-
этом прислушивающегося царя: профиль взят в трудном ра-
курсе, немного снизу; подчеркнутая поза, деформировавшая
естественный абрис головы и шеи, требовала, вероятно, боль-
шого физического напряжения от актера. Затем Грозный' по-
является во весь рост на ступенях белой лестницы, с длин-
ным жезлом, «осном», и в длинной мантии, еще больше под-
черкивающей высоту и худощавость фигуры, контур которой
рисуется ломаной линией на фоне уходящих вверх и вниз
ступеней; царь делает разворот, резкий и плавный одновре-
менно; жезл в его руке описывает полукруг, длинный шлейф
мантии движется по ступеням. Иван начинает спускаться.
Зрительная тема «поворота» тотчас реализуется сюжетно,—
и вот уже черные кони несут самодержца и его свиту назад
в Москву, с победой и «грозой».
149
Эти лица и фигуры — графичные, очерченные изысканной
линией, то угловатой, то плавно бегущей, дают кадрам
фильма какое-то сходство с картинами Эль-Греко: та же ду-
ховность, преобладающая над телёсным,'~земным началом,
та же деформированность реальных пропорций фигуры, их
«вытянутость» —- как в фигуре Ивана; то же ощущение зна-
чительности совершающегося. И та же игра 'цветовых"~пя-
ПШ, с драматургическим значением. Этот мой фильм тоже
будет цветовой ^-черпо белый; —Товорил Эйзенштейн.
Так в самую систему актерской игры в «Иване Грозном»
150 вторгается то, что мы наняли «эквивалентами»^ вместе с
деятельностыоД-собственно актера образует^гложный рису-
нок. Игра актера остается, уо образ создается не только ^ею
\_и_ даже.не ею в ‘.первую очередь. Ъна не составляет доминанты
~в ' республике равнозначных1' художественных средств, как
можно было бы сказать, перефразируя самого Эйзенштейна.
И потому крайне интересно попытаться проследить, как
же в этом всеобщем^равноправии изобразительных элементов
ведет себя а ктер^р ктер__психоЛбГИ ческой—Щ ко л ыГ^юст а в л ен -
ный в столь сложнЫеГнепривычные и ограниченные жест-
кими рамками условия.
Евфросинья Старицкая — С. Бирман поет колыбельную
песню своему слабоумному сыну Владимиру, которого, на
беду ему и себе, она прочит на московский престол.
На реке,
На речке студеной,
На Мрскве-реке
Купался бобер, купался черный. ,
Не выкупался — весь выгрязнился.
Покупавшись, бобер на гору пошел,
На высокую гору стольную.
Обсушивался, отряхивался,
Осматривался, оглядывался:
Нейдет ли кто, не ищет ли что.
Охотнички свищут, черна бобра ищут..
Охотнички рыщут, черна бобра сыщут.
Хотят бобра убити, хотят облупити.
Лисью шубу шити, бобром опушити,
Царя Володимира обрядити.. Л
Песня зловещая, с иносказанием. Евфросинья объясняет
сыну «на детском языке», что путь его к власти лежит через
убийство Грозного. С. Бирман «играет» эту песню средствами
актерскими превосходно. Но Эйзенштейну нужно было, кроме
того, «дать музыку, которая идет в полном соответствии
- с эмоциональным состоянием и игрой актрисы». «Я хотел,—
говорит он, — чтобы мысль человека, который поет, была вы-
ражена в музыке: в оркестре, а затем в голосе».2
1 «Иван Грозный». Киносценарий С. М. Эйзенштейна. М., Госкино-
издат, 1944, стр. 114—115.
2 Эйзенштейн, т. 3, стр. 591.
Музыка повторяет и подчеркивает состояние актрисы; на
словах «купался черный» — пробегает «первая дрожь»; между
строк появляется первое ощущение страха перед царем; на
словах «весь выгрязнился» «Евфросинью пробирает нена-
висть», и эти слова актриса не поет, а говорит и т. д. Таким
образом, «весь этот стих был музыкально разработан в своем
психологическом подтексте. И когда Евфросинья поет, а му-
зыка ее с невероятной силой поддерживает, когда, кроме того,
в оркестре проходит тема Грозного — сразу получается страш- >
ный кусок».1 Замечание очень характерное. Актерская сцена
оказывается разработана режиссером до мелочей, до дета- 151
лей. С. Бирман играет по партитуре Эйзенштейна, соблюдая
все нотные знаки. Поистине, приходится удивляться актрисе:
задача ее осложнена, вдвойне. ,е''''
" Песня о бобре дается’ Эйзенштейном — Прокофьевым —
Бирман в напряженном ритмическом рисунке — усилении зло-
вещего подтекста -Ома заканчивается той же колыбельной ин-
тонацией, что и в начале песни. Только слова «лисью шубу
сшити, бобром опушити», Старицкая произносит прямо в ухо
Владимиру. Тот начинает понимать смысл этих слов, а когда
она уже начинает выть: «царя Володимира обрядити», ему
становится ясно, что предстоит убийство Грозного. «Тут — его
неистовый вопль, который подхватывается хором».* 2
Как это обычно бывает у Эйзенштейна, эпизод отражается
в дальнейшем многообразно и изобретательно. Ту же колы-
бельную песню поет безумная Евфросинья над трупом Влади-
мира, погибшего от кинжала, предназначенного Грозному.
Теперь колыбельная звучит как реквием — матери по сыну.
Смысл песни оказывается иным, и зритель только теперь на-
чинает понимать, насколько зловещим был подтекст первой
сцены. «Бобррм», жертвой оказывается Владимир; «лисья
шуба» шилась для царя. Сошедшая с ума Старицкая вполго-
лоса поет, уже' не «драматизуя» строки, в одной лирической
тональности,- неподвижно глядя куда-то. Мимо нее траурной
процессией проходит вереница людей Грозного в монашеских
облачениях. Только в одном месте Евфросинья как будто вы-
ходит из своего забытья — на словах «купался черный»: в этот
момент мимо нее движется черная фигура царя.
4. К 1930-м годам, то есть к периоду звукового кино, от-
носится интересное осмысление Эйзенштейном своей кинема-
тографической системы в связи с системой Станиславского.
В ней Эйзенштейн находит тот же принцип динамического
развития, возникновения и становления образа, который яв-
/ Эйзенштейн, т. 3, стр. 592.
2 Там же.
152
I
ляется основным и для его кинематографической системы. Не
результаты переживания, а самый процесс; переживания ва7
жен^по Эйзенштейну — Станиславсйбм^И" тот же процесс
становления образа важен кинематографисту Эйзенштейну.
Оказывалось, что две противоположные художественные си-
стемы имеют между собой много общего. Можно было бы
ожидать, что в фильм Эйзенштейна войдет актер школы «пе-
реживания». Но этого не случилось — и случиться не могло.
Эйзенштейну важен общий принцип театра Станиславского,
в котором он видит еще одно подтверждение своих монтаж-
ных теорий. «Изображение» и «ощущение» Станиславского,—
по Эйзенштейну,— та же съемка с одной и нескольких точек,
то есть монтаж, переведенный на язык театра, выраженный
средствами мизансцены или мимикой и жестом актера.1
Происходило то же самое, что ранее с японским театром
«Кабуки», у которого Эйзенштейн «учился» общим принципам
«монтажной игры», но ничего не заимствовал. Эйзенштейн
не меняет места, отведенного в его системе актеру. Он не пе-
релагает на его плечи «рождение образа»,— он начинает уве-
личивать сумму вспомогательных средств для актера, но са-
мое «развитие», самое «ощущение» по-прежнему не в нем, не
в актере.
Воздействие на зрителя в театре и кино, для Эйзен-
штейна, достигается специфическими для этих искусств сред-
ствами, хотя и объединенными общим методом: в театре —пу-
тем «рождения живого чувства» (актером), в кино — монтаж-
ным' комплексом. «И тут и там надо создать... реальное
эмоциональное переживание. Здесь зрителя, а там актера
на тех же путях эмоциональной зарядки того же зрителя».1 2
«Реальное_эмоциональное переживание зрителя» — пред-
полЭгало непременное наличие «конфЛИКТа»Гстолкновения ак-
центных единиц, минимальных по величине, максимальных по
эмоционально-смысловой сгущенности, плотности. В этих
«конфликтах» раскрывался образ. Эйзенштейн не случайно
тяготел к мелплраме —мдксимально^действённои, остро~эмог
циональной форме сюжетной организации. В «Иване Троз-
^ом^сюЖетпьте^коТТфлйктынерёдкдносягГмелодраматический
характер: такова смерть Анастасии, принимающей чашу
с ядом из рук Ивана, такова история гибели Владимира Ста-
рицкого.
Такой системе противопоказано последовательное развер-
тывание и развитие образа — в длинных акцентных единицах
повествовательного кинематографа. Ни на заре своей деятель-
ности, ни в конце ее Эйзенштейн не принимал того актера, ко-
торого иронически описывали в 1920-е годы молодые «ниспро-
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 409—416.
2 Там же, стр. 417.
вергатели» — актера, «стоящего у окна и думающего о своем
проигрыше». Реакция зрителя вызывается «путем набора и
сопоставления сознательно подбираемых деталей и ситуа-
ций».1 Поэтому до конца жизни Эйзенштейн не мог согла-
ситься с Б. Балашем; «видимый человек» и «видимое лицо»
никогда не являлись основной и тем более единственной дви-
жущей силой его кинематографа. Вряд ли вообще можно го-
ворить об актере в фильме Эйзенштейна как об особой, вну-
тренне замкнутой теме, вне этой опосредованной «игры» —
«игры» вещей, изобразительных тем, ситуаций, тех «ассоциа-
тивных образов», за которыми «следить занятнее, чем за ноз-
дрями актера»,— как писал С. Радлов в 1924 году. Не будет
особенно парадоксальным сказать, что метод, предложенный
Эйзенштейном, в чем-то напоминает подчеркнуто-ассоциатив-
ный кинематограф французского «Авангарда». Но от «авангар-
дистов» Эйзенштейна отличала существенная особенность —
принцип «патетического» построения, распространявшийся и
на актерскую игру.
Эпизодические лица и сцены «Броненосца «Потемкина»,
трагедия Ивана Грозного и драма Натальи Николаевны Гон-
чаровой — были, в сущности, явлением одного художествен-
ного класса. Монументальная образность «Ивана Грозного»
завершала линию раннего эйзенштейновского «агитационного
кино».
1^3
5. Нам пришлось сместить хронологические рамки,
чтобы посмотреть, каковы были дальнейшие судьбы актера
в созданной Эйзенштейном кинематографической системе.
Мы пытались проследить, как «полифонный монтаж» втяги-
вает в себя актерскую игру, занимающую в нем все большее
место, и как он, с другой стороны, ставит пределы развитию
актера, не давая ему подчинить себе прочие равноправные
’элементы «республики искусств».^ Эйзенштейн «обволакивал»
"актера комплексом дополнительных «звучаний», оставляя ему
свободу действия на определенных условиях и в определенных
пределах.
Так происходило в 1945 году. Теперь же вернемся назад,
к 1926 году, когда Эйзенштейном еще владела идея «массо-
вого героя», которая уже сама по себе была барьером для
развития актерского кино. Осуществляя эту идею, Эйзенштейн
создает «Стачку», «Броненосец «.Потемкин» и «Октябрь»,
из которых по крайней мере два последних фильма были вы-
дающейся победой советского кино. Поэтика этих фильмов
была отлично приспособлена к тому, чтобы обходиться без
индивидуального героя; в ней создалась целая система «экви-
1 Эйзенштейн, т. 2, стр. 176.
валентов» актерской игры,— и впечатляющая их сила была
~зттч+тт^тъно больше, нежели язык традиционного актерского
фильма. Только имея в виду это обстоятельство, мы можем
по достоинству оценить факт, который в иных условиях мог
и не привлечь к себе особого внимания: в 1926 году в преде-
лах эйзенштейновской системы появляется индивидуальный
герой. В этом году два молодых режиссера, создатели так на-
зываемой Фабрики эксцентрического актера (Фэкс)—Г. Ко-
зинцев и Л. Трауберг выпускают на экраны фильм «Шинель»,
снятый по мотивам повестей Гоголя и по сценарию Ю. Ты-
154 нянова.
Фильм «Шинель» не был экранизацией в точном смысле
слова и не был фильмом об Акакии Акакиевиче. Тем не менее
Башмачкин был в нем главным действующим лицом, на
экране проходила его судьба, он жил и действовал, чего-то
желал, старел и, наконец, умирал. Он имел все признаки ин-
дивидуального героя и смело мог требовать психологической
игры актера.
Мы помним, что в том же году психологический герой по-
явился в другой кинематографической системе — Льва Куле-
шова. Эта система не исключала ни индивидуального героя,
ни актера, но она исключала традиционное понимание психо-
логии. Новая психология в фильме «По закону» «не вышла»,
она сковала актера «внешним движением», оттеснив на зад-
ний план «движение внутреннее», потребность в котором ощу-
щалась на протяжении всей ленты.
Авторы «Шинели» по своим творческим установкам были
близки не к Кулешову, а к Эйзенштейну, и фильм они сни-
мали, подчеркиваем, как раз в период разработки «коллек-
тивного героя».
В «Шинели» родился на свет Акакий Акакиевич (А. Ко-
стричкин)—существо с крысиной мордочкой, с фигурой
в виде вопросительного знака и походкой на подкашиваю-
щихся ногах. Это был истинный «эксцентрический актер»,
воспитанный Фэксом. И все-таки это был герой «с психоло-
гией»,— даже вопреки своему гоголевскому прообразу.
В фильме у него появилась душевная жизнь, которой лишен
был литературный Акакий Акакиевич. Эта психология была
своеобразной—она нужна была не столько Акакию Акакие-
вичу, сколько авторам картины, она существовала более для
них и стала средством авторской оценки героя. Герой был как
будто отделен от своей собственной внутренней жизни —
они существовали порознь. Здесь приходили на помощь гро-
теск и ирония.
Все, кому приходилось видеть этот фильм, без сомнения,
помнят в первых частях его огромный чайник в комнате мо-
лодого Акакия Акакиевича. Своим паром он,заполняет всю
комнату, он неправдоподобен в своих размерах, он живет,
дышит, он вызывает даже ощущение уюта и какого-то свое-
образного оптимизма. Он — символ сытости и благополучия,—
благополучия, как его должен понимать Акакий Акакиевич
согласно авторам картины.
Рядом с чайником — цветок. Герань в горшочке. Она ве-
село цветет, дополняя ощущение «благоденствия».
Но верх мечтаний Акакия Акакиевича, высшая точка его
представления о счастье — это чтобы женщина, «миловидная
и полная», сидела в кресле и чтоб чай подавала белой рукой.
Вот и грезит Акакий Акакиевич, и видится ему, как капот,
висящий на гвоздике, вдруг становится теплой новой шинелью,
а та, в свою очередь, сходит с гвоздика и превращается в «по-
другу жизни». Она сидит в креслах, поглядывает на Акакия
Акакиевича, пододвигает ему воображаемый чай, а он кивает
ей добродушно головою: «Я, матушка... того... попил уже».
Чайник и цветок сопровождают жизнь Акакия Акакиевича
на экране. Разбиты мечты чиновника, нет ни шинели, ни
хозяйки, ни благоденствия — чайник уже не окутан паром,
он как бы сжался, стал маленьким, жалким, холодным. Засох
и цветок. А в сцене смерти Акакия Акакиевича мы видим че-
репки разбитого цветочного горшка, выброшенные в ведро.
Тогда же появляется еще один аксессуар — свеча. Акакий
Акакиевич умирает тихо, незаметно, он «отходит». И так же,
как истаивает его жизнь, так и оплывает свеча на столе. Для
выражения беспредельной до неправдоподобия покорности
этого человека режиссеры вводят снова гротесковый прием.
Акакий Акакиевич умирает так «аккуратно», как будто сам
себя кладет на смертное ложе, вместе с мундиром и перьями,
и когда потухла и задымилась свеча, некто, взлохмаченный,
гасит на столбе фонарь. Этот «некто» — сам Башмачкин.
Актеру здесь не надо было играть «психологию», пусть
даже такую примитивную,— она дана опосредованно, и в этом
была принципиальная задача сценария и фильма.
Для характеристики этого принципа воспользуемся отрыв-
ком из фильма, приведенным Вл. Недоброво.
Молодой Акакий Акакиевич стоит у окна книжной лавки.
Виден только невзрачный его силуэт. Далее следуют кадры:
21. Акакий Акакиевич повернулся к зрителям, робко взглянул на про-
спект.
22. Невский проспект в движении очень быстром.
23. По тротуару почти бегут люди. Идет, очень вращая бедрами, да-
мочка. Плывет важная особа, за которой увивается чиновник уклончивого
вида. Прошел, гремя саблей, военный.
24. Мигает слегка фонарь.
25. На фоне окна, в котором отражение Невского, огней и движе-
ния,— застывший Акакий Акакиевич. Чуть моргает от нестерпимого бле-
ска. Повернул глаза.
155
26. Нестерпимым блеском горит фонарь.
27. Акакий Акакиевич невольно закрыл глаза. Перевел еще правее.
28. Фонарь над кофейной и часть вывески.
29. Слегка вертится крендель.
30. Акакий Акакиевич моргает.
31. Мигает уличный фонарь.
32. Покачивается фонарь над кондитерской.
33. Вертится крендель.
34. Скользит по тротуару женская ножка.
35. Вращаются колеса кареты.
156 36. Ступеньки в кофейню.
37. Акакий Акакиевич моргает. Вдруг — застыл.
38. Остановился фонарь над кондитерской.
39. Застыли колеса.
40. Остановился крендель.
41. Застыл в кукольной позе франт.
42. Встали на задние лапы шесть собачонок.
43. По ступенькам кофейни сошла девушка. Остановилась на тротуаре.
44. Акакий Акакиевич подался чуть-чуть вперед.
45. Девушка застыла. Словно обнюхивая ее, справа и слева замель-
кали старики и франты.
46. Очень мигает фонарь.
47. Бешено мчащийся Невский. • 4
48. Акакий Акакиевич.
49. Девушка.
50. Невский вокруг растаял. Ни людей на тротуаре, ни карет, ни мо-
стовой. Только у окна Акакий Акакиевич и у кофейни девушка. То затем-
няется, то просветляется лучами мигающего фонаря улица. Потом — снова
замелькали люди и кареты.
51. Девушка прошла к фонарю и стала под ним.
52. Повернулась. Осветилось ее лицо.
53. Акакий Акакиевич смотрит.
54. Брызнул фейерверк из фонаря.
55. Акакий Акакиевич закрыл глаза. Затем открыл их. Слабое подо-
бие улыбки оживило его лицо. Он замечтался.
56. (Не в фокусе). Девушка у фонаря.
57. В окне магазина статуэтка Амура и Психеи.
58. Медленно уходит дама от кавалера, соблазняя его улыбкой.
59. Медленно вытягивается крендель, принимая форму сердца.
60. Акакий Акакиевич мечтает, закрыв глаза. Раскрыл их чуть-чуть.
Решил пойти. Вдруг испугался, стал оправляться. Повернулся к зеркалу
в окне^ Увидел себя. Улыбка постепенно сползла с его лица. Показывается
весь он с головы до ног — невероятный и плохо одетый. Плохо обуты
ноги, а мимо них проходят щегольские ботинки и блестящие сапоги.
Акакий Акакиевич оробел и дрожит...» 1
‘Вл. Не доброе о. Фэкс. М.—Л., Кинопечать, 1928, стр. 36—38.
Эмоциональное содержание этой сцены — «ослепление»
Акакия Акакиевича «небесным созданием». Сердечное волне-
ние молодого человека, не умеющего и не желающего разоб-
раться в том, кто такая эта красотка, идеальные мечтания
его, внезапная робость и горечь при виде себя, бедно одетого
и жалкого на фоне блестящих щеголей. Задача — психологи-
ческая, но, как справедливо подчеркнул критик, при-
ведший эту сценку, решается она «не через игру Андрея Ко-
стричкина, а через выделение и сочетание специфических де-
талей». Столь же справедлива и высокая оценка, которую дал
критик этому куску; помимо своих прямых кинематографиче-
ских достоинств, он «прекрасно показывает специфическую
манеру работы фэксов вообще^.1
Посмотрим же, как построена эта сцена. Что делает в ней
актер?
Стоит... Повернулся к зрителям... Робко взглянул на про-
спект. .. Застыл... Чуть моргает от нестерпимого блеска фо-
наря. .. Повернул глаза... Закрыл глаза... Перевел глаза еще
правее... Моргает... Застыл... Подался чуть вперед... Смот-
рит... Закрыл глаза... Раскрыл их чуть-чуть... Повернулся
к зеркалу в окне. Увидел себя. Улыбка постепенно сползла
с его лица... Оробел и дрожит...
Арсенал выразительных средств актера, как мы видим,
ограничен. Он создает только самый общий рисунок, канву,
которая наполняется и расцвечивается уже иными средст-
вами. Они-то и превращают статического актера в эмоциональ-
ный сгусток, сообщая сцене эмоциональную драматургию и
динамику.
Ритмически сцена построена, как если бы мы слышали
неровный стук сердца Акакия Акакиевича, то бешено коло-
тящегося, то внйапно останавливающегося, когда «замирает»
дыхание:
.. .Движется Невский проспект... Почти бегут люди... Го-
рит, мигая, фонарь... Вертится крендель над кофейной... По-
качивается фонарь... Скользит по тротуару женская ножка...
Вращаются колеса кареты... Акакий Акакиевич моргает.
Вдруг — застыл.
Застыл, потому что на ступеньках кофейни появилась де-
вушка. Сердце Акакия Акакиевича замерло — и замерло все
вокруг.
Остановился фонарь над кондитерской. Застыли колеса.
Остановился крендель. Застыл в кукольной позе франт.
Встали на задние лапы шесть собачонок. Застыла девушка.
Чуть подался вперед Акакий Акакиевич.
Внезапно оцепенение сменяется столь же внезапным лихо-
радочным движением —
157
1 Вл. Недоброе о. Фэкс, стр. 38.
Очень мигает фонарь.
Бешено мчащийся Невский.
Акакий Акакиевич.
Девушка...
— Снова остановка.
Все исчезло Вокруг для Акакия Акакиевича. Он ничего не
видит и не слышит. Существует теперь только он и девушка...
Снова замелькали люди и кареты...
Снова остановка. «Брызнул фейерверк из фонаря». Де-
вушка подошла к фонарю, и он осветил ее лицо. Это — как
158 вспышка, которая ослепляет Акакия Акакиевича. Он невольно
закрывает глаза.
Ритмическая лихорадка прекратилась. Акакий Акакиевич
размечтался, не открывая глаз, с легкой улыбкой на губах.
Деёушка у фонаря уже «не в фокусе», в витрине магазина
статуэтка Амура и Психеи, и медленно вытягивается крендель
над кондитерской, принимая форму сердца...
Сентиментально-иронический оттенок исчезает, как только
Акакий Акакиевич открывает глаза и видит свое отражение
в зеркале окна. «Невероятный и плохо одетый». Улыбка
сползла с его лица, он робеет и дрожит.
Сцена построена на ритме и метафоре. В драматургию
сцены органичным компонентом входит то, что Эйзенштейн
называл «тональным монтажом», и то, что у фэксов достигло
наивысшей степени развития — драматургия освещенности
кадра. В приведенной сцене — это фонарь, который то слабо
мигает, то вспыхивает нестерпимым блеском, то затемняя, то
просветляя улицу, создавая ощущение зыбкости, неверности
окружающего, подчеркивая изменчивость состояния Акакия
Акакиевича.
В «Шинели» .появились и психологически мотивированные
ракурсы, которые затем применяет Пудовкин. В «Матери»
снятая сверху женщина с поднятой рукой вызывала ощуще-
ние раздавленности горем, в «Шинели» такое же ощущение
раздавленности вызывала сцена «распекания» Акакия Ака-
киевича.
Снова актеру не нужно было играть состояние предель-
ной униженности и страха. За него это сделали авторы. Баш-
мачкин снят сверху — маленький и ничтожный на огромном
каменном полу; «Значительное лицо», снятое снизу, выра-
стает, медленно поднимается, и чем выше голова «Значи-
тельного лица», тем ниже приседает и склоняется Башмачкин,
пока, судорожно выпрямившись, не падает резко навзничь.
Интересы фэксов, так же как и Эйзенштейна, лежат в это
время в сфере «вызывания у зрителя нужных психологиче-
ских состояний», а не демонстрации их актером, даже если
он изображает индивидуального героя. Актер впущен уже
в систему, но на определенных условиях, хотя и несколько
иных, чем у Эйзенштейна. У факсов он еще продолжает быть
эксцентрическим актером, атмосфера же вокруг него —зна-
чительно богаче. Принципы создания эмоционального воздей-
ствия — эйзенштейновские. Это — сопоставление кадров —
«предметов и действий, самих по себе ничего не значащих,
но в контексте данной смысловой среды накопляющих и обра-
зующих цепь необходимых ассоциаций».1 Но, в отличие от
Эйзенштейна этого периода, «кинематографические средства»
призваны были не заменить актера, они существовали не
вместо него, а вокруг него и для него. В этом смысле «эйзен-
штейновцы» Г. Козинцев и Л. Трауберг опередили самого
Эйзенштейна.
Принципиального различия между «Шинелью» (1926) и
фильмом фэксов «Новый Вавилон» (1928) не было.
«Новый Вавилон», правда, уже не фильм гротеска, но инди-
видуальные его герои, спаянные явно психологической ситуа-
цией, были в том же правовом положении, что и Акакий Ака-
киевич — Костричкин.
Солдат Жан и его возлюбленная — продавщица Луиза
в дни Парижской коммуны оказываются по разную сторону
баррикад. События постоянно разлучают их, чтобы в конце
фильма столкнуть на кладбище Пер-Лашез, где расстрели-
вают коммунаров, среди которых — Луиза.
Фильм строится не на взаимоотношениях этих людей, а на
столкновении событий. Развитие психологической драмы
остается в потенции. Персонажи появляются и исчезают как
пассивное отражение происходящего. Жан — солдат, это —
«один из многих», кто не в состоянии осмыслить суть вещей,
персонификация не думающей, пассивной массы, беспрекос-
ловно повинующейся приказу. В этом смысле он — родствен-
ник Башмачкину,‘и П. Соболевский, играющий Жана, рисует
своего героя не менее однозначно, чем А. Костричкин — Ака-
кия Акакиевича. Долгий, тяжеловатый и туповатый взгляд
исподлобья — такова запоминающаяся черта Жана — Собо-
левского.
Акакию Акакиевичу придана психология, у Жана она ото-
брана. Вся сумма кинематографических эквивалентов при-
звана характеризовать его не как личность, а как персонифи-
кацию политической категории.
...Жан — участник разгрома Коммуны. Когда окончилась
расправа, когда город наполнился огнем и дымом — огля-
нулся Жан. Следующий кадр — аплодирует буржуазия, засев-
шая в Версале. .
.. .В поисках Луизы Жан случайно заходит в кафе, где
веселятся буржуа, празднуя победу. Появление Жана встре-
чено ими с восторгом, его тормошат, целуют — «Французский
159
1 Вл. Недоброе о. Фэкс, стр. 38.
солдат велик и могуч!». Интерес быстро теряется, когда же
он спрашивает — куда повели пленных — равнодушие сме-
няется враждебностью. Его выгоняют.
Здесь можно было бы ожидать психологической характе-
ристики, но Жан не индивидуальность, он — «французский
солдат», «один из многих».
В последней сцене фильма Жан получает приказание рыть
могилу для Луизы, приговоренной к расстрелу. Он роет. По-
прежнему блестяще «работает» фэксовская «атмосфера» —
ненастье,' потоки дождя, вода и слезы перемешаны на лицах
160 Луизы и Жана. Но эта внезапно педалированная личная нота
зрителем уже не воспринимается — она оказалась неподготов-
ленной.
В известной мере «Новый Вавилон» был отступлением от
психологизма «Шинели», пусть экспериментального и услов-
ного. Но единый, уже не гротесковый, не эксцентрический,
герой «Нового Вавилона» сыграл в истории советской кине-
матографии роль несомненно более значительную.
Это был новый тип героя — своеобразная персонифика-
ция «социальной психологии», без индивидуальных черт. Та-
кого именно героя искал Эйзенштейн. Фэксы нашли его,— и
еще раз опередили учителя. Но за несколько месяцев до вы-
хода «Нового. Вавилона» подобное же открытие было сде-
лано в фильме В. Пудовкина.
6. Фильмом этим был «Конец Санкт-Петербурга». Он был
создан к 10-летию Октябрьской революции, и именно в нем,
втором самостоятельном филнме Всеволода Пудовкина, впер-
вые появился новый тип героя, который обозначился в «Но-
вом Вавилоне».
«Массовый герой», представший в «Броненосце «Потем-
кине» в своем «чистом» виде, был несомненным и выдаю-
щимся достижением своего времени. Но «Броненосец «Потем-
кин» был в то же время и высшей точкой в решении этой эсте-
тической проблемы.
«Массовый герой» предполагал предварительный молча-
ливый договор режиссера и зрителя. Зритель должен был
принять этот условный ключ, в котором режиссер будет вести
повествование о своих героях,— он не должен требовать от
режиссера ни их имени, ни их биографии и заранее смириться
с тем, что, раз появившись на экране, они затем бесследно ис-
чезнут. В «Броненосце «Потемкине» Эйзенштейну удалось на
этом пути одержать победу. Однако победа эта вряд ли могла
быть закреплена. Дело в том, что зрительское восприятие,
как правило, лишено этой установки на условность. Человек
на экране одним своим появлением требовал характера.
Упреки Эйзенштейну в «недостатке человека», в «плохом ак-
тере» были тому подтверждением. И не о том ли свидетель-
ствует восприятие «Потемкина» в критике нашего времени,
в попытках усмотреть в моментальных героях «Броненосца»
скрытые психологические портреты, потенциальные человече-
ские биографии вплоть до бытовых нюансов?
Задачей Эйзенштейна было как раз избежать психологи-
зации, которую он справедливо отождествлял с^ндйвйдууШ)^.
"Ему хотелось, например, показать'Ьойну с семи точек зрения,
так, чтобы при этом не изобретать «семью, в которой было бы
семь братьев».1
Но проблема индивидуального героя возникала вопреки
намерениям художника, и если сравнить «Стачку» и «Броне-
носец «Потемкин», то большая индивидуализация героев по-
следнего может послужить тому примером.
После «Броненосца «Потемкина» Эйзенштейн не возвра-
щался к проблеме «массового героя», по-видимому, не видя
дальнейшего пути в его развитии. Что касается героя инди-
видуального, то эта проблема настоятельно требовала своего
решения. Сам Эйзенштейн в середине двадцатых годов эту
проблему не решил, но что она для него имела существенное
значение, свидетельствует его восторженный прием пудовкин-
ского «Конца Санкт-Петербурга». В нем Эйзенштейн увидел
разрешение важного для него вопроса: индивидуальный герой
в пределах его, Эйзенштейна, системы.
Героем фильма Пудовкина стал бывший крестьянин — за-
тем рабочий — солдат и, наконец,— участник революционных
событий. Задачей фильма было показать перелом в его созна-
нии; биографией героя стала биография политическая.
Герой Пудовкина присутствует в фильме как фигура цен-
тральная. Но у этого худого, сутулящегося человека с тяже-
лой походкой и Наивным взглядом необычайно светлых глаз
нет имени, это — «Парень», он один из многих, любрй из
массы; ключ к нему — в знаменитых начальных кадрах ленты:
на фоне нищих, разоренных деревень — надписи: «пензен-
ские. ., новгородские.., тверские...». Он, как и многие из этих
«пензенских, новгородских...», вынужден уйти из деревни, где
мрут от голода, где нечем обработать землю, которая не ро-
дит, где лишний рот — в тягость,— типичная картина русской
деревни в военные предреволюционные годы. Парень, как и
многие бывшие крестьяне, идет в город, в котором поначалу
с трудом ориентируется, с трудом привыкает к положению
рабочего, с трудом разбирается в социальных взаимоотноше-
ниях. Затем — война, и из рабочего он становится солдатом.
Годы, проведенные на заводе и в окопах,— это школа для быв-
шего крестьянского парня,— там он получает политическое
161
1 В. Шкловский. Сергей Эйзенштейн и «неигровая». «Новый Леф»,
1927, № 4, стр. 35.
«образование», перестает быть пассивным и послушным ору-
дием в руках его хозяев, и уже как элемент сознательной
классовой силы приходит в революцию.
Как мы уже сказали, фильм не ставил своей задачей раз-
витие характера героя, и не индивидуальная его судьба ин-
тересовала режиссера.
Но и не события сами по себе определяли картину. Их
надо было «оживить через человека», «через призму человече-
ской психики». Задача состояла в том, чтобы показать «пре-
ломление исторических событий в психике персонажей так,
162 чтобы эти события служили импульсом для их действий.. -»1
Делает это режиссер средствами, разработанными эйзен-
штейновской системой,— предельным использованием и орга-
низацией зрительного, пластического материала,— именно
они, а не актер должны были создать необходимое эмоцио-
нально-смысловое содержание.
Вот два отрывка из сценария фильма, которые приводит
в качестве примера сам режиссер.
Они относятся к военным эпизодам. Это те самые эпи-
зоды, в которых Парень с экрана исчезает. Иногда мы видим
его на мгновенье среди других солдат, но едва различаем
среди этих других, среди дыма, грязи и крови. Как централь-
ная фигура он здесь режиссеру не нужен. Это один из прин-
ципиальных моментов фильма. Солдаты выполняют приказы,
поднимаются в атаку, гибнут. Но эта война бессмысленна для
них, чужда им и непонятна. Они устали от нее, настроение
у всех подавленное. Такой именно должна восприниматься
война зрителем, такой воспринимается она и людьми, коченею-
щими в окопах. Среди этих людей — Парень, и поэтому его
отсутствие в этих эпизодах воспринимается нами, скорее, как
потенциальное присутствие. Война здесь — одно из тех «со-
бытий», оживленных «через человека», которое должно обу-
словить перелом в психике и сознании героя.
1. Ночная подготовка к атаке.
«Дует холодный, пронизывающий ветер. Мерный стук падающего
дождя создает какую-то безысходность. Жалкие люди, иззрбшие, отума-
ненные, закоченевшие в воде, жмутся друг к другу. Они сами не готовятся,
но вся окружающая обстановка готовит их к атаке. Крутом темнота, осве-
щаемая ракетами. Темнота, которой нет конца. Наконец, намеки и очерта-
ния рассвета. Туманное, фронтовое солнце, тоскливые фронтовые пейзажи,
безжизненные, серые. И опять люди — крупным планом. Они не готовятся,
но их готовят. И снова отдельные добавочные моменты: взрывы, дым,
всплески воды...».
2. Окоп после атаки.
«Тихо клубится земля. Она покрыта утренней росой. Кругом тишина
пустоты. Взлетает птица. Кажется, что земля устала и людей нет. В ку-
стах копошится раненый герой, наш. Из кустов рядом выползают два
немца, из которых один тащит на спине своего раненого товарища...
1 «Конец Санкт-Петербурга». (Беседа с режиссером В. Пудовкиным
и оператором Головня). «Советское кино», 1927, № 7, стр. 18—19. .
Утренняя роса. И снова тишина, усталая тишина природы перед судоро-
гой, перед взрывом...
Далее, стреляет русское орудие. Немецкое орудие стреляет. По окопу
катятся три трупа... Лентой развязывается бинт...» 1
Режиссер воздействует на зрителя целым комплексом эле-
ментов. Это «фактура» окопа — жидкая грязь, измученные
солдатские лица, неестественные позы убитых,— фактура, ко-
торую так умел создавать Пудовкин, в которой было больше
натуральности, обжитости, чем в холодноватой, обобщенной,
часто символической «натуре» Эйзенштейна. Это — монтаж-
ное чередование эпизодов, создающее «образ», «настроение»
ситуации очень точно: и эмоционально, и логически, и ритми-
чески. Наконец, здесь то, что Пудовкин обозначил как «транс-
формация материала», то есть драматургическое использова-
ние освещения и ракурса, также входившее в понятие «си-
стема Эйзенштейна».
«Из сложного комплекса всех этих элементов,— говорит
Пудовкин,— и достигается настоящее экранное слово, которое
оглушает зрителя своим чисто кинематографическим зритель-
ным воздействием».* 1 2
Эти кинематографические средства, как мы уже говорили,
могли играть двоякую роль по отношению к герою фильма
(актеру): они могли его заменять (как у раннего Эйзен-
штейна), они могли «помогать» ему, как было в фэксовской
«Шинели». В конечном счете они определялись наличием и
характером «героя». Поставленная Пудовкиным задача и ее
реализация были последовательны. Герой в фильме был, но
за него «работали» события. Они должны были быть поданы
так, как отражались в сознании этого героя, героя — социаль-
ной единицы, ге^ря обобщенного, абстрагированного.
Фильм Пудовкина был интереснейшим явлением того пе-
риода. События были пропущены через призму восприятия
героя, которого в конечном счете не существовало,— героя,
который только «путешествовал по фильму как персонифи-
цированная связь событий».3
Эйзенштейну казалось это разрешением проблемы. «Ведь
там,— писал он о «Конце Санкт-Петербурга»,— в центре вни-
мания не «поступь истории», а перерождение, падение и
подъем одной частицы, переламывание психики этого
парня...», для чего « в ход пущены громадная машина войны,
биржи, капиталистической конкуренции, революции». «Громад-
ную заслугу Пудовкина» Эйзенштейн видел в том, что, «взяв-
шись за индивидуально-психологическую тему роста классо-
----------
1 <Конец Санкт-Петербурга» (Беседа с режиссером В. Пудовкиным
и оператором Головня). <Советское кино», 1927, № 7, стр. 19.
2 Там же.
3 М. Блейман. Человек в советском фильме. (История одной'
ошибки). <Советское кино», 1933, № 8, стр. 52.
163
вого самосознания деревенского парня», он сумел создать
«переключением в монументальные масштабы — из частного
эпизода громадную эпопею». Для Эйзенштейна фильм Пу-
довкина явился «первой эпопеей из психологии индивидуаль-
ной темы прошлого».1
Эти замечания были очень показательны для режиссера,
который сам уже искал путей обрисовки индивидуального ге-
роя, причем такого, который бы гармонировал с масштабно-
стью социальной темы. Однако герой этот был еще только
в стадии становления, и лучшим тому подтверждением были
164 первые два фильма Пудовкина. Мы намеренно начали со вто-
рого из них, так как именно он шел в русле исканий самого
творца «системы» и развивавших ее авторов «Нового Вави-
лона». Первым же крупным фильмом Пудовкина, вышедшим
в свет в 1926 году, был не «Конец Санкт-Петербурга»,
а «Мать» с иной типологией героя.
7. Фильмом «Мать» Пудовкин заявил о себе как о «ма-
стере огромного таланта, высокой художественной культуры
и большого чутья киноискусства».1 2 Фильм сразу отнесен был
к новой, классической, по выражению Шкловского, школе,
с ее отчетливым «делением планов», с выделением деталей,
которые «доигрывают до конца», со всеми законами монтажа,
«иногда слишком акцентированного», с точным расчетом, очи-
щенным кадром и т. д.3 Сам же Пудовкин причислен был
к «молодой плеяде» — Вертову, Эйзенштейну, Кулешову.
Однако было замечено, что новый режиссер сделал свою
ленту так, как «ни Эйзенштейн, ни Кулешов, ни Вертов не де-
лают».4
Отличительной чертой нового режиссера явилась уста-
новка на «человеческий материал».
Пудовкин, доселе работавший в кинематографе как актер
группы Кулешова, прошедший у него специфическую «кине-
матографическую» школу игры, в «Матери» отказался как
от актера кулешовского плана («натурщика»), так и от ти-
пажа в понимании Эйзенштейна. Не делал он ставки и на
«нового» актера, подобно фэксам.
Первому из «классической школы» Пудовкину понадоби-
лись психология, характер, биография,— в их традиционном
понимании. Впервые в фильм этой школы был введен про-
фессиональный, к тому же театральный актер. Он зажил на
1 С. Эйзенштейн. За «рабочий боевик». «Революция и культура»,
1928, № 3-4, стр. 52—56.
2 Вл. Недоброе о. «Мать». «Жизнь искусства», 1926, № 43, стр. 16.
’Виктор Шкловский. Пудовкин. Газ. «Кино», 1926, № 36(156),
7 сентября.
‘ X р и с. Херсонский. Борьба фактов, взглядов, идей и способов
воздействия. «Кино-фронт», 1926, № 9-10, стр. 21—26.
экране в удобной для него бытовой обстановке, он мог сидеть
и ходить, как повелела ему природа, и ему дано было право
на естественные до примитивности чувства. В результате
актеры в фильме «Мать» заставляли забыть о всякой игре,
сливаясь с созданными ими типами «до совершенной иллю-
зии жизненной правды»,1 а «образ матери зритель выносил
с собой из зрительного зала, будучи впервые, кажется, потря-
сен силою игры советского киноактера».* 2 В этом признании
критика была единодушна.
Артистка В. Барановская играла мать забитой, беспре-
дельно покорной и беспредельно любящей единственного сына.
В образе было много типического, но образ был явно инди-
видуальный, конкретный, то, что называют — близкий и вы-
зывающий немедленное к себе сочувствие.
Перевоплощение актрисы было полное. Появились натру-
женные руки, согнутые нуждой и побоями плечи, привычное
страдание в глазах. Но в глазах этих не было тупости — они
менялись, они готовы были жиГь, ими выражалось многое. Вот
мать встречает женщину с ребенком на руках.— Сын?—
спрашивает она. Женщина кивает утвердительно. Две матери,
для которых в этом коротком слове заключено безмерно
много. Глаза Барановской становятся мягкими, теплыми, по-
является ласковая, полузадумчивая улыбка, казавшаяся не-
возможной у этой женщины при ее первом появлении на
экране.
А вот сцена в суде. Мать сидит в зале, прямая, со сложен-
ными на коленях усталыми руками, вся простая, бесхитро-
стная, с непокрытой головой. Она мало понимает, что проис-
ходит, но она знает, что сын арестован по ее вине. Вот он
увидел ее в зале, в глазах промелькнула обида. Но что ей
делать? Она исказнила уже себя до предела, она может те-
перь только молча просить у сына прощения... Поразительны
в это время глаза актрисы: и боль в них необыкновенная, и
мольба, и беспомощность. Глаза выражают всю ее — исстра-
давшуюся и беззащитную..-.
И как резко меняются эти глаза в сцене свидания с сыном
в тюрьме! Она принесла ему записку. Павел все понял и
улыбнулся ей благодарно и радостно, как союзнику. Лицо ма-
тери внезапно помолодело на много лет, глаза засияли ра-
достью и Гордостью. Они выразили очень многое: и то, что
сын простил ее, и то, что теперь она может быть полезной
ему, уже не только пассивной любовью, а идти рядом с ним.
В этих ликующих глазах и счастливой улыбке была радость
обретения. Актер получил у Пудовкина право на психологи-
ческие нюансы. «Актриса Барановская... может быть, первая
‘А. В. Луначарский. Кино на Западе и у нас. Л., Теакинопе-
чать, 1929, стр. 18.
2 Вл. Недоброво. «Мать». «Жизнь искусства», 1926, № 4-3.
165
из наших актрис, заставляющая себе неоспоримо верить»,—
таков был вывод критики.1
Иным предстал у Пудовкина и типаж. Он вышел из того
же — из быта. Помощник режиссера М. И. Доллер, бывший
театральный актер, искал для фильма людей не только с ха-
рактерной, подчеркнутой внешностью,— он «тащил в картину
людей вместе с корнями и запахами их среды».2 С их по-
мощью, «монтажом человеческих лиц» Пудовкин виртуозно
создавал бытовую и социальную атмосферу. Так, «пьяный
разгул кабака» передан был «залихватски застывшим лицом
166 гармониста, насупленными, жуткими рожами матерых трак-
тирщиков».3 При этом «жуткая рожа» не переставала быть
живой — она была частью трактира и одновременно его ха-
рактеристикой. Для Пудовкина типаж существовал только
вместе с конкретной его атмосферой. Отделить его от этой
конкретности было невозможно. Все вместе выглядело до
необычайности естественно — в кадре, сочном и уютном для
человеческой фигуры, типаж вел себя как опытный актер.
Так создавалась, например, атмосфера царской тюрьмы —
фигурами надзирателя и охранника. Первый — с мутными
рыбьими глазами, ошалевший от скуки. Видно, ничего на
свете ему так не хочется, как спать. Второй, охранник, напро-
тив того — весельчак. Перед надзирателем стоит тарелка с ос-
татками еды, в ней бегает таракан. Солдат пытается прида-
вить его пальцем, таракан убегает. Игра эта приводит часо-
вого в восторг. Две такие фигуры — и законченная, емкая ха-
рактеристика тюремной службы, не нуждающаяся в надписи.
Это и было тем, что критика назвала «ставкой на челове-
ческое лицо», «сочнейшим человеческим материалом».
Но при этом, как мы помним, фильм отнесен был к эйзен-
штейновской школе, где актер существовал на иных условиях.
«Классическую школу» фильма почувствовал прежде всего
сам Эйзенштейн. Пудовкину, по общему убеждению, принад-
лежало «новое достижение в кинематографии» — то, что
В. Шкловский назвал приемом психологической мотивировки.
В «Матери» режиссер драматургически использовал ракурс.
Отчаяние матери, невольно выдавшей сына, оказалось воз-
можным усилить верхним ракурсом, как бы раздавив стоя-
щую на коленях женщину острым сознанием несчастья.
Можно было, напротив того, съемкой снизу превратить горо-
дового в живой монумент, символ власти и сознания своей
силы. Это был способ кинематографическими средствами вы-
разить авторское отношение к показываемому. В сцене с ма-
терью этот прием усиливал игру актера. В случае с городовым
актер не требовался — прием заменил его. Результаты воз-
1 Газ. «Кино», 1926, № 36(156), 7 сентября.
2 См. Н. Иезуитов. Пудовкин. М.—Л., «Искусство», 1937, стр. 64.
3 Газ. «Кино», 1926, №’36 (156), 7 сентября.
действия были равны. Пудовкинский городовой привел Эйзен-
штейна в восторг. Это было закономерно: не принимая актера,
Эйзенштейн безусловно принял его эквивалент.
«Эйзенштейновской» была и концовка фильма: многократ-
ная экспозиция башен Кремля и реющий на их фоне красный
флаг — символ победившей революции. Эта кинематографиче-
ская метафора делала финал торжественным, патетичным.
Несомненно к эйзенштейновской школе относился и знаме-
нитый ледоход во второй части фильма — монтажное сопо-
ставление рабочей демонстрации и мощно движущейся реки.
Именно такого рода сопоставление отнесено было Эйзенштей-
ном к принципиальным победам советской кинематографии —
умение объединить самостоятельные изображения в обобщен-
ный образ. В качестве такового он противопоставлял пудов-
кинский «ледоход» не менее знаменитому — гриффитовскому,
не идущему дальше «созерцательного расчленения». «У Гриф-
фита мчится ледоход. По льду бежит, торопится Лилиан Гиш.
С льдины на льдину прыгает, спасая ее, Бартельмес. Но па-
раллельный бег ледохода и действия людей не смыкаются
у него нигде в единство образа «людского потока», людских
масс, разорвавших оковы... устремляющихся всесокрушитель-
ным разливом, как... в финале «Матери»... Пудовкина».1
Итак, для Эйзенштейна фильм Пудовкина расчленялся на
две части, построенные на разных стилистических принципах.
В центре одной был актер, вторая строилась вопреки актеру.
Эйзенштейну ближе была вторая. В этом непроизвольном де-
лении Эйзенштейн сомкнулся с критикой, также разделив-
шей фильм на две части, но с обратным знаком в их оценке.
Известно определение В. Шкловского, данное им фильму
«Мать». Критик назвал его «кентавром», имея в виду два
стилистических начала в ленТе. Он игмёТИл в ней постепенное
«вытеснение бытовых положений» и замену их «повторяющи-
мися кадрами, образамйГ^р?щениёобразов в символиче-
ские», отметил быстрТГТМёняющиеся во второй части кадры,
которБГС «не успевают стать реальными».1 2
Шкловский был не первым и не единственным в характе-
ристике пудовкинской ленты, но как-то вышло, что запомни-
лось именно его определение.
Критика явно сравнивала первую часть фильма, построен-
ную на быте, неторопливости, «приземленности», и вторую —
приподнятую, метафорическую. Сравнение было не в пользу
последней. По мнению рецензентов, во второй части своей
фильм оказался слабее, напряжение его спадает, «киноязык,
торопясь, начинает скользить и захлебываться, не успевая
вскрыть содержание действия людей». Сцена ледохода, ги-
1 Эйзенштейн, т. 5, стр. 178.
2 В. Шкловский. Поэзия и проза в кинематографии. Сб. «Поэтика
кино», стр. 141—142.
167
бель матери и конец фильма — тройная экспозиция движу-
щихся кремлевских стен со знаменем на их фоне — восприни-
маются как «очень внешне символические и потому ничуть
не волнующие».1 «Где же Пудовкин первых частей, апологет
сурового реализма, значительной, но экономной правди-
вости. . ?»2
8. Получалась любопытная вещь. Фильм генетически был
прочно связан с кинематографической системой Эйзенштейна
168 и в значительной мере развивал ее принципы. В 1926 году
система эта только складывалась и каждое завоевание в ней
ценилось необыкновенно.
Фильм же Пудовкина воспринимается и оценивается так,
как если бы он появился уже после того, как система сложи-
лась и, более того,— как если бы она начала уже изживать
себя. «Эйзенштейновскую» часть в фильме Пудовкина не при-
няли, причем в оценке ее оказались единбдушны критики раз-
личных направлений. С появлением «Конца Санкт-Петер-
бурга» «странность» поведения критики усугубилась.
Если принять предложенное критикой деление «Матери»
на две части, то в новом фильме режиссер последовательно
развивал вторую. Фильм был «эйзенштейновский» и наиболее
цельный в стилевом отношении из всех фильмов Пудовкина.
Мы уже говорили, какую важную, с точки зрения Эйзен-
штейна, задачу решила эта лента.
Но С. Третьяков, например,3 вопреки задаче режиссера,
усмотрел в «Конце Санкт-Петербурга» героя «во всем инди-
видуальном своеобразии». Он и этот фильм разделил на две
части, и не принял вторую,— где Парень «получает от Пудов-
кина мандат представительства от всей крестьянской России».
Точно такой же мандат, говорит он, выдается и рабочему.
«Мандаты расплющивают обоих». С точки зрения критика,
попытка «переключения персонажа,_₽зятого в качестве инди-
видуальной величины, на роль социальной молекулы»,— не
удалась. На сей раз критика уже привносила в"фильм то, чего
в нем не было и не могло быть: в «Конце Санкт-Петербурга»,
/так же как и в «Новом Вавилрне» Г. Козинцева и Л. Трау-
/ берга, индивидуальная психология не планировалась* Критика
I явно отказывалась судить художника по законам, им себе
1 поставленным.
Третий фильм Пудовкина — «Потомок Чингиз-хана» еще
\ более обострил полемику вокруг творчества режиссера.
X ________
‘Мих. Ле ви до в. О Пудовкине и его картине. Газ. «Кино», 1926,
№ 42(162), 16 октября.
2 Там же.
3С. Третьяков. Кино к юбилею. «Новый Леф», 1927, № 10,
стр. 27—31.
Героем фильма был, так же как в «Конце Санкт-Петер-
бурга», один из многих, монгольский парень Баир, поначалу
темный и бесконечно далекий от какого бы то ни было по-
нимания социальной борьбы. В конце фильма он становится
активным участником национального движения против
английских колонизаторов. Как и «Конец Санкт-Петербурга»,
«Потомок» начинается предельно выразительными, скупыми и
эмоционально захватывающими кадрами. Полудикое мон-
гольское кочевье, одинокая юрта среди безграничных снеж-
ных просторов, колоритные ее обитатели — суровые, молчали-
вые. Так же как «Мать», «Потомок Чингиз-хана» кончается
«взрывом» — мчащимися с обнаженными саблями всадни-
ками, выметающими из страны своих поработителей — мета-
форическая картина «бури над Азией»,— название, данное
фильму уже после выхода его на мировой экран.
Картина была своеобразным сплавом «Матери» и «Конца
Санкт-Петербурга». Герой ее очень напоминал Парня («Конец
Санкт-Петербурга»). Он также был представителем опреде-
ленной социальной группы, в данном случае — угнетенного на-
рода. Оба они начали понимать окружающий их социальный
мир, пройдя через определенное испытание. Для Парня та-
ким испытанием было его невольное штрейкбрехерство. Он,
любой ценой готовый заработать себе на кусок хлеба, не раз-
бираясь в том, что происходит вокруг, выдает директору за-
вода зачинщиков стачки, как «смутьянов». Но среди аресто-
ванных Парень видит своего земляка. Он идет защищать
его, — пока еще чисто интуитивно, по естественному чувству
справедливости, он требует его освобождения, устраивает де-
бош в заводоуправлении, избивает директора завода. Так
впервые он взбунтовался. Бунт этот был бунтом одиночки, по
частному поводу, бунтом неосознанным, анархическим. Но
он явился поворотным как во внешней, так и внутренней
биографии этого стихийного правдоискателя. Тюрьма, война,
общение с революционерами — все это втянуло Парня в по-
литическую жизнь, помогло понять свое отношение и свое
место в исторических событиях.
Герой «Потомка» — молодой охотник. Отец юноши смер-
тельно болен. Решено продать самую дорогую вещь в доме —
роскошный мех черно-бурой лисицы. Баира завлекают
в английскую факторию. Здесь именно происходит его первое
знакомство с жизнью? Его настолько беззастенчиво обманы-
вают, что он, не в силах сдержать отчаяние и гнев от этой во-
пиющей несправедливости, кидается на хозяина — и вот уже
крупные надписи: «кровь белого человека пролита!», вот уже
крики и барабанная дробь, вот уже медленно разворачи-
вается отряд солдат... Байру удается бежать. Это был пер-
вый в его жизни бунт против «сильных», бунт анархический,
индивидуальный. Он попадает к партизанам, и отныне жизнь
7 Т. Ф. Селезнева
169
его уже не имеет ничего общего с прежней. Теперь он вместе
с теми, кто сражается за освобождение его родины.
Так — через личное, через индивидуальный анархический
бунт — оба — и Парень и Баир приходят в революцию.
Но Баир уже менее абстрактен. У него есть характер, его
личный, а не только социальный: он удивительно доверчив,
простодушен, ему свойственно почти первозданное чувство
справедливости и собственного достоинства; у него есть не-
примиримость к компромиссам—и необыкновенно обаятель-
ная полудетская улыбка. Таким играет его В. Инкижинов
170 (кстати, актер театральный).
В сценарии фильма сильно авантюрное начало, фильм
строится на актере, на событиях, центром которых является
герой. Его Ъемью мы видели в начале фильма, его судьбой
обеспокоены, когда он как партизан* попадает в плен к ан-
гличанам и когда его ведут на расстрел. Наш интерес воз-
растает, когда Баира принимают за потомка Чингиз-хана
и спешат спасти ему жизнь. Влечение Пудовкина к бытовым
краскам и характеристикам, к психологическим нюансам,
умение давать быт на экране сделало героя живым и кон-
кретным. Но и метафорическое, эйзенштейновское начало в
фильме было не менее сильно.
Оно существовало в двоякой функции по отношению к ге-
рою (актеру). Оно могло «играть на героя», не идя враз-
рез с конкретностью его, а, напротив, подчеркивая ее. Таков
эпизод, когда Баир, спасенный от смерти, но страдающий от
ран, отказывается принять воду из рук англичанина. Остав-
шись один, перебинтованный, с трудом передвигающийся, он
добирается до аквариума — здесь же, в комнате; наклоняется,
но силы оставляют его, он падает, увлекая аквариум за со-
бой.. «Потомок Чингиз-хана» лежит без движения, а вокруг
бьются выброшенные из воды рыбки. Это — метафора. Баир
так же «задыхается» в неволе, как и эти рыбки. Но метафора
эта имеет бытовую мотивировку и, будучи введена в бытовую
сцену, выглядит органичной. Метафора здесь — средство до-
полнительного эмоционального воздействия.
Иной характер носит метафора в сцене, где английский
консул и его жена собираются на торжественное богослуже-
ние. Людей мы не видим здесь вовсе, а видим—натирание
кремом рук или части лица, надевание белья, туфель, прическу,
завивку, ордена и т. д. Эти атрибуты заменяют на экране лю-
дей, так же как в другой сцене — сидящие в ряд офицеры,
чьих голов мы не видим, а видим ноги в блестящих сапогах
и туловища в мундирах, оснащенных регалиями. Первый эпи-
зод— это демонстрация ритуала, даже самое понятие «ри-
туал», который перемежается с ритуалом лам, начищающих
статуи богов и утварь. Второй эпизод — символ некоей одно-
родной, неинтеллектуальной массы.
Такого рода метафоры актера исключали.
Заключительные сцены фильма совместили в себе повест-
вовательную и метафорическую стихии. Подготовка фи-
нала— бытовая, самый финал — символический.
.. .Облаченный в национальный расшитый халат, Баир
должен в качестве царя-марионетки принимать гостей —ан-
глийское консульство. Подготовка к приему почти закончена,
и в это время в зал вбегает монгол-партизан, спасаясь от
расстрела. Он мечется в страхе и, увидев Баира, кидается к
нему: «Земляк, брат!! Спаси!!!» Баир не успевает понять,
что происходит, как офицер стреляет в монгола, тот падает
замертво, офицер просит у дам прощения.
Тогда кончается быт. Тогда вскакивает Баир, срывает
саблю с первого попавшегося офицера, отскакивает диким
прыжком, замирая на несколько мгновений в воинственной
традиционной позе: присев, чуть наклонившись вперед...
Нет уже на нем шитого золотом халата, нет медлитель-
ности раненого—.это боец, охваченный гневом и страшный
в нем, это более того — проснувшийся монгольский народ.
Отбрасывая препятствия, Баир выпрыгивает на улицу, бежит,
за ним — кони, сначала без всадников. Затем вся степь за-
полняется всадниками, впереди всех — Баир на коне с саб-
лей наголо. Летят всадники, несутся по небу тучи, свищет
ветер; гнет деревья. Это ветер свободы, ураган, выметающий
оккупантов из страны. Мы видим их, снятых обратной съем-
кой,— они вылетают из кадра, как бы не в силах противо-
стоять этой буре — падают, катятся — и вылетают...
После выхода «Потомка Чингиз-хана» появилась боль-
шая статья Ив. Анисимова, в которой подводились итоги
творчества Пудовкина с 1926 по 1928 год. Статья строится
на анализе тре£ фильмов режиссера, объединенных одной об-
щей темой. Три фильма Пудовкина были тремя попытками
решить одну и ту же задачу: показать перелом в сознании
человека определенной среды, приведший его к революции.
Но, говорит критик, «мы плохо поняли бы... образ
фильма Пудовкина, если бы предположили, что... мы будем
иметь дело с процессом становления нового человека, что
вся сущность кинематографического изображения будет за-
ключаться в том, что процесс роста революционного созна-
ния получит образную конкретизацию».1 Критик доказывает,
что этого процесса становления в фильмах Пудовкина нет и
что, напротив того, режиссер подчеркивает «неожиданность,
внезапность и абсолютность» совершающегося в герое перево-
рота. Отсюда — усиливающийся от фильма к фильму схема-
тизм. В меньшей степени он имел место в «Матери», которая
171
‘Ив. Анисимов. Фильмы В. Пудовкина. «Печать и революция»,
1929, № IX, сентябрь, стр. 74.
7*
была «очень конкретной картиной», в ней было «самое Непо-
средственное, глубокое и полнокровное» раскрытие типичного
для лент Пудовкина конфликта.
В свое время, рецензируя «Мать», X. Херсонский с сожа-
лением отмечал, что нарастание динамики в ней Пудовкин
дал чисто внешними, поверхностными средствами (побег из
тюрьмы, демонстрация и т. п.). «Залог грядущей победы,— пи-
сал тогда критик,— лучше показать в людях и проще, чем это
сделано символикой красного знамени...»
Замечание Херсонского о внешнем понимании Пудовки-
172 ным динамики оформилось у Анисимова в вывод о статич-
ности искусства Пудовкина. «Оно не схватывает движения.
Оно имеет дело лишь с абсолютными утверждениями, лишь
с вполне сложившимися, как бы окостеневшими, материями».
Интересно, что Херсонский, который после «Матери» от-
стаивал «самостоятельный путь» Пудовкина и защищал его
от обвинений в эклектизме, после «Потомка Чингиз-хана»
сам стал на эту точку зрения. Для него «Потомок Чингиз-
хана»—«очень вольно пропетая лента», которая «вообще не
имеет цельной природы». Это тем более досадно для критика,
что одной из отличительных черт пудовкинского таланта яв-
ляется «ни с кем другим в кино не сравнимая эмоциональ-
ная напряженность, вживание, яростная сосредоточенность
в лепке переживаний и особенно характеров и типов живого
человека».1 Из всего этого в фильме осталась, по мнению ре-
цензента, одна лишь сцена, «неожиданно яркая» и «реалисти-
ческая». Это — ставшая почти хрестоматийной сцена расстрела
Баира. Напомним ее.
.. .Казарма. Английские солдаты отдыхают, занимаются
своим делом. Один, только что вернувшийся, ужинает (арт.
К. Гурняк). Вталкивают Баира. Все поворачивают головы,
спокойно смотрят. Солдат улыбается ему глазами.
К нему-то и обращается сержант:
— Уведи его за город и чикни. Лиши его возраста, — как
говорят туземцы.,
Улыбка исчезает с лица солдата, но по-прежнему довер-
чиво смотрит на него Баир.
Солдат откладывает ложку, надевает шинель, фуражку.
Помедлил. Состояние какой-то неловкости: вот тронул рукой
губы, и воротник поднял медленно и зябко, провел по лбу
кулаком... Хочет проверить затвор винтовки. Взгляд на
Баира — тот все так же улыбается. Солдат нахмурился и от-
вернулся. Резко дернул затвор.
На улице грязь. Баир идет прямо, не обращая на нее вни-
мания. Солдат тщательно обходит лужи,— тянет...
1 Хрисанф Херсонский. «Потомок Чингиз-хана». Г аз. «Кино»,
1928, № 47 (271), 20 октября.
Они над обрывом. Солдат ищет табак, потом ищет бу-
магу. Никак не найти. Ни в шинели. Ни в галифе. Пощупал
карман гимнастерки... Другой... Наконец-то... Свернул си-
гаретку. Взял в рот. Свернул другую, предлагает Байру. Тот
смотрит вдаль, подставив лицо солнцу и ветру. И все улы-
бается. .. От прикосновения солдата очнулся, посмотрел, улы-
баясь, не понимая. Но сигаретку осторожно взял губами.
Солдат быстро зажег спичку, поднес Байру. Тот внима-
тельно, но все так же не понимая, смотрит. От поднесенного
огня отклоняется, качнув головой. Незажженная сигаретка,
слабо удерживаемая, повисла на губе, доверчивая улыбка не 173
сходит с лица смертника, глядящего на солдата, а тот смотрит
на Баира, забыв о горящей спичке, которую держит в руке.
Забыл о ней и зритель... Она обожгла пальцы, солдат
вздрогнул, отбросил ее сердито...
Потом истерично крикнул — «Иди!» И выстрелил- из ре-
вольвера. Баир споткнулся, изумленно оглянулся на солдата.
Тот схватил ружье, неумело вскинул его, выстрелил. С кри-
ком покатился с обрыва Баир.
Обратно солдат идет по самой грязи, фуражка надета
кое-как, обмотка волочится по лужам. Здесь застает его вне-
запный приказ «вернуть пленника... Живым!» Ни слова не
сказав, солдат мчится назад, снова по той же грязи...
В этой именно сцене, по мнению критика, «вновь про-
явилась чуткость и сила Пудовкина в изображении психоло-
гических моментов»...
9. Точка зрения исследователей нашего времени идет
вразрез с современной Пудовкину критикой. В «двуглавии»
фильмов Пудовкина, в сочетании в них конкретного и обоб-
щенного образов, повествовательного и метафорического на-
чал сегодня видится синтезов котором «сплав повествования
и м&тафорыГ/. расширил образныи диапазощ.. фильмов»,
усиливая их идейно-эмоциональный размах'1
Расхождение это естественно. В нем есть много общего
с оценкой современниками творчества Дзиги Вертова. Так же
как открытия советского кинодокументалиста-новатора,
фильмы Пудовкина пережили свое время — появились новые
акценты, возможность исторической ретроспекции. Время
внесло свои поправки в оценку творчества режиссера.
Но для нас важно, что современники не приняли синтеза
пудовкинских лент и даже не усмотрели его в фильмах.
В своем исследовании Е. С. Добин заметил, что в конце
1920-х годов теория кино стала отставать от практики. Из-
вестная доля истины здесь есть. И едва ли не ярче всего это
1 Е. Добин. Поэтика киноискусства, стр. 193,
«отставание» проявилось в восприятии творчества В. Пудов-
кина. Это отставание сказалось в том, что впервые, пожалуй,
за все время критика столь неточно формулировала возни-
кающую проблему. То, что она считала индивидуальными не-
достатками Пудовкина — «эклектизм», «схематизм», было на
самом деле постепенно осознаваемой1 задачей: совместить ак-
тера (индивидуального героя) с принципами тГ5§воеваниями
«монтажного» кино. ~ 7
Все “это стало очевидно, когда проблема -вышла на по-
верхность в бурнойдискуссии_>928 года о типажек актере.
174 Поводом к дискуссии явился вопрос не творческий, а ско-
рее организацисшный, даже административный. Рйчь шла
о производственной незанятости большой части-^професси-
ональных актеров, ^состоящих нтгуЧете в Посредрабисе. Про-
блема их трудоустройства стала «больным местом в кино».1
В мае 1928 года группа ленинградских режиссеров высту-
пила с «Открытым письмом», в котором, в частности, гово-
рилось:
«...актерское мастерство не всегда является необходимым
для изображения целого ряда типов. Взгляд на профактера
как на единственного участника киносъемок — взгляд отста-
лый, неправильный, временами вредящий развитию совет-
ской кинематографии».1 2
В числе подписавших письмо мы находим режиссеров нс
только разных, но и прямо противоположных друг другу по
творческой манере, вкусам, ориентации. Здесь Козинцев и
Трауберг и наряду с ними — убежденные сторонники «ак-
терского кинематографа» — А. Ивановский, Ч. Сабинский,
Е. Червяков. Может показаться неожиданным, что они ста-
вят свои подписи под очевидной декларацией «режиссерского
кино», ограничивающего актера. Но дело в том, что письмо
не имело целью вытеснить актера из кино, формулировки его
дают большую свободу режиссеру в привлечении актерских
сил по своему усмотрению. Кроме того, ни Сабинский,
ни Ивановский, не говоря уже о Червякове, начавшем
свою деятельность уже после революции, не оставались в это
время на позициях кинематографа 1910-х годов; развитие ме-
тафорического кино сказалось на их творчестве, и они вовсе
не имели в виду отказываться от его завоеваний. Тем не ме-
нее, как мы сказали, самый акцент, поставленный в письме,
принадлежал сторонникам «режиссерского кино», где полу-
чил широкое развитие принцип «типажа» — непрофессиональ-
ного актера, наделенного нужными для того или иного
фильма «психофизическими данными» и полностью подчи-
ненного воле режиссера.
1 См. «Кино-фронт», 1927, № 5, стр. 1.
2 Газ. «Кино», 1928, № 22 (126), 27 мая.
Строго говоря, для метафорического кинематографа ди-
леммы «актер или угицаж» нё было. Пудовкин, Например,~ не
без оснований утверждал: «Когда мы ищем человека,* * нам
совершенно безразлично — где он попадется: среди актеров
или среди людей с улицы».1 Он ссылается на фильм «Мать»,
где исполнитель роли отца Чистяков был «чистейшим бух-
галтером», а Чувелов (Парень в «Конй.е Санкт-Петер-
бурга»)— актером театра Мейерхольда. Что касается В. Ба-
рановской— исполнительницы главной роли в «Матери», то,
как известно, это была актриса Художественного театра.
Все это было так, и тем не менее роль актера в монтаж-
ном кинематографе была ограничена. Мы уже говорили, ка-
кая функция выпадала на долю актеров Эйзенштейна даже
в поздних его фильмах,— хотя бы в «Иване Грозном». В сере-
дине 1920-х годов проблема стояла много острее.
Мы вновь вернемся к Пудовкину, потому что именно его
фильмы оказываются наиболее показательны для этого пе-
риода, и нет ничего удивительного в том, что они стали
в центре внимания критики, как и в том, что она становилась
перед ними в тупик. Дискуссия 1928 года, в сущности, была
продолжением и развитием тех вопросов, которые ставил пе-
ред кинотеорией В. Пудовкин.
Существуют любопытные воспоминания В. Барановской,
написанные по свежим следам и повествующие о методе ра-
боты Пудовкина с профессиональным «психологическим» ак-
тером. Воспоминания — это не совсем точно. Такими мы вос-
принимаем их спустя сорок лет, со стороны. Для актрисы же
это — не мемуары, а жалоба. После съемок в «Конце Санкт-
Петербурга»2ЪардноШгКдя~жаловалась, что Пудовкин выбро-
сил при монтаже фильма очень важные, с ее точки зрения,
сцены. Она играла роль жены рабочего-революционера. Роль
была небольшая и не имеющая центрального значения. Бара-
новская же понимала ее как большую самостоятельную роль.
Ей важно было, что эта женщина задавлена и озлоблена, но
внутри глубоко страдает; важно было, что за этой озабочен-
ностью скрыто «ее материнское горе, горе всех матерей, на
руках голодный ребенок, ее вопли и отчаянье, ее пробужде-
ние под грохот канонады при виде раненых».2
Барановская была не совсем права. Все это в фильме
было, но в сжатом, конспективном виде, полностью соответ-
ствующем общему стилю ленты. Актрисе хотелось развернуть
свою роль во всех ее оттенках и поворотах, режиссер же со-
175
1 В. Пудовкин. Что такое типайс. Стенограмма речи на собрании
Ленарка 29.VI.28 г. по поводу открытого письма ленинградских режиссе-
ров. Газ. «Кино», 1928, № 29 (133), 15 июля. •
• Вера Барановская. Об актере. Г аз. «Кино», 1928, № 19 (243),
8 мая.
здавал принципиально апсихологический фильм и вовсе не
имел в виду предоставлять полный суверенитет эпизодиче-
ским лицам. Барановская шла вразрез с замыслом Пудов-
кина, и «истина» была, конечно, на стороне режиссера. Тем
не менее у нее осталось впечатление, что «при этих условиях
актеру-художнику нечего делать в кино», хотя еще недавно,
в «Матери», ее игра вызвала десятки восхищенных отзывов.
Как же шла работа с актером в фильме, который был при-
знан удачным как раз в своей «актерской» части?
Воспользуемся рассказом самого режиссера о том, как
176 снималась в «Матери» очень важная для фильма сцена.
Мать испытывает одновременно два потрясения: она на-
ходит спрятанное сыном оружие и узнает о гибели мужа.'
Нужно было показать робкое, забитое существо, пораженное,
огромным горем.
Работа шлд^этапдмиДИх было три. На первом Пудовкин
предложил играть эту сцену так, как сочтет нужным актриса.
Барановской предоставлена была полная свобода действия —
с тем, чтобы она нашла, проверила и закрепила в себе прав-
дивое внутреннее состояние.
Внешние формы выражения, найденные ею, режиссера не
устроили. «Актриса отступала, приближалась, закрывала
лицо руками, отдергивала их, открывая расширенные ужа-
сом глаза». Это были «жесты и метания», которые для
съемки не годились. Но одну деталь режрссер оценил как
тонкую и точную. Когда вносили убитого мужа, Баранов-
ская «не верила» этому, она не хотела принимать это не-
счастье, мотала головой и защищалась, как может защи-
щаться беспомощное и слабое существо. Это Пудовкину по-
нравилось, он это отметил, и первый этап закончился.
Второй этап заключался в том, что режиссер запретил
актрисе производить какие бы то ни было движения. Ему
нужно было, чтобы актерское переживание выразилось
в лице, в глазах, в неподвижном теле. «Это был странный
эксперимент, — говорит Пудовкин, — больше похожий на
пытку, чем на творческие» поиски. Актриса в буквальном
смысле мучилась, сковывая потребность движения».
Но режиссер не ошибся — «внутренняя жизнь актрисы
не умирала, несмотря на полную неподвижность тела».
Тогда наступил третий, окончательный этап. —- 'ч
Пудовкин «разрешил» исполнительниц^ один жест,}—
только один, очень скупой. Он предложил ей""отмахиваться
еле заметно от того, что она видит и чему не хочет верить.
Это был тот самый жест, который режиссер отметил у ак-
трисы на первом этапе работы. И тогда, по словам Пудов-
кина, случилось чудй: «вся сила пережитого чувства вылива-
лась через эТуТсСТтийющную, по-детски протестующую руку».
Об этом «чуде» и мечтал режиссер.
На экране запечатлен был «третий этап».1
Это была борьба с «театральщиной», подчинение актер-
ских средств воздействия общему замыслу, координация их
с целым комплексом выразительных средств. Этот комплекс
мог во многом «помогать» актеру: вспомним эпизод с ма-
терью, снятой верхним ракурсом, вызвавший восхищение
своей выразительностью и психологической наполненностью.
Между тем Барановская была вовсе не одинока в своих
претензиях режиссеру. О. Третьякова также жаловалась не-
однократно, что режиссеры вырезают из картины лучшие
ее эпизоды. М. Ю. Блейман справедливо возразил на это,
что «режиссер делает картину, а не демонстрирует актрису».
Это было и убедительно, и справедливо, но, конечно, не
снимало проблемы. Она заключалась вовсе не в частных
конфликтах. «Бунт актеров», какими бы ближайшими при-
чинами он ни вызывался, был закономерным. Режиссерское
единодержавие — необходимое при съемке любого фильма,
вплоть до наших дней, — наталкивалось на сопротивление,
стихийно возникавшее в актерской среде. Ни в «Броненосце
«Потемкине», ни в «Октябре», ни в фильмах Кулешова оно
не было возможным. Оно возникло тогда, когда кино вынуж-
дено было, — так же закономерно и неизбежно, — впустить
актера на правах относительной автономии, когда герой
фильма обнаружил возможности к психологическому разви-
тию, какими бы скупыми поначалу они ни казались. Теперь
актер требовал себе первых мест в «республике равноправ-
ных искусств» и пользовался любой возможностью. И не
тем ли объяснялась неудовлетвореннос'и» Барановской, что
в «Конце Санкт-Петербурга» режиссер намеренно исключил
индивидуально^тсихологические характеристики? Вряд ли
также можно объяснить случайностью тот факт, что актер-
ские сцены спорадически «прорываются» на периферии пудов-
кинских фильмов — вспомним «Потомка Чингиз-хана». Более
того, сам Пудовкин готов включить в систему изобрази-
тельных средств не только внешний, но и внутренний «жест»
актера, как это было в «Матери». Это было чревато серьез-
ными последствиями для всей системы «эквивалентов игры»;
равновесие ее нарушалось, исчезала та гармоничность, ко-
торая прочно цементировалась «типажом». И это же созда-
вало впечатление «эклектичности» фильмов Пудовкина, нес-
ших в себе два противоположных начала — фильма «актер-
ского» и «неактерского», внеличностного — метафорического.
10. Столкнувшись впервые так близко1 с дремавшей до-
селе проблемой, критика искала объяснений сложившейся
177
1 См. М. Н. Алейников. Пути советского кино и МХАТ. М., Гос-
киноиздат, 1947, стр. 11 —12.
<
178
ситуации. Смешно было бы отрицать, например, кинемато-
граф Эйзенштейна или того же Пудовкина на том основании,
что они не снимают актера или предпочитают ему типаж.
Тем не менее проблема актера выдвигалась на повестку дня
объективным движением художественной кинематографии,
где существовали уже разные виды и подвиды, с актером и
без него,— начиная с «Октября» и кончая «Матерью». Все
это было фактом, требовавшим осмысления.
Этапом на пути такого осмысления была проблема кино-
жанра, которая рассматривается теперь в связи с проблемой
актера. Одним из первых о ней заговорил М. Ю. Блейман.
Каждый ж.д1Щ отводит актеру свое место. В мелодраме,
авантюрной ленте или комической удельный вес актера будет
разный. В мелодраме он больше, актер там занимает первое
место; в авантюрной же ленте «зритель запоминает не ак-
тера, а вещь». Даже в «комических» ценится не актерская
работа, а режиссерская «игра несоответствиями». М. Блейман
остроумно замечает, что Бэстер Китон интересен более как
режиссер, а не как актер, поскольку «работать в картине
с неподвижным лицом может каждый человек».1 Кине-
матограф Эйзенштейна он определяет как «фильмы с со-
циальными отношениями», где «жанровым заданием является
показ темы, и не через актерское восприятие, а через отно-
шение режиссера к материалу». В таком кинематографе ак-
тер будет растворяться в материале.
Теснейшим образом связывает актера с жанром и стилем
В. К- Туркин. Убежденный защитик киноактера, критик, тем
не менее, не фетишизирует его. Он рассматривает проблему
актера в связи с общим развитием кинематографа. В. Туркин
принимает актерское кино в той же мере, что и кино режис-
серское, ибо последнее явилось не только достижением из-
вестного периода в развитии кино, но и по-новому поставило
вопрос об актере. Режиссерское кино научилось создавать
«сквозное действие» и даже «внутренний образ» за актера,
изменило само понятие «игры», и потому «безактерское кино»
вполне возможно даже для фильма с актером. Это не пара-
докс, а уточнение термина. Вспомним, как менялось понятие
«игровая»: «типично игровой фильмой» считали фильм, где
«действуют» пчелы. Почти то же самое происходит с поня-
тием «безактерское кино», — под ним понимается фильм
с большим удельным весом эквивалентов актерской игры,
где актер «царствует, но не управляет».
Важно, однако, продолжает Туркин, чтобы фильм был
гармоничен, чтобы жанр и стиль его был выдержан и, нако-
1 М. Блейман. В защиту актера; Актер в кинокартине (Краткое
содержание доклада на кино-вторнике ЦДИ). Газ. «Кино», 1928, № 49,
4 декабря; № 33, 5 августа.
нец, чтобы этому жанру и стилю соответствовал свой актер,
ибо «универсальный киноактер... — это или маниловская
фантазия, или рекламный обман».1 Мы помним, что один из
просчетов Кулешова Туркин видел в том, что Кулешов не на-
шел для своих актеров точного жанра.
Осмысливая же специфику кинематографа Эйзенштейна,
В. Туркин приходит к выводу, что Эйзенштейн сделал то,
«чего не делал еще никто в мировом кино», он создал жанр,
«убеждающий в ненужности актера в кино».1 2
Таким образом, теория сделала важный шаг по пути
осмысления исторических процессов, совершающихся на ее
глазах. Вопрос о том, кого сйимать: актера или не актера —
переставал быть чисто эмпирическим и метафизическим —
он переводился в эстетический план. То же самое, мы видели
и в дискуссии о неигровом фильме Вертова. Типаж, о кото-
ром столько говорилось, предстал как принадлежность опре-
деленного стиля, а не только как человек без диплома.
Есть и еще однй заслуга у критики, занявшейся этой про-
блемой в 1928 году, — заслуга, которая свидетельствует
о квалифицированности и зрелости мышления.
Критики этого времени, не в пример спорщикам трех-
четырехлетней давности, — не «ниспровергатели». При всей
остроте полемики, отношение к завоеваниям советского
кино — очень бережное. Полемисты не отрицают с порога,—
напротив, они стремятся сохранить — и «актерский» фильм,
и «фильм идей» Эйзенштейна, отведя кДждаяГу"сЬоё место.
В^этТЯГ было одно из 'плодотворных следствий опережения
теории практикой: перед глазами теоретиков был реаль-
ный кинематографический материал, где, конечно, можно и
нужно было находить художественные просчеты, но вместе
с тем он обладал и неоспоримой для всех ценностью.
Итак, постановка проблемы жанра была достижением^и
в теоретическом и в чисто практйческимГ'бргатптционном"
см ыс л е — о на дткр ы валХд^И,Л^яД альней ш их~~пбйСКовГ^зл я
цоявления-фидьмрв «хороших и разныХх---- -------
Однако она не^бЫларёПгениёМ“вопр(ЗСа, потому что разви-
тие кинематографии проходило, так сказать, в борьбе
между жанрами. В этой борьбе были свои «победители» и
«побежденные»; в ней пересиливали одни тенденции и исся-
кали другие. Примером тому были фильмы Пудовкина, не
подчинявшиеся жанровым определениям. Никто не мешал
режиссеру соблюдать жанровую чистоту, тем не менее он
предпочитал «кентавров», и уж, конечно, не по неумению.
Проблема индивидуального героя, ~ТТГПХОлогии, наконец,
личности в кинематографе должна была возникнуть неиз-
179
1 Валентин Туркин. Киноактер. М., Теакинопечать, 1929, стр.52.
2 Там же, стр. 80.
бежно и закономерно — ведь разговор шел именнб о ней.
Еще недавно типаж был господствовавшей на экране фор-
мой актерской игры. Сейчас даже сторонники метафориче-
ского кино перестают им удовлетворяться. «Показ «настоя-
щего человека» наводнил Посредрабисы типажем»,— писал
М. Шнейдер. Это формула осуждения: вот к чему привело
неуклонное следование принципу «реального материала»,
«реального», ничего не «представляющего», «всамделишного»
человека. «Достижением советского кино является не «показ
настоящего человека», а показ настоящего образа посред-
180 ством материала, настолько тренированного (хотя бы и
в процессе съемок), что его работа убедительна».1 Мы пом-
ним истоки этой дискуссии; это возникавшая в связи с филь-
мами Вертова проблема «игры» и «демонстрации», но только
перенесенная на актерский материал. Критик, написавший
эти слова, не уточняет, что значит «убедительность работы
тренированного материала». В «Броненосце «Потемкине»?
В фильмах Кулешова? У Пудовкина? Это может обозначать
.что угодно, но одно ясно: М.. Шнейдер требует от «мате-
риала» активности, ему не нужна статика типажа. Как и сле-
довало ожидать, сторонники «актерского кино» высказы-
ваются более определенно. Их мнение выражает один из
крупнейших актеров двадцатых годов Б. Гетцке. Немецкий
актер находился в это время на съемках в Советском Союзе
и тоже оказался втянутым в полемику. Глядя на Чувелева
в «Конце Санкт-Петербурга»,_Гетцкет по его словам, «щщел
только Пудовкина, который (смог сделат^ из Чувелева /образ
человека, символизирующего собой эпоху», но который при
этом «остался лишь мертвой схемой человека»; между тем
«интересах личности... не пропадает никогда»?- Выразить же,
воплотить эту личность может лишь~акПф?
Бернгард Гетцке был, конечно, «судья в собственном деле»
и, как популярный актер, был не теоретиком, а прагматиком.
Он знал требования и вкусы зрителя. Но он был далеко не
единственным в своем мнении, — и в критике мы теперь на-
ходим ту же прямую апелляцию к зрителю. «Картина должна
смотреться с удовольствием, — пишет И. Соколов, — но кино-
зритель' в последнее время стал смотреть фильмы только
с трудом...» Посмотреть, например, «Капитанскую дочку»
(по сценарию В. Шкловского. — Т. С.)—«тяжелый, почти
каторжный труд, особенно после дневной работы».3 Ассоциа-
тивный монтаж «мотивировок и мотивировочек» «без харак-
* Мих. Шнейдер. Поверх полемики! Газ. «Кино», 1928, № 25(249).
19 июня. _
2 См.: Бернгард Гетцке. Режиссер и актер в кино. Газ. «Кино»,
1928, № 31 (135), 29 июля.
3 Ипполит Соколов. Причины последних неудач. Газ. «Кино»,
1928, № 46 (270), 13 ноября.
тёристики героев», — этот упрек. Соколова относился, ко-
нечно, не только к «Капитанской дочке». В той или иной мере
он касался_всего метафорического «монтажного» кино,
Тр^б(ГванияПтсихЬлог'ических нюансировок, легкой~“читае-
мости, общепонятности фильма, его «демократизации», при-
ближения к зрителю становятся в критике все явственнее.
^15—21 марта 1928 года состоялось Первое Всесоюзное
партийное 'совёНСание. пр кинематографии, на котором эти
'Задачи были сформулированы со всей определенностью.
Одним из вопросов, обсуждавшихся на совещании, был
вопрос о художественных течениях в советском кинемато-
графе. В резолюции совещания подчеркивалось, что «в во-
просах художественной формы партия не может оказывать
никакой особой поддержки тому или иному течению, направ-
лению или группировке, допуская соревнование между раз-
личными формально-художественными направлениями и воз-
можность экспериментирования с тем, чтобы достигать более
совершенного с художественной стороны фильма».
Вместе с тем, развивая мысль В. И. Ленина о кино как
самом массовом из искусств, совещание отмечало, что «сила
воздействия всякого художественного фильма на зрителя, дол-_
жИа бь1ть обеспечена ее занимательностью, близостью для
рабочего и крестьянского зрителяЧгтрбрмои, отвечаюЩёйТа-
просзм широкой массовой аудитории (разумеется, без кк-
кого-либо приспособления их к обывательским, мелкобуржу-
азным вкусам, без упрощенчества и вульгаризации художе-
ственной формы)».
«Основным критерием при оценке формально-художест-.
венных качеств фильмов, — говорится в резолюции совеща-
ния,—является требование того, чтобы кино_далр__«форму,
понятную миллионам»^1 "
‘—Восприятие фильмов Пудовкина было, таким образом,
веянием времени. В них ищут «тональности», авторского от-
ношения, в них отмечают актерские эпизоды и детали. Пу-
довкин должен был бы это предвидеть, потому что сам был
веянием времени: он создал эти эпизоды, он не мог их не
создать, но тем самым он сделал шаг по пути перерождения
метафорического кино. «Дух» актерской игры был выпущен
из сосуда. Уже раздавались голоса, называвшие архаикой,
шаблоном — аллегорию и метафщшзм^ уже по отношению
к современному ~Кйно было произнесено слово «кризис»...
Классический немой кинематограф стоял на пороге "'Пе-
ремен.
Проблема индивидуального героя, личности неизбежно
должна была возникнуть в метафорическом кино, разраба- 1 2
1 Пути кино. 1-е Всероссийское партийное совещание по кинематогра-
фии. М., Теакинопечать, 1929, стр. 438.
2 Арсен. О кризисе. Газ. «Кино», 1928, Кв 48 (272), 27 ноября.
181
тывавшем новые формы сюжетосложения и новые способы
воздействия на зрителя. В творчестве самого Эйзенштейна
эта проблема, казалось, нашла свое разрешение. Внутренне
последовательная и закономерная, жестко обусловленная,
эстетическая система Эйзенштейна могла выстоять какое-то
время перед натиском этой проблемы. Она не предполагала
и не требовала развернутых характеристик людей и выявле-
ния индивидуальных характеров. Идея произведения в ней
«вызревает из столкновения фактов», из их сдпоитаилейий,
иЗ" столкновений, ее характеризует символикаГ'^вещпость»,
182 подчеркнутый интеллектуальный ’ метафоДОзм.1" В этомбыло
Новаторство 1кин6 1920-х годов, но в~этом же и его истори-
ческая ^баниченность,"^ б о потребность в человеческой лич-
ности исчезнуть не может. В свое время метафорическое
кино пришло на смену актерскому кинематографу. Актер,
доминировавший в дореволюционном фильме, определявший
собой и «державший» картину, на определенном этапе стал
мешать развитию киноискусства, тормозя освоение много-
образных кинематографических средств вырядите-п^'у?™ Но-
ваторское кино, выступавшее на историческую арену кЗк
~Т1орОЖдетШ^- великой, пролетарской революции, совершило
грандиозный переворот^в искусст^веэкрВнаГ Оно разработало
цёлукГ систему* выразительных средств, воздействующих на
зртггёл^1Томцмо2а~КтбГ^7 и в значительной степени'доказало
относительность роли протагониста. С полным правом можно
сказать, что искусство кинематографа как такового создано
было советскими новаторами двадцатых годов, в первую
очередь —С. Эйзенштейном.
Теперь же, в конце 1920-х, метафорическое кино должно
было уступить место новому кинематографу — кинемато-
графу повествовательному, психологическому, требование ко-
торого было поставлено на повестку дня.
Процесс этот шел постепенно, и в этой постепенности ска-
зывалась его глубокая внутренняя закономерность.
Логикой художественного развития «безактерскому кино»
были поставлены жанровые границы, и художественное обоб-
щение нашло себе путь в документальный фильм Дзиги Вер-
това. Та же логика заставила Кулешова искать пути к пси-
хологической драме. Она привела Эйзенштейна к признанию
актера — в его специфическом, модифицированном виде.
У фэксов и в особенности у Пудовкина система метафори-
ческого кино начинала уступать и разрушаться, лишаясь
своей цельности и железной последовательности. Фэксовская
«атмосфера», пудовкинский актер и быт, с одной стороны, де-
ляли систему гибир и г пругпй — расшатывали
: ее- Такова была диалектика движенид/^ ,
М. Б Л е Й М а н? человек в советском фильме (История одной
ошибки).
В 1920-е годы никто не предполагал, что метафорический
кинематограф должен исчезнуть и смениться новым. В 1933
году М. Блейман писал: «Отрицание старого отношения к ис-
кусству, рождение норм новой поэтики должно прийти к син-
тезу, в котором снимутся противоречия двух полемических и
враждующих принципов».1
С той поры прошло много времени, но вопрос о судьбе
монтажного кинематографа продолжает быть дискуссион-
ным и по сей день.
Метафорическое начало не исчезло, разумеется, и в по-
вествовательном кинематографе, выступившем на историче- 183
скую аренув 1930-е годы. «Опираясь на повествование, до-
полняя егбГинтерпретируя его своими средствами, являясь
своеобразным аккумулятором повествования, метафориче-
ская \стихня\может служить источником богатейших художе-
ственных^ достижений»,— пишет Е. С. Добин.1 2
Проблема синтеза метафорического и повествовательного
кинематографа — проблема принципиальной теоретической
важности, и с течением времени актуальность ее не умень-
шается, а увеличивается. Нам представляется, что такой син-
тез не мог быть достигнут полностью даже в 1930-е годы.
Монтажный кинематограф 1920-х годов выработал опреде-
ленную художественную-систему, в которой выразительные
средства находились в определенных взаимоотношениях, под-
чиняясь определенным закономерностям. Конечно, метафора
или драматургически функциональный ракурс и освещение,
найденные в нем, могли быть использованы в любой другой
системе. Но при этом .менялось их значение, их функция и
удельный вес в пределах нового целого и устанавливались
новые связи с прочими элементами художественной системы.
Они переставали быть основным средством драматургиче-
ской конструкции, каким они являлись в кино 1920-х годов.
Звуковое (повествовательное) кино было новым этапом раз-
вития кинематографшгОиб поставило под сомнение самые
принципы «метафорического» кинематографа,ПГфивеЖГ к вы-
теснению era как цёлостной'системыг''' —
Однако проблема синтеза дву^начал^в киноискусстве
остается. Сегодня мы можем говорить”о нем как о действи-
тельном факте. Мы можем говорить о традициях Эйзен-
штейна в советском и мировом кинематографе в творчестве
таких, например, режиссеров, как А._Тар ко некий ипи Фел-
лини. ---- ~~~~ \ Гк
Но сцнтез этот мог осуществиться только после ^бго,
как отошли в прошлое обе образующие этот синтез—^Две
противоположные, друг друга Исключающие эстетические
1 М. Блейман. Человек в советском фильме (История одной
ошибки).
2 Е. Добин. Поэтика киноискусства, стр. 202.
концепции: «метафорическое» (1920-е годы) и «повествова-
тельное» (1930-е). Нужно было время.
Звуковой кинематограф ' Закрыл пути для дальнейшего
развития «метафорического» кинематографа. В начале своего
пути он был эстетически ниже той системы, которой он при-
ходил па смену. Но его историческая заслуга заключалась
в том, что он вернул экрану человека, ставшего в центре
внимания «повествовательного» кинематографа. Время 1930-х
годов было временем возрождения и расцвета актера в кино.
В начале 1960-х годов на страницах журнала «Искусство
кино» возникла любопытная дискуссия. Основными ее участ-
никами были два кинокритика периода 1920-х годов —
М. Блейман и Хр. Херсонский. Предметом дискуссии был тот
же вопрос — о синтезе, о «немом» и «звуковом» кинемато-
графе. Свидетели и участники теоретических споров сорока-
летней давности выступили теперь как историки. Полемика
еще раз доказала остроту вопроса и его «современность».
«Перерастание», мирная эволюция — или резкий качест-
венный скачок — такова проблематика спора. В немом ки-
нематографе были внутренние потенции, развитием которых
явилось звуковое~кйно. Это точка зрения Хр. Херсонского.1
Звук изменил поэтику фильма, всю его образную систему,
способы ведения действия; актерское исполнение приняло
на себя всю идейно-эмоциональную нагрузку, — возражает
ему М. Блейман.* 2 И нам представляется, что прав именно он.
Другое дело, что звук в кино не был неведомым варваром,
разрушающим великие цивилизации, что немое кино не
стояло на месте, но развивалось — и приблизительно в том
направлении, в котором пошло оно в 1930-е годы, что оно
ощущало «тоску по звуку», так же, как и «тоску по актеру»,
что «революция звука», наконец, не изменила лежащих в ос-
нове кино законов и не заменила одно искусство другим.3
Все это верно, но не лишает нас права говорить о смене сти-
левых систем, ощущавшейся, кстати, почти всеми художни-
ками и критиками, которых она застала.
Ji 1930-е годы ушла великая эпоха киноискусства, чтобы
дать место иной, не менее великой. Ушла, — но не исчезла
бесследно. Она оставила нам непреходящие художественные
и интеллектуальные ценности, которые вновь и вновь на на-
ших глазах дают свежие побеги.
* «Искусство кино», 1960, № 6, стр. 132—138.
2 «Искусство кино», 1961, № 1, стр. 117—120.
3 Эту именно мысль развил третий участник дискуссии Л. Козлов
(«Искусство кино», 1961, № 1, стр. 115—117).