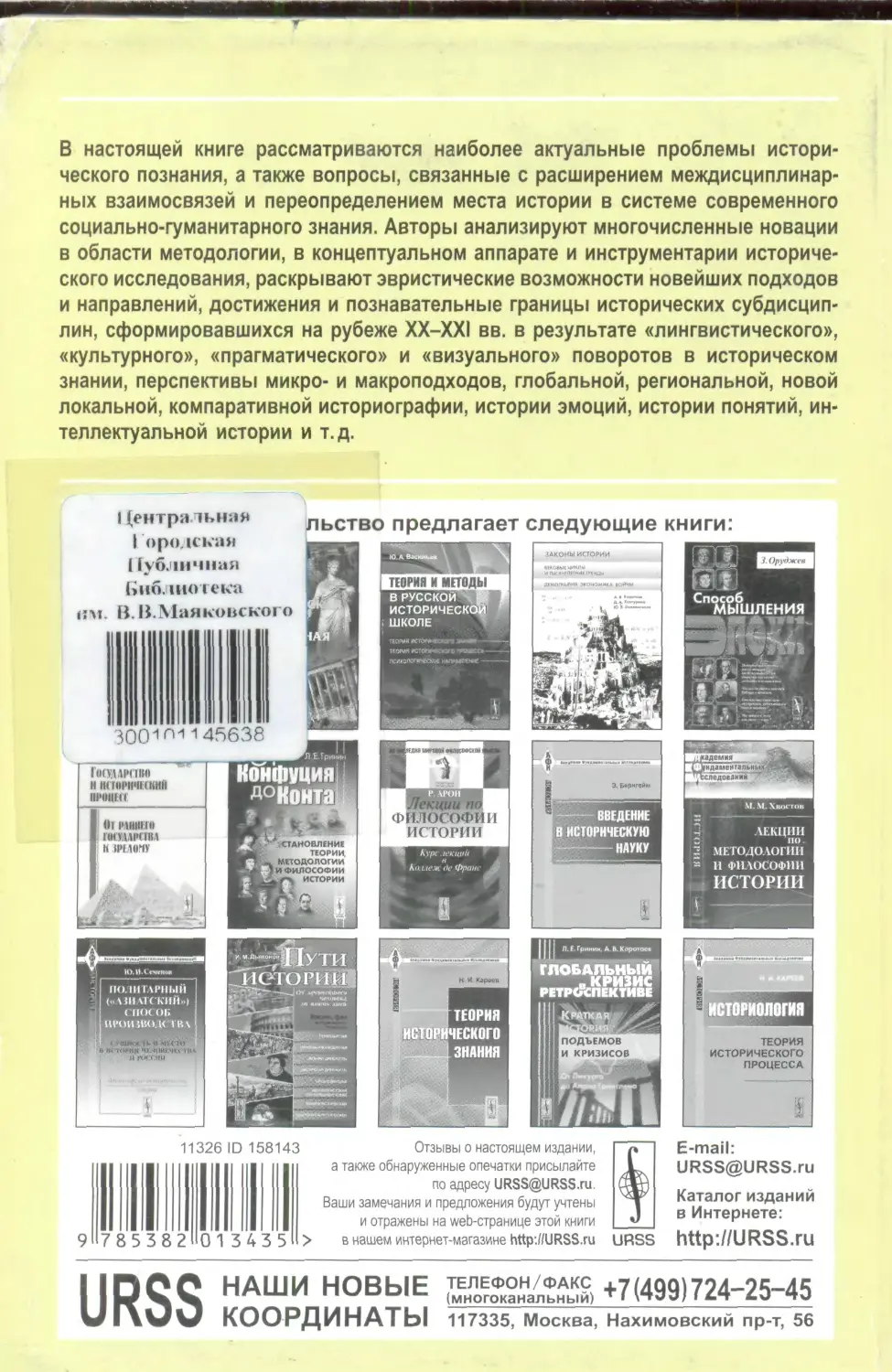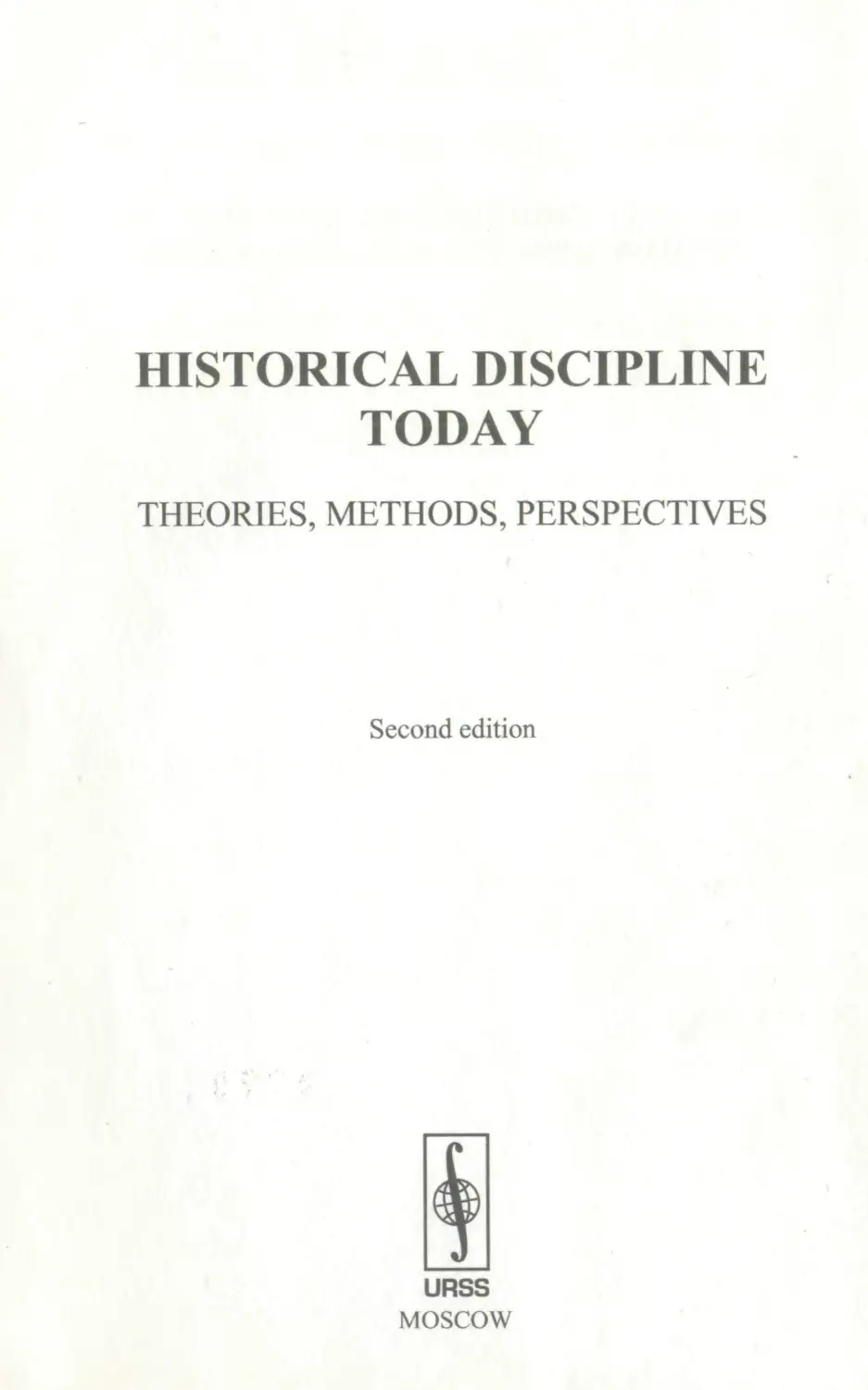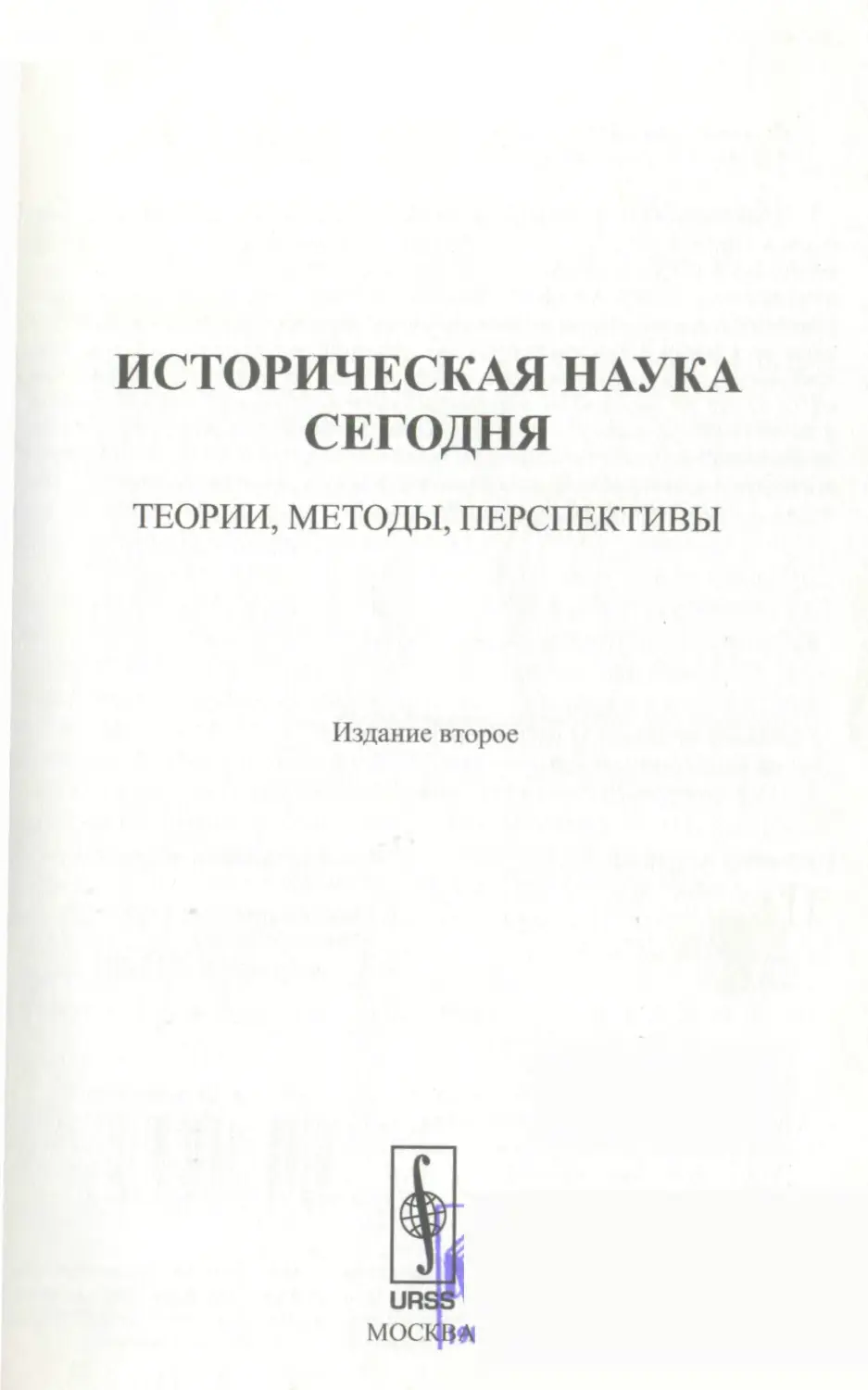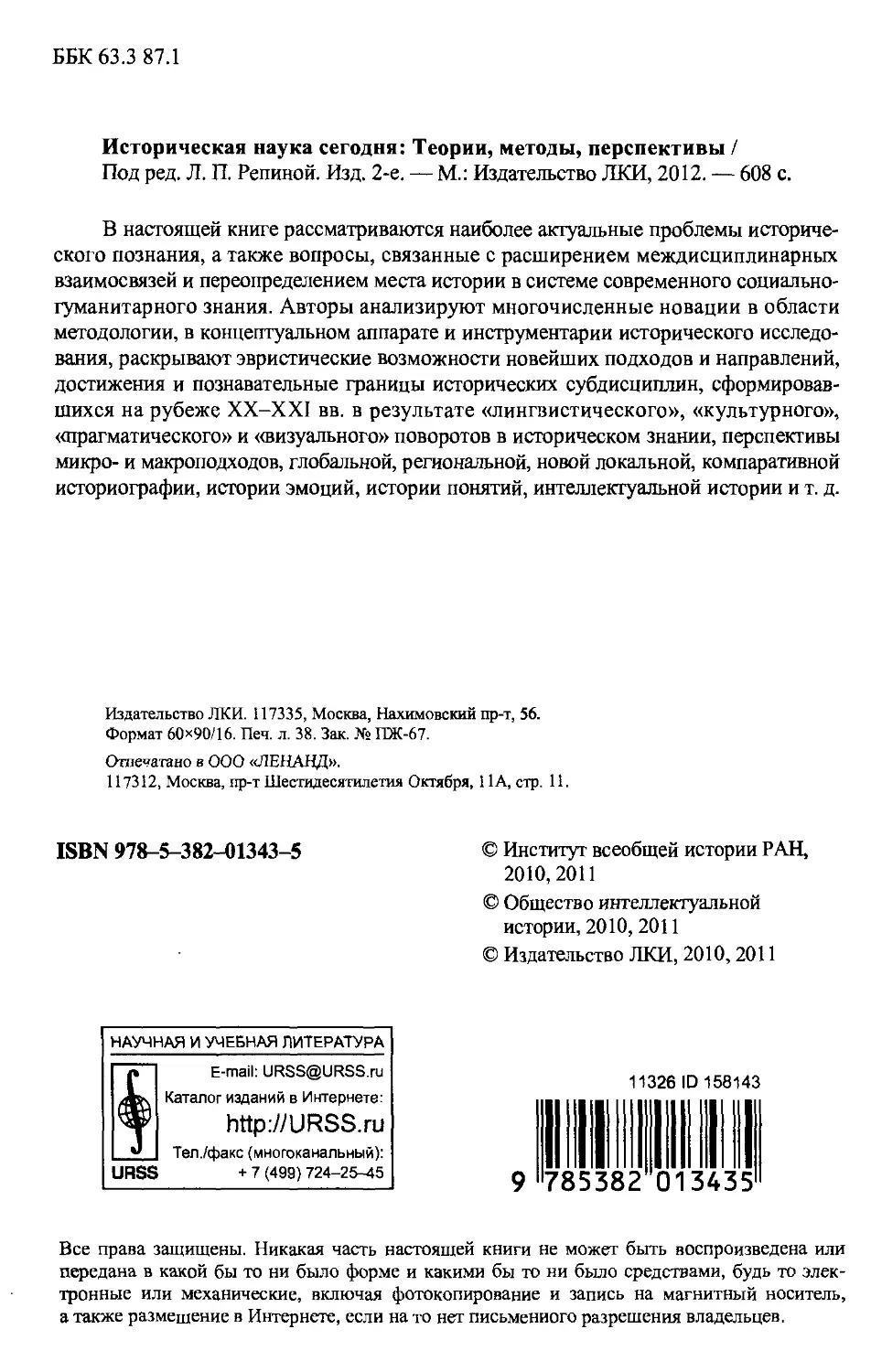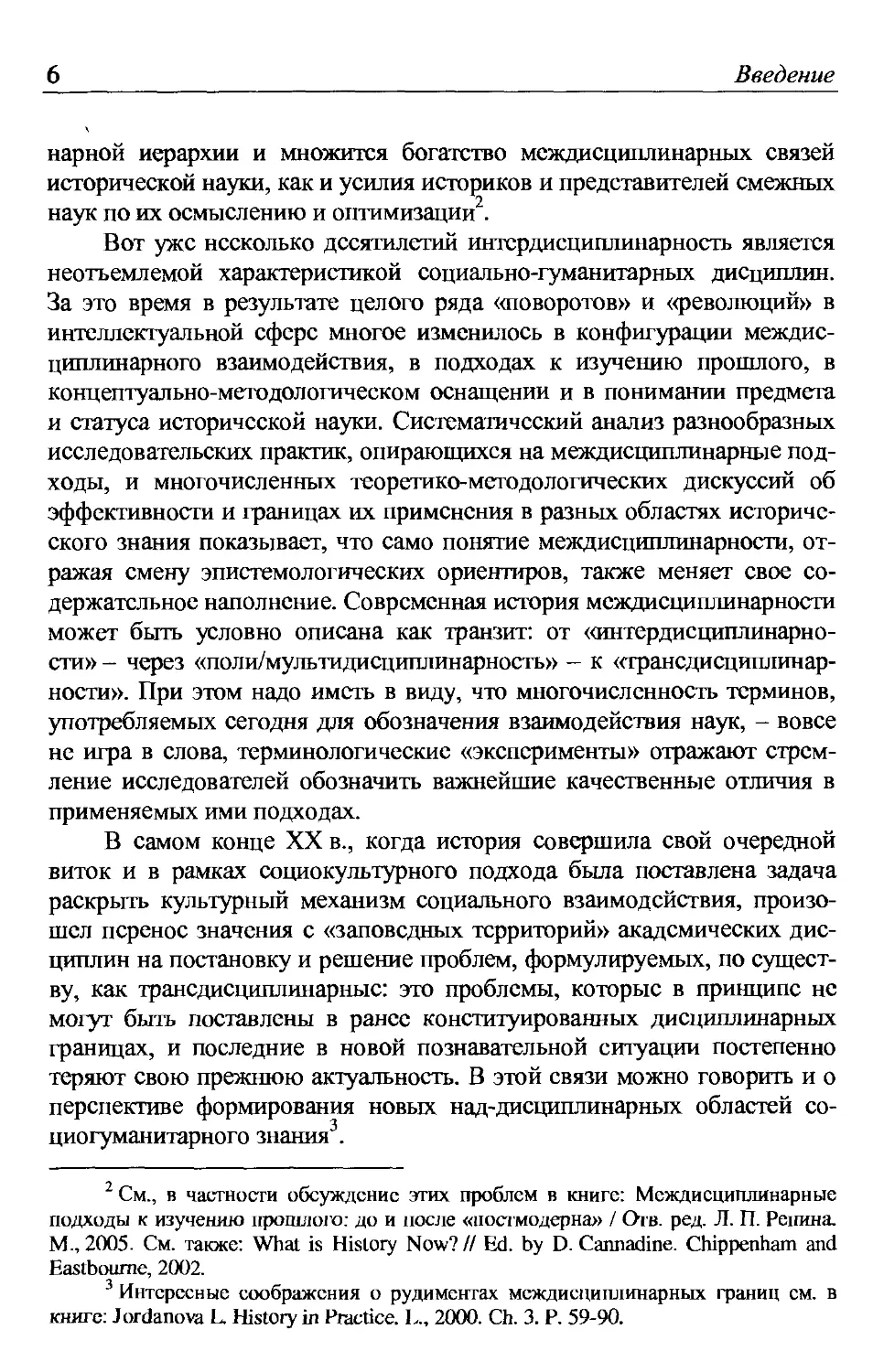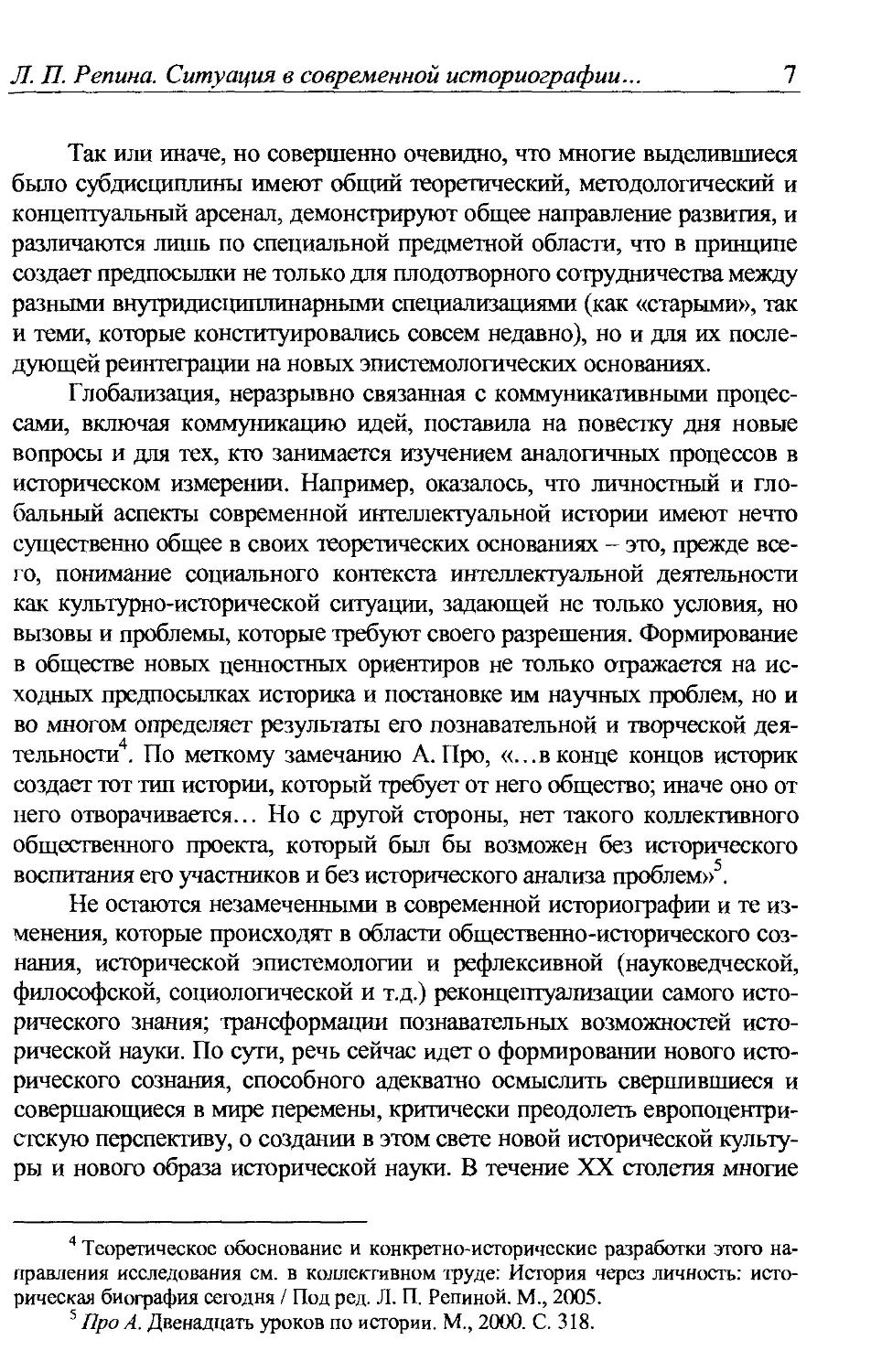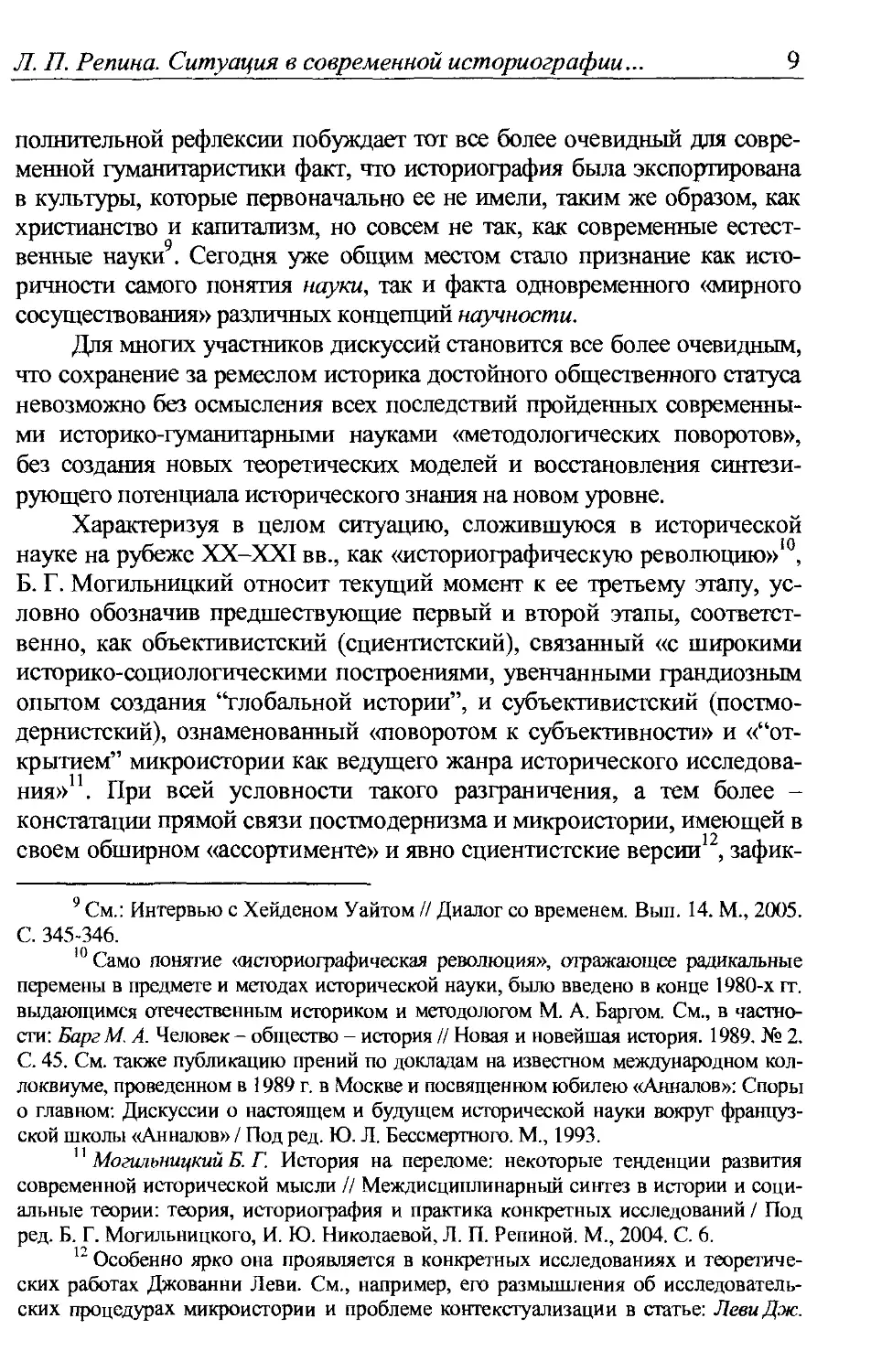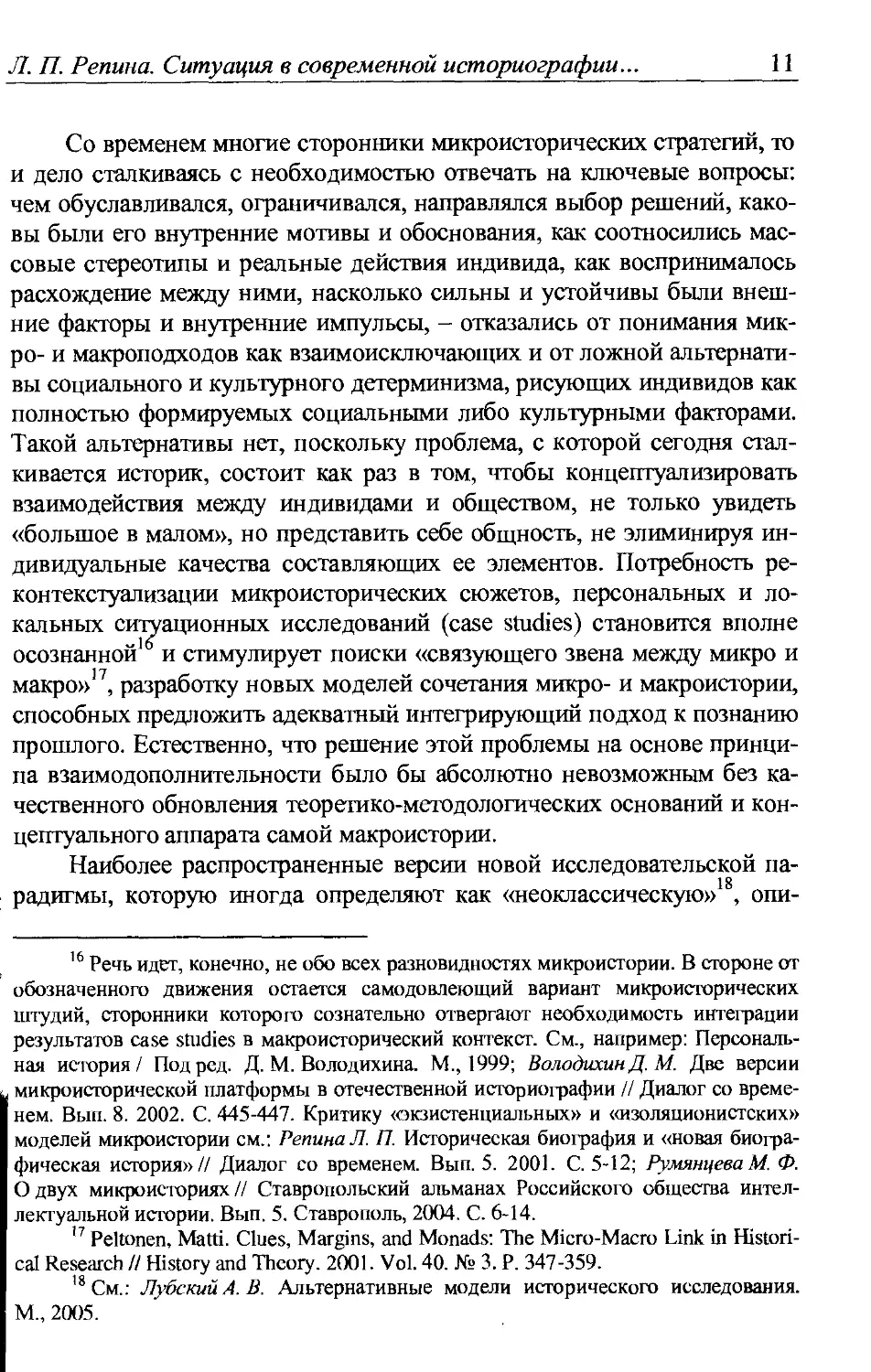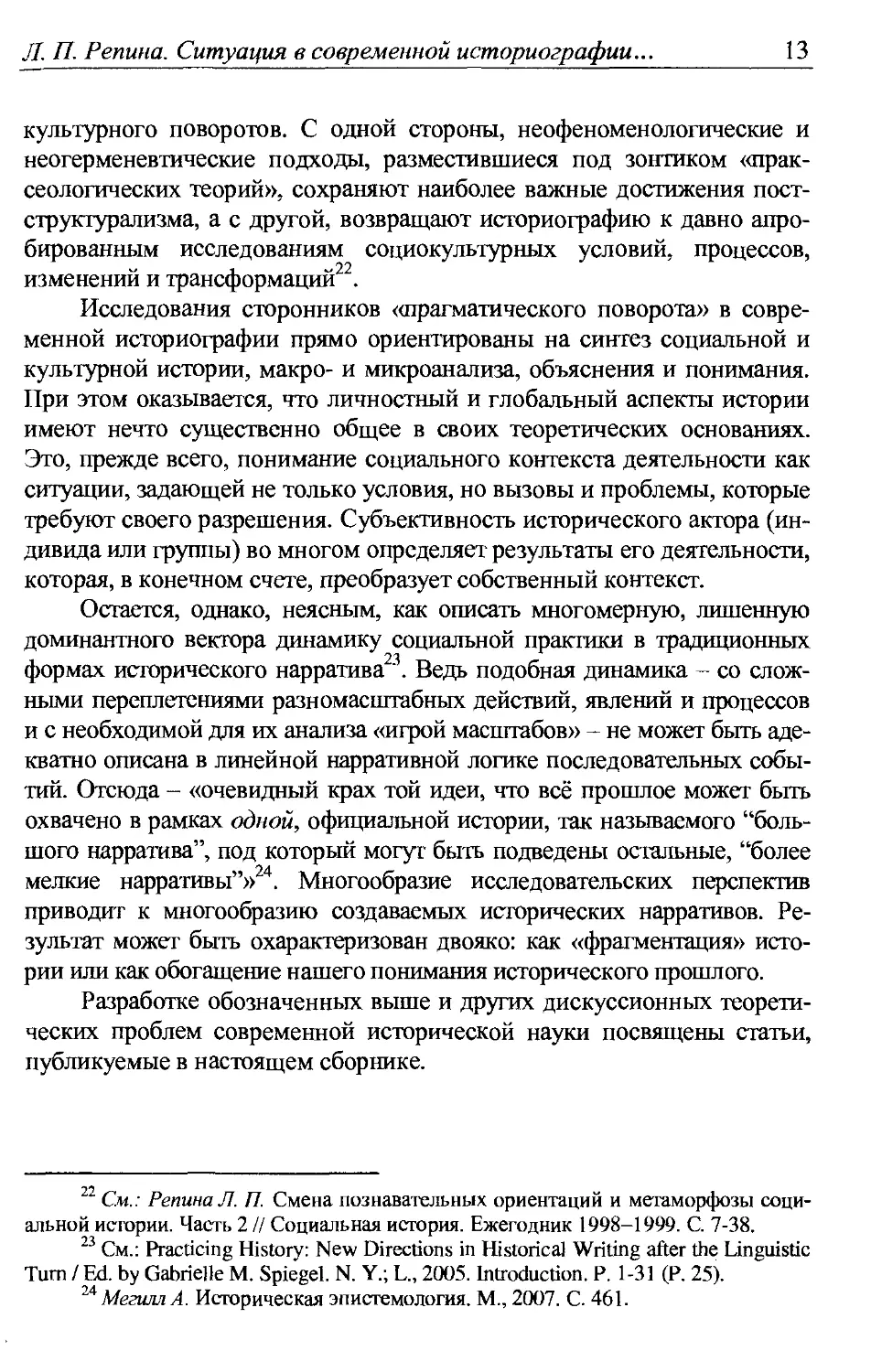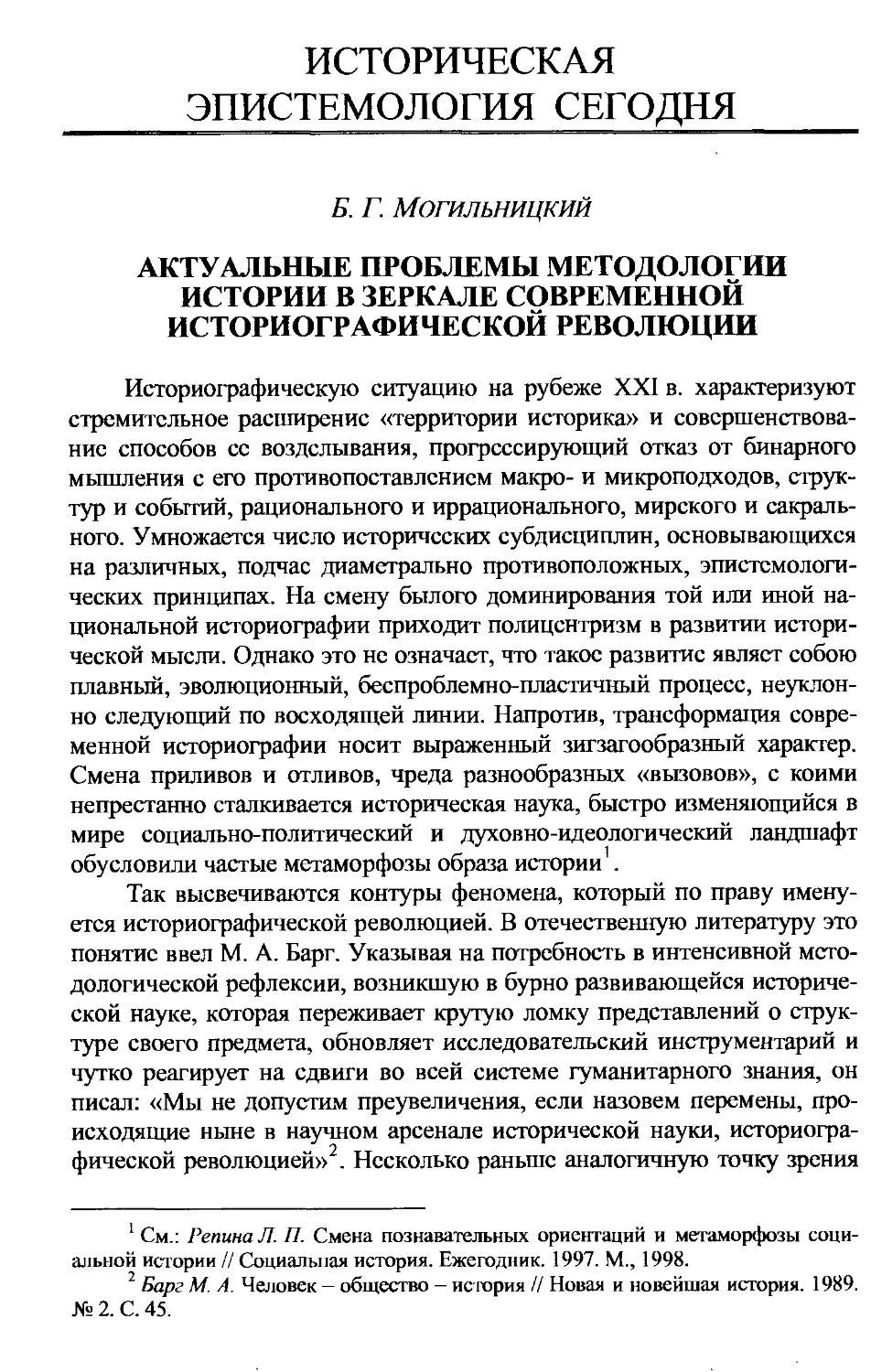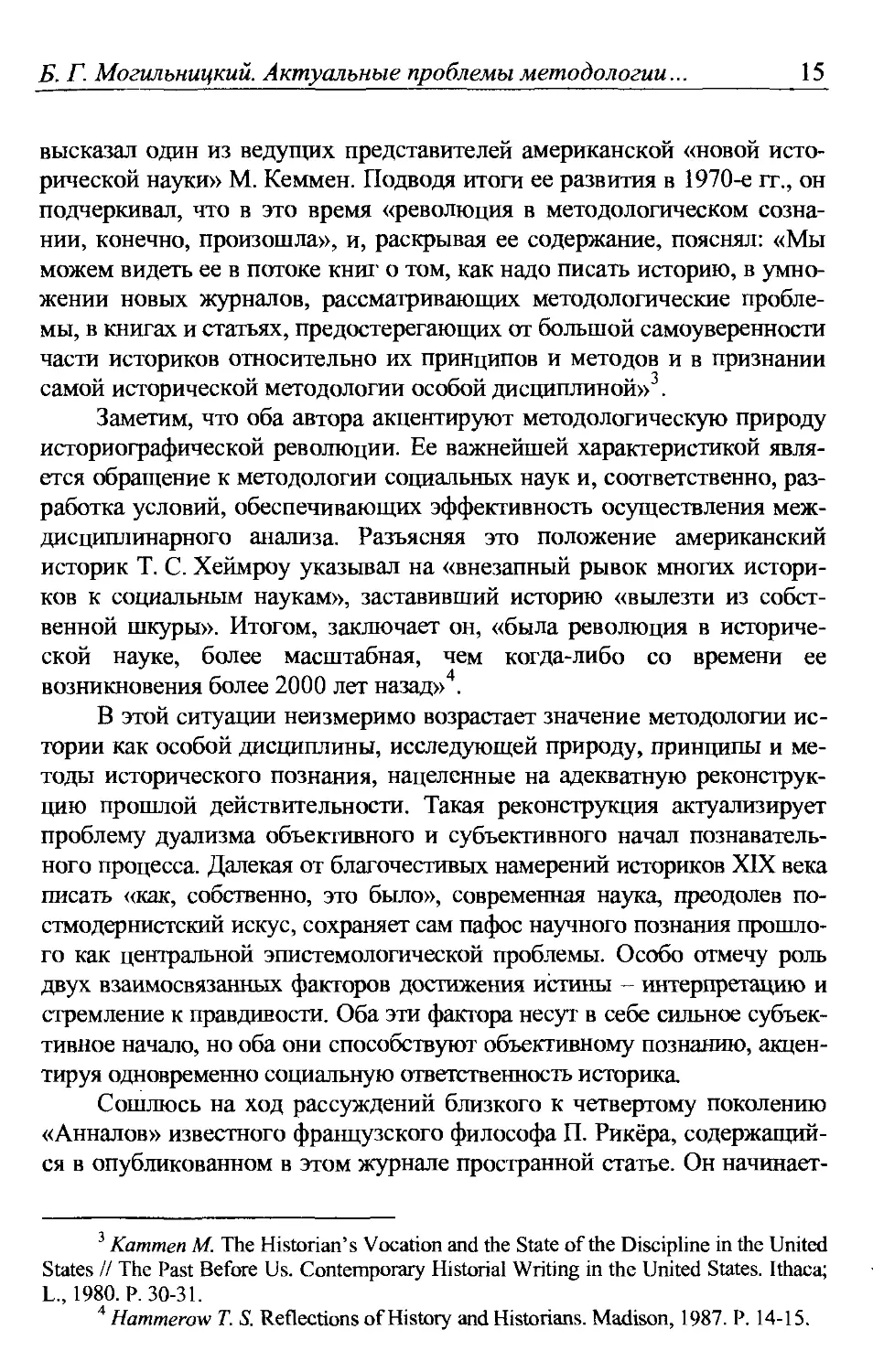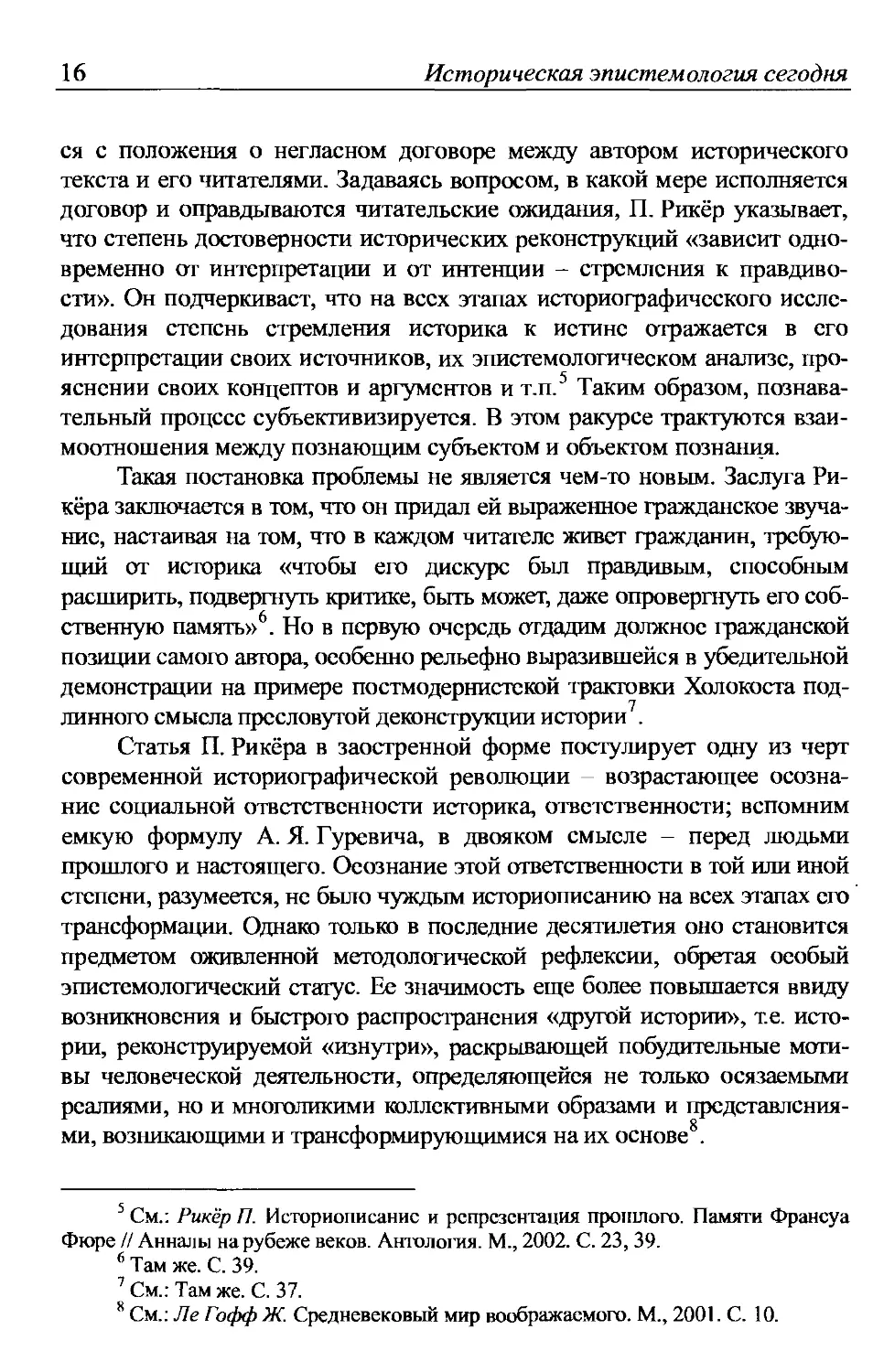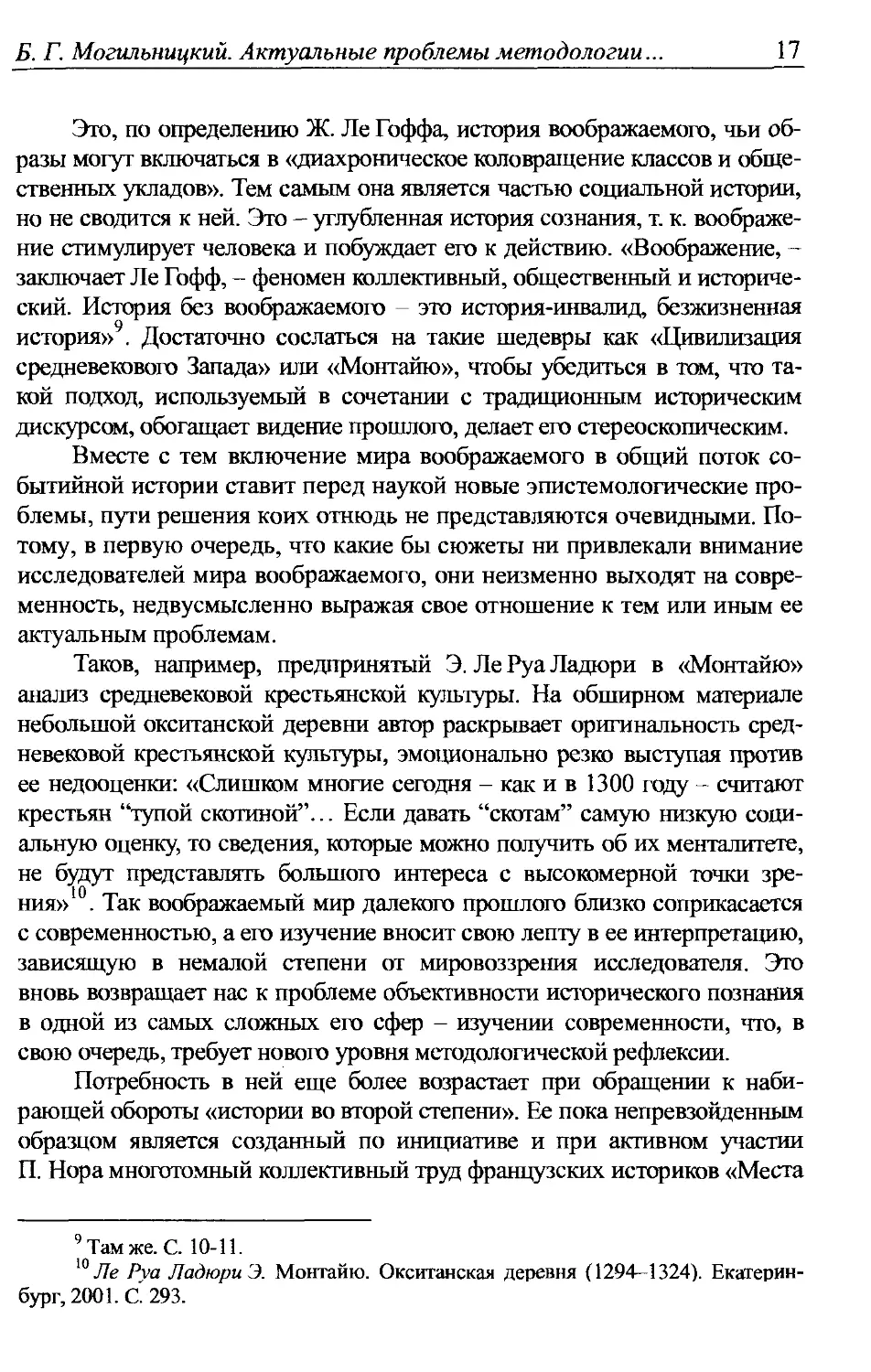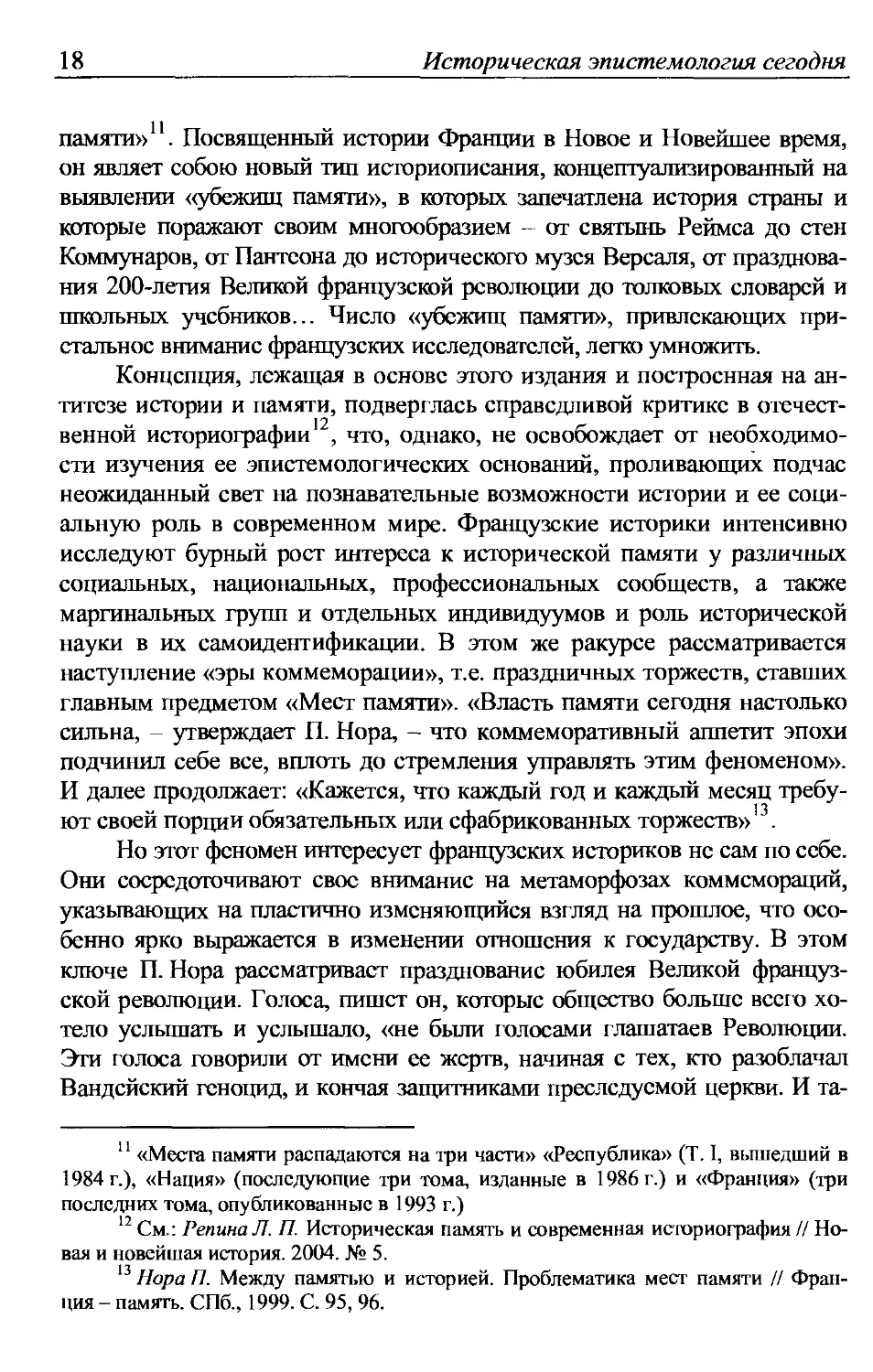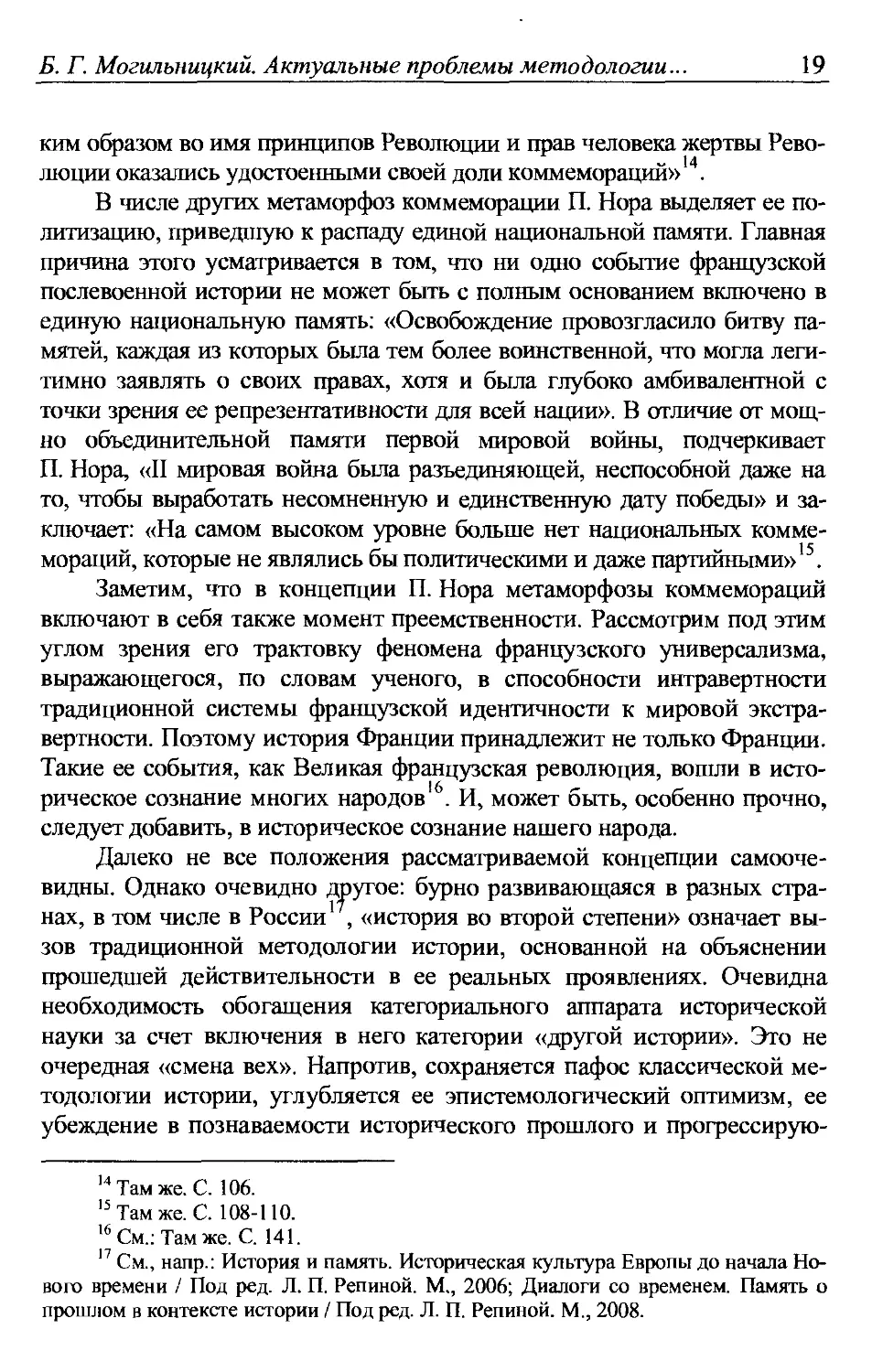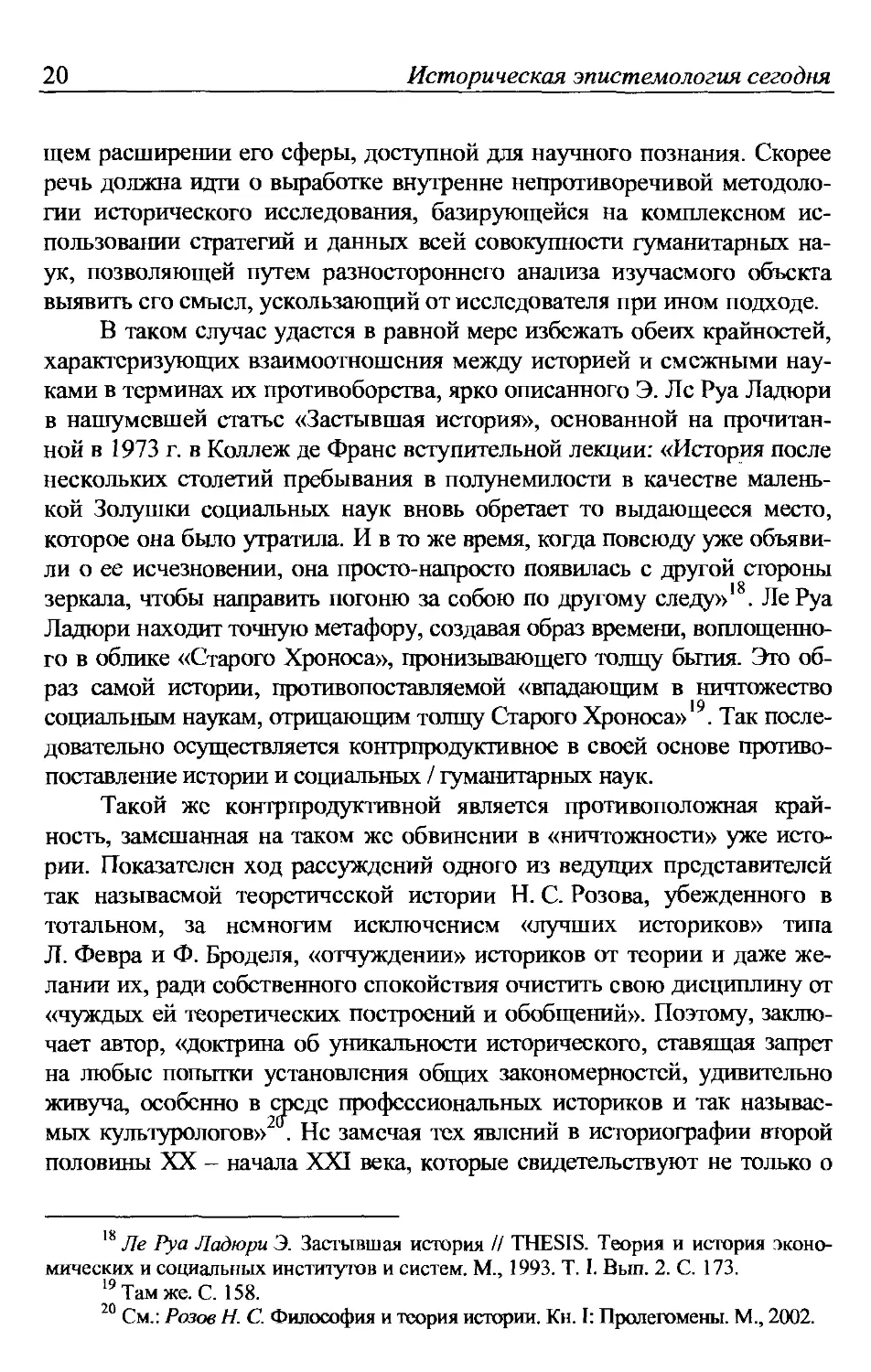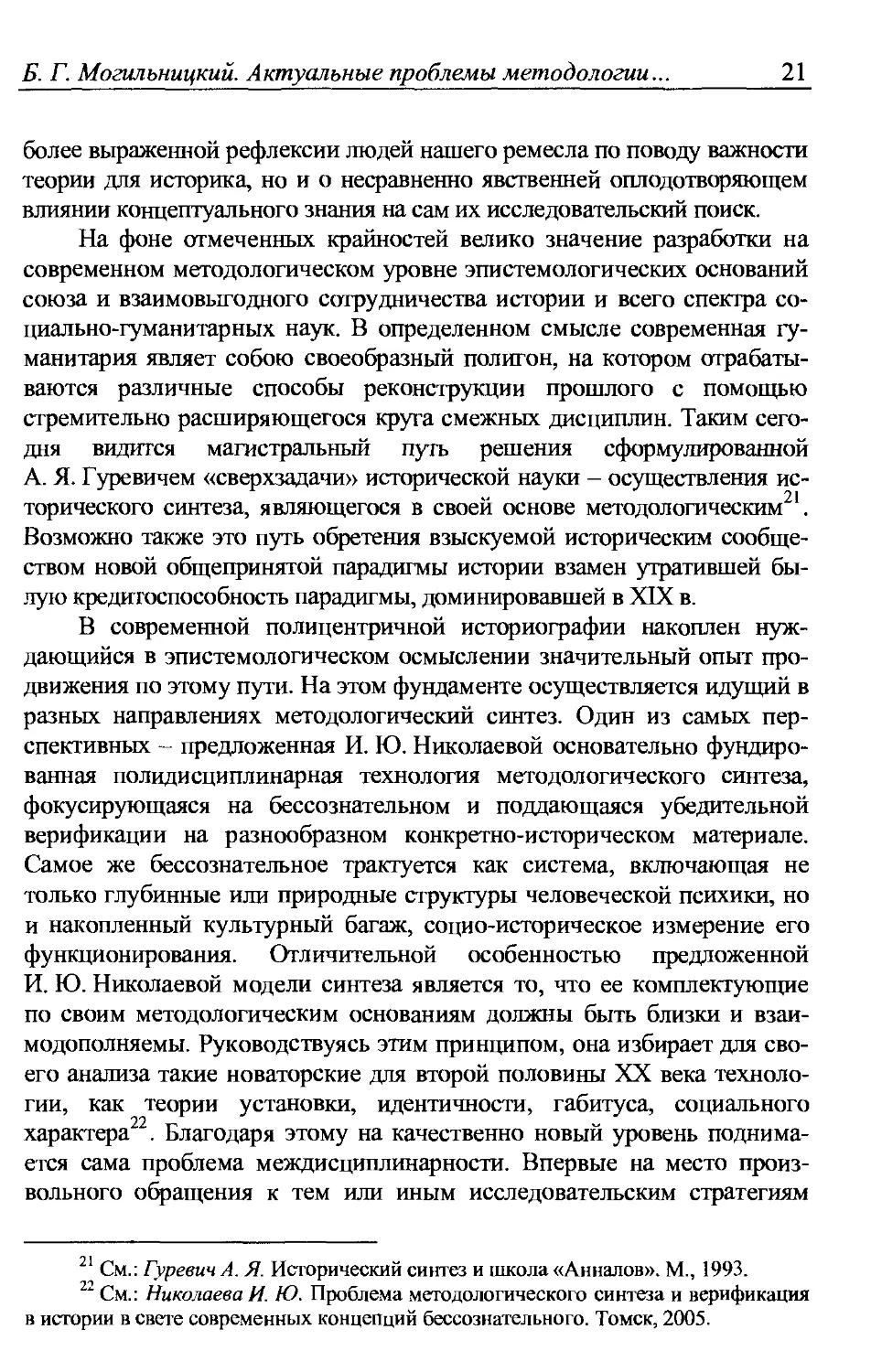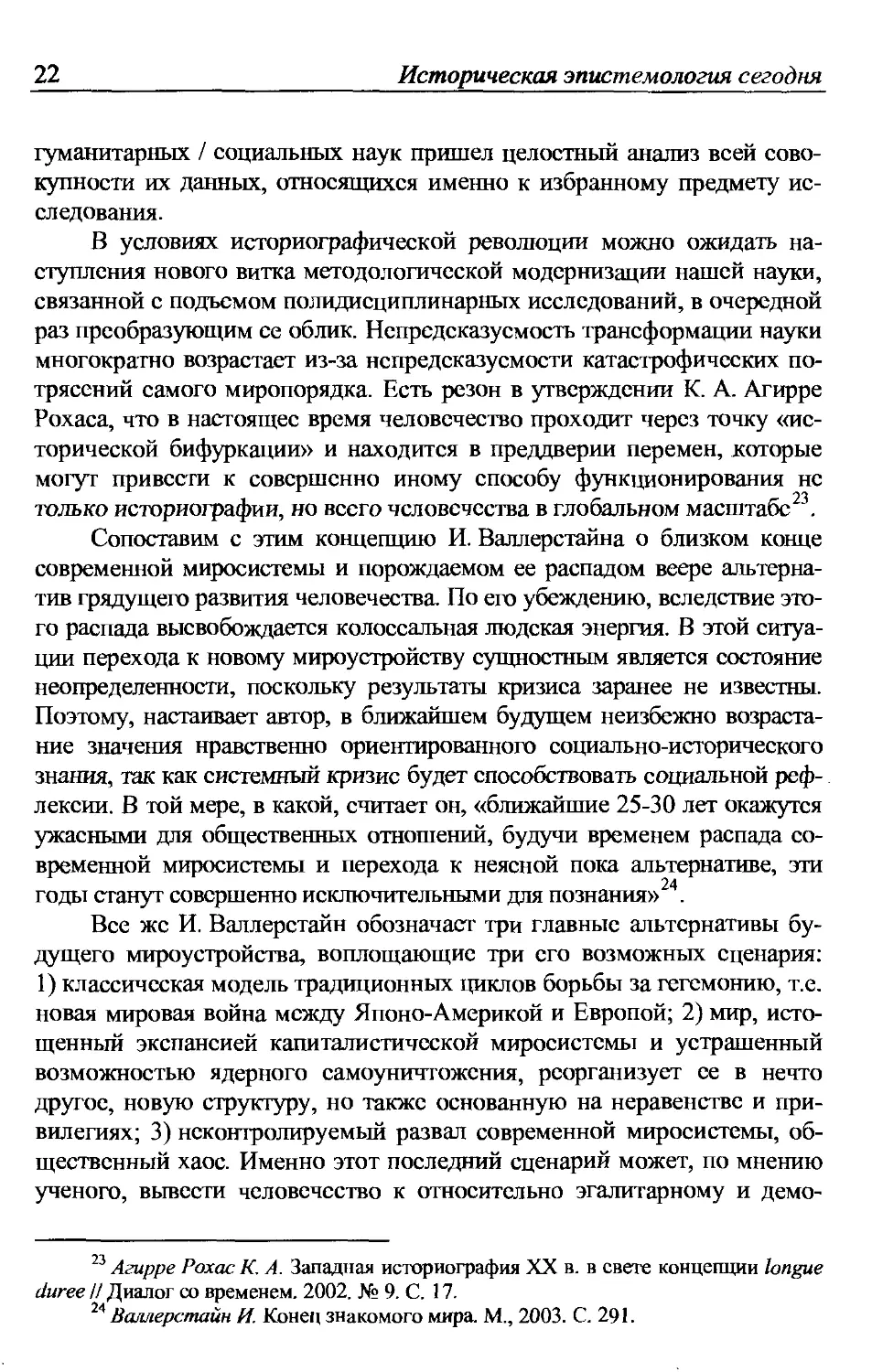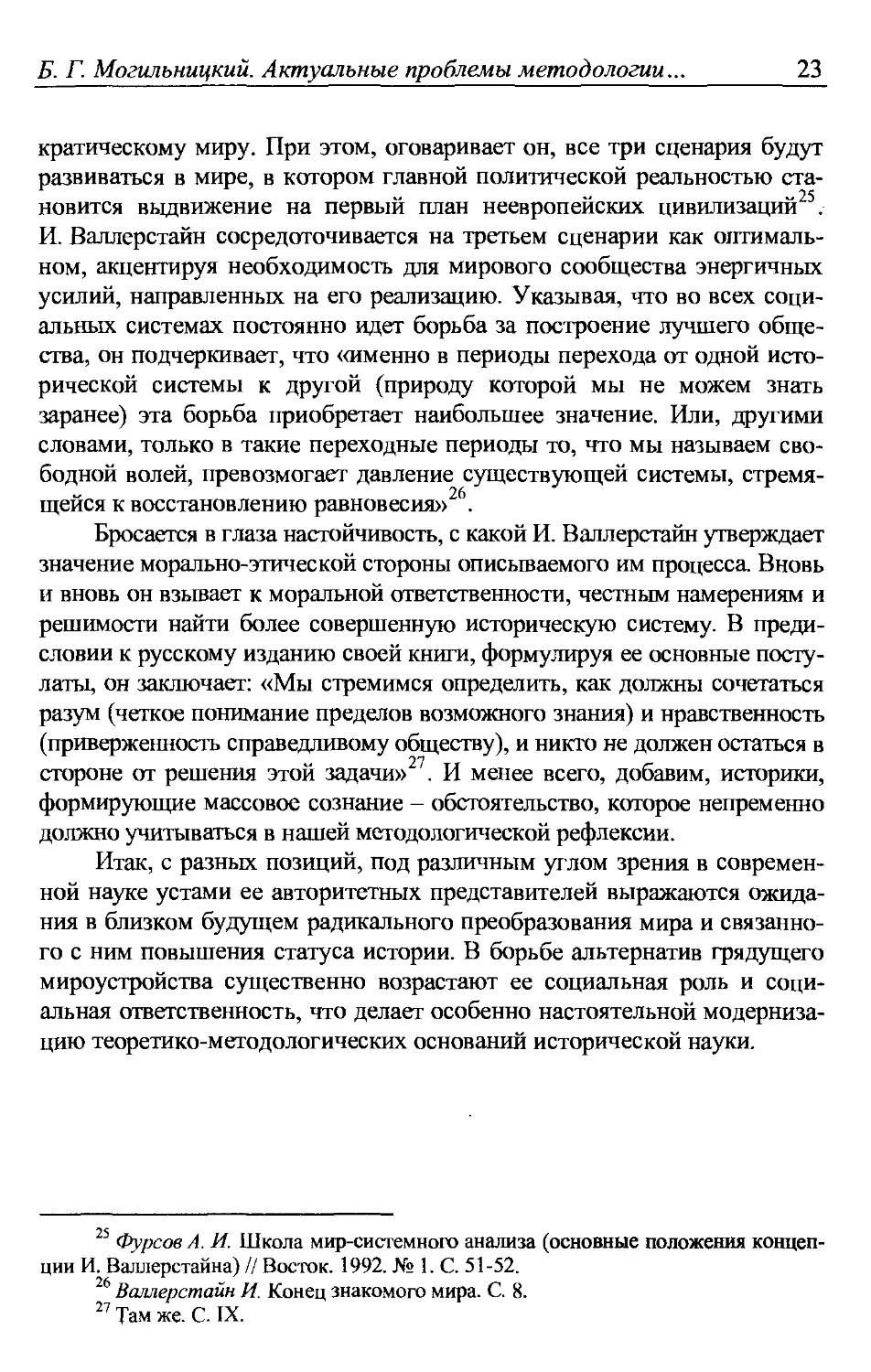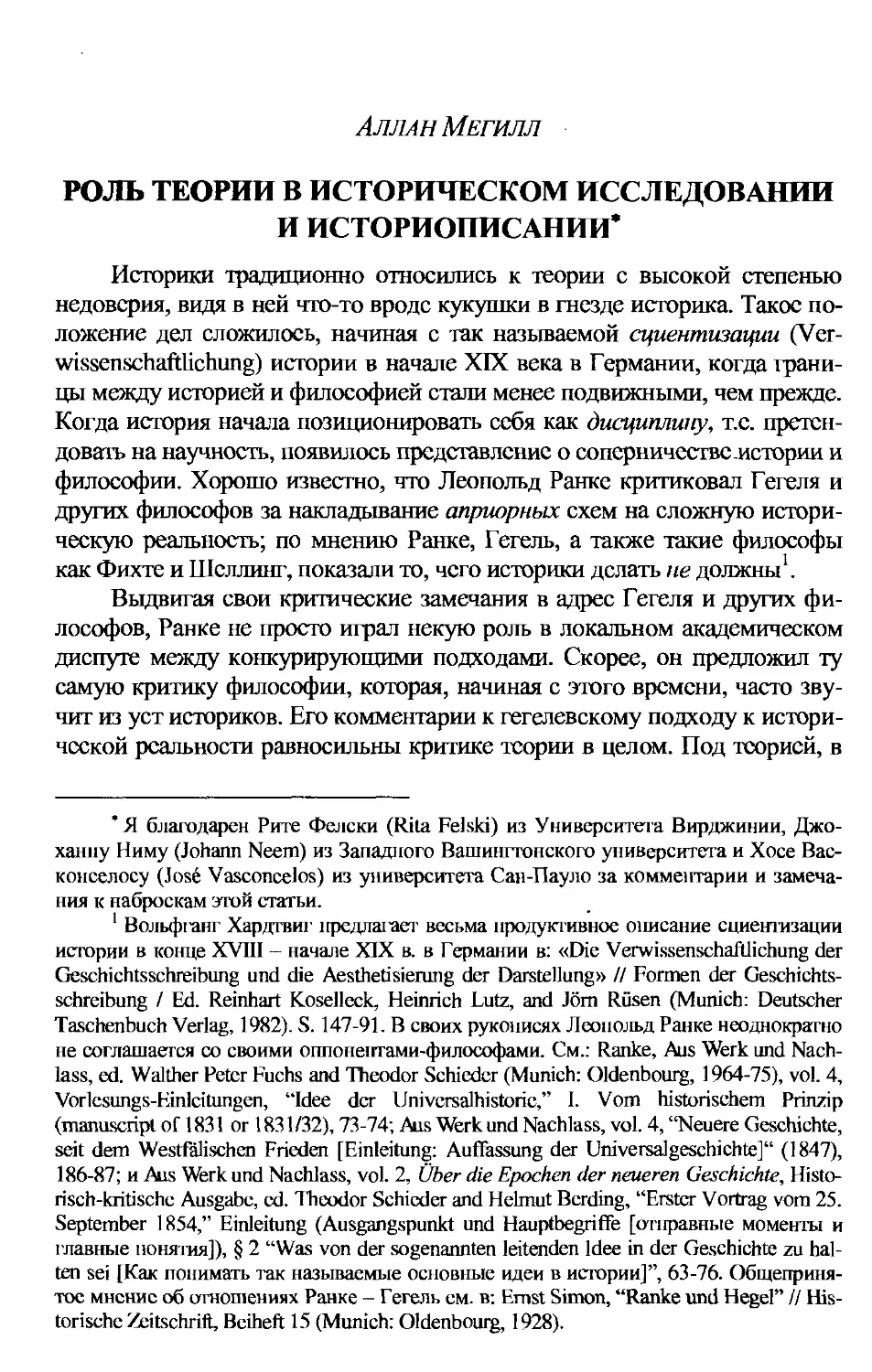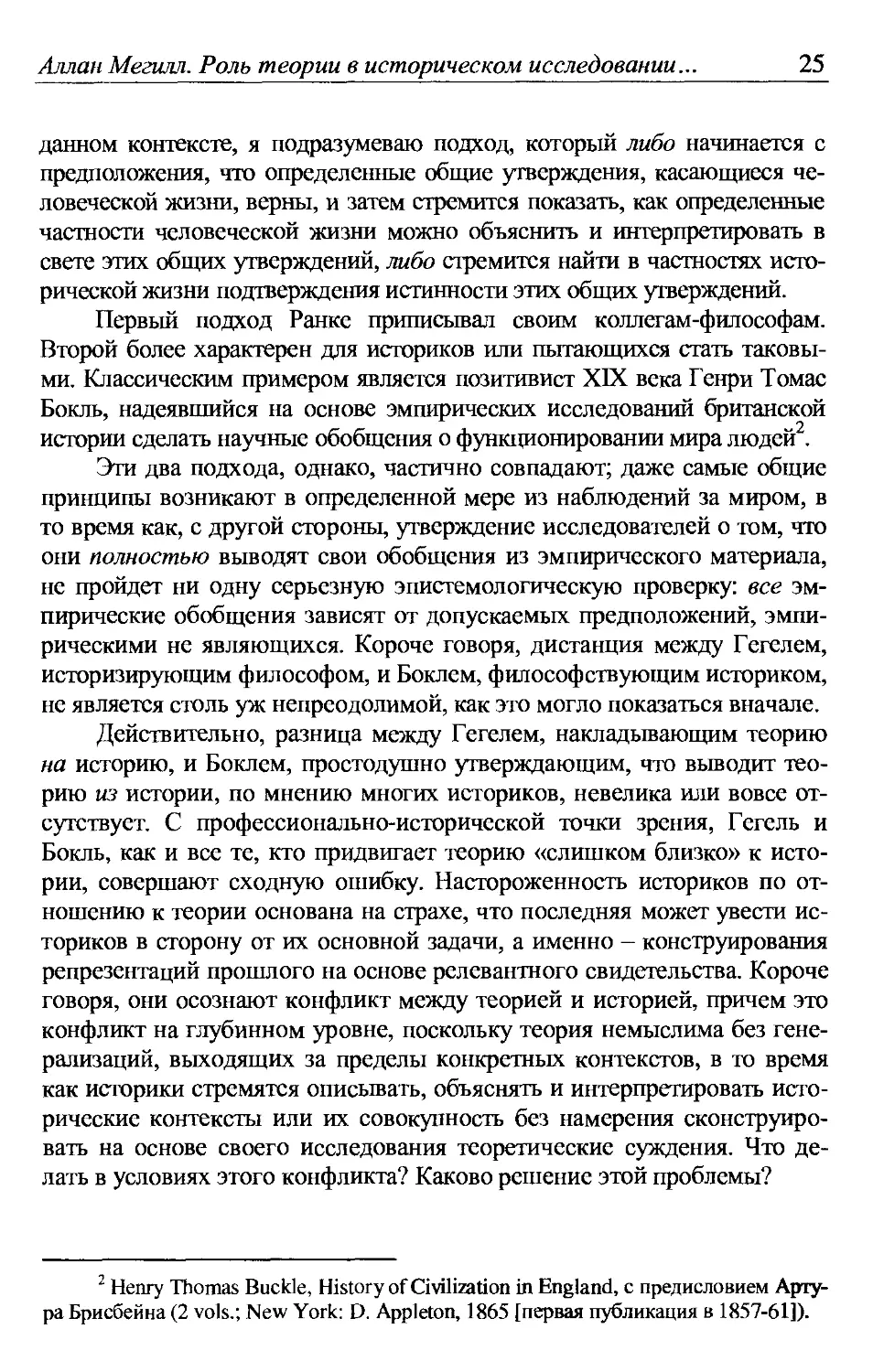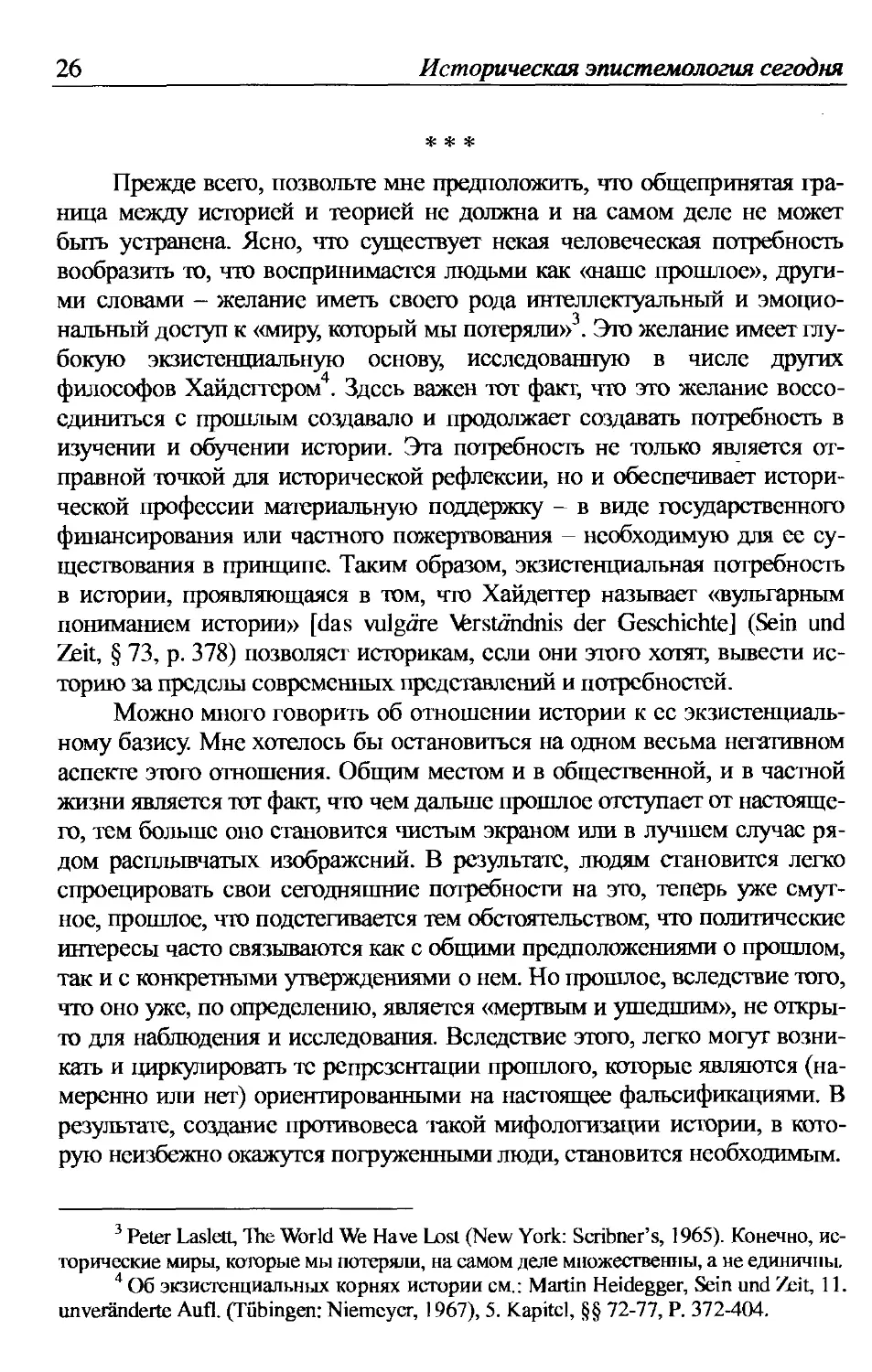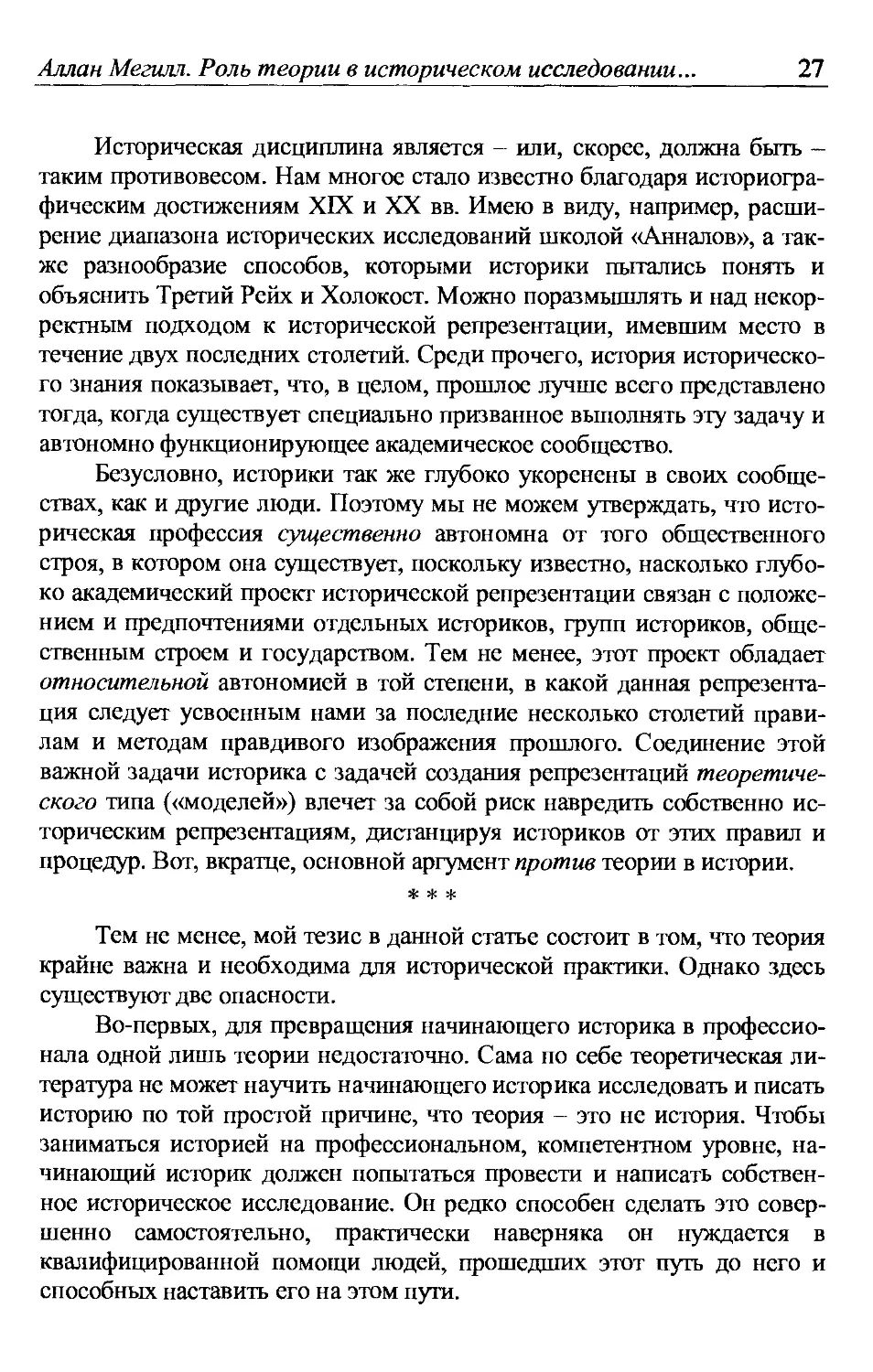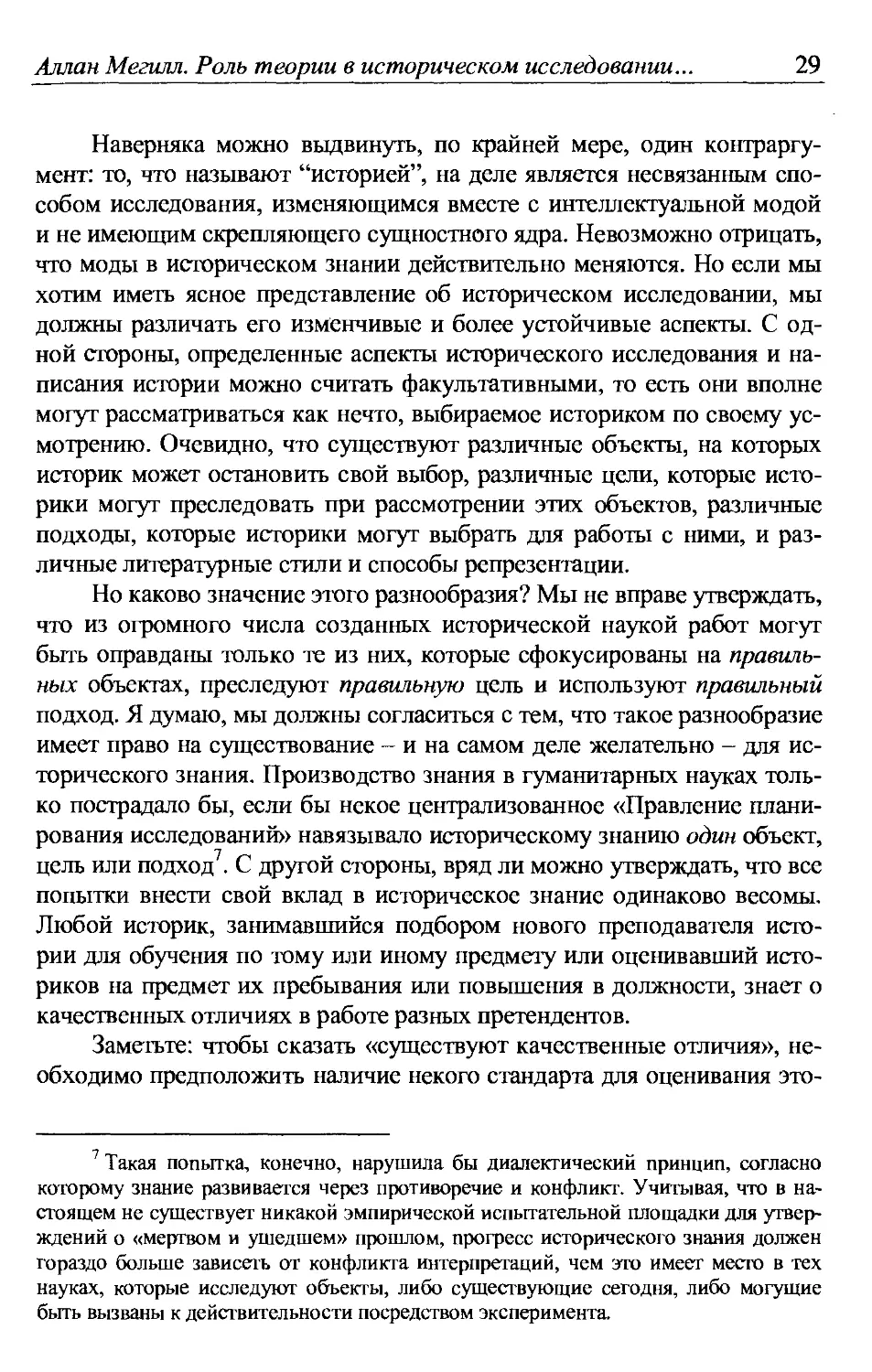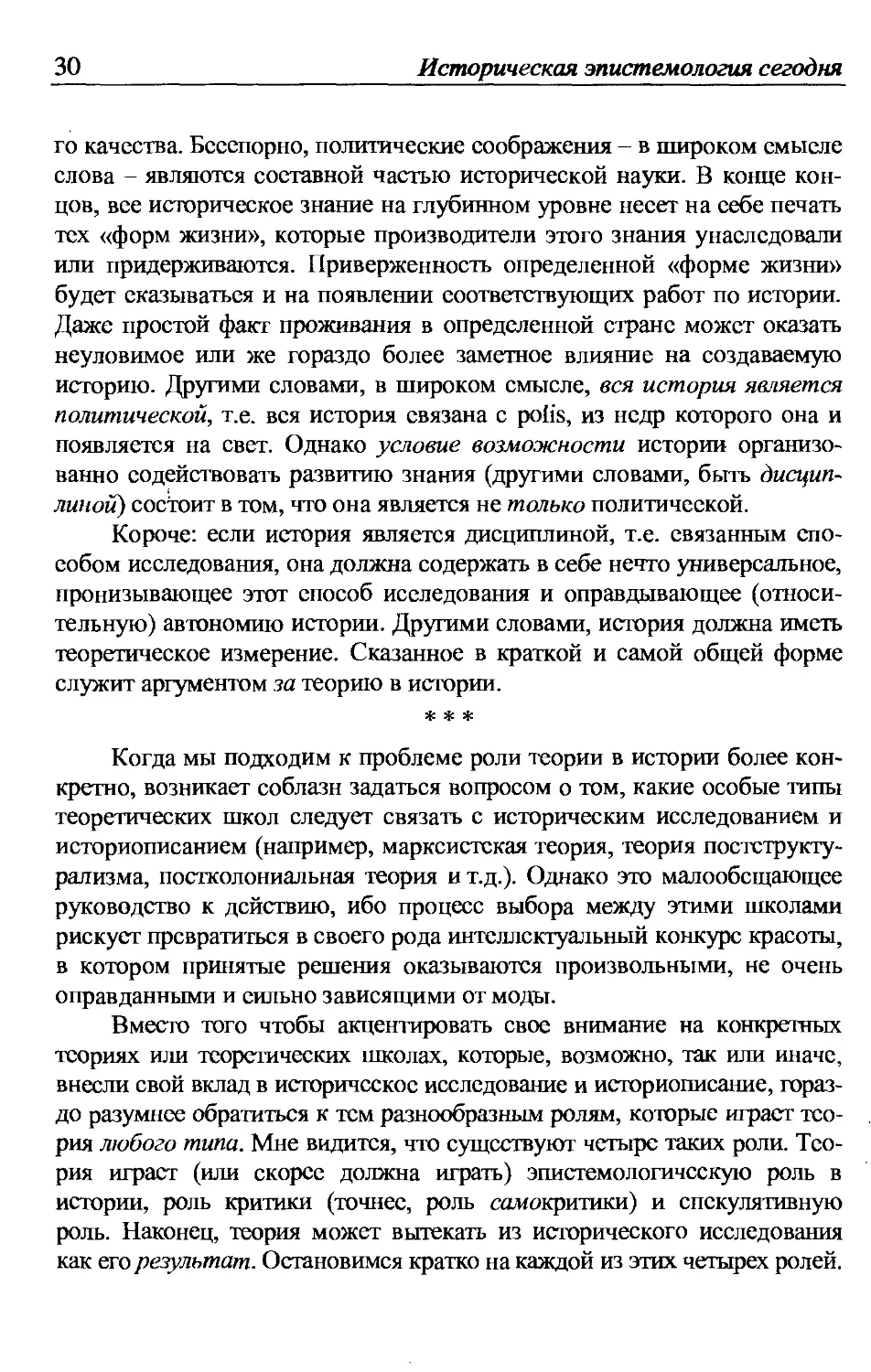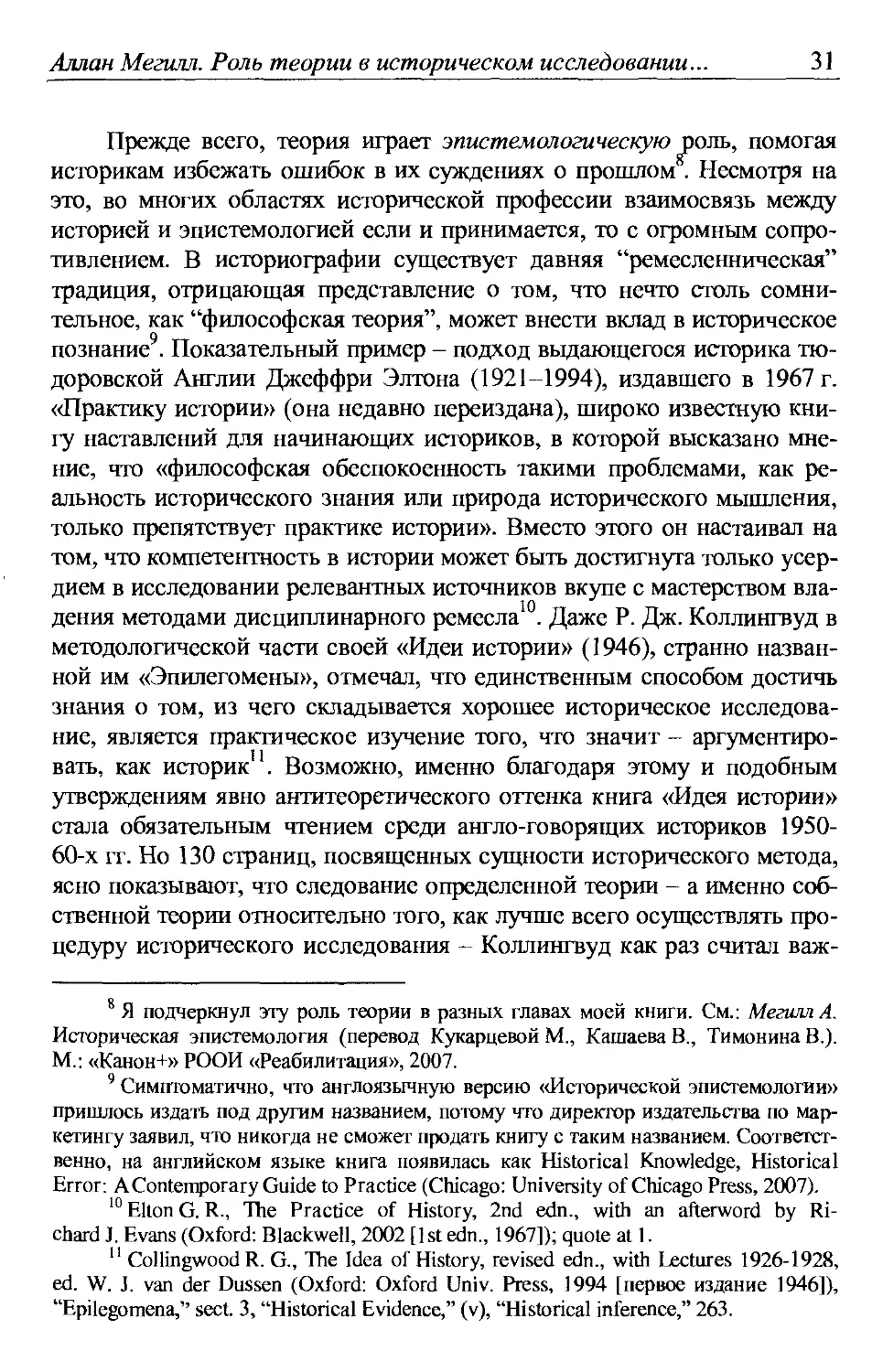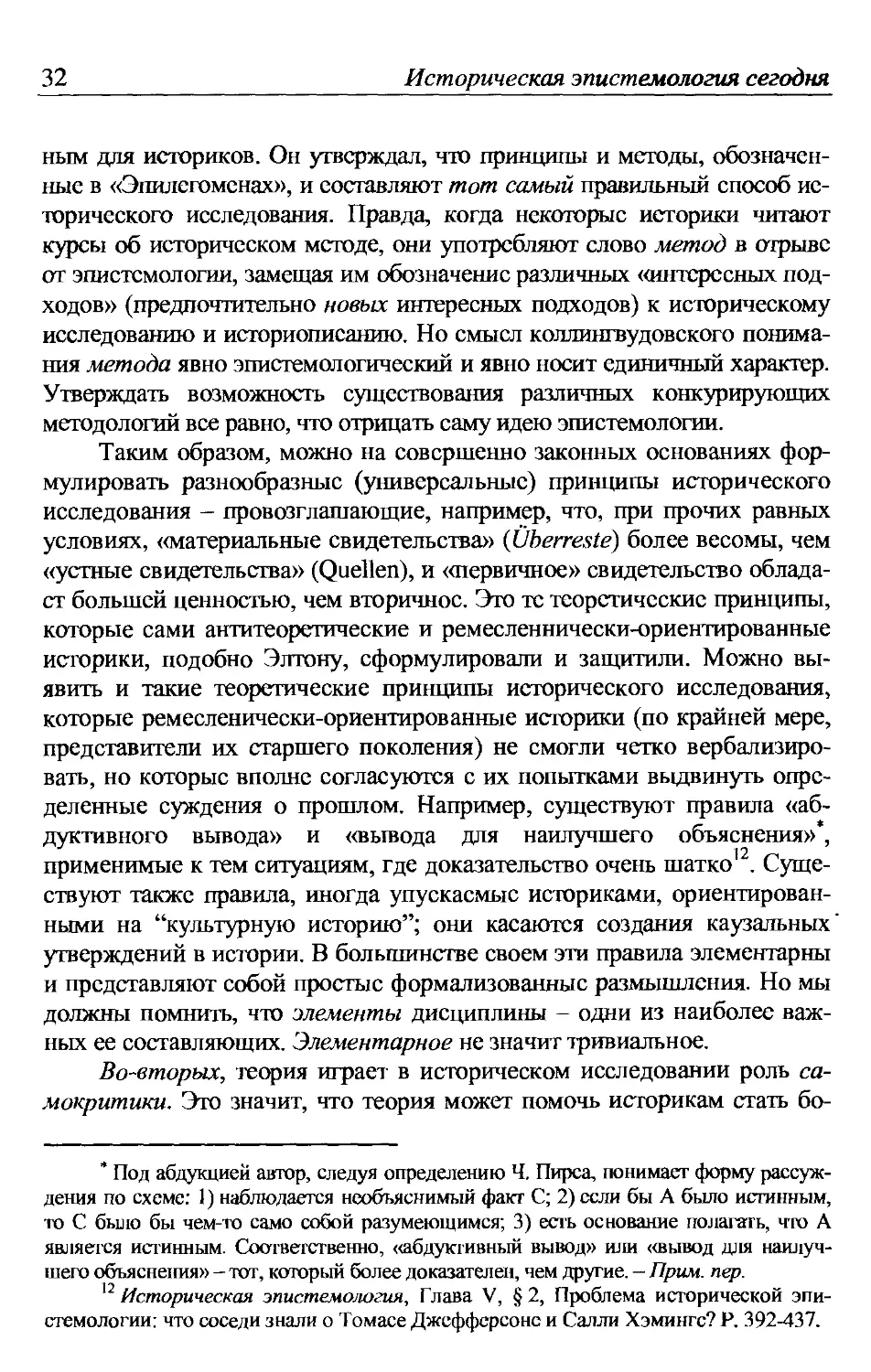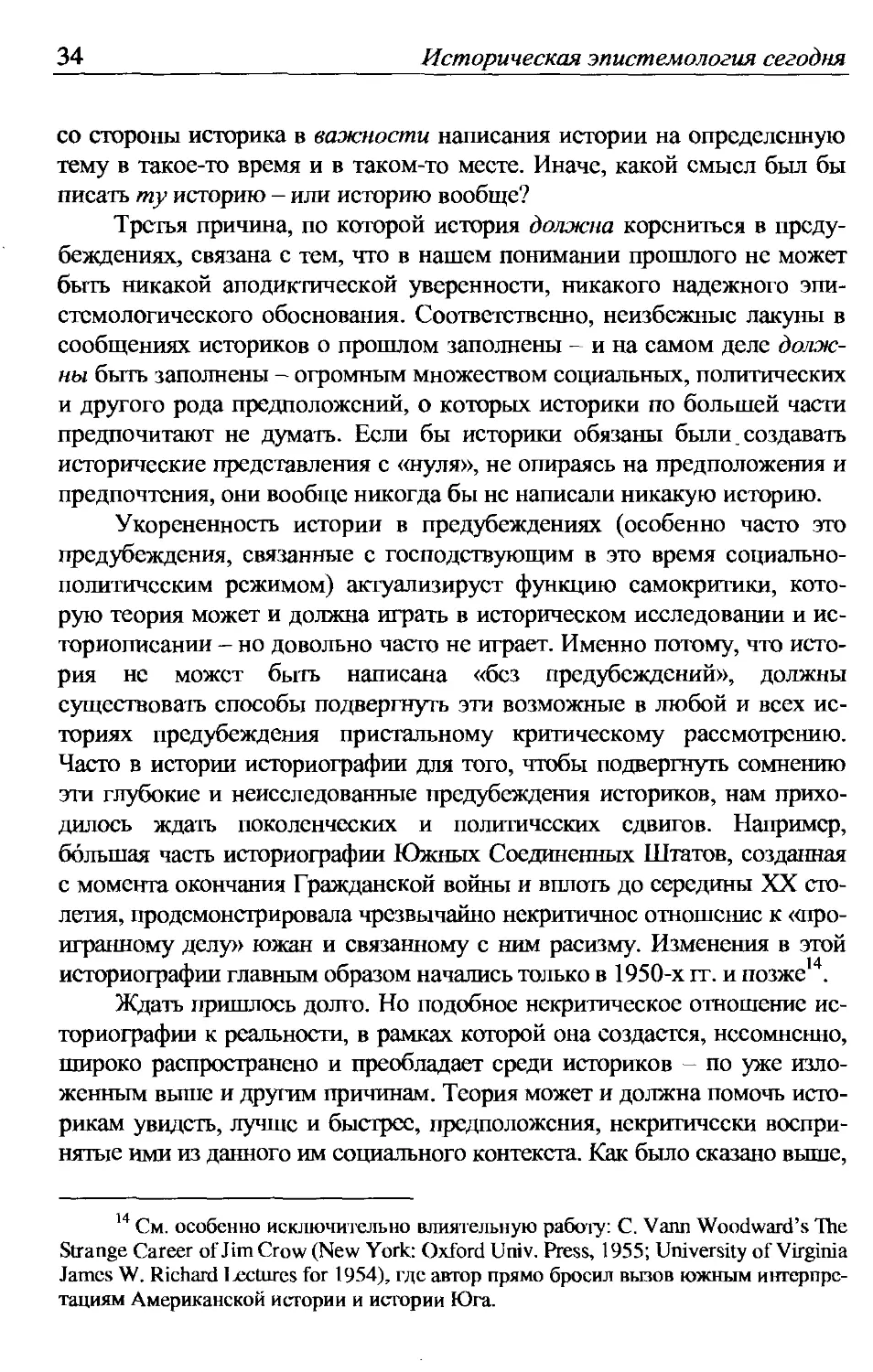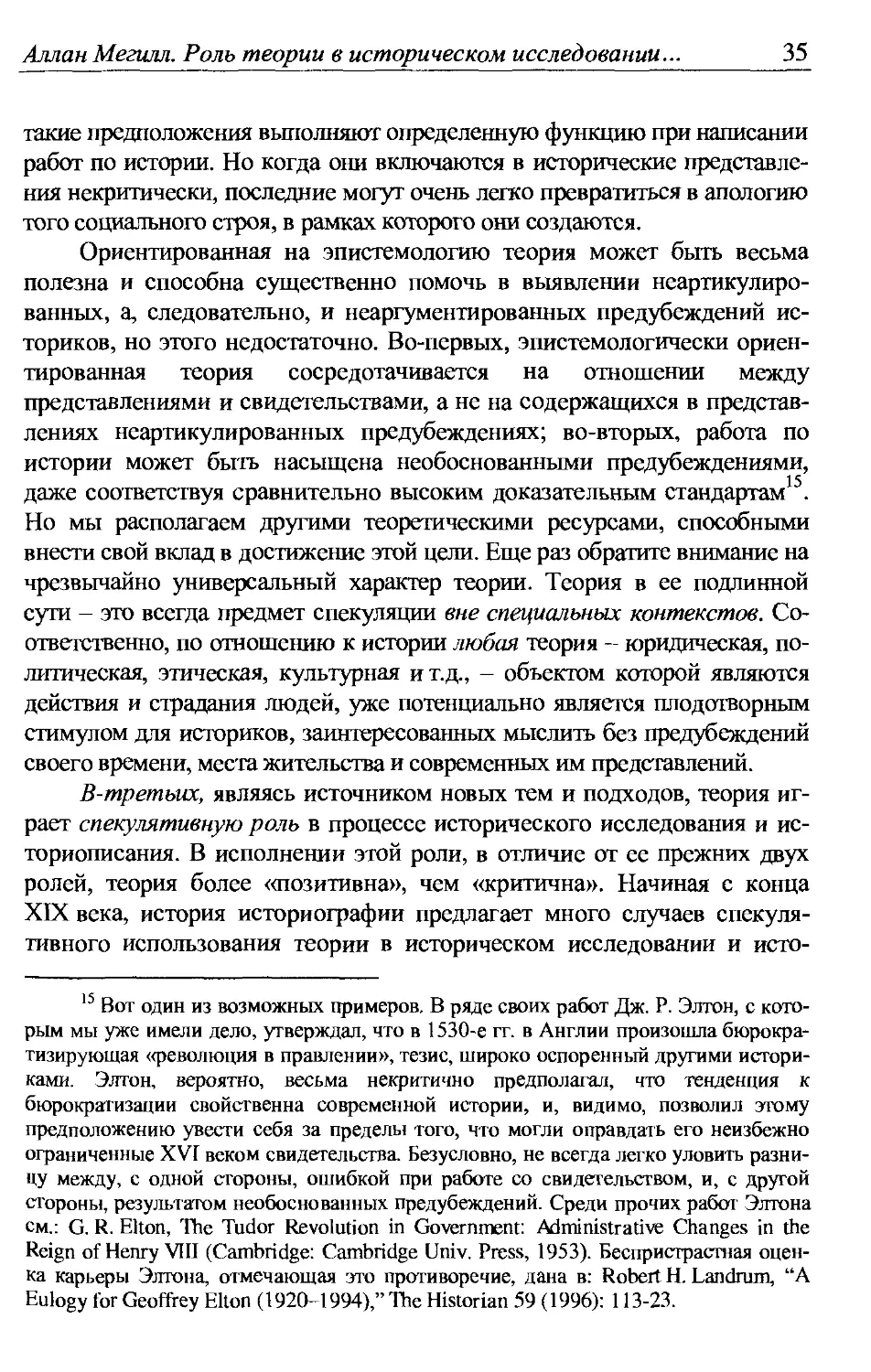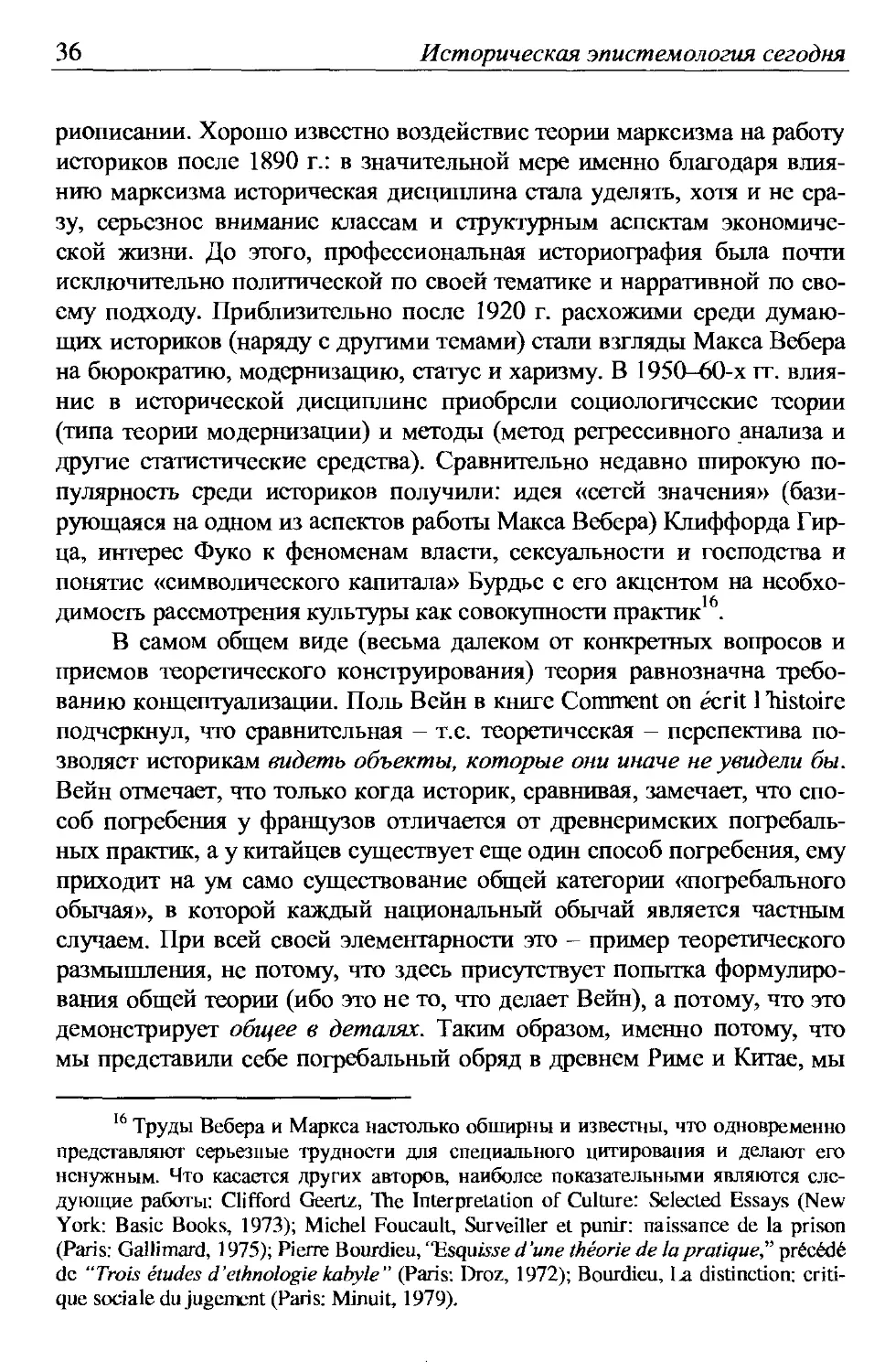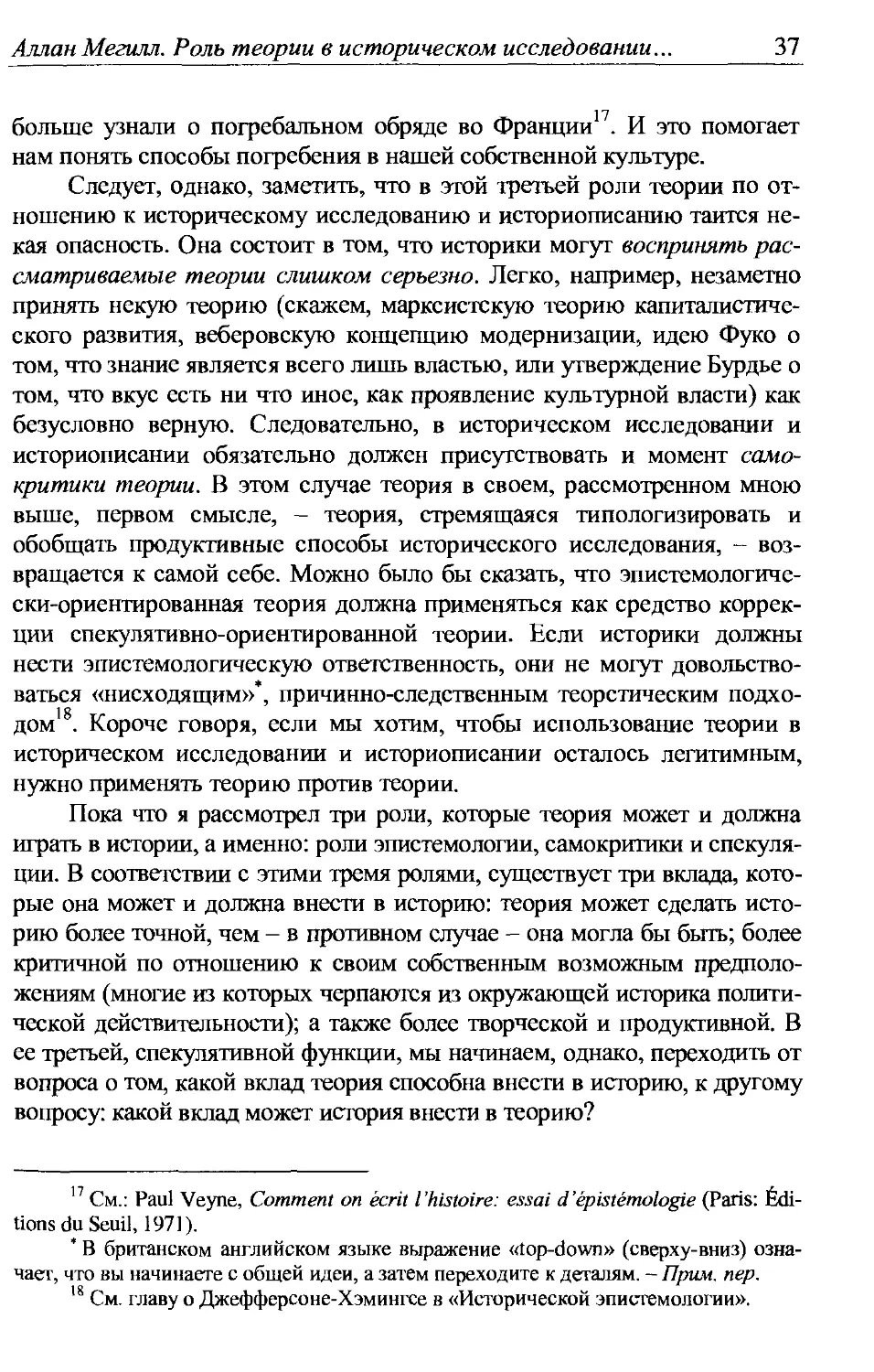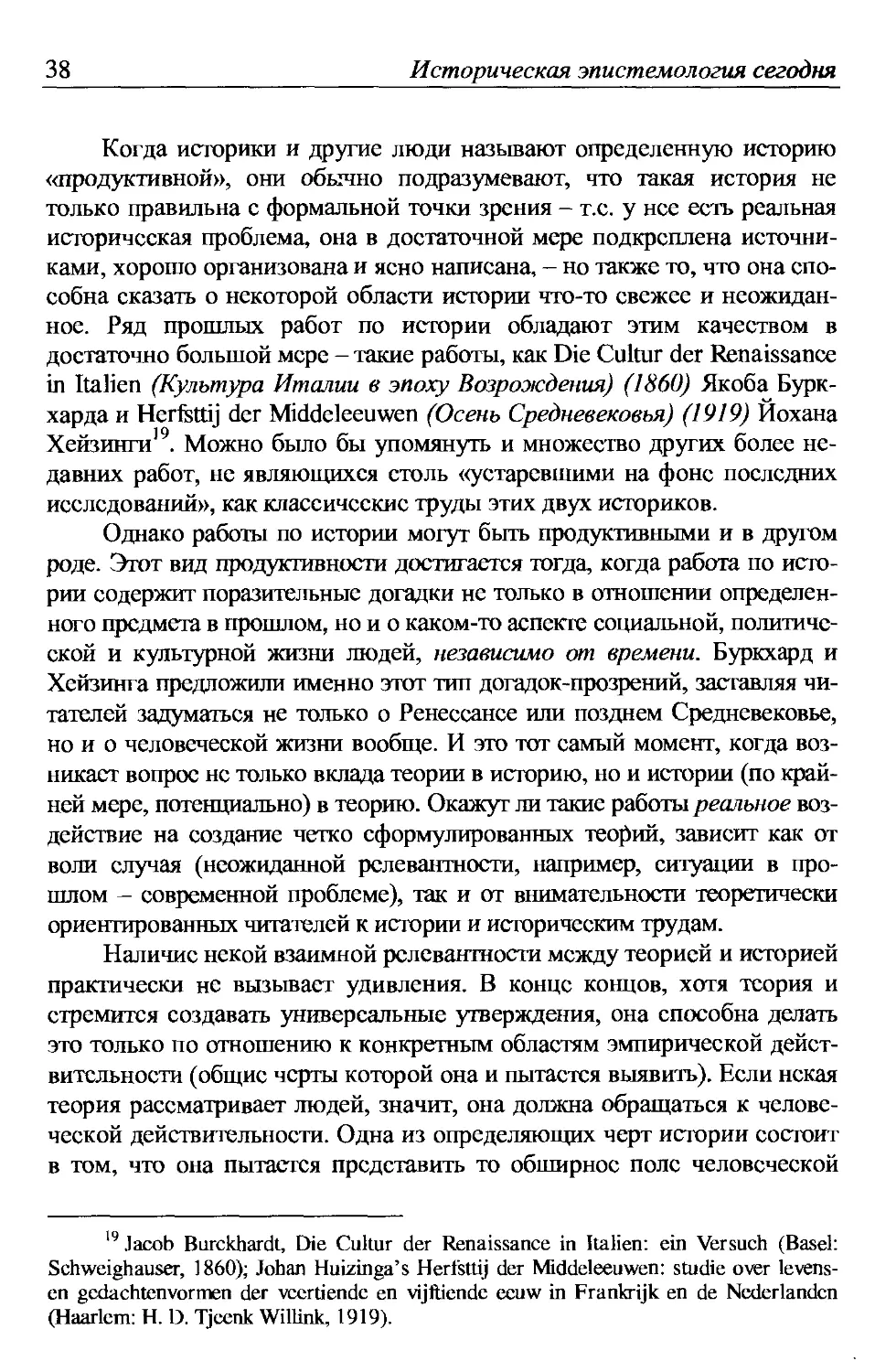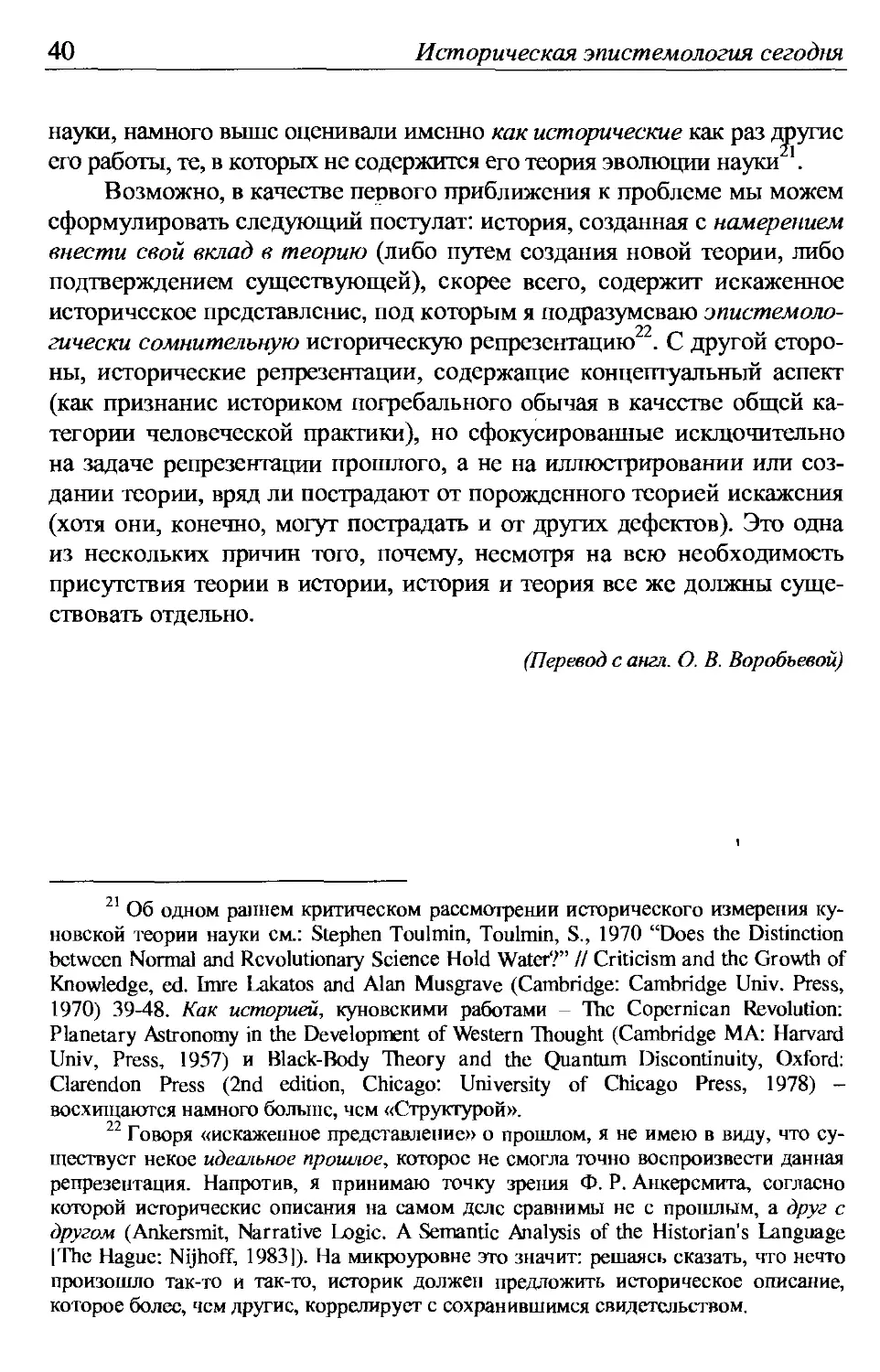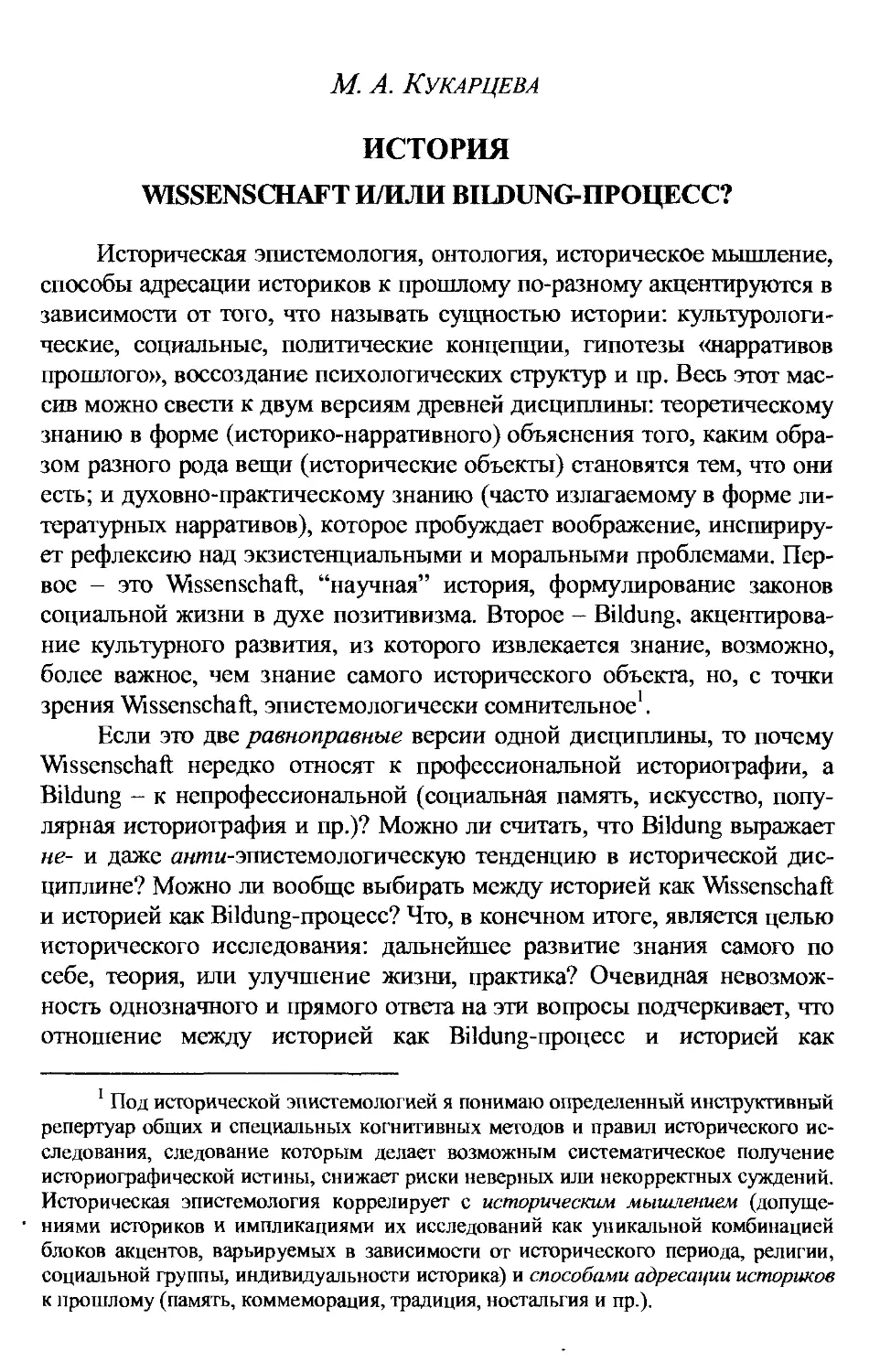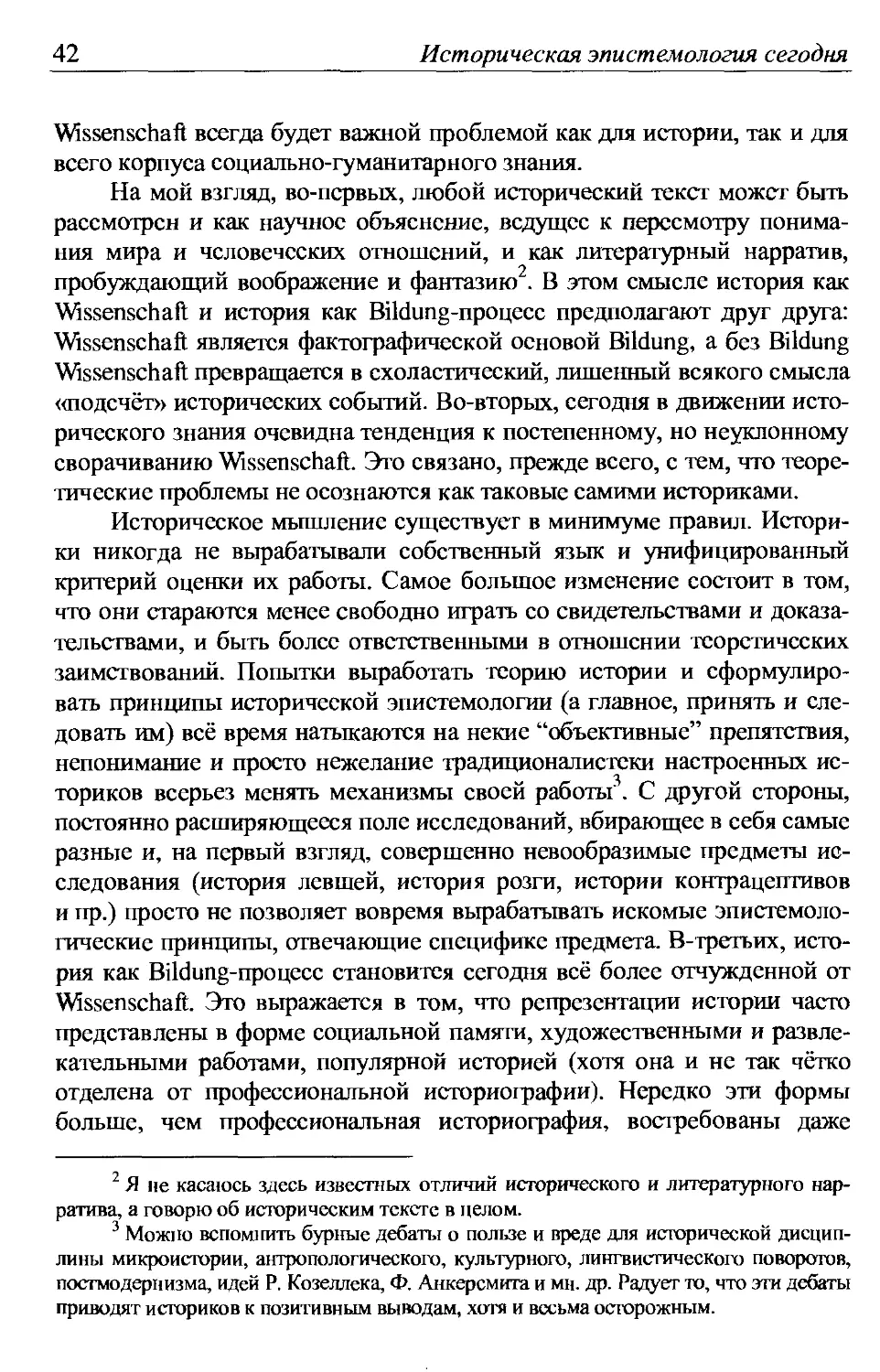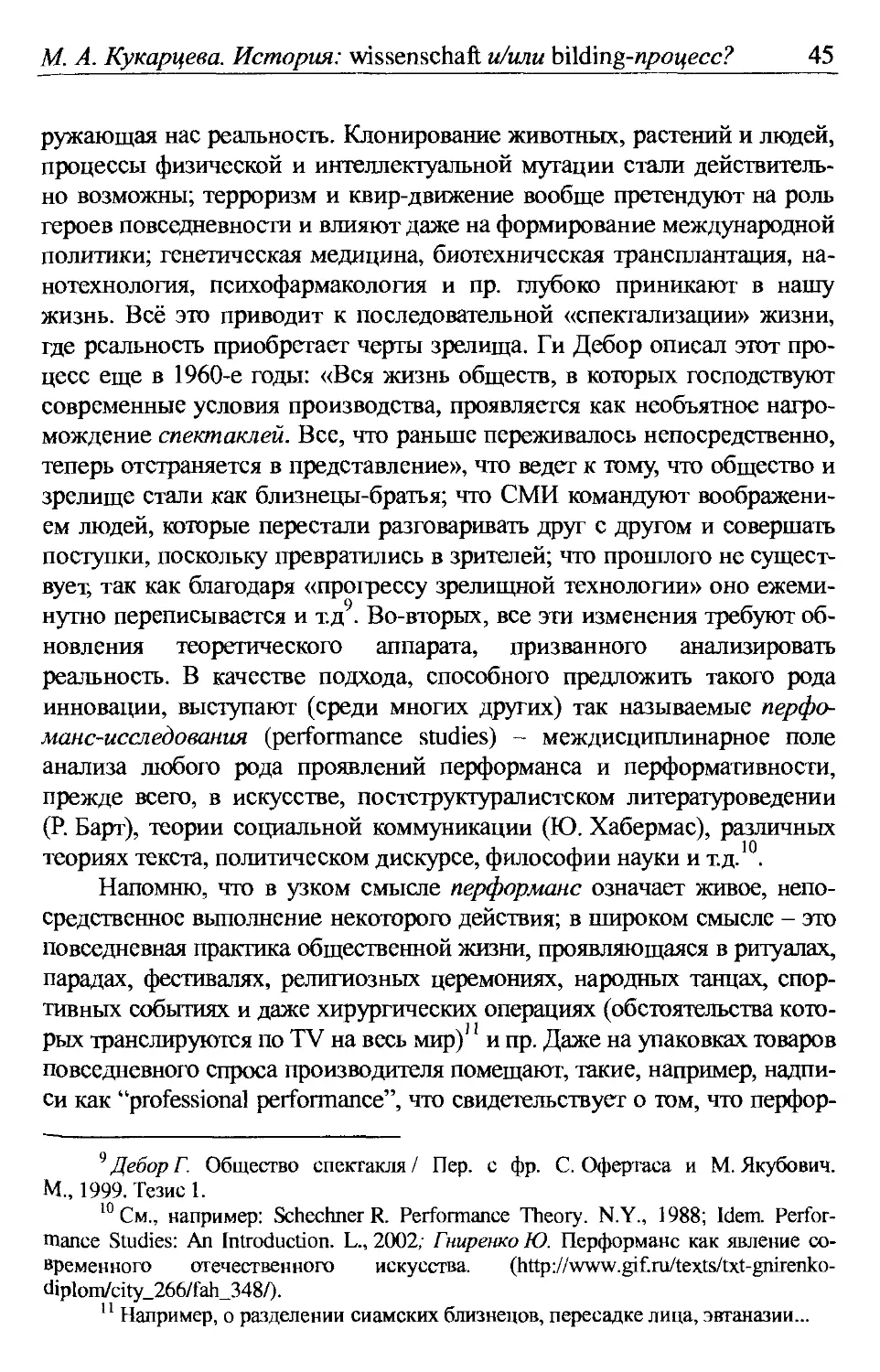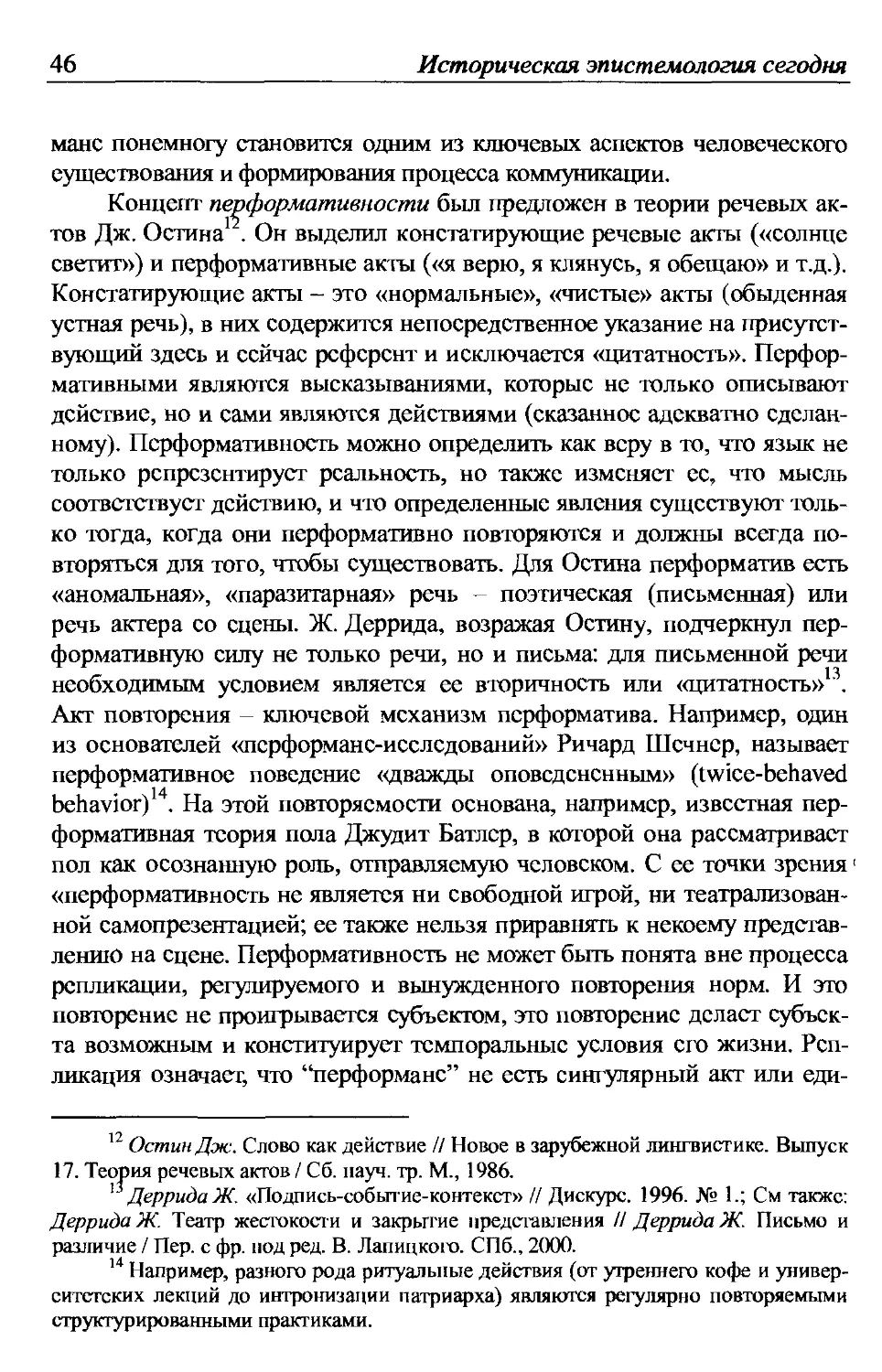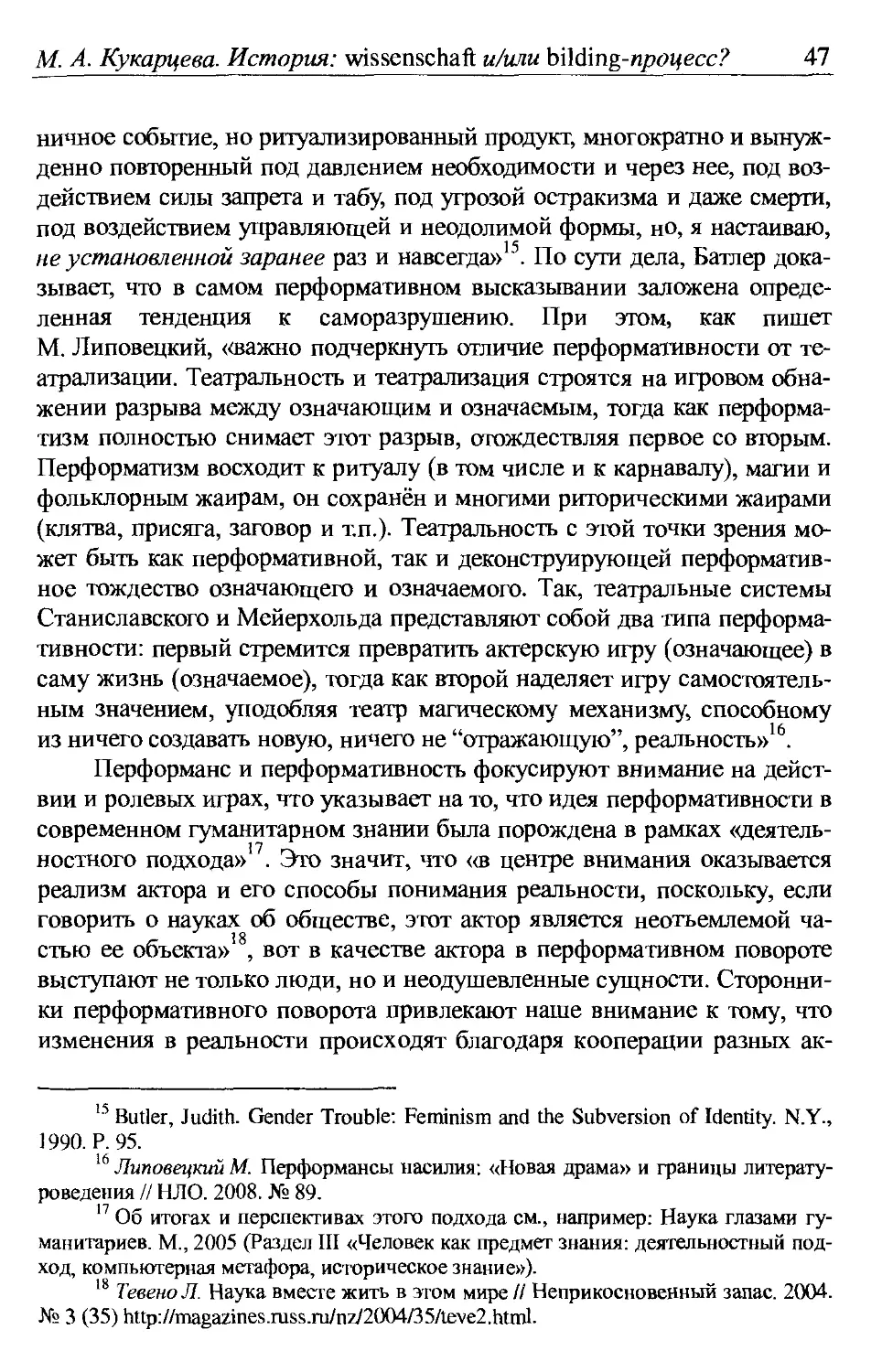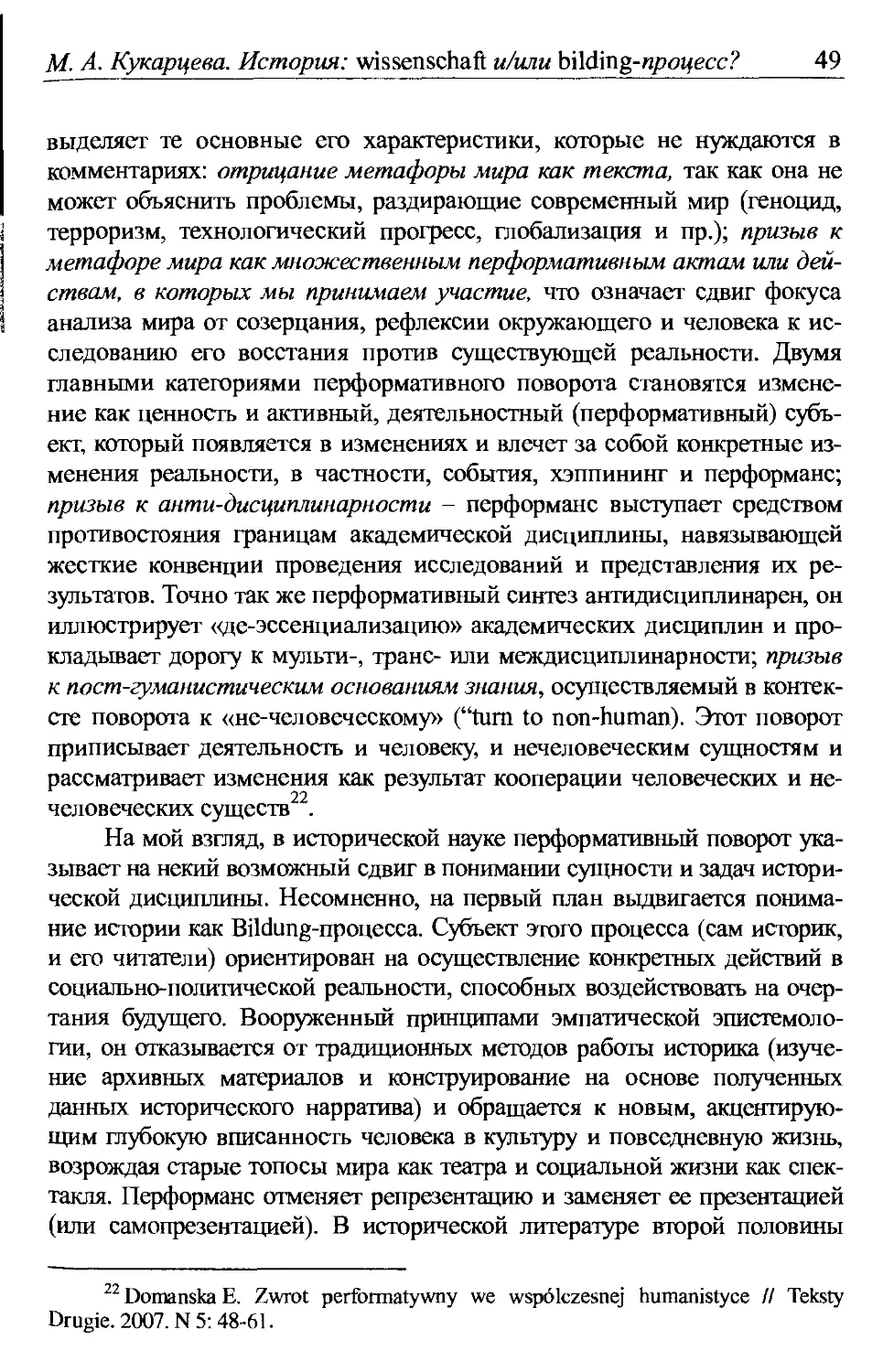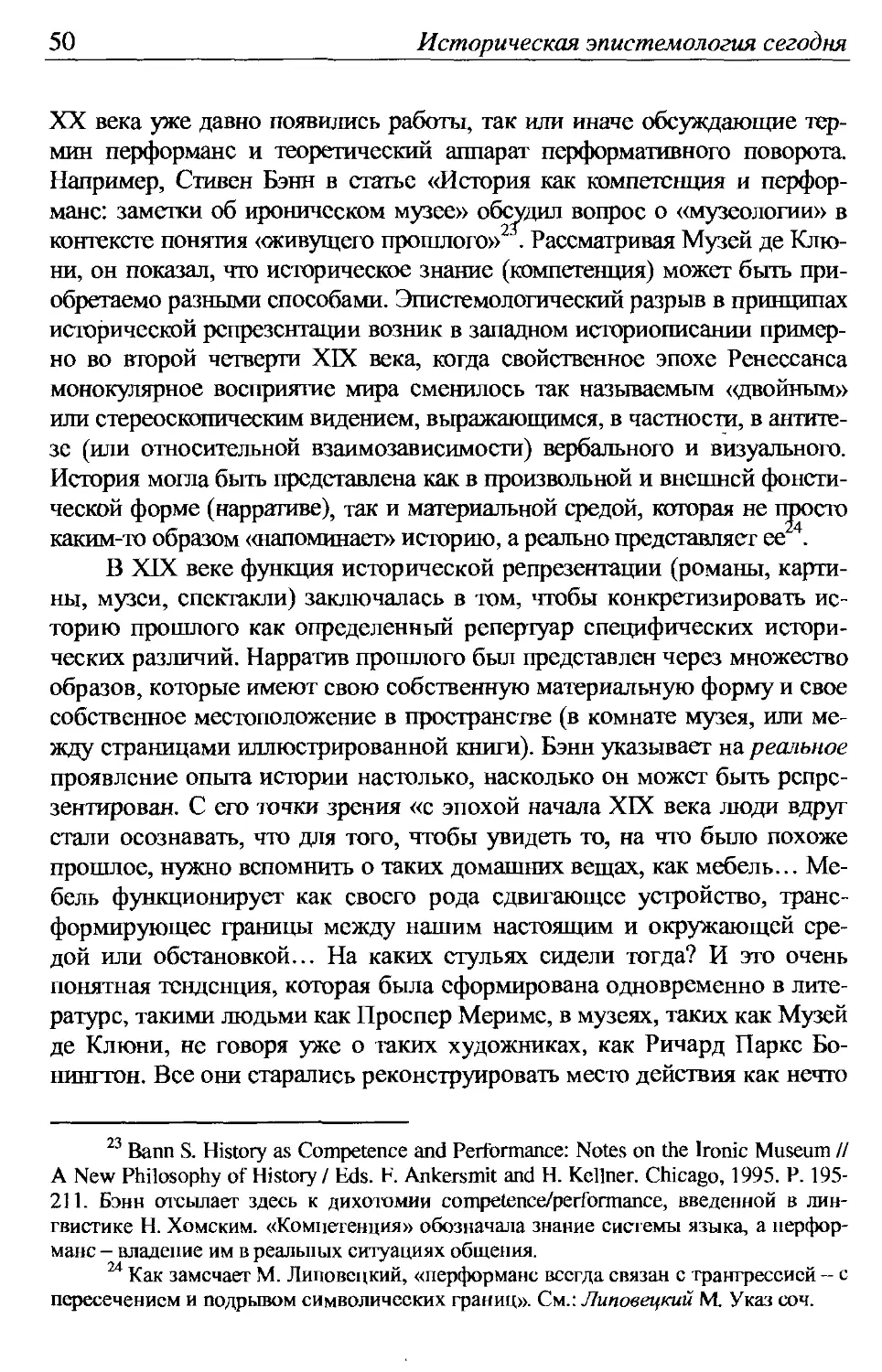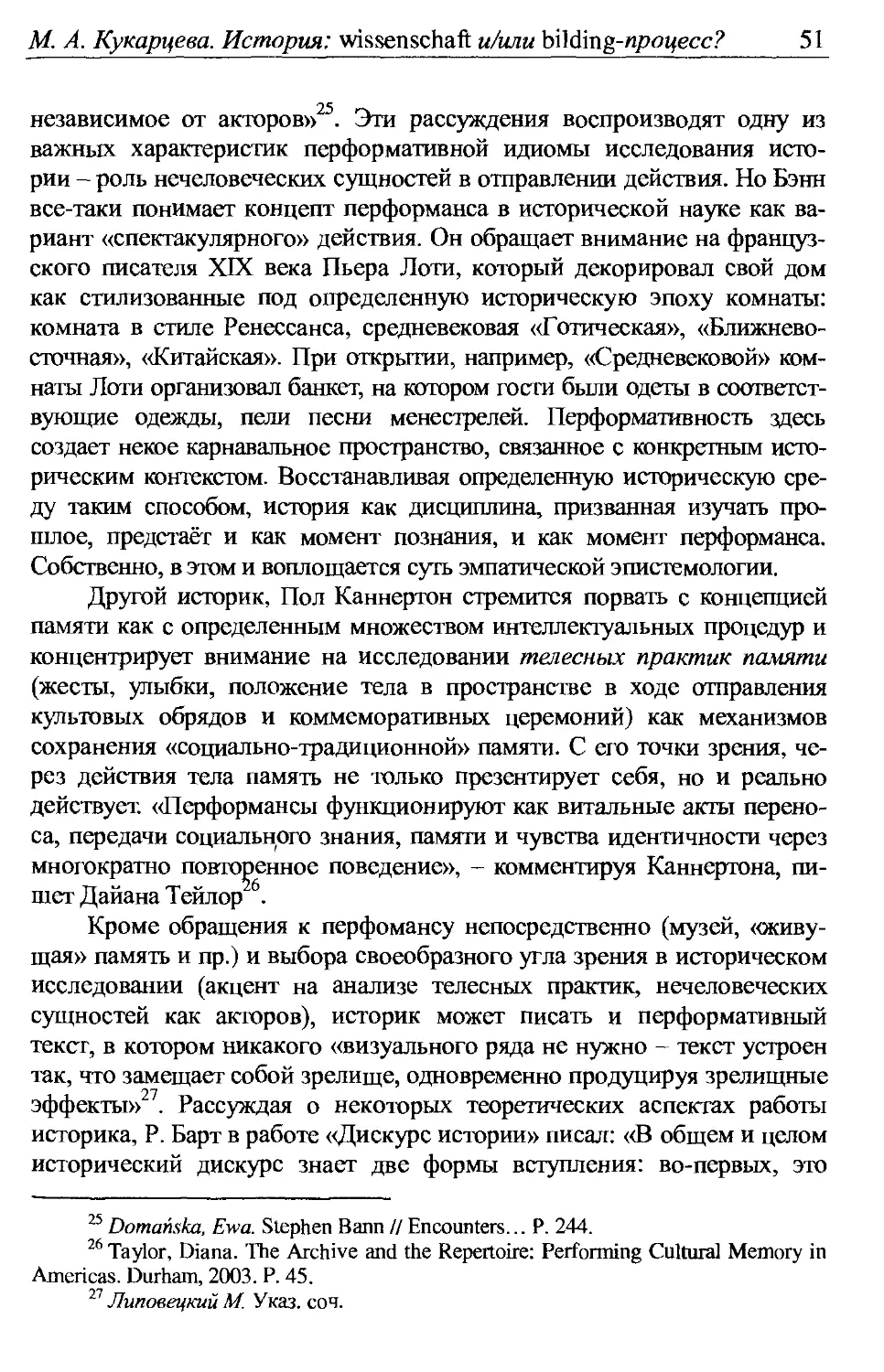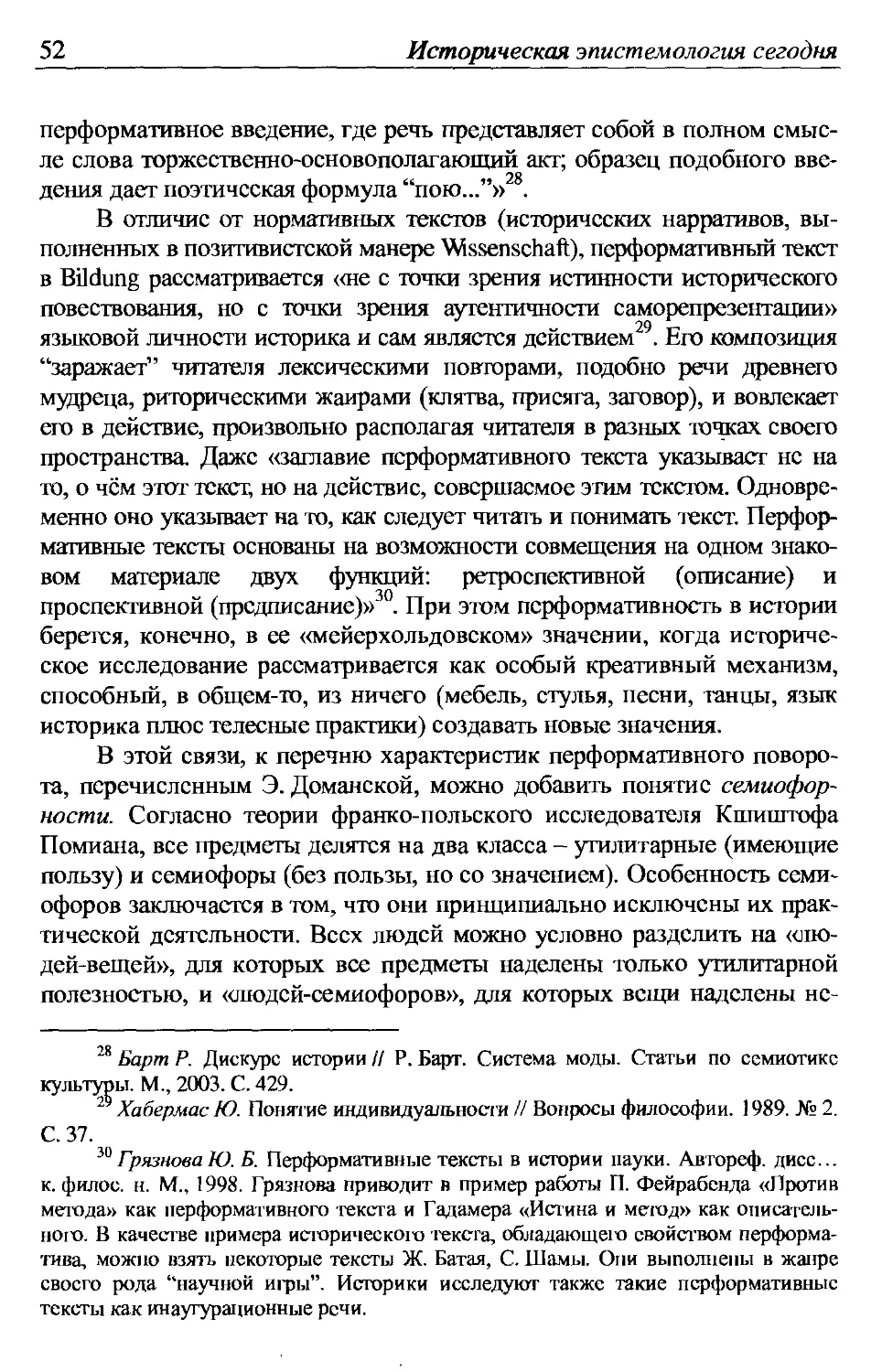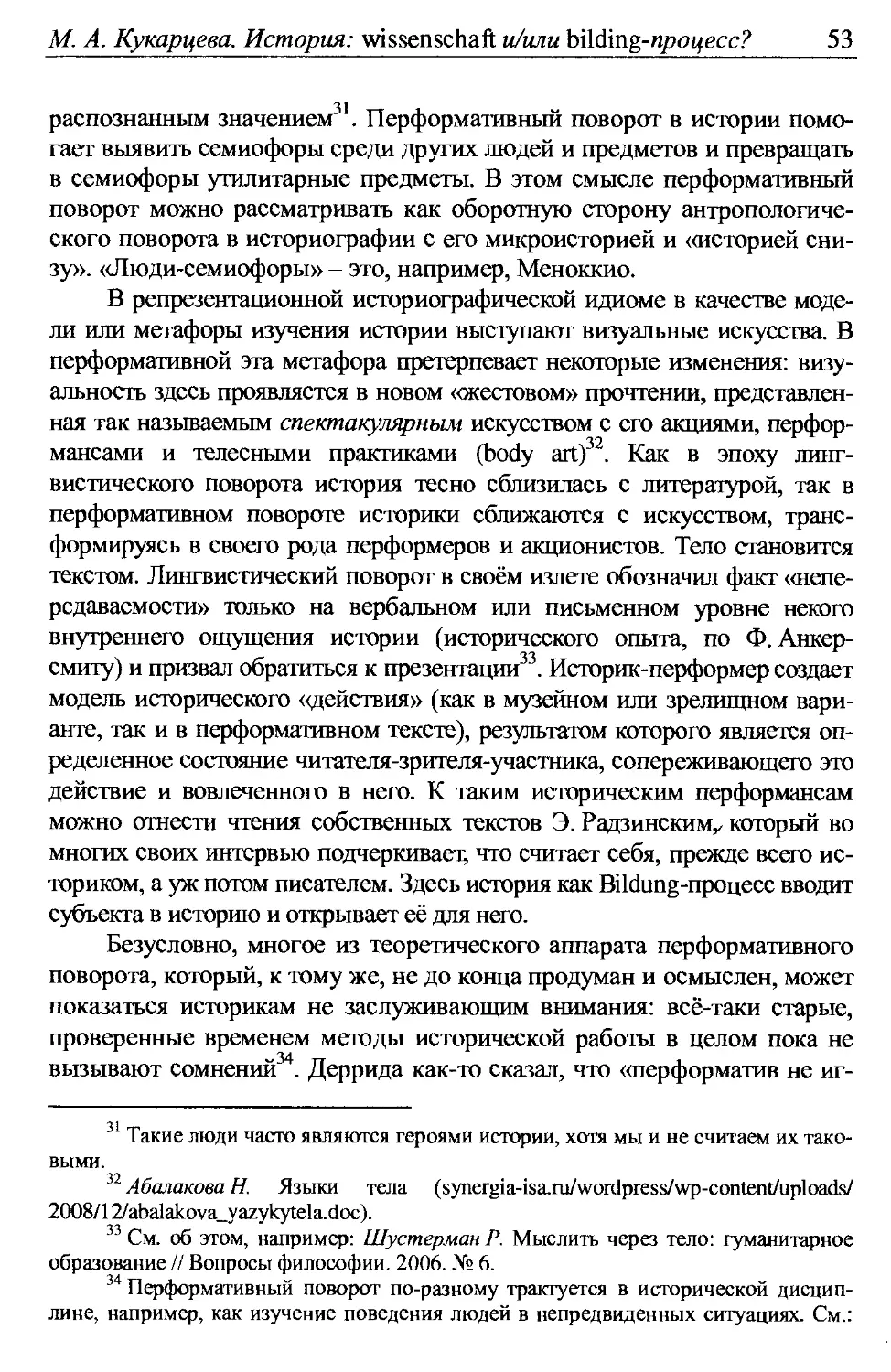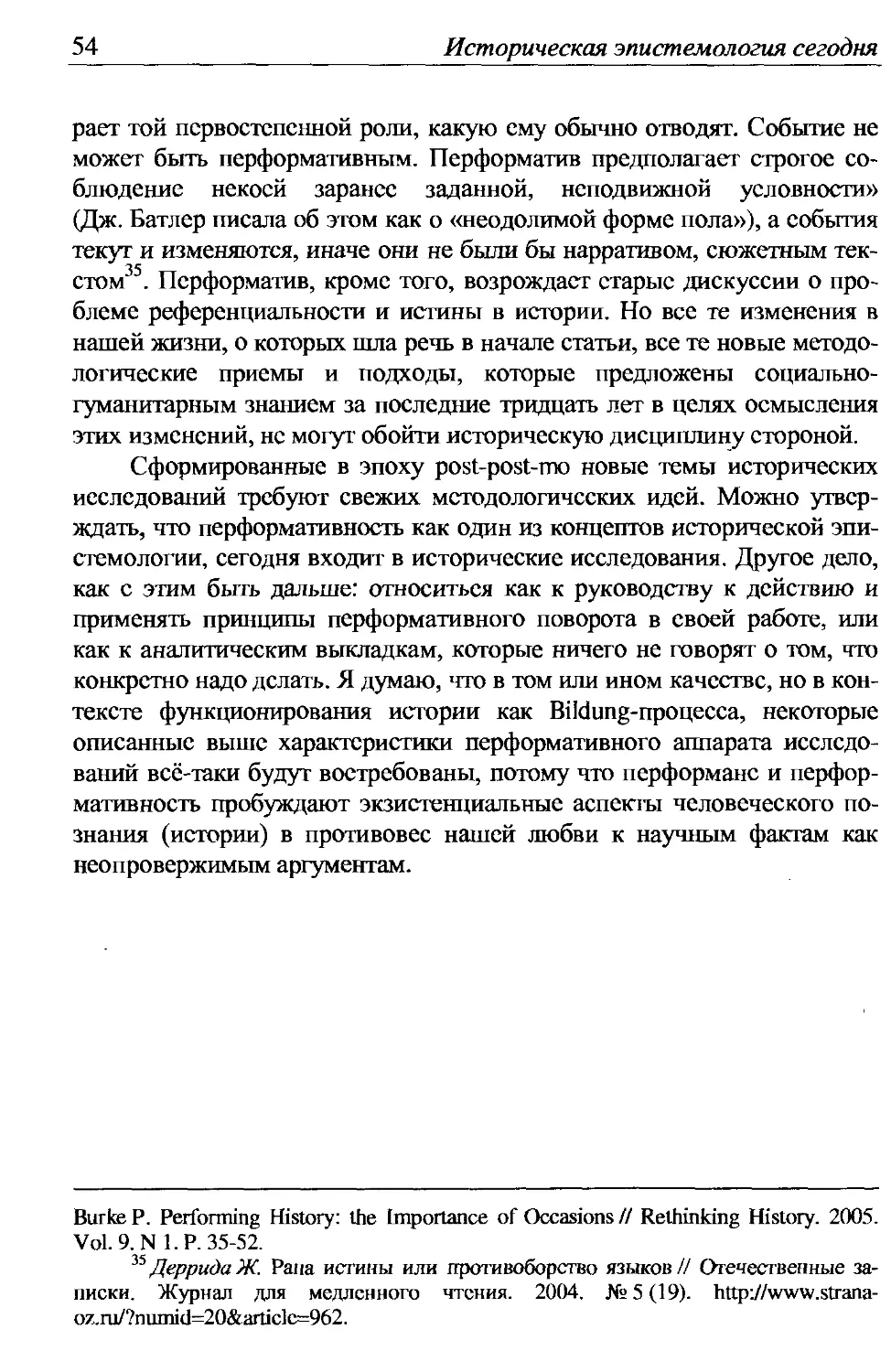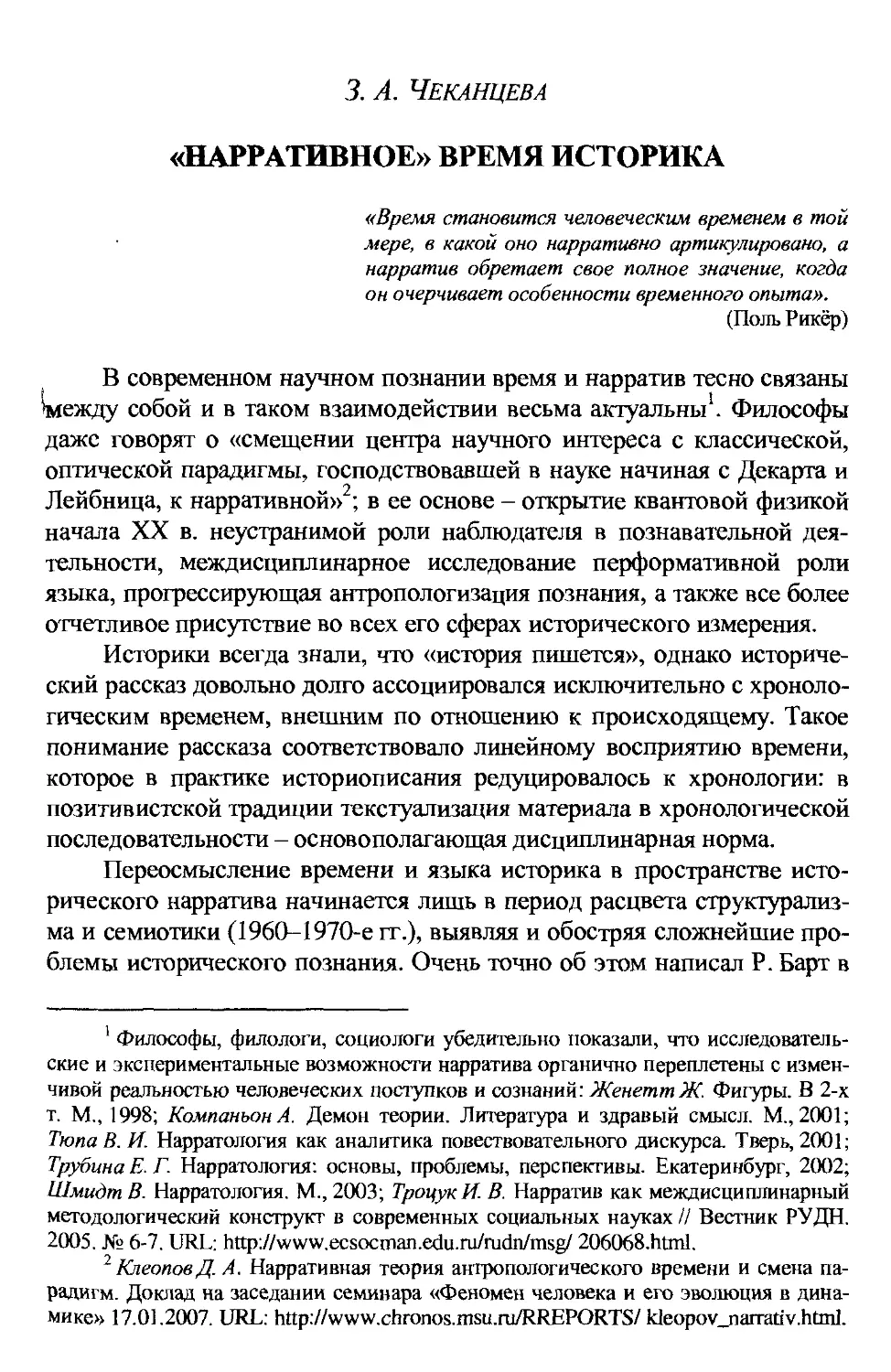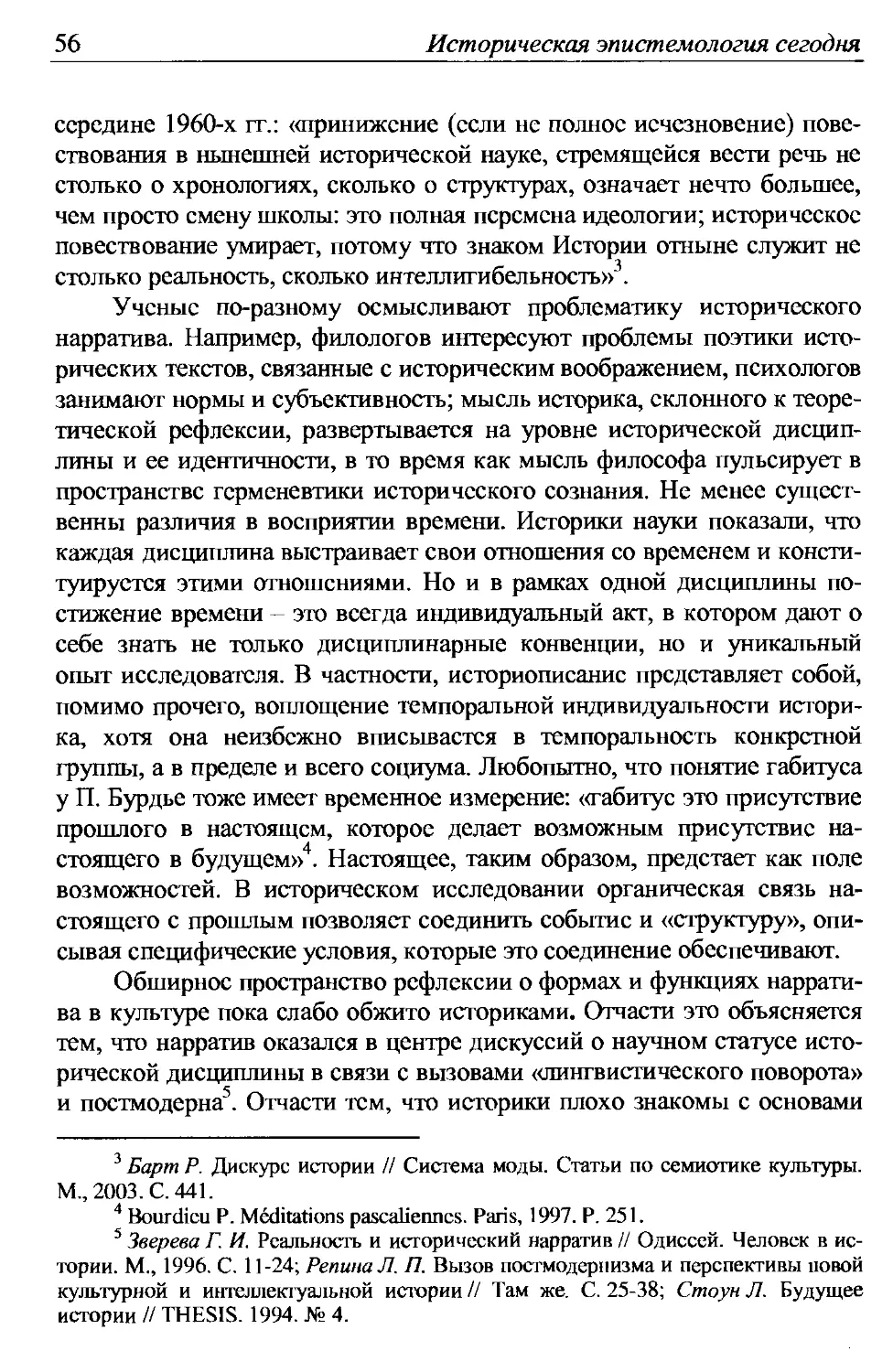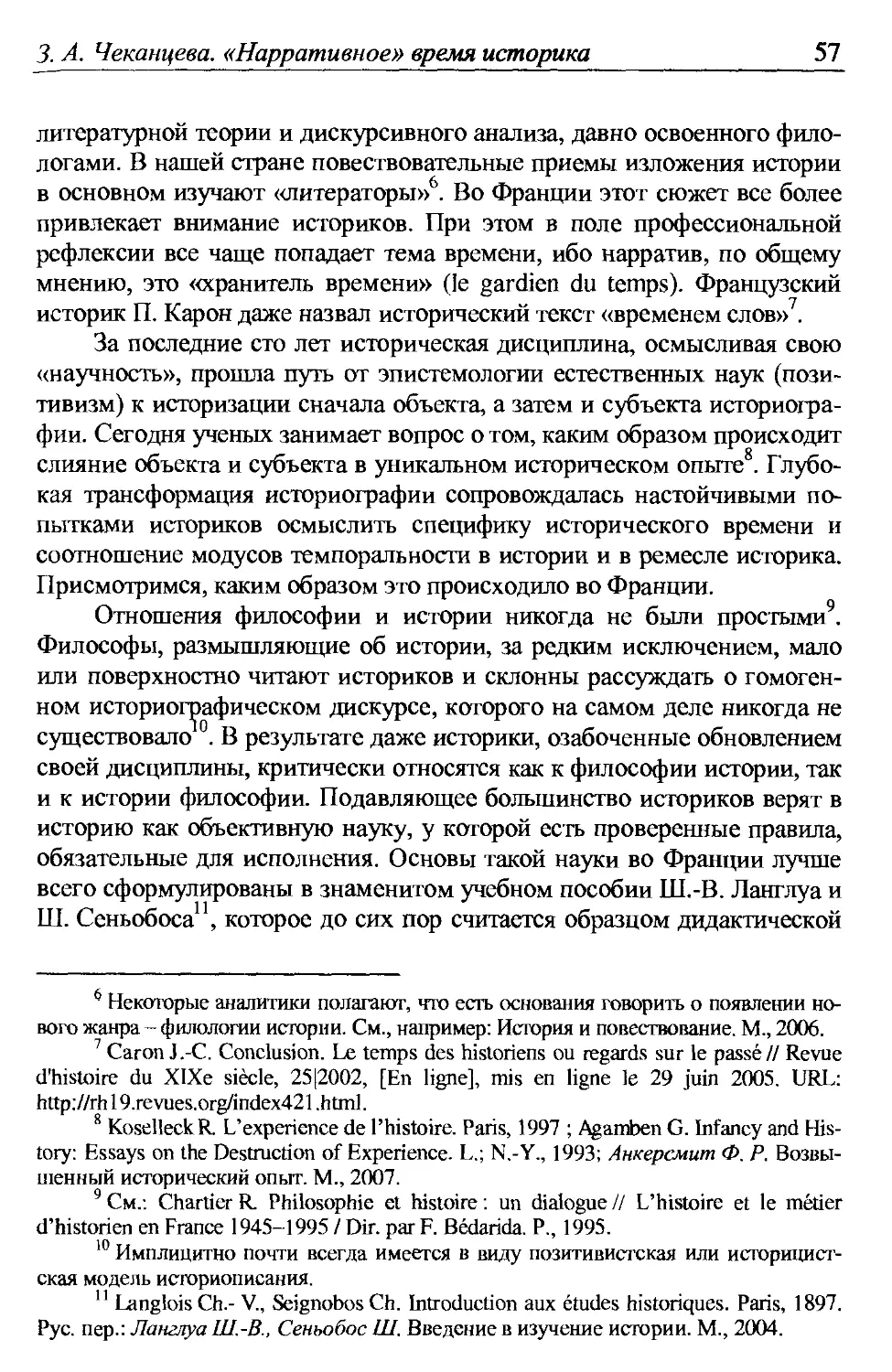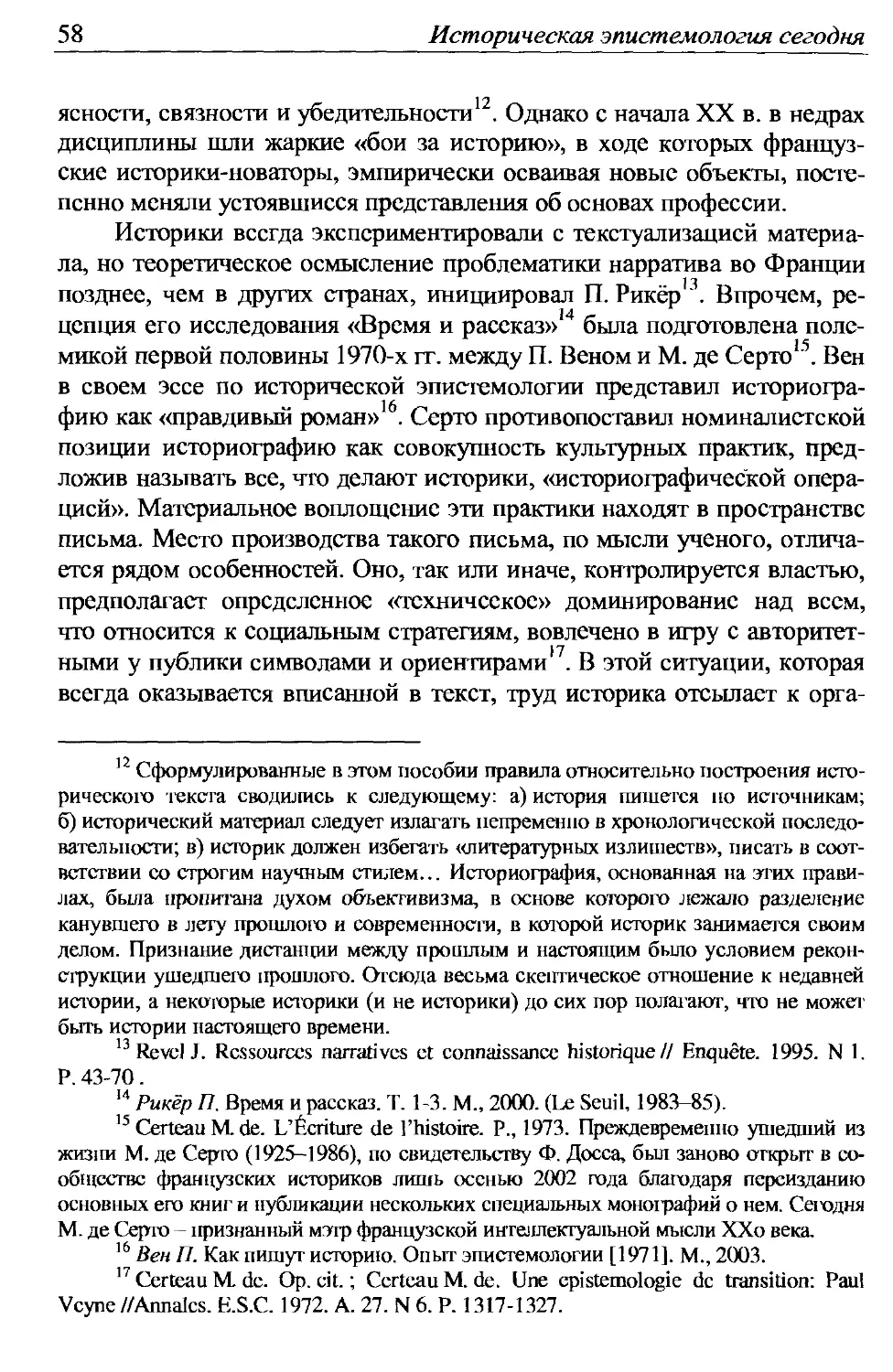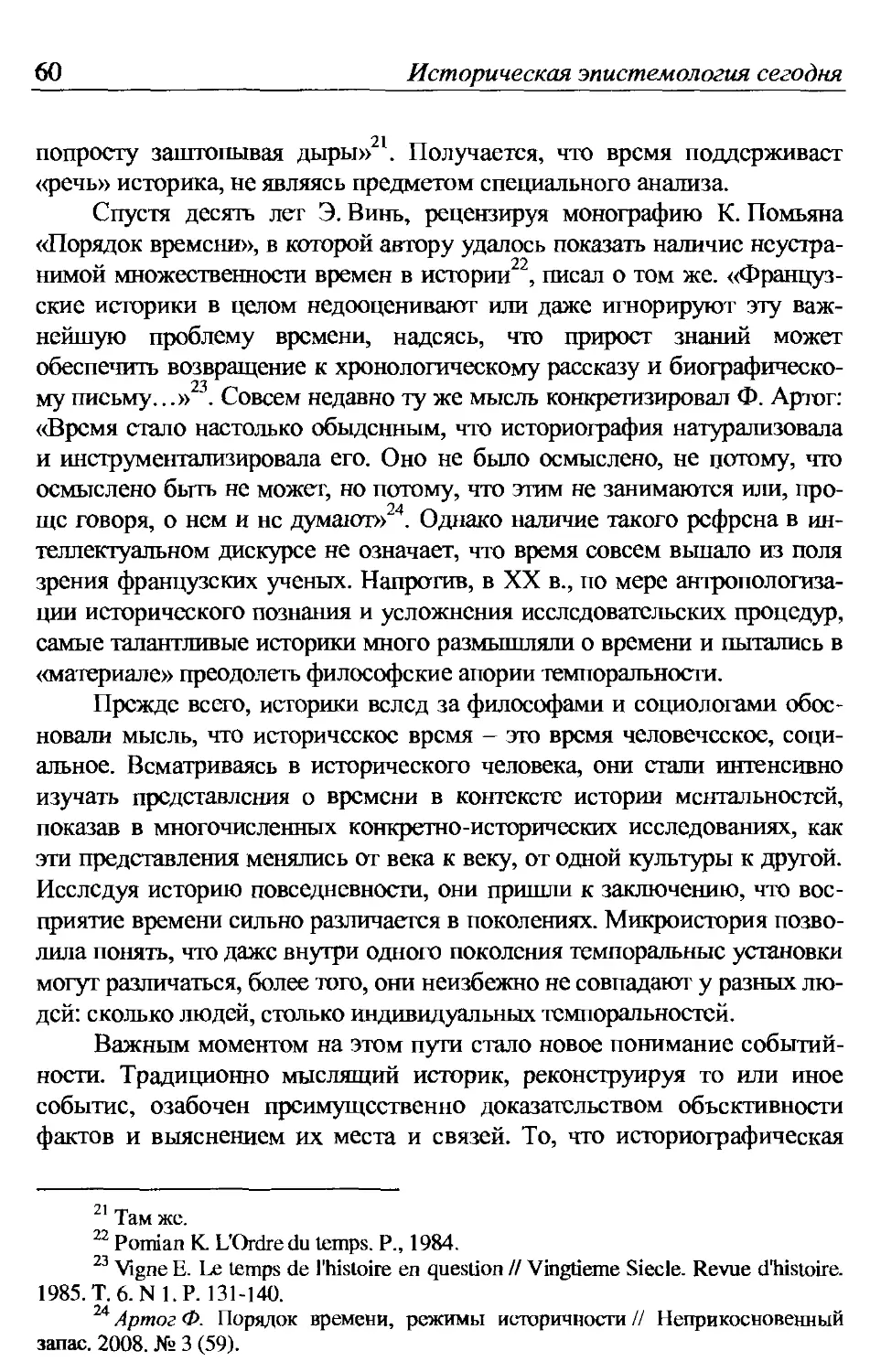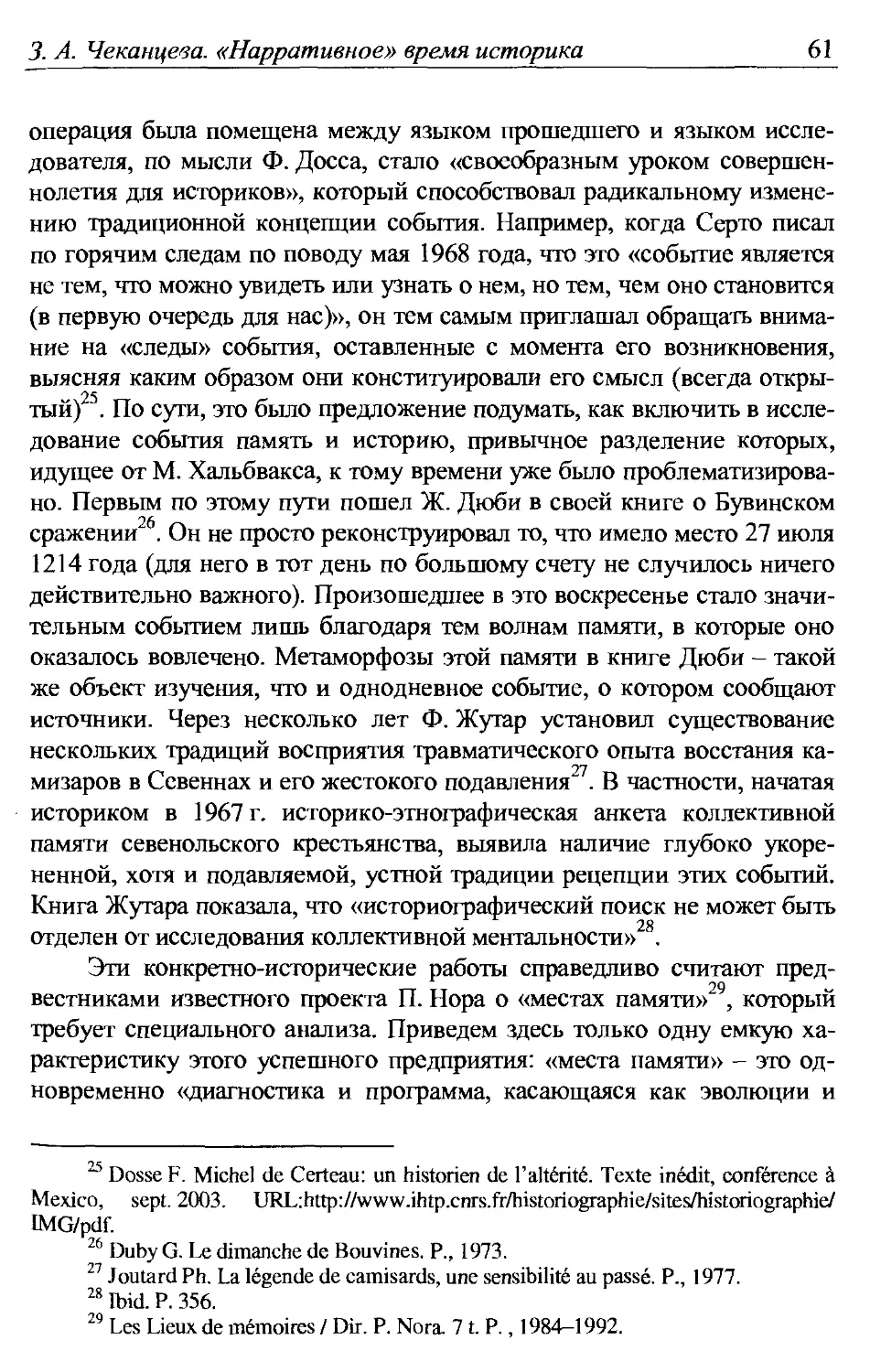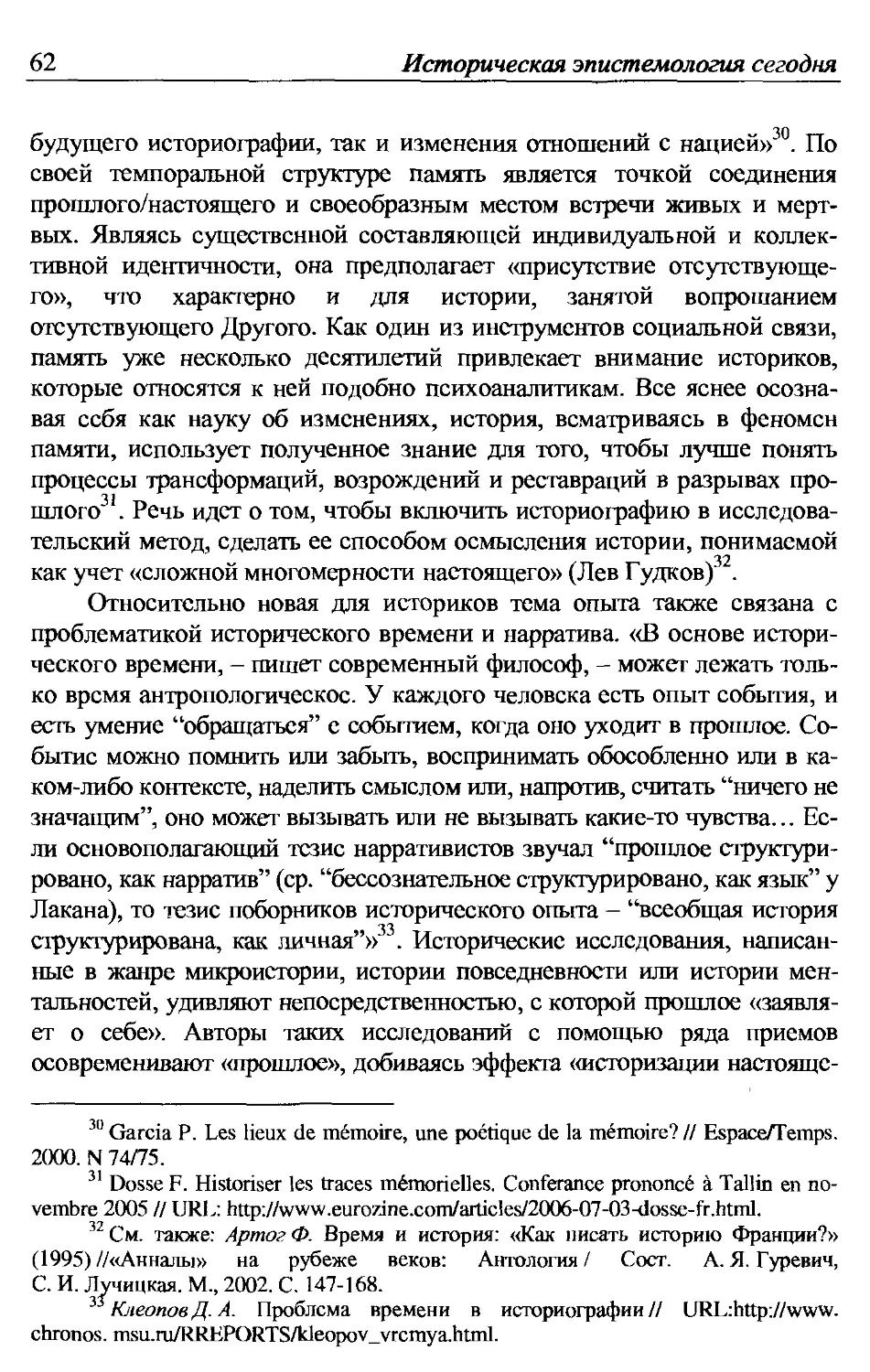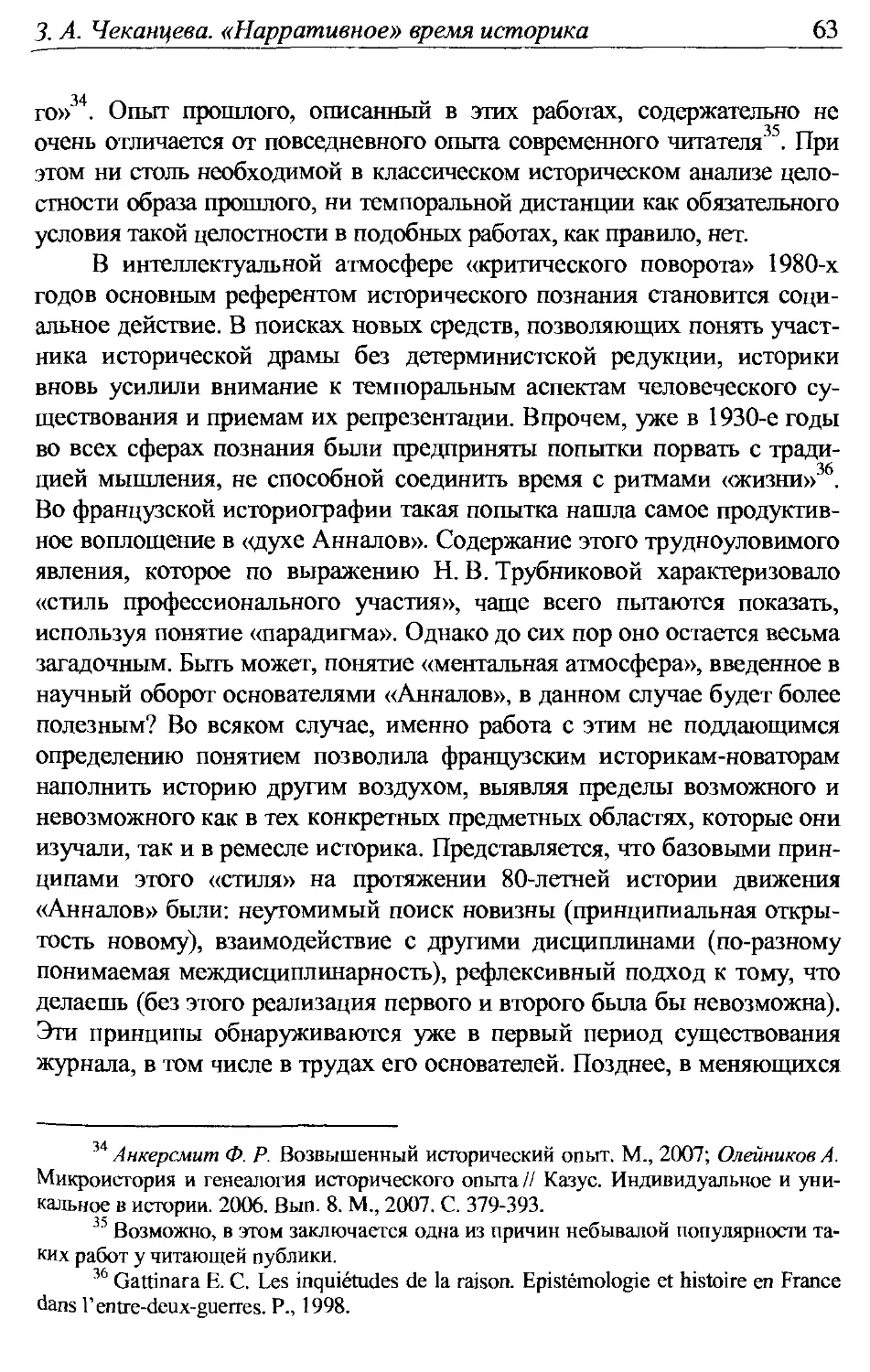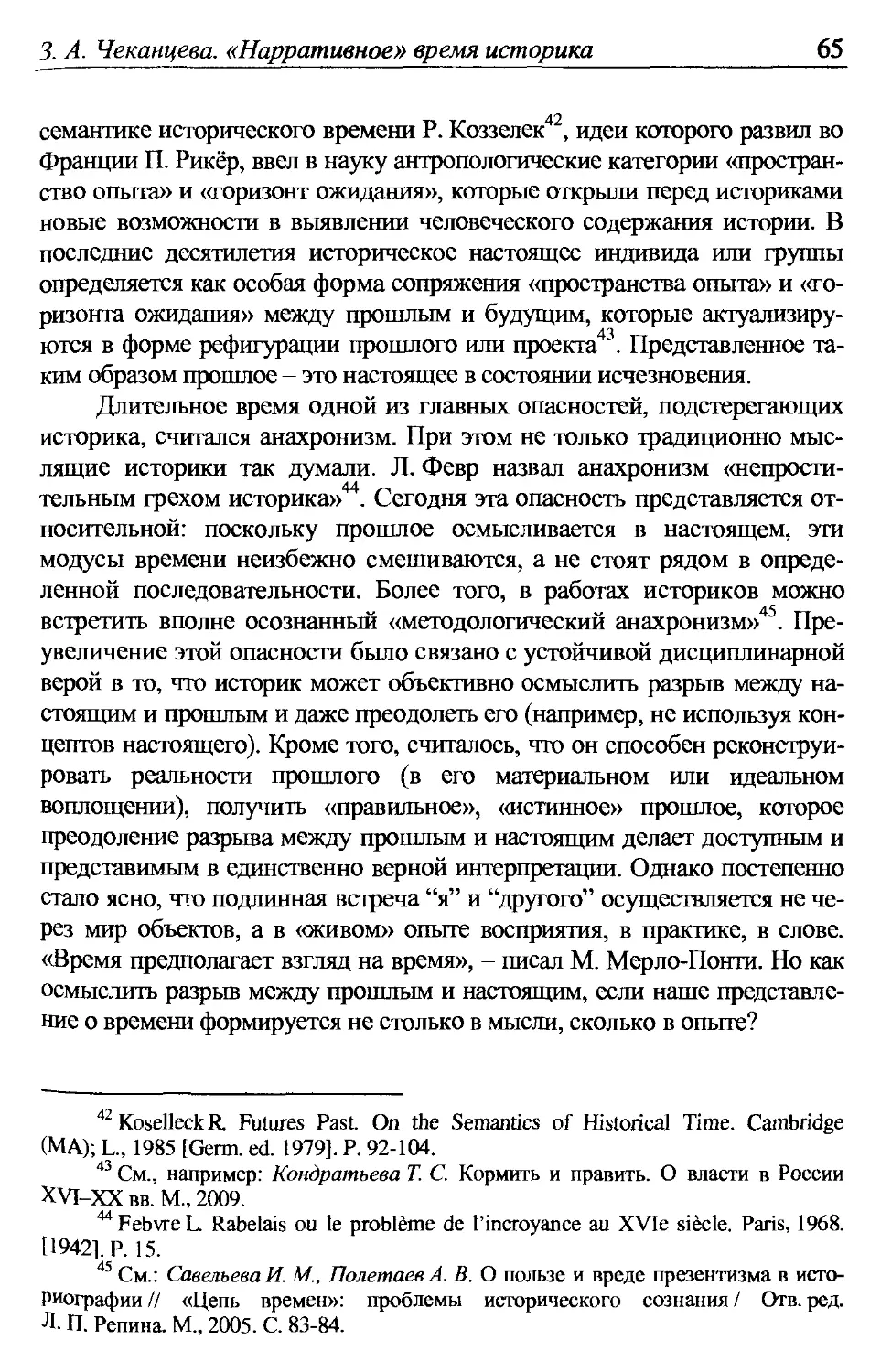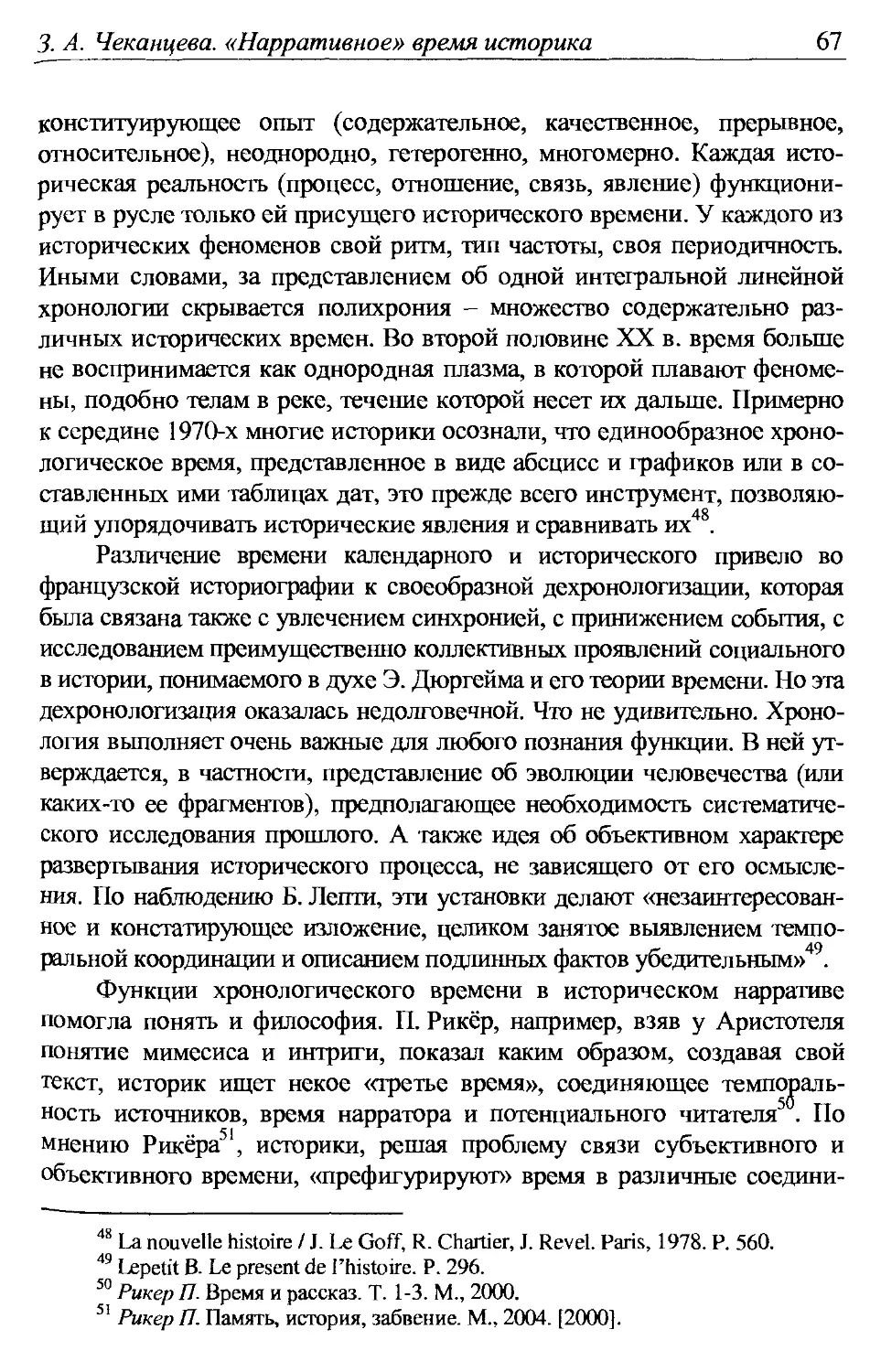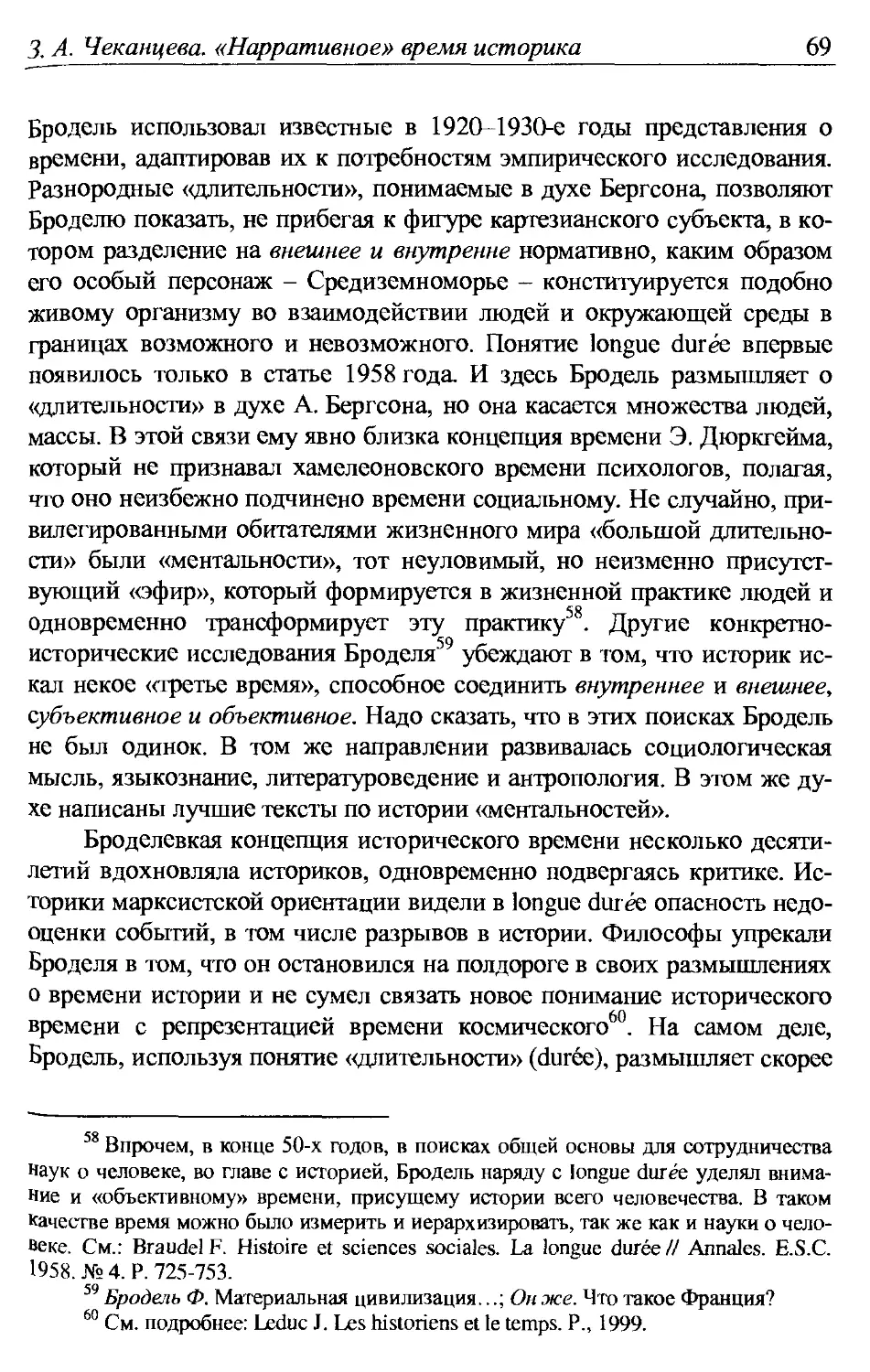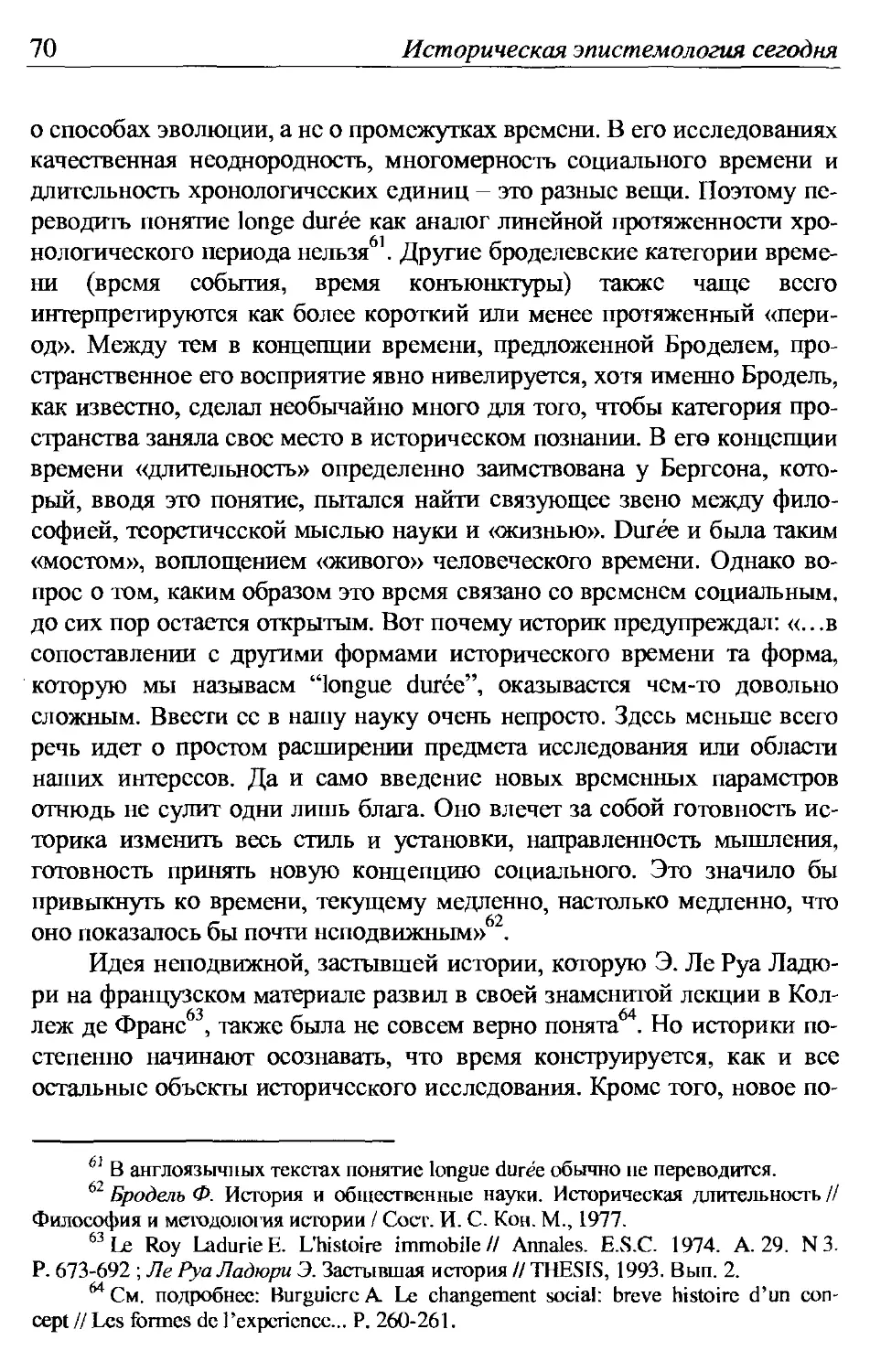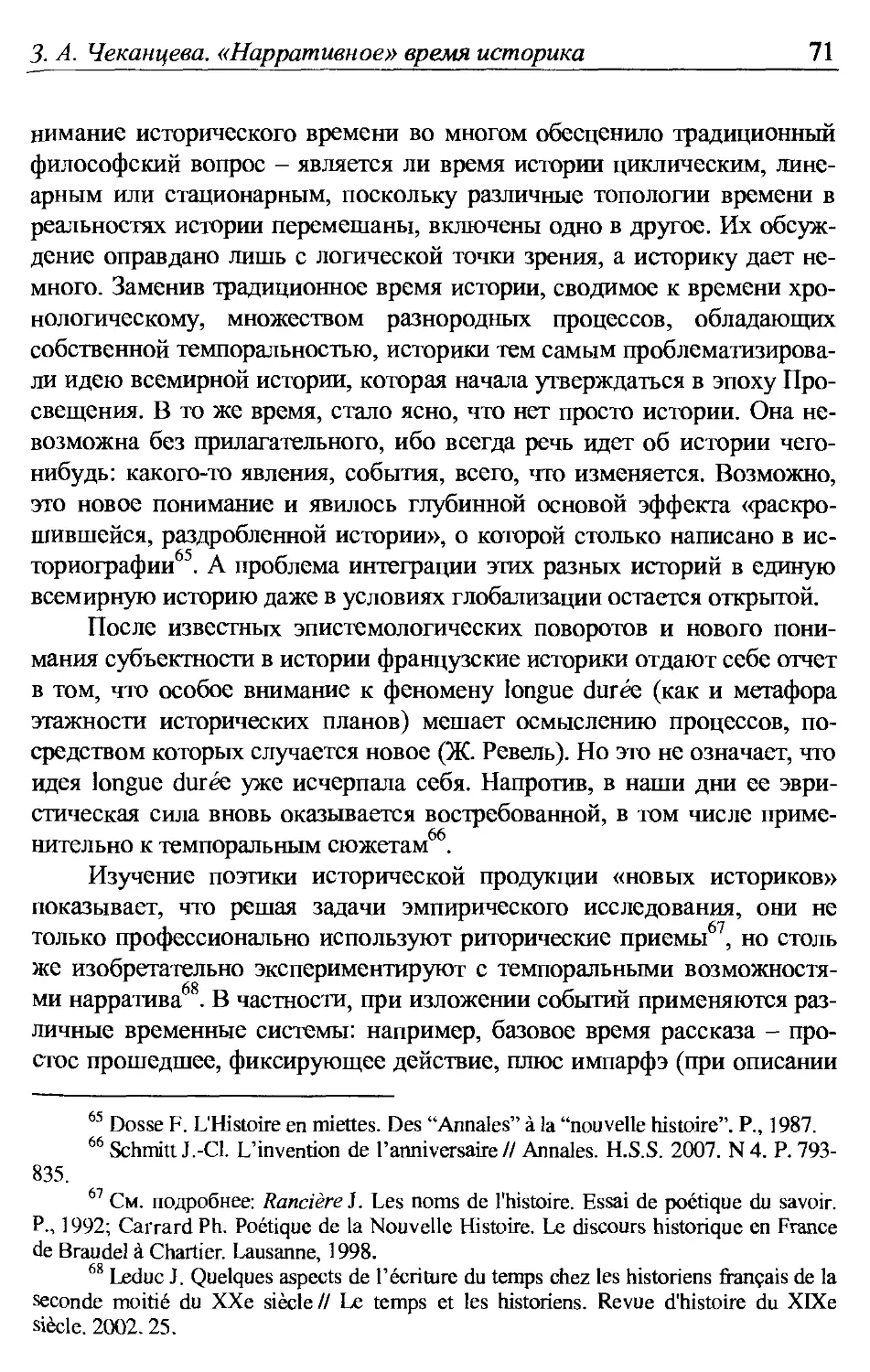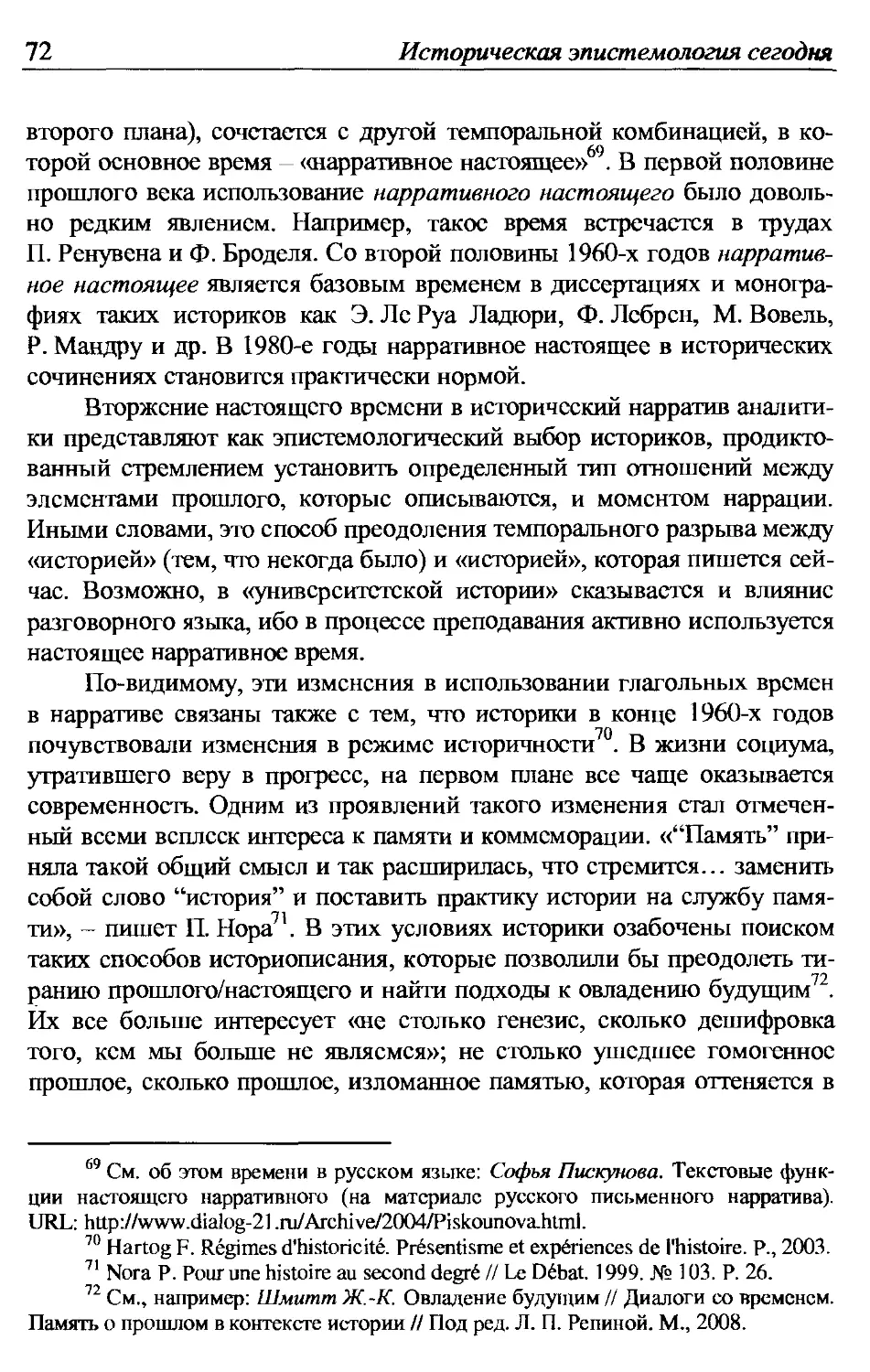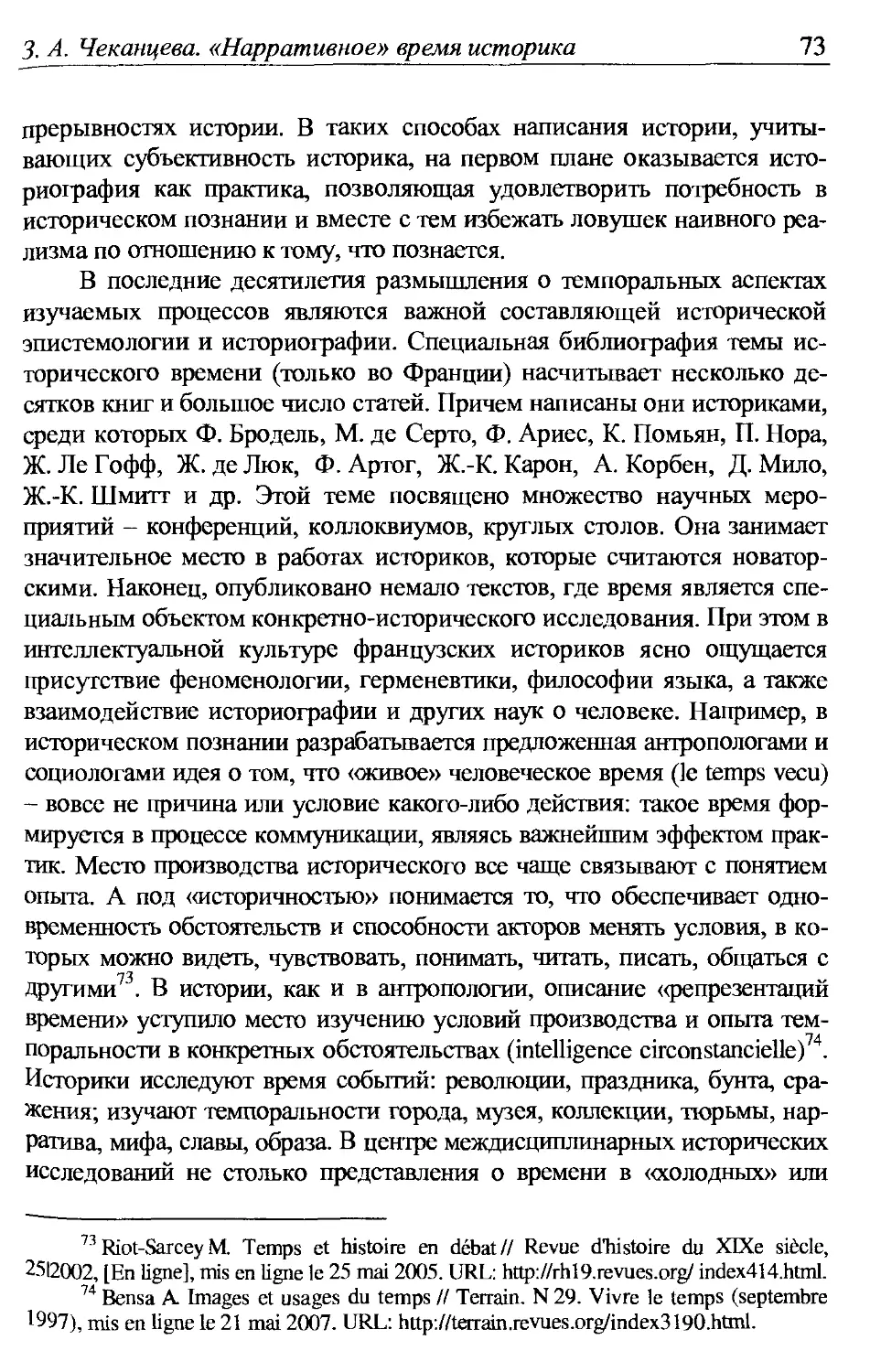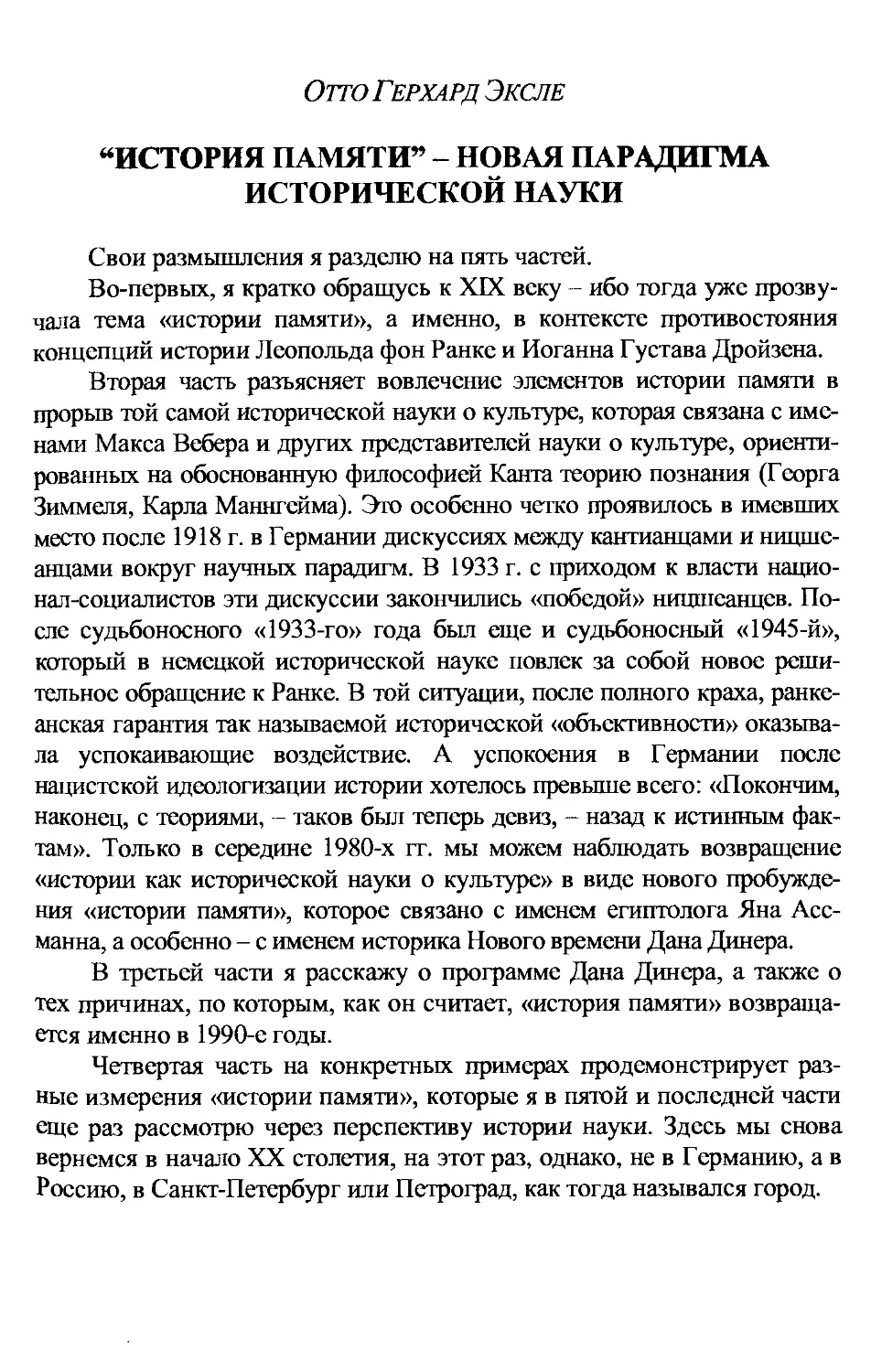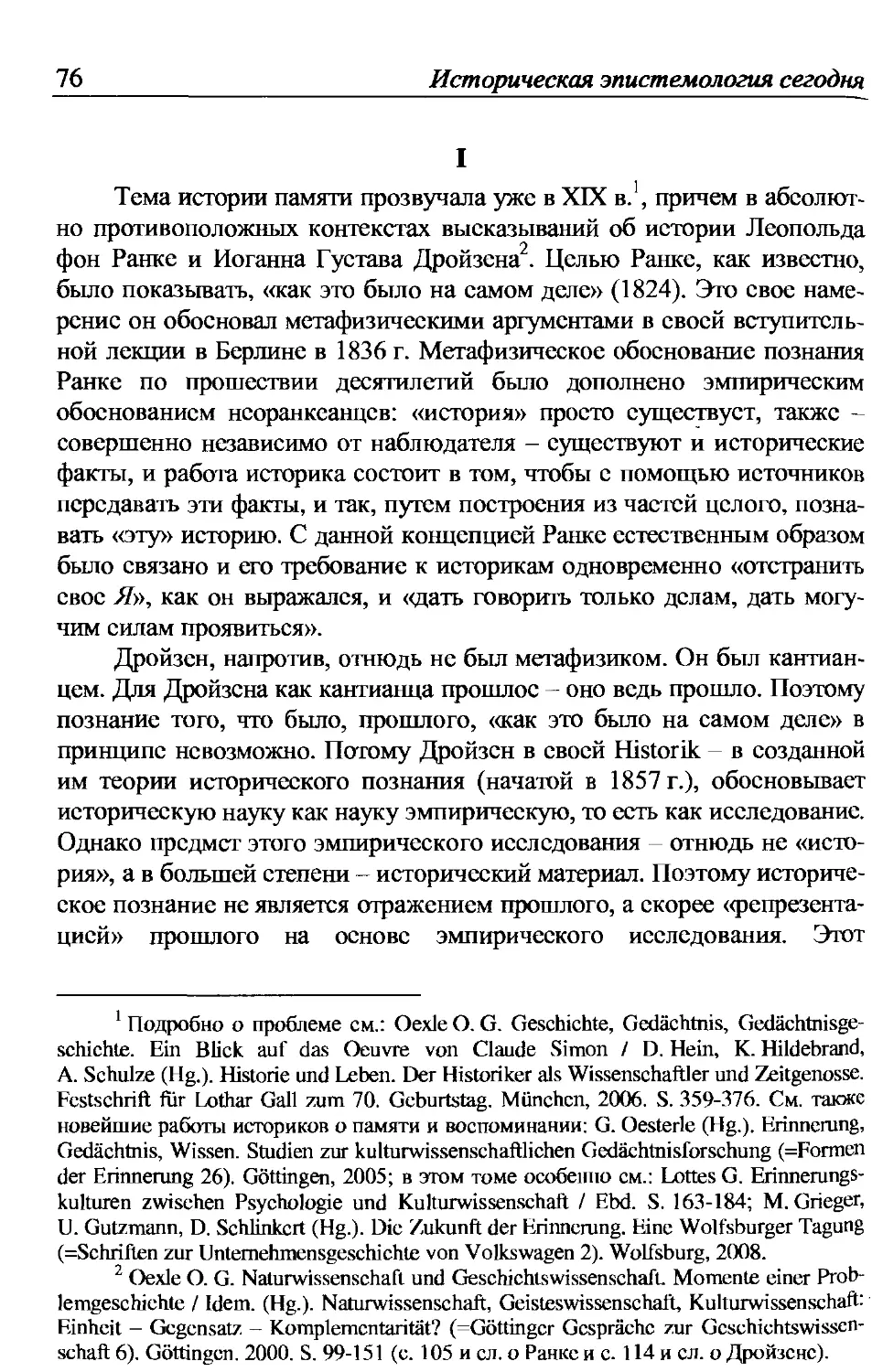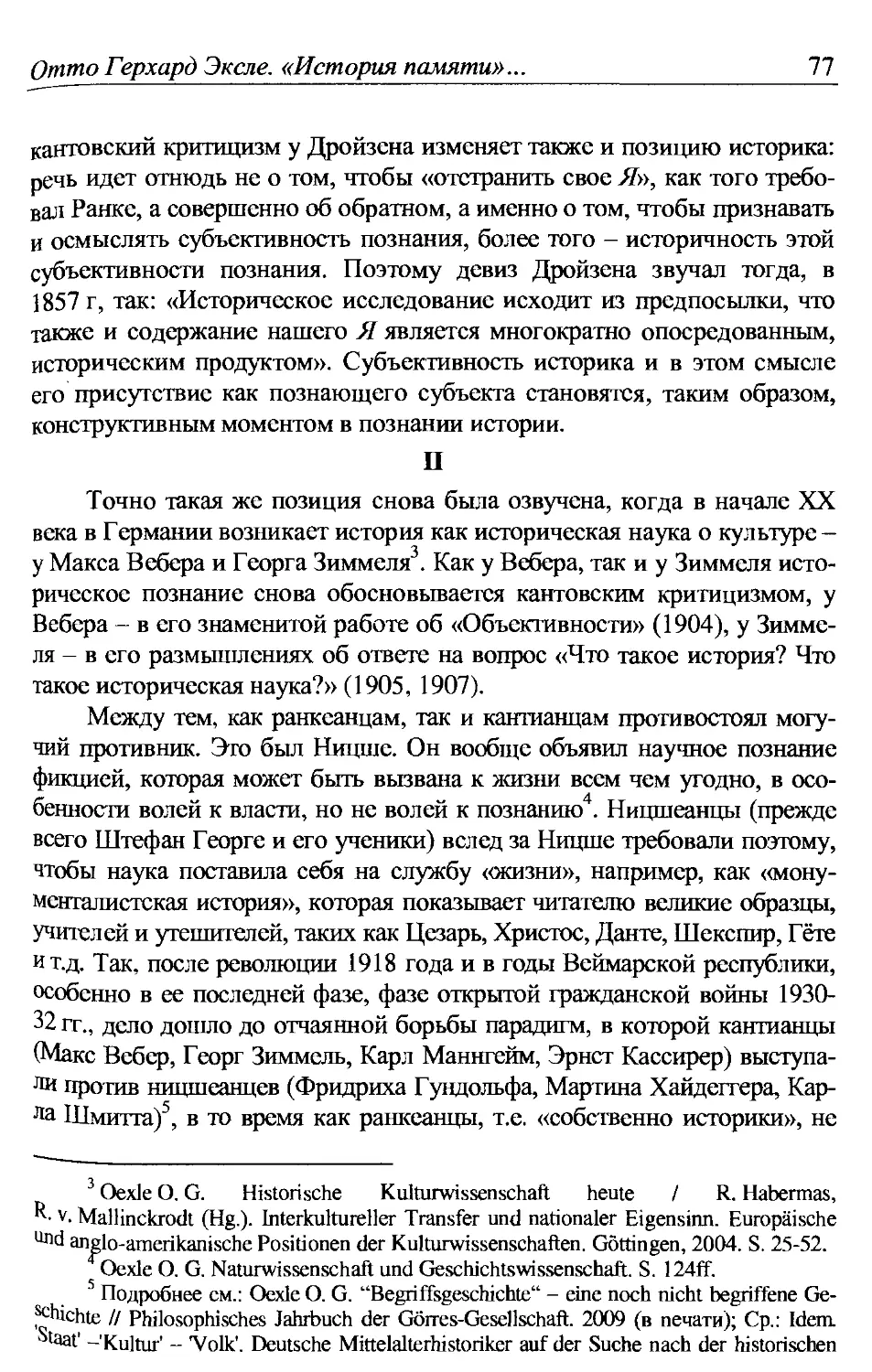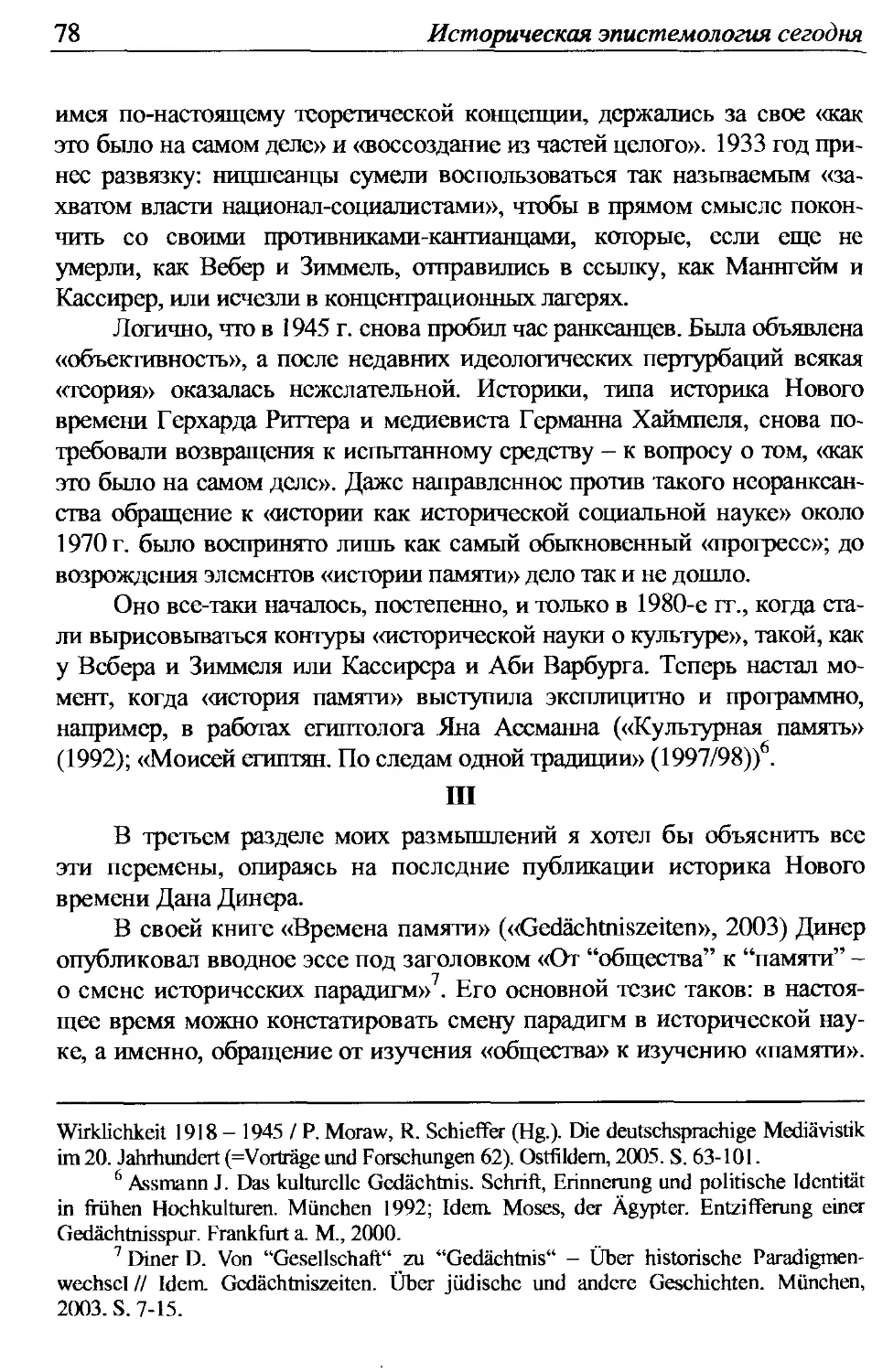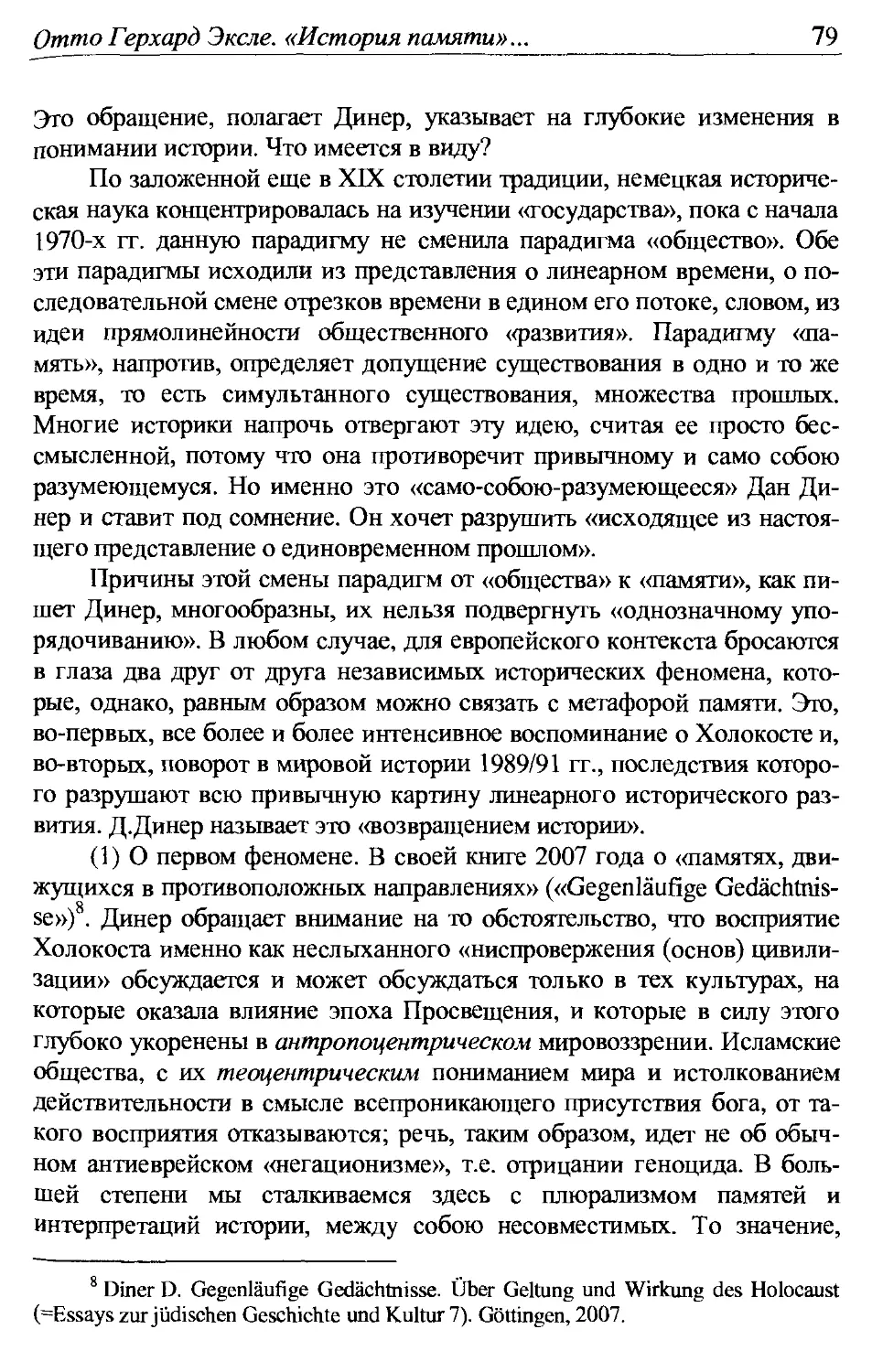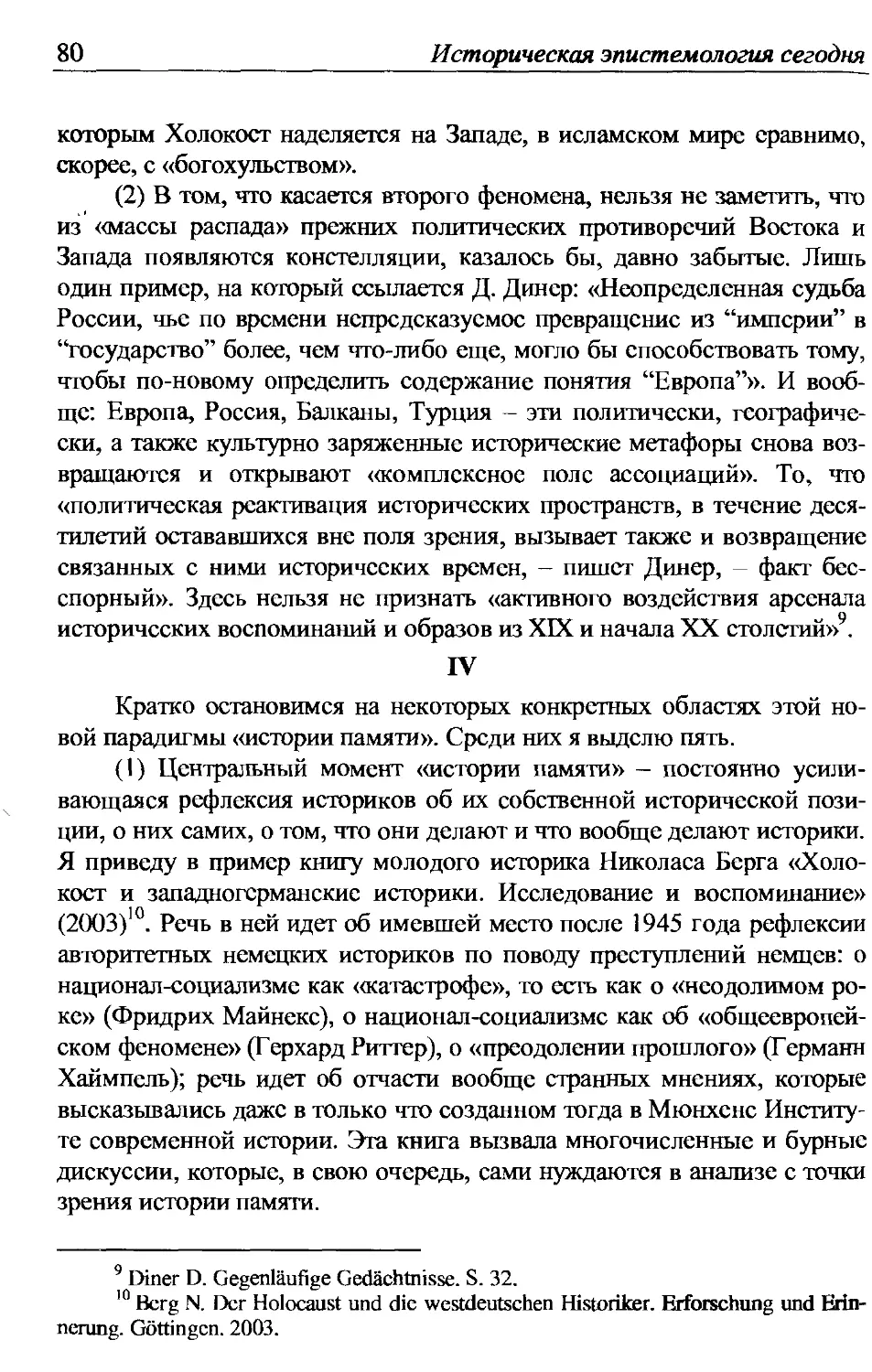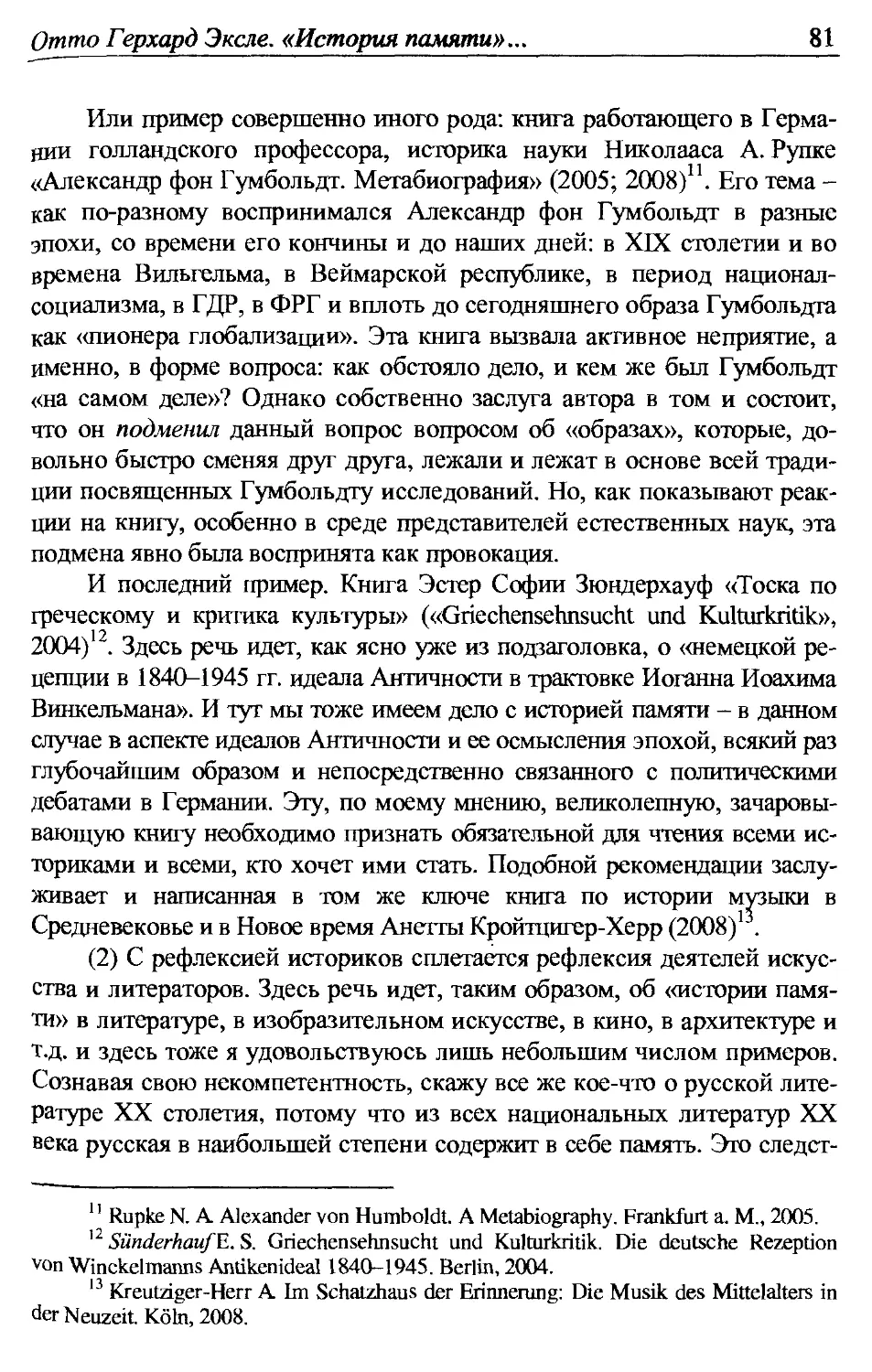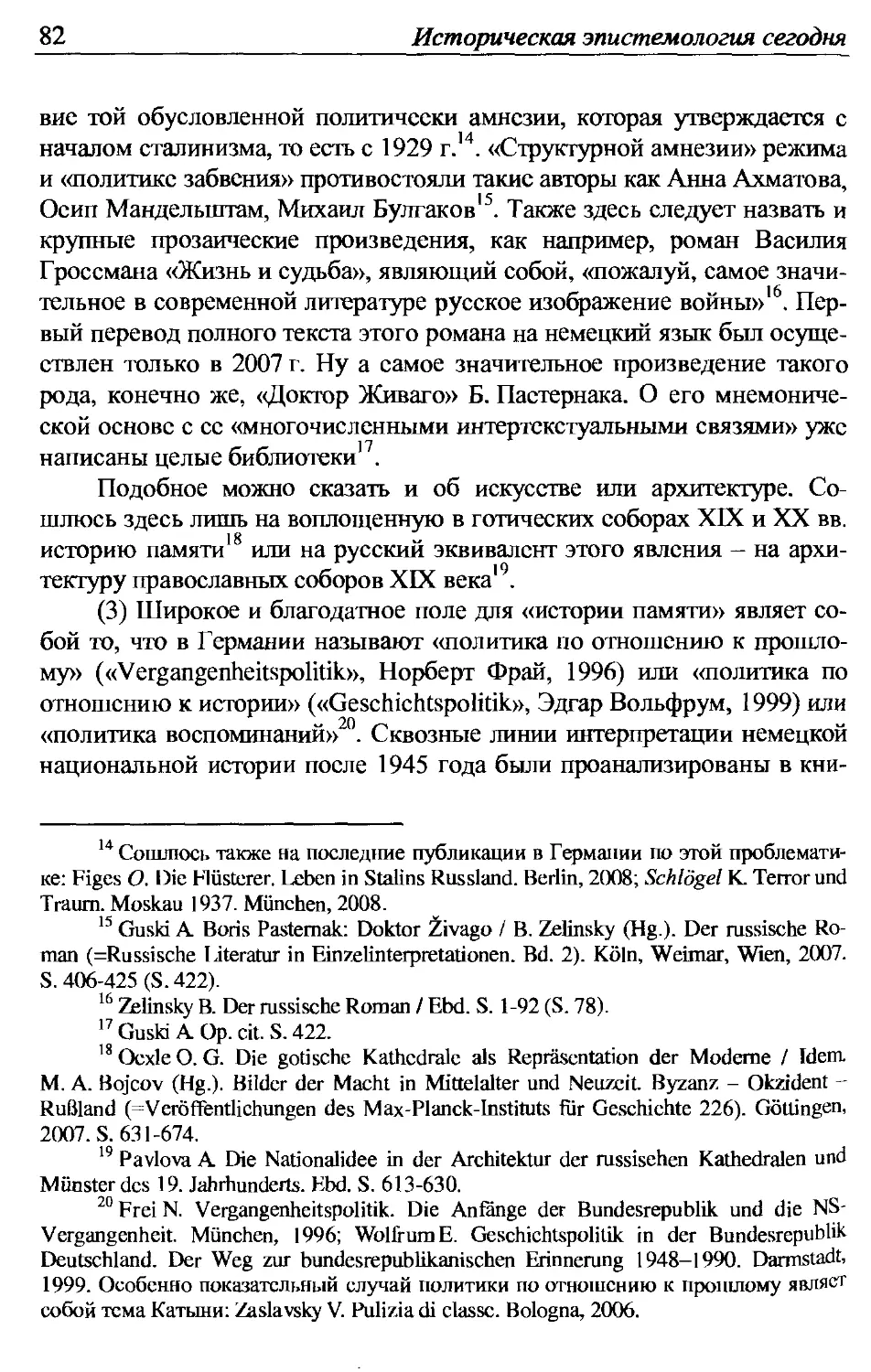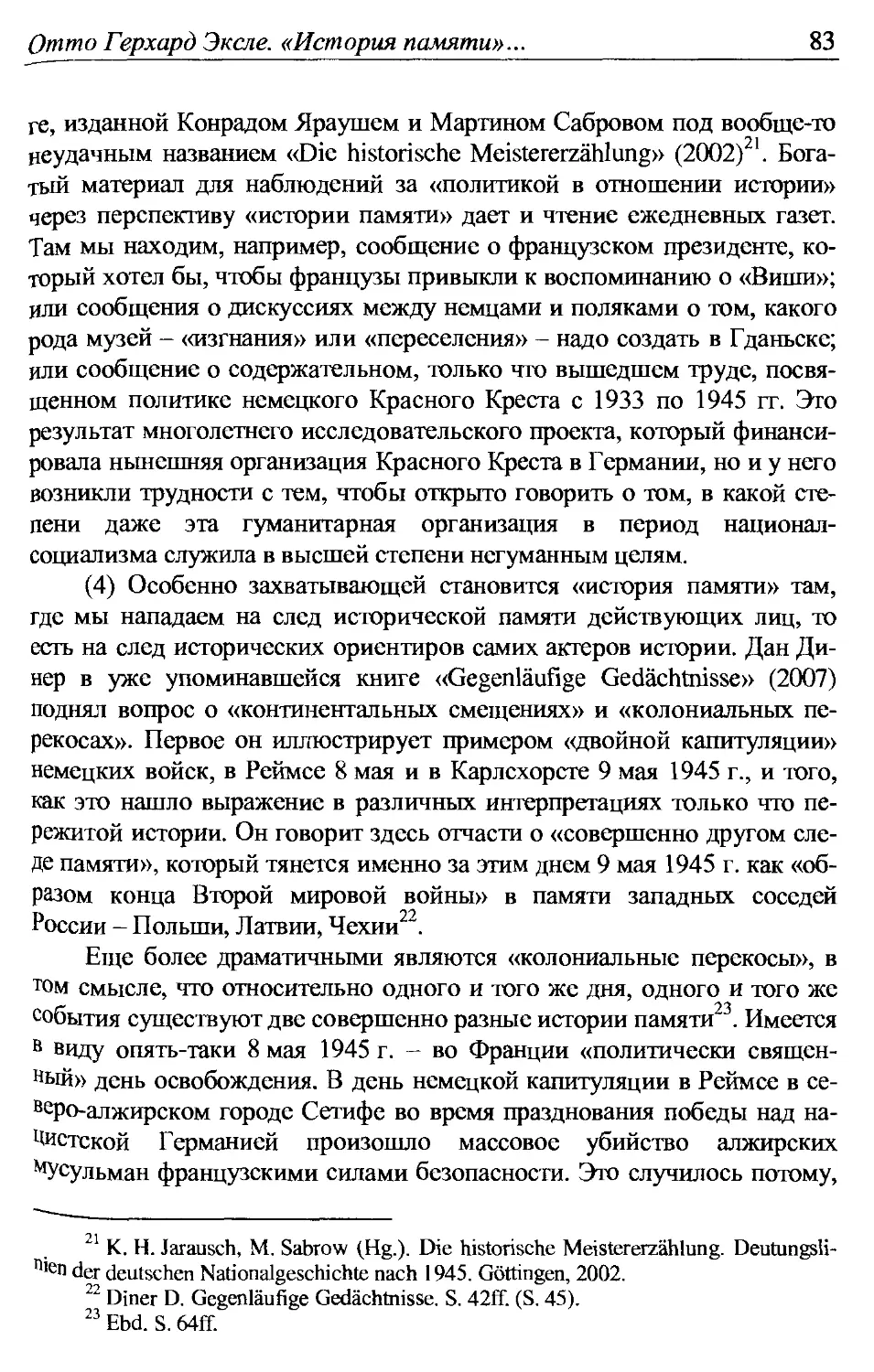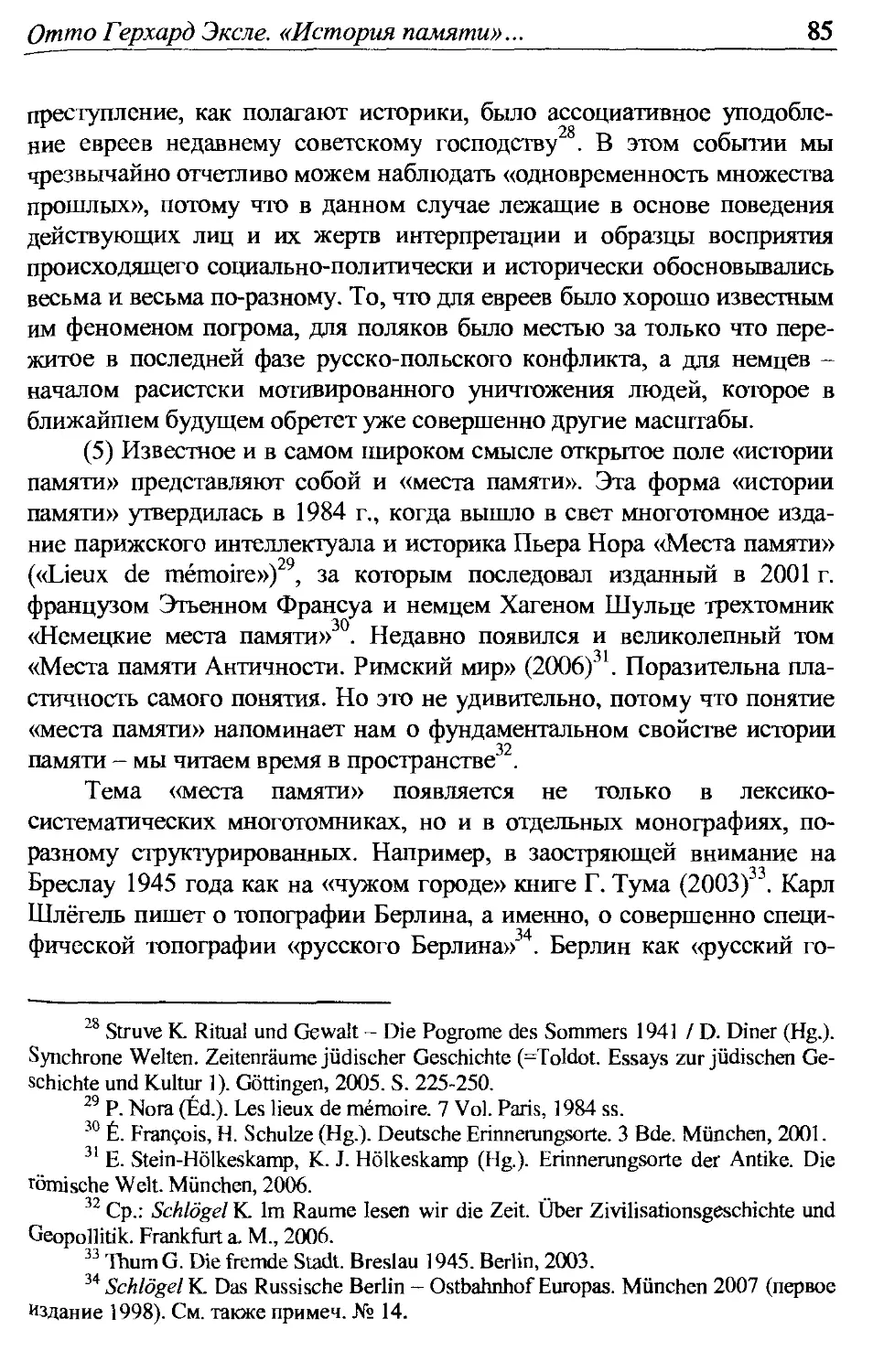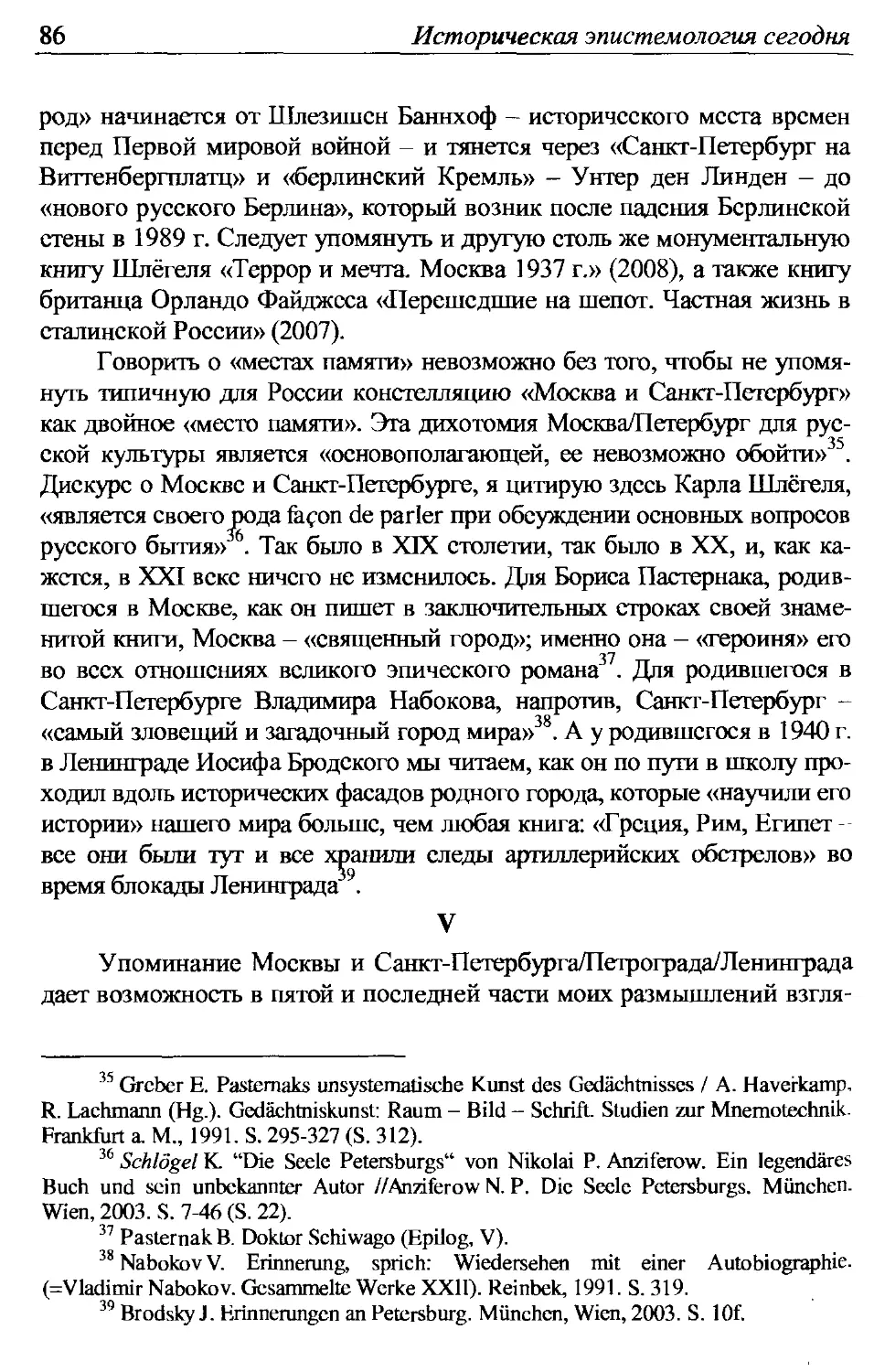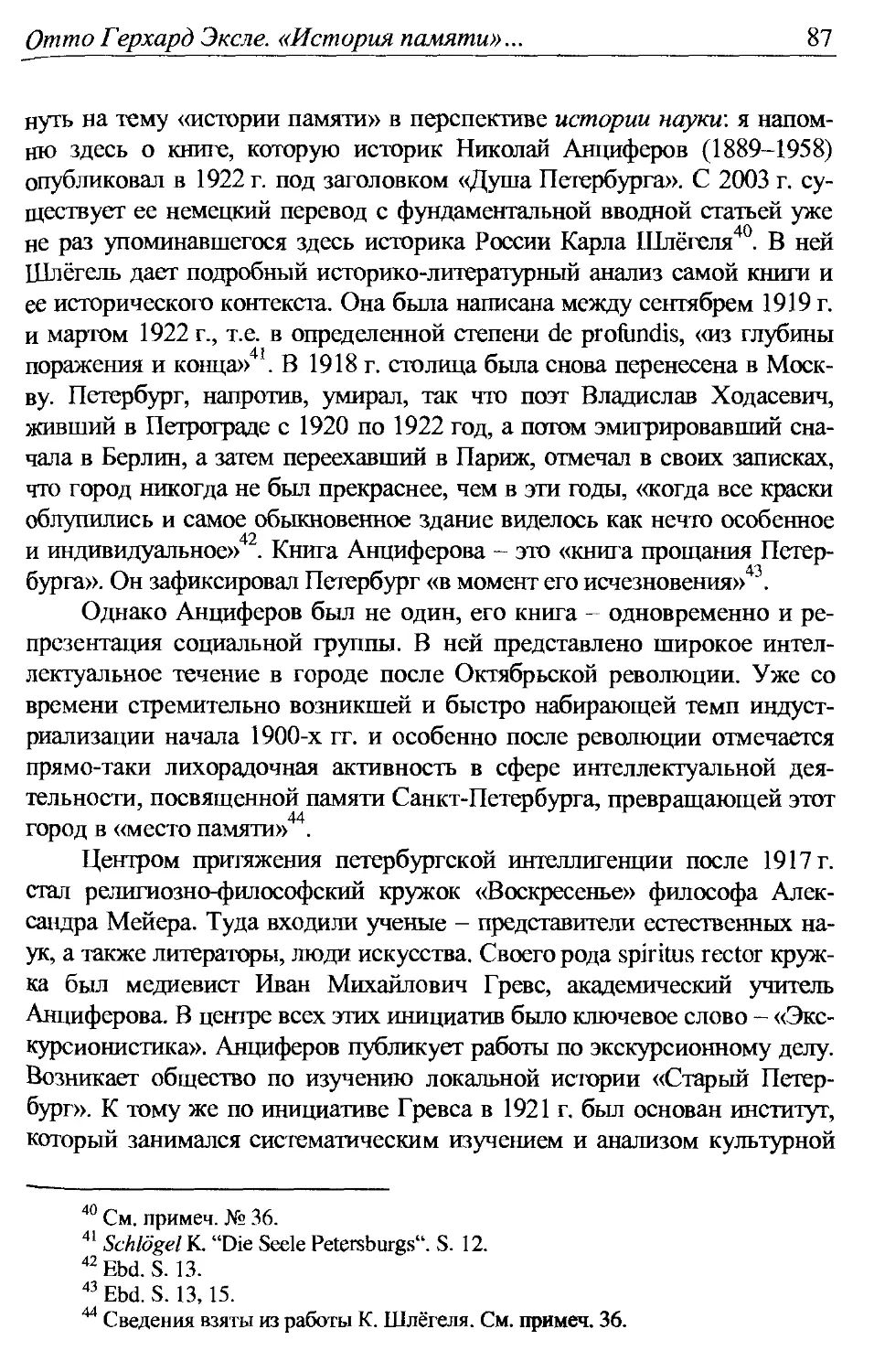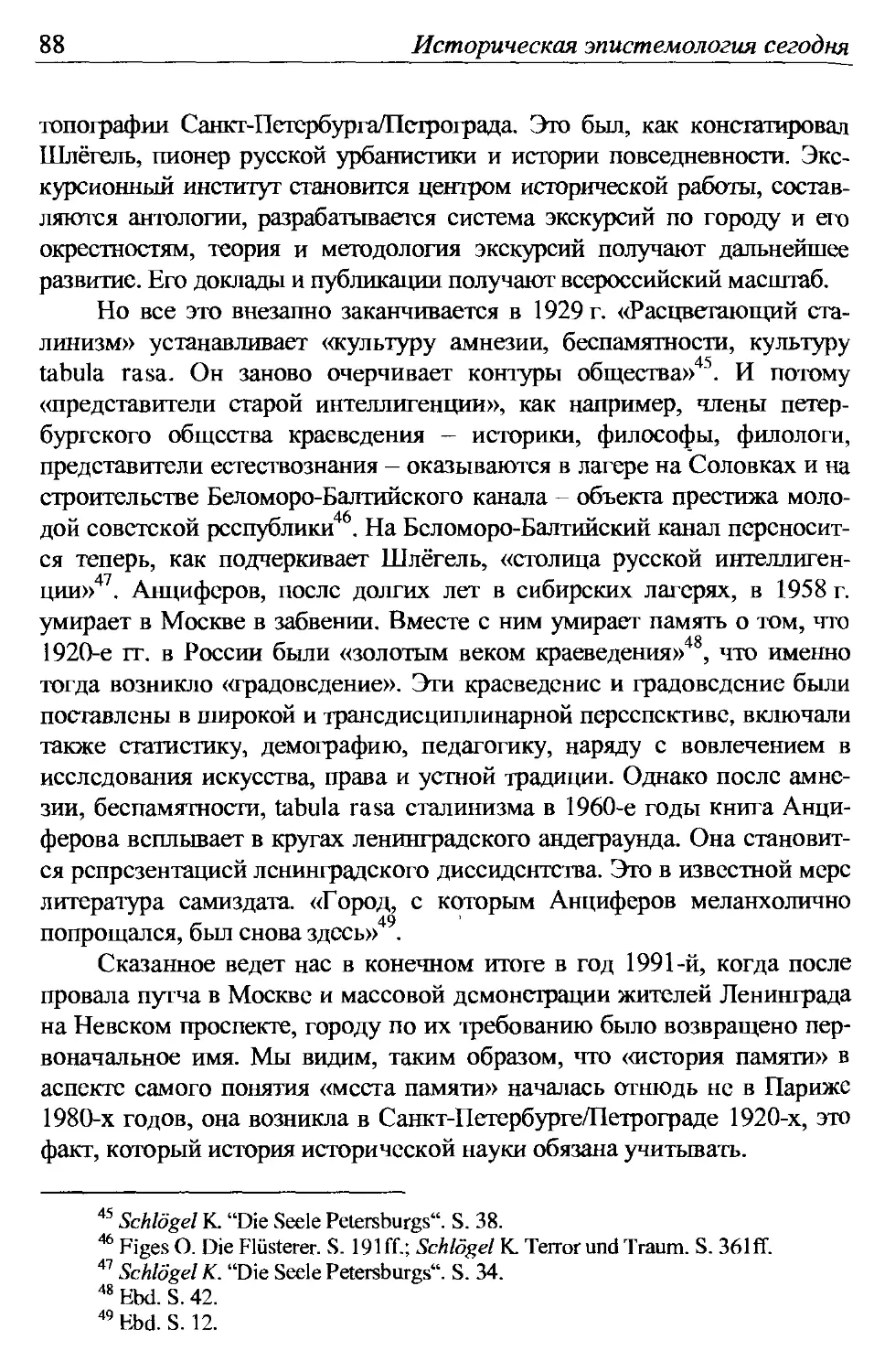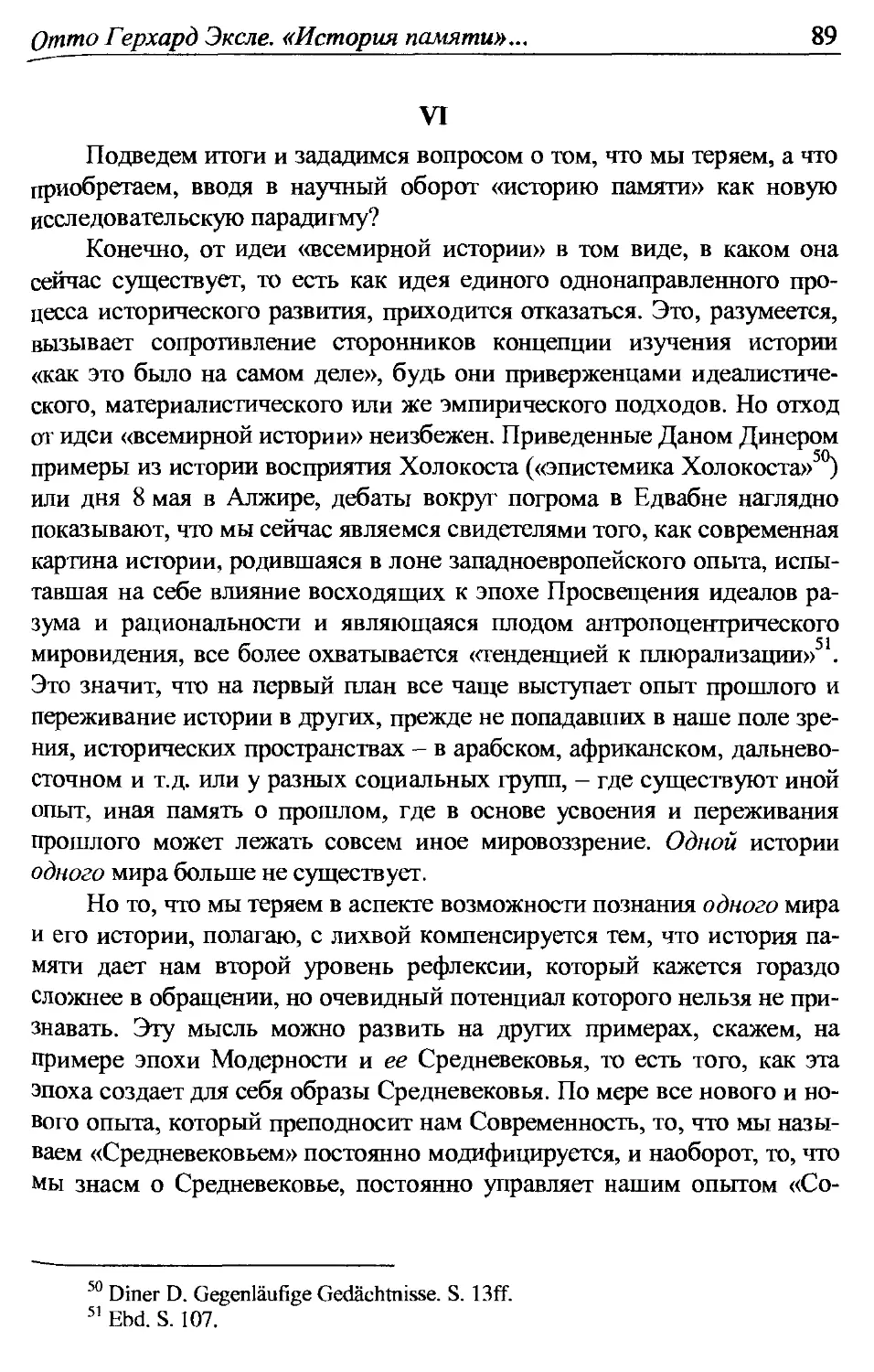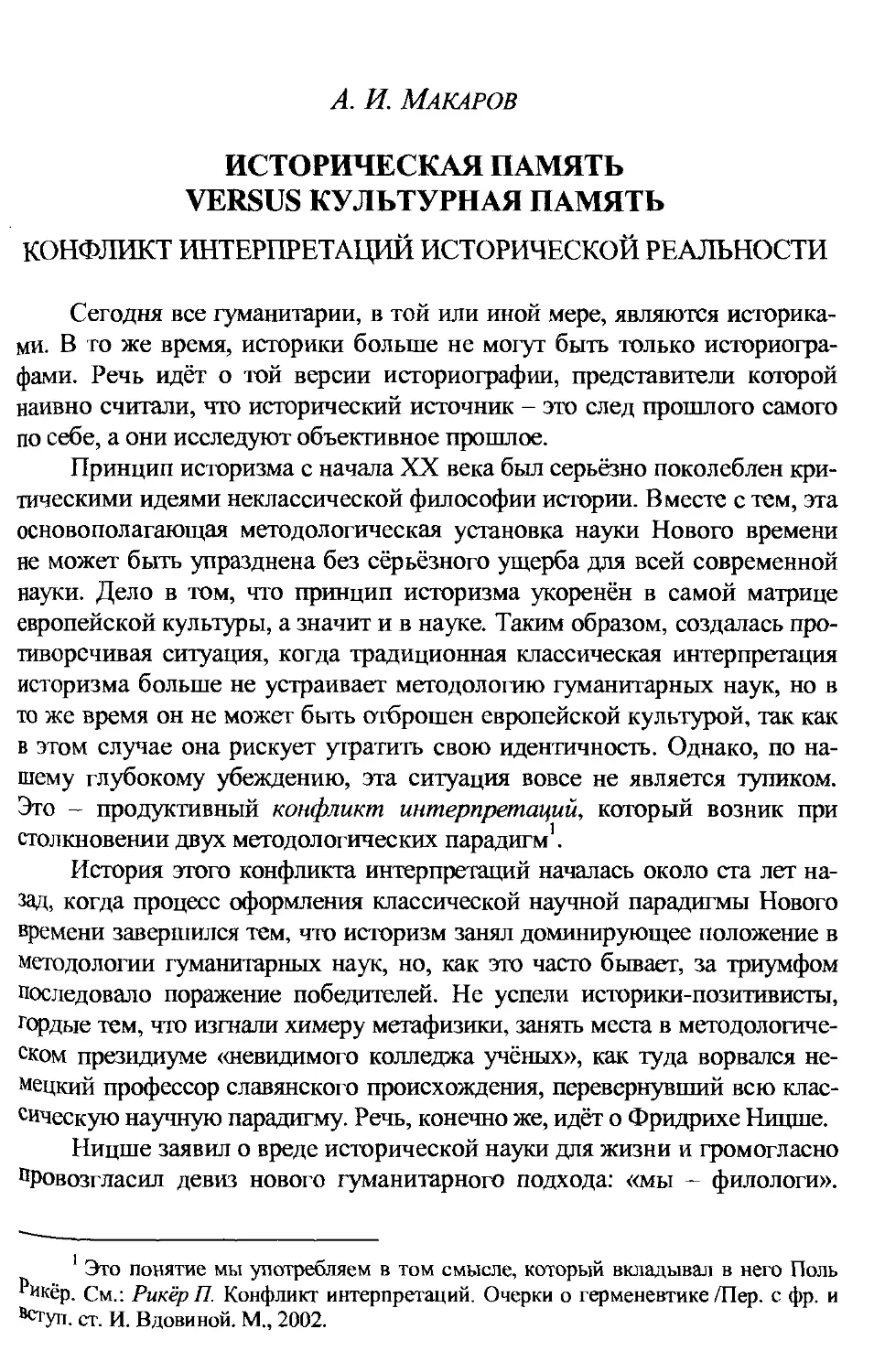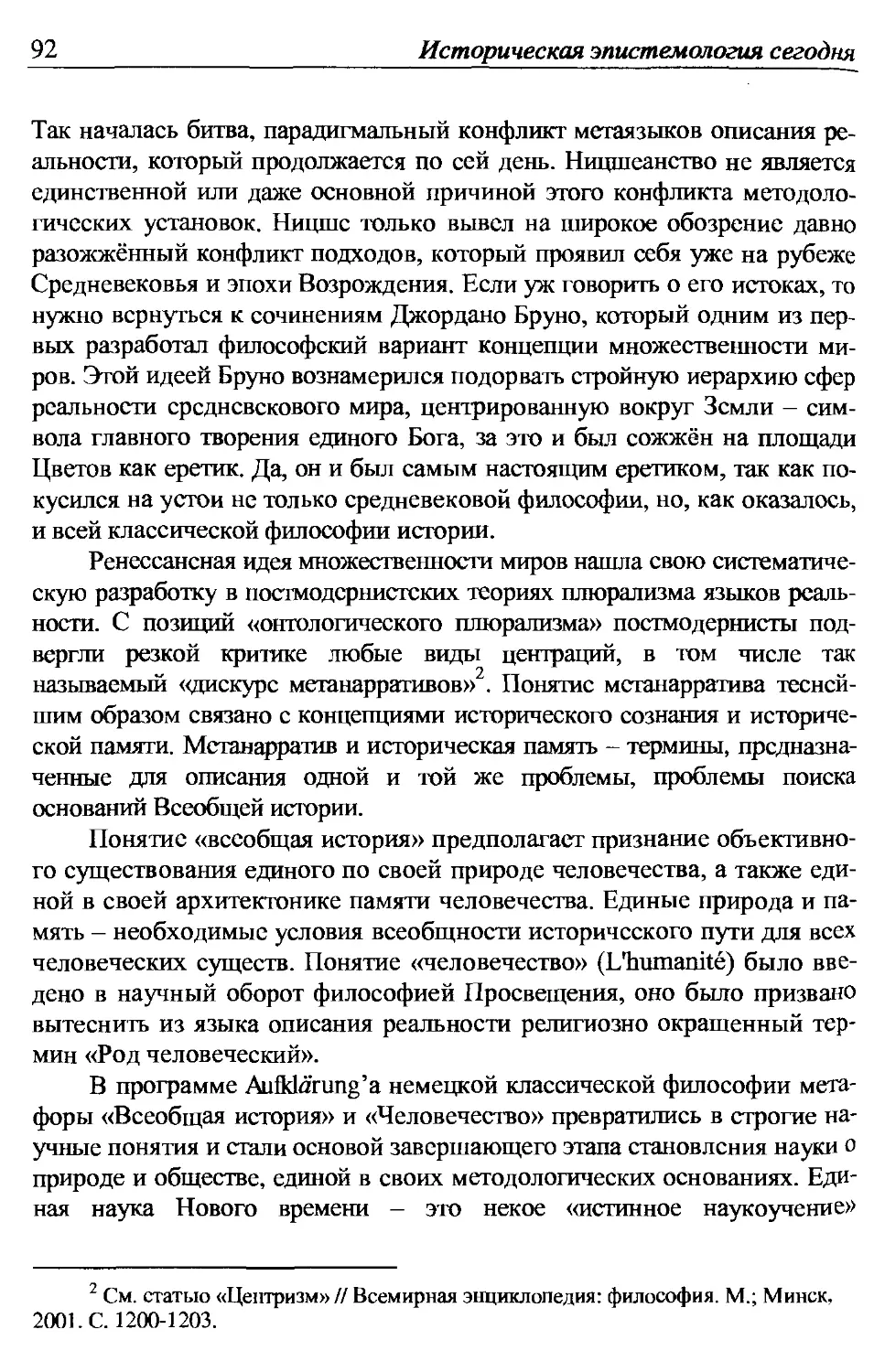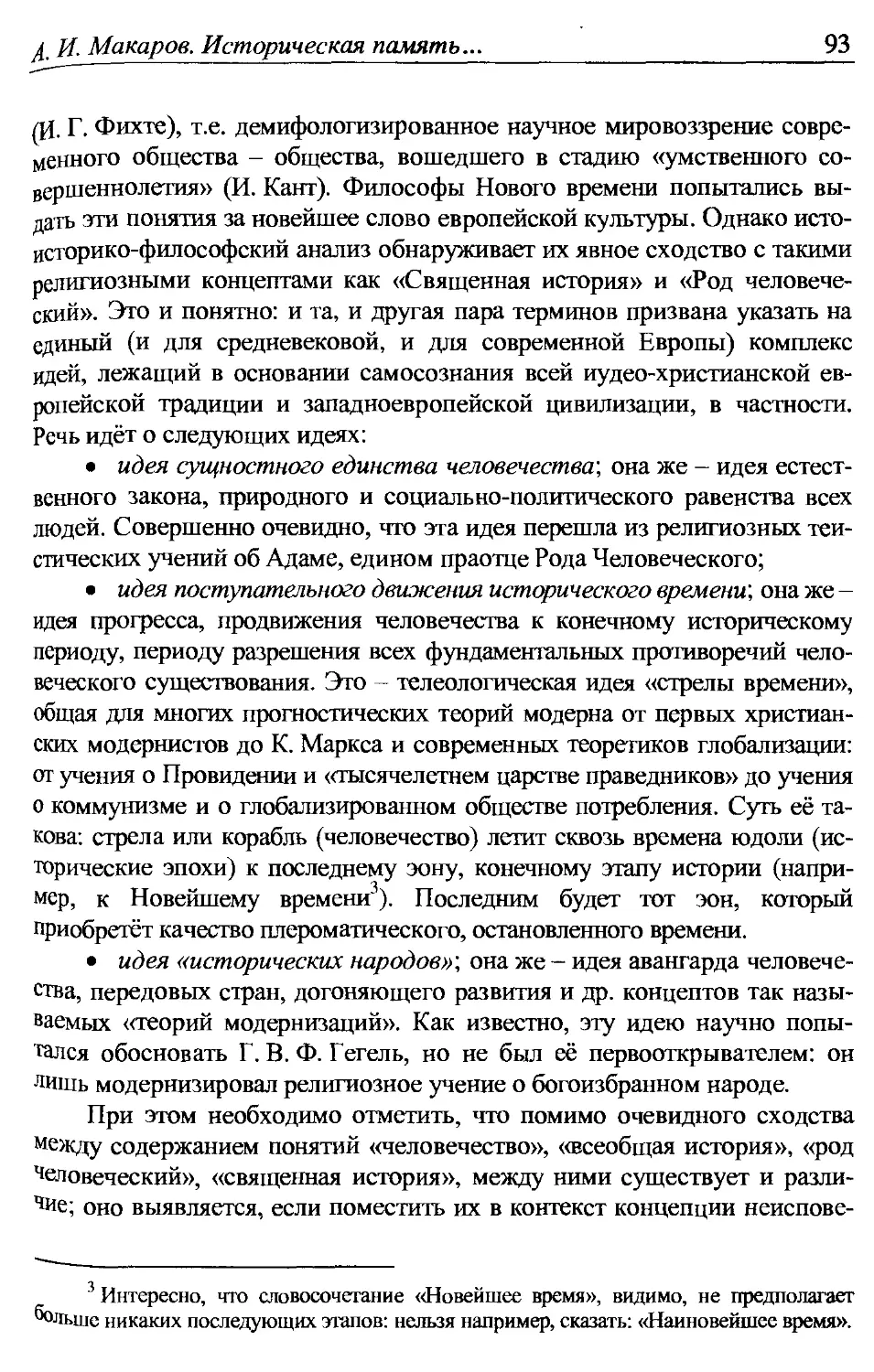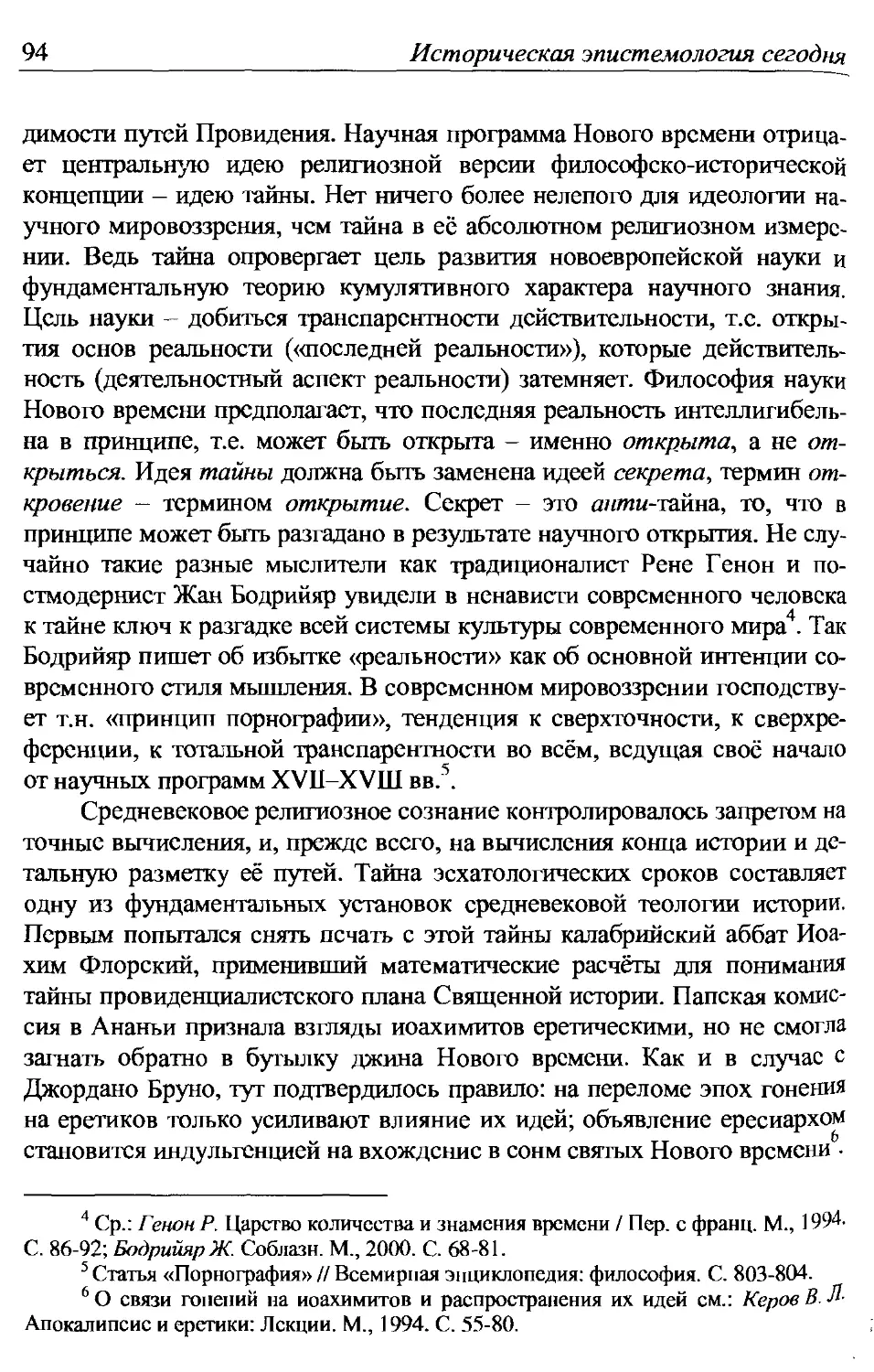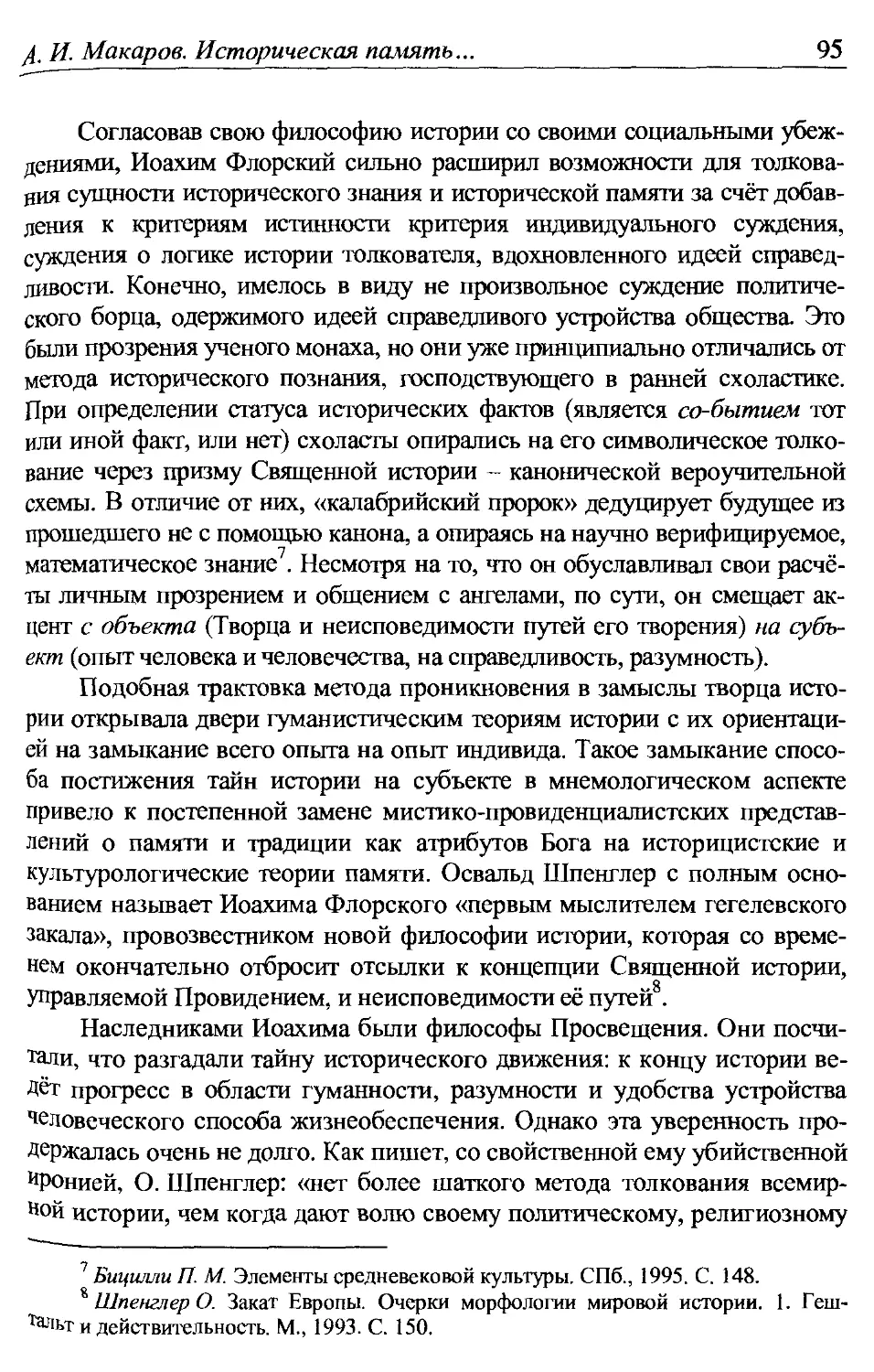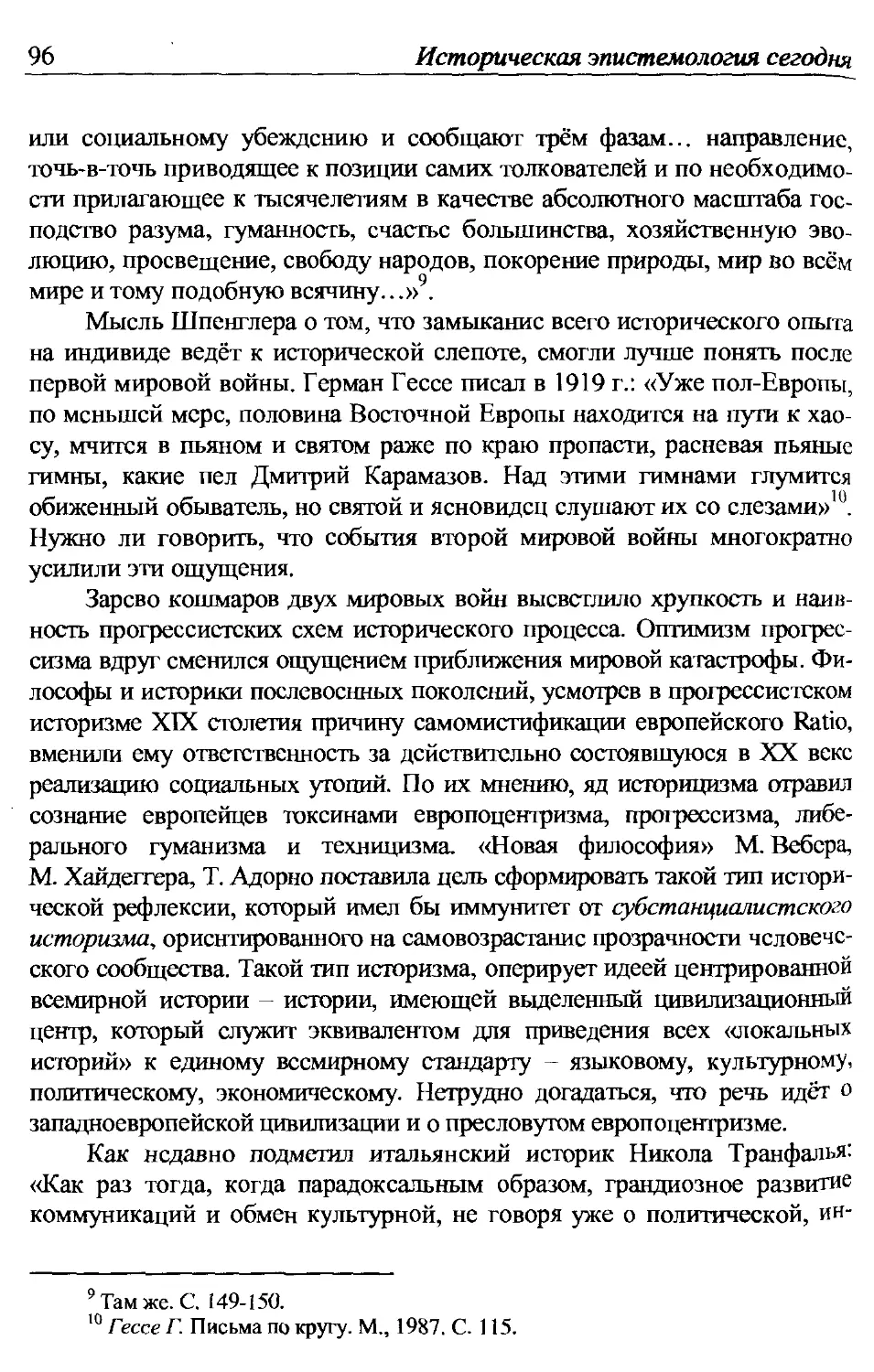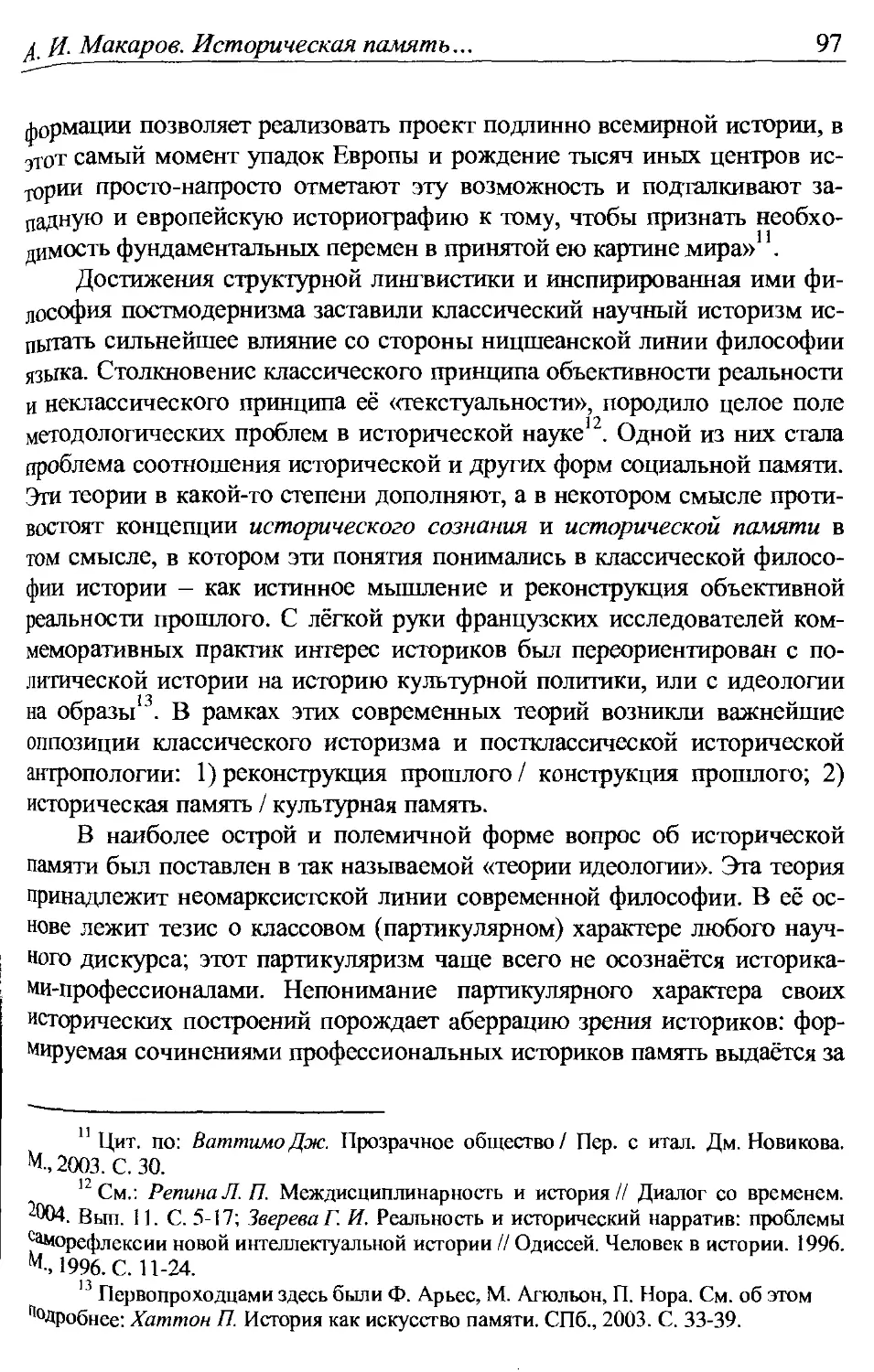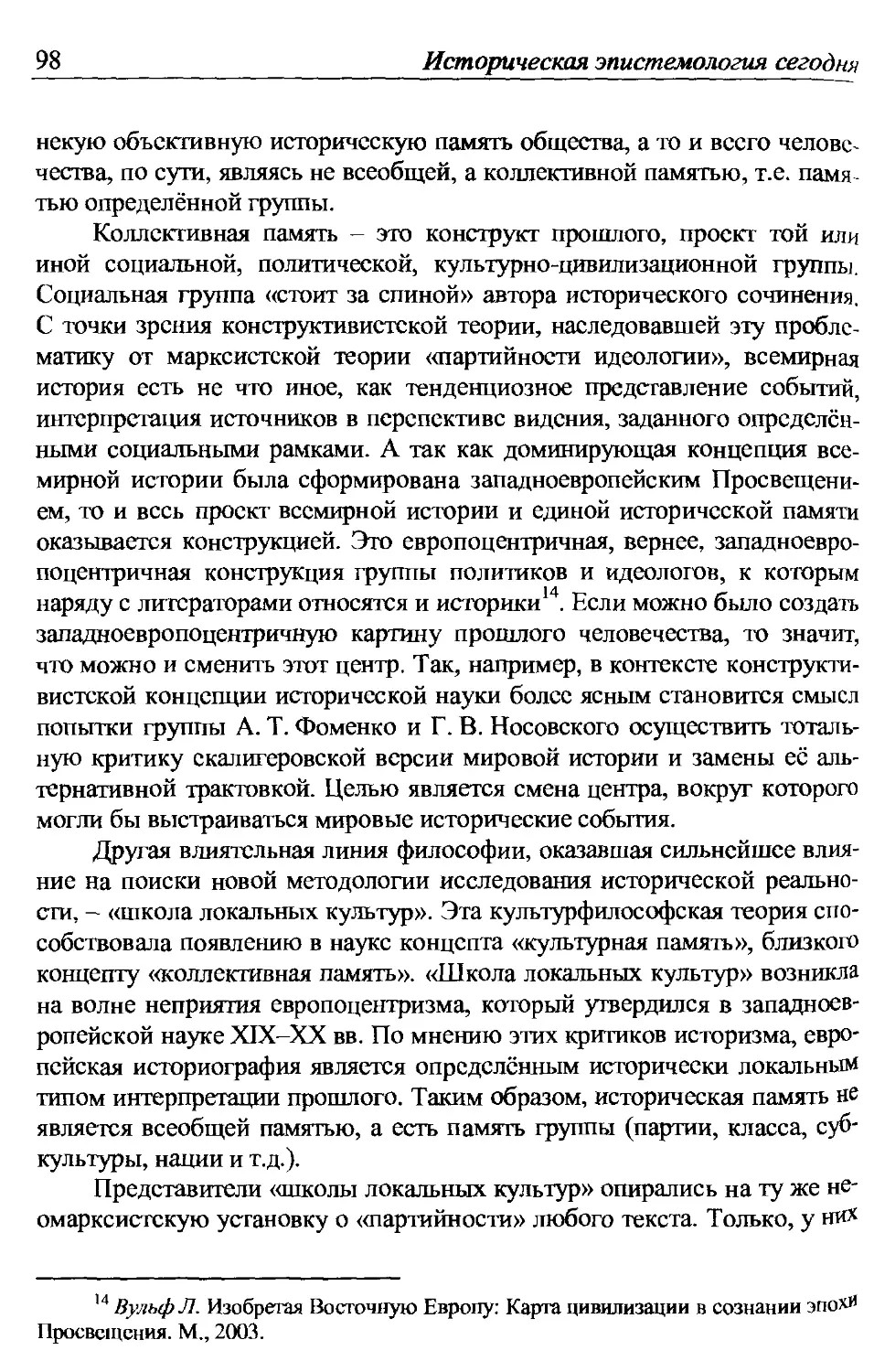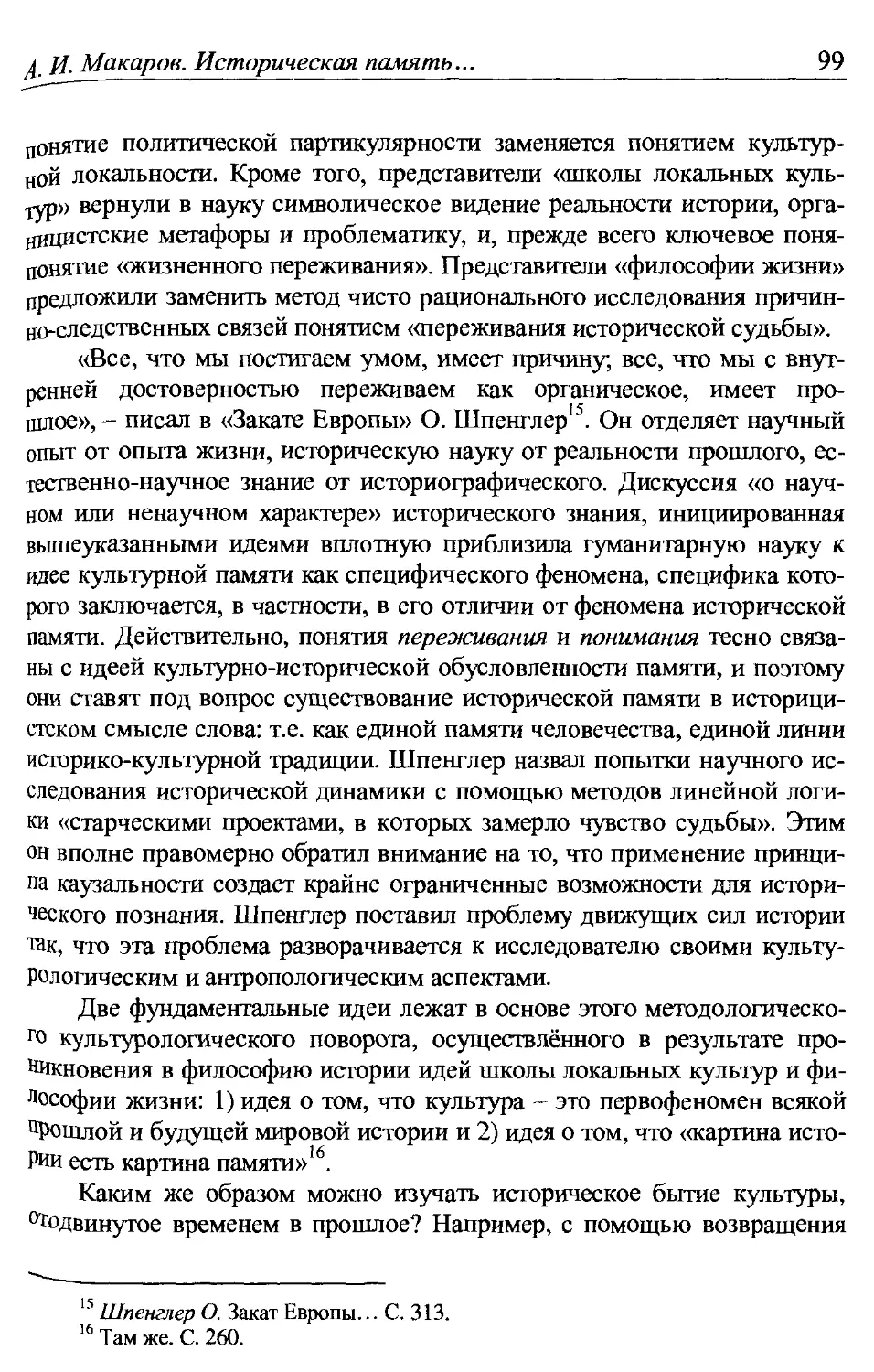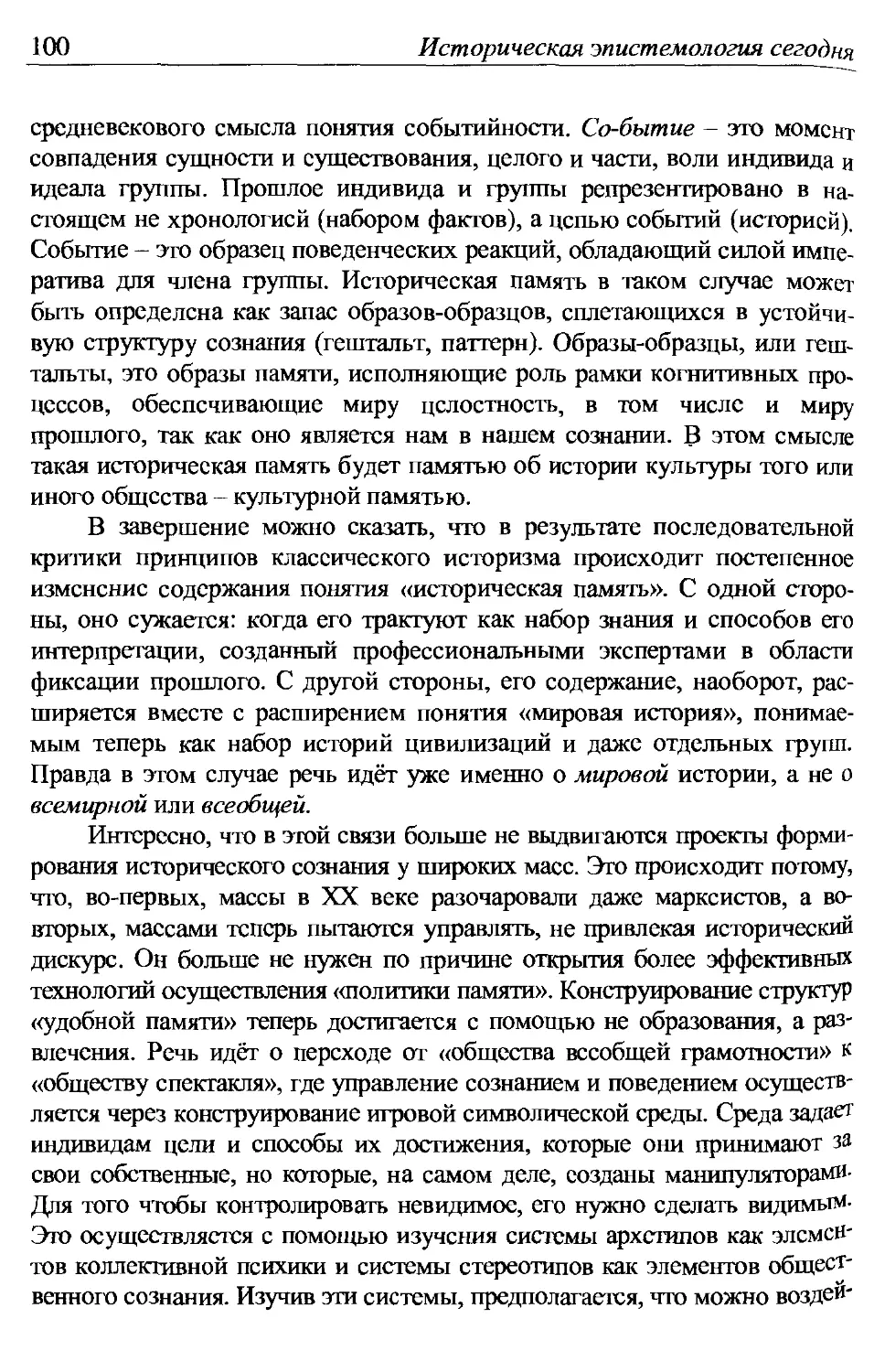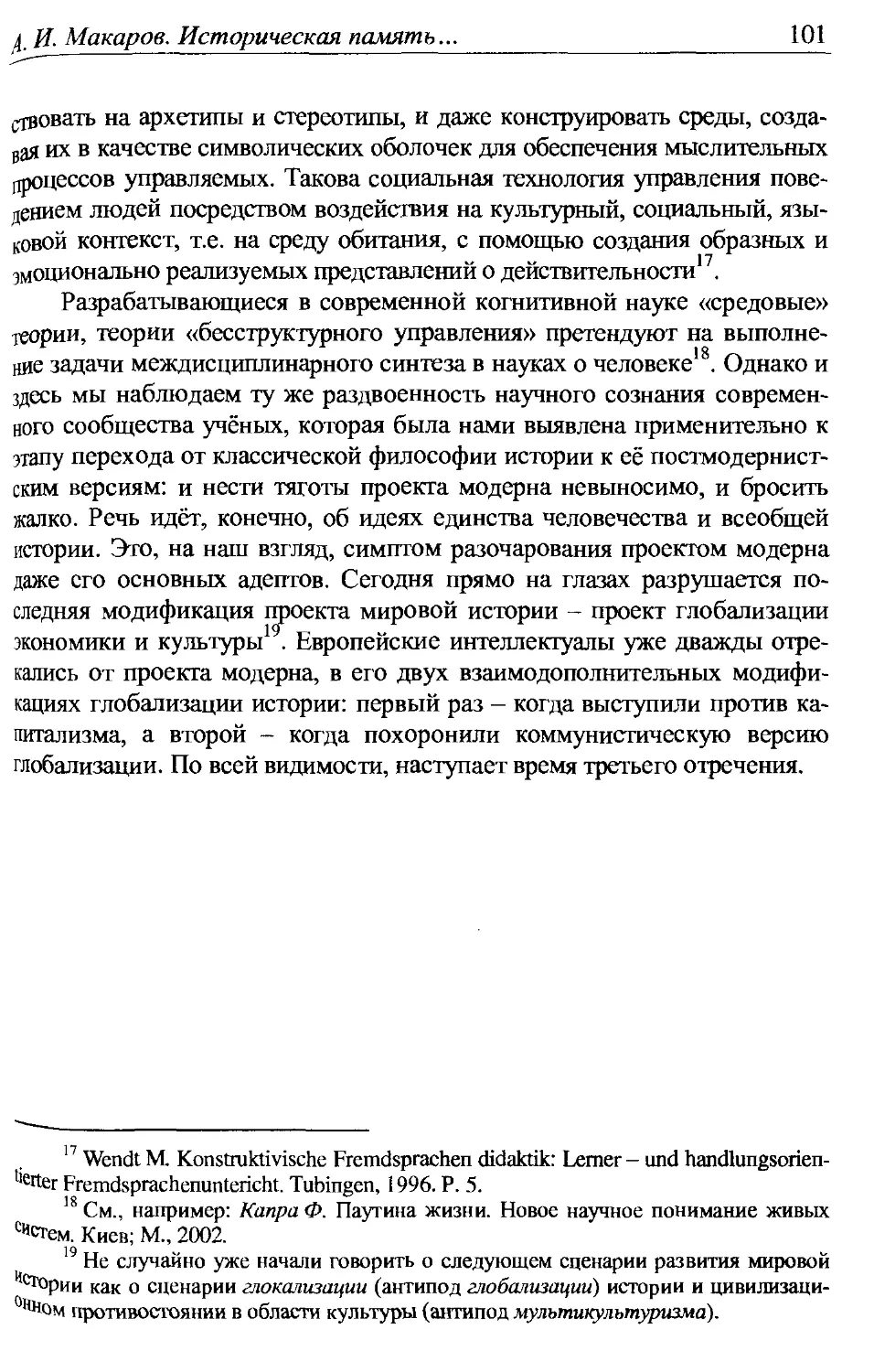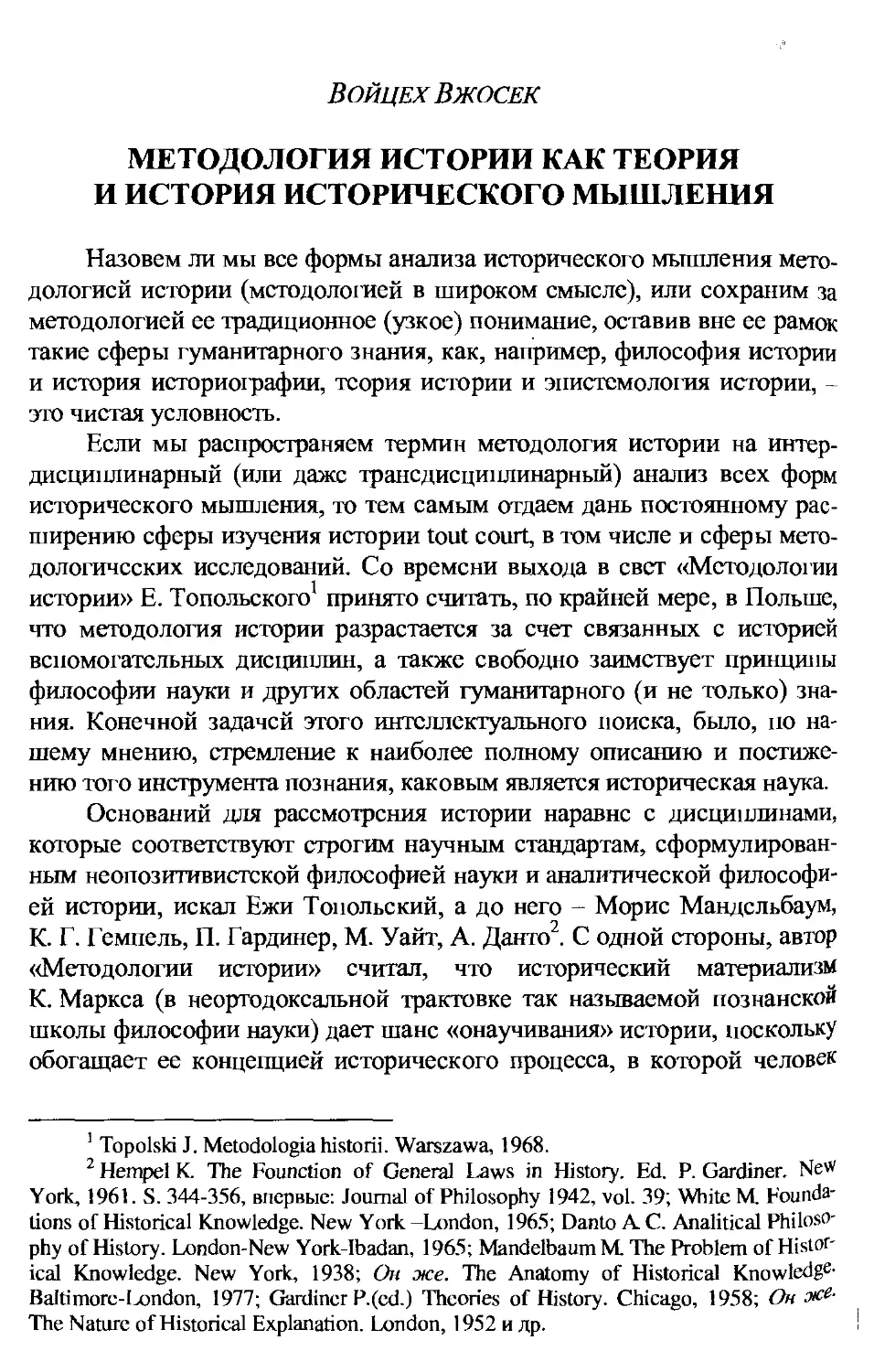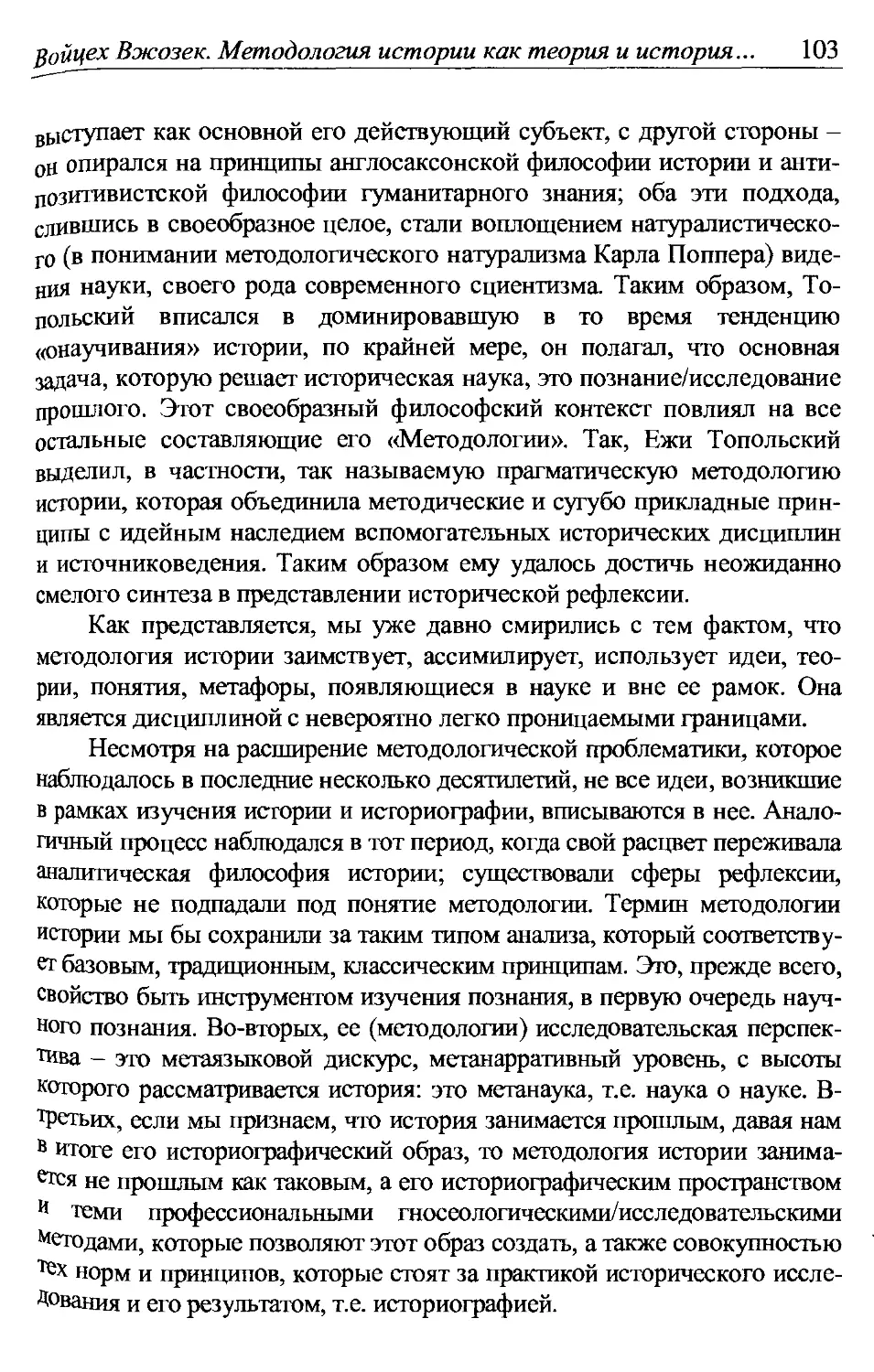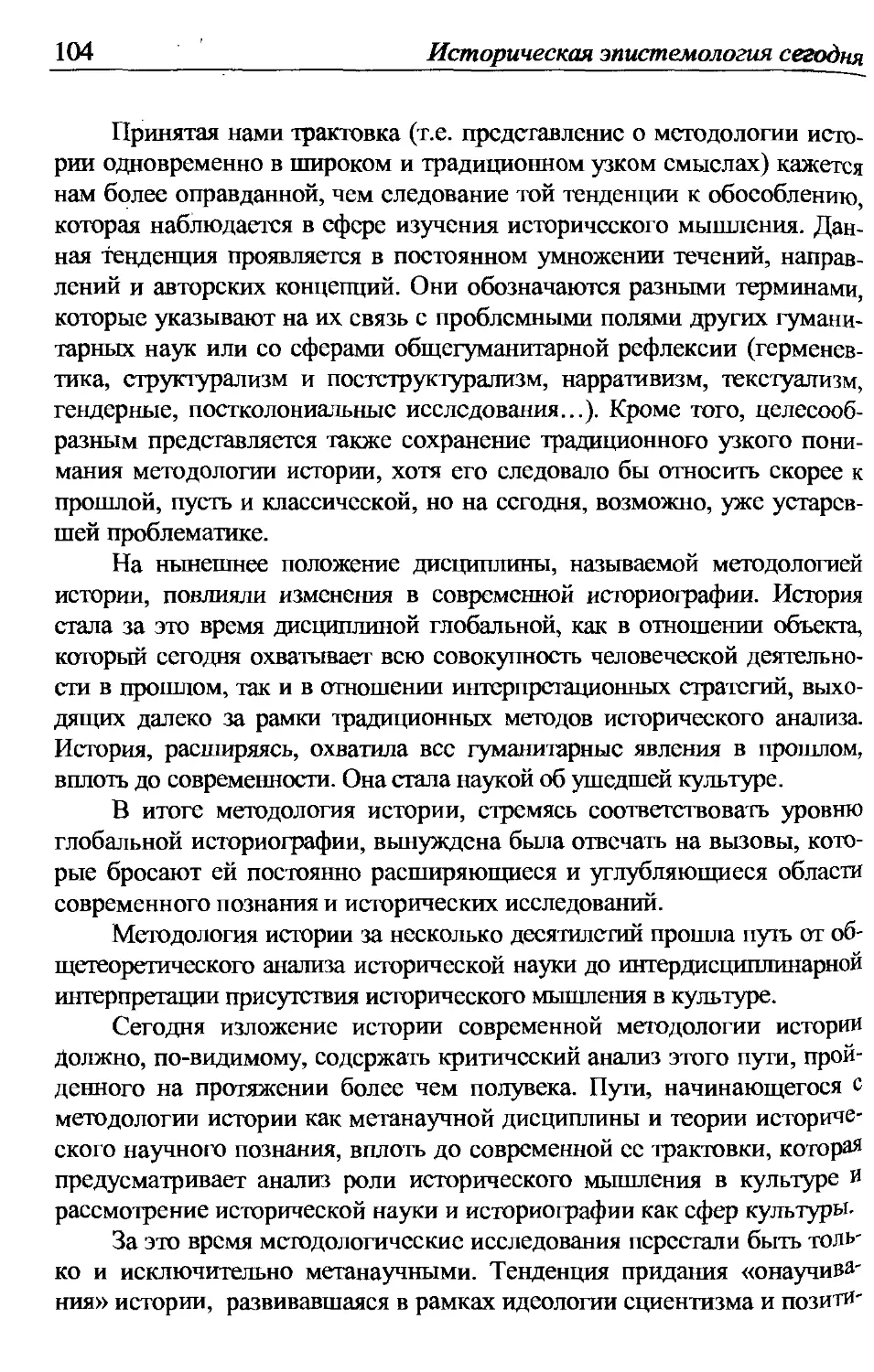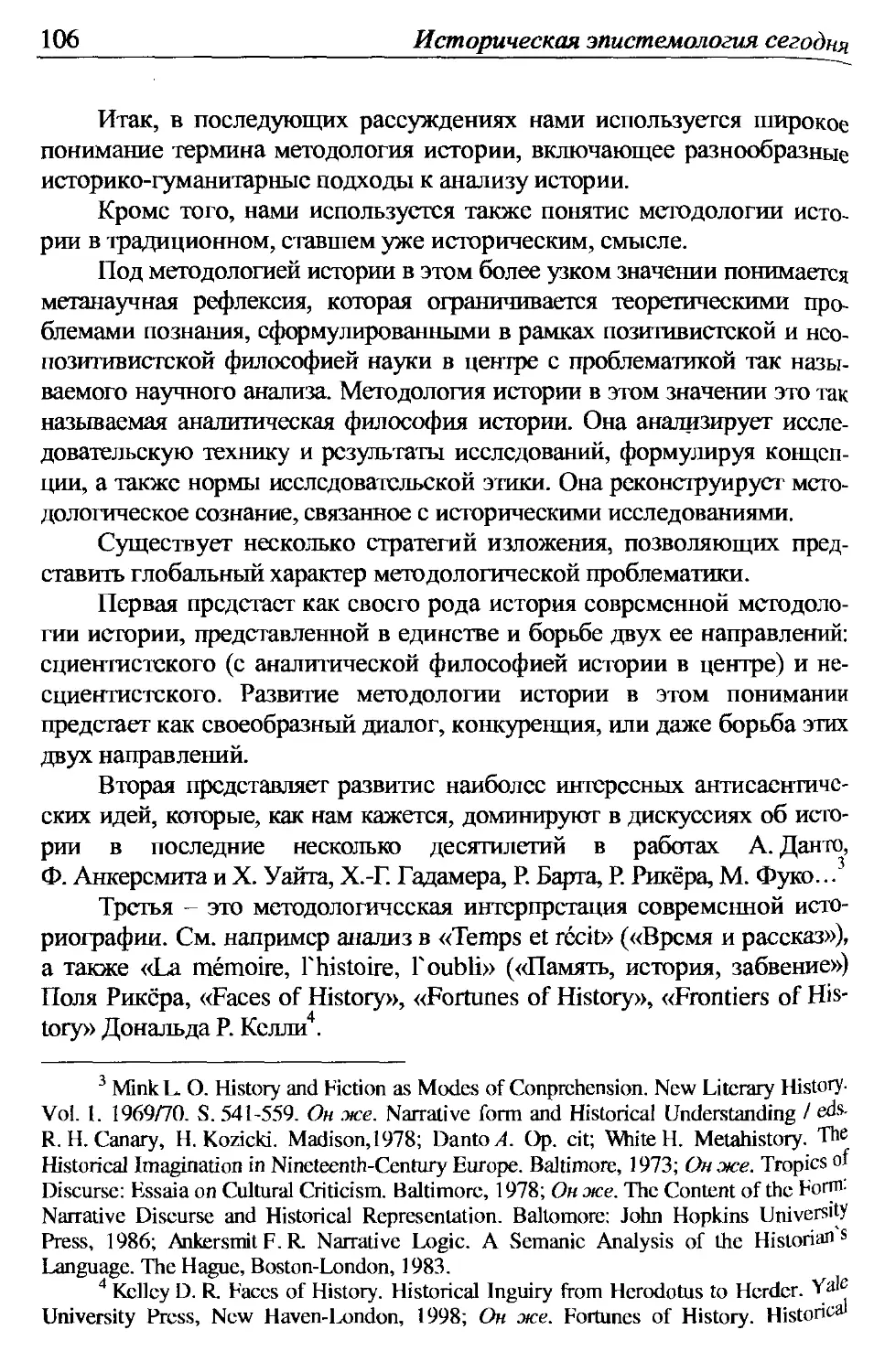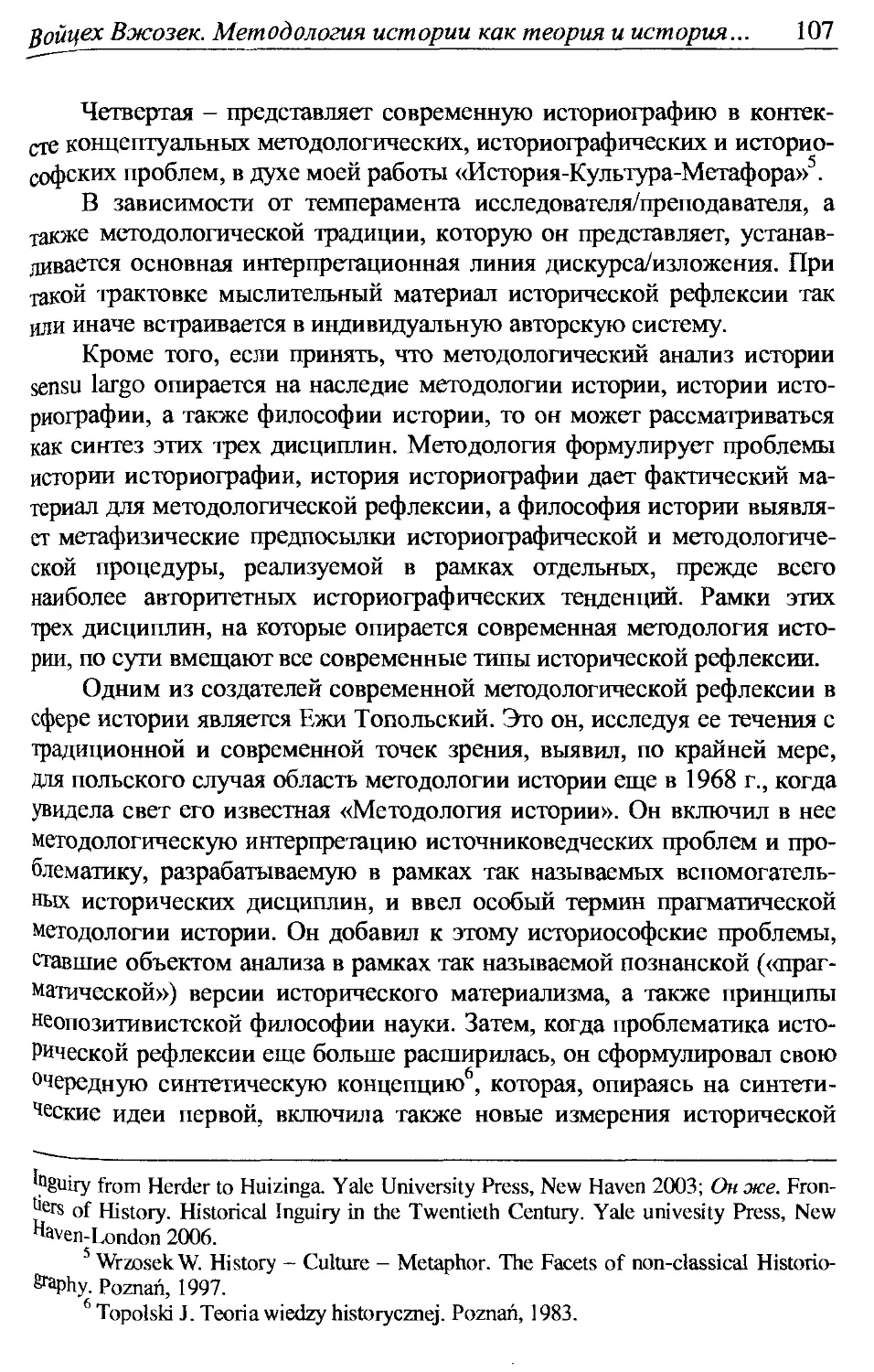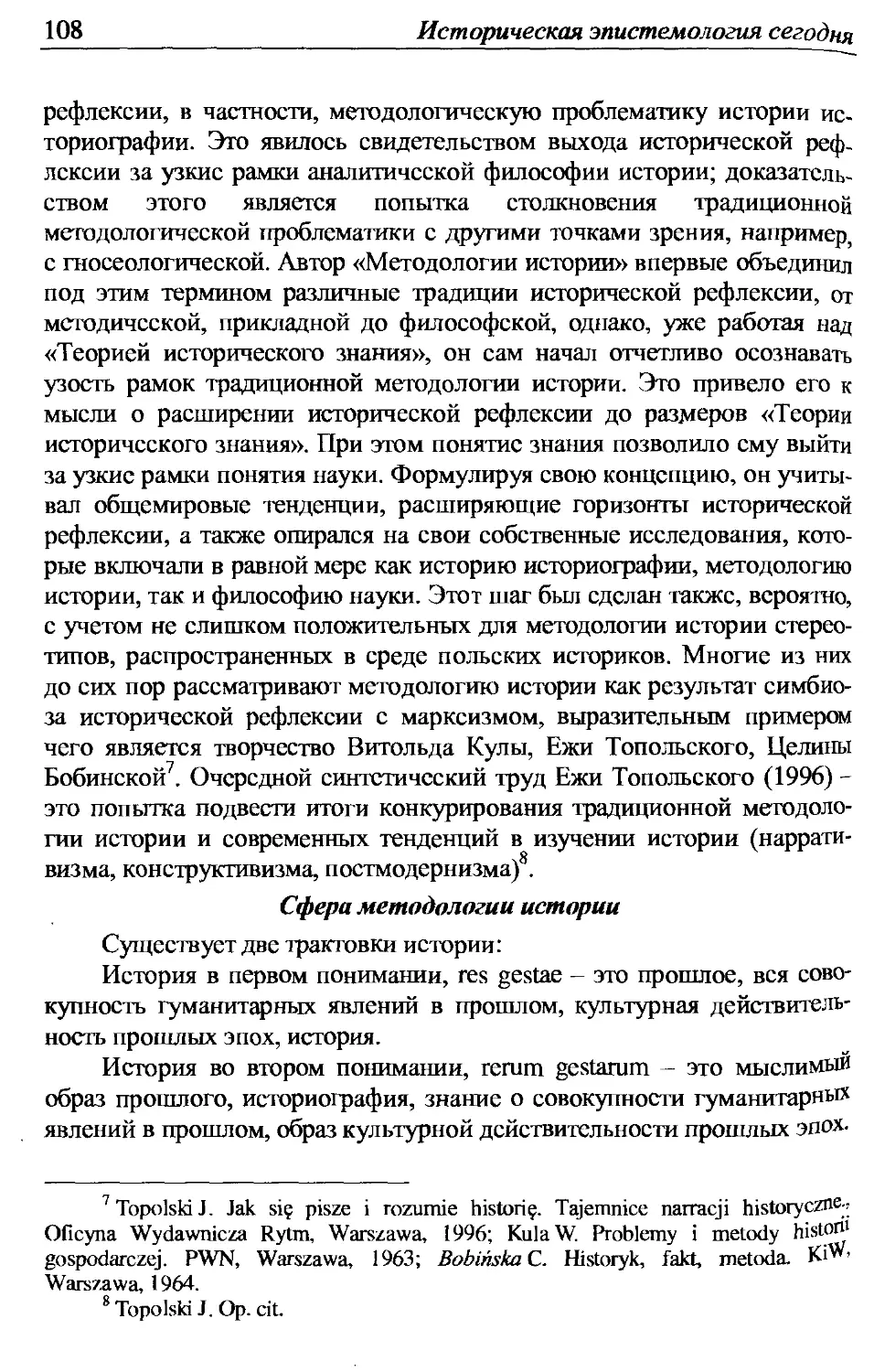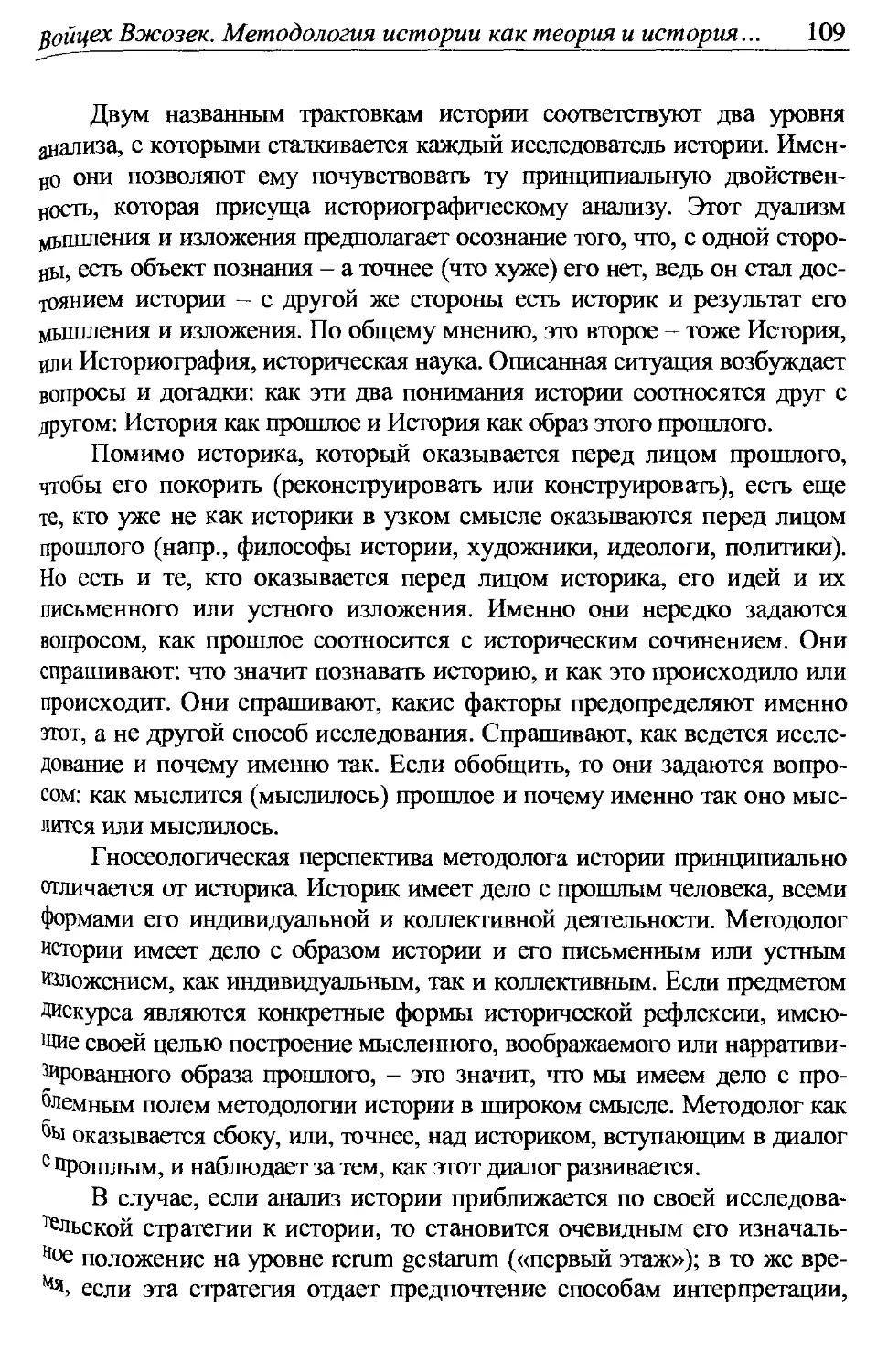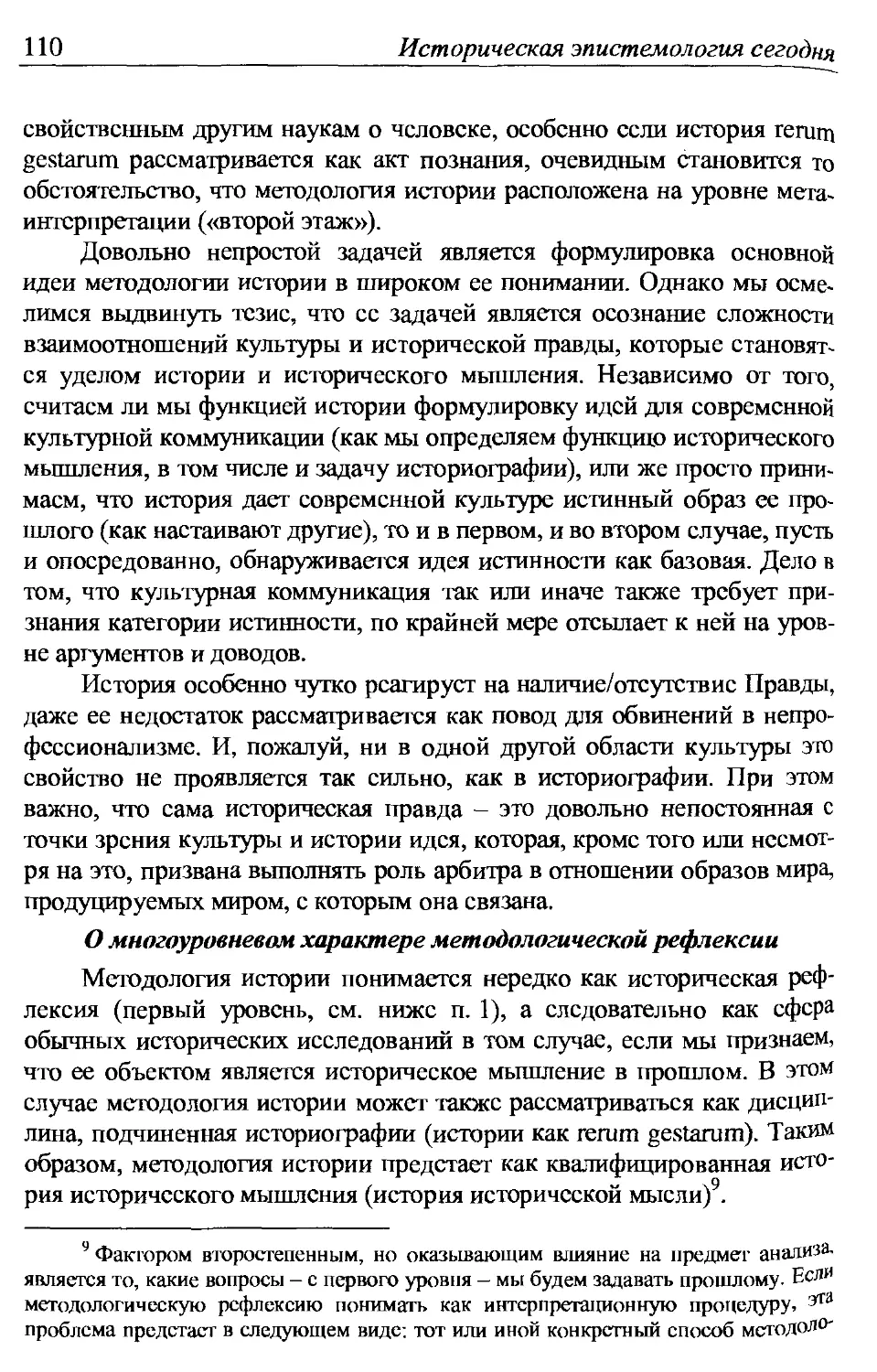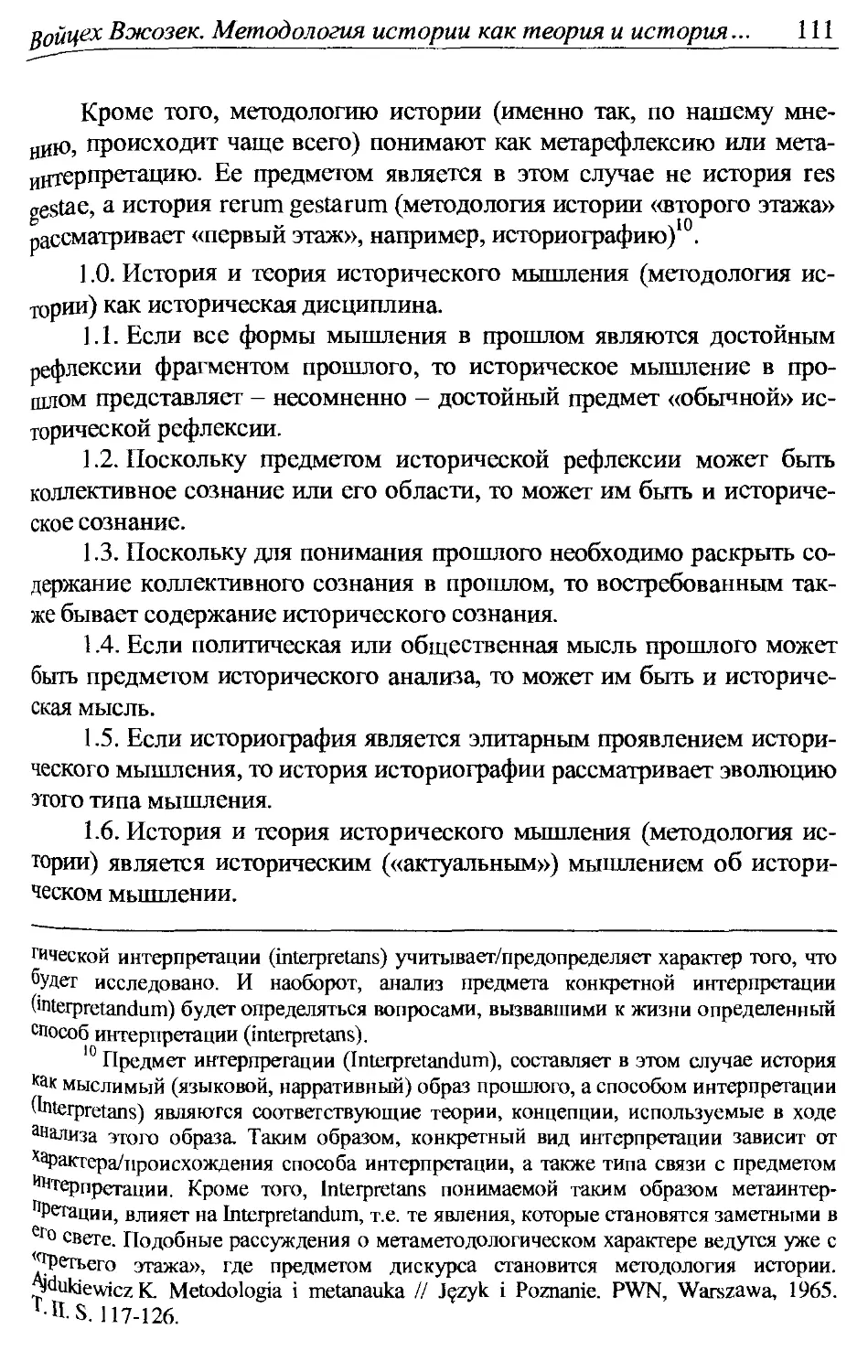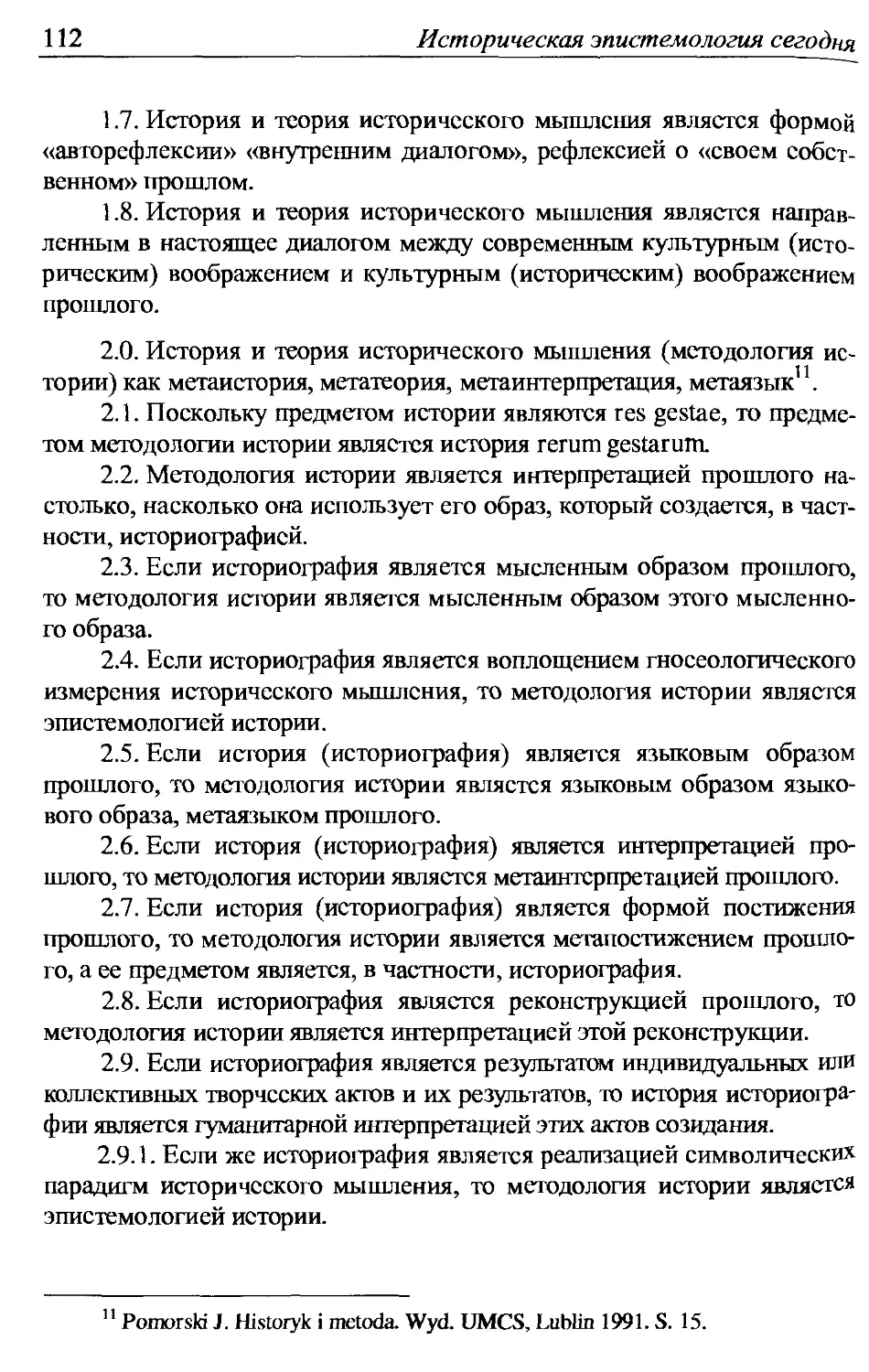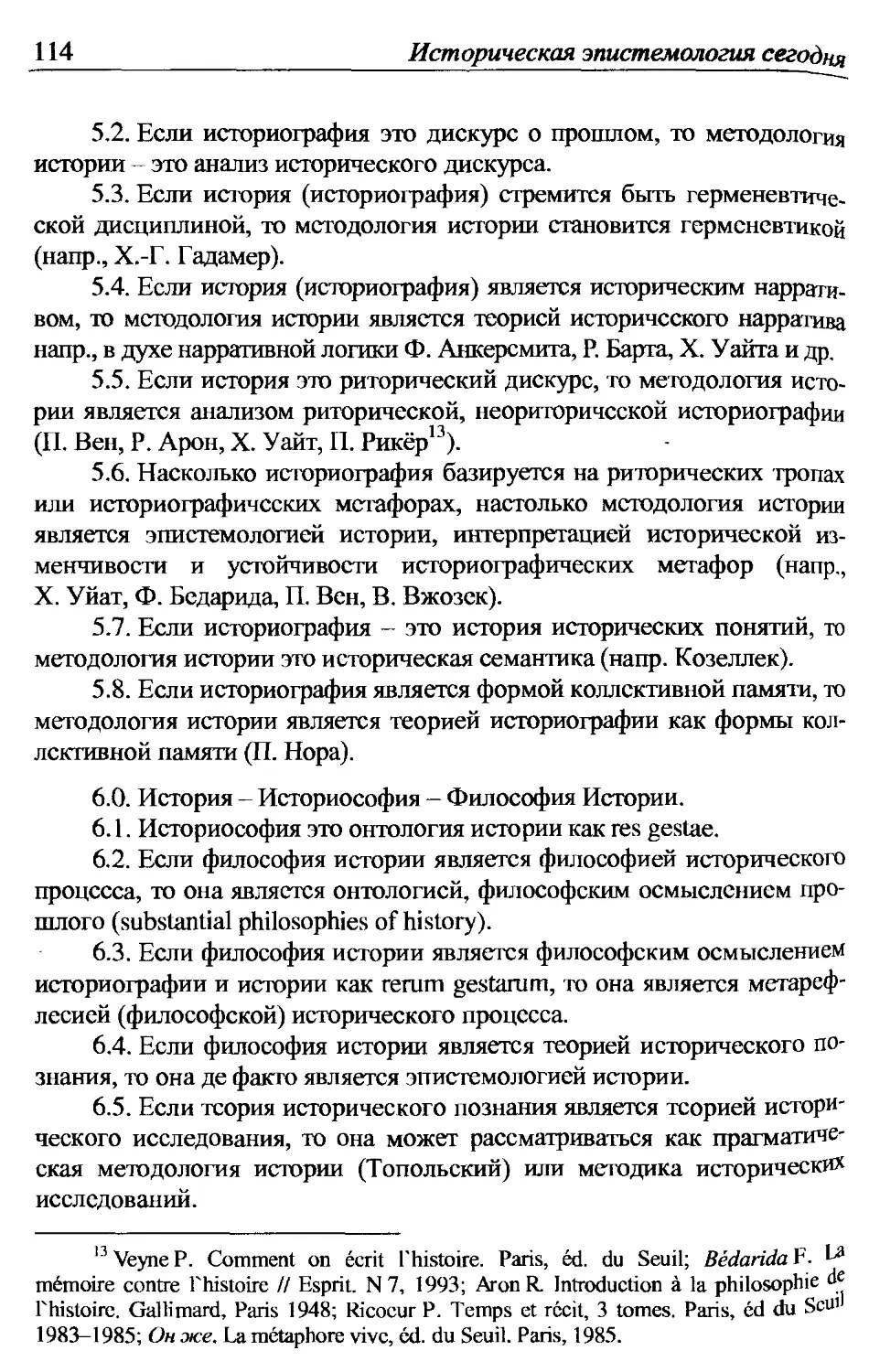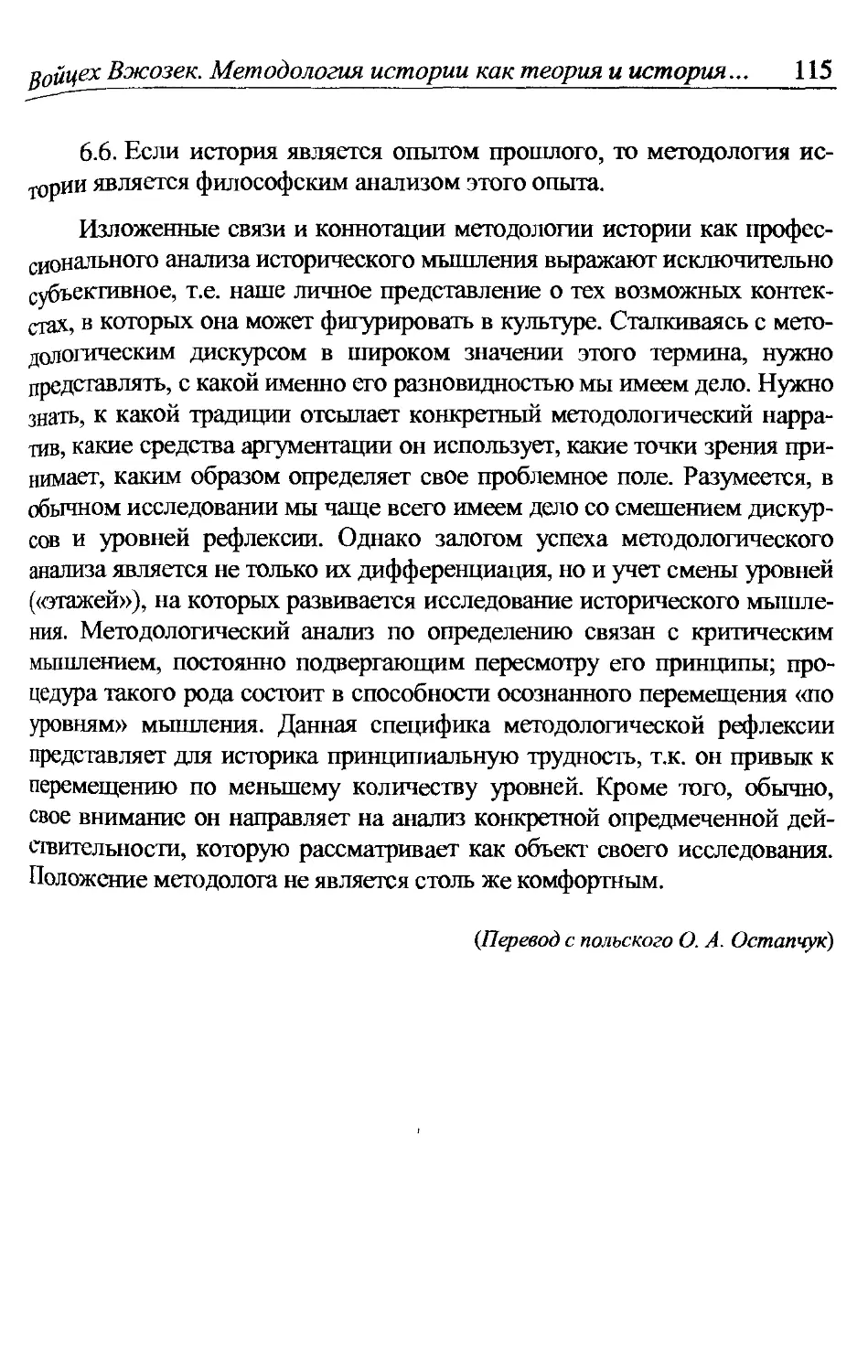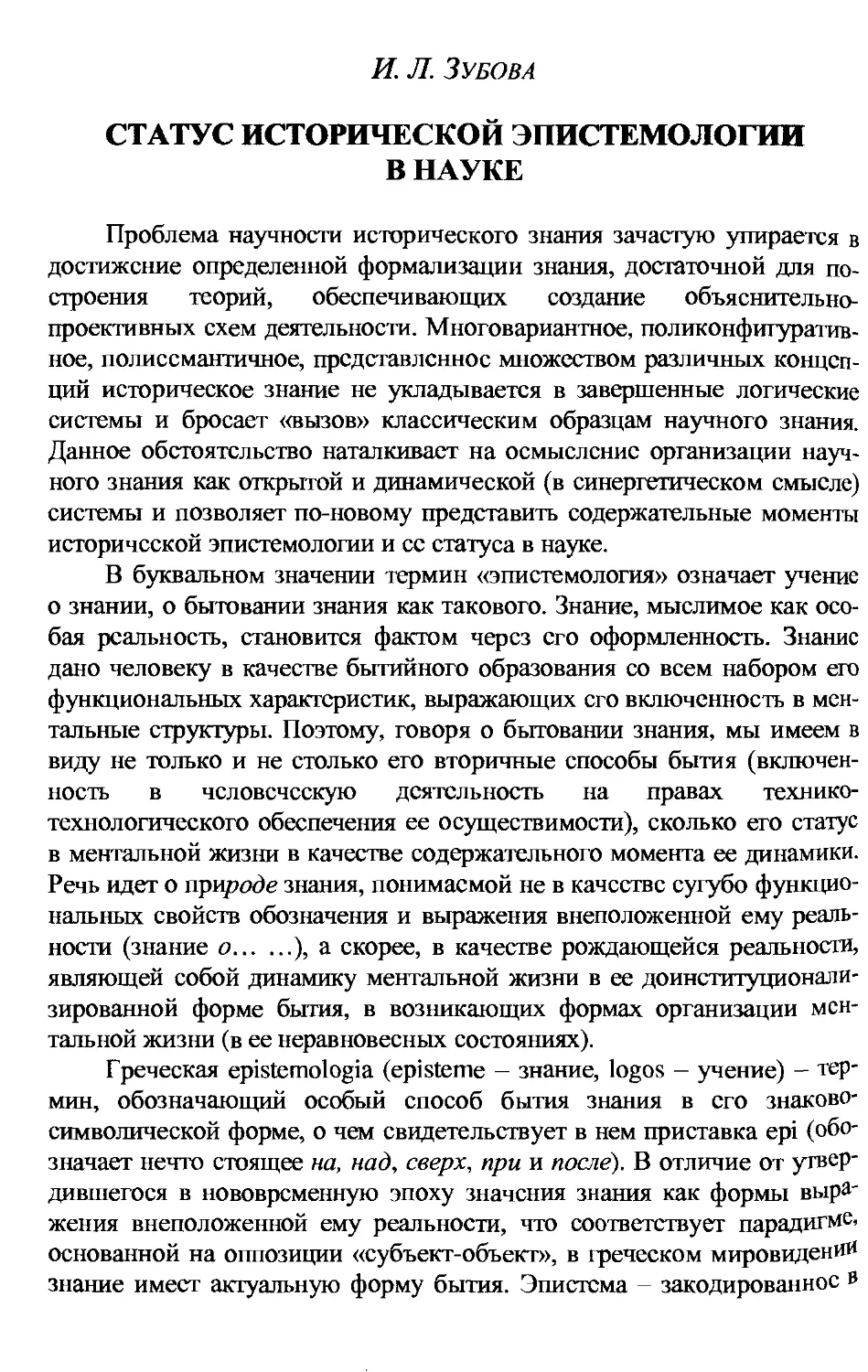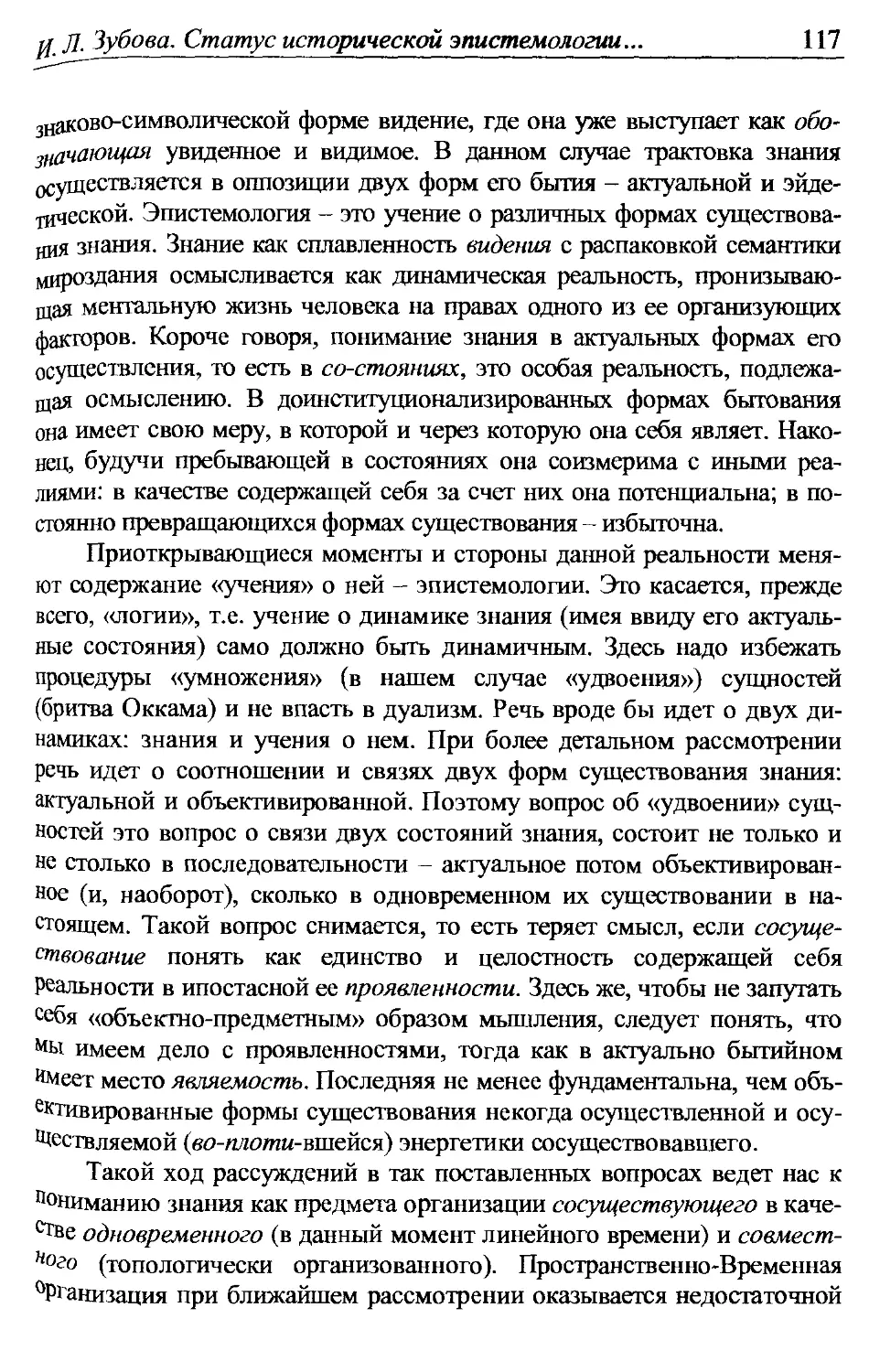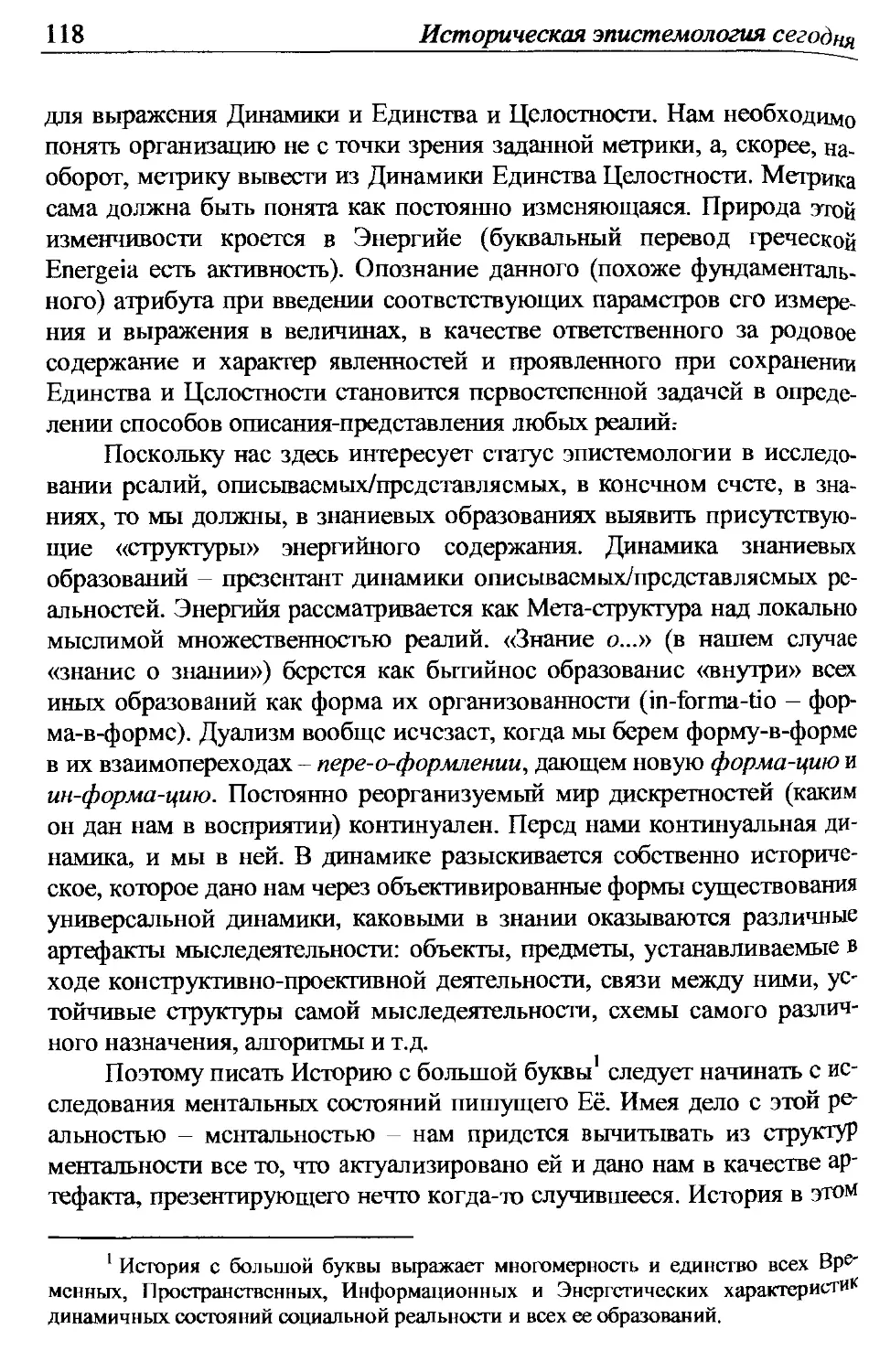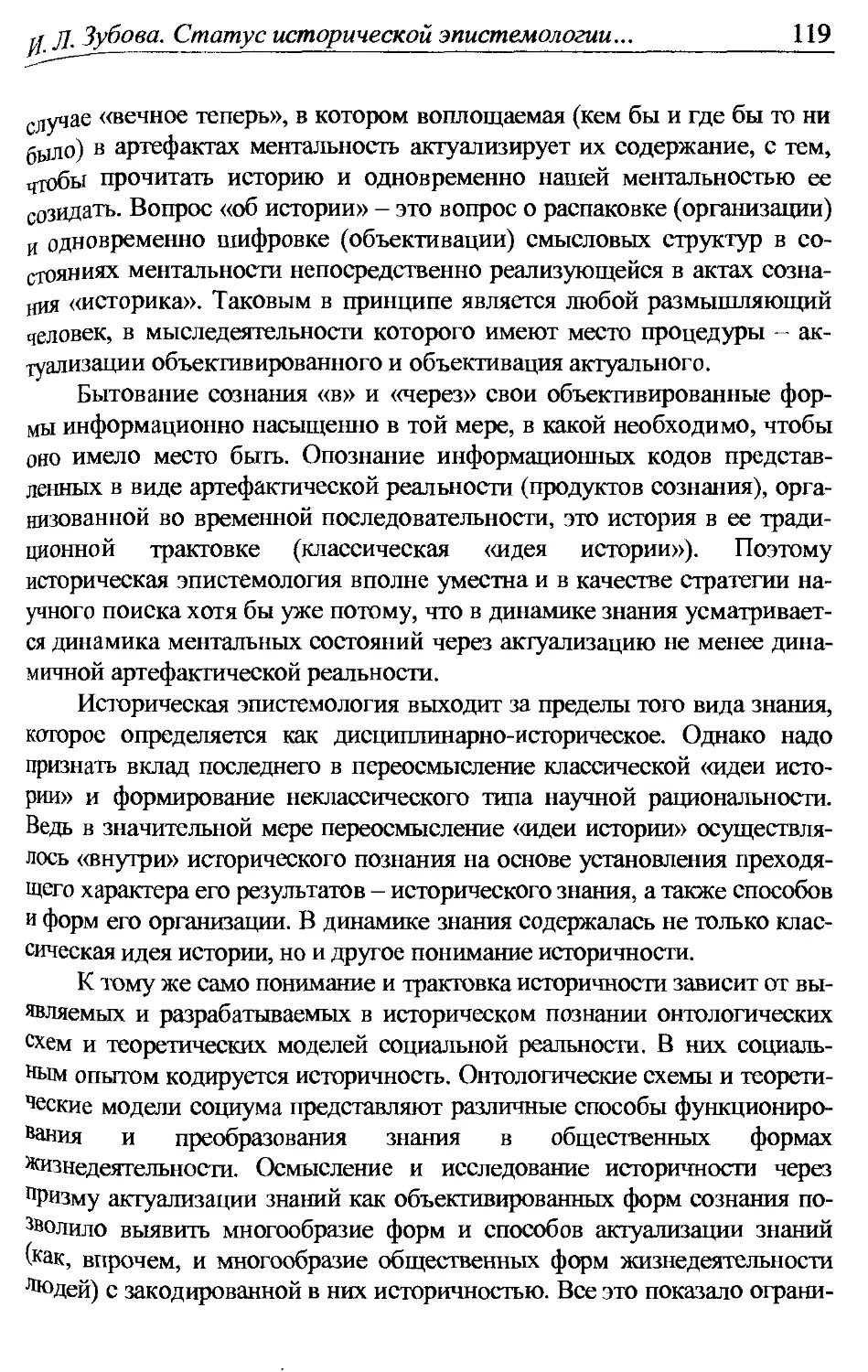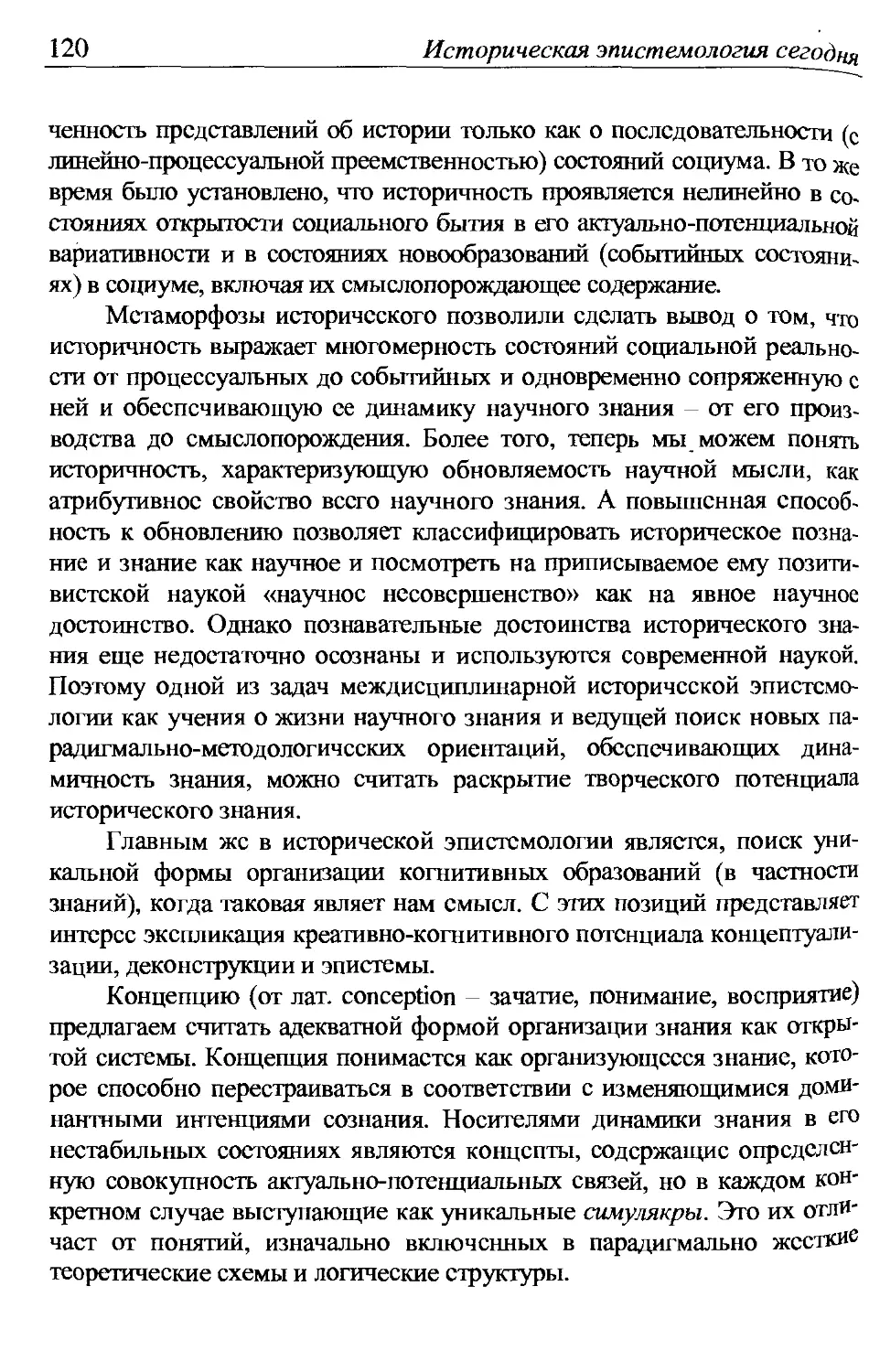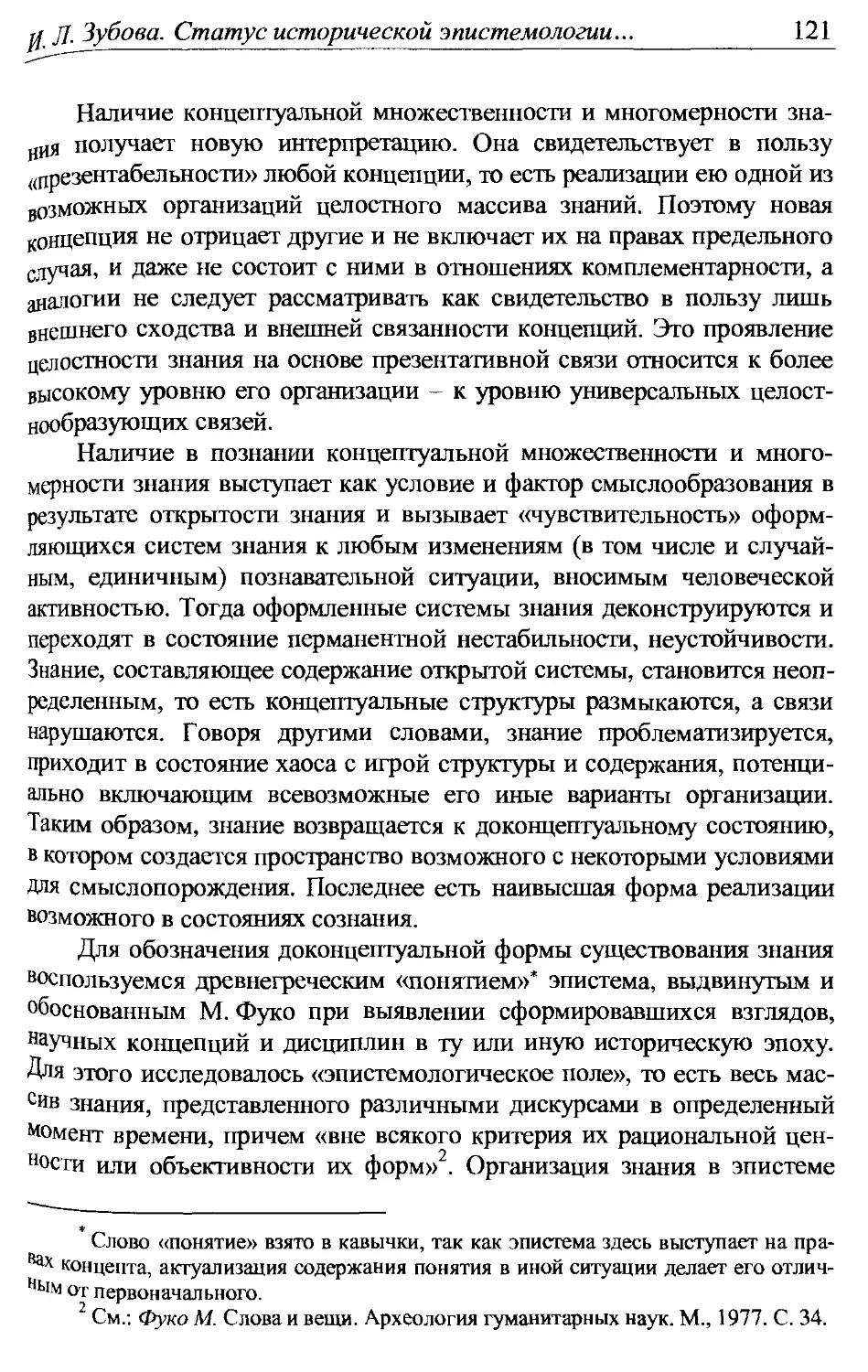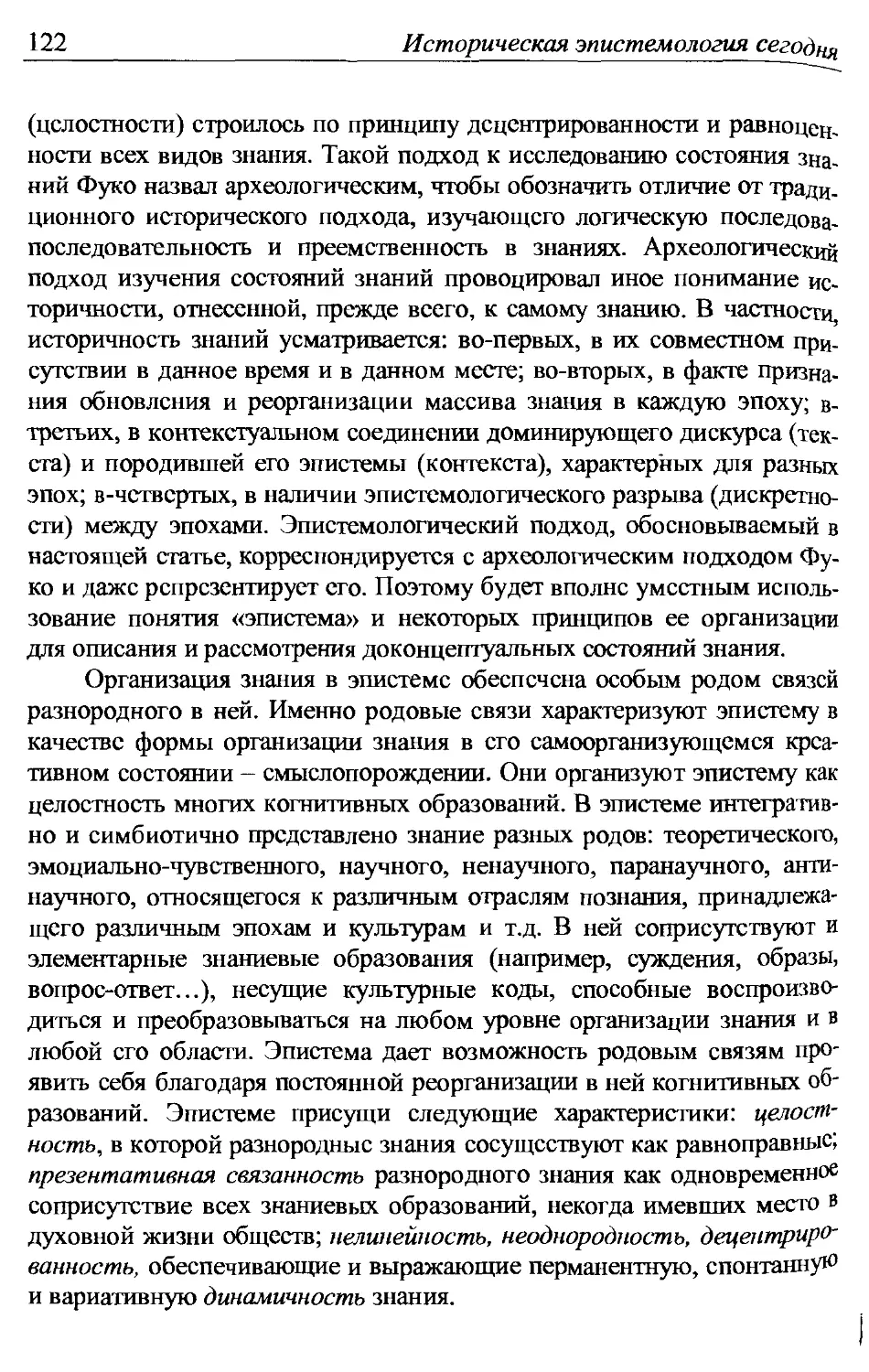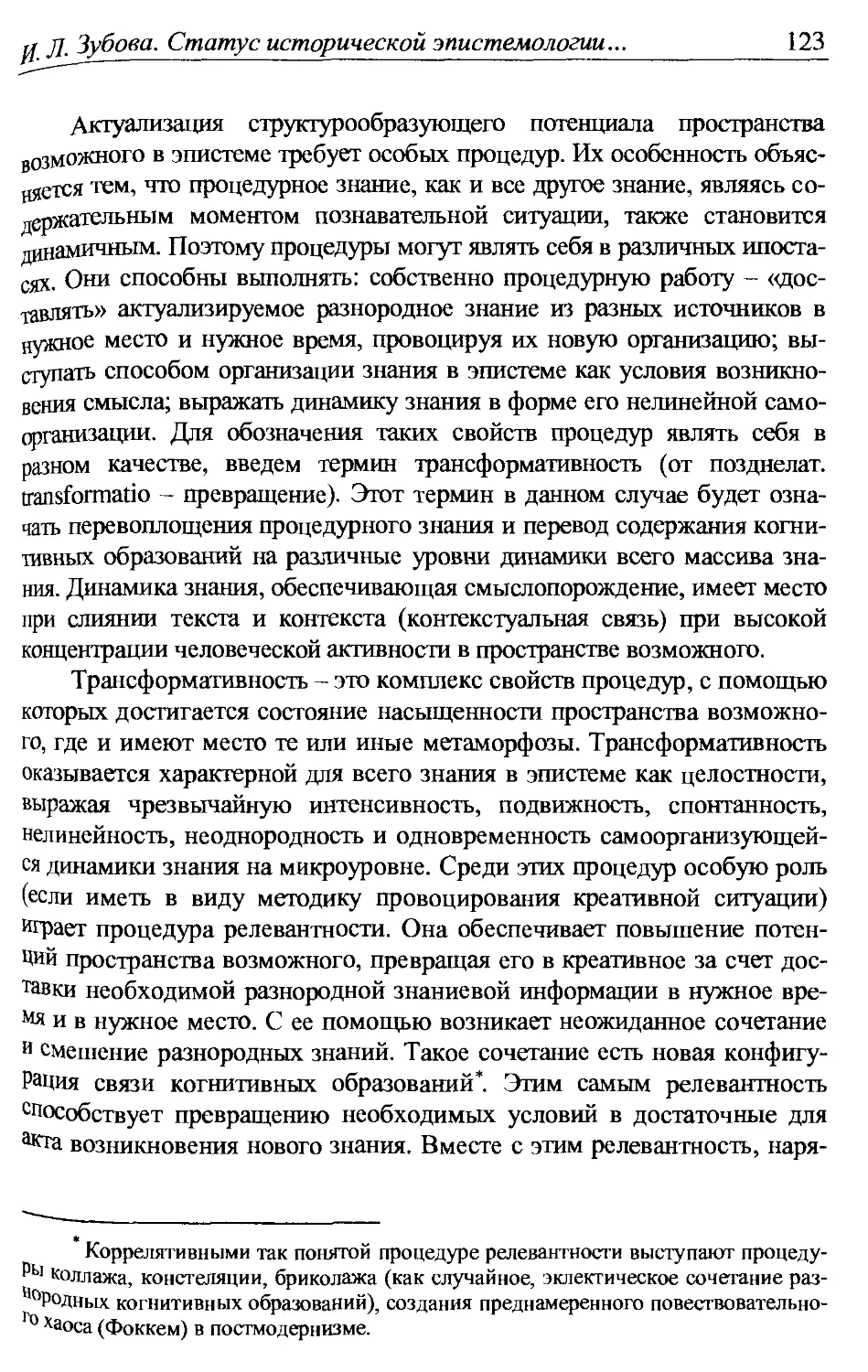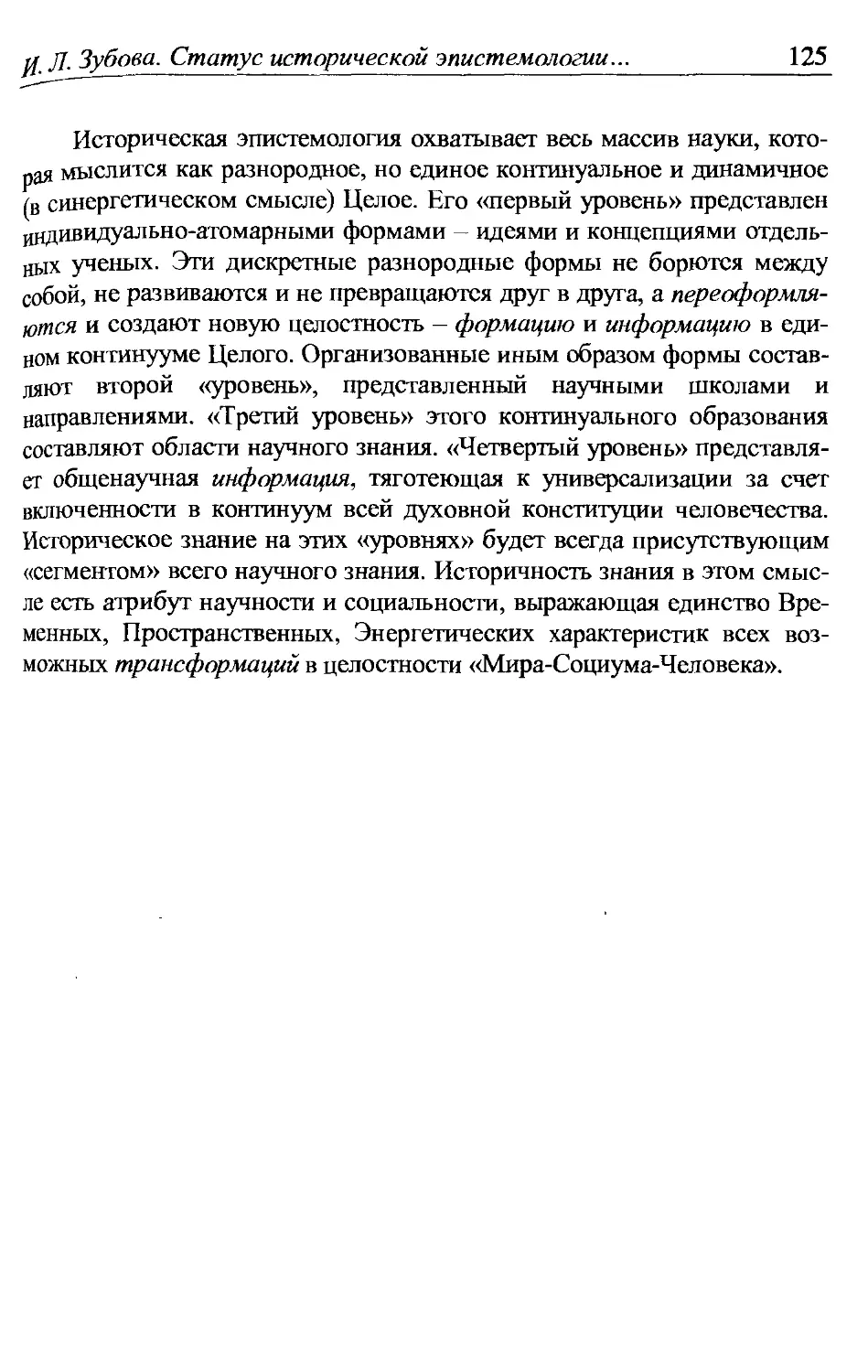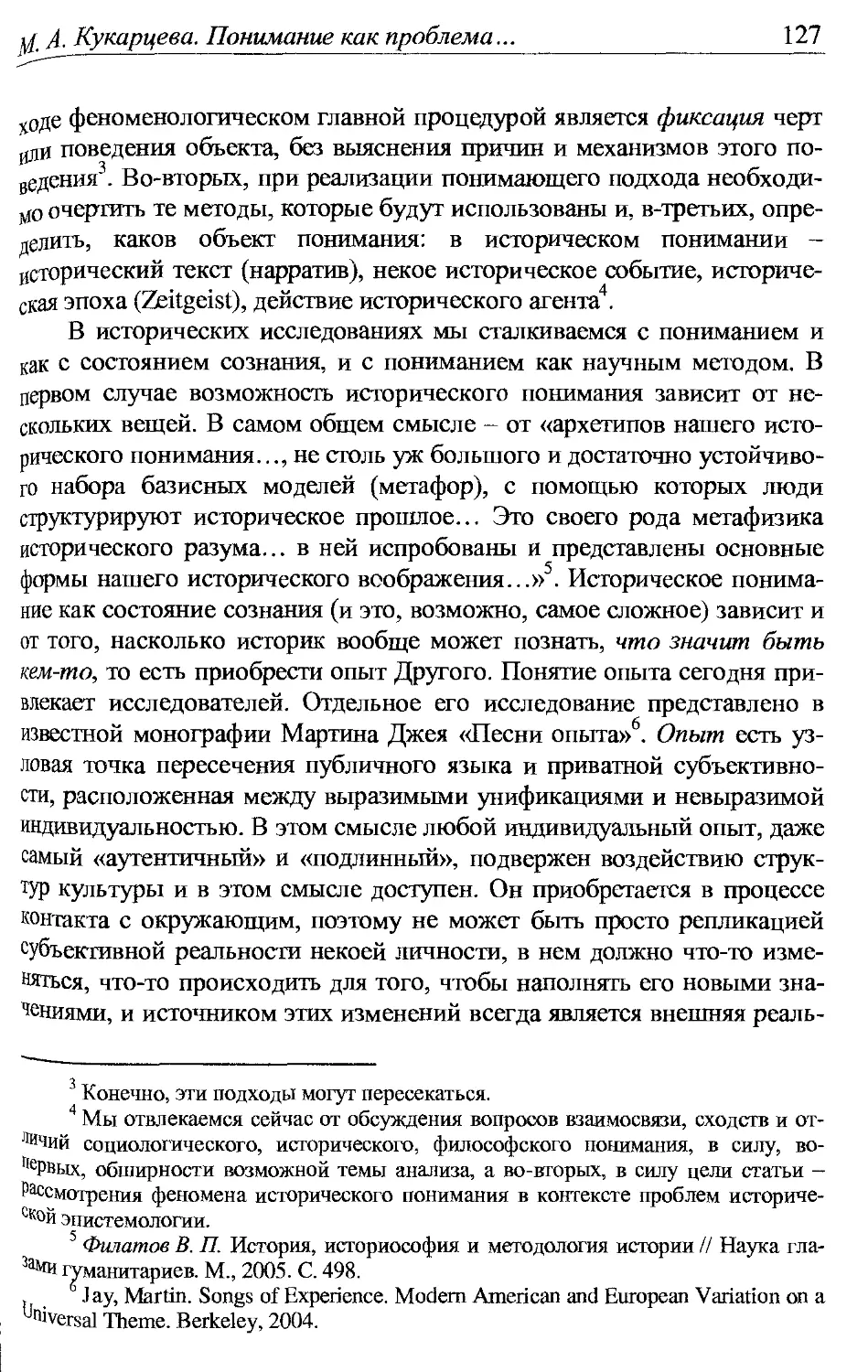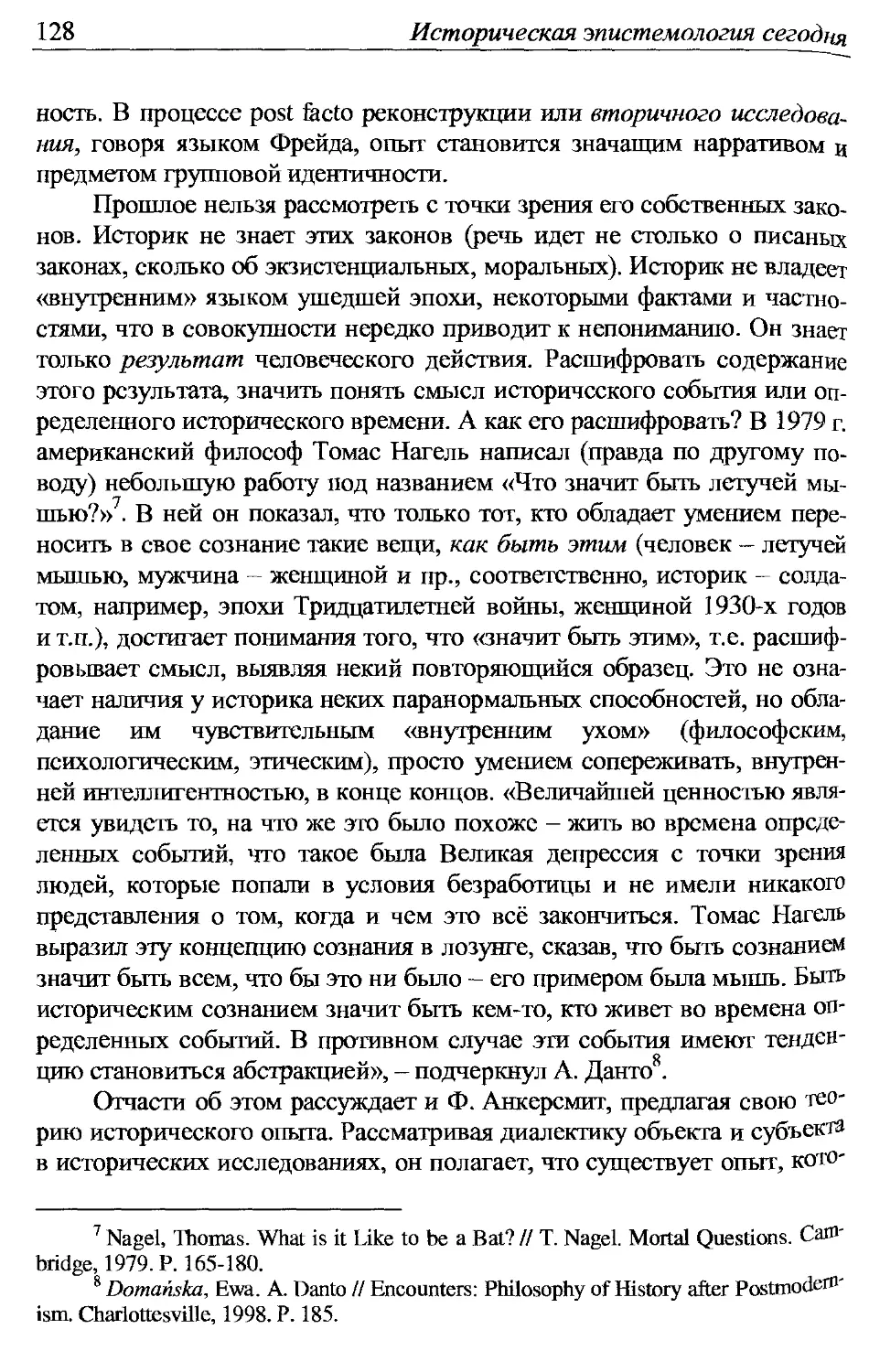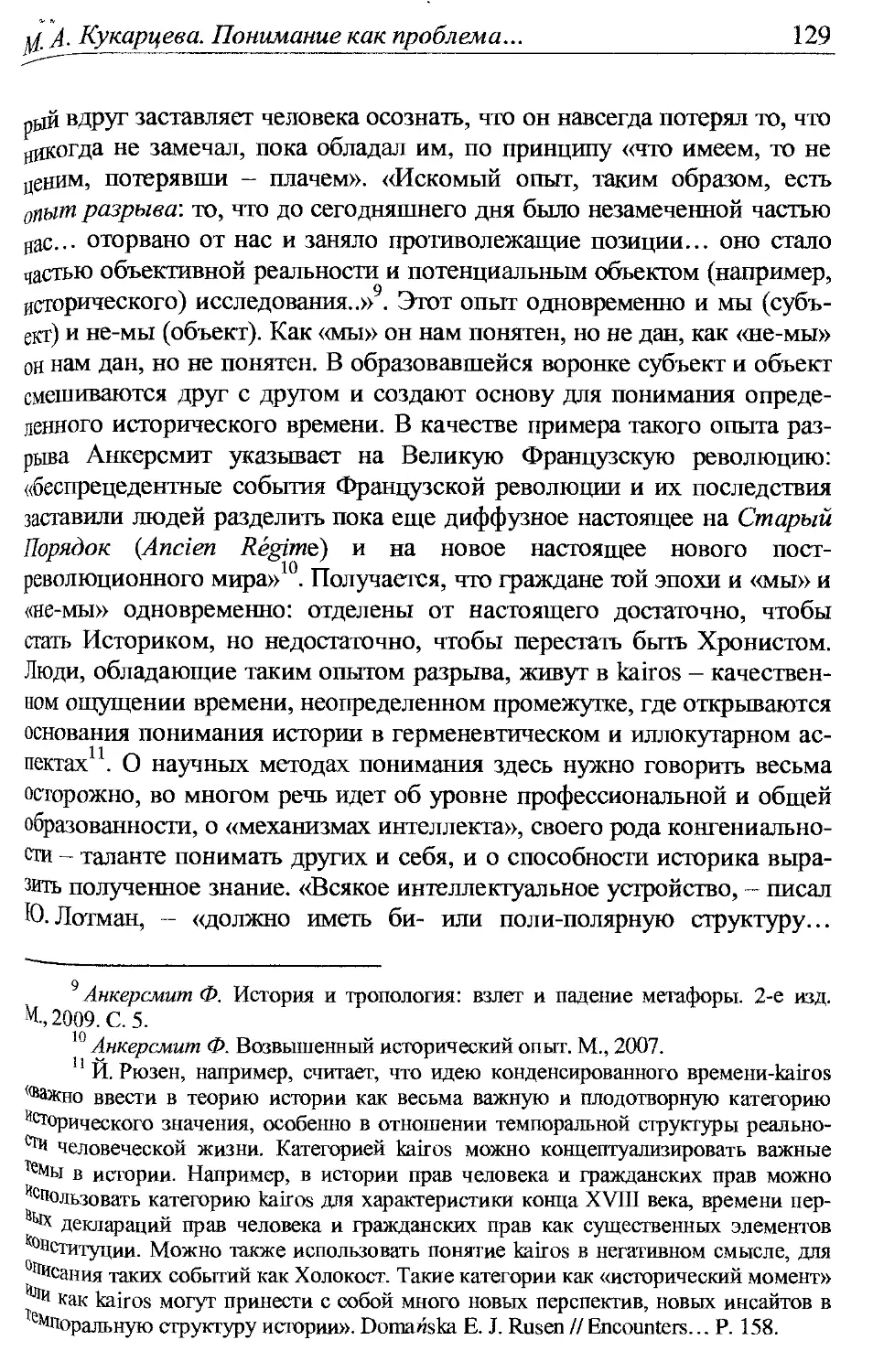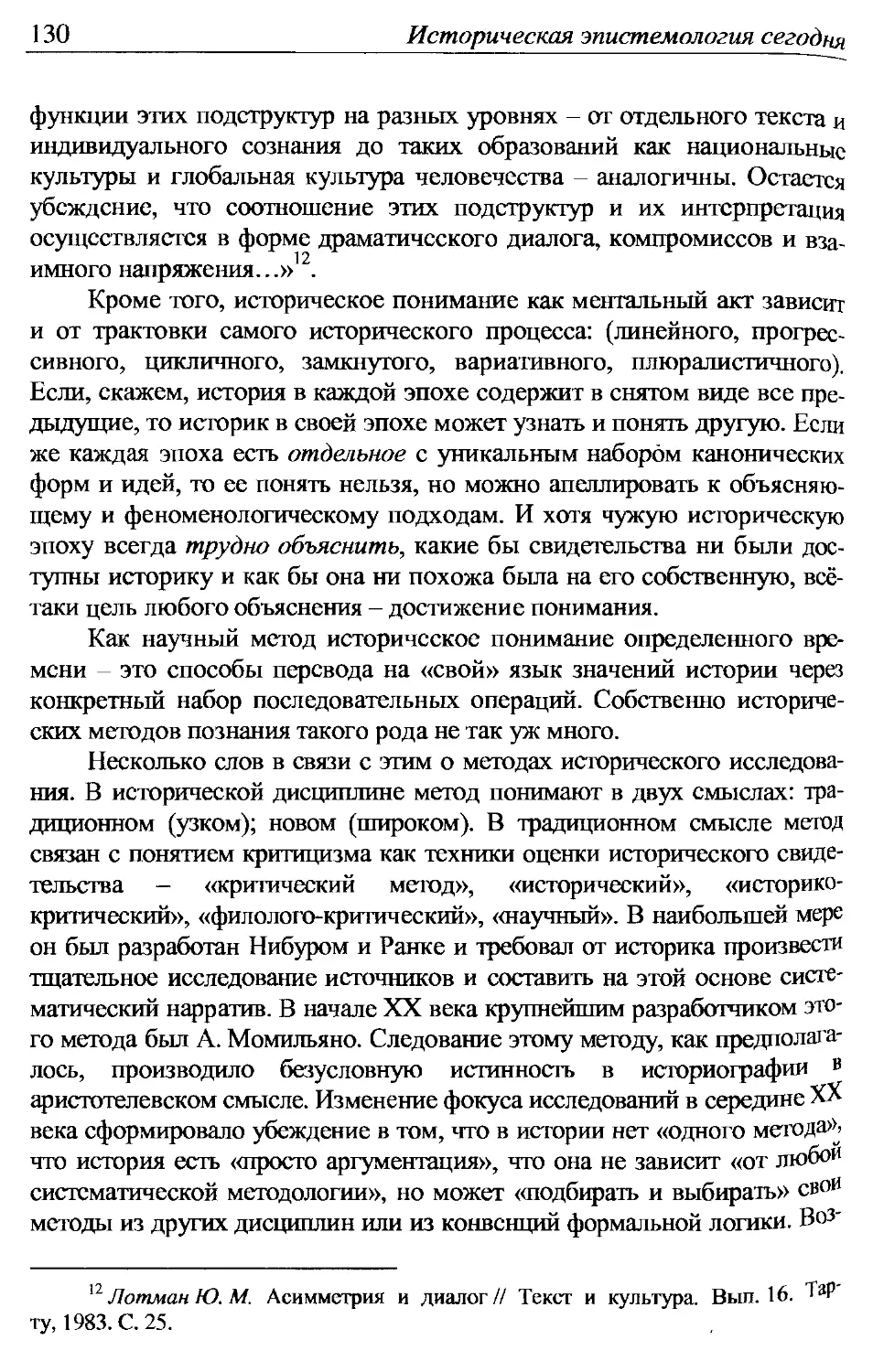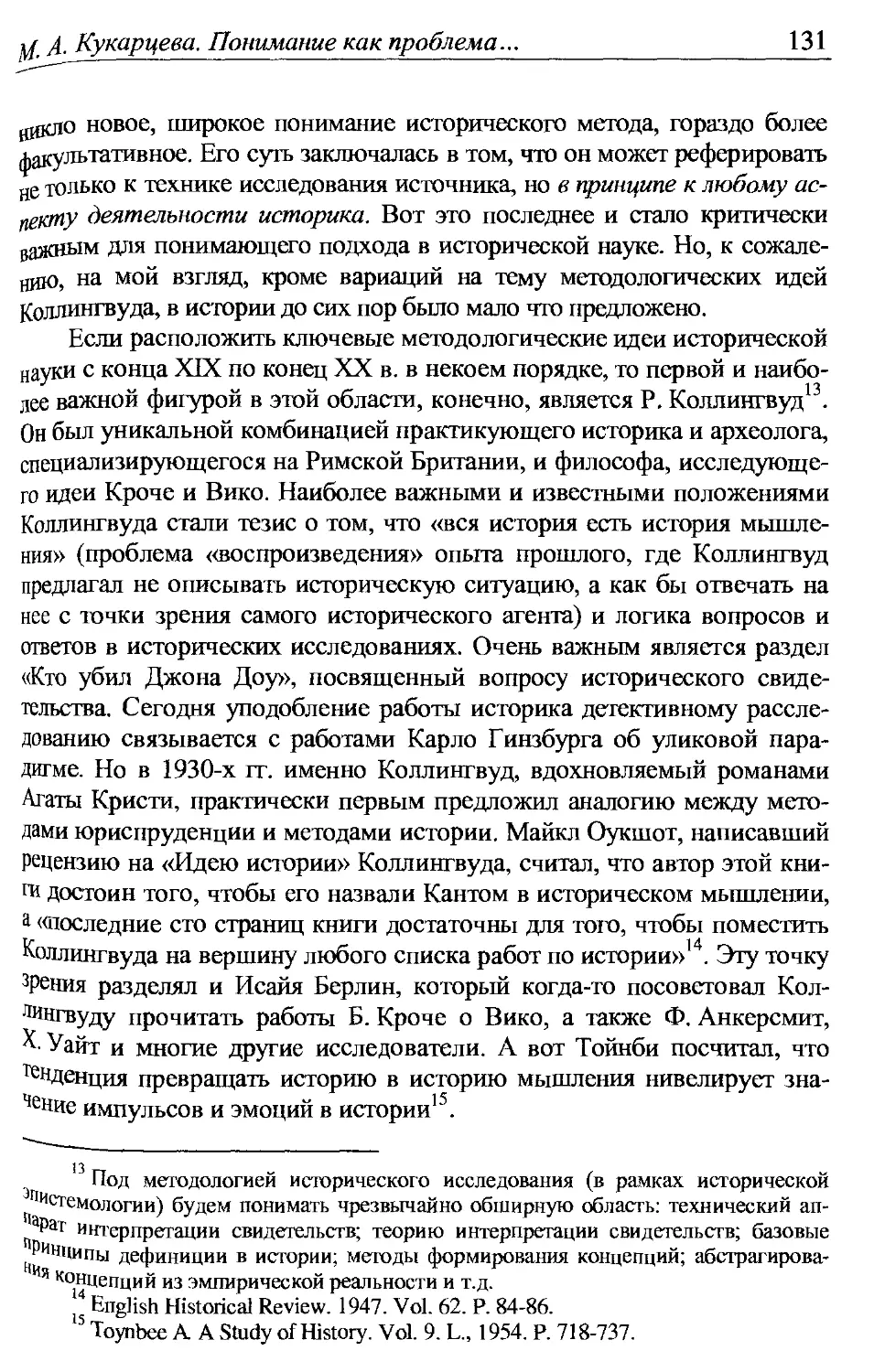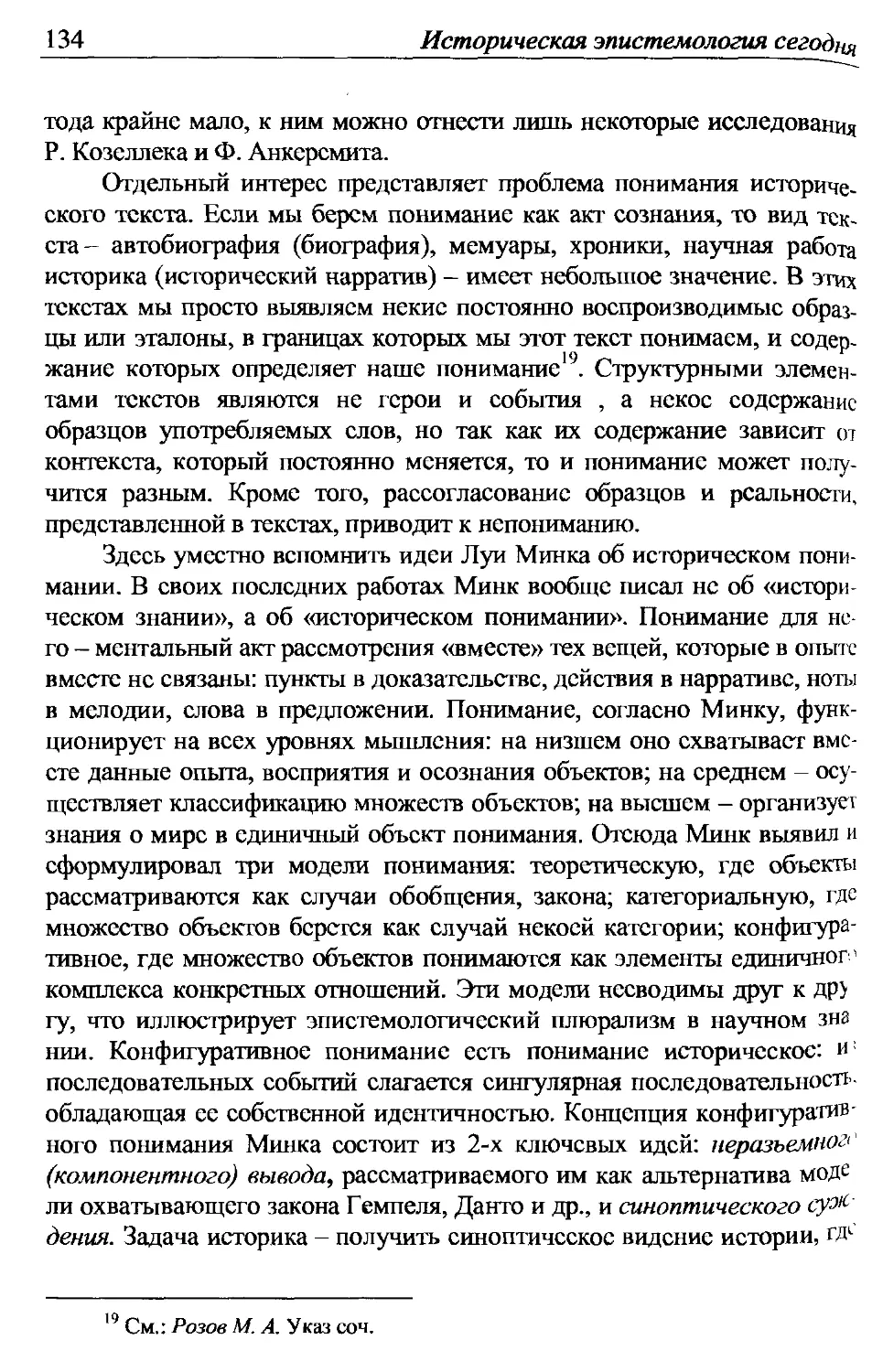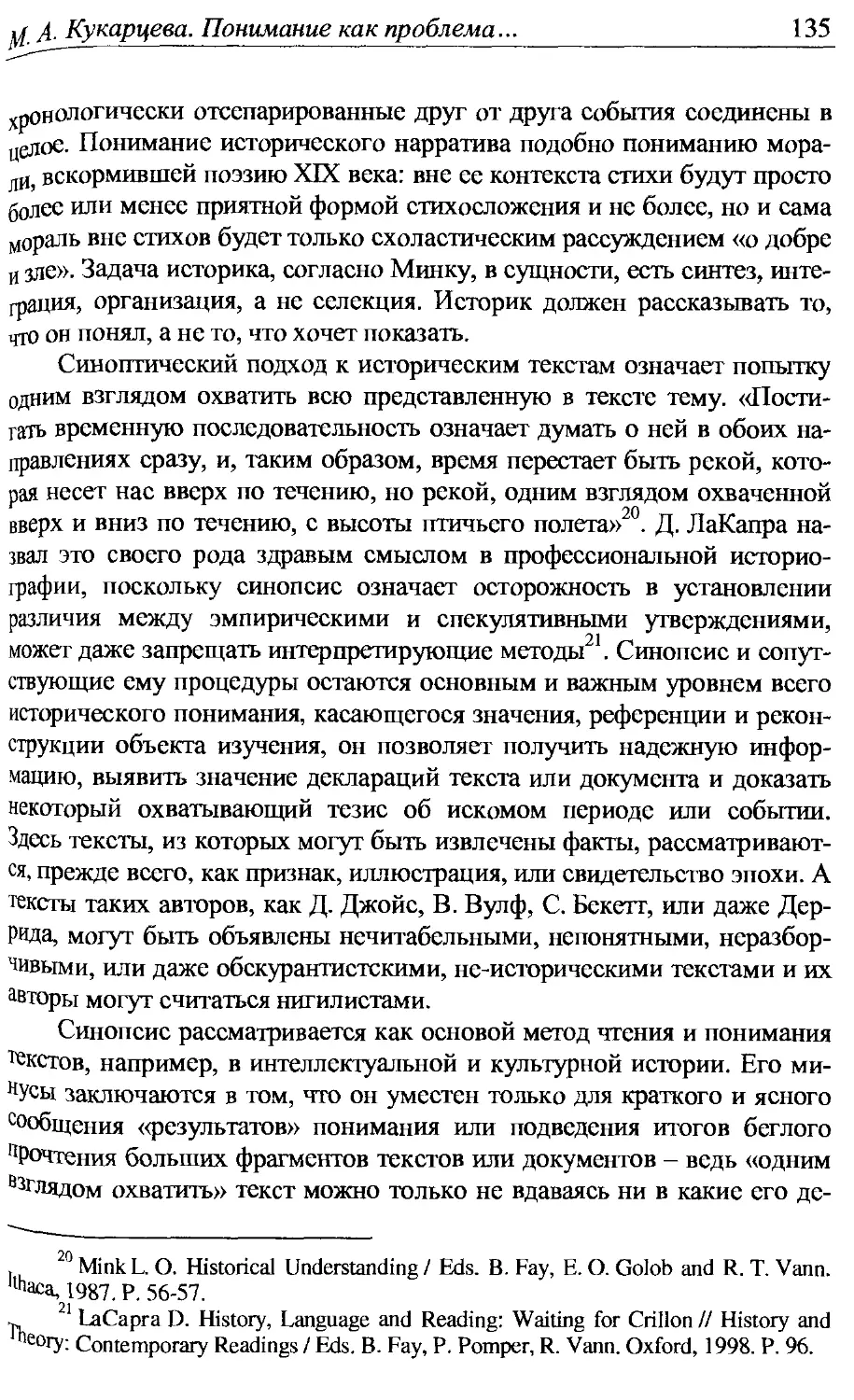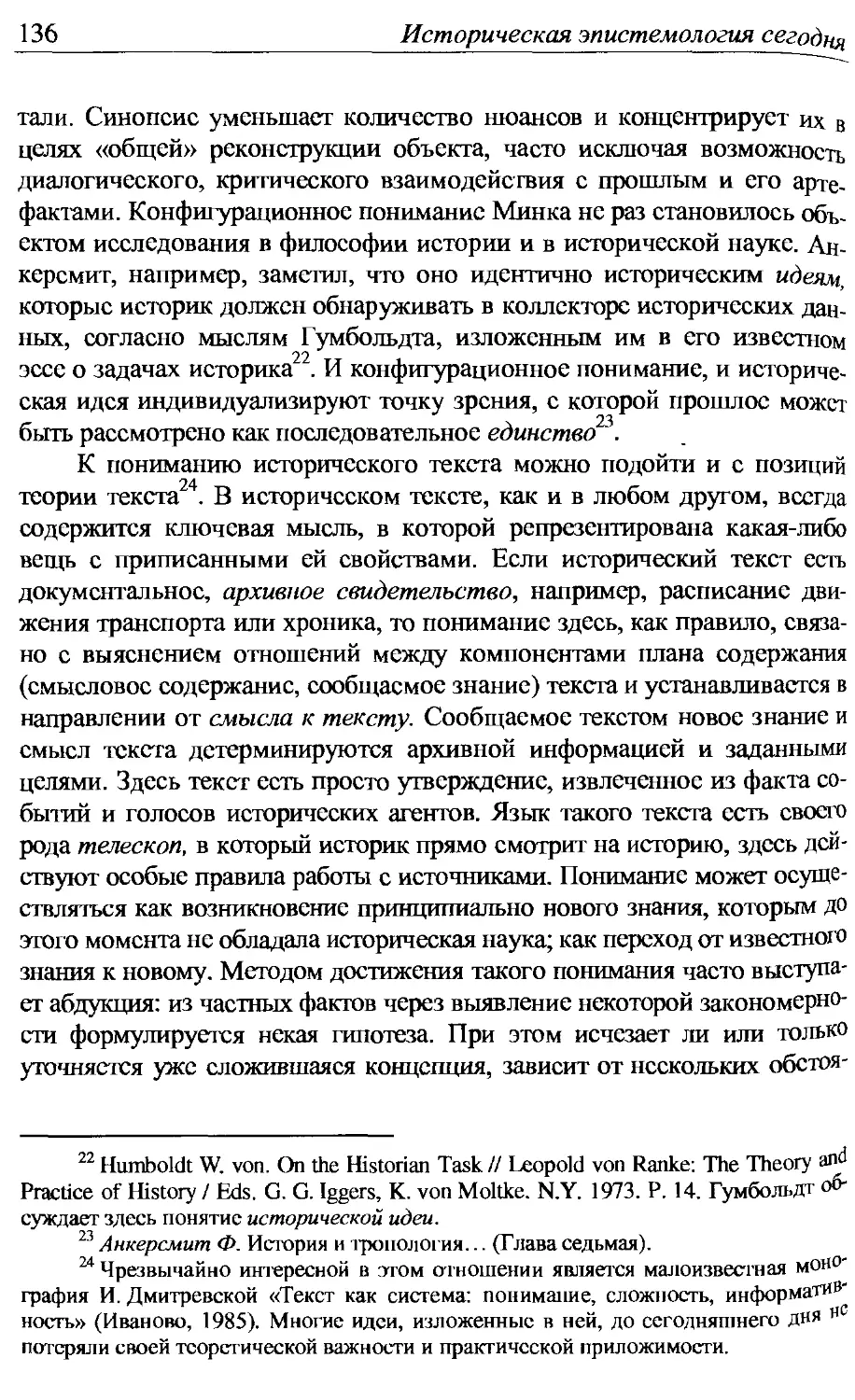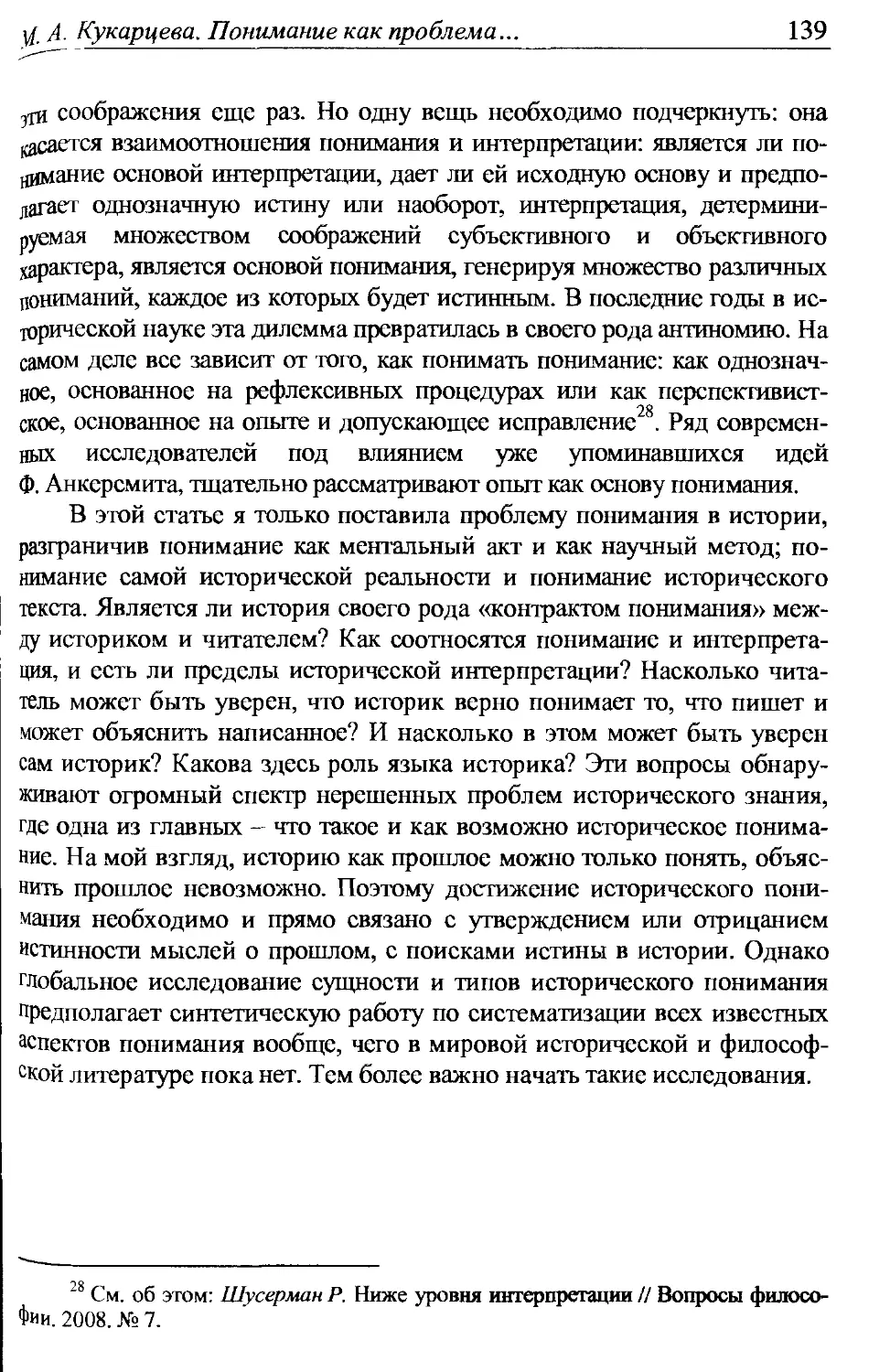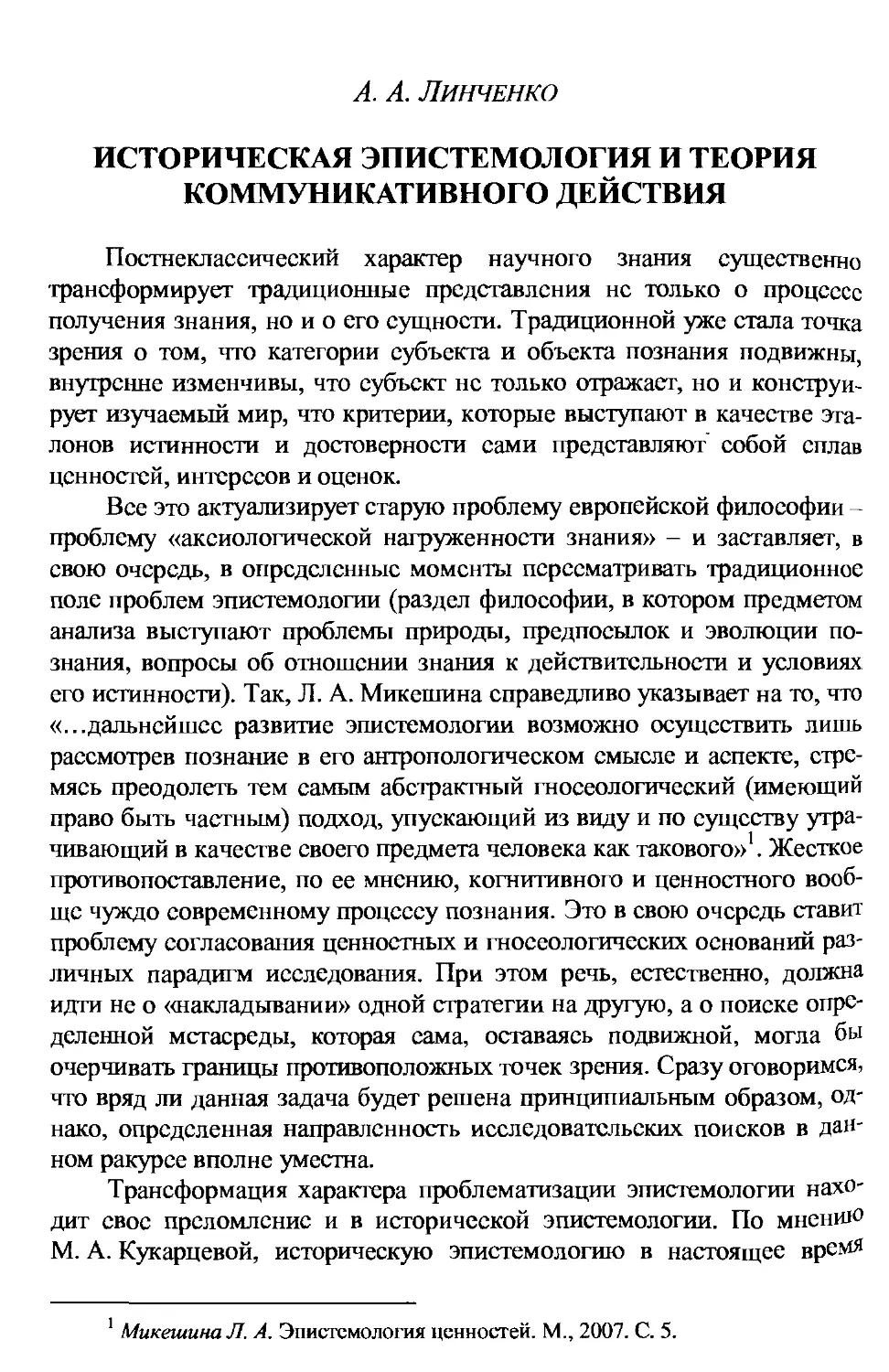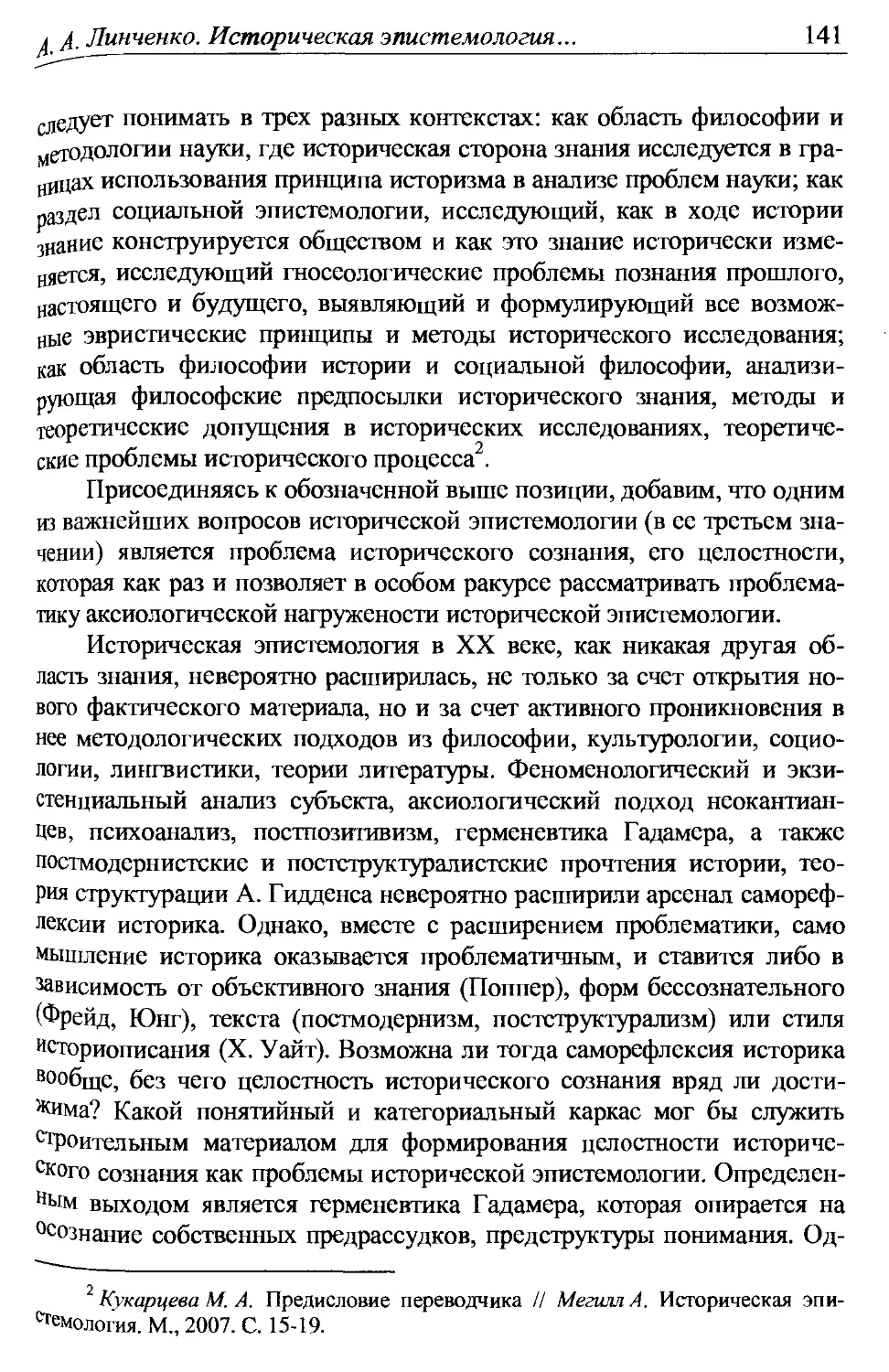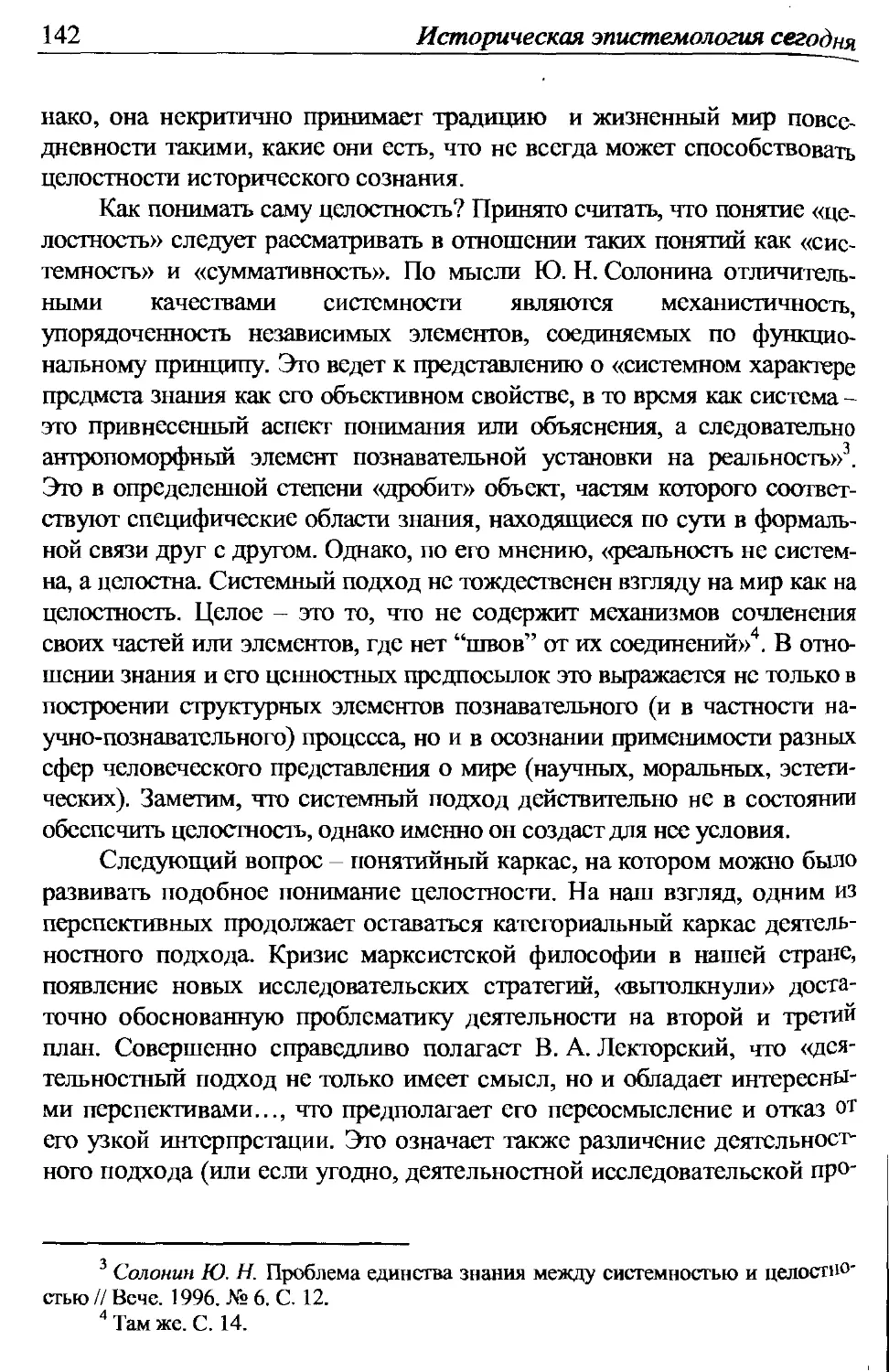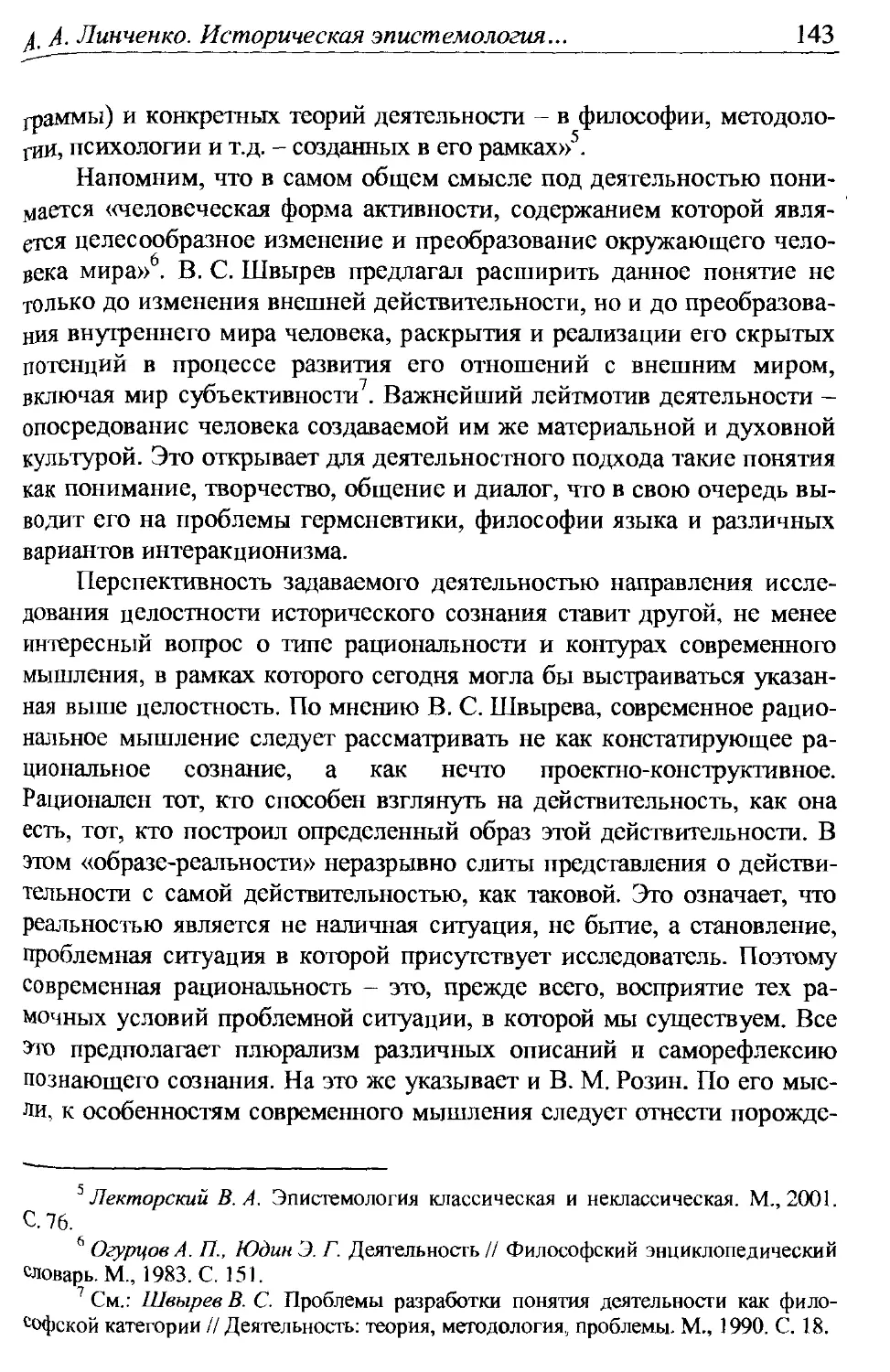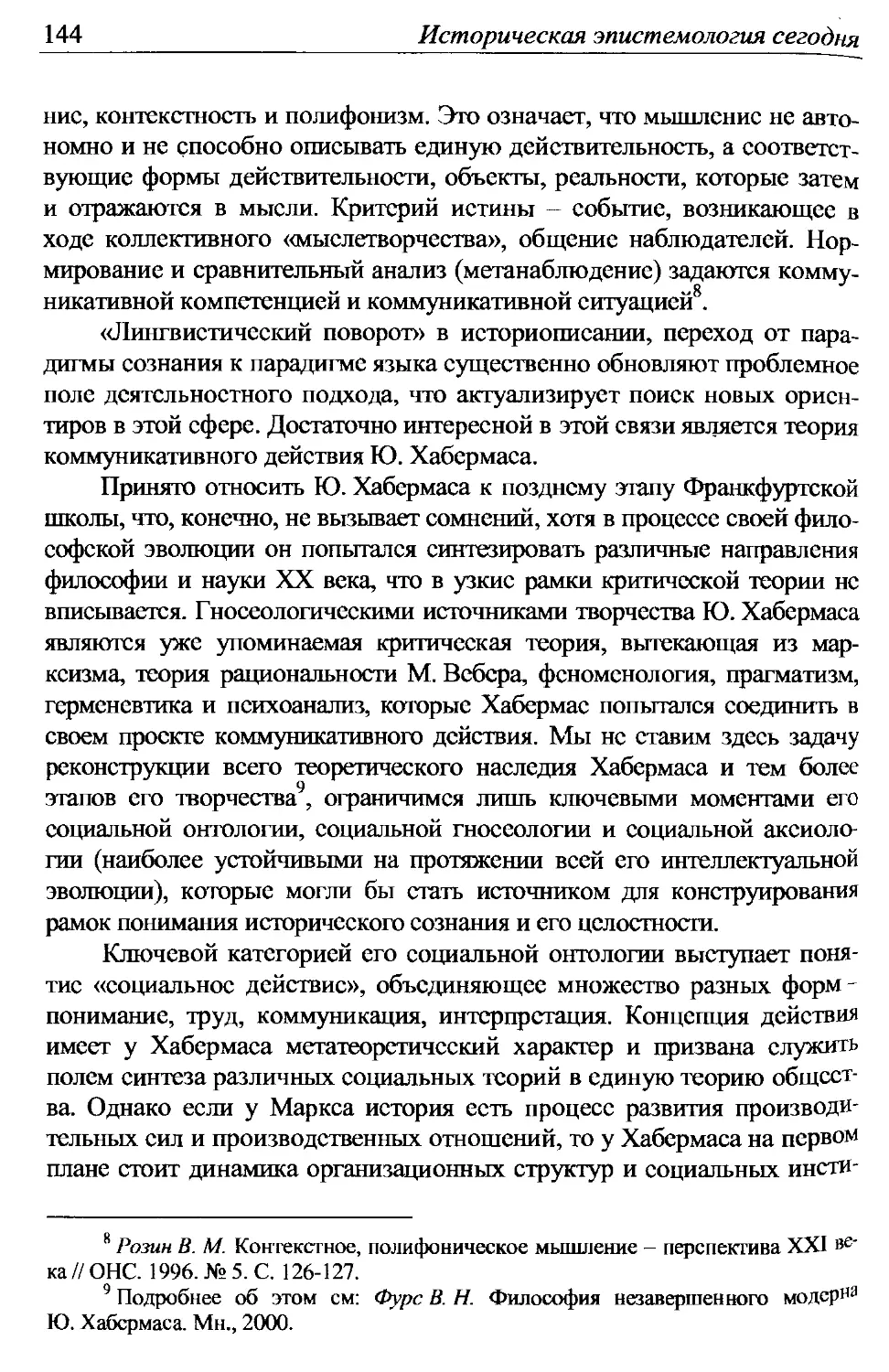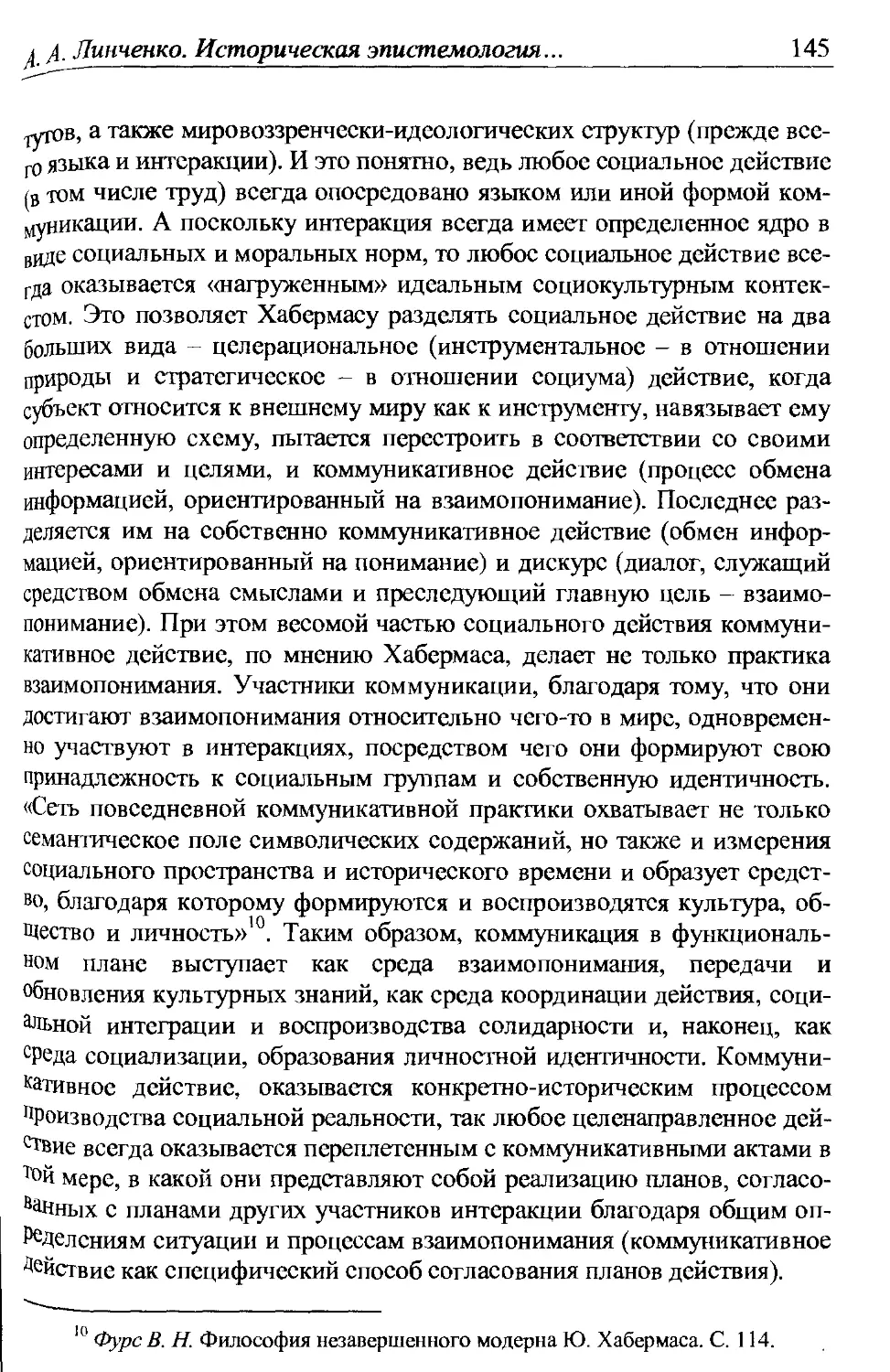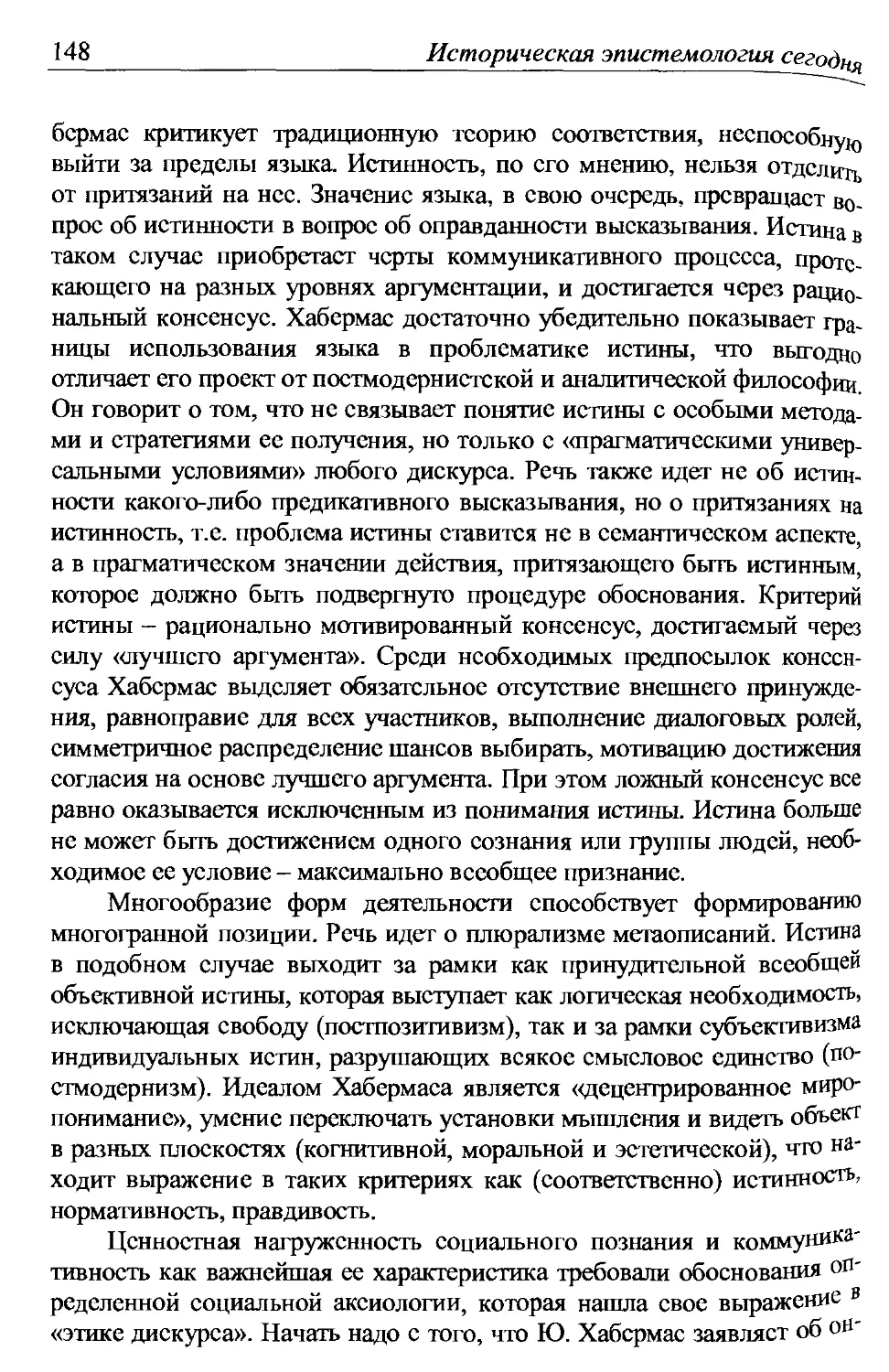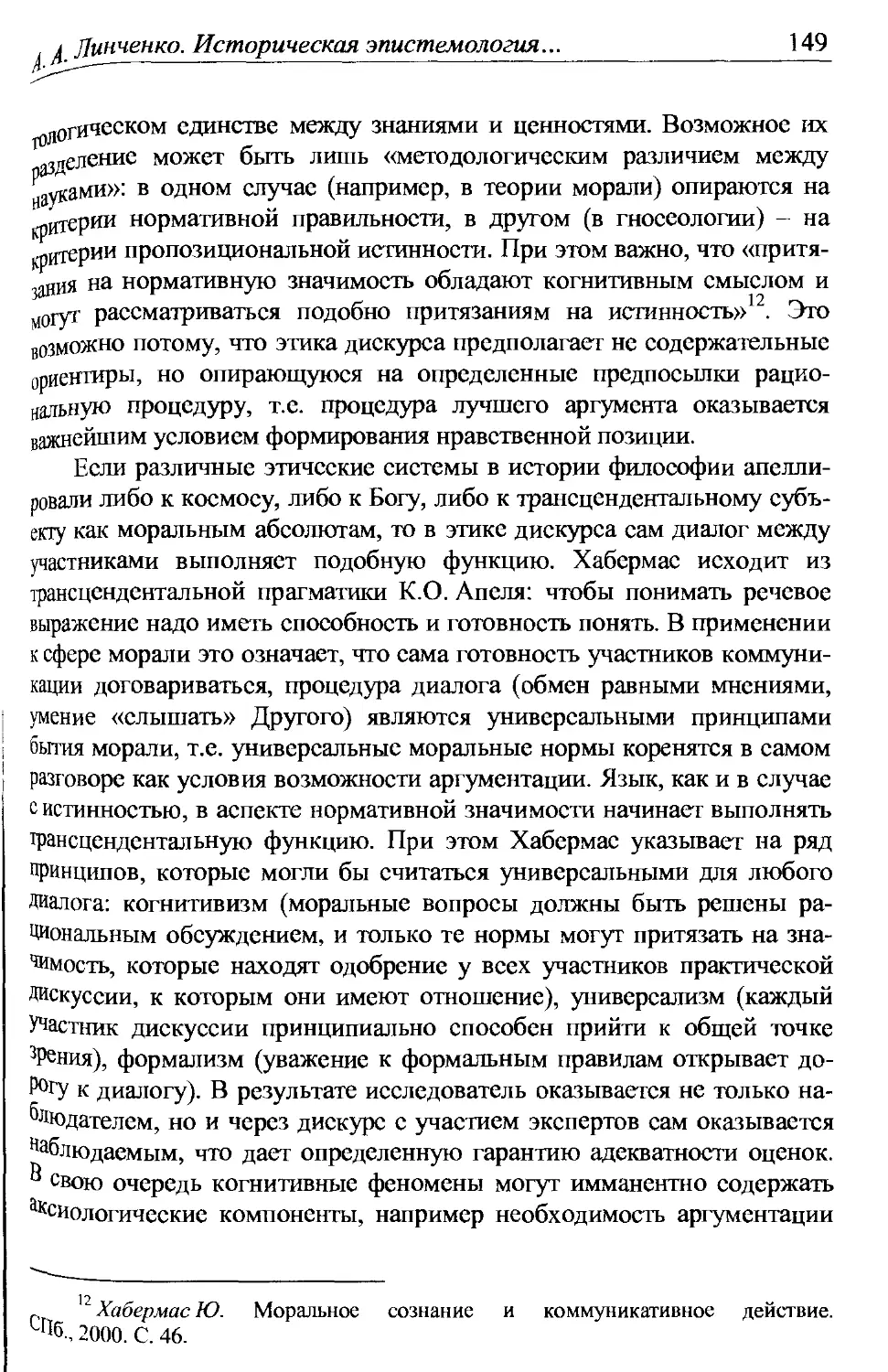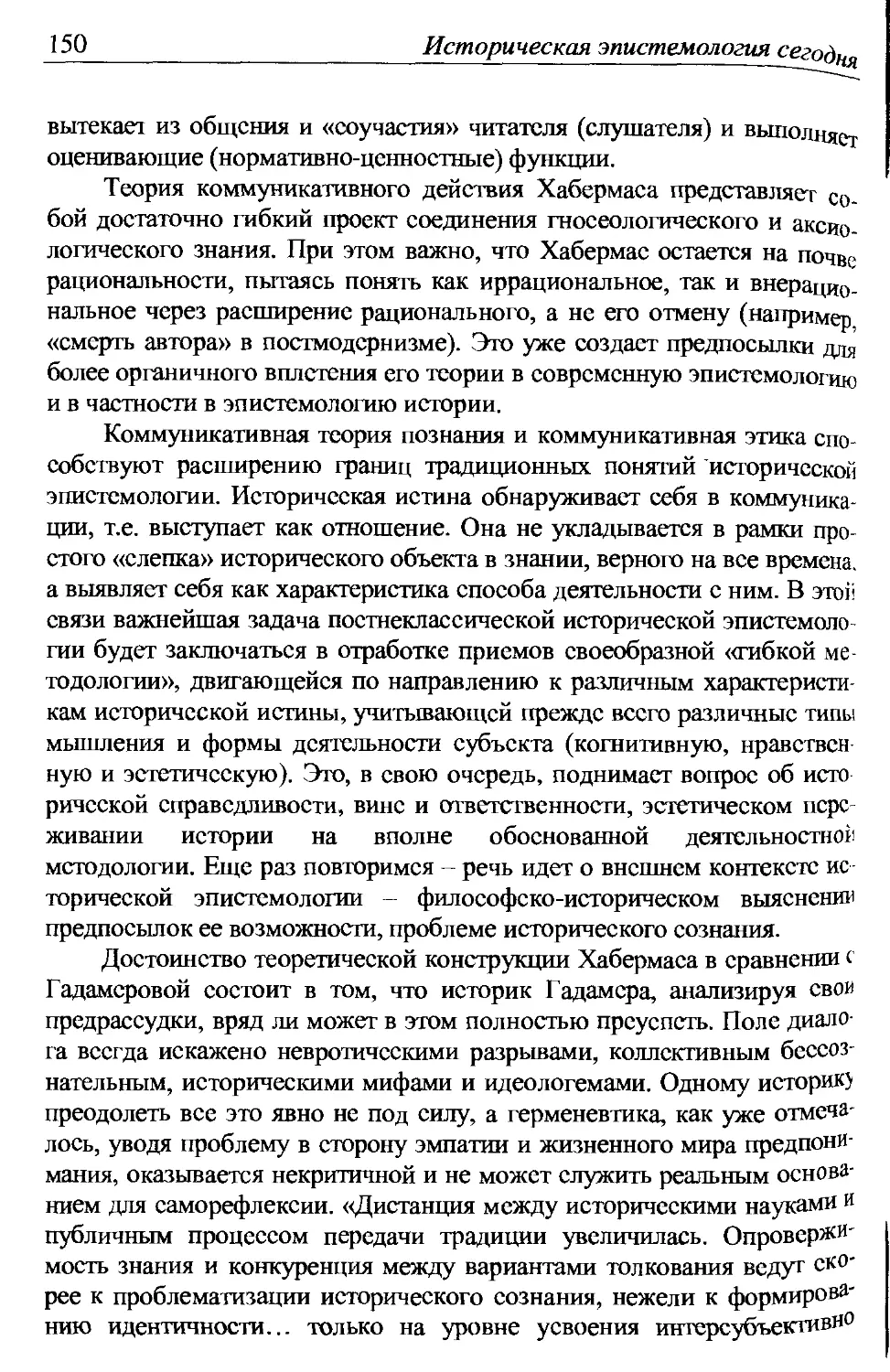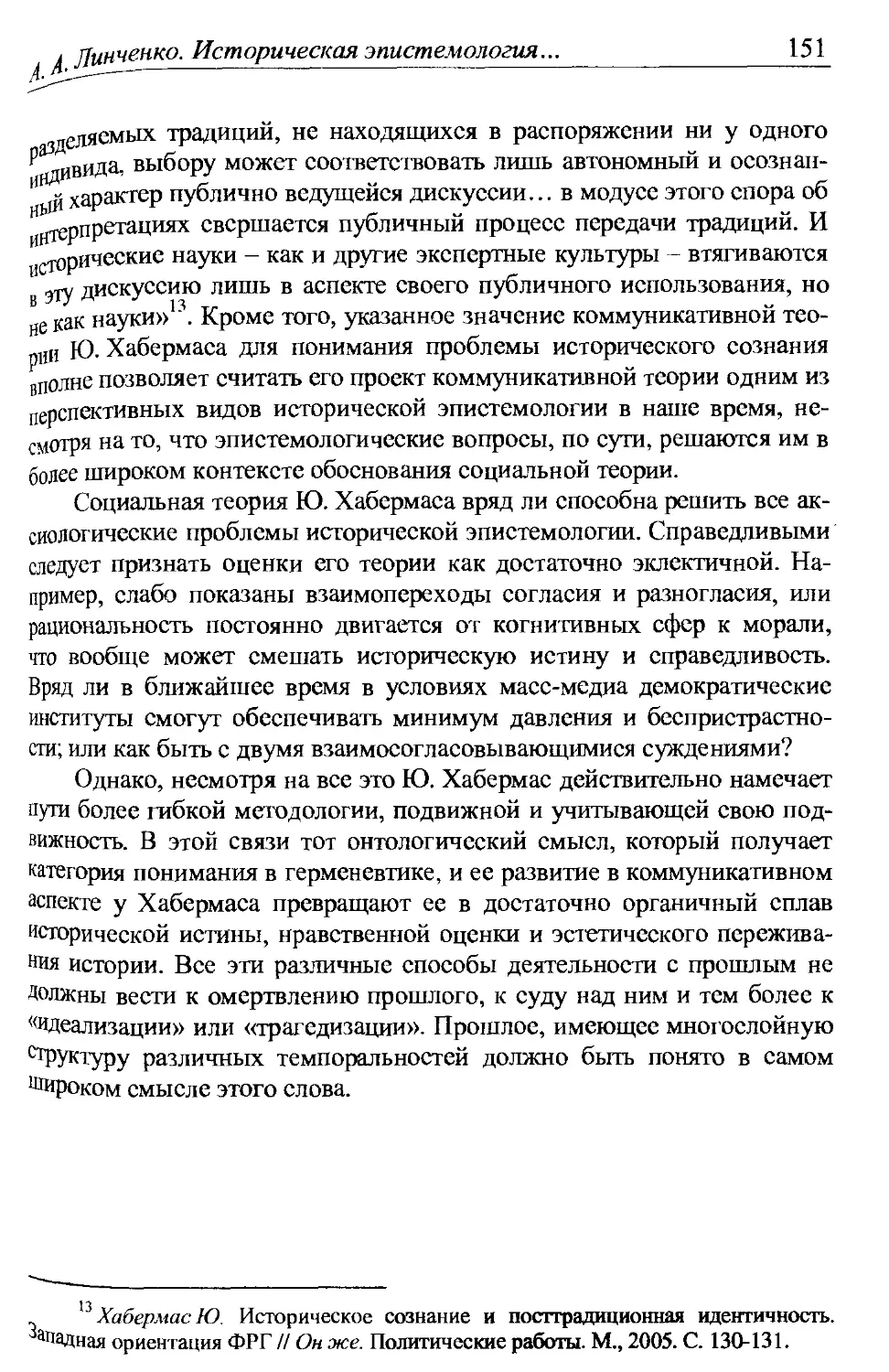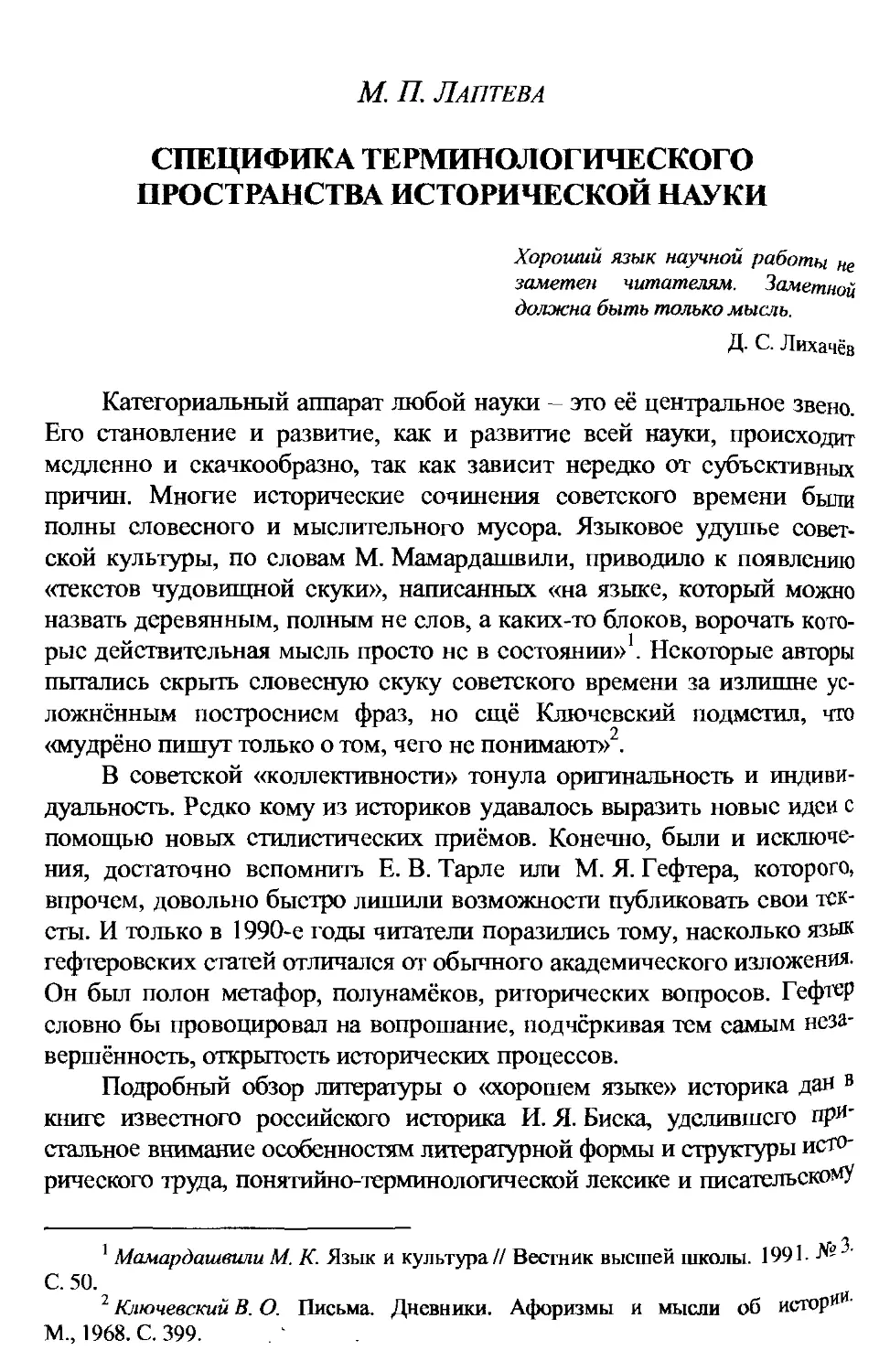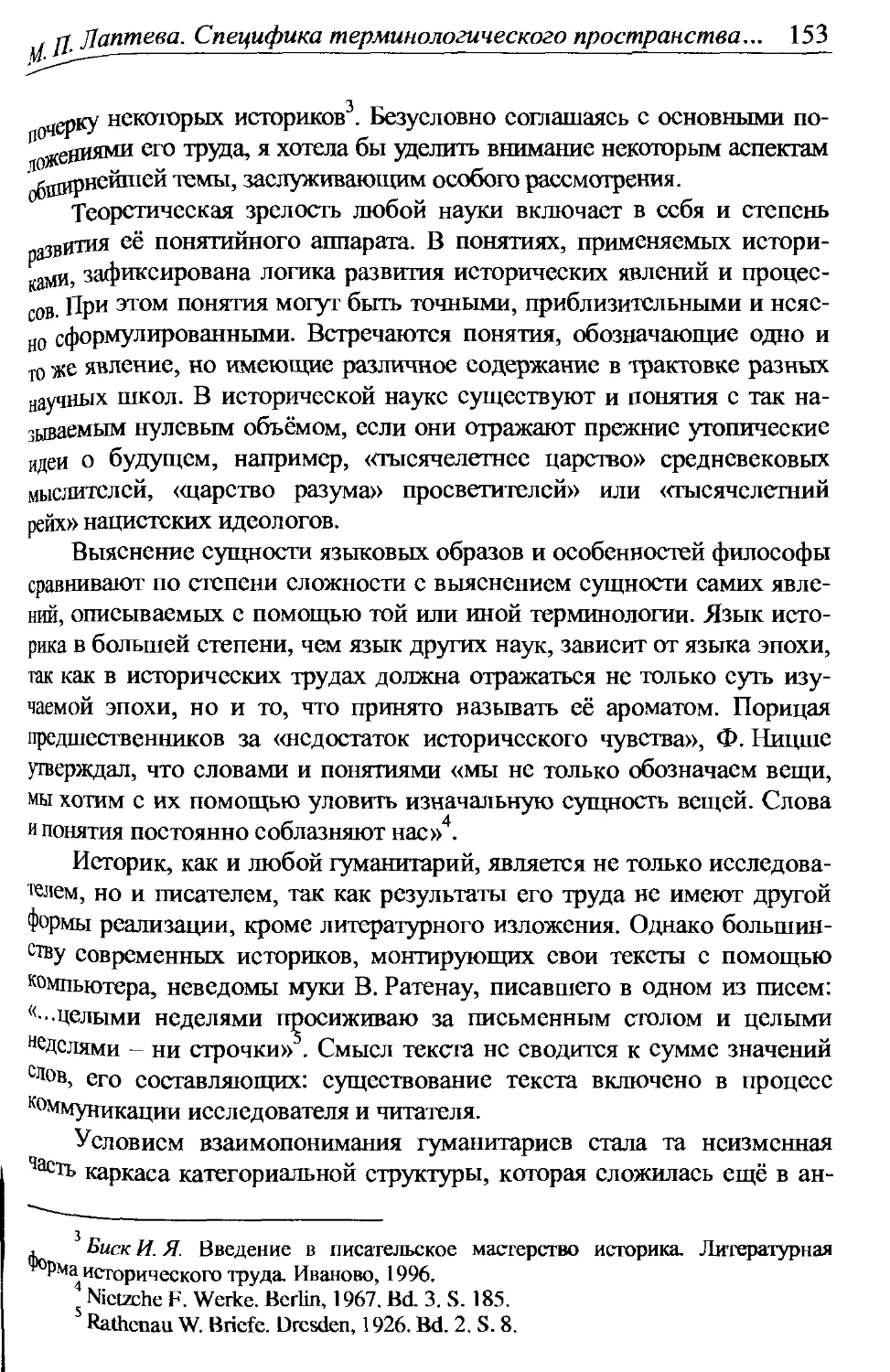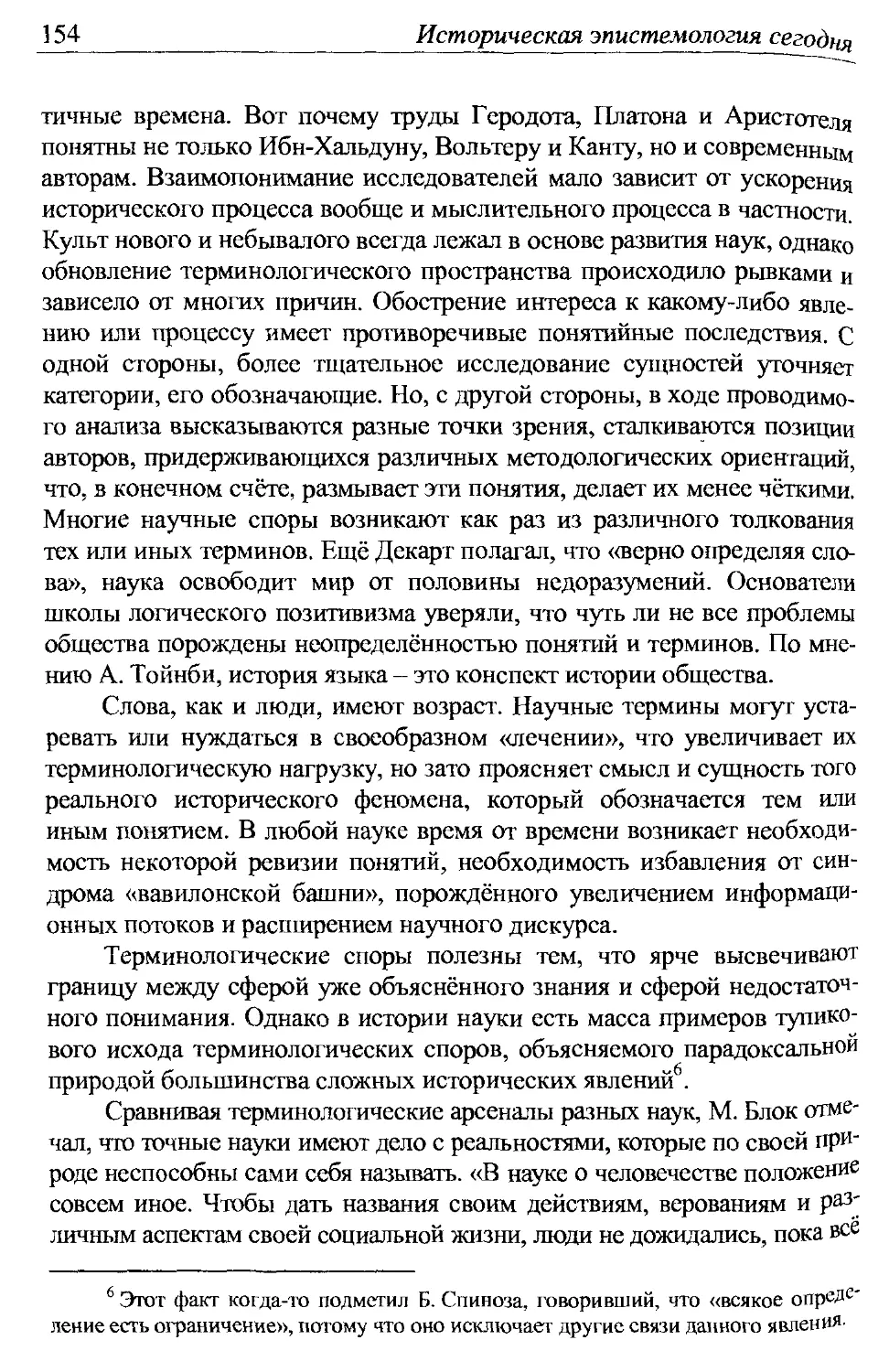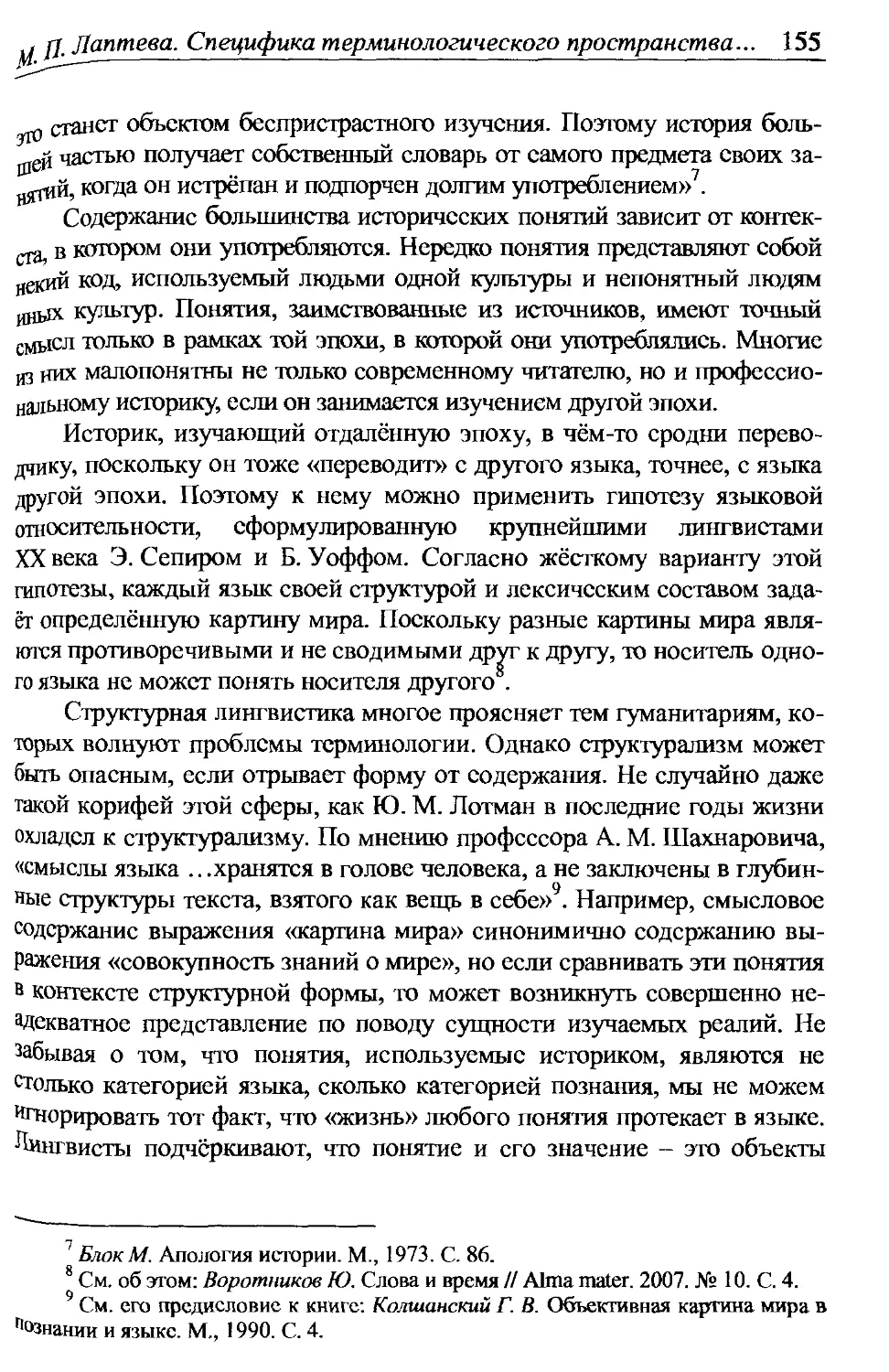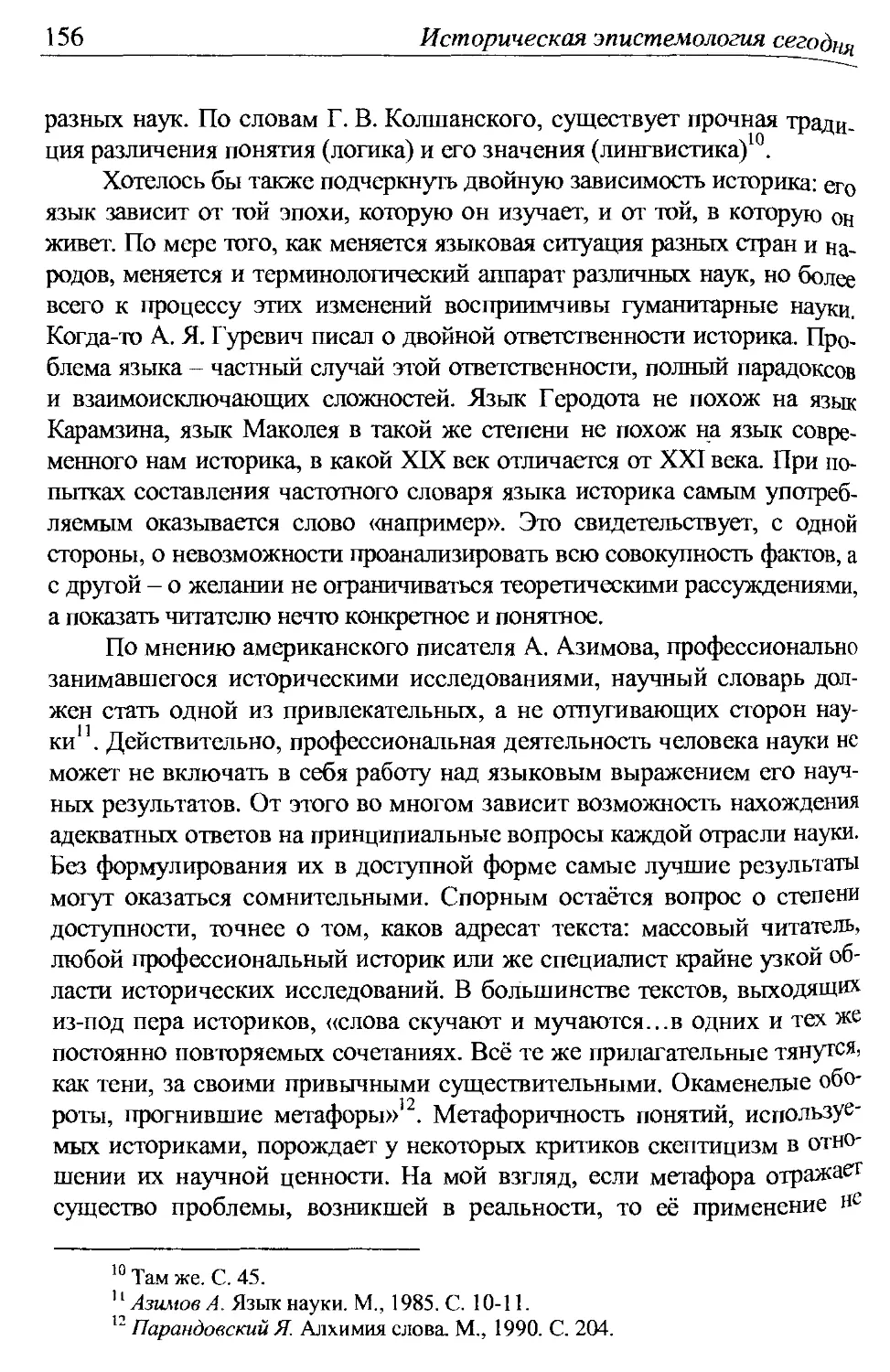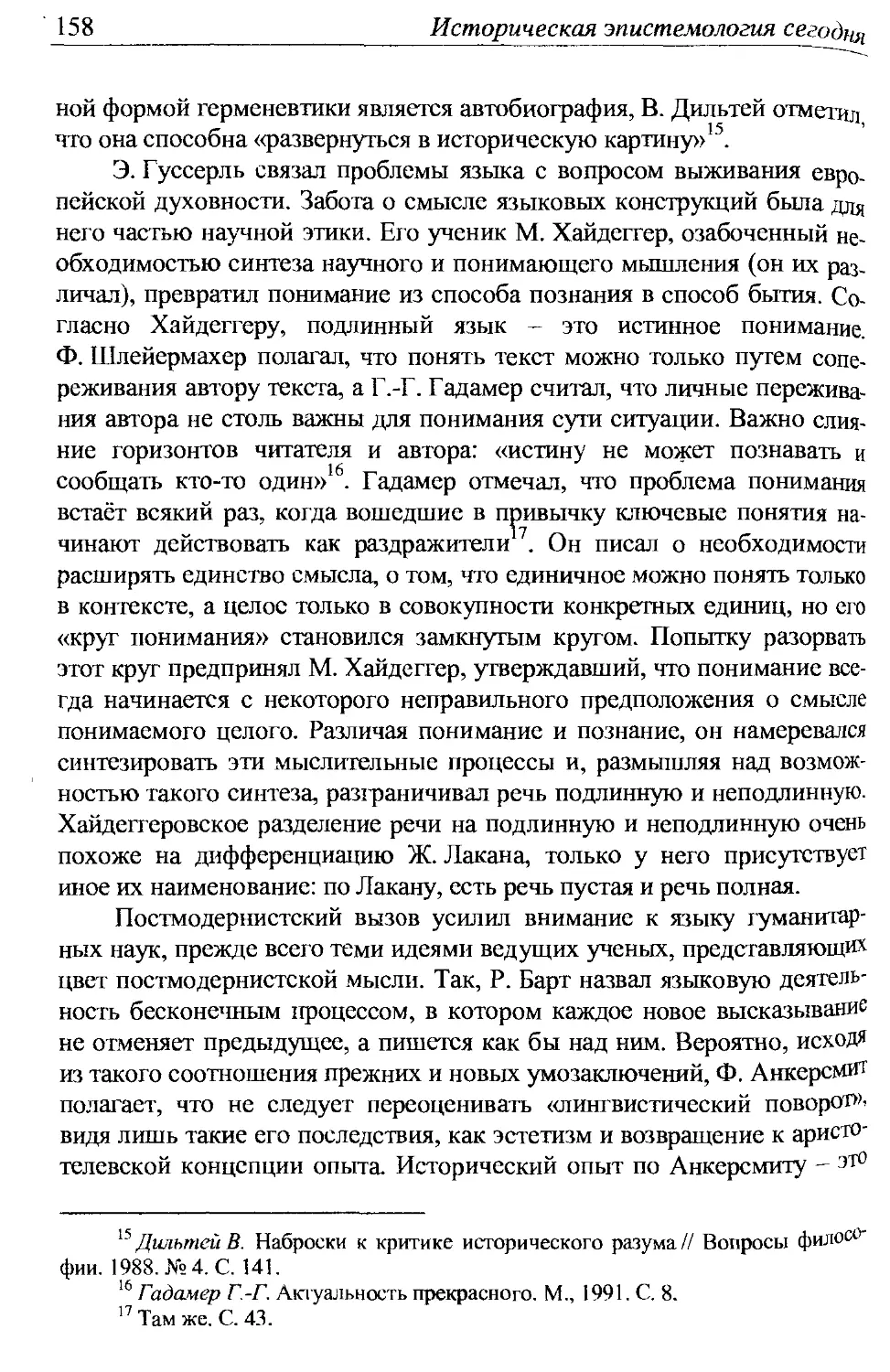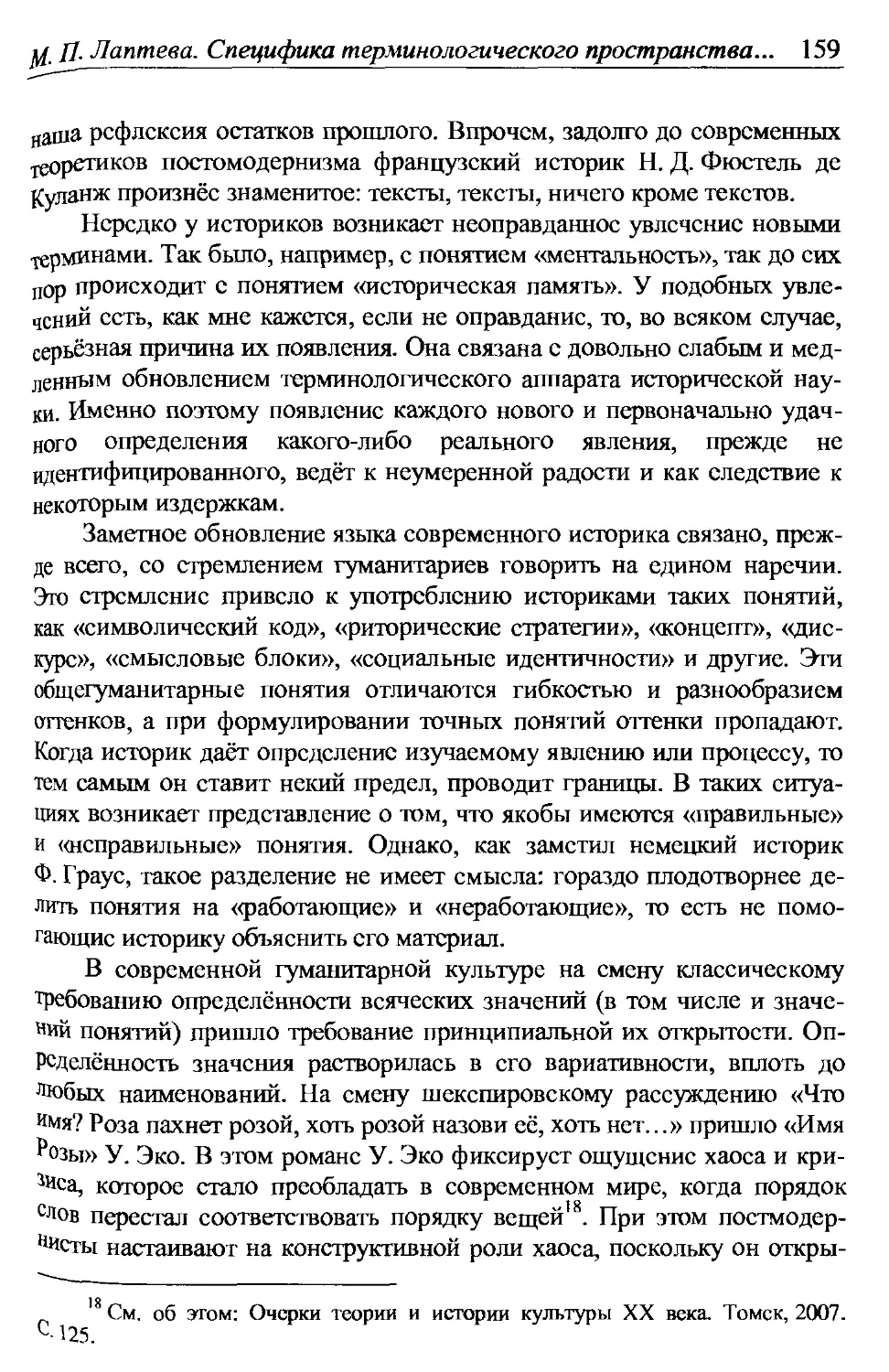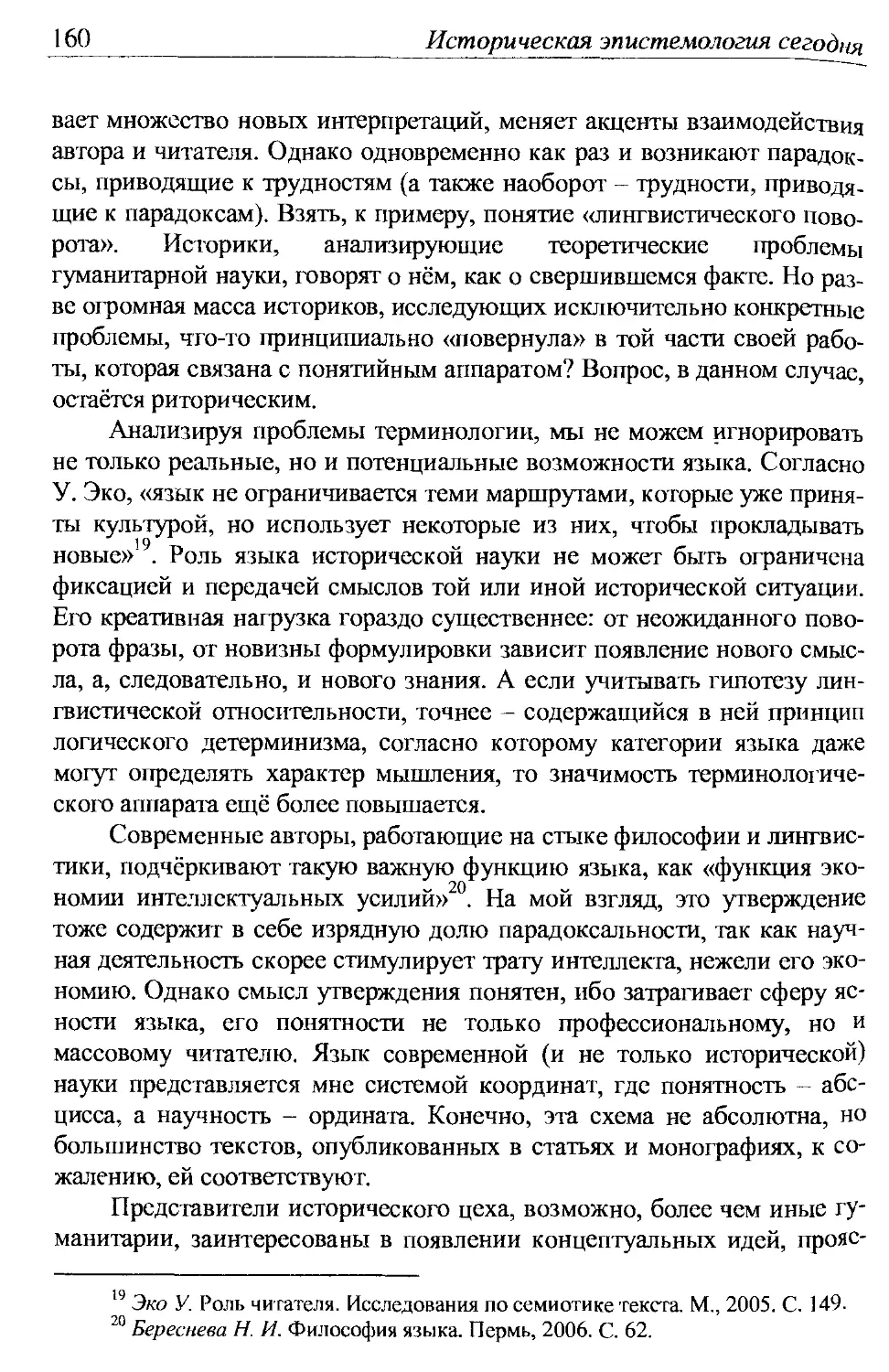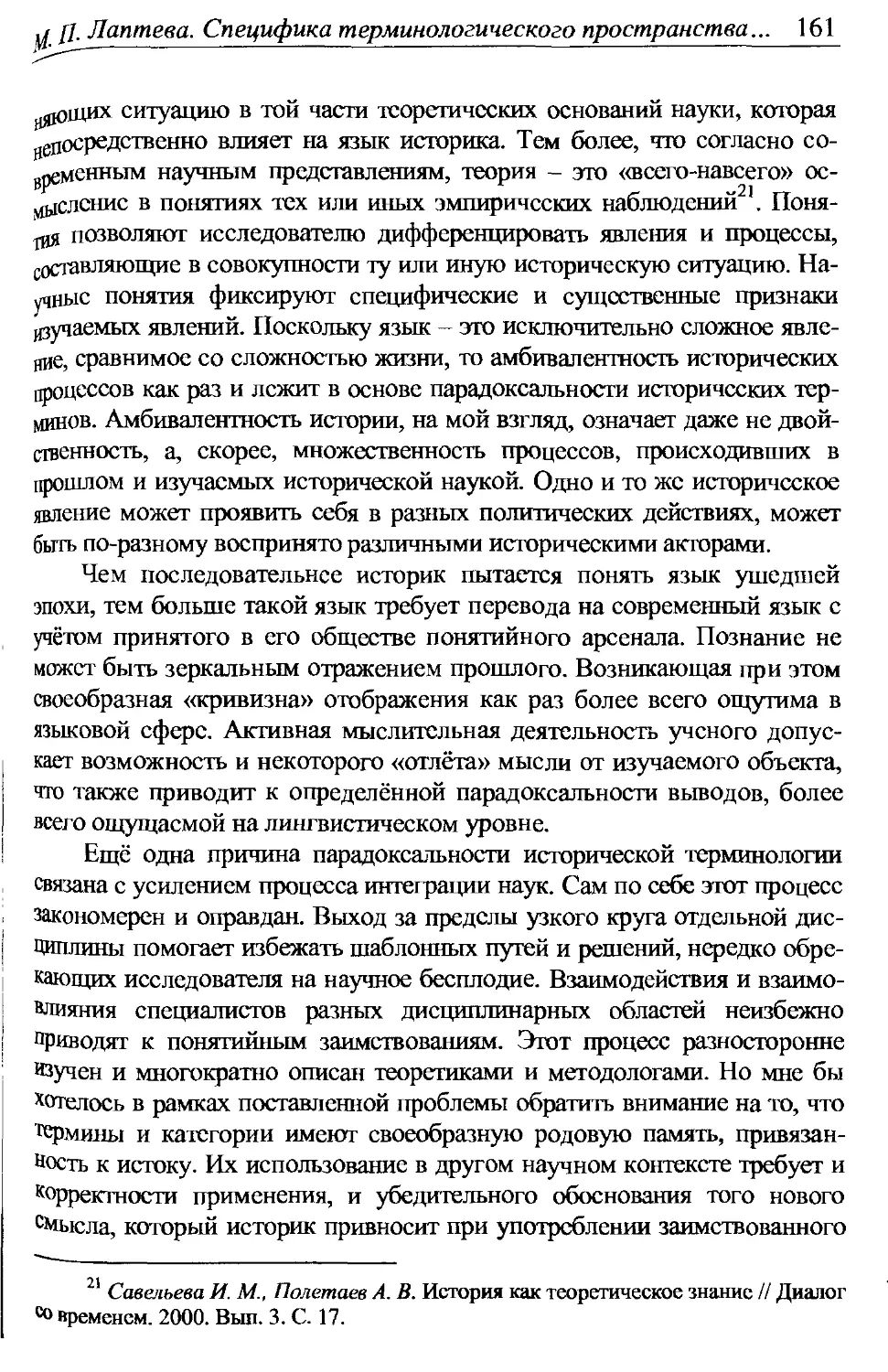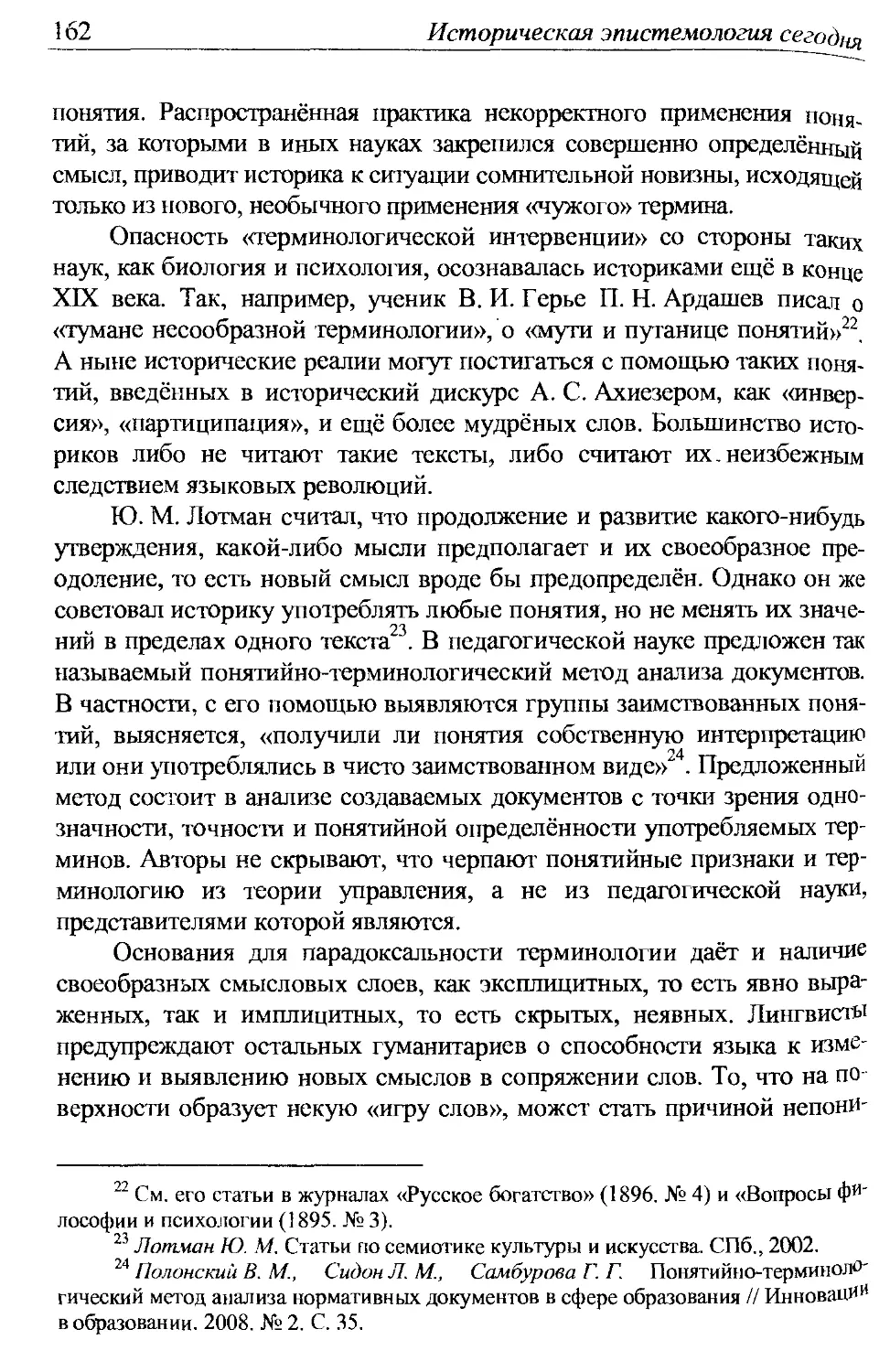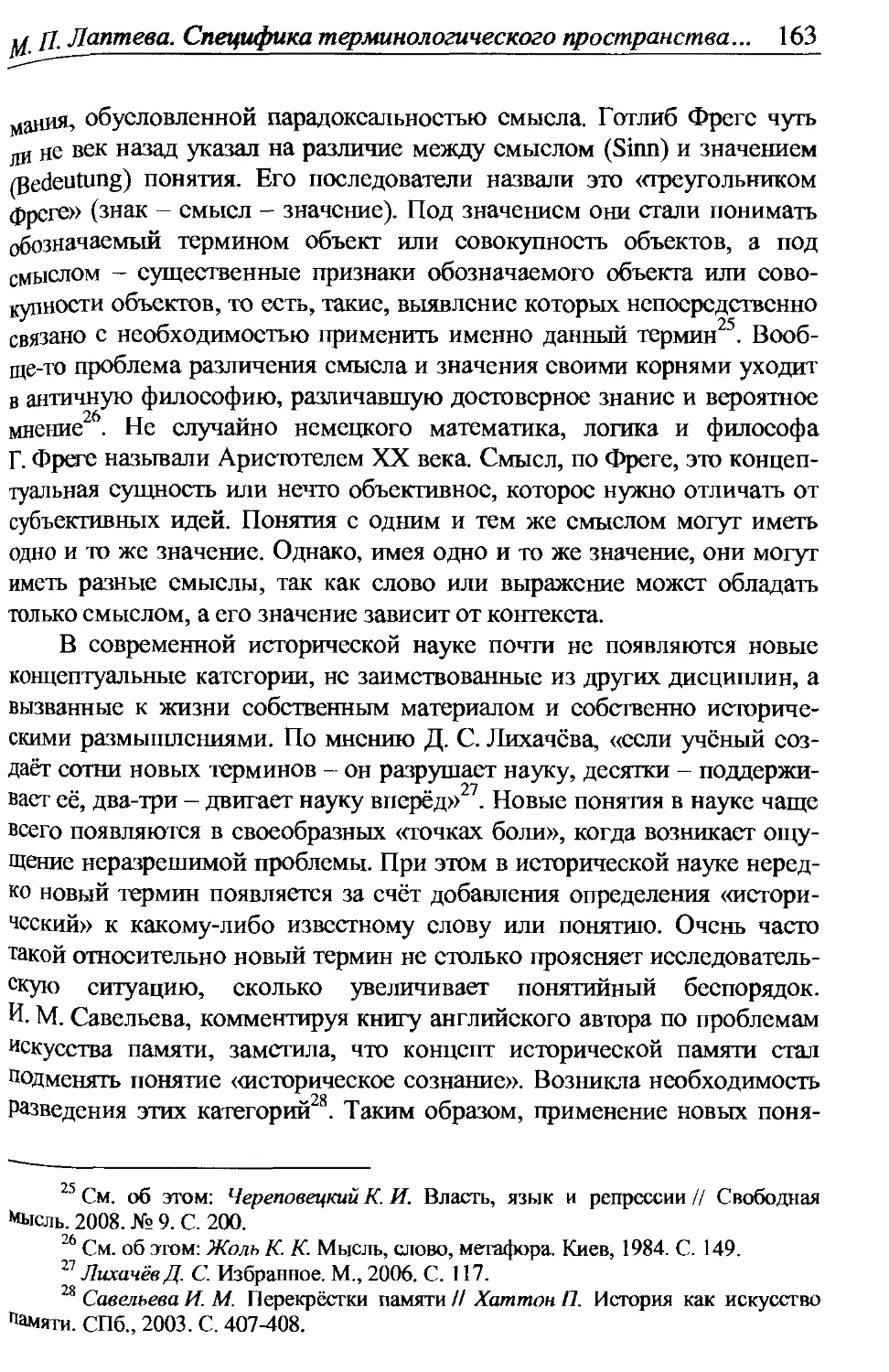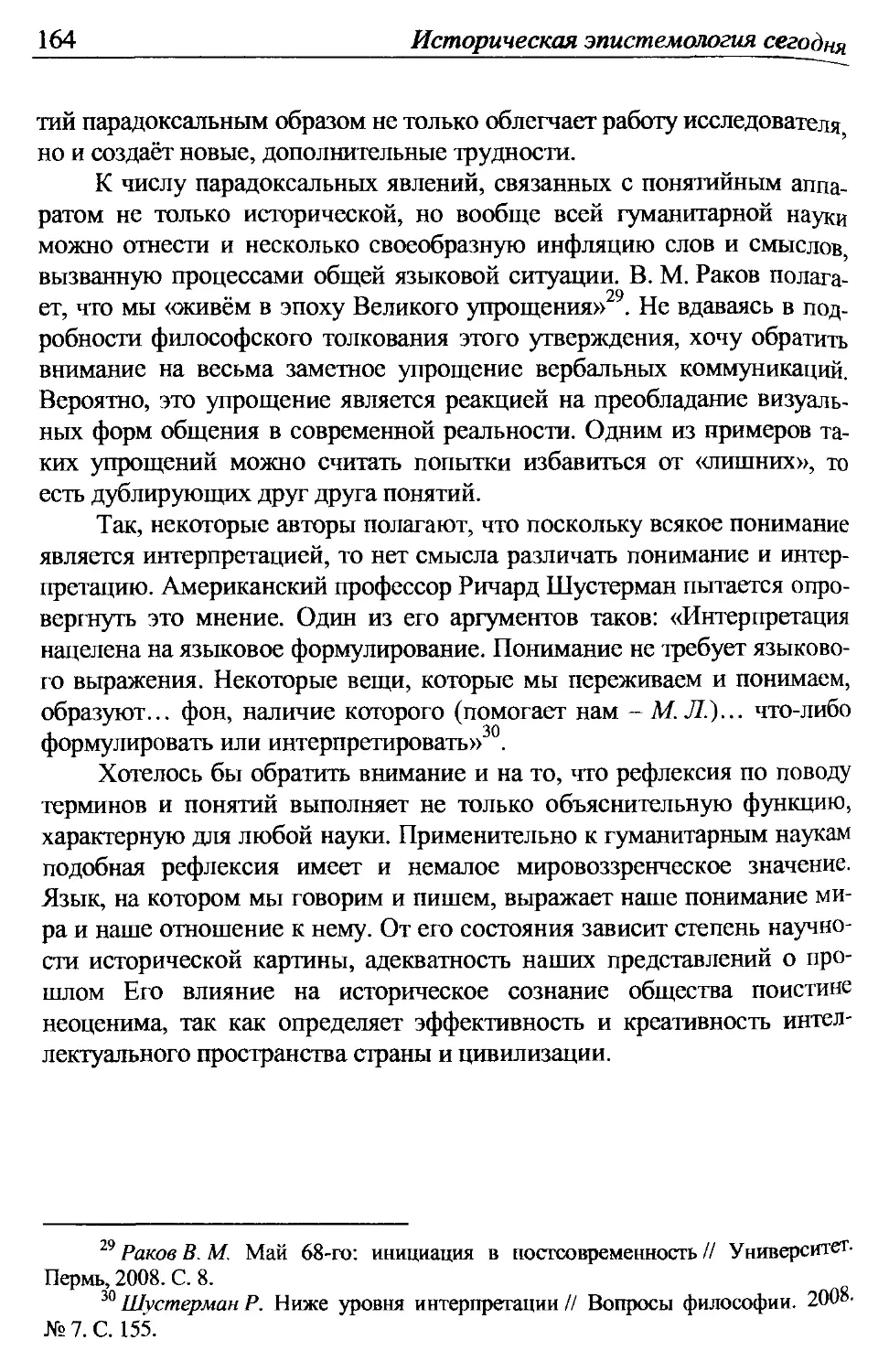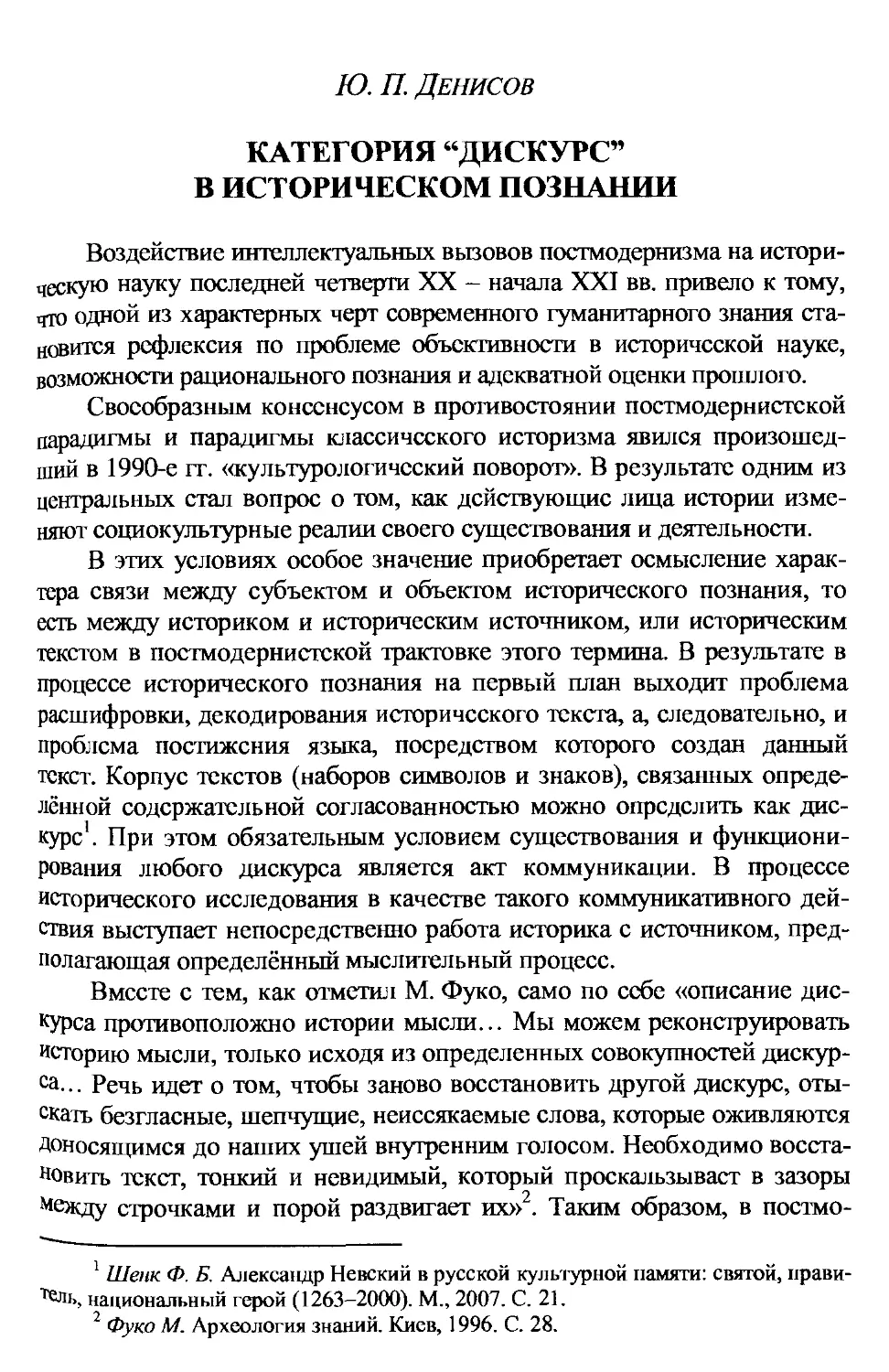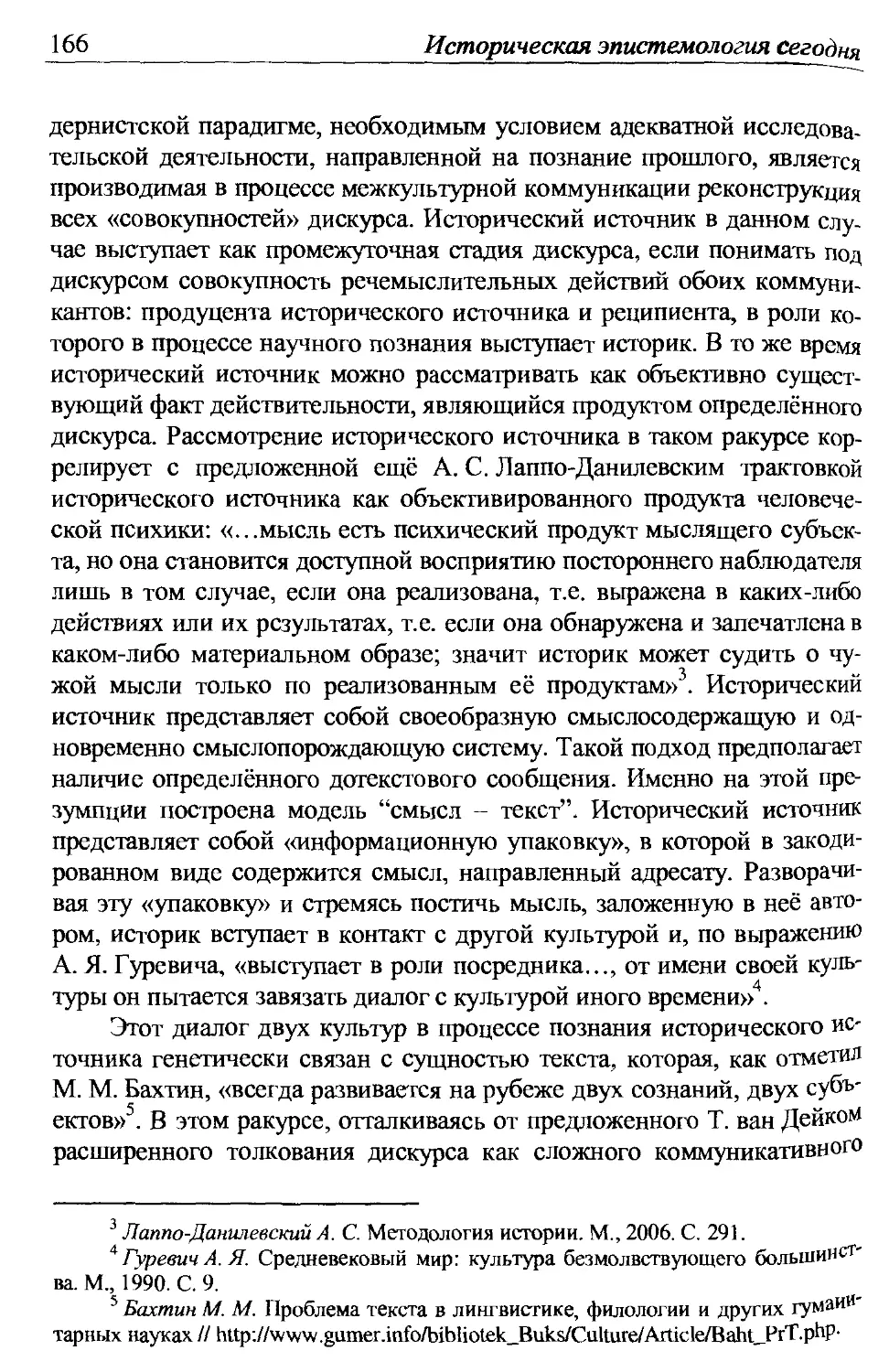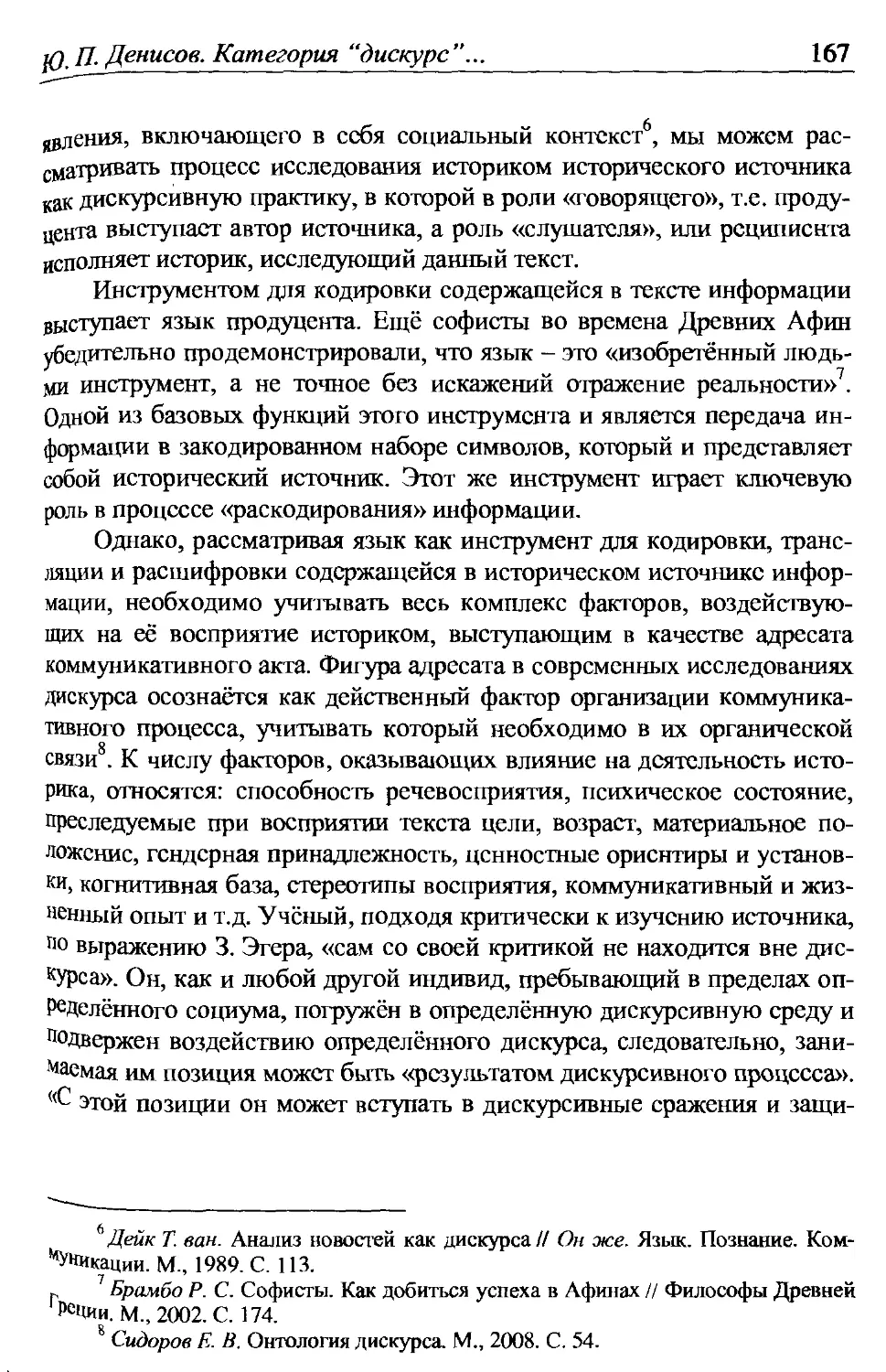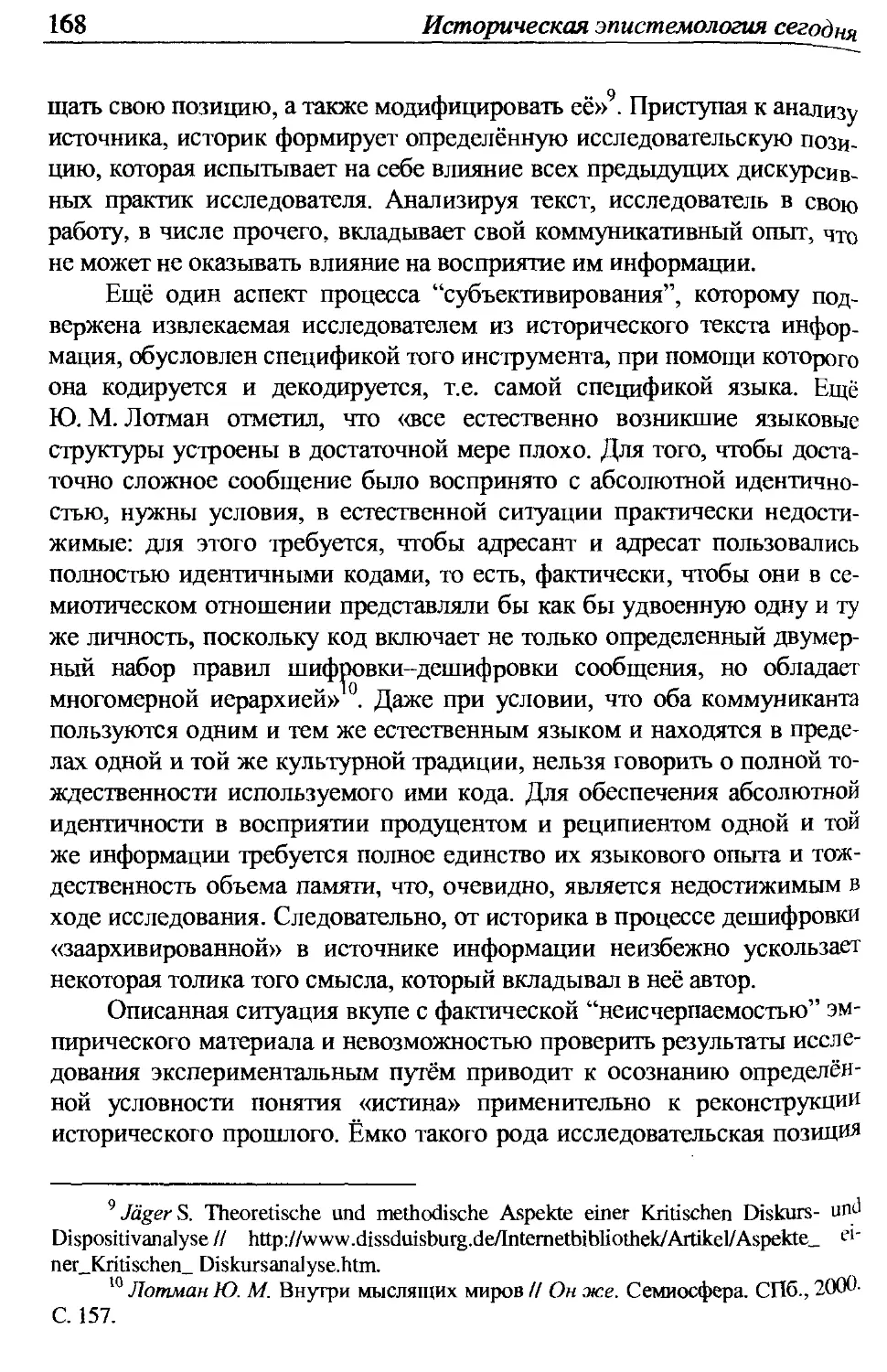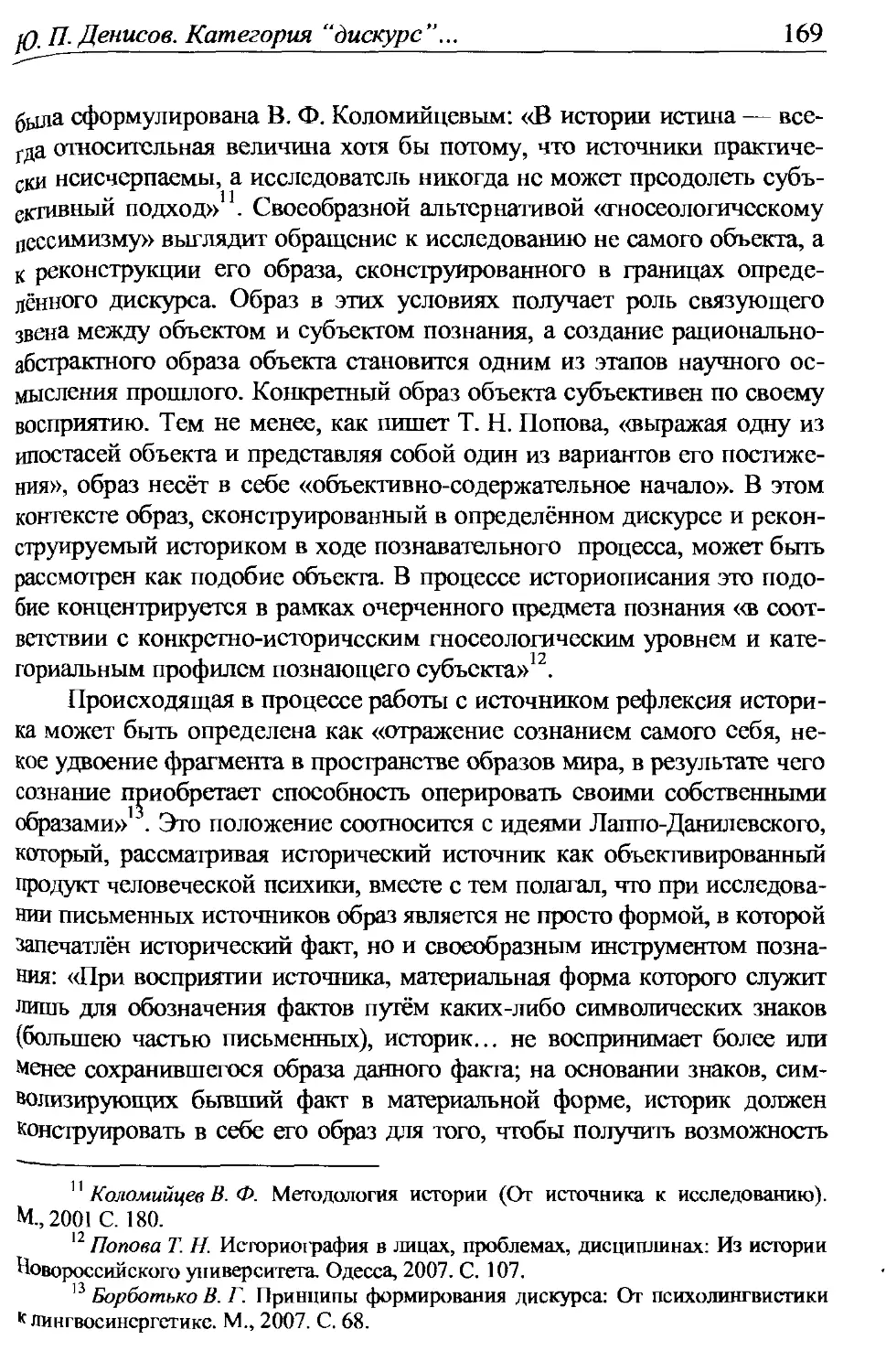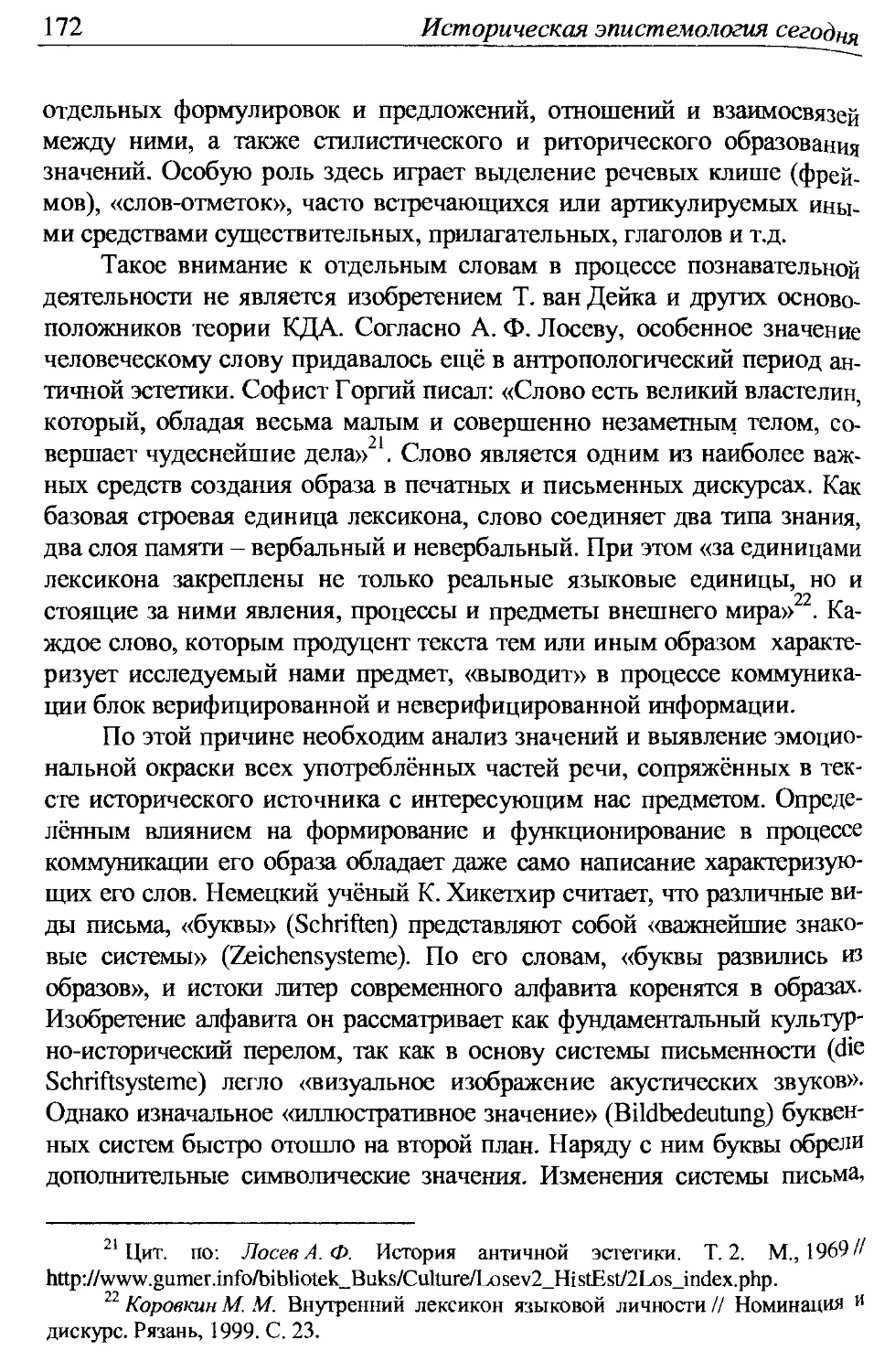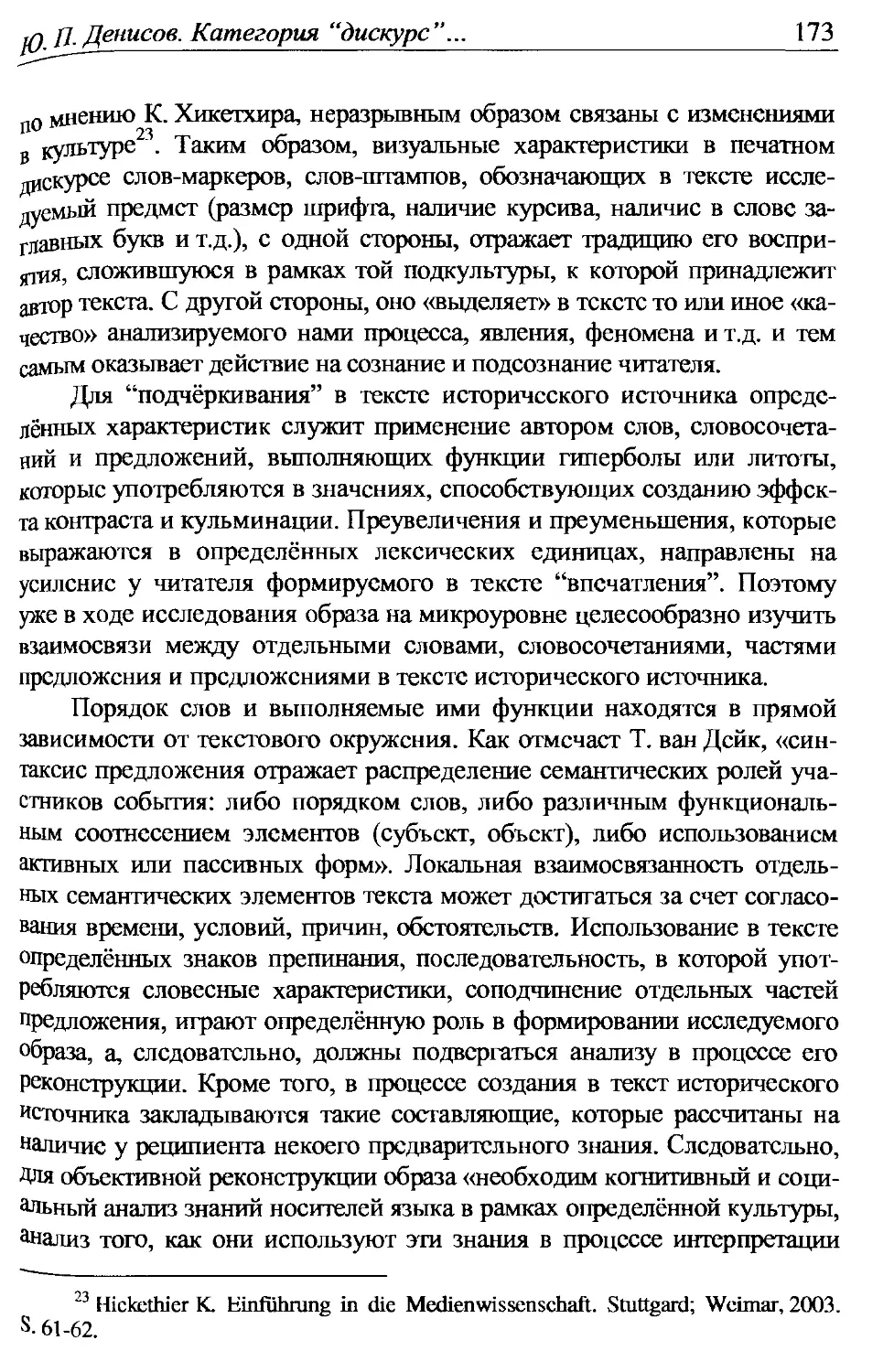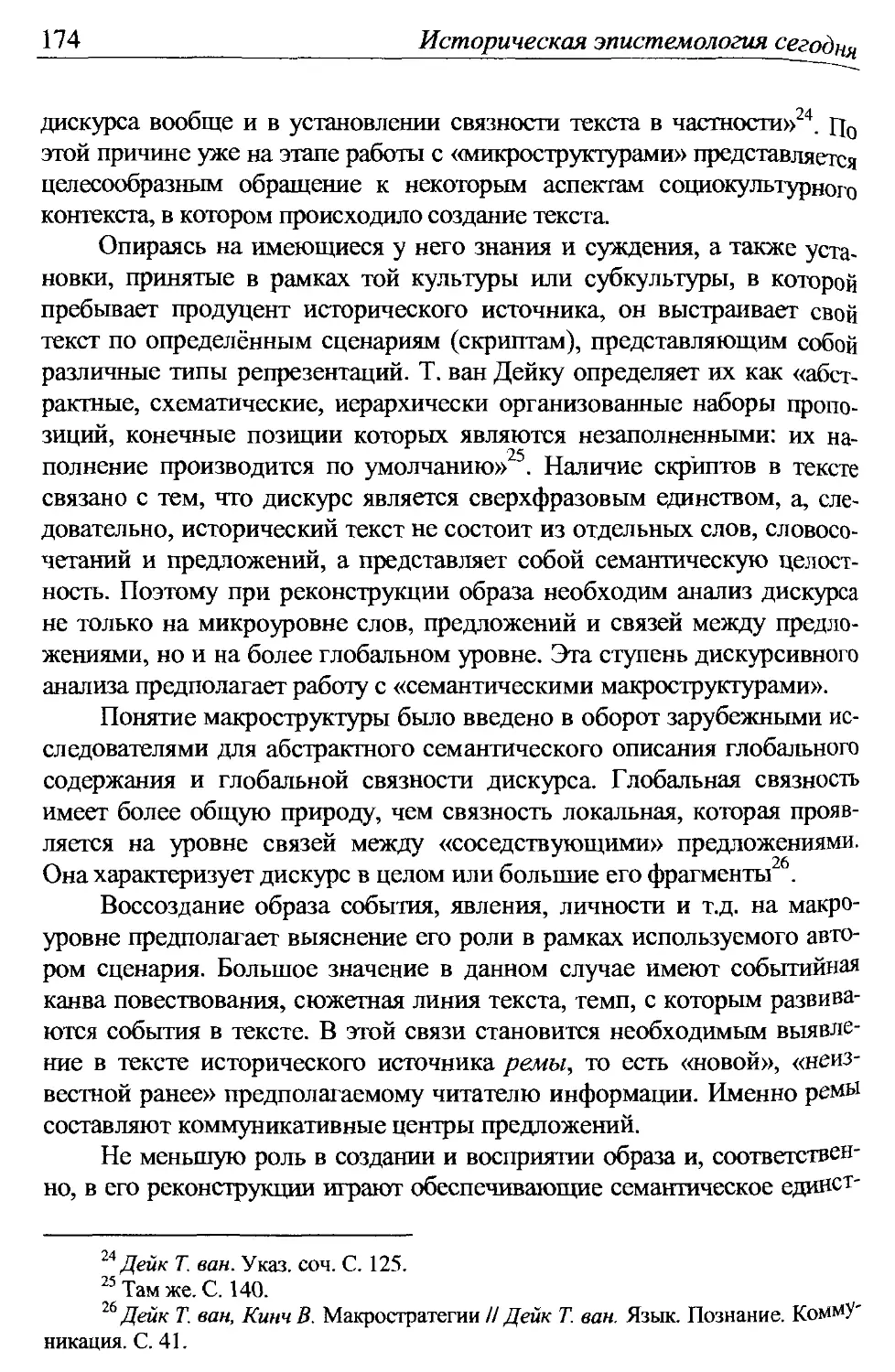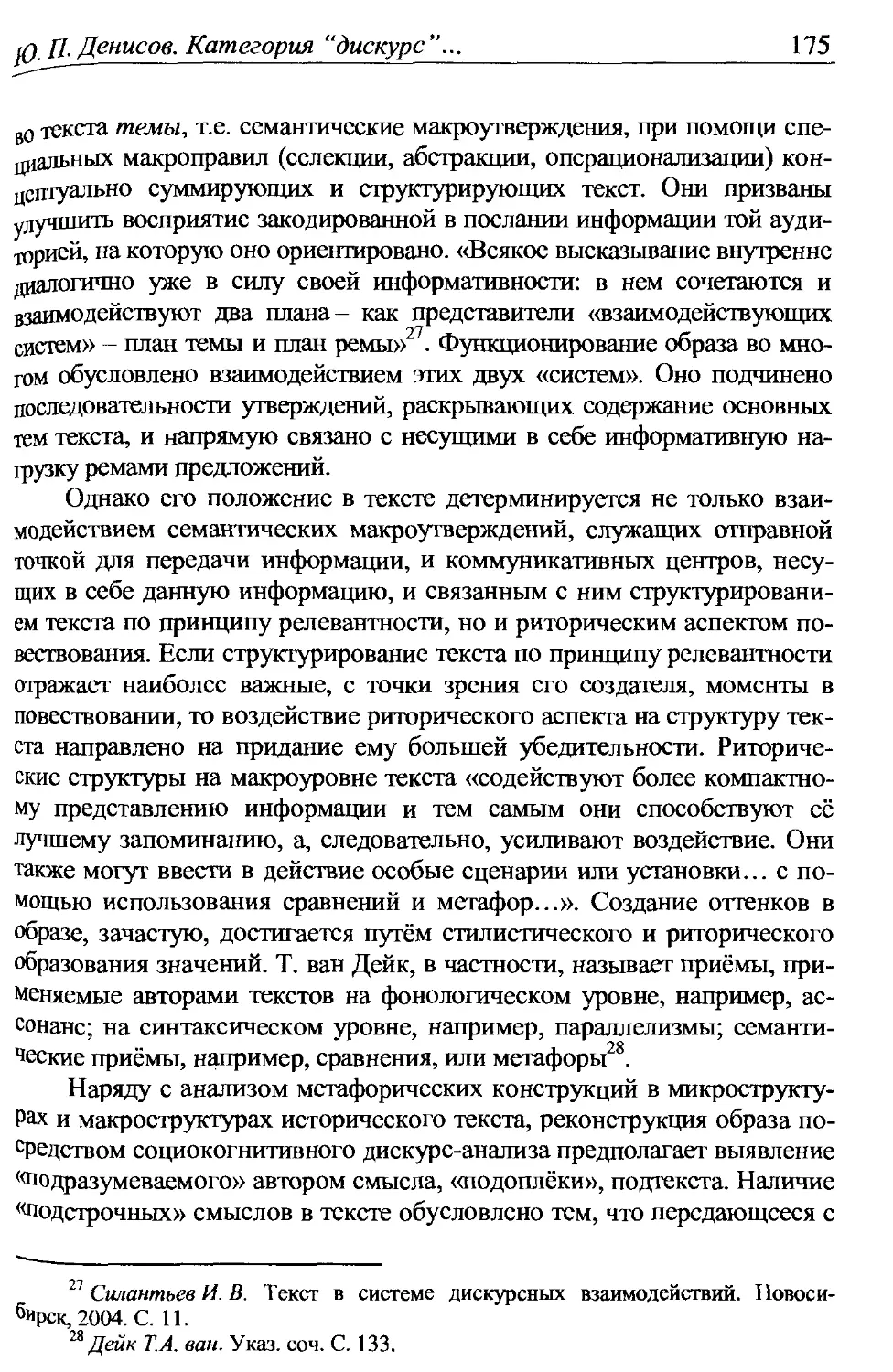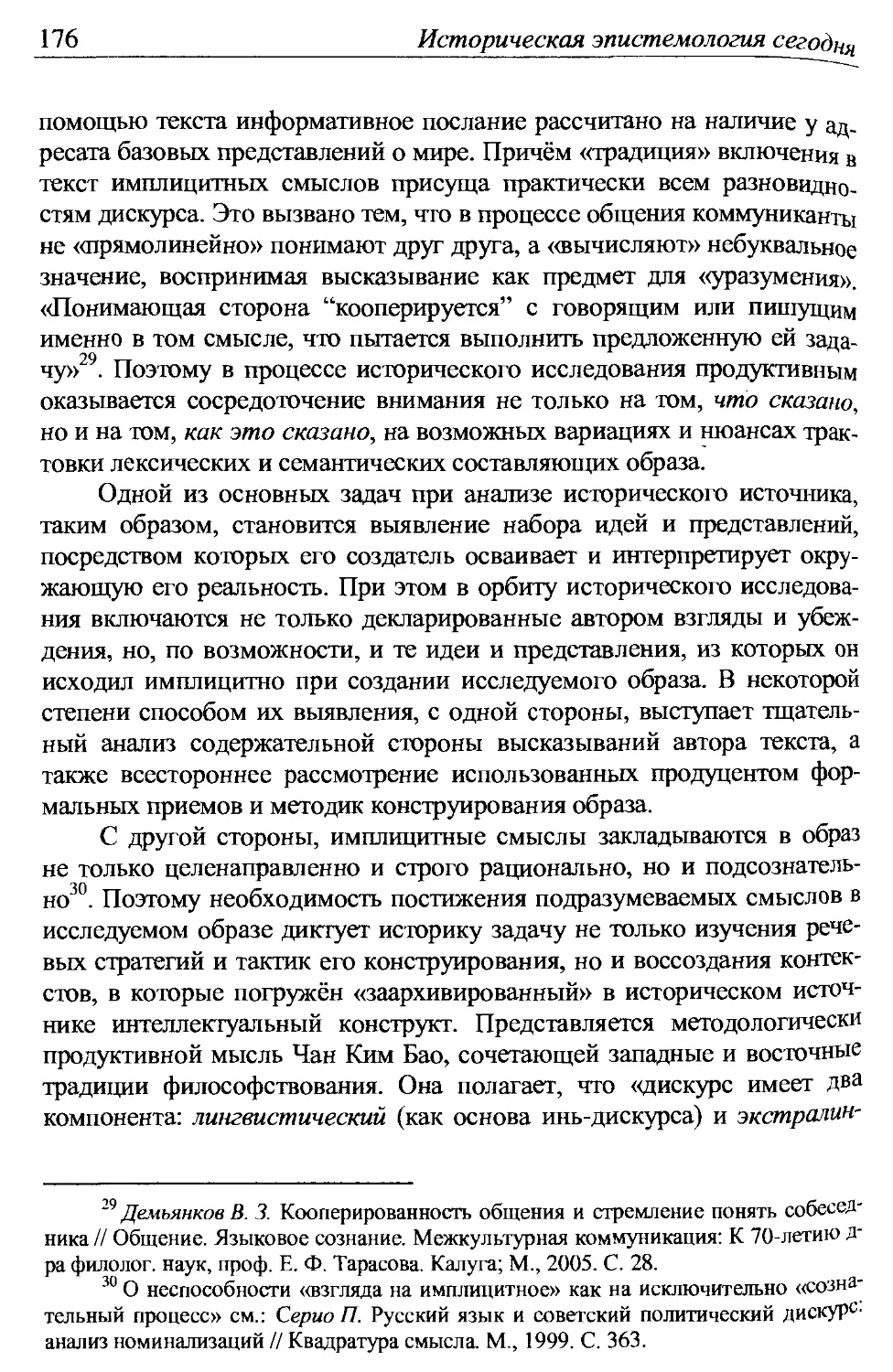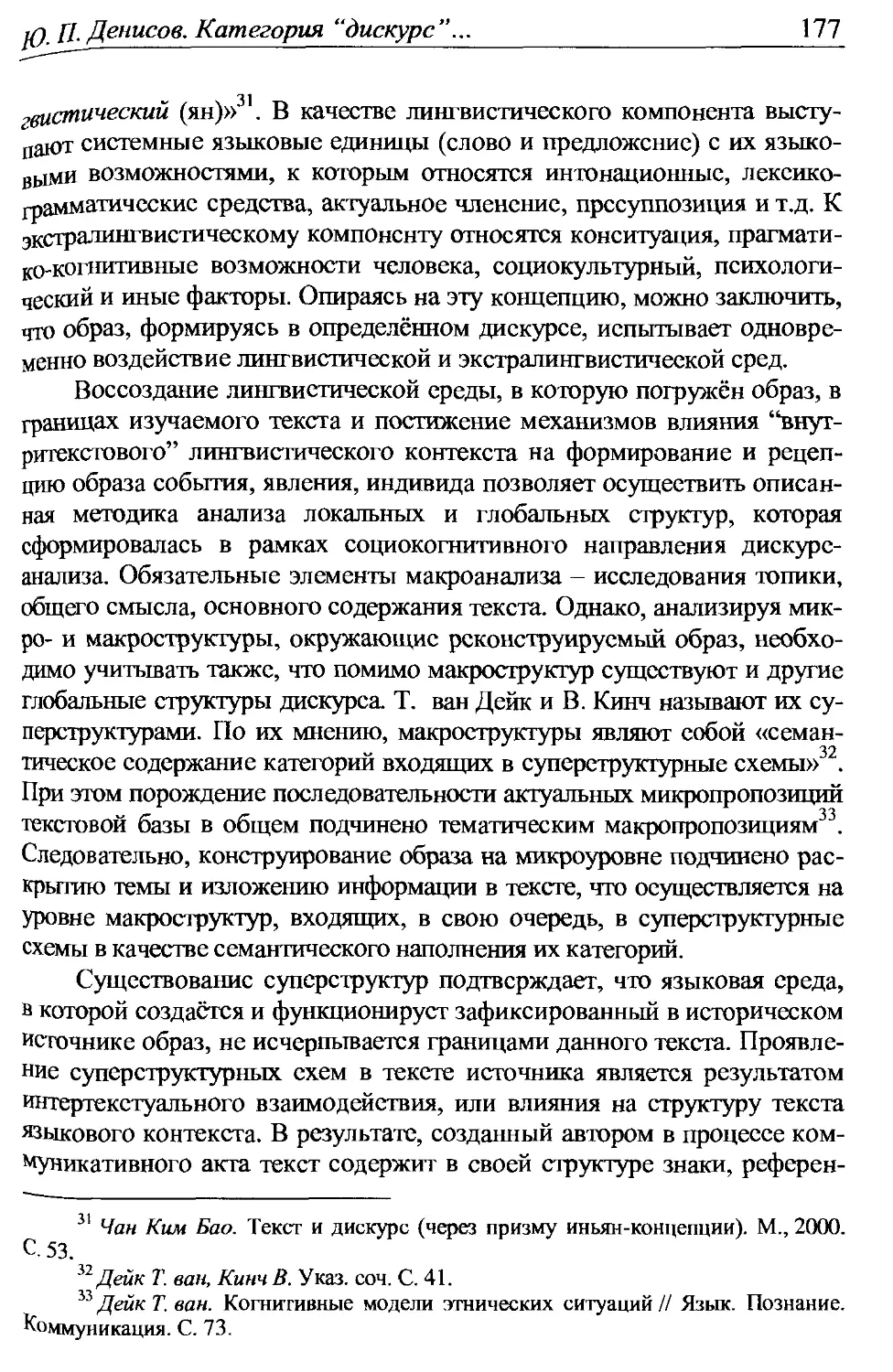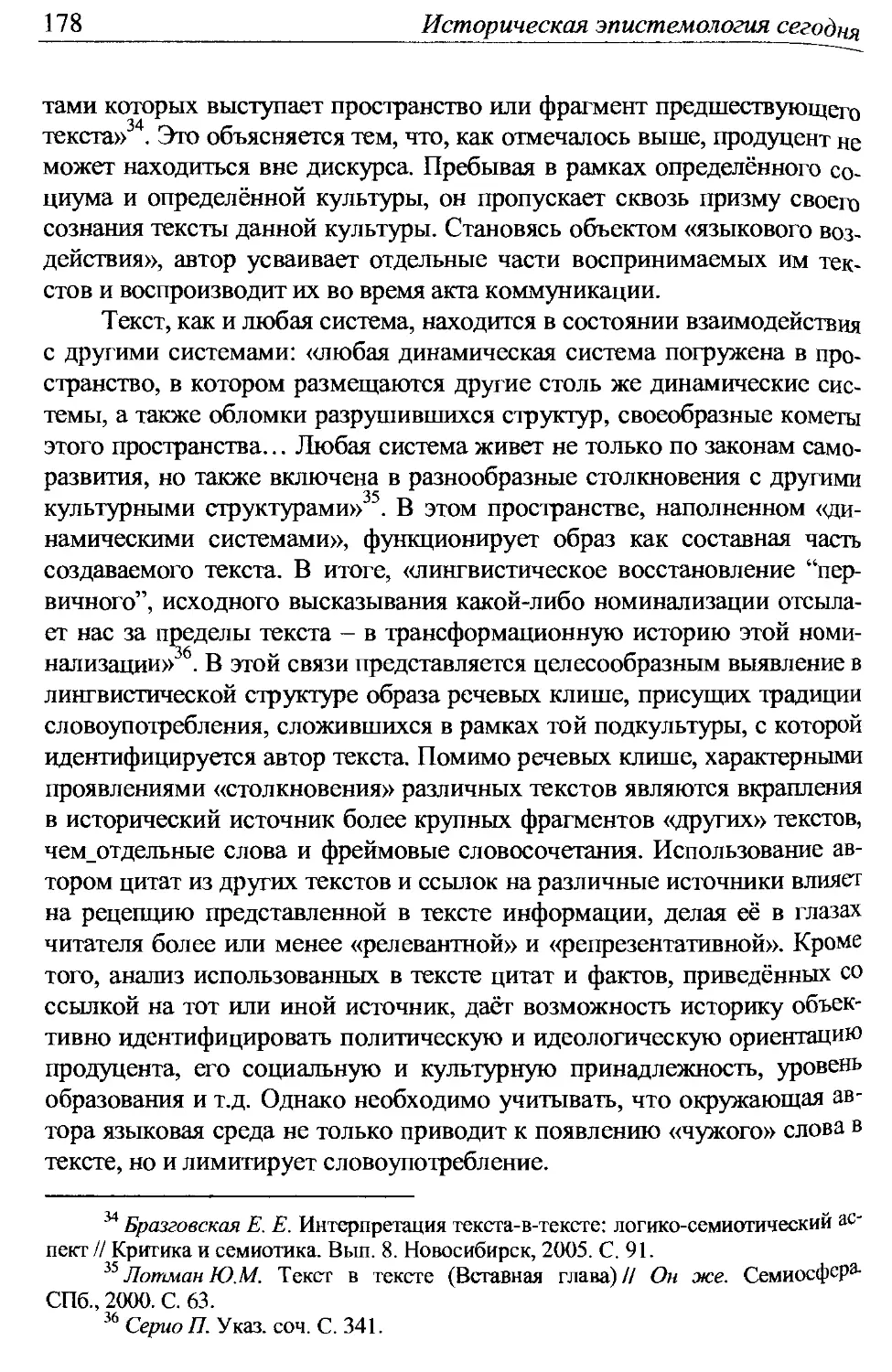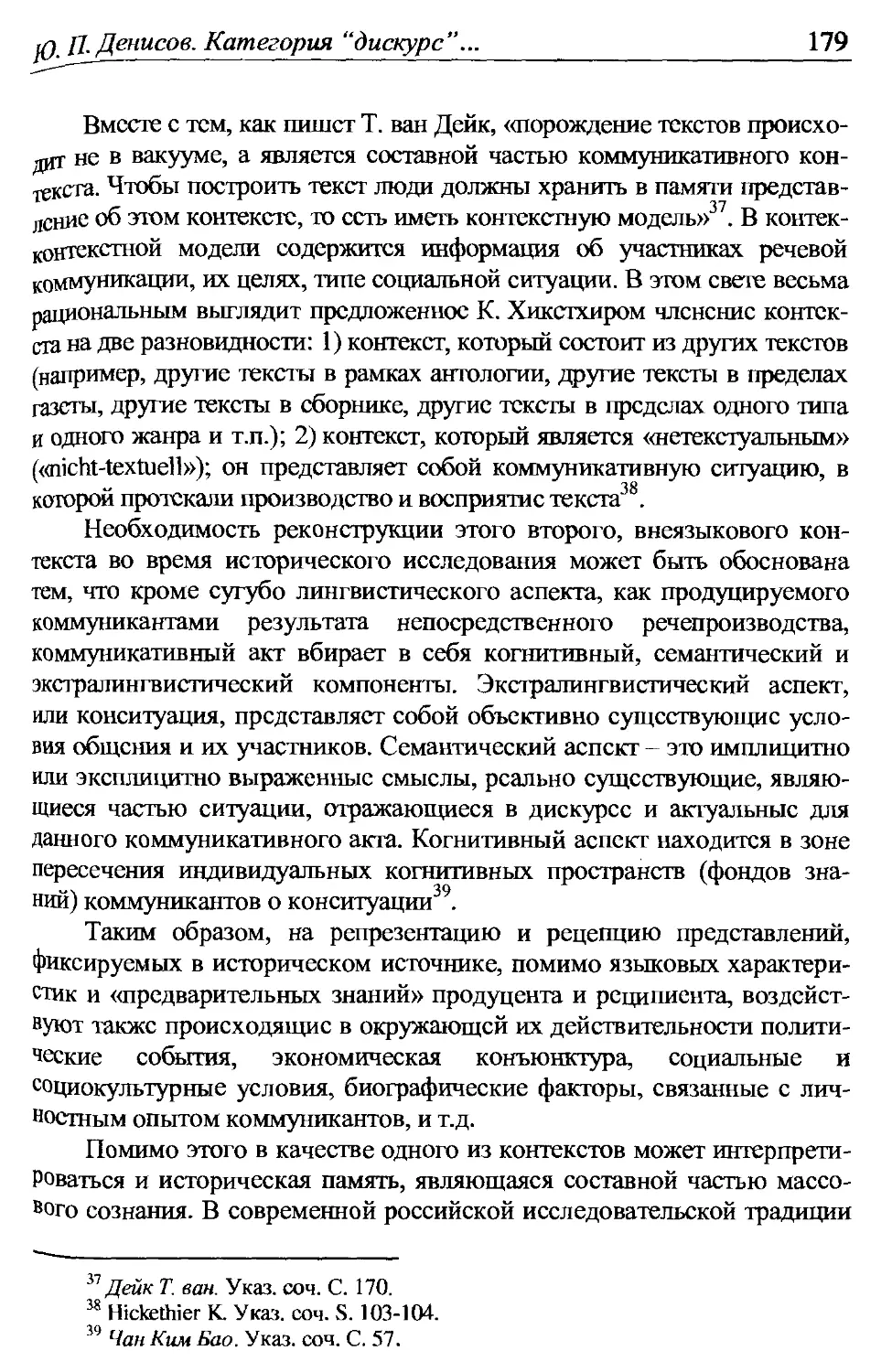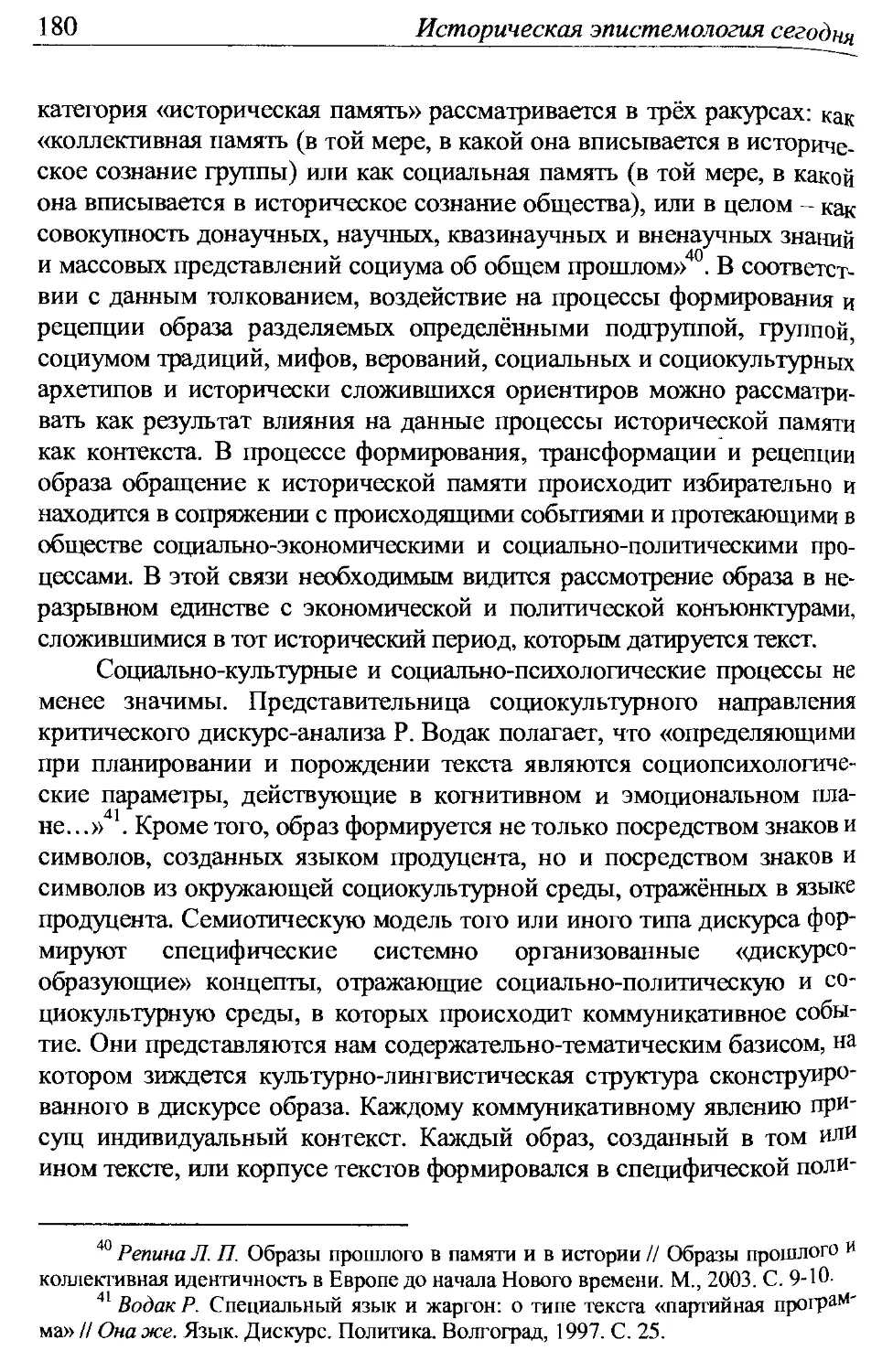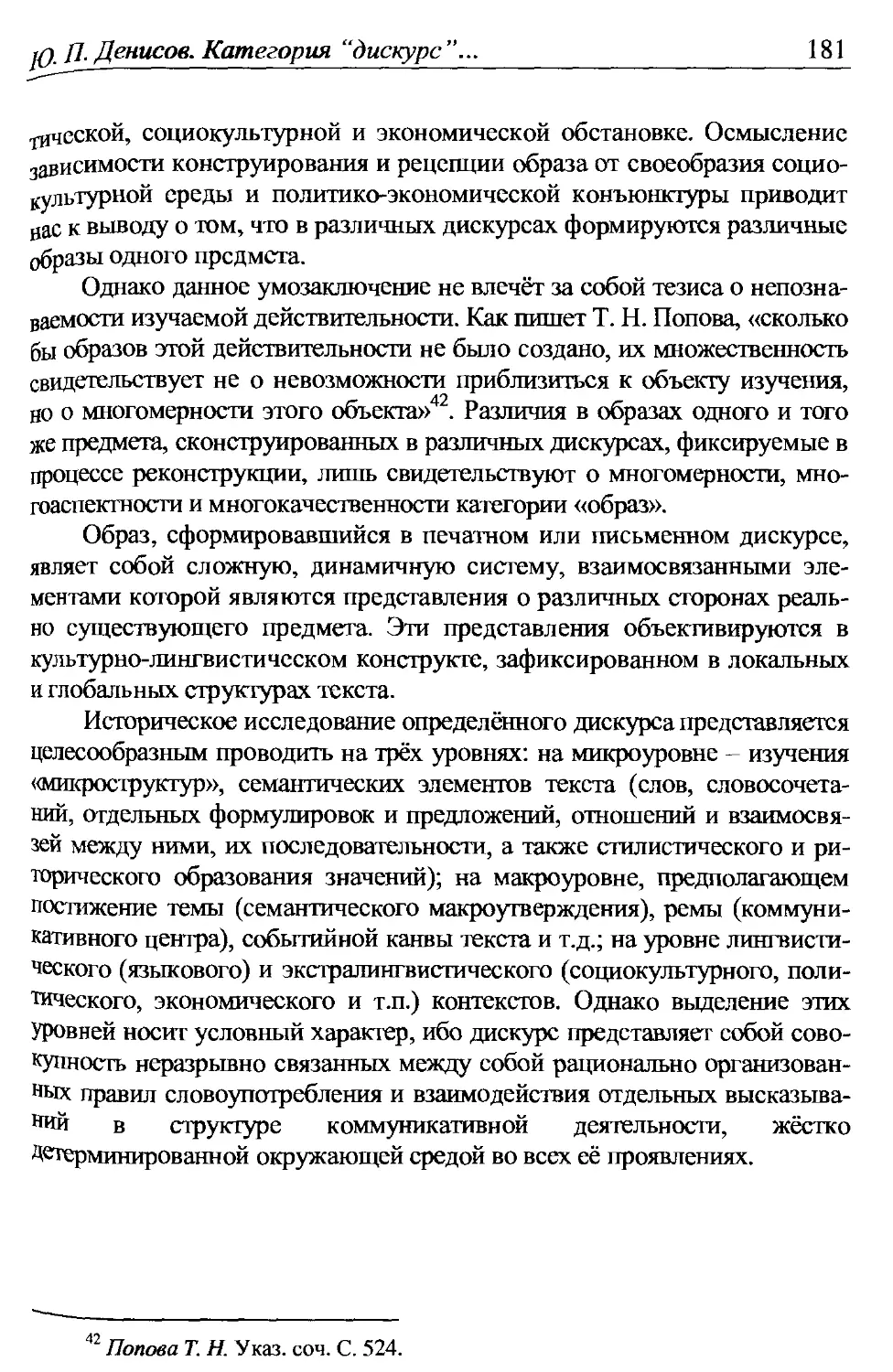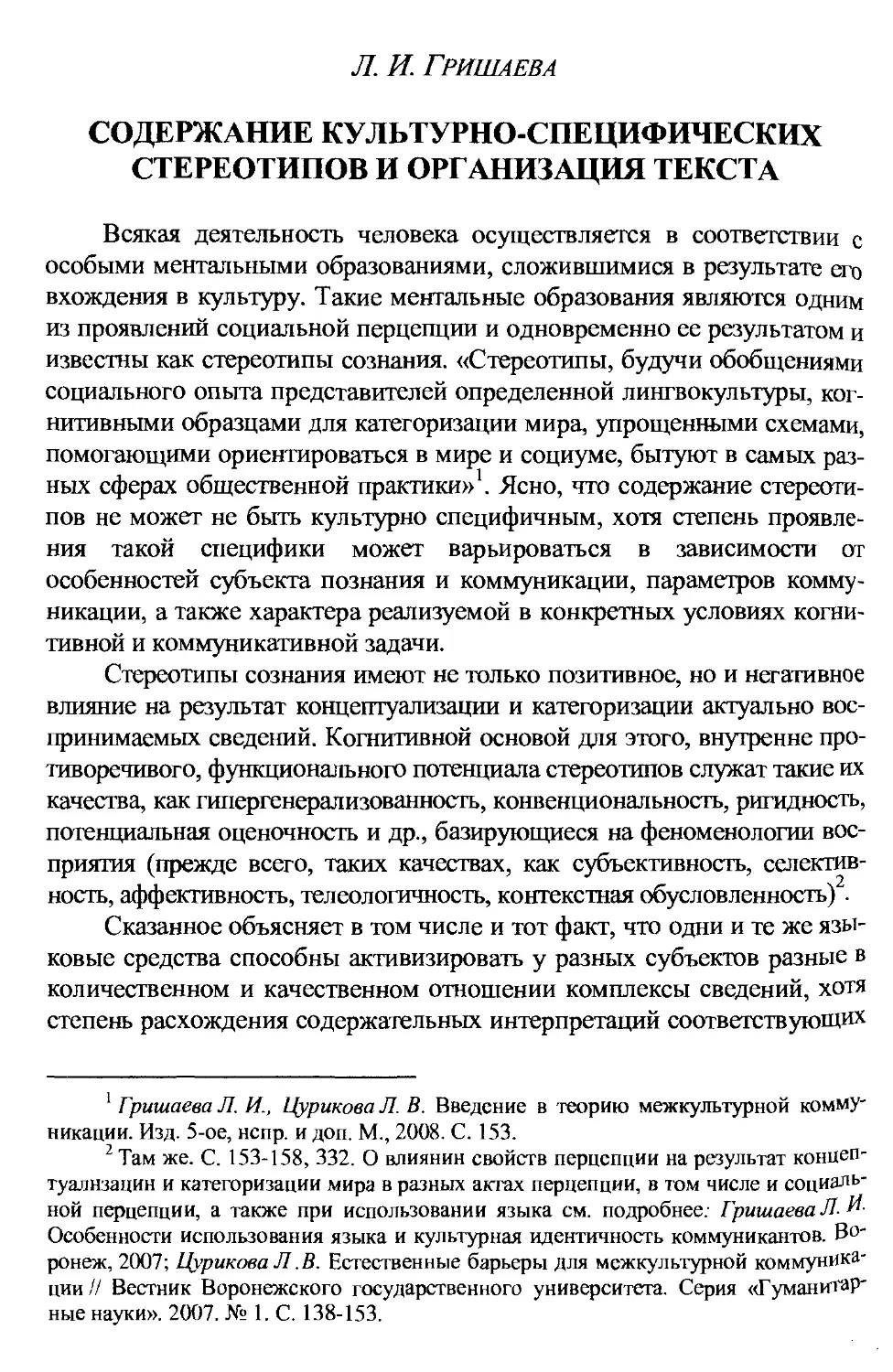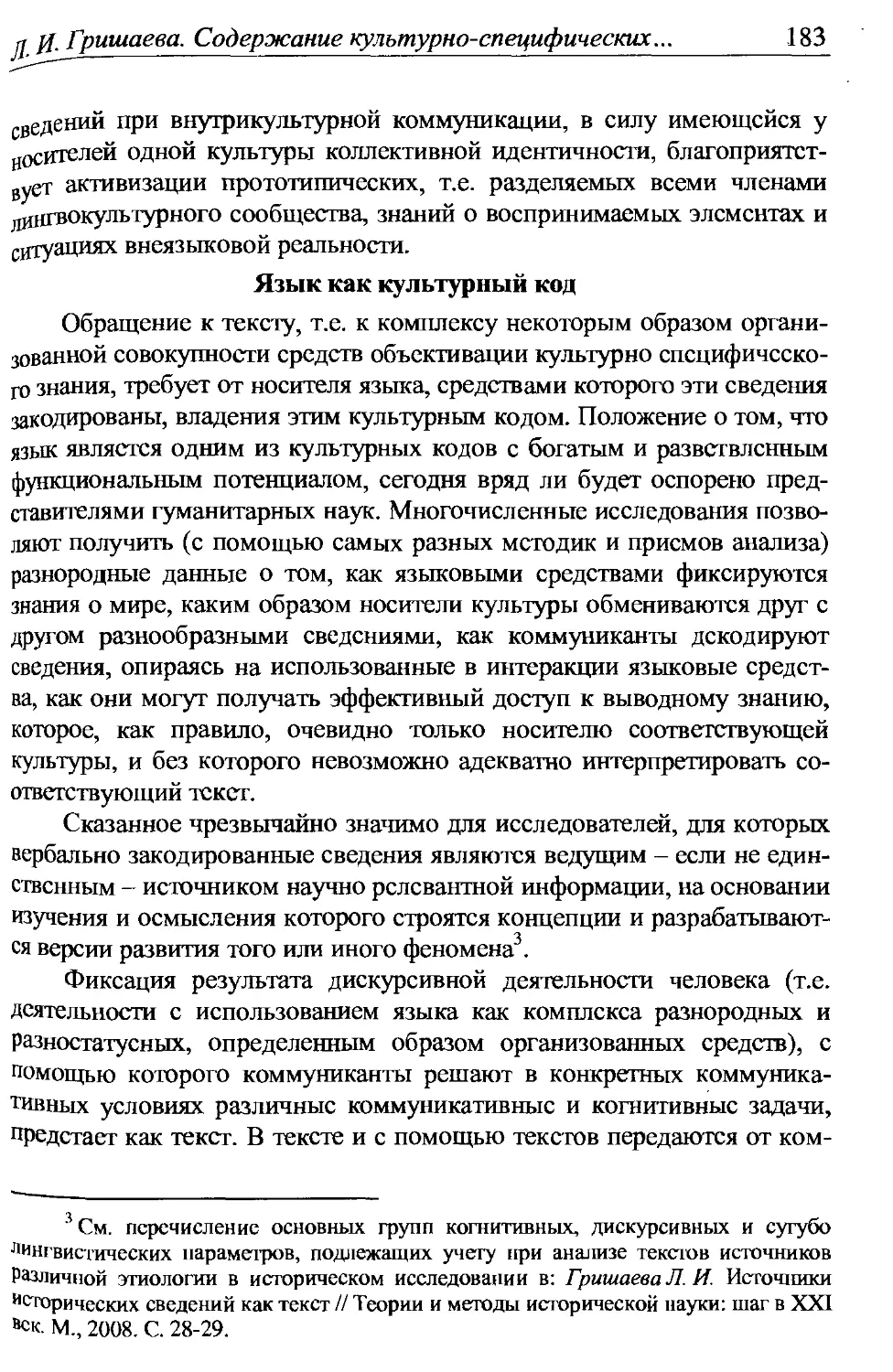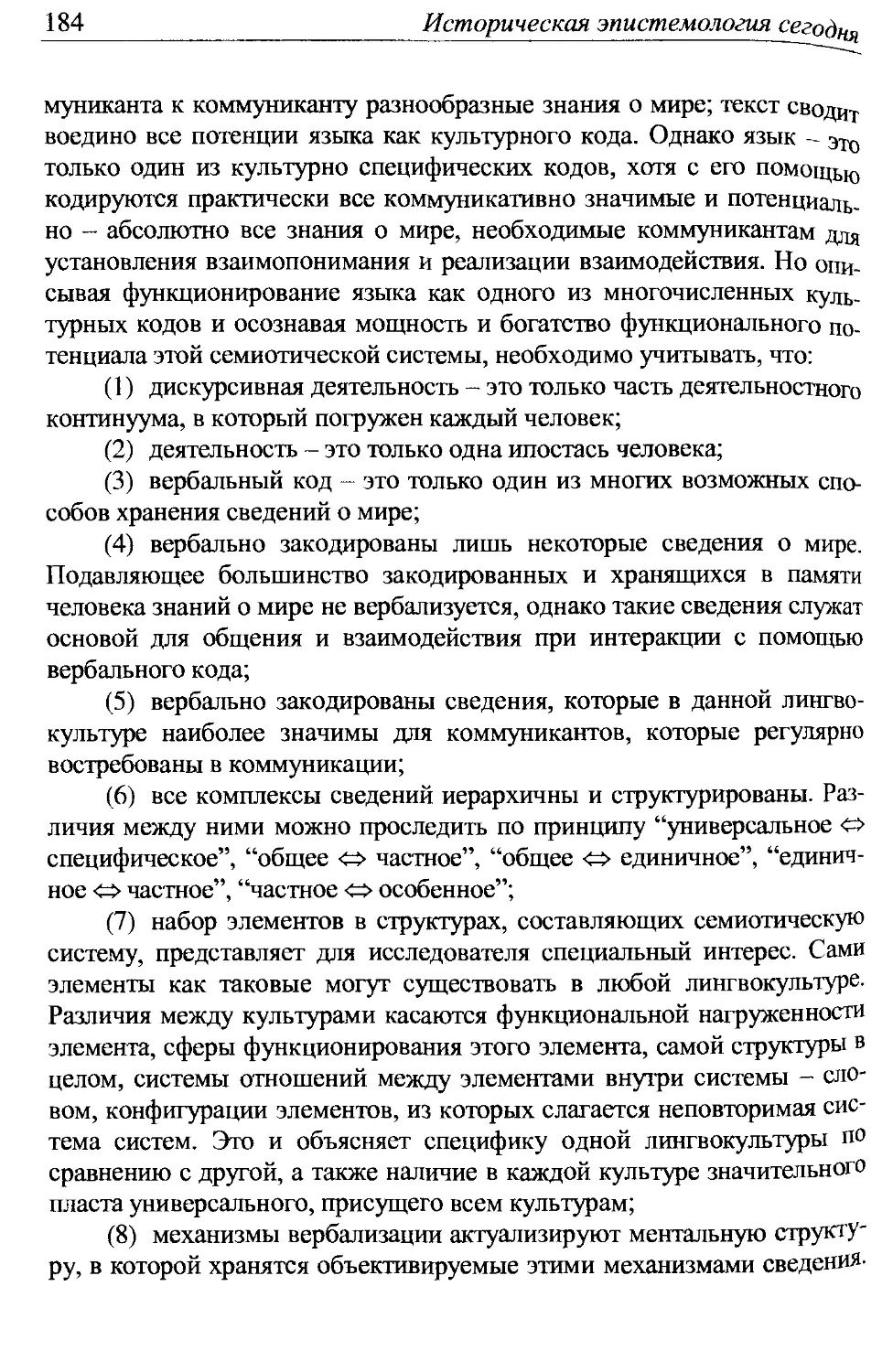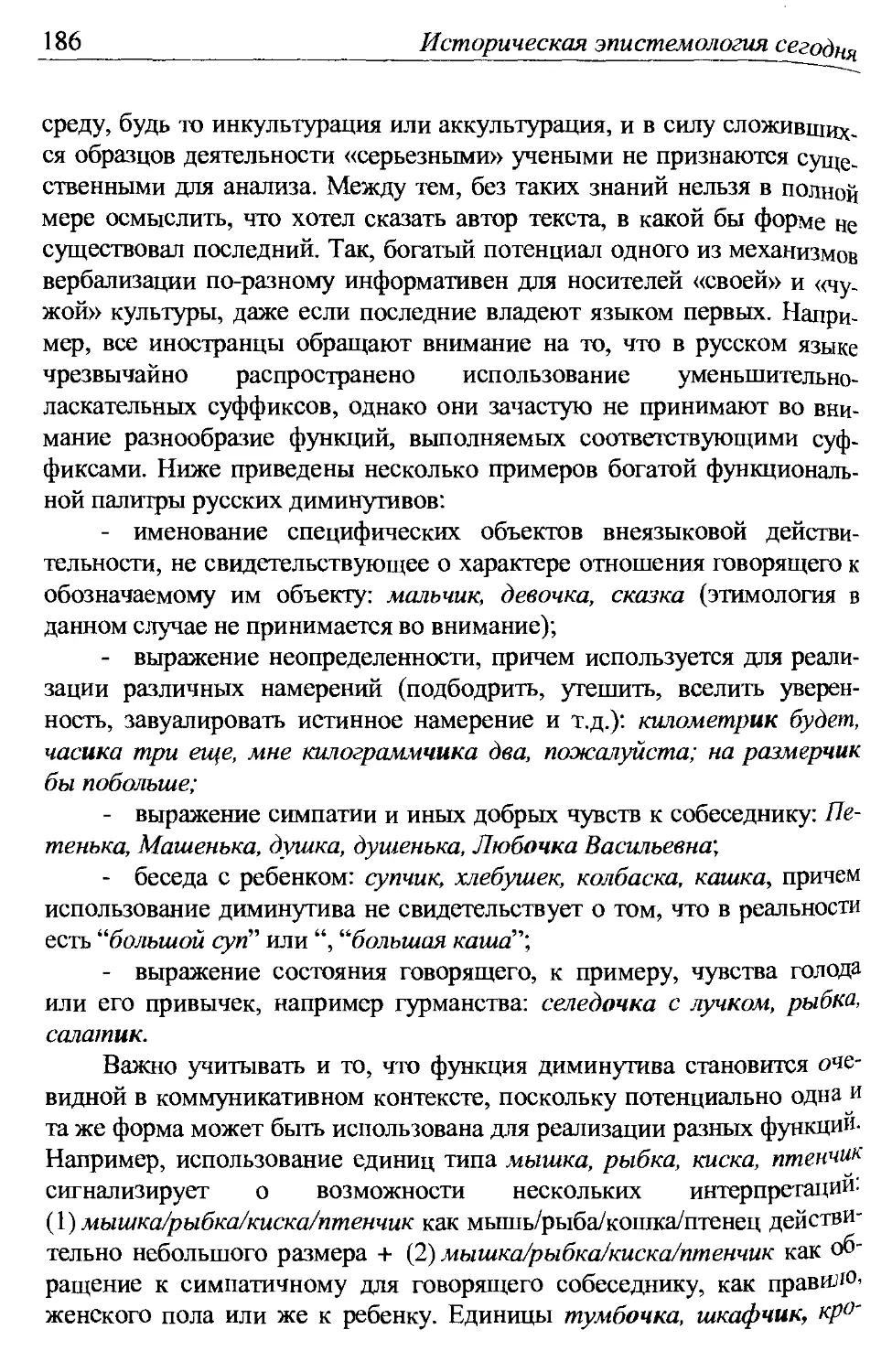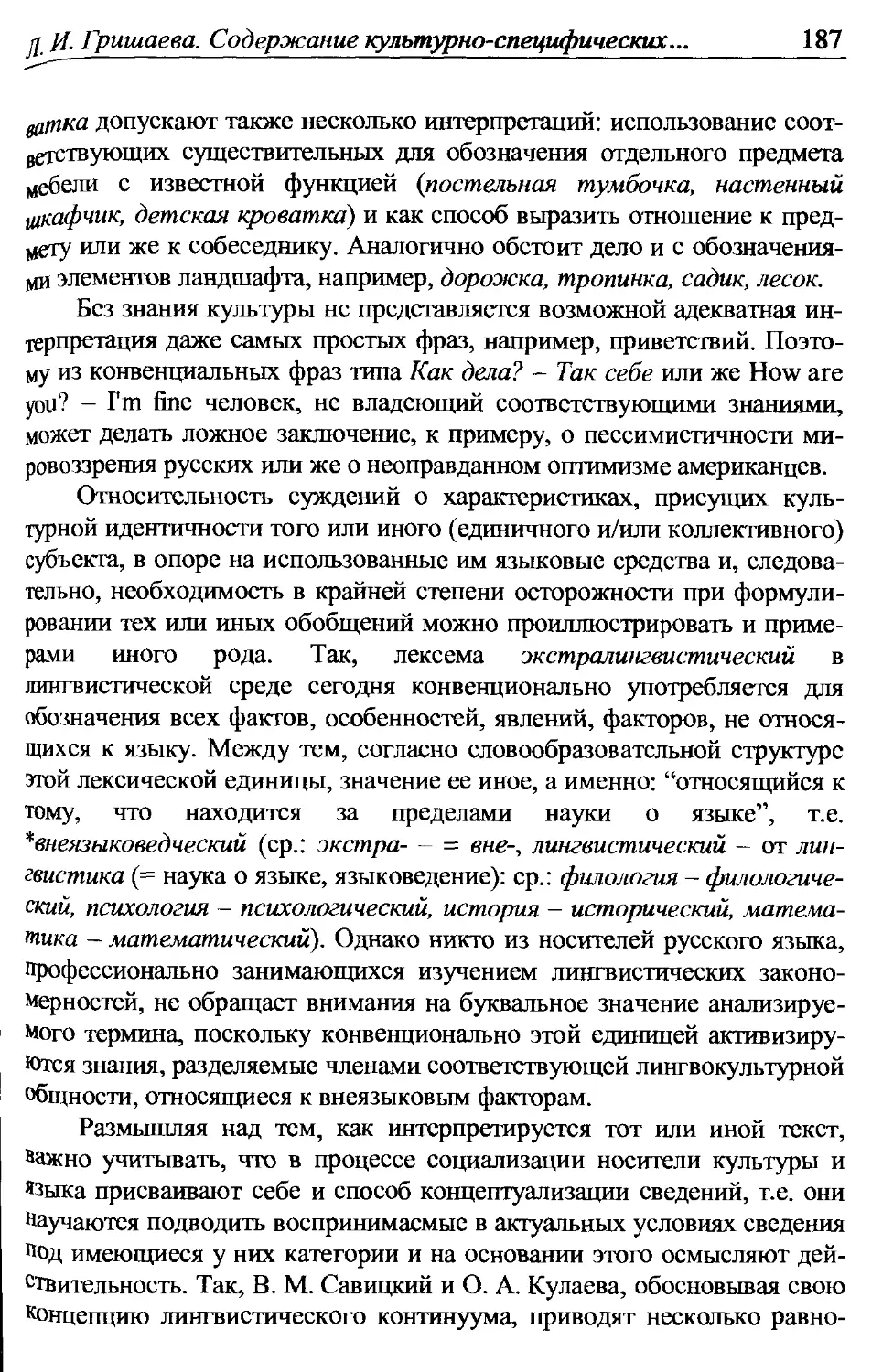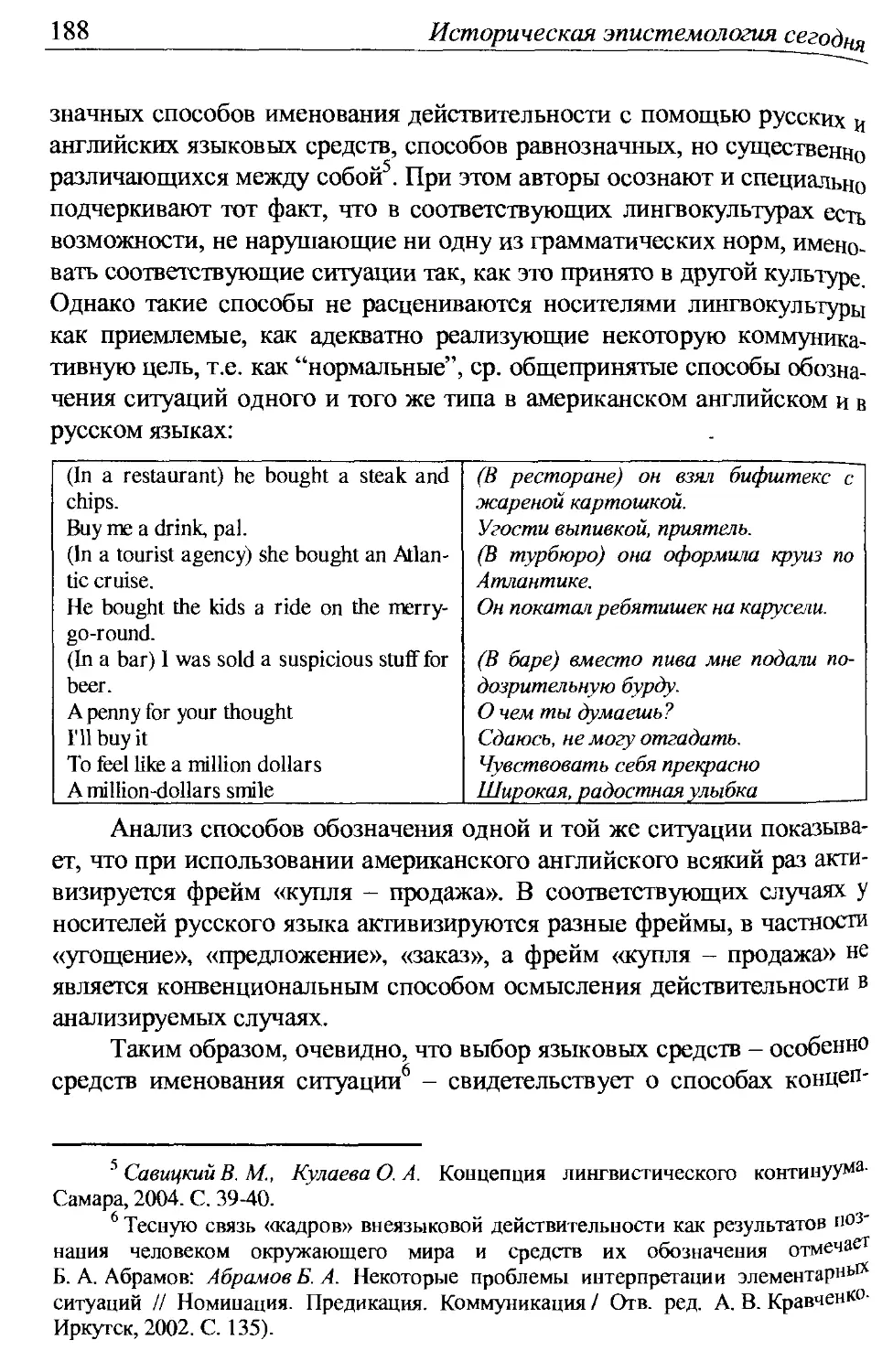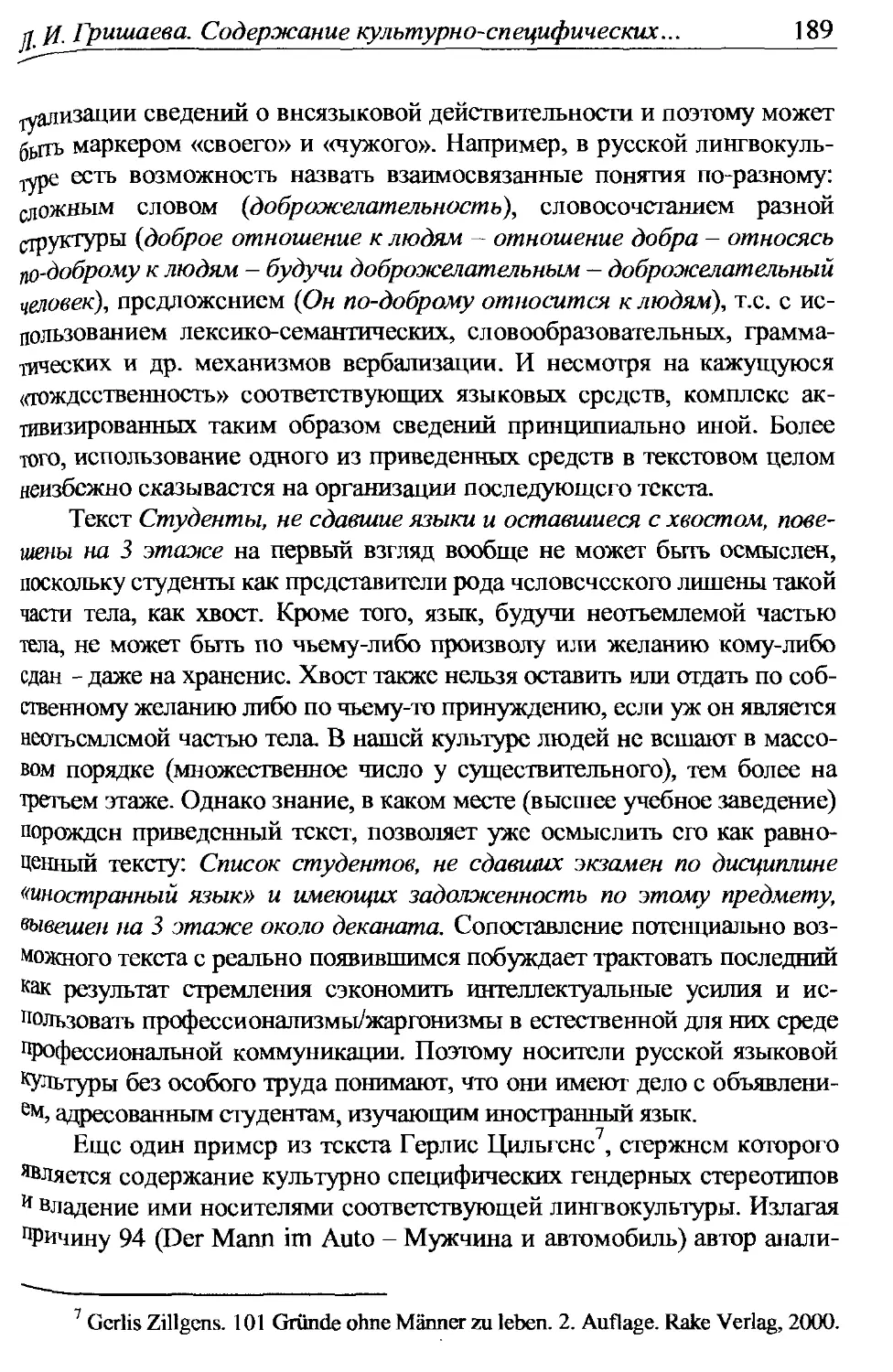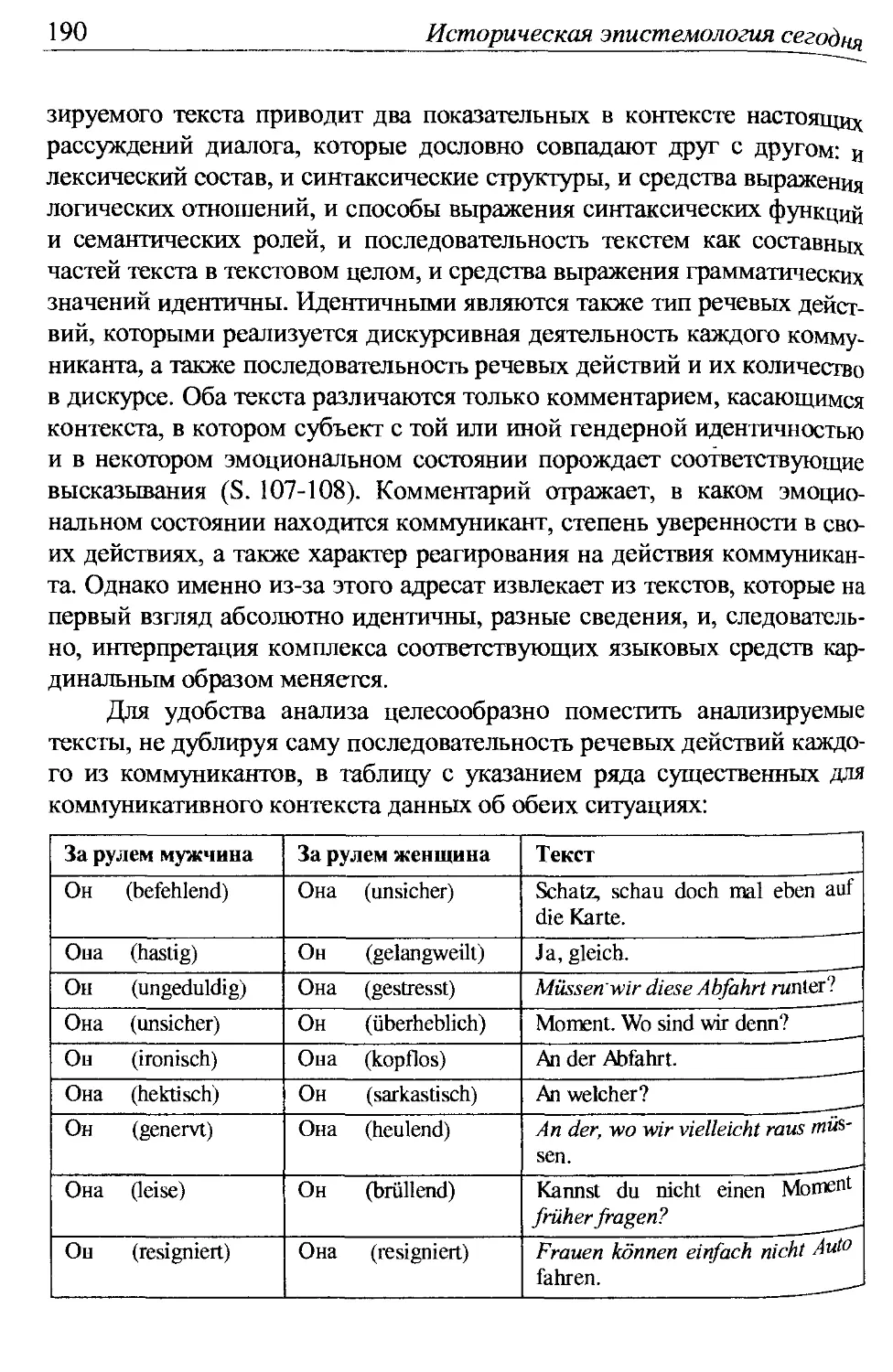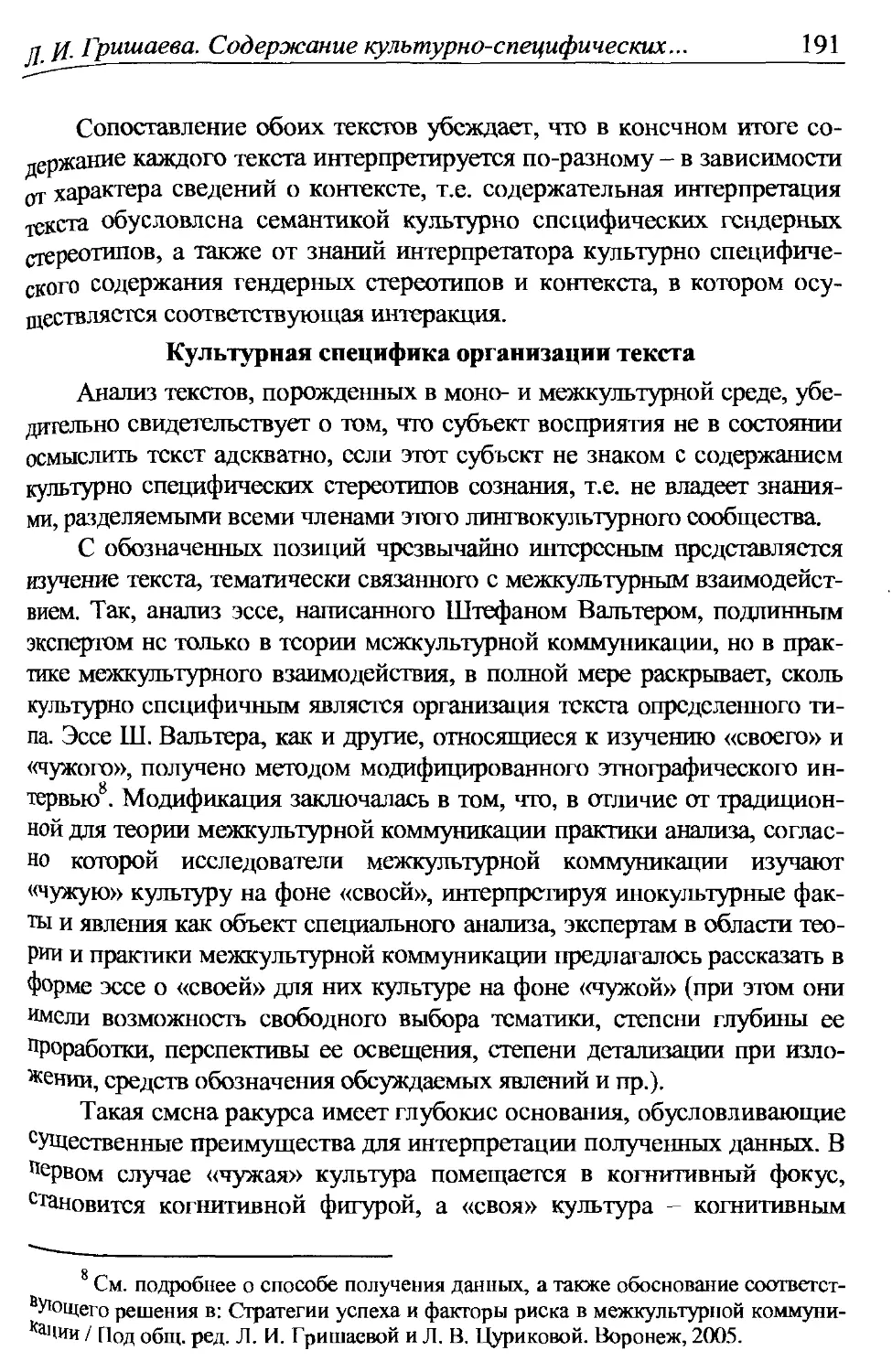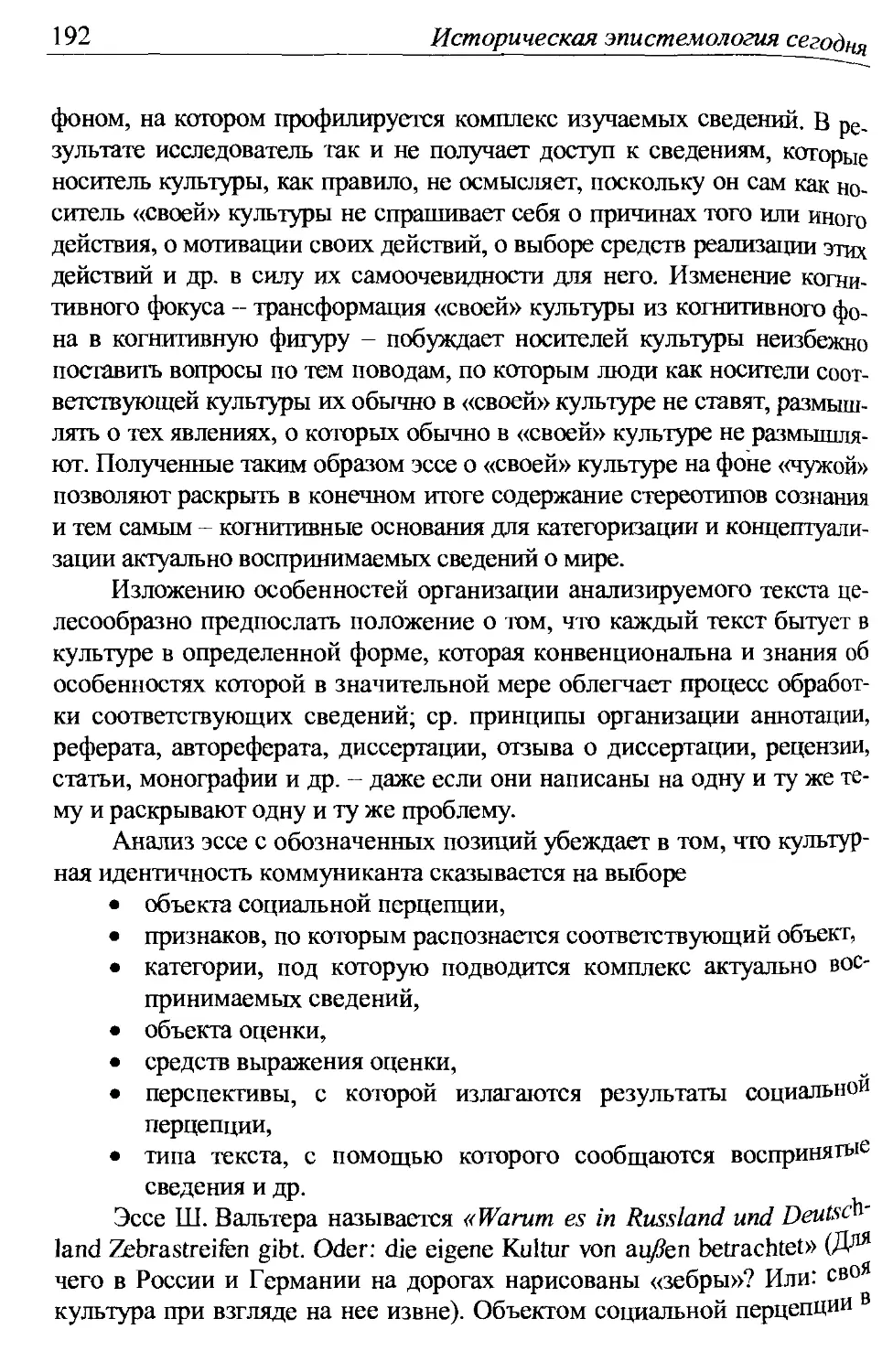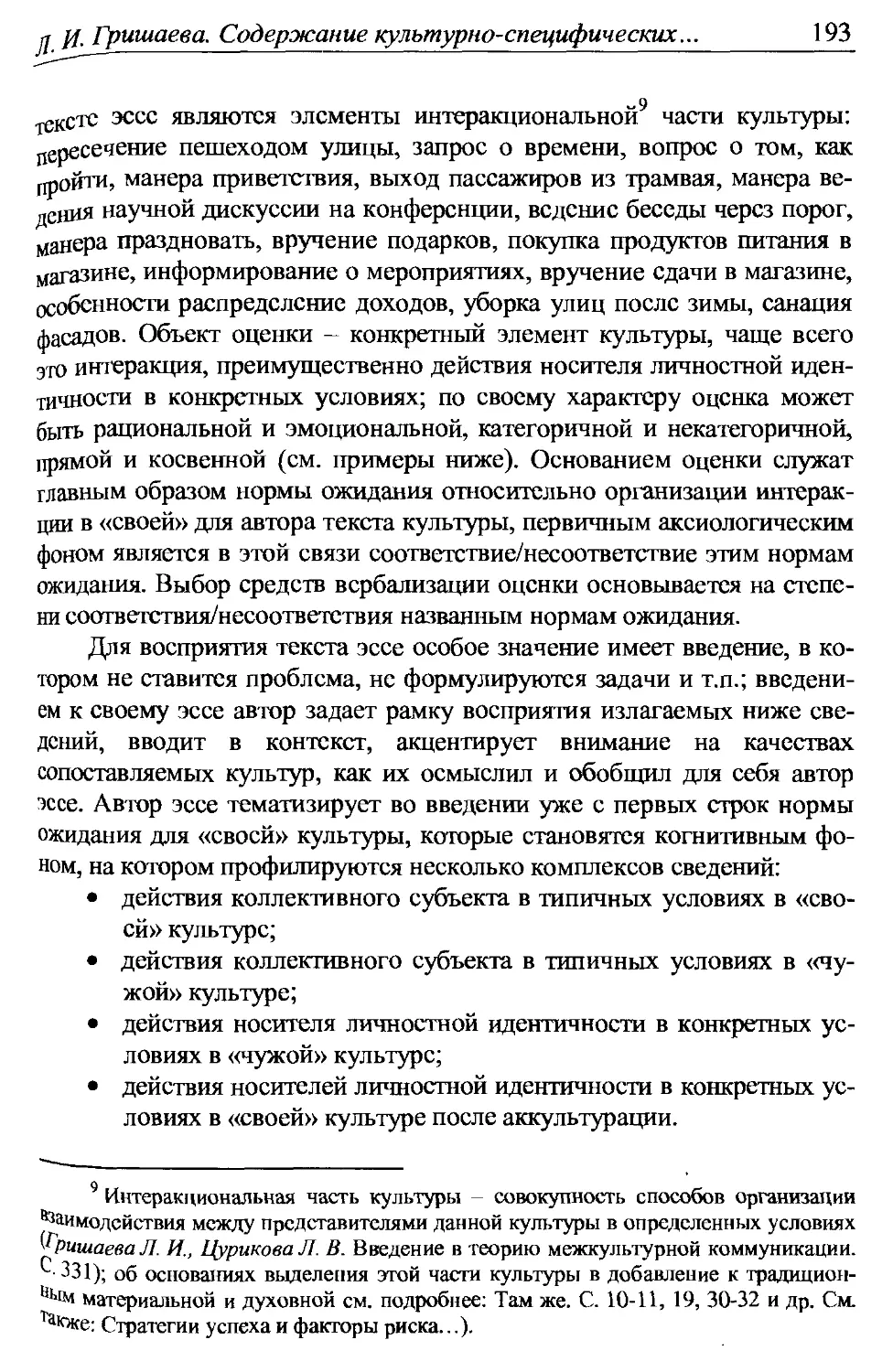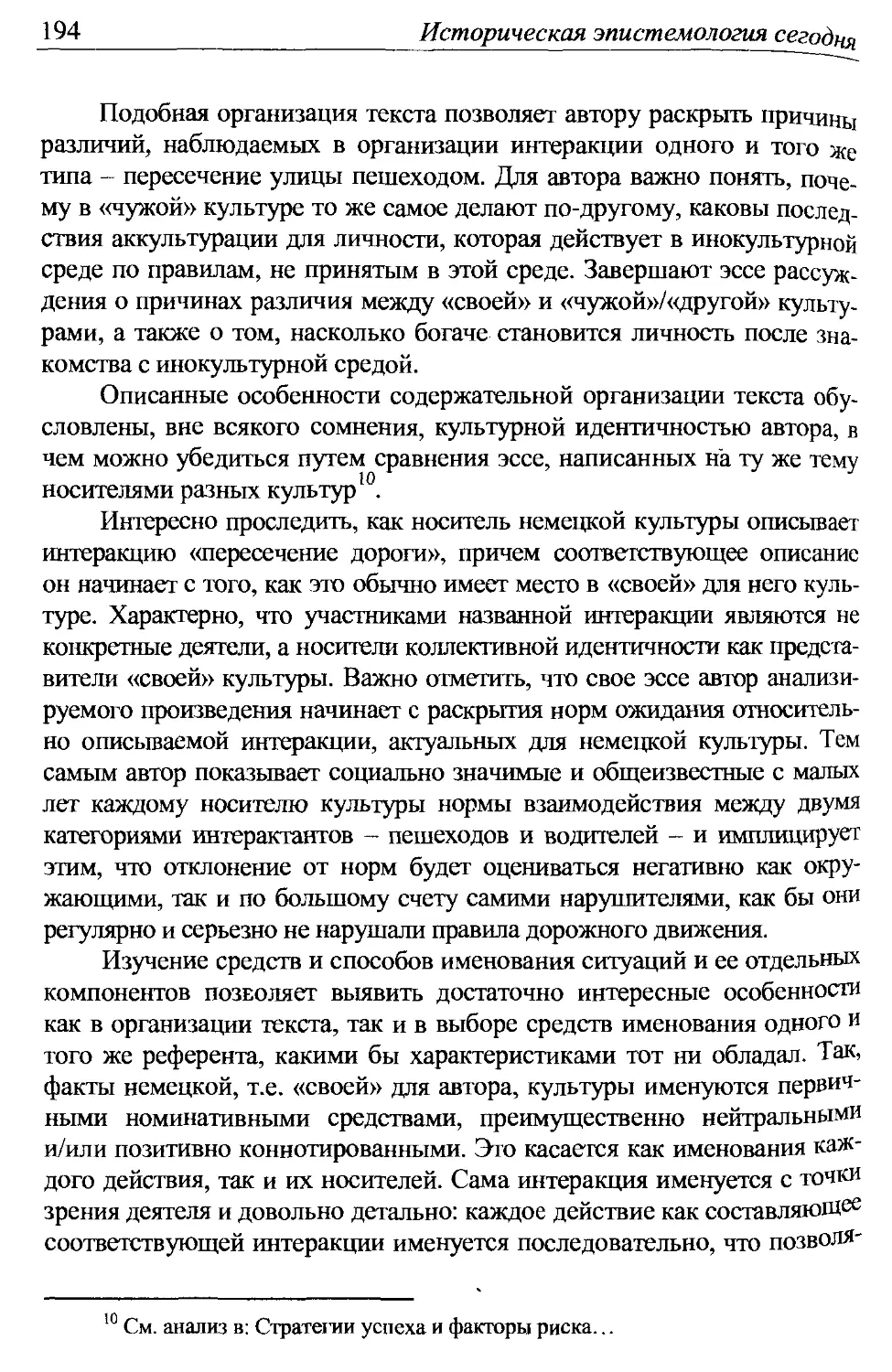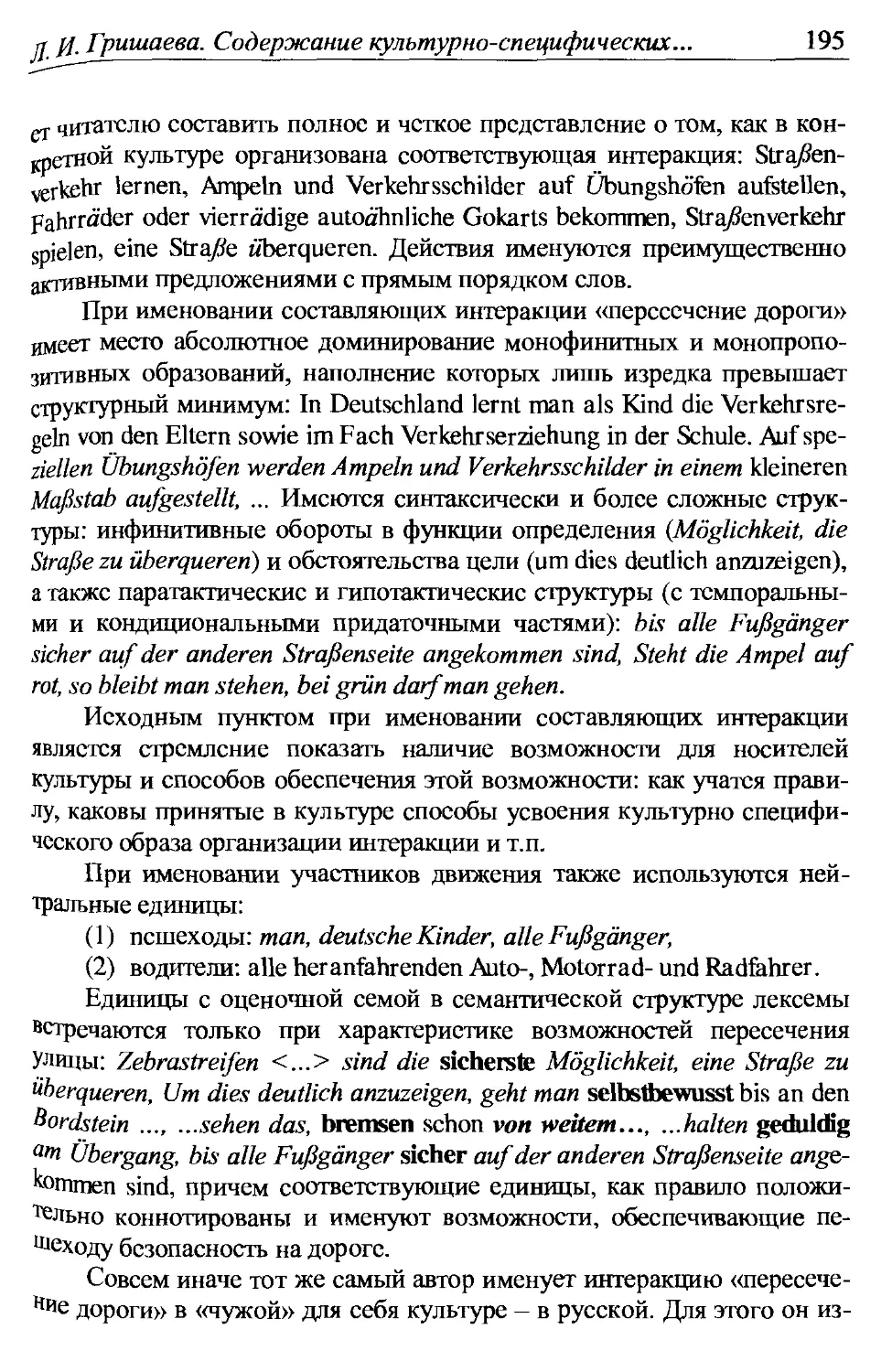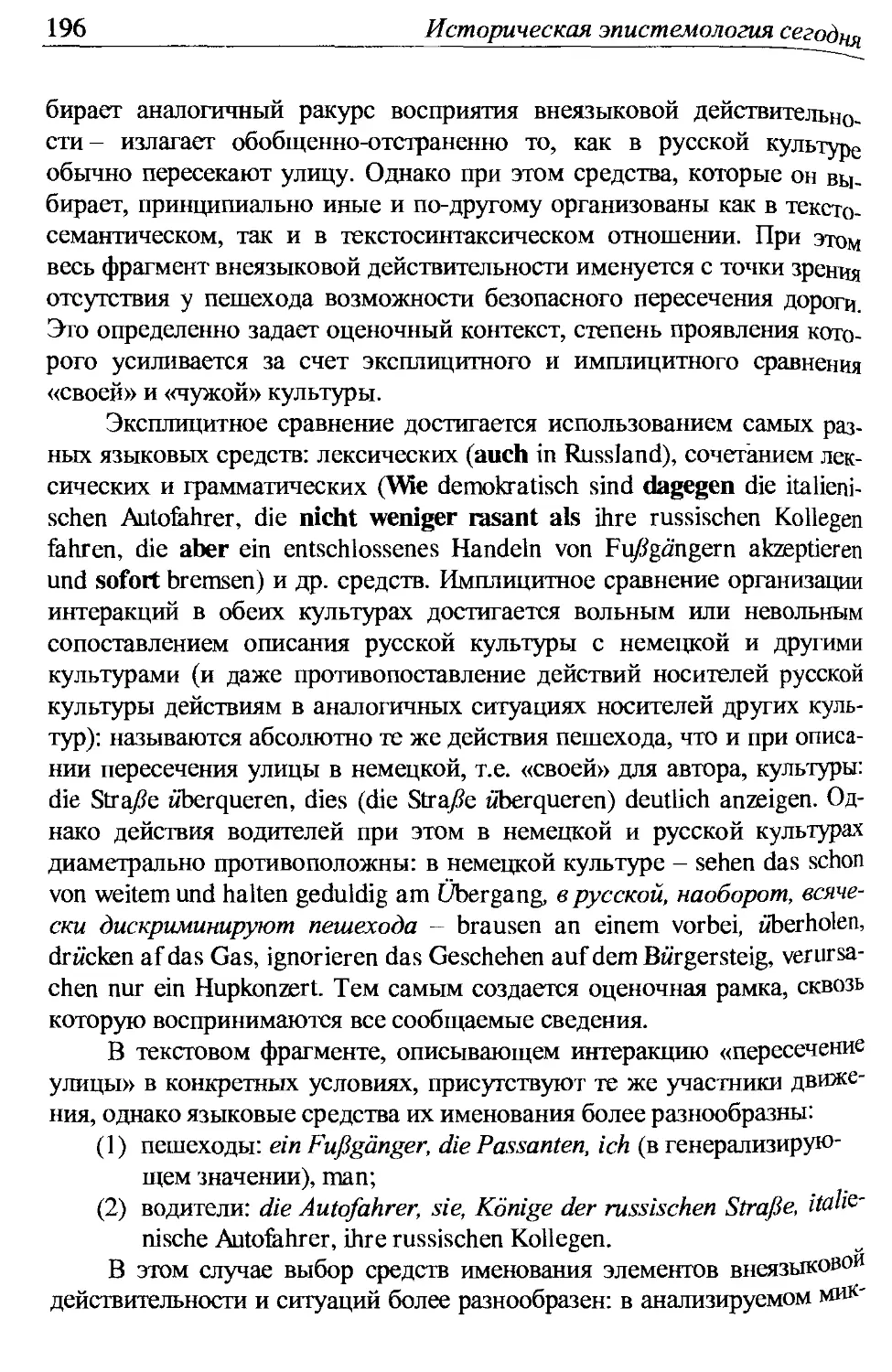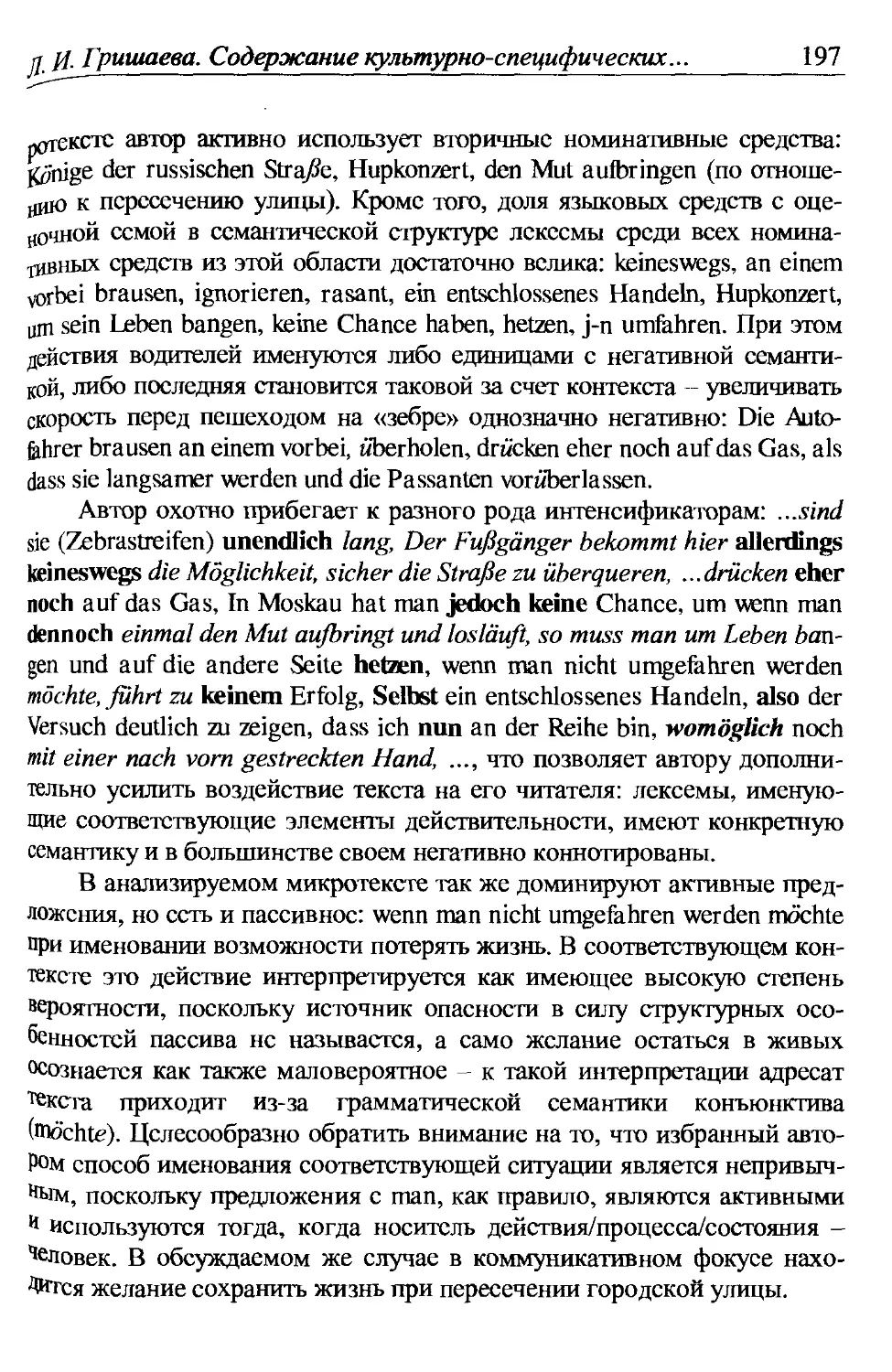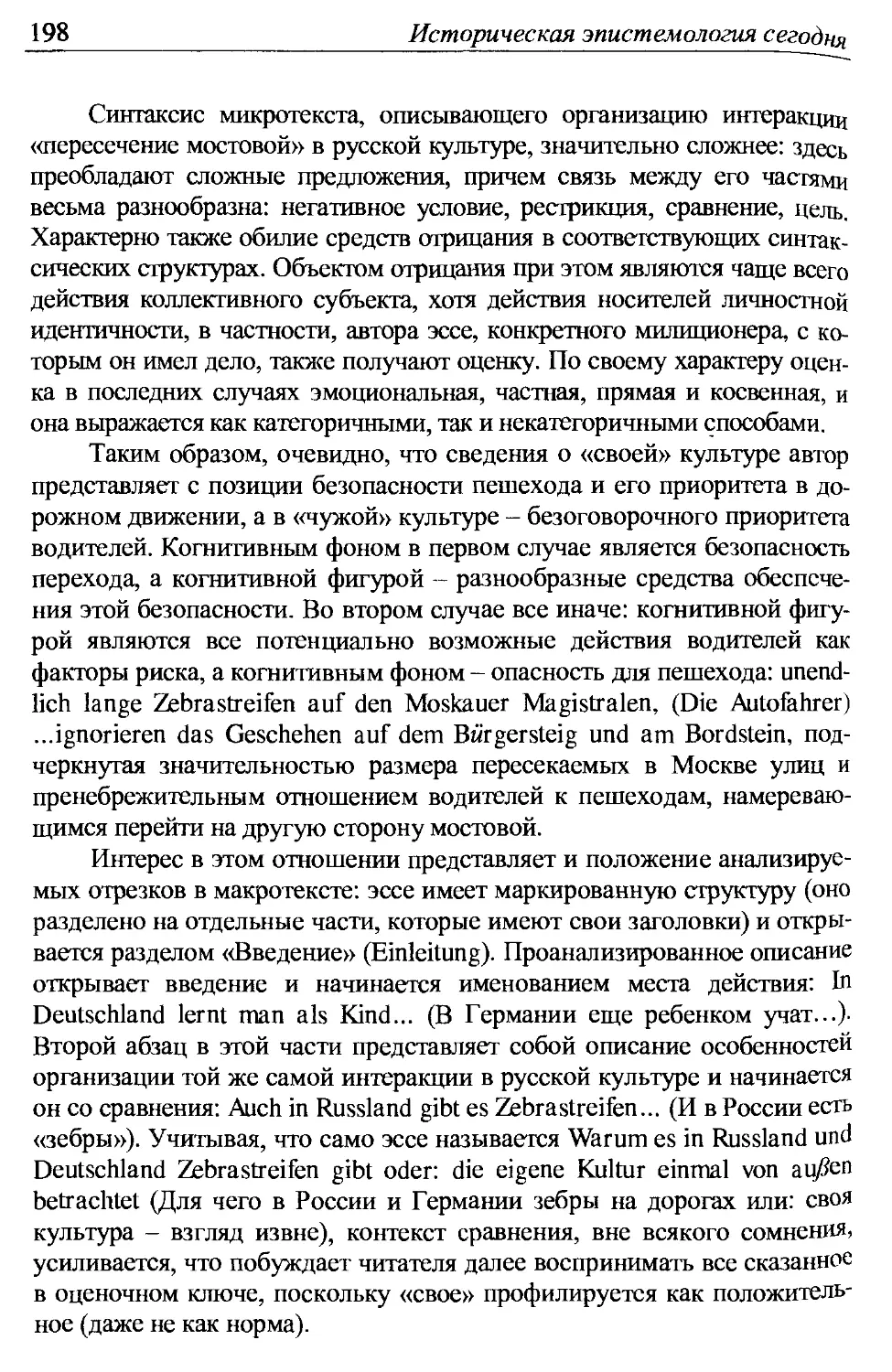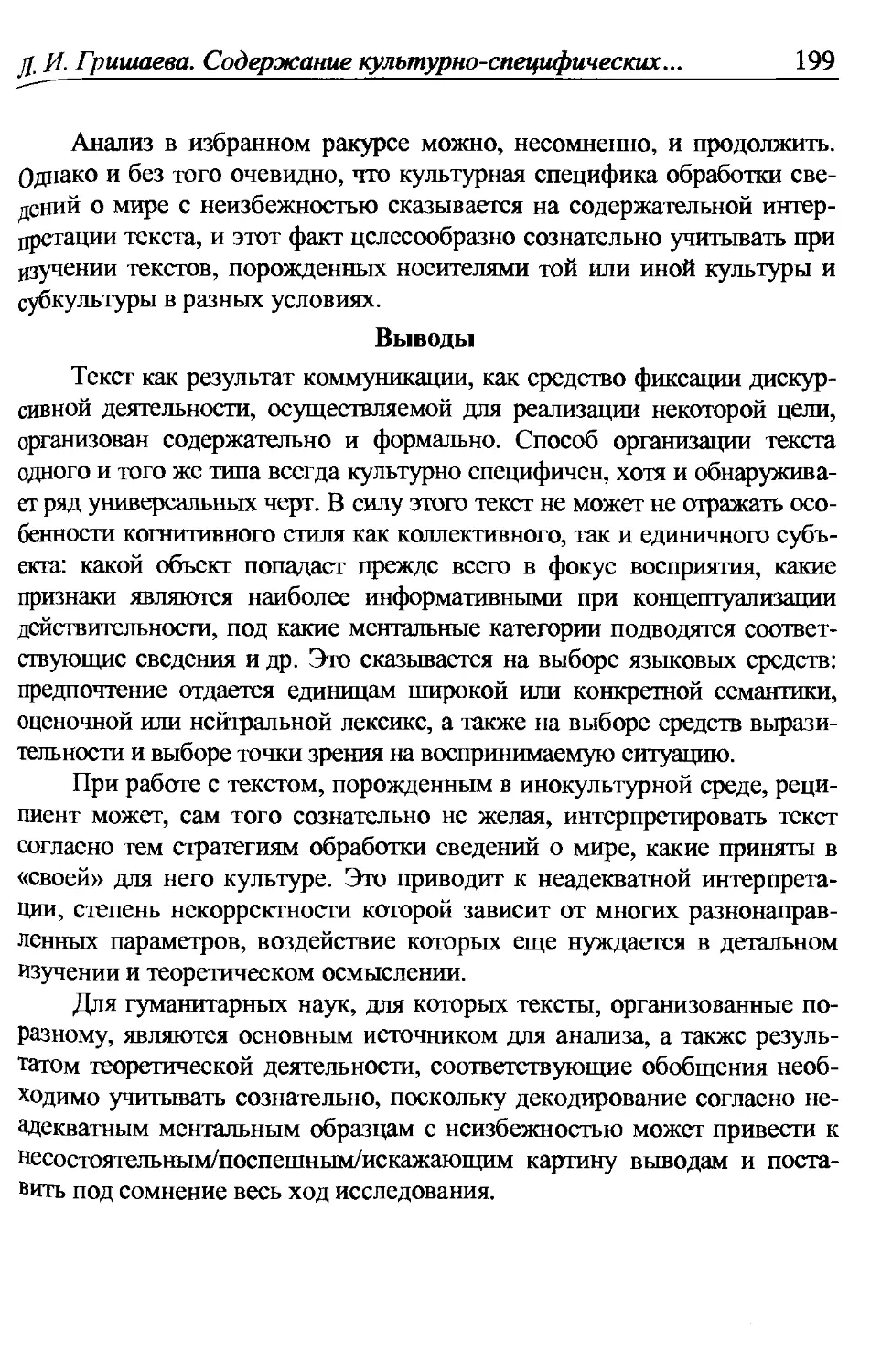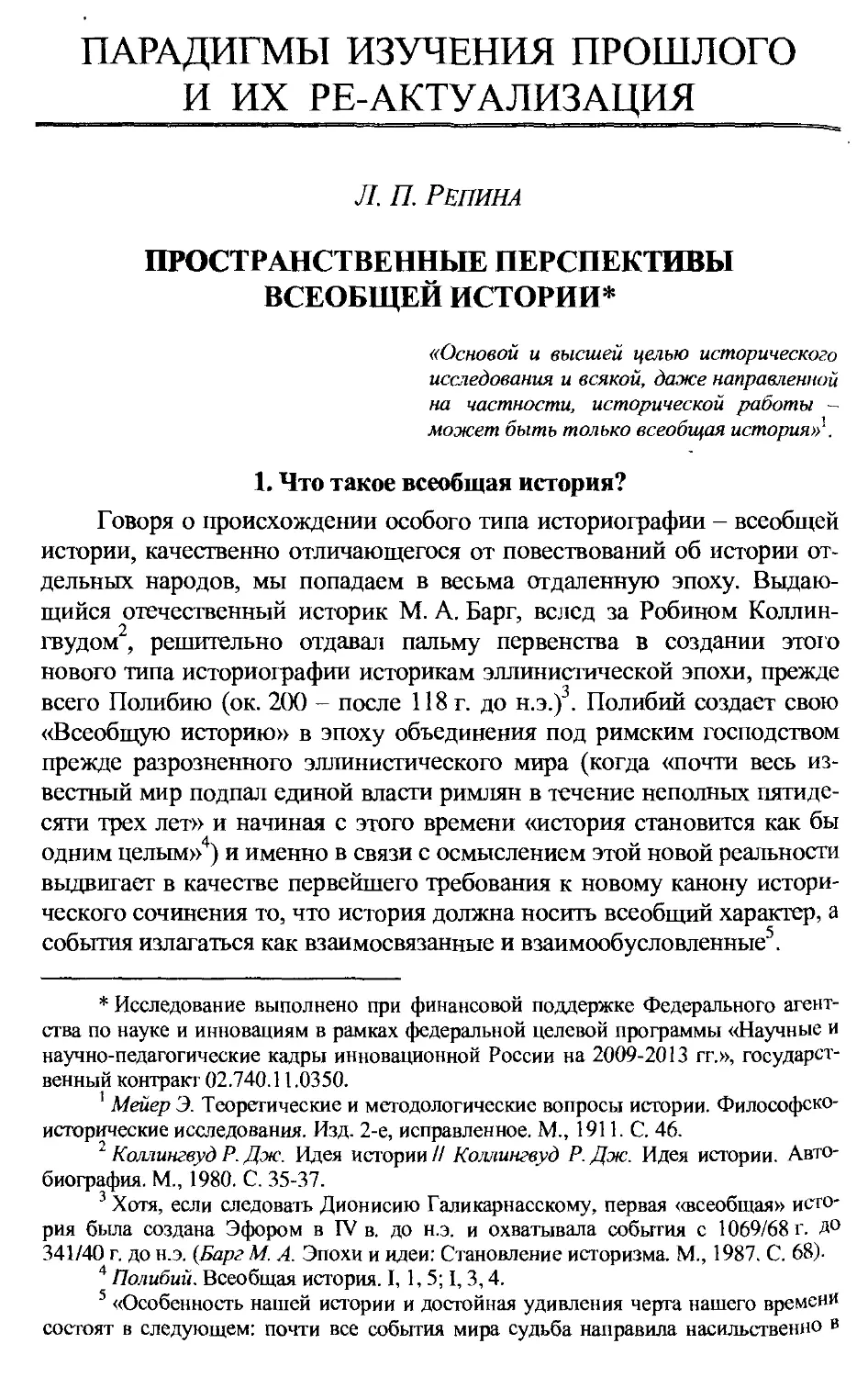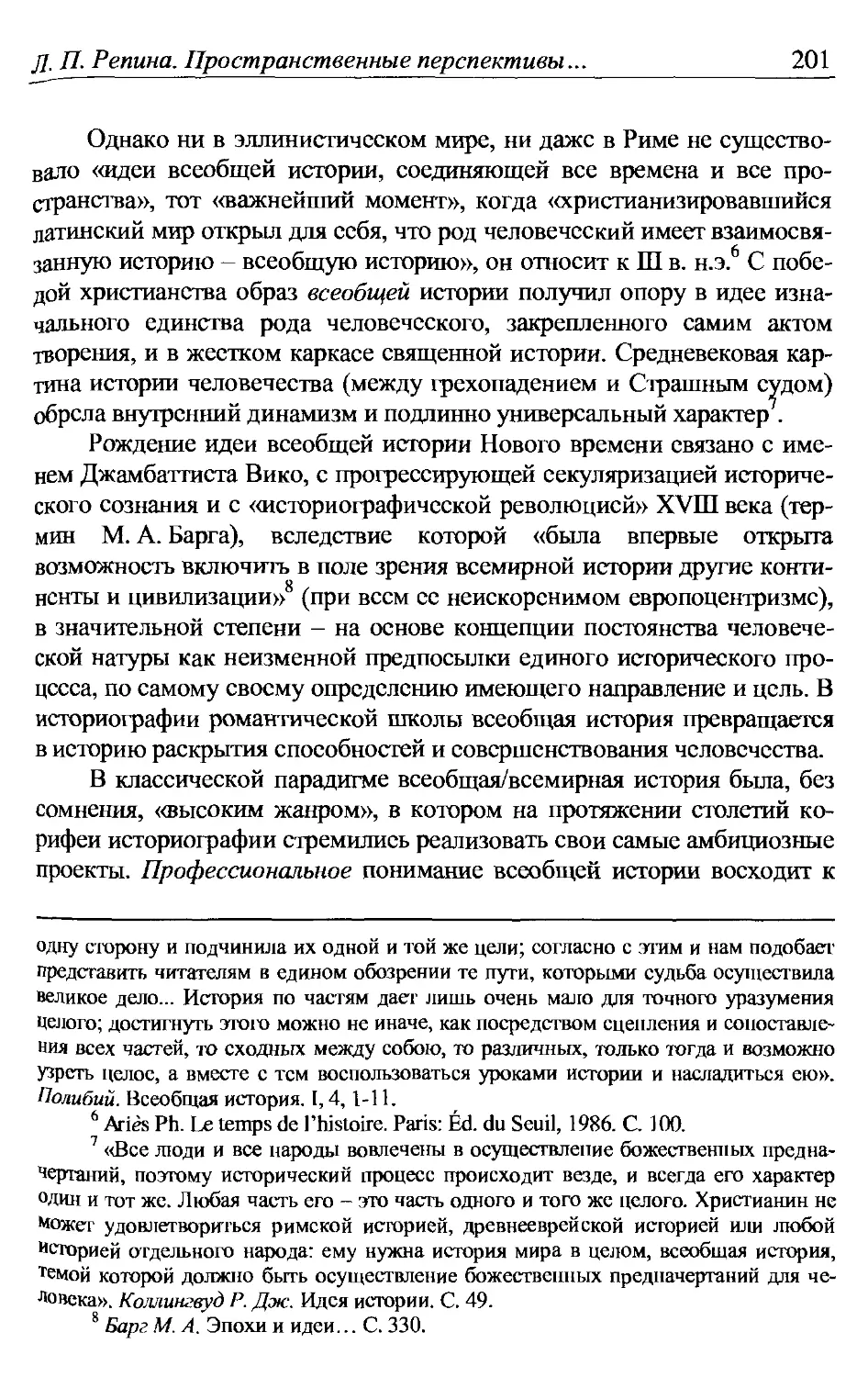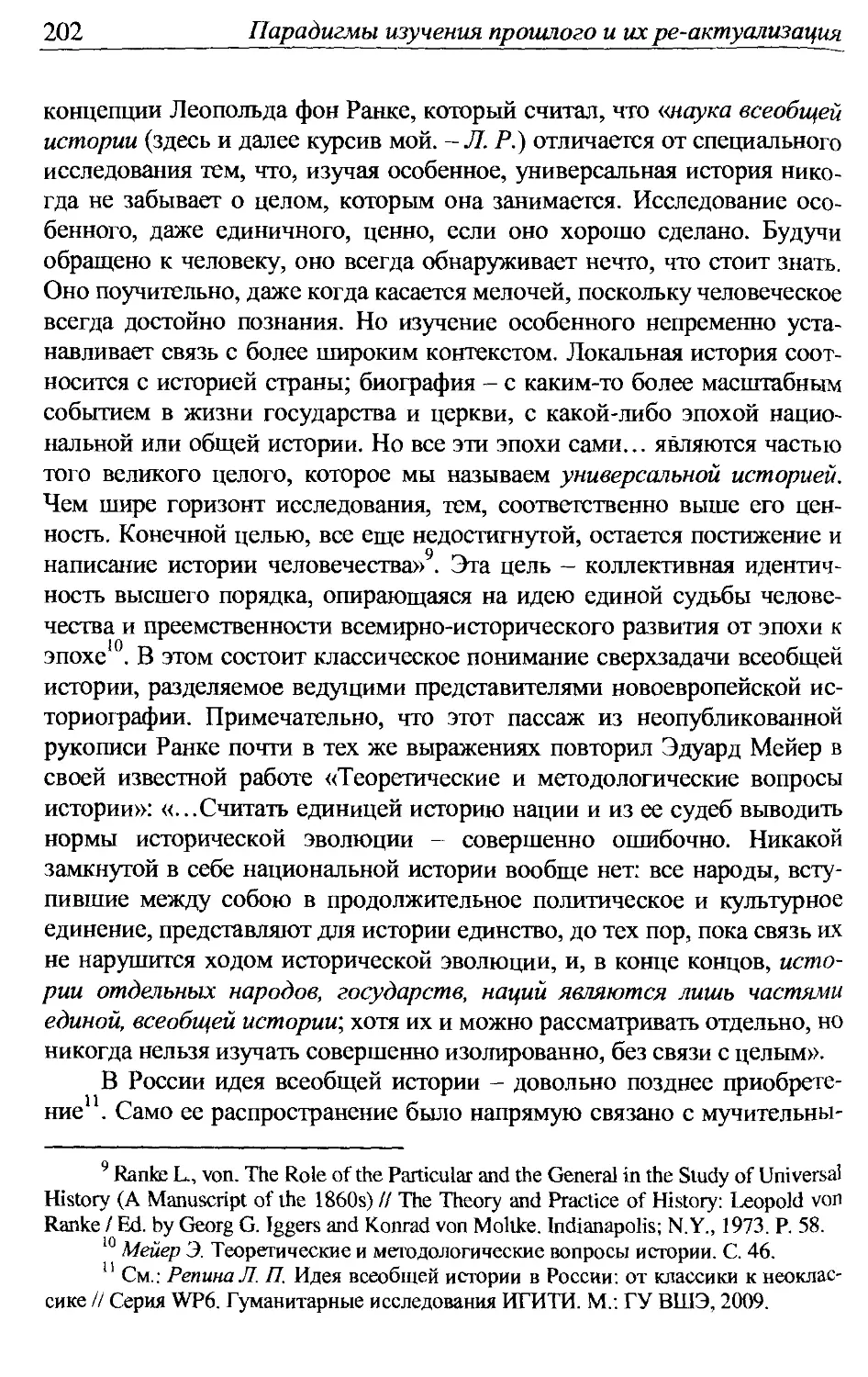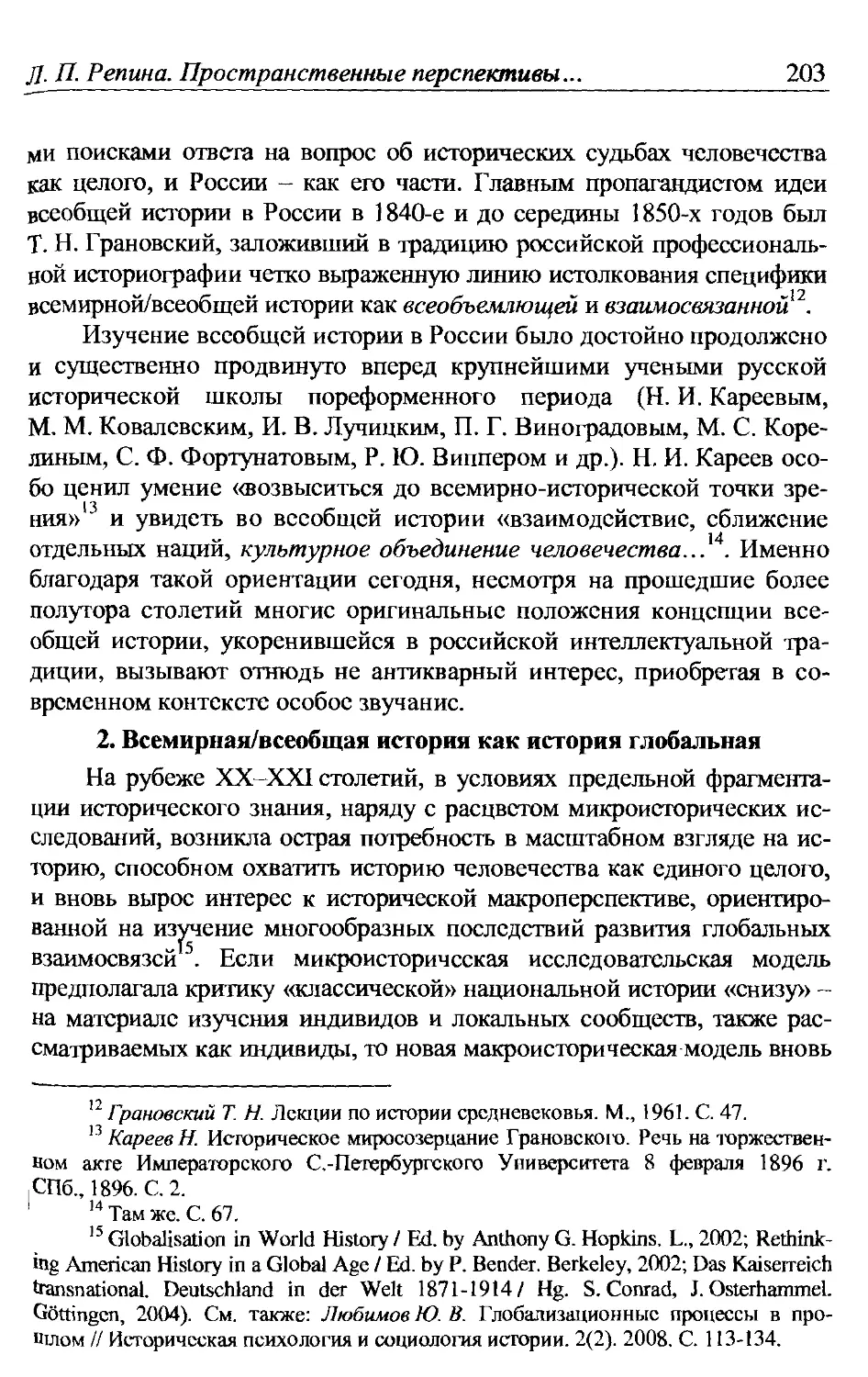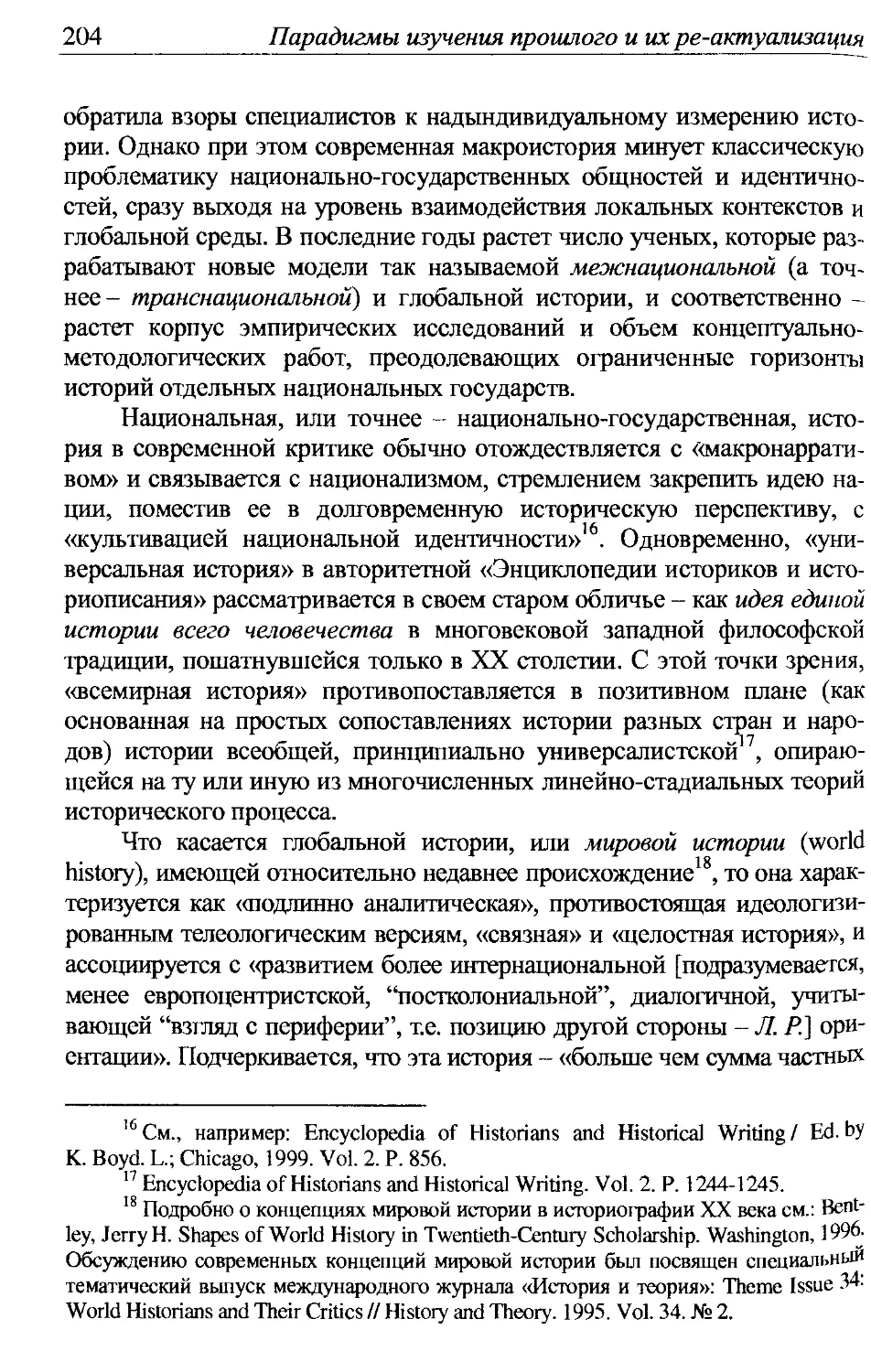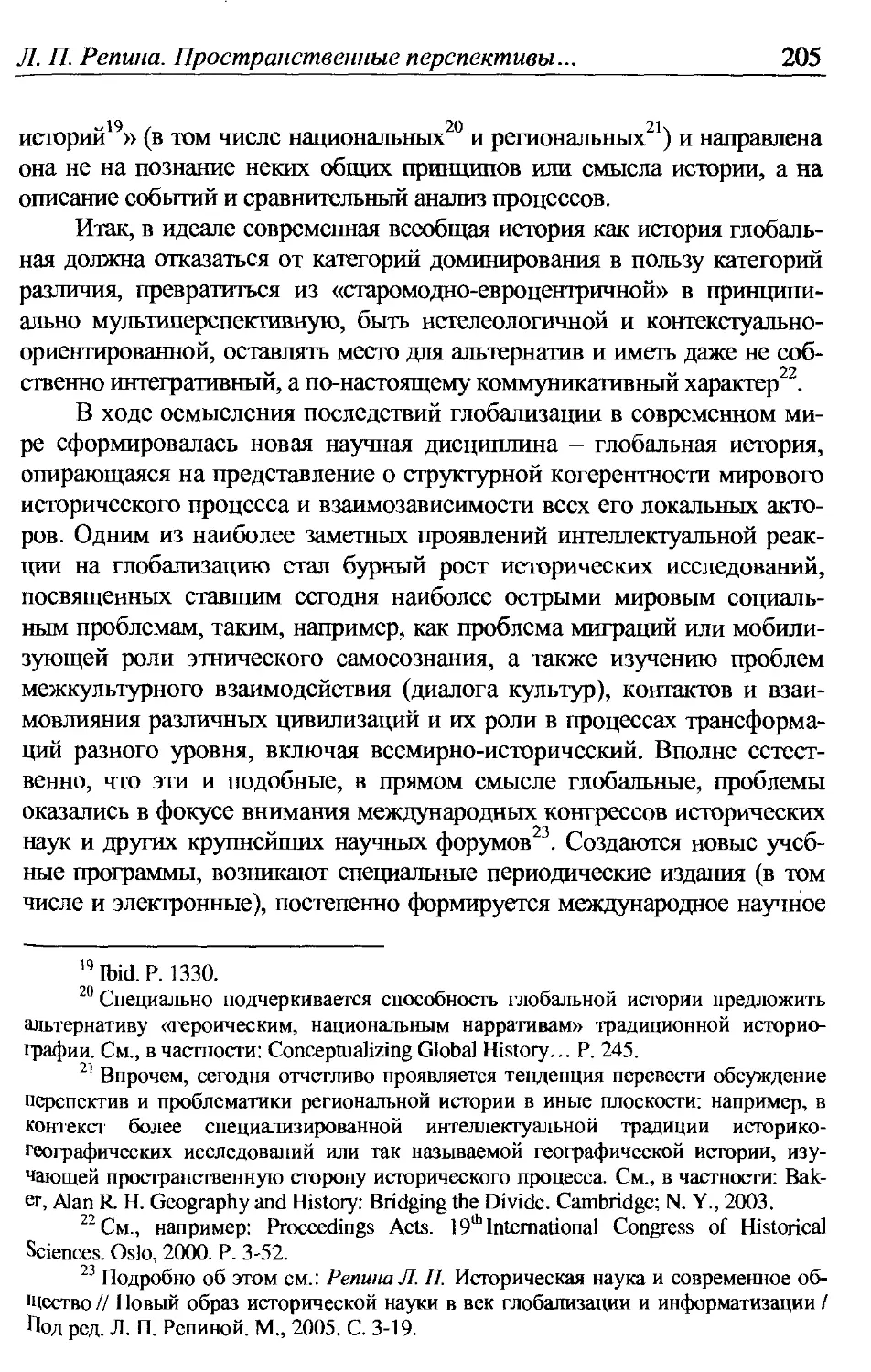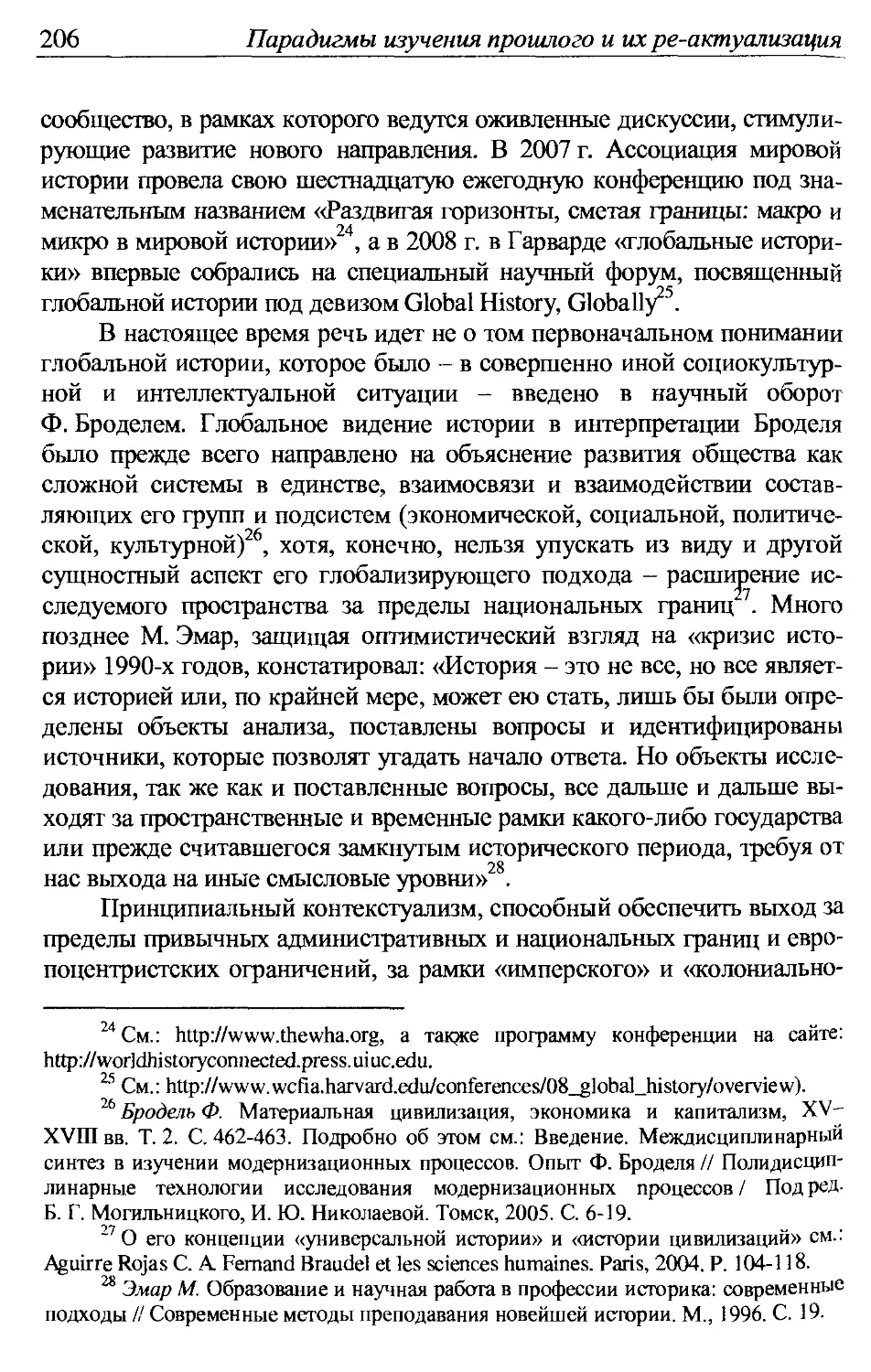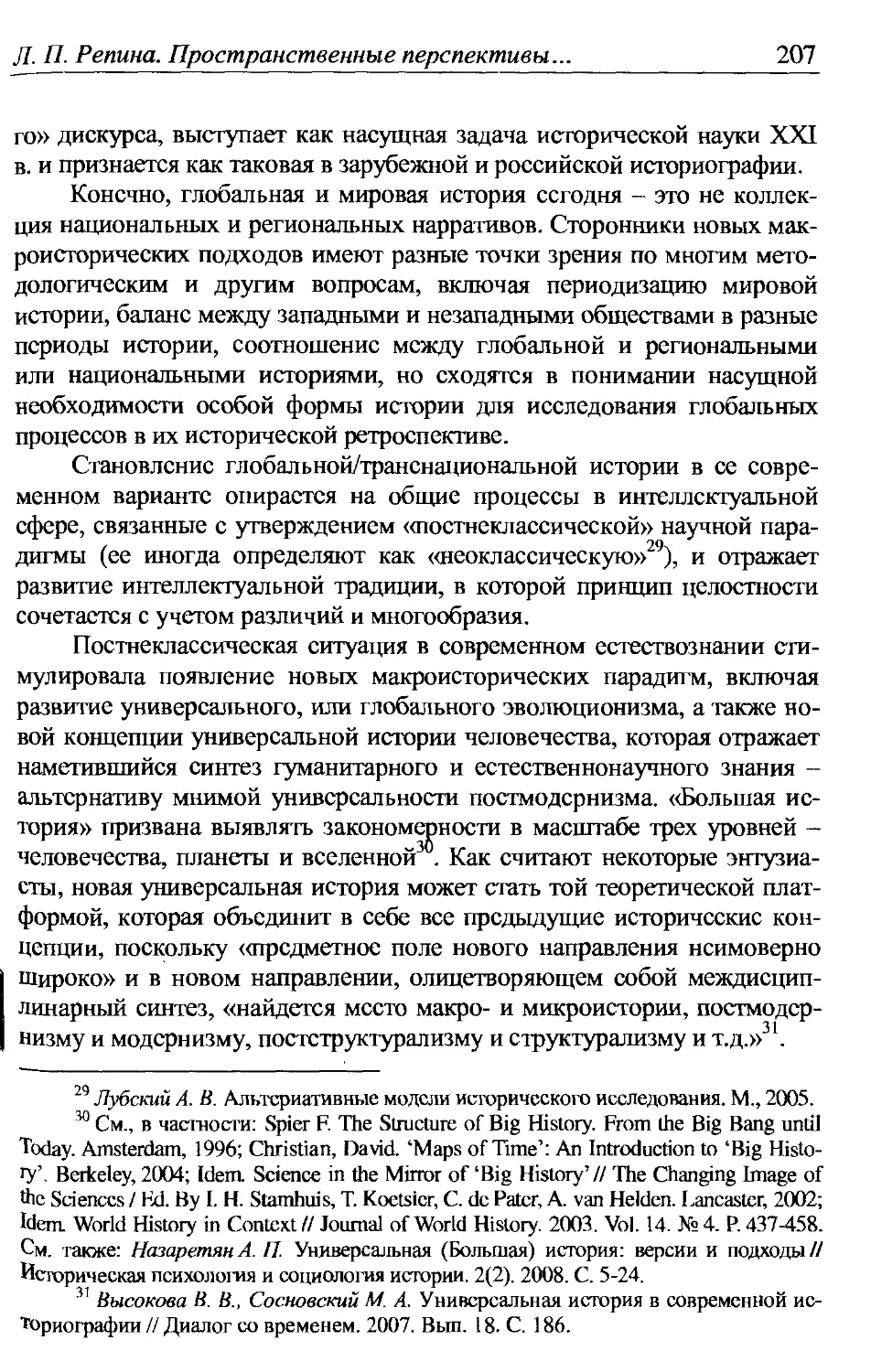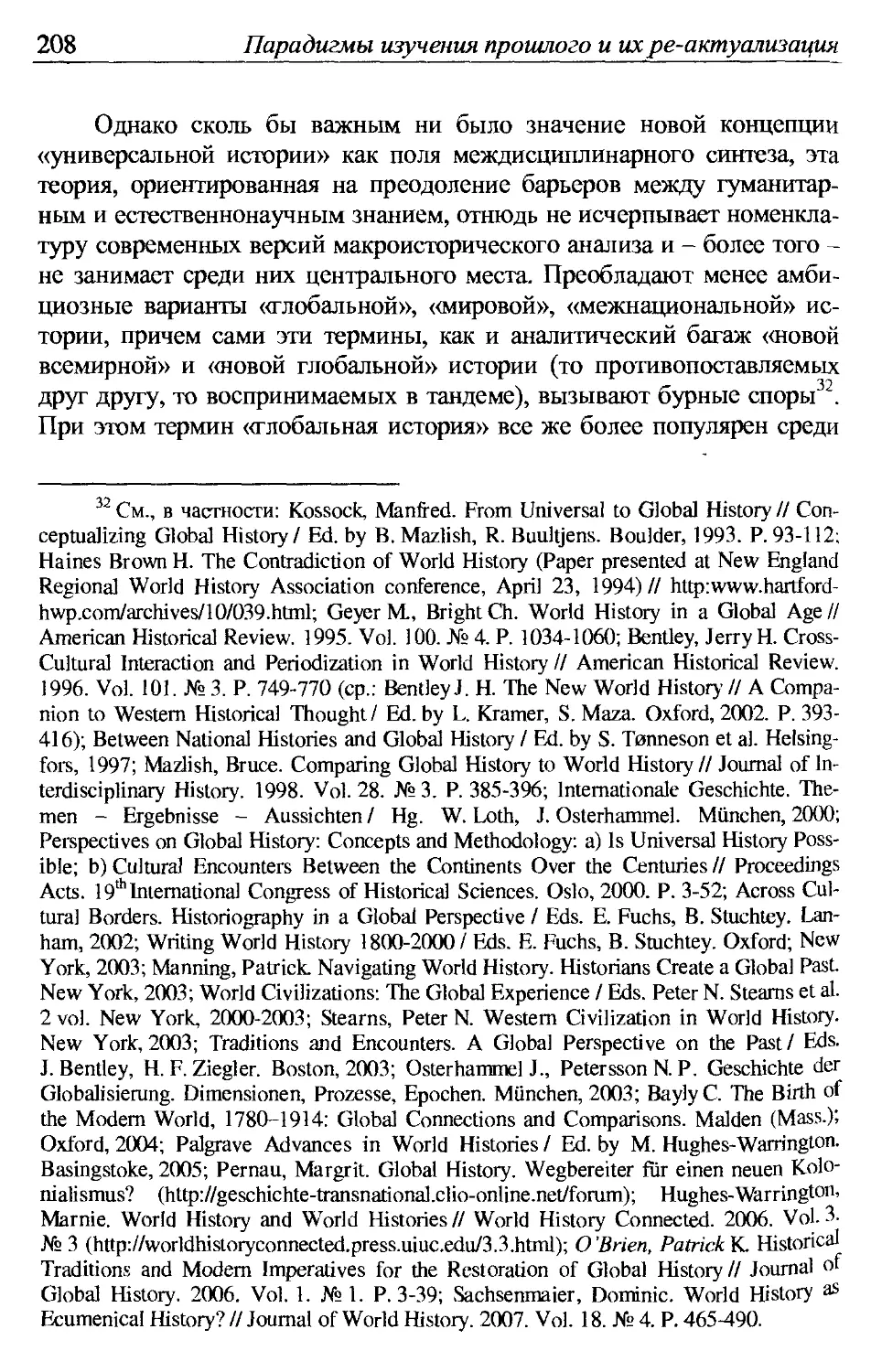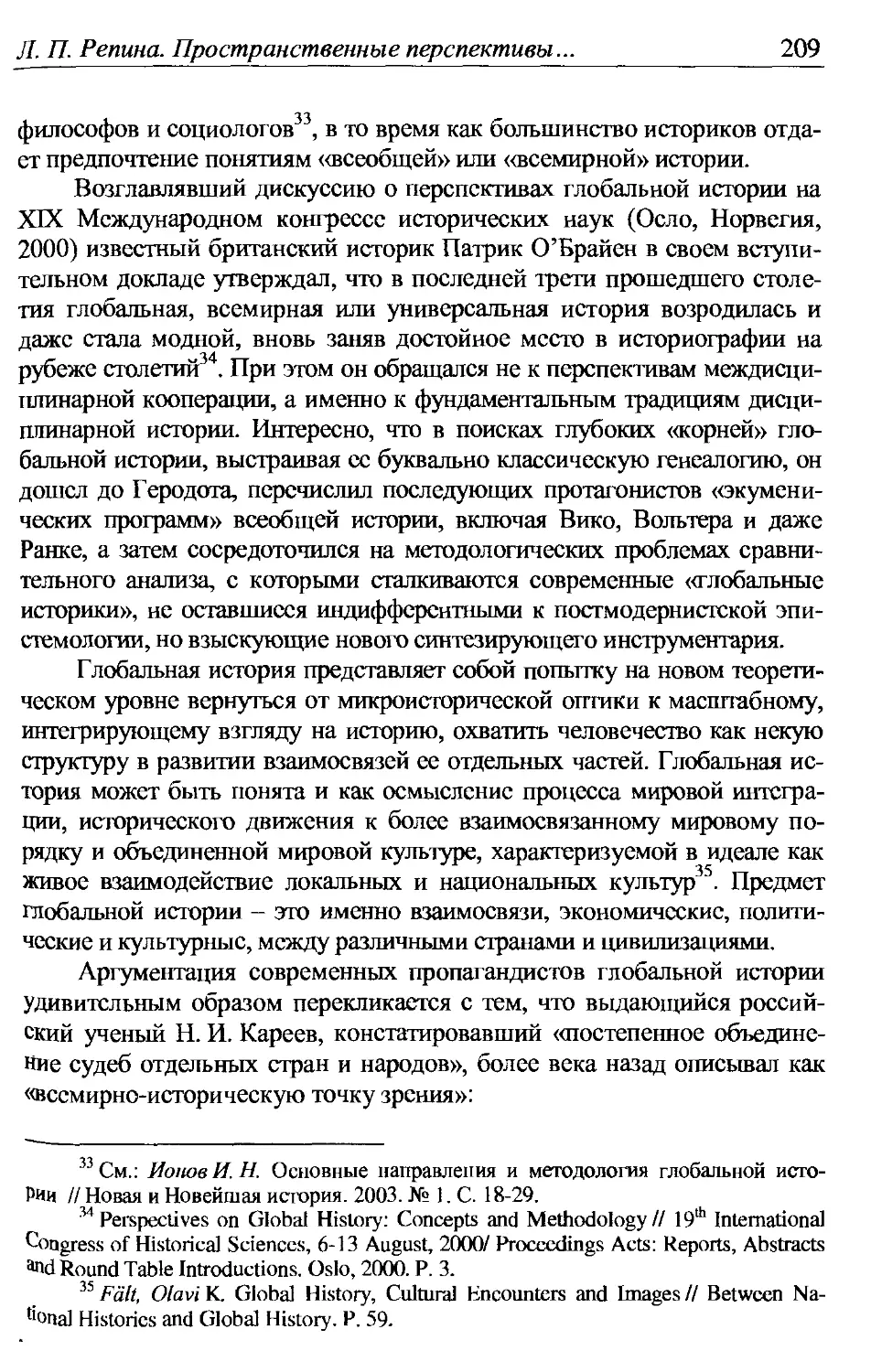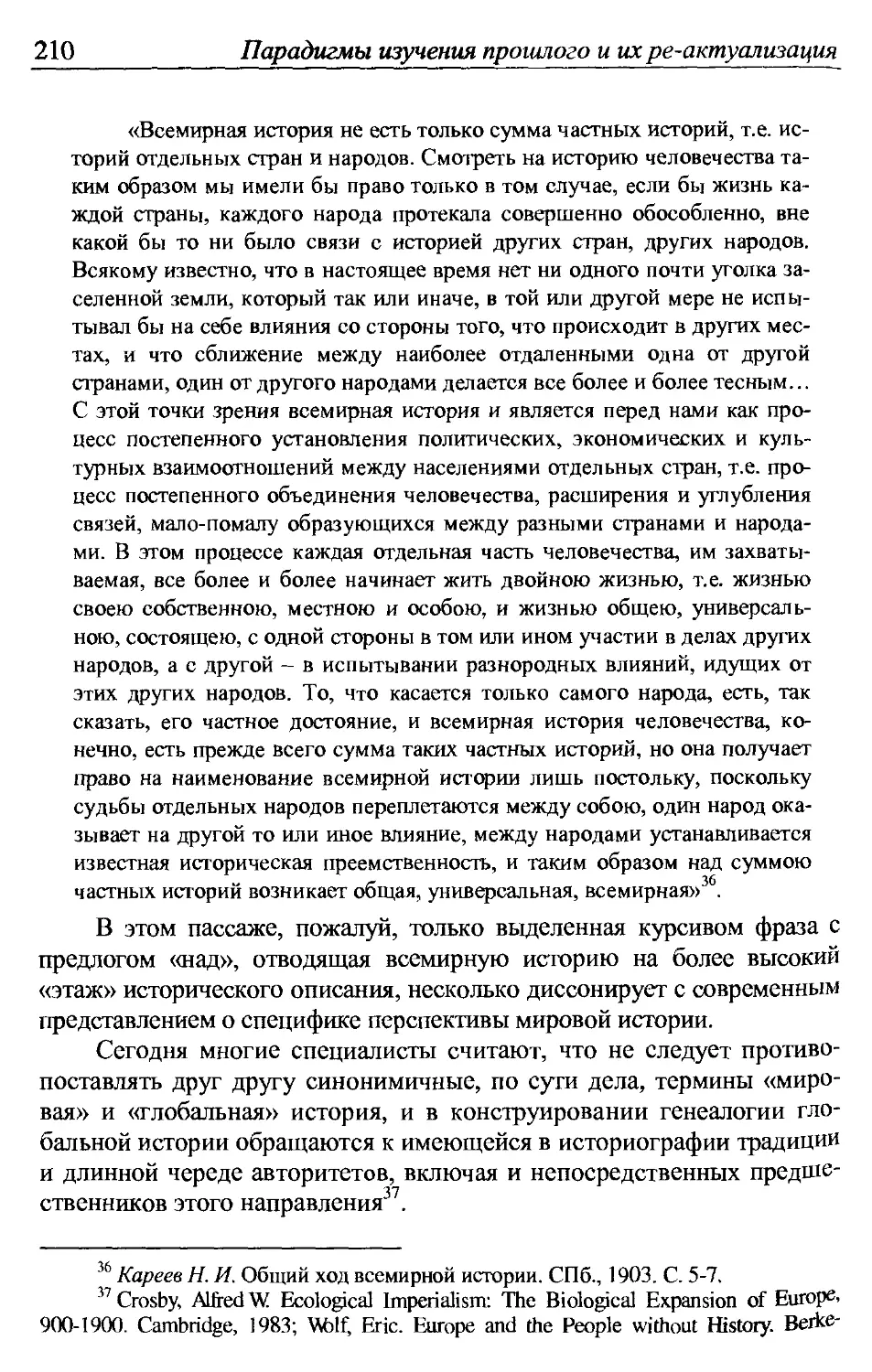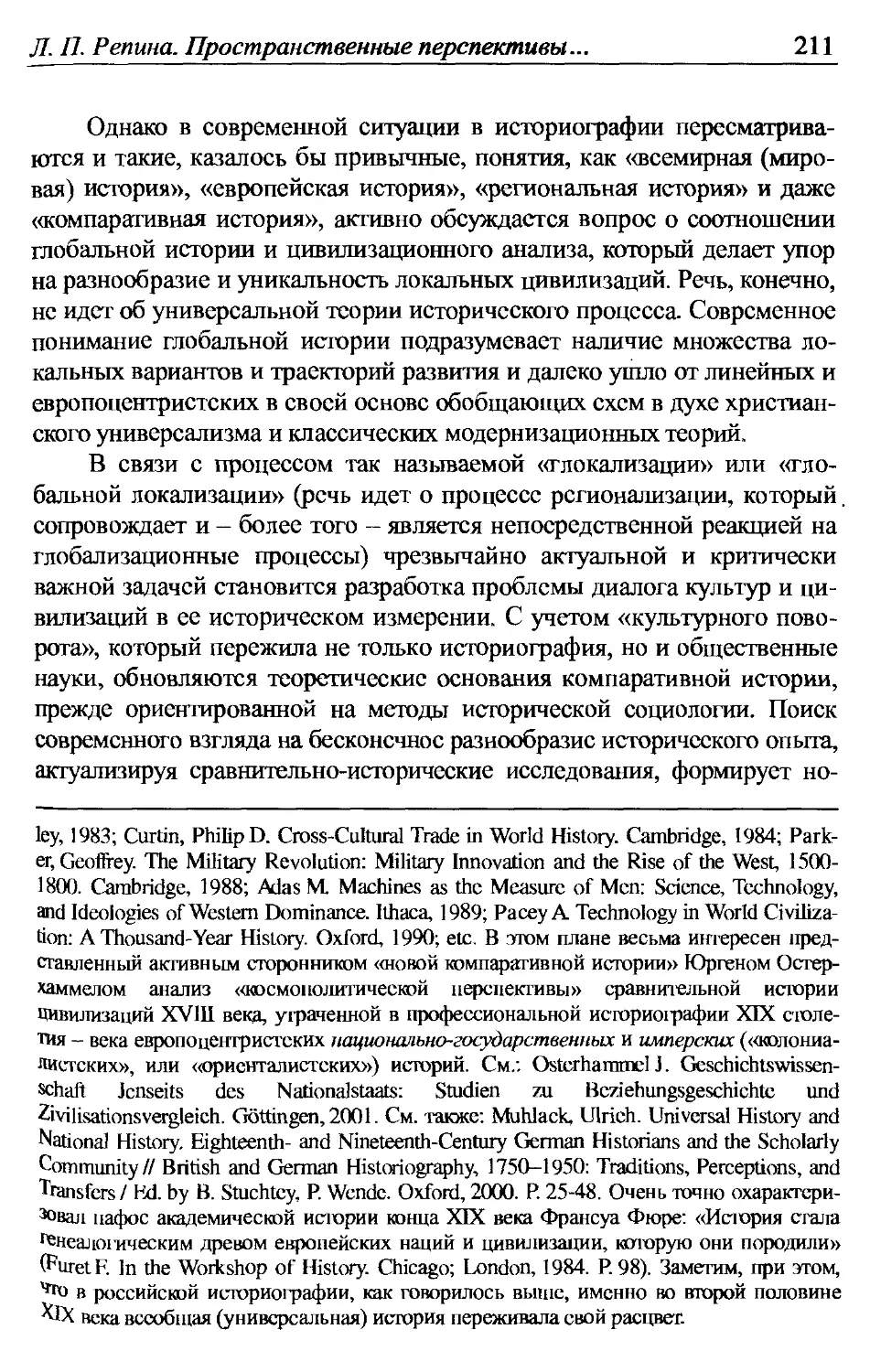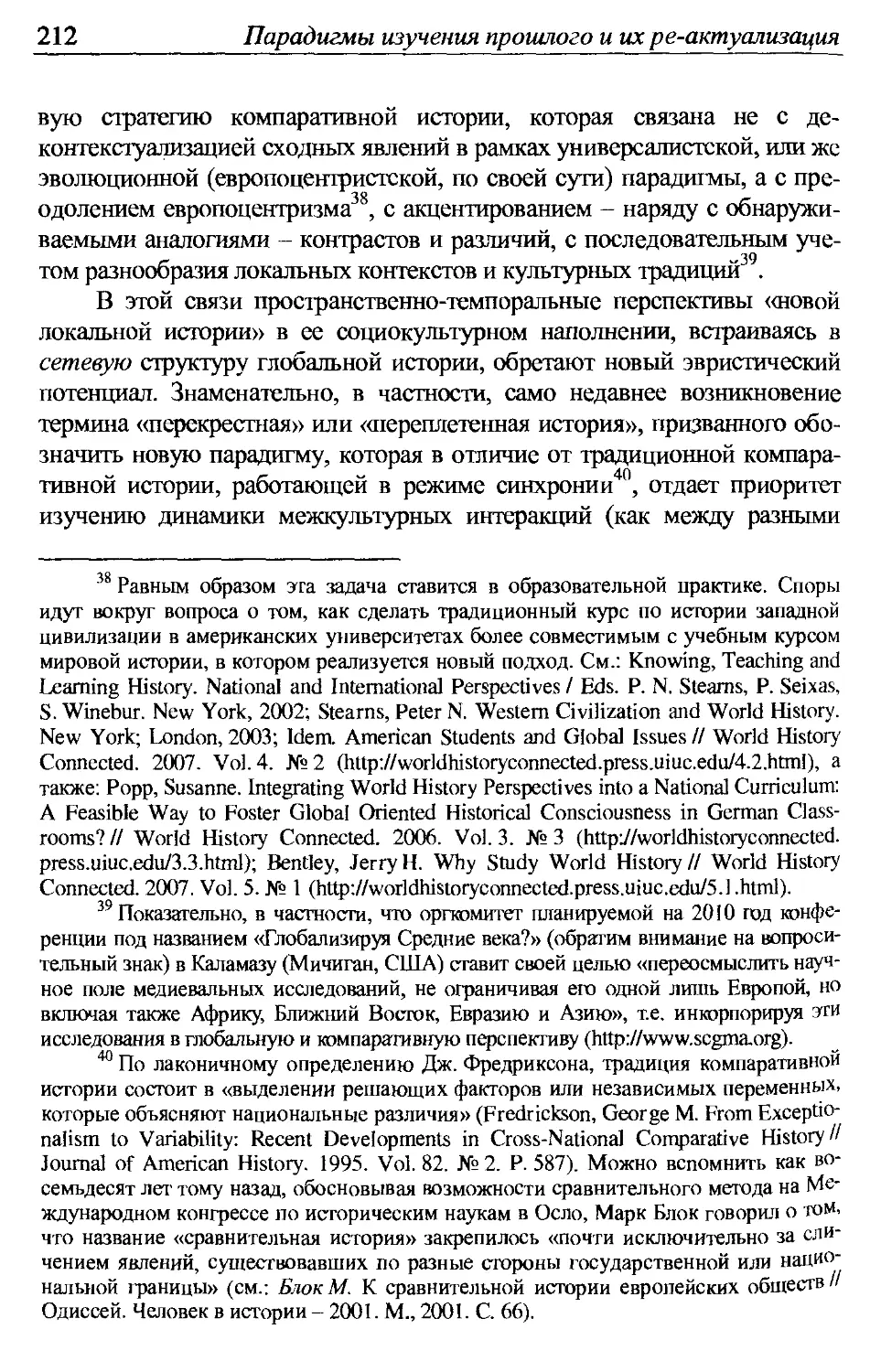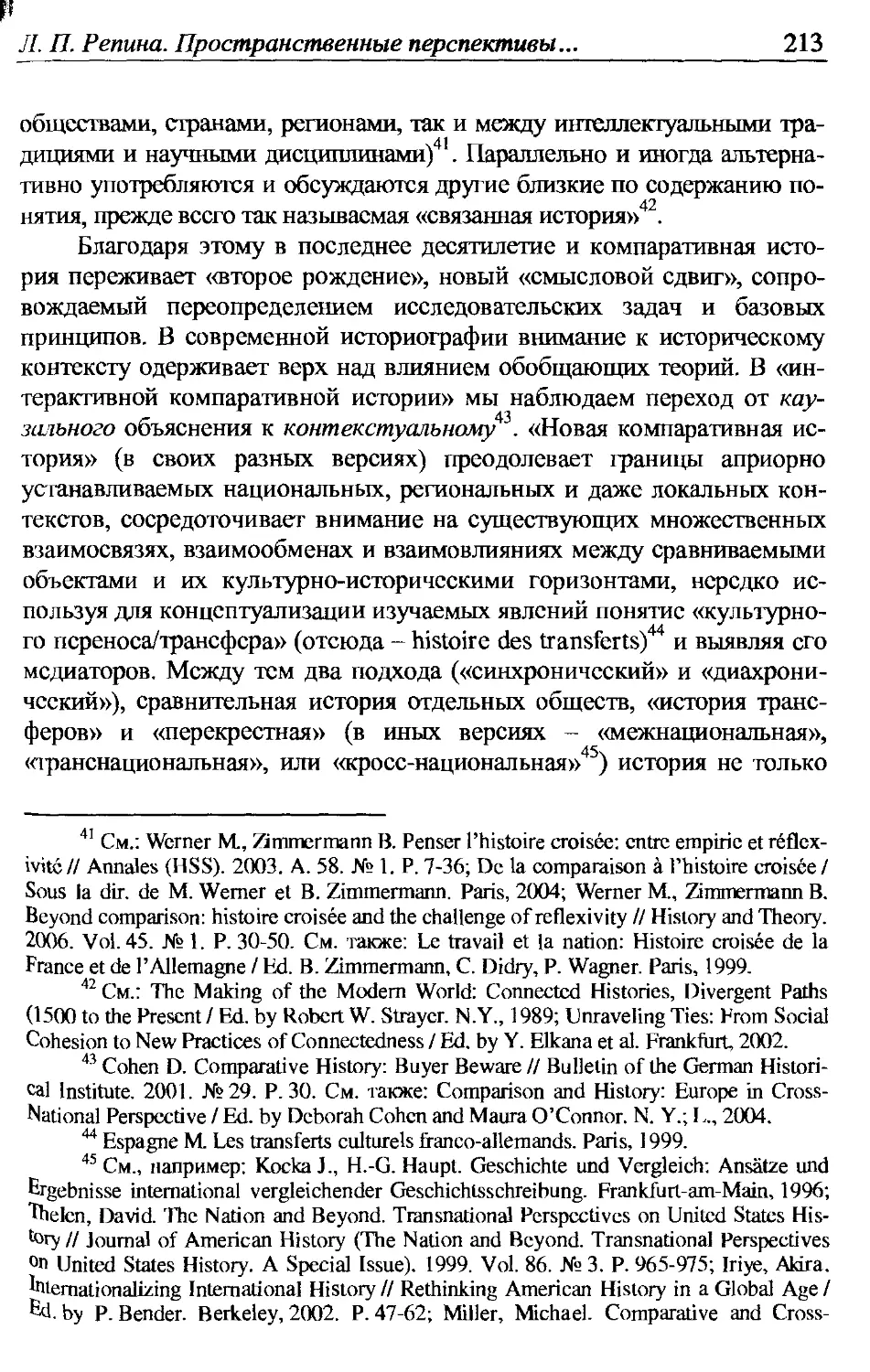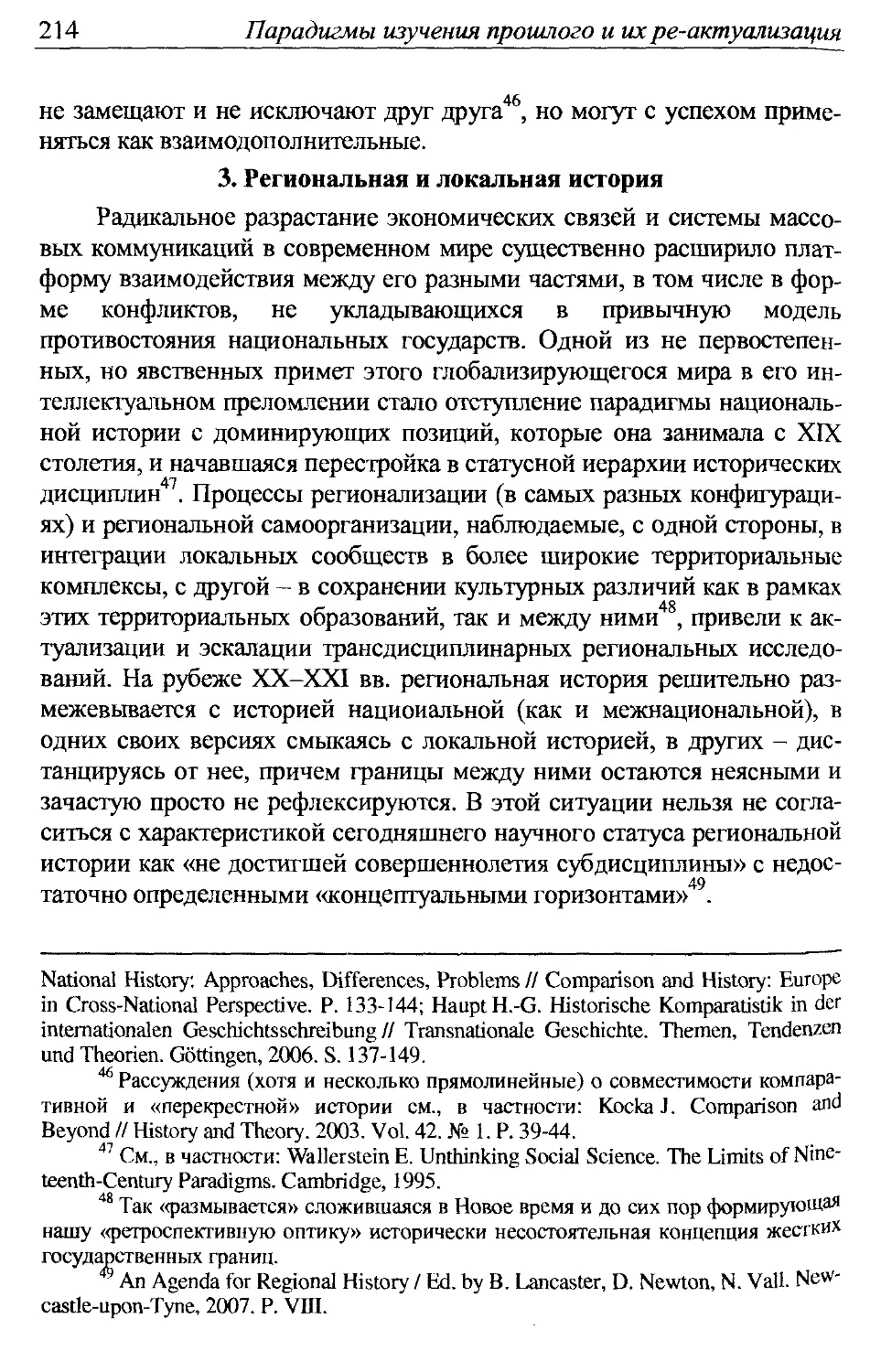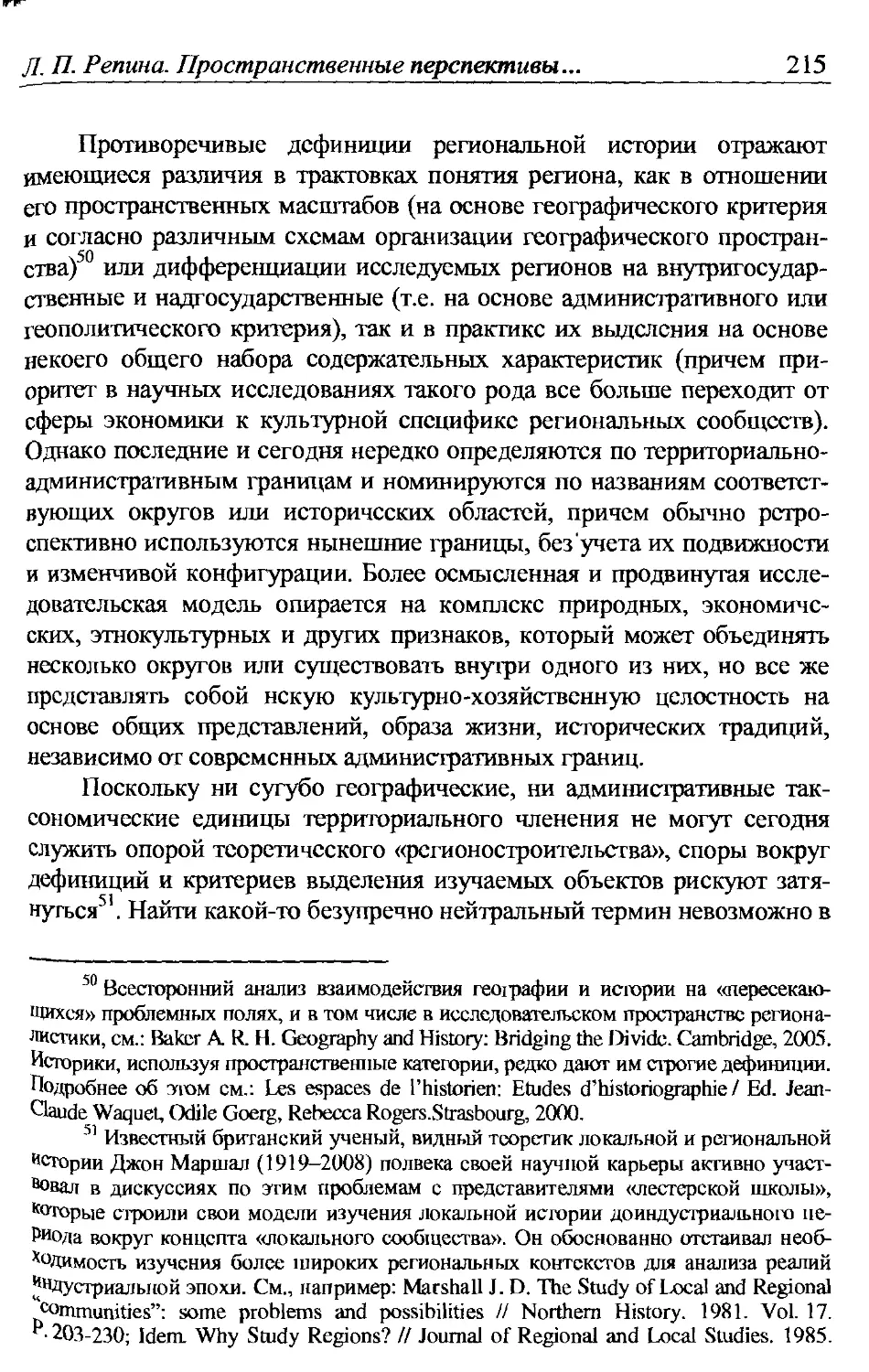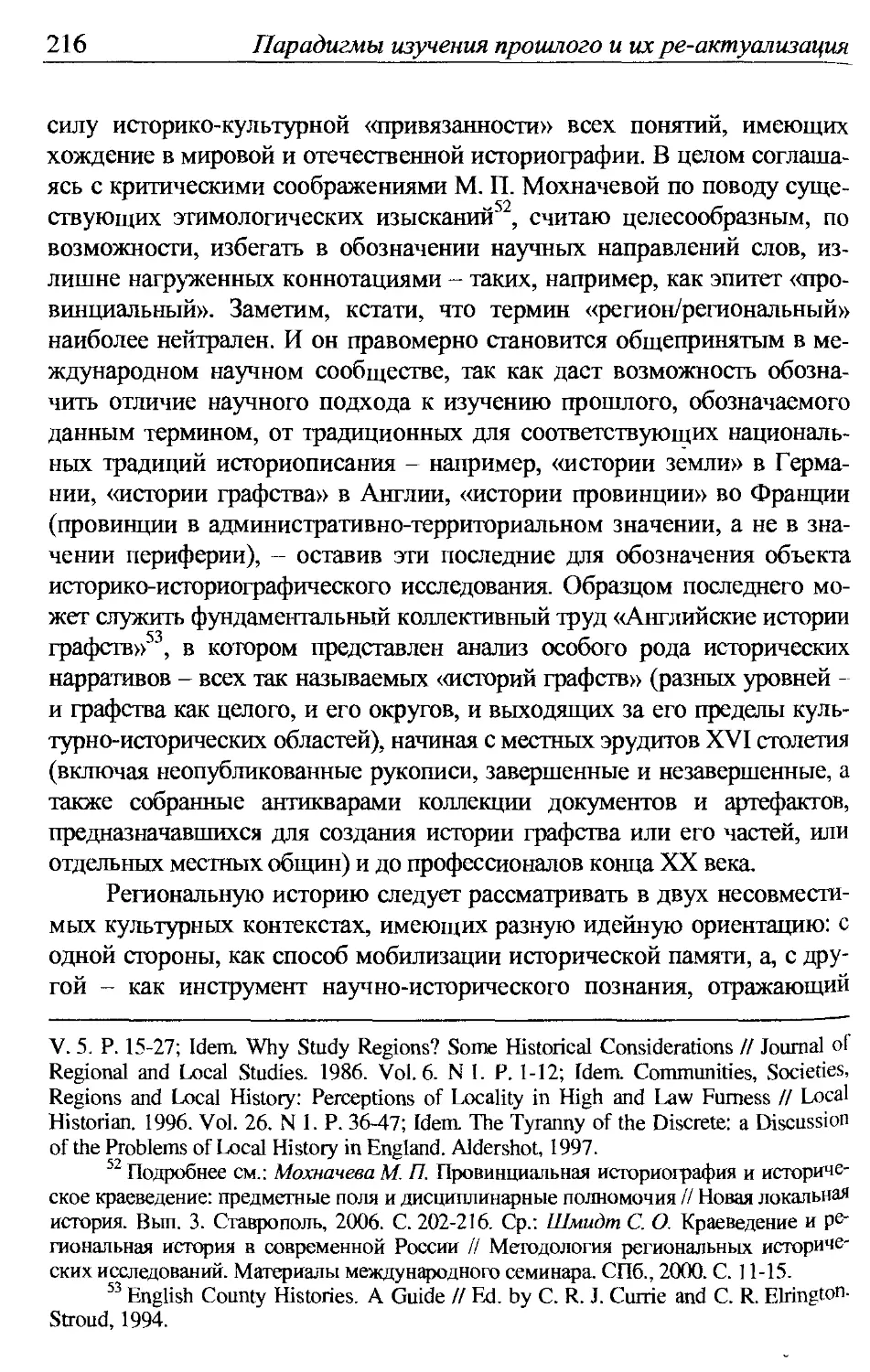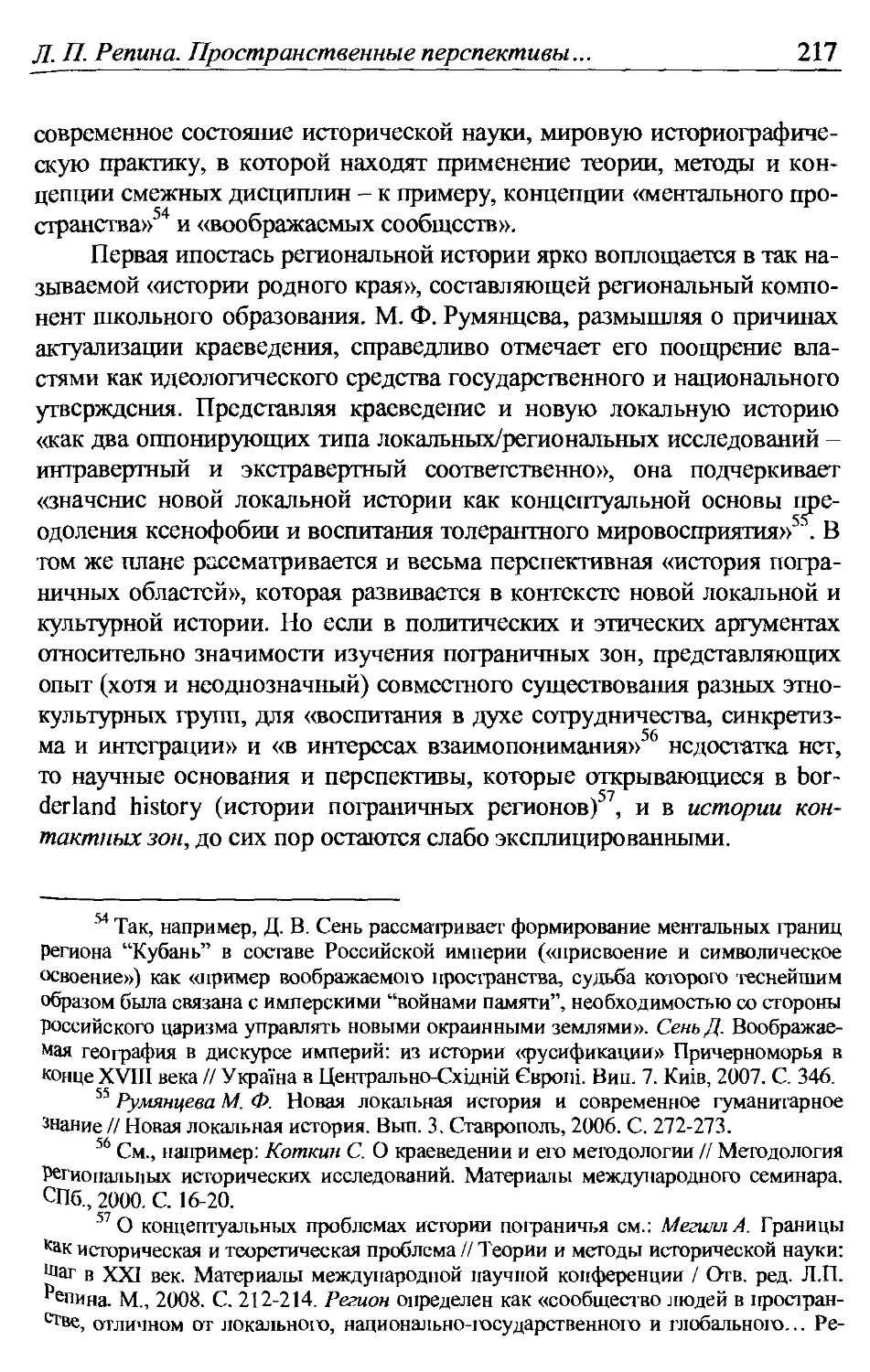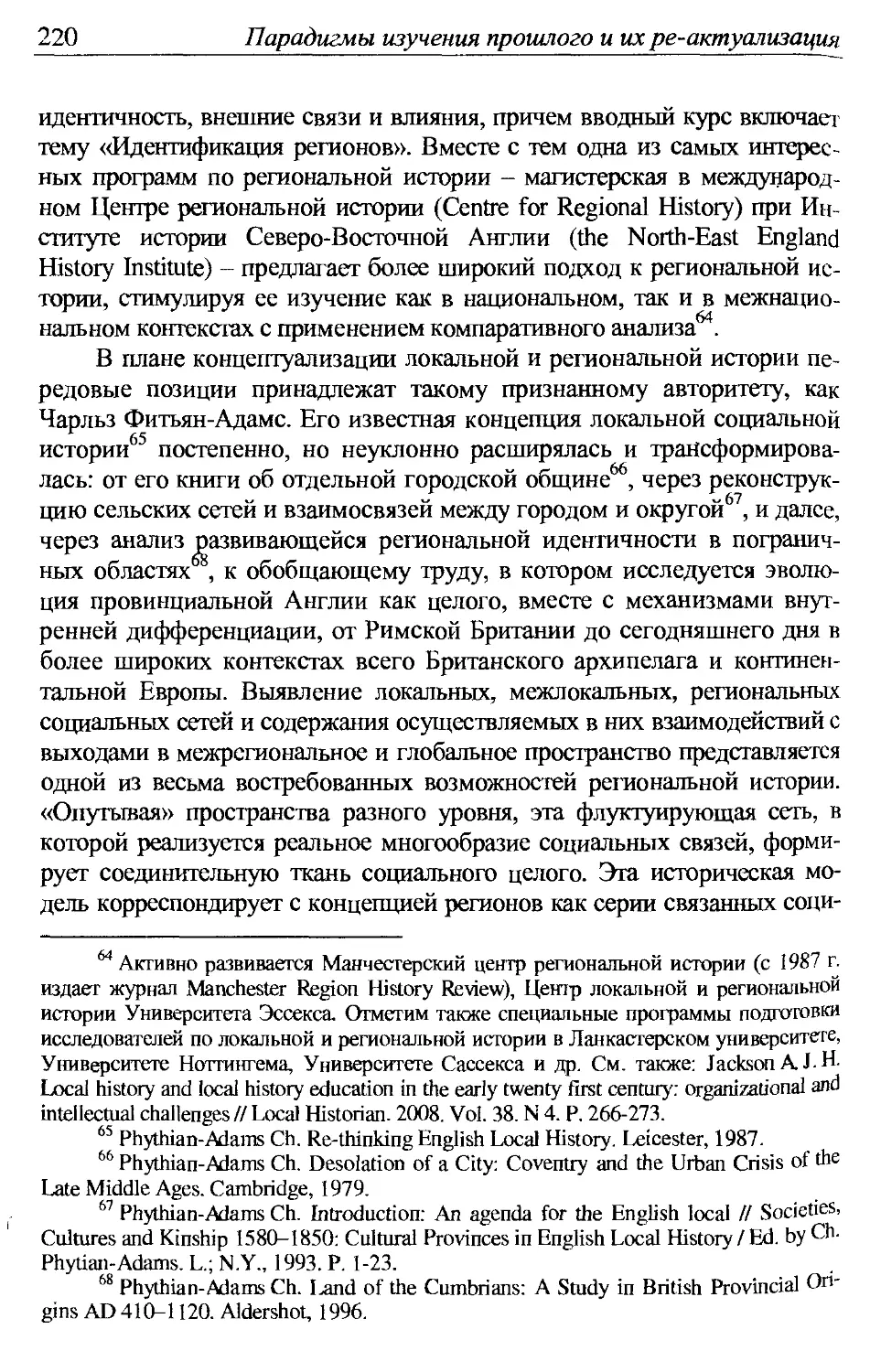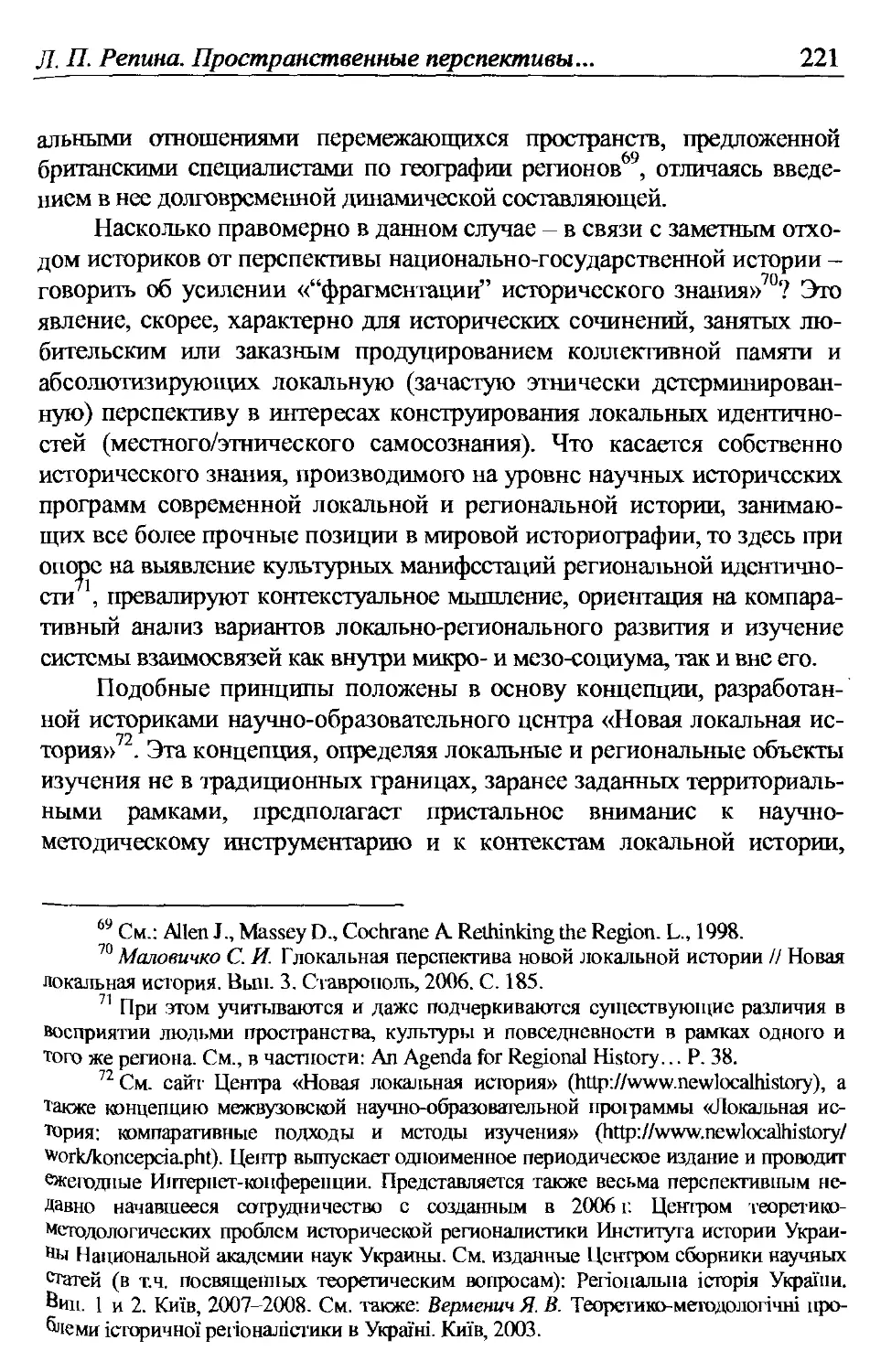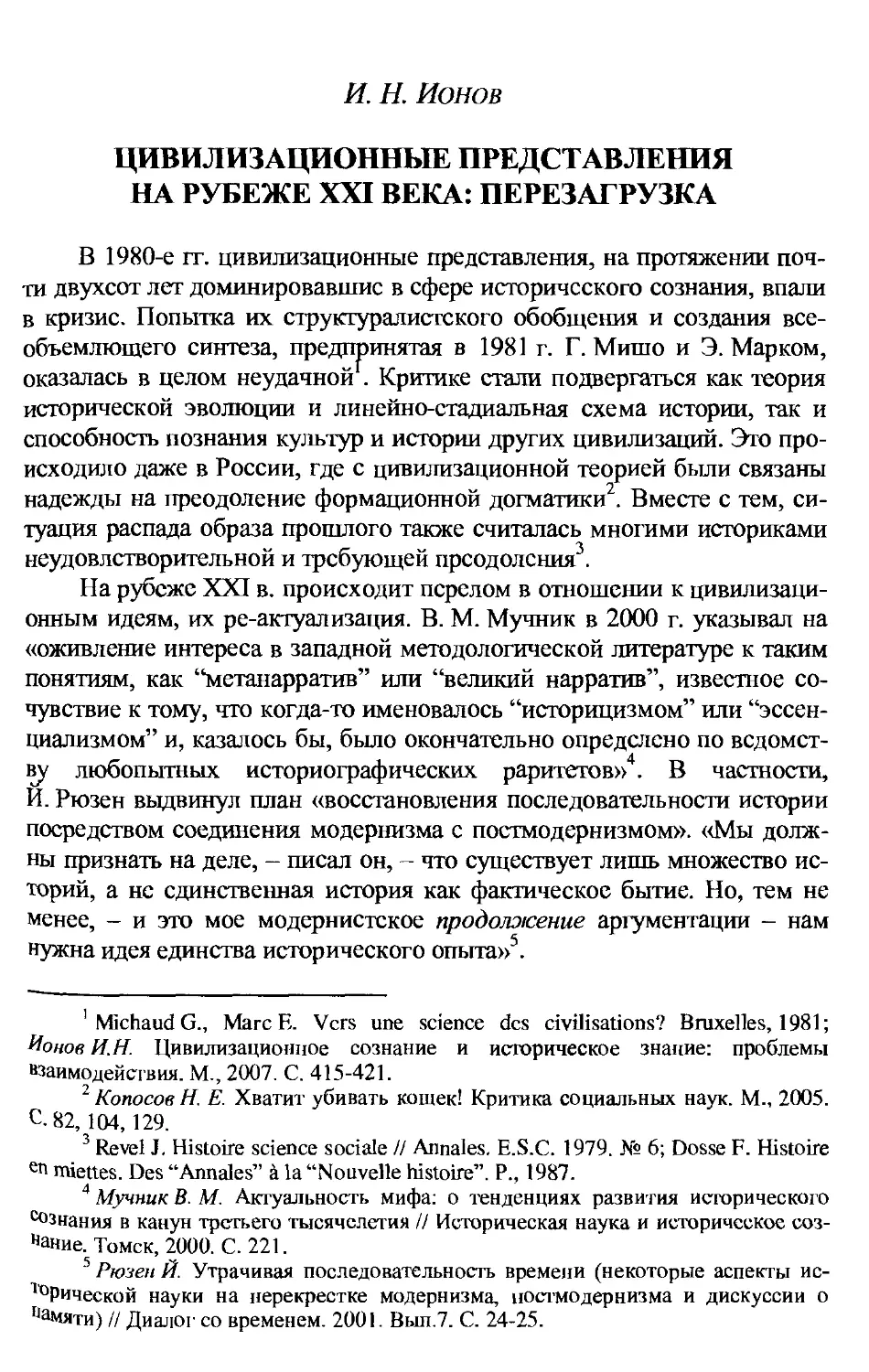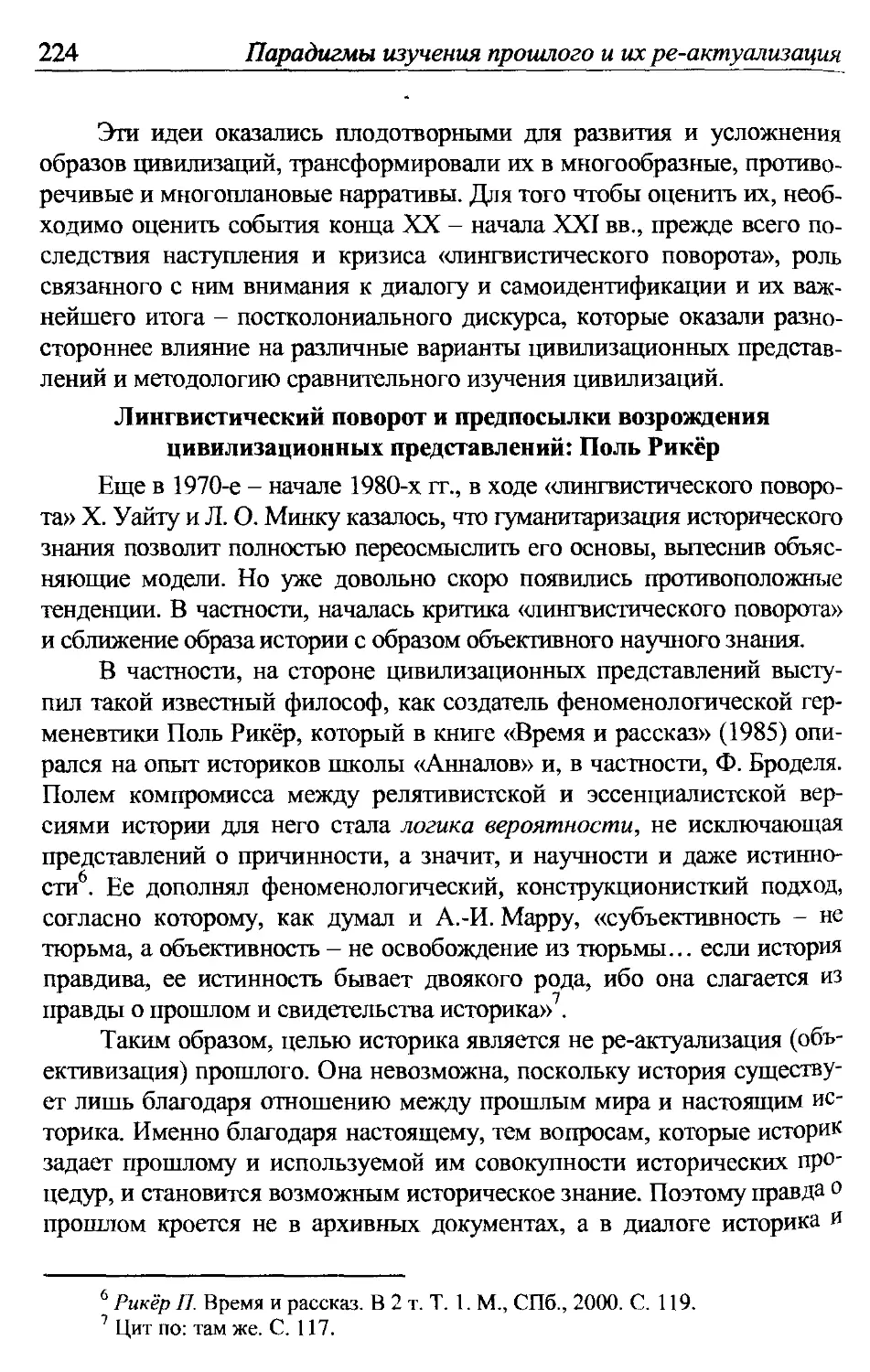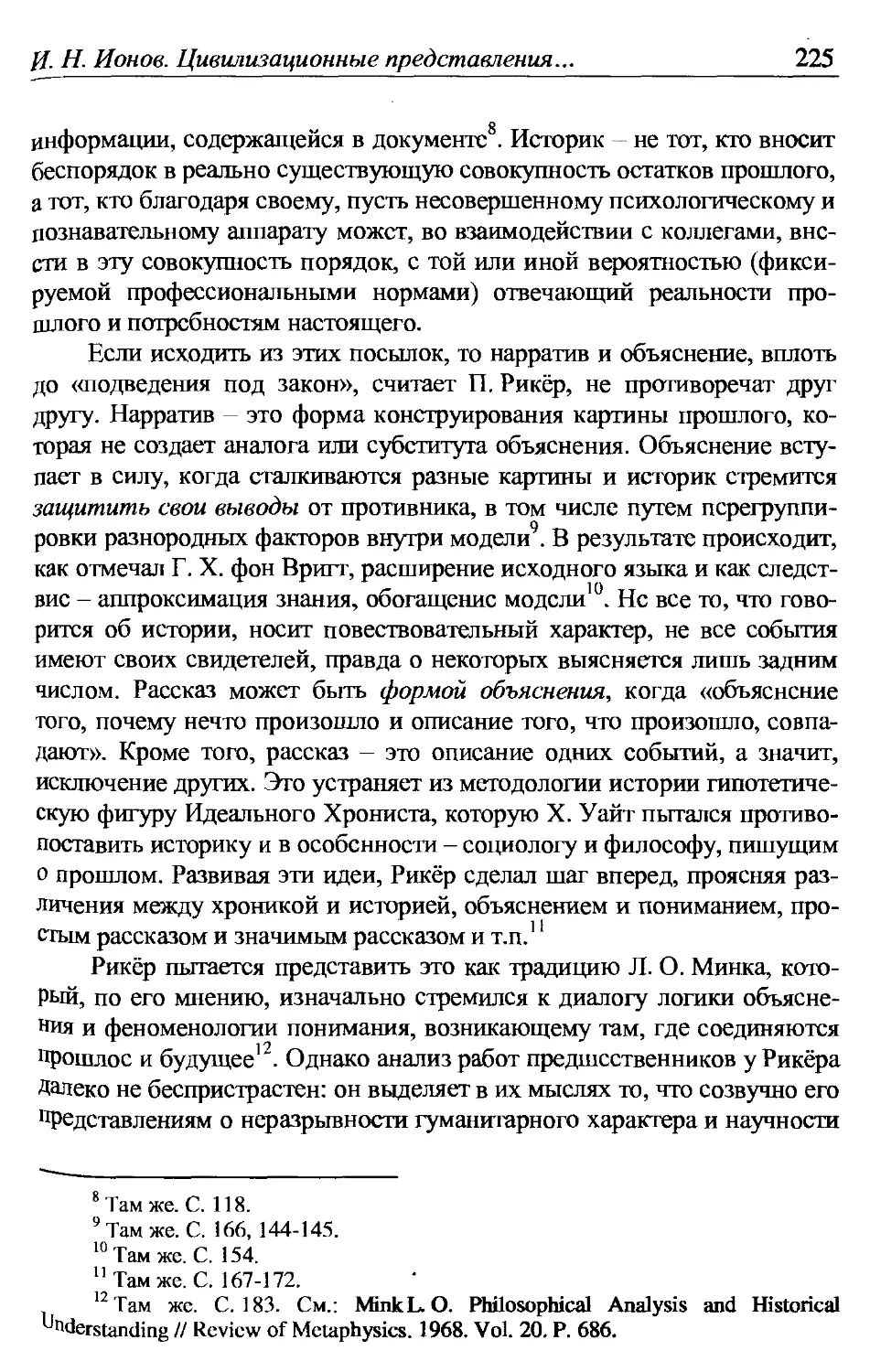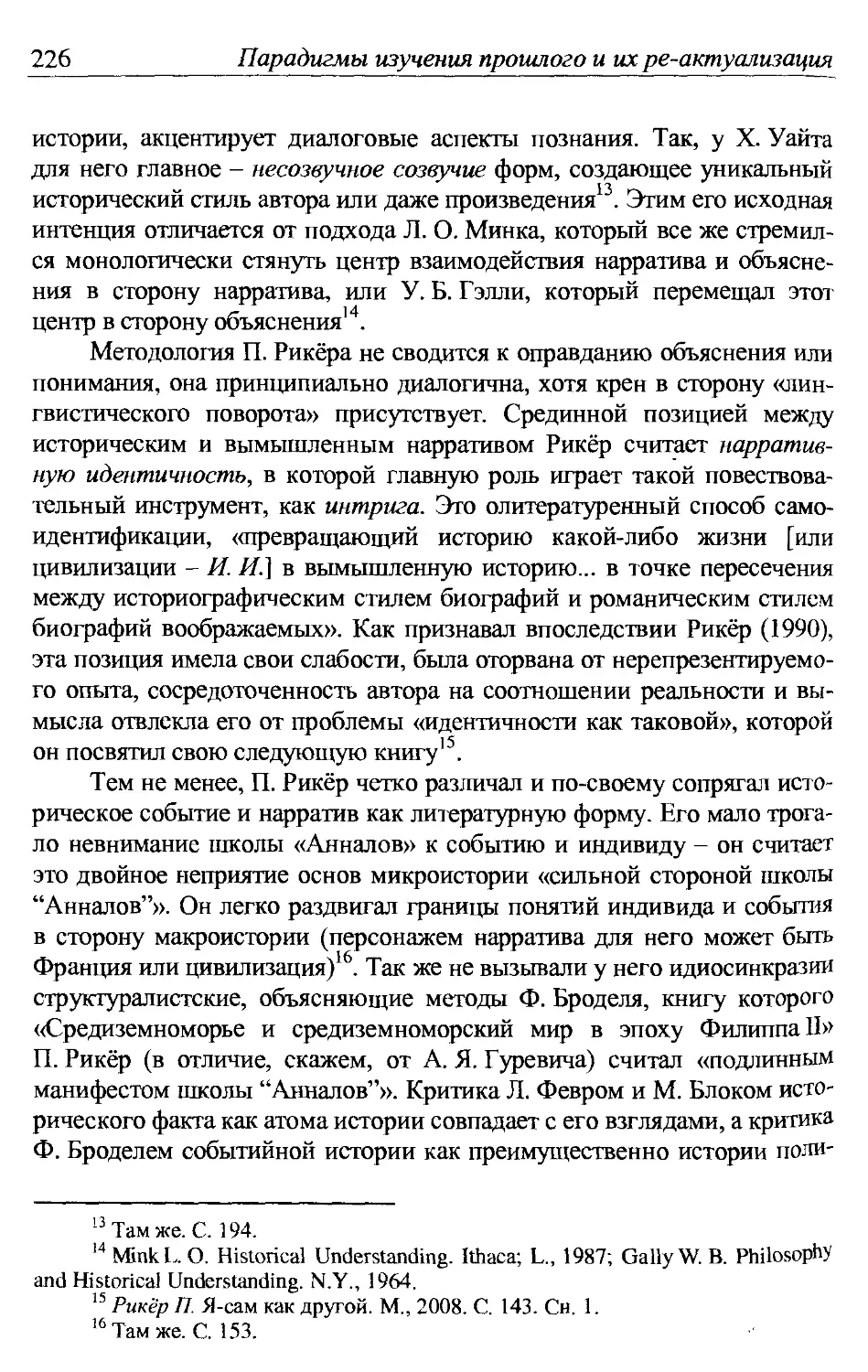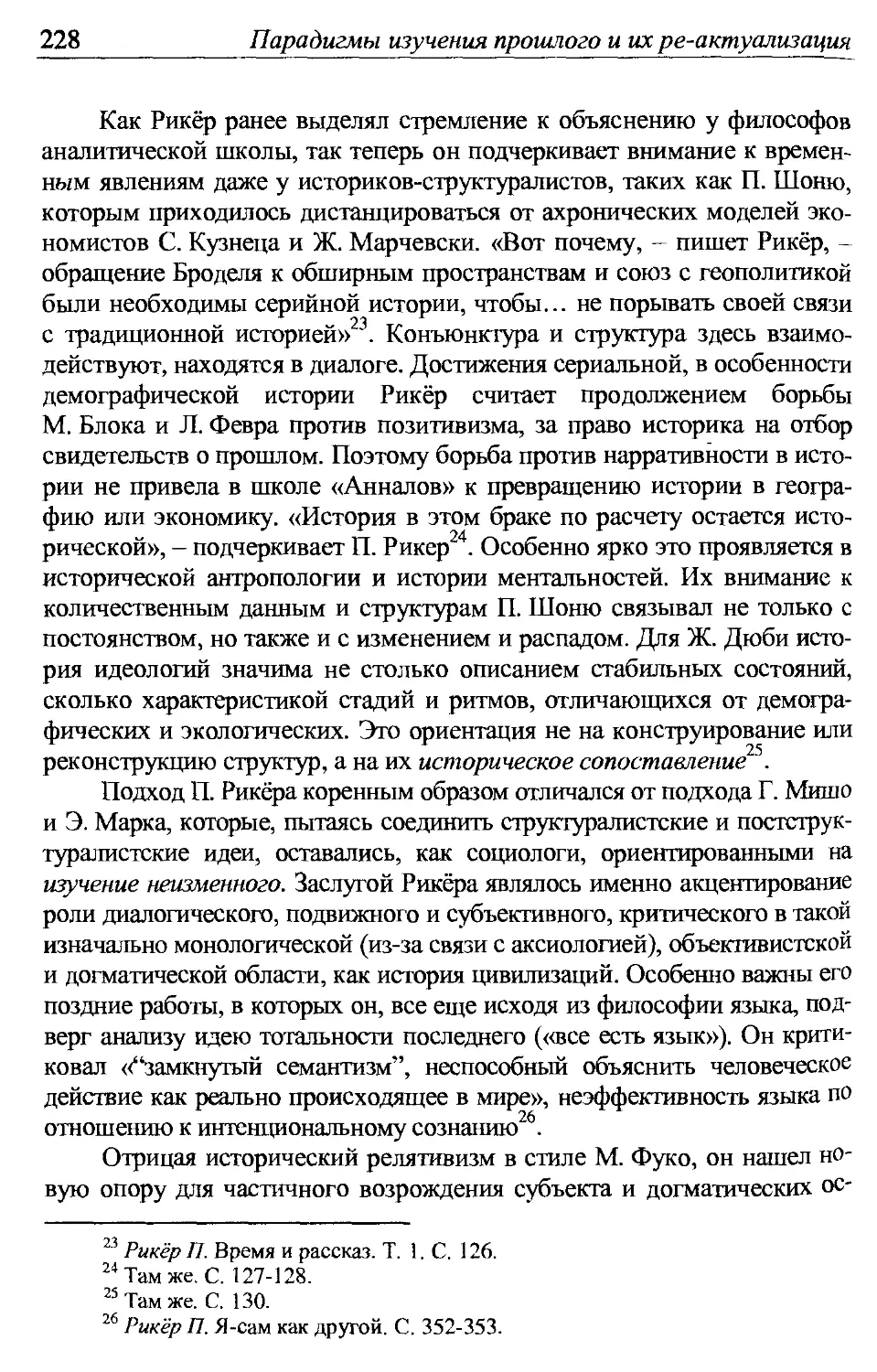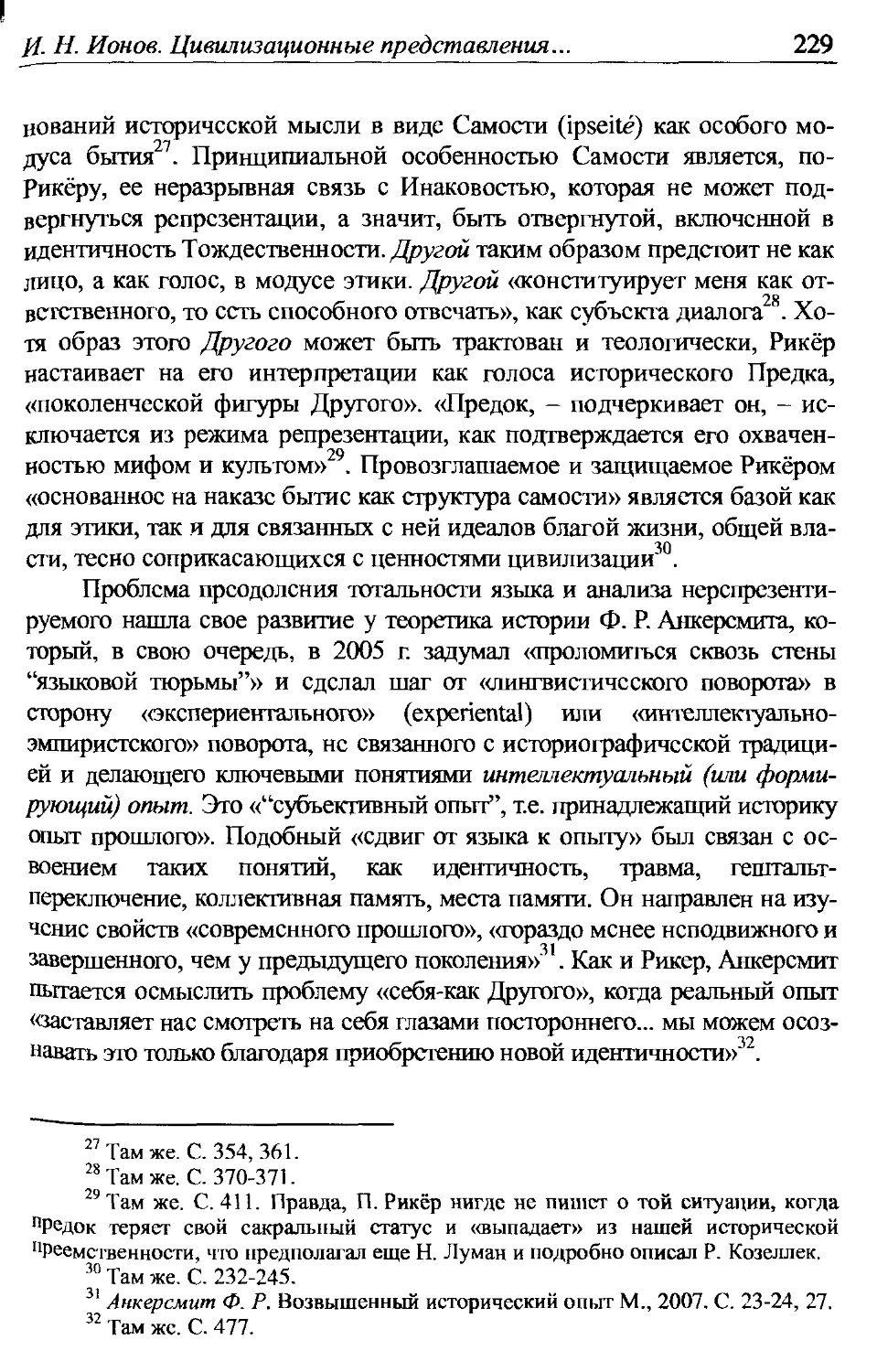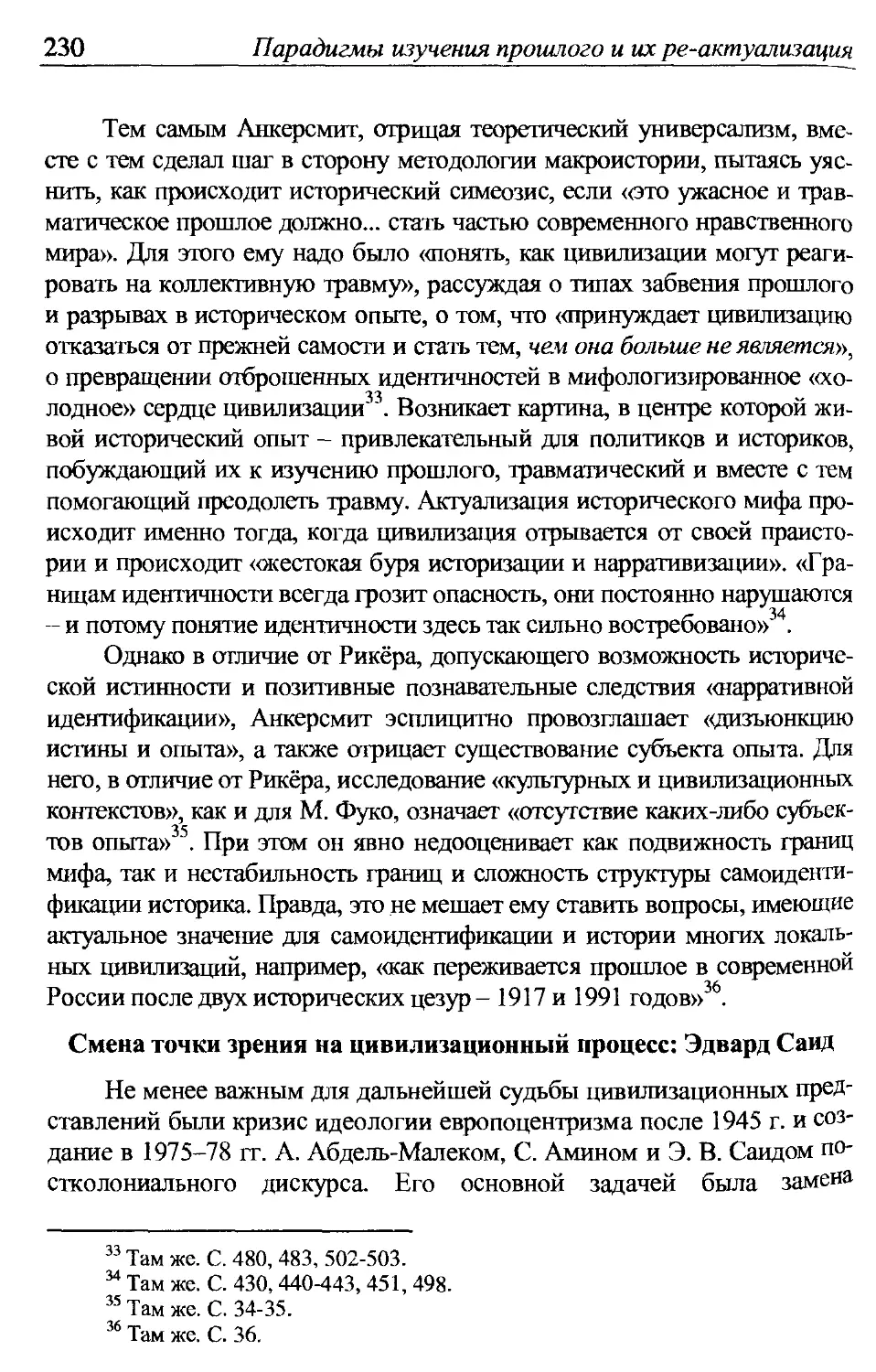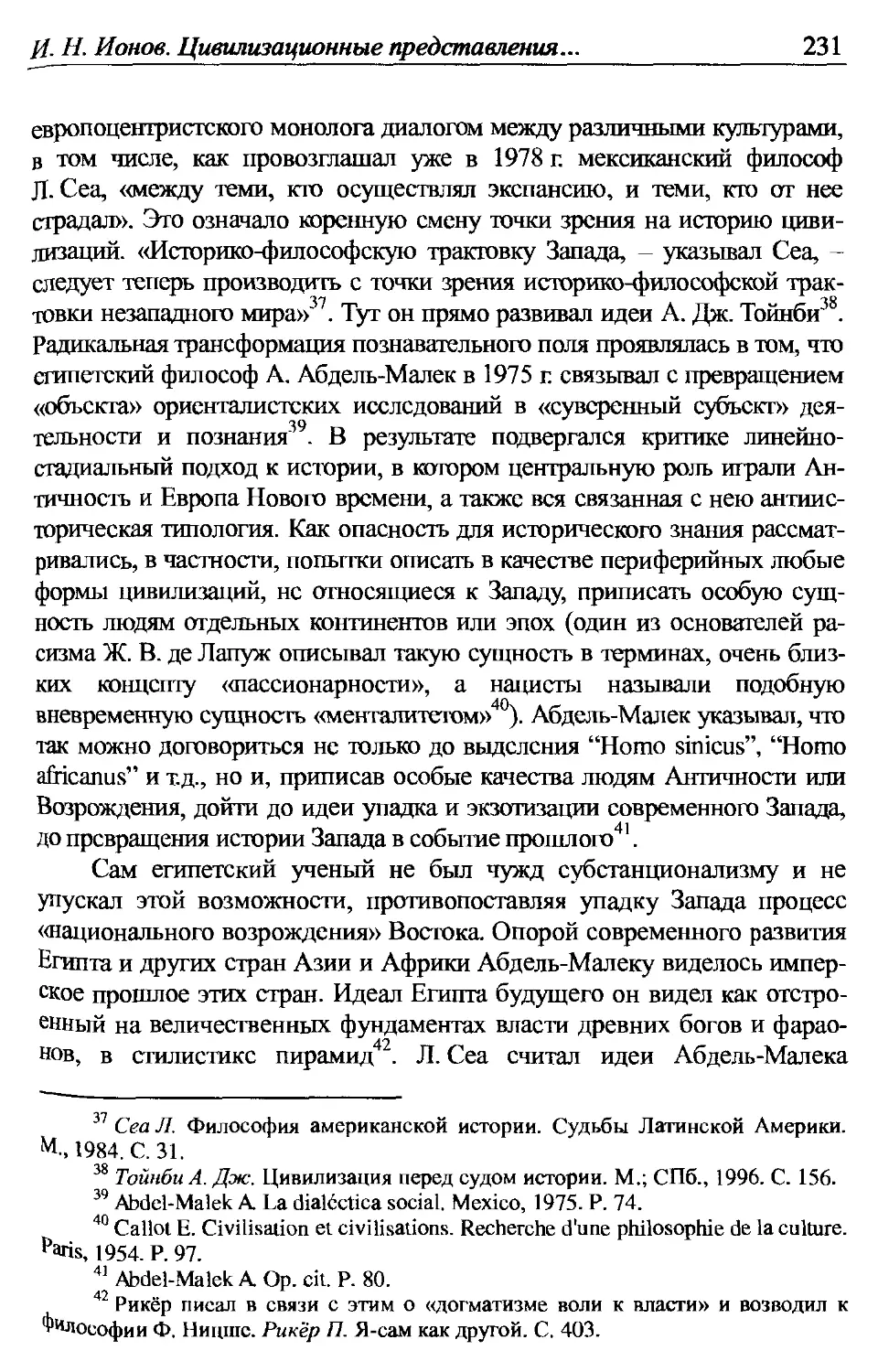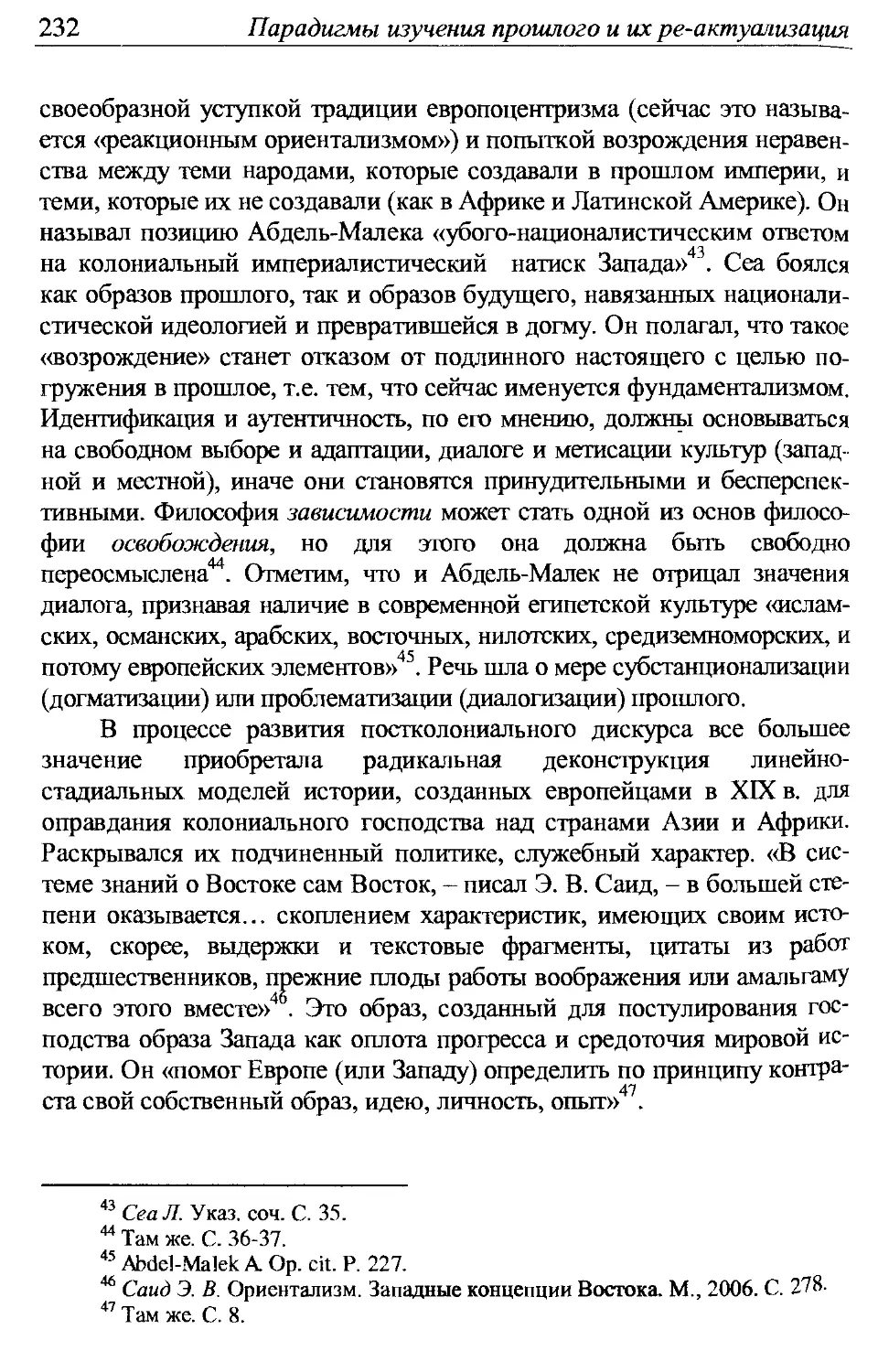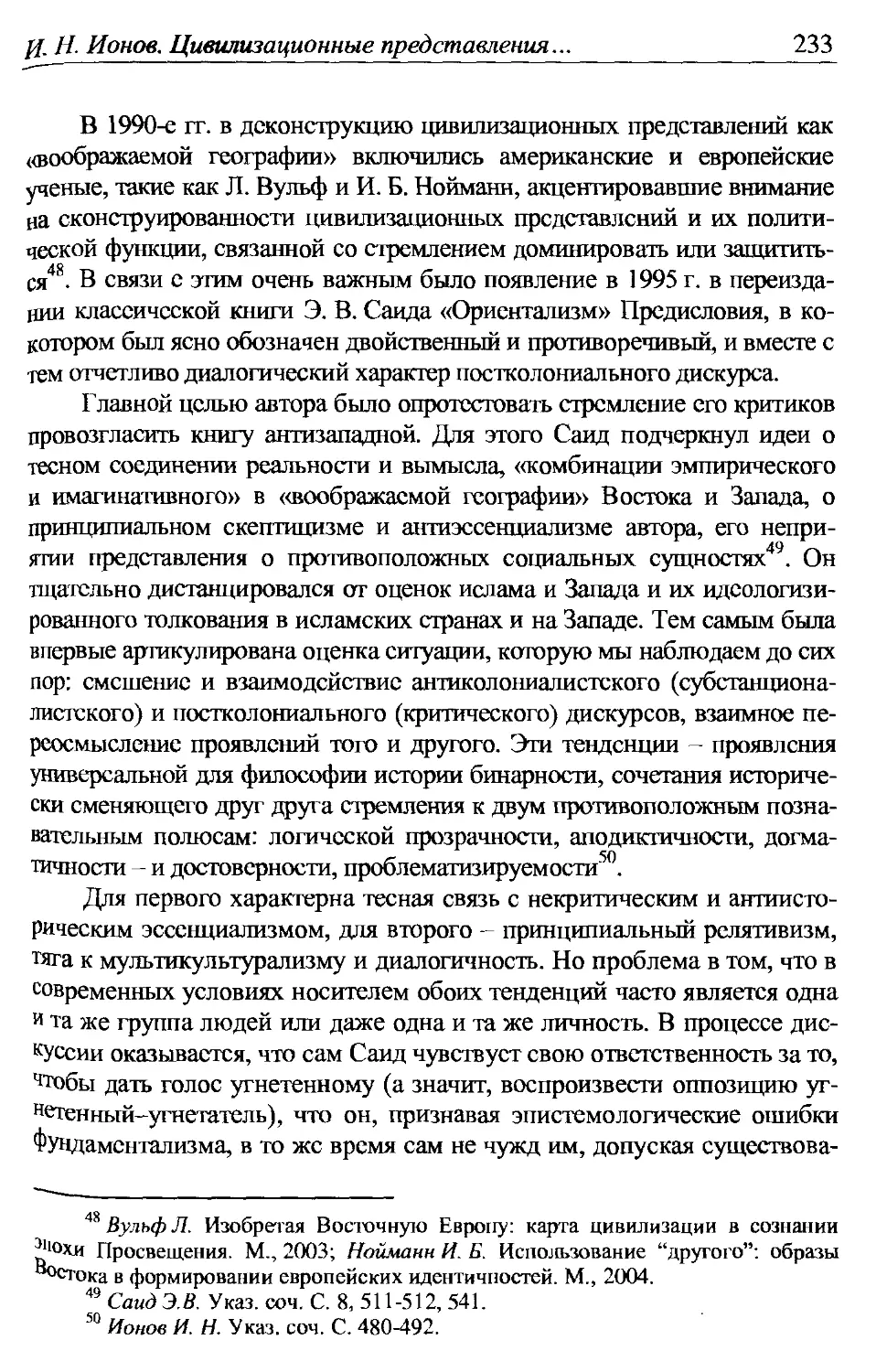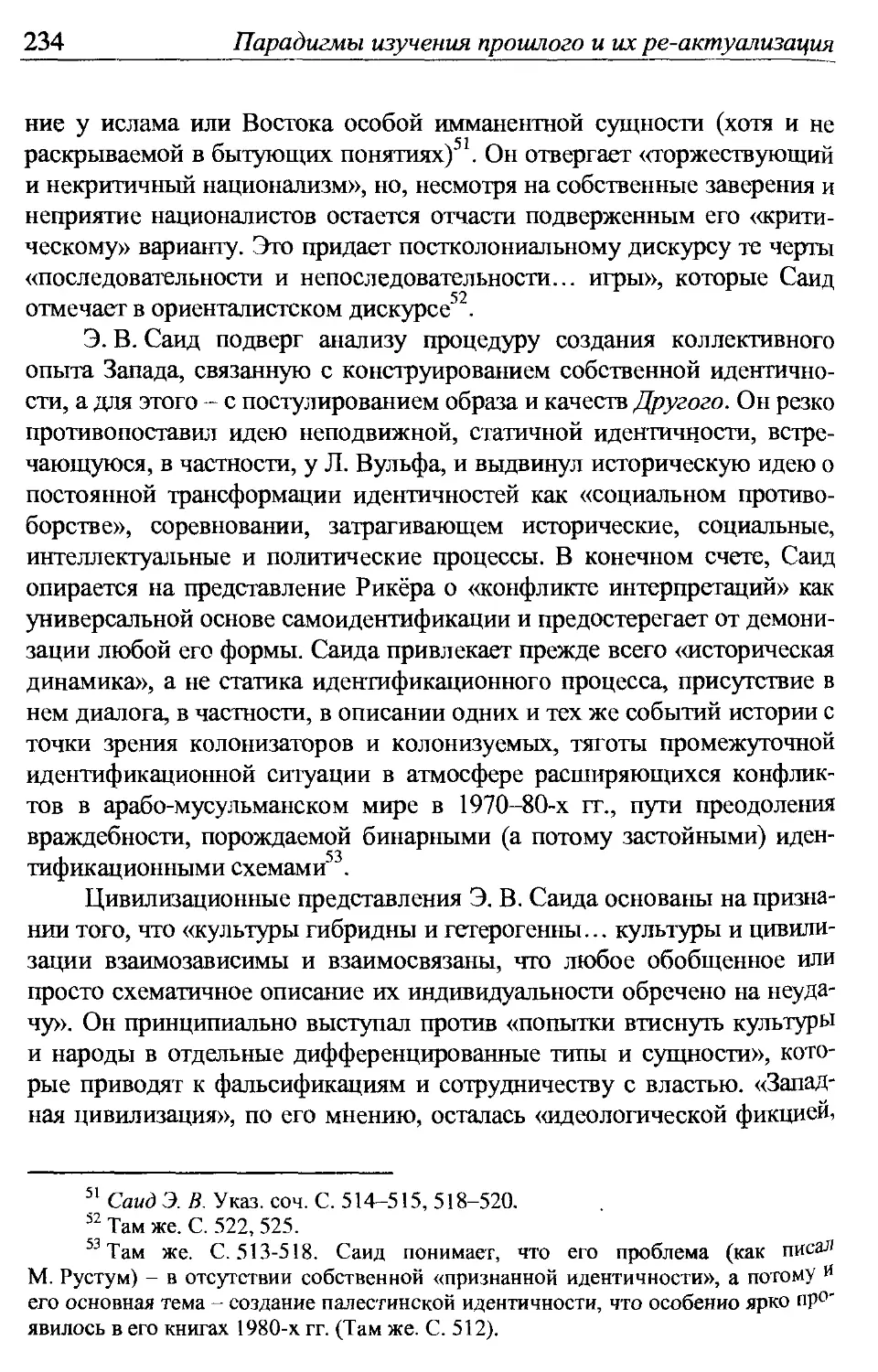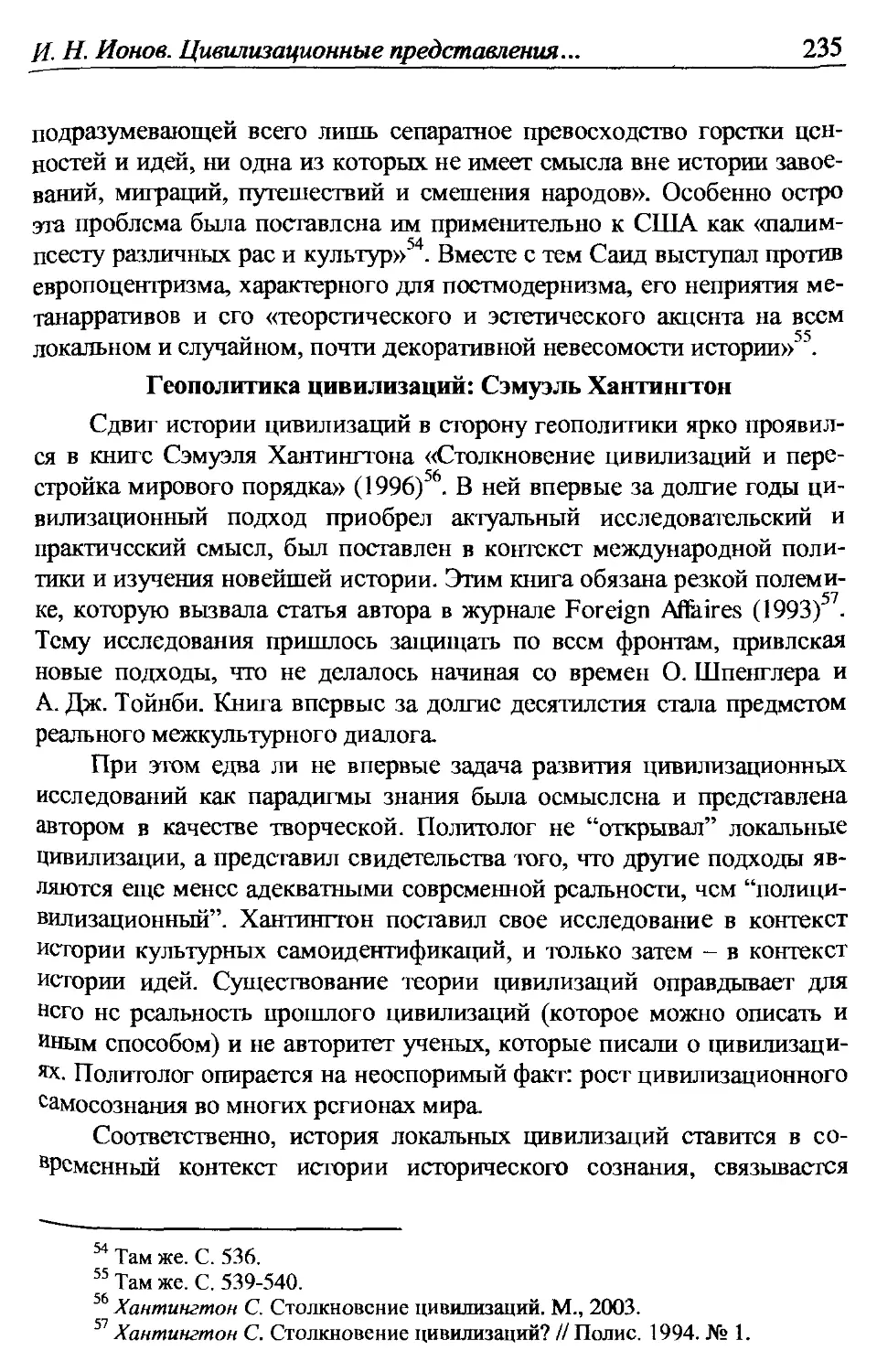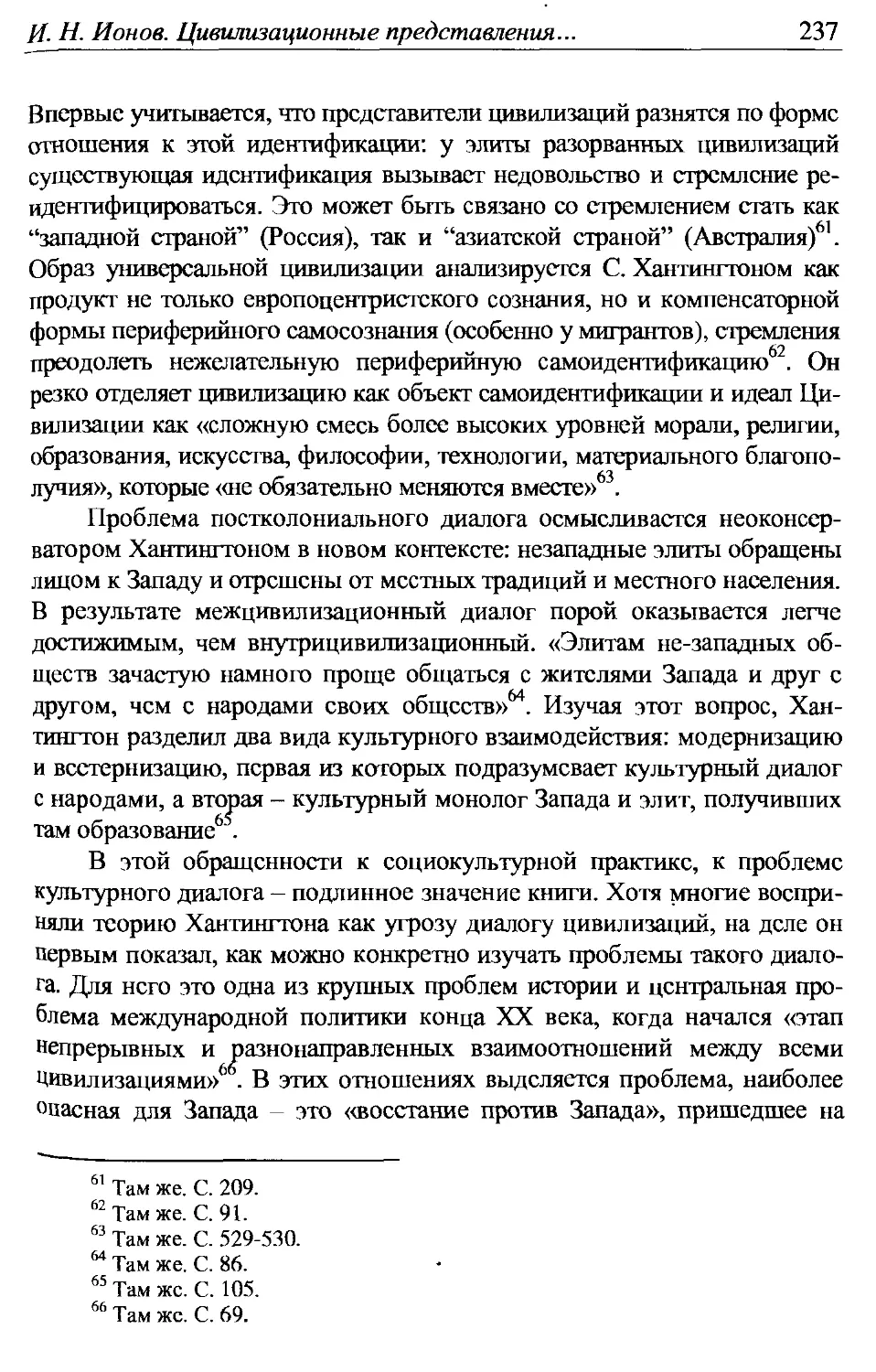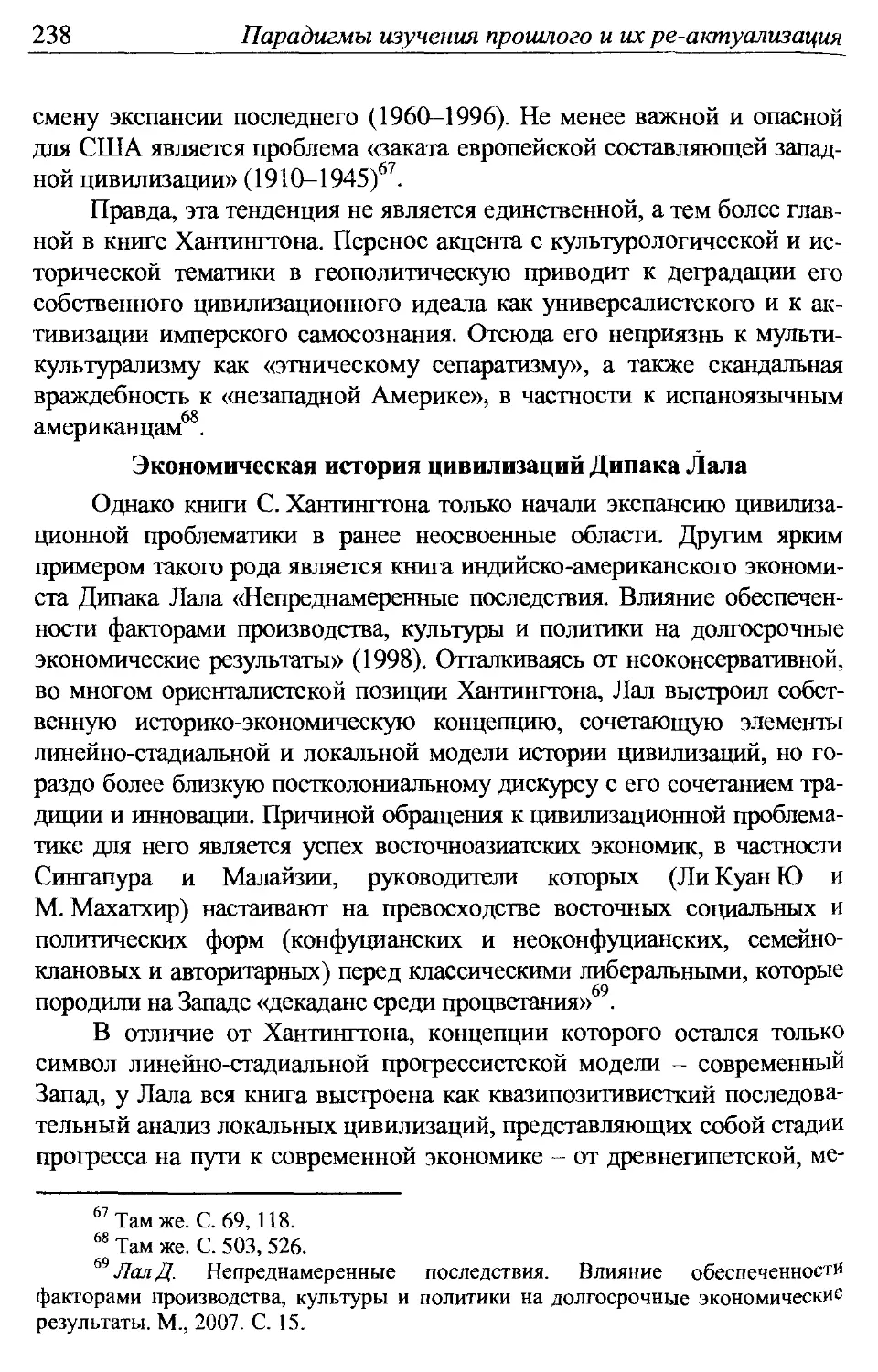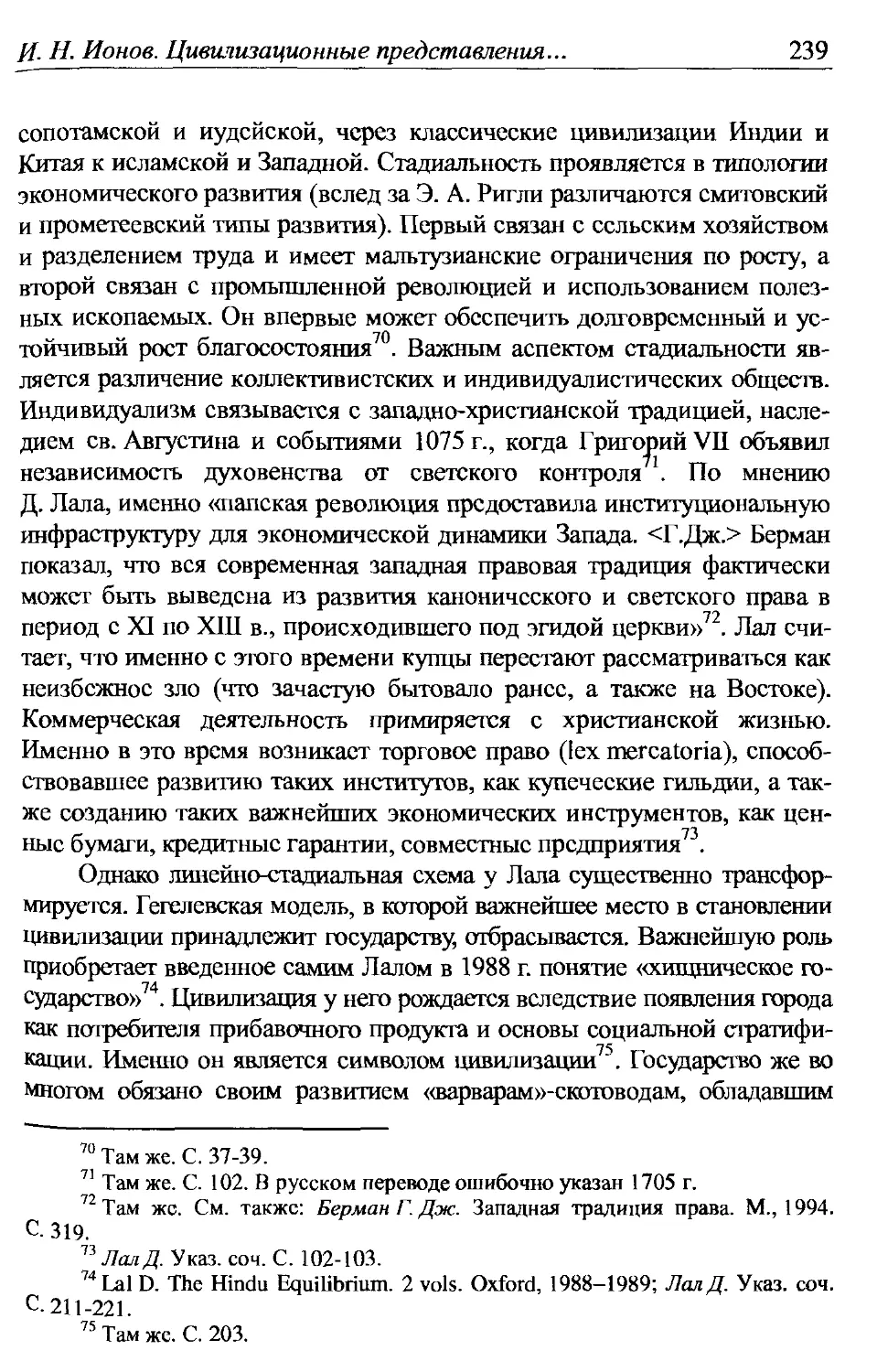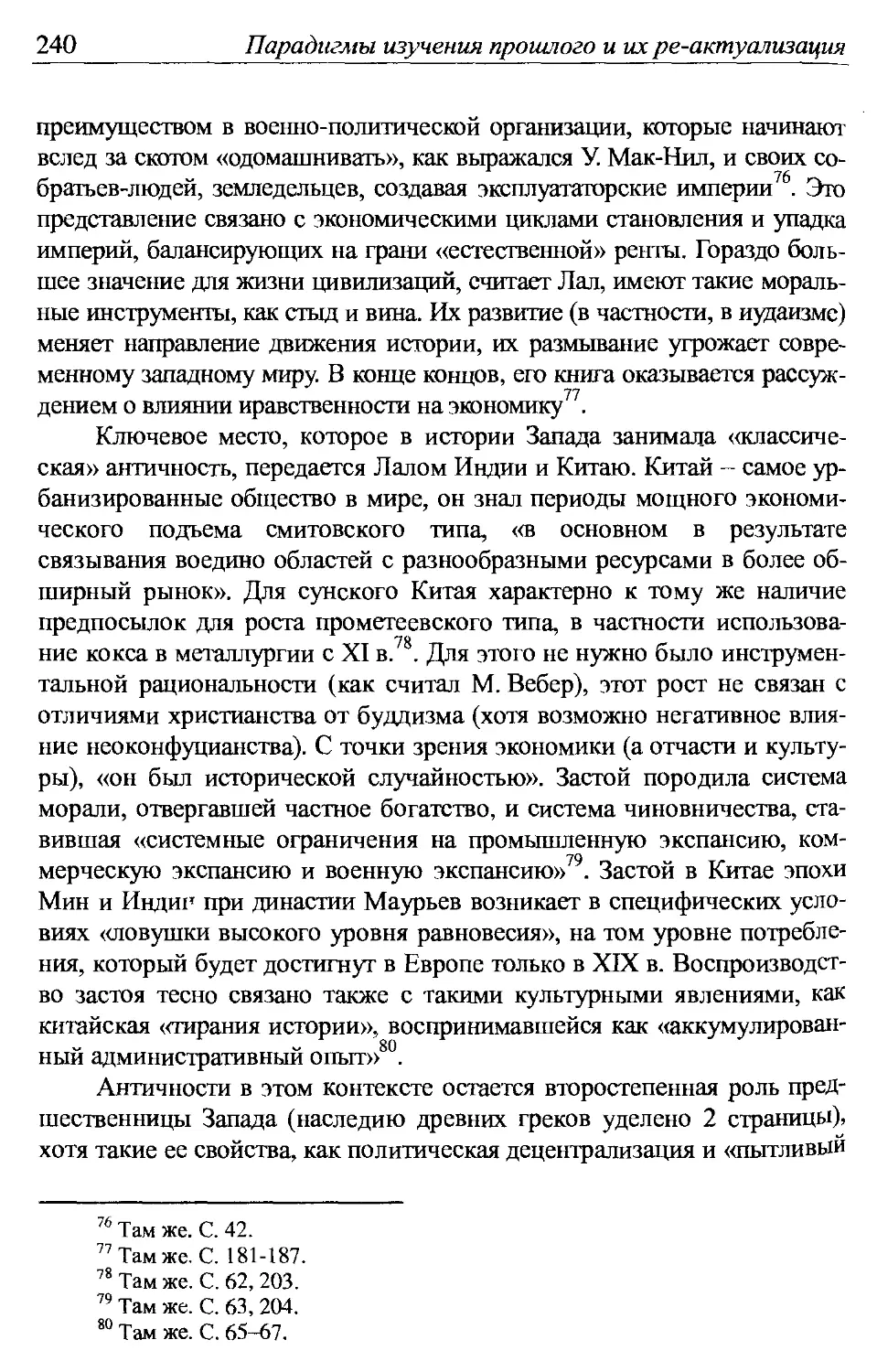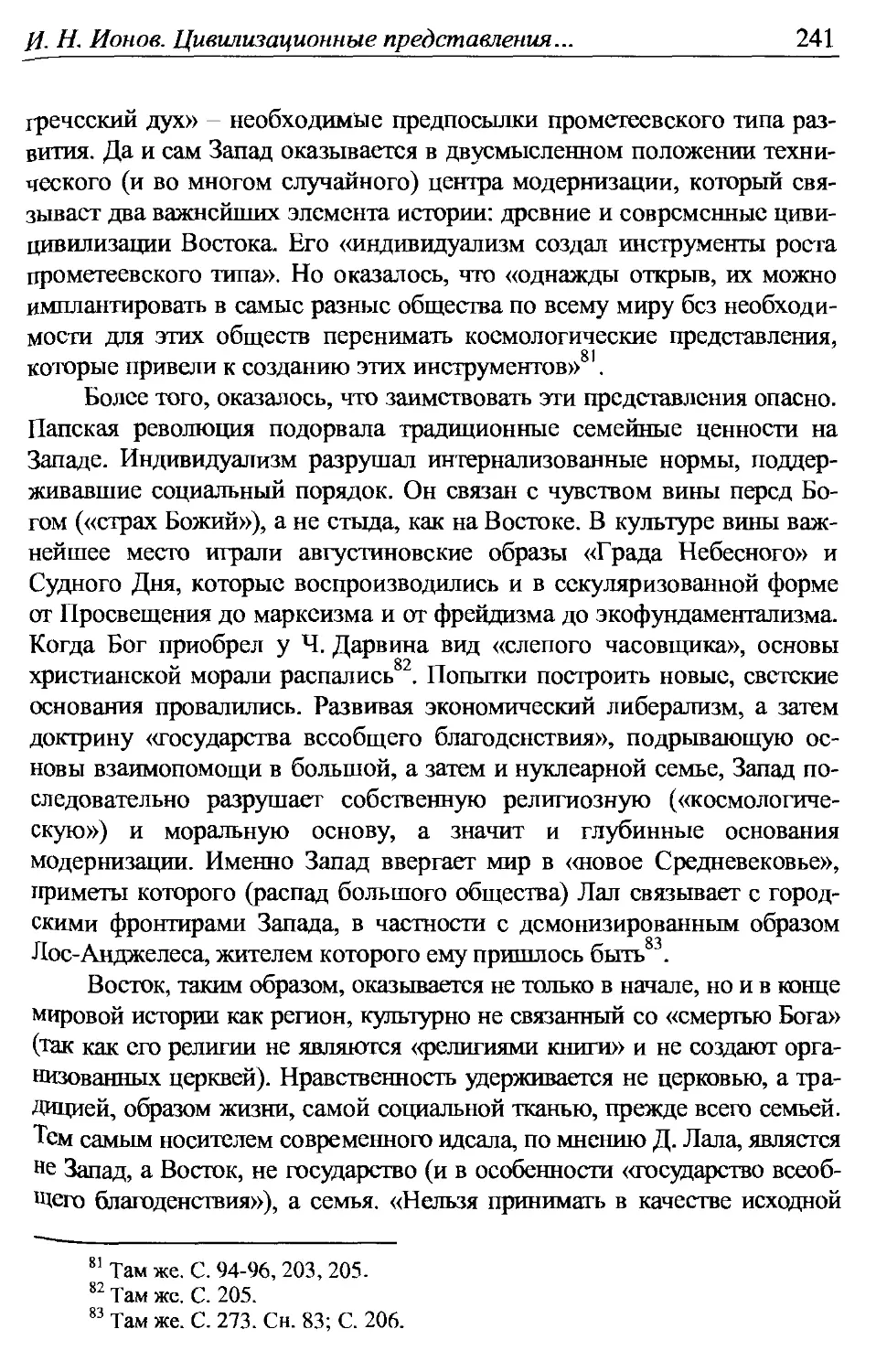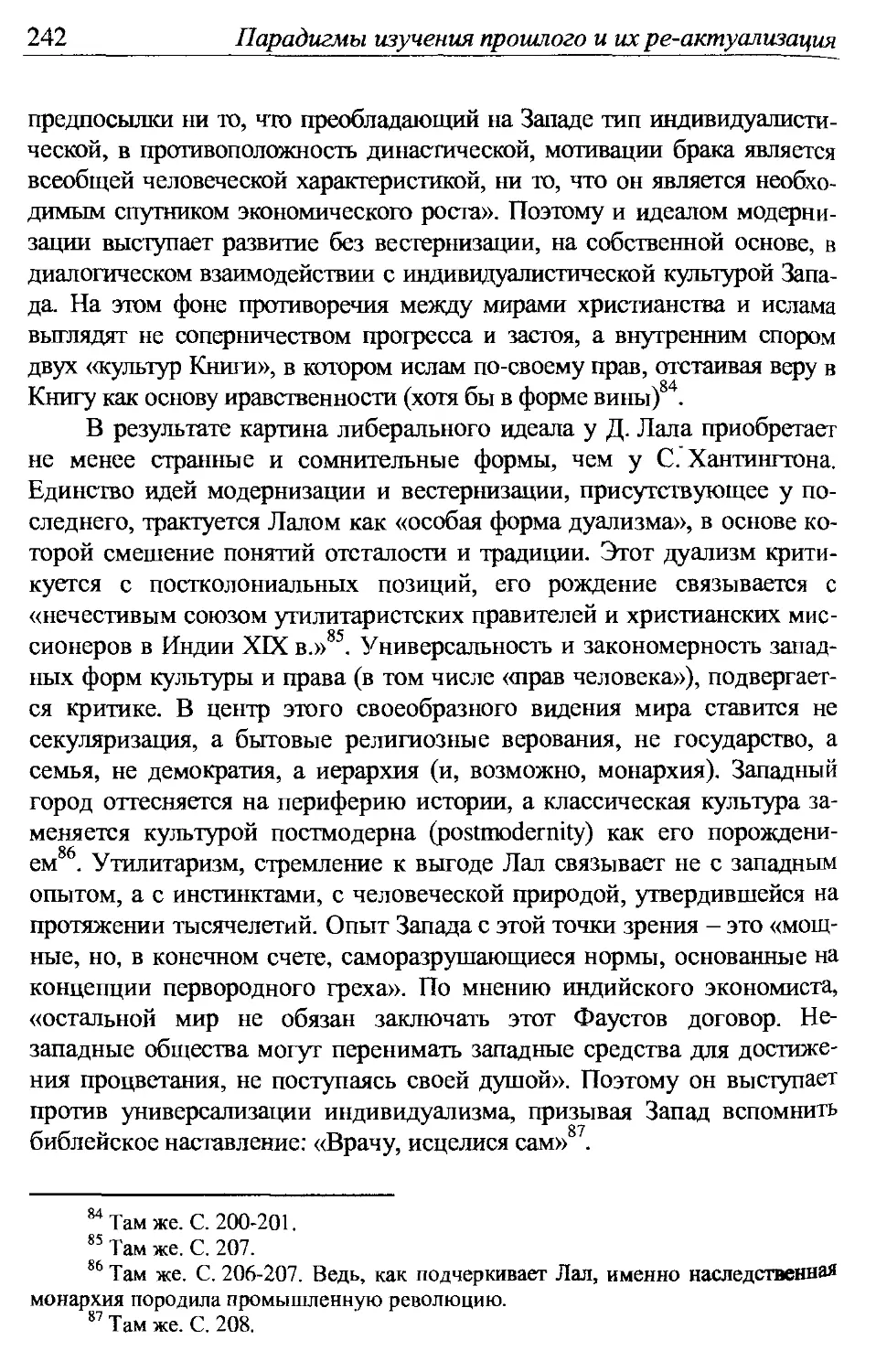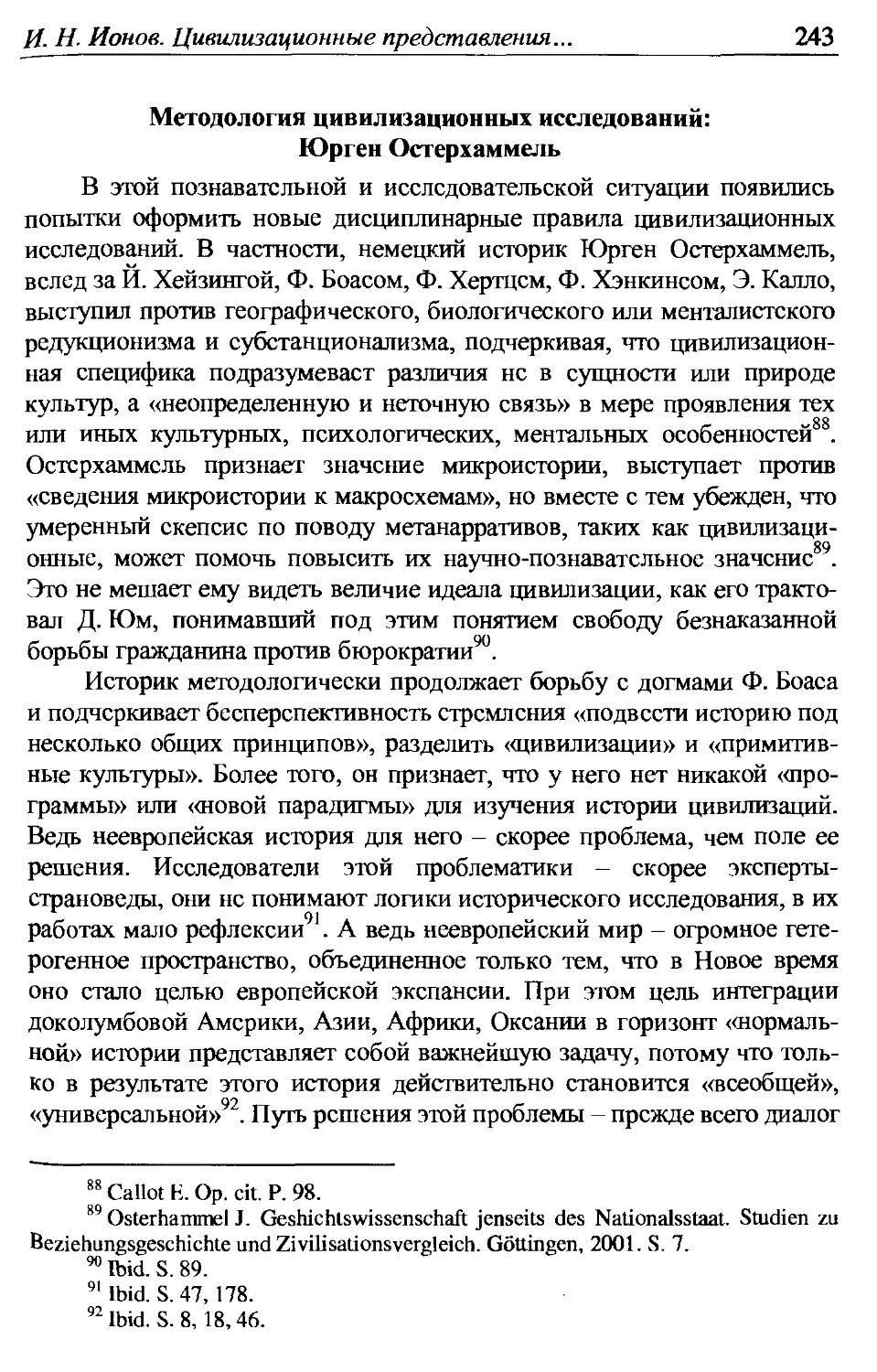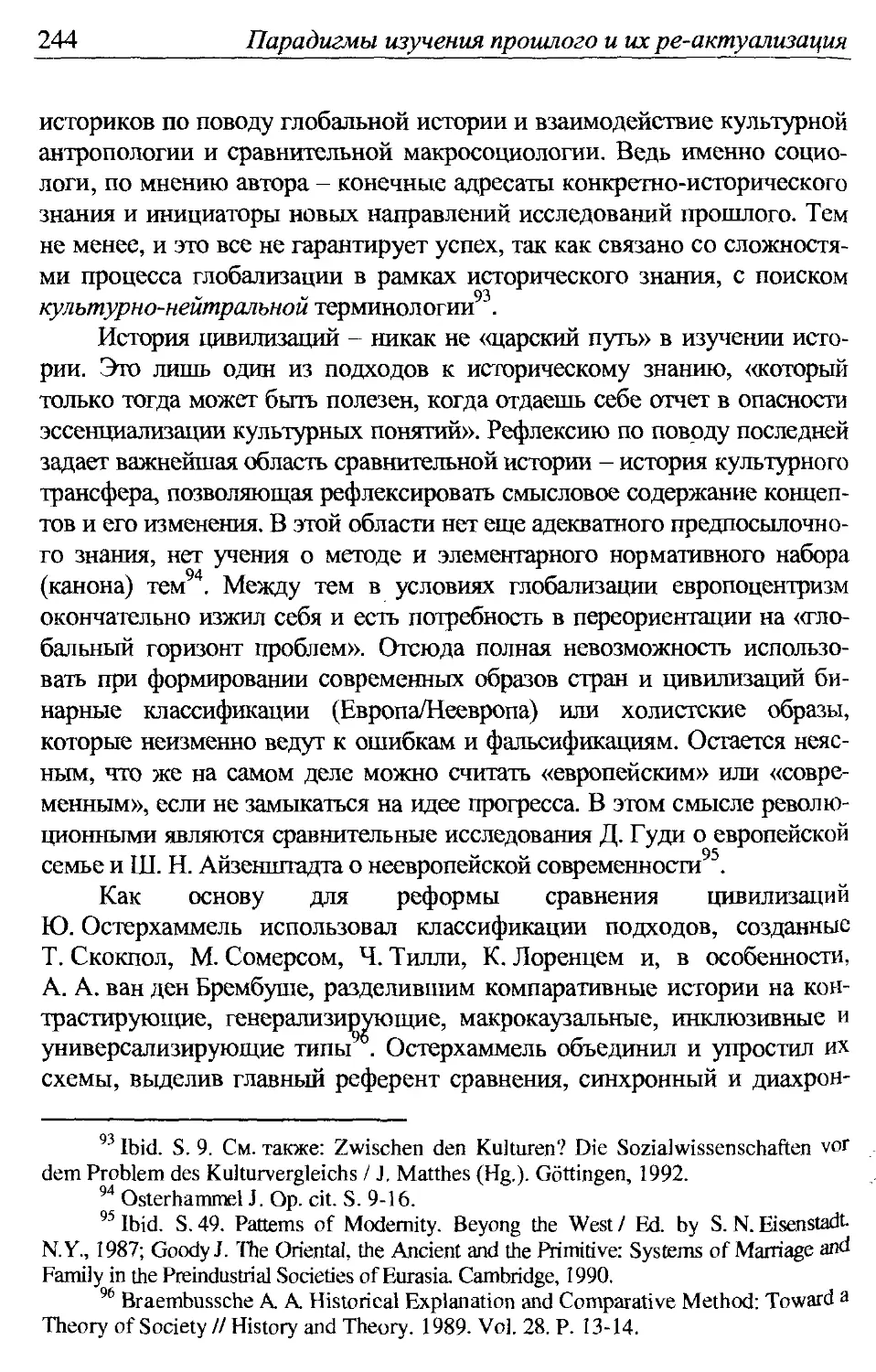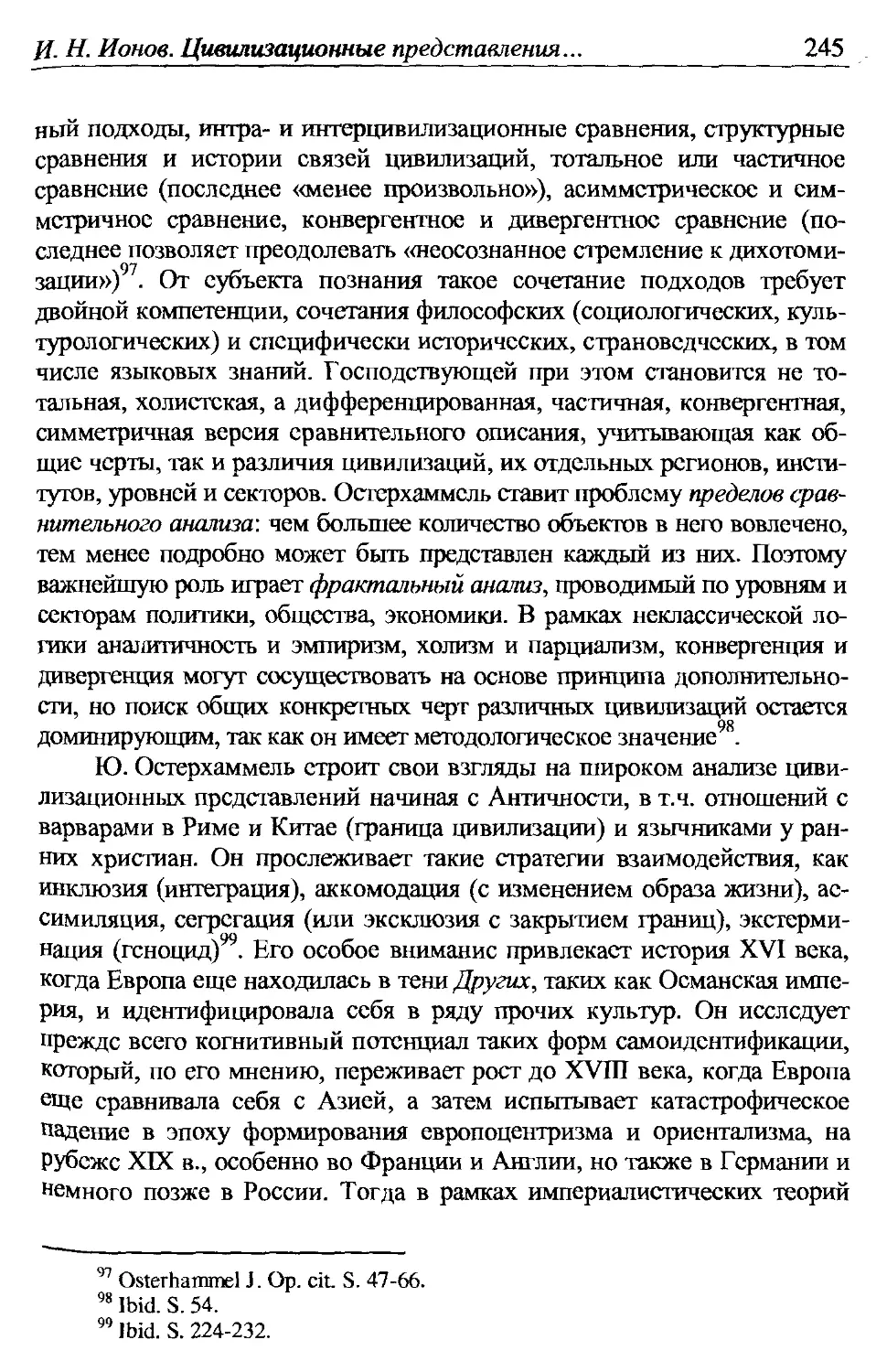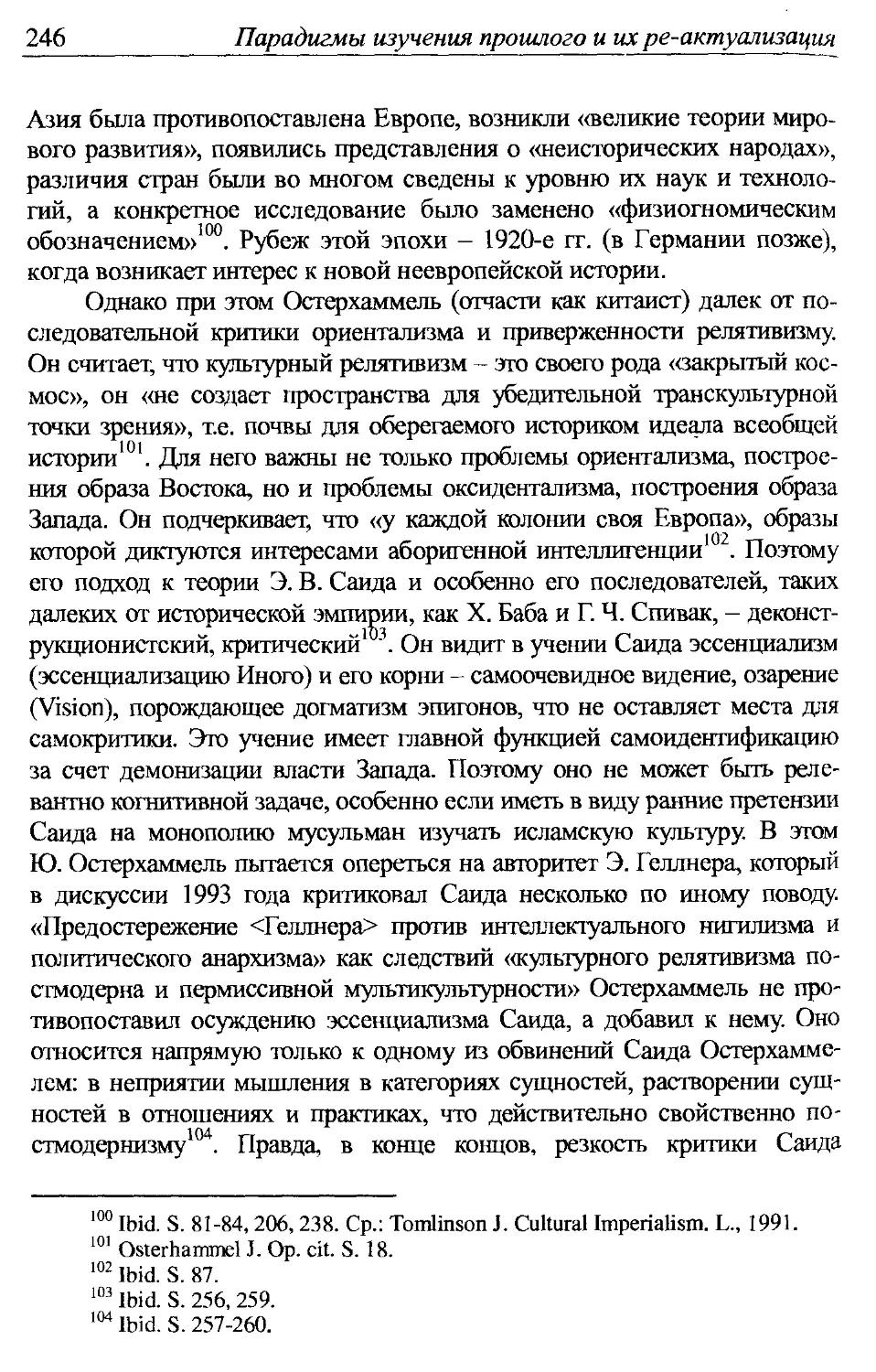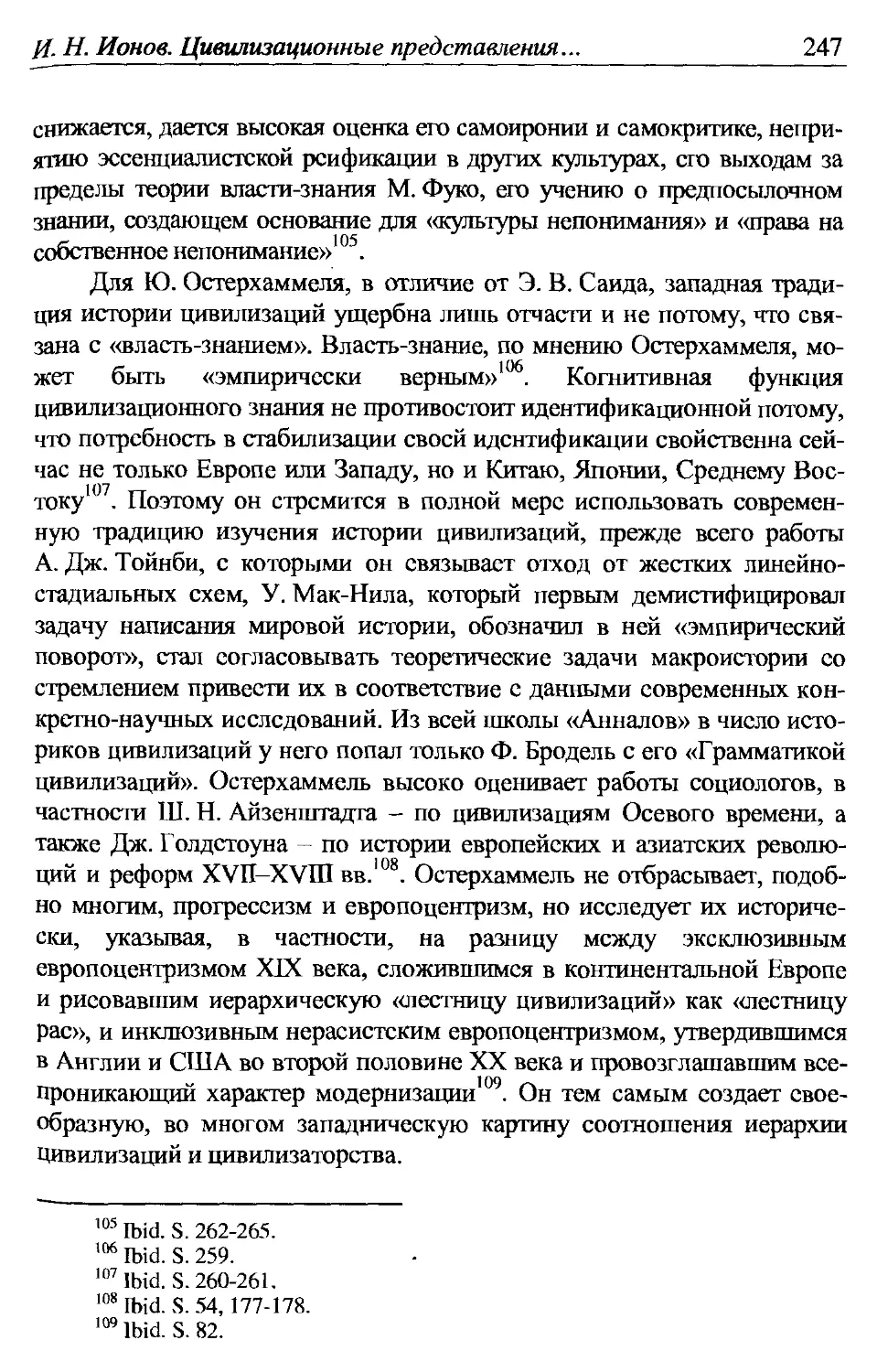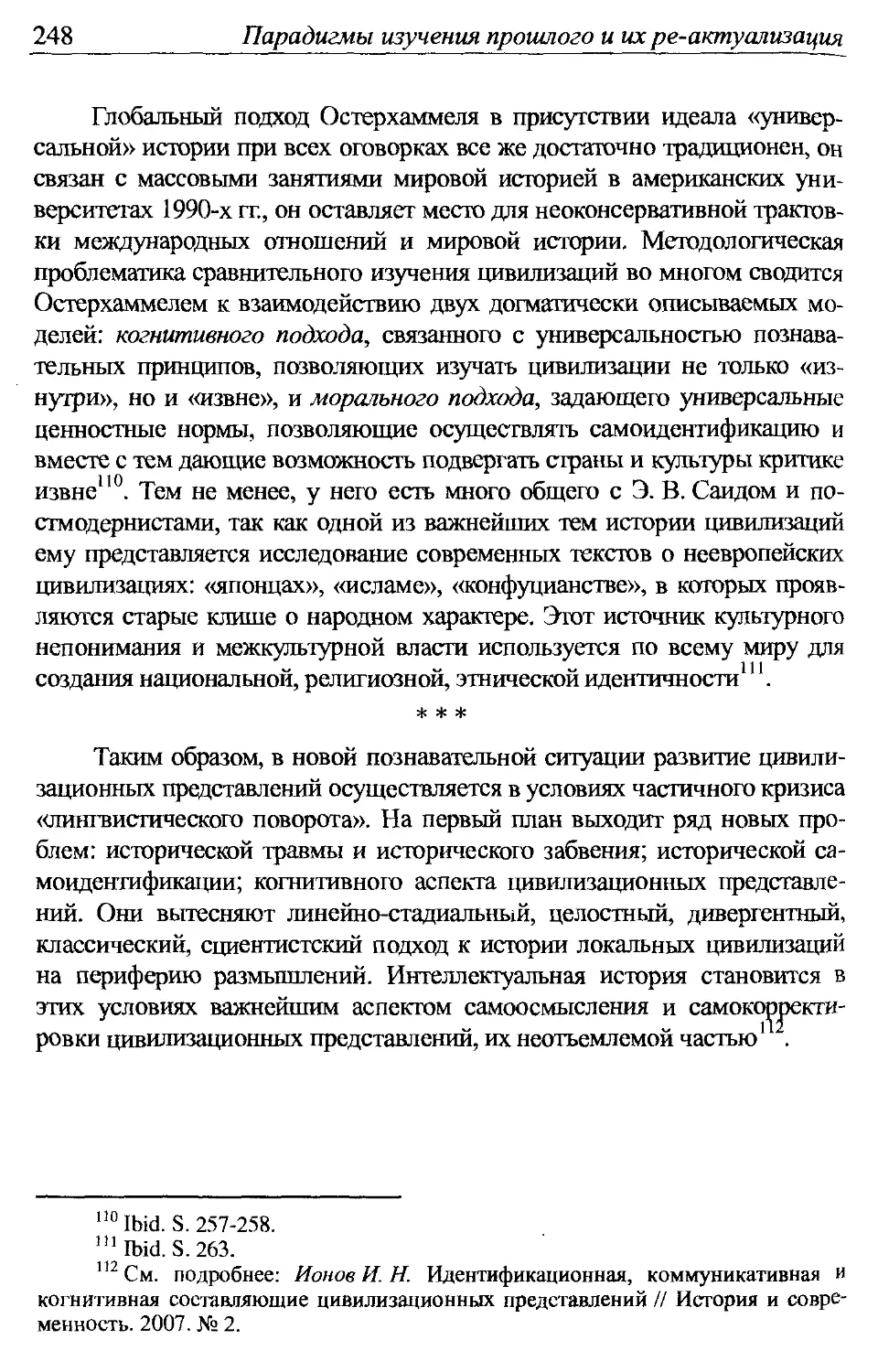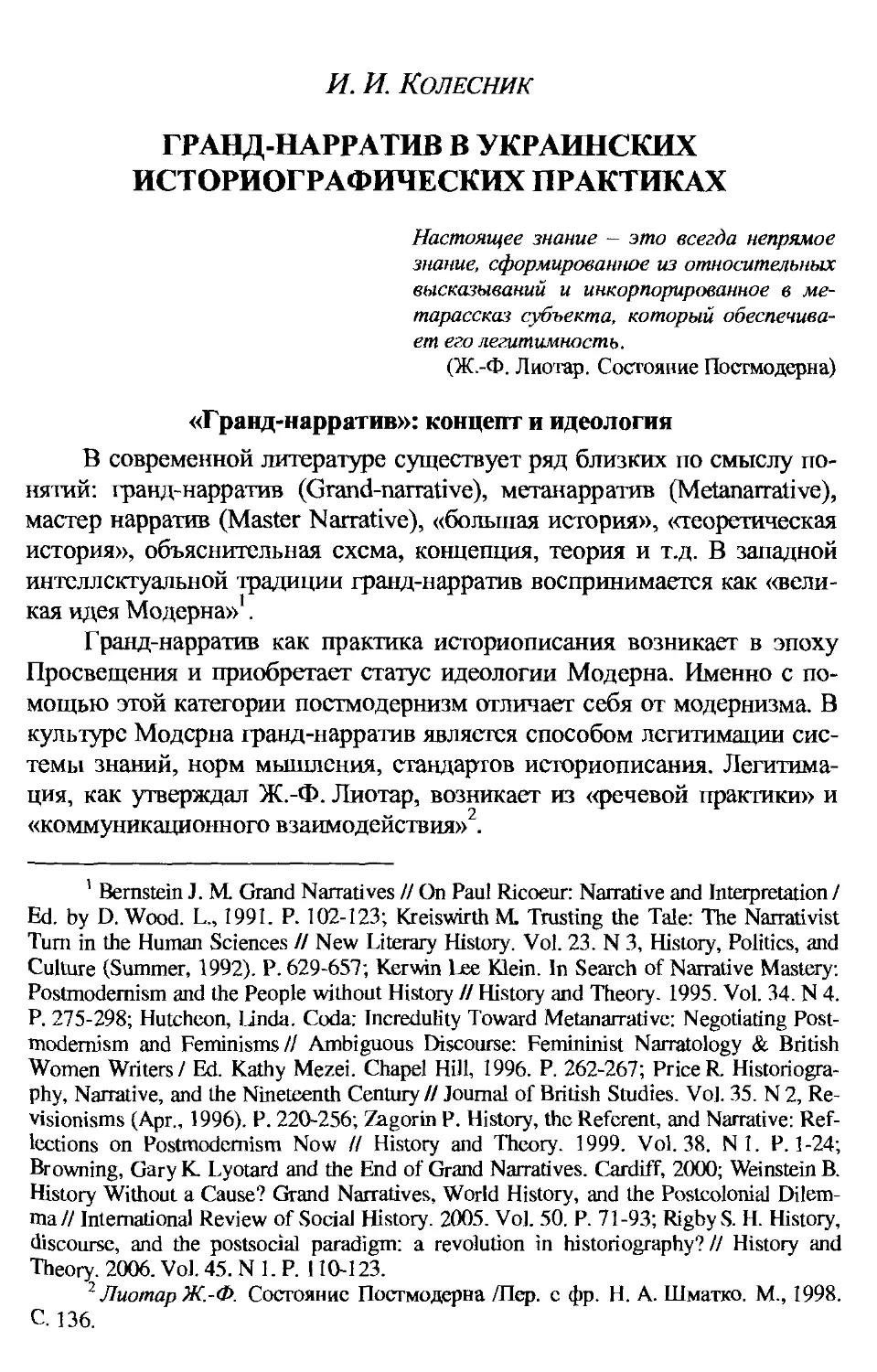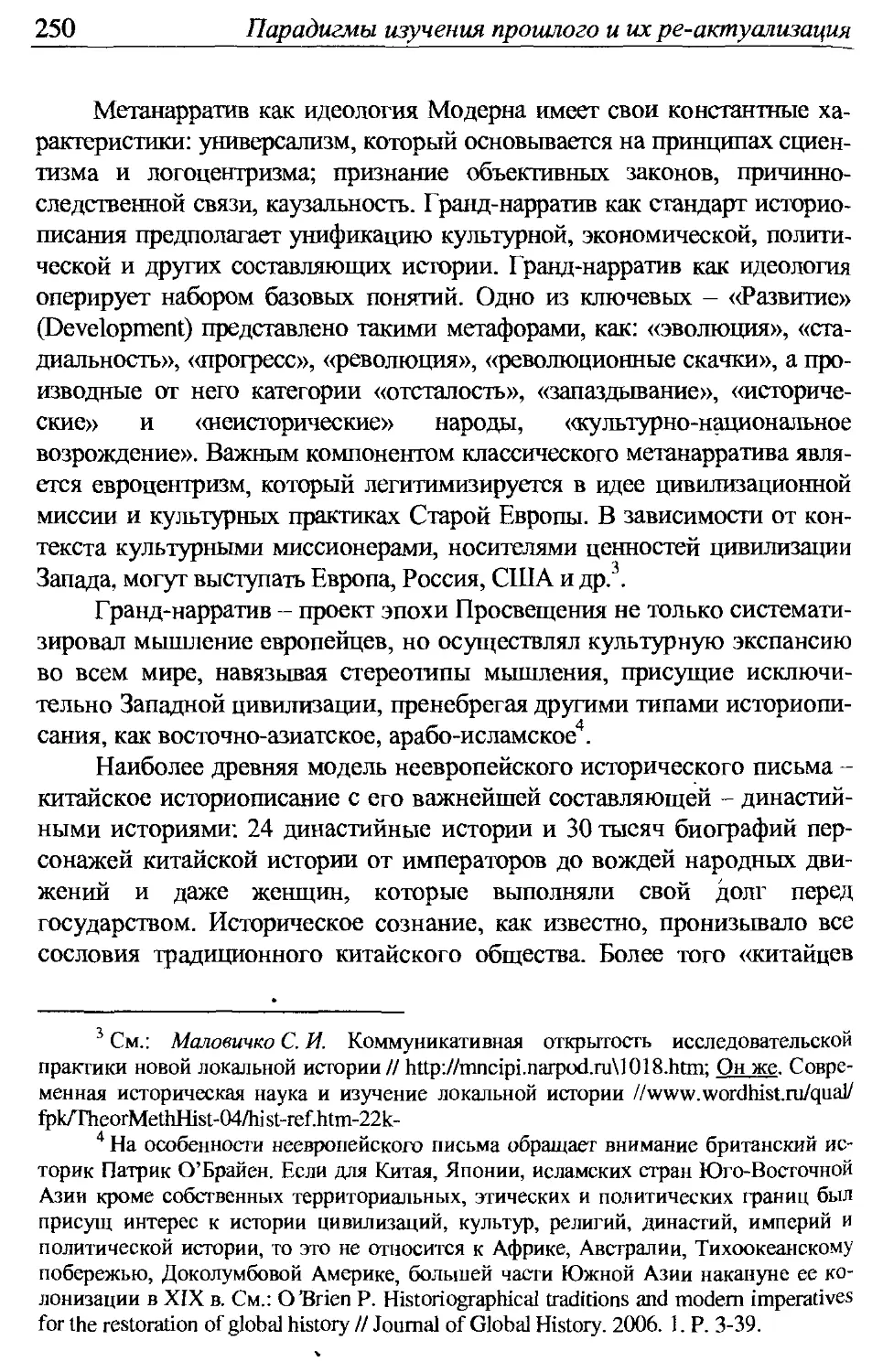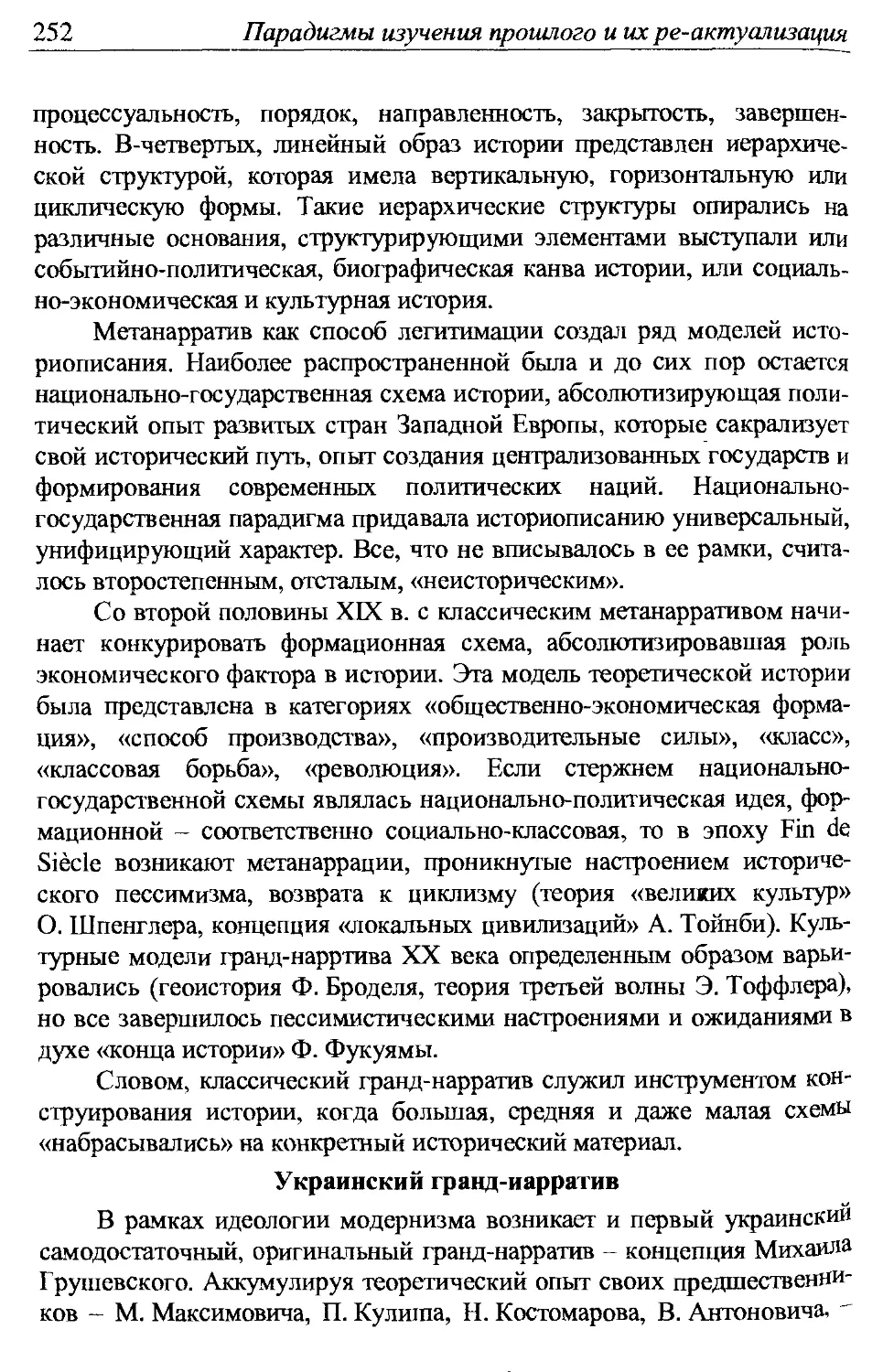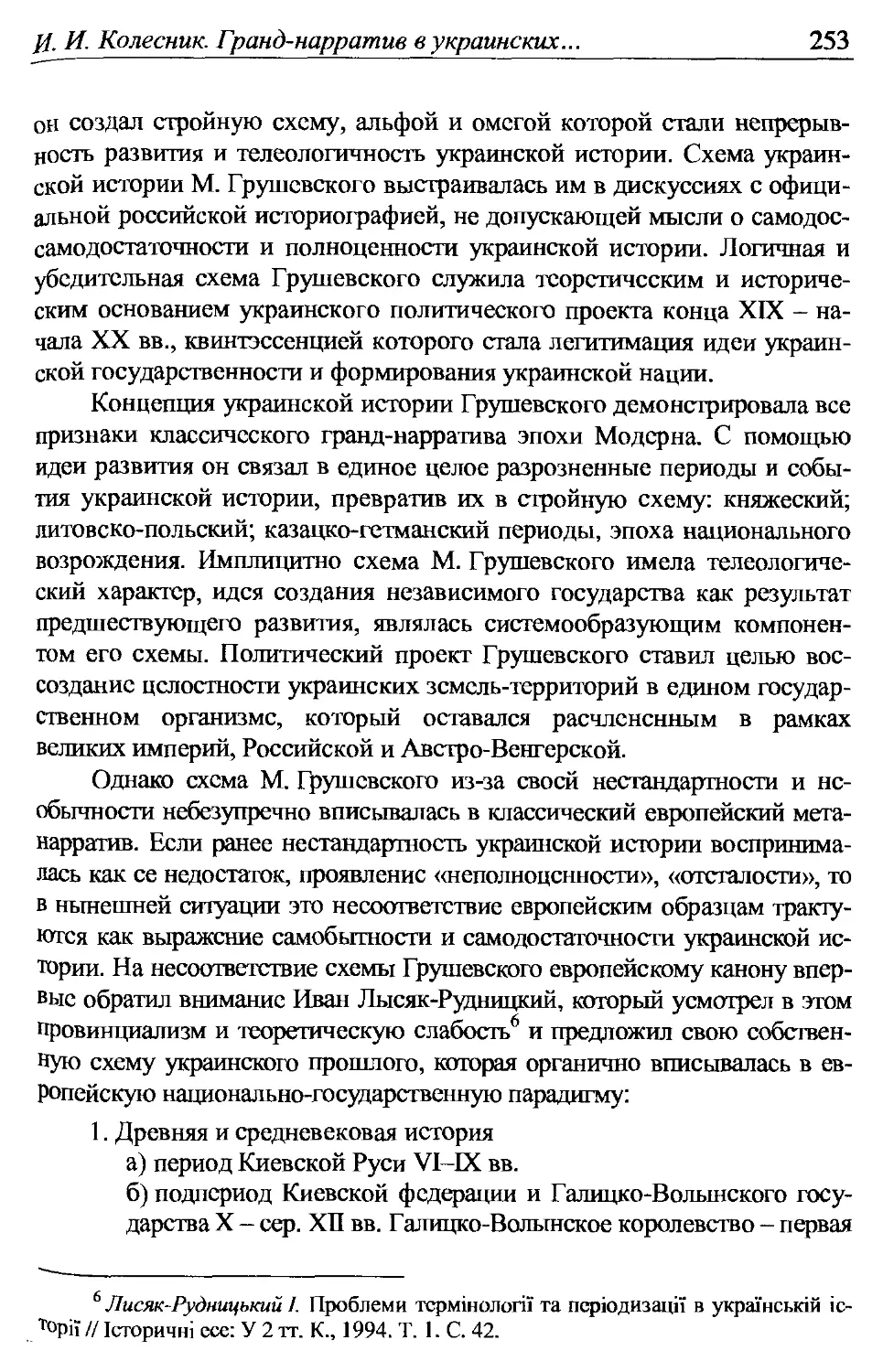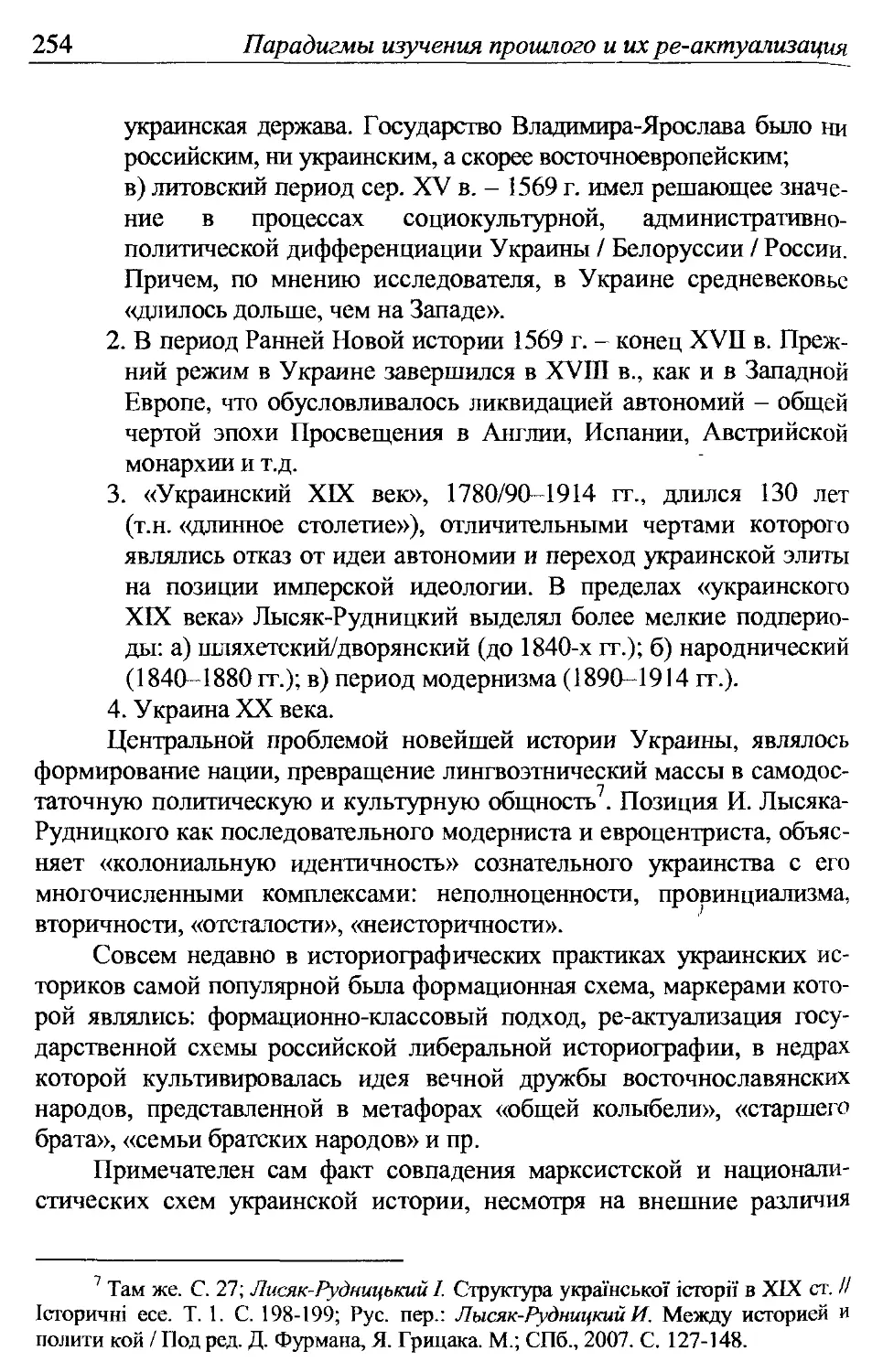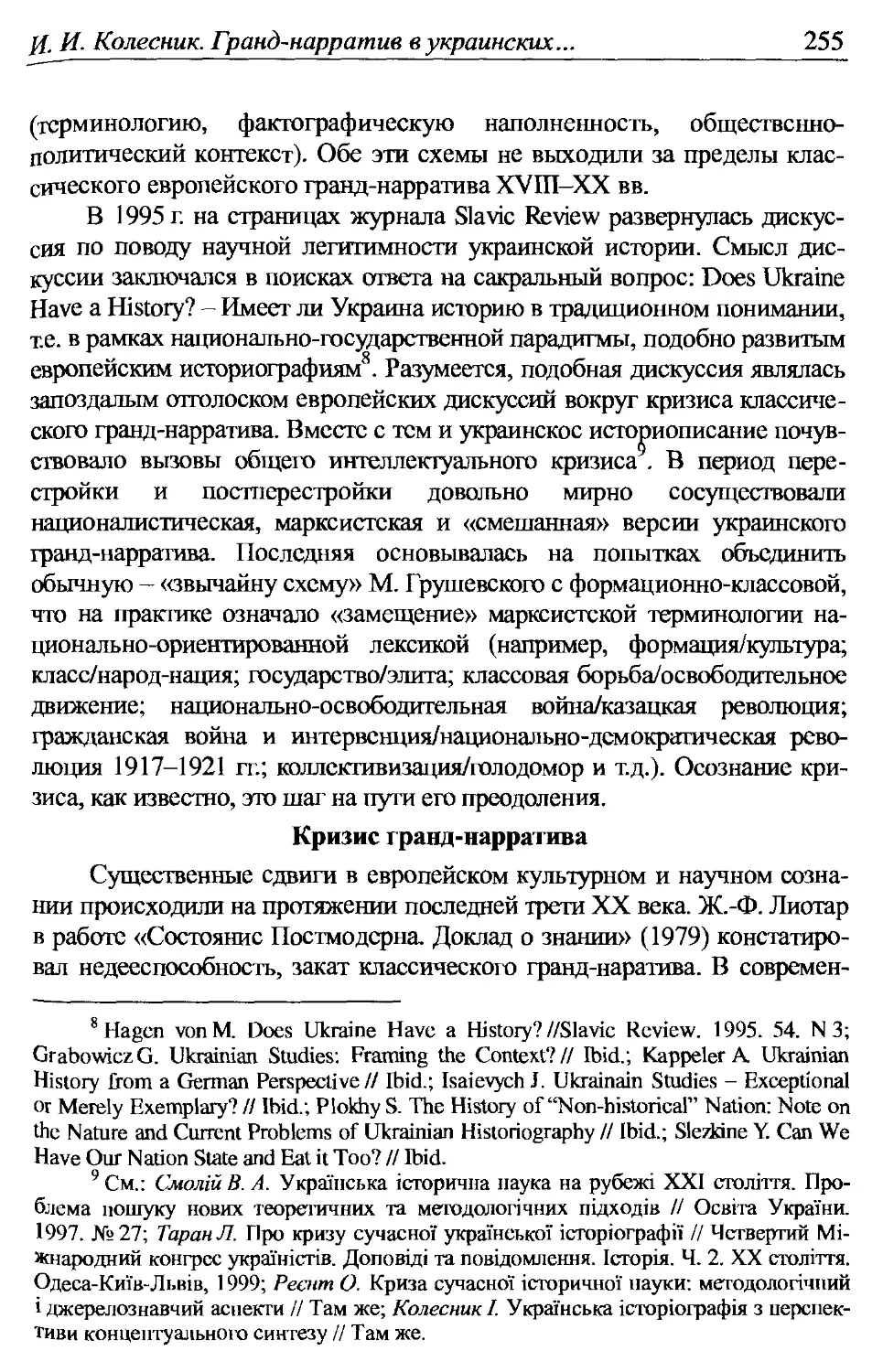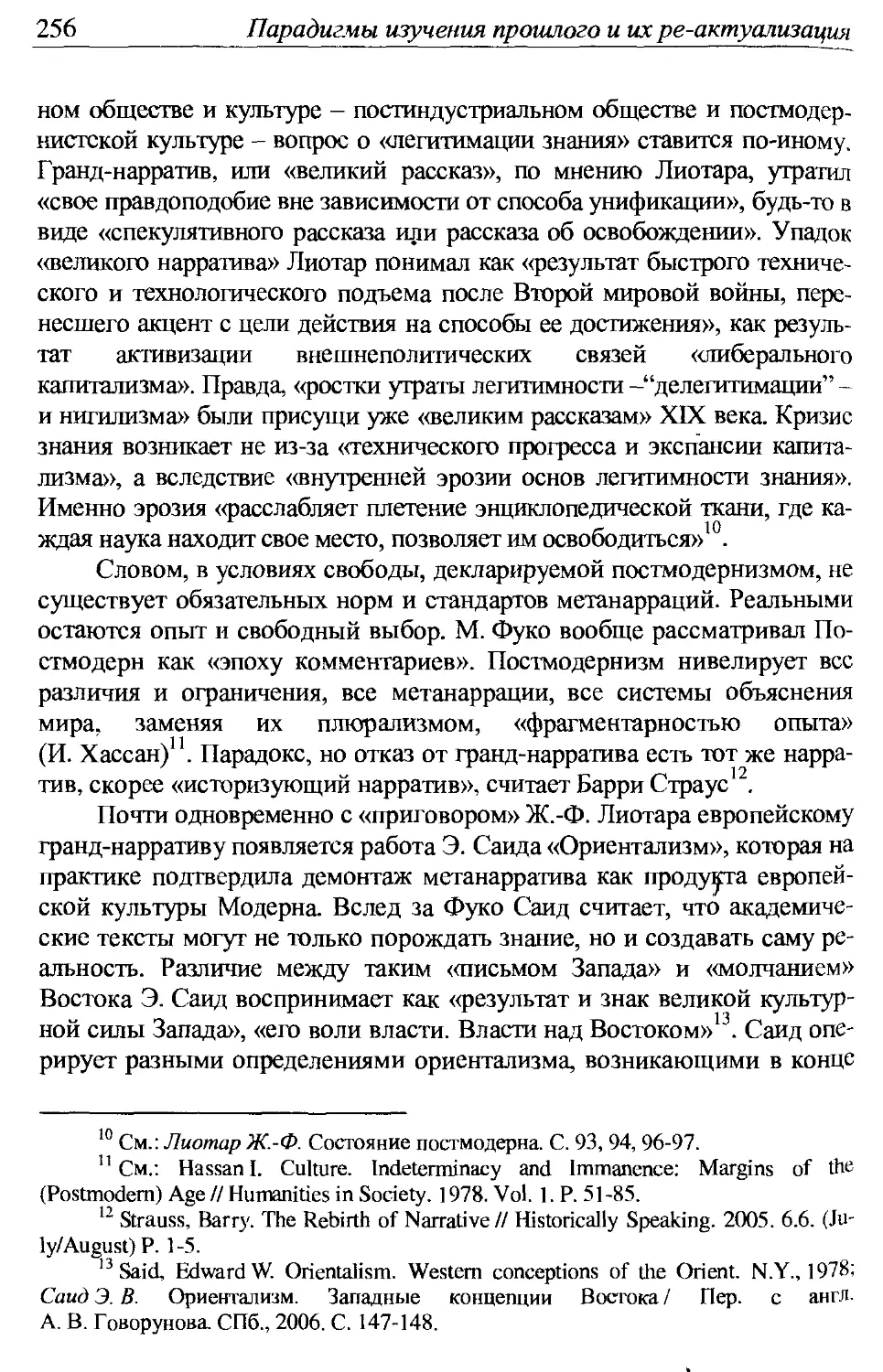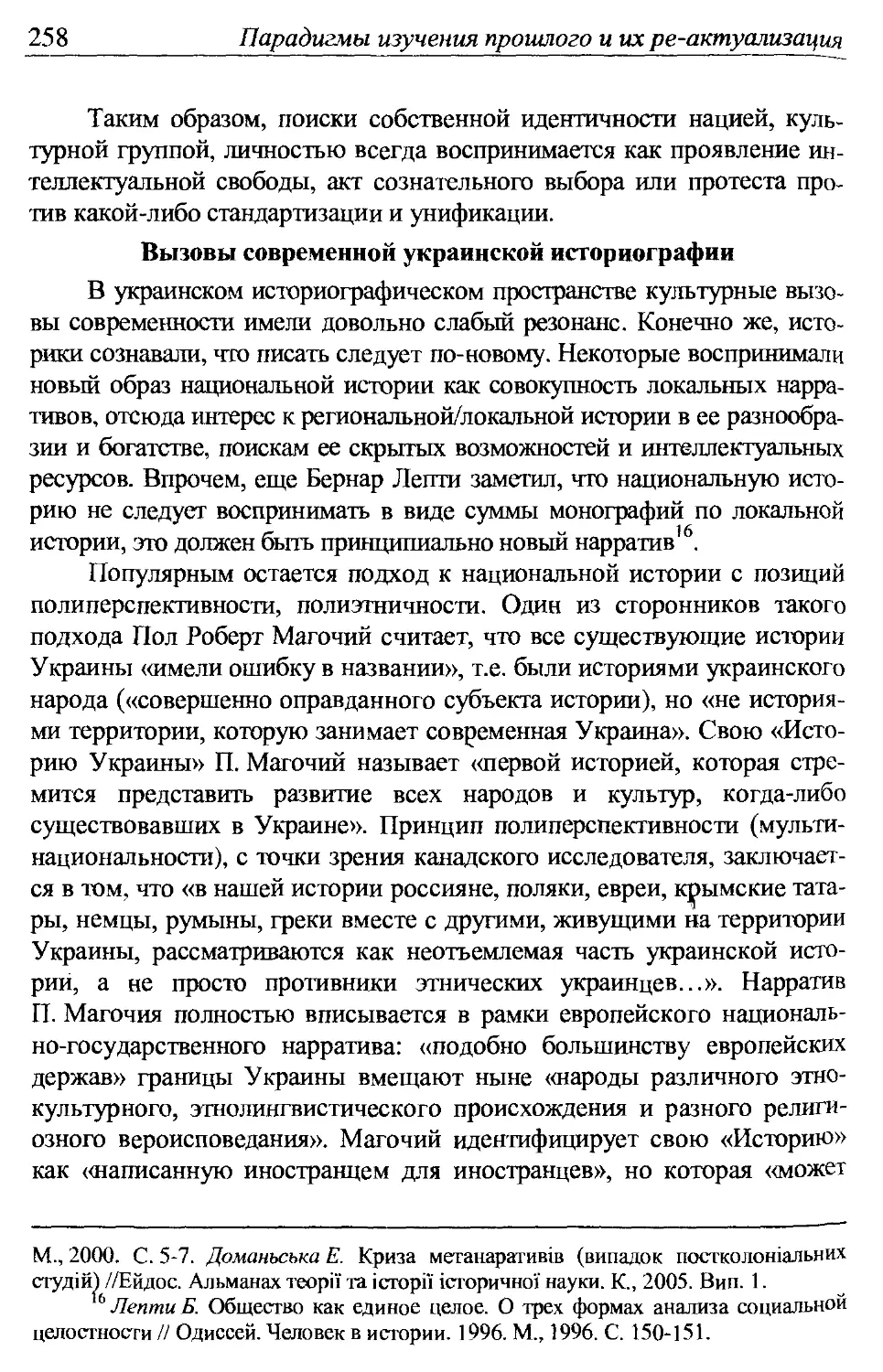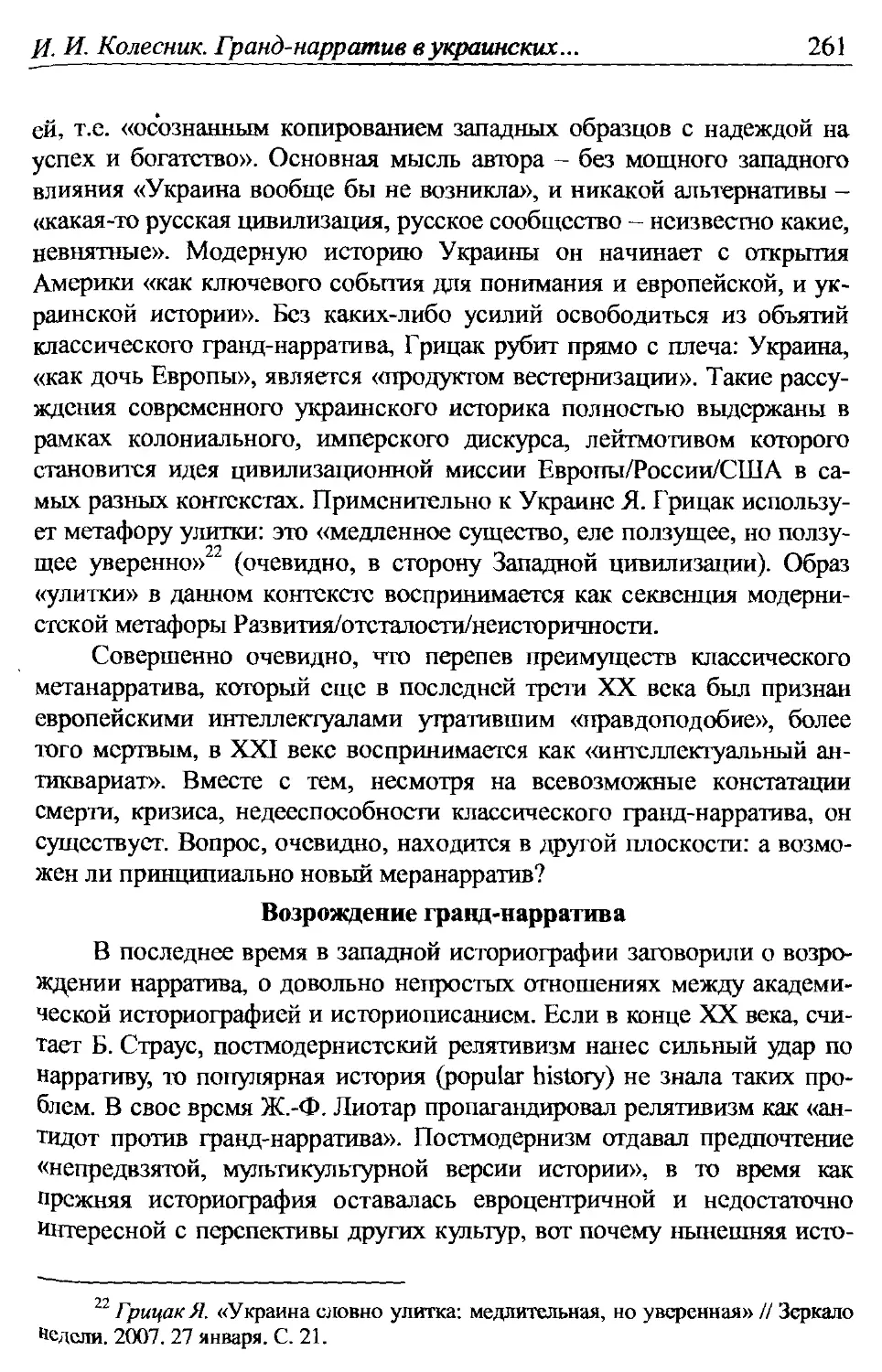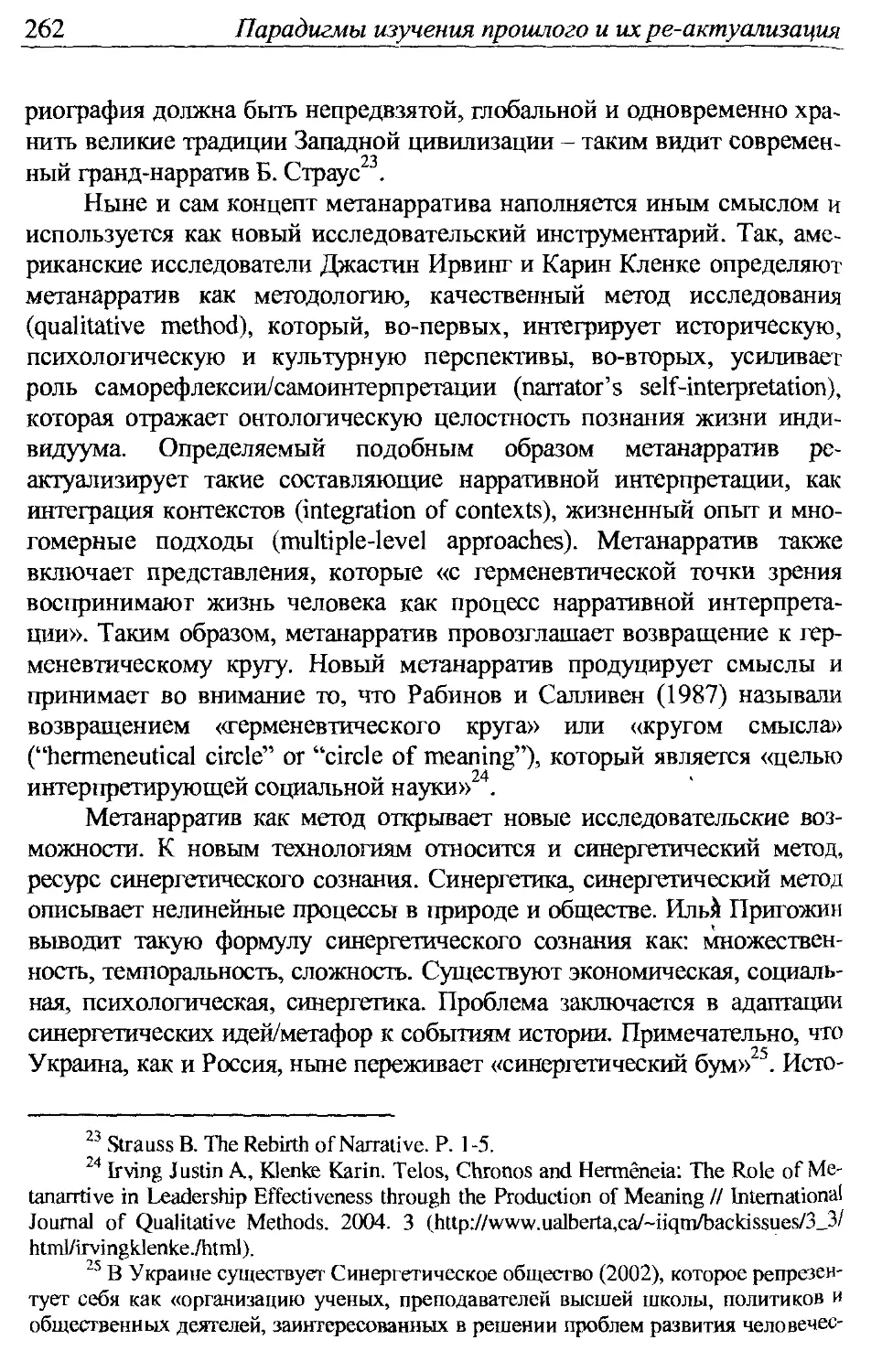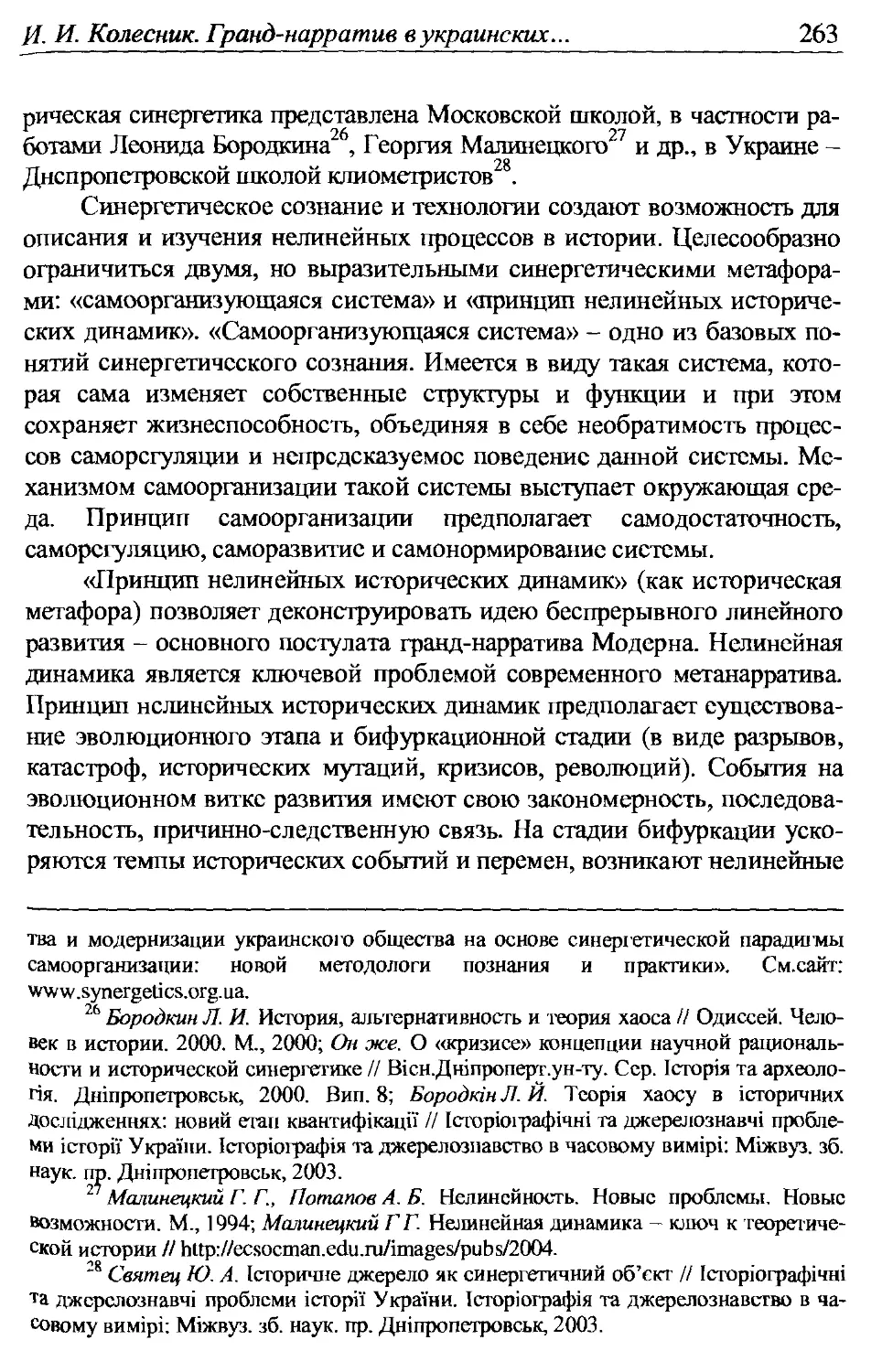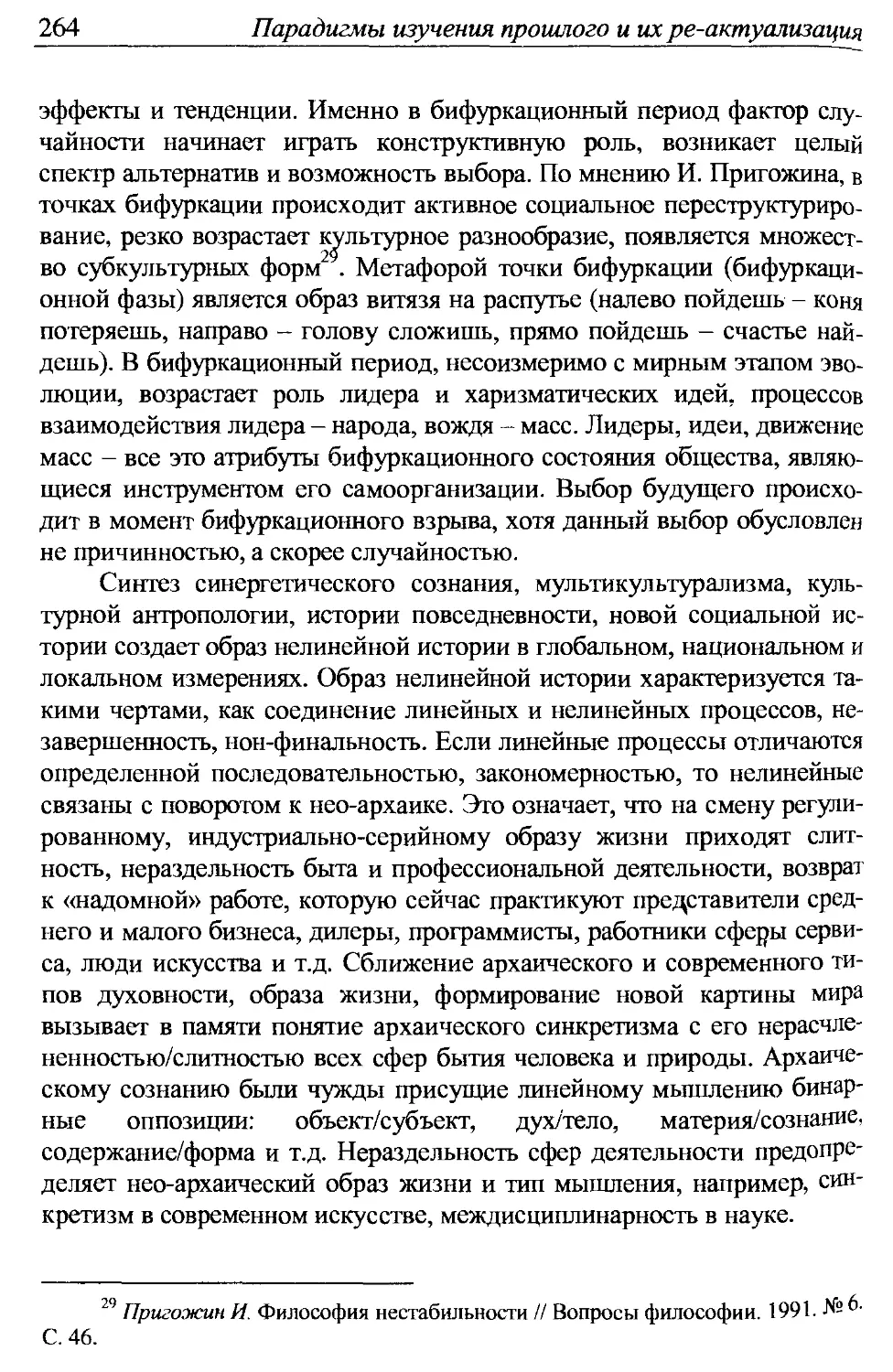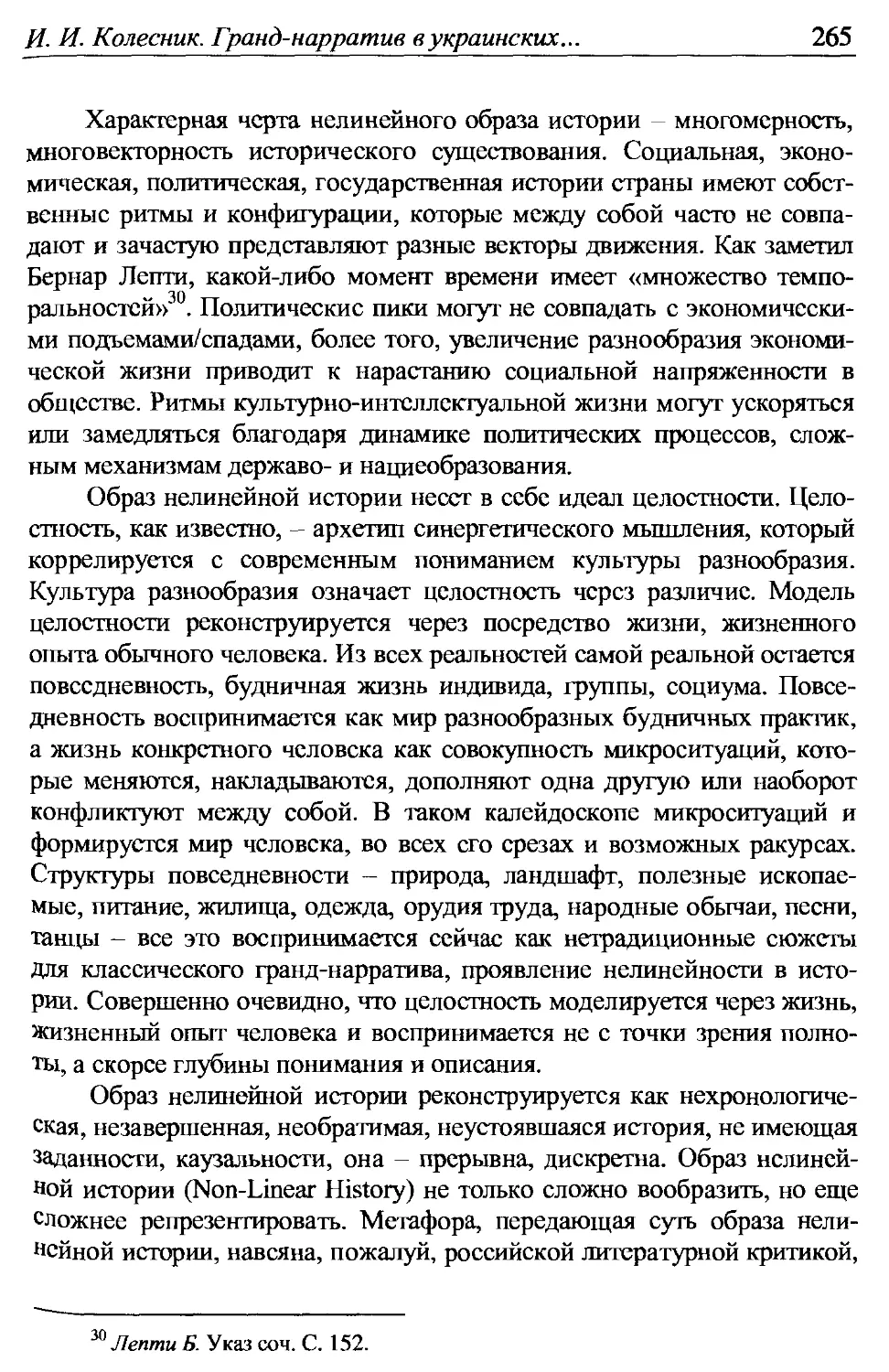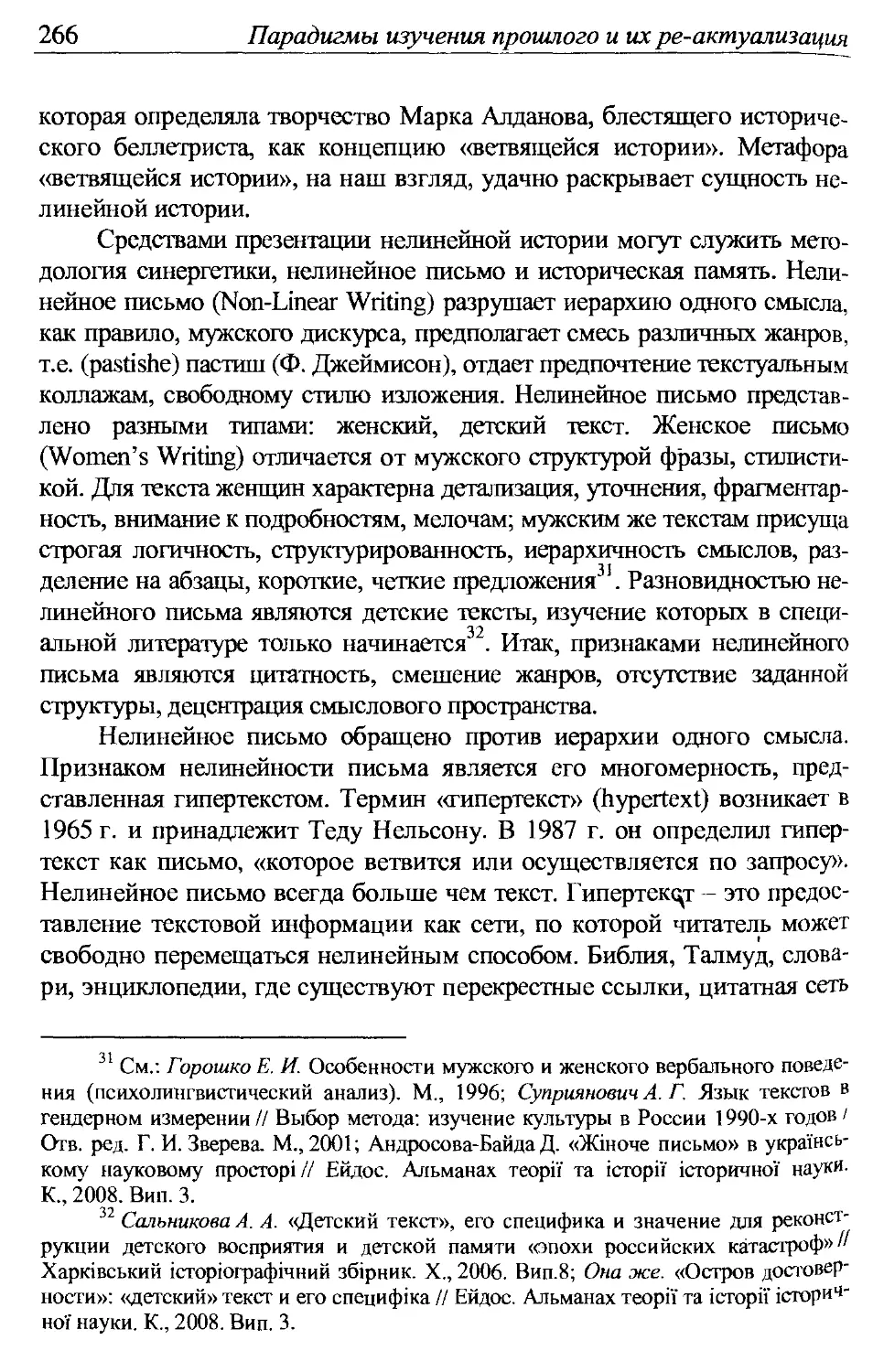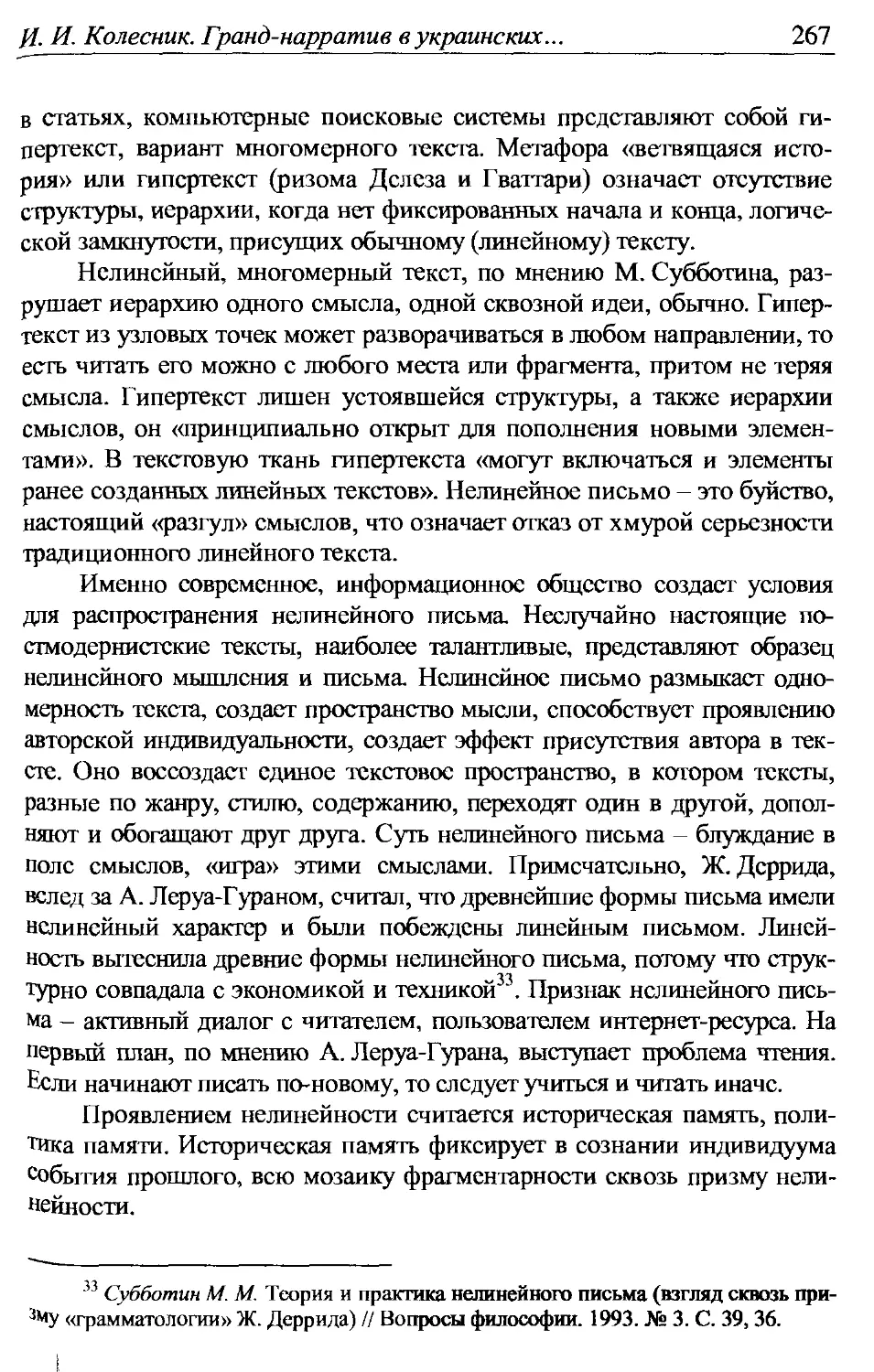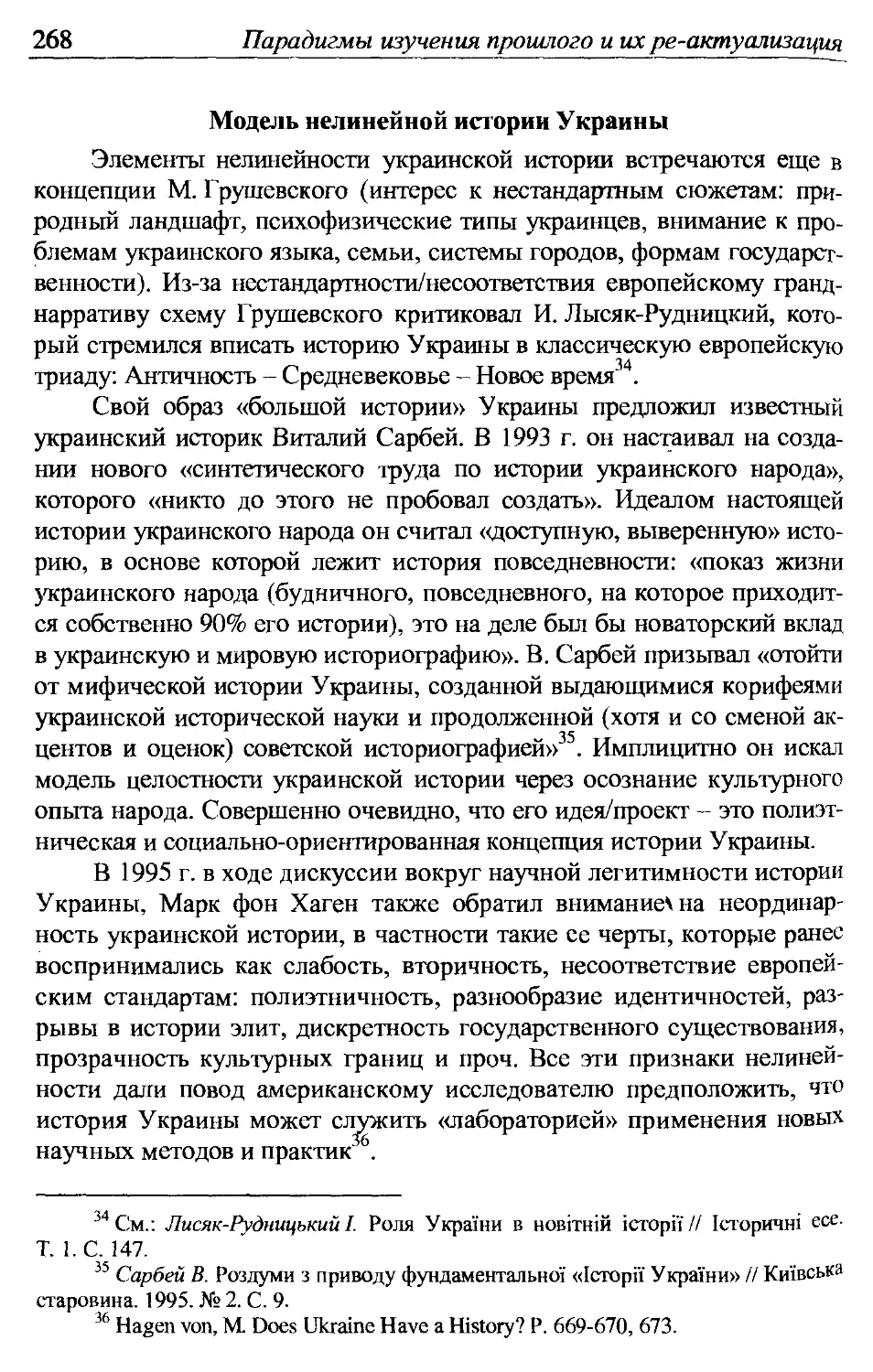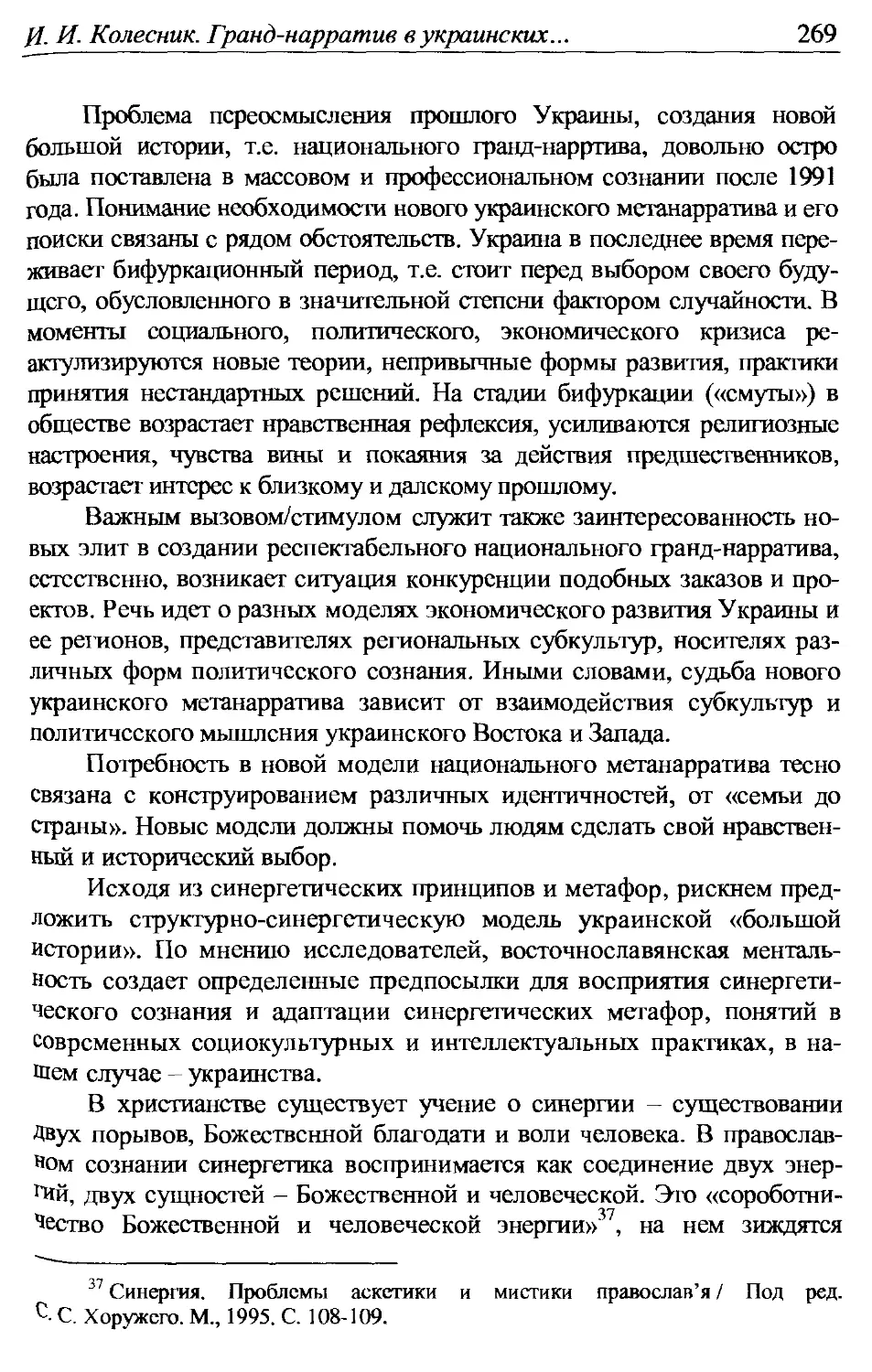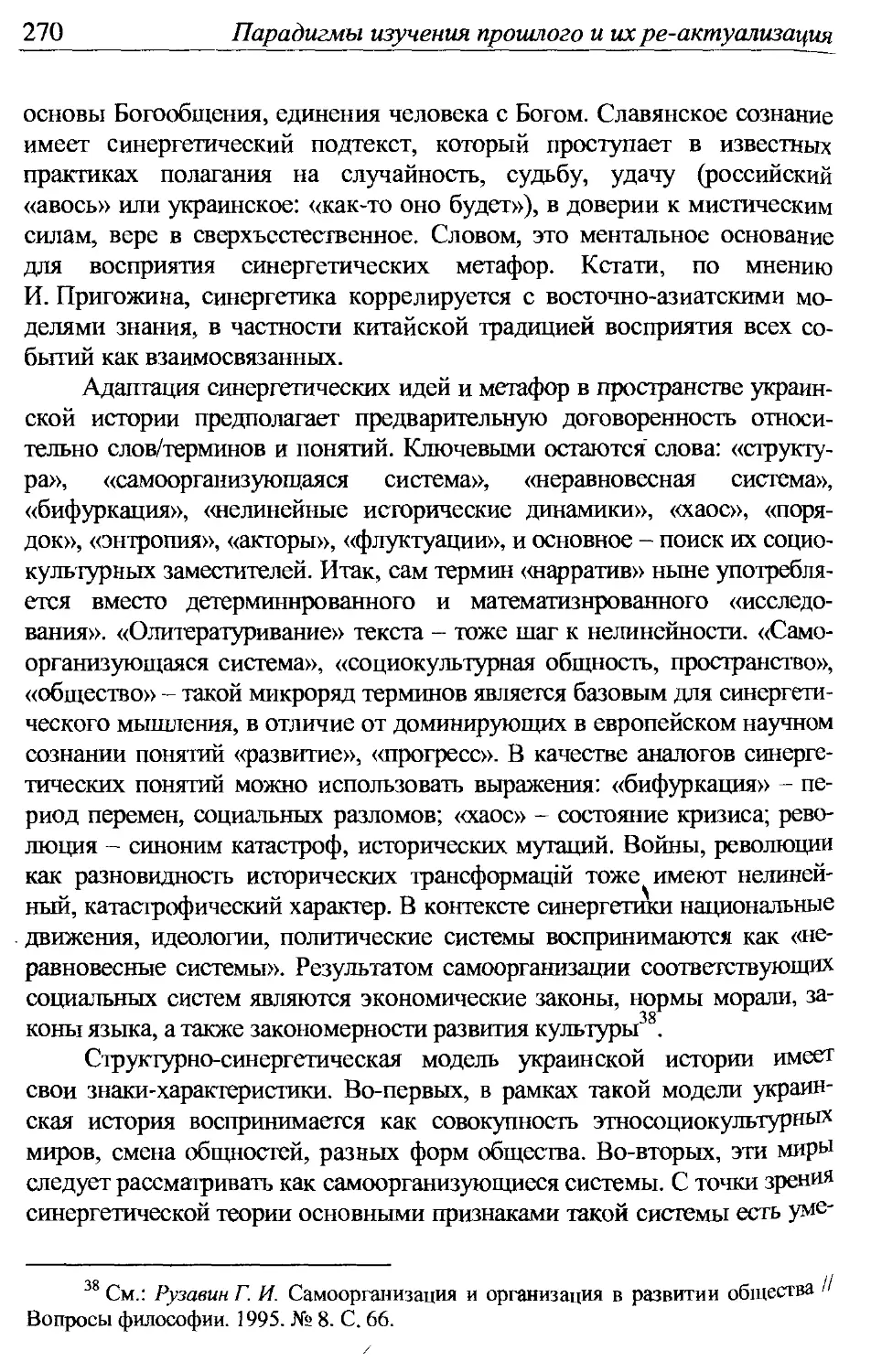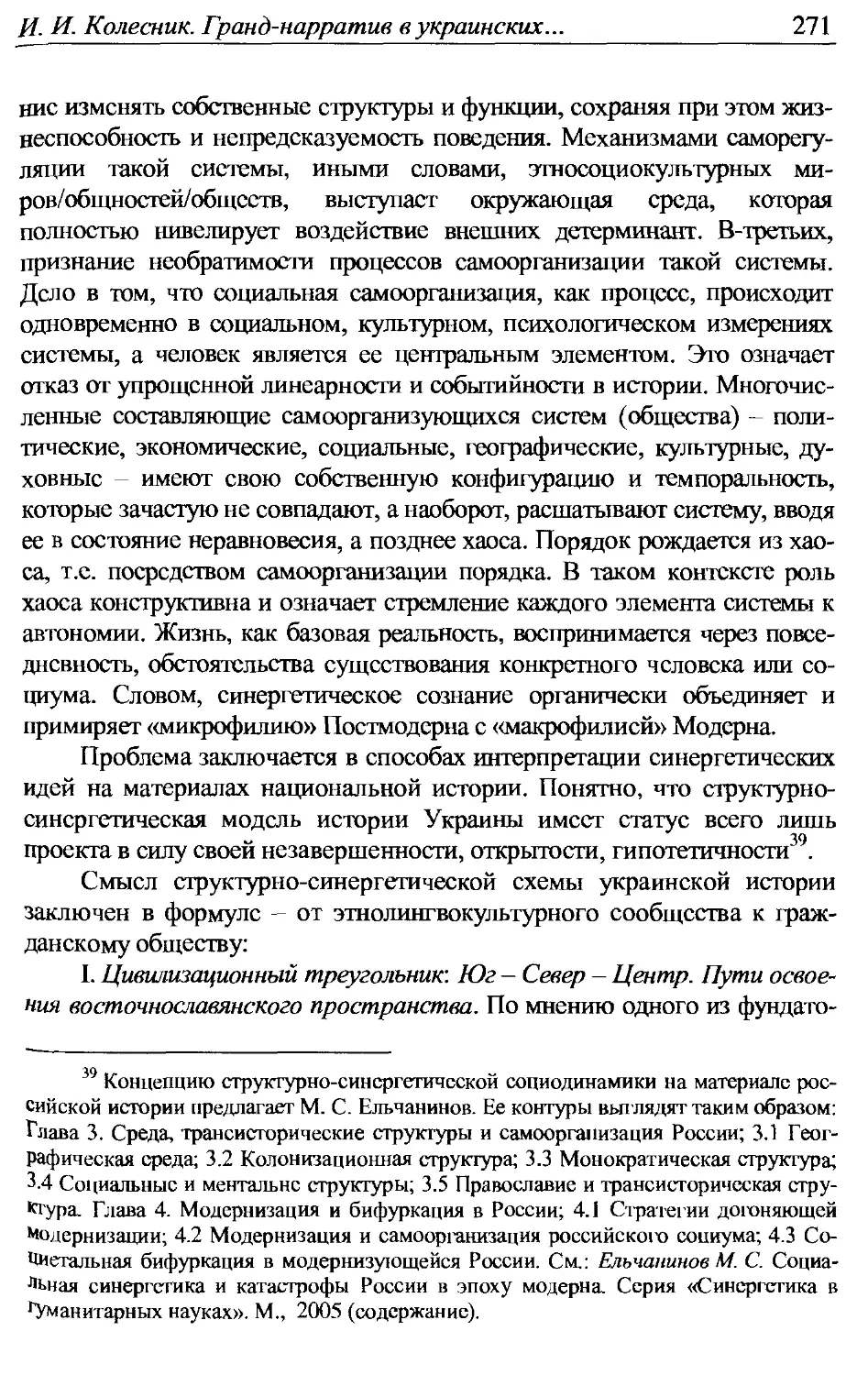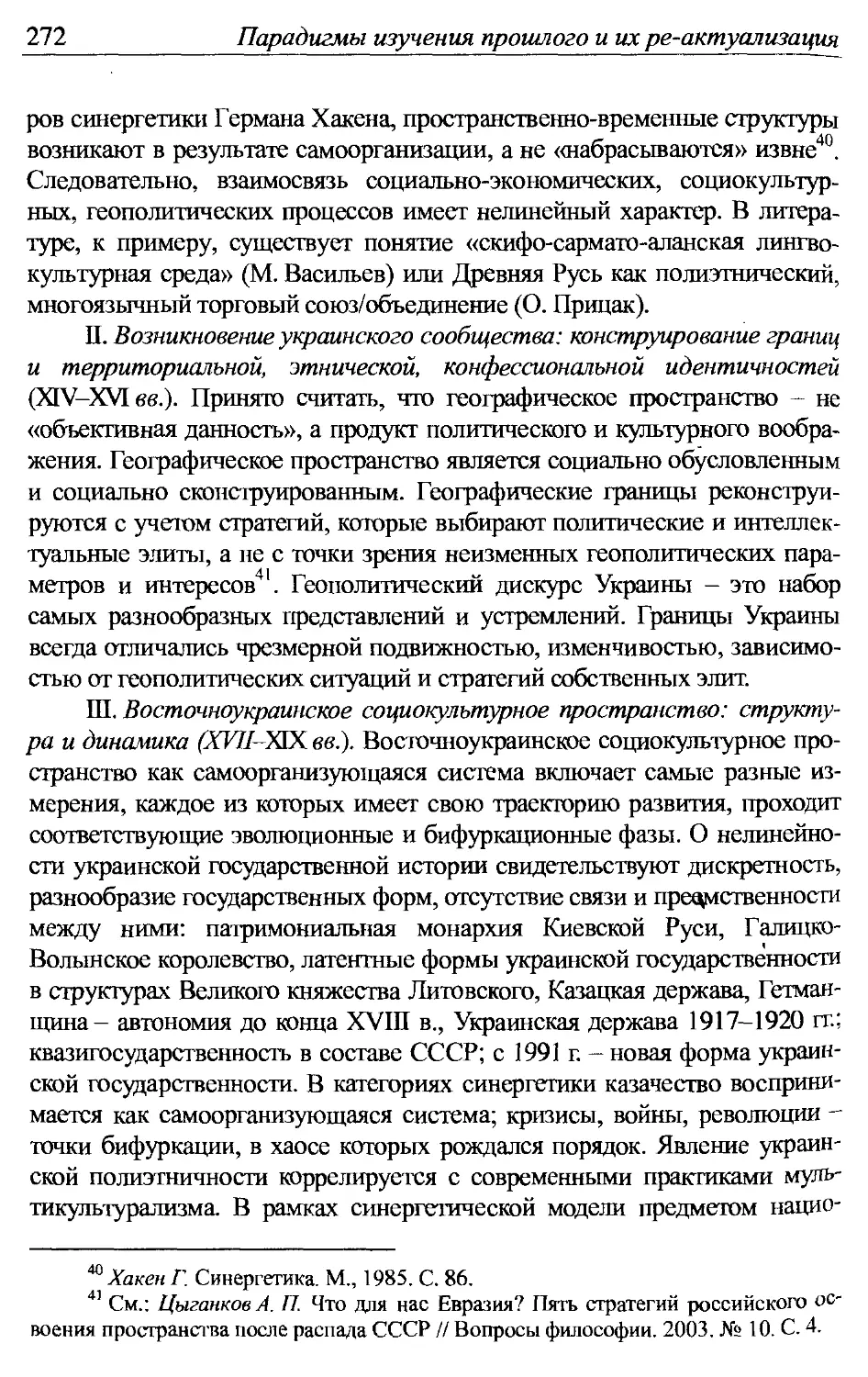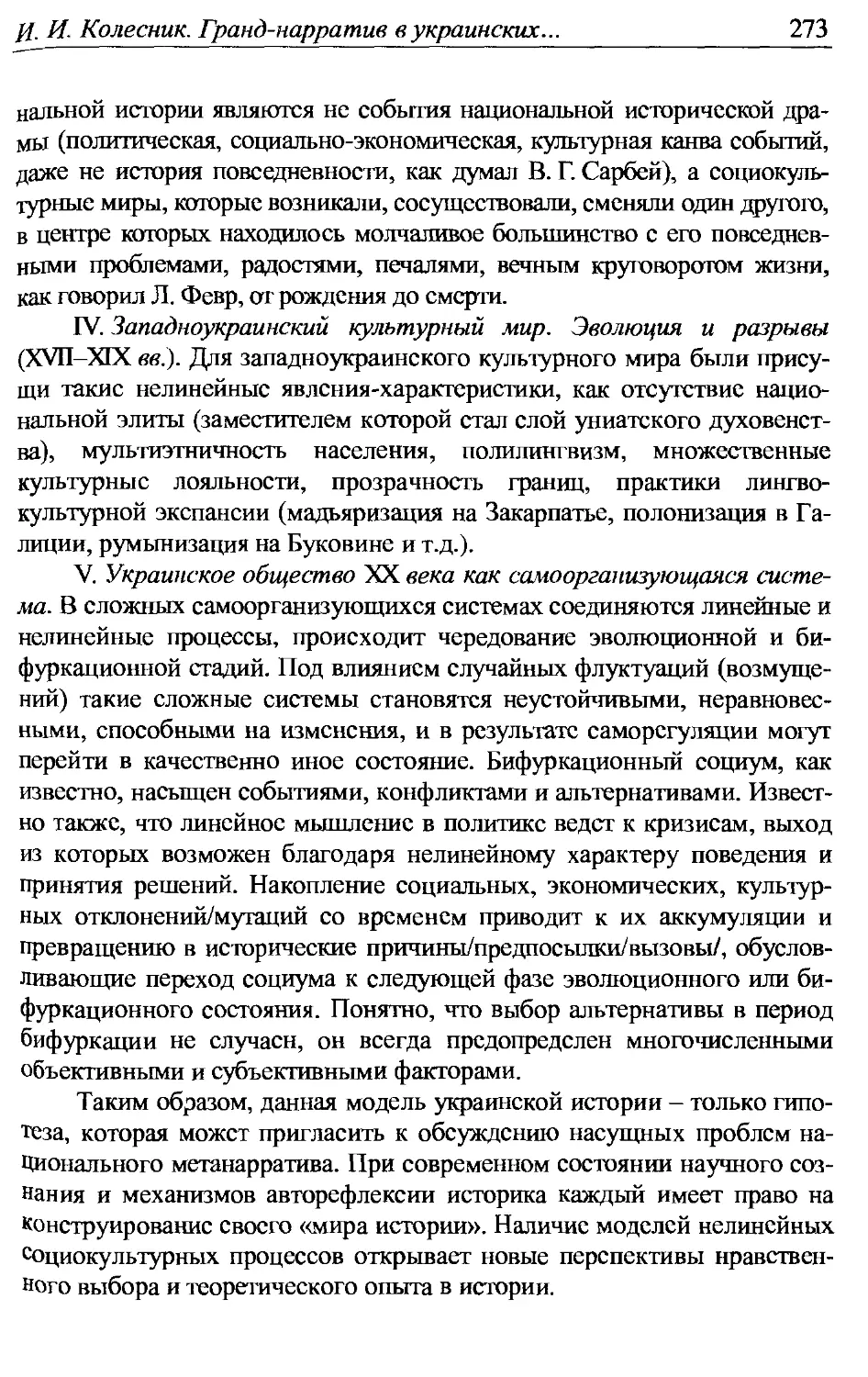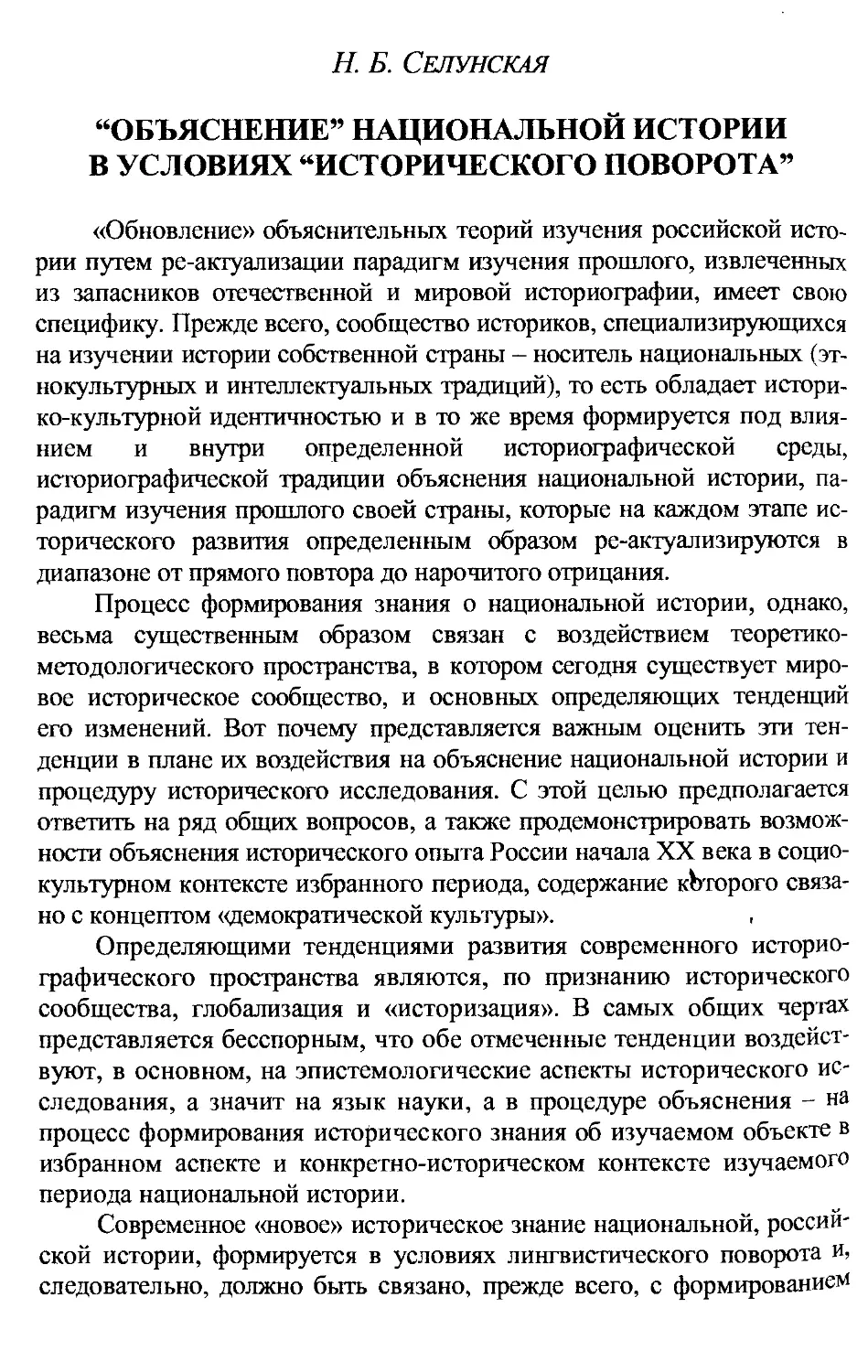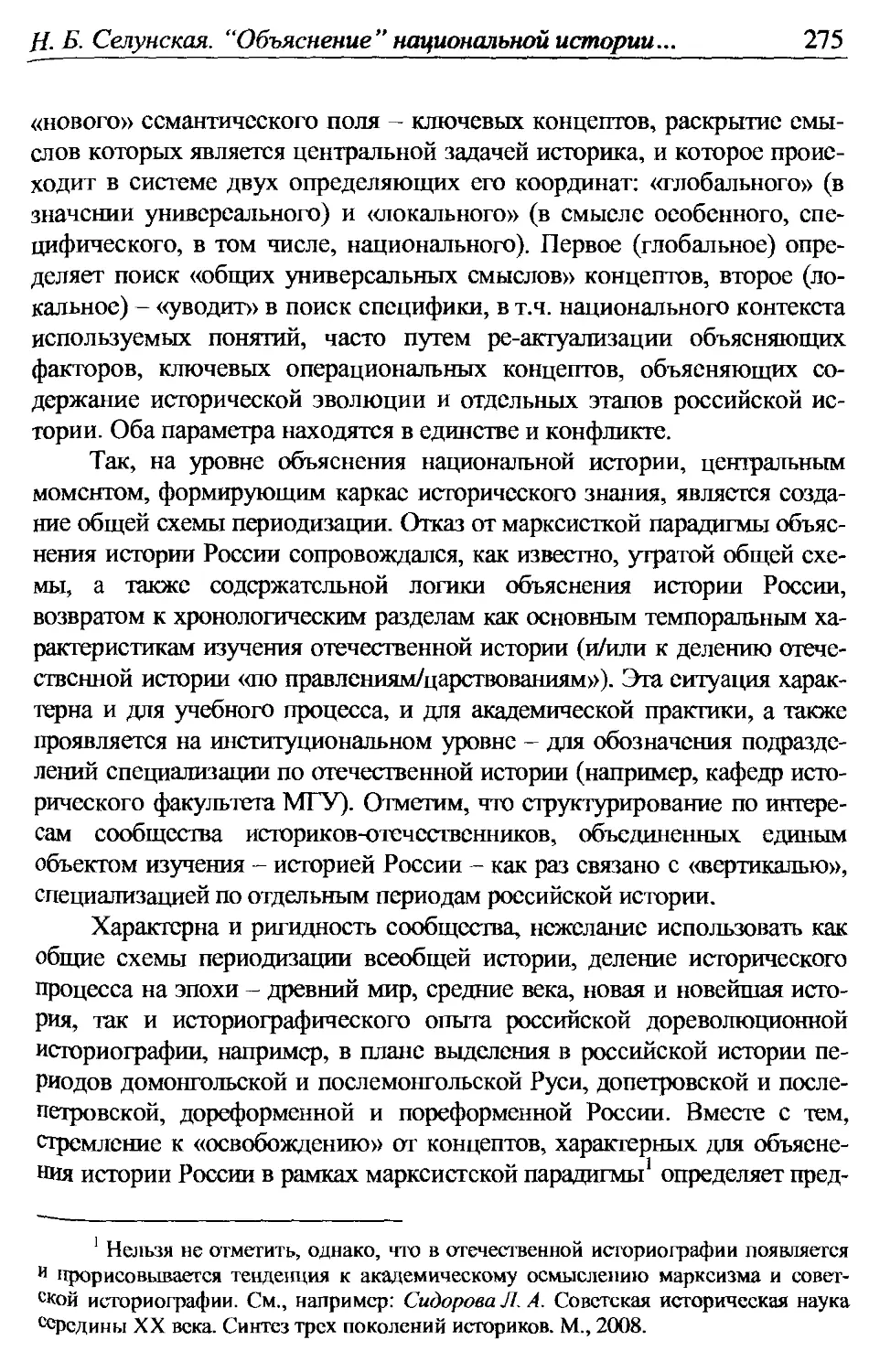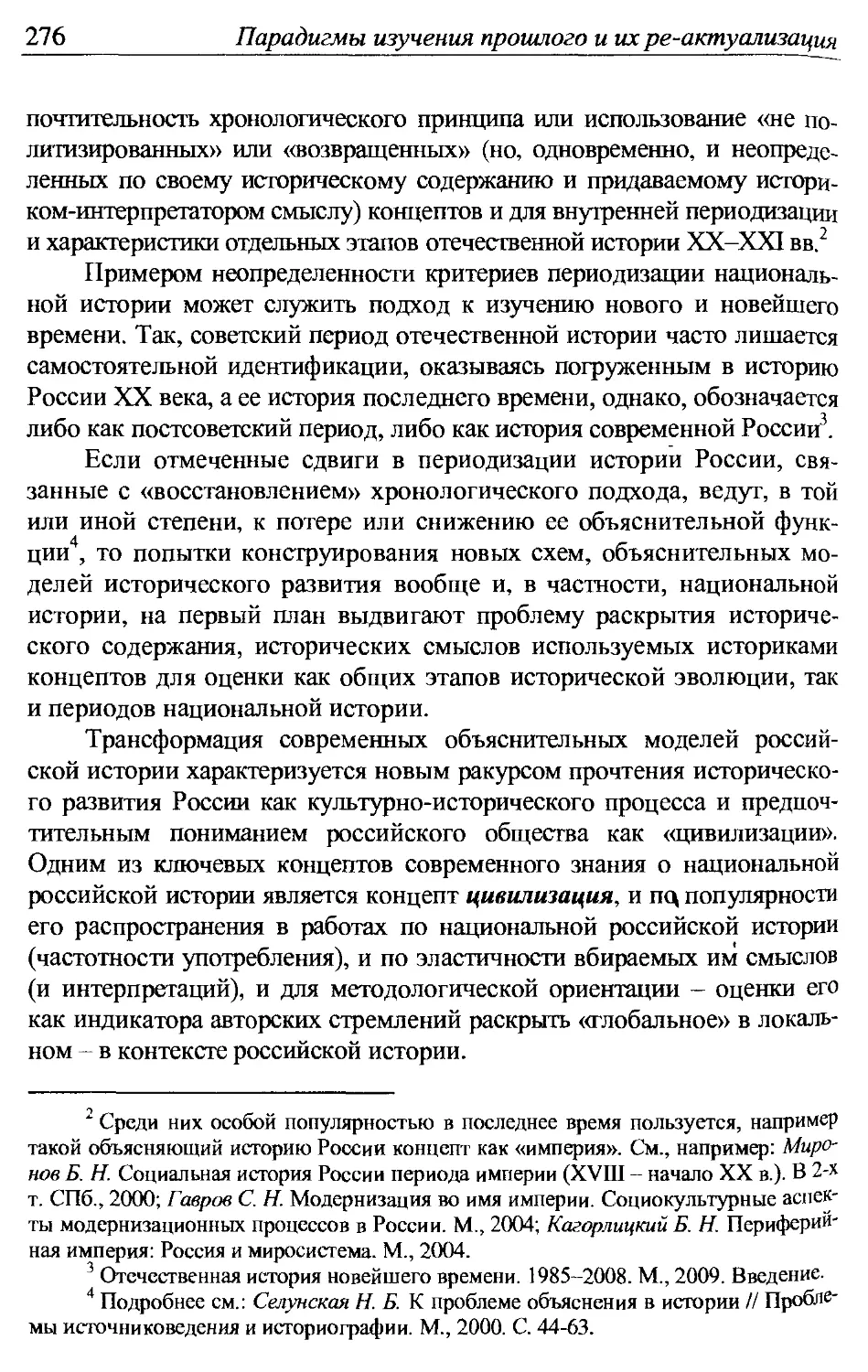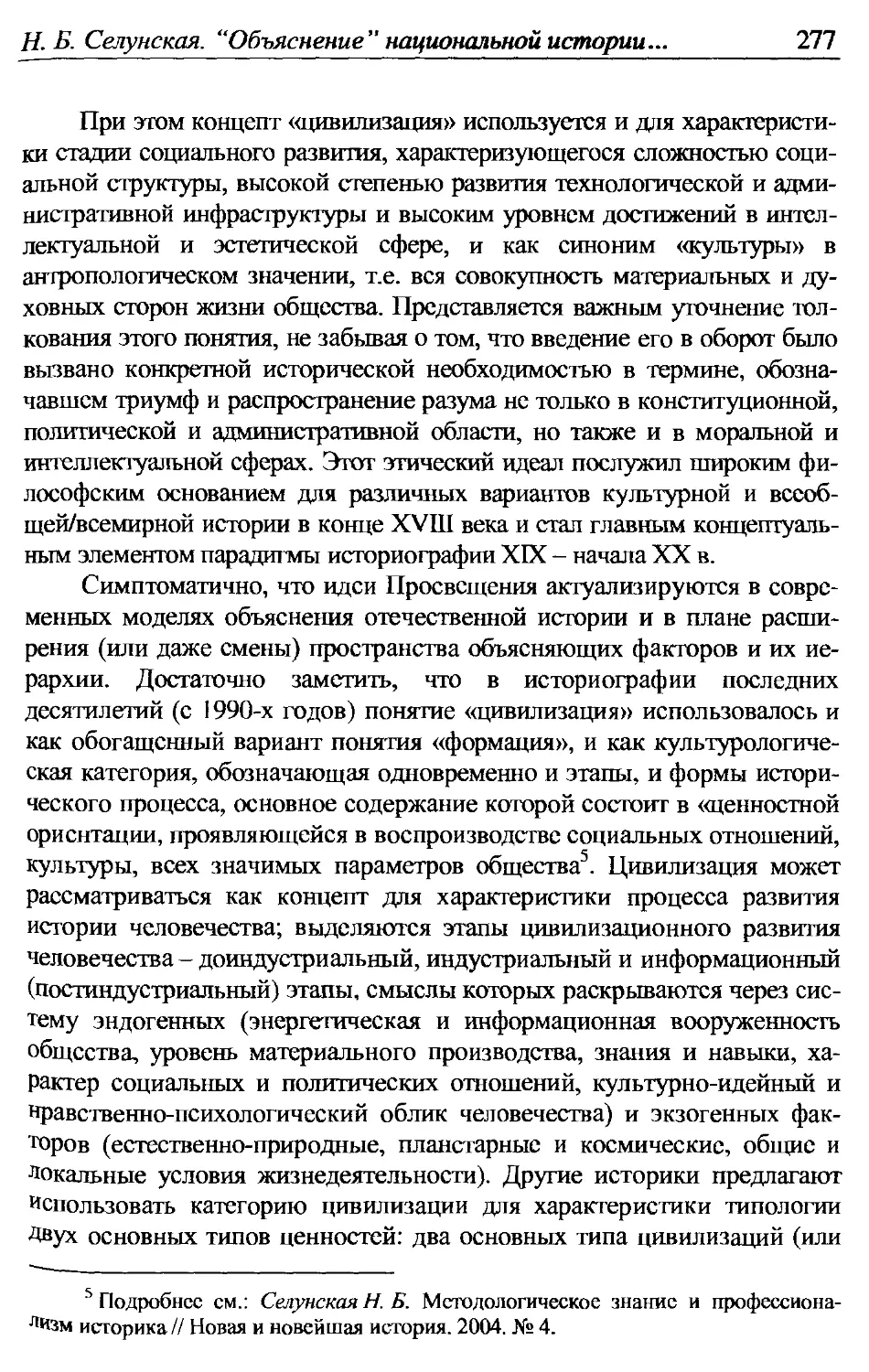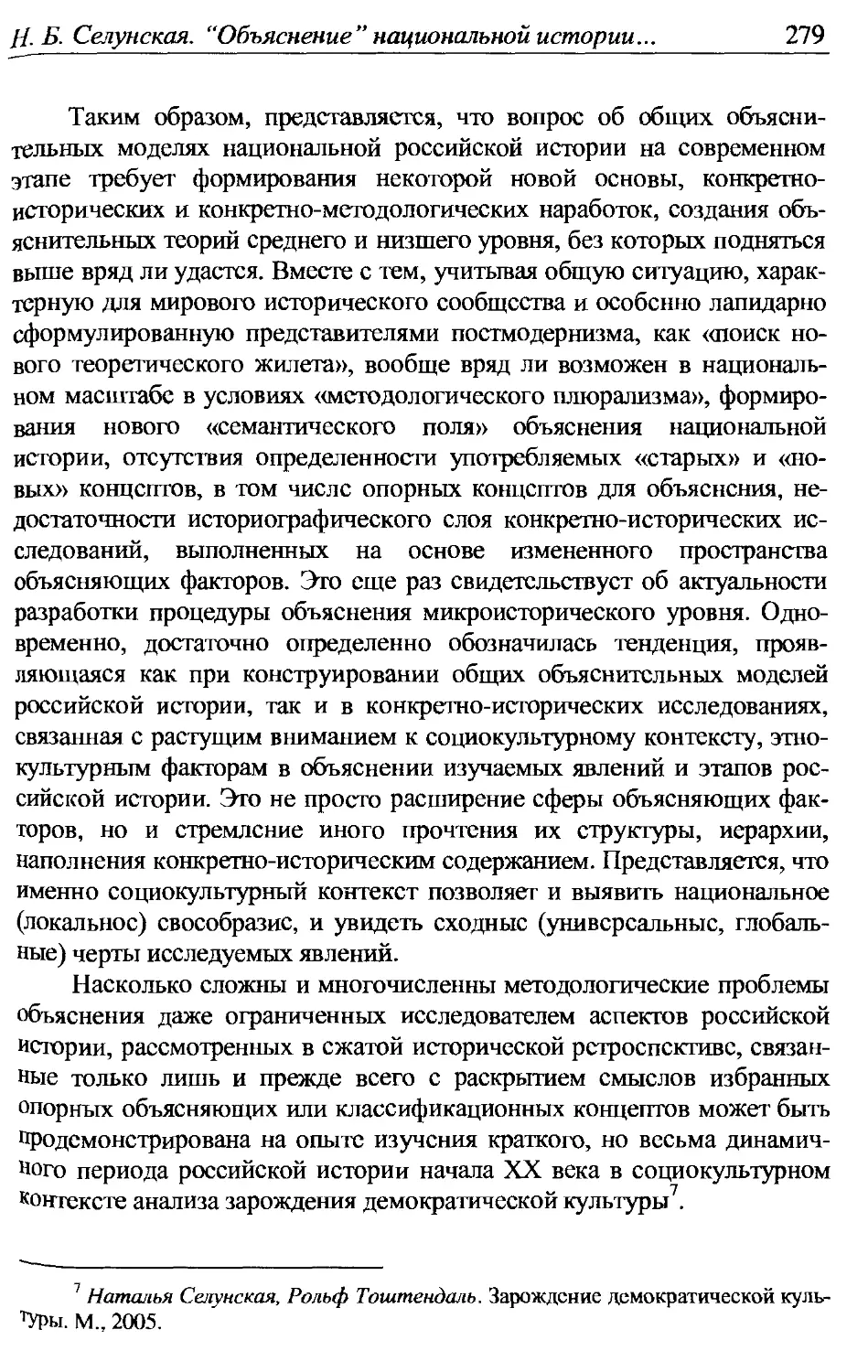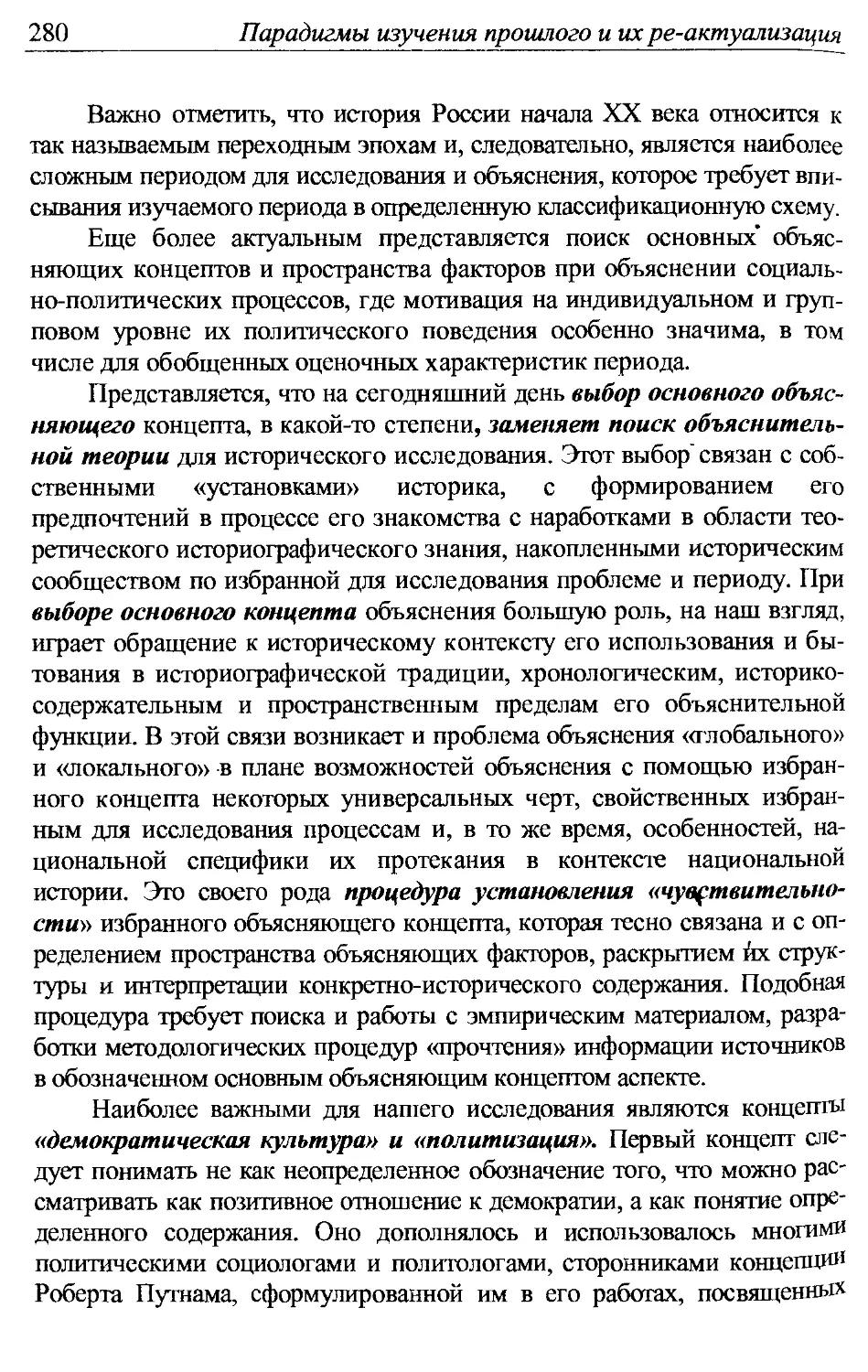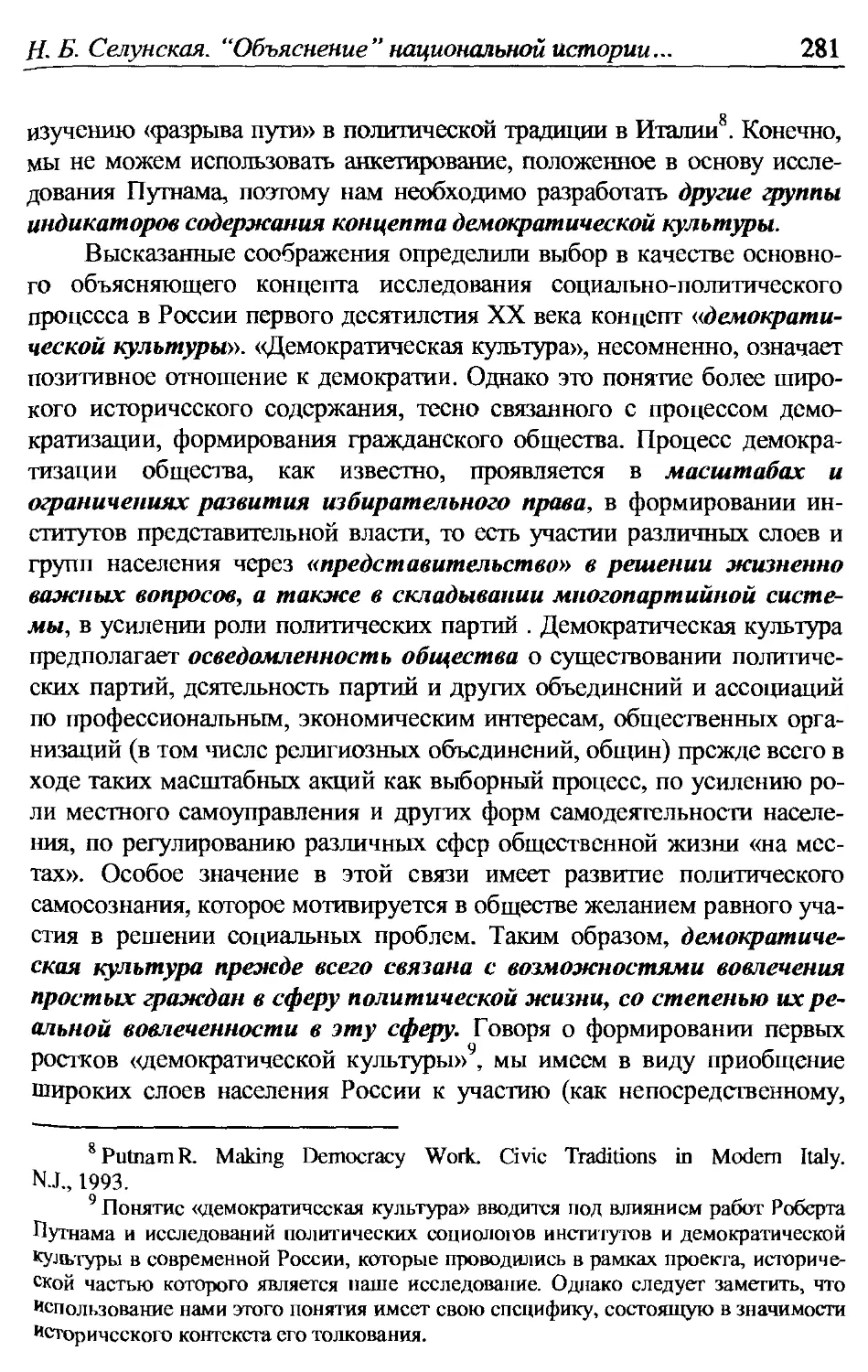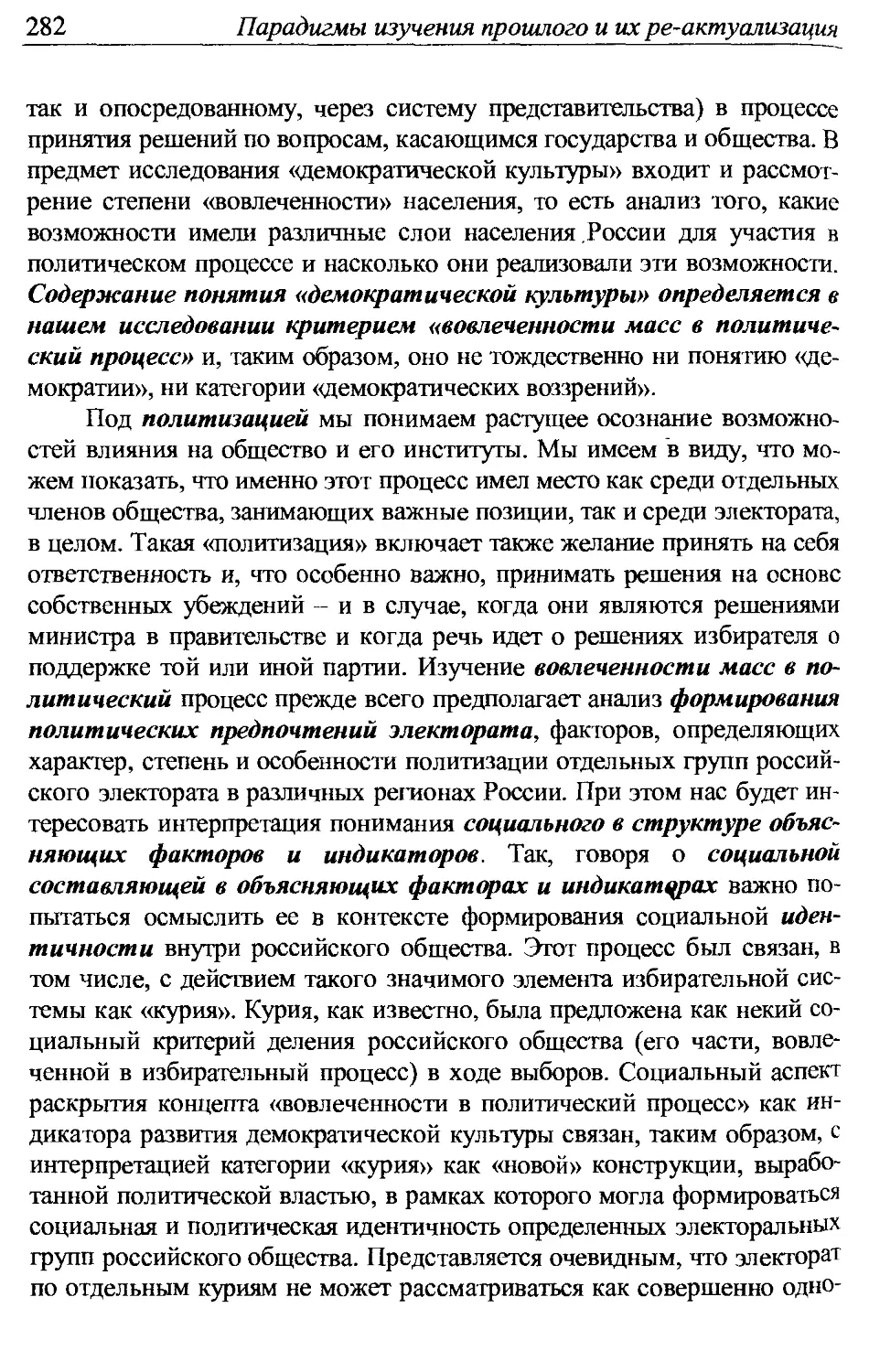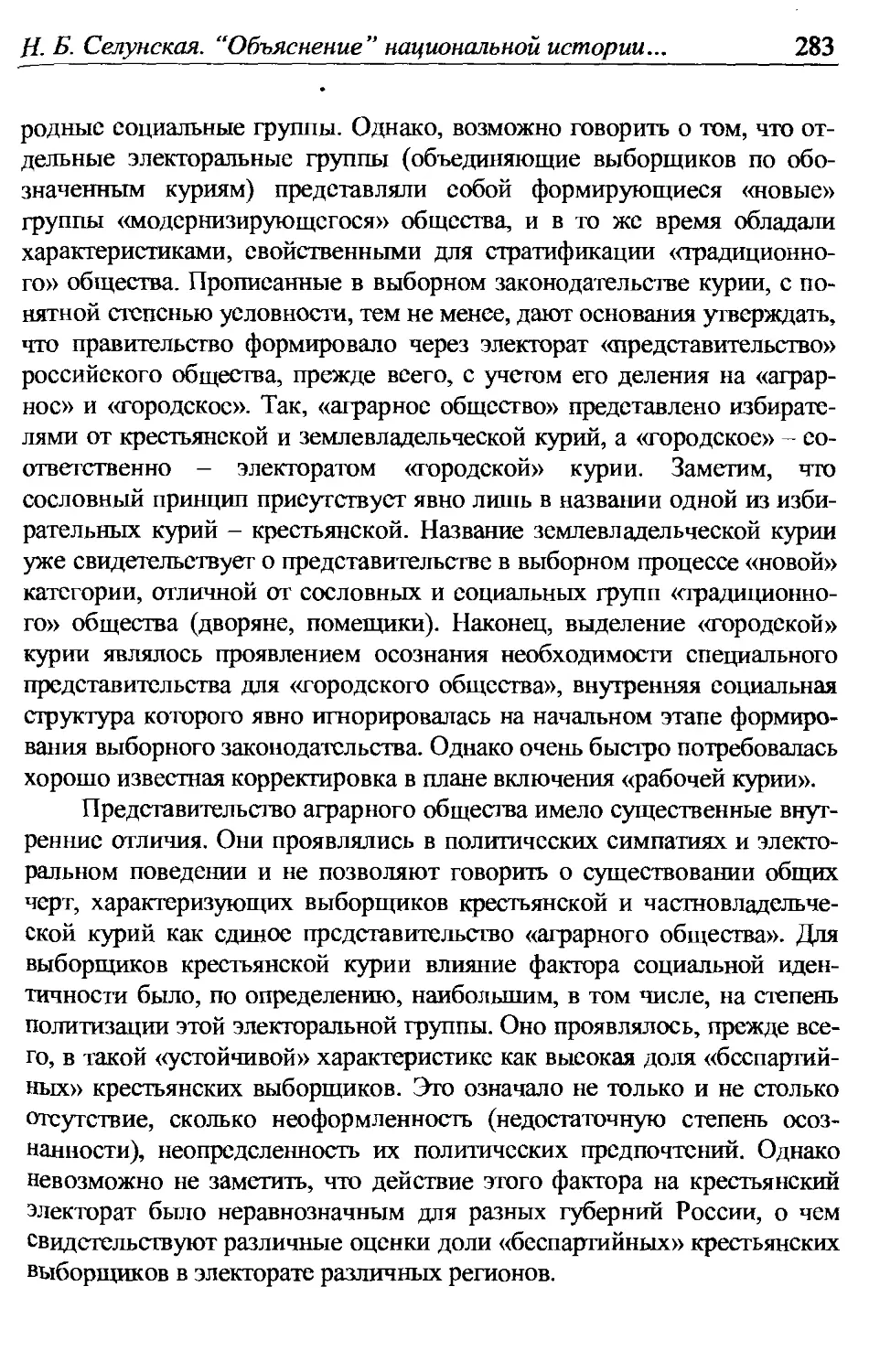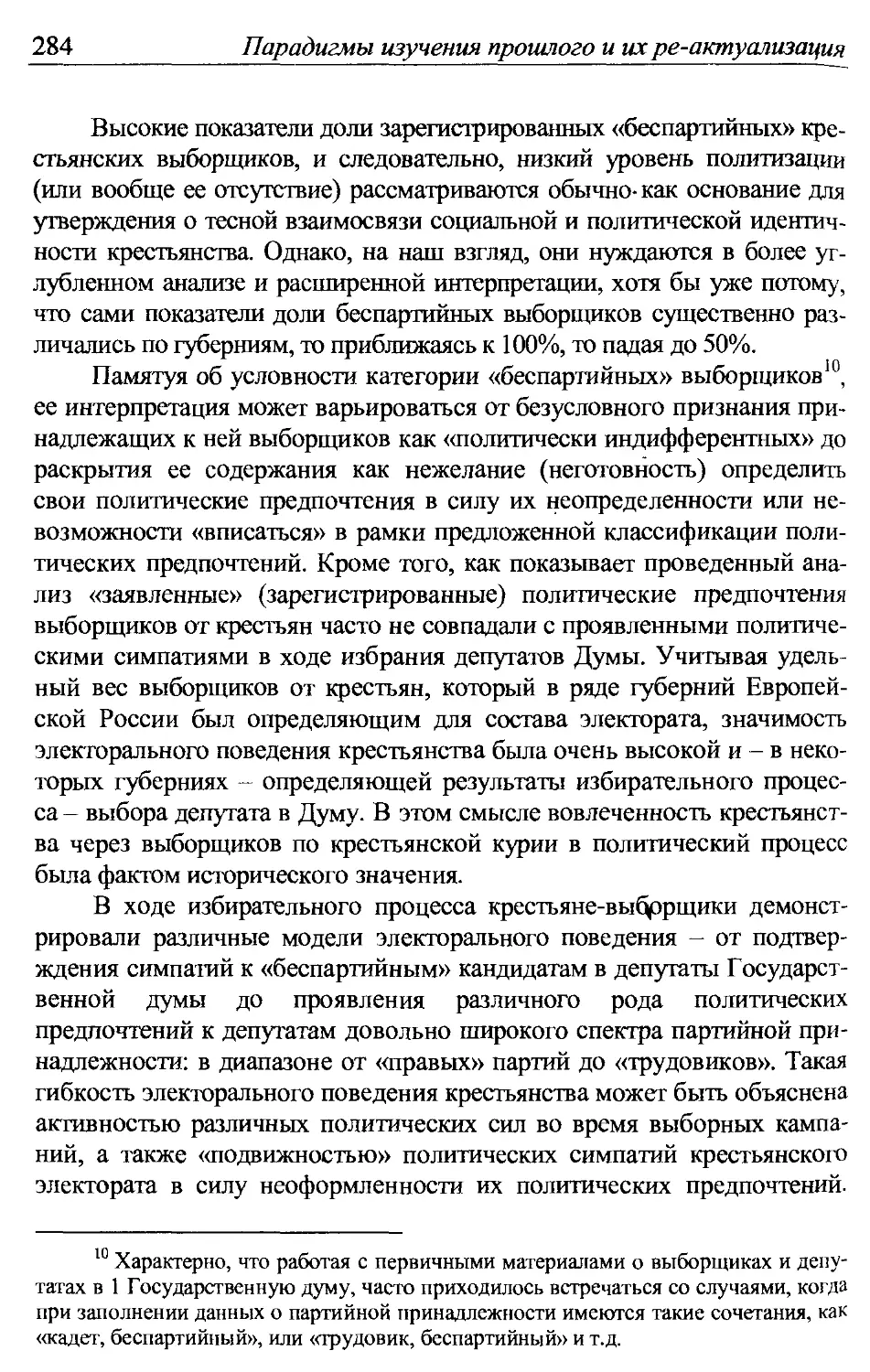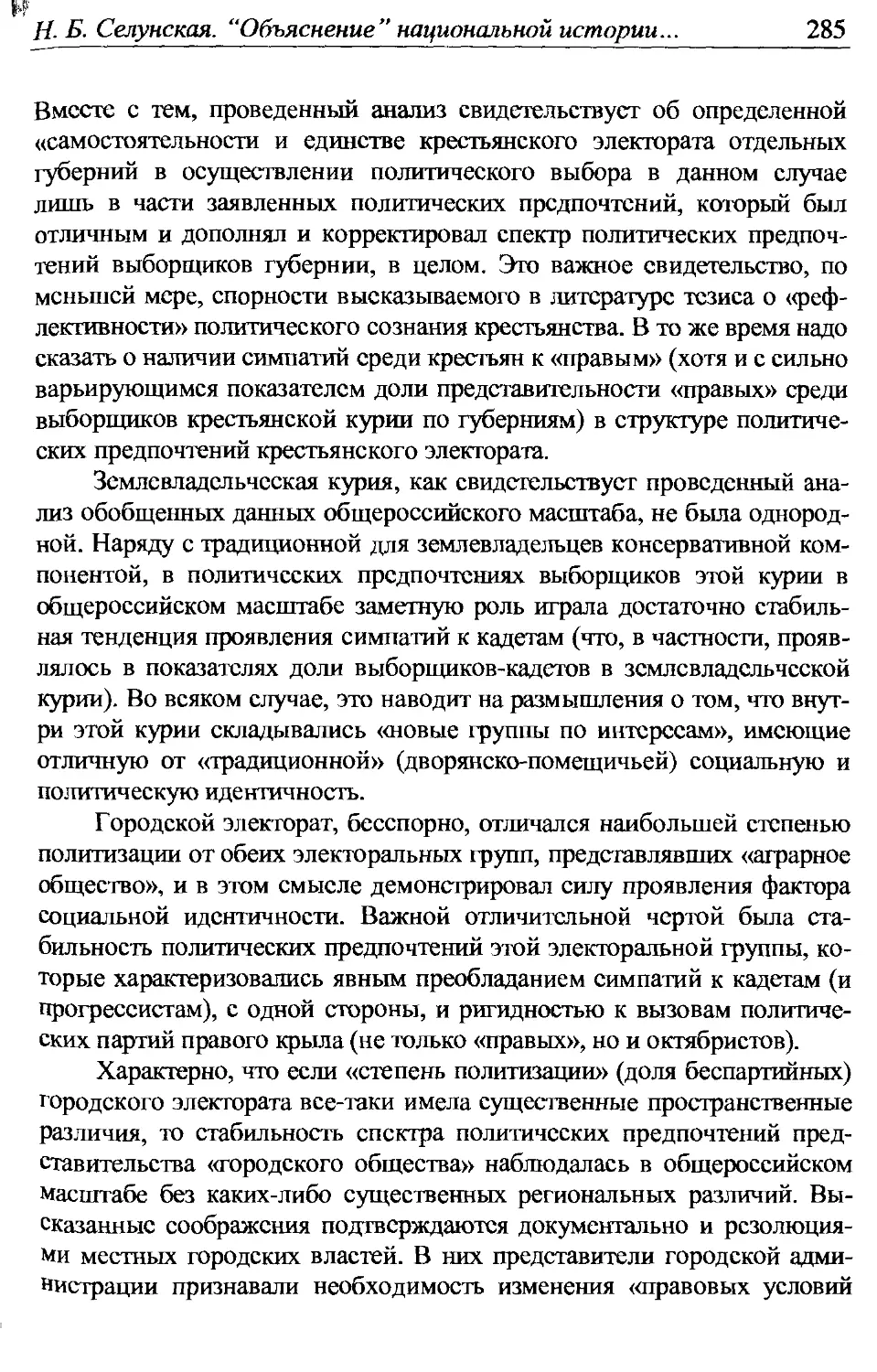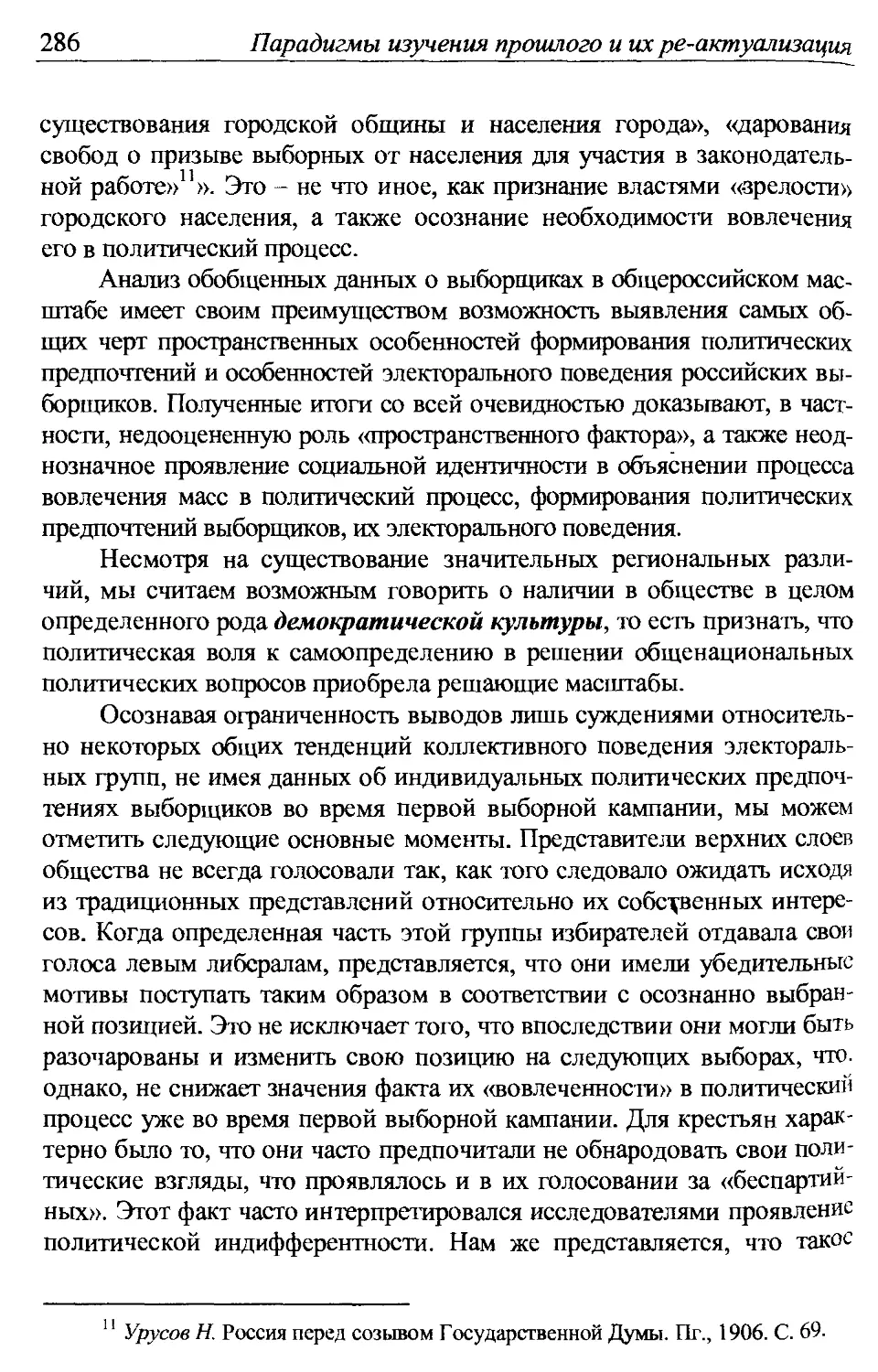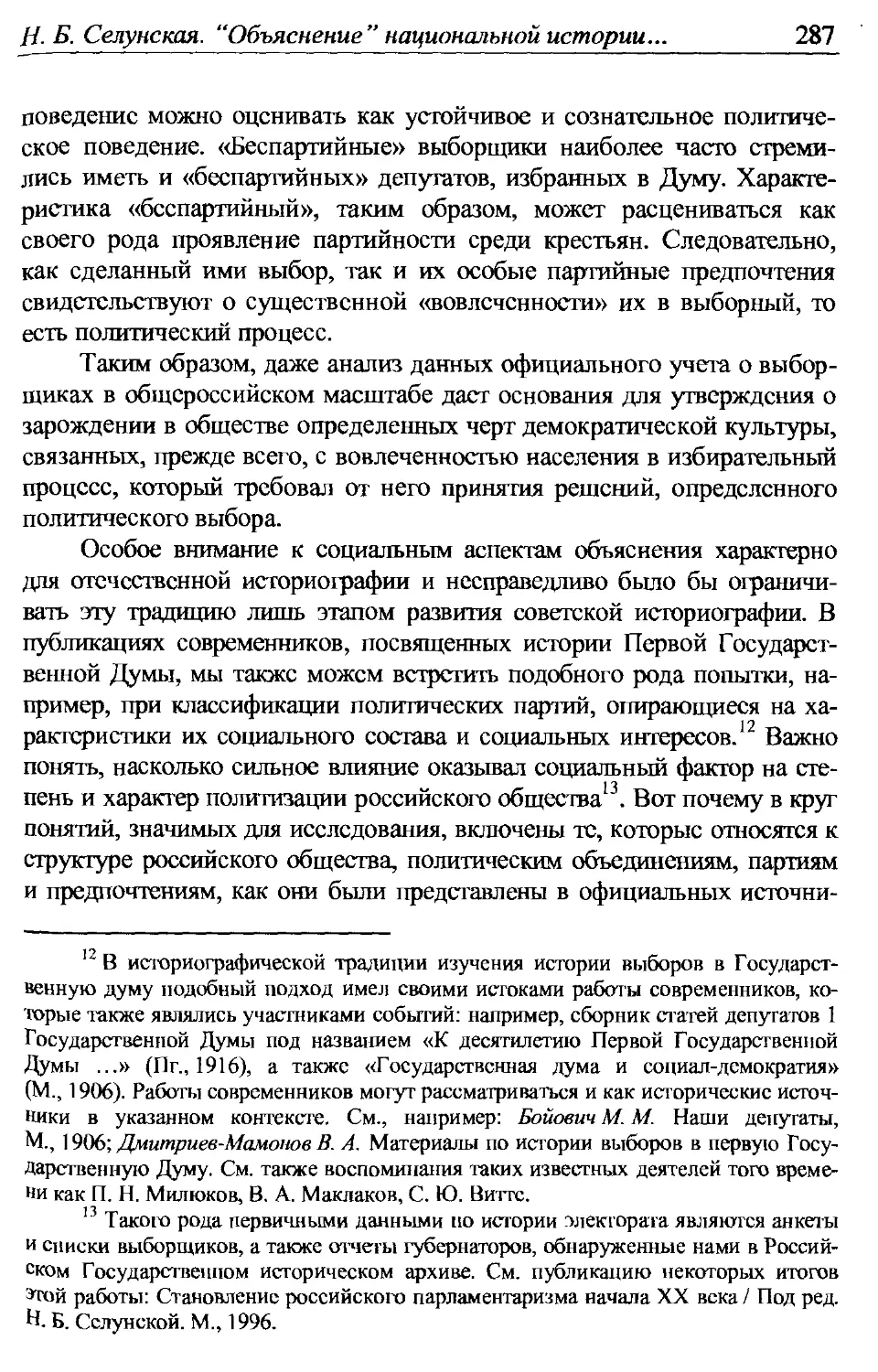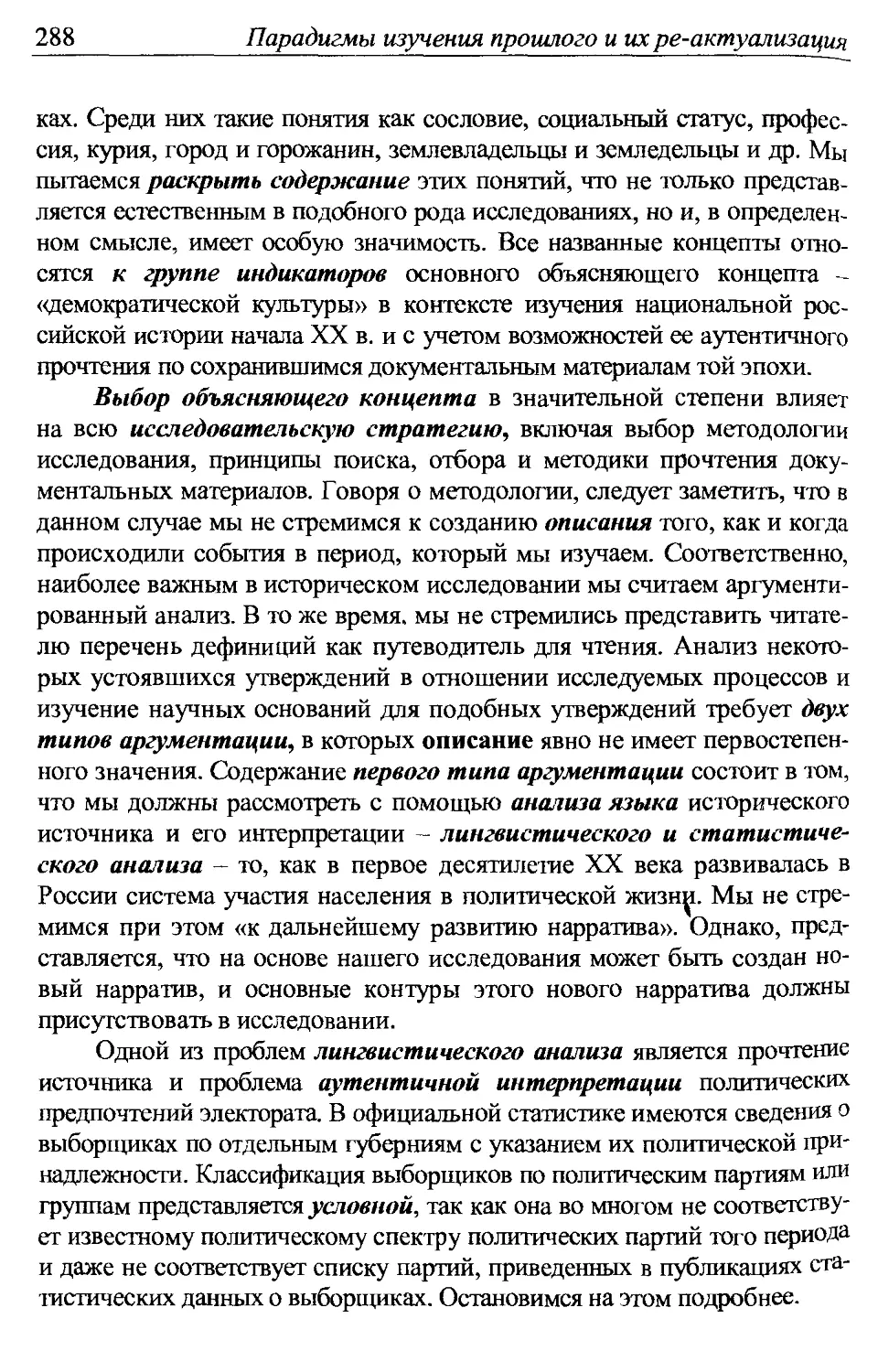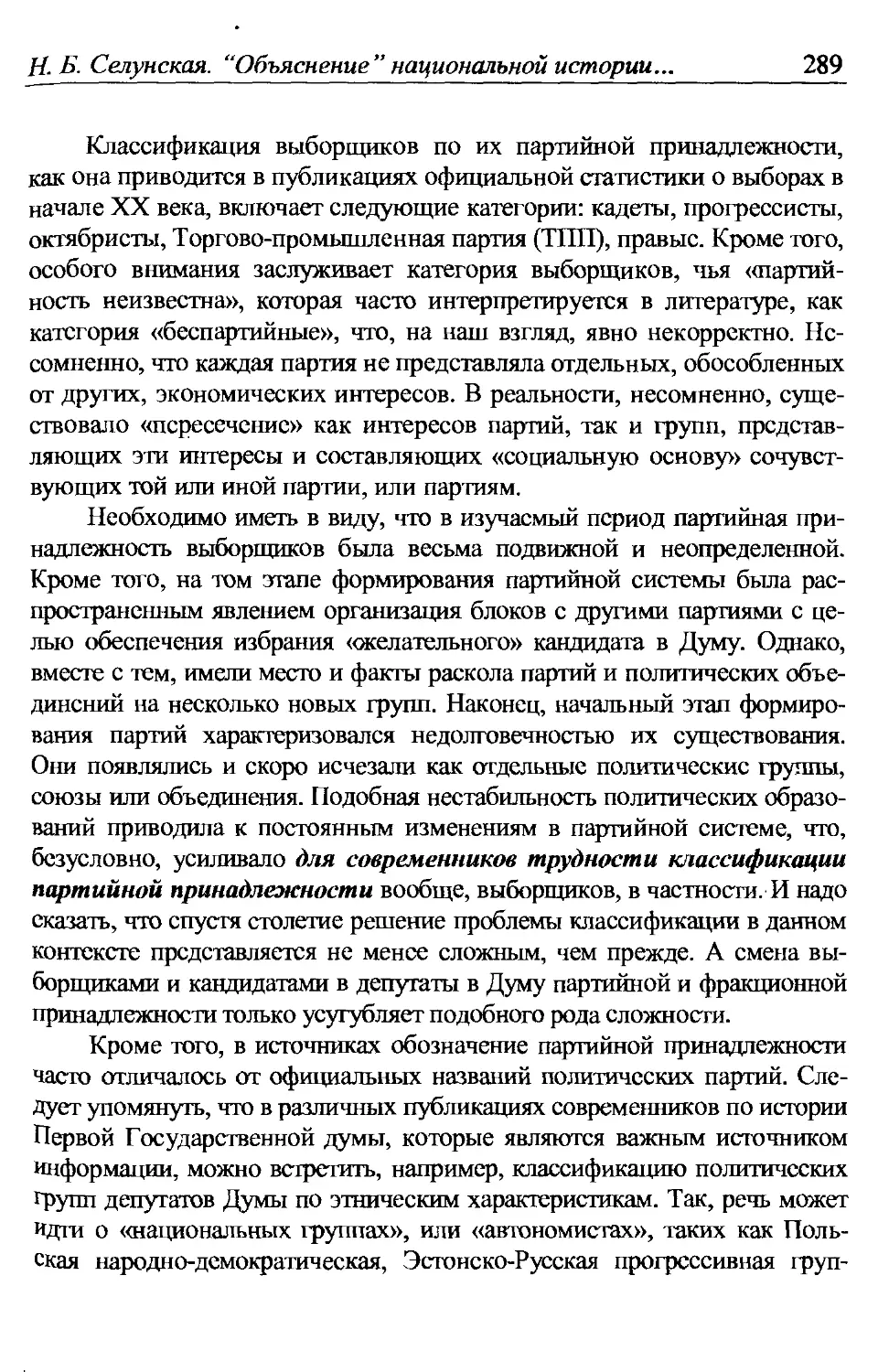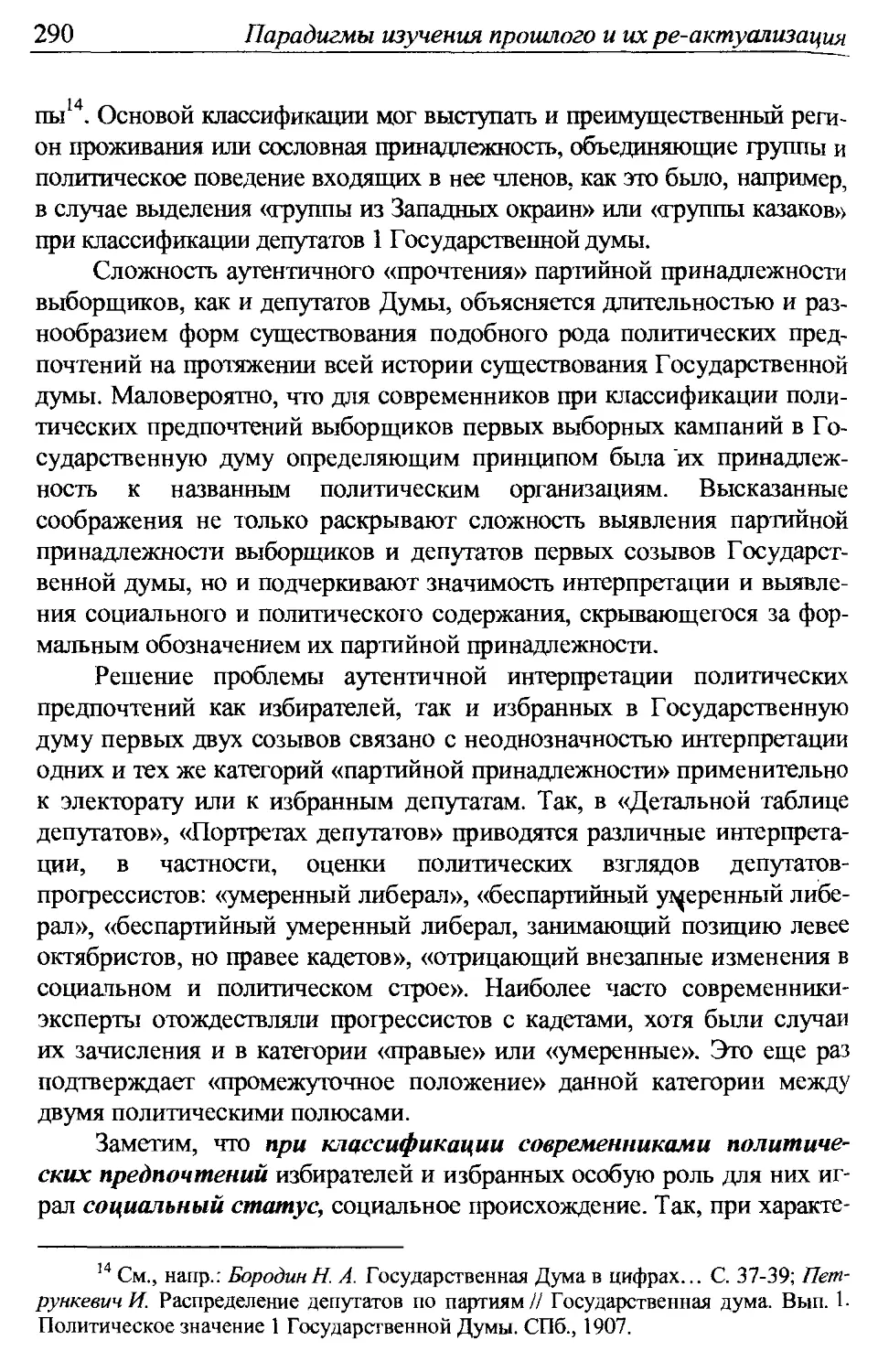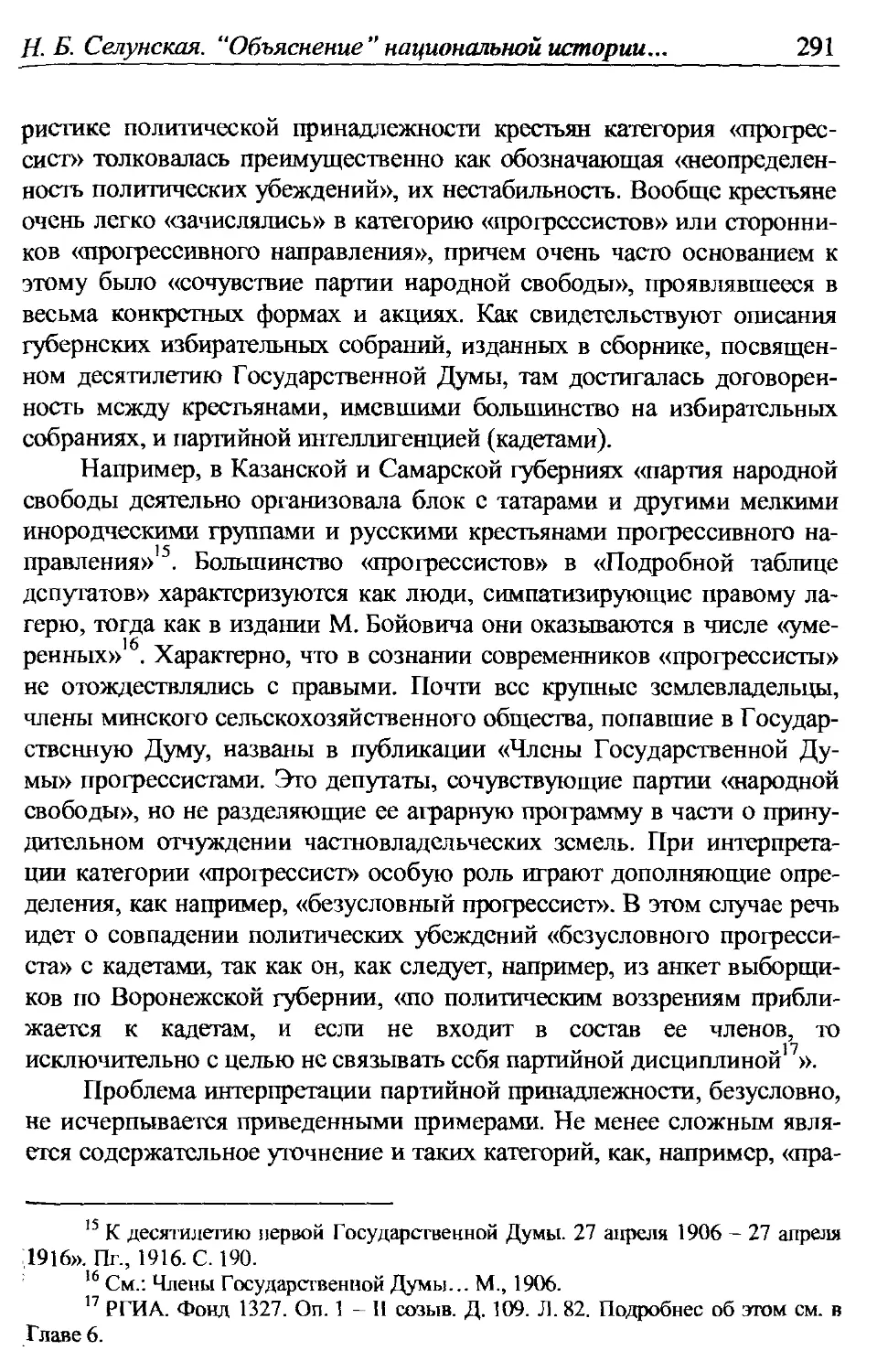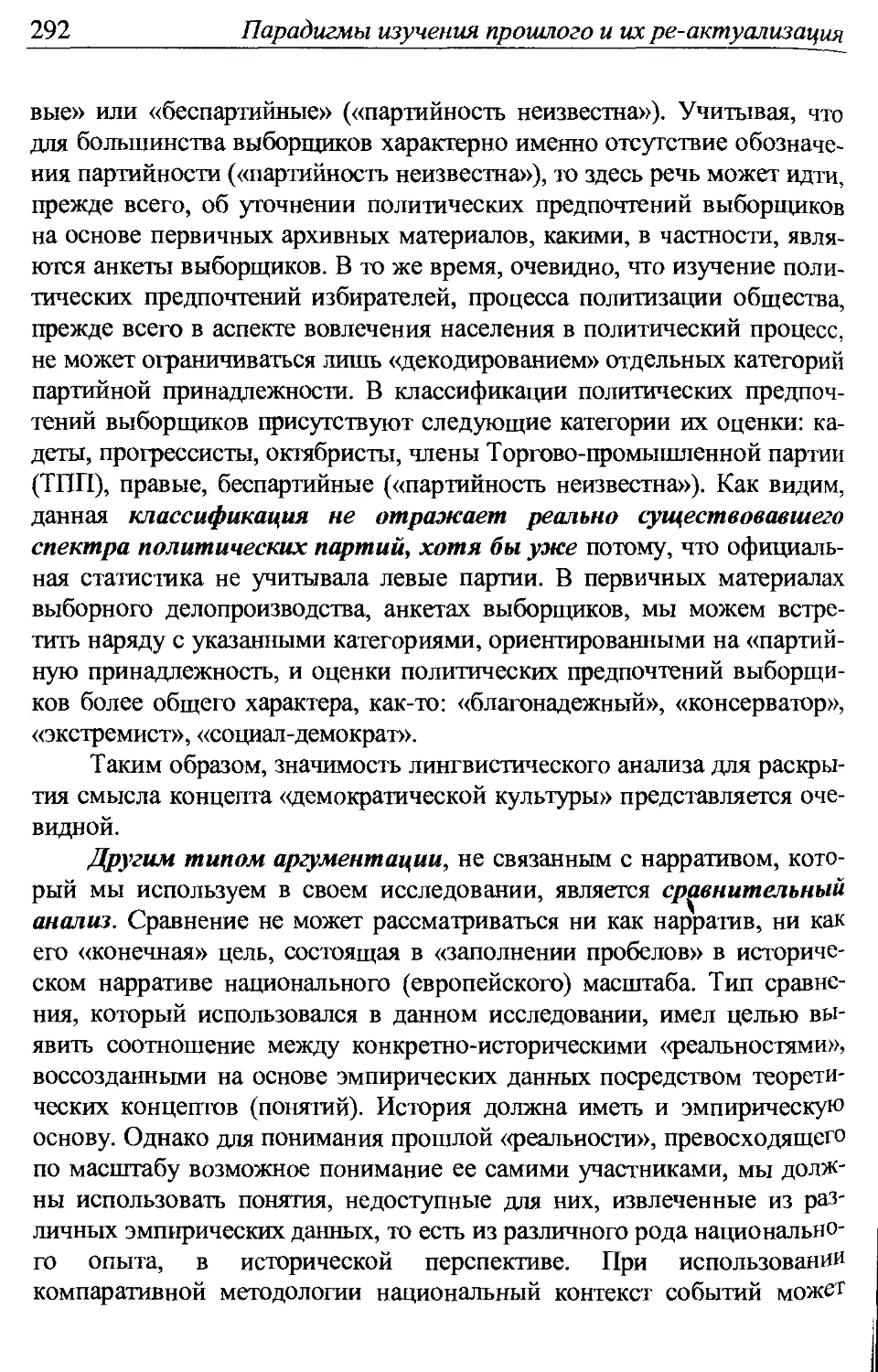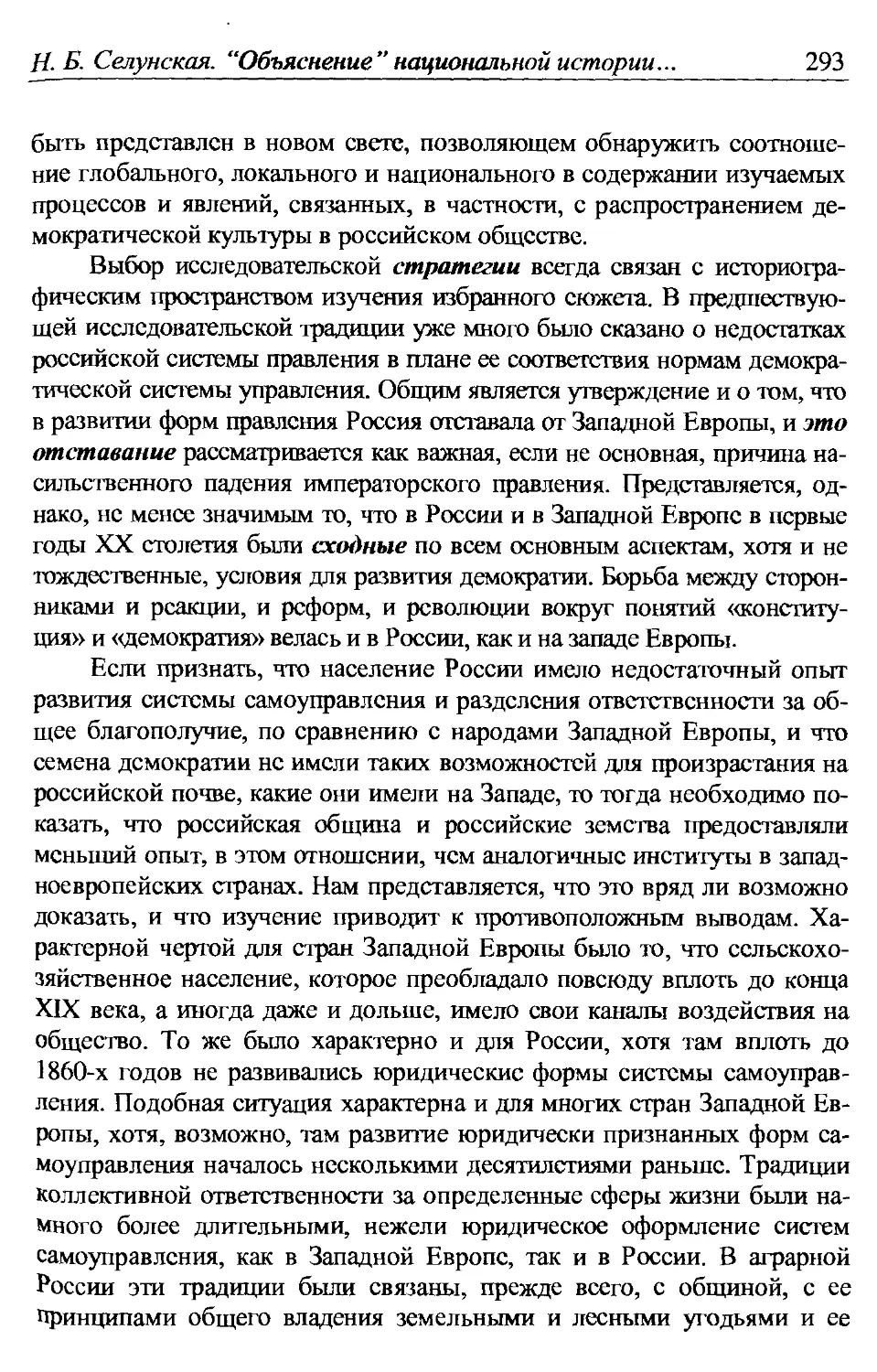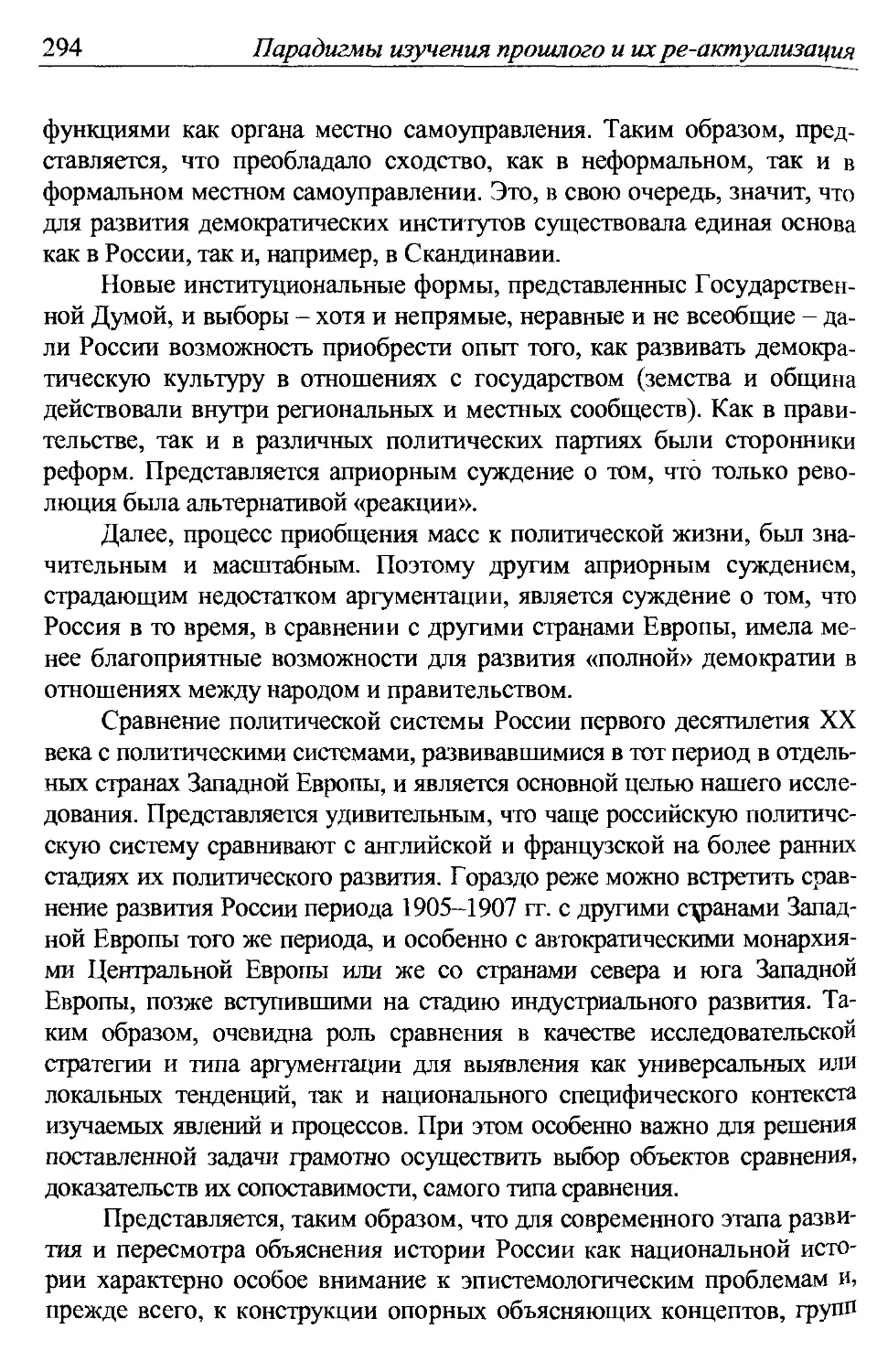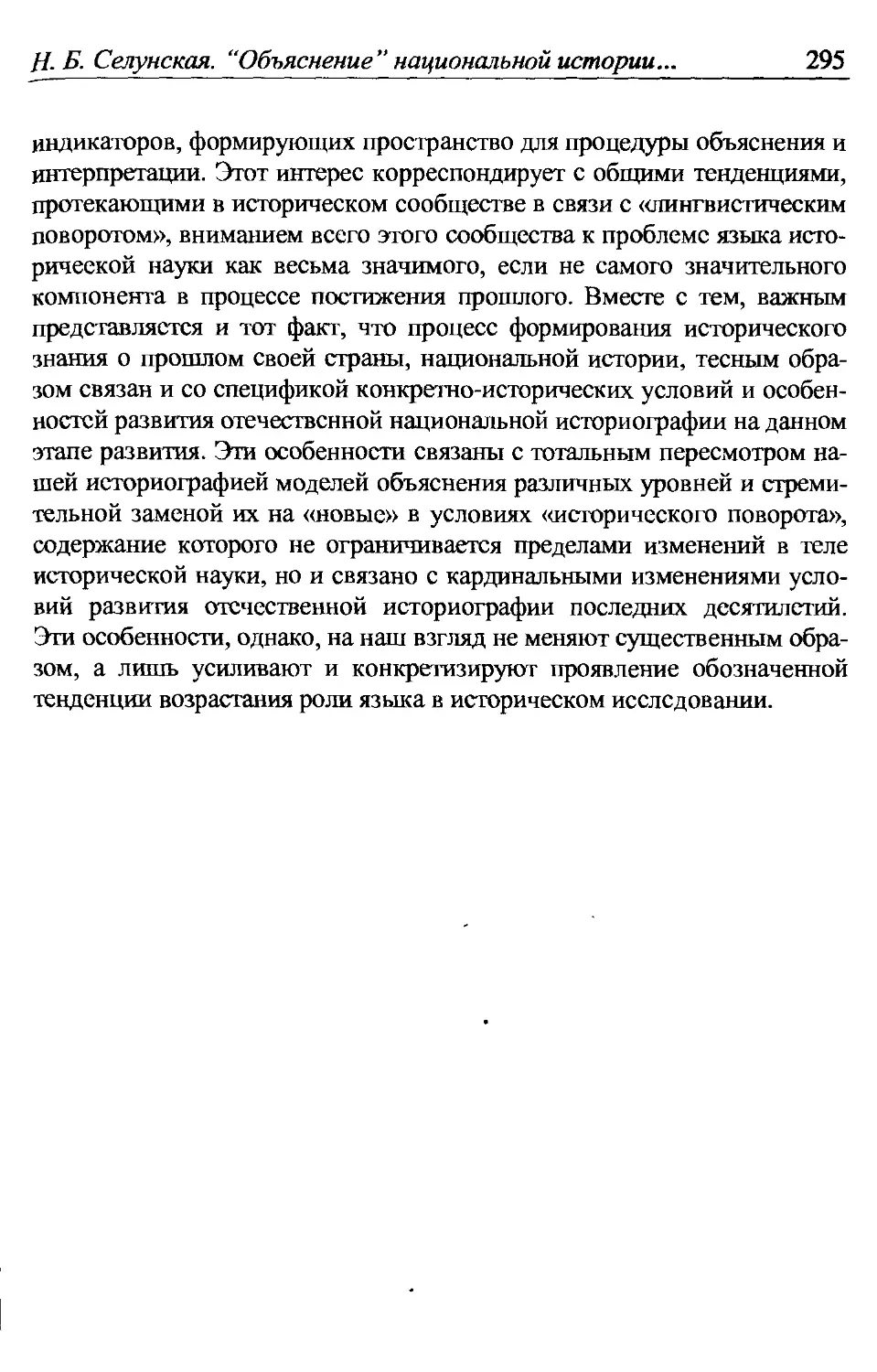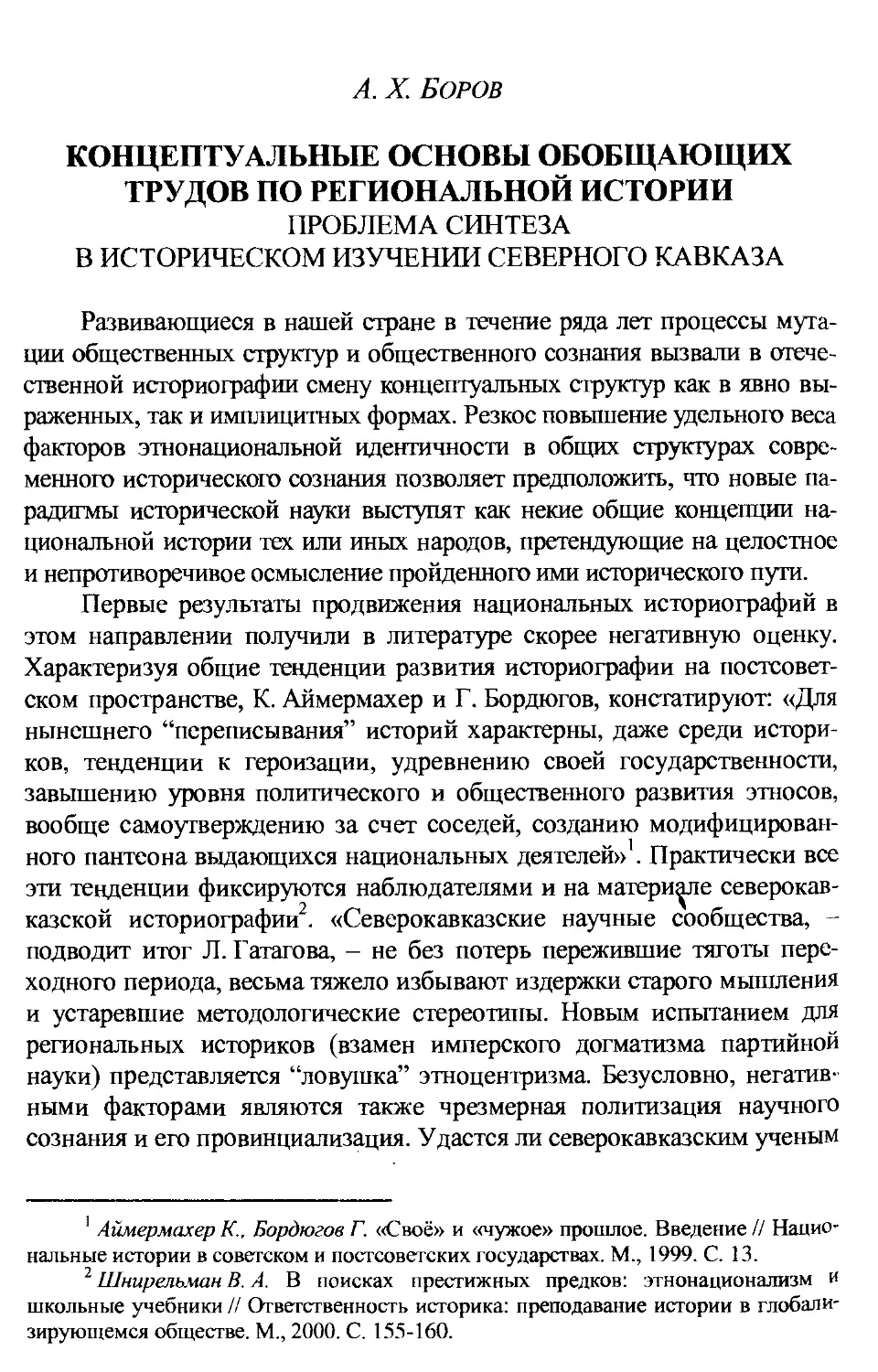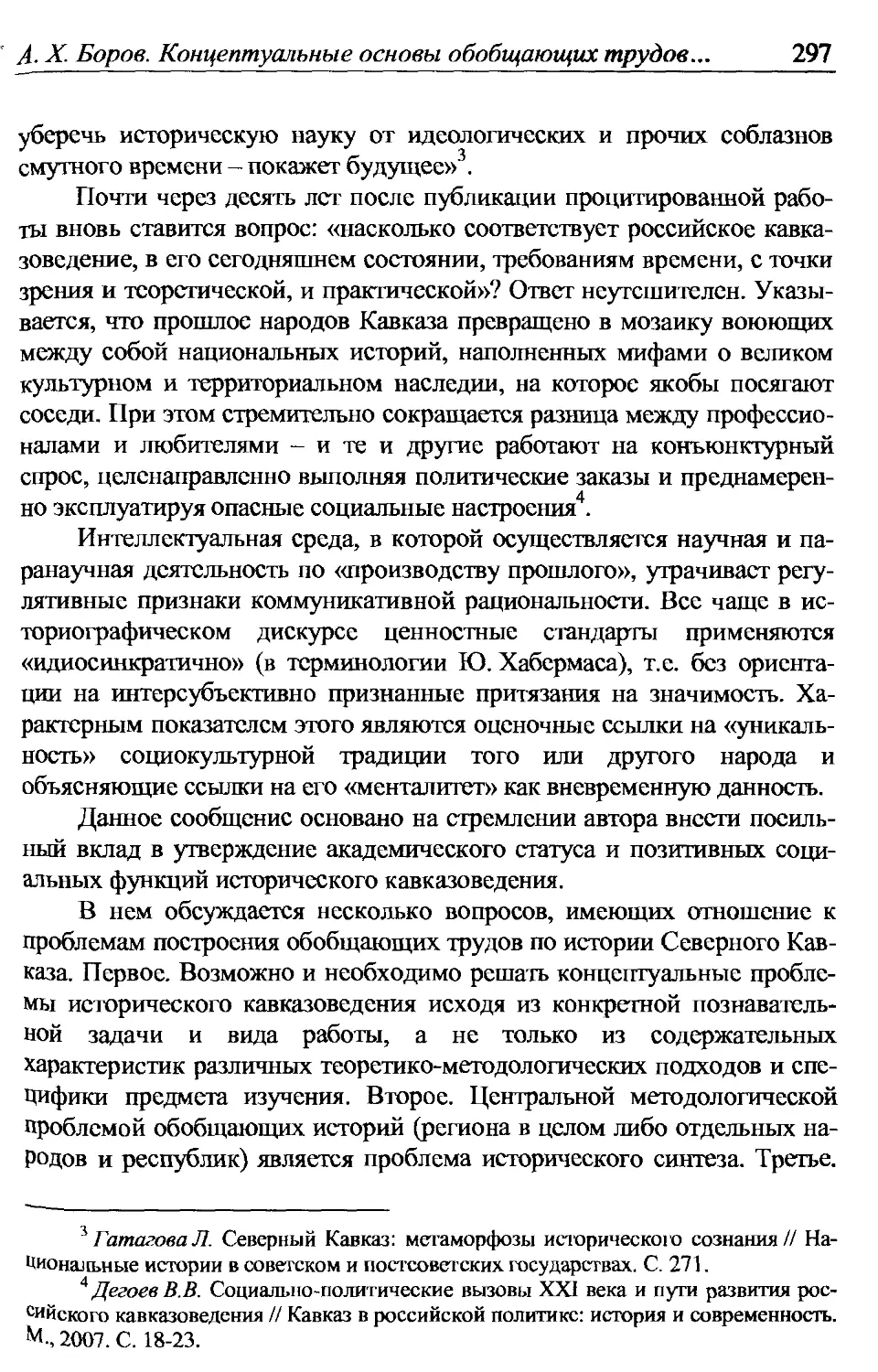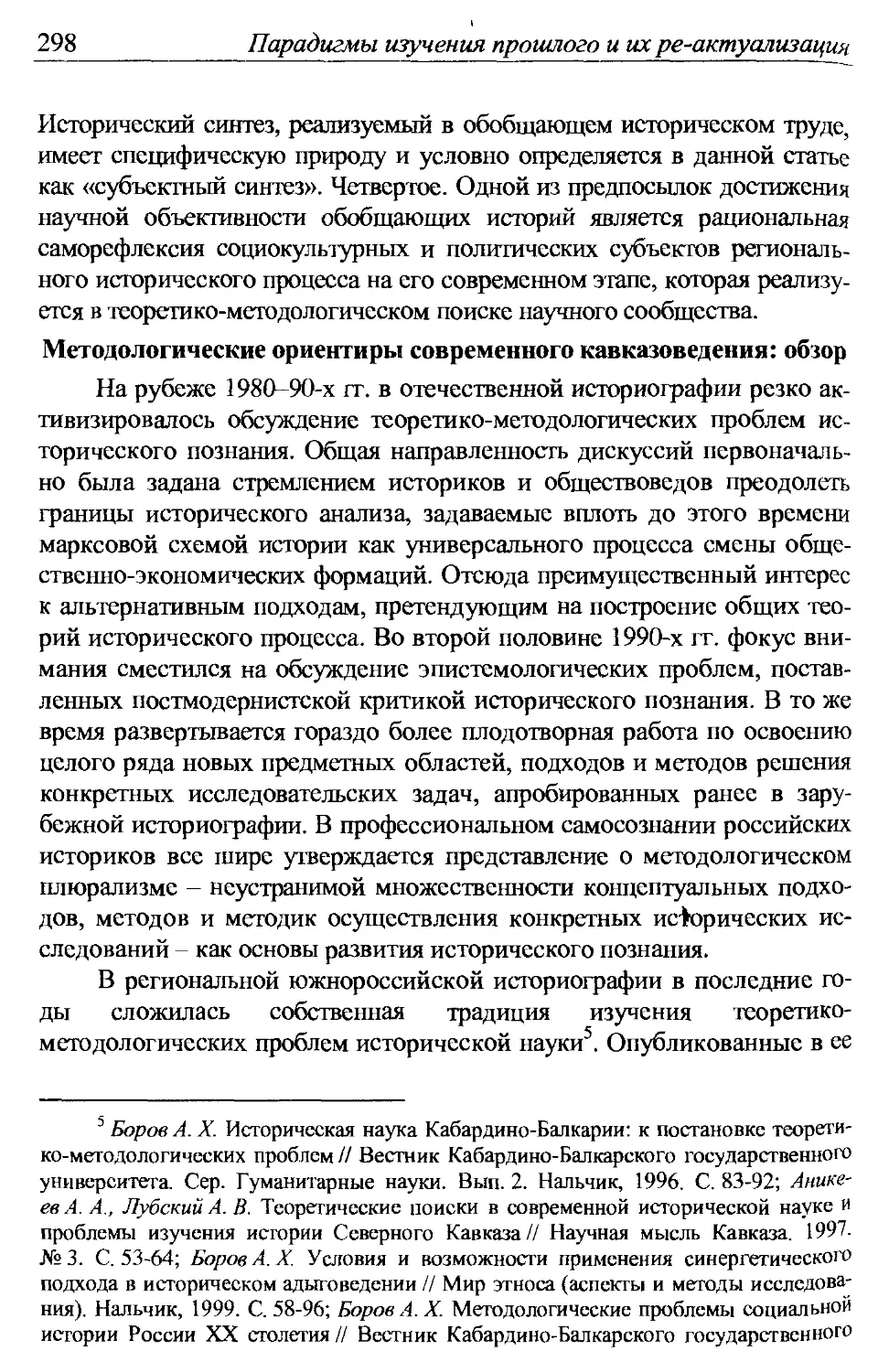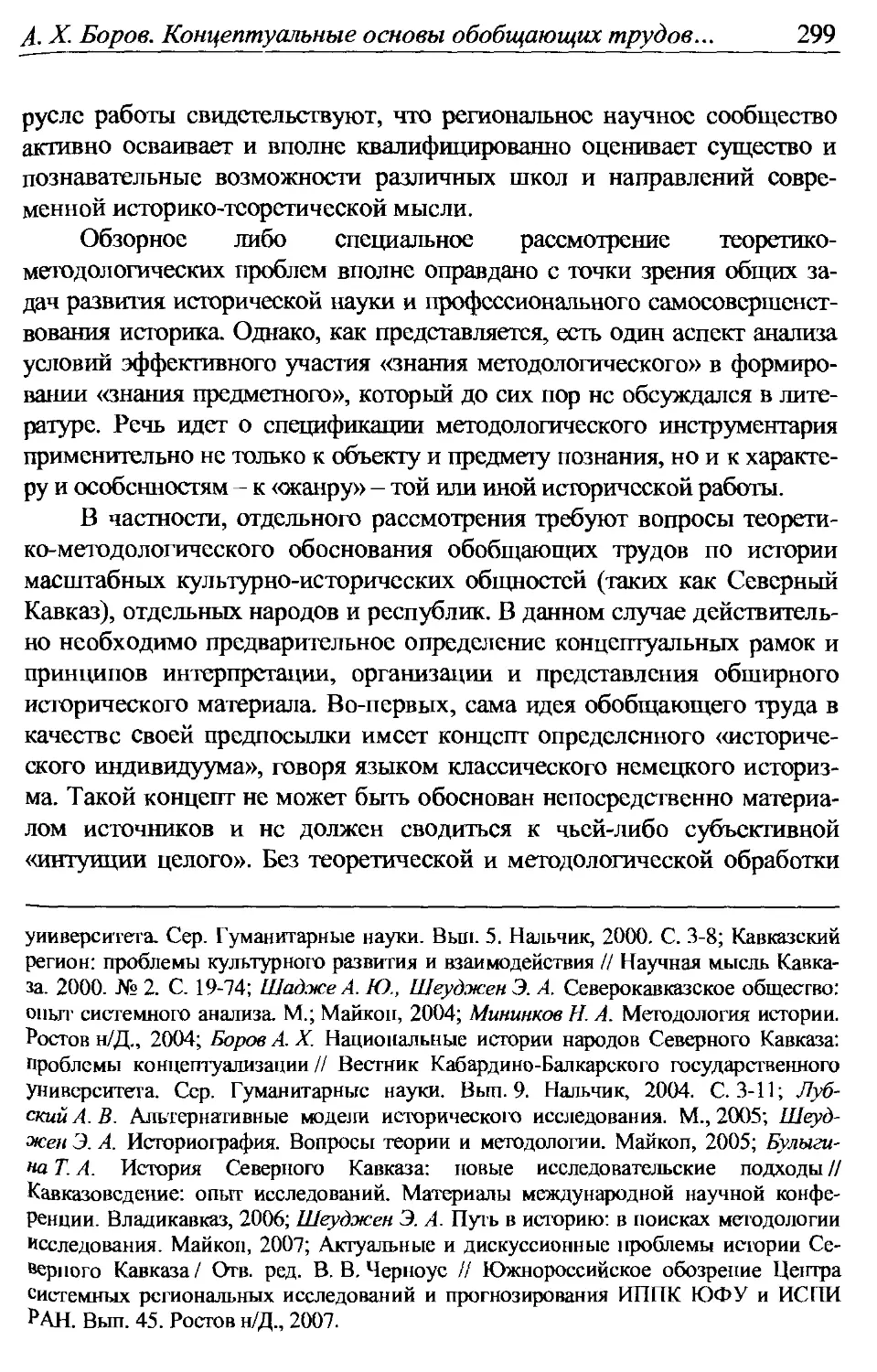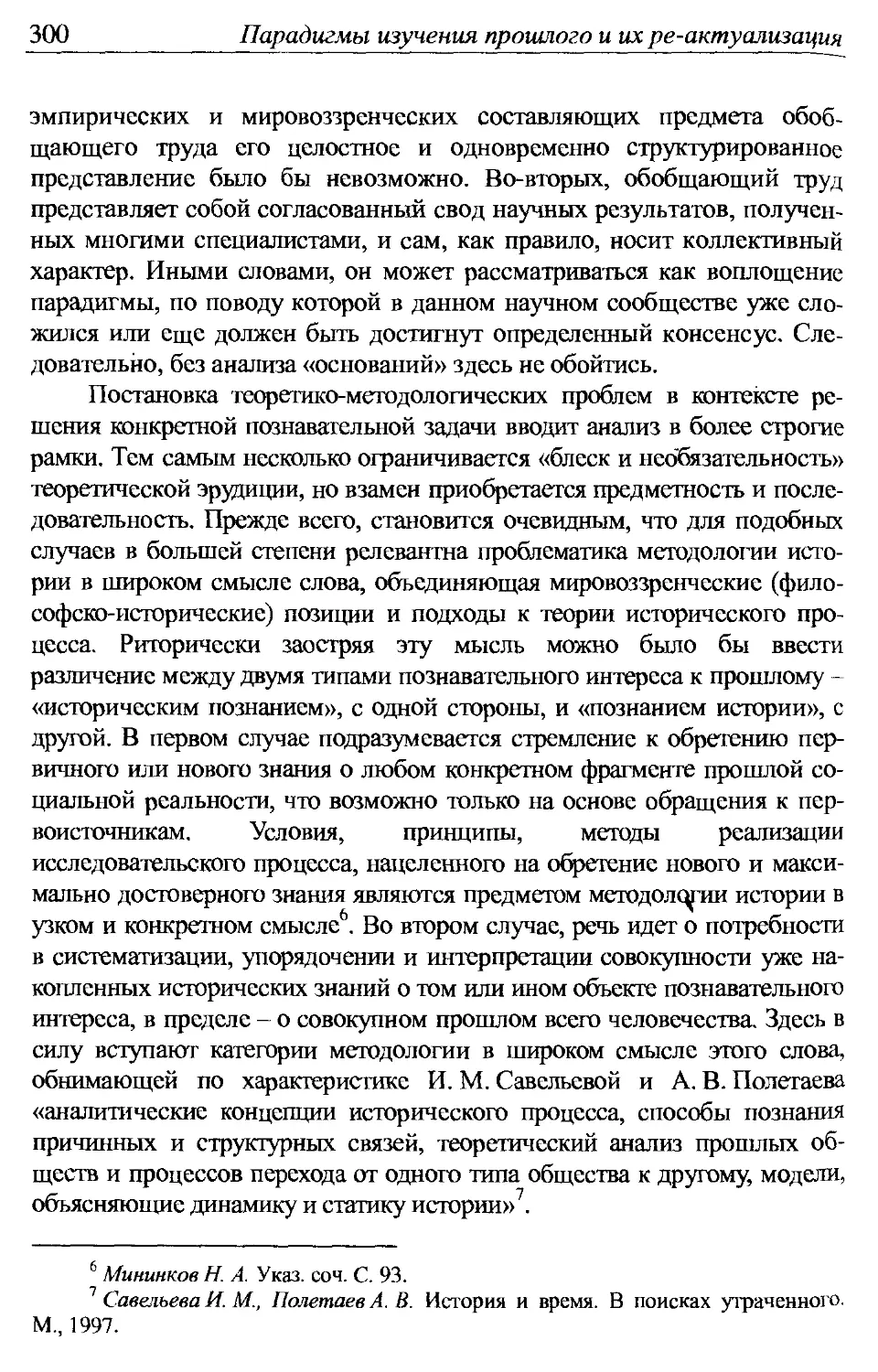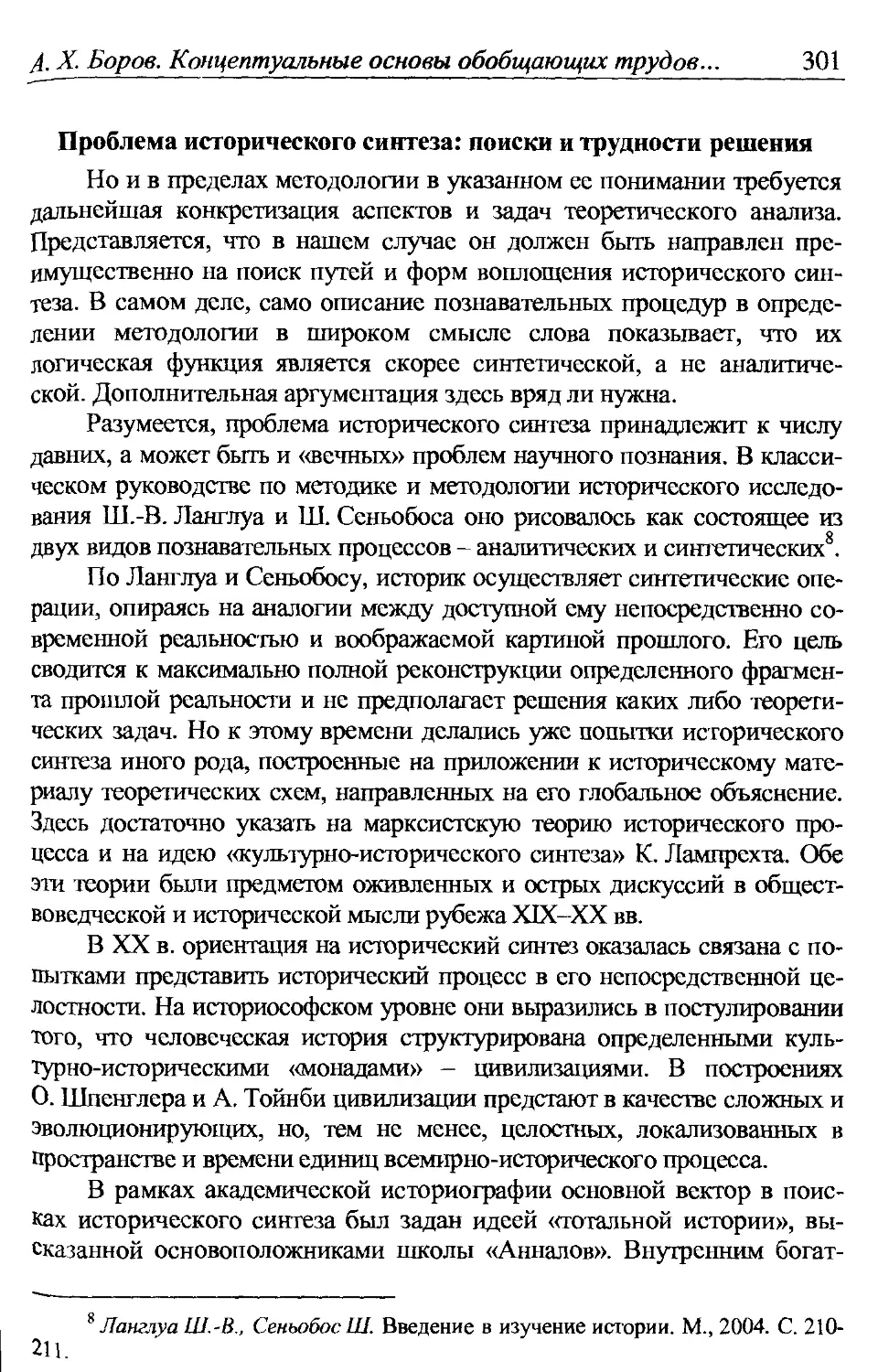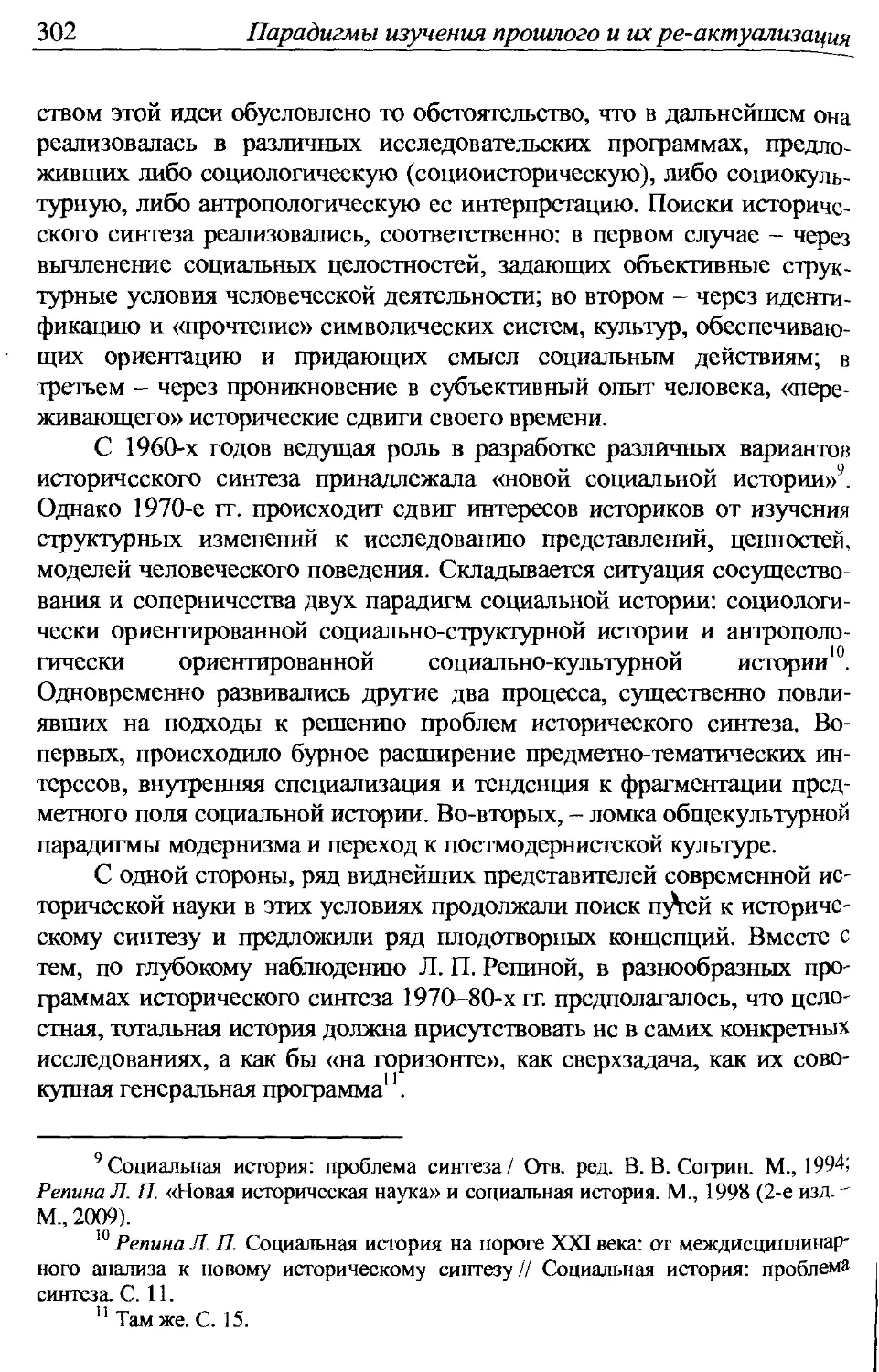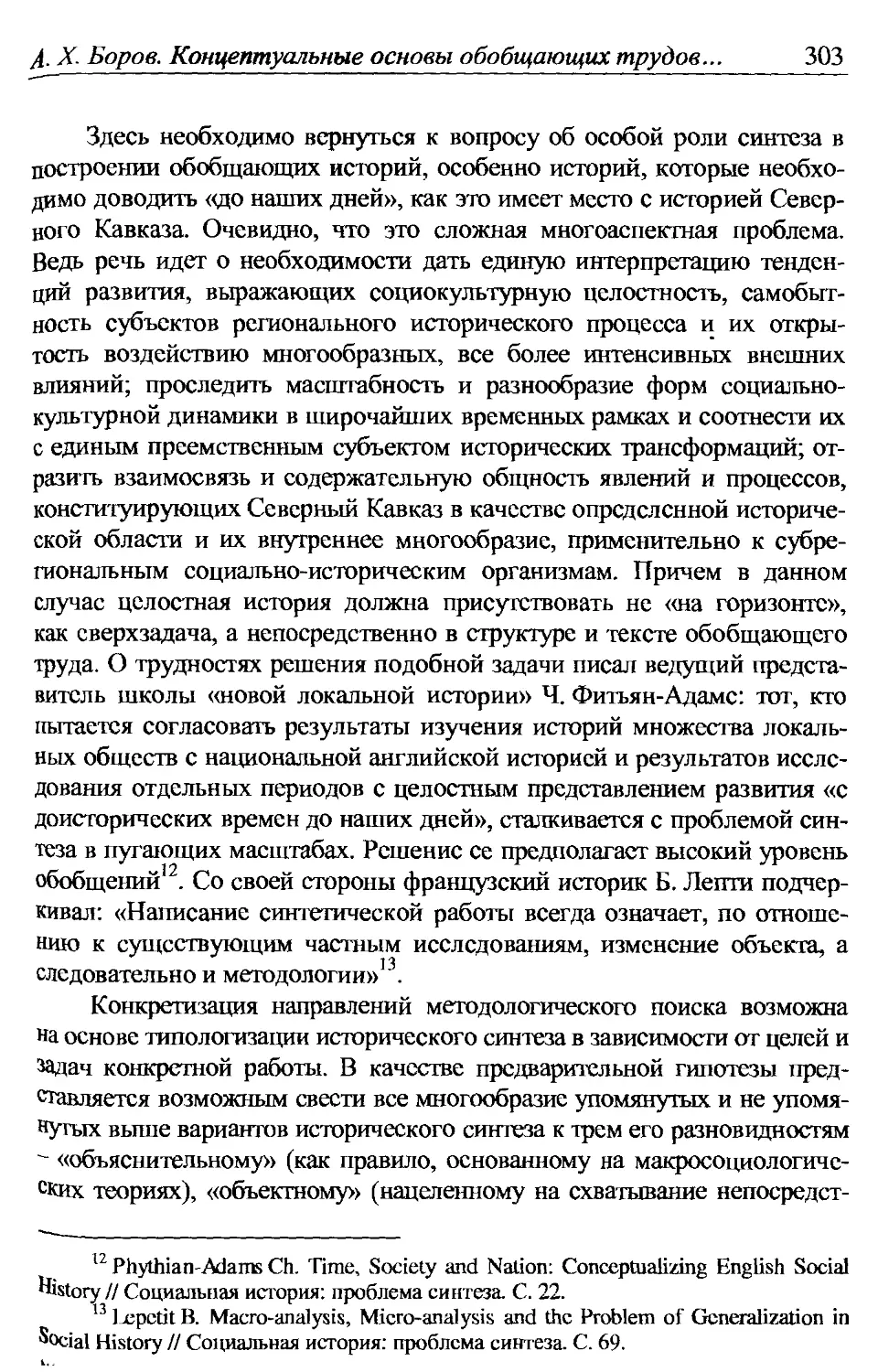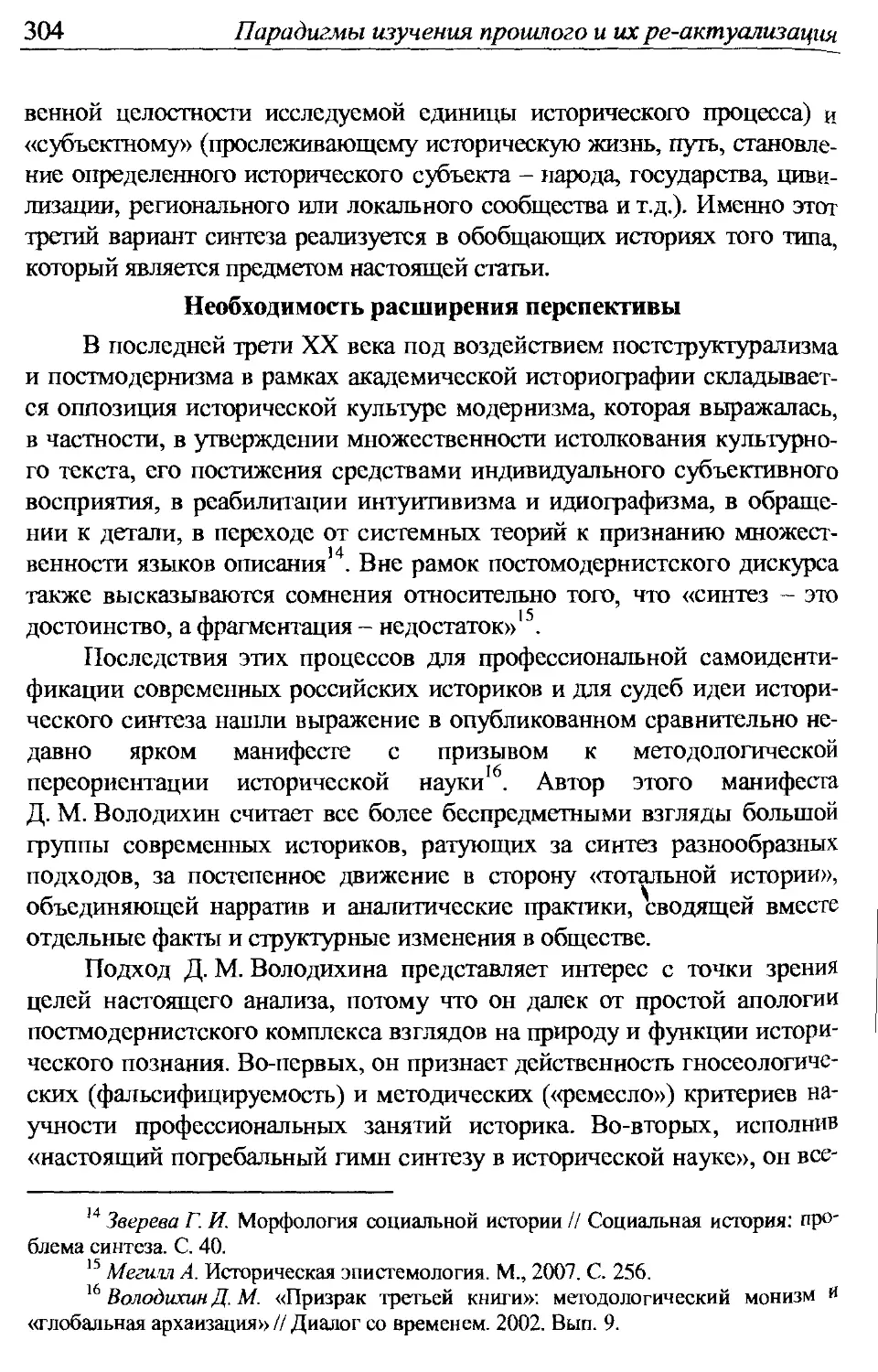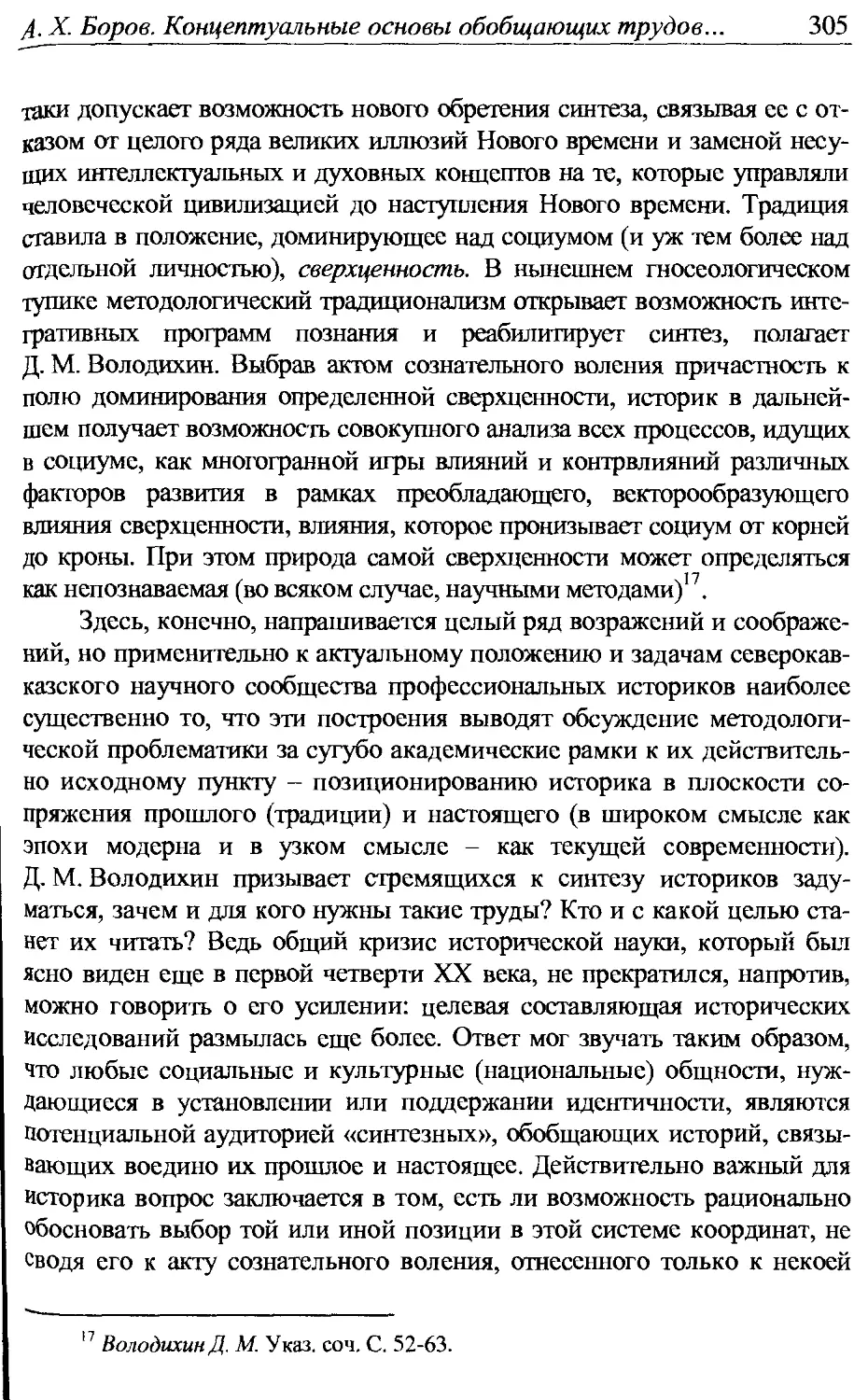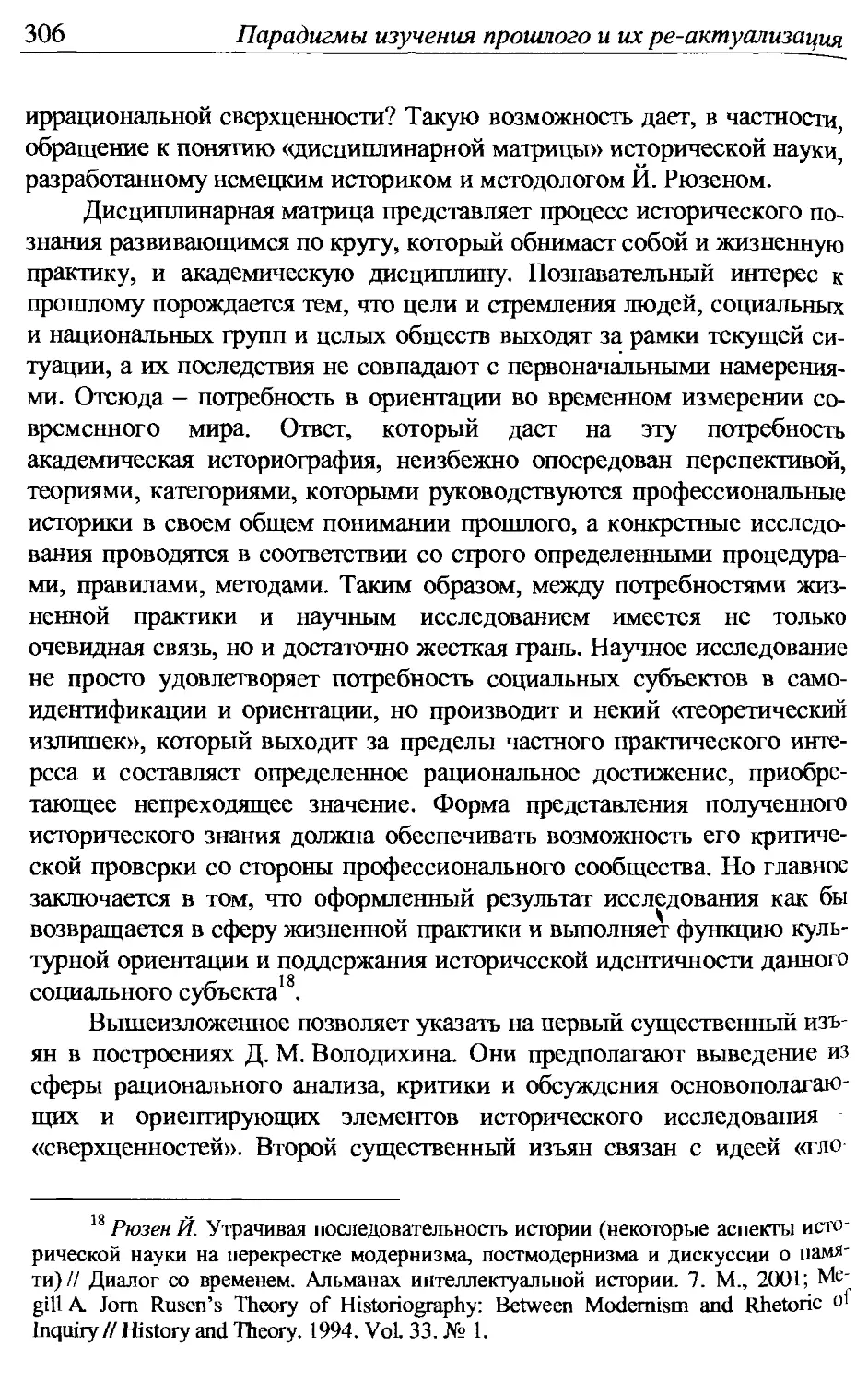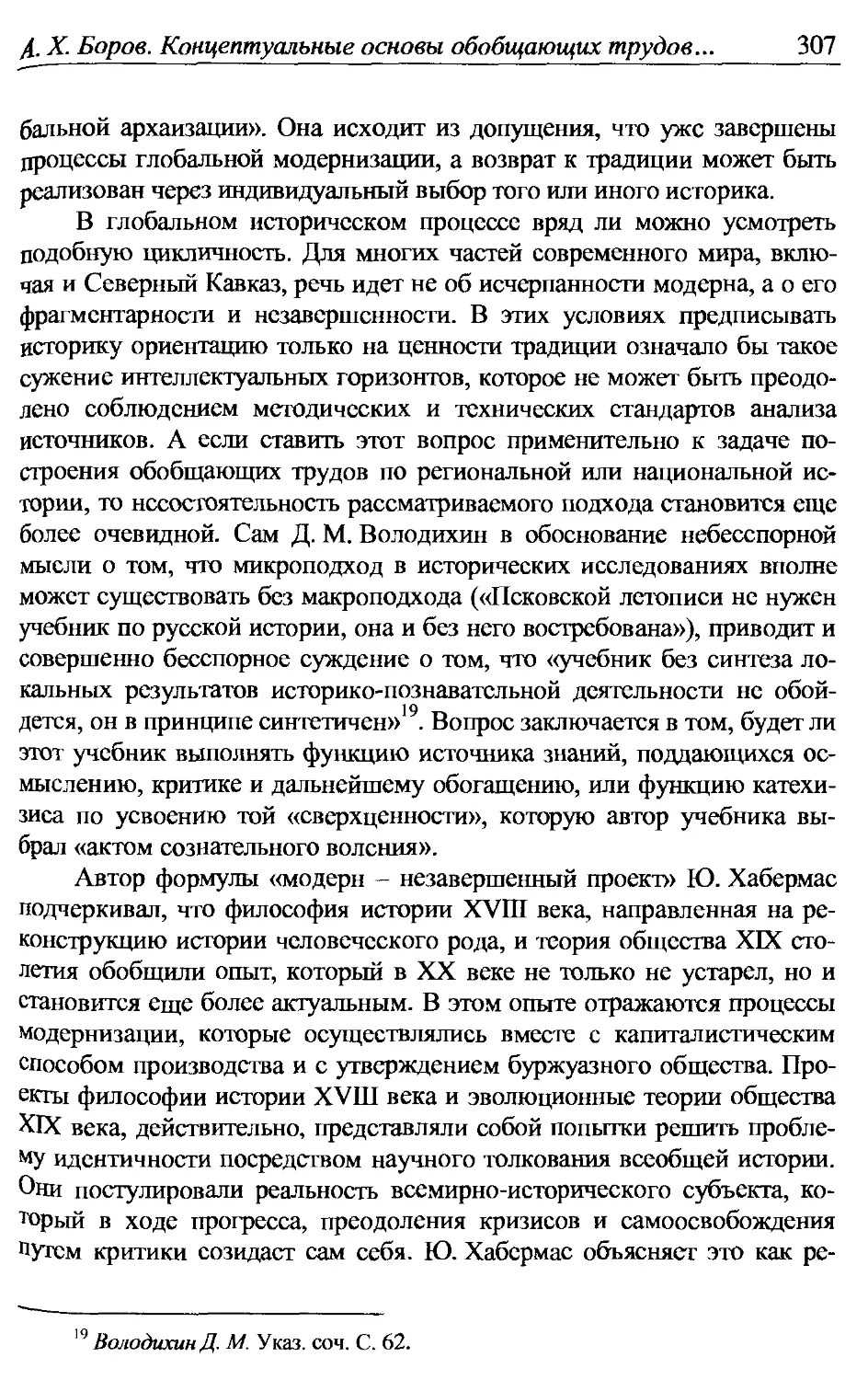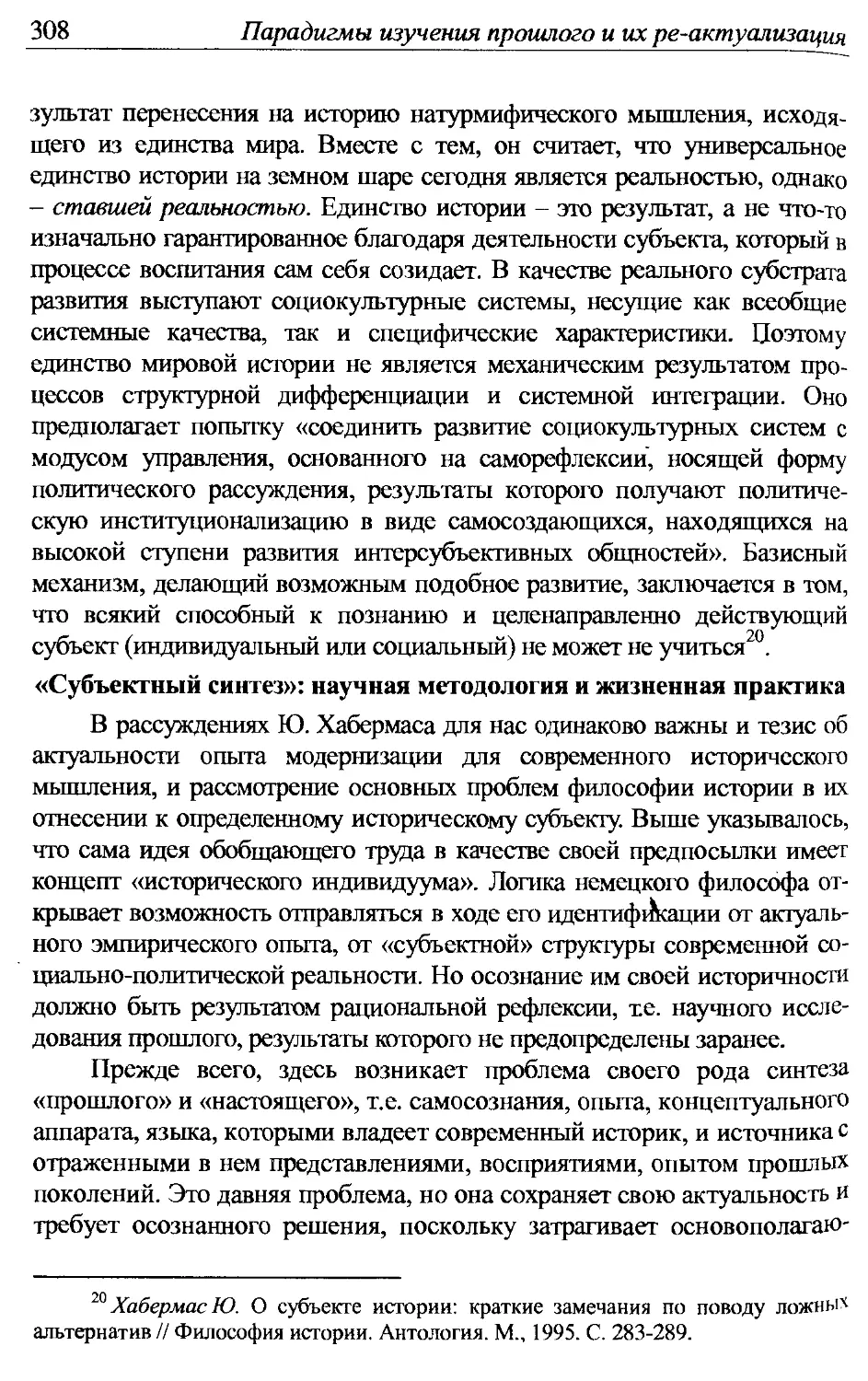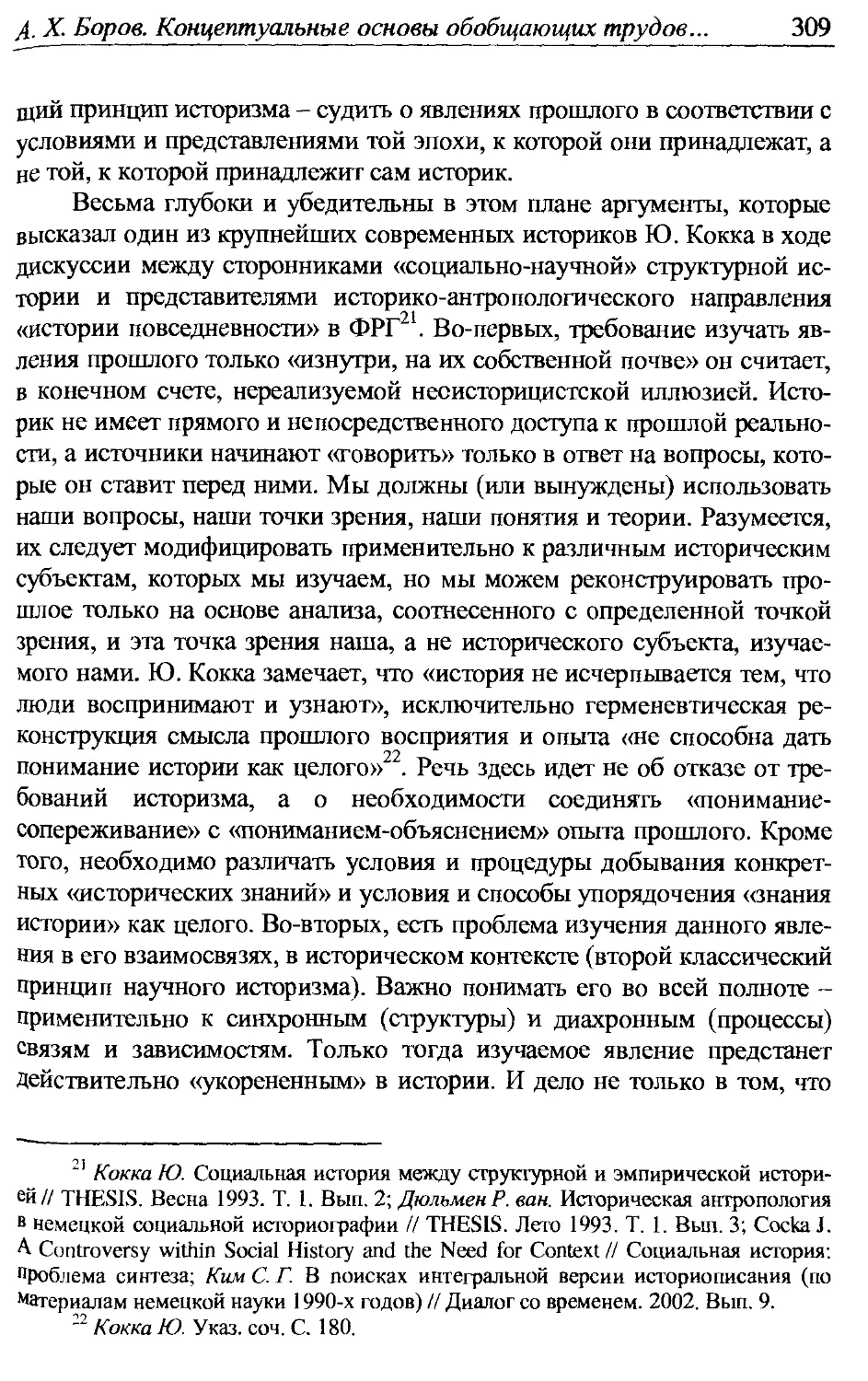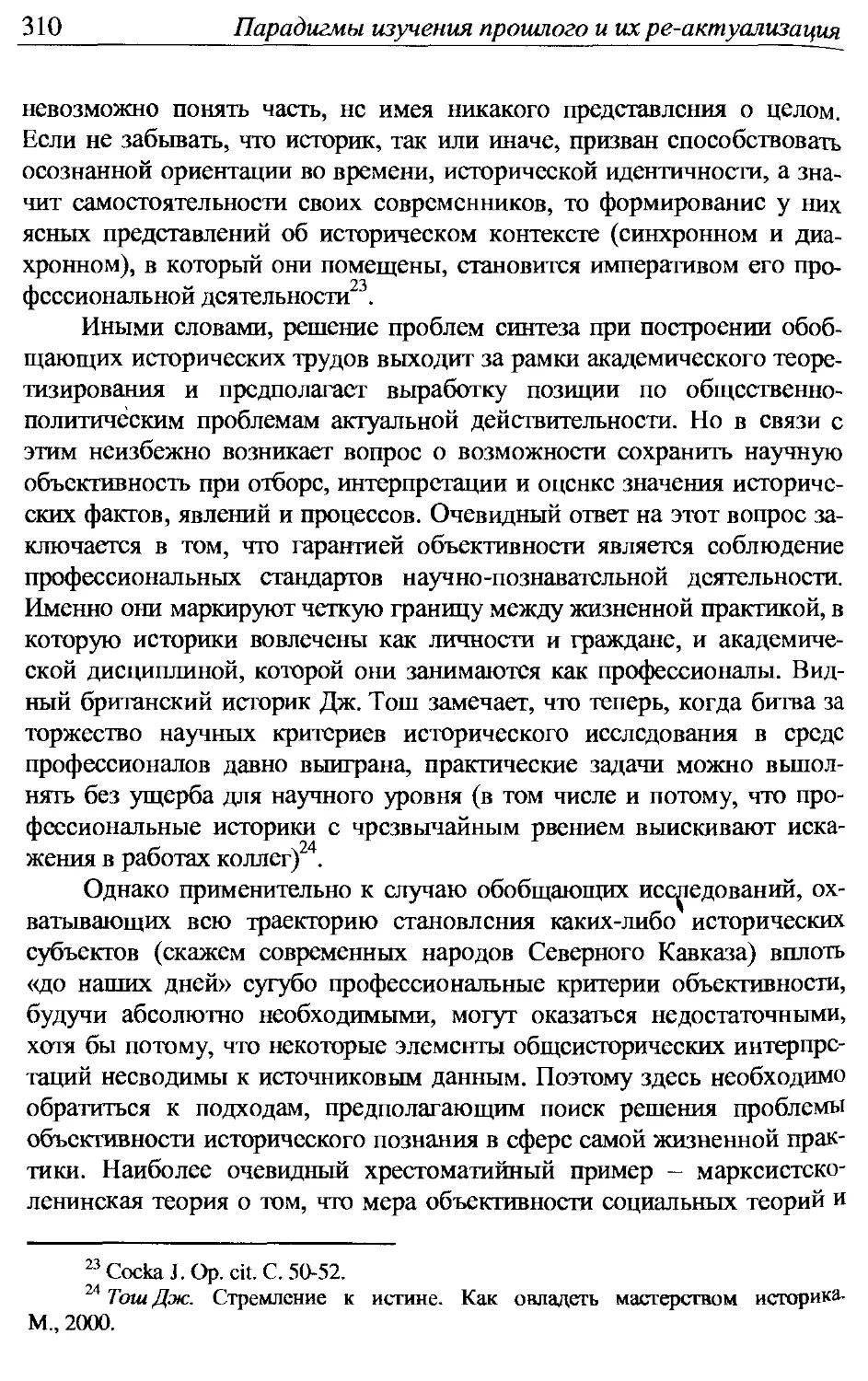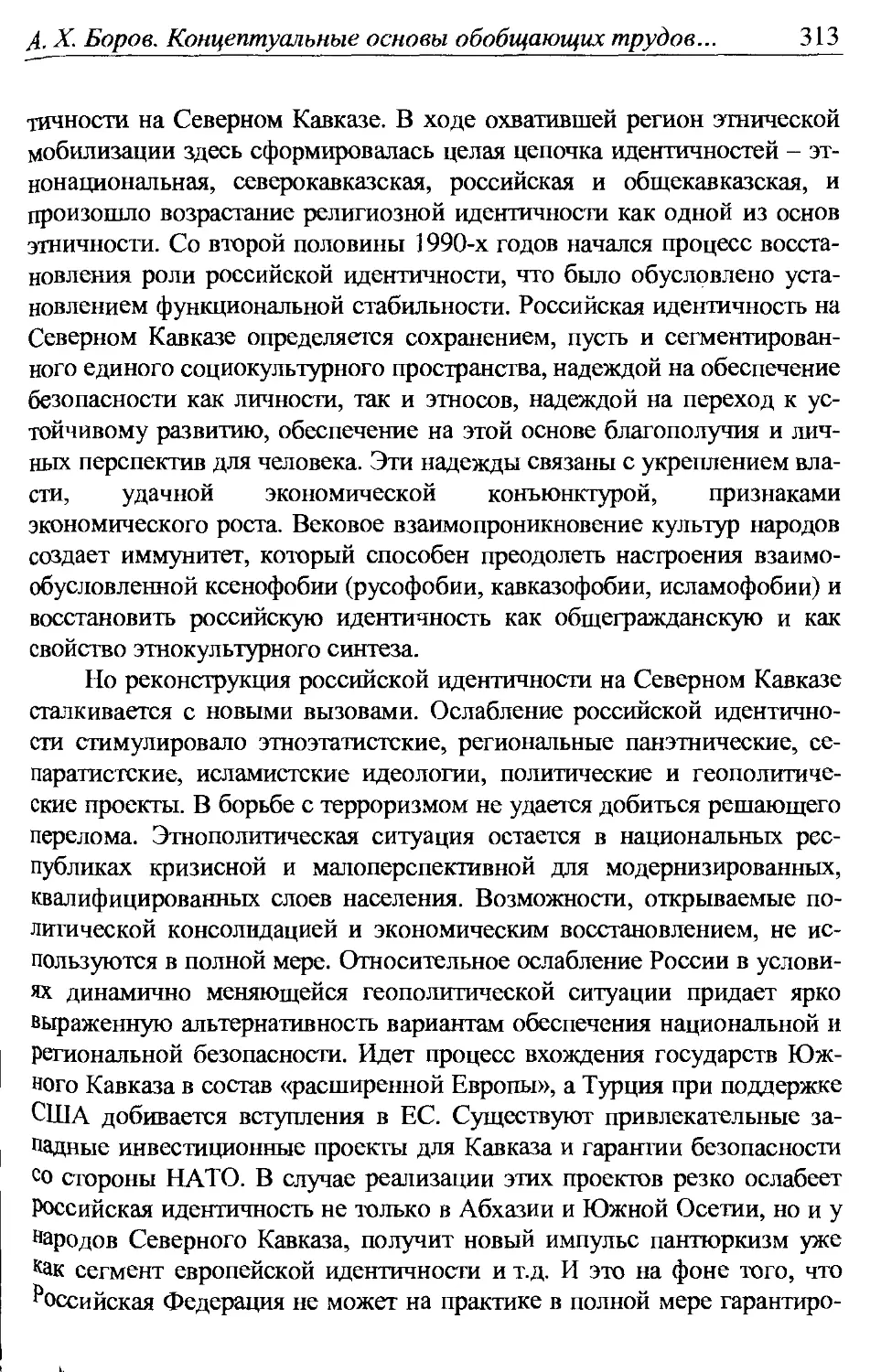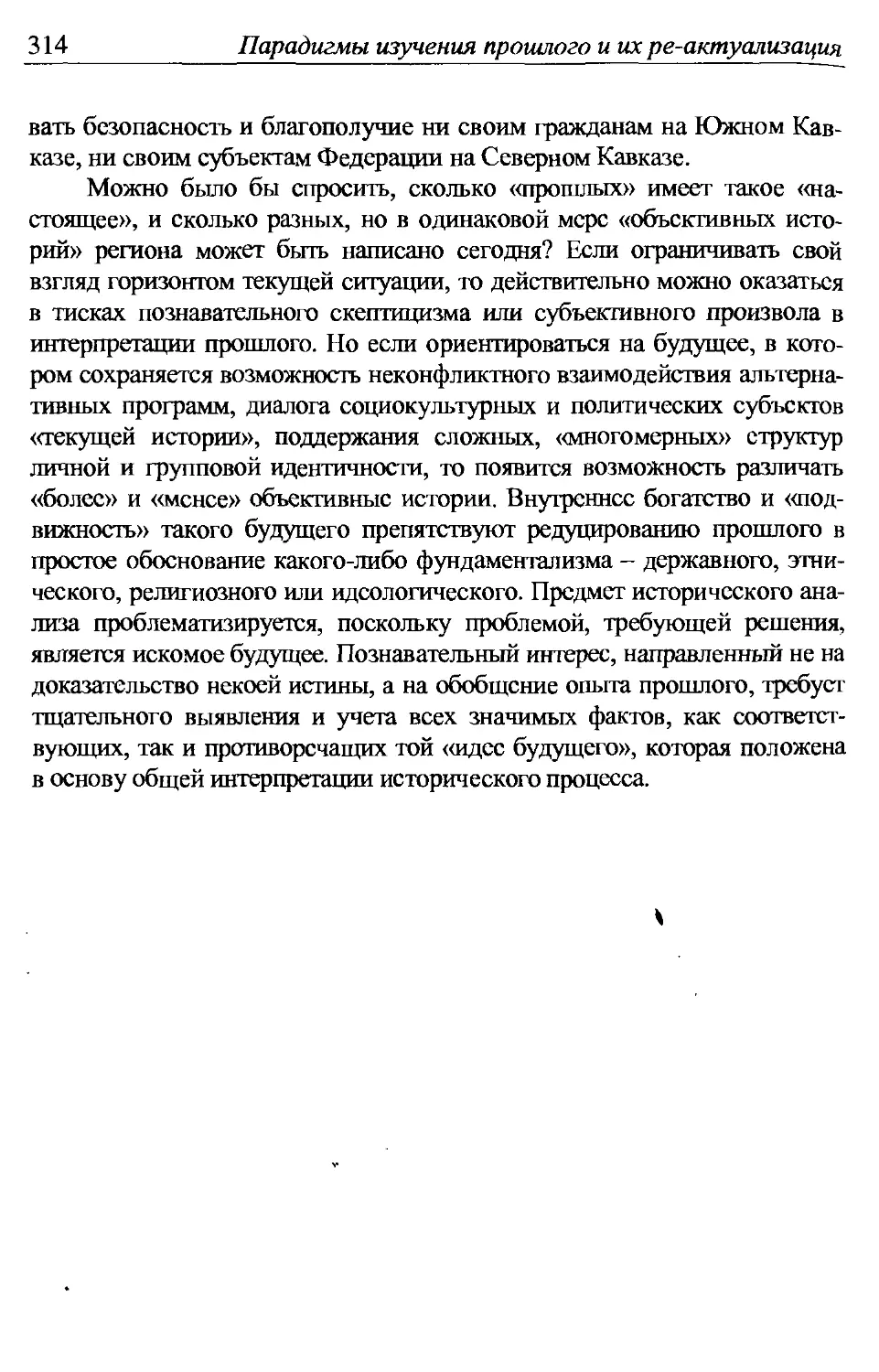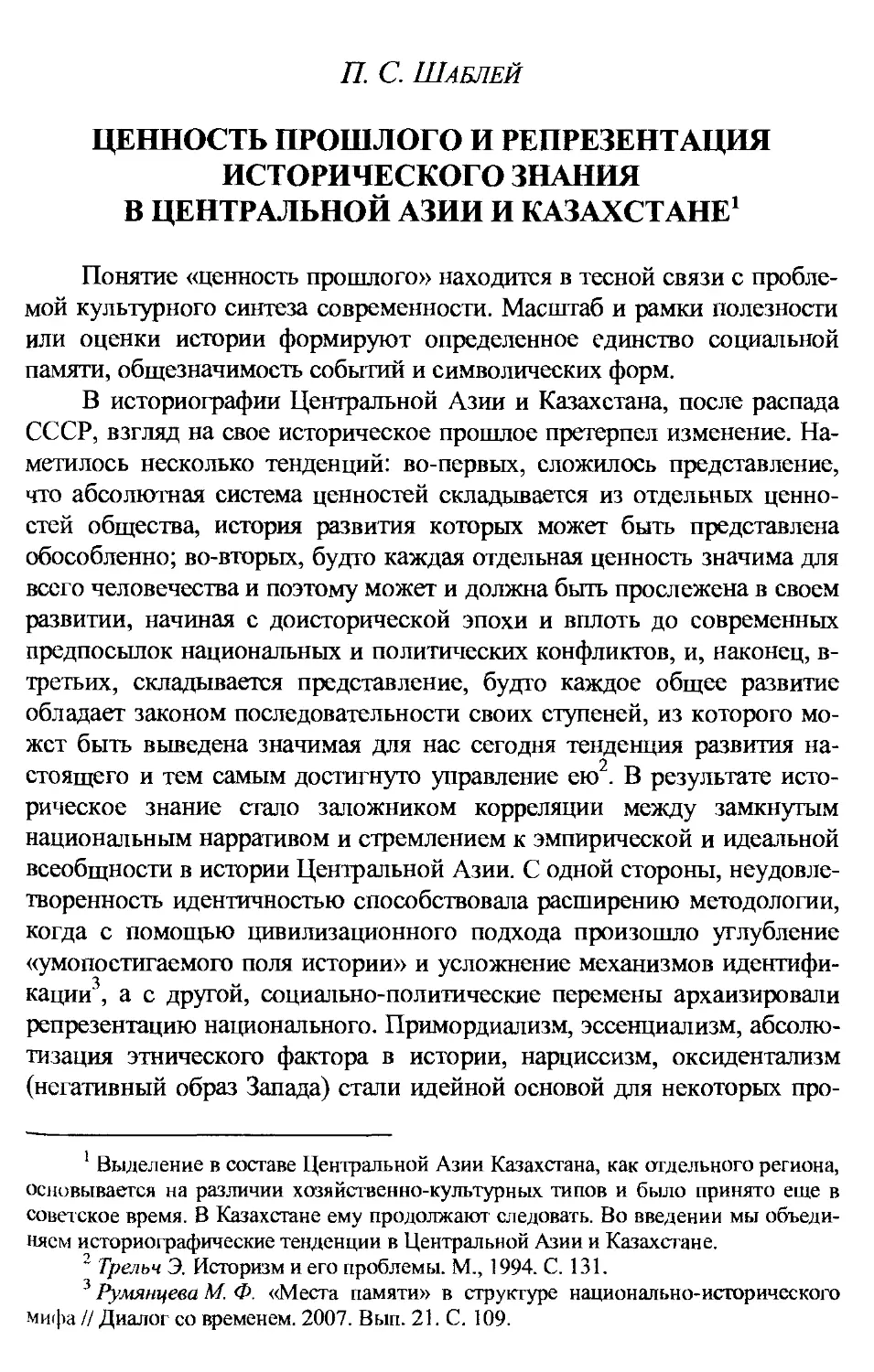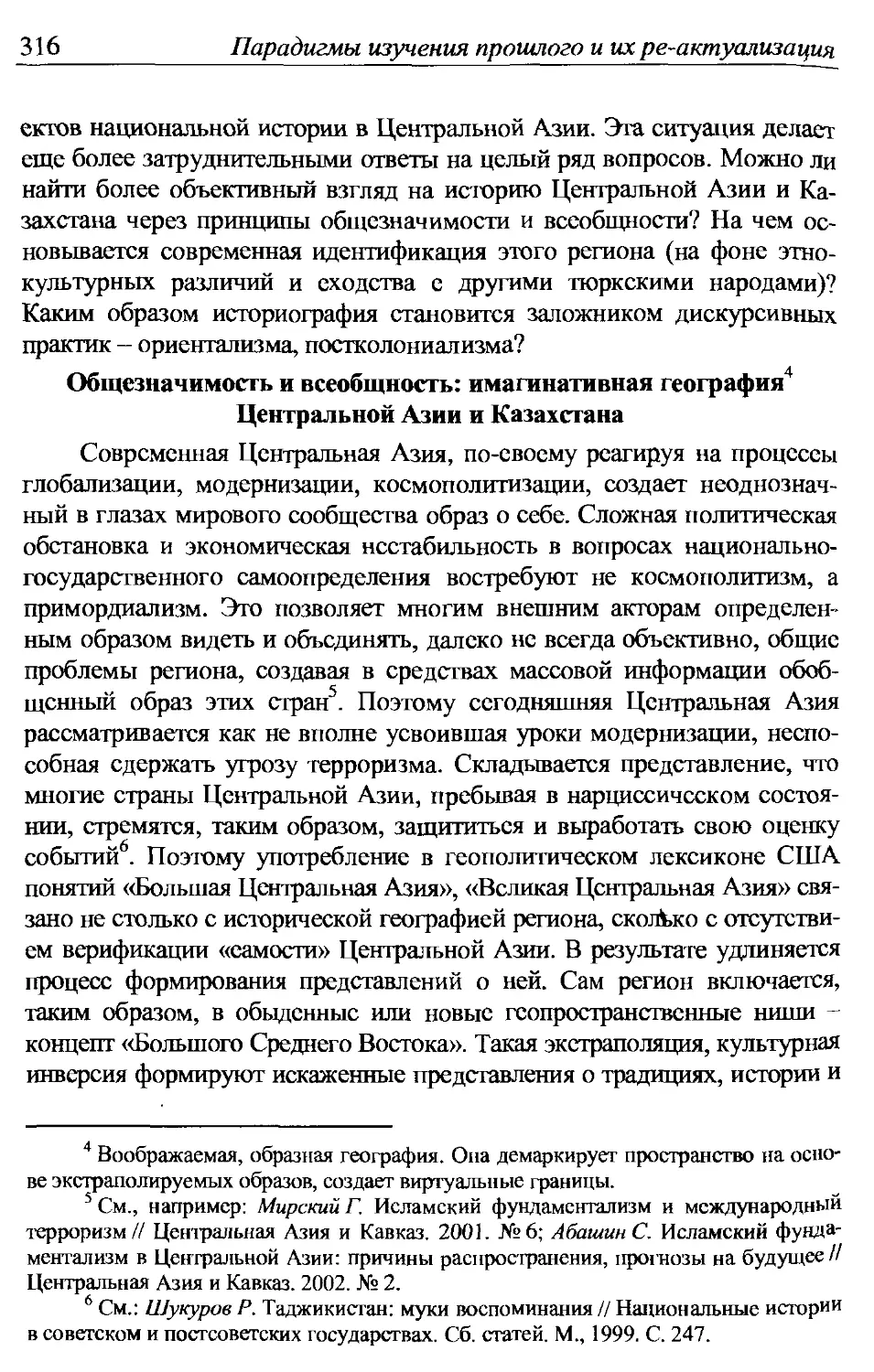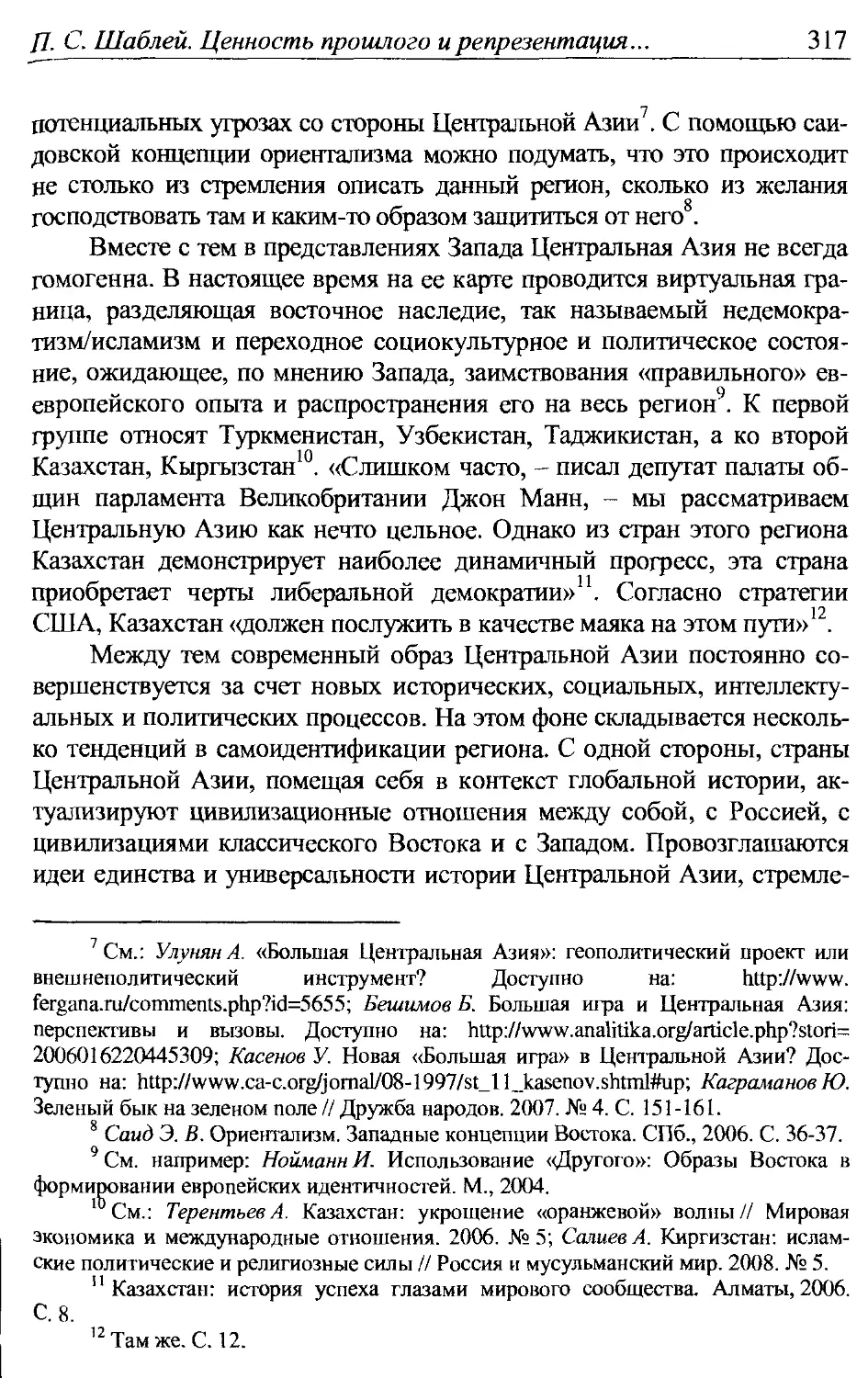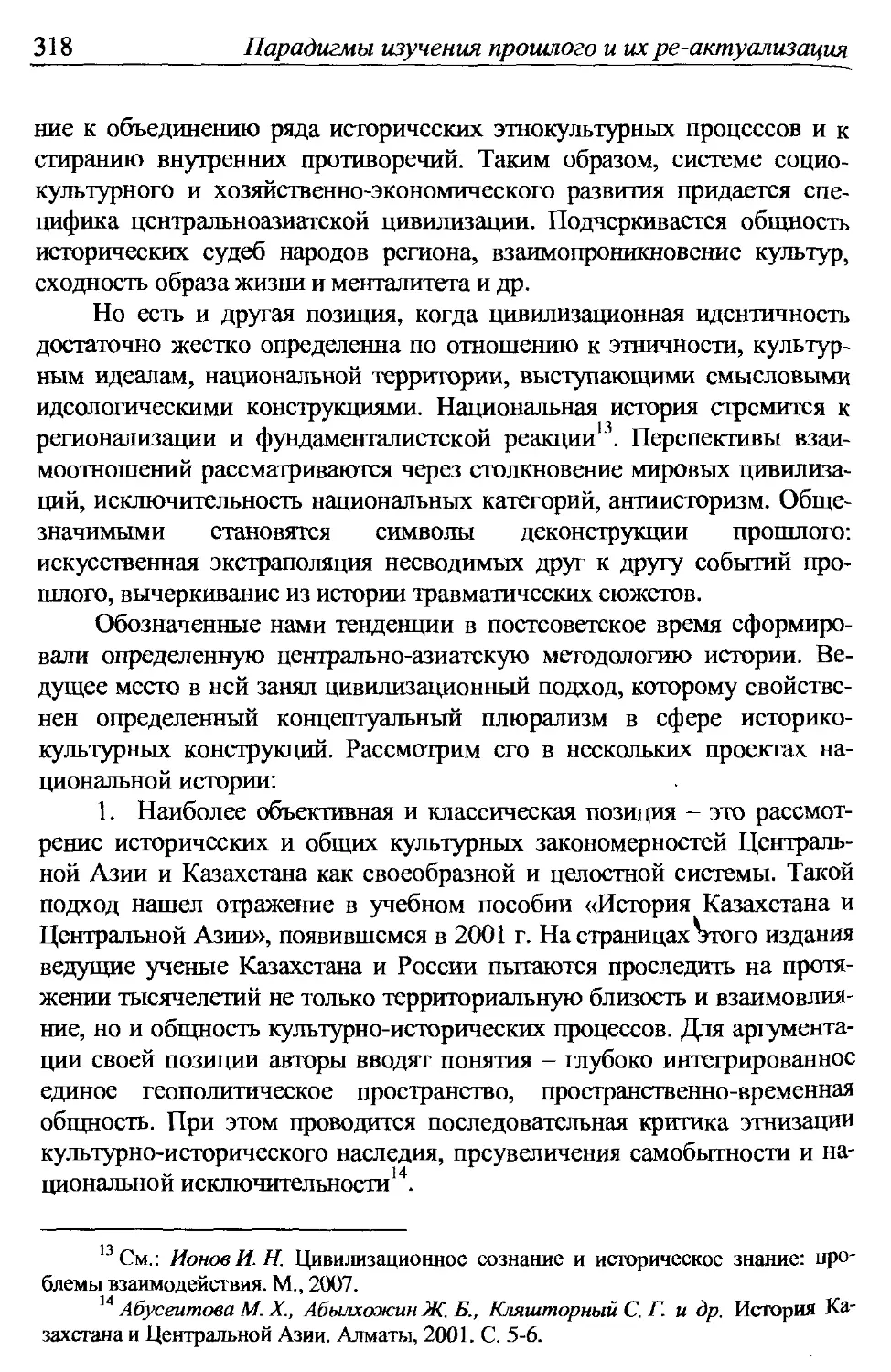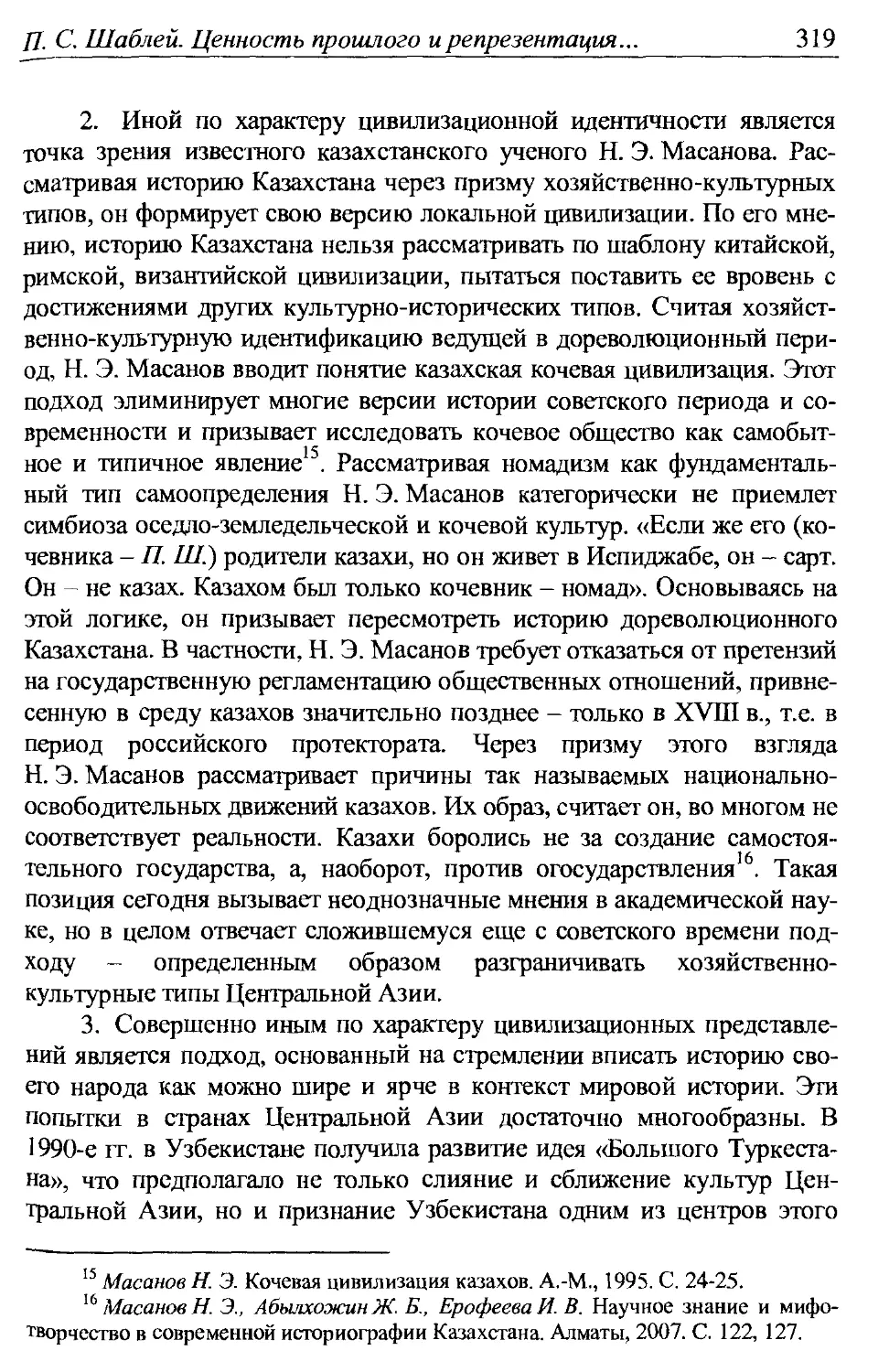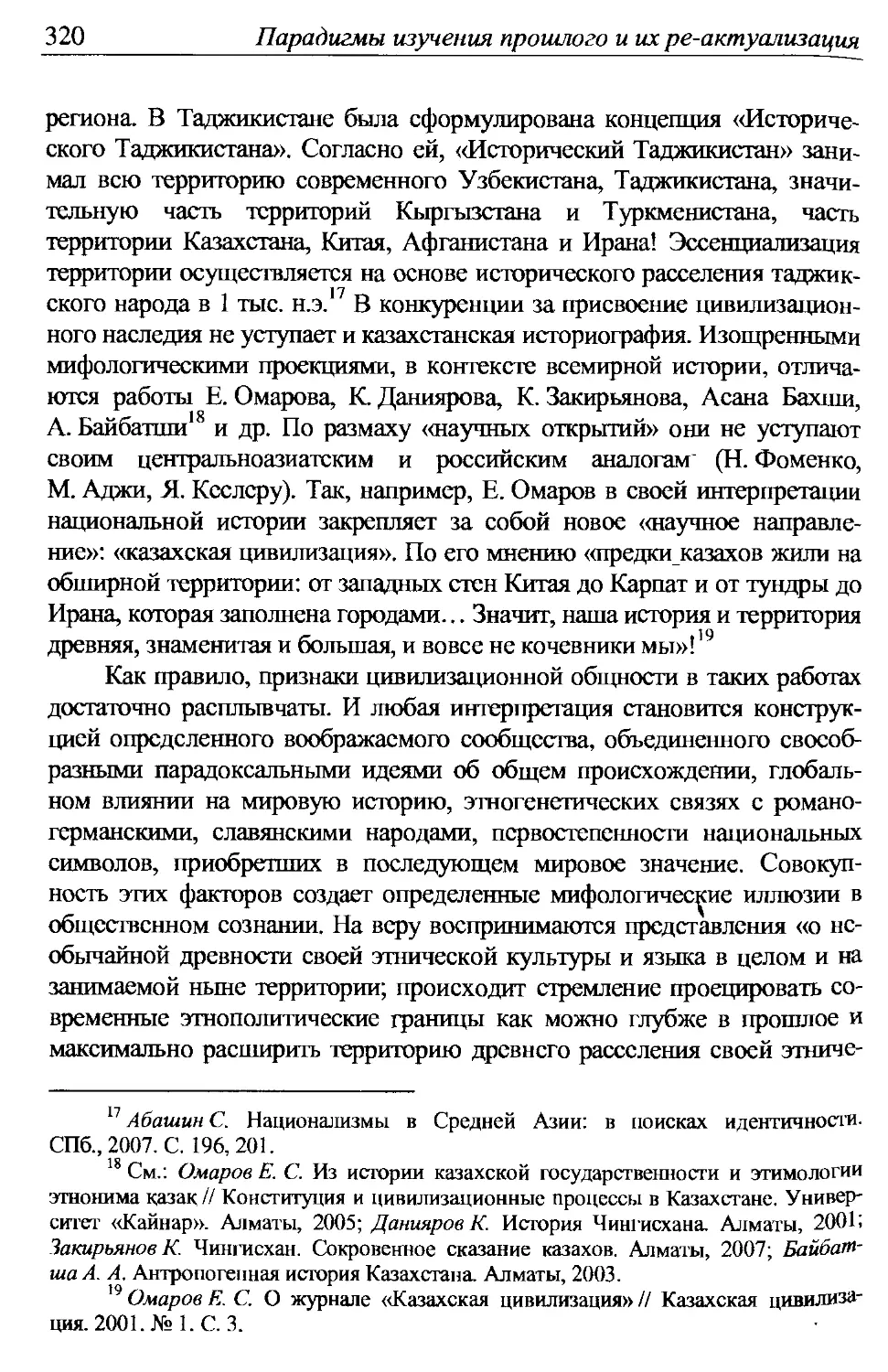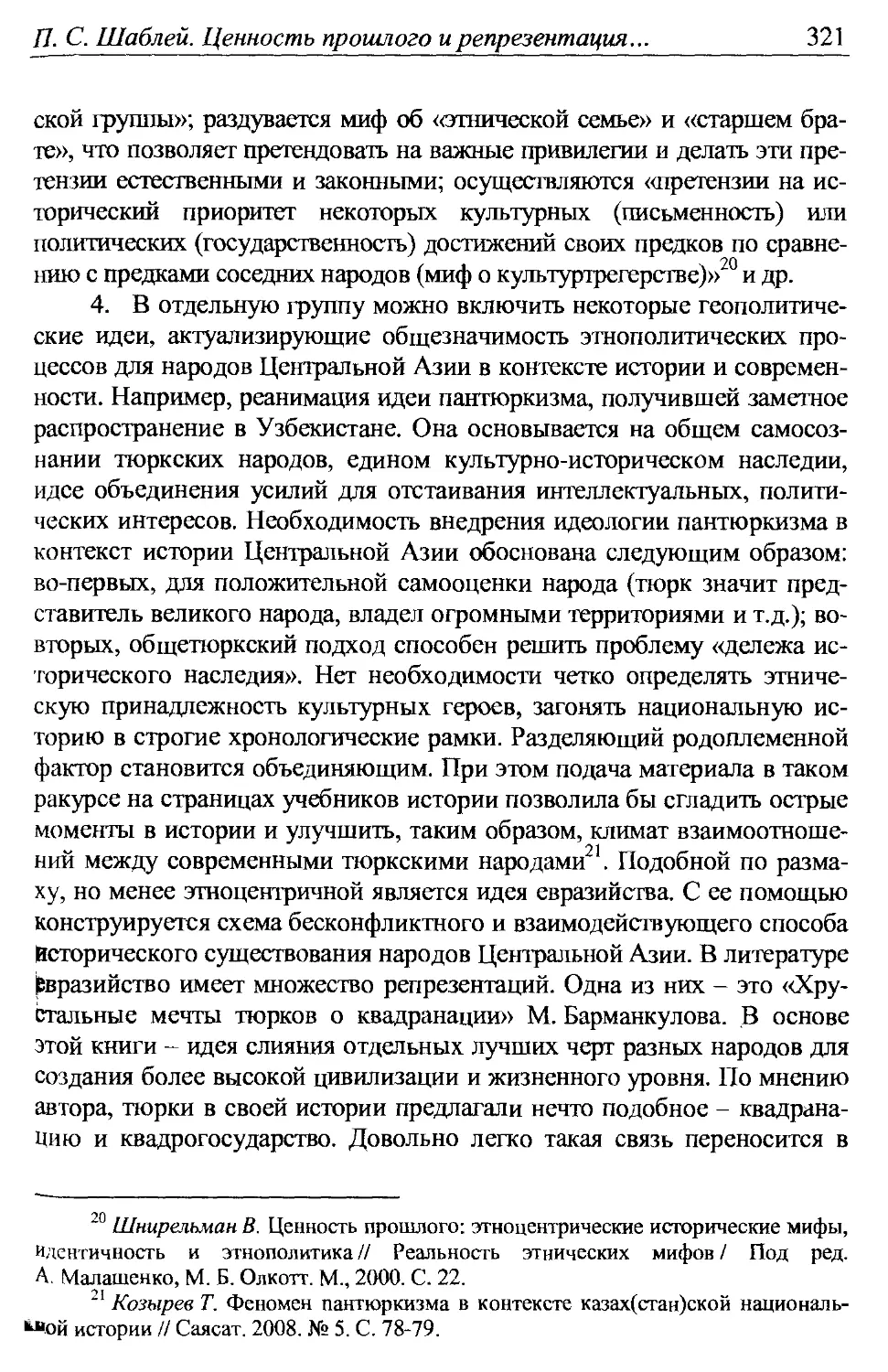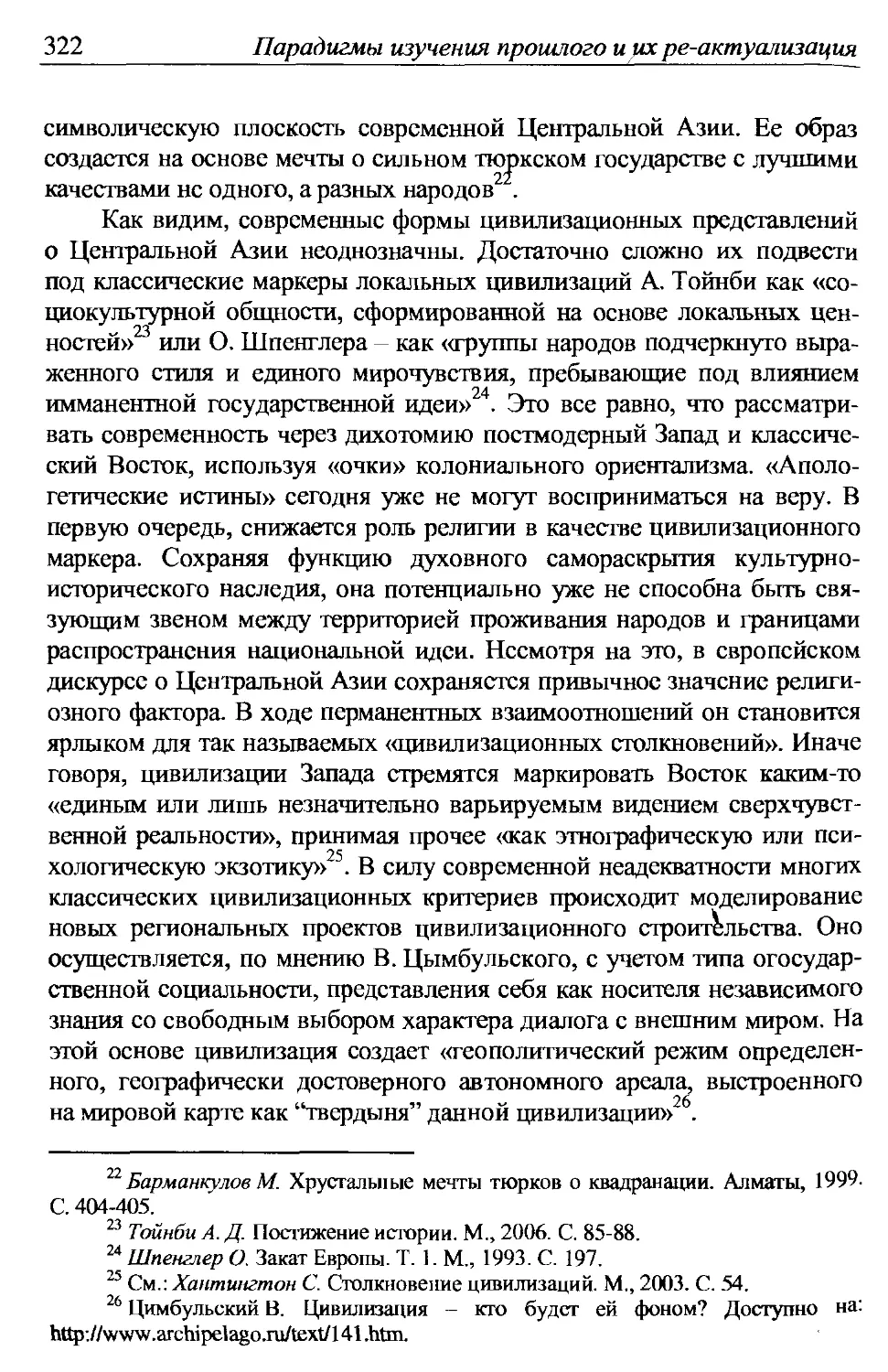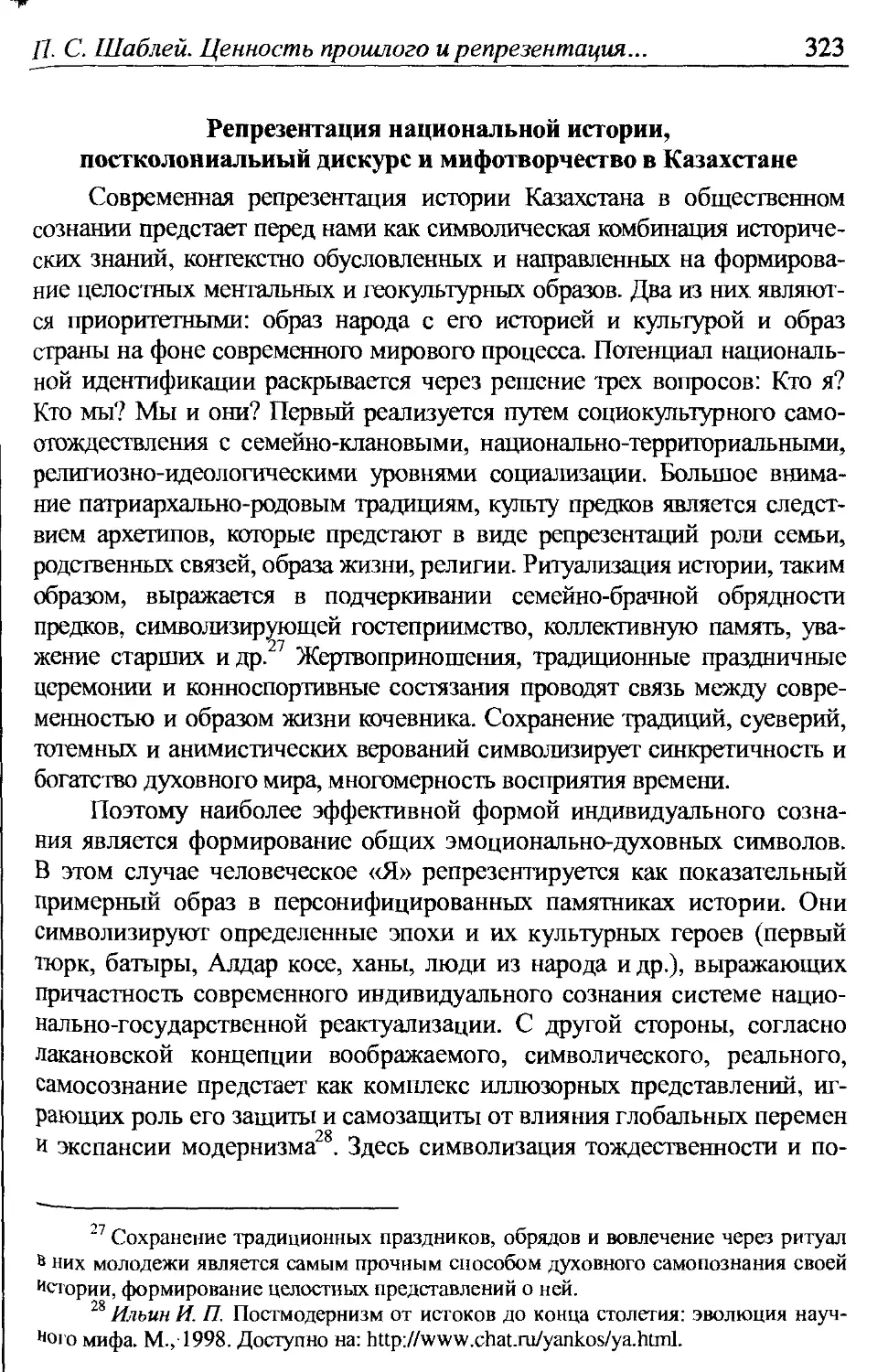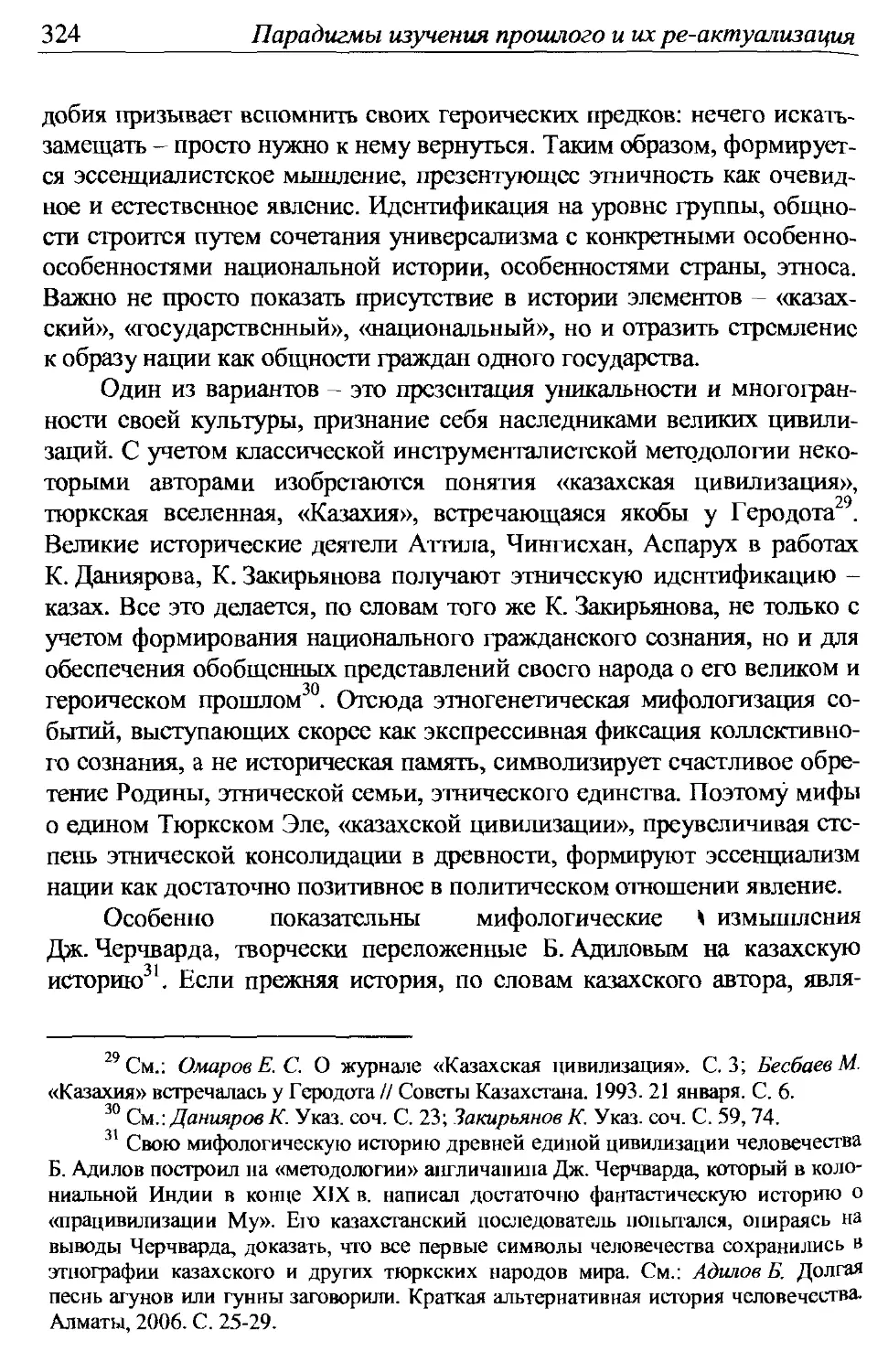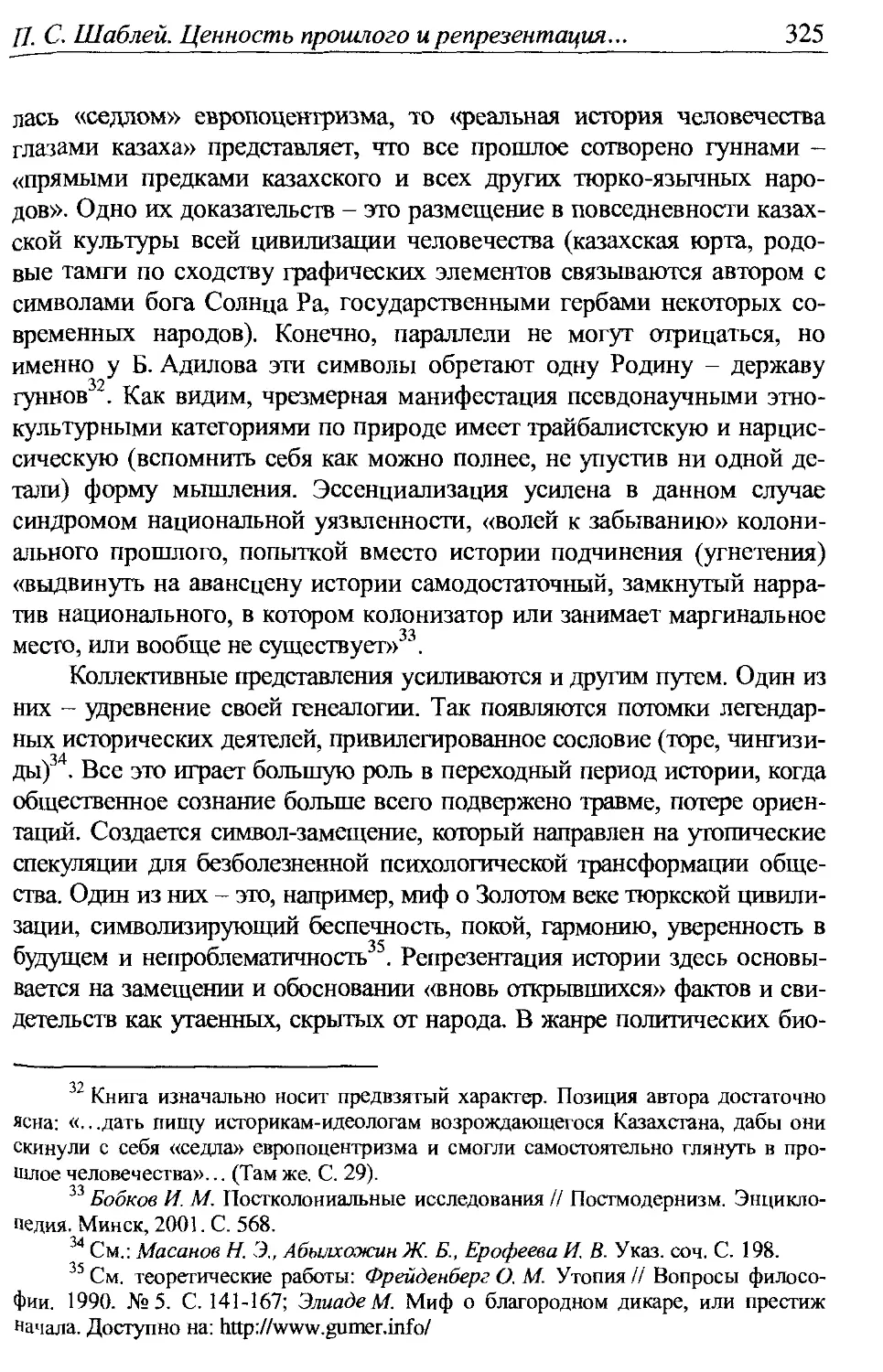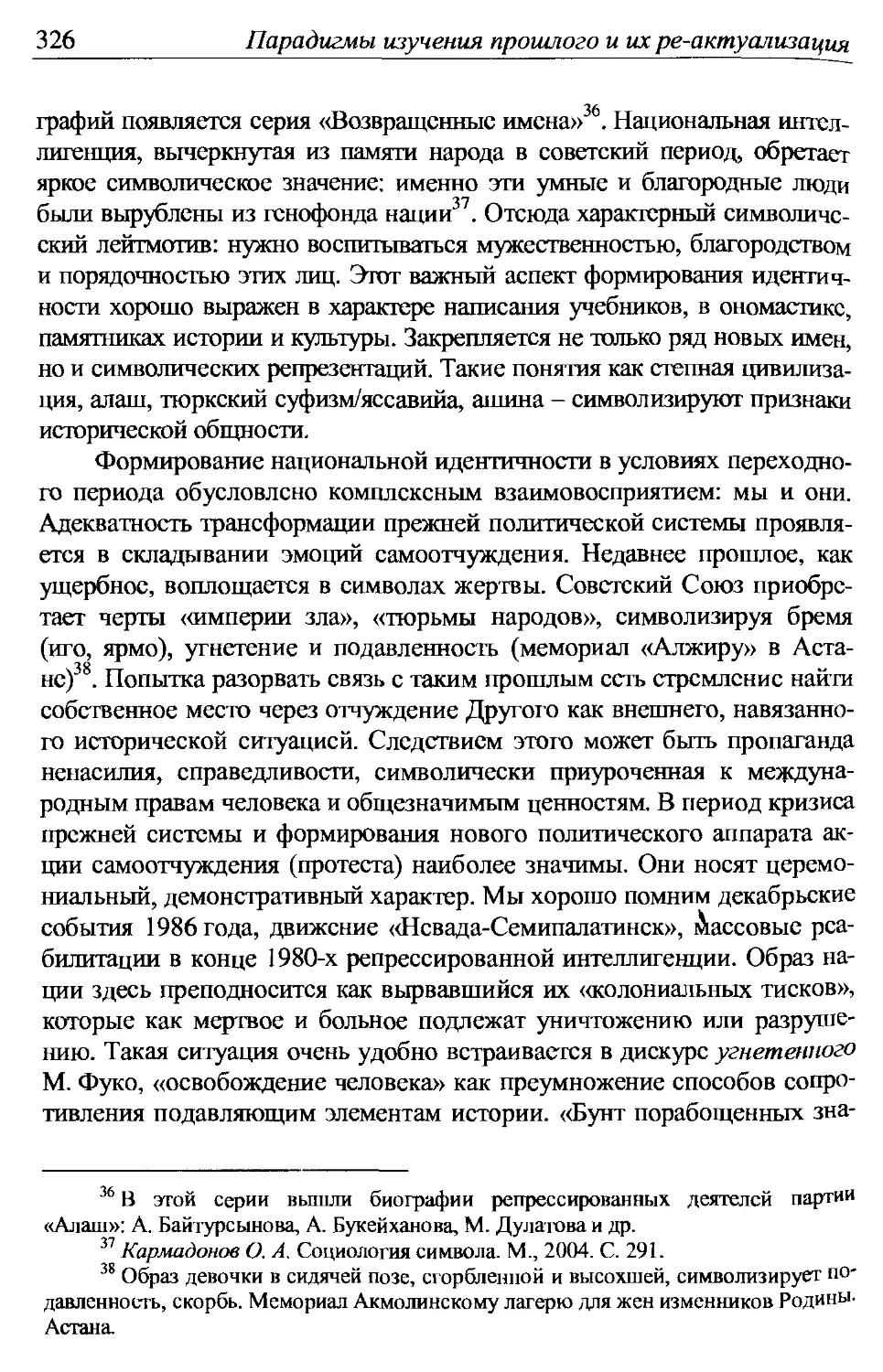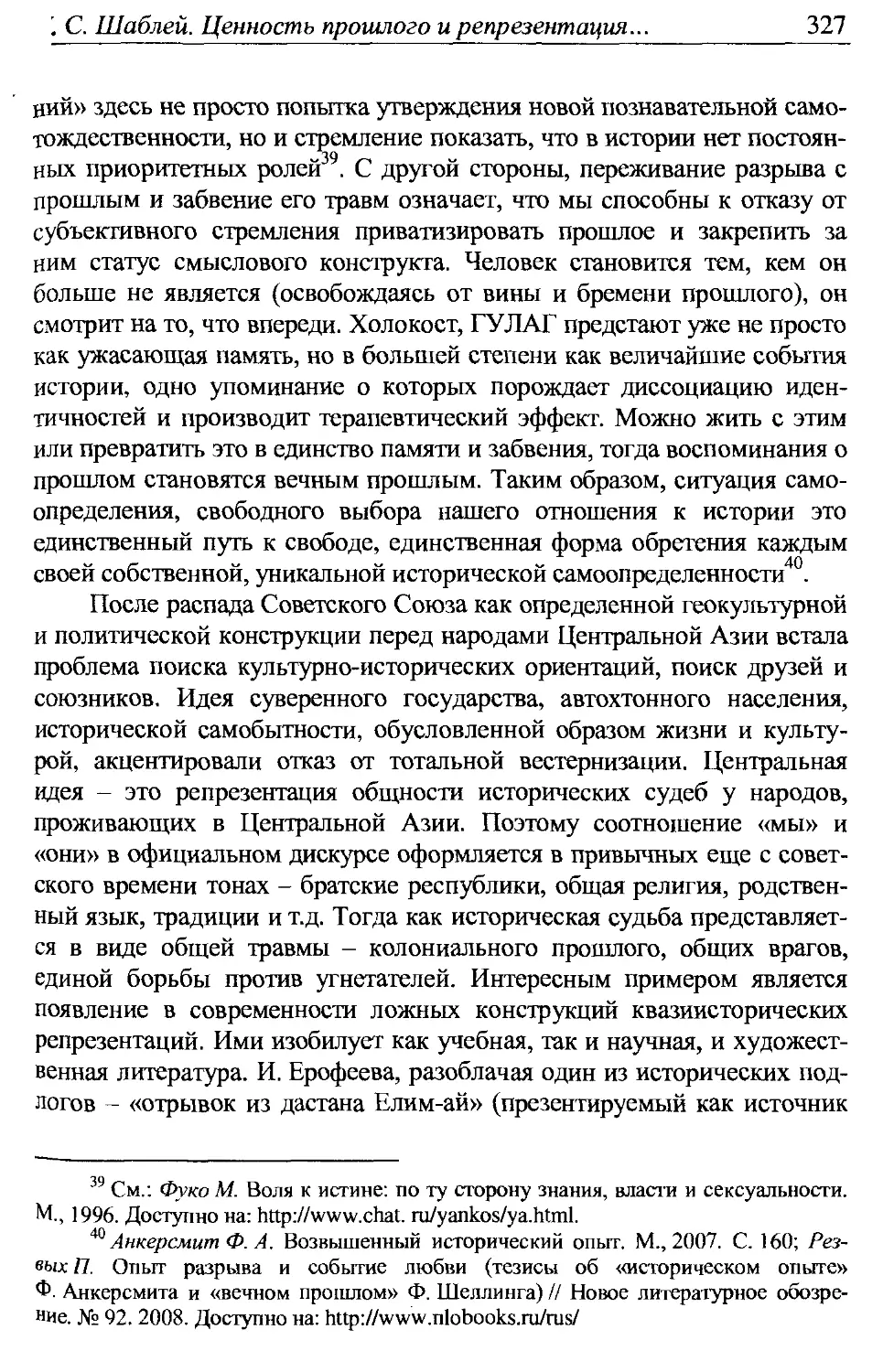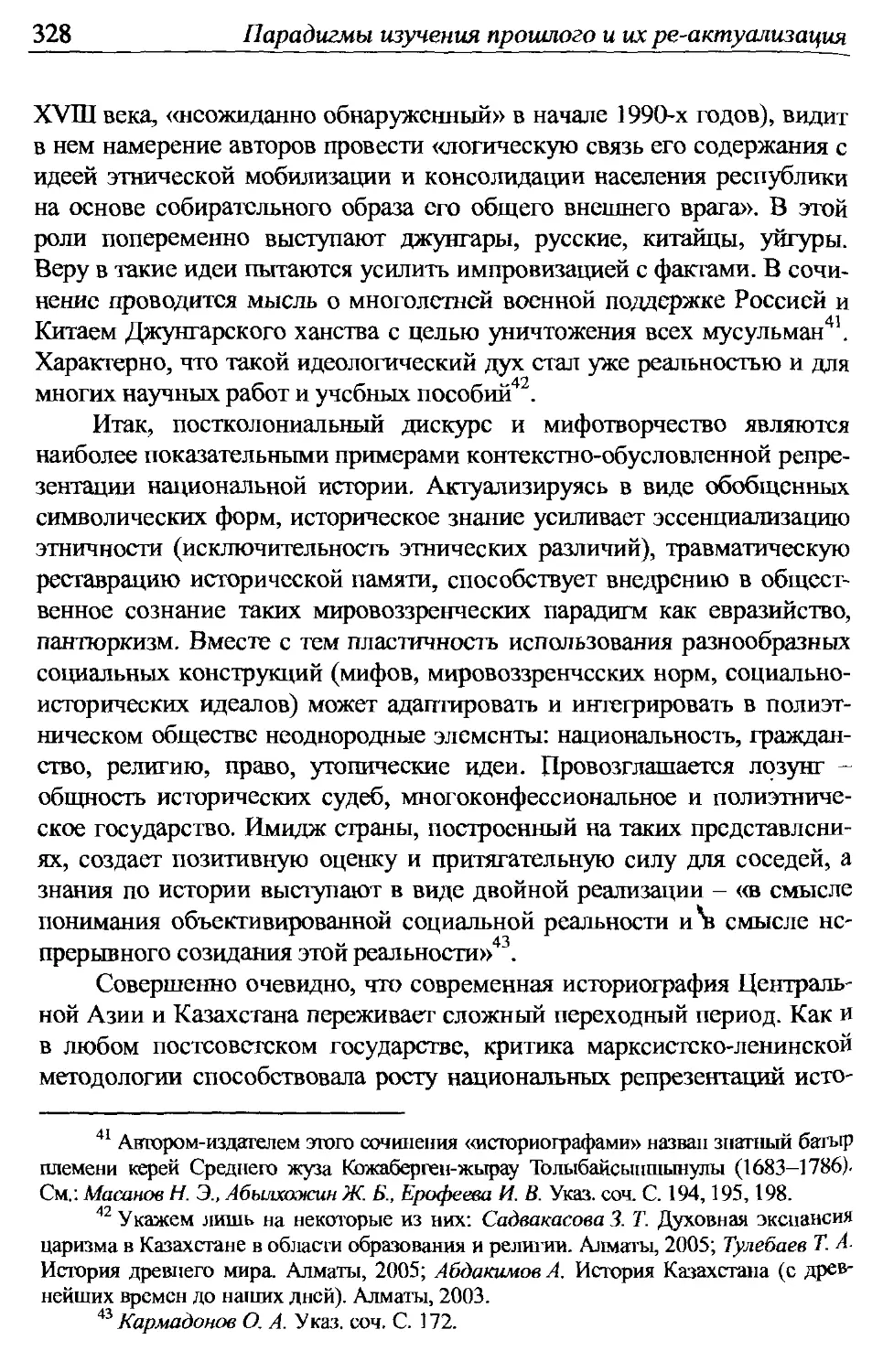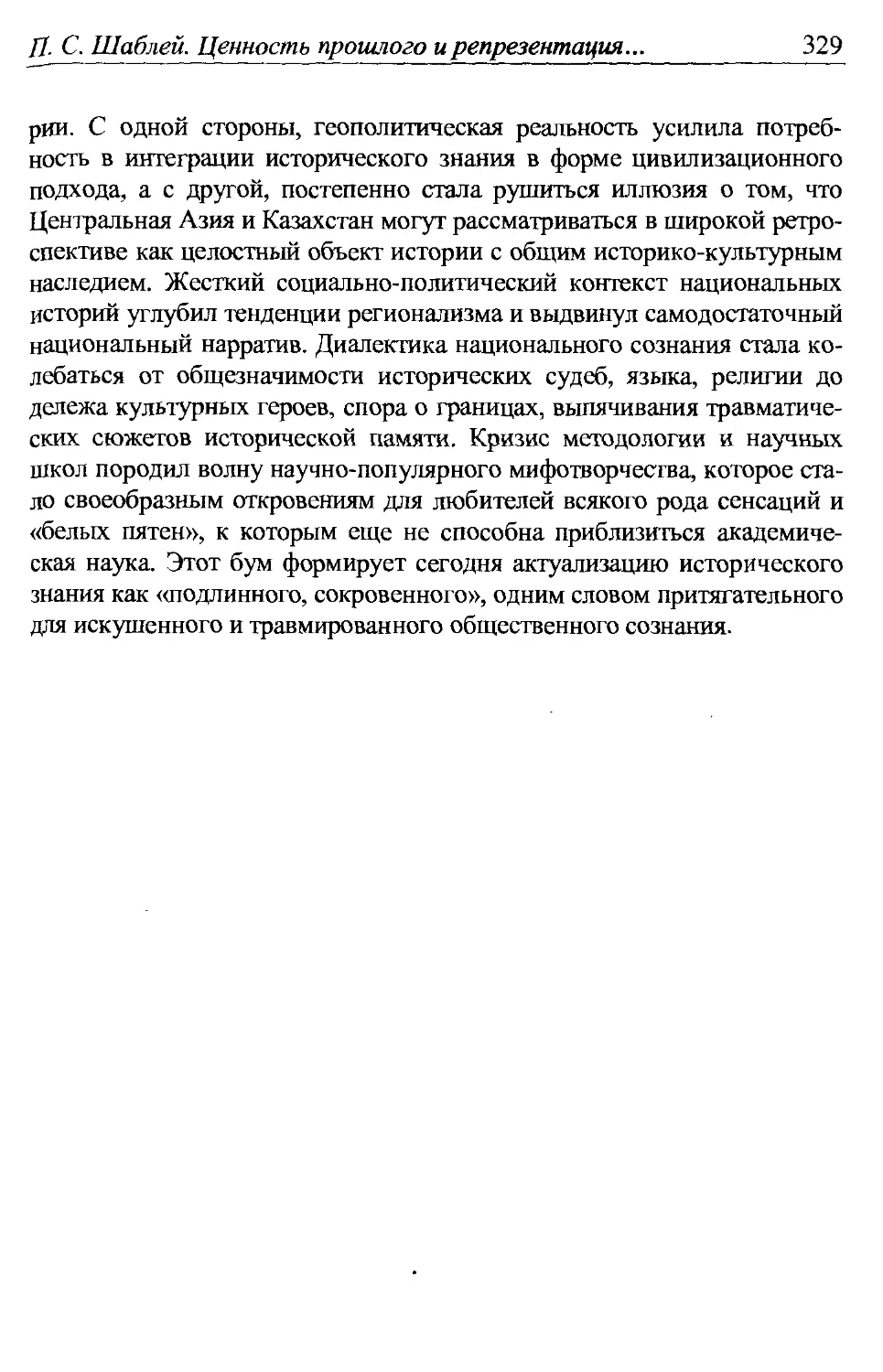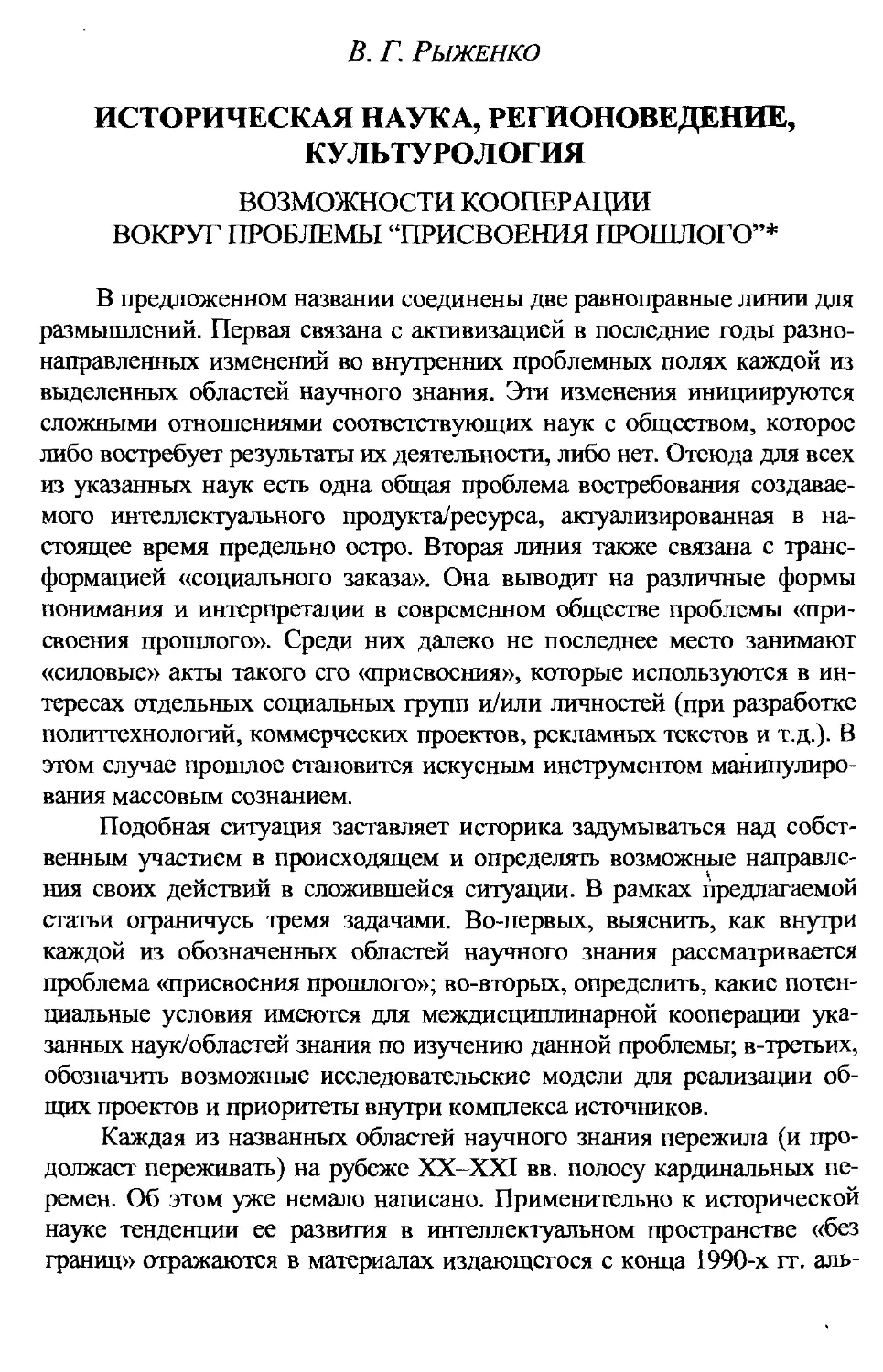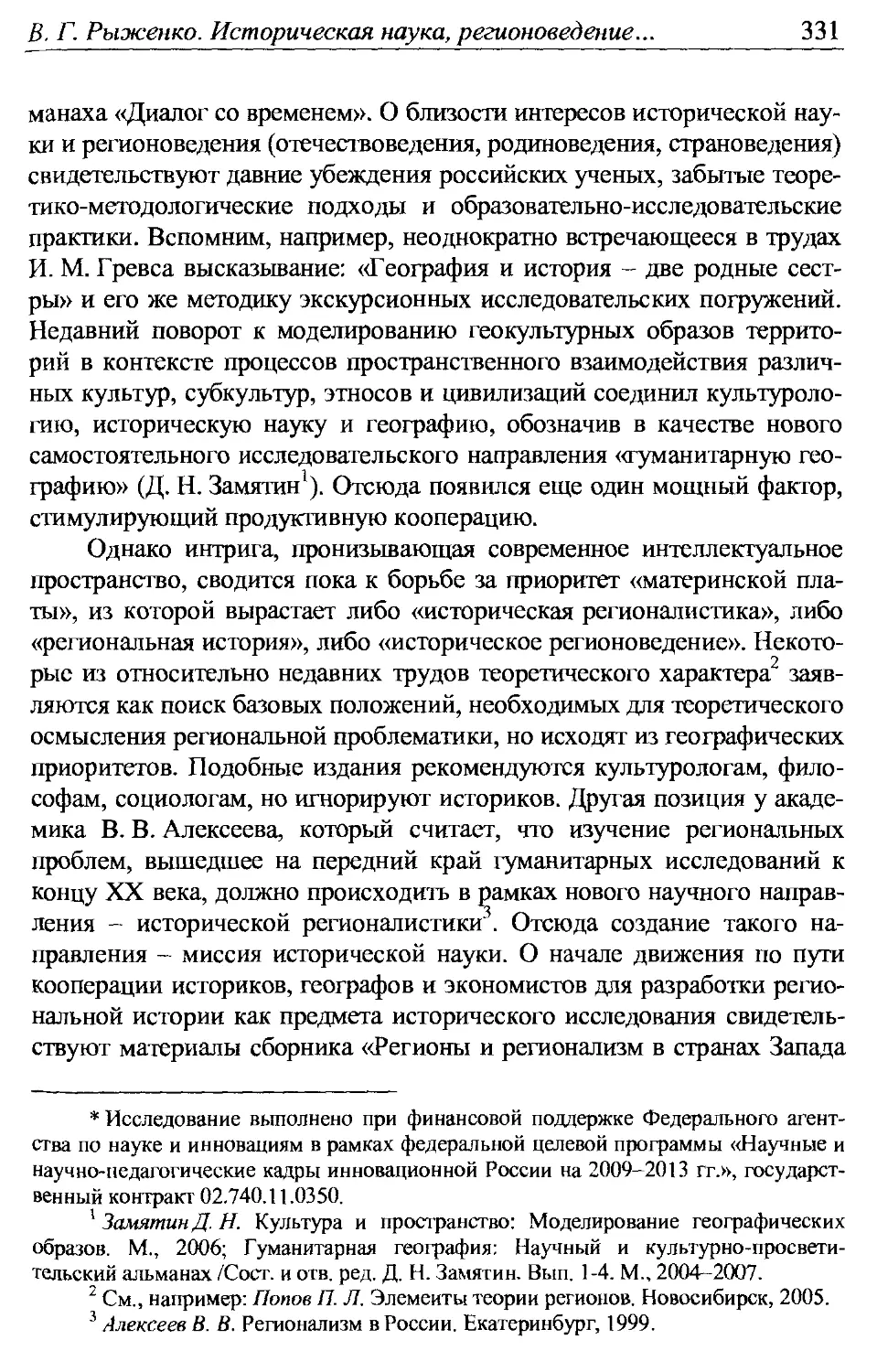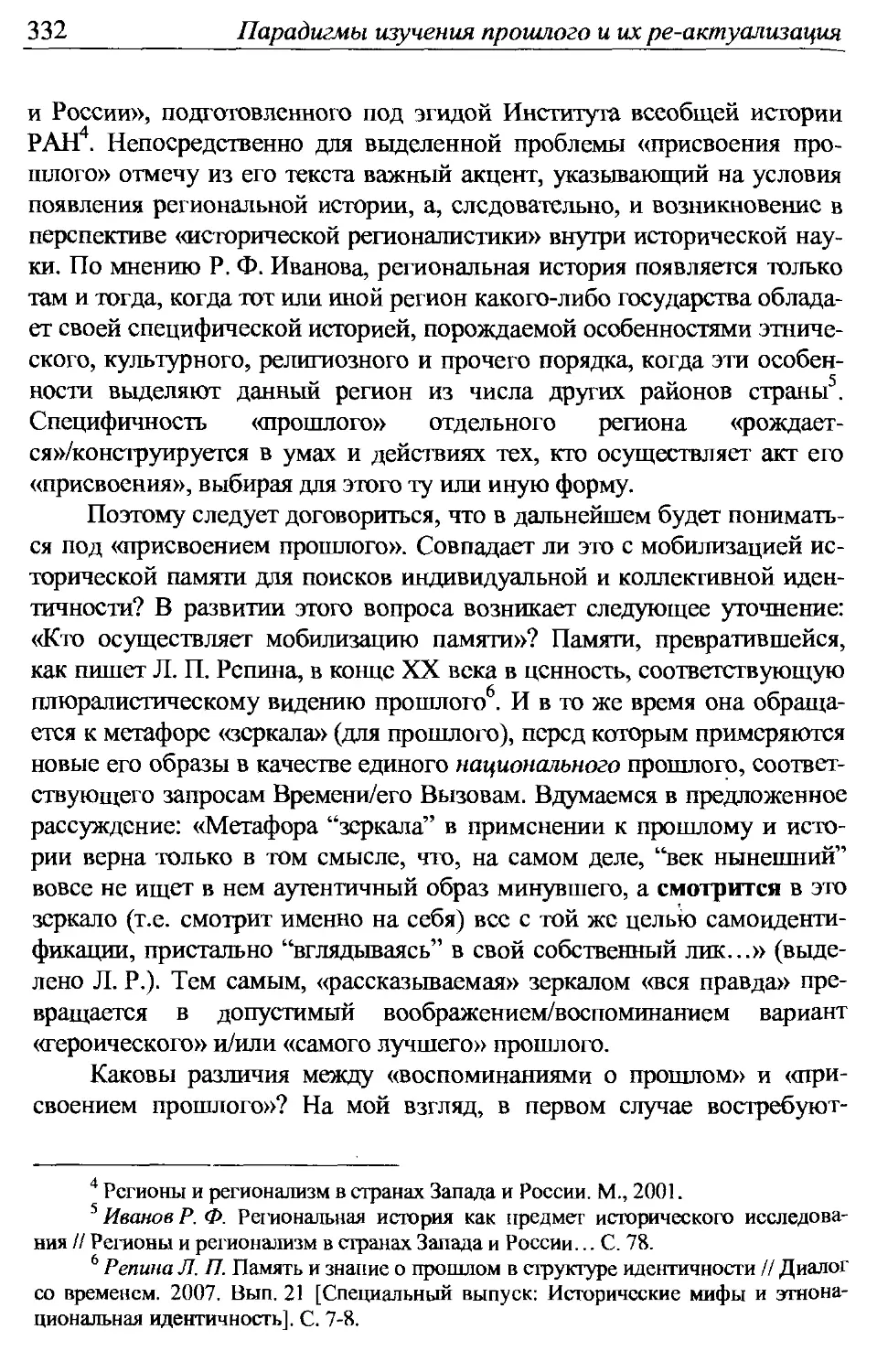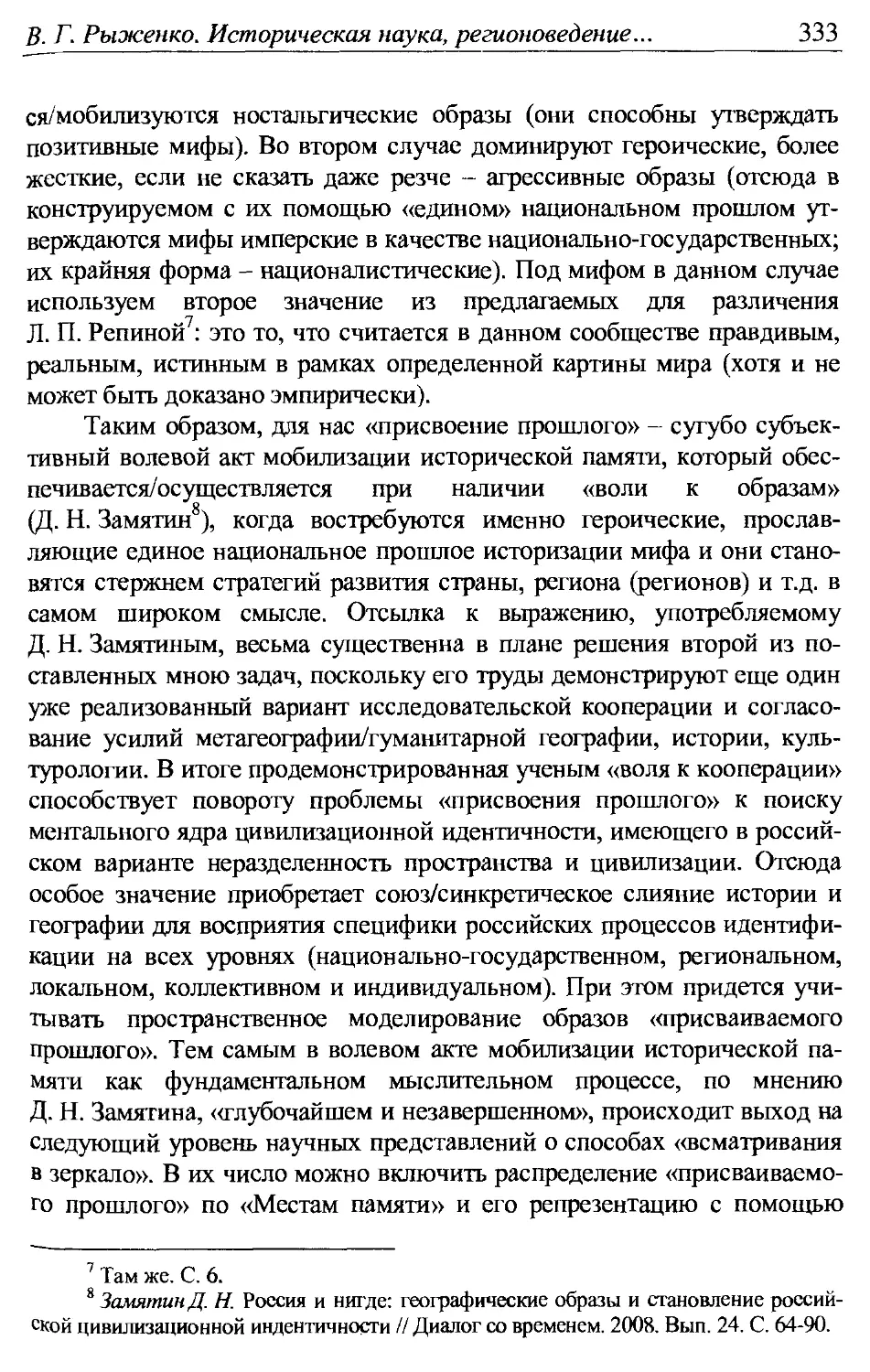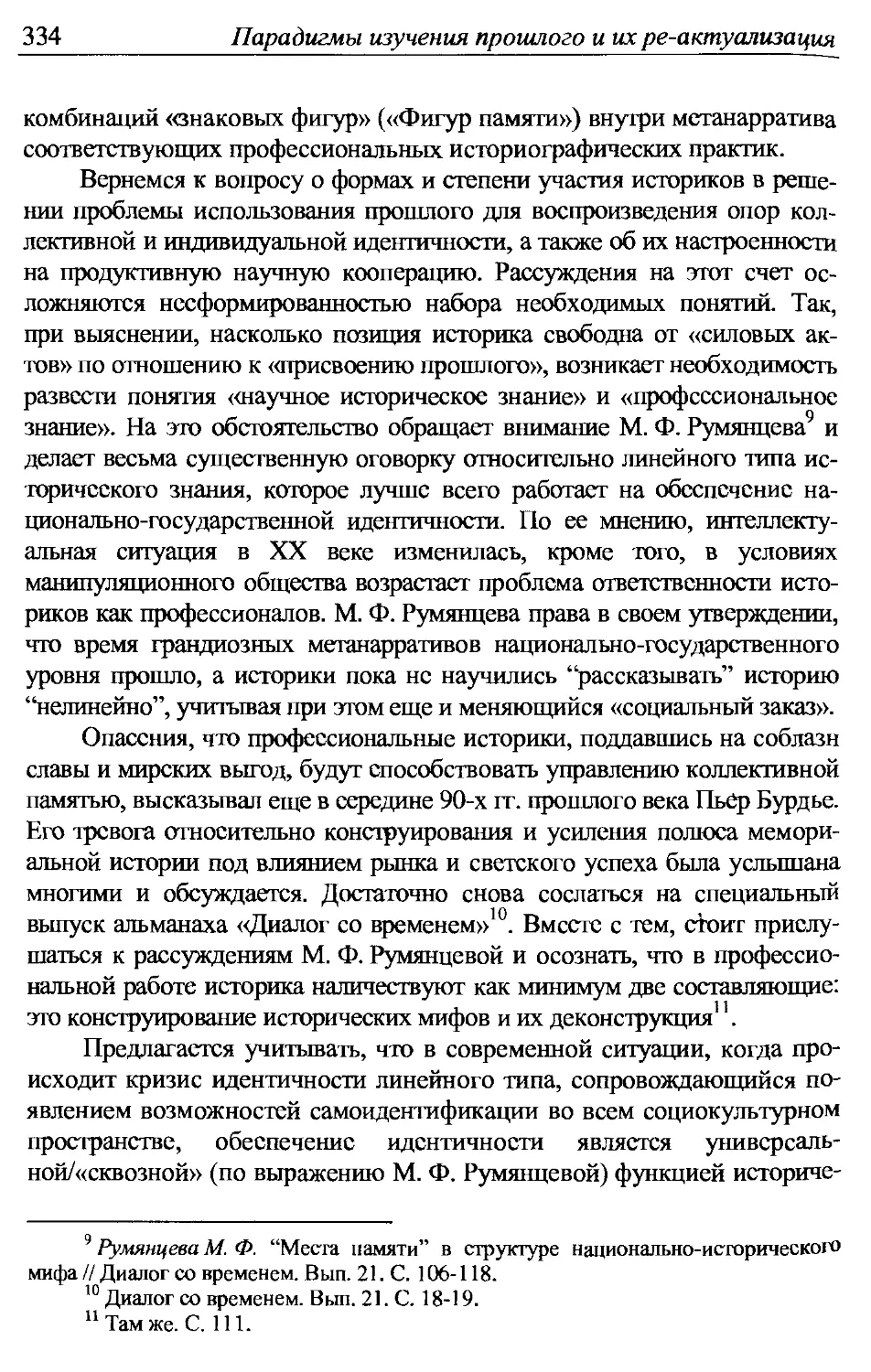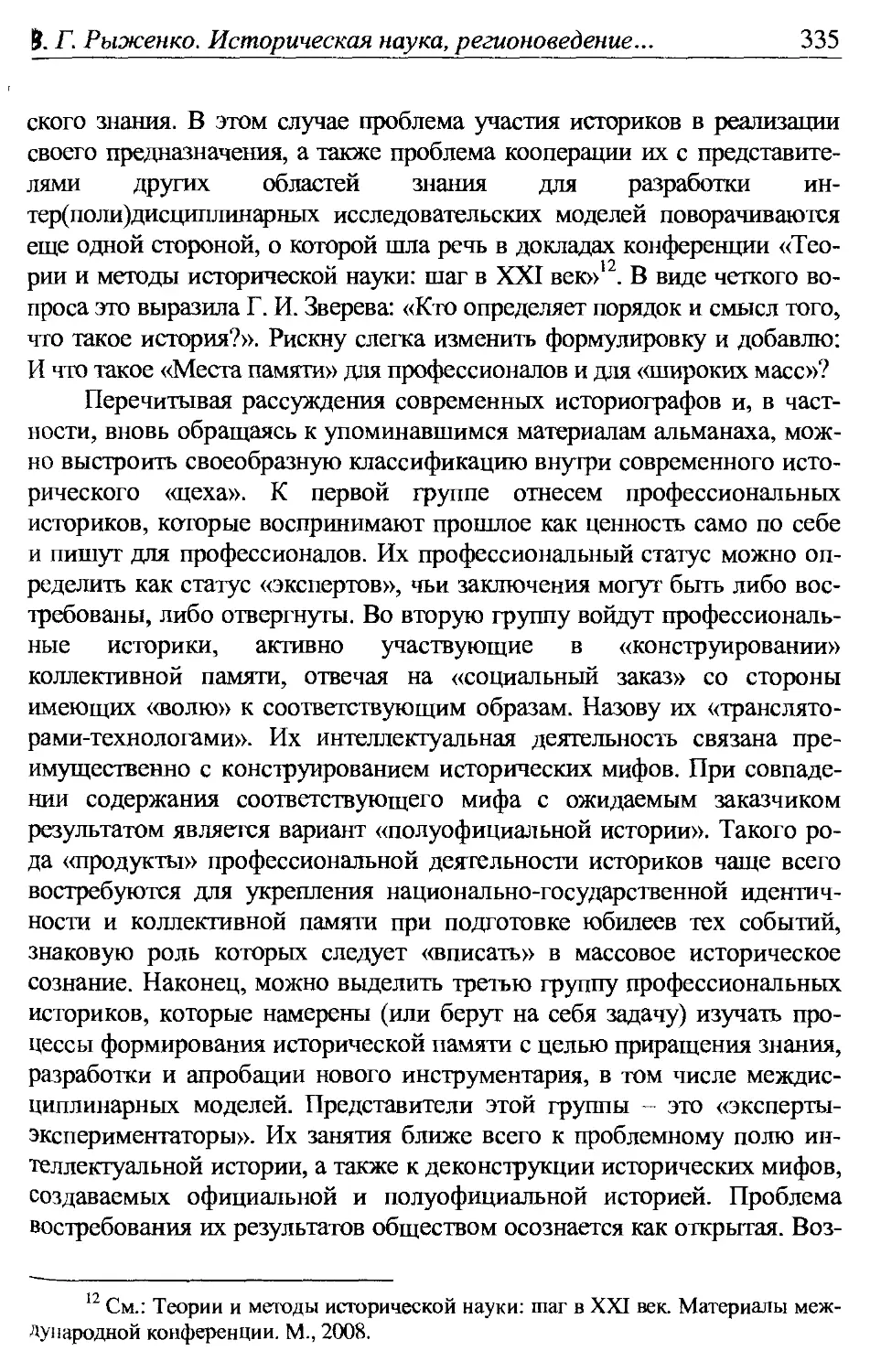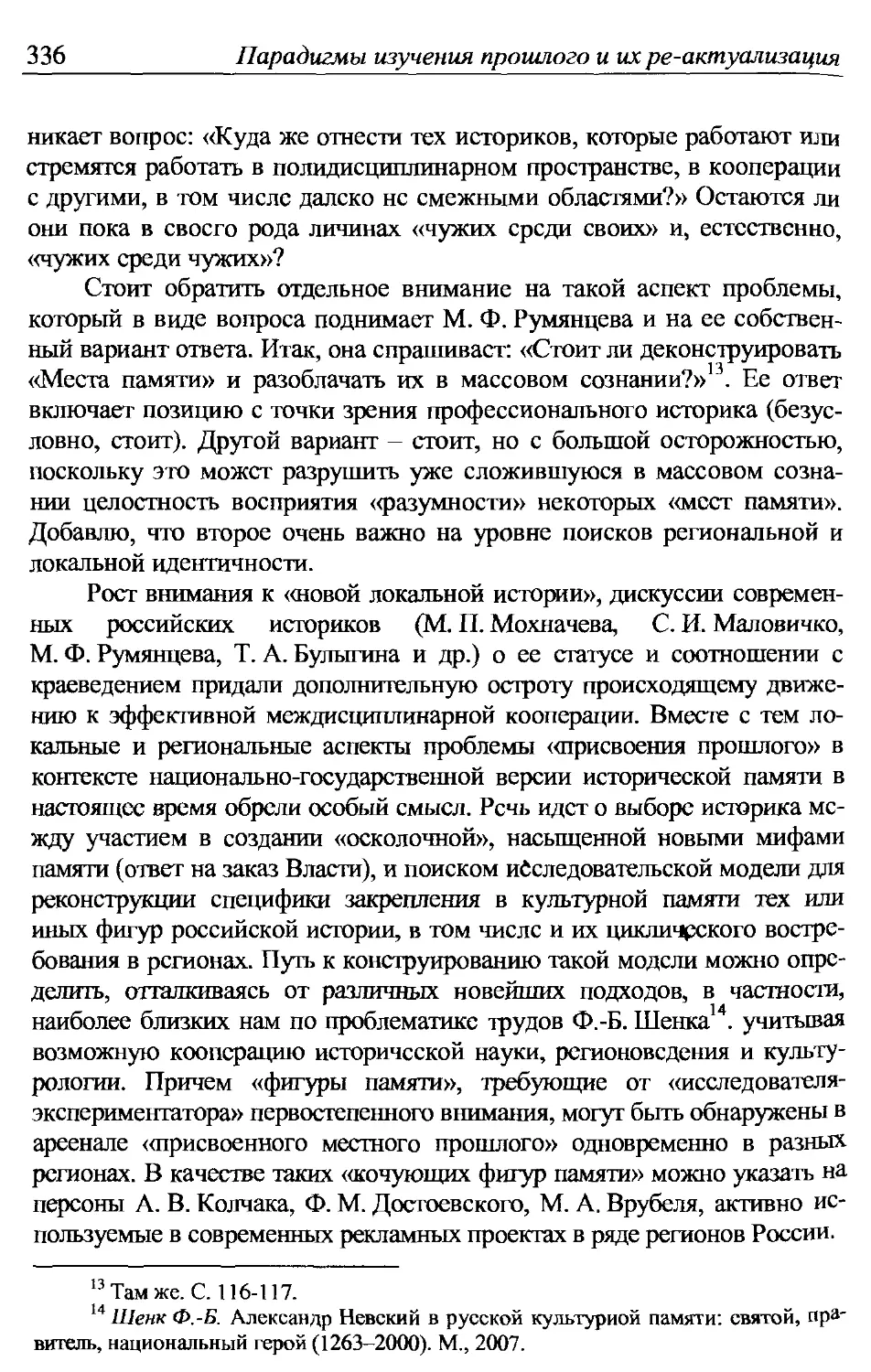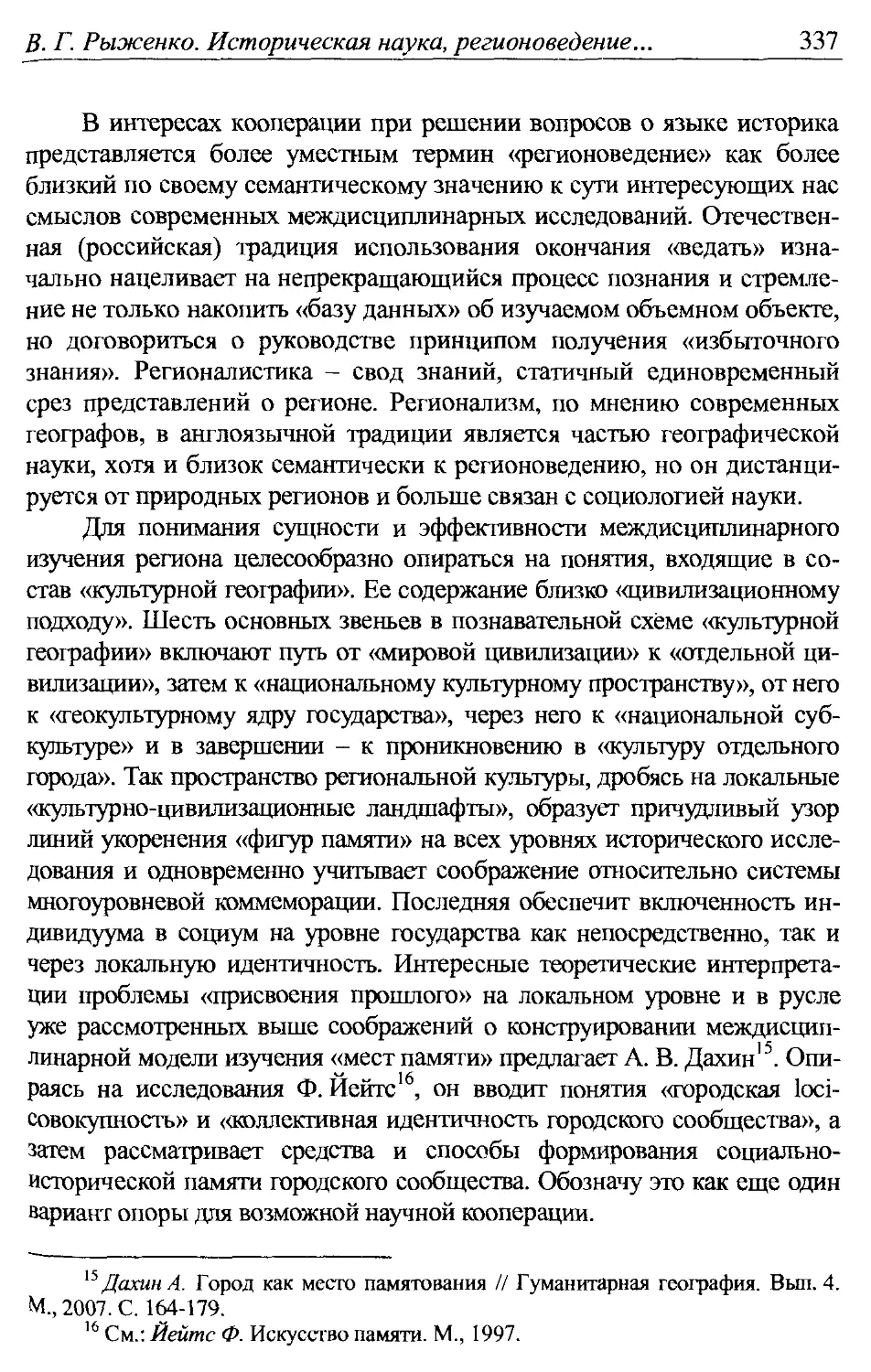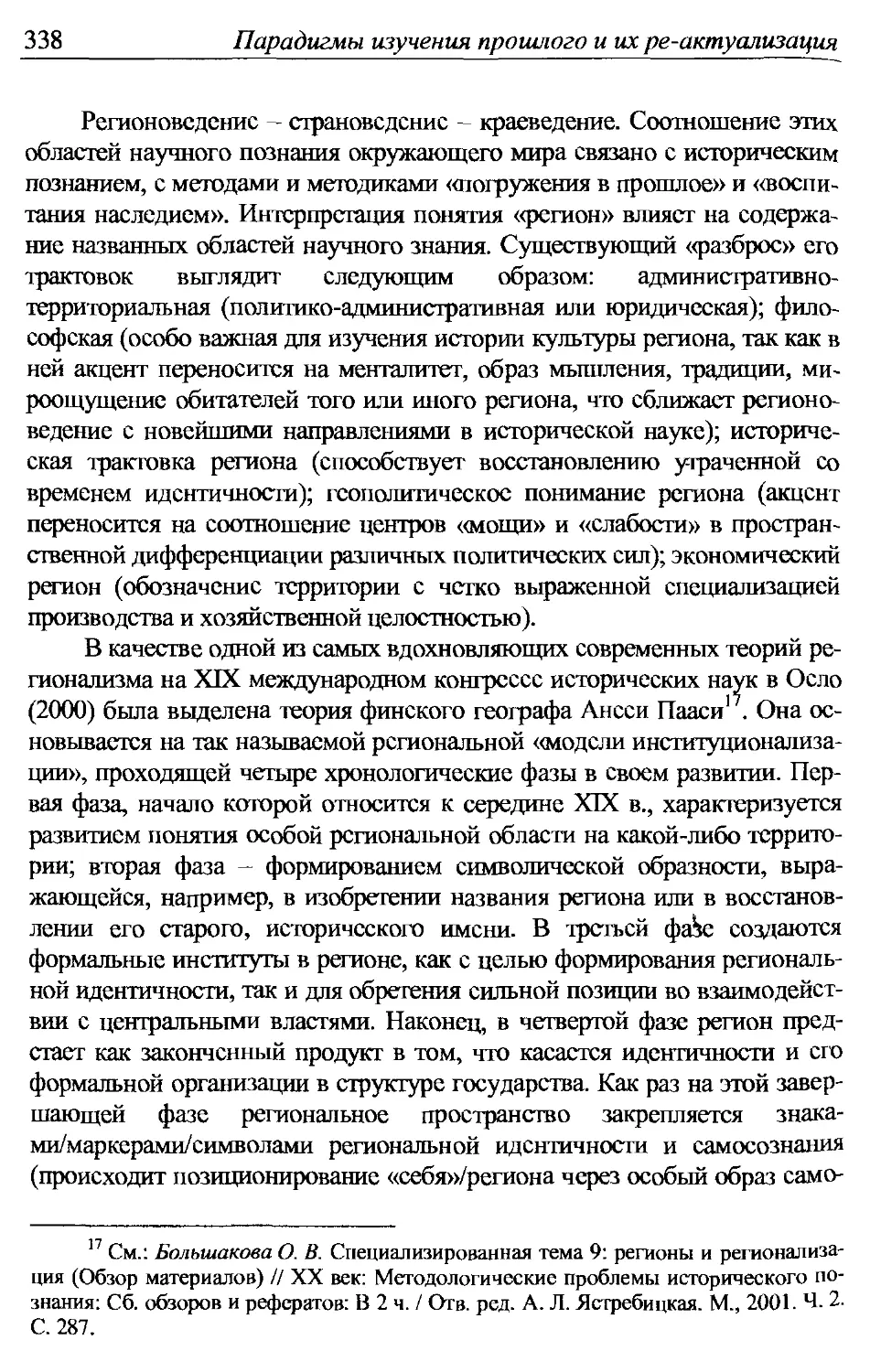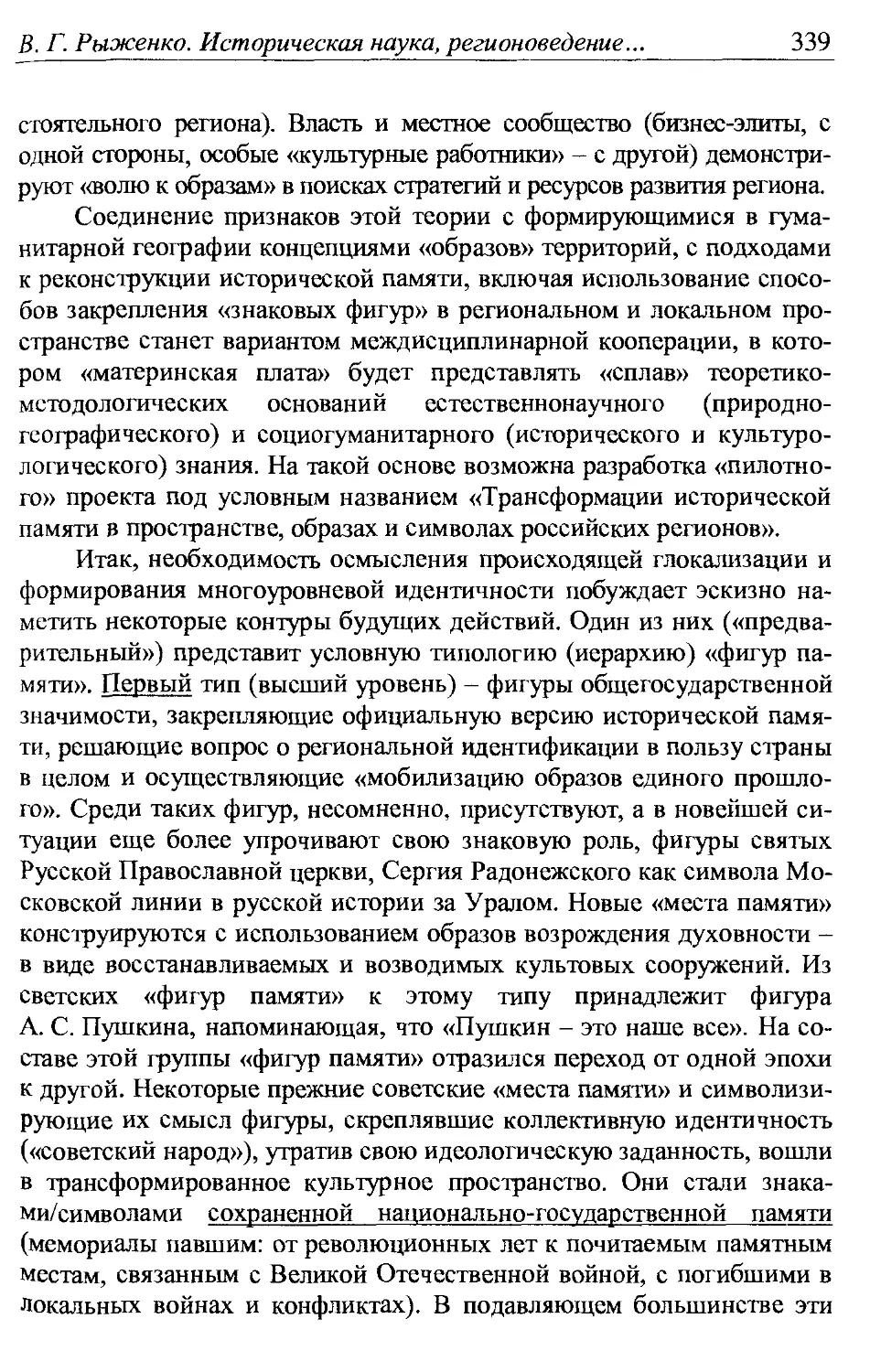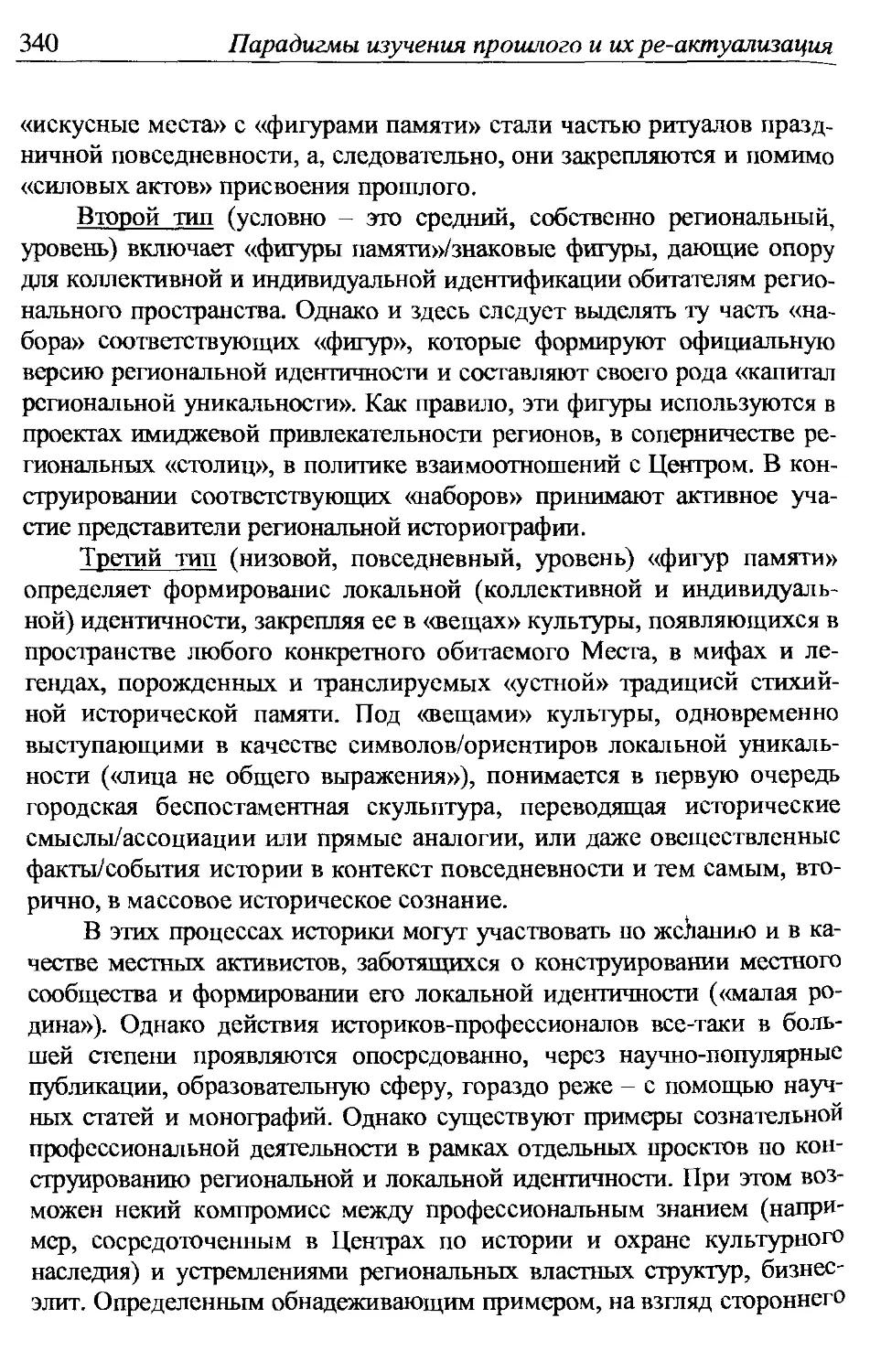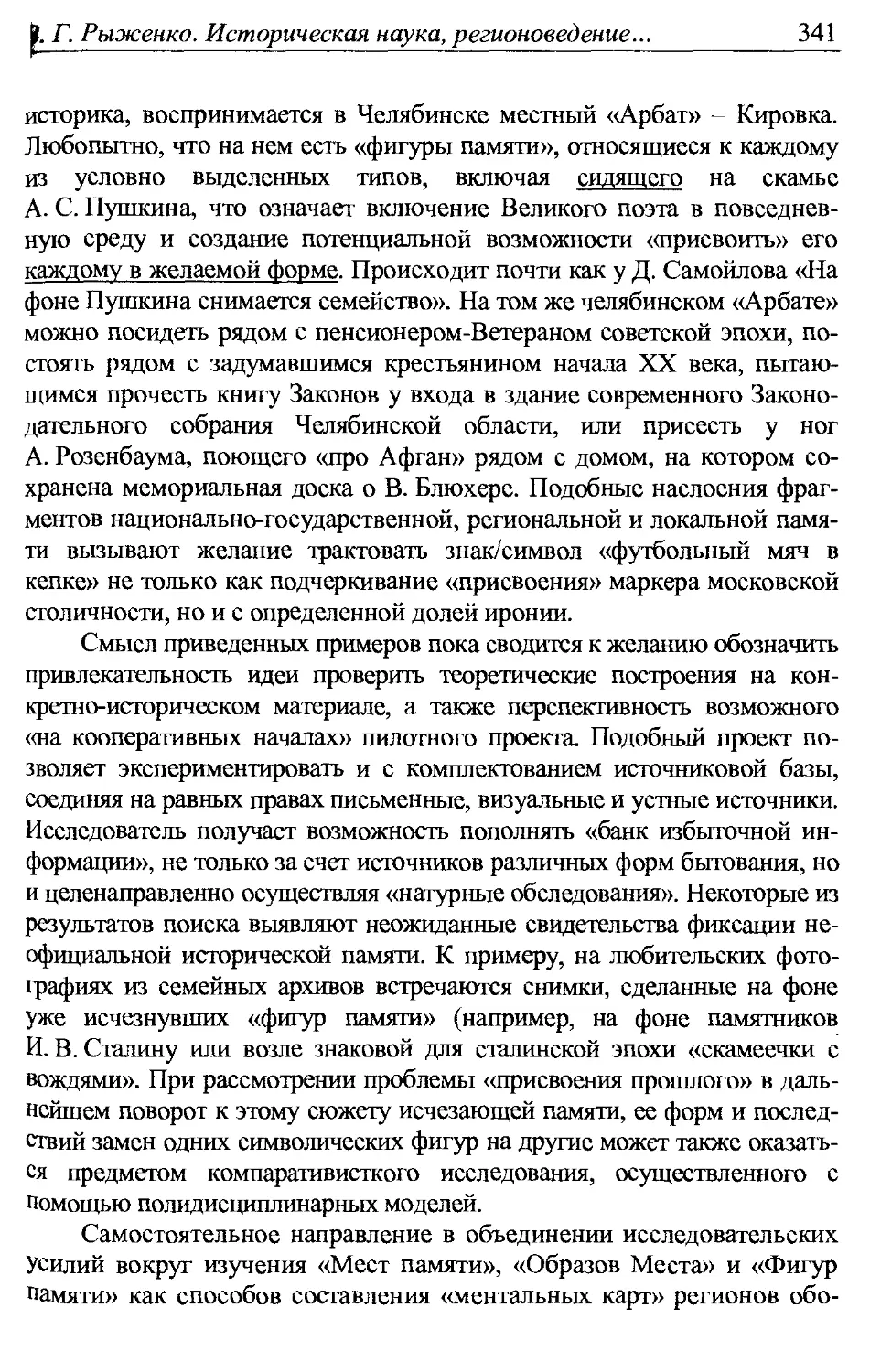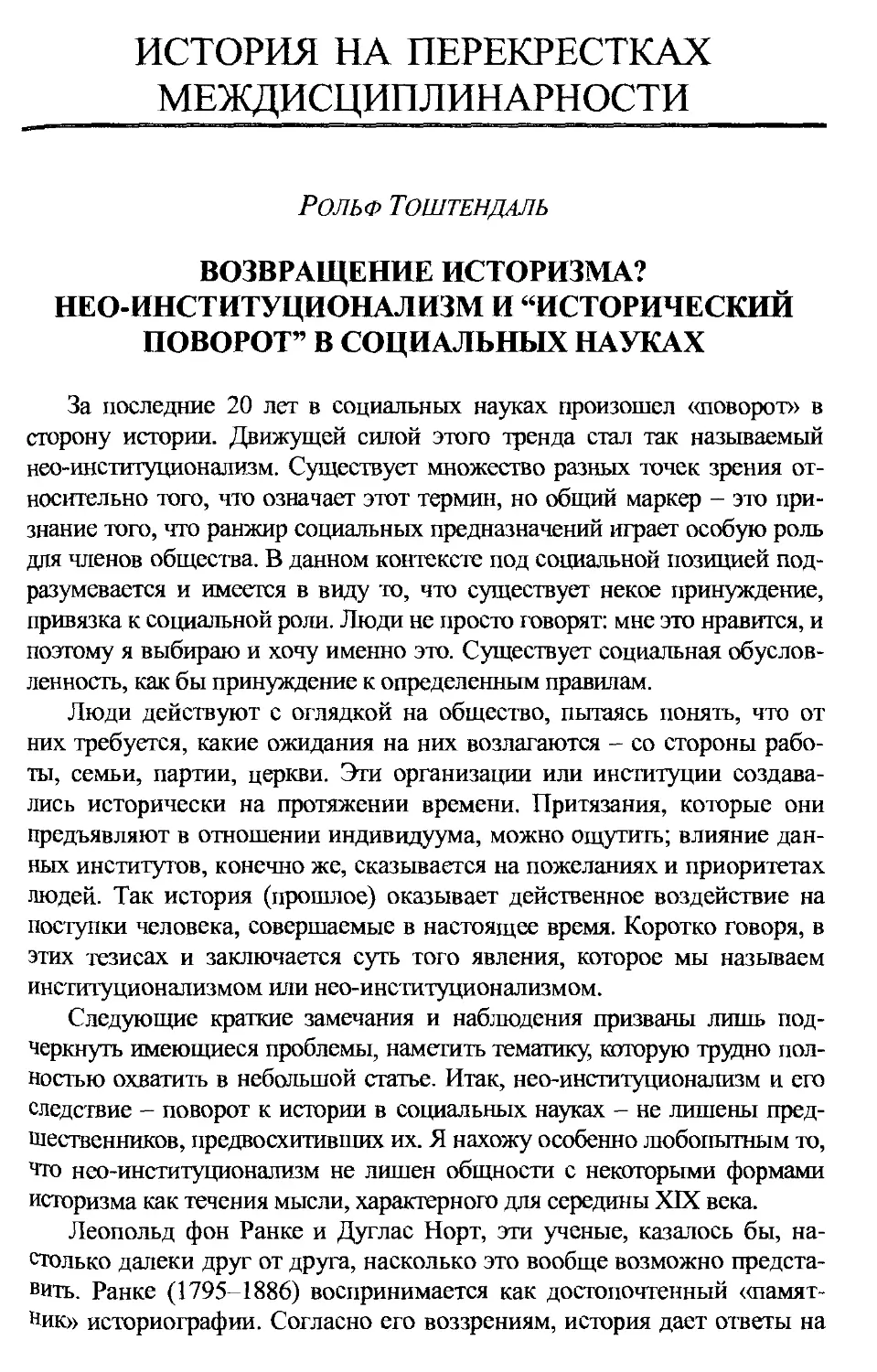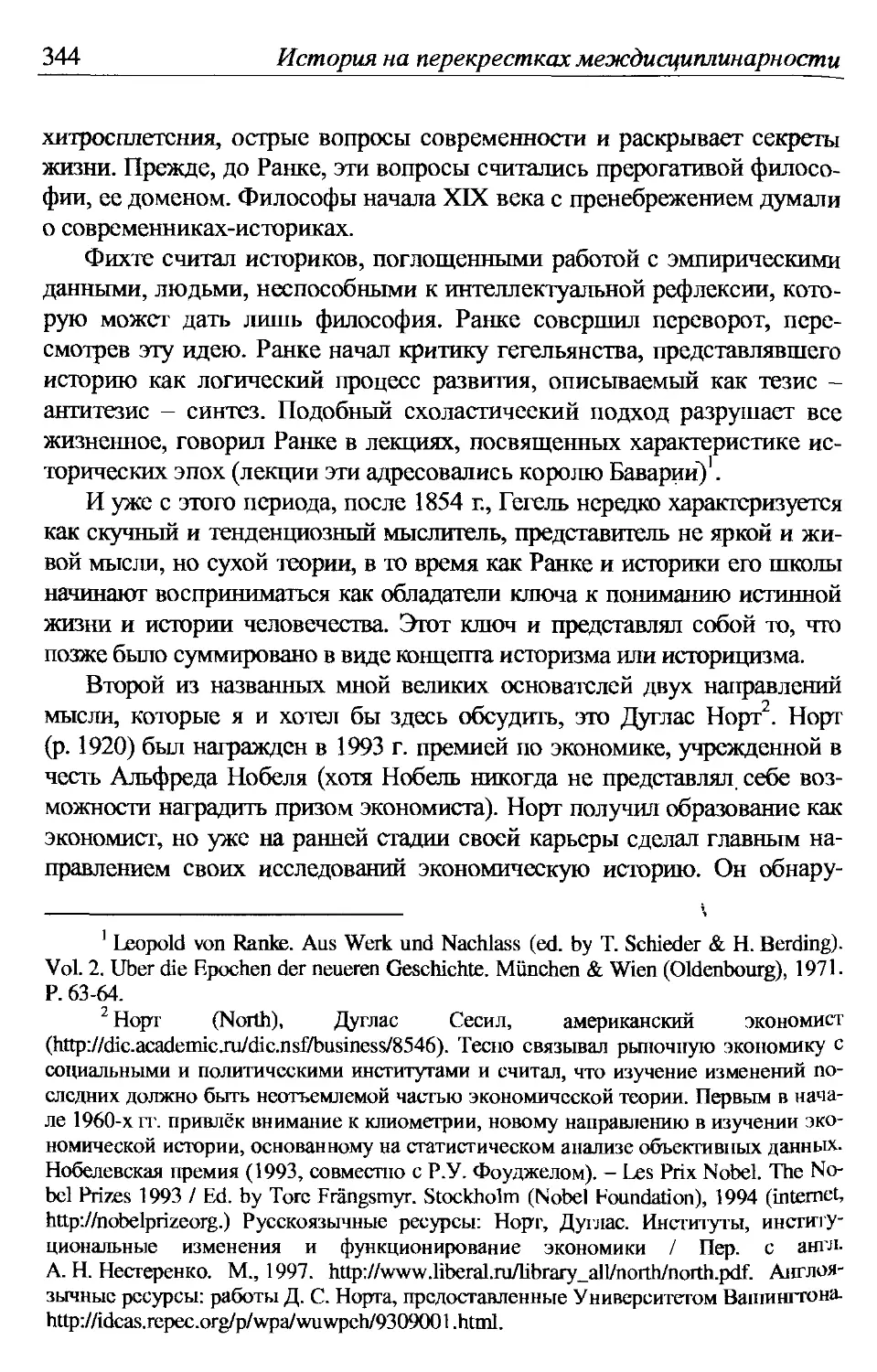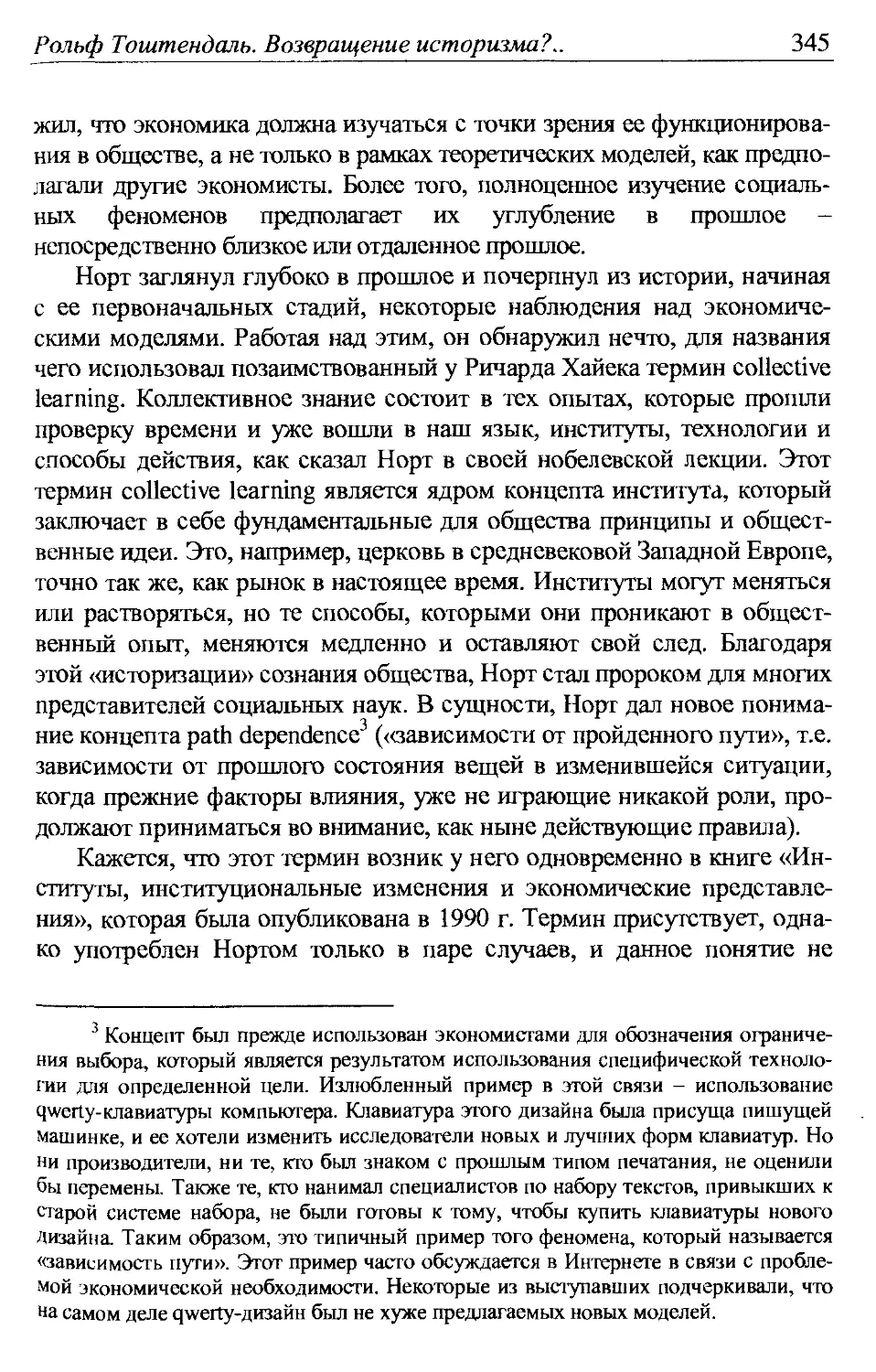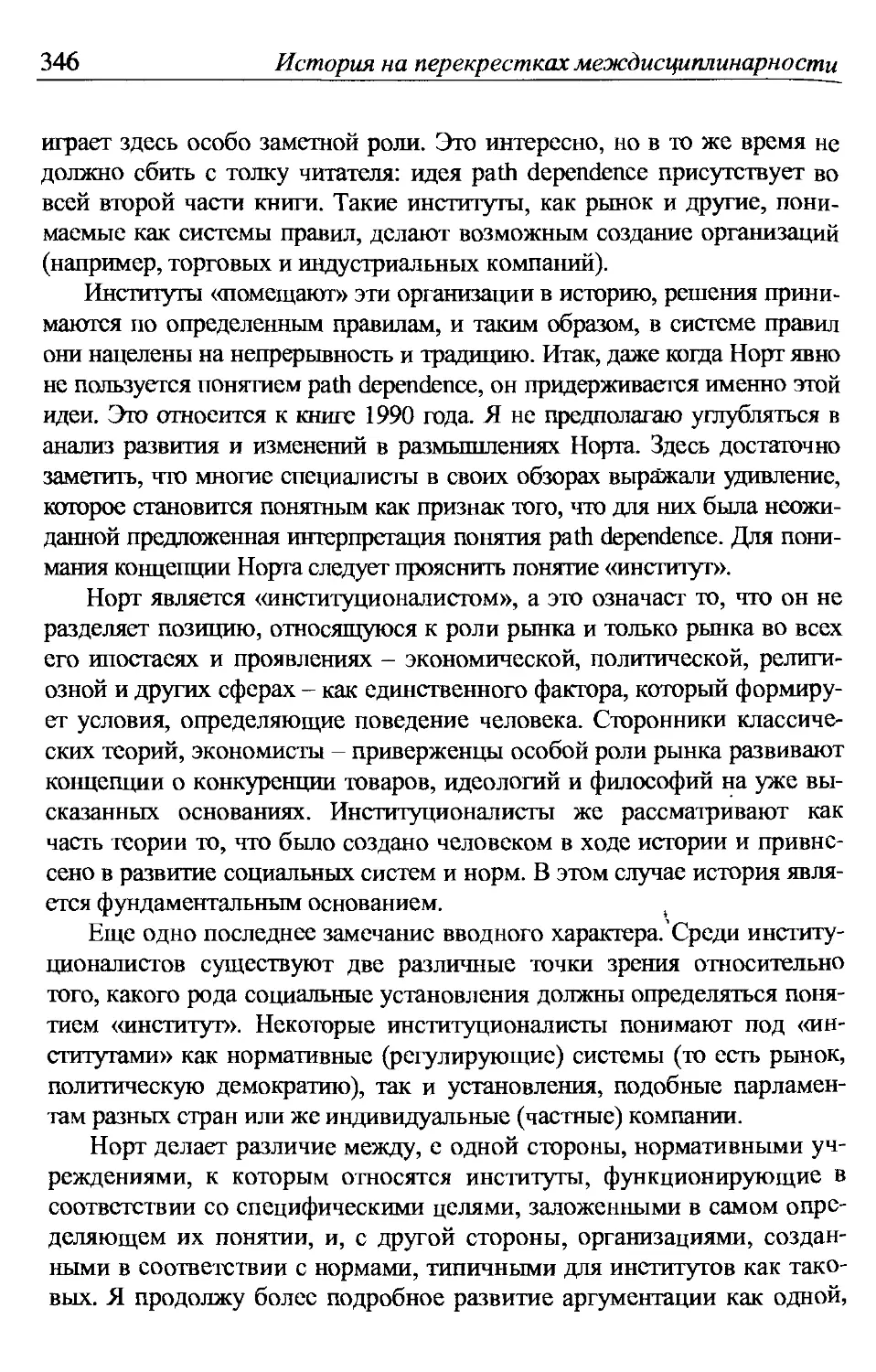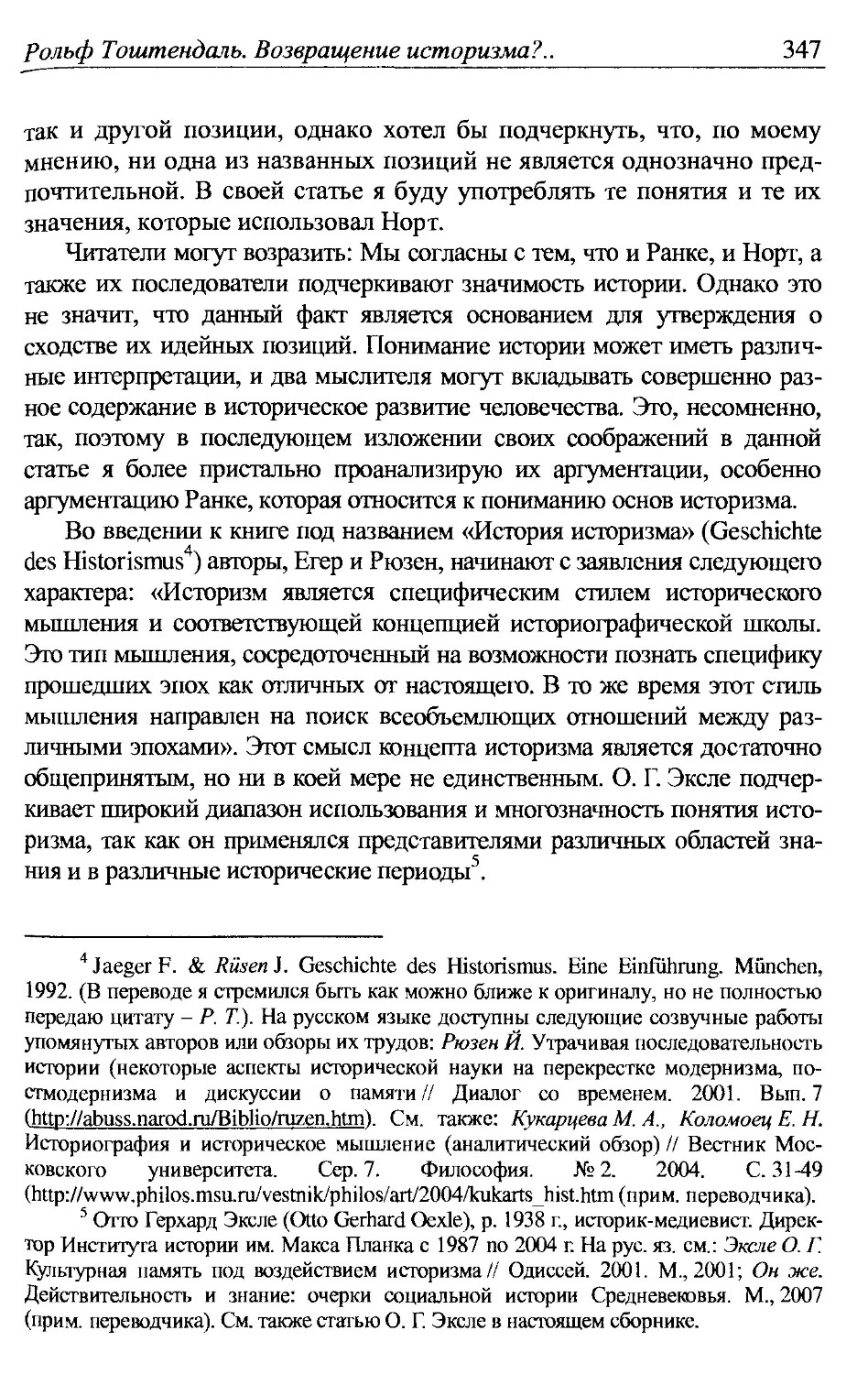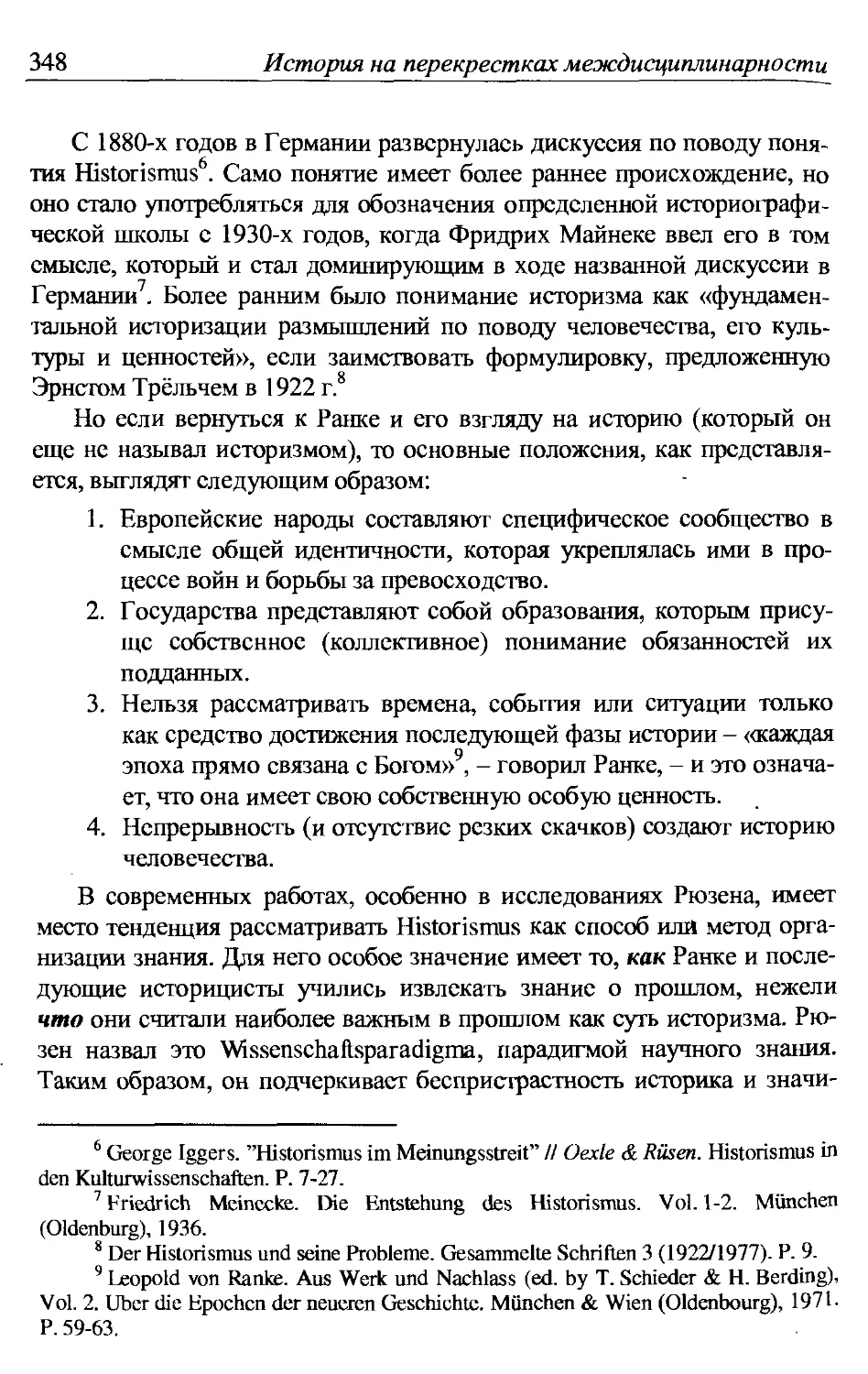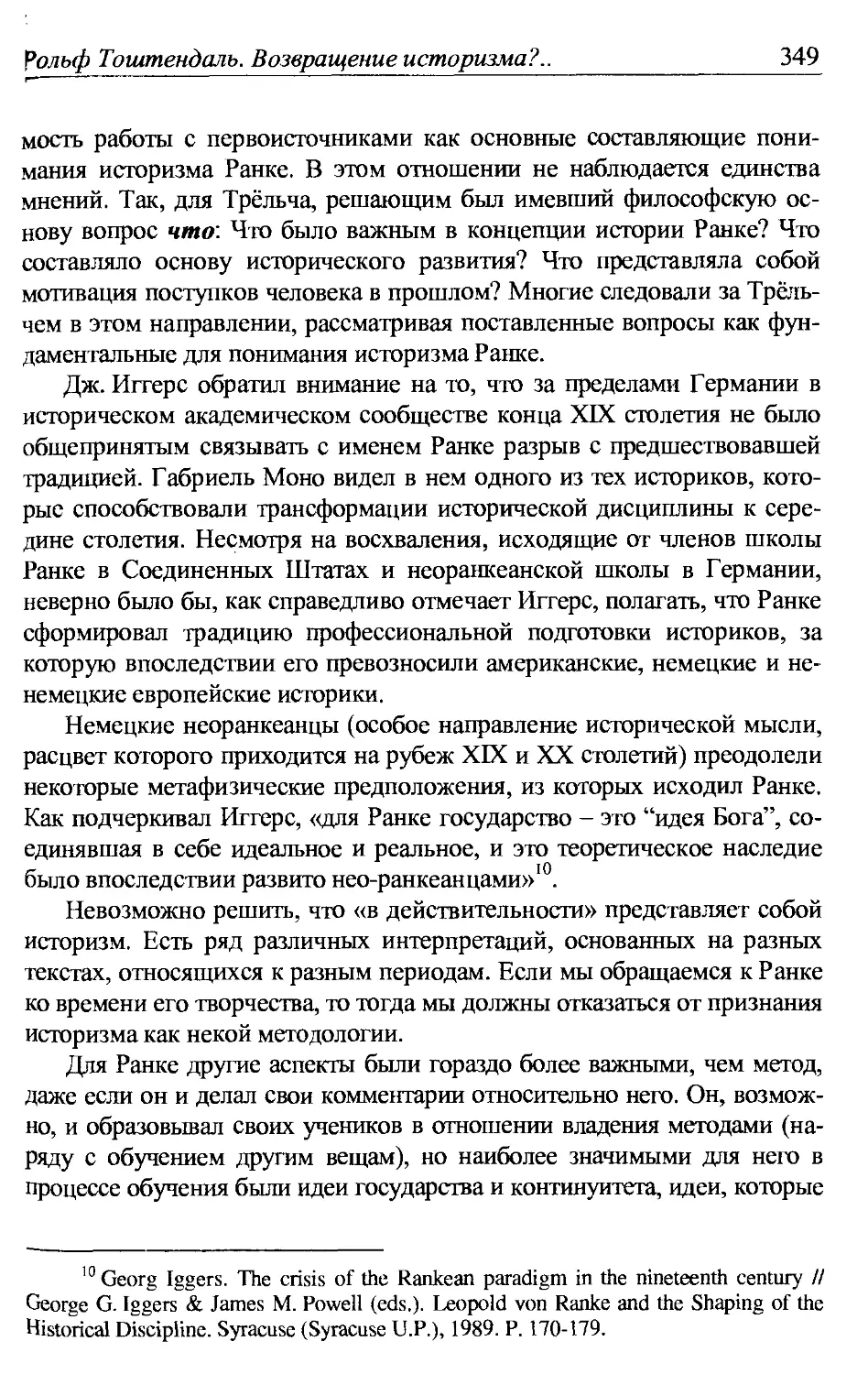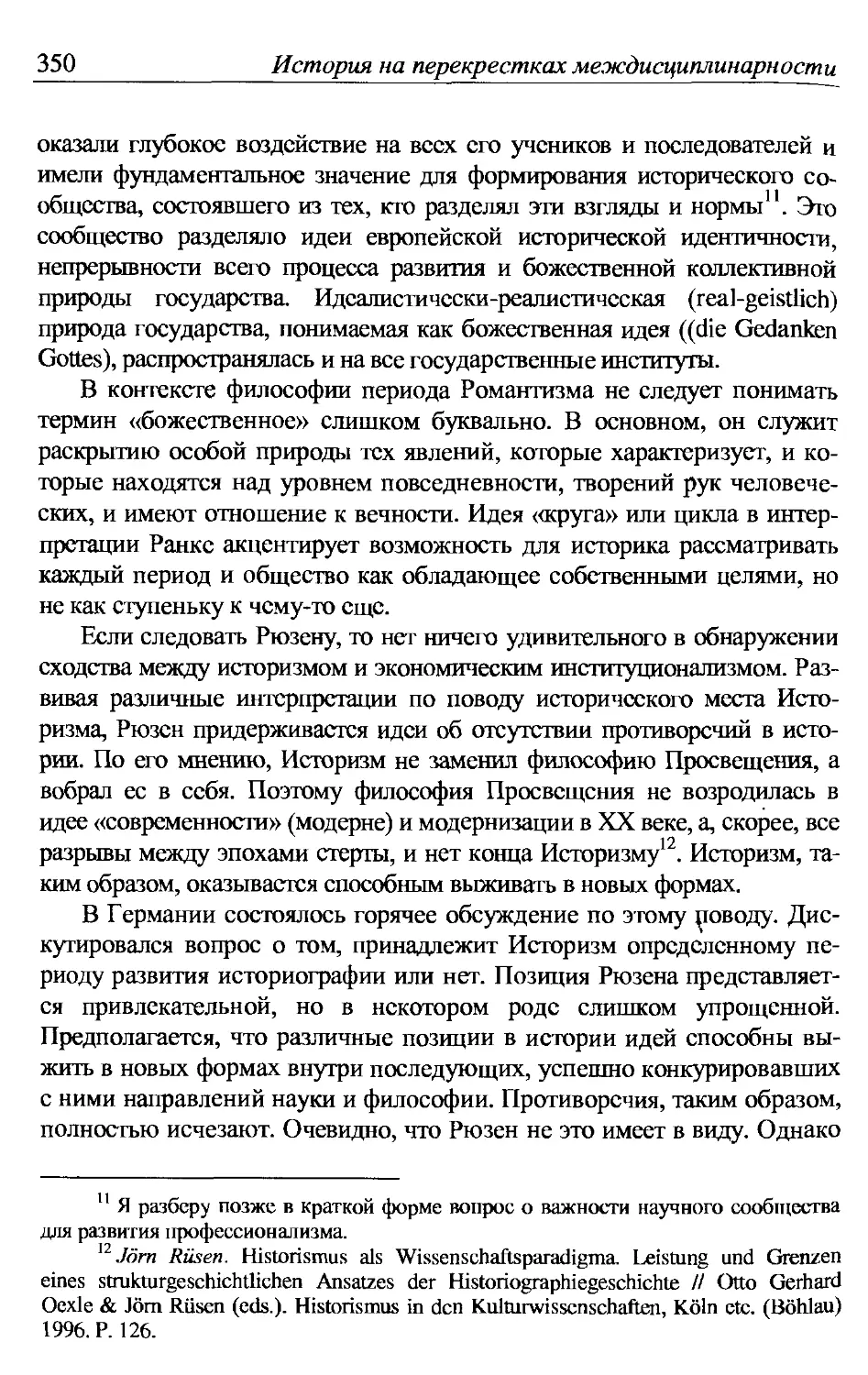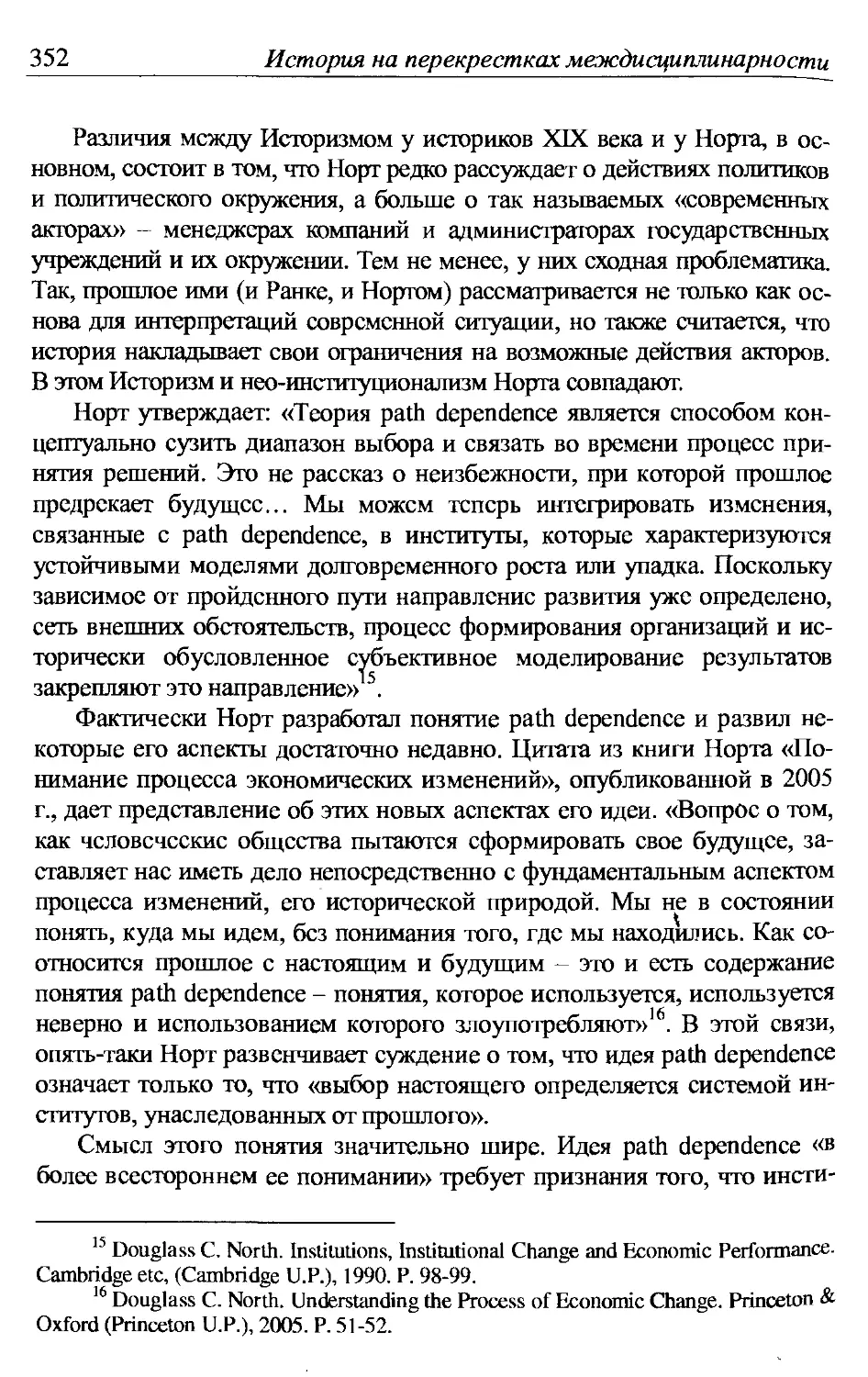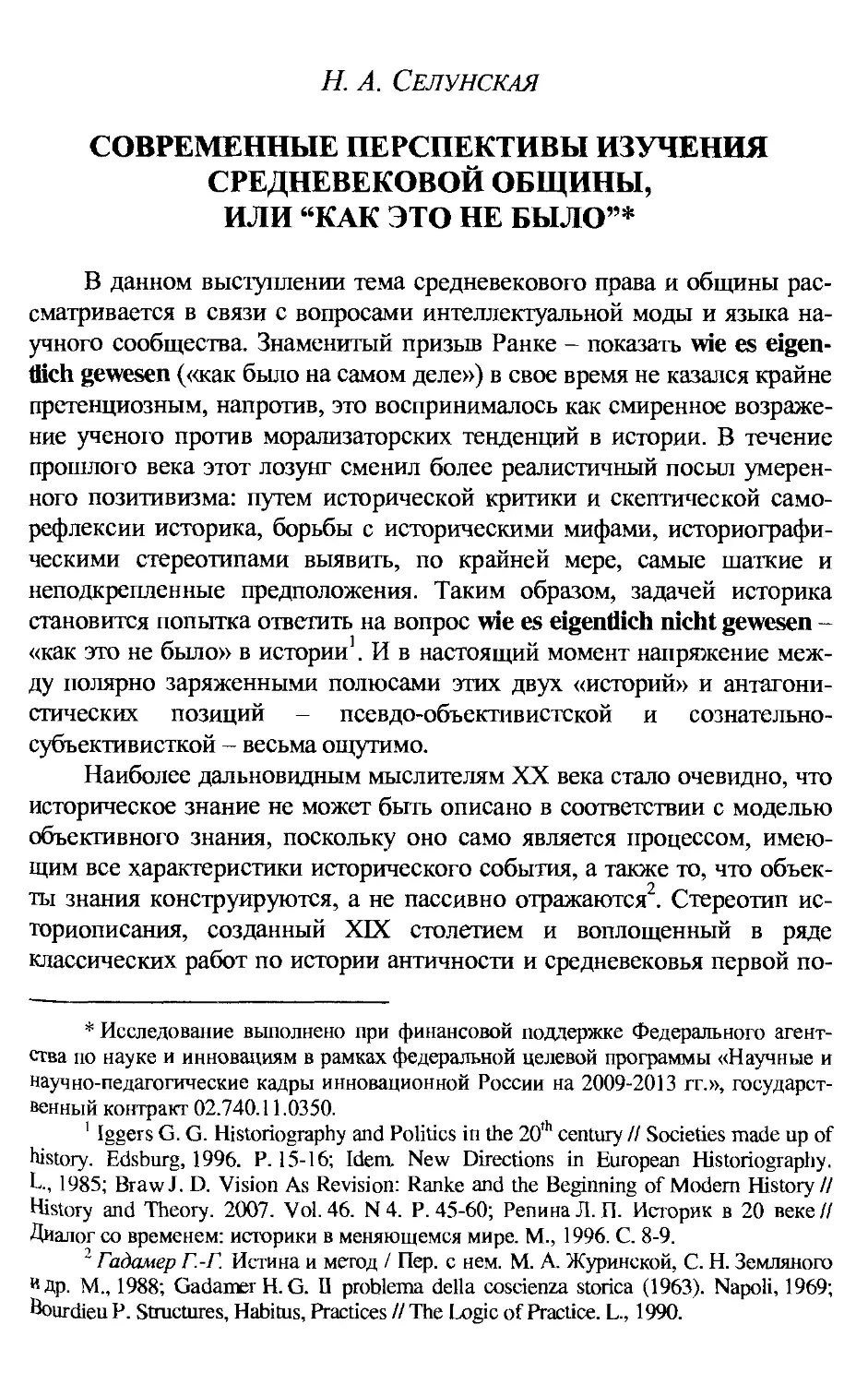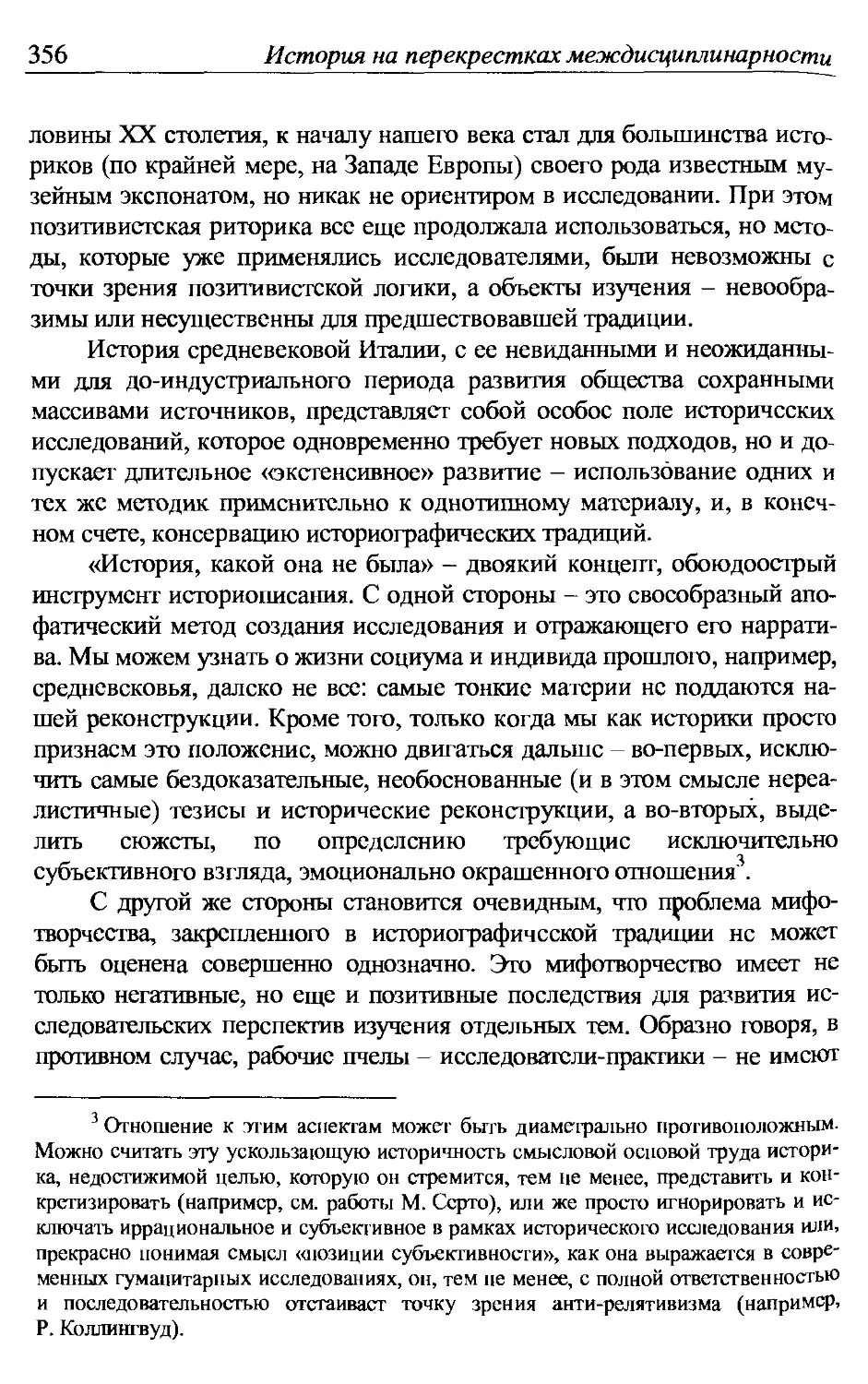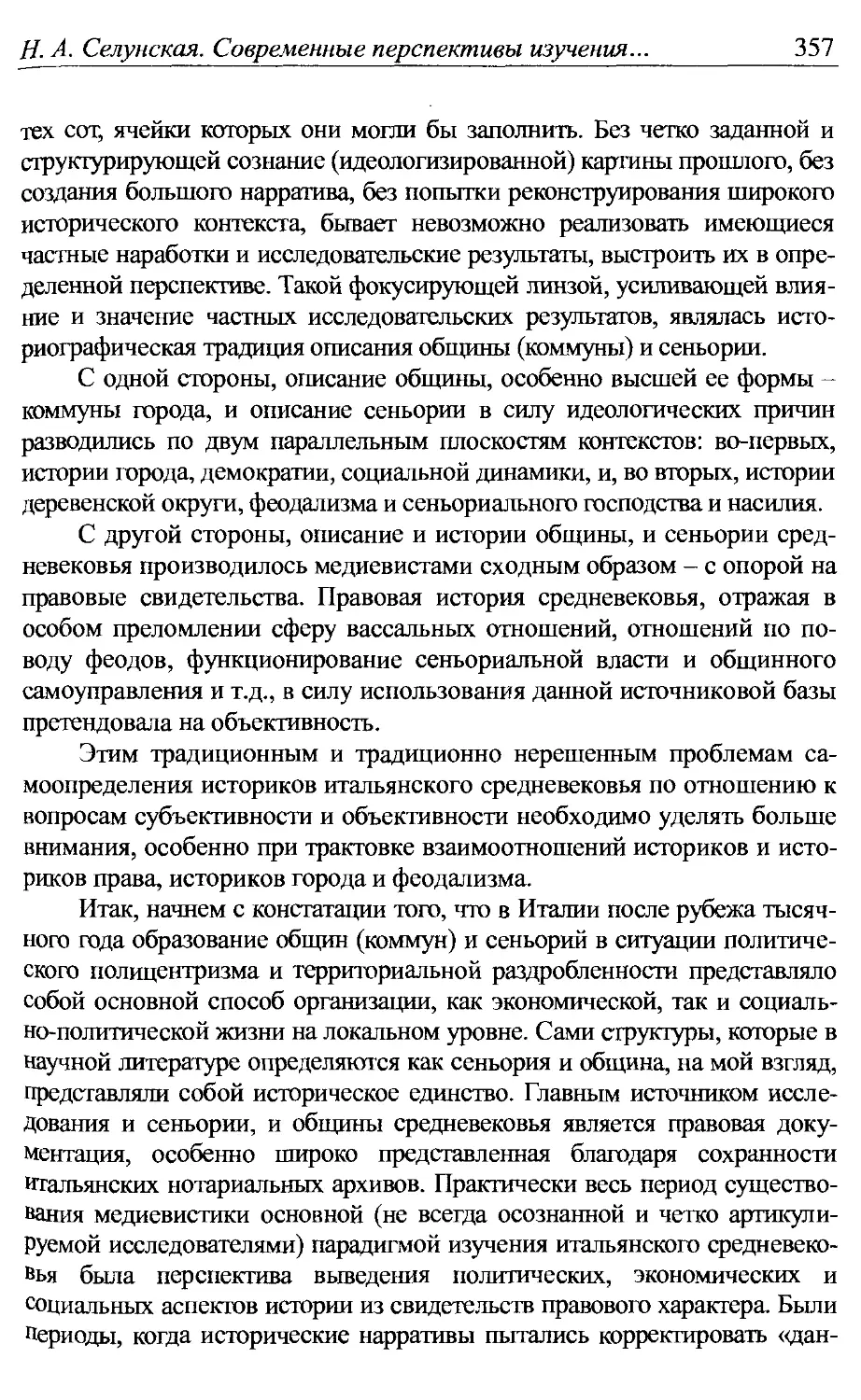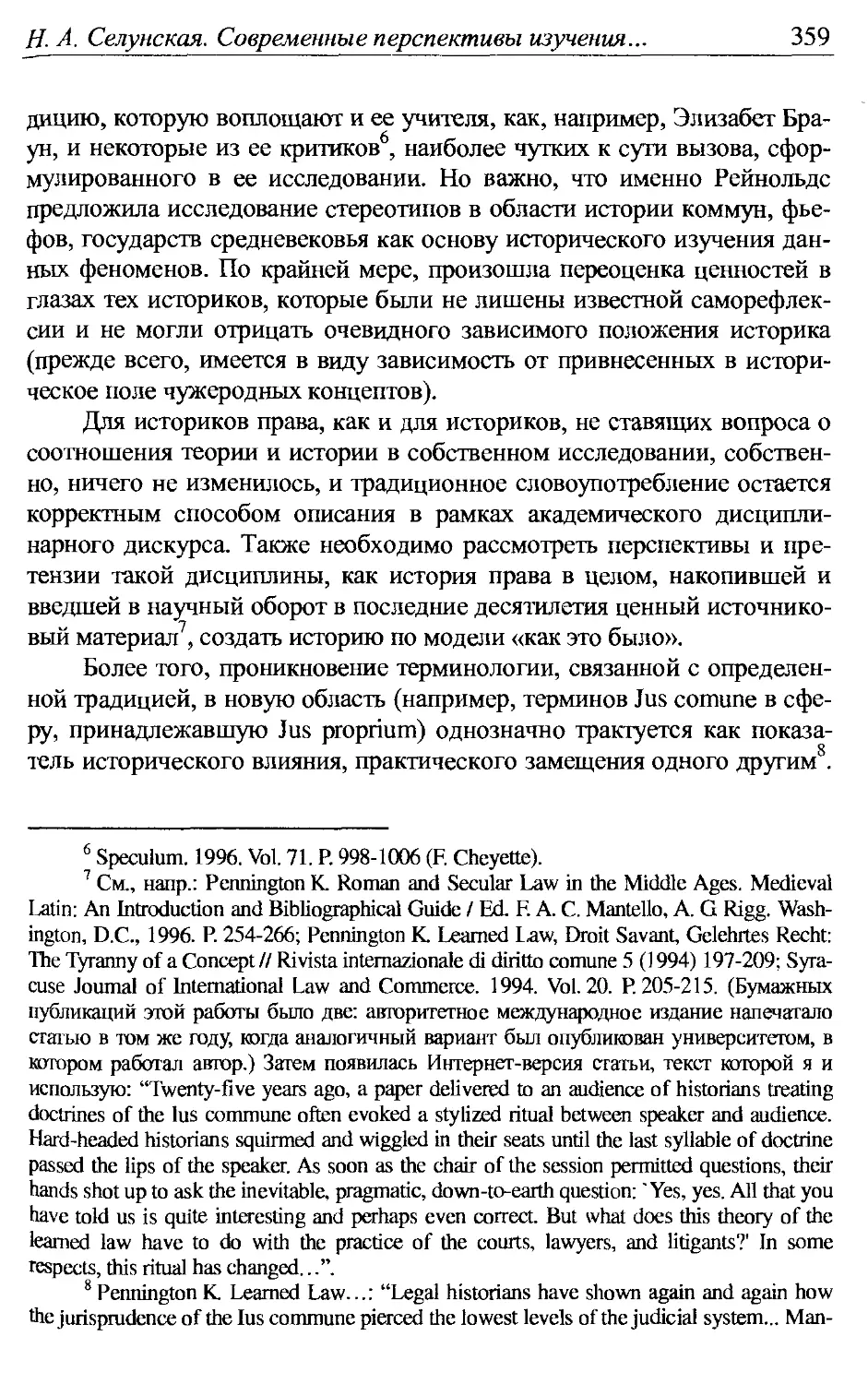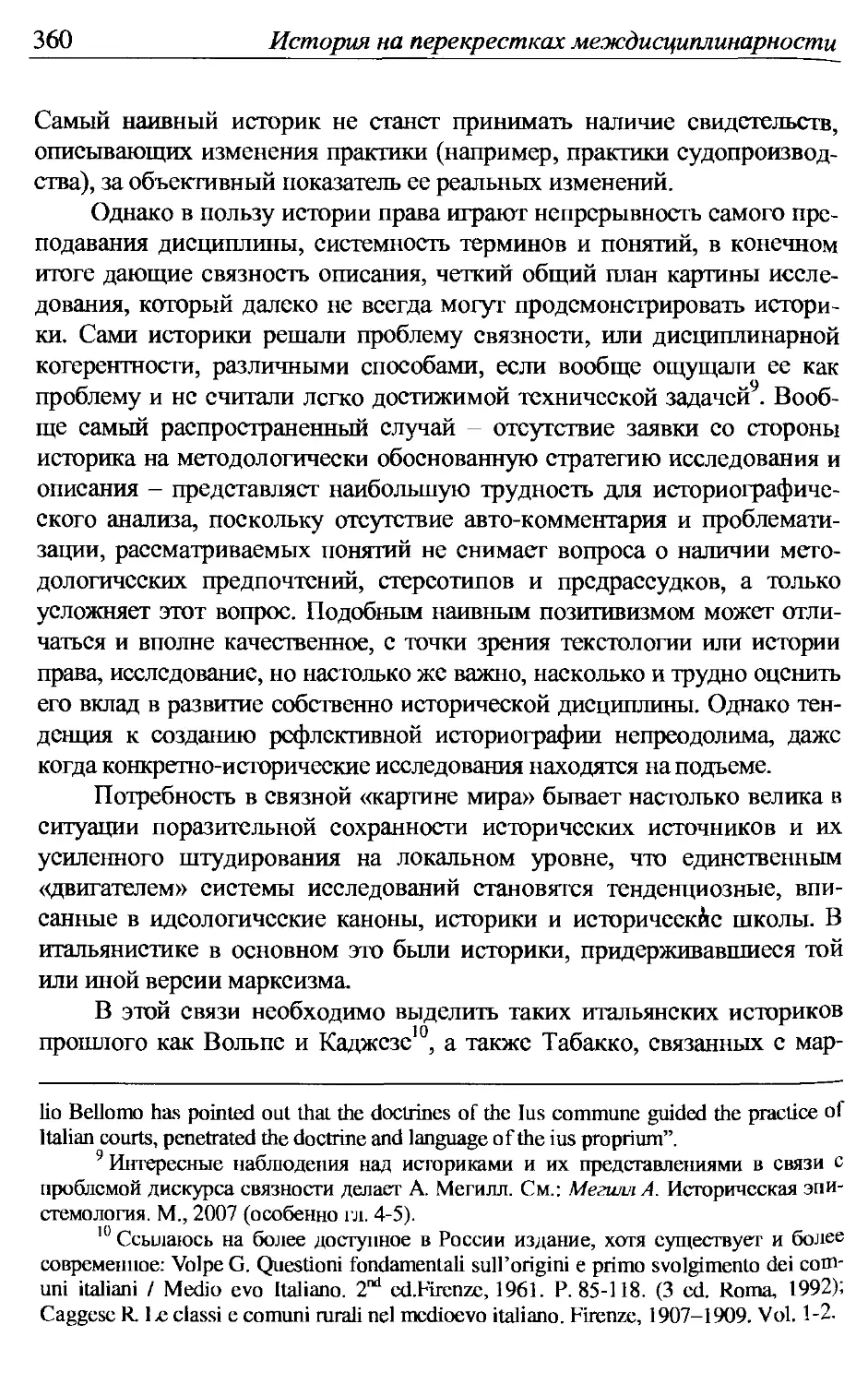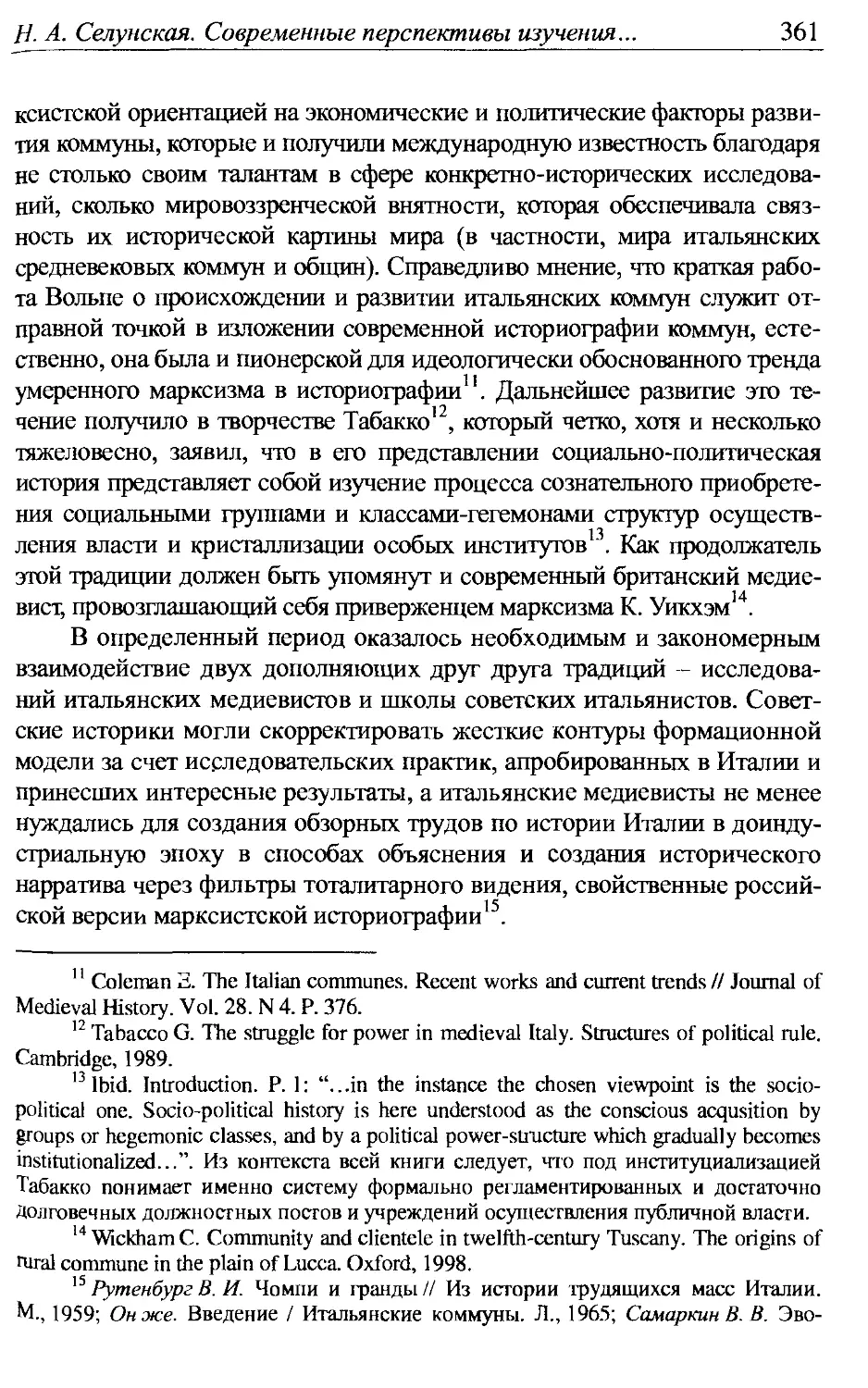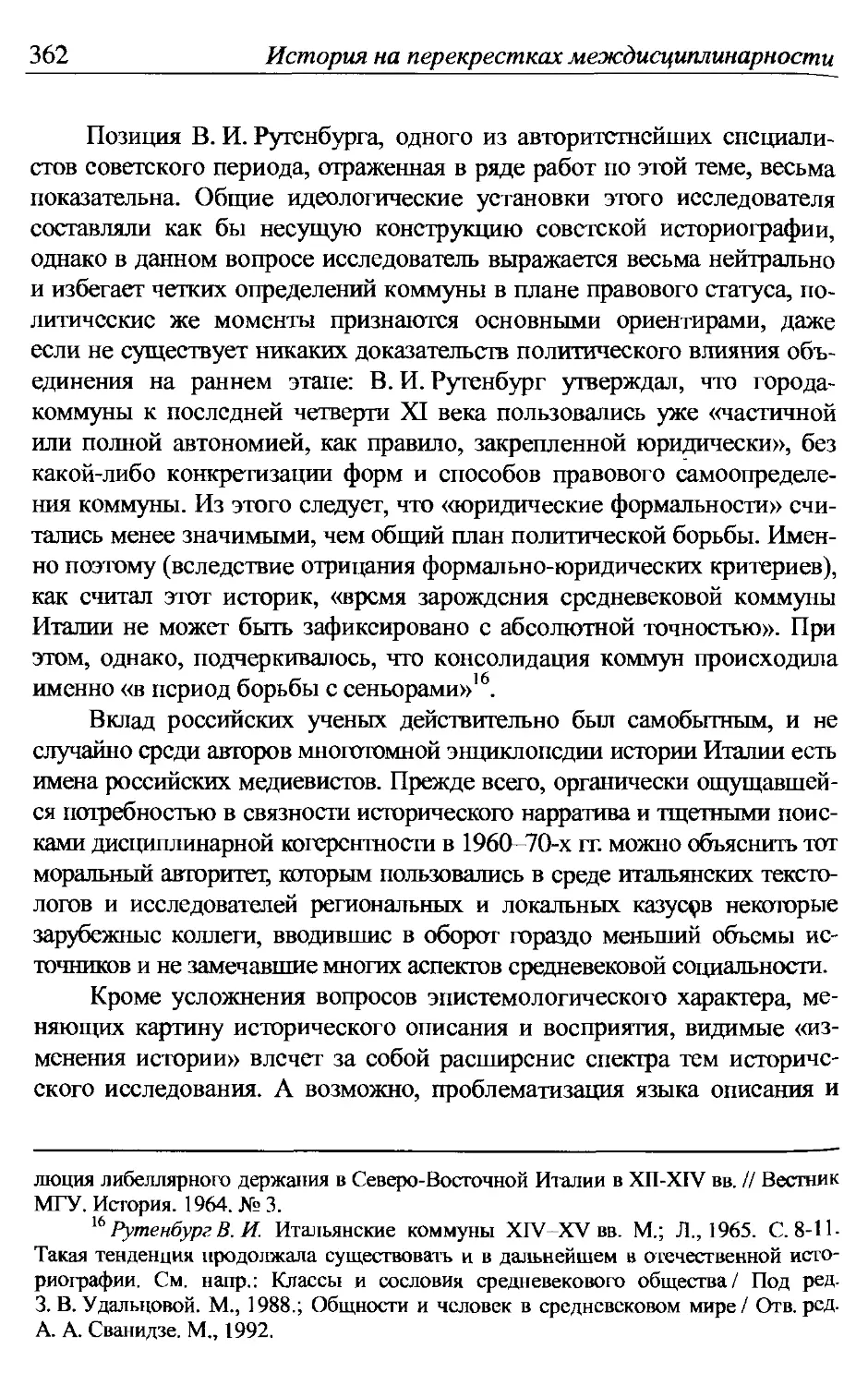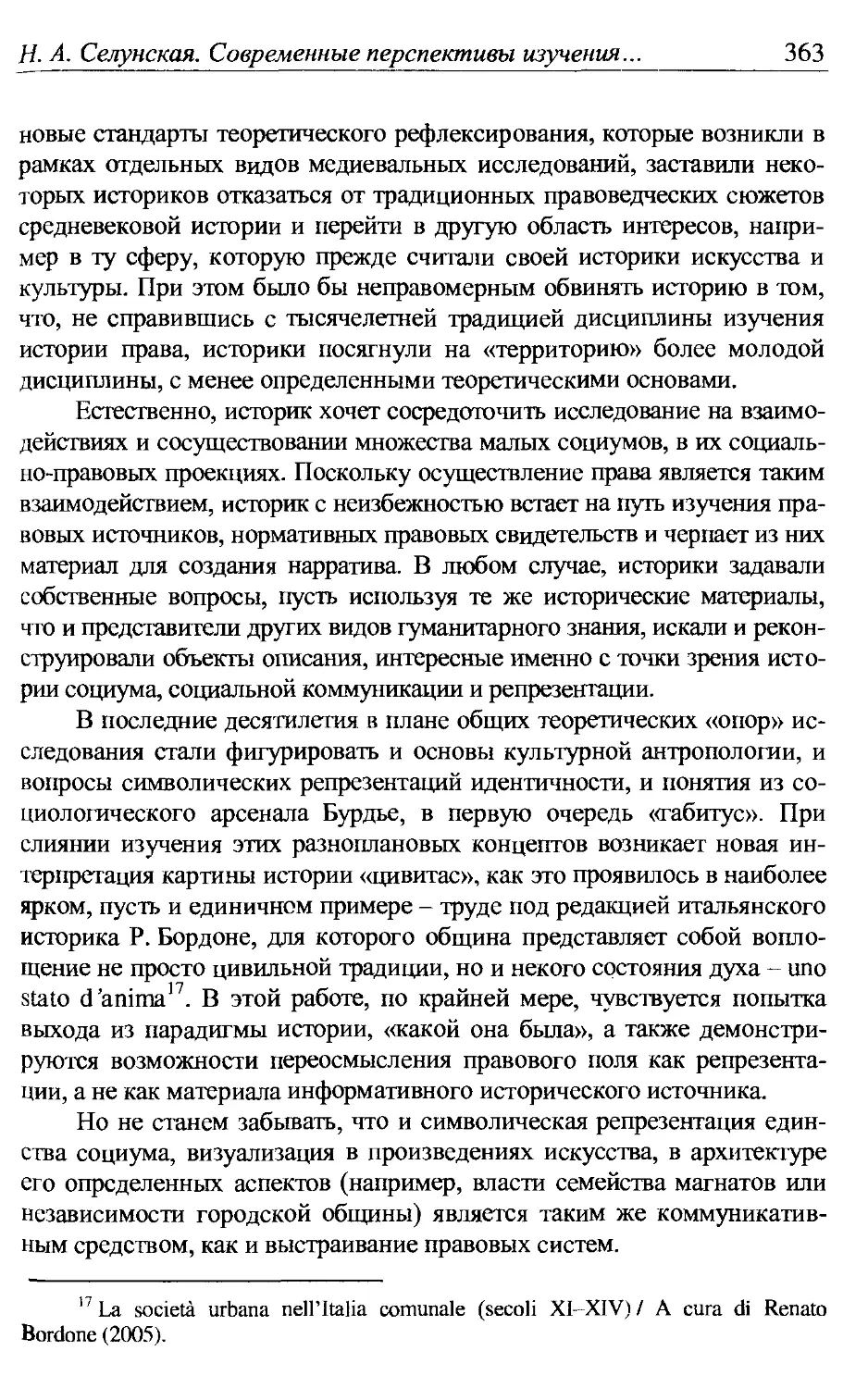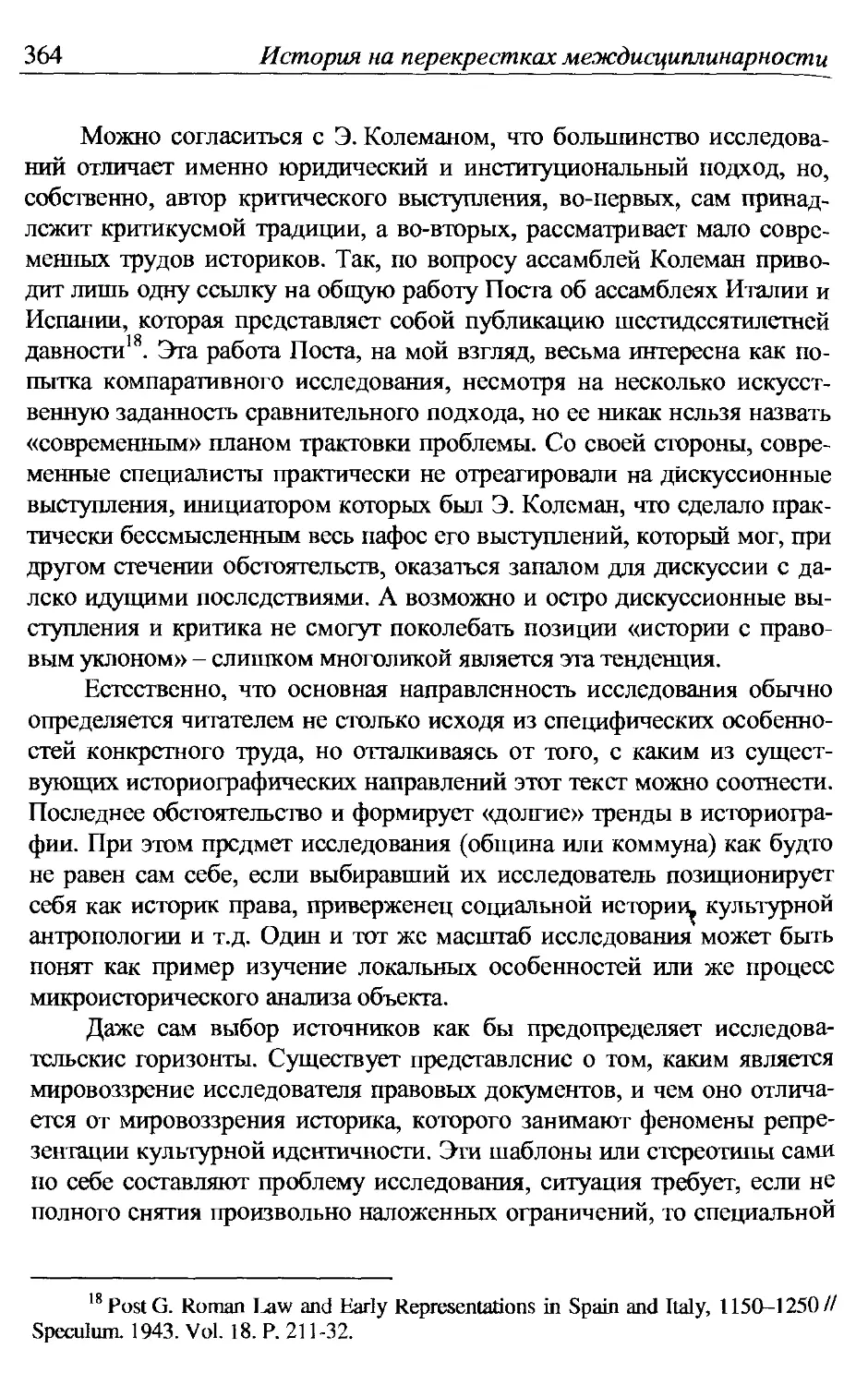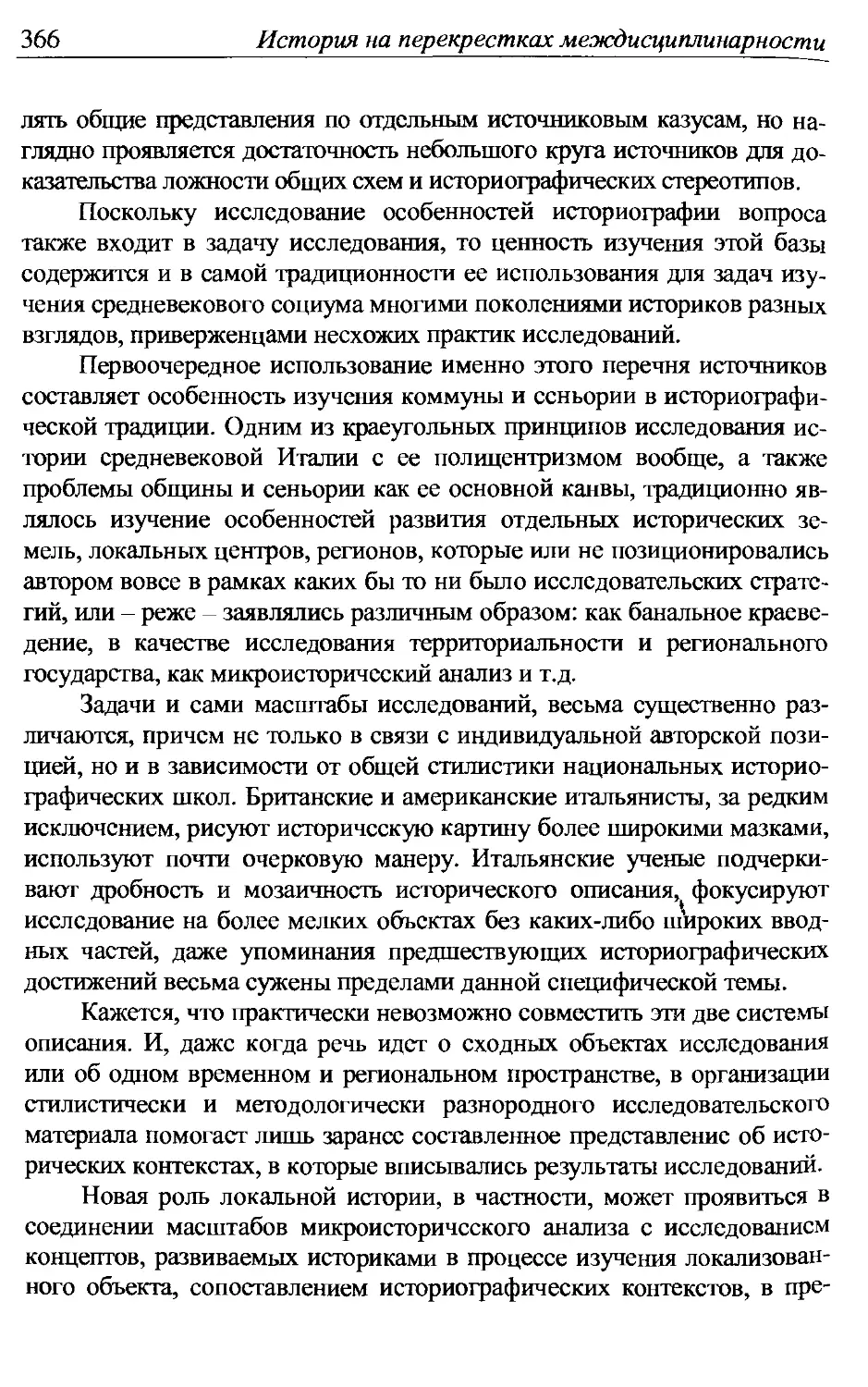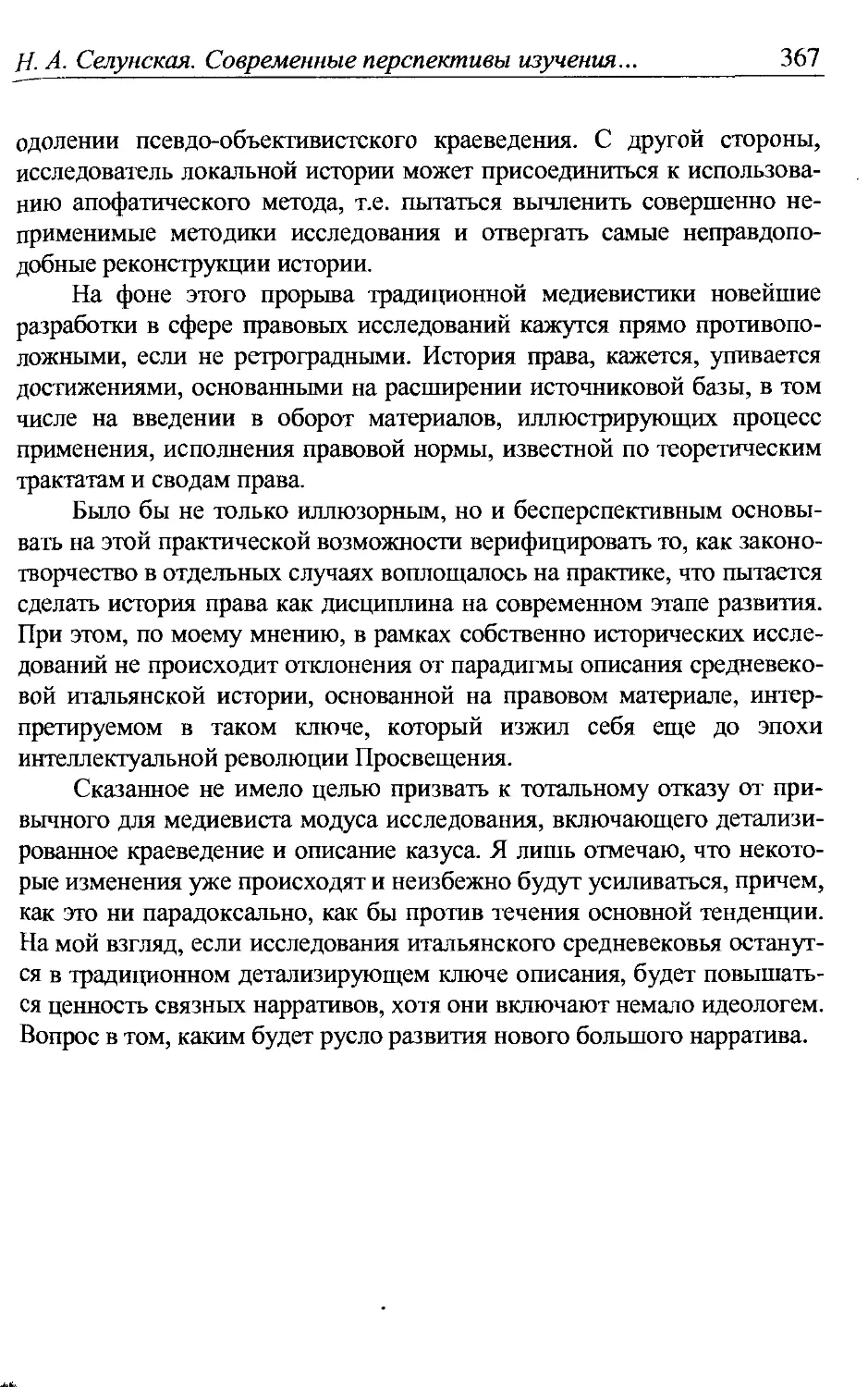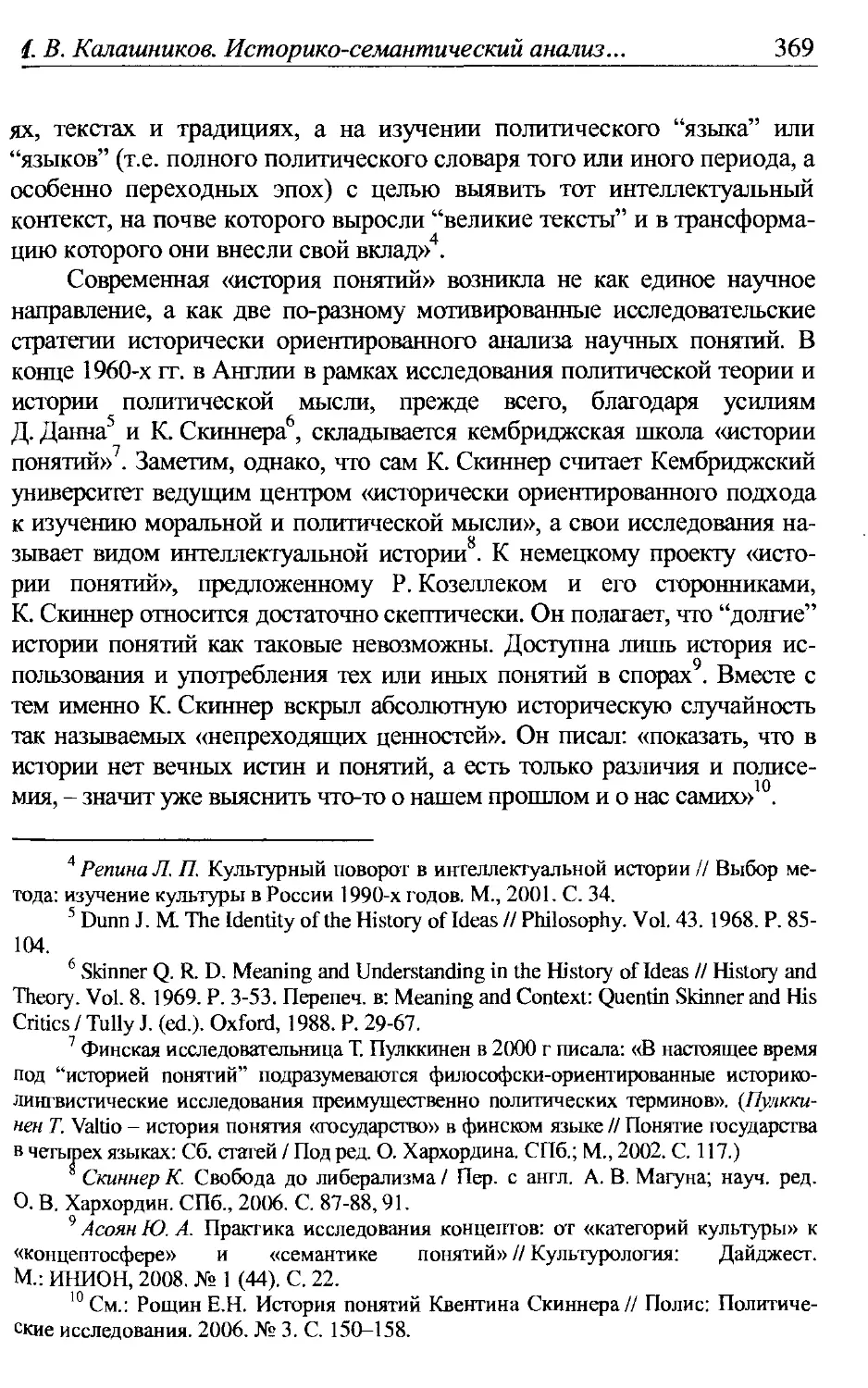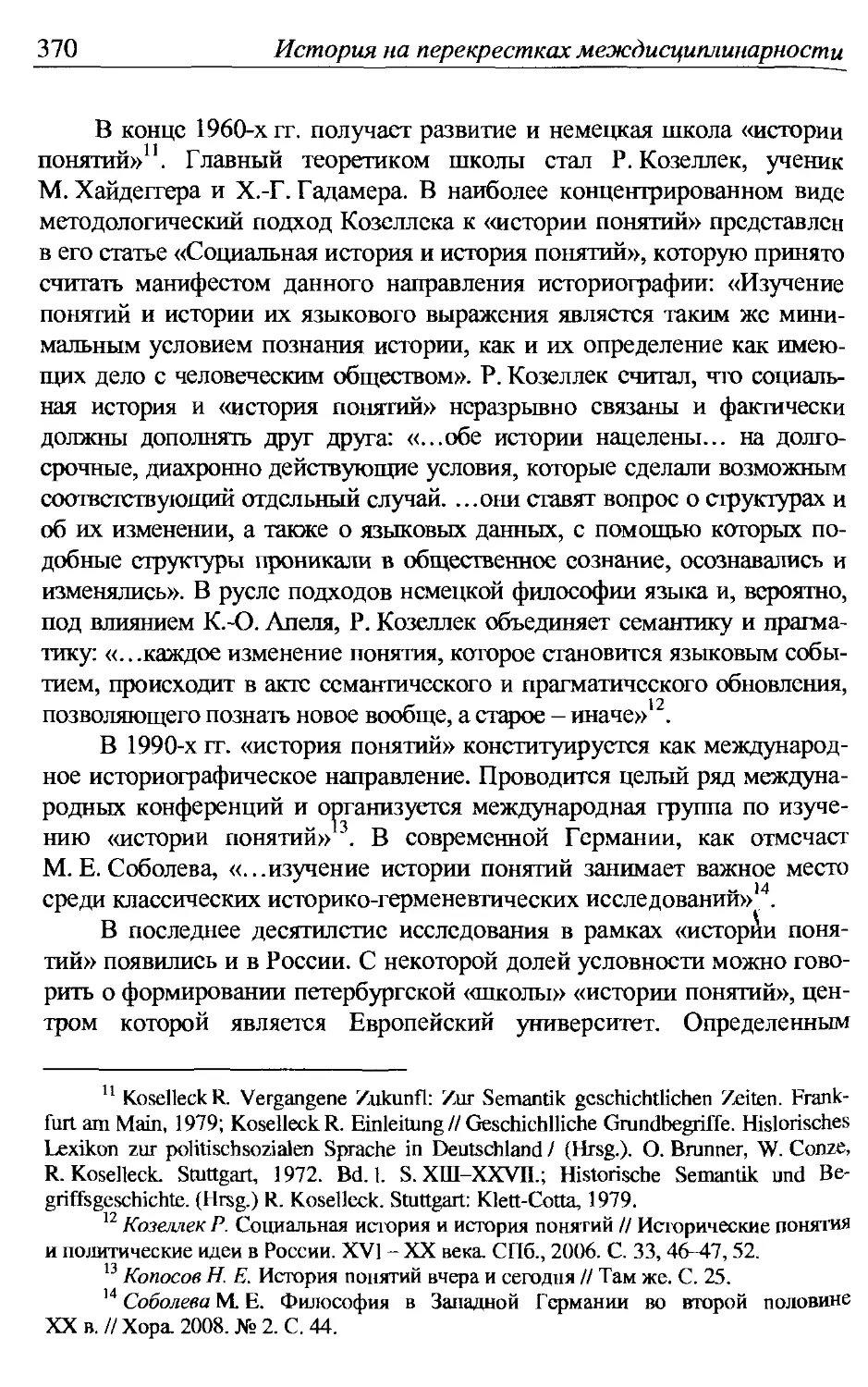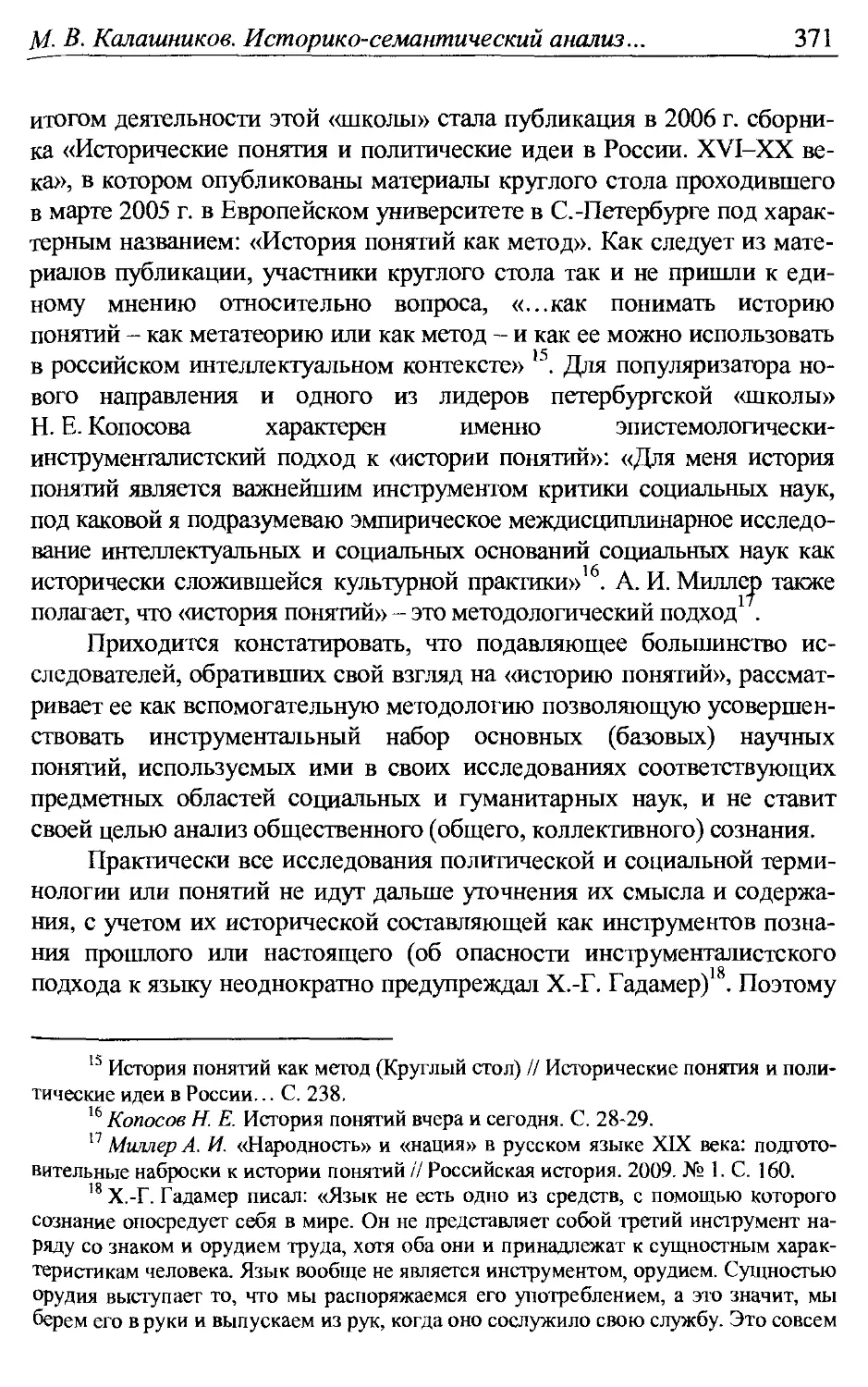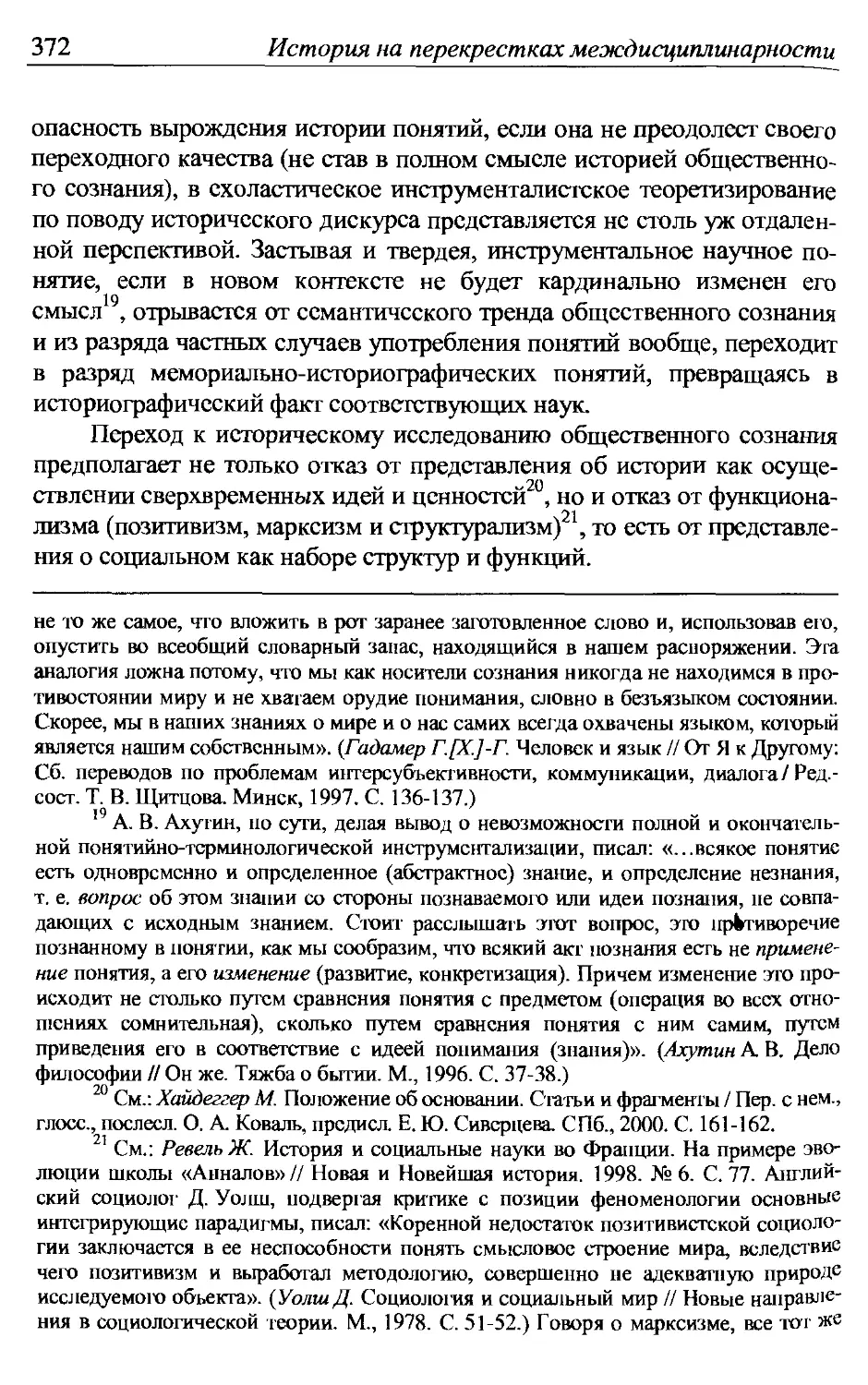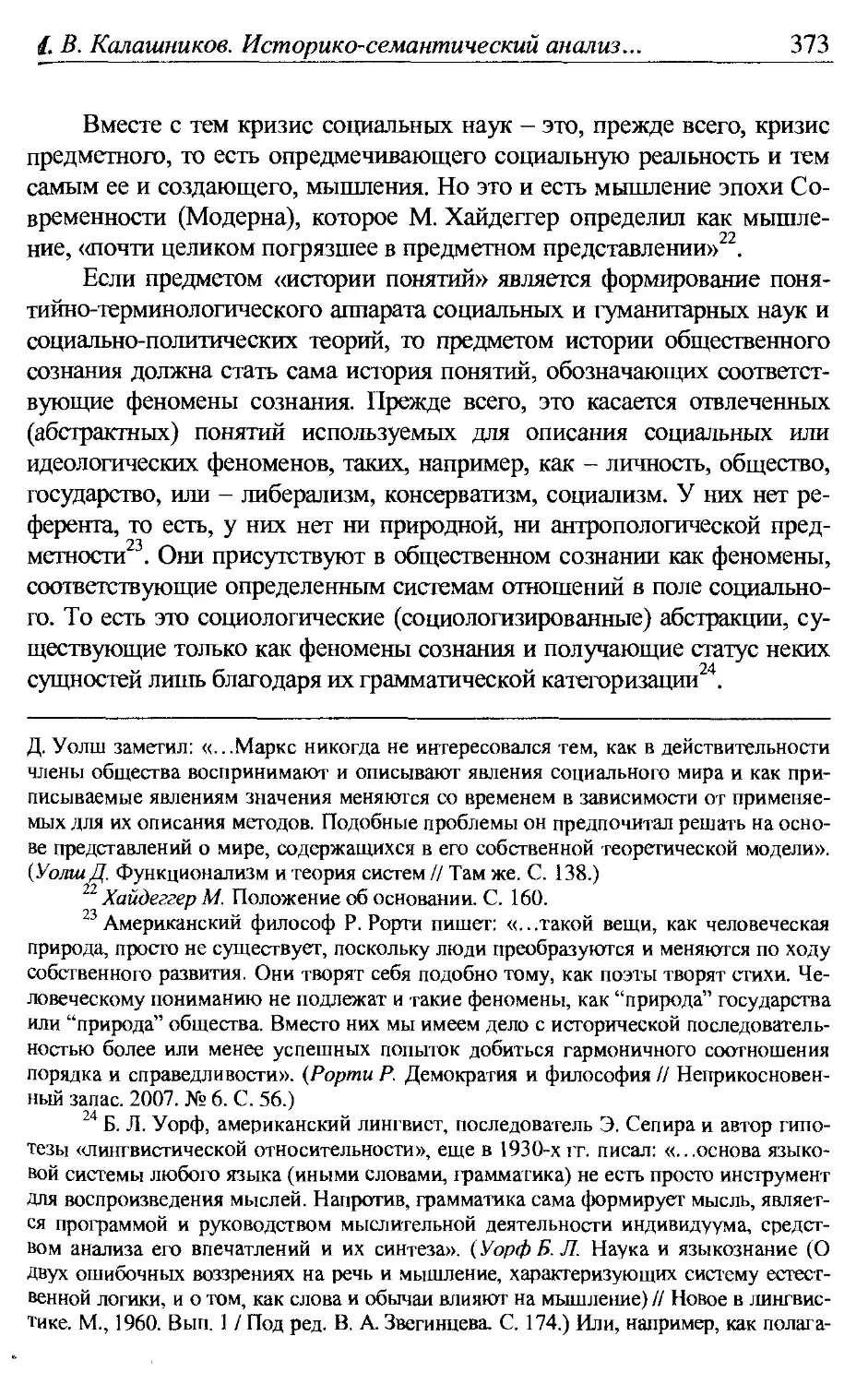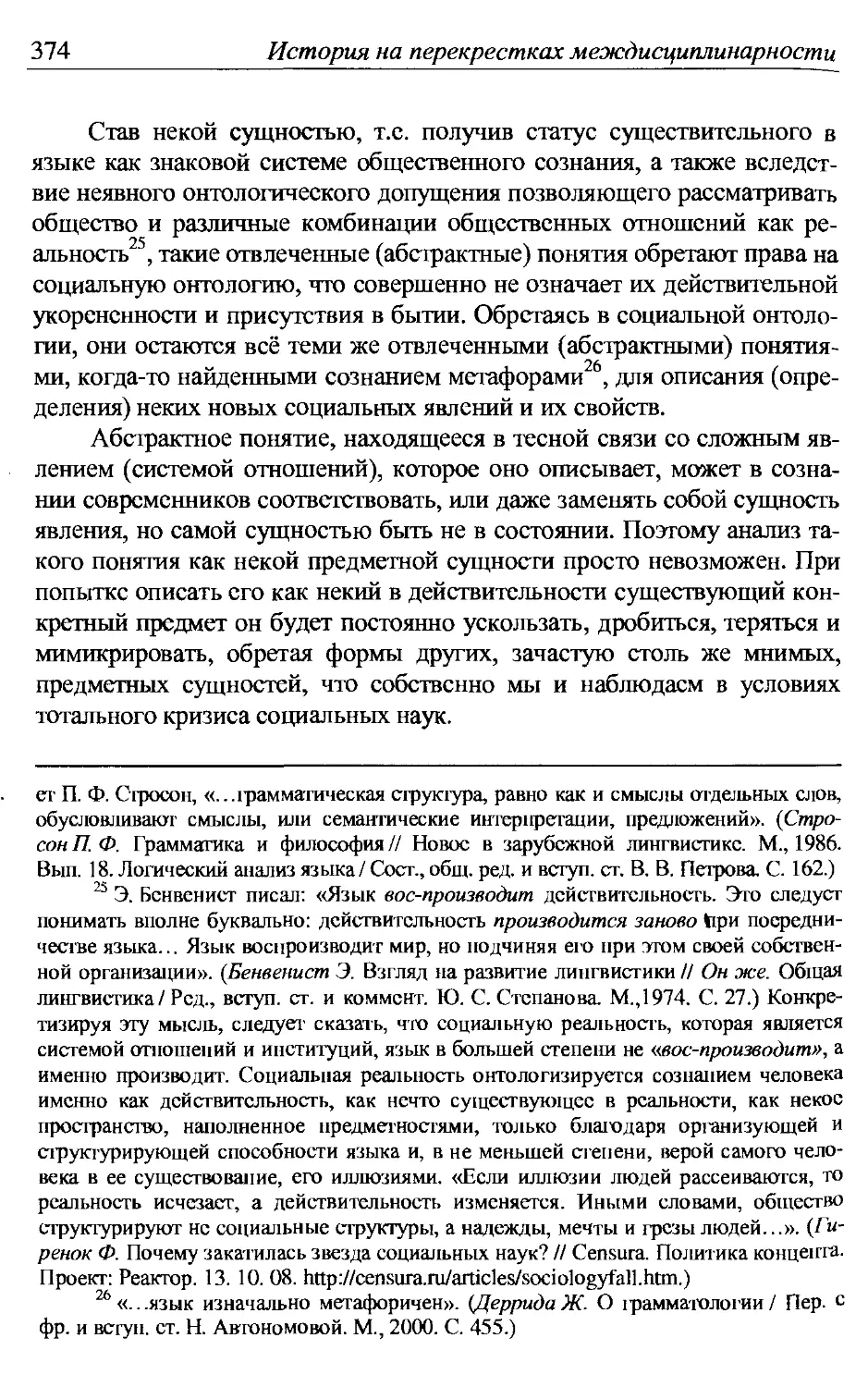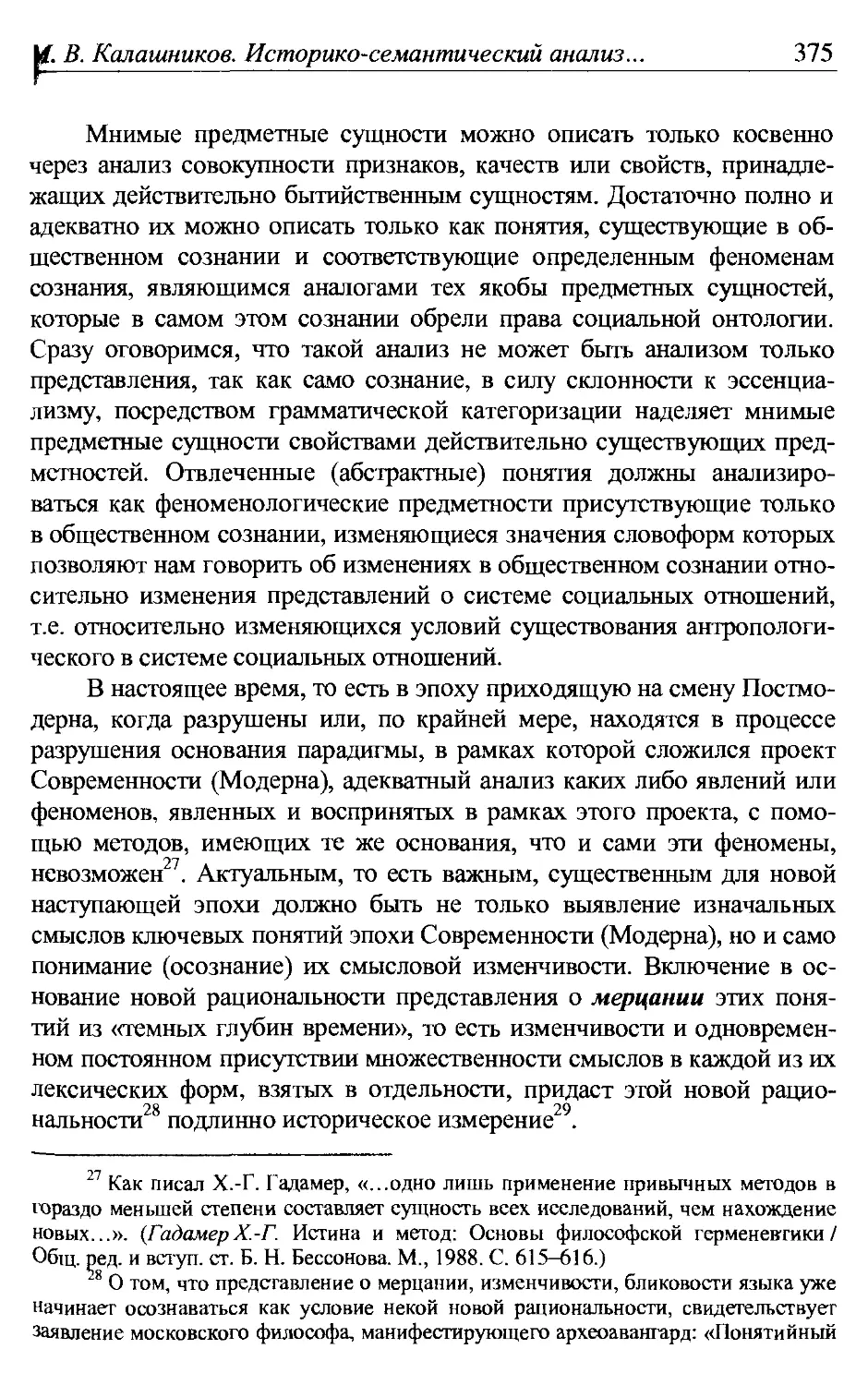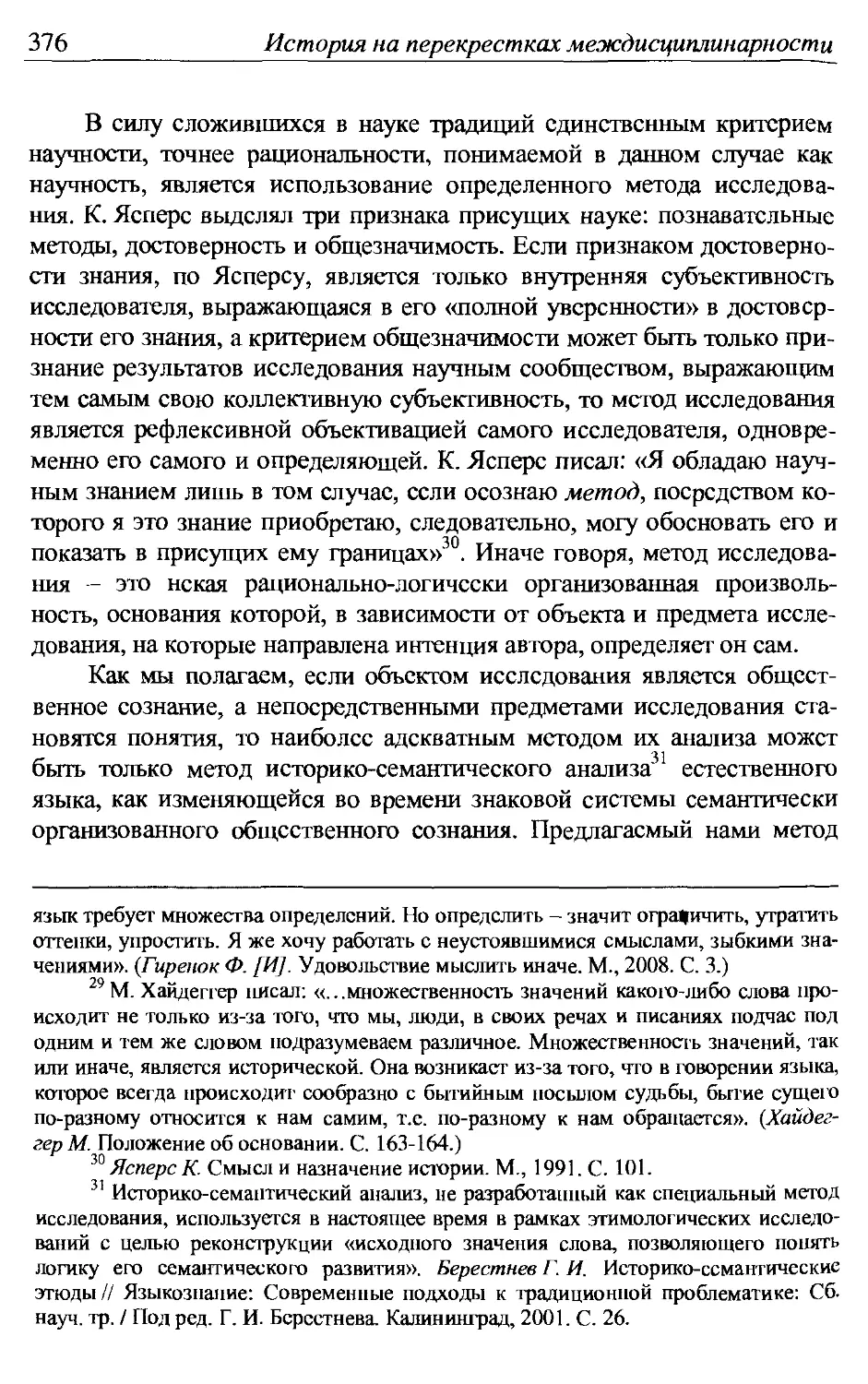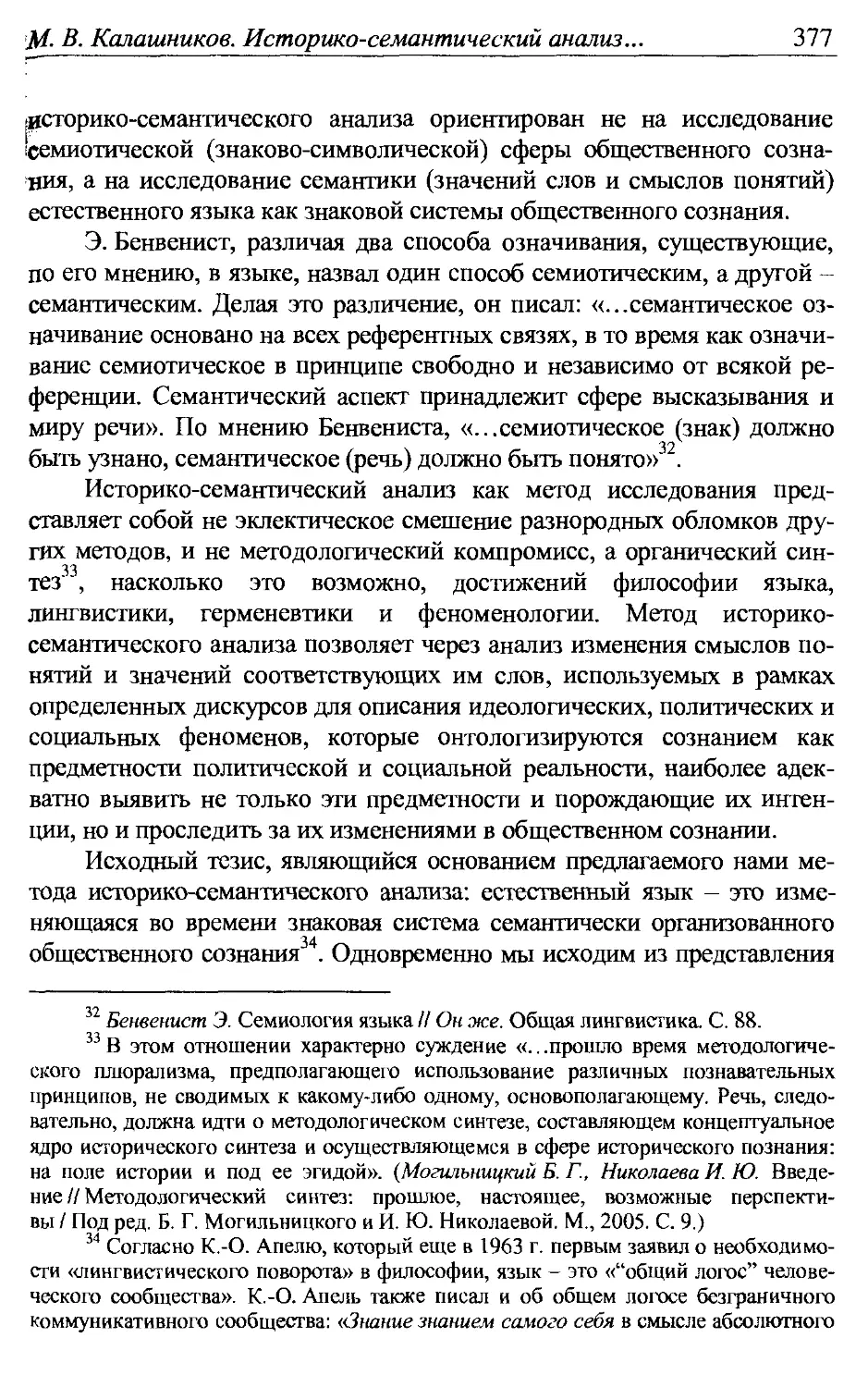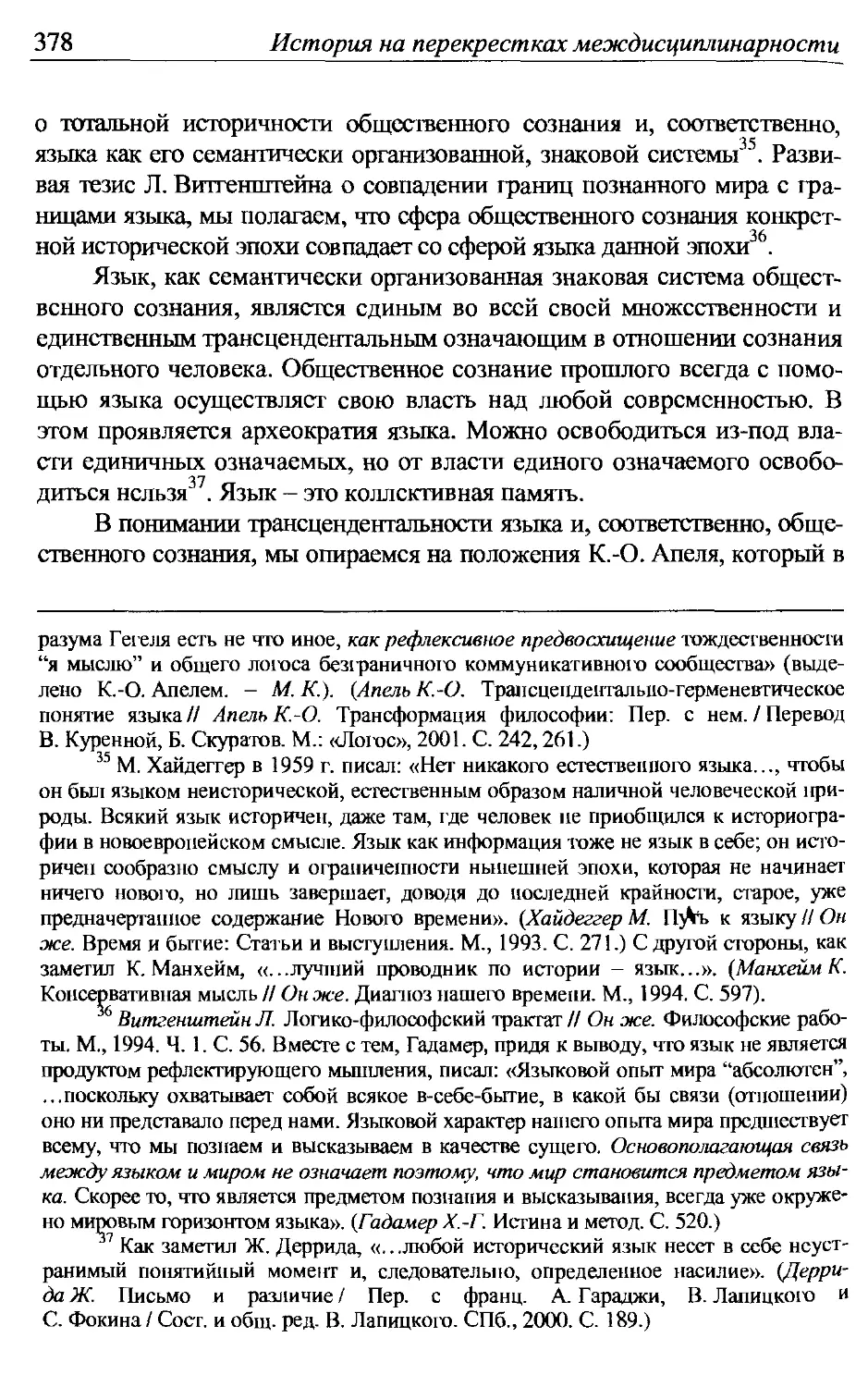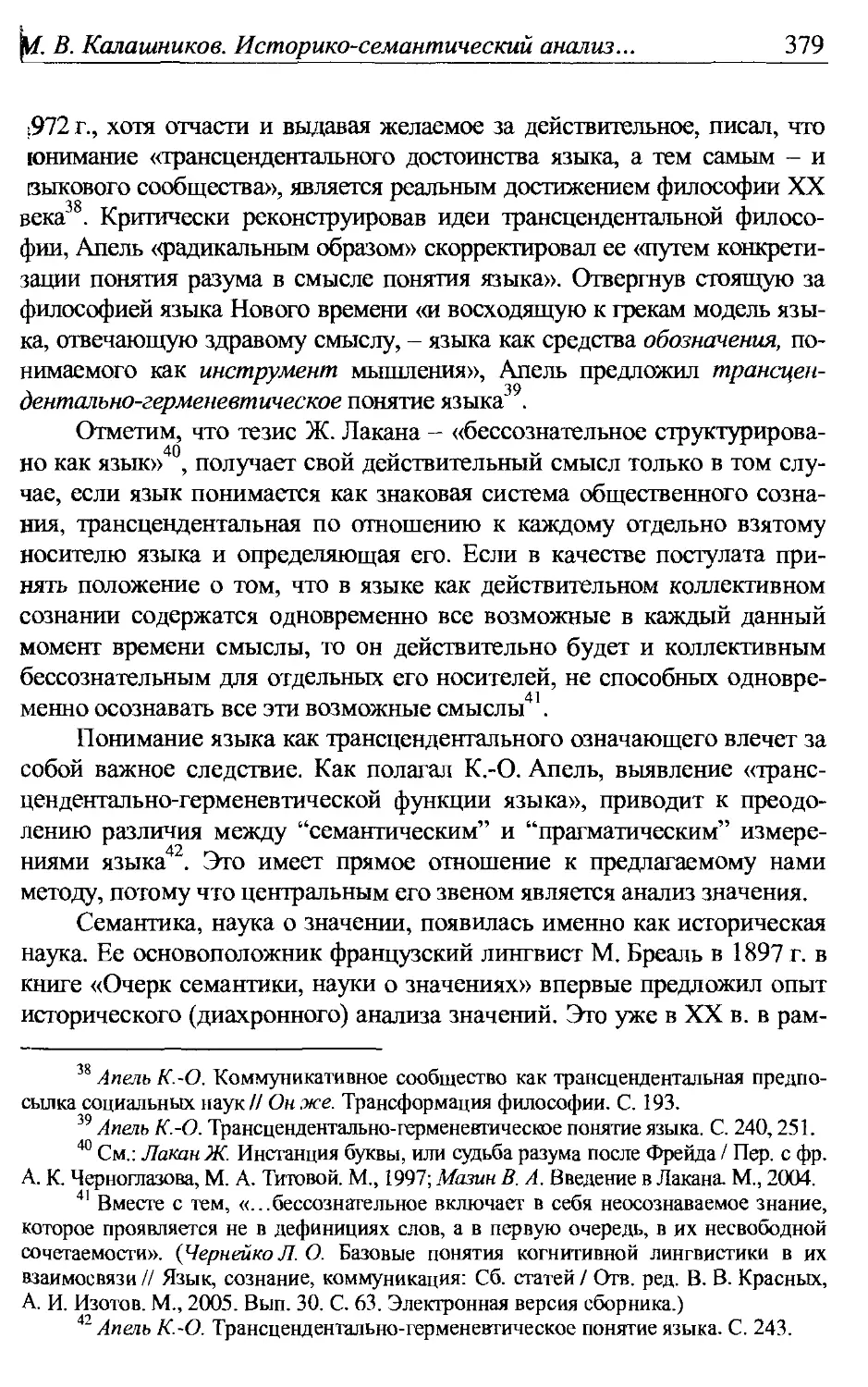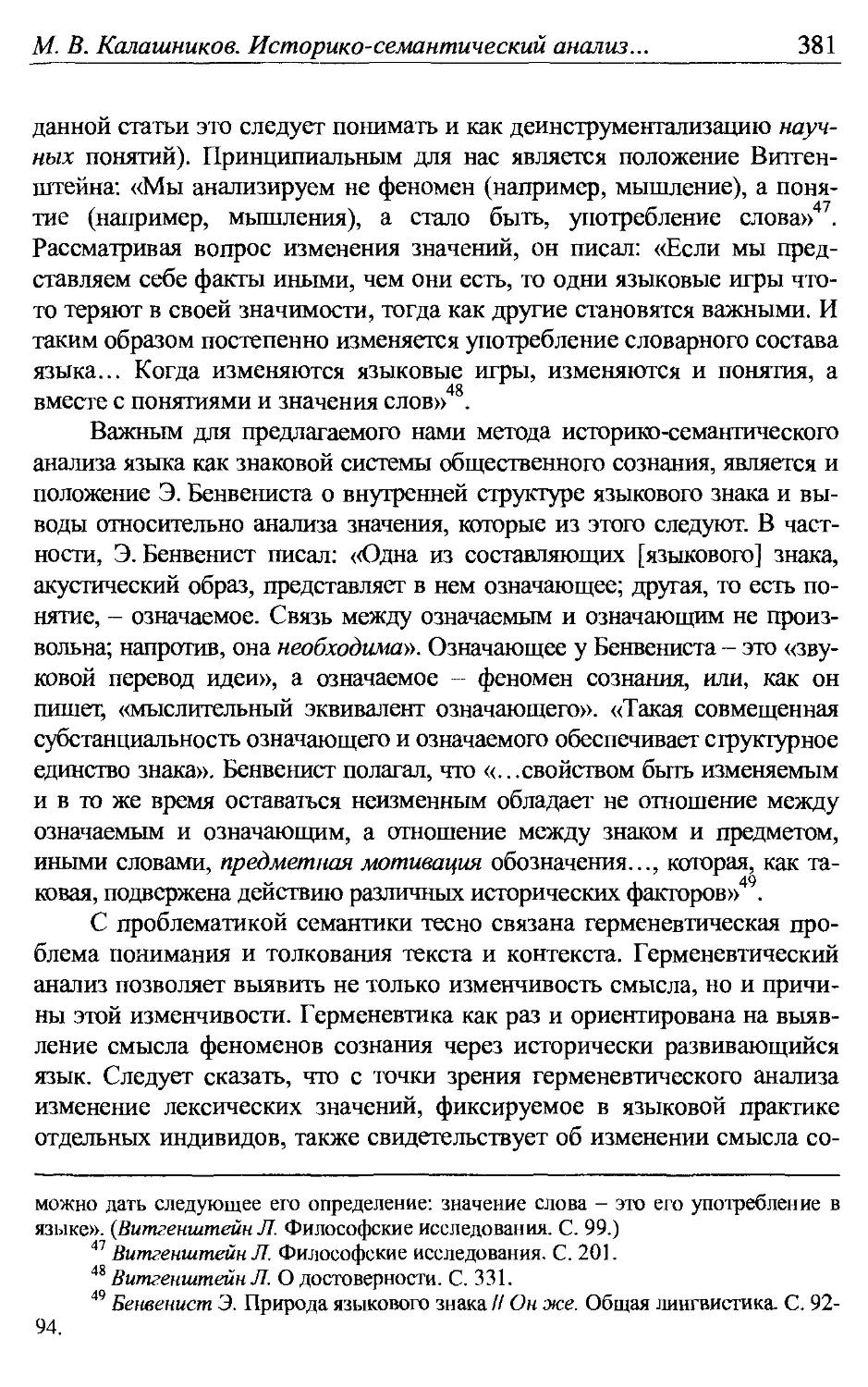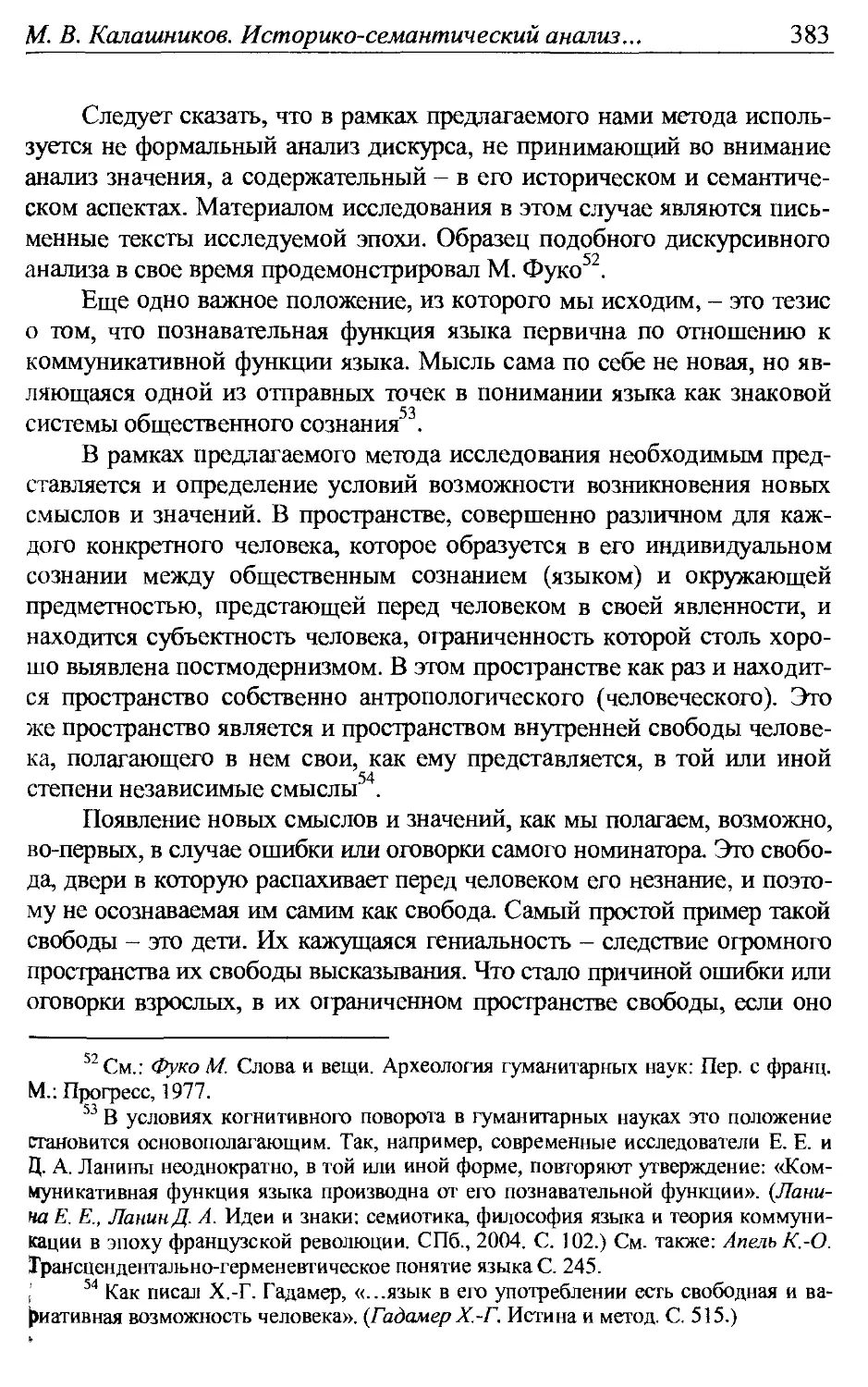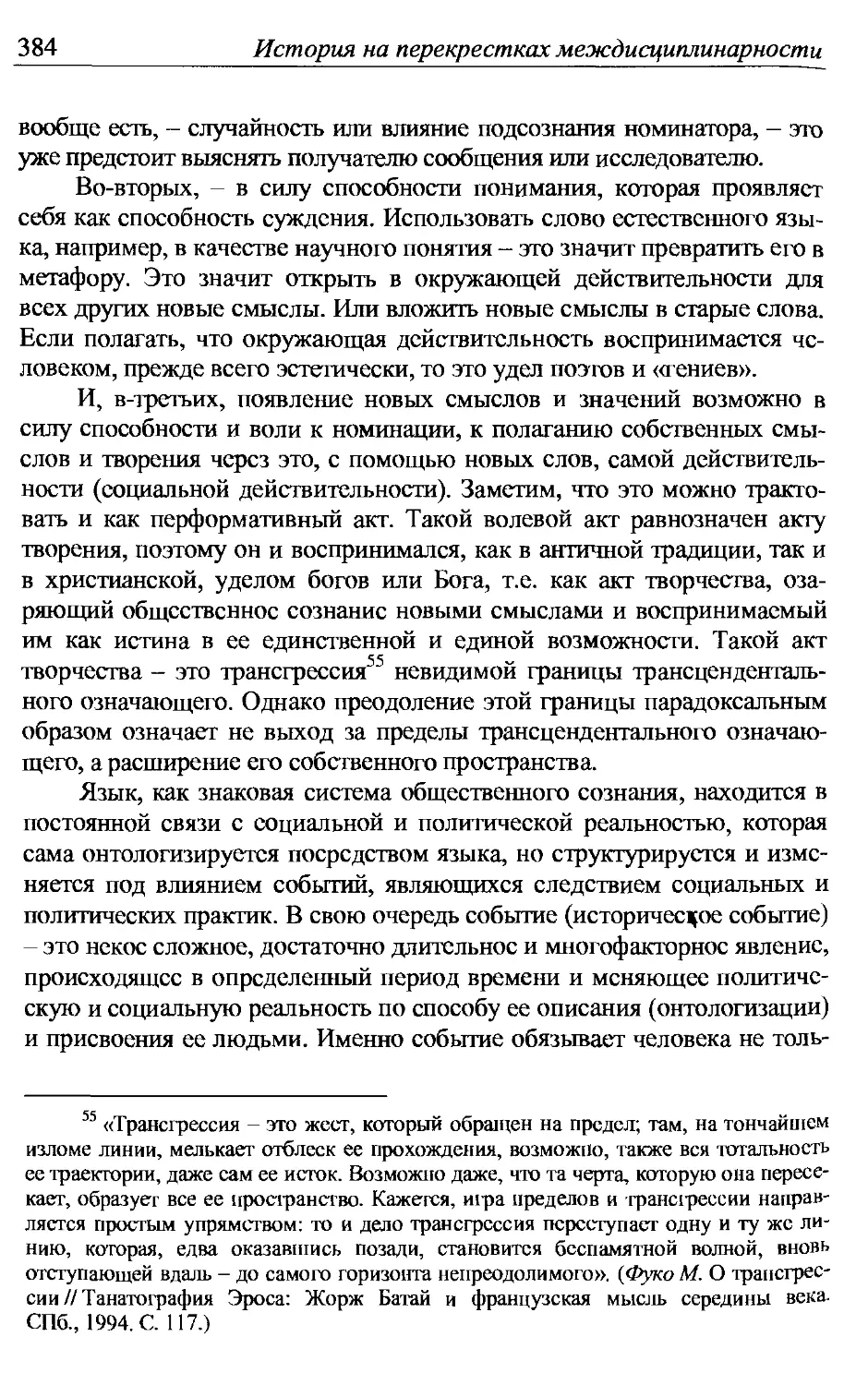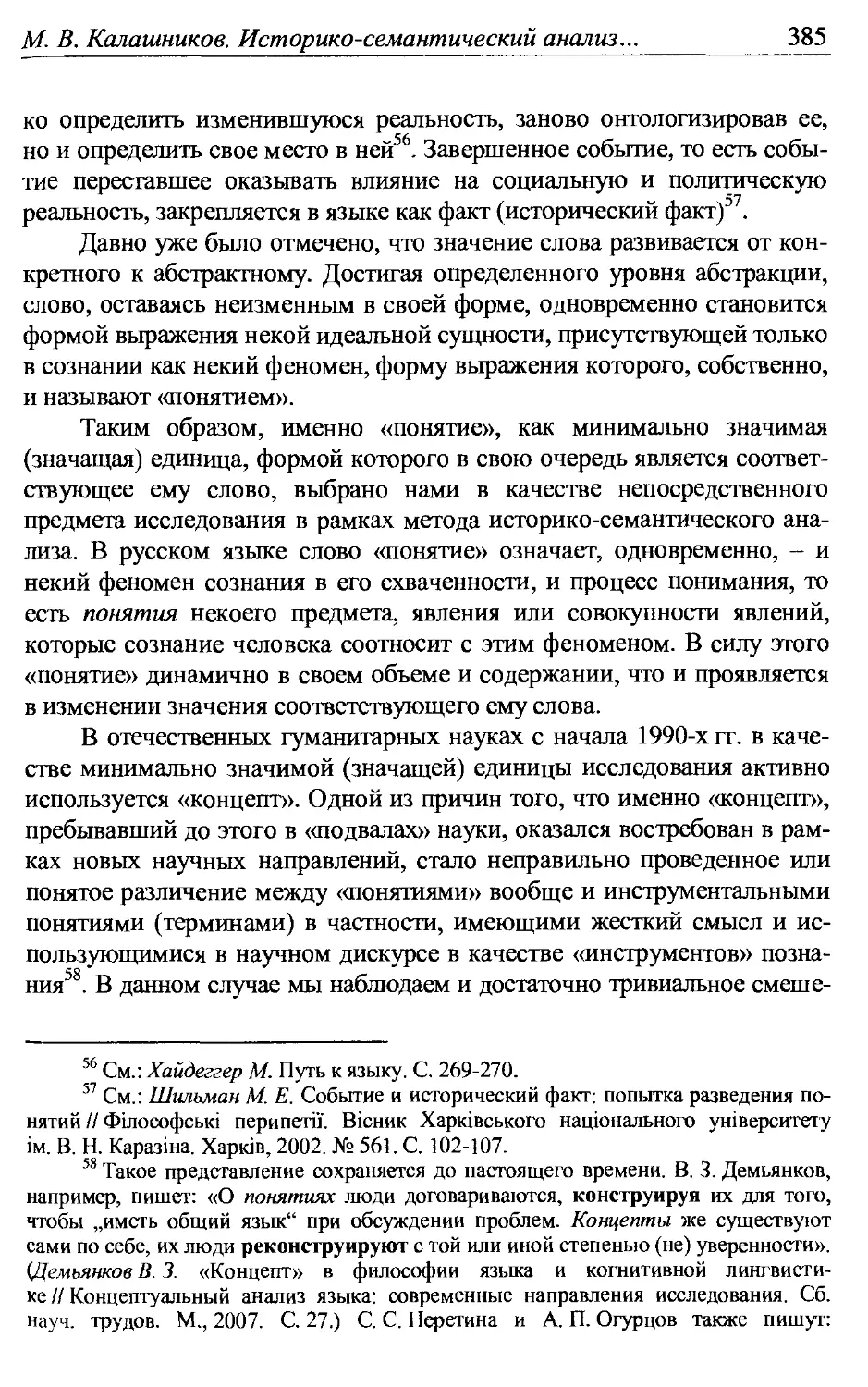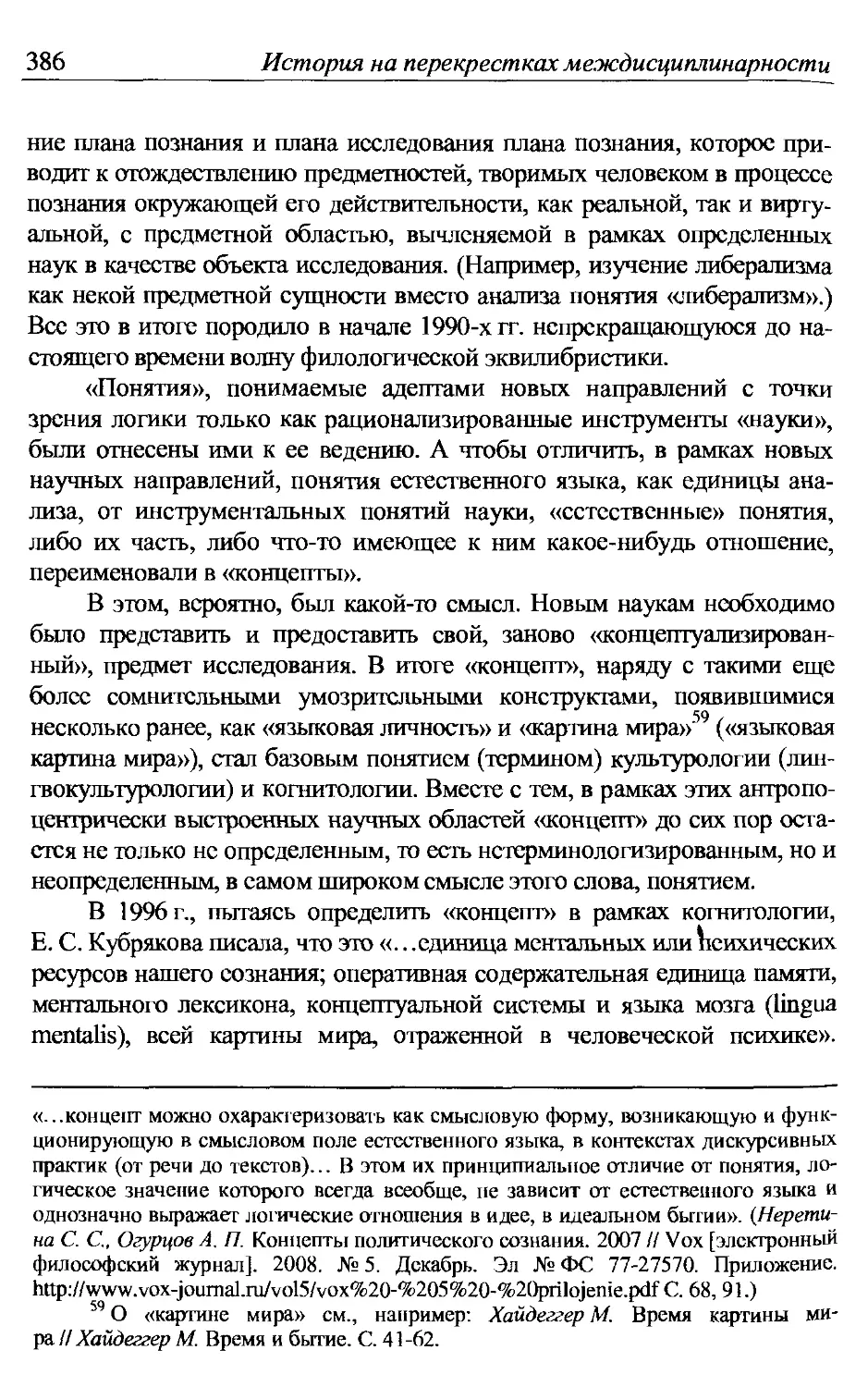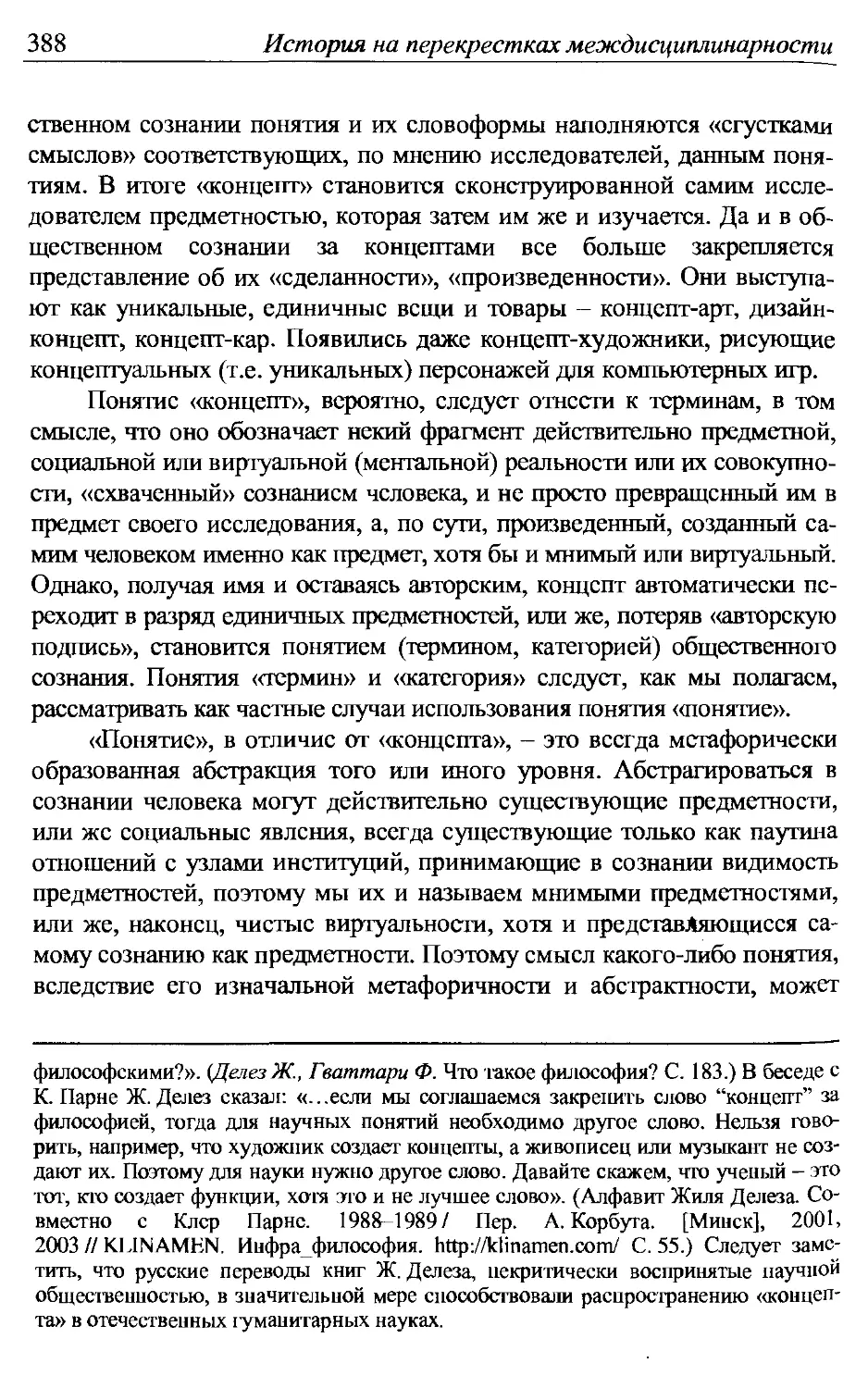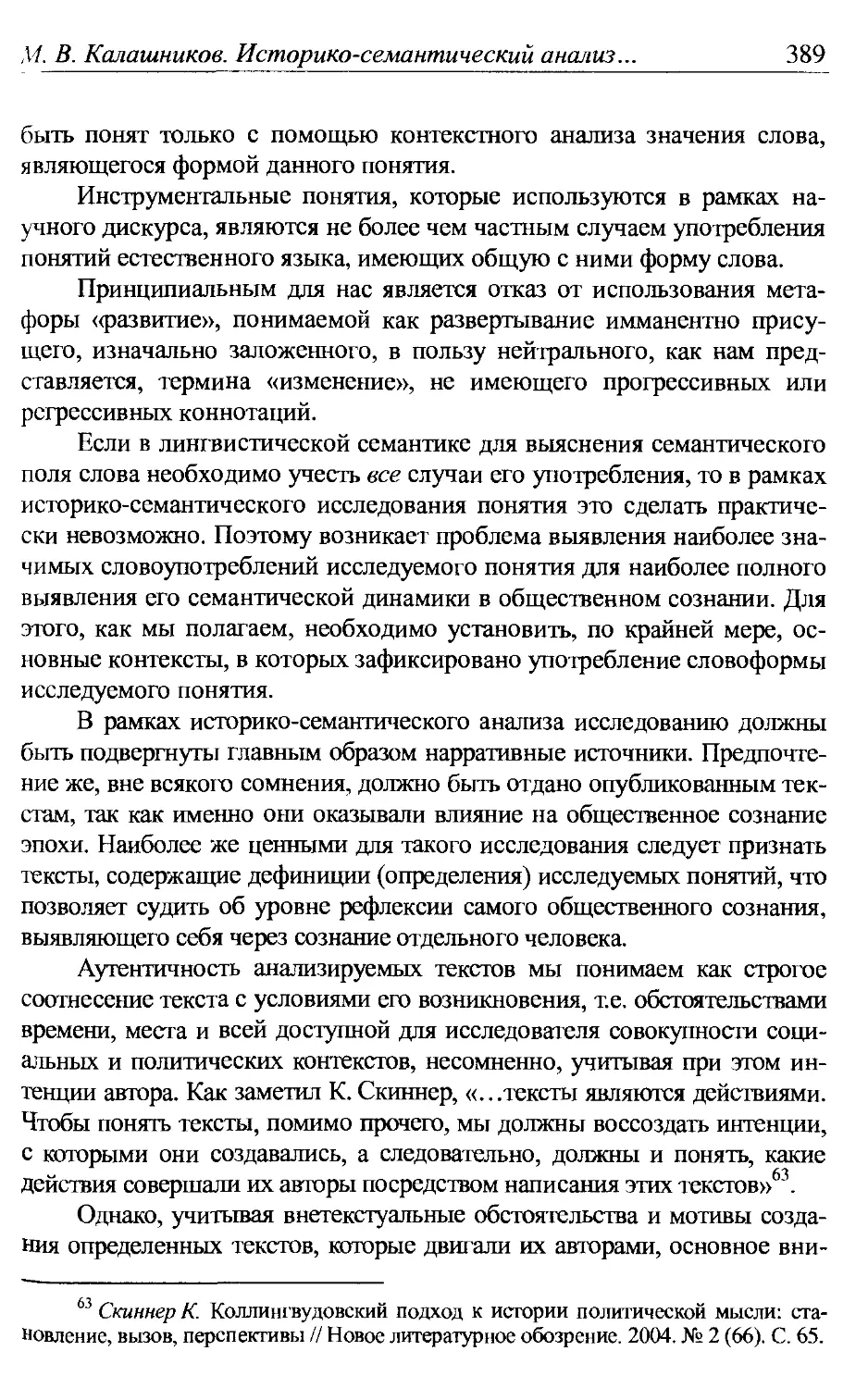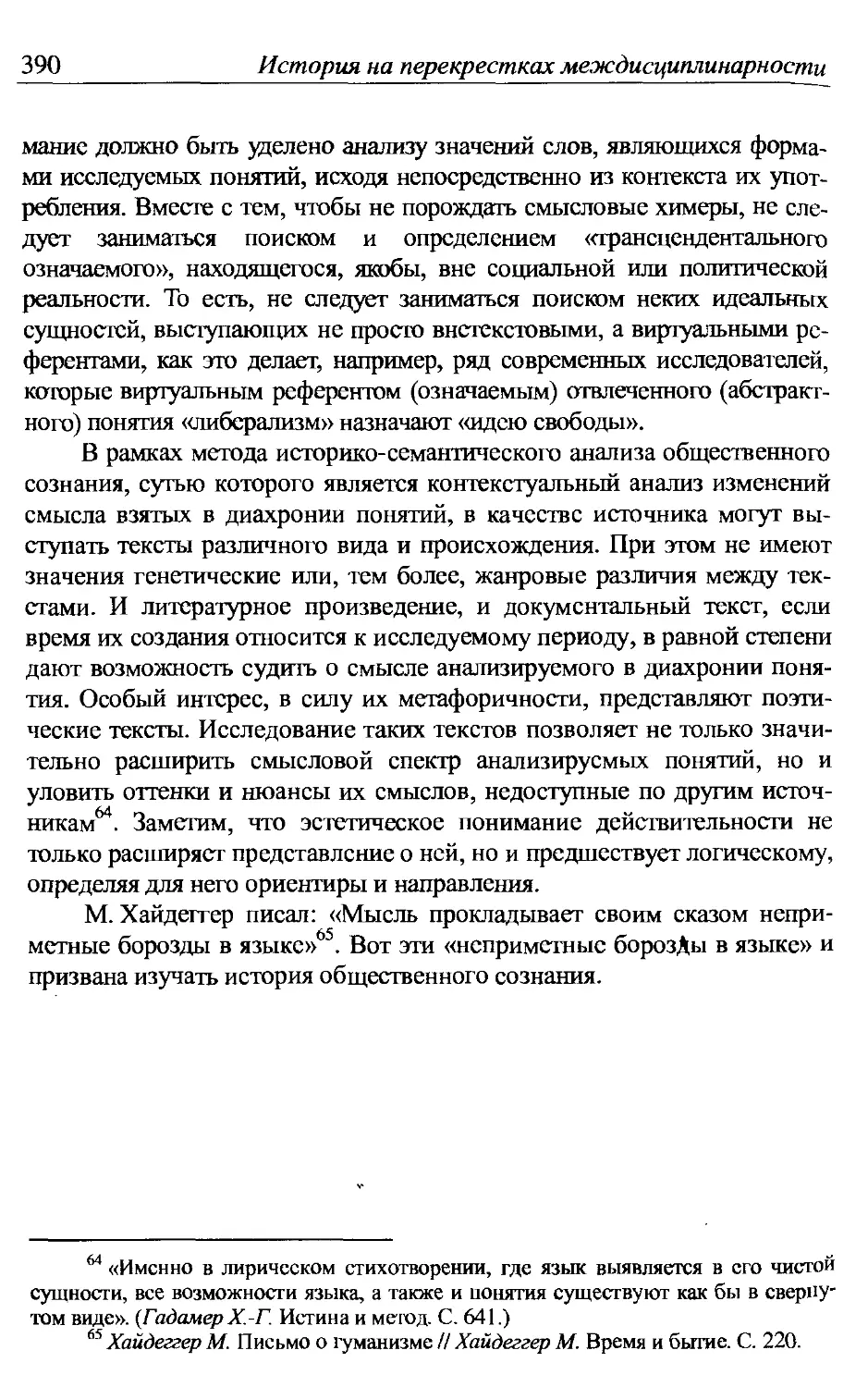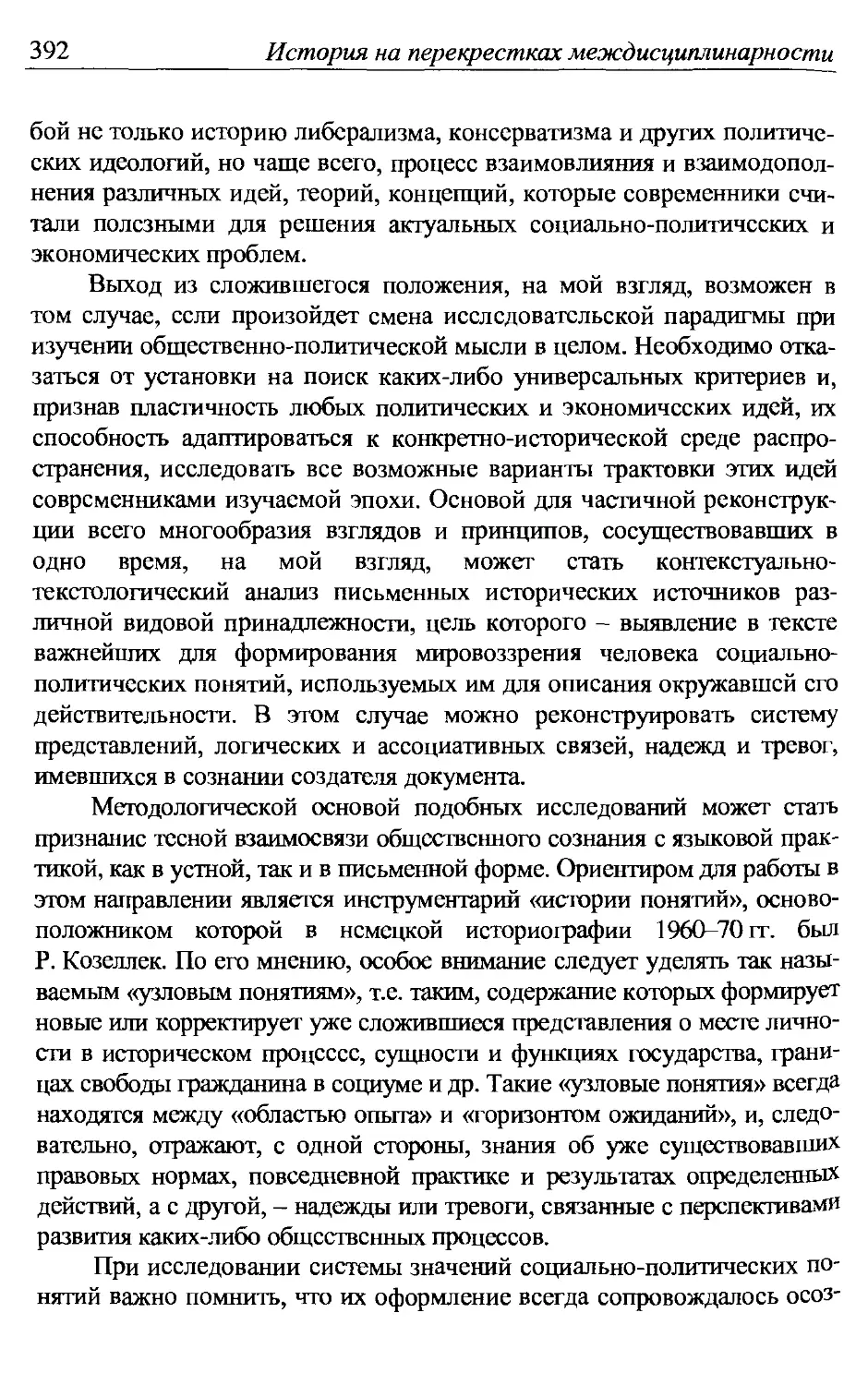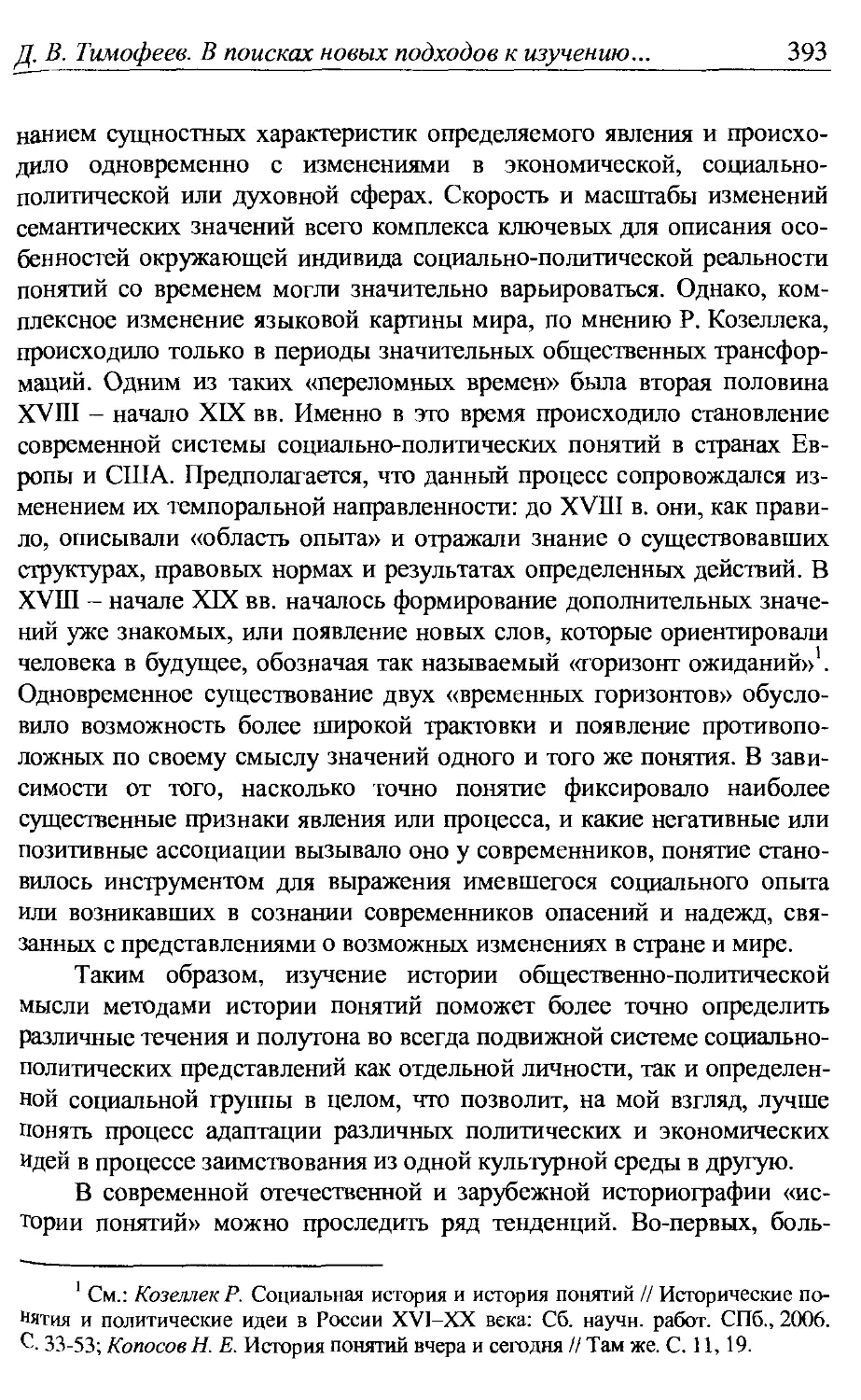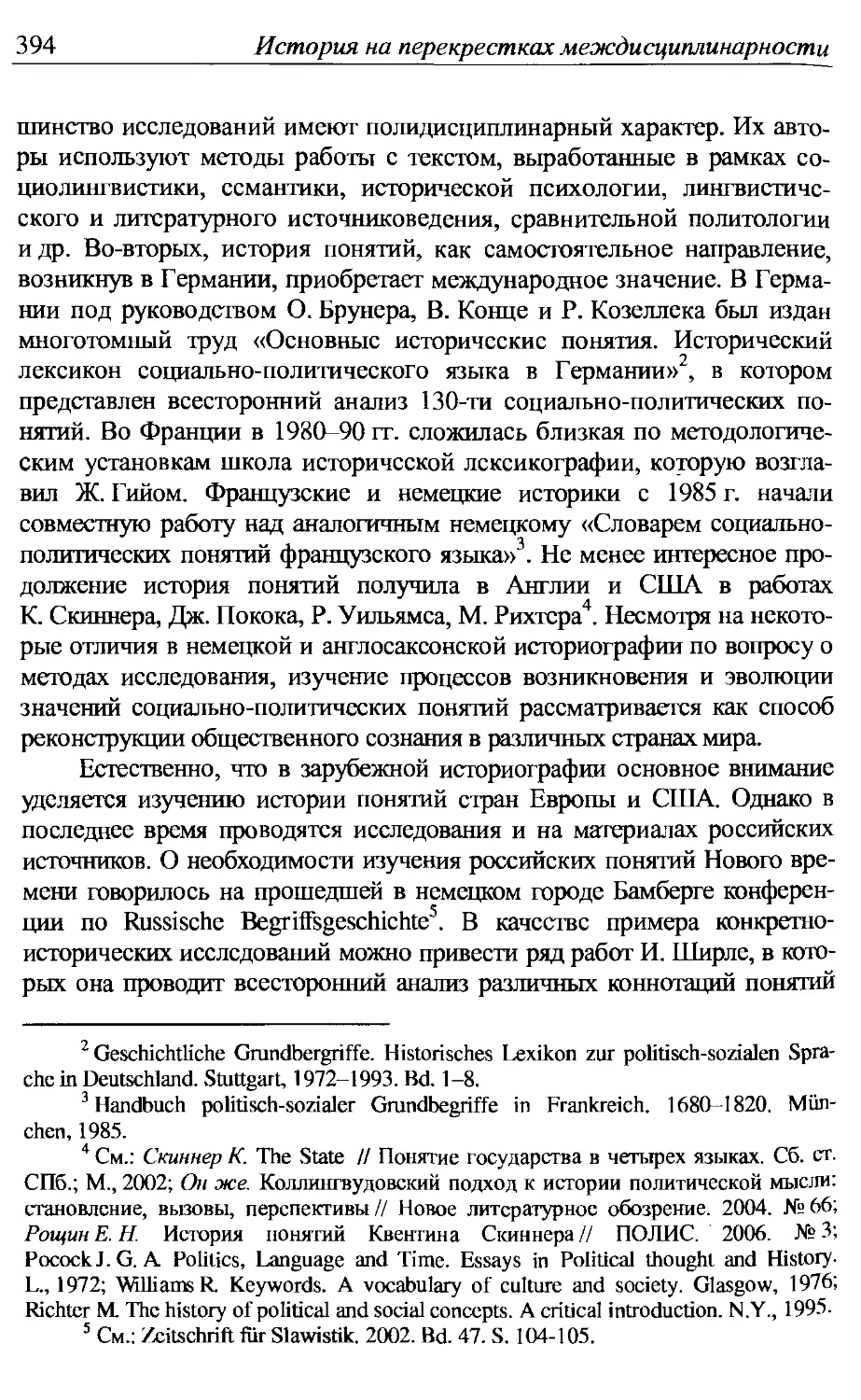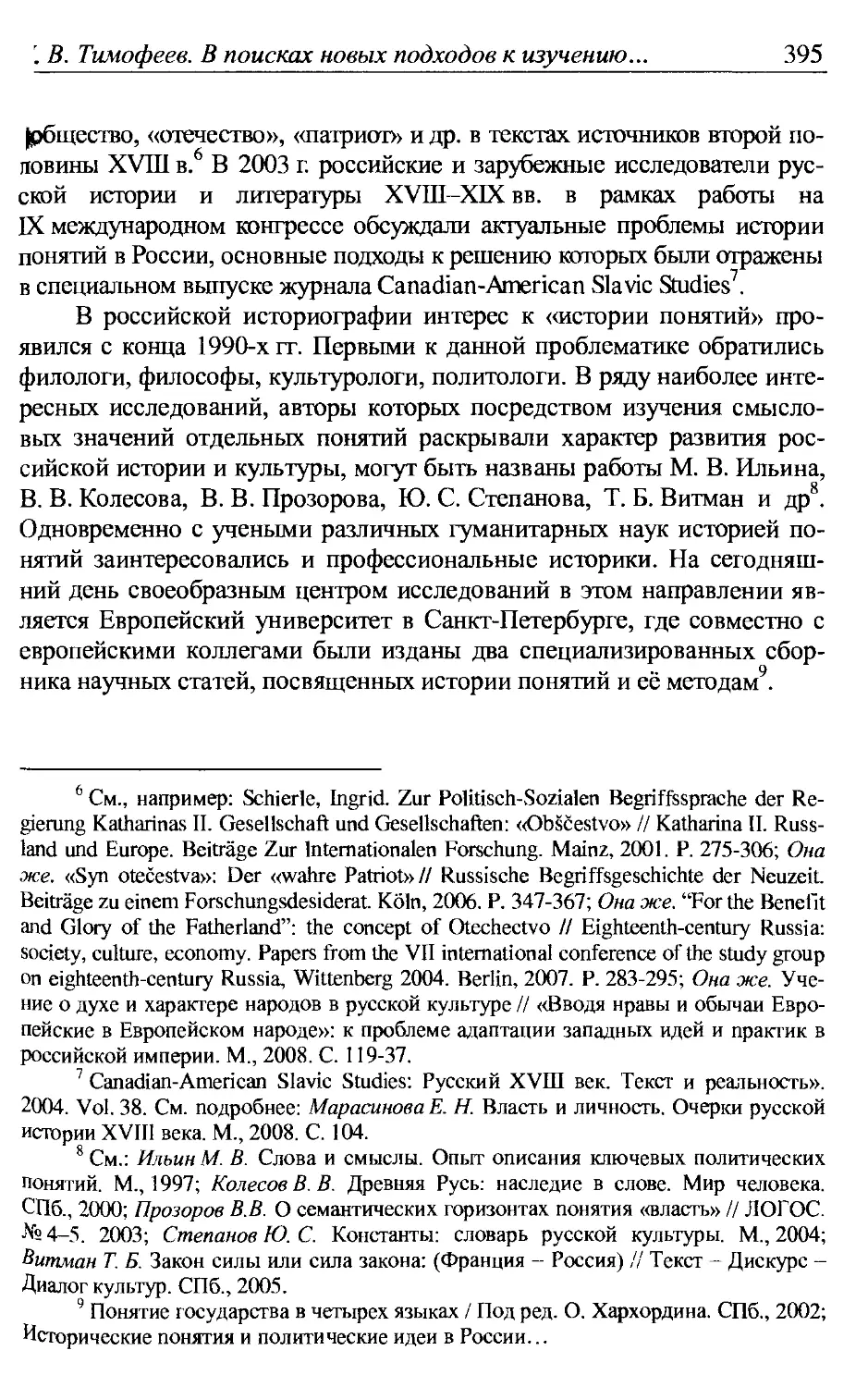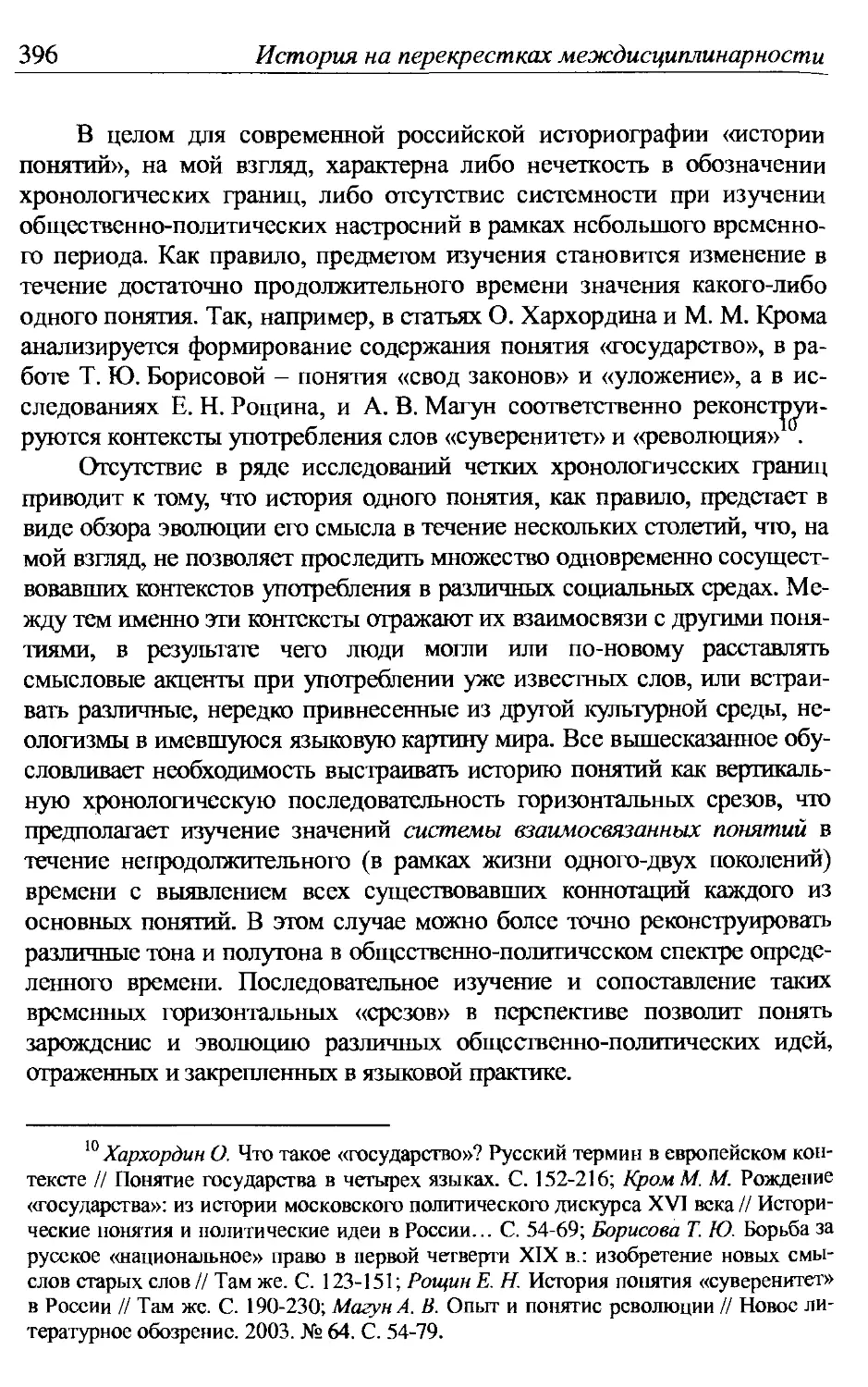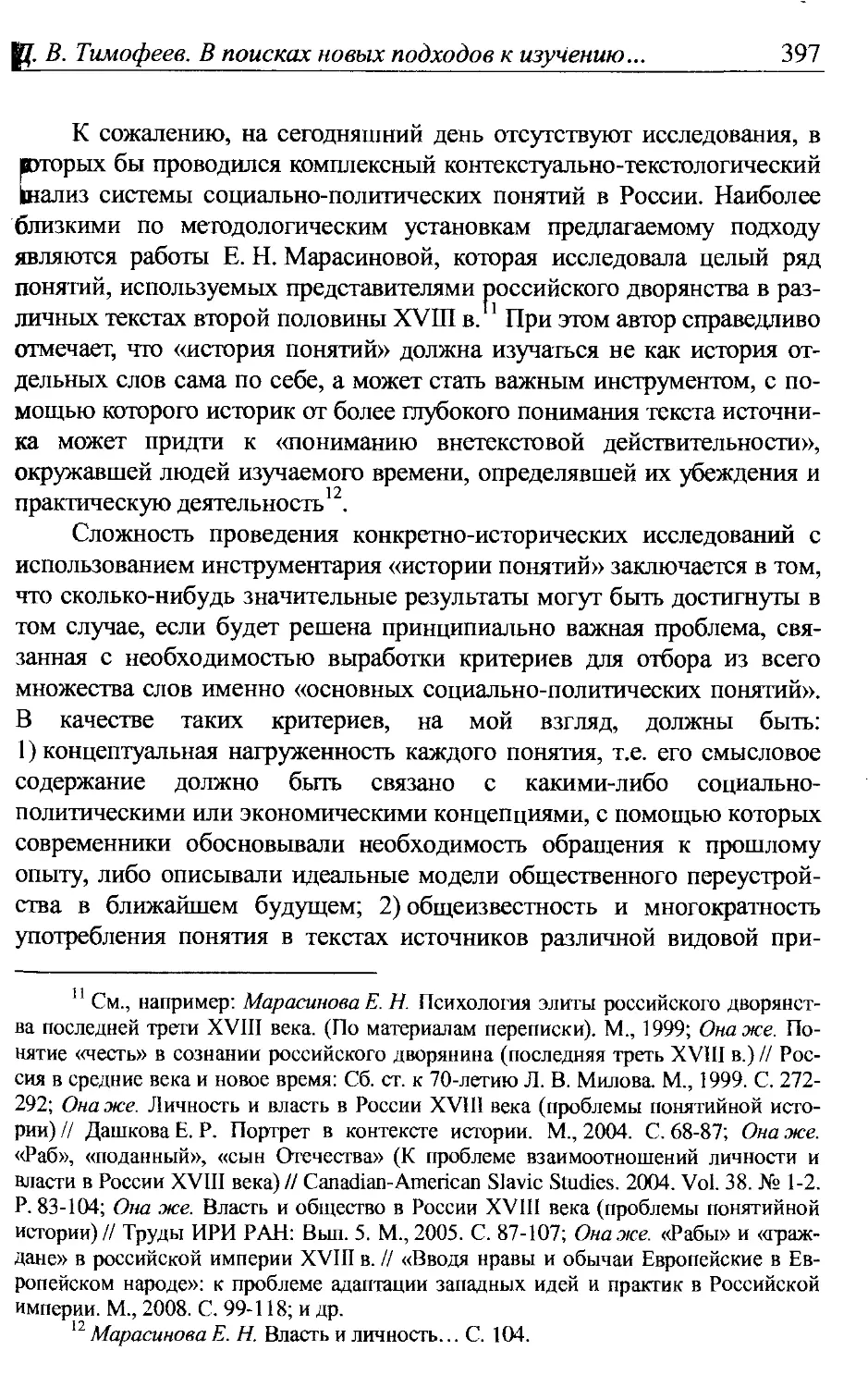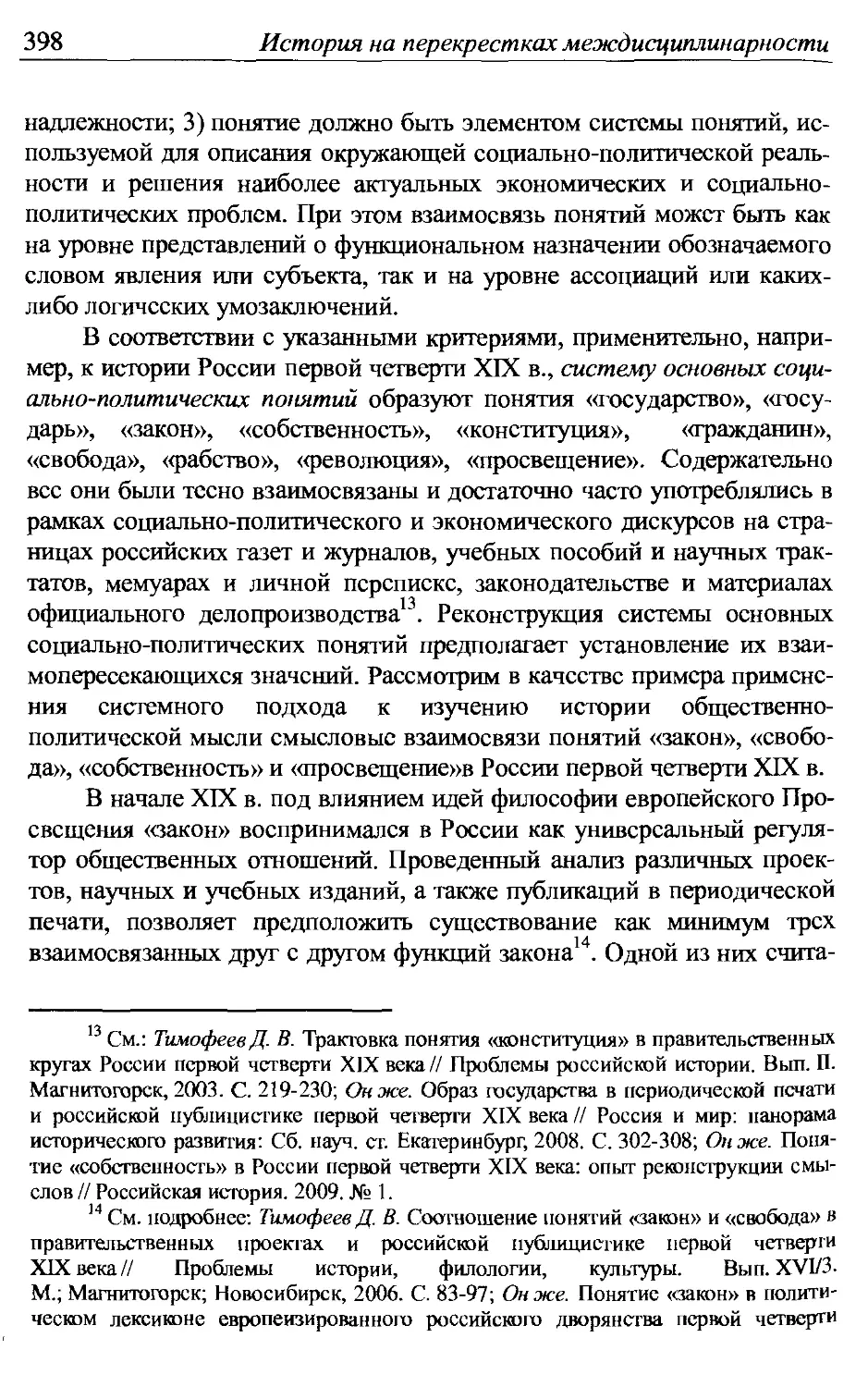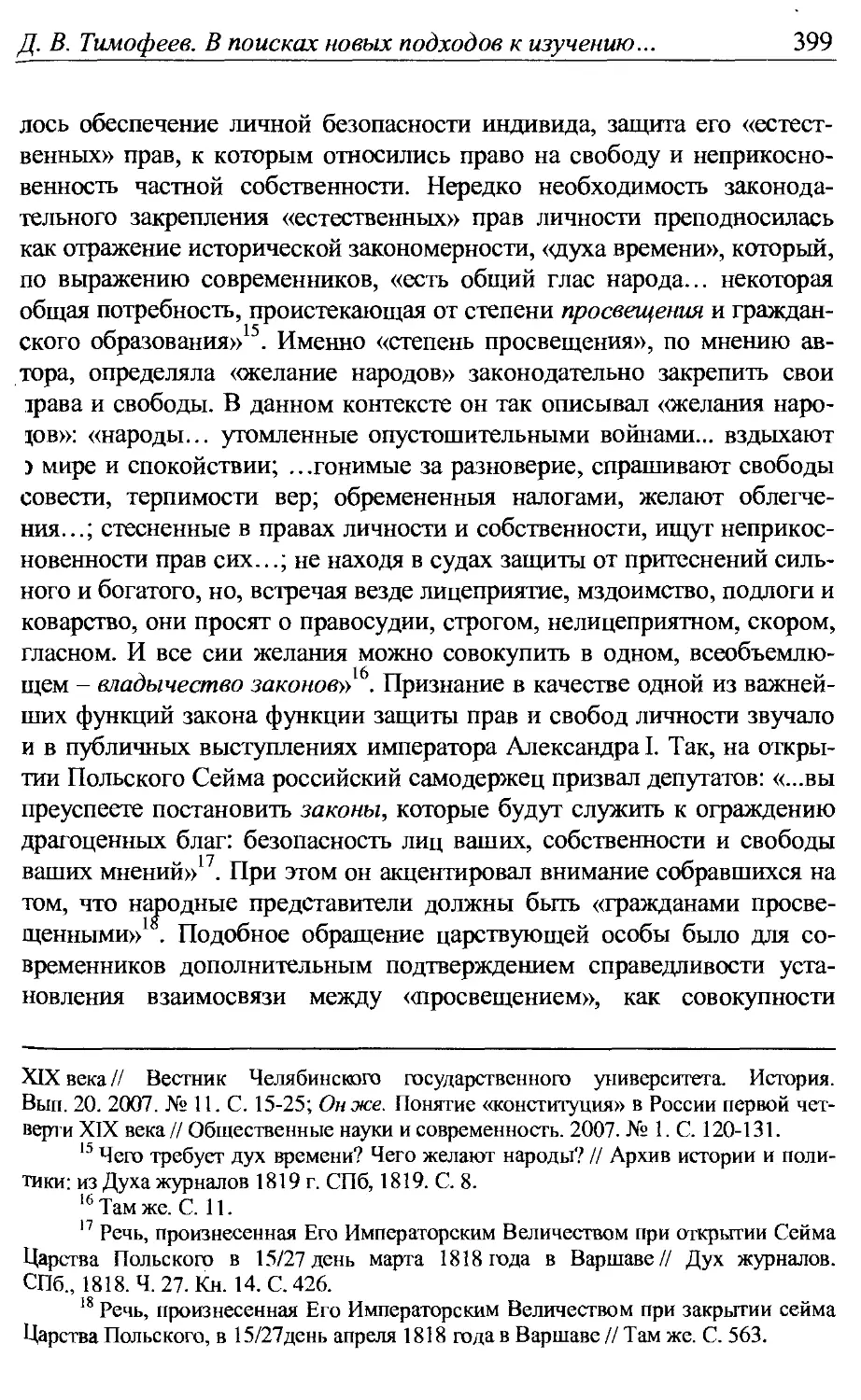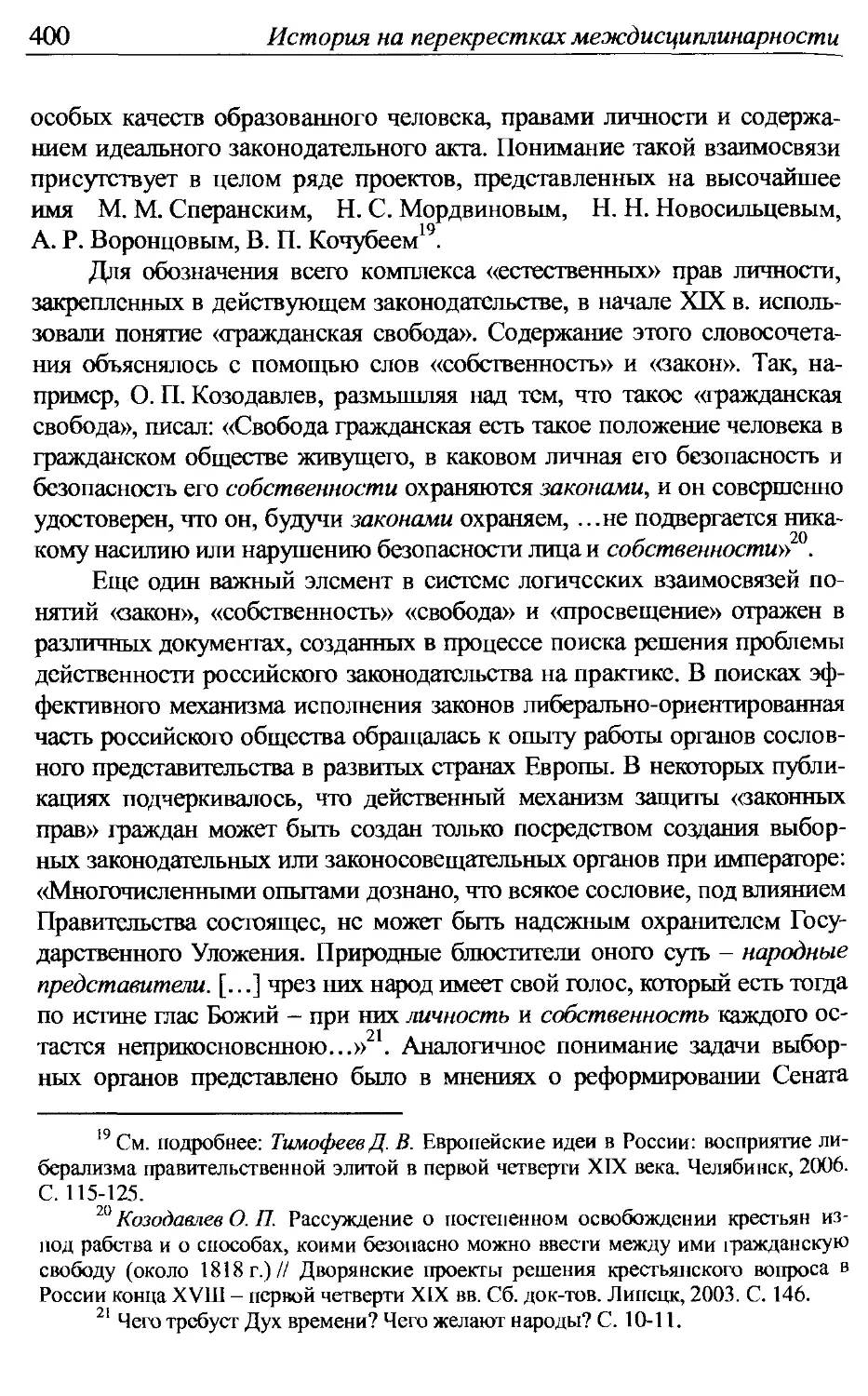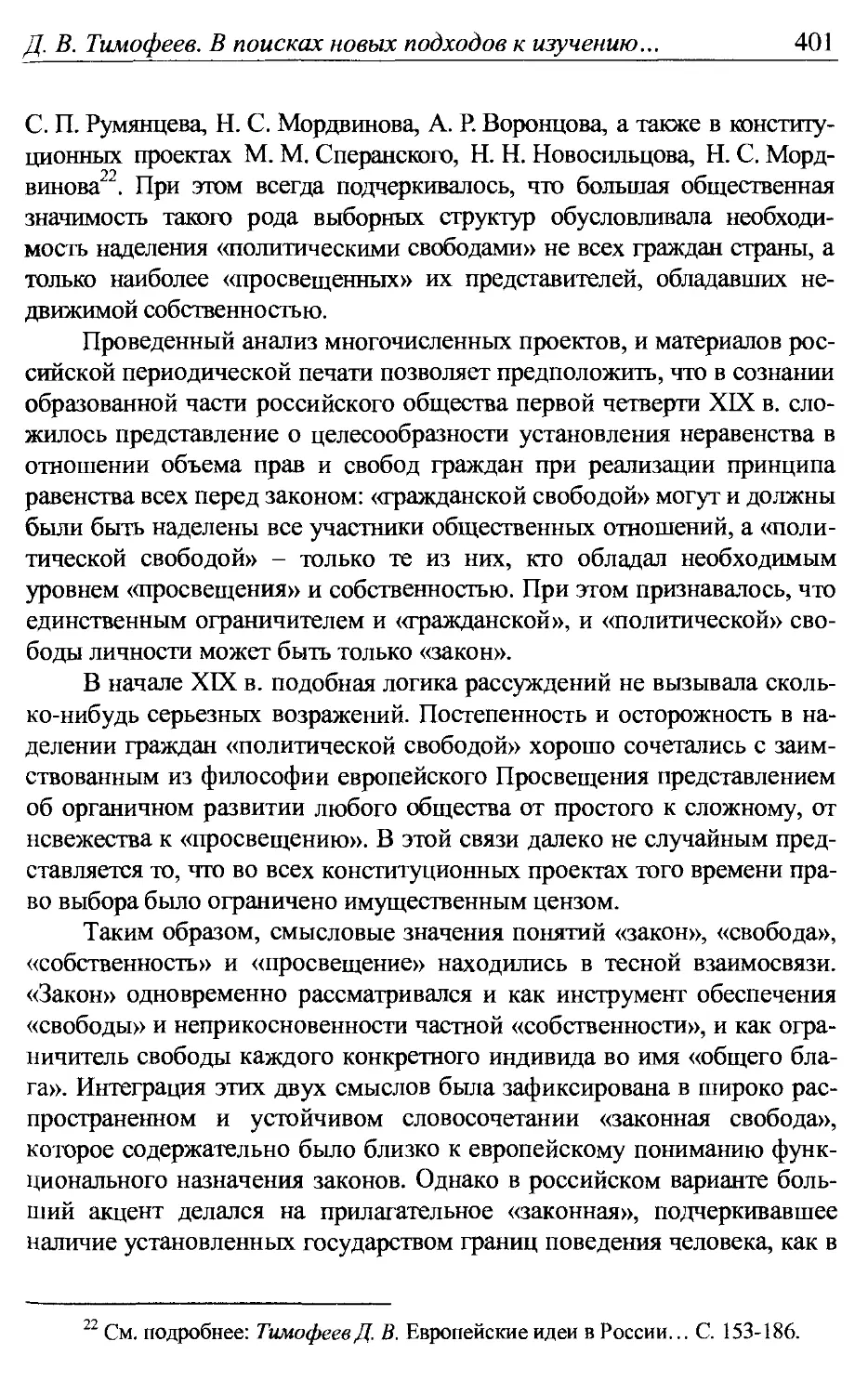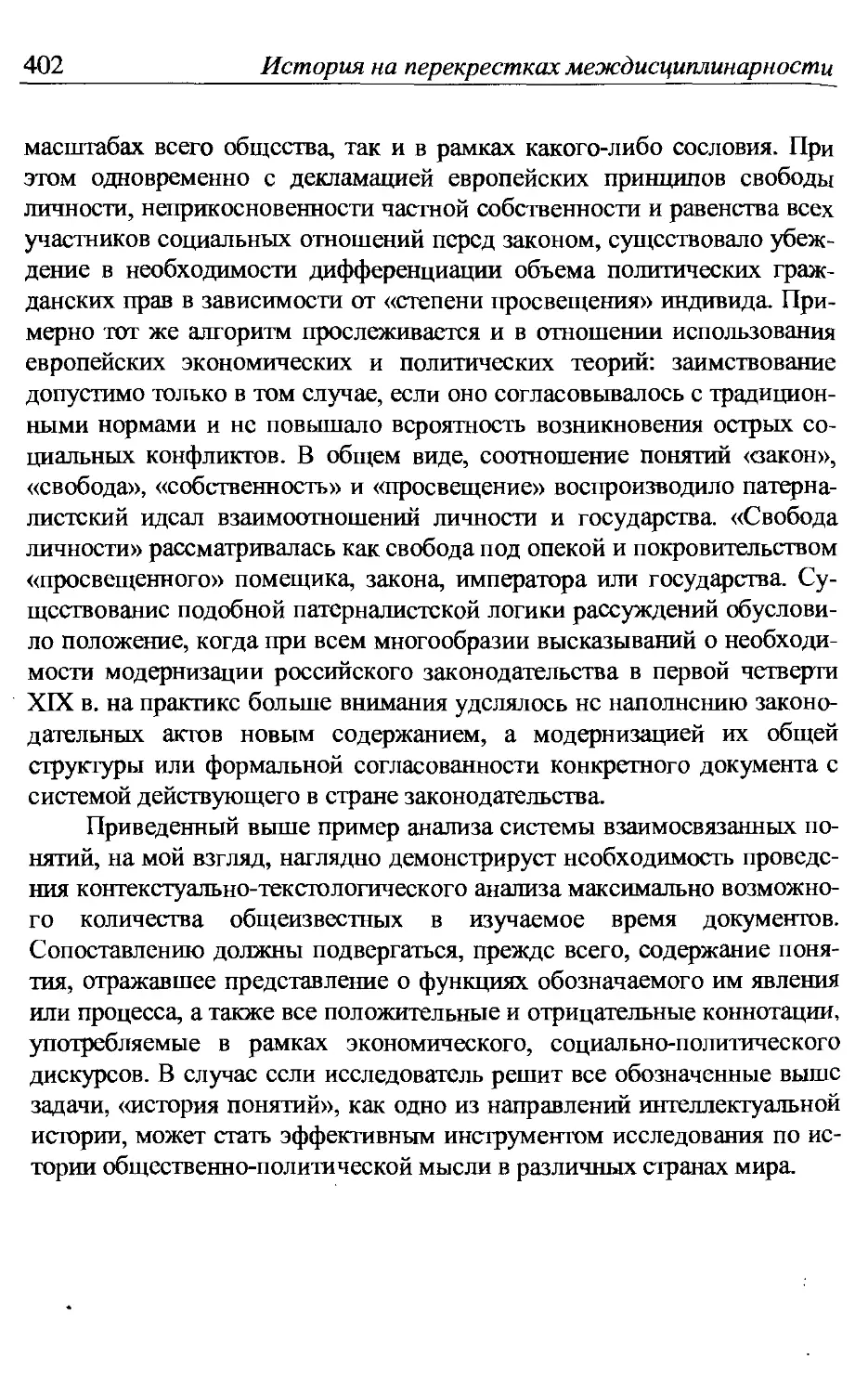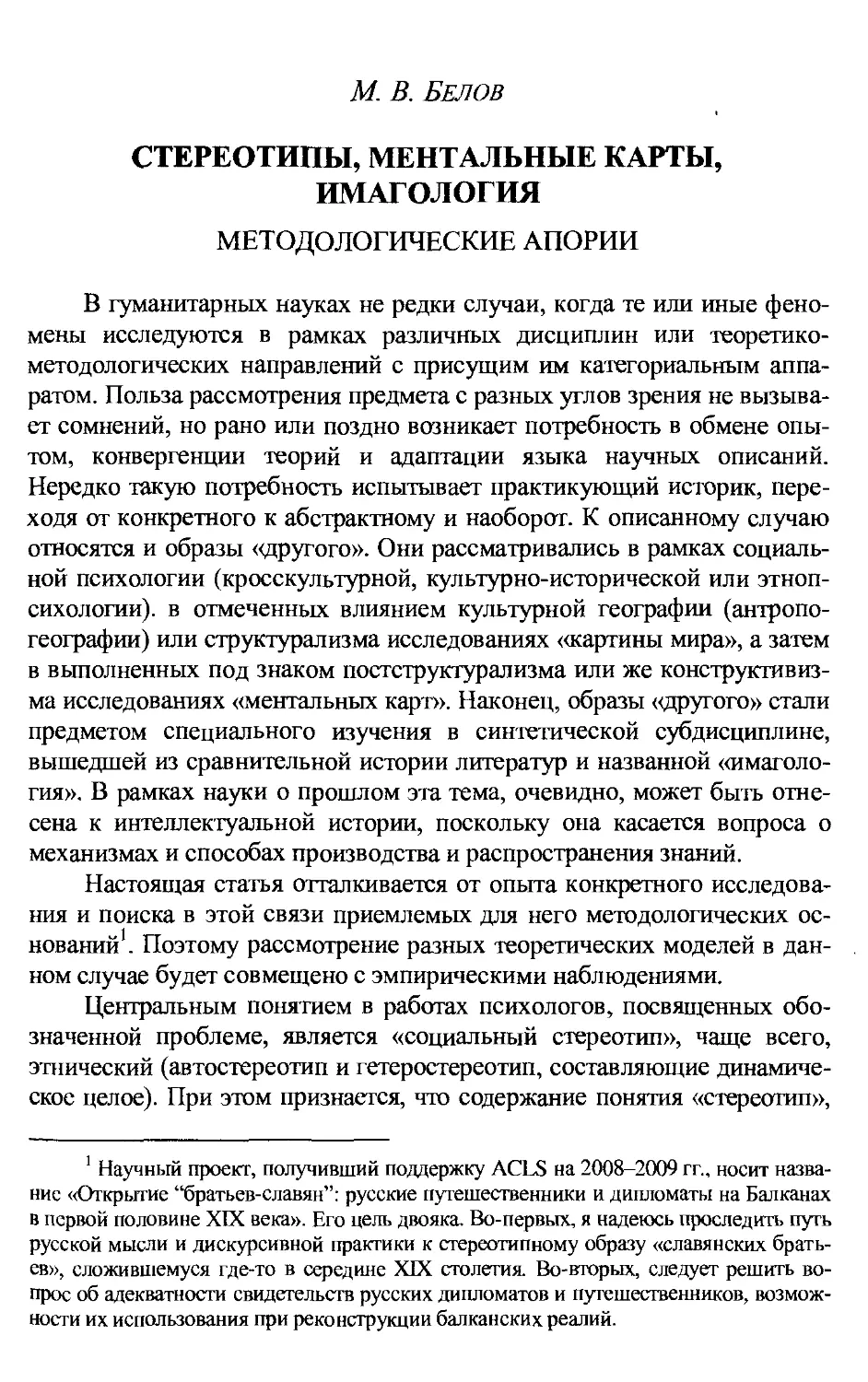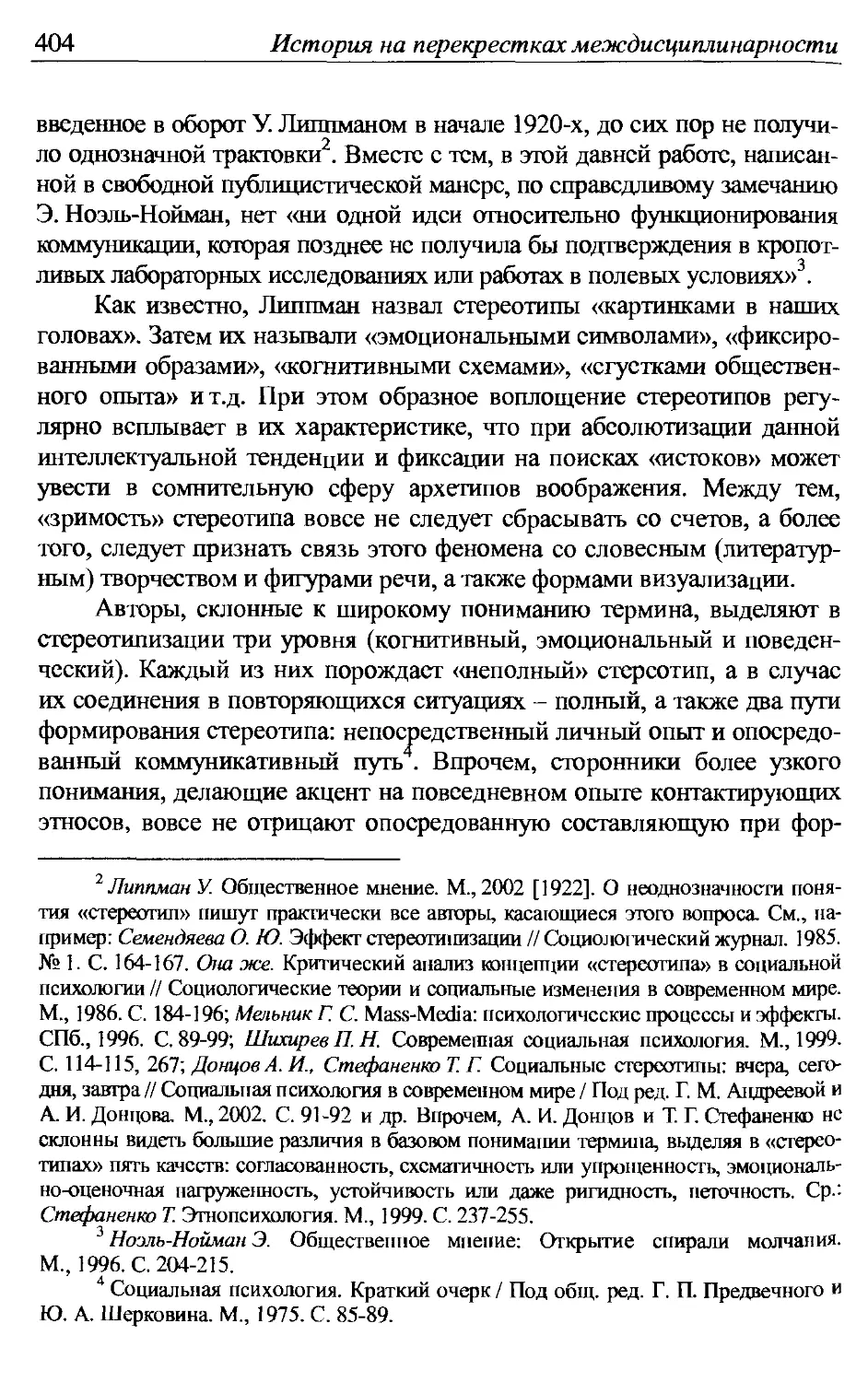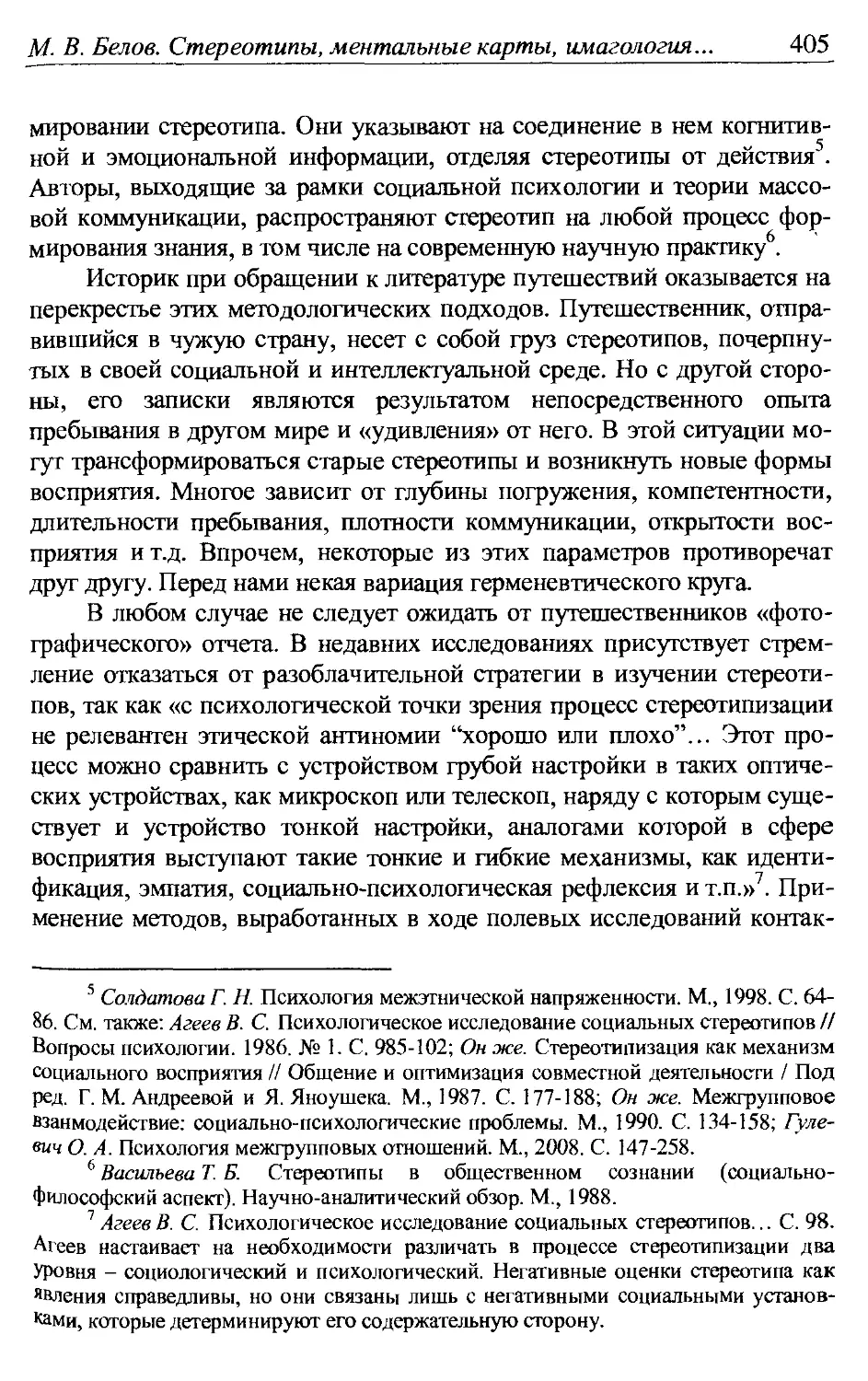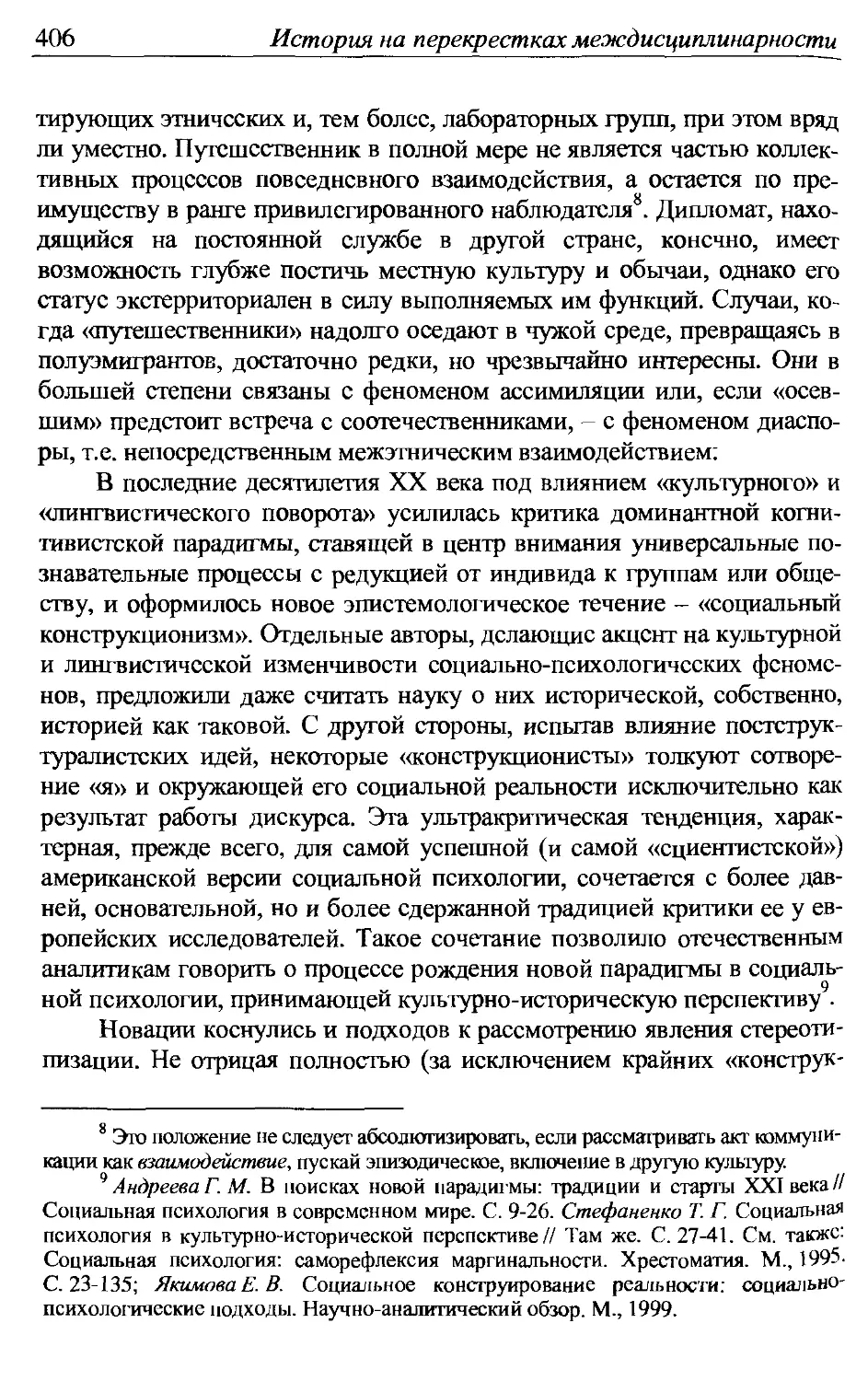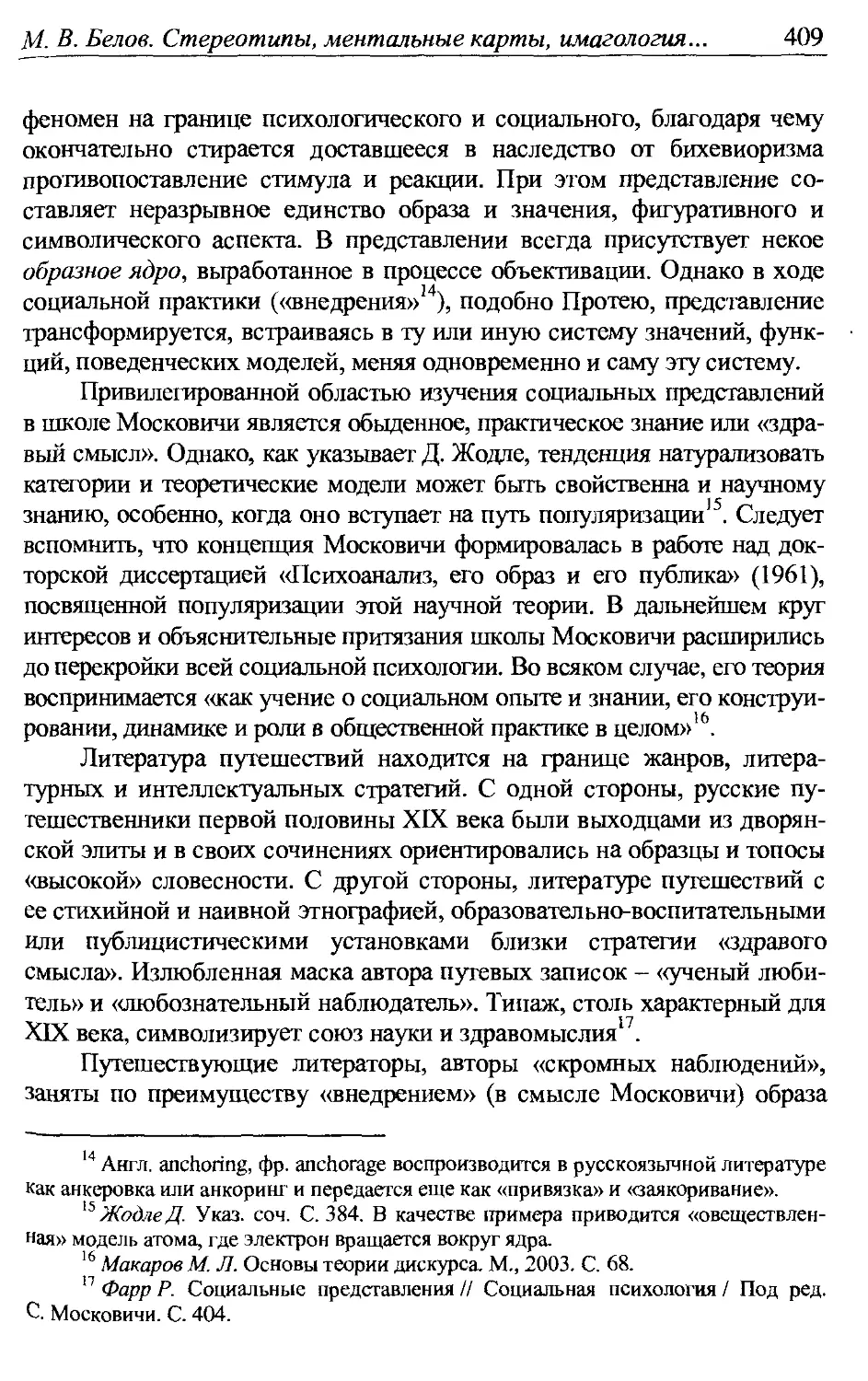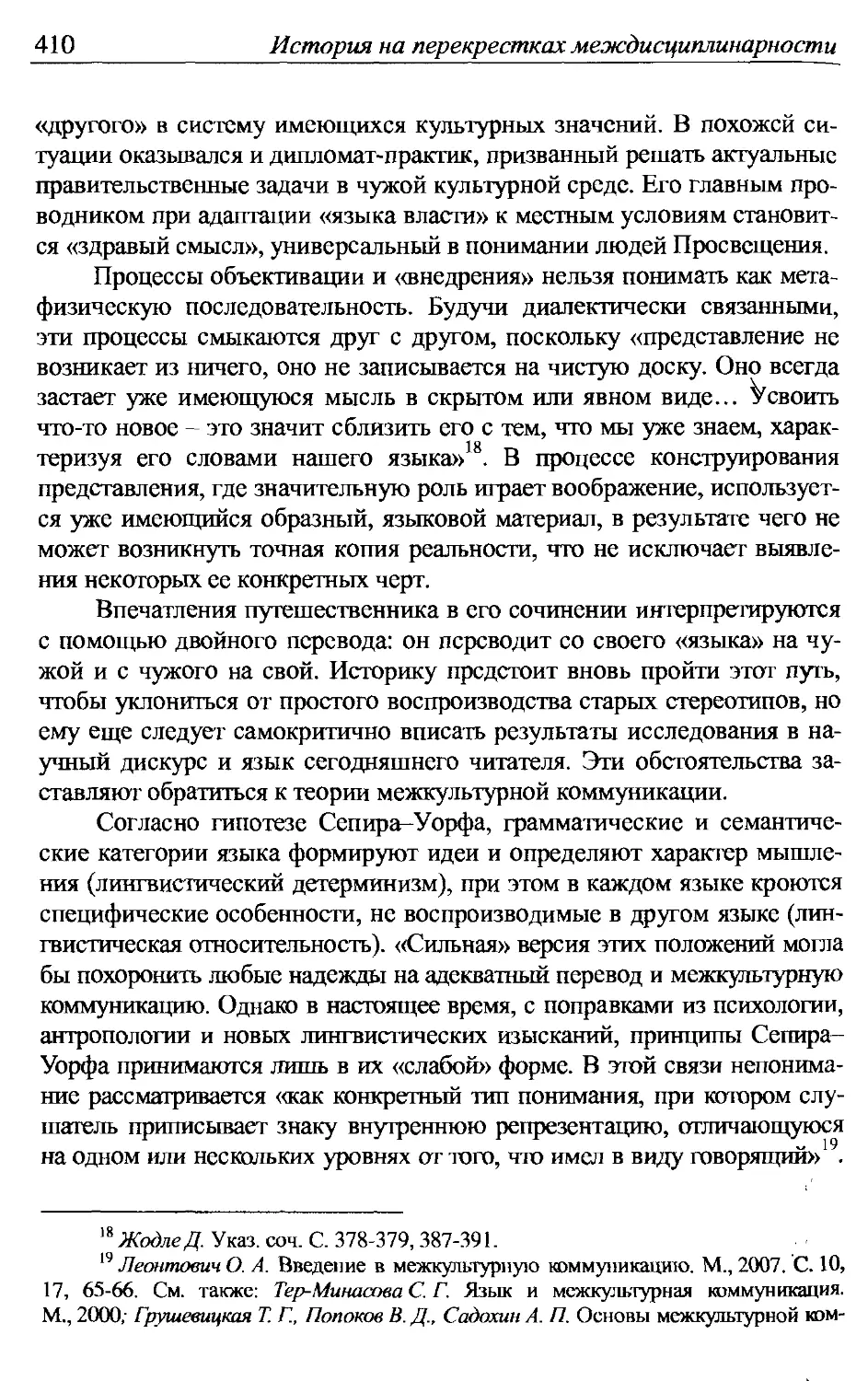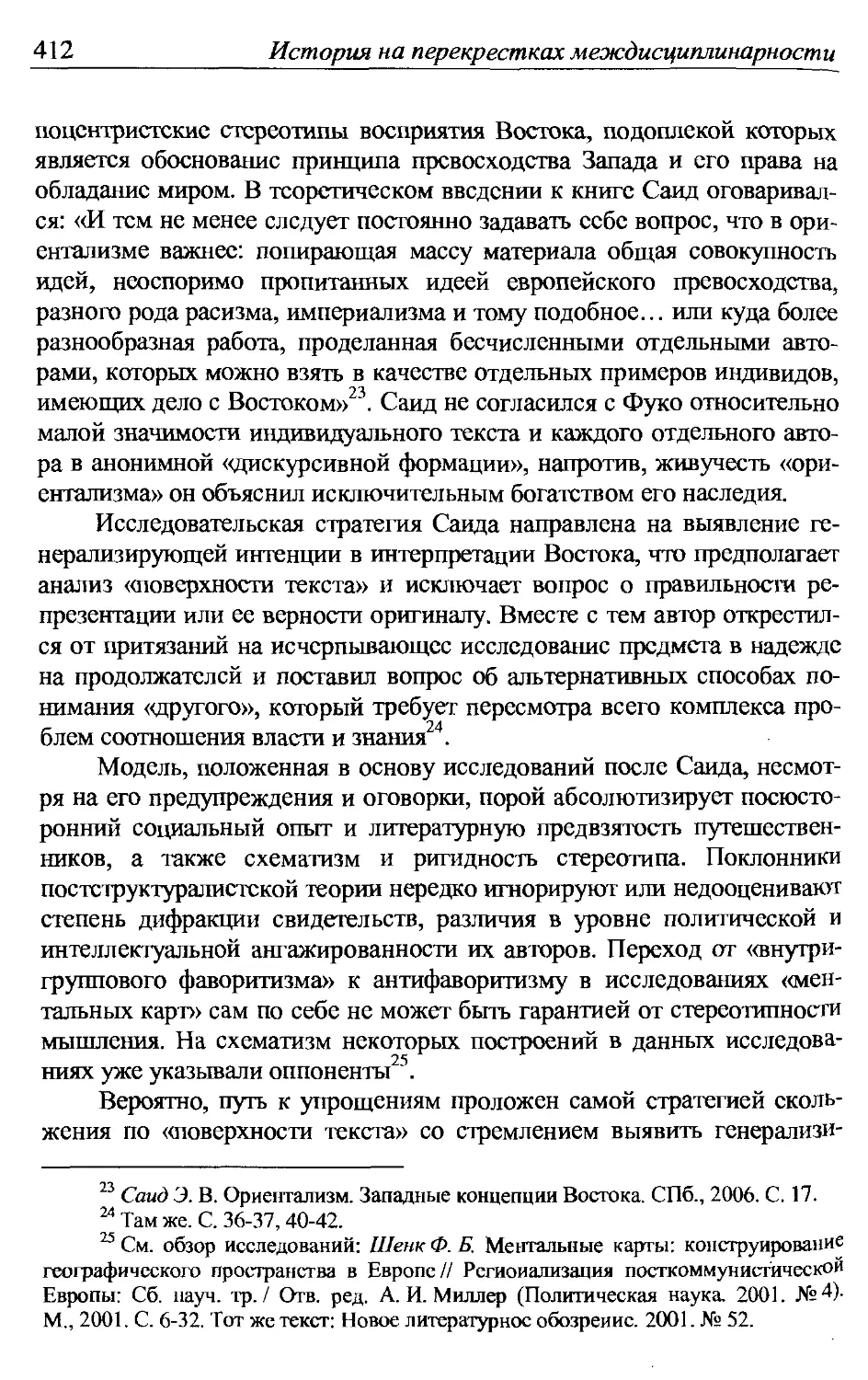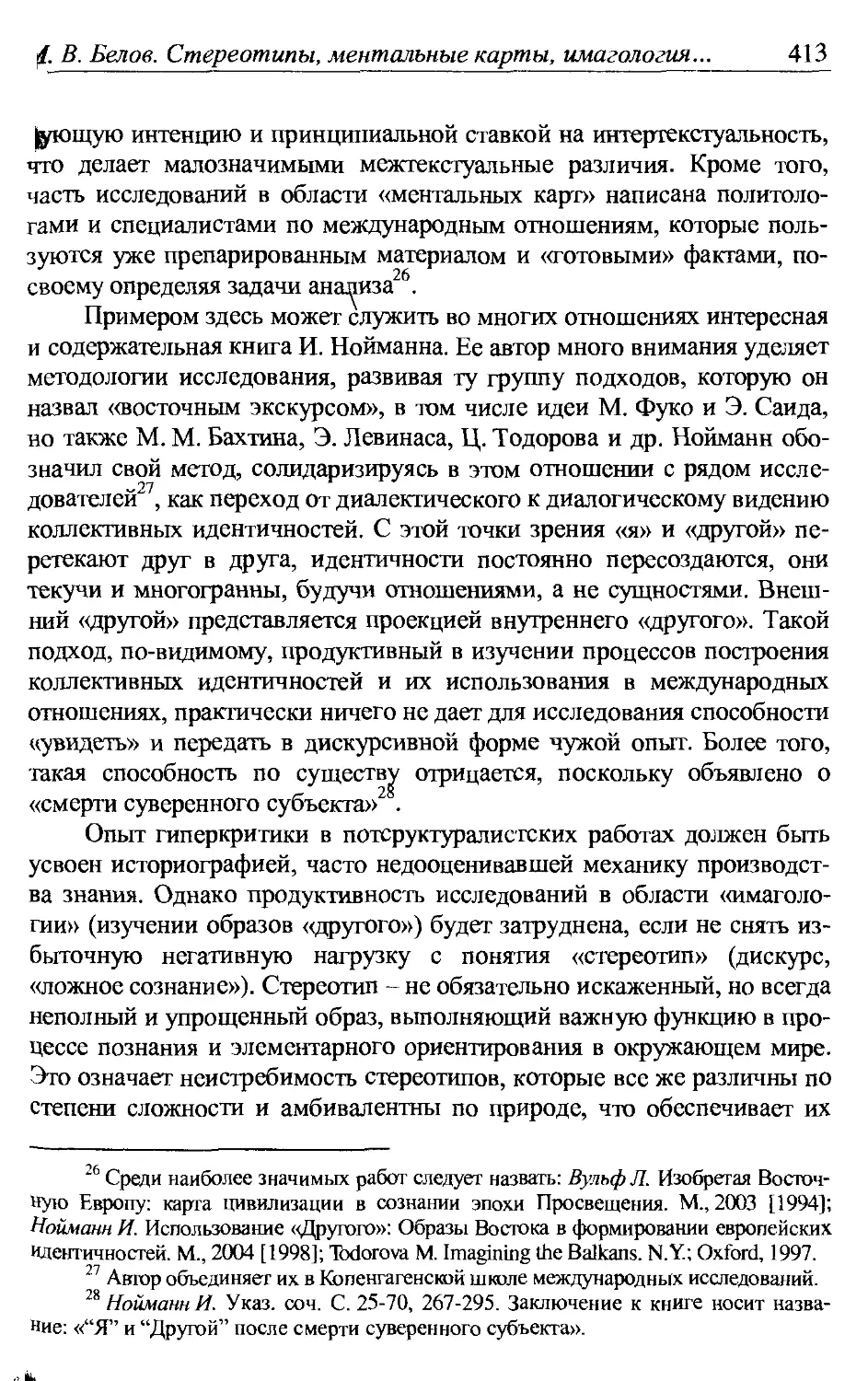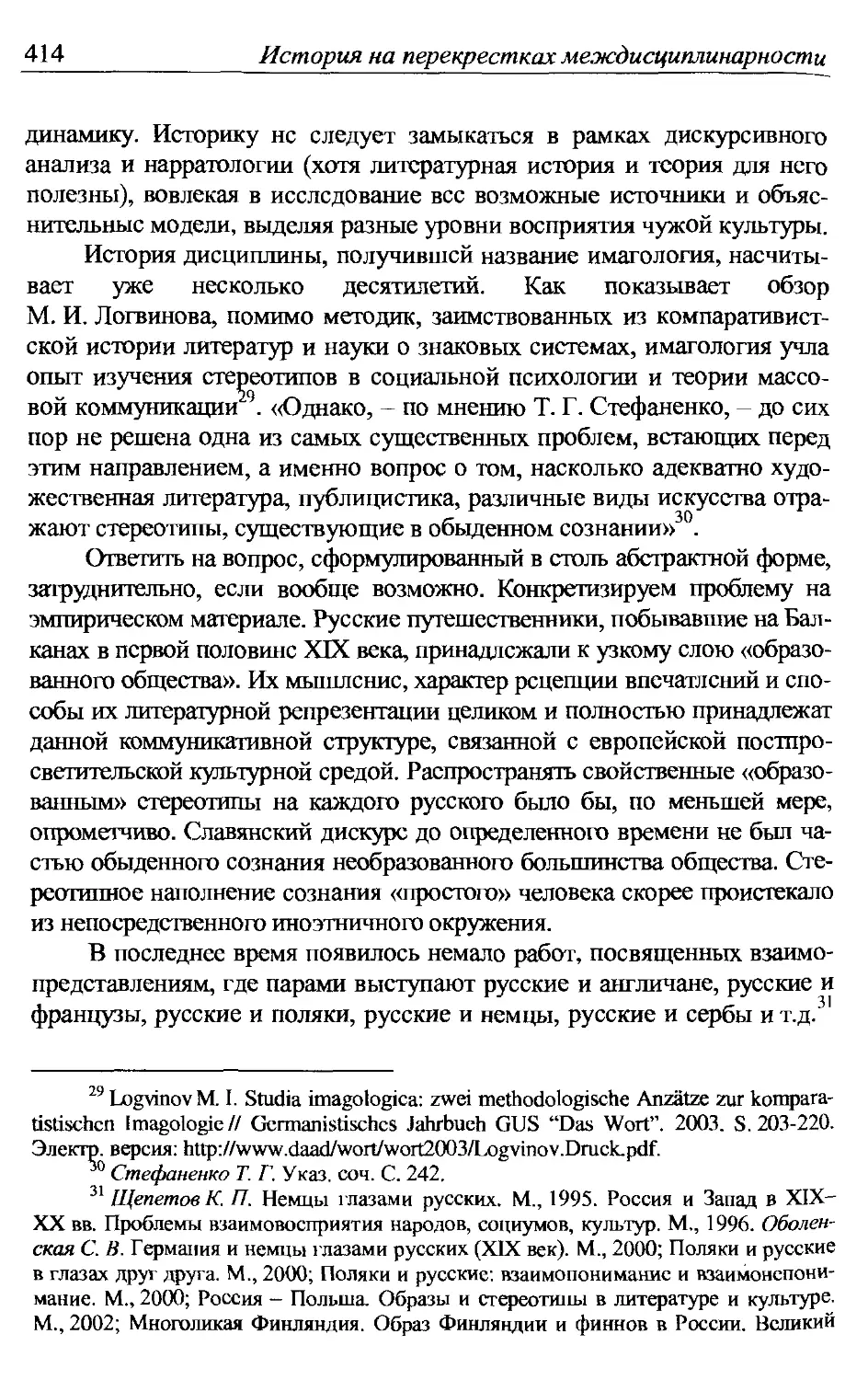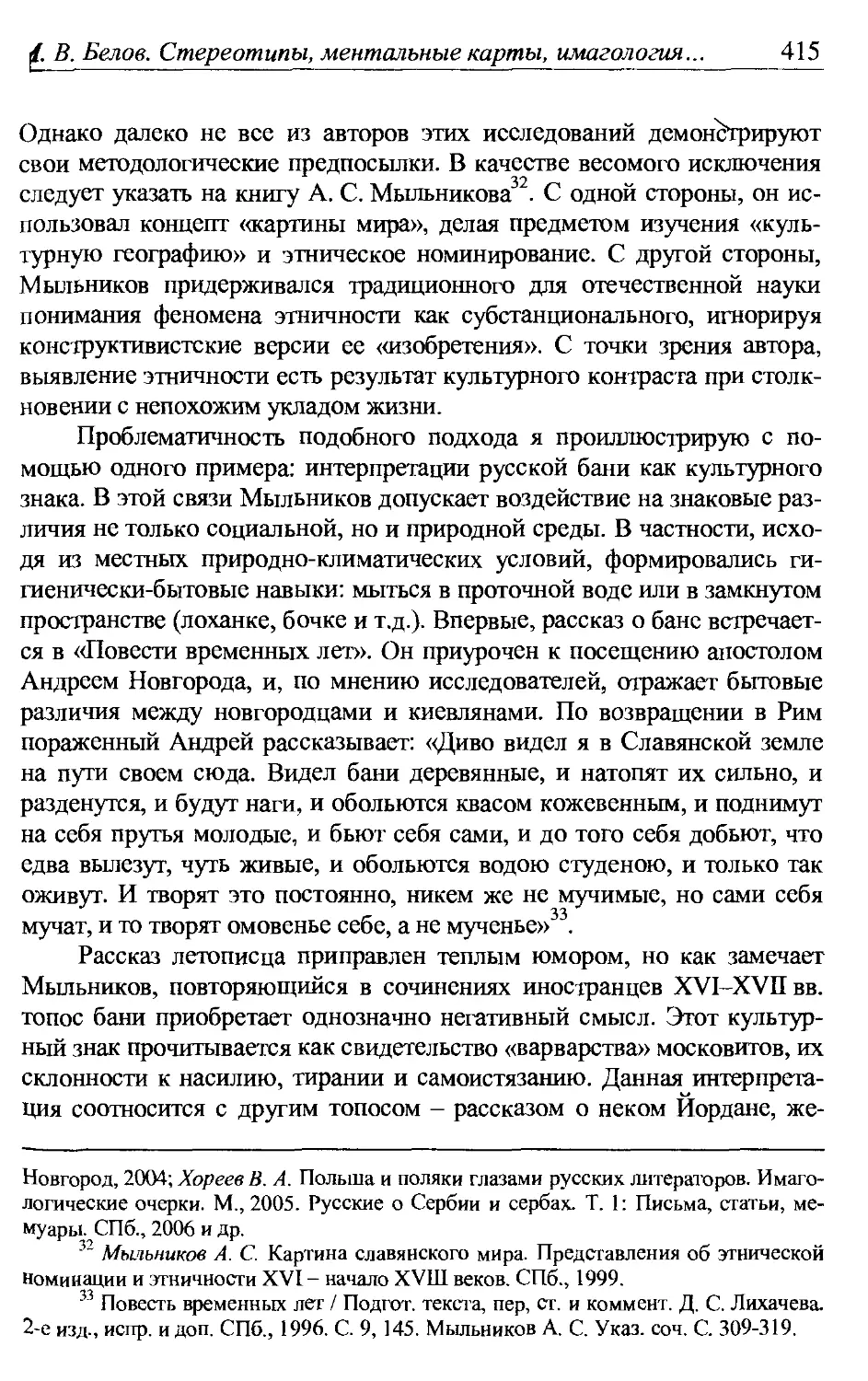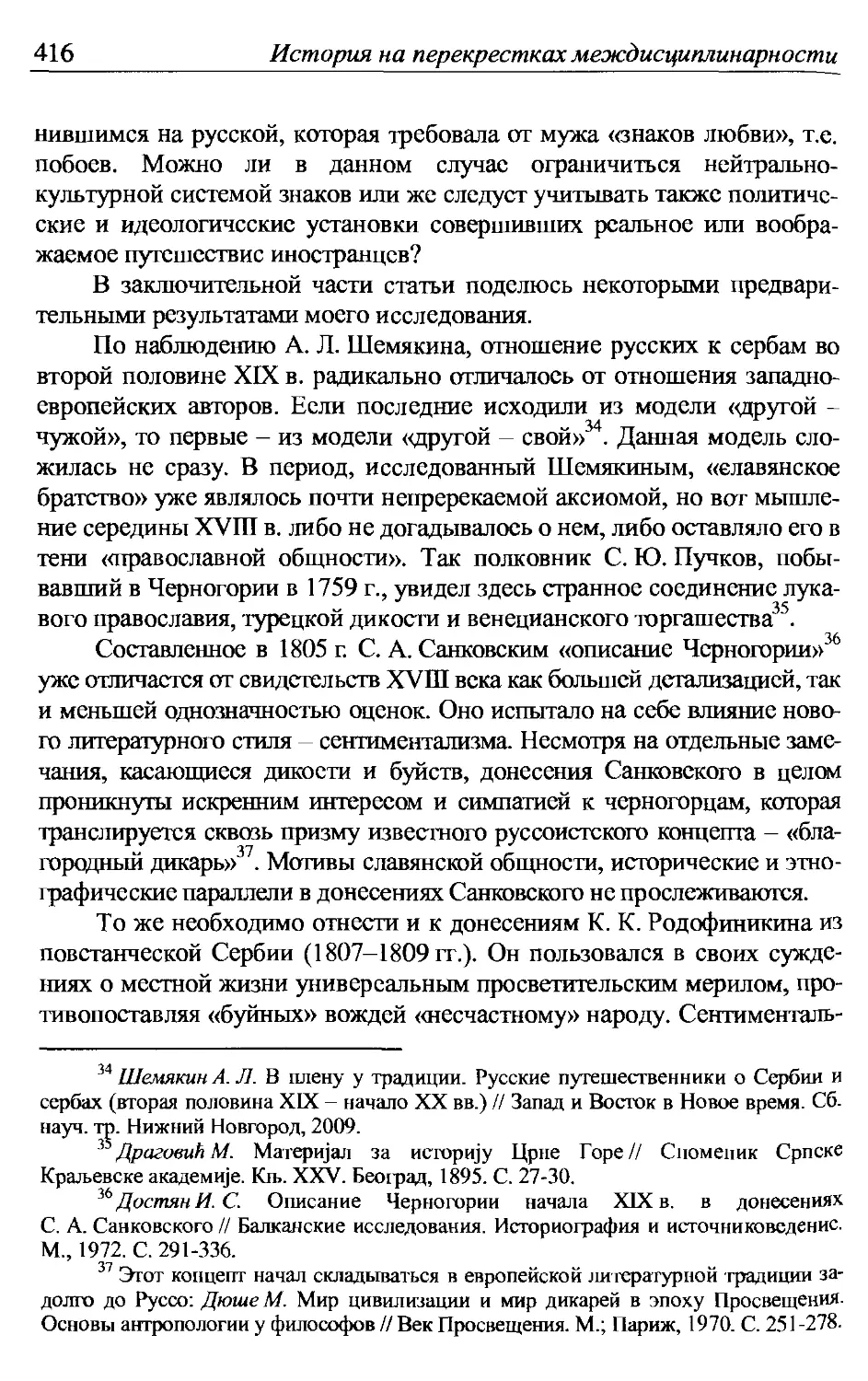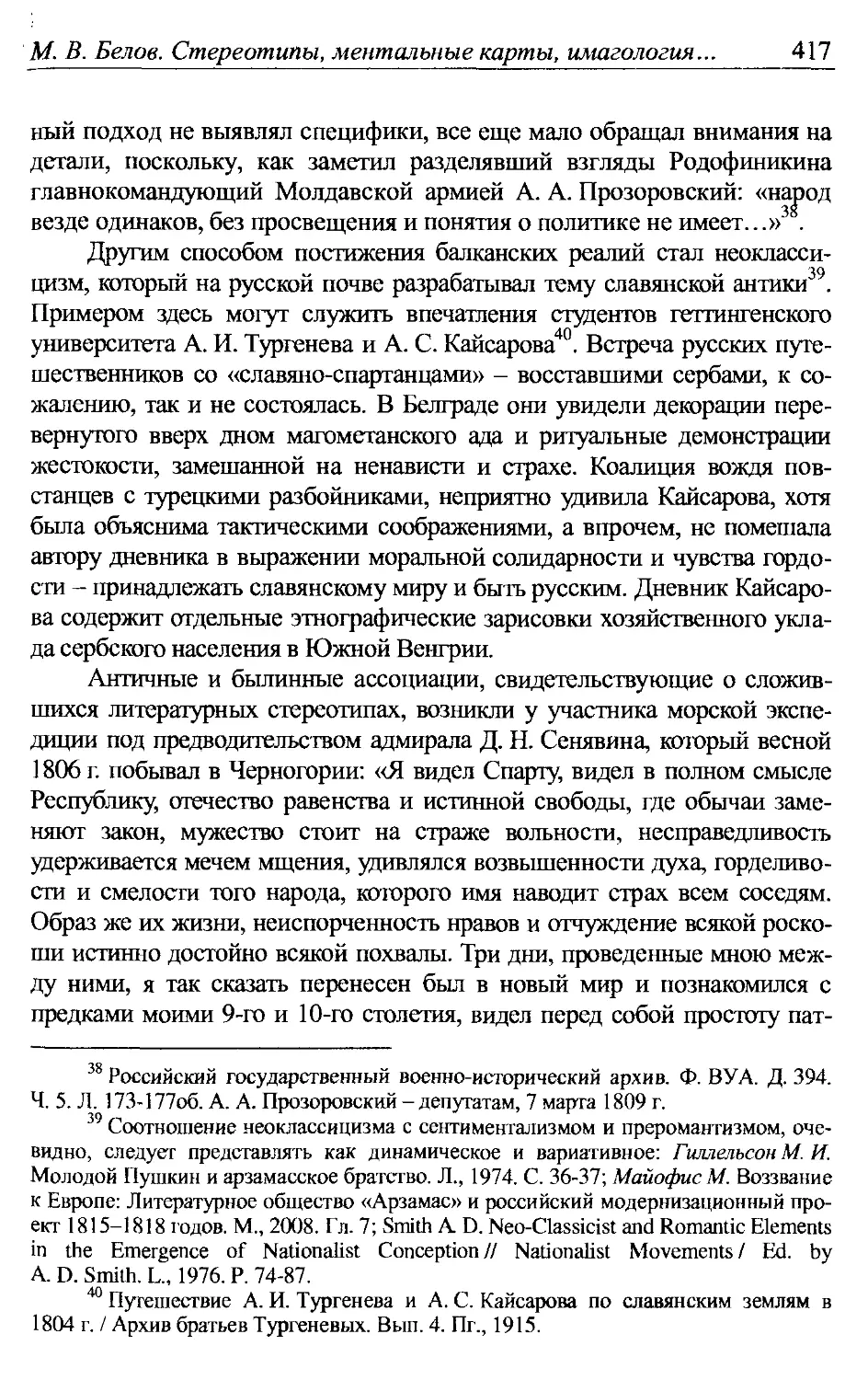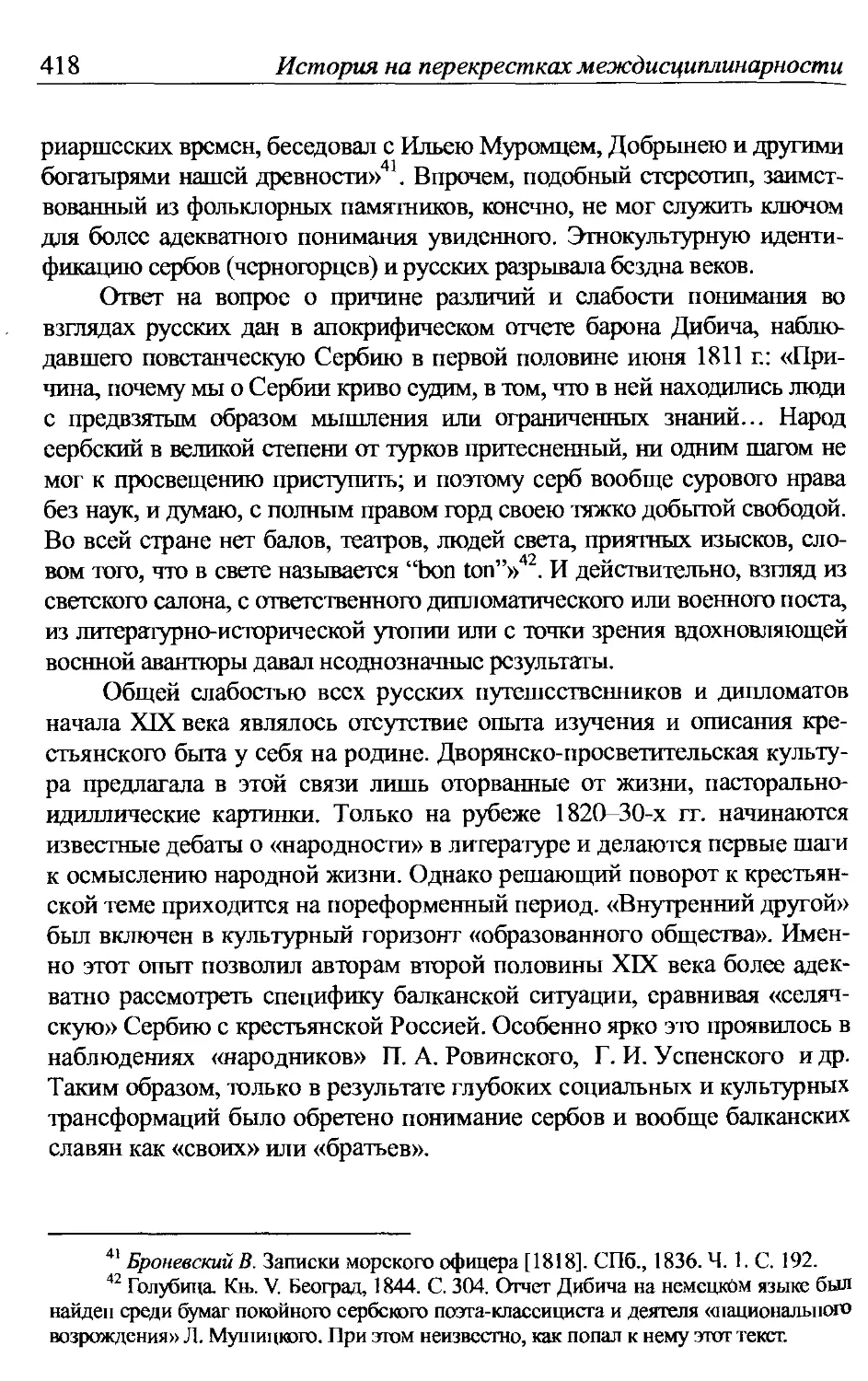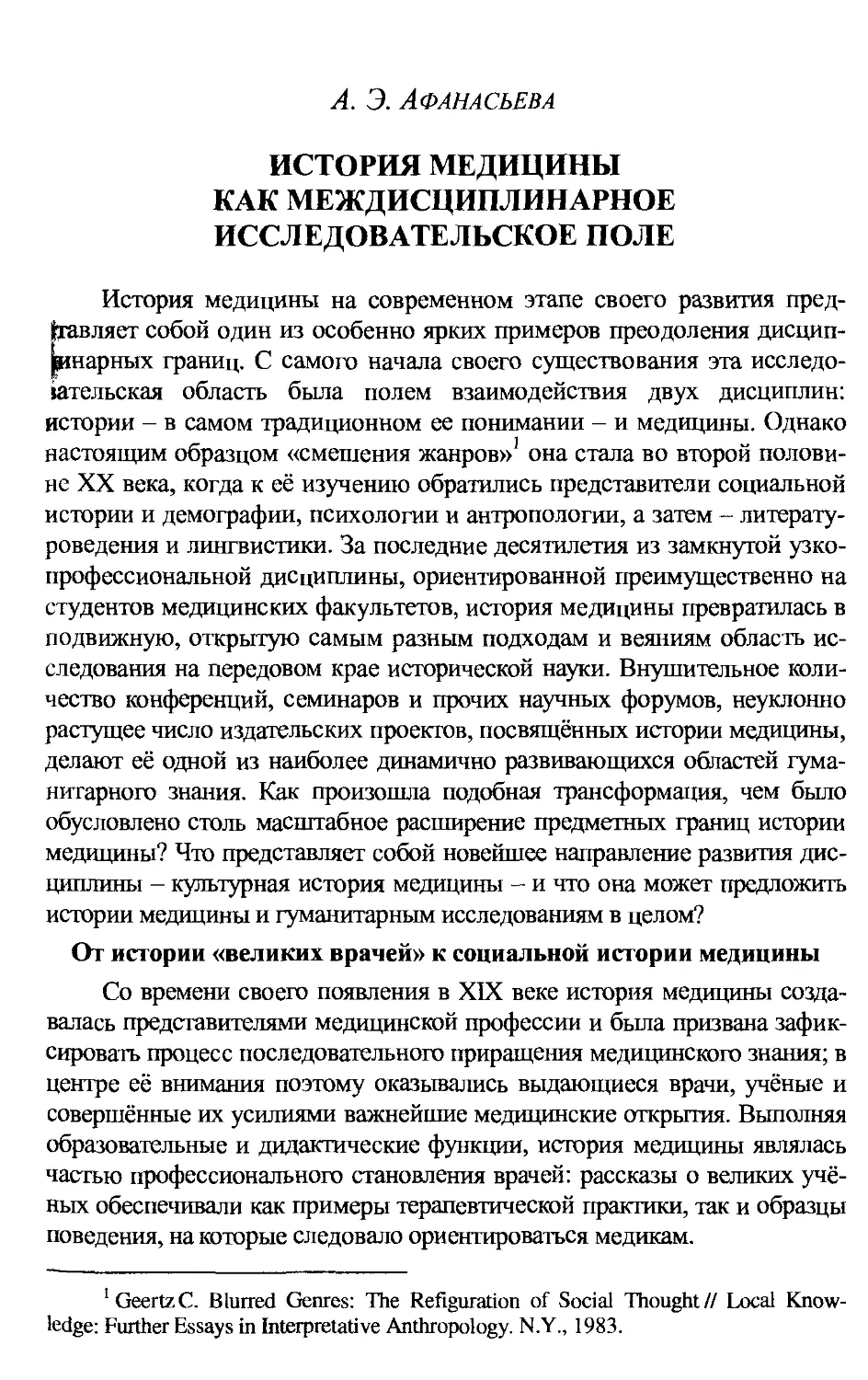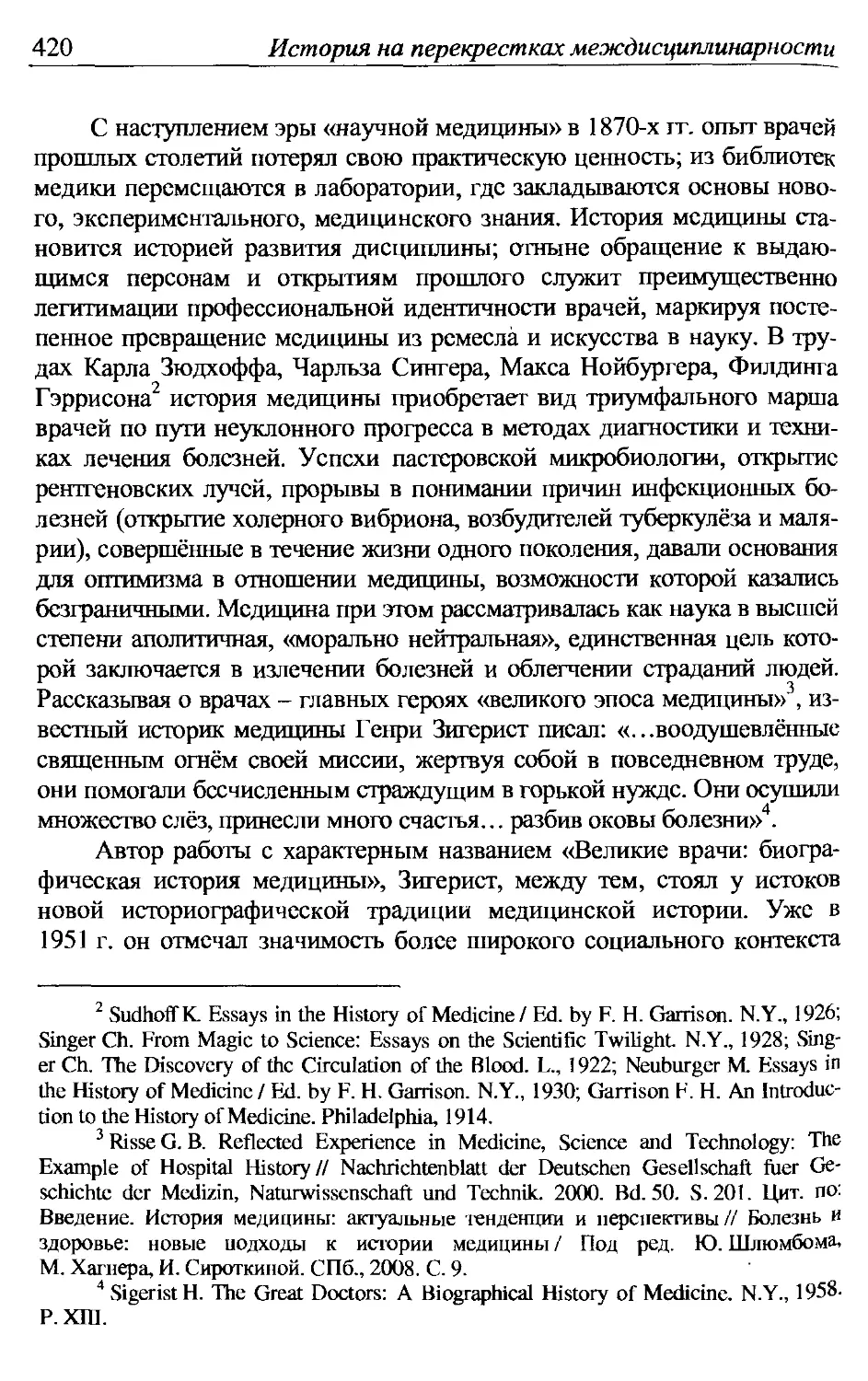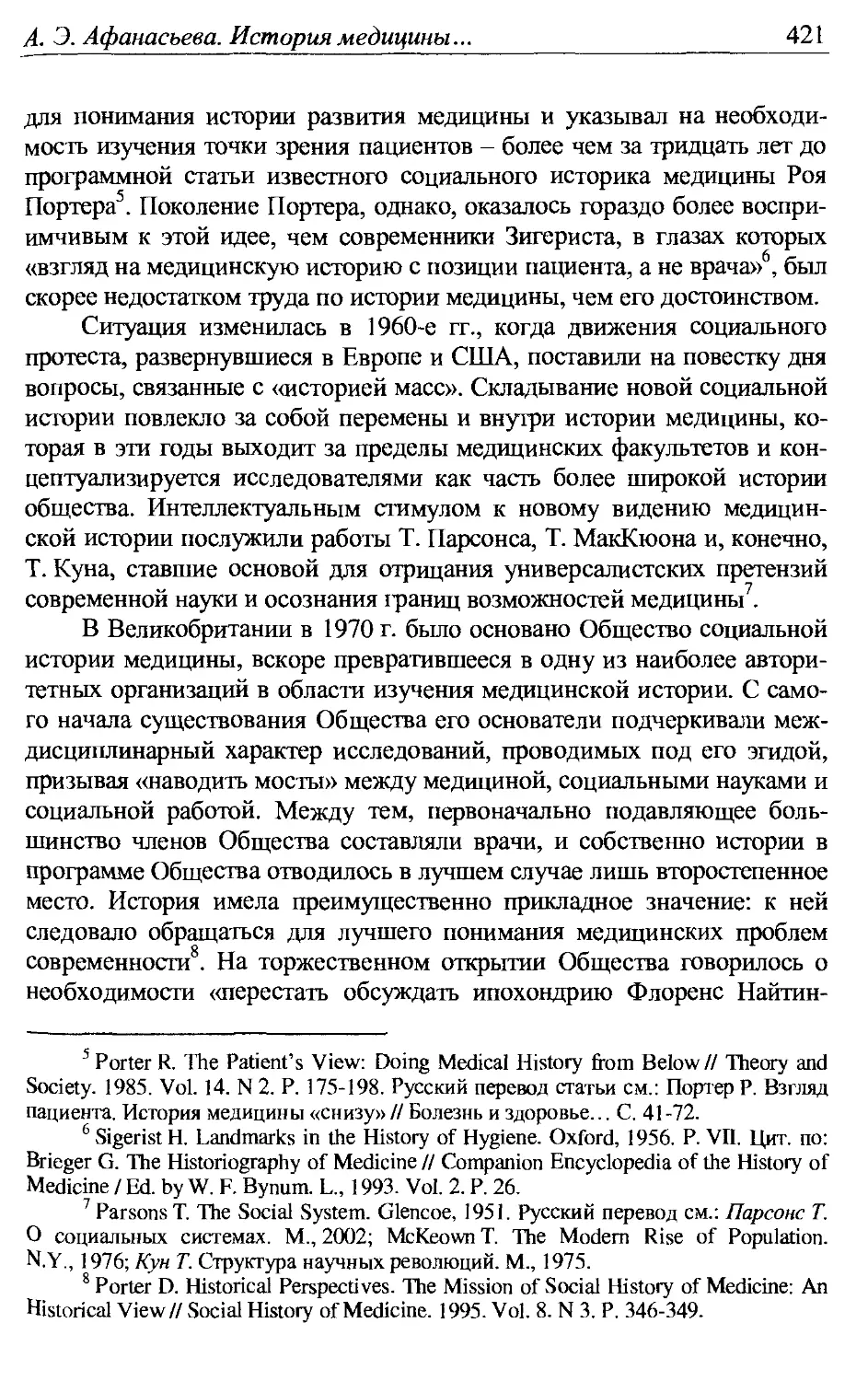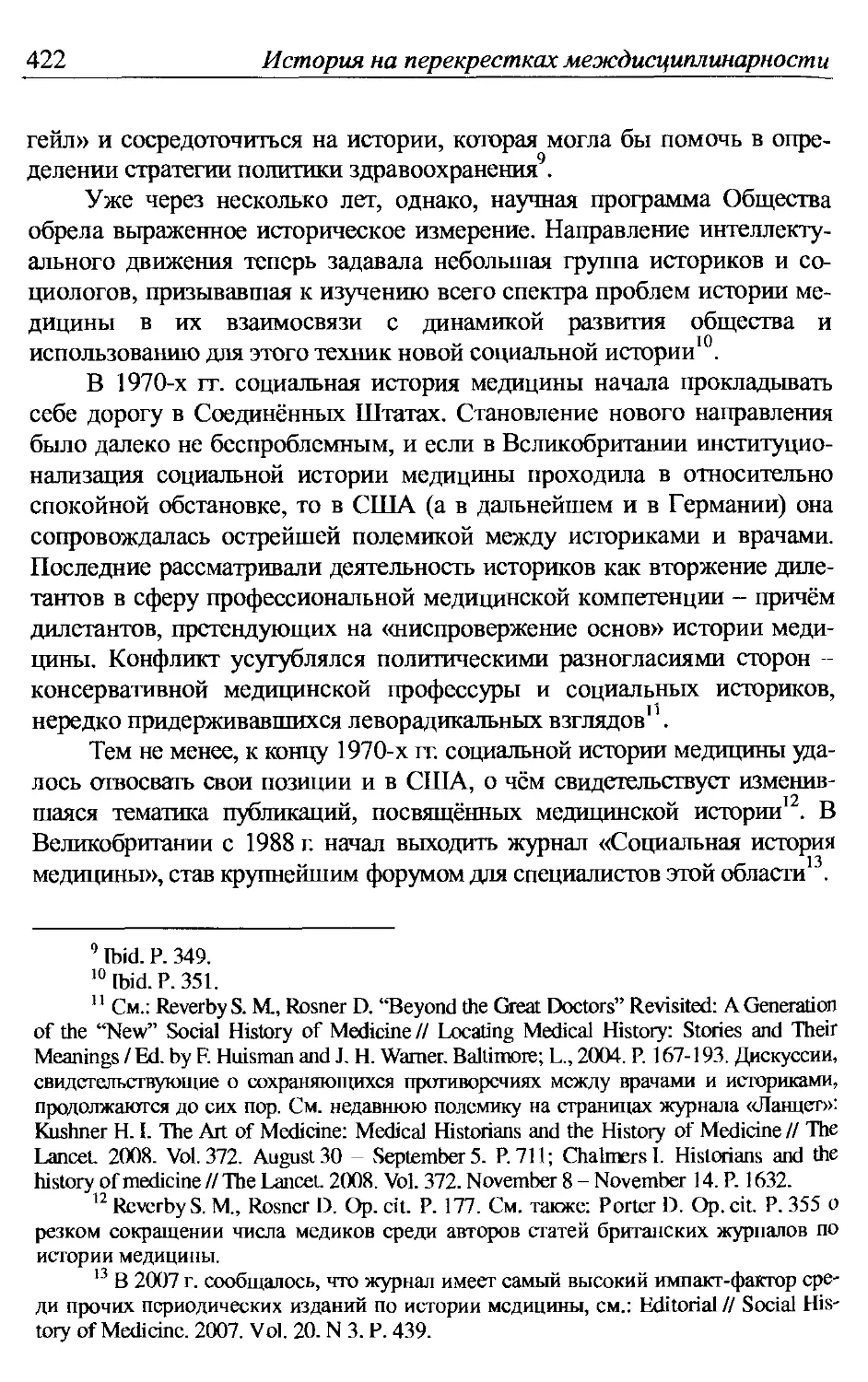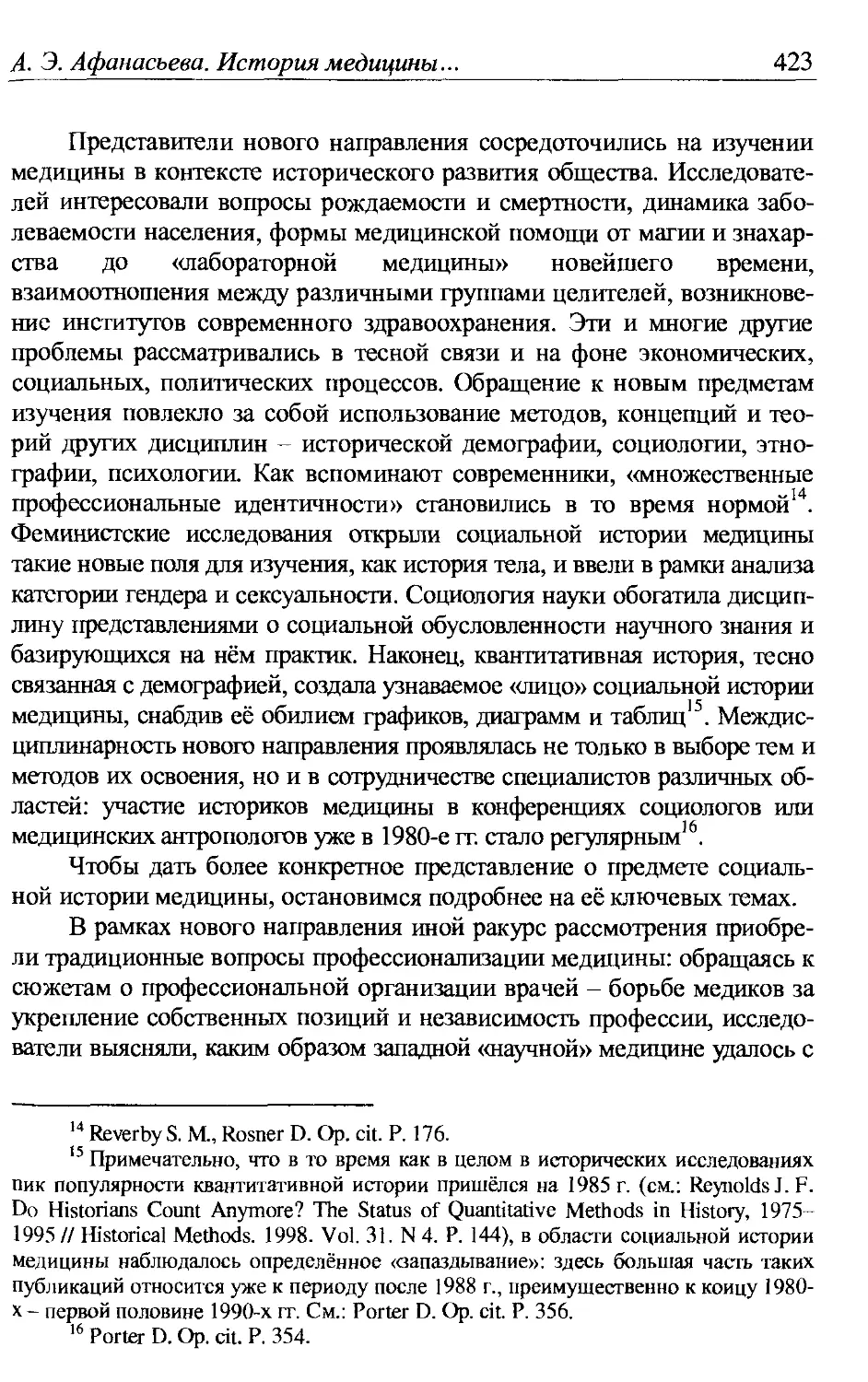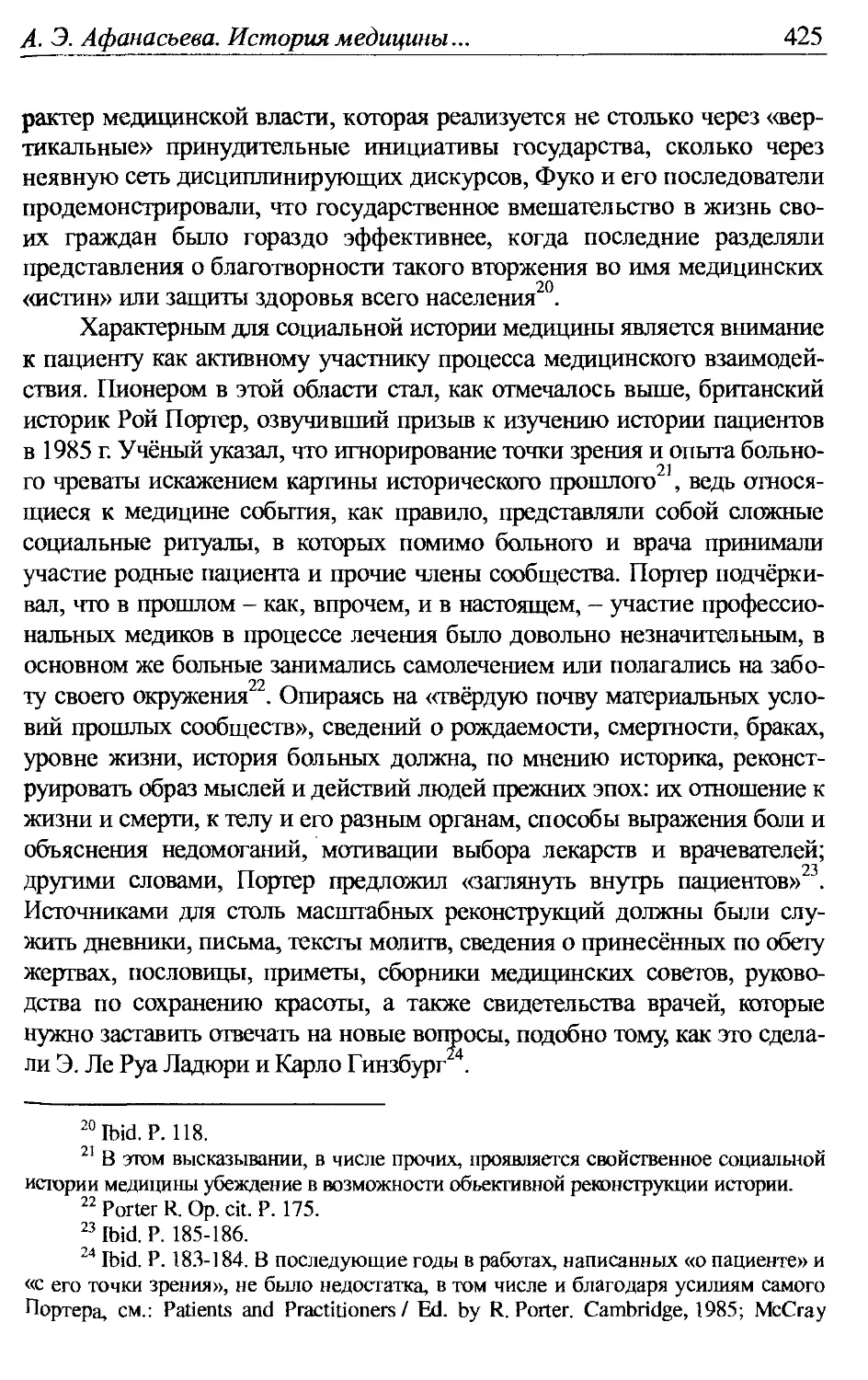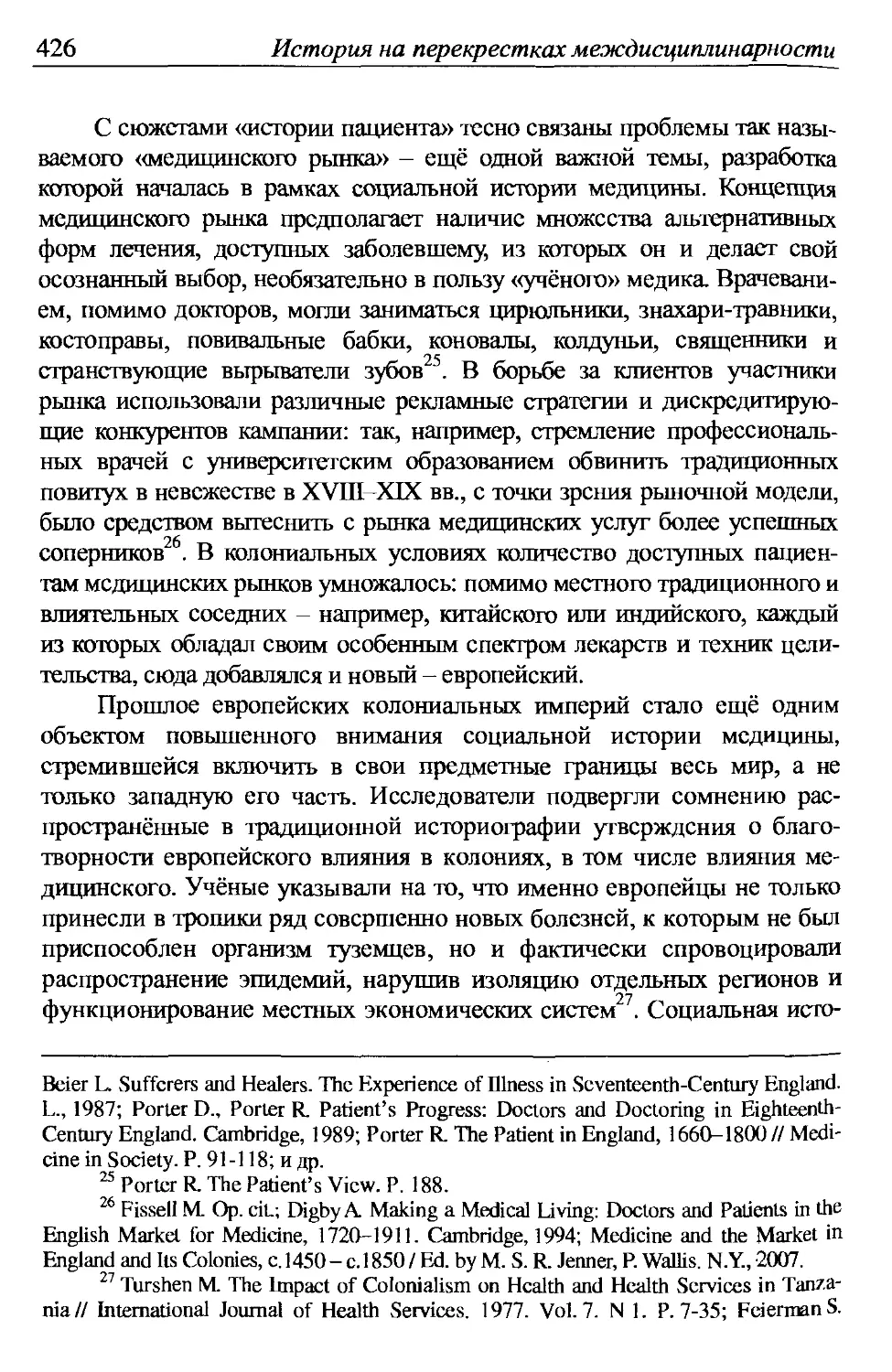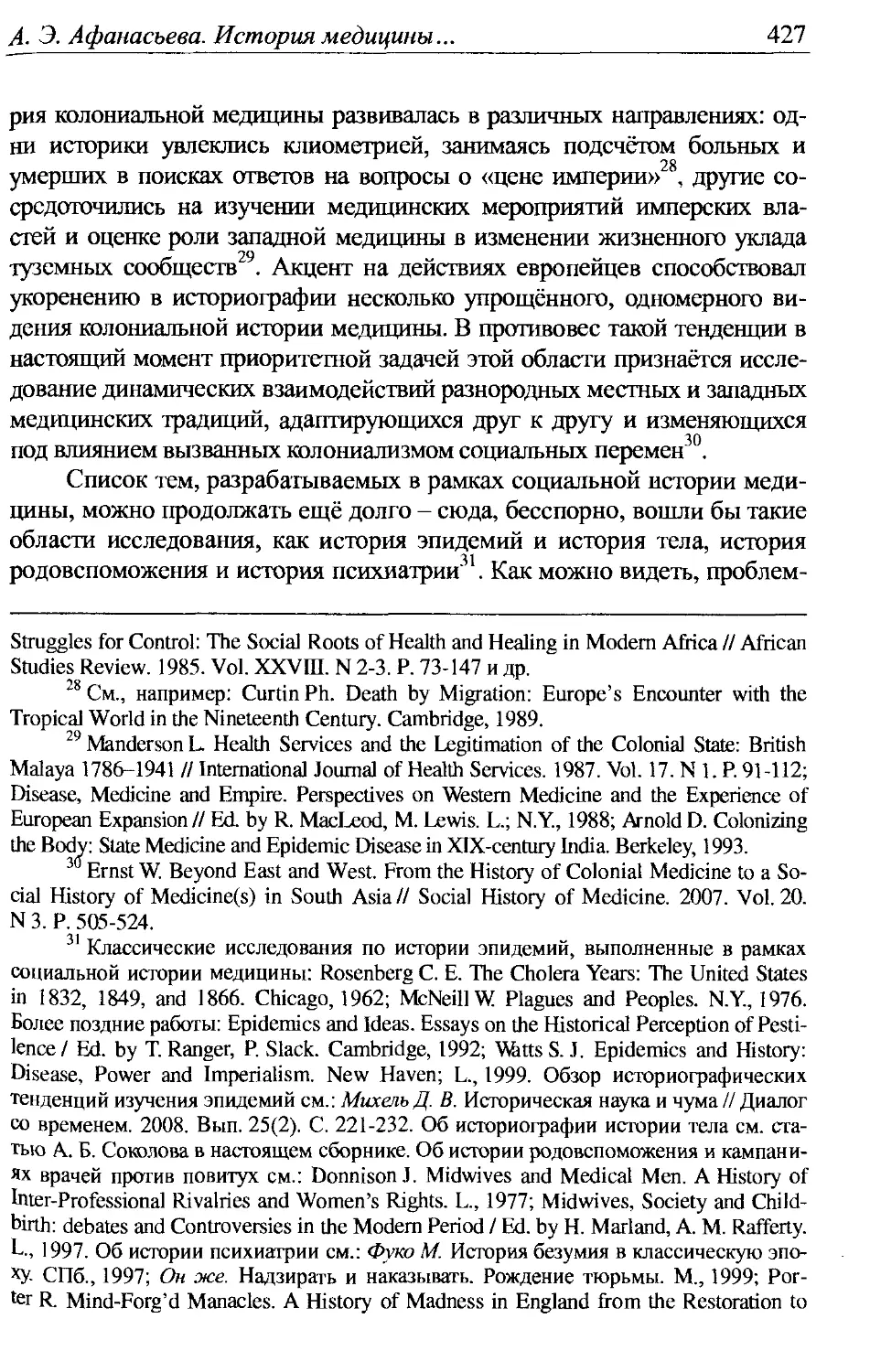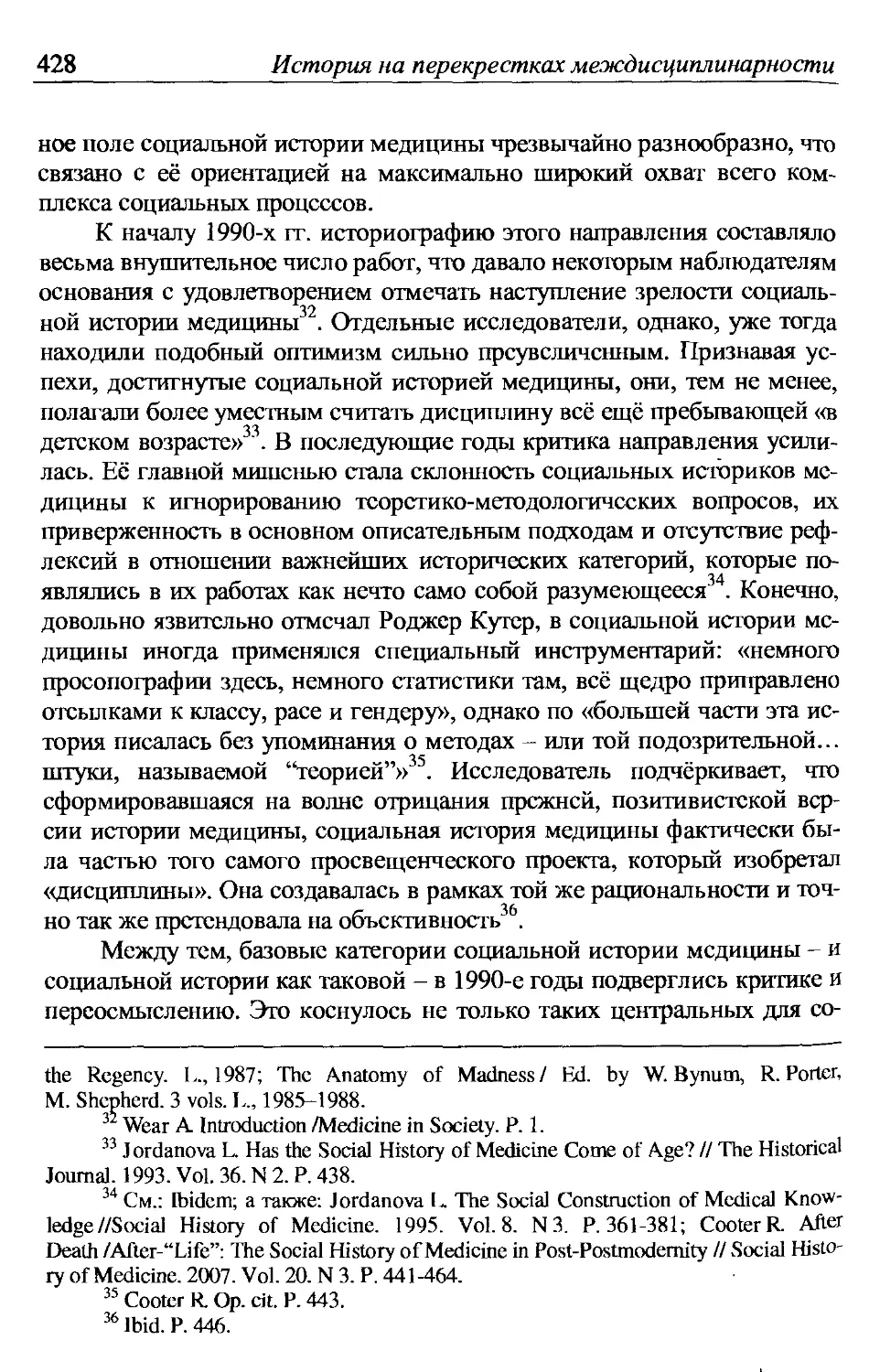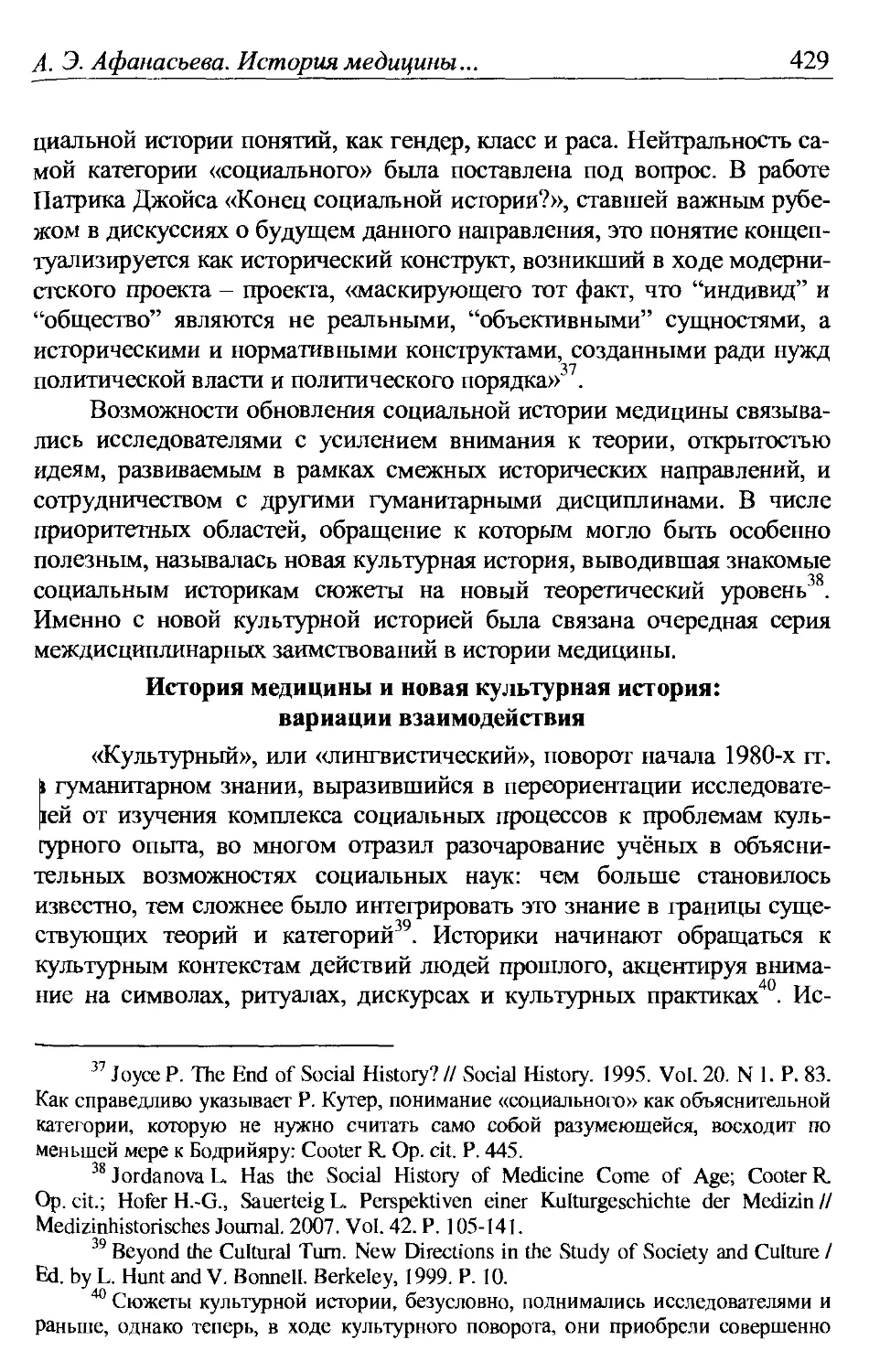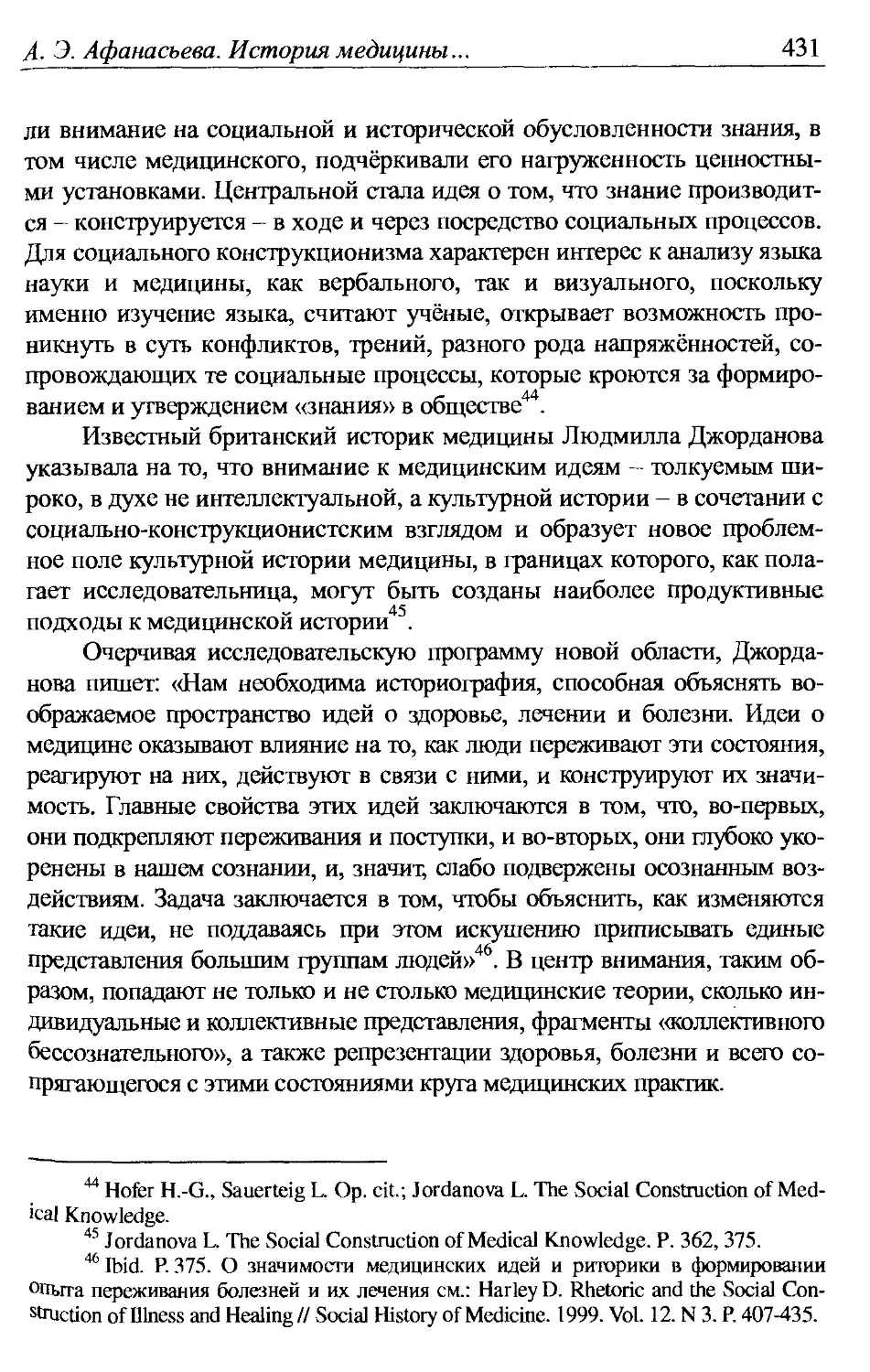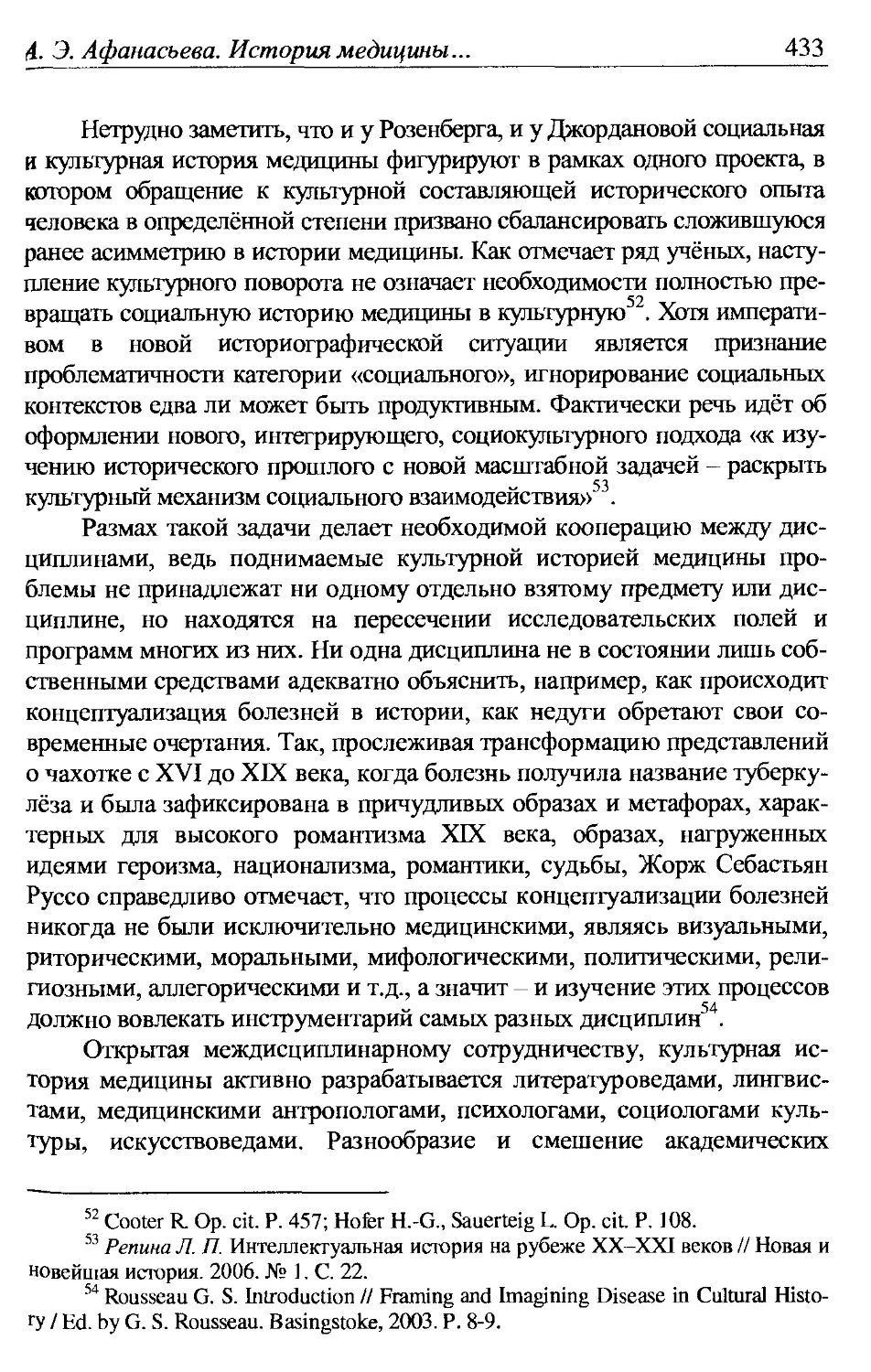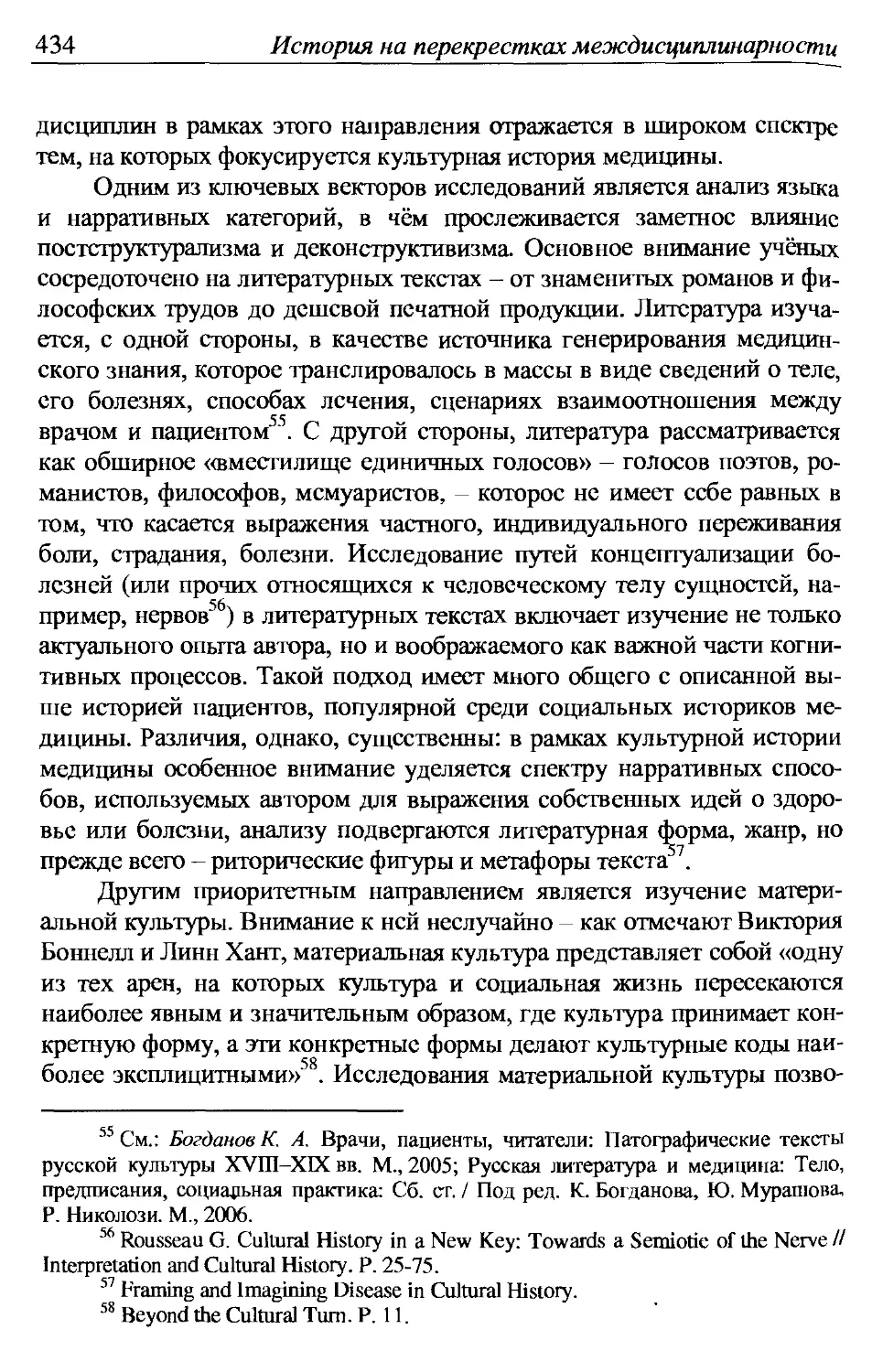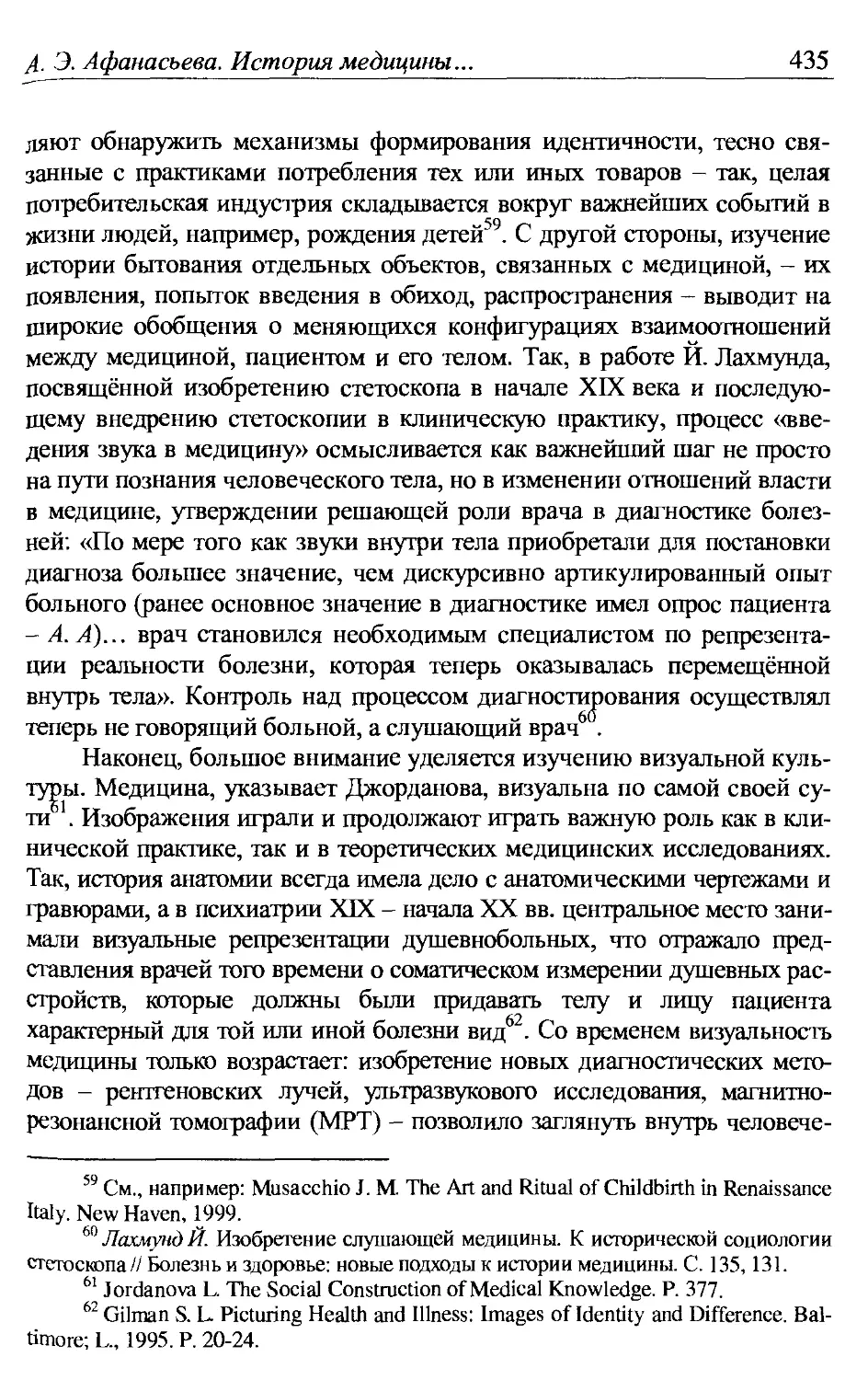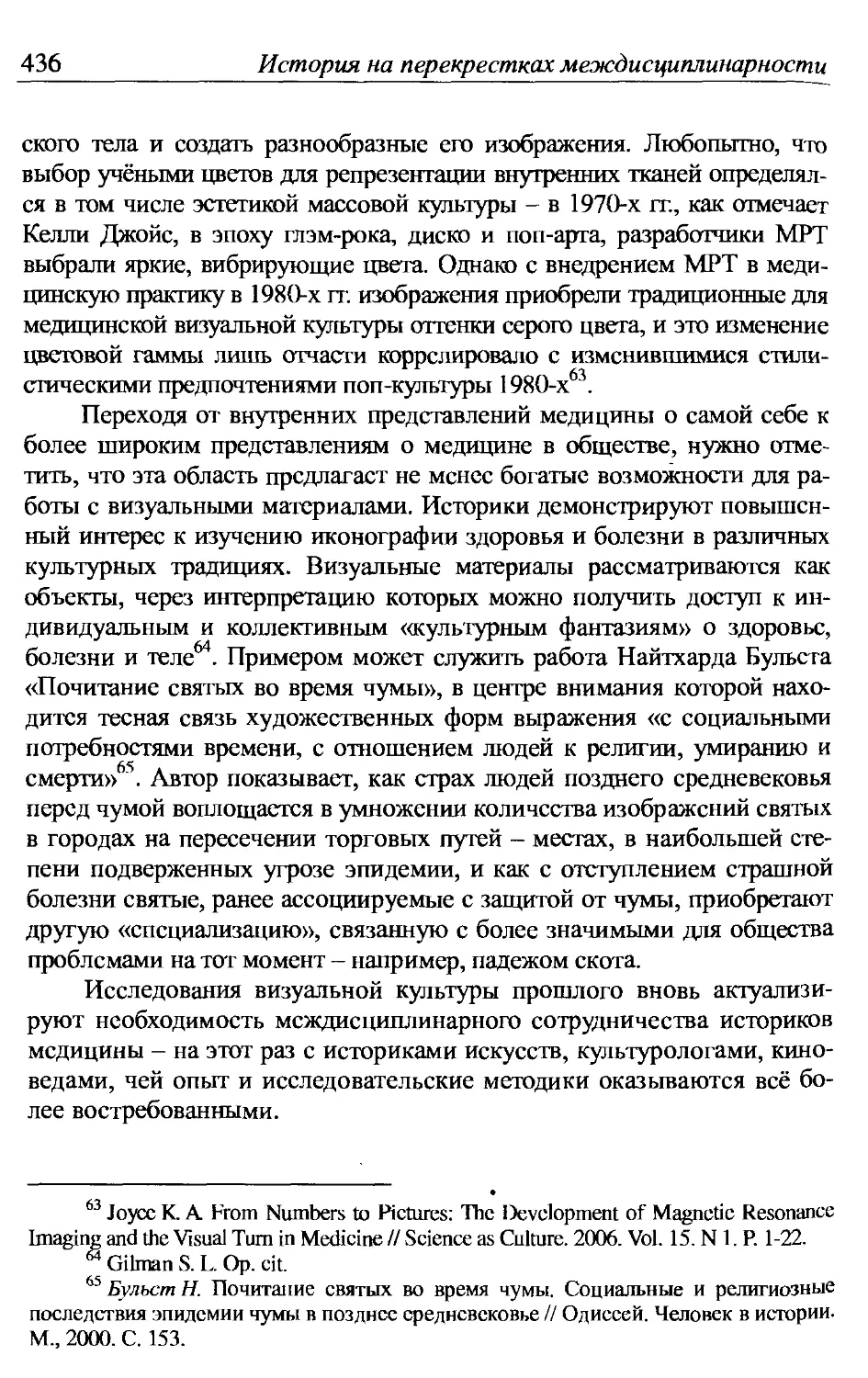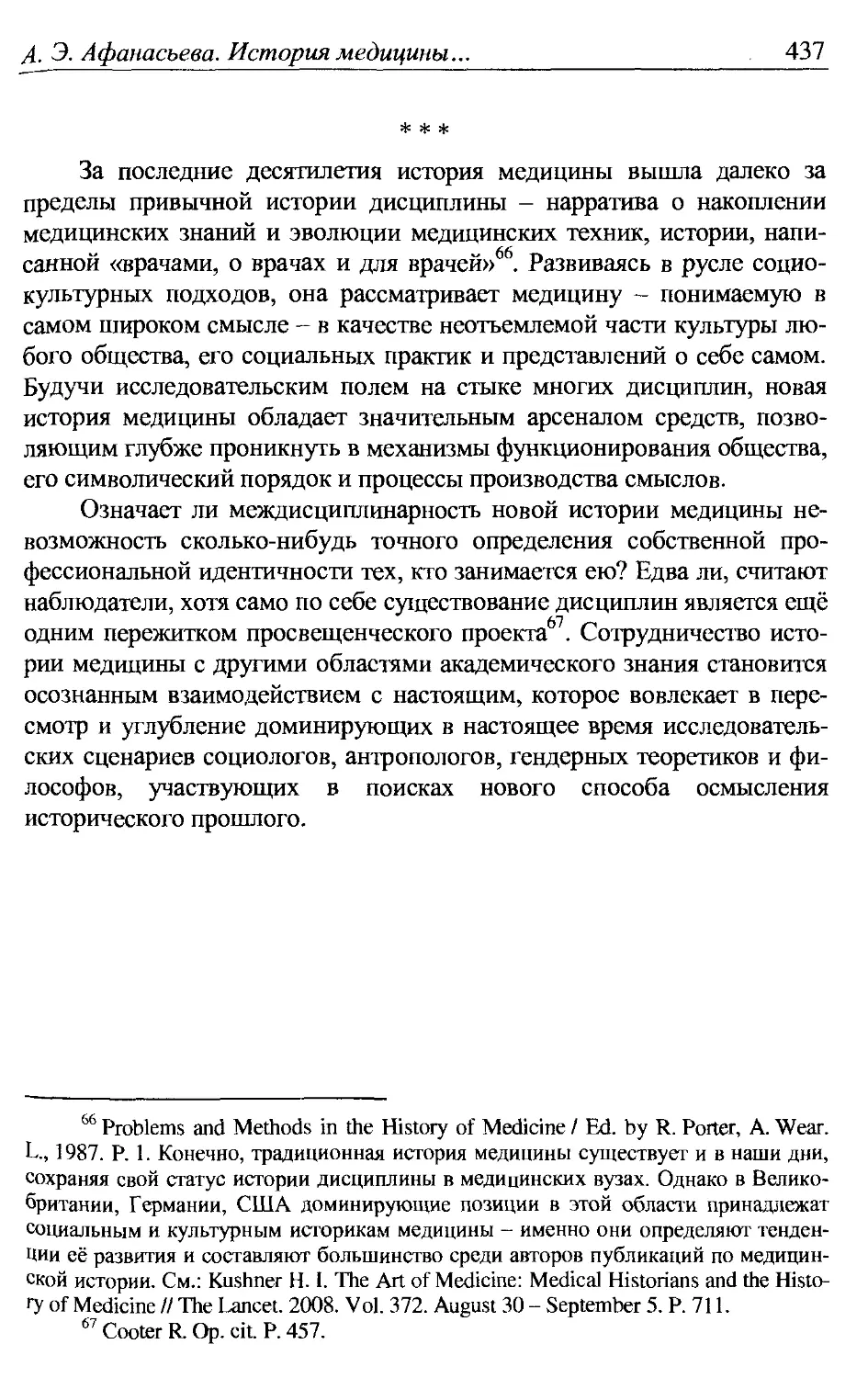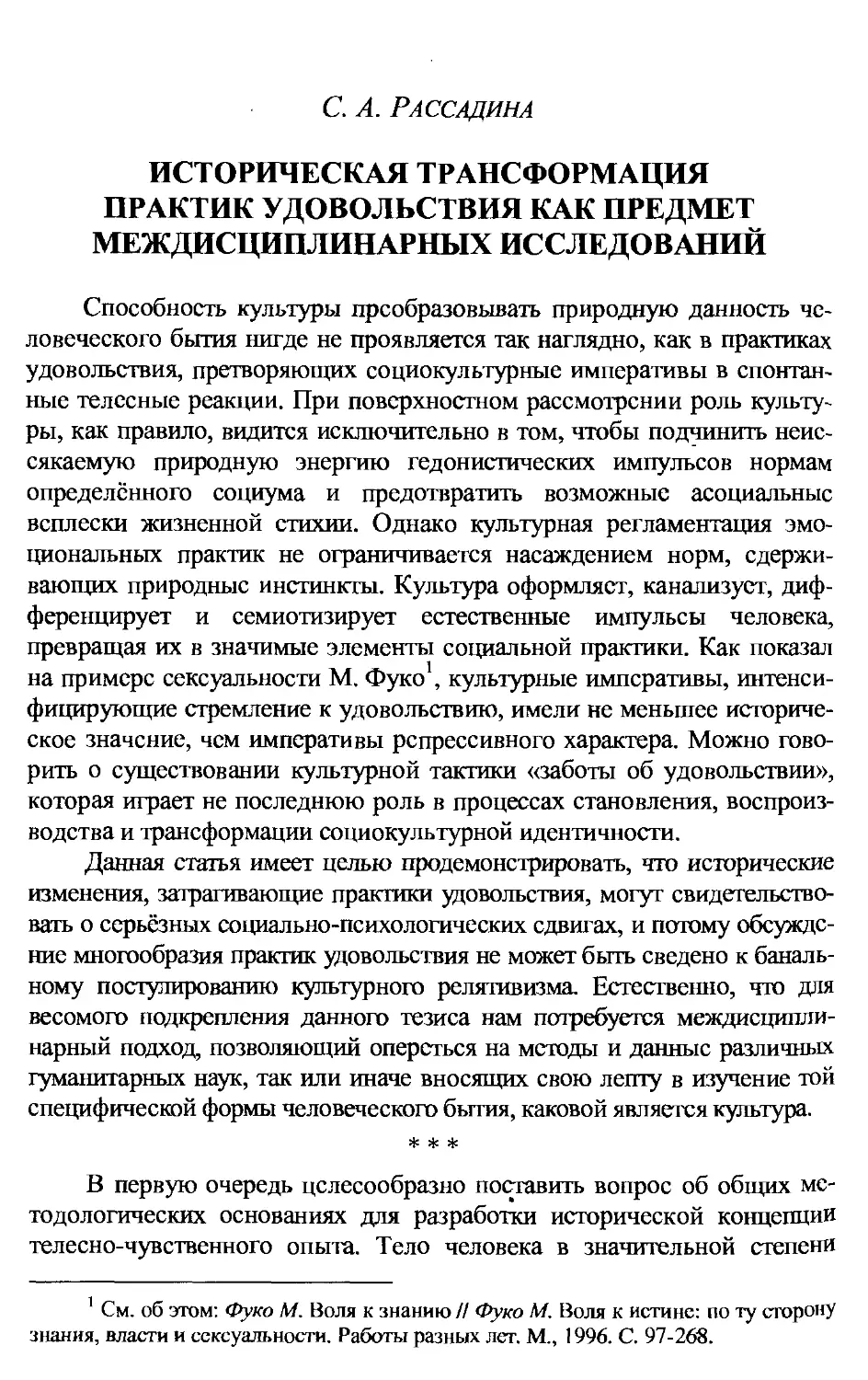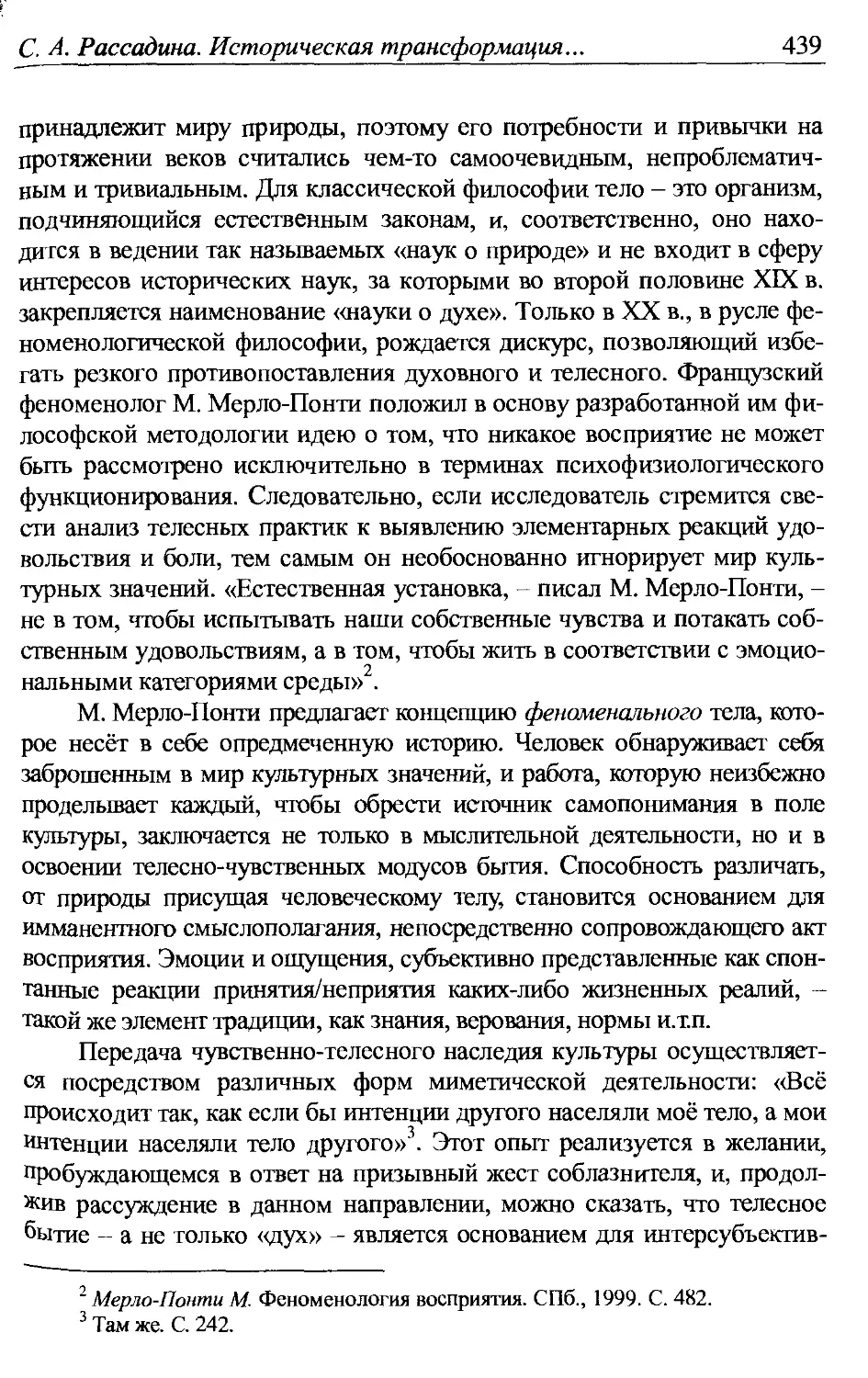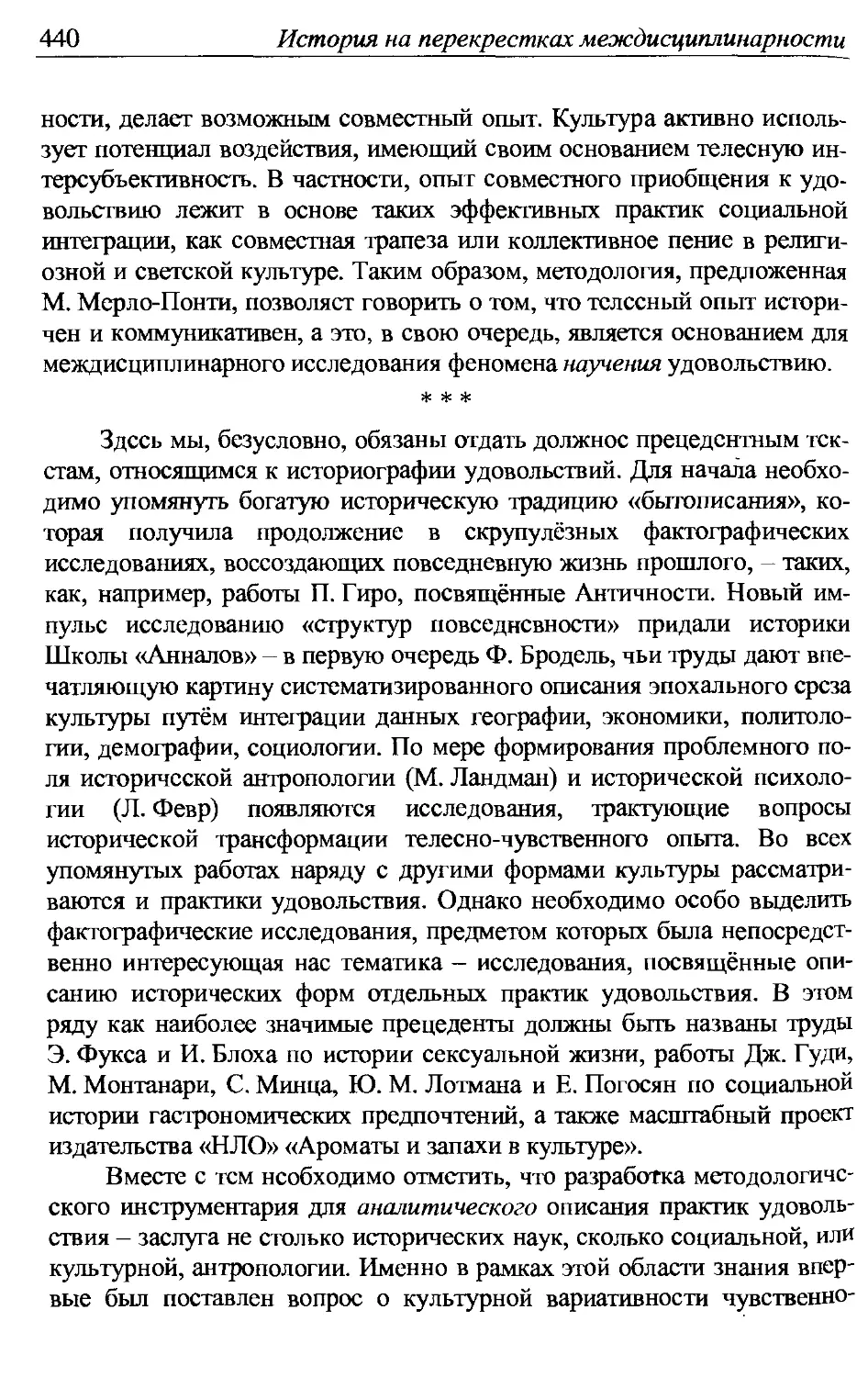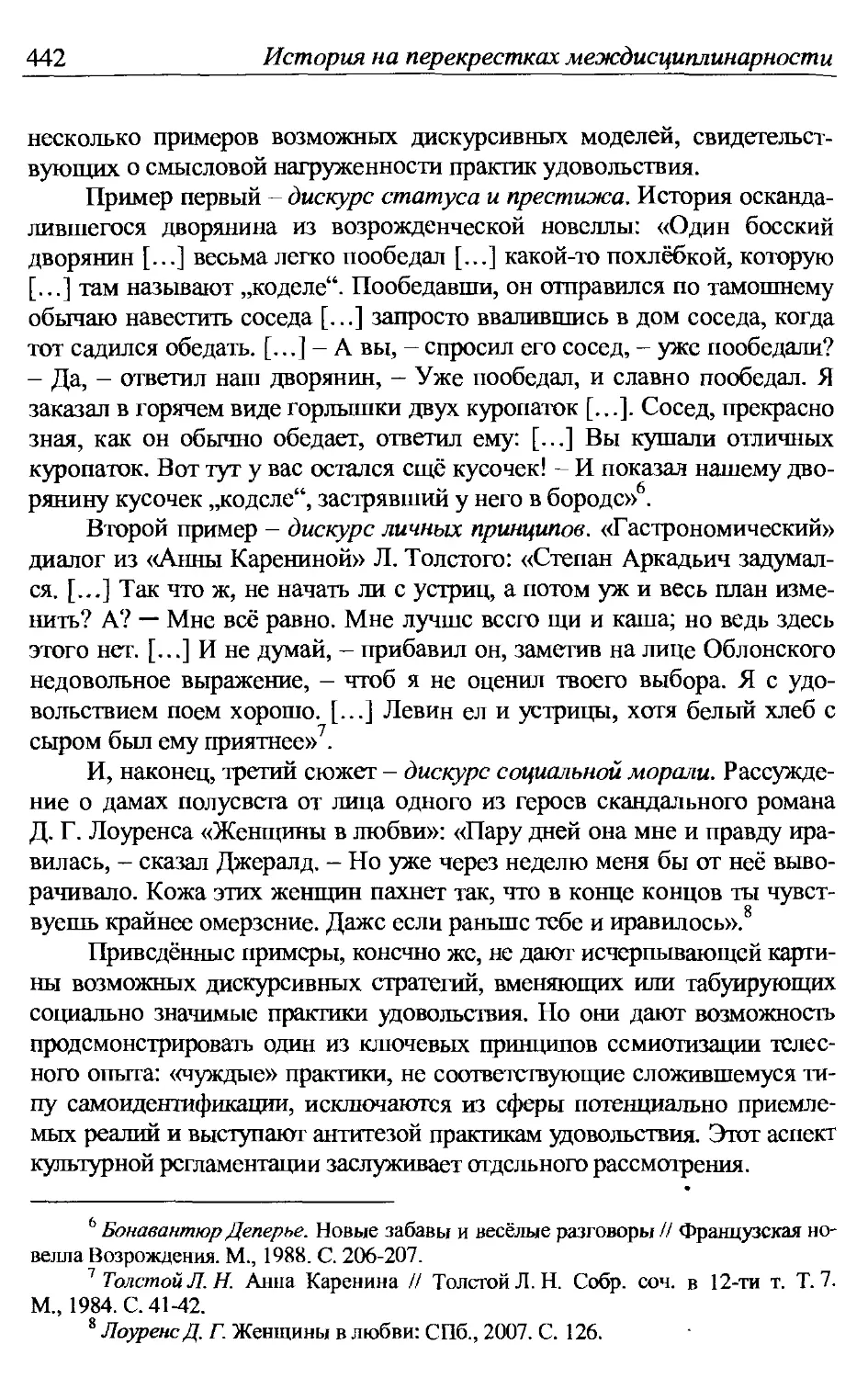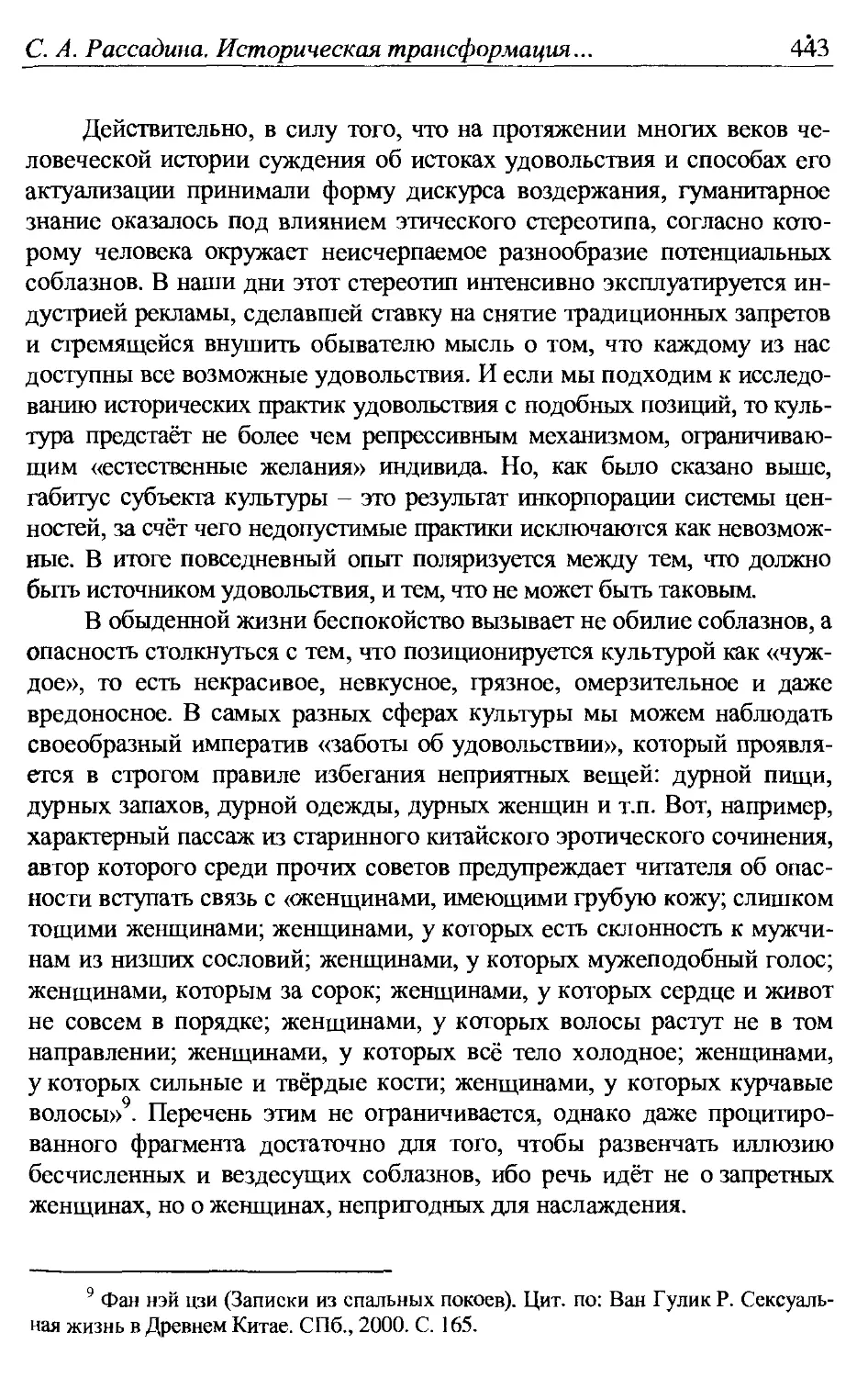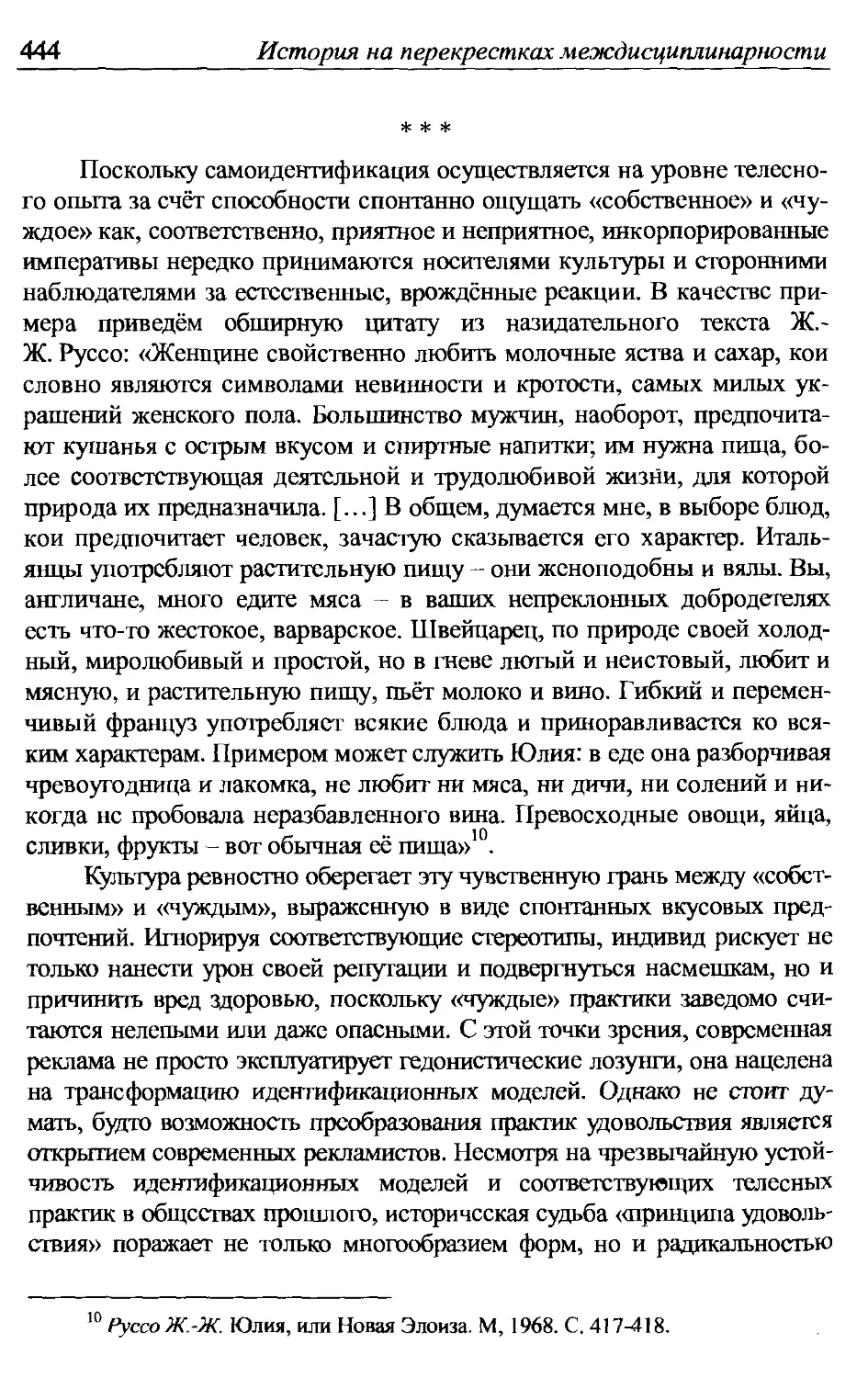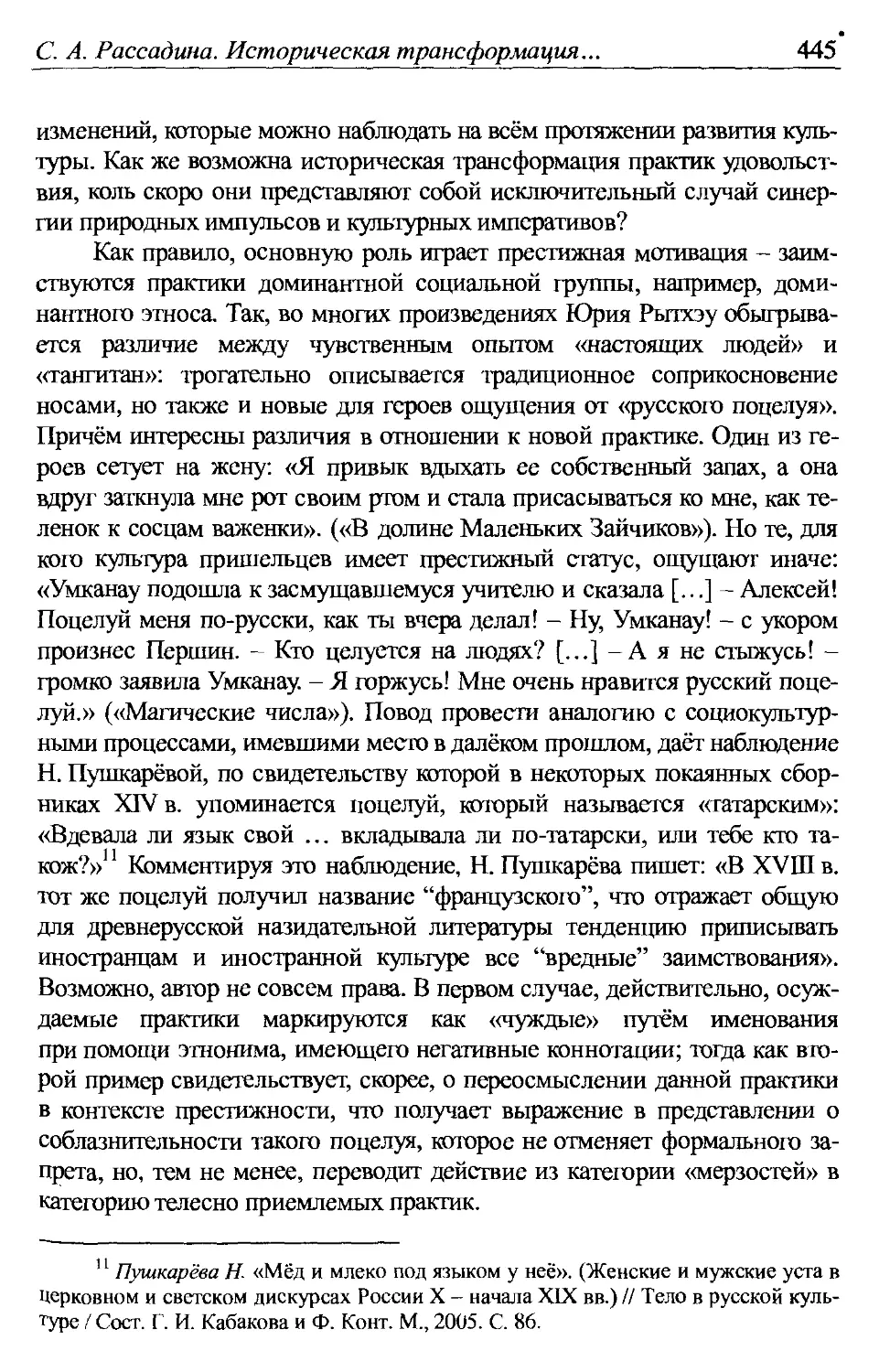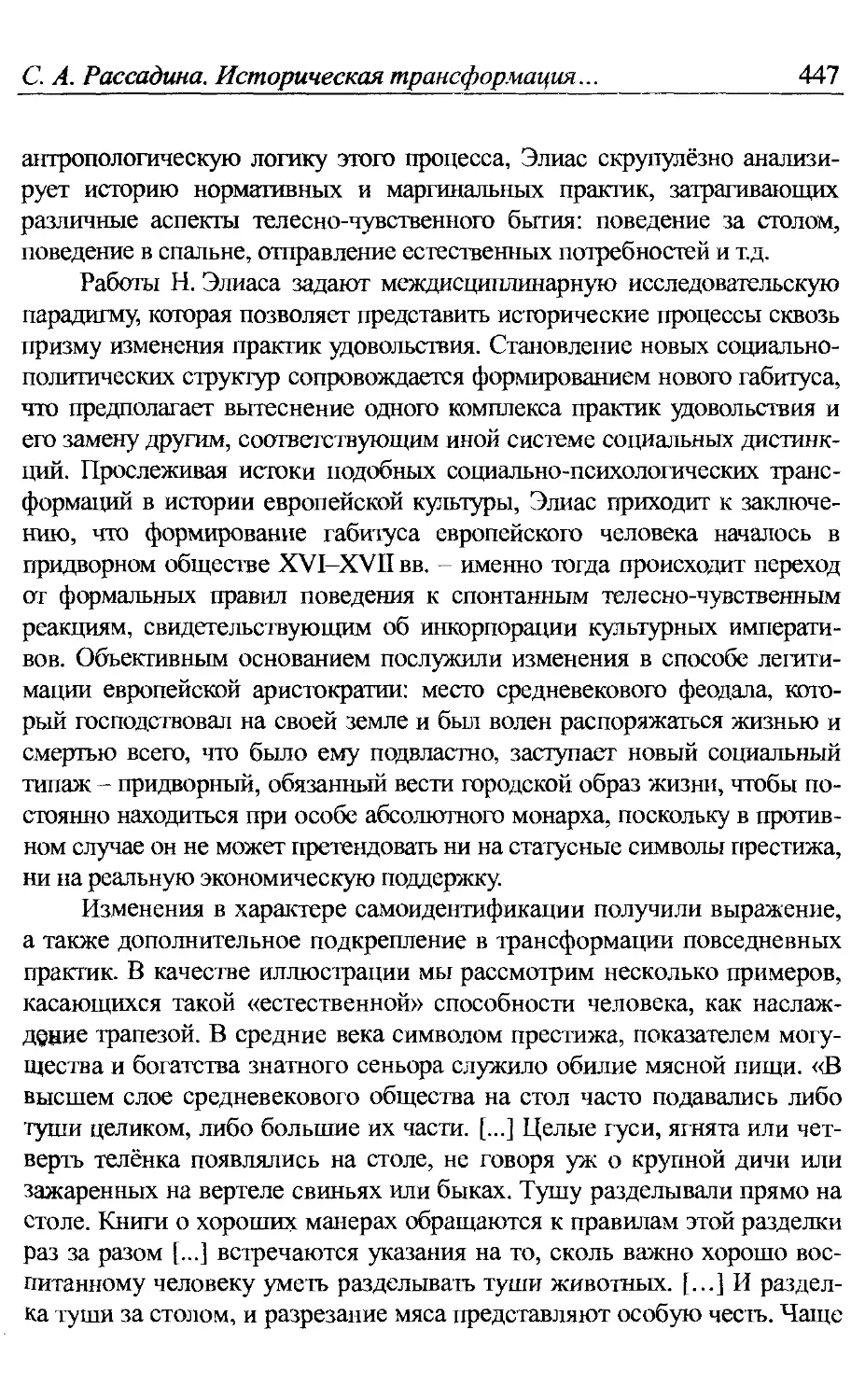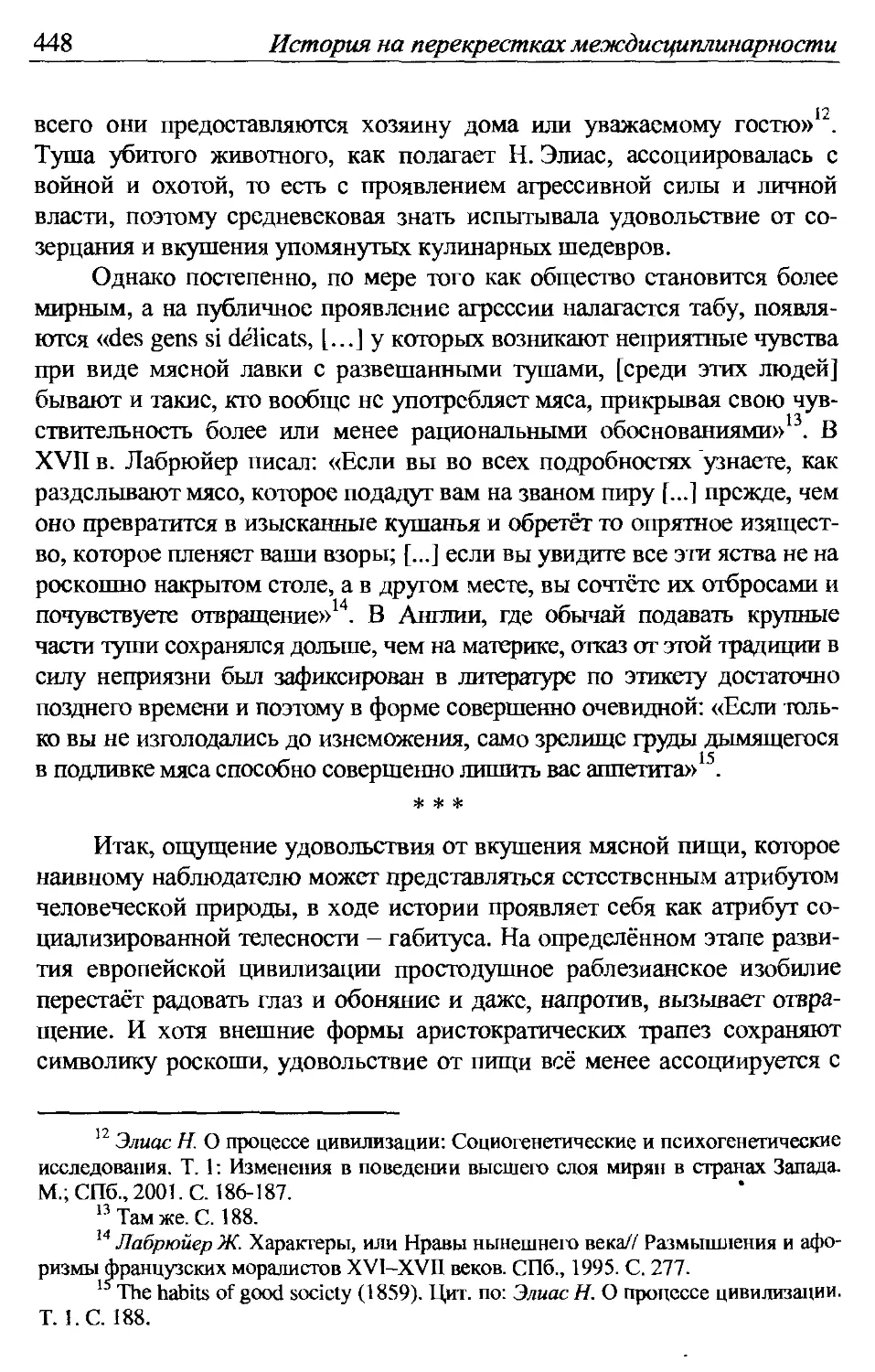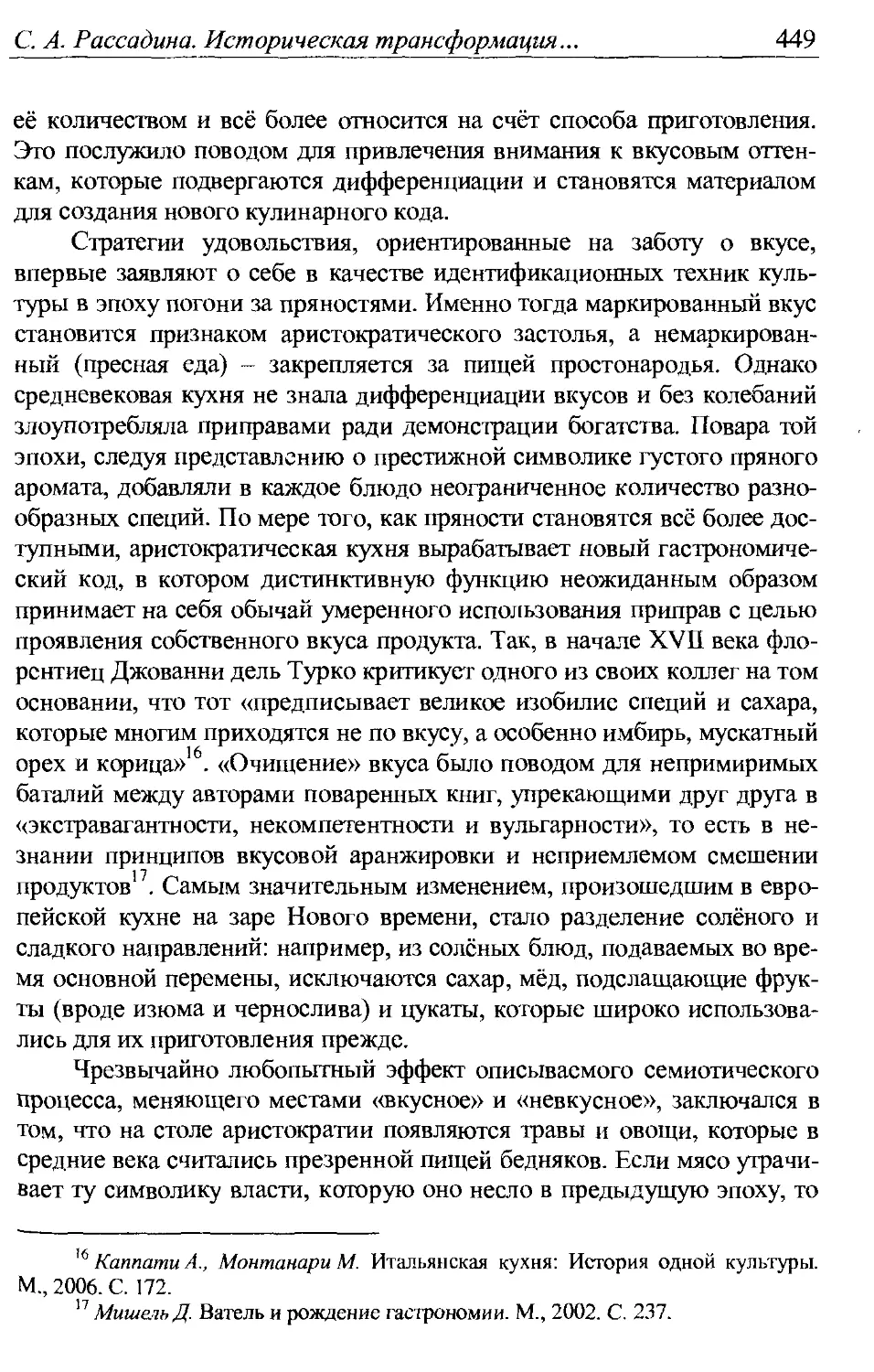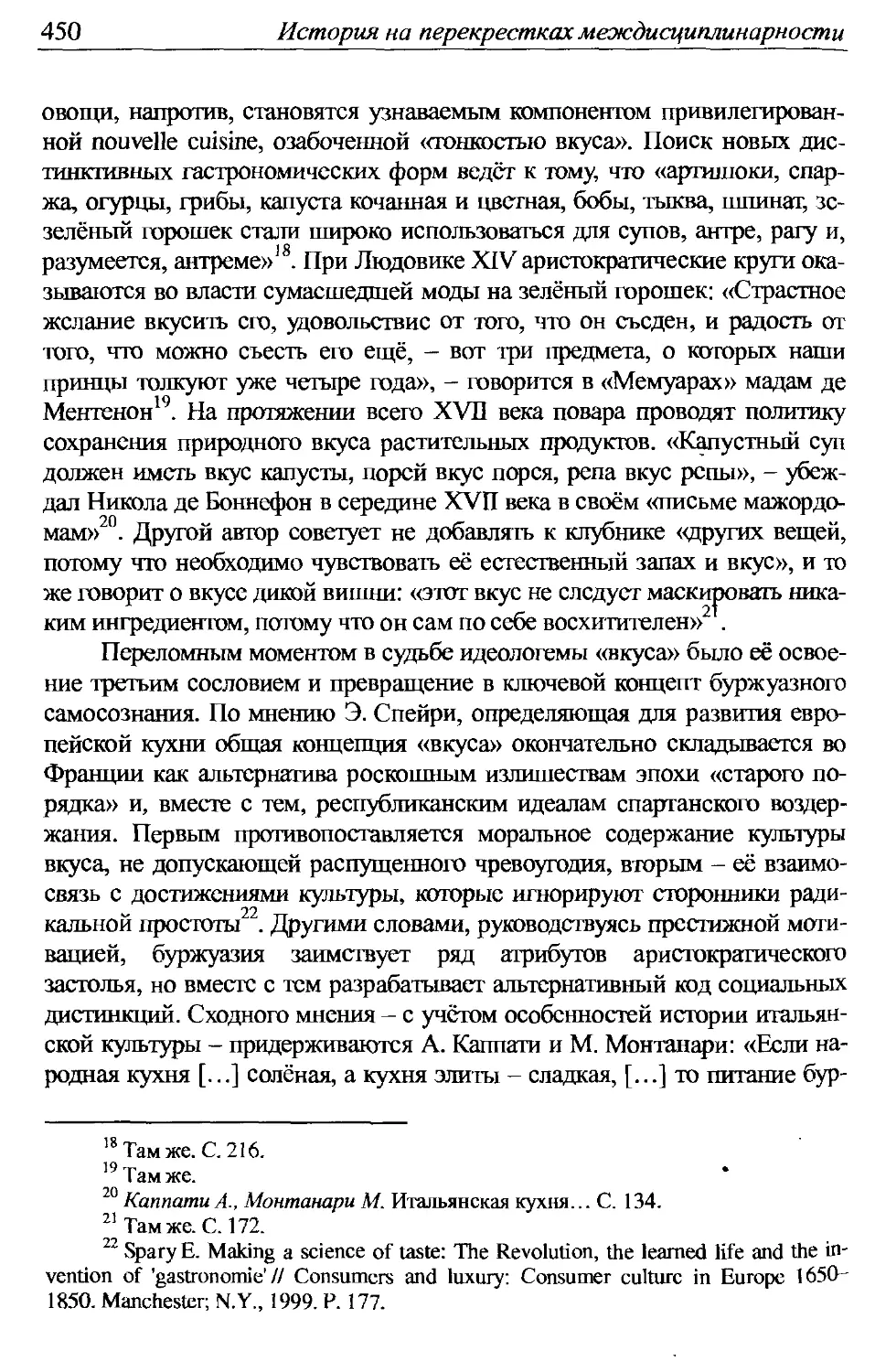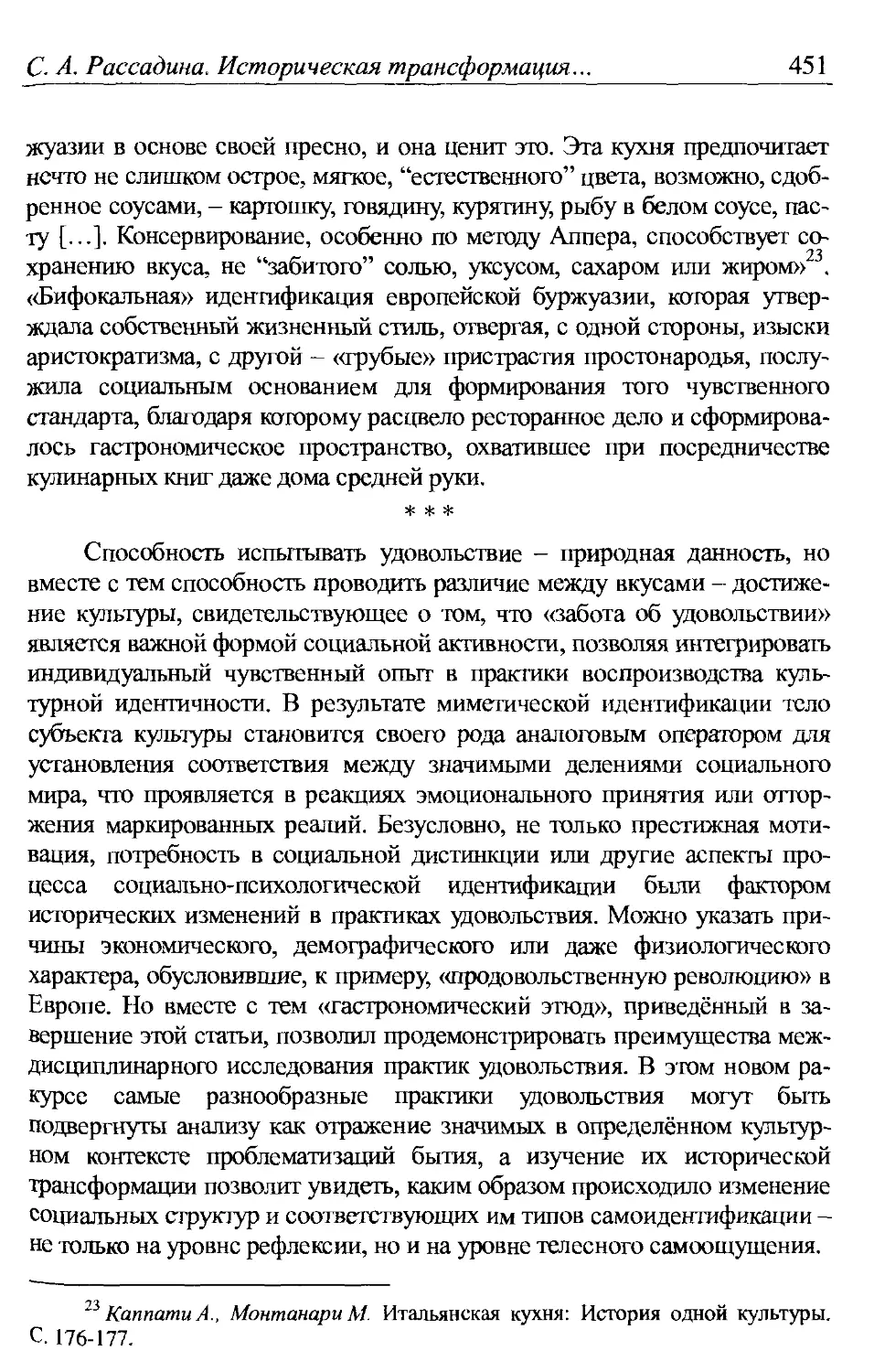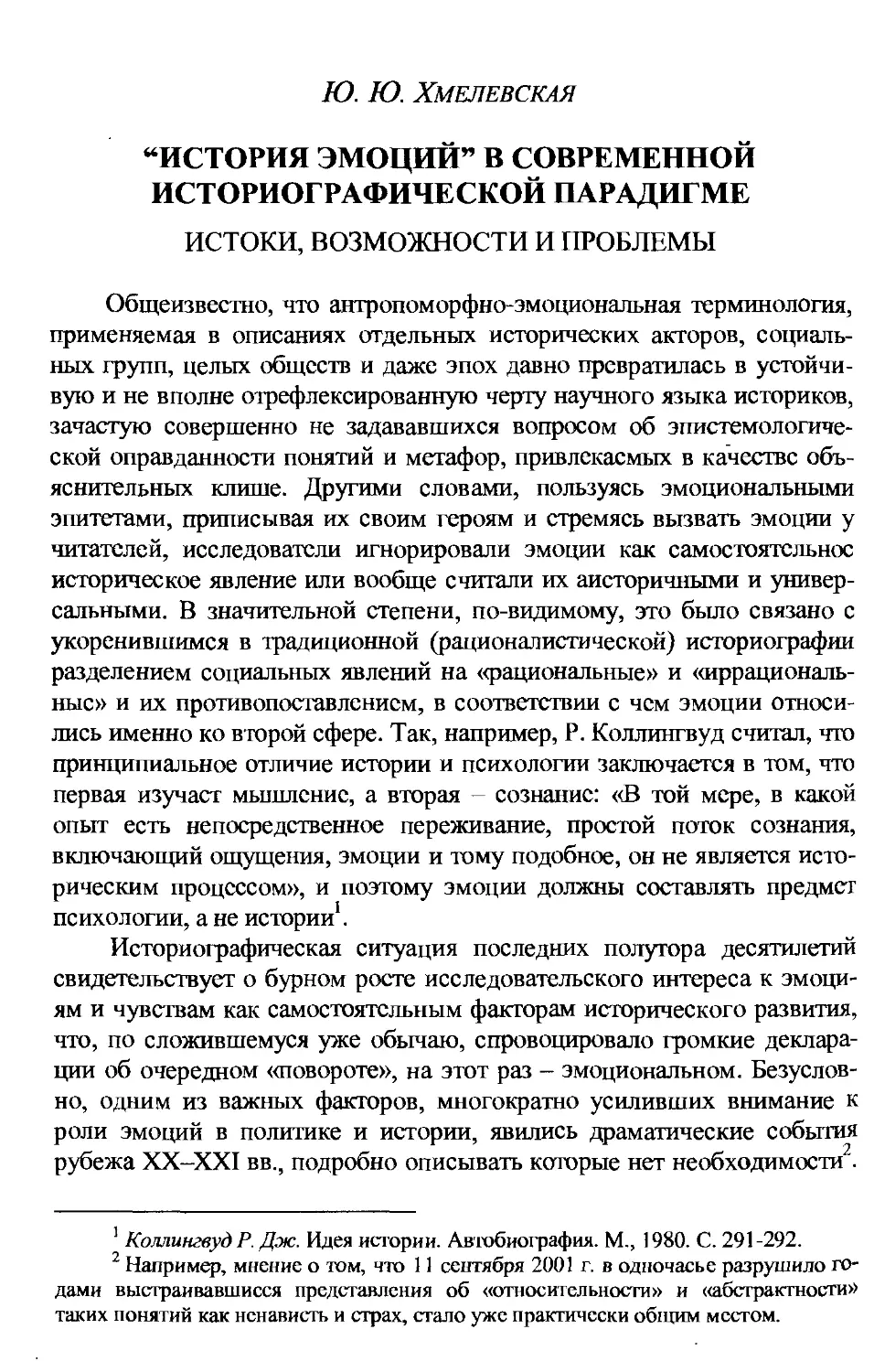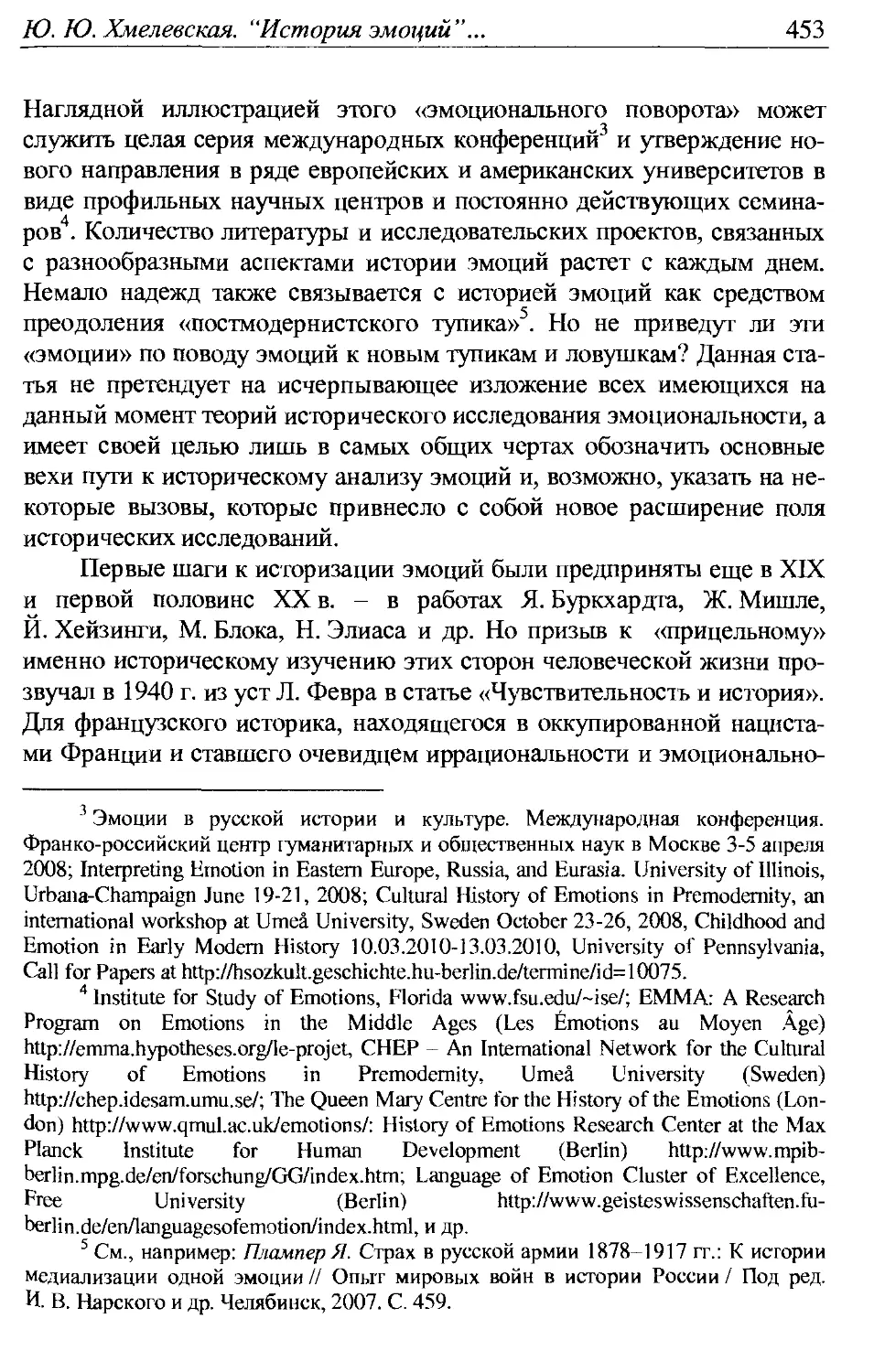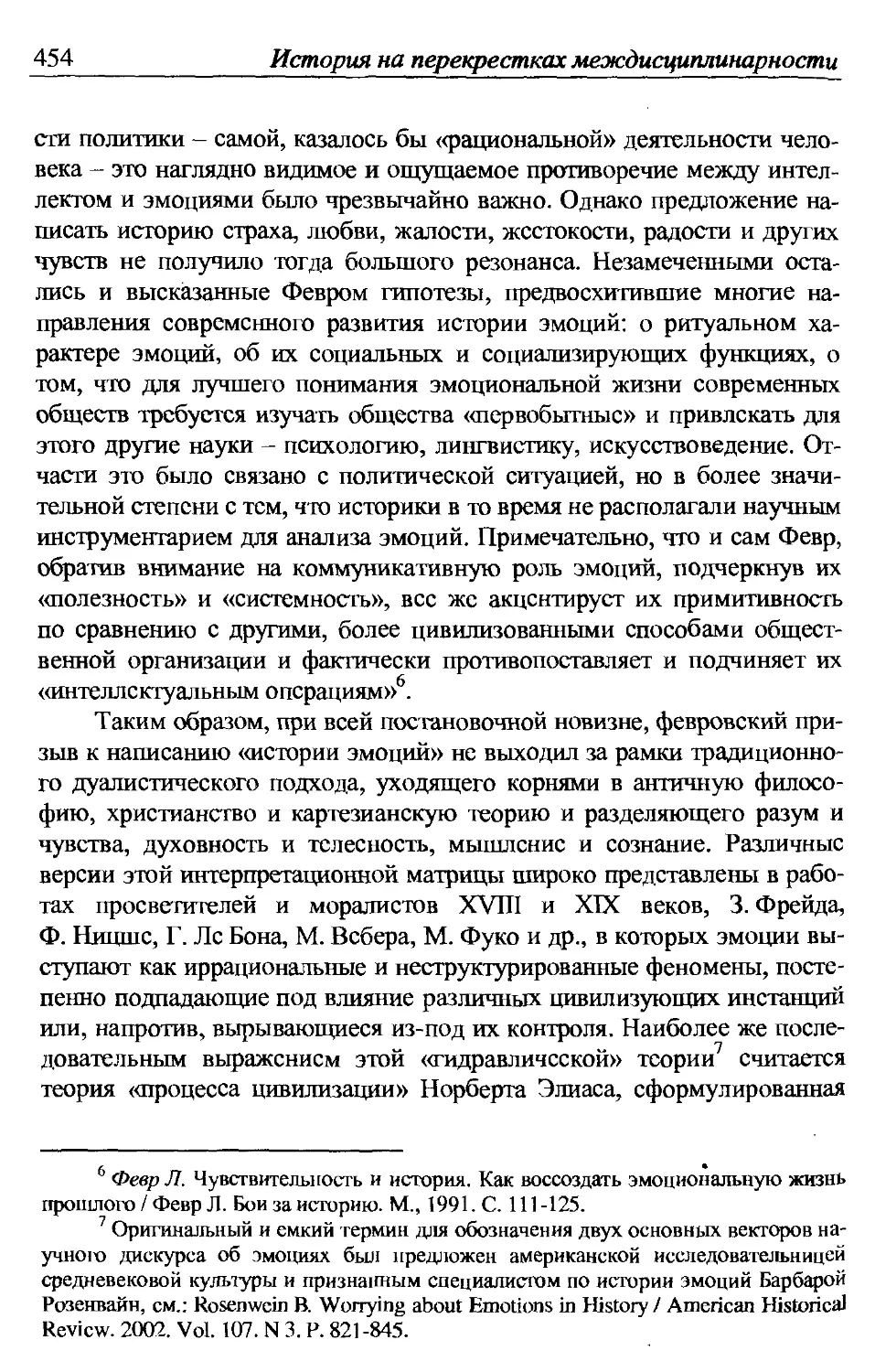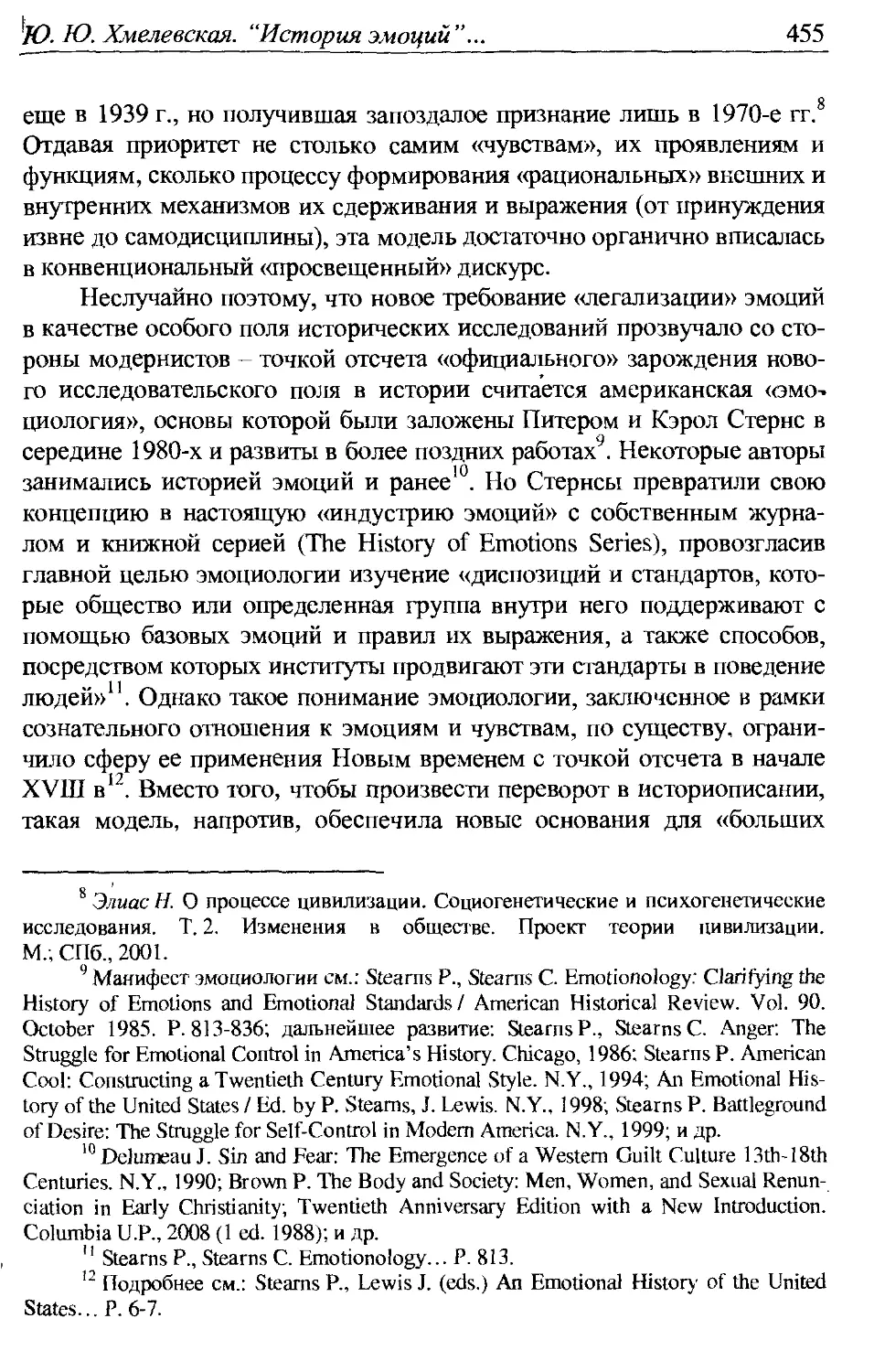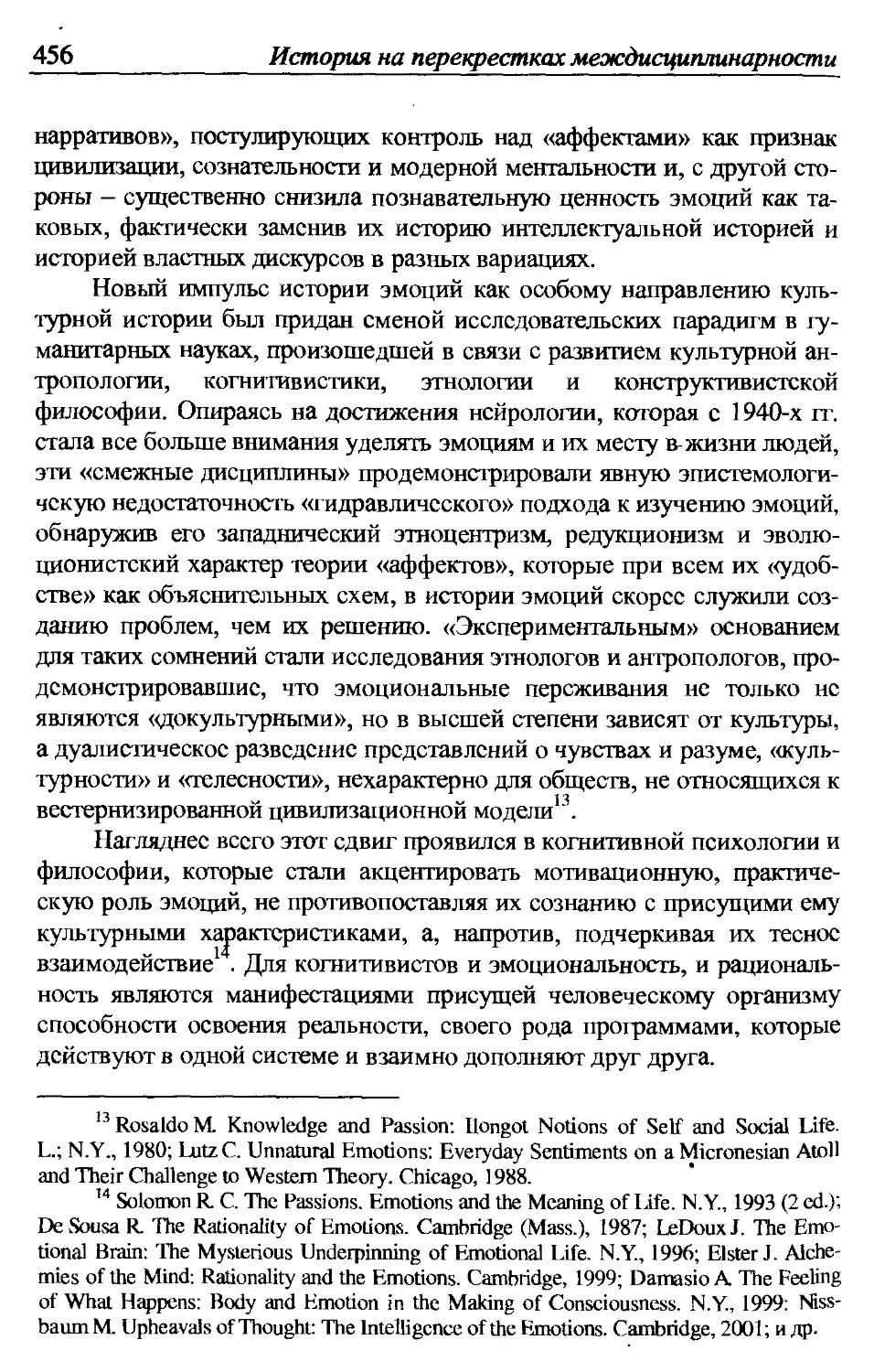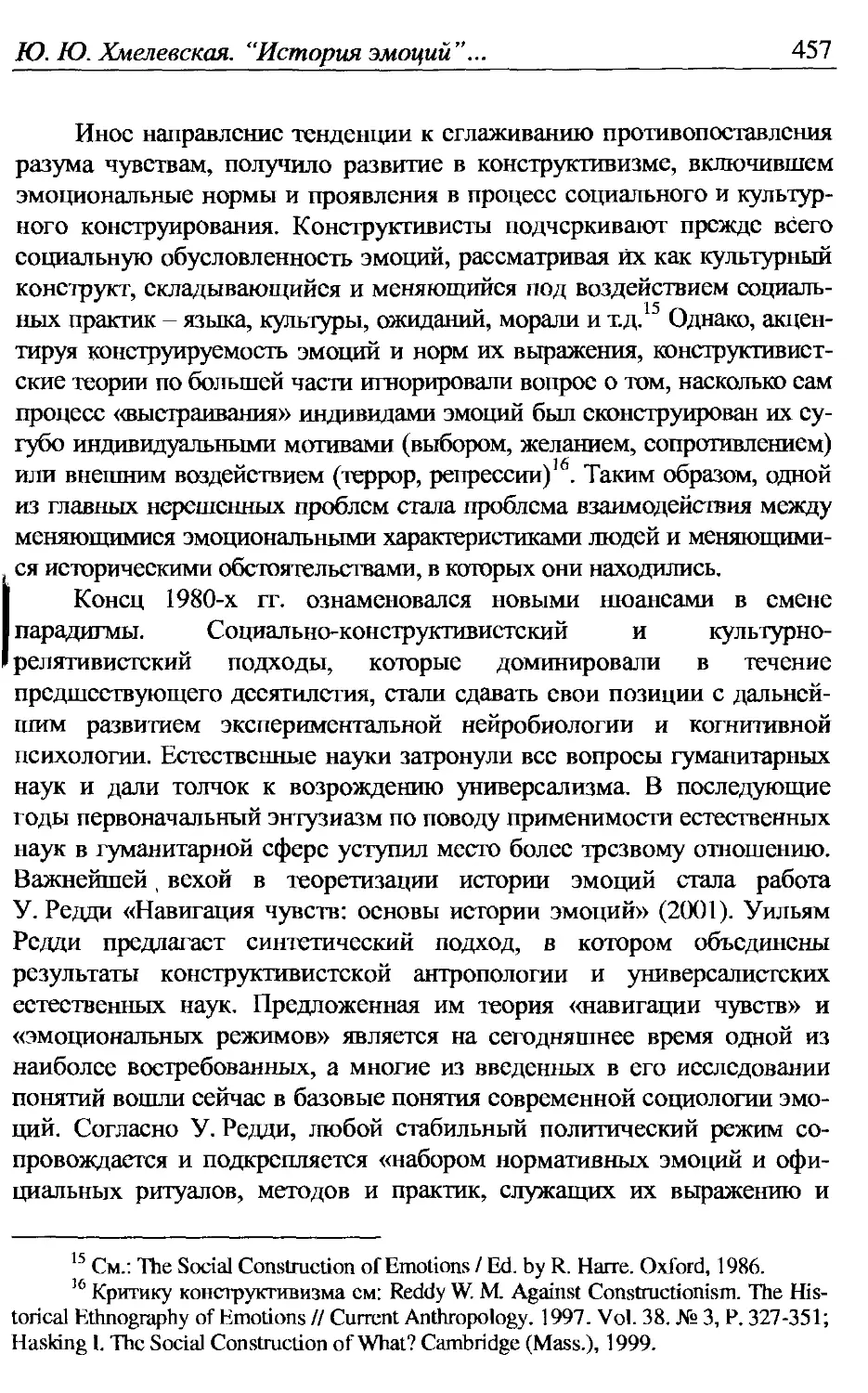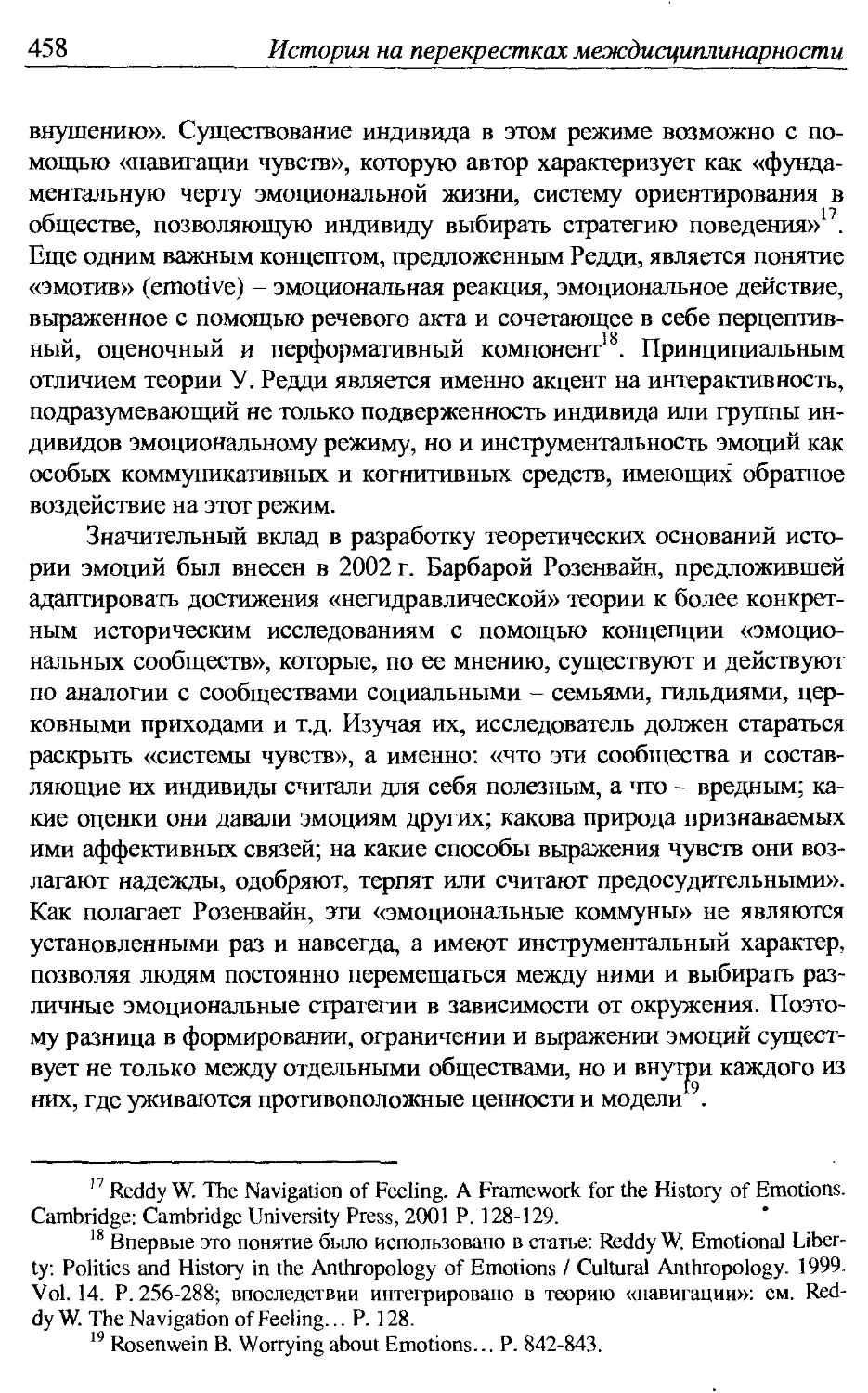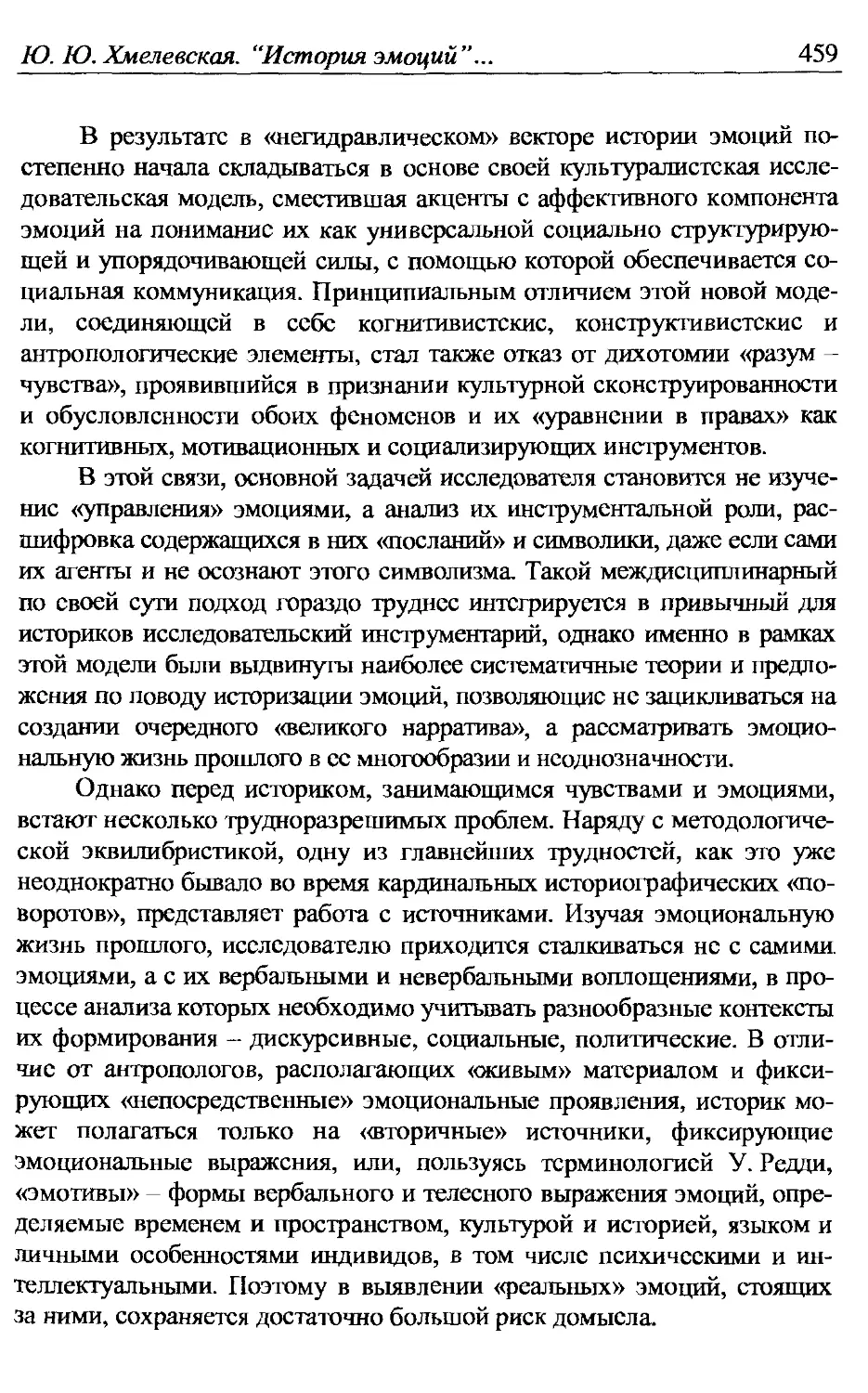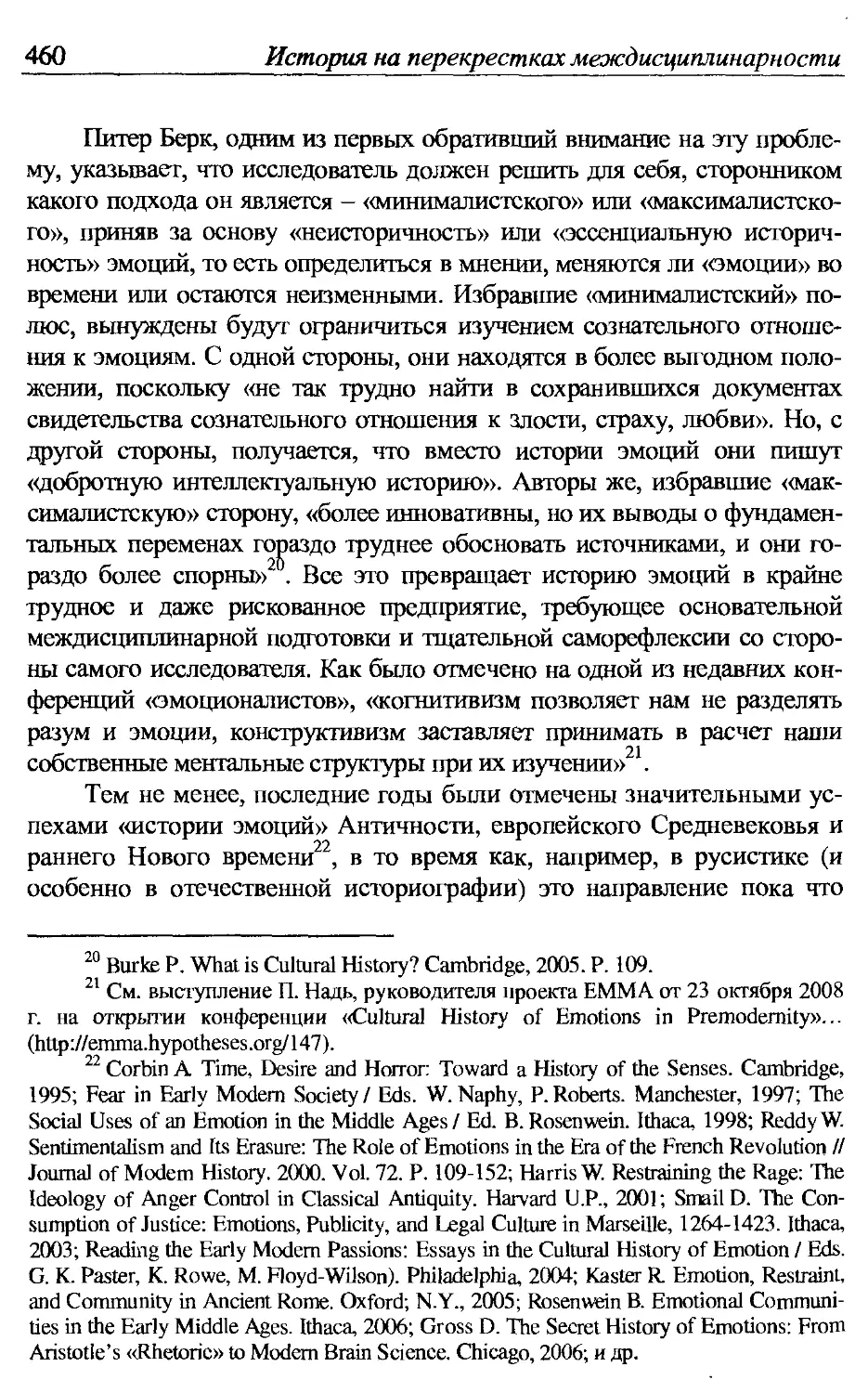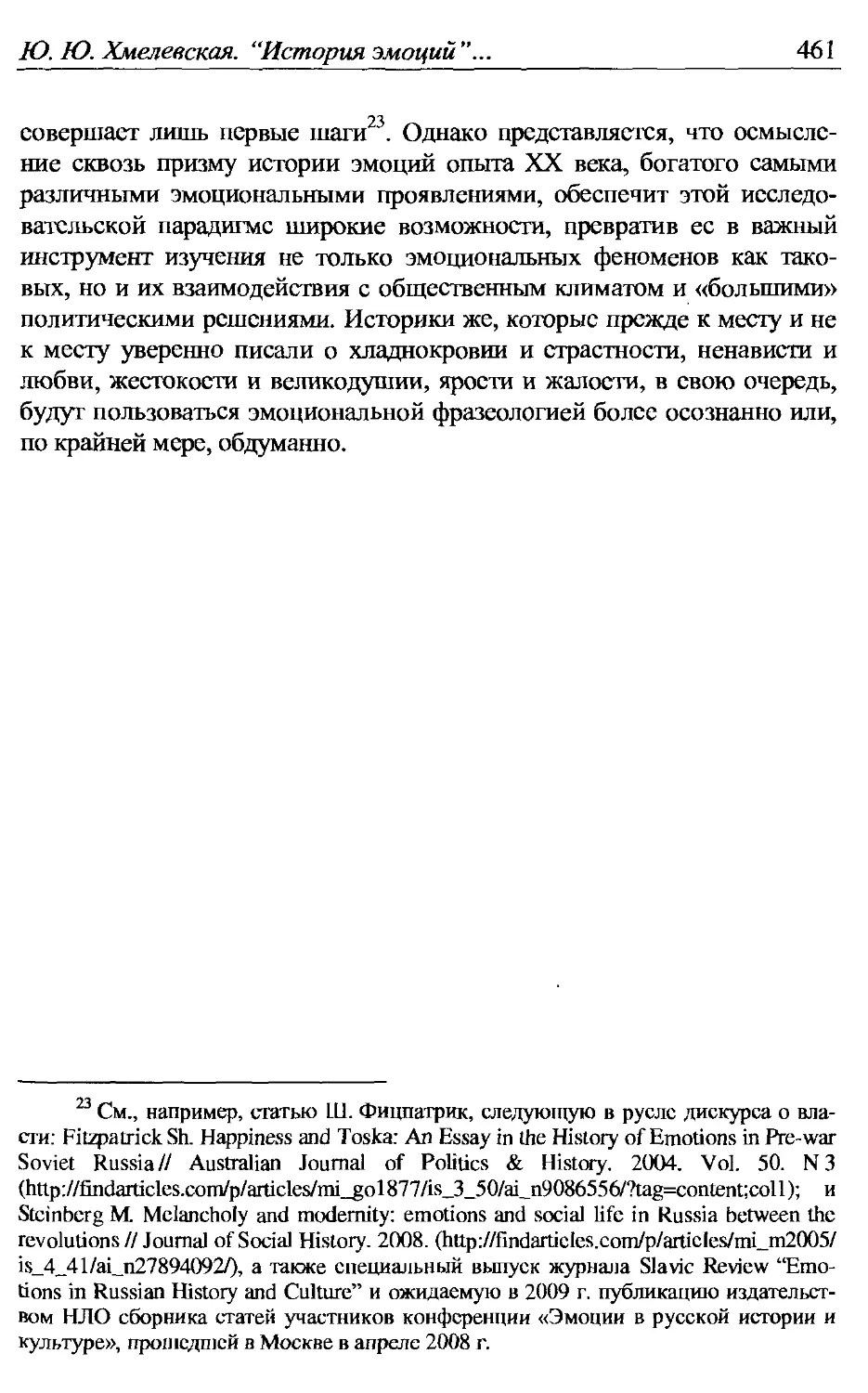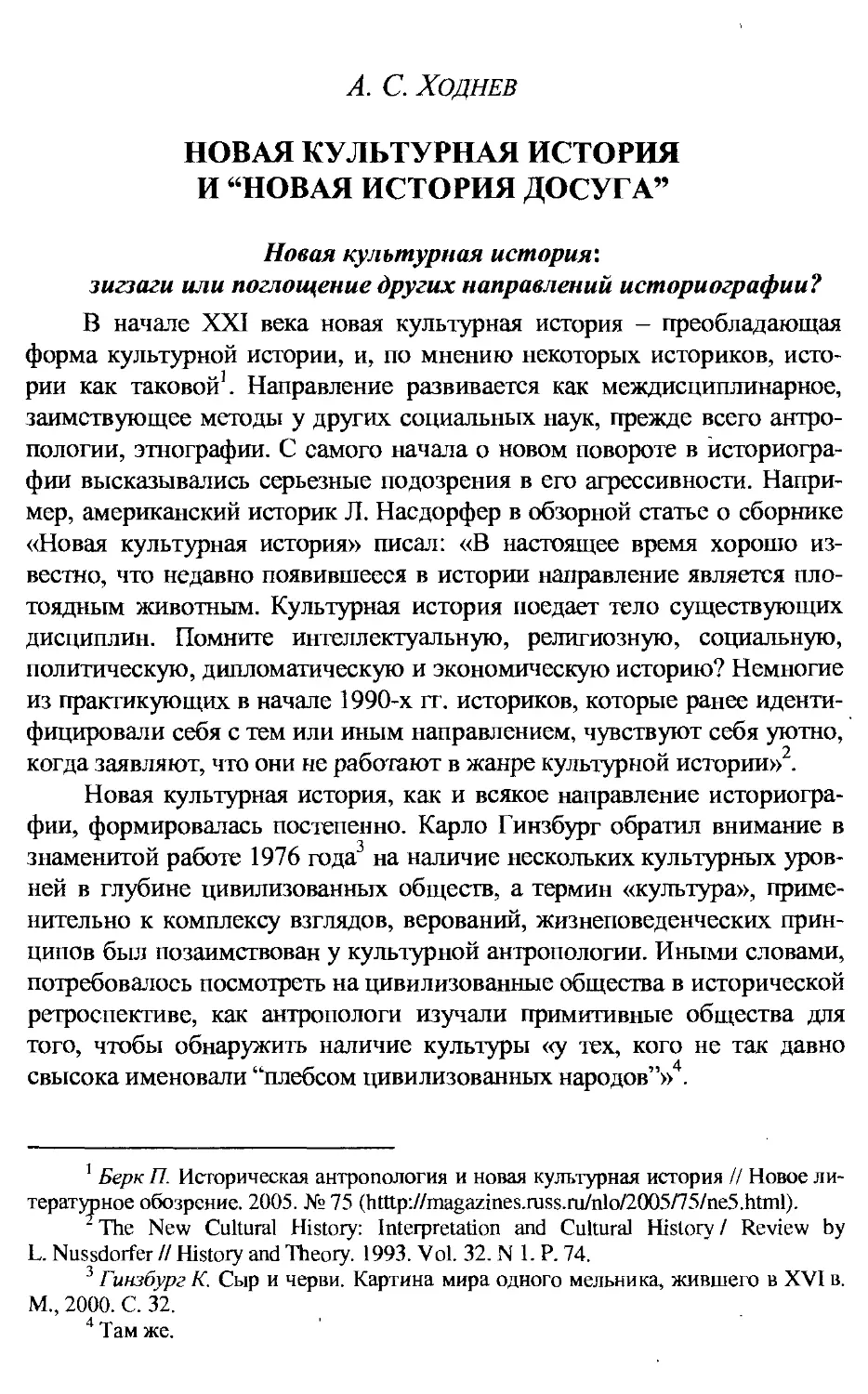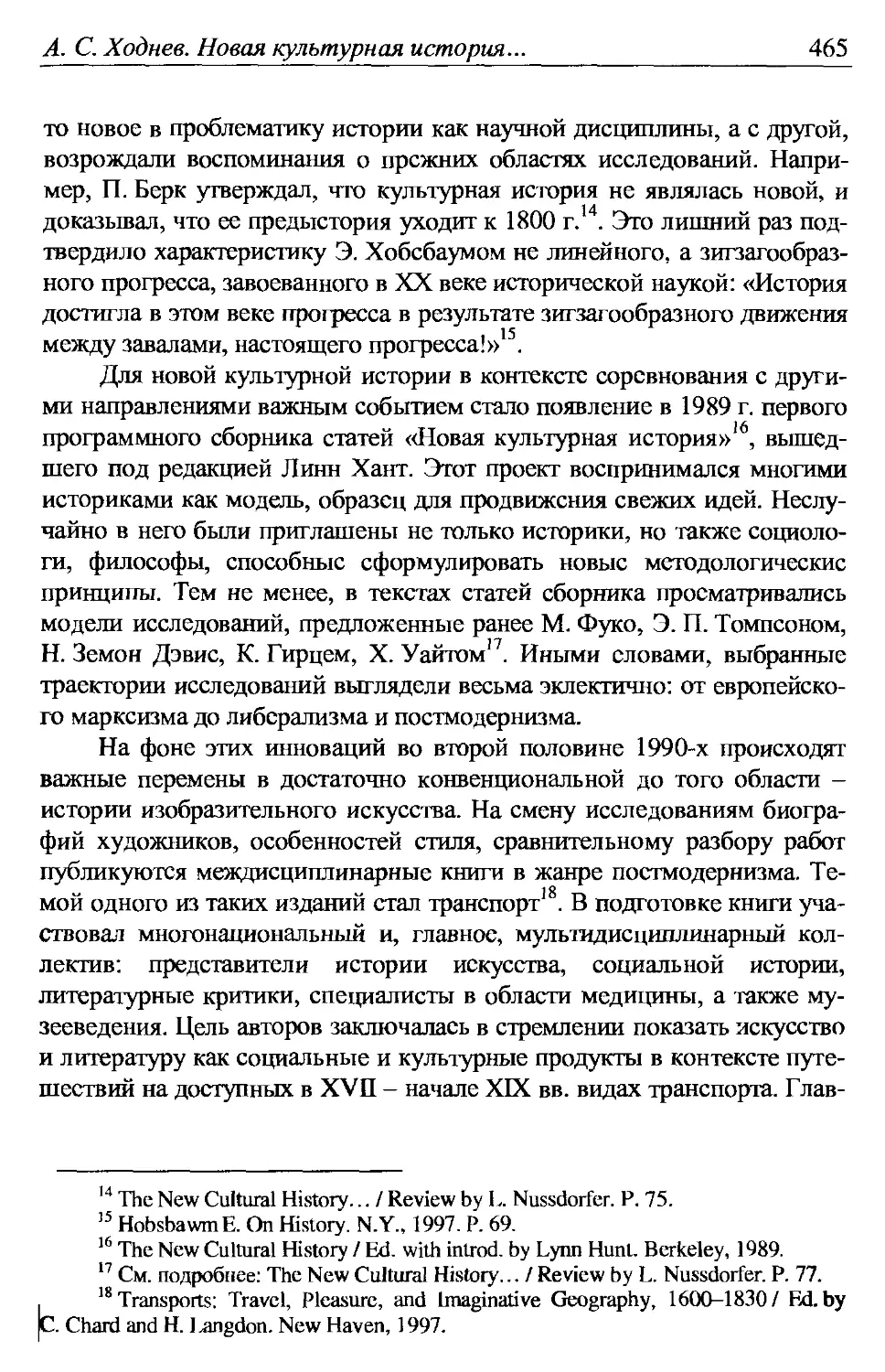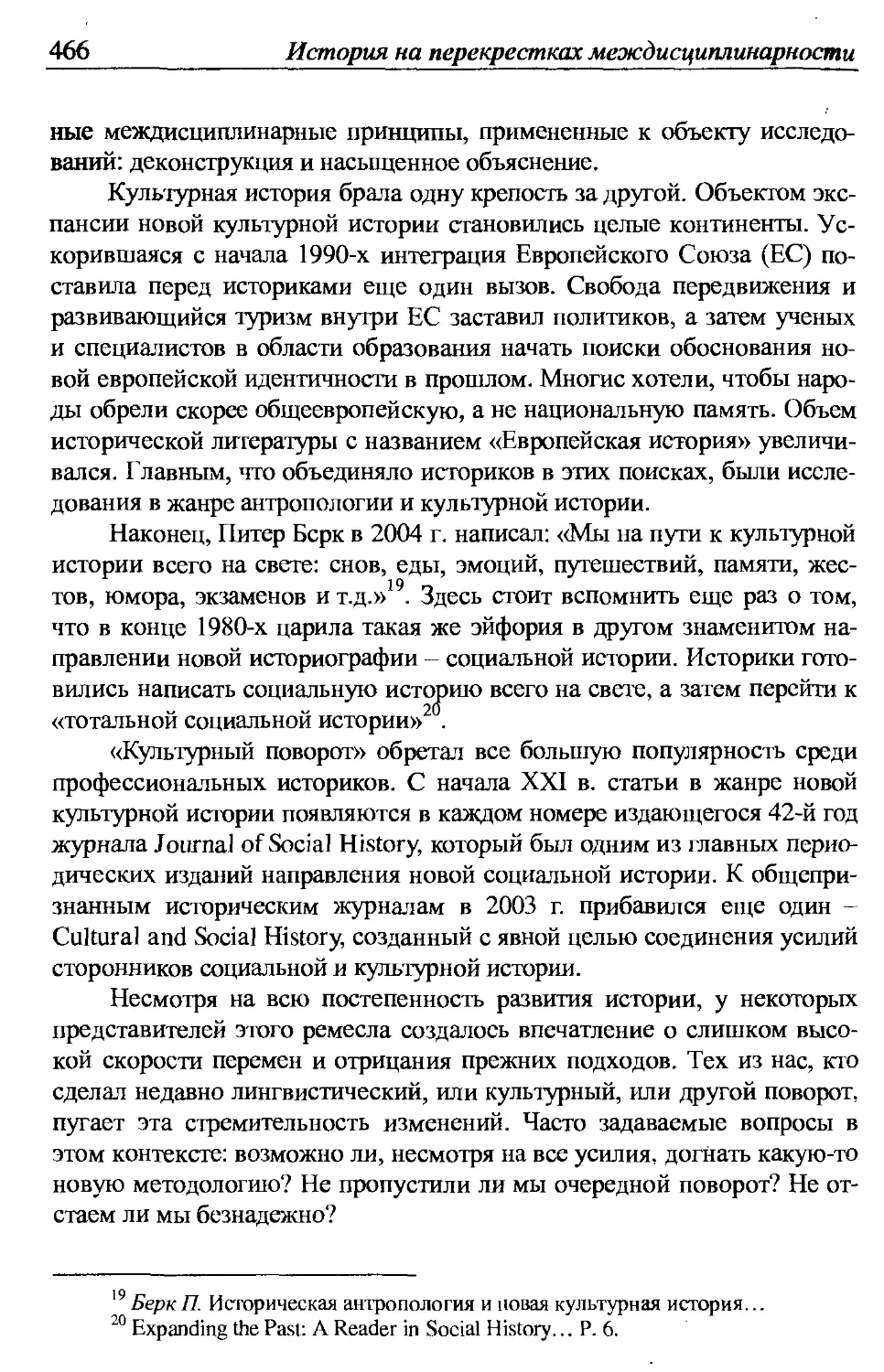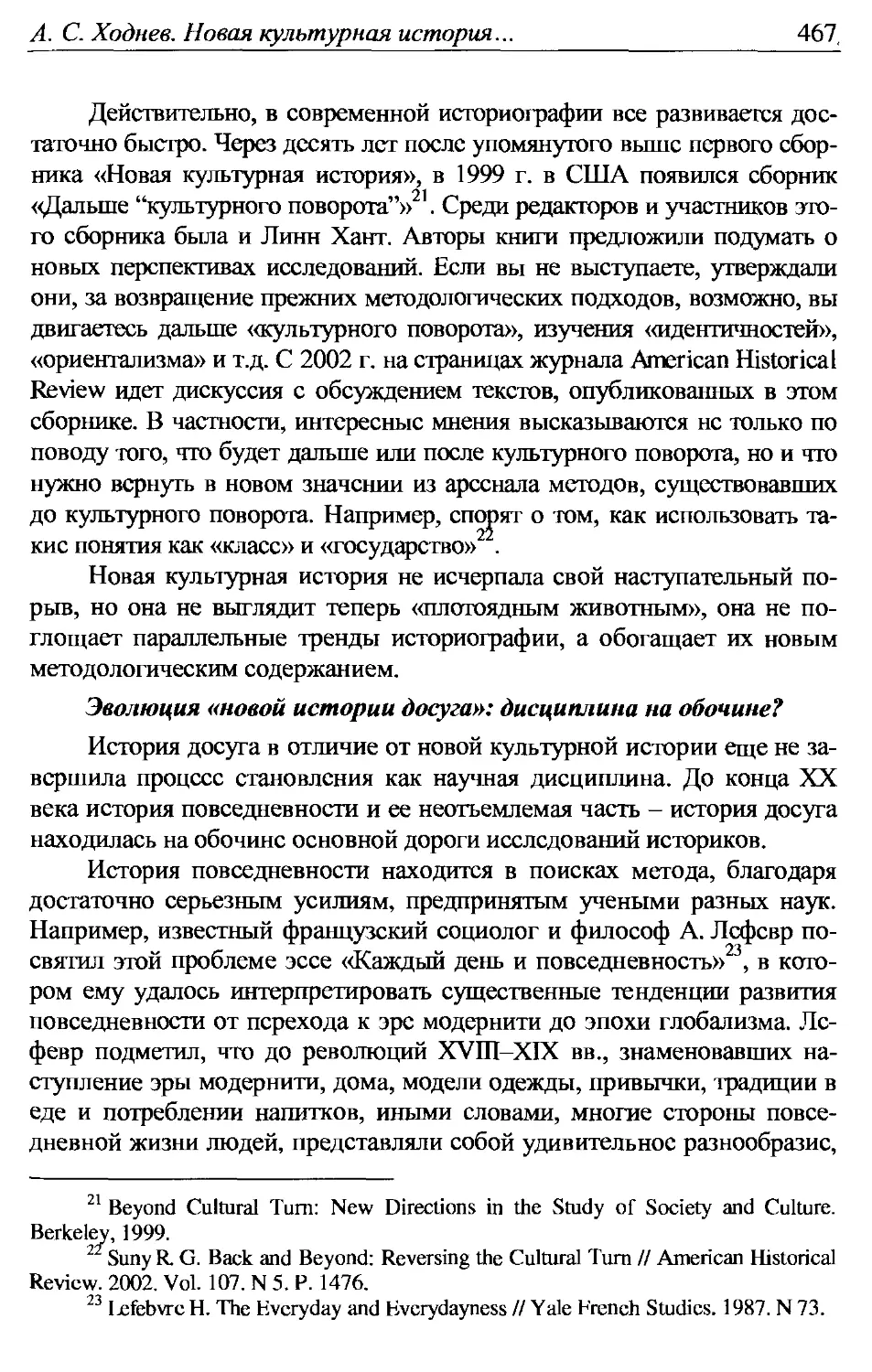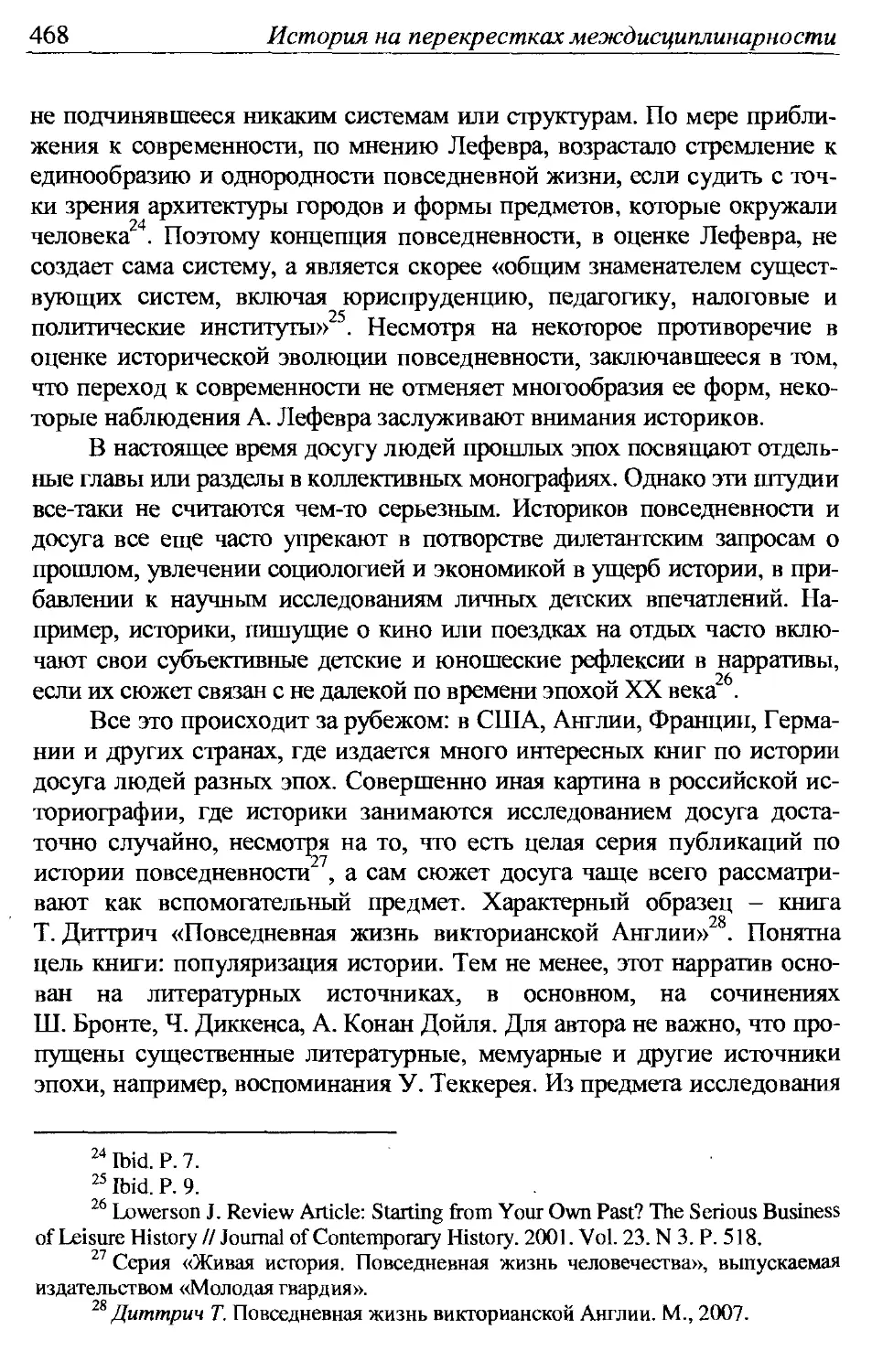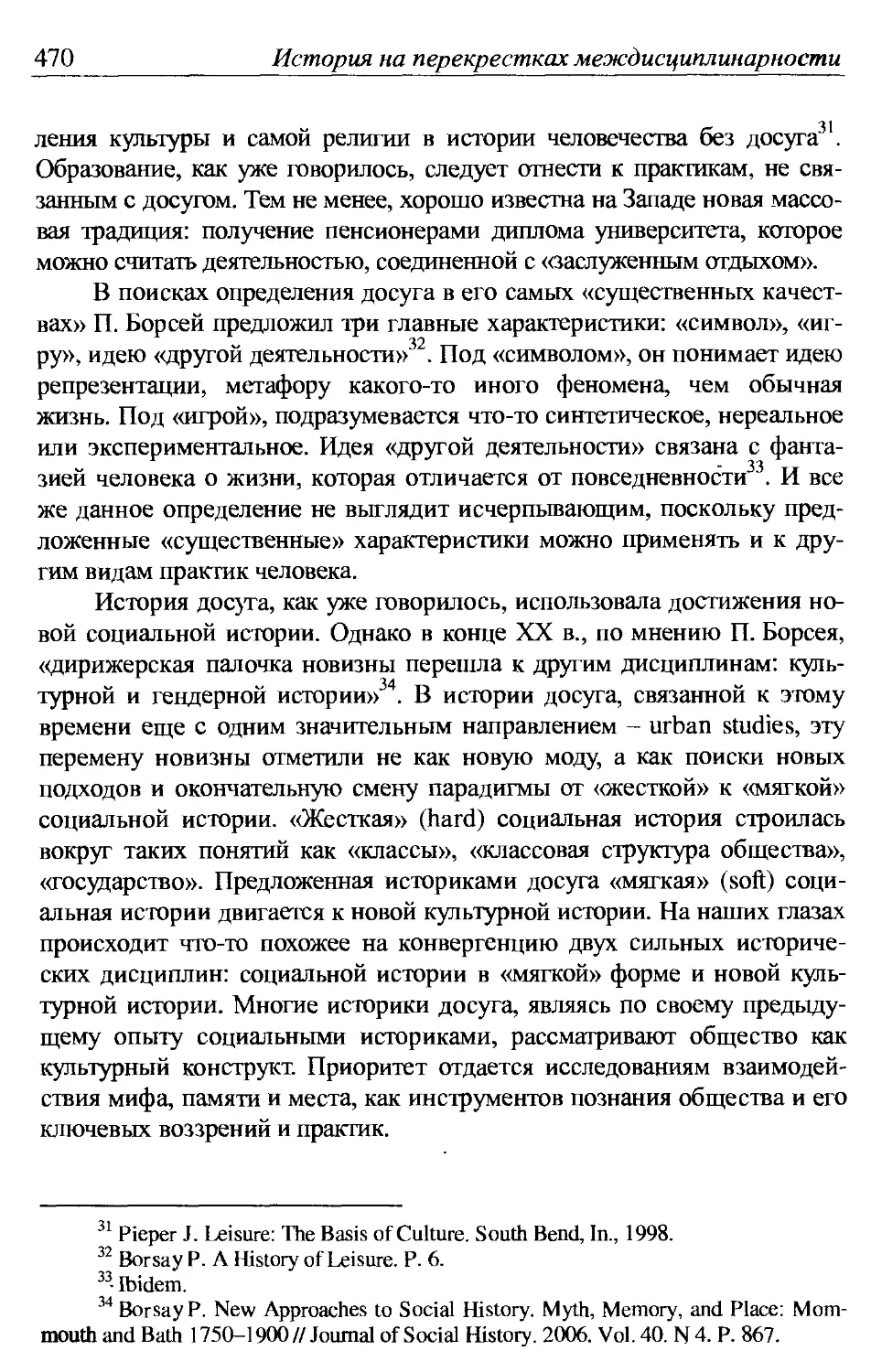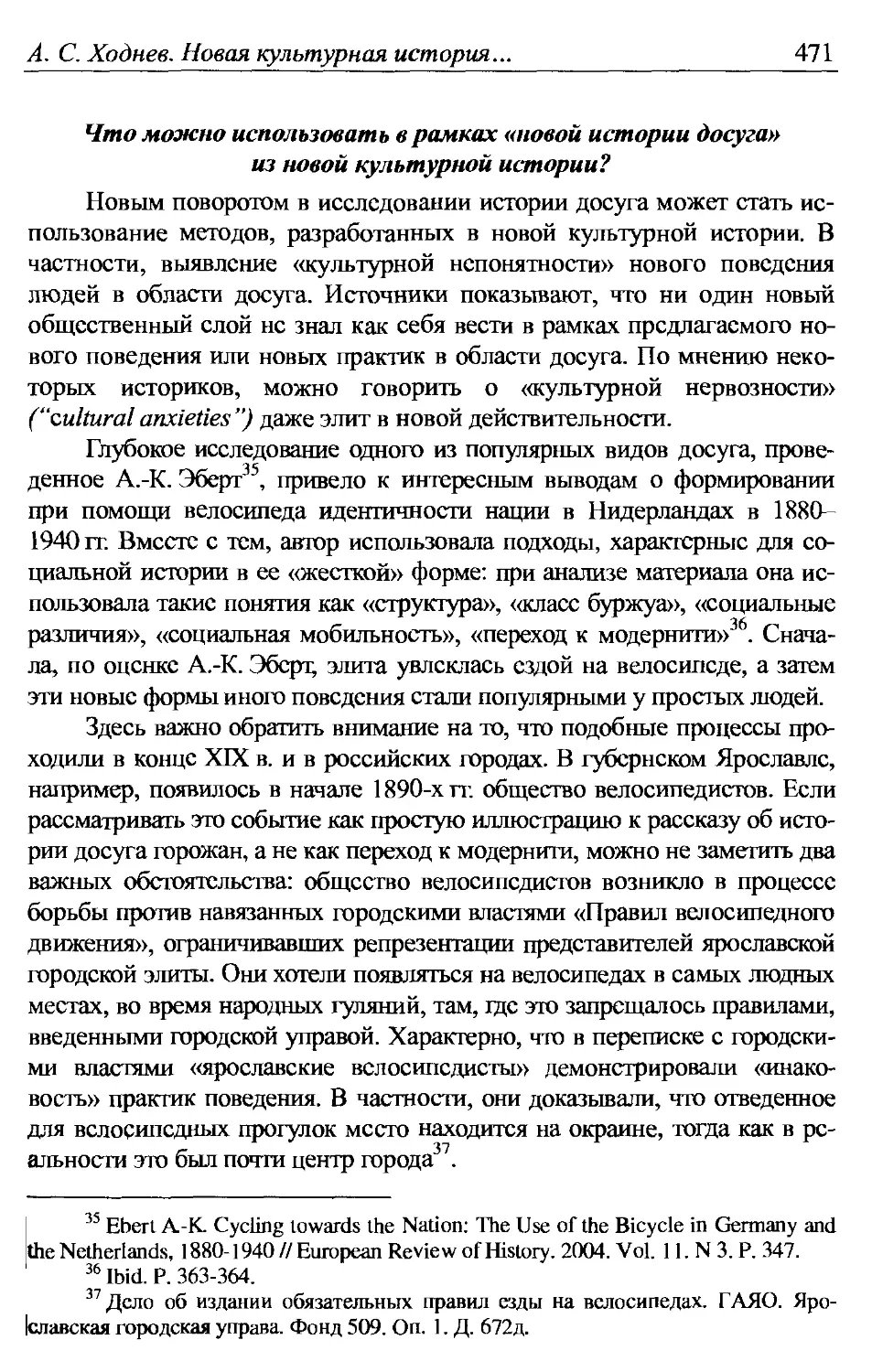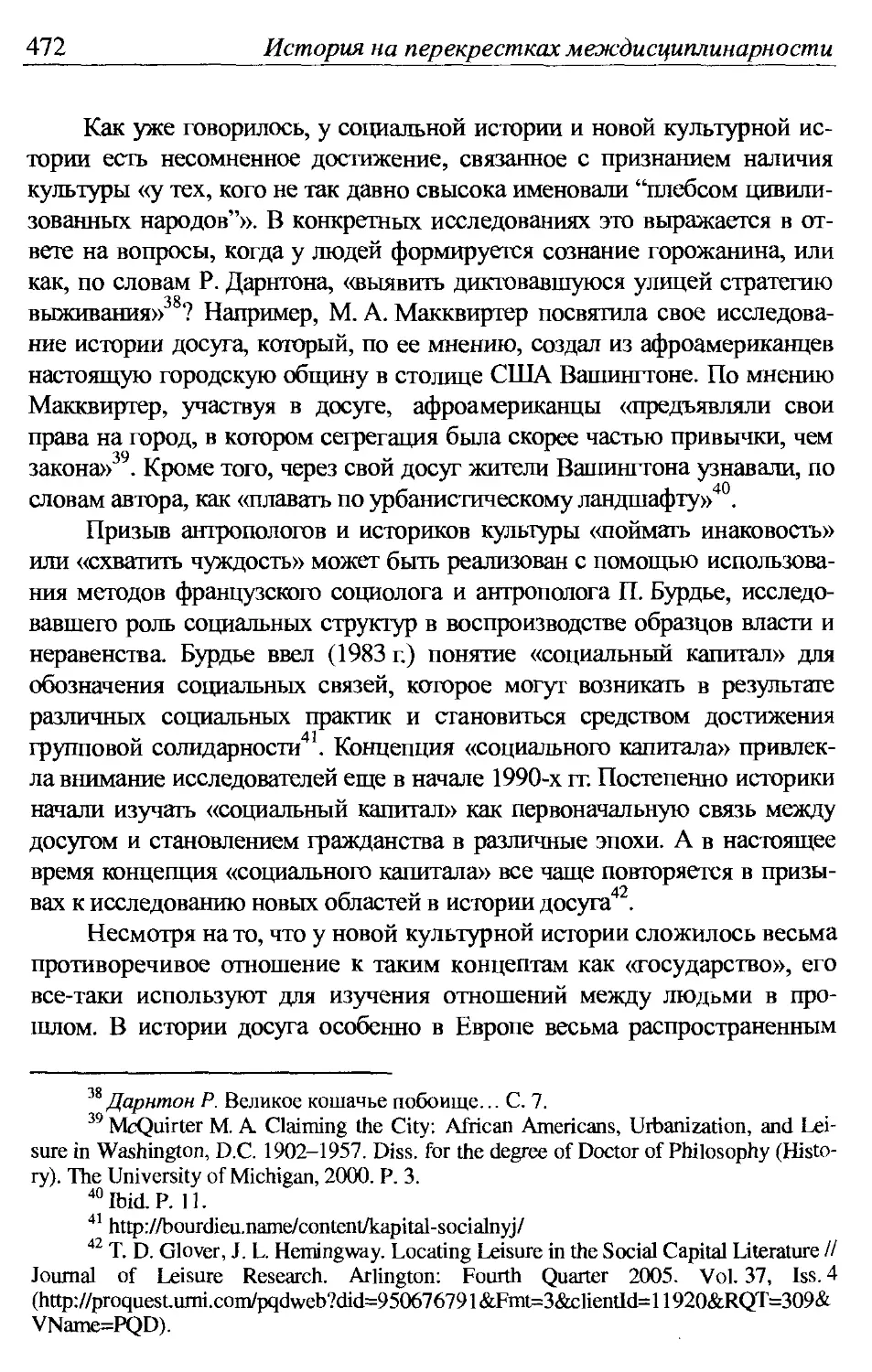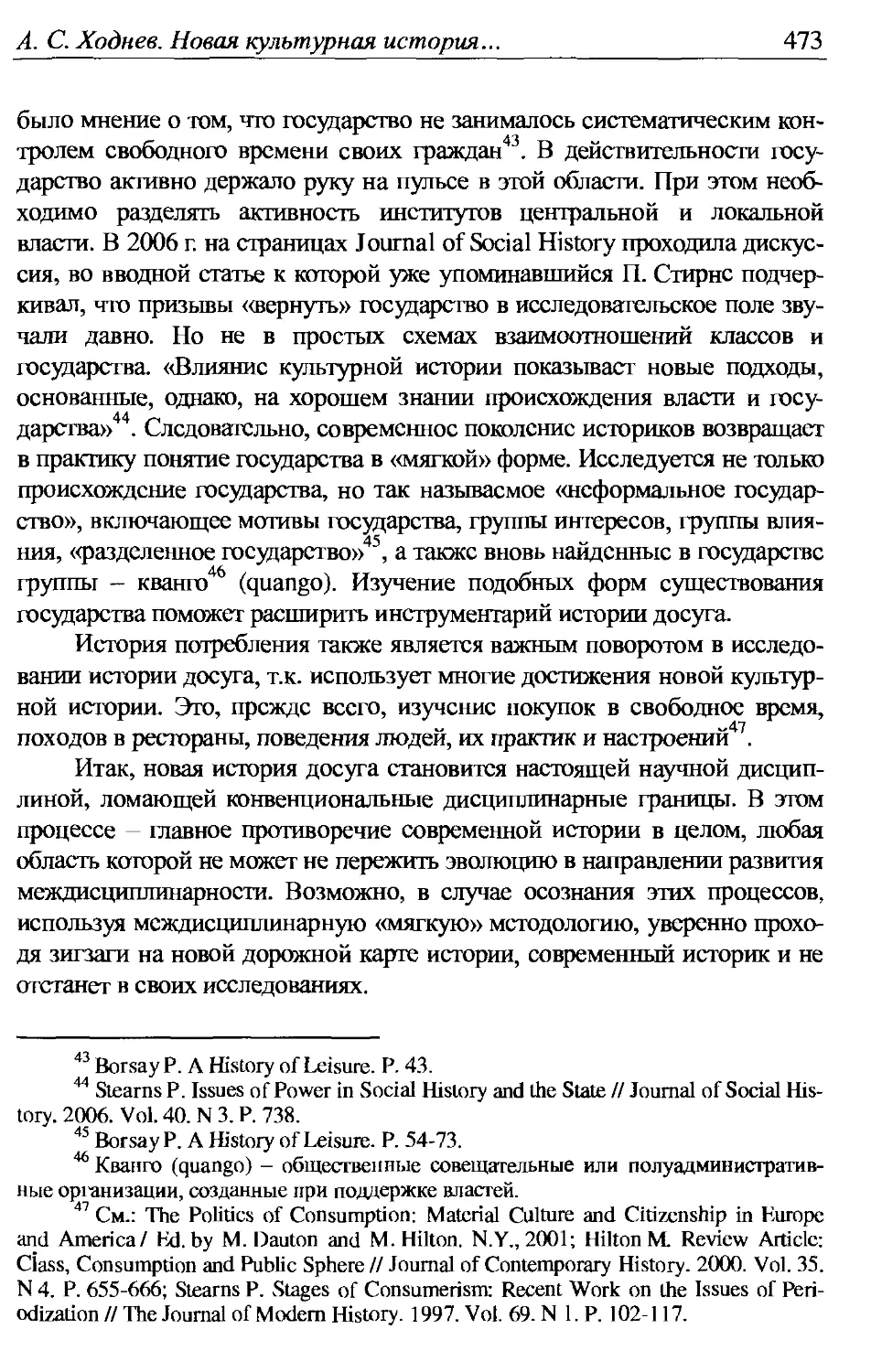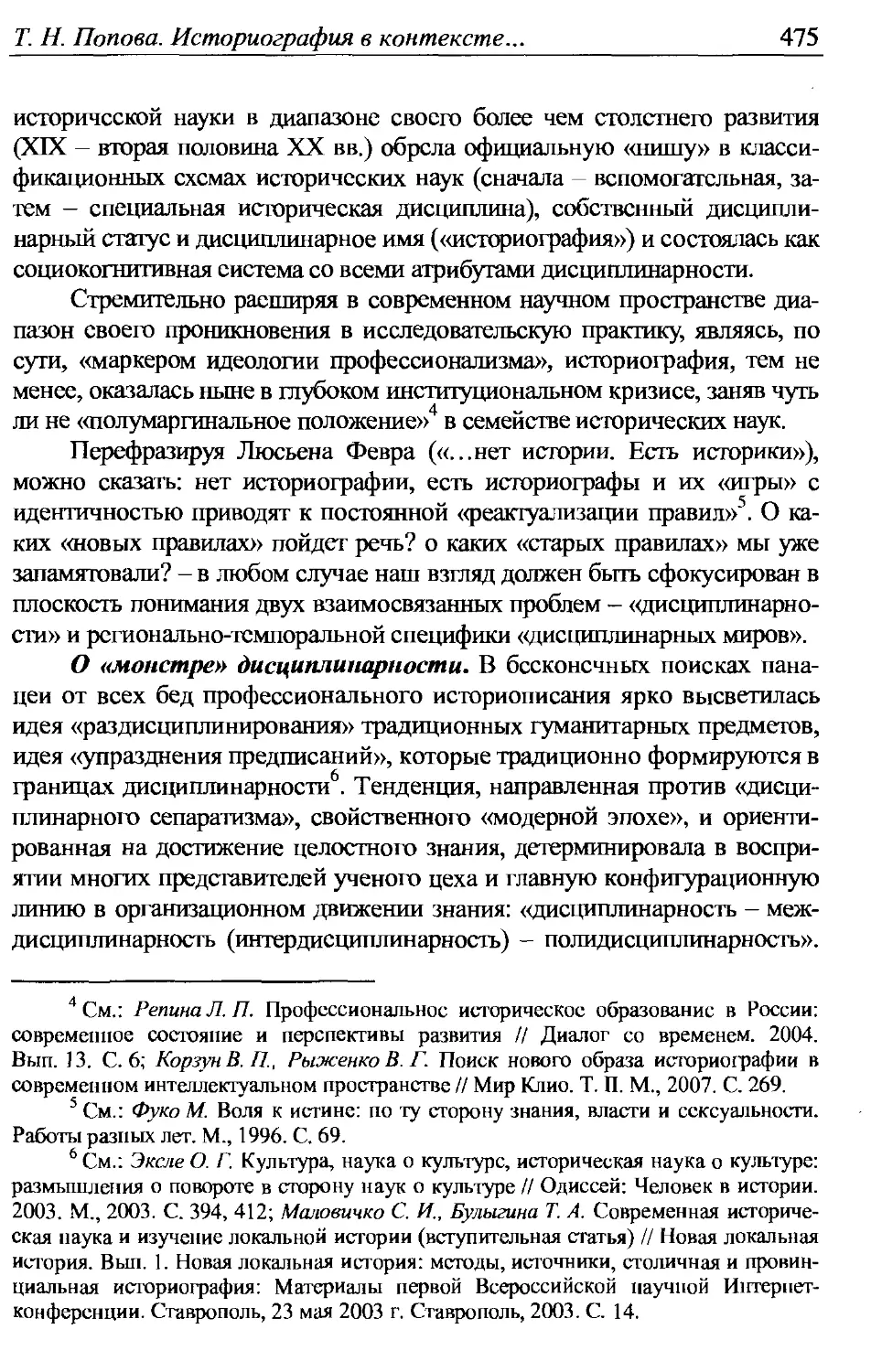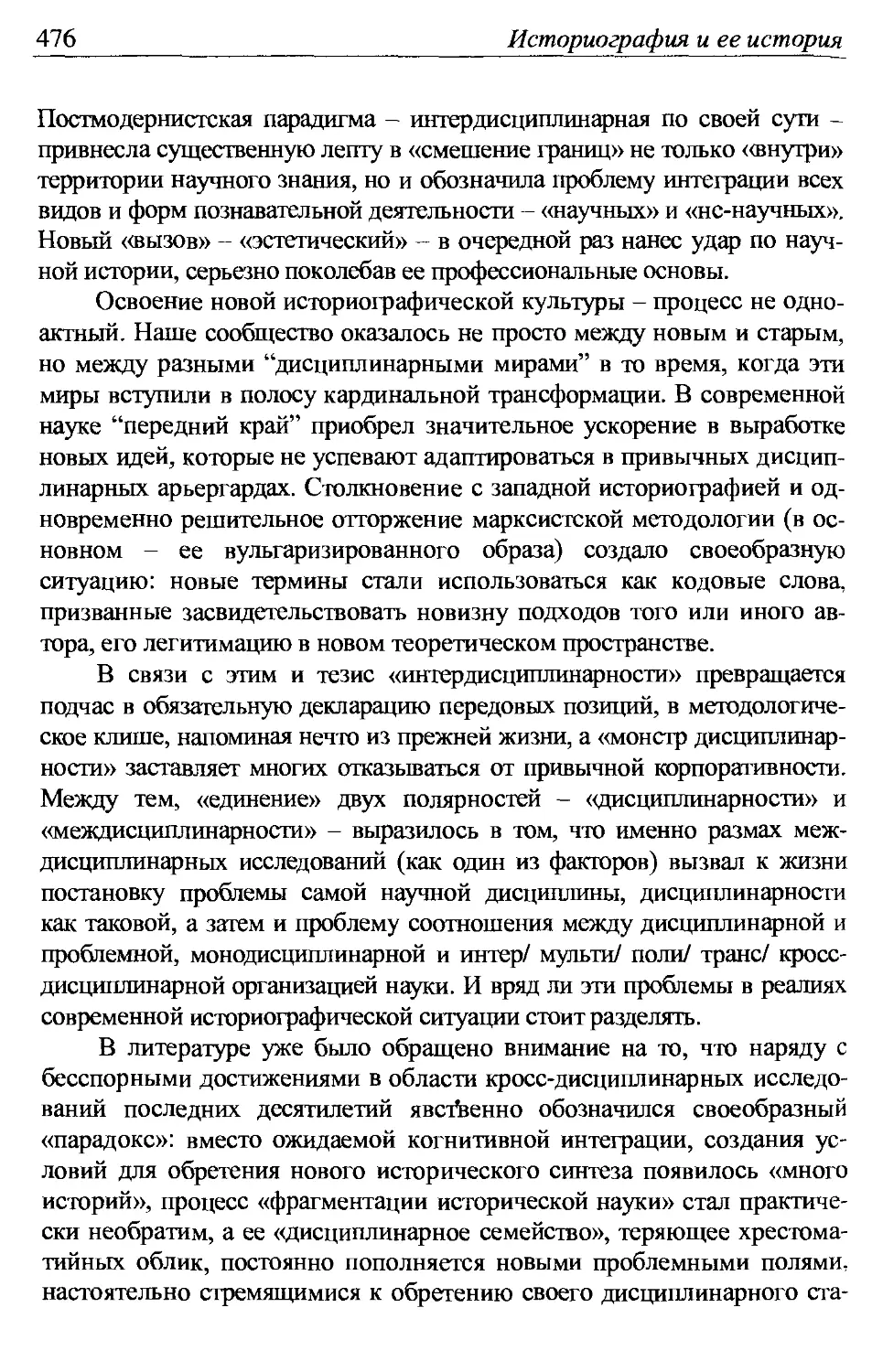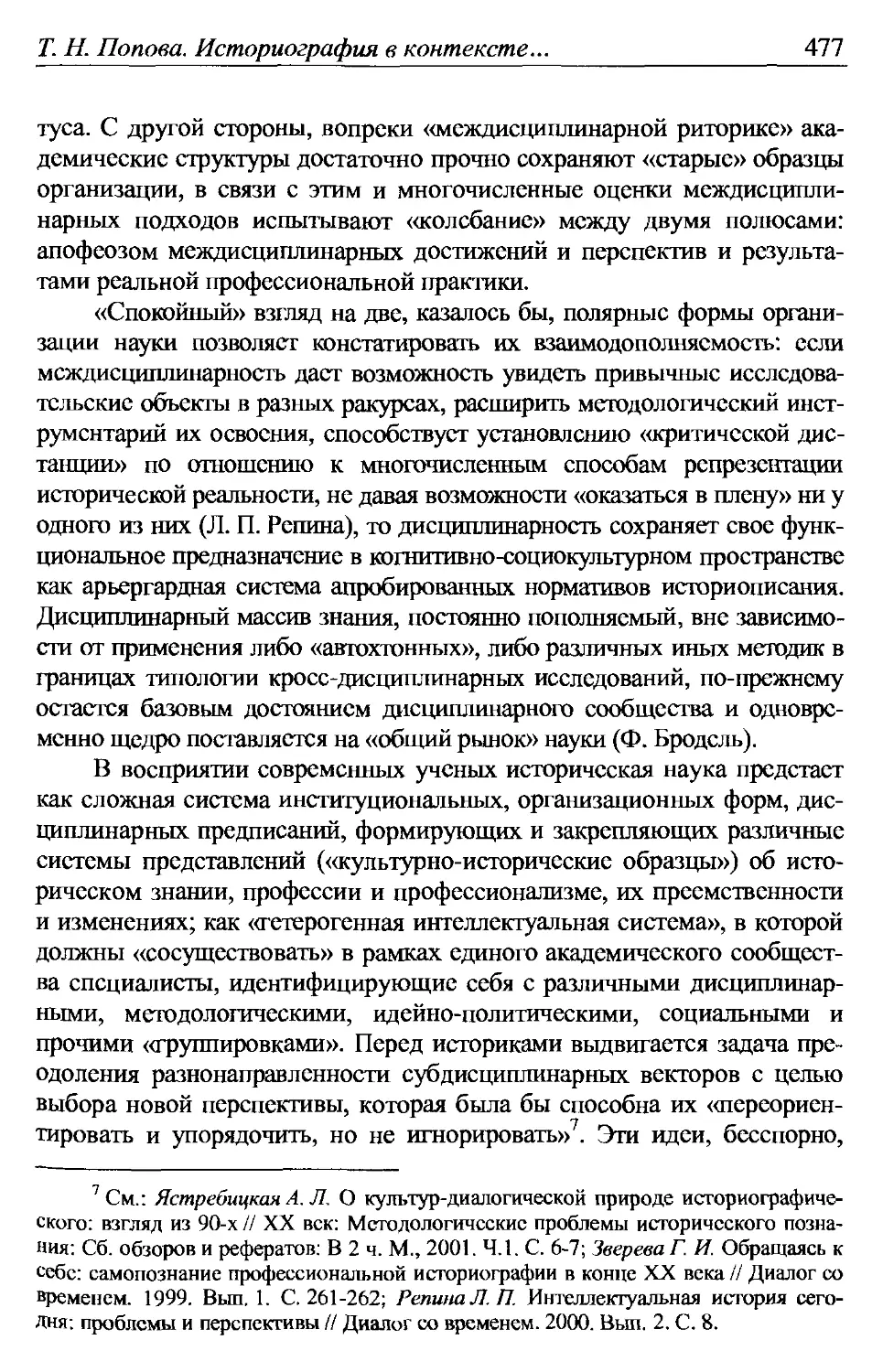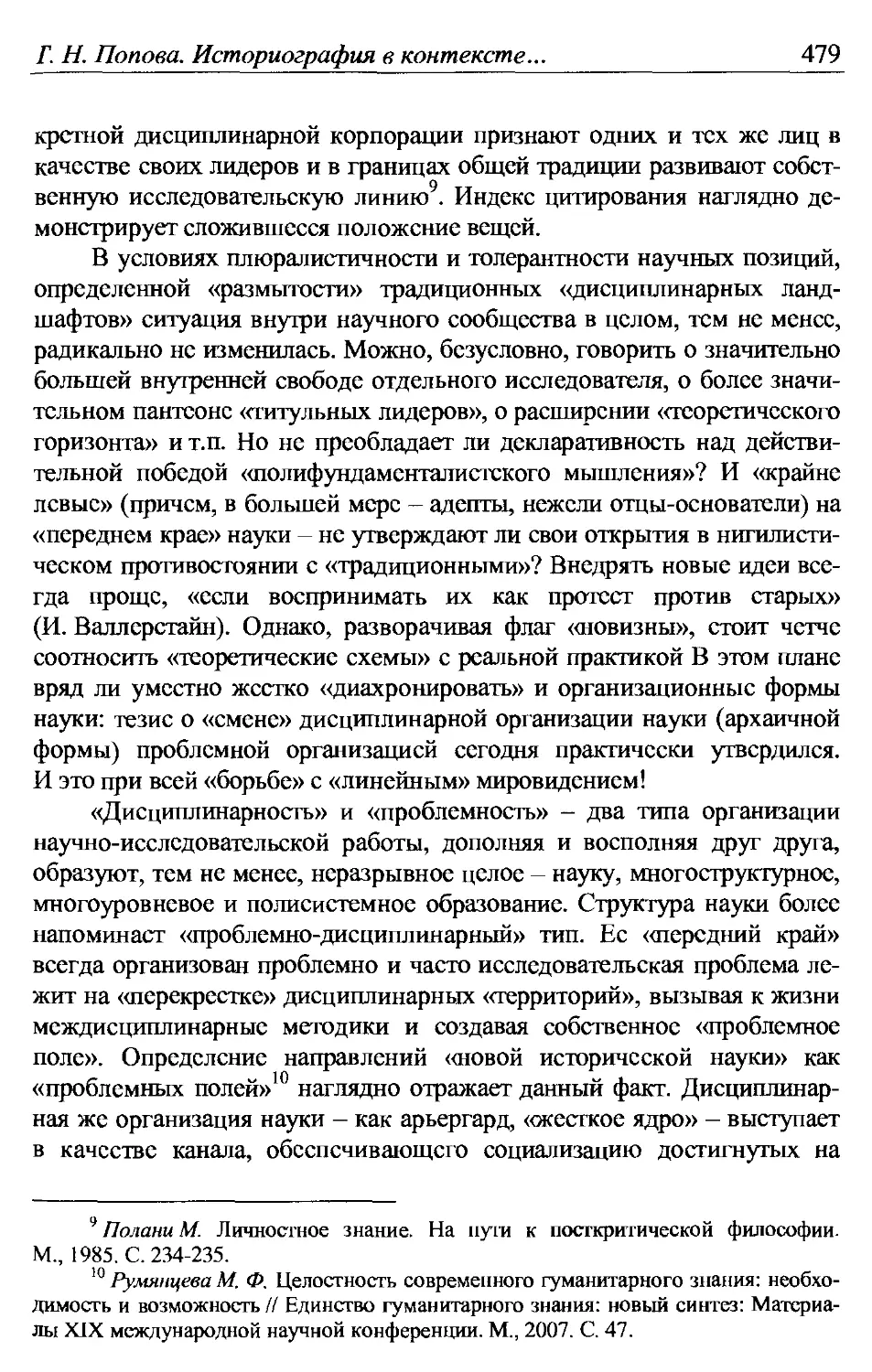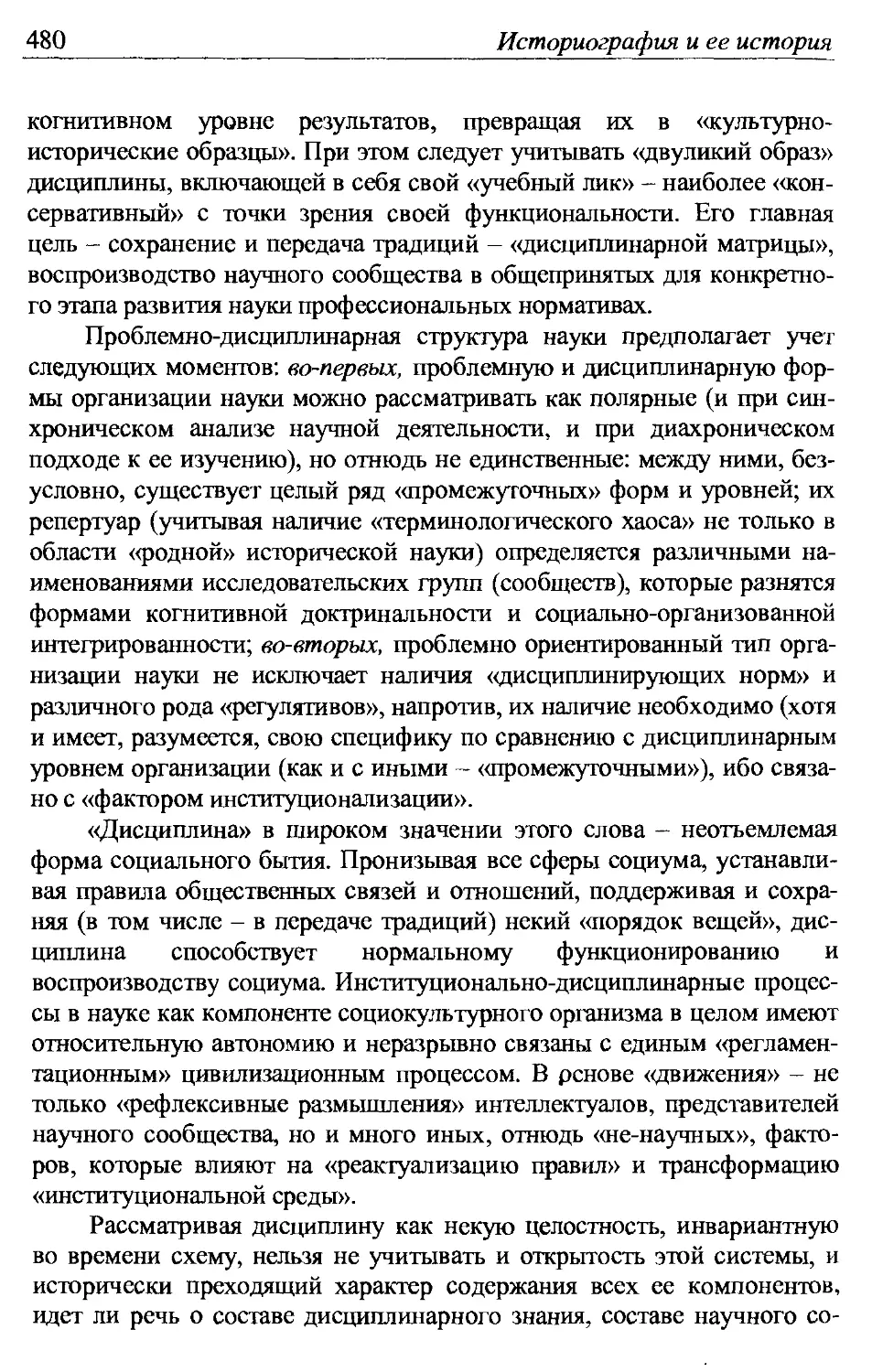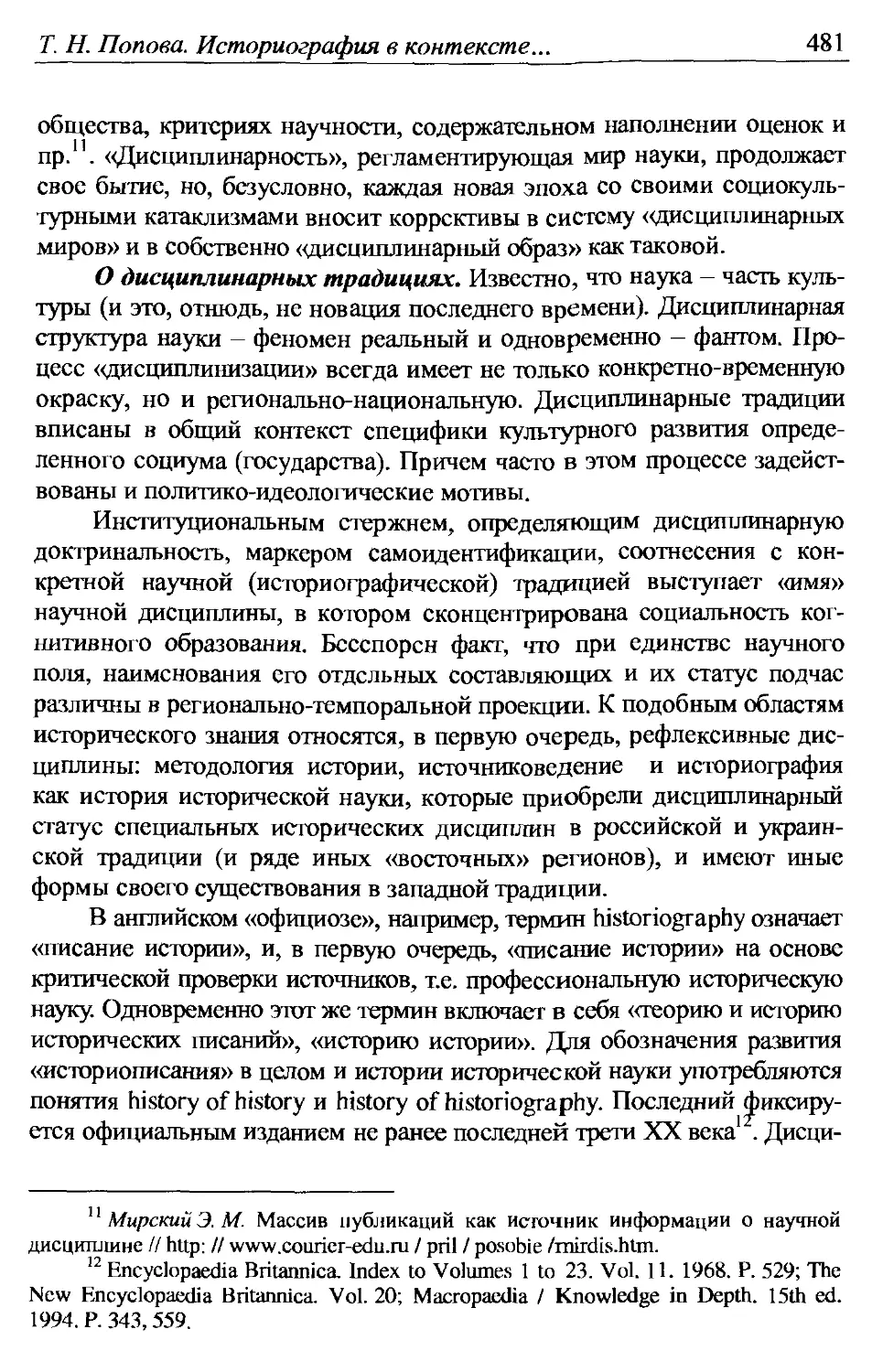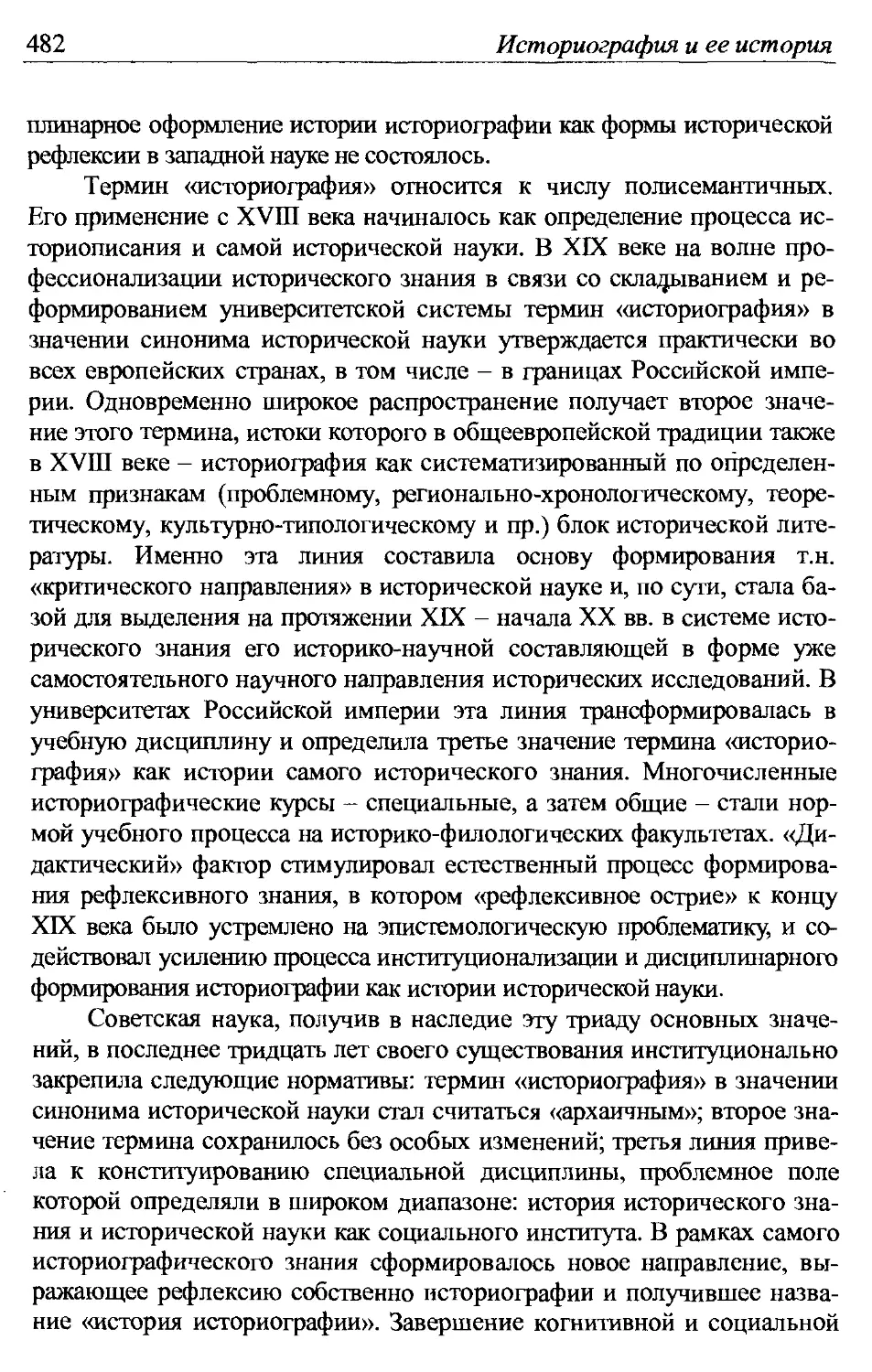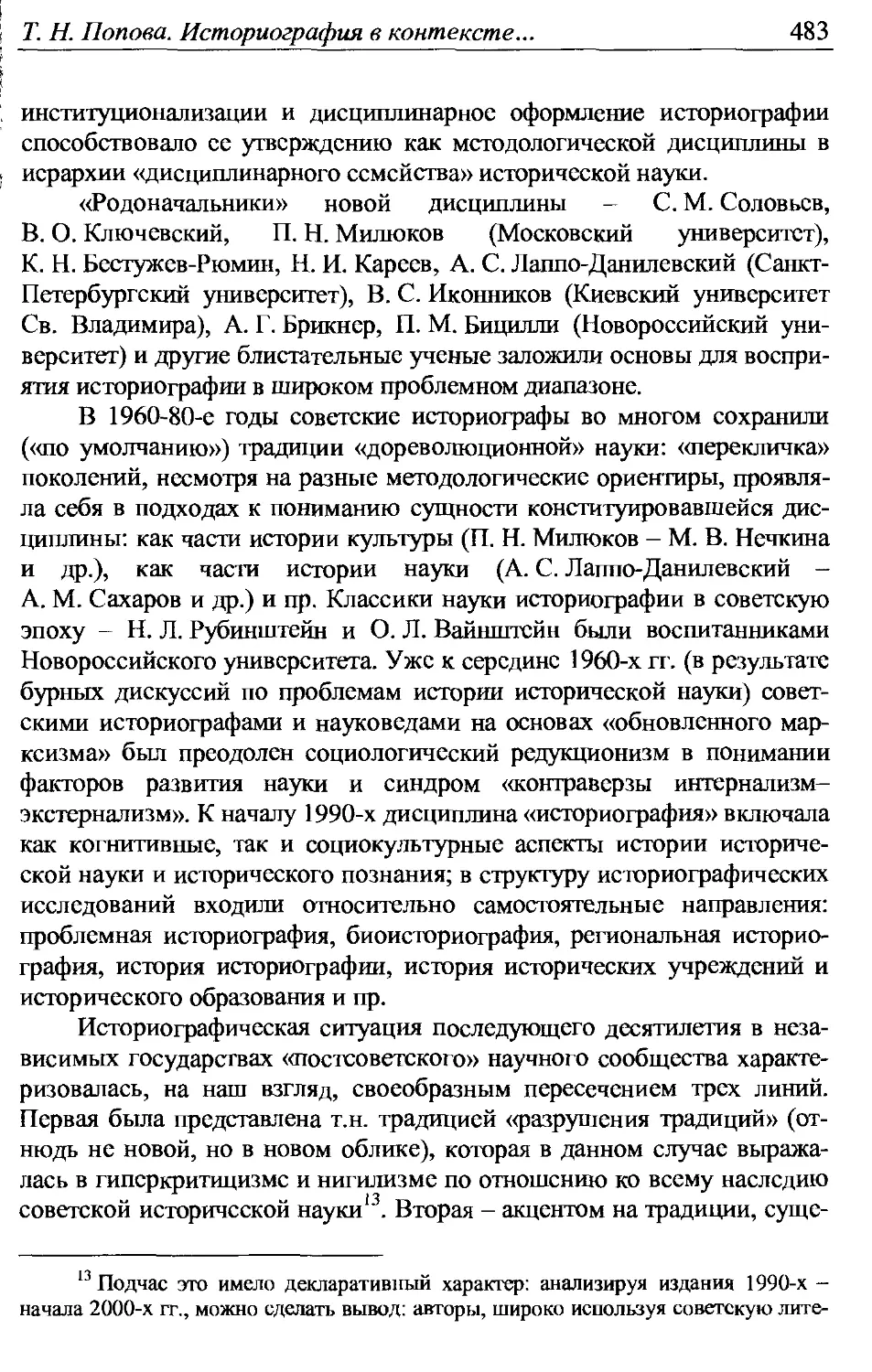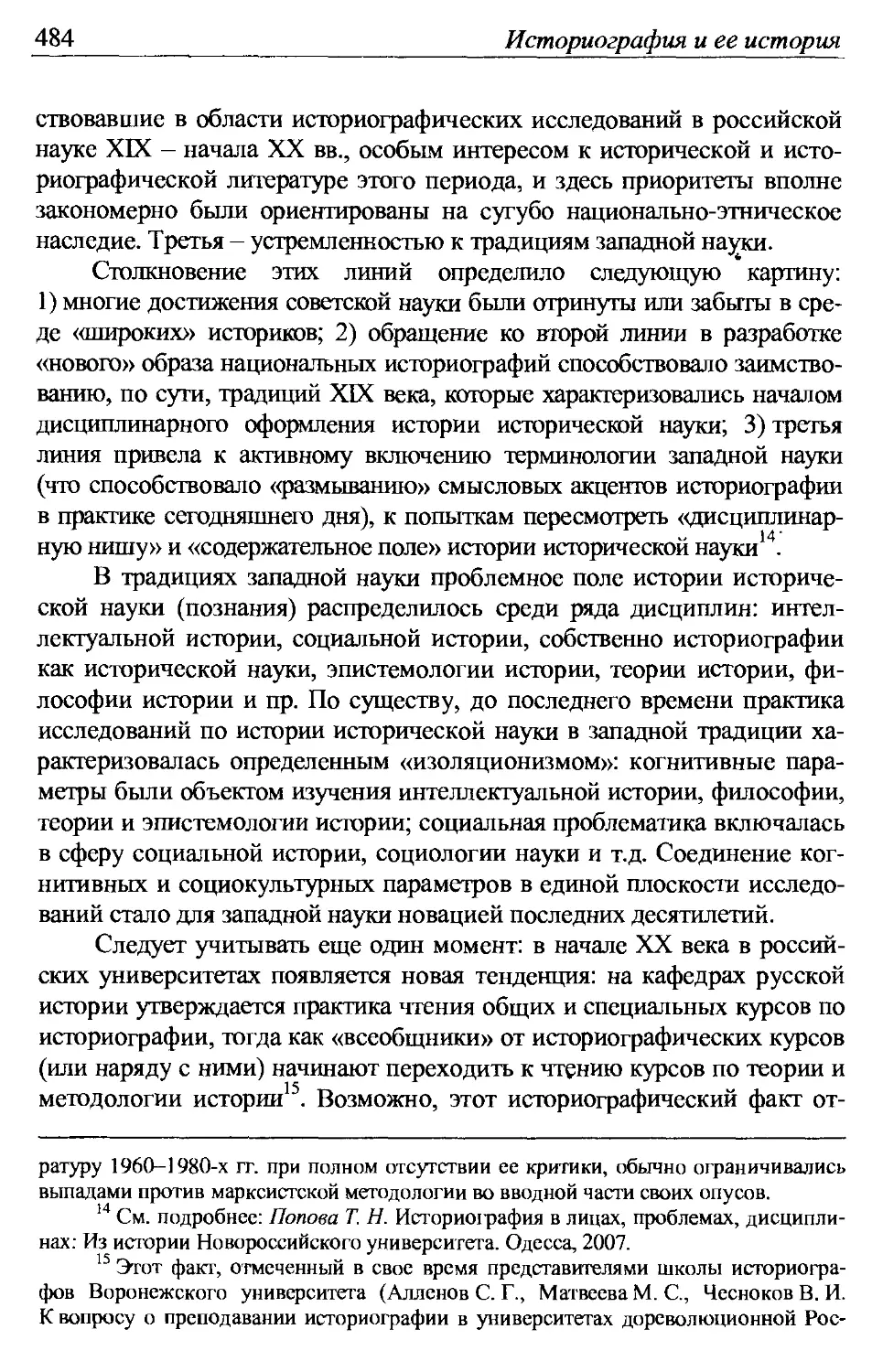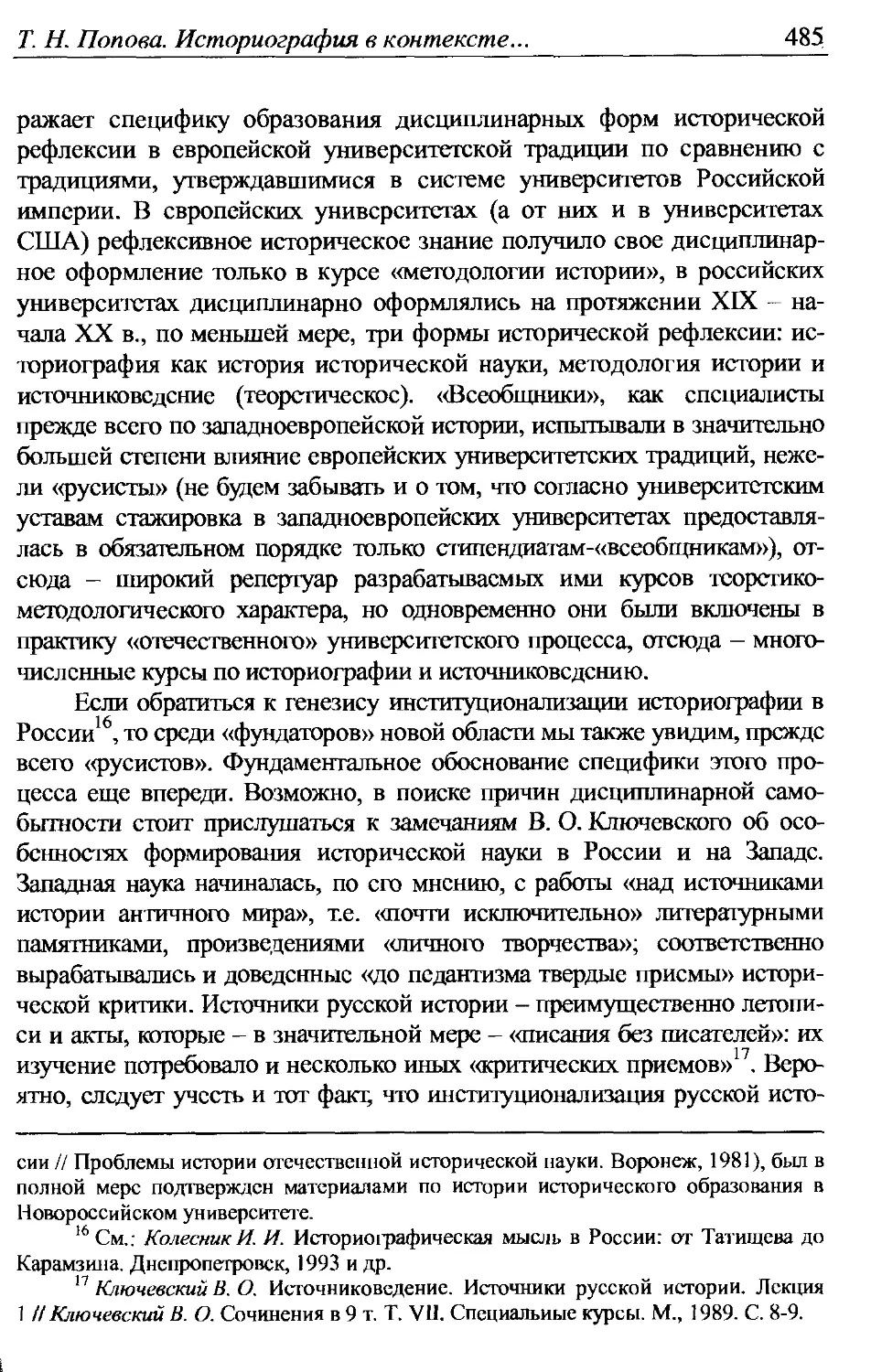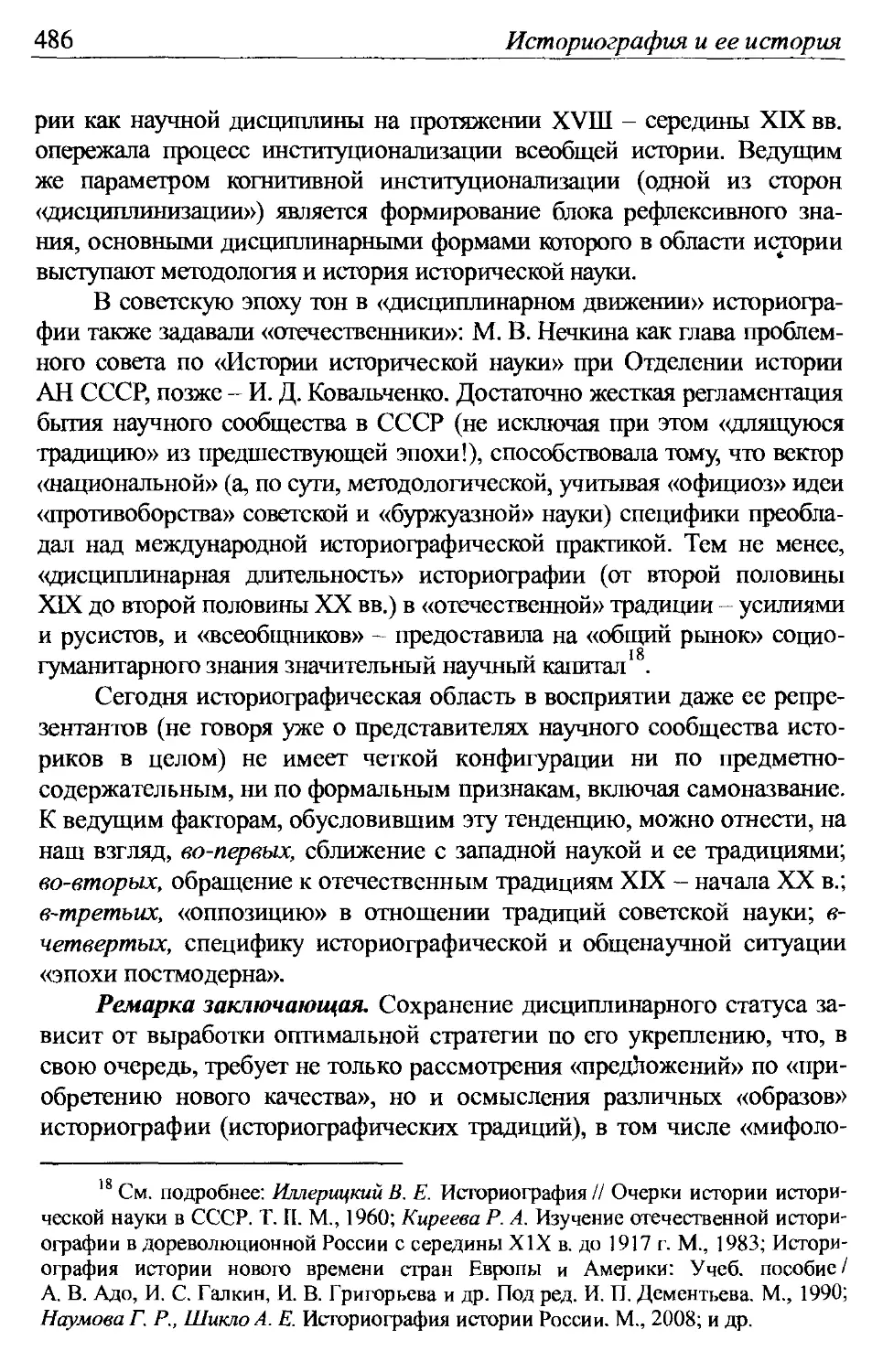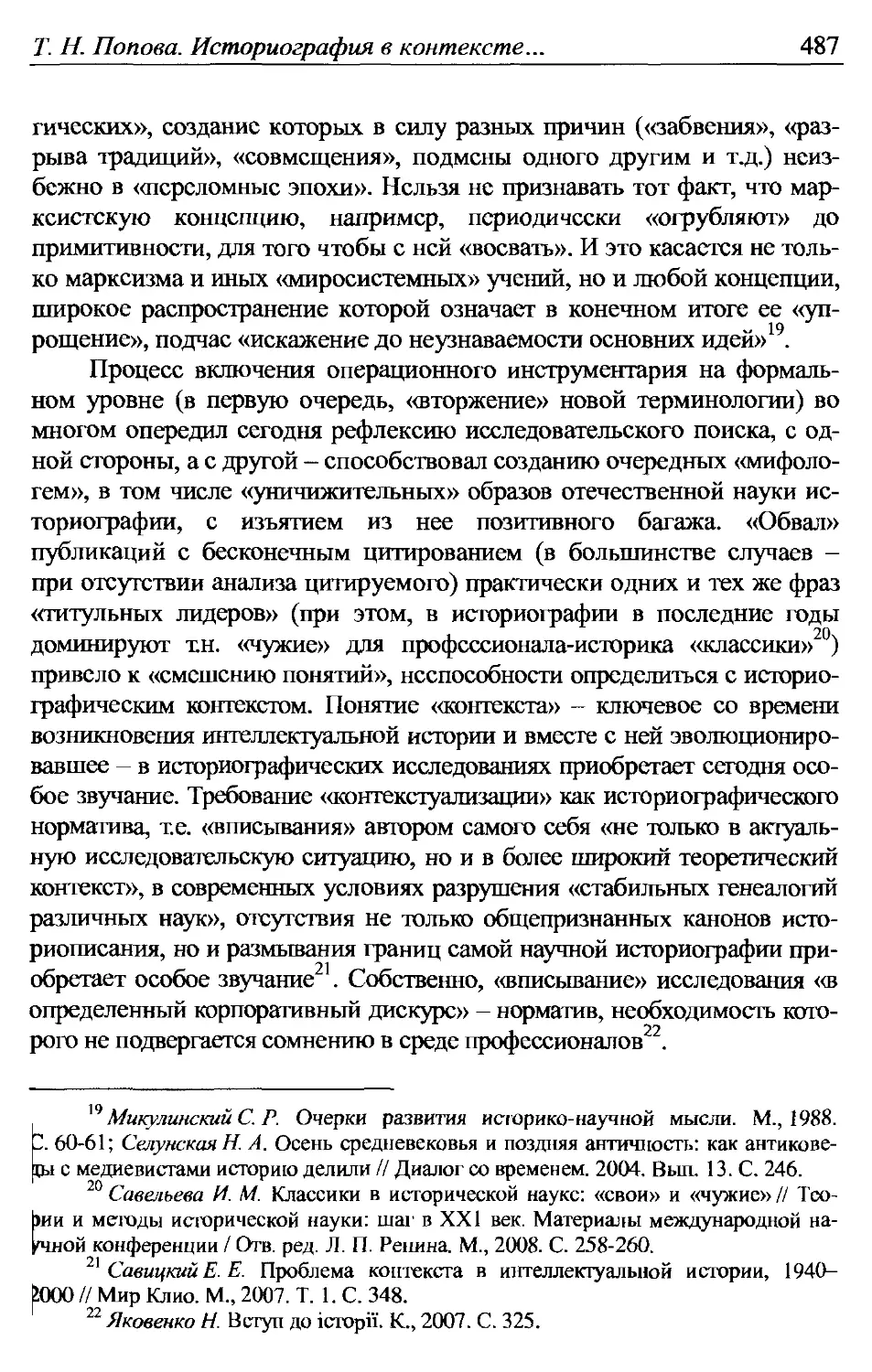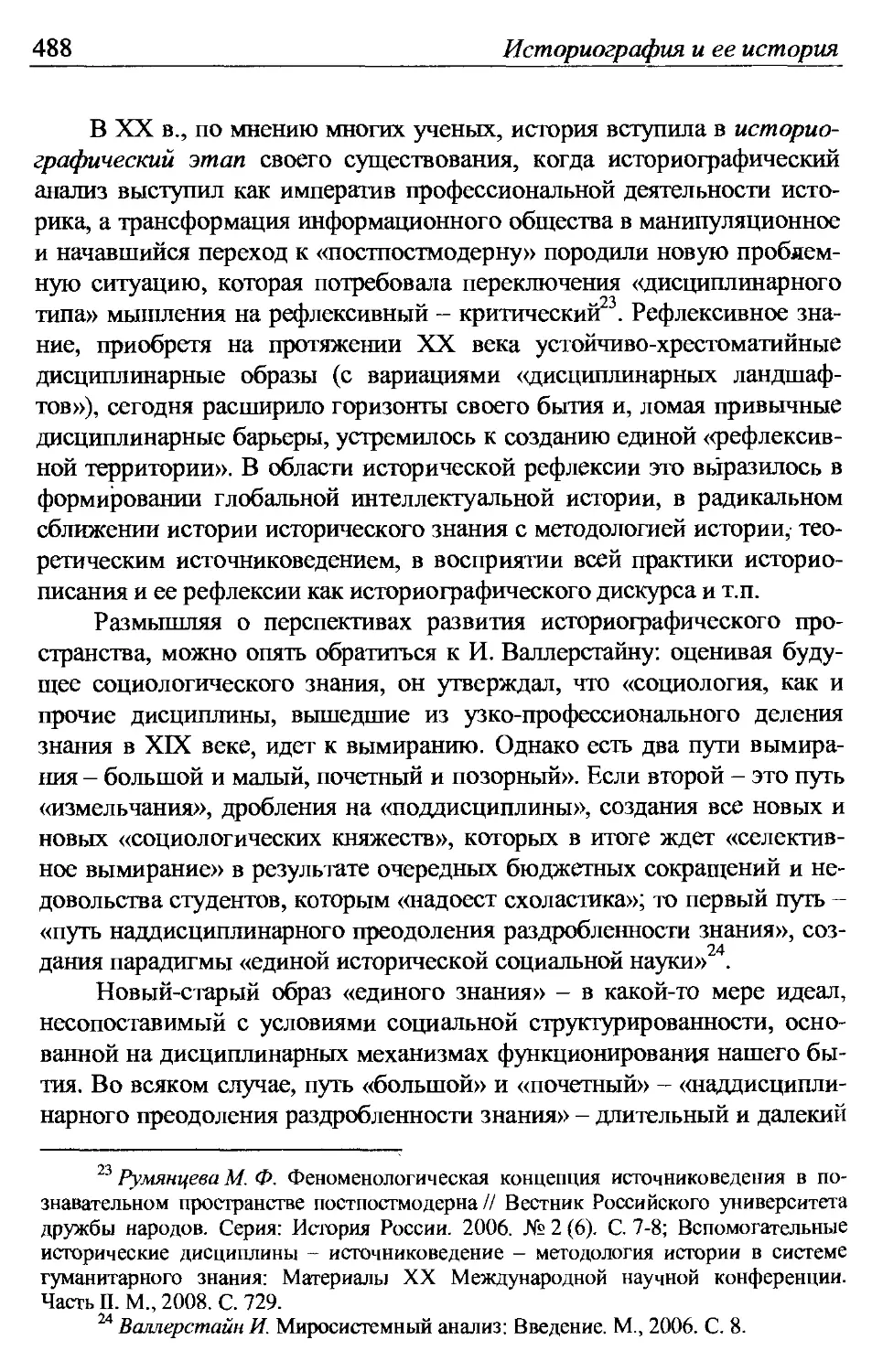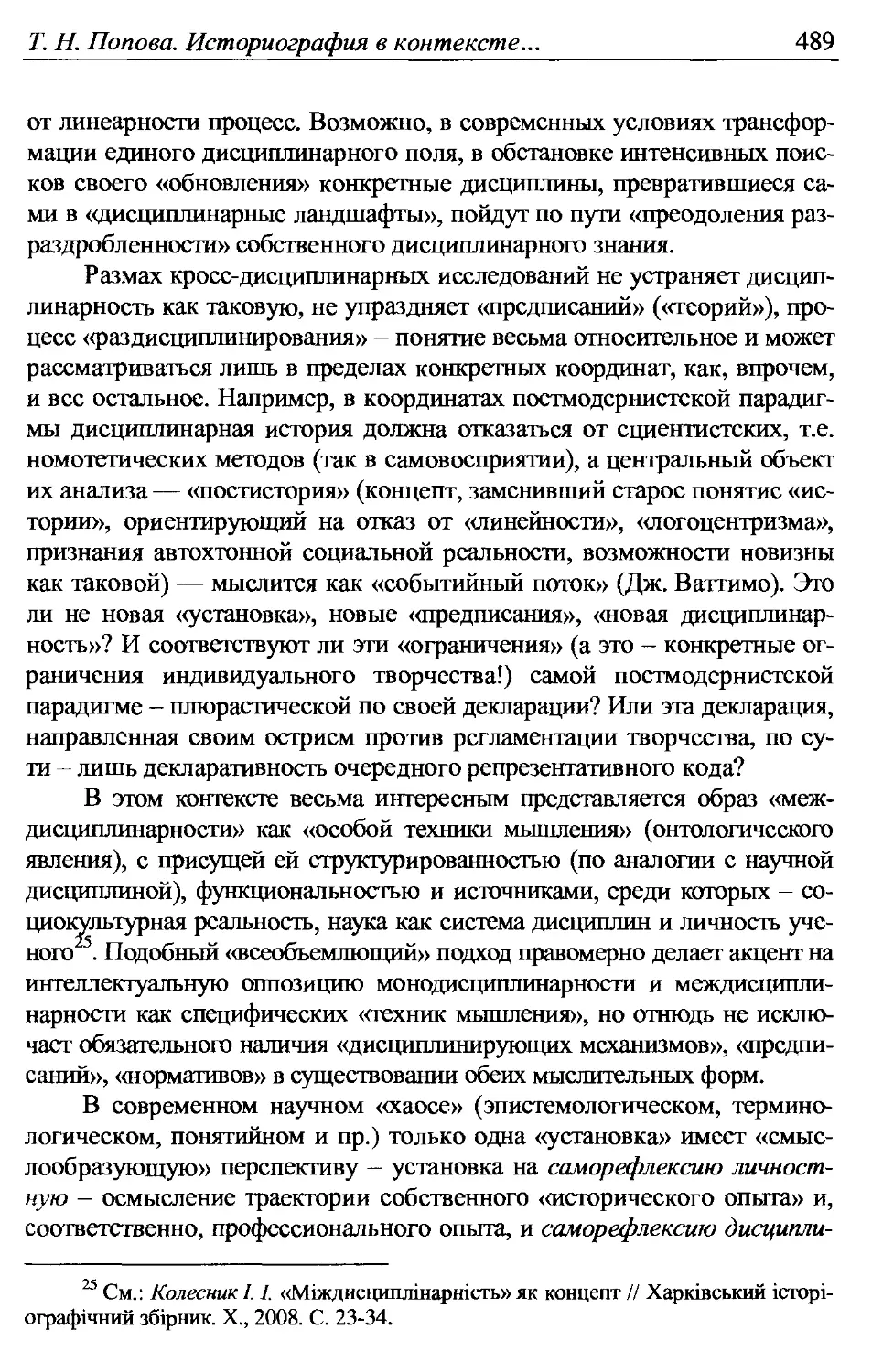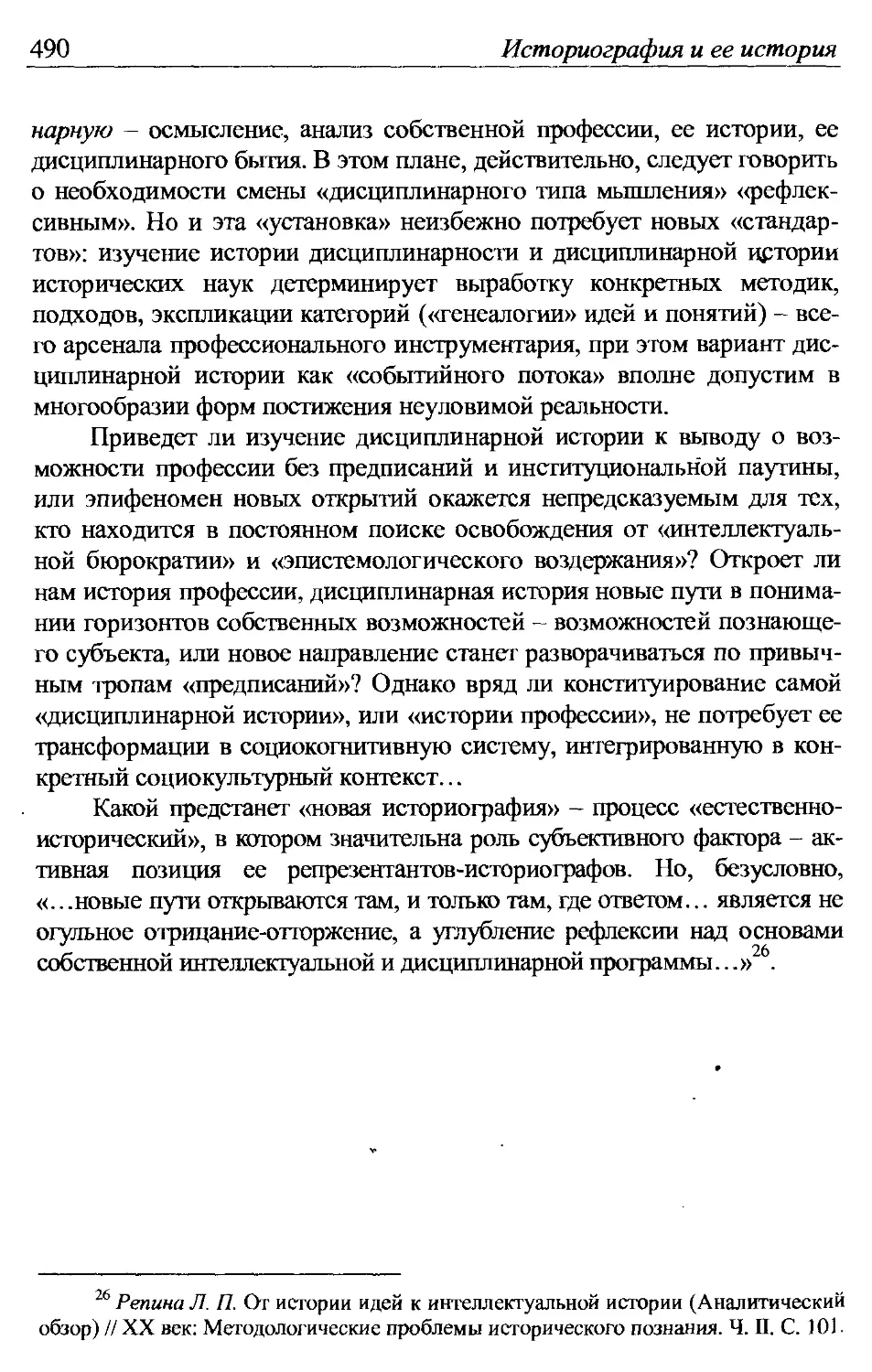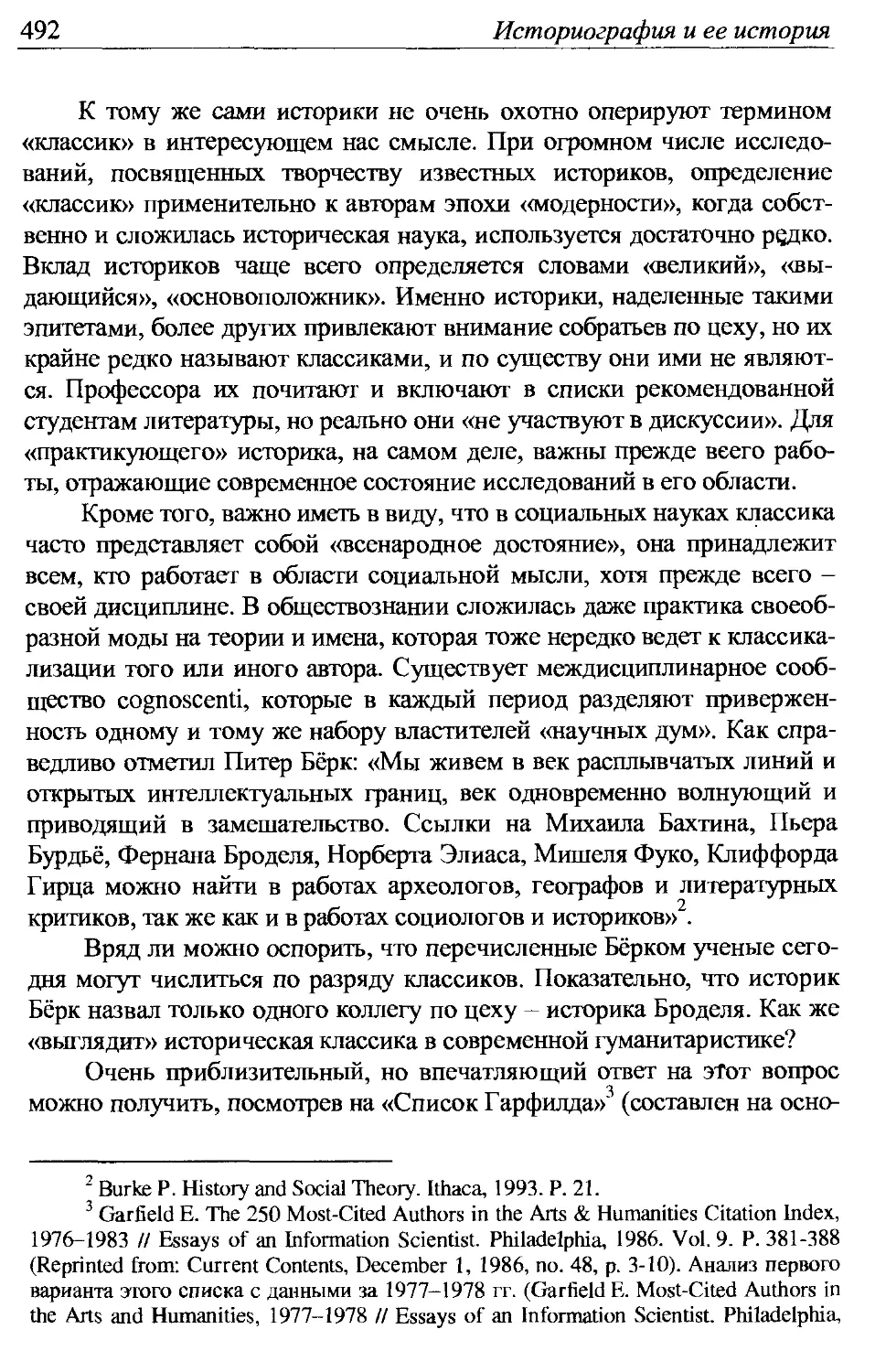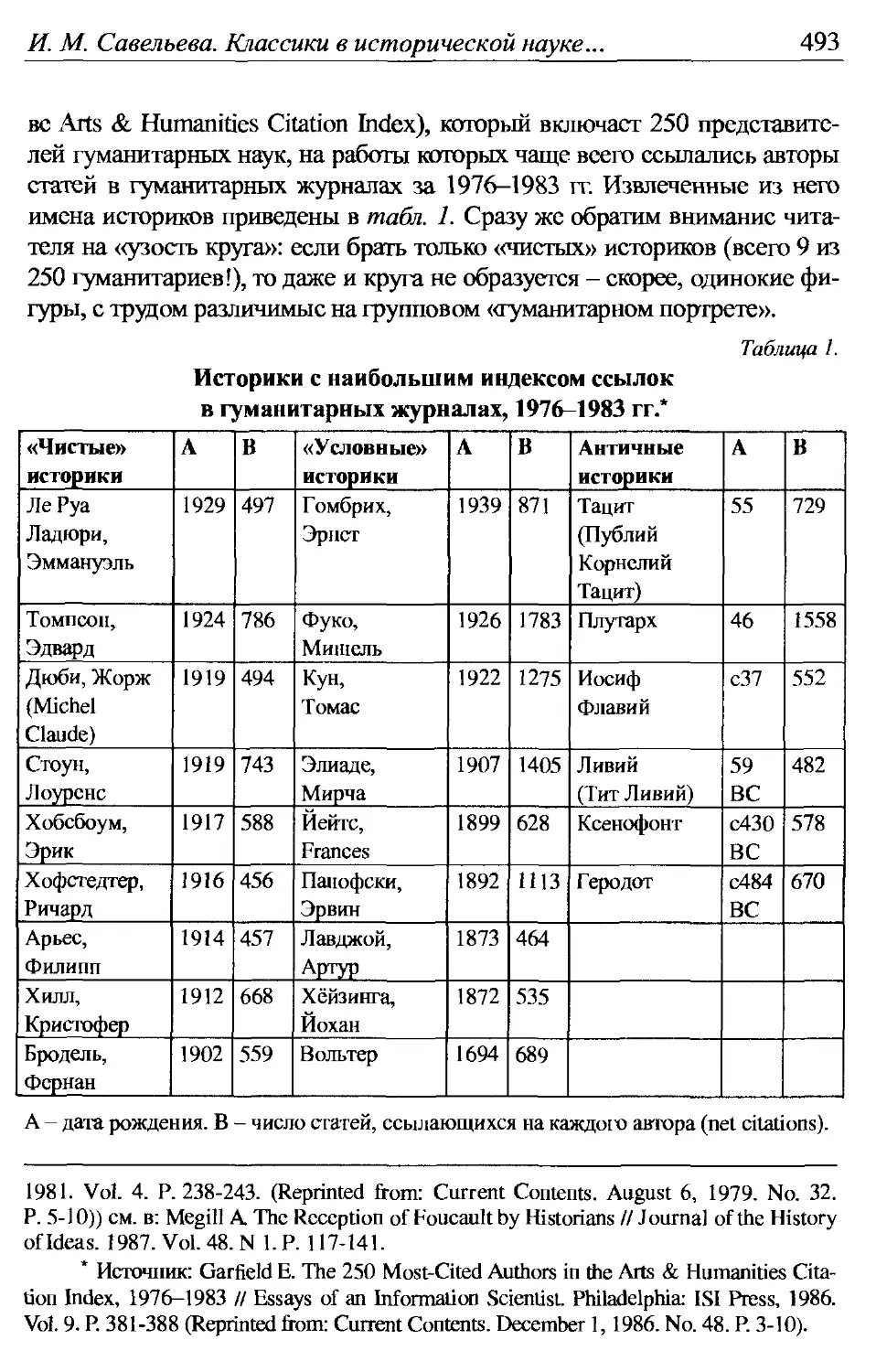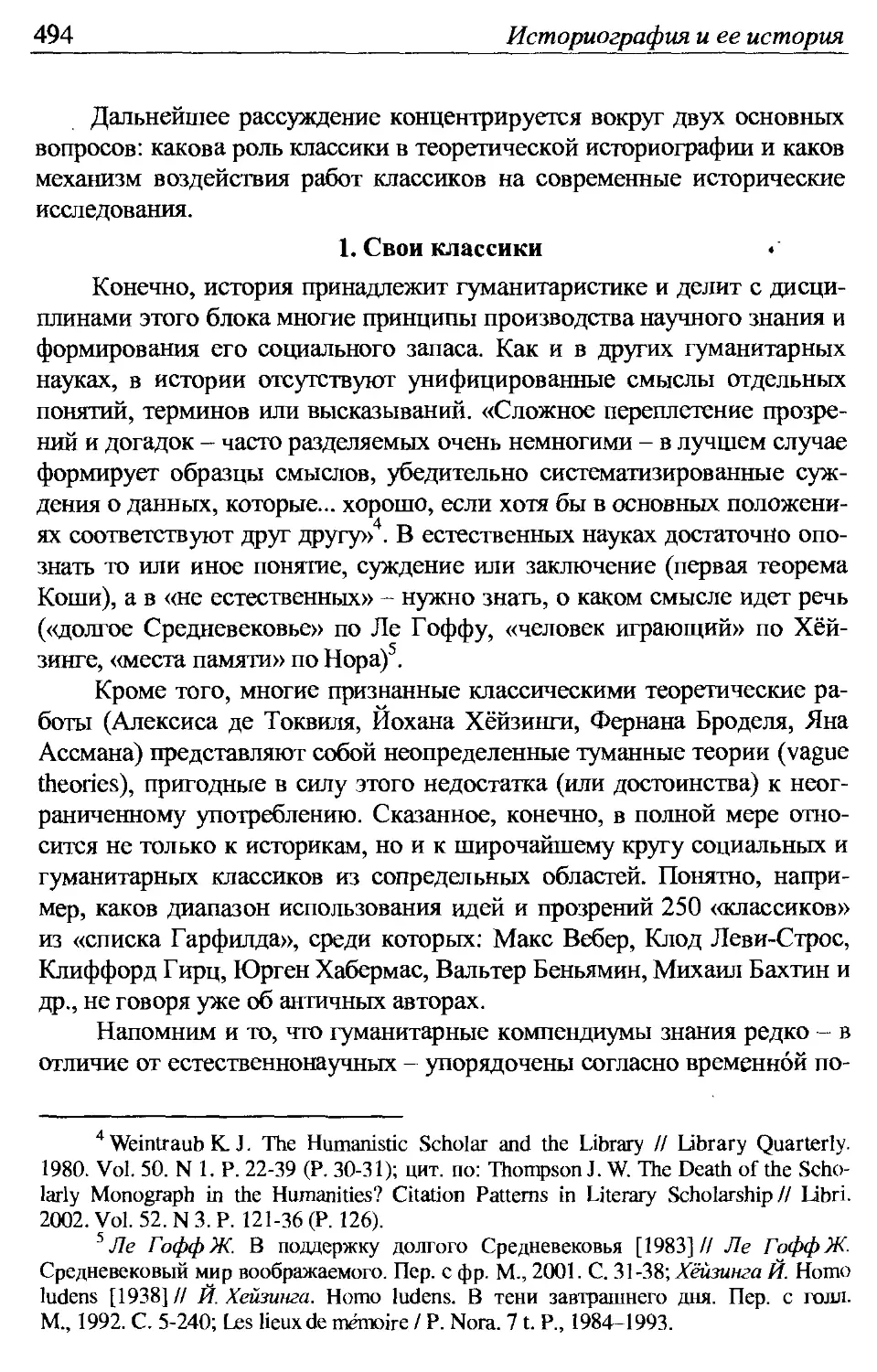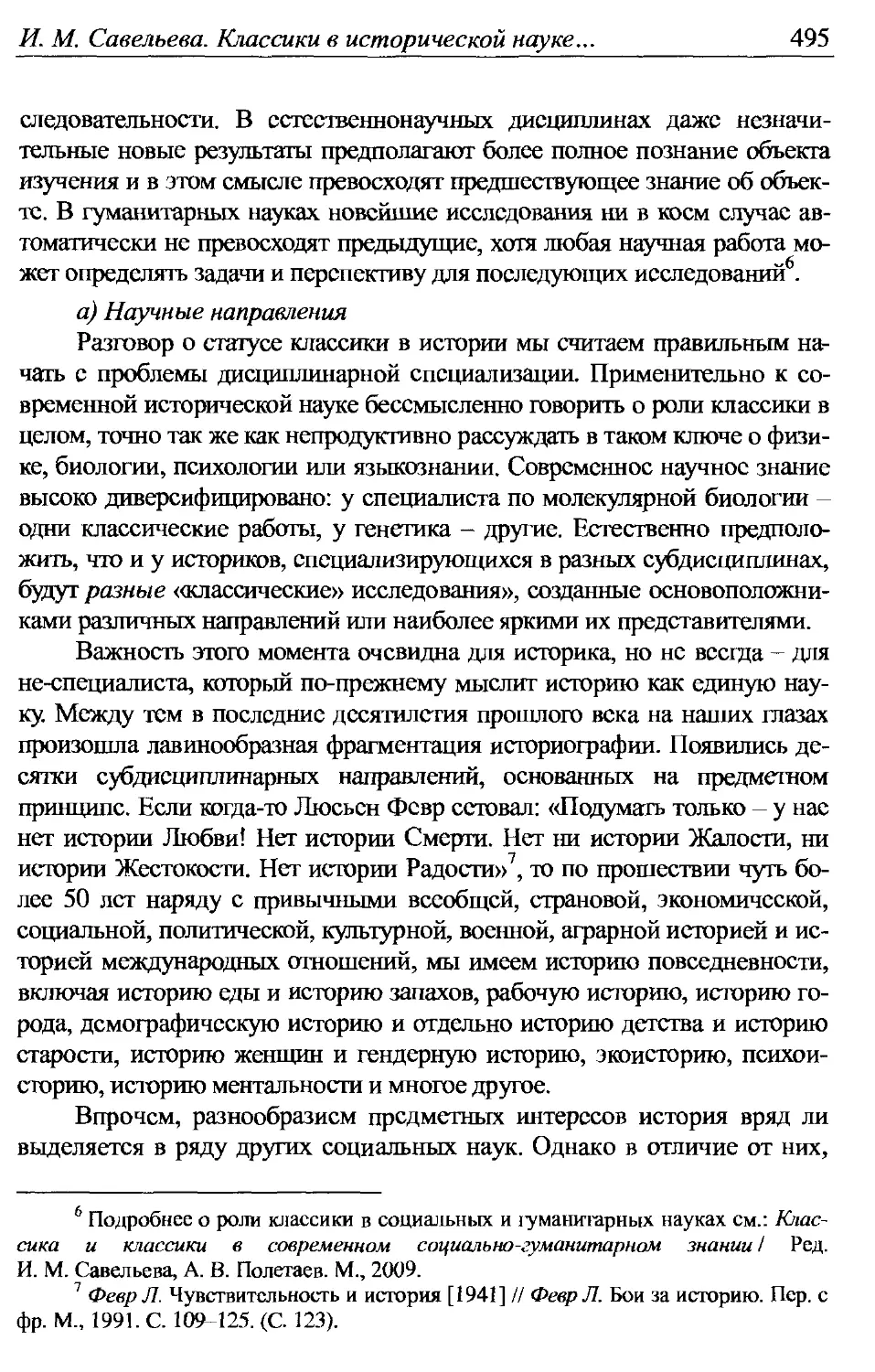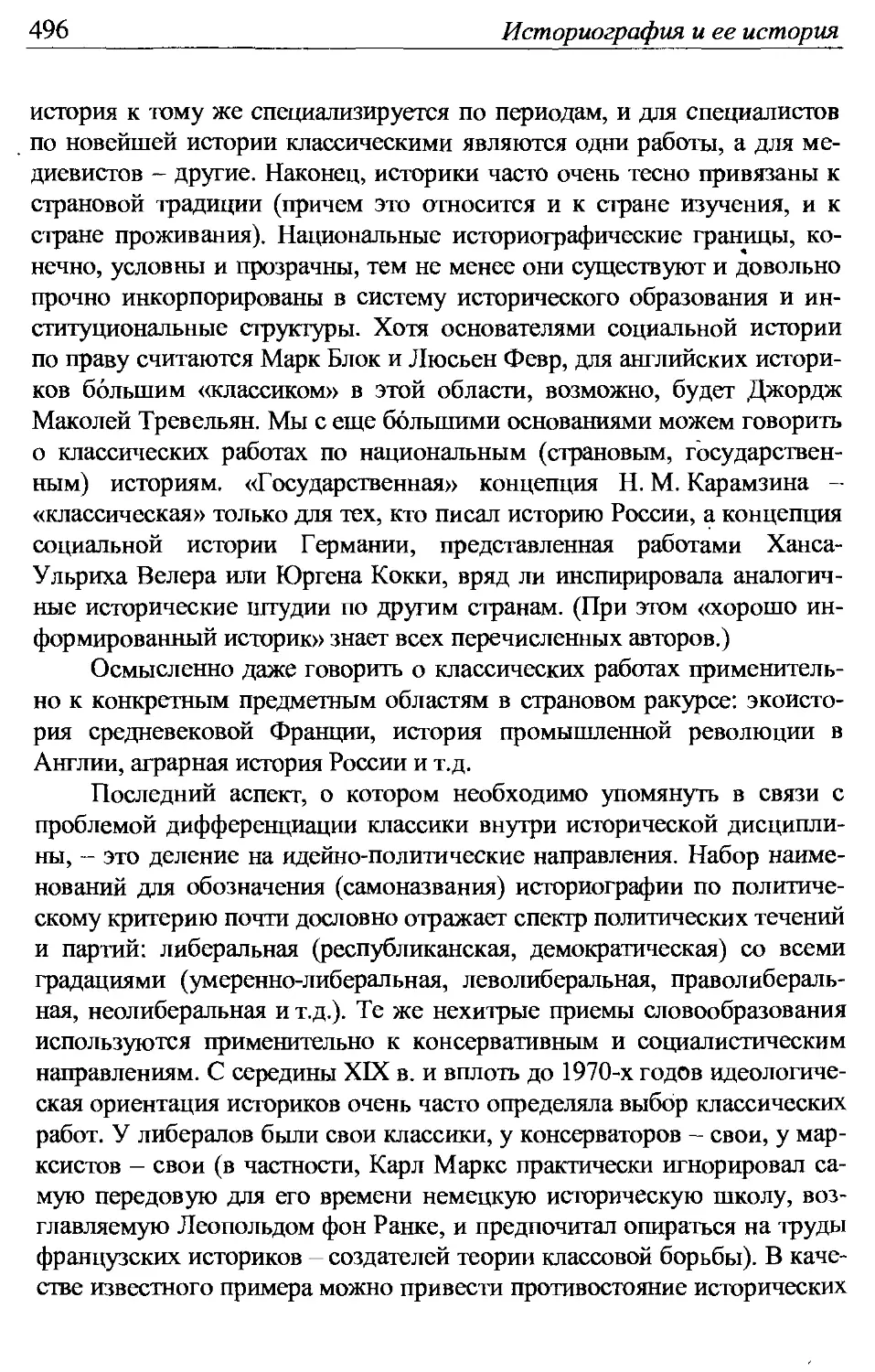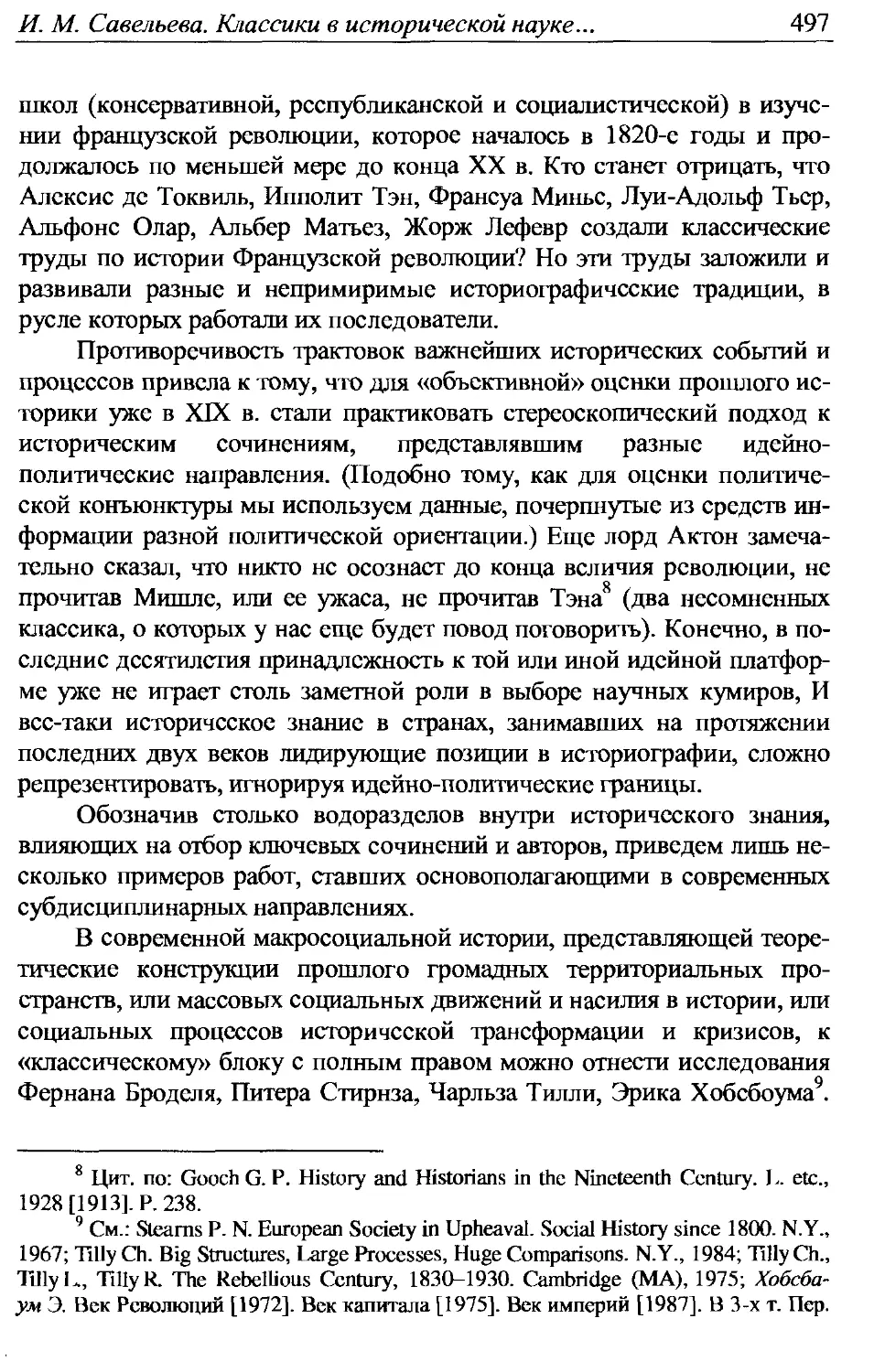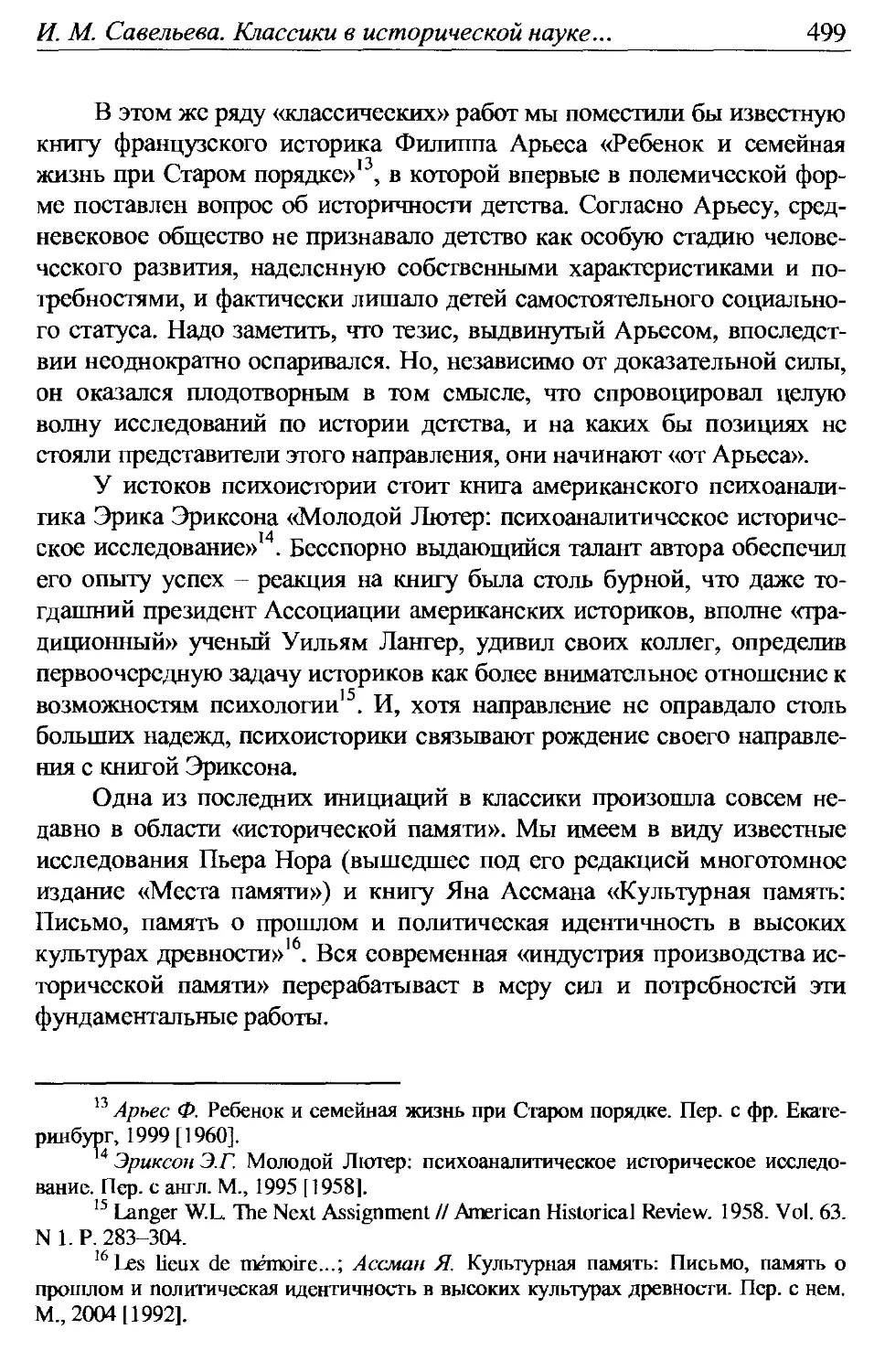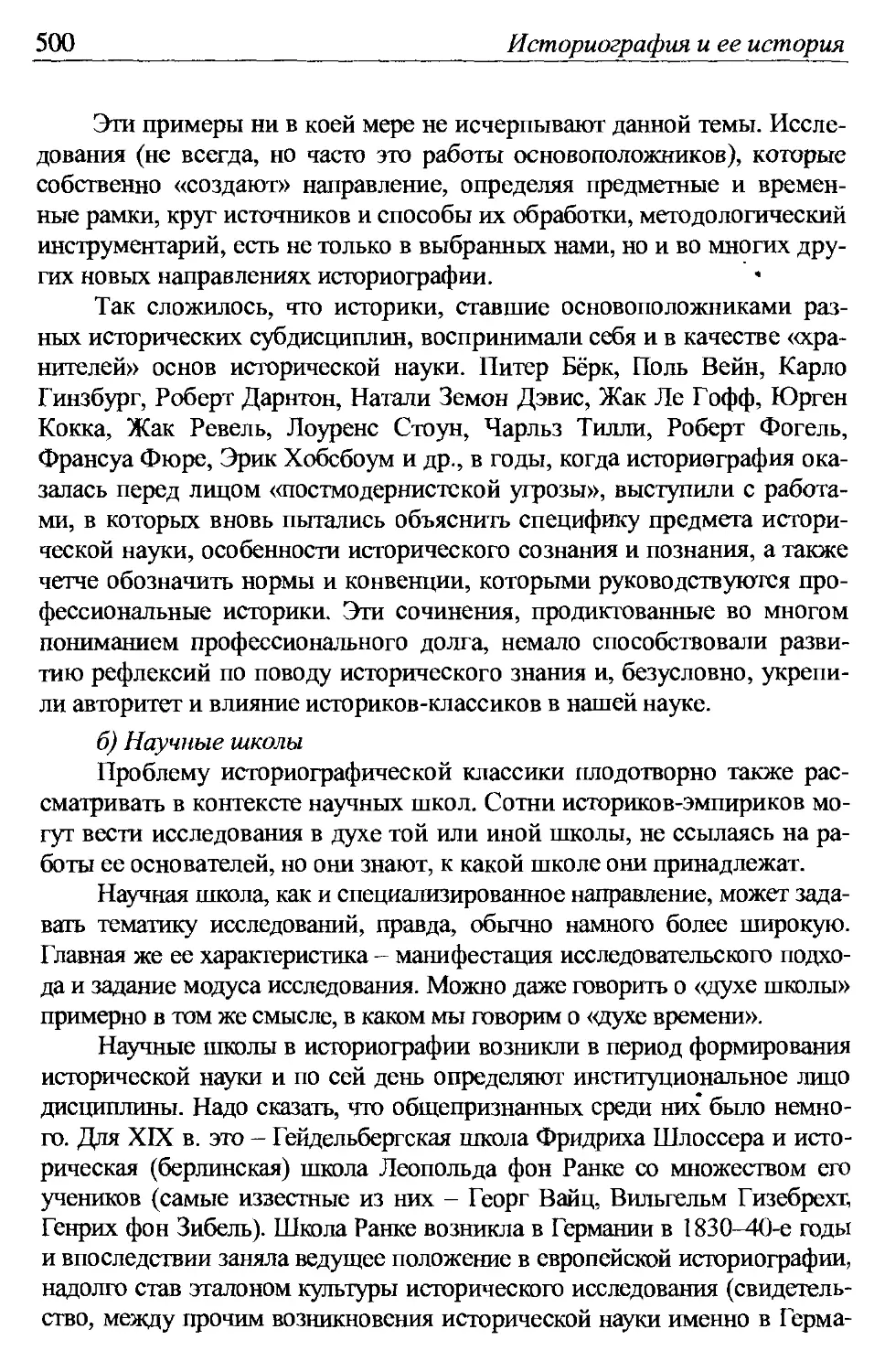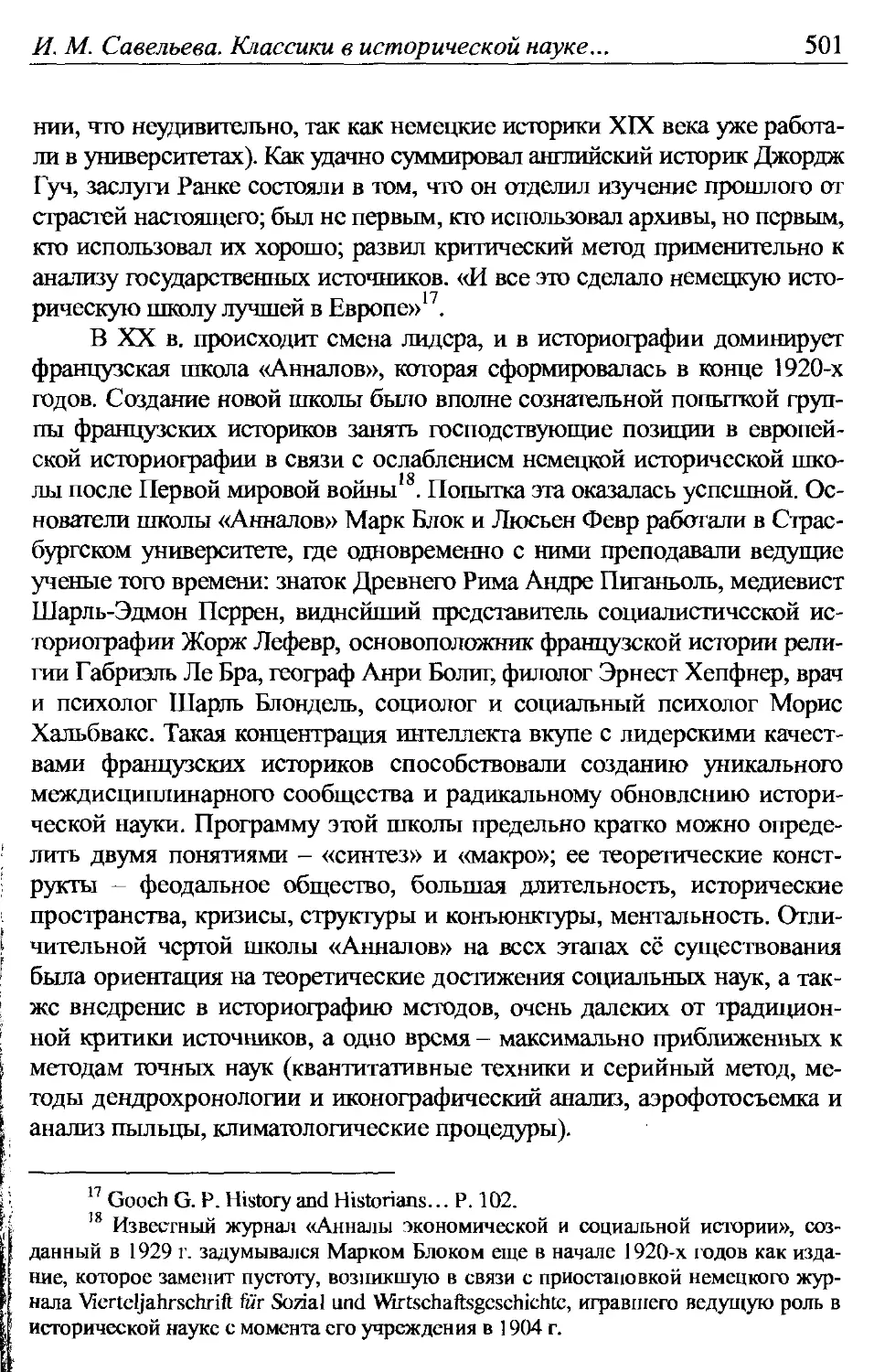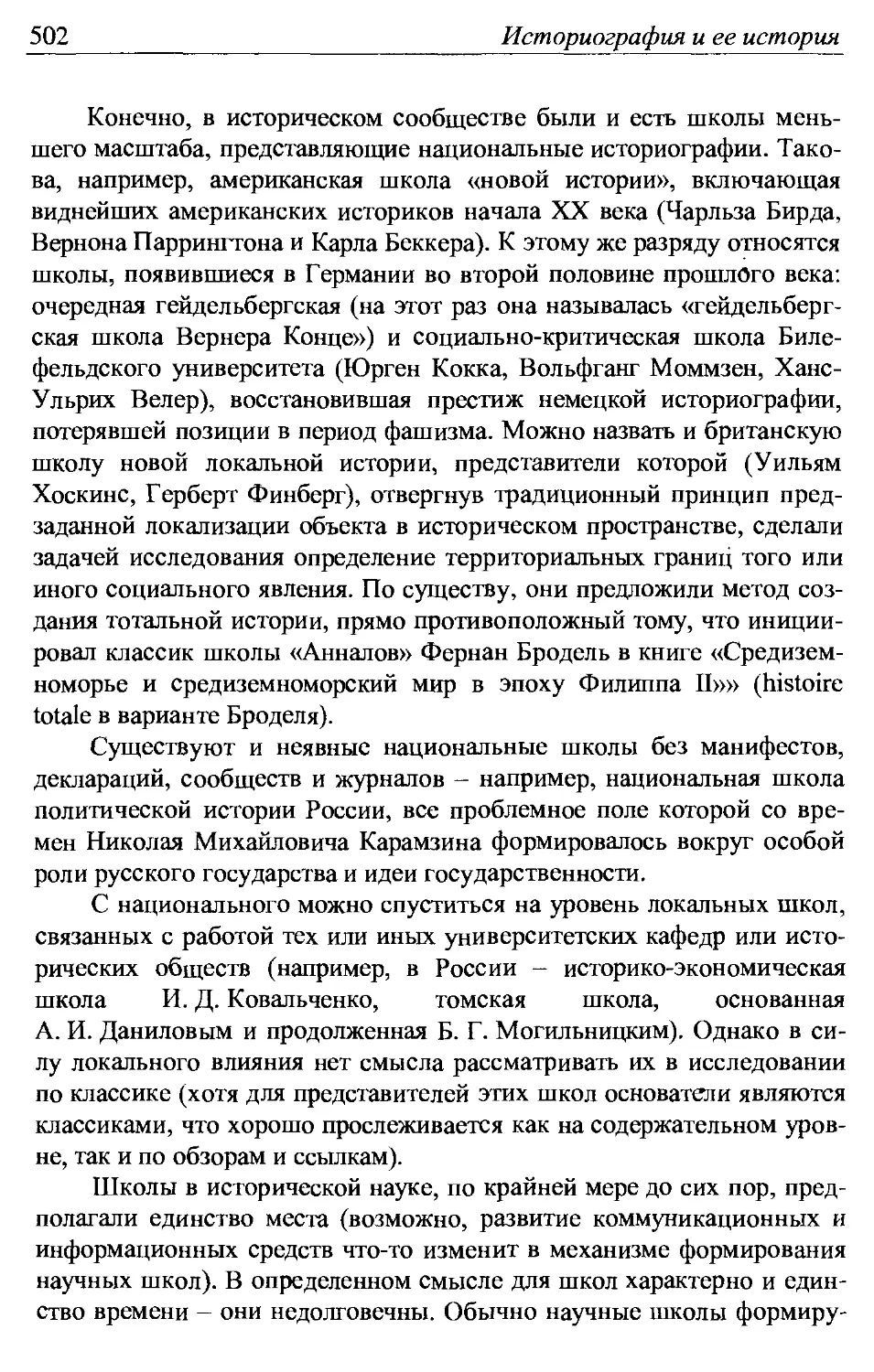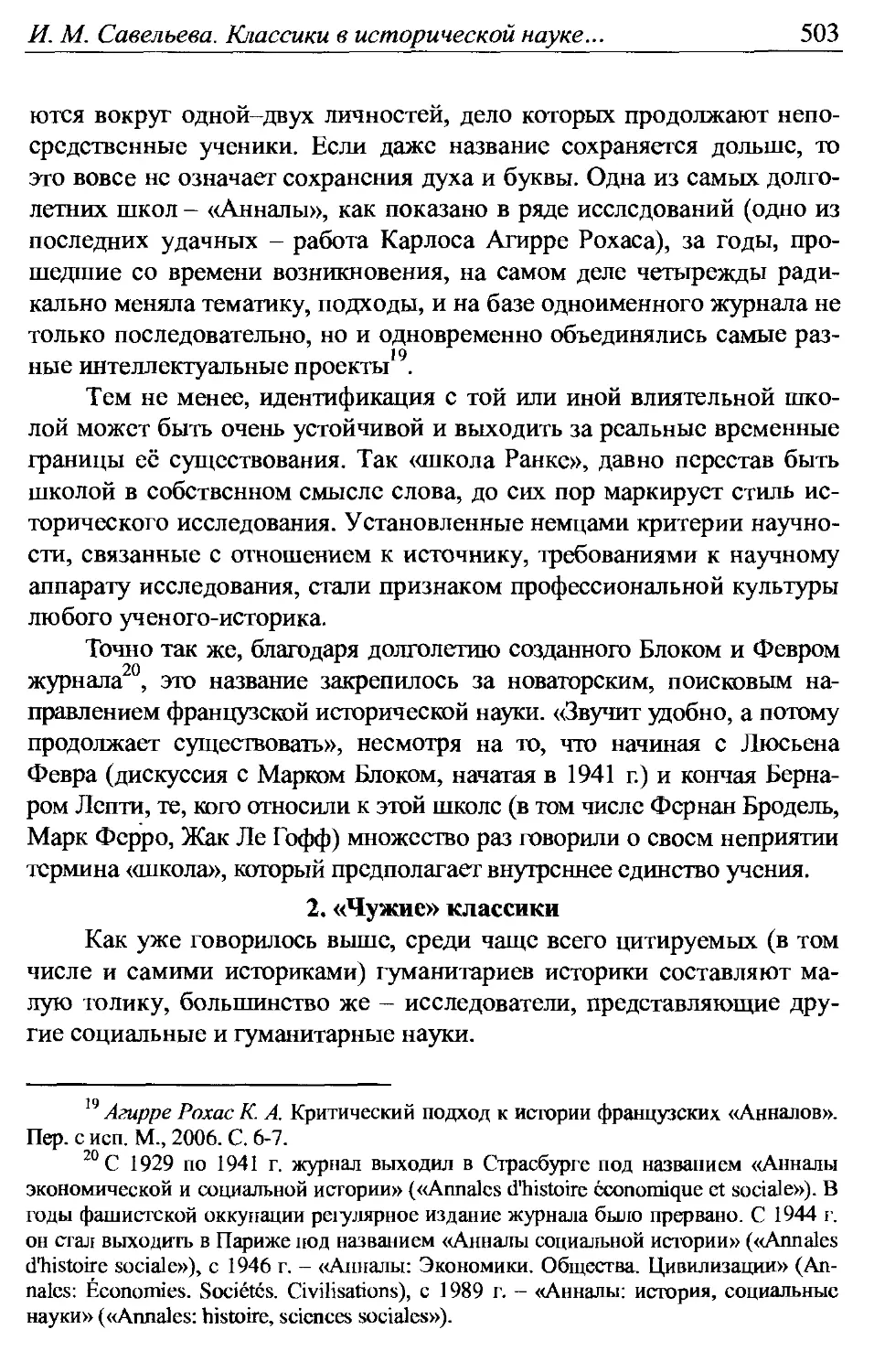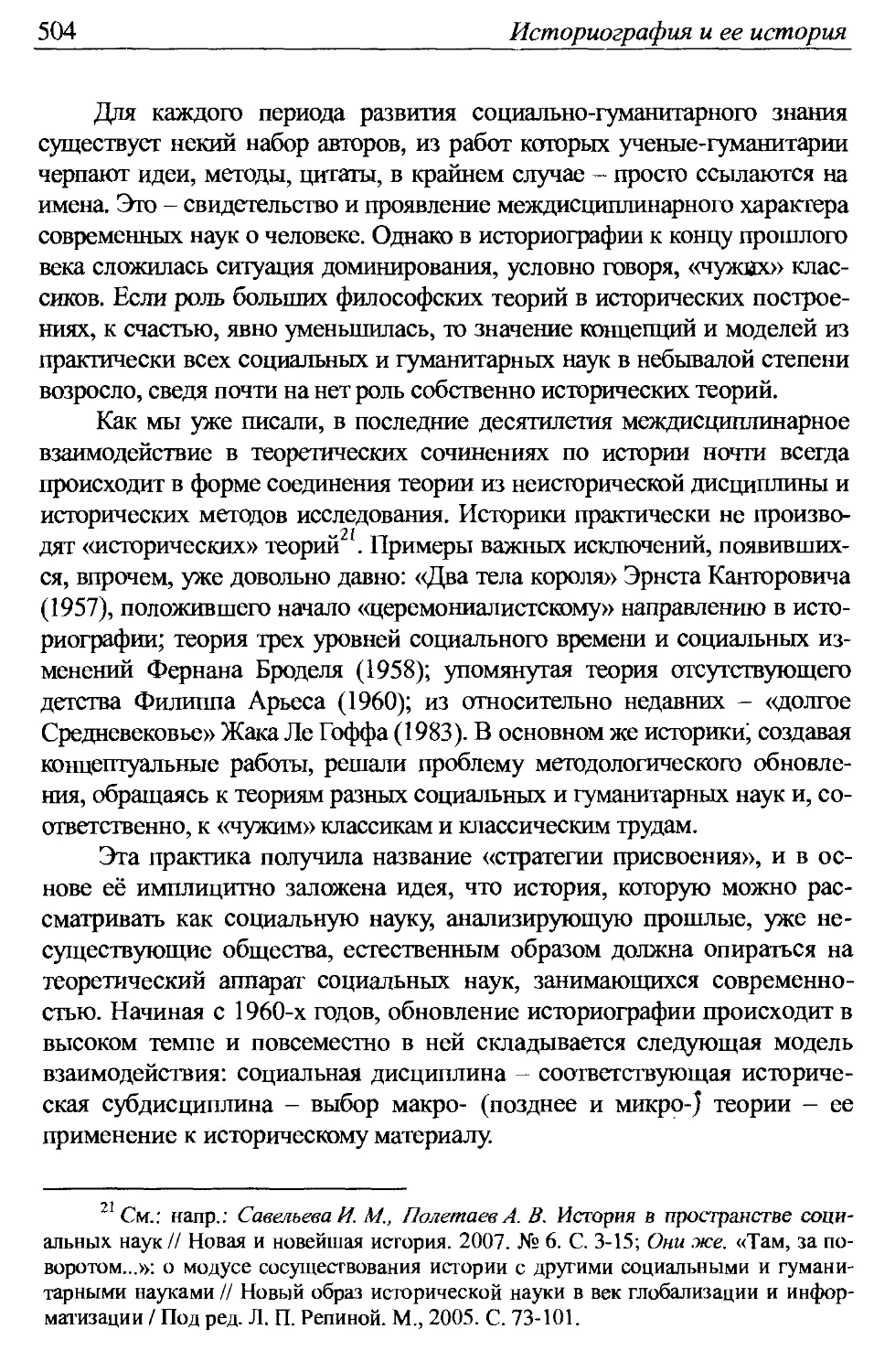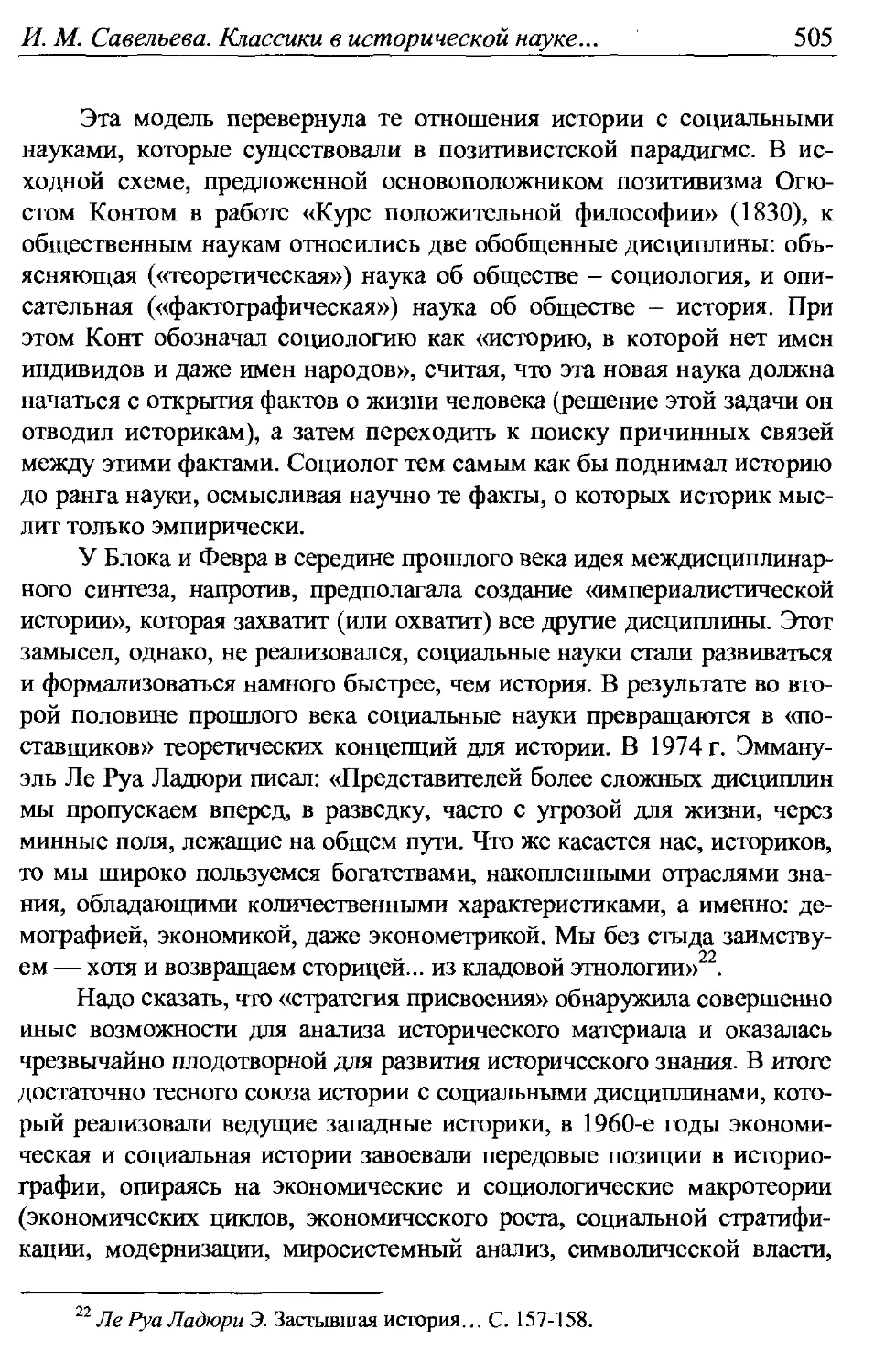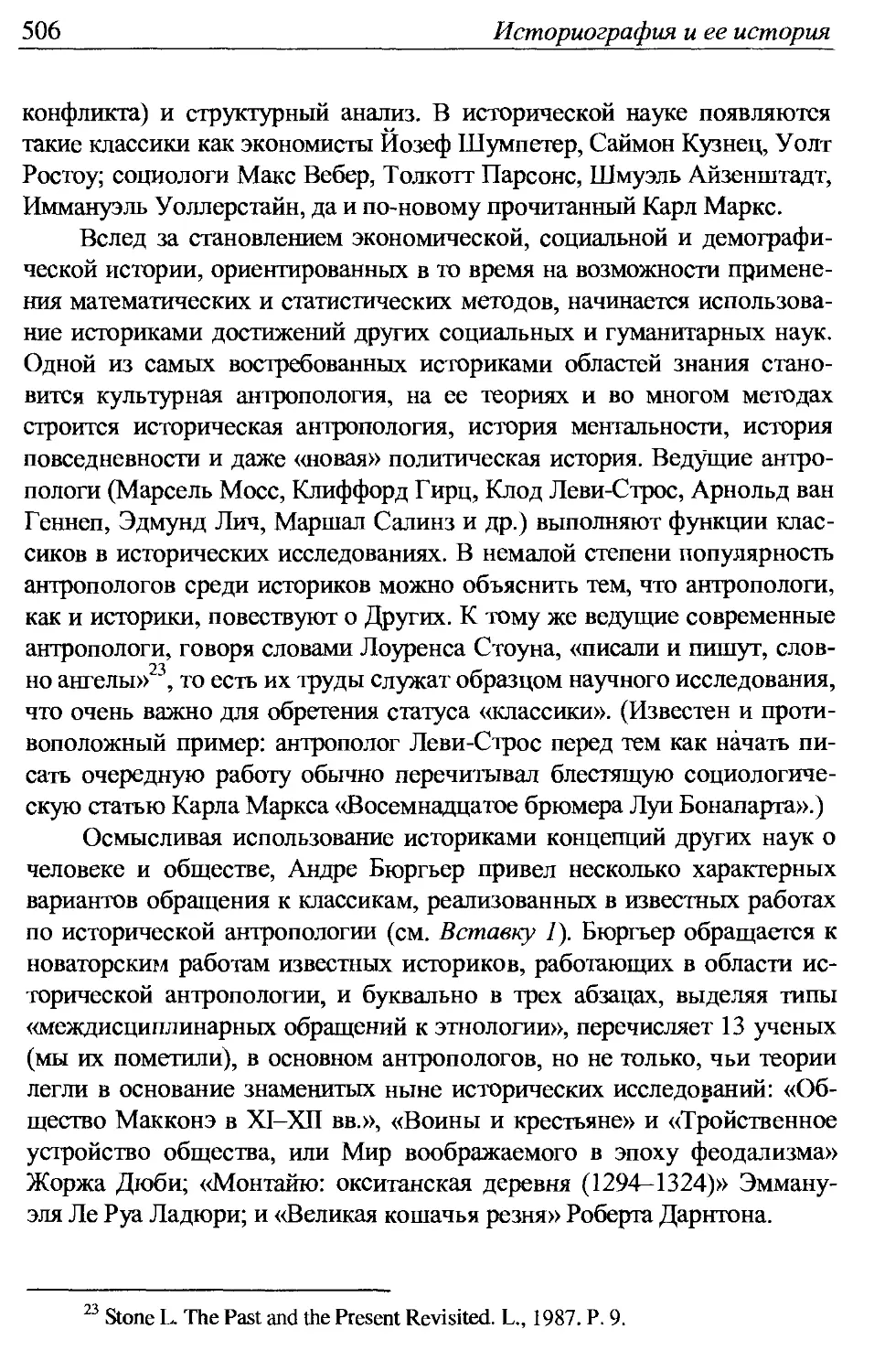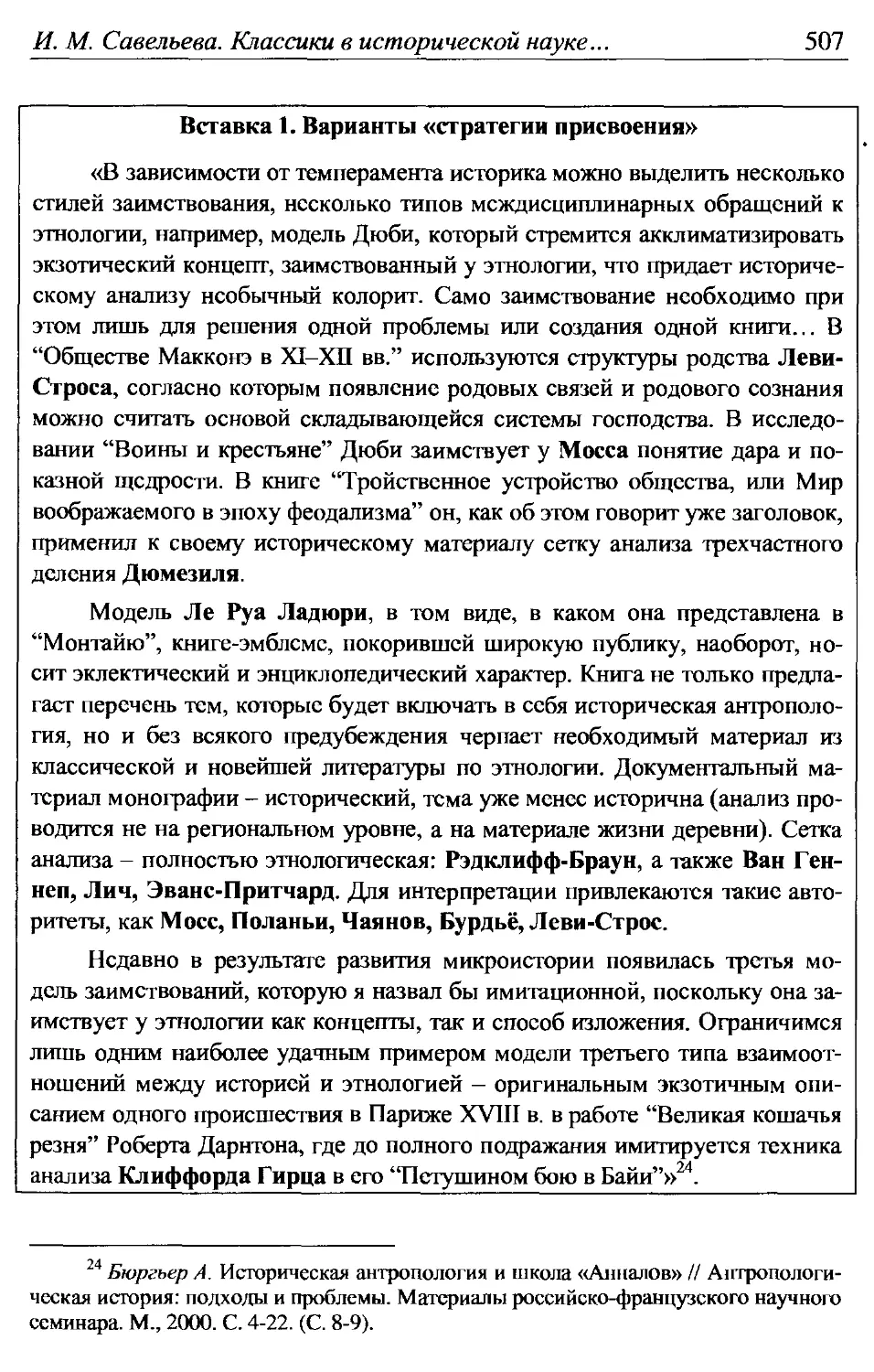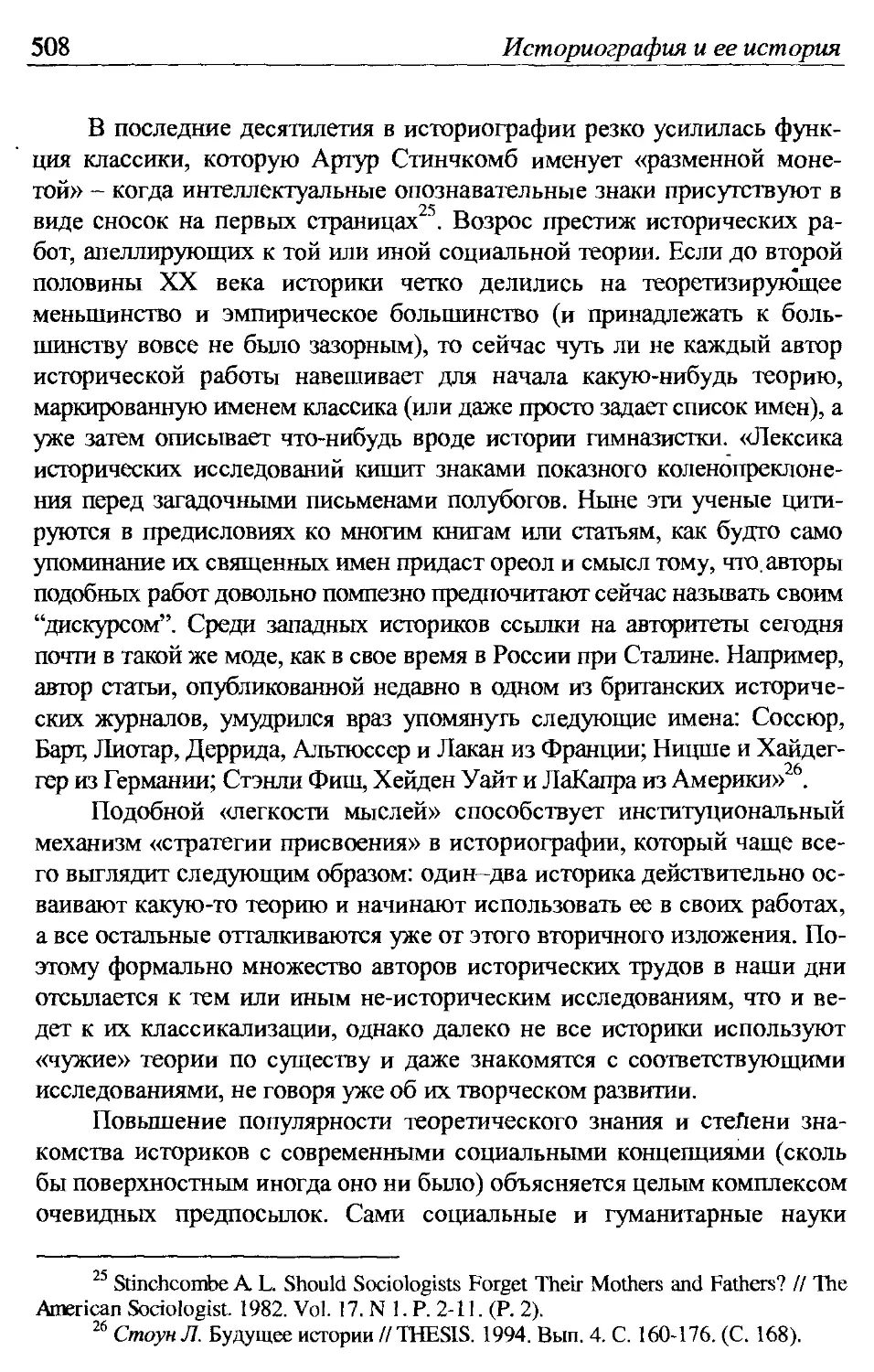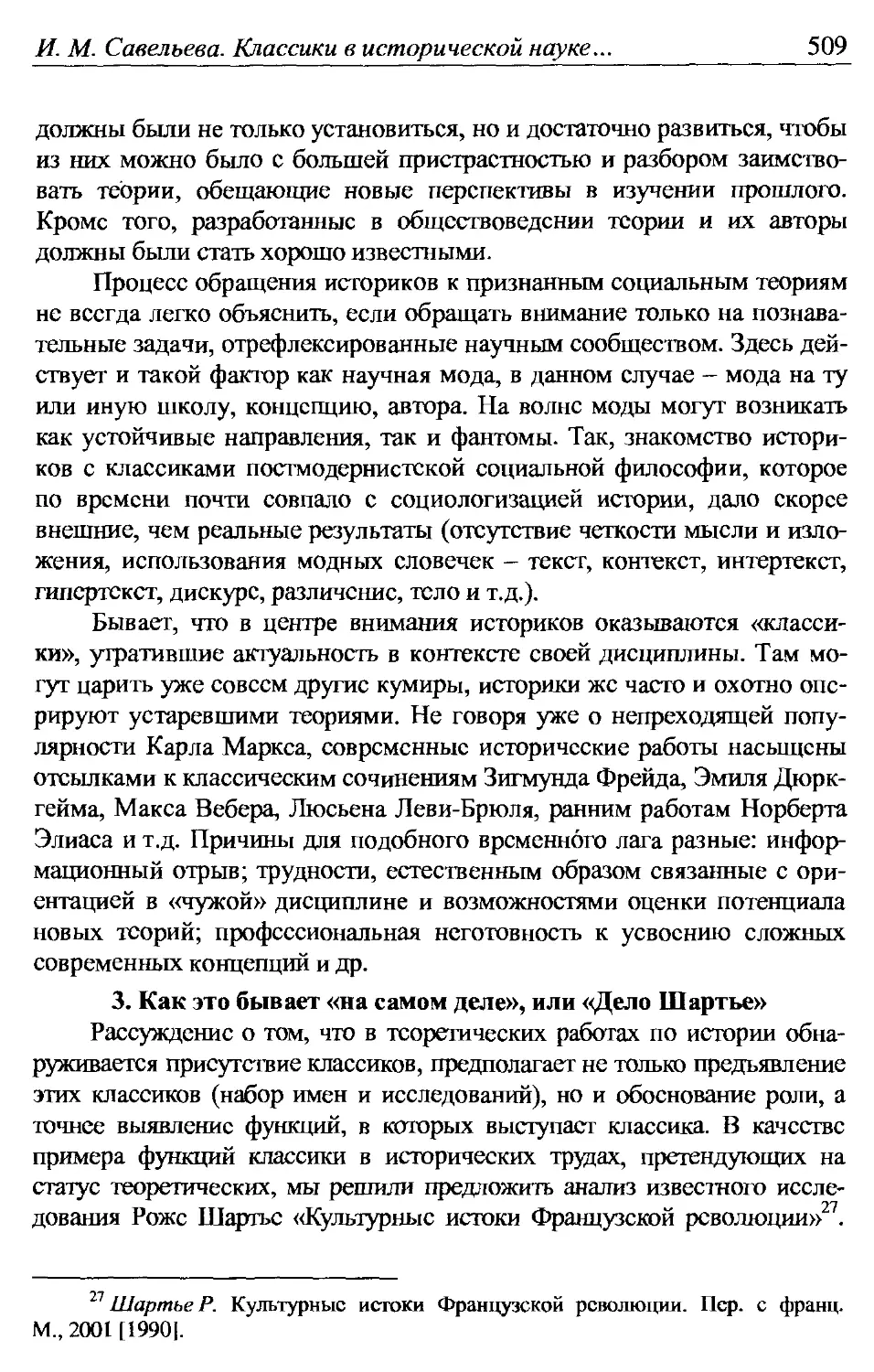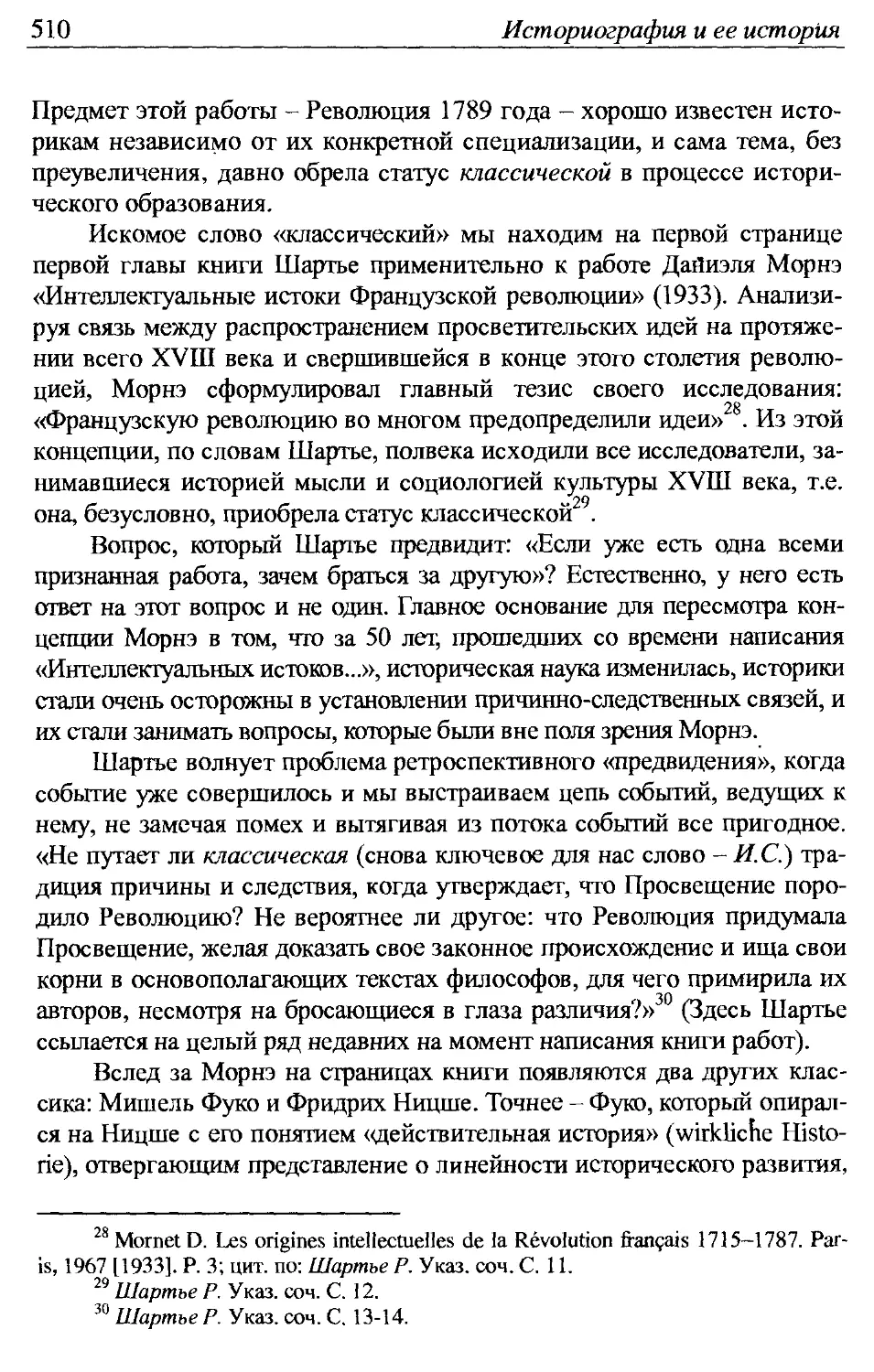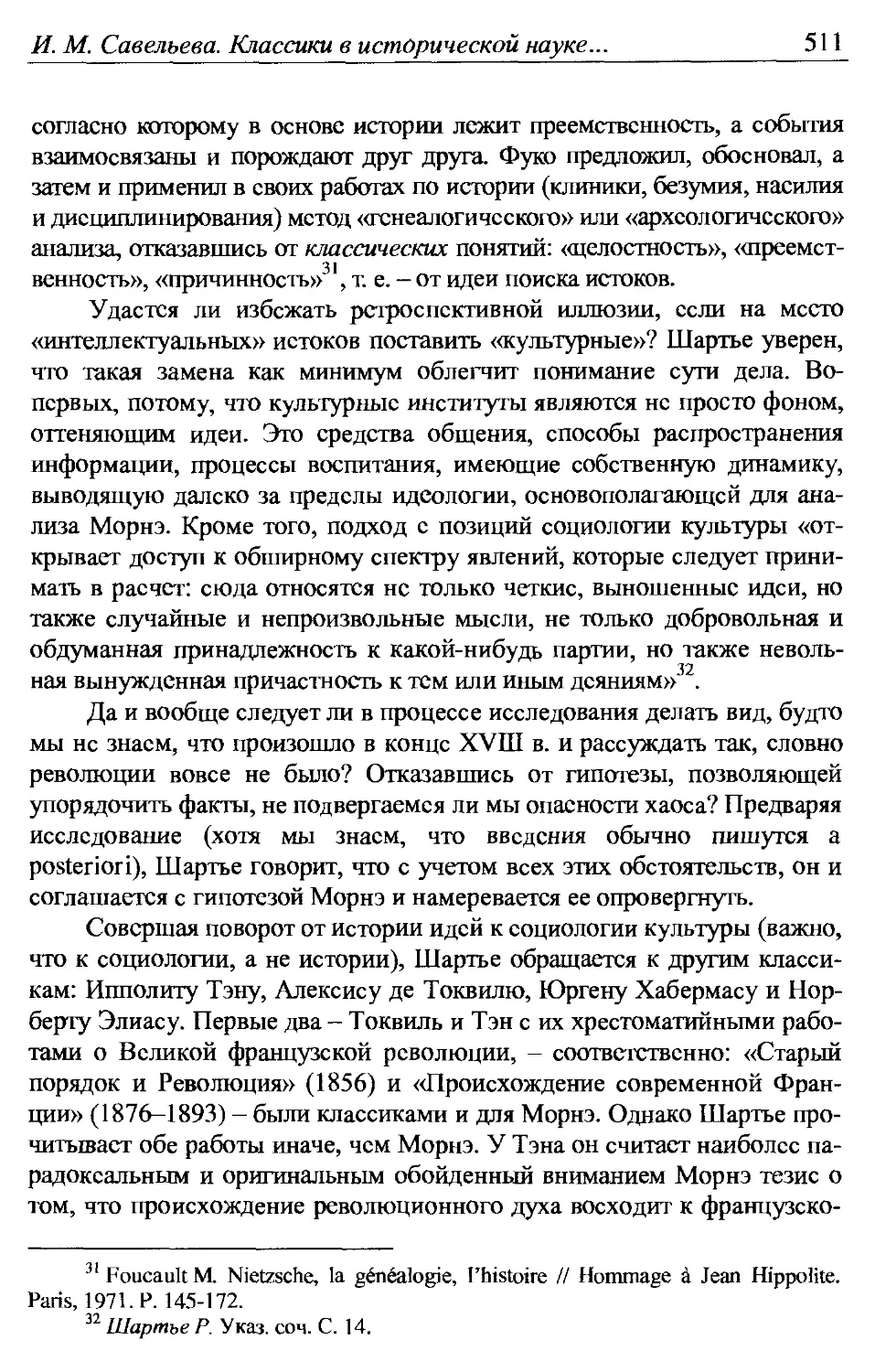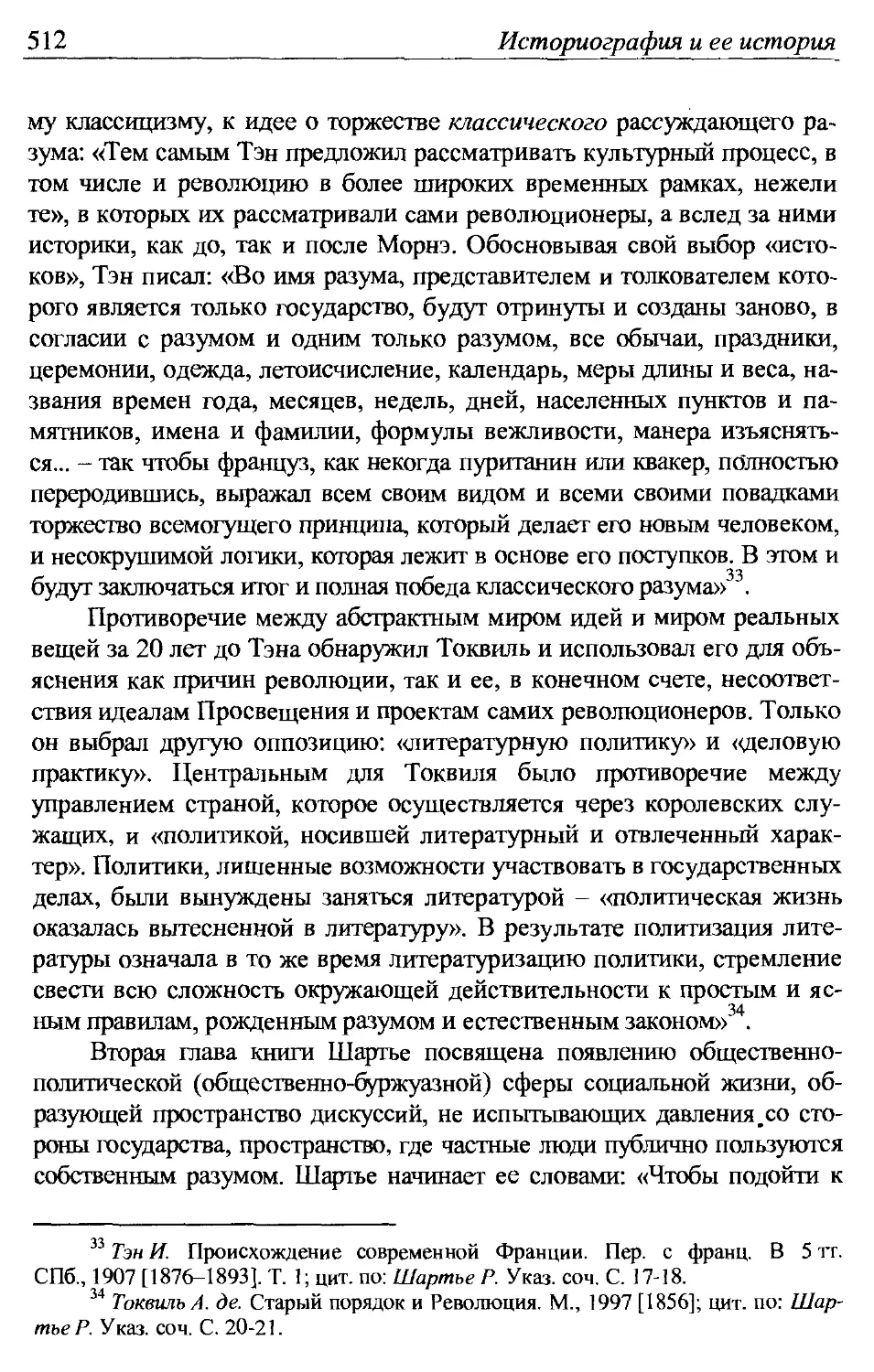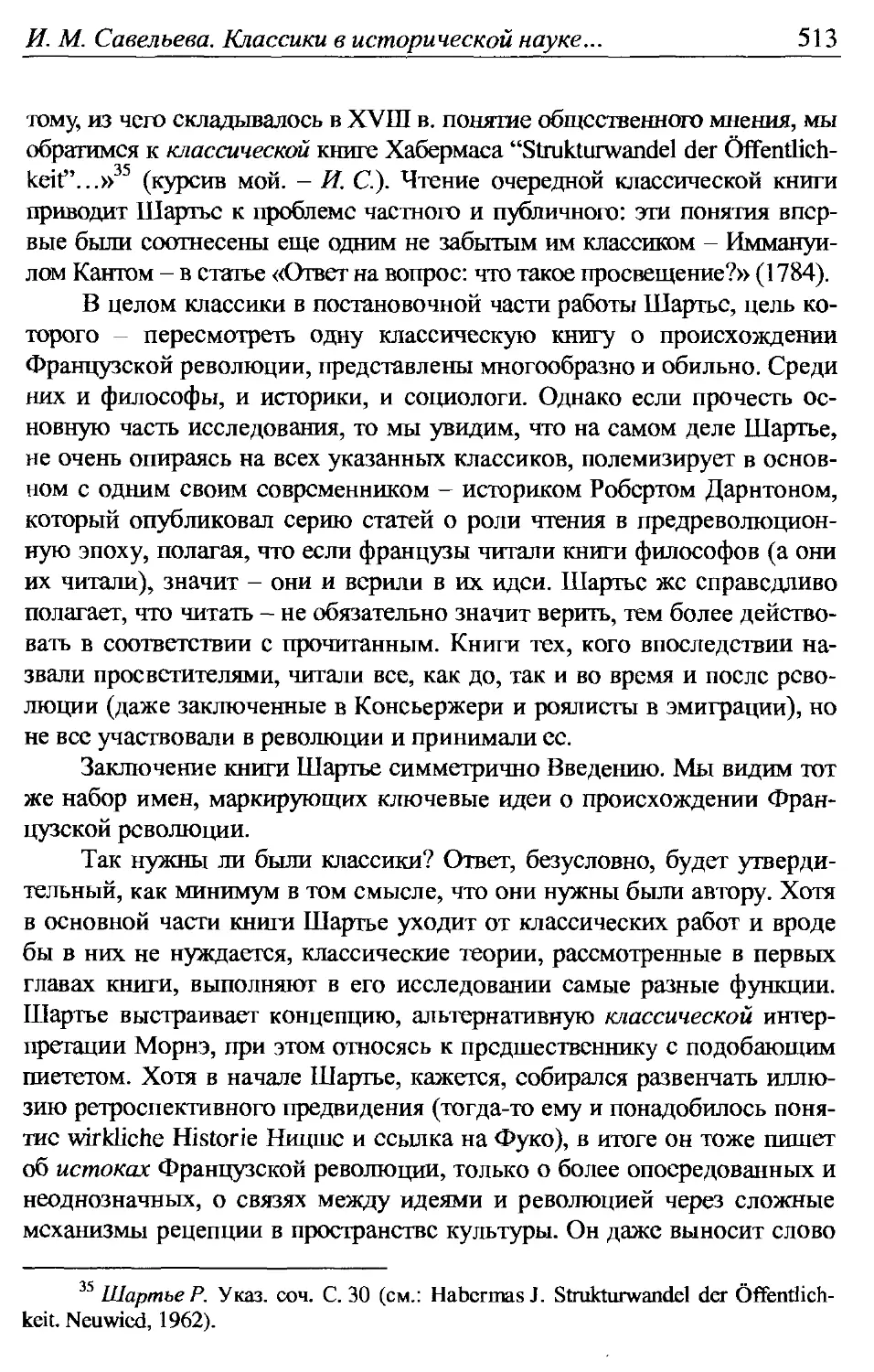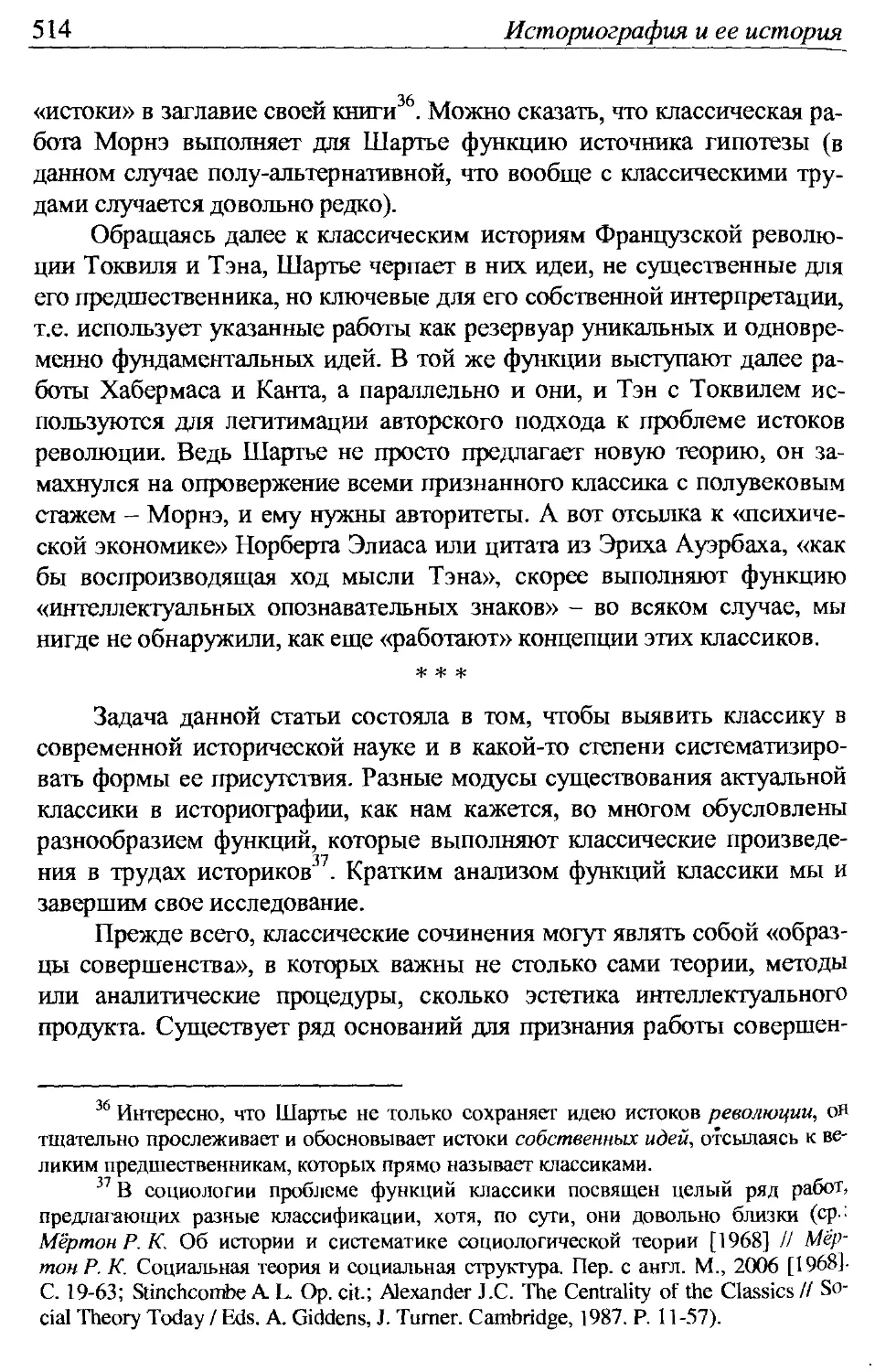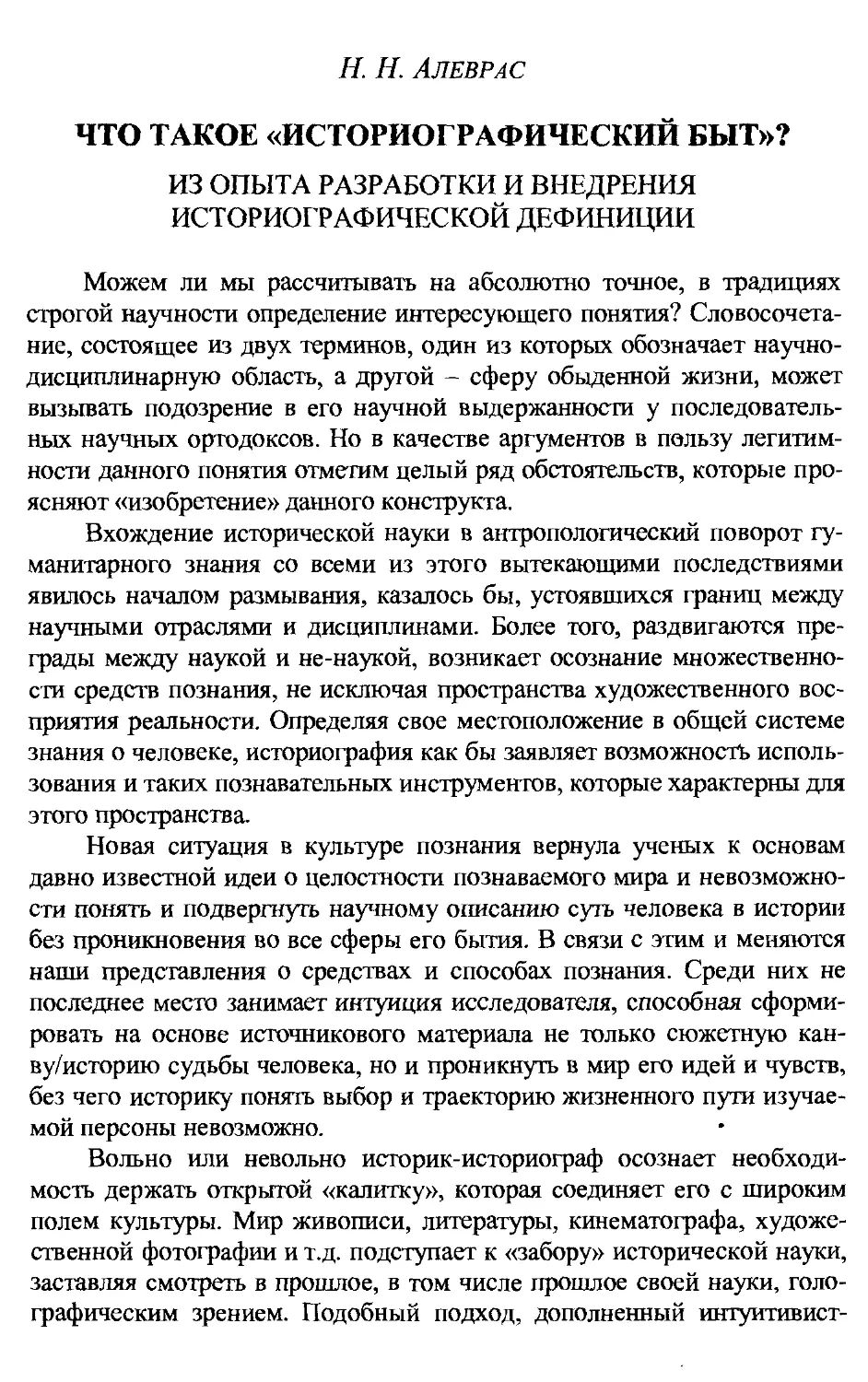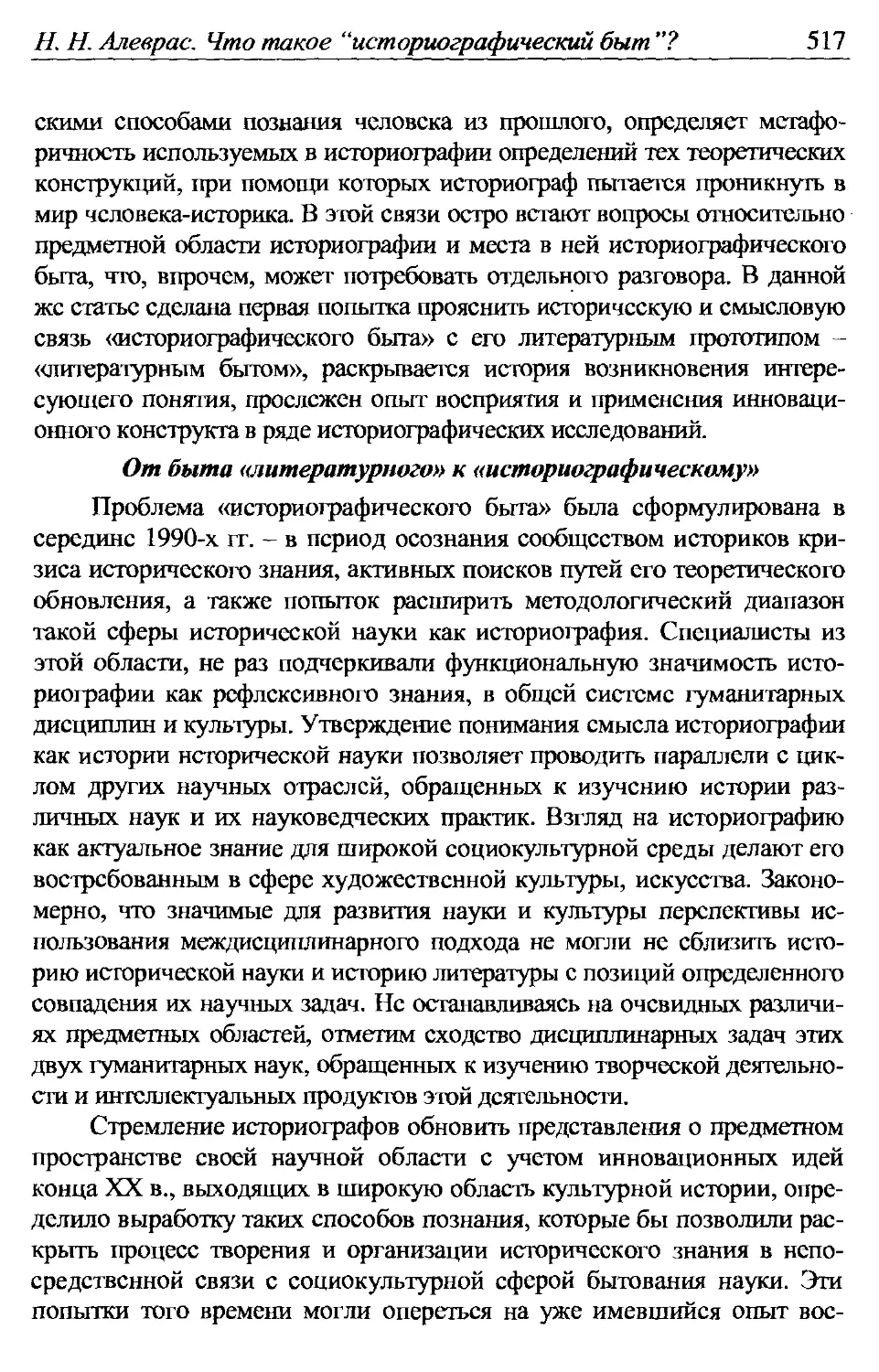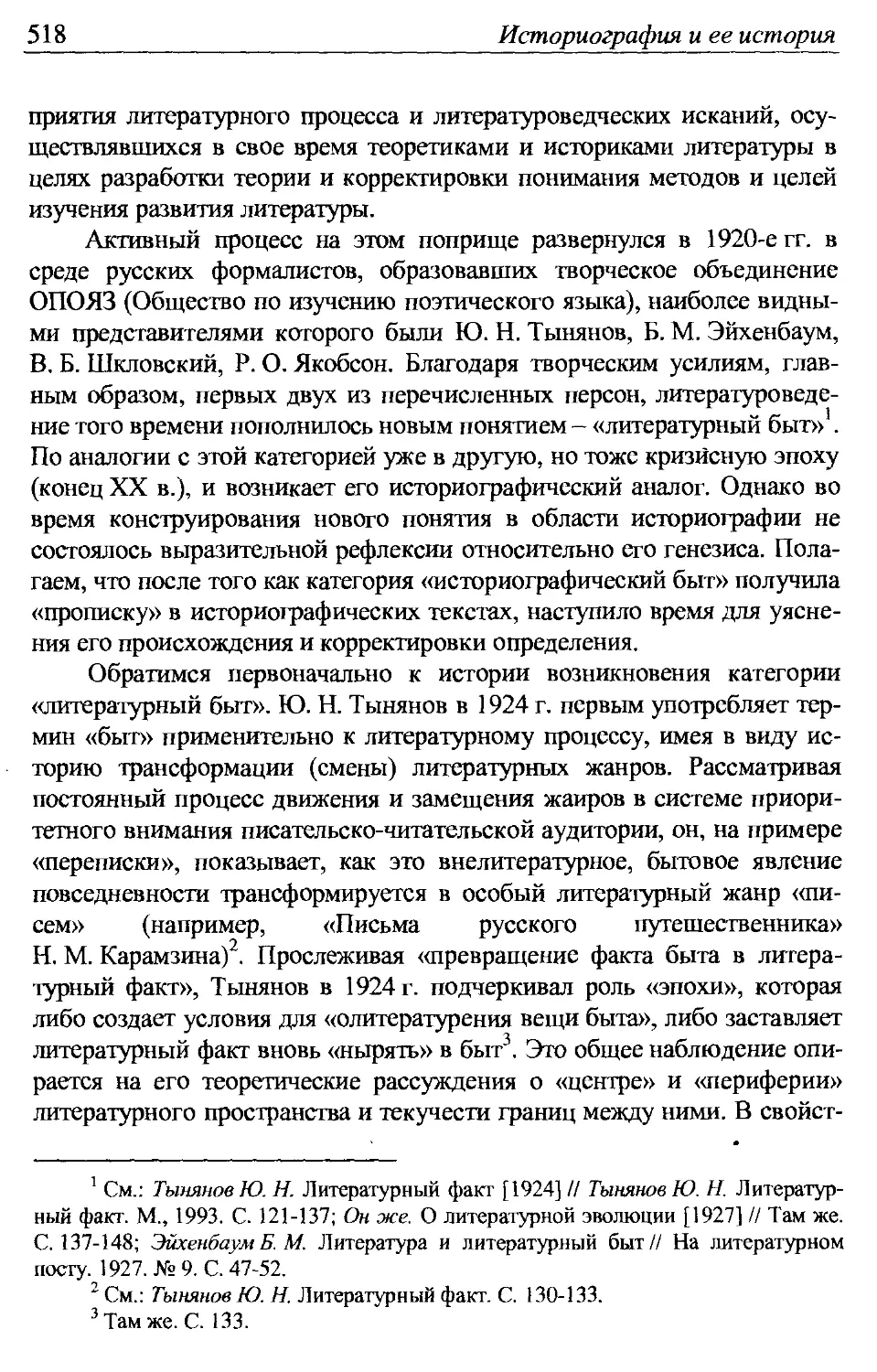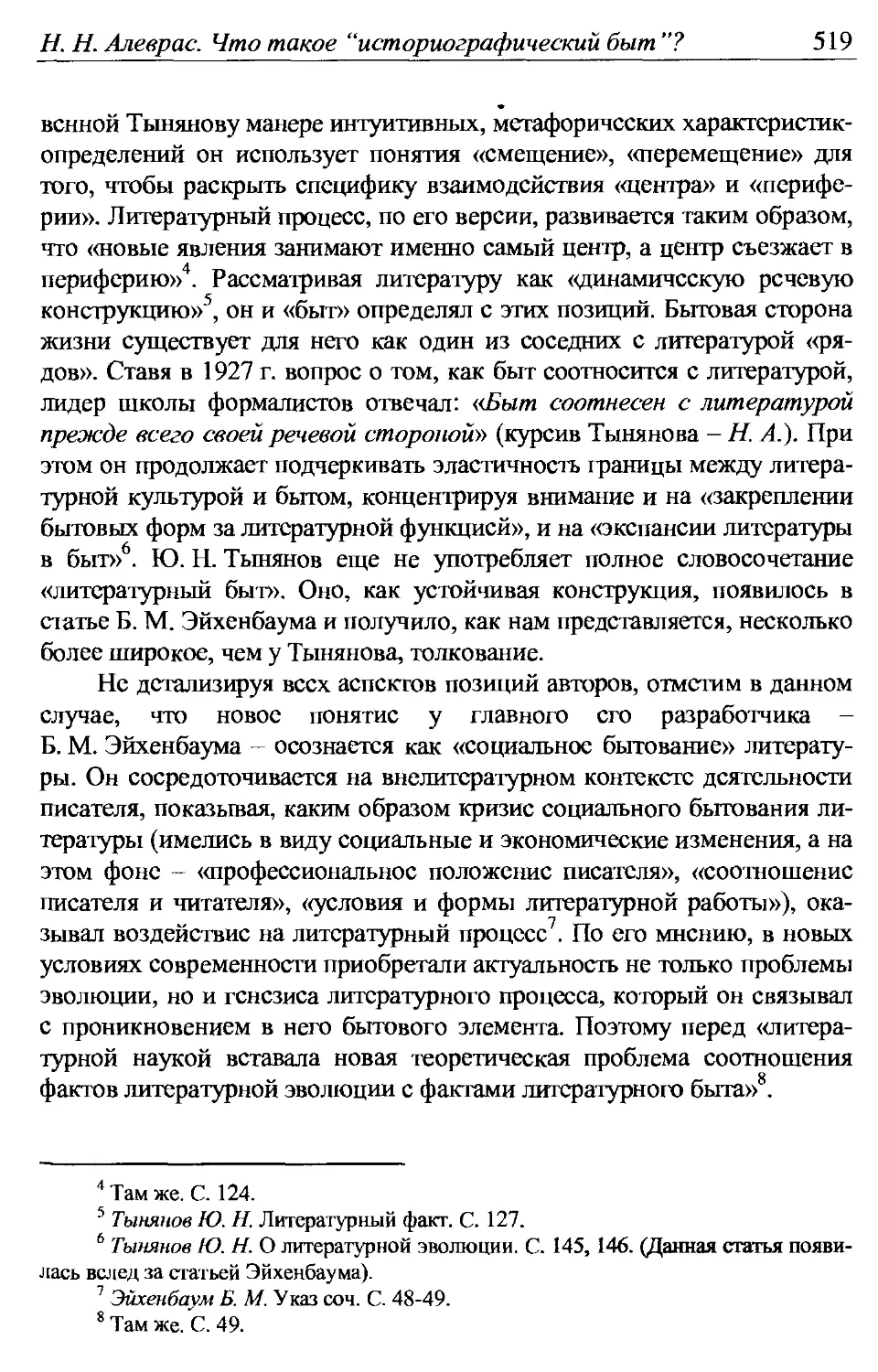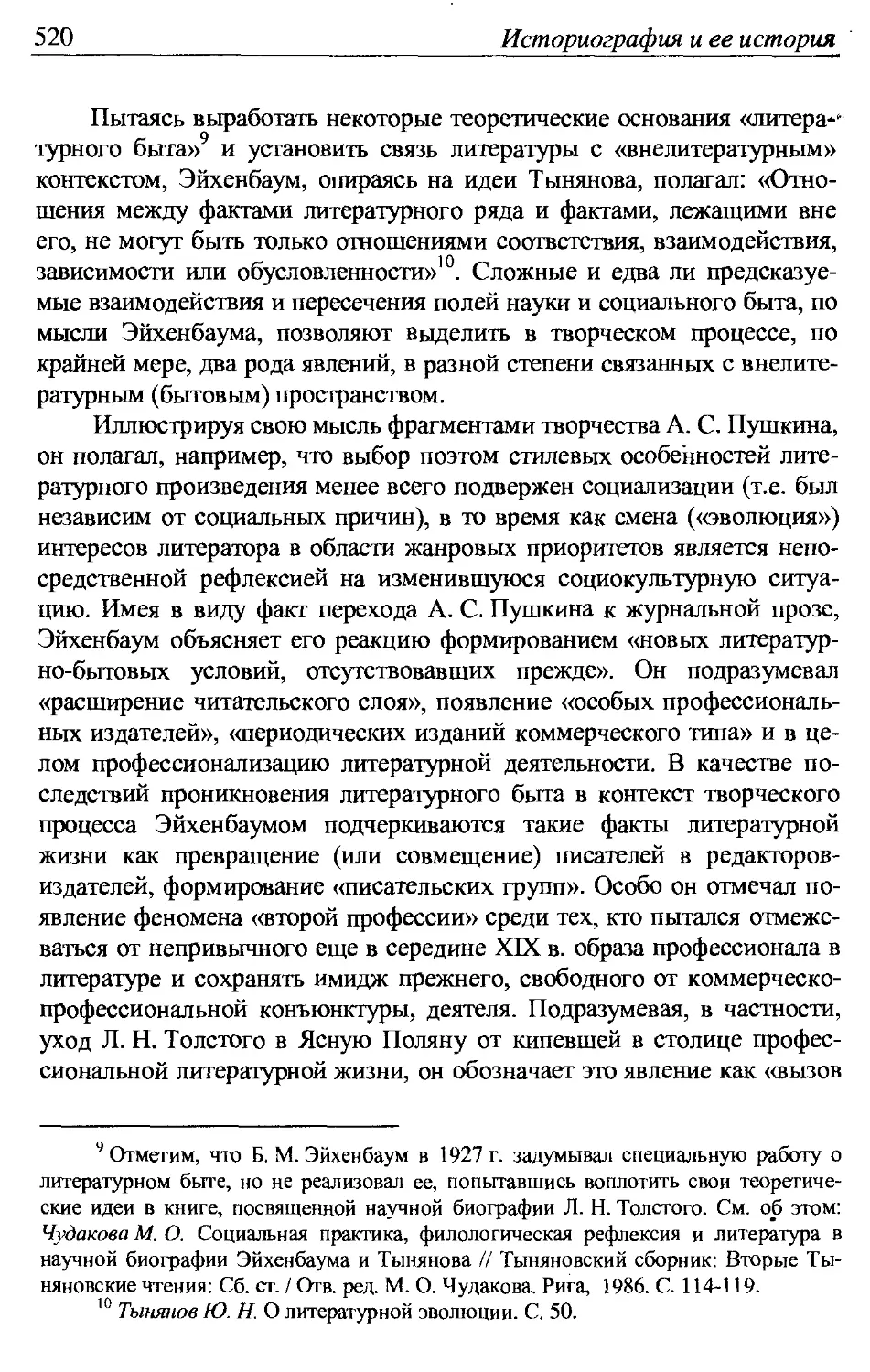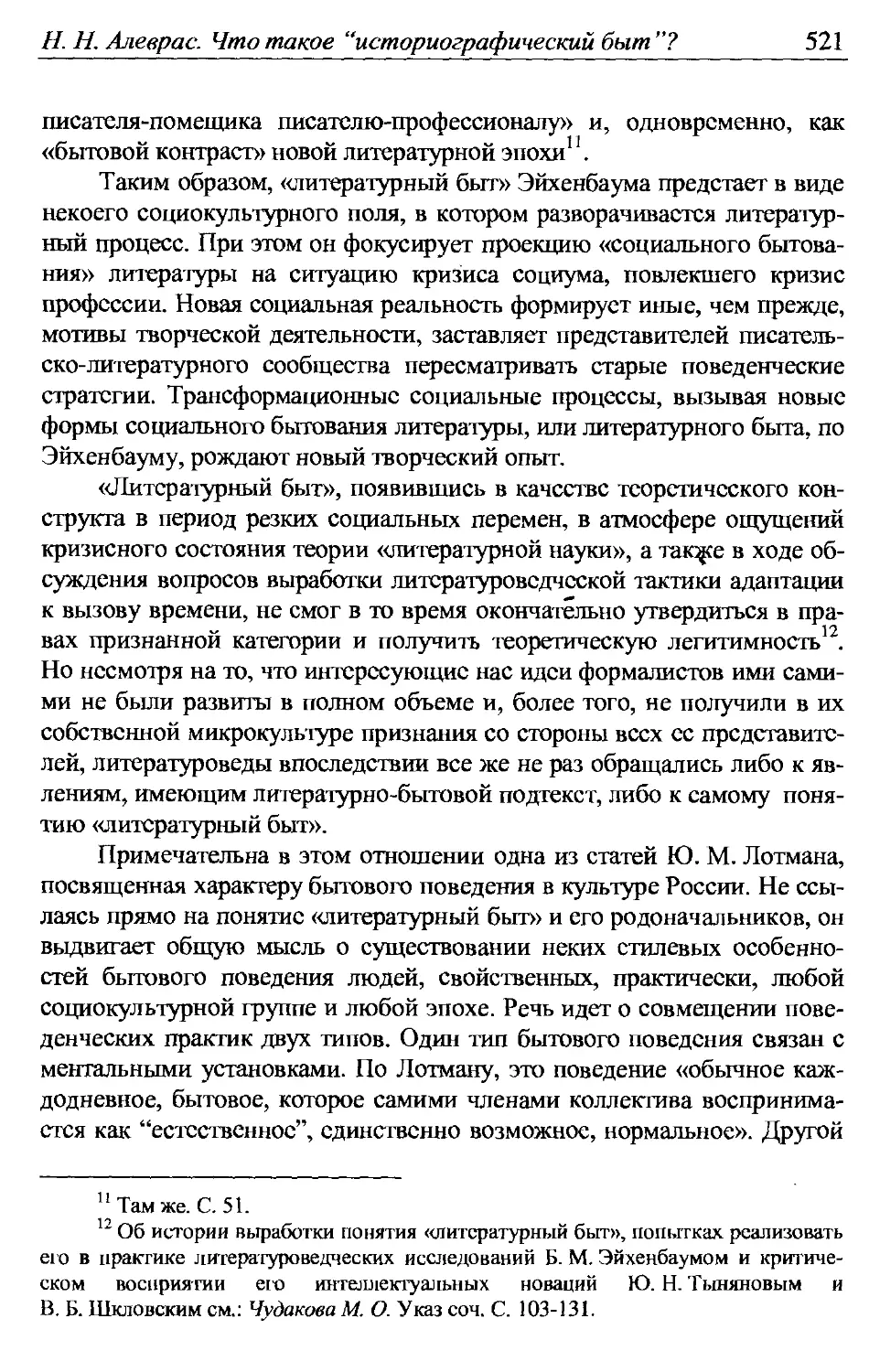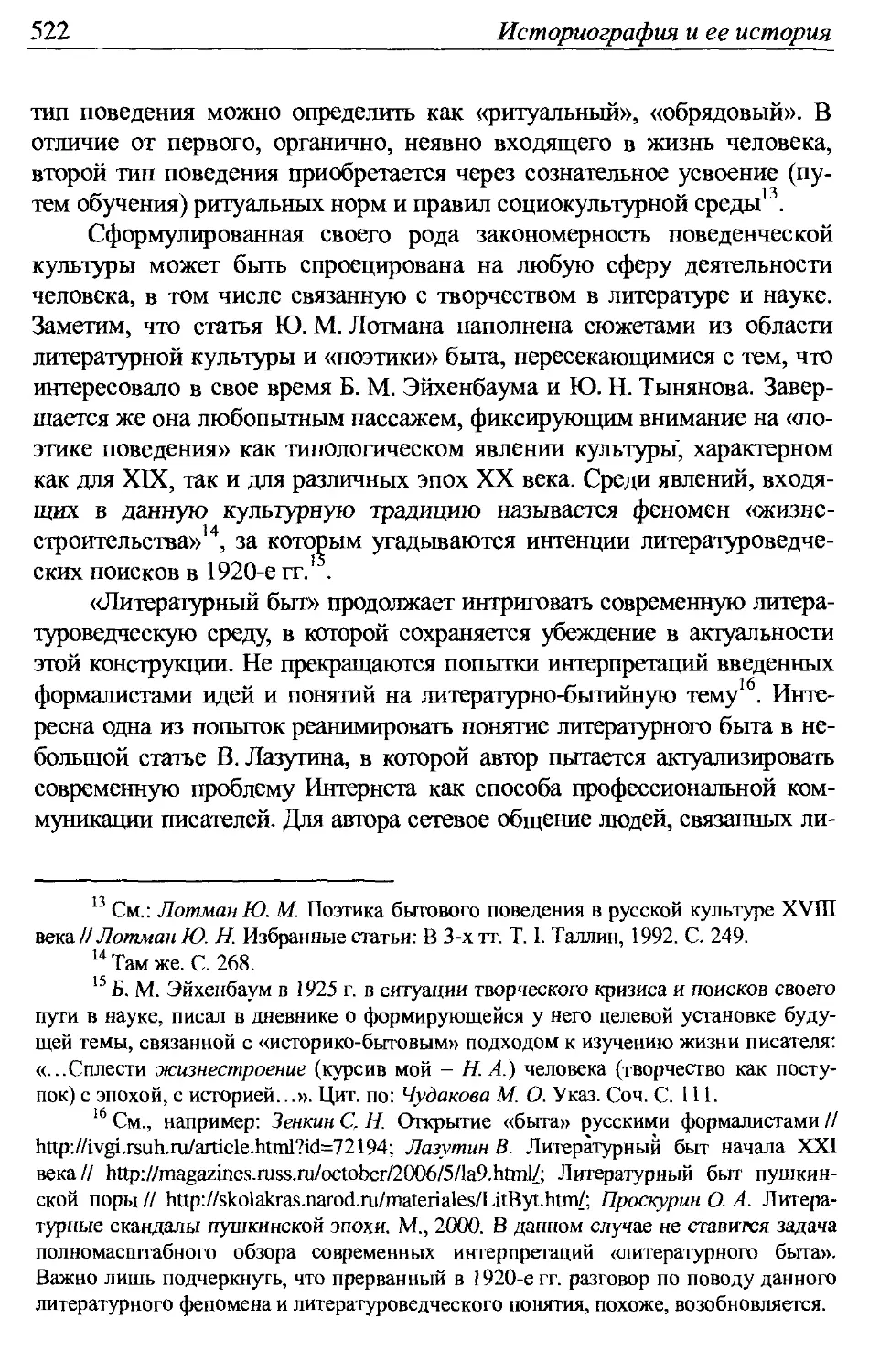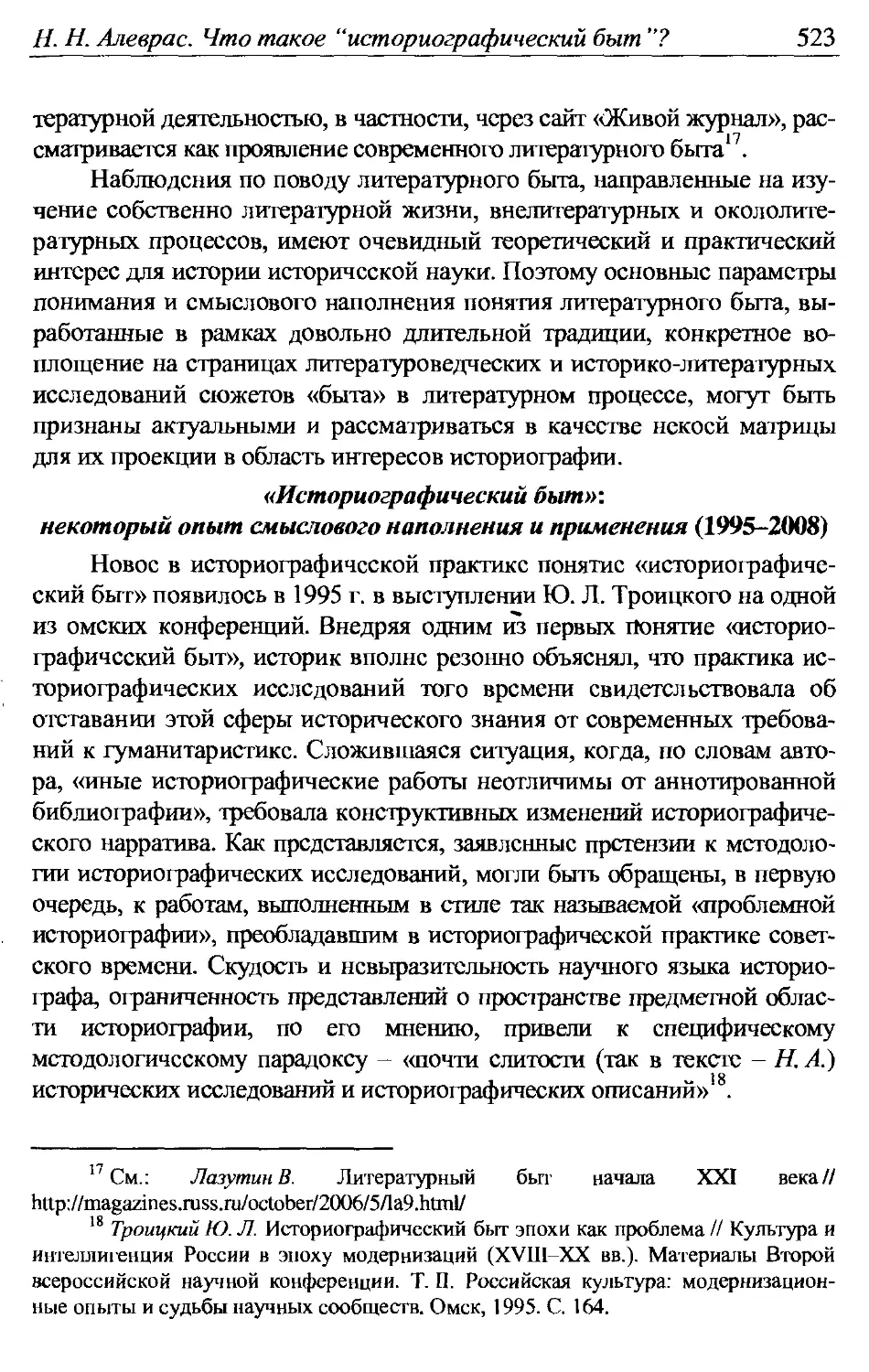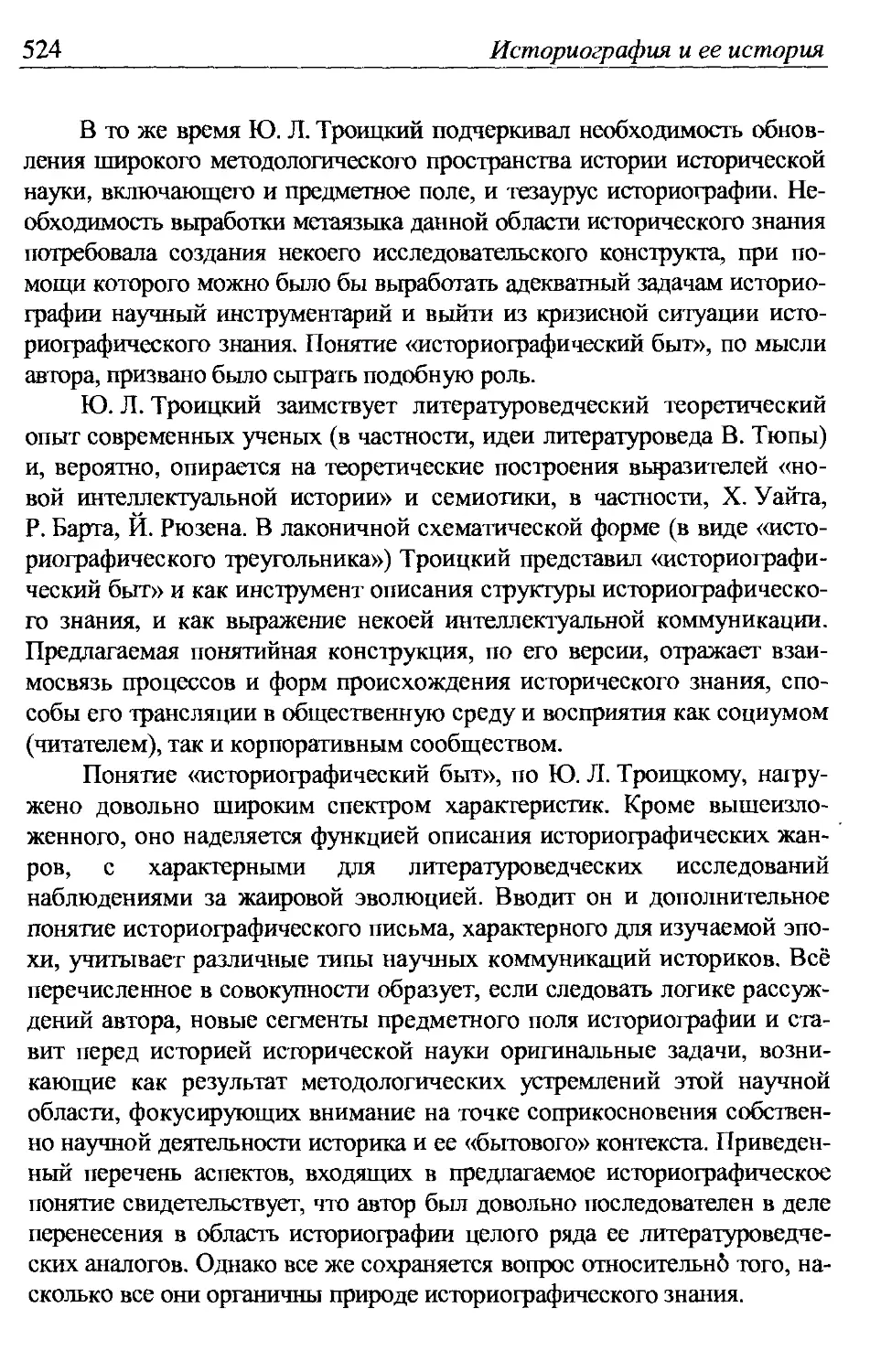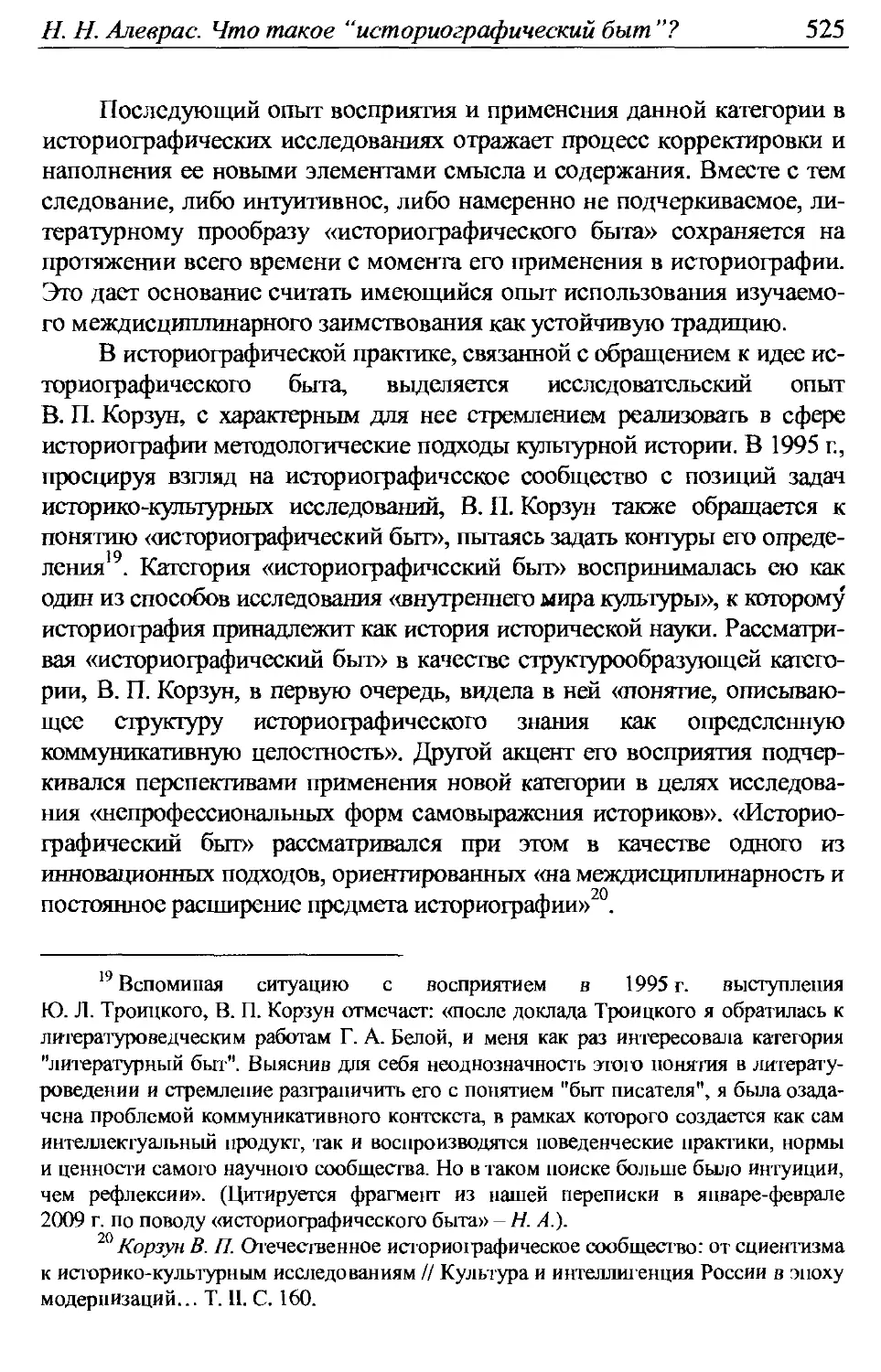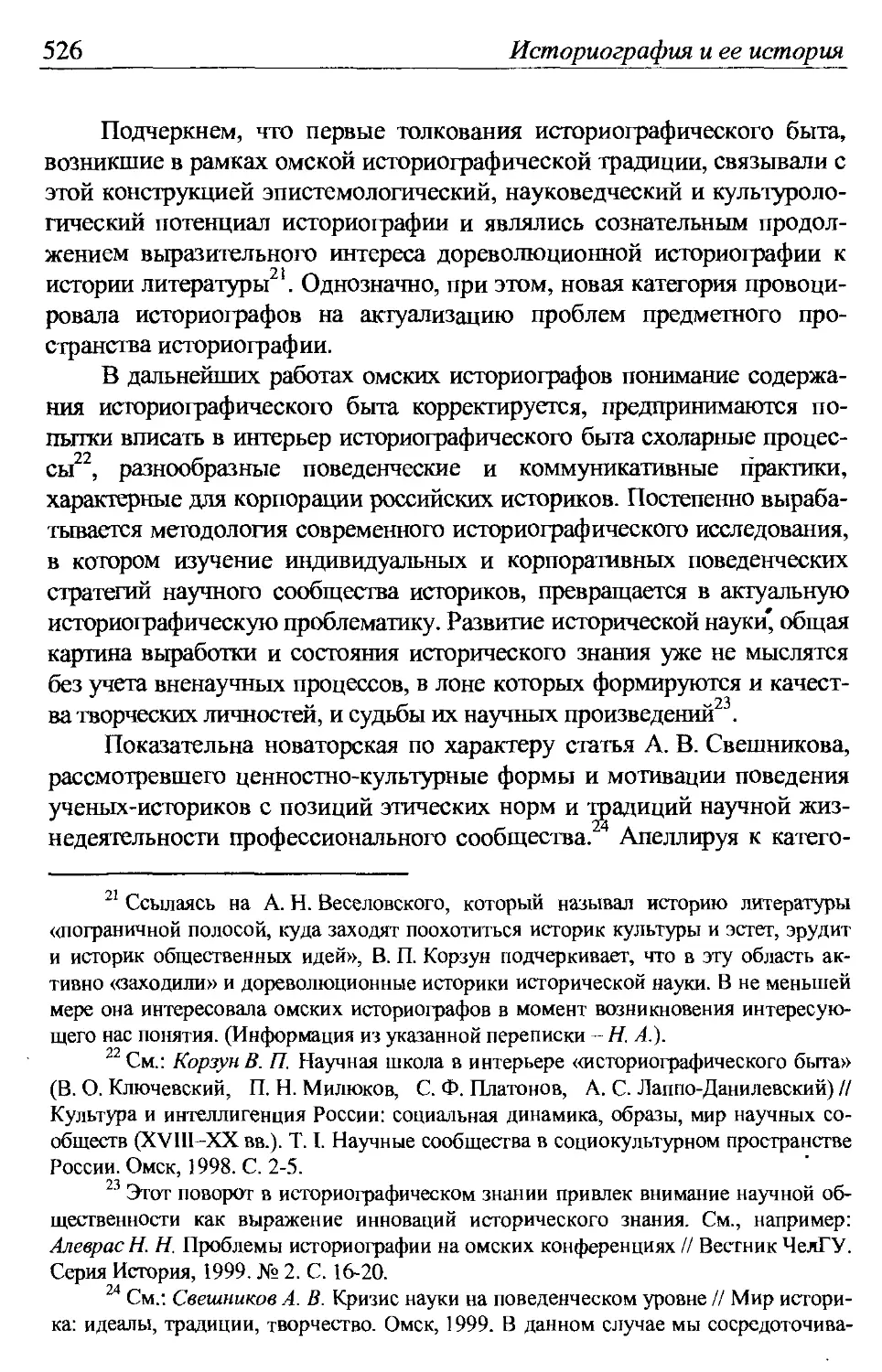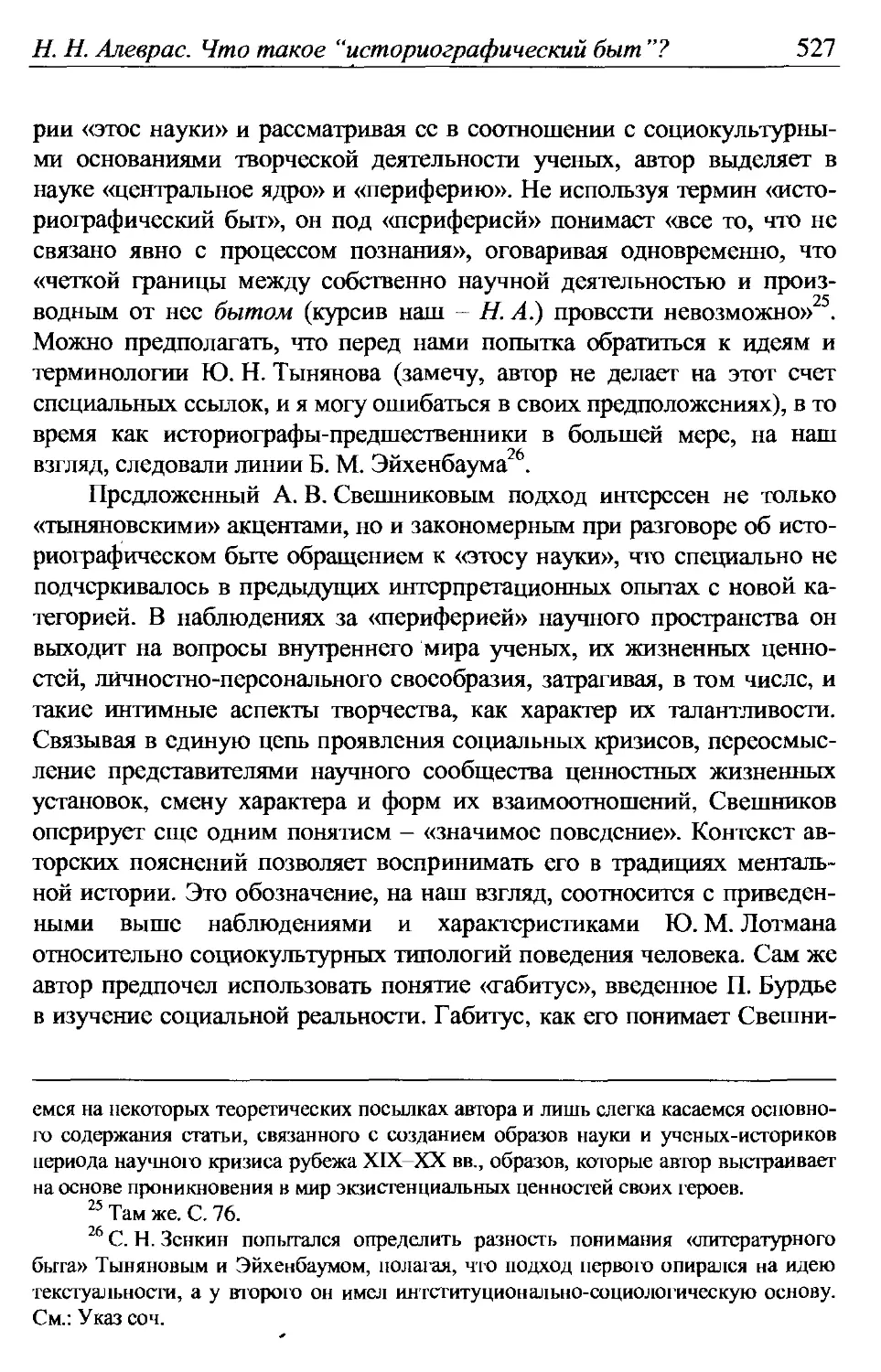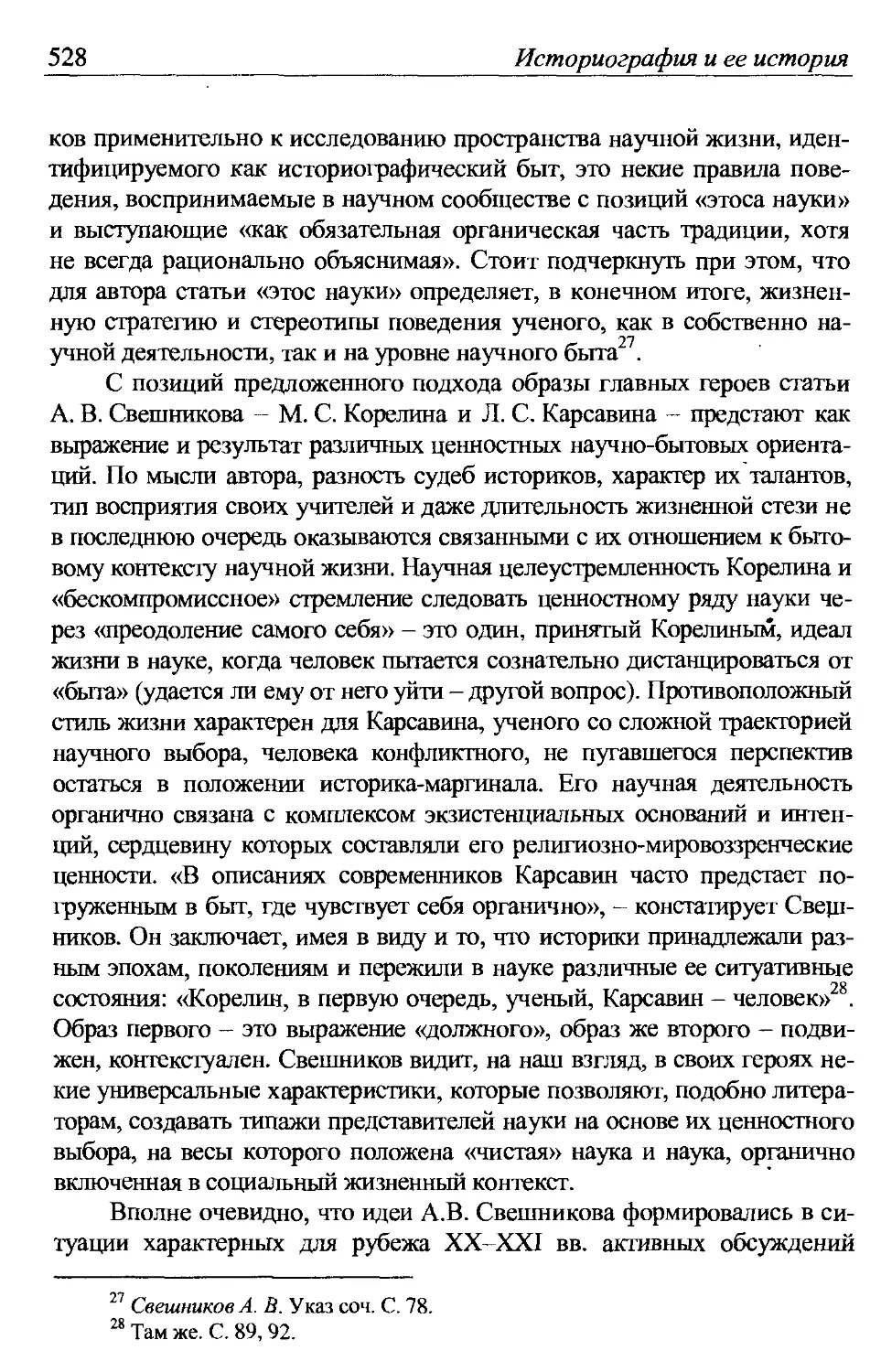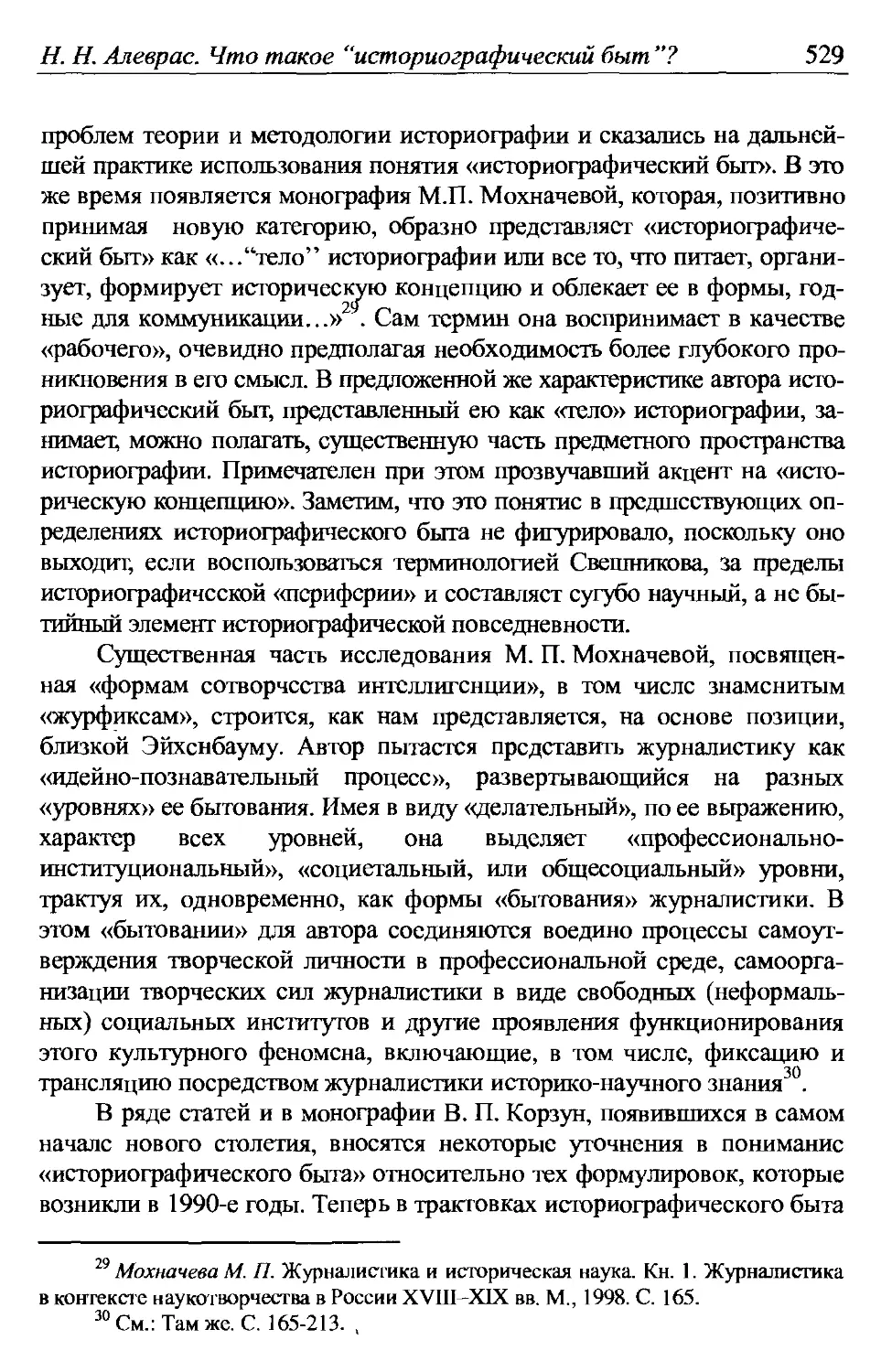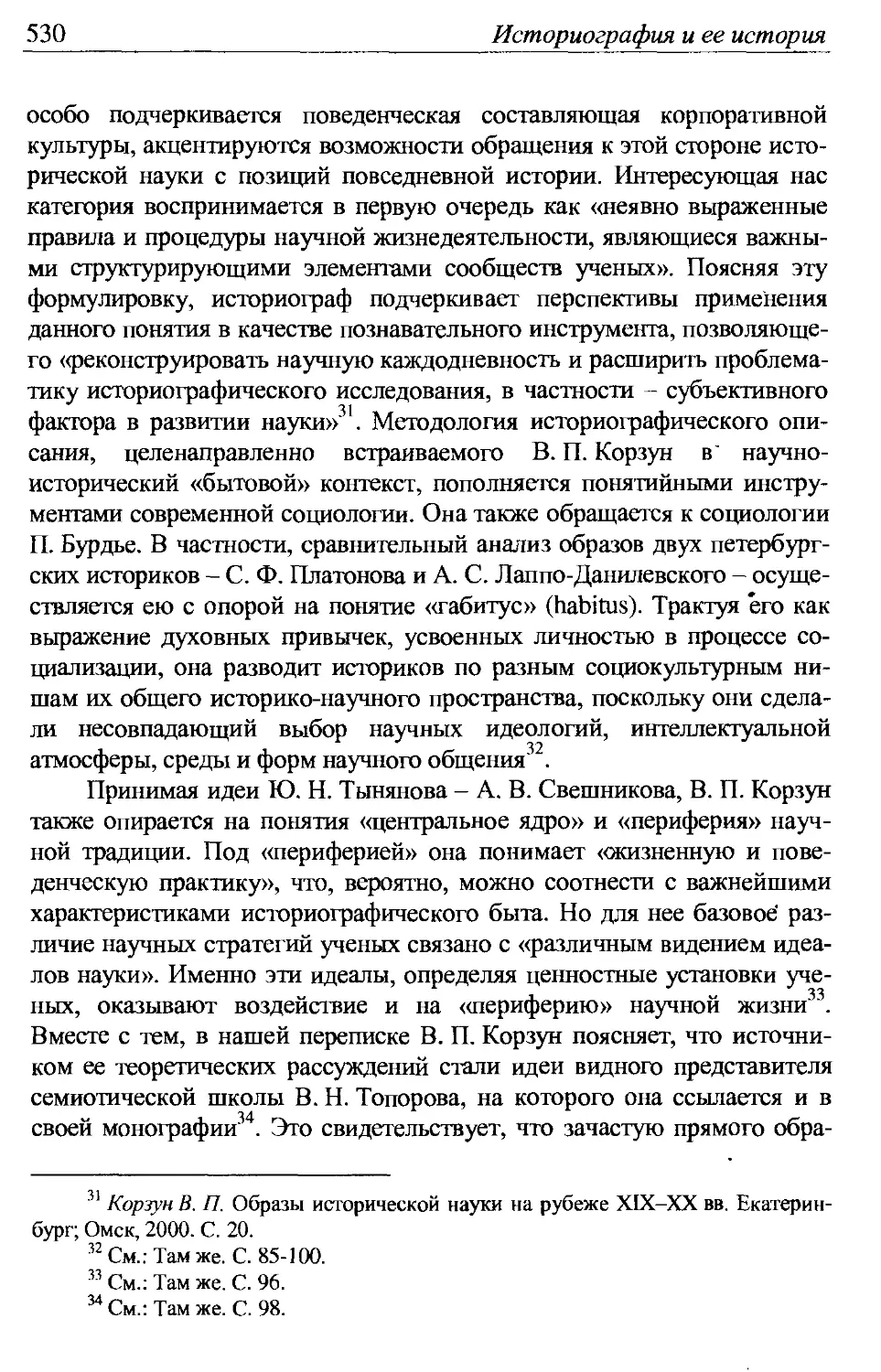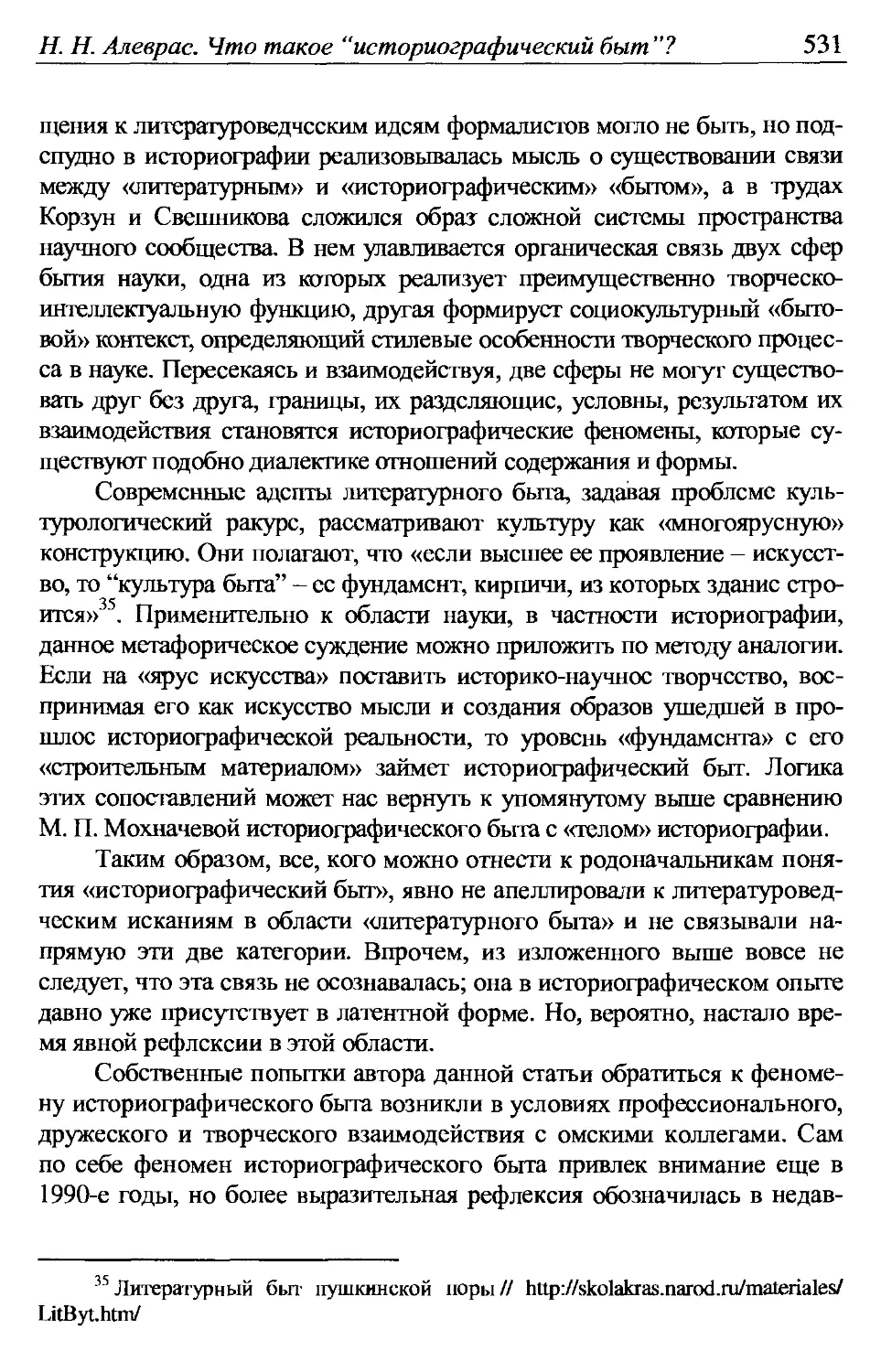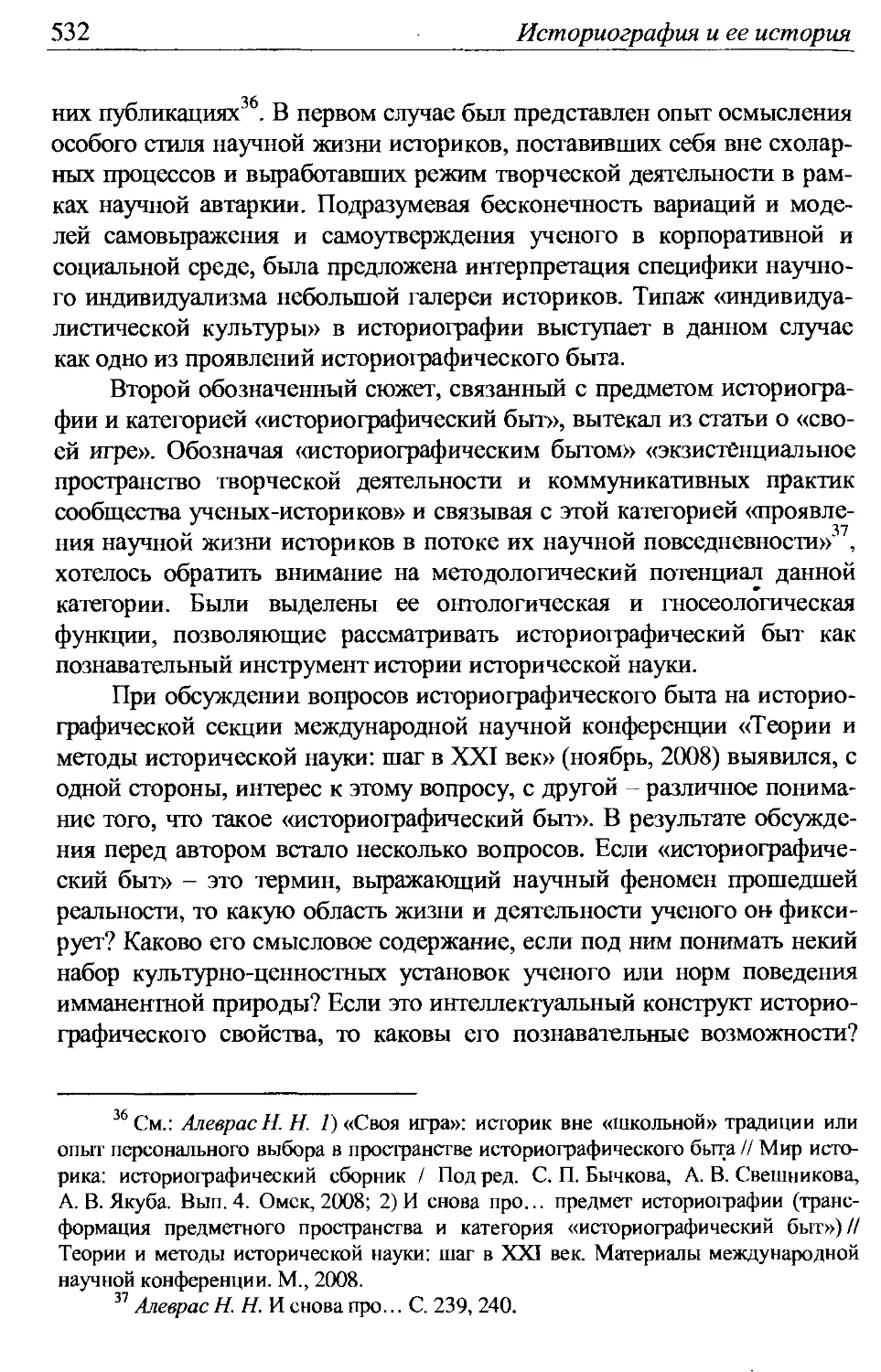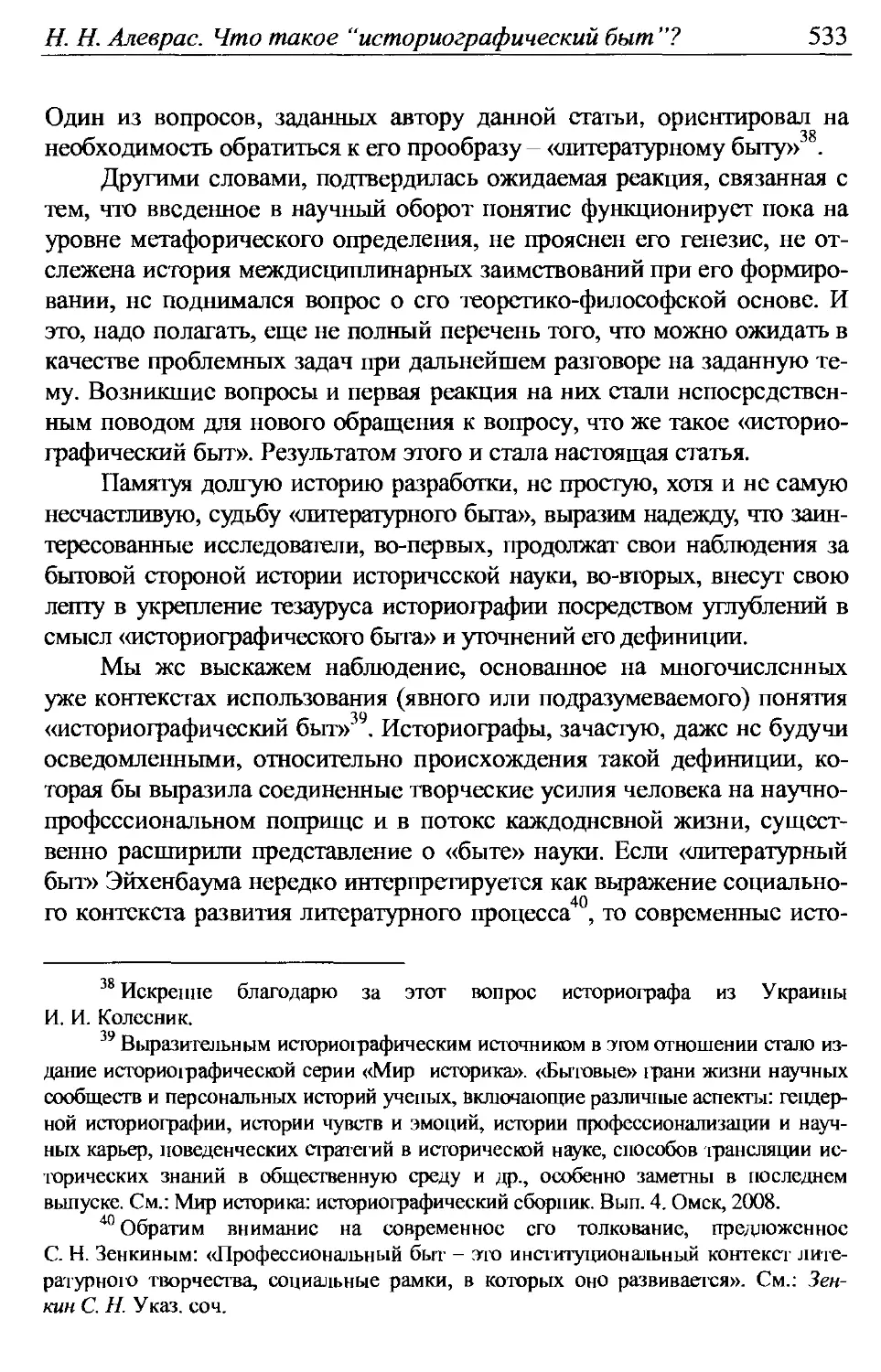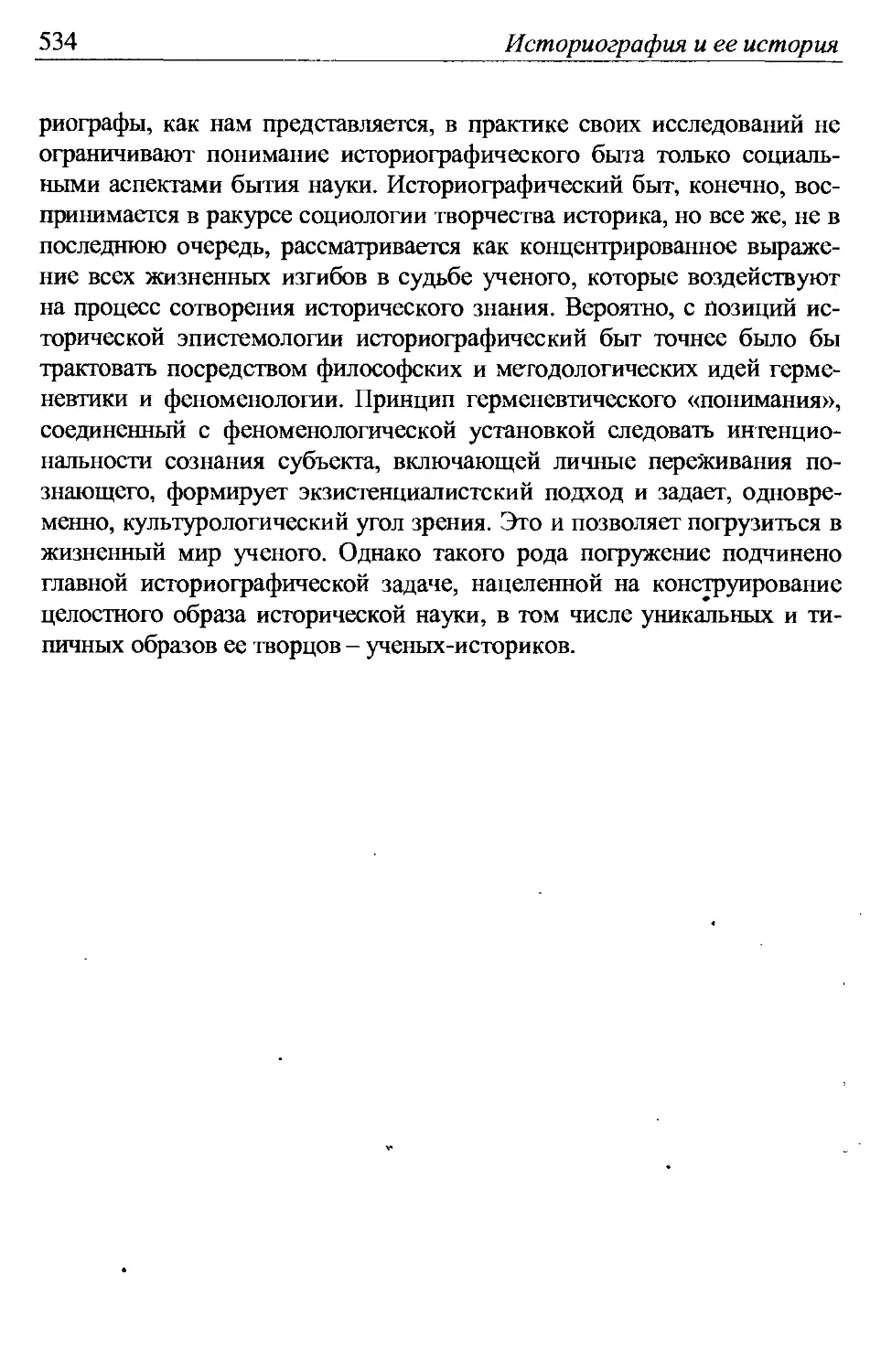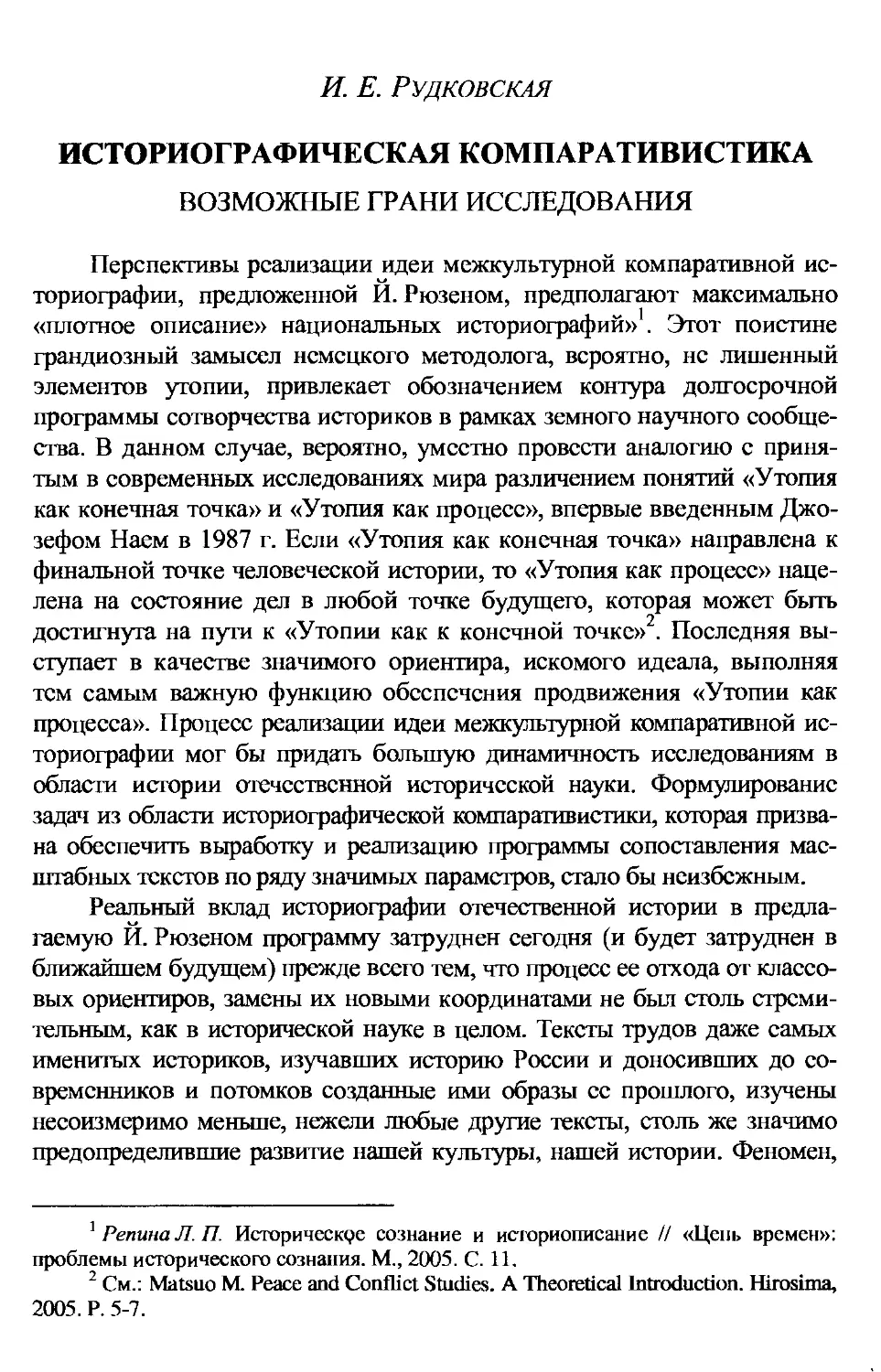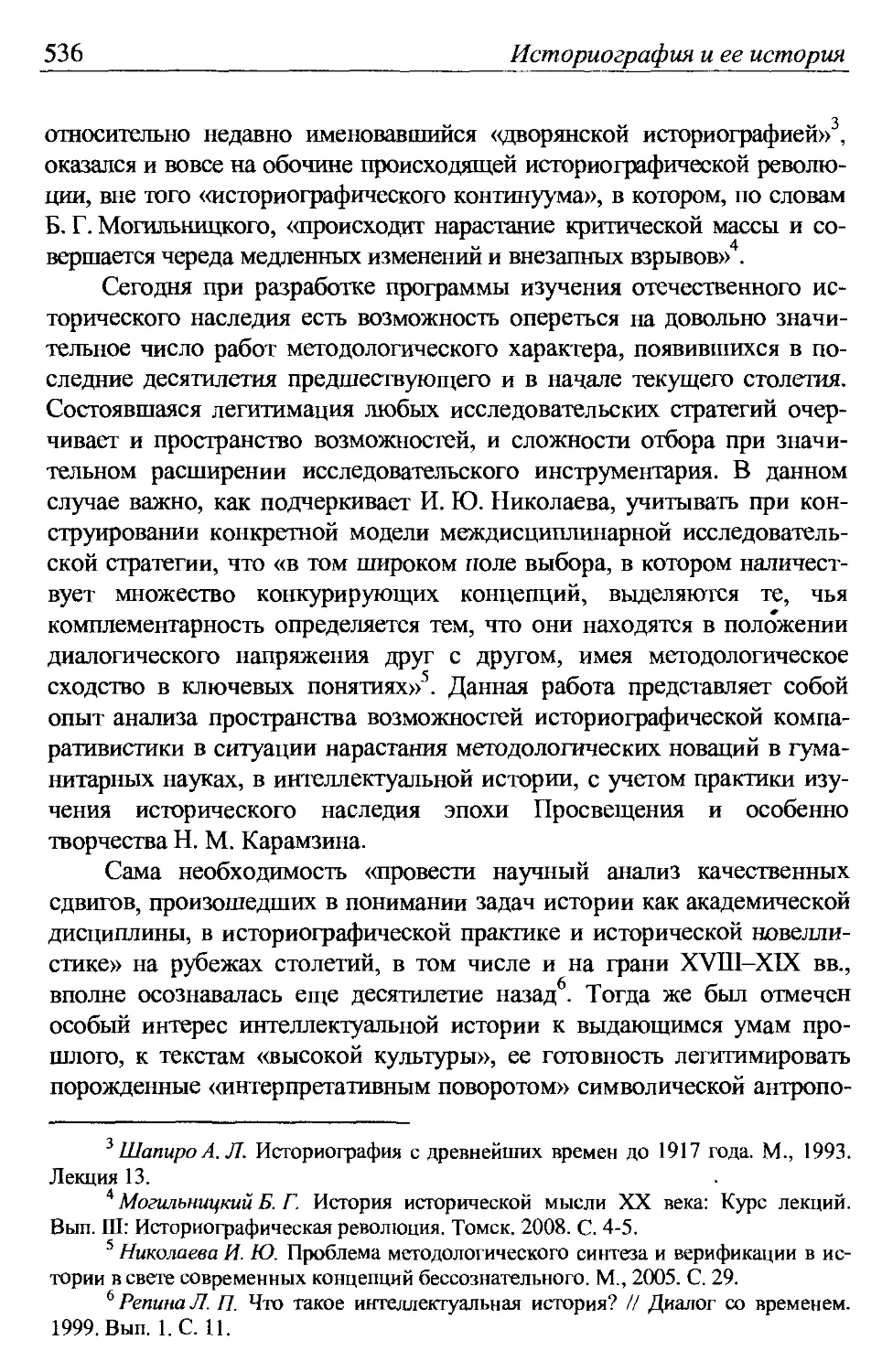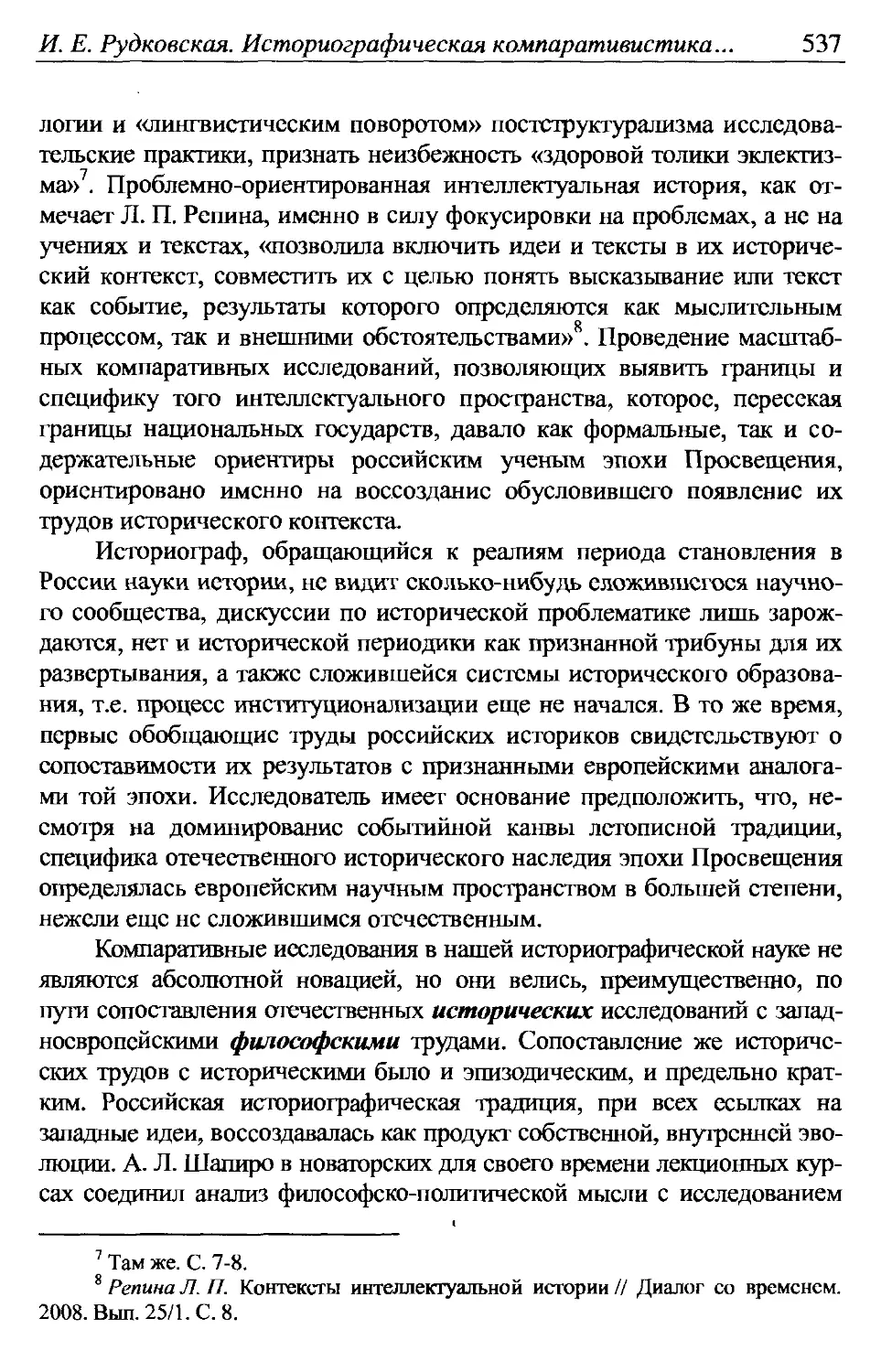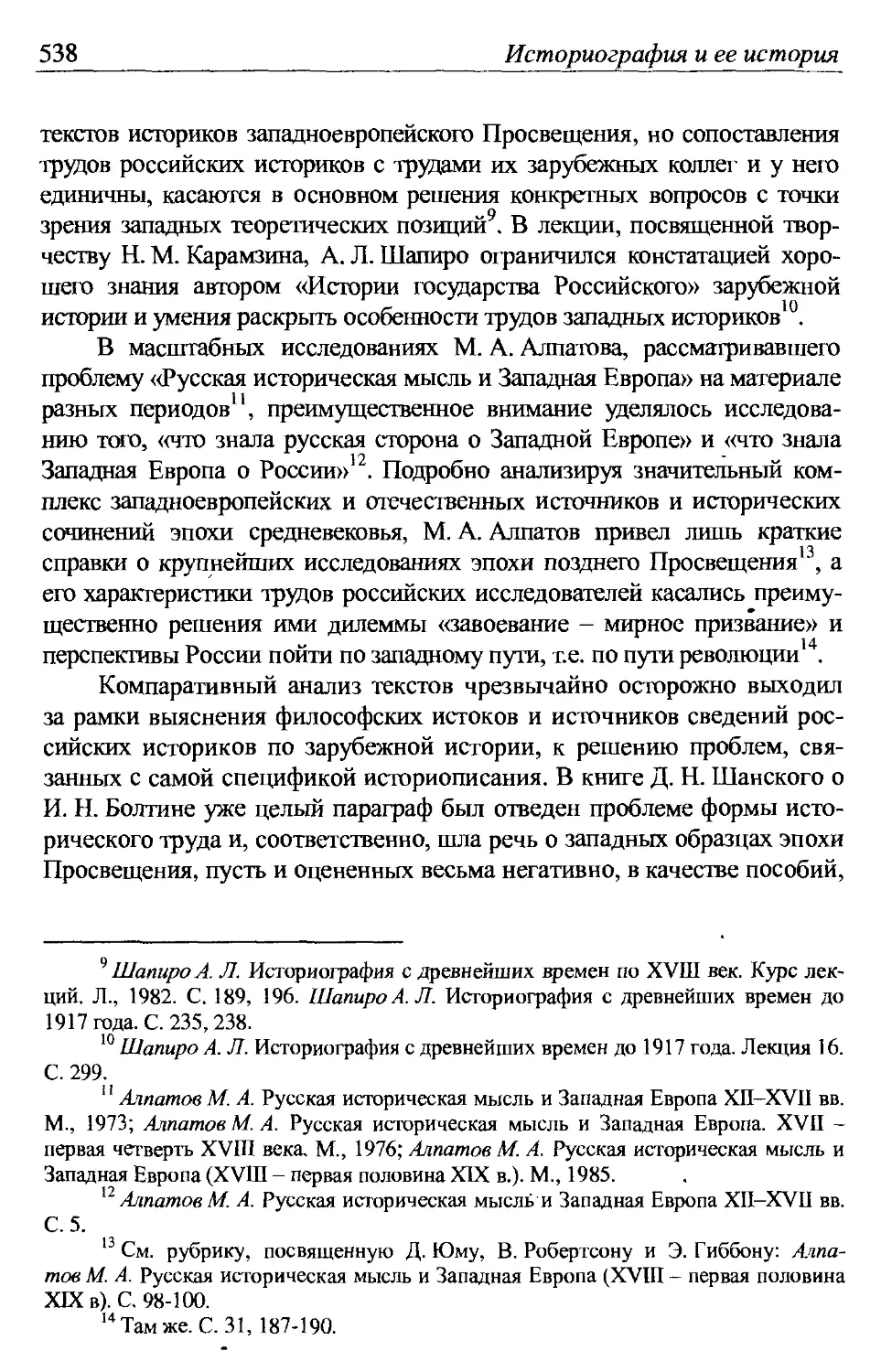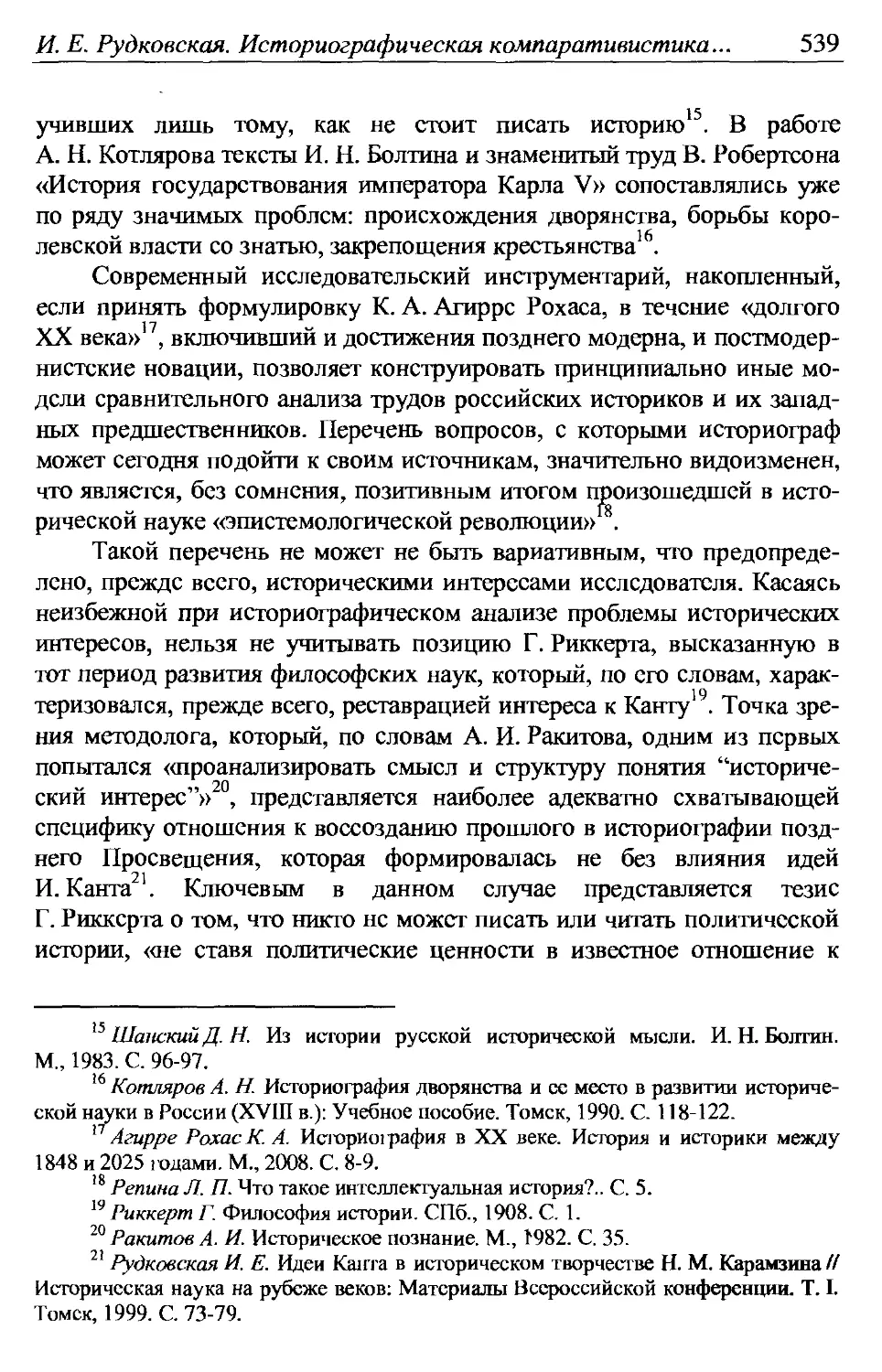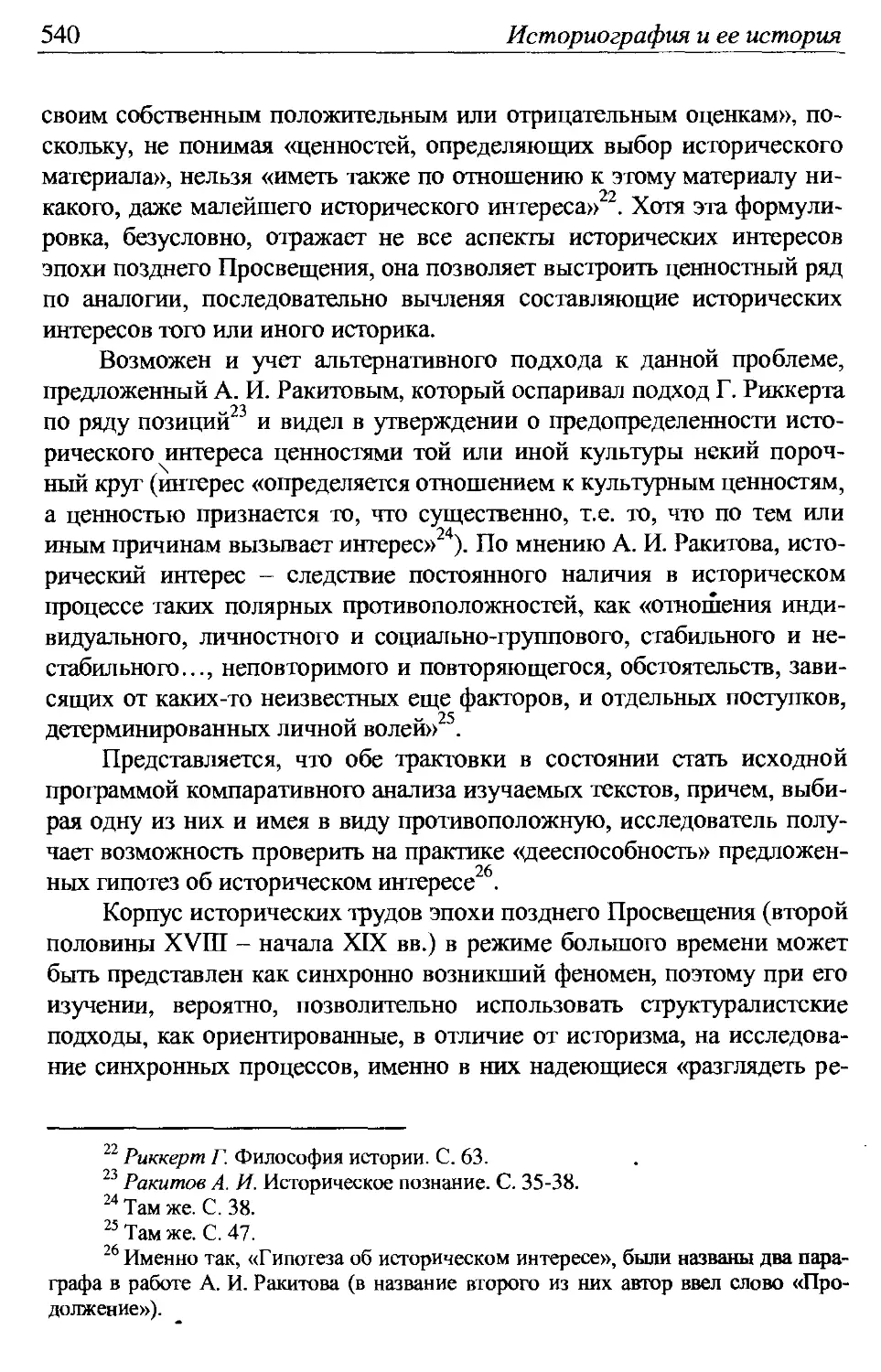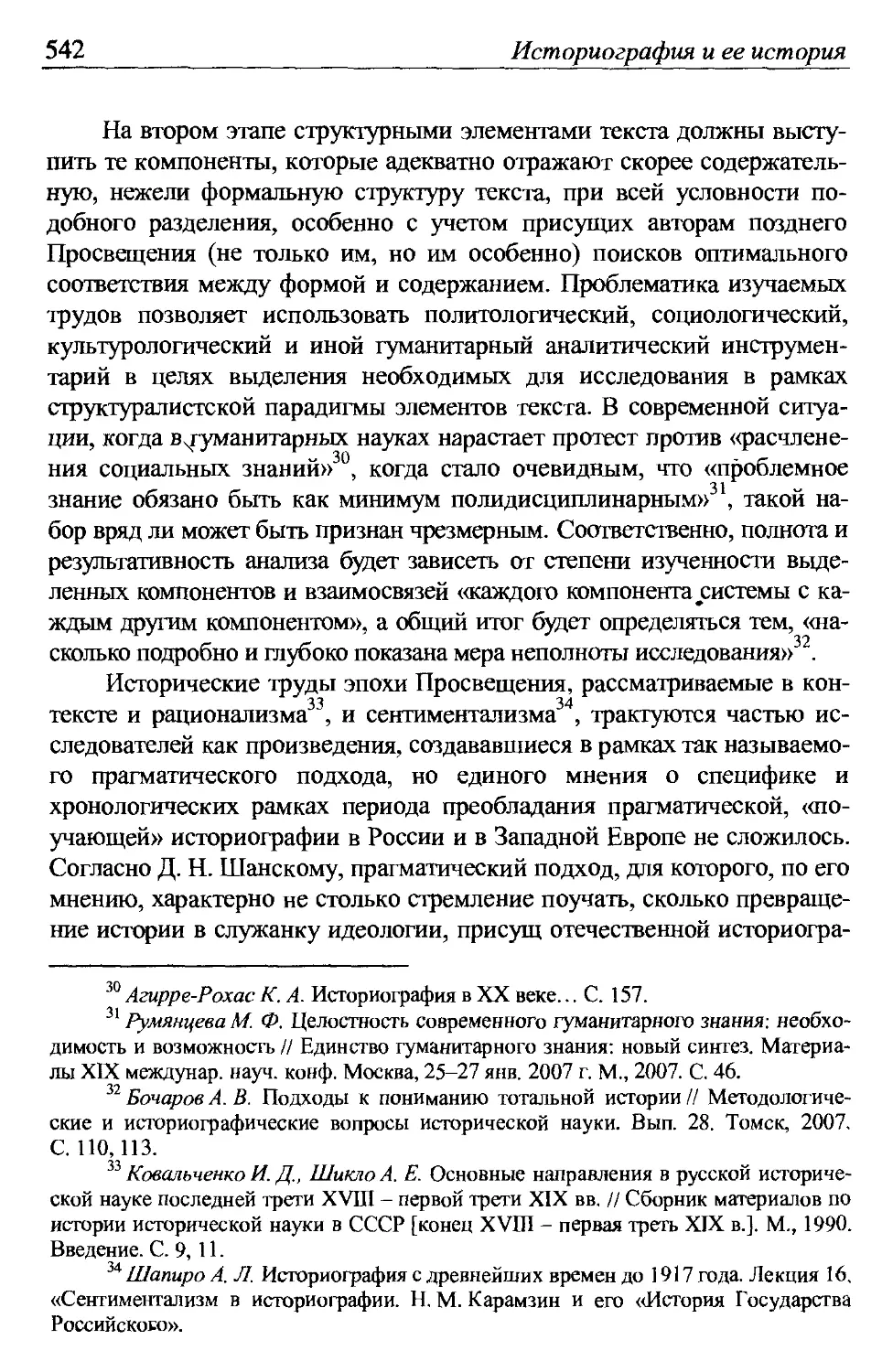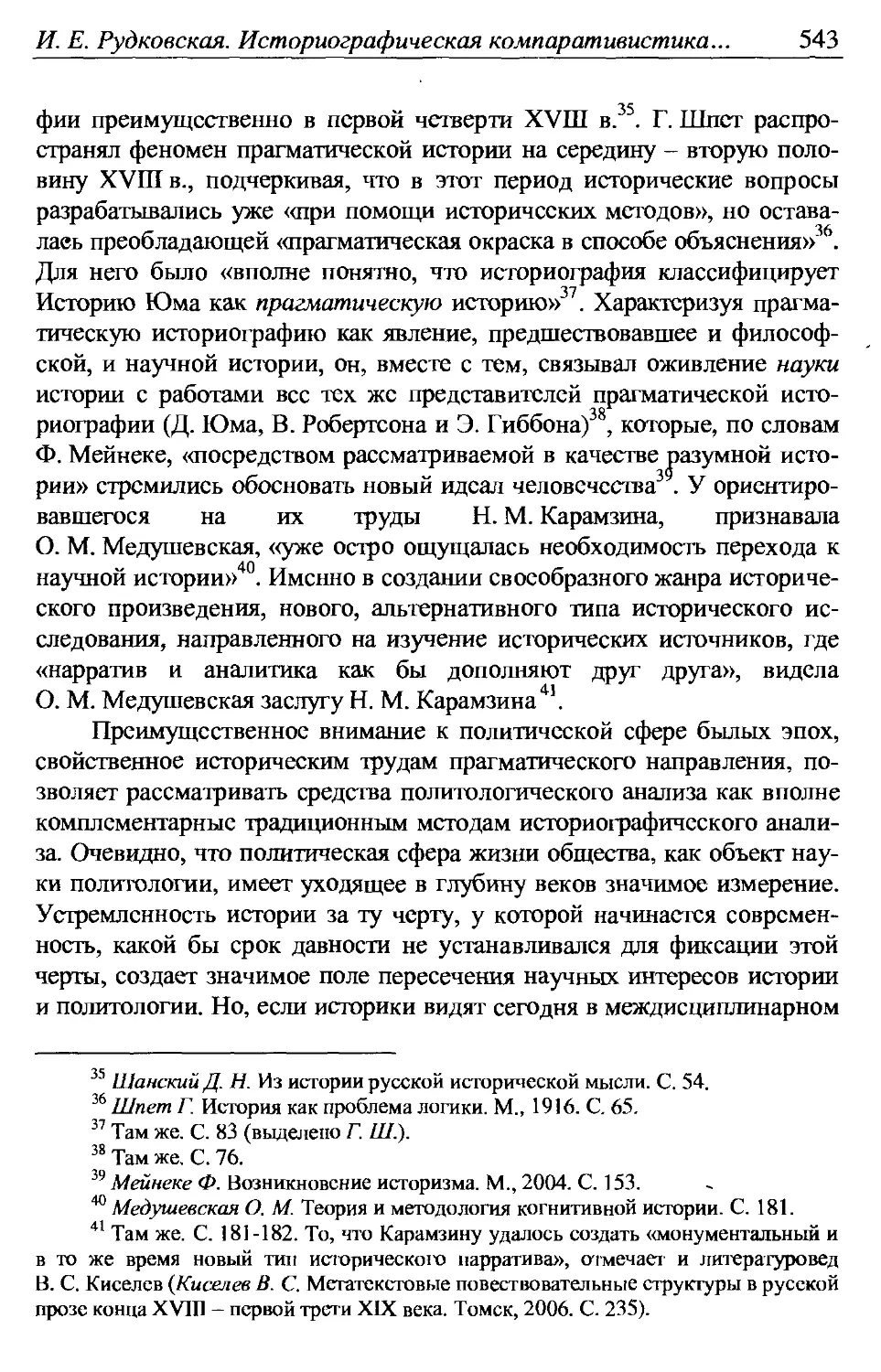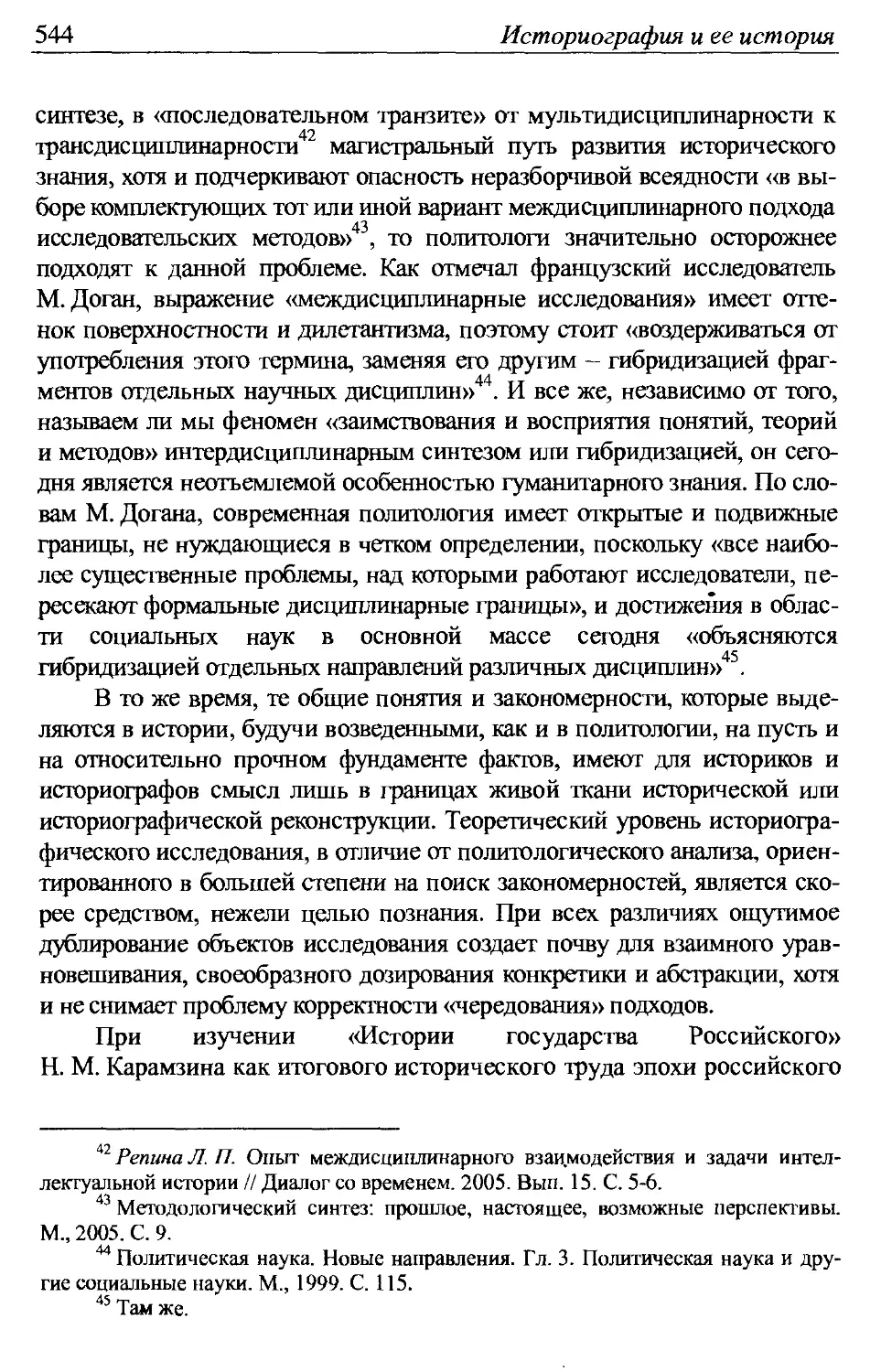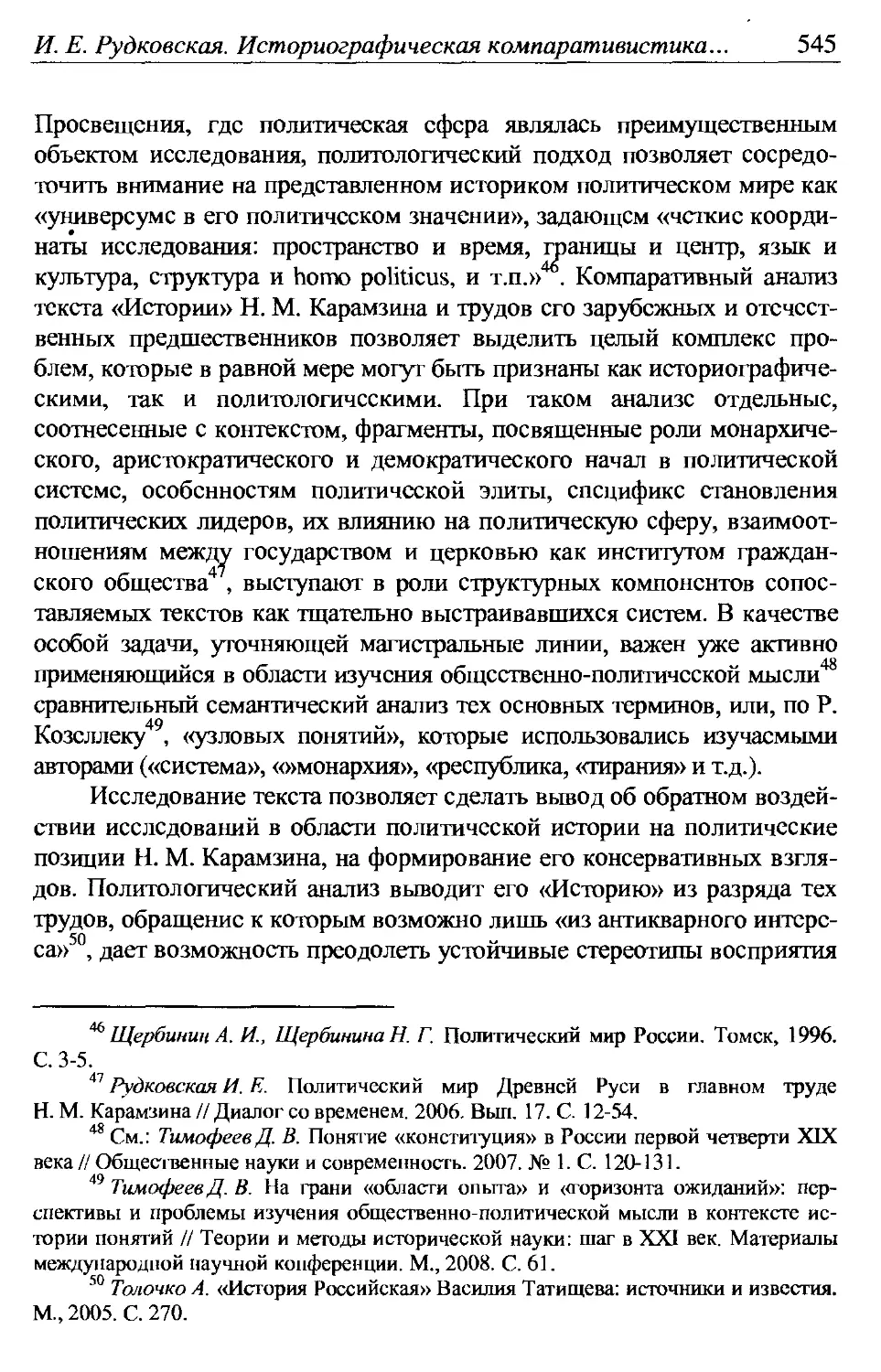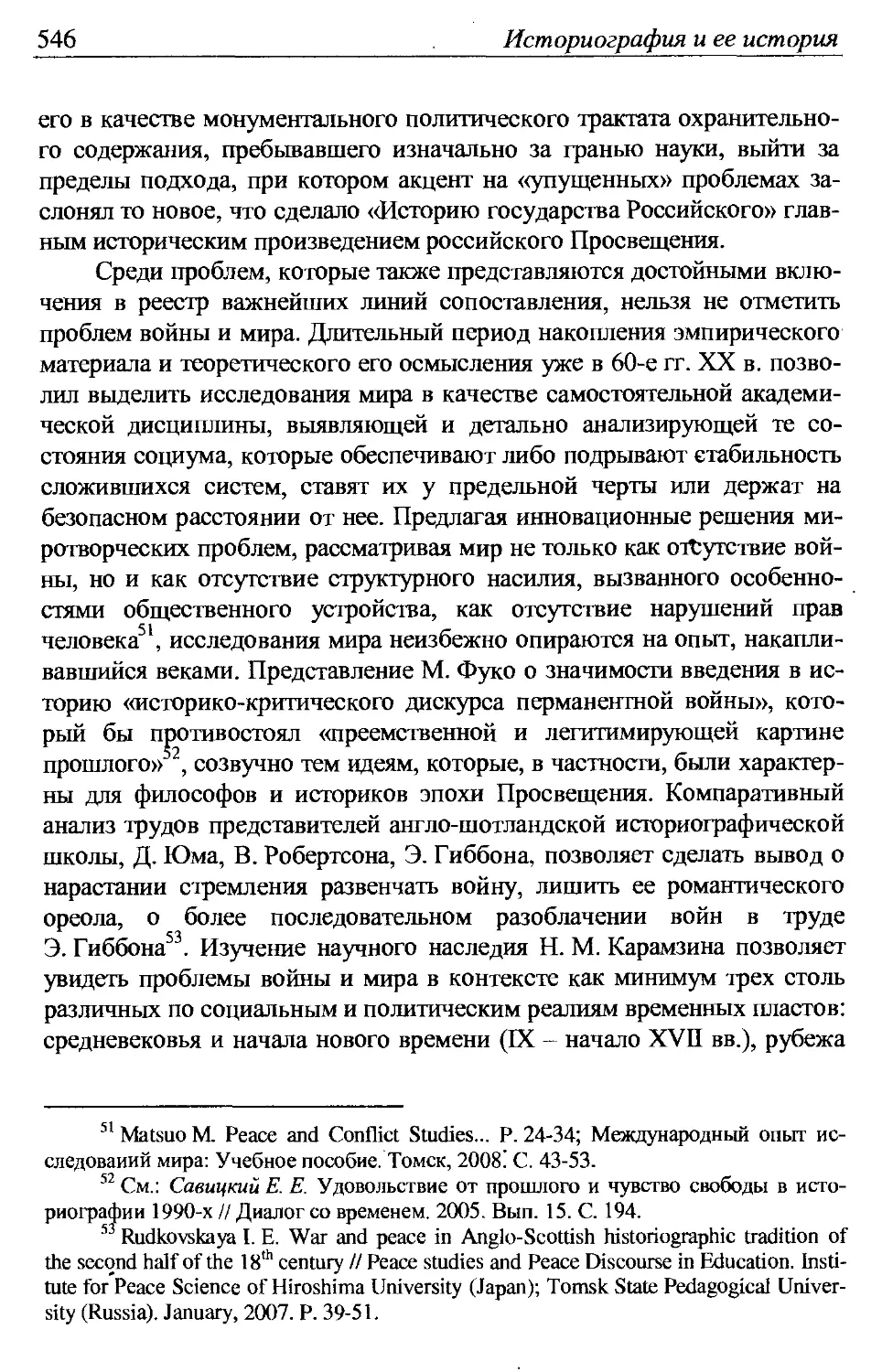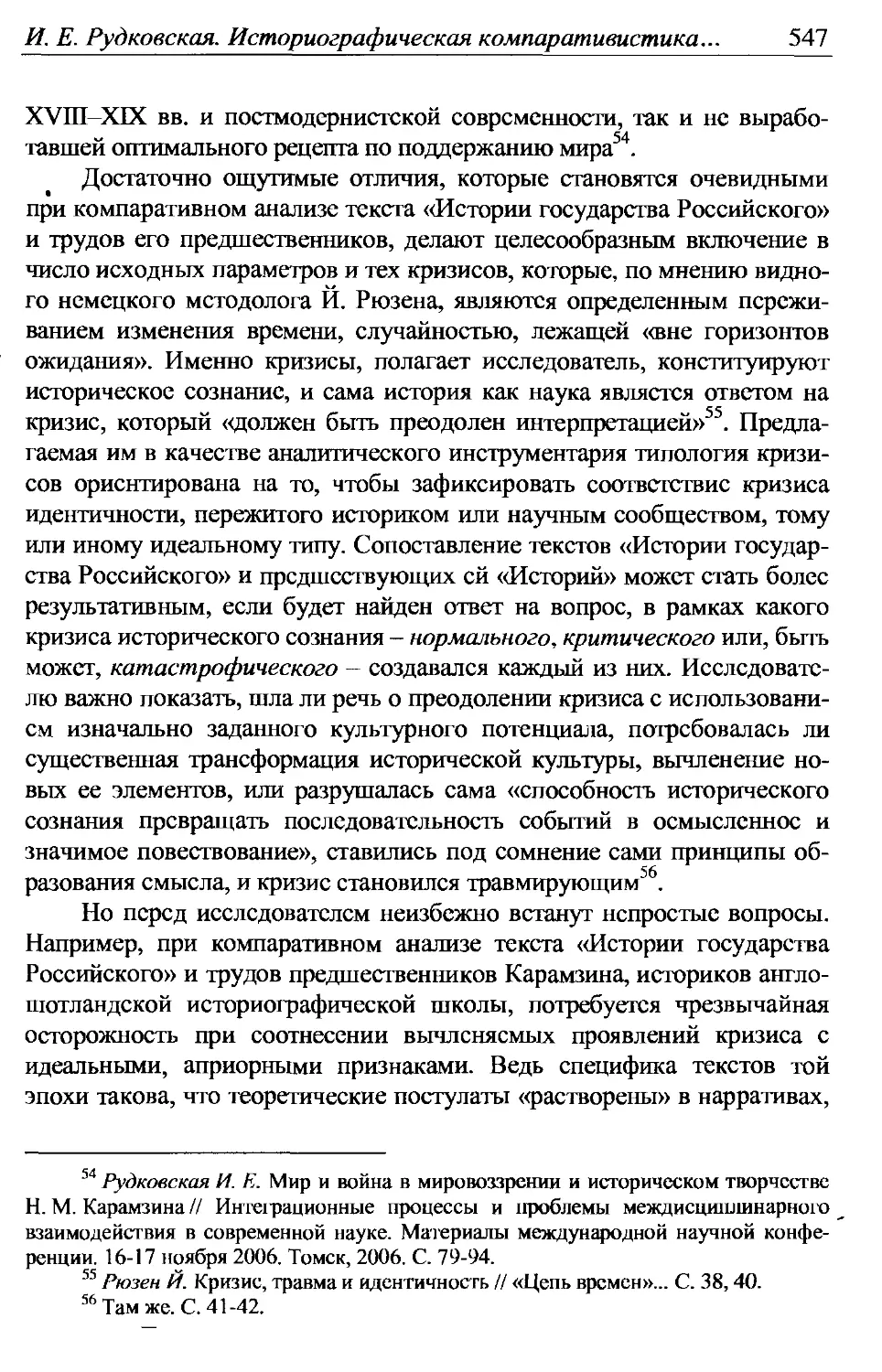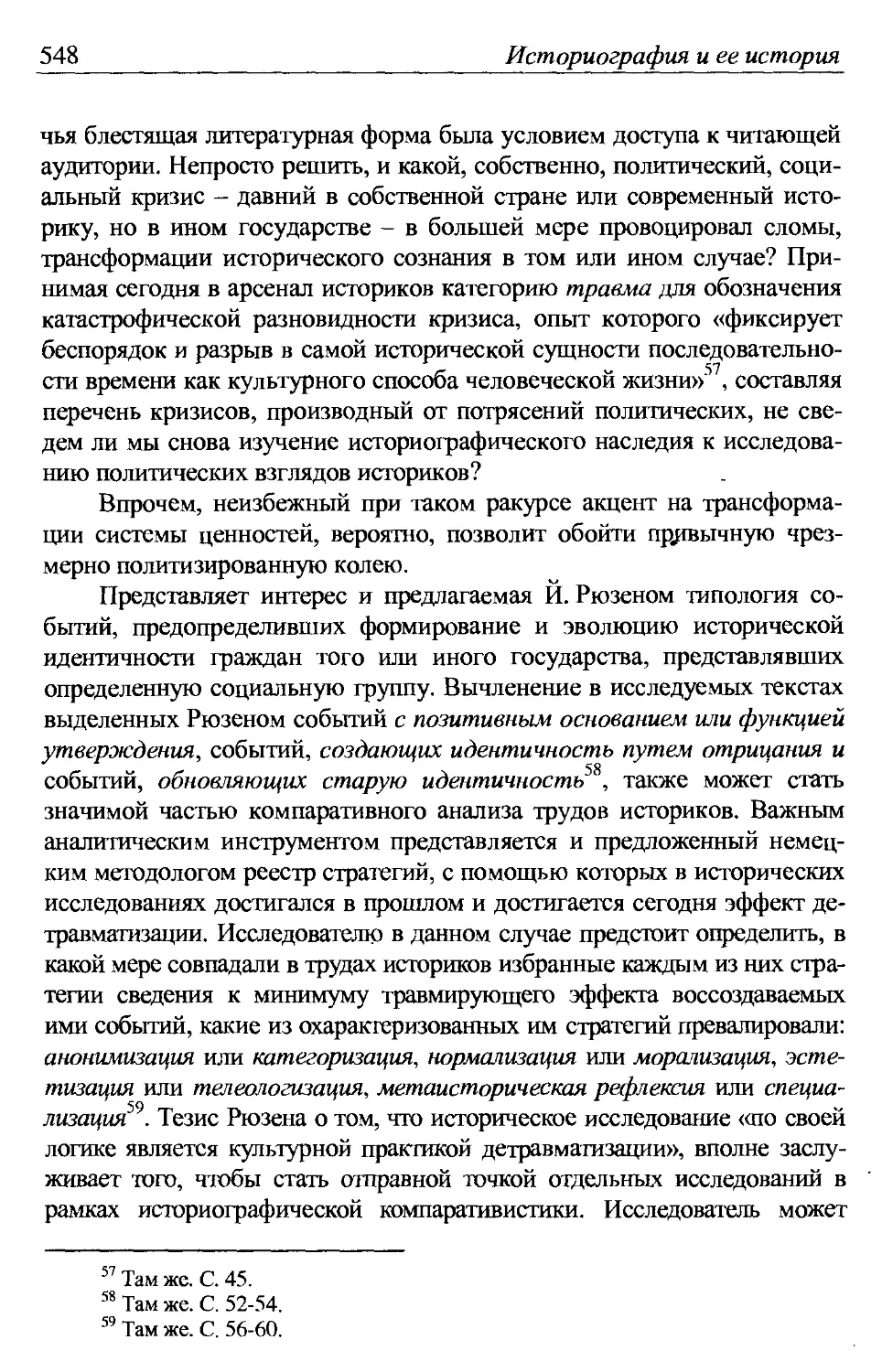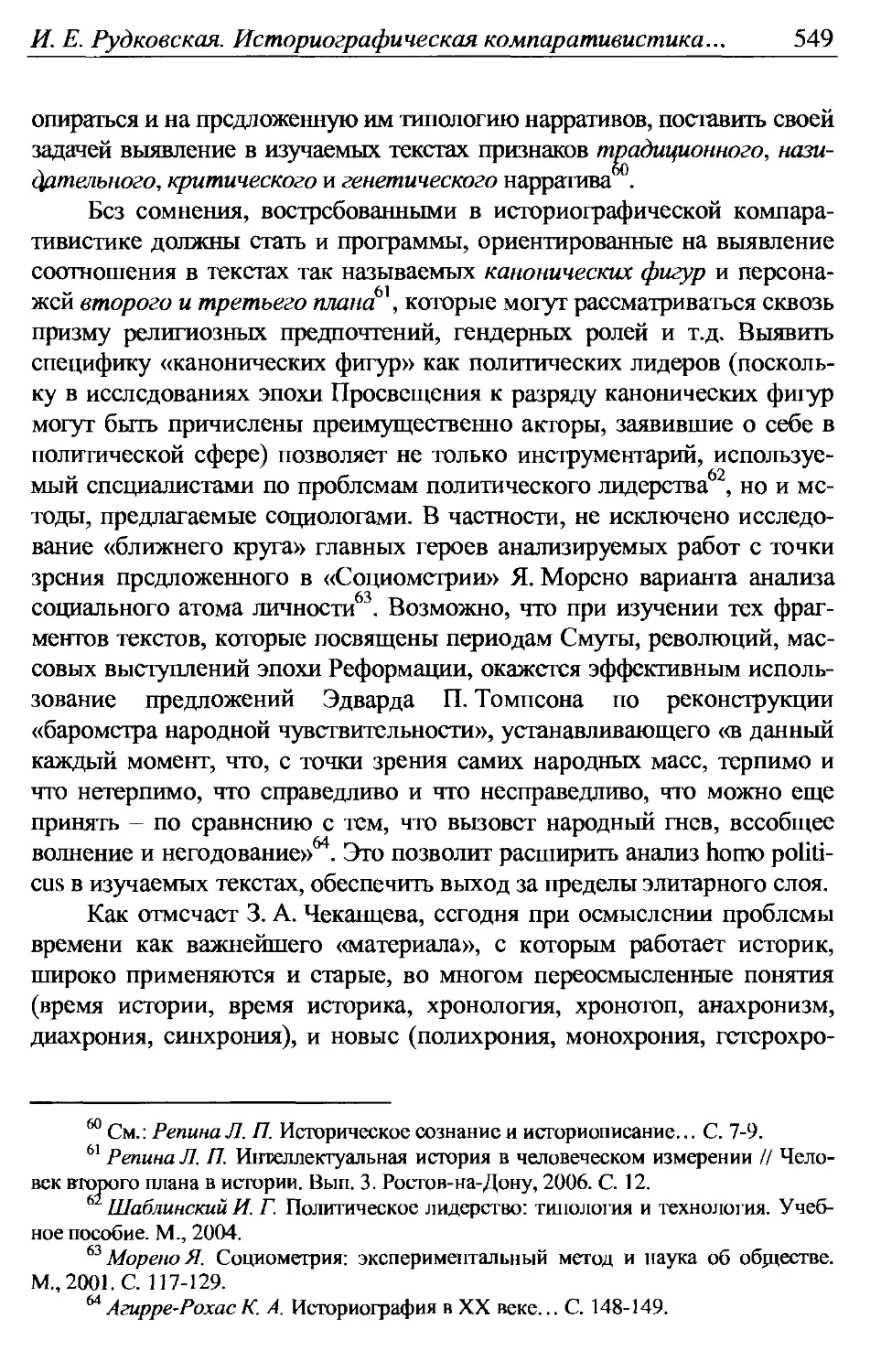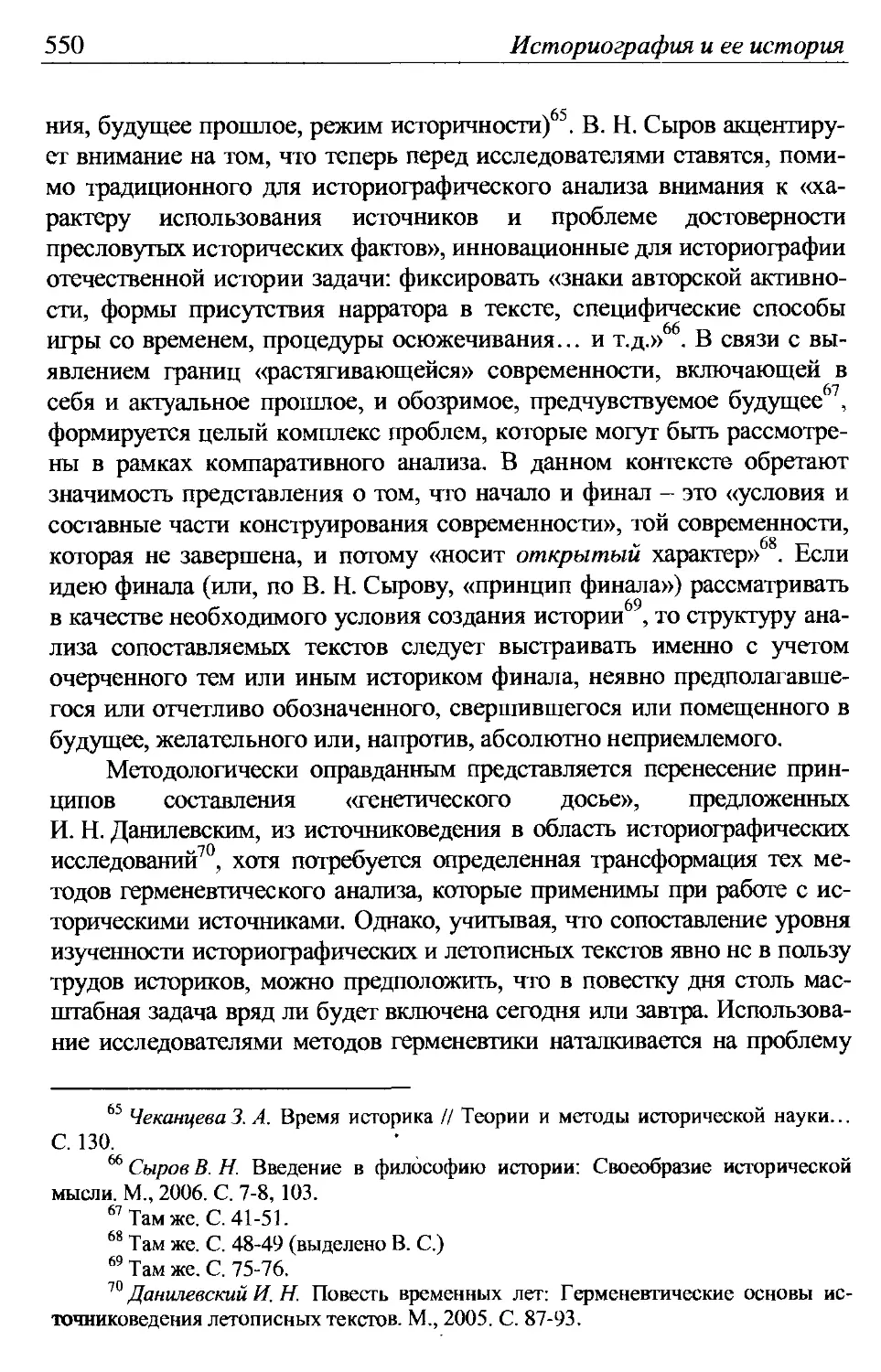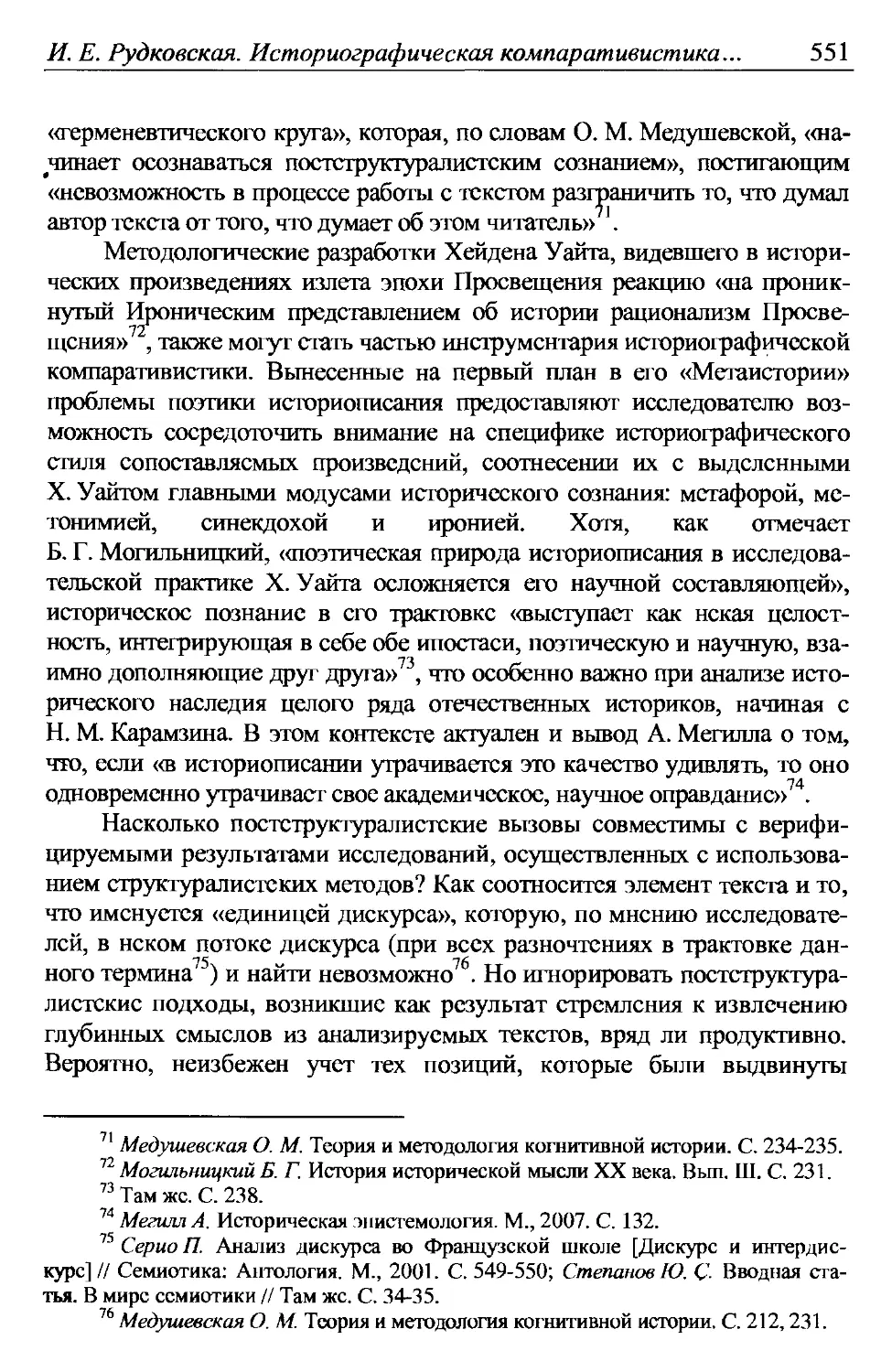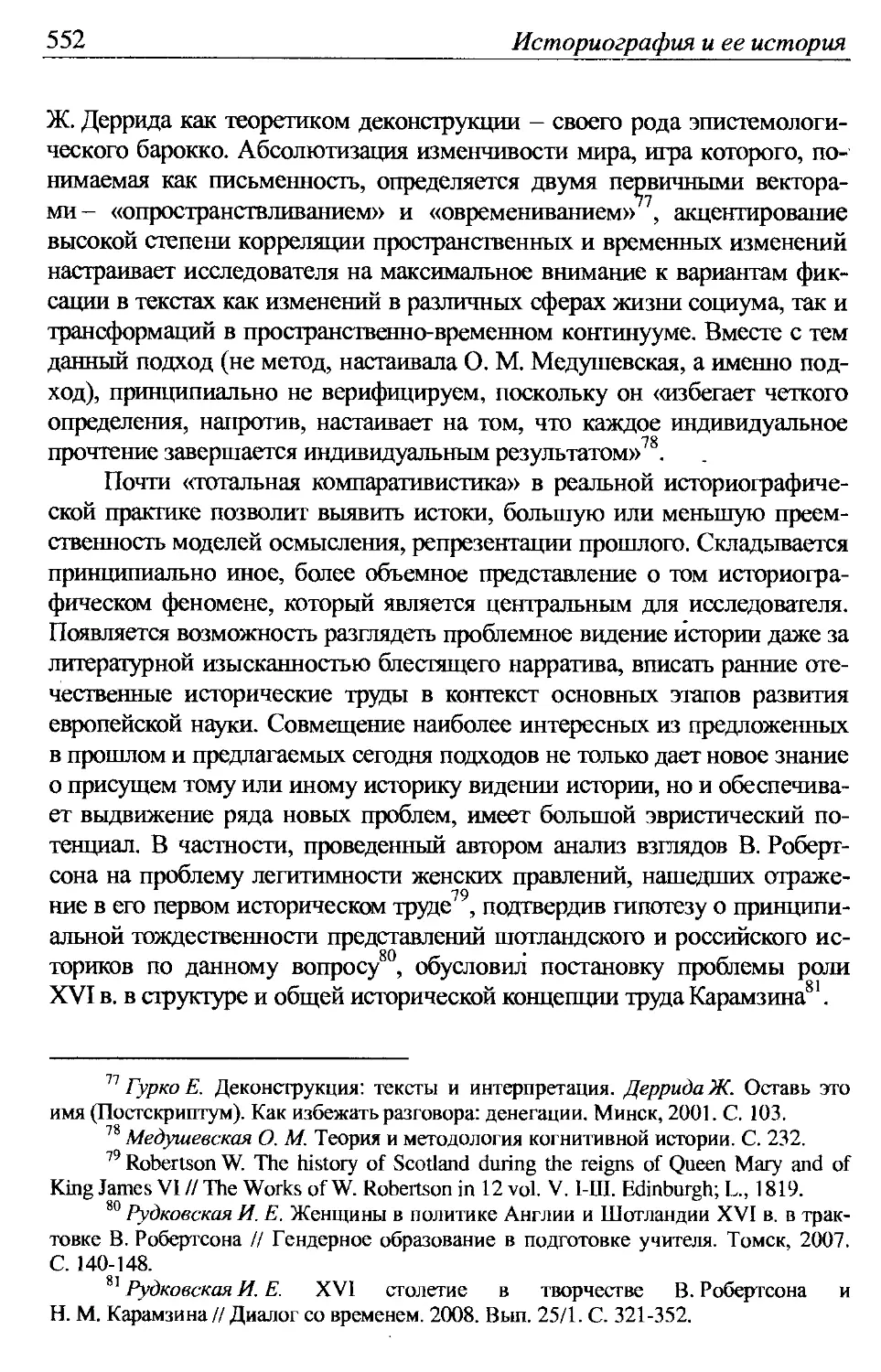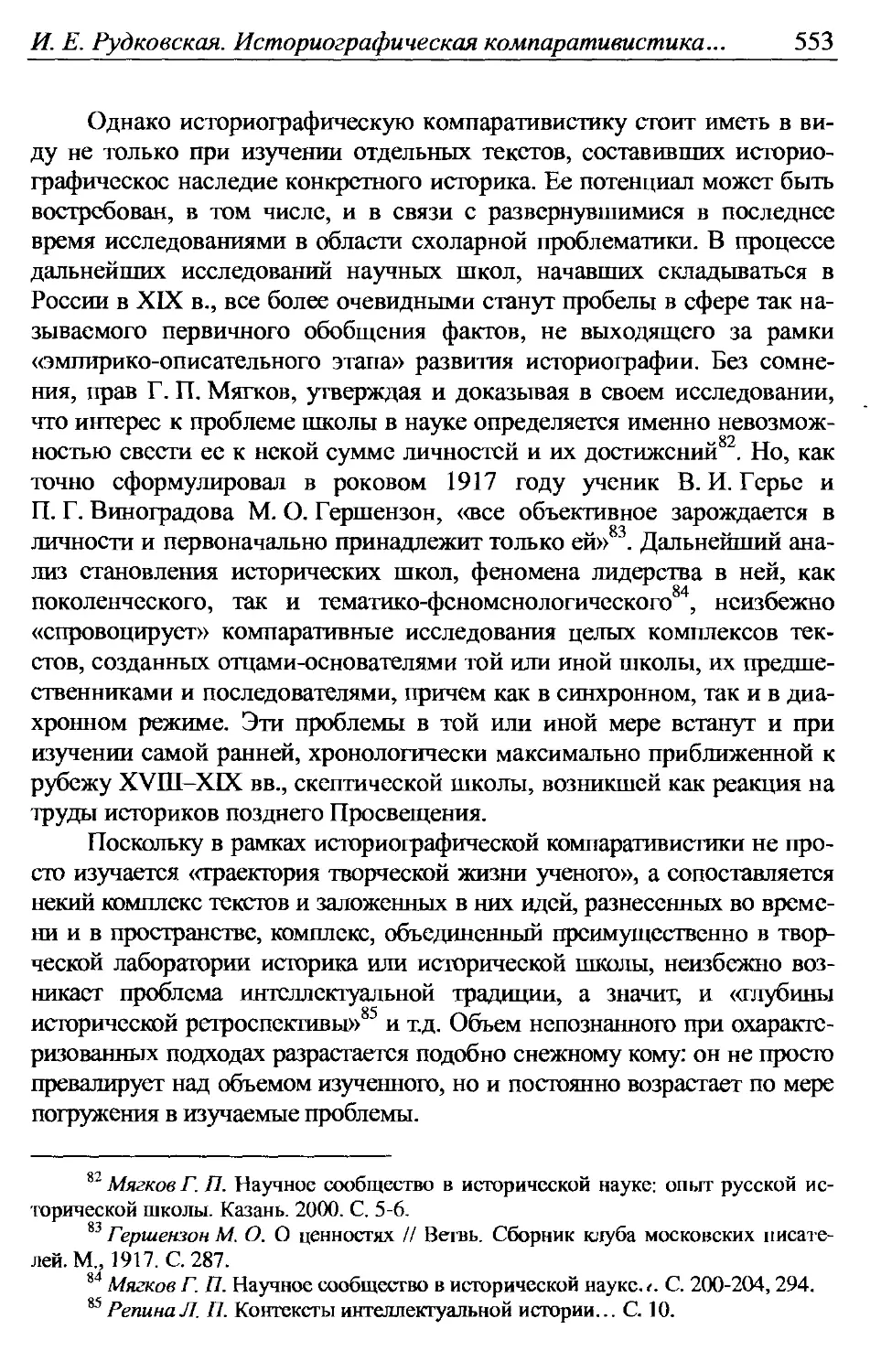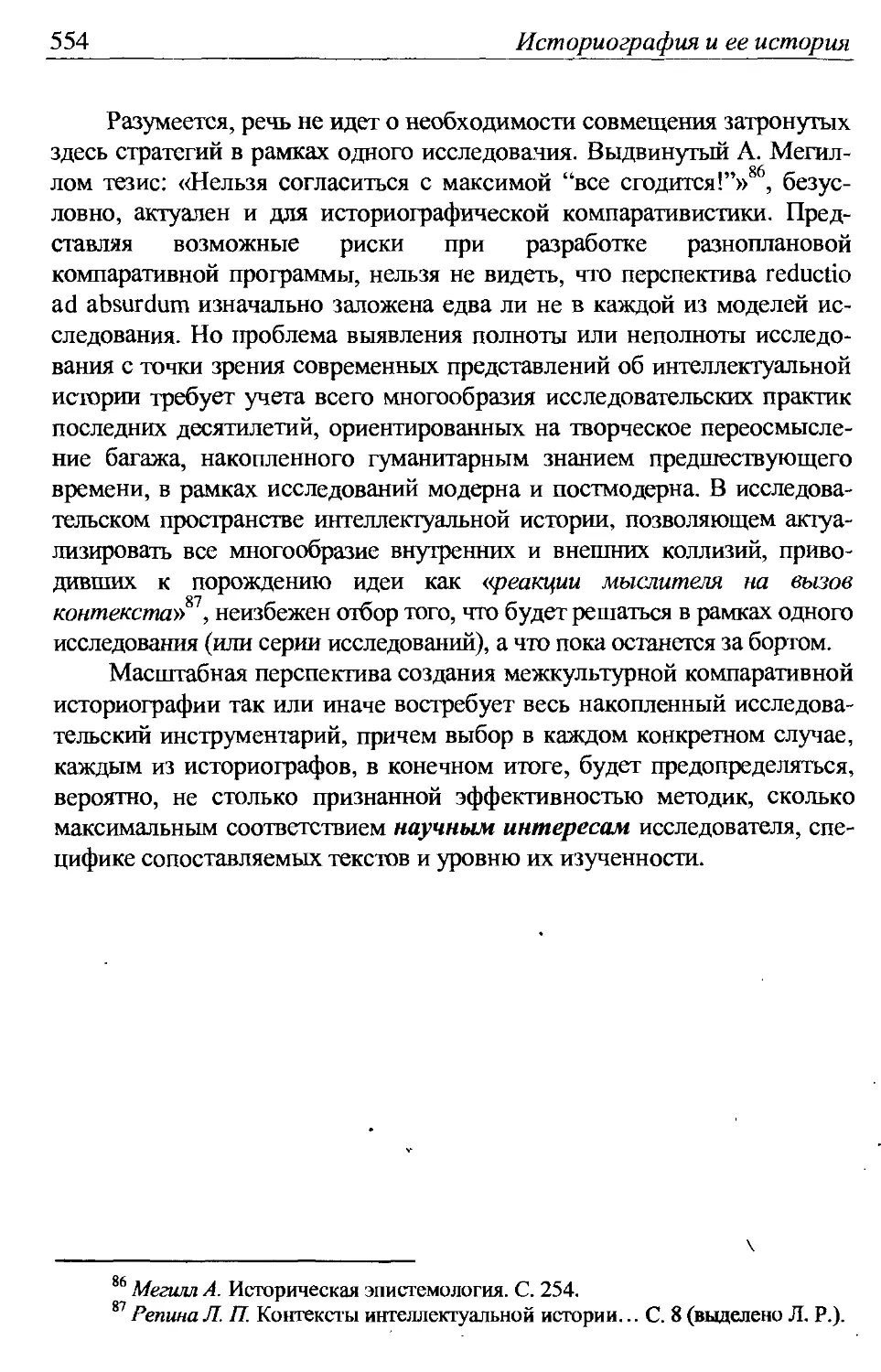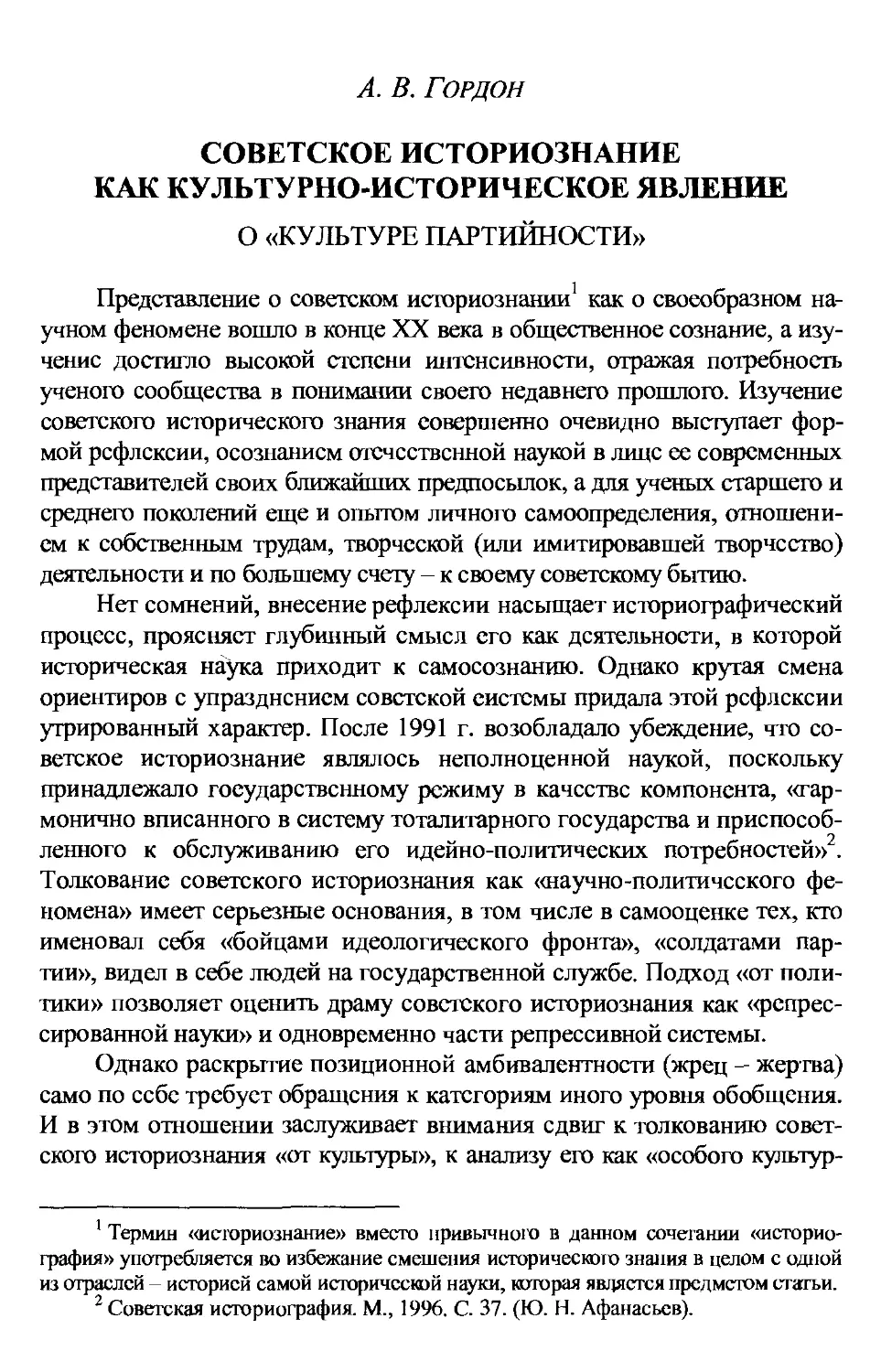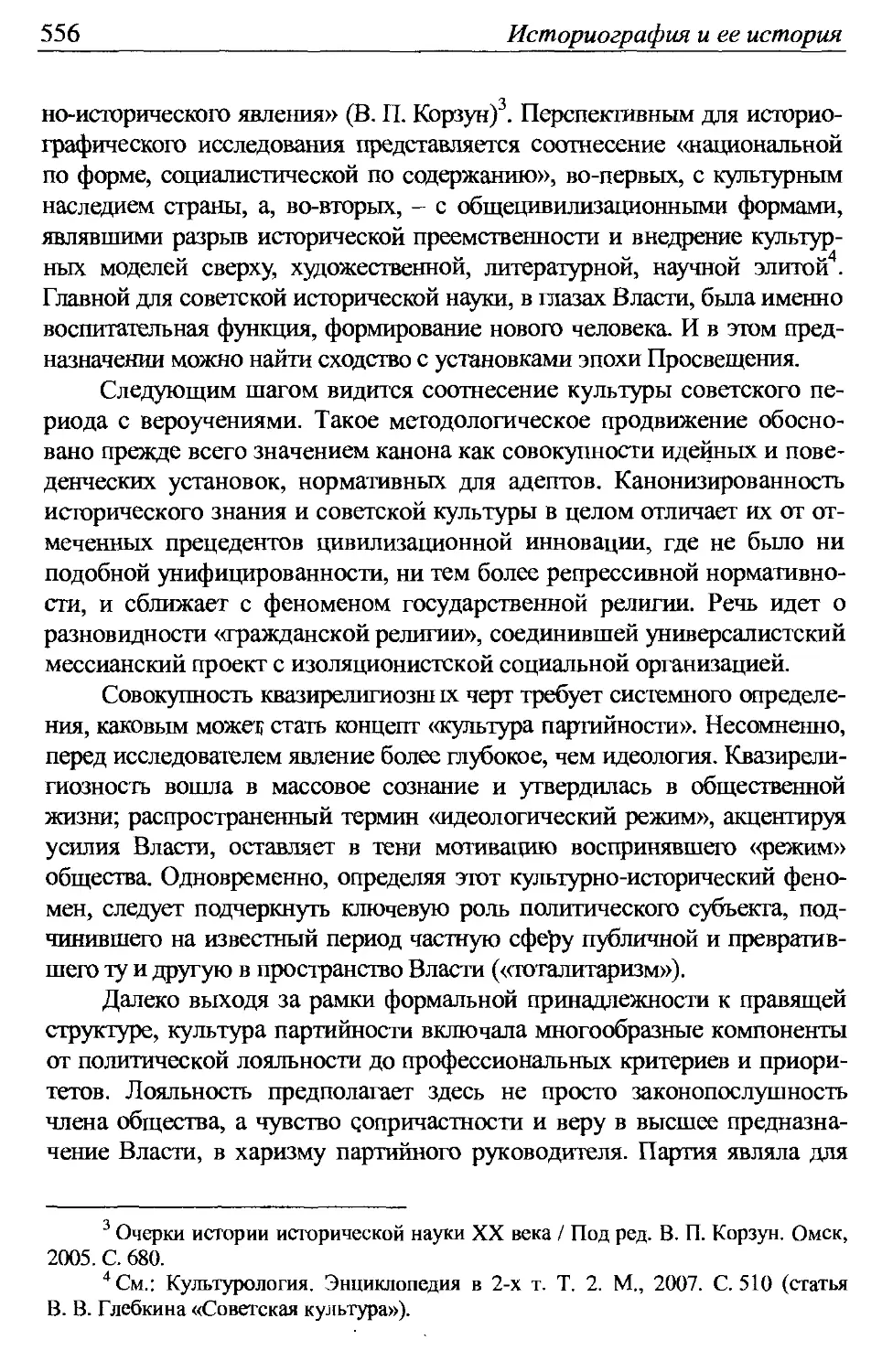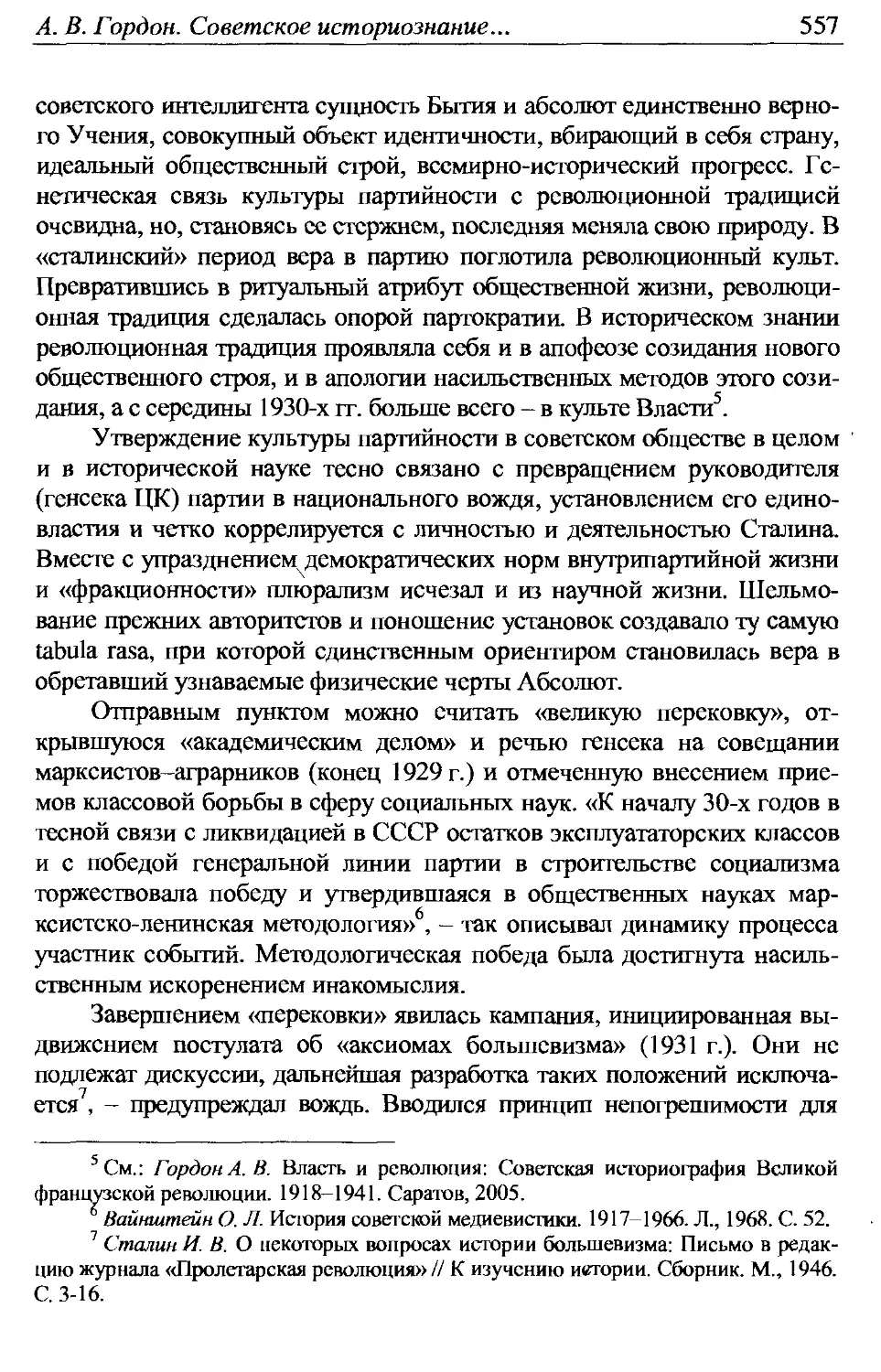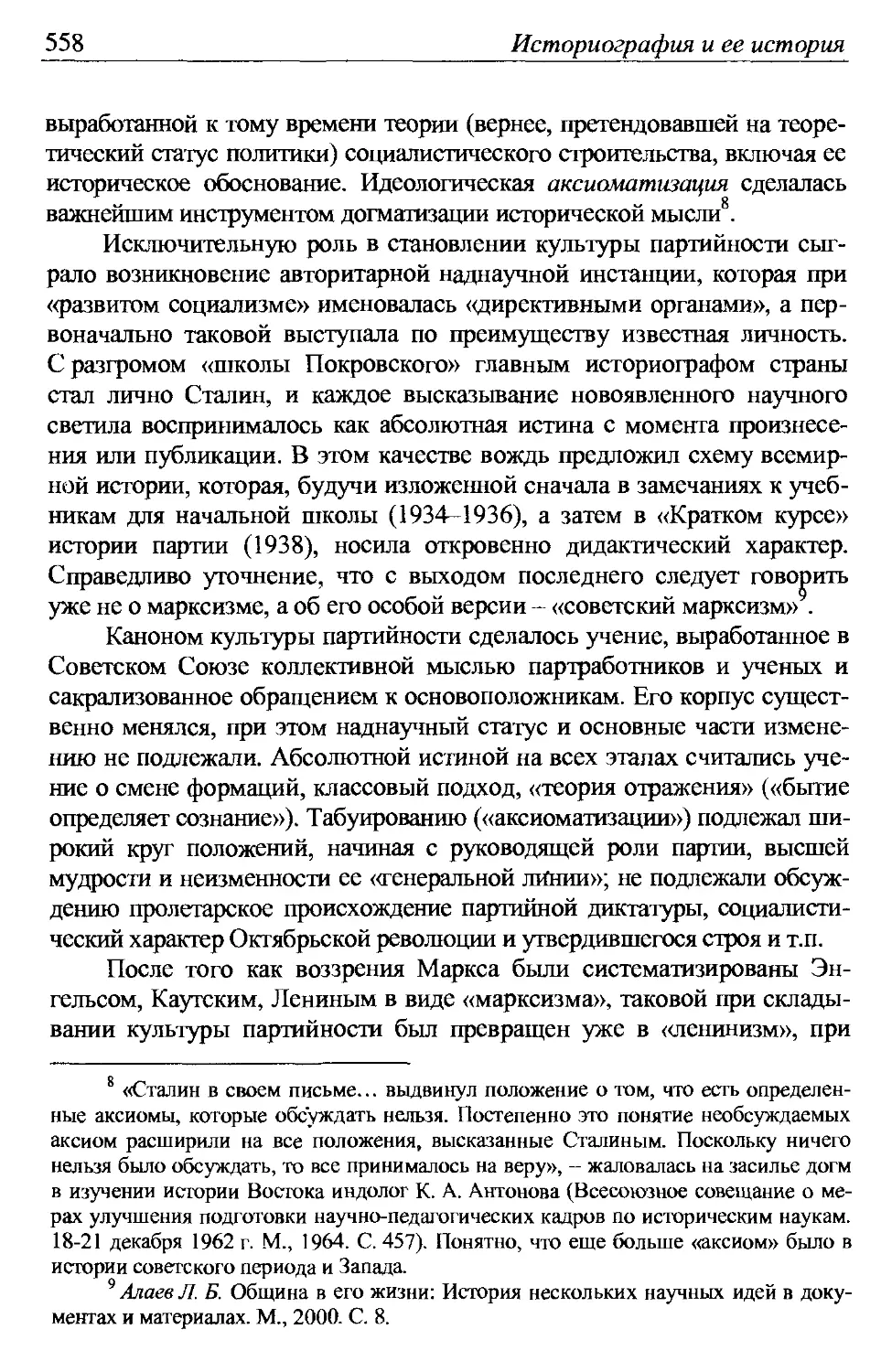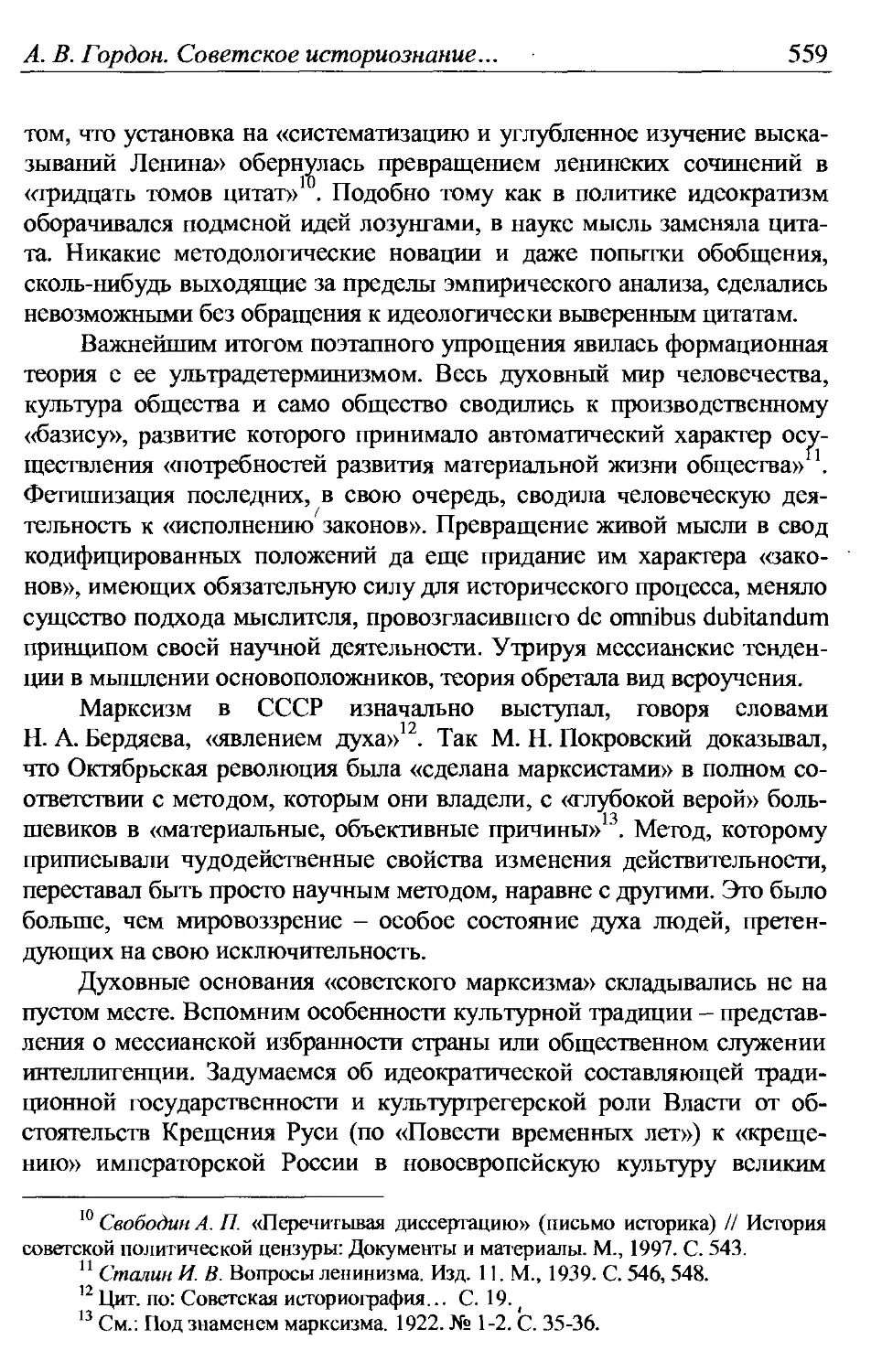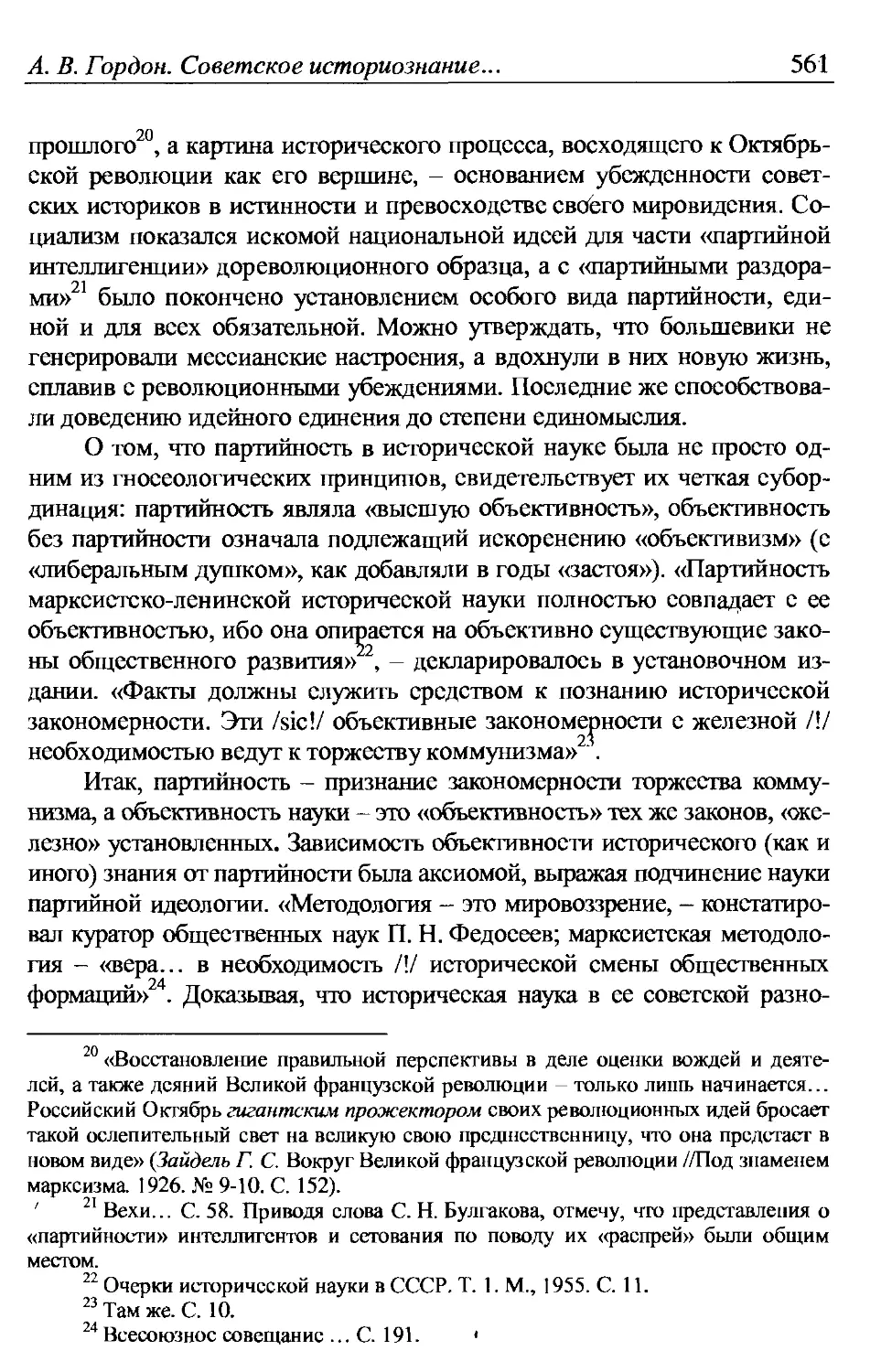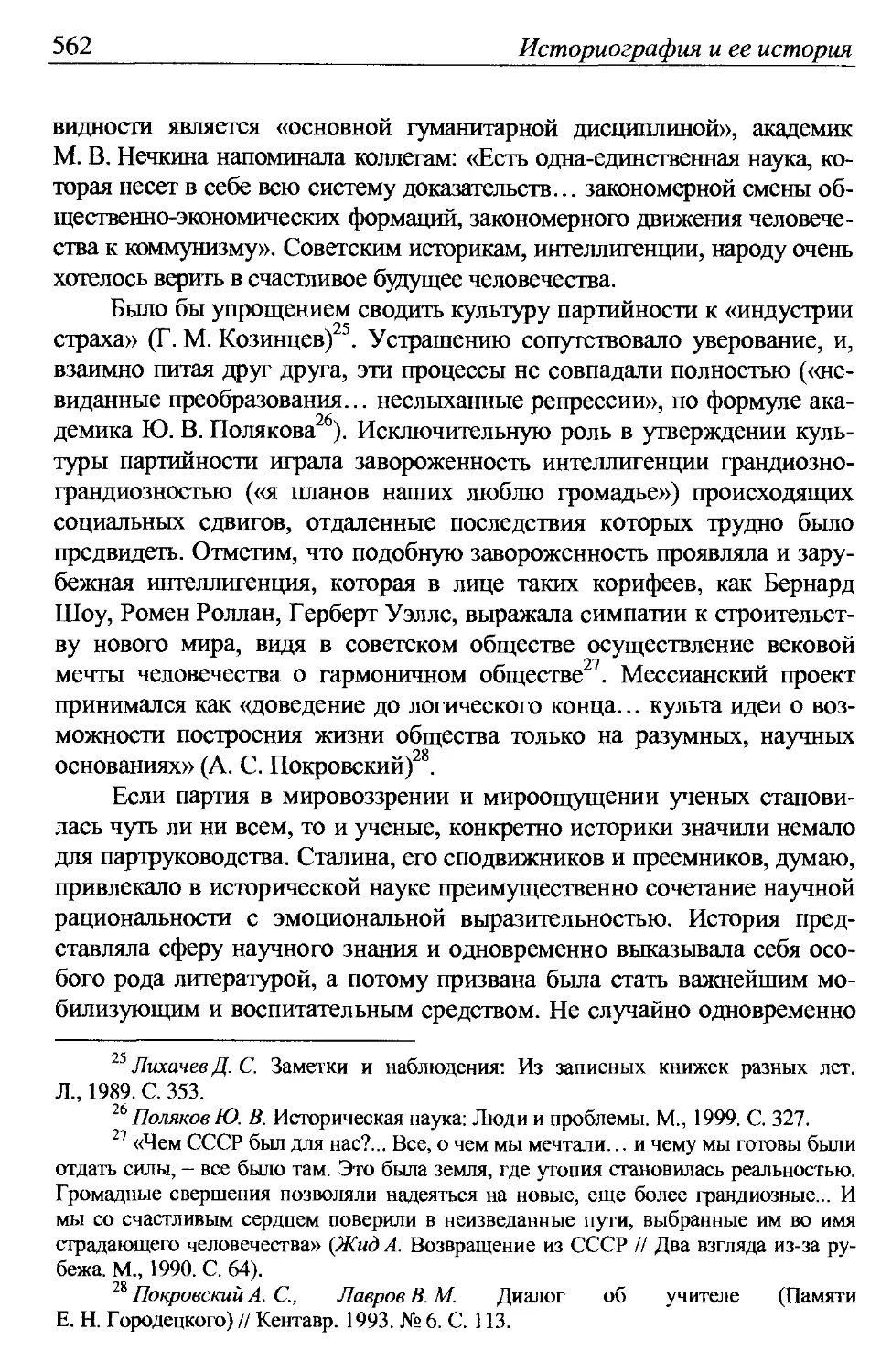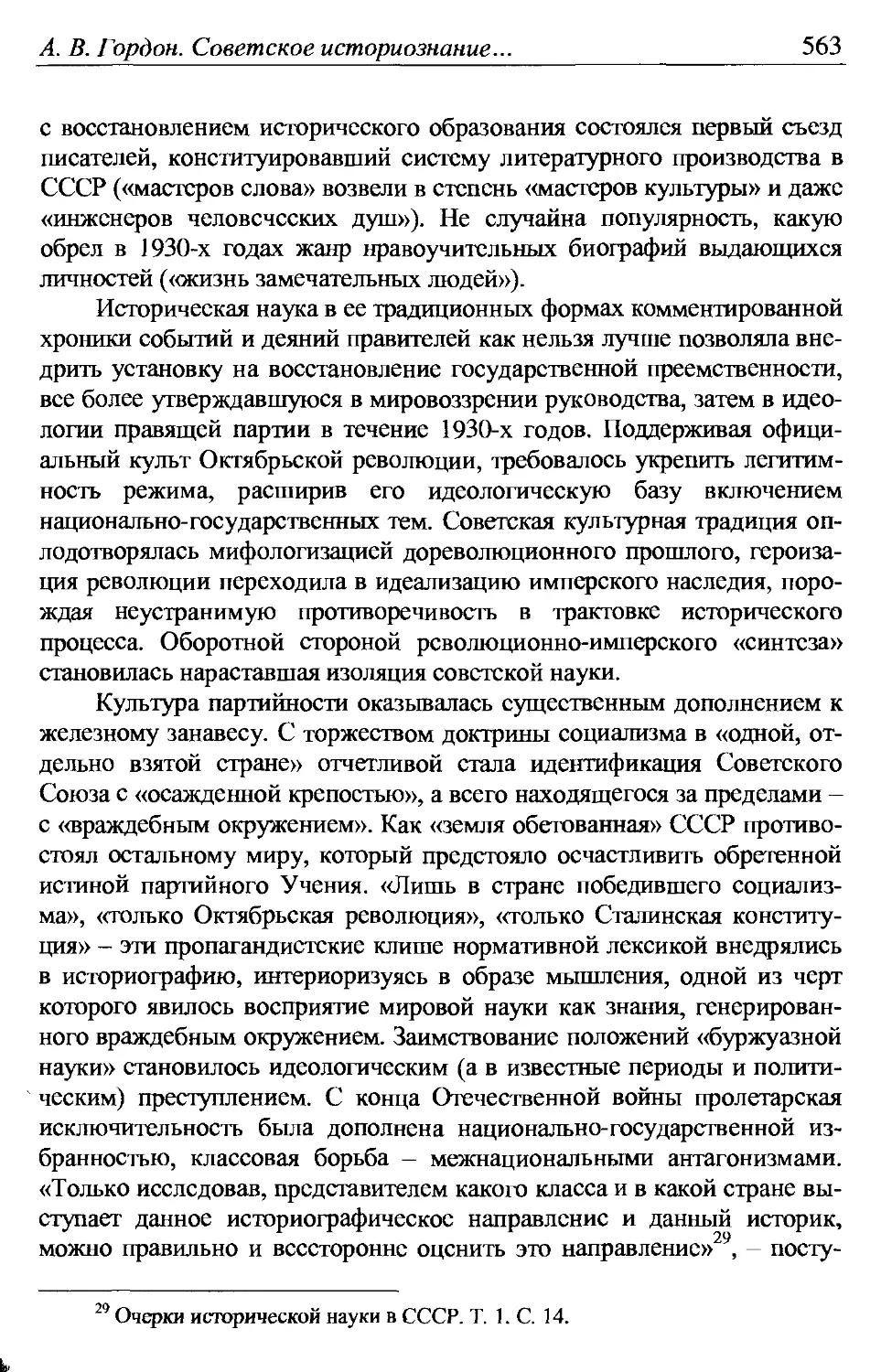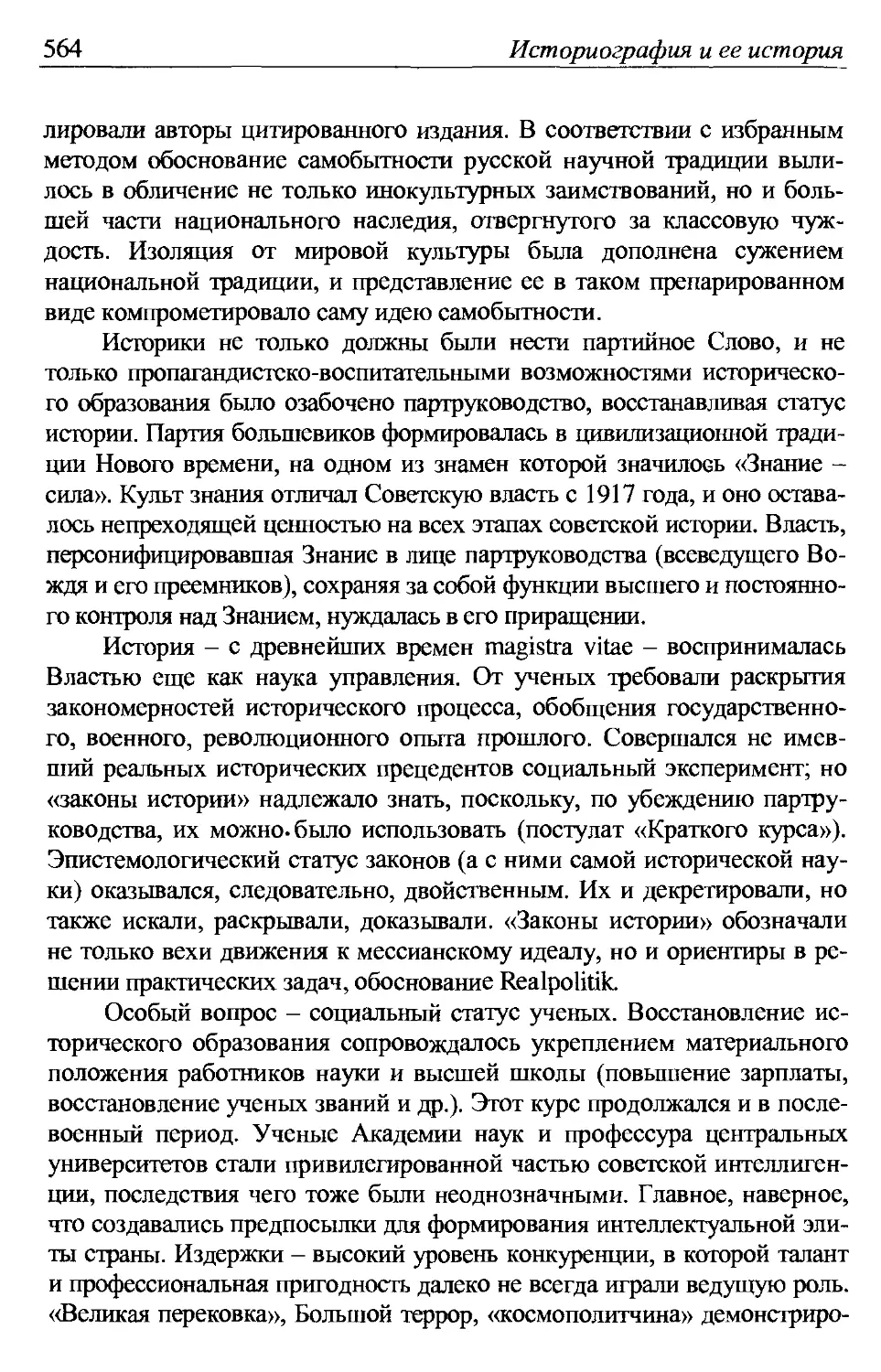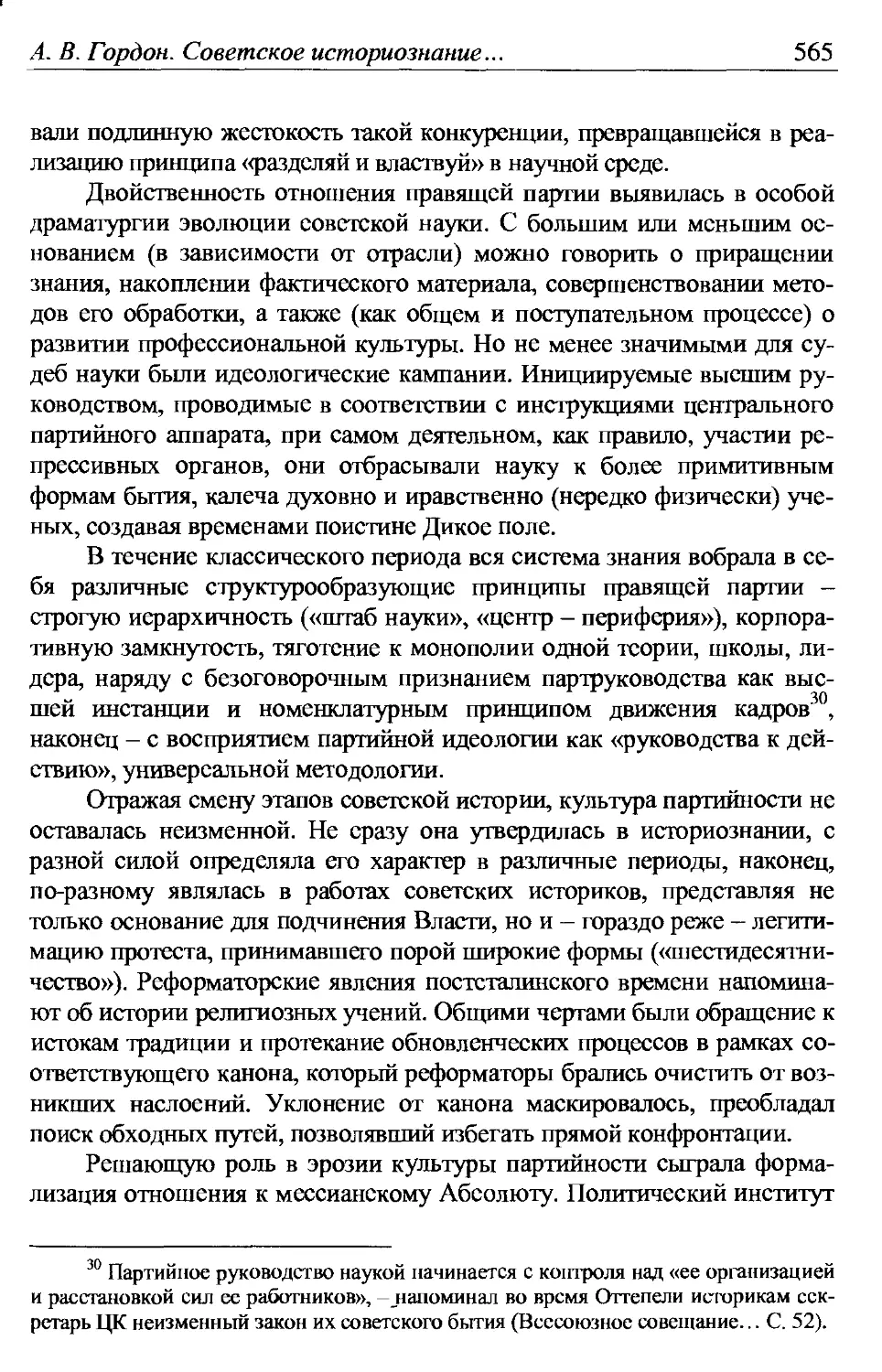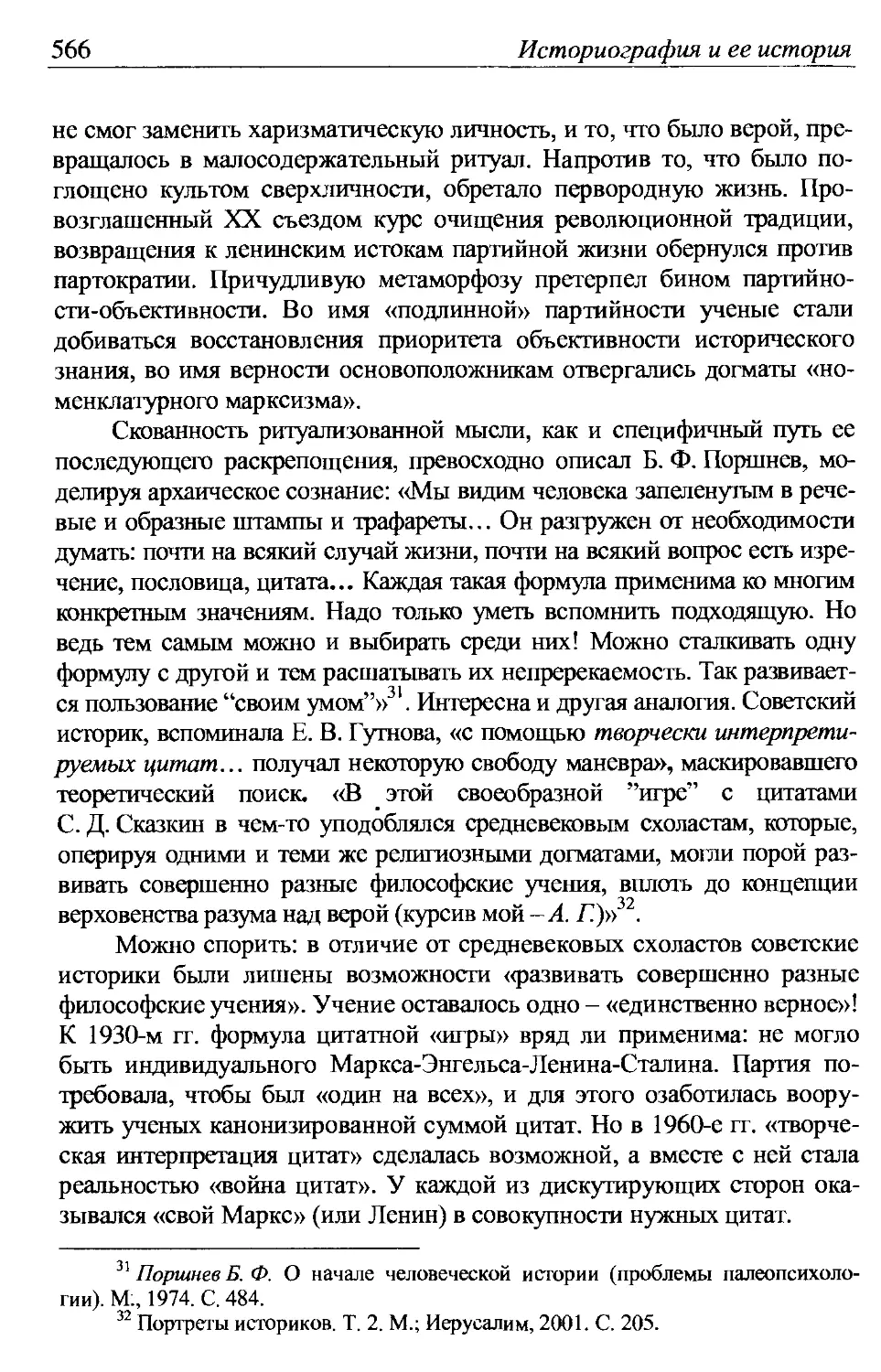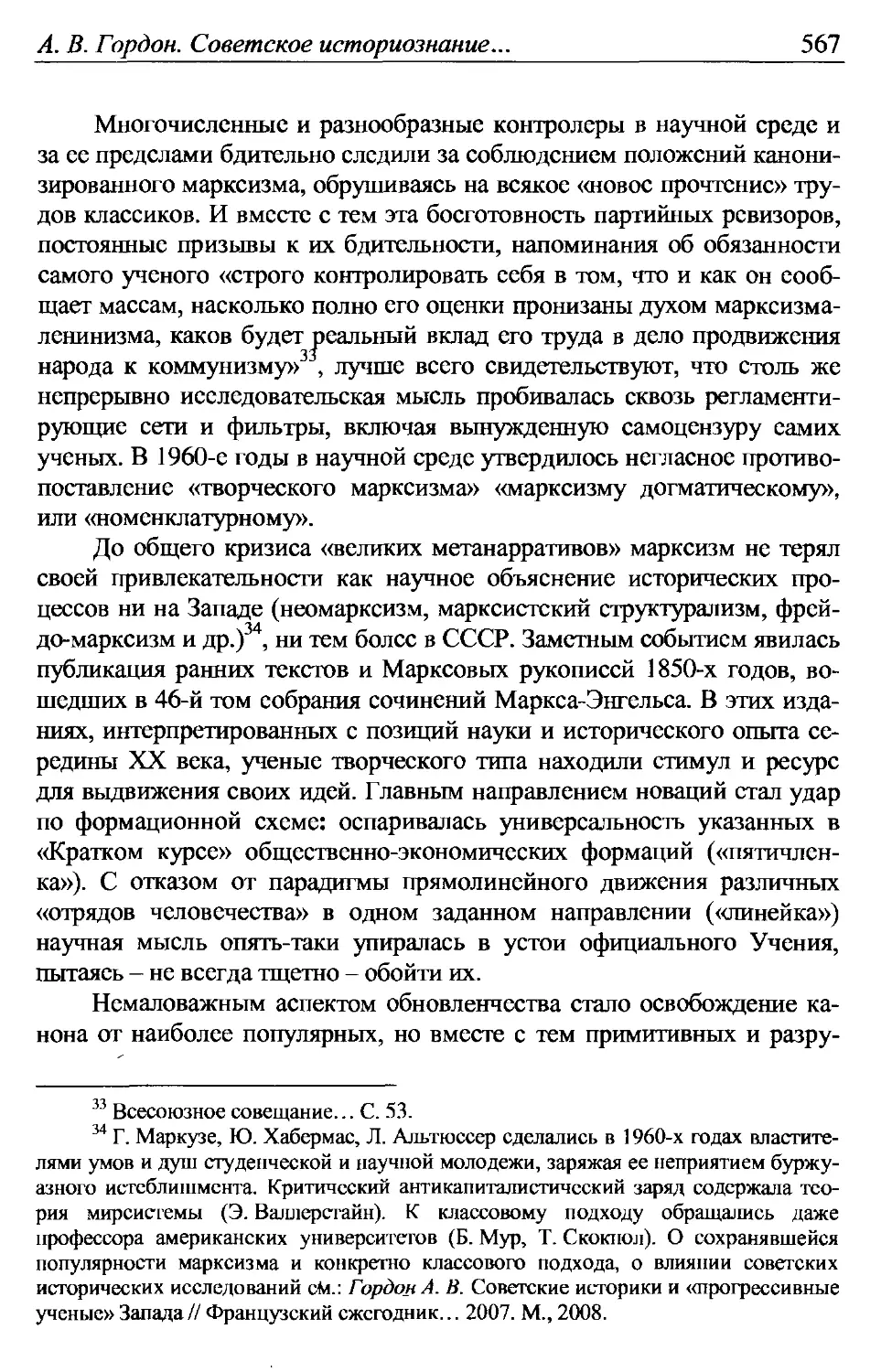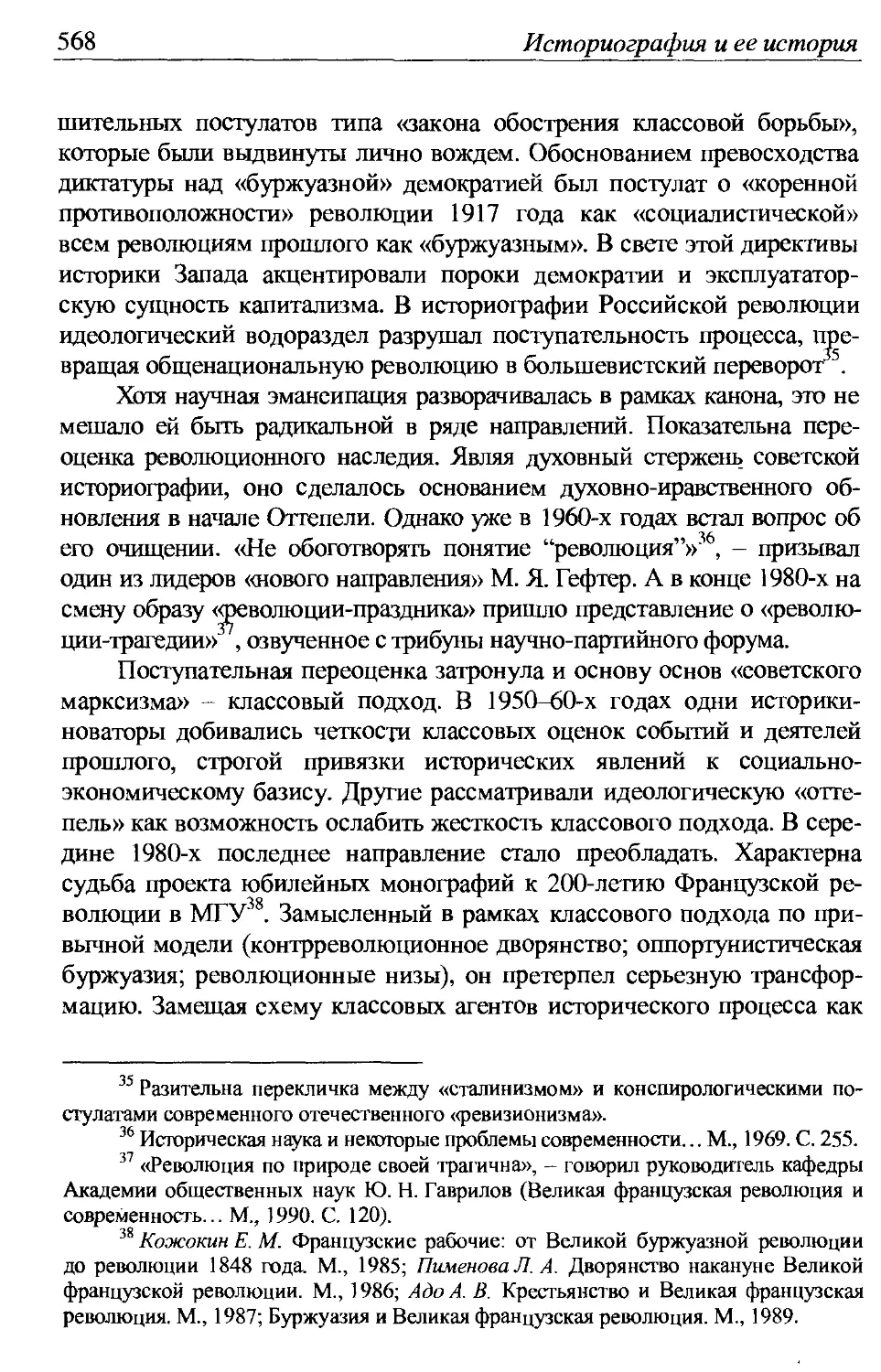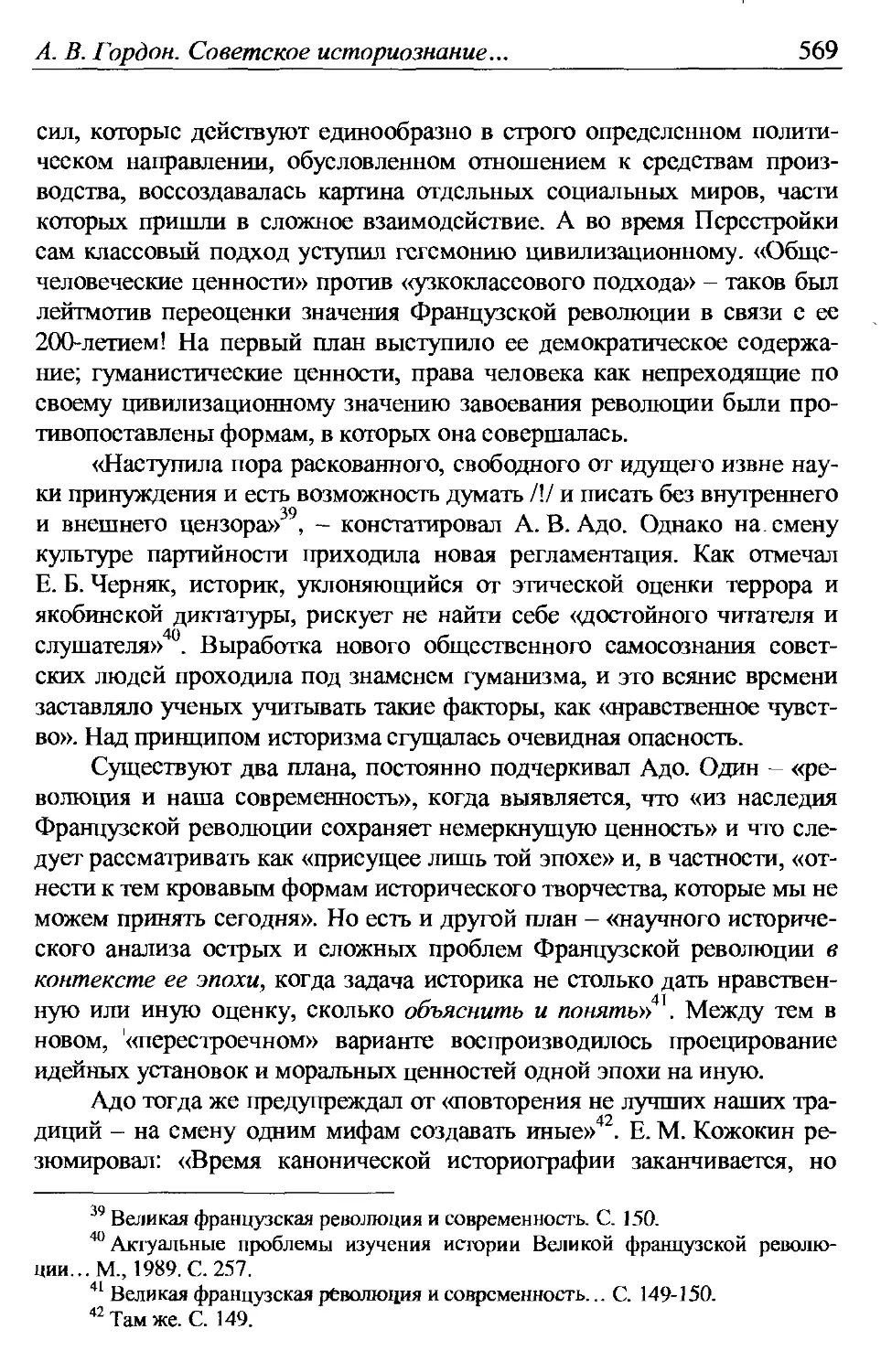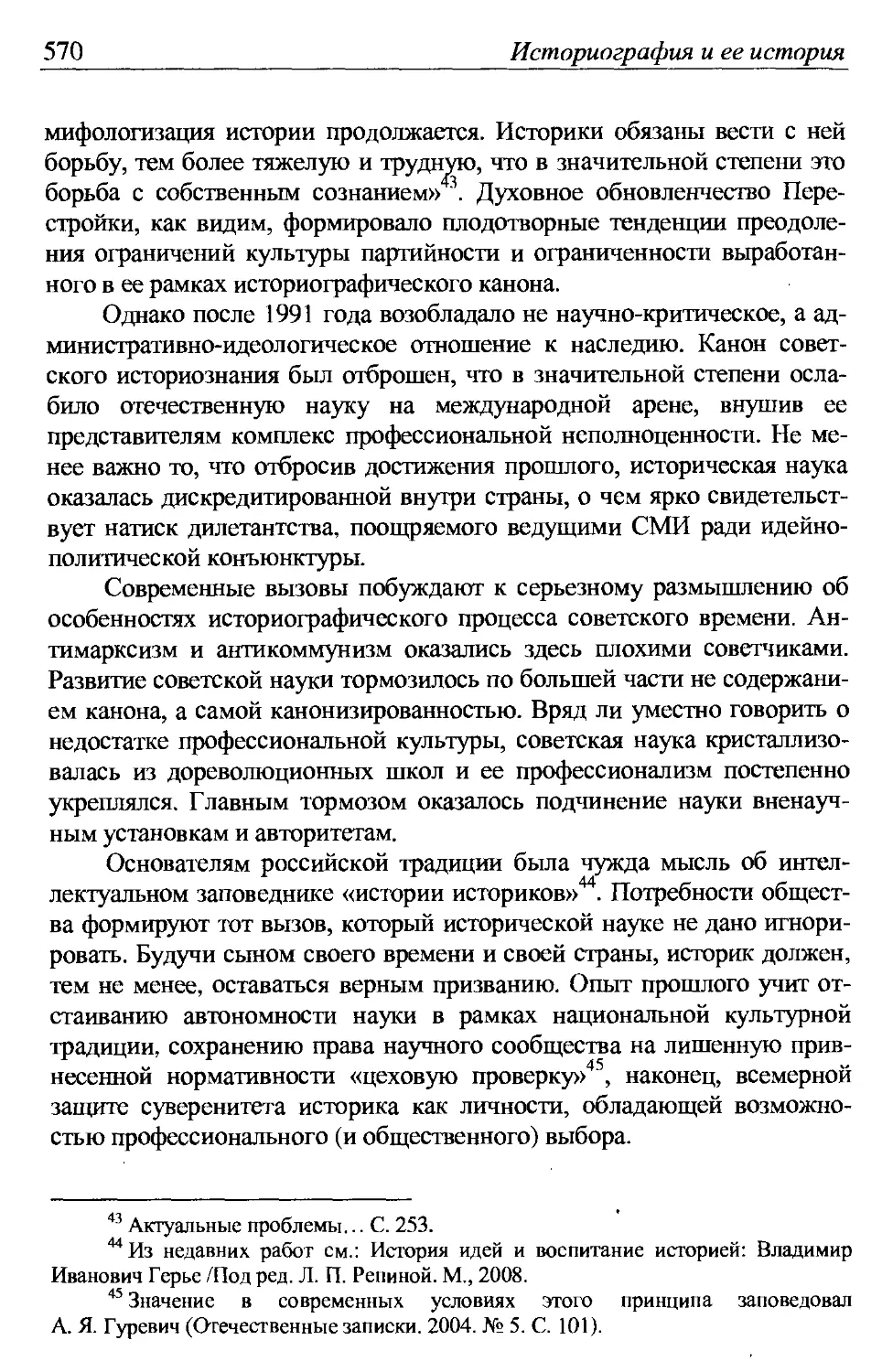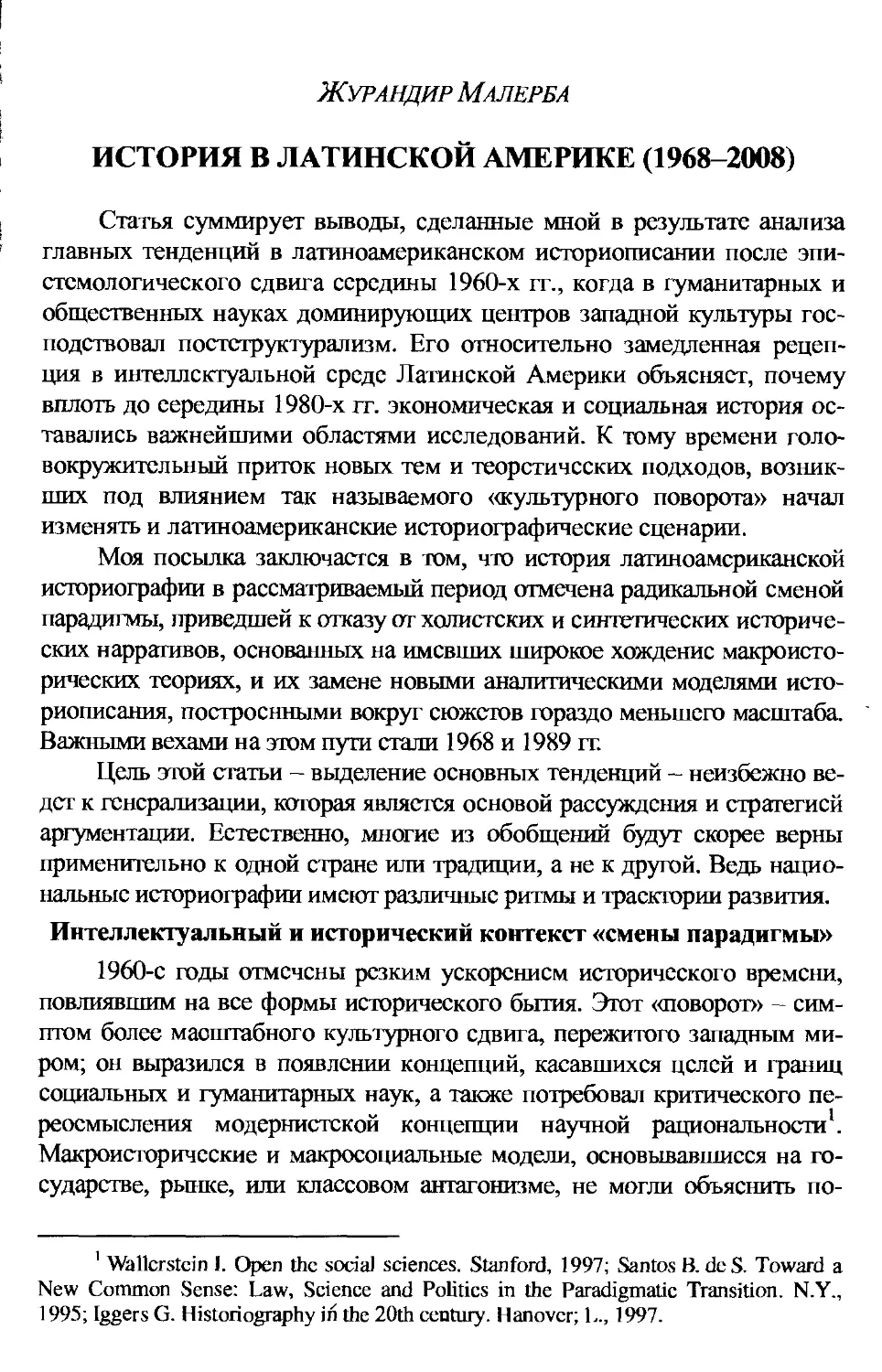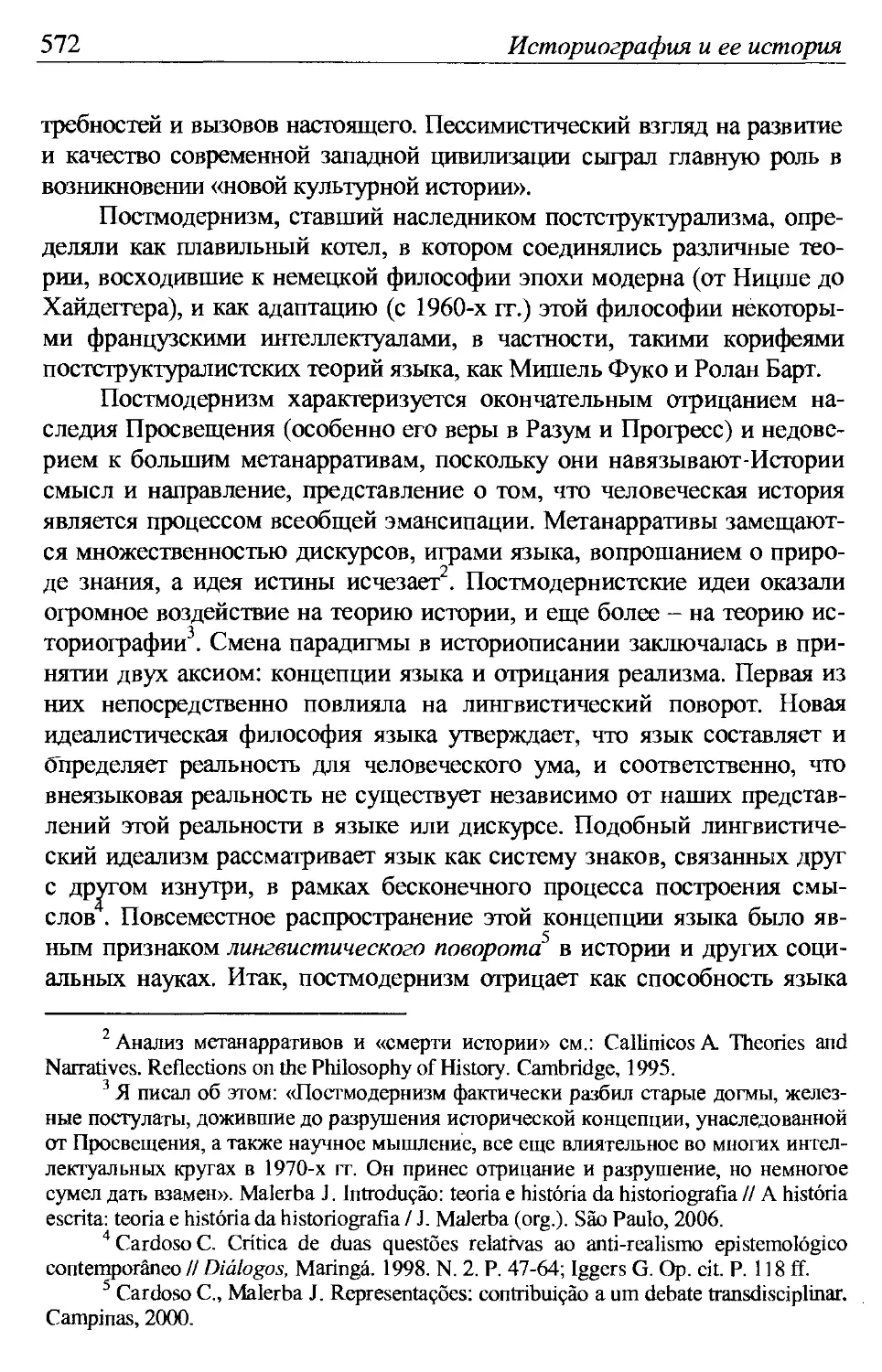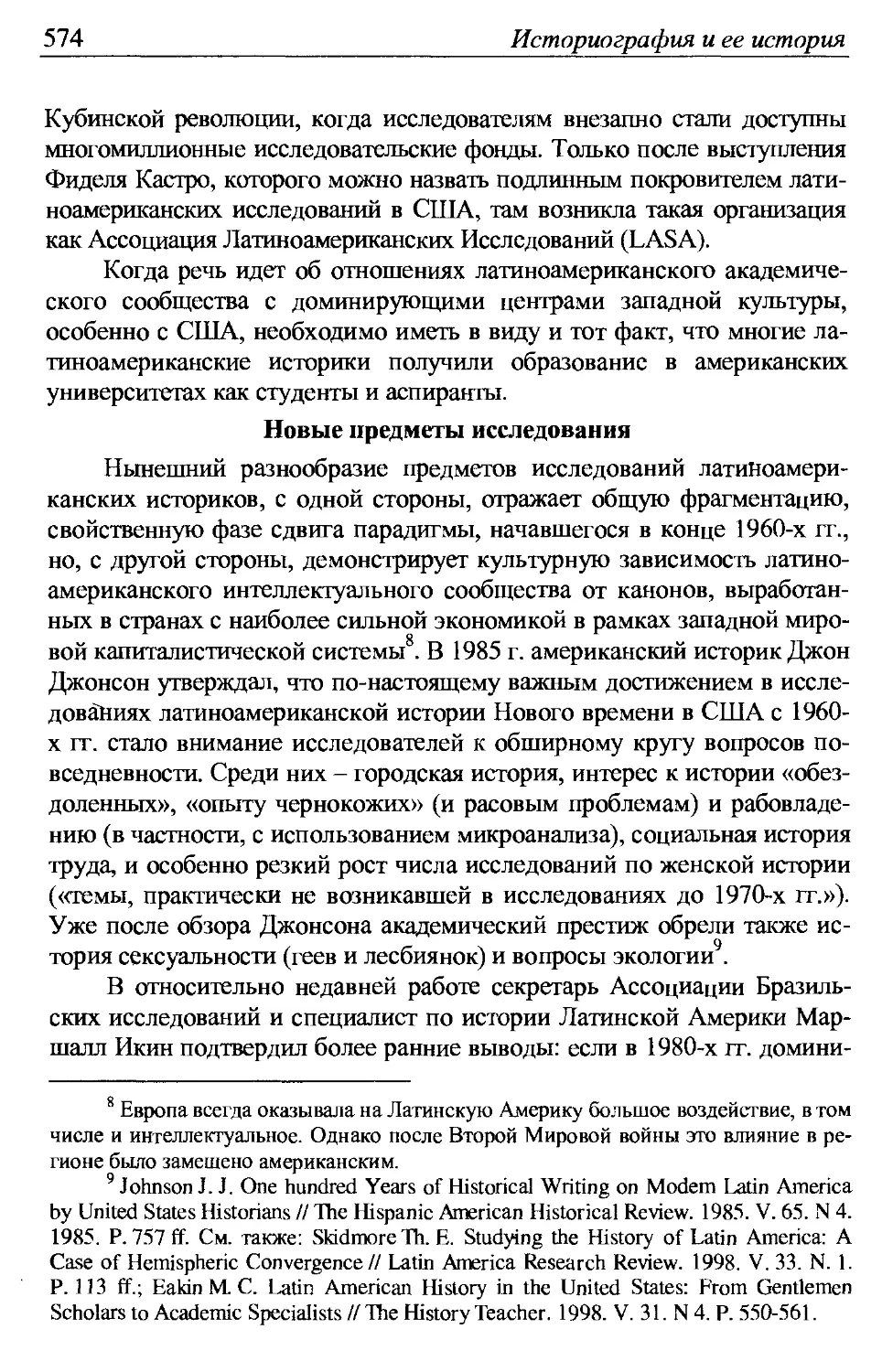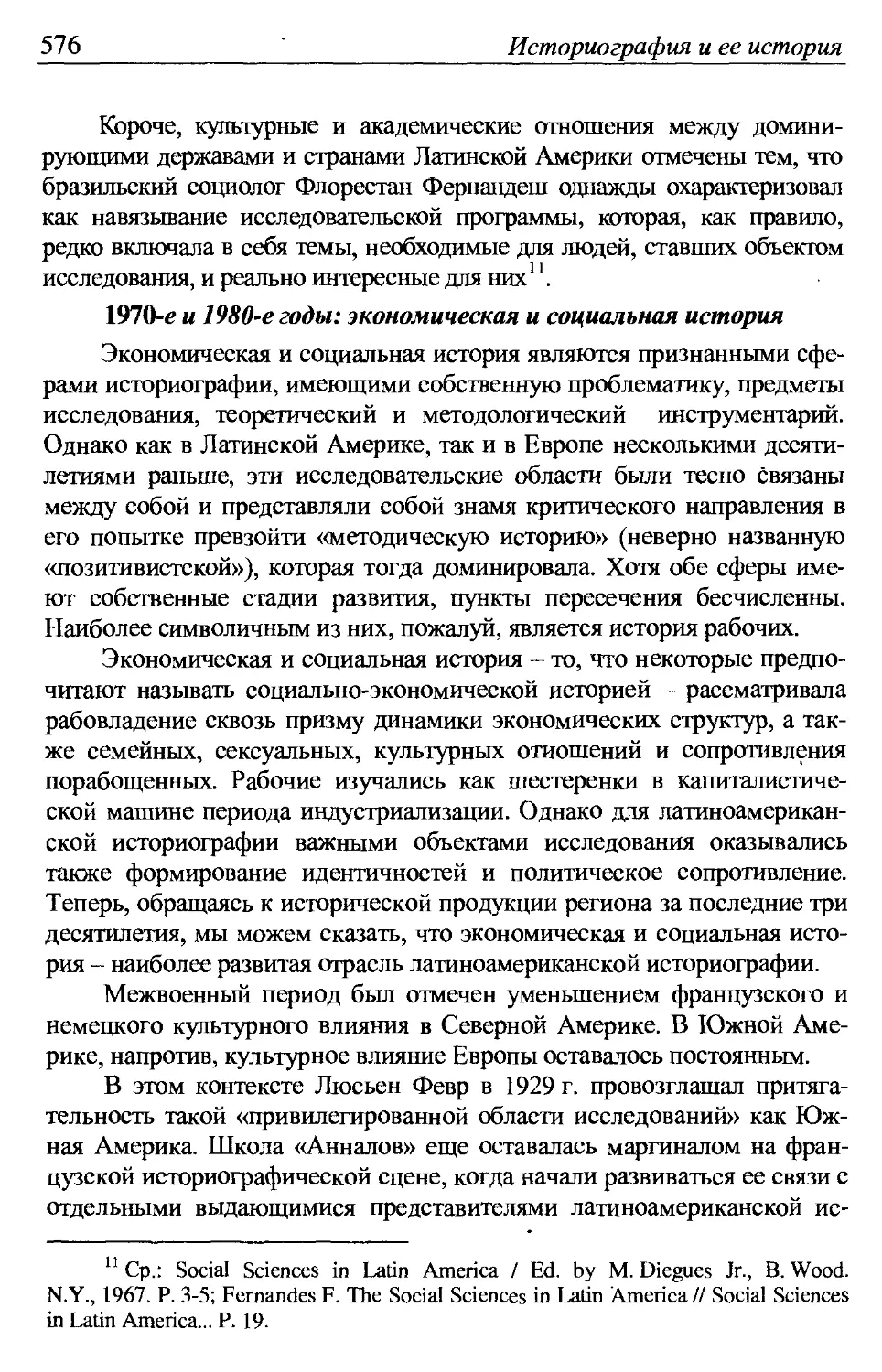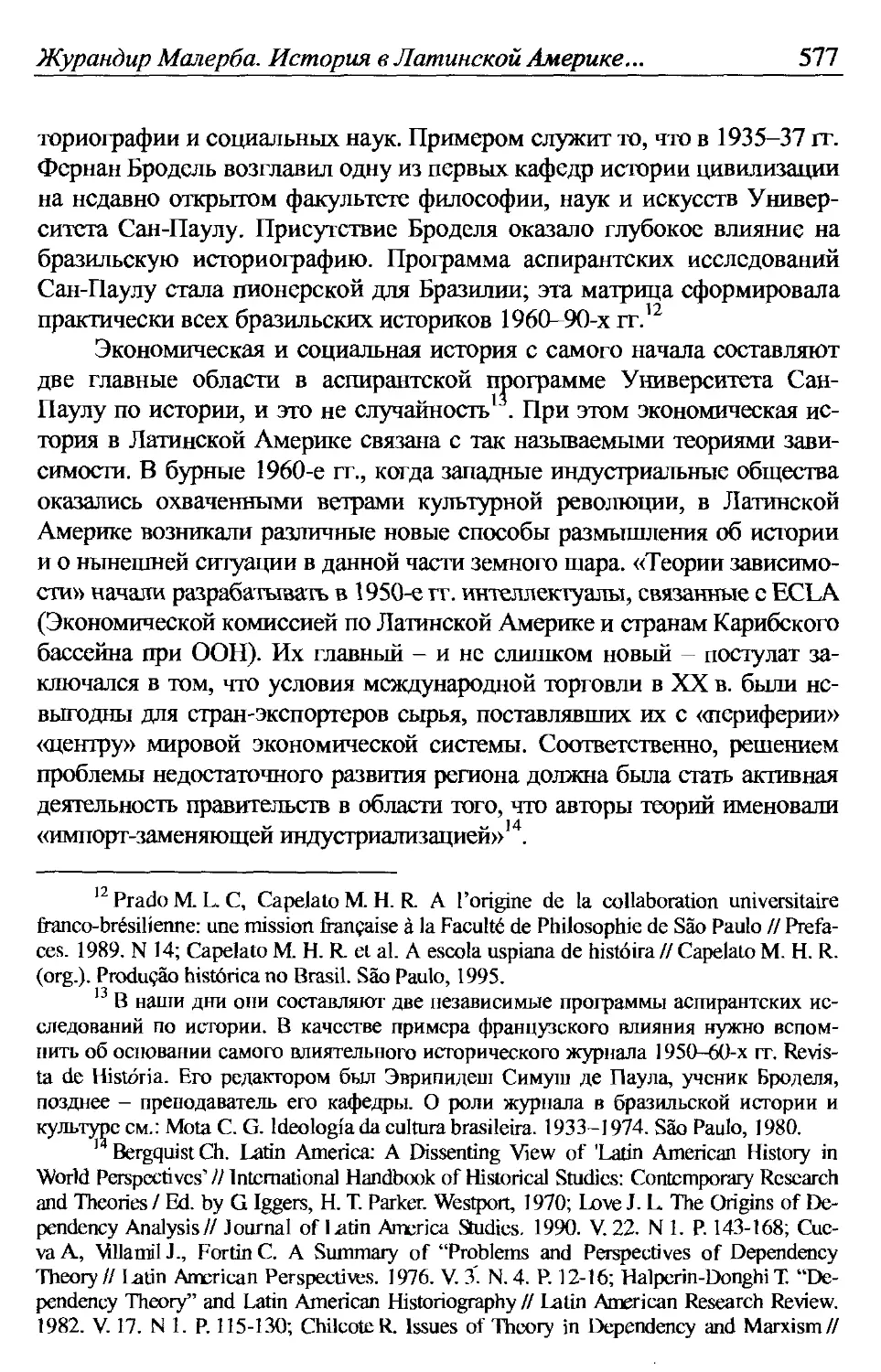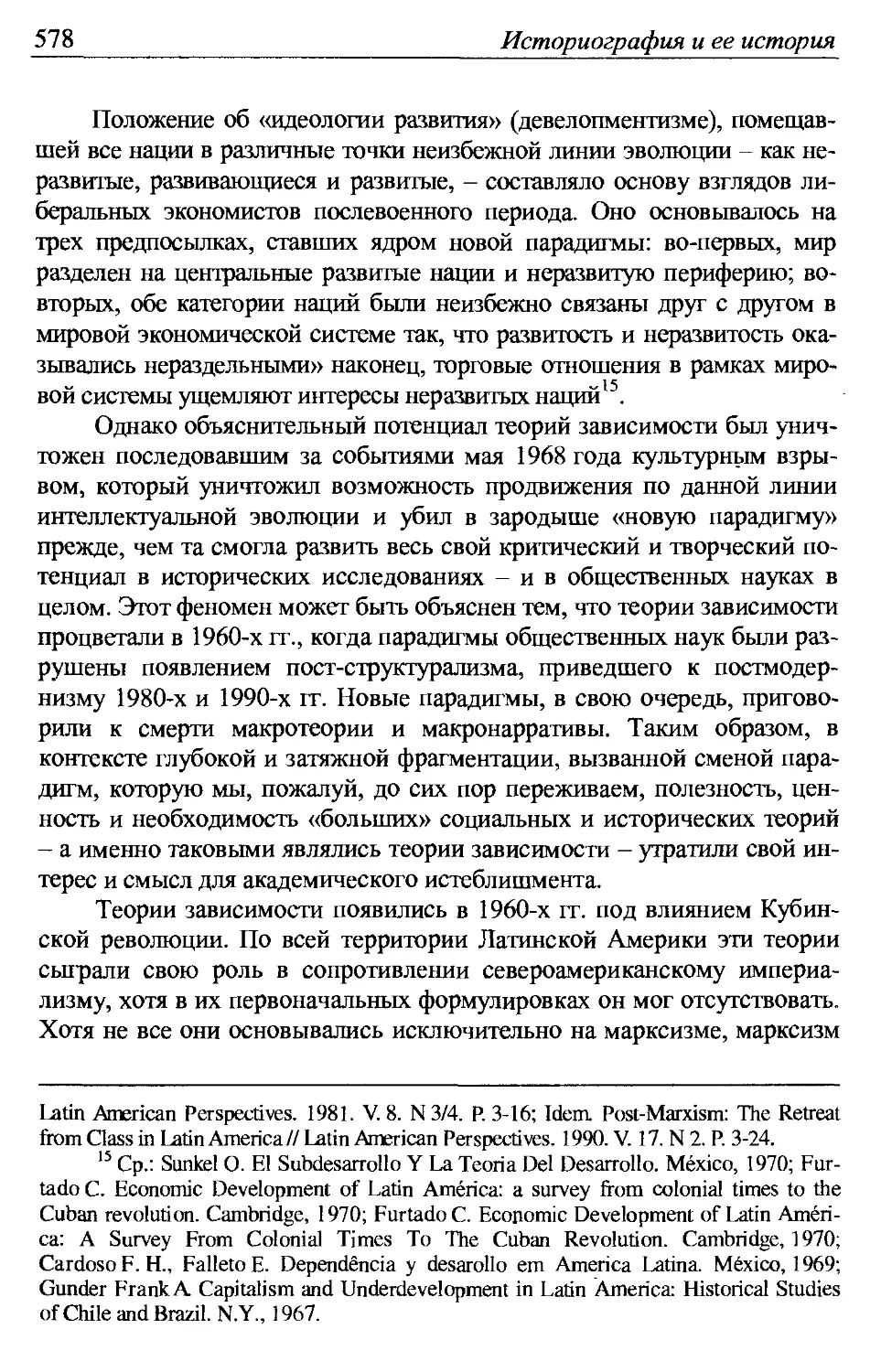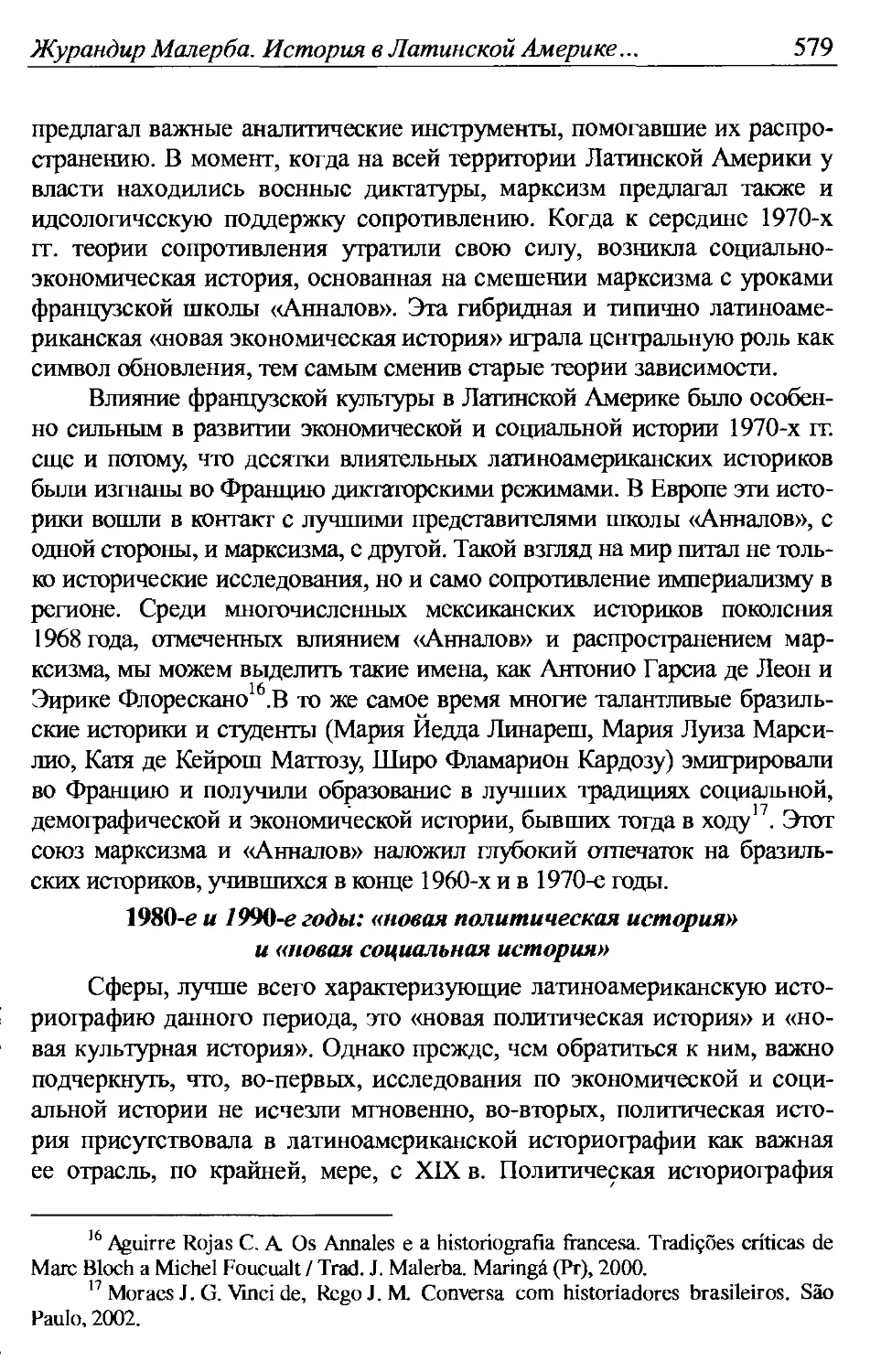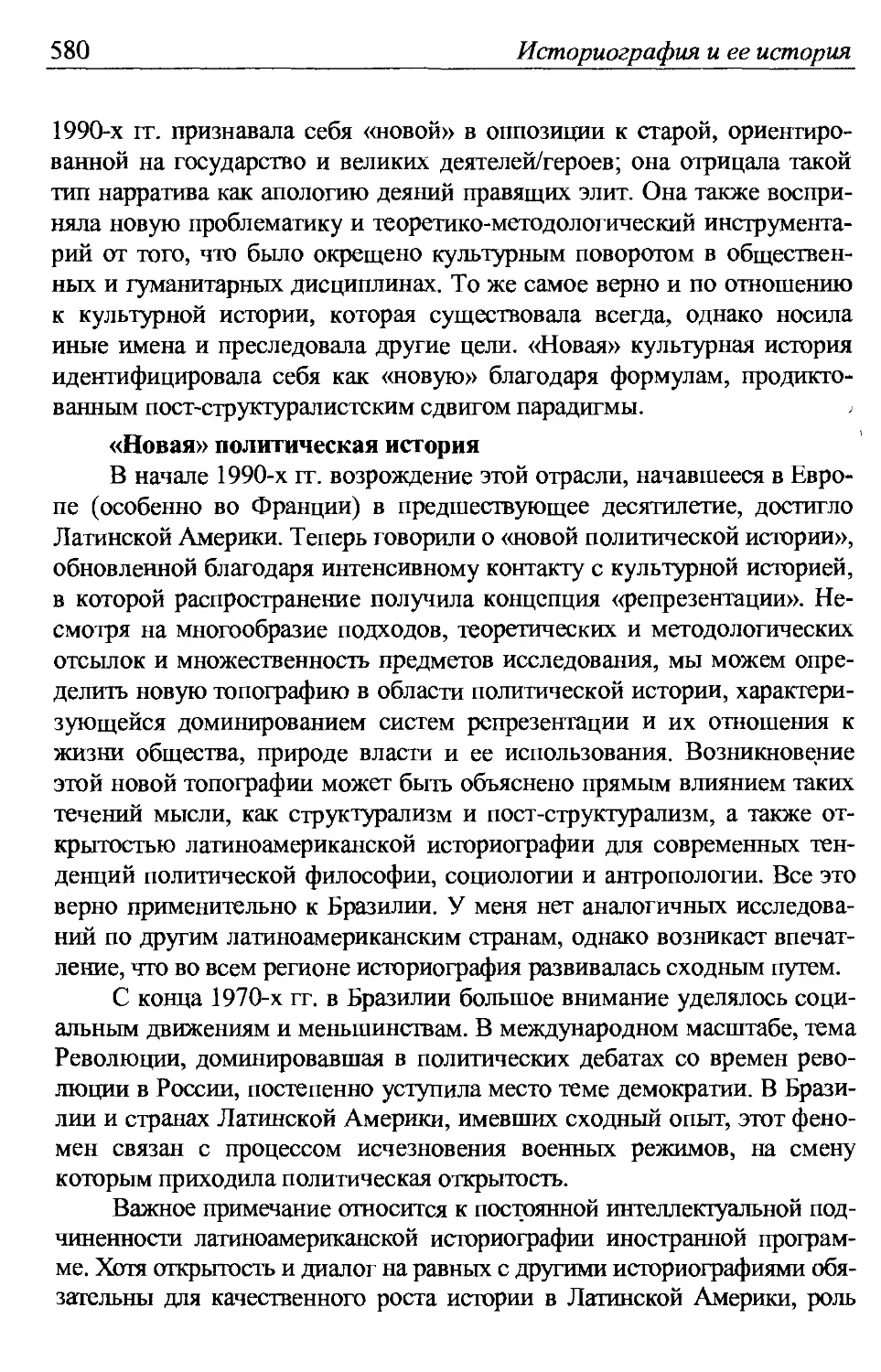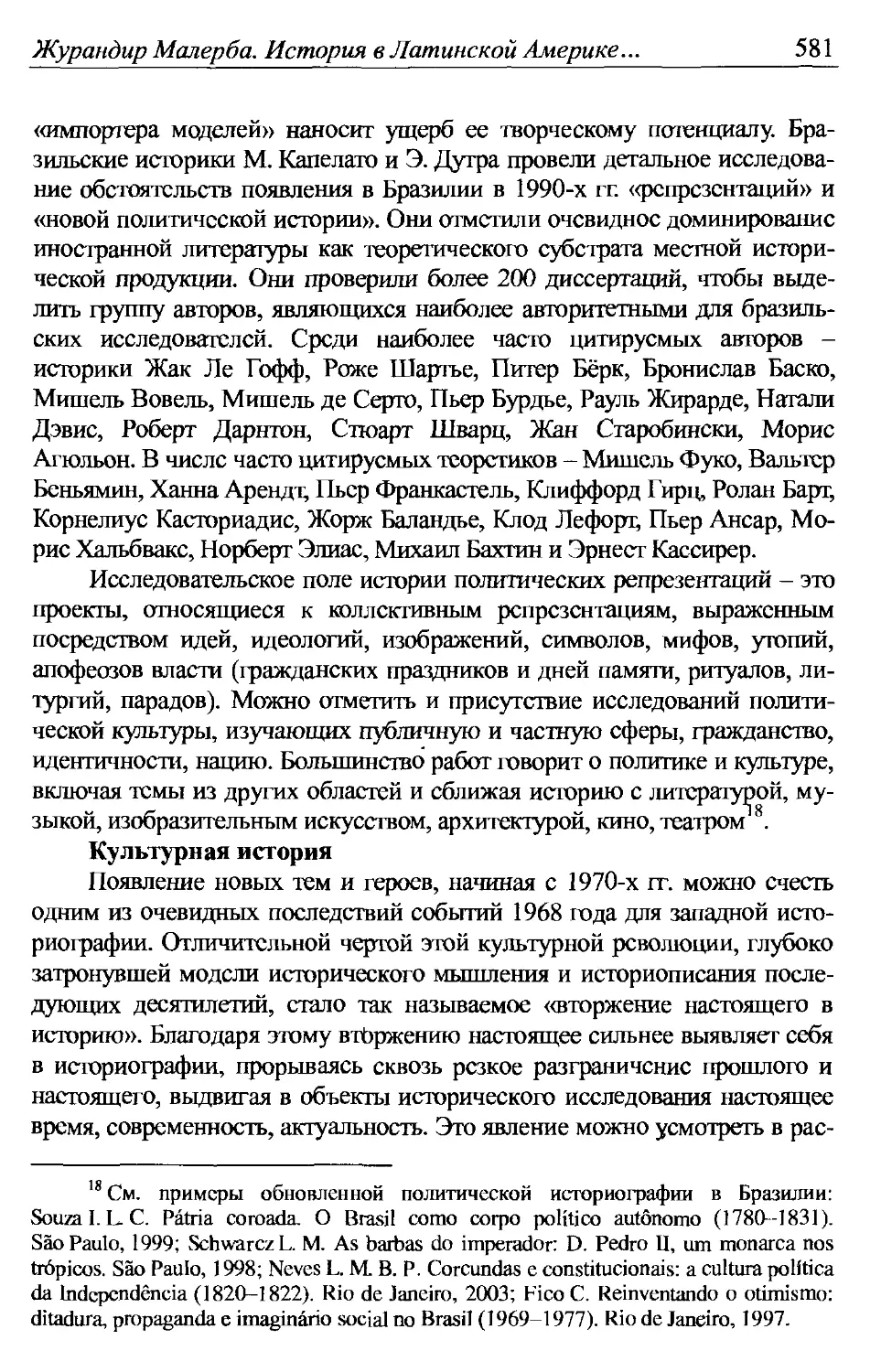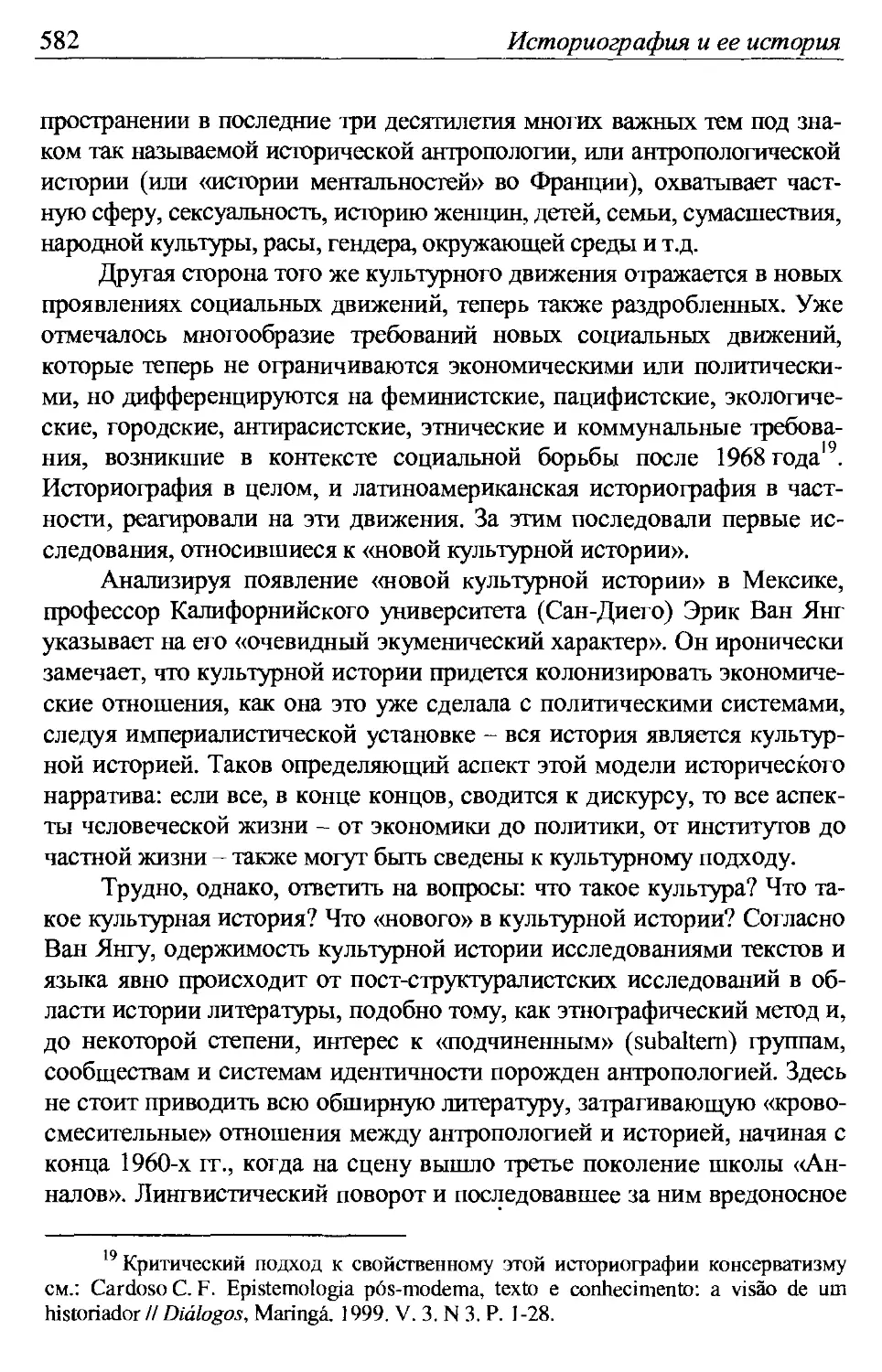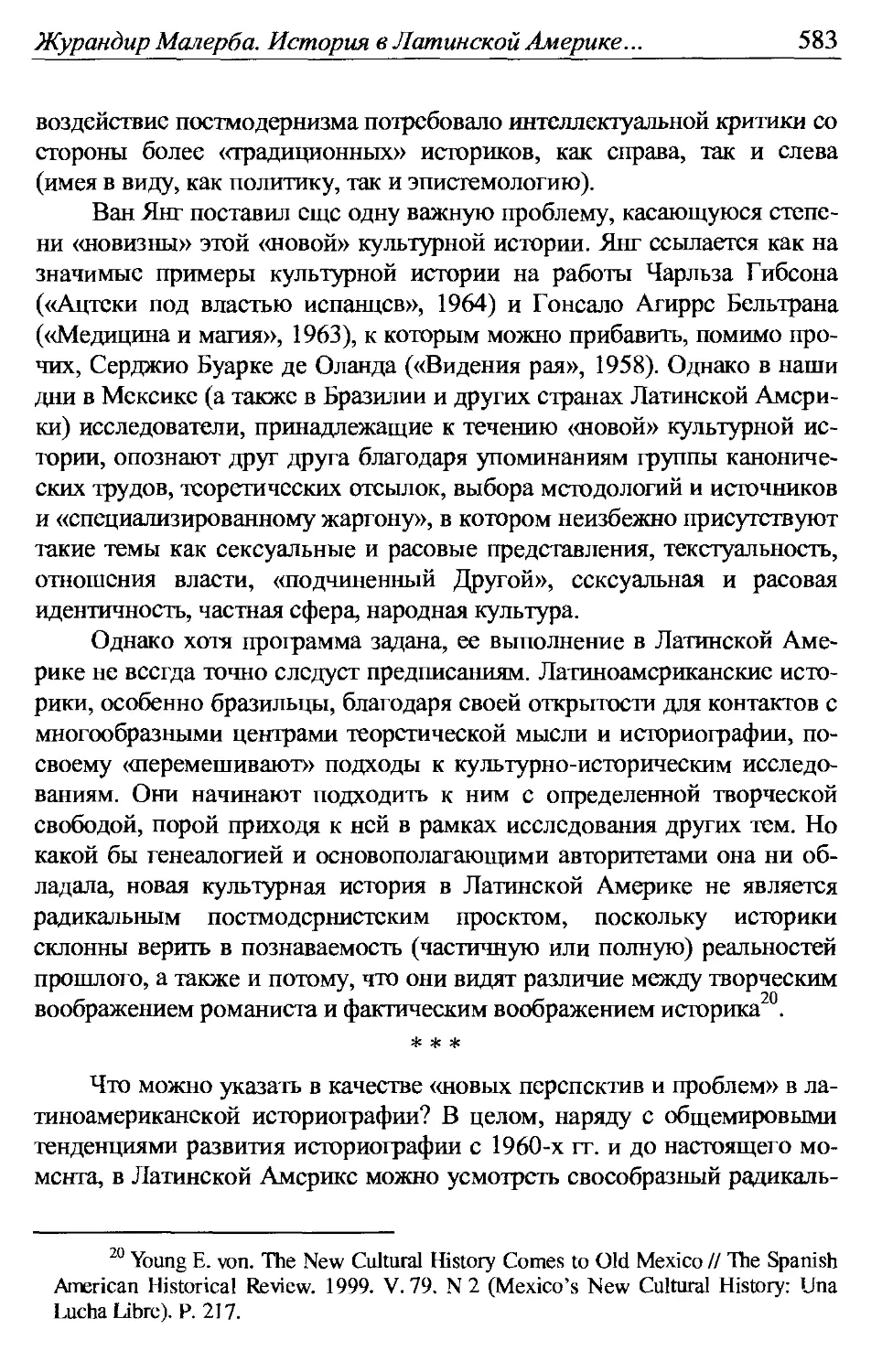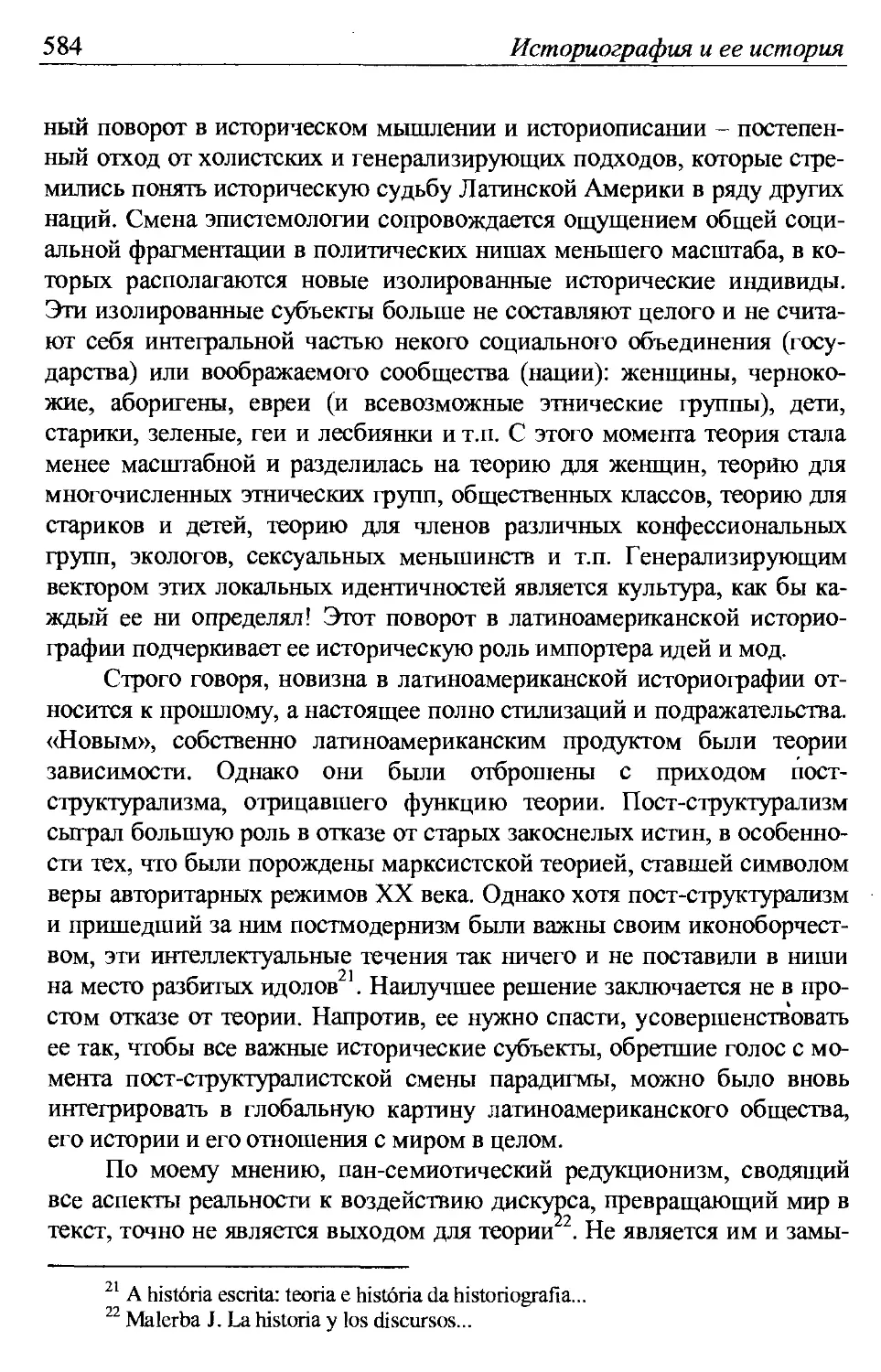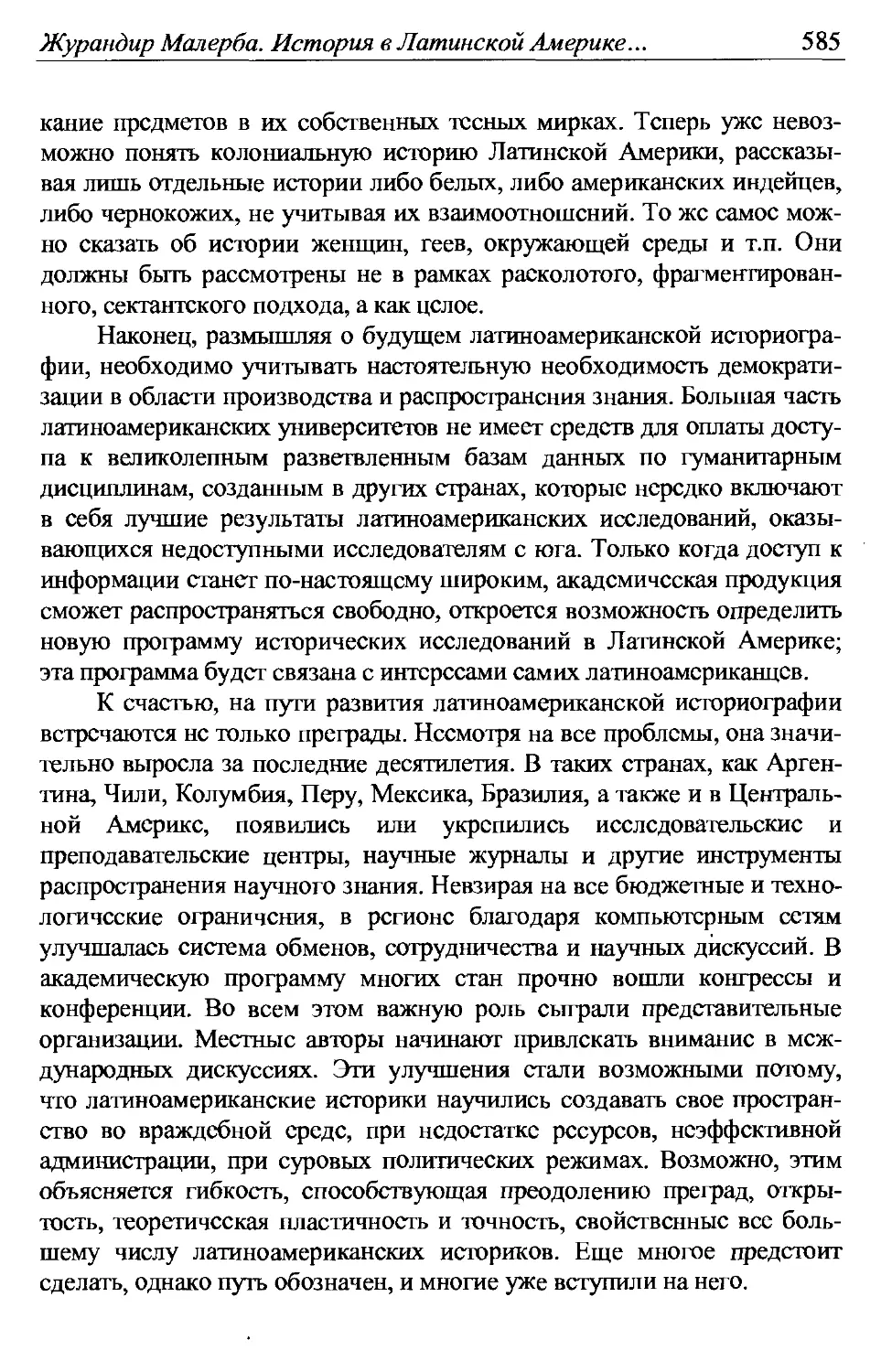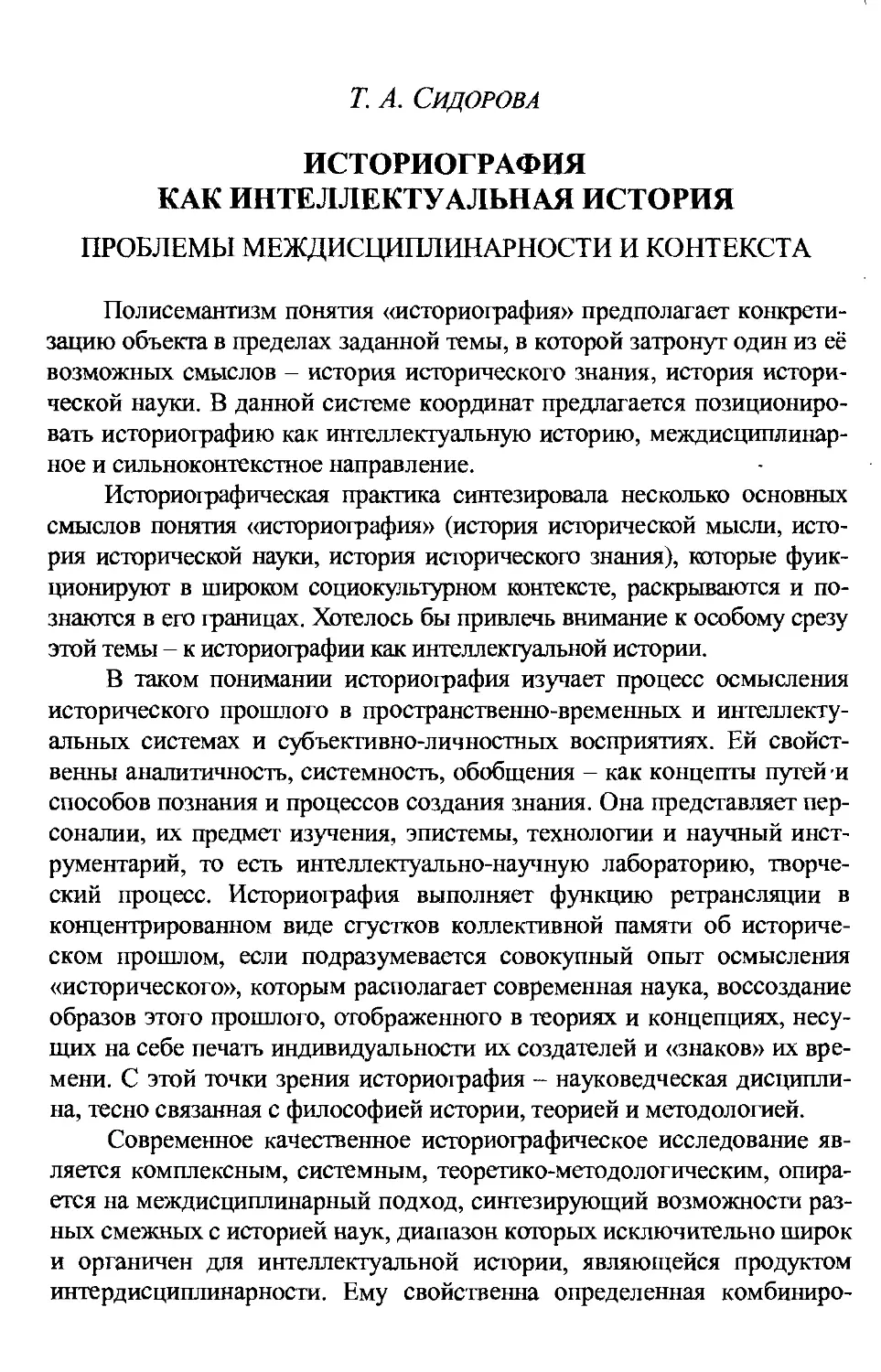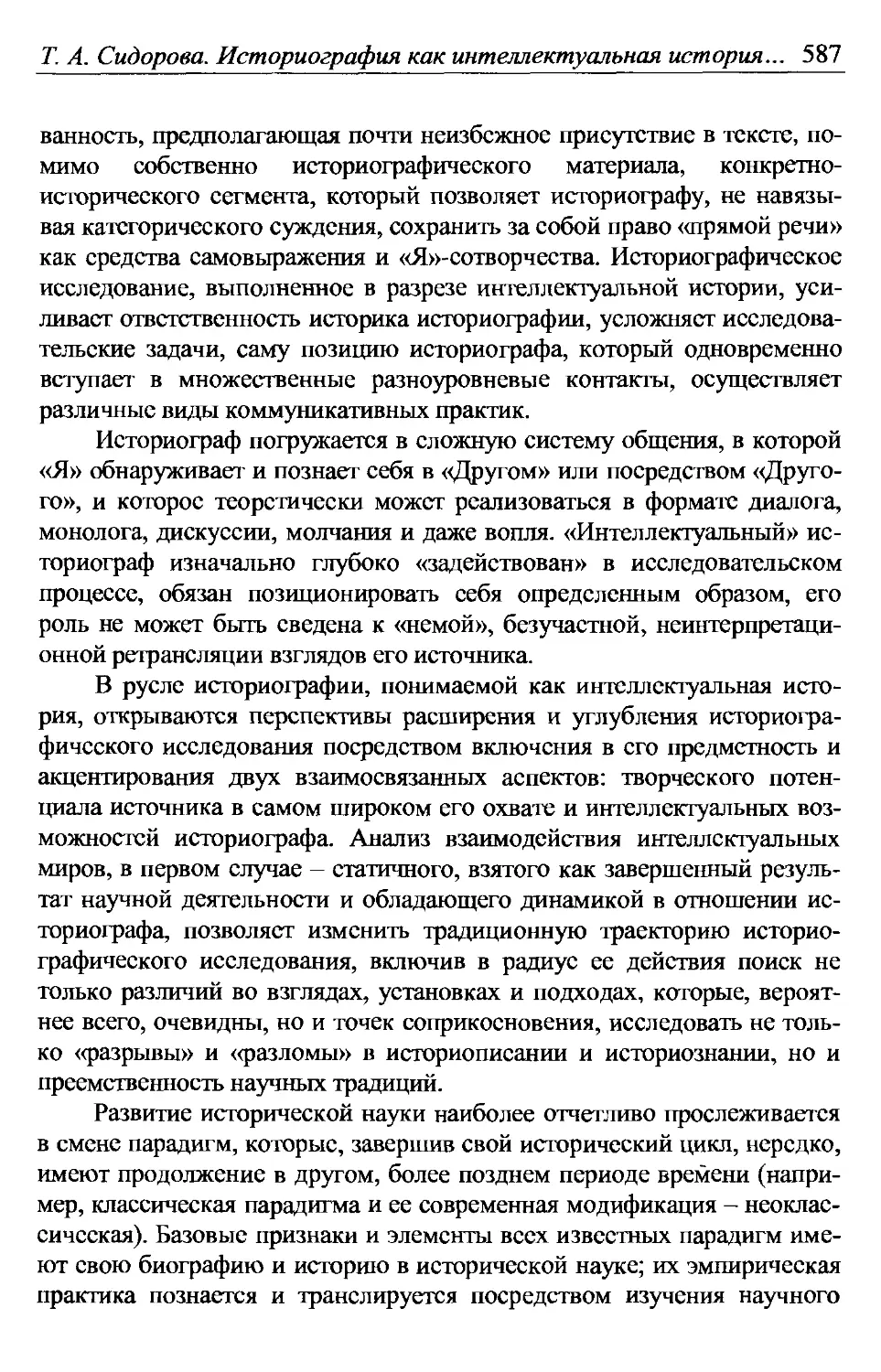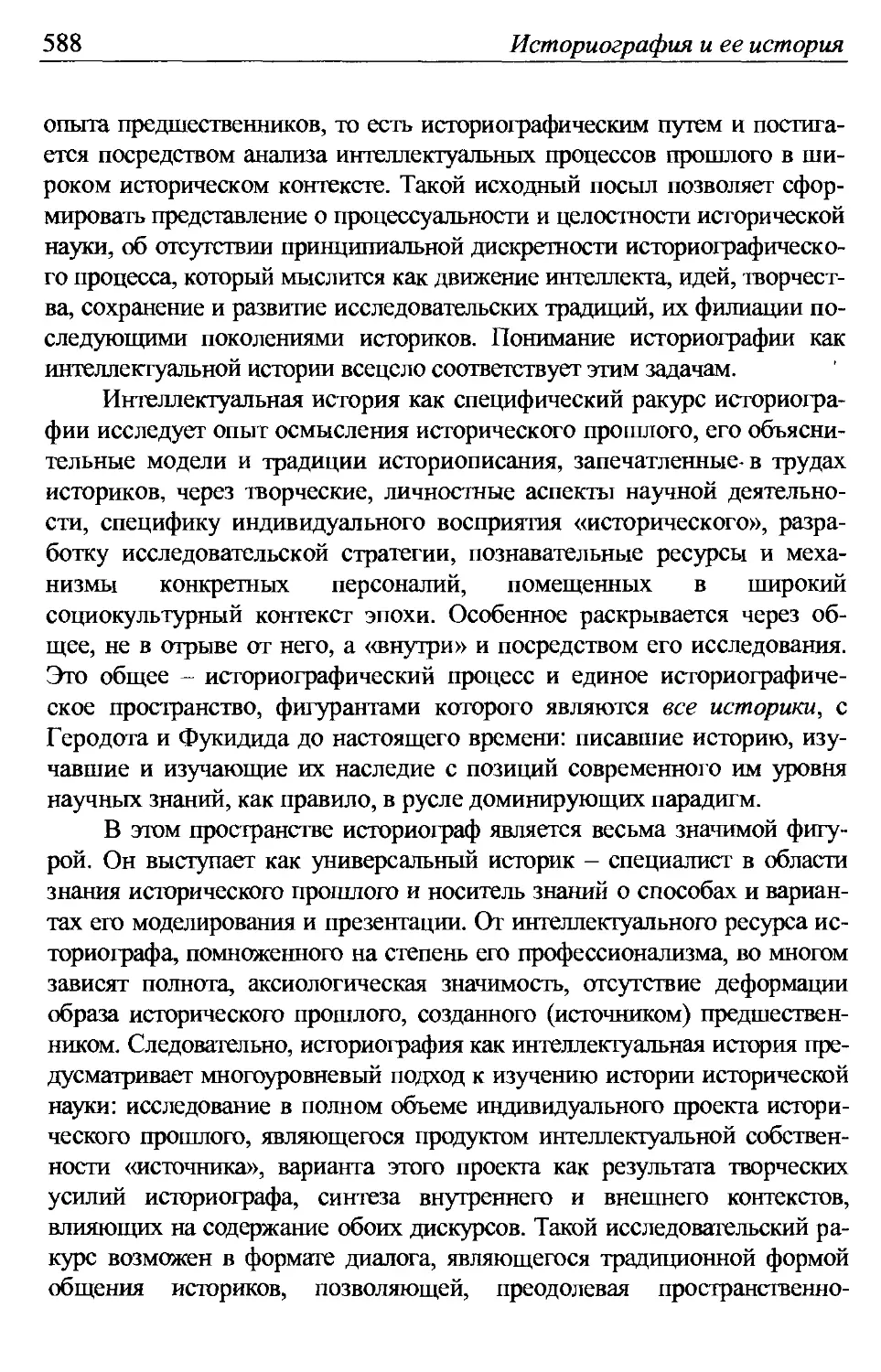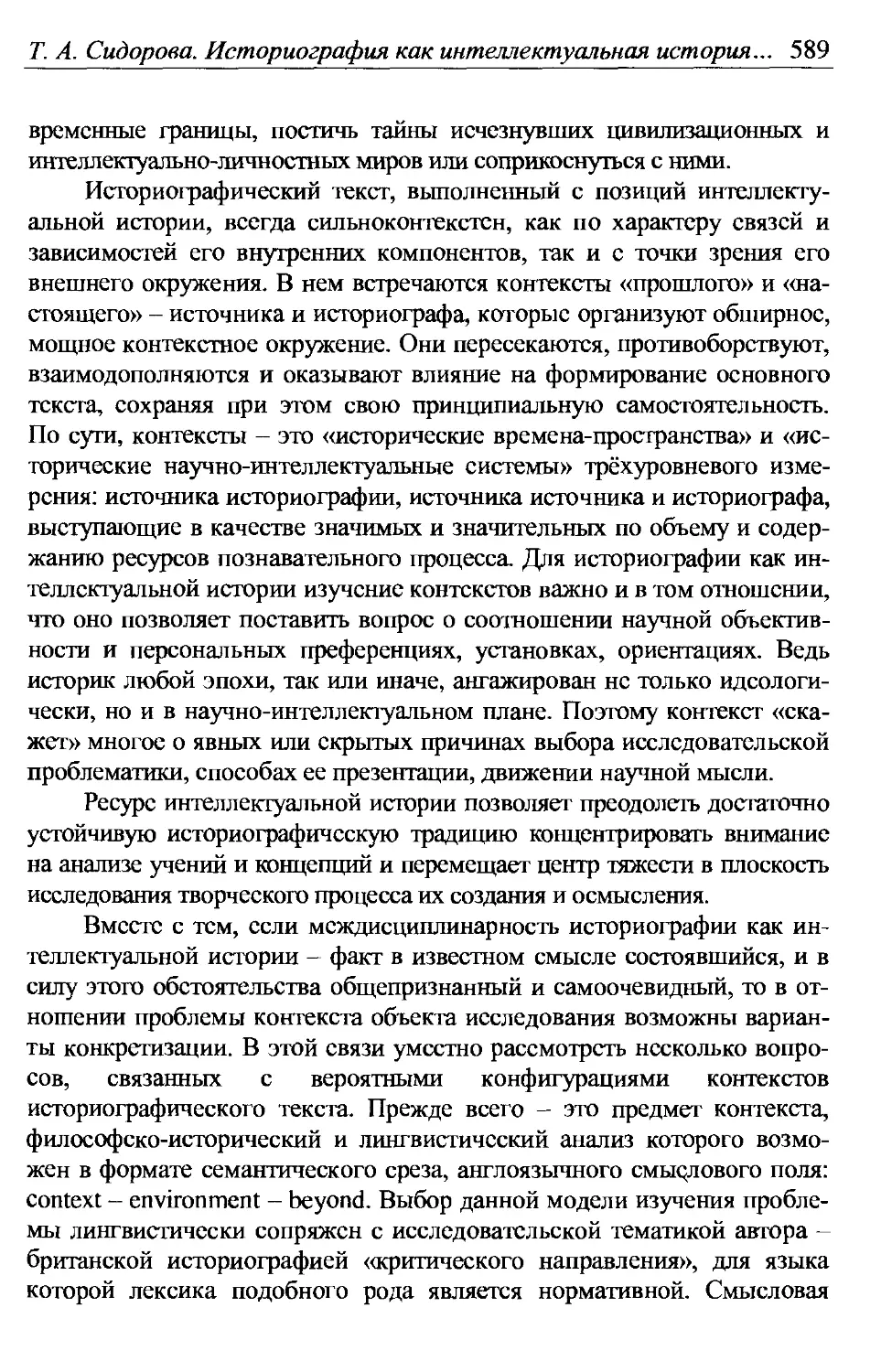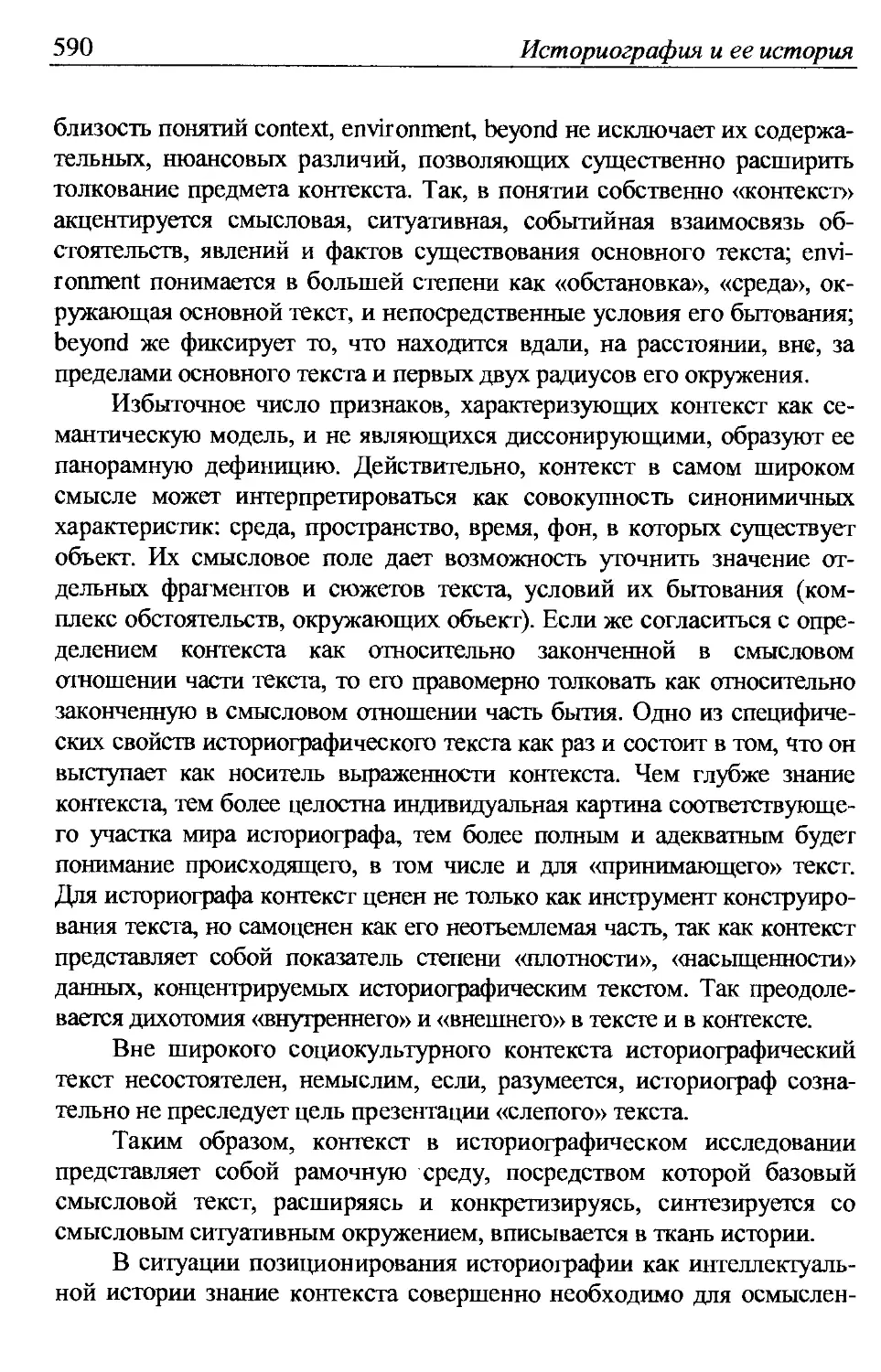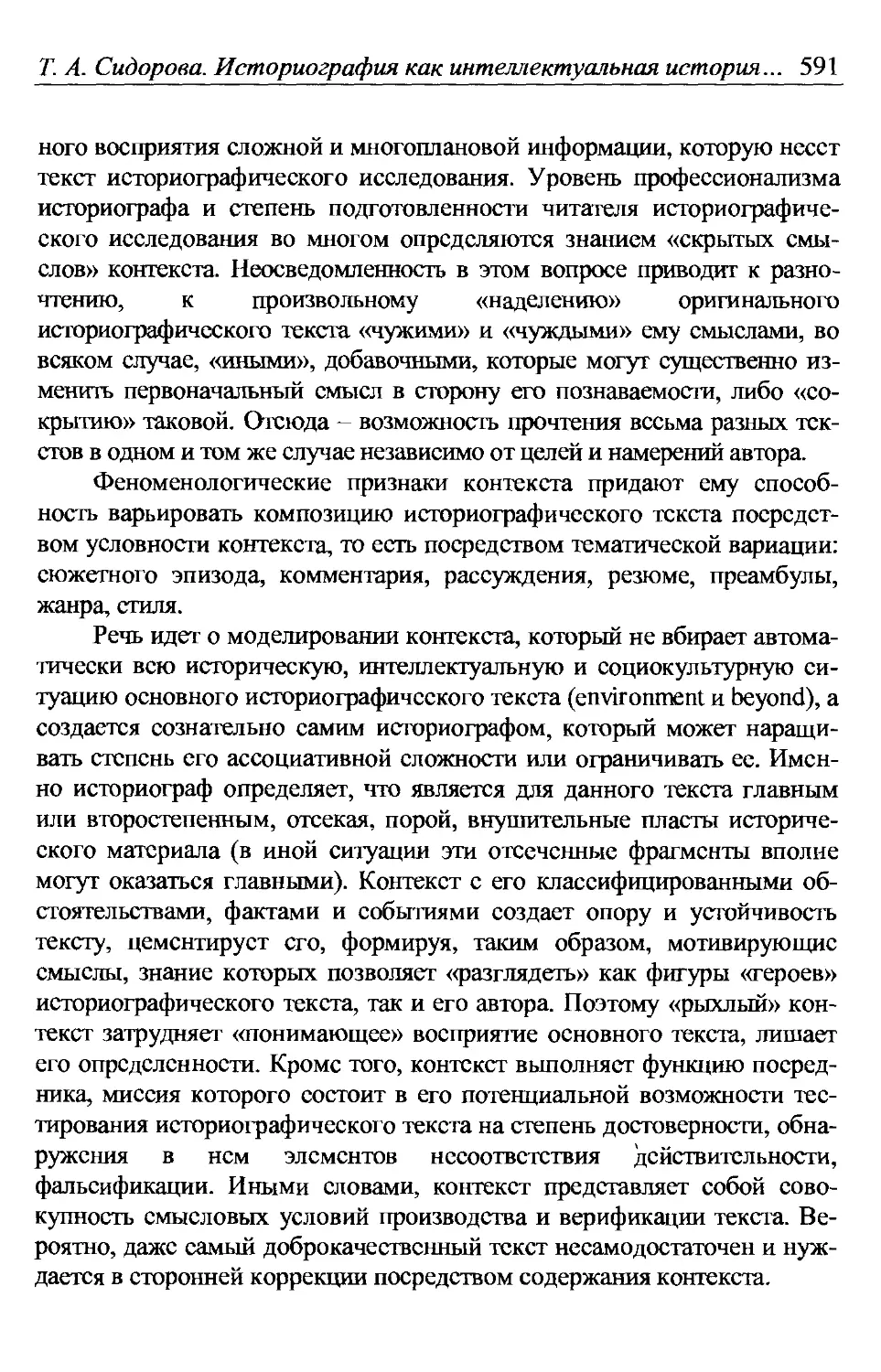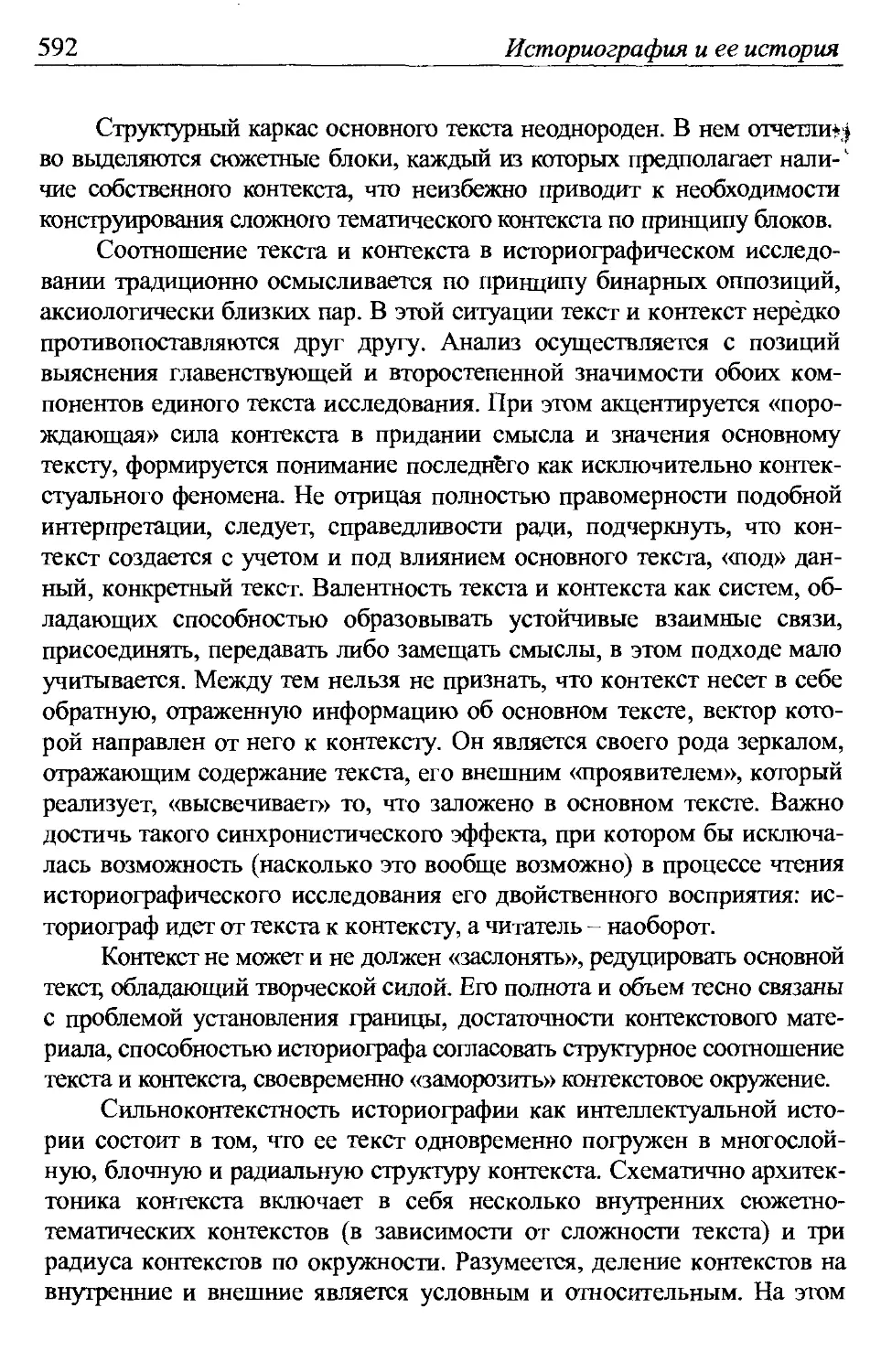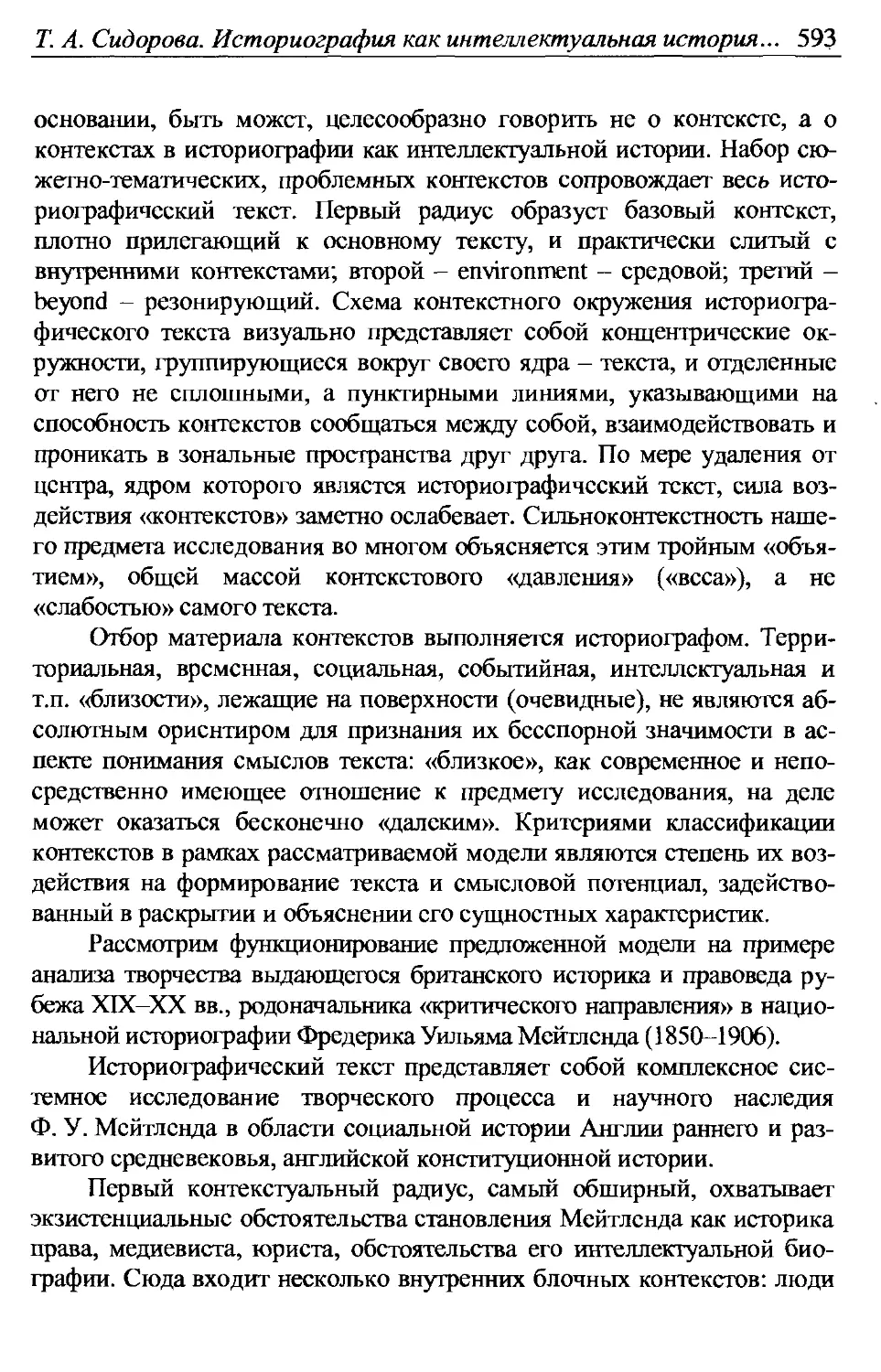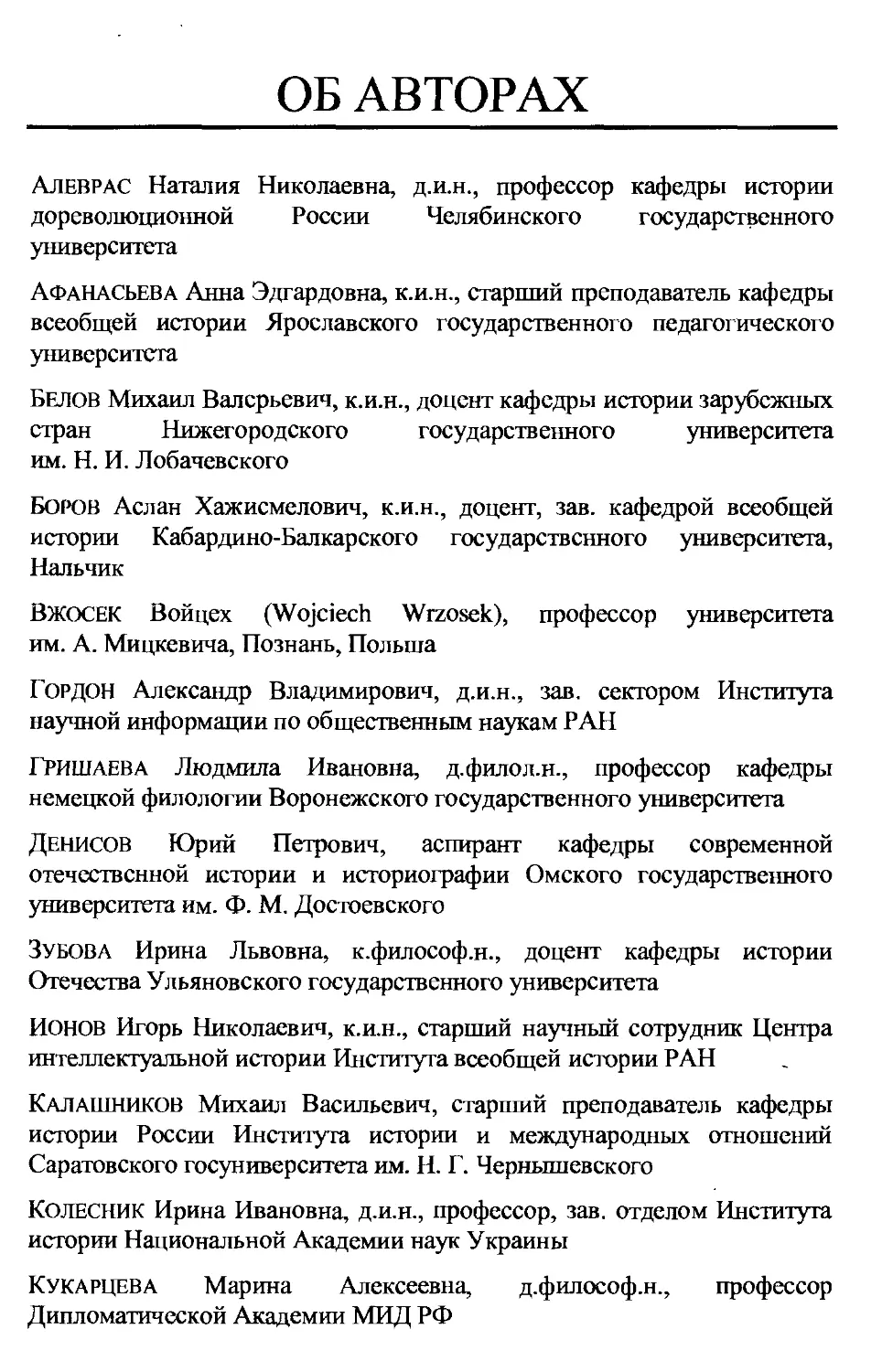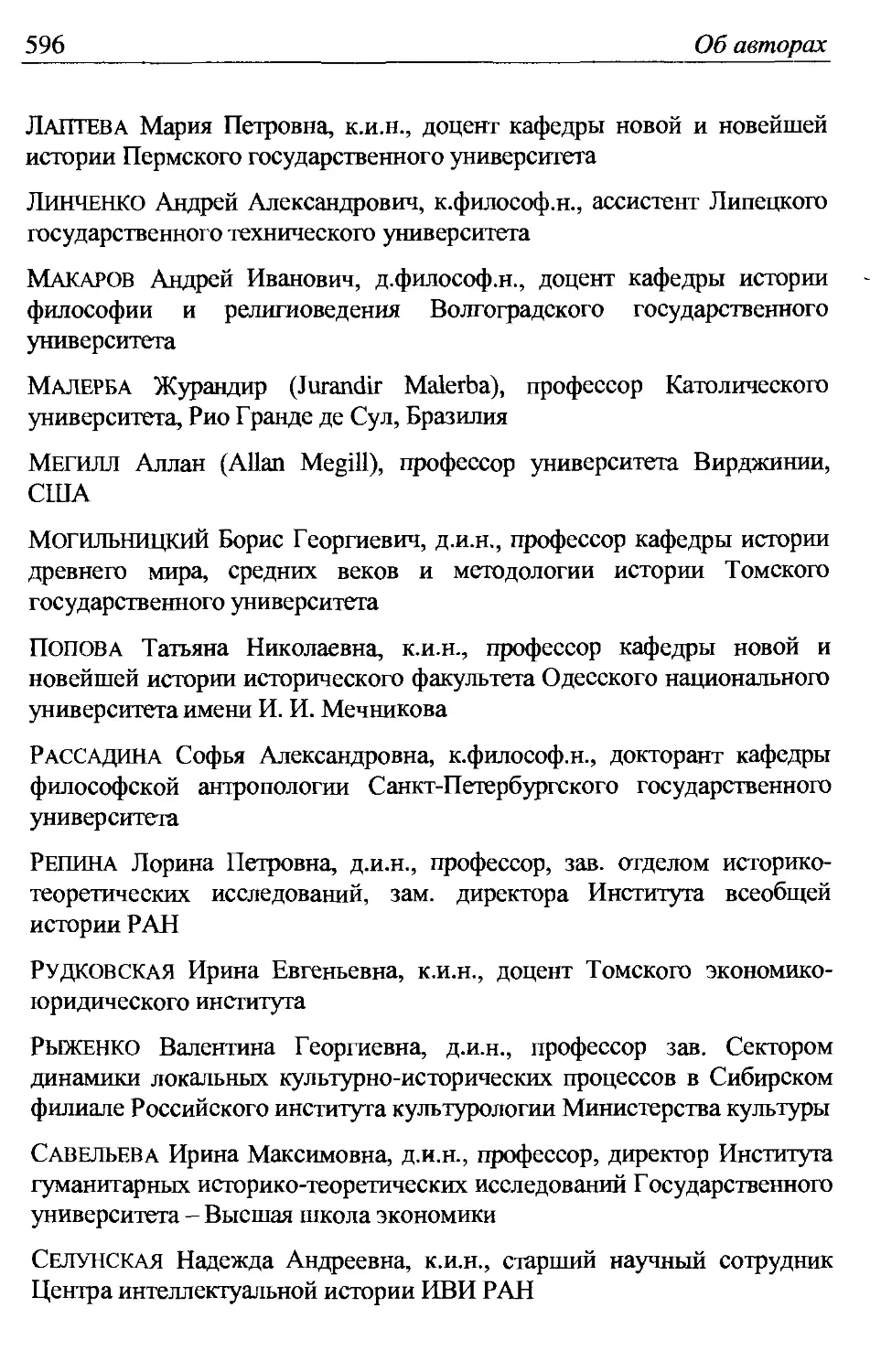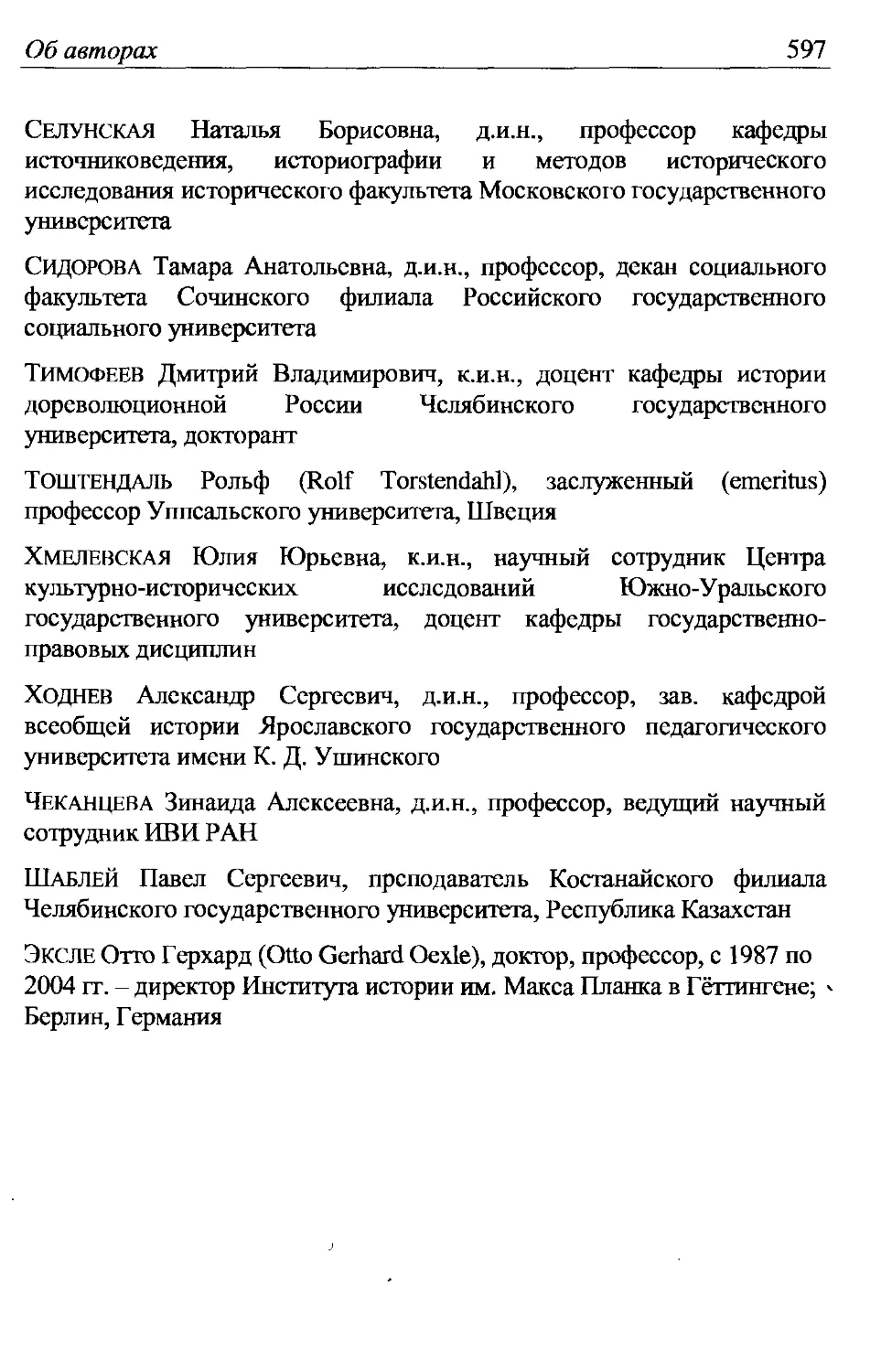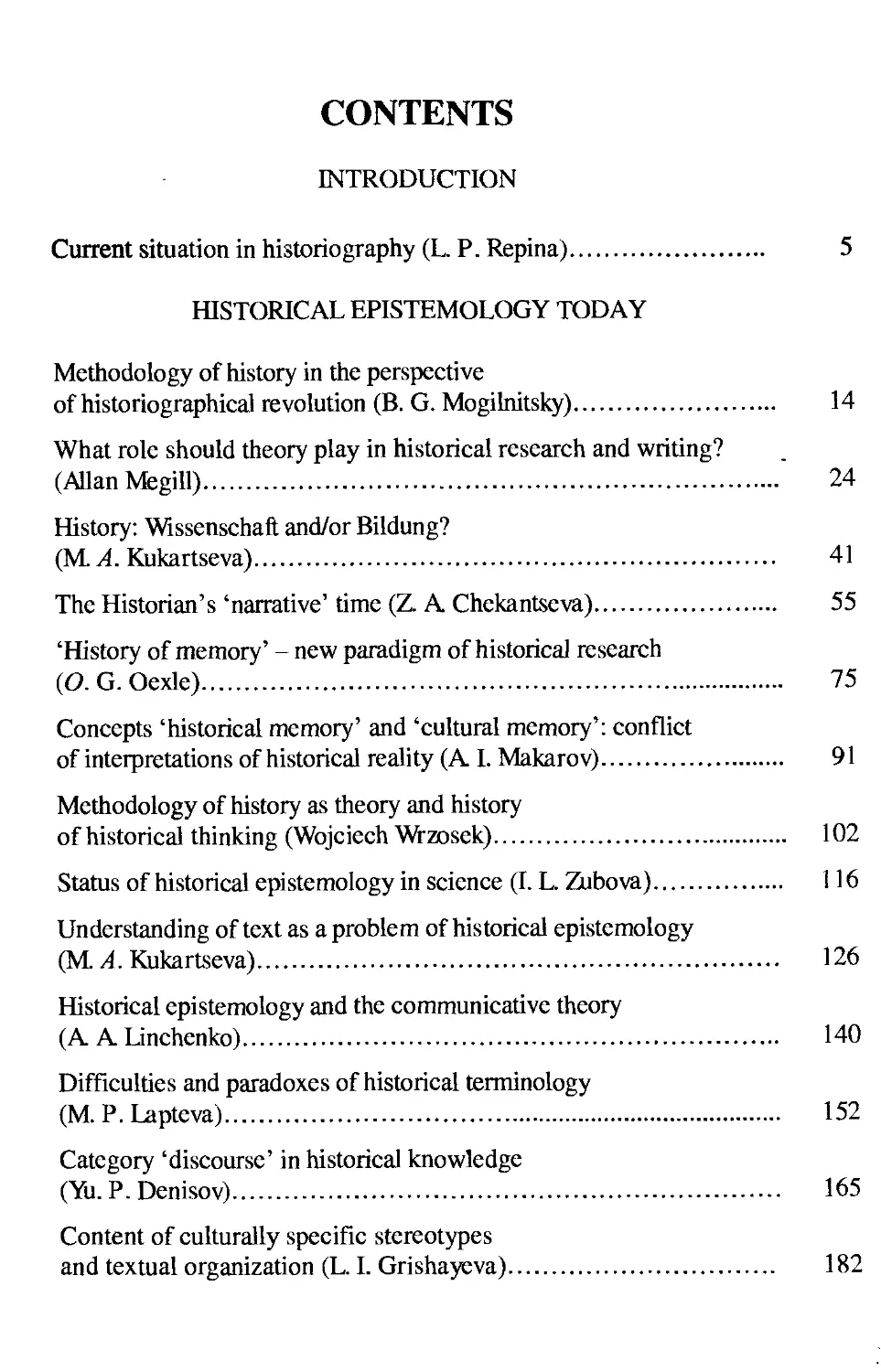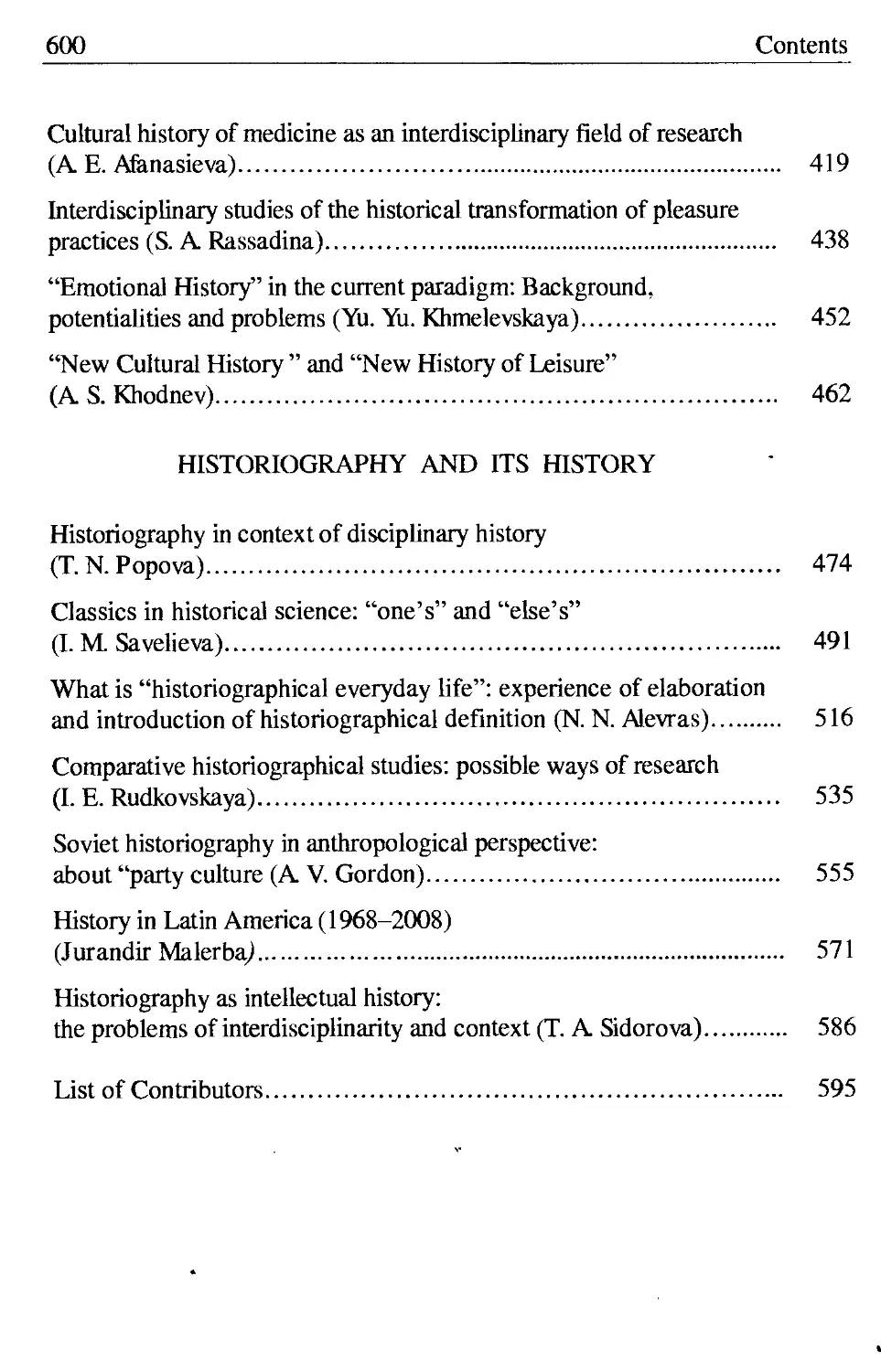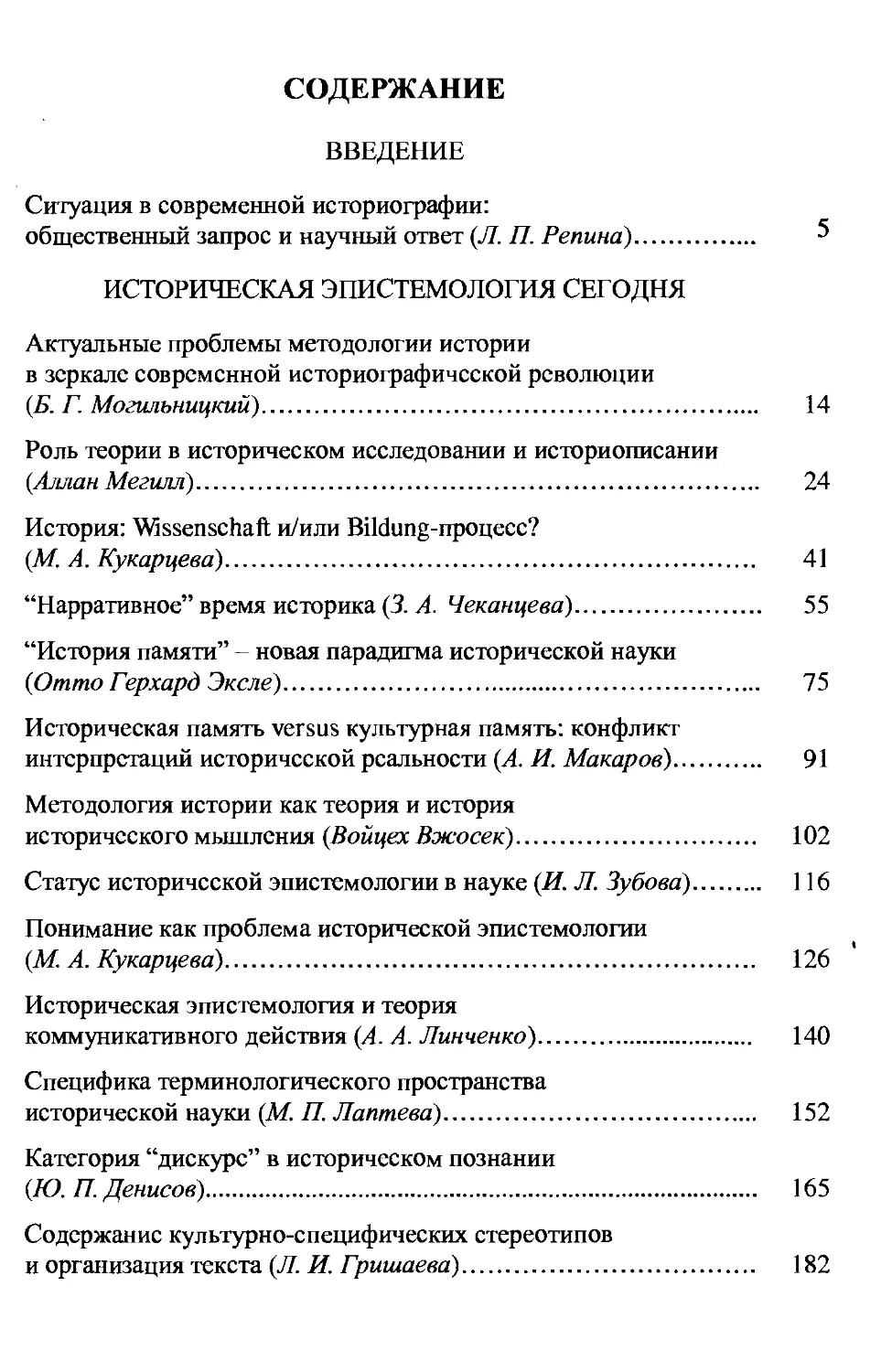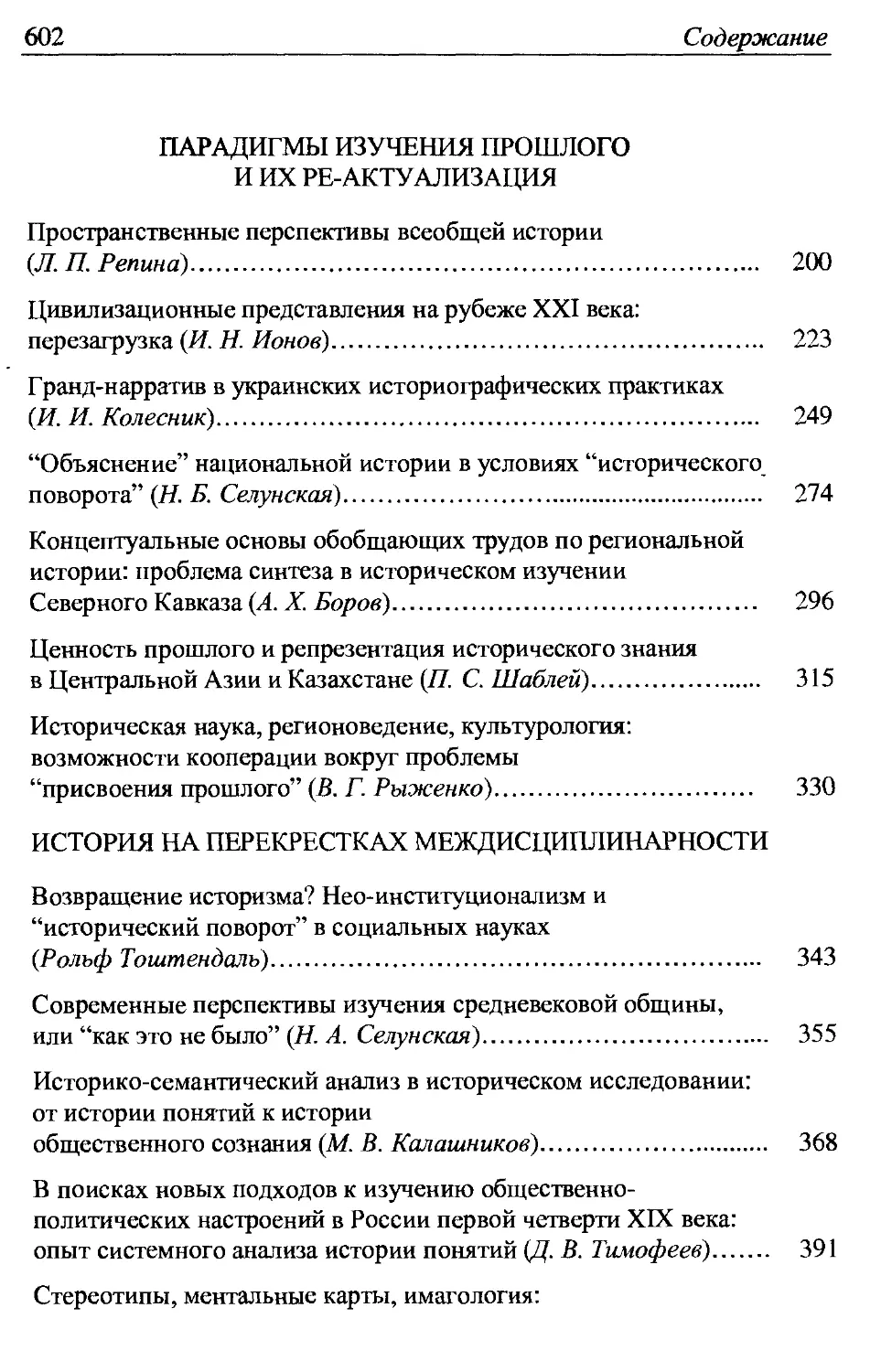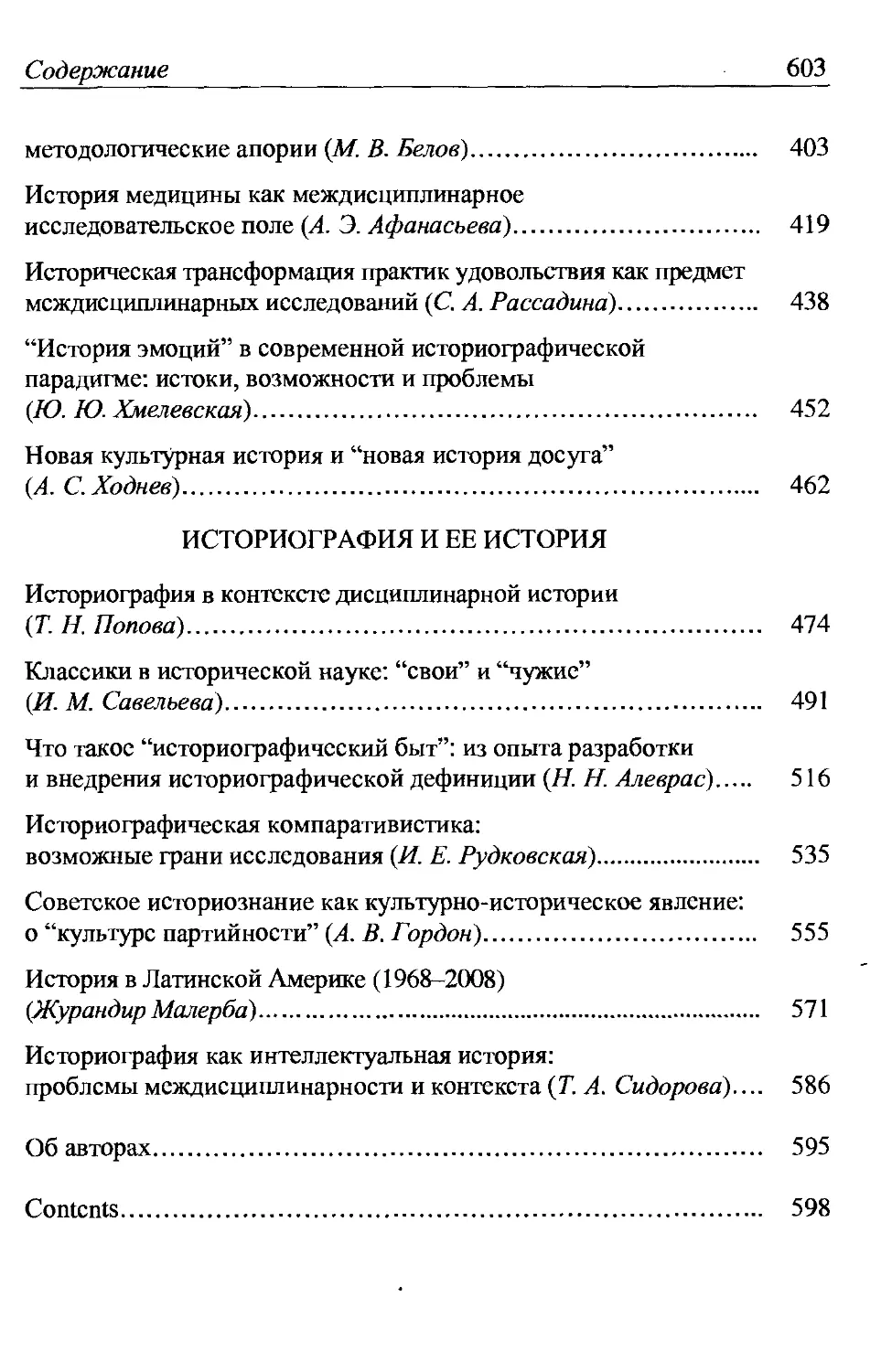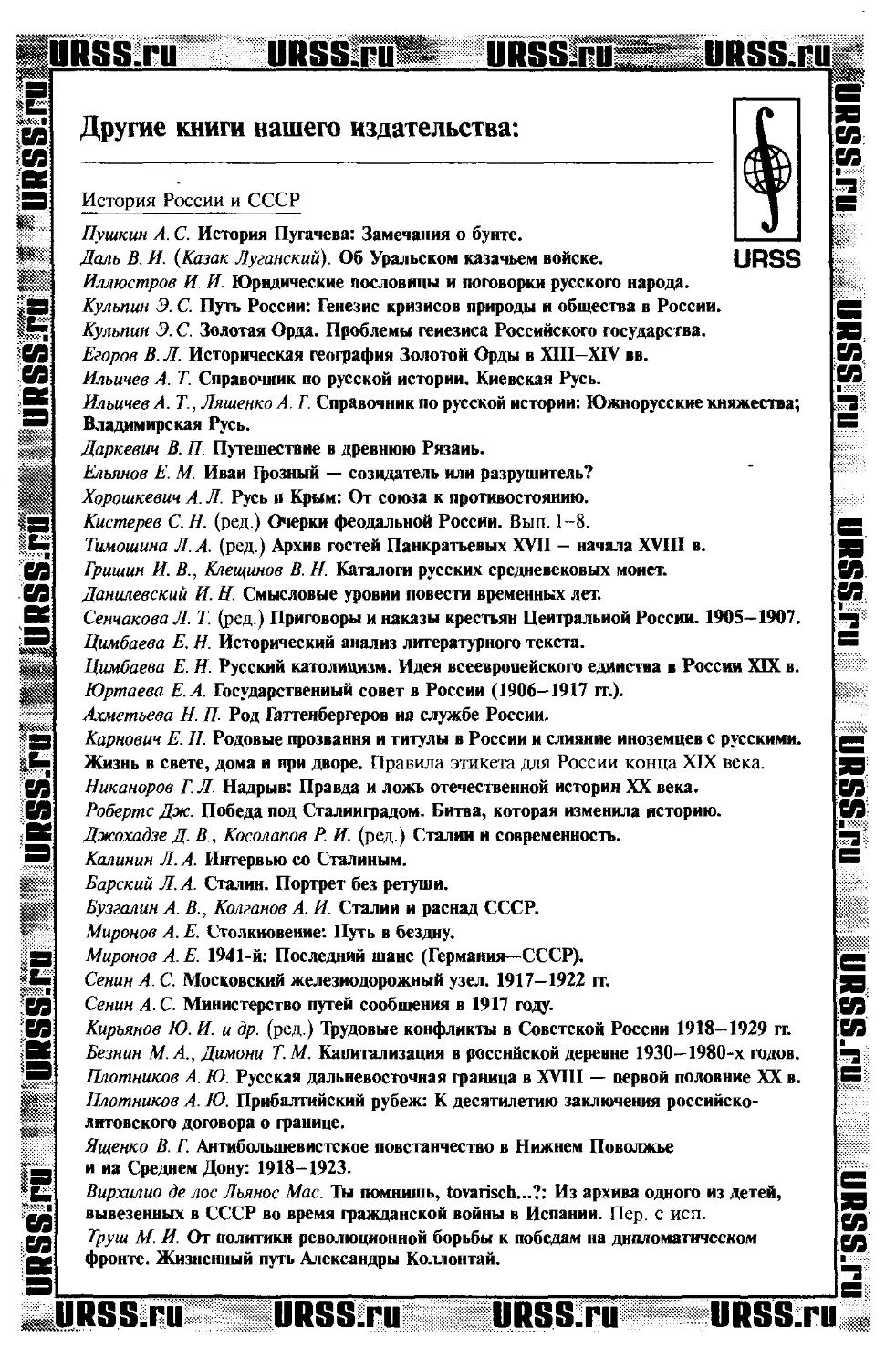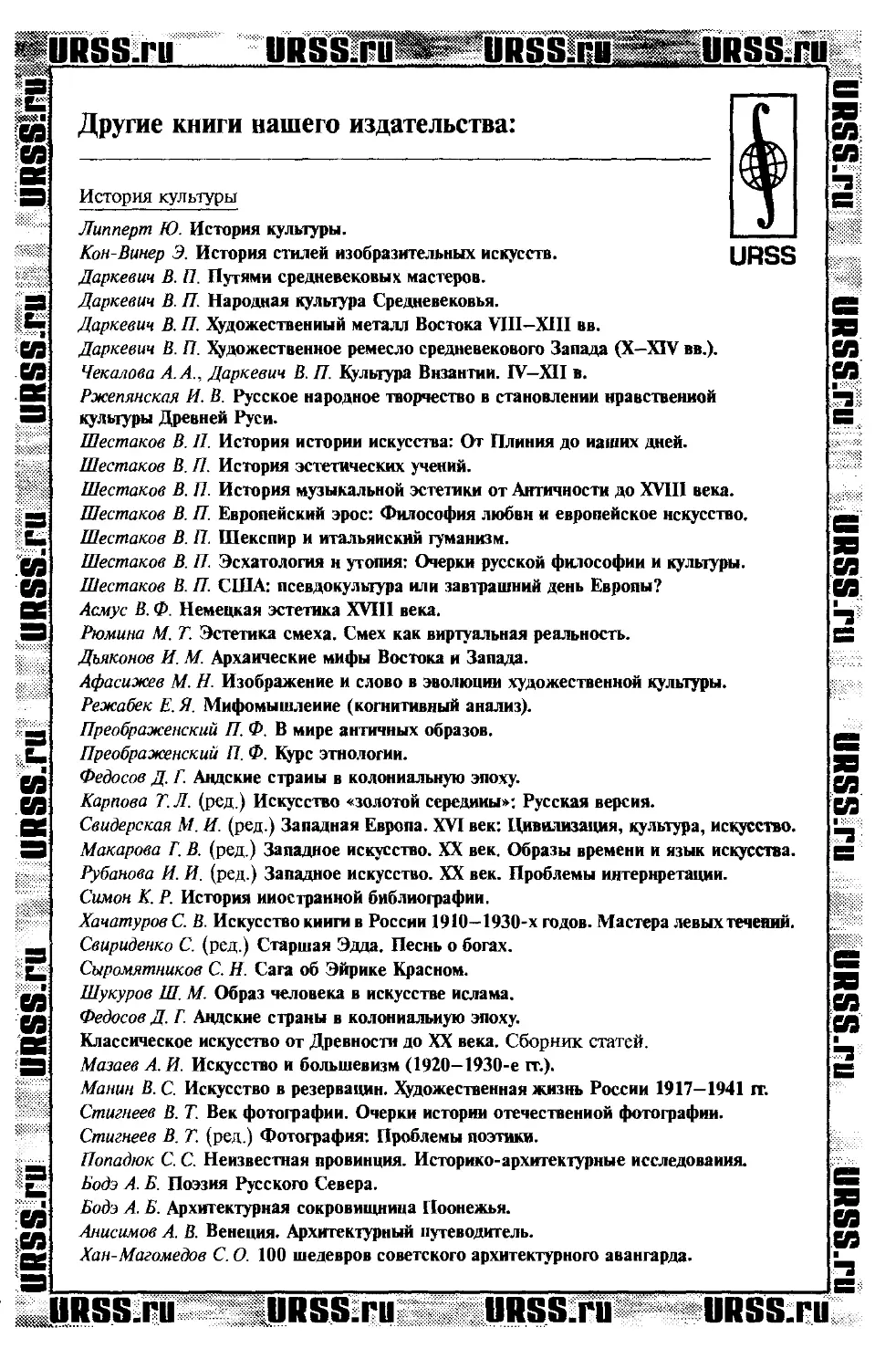Текст
{ИСТОРИЧЕСКАЯ
I | НАУКА
СЕГОДНЯ
ТЕОРИИ
МЕТОДЫ к
_______Л
ПЕРСПЕКЛИШ
IS!
В настоящей книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы истори-
ческого познания, а также вопросы, связанные с расширением междисциплинар-
ных взаимосвязей и переопределением места истории в системе современного
социально-гуманитарного знания. Авторы анализируют многочисленные новации
в области методологии, в концептуальном аппарате и инструментарии историче-
ского исследования, раскрывают эвристические возможности новейших подходов
и направлений, достижения и познавательные границы исторических субдисцип-
лин, сформировавшихся на рубеже XX-XXI вв. в результате «лингвистического»,
«культурного», «прагматического» и «визуального» поворотов в историческом
знании, перспективы микро- и макроподходов, глобальной, региональной, новой
локальной, компаративной историографии, истории эмоций, истории понятий, ин-
теллектуальной истории и т.д.
Отзывы о настоящем издании,
а также обнаруженные опечатки присылайте
по адресу URSS@URSS.ru,
Ваши замечания и предложения будут учтены
и отражены на web-странице этой книги
в нашем интернет-магазине http://URSS.ru
E-mail:
URSS@URSS.ru
Каталог изданий
в Интернете:
http://URSS.ru
lipcc НАШИ НОВЫЕ
UIXVV КООРДИНАТЫ 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
HISTORICAL DISCIPLINE
TODAY
THEORIES, METHODS, PERSPECTIVES
Second edition
URSS
MOSCOW
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
СЕГОДНЯ
ТЕОРИИ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Издание второе
МОСК ОД
ББК63.3 87.1
Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы /
Под ред. Л. П. Репиной. Изд. 2-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2012. — 608 с.
В настоящей книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы историче-
ского познания, а также вопросы, связанные с расширением междисциплинарных
взаимосвязей и переопределением места истории в системе современного социально-
гуманитарного знания. Авторы анализируют многочисленные новации в области
методологии, в концептуальном аппарате и инструментарии исторического исследо-
вания, раскрывают эвристические возможности новейших подходов и направлений,
достижения и познавательные границы исторических субдисциплин, сформировав-
шихся на рубеже XX-XXI вв. в результате «лингвистического», «культурного»,
«прагматического» и «визуального» поворотов в историческом знании, перспективы
микро- и макроподходов, глобальной, региональной, новой локальной, компаративной
историографии, истории эмоций, истории понятий, интеллектуальной истории и т. д.
Издательство ЛКИ. 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56.
Формат 60x90/16. Печ. л. 38. Зак. № ПЖ-67.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.
ISBN 978-5-382-01343-5
© Институт всеобщей истории РАН,
2010, 2011
© Общество интеллектуальной
истории, 2010, 2011
© Издательство ЛКИ, 2010,2011
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
р E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
W http://URSS.ru
м Тел./факс (многоканальный):
URSS + 7 (499) 724-25—45
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или
передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то элек-
тронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.
ВВЕДЕНИЕ
Л. П. Репина
СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС И НАУЧНЫЙ ОТВЕТ*
В каждую эпоху с изменением условий существования общества
по-своему раскрываются природа и возможности человека, его отноше-
ния с окружающим миром, социальные взаимодействия, ценностные
ориентации, познавательные приоритеты, ведущие тенденции в разви-
тии культуры. На вызовы и кризисы, столь остро ощущаемые в период
рубежа веков, формулируются и предлагаются обществу конструктив-
ные «ответы», в том числе - новые образы культуры и новые модели
интеллектуального опыта.
Разительные перемены, произошедшие в мире за последние два
десятилетия, преобразовали и пространство социогуманитарного зна-
ния, включая современную историографию, тенденции которой, как
никогда, многообразны и неоднозначны. С невероятной быстротой про-
должает расти корпус микроисторических исследований, и в то же вре-
мя становятся все более интенсивными усилия по историческому ос-
мыслению глобальных процессов. В новом контексте пересматривается
и содержание таких привычных понятий, как «всемирная история» и
«всеобщая история». С учетом «культурного поворота», который пере-
жила не только историография, но и общественные науки, в том числе
социология* 1, обновляется методология компаративной истории, которая
ориентируется на преодоление европоцентризма, акцентирование - на-
ряду с обнаруживаемыми аналогиями - контрастов и различий, после-
довательный учет разнообразия локальных контекстов и культурных
традиций. Параллельно происходит переопределение внутридисципли-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государст-
венный контракт 02.740.11.0350.
1 В частности, это обстоятельство побудило известного британского историка
Питера Берка поменять во втором издании название своей часто цитируемой книги
«Социология и история» на более, по его мнению, адекватное текущей интеллекту-
альной ситуации - «История и социальная теория». Было специально отмечено, что
он использует термин «социальная теория», включая в него «теорию культуры». См.:
Burke Р. History and Social Theory. Second Edition. Cambridge, 2005. Preface. P. IX-X.
6
Введение
нарной иерархии и множится богатство междисциплинарных связей
исторической науки, как и усилия историков и представителей смежных
2
наук по их осмыслению и оптимизации .
Вот уже несколько десятилетий интсрдисциплинарность является
неотъемлемой характеристикой социально-гуманитарных дисциплин.
За это время в результате целого ряда «поворотов» и «революций» в
интеллектуальной сфере многое изменилось в конфигурации междис-
циплинарного взаимодействия, в подходах к изучению прошлого, в
концептуально-методологическом оснащении и в понимании предмета
и статуса исторической науки. Систематический анализ разнообразных
исследовательских практик, опирающихся на междисциплинарные под-
ходы, и многочисленных теоретико-методологических дискуссий об
эффективности и границах их применения в разных областях историче-
ского знания показывает, что само понятие междисциплинарности, от-
ражая смену эпистемологических ориентиров, также меняет свое со-
держательное наполнение. Современная история междисциплинарности
может быть условно описана как транзит: от «интердисциплинарно-
сти» - через «поли/мультидисциплинарность» - к «трансдисциплинар-
ности». При этом надо иметь в виду, что многочисленность терминов,
употребляемых сегодня для обозначения взаимодействия наук, - вовсе
не игра в слова, терминологические «эксперименты» отражают стрем-
ление исследователей обозначить важнейшие качественные отличия в
применяемых ими подходах.
В самом конце XX в., когда история совершила свой очередной
виток и в рамках социокультурного подхода была поставлена задача
раскрыть культурный механизм социального взаимодействия, произо-
шел перенос значения с «заповедных территорий» академических дис-
циплин на постановку и решение проблем, формулируемых, по сущест-
ву, как трансдисциплинарныс: это проблемы, которые в принципе нс
могут быть поставлены в ранее конституированных дисциплинарных
границах, и последние в новой познавательной ситуации постепенно
теряют свою прежнюю актуальность. В этой связи можно говорить и о
перспективе формирования новых над-дисциплинарных областей со-
циогуманитарного знания2 3.
2 См., в частности обсуждение этих проблем в книге: Междисциплинарные
подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна» / Отв. ред. Л. П. Ренина.
М., 2005. См. также: What is History Now? // Ed. by D. Cannadine. Chippenham and
Eastbourne, 2002.
3 Интересные соображения о рудиментах междисциплинарных границ см. в
книге: Jordanova L. History in Practice. L„ 2000. Ch. 3. P. 59-90.
Л. Л. Репина. Ситуация в современной историографии...
7
Так или иначе, но совершенно очевидно, что многие выделившиеся
было субдисциплины имеют общий теоретический, методологический и
концептуальный арсенал, демонстрируют общее направление развития, и
различаются лишь по специальной предметной области, что в принципе
создает предпосылки не только для плодотворного сотрудничества между
разными внугридисциплинарными специализациями (как «старыми», так
и теми, которые конституировались совсем недавно), но и для их после-
дующей реинтеграции на новых эпистемологических основаниях.
Глобализация, неразрывно связанная с коммуникативными процес-
сами, включая коммуникацию идей, поставила на повестку дня новые
вопросы и для тех, кто занимается изучением аналогичных процессов в
историческом измерении. Например, оказалось, что личностный и гло-
бальный аспекты современной интеллектуальной истории имеют нечто
существенно общее в своих теоретических основаниях - это, прежде все-
го, понимание социального контекста интеллектуальной деятельности
как культурно-исторической ситуации, задающей не только условия, но
вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения. Формирование
в обществе новых ценностных ориентиров не только отражается на ис-
ходных предпосылках историка и постановке им научных проблем, но и
во многом определяет результаты его познавательной и творческой дея-
тельности4. По меткому замечанию А.Про, «...вконце концов историк
создает тот тип истории, который требует от него общество; иначе оно от
него отворачивается... Но с другой стороны, нет такого коллективного
общественного проекта, который был бы возможен без исторического
воспитания его участников и без исторического анализа проблем»5.
Не остаются незамеченными в современной историографии и те из-
менения, которые происходят в области общественно-исторического соз-
нания, исторической эпистемологии и рефлексивной (науковедческой,
философской, социологической и т.д.) реконцептуализации самого исто-
рического знания; трансформации познавательных возможностей исто-
рической науки. По сути, речь сейчас идет о формировании нового исто-
рического сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и
совершающиеся в мире перемены, критически преодолеть европоцентри-
стскую перспективу, о создании в этом свете новой исторической культу-
ры и нового образа исторической науки. В течение XX столетия многие
4 Теоретическое обоснование и конкретно-исторические разработки этого на-
правления исследования см. в коллективном труде: История через личность: исто-
рическая биография сегодня / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.
5 Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 318.
8
Введение
социальные функции историографии - идентификационная, воспитатель-
ная, развлекательная — в условиях беспрецедентного разрастания пропас-
ти между профессиональным и обыденным историческим сознанием бы-
ли эффективно освоены масс-медиа. Усугубило ситуацию
распространение в околонаучной исторической культуре постмодернист-
ского лозунга «каждый сам себе историк». Принцип исторического ис-
следования посредством критического изучения первоисточников ныне
разделяется очень немногими за пределами профессиональной среды6.
Поэтому вполне закономерно, что тема общественного потенциала и
роли исторической науки стала одной из ведущих в самосознании совре-
менной историографии. Как изменяется статус истории в системе науч-
ных дисциплин и какое место она занимает в иерархии ценностей совре-
менной культуры? Что происходит с функциями исторического знания в
условиях все ускоряющихся социальных трансформаций? Как сказыва-
ются процессы глобализации и обеспечивающие их новые информацион-
ные технологии на структуре исторического знания и формах его презен-
тации? Что дает история для решения наболевших вопросов
существования людей в становящемся все теснее и все взрывоопаснее
мире? И как могут быть “оправданы” (с точки зрения практической поль-
зы) профессиональные занятия историей в глазах общественности? Об-
суждение всех этих и связанных с ними вопросов занимает центральное
место на страницах «новой волны» научных периодических изданий (в
том числе электронных), основанных в начале нынешнего века (Rethink-
ing History: The Journal of Theory and Practice; Historically Speaking; The
Journal of the Historical Society; Historein; и др.)7.
Оги насущные проблемы осознаются ведущими историками, при-
держивающимися разных методологических парадигм (за исключением,
может быть, тех радикальных идеологов, которые вообще отрицают кон-
цепцию научной истории в любом ее виде и ее роль в социуме, призывая
«забыть об истории» и «обходиться без исторического сознания»)8. К до-
6 В этой ситуации можно понять настойчивые и весьма негативные прогнозы
относительно «выживания Клио» (см.: БойцовМ. А. Вперед к Геродоту// Казус.
Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999. С. 17-41; Он же. Выжи-
вет ли Клио при глобализации? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории/
2006. С. 15-41).
7 См., напр.: Megill A Are We Asking Too Much of History? // Historically Speaking.
2002. Vol. 3. N 4. См. также обсуждение этих проблем в книге: Новый образ историче-
ской науки в век глобализации и информатизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.
8 Jenkins К. Why History? Ethics and Postmodemity. L.; N. Y„ 1999. P. 201, 203.
См. также: Jenkins К. Rethinking History. L.; N. Y., 1992; Idem. On “What is History”
From Carr and Elton to Rorty and White. L.; N. Y., 1995.
Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...
9
полнительной рефлексии побуждает тот все более очевидный для совре-
менной гуманитаристики факт, что историография была экспортирована
в культуры, которые первоначально ее не имели, таким же образом, как
христианство и капитализм, но совсем не так, как современные естест-
венные науки9. Сегодня уже общим местом стало признание как исто-
ричности самого понятия науки, так и факта одновременного «мирного
сосуществования» различных концепций научности.
Для многих участников дискуссий становится все более очевидным,
что сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса
невозможно без осмысления всех последствий пройденных современны-
ми историко-гуманитарными науками «методологических поворотов»,
без создания новых теоретических моделей и восстановления синтези-
рующего потенциала исторического знания на новом уровне.
Характеризуя в целом ситуацию, сложившуюся в исторической
науке на рубеже XX-XXI вв., как «историографическую революцию»10,
Б. Г. Могильницкий относит текущий момент к ее третьему этапу, ус-
ловно обозначив предшествующие первый и второй этапы, соответст-
венно, как объективистский (сциентистский), связанный «с широкими
историко-социологическими построениями, увенчанными грандиозным
опытом создания “глобальной истории”, и субъективистский (постмо-
дернистский), ознаменованный «поворотом к субъективности» и «“от-
крытием” микроистории как ведущего жанра исторического исследова-
ния»11. При всей условности такого разграничения, а тем более -
констатации прямой связи постмодернизма и микроистории, имеющей в
своем обширном «ассортименте» и явно сциентистские версии12, зафик-
9 См.: Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005.
С. 345-346.
10 Само понятие «историографическая революция», отражающее радикальные
перемены в предмете и методах исторической науки, было введено в конце 1980-х гт.
выдающимся отечественным историком и методологом М. А. Баргом. См., в частно-
сти: Барг М. А. Человек - общество - история // Новая и новейшая история. 1989. № 2.
С. 45. См. также публикацию прений по докладам на известном международном кол-
локвиуме, проведенном в 1989 г. в Москве и посвященном юбилею «Анналов»: Споры
о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг француз-
ской школы «Анналов» / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1993.
11 Могильницкий Б. Г. История на переломе: некоторые тенденции развития
современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и соци-
альные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под
ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004. С. 6.
12 Особенно ярко она проявляется в конкретных исследованиях и теоретиче-
ских работах Джованни Леви. См., например, его размышления об исследователь-
ских процедурах микроистории и проблеме контекстуализации в статье: Леви Дж.
10
Введение
сируем главное отличие двух последних этапов. Если на первом этапе
произошел сдвиг исследовательского интереса от макро- к микроанали-
зу, от «глобального» к «индивидуальному», от структур большой дли-
тельности к социальной практике конкретных действующих лиц в кон-
кретных жизненных ситуациях, и в целом доминировала тенденция «к
первоочередному изучению относительно ограниченных по временно-
му и пространственному протяжению ситуаций прошлого»13 14, то теку-
щий этап характеризуют интенсивные поиски интегральной, синтетиче-
ской исследовательской модели, построенной на принципе
14
взаимодополнительности микро- и макроисторического подходов , как
в теоретико-методологическом, так и в практическом плане.
Трудности такого синтеза четко осознавались некоторымй иссле-
дователями еще на рубеже 1970 80-х гг. Достаточно вспомнить емкую
формулировку обозначившейся эпистемологической дилеммы в испол-
нении американского историка Дэвида Ливайна: «Изучение истории
требует от нас организовывать множества событий в хронологические
последовательности и структуры.., которые неизбежно и существенно
отличаются от того, как они могли пониматься людьми прошлого. По
существу, эта проблема подобна той, которая была поставлена Максом
Планком и Вернером фон Гейзенбергом в попытке прийти к согласию с
новым пониманием физического мира, когда общие теории оказались
неспособными объяснить поведение микрочастиц. Здесь требуются два
типа объяснения каждое из которых зависит от типа задаваемых во-
просов, причем каждый из этих способов исследования является “пра-
вильным” в своей части... Выяснение средних показателей дает возмож-
ность лучше осознать степень соответствия между общественными
нормами и реальным поведением... Но сами по себе они нс могут рас-
сказать нам о том, как эти нормы интерпретировались индивидами...
Только заглядывая за эти средние показатели и рассматривая способы,
которыми социальные нормы инкорпорировались в повседневность, мы
можем понять жизненный опыт людей прошлого»15.
К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей исто-
рии. М„ 1996. С. 181-186.
13 Бессмертный Ю. Л. Как писать историю. Французская историография в
1994-1997 гт.: методологические веяния. М., 1998. С. 2.
14 Подробно об этом см.: Репина Л. П. Комбинационные возможности микро-
и макроанализа: историографическая практика// Диалог со временем. 2001. Выл. 7.
С. 61-88.
15 Iovine D. Tunnel Vision // Theory and Society. 1980. Vol. 9. № 5. (Problems in
Social History: A Symposium). P. 677-678.
Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...
И
Со временем многие сторонники микроисторических стратегий, то
и дело сталкиваясь с необходимостью отвечать на ключевые вопросы:
чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, како-
вы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились мас-
совые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось
расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внеш-
ние факторы и внутренние импульсы, - отказались от понимания мик-
ро- и макроподходов как взаимоисключающих и от ложной альтернати-
вы социального и культурного детерминизма, рисующих индивидов как
полностью формируемых социальными либо культурными факторами.
Такой альтернативы нет, поскольку проблема, с которой сегодня стал-
кивается историк, состоит как раз в том, чтобы концептуализировать
взаимодействия между индивидами и обществом, не только увидеть
«большое в малом», но представить себе общность, не элиминируя ин-
дивидуальные качества составляющих ее элементов. Потребность ре-
контекстуализации микроисторических сюжетов, персональных и ло-
кальных ситуационных исследований (case studies) становится вполне
осознанной16 и стимулирует поиски «связующего звена между микро и
макро»17, разработку новых моделей сочетания микро- и макроистории,
способных предложить адекватный интегрирующий подход к познанию
прошлого. Естественно, что решение этой проблемы на основе принци-
па взаимодополнительности было бы абсолютно невозможным без ка-
чественного обновления теоретико-мегодологических оснований и кон-
цептуального аппарата самой макроистории.
Наиболее распространенные версии новой исследовательской па-
радигмы, которую иногда определяют как «неоклассическую»18, опи-
16 Речь идет, конечно, не обо всех разновидностях микроистории. В стороне от
обозначенного движения остается самодовлеющий вариант микроисторических
штудий, сторонники которого сознательно отвергают необходимость интеграции
результатов case studies в макроисторический контекст. См., например: Персональ-
ная история / Подред. Д. М. Володихина. М., 1999; Володихин Д. М. Две версии
микроисторической платформы в отечественной историографии // Диалог со време-
нем. Вып. 8. 2002. С. 445-447. Критику «экзистенциальных» и «изоляционистских»
моделей микроистории см.: Репина Л. П. Историческая биография и «новая биогра-
фическая история»// Диалог со временем. Вып. 5. 2001. С. 5-12; РумянцеваМ. Ф.
О двух микроисториях // Ставропольский альманах Российского общества интел-
лектуальной истории. Вып. 5. Ставрополь, 2004. С. 6-14.
17 Peltonen, Matti. Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Histori-
cal Research // History and Theory. 2001. Vol. 40. № 3. P. 347-359.
,8См.: ЛубскийА.В. Альтернативные модели исторического исследования.
М„ 2005.
12
Введение
раются на концепции исторического развития, группирующиеся вокруг
разных теорий «прагматического поворота», ориентированные на ком-
бинацию микро- и макроанализа и включающие механизмы индивиду-
ального выбора. Эти «теории практики» (theories of practice)19 выводят
на первый план действия исторических акторов в их локальных ситуа-
циях, в контексте тех социальных структур, которые одновременно и
создают возможности для действий, и ограничивают их.
Происходившее в историографии конца XX - начала XXI столетий
движение в направлении новой концептуализации социально-
исторической реальности опиралось главным образом на социологиче-
ские теории 1980-х годов, которые были созданы в противовес концеп-
циям постмодерна и анализировали организацию социальной жизни в
комплексе взаимодействий сс локальных и интегральных составляю-
щих, в первую очередь на «теорию структурации» Э. Гид денса20, со-
гласно которой структурные свойства социальных систем являются од-
новременно и средством, и результатом практики, которую они
организуют, поскольку структура предстает как совокупность «правил»,
«ресурсов» и «процедур» и реализуется только в процессе их примене-
ния в повседневной социальной практике исторических акторов21. Та-
ким образом, именно практики, а не структуры, становятся отправным
пунктом социально-исторического анализа, обогащенного «субъектив-
ной перспективой» действующих индивидов. Эта перспектива раскры-
вается в изучении совершаемых индивидами ментальных актов и при-
меняемых ими интерпретационных схем - такое изучение акцентирует
расхождения между культурно заданными значениями и индивидуаль-
ным, исторически обусловленным их употреблением.
В понимании культуры как непрерывного взаимодействия между
общественной системой и практикой социальной жизни происходит
переопределение и усложнение самого понятия «социального» и реаби-
литация социальной истории, прошедшей горнило лингвистического и
19 См.: Revel J. L’institution et le social // Les formes de I’expcricncc: Une autre his-
toire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. Paris, 1995; Biemacki R. Language and the
Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3.
P. 289.
20 Cm.: Giddens A The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structura-
tion. Cambridge, 1984.
21 Подробнее об этом см.: Репина Л. П. Проблема методологического синтеза
и новые версии социальной истории // Междисциплинарный синтез в истории и
социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований /
Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004. С. 23-31.
Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...
13
культурного поворотов. С одной стороны, неофеноменологические и
неогерменевтические подходы, разместившиеся под зонтиком «прак-
сеологических теорий», сохраняют наиболее важные достижения пост-
структурализма, а с другой, возвращают историографию к давно апро-
бированным исследованиям социокультурных условий, процессов,
изменений и трансформаций22.
Исследования сторонников «прагматического поворота» в совре-
менной историографии прямо ориентированы на синтез социальной и
культурной истории, макро- и микроанализа, объяснения и понимания.
При этом оказывается, что личностный и глобальный аспекты истории
имеют нечто существенно общее в своих теоретических основаниях.
Это, прежде всего, понимание социального контекста деятельности как
ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые
требуют своего разрешения. Субъективность исторического актора (ин-
дивида или группы) во многом определяет результаты его деятельности,
которая, в конечном счете, преобразует собственный контекст.
Остается, однако, неясным, как описать многомерную, лишенную
доминантного вектора динамику социальной практики в традиционных
формах исторического нарратива23. Ведь подобная динамика - со слож-
ными переплетениями разномасштабных действий, явлений и процессов
и с необходимой для их анализа «игрой масштабов» - не может быть аде-
кватно описана в линейной нарративной логике последовательных собы-
тий. Отсюда - «очевидный крах той идеи, что всё прошлое может быть
охвачено в рамках одной, официальной истории, так называемого “боль-
шого нарратива”, под который могут быть подведены остальные, “более
мелкие нарративы”»24. Многообразие исследовательских перспектив
приводит к многообразию создаваемых исторических нарративов. Ре-
зультат может быть охарактеризован двояко: как «фрагментация» исто-
рии или как обогащение нашего понимания исторического прошлого.
Разработке обозначенных выше и других дискуссионных теорети-
ческих проблем современной исторической науки посвящены статьи,
публикуемые в настоящем сборнике.
22 См.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-
альной истории. Часть 2 // Социальная история. Ежегодник 1998-1999. С. 7-38.
23 См.: Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic
Turn / Ed. by Gabrielle M. Spiegel. N. Y.; L„ 2005. Introduction. P. 1-31 (P. 25).
24 Мегилл А. Историческая эпистемология. M., 2007. С. 461.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СЕГОДНЯ
Б. Г. Могильницкий
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
ИСТОРИИ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Историографическую ситуацию на рубеже XXI в. характеризуют
стремительное расширение «территории историка» и совершенствова-
ние способов сс возделывания, прогрессирующий отказ от бинарного
мышления с его противопоставлением макро- и микроподходов, струк-
тур и событий, рационального и иррационального, мирского и сакраль-
ного. Умножается число исторических субдисциплин, основывающихся
на различных, подчас диаметрально противоположных, эпистемологи-
ческих принципах. На смену былого доминирования той или иной на-
циональной историографии приходит полицентризм в развитии истори-
ческой мысли. Однако это нс означает, что такое развитие являет собою
плавный, эволюционный, беспроблемно-пластичный процесс, неуклон-
но следующий по восходящей линии. Напротив, трансформация совре-
менной историографии носит выраженный зигзагообразный характер.
Смена приливов и отливов, чреда разнообразных «вызовов», с коими
непрестанно сталкивается историческая наука, быстро изменяющийся в
мире социально-политический и духовно-идеологический ландшафт
обусловили частые метаморфозы образа истории .
Так высвечиваются контуры феномена, который по праву имену-
ется историографической революцией. В отечественную литературу это
понятие ввел М. А. Барг. Указывая на потребность в интенсивной мето-
дологической рефлексии, возникшую в бурно развивающейся историче-
ской науке, которая переживает крутую ломку представлений о струк-
туре своего предмета, обновляет исследовательский инструментарий и
чутко реагирует на сдвиги во всей системе гуманитарного знания, он
писал: «Мы не допустим преувеличения, если назовем перемены, про-
исходящие ныне в научном арсенале исторической науки, историогра-
фической революцией»1 2. Несколько раньше аналогичную точку зрения
1 См.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-
альной истории И Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998.
2 Барг М. А. Человек - общество - история И Новая и новейшая история. 1989.
№ 2. С. 45.
Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...
15
высказал один из ведущих представителей американской «новой исто-
рической науки» М. Кеммен. Подводя итоги ее развития в 1970-е гг., он
подчеркивал, что в это время «революция в методологическом созна-
нии, конечно, произошла», и, раскрывая ее содержание, пояснял: «Мы
можем видеть ее в потоке книг о том, как надо писать историю, в умно-
жении новых журналов, рассматривающих методологические пробле-
мы, в книгах и статьях, предостерегающих от большой самоуверенности
части историков относительно их принципов и методов и в признании
самой исторической методологии особой дисциплиной»3.
Заметим, что оба автора акцентируют методологическую природу
историографической революции. Ее важнейшей характеристикой явля-
ется обращение к методологии социальных наук и, соответственно, раз-
работка условий, обеспечивающих эффективность осуществления меж-
дисциплинарного анализа. Разъясняя это положение американский
историк Т. С. Хеймроу указывал на «внезапный рывок многих истори-
ков к социальным наукам», заставивший историю «вылезти из собст-
венной шкуры». Итогом, заключает он, «была революция в историче-
ской науке, более масштабная, чем когда-либо со времени ее
возникновения более 2000 лет назад»4.
В этой ситуации неизмеримо возрастает значение методологии ис-
тории как особой дисциплины, исследующей природу, принципы и ме-
тоды исторического познания, нацеленные на адекватную реконструк-
цию прошлой действительности. Такая реконструкция актуализирует
проблему дуализма объективного и субъективного начал познаватель-
ного процесса. Далекая от благочестивых намерений историков XIX века
писать «как, собственно, это было», современная наука, преодолев по-
стмодернистский искус, сохраняет сам пафос научного познания прошло-
го как центральной эпистемологической проблемы. Особо отмечу роль
двух взаимосвязанных факторов достижения истины интерпретацию и
стремление к правдивости. Оба эти фактора несут в себе сильное субъек-
тивное начало, но оба они способствуют объективному познанию, акцен-
тируя одновременно социальную ответственность историка.
Сошлюсь на ход рассуждений близкого к четвертому поколению
«Анналов» известного французского философа П. Рикёра, содержащий-
ся в опубликованном в этом журнале пространной статье. Он начинает-
3 Каттеп М. The Historian’s Vocation and the State of the Discipline in the United
States // The Past Before Us. Contemporary Historial Writing in the United States. Ithaca;
L„ 1980. P. 30-31.
4 Hammerow T. S. Reflections of History and Historians. Madison, 1987. P. 14-15.
16
Историческая эпистемология сегодня
ся с положения о негласном договоре между автором исторического
текста и его читателями. Задаваясь вопросом, в какой мере исполняется
договор и оправдываются читательские ожидания, П. Рикёр указывает,
что степень достоверности исторических реконструкций «зависит одно-
временно от интерпретации и от интенции - стремления к правдиво-
сти». Он подчеркивает, что на всех этапах историографического иссле-
дования степень стремления историка к истине отражается в его
интерпретации своих источников, их эпистемологическом анализе, про-
яснении своих концептов и аргументов и т.п.5 Таким образом, познава-
тельный процесс субъективизируется. В этом ракурсе трактуются взаи-
моотношения между познающим субъектом и объектом познания.
Такая постановка проблемы не является чем-то новым. Заслуга Ри-
кера заключается в том, что он придал ей выраженное гражданское звуча-
ние, настаивая на том, что в каждом читателе живет гражданин, требую-
щий от историка «чтобы его дискурс был правдивым, способным
расширить, подвергнуть критике, быть может, даже опровергнуть его соб-
ственную память»6. Но в первую очередь отдадим должное гражданской
позиции самого автора, особенно рельефно выразившейся в убедительной
демонстрации на примере постмодернистской трактовки Холокоста под-
линного смысла пресловутой деконструкции истории7.
Статья П. Рикера в заостренной форме постулирует одну из черт
современной историографической революции возрастающее осозна-
ние социальной ответственности историка, ответственности; вспомним
емкую формулу А. Я. Гуревича, в двояком смысле - перед людьми
прошлого и настоящего. Осознание этой ответственности в той или иной
степени, разумеется, нс было чуждым историописанию на всех этапах его
трансформации. Однако только в последние десятилетия оно становится
предметом оживленной методологической рефлексии, обретая особый
эпистемологический статус. Ее значимость еще более повышается ввиду
возникновения и быстрого распространения «другой истории», т.е. исто-
рии, реконструируемой «изнутри», раскрывающей побудительные моти-
вы человеческой деятельности, определяющейся не только осязаемыми
реалиями, но и многоликими коллективными образами и представления-
ми, возникающими и трансформирующимися на их основе8.
5 См.: Рикёр П. Историописанис и репрезентация прошлого. Памяти Франсуа
Фюре //Анналы на рубеже веков. Антологая. М., 2002. С. 23, 39.
6 Там же. С. 39.
7 См.: Там же. С. 37.
8 См.: Ле Гэфф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001 .С. 10.
Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...
17
Это, по определению Ж. Ле Гоффа, история воображаемого, чьи об-
разы могут включаться в «диахроническое коловращение классов и обще-
ственных укладов». Тем самым она является частью социальной истории,
но не сводится к ней. Это - углубленная история сознания, т. к. воображе-
ние стимулирует человека и побуждает его к действию. «Воображение, -
заключает Ле Гофф, - феномен коллективный, общественный и историче-
ский. История без воображаемого это история-инвалид, безжизненная
история»9. Достаточно сослаться на такие шедевры как «Цивилизация
средневекового Запада» или «Монтайю», чтобы убедиться в таи, что та-
кой подход, используемый в сочетании с традиционным историческим
дискурсом, обогащает видение прошлого, делает его стереоскопическим.
Вместе с тем включение мира воображаемого в общий поток со-
бытийной истории ставит перед наукой новые эпистемологические про-
блемы, пути решения коих отнюдь не представляются очевидными. По-
тому, в первую очередь, что какие бы сюжеты ни привлекали внимание
исследователей мира воображаемого, они неизменно выходят на совре-
менность, недвусмысленно выражая свое отношение к тем или иным ее
актуальным проблемам.
Таков, например, предпринятый Э. Ле Руа Ладюри в «Монтайю»
анализ средневековой крестьянской культуры. На обширном материале
небольшой окситанской деревни автор раскрывает оригинальность сред-
невековой крестьянской культуры, эмоционально резко выступая против
ее недооценки: «Слишком многие сегодня - как ив 1300 году - считают
крестьян “тупой скотиной”... Если давать “скотам” самую низкую соци-
альную оценку, то сведения, которые можно получить об их менталитете,
не будут представлять большого интереса с высокомерной точки зре-
ния»10. Так воображаемый мир далекого прошлого близко соприкасается
с современностью, а его изучение вносит свою лепту в ее интерпретацию,
зависящую в немалой степени от мировоззрения исследователя. Это
вновь возвращает нас к проблеме объективности исторического познания
в одной из самых сложных его сфер - изучении современности, что, в
свою очередь, требует нового уровня методологической рефлексии.
Потребность в ней еще более возрастает при обращении к наби-
рающей обороты «истории во второй степени». Ее пока непревзойденным
образцом является созданный по инициативе и при активном участии
П. Нора многотомный коллективный труд французских историков «Места
9 Там же. С. 10-11.
10 Ле Руа Ладюри Э. Монтайю. Окситанская деревня (1294-1324). Екатерин-
бург, 2001. С. 293.
18
Историческая эпистемология сегодня
памяти»11. Посвященный истории Франции в Новое и Новейшее время,
он являет собою новый тип историописания, концептуализированный на
выявлении «убежищ памяти», в которых запечатлена история страны и
которые поражают своим многообразием - от святынь Реймса до стен
Коммунаров, от Пантеона до исторического музея Версаля, от празднова-
ния 200-летия Великой французской революции до толковых словарей и
школьных учебников... Число «убежищ памяти», привлекающих при-
стальное внимание французских исследователей, легко умножить.
Концепция, лежащая в основе этого издания и построенная на ан-
титезе истории и памяти, подверглась справедливой критике в отечест-
венной историографии12, что, однако, не освобождает от необходимо-
сти изучения ее эпистемологических оснований, проливающих подчас
неожиданный свет на познавательные возможности истории и ее соци-
альную роль в современном мире. Французские историки интенсивно
исследуют бурный рост интереса к исторической памяти у различных
социальных, национальных, профессиональных сообществ, а также
маргинальных групп и отдельных индивидуумов и роль исторической
науки в их самоидентификации. В этом же ракурсе рассматривается
наступление «эры коммеморации», т.е. праздничных торжеств, ставших
главным предметом «Мест памяти». «Власть памяти сегодня настолько
сильна, утверждает П. Нора, - что коммеморативный аппетит эпохи
подчинил себе все, вплоть до стремления управлять этим феноменом».
И далее продолжает: «Кажется, что каждый год и каждый месяц требу-
ют своей порции обязательных или сфабрикованных торжеств»13.
Но этот феномен интересует французских историков нс сам по себе.
Они сосредоточивают свое внимание на метаморфозах коммемораций,
указывающих на пластично изменяющийся взгляд на прошлое, что осо-
бенно ярко выражается в изменении отношения к государству. В этом
ключе П. Нора рассматривает празднование юбилея Великой француз-
ской революции. Голоса, пишет он, которые общество больше всего хо-
тело услышать и услышало, «не были голосами глашатаев Революции.
Эти голоса говорили от имени ее жертв, начиная с тех, кто разоблачал
Вандейский геноцид, и кончая защитниками преследуемой церкви. И та-
11 «Места памяти распадаются натри части» «Республика» (Т. I, вышедший в
1984 г.), «Нация» (последующие три тома, изданные в 1986 г.) и «Франция» (три
последних тома, опубликованные в 1993 г.)
12 См.: Репина Л. П. Историческая память и современная историография // Но-
вая и новейшая история. 2004. № 5.
13 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Фран-
ция - память. СПб., 1999. С. 95, 96.
Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...
19
ким образом во имя принципов Революции и прав человека жертвы Рево-
люции оказались удостоенными своей доли коммемораций»14.
В числе других метаморфоз коммеморации П. Нора выделяет ее по-
литизацию, приведшую к распаду единой национальной памяти. Главная
причина этого усматривается в том, что ни одно событие французской
послевоенной истории не может быть с полным основанием включено в
единую национальную память: «Освобождение провозгласило битву па-
мятей, каждая из которых была тем более воинственной, что могла леги-
тимно заявлять о своих правах, хотя и была глубоко амбивалентной с
точки зрения ее репрезентативности для всей нации». В отличие от мощ-
но объединительной памяти первой мировой войны, подчеркивает
П. Нора, «II мировая война была разъединяющей, неспособной даже на
то, чтобы выработать несомненную и единственную дату победы» и за-
ключает: «На самом высоком уровне больше нет национальных комме-
мораций, которые не являлись бы политическими и даже партийными»15.
Заметим, что в концепции П. Нора метаморфозы коммемораций
включают в себя также момент преемственности. Рассмотрим под этим
углом зрения его трактовку феномена французского универсализма,
выражающегося, по словам ученого, в способности интравертности
традиционной системы французской идентичности к мировой экстра-
вертности. Поэтому история Франции принадлежит не только Франции.
Такие ее события, как Великая французская революция, вошли в исто-
рическое сознание многих народов16 17. И, может быть, особенно прочно,
следует добавить, в историческое сознание нашего народа.
Далеко не все положения рассматриваемой концепции самооче-
видны. Однако очевидно другое: бурно развивающаяся в разных стра-
нах, в том числе в России1', «история во второй степени» означает вы-
зов традиционной методологии истории, основанной на объяснении
прошедшей действительности в ее реальных проявлениях. Очевидна
необходимость обогащения категориального аппарата исторической
науки за счет включения в него категории «другой истории». Это не
очередная «смена вех». Напротив, сохраняется пафос классической ме-
тодологии истории, углубляется ее эпистемологический оптимизм, ее
убеждение в познаваемости исторического прошлого и прогрессирую-
14 Там же. С. 106.
15 Там же. С. 108-110.
16 См.: Там же. С. 141.
17 См., напр.: История и память. Историческая культура Европы до начала Но-
вого времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем. Память о
прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.
20
Историческая эпистемология сегодня
щем расширении его сферы, доступной для научного познания. Скорее
речь должна идти о выработке внутренне непротиворечивой методоло-
гии исторического исследования, базирующейся на комплексном ис-
пользовании стратегий и данных всей совокупности гуманитарных на-
ук, позволяющей путем разностороннего анализа изучаемого объекта
выявить его смысл, ускользающий от исследователя при ином подходе.
В таком случае удастся в равной мерс избежать обеих крайностей,
характеризующих взаимоотношения между историей и смежными нау-
ками в терминах их противоборства, ярко описанного Э. Лс Руа Ладюри
в нашумевшей статье «Застывшая история», основанной на прочитан-
ной в 1973 г. в Коллеж де Франс вступительной лекции; «История после
нескольких столетий пребывания в полунемилости в качестве малень-
кой Золушки социальных наук вновь обретает то выдающееся место,
которое она было утратила. И в то же время, когда повсюду уже объяви-
ли о ее исчезновении, она просто-напросто появилась с другой стороны
зеркала, чтобы направить погоню за собою по другому следу»18. Ле Руа
Ладюри находит точную метафору, создавая образ времени, воплощенно-
го в облике «Старого Хроноса», пронизывающего толщу бытия. Это об-
раз самой истории, противопоставляемой «впадающим в ничтожество
социальным наукам, отрицающим толщу Старого Хроноса»19 20. Так после-
довательно осуществляется контрпродуктивное в своей основе противо-
поставление истории и социальных / гуманитарных наук.
Такой же контрпродуктивной является противоположная край-
ность, замешанная на таком же обвинении в «ничтожности» уже исто-
рии. Показателен ход рассуждений одного из ведущих представителей
так называемой теоретической истории Н. С. Розова, убежденного в
тотальном, за немногим исключением «лучших историков» типа
Л. Февра и Ф. Броделя, «отчуждении» историков от теории и даже же-
лании их, ради собственного спокойствия очистить свою дисциплину от
«чуждых ей теоретических построений и обобщений». Поэтому, заклю-
чает автор, «доктрина об уникальности исторического, ставящая запрет
на любые попытки установления общих закономерностей, удивительно
живуча, особенно в среде профессиональных историков и так называе-
мых культурологов» . Нс замечая тех явлений в историографии второй
половины XX - начала XXI века, которые свидетельствуют не только о
18 Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // THESIS. Теория и история эконо-
мических и социальных институтов и систем. М., 1993. Т. I. Вып. 2. С. 173.
19 Там же. С. 158.
20 См.: Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. I: Пролегомены. М., 2002.
Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...
21
более выраженной рефлексии людей нашего ремесла по поводу важности
теории для историка, но и о несравненно явственней оплодотворяющем
влиянии концептуального знания на сам их исследовательский поиск.
На фоне отмеченных крайностей велико значение разработки на
современном методологическом уровне эпистемологических оснований
союза и взаимовыгодного сотрудничества истории и всего спектра со-
циально-гуманитарных наук. В определенном смысле современная гу-
манитария являет собою своеобразный полигон, на котором отрабаты-
ваются различные способы реконструкции прошлого с помощью
стремительно расширяющегося круга смежных дисциплин. Таким сего-
дня видится магистральный путь решения сформулированной
А. Я. Гуревичем «сверхзадачи» исторической науки - осуществления ис-
- 21
торического синтеза, являющегося в своей основе методологическим .
Возможно также это путь обретения взыскуемой историческим сообще-
ством новой общепринятой парадигмы истории взамен утратившей бы-
лую кредитоспособность парадигмы, доминировавшей в XIX в.
В современной полицентричной историографии накоплен нуж-
дающийся в эпистемологическом осмыслении значительный опыт про-
движения по этому пути. На этом фундаменте осуществляется идущий в
разных направлениях методологический синтез. Один из самых пер-
спективных - предложенная И. Ю. Николаевой основательно фундиро-
ванная полидисциплинарная технология методологического синтеза,
фокусирующаяся на бессознательном и поддающаяся убедительной
верификации на разнообразном конкретно-историческом материале.
Самое же бессознательное трактуется как система, включающая не
только глубинные или природные структуры человеческой психики, но
и накопленный культурный багаж, социо-историческое измерение его
функционирования. Отличительной особенностью предложенной
И. Ю. Николаевой модели синтеза является то, что ее комплектующие
по своим методологическим основаниям должны быть близки и взаи-
модополняемы. Руководствуясь этим принципом, она избирает для сво-
его анализа такие новаторские для второй половины XX века техноло-
гии, как теории установки, идентичности, габитуса, социального
характера21 22. Благодаря этому на качественно новый уровень поднима-
ется сама проблема междисциплинарности. Впервые на место произ-
вольного обращения к тем или иным исследовательским стратегиям
21 См.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
22 См.: Николаева И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификация
в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005.
22
Историческая эпистемология сегодня
гуманитарных / социальных наук пришел целостный анализ всей сово-
купности их данных, относящихся именно к избранному предмету ис-
следования.
В условиях историографической революции можно ожидать на-
ступления нового витка методологической модернизации нашей науки,
связанной с подъемом полидисциплинарных исследований, в очередной
раз преобразующим ее облик. Непредсказуемость трансформации науки
многократно возрастает из-за непредсказуемости катастрофических по-
трясений самого миропорядка. Есть резон в утверждении К. А. Агирре
Рохаса, что в настоящее время человечество проходит через точку «ис-
торической бифуркации» и находится в преддверии перемен, которые
могут привести к совершенно иному способу функционирования нс
только историографии, но всего человечества в глобальном масштабе23 24.
Сопоставим с этим концепцию И. Валлерстайна о близком конце
современной миросистемы и порождаемом ее распадом веере альтерна-
тив грядущего развития человечества. По его убеждению, вследствие это-
го распада высвобождается колоссальная людская энергия. В этой ситуа-
ции перехода к новому мироустройству сущностным является состояние
неопределенности, поскольку результаты кризиса заранее не известны.
Поэтому, настаивает автор, в ближайшем будущем неизбежно возраста-
ние значения нравственно ориентированного социально-исторического
знания, так как системный кризис будет способствовать социальной реф-
лексии. В той мере, в какой, считает он, «ближайшие 25-30 лет окажутся
ужасными для общественных отношений, будучи временем распада со-
временной миросистемы и перехода к неясной пока альтернативе, эти
24
годы станут совершенно исключительными для познания» .
Все же И. Валлерстайн обозначает три главные альтернативы бу-
дущего мироустройства, воплощающие три его возможных сценария:
1) классическая модель традиционных циклов борьбы за гегемонию, т.е.
новая мировая война между Японо-Америкой и Европой; 2) мир, исто-
щенный экспансией капиталистической миросистемы и устрашенный
возможностью ядерного самоуничтожения, реорганизует се в нечто
другое, новую структуру, но также основанную на неравенстве и при-
вилегиях; 3) неконтролируемый развал современной миросистемы, об-
щественный хаос. Именно этот последний сценарий может, по мнению
ученого, вывести человечество к относительно эгалитарному и демо-
23 Агирре Рохас К. А. Западная историография XX в. в свете концепции longue
duree И Диалог со временем. 2002. № 9. С. 17.
24 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2003. С. 291.
Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...
23
критическому миру. При этом, оговаривает он, все три сценария будут
развиваться в мире, в котором главной политической реальностью ста-
новится выдвижение на первый план неевропейских цивилизаций25.
И. Валлерстайн сосредоточивается на третьем сценарии как оптималь-
ном, акцентируя необходимость для мирового сообщества энергичных
усилий, направленных на его реализацию. Указывая, что во всех соци-
альных системах постоянно идет борьба за построение лучшего обще-
ства, он подчеркивает, что «именно в периоды перехода от одной исто-
рической системы к другой (природу которой мы не можем знать
заранее) эта борьба приобретает наибольшее значение. Или, другими
словами, только в такие переходные периоды то, что мы называем сво-
бодной волей, превозмогает давление существующей системы, стремя-
щейся к восстановлению равновесия»26.
Бросается в глаза настойчивость, с какой И. Валлерстайн утверждает
значение морально-этической стороны описываемого им процесса. Вновь
и вновь он взывает к моральной ответственности, честным намерениям и
решимости найти более совершенную историческую систему. В преди-
словии к русскому изданию своей книги, формулируя ее основные посту-
латы, он заключает: «Мы стремимся определить, как должны сочетаться
разум (четкое понимание пределов возможного знания) и нравственность
(приверженность справедливому обществу), и никто не должен остаться в
стороне от решения этой задачи»27. И менее всего, добавим, историки,
формирующие массовое сознание - обстоятельство, которое непременно
должно учитываться в нашей методологической рефлексии.
Итак, с разных позиций, под различным углом зрения в современ-
ной науке устами ее авторитетных представителей выражаются ожида-
ния в близком будущем радикального преобразования мира и связанно-
го с ним повышения статуса истории. В борьбе альтернатив грядущего
мироустройства существенно возрастают ее социальная роль и соци-
альная ответственность, что делает особенно настоятельной модерниза-
цию теоретико-методологических оснований исторической науки.
25 Фурсов А. И. Школа мир-системного анализа (основные положения концеп-
ции И. Валлерстайна) И Восток. 1992. № 1. С. 51-52.
26 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. С. 8.
27 Там же. С. IX.
Аллан Мегилл
РОЛЬ ТЕОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
И ИСТОРИОПИСАНИИ*
Историки традиционно относились к теории с высокой степенью
недоверия, видя в ней что-то вроде кукушки в гнезде историка. Такое по-
ложение дел сложилось, начиная с так называемой сциентизации (Ver-
wissenschaftlichung) истории в начале XIX века в Германии, когда грани-
цы между историей и философией стали менее подвижными, чем прежде.
Когда история начала позиционировать себя как дисциплину, т.с. претен-
довать на научность, появилось представление о соперничестве .истории и
философии. Хорошо известно, что Леопольд Ранке критиковал Гегеля и
других философов за накладывание априорных схем на сложную истори-
ческую реальность; по мнению Ранке, Гегель, а также такие философы
как Фихте и Шеллинг, показали то, чего историки делать не должны* 1.
Выдвигая свои критические замечания в адрес Гегеля и других фи-
лософов, Ранке не просто играл некую роль в локальном академическом
диспуте между конкурирующими подходами. Скорее, он предложил ту
самую критику философии, которая, начиная с этого времени, часто зву-
чит из уст историков. Его комментарии к гегелевскому подходу к истори-
ческой реальности равносильны критике теории в целом. Под теорией, в
* Я благодарен Рите Фелски (Rita Felski) из Университета Вирджинии, Джо-
ханпу Ниму (Johann Neem) из Западного Вашингтонского университета и Хосе Вас-
кой селосу (Jose Vasconcelos) из университета Сан-Пауло за комментарии и замеча-
ния к наброскам этой статьи.
1 Вольфганг Хардтвиг предлагает весьма продуктивное описание сциентизации
истории в конце XVIII - начале XIX в. в Германии в: «Die Verwissenschaftlichung der
Geschichtsschreibung und die Aesthetisierung der Darsteliung» // Formen der Geschichts-
schreibung / Ed. Reinhart Koselleck, Heinrich Lutz, and Jom Riisen (Munich: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1982). S. 147-91. В своих рукописях Леопольд Ранке неоднократно
не соглашается со своими оппонентами-философами. См.: Ranke, Aus Werk und Nach-
lass, ed. Walther Peter Fuchs and Theodor Schieder (Munich: Oldenbourg, 1964-75), vol. 4,
Vbrlesungs-Einlcitungen, “Idee der Univcrsalhistoric,” I. Vom historisehem Prinzip
(manuscript of 1831 or 1831/32), 73-74; Aus Werk und Nachlass, vol. 4, “Neuere Geschichte,
seit dem Westfalischen Frieden [Einleitung: Auffassung der Universalgeschichte]" (1847),
186-87; и Aus Werk und Nachlass, vol. 2, Uber die Epochen der neueren Geschichte, Histo-
risch-kritischc Ausgabc, cd. Theodor Schieder and Helmut Bcrding, “Erstcr Vortrag vom 25.
September 1854,” Einleitung (Ausgangspunkt und Hauptbegriffe [оттгравные моменты и
главные понятия]), § 2 “Was von der sogenannten leitenden Idee in der Geschichte zu hal-
ten sei [Как понимать так называемые основные идеи в истории]”, 63-76. Общеприня-
тое мнение об отношениях Ранке - Гегель см. в: Ernst Simon, “Ranke und Hegel” 11 His-
torische Zeitschrift, Beiheft 15 (Munich: Oldenbourg, 1928).
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...
25
данном контексте, я подразумеваю подход, который либо начинается с
предположения, что определенные общие утверждения, касающиеся че-
ловеческой жизни, верны, и затем стремится показать, как определенные
частности человеческой жизни можно объяснить и интерпретировать в
свете этих общих утверждений, либо стремится найти в частностях исто-
рической жизни подтверждения истинности этих общих утверждений.
Первый подход Ранке приписывал своим коллегам-философам.
Второй более характерен для историков или пытающихся стать таковы-
ми. Классическим примером является позитивист XIX века Генри Томас
Бокль, надеявшийся на основе эмпирических исследований британской
истории сделать научные обобщения о функционировании мира людей2.
Эти два подхода, однако, частично совпадают; даже самые общие
принципы возникают в определенной мере из наблюдений за миром, в
то время как, с другой стороны, утверждение исследователей о том, что
они полностью выводят свои обобщения из эмпирического материала,
не пройдет ни одну серьезную эпистемологическую проверку: все эм-
пирические обобщения зависят от допускаемых предположений, эмпи-
рическими не являющихся. Короче говоря, дистанция между Гегелем,
историзирующим философом, и Боклем, философствующим историком,
не является столь уж непреодолимой, как это могло показаться вначале.
Действительно, разница между Гегелем, накладывающим теорию
на историю, и Боклем, простодушно утверждающим, что выводит тео-
рию из истории, по мнению многих историков, невелика или вовсе от-
сутствует. С профессионально-исторической точки зрения, Гегель и
Бокль, как и все те, кто придвигает теорию «слишком близко» к исто-
рии, совершают сходную ошибку. Настороженность историков по от-
ношению к теории основана на страхе, что последняя может увести ис-
ториков в сторону от их основной задачи, а именно — конструирования
репрезентаций прошлого на основе релевантного свидетельства. Короче
говоря, они осознают конфликт между теорией и историей, причем это
конфликт на глубинном уровне, поскольку теория немыслима без гене-
рализаций, выходящих за пределы конкретных контекстов, в то время
как историки стремятся описывать, объяснять и интерпретировать исто-
рические контексты или их совокупность без намерения сконструиро-
вать на основе своего исследования теоретические суждения. Что де-
лать в условиях этого конфликта? Каково решение этой проблемы?
2 Henry Thomas Buckle, History of Civilization in England, с предисловием Арту-
ра Брисбейна (2 vols.; New York: D. Appleton, 1865 [первая публикация в 1857-61]).
26
Историческая эпистемология сегодня
* * *
Прежде всего, позвольте мне предположить, что общепринятая гра-
ница между историей и теорией не должна и на самом деле не может
быть устранена. Ясно, что существует некая человеческая потребность
вообразить то, что воспринимается людьми как «наше прошлое», други-
ми словами — желание иметь своего рода интеллектуальный и эмоцио-
нальный доступ к «миру, который мы потеряли»3. Это желание имеет глу-
бокую экзистенциальную основу, исследованную в числе других
философов Хайдеггером4. Здесь важен тот факт, что это желание воссо-
единиться с прошлым создавало и продолжает создавать потребность в
изучении и обучении истории. Эта потребность не только является от-
правной точкой для исторической рефлексии, но и обеспечивает истори-
ческой профессии материальную поддержку - в виде государственного
финансирования или частного пожертвования необходимую для ее су-
ществования в принципе. Таким образом, экзистенциальная потребность
в истории, проявляющаяся в том, что Хайдеггер называет «вульгарным
пониманием истории» [das vulgore \ferst«ndnis der Geschichte] (Sein und
Zeit, § 73, p. 378) позволяет историкам, если они этого хотят, вывести ис-
торию за пределы современных представлений и потребностей.
Можно много говорить об отношении истории к сс экзистенциаль-
ному базису. Мне хотелось бы остановиться на одном весьма негативном
аспекте этого отношения. Общим местом и в общественной, и в частной
жизни является тот факт, что чем дальше прошлое отступает от настояще-
го, тем больше оно становится чистым экраном или в лучшем случае ря-
дом расплывчатых изображений. В результате, людям становится легко
спроецировать свои сегодняшние потребности на это, теперь уже смут-
ное, прошлое, что подстегивается тем обстоятельством; что политические
интересы часто связываются как с общими предположениями о прошлом,
так и с конкретными утверждениями о нем. Но прошлое, вследствие того,
что оно уже, по определению, является «мертвым и ушедшим», не откры-
то для наблюдения и исследования. Вследствие этого, легко могут возни-
кать и циркулировать тс репрезентации прошлого, которые являются (на-
меренно или нет) ориентированными на настоящее фальсификациями. В
результате, создание противовеса такой мифологизации истории, в кото-
рую неизбежно окажутся погруженными люди, становится необходимым.
3 Peter Laslett, The World We Have Lost (New York: Scribner’s, 1965). Конечно, ис-
торические миры, которые мы потеряли, на самом деле множественны, а не единичны.
4 Об экзистенциальных корнях истории см.: Martin Heidegger, Sein und Zeit, 11.
unveranderte Aufl. (Tiibingen: Niemeyer, 1967), 5. Kapitcl, §§ 72-77, P. 372-404.
Аман Мегим. Роль теории в историческом исследовании...
Т1
Историческая дисциплина является - или, скорее, должна быть -
таким противовесом. Нам многое стало известно благодаря историогра-
фическим достижениям ХЕХ и XX вв. Имею в виду, например, расши-
рение диапазона исторических исследований школой «Анналов», а так-
же разнообразие способов, которыми историки пытались понять и
объяснить Третий Рейх и Холокост. Можно поразмышлять и над некор-
ректным подходом к исторической репрезентации, имевшим место в
течение двух последних столетий. Среди прочего, история историческо-
го знания показывает, что, в целом, прошлое лучше всего представлено
тогда, когда существует специально призванное выполнять эту задачу и
автономно функционирующее академическое сообщество.
Безусловно, историки так же глубоко укоренены в своих сообще-
ствах, как и другие люди. Поэтому мы не можем утверждать, что исто-
рическая профессия существенно автономна от того общественного
строя, в котором она существует, поскольку известно, насколько глубо-
ко академический проект исторической репрезентации связан с положе-
нием и предпочтениями отдельных историков, групп историков, обще-
ственным строем и государством. Тем не менее, этот проект обладает
относительной автономией в той степени, в какой данная репрезента-
ция следует усвоенным нами за последние несколько столетий прави-
лам и методам правдивого изображения прошлого. Соединение этой
важной задачи историка с задачей создания репрезентаций теоретиче-
ского типа («моделей») влечет за собой риск навредить собственно ис-
торическим репрезентациям, дистанцируя историков от этих правил и
процедур. Вот, вкратце, основной аргумент против теории в истории.
* * $
Тем не менее, мой тезис в данной статье состоит в том, что теория
крайне важна и необходима для исторической практики. Однако здесь
существуют две опасности.
Во-первых, для превращения начинающего историка в профессио-
нала одной лишь теории недостаточно. Сама по себе теоретическая ли-
тература не может научить начинающего историка исследовать и писать
историю по той простой причине, что теория - это не история. Чтобы
заниматься историей на профессиональном, компетентном уровне, на-
чинающий историк должен попытаться провести и написать собствен-
ное историческое исследование. Он редко способен сделать это совер-
шенно самостоятельно, практически наверняка он нуждается в
квалифицированной помощи людей, прошедших этот путь до него и
способных наставить его на этом пути.
28
Историческая эпистемология сегодня
Во-вторых, об адекватности «теории X» (независимо от того, что
есть X) можно судить только если обладаешь знанием по поводу «X»5.
Подобным же образом при отсутствии знания о том, что значит провес-
ти хорошее историческое исследование и написать хорошую историче-
скую работу, потенциальным историкам трудно и, вероятно, невозмож-
но отличить полезное от бесполезного в тех теоретических структурах,
с которыми им приходится иметь дело. Например, в 1980-х - начале
1990-х гг. работы Мишеля Фуко иногда использовались историками и
не только ими весьма некритично6. Без предшествующего опыта исто-
рических исследований действительно крайне трудно различить то, что
является ценным, а что вредным для исторического метода.
Тем не менее, хотя сама по себе теория и не может превратить на-
чинающего историка в профессионала, это не повод исключать ее из
исторической практики. Каковы аргументы, на основании которых это
можно было бы сделать? Как я уже заметил, одно из распространенных
предубеждений историков по отношению к теории состоит в том, что
создание универсальных утверждений (поскольку при этом не удается
уделить внимание частностям реального мира) является своего рода
насилием над реальностью. (Сказанное является квинтэссенцией возра-
жения, выдвинутого Ранке против Гегеля и его confreres). Однако за-
метьте, что любая защита автономии исторического исследования vis-a-
vis теории предполагает, что история представляет собой связанный и
унифицированный способ исследования. Что могло бы объединить этот
способ за исключением ряда методов и подходов, которым, как предпо-
лагается, должны следовать все историки? Другими словами, те, кто
полагает, что история должна иметь автономию vis-a-vis теории, неявно
предполагают универсальное и, следовательно, теоретическое' требова-
ние по отношению к (правильному) историческому исследованию.
Осуждать теорию на том основании, что она выдвигает универсальные
утверждения, означает таким образом погрузиться в некое очевидное
противоречие - отрицать то философское предположение, которое ле-
жит в основе собственного требования истории к автономии.
5 Как кратко заметил Маркс во втором из его «Тезисов о Фейербахе» (1845),
«die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenstandliche Wahrheit zukomme - is keine
Fragc dcr Thcorie, sondem cine praktischc Hragc | вопрос о том, является ли человече-
ское суждение объективно верным, - не теоретический, а практический вопрос]». -
Karl Marx and Friedrich Engels, Werke, vol. 3 (Berlin: Dietz, 1962), 5.
6 О восприятии историками работ Фуко в целом в период с 1961 до середины
1980-х гг. см: Allan Mcgill “The Reception of Foucault by Historians,” Journal of the
History of Ideas” 48 (1987): 117-41.
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании... 29
Наверняка можно выдвинуть, по крайней мере, один контраргу-
мент: то, что называют “историей”, на деле является несвязанным спо-
собом исследования, изменяющимся вместе с интеллектуальной модой
и не имеющим скрепляющего сущностного ядра. Невозможно отрицать,
что моды в историческом знании действительно меняются. Но если мы
хотим иметь ясное представление об историческом исследовании, мы
должны различать его изменчивые и более устойчивые аспекты. С од-
ной стороны, определенные аспекты исторического исследования и на-
писания истории можно считать факультативными, то есть они вполне
могут рассматриваться как нечто, выбираемое историком по своему ус-
мотрению. Очевидно, что существуют различные объекты, на которых
историк может остановить свой выбор, различные цели, которые исто-
рики могут преследовать при рассмотрении этих объектов, различные
подходы, которые историки могут выбрать для работы с ними, и раз-
личные литературные стили и способы репрезентации.
Но каково значение этого разнообразия? Мы не вправе утверждать,
что из огромного числа созданных исторической наукой работ могут
быть оправданы только те из них, которые сфокусированы на правиль-
ных объектах, преследуют правильную цель и используют правильный
подход. Я думаю, мы должны согласиться с тем, что такое разнообразие
имеет право на существование - и на самом деле желательно - для ис-
торического знания. Производство знания в гуманитарных науках толь-
ко пострадало бы, если бы некое централизованное «Правление плани-
рования исследований» навязывало историческому знанию один объект,
цель или подход7. С другой стороны, вряд ли можно утверждать, что все
попытки внести свой вклад в историческое знание одинаково весомы.
Любой историк, занимавшийся подбором нового преподавателя исто-
рии для обучения по тому или иному предмету или оценивавший исто-
риков на предмет их пребывания или повышения в должности, знает о
качественных отличиях в работе разных претендентов.
Заметьте: чтобы сказать «существуют качественные отличия», не-
обходимо предположить наличие некого стандарта для оценивания это-
7 Такая попытка, конечно, нарушила бы диалектический принцип, согласно
которому знание развивается через противоречие и конфликт. Учитывая, что в на-
стоящем не существует никакой эмпирической испытательной площадки для утвер-
ждений о «мертвом и ушедшем» прошлом, прогресс исторического знания должен
гораздо больше зависеть от конфликта интерпретаций, чем это имеет место в тех
науках, которые исследуют объекты, либо существующие сегодня, либо могущие
быть вызваны к действительности посредством эксперимента.
30
Историческая эпистемология сегодня
го качества. Бесспорно, политические соображения - в широком смысле
слова - являются составной частью исторической науки. В конце кон-
цов, все историческое знание на глубинном уровне несет на себе печать
тех «форм жизни», которые производители этого знания унаследовали
или придерживаются. Приверженность определенной «форме жизни»
будет сказываться и на появлении соответствующих работ по истории.
Даже простой факт проживания в определенной стране может оказать
неуловимое или же гораздо более заметное влияние на создаваемую
историю. Другими словами, в широком смысле, вся история является
политической, т.е. вся история связана с polis, из недр которого она и
появляется на свет. Однако условие возможности истории организо-
ванно содействовать развитию знания (другими словами, быть дисцип-
линой) состоит в том, что она является не только политической.
Короче: если история является дисциплиной, т.е. связанным спо-
собом исследования, она должна содержать в себе нечто универсальное,
пронизывающее этот способ исследования и оправдывающее (относи-
тельную) автономию истории. Другими словами, история должна иметь
теоретическое измерение. Сказанное в краткой и самой общей форме
служит аргументом за теорию в истории.
* * *
Когда мы подходим к проблеме роли теории в истории более кон-
кретно, возникает соблазн задаться вопросом о том, какие особые типы
теоретических школ следует связать с историческим исследованием и
историописанием (например, марксистская теория, теория постструкту-
рализма, постколониальная теория и т.д.). Однако это малообещающее
руководство к действию, ибо процесс выбора между этими школами
рискует превратиться в своего рода интеллектуальный конкурс красоты,
в котором принятые решения оказываются произвольными, не очень
оправданными и сильно зависящими от моды.
Вместо того чтобы акцентировать свое внимание на конкретных
теориях или теоретических школах, которые, возможно, так или иначе,
внесли свой вклад в историческое исследование и историописание, гораз-
до разумнее обратиться к тем разнообразным ролям, которые играет тео-
рия любого типа. Мне видится, что существуют четыре таких роли. Тео-
рия играет (или скорее должна играть) эпистемологическую роль в
истории, роль критики (точнее, роль самокритики) и спекулятивную
роль. Наконец, теория может вытекать из исторического исследования
как его результат. Остановимся кратко на каждой из этих четырех ролей.
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...
31
Прежде всего, теория играет эпистемологическую ^роль, помогая
историкам избежать ошибок в их суждениях о прошлом8. Несмотря на
это, во многих областях исторической профессии взаимосвязь между
историей и эпистемологией если и принимается, то с огромным сопро-
тивлением. В историографии существует давняя “ремесленническая”
традиция, отрицающая представление о том, что нечто столь сомни-
тельное, как “философская теория”, может внести вклад в историческое
познание9. Показательный пример - подход выдающегося историка тю-
доровской Англии Джеффри Элтона (1921-1994), издавшего в 1967 г.
«Практику истории» (она недавно переиздана), широко известную кни-
гу наставлений для начинающих историков, в которой высказано мне-
ние, что «философская обеспокоенность такими проблемами, как ре-
альность исторического знания или природа исторического мышления,
только препятствует практике истории». Вместо этого он настаивал на
том, что компетентность в истории может быть достигнута только усер-
дием в исследовании релевантных источников вкупе с мастерством вла-
дения методами дисциплинарного ремесла10. Даже Р. Дж. Коллингвуд в
методологической части своей «Идеи истории» (1946), странно назван-
ной им «Эпилегомены», отмечал, что единственным способом достичь
знания о том, из чего складывается хорошее историческое исследова-
ние, является практическое изучение того, что значит - аргументиро-
вать, как историк11. Возможно, именно благодаря этому и подобным
утверждениям явно антитеоретического оттенка книга «Идея истории»
стала обязательным чтением среди англо-говорящих историков 1950-
60-х гг. Но 130 страниц, посвященных сущности исторического метода,
ясно показывают, что следование определенной теории - а именно соб-
ственной теории относительно того, как лучше всего осуществлять про-
цедуру исторического исследования - Коллингвуд как раз считал важ-
8 Я подчеркнул эту роль теории в разных главах моей книги. См.: Мегилл А.
Историческая эпистемология (перевод Кукарцевой М., Кашаева В., Тимонина В.).
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007.
9 Симптоматично, что англоязычную версию «Исторической эпистемологии»
пришлось издать под другим названием, потому что директор издательства по мар-
кетингу заявил, что никогда не сможет продать книгу с таким названием. Соответст-
венно, на английском языке книга появилась как Historical Knowledge, Historical
Error: A Contemporary Guide to Practice (Chicago: University of Chicago Press, 2007).
10 Elton G. R., The Practice of History, 2nd edn., with an afterword by Ri-
chard J. Evans (Oxford: Blackwell, 2002 [1 st edn., 1967]); quote at 1.
11 Collingwood R. G., The Idea of History, revised edn., with Lectures 1926-1928,
ed. W. J. van der Dussen (Oxford: Oxford Univ. Press, 1994 [первое издание 1946]),
“Epilegomena,” sect. 3, “Historical Evidence,” (v), “Historical inference,” 263.
32
Историческая эпистемология сегодня
ным для историков. Он утверждал, что принципы и методы, обозначен-
ные в «Эпилегомснах», и составляют тот самый правильный способ ис-
торического исследования. Правда, когда некоторые историки читают
курсы об историческом методе, они употребляют слово метод в отрыве
от эпистемологии, замещая им обозначение различных «интересных под-
ходов» (предпочтительно новых интересных подходов) к историческому
исследованию и историописанию. Но смысл коллингвудовского понима-
ния метода явно эпистемологический и явно носит единичный характер.
Утверждать возможность существования различных конкурирующих
методологий все равно, что отрицать саму идею эпистемологии.
Таким образом, можно на совершенно законных основаниях фор-
мулировать разнообразные (универсальные) принципы исторического
исследования - провозглашающие, например, что, при прочих равных
условиях, «материальные свидетельства» (fiherreste) более весомы, чем
«устные свидетельства» (Quellen), и «первичное» свидетельство облада-
ет большей ценностью, чем вторичное. Это тс теоретические принципы,
которые сами антитеоретические и ремесленнически-ориентированные
историки, подобно Элтону, сформулировали и защитили. Можно вы-
явить и такие теоретические принципы исторического исследования,
которые ремесленически-ориентированные историки (по крайней мере,
представители их старшего поколения) не смогли четко вербализиро-
вать, но которые вполне согласуются с их попытками выдвинуть опре-
деленные суждения о прошлом. Например, существуют правила «аб-
дуктивного вывода» и «вывода для наилучшего объяснения» ,
применимые к тем ситуациям, где доказательство очень шатко12. Суще-
ствуют также правила, иногда упускаемые историками, ориентирован-
ными на “культурную историю”; они касаются создания каузальных
утверждений в истории. В большинстве своем эти правила элементарны
и представляют собой простые формализованные размышления. Но мы
должны помнить, что элементы дисциплины - одни из наиболее важ-
ных ее составляющих. Элементарное не значит тривиальное.
Во-вторых, теория играет в историческом исследовании роль са-
мокритики. Это значит, что теория может помочь историкам стать бо-
* Под абдукцией автор, следуя определению Ч. Пирса, понимает форму рассуж-
дения по схеме: 1) наблюдается необъяснимый факт С; 2) если бы А было истинным,
то С было бы чем-то само собой разумеющимся; 3) есть основание полагать, чго А
является истинным. Соответственно, «абдуктивный вывод» или «вывод щи наилуч-
шего объяснения» - тот, который более доказателен, чем другие. - Прим. пер.
12 Историческая эпистемология, Глава V, § 2, Проблема исторической эпи-
стемологии: что соседи знали о Томасе Джефферсоне и Салли Хэмингс? Р. 392-437.
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...
33
лее внимательными к их собственным вербально оформленным или не-
дооформленным предположениям относительно природы мира людей.
Эта роль теории связана с ее эпистемологической ролью, хотя и отлична
от нее, ибо сфокусирована не на отношениях между историческими
представлениями и свидетельствами, на которые могли бы опереться
эти представления, а скорее на отношения между историческими пред-
ставлениями и предположениями историков относительно природы ми-
ра. Заметьте, что история в большей степени, чем другие академические
дисциплины, пишется на обыденном языке, а не на специальном жарго-
не. Использование историками обыденного языка - показатель укоре-
ненности этой дисциплины в общепринятых представлениях относи-
тельно того социального порядка, в рамках которого история написана
и к членам которого она, в конечном счете, обращена. Историки вообще
заимствуют свои понятия из общепринятого изобилия концептов без
глубокого анализа или критики этих понятий. В конце концов, история
есть история, а не политическая теория или философия, например.
Взятые вместе, мы можем определить эти общепринятые языки и
понятия как предубеждения ^. История не может существовать без та-
ких предубеждений. Существует, по крайней мере, три причины этому.
Прежде всего, любая история должна быть историей чего-то. Обычно
(хотя не всегда) истории являются историями (отдельного аспекта) той
или иной группы людей в прошлом. Но на вопрос «это группа людей?»
нельзя ответить просто путем рассмотрения материального свидетельст-
ва, поскольку любая (историческая) группа также конституирована как
группа восприятием ее и отношением к ней людей прошлого и настояще-
го. Например, мы знаем, что История Франции возможна только потому,
что довольно много людей верят в историческое существование Фран-
ции - и на самом деле до такой степени, что историки могут включать в
ее историю те события и сообщества, которые предшествовали появле-
нию Франции как государства и даже появлению французского языка.
Во-вторых, при написании истории историки должны уметь отли-
чать значимое в прошлом от незначимого, а историческая значимость -
это всегда проблема значимости для той или иной группы людей. Дру-
гими словами, одно из условий историописания состоит в убежденности *
13 Я следую здесь за терминологией Х.-Г. Гадамера, который, вслед за Хайдег-
гером, подчеркнул, что никакое понимание невозможно без изначально сущест-
вующего предубеждения. Как известно, он использует этот термин в нейтральном, а
не в уничижительном смысле. См.: Gadamer, Wahrheit und Methode: Wahrheit und
Methode: Grundziige einerphilosophischen Her meneutik (Tubingen: Mohr, 1960).
34
Историческая эпистемология сегодня
со стороны историка в важности написания истории на определенную
тему в такое-то время и в таком-то месте. Иначе, какой смысл был бы
писать ту историю - или историю вообще?
Третья причина, по которой история должна корениться в преду-
беждениях, связана с тем, что в нашем понимании прошлого не может
быть никакой аподиктической уверенности, никакого надежного эпи-
стемологического обоснования. Соответственно, неизбежные лакуны в
сообщениях историков о прошлом заполнены - и на самом деле долж-
ны быть заполнены - огромным множеством социальных, политических
и другого рода предположений, о которых историки по большей части
предпочитают не думать. Если бы историки обязаны были создавать
исторические представления с «нуля», не опираясь на предположения и
предпочтения, они вообще никогда бы нс написали никакую историю.
Укорененность истории в предубеждениях (особенно часто это
предубеждения, связанные с господствующим в это время социально-
политическим режимом) актуализирует функцию самокритики, кото-
рую теория может и должна играть в историческом исследовании и ис-
ториописании - но довольно часто не играет. Именно потому, что исто-
рия нс может быть написана «без предубеждений», должны
существовать способы подвергнуть эти возможные в любой и всех ис-
ториях предубеждения пристальному критическому рассмотрению.
Часто в истории историографии для того, чтобы подвергнуть сомнению
эти глубокие и неисследованные предубеждения историков, нам прихо-
дилось ждать поколенческих и политических сдвигов. Например,
большая часть историографии Южных Соединенных Штатов, созданная
с момента окончания Гражданской войны и вплоть до середины XX сто-
летия, продемонстрировала чрезвычайно некритичное отношение к «про-
игранному делу» южан и связанному с ним расизму. Изменения в этой
историографии главным образом начались только в 1950-х гг. и позже14.
Ждать пришлось долго. Но подобное некритическое отношение ис-
ториографии к реальности, в рамках которой она создастся, несомненно,
широко распространено и преобладает среди историков - по уже изло-
женным выше и другим причинам. Теория может и должна помочь исто-
рикам увидеть, лучше и быстрее, предположения, некритически воспри-
нятые ими из данного им социального контекста. Как было сказано выше,
14 См. особенно исключительно влиятельную работу: С. Vann Woodward’s The
Strange Career of Jim Crow (New York: Oxford Univ. Press, 1955; University of Virginia
James W. Richard I Pictures for 1954), где автор прямо бросил вызов южным интерпре-
тациям Американской истории и истории Юга.
Аман Мегим. Роль теории в историческом исследовании...
35
такие предположения выполняют определенную функцию при написании
работ по истории. Но когда они включаются в исторические представле-
ния некритически, последние могут очень легко превратиться в апологию
того социального строя, в рамках которого они создаются.
Ориентированная на эпистемологию теория может быть весьма
полезна и способна существенно помочь в выявлении неартикулиро-
ванных, а, следовательно, и неаргументированных предубеждений ис-
ториков, но этого недостаточно. Во-первых, эпистемологически ориен-
тированная теория сосредотачивается на отношении между
представлениями и свидетельствами, а не на содержащихся в представ-
лениях неартикулированных предубеждениях; во-вторых, работа по
истории может быть насыщена необоснованными предубеждениями,
даже соответствуя сравнительно высоким доказательным стандартам15.
Но мы располагаем другими теоретическими ресурсами, способными
внести свой вклад в достижение этой цели. Еще раз обратите внимание на
чрезвычайно универсальный характер теории. Теория в ее подлинной
сути - это всегда предмет спекуляции вне специальных контекстов. Со-
ответственно, по отношению к истории любая теория - юридическая, по-
литическая, этическая, культурная ит.д., - объектом которой являются
действия и страдания людей, уже потенциально является плодотворным
стимулом для историков, заинтересованных мыслить без предубеждений
своего времени, места жительства и современных им представлений.
В-третьих, являясь источником новых тем и подходов, теория иг-
рает спекулятивную роль в процессе исторического исследования и ис-
ториописания. В исполнении этой роли, в отличие от ее прежних двух
ролей, теория более «позитивна», чем «критична». Начиная с конца
XIX века, история историографии предлагает много случаев спекуля-
тивного использования теории в историческом исследовании и исто-
15 Вот один из возможных примеров. В ряде своих работ Дж. Р. Элтон, с кото-
рым мы уже имели дело, утверждал, что в 1530-е гг. в Англии произошла бюрокра-
тизирующая «революция в правлении», тезис, широко оспоренный другими истори-
ками. Элтон, вероятно, весьма некритично предполагал, что тенденция к
бюрократизации свойственна современной истории, и, видимо, позволил этому
предположению увести себя за пределы того, что могли оправдать его неизбежно
ограниченные XVI веком свидетельства. Безусловно, не всегда легко уловить разни-
цу между, с одной стороны, ошибкой при работе со свидетельством, и, с другой
стороны, результатом необоснованных предубеждений. Среди прочих работ Элтона
см.: G. R. Elton, The Tudor Revolution in Government: Administrative Changes in the
Reign of Henry VIII (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953). Беспристрастная оцен-
ка карьеры Элтона, отмечающая это противоречие, дана в: Robert Н. Landrum, “А
Eulogy for Geoffrey Elton (1920-1994),” The Historian 59 (1996): 113-23.
36
Историческая эпистемология сегодня
риописании. Хорошо известно воздействие теории марксизма на работу
историков после 1890 г.: в значительной мере именно благодаря влия-
нию марксизма историческая дисциплина стала уделять, хотя и не сра-
зу, серьезное внимание классам и структурным аспектам экономиче-
ской жизни. До этого, профессиональная историография была почти
исключительно политической по своей тематике и нарративной по сво-
ему подходу. Приблизительно после 1920 г. расхожими среди думаю-
щих историков (наряду с другими темами) стали взгляды Макса Вебера
на бюрократию, модернизацию, статус и харизму. В 1950-60-х тт. влия-
ние в исторической дисциплине приобрели социологические теории
(типа теории модернизации) и методы (метод регрессивного анализа и
другие статистические средства). Сравнительно недавно широкую по-
пулярность среди историков получили: идея «сетей значения» (бази-
рующаяся на одном из аспектов работы Макса Вебера) Клиффорда Гир-
ца, интерес Фуко к феноменам власти, сексуальности и господства и
понятие «символического капитала» Бурдьс с его акцентом на необхо-
димость рассмотрения культуры как совокупности практик16.
В самом общем виде (весьма далеком от конкретных вопросов и
приемов теоретического конструирования) теория равнозначна требо-
ванию концептуализации. Поль Вейн в книге Comment on ccrit 1 histoire
подчеркнул, что сравнительная т.е. теоретическая перспектива по-
зволяет историкам видеть объекты, которые они иначе не увидели бы.
Вейн отмечает, что только когда историк, сравнивая, замечает, что спо-
соб погребения у французов отличается от древнеримских погребаль-
ных практик, а у китайцев существует еще один способ погребения, ему
приходит на ум само существование общей категории «погребального
обычая», в которой каждый национальный обычай является частным
случаем. При всей своей элементарности это - пример теоретического
размышления, не потому, что здесь присутствует попытка формулиро-
вания общей теории (ибо это не то, что делает Вейн), а потому, что это
демонстрирует общее в деталях. Таким образом, именно потому, что
мы представили себе погребальный обряд в древнем Риме и Китае, мы
16 Труды Вебера и Маркса настолько обширны и известны, что одновременно
представляют серьезные трудности для специального цитирования и делают его
ненужным. Что касается других авторов, наиболее показательными являются сле-
дующие работы: Clifford Geertz, The Interpretation of Culture: Selected Essays (New
York: Basic Books, 1973); Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison
(Paris: Gallimard, 1975); Pierre Bourdieu, ‘Esquisse d 'une theorie de la pratique,” ргёсёбё
de “Trois etudes d’ethnologie kabyle" (Paris: Droz, 1972); Bourdieu, 1л distinction: criti-
que sociale du jugement (Paris: Minuit, 1979).
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...
37
больше узнали о погребальном обряде во Франции17. И это помогает
нам понять способы погребения в нашей собственной культуре.
Следует, однако, заметить, что в этой третьей роли теории по от-
ношению к историческому исследованию и историописанию таится не-
кая опасность. Она состоит в том, что историки могут воспринять рас-
сматриваемые теории слишком серьезно. Легко, например, незаметно
принять некую теорию (скажем, марксистскую теорию капиталистиче-
ского развития, веберовскую концепцию модернизации, идею Фуко о
том, что знание является всего лишь властью, или утверждение Бурдье о
том, что вкус есть ни что иное, как проявление культурной власти) как
безусловно верную. Следовательно, в историческом исследовании и
историописании обязательно должен присутствовать и момент само-
критики теории. В этом случае теория в своем, рассмотренном мною
выше, первом смысле, - теория, стремящаяся типологизировать и
обобщать продуктивные способы исторического исследования, - воз-
вращается к самой себе. Можно было бы сказать, что эпистемологиче-
ски-ориентированная теория должна применяться как средство коррек-
ции спекулятивно-ориентированной теории. Если историки должны
нести эпистемологическую ответственность, они не могут довольство-
ваться «нисходящим»*, причинно-следственным теоретическим подхо-
дом18. Короче говоря, если мы хотим, чтобы использование теории в
историческом исследовании и историописании осталось легитимным,
нужно применять теорию против теории.
Пока что я рассмотрел три роли, которые теория может и должна
играть в истории, а именно: роли эпистемологии, самокритики и спекуля-
ции. В соответствии с этими тремя ролями, существует три вклада, кото-
рые она может и должна внести в историю: теория может сделать исто-
рию более точной, чем - в противном случае - она могла бы быть; более
критичной по отношению к своим собственным возможным предполо-
жениям (многие из которых черпаются из окружающей историка полити-
ческой действительности); а также более творческой и продуктивной. В
ее третьей, спекулятивной функции, мы начинаем, однако, переходить от
вопроса о том, какой вклад теория способна внести в историю, к другому
вопросу: какой вклад может история внести в теорию?
17 См.: Paul Veyne, Comment on ecrit I’histoire: essai d’epistemologie (Paris: Edi-
tions du Seuil, 1971).
* В британском английском языке выражение «top-down» (сверху-вниз) озна-
чает, что вы начинаете с общей идеи, а затем переходите к деталям. - Прим. пер.
18 См. главу о Джефферсоне-Хэмингсе в «Исторической эпистемологии».
38
Историческая эпистемология сегодня
Когда историки и другие люди называют определенную историю
«продуктивной», они обычно подразумевают, что такая история не
только правильна с формальной точки зрения - т.с. у нее есть реальная
историческая проблема, она в достаточной мере подкреплена источни-
ками, хорошо организована и ясно написана, — но также то, что она спо-
собна сказать о некоторой области истории что-то свежее и неожидан-
ное. Ряд прошлых работ по истории обладают этим качеством в
достаточно большой мере - такие работы, как Die Cultur der Renaissance
in Italien (Культура Италии в эпоху Возрождения) (1860) Якоба Бурк-
харда и Hcrfsttij der Middeleeuwen (Осень Средневековья) (1919) Йохана
Хейзинги19. Можно было бы упомянуть и множество других более не-
давних работ, не являющихся столь «устаревшими на фоне последних
исследований», как классические труды этих двух историков.
Однако работы по истории могут быть продуктивными и в другом
роде. Этот вид продуктивности достигается тогда, когда работа по исто-
рии содержит поразительные догадки не только в отношении определен-
ного предмета в прошлом, но и о каком-то аспекте социальной, политиче-
ской и культурной жизни людей, независимо от времени. Буркхард и
Хейзинга предложили именно этот тип догадок-прозрений, заставляя чи-
тателей задуматься не только о Ренессансе или позднем Средневековье,
но и о человеческой жизни вообще. И это тот самый момент, когда воз-
никает вопрос нс только вклада теории в историю, но и истории (по край-
ней мере, потенциально) в теорию. Окажут ли такие работы реальное воз-
действие на создание четко сформулированных теорий, зависит как от
воли случая (неожиданной релевантности, например, ситуации в про-
шлом — современной проблеме), так и от внимательности теоретически
ориентированных читателей к истории и историческим трудам.
Наличие некой взаимной релевантности между теорией и историей
практически нс вызывает удивления. В конце концов, хотя теория и
стремится создавать универсальные утверждения, она способна делать
это только по отношению к конкретным областям эмпирической дейст-
вительности (общие черты которой она и пытается выявить). Если некая
теория рассматривает людей, значит, она должна обращаться к челове-
ческой действительности. Одна из определяющих черт истории состоит
в том, что она пытается представить то обширное поле человеческой
19 Jacob Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in Italien: ein Versuch (Basel:
Schweighauser, 1860); Johan Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen: studie over levens-
en gcdachtenvormen der vcertiende en vijftiende ecuw in Frankrijk en de Nederlandcn
(Haarlem: H. D. Tjcenk Willink, 1919).
Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...
39
действительности, которое отныне обращено в прошлое. Поэтому исто-
рия может стать и испытательной площадкой, и питомником для тео-
рий. Приведу пример, которым я сейчас интересуюсь: если вы хотите
понять границы современного мира, было бы серьезной ошибкой огра-
ничить их сравнительное рассмотрение только периодом, начавшимся в
1816 г., когда в плавильном тигле Французской революции возникли и
получили международное признание существующие сегодня представ-
ления о границах. Несомненно, правильное понимание границ сегодня
также требует, в качестве сравнительного ряда, осмысления более ран-
них, более подвижных и более неопределенных (возможно, следует ска-
зать напоминающих афганский вариант?) пограничных «режимов».
* * *
Но, наконец, я должен указать и на потенциальную опасность такого
использования истории для теории. В той степени, в какой историк ста-
новится, так сказать, «теоретически ориентированным», его или ее теоре-
тический интерес рискует нанести ущерб проекту исторической репре-
зентации возникновением интереса, проходящего по касательной к
стоящим перед историком центральным задачам описания, объяснения и
интерпретации конкретного исторического прошлого. Рассмотрим, в ча-
стности, самую известную из теоретически ориентированных работ по
истории, написанных в XX веке: труд Томаса С. Куна «Структура науч-
ных революций» (1962). Кун предельно четко излагает свои теоретиче-
ские намерения в первом же предложении Введения в эту работу, в кото-
ром сообщает нам, что «История, если ее рассматривать не просто как
хранилище анекдотов и фактов, расположенных в хронологическом по-
рядке, могла бы стать основой для решительной перестройки тех пред-
ставлений о науке, которые сложились у нас к настоящему времени»20.
С момента своего первого издания книга Куна, разошедшаяся где-то
миллионным тиражом только на английском языке и переведенная на
многие другие языки, оказала большое влияние на наши представления о
науке. Оставим в стороне вопрос о достоинствах и недостатках куновской
философии и социологии науки. Мне хотелось бы отметить только то,
что есть серьезные основания полагать, что теоретический интерес Куна в
той работе навредил его описанию истории науки. Мне не кажется это
утверждение спорным: напротив, данное обстоятельство неоднократно
отмечали те комментаторы работ Куна, которые, интересуясь историей
20 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edn., enlarged (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1970), “Introduction: A Role for History,” 1.
40
Историческая эпистемология сегодня
науки, намного выше оценивали именно как исторические как раз другие
его работы, те, в которых не содержится его теория эволюции науки '.
Возможно, в качестве первого приближения к проблеме мы можем
сформулировать следующий постулат: история, созданная с намерением
внести свой вклад в теорию (либо путем создания новой теории, либо
подтверждением существующей), скорее всего, содержит искаженное
историческое представление, под которым я подразумеваю эпистемоло-
гически сомнительную историческую репрезентацию21 22. С другой сторо-
ны, исторические репрезентации, содержащие концептуальный аспект
(как признание историком погребального обычая в качестве общей ка-
тегории человеческой практики), но сфокусированные исключительно
на задаче репрезентации прошлого, а не на иллюстрировании или соз-
дании теории, вряд ли пострадают от порожденного теорией искажения
(хотя они, конечно, могут пострадать и от других дефектов). Это одна
из нескольких причин того, почему, несмотря на всю необходимость
присутствия теории в истории, история и теория все же должны суще-
ствовать отдельно.
(Перевод с англ. О. В. Воробьевой)
21 Об одном раннем критическом рассмотрении исторического измерения ку-
новской теории науки см.: Stephen Toulmin, Toulmin, S., 1970 “Does the Distinction
between Normal and Revolutionary Science Hold Water?” // Criticism and the Growth of
Knowledge, ed. Imre Lakatos and Alan Musgrave (Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1970) 39-48. Как историей, куновскими работами - The Copernican Revolution:
Planetary Astronomy in the Development of Western Thought (Cambridge MA: Harvard
Univ, Press, 1957) и Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, Oxford:
Clarendon Press (2nd edition, Chicago: University of Chicago Press, 1978) -
восхищаются намного больше, чем «Структурой».
22 Говоря «искаженное представление» о прошлом, я не имею в виду, что су-
ществует некое идеальное прошлое, которое не смогла точно воспроизвести данная
репрезентация. Напротив, я принимаю точку зрения Ф. Р. Анкерсмита, согласно
которой исторические описания на самом деле сравнимы не с прошлым, а друг с
другом (Ankersmit, Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language
|Thc Hague: Nijhoff, 1983]). На микроуровне это значит: решаясь сказать, что нечто
произошло так-то и так-то, историк должен предложить историческое описание,
которое более, чем другие, коррелирует с сохранившимся свидетельством.
М. А. Кукарцева
ИСТОРИЯ
WISSENSCHAFT И/ИЛИ BILDUNG-ПРОЦЕСС?
Историческая эпистемология, онтология, историческое мышление,
способы адресации историков к прошлому по-разному акцентируются в
зависимости от того, что называть сущностью истории: культурологи-
ческие, социальные, политические концепции, гипотезы «нарративов
прошлого», воссоздание психологических структур и пр. Весь этот мас-
сив можно свести к двум версиям древней дисциплины: теоретическому
знанию в форме (историко-нарративного) объяснения того, каким обра-
зом разного рода вещи (исторические объекты) становятся тем, что они
есть; и духовно-практическому знанию (часто излагаемому в форме ли-
тературных нарративов), которое пробуждает воображение, инспириру-
ет рефлексию над экзистенциальными и моральными проблемами. Пер-
вое - это Wissenschaft, “научная” история, формулирование законов
социальной жизни в духе позитивизма. Второе - Bildung, акцентирова-
ние культурного развития, из которого извлекается знание, возможно,
более важное, чем знание самого исторического объекта, но, с точки
зрения Wissenschaft, эпистемологически сомнительное1.
Если это две равноправные версии одной дисциплины, то почему
Wissenschaft нередко относят к профессиональной историографии, а
Bildung - к непрофессиональной (социальная память, искусство, попу-
лярная историография и пр.)? Можно ли считать, что Bildung выражает
не- и даже аишм-эпистемологическую тенденцию в исторической дис-
циплине? Можно ли вообще выбирать между историей как Wissenschaft
и историей как Bildung-процесс? Что, в конечном итоге, является целью
исторического исследования: дальнейшее развитие знания самого по
себе, теория, или улучшение жизни, практика? Очевидная невозмож-
ность однозначного и прямого ответа на эти вопросы подчеркивает, что
отношение между историей как Bildung-процесс и историей как
1 Под исторической эпистемологией я понимаю определенный инструктивный
репертуар общих и специальных когнитивных методов и правил исторического ис-
следования, следование которым делает возможным систематическое получение
историографической истины, снижает риски неверных или некорректных суждений.
Историческая эпистемология коррелирует с историческим мышлением (допуще-
ниями историков и импликациями их исследований как уникальной комбинацией
блоков акцентов, варьируемых в зависимости от исторического периода, религии,
социальной группы, индивидуальности историка) и способами адресации историков
к прошлому (память, коммеморация, традиция, ностальгия и пр.).
42
Историческая эпистемология сегодня
Wissenschaft всегда будет важной проблемой как для истории, так и для
всего корпуса социально-гуманитарного знания.
На мой взгляд, во-первых, любой исторический текст может быть
рассмотрен и как научное объяснение, ведущее к пересмотру понима-
ния мира и человеческих отношений, и как литературный нарратив,
пробуждающий воображение и фантазию2 3. В этом смысле история как
Wissenschaft и история как Bildung-процесс предполагают друг друга:
Wissenschaft является фактографической основой Bildung, а без Bildung
Wissenschaft превращается в схоластический, лишенный всякого смысла
«подсчёт» исторических событий. Во-вторых, сегодня в движении исто-
рического знания очевидна тенденция к постепенному, но неуклонному
сворачиванию Wissenschaft. Это связано, прежде всего, с тем, что теоре-
тические проблемы не осознаются как таковые самими историками.
Историческое мышление существует в минимуме правил. Истори-
ки никогда не вырабатывали собственный язык и унифицированный
критерий оценки их работы. Самое большое изменение состоит в том,
что они стараются менее свободно играть со свидетельствами и доказа-
тельствами, и быть более ответственными в отношении теоретических
заимствований. Попытки выработать теорию истории и сформулиро-
вать принципы исторической эпистемологии (а главное, принять и сле-
довать им) всё время натыкаются на некие “объективные” препятствия,
непонимание и просто нежелание традиционалистски настроенных ис-
ториков всерьез менять механизмы своей работы . С другой стороны,
постоянно расширяющееся поле исследований, вбирающее в себя самые
разные и, на первый взгляд, совершенно невообразимые предметы ис-
следования (история левшей, история розги, истории контрацептивов
и пр.) просто не позволяет вовремя вырабатывать искомые эпистемоло-
гические принципы, отвечающие специфике предмета. В-третьих, исто-
рия как Bildung-процесс становится сегодня всё более отчужденной от
Wissenschaft. Это выражается в том, что репрезентации истории часто
представлены в форме социальной памяти, художественными и развле-
кательными работами, популярной историей (хотя она и не так чётко
отделена от профессиональной историографии). Нередко эти формы
больше, чем профессиональная историография, востребованы даже
2 Я не касаюсь здесь известных отличий исторического и литературного нар-
ратива, а говорю об историческим тексте в целом.
3 Можно вспомнить бурные дебаты о пользе и вреде для исторической дисцип-
лины микроистории, антропологического, культурного, лингвистического поворотов,
постмодернизма, идей Р. Козеллека, Ф. Анкерсмита и мн. др. Радует то, что эти дебаты
приводят историков к позитивным выводам, хотя и весьма осторожным.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или bilding-процесс?
43
представителями других академических дисциплин. Всё это, с одной
стороны, ведет к эпистемологической некорректности исторического
знания, к искажению историографической истины4. Например, в куль-
турной истории - доминантном тренде исторических исследований на-
шего времени - исследование сосредоточено в большей степени на ана-
лизе культурного процесса, чем на его содержании. С другой стороны,
мы рискуем поместить «...Bildung (в смысле формирования или настав-
ления). .. настолько прямо перед своим носом, что станем узколобыми и
нравоучительными» занудами, а не бесстрастными исследователями5.
Так что же должно стать глубинным основанием истории: линия
Bildung, линия Wissenschaft; их дихотомия или их сосуществование?
Концепция истории как Bildung-процесса весьма плодотворна. Со-
временные формы Bildung могут выразить сущность наиболее значи-
мых обобщений эмпирического материала и теоретических гипотез в
историческом знании, но главное - Bildung имеет целью реально изме-
нить сложившееся положение вещей и в чем-то сделать нашу жизнь
лучше. Отвлекаясь от рассмотрения эволюции всего спектра значений
термина Bildung и связанных с этим изменений его концептуального
фона, я сошлюсь только на немецкую интеллектуальную традицию, и
конкретно, на идеи И. Канта6. Последний, хотя и не предложил целост-
ной и развернутой концепции Bildung, но подчеркнул ее сущностный
момент: не просто делание человеком самого себя (культивация интел-
лекта, освобождение от оков традиции, стереотипов мышления и пр.),
но делание, приносящее реальные изменения и в понимании человеком
самого себя, и в преобразовании им окружающей реальности. Bildung, в
понимании Канта, утверждает долженствования процесса образования
«...в контексте достижения человеком лучшей жизни и установления
морального миропорядка»7. При этом сам Bildung-процесс темпорален,
4 См., например, дискуссию по проблеме исторической истины в журнале
«Эпистемология и философия науки». 2008. № 1.
5 Ewa Domanska, Lionel Gossman И Encounters: Philosophy of History after Post-
modernism. Charlottesville, 1998. P. 209. В этом интервью Л. Госсман много рассуж-
дает о взаимоотношениях истории как Wissenschaft и истории как Bildung.
6 Обзор возникновения и эволюции концепции Bildung дает Гадамер во всту-
пительной статье к книге «Истина и метод». Он связывает появление интереса к
Bildung с развитием историзма и называет Гердера первым философом, сделавшим
Bildung центральной темой своих исследований. Ф. Анкерсмит много рассуждает о
Bildung в контексте постмодернистской историографии. Анкерсмит Ф. История и
гропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. Гл. 6, 7.
7 Быкова М. Кант и концепция Bildung // Иммануил Кант: наследие и проект.
М., 2007. С. 308.
44
Историческая эпистемология сегодня
т.е. вписан в социальное и историческое измерение, он вводит субъекта
в историю и показывает се ему. А история как Bildung-процссс во мно-
гих отношениях является вживанием человека в культуру через рас-
шифровку исторически запечатленной в ней информации. Безусловно,
человек нс может и нс должен формировать себя согласно или в соответ-
ствии с прошлым, но он не может и не учитывать прошлое, поскольку
прошлое — это все еще часть того самого мира, в котором он живет. Исто-
рия как Bildung-процесс помогает решать многие сегод ня не просто акту-
альные, а жизненно важные задачи: оптимизировать межкультурную
коммуникацию, конструировать и сохранять коллективную и персональ-
ную идентичность; осмысливать коллективный и персональный истори-
ческий опыт; научиться использовать этот опыт в форс-мажорных (куль-
турно-исторических обстоятельствах и пр. При этом очевидно, что роль
самого субъекта в этом процессе становится главной.
Формы, которые принимает история как Bildung-процесс, могут
быть самые разнообразными - от образовательных программ до развле-
кательных мероприятий. Вопрос в том, можно ли найти такую форму
истории как Bildung-процссса, которая в более или менее ясном виде
включала бы определенные ключевые принципы исторической эписте-
мологии и тем самым не только не уступала бы Wissenschaft, а могла бы
даже оптимизировать ее. В поисках новых теоретико-методологических
принципов историки исходили немало дорог и сломали немало копий в
бурных дебатах. Сегодня предметом острых дискуссий выступает пер-
формативный поворот в социально-гуманитарном знании и возмож-
ность его экстраполяции на историю. На мой взгляд, он может стать (и 1
уже становится) одной из искомых форм истории как Bildung-процесса.
В своё время постмодернизм, с его очарованностью театрализо-
ванным действием, предположил, что историописание должно предла-
гать вместо репрезентации прошлого его презентацию. В настоящий
момент тенденция подводить всё под термины метафоры (лингвистиче-
ский поворот) сменена на тенденцию рассматривать реальность в тер-
минах перформативности. Почему именно сейчас возник особый инте-
рес к перформативности? Интерес к перформативности, несмотря на то,
что исследования этого феномена в социально-гуманитарном знании
вообще, и в историческом в частности, не новы8, приобрел особую ост-
рогу в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, изменилась сама ок-
8 Исследования перформанса родились из работ Й. Хейзинги («Человек иг-
рающий»), М. Бахтина о феномене карнавала, В. Тёрнера («От ритуала к театру:
антропология перфоманса»), Г и Дебора («Общество зрелищ») и ряда других.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или bilding-npoyecc?
45
ружающая нас реальность. Клонирование животных, растений и людей,
процессы физической и интеллектуальной мутации стали действитель-
но возможны; терроризм и квир-движение вообще претендуют на роль
героев повседневности и влияют даже на формирование международной
политики; генетическая медицина, биотехническая трансплантация, на-
нотехнология, психофармакология и пр. глубоко приникают в нашу
жизнь. Всё это приводит к последовательной «спектализации» жизни,
где реальность приобретает черты зрелища. Ги Дебор описал этот про-
цесс еще в 1960-е годы: «Вся жизнь обществ, в которых господствуют
современные условия производства, проявляется как необъятное нагро-
мождение спектаклей. Все, что раньше переживалось непосредственно,
теперь отстраняется в представление», что ведет к тому, что общество и
зрелище стали как близнецы-братья; что СМИ командуют воображени-
ем людей, которые перестали разговаривать друг с другом и совершать
поступки, поскольку превратились в зрителей; что прошлого не сущест-
вует, так как благодаря «прогрессу зрелищной технологии» оно ежеми-
нутно переписывается и т.д9. Во-вторых, все эти изменения требуют об-
новления теоретического аппарата, призванного анализировать
реальность. В качестве подхода, способного предложить такого рода
инновации, выступают (среди многих других) так называемые перфо-
манс-исследования (performance studies) - междисциплинарное поле
анализа любого рода проявлений перформанса и перформативности,
прежде всего, в искусстве, постструктуралистском литературоведении
(Р. Барт), теории социальной коммуникации (Ю. Хабермас), различных
теориях текста, политическом дискурсе, философии науки и т.д.10.
Напомню, что в узком смысле перформанс означает живое, непо-
средственное выполнение некоторого действия; в широком смысле - это
повседневная практика общественной жизни, проявляющаяся в ритуалах,
парадах, фестивалях, религиозных церемониях, народных танцах, спор-
тивных событиях и даже хирургических операциях (обстоятельства кото-
рых транслируются по TV на весь мир)11 и пр. Даже на упаковках товаров
повседневного спроса производителя помещают, такие, например, надпи-
си как “professional performance”, что свидетельствует о том, что перфор-
9 Дебор Г. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович.
М„ 1999. Тезис 1.
10 См., например: Schechner R. Performance Theory. N.Y., 1988; Idem. Perfor-
mance Studies: An Introduction. L., 2002; Гниренко Ю. Перформанс как явление со-
временного отечественного искусства. (http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-
diplom/city_266/fah_348/).
11 Например, о разделении сиамских близнецов, пересадке лица, эвтаназии...
46
Историческая эпистемология сегодня
мане понемногу становится одним из ключевых аспектов человеческого
существования и формирования процесса коммуникации.
Концепт пе])формативности был предложен в теории речевых ак-
тов Дж. Остина . Он выделил констатирующие речевые акты («солнце
светит») и перформативные акты («я верю, я клянусь, я обещаю» и т.д.).
Констатирующие акты - это «нормальные», «чистые» акты (обыденная
устная речь), в них содержится непосредственное указание на присутст-
вующий здесь и сейчас референт и исключается «цитатность». Перфор-
мативными являются высказываниями, которые не только описывают
действие, но и сами являются действиями (сказанное адекватно сделан-
ному). Псрформативность можно определить как веру в то, что язык не
только репрезентирует реальность, но также изменяет ее, что мысль
соответствует действию, и что определенные явления существуют толь-
ко тогда, когда они перформативно повторяются и должны всегда по-
вторяться для того, чтобы существовать. Для Остина перформатив есть
«аномальная», «паразитарная» речь - поэтическая (письменная) или
речь актера со сцены. Ж. Деррида, возражая Остину, подчеркнул пер-
формативную силу не только речи, но и письма: для письменной речи
необходимым условием является ее вторичность или «цитатность»12 13.
Акт повторения ключевой механизм перформатива. Например, один
из основателей «псрформанс-исслсдований» Ричард Шсчнср, называет
перформативное поведение «дважды оповсдснснным» (twice-behaved
behavior)14. На этой повторяемости основана, например, известная пер-
формативная теория пола Джудит Батлер, в которой она рассматривает
пол как осознанную роль, отправляемую человеком. С ее точки зрения
«перформативность не является ни свободной игрой, ни театрализован-
ной самопрезентацией; ее также нельзя приравнять к некоему представ-
лению на сцене. Перформативность не может быть понята вне процесса
репликации, регулируемого и вынужденного повторения норм. И это
повторение не проигрывается субъектом, это повторение делает субъек-
та возможным и конституирует темпоральные условия его жизни. Реп-
ликация означает, что “перформанс” не есть сингулярный акт или еди-
12 Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск
17. Теория речевых актов / Сб. пауч. тр. М., 1986.
13 Деррида Ж. «Подпись-событие-контекст» И Дискурс. 1996. № 1.; См также:
Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления // Деррида Ж. Письмо и
различие / Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. СПб., 2000.
14 Например, разного рода ритуальные действия (от утреннего кофе и универ-
ситетских лекций до интронизации патриарха) являются регулярно повторяемыми
структурированными практиками.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или b'd ding-процесс?
47
ничное событие, но ритуализированный продукт, многократно и вынуж-
денно повторенный под давлением необходимости и через нее, под воз-
действием силы запрета и табу, под угрозой остракизма и даже смерти,
под воздействием управляющей и неодолимой формы, но, я настаиваю,
не установленной заранее раз и навсегда»15. По сути дела, Батлер дока-
зывает, что в самом перформативном высказывании заложена опреде-
ленная тенденция к саморазрушению. При этом, как пишет
М. Липовецкий, «важно подчеркнуть отличие перформативности от те-
атрализации. Театральность и театрализация строятся на игровом обна-
жении разрыва между означающим и означаемым, тогда как перформа-
тизм полностью снимает этот разрыв, отождествляя первое со вторым.
Перформатизм восходит к ритуалу (в том числе и к карнавалу), магии и
фольклорным жанрам, он сохранён и многими риторическими жанрами
(клятва, присяга, заговор и т.п.). Театральность с этой точки зрения мо-
жет быть как перформативной, так и деконструирующей перформатив-
ное тождество означающего и означаемого. Так, театральные системы
Станиславского и Мейерхольда представляют собой два типа перформа-
тивности: первый стремится превратить актерскую игру (означающее) в
саму жизнь (означаемое), тогда как второй наделяет игру самостоятель-
ным значением, уподобляя театр магическому механизму, способному
из ничего создавать новую, ничего не “отражающую”, реальность»16.
Перформанс и перформативность фокусируют внимание на дейст-
вии и ролевых играх, что указывает на то, что идея перформативности в
современном гуманитарном знании была порождена в рамках «деятель-
ностного подхода»17. Это значит, что «в центре внимания оказывается
реализм актора и его способы понимания реальности, поскольку, если
говорить о науках об обществе, этот актор является неотъемлемой ча-
стью ее объекта»18, вот в качестве актора в перформативном повороте
выступают не только люди, но и неодушевленные сущности. Сторонни-
ки перформативного поворота привлекают наше внимание к тому, что
изменения в реальности происходят благодаря кооперации разных ак-
15 Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N.Y.,
1990. P. 95.
16 Липовецкий M. Перформансы насилия: «Новая драма» и границы литерату-
роведения // НЛО. 2008. № 89.
17 Об итогах и перспективах этого подхода см., например: Наука глазами гу-
манитариев. М., 2005 (Раздел III «Человек как предмет знания: деятельностный под-
ход, компьютерная метафора, историческое знание»).
18 ТевеноЛ. Наука вместе жить в этом мире // Неприкосновенный запас. 2004.
№ 3 (35) http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/teve2.html.
48
Историческая эпистемология сегодня
торов, и изучение действия должно начинаться с ответа на вопрос кто и
что участвует в действии. Известный американский философ науки
Эндрю Пикеринг считает, что «с семиотической точки зрения ...нс су-
ществует различия между человеческими и нечеловеческими агентами:
человеческая и нечеловеческая деятельность в любой момент могут
быть преобразованы одна в другую. ...Мой анализ научной практики
является постчеловекоцентричным не просто в том, что в нем уравни-
ваются человеческие и материальные агенты, но, что более существен-
но, в утверждении того, что материальная и человеческая деятельность
19
взаимно и эмерджентно продуцируют друг друга» .
Пикеринг рассматривает проблему действия в контексте двух иди-
ом науки — репрезентационной и перформативной, предлагая симмет-
ричныи подход к действию . По его мнению, репрезентационная идио-
ма больше не продуктивна, поскольку относится только к человеческим
существам. Репрезентационная идиома существует внутри перформа-
тивной, которая реферирует к людям, животным и вещам. Все они аген-
ты, действующие в поле действия вообще. Здесь в рамках методологии
науки, как разновидность исторической эпистемологии, создается но-
вый вид эпистемологии - интерсубъективная или эмпатическая эпи-
стемология, основанная на «перформативно- чувствительном способе
познания». Она призвана выявить субъективные основания и смыслы,
которые лежат в основе социальных действий и соединить людей, жи-
вущих в разных верованиях, так чтобы они смогли разделять некие об-
щие идеи, свойственные сообществу в целом .
Немного работ, в которых более-менее внятно излагались бы черты
перформативного поворота. Польская исследовательница Э. Доманска, * * *
19 Pickering A The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the Sociology of
Science// American Journal of Sociology. 1993. Vol. 99. № 3. P. 559-589 (http://www.v-
lab.unn.ru/texts/Pickcring_Mangle.htm). В этой книге «Каландр практики» (в русском
переводе встречается как «Вальцы практики») Эндрю Пикеринг предлагает новый
подход к пониманию непредсказуемого характера изменений в области науки. Этот
подход учитывает ряд факторов (социальных, технологических, концептуальных и
природных), которые взаимодействуя, влияют на создание научного знания. По его
мнению, машины, документы, факты, теории, концептуальные и математические
структуры, дисциплинарные практики и люди постоянно меняются в отношениях
друг с другом, “mangled” вместе непредсказуемыми способами, которые формиру-
ются неожиданными поворотами культуры, времени и пространства.
20 См об этом также: Hacking I. Representing and Intervening. Cambridge, 1983.
21 Tami Spry. A ‘Pcrformative-I’ Cooprescnce: Embodying the Ethnographic Turn
in Performance and the Performative Turn in Ethnography // Text and Performance Quar-
terly. 2006. Vol. 26. N 4.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или bilding-npoi/ecc?
49
выделяет те основные его характеристики, которые не нуждаются в
комментариях: отрицание метафоры мира как текста, так как она не
может объяснить проблемы, раздирающие современный мир (геноцид,
терроризм, технологический прогресс, глобализация и пр.); призыв к
метафоре мира как множественным перформативным актам или дей-
ствам, в которых мы принимаем участие, что означает сдвиг фокуса
анализа мира от созерцания, рефлексии окружающего и человека к ис-
следованию его восстания против существующей реальности. Двумя
главными категориями перформативного поворота становятся измене-
ние как ценность и активный, деятельностный (перформативный) субъ-
ект, который появляется в изменениях и влечет за собой конкретные из-
менения реальности, в частности, события, хэппининг и перформанс;
призыв к анти-дисциплинарности - перформанс выступает средством
противостояния границам академической дисциплины, навязывающей
жесткие конвенции проведения исследований и представления их ре-
зультатов. Точно так же перформативный синтез антидисциплинарен, он
иллюстрирует «де-эссенциализацию» академических дисциплин и про-
кладывает дорогу к мульти-, транс- или междисциплинарности; призыв
к пост-гуманистическим основаниям знания, осуществляемый в контек-
сте поворота к «не-человеческому» (“turn to non-human). Этот поворот
приписывает деятельность и человеку, и нечеловеческим сущностям и
рассматривает изменения как результат кооперации человеческих и не-
человеческих существ22.
На мой взгляд, в исторической науке перформативный поворот ука-
зывает на некий возможный сдвиг в понимании сущности и задач истори-
ческой дисциплины. Несомненно, на первый план выдвигается понима-
ние истории как Bildung-процесса. Субъект этого процесса (сам историк,
и его читатели) ориентирован на осуществление конкретных действий в
социально-политической реальности, способных воздействовать на очер-
тания будущего. Вооруженный принципами эмпатической эпистемоло-
гии, он отказывается от традиционных методов работы историка (изуче-
ние архивных материалов и конструирование на основе полученных
данных исторического нарратива) и обращается к новым, акцентирую-
щим глубокую вписанность человека в культуру и повседневную жизнь,
возрождая старые топосы мира как театра и социальной жизни как спек-
такля. Перформанс отменяет репрезентацию и заменяет ее презентацией
(или самопрезентацией). В исторической литературе второй половины
22 Domanska Е. Zwrot performatywny we wsp61czesnej humanistyce // Teksty
Drugie. 2007. N 5: 48-61.
50
Историческая эпистемология сегодня
XX века уже давно появились работы, так или иначе обсуждающие тер-
мин перформанс и теоретический аппарат перформативного поворота.
Например, Стивен Бэнн в статье «История как компетенция и перфор-
манс: заметки об ироническом музее» обсадил вопрос о «музеологии» в
контексте понятия «живущего прошлого»23. Рассматривая Музей де Клю-
ни, он показал, что историческое знание (компетенция) может быть при-
обретаемо разными способами. Эпистемологический разрыв в принципах
исторической репрезентации возник в западном историописании пример-
но во второй четверти XIX века, когда свойственное эпохе Ренессанса
монокулярное восприятие мира сменилось так называемым «двойным»
или стереоскопическим видением, выражающимся, в частности, в антите-
зе (или относительной взаимозависимости) вербального и визуального.
История могла быть представлена как в произвольной и внешней фонети-
ческой форме (нарративе), так и материальной средой, которая не просто
каким-то образом «напоминает» историю, а реально представляет ее24.
В XIX веке функция исторической репрезентации (романы, карти-
ны, музеи, спектакли) заключалась в том, чтобы конкретизировать ис-
торию прошлого как определенный репертуар специфических истори-
ческих различий. Нарратив прошлого был представлен через множество
образов, которые имеют свою собственную материальную форму и свое
собственное местоположение в пространстве (в комнате музея, или ме-
жду страницами иллюстрированной книги). Бэнн указывает на реальное
проявление опыта истории настолько, насколько он может быть репре-
зентирован. С его точки зрения «с эпохой начала XIX века люди вдруг
стали осознавать, что для того, чтобы увидеть то, на что было похоже
прошлое, нужно вспомнить о таких домашних вещах, как мебель... Ме-
бель функционирует как своего рода сдвигающее устройство, транс-
формирующее границы между нашим настоящим и окружающей сре-
дой или обстановкой... На каких стульях сидели тогда? И это очень
понятная тенденция, которая была сформирована одновременно в лите-
ратуре, такими людьми как Проспер Мериме, в музеях, таких как Музей
де Клюни, не говоря уже о таких художниках, как Ричард Паркс Бо-
нингтон. Все они старались реконструировать место действия как нечто
23 Bann S. History as Competence and Performance: Notes on the Ironic Museum //
A New Philosophy of History / Eds. E. Ankersmit and H. Kellner. Chicago, 1995. P. 195-
211. Бэнн отсылает здесь к дихотомии competence/performance, введенной в лин-
гвистике Н. Хомским. «Компетенция» обозначала знание системы языка, а перфор-
манс - владение им в реальных ситуациях общения.
24 Как замечает М. Липовецкий, «перформанс всегда связан с трангрессисй -- с
пересечением и подрывом символических границ». См.: Липовецкий М. Указ соч.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или bilding-npoyecc?
51
независимое от акторов»25. Эти рассуждения воспроизводят одну из
важных характеристик перформативной идиомы исследования исто-
рии - роль нечеловеческих сущностей в отправлении действия. Но Бэнн
все-таки понимает концепт перформанса в исторической науке как ва-
риант «спектакулярного» действия. Он обращает внимание на француз-
ского писателя XIX века Пьера Лоти, который декорировал свой дом
как стилизованные под определенную историческую эпоху комнаты:
комната в стиле Ренессанса, средневековая «Готическая», «Ближнево-
сточная», «Китайская». При открытии, например, «Средневековой» ком-
наты Лоти организовал банкет, на котором гости были одеты в соответст-
вующие одежды, пели песни менестрелей. Перформативность здесь
создает некое карнавальное пространство, связанное с конкретным исто-
рическим контекстом. Восстанавливая определенную историческую сре-
ду таким способом, история как дисциплина, призванная изучать про-
шлое, предстаёт и как момент познания, и как момент перформанса.
Собственно, в этом и воплощается суть эмпатической эпистемологии.
Другой историк, Пол Каннертон стремится порвать с концепцией
памяти как с определенным множеством интеллектуальных процедур и
концентрирует внимание на исследовании телесных практик памяти
(жесты, улыбки, положение тела в пространстве в ходе отправления
культовых обрядов и коммеморативных церемоний) как механизмов
сохранения «социально-традиционной» памяти. С его точки зрения, че-
рез действия тела память не только презентирует себя, но и реально
действует. «Перформансы функционируют как витальные акты перено-
са, передачи социального знания, памяти и чувства идентичности через
многократно повторенное поведение», - комментируя Каннертона, пи-
шет Дайана Тейлор2 .
Кроме обращения к перфомансу непосредственно (музей, «живу-
щая» память и пр.) и выбора своеобразного угла зрения в историческом
исследовании (акцент на анализе телесных практик, нечеловеческих
сущностей как акторов), историк может писать и перформативный
текст, в котором никакого «визуального ряда не нужно - текст устроен
так, что замещает собой зрелище, одновременно продуцируя зрелищные
эффекты»27. Рассуждая о некоторых теоретических аспектах работы
историка, Р. Барт в работе «Дискурс истории» писал: «В общем и целом
исторический дискурс знает две формы вступления: во-первых, это
25 Domanska, Ewa. Stephen Bann H Encounters... P. 244.
26 Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in
Americas. Durham, 2003. P. 45.
27 Липовецкий M. Указ. соч.
52
Историческая эпистемология сегодня
перформативное введение, где речь представляет собой в полном смыс-
ле слова торжественно-основополагающий акт; образец подобного вве-
дения дает поэтическая формула “пою...”»28 *.
В отличие от нормативных текстов (исторических нарративов, вы-
полненных в позитивистской манере Wissenschaft), перформативный текст
в Bildung рассматривается «не с точки зрения истинности исторического
повествования, но с точки зрения аутентичности саморепрезентации»
языковой личности историка и сам является действием . Его композиция
“заражает” читателя лексическими повторами, подобно речи древнего
мудреца, риторическими жанрами (клятва, присяга, заговор), и вовлекает
его в действие, произвольно располагая читателя в разных точках своего
пространства. Даже «заглавие перформативного текста указывает нс на
то, о чём этот текст, но на действие, совершаемое этим текстом. Одновре-
менно оно указывает на то, как следует читать и понимать текст. Перфор-
мативные тексты основаны на возможности совмещения на одном знако-
вом материале двух функций: ретроспективной (описание) и
проспективной (предписание)»30. При этом перформативность в истории
берется, конечно, в ее «мейерхольдовском» значении, когда историче-
ское исследование рассматривается как особый креативный механизм,
способный, в общем-то, из ничего (мебель, стулья, песни, танцы, язык
историка плюс телесные практики) создавать новые значения.
В этой связи, к перечню характеристик перформативного поворо-
та, перечисленным Э. Доманской, можно добавить понятие семиофор-
ности. Согласно теории франко-польского исследователя Кшиштофа
Помиана, все предметы делятся на два класса - утилитарные (имеющие
пользу) и семиофоры (без пользы, но со значением). Особенность семи-
офоров заключается в том, что они принципиально исключены их прак-
тической деятельности. Всех людей можно условно разделить на «лю-
дей-вещей», для которых все предметы наделены только утилитарной
полезностью, и «людсй-семиофоров», для которых вещи наделены нс-
28 Барт Р. Дискурс истории // Р. Барт. Система моды. Статьи по семиотике
культуры. М., 2003. С. 429.
25 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2.
С. 37.
30ГрязноваЮ. Б. Перформативные тексты в истории пауки. Автореф. дисс...
к. филос. н. М., 1998. Грязнова приводит в пример работы П. Фейрабснда «Против
метода» как перформативного текста и Гадамера «Истина и метод» как описатель-
ного. В качестве примера историческою текста, обладающего свойством перформа-
тива, можно взять некоторые тексты Ж. Батая, С. Шамы. Они выполнены в жанре
своего рода “научной юры”. Историки исследуют также такие перформативные
тексты как инаугурационные речи.
М. А. Кукарцева. История: wissenschaft и/или bilding-npoyecc?
53
распознанным значением31. Перформативный поворот в истории помо-
гает выявить семиофоры среди других людей и предметов и превращать
в семиофоры утилитарные предметы. В этом смысле перформативный
поворот можно рассматривать как оборотную сторону антропологиче-
ского поворота в историографии с его микроисторией и «историей сни-
зу». «Люди-семиофоры» - это, например, Меноккио.
В репрезентационной историографической идиоме в качестве моде-
ли или метафоры изучения истории выступают визуальные искусства. В
перформативной эта метафора претерпевает некоторые изменения: визу-
альность здесь проявляется в новом «жестовом» прочтении, представлен-
ная так называемым спектакулярным искусством с его акциями, перфор-
мансами и телесными практиками (body art)32. Как в эпоху линг-
вистического поворота история тесно сблизилась с литературой, так в
перформативном повороте историки сближаются с искусством, транс-
формируясь в своего рода перформеров и акционистов. Тело становится
текстом. Лингвистический поворот в своём излете обозначил факт «непе-
рсдаваемости» только на вербальном или письменном уровне некого
внутреннего ощущения истории (исторического опыта, по Ф. Анкер-
смиту) и призвал обратиться к презентации33. Историк-перформер создает
модель исторического «действия» (как в музейном или зрелищном вари-
анте, так и в перформативном тексте), результатом которого является оп-
ределенное состояние читателя-зрителя-участника, сопереживающего это
действие и вовлеченного в него. К таким историческим перформансам
можно отнести чтения собственных текстов Э. Радзинским^ который во
многих своих интервью подчеркивает; что считает себя, прежде всего ис-
ториком, а уж потом писателем. Здесь история как Bildung-процесс вводит
субъекта в историю и открывает её для него.
Безусловно, многое из теоретического аппарата перформативного
поворота, который, к тому же, не до конца продуман и осмыслен, может
показаться историкам не заслуживающим внимания: всё-таки старые,
проверенные временем методы исторической работы в целом пока не
вызывают сомнений34. Деррида как-то сказал, что «перформатив не иг-
31 Такие люди часто являются героями истории, хотя мы и не считаем их тако-
выми.
32 Абалакова Н. Языки тела (synergia-isa.ru/wordpress/wp-content/iiploads/
2008/12/abalakova_y azykytela.doc).
33 См. об этом, например: Шустерман Р. Мыслить через тело: гуманитарное
образование // Вопросы философии. 2006. № 6.
34 Перформативный поворот по-разному трактуется в исторической дисцип-
лине, например, как изучение поведения людей в непредвиденных ситуациях. См.:
54
Историческая эпистемология сегодня
рает той первостепенной роли, какую ему обычно отводят. Событие не
может быть перформативным. Перформатив предполагает строгое со-
блюдение некоей заранее заданной, неподвижной условности»
(Дж. Батлер писала об этом как о «неодолимой форме пола»), а события
текут и изменяются, иначе они не были бы нарративом, сюжетным тек-
стом35. Перформатив, кроме того, возрождает старые дискуссии о про-
блеме референциальности и истины в истории. Но все те изменения в
нашей жизни, о которых шла речь в начале статьи, все те новые методо-
логические приемы и подходы, которые предложены социально-
гуманитарным знанием за последние тридцать лет в целях осмысления
этих изменений, нс могут обойти историческую дисциплину стороной.
Сформированные в эпоху post-post-mo новые темы исторических
исследований требуют свежих методологических идей. Можно утвер-
ждать, что перформативность как один из концептов исторической эпи-
стемологии, сегодня входит в исторические исследования. Другое дело,
как с этим быть дальше: относиться как к руководству к действию и
применять принципы перформативного поворота в своей работе, или
как к аналитическим выкладкам, которые ничего не говорят о том, что
конкретно надо делать. Я думаю, что в том или ином качестве, но в кон-
тексте функционирования истории как Bildung-процесса, некоторые
описанные выше характеристики перформативного аппарата исследо-
ваний всё-таки будут востребованы, потому что перформанс и перфор-
мативность пробуждают экзистенциальные аспекты человеческого по-
знания (истории) в противовес нашей любви к научным фактам как
неопровержимым аргументам.
Burke Р. Performing History: the Importance of Occasions // Rethinking History. 2005.
Vol. 9.N l.P. 35-52.
35 Деррида Ж. Рапа истины или противоборство языков// Отечественные за-
писки. Журнал для медленного чтения. 2004. №5(19). http://www.strana-
oz.ru/?numid=20&articlc=962.
3. А. Чеканцева
«НАРРАТИВНОЕ» ВРЕМЯ ИСТОРИКА
«Время становится человеческим временем в той
мере, в какой оно нарративно артикулировано, а
нарратив обретает свое полное значение, когда
он очерчивает особенности временного опыта».
(Поль Рикёр)
( В современном научном познании время и нарратив тесно связаны
'•между собой и в таком взаимодействии весьма актуальны1. Философы
даже говорят о «смещении центра научного интереса с классической,
оптической парадигмы, господствовавшей в науке начиная с Декарта и
Лейбница, к нарративной»2; в ее основе - открытие квантовой физикой
начала XX в. неустранимой роли наблюдателя в познавательной дея-
тельности, междисциплинарное исследование перформативной роли
языка, прогрессирующая антропологизация познания, а также все более
отчетливое присутствие во всех его сферах исторического измерения.
Историки всегда знали, что «история пишется», однако историче-
ский рассказ довольно долго ассоциировался исключительно с хроноло-
гическим временем, внешним по отношению к происходящему. Такое
понимание рассказа соответствовало линейному восприятию времени,
которое в практике историописания редуцировалось к хронологии: в
позитивистской традиции текстуализация материала в хронологической
последовательности - основополагающая дисциплинарная норма.
Переосмысление времени и языка историка в пространстве исто-
рического нарратива начинается лишь в период расцвета структурализ-
ма и семиотики (1960-1970-е гг.), выявляя и обостряя сложнейшие про-
блемы исторического познания. Очень точно об этом написал Р. Барт в
1 Философы, филологи, социологи убедительно показали, что исследователь-
ские и экспериментальные возможности нарратива органично переплетены с измен-
чивой реальностью человеческих поступков и сознаний: Женетт Ж. Фигуры. В 2-х
т. М., 1998; Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001;
Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь, 2001;
Трубина Е. Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. Екатеринбург, 2002;
Шмидт В. Нарратология. М., 2003; ТроцукИ. В. Нарратив как междисциплинарный
методологический конструкт в современных социальных науках И Вестник РУДН.
2005. № 6-7. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/rudn/msg/ 206068.html.
2 КлеоповД. А. Нарративная теория антропологического времени и смена па-
радигм. Доклад на заседании семинара «Феномен человека и его эволюция в дина-
мике» 17.01.2007. URL: http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/ kleopov_narrativ.html.
56
Историческая эпистемология сегодня
середине 1960-х гг.: «принижение (если не полное исчезновение) пове-
ствования в нынешней исторической науке, стремящейся вести речь не
столько о хронологиях, сколько о структурах, означает нечто большее,
чем просто смену школы: это полная перемена идеологии; историческое
повествование умирает, потому что знаком Истории отныне служит не
столько реальность, сколько интеллигибельность»3.
Ученые по-разному осмысливают проблематику исторического
нарратива. Например, филологов интересуют проблемы поэтики исто-
рических текстов, связанные с историческим воображением, психологов
занимают нормы и субъективность; мысль историка, склонного к теоре-
тической рефлексии, развертывается на уровне исторической дисцип-
лины и ее идентичности, в то время как мысль философа пульсирует в
пространстве герменевтики исторического сознания. Не менее сущест-
венны различия в восприятии времени. Историки науки показали, что
каждая дисциплина выстраивает свои отношения со временем и консти-
туируется этими отношениями. Но и в рамках одной дисциплины по-
стижение времени - это всегда индивидуальный акт, в котором дают о
себе знать не только дисциплинарные конвенции, но и уникальный
опыт исследователя. В частности, историописанис представляет собой,
помимо прочего, воплощение темпоральной индивидуальности истори-
ка, хотя она неизбежно вписывается в темпоральность конкретной
группы, а в пределе и всего социума. Любопытно, что понятие габитуса
у П. Бурдье тоже имеет временное измерение: «габитус это присутствие
прошлого в настоящем, которое делает возможным присутствие на-
стоящего в будущем»4. Настоящее, таким образом, предстает как поле
возможностей. В историческом исследовании органическая связь на-
стоящего с прошлым позволяет соединить событие и «структуру», опи-
сывая специфические условия, которые это соединение обеспечивают.
Обширное пространство рефлексии о формах и функциях наррати-
ва в культуре пока слабо обжито историками. Отчасти это объясняется
тем, что нарратив оказался в центре дискуссий о научном статусе исто-
рической дисциплины в связи с вызовами «лингвистического поворота»
и постмодерна5. Отчасти тем, что историки плохо знакомы с основами
3 Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры.
М., 2003. С. 441.
4 Bourdieu Р. Meditations pascalienncs. Paris, 1997. Р. 251.
5 Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив // Одиссей. Человек в ис-
тории. М., 1996. С. 11-24; Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой
культурной и интеллектуальной истории И Там же. С. 25-38; Стоун Л. Будущее
истории // THESIS. 1994. № 4.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
57
литературной теории и дискурсивного анализа, давно освоенного фило-
логами. В нашей стране повествовательные приемы изложения истории
в основном изучают «литераторы»6. Во Франции этот сюжет все более
привлекает внимание историков. При этом в поле профессиональной
рефлексии все чаще попадает тема времени, ибо нарратив, по общему
мнению, это «хранитель времени» (le gardien du temps). Французский
историк П. Карон даже назвал исторический текст «временем слов»7.
За последние сто лет историческая дисциплина, осмысливая свою
«научность», прошла путь от эпистемологии естественных наук (пози-
тивизм) к историзации сначала объекта, а затем и субъекта историогра-
фии. Сегодня ученых занимает вопрос о том, каким образом происходит
слияние объекта и субъекта в уникальном историческом опыте8. Глубо-
кая трансформация историографии сопровождалась настойчивыми по-
пытками историков осмыслить специфику исторического времени и
соотношение модусов темпоральности в истории и в ремесле историка.
Присмотримся, каким образом это происходило во Франции.
Отношения философии и истории никогда не были простыми9.
Философы, размышляющие об истории, за редким исключением, мало
или поверхностно читают историков и склонны рассуждать о гомоген-
ном историографическом дискурсе, которого на самом деле никогда не
существовало10. В результате даже историки, озабоченные обновлением
своей дисциплины, критически относятся как к философии истории, так
и к истории философии. Подавляющее большинство историков верят в
историю как объективную науку, у которой есть проверенные правила,
обязательные для исполнения. Основы такой науки во Франции лучше
всего сформулированы в знаменитом учебном пособии Ш.-В. Ланглуа и
Ш. Сеньобоса11, которое до сих пор считается образцом дидактической
6 Некоторые аналитики полагают, что есть основания говорить о появлении но-
вого жанра - филологии истории. См., например: История и повествование. М., 2006.
7 Caron J.-С. Conclusion. Le temps des historiens ou regards sur le passe// Revue
d'histoire du XIXe siecle, 25|2002, [En ligne], mis en ligne le 29 juin 2005. URL:
http://rh19.revues.org/index421 .html.
8 KoselleckR. L’experience de 1’histoire. Paris, 1997 ; Agamben G. Infancy and His-
tory: Essays on the Destruction of Experience. L.; N.-Y., 1993; Анкерсмит Ф. P. Возвы-
шенный исторический опыт. M., 2007.
9 См.: Chartier R. Philosophic et histoire: un dialogue // L’histoire et le metier
d’historien en France 1945-1995 / Dir. par F. Bcdarida. P., 1995.
10 Имплицитно почти всегда имеется в виду позитивистская или историцист-
ская модель историописания.
11 Langlois Ch.- V., Seignobos Ch. Introduction aux etudes historiques. Paris, 1897.
Рус. пер.: Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004.
58
Историческая эпистемология сегодня
ясности, связности и убедительности12. Однако с начала XX в. в недрах
дисциплины шли жаркие «бои за историю», в ходе которых француз-
ские историки-новаторы, эмпирически осваивая новые объекты, посте-
пенно меняли устоявшиеся представления об основах профессии.
Историки всегда экспериментировали с текстуализацисй материа-
ла, но теоретическое осмысление проблематики нарратива во Франции
позднее, чем в других странах, инициировал П. Рикёр13. Впрочем, ре-
цепция его исследования «Время и рассказ»14 была подготовлена поле-
микой первой половины 1970-х гг. между П. Веном и М. де Серто15. Вен
в своем эссе по исторической эпистемологии представил историогра-
фию как «правдивый роман»16. Серто противопоставил номиналистской
позиции историографию как совокупность культурных практик, пред-
ложив называть все, что делают историки, «историографической опера-
цией». Материальное воплощение эти практики находят в пространстве
письма. Место производства такого письма, по мысли ученого, отлича-
ется рядом особенностей. Оно, так или иначе, контролируется властью,
предполагает определенное «техническое» доминирование над всем,
что относится к социальным стратегиям, вовлечено в игру с авторитет-
ными у публики символами и ориентирами17. В этой ситуации, которая
всегда оказывается вписанной в текст, труд историка отсылает к орга-
12 Сформулированные в этом пособии правила относительно построения исто-
рического текста сводились к следующему: а) история пишется но источникам;
б) исторический материал следует излагать непременно в хронологической последо-
вательности; в) историк должен избегать «литературных излишеств», писать в соот-
ветствии со строгим научным стилем... Историография, основанная на этих прави-
лах, была пропитана духом объективизма, в основе которого лежало разделение
канувшего в лету прошлого и современности, в которой историк занимается своим
делом. Признание дистанции между прошлым и настоящим было условием рекон-
струкции ушедшего прошлого. Отсюда весьма скептическое отношение к недавней
истории, а некоторые историки (и не историки) до сих пор полагают, что не может
быть истории настоящего времени.
13 Revel J. Rcssourccs narratives ct connaissancc historique// Enquete. 1995. N 1.
P. 43-70.
14 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1-3. М., 2000. (Le Seuil, 1983-85).
15 Certeau М. de. L’fieri ture de 1’histoire. P., 1973. Преждевременно ушедший из
жизни М. де Серго (1925-1986), по свидетельству Ф. Досса, был заново откры т в со-
обществе французских историков лишь осенью 2002 года благодаря переизданию
основных его книг и публикации нескольких специальных монографий о нем. Сегодня
М. де Серто - признанный мэтр французской интеллектуальной мысли ХХо века.
16 Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии [1971]. М., 2003.
17 Certeau М. de. Op. cit.; Certeau M. de. Une epistemologie de transition; Paul
Vcyne //Annalcs. E.S.C. 1972. A. 27. N 6. P. 1317-1327.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
59
низованной силе, во многом определяющей условия его профессио-
нальной деятельности. Но в практиках письма, неизбежно воспроизво-
дится «рациональный инструментарий процедур», способный изменять
расстановку сил в месте производства исторических текстов. Иными
словами, несмотря на зависимость историка от конвенциональных норм
профессии всегда есть исследователи, открывающие новые пути для
вопрошания, что, в конечном счете, приводит к трансформации устояв-
шихся профессиональных норм. Это касается всех аспектов «историо-
графической операции»: собственно поиска, связанного в терминологии
Рикёра с «документальной фазой» ремесла историка, процесса истори-
ческого объяснения/понимания, воплощением которого является дис-
курсивное содержание исторического нарратива, а также «фазы истори-
ческой репрезентации», текстуализации материала, содержательно
включающей в себя две первых. Придуманное Серго в 1970 г. словосоче-
тание faire de 1 Tiistoire стало не только названием известной трилогии18,
но и эмблемой «новых историков». В этом названии, помимо признания
значительной рож исследователя в производстве исторического знания,
воплощено понимание перформативности письменной фазы историогра-
фической операции. Иными словами, этим историкам было свойственно
характерное для литературной теории понимание слова как дела.
Размышляя о специфике историописания, Серто обратил внимание
историков на то, что они недостаточно чувствительны к проблематике
исторического времени. Разумеется, историки знали определение
М. Блока: «история - это наука о людях во времени». Но для практи-
кующего большинства время оставалось «немысжмым» истории19.
«Подменяя познание времени знанием о том, что существует во време-
ни», историография, по мысли Серто, заслоняется от «грозных вопро-
сов, порожденных ее природой», замещая их «.непроясненным трудом и
делая вид, что этим на них отвечает. Но вытесненное постоянно воз-
вращается...» (курсив мой - 3. Ч.)20. В частности, не осмысленная
должным образом «временность... задает пустую рамку линейной по-
следовательности, которая самой своей формой и отвечает на вопрос о
начале, и соответствует требованию упорядоченности. Поэтому она не
столько результат исследования, сколько его условие: априорная канва
в две нитки, по которой историческая вышивка может продвигаться,
18 Faire de 1’histoire // Le Goff J., Nora P. (dir.).T. 1-3.P., 1974.
19 Certeau M. de. Une epistemologie de transition...
20 Серто M. де. Разновидности письма, разновидности истории. Введение к
монографии «История как письмо» (1975) // Логос. 2001. № 4 (30).
60
Историческая эпистемология сегодня
попросту заштопывая дыры»21. Получается, что время поддерживает
«речь» историка, не являясь предметом специального анализа.
Спустя десять лет Э. Винь, рецензируя монографию К. Помьяна
«Порядок времени», в которой автору удалось показать наличие неустра-
нимой множественности времен в истории22, писал о том же. «Француз-
ские историки в целом недооценивают или даже игнорируют эту важ-
нейшую проблему времени, надеясь, что прирост знаний может
обеспечить возвращение к хронологическому рассказу и биографическо-
му письму.. ,»23. Совсем недавно ту же мысль конкретизировал Ф. Артог:
«Время стало настолько обыденным, что историография натурализовала
и инструментализировала его. Оно не было осмыслено, не потому, что
осмыслено быть не может, но потому, что этим не занимаются или, про-
ще говоря, о нем и нс думают»24. Однако наличие такого рефрена в ин-
теллектуальном дискурсе не означает, что время совсем выпало из поля
зрения французских ученых. Напротив, в XX в., по мере антропологиза-
ции исторического познания и усложнения исследовательских процедур,
самые талантливые историки много размышляли о времени и пытались в
«материале» преодолеть философские апории темпоральности.
Прежде всего, историки вслед за философами и социологами обос-
новали мысль, что историческое время - это время человеческое, соци-
альное. Всматриваясь в исторического человека, они стали интенсивно
изучать представления о времени в контексте истории ментальностей,
показав в многочисленных конкретно-исторических исследованиях, как
эти представления менялись от века к веку, от одной культуры к другой.
Исследуя историю повседневности, они пришли к заключению, что вос-
приятие времени сильно различается в поколениях. Микроистория позво-
лила понять, что даже внутри одного поколения темпоральные установки
могут различаться, более того, они неизбежно не совпадают у разных лю-
дей: сколько людей, столько индивидуальных тсмпоральностсй.
Важным моментом на этом пути стало новое понимание событий-
ности. Традиционно мыслящий историк, реконструируя то или иное
событие, озабочен преимущественно доказательством объективности
фактов и выяснением их места и связей. То, что историографическая
21 Там же.
22 Pomian К. L'Ordre du temps. Р., 1984.
23 Vigne Е. Le temps de 1'histoire en question // Vingtieme Siecle. Revue d'histoire.
1985. T. 6.N l.P. 131-140.
24 Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности И Неприкосновенный
запас. 2008. № 3 (59).
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
61
операция была помещена между языком прошедшего и языком иссле-
дователя, по мысли Ф. Досса, стало «своеобразным уроком совершен-
нолетия для историков», который способствовал радикальному измене-
нию традиционной концепции события. Например, когда Серто писал
по горячим следам по поводу мая 1968 года, что это «событие является
не тем, что можно увидеть или узнать о нем, но тем, чем оно становится
(в первую очередь для нас)», он тем самым приглашал обращать внима-
ние на «следы» события, оставленные с момента его возникновения,
выясняя каким образом они конституировали его смысл (всегда откры-
тый)25. По сути, это было предложение подумать, как включить в иссле-
дование события память и историю, привычное разделение которых,
идущее от М. Хальбвакса, к тому времени уже было проблематизирова-
но. Первым по этому пути пошел Ж. Дюби в своей книге о Бувинском
сражении26. Он не просто реконструировал то, что имело место 27 июля
1214 года (для него в тот день по большому счету не случилось ничего
действительно важного). Произошедшее в это воскресенье стало значи-
тельным событием лишь благодаря тем волнам памяти, в которые оно
оказалось вовлечено. Метаморфозы этой памяти в книге Дюби - такой
же объект изучения, что и однодневное событие, о котором сообщают
источники. Через несколько лет Ф. Жутар установил существование
нескольких традиций восприятия травматического опыта восстания ка-
мизаров в Ссвеннах и его жестокого подавления27. В частности, начатая
историком в 1967 г. историко-этнографическая анкета коллективной
памяти севенольского крестьянства, выявила наличие глубоко укоре-
ненной, хотя и подавляемой, устной традиции рецепции этих событий.
Книга Жутара показала, что «историографический поиск не может быть
отделен от исследования коллективной ментальности»28.
Эти конкретно-исторические работы справедливо считают пред-
вестниками известного проекта П. Нора о «местах памяти»29, который
требует специального анализа. Приведем здесь только одну емкую ха-
рактеристику этого успешного предприятия: «места памяти» - это од-
новременно «диагностика и программа, касающаяся как эволюции и
25 Dosse F. Michel de Certeau: un historien de Faltdritd. Texte inedit, conference a
Mexico, sept. 2003. URL:http://www.ihtp.cnrs.fr/historiographie/sites/historiographie/
IMG/pdf.
26 Duby G. Le dimanche de Bouvines. P., 1973.
27 Joutard Ph. La legende de camisards, une sensibilite au passe. P., 1977.
28 Ibid. P. 356.
29 Les Lieux de memoires / Dir. P. Nora. 7 t. P., 1984-1992.
62
Историческая эпистемология сегодня
будущего историографии, так и изменения отношений с нацией»30. По
своей темпоральной структуре память является точкой соединения
прошлого/настоящего и своеобразным местом встречи живых и мерт-
вых. Являясь существенной составляющей индивидуальной и коллек-
тивной идентичности, она предполагает «присутствие отсутствующе-
го», что характерно и для истории, занятой вопрошанием
отсутствующего Другого. Как один из инструментов социальной связи,
память уже несколько десятилетий привлекает внимание историков,
которые относятся к ней подобно психоаналитикам. Все яснее осозна-
вая себя как науку об изменениях, история, всматриваясь в феномен
памяти, использует полученное знание для того, чтобы лучше понять
процессы трансформаций, возрождений и реставраций в разрывах про-
шлого31. Речь идет о том, чтобы включить историографию в исследова-
тельский метод, сделать ее способом осмысления истории, понимаемой
как учет «сложной многомерности настоящего» (Лев Гудков)32.
Относительно новая для историков тема опыта также связана с
проблематикой исторического времени и нарратива. «В основе истори-
ческого времени, - пишет современный философ, - может лежать толь-
ко время антропологическое. У каждого человека есть опыт события, и
есть умение “обращаться” с событием, когда оно уходит в прошлое. Со-
бытие можно помнить или забыть, воспринимать обособленно или в ка-
ком-либо контексте, наделить смыслом или, напротив, считать “ничего не
значащим”, оно может вызывать или не вызывать какие-то чувства... Ес-
ли основополагающий тезис нарративистов звучал “прошлое структури-
ровано, как нарратив” (ср. “бессознательное структурировано, как язык” у
Лакана), то тезис поборников исторического опыта - “всеобщая история
структурирована, как личная”»33. Исторические исследования, написан-
ные в жанре микроистории, истории повседневности или истории мен-
тальностей, удивляют непосредственностью, с которой прошлое «заявля-
ет о себе». Авторы таких исследований с помощью ряда приемов
осовременивают «прошлое», добиваясь эффекта «историзации настоящс-
30 Garcia Р. Les lieux de mcmoire, une poctique de la memoire? // Espace/Temps.
2000. N 74/75.
31 Dosse F. Historiser les traces mdmorielles. Conference prononce a Tallin en no-
vembre 2005 // URL: http://www.eurozine.com/articles/2006-07-03-dosse-fr.html.
32 См. также: Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?»
(1995) //«Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А. Я. Гуревич,
С. И. Лучицкая. М., 2002. С. 147-168.
33 КлеоповД. А. Проблема времени в историографии// URL:http://www.
chronos. msu.ru/RREPORTS/kleopov_vrcmya.html.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
63
го»34. Опыт прошлого, описанный в этих работах, содержательно не
очень отличается от повседневного опыта современного читателя35. При
этом ни столь необходимой в классическом историческом анализе цело-
стности образа прошлого, ни темпоральной дистанции как обязательного
условия такой целостности в подобных работах, как правило, нет.
В интеллектуальной атмосфере «критического поворота» 1980-х
годов основным референтом исторического познания становится соци-
альное действие. В поисках новых средств, позволяющих понять участ-
ника исторической драмы без детерминистской редукции, историки
вновь усилили внимание к темпоральным аспектам человеческого су-
ществования и приемам их репрезентации. Впрочем, уже в 1930-е годы
во всех сферах познания были предприняты попытки порвать с тради-
цией мышления, не способной соединить время с ритмами «жизни»36.
Во французской историографии такая попытка нашла самое продуктив-
ное воплощение в «духе Анналов». Содержание этого трудноуловимого
явления, которое по выражению Н. В. Трубниковой характеризовало
«стиль профессионального участия», чаще всего пытаются показать,
используя понятие «парадигма». Однако до сих пор оно остается весьма
загадочным. Быть может, понятие «ментальная атмосфера», введенное в
научный оборот основателями «Анналов», в данном случае будет более
полезным? Во всяком случае, именно работа с этим не поддающимся
определению понятием позволила французским историкам-новаторам
наполнить историю другим воздухом, выявляя пределы возможного и
невозможного как в тех конкретных предметных областях, которые они
изучали, так и в ремесле историка. Представляется, что базовыми прин-
ципами этого «стиля» на протяжении 80-летней истории движения
«Анналов» были: неутомимый поиск новизны (принципиальная откры-
тость новому), взаимодействие с другими дисциплинами (по-разному
понимаемая междисциплинарность), рефлексивный подход к тому, что
делаешь (без этого реализация первого и второго была бы невозможна).
Эти принципы обнаруживаются уже в первый период существования
журнала, в том числе в трудах его основателей. Позднее, в меняющихся
34 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007; Олейников А.
Микроистория и генеалогия исторического опыта И Казус. Индивидуальное и уни-
кальное в истории. 2006. Вып. 8. М., 2007. С. 379-393.
35 Возможно, в этом заключается одна из причин небывалой популярности та-
ких работ у читающей публики.
36 Gattinara Е. С. Les inquietudes de la raison. Epistemologie et histoire en France
dans Fentre-deux-guerres. P., 1998.
64
Историческая эпистемология сегодня
конкретно-исторических условиях в ходе исследовательской практики
они наполнялись новым содержанием (тематическим, эпистемологиче-
ским, концептуально-аналитическим)37. В то же время, именно история
ментальностей во французской историографии XX века была тем «мо-
тором», который во многом определял стратегические векторы иннова-
ционных процессов, связанные с такими проблемами ремесла историка
как истина, соотношение индивидуального и коллективного, человека и
среды, понимание мира идей, идеологий, воображаемого, роли историка
и источника в историческом исследовании.
Проблематика исторического времени, как известно, занимала
важное место в трудах М. Блока и Л. Февра. В частности, основатели
«Анналов» обратили внимание историков на необходимость переос-
мыслить проблему соотношения прошлого и настоящего38 39. Это позво-
лило лучше понять роль историка как познающего субъекта и задавать
источникам такие вопросы, которые современники просто не могли
сформулировать. Такой подход получил широкое распространение, и
лишь совсем недавно историки его проблематизировали, осознав, что
необходимо более основательно изучить напряжения между основными
модусами времени. В частности, Б. Лепти, один из авторов книги о тем-
39
поральности городов , полагал, что «историческое время всегда реали-
зустся в настоящем». «Можно было бы сказать, — уточняет историк, -
что в настоящем находится центр гравитации времени, если бы метафо-
ра не предполагала, что время обладает пространственной протяженно-
стью»40. Иллюстрируя эту мысль, он цитирует одного инженера середи-
ны XIX века, который писал: «современное состояние города
репрезентирует все остальные его состояния и виртуально выражает
совершенным способом все его прошлое»41. Это означает, что заряд
темпоральности находится в настоящем. Нетрудно уловить в этом раз-
мышлении историка влияние феноменологии Э. Гуссерля, который по-
лагал, что именно в «Теперь» (Настоящее в его теории времени), соеди-
няется ретенция (Прошлое) и протенция (Будущее). В своих работах по
37 См. подробнее: Трубникова Н. В. Историческое движение «Анналов»: тра-
диции и новации. Томск, 2007.
38 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд.
М., 1986; Февр Л. Бои за историю. М., 1990.
39 Temporalites urbaines / Coordonne par В. Lepetit et D. Pumain. P., 1993.
40 Lepetit B. Le present de 1’histoire // Les formes de Г experience. Line autre histoire
sociale. Paris, 1995. P. 296.
41 Ibidem.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
65
семантике исторического времени Р. Коззелек42, идеи которого развил во
франции П. Рикёр, ввел в науку антропологические категории «простран-
ство опыта» и «горизонт ожидания», которые открыли перед историками
новые возможности в выявлении человеческого содержания истории. В
последние десятилетия историческое настоящее индивида или группы
определяется как особая форма сопряжения «пространства опыта» и «го-
ризонта ожидания» между прошлым и будущим, которые актуализиру-
ются в форме рефигурации прошлого или проекта43. Представленное та-
ким образом прошлое - это настоящее в состоянии исчезновения.
Длительное время одной из главных опасностей, подстерегающих
историка, считался анахронизм. При этом не только традиционно мыс-
лящие историки так думали. Л. Февр назвал анахронизм «непрости-
тельным грехом историка»44. Сегодня эта опасность представляется от-
носительной: поскольку прошлое осмысливается в настоящем, эти
модусы времени неизбежно смешиваются, а не стоят рядом в опреде-
ленной последовательности. Более того, в работах историков можно
встретить вполне осознанный «методологический анахронизм»45. Пре-
увеличение этой опасности было связано с устойчивой дисциплинарной
верой в то, что историк может объективно осмыслить разрыв между на-
стоящим и прошлым и даже преодолеть его (например, не используя кон-
цептов настоящего). Кроме того, считалось, что он способен реконструи-
ровать реальности прошлого (в его материальном или идеальном
воплощении), получить «правильное», «истинное» прошлое, которое
преодоление разрыва между прошлым и настоящим делает доступным и
представимым в единственно верной интерпретации. Однако постепенно
стало ясно, что подлинная встреча “я” и “другого” осуществляется не че-
рез мир объектов, а в «живом» опыте восприятия, в практике, в слове.
«Время предполагает взгляд на время», - писал М. Мерло-Понти. Но как
осмыслить разрыв между прошлым и настоящим, если наше представле-
ние о времени формируется не столько в мысли, сколько в опыте?
42 KoselleckR. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge
(MA); L„ 1985 [Germ. ed. 1979]. P. 92-104.
43 См., например: Кондратьева T. С. Кормить и править. О власти в России
XVI-XX вв. М., 2009.
'^FebvreL Rabelais ou le probleme de 1’incroyance au XVIe siecle. Paris, 1968.
[1942]. P. 15.
45 См.: Савельева И. M„ Полетаев А. В. О пользе и вреде презентизма в исто-
риографии // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Отв. ред.
Л. П. Репина. М„ 2005. С. 83-84.
66
Историческая эпистемология сегодня
Одним из первых саму идею анахронизма, понимаемого как ошиб-
ка во времени, поставил под сомнение Ж. Рансьер46. Признавая недо-
пустимость перенесения в другую эпоху явлений и объектов, которых
тогда нс существовало, ученый показал, что нет никаких оснований вы-
делять в особый класс ошибки, связанные со временем, ибо мы не знаем
точно, что это такое. Кроме того, сама идея анахронизма порождена
сведением опыта только к возможному, что по сути антиисторично. Не-
гативное понятие анахронизма Рансьер предложил заменить позитив-
ным концептом анахронии, под которым понимается особый способ
связи, проявляющийся в событиях, понятиях, значениях. Этот концепт
может быть полезен историку тем, что, являясь носителем смыслов, не-
доступных исследуемой эпохе, наделен способностью определять неиз-
вестные темпоральные ориентации, обеспечивающие скачок с одной
темпоральной линии на другую.
Развивая идеи Рансьера, Н. Лоро обосновала необходимость «кон-
тролируемого использования анахронизма» и пригласила коллег «иметь
мужество быть историками» и «принять на себя риск анахронизма»47.
Разумеется, при ясном понимании, для чего это делается. Сегодня оче-
видно, что догма анахронизма блокирует сравнительные возможности
историописания и мешает применению в нем психоанализа.
Работы историков новаторов уже первой половины прошлого века
свидетельствуют, что историки стали отдавать себе отчет о различении
календарного и исторического времен. Например, во всех конкретно-
исторических работах Ф. Броделя, начиная с диссертации о Средизем-
номорье, структура которой была ясна уже к 1939 году, хронология ма-
ло занимает автора, приглашающего читателя к осмыслению конкрет-
ных тематических блоков. Мысль ученого свободно передвигается из
настоящего в прошлое/будущее и обратно. Это челночное движение,
безусловно, было новаторством, особенно в конце 1930-х годов. При
этом Бродель не отказывается от повествования, нарратива: дискурс
историка не лишает читателя возможности просто следить за рассказом
о том или ином явлении, процессе, событии.
Календарное время - время астрономическое, однородное, фор-
мальное, непрерывное, количественное, время календарей и часов. Ис-
торическое время - это темпоральное воплощение социального. Время,
46 Ranciere J. Le concept d'anachronisme et la verite de 1'historien// L'Inactuel.
1996. N 6. P. 53-68.
47 lorauxN. Elogc de I'anachronismc en histoirc// Le genre humain. №27. 1993.
P. 23-39.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
67
конституирующее опыт (содержательное, качественное, прерывное,
относительное), неоднородно, гетерогенно, многомерно. Каждая исто-
рическая реальность (процесс, отношение, связь, явление) функциони-
рует в русле только ей присущего исторического времени. У каждого из
исторических феноменов свой ритм, тип частоты, своя периодичность.
Иными словами, за представлением об одной интегральной линейной
хронологии скрывается полихрония - множество содержательно раз-
личных исторических времен. Во второй половине XX в. время больше
не воспринимается как однородная плазма, в которой плавают феноме-
ны, подобно телам в реке, течение которой несет их дальше. Примерно
к середине 1970-х многие историки осознали, что единообразное хроно-
логическое время, представленное в виде абсцисс и графиков или в со-
ставленных ими таблицах дат, это прежде всего инструмент, позволяю-
„ 48
щии упорядочивать исторические явления и сравнивать их .
Различение времени календарного и исторического привело во
французской историографии к своеобразной дехронологизации, которая
была связана также с увлечением синхронией, с принижением события, с
исследованием преимущественно коллективных проявлений социального
в истории, понимаемого в духе Э. Дюргейма и его теории времени. Но эта
дехронологизация оказалась недолговечной. Что не удивительно. Хроно-
логия выполняет очень важные для любого познания функции. В ней ут-
верждается, в частности, представление об эволюции человечества (или
каких-то ее фрагментов), предполагающее необходимость систематиче-
ского исследования прошлого. А также идея об объективном характере
развертывания исторического процесса, не зависящего от его осмысле-
ния. По наблюдению Б. Лепта, эти установки делают «незаинтересован-
ное и констатирующее изложение, целиком занятое выявлением темпо-
ральной координации и описанием подлинных фактов убедительным»48 49.
Функции хронологического времени в историческом нарративе
помогла понять и философия. П. Рикёр, например, взяв у Аристотеля
понятие мимесиса и интриги, показал каким образом, создавая свой
текст, историк ищет некое «третье время», соединяющее темпораль-
ность источников, время нарратора и потенциального читателя5 . По
мнению Рикера51, историки, решая проблему связи субъективного и
объективного времени, «префигурируют» время в различные соедини-
48 La nouvelle histoire / J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. P. 560.
49 Lepetit B. Le present de I’histoire. P. 296.
50 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1-3. М., 2000.
51 Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. [2000].
68
Историческая эпистемология сегодня
тельные устройства. Один из таких важных в ремесле историка посред-
ников - это хронология и даты, второй - глагольные формы в наррати-
ве, использование которых позволяет приблизить прошлое к настояще-
му, т.е. к читателю исторического труда. Кроме того, в историческом
нарративе, как свидетельствуют специальные исследования, много дру-
гих темпоральных маркеров. И французские историки научились ис-
пользовать это обстоятельство в своей работе52 53.
Трудно не согласиться с ироничным замечанием Ж. Ле Гоффа о
том, что «ошейник периодизации» позволяет историкам «успешнее
53
приручать прошлое» , однако помимо календарного времени в истории
существуют темпоральности, внутренне присущие различным процес-
сам. Им свойственны особые ритмы, порожденные специфической при-
родой самих этих процессов. Такое понимание времени истории, как
известно, было введено в науку Ф. Броделем. Множество различных
ритмов и разнородных временных «длительностей» исторической ре-
альности имплицитно присутствует во всех конкретно-исторических
исследованиях Броделя54. Но его концепция времени далеко не сразу
была понята55. Например, эту концепцию нередко связывают с доктор-
ской диссертацией, посвященной Средиземноморью56. Однако, как по-
казал Ж. Нуарьель57, в этом труде концепция времени не главное.
Диссертация Броделя стала событием в истории дисциплины, поскольку
здесь «впервые в историческом исследовании была сформулирована
проблематика идентичности, связанная с герменевтикой, но при самом
строгом соблюдении норм ремесла историка, установленных в конце
XIX века». Преодолевая напряжение между архивом (огромный кон-
кретный материал, собранный за 20 лет) и проблемой идентичности,
52 Schmitt J.-C. Le Temps: «Impense» de I’histoire ou double objet de 1’historien? //
Cahiers de civilisation medievale. 2005. V. 48 (jan-mar.). P. 31-52.
53 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. (Gallimard, 1985).
54 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филип-
па II. Ч. 1-3. М„ 2002-2004; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и
капитализм, ХУ-ХУШ вв. В 3-х т. М., 1986-1992 [1979]; Бродель Ф. Что такое
Франция? Т. 1-3. М., 1994.
55 В нашей традиции Бродель до сих пор плохо прочитан, а эпистемологиче-
ские основания его творчества, включая понимание времени, нуждаются в основа-
тельном переосмыслении.
56 Бродель Ф. Средиземное море...
57 Gerard N. Comment on recrit I’histoire. Les usages du temps dans les Merits sur
I’histoire de Fernand Braudel // Revue d'histoirc du XLXc siccle. 25|2002, [En ligne], mis
en ligne 1c 07 mars 2008. URL: http://rhl9.revues.org/index419.html.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
69
Бродель использовал известные в 1920-1930-е годы представления о
времени, адаптировав их к потребностям эмпирического исследования.
Разнородные «длительности», понимаемые в духе Бергсона, позволяют
Броделю показать, не прибегая к фигуре картезианского субъекта, в ко-
тором разделение на внешнее и внутренне нормативно, каким образом
его особый персонаж - Средиземноморье - конституируется подобно
живому организму во взаимодействии людей и окружающей среды в
границах возможного и невозможного. Понятие longue duree впервые
появилось только в статье 1958 года. И здесь Бродель размышляет о
«длительности» в духе А. Бергсона, но она касается множества людей,
массы. В этой связи ему явно близка концепция времени Э. Дюркгейма,
который не признавал хамелеоновского времени психологов, полагая,
что оно неизбежно подчинено времени социальному. Не случайно, при-
вилегированными обитателями жизненного мира «большой длительно-
сти» были «ментальности», тот неуловимый, но неизменно присутст-
вующий «эфир», который формируется в жизненной практике людей и
одновременно трансформирует эту практику58. Другие конкретно-
исторические исследования Броделя59 убеждают в том, что историк ис-
кал некое «третье время», способное соединить внутреннее и внешнее,
субъективное и объективное. Надо сказать, что в этих поисках Бродель
не был одинок. В том же направлении развивалась социологическая
мысль, языкознание, литературоведение и антропология. В этом же ду-
хе написаны лучшие тексты по истории «ментальностей».
Броделевкая концепция исторического времени несколько десяти-
летий вдохновляла историков, одновременно подвергаясь критике. Ис-
торики марксистской ориентации видели в longue dur ec опасность недо-
оценки событий, в том числе разрывов в истории. Философы упрекали
Броделя в том, что он остановился на полдороге в своих размышлениях
о времени истории и не сумел связать новое понимание исторического
времени с репрезентацией времени космического60. На самом деле,
Бродель, используя понятие «длительности» (duree), размышляет скорее
58 Впрочем, в конце 50-х годов, в поисках общей основы для сотрудничества
наук о человеке, во главе с историей, Бродель наряду с longue duree уделял внима-
ние и «объективному» времени, присущему истории всего человечества. В таком
Качестве время можно было измерить и иерархизировать, так же как и науки о чело-
веке. См.: BraudelF. Histoire et sciences sociales. La longue duree// Annales. E.S.C.
1958. № 4. P. 725-753.
59 Бродель Ф. Материальная цивилизация...; Он же. Что такое Франция?
60 См. подробнее: Leduc J. Les historiens et le temps. P., 1999.
70
Историческая эпистемология сегодня
о способах эволюции, а нс о промежутках времени. В его исследованиях
качественная неоднородность, многомерность социального времени и
длительность хронологических единиц это разные вещи. Поэтому пе-
реводить понятие longe duree как аналог линейной протяженности хро-
нологического периода нельзя61 62. Другие броделевские категории време-
ни (время события, время конъюнктуры) также чаще всего
интерпретируются как более короткий или менее протяженный «пери-
од». Между тем в концепции времени, предложенной Броделем, про-
странственное его восприятие явно нивелируется, хотя именно Бродель,
как известно, сделал необычайно много для того, чтобы категория про-
странства заняла свое место в историческом познании. В его концепции
времени «длительность» определенно заимствована у Бергсона, кото-
рый, вводя это понятие, пытался найти связующее звено между фило-
софией, теоретической мыслью науки и «жизнью». Duree и была таким
«мостом», воплощением «живого» человеческого времени. Однако во-
прос о том, каким образом это время связано со временем социальным,
до сих пор остается открытым. Вот почему историк предупреждал: «.. .в
сопоставлении с другими формами исторического времени та форма,
которую мы называем “longue duree”, оказывается чем-то довольно
сложным. Ввести се в нашу науку очень непросто. Здесь меньше всего
речь идет о простом расширении предмета исследования или области
наших интересов. Да и само введение новых временных параметров
отнюдь не сулит одни лишь блага. Оно влечет за собой готовность ис-
торика изменить весь стиль и установки, направленность мышления,
готовность принять новую концепцию социального. Это значило бы
привыкнуть ко времени, текущему медленно, настолько медленно, что
CZ 62
оно показалось бы почти неподвижным» .
Идея неподвижной, застывшей истории, которую Э. Ле Руа Ладю-
ри на французском материале развил в своей знаменитой лекции в Кол-
леж де Франс63, также была не совсем верно понята64. Но историки по-
степенно начинают осознавать, что время конструируется, как и все
остальные объекты исторического исследования. Кроме того, новое по-
61 В англоязычных текстах понятие longue duree обычно не переводится.
62 Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность //
Философия и методология истории / Coer. И. С. Кон. М., 1977.
63 Le Roy LadurieE. L'histoire immobile// Annales. E.S.C. 1974. A. 29. N3.
P. 673-692 ; Ле РуаЛадюри Э. Застывшая история // THESIS, 1993. Вып. 2.
64 См. подробнее: Burguicrc A Le changement social: breve histoirc d’un con-
cept // Les formes de Гехрспспсс... P. 260-261.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
71
нимание исторического времени во многом обесценило традиционный
философский вопрос - является ли время истории циклическим, лине-
арным или стационарным, поскольку различные топологии времени в
реальностях истории перемешаны, включены одно в другое. Их обсуж-
дение оправдано лишь с логической точки зрения, а историку дает не-
много. Заменив традиционное время истории, сводимое к времени хро-
нологическому, множеством разнородных процессов, обладающих
собственной темпоральностью, историки тем самым проблематизирова-
ли идею всемирной истории, которая начала утверждаться в эпоху Про-
свещения. В то же время, стало ясно, что нет просто истории. Она не-
возможна без прилагательного, ибо всегда речь идет об истории чего-
нибудь: какого-то явления, события, всего, что изменяется. Возможно,
это новое понимание и явилось глубинной основой эффекта «раскро-
шившейся, раздробленной истории», о которой столько написано в ис-
ториографии65. А проблема интеграции этих разных историй в единую
всемирную историю даже в условиях глобализации остается открытой.
После известных эпистемологических поворотов и нового пони-
мания субъектности в истории французские историки отдают себе отчет
в том, что особое внимание к феномену longue durec (как и метафора
этажности исторических планов) мешает осмыслению процессов, по-
средством которых случается новое (Ж. Ревель). Но это не означает, что
идея longue durec уже исчерпала себя. Напротив, в наши дни ее эври-
стическая сила вновь оказывается востребованной, в том числе приме-
нительно к темпоральным сюжетам66.
Изучение поэтики исторической продукции «новых историков»
показывает, что решая задачи эмпирического исследования, они не
только профессионально используют риторические приемы67, но столь
же изобретательно экспериментируют с темпоральными возможностя-
ми нарратива68. В частности, при изложении событий применяются раз-
личные временные системы: например, базовое время рассказа - про-
стое прошедшее, фиксирующее действие, плюс импарфэ (при описании
65 Dosse F. L'Histoire en miettes. Des “Annales” a la “nouvelle histoire”. P., 1987.
66 Schmitt J.-Cl. L’invention de 1’anniversaire// Annales. H.S.S. 2007. N 4. P. 793-
835.
67 См. подробнее: Rancierei. Les noms de 1'histoire. Essai de poetique du savoir.
P., 1992; Carrard Ph. Poetique de la Nouvelle Histoire. Le discours historique en France
de Braudel a Chartier. Lausanne, 1998.
68 Leduc J. Quelques aspects de ГёспШге du temps chez les historiens framjais de la
seconde moitie du XXe siecle// Le temps et les historiens. Revue d'histoire du XIXe
siecle. 2002. 25.
72
Историческая эпистемология сегодня
второго плана), сочетается с другой темпоральной комбинацией, в ко-
торой основное время «нарративное настоящее»69. В первой половине
прошлого века использование нарративного настоящего было доволь-
но редким явлением. Например, такое время встречается в трудах
П. Ренувена и Ф. Броделя. Со второй половины 1960-х годов нарратив-
ное настоящее является базовым временем в диссертациях и моногра-
фиях таких историков как Э. Лс Руа Ладюри, Ф. Лебрен, М. Вовель,
Р. Мандру и др. В 1980-е годы нарративное настоящее в исторических
сочинениях становится практически нормой.
Вторжение настоящего времени в исторический нарратив аналити-
ки представляют как эпистемологический выбор историков, продикто-
ванный стремлением установить определенный тип отношений между
элементами прошлого, которые описываются, и моментом наррации.
Иными словами, это способ преодоления темпорального разрыва между
«историей» (тем, что некогда было) и «историей», которая пишется сей-
час. Возможно, в «университетской истории» сказывается и влияние
разговорного языка, ибо в процессе преподавания активно используется
настоящее нарративное время.
По-видимому, эти изменения в использовании глагольных времен
в нарративе связаны также с тем, что историки в конце 1960-х годов
почувствовали изменения в режиме историчности70. В жизни социума,
утратившего веру в прогресс, на первом плане все чаще оказывается
современность. Одним из проявлений такого изменения стал отмечен-
ный всеми всплеск интереса к памяти и коммеморации. «“Память” при-
няла такой общий смысл и так расширилась, что стремится... заменить
собой слово “история” и поставить практику истории на службу памя-
ти», — пишет П. Нора71. В этих условиях историки озабочены поиском
таких способов историописания, которые позволили бы преодолеть ти-
ранию прошлого/настоящего и найти подходы к овладению будущим72.
Их все больше интересует «не столько генезис, сколько дешифровка
того, кем мы больше не являемся»; не столько ушедшее гомогенное
прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в
69 См. об этом времени в русском языке: Софья Пискунова. Текстовые функ-
ции настоящего нарративного (на материале русского письменного нарратива).
URL: http://www.dialog-2] .ru/Archive/2004/Piskounova.html.
70 Hartog F. Regimes d'historicitc. Presentisme et experiences de I'histoire. P., 2003.
71 Nora P. Pour une histoire au second degri // Le Dibat. 1999. № 103. P. 26.
72 См., например: Шмитт Ж.-К. Овладение будущим// Диалоги со временем.
Память о прошлом в контексте истории // Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.
3. А. Чеканцева. «Нарративное» время историка
73
прерывностях истории. В таких способах написания истории, учиты-
вающих субъективность историка, на первом плане оказывается исто-
риография как практика, позволяющая удовлетворить потребность в
историческом познании и вместе с тем избежать ловушек наивного реа-
лизма по отношению к тому, что познается.
В последние десятилетия размышления о темпоральных аспектах
изучаемых процессов являются важной составляющей исторической
эпистемологии и историографии. Специальная библиография темы ис-
торического времени (только во Франции) насчитывает несколько де-
сятков книг и большое число статей. Причем написаны они историками,
среди которых Ф. Бродель, М. де Серто, Ф. Ариес, К. Помьян, П. Нора,
Ж. Ле Гофф, Ж. де Люк, Ф. Артог, Ж.-К. Карон, А. Корбен, Д. Мило,
Ж.-К. Шмитт и др. Этой теме посвящено множество научных меро-
приятий - конференций, коллоквиумов, круглых столов. Она занимает
значительное место в работах историков, которые считаются новатор-
скими. Наконец, опубликовано немало текстов, где время является спе-
циальным объектом конкретно-исторического исследования. При этом в
интеллектуальной культуре французских историков ясно ощущается
присутствие феноменологии, герменевтики, философии языка, а также
взаимодействие историографии и других наук о человеке. Например, в
историческом познании разрабатывается предложенная антропологами и
социологами идея о том, что «живое» человеческое время (le temps vecu)
- вовсе не причина или условие какого-либо действия: такое время фор-
мируется в процессе коммуникации, являясь важнейшим эффектом прак-
тик. Место производства исторического все чаще связывают с понятием
опыта. А под «историчностью» понимается то, что обеспечивает одно-
временность обстоятельств и способности акторов менять условия, в ко-
торых можно видеть, чувствовать, понимать, читать, писать, общаться с
другими73. В истории, как и в антропологии, описание «репрезентаций
времени» уступило место изучению условий производства и опыта тем-
поральности в конкретных обстоятельствах (intelligence circonstancielle)74.
Историки исследуют время событий: революции, праздника, бунта, сра-
жения; изучают темпоральности города, музея, коллекции, тюрьмы, нар-
ратива, мифа, славы, образа. В центре междисциплинарных исторических
исследований не столько представления о времени в «холодных» или
73 Riot-Sarcey М. Temps et histoire ел debat// Revue dliistoire du XIXe siecle,
2512002, [En ligne], mis en ligne le 25 mai 2005. URL: http://rhl9.revues.org/ index414.html.
74 Bensa A Images et usages du temps // Terrain. N 29. Vivre le temps (septembre
1997), mis en ligne le 21 mai 2007. URL: http://tenain.revues.org/index3190.html.
74
Историческая эпистемология сегодня
«горячих» обществах, в отдельных странах/цивилизациях, сколько «жи-
вое» время конкретных людей в определенных ситуациях. Осмысливает-
ся темпоральный опыт ссыльного, эмигранта, мемуариста, социолога,
математика, историка75. Таким образом, «переоткрыв» в конце 1980-х
годов время, французские историки все яснее понимают, что им придется
научиться согласовывать очень разные темпоральности, присутствующие
одновременно76. Эго усложняет работу историка и в то же время делает
ее еще более интересной.
75 Lc temps et les historiens. Actes de la joumcc d'etude du 23 septembre 2000, Ar-
chives nationales // Revue dbistoirc du XIXe siecle. 2002. N 25. Эти материалы, в частно-
сти, показывают, каким образом анализ темпоральных аспектов исторического нарра-
тива позволяет уловить специфику темпорального опыта историка-исследователя.
76 Очень любопытны в этой связи размышления Н. Элиаса: «Концепты про-
шлого, настоящего и будущего выражают отношение, которое устанавливается ме-
жду серией изменений и опытом, который извлекает из них отдельная личиость или
группа. Мгновение, определенное внутри слитного потока, принимает вид настоя-
щего только в соотнесении с человеческим индивидом, который его проживает, в то
время как другие принимают вид прошлого или будущего. В качестве символизации
прожитых периодов эти три выражения представляют’ собой не просто такие после-
довательности, как астрономический год или логическая пара “причина-следствие”,
но также и одновременное присутствие этих трех измерений времени в человече-
ском опыте. Можно сказать, что прошлое, настоящее и будущее составляют, хотя
речь и идег о трех различных словах, единый концепт». Elias N. Du Temps.
Paris, 1997 (1ёге ed. 1984). P. 69-70, 86 (Цит. по: АртогФ. Порядок времени...). В
2008 г. во Франции появился новый альманах «Писать историю», создатели которо-
го полагают, что в полифоничном пространстве современного научного познания,
переполненною «перекрестными опылениями» и переводами, междисциплинарное
исследование практик исгориописания, в том числе необозримого поля темпораль-
ного опыта, позволит «схватить» историю в ее становлении и «неискоренимом раз-
нообразии» (К. Помьян). Ёспгс 1'histoire n°l Emotions (2008.1). URL:
http://www.fabula.org/acUialites/article24142.php.
Отто Герхард Эксле
“ИСТОРИЯ ПАМЯТИ” - НОВАЯ ПАРАДИГМА
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Свои размышления я разделю на пять частей.
Во-первых, я кратко обращусь к XIX веку - ибо тогда уже прозву-
чала тема «истории памяти», а именно, в контексте противостояния
концепций истории Леопольда фон Ранке и Иоганна Густава Дройзена.
Вторая часть разъясняет вовлечение элементов истории памяти в
прорыв той самой исторической науки о культуре, которая связана с име-
нами Макса Вебера и других представителей науки о культуре, ориенти-
рованных на обоснованную философией Канта теорию познания (Георга
Зиммеля, Карла Маннгейма). Эго особенно четко проявилось в имевших
место после 1918 г. в Германии дискуссиях между кантианцами и ницше-
анцами вокруг научных парадигм. В 1933 г. с приходом к власти нацио-
нал-социалистов эти дискуссии закончились «победой» ницшеанцев. По-
сле судьбоносного «1933-го» года был еще и судьбоносный «1945-й»,
который в немецкой исторической науке повлек за собой новое реши-
тельное обращение к Ранке. В той ситуации, после полного краха, ранке-
анская гарантия так называемой исторической «объективности» оказыва-
ла успокаивающие воздействие. А успокоения в Германии после
нацистской идеологизации истории хотелось превыше всего: «Покончим,
наконец, с теориями, - таков был теперь девиз, - назад к истинным фак-
там». Только в середине 1980-х гг. мы можем наблюдать возвращение
«истории как исторической науки о культуре» в виде нового пробужде-
ния «истории памяти», которое связано с именем египтолога Яна Асс-
манна, а особенно - с именем историка Нового времени Дана Дилера.
В третьей части я расскажу о программе Дана Дилера, а также о
тех причинах, по которым, как он считает, «история памяти» возвраща-
ется именно в 1990-е годы.
Четвертая часть на конкретных примерах продемонстрирует раз-
ные измерения «истории памяти», которые я в пятой и последней части
еще раз рассмотрю через перспективу истории науки. Здесь мы снова
вернемся в начало XX столетия, на этот раз, однако, не в Германию, а в
Россию, в Санкт-Петербург или Петроград, как тогда назывался город.
76
Историческая эпистемология сегодня
I
Тема истории памяти прозвучала уже в XIX в.1, причем в абсолют-
но противоположных контекстах высказываний об истории Леопольда
фон Ранке и Иоганна Густава Дройзена2. Целью Ранке, как известно,
было показывать, «как это было на самом деле» (1824). Это свое наме-
рение он обосновал метафизическими аргументами в своей вступитель-
ной лекции в Берлине в 1836 г. Метафизическое обоснование познания
Ранке по прошествии десятилетий было дополнено эмпирическим
обоснованием нсоранкеанцсв: «история» просто существует, также -
совершенно независимо от наблюдателя - существуют и исторические
факты, и работа историка состоит в том, чтобы с помощью источников
передавать эти факты, и так, путем построения из частей целого, позна-
вать «эту» историю. С данной концепцией Ранке естественным образом
было связано и его требование к историкам одновременно «отстранить
свое Я», как он выражался, и «дать говорить только делам, дать могу-
чим силам проявиться».
Дройзен, напротив, отнюдь не был метафизиком. Он был кантиан-
цем. Для Дройзена как кантианца прошлое - оно ведь прошло. Поэтому
познание того, что было, прошлого, «как это было на самом деле» в
принципе невозможно. Потому Дройзен в своей Historik в созданной
им теории исторического познания (начатой в 1857 г.), обосновывает
историческую науку как науку эмпирическую, то есть как исследование.
Однако предмет этого эмпирического исследования отнюдь не «исто-
рия», а в большей степени - исторический материал. Поэтому историче-
ское познание не является отражением прошлого, а скорее «репрезента-
цией» прошлого на основе эмпирического исследования. Этот
'Подробно о проблеме см.: OexleO. G. Geschichte, Gedachtnis, Gedachtnisge-
schichte. Em Blick auf das Oeuvre von Claude Simon / D. Hein, K. Hildebrand,
A. Schulze (Hg.). Historic und Leben. Der Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse.
Festschrift ftir Lothar Gall zum 70. Gcburtstag. Munchen, 2006. S. 359-376. См. также
новейшие работы историков о памяти и воспоминании: G. Oesterle (Hg.). Erinnerung,
Gedachtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedachtnisforschung (=Formen
der Erinnerung 26). Gottingen, 2005; в этом томе особенно см.: Lottes G. Erinnerungs-
kulturen zwischen Psychologic und Kulturwissenschaft I Ebd. S. 163-184; M. Grieger,
U. Gutzmann, D. Schlinkcrt (Hg.). Die Zukunft der Erinnerung. Fine Wolfsburger Tagung
(=Schriften zur Untemehmensgeschichte von Volkswagen 2). Wolfsburg, 2008.
2 Oexle O. G. Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Momente einer Prob-
lemgeschichte I Idem. (Hg.). Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft:
Einhcit - Gcgcnsatz - Komplemcntaritat? (=G6ttingcr Gcsprachc zur Gcschichtswisscn-
schaft 6). Gottingen. 2000. S. 99-151 (c. 105 и сл. о Ранке и с. 114 и сл. о Дройзснс).
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
77
кантовский критицизм у Дройзена изменяет также и позицию историка:
речь идет отнюдь не о том, чтобы «отстранить свое Я», как того требо-
вал Ранке, а совершенно об обратном, а именно о том, чтобы признавать
и осмыслять субъективность познания, более того - историчность этой
субъективности познания. Поэтому девиз Дройзена звучал тогда, в
1857 г, так: «Историческое исследование исходит из предпосылки, что
также и содержание нашего Я является многократно опосредованным,
историческим продуктом». Субъективность историка и в этом смысле
его присутствие как познающего субъекта становятся, таким образом,
конструктивным моментом в познании истории.
П
Точно такая же позиция снова была озвучена, когда в начале XX
века в Германии возникает история как историческая наука о культуре -
у Макса Вебера и Георга Зиммеля3. Как у Вебера, так и у Зиммеля исто-
рическое познание снова обосновывается кантовским критицизмом, у
Вебера - в его знаменитой работе об «Объективности» (1904), у Зимме-
ля - в его размышлениях об ответе на вопрос «Что такое история? Что
такое историческая наука?» (1905, 1907).
Между тем, как ранкеанцам, так и кантианцам противостоял могу-
чий противник. Это был Ницше. Он вообще объявил научное познание
фикцией, которая может быть вызвана к жизни всем чем угодно, в осо-
бенности волей к власти, но не волей к познанию4. Ницшеанцы (прежде
всего Штефан Георге и его ученики) вслед за Ницше требовали поэтому,
чтобы наука поставила себя на службу «жизни», например, как «мону-
менталистская история», которая показывает читателю великие образцы,
учителей и утешителей, таких как Цезарь, Христос, Данте, Шекспир, Гёте
и т.д. Так, после революции 1918 года и в годы Веймарской республики,
особенно в ее последней фазе, фазе открытой гражданской войны 1930-
32 гг., дело дошло до отчаянной борьбы парадигм, в которой кантианцы
(Макс Вебер, Георг Зиммель, Карл Маннгейм, Эрнст Кассирер) выступа-
ли против ницшеанцев (Фридриха Гуццольфа, Мартина Хайдеггера, Кар-
ла Шмитта)5, в то время как ранкеанцы, т.е. «собственно историки», не
3 Oexle О. G. Historische Kulturwissenschaft heute / R. Habermas,
R- v. Mallinckrodt (Hg.). Interkultureller Transfer und nationaler Eigensinn. Europaische
U,1(J an^lo-amerikanische Positionen der Kulturwissenschaften. Gottingen, 2004. S. 25-52.
Oexle O. G. Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. S. 124ff.
Подробнее см.: Oexle О. G. “Begriffsgeschichte“ - eine noch nicht begriffene Ge-
^hichte // Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft. 2009 (в печати); Ср.: Idem,
^taat' 'Kultur' - Volk'. Deutsche Mittelalterhistoriker auf der Suche nach der historischen
78
Историческая эпистемология сегодня
имея по-настоящему теоретической концепции, держались за свое «как
это было на самом деле» и «воссоздание из частей целого». 1933 год при-
нес развязку: ницшеанцы сумели воспользоваться так называемым «за-
хватом власти национал-социалистами», чтобы в прямом смысле покон-
чить со своими противниками-кантианцами, которые, если еще не
умерли, как Вебер и Зиммель, отправились в ссылку, как Маннгейм и
Кассирер, или исчезли в концентрационных лагерях.
Логично, что в 1945 г. снова пробил час ранкеанцев. Была объявлена
«объективность», а после недавних идеологических пертурбаций всякая
«теория» оказалась нежелательной. Историки, типа историка Нового
времени Герхарда Риттера и медиевиста Германна Хаймпеля, снова по-
требовали возвращения к испытанному средству — к вопросу о том, «как
это было на самом деле». Даже направленное против такого неоранксан-
ства обращение к «истории как исторической социальной науке» около
1970 г. было воспринято лишь как самый обыкновенный «прогресс»; до
возрождения элементов «истории памяти» дело так и не дошло.
Оно все-таки началось, постепенно, и только в 1980-е гг., когда ста-
ли вырисовываться контуры «исторической науки о культуре», такой, как
у Вебера и Зиммеля или Кассирера и Аби Варбурга. Теперь настал мо-
мент, когда «история памяти» выступила эксплицитно и программно,
например, в работах египтолога Яна Ассманна («Культурная память»
(1992); «Моисей египтян. По следам одной традиции» (1997/98))6.
III
В третьем разделе моих размышлений я хотел бы объяснить все
эти перемены, опираясь на последние публикации историка Нового
времени Дана Дилера.
В своей книге «Времена памяти» («Gedachtniszeiten», 2003) Динер
опубликовал вводное эссе под заголовком «От “общества” к “памяти” -
о смснс исторических парадигм»7. Его основной тезис таков: в настоя-
щее время можно констатировать смену парадигм в исторической нау-
ке, а именно, обращение от изучения «общества» к изучению «памяти».
Wirklichkeit 1918 - 1945 / Р. Moraw, R. Schieffer (Hg.). Die deutschsprachige Mediavistik
im20. Jahrhundert (=Vortrage und Forschungen 62). Ostfildern, 2005. S. 63-101.
6 Assmann J. Das kulturcllc Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Idcntitat
in fruhen Hochkulturen. Miinchen 1992; Idem. Moses, der Agypter. Entzifferung einer
Gedachtnisspur. Frankfurt a. M., 2000.
7 Diner D. Von “Gesellschaft" zu “Gedachtnis" - Uber historische Paradigmen-
wechscl // Idem. Gedachtniszeiten. Uber jiidische und andcre Geschichten. Munchen,
2003. S. 7-15.
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
79
Это обращение, полагает Динер, указывает на глубокие изменения в
понимании истории. Что имеется в виду?
По заложенной еще в XIX столетии традиции, немецкая историче-
ская наука концентрировалась на изучении «государства», пока с начала
1970-х гг. данную парадигму не сменила парадигма «общество». Обе
эти парадигмы исходили из представления о линеарном времени, о по-
следовательной смене отрезков времени в едином его потоке, словом, из
идеи прямолинейности общественного «развития». Парадигму «па-
мять», напротив, определяет допущение существования в одно и то же
время, то есть симультанного существования, множества прошлых.
Многие историки напрочь отвергают эту идею, считая ее просто бес-
смысленной, потому что она противоречит привычному и само собою
разумеющемуся. Но именно это «само-собою-разумеющееся» Дан Ди-
нер и ставит под сомнение. Он хочет разрушить «исходящее из настоя-
щего представление о единовременном прошлом».
Причины этой смены парадигм от «общества» к «памяти», как пи-
шет Динер, многообразны, их нельзя подвергнуть «однозначному упо-
рядочиванию». В любом случае, для европейского контекста бросаются
в глаза два друг от друга независимых исторических феномена, кото-
рые, однако, равным образом можно связать с метафорой памяти. Эго,
во-первых, все более и более интенсивное воспоминание о Холокосте и,
во-вторых, поворот в мировой истории 1989/91 тт., последствия которо-
го разрушают всю привычную картину линеарного исторического раз-
вития. Д.Динер называет это «возвращением истории».
(1)0 первом феномене. В своей книге 2007 года о «памятях, дви-
жущихся в противоположных направлениях» («Gegenlaufige Gedachtnis-
se»)8. Динер обращает внимание на то обстоятельство, что восприятие
Холокоста именно как неслыханного «ниспровержения (основ) цивили-
зации» обсуждается и может обсуждаться только в тех культурах, на
которые оказала влияние эпоха Просвещения, и которые в силу этого
глубоко укоренены в антропоцентрическом мировоззрении. Исламские
общества, с их теоцентрическим пониманием мира и истолкованием
действительности в смысле всепроникающего присутствия бога, от та-
кого восприятия отказываются; речь, таким образом, идет не об обыч-
ном антиеврейском «негационизме», т.е. отрицании геноцида. В боль-
шей степени мы сталкиваемся здесь с плюрализмом памятей и
интерпретаций истории, между собою несовместимых. То значение,
8 Diner D. Gegenlaufige Gedachtnisse. Uber Geltung und Wirkung des Holocaust
(=Essays zur jiidischen Geschichte und Kultur 7). Gottingen, 2007.
80
Историческая эпистемология сегодня
которым Холокост наделяется на Западе, в исламском мире сравнимо,
скорее, с «богохульством».
(2) В том, что касается второго феномена, нельзя не заметить, что
из «массы распада» прежних политических противоречий Востока и
Запада появляются констелляции, казалось бы, давно забытые. Лишь
один пример, на который ссылается Д. Динер: «Неопределенная судьба
России, чье по времени непредсказуемое превращение из “империи” в
“государство” более, чем что-либо еще, могло бы способствовать тому,
чтобы по-новому определить содержание понятия “Европа”». И вооб-
ще: Европа, Россия, Балканы, Турция - эти политически, географиче-
ски, а также культурно заряженные исторические метафоры снова воз-
вращаются и открывают «комплексное поле ассоциаций». То, что
«политическая реактивация исторических пространств, в течение деся-
тилетий остававшихся вне поля зрения, вызывает также и возвращение
связанных с ними исторических времен, — пишет Динер, факт бес-
спорный». Здесь нельзя не признать «активного воздействия арсенала
исторических воспоминаний и образов из XIX и начала XX столетий»9.
IV
Кратко остановимся на некоторых конкретных областях этой но-
вой парадигмы «истории памяти». Среди них я выделю пять.
(1) Центральный момент «истории памяти» - постоянно усили-
вающаяся рефлексия историков об их собственной исторической пози-
ции, о них самих, о том, что они делают и что вообще делают историки.
Я приведу в пример книгу молодого историка Николаса Берга «Холо-
кост и западногерманские историки. Исследование и воспоминание»
(2ООЗ)10. Речь в ней идет об имевшей место после 1945 года рефлексии
авторитетных немецких историков по поводу преступлений немцев: о
национал-социализме как «катастрофе», то есть как о «неодолимом ро-
ке» (Фридрих Майнекс), о национал-социализме как об «общеевропей-
ском феномене» (Герхард Риттер), о «преодолении прошлого» (Германн
Хаймпель); речь идет об отчасти вообще странных мнениях, которые
высказывались даже в только что созданном тогда в Мюнхене Институ-
те современной истории. Эта книга вызвала многочисленные и бурные
дискуссии, которые, в свою очередь, сами нуждаются в анализе с точки
зрения истории памяти.
9 Diner D. Gegenlaufige Gedachtnisse. S. 32.
10 Berg N. Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erin-
nerung. Gottingen. 2003.
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
81
Или пример совершенно иного рода: книга работающего в Герма-
нии голландского профессора, историка науки Николааса А. Рупке
«Александр фон Гумбольдт. Метабиография» (2005; 2008)11. Его тема -
как по-разному воспринимался Александр фон Гумбольдт в разные
эпохи, со времени его кончины и до наших дней: в XIX столетии и во
времена Вильгельма, в Веймарской республике, в период национал-
социализма, в ГДР, в ФРГ и вплоть до сегодняшнего образа Гумбольдта
как «пионера глобализации». Эта книга вызвала активное неприятие, а
именно, в форме вопроса: как обстояло дело, и кем же был Гумбольдт
«на самом деле»? Однако собственно заслуга автора в том и состоит,
что он подменил данный вопрос вопросом об «образах», которые, до-
вольно быстро сменяя друг друга, лежали и лежат в основе всей тради-
ции посвященных Гумбольдту исследований. Но, как показывают реак-
ции на книгу, особенно в среде представителей естественных наук, эта
подмена явно была воспринята как провокация.
И последний пример. Книга Эстер Софии Зюндерхауф «Тоска по
греческому и критика культуры» («Griechensehnsucht und Kulturkritik»,
2004)12 13. Здесь речь идет, как ясно уже из подзаголовка, о «немецкой ре-
цепции в 1840-1945 гг. идеала Античности в трактовке Иоганна Иоахима
Винкельмана». И тут мы тоже имеем дело с историей памяти - в данном
случае в аспекте идеалов Античности и ее осмысления эпохой, всякий раз
глубочайшим образом и непосредственно связанного с политическими
дебатами в Германии. Эту, по моему мнению, великолепную, зачаровы-
вающую книгу необходимо признать обязательной для чтения всеми ис-
ториками и всеми, кто хочет ими стать. Подобной рекомендации заслу-
живает и написанная в том же ключе книга по истории музыки в
Средневековье и в Новое время Анетты Кройтцигер-Херр (2008)1 .
(2) С рефлексией историков сплетается рефлексия деятелей искус-
ства и литераторов. Здесь речь идет, таким образом, об «истории памя-
ти» в литературе, в изобразительном искусстве, в кино, в архитектуре и
т.д. и здесь тоже я удовольствуюсь лишь небольшим числом примеров.
Сознавая свою некомпетентность, скажу все же кое-что о русской лите-
ратуре XX столетия, потому что из всех национальных литератур XX
века русская в наибольшей степени содержит в себе память. Эго следст-
11 Rupke N. A Alexander von Humboldt. A Metabiography. Frankfurt a. M., 2005.
12 SiinderhaufV.. S. Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche Rezeption
von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945. Berlin, 2004.
13 Kreutziger-Herr A Im Schatzhaus der Erinnerung: Die Musik des Mittelalters in
derNeuzeit. Koln, 2008.
82
Историческая эпистемология сегодня
вие той обусловленной политически амнезии, которая утверждается с
началом сталинизма, то есть с 1929 г.14. «Структурной амнезии» режима
и «политике забвения» противостояли такие авторы как Анна Ахматова,
Осип Мандельштам, Михаил Булгаков15. Также здесь следует назвать и
крупные прозаические произведения, как например, роман Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба», являющий собой, «пожалуй, самое значи-
тельное в современной литературе русское изображение войны»16. Пер-
вый перевод полного текста этого романа на немецкий язык был осуще-
ствлен только в 2007 г. Ну а самое значительное произведение такого
рода, конечно же, «Доктор Живаго» Б. Пастернака. О его мнемониче-
ской основе с сс «многочисленными интертскстуальными связями» уже
написаны целые библиотеки17 18.
Подобное можно сказать и об искусстве или архитектуре. Со-
шлюсь здесь лишь на воплощенную в готических соборах XIX и XX вв.
18
историю памяти или на русский эквивалент этого явления — на архи-
тектуру православных соборов XIX века19.
(3) Широкое и благодатное поле для «истории памяти» являет со-
бой то, что в Германии называют «политика по отношению к прошло-
му» («Vergangenheitspolitik», Норберт Фрай, 1996) или «политика по
отношению к истории» («Geschichtspolitik», Эдгар Вольфрум, 1999) или
«политика воспоминаний»20. Сквозные линии интерпретации немецкой
национальной истории после 1945 года были проанализированы в кни-
14 Сошлюсь также на последние публикации в Германии по этой проблемати-
ке: Figes О. Die blusterer. Leben in Stalins Russland. Berlin, 2008; Schldgel K. Terror und
Traum. Moskau 1937. Munchen, 2008.
15 Guski A Boris Pasternak: Doktor Zivago I B. Zelinsky (Hg )- Der russische Ro-
man (=Russische Literatur in Einzelinterpretationen. Bd. 2). Koln, Weimar, Wien, 2007.
S. 406-425 (S. 422).
16 Zelinsky B. Der russische Roman I Ebd. S. 1-92 (S. 78).
17 Guski A Op. cit. S. 422.
18 Ocxle O. G. Die gotische Kathcdrale als Representation der Modeme / Idem.
M. A. Bojcov (Hg.). Bildcr der Macht in Mittelalter und Neuzcit Byzanz - Okzident -
RuBland (=Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur Geschichte 226). Gottingen,
2007. S. 631-674.
19 Pavlova A Die Nationalidee in der Architektur der russisehen Kathedralen und
Miinsterdcs 19. Jahrhunderts. Ebd. S. 613-630.
20 Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfange der Bundesrepublik und die NS-
Vergangenheit. Munchen, 1996; Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990. Darmstadt,
1999. Особенно показательный случай политики по отношению к прошлому являет
собой тема Катыни: Zaslavsky V. Pulizia di classc. Bologna, 2006.
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
83
ге, изданной Конрадом Яраушем и Мартином Сабровом под вообще-то
неудачным названием «Die historische Meistererzahlung» (2002)21. Бога-
тый материал для наблюдений за «политикой в отношении истории»
через перспективу «истории памяти» дает и чтение ежедневных газет.
Там мы находим, например, сообщение о французском президенте, ко-
торый хотел бы, чтобы французы привыкли к воспоминанию о «Виши»;
или сообщения о дискуссиях между немцами и поляками о том, какого
рода музей - «изгнания» или «переселения» - надо создать в Гданьске;
или сообщение о содержательном, только что вышедшем труде, посвя-
щенном политике немецкого Красного Креста с 1933 по 1945 гг. Это
результат многолетнего исследовательского проекта, который финанси-
ровала нынешняя организация Красного Креста в Германии, но и у него
возникли трудности с тем, чтобы открыто говорить о том, в какой сте-
пени даже эта гуманитарная организация в период национал-
социализма служила в высшей степени негуманным целям.
(4) Особенно захватывающей становится «история памяти» там,
где мы нападаем на след исторической памяти действующих лиц, то
есть на след исторических ориентиров самих актеров истории. Дан Ди-
нер в уже упоминавшейся книге «Gegenlaufige Gedachtnisse» (2007)
поднял вопрос о «континентальных смещениях» и «колониальных пе-
рекосах». Первое он иллюстрирует примером «двойной капитуляции»
немецких войск, в Реймсе 8 мая и в Карлсхорсте 9 мая 1945 г., и того,
как это нашло выражение в различных интерпретациях только что пе-
режитой истории. Он говорит здесь отчасти о «совершенно другом сле-
де памяти», который тянется именно за этим днем 9 мая 1945 г. как «об-
разом конца Второй мировой войны» в памяти западных соседей
России - Польши, Латвии, Чехии22.
Еще более драматичными являются «колониальные перекосы», в
том смысле, что относительно одного и того же дня, одного и того же
события существуют две совершенно разные истории памяти23. Имеется
в виду опять-таки 8 мая 1945 г. - во Франции «политически священ-
ный» день освобождения. В день немецкой капитуляции в Реймсе в се-
Веро-алжирском городе Сетифе во время празднования победы над на-
цистской Германией произошло массовое убийство алжирских
Мусульман французскими силами безопасности. Это случилось потому,
21 К. Н. Jarausch, М. Sabrow (Hg.). Die historische Meistererzahlung. Deutungsli-
n,en der deutschen Nationalgeschichte nach 1945. Gottingen, 2002.
22 Diner D. Gegenlaufige Gedachtnisse. S. 42ff. (S. 45).
23 Ebd. S. 64ff.
84
Историческая эпистемология сегодня
что над праздничными колоннами было поднято и бело-зеленое знамя
алжирского национального движения. На требование властей спустить
его организаторы манифестации ответили отказом, тогда подразделения
французских сил безопасности открыли огонь по собравшимся. О числе
жертв тысяча? десять тысяч? пятьдесят? - до сих пор нет единого
мнения. День капитуляции в Реймсе и праздник победы является, таким
образом, и датой начала длительной и кровавой колониальной войны,
исходным пунктом которой стало само празднование этой капитуляции.
Только 7 мая 2008 г. французский посол в Алжире впервые открыто
заговорил об этом массовом убийстве и сообщил французской общест-
венности, что «время его непризнания» закончилось . -
И еще одну форму сложной структуры истории памяти следует
здесь упомянуть. Она проявляется тогда, когда актеры истории имеют
совершенно разные истории памяти об одном и том же событии. Класси-
ческий пример - Марк Блок пишет об этом в своей, пожалуй, самой зна-
менитой книге «Странное поражение» («L'ctrange defaite»)24 25 - это пора-
жение французов в мае 1940 г. от немецких оккупантов, конечную
причину которого, пожалуй, следует искать в том, что две воюющие сто-
роны жили с полностью различающимися историями воспоминаний о
Первой мировой войне. Как известно, для французской стороны, речь
шла об «окопной», «позиционной войне», для немецкой - напротив, о
«войне в движении», словом, речь шла о «линеарном» и «не-линеарном»
ведении военных действий. Построив знаменитую «Линию Мажино»
вдоль левого берега Рейна, французские военные в известной степени
подготовились к совсем «не той» войне, которую повели немцы26.
И последний пример. Он интересен еще и потому, что всего не-
сколько лет назад вокруг него в Польше велись горячие дебаты. Я имею
в виду погром в местечке Едвабне на северо-востоке Польши27. 10 июля
1941 г., то есть вскоре после начала войны Германии с Советским Сою-
зом и поспешного отхода Красной Армии из Восточной Польши, около
1600 евреев, местных жителей, были согнаны в амбар и заживо сожже-
ны. Причем это сделали христиане их польские соседи, а присутствие
подразделений вермахта и полицейских легитимировало происходящее.
Основным мотивом участников злодеяния, подтолкнувшим их на это
24 По сообщению «SiiddeuLschen Zeitung» от 7 мая 2008 г.
25 Bloch М. L'etrange defaite. Temoignage ecrit en 1940. Paris, 1957. P. 61.
26 Cp.: Oexle O. G. Geschichte, Gedachtnis, Gedachtnisgeschichte. S. 364-366.
27 Cp.: Kershaw I. Wendcpunkte. Schliisselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg
1940/41. Munchen, 2008. S. 309ff.
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
85
преступление, как полагают историки, было ассоциативное уподобле-
ние евреев недавнему советскому господству28. В этом событии мы
чрезвычайно отчетливо можем наблюдать «одновременность множества
прошлых», потому что в данном случае лежащие в основе поведения
действующих лиц и их жертв интерпретации и образцы восприятия
происходящего социально-политически и исторически обосновывались
весьма и весьма по-разному. То, что для евреев было хорошо известным
им феноменом погрома, для поляков было местью за только что пере-
житое в последней фазе русско-польского конфликта, а для немцев -
началом расистски мотивированного уничтожения людей, которое в
ближайшем будущем обретет уже совершенно другие масштабы.
(5) Известное и в самом широком смысле открытое поле «истории
памяти» представляют собой и «места памяти». Эта форма «истории
памяти» утвердилась в 1984 г., когда вышло в свет многотомное изда-
ние парижского интеллектуала и историка Пьера Нора «Места памяти»
(«Lieux de memoire»)29, за которым последовал изданный в 2001 г.
французом Этьенном Франсуа и немцем Хагеном Шульце трехтомник
«Немецкие места памяти»30. Недавно появился и великолепный том
«Места памяти Античности. Римский мир» (2006)31 32. Поразительна пла-
стичность самого понятия. Но это не удивительно, потому что понятие
«места памяти» напоминает нам о фундаментальном свойстве истории
32
памяти — мы читаем время в пространстве .
Тема «места памяти» появляется не только в лексико-
систематических многотомниках, но и в отдельных монографиях, по-
разному структурированных. Например, в заостряющей внимание на
Бреслау 1945 года как на «чужом городе» книге Г. Тума (2003)33. Карл
Шлёгель пишет о топографии Берлина, а именно, о совершенно специ-
фической топографии «русского Берлина»34. Берлин как «русский го-
28 Struve К. Ritual und Gewalt - Die Pogrome des Sommers 1941 / D. Diner (Hg.).
Synchrone Welten. Zeitenraume jiidischer Geschichte (=Toldot. Essays zur jiidischen Ge-
schichte und Kultur 1). Gottingen, 2005. S. 225-250.
29 P. Nora (Ed.). Les lieux de memoire. 7 Vol. Paris, 1984 ss.
30 Ё. Francois, H. Schulze (Hg.). Deutsche Erinnerungsorte. 3 Bde. Munchen, 2001.
31 E. Stein-Holkeskamp, K. J. Holkeskamp (Hg.). Erinnerungsorte der Antike. Die
romische Welt. Munchen, 2006.
32 Cp.; Schldgel K. Im Raume lesen wir die Zeit. Uber Zivilisationsgeschichte und
Geopollitik. Frankfurt a. M., 2006.
33 Thum G. Die fremde Stadt. Breslau 1945. Berlin, 2003.
34 Schldgel K. Das Russische Berlin - Ostbahnhof Europas. Munchen 2007 (первое
Издание 1998). См. также примеч. № 14.
86
Историческая эпистемология сегодня
род» начинается от Шлезишсн Баннхоф — исторического места времен
перед Первой мировой войной и тянется через «Санкт-Петербург на
Витгенбергплатц» и «берлинский Кремль» - Унтер ден Линден - до
«нового русского Берлина», который возник после падения Берлинской
стены в 1989 г. Следует упомянуть и другую столь же монументальную
книгу Шлёгеля «Террор и мечта. Москва 1937 г.» (2008), а также книгу
британца Орландо Файджсса «Перешедшие на шепот. Частная жизнь в
сталинской России» (2007).
Говорить о «местах памяти» невозможно без того, чтобы не упомя-
нуть типичную доя России констелляцию «Москва и Санкт-Петербург»
как двойное «место памяти». Эта дихотомия Москва/Петербург для рус-
ской культуры является «основополагающей, ее невозможно обойти»35.
Дискурс о Москве и Санкт-Петербурге, я цитирую здесь Карла Шлёгеля,
«является своего рода fafon de parler при обсуждении основных вопросов
русского бытия»36. Так было в XIX столетии, так было в XX, и, как ка-
жется, в XXI веке ничего не изменилось. Для Бориса Пастернака, родив-
шегося в Москве, как он пишет в заключительных строках своей знаме-
нитой книги, Москва - «священный город»; именно она — «героиня» его
во всех отношениях великого эпического романа37. Для родившегося в
Санкт-Петербурге Владимира Набокова, напротив, Санкт-Петербург -
«самый зловещий и загадочный город мира»38. А у родившегося в 1940 г.
в Ленинграде Иосифа Бродского мы читаем, как он по пути в школу про-
ходил вдоль исторических фасадов родного города, которые «научили его
истории» нашего мира больше, чем любая книга: «Греция, Рим, Египет
все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов» во
время блокады Ленинграда39.
V
Упоминание Москвы и Санкт-Петербурга/Петрограда/Ленинграда
дает возможность в пятой и последней части моих размышлений взгля-
35 Grcber Е. Pasternaks unsystematische Kunst des Gedachtnisscs / A. Haverkamp,
R. Lachmann (Hg.). Gedachtniskunst: Raum - Bild - Schrift. Studien zur Mnemotechnik.
Frankfurt a. M„ 1991. S. 295-327 (S. 312).
36 Schldgel K. “Die Seele Petersburgs“ von Nikolai P. Anziferow. Ein legendares
Buch und scin unbekannter Autor //Anziferow N. P. Die Seele Petersburgs. Munchen.
Wien, 2003. S. 7-46 (S. 22).
37 Pasternak B. Doktor Schiwago (Epilog, V).
38 Nabokov V. Erinnerung, sprich: Wiedersehen mit einer Autobiographic.
(=Vladimir Nabokov. Gesammelte Werke XXII). Reinbek, 1991. S. 319.
39 Brodsky J. Erinnerungcn an Petersburg. Munchen, Wien, 2003. S. lOf.
Отто Герхард Эксле. «История памяти»...
87
нуть на тему «истории памяти» в перспективе истории науки', я напом-
ню здесь о книге, которую историк Николай Анциферов (1889-1958)
опубликовал в 1922 г. под заголовком «Душа Петербурга». С 2003 г. су-
ществует ее немецкий перевод с фундаментальной вводной статьей уже
не раз упоминавшегося здесь историка России Карла Шлегеля40. В ней
Шлегель дает подробный историко-литературный анализ самой книги и
ее исторического контекста. Она была написана между сентябрем 1919 г.
и мартом 1922 г., т.е. в определенной степени de profundis, «из глубины
поражения и конца»41. В 1918 г. столица была снова перенесена в Моск-
ву. Петербург, напротив, умирал, так что поэт Владислав Ходасевич,
живший в Петрограде с 1920 по 1922 год, а потом эмигрировавший сна-
чала в Берлин, а затем переехавший в Париж, отмечал в своих записках,
что город никогда не был прекраснее, чем в эти годы, «когда все краски
облупились и самое обыкновенное здание виделось как нечто особенное
и индивидуальное»42. Книга Анциферова - это «книга прощания Петер-
бурга». Он зафиксировал Петербург «в момент его исчезновения»43.
Однако Анциферов был не один, его книга - одновременно и ре-
презентация социальной группы. В ней представлено широкое интел-
лектуальное течение в городе после Октябрьской революции. Уже со
времени стремительно возникшей и быстро набирающей темп индуст-
риализации начала 1900-х гг. и особенно после революции отмечается
прямо-таки лихорадочная активность в сфере интеллектуальной дея-
тельности, посвященной памяти Санкт-Петербурга, превращающей этот
город в «место памяти»44.
Центром притяжения петербургской интеллигенции после 1917 г.
стал религиозно-философский кружок «Воскресенье» философа Алек-
сандра Мейера. Туда входили ученые - представители естественных на-
ук, а также литераторы, люди искусства. Своего рода spiritus rector круж-
ка был медиевист Иван Михайлович Греве, академический учитель
Анциферова. В центре всех этих инициатив было ключевое слово - «Экс-
курсионистика». Анциферов публикует работы по экскурсионному делу.
Возникает общество по изучению локальной истории «Старый Петер-
бург». К тому же по инициативе Гревса в 1921 г. был основан институт,
который занимался систематическим изучением и анализом культурной
40 См. примеч. № 36.
41 Schlogel К. “Die Seele Petersburgs". S. 12.
42 Ebd. S. 13.
43 Ebd. S. 13,15.
44 Сведения взяты из работы К. Шлегеля. См. примеч. 36.
88
Историческая эпистемология сегодня
топографии Санкт-Петсрбурга/Пстрограда. Это был, как констатировал
Шлегель, пионер русской урбанистики и истории повседневности. Экс-
курсионный институт становится центром исторической работы, состав-
ляются антологии, разрабатывается система экскурсий по городу и его
окрестностям, теория и методология экскурсий получают дальнейшее
развитие. Его доклады и публикации получают всероссийский масштаб.
Но все это внезапно заканчивается в 1929 г. «Расцветающий ста-
линизм» устанавливает «культуру амнезии, беспамятности, культуру
tabula rasa. Он заново очерчивает контуры общества»45. И потому
«представители старой интеллигенции», как например, члены петер-
бургского общества краеведения — историки, философы, филологи,
представители естествознания — оказываются в лагере на Соловках и на
строительстве Беломоро-Балтийского канала - объекта престижа моло-
дой советской республики46. На Беломоро-Балтийский канал переносит-
ся теперь, как подчеркивает Шлегель, «столица русской интеллиген-
ции»47. Анциферов, после долгих лет в сибирских лагерях, в 1958 г.
умирает в Москве в забвении. Вместе с ним умирает память о том, что
1920-е гг. в России были «золотым веком краеведения»48, что именно
тогда возникло «градовсдение». Эти краеведение и градовсдсние были
поставлены в широкой и трансдисциплинарной персспсктиве, включали
также статистику, демографию, педагогику, наряду с вовлечением в
исследования искусства, права и устной традиции. Однако после амне-
зии, беспамятности, tabula rasa сталинизма в 1960-е годы книга Анци-
ферова всплывает в кругах ленинградского андеграунда. Она становит-
ся репрезентацией ленинградского диссидентства. Это в известной мерс
литература самиздата. «Город, с которым Анциферов меланхолично
попрощался, был снова здесь»49.
Сказанное ведет нас в конечном итоге в год 1991-й, когда после
провала путча в Москве и массовой демонстрации жителей Ленинграда
на Невском проспекте, городу по их требованию было возвращено пер-
воначальное имя. Мы видим, таким образом, что «история памяти» в
аспекте самого понятия «места памяти» началась отнюдь не в Париже
1980-х годов, она возникла в Санкт-Петербурге/Петрограде 1920-х, это
факт, который история исторической науки обязана учитывать.
45 Schldgel К. “Die Seele Petersburgs“. S. 38.
46 Figes О. Die Fliisterer. S. 191 ff.; Schldgel K. Terror und Traum. S. 361ff.
47 Schldgel K. “Die Seele Petersburgs“. S. 34.
48 Ebd. S. 42.
49 Ebd. S. 12.
Qtnmo Герхард Эксле. «История памяти»...
89
VI
Подведем итоги и зададимся вопросом о том, что мы теряем, а что
приобретаем, вводя в научный оборот «историю памяти» как новую
исследовательскую парадигму?
Конечно, от идеи «всемирной истории» в том виде, в каком она
сейчас существует, то есть как идея единого однонаправленного про-
цесса исторического развития, приходится отказаться. Это, разумеется,
вызывает сопротивление сторонников концепции изучения истории
«как это было на самом деле», будь они приверженцами идеалистиче-
ского, материалистического или же эмпирического подходов. Но отход
от идеи «всемирной истории» неизбежен. Приведенные Даном Динером
примеры из истории восприятия Холокоста («эпистемика Холокоста»50)
или дня 8 мая в Алжире, дебаты вокруг погрома в Едвабне наглядно
показывают, что мы сейчас являемся свидетелями того, как современная
картина истории, родившаяся в лоне западноевропейского опыта, испы-
тавшая на себе влияние восходящих к эпохе Просвещения идеалов ра-
зума и рациональности и являющаяся плодом антропоцентрического
миров ид ения, все более охватывается «тенденцией к плюрализации»51.
Это значит, что на первый план все чаще выступает опыт прошлого и
переживание истории в других, прежде не попадавших в наше поле зре-
ния, исторических пространствах — в арабском, африканском, дальнево-
сточном и т.д. или у разных социальных групп, - где существуют иной
опыт, иная память о прошлом, где в основе усвоения и переживания
прошлого может лежать совсем иное мировоззрение. Одной истории
одного мира больше не существует.
Но то, что мы теряем в аспекте возможности познания одного мира
и его истории, полагаю, с лихвой компенсируется тем, что история па-
мяти дает нам второй уровень рефлексии, который кажется гораздо
сложнее в обращении, но очевидный потенциал которого нельзя не при-
знавать. Эту мысль можно развить на других примерах, скажем, на
примере эпохи Модерности и ее Средневековья, то есть того, как эта
эпоха создает для себя образы Средневековья. По мере все нового и но-
вого опыта, который преподносит нам Современность, то, что мы назы-
ваем «Средневековьем» постоянно модифицируется, и наоборот, то, что
Мы знаем о Средневековье, постоянно управляет нашим опытом «Со-
50 Diner D. Gegenlaufige Gedachtnisse. S. 13ff.
51 Ebd. S. 107.
90
Историческая эпистемология сегодня
временности»52. Подобное, хотя и в меньшей степени, относится и к
тому, что мы называем «Античностью».
И последнее. Чем больше мы как историки погружаемся в эту про-
блематику, тем очевиднее становится, что историк больше не находится
один на один со своим «источником» в традиционном смысле этого по-
нятия. История памяти чрезвычайно расширяет материал, с кагорым мы
можем работать: не только литература, но и искусство, архитектура,
кино и музыка вовлекаются в сферу рефлексии истории памяти, по-
скольку они облекают память в образы, визуализируют ее и делают дос-
тупной эмоциональному опыту. Некоторые историки сетуют, что такая
работа требует от них чрезмерных усилий. Я же вижу здесь великолеп-
ный шанс принципиально расширить и углубить познание истории,
формулируя проблемы в интегрирующей и сравнительной перспективе,
то есть на таком уровне, когда объяснение исторических «фактов» и
«предметов» не элиминируется, а, напротив, углубляется. Концепция
«истории памяти» отнюдь не должна заменить собой все другие формы
исторического познания, она комплементарна по отношению к ним и
должна дополнять их.
(Перевод с немецкого Ю. Е. Арнаутовой)
52 Oexle О. G. Die Modcme und ihr Mittelaltcr. Eine folgenreiche Problemgeschichte I
P. Segl (Hg.). Mittelalter und Modeme. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen
Welt. Sigmaringen, 1997. S. .307-364; Oexle O. G. Bilder gedeuteter Geschichte. Eine Ein-
fiihrung / Idem, A. Petneki, L. Zygner. Bilder gedeuteter Geschichte. Das Mittelalter in der
Kunst und Architektur der Modeme. 2 Bdc (=Gdttingcr Gesprache zur Geschichtswissen-
schaft 23). Gottingen, 2004. Bd. 1. S. 9-30. См. также примеч. №№ 18 и 13.
А. И. Макаров
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
VERSUS КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Сегодня все гуманитарии, в той или иной мере, являются историка-
ми. В то же время, историки больше не могут быть только историогра-
фами. Речь идёт о той версии историографии, представители которой
наивно считали, что исторический источник - это след прошлого самого
по себе, а они исследуют объективное прошлое.
Принцип историзма с начала XX века был серьёзно поколеблен кри-
тическими идеями неклассической философии истории. Вместе с тем, эта
основополагающая методологическая установка науки Нового времени
не может быть упразднена без сёрьёзного ущерба для всей современной
науки. Дело в том, что принцип историзма укоренён в самой матрице
европейской культуры, а значит и в науке. Таким образом, создалась про-
тиворечивая ситуация, когда традиционная классическая интерпретация
историзма больше не устраивает методологию гуманитарных наук, но в
то же время он не может быть отброшен европейской культурой, так как
в этом случае она рискует утратить свою идентичность. Однако, по на-
шему глубокому убеждению, эта ситуация вовсе не является тупиком.
Это - продуктивный конфликт интерпретаций, который возник при
столкновении двух методологических парадигм1.
История этого конфликта интерпретаций началась около ста лет на-
зад, когда процесс оформления классической научной парадигмы Нового
времени завершился тем, что историзм занял доминирующее положение в
методологии гуманитарных наук, но, как это часто бывает, за триумфом
последовало поражение победителей. Не успели историки-позитивисты,
гордые тем, что изгнали химеру метафизики, занять места в методологиче-
ском президиуме «невидимого колледжа учёных», как туда ворвался не-
мецкий профессор славянского происхождения, перевернувший всю клас-
сическую научную парадигму. Речь, конечно же, идёт о Фридрихе Ницше.
Ницше заявил о вреде исторической науки для жизни и громогласно
провозгласил девиз нового гуманитарного подхода: «мы - филологи».
1 Это понятие мы употребляем в том смысле, который вкладывал в него Поль
^икёр. См.: РикёрП. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике/Пер. с фр. и
’’ступ. ст. И. Вдовиной. М., 2002.
92 Историческая эпистемология сегодня
Так началась битва, парадигмальный конфликт метаязыков описания ре-
альности, который продолжается по сей день. Ницшеанство не является
единственной или даже основной причиной этого конфликта методоло-
гических установок. Ницше только вывел на широкое обозрение давно
разожжённый конфликт подходов, который проявил себя уже на рубеже
Средневековья и эпохи Возрождения. Если уж говорить о его истоках, то
нужно вернуться к сочинениям Джордано Бруно, который одним из пер-
вых разработал философский вариант концепции множественности ми-
ров. Этой идеей Бруно вознамерился подорвать стройную иерархию сфер
реальности средневекового мира, центрированную вокруг Земли - сим-
вола главного творения единого Бога, за это и был сожжён на площади
Цветов как еретик. Да, он и был самым настоящим еретиком, так как по-
кусился на устои не только средневековой философии, но, как оказалось,
и всей классической философии истории.
Ренессансная идея множественности миров нашла свою систематиче-
скую разработку в постмодернистских теориях плюрализма языков реаль-
ности. С позиций «онтологического плюрализма» постмодернисты под-
вергли резкой критике любые виды центраций, в том числе так
называемый «дискурс метанарративов»2. Понятие мстанарратива тесней-
шим образом связано с концепциями исторического сознания и историче-
ской памяти. Мстанарратив и историческая память - термины, предназна-
ченные для описания одной и той же проблемы, проблемы поиска
оснований Всеобщей истории.
Понятие «всеобщая история» предполагает признание объективно-
го существования единого по своей природе человечества, а также еди-
ной в своей архитектонике памяти человечества. Единые природа и па-
мять - необходимые условия всеобщности исторического пути для всех
человеческих существ. Понятие «человечество» (L'humanite) было вве-
дено в научный оборот философией Просвещения, оно было призвано
вытеснить из языка описания реальности религиозно окрашенный тер-
мин «Род человеческий».
В программе Aufklarung’a немецкой классической философии мета-
форы «Всеобщая история» и «Человечество» превратились в строгие на-
учные понятия и стали основой завершающего этапа становления науки о
природе и обществе, единой в своих методологических основаниях. Еди-
ная наука Нового времени - это некое «истинное наукоучение»
2 См. статью «Центризм»// Всемирная энциклопедия: философия. М.; Минск,
2001. С. 1200-1203.
Я. Макаров. Историческая память...
93
(И. Г. Фихте), т.е. демифологизированное научное мировоззрение совре-
менного общества - общества, вошедшего в стадию «умственного со-
вершеннолетия» (И. Кант). Философы Нового времени попытались вы-
дать эти понятия за новейшее слово европейской культуры. Однако исто-
историко-философский анализ обнаруживает их явное сходство с такими
религиозными концептами как «Священная история» и «Род человече-
ский». Это и понятно: и та, и другая пара терминов призвана указать на
единый (и для средневековой, и для современной Европы) комплекс
идей, лежащий в основании самосознания всей иудео-христианской ев-
ропейской традиции и западноевропейской цивилизации, в частности.
Речь идёт о следующих идеях:
• идея сущностного единства человечества', она же - идея естест-
венного закона, природного и социально-политического равенства всех
людей. Совершенно очевидно, что эта идея перешла из религиозных теи-
стических учений об Адаме, едином праотце Рода Человеческого;
• идея поступательного движения исторического времени', она же -
идея прогресса, продвижения человечества к конечному историческому
периоду, периоду разрешения всех фундаментальных противоречий чело-
веческого существования. Это - телеологическая идея «стрелы времени»,
общая для многих прогностических теорий модерна от первых христиан-
ских модернистов до К. Маркса и современных теоретиков глобализации:
от учения о Провидении и «тысячелетнем царстве праведников» до учения
о коммунизме и о глобализированном обществе потребления. Суть её та-
кова: стрела или корабль (человечество) летит сквозь времена юдоли (ис-
торические эпохи) к последнему эону, конечному этапу истории (напри-
мер, к Новейшему времени3). Последним будет тот эон, который
приобретёт качество плероматического, остановленного времени.
• идея «исторических народов»', она же - идея авангарда человече-
ства, передовых стран, догоняющего развития и др. концептов так назы-
ваемых «теорий модернизаций». Как известно, эту идею научно попы-
тался обосновать Г. В. Ф. Гегель, но не был её первооткрывателем: он
лишь модернизировал религиозное учение о богоизбранном народе.
При этом необходимо отметить, что помимо очевидного сходства
между содержанием понятий «человечество», «всеобщая история», «род
человеческий», «священная история», между ними существует и разли-
чие; оно выявляется, если поместить их в контекст концепции неиспове-
3 Интересно, что словосочетание «Новейшее время», видимо, не предполагает
больше никаких последующих этапов: нельзя например, сказать: «Наиновейшее время».
94
Историческая эпистемология сегодня
димости путей Провидения. Научная программа Нового времени отрица-
ет центральную идею религиозной версии философско-исторической
концепции — идею тайны. Нет ничего более нелепого для идеологии на-
учного мировоззрения, чем тайна в её абсолютном религиозном измере-
нии. Ведь тайна опровергает цель развития новоевропейской науки и
фундаментальную теорию кумулятивного характера научного знания.
Цель науки — добиться транспарентности действительности, т.е. откры-
тия основ реальности («последней реальности»), которые действитель-
ность (деятельностный аспект реальности) затемняет. Философия науки
Нового времени предполагает, что последняя реальность интеллигибель-
на в принципе, т.е. может быть открыта - именно открыта, а не от-
крыться. Идея тайны должна быть заменена идеей секрета, термин от-
кровение - термином открытие. Секрет это ан/ии-гайна, то, что в
принципе может быть разгадано в результате научного открытия. Не слу-
чайно такие разные мыслители как традиционалист Рене Генон и по-
стмодернист Жан Бодрийяр увидели в ненависти современного человека
к тайне ключ к разгадке всей системы культуры современного мира4. Так
Бодрийяр пишет об избытке «реальности» как об основной интенции со-
временного стиля мышления. В современном мировоззрении господству-
ет т.н. «принцип порнографии», тенденция к сверхточности, к сверхре-
ференции, к тотальной транспарентности во всём, ведущая своё начало
от научных программ XVII XVIII вв.5 6.
Средневековое религиозное сознание контролировалось запретом на
точные вычисления, и, прежде всего, на вычисления конца истории и де-
тальную разметку её путей. Тайна эсхатологических сроков составляет
одну из фундаментальных установок средневековой теологии истории.
Первым попытался снять печать с этой тайны калабрийский аббат Иоа-
хим Флорский, применивший математические расчёты для понимания
тайны провиденциалистского плана Священной истории. Папская комис-
сия в Ананьи признала взгляды иоахимитов еретическими, но не смогла
загнать обратно в бутылку джина Нового времени. Как и в случае с
Джордано Бруно, тут подтвердилось правило: на переломе эпох гонения
на еретиков только усиливают влияние их идей; объявление ересиархом
становится индульгенцией на вхождение в сонм святых Нового времени •
4 Ср.: Генон Р. Царство количества и знамения времени / Пер. с франц. М., 1994-
С. 86-92; Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000. С. 68-81.
5 Статья «Порнография» // Всемирная энциклопедия: философия. С. 803-804.
6 О связи гонений на иоахимитов и распространения их идей см.: Керов В. Л
Апокалипсис и еретики: Лекции. М., 1994. С. 55-80.
/I. И. Макаров. Историческая память...
95
Согласовав свою философию истории со своими социальными убеж-
дениями, Иоахим Флорский сильно расширил возможности для толкова-
ния сущности исторического знания и исторической памяти за счёт добав-
ления к критериям истинности критерия индивидуального суждения,
суждения о логике истории толкователя, вдохновленного идеей справед-
ливости. Конечно, имелось в виду не произвольное суждение политиче-
ского борца, одержимого идеей справедливого устройства общества. Это
были прозрения ученого монаха, но они уже принципиально отличались от
метода исторического познания, господствующего в ранней схоластике.
При определении статуса исторических фактов (является co-бытием тот
или иной факт, или нет) схоласты опирались на его символическое толко-
вание через призму Священной истории - канонической вероучительной
схемы. В отличие от них, «калабрийский пророк» дедуцирует будущее из
прошедшего не с помощью канона, а опираясь на научно верифицируемое,
математическое знание7. Несмотря на то, что он обуславливал свои расчё-
ты личным прозрением и общением с ангелами, по сути, он смещает ак-
цент с объекта (Творца и неисповедимости путей его творения) на субъ-
ект (опыт человека и человечества, на справедливость, разумность).
Подобная трактовка метода проникновения в замыслы творца исто-
рии открывала двери гуманистическим теориям истории с их ориентаци-
ей на замыкание всего опыта на опыт индивида. Такое замыкание спосо-
ба постижения тайн истории на субъекте в мнемологическом аспекте
привело к постепенной замене мистико-провиденциалистских представ-
лений о памяти и традиции как атрибутов Бога на историцистские и
культурологические теории памяти. Освальд Шпенглер с полным осно-
ванием называет Иоахима Флорского «первым мыслителем гегелевского
закала», провозвестником новой философии истории, которая со време-
нем окончательно отбросит отсылки к концепции Священной истории,
управляемой Провидением, и неисповедимости её путей8.
Наследниками Иоахима были философы Просвещения. Они посчи-
тали, что разгадали тайну исторического движения: к концу истории ве-
дёт прогресс в области гуманности, разумности и удобства устройства
человеческого способа жизнеобеспечения. Однако эта уверенность про-
держалась очень не долго. Как пишет, со свойственной ему убийс твенной
иронией, О. Шпенглер: «нет более шаткого метода толкования всемир-
ной истории, чем когда дают волю своему политическому, религиозному
7 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 148.
8 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Геш-
Тад'т и действительность. М., 1993. С. 150.
96
Историческая эпистемология сегодня
или социальному убеждению и сообщают трём фазам... направление,
точь-в-точь приводящее к позиции самих толкователей и по необходимо-
сти прилагающее к тысячелетиям в качестве абсолютного масштаба гос-
подство разума, гуманность, счастье большинства, хозяйственную эво-
люцию, просвещение, свободу народов, покорение природы, мир во всём
мире и тому подобную всячину.. ,»9.
Мысль Шпенглера о том, что замыкание всего исторического опыта
на индивиде ведёт к исторической слепоте, смогли лучше понять после
первой мировой войны. Герман Гессе писал в 1919 г.: «Уже пол-Европы,
по меньшей мерс, половина Восточной Европы находится на пути к хао-
су, мчится в пьяном и святом раже по краю пропасти, расневая пьяные
гимны, какие пел Дмитрий Карамазов. Над этими гимнами глумится
обиженный обыватель, но святой и ясновидец слушают их со слезами»10.
Нужно ли говорить, что события второй мировой войны многократно
усилили эти ощущения.
Зарево кошмаров двух мировых войн высветлило хрупкость и наив-
ность прогрессистских схем исторического процесса. Оптимизм прогрес-
сизма вдруг сменился ощущением приближения мировой катастрофы. Фи-
лософы и историки послевоенных поколений, усмотрев в прогрессистском
историзме XIX столетия причину самомистификации европейского Ratio,
вменили ему ответственность за действительно состоявшуюся в XX веке
реализацию социальных утопий. По их мнению, яд историцизма отравил
сознание европейцев токсинами европоцентризма, прогрессизма, либе-
рального гуманизма и техницизма. «Новая философия» М. Вебера,
М. Хайдеггера, Т. Адорно поставила цель сформировать такой тип истори-
ческой рефлексии, который имел бы иммунитет от субстанциалистского
историзма, ориентированного на самовозрастанис прозрачности человече-
ского сообщества. Такой тип историзма, оперирует идеей центрированной
всемирной истории - истории, имеющей выделенный цивилизационный
центр, который служит эквивалентом для приведения всех «локальных
историй» к единому всемирному стандарту - языковому, культурному,
политическому, экономическому. Нетрудно догадаться, что речь идёт о
западноевропейской цивилизации и о пресловутом европоцентризме.
Как недавно подметил итальянский историк Никола Транфалья:
«Как раз тогда, когда парадоксальным образом, грандиозное развитие
коммуникаций и обмен культурной, не говоря уже о политической, ин-
9 Там же. С. 149-150.
10 Гессе Г. Письма по кругу. М., 1987. С. 115.
j. Ц. Макаров. Историческая память...
97
формации позволяет реализовать проект подлинно всемирной истории, в
эТот самый момент упадок Европы и рождение тысяч иных центров ис-
тории просто-напросто отметают эту возможность и подталкивают за-
падную и европейскую историографию к тому, чтобы признать необхо-
димость фундаментальных перемен в принятой ею картине мира»11.
Достижения структурной лингвистики и инспирированная ими фи-
лософия постмодернизма заставили классический научный историзм ис-
пытать сильнейшее влияние со стороны ницшеанской линии философии
языка. Столкновение классического принципа объективности реальности
и неклассического принципа её «текстуальности», породило целое поле
методологических проблем в исторической науке12. Одной из них стала
проблема соотношения исторической и других форм социальной памяти.
Эти теории в какой-то степени дополняют, а в некотором смысле проти-
востоят концепции исторического сознания и исторической памяти в
том смысле, в котором эти понятия понимались в классической филосо-
фии истории - как истинное мышление и реконструкция объективной
реальности прошлого. С лёгкой руки французских исследователей ком-
меморативных практик интерес историков был переориентирован с по-
литической истории на историю культурной политики, или с идеологии
на образы13. В рамках этих современных теорий возникли важнейшие
оппозиции классического историзма и постклассической исторической
антропологии: 1) реконструкция прошлого / конструкция прошлого; 2)
историческая память / культурная память.
В наиболее острой и полемичной форме вопрос об исторической
памяти был поставлен в так называемой «теории идеологии». Эта теория
принадлежит неомарксистской линии современной философии. В её ос-
нове лежит тезис о классовом (партикулярном) характере любого науч-
ного дискурса; этот партикуляризм чаще всего не осознаётся историка-
ми-профессионалами. Непонимание партикулярного характера своих
исторических построений порождает аберрацию зрения историков: фор-
мируемая сочинениями профессиональных историков память выдаётся за
11 Цит. по: ВаттимоДж. Прозрачное общество / Пер. с итал. Дм. Новикова.
М., 2003. С. 30.
12 См.: Репина Л. П. Междисциплинарность и история// Диалог со временем.
^004. Выл. 11. С. 5-17; Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы
саморефлексии новой интеллектуальной истории И Одиссей. Человек в истории. 1996.
"*>1996. С. 11-24.
13 Первопроходцами здесь были Ф. Арьес, М. Агюльон, П. Нора. См. об этом
Подробнее: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 33-39.
98
Историческая эпистемология сегодня
некую объективную историческую память общества, а то и всего челове -
чества, по сути, являясь не всеобщей, а коллективной памятью, т.е. памя
тью определённой группы.
Коллективная память - это конструкт прошлого, проект той или
иной социальной, политической, культурно-цивилизационной группы.
Социальная группа «стоит за спиной» автора исторического сочинения.
С точки зрения конструктивистской теории, наследовавшей эту пробле-
матику от марксистской теории «партийности идеологии», всемирная
история есть не что иное, как тенденциозное представление событий,
интерпретация источников в перспективе видения, заданного определён-
ными социальными рамками. А так как доминирующая концепция все-
мирной истории была сформирована западноевропейским Просвещени-
ем, то и весь проект всемирной истории и единой исторической памяти
оказывается конструкцией. Это европоцентричная, вернее, западноевро-
поцентричная конструкция группы политиков и идеологов, к которым
наряду с литераторами относятся и историки14. Если можно было создать
западноевропоцентричную картину прошлого человечества, то значит,
что можно и сменить этот центр. Так, например, в контексте конструкти-
вистской концепции исторической науки более ясным становится смысл
попытки группы А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского осуществить тоталь-
ную критику скалигеровской версии мировой истории и замены её аль-
тернативной трактовкой. Целью является смена центра, вокруг которого
могли бы выстраиваться мировые исторические события.
Другая влиятельная линия философии, оказавшая сильнейшее влия-
ние на поиски новой методологии исследования исторической реально-
сти, - «школа локальных культур». Эта культурфилософская теория спо-
собствовала появлению в науке концепта «культурная память», близкого
концепту «коллективная память». «Школа локальных культур» возникла
на волне неприятия европоцентризма, который утвердился в западноев-
ропейской науке XIX-XX вв. По мнению этих критиков историзма, евро-
пейская историография является определённым исторически локальным
типом интерпретации прошлого. Таким образом, историческая память не
является всеобщей памятью, а есть память группы (партии, класса, суб-
культуры, нации и т.д.).
Представители «школы локальных культур» опирались на ту же не-
омарксистскую установку о «партийности» любого текста. Только, у них
14 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи
Просвещения. М., 2003.
Макаров. Историческая память... 99
понятие политической партикулярное™ заменяется понятием культур-
ной локальности. Кроме того, представители «школы локальных куль-
тур» вернули в науку символическое видение реальности истории, орга-
ницистские метафоры и проблематику, и, прежде всего ключевое поня-
понятие «жизненного переживания». Представители «философии жизни»
предложили заменить метод чисто рационального исследования причин-
но-следственных связей понятием «переживания исторической судьбы».
«Все, что мы постигаем умом, имеет причину; все, что мы с внут-
ренней достоверностью переживаем как органическое, имеет про-
шлое»,- писал в «Закате Европы» О. Шпенглер15. Он отделяет научный
опыт от опыта жизни, историческую науку от реальности прошлого, ес-
тественно-научное знание от историографического. Дискуссия «о науч-
ном или ненаучном характере» исторического знания, инициированная
вышеуказанными идеями вплотную приблизила гуманитарную науку к
идее культурной памяти как специфического феномена, специфика кото-
рого заключается, в частности, в его отличии от феномена исторической
памяти. Действительно, понятия переживания и понимания тесно связа-
ны с идеей культурно-исторической обусловленности памяти, и поэтому
они ставят под вопрос существование исторической памяти в историци-
стском смысле слова: т.е. как единой памяти человечества, единой линии
историко-культурной традиции. Шпенглер назвал попытки научного ис-
следования исторической динамики с помощью методов линейной логи-
ки «старческими проектами, в которых замерло чувство судьбы». Этим
он вполне правомерно обратил внимание на то, что применение принци-
па каузальности создает крайне ограниченные возможности для истори-
ческого познания. Шпенглер поставил проблему движущих сил истории
так, что эта проблема разворачивается к исследователю своими культу-
рологическим и антропологическим аспектами.
Две фундаментальные идеи лежат в основе этого методологическо-
го культурологического поворота, осуществлённого в результате про-
никновения в философию истории идей школы локальных культур и фи-
лософии жизни: 1) идея о том, что культура - это первофеномен всякой
прошлой и будущей мировой истории и 2) идея о том, что «картина исто-
рии есть картина памяти»16.
Каким же образом можно изучать историческое бытие культуры,
Подвинутое временем в прошлое? Например, с помощью возвращения
15 Шпенглер О. Закат Европы... С. 313.
16 Там же. С. 260.
100
Историческая эпистемология сегодня
средневекового смысла понятия событийности. Со-бытие - это момент
совпадения сущности и существования, целого и части, воли индивида и
идеала группы. Прошлое индивида и группы репрезентировано в на-
стоящем не хронологией (набором фактов), а цепью событий (историей).
Событие - это образец поведенческих реакций, обладающий силой импе-
ратива для члена группы. Историческая память в таком случае может
быть определена как запас образов-образцов, сплетающихся в устойчи-
вую структуру сознания (гештальт, паттерн). Образы-образцы, или геш-
тальты, это образы памяти, исполняющие роль рамки когнитивных про-
цессов, обеспечивающие миру целостность, в том числе и миру
прошлого, так как оно является нам в нашем сознании. В этом смысле
такая историческая память будет памятью об истории культуры того или
иного общества - культурной памятью.
В завершение можно сказать, что в результате последовательной
критики принципов классического историзма происходит постепенное
изменение содержания понятия «историческая память». С одной сторо-
ны, оно сужается: когда его трактуют как набор знания и способов его
интерпретации, созданный профессиональными экспертами в области
фиксации прошлого. С другой стороны, его содержание, наоборот, рас-
ширяется вместе с расширением понятия «мировая история», понимае-
мым теперь как набор историй цивилизаций и даже отдельных групп.
Правда в этом случае речь идёт уже именно о мировой истории, а не о
всемирной или всеобщей.
Интересно, что в этой связи больше не выдвигаются проекты форми-
рования исторического сознания у широких масс. Это происходит потому,
что, во-первых, массы в XX веке разочаровали даже марксистов, а во-
вторых, массами теперь пытаются управлять, не привлекая исторический
дискурс. Он больше не нужен по причине открытия более эффективных
технологий осуществления «политики памяти». Конструирование структур
«удобной памяти» теперь достигается с помощью не образования, а раз-
влечения. Речь идёт о переходе от «общества всеобщей грамотности» к
«обществу спектакля», где управление сознанием и поведением осуществ-
ляется через конструирование игровой символической среды. Среда задает
индивидам цели и способы их достижения, которые они принимают за
свои собственные, но которые, на самом деле, созданы манипуляторами-
Для того чтобы контролировать невидимое, его нужно сделать видимым-
Это осуществляется с помощью изучения системы архетипов как элемен-
тов коллективной психики и системы стереотипов как элементов общест-
венного сознания. Изучив эти системы, предполагается, что можно воздеи-
И. Макаров. Историческая память...
101
сгвовать на архетипы и стереотипы, и даже конструировать среды, созда-
вая их в качестве символических оболочек для обеспечения мыслительных
процессов управляемых. Такова социальная технология управления пове-
дением людей посредством воздействия на культурный, социальный, язы-
ковой контекст, т.е. на среду обитания, с помощью создания образных и
эмоционально реализуемых представлений о действительности17.
Разрабатывающиеся в современной когнитивной науке «средовые»
теории, теории «бесструктурного управления» претендуют на выполне-
ние задачи междисциплинарного синтеза в науках о человеке18. Однако и
здесь мы наблюдаем ту же раздвоенность научного сознания современ-
ного сообщества учёных, которая была нами выявлена применительно к
этапу перехода от классической философии истории к её постмодернист-
ским версиям: и нести тяготы проекта модерна невыносимо, и бросить
жалко. Речь идёт, конечно, об идеях единства человечества и всеобщей
истории. Это, на наш взгляд, симптом разочарования проектом модерна
даже его основных адептов. Сегодня прямо на глазах разрушается по-
следняя модификация проекта мировой истории - проект глобализации
экономики и культуры19. Европейские интеллектуалы уже дважды отре-
кались от проекта модерна, в его двух взаимодополнительных модифи-
кациях глобализации истории: первый раз - когда выступили против ка-
питализма, а второй - когда похоронили коммунистическую версию
глобализации. По всей видимости, наступает время третьего отречения.
17 Wendt М. Konstruktivische Fremdsprachen didaktik: Lerner - und handlungsorien-
ferter Fremdsprachenuntericht. Tubingen, 1996. P. 5.
18 См., например: Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых
Снстем. Киев; М„ 2002.
19 Не случайно уже начали говорить о следующем сценарии развития мировой
Истории как о сценарии глокализации (антипод глобализации) истории и цивилизаци-
()|,ном противостоянии в области культуры (антипод мультикультуризма).
Войцех Вжосек
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК ТЕОРИЯ
И ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Назовем ли мы все формы анализа исторического мышления мето-
дологией истории (методологией в широком смысле), или сохраним за
методологией ее традиционное (узкое) понимание, оставив вне ее рамок
такие сферы гуманитарного знания, как, например, философия истории
и история историографии, теория истории и эпистемология истории, -
это чистая условность.
Если мы распространяем термин методология истории на интер-
дисциплинарный (или даже трансдисциплинарный) анализ всех форм
исторического мышления, то тем самым отдаем дань постоянному рас-
ширению сферы изучения истории tout court, в том числе и сферы мето-
дологических исследований. Со времени выхода в свет «Методологии
истории» Е. Топольского1 принято считать, по крайней мере, в Польше,
что методология истории разрастается за счет связанных с историей
вспомогательных дисциплин, а также свободно заимствует принципы
философии науки и других областей гуманитарного (и не только) зна-
ния. Конечной задачей этого интеллектуального поиска, было, по на-
шему мнению, стремление к наиболее полному описанию и постиже-
нию того инструмента познания, каковым является историческая наука.
Оснований для рассмотрения истории наравне с дисциплинами,
которые соответствуют строгим научным стандартам, сформулирован-
ным неопозитивистской философией науки и аналитической философи-
ей истории, искал Ежи Топольский, а до него - Морис Мандсльбаум,
К. Г. Гемпель, П. Гардинер, М. Уайт, А. Данто2. С одной стороны, автор
«Методологии истории» считал, что исторический материализм
К. Маркса (в неортодоксальной трактовке так называемой иознанской
школы философии науки) дает шанс «онаучивания» истории, поскольку
обогащает ее концепцией исторического процесса, в которой человек
1 Topolski J. Metodologia historii. Warszawa, 1968.
2 Hempel К. The Founction of General Laws in History. Ed. P. Gardiner. New
York, 1961. S. 344-356, впервые: Journal of Philosophy 1942, vol. 39; White M. Founda-
tions of Historical Knowledge. New York -London, 1965; Danto A C. Analitical PhilosO'
phy of History. London-New York-Ibadan, 1965; Mandelbaum M. The Problem of Histof'
ical Knowledge. New York, 1938; Он же. The Anatomy of Historical Knowledge-
Baltiinorc-I x>ndon, 1977; Gardiner P.(ed.) Theories of History. Chicago, 1958; Он эк#'
The Nature of Historical Explanation. London, 1952 и др.
Нойцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 103
_.—--------------------------------------------------------------
выступает как основной его действующий субъект, с другой стороны -
он опирался на принципы англосаксонской философии истории и анти-
позитивистской философии гуманитарного знания; оба эти подхода,
слившись в своеобразное целое, стали воплощением натуралистическо-
го (в понимании методологического натурализма Карла Поппера) виде-
ния науки, своего рода современного сциентизма. Таким образом, То-
польский вписался в доминировавшую в то время тенденцию
«онаучивания» истории, по крайней мере, он полагал, что основная
задача, которую решает историческая наука, это познание/исследование
прошлого. Этот своеобразный философский контекст повлиял на все
остальные составляющие его «Методологии». Так, Ежи Топольский
выделил, в частности, так называемую прагматическую методологию
истории, которая объединила методические и сугубо прикладные прин-
ципы с идейным наследием вспомогательных исторических дисциплин
и источниковедения. Таким образом ему удалось достичь неожиданно
смелого синтеза в представлении исторической рефлексии.
Как представляется, мы уже давно смирились с тем фактом, что
методология истории заимствует, ассимилирует, использует идеи, тео-
рии, понятия, метафоры, появляющиеся в науке и вне ее рамок. Она
является дисциплиной с невероятно легко проницаемыми границами.
Несмотря на расширение методологической проблематики, которое
наблюдалось в последние несколько десятилетий, не все идеи, возникшие
в рамках изучения истории и историографии, вписываются в нее. Анало-
гичный процесс наблюдался в тот период, когда свой расцвет переживала
аналитическая философия истории; существовали сферы рефлексии,
которые не подпадали под понятие методологии. Термин методологии
истории мы бы сохранили за таким типом анализа, который соответству-
ет базовым, традиционным, классическим принципам. Это, прежде всего,
свойство быть инструментом изучения познания, в первую очередь науч-
ного познания. Во-вторых, ее (методологии) исследовательская перспек-
тива — это метаязыковой дискурс, метанарративный уровень, с высоты
которого рассматривается история: это метанаука, т.е. наука о науке. В-
третьих, если мы признаем, что история занимается прошлым, давая нам
в итоге его историографический образ, то методология истории занима-
ется не прошлым как таковым, а его историографическим пространством
и теми профессиональными гносеологическими/исследовательскими
методами, которые позволяют этот образ создать, а также совокупностью
тех норм и принципов, которые стоят за практикой исторического иссле-
дования и его результатом, т.е. историографией.
104
Историческая эпистемология сегодня
Принятая нами трактовка (т.е. представление о методологии исто-
рии одновременно в широком и традиционном узком смыслах) кажется
нам более оправданной, чем следование той тенденции к обособлению,
которая наблюдается в сфере изучения исторического мышления. Дан-
ная тенденция проявляется в постоянном умножении течений, направ-
лений и авторских концепций. Они обозначаются разными терминами,
которые указывают на их связь с проблемными полями других гумани-
тарных наук или со сферами общегуманитарной рефлексии (герменев-
тика, структурализм и постструктурализм, нарративизм, текстуализм,
гендерные, постколониальныс исследования...). Кроме того, целесооб-
разным представляется также сохранение традиционного узкого пони-
мания методологии истории, хотя его следовало бы относить скорее к
прошлой, пусть и классической, но на сегодня, возможно, уже устарев-
шей проблематике.
На нынешнее положение дисциплины, называемой методологией
истории, повлияли изменения в современной историографии. История
стала за это время дисциплиной глобальной, как в отношении объекта,
который сегодня охватывает всю совокупность человеческой деятельно-
сти в прошлом, так и в отношении интерпретационных стратегий, выхо-
дящих далеко за рамки традиционных методов исторического анализа.
История, расширяясь, охватила вес гуманитарные явления в прошлом,
вплоть до современности. Она стала наукой об ушедшей культуре.
В итоге методология истории, стремясь соответствовать уровню
глобальной историографии, вынуждена была отвечать на вызовы, кото-
рые бросают ей постоянно расширяющиеся и углубляющиеся области
современного познания и исторических исследований.
Методология истории за несколько десятилетий прошла путь от об-
щетеоретического анализа исторической науки до интердисциплинарной
интерпретации присутствия исторического мышления в культуре.
Сегодня изложение истории современной методологии истории
Должно, по-видимому, содержать критический анализ этого пути, прой-
денного на протяжении более чем полувека. Пути, начинающегося с
методологии истории как метанаучной дисциплины и теории историче-
ского научного познания, вплоть до современной се трактовки, которая
предусматривает анализ роли исторического мышления в культуре и
рассмотрение исторической науки и историографии как сфер культуры-
За это время методологические исследования перестали быть толы
ко и исключительно метанаучными. Тенденция придания «онаучива-
ния» истории, развивавшаяся в рамках идеологии сциентизма и позити-
дойцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 105
----
вистской и постпозитивистской философии науки, в том числе аналити-
ческой философии истории, постепенно уступила место концепции
истории как сферы культуры. Особое место было уделено присутствию
исторического мышления вне науки. Таким образом, исследователи в
значительной степени ушли от тенденции «онаучивания» истории. Это
произошло, с одной стороны, благодаря усилению культурологической
(исторической, социологической, антропологической) концепции науки,
что соответствовало общей тенденции в мировой философии науки, а с
другой - благодаря распространению взгляда на историю как на внена-
учный, общегуманитарный, художественный, этический акт.
Антипозитивистские, антинатуралистические, несаентические, а
также не-или постмодернистские подходы к рассмотрению гуманитарно-
го знания и истории оказали в последние десятилетия XX в. большое
влияние на исследования исторической мысли. В результате упрочивает-
ся взгляд на историю как на область культуры, литературы или искусства.
Все ведущие современные интеллектуальные течения в исследо-
ваниях исторической мысли, если их применять осмысленно и добро-
совестно, могут дать богатый материал для изучения судеб историче-
ского мышления в культуре. Методология истории включает разные
подходы, но все они так или иначе отвечают на вопрос о том, как ве-
дется анализ, какие интересы удовлетворяет дисциплина, каким целям
она призвана служить.
Методология истории является дисциплиной исторической и гу-
манитарной. В своем нынешнем виде это де факте теория и история
разнообразных форм исторического мышления, впитавшая в себя раз-
нообразные идеи. Развитие исторической рефлексии в течение послед-
них пятидесяти лет доказывает, что плюрализм методологического
мышления является наиболее характерной ее чертой.
Исследовательская практика и дидактика методологии истории по-
зволяют причислить рефлексию такого рода в целом к практической
методологии истории. Под термином методология истории в учебных
программах обнаруживаем разнообразные формы осмысления истории.
Таким образом, существует возможность выбора - относительно сво-
бодного - одной из традиций анализа исторической мысли (истории).
Известно, что и в этом случае за рамками избранной традиции останется
Не менее интересный, необычайно богатый и разнообразный мир идей,
Интерпретационных концепций и авторских трактовок. Методология
Истории призвана предоставлять свидетельства их существования, но
выбор той или иной концепции зависит от школы или интеллектуально-
г° темперамента исследователей или исследователя.
106
Историческая эпистемология сегодня
Итак, в последующих рассуждениях нами используется широкое
понимание термина методология истории, включающее разнообразные
историко-гуманитарные подходы к анализу истории.
Кроме того, нами используется также понятие методологии исто-
рии в традиционном, ставшем уже историческим, смысле.
Под методологией истории в этом более узком значении понимается
метанаучная рефлексия, которая ограничивается теоретическими про-
блемами познания, сформулированными в рамках позитивистской и нео-
позитивистской философией науки в центре с проблематикой так назы-
ваемого научного анализа. Методология истории в этом значении это так
называемая аналитическая философия истории. Она анализирует иссле-
довательскую технику и результаты исследований, формулируя концеп-
ции, а также нормы исследовательской этики. Она реконструирует мето-
дологическое сознание, связанное с историческими исследованиями.
Существует несколько стратегий изложения, позволяющих пред-
ставить глобальный характер методологической проблематики.
Первая предстает как своего рода история современной методоло-
гии истории, представленной в единстве и борьбе двух ее направлений:
сциентистского (с аналитической философией истории в центре) и не-
сциентистского. Развитие методологии истории в этом понимании
предстает как своеобразный диалог, конкуренция, или даже борьба этих
двух направлений.
Вторая представляет развитие наиболее интересных антисаснтичс-
ских идей, которые, как нам кажется, доминируют в дискуссиях об исто-
рии в последние несколько десятилетий в работах А. Данто,
Ф. Анкерсмита и X. Уайта, Х.-Г. Гадамера, Р. Барта, Р. Рикера, М. Фуко...
Третья - это методологическая интерпретация современной исто-
риографии. См. например анализ в «Temps et rccit» («Время и рассказ»),
а также «La memoire, 1'histoire, I'oubli» («Память, история, забвение»)
Поля Рикера, «Faces of History», «Fortunes of History», «Frontiers of His-
tory» Дональда P. Келли3 4.
3 MinkL. O. History and Fiction as Modes of Conprchension. New Literary History-
Vol. 1. 1969/70. S. 541-559. Он же. Narrative form and Historical Understanding / eds-
R. H. Canary, H. Kozicki. Madison,1978; Danto/l. Op. cit; White H. Metahistory. The
Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973; Он же. Tropics of
Discurse: Essaia on Cultural Criticism. Baltimore, 1978; Он же. The Content of the Fortn-
Narrative Discurse and Historical Representation. Baltomore: John Hopkins University
Press, 1986; Ankersmit F. R. Narrative Logic. A Semanic Analysis of the Historians
Language. The Hague, Boston-London, 1983.
4 Kelley D. R. Faces of History. Historical Inguiry from Herodotus to Herder. Yale
University Press, New Haven-lxmdon, 1998; Он же. Fortunes of History. Histories
Войцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 107
—-------------------------------- -
Четвертая - представляет современную историографию в контек-
сте концептуальных методологических, историографических и историо-
софских проблем, в духе моей работы «История-Культура-Метафора»5.
В зависимости от темперамента исследователя/преподавателя, а
также методологической традиции, которую он представляет, устанав-
ливается основная интерпретационная линия дискурса/изложения. При
такой трактовке мыслительный материал исторической рефлексии так
или иначе встраивается в индивидуальную авторскую систему.
Кроме того, если принять, что методологический анализ истории
sensu largo опирается на наследие методологии истории, истории исто-
риографии, а также философии истории, то он может рассматриваться
как синтез этих трех дисциплин. Методология формулирует проблемы
истории историографии, история историографии дает фактический ма-
териал для методологической рефлексии, а философия истории выявля-
ет метафизические предпосылки историографической и методологиче-
ской процедуры, реализуемой в рамках отдельных, прежде всего
наиболее авторитетных историографических тенденций. Рамки этих
трех дисциплин, на которые опирается современная методология исто-
рии, по сути вмещают все современные типы исторической рефлексии.
Одним из создателей современной методологической рефлексии в
сфере истории является Ежи Топольский. Это он, исследуя ее течения с
традиционной и современной точек зрения, выявил, по крайней мере,
для польского случая область методологии истории еще в 1968 г., когда
увидела свет его известная «Методология истории». Он включил в нее
методологическую интерпретацию источниковедческих проблем и про-
блематику, разрабатываемую в рамках так называемых вспомогатель-
ных исторических дисциплин, и ввел особый термин прагматической
методологии истории. Он добавил к этому историософские проблемы,
ставшие объектом анализа в рамках так называемой познанской («праг-
матической») версии исторического материализма, а также принципы
неопозитивистской философии науки. Затем, когда проблематика исто-
рической рефлексии еще больше расширилась, он сформулировал свою
очередную синтетическую концепцию6, которая, опираясь на синтети-
ческие идеи первой, включила также новые измерения исторической
foguiry from Herder to Huizinga Yale University Press, New Haven 2003; Он же. Fron-
Pers of History. Historical Inguiry in the Twentieth Century. Yale univesity Press, New
Haven-London 2006.
5 Wrzosek W. History - Culture - Metaphor. The Facets of non-classical Historio-
^Phy. Poznan, 1997.
Topolski J. Teoria wiedzy historycznej. Poznan, 1983.
108
Историческая эпистемология сегодня
рефлексии, в частности, методологическую проблематику истории ис-
ториографии. Это явилось свидетельством выхода исторической реф-
лексии за узкие рамки аналитической философии истории; доказатель-
ством этого является попытка столкновения традиционной
методологической проблематики с другими точками зрения, например,
с гносеологической. Автор «Методологии истории» впервые объединил
под этим термином различные традиции исторической рефлексии, от
методической, прикладной до философской, однако, уже работая над
«Теорией исторического знания», он сам начал отчетливо осознавать
узость рамок традиционной методологии истории. Это привело его к
мысли о расширении исторической рефлексии до размеров «Теории
исторического знания». При этом понятие знания позволило ему выйти
за узкие рамки понятия науки. Формулируя свою концепцию, он учиты-
вал общемировые тенденции, расширяющие горизонты исторической
рефлексии, а также опирался на свои собственные исследования, кото-
рые включали в равной мере как историю историографии, методологию
истории, так и философию науки. Этот шаг был сделан также, вероятно,
с учетом не слишком положительных для методологии истории стерео-
типов, распространенных в среде польских историков. Многие из них
до сих пор рассматривают методологию истории как результат симбио-
за исторической рефлексии с марксизмом, выразительным примером
чего является творчество Витольда Кулы, Ежи Топольского, Целины
Бобинской7. Очередной синтетический труд Ежи Топольского (1996) -
это попытка подвести итоги конкурирования традиционной методоло-
гии истории и современных тенденций в изучении истории (наррати-
визма, конструктивизма, постмодернизма)8.
Сфера методологии истории
Существует две трактовки истории:
История в первом понимании, res gestae - это прошлое, вся сово-
купность гуманитарных явлений в прошлом, культурная действитель-
ность прошлых эпох, история.
История во втором понимании, rcrum gestarum - это мыслимый
образ прошлого, историография, знание о совокупности гуманитарных
явлений в прошлом, образ культурной действительности прошлых эпох.
7 Topolski J. Jak si? pisze i rozumie histori?. Tajemnice narraeji historyezne-;
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 1996; KulaW. Problemy i metody histoH1
gospodarczej. PWN, Warszawa, 1963; BobinskaC. Historyk, fakt, metoda. K™’
Warszawa, 1964.
8 Topolski J. Op. cit.
ройцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 109
Двум названным трактовкам истории соответствуют два уровня
анализа, с которыми сталкивается каждый исследователь истории. Имен-
но они позволяют ему почувствовать ту принципиальную двойствен-
ность, которая присуща историографическому анализу. Этот дуализм
мышления и изложения предполагает осознание того, что, с одной сторо-
ны, есть объект познания - а точнее (что хуже) его нет, ведь он стал дос-
тоянием истории - с другой же стороны есть историк и результат его
мышления и изложения. По общему мнению, это второе тоже История,
или Историография, историческая наука. Описанная ситуация возбуждает
вопросы и догадки: как эти два понимания истории соотносятся друг с
другом: История как прошлое и История как образ этого прошлого.
Помимо историка, который оказывается перед лицом прошлого,
чтобы его покорить (реконструировать или конструировать), есть еще
те, кто уже не как историки в узком смысле оказываются перед лицом
прошлого (напр., философы истории, художники, идеологи, политики).
Но есть и те, кто оказывается перед лицом историка, его идей и их
письменного или устного изложения. Именно они нередко задаются
вопросом, как прошлое соотносится с историческим сочинением. Они
спрашивают: что значит познавать историю, и как это происходило или
происходит. Они спрашивают, какие факторы предопределяют именно
этот, а не другой способ исследования. Спрашивают, как ведется иссле-
дование и почему именно так. Если обобщить, то они задаются вопро-
сом: как мыслится (мыслилось) прошлое и почему именно так оно мыс-
лится или мыслилось.
Гносеологическая перспектива методолога истории принципиально
отличается от историка. Историк имеет дело с прошлым человека, всеми
формами его индивидуальной и коллективной деятельности. Методолог
истории имеет дело с образом истории и его письменным или устным
изложением, как индивидуальным, так и коллективным. Если предметом
Дискурса являются конкретные формы исторической рефлексии, имею-
щие своей целью построение мысленного, воображаемого или нарративи-
зированного образа прошлого, - это значит, что мы имеем дело с про-
блемным полем методологии истории в широком смысле. Методолог как
бы оказывается сбоку, или, точнее, над историком, вступающим в диалог
с прошлым, и наблюдает за тем, как этот диалог развивается.
В случае, если анализ истории приближается по своей исследова-
Щльской стратегии к истории, то становится очевидным его изначаль-
ное положение на уровне rerum gestarum («первый этаж»); в то же вре-
>4я, если эта стратегия отдает предпочтение способам интерпретации,
по
Историческая эпистемология сегодня
свойственным другим наукам о человеке, особенно сели история rerum
gestarum рассматривается как акт познания, очевидным становится то
обстоятельство, что методология истории расположена на уровне мета-
интерпретации («второй этаж»).
Довольно непростой задачей является формулировка основной
идеи методологии истории в широком ее понимании. Однако мы осме-
лимся выдвинуть тезис, что сс задачей является осознание сложности
взаимоотношений культуры и исторической правды, которые становят-
ся уделом истории и исторического мышления. Независимо от того,
считаем ли мы функцией истории формулировку идей для современной
культурной коммуникации (как мы определяем функцию исторического
мышления, в том числе и задачу историографии), или же просто прини-
маем, что история дает современной культуре истинный образ ее про-
шлого (как настаивают другие), то и в первом, и во втором случае, пусть
и опосредованно, обнаруживается идея истинности как базовая. Дело в
том, что культурная коммуникация так или иначе также требует при-
знания категории истинности, по крайней мере отсылает к ней на уров-
не аргументов и доводов.
История особенно чутко реагирует на наличие/отсутствие Правды,
даже ее недостаток рассматривается как повод для обвинений в непро-
фессионализме. И, пожалуй, ни в одной другой области культуры это
свойство не проявляется так сильно, как в историографии. При этом
важно, что сама историческая правда - это довольно непостоянная с
точки зрения культуры и истории идея, которая, кроме того или несмот-
ря на это, призвана выполнять роль арбитра в отношении образов мира,
продуцируемых миром, с которым она связана.
О многоуровневом характере методологической рефлексии
Методология истории понимается нередко как историческая реф-
лексия (первый уровень, см. ниже п. 1), а следовательно как сфера
обычных исторических исследований в том случае, если мы признаем,
что ее объектом является историческое мышление в прошлом. В этом
случае методология истории может также рассматриваться как дисцип-
лина, подчиненная историографии (истории как rerum gestarum). Таким
образом, методология истории предстает как квалифицированная исто-
рия исторического мышления (история исторической мысли)9.
9 Фактором второстепенным, но оказывающим влияние на предмет анализа,
является то, какие вопросы - с первого уровня — мы будем задавать прошлому. Если
методологическую рефлексию понимать как интерпретационную процедуру, 313
проблема предстает в следующем виде: тот или иной конкретный способ мстодол°-
дойцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 111
,——
Кроме того, методологию истории (именно так, по нашему мне-
цлю, происходит чаще всего) понимают как метарефлексию или мета-
интерпретацию. Ее предметом является в этом случае не история res
gestae, а история rerum gestarum (методология истории «второго этажа»
рассматривает «первый этаж», например, историографию)10.
1.0. История и теория исторического мышления (методология ис-
тории) как историческая дисциплина.
1.1. Если все формы мышления в прошлом являются достойным
рефлексии фрагментом прошлого, то историческое мышление в про-
шлом представляет - несомненно - достойный предмет «обычной» ис-
торической рефлексии.
1.2. Поскольку предметом исторической рефлексии может быть
коллективное сознание или его области, то может им быть и историче-
ское сознание.
1.3. Поскольку для понимания прошлого необходимо раскрыть со-
держание коллективного сознания в прошлом, то востребованным так-
же бывает содержание исторического сознания.
1.4. Если политическая или общественная мысль прошлого может
быть предметом исторического анализа, то может им быть и историче-
ская мысль.
1.5. Если историография является элитарным проявлением истори-
ческого мышления, то история историографии рассматривает эволюцию
этого типа мышления.
1.6. История и теория исторического мышления (методология ис-
тории) является историческим («актуальным») мышлением об истори-
ческом мышлении.
гической интерпретации (interpretans) учитывает/предопределяет характер того, что
будет исследовано. И наоборот, анализ предмета конкретной интерпретации
(interpretandum) будет определяться вопросами, вызвавшими к жизни определенный
способ интерпретации (interpretans).
10 Предмет интерпретации (Interpretandum), составляет в этом случае история
как мыслимый (языковой, нарративный) образ прошлого, а способом интерпретации
(Interpretans) являются соответствующие теории, концепции, используемые в ходе
анализа этого образа. Таким образом, конкретный вид интерпретации зависит от
карактера/происхождения способа интерпретации, а также типа связи с предметом
Интерпретации. Кроме того, Interpretans понимаемой таким образом метаинтер-
ИРстации, влияет на Interpretandum, т.е. те явления, которые становятся заметными в
ег° свете. Подобные рассуждения о метаметодологическом характере ведутся уже с
^третьего этажа», где предметом дискурса становится методология истории,
fsdukiewicz К. Metodologia i metanauka // Jcjzyk i Poznanie. PWN, Warszawa, 1965.
Г П- S. 117-126.
112
Историческая эпистемология сегодня
1.7. История и теория исторического мышления является формой
«авторефлексии» «внутренним диалогом», рефлексией о «своем собст-
венном» прошлом.
1.8. История и теория исторического мышления является направ-
ленным в настоящее диалогом между современным культурным (исто-
рическим) воображением и культурным (историческим) воображением
прошлого.
2.0. История и теория исторического мышления (методология ис-
тории) как метаистория, метатеория, метаинтерпретация, метаязык11.
2.1. Поскольку предметом истории являются res gestae, то предме-
том методологии истории является история rerum gestarum.
2.2. Методология истории является интерпретацией прошлого на-
столько, насколько она использует его образ, который создается, в част-
ности, историографией.
2.3. Если историография является мысленным образом прошлого,
то методология истории является мысленным образом этого мысленно-
го образа.
2.4. Если историография является воплощением гносеологического
измерения исторического мышления, то методология истории является
эпистемологией истории.
2.5. Если история (историография) является языковым образом
прошлого, то методология истории является языковым образом языко-
вого образа, метаязыком прошлого.
2.6. Если история (историография) является интерпретацией про-
шлого, то методология истории является метаинтерпретацией прошлого.
2.7. Если история (историография) является формой постижения
прошлого, то методология истории является метапостижением прошло-
го, а ее предметом является, в частности, историография.
2.8. Если историография является реконструкцией прошлого, то
методология истории является интерпретацией этой реконструкции.
2.9. Если историография является результатом индивидуальных или
коллективных творческих актов и их результатов, то история историогра-
фии является гуманитарной интерпретацией этих актов созидания.
2.9.1. Если же историография является реализацией символических
парадигм исторического мышления, то методология истории является
эпистемологией истории.
11 Pomorski J. Historyk i metoda. Wyd. UMCS, Lublin 1991. S. 15.
ройцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 113
3.0. Методология истории как научная дисциплина (гуманитарная
дисциплина).
3.1. Если история (историография) является формой научного по-
знания прошлого, то методология истории является теорией историче-
ского научного познания, т.е. эпистемологией истории.
3.2. Если история (историография) является науч-
ной/профессиональной сферой исторического сознания, то методология
истории является теорией исторического научного познания, т.е. эпи-
стемологией истории.
3.3. Настолько, насколько история является наукой, настолько и
методология истории является методологией науки tout court.
3.4. Если история (историография) является наукой о прошлом, то
методология истории является метанаукой, т.е. наукой о науке о прошлом.
3.5. Если история (историография) является областью научного
гуманитарного знания, то методология истории является областью ме-
тодологии гуманитарных наук.
3.6. Если история (историография) является наукой типа lettre, то
методология истории, является в первую очередь методологией гумани-
тарных наук и лишь затем методологией науки.
3.7. Если история (историография) стремится стать наукой типа
science, то методология истории является, в первую очередь, методоло-
гией общественных наук, а значит естественнонаучной методологией.
4.0. Методология истории как методология наук о культуре.
4.1. Методология истории является методологией наук о культуре
настолько, насколько История является наукой о культуре.
4.2. Если история формулирует идеи и смыслы для современной
культурной коммуникации, то методология истории анализирует исто-
рические смыслы культурной коммуникации.
4.3. Если история (историография) выражает отношение исследую-
щей культуры к исследуемой, то методология истории может рассматри-
ваться как методология наук о культуре, т.е. методология этнологии.
4.4. Если историография является жанром литературы, то методо-
логия истории является теорией и историей исторической литературы,
Исторических сочинений.
5.0. Методология истории и другие области гуманитарного знания.
5.1. Если история (историография) это текст, то методология исто-
рии - это «теория» исторического текста (Р. Барт12).
12 Barthes R. Le discours de 1'histoire // Social Science Information. VI. N 4.
114
Историческая эпистемология сегодня
5.2. Если историография это дискурс о прошлом, то методология
истории - это анализ исторического дискурса.
5.3. Если история (историография) стремится быть герменевтиче-
ской дисциплиной, то методология истории становится герменевтикой
(напр., Х.-Г. Гадамер).
5.4. Если история (историография) является историческим наррати-
вом, то методология истории является теорией исторического нарратива
напр., в духе нарративной логики Ф. Анкерсмита, Р. Барта, X. Уайта и др.
5.5. Если история это риторический дискурс, то методология исто-
рии является анализом риторической, неориторичсской историографии
(П. Вен, Р. Арон, X. Уайт, П. Рикёр13).
5.6. Насколько историография базируется на риторических тропах
или историографических метафорах, настолько методология истории
является эпистемологией истории, интерпретацией исторической из-
менчивости и устойчивости историографических метафор (напр.,
X. Уйат, Ф. Бедарида, П. Вен, В. Вжозек).
5.7. Если историография - это история исторических понятий, то
методология истории это историческая семантика (напр. Козеллек).
5.8. Если историография является формой коллективной памяти, то
методология истории является теорией историографии как формы кол-
лективной памяти (П. Нора).
6.0. История - Историософия - Философия Истории.
6.1. Историософия это онтология истории как res gestae.
6.2. Если философия истории является философией исторического
процесса, то она является онтологией, философским осмыслением про-
шлого (substantial philosophies of history).
6.3. Если философия истории является философским осмыслением
историографии и истории как rerum gestarum, то она является метареф-
лесией (философской) исторического процесса.
6.4. Если философия истории является теорией исторического по-
знания, то она де факто является эпистемологией истории.
6.5. Если теория исторического познания является теорией истори-
ческого исследования, то она может рассматриваться как прагматиче-
ская методология истории (Топольский) или методика исторических
исследований.
l3VeyneP. Comment on ccrit 1'histoire. Paris, cd. du Seuil; BedaridaV-
memoire centre 1'histoire // Esprit. N 7, 1993; Aron R. Introduction a la philosophic de
rhistoirc. Gallimard, Paris 1948; Ricocur P. Temps et rccit, 3 tomes. Paris, cd du Sou’
1983-1985; Он же. La metaphore vivc, cd. du Seuil. Paris, 1985.
Войцех Вжозек. Методология истории как теория и история... 115
6.6. Если история является опытом прошлого, то методология ис-
тории является философским анализом этого опыта.
Изложенные связи и коннотации методологии истории как профес-
сионального анализа исторического мышления выражают исключительно
субъективное, т.е. наше личное представление о тех возможных контек-
стах, в которых она может фигурировать в культуре. Сталкиваясь с мето-
дологическим дискурсом в широком значении этого термина, нужно
представлять, с какой именно его разновидностью мы имеем дело. Нужно
знать, к какой традиции отсылает конкретный методологический нарра-
тив, какие средства аргументации он использует, какие точки зрения при-
нимает, каким образом определяет свое проблемное поле. Разумеется, в
обычном исследовании мы чаще всего имеем дело со смешением дискур-
сов и уровней рефлексии. Однако залогом успеха методологического
анализа является не только их дифференциация, но и учет смены уровней
(«этажей»), на которых развивается исследование исторического мышле-
ния. Методологический анализ по определению связан с критическим
мышлением, постоянно подвергающим пересмотру его принципы; про-
цедура такого рода состоит в способности осознанного перемещения «по
уровням» мышления. Данная специфика методологической рефлексии
представляет для историка принципиальную трудность, т.к. он привык к
перемещению по меньшему количеству уровней. Кроме того, обычно,
свое внимание он направляет на анализ конкретной опредмеченной дей-
ствительности, которую рассматривает как объект своего исследования.
Положение методолога не является столь же комфортным.
(Перевод с польского О. А. Остапчук)
И. Л. Зубова
СТАТУС ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
ВНАУКЕ
Проблема научности исторического знания зачастую упирается в
достижение определенной формализации знания, достаточной для по-
строения теорий, обеспечивающих создание объяснительно-
проективных схем деятельности. Многовариантное, поликонфигуратив-
ное, полисемантичное, представленное множеством различных концеп-
ций историческое знание не укладывается в завершенные логические
системы и бросает «вызов» классическим образцам научного знания.
Данное обстоятельство наталкивает на осмысление организации науч-
ного знания как открытой и динамической (в синергетическом смысле)
системы и позволяет по-новому представить содержательные моменты
исторической эпистемологии и се статуса в науке.
В буквальном значении термин «эпистемология» означает учение
о знании, о бытовании знания как такового. Знание, мыслимое как осо-
бая реальность, становится фактом через его оформленность. Знание
дано человеку в качестве бытийного образования со всем набором его
функциональных характеристик, выражающих его включенность в мен-
тальные структуры. Поэтому, говоря о бытовании знания, мы имеем в
виду не только и не столько его вторичные способы бытия (включен-
ность в человеческую деятельность на правах технико-
технологического обеспечения ее осуществимости), сколько его статус
в ментальной жизни в качестве содержательного момента ее динамики.
Речь идет о природе знания, понимаемой не в качестве сугубо функцио-
нальных свойств обозначения и выражения внеположенной ему реаль-
ности (знание о..), а скорее, в качестве рождающейся реальности,
являющей собой динамику ментальной жизни в ее доинституционали-
зированной форме бытия, в возникающих формах организации мен-
тальной жизни (в ее неравновесных состояниях).
Греческая epistemologia (episteme — знание, logos — учение) - тер-
мин, обозначающий особый способ бытия знания в его знаково-
символической форме, о чем свидетельствует в нем приставка epi (обо-
значает нечто стоящее на, над, сверх, при и после). В отличие от утвер-
дившегося в нововрсменную эпоху значения знания как формы выра-
жения внеположенной ему реальности, что соответствует парадигме,
основанной на оппозиции «субъект-объект», в греческом мировидениИ
знание имеет актуальную форму бытия. Эпистсма закодированное в
/f Л- Зубова. Статус исторической эпистемологии...
117
знаково-символической форме видение, где она уже выступает как обо-
значающая увиденное и видимое. В данном случае трактовка знания
осуществляется в оппозиции двух форм его бытия - актуальной и эйде-
тической. Эпистемология - это учение о различных формах существова-
ния знания. Знание как сплавленность видения с распаковкой семантики
мироздания осмысливается как динамическая реальность, пронизываю-
щая ментальную жизнь человека на правах одного из ее организующих
факторов. Короче говоря, понимание знания в актуальных формах его
осуществления, то есть в со-стояниях, это особая реальность, подлежа-
щая осмыслению. В доинституционализированных формах бытования
она имеет свою меру, в которой и через которую она себя являет. Нако-
нец, будучи пребывающей в состояниях она соизмерима с иными реа-
лиями: в качестве содержащей себя за счет них она потенциальна; в по-
стоянно превращающихся формах существования - - избыточна.
Приоткрывающиеся моменты и стороны данной реальности меня-
ют содержание «учения» о ней - эпистемологии. Это касается, прежде
всего, «логии», т.е. учение о динамике знания (имея ввиду его актуаль-
ные состояния) само должно быть динамичным. Здесь надо избежать
процедуры «умножения» (в нашем случае «удвоения») сущностей
(бритва Оккама) и не впасть в дуализм. Речь вроде бы идет о двух ди-
намиках: знания и учения о нем. При более детальном рассмотрении
речь идет о соотношении и связях двух форм существования знания:
актуальной и объективированной. Поэтому вопрос об «удвоении» сущ-
ностей это вопрос о связи двух состояний знания, состоит не только и
не столько в последовательности - актуальное потом объективирован-
ное (и, наоборот), сколько в одновременном их существовании в на-
стоящем. Такой вопрос снимается, то есть теряет смысл, если сосуще-
ствование понять как единство и целостность содержащей себя
Реальности в ипостасной ее проявленности. Здесь же, чтобы не запутать
себя «объектно-предметным» образом мышления, следует понять, что
мы имеем дело с проявленностями, тогда как в актуально бытийном
имеет место являемость. Последняя не менее фундаментальна, чем объ-
ективированные формы существования некогда осуществленной и осу-
ществляемой (во-яло/ин-вшейся) энергетики сосуществовавшего.
Такой ход рассуждений в так поставленных вопросах ведет нас к
Пониманию знания как предмета организации сосуществующего в каче-
ние одновременного (в данный момент линейного времени) и совмест-
но (топологически организованного). Пространственно-Временная
Организация при ближайшем рассмотрении оказывается недостаточной
118
Историческая эпистемология сегодня
для выражения Динамики и Единства и Целостности. Нам необходимо
понять организацию не с точки зрения заданной метрики, а, скорее, на-
оборот, метрику вывести из Динамики Единства Целостности. Метрика
сама должна быть понята как постоянно изменяющаяся. Природа этой
изменчивости кроется в Энергийе (буквальный перевод греческой
Energeia есть активность). Опознание данного (похоже фундаменталь-
ного) атрибута при введении соответствующих параметров его измере-
ния и выражения в величинах, в качестве ответственного за родовое
содержание и характер явленностей и проявленного при сохранении
Единства и Целостности становится первостепенной задачей в опреде-
лении способов описания-представления любых реалий;
Поскольку нас здесь интересует статус эпистемологии в исследо-
вании реалий, описывасмых/прсдставлясмых, в конечном счете, в зна-
ниях, то мы должны, в знаниевых образованиях выявить присутствую-
щие «структуры» энергийного содержания. Динамика знаниевых
образований презентант динамики описывасмых/прсдставлясмых ре-
альностей. Энергийя рассматривается как Мета-структура над локально
мыслимой множественностью реалий. «Знание о...» (в нашем случае
«знание о знании») берется как бытийное образование «внутри» всех
иных образований как форма их организованности (in-forma-tio - фор-
ма-в-формс). Дуализм вообще исчезает, когда мы берем форму-в-форме
в их взаимопереходах - пере-о-формлении, дающем новую форма-цию и
ин-форма-цию. Постоянно реорганизуемый мир дискретностей (каким
он дан нам в восприятии) континуален. Перед нами континуальная ди-
намика, и мы в ней. В динамике разыскивается собственно историче-
ское, которое дано нам через объективированные формы существования
универсальной динамики, каковыми в знании оказываются различные
артефакты мыследеятельности: объекты, предметы, устанавливаемые в
ходе конструктивно-проективной деятельности, связи между ними, ус-
тойчивые структуры самой мыследеятельности, схемы самого различ-
ного назначения, алгоритмы и т.д.
Поэтому писать Историю с большой буквы1 следует начинать с ис-
следования ментальных состояний пишущего Её. Имея дело с этой ре-
альностью ментальностью нам придется вычитывать из структур
ментальности все то, что актуализировано ей и дано нам в качестве ар-
тефакта, презентирующего нечто когда-то случившееся. История в этом
1 История с большой буквы выражает многомерность и единство всех Вре-
менных, Пространственных, Информационных и Энергетических характеристик
динамичных состояний социальной реальности и всех ее образований.
$ jj_ Зубова. Статус исторической эпистемологии... 119
сЛучае «вечное теперь», в котором воплощаемая (кем бы и где бы то ни
было) в артефактах ментальность актуализирует их содержание, с тем,
чГобы прочитать историю и одновременно нашей ментальностью ее
созидать. Вопрос «об истории» - это вопрос о распаковке (организации)
и одновременно шифровке (объективации) смысловых структур в со-
стояниях ментальности непосредственно реализующейся в актах созна-
лия «историка». Таковым в принципе является любой размышляющий
человек, в мыследеятельности которого имеют место процедуры - ак-
туализации объективированного и объективация актуального.
Бытование сознания «в» и «через» свои объективированные фор-
мы информационно насыщенно в той мере, в какой необходимо, чтобы
оно имело место быть. Опознание информационных кодов представ-
ленных в виде артефактической реальности (продуктов сознания), орга-
низованной во временной последовательности, это история в ее тради-
ционной трактовке (классическая «идея истории»). Поэтому
историческая эпистемология вполне уместна и в качестве стратегии на-
учного поиска хотя бы уже потому, что в динамике знания усматривает-
ся динамика ментальных состояний через актуализацию не менее дина-
мичной артефактической реальности.
Историческая эпистемология выходит за пределы того вида знания,
которое определяется как дисциплинарно-историческое. Однако надо
признать вклад последнего в переосмысление классической «идеи исто-
рии» и формирование неклассического типа научной рациональности.
Ведь в значительной мере переосмысление «идеи истории» осуществля-
лось «внутри» исторического познания на основе установления преходя-
щего характера его результатов - исторического знания, а также способов
и форм его организации. В динамике знания содержалась не только клас-
сическая идея истории, но и другое понимание историчности.
К тому же само понимание и трактовка историчности зависит от вы-
являемых и разрабатываемых в историческом познании онтологических
схем и теоретических моделей социальной реальности. В них социаль-
ным опытом кодируется историчность. Онтологические схемы и теорети-
ческие модели социума представляют различные способы функциониро-
вания и преобразования знания в общественных формах
Жизнедеятельности. Осмысление и исследование историчности через
призму актуализации знаний как объективированных форм сознания по-
зволило выявить многообразие форм и способов актуализации знаний
(как, впрочем, и многообразие общественных форм жизнедеятельности
людей) с закодированной в них историчностью. Все это показало ограни-
120 Историческая эпистемология сегодня
ченность представлений об истории только как о последовательности (с
линейно-процессуальной преемственностью) состояний социума. В то же
время было установлено, что историчность проявляется нелинейно в со-
стояниях открытости социального бытия в его актуально-потенциальной
вариативности и в состояниях новообразований (событийных состояни-
ях) в социуме, включая их смыслопорождающее содержание.
Метаморфозы исторического позволили сделать вывод о том, что
историчность выражает многомерность состояний социальной реально-
сти от процессуальных до событийных и одновременно сопряженную с
ней и обеспечивающую ее динамику научного знания от его произ-
водства до смыслопорождения. Более того, теперь мы можем понять
историчность, характеризующую обновляемость научной мысли, как
атрибутивное свойство всего научного знания. А повышенная способ-
ность к обновлению позволяет классифицировать историческое позна-
ние и знание как научное и посмотреть на приписываемое ему позити-
вистской наукой «научное несовершенство» как на явное научное
достоинство. Однако познавательные достоинства исторического зна-
ния еще недостаточно осознаны и используются современной наукой.
Поэтому одной из задач междисциплинарной исторической эпистемо-
логии как учения о жизни научного знания и ведущей поиск новых па-
радигмально-методологичсских ориентаций, обеспечивающих дина-
мичность знания, можно считать раскрытие творческого потенциала
исторического знания.
Главным же в исторической эпистемологии является, поиск уни-
кальной формы организации когнитивных образований (в частности
знаний), когда таковая являет нам смысл. С этих позиций представляет
интерес экспликация креативно-когнитивного потенциала концептуали-
зации, деконструкции и эпистемы.
Концепцию (от лат. conception зачатие, понимание, восприятие)
предлагаем считать адекватной формой организации знания как откры-
той системы. Концепция понимается как организующееся знание, кото-
рое способно перестраиваться в соответствии с изменяющимися доми-
нантными интенциями сознания. Носителями динамики знания в его
нестабильных состояниях являются концепты, содержащие определен-
ную совокупность актуально-потенциальных связей, но в каждом кон-
кретном случае выступающие как уникальные симулякры. Это их отли-
чает от понятий, изначально включенных в парадигмально жесткие
теоретические схемы и логические структуры.
$ JI. Зубова. Статус исторической эпистемологии... 121
Наличие концептуальной множественности и многомерности зна-
вйя получает новую интерпретацию. Она свидетельствует в пользу
презентабельности» любой концепции, то есть реализации ею одной из
возможных организаций целостного массива знаний. Поэтому новая
концепция не отрицает другие и не включает их на правах предельного
случая, и даже не состоит с ними в отношениях комплементарности, а
аналогии не следует рассматривать как свидетельство в пользу лишь
внешнего сходства и внешней связанности концепций. Это проявление
целостности знания на основе презентативной связи относится к более
высокому уровню его организации - к уровню универсальных целост-
нообразующих связей.
Наличие в познании концептуальной множественности и много-
мерности знания выступает как условие и фактор смыслообразования в
результате открытости знания и вызывает «чувствительность» оформ-
ляющихся систем знания к любым изменениям (в том числе и случай-
ным, единичным) познавательной ситуации, вносимым человеческой
активностью. Тогда оформленные системы знания деконструируются и
переходят в состояние перманентной нестабильности, неустойчивости.
Знание, составляющее содержание открытой системы, становится неоп-
ределенным, то есть концептуальные структуры размыкаются, а связи
нарушаются. Говоря другими словами, знание проблематизируется,
приходит в состояние хаоса с игрой структуры и содержания, потенци-
ально включающим всевозможные его иные варианты организации.
Таким образом, знание возвращается к доконцептуальному состоянию,
в котором создается пространство возможного с некоторыми условиями
для смыслопорождения. Последнее есть наивысшая форма реализации
возможного в состояниях сознания.
Для обозначения доконцептуальной формы существования знания
воспользуемся древнегреческим «понятием»* эпистема, выдвинутым и
обоснованным М. Фуко при выявлении сформировавшихся взглядов,
научных концепций и дисциплин в ту или иную историческую эпоху.
Для этого исследовалось «эпистемологическое поле», то есть весь мас-
сив знания, представленного различными дискурсами в определенный
Момент времени, причем «вне всякого критерия их рациональной цен-
ности или объективности их форм»2. Организация знания в эпистеме
Слово «понятие» взято в кавычки, так как эпистема здесь выступает на пра-
аа* концепта, актуализация содержания понятия в иной ситуации делает его отлич-
ным от первоначального.
См/. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 34.
122
Историческая эпистемология сегодня
(целостности) строилось по принципу децентрированности и равноцеш
пости всех видов знания. Такой подход к исследованию состояния зна-
ний Фуко назвал археологическим, чтобы обозначить отличие от тради-
ционного исторического подхода, изучающего логическую последова-
последовательность и преемственность в знаниях. Археологический
подход изучения состояний знаний провоцировал иное понимание ис-
торичности, отнесенной, прежде всего, к самому знанию. В частности
историчность знаний усматривается: во-первых, в их совместном при-
сутствии в данное время и в данном месте; во-вторых, в факте призна-
ния обновления и реорганизации массива знания в каждую эпоху; в-
третьих, в контекстуальном соединении доминирующего дискурса (тек-
ста) и породившей его эпистемы (контекста), характерных для разных
эпох; в-четвертых, в наличии эпистемологического разрыва (дискретно-
сти) между эпохами. Эпистемологический подход, обосновываемый в
настоящей статье, корреспондируется с археологическим подходом Фу-
ко и даже репрезентирует его. Поэтому будет вполне уместным исполь-
зование понятия «эпистема» и некоторых принципов ее организации
для описания и рассмотрения доконцетпуальных состояний знания.
Организация знания в эпистемс обеспечена особым родом связей
разнородного в ней. Именно родовые связи характеризуют эпистему в
качестве формы организации знания в его самоорганизующемся креа-
тивном состоянии — смыслопорождении. Они организуют эпистему как
целостность многих когнитивных образований. В эпистеме интегратив-
но и симбиотично представлено знание разных родов: теоретического,
эмоциально-чувственного, научного, ненаучного, паранаучного, анти-
научного, относящегося к различным отраслям познания, принадлежа-
щего различным эпохам и культурам и т.д. В ней соприсутствуют и
элементарные знаниевые образования (например, суждения, образы,
вопрос-ответ...), несущие культурные коды, способные воспроизво-
диться и преобразовываться на любом уровне организации знания и в
любой его области. Эпистема дает возможность родовым связям про-
явить себя благодаря постоянной реорганизации в ней когнитивных об-
разований. Эпистеме присущи следующие характеристики: целост-
ность, в которой разнородные знания сосуществуют как равноправные;
презентативная связанность разнородного знания как одновременное
соприсутствие всех знаниевых образований, некогда имевших место в
духовной жизни обществ; нелинейность, неоднородность, децентрирО'
ванность, обеспечивающие и выражающие перманентную, спонтанную
и вариативную динамичность знания.
0 jj_ Зубова. Статус исторической эпистемологии... 123
Актуализация структурообразующего потенциала пространства
возможного в эпистеме требует особых процедур. Их особенность объяс-
няется тем, что процедурное знание, как и все другое знание, являясь со-
держательным моментом познавательной ситуации, также становится
динамичным. Поэтому процедуры могут являть себя в различных ипоста-
сях. Они способны выполнять: собственно процедурную работу - «дос-
тавлять» актуализируемое разнородное знание из разных источников в
нужное место и нужное время, провоцируя их новую организацию; вы-
ступать способом организации знания в эпистеме как условия возникно-
вения смысла; выражать динамику знания в форме его нелинейной само-
организации. Для обозначения таких свойств процедур являть себя в
разном качестве, введем термин трансформативность (от позднелат.
transformatio - превращение). Этот термин в данном случае будет озна-
чать перевоплощения процедурного знания и перевод содержания когни-
тивных образований на различные уровни динамики всего массива зна-
ния. Динамика знания, обеспечивающая смыслопорождение, имеет место
при слиянии текста и контекста (контекстуальная связь) при высокой
концентрации человеческой активности в пространстве возможного.
Трансформативность - это комплекс свойств процедур, с помощью
которых достигается состояние насыщенности пространства возможно-
го, где и имеют место те или иные метаморфозы. Трансформативность
оказывается характерной для всего знания в эпистеме как целостности,
выражая чрезвычайную интенсивность, подвижность, спонтанность,
нелинейность, неоднородность и одновременность самоорганизующей-
ся динамики знания на микроуровне. Среди этих процедур особую роль
(если иметь в виду методику провоцирования креативной ситуации)
играет процедура релевантности. Она обеспечивает повышение потен-
ций пространства возможного, превращая его в креативное за счет дос-
тавки необходимой разнородной знаниевой информации в нужное вре-
мя и в нужное место. С ее помощью возникает неожиданное сочетание
и смешение разнородных знаний. Такое сочетание есть новая конфигу-
рация связи когнитивных образований*. Этим самым релевантность
способствует превращению необходимых условий в достаточные для
акта возникновения нового знания. Вместе с этим релевантность, наря-
Коррелятивными так понятой процедуре релевантности выступают процеду-
РМ коллажа, констеляции, бриколажа (как случайное, эклектическое сочетание раз-
НоРодных когнитивных образований), создания преднамеренного повествовательно-
г° хаоса (Фоккем) в постмодернизме.
124
Историческая эпистемология сегодня
jsy с эпистемой, может выступать и способом организации знания от-
крытых систем по принципу единства разнородного.
Наряду с процедурой релевантности можно назвать взаимопрезен-
тативные процедуры метафоричности, ризоматичности и др. Вес они
направлены на то, чтобы создать условия, а затем и инициировать
«схватывание» новой связанности всех реалий бытия в акте смыслопо-
рождения на вневербальном спонтанно-интуитивном уровне познания.
В таком качестве процедура становится той критической точкой, где
происходит возникновение родовых связей. Тогда в одном видится все
другое, в далеком близкое, в чужом родное, в невозможном воз-
можное, в неналичном - наличное, в абсурде, нонсенсе, парадоксе -
смысл. Пространство возможного становится креативным. Новая смы-
словая связь результат «благоприятного» совпадения обстоятельств с
уникальностью человеческой активности в структурообразующих свя-
зях мироздания - co-бытие. Рождение смысла - новый факт истории.
Поэтому историю нельзя мыслить отнесенной к прошлому. «Сотво-
ряющаяся история» это настоящее.
Интуитивное схватывание некой целостности — смысла — становится
истоком концептуализации. В концептуальном оформлении знаний
смысл приобретает отрефлексированную форму в качестве идеи. В самом
же акте рождения мысли идеи как таковой ещё нет. Она оформляется в
качестве некоторого интеграла разнородного массива знаний, в котором
имел место акт смыслопорождения. В таком качестве концепция опреде-
ляется весьма приблизительными смысловыми оттенками концептов,
которые актуализируются мышлением в ситуации настоящего. Концеп-
туализация при ближайшем рассмотрении оказывается способом экспли-
кации содержания актов понимания и восприятия в единичном явлении
целостности переживаемой ситуации. При концептуализации имеет ме-
сто сочетание логического оформления знания с актами его самооргани-
зации, выражающими его нелинейную динамику. Перестройка архитек-
тоники знания имеет место при применении интерпретационных схем,
установлении и интерпретации фактов, использовании процедур и прие-
мов критики, реконструкции систем знания, привлечении «логики вопро-
сов ответов» через симбиоз текста и контекста.
Состояния знания в его формообразованиях оказываются презен-
тантами состояний социальной реальности, неизбежно придающих ел
динамику через смыслопорождснис, и одновременно становятся исто-
ричными в той мере, в какой явленная в них (знаниях) новизна обеспечи-
вает создание новых способов общественных форм жизнедеятельности.
Ц Л- Зубова. Статус исторической эпистемологии... 125
--------
Историческая эпистемология охватывает весь массив науки, кото-
рая мыслится как разнородное, но единое континуальное и динамичное
(в синергетическом смысле) Целое. Его «первый уровень» представлен
индивидуально-атомарными формами — идеями и концепциями отдель-
ных ученых. Эти дискретные разнородные формы не борются между
собой, не развиваются и не превращаются друг в друга, а переоформля-
ются и создают новую целостность — формацию и информацию в еди-
ном континууме Целого. Организованные иным образом формы состав-
ляют второй «уровень», представленный научными школами и
направлениями. «Третий уровень» этого континуального образования
составляют области научного знания. «Четвертый уровень» представля-
ет общенаучная информация, тяготеющая к универсализации за счет
включенности в континуум всей духовной конституции человечества.
Историческое знание на этих «уровнях» будет всегда присутствующим
«сегментом» всего научного знания. Историчность знания в этом смыс-
ле есть атрибут научности и социальности, выражающая единство Вре-
менных, Пространственных, Энергетических характеристик всех воз-
можных трансформаций в целостности «Мира-Социума-Человека».
М. А. Кукарцева
ПОНИМАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Одним из важных компонентов исторической эпистемологии явля-
ется понимание прошлого и способы его достижения историком. Несмот-
ря на то, что попытки сформулировать концепцию исторического пони-
мания предпринимались не один раз, сегодня она в исторической науке
практически отсутствует, что связано со сложностью этого феномена, от-
сутствием четких характеристик того, что мы называем пониманием1.
Проблема понимания в истории, на мой взгляд, соединяет в себе
два момента: сущностный - что это такое - и функциональный - как
это происходит. Разумеется, в одной работе рассмотреть эти моменты
невозможно. Поэтому, я остановлюсь на ключевых, по моему мнению
вещах, адресованных практикующим историкам, которые надо учиты
вать в рассуждениях об историческом понимании вообще.
В самом общем смысле понимание можно определить кдк рас
шифровку содержания смысла какого-либо действия, вещи, явления
Необходимо различать понимание как состояние сознания (некий мен
тальный акт) и понимание как научный метод (совокупность неких
действий, ведущих к знанию, или установка на исследование опредс
ленного аспекта объекта, дискурсивный подсчет)2. Если речь идет о пс
нимании как о состоянии сознания, то можно говорить о понимании ка
о психологическом схватывании (герменевтический аспект), как об об
мене информацией между индуктором и реципиентом (иллокутарныи
аспект), как о целесообразном оперировании знаками (операциональ-
ный аспект). Если речь идет о понимании как о научном методе, то, во-
первых, необходимо различить понимающий, объясняющий и феноме-
нологический подходы. В понимающем подходе ключевым принципом
является выявление постоянно воспроизводимых образцов (эталонов)
смысла, в объясняющем - анализ (структур объекта, например), в под-
1 Теория исторического понимания имеет множество вариаций: теория исто-
рического понимания как последовательной реализации в истории мирового ДУ'ха
(Weltgeist) Гегеля; теория безграничного исторического понимания, в котором мыс-
лить исторически - значит мыслить богоподобно, Ранке; концепция «исторического
сознания» как возможность объективного познания прошлого Дильтея, теория по-
нимания в действенной истории (Wirkungsgeschichte) Гадамера , концепция «исто-
рически понимающего бытия» Рикера и мн. др.
2 См. об этом: Розов М. А. Понимающий и объясняющий подходы в гумайИ'
тарных исследованиях // Познание. Понимание. Конструирование. М., 2008.
j/. А. Кукарцева. Понимание как проблема...
127
ходе феноменологическом главной процедурой является фиксация черт
{1пи поведения объекта, без выяснения причин и механизмов этого по-
дедения3. Во-вторых, при реализации понимающего подхода необходи-
мо очертить те методы, которые будут использованы и, в-третьих, опре-
делить, каков объект понимания: в историческом понимании -
исторический текст (нарратив), некое историческое событие, историче-
ская эпоха (Zeitgeist), действие исторического агента4.
В исторических исследованиях мы сталкиваемся с пониманием и
как с состоянием сознания, и с пониманием как научным методом. В
первом случае возможность исторического понимания зависит от не-
скольких вещей. В самом общем смысле - от «архетипов нашего исто-
рического понимания..., не столь уж большого и достаточно устойчиво-
го набора базисных моделей (метафор), с помощью которых люди
структурируют историческое прошлое... Это своего рода метафизика
исторического разума... в ней испробованы и представлены основные
формы нашего исторического воображения...»5. Историческое понима-
ние как состояние сознания (и это, возможно, самое сложное) зависит и
от того, насколько историк вообще может познать, что значит быть
кем-то, то есть приобрести опыт Другого. Понятие опыта сегодня при-
влекает исследователей. Отдельное его исследование представлено в
известной монографии Мартина Джея «Песни опыта»6. Опыт есть уз-
ловая точка пересечения публичного языка и приватной субъективно-
сти, расположенная между выразимыми унификациями и невыразимой
индивидуальностью. В этом смысле любой индивидуальный опыт, даже
самый «аутентичный» и «подлинный», подвержен воздействию струк-
тур культуры и в этом смысле доступен. Он приобретается в процессе
контакта с окружающим, поэтому не может быть просто репликацией
субъективной реальности некоей личности, в нем должно что-то изме-
Няться, что-то происходить для того, чтобы наполнять его новыми зна-
чениями, и источником этих изменений всегда является внешняя реаль-
3 Конечно, эти подходы могут пересекаться.
4 Мы отвлекаемся сейчас от обсуждения вопросов взаимосвязи, сходств и от-
®ИЧИЙ социологического, исторического, философского понимания, в силу, во-
"ерпых, обширности возможной темы анализа, а во-вторых, в силу цели статьи -
Рассмотрения феномена исторического понимания в контексте проблем историче-
ской эпистемологии.
5 Филатов В. П. История, историософия и методология истории // Наука гла-
3аЧи гуманитариев. М., 2005. С. 498.
. 6 Jay, Martin. Songs of Experience. Modem American and European Variation on a
n'versal Theme. Berkeley, 2004.
128
Историческая эпистемология сегодня
ность. В процессе post facto реконструкции или вторичного исследова-
ния, говоря языком Фрейда, опыт становится значащим нарративом и
предметом групповой идентичности.
Прошлое нельзя рассмотреть с точки зрения его собственных зако-
нов. Историк не знает этих законов (речь идет не столько о писаных
законах, сколько об экзистенциальных, моральных). Историк не владеет
«внутренним» языком ушедшей эпохи, некоторыми фактами и частно-
стями, что в совокупности нередко приводит к непониманию. Он знает
только результат человеческого действия. Расшифровать содержание
этого результата, значить понять смысл исторического события или оп-
ределенного исторического времени. А как его расшифровать? В 1979 г.
американский философ Томас Нагель написал (правда по другому по-
воду) небольшую работу под названием «Что значит быть летучей мы-
шью?»7. В ней он показал, что только тот, кто обладает умением пере-
носить в свое сознание такие вещи, как быть этим (человек — летучей
мышью, мужчина — женщиной и пр., соответственно, историк — солда-
том, например, эпохи Тридцатилетней войны, женщиной 1930-х годов
и т.п.), достигает понимания того, что «значит быть этим», т.е. расшиф-
ровывает смысл, выявляя некий повторяющийся образец. Это не озна-
чает наличия у историка неких паранормальных способностей, но обла-
дание им чувствительным «внутренним ухом» (философским,
психологическим, этическим), просто умением сопереживать, внутрен-
ней интеллигентностью, в конце концов. «Величайшей ценностью явля-
ется увидеть то, на что же это было похоже - жить во времена опреде-
ленных событий, что такое была Великая депрессия с точки зрения
людей, которые попали в условия безработицы и не имели никакого
представления о том, когда и чем это всё закончиться. Томас Нагель
выразил эту концепцию сознания в лозунге, сказав, что быть сознанием
значит бьггь всем, что бы это ни было — его примером была мышь. Быть
историческим сознанием значит быть кем-то, кто живет во времена оп-
ределенных событий. В противном случае эти события имеют тенден-
цию становиться абстракцией», - подчеркнул А. Данто8.
Отчасти об этом рассуждает и Ф. Анкерсмит, предлагая свою тео-
рию исторического опыта. Рассматривая диалектику объекта и субъекта
в исторических исследованиях, он полагает, что существует опыт, кото-
7 Nagel, Thomas. What is it Like to be a Bat? // T. Nagel. Mortal Questions. Canr
bridge, 1979. P. 165-180.
8 Domanska, Ewa. A. Danto // Encounters: Philosophy of History after Postmodern-
ism. Charlottesville, 1998. P. 185.
j/. А- Кукарцева. Понимание как проблема... 129
рЬ1й вдруг заставляет человека осознать, что он навсегда потерял то, что
никогда не замечал, пока обладал им, по принципу «что имеем, то не
ценим, потерявши - плачем». «Искомый опыт, таким образом, есть
опыт разрыва', то, что до сегодняшнего дня было незамеченной частью
нас.-- оторвано от нас и заняло противолежащие позиции... оно стало
частью объективной реальности и потенциальным объектом (например,
исторического) исследования..»9. Этот опыт одновременно и мы (субъ-
ект) и не-мы (объект). Как «мы» он нам понятен, но не дан, как «не-мы»
он нам дан, но не понятен. В образовавшейся воронке субъект и объект
смешиваются друг с другом и создают основу для понимания опреде-
ленного исторического времени. В качестве примера такого опыта раз-
рыва Анкерсмит указывает на Великую Французскую революцию:
«беспрецедентные события Французской революции и их последствия
заставили людей разделить пока еще диффузное настоящее на Старый
Порядок (Ancien Regime) и на новое настоящее нового пост-
революционного мира»10. Получается, что граждане той эпохи и «мы» и
«не-мы» одновременно: отделены от настоящего достаточно, чтобы
стать Историком, но недостаточно, чтобы перестать быть Хронистом.
Люди, обладающие таким опытом разрыва, живут в kairos - качествен-
ном ощущении времени, неопределенном промежутке, где открываются
основания понимания истории в герменевтическом и иллокутарном ас-
пектах11. О научных методах понимания здесь нужно говорить весьма
осторожно, во многом речь идет об уровне профессиональной и общей
образованности, о «механизмах интеллекта», своего рода конгениально-
сти - - таланте понимать других и себя, и о способности историка выра-
зить полученное знание. «Всякое интеллектуальное устройство, - писал
К).Лотман, - «должно иметь би- или поли-полярную структуру...
9 Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. 2-е изд.
И, 2009. С. 5.
10 Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.
11 Й. Рюзен, например, считает, что идею конденсированного времени-kairos
"важно ввести в теорию истории как весьма важную и плодотворную категорию
Исторического значения, особенно в отношении темпоральной структуры реально-
('|и человеческой жизни. Категорией kairos можно концептуализировать важные
Wbi в истории. Например, в истории прав человека и гражданских прав можно
Использовать категорию kairos для характеристики конца XVIII века, времени пер-
Sl>D! деклараций прав человека и гражданских прав как существенных элементов
конституции. Можно также использовать понятие kairos в негативном смысле, для
“Писания таких событий как Холокост. Такие категории как «исторический момент»
'и® как kairos могут принести с собой много новых перспектив, новых инсайтов в
ек,Поральную структуру истории». Dorna ziska Е. J. Rusen // Encounters... Р. 158.
130
Историческая эпистемология сегодня
функции этих подструктур на разных уровнях - от отдельного текста и
индивидуального сознания до таких образований как национальные
культуры и глобальная культура человечества аналогичны. Остается
убеждение, что соотношение этих подструктур и их интерпретация
осуществляется в форме драматического диалога, компромиссов и вза-
имного напряжения...»12.
Кроме того, историческое понимание как ментальный акт зависит
и от трактовки самого исторического процесса: (линейного, прогрес-
сивного, цикличного, замкнутого, вариативного, плюралистичного).
Если, скажем, история в каждой эпохе содержит в снятом виде все пре-
дыдущие, то историк в своей эпохе может узнать и понять другую. Если
же каждая эпоха есть отдельное с уникальным набором канонических
форм и идей, то ее понять нельзя, но можно апеллировать к объясняю-
щему и феноменологическому подходам. И хотя чужую историческую
эпоху всегда трудно объяснить, какие бы свидетельства ни были дос-
тупны историку и как бы она ни похожа была на его собственную, всё-
таки цель любого объяснения - достижение понимания.
Как научный метод историческое понимание определенного вре-
мени это способы перевода на «свой» язык значений истории через
конкретный набор последовательных операций. Собственно историче-
ских методов познания такого рода не так уж много.
Несколько слов в связи с этим о методах исторического исследова-
ния. В исторической дисциплине метод понимают в двух смыслах: тра-
диционном (узком); новом (широком). В традиционном смысле метод
связан с понятием критицизма как техники оценки исторического свиде-
тельства — «критический метод», «исторический», «историко-
критический», «филолого-критический», «научный». В наибольшей мере
он был разработан Нибуром и Ранке и требовал от историка произвести
тщательное исследование источников и составить на этой основе систе-
матический нарратив. В начале XX века крупнейшим разработчиком это-
го метода был А. Момильяно. Следование этому методу, как предполага-
лось, производило безусловную истинность в историографии в
аристотелевском смысле. Изменение фокуса исследований в середине XX
века сформировало убеждение в том, что в истории нет «одного метода»,
что история есть «просто аргументация», что она не зависит «от любой
систематической методологии», но может «подбирать и выбирать» свои
методы из других дисциплин или из конвенций формальной логики. Воз-
12Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог// Текст и культура. Вып. 16. Тар
ту, 1983. С. 25.
д/. А- Кукарцева. Понимание как проблема...
131
длкло новое, широкое понимание исторического метода, гораздо более
факультативное. Его суть заключалась в том, что он может реферировать
не только к технике исследования источника, но в принципе к любому ас-
пекту деятельности историка. Вот это последнее и стало критически
важным для понимающего подхода в исторической науке. Но, к сожале-
нию, на мой взгляд, кроме вариаций на тему методологических идей
Коллингвуда, в истории до сих пор было мало что предложено.
Если расположить ключевые методологические идеи исторической
науки с конца XIX по конец XX в. в некоем порядке, то первой и наибо-
лее важной фигурой в этой области, конечно, является Р. Коллингвуд13.
Он был уникальной комбинацией практикующего историка и археолога,
специализирующегося на Римской Британии, и философа, исследующе-
го идеи Кроче и Вико. Наиболее важными и известными положениями
Коллингвуда стали тезис о том, что «вся история есть история мышле-
ния» (проблема «воспроизведения» опыта прошлого, где Коллингвуд
предлагал не описывать историческую ситуацию, а как бы отвечать на
нее с точки зрения самого исторического агента) и логика вопросов и
ответов в исторических исследованиях. Очень важным является раздел
«Кто убил Джона Доу», посвященный вопросу исторического свиде-
тельства. Сегодня уподобление работы историка детективному рассле-
дованию связывается с работами Карло Гинзбурга об уликовой пара-
дигме. Но в 1930-х гг. именно Коллингвуд, вдохновляемый романами
Агаты Кристи, практически первым предложил аналогию между мето-
дами юриспруденции и методами истории. Майкл Оукшот, написавший
рецензию на «Идею истории» Коллингвуда, считал, что автор этой кни-
ги достоин того, чтобы его назвали Кантом в историческом мышлении,
а «последние сто страниц книги достаточны для того, чтобы поместить
Коллингвуда на вершину любого списка работ по истории»14. Эту точку
зрения разделял и Исайя Берлин, который когда-то посоветовал Кол-
•Гингвуду прочитать работы Б. Кроче о Вико, а также Ф. Анкерсмит,
К- Уайт и многие другие исследователи. А вот Тойнби посчитал, что
генденция превращать историю в историю мышления нивелирует зна-
чение импульсов и эмоций в истории15.
13 Под методологией исторического исследования (в рамках исторической
истемологии) будем понимать чрезвычайно обширную область: технический ап-
Р^т интерпретации свидетельств; теорию интерпретации свидетельств; базовые
Рннципы дефиниции в истории; методы формирования концепций; абстрагирова-
концепций из эмпирической реальности и т.д.
1 English Historical Review. 1947. Vol. 62. P. 84-86.
5 Toynbee A A Study of History. Vol. 9. L., 1954. P. 718-737.
132 Историческая эпистемология сегоднц
Дискуссия вокруг идей Коллингвуда сформировала второй этац
методологических дебатов, в центре которых оказалась философия ис-
тории, в частности, аналитическая философия истории, представленная
именами У. Уолша, П. Гардинера, У. Гэлли, У. Дрея и А. Данто. Они
сконцентрировали свое внимание на плюсах и минусах объясняющего
подхода в исторических исследованиях, открыв метадисциплинарную
дискуссию о том, что может быть известно об истории (событиях про-
шлого) и какого рода знания могут быть предложены историографией и
историописанием о прошлом. Методологические идеи Коллингвуда
были восприняты и некоторыми историками, например М. Бслоффом,
но в целом историки отнеслись к ним довольно прохладно, да и сегодня
они редко читают работы Коллингвуда. Тем не менее, в конце 1960-х тт.
внимание историков к идеям Коллингвуда снова возросло, что было
связано с падением интереса к марксизму с его стремлением рассмот-
реть «супер-структуры» истории.
К этому времени в Англии и в США окончательно утвердились
история идей и интеллектуальная история, и Коллингвуд стал героем ее
главных теоретиков, таких как Джон Покок и Квентин Скиннер. В сво-
их исследованиях политической истории они точно следовали коллин-
гвудовской логике вопросов и «ответов на ситуацию» и обращали вни-
мание на выявление смысла исторических событий и действий их
участников. Кроме того, ряд историков стали обращаться к идеям таких
аналитических философов как Дж. Остин, Дж. Серль, неопрагматизму
Р. Рорти, и это стало третьим этапом методологических дебатов.
Четвертый был инспирирован философией науки, в частности,
культурным релятивизмом Томаса Куна и «социологией научного зна-
ния» с их подчеркиванием того, что научное знание локально, произве-
дено в «поле» или лаборатории. В истории это спровоцировало дебаты
вокруг микросоциологического или микроисторического подхода в
противовес традиционному макроисторическому.
Пятый виток методологических дискуссий был связан с иннова-
циями экономической истории. Появилась эконометрика, основанная на
квантитативных методах. Эконометристы поставили под сомнение тра-
диционные методы исторического исследования допущением идеи
«контрфактического моделирования», а также утверждением возможно-
сти подсчитать экономические последствия любого действия в история
(строительство железных дорог или их отсутствие, отмена рабства или
его возвращение и пр.). Часть социальных историков тоже воспринял3
эти идеи, в частности, возможность подсчитать результаты разного роДа
M j4. Кукарцева. Понимание как проблема...
133
сОциальных трансформаций. Исследования по военной и политической
йсгории показали, что даже традиционно ориентированные историки
прибегают к терминам контрфактического моделирования16. Все это
вновь отодвинуло разработку понимания как научного метода истори-
ческих исследований на задний план.
Шестой этап методологических споров был связан с постмодерни-
егким отрицание «фактов», которые многие историки на протяжении
поколений считали фундаментом исторической дисциплины. Возникно-
вение в 1970-х новой исторической литературы сделало историков бо-
лее чувствительными к различию между фактом и вымыслом. Лингвис-
тический поворот ввел и обосновал идею конструирования фактов
историком, закрепил релятивизм в историческом знании17. Безусловно,
скептицизм относительно возможности исторического познания не яв-
ляется чем-то новым. Движение «исторического пирронизма» было
весьма мощным в XVII веке, даже исторический конструктивизм имеет
свою историю. На Западе такой подход практикуется антропологами и
социологами, такими как Дж. Гуди, Э. Геллнер, Дж. Холл, М. Манн18.
И ряд историков весьма ему симпатизируют, разрабатывая компаратив-
ную историю. В рамках таких исследований понимающий подход вновь
приобретает значимость, методы этого подхода черпались из риторики,
философской антропологии, психологии, литературоведения. Но, в
сущности, они остаются коллингвудовскими, ведущими к достижению
понимания исторического прошлого через «воссоздание» его в мышле-
нии историка. В общем, это и важно: при таком подходе к пониманию
история сохраняет статус общезначимой и объективной науки о реаль-
ном, а не о вымышленном мире, отделяет себя от фикции через систему
(неявных) принятых ограничений. Последовательно реализуя его, исто-
рик действительно может добиться понимания искомого исторического
иремени, что и демонстрируют сегодня, например, некоторые работы по
интеллектуальной и культурной истории. Жаль только, что теоретиче-
ских работ, посвященных разработке понимания как исторического ме-
16 Virtual History / Ed. by N. Ferguson. L., 1997.
17 О лингвистическом повороте см.: Clark Е. History, Theory, Text: Historians
and the Linguistic Turn. Cambridge, MA; L., 2004. P. 318; Кукарцева M. А. Лингвисти-
ческий поворот в историописании: сущность, эволюция и основные идеи // Вопросы
Философии. 2006. №4.
18 Goody J. Technology, Tradition and State in Africa. L., 1971; Геллнер Э. Нации
J1 Национализм M., 1991; Hall J. Powers and Liberties: the Causes and Consequences of
He Arise of the West. Oxford, 1985; Mann M. The Sources of Social Power. Vol. 1. Cam-
bridge, 1986.
134
Историческая эпистемология сегодня
года крайне мало, к ним можно отнести лишь некоторые исследования
Р. Козеллека и Ф. Анкерсмита.
Отдельный интерес представляет проблема понимания историче-
ского текста. Если мы берем понимание как акт сознания, то вид тек-
ста- автобиография (биография), мемуары, хроники, научная работа
историка (исторический нарратив) - имеет небольшое значение. В этих
текстах мы просто выявляем некие постоянно воспроизводимые образ-
цы или эталоны, в границах которых мы этот текст понимаем, и содер-
жание которых определяет наше понимание19. Структурными элемен-
тами текстов являются не герои и события , а некое содержание
образцов употребляемых слов, но так как их содержание зависит от
контекста, который постоянно меняется, то и понимание может полу-
чится разным. Кроме того, рассогласование образцов и реальности,
представленной в текстах, приводит к непониманию.
Здесь уместно вспомнить идеи Луи Минка об историческом пони-
мании. В своих последних работах Минк вообще писал нс об «истори-
ческом знании», а об «историческом понимании». Понимание для не
го — ментальный акт рассмотрения «вместе» тех вещей, которые в опыте
вместе нс связаны: пункты в доказательстве, действия в нарративе, нота
в мелодии, слова в предложении. Понимание, согласно Минку, функ-
ционирует на всех уровнях мышления: на низшем оно схватывает вме-
сте данные опыта, восприятия и осознания объектов; на среднем осу-
ществляет классификацию множеств объектов; на высшем — организует
знания о мире в единичный объект понимания. Отсюда Минк выявил и
сформулировал три модели понимания: теоретическую, где объекты
рассматриваются как случаи обобщения, закона; категориальную, где
множество объектов берегся как случай некоей категории; конфигура-
тивное, где множество объектов понимаются как элементы единичного
комплекса конкретных отношений. Эти модели несводимы друг к др}
гу, что иллюстрирует эпистемологический плюрализм в научном зна
нии. Конфигуративное понимание есть понимание историческое:
последовательных событий слагается сингулярная последовательность
обладающая ее собственной идентичностью. Концепция конфигуратив-
ного понимания Минка состоит из 2-х ключевых идей: неразъемного
(компонентного) вывода, рассматриваемого им как альтернатива моде
ли охватывающего закона Гемпеля, Данто и др., и синоптического суэю
дения. Задача историка - получить синоптическое видение истории, гд1
19 См.: Розов М. А. Указ соч.
у[. А- Кукарцева. Понимание как проблема... 135
хронологически отсепарированные друг от друга события соединены в
целое. Понимание исторического нарратива подобно пониманию мора-
ли, вскормившей поэзию XIX века: вне ее контекста стихи будут просто
более или менее приятной формой стихосложения и не более, но и сама
мораль вне стихов будет только схоластическим рассуждением «о добре
и зле». Задача историка, согласно Минку, в сущности, есть синтез, инте-
грация, организация, а не селекция. Историк должен рассказывать то,
что он понял, а не то, что хочет показать.
Синоптический подход к историческим текстам означает попытку
одним взглядом охватить всю представленную в тексте тему. «Пости-
гать временную последовательность означает думать о ней в обоих на-
правлениях сразу, и, таким образом, время перестает быть рекой, кото-
рая несет нас вверх по течению, но рекой, одним взглядом охваченной
вверх и вниз по течению, с высоты птичьего полета»20. Д. ЛаКапра на-
звал это своего рода здравым смыслом в профессиональной историо-
графии, поскольку синопсис означает осторожность в установлении
различия между эмпирическими и спекулятивными утверждениями,
может даже запрещать интерпретирующие методы2'. Синопсис и сопут-
ствующие ему процедуры остаются основным и важным уровнем всего
исторического понимания, касающегося значения, референции и рекон-
струкции объекта изучения, он позволяет получить надежную инфор-
мацию, выявить значение деклараций текста или документа и доказать
некоторый охватывающий тезис об искомом периоде или событии.
Здесь тексты, из которых могут быть извлечены факты, рассматривают-
ся, прежде всего, как признак, иллюстрация, или свидетельство эпохи. А
тексты таких авторов, как Д. Джойс, В. Вулф, С. Бекетт, или даже Дер-
рида, могут быть объявлены нечитабельными, непонятными, неразбор-
чивыми, или даже обскурантистскими, не-историческими текстами и их
авторы могут считаться нигилистами.
Синопсис рассматривается как основой метод чтения и понимания
текстов, например, в интеллектуальной и культурной истории. Его ми-
нУсы заключаются в том, что он уместен только для краткого и ясного
сообщения «результатов» понимания или подведения итогов беглого
прочтения больших фрагментов текстов или документов - ведь «одним
взглядом охватить» текст можно только не вдаваясь ни в какие его де-
. 20 Mink L. О. Historical Understanding / Eds. В. Fay, Е. О. Golob and R. T. Vann,
"паса, 1987. P. 56-57.
LaCapra D. History, Language and Reading: Waiting for Crillon // History and
heory: Contemporary Readings / Eds. B. Fay, P. Pomper, R. Vann. Oxford, 1998. P. 96.
136
Историческая эпистемология сегодня
тали. Синопсис уменьшает количество нюансов и концентрирует их в
целях «общей» реконструкции объекта, часто исключая возможность
диалогического, критического взаимодействия с прошлым и его арте-
фактами. Конфигурационное понимание Минка не раз становилось объ-
ектом исследования в философии истории и в исторической науке. Ан-
керсмит, например, заметил, что оно идентично историческим идеям,
которые историк должен обнаруживать в коллекторе исторических дан-
ных, согласно мыслям Гумбольдта, изложенным им в его известном
эссе о задачах историка22. И конфигурационное понимание, и историче-
ская идея индивидуализируют точку зрения, с которой прошлое может
быть рассмотрено как последовательное единство23.
К пониманию исторического текста можно подойти и с позиций
теории текста24. В историческом тексте, как и в любом другом, всегда
содержится ключевая мысль, в которой репрезентирована какая-либо
вещь с приписанными ей свойствами. Если исторический текст есть
документальное, архивное свидетельство, например, расписание дви-
жения транспорта или хроника, то понимание здесь, как правило, связа-
но с выяснением отношений между компонентами плана содержания
(смысловое содержание, сообщаемое знание) текста и устанавливается в
направлении от смысла к тексту. Сообщаемое текстом новое знание и
смысл текста детерминируются архивной информацией и заданными
целями. Здесь текст есть просто утверждение, извлеченное из факта со-
бытий и голосов исторических агентов. Язык такого текста есть своего
рода телескоп, в который историк прямо смотрит на историю, здесь дей-
ствуют особые правила работы с источниками. Понимание может осуще-
ствляться как возникновение принципиально нового знания, которым до
этого момента не обладала историческая наука; как переход от известного
знания к новому. Методом достижения такого понимания часто выступа-
ет абдукция: из частных фактов через выявление некоторой закономерно-
сти формулируется некая гипотеза. При этом исчезает ли или только
уточняется уже сложившаяся концепция, зависит от нескольких обстоя-
22 Humboldt W. von. On the Historian Task // Leopold von Ranke: The Theory and
Practice of History / Eds. G. G. Iggers, K. von Moltke. N.Y. 1973. P. 14. Гумбольдт об"
суждает здесь понятие исторической идеи.
23 Анкерсмит Ф. История и тропология... (Глава седьмая).
24 Чрезвычайно интересной в этом отношении является малоизвестная моно
графия И. Дмитревской «Текст как система: понимание, сложность, информати®'
ность» (Иваново, 1985). Многие идеи, изложенные в ней, до сегодняшнего дня нС
потеряли своей теоретической важности и практической приложимости.
А. Кукарцева. Понимание как проблема... 137
1едьств: информативности текста25; насколько избирательно усвоена и
щэеобразована информация; от соответствующей методики объяснения.
Если исторический текст есть литературный источник, литера-
турно-исторический нарратив, мемуары и т.п., то понимание связано с
планом выражения (языковая форма) текста и устанавливается в на-
правлении от текста к смыслу. Относительная самостоятельность пла-
на выражения характерна только для художественных текстов. Автор
сам конструирует текст, язык текста напоминает калейдоскоп, на кото-
рый смотрит читатель. Текст разбивает историю на фрагменты, каждый
раз по-разному репрезентируя события. Разного рода аллитерации, ас-
сонансы и диссонансы, имитирующие, например, звуковой ряд, призва-
ны повысить информативность плана выражения исторического текста.
А в перформативном историческом тексте смысловую нагрузку несут
также паузы и повторы, формируя у читателя (слушателя) определен-
ный эмоциональный настрой. В этом смысле лингвистический поворот
в историописании показал, что существуют различные «языки» для рас-
суждения об исторической реальности. Эти языки могут выступать в
качестве идеальных конструкций, но в реальной историографической
практике они, как правило, взаимодополнительны26. Значение слов в
этих различных языках не всегда точно соответствует друг другу, но это
не является аргументом против возможности выражения истины ни на
одном из этих языков. Истинные представления о прошлом часто име-
ют происхождение не в установленном эмпирическом факте, а в языке,
используемом или предложенном историком. Лингвистический поворот
показывает историку, что в языке (в концепциях, словарях, метафорах),
можно выявить различные значения, и нужно использовать эти значе-
ния для того, чтобы избежать трюизмов и приблизиться к тем истинам,
которые углубляют наше понимание прошлого.
Но информативность плана выражения текста не есть независимое
свойство текста: она имеет смысл только в отношении к плану содержа-
ния. Поэтому относительно третьего вида исторического текста - нарра-
тива историка как научной работы - проблема понимания выступает
как проблема отношения между планом выражения и планом содержания
1екста. Между ними существует взаимно-однозначное отношение. Текст
25 Информативность текста понимается здесь в узком смысле - как новое зна-
ние, имеющееся в тексте.
26 Слабая попытка рассмотреть проблему понимания исторического текста в
Рамках лингвистического поворота предпринята в работе: Копейкина О. Ю. Пони-
мание исторического текста (http://revolution.allbest.ru/history/00012655_0.html).
138
Историческая эпистемология сегодня
предстает как умозрительная, аналитическая работа историка, зависящая
от его способности строить нарратив из сотен уже рассказанных, выявляя
основное значение, смысл эпохи в потоке и беспорядке событий. Здесь
понимание берется еще и в герменевтическом аспекте, вскрывая челове-
ческую природу в ходе нарративного изложения событий, поскольку нар-
ратив есть ядро человеческой идентичности. В достижении понимания
исторического текста как научного имеет значение множество парамет-
ров: тезаурус историка/читателя и его личностное знание, контекст и его
вид. Литературно-исторический нарратив всегда ориентирован на широ-
кий исторический и социокультурный контекст, а исторический нарратив
как научный текст может быть включен в открытый контекст, допускаю-
щий введение новых элементов, и в закрытый; в изолирующий контекст,
где некая целостная картина берется в скобки в целях детального изуче-
ния какого-то события или исторического агента, и в интегрирующий; в
релевантный и иррелеваный контекст и т.д. Понимание исторического
текста как текста научного зависит от вида решаемой научной проблемы
(содержательная, каузальная, функциональная), от реализуемой модели
понимания (аналитическая - новое знание как коррекция выводится из
того, что уже наличествует в тезаурусе историка/читателя; синтетическая
- новое знание полностью поглощает старое), от меры новизны текста, от
простоты текста. Принцип простоты является чрезвычайно важным ме-
тодологическим требованием, он служит критерием отбора научных тео-
рий и гипотез и выступает «в качестве важнейшего показателя субъек-
тивной информативности текста»27. Сегодня в исторической науке
существует тенденция писать тексты на сложном языке, например, всем
известен сциентистский «жаргон» журнала Representations - академиче-
ского издания, публикующего интересные работы, выполненные в жанре
«нового историзма», («нового истористского» литературоведения), тео-
рии литературоведения, культурных исследований и представляющего
собой влиятельный и важный форум обсуждения всех проблем, имеющих
отношение к указанным областям исследования. Однако если текст со-
держит много нового знания, но сложен для усвоения, он может оказаться
бессмысленным и неинформативным.
Безусловно, проблема понимания применительно к историческому
тексту как научному осложняется еще и феноменом возможного пристра-
стия, предубеждения историка/читателя, особенностями его личного и
коллективного опыта. Об этом много написано, и нет смысла повторят1’
27 Дмитревская И. Указ соч. С. 76.
А. Кукарцева. Понимание как проблема...
139
эТи соображения еще раз. Но одну вещь необходимо подчеркнуть: она
касается взаимоотношения понимания и интерпретации: является ли по-
нимание основой интерпретации, дает ли ей исходную основу и предпо-
лагает однозначную истину или наоборот, интерпретация, детермини-
руемая множеством соображений субъективного и объективного
характера, является основой понимания, генерируя множество различных
пониманий, каждое из которых будет истинным. В последние годы в ис-
юрической науке эта дилемма превратилась в своего рода антиномию. На
самом деле все зависит от того, как понимать понимание: как однознач-
ное, основанное на рефлексивных процедурах или как перспективист-
ское, основанное на опыте и допускающее исправление28. Ряд современ-
ных исследователей под влиянием уже упоминавшихся идей
ф. Анкерсмита, тщательно рассматривают опыт как основу понимания.
В этой статье я только поставила проблему понимания в истории,
разграничив понимание как ментальный акт и как научный метод; по-
нимание самой исторической реальности и понимание исторического
текста. Является ли история своего рода «контрактом понимания» меж-
ду историком и читателем? Как соотносятся понимание и интерпрета-
ция, и есть ли пределы исторической интерпретации? Насколько чита-
тель может быть уверен, что историк верно понимает то, что пишет и
может объяснить написанное? И насколько в этом может быть уверен
сам историк? Какова здесь роль языка историка? Эти вопросы обнару-
живают огромный спектр нерешенных проблем исторического знания,
где одна из главных - что такое и как возможно историческое понима-
ние. На мой взгляд, историю как прошлое можно только понять, объяс-
нить прошлое невозможно. Поэтому достижение исторического пони-
мания необходимо и прямо связано с утверждением или отрицанием
истинности мыслей о прошлом, с поисками истины в истории. Однако
глобальное исследование сущности и типов исторического понимания
предполагает синтетическую работу по систематизации всех известных
аспектов понимания вообще, чего в мировой исторической и философ-
ской литературе пока нет. Тем более важно начать такие исследования.
28 См. об этом: Шусерман Р. Ниже уровня интерпретации // Вопросы филосо-
фии. 2008. № 7.
А. А. Линченко
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Постнеклассический характер научного знания существенно
трансформирует традиционные представления нс только о процессе
получения знания, но и о его сущности. Традиционной уже стала точка
зрения о том, что категории субъекта и объекта познания подвижны,
внутренне изменчивы, что субъект нс только отражает, но и конструи-
рует изучаемый мир, что критерии, которые выступают в качестве эта-
лонов истинности и достоверности сами представляют собой сплав
ценностей, интересов и оценок.
Все это актуализирует старую проблему европейской философии -
проблему «аксиологической нагруженности знания» - и заставляет, в
свою очередь, в определенные моменты пересматривать традиционное
поле проблем эпистемологии (раздел философии, в котором предметом
анализа выступают проблемы природы, предпосылок и эволюции по-
знания, вопросы об отношении знания к действительности и условиях
его истинности). Так, Л. А. Микешина справедливо указывает на то, что
«...дальнейшее развитие эпистемологии возможно осуществить лишь
рассмотрев познание в его антропологическом смысле и аспекте, стре-
мясь преодолеть тем самым абстрактный гносеологический (имеющий
право быть частным) подход, упускающий из виду и по существу утра-
чивающий в качестве своего предмета человека как такового»1. Жесткое
противопоставление, по ее мнению, когнитивного и ценностного вооб-
ще чуждо современному процессу познания. Это в свою очередь ставит
проблему согласования ценностных и гносеологических оснований раз-
личных парадигм исследования. При этом речь, естественно, должна
идти не о «накладывании» одной стратегии на другую, а о поиске опре-
деленной мстасреды, которая сама, оставаясь подвижной, могла бы
очерчивать границы противоположных точек зрения. Сразу оговоримся,
что вряд ли данная задача будет решена принципиальным образом, од-
нако, определенная направленность исследовательских поисков в дан-
ном ракурсе вполне уместна.
Трансформация характера проблематизации эпистемологии нахо-
дит свое преломление и в исторической эпистемологии. По мнению
М. А. Кукарцевой, историческую эпистемологию в настоящее время
1 Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М., 2007. С. 5.
ji. Линченко. Историческая эпистемология... 141
следует понимать в трех разных контекстах: как область философии и
методологии науки, где историческая сторона знания исследуется в гра-
ницах использования принципа историзма в анализе проблем науки; как
раздел социальной эпистемологии, исследующий, как в ходе истории
знание конструируется обществом и как это знание исторически изме-
няется, исследующий гносеологические проблемы познания прошлого,
настоящего и будущего, выявляющий и формулирующий все возмож-
ные эвристические принципы и методы исторического исследования;
как область философии истории и социальной философии, анализи-
рующая философские предпосылки исторического знания, методы и
теоретические допущения в исторических исследованиях, теоретиче-
скне проблемы исторического процесса2.
Присоединяясь к обозначенной выше позиции, добавим, что одним
из важнейших вопросов исторической эпистемологии (в ее третьем зна-
чении) является проблема исторического сознания, его целостности,
которая как раз и позволяет в особом ракурсе рассматривать проблема-
тику аксиологической нагружености исторической эпистемологии.
Историческая эпистемология в XX веке, как никакая другая об-
ласть знания, невероятно расширилась, не только за счет открытия но-
вого фактического материала, но и за счет активного проникновения в
нее методологических подходов из философии, культурологии, социо-
логии, лингвистики, теории литературы. Феноменологический и экзи-
стенциальный анализ субъекта, аксиологический подход неокантиан-
цев, психоанализ, постпозитивизм, герменевтика Гадамера, а также
постмодернистские и постструктуралистские прочтения истории, тео-
рия структурации А. Гидденса невероятно расширили арсенал самореф-
лексии историка. Однако, вместе с расширением проблематики, само
мышление историка оказывается проблематичным, и ставится либо в
зависимость от объективного знания (Поппер), форм бессознательного
(Фрейд, Юнг), текста (постмодернизм, постструктурализм) или стиля
историописания (X. Уайт). Возможна ли тогда саморефлексия историка
вообще, без чего целостность исторического сознания вряд ли дости-
'Кима? Какой понятийный и категориальный каркас мог бы служить
строительным материалом для формирования целостности историче-
ского сознания как проблемы исторической эпистемологии. Определен-
ным выходом является герменевтика Гадамера, которая опирается на
ссознанис собственных предрассудков, предструктуры понимания. Од-
—
2 Ку Карцева М. А. Предисловие переводчика // МегиллА. Историческая эпи-
стемология. М„ 2007. С. 15-19.
142 Историческая эпистемология сегодня
нако, она некритично принимает традицию и жизненный мир повсе-
дневности такими, какие они есть, что не всегда может способствовать
целостности исторического сознания.
Как понимать саму целостность? Принято считать, что понятие «це-
лостность» следует рассматривать в отношении таких понятий как «сис-
темность» и «суммативность». По мысли Ю. Н. Солонина отличитель-
ными качествами системности являются механистичность,
упорядоченность независимых элементов, соединяемых по функцио-
нальному принципу. Это ведет к представлению о «системном характере
предмета знания как его объективном свойстве, в то время как система -
это привнесенный аспект понимания или объяснения, а следовательно
антропоморфный элемент познавательной установки на реальность»3.
Это в определенной степени «дроби т» объект, частям которого соответ-
ствуют специфические области знания, находящиеся по сути в формаль-
ной связи друг с другом. Однако, по его мнению, «реальность не систем-
на, а целостна. Системный подход нс тождественен взгляду на мир как на
целостность. Целое - это то, что не содержит механизмов сочленения
своих частей или элементов, где нет “швов” от их соединений»4. В отно-
шении знания и его ценностных предпосылок это выражается нс только в
построении структурных элементов познавательного (и в частности на-
учно-познавательного) процесса, но и в осознании применимости разных
сфер человеческого представления о мире (научных, моральных, эстети-
ческих). Заметим, что системный подход действительно не в состоянии
обеспечить целостность, однако именно он создаст для нее условия.
Следующий вопрос понятийный каркас, на котором можно было
развивать подобное понимание целостности. На наш взгляд, одним из
перспективных продолжает оставаться категориальный каркас деятель-
ностного подхода. Кризис марксистской философии в нашей стране,
появление новых исследовательских стратегий, «вытолкнули» доста-
точно обоснованную проблематику деятельности на второй и третий
план. Совершенно справедливо полагает В. А. Лекторский, что «дея-
тельностный подход не только имеет смысл, но и обладает интересны-
ми перспективами..., что предполагает его переосмысление и отказ от
его узкой интерпретации. Это означает также различение деятельност-
ного подхода (или если угодно, деятельностной исследовательской про-
3 Солонин К). Н. Проблема единства знания между системностью и целостно-
стью // Вече. 1996. № 6. С. 12.
4 Там же. С. 14.
А. Линченко. Историческая эпистемология...
143
граммы) и конкретных теорий деятельности - в философии, методоло-
гии, психологии и т.д. - созданных в его рамках»5.
Напомним, что в самом общем смысле под деятельностью пони-
мается «человеческая форма активности, содержанием которой явля-
ется целесообразное изменение и преобразование окружающего чело-
века мира»6. В. С. Швырев предлагал расширить данное понятие не
только до изменения внешней действительности, но и до преобразова-
ния внутреннего мира человека, раскрытия и реализации его скрытых
потенций в процессе развития его отношений с внешним миром,
включая мир субъективности7. Важнейший лейтмотив деятельности —
опосредование человека создаваемой им же материальной и духовной
культурой. Это открывает для деятельностного подхода такие понятия
как понимание, творчество, общение и диалог, что в свою очередь вы-
водит его на проблемы герменевтики, философии языка и различных
вариантов интеракционизма.
Перспективность задаваемого деятельностью направления иссле-
дования целостности исторического сознания ставит другой, не менее
интересный вопрос о типе рациональности и контурах современного
мышления, в рамках которого сегодня могла бы выстраиваться указан-
ная выше целостность. По мнению В. С. Швырева, современное рацио-
нальное мышление следует рассматривать не как констатирующее ра-
циональное сознание, а как нечто проектно-конструктивное.
Рационален тот, кто способен взглянуть на действительность, как она
есть, тот, кто построил определенный образ этой действительности. В
этом «образе-реальности» неразрывно слиты представления о действи-
тельности с самой действительностью, как таковой. Это означает, что
реальностью является не наличная ситуация, не бытие, а становление,
проблемная ситуация в которой присутствует исследователь. Поэтому
современная рациональность - это, прежде всего, восприятие тех ра-
мочных условий проблемной ситуации, в которой мы существуем. Все
это предполагает плюрализм различных описаний и саморефлексию
познающего сознания. На это же указывает и В. М. Розин. По его мыс-
ли, к особенностям современного мышления следует отнести порожде-
5 Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
С. 76.
6 Огурцов А. П., Юдин Э. Г. Деятельность// Философский энциклопедический
словарь. М„ 1983. С. 151.
7 См.: Швырев В. С. Проблемы разработки понятия деятельности как фило-
софской категории //Деятельность: теория, методология, проблемы. М., 1990. С. 18.
144 Историческая эпистемология сегодня
нис, контекстность и полифонизм. Это означает, что мышление не авто-
номно и не способно описывать единую действительность, а соответст-
вующие формы действительности, объекты, реальности, которые затем
и отражаются в мысли. Критерий истины — событие, возникающее в
ходе коллективного «мыслетворчества», общение наблюдателей. Нор-
мирование и сравнительный анализ (метанаблюдение) задаются комму-
никативной компетенцией и коммуникативной ситуацией8.
«Лингвистический поворот» в историописании, переход от пара-
дигмы сознания к парадигме языка существенно обновляют проблемное
поле деятельностного подхода, что актуализирует поиск новых ориен-
тиров в этой сфере. Достаточно интересной в этой связи является теория
коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
Принято относить Ю. Хабермаса к позднему этапу Франкфуртской
школы, что, конечно, не вызывает сомнений, хотя в процессе своей фило-
софской эволюции он попытался синтезировать различные направления
философии и науки XX века, что в узкие рамки критической теории нс
вписывается. Гносеологическими источниками творчества Ю. Хабермаса
являются уже упоминаемая критическая теория, вытекающая из мар-
ксизма, теория рациональности М. Вебера, феноменология, прагматизм,
герменевтика и психоанализ, которые Хабермас попытался соединить в
своем проекте коммуникативного действия. Мы нс ставим здесь задачу
реконструкции всего теоретического наследия Хабермаса и тем более
этапов его творчества9, ограничимся лишь ключевыми моментами его
социальной онтологии, социальной гносеологии и социальной аксиоло-
гии (наиболее устойчивыми на протяжении всей его интеллектуальной
эволюции), которые могли бы стать источником для конструирования
рамок понимания исторического сознания и его целостности.
Ключевой категорией его социальной онтологии выступает поня-
тие «социальное действие», объединяющее множество разных форм
понимание, труд, коммуникация, интерпретация. Концепция действия
имеет у Хабермаса метатеоретичсский характер и призвана служить
полем синтеза различных социальных теорий в единую теорию общест-
ва. Однако если у Маркса история есть процесс развития производи-
тельных сил и производственных отношений, то у Хабермаса на первом
плане стоит динамика организационных структур и социальных инсти-
8 Розин В. М. Контекстное, полифоническое мышление - перспектива XXI 0е'
ка// ОНС. 1996. № 5. С. 126-127.
9 Подробнее об этом см: Фурс В. Н. Философия незавершенного модерн3
Ю. Хабермаса. Мн., 2000.
yl. Линченко. Историческая эпистемология...
145
1уГов, а также мировоззренчески-идеологических структур (прежде все-
г0 языка и интеракции). И это понятно, ведь любое социальное действие
(в том числе труд) всегда опосредовано языком или иной формой ком-
(дуникации. А поскольку интеракция всегда имеет определенное ядро в
виде социальных и моральных норм, то любое социальное действие все-
гда оказывается «нагруженным» идеальным социокультурным контек-
стом. Это позволяет Хабермасу разделять социальное действие на два
больших вида - целерациональное (инструментальное - в отношении
природы и стратегическое - в отношении социума) действие, когда
субъект относится к внешнему миру как к инструменту, навязывает ему
определенную схему, пытается перестроить в соответствии со своими
интересами и целями, и коммуникативное действие (процесс обмена
информацией, ориентированный на взаимопонимание). Последнее раз-
деляется им на собственно коммуникативное действие (обмен инфор-
мацией, ориентированный на понимание) и дискурс (диалог, служащий
средством обмена смыслами и преследующий главную цель - взаимо-
понимание). При этом весомой частью социального действия коммуни-
кативное действие, по мнению Хабермаса, делает не только практика
взаимопонимания. Участники коммуникации, благодаря тому, что они
достигают взаимопонимания относительно чего-то в мире, одновремен-
но участвуют в интеракциях, посредством чего они формируют свою
принадлежность к социальным группам и собственную идентичность.
«Сеть повседневной коммуникативной практики охватывает не только
семантическое поле символических содержаний, но также и измерения
социального пространства и исторического времени и образует средст-
во, благодаря которому формируются и воспроизводятся культура, об-
щество и личность»10. Таким образом, коммуникация в функциональ-
ном плане выступает как среда взаимопонимания, передачи и
обновления культурных знаний, как среда координации действия, соци-
альной интеграции и воспроизводства солидарности и, наконец, как
сРеда социализации, образования личностной идентичности. Коммуни-
кативное действие, оказывается конкретно-историческим процессом
производства социальной реальности, так любое целенаправленное дей-
ствие всегда оказывается переплетенным с коммуникативными актами в
той мере, в какой они представляют собой реализацию планов, согласо-
8аНных с планами других участников интеракции благодаря общим оп-
ределениям ситуации и процессам взаимопонимания (коммуникативное
Действие как специфический способ согласования планов действия).
10 Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Ю. Хабермаса. С. 114.
146 Историческая эпистемология сегодня
Важно, что Ю. Хабермас, сосредотачивая внимание на проблемах
языковой деятельности, нс претендует на понимание се как социальной
субстанции (понимание которой он вообще старается снять, говоря о
постметафизическом мышлении как мышлении, преодолевающем мо-
нологизм). Язык средство, механизм координации действий, который
связывает планы действия как притязания на значимость сторон.
Преломляя теорию модернизации как процесса рационализации
М. Вебера, Ю. Хабермас пытается осветить мировую историю не только
как процесс роста производительных сил (посредством рационализации
их выбора), но и как процесс рационализации действия, ориентирован-
ного на взаимопонимание. Подобная двойственность социальной жизни
позволяет ему выделить два понятия: системы (характеризующей эко-
номическую, политическую, идеологическую сферы, а также мир тех-
ники) и жизненного мира, которое в отличие от феноменологического
подхода (акцентирующего внимание на индивидуальные установки от-
дельных субъектов, т.е. не выходящих за пределы сознания) трактуется
им как языково организованный и передаваемый от поколения к поко-
лению посредством культурных традиций запас образцов толкования.
«Жизненный мир является как бы той трансцендентальной областью, в
которой встречаются говорящий и слушатель, где они взаимно могут
выдвигать притязание на то, что их выражения и мир (объективный,
социальный или субъективный) согласуются друг с другом, и где они
могут эти притязания на значимость критиковать и поддерживать, раз-
решать свои расхождения и достигать согласия. <...> Жизненный мир
конститутивен для взаимопонимания как такового, тогда как формаль-
ные понятия языка образуют систему отношений для того, о чем воз-
можно взаимопонимание: говорящий и слушатель договариваются из
общего для них жизненного мира относительно чего-то в объективном,
социальном или субъективном мире»11. Однако в ходе исторического
процесса стратегическое действие оказывается преобладающим, что
порождает феномен отчуждения, бюрократизацию социального про-
странства (М. Вебер) и техногенную цивилизацию. Преодоление дан-
ных проблем современного общества возможно только в рамках разви-
тия практики диалога между различными общественными силами, в
условиях контроля демократических институтов и общественности.
Вопросы, поднимаемые в социальной онтологии, Хабермас пыта-
ется решить в своем проекте социальной гносеологии и аксиологии-
11 Habermas J. Thcorie des kommunikativen Handels. Kritik der functionalistischef
Vcmunft. Bd. 2. Frankfurt am Main, 1995. S. 192.
А. Линченко. Историческая эпистемология...
147
Дискурс и реализация коммуникативного действия возможны, по его
мнению, только если наука и научное познание станут орудием рефлек-
сии общества, что возможно только если любая теория познания (и осо-
бенно историческая) будет рассматриваться как теория общества. Это
объясняет широкую критику Хабермасом позитивизма в социально-
гуманитарных науках, как узкого подхода, «омертвляющего» социаль-
ную реальность. Для науки не менее важной, чем проблема познания
явлений, оказывается проблема согласования. Социальный исследова-
тель не может описывать свои объекты не ценностно. Это связано с тем,
что логические процедуры познания социально детерминированы и не
могут быть выведены из опыта. Позитивизм же (например, К. Поппер),
пытаясь различить факты и оценки, устраняется тем самым от исследо-
вания познавательного процесса, т.е. лишает себя роли методолога на-
учного познания. Более предпочтительной для него оказывается фило-
софская герменевтика Гадамера, которая апеллирует к общей традиции
жизненного мира, как исследователя, так и объекта познания. В резуль-
тате исследователь «применяет» себя к традиции (рассматривая про-
шлое, не прикладывая к нему «мерки современности») и традицию к
себе (анализируя прошлое, не отвлекаясь с современных позиций). Од-
нако, ссылка на традицию и «добрую волю к пониманию» у Гадамера,
по мнению Хабермаса, является еще недостаточной, поскольку не спа-
сает от идеологической обусловленности исследователя. Добавляя к
герменевтике психоанализ и философию языка, Хабермас пытается
преодолеть предрассудочность исследователя, пытаясь совместить в
нем позицию объективного наблюдателя и участника жизненного мира.
В результате подобного синтеза герменевтика Гадамера приобретает
вид метагерменевтики исследователя, осуществляющего саморефлек-
сию через дискурс свободной общественности, состоящей из предста-
вителей общества и экспертов определенных областей знания. Герме-
невтический опыт приобретает черты коммуникативного опыта,
трансцендентальное значение традиции заменяется трансценденталь-
ным значением языка. Место трансцендентального субъекта занимает
субъект жизненной практики, осуществляющий себя в процессе комму-
никации. Если Хайдеггер и Гадамер пытались обосновать онтологиче-
ское значение понимания для человека, а Рикёр, продолжая их тради-
цию, утверждал семантическую нагруженность понимания (понимать -
Значит понимать себя перед текстом), то Хабермас идет еще дальше
(понимать - значит понимать себя перед обществом).
В результате ключевое понятие теории познания понятие исти-
цы - приобретает коммуникативно-прагматическую формулировку. Ха-
148 Историческая эпистемология сегодня
бсрмас критикует традиционную теорию соответствия, неспособную
выйти за пределы языка. Истинность, по его мнению, нельзя отделить
от притязаний на нес. Значение языка, в свою очередь, превращает во-
прос об истинности в вопрос об оправданности высказывания. Истина в
таком случае приобретает черты коммуникативного процесса, проте-
кающего на разных уровнях аргументации, и достигается через рацио-
нальный консенсус. Хабермас достаточно убедительно показывает гра-
ницы использования языка в проблематике истины, что выгодно
отличает его проект от постмодернистской и аналитической философии.
Он говорит о том, что не связывает понятие истины с особыми метода-
ми и стратегиями ее получения, но только с «прагматическими универ-
сальными условиями» любого дискурса. Речь также идет не об истин-
ности какого-либо предикативного высказывания, но о притязаниях на
истинность, т.е. проблема истины ставится не в семантическом аспекте,
а в прагматическом значении действия, притязающего быть истинным,
которое должно быть подвергнуто процедуре обоснования. Критерий
истины - рационально мотивированный консенсус, достигаемый через
силу «лучшего аргумента». Среди необходимых предпосылок консен-
суса Хабермас выделяет обязательное отсутствие внешнего принужде-
ния, равноправие для всех участников, выполнение диалоговых ролей,
симметричное распределение шансов выбирать, мотивацию достижения
согласия на основе лучшего аргумента. При этом ложный консенсус все
равно оказывается исключенным из понимания истины. Истина больше
не может быть достижением одного сознания или группы людей, необ-
ходимое ее условие - максимально всеобщее признание.
Многообразие форм деятельности способствует формированию
многогранной позиции. Речь идет о плюрализме метаописаний. Истина
в подобном случае выходит за рамки как принудительной всеобщей
объективной истины, которая выступает как логическая необходимость,
исключающая свободу (постпозитивизм), так и за рамки субъективизма
индивидуальных истин, разрушающих всякое смысловое единство (по-
стмодернизм). Идеалом Хабермаса является «децентрированное миро-
понимание», умение переключать установки мышления и видеть объект
в разных плоскостях (когнитивной, моральной и эстетической), что на-
ходит выражение в таких критериях как (соответственно) истинность,
нормативность, правдивость.
Ценностная нагружснность социального познания и коммуника-
тивность как важнейшая ее характеристика требовали обоснования оп-
ределенной социальной аксиологии, которая нашла свое выражение в
«этике дискурса». Начать надо с того, что Ю. Хабермас заявляет об он-
149
i Пцнченко. Историческая эпистемология...
------------------------------------------
догичсском единстве между знаниями и ценностями. Возможное их
уделение может быть лишь «методологическим различием между
Науками»: в одном случае (например, в теории морали) опираются на
критерии нормативной правильности, в другом (в гносеологии) - на
критерии пропозициональной истинности. При этом важно, что «притя-
зания на нормативную значимость обладают когнитивным смыслом и
могут рассматриваться подобно притязаниям на истинность»12. Это
возможно потому, что этика дискурса предполагает не содержательные
ориентиры, но опирающуюся на определенные предпосылки рацио-
нальную процедуру, т.е. процедура лучшего аргумента оказывается
важнейшим условием формирования нравственной позиции.
Если различные этические системы в истории философии апелли-
ровали либо к космосу, либо к Богу, либо к трансцендентальному субъ-
екту как моральным абсолютам, то в этике дискурса сам диалог между
участниками выполняет подобную функцию. Хабермас исходит из
трансцендентальной прагматики К.О. Апеля: чтобы понимать речевое
выражение надо иметь способность и готовность понять. В применении
к сфере морали это означает, что сама готовность участников коммуни-
кации договариваться, процедура диалога (обмен равными мнениями,
умение «слышать» Другого) являются универсальными принципами
бытия морали, т.е. универсальные моральные нормы коренятся в самом
разговоре как условия возможности аргументации. Язык, как и в случае
С истинностью, в аспекте нормативной значимости начинает выполнять
трансцендентальную функцию. При этом Хабермас указывает на ряд
принципов, которые могли бы считаться универсальными для любого
Диалога: когнитивизм (моральные вопросы должны быть решены ра-
циональным обсуждением, и только те нормы могут притязать на зна-
чимость, которые находят одобрение у всех участников практической
Дискуссии, к которым они имеют отношение), универсализм (каждый
Участник дискуссии принципиально способен прийти к общей точке
3Рения), формализм (уважение к формальным правилам открывает до-
Р°гу к диалогу). В результате исследователь оказывается не только на-
блюдателем, но и через дискурс с участием экспертов сам оказывается
Наблюдаемым, что дает определенную гарантию адекватности оценок.
В свою очередь когнитивные феномены могут имманентно содержать
Фенологические компоненты, например необходимость аргументации
р 12 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие.
Ц16.. 2000. С. 46.
150 Историческая эпистемология сегодня
вытекает из общения и «соучастия» читателя (слушателя) и выполняет
оценивающие (нормативно-ценностные) функции.
Теория коммуникативного действия Хабермаса представляет со-
бой достаточно гибкий проект соединения гносеологического и аксио-
логического знания. При этом важно, что Хабермас остается на почве
рациональности, пытаясь понять как иррациональное, так и внерацио-
нальное через расширение рационального, а не его отмену (например
«смерть автора» в постмодернизме). Это уже создает предпосылки для
более органичного вплетения его теории в современную эпистемологию
и в частности в эпистемологию истории.
Коммуникативная теория познания и коммуникативная этика спо-
собствуют расширению границ традиционных понятий исторической
эпистемологии. Историческая истина обнаруживает себя в коммуника-
ции, т.е. выступает как отношение. Она не укладывается в рамки про-
стого «слепка» исторического объекта в знании, верного на все времена,
а выявляет себя как характеристика способа деятельности с ним. В этой
связи важнейшая задача постнеклассической исторической эпистемоло
гии будет заключаться в отработке приемов своеобразной «гибкой ме
тодологии», двигающейся по направлению к различным характеристи-
кам исторической истины, учитывающей прежде всего различные типы
мышления и формы деятельности субъекта (когнитивную, нравствен
ную и эстетическую). Это, в свою очередь, поднимает вопрос об исто
рической справедливости, вине и ответственности, эстетическом пере-
живании истории на вполне обоснованной деятельностной
методологии. Еще раз повторимся - речь идет о внешнем контексте ис
торической эпистемологии - философско-историческом выяснении
предпосылок ее возможности, проблеме исторического сознания.
Достоинство теоретической конструкции Хабермаса в сравнении с
Гадамсровой состоит в том, что историк Гадамера, анализируя свои
предрассудки, вряд ли может в этом полностью преуспеть. Поле диало-
га всегда искажено невротическими разрывами, коллективным бессоз-
нательным, историческими мифами и идеологемами. Одному историку
преодолеть все это явно не под силу, а герменевтика, как уже отмеча-
лось, уводя проблему в сторону эмпатии и жизненного мира предпони-
мания, оказывается некритичной и не может служить реальным основа-
нием для саморефлексии. «Дистанция между историческими науками и
публичным процессом передачи традиции увеличилась. Опроверг11'
мость знания и конкуренция между вариантами толкования ведут ско-
рее к проблематизации исторического сознания, нежели к формирова-
нию идентичности... только на уровне усвоения интерсубъективно
Линченко. Историческая эпистемология...
151
яеляемых традиций, не находящихся в распоряжении ни у одного
Рддивида, выбору может соответствовать лишь автономный и осознан-
ий характер публично ведущейся дискуссии... в модусе этого спора об
лтерпретациях свершается публичный процесс передачи традиций. И
дорические науки - как и другие экспертные культуры - втягиваются
эту дискуссию лишь в аспекте своего публичного использования, но
не как науки»13. Кроме того, указанное значение коммуникативной тео-
рии Ю. Хабермаса для понимания проблемы исторического сознания
вполне позволяет считать его проект коммуникативной теории одним из
перспективных видов исторической эпистемологии в наше время, не-
смотря на то, что эпистемологические вопросы, по сути, решаются им в
более широком контексте обоснования социальной теории.
Социальная теория Ю. Хабермаса вряд ли способна решить все ак-
сиологические проблемы исторической эпистемологии. Справедливыми
следует признать оценки его теории как достаточно эклектичной. На-
пример, слабо показаны взаимопереходы согласия и разногласия, или
рациональность постоянно двигается от когнитивных сфер к морали,
что вообще может смешать историческую истину и справедливость.
Вряд ли в ближайшее время в условиях масс-медиа демократические
институты смогут обеспечивать минимум давления и беспристрастно-
сти; или как быть с двумя взаимосогласовывающимися суждениями?
Однако, несмотря на все это Ю. Хабермас действительно намечает
пути более гибкой методологии, подвижной и учитывающей свою под-
вижность. В этой связи тот онтологический смысл, который получает
категория понимания в герменевтике, и ее развитие в коммуникативном
аспекте у Хабермаса превращают ее в достаточно органичный сплав
исторической истины, нравственной оценки и эстетического пережива-
ния истории. Все эти различные способы деятельности с прошлым не
Должны вести к омертвлению прошлого, к суду над ним и тем более к
«идеализации» или «трагедизации». Прошлое, имеющее многослойную
структуру различных темпоральностей должно быть понято в самом
Широком смысле этого слова.
13 Хабермас К) Историческое сознание и посттрадиционная идентичность,
ападная ориентация ФРГ // Он же. Политические работы. М., 2005. С. 130-131.
М. П. Лаптева
СПЕЦИФИКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Хороший язык научной работы не
заметен читателям. Заметной
должна быть только мысль.
Д. С. Лихачёв
Категориальный аппарат любой науки — это её центральное звено.
Его становление и развитие, как и развитие всей науки, происходит
медленно и скачкообразно, так как зависит нередко от субъективных
причин. Многие исторические сочинения советского времени были
полны словесного и мыслительного мусора. Языковое удушье совет-
ской культуры, по словам М. Мамардашвили, приводило к появлению
«текстов чудовищной скуки», написанных «на языке, который можно
назвать деревянным, полным не слов, а каких-то блоков, ворочать кото-
рые действительная мысль просто нс в состоянии»1 2. Некоторые авторы
пытались скрыть словесную скуку советского времени за излишне ус-
ложнённым построением фраз, но ещё Ключевский подметил, что
.. 2
«мудрено пишут только о том, чего не понимают» .
В советской «коллективности» тонула оригинальность и индиви-
дуальность. Редко кому из историков удавалось выразить новые идеи с
помощью новых стилистических приёмов. Конечно, были и исключе-
ния, достаточно вспомнить Е. В. Тарле или М. Я. Гефтера, которого,
впрочем, довольно быстро лишили возможности публиковать свои тек-
сты. И только в 1990-е годы читатели поразились тому, насколько язык
гефтеровских статей отличался от обычного академического изложения.
Он был полон метафор, полунамёков, риторических вопросов. Гефтер
словно бы провоцировал на вопрошание, подчёркивая тем самым неза-
вершённость, открытость исторических процессов.
Подробный обзор литературы о «хорошем языке» историка дан в
книге известного российского историка И. Я. Биека, уделившего при-
стальное внимание особенностям литературной формы и структуры исто-
рического труда, понятийно-терминологической лексике и писательскому
1 Мамардашвили М. К. Язык и культура // Вестник высшей школы. 1991-^-^'
С. 50.
2 Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истор1111-
М., 1968. С. 399.
И Лаптева. Специфика терминологического пространства... 153
ЛЛС—_-----------------------------------------------------
очерку некоторых историков3. Безусловно соглашаясь с основными по-
" униями его труда, я хотела бы уцепить внимание некоторым аспектам
рбилфнейшей темы, заслуживающим особого рассмотрения.
Теоретическая зрелость любой науки включает в себя и степень
пязвития её понятийного аппарата. В понятиях, применяемых истори-
каМИ> зафиксирована логика развития исторических явлений и процес-
сов. При этом понятия могут быть точными, приблизительными и неяс-
но сформулированными. Встречаются понятия, обозначающие одно и
г0 же явление, но имеющие различное содержание в трактовке разных
научных школ. В исторической науке существуют и понятия с так на-
зываемым нулевым объёмом, если они отражают прежние утопические
идеи о будущем, например, «тысячелетнее царство» средневековых
мыслителей, «царство разума» просветителей» или «тысячелетний
рейх» нацистских идеологов.
Выяснение сущности языковых образов и особенностей философы
сравнивают по степени сложности с выяснением сущности самих явле-
ний, описываемых с помощью той или иной терминологии. Язык исто-
рика в большей степени, чем язык других наук, зависит от языка эпохи,
так как в исторических трудах должна отражаться не только суть изу-
чаемой эпохи, но и то, что принято называть её ароматом. Порицая
предшественников за «недостаток исторического чувства», Ф. Ницше
утверждал, что словами и понятиями «мы не только обозначаем вещи,
мы хотим с их помощью уловить изначальную сущность вещей. Слова
и понятия постоянно соблазняют нас»4.
Историк, как и любой гуманитарий, является не только исследова-
телем, но и писателем, так как результаты его труда не имеют другой
формы реализации, кроме литературного изложения. Однако большин-
ству современных историков, монтирующих свои тексты с помощью
компьютера, неведомы муки В. Ратенау, писавшего в одном из писем:
«..целыми неделями просиживаю за письменным столом и целыми
иедслями - ни строчки»5. Смысл текста нс сводится к сумме значений
слов, его составляющих: существование текста включено в процесс
коммуникации исследователя и читателя.
Условием взаимопонимания гуманитариев стала та неизменная
часть каркаса категориальной структуры, которая сложилась ещё в ан-
. Биек И. Я. Введение в писательское мастерство историка. Литературная
*°РМа исторического труда. Иваново, 1996.
Nietzche F. Werke. Berlin, 1967. Bd. 3. S. 185.
5 Rathenau W. Briefe. Dresden, 1926. Bd. 2. S. 8.
154 Историческая эпистемология сегодня
тичные времена. Вот почему труды Геродота, Платона и Аристотеля
понятны не только Ибн-Хальдуну, Вольтеру и Канту, но и современным
авторам. Взаимопонимание исследователей мало зависит от ускорения
исторического процесса вообще и мыслительного процесса в частности.
Культ нового и небывалого всегда лежал в основе развития наук, однако
обновление терминологического пространства происходило рывками и
зависело от многих причин. Обострение интереса к какому-либо явле-
нию или процессу имеет противоречивые понятийные последствия. С
одной стороны, более тщательное исследование сущностей уточняет
категории, его обозначающие. Но, с другой стороны, в ходе проводимо-
го анализа высказываются разные точки зрения, сталкиваются позиции
авторов, придерживающихся различных методологических ориентаций,
что, в конечном счёте, размывает эти понятия, делает их менее чёткими.
Многие научные споры возникают как раз из различного толкования
тех или иных терминов. Ещё Декарт полагал, что «верно определяя сло-
ва», наука освободит мир от половины недоразумений. Основатели
школы логического позитивизма уверяли, что чуть ли не все проблемы
общества порождены неопределённостью понятий и терминов. По мне-
нию А. Тойнби, история языка - это конспект истории общества.
Слова, как и люди, имеют возраст. Научные термины могут уста-
ревать или нуждаться в своеобразном «лечении», что увеличивает их
терминологическую нагрузку, но зато проясняет смысл и сущность того
реального исторического феномена, который обозначается тем или
иным понятием. В любой науке время от времени возникает необходи-
мость некоторой ревизии понятий, необходимость избавления от син-
дрома «вавилонской башни», порождённого увеличением информаци-
онных потоков и распшрением научного дискурса.
Терминологические споры полезны тем, что ярче высвечивают
границу между сферой уже объяснённого знания и сферой недостаточ-
ного понимания. Однако в истории науки есть масса примеров тупико-
вого исхода терминологических споров, объясняемого парадоксальной
природой большинства сложных исторических явлений6.
Сравнивая терминологические арсеналы разных наук, М. Блок отме-
чал, что точные науки имеют дело с реальностями, которые по своей при-
роде неспособны сами себя называть. «В науке о человечестве положение
совсем иное. Чтобы дать названия своим действиям, верованиям и ра3'
личным аспектам своей социальной жизни, люди не дожидались, пока все
6 Этот факт когда-то подметил Б. Спиноза, говоривший, что «всякое опреД6'
ление есть ограничение», потому что оно исключает другие связи данного явления-
Лаптева. Специфика терминологического пространства...
155
станет объектом беспристрастного изучения. Поэтому история боль-
jjjefi частью получает собственный словарь от самого предмета своих за-
нЯтий, когда он истрёпан и подпорчен долгим употреблением»7.
Содержание большинства исторических понятий зависит от коптск-
в котором они употребляются. Переда) понятия представляют собой
некий код, используемый людьми одной культуры и непонятный людям
ИНЬ1Х культур. Понятия, заимствованные из источников, имеют точный
cMbicJi только в рамках той эпохи, в которой они употреблялись. Многие
из них малопонятны не только современному читателю, но и профессио-
нальному историку, если он занимается изучением другой эпохи.
Историк, изучающий отдалённую эпоху, в чём-то сродни перево-
дчику, поскольку он тоже «переводит» с другого языка, точнее, с языка
другой эпохи. Поэтому к нему можно применить гипотезу языковой
относительности, сформулированную крупнейшими лингвистами
XX века Э. Сепиром и Б. Уоффом. Согласно жёсткому варианту этой
гипотезы, каждый язык своей структурой и лексическим составом зада-
ёт определённую картину мира. Поскольку разные картины мира явля-
ются противоречивыми и не сводимыми друг к другу, то носитель одно-
го языка не может понять носителя другого8.
Структурная лингвистика многое проясняет тем гуманитариям, ко-
торых волнуют проблемы терминологии. Однако структурализм может
быть опасным, если отрывает форму от содержания. Не случайно даже
такой корифей этой сферы, как Ю. М. Лотман в последние годы жизни
охладел к структурализму. По мнению профессора А. М. Шахнаровича,
«смыслы языка .. .хранятся в голове человека, а не заключены в глубин-
ные структуры текста, взятого как вещь в себе»9. Например, смысловое
содержание выражения «картина мира» синонимично содержанию вы-
ражения «совокупность знаний о мире», но если сравнивать эти понятия
в контексте структурной формы, то может возникнуть совершенно не-
адекватное представление по поводу сущности изучаемых реалий. Не
забывая о том, что понятия, используемые историком, являются не
столько категорией языка, сколько категорией познания, мы не можем
игнорировать тот факт, что «жизнь» любого понятия протекает в языке.
Лингвисты подчеркивают, что понятие и его значение - это объекты
7 БлокМ. Апология истории. М., 1973. С. 86.
8 См. об этом: Воротников Ю. Слова и время // Alma mater. 2007. № 10. С. 4.
9 См. его предисловие к книге: Колшанский Г. В. Объективная картина мира в
дознании и языке. М., 1990. С. 4.
156 Историческая эпистемология сегодня
—
разных наук. По словам Г. В. Колшанского, существует прочная тради-
ция различения понятия (логика) и его значения (лингвистика)10.
Хотелось бы также подчеркнуть двойную зависимость историка: его
язык зависит от той эпохи, которую он изучает, и от той, в которую он
живет. По мере того, как меняется языковая ситуация разных стран и на-
родов, меняется и терминологический аппарат различных наук, но более
всего к процессу этих изменений восприимчивы гуманитарные науки.
Когда-то А. Я. Гуревич писал о двойной ответственности историка. Про-
блема языка - частный случай этой ответственности, полный парадоксов
и взаимоисключающих сложностей. Язык Геродота не похож на язык
Карамзина, язык Маколея в такой же степени не похож на язык совре-
менного нам историка, в какой XIX век отличается от XXI века. При по-
пытках составления частотного словаря языка историка самым употреб-
ляемым оказывается слово «например». Это свидетельствует, с одной
стороны, о невозможности проанализировать всю совокупность фактов, а
с другой - о желании не ограничиваться теоретическими рассуждениями,
а показать читателю нечто конкретное и понятное.
По мнению американского писателя А. Азимова, профессионально
занимавшегося историческими исследованиями, научный словарь дол-
жен стать одной из привлекательных, а не отпугивающих сторон нау-
ки11. Действительно, профессиональная деятельность человека науки нс
может не включать в себя работу над языковым выражением его науч-
ных результатов. От этого во многом зависит возможность нахождения
адекватных ответов на принципиальные вопросы каждой отрасли науки.
Без формулирования их в доступной форме самые лучшие результаты
могут оказаться сомнительными. Спорным остаётся вопрос о степени
доступности, точнее о том, каков адресат текста: массовый читатель,
любой профессиональный историк или же специалист крайне узкой об-
ласти исторических исследований. В большинстве текстов, выходящих
из-под пера историков, «слова скучают и мучаются...в одних и тех же
постоянно повторяемых сочетаниях. Всё те же прилагательные тянутся,
как тени, за своими привычными существительными. Окаменелые обо-
роты, прогнившие метафоры»12. Метафоричность понятий, используе-
мых историками, порождает у некоторых критиков скептицизм в отно-
шении их научной ценности. На мой взгляд, если метафора отражает
существо проблемы, возникшей в реальности, то её применение не
10 Там же. С. 45.
" Азимов А. Язык науки. М., 1985. С. 10-11.
12 Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. С. 204.
Ц. Лаптева. Специфика терминологического пространства... 157
^дько обоснованно, но и становится научной необходимостью. По сло-
вам X- Уайта, «история как текст - это, конечно же, метафора»13.
По мнению Н. И. Смоленского, язык историка должен обладать
ёмкостью, гибкостью, однозначностью и точностью. Трудно предста-
вить, как эти качества можно совместить. Впрочем, сам Смоленский в
учение многих лет размышлял над этим и предложил определённую
дифференциацию понятий, которые употребляет историк. Прежде все-
го, это слова из литературного языка эпохи, современной автору. Затем
он выделяет научные понятия, несущие основную познавательную на-
грузку. Собственно исторические термины отличаются им от слов и
понятий, заимствованных из других научных дисциплин и от форма-
лизмов неязыкового происхождения14.
Философы неизменно настаивают на том, что термин - это обозна-
чение строго определённого понятия. Однако на практике не всегда реа-
лизуется правило «один термин - одно понятие». Научное значение того
или иного термина не вытесняет полностью его обыденного значения.
Поскольку нетерминологическое значение слова сосуществует с его на-
учным значением, то сохраняется основа или причина неоднозначности
терминологии. Кроме того, любые понятия не могут быть слепком с дей-
ствительности: они отражают определённый угол зрения исследователя и
ту логику исторического мышления, которая ему присуща.
Историк не может быть безразличен к проблеме упрощения или
усложнения языка своей науки, к вопросам языковых заимствований из
смежных и особенно далёких наук. Условность и размытость историче-
ской терминологии хорошо заметна при ее сравнении с терминологией
естественных наук. Мыслители XVHI-XIX веков (Дж. Вико, И. Гердер,
В- Гумбольдт, В. Дильтсй, Ф. Шлейермахср), поставив проблему спе-
цифики гуманитарного знания, во многом сводили ее к проблеме языка
и> соответственно, понимания смысла изучаемого и предъявленного
текста. В концепции Ф. Шлейермахера герменевтика стала основой лю-
бой мыслительной деятельности. Он ввел в свою теоретическую конст-
рукцию автора текста, которого необходимо понять, описал такой вид
интеллектуальной деятельности, который до него никто не анализиро-
иил. Для В. Гумбольдта язык - это особая реальность. Именно он заост-
Рйл проблему соотношения языка и реальности. Подчеркнув, что глав-
13 УайтХ. По поводу «нового историзма»// Новое литературное обозрение.
W № 42. С. 41.
Смоленский Н. И. Рациональное и эмоциональное в языке историка // Исто-
рические записки. М„ 1999. № 2. С. 137-138.
158
Историческая эпистемология сегодня
ной формой герменевтики является автобиография, В. Дильтей отметил
что она способна «развернуться в историческую картину»15.
Э. Гуссерль связал проблемы языка с вопросом выживания евро-
пейской духовности. Забота о смысле языковых конструкций была для
него частью научной этики. Его ученик М. Хайдеггер, озабоченный не-
обходимостью синтеза научного и понимающего мышления (он их раз-
личал), превратил понимание из способа познания в способ бытия. Со-
гласно Хайдеггеру, подлинный язык - это истинное понимание.
Ф. Шлейермахер полагал, что понять текст можно только путем сопе-
реживания автору текста, а Г.-Г. Гадамер считал, что личные пережива-
ния автора не столь важны для понимания сути ситуации. Важно слия-
ние горизонтов читателя и автора: «истину не может познавать и
сообщать кто-то один»16 17. Гадамер отмечал, что проблема понимания
встаёт всякий раз, когда вошедшие в привычку ключевые понятия на-
чинают действовать как раздражители1'. Он писал о необходимости
расширять единство смысла, о том, что единичное можно понять только
в контексте, а целое только в совокупности конкретных единиц, но его
«крут понимания» становился замкнутым кругом. Попытку разорвать
этот круг предпринял М. Хайдеггер, утверждавший, что понимание все-
гда начинается с некоторого неправильного предположения о смысле
понимаемого целого. Различая понимание и познание, он намеревался
синтезировать эти мыслительные процессы и, размышляя над возмож-
ностью такого синтеза, разграничивал речь подлинную и неподлинную.
Хайдеггеровское разделение речи на подлинную и неподлинную очень
похоже на дифференциацию Ж. Лакана, только у него присутствует
иное их наименование: по Лакану, есть речь пустая и речь полная.
Постмодернистский вызов усилил внимание к языку гуманитар-
ных наук, прежде всего теми идеями ведущих ученых, представляющих
цвет постмодернистской мысли. Так, Р. Барт назвал языковую деятель-
ность бесконечным процессом, в котором каждое новое высказывание
не отменяет предыдущее, а пишется как бы над ним. Вероятно, исходя
из такого соотношения прежних и новых умозаключений, Ф. Анкерсмит
полагает, что не следует переоценивать «лингвистический поворот»,
видя лишь такие его последствия, как эстетизм и возвращение к аристо-
телевской концепции опыта. Исторический опыт по Анкерсмиту -- эТ°
15ДилыпейВ. Наброски к критике исторического разума// Вопросы филос»
фии. 1988. №4. С. 141.
16 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 8.
17 Там же. С. 43.
д/ fl. Лаптева. Специфика терминологического пространства... 159
наша рефлексия остатков прошлого. Впрочем, задолго до современных
теоретиков постомодернизма французский историк Н. Д. Фюстель де
Куланж произнёс знаменитое: тексты, тексты, ничего кроме текстов.
Нередко у историков возникает неоправданное увлечение новыми
терминами. Так было, например, с понятием «ментальность», так до сих
пор происходит с понятием «историческая память». У подобных увле-
чений сеть, как мне кажется, если не оправдание, то, во всяком случае,
серьёзная причина их появления. Она связана с довольно слабым и мед-
ленным обновлением терминологического аппарата исторической нау-
ки. Именно поэтому появление каждого нового и первоначально удач-
ного определения какого-либо реального явления, прежде не
идентифицированного, ведёт к неумеренной радости и как следствие к
некоторым издержкам.
Заметное обновление языка современного историка связано, преж-
де всего, со стремлением гуманитариев говорить на едином наречии.
Эго стремление привело к употреблению историками таких понятий,
как «символический код», «риторические стратегии», «концепт», «дис-
курс», «смысловые блоки», «социальные идентичности» и другие. Эти
общегуманитарные понятия отличаются гибкостью и разнообразием
оттенков, а при формулировании точных понятий оттенки пропадают.
Когда историк даёт определение изучаемому явлению или процессу, то
тем самым он ставит некий предел, проводит границы. В таких ситуа-
циях возникает представление о том, что якобы имеются «правильные»
и «неправильные» понятия. Однако, как заметил немецкий историк
Ф. Граус, такое разделение не имеет смысла: гораздо плодотворнее де-
лить понятия на «работающие» и «неработающие», то есть не помо-
гающие историку объяснить его материал.
В современной гуманитарной культуре на смену классическому
требованию определённости всяческих значений (в том числе и значе-
ний понятий) пришло требование принципиальной их открытости. Оп-
ределённость значения растворилась в его вариативности, вплоть до
любых наименований. На смену шекспировскому рассуждению «Что
имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет...» пришло «Имя
^озы» У. Эко. В этом романс У. Эко фиксирует ощущение хаоса и кри-
зиса, которое стало преобладать в современном мире, когда порядок
слов перестал соответствовать порядку вещей18. При этом постмодер-
нисты настаивают на конструктивной роли хаоса, поскольку он откры-
—. __________________________
18 См. об этом: Очерки теории и истории культуры XX века. Томск, 2007.
с-125.
160 Историческая эпистемология сегодня
вает множество новых интерпретаций, меняет акценты взаимодействия
автора и читателя. Однако одновременно как раз и возникают парадок-
сы, приводящие к трудностям (а также наоборот - трудности, приводя-
щие к парадоксам). Взять, к примеру, понятие «лингвистического пово-
рота». Историки, анализирующие теоретические проблемы
гуманитарной науки, говорят о нём, как о свершившемся факте. Но раз-
ве огромная масса историков, исследующих исключительно конкретные
проблемы, что-то принципиально «повернула» в той части своей рабо-
ты, которая связана с понятийным аппаратом? Вопрос, в данном случае,
остаётся риторическим.
Анализируя проблемы терминологии, мы не можем игнорировать
не только реальные, но и потенциальные возможности языка. Согласно
У. Эко, «язык не ограничивается теми маршрутами, которые уже приня-
ты культурой, но использует некоторые из них, чтобы прокладывать
новые»19. Роль языка исторической науки не может быть ограничена
фиксацией и передачей смыслов той или иной исторической ситуации.
Его креативная нагрузка гораздо существеннее: от неожиданного пово-
рота фразы, от новизны формулировки зависит появление нового смыс-
ла, а, следовательно, и нового знания. А если учитывать гипотезу лин-
гвистической относительности, точнее - содержащийся в ней принцип
логического детерминизма, согласно которому категории языка даже
могут определять характер мышления, то значимость терминологиче-
ского аппарата ещё более повышается.
Современные авторы, работающие на стыке философии и лингвис-
тики, подчёркивают такую важную функцию языка, как «функция эко-
номии интеллектуальных усилий»20. На мой взгляд, это утверждение
тоже содержит в себе изрядную долю парадоксальности, так как науч-
ная деятельность скорее стимулирует трату интеллекта, нежели его эко-
номию. Однако смысл утверждения понятен, ибо затрагивает сферу яс-
ности языка, его понятности не только профессиональному, но и
массовому читателю. Язык современной (и не только исторической)
науки представляется мне системой координат, где понятность - абс-
цисса, а научность - ордината. Конечно, эта схема не абсолютна, но
большинство текстов, опубликованных в статьях и монографиях, к со-
жалению, ей соответствуют.
Представители исторического цеха, возможно, более чем иные гу-
манитарии, заинтересованы в появлении концептуальных идей, прояс-
19 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2005. С. 149.
20 Береснева Н. И. Философия языка. Пермь, 2006. С. 62.
Ц. Лаптева. Специфика терминологического пространства... 161
jjjjonyix ситуацию в той части теоретических оснований науки, которая
непосредственно влияет на язык историка. Тем более, что согласно со-
именным научным представлениям, теория - это «всего-навсего» ос-
мысление в понятиях тех или иных эмпирических наблюдений21. Поня-
jffg позволяют исследователю дифференцировать явления и процессы,
составляющие в совокупности ту или иную историческую ситуацию. На-
учные понятия фиксируют специфические и существенные признаки
изучаемых явлений. Поскольку язык - это исключительно сложное явле-
ние, сравнимое со сложностью жизни, то амбивалентность исторических
процессов как раз и лежит в основе парадоксальности исторических тер-
минов. Амбивалентность истории, на мой взгляд, означает даже не двой-
ственность, а, скорее, множественность процессов, происходивших в
прошлом и изучаемых исторической наукой. Одно и то же историческое
явление может проявить себя в разных политических действиях, может
быть по-разному воспринято различными историческими акторами.
Чем последовательнее историк пытается понять язык ушедшей
эпохи, тем больше такой язык требует перевода на современный язык с
учётом принятого в его обществе понятийного арсенала. Познание не
может быть зеркальным отражением прошлого. Возникающая при этом
своеобразная «кривизна» отображения как раз более всего ощутима в
языковой сфере. Активная мыслительная деятельность ученого допус-
кает возможность и некоторого «отлёта» мысли от изучаемого объекта,
что также приводит к определённой парадоксальности выводов, более
всего ощущаемой на лингвистическом уровне.
Ещё одна причина парадоксальности исторической терминологии
связана с усилением процесса интеграции наук. Сам по себе этот процесс
закономерен и оправдан. Выход за пределы узкого круга отдельной дис-
циплины помогает избежать шаблонных путей и решений, нередко обре-
кающих исследователя на научное бесплодие. Взаимодействия и взаимо-
влияния специалистов разных дисциплинарных областей неизбежно
приводят к понятийным заимствованиям. Этот процесс разносторонне
изучен и многократно описан теоретиками и методологами. Но мне бы
хотелось в рамках поставленной проблемы обратить внимание на то, что
термины и категории имеют своеобразную родовую память, привязан-
ность к истоку. Их использование в другом научном контексте требует и
Корректности применения, и убедительного обоснования того нового
смысла, который историк привносит при употреблении заимствованного
21 Савельева И. М., Полетаев А. В. История как теоретическое знание И Диалог
60 временем. 2000. Выл. 3. С. 17.
162
Историческая эпистемология сегодня
понятия. Распространённая практика некорректного применения поня-
тий, за которыми в иных науках закрепился совершенно определённый
смысл, приводит историка к ситуации сомнительной новизны, исходящей
только из нового, необычного применения «чужого» термина.
Опасность «терминологической интервенции» со стороны таких
наук, как биология и психология, осознавалась историками ещё в конце
XIX века. Так, например, ученик В. И. Герье П. Н. Ардашев писал о
«тумане несообразной терминологии», о «мути и путанице понятий»22.
А ныне исторические реалии могут постигаться с помощью таких поня-
тий, введённых в исторический дискурс А. С. Ахиезером, как «инвер-
сия», «партиципация», и ещё более мудрёных слов. Большинство исто-
риков либо не читают такие тексты, либо считают их.неизбежным
следствием языковых революций.
Ю. М. Лотман считал, что продолжение и развитие какого-нибудь
утверждения, какой-либо мысли предполагает и их своеобразное пре-
одоление, то есть новый смысл вроде бы предопределён. Однако он же
советовал историку употреблять любые понятия, но не менять их значе-
ний в пределах одного текста23 24. В педагогической науке предложен так
называемый понятийно-терминологический метод анализа документов.
В частности, с его помощью выявляются группы заимствованных поня-
тий, выясняется, «получили ли понятия собственную интерпретацию
или они употреблялись в чисто заимствованном виде»2'4. Предложенный
метод состоит в анализе создаваемых документов с точки зрения одно-
значности, точности и понятийной определённости употребляемых тер-
минов. Авторы не скрывают, что черпают понятийные признаки и тер-
минологию из теории управления, а не из педагогической науки,
представителями которой являются.
Основания для парадоксальности терминологии даёт и наличие
своеобразных смысловых слоев, как эксплицитных, то есть явно выра-
женных, так и имплицитных, то есть скрытых, неявных. Лингвисты
предупреждают остальных гуманитариев о способности языка к изме-
нению и выявлению новых смыслов в сопряжении слов. То, что на по
верхности образует некую «игру слов», может стать причиной непони-
22 См. его статьи в журналах «Русское богатство» (1896. № 4) и «Вопросы фи-
лософии и психологии (1895. № 3).
23 Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002.
24 Полонский В. М., Сидон Л. М., Самбурова Г. Г. Понятийно-терминоло-
гический метод анализа нормативных документов в сфере образования // Инновации
в образовании. 2008. № 2. С. 35.
д/ /7 Лаптева. Специфика терминологического пространства... 163
мания, обусловленной парадоксальностью смысла. Готлиб Фреге чуть
дл не век назад указал на различие между смыслом (Sinn) и значением
(Bedeutung) понятия. Его последователи назвали это «треугольником
фрсге» (знак смысл - значение). Под значением они стали понимать
обозначаемый термином объект или совокупность объектов, а под
смыслом - существенные признаки обозначаемого объекта или сово-
купности объектов, то есть, такие, выявление которых непосредственно
связано с необходимостью применить именно данный термин25. Вооб-
ще-то проблема различения смысла и значения своими корнями уходит
в античную философию, различавшую достоверное знание и вероятное
мнение26. Не случайно немецкого математика, логика и философа
Г. Фреге называли Аристотелем XX века. Смысл, по Фреге, это концеп-
туальная сущность или нечто объективное, которое нужно отличать от
субъективных идей. Понятия с одним и тем же смыслом могут иметь
одно и то же значение. Однако, имея одно и то же значение, они могут
иметь разные смыслы, так как слово или выражение может обладать
только смыслом, а его значение зависит от контекста.
В современной исторической науке почти не появляются новые
концептуальные категории, нс заимствованные из других дисциплин, а
вызванные к жизни собственным материалом и собственно историче-
скими размышлениями. По мнению Д. С. Лихачева, «если учёный соз-
даёт сотни новых терминов - он разрушает науку, десятки - поддержи-
вает её, два-три — двигает науку вперёд»27. Новые понятия в науке чаще
всего появляются в своеобразных «точках боли», когда возникает ощу-
щение неразрешимой проблемы. При этом в исторической науке неред-
ко новый термин появляется за счёт добавления определения «истори-
ческий» к какому-либо известному слову или понятию. Очень часто
такой относительно новый термин не столько проясняет исследователь-
скую ситуацию, сколько увеличивает понятийный беспорядок.
И. М. Савельева, комментируя книгу английского автора по проблемам
искусства памяти, заметила, что концепт исторической памяти стал
подменять понятие «историческое сознание». Возникла необходимость
Разведения этих категорий28. Таким образом, применение новых поня-
25 См. об этом: Череповецкий К. И. Власть, язык и репрессии // Свободная
мЫсль. 2008. № 9. С. 200.
26 См. об этом: Жолъ К. К. Мысль, слово, метафора. Киев, 1984. С. 149.
27 Лихачёв Д. С. Избранное. М., 2006. С. 117.
28 Савельева И. М. Перекрёстки памяти И Хаттон П. История как искусство
Памяти. СПб., 2003. С. 407-408.
164
Историческая эпистемология сегодня
тий парадоксальным образом не только облегчает работу исследователя
но и создаёт новые, дополнительные трудности.
К числу парадоксальных явлений, связанных с понятийным аппа-
ратом не только исторической, но вообще всей гуманитарной науки
можно отнести и несколько своеобразную инфляцию слов и смыслов,
вызванную процессами общей языковой ситуации. В. М. Раков полага-
ет, что мы «живём в эпоху Великого упрощения»29. Не вдаваясь в под-
робности философского толкования этого утверждения, хочу обратить
внимание на весьма заметное упрощение вербальных коммуникаций.
Вероятно, это упрощение является реакцией на преобладание визуаль-
ных форм общения в современной реальности. Одним из примеров та-
ких упрощений можно считать попытки избавиться от «лишних», то
есть дублирующих друг друга понятий.
Так, некоторые авторы полагают, что поскольку всякое понимание
является интерпретацией, то нет смысла различать понимание и интер-
претацию. Американский профессор Ричард Шустерман пытается опро-
вергнуть это мнение. Один из его аргументов таков: «Интерпретация
нацелена на языковое формулирование. Понимание не требует языково-
го выражения. Некоторые вещи, которые мы переживаем и понимаем,
образуют... фон, наличие которого (помогает нам -МЛ.)... что-либо
формулировать или интерпретировать»30.
Хотелось бы обратить внимание и на то, что рефлексия по поводу
терминов и понятий выполняет не только объяснительную функцию,
характерную для любой науки. Применительно к гуманитарным наукам
подобная рефлексия имеет и немалое мировоззренческое значение.
Язык, на котором мы говорим и пишем, выражает наше понимание ми-
ра и наше отношение к нему. От его состояния зависит степень научно-
сти исторической картины, адекватность наших представлений о про-
шлом Его влияние на историческое сознание общества поистине
неоценима, так как определяет эффективность и креативность интел-
лектуального пространства страны и цивилизации.
29 Раков В. М. Май 68-го: инициация в постсовременность И Университет.
Пермь, 2008. С. 8.
30 Шустерман Р. Ниже уровня интерпретации И Вопросы философии. 2008-
№ 7. С. 155.
Ю. П Денисов
КАТЕГОРИЯ “ДИСКУРС”
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
Воздействие интеллектуальных вызовов постмодернизма на истори-
ческую науку последней четверти XX - начала XXI вв. привело к тому,
что одной из характерных черт современного гуманитарного знания ста-
новится рефлексия по проблеме объективности в исторической науке,
возможности рационального познания и адекватной оценки прошлого.
Своеобразным консенсусом в противостоянии постмодернистской
парадигмы и парадигмы классического историзма явился произошед-
ший в 1990-е гг. «культурологический поворот». В результате одним из
центральных стал вопрос о том, как действующие лица истории изме-
няют социокультурные реалии своего существования и деятельности.
В этих условиях особое значение приобретает осмысление харак-
тера связи между субъектом и объектом исторического познания, то
есть между историком и историческим источником, или историческим
текстом в постмодернистской трактовке этого термина. В результате в
процессе исторического познания на первый план выходит проблема
расшифровки, декодирования исторического текста, а, следовательно, и
проблема постижения языка, посредством которого создан данный
текст. Корпус текстов (наборов символов и знаков), связанных опреде-
лённой содержательной согласованностью можно определить как дис-
курс1. При этом обязательным условием существования и функциони-
рования любого дискурса является акт коммуникации. В процессе
исторического исследования в качестве такого коммуникативного дей-
ствия выступает непосредственно работа историка с источником, пред-
полагающая определённый мыслительный процесс.
Вместе с тем, как отметил М. Фуко, само по себе «описание дис-
курса противоположно истории мысли... Мы можем реконструировать
историю мысли, только исходя из определенных совокупностей дискур-
са. .. Речь идет о том, чтобы заново восстановить другой дискурс, оты-
скать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются
Доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восста-
новить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры
Между строчками и порой раздвигает их»2. Таким образом, в постмо-
1 Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, прави-
тель, национальный герой (1263-2000). М., 2007. С. 21.
2 Фуко М. Археология знаний. Киев, 1996. С. 28.
166
Историческая эпистемология сегодня
дернистской парадигме, необходимым условием адекватной исследова-
тельской деятельности, направленной на познание прошлого, является
производимая в процессе межкультурной коммуникации реконструкция
всех «совокупностей» дискурса. Исторический источник в данном слу-
чае выступает как промежуточная стадия дискурса, если понимать под
дискурсом совокупность речемыслительных действий обоих коммуни-
кантов: продуцента исторического источника и реципиента, в роли ко-
торого в процессе научного познания выступает историк. В то же время
исторический источник можно рассматривать как объективно сущест-
вующий факт действительности, являющийся продуктом определённого
дискурса. Рассмотрение исторического источника в таком ракурсе кор-
релирует с предложенной ещё А. С. Лаппо-Данилевским трактовкой
исторического источника как объективированного продукта человече-
ской психики: «...мысль есть психический продукт мыслящего субъек-
та, но она становится доступной восприятию постороннего наблюдателя
лишь в том случае, если она реализована, т.е. выражена в каких-либо
действиях или их результатах, т.е. если она обнаружена и запечатлена в
каком-либо материальном образе; значит историк может судить о чу-
жой мысли только по реализованным её продуктам»3. Исторический
источник представляет собой своеобразную смыслосодержащую и од-
новременно смыслопорождающую систему. Такой подход предполагает
наличие определённого дотекстового сообщения. Именно на этой пре-
зумпции построена модель “смысл - текст”. Исторический источник
представляет собой «информационную упаковку», в которой в закоди-
рованном виде содержится смысл, направленный адресату. Разворачи-
вая эту «упаковку» и стремясь постичь мысль, заложенную в неё авто-
ром, историк вступает в контакт с другой культурой и, по выражению
А. Я. Гуревича, «выступает в роли посредника..., от имени своей куль-
туры он пытается завязать диалог с культурой иного времени»4.
Этот диалог двух культур в процессе познания исторического ис-
точника генетически связан с сущностью текста, которая, как отметил
М. М. Бахтин, «всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъ-
ектов»5. В этом ракурсе, отталкиваясь от предложенного Т. ван Дейком
расширенного толкования дискурса как сложного коммуникативного
3 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006. С. 291.
4 Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинст-
ва. М„ 1990. С. 9.
5 Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гумаии
тарных науках // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Baht_PrT.php-
fO, П. Денисов. Категория “дискурс”... 167
----------------------------------------------------------------
явления, включающего в себя социальный контекст6, мы можем рас-
сматривать процесс исследования историком исторического источника
как дискурсивную практику, в которой в роли «говорящего», т.е. проду-
цента выступает автор источника, а роль «слушателя», или реципиента
исполняет историк, исследующий данный текст.
Инструментом для кодировки содержащейся в тексте информации
выступает язык продуцента. Ещё софисты во времена Древних Афин
убедительно продемонстрировали, что язык - это «изобретённый людь-
ми инструмент, а не точное без искажений отражение реальности»7.
Одной из базовых функций этого инструмента и является передача ин-
формации в закодированном наборе символов, который и представляет
собой исторический источник. Этот же инструмент играет ключевую
роль в процессе «раскодирования» информации.
Однако, рассматривая язык как инструмент для кодировки, транс-
ляции и расшифровки содержащейся в историческом источнике инфор-
мации, необходимо учитывать весь комплекс факторов, воздействую-
щих на её восприятие историком, выступающим в качестве адресата
коммуникативного акта. Фигура адресата в современных исследованиях
дискурса осознаётся как действенный фактор организации коммуника-
тивного процесса, учитывать который необходимо в их органической
связи8. К числу факторов, оказывающих влияние на деятельность исто-
рика, относятся: способность речевосприятия, психическое состояние,
преследуемые при восприятии текста цели, возраст, материальное по-
ложение, гендерная принадлежность, ценностные ориентиры и установ-
ки, когнитивная база, стереотипы восприятия, коммуникативный и жиз-
ненный опыт и т.д. Учёный, подходя критически к изучению источника,
по выражению 3. Эгера, «сам со своей критикой не находится вне дис-
курса». Он, как и любой другой индивид, пребывающий в пределах оп-
ределённого социума, погружён в определённую дискурсивную среду и
Подвержен воздействию определённого дискурса, следовательно, зани-
жаемая им позиция может быть «результатом дискурсивного процесса»,
этой позиции он может вступать в дискурсивные сражения и защи-
6Дейк Т. ван. Анализ новостей как дискурса// Он же. Язык. Познание. Ком-
муникации. М., 1989. С. 113.
Брамбо Р. С. Софисты. Как добиться успеха в Афинах // Философы Древней
Рении. М„ 2002. С. 174.
8 Сидоров Е. В. Онтология дискурса М., 2008. С. 54.
168 Историческая эпистемология сегодня
щать свою позицию, а также модифицировать её»9 10. Приступая к анализу
источника, историк формирует определённую исследовательскую пози-
цию, которая испытывает на себе влияние всех предыдущих дискурсив-
ных практик исследователя. Анализируя текст, исследователь в свою
работу, в числе прочего, вкладывает свой коммуникативный опыт, что
не может не оказывать влияние на восприятие им информации.
Ещё один аспект процесса “субъективирования”, которому под-
вержена извлекаемая исследователем из исторического текста инфор-
мация, обусловлен спецификой того инструмента, при помощи которого
она кодируется и декодируется, т.е. самой спецификой языка. Ещё
Ю. М. Лотман отметил, что «все естественно возникшие языковые
структуры устроены в достаточной мере плохо. Для того, чтобы доста-
точно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентично-
стью, нужны условия, в естественной ситуации практически недости-
жимые: для этого требуется, чтобы адресант и адресат пользовались
полностью идентичными кодами, то есть, фактически, чтобы они в се-
миотическом отношении представляли бы как бы удвоенную одну и ту
же личность, поскольку код включает не только определенный двумер-
ный набор правил шифровки-дешифровки сообщения, но обладает
многомерной иерархией» °. Даже при условии, что оба коммуниканта
пользуются одним и тем же естественным языком и находятся в преде-
лах одной и той же культурной традиции, нельзя говорить о полной то-
ждественности используемого ими кода. Для обеспечения абсолютной
идентичности в восприятии продуцентом и реципиентом одной и той
же информации требуется полное единство их языкового опыта и тож-
дественность объема памяти, что, очевидно, является недостижимым в
ходе исследования. Следовательно, от историка в процессе дешифровки
«заархивированной» в источнике информации неизбежно ускользает
некоторая толика того смысла, который вкладывал в неё автор.
Описанная ситуация вкупе с фактической “неисчерпаемостью” эм-
пирического материала и невозможностью проверить результаты иссле-
дования экспериментальным путём приводит к осознанию определён-
ной условности понятия «истина» применительно к реконструкции
исторического прошлого. Ёмко такого рода исследовательская позиция
9 Jager S. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und
Dispositivanalyse // http://www.dissduisburg.de/Intemetbibliothek/Artikel/Aspekte_
ner_Kritischen_ Diskursanalyse.htm.
10 Лотман Ю. M. Внутри мыслящих миров И Он же. Семиосфера. СПб., 2000-
С. 157.
j0_ п. Денисов. Категория “дискурс”...
169
была сформулирована В. Ф. Коломийцевым: «В истории истина — все-
гда относительная величина хотя бы потому, что источники практиче-
ски неисчерпаемы, а исследователь никогда нс может преодолеть субъ-
ективный подход»11. Своеобразной альтернативой «гносеологическому
пессимизму» выглядит обращение к исследованию не самого объекта, а
к реконструкции его образа, сконструированного в границах опреде-
лённого дискурса. Образ в этих условиях получает роль связующего
звена между объектом и субъектом познания, а создание рационально-
абстрактного образа объекта становится одним из этапов научного ос-
мысления прошлого. Конкретный образ объекта субъективен по своему
восприятию. Тем не менее, как пишет Т. Н. Попова, «выражая одну из
ипостасей объекта и представляя собой один из вариантов его постиже-
ния», образ несёт в себе «объективно-содержательное начало». В этом
контексте образ, сконструированный в определённом дискурсе и рекон-
струируемый историком в ходе познавательного процесса, может быть
рассмотрен как подобие объекта. В процессе историописания это подо-
бие концентрируется в рамках очерченного предмета познания «в соот-
ветствии с конкретно-историческим гносеологическим уровнем и кате-
гориальным профилем познающего субъекта»12 13.
Происходящая в процессе работы с источником рефлексия истори-
ка может быть определена как «отражение сознанием самого себя, не-
кое удвоение фрагмента в пространстве образов мира, в результате чего
сознание приобретает способность оперировать своими собственными
образами» . Это положение соотносится с идеями Лаппо-Данилевского,
который, рассматривая исторический источник как объективированный
продукт человеческой психики, вместе с тем полагал, что при исследова-
нии письменных источников образ является не просто формой, в которой
запечатлён исторический факт, но и своеобразным инструментом позна-
ния: «При восприятии источника, материальная форма которого служит
лишь для обозначения фактов путём каких-либо символических знаков
(большею частью письменных), историк... не воспринимает более или
Менее сохранившегося образа данного факта; на основании знаков, сим-
волизирующих бывший факт в материальной форме, историк должен
конструировать в себе его образ для того, чтобы получить возможность
——
11 Коломийцев В. Ф. Методология истории (От источника к исследованию).
И, 2001 С. 180.
12 Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории
Новороссийского университета. Одесса, 2007. С. 107.
13 Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики
к лингвосинсргетикс. М., 2007. С. 68.
170
Историческая эпистемология сегодня
приступить к научному исследованию бывшего факта... При восприятии
«изображения» факта историк строит его из апперципируемых им дан-
ных своего опыта; но такое построение он производит путём восприятия
конкретных элементов данного материального образа; при восприятии же
условных знаков ему приходится подставлять мысленные образы прежде
чем приниматься за исследование бывшего факта»14 15. Из этого вытекает,
что, обращаясь к определённому дискурсу, историк имеет дело и с «неко-
торым своим построением», без которого не возможно постичь сконст-
руированный в источнике образ. Точнее, он имеет дело с двумя образами
изучаемого предмета, сконструированными в процессе коммуникации и
отражающими в той, или иной мере объективную реальность. Первый
образ конструируется интеллектуальными усилиями продуцента и отра-
жает его восприятие окружающей действительности. Второй образ явля-
ется продуктом познавательной деятельности реципиента-исследователя,
его восприятия образа, созданного продуцентом.
На обеих «стадиях» образ производится и воспроизводится в гра-
ницах определённого дискурса. Между тем, дискурс представляет собой
не только сложное коммуникативное явление, погружённое в разнопла-
новый контекст, но и своеобразный властный ресурс: «Дискурс и пере-
возит на себе и производит власть; он ее усиливает, но также и подры-
вает и подвергает ее риску, делает ее хрупкой и позволяет ее
блокировать» . Автор исторического текста, идентифицируя себя с оп-
ределённой “мы-группой”, испытывает на себе влияние господствую-
щего в ней дискурса. Власть в господствующем дискурсе, которую ис-
пытывает на себе создатель образа, во многом заключается в
возможности коммуникантов, располагающих властным статусом, кон-
тролировать и лимитировать коммуникативный вклад не обладающих,
или обладающих меньшим властным статусом коммуникантов. При
этом господствующий дискурс ограничивает, сдерживает и подавляет
то, что не соответствует принятым в данной “мы-группе” нормам. Тако-
го рода властная сила дискурса как социального контролёра происходит
из привносимых им в общественное сознание «оценочных схем, разде-
ляющих слова, мысли, поступки на дозволенные и недозволенные, при-
личные и неприличные, публично артикулируемые и подлежащие
умолчанию»16. Вместе тем, осуществляя акт межкультурной коммуни-
Лаппо-Данилевский А. С. Указ. соч. С. 297.
15 Фуко М. Диспозитив сексуальности // Воля к истине: по ту сторону знания,
власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 202.
16 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М., 2004. С. 83.
jq [J. Денисов. Категория “дискурс”... 171
кадии, историк испытывает на себе не одну лишь власть доминирующе-
г0 в рамках его “мы-группы” дискурса. Он ощущает на себе действие
языка продуцента нс только как инструмента по кодированию и транс-
ляции информации, но и как средства манипуляции сознанием17.
Это приводит исследователя, занимающегося воссозданием и ана-
лизом образа к потребности в деконструкции авторских текстов, пред-
полагающей «расчленение и собирание заново их составных частей»,
задача которой состоит в том, чтобы путём раскрытия опорных и скры-
тых установок, выявить имплицитные смыслы и значения, заложенные
в структуре текста18. Для того, чтобы восстановить и постичь заложен-
ный в тексте адресантом образ, исследователю, берущему на себя роль
адресата, необходимо вычленить техники, речевые стратегии и тактики,
приёмы, базовые семантические элементы, посредством которых созда-
вался данный интеллектуальный конструкт, а также социокультурные
характеристики адресанта и предполагаемого им адресата. Всё это даст
нам, в итоге, возможность реконструировать совокупность представле-
ний об изучаемом нами предмете, сложившихся в границах того или
иного дискурса. Одновременно с этим, как отмечают М. В. Йоргенсен и
Л. Дж. Филлипс, «с помощью детального анализа лингвистических ха-
рактеристик текста, используя специальные аналитические инструмен-
ты, можно выяснить то, как дискурсы активируются текстом, как “под-
водят” и обеспечивают особую интерпретацию»19. В этой связи
целесообразным представляется интериоризация в методологический
инструментарий историка метода дискурсивного анализа.
Опираясь на теоретические изыскания и исследовательскую прак-
тику представителя социокогнитивного направления критического дис-
курс-анализа Т. ванн Дейка, мы можем выделить в процессе реконст-
рукции образа ряд последовательных стадий. Первая из них
предполагает исследование образа на микроуровне20. Первоочередной
задачей здесь является изучение «микроструктур», семантических эле-
ментов текста, что предполагает анализ значений слов, словосочетаний,
17 «Объектом, в котором от начала времен гнездится власть, является сама
языковая деятельность, или, точнее, ее обязательное выражение - язык» (Барт Р.
Лекция И Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. С. 548).
18 Родигина Н. Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй полови-
ны XIX - начала XX в. Авторсф. дис... д.и.н. Омск, 2006. С. 9.
19 Йоргенсен М. В., Филипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харь-
ков, 2008. С. 146.
20 Здесь и далее речь идёт, в основном, о методике реконструкции образа в пе-
чатном или письменном дискурсе.
172 Историческая эпистемология сегодня
отдельных формулировок и предложений, отношений и взаимосвязей
между ними, а также стилистического и риторического образования
значений. Особую роль здесь играет выделение речевых клише (фрей-
мов), «слов-отметок», часто встречающихся или артикулируемых ины-
ми средствами существительных, прилагательных, глаголов и т.д.
Такое внимание к отдельным словам в процессе познавательной
деятельности не является изобретением Т. ван Дейка и других осново-
положников теории КДА. Согласно А. Ф. Лосеву, особенное значение
человеческому слову придавалось ещё в антропологический период ан-
тичной эстетики. Софист Г оргий писал: «Слово есть великий властелин,
который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, со-
вершает чудеснейшие дела»21. Слово является одним из наиболее важ-
ных средств создания образа в печатных и письменных дискурсах. Как
базовая строевая единица лексикона, слово соединяет два типа знания,
два слоя памяти - вербальный и невербальный. При этом «за единицами
лексикона закреплены не только реальные языковые единицы, но и
стоящие за ними явления, процессы и предметы внешнего мира»22. Ка-
ждое слово, которым продуцент текста тем или иным образом характе-
ризует исследуемый нами предмет, «выводит» в процессе коммуника-
ции блок верифицированной и неверифицированной информации.
По этой причине необходим анализ значений и выявление эмоцио-
нальной окраски всех употреблённых частей речи, сопряжённых в тек-
сте исторического источника с интересующим нас предметом. Опреде-
лённым влиянием на формирование и функционирование в процессе
коммуникации его образа обладает даже само написание характеризую-
щих его слов. Немецкий учёный К. Хикетхир считает, что различные ви-
ды письма, «буквы» (Schriften) представляют собой «важнейшие знако-
вые системы» (Zeichensysteme). По его словам, «буквы развились из
образов», и истоки литер современного алфавита коренятся в образах.
Изобретение алфавита он рассматривает как фундаментальный культур-
но-исторический перелом, так как в основу системы письменности (die
Schriftsysteme) легло «визуальное изображение акустических звуков».
Однако изначальное «иллюстративное значение» (Bildbedeutung) буквен-
ных систем быстро отошло на второй план. Наряду с ним буквы обрели
дополнительные символические значения. Изменения системы письма,
21 Цит. по: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 2. М., 1969//
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev2_HistEst/2Los_index.php.
22 Коровкин М. М. Внутренний лексикон языковой личности // Номинация и
дискурс. Рязань, 1999. С. 23.
jO II. Денисов. Категория “дискурс”... 173
д0 мнению К. Хикстхира, неразрывным образом связаны с изменениями
в культуре23. Таким образом, визуальные характеристики в печатном
дискурсе слов-маркеров, слов-штампов, обозначающих в тексте иссле-
дуемый предмет (размер шрифта, наличие курсива, наличие в слове за-
главных букв и т.д.), с одной стороны, отражает традицию его воспри-
ятия, сложившуюся в рамках той подкультуры, к которой принадлежит
автор текста. С другой стороны, оно «выделяет» в тексте то или иное «ка-
чество» анализируемого нами процесса, явления, феномена и т.д. и тем
самым оказывает действие на сознание и подсознание читателя.
Для “подчёркивания” в тексте исторического источника опреде-
лённых характеристик служит применение автором слов, словосочета-
ний и предложений, выполняющих функции гиперболы или литоты,
которые употребляются в значениях, способствующих созданию эффек-
та контраста и кульминации. Преувеличения и преуменьшения, которые
выражаются в определённых лексических единицах, направлены на
усиление у читателя формируемого в тексте “впечатления”. Поэтому
уже в ходе исследования образа на микроуровне целесообразно изучить
взаимосвязи между отдельными словами, словосочетаниями, частями
предложения и предложениями в тексте исторического источника.
Порядок слов и выполняемые ими функции находятся в прямой
зависимости от текстового окружения. Как отмечает Т. ван Дейк, «син-
таксис предложения отражает распределение семантических ролей уча-
стников события: либо порядком слов, либо различным функциональ-
ным соотнесением элементов (субъект, объект), либо использованием
активных или пассивных форм». Локальная взаимосвязанность отдель-
ных семантических элементов текста может достигаться за счет согласо-
вания времени, условий, причин, обстоятельств. Использование в тексте
определённых знаков препинания, последовательность, в которой упот-
ребляются словесные характеристики, соподчинение отдельных частей
предложения, играют определённую роль в формировании исследуемого
образа, а, следовательно, должны подвергаться анализу в процессе его
реконструкции. Кроме того, в процессе создания в текст исторического
источника закладываются такие составляющие, которые рассчитаны на
наличие у реципиента некоего предварительного знания. Следовательно,
Для объективной реконструкции образа «необходим когнитивный и соци-
альный анализ знаний носителей языка в рамках определённой культуры,
анализ того, как они используют эти знания в процессе интерпретации
23 Hickethier К. Einfiihrung in die Medienwissenschaft. Stuttgard; Weimar, 2003.
S. 61-62.
174
Историческая эпистемология сегодня
дискурса вообще и в установлении связности текста в частности»24. f[0
этой причине уже на этапе работы с «микроструктурами» представляется
целесообразным обращение к некоторым аспектам социокультурного
контекста, в котором происходило создание текста.
Опираясь на имеющиеся у него знания и суждения, а также уста-
новки, принятые в рамках той культуры или субкультуры, в которой
пребывает продуцент исторического источника, он выстраивает свой
текст по определённым сценариям (скриптам), представляющим собой
различные типы репрезентаций. Т. ван Дейку определяет их как «абст-
рактные, схематические, иерархически организованные наборы пропо-
зиций, конечные позиции которых являются незаполненными: их на-
полнение производится по умолчанию»25. Наличие скриптов в тексте
связано с тем, что дискурс является сверхфразовым единством, а, сле-
довательно, исторический текст не состоит из отдельных слов, словосо-
четаний и предложений, а представляет собой семантическую целост-
ность. Поэтому при реконструкции образа необходим анализ дискурса
не только на микроуровне слов, предложений и связей между предло-
жениями, но и на более глобальном уровне. Эта ступень дискурсивного
анализа предполагает работу с «семантическими макроструктурами».
Понятие макроструктуры было введено в оборот зарубежными ис-
следователями для абстрактного семантического описания глобального
содержания и глобальной связности дискурса. Глобальная связность
имеет более общую природу, чем связность локальная, которая прояв-
ляется на уровне связей между «соседствующими» предложениями.
Она характеризует дискурс в целом или большие его фрагменты26.
Воссоздание образа события, явления, личности и т.д. на макро-
уровне предполагает выяснение его роли в рамках используемого авто-
ром сценария. Большое значение в данном случае имеют событийная
канва повествования, сюжетная линия текста, темп, с которым развива-
ются события в тексте. В этой связи становится необходимым выявле-
ние в тексте исторического источника ремы, то есть «новой», «неиз-
вестной ранее» предполагаемому читателю информации. Именно ремы
составляют коммуникативные центры предложений.
Не меньшую роль в создании и восприятии образа и, соответствен-
но, в его реконструкции играют обеспечивающие семантическое единсТ'
24 Дейк Т. ван. Указ. соч. С. 125.
25 Там же. С. 140.
26 Дейк Т. ван, Кинч В. Макростратегии И Дейк Т. ван. Язык. Познание. КоммУ'
никация. С. 41.
lO [l. Денисов. Категория “дискурс"...
175
во текста темы, т.е. семантические макроутверждения, при помощи спе-
циальных макроправил (селекции, абстракции, опсрационализации) кон-
цептуально суммирующих и структурирующих текст. Они призваны
улучшить восприятие закодированной в послании информации той ауди-
торией, на которую оно ориентировано. «Всякое высказывание внутренне
диалогично уже в силу своей информативности: в нем сочетаются и
взаимодействуют два плана- как представители «взаимодействующих
систем» - план темы и план ремы»27. Функционирование образа во мно-
гом обусловлено взаимодействием этих двух «систем». Оно подчинено
последовательности утверждений, раскрывающих содержание основных
тем текста, и напрямую связано с несущими в себе информативную на-
грузку ремами предложений.
Однако его положение в тексте детерминируется не только взаи-
модействием семантических макроутверждений, служащих отправной
точкой для передачи информации, и коммуникативных центров, несу-
щих в себе данную информацию, и связанным с ним структурировани-
ем текста по принципу релевантности, но и риторическим аспектом по-
вествования. Если структурирование текста по принципу релевантности
отражает наиболее важные, с точки зрения его создателя, моменты в
повествовании, то воздействие риторического аспекта на структуру тек-
ста направлено на придание ему большей убедительности. Риториче-
ские структуры на макроуровне текста «содействуют более компактно-
му представлению информации и тем самым они способствуют её
лучшему запоминанию, а, следовательно, усиливают воздействие. Они
также могут ввести в действие особые сценарии или установки... с по-
мощью использования сравнений и метафор...». Создание оттенков в
образе, зачастую, достигается путём стилистического и риторического
образования значений. Т. ван Дейк, в частности, называет приёмы, при-
меняемые авторами текстов на фонологическом уровне, например, ас-
сонанс; на синтаксическом уровне, например, параллелизмы; семанти-
ческие приёмы, например, сравнения, или метафоры28.
Наряду с анализом метафорических конструкций в микрострукту-
рах и макроструктурах исторического текста, реконструкция образа по-
средством социокогнитивного дискурс-анализа предполагает выявление
Подразумеваемого» автором смысла, «подоплёки», подтекста. Наличие
Подстрочных» смыслов в тексте обусловлено тем, что передающееся с
27 Силантьев И. В. Текст в системе дискурсных взаимодействий. Новоси-
бирск, 2004. С. 11.
28 Дейк Т.А. ван. Указ. соч. С. 133.
176
Историческая эпистемология сегодня
помощью текста информативное послание рассчитано на наличие у ад.
ресата базовых представлений о мире. Причём «традиция» включения в
текст имплицитных смыслов присуща практически всем разновидно-
стям дискурса. Это вызвано тем, что в процессе общения коммуниканты
не «прямолинейно» понимают друг друга, а «вычисляют» небуквальное
значение, воспринимая высказывание как предмет для «уразумения».
«Понимающая сторона “кооперируется” с говорящим или пишущим
именно в том смысле, что пытается выполнить предложенную ей зада-
чу»29. Поэтому в процессе исторического исследования продуктивным
оказывается сосредоточение внимания не только на том, что сказано,
но и на том, как это сказано, на возможных вариациях и нюансах трак-
товки лексических и семантических составляющих образа.
Одной из основных задач при анализе исторического источника,
таким образом, становится выявление набора идей и представлений,
посредством которых его создатель осваивает и интерпретирует окру-
жающую его реальность. При этом в орбиту исторического исследова-
ния включаются не только декларированные автором взгляды и убеж-
дения, но, по возможности, и те идеи и представления, из которых он
исходил имплицитно при создании исследуемого образа. В некоторой
степени способом их выявления, с одной стороны, выступает тщатель-
ный анализ содержательной стороны высказываний автора текста, а
также всестороннее рассмотрение использованных продуцентом фор-
мальных приемов и методик конструирования образа.
С другой стороны, имплицитные смыслы закладываются в образ
не только целенаправленно и строго рационально, но и подсознатель-
но30. Поэтому необходимость постижения подразумеваемых смыслов в
исследуемом образе диктует историку задачу не только изучения рече-
вых стратегий и тактик его конструирования, но и воссоздания контек-
стов, в которые погружён «заархивированный» в историческом источ-
нике интеллектуальный конструкт. Представляется методологически
продуктивной мысль Чан Ким Бао, сочетающей западные и восточные
традиции философствования. Она полагает, что «дискурс имеет два
компонента: лингвистический (как основа инь-дискурса) и экстралин-
29 Демьянков В. 3. Кооперированность общения и стремление понять собесед-
ника // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация: К 70-летию Д-
ра филолог, наук, проф. Е. Ф. Тарасова. Калуга; М., 2005. С. 28.
30 О неспособности (взгляда на имплицитное» как на исключительно «созна-
тельный процесс» см.: Серио П. Русский язык и советский политический дискурс-
анализ номинализаций И Квадратура смысла. М., 1999. С. 363.
jO [J. Денисов. Категория “дискурс"... 177
геистический (ян)»31. В качестве лингвистического компонента высту-
пают системные языковые единицы (слово и предложение) с их языко-
выми возможностями, к которым относятся интонационные, лексико-
грамматические средства, актуальное членение, пресуппозиция и т.д. К
экстралингвистическому компоненту относятся конситуация, прагмати-
ко-когнитивные возможности человека, социокультурный, психологи-
ческий и иные факторы. Опираясь на эту концепцию, можно заключить,
что образ, формируясь в определённом дискурсе, испытывает одновре-
менно воздействие лингвистической и экстралингвистической сред.
Воссоздание лингвистической среды, в которую погружён образ, в
границах изучаемого текста и постижение механизмов влияния “внут-
ритекстового” лингвистического контекста на формирование и рецеп-
цию образа события, явления, индивида позволяет осуществить описан-
ная методика анализа локальных и глобальных структур, которая
сформировалась в рамках социокогнитивного направления дискурс-
анализа. Обязательные элементы макроанализа — исследования топики,
общего смысла, основного содержания текста. Однако, анализируя мик-
ро- и макроструктуры, окружающие реконструируемый образ, необхо-
димо учитывать также, что помимо макроструктур существуют и другие
глобальные структуры дискурса. Т. ван Дейк и В. Кинч называют их су-
перструктурами. По их мнению, макроструктуры являют собой «семан-
тическое содержание категорий входящих в суперструктурные схемы»32.
При этом порождение последовательности актуальных микропропозиций
текстовой базы в общем подчинено тематическим макропропозициям33.
Следовательно, конструирование образа на микроуровне подчинено рас-
крытию темы и изложению информации в тексте, что осуществляется на
уровне макроструктур, входящих, в свою очередь, в суперструктурные
схемы в качестве семантического наполнения их категорий.
Существование суперструктур подтверждает, что языковая среда,
в которой создаётся и функционирует зафиксированный в историческом
источнике образ, не исчерпывается границами данного текста. Проявле-
ние суперструктурных схем в тексте источника является результатом
интертекстуального взаимодействия, или влияния на структуру текста
языкового контекста. В результате, созданный автором в процессе ком-
муникативного акта текст содержит в своей структуре знаки, референ-
31 Чан Ким Бао. Текст и дискурс (через призму иньян-концепции). М., 2000.
С. 53.
32 Дейк Т. ван, Кинч В. Указ. соч. С. 41.
33 Дейк Т. ван. Когнитивные модели этнических ситуаций // Язык. Познание.
Коммуникация. С. 73.
178
Историческая эпистемология сегодня
тами которых выступает пространство или фрагмент предшествующего
текста»34. Это объясняется тем, что, как отмечалось выше, продуцент не
может находиться вне дискурса. Пребывая в рамках определённого со-
циума и определённой культуры, он пропускает сквозь призму своего
сознания тексты данной культуры. Становясь объектом «языкового воз-
действия», автор усваивает отдельные части воспринимаемых им тек-
стов и воспроизводит их во время акта коммуникации.
Текст, как и любая система, находится в состоянии взаимодействия
с другими системами: «любая динамическая система погружена в про-
странство, в котором размещаются другие столь же динамические сис-
темы, а также обломки разрушившихся структур, своеобразные кометы
этого пространства... Любая система живет не только по законам само-
развития, но также включена в разнообразные столкновения с другими
культурными структурами»35. В этом пространстве, наполненном «ди-
намическими системами», функционирует образ как составная часть
создаваемого текста. В итоге, «лингвистическое восстановление “пер-
вичного”, исходного высказывания какой-либо номинализации отсыла-
ет нас за пределы текста - в трансформационную историю этой номи-
нализации»36. В этой связи представляется целесообразным выявление в
лингвистической структуре образа речевых клише, присущих традиции
словоупотребления, сложившихся в рамках той подкультуры, с которой
идентифицируется автор текста. Помимо речевых клише, характерными
проявлениями «столкновения» различных текстов являются вкрапления
в исторический источник более крупных фрагментов «других» текстов,
чем_отдельные слова и фреймовые словосочетания. Использование ав-
тором цитат из других текстов и ссылок на различные источники влияет
на рецепцию представленной в тексте информации, делая её в глазах
читателя более или менее «релевантной» и «репрезентативной». Кроме
того, анализ использованных в тексте цитат и фактов, приведённых со
ссылкой на тот или иной источник, даёт возможность историку объек-
тивно идентифицировать политическую и идеологическую ориентацию
продуцента, его социальную и культурную принадлежность, уровень
образования и т.д. Однако необходимо учитывать, что окружающая ав-
тора языковая среда не только приводит к появлению «чужого» слова в
тексте, но и лимитирует словоупотребление.
34 Бразговская Е. Е. Интерпретация текста-в-тексте: логико-семиотический ас-
пект // Критика и семиотика. Вып. 8. Новосибирск, 2005. С. 91.
35 Лотман Ю.М. Текст в тексте (Вставная глава)// Он же. Семиосфера-
СПб., 2000. С. 63.
36 Серио П. Указ. соч. С. 341.
10 Ц. Денисов. Категория “дискурс”... 179
Вместе с тем, как пишет Т. ван Дейк, «порождение текстов происхо-
ди не в вакууме, а является составной частью коммуникативного кон-
текста. Чтобы построить текст люди должны хранить в памяти представ-
ление об этом контексте, то сеть иметь контекстную модель»37. В контек-
контекстной модели содержится информация об участниках речевой
коммуникации, их целях, типе социальной ситуации. В этом свете весьма
рациональным выглядит предложенное К. Хикстхиром членение контек-
ста на две разновидности: 1) контекст, который состоит из других текстов
(например, другие тексты в рамках антологии, другие тексты в пределах
газеты, другие тексты в сборнике, другие тексты в пределах одного типа
и одного жанра и т.п.); 2) контекст, который является «нетекстуальным»
(«nicht-textuell»); он представляет собой коммуникативную ситуацию, в
которой протекали производство и восприятие текста38.
Необходимость реконструкции этого второго, внеязыкового кон-
текста во время исторического исследования может быть обоснована
тем, что кроме сугубо лингвистического аспекта, как продуцируемого
коммуникантами результата непосредственного речепроизводства,
коммуникативный акт вбирает в себя когнитивный, семантический и
экстралингвистический компоненты. Экстралингвистический аспект,
или конситуация, представляет собой объективно существующие усло-
вия общения и их участников. Семантический аспект - это имплицитно
или эксплицитно выраженные смыслы, реально существующие, являю-
щиеся частью ситуации, отражающиеся в дискурсе и актуальные для
данного коммуникативного акта. Когнитивный аспект находится в зоне
пересечения индивидуальных когнитивных пространств (фондов зна-
ний) коммуникантов о конситуации39.
Таким образом, на репрезентацию и рецепцию представлений,
фиксируемых в историческом источнике, помимо языковых характери-
стик и «предварительных знаний» продуцента и реципиента, воздейст-
вуют также происходящие в окружающей их действительности полити-
ческие события, экономическая конъюнктура, социальные и
социокультурные условия, биографические факторы, связанные с лич-
ностным опытом коммуникантов, и т.д.
Помимо этого в качестве одного из контекстов может интерпрети-
роваться и историческая память, являющаяся составной частью массо-
вого сознания. В современной российской исследовательской традиции
37 Дейк Т. ван. Указ. соч. С. 170.
38 Hickethier К. Указ. соч. S. 103-104.
39 Чан Ким Бао. Указ. соч. С. 57.
180
Историческая эпистемология сегодня
категория «историческая память» рассматривается в трёх ракурсах: как
«коллективная память (в той мере, в какой она вписывается в историче-
ское сознание группы) или как социальная память (в той мере, в какой
она вписывается в историческое сознание общества), или в целом - - как
совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний
и массовых представлений социума об общем прошлом»40. В соответст-
вии с данным толкованием, воздействие на процессы формирования и
рецепции образа разделяемых определёнными подгруппой, группой,
социумом традиций, мифов, верований, социальных и социокультурных
архетипов и исторически сложившихся ориентиров можно рассматри-
вать как результат влияния на данные процессы исторической памяти
как контекста. В процессе формирования, трансформации и рецепции
образа обращение к исторической памяти происходит избирательно и
находится в сопряжении с происходящими событиями и протекающими в
обществе социально-экономическими и социально-политическими про-
цессами. В этой связи необходимым видится рассмотрение образа в не-
разрывном единстве с экономической и политической конъюнктурами,
сложившимися в тот исторический период, которым датируется текст.
Социально-культурные и социально-психологические процессы не
менее значимы. Представительница социокультурного направления
критического дискурс-анализа Р. Водак полагает, что «определяющими
при планировании и порождении текста являются социопсихологиче-
ские параметры, действующие в когнитивном и эмоциональном пла-
не. . ,»41. Кроме того, образ формируется не только посредством знаков и
символов, созданных языком продуцента, но и посредством знаков и
символов из окружающей социокультурной среды, отражённых в языке
продуцента. Семиотическую модель того или иного типа дискурса фор-
мируют специфические системно организованные «дискурсо-
образующие» концепты, отражающие социально-политическую и со-
циокультурную среды, в которых происходит коммуникативное собы-
тие. Они представляются нам содержательно-тематическим базисом, на
котором зиждется культурно-лингвистическая структура сконструиро-
ванного в дискурсе образа. Каждому коммуникативному явлению при-
сущ индивидуальный контекст. Каждый образ, созданный в том или
ином тексте, или корпусе текстов формировался в специфической поли-
40 Репина Л. П. Образы прошлого в памяти и в истории И Образы прошлого и
коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М., 2003. С. 9-Ю-
41 Водак Р. Специальный язык и жаргон: о типе текста «партийная програМ-
ма» // Она же. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. С. 25.
jO_ II. Денисов. Категория “дискурс"... 181
.^ческой, социокультурной и экономической обстановке. Осмысление
зависимости конструирования и рецепции образа от своеобразия социо-
культурной среды и политико-экономической конъюнктуры приводит
нас к выводу о том, что в различных дискурсах формируются различные
образы одного предмета.
Однако данное умозаключение не влечёт за собой тезиса о непозна-
ваемости изучаемой действительности. Как пишет Т. Н. Попова, «сколько
бы образов этой действительности не было создано, их множественность
свидетельствует не о невозможности приблизиться к объекту изучения,
но о многомерности этого объекта»42. Различия в образах одного и того
же предмета, сконструированных в различных дискурсах, фиксируемые в
процессе реконструкции, лишь свидетельствуют о многомерности, мно-
гоаспектности и многокачественности категории «образ».
Образ, сформировавшийся в печатном или письменном дискурсе,
являет собой сложную, динамичную систему, взаимосвязанными эле-
ментами которой являются представления о различных сторонах реаль-
но существующего предмета. Эти представления объективируются в
культурно-лингвистическом конструкте, зафиксированном в локальных
и глобальных структурах текста.
Историческое исследование определённого дискурса представляется
целесообразным проводить на трёх уровнях: на микроуровне - изучения
«микроструктур», семантических элементов текста (слов, словосочета-
ний, отдельных формулировок и предложений, отношений и взаимосвя-
зей между ними, их последовательности, а также стилистического и ри-
торического образования значений); на макроуровне, предполагающем
постижение темы (семантического макроутверждения), ремы (коммуни-
кативного центра), событийной канвы текста и т.д.; на уровне лингвисти-
ческого (языкового) и экстралингвистического (социокультурного, поли-
тического, экономического и т.п.) контекстов. Однако выделение этих
Уровней носит условный характер, ибо дискурс представляет собой сово-
купность неразрывно связанных между собой рационально организован-
ных правил словоупотребления и взаимодействия отдельных высказыва-
ний в структуре коммуникативной деятельности, жёстко
Детерминированной окружающей средой во всех её проявлениях.
42 Попова Т. Н. Указ. соч. С. 524.
Л. И. Гришаева
СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ
СТЕРЕОТИПОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА
Всякая деятельность человека осуществляется в соответствии с
особыми ментальными образованиями, сложившимися в результате его
вхождения в культуру. Такие ментальные образования являются одним
из проявлений социальной перцепции и одновременно ее результатом и
известны как стереотипы сознания. «Стереотипы, будучи обобщениями
социального опыта представителей определенной лингвокультуры, ког-
нитивными образцами для категоризации мира, упрощенными схемами,
помогающими ориентироваться в мире и социуме, бытуют в самых раз-
ных сферах общественной практики»1 2. Ясно, что содержание стереоти-
пов не может не быть культурно специфичным, хотя степень проявле-
ния такой специфики может варьироваться в зависимости от
особенностей субъекта познания и коммуникации, параметров комму-
никации, а также характера реализуемой в конкретных условиях когни-
тивной и коммуникативной задачи.
Стереотипы сознания имеют не только позитивное, но и негативное
влияние на результат концептуализации и категоризации актуально вос-
принимаемых сведений. Когнитивной основой для этого, внутренне про-
тиворечивого, функционального потенциала стереотипов служат такие их
качества, как гипергенерализованность, конвенциональность, ригидность,
потенциальная оценочность и др., базирующиеся на феноменологии вос-
приятия (прежде всего, таких качествах, как субъективность, селектив-
ность, эффективность, телеологичность, контекстная обусловленность) .
Сказанное объясняет в том числе и тот факт, что одни и те же язы-
ковые средства способны активизировать у разных субъектов разные в
количественном и качественном отношении комплексы сведений, хотя
степень расхождения содержательных интерпретаций соответствующих
1 Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной комму-
никации. Изд. 5-ое, нспр. и доп. М., 2008. С. 153.
2 Там же. С. 153-158, 332. О влиянии свойств перцепции на результат концеп-
туализации и категоризации мира в разных актах перцепции, в том числе и социаль-
ной перцепции, а также при использовании языка см. подробнее: Гришаева Л- Л-
Особенности использования языка и культурная идентичность коммуникантов. Во-
ронеж, 2007; Цурикова Л .В. Естественные барьеры для межкультурной коммуника-
ции// Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Гуманитар-
ные науки». 2007. № 1. С. 138-153.
jj И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 183
сведений при внутрикультурной коммуникации, в силу имеющейся у
носителей одной культуры коллективной идентичности, благоприятст-
вует активизации прототипических, т.е. разделяемых всеми членами
длнгвокультурного сообщества, знаний о воспринимаемых элементах и
ситуациях внеязыковой реальности.
Язык как культурный код
Обращение к тексту, т.е. к комплексу некоторым образом органи-
зованной совокупности средств объективации культурно специфическо-
го знания, требует от носителя языка, средствами которого эти сведения
закодированы, владения этим культурным кодом. Положение о том, что
язык является одним из культурных кодов с богатым и разветвленным
функциональным потенциалом, сегодня вряд ли будет оспорено пред-
ставителями гуманитарных наук. Многочисленные исследования позво-
ляют получить (с помощью самых разных методик и приемов анализа)
разнородные данные о том, как языковыми средствами фиксируются
знания о мире, каким образом носители культуры обмениваются друг с
другом разнообразными сведениями, как коммуниканты декодируют
сведения, опираясь на использованные в интеракции языковые средст-
ва, как они могут получать эффективный доступ к выводному знанию,
которое, как правило, очевидно только носителю соответствующей
культуры, и без которого невозможно адекватно интерпретировать со-
ответствующий текст.
Сказанное чрезвычайно значимо для исследователей, для которых
вербально закодированные сведения являются ведущим - если не един-
ственным - источником научно релевантной информации, на основании
изучения и осмысления которого строятся концепции и разрабатывают-
ся версии развития того или иного феномена3.
Фиксация результата дискурсивной деятельности человека (т.е.
деятельности с использованием языка как комплекса разнородных и
разностатусных, определенным образом организованных средств), с
помощью которого коммуниканты решают в конкретных коммуника-
тивных условиях различные коммуникативные и когнитивные задачи,
предстает как текст. В тексте и с помощью текстов передаются от ком-
3 См. перечисление основных групп когнитивных, дискурсивных и сугубо
лингвистических параметров, подлежащих учегу при анализе текстов источников
Различной этиологии в историческом исследовании в: Гришаева Л. И. Источники
исторических сведений как текст И Теории и методы исторической науки: шаг в XXI
иск. М., 2008. С. 28-29.
184
Историческая эпистемология сегодня
муниканта к коммуниканту разнообразные знания о мире; текст сводит
воедино все потенции языка как культурного кода. Однако язык - это
только один из культурно специфических кодов, хотя с его помощью
кодируются практически все коммуникативно значимые и потенциаль-
но - абсолютно все знания о мире, необходимые коммуникантам
установления взаимопонимания и реализации взаимодействия. Но опи-
сывая функционирование языка как одного из многочисленных куль-
турных кодов и осознавая мощность и богатство функционального по-
тенциала этой семиотической системы, необходимо учитывать, что:
(1) дискурсивная деятельность - это только часть деятельностного
континуума, в который погружен каждый человек;
(2) деятельность - это только одна ипостась человека;
(3) вербальный код это только один из многих возможных спо-
собов хранения сведений о мире;
(4) вербально закодированы лишь некоторые сведения о мире.
Подавляющее большинство закодированных и хранящихся в памяти
человека знаний о мире не вербализуется, однако такие сведения служат
основой для общения и взаимодействия при интеракции с помощью
вербального кода;
(5) вербально закодированы сведения, которые в данной лингво-
культуре наиболее значимы для коммуникантов, которые регулярно
востребованы в коммуникации;
(6) все комплексы сведений иерархичны и структурированы. Раз-
личия между ними можно проследить по принципу “универсальное <=>
специфическое”, “общее <=> частное”, “общее <=> единичное”, “единич-
ное <=> частное”, “частное <=> особенное”;
(7) набор элементов в структурах, составляющих семиотическую
систему, представляет для исследователя специальный интерес. Сами
элементы как таковые могут существовать в любой лингвокультуре-
Различия между культурами касаются функциональной нагруженности
элемента, сферы функционирования этого элемента, самой структуры в
целом, системы отношений между элементами внутри системы - сло-
вом, конфигурации элементов, из которых слагается неповторимая сис-
тема систем. Это и объясняет специфику одной лингвокультуры по
сравнению с другой, а также наличие в каждой культуре значительного
пласта универсального, присущего всем культурам;
(8) механизмы вербализации актуализируют ментальную структу-
ру, в которой хранятся объективируемые этими механизмами сведения.
jj. И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 185
Ари необходимости активизируются отдельные элсменты/фрагмснты
эЮЙ структуры, по-разному профилируются сведения о мире;
(9) речемыслительная деятельность чрезвычайно редко является
самостоятельным видом деятельности. Она, главным образом, пред-
ставляет собой инструмент для достижения цели не-речевой деятельно-
сти, средство оптимизации интеракции;
(10)рсчсмыслительная деятельность поставляет человеку вес
больше и больше сведений о мире, замсняя/вытесняя/сопровождая
практическую деятельность по освоению внеязыковой действительно-
сти при социализации. Таким образом, вербальная деятельность все ча-
ще конкурирует с невербальными;
(П)результат речемыслительной деятельности несет в себе ком-
плексы марксров/слсдов дискурсивных условий, а именно:
• маркеров мировидения, опознаваемых по ряду признаков;
• маркеров взаимоотношений между коммуникантами;
• маркеров коммуникативной роли интеракгантов в данной инте-
ракции;
• маркеров принадлежности коммуникантов к определенному ти-
пу культуры и др.
Таким образом, владение вербальным кодом, а также знание об ус-
ловиях его функционирования может многое рассказать исследователю о
характере культуры, ее артефактах и системе взаимоотношений между
представителями соответствующей лингвокультуры, а также о соотноше-
нии личностной и коллективной идентичности единичного и коллектив-
ного субъекта даже в том случае, если сам текст не содержит языковых
средств, обозначающих соответствующие элементы культуры4.
Восприятие текста как интерпретация
В этой связи очевидно, что любой анализ текста - это интерпрета-
ция, результат которой в значительной мере зависит от того, насколько
полно и глубоко интерпретатор владеет теми сведениями о культуре, в
которой порожден соответствующий текст, сведениями, которые, как
правило, не извлекаемы «традиционными для науки» способами, а при-
сваиваются человеком в процессе его социализации в эту конкретную
4 См., к примеру, сопоставление результатов восприятия инокультурной ре-
альности субъектами с разными харакгерисгиками в: Гришаева Л. И. Понимание
«чужого» и «другого» как условия успешной аккультурации // Взаимопонимание в
Диалоге культур: условия успешности // Под ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой.
Воронеж, 2004. Часть 2. С. 9-48.
186
Историческая эпистемология сегодня
среду, будь то инкультурация или аккультурация, и в силу сложивших,
ся образцов деятельности «серьезными» учеными не признаются суще.
ственными для анализа. Между тем, без таких знаний нельзя в полной
мере осмыслить, что хотел сказать автор текста, в какой бы форме не
существовал последний. Так, богатый потенциал одного из механизмов
вербализации по-разному информативен для носителей «своей» и «чу.
жой» культуры, даже если последние владеют языком первых. Напри-
мер, все иностранцы обращают внимание на то, что в русском языке
чрезвычайно распространено использование уменьшительно-
ласкательных суффиксов, однако они зачастую не принимают во вни-
мание разнообразие функций, выполняемых соответствующими суф-
фиксами. Ниже приведены несколько примеров богатой функциональ-
ной палитры русских диминутивов:
- именование специфических объектов внеязыковой действи-
тельности, не свидетельствующее о характере отношения говорящего к
обозначаемому им объекту: мальчик, девочка, сказка (этимология в
данном случае не принимается во внимание);
- выражение неопределенности, причем используется для реали-
зации различных намерений (подбодрить, утешить, вселить уверен-
ность, завуалировать истинное намерение и т.д.): километрик будет,
часика три еще, мне килограммчика два, пожалуйста; на размерчик
бы побольше;
- выражение симпатии и иных добрых чувств к собеседнику: Пе-
тенька, Машенька, душка, душенька, Любочка Васильевна',
- беседа с ребенком: супчик, хлебушек, колбаска, кашка, причем
использование диминутива не свидетельствует о том, что в реальности
есть “большой суп" или “, “большая каша"',
- выражение состояния говорящего, к примеру, чувства голода
или его привычек, например гурманства: селедочка с лучком, рыбка,
салатик.
Важно учитывать и то, что функция диминутива становится оче-
видной в коммуникативном контексте, поскольку потенциально одна и
та же форма может быть использована для реализации разных функции.
Например, использование единиц типа мышка, рыбка, киска, птенчик
сигнализирует о возможности нескольких интерпретации:
(i)мышка/рыбка/киска/птенчик как мышь/рыба/кошка/птенец действи-
тельно небольшого размера + Л) мышка/рыбка/киска/птенчик как об'
ращение к симпатичному для говорящего собеседнику, как правил0’
женского пола или же к ребенку. Единицы тумбочка, шкафчик, кро-
д И- Гришаева. Содержание культурно-специфических...
187
ga/пка допускают также несколько интерпретаций: использование соот-
ветствующих существительных для обозначения отдельного предмета
мебели с известной функцией (постельная тумбочка, настенный
шкафчик, детская кроватка) и как способ выразить отношение к пред-
мету или же к собеседнику. Аналогично обстоит дело и с обозначения-
ми элементов ландшафта, например, дорожка, тропинка, садик, лесок.
Без знания культуры нс представляется возможной адекватная ин-
терпретация даже самых простых фраз, например, приветствий. Поэто-
му из конвенциальных фраз типа Как дела? - Так себе или же How аге
you? — I'm fine человек, не владеющий соответствующими знаниями,
может делать ложное заключение, к примеру, о пессимистичности ми-
ровоззрения русских или же о неоправданном оптимизме американцев.
Относительность суждений о характеристиках, присущих куль-
турной идентичности того или иного (единичного и/или коллективного)
субъекта, в опоре на использованные им языковые средства и, следова-
тельно, необходимость в крайней степени осторожности при формули-
ровании тех или иных обобщений можно проиллюстрировать и приме-
рами иного рода. Так, лексема экстралингвистический в
лингвистической среде сегодня конвенционально употребляется для
обозначения всех фактов, особенностей, явлений, факторов, не относя-
щихся к языку. Между тем, согласно словообразовательной структуре
этой лексической единицы, значение ее иное, а именно: “относящийся к
тому, что находится за пределами науки о языке”, т.е.
*внеязыковедческий (ср.: экстра— = вне-, лингвистический - от лин-
гвистика (= наука о языке, языковедение): ср.: филология - филологиче-
ский, психология - психологический, история - исторический, матема-
тика - математический). Однако никто из носителей русского языка,
профессионально занимающихся изучением лингвистических законо-
мерностей, не обращает внимания на буквальное значение анализируе-
мого термина, поскольку конвенционально этой единицей активизиру-
ются знания, разделяемые членами соответствующей лингвокультурной
общности, относящиеся к внеязыковым факторам.
Размышляя над тем, как интерпретируется тот или иной текст,
важно учитывать, что в процессе социализации носители культуры и
языка присваивают себе и способ концептуализации сведений, т.е. они
Научаются подводить воспринимаемые в актуальных условиях сведения
под имеющиеся у них категории и на основании этого осмысляют дей-
ствительность. Так, В. М. Савицкий и О. А. Кулаева, обосновывая свою
концепцию лингвистического континуума, приводят несколько равно-
188
Историческая эпистемология сегодня
значных способов именования действительности с помощью русских ц
английских языковых средств, способов равнозначных, но существенно
различающихся между собой5. При этом авторы осознают и специально
подчеркивают тот факт, что в соответствующих лингвокультурах есть
возможности, не нарушающие ни одну из грамматических норм, имено-
вать соответствующие ситуации так, как это принято в другой культуре
Однако такие способы не расцениваются носителями лингвокультуры
как приемлемые, как адекватно реализующие некоторую коммуника-
тивную цель, т.е. как “нормальные”, ср. общепринятые способы обозна-
чения ситуаций одного и того же типа в американском английском и в
русском языках:
(In a restaurant) he bought a steak and chips. Buy me a drink, pal. (In a tourist agency) she bought an Atlan- tic cruise. He bought the kids a ride on the merry- go-round. (In a bar) 1 was sold a suspicious stuff for beer. A penny for your thought I'll buy it To feel like a million dollars A million-dollars smile (В ресторане) он взял бифштекс с жареной картошкой. Угости выпивкой, приятель. (В турбюро) она оформила круиз по Атлантике. Он покатал ребятишек на карусели. (В баре) вместо пива мне подали по- дозрительную бурду. О чем ты думаешь? Сдаюсь, не могу отгадать. Чувствовать себя прекрасно Широкая, радостная улыбка
Анализ способов обозначения одной и той же ситуации показыва-
ет, что при использовании американского английского всякий раз акти-
визируется фрейм «купля - продажа». В соответствующих случаях у
носителей русского языка активизируются разные фреймы, в частности
«угощение», «предложение», «заказ», а фрейм «купля - продажа» не
является конвенциональным способом осмысления действительности в
анализируемых случаях.
Таким образом, очевидно, что выбор языковых средств - особенно
средств именования ситуации6 - свидетельствует о способах концеп-
5 Савицкий В. И., Кулаева О. А. Концепция лингвистического континуума-
Самара, 2004. С. 39-40.
6 Тесную связь «кадров» внеязыковой действительности как результатов поз-
нания человеком окружающего мира и средств их обозначения отмечает
Б. А. Абрамов: Абрамов Б. А. Некоторые проблемы интерпретации элементарны*
ситуаций // Номинация. Предикация. Коммуникация / Отв. ред. А. В. Кравченко-
Иркутск, 2002. С. 135).
Л И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 189
1уализации сведений о внсязыковой действительности и поэтому может
быть маркером «своего» и «чужого». Например, в русской лингвокуль-
туре есть возможность назвать взаимосвязанные понятия по-разному:
сложным словом (доброжелательность), словосочетанием разной
структуры (доброе отношение к людям - отношение добра - относясь
по-доброму к людям - будучи доброжелательным — доброжелательный
человек), предложением (Он по-доброму относится к людям), т.с. с ис-
пользованием лексико-семантических, словообразовательных, грамма-
тических и др. механизмов вербализации. И несмотря на кажущуюся
«тождественность» соответствующих языковых средств, комплекс ак-
тивизированных таким образом сведений принципиально иной. Более
того, использование одного из приведенных средств в текстовом целом
неизбежно сказывается на организации последующего текста.
Текст Студенты, не сдавшие языки и оставшиеся с хвостом, пове-
шены на 3 этаже на первый взгляд вообще не может быть осмыслен,
поскольку студенты как представители рода человеческого лишены такой
части тела, как хвост. Кроме того, язык, будучи неотъемлемой частью
тела, не может бьггь по чьему-либо произволу или желанию кому-либо
сдан - даже на хранение. Хвост также нельзя оставить или отдать по соб-
ственному желанию либо по чьему-то принуждению, если уж он является
неотъемлемой частью тела. В нашей культуре людей не вешают в массо-
вом порядке (множественное число у существительного), тем более на
третьем этаже. Однако знание, в каком месте (высшее учебное заведение)
порожден приведенный текст, позволяет уже осмыслить его как равно-
ценный тексту: Список студентов, не сдавших экзамен по дисциплине
«иностранный язык» и имеющих задолженность по этому предмету,
вывешен на 3 этаже около деканата. Сопоставление потенциально воз-
можного текста с реально появившимся побуждает трактовать последний
как результат стремления сэкономить интеллектуальные усилия и ис-
пользовать профессионализмы/жаргонизмы в естественной д ля них среде
профессиональной коммуникации. Поэтому носители русской языковой
культуры без особого труда понимают, что они имеют дело с объявлени-
ем, адресованным студентам, изучающим иностранный язык.
Еще один пример из текста Герлис Цильгснс7, стержнем которого
является содержание культурно специфических гендерных стереотипов
11 владение ими носителями соответствующей лингвокультуры. Излагая
причину 94 (Der Mann im Auto - Мужчина и автомобиль) автор анали-
7 Gcrlis Zillgcns. 101 Griinde ohne Manner zu leben. 2. Auflage. Rake Verlag, 2000.
190
Историческая эпистемология сегодня
зируемого текста приводит два показательных в контексте настоящие
рассуждений диалога, которые дословно совпадают друг с другом: и
лексический состав, и синтаксические структуры, и средства выражения
логических отношений, и способы выражения синтаксических функций
и семантических ролей, и последовательность текстем как составных
частей текста в текстовом целом, и средства выражения грамматических
значений идентичны. Идентичными являются также тип речевых дейст-
вий, которыми реализуется дискурсивная деятельность каждого комму-
никанта, а также последовательность речевых действий и их количество
в дискурсе. Оба текста различаются только комментарием, касающимся
контекста, в котором субъект с той или иной гендерной идентичностью
и в некотором эмоциональном состоянии порождает соответствующие
высказывания (S. 107-108). Комментарий отражает, в каком эмоцио-
нальном состоянии находится коммуникант, степень уверенности в сво-
их действиях, а также характер реагирования на действия коммуникан-
та. Однако именно из-за этого адресат извлекает из текстов, которые на
первый взгляд абсолютно идентичны, разные сведения, и, следователь-
но, интерпретация комплекса соответствующих языковых средств кар-
динальным образом меняется.
Для удобства анализа целесообразно поместить анализируемые
тексты, не дублируя саму последовательность речевых действий каждо-
го из коммуникантов, в таблицу с указанием ряда существенных доя
коммуникативного контекста данных об обеих ситуациях:
За рулем мужчина За рулем женщина Текст
Он (befehlend) Она (unsicher) Schatz, schau doch mal eben auf die Karte.
Она (hastig) Он (gelangweilt) J a, gleich.
Он (ungeduldig) Она (gestresst) Miissen'-wir diese Abfahrt runtet^
Она (unsicher) Он (iiberheblich) Moment. Wo sind wir denn?
Он (ironisch) Она (kopflos) An der Abfahrt.
Она (hektisch) Он (sarkastisch) An welcher?
Он (genervt) Она (heulend) An der, wo wir vielleicht raus wws- sen. -
Она (leise) Он (briillend) Kannst du nicht einen Moment friiher fragen?
Он (resigniert) Она (resigniert) Frauen konnen einfach nicht Auto fahren.
j] И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 191
Сопоставление обоих текстов убеждает, что в конечном итоге со-
держание каждого текста интерпретируется по-разному — в зависимости
от характера сведений о контексте, т.е. содержательная интерпретация
текста обусловлена семантикой культурно специфических гендерных
стереотипов, а также от знаний интерпретатора культурно специфиче-
ского содержания гендерных стереотипов и контекста, в котором осу-
ществляется соответствующая интеракция.
Культурная специфика организации текста
Анализ текстов, порожденных в моно- и межкультурной среде, убе-
дительно свидетельствует о том, что субъект восприятия не в состоянии
осмыслить текст адекватно, если этот субъект не знаком с содержанием
культурно специфических стереотипов сознания, т.е. не владеет знания-
ми, разделяемыми всеми членами этого лингвокультурного сообщества.
С обозначенных позиций чрезвычайно интересным представляется
изучение текста, тематически связанного с межкультурным взаимодейст-
вием. Так, анализ эссе, написанного Штефаном Вальтером, подлинным
экспертом нс только в теории межкультурной коммуникации, но в прак-
тике межкультурного взаимодействия, в полной мере раскрывает, сколь
культурно специфичным является организация текста определенного ти-
па. Эссе Ш. Вальтера, как и другие, относящиеся к изучению «своего» и
«чужого», получено методом модифицированного этнографического ин-
тервью8. Модификация заключалась в том, что, в отличие от традицион-
ной для теории межкультурной коммуникации практики анализа, соглас-
но которой исследователи межкультурной коммуникации изучают
«чужую» культуру на фоне «своей», интерпретируя инокультурные фак-
ты и явления как объект специального анализа, экспертам в области тео-
рии и практики межкультурной коммуникации предлагалось рассказать в
форме эссе о «своей» для них культуре на фоне «чужой» (при этом они
имели возможность свободного выбора тематики, степени глубины ее
проработки, перспективы ее освещения, степени детализации при изло-
жении, средств обозначения обсуждаемых явлений и пр.).
Такая смена ракурса имеет глубокие основания, обусловливающие
сУЩественные преимущества для интерпретации полученных данных. В
Первом случае «чужая» культура помещается в когнитивный фокус,
становится когнитивной фигурой, а «своя» культура - когнитивным
8 См. подробнее о способе получения данных, а также обоснование соответст-
вующего решения в: Стратегии успеха и факторы риска в межкультурпой коммуни-
кации / Под общ. ред. Л. И. Гришаевой и Л. В. Цуриковой. Воронеж, 2005.
192
Историческая эпистемология сегодня
фоном, на котором профилируется комплекс изучаемых сведений. В ре.
зультате исследователь так и не получает доступ к сведениям, которые
носитель культуры, как правило, не осмысляет, поскольку он сам как но-
ситель «своей» культуры не спрашивает себя о причинах того или иного
действия, о мотивации своих действий, о выборе средств реализации этих
действий и др. в силу их самоочевидности для него. Изменение когни-
тивного фокуса -- трансформация «своей» культуры из когнитивного фо-
на в когнитивную фигуру - побуждает носителей культуры неизбежно
поставить вопросы по тем поводам, по которым люди как носители соот-
ветствующей культуры их обычно в «своей» культуре не ставят, размыш-
лять о тех явлениях, о которых обычно в «своей» культуре не размышля-
ют. Полученные таким образом эссе о «своей» культуре на фоне «чужой»
позволяют раскрыть в конечном итоге содержание стереотипов сознания
и тем самым - когнитивные основания для категоризации и концептуали-
зации актуально воспринимаемых сведений о мире.
Изложению особенностей организации анализируемого текста це-
лесообразно предпослать положение о том, что каждый текст бытует в
культуре в определенной форме, которая конвенциональна и знания об
особенностях которой в значительной мере облегчает процесс обработ-
ки соответствующих сведений; ср. принципы организации аннотации,
реферата, автореферата, диссертации, отзыва о диссертации, рецензии,
статьи, монографии и др. - даже если они написаны на одну и ту же те-
му и раскрывают одну и ту же проблему.
Анализ эссе с обозначенных позиций убеждает в том, что культур-
ная идентичность коммуниканта сказывается на выборе
• объекта социальной перцепции,
• признаков, по которым распознается соответствующий объект,
• категории, под которую подводится комплекс актуально вос-
принимаемых сведений,
• объекта оценки,
• средств выражения оценки,
• перспективы, с которой излагаются результаты социальной
перцепции,
• типа текста, с помощью которого сообщаются воспринятые
сведения и др.
Эссе Ш. Вальтера называется «Warum es in Russland und Deutsch'
land Zebrastreifen gibt. Oder: die eigene Kultur von au/fen betrachtet» (Д;1Я
чего в России и Германии на дорогах нарисованы «зебры»? Или: своя
культура при взгляде на нее извне). Объектом социальной перцепции
jj И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 193
„9
тСКсте эссе являются элементы интеракциональнои части культуры:
пересечение пешеходом улицы, запрос о времени, вопрос о том, как
пройти, манера приветствия, выход пассажиров из трамвая, манера ве-
дения научной дискуссии на конференции, ведение беседы через порог,
манера праздновать, вручение подарков, покупка продуктов питания в
магазине, информирование о мероприятиях, вручение сдачи в магазине,
особенности распределение доходов, уборка улиц после зимы, санация
фасадов. Объект оценки - конкретный элемент культуры, чаще всего
это интеракция, преимущественно действия носителя личностной иден-
тичности в конкретных условиях; по своему характеру оценка может
быть рациональной и эмоциональной, категоричной и некатегоричной,
прямой и косвенной (см. примеры ниже). Основанием оценки служат
главным образом нормы ожидания относительно организации интерак-
ции в «своей» для автора текста культуры, первичным аксиологическим
фоном является в этой связи соответствие/несоответствие этим нормам
ожидания. Выбор средств вербализации оценки основывается на степе-
ни соответствия/несоответствия названным нормам ожидания.
Для восприятия текста эссе особое значение имеет введение, в ко-
тором не ставится проблема, не формулируются задачи и т.п.; введени-
ем к своему эссе автор задает рамку восприятия излагаемых ниже све-
дений, вводит в контекст, акцентирует внимание на качествах
сопоставляемых культур, как их осмыслил и обобщил для себя автор
эссе. Автор эссе тематизирует во введении уже с первых строк нормы
ожидания для «своей» культуры, которые становятся когнитивным фо-
ном, на котором профилируются несколько комплексов сведений:
• действия коллективного субъекта в типичных условиях в «сво-
ей» культуре;
• действия коллективного субъекта в типичных условиях в «чу-
жой» культуре;
• действия носителя личностной идентичности в конкретных ус-
ловиях в «чужой» культуре;
• действия носителей личностной идентичности в конкретных ус-
ловиях в «своей» культуре после аккультурации.
9 Интеракциональная часть культуры - совокупность способов организации
взаимодействия между представителями данной культуры в определенных условиях
Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации.
'-331); об основаниях выделения этой части культуры в добавление к традицион-
материальной и духовной см. подробнее: Там же. С. 10-11, 19, 30-32 и др. См.
также: Стратегии успеха и факторы риска...).
194
Историческая эпистемология сегодня
Подобная организация текста позволяет автору раскрыть причины
различий, наблюдаемых в организации интеракции одного и того же
типа - пересечение улицы пешеходом. Для автора важно понять, поче-
му в «чужой» культуре то же самое делают по-другому, каковы послед-
ствия аккультурации для личности, которая действует в инокультурной
среде по правилам, не принятым в этой среде. Завершают эссе рассуж-
дения о причинах различия между «своей» и «чужой»/«другой» культу-
рами, а также о том, насколько богаче становится личность после зна-
комства с инокультурной средой.
Описанные особенности содержательной организации текста обу-
словлены, вне всякого сомнения, культурной идентичностью автора, в
чем можно убедиться путем сравнения эссе, написанных на ту же тему
носителями разных культур10.
Интересно проследить, как носитель немецкой культуры описывает
интеракцию «пересечение дороги», причем соответствующее описание
он начинает с того, как это обычно имеет место в «своей» для него куль-
туре. Характерно, что участниками названной интеракции являются не
конкретные деятели, а носители коллективной идентичности как предста-
вители «своей» культуры. Важно отметить, что свое эссе автор анализи-
руемого произведения начинает с раскрытия норм ожидания относитель-
но описываемой интеракции, актуальных для немецкой культуры. Тем
самым автор показывает социально значимые и общеизвестные с малых
лет каждому носителю культуры нормы взаимодействия между двумя
категориями интерактантов — пешеходов и водителей - и имплицирует
этим, что отклонение от норм будет оцениваться негативно как окру-
жающими, так и по большому счету самими нарушителями, как бы они
регулярно и серьезно не нарушали правила дорожного движения.
Изучение средств и способов именования ситуаций и ее отдельных
компонентов позволяет выявить достаточно интересные особенности
как в организации текста, так и в выборе средств именования одного и
того же референта, какими бы характеристиками тот ни обладал. Так,
факты немецкой, т.е. «своей» для автора, культуры именуются первич-
ными номинативными средствами, преимущественно нейтральными
и/или позитивно коннотированными. Это касается как именования каж-
дого действия, так и их носителей. Сама интеракция именуется с точки
зрения деятеля и довольно детально: каждое действие как составляют^
соответствующей интеракции именуется последовательно, что позволя-
10 См. анализ в: Стратегии успеха и факторы риска...
JJ. И- Гришаева. Содержание культурно-специфических...
195
& читателю составить полное и четкое представление о том, как в кон-
кретной культуре организована соответствующая интеракция: Stra/ten-
verkchr lernen, Ampeln und Verkehrsschilder auf Dbungshofen aufetellen,
pahrrd'der oder vierradige autoahnliche Gokarts bekommen, Stra/tenverkehr
spielen, eine Stra/ic wberqueren. Действия именуются преимущественно
активными предложениями с прямым порядком слов.
При именовании составляющих интеракции «пересечение дороги»
имеет место абсолютное доминирование монофинитных и монопропо-
зитивных образований, наполнение которых лишь изредка превышает
структурный минимум: In Deutschland lernt man als Kind die Verkehrsre-
geln von den Eltern sowie im Fach Vcrkehrserzichung in der Schule. Auf spe-
ziellen Ubungshofen werden Ampeln und Verkehrsschilder in einem kleineren
Mafistab aufgestellt, ... Имеются синтаксически и более сложные струк-
туры: инфинитивные обороты в функции определения (Moglichkeit, die
Strafie zu ilberqueren) и обстоятельства цели (um dies deutlich anzuzeigen),
а также паратактические и гипотактические структуры (с темпоральны-
ми и кондициональными придаточными частями): bis alle Fufiganger
sicher auf der anderen Strafienseite angekommen sind, Steht die Ampel auf
rot, so bleibt man stehen, bei griin darf man gehen.
Исходным пунктом при именовании составляющих интеракции
является стремление показать наличие возможности для носителей
культуры и способов обеспечения этой возможности: как учатся прави-
лу, каковы принятые в культуре способы усвоения культурно специфи-
ческого образа организации интеракции и т.п.
При именовании участников движения также используются ней-
тральные единицы:
(1) пешеходы: man, deutsche Kinder, alle Fufiganger,
(2) водители: alle heranfahrenden Auto-, Motorrad- und Radfahrcr.
Единицы с оценочной семой в семантической структуре лексемы
встречаются только при характеристике возможностей пересечения
Улицы: Zebrastreifen <...> sind die sicherste Moglichkeit, eine Strafie zu
uberqueren, Um dies deutlich anzuzeigen, geht man selbstbewusst bis an den
Bordstein ..., ...sehen das, bremsen schon von weitem..., ...halten geduldig
am Ubergang, bis alle Fufiganger sicher auf der anderen Strafienseite angg-
kornmen sind, причем соответствующие единицы, как правило положи-
тельно коннотированы и именуют возможности, обеспечивающие пе-
реходу безопасность на дороге.
Совсем иначе тот же самый автор именует интеракцию «пересече-
ние дороги» в «чужой» для себя культуре - в русской. Для этого он из-
196
Историческая эпистемология сегодня
бирает аналогичный ракурс восприятия виеязыковой действительно-
сти- излагает обобщенно-отстраненно то, как в русской культуре
обычно пересекают улицу. Однако при этом средства, которые он вы-
бирает, принципиально иные и по-другому организованы как в тексто-
семантическом, так и в текстосинтаксическом отношении. При этом
весь фрагмент внеязыковой действительности именуется с точки зрения
отсутствия у пешехода возможности безопасного пересечения дороги.
Это определенно задает оценочный контекст, степень проявления кото-
рого усиливается за счет эксплицитного и имплицитного сравнения
«своей» и «чужой» культуры.
Эксплицитное сравнение достигается использованием самых раз-
ных языковых средств: лексических (auch in Russland), сочетанием лек-
сических и грамматических (We demokratisch sind dagegen die italieni-
schen Autofahrer, die nicht weniger rasant als ihre russischen Kollegen
fahren, die aber ein entschlossenes Handeln von Fu/igangcrn akzepticren
und sofort bremsen) и др. средств. Имплицитное сравнение организации
интеракций в обеих культурах достигается вольным или невольным
сопоставлением описания русской культуры с немецкой и другими
культурами (и даже противопоставление действий носителей русской
культуры действиям в аналогичных ситуациях носителей других куль-
тур): называются абсолютно те же действия пешехода, что и при описа-
нии пересечения улицы в немецкой, т.е. «своей» для автора, культуры:
die Stra/ic wbcrquercn, dies (die Stra/ic wberqueren) deutlich anzeigen. Од-
нако действия водителей при этом в немецкой и русской кулыурах
диаметрально противоположны: в немецкой культуре - sehen das schon
von weitem und halten geduldig am L/bergang, в русской, наоборот, всяче-
ски дискриминируют пешехода - brausen an einem vorbei, wberholen,
drwcken af das Gas, ignorieren das Geschehen auf dem Bwrgcrstcig, verursa-
chen nur ein Hupkonzert. Тем самым создается оценочная рамка, сквозь
которую воспринимаются все сообщаемые сведения.
В текстовом фрагменте, описывающем интеракцию «пересечение
улицы» в конкретных условиях, присутствуют те же участники движе-
ния, однако языковые средства их именования более разнообразны:
(1) пешеходы: ein Fufiganger, die Passanten, ich (в генерализирую-
щем значении), man;
(2) водители: die Autofahrer, sie, Konige der russischen Strafe, italic
nische Autofahrer, ihre russischen Kollegen.
В этом случае выбор средств именования элементов внеязыковой
действительности и ситуаций более разнообразен: в анализируемом мйК'
Д И- Гришаева. Содержание культурно-специфических... 197
рогекстс автор активно использует вторичные номинативные средства:
^Jnige der russischen Stra/fe, Hupkonzert, den Mut aufbr ingen (по отноше-
нию к пересечению улицы). Кроме того, доля языковых средств с оце-
ночной семой в семантической структуре лексемы среди всех номина-
тивных средств из этой области достаточно велика: keineswegs, an einem
vorbei brausen, ignorieren, rasant, ein entschlossenes Handeln, Hupkonzert,
um sein Leben bangen, kerne Chance haben, hetzen, j-n umfahren. При этом
действия водителей именуются либо единицами с негативной семанти-
кой, либо последняя становится таковой за счет контекста -- увеличивать
скорость перед пешеходом на «зебре» однозначно негативно: Die Auto-
fahrer brausen an einem vorbei, wberholen, drweken eher noch auf das Gas, als
dass sie langsamer werden und die Passanten vorwberlasscn.
Автор охотно прибегает к разного рода интенсификаторам: ...sind
sie (Zebrastreifen) unendlich lang, Der Fufiganger bekommt hier allerdings
keineswegs die Moglichkeit, sicher die Strafie zu iiberqueren, ...driicken eher
noch auf das Gas, In Moskau hat man jedoch keine Chance, um wenn man
dennoch einmal den Mut aujbringt und loslauft, so muss man um Leben ban-
gen und auf die andere Seite hetzen, wenn man nicht umgefahren werden
mochte, Juhrt zu keinem Erfolg, Selbst ein entschlossenes Handeln, also der
Versuch deutlich zu zeigen, dass ich nun an der Reihe bin, womoglich noch
mil einer nach vom gestreckten Hand, ..., что позволяет автору дополни-
тельно усилить воздействие текста на его читателя: лексемы, именую-
щие соответствующие элементы действительности, имеют конкретную
семантику и в большинстве своем негативно коннотированы.
В анализируемом микротексте так же доминируют активные пред-
ложения, но есть и пассивное: wenn man nicht umgefahren werden mochte
при именовании возможности потерять жизнь. В соответствующем кон-
тексте это действие интерпретируется как имеющее высокую степень
вероятности, поскольку источник опасности в силу структурных осо-
бенностей пассива нс называется, а само желание остаться в живых
осознается как также маловероятное - к такой интерпретации адресат
текста приходит из-за грамматической семантики конъюнктива
(mochte). Целесообразно обратить внимание на то, что избранный авто-
Ром способ именования соответствующей ситуации является непривыч-
ным, поскольку предложения с man, как правило, являются активными
11 используются тогда, когда носитель действия/процесса/состояния -
Человек. В обсуждаемом же случае в коммуникативном фокусе нахо-
дится желание сохранить жизнь при пересечении городской улицы.
198
Историческая эпистемология сегодня
Синтаксис микротекста, описывающего организацию интеракции
«пересечение мостовой» в русской культуре, значительно сложнее: здесь
преобладают сложные предложения, причем связь между его частями
весьма разнообразна: негативное условие, рестрикция, сравнение, цель.
Характерно также обилие средств отрицания в соответствующих синтак-
сических структурах. Объектом отрицания при этом являются чаще всего
действия коллективного субъекта, хотя действия носителей личностной
идентичности, в частности, автора эссе, конкретного милиционера, с ко-
торым он имел дело, также получают оценку. По своему характеру оцен-
ка в последних случаях эмоциональная, частная, прямая и косвенная, и
она выражается как категоричными, так и некатегоричными способами.
Таким образом, очевидно, что сведения о «своей» культуре автор
представляет с позиции безопасности пешехода и его приоритета в до-
рожном движении, а в «чужой» культуре - безоговорочного приоритета
водителей. Когнитивным фоном в первом случае является безопасность
перехода, а когнитивной фигурой - разнообразные средства обеспече-
ния этой безопасности. Во втором случае все иначе: когнитивной фигу-
рой являются все потенциально возможные действия водителей как
факторы риска, а когнитивным фоном - опасность для пешехода: unend-
lich lange Zebrastreifen auf den Moskauer Magistralen, (Die Autofahrer)
...ignorieren das Geschehen auf dem Bwrgcrstcig und am Bordstein, под-
черкнутая значительностью размера пересекаемых в Москве улиц и
пренебрежительным отношением водителей к пешеходам, намереваю-
щимся перейти на другую сторону мостовой.
Интерес в этом отношении представляет и положение анализируе-
мых отрезков в макротексте: эссе имеет маркированную структуру (оно
разделено на отдельные части, которые имеют свои заголовки) и откры-
вается разделом «Введение» (Einleitung). Проанализированное описание
открывает введение и начинается именованием места действия: In
Deutschland lernt man als Kind... (В Германии еще ребенком учат...)-
Второй абзац в этой части представляет собой описание особенностей
организации той же самой интеракции в русской культуре и начинается
он со сравнения: Auch in Russland gibt es Zebrastreifen... (И в России есть
«зебры»). Учитывая, что само эссе называется Warum es in Russland und
Deutschland Zebrastreifen gibt oder: die eigene Kultur einmal von au/fcn
betrachtet (Для чего в России и Германии зебры на дорогах или: своя
культура - взгляд извне), контекст сравнения, вне всякого сомнения,
усиливается, что побуждает читателя далее воспринимать все сказанное
в оценочном ключе, поскольку «свое» профилируется как положитель-
ное (даже не как норма).
jl. И- Гришаева. Содержание культурно-специфических...
199
Анализ в избранном ракурсе можно, несомненно, и продолжить.
Однако и без того очевидно, что культурная специфика обработки све-
дений о мире с неизбежностью сказывается на содержательной интер-
претации текста, и этот факт целесообразно сознательно учитывать при
изучении текстов, порожденных носителями той или иной культуры и
субкультуры в разных условиях.
Выводы
Текст как результат коммуникации, как средство фиксации дискур-
сивной деятельности, осуществляемой для реализации некоторой цели,
организован содержательно и формально. Способ организации текста
одного и того же типа всегда культурно специфичен, хотя и обнаружива-
ет ряд универсальных черт. В силу этого текст не может не отражать осо-
бенности когнитивного стиля как коллективного, так и единичного субъ-
екта: какой объект попадает прежде всего в фокус восприятия, какие
признаки являются наиболее информативными при концептуализации
действительности, под какие ментальные категории подводятся соответ-
ствующие сведения и др. Это сказывается на выборе языковых средств:
предпочтение отдается единицам широкой или конкретной семантики,
оценочной или нейтральной лексике, а также на выборе средств вырази-
тельности и выборе точки зрения на воспринимаемую ситуацию.
При работе с текстом, порожденным в инокультурной среде, реци-
пиент может, сам того сознательно не желая, интерпретировать текст
согласно тем стратегиям обработки сведений о мире, какие приняты в
«своей» для него культуре. Это приводит к неадекватной интерпрета-
ции, степень некорректности которой зависит от многих разнонаправ-
ленных параметров, воздействие которых еще нуждается в детальном
изучении и теоретическом осмыслении.
Для гуманитарных наук, для которых тексты, организованные по-
разному, являются основным источником для анализа, а также резуль-
татом теоретической деятельности, соответствующие обобщения необ-
ходимо учитывать сознательно, поскольку декодирование согласно не-
адекватным ментальным образцам с неизбежностью может привести к
Несостоятельным/поспешным/искажающим картину выводам и поста-
вить под сомнение весь ход исследования.
ПАРАДИГМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОШЛОГО
И ИХ РЕ-АКТУАЛИЗАЦИЯ
Л. П. Репина
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ*
«Основой и высшей целью исторического
исследования и всякой, даже направленной
на частности, исторической работы -
может быть только всеобщая история»'.
1. Что такое всеобщая история?
Говоря о происхождении особого типа историографии - всеобщей
истории, качественно отличающегося от повествований об истории от-
дельных народов, мы попадаем в весьма отдаленную эпоху. Выдаю-
щийся отечественный историк М. А. Барг, вслед за Робином Коллин-
гвудом* 2, решительно отдавал пальму первенства в создании этого
нового типа историографии историкам эллинистической эпохи, прежде
всего Полибию (ок. 200 - после 118 г. до н.э.)3. Полибий создает свою
«Всеобщую историю» в эпоху объединения под римским господством
прежде разрозненного эллинистического мира (когда «почти весь из-
вестный мир подпал единой власти римлян в течение неполных пятиде-
сяти трех лет» и начиная с этого времени «история становится как бы
одним целым»4) и именно в связи с осмыслением этой новой реальности
выдвигает в качестве первейшего требования к новому канону истори-
ческого сочинения то, что история должна носить всеобщий характер, а
события излагаться как взаимосвязанные и взаимообусловленные5.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государст-
венный контракт 02.740.11.0350.
' Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. Философско-
исторические исследования. Изд. 2-е, исправленное. М., 1911. С. 46.
2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории И Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Авто-
биография. М., 1980. С. 35-37.
3 Хотя, если следовать Дионисию Галикарнасскому, первая «всеобщая» исто-
рия была создана Эфором в IV в. до н.э. и охватывала события с 1069/68 г. Д°
341/40 г. до н.э. (Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 68).
4 Полибий. Всеобщая история. I, 1,5; I, 3,4.
5 «Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени
состоят в следующем: почти все события мира судьба направила насильственно в
JI. П. Репина. Пространственные перспективы...
201
Однако ни в эллинистическом мире, ни даже в Риме не существо-
вало «идеи всеобщей истории, соединяющей все времена и все про-
странства», тот «важнейший момент», когда «христианизировавшийся
латинский мир открыл для себя, что род человеческий имеет взаимосвя-
занную историю - всеобщую историю», он относит к Ш в. н.э.6 С побе-
дой христианства образ всеобщей истории получил опору в идее изна-
чального единства рода человеческого, закрепленного самим актом
творения, и в жестком каркасе священной истории. Средневековая кар-
тина истории человечества (между грехопадением и Страшным судом)
обрела внутренний динамизм и подлинно универсальный характер7.
Рождение идеи всеобщей истории Нового времени связано с име-
нем Джамбаттиста Вико, с прогрессирующей секуляризацией историче-
ского сознания и с «историографической революцией» XVHI века (тер-
мин М. А. Барга), вследствие которой «была впервые открыта
возможность включить в поле зрения всемирной истории другие конти-
ненты и цивилизации»8 (при всем се неискоренимом европоцентризме),
в значительной степени - на основе концепции постоянства человече-
ской натуры как неизменной предпосылки единого исторического про-
цесса, по самому своему определению имеющего направление и цель. В
историографии романтической школы всеобщая история превращается
в историю раскрытия способностей и совершенствования человечества.
В классической парадигме всеобщая/всемирная история была, без
сомнения, «высоким жанром», в котором на протяжении столетий ко-
рифеи историографии стремились реализовать свои самые амбициозные
проекты. Профессиональное понимание всеобщей истории восходит к
одну сторону и подчинила их одной и той же цели; согласно с этим и нам подобает
представить читателям в едином обозрении те пути, которыми судьба осуществила
великое дело... История по частям дает лишь очень мало для точного уразумения
Целого; достигнуть этого можно не иначе, как посредством сцепления и сопоставле-
ния всех частей, то сходных между собою, то различных, только тогда и возможно
узреть целое, а вместе с тем воспользоваться уроками истории и насладиться ею».
Полибий. Всеобщая история. 1,4,1-11.
6 Aries Ph. Le temps de I’histoire. Paris: Ed. du Seuil, 1986. C. 100.
7 «Все люди и все пароды вовлечены в осуществление божественных предна-
чертаний, поэтому исторический процесс происходит везде, и всегда его характер
один и тот же. Любая часть его - это часть одного и того же целого. Христианин не
можег удовлетвориться римской историей, древнееврейской историей или любой
историей огдельного народа: ему нужна история мира в целом, всеобщая история,
темой которой должно быть осуществление божественных предначертаний для че-
ловека». Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 49.
8 Барг М. А. Эпохи и идеи... С. 330.
202
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
концепции Леопольда фон Ранке, который считал, что «наука всеобщей
истории (здесь и далее курсив мой. -Л. Р.) отличается от специального
исследования тем, что, изучая особенное, универсальная история нико-
гда не забывает о целом, которым она занимается. Исследование осо-
бенного, даже единичного, ценно, если оно хорошо сделано. Будучи
обращено к человеку, оно всегда обнаруживает нечто, что стоит знать.
Оно поучительно, даже когда касается мелочей, поскольку человеческое
всегда достойно познания. Но изучение особенного непременно уста-
навливает связь с более широким контекстом. Локальная история соот-
носится с историей страны; биография - с каким-то более масштабным
событием в жизни государства и церкви, с какой-либо эпохой нацио-
нальной или общей истории. Но все эти эпохи сами... являются частью
того великого целого, которое мы называем универсальной историей.
Чем шире горизонт исследования, тем, соответственно выше его цен-
ность. Конечной целью, все еще недостигнутой, остается постижение и
написание истории человечества»9. Эта цель - коллективная идентич-
ность высшего порядка, опирающаяся на идею единой судьбы челове-
чества и преемственности всемирно-исторического развития от эпохи к
эпохе10. В этом состоит классическое понимание сверхзадачи всеобщей
истории, разделяемое ведущими представителями новоевропейской ис-
ториографии. Примечательно, что этот пассаж из неопубликованной
рукописи Ранке почти в тех же выражениях повторил Эдуард Мейер в
своей известной работе «Теоретические и методологические вопросы
истории»: «...Считать единицей историю нации и из ее судеб выводить
нормы исторической эволюции - совершенно ошибочно. Никакой
замкнутой в себе национальной истории вообще нет: все народы, всту-
пившие между собою в продолжительное политическое и культурное
единение, представляют для истории единство, до тех пор, пока связь их
не нарушится ходом исторической эволюции, и, в конце концов, исто-
рии отдельных народов, государств, наций являются лишь частями
единой, всеобщей истории; хотя их и можно рассматривать отдельно, но
никогда нельзя изучать совершенно изолированно, без связи с целым».
В России идея всеобщей истории - довольно позднее приобрете-
ние11. Само ее распространение было напрямую связано с мучительны-
9 Ranke L., von. The Role of the Particular and the General in the Study of Universal
History (A Manuscript of the 1860s) // The Theory and Practice of History: Leopold von
Ranke / Ed. by Georg G. Iggers and Konrad von Moltke. Indianapolis; N.Y., 1973. P. 58.
10 Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. С. 46.
11 См.: РепинаЛ. П. Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклас-
сике // Серия WP6. Гуманитарные исследования ИГИТИ. М.: ГУ ВШЭ, 2009.
J1. П. Репина. Пространственные перспективы...
203
ми поисками ответа на вопрос об исторических судьбах человечества
как целого, и России - как его части. Главным пропагандистом идеи
всеобщей истории в России в 1840-е и до середины 1850-х годов был
Т. Н. Грановский, заложивший в традицию российской профессиональ-
ной историографии четко выраженную линию истолкования специфики
всемирной/всеобщей истории как всеобъемлющей и взаимосвязанной12.
Изучение всеобщей истории в России было достойно продолжено
и существенно продвинуто вперед крупнейшими учеными русской
исторической школы пореформенного периода (Н. И. Кареевым,
М. М. Ковалевским, И. В. Лучицким, П. Г. Виноградовым, М. С. Коре-
линым, С. Ф. Фортунатовым, Р. Ю. Виппером и др.). Н. И. Кареев осо-
бо ценил умение «возвыситься до всемирно-исторической точки зре-
ния»13 и увидеть во всеобщей истории «взаимодействие, сближение
отдельных наций, культурное объединение человечества...14 15. Именно
благодаря такой ориентации сегодня, несмотря на прошедшие более
полутора столетий многие оригинальные положения концепции все-
общей истории, укоренившейся в российской интеллектуальной тра-
диции, вызывают отнюдь не антикварный интерес, приобретая в со-
временном контексте особое звучание.
2. Всемирная/всеобщая история как история глобальная
На рубеже XX -XXI столетий, в условиях предельной фрагмента-
ции исторического знания, наряду с расцветом микроисторических ис-
следований, возникла острая потребность в масштабном взгляде на ис-
торию, способном охватить историю человечества как единого целого,
и вновь вырос интерес к исторической макроперспективе, ориентиро-
ванной на изучение многообразных последствий развития глобальных
взаимосвязей . Если микроисторичсская исследовательская модель
предполагала критику «классической» национальной истории «снизу» -
на материале изучения индивидов и локальных сообществ, также рас-
сматриваемых как индивиды, то новая макроисторическая модель вновь
12 Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1961. С. 47.
13 Кареев Н. Историческое миросозерцание Грановского. Речь на торжествен-
ном акте Императорского С.-Петербургского Университета 8 февраля 1896 г.
,СПб., 1896. С. 2.
1 14 Там же. С. 67.
15 Globalisation in World History / Ed. by Anthony G. Hopkins. L., 2002; Rethink-
ing American History in a Global Age / Ed. by P. Bender. Berkeley, 2002; Das Kaiserreich
transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914/ Hg. S. Conrad, J. Osterhammel.
Gottingen, 2004). См. также: Любимов Ю. В. Глобализационные процессы в про-
нитом // Историческая психология и социология истории. 2(2). 2008. С. 113-134.
204
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
обратила взоры специалистов к надындивидуальному измерению исто-
рии. Однако при этом современная макроистория минует классическую
проблематику национально-государственных общностей и идентично-
стей, сразу выходя на уровень взаимодействия локальных контекстов и
глобальной среды. В последние годы растет число ученых, которые раз-
рабатывают новые модели так называемой межнациональной (а точ-
нее- транснациональной) и глобальной истории, и соответственно -
растет корпус эмпирических исследований и объем концептуально-
методологических работ, преодолевающих ограниченные горизонты
историй отдельных национальных государств.
Национальная, или точнее - национально-государственная, исто-
рия в современной критике обычно отождествляется с <<макронаррати-
вом» и связывается с национализмом, стремлением закрепить идею на-
ции, поместив ее в долговременную историческую перспективу, с
«культивацией национальной идентичности»16 17. Одновременно, «уни-
версальная история» в авторитетной «Энциклопедии историков и исто-
риописания» рассматривается в своем старом обличье - как идея единой
истории всего человечества в многовековой западной философской
традиции, пошатнувшейся только в XX столетии. С этой точки зрения,
«всемирная история» противопоставляется в позитивном плане (как
основанная на простых сопоставлениях истории разных стран и наро-
дов) истории всеобщей, принципиально универсалистской , опираю-
щейся на ту или иную из многочисленных линейно-стадиальных теорий
исторического процесса.
Что касается глобальной истории, или мировой истории (world
history), имеющей относительно недавнее происхождение18, то она харак-
теризуется как «подлинно аналитическая», противостоящая идеологизи-
рованным телеологическим версиям, «связная» и «целостная история», и
ассоциируется с «развитием более интернациональной [подразумевается,
менее европоцентристской, “постколониальной”, диалогичной, учиты-
вающей “взгляд с периферии”, т.е. позицию другой стороны - Л. Р] ори-
ентации». Подчеркивается, что эта история - «больше чем сумма частных
16См., например: Encyclopedia of Historians and Historical Writing/ Ed.by
K. Boyd. L.; Chicago, 1999. Vol. 2. P. 856.
17 Encyclopedia of Historians and Historical Writing. Vol. 2. P. 1244-1245.
18 Подробно о концепциях мировой истории в историографии XX века см.: Bent-
ley, Jerry Н. Shapes of World History in Twentieth-Century Scholarship. Washington, 1996.
Обсуждению современных концепций мировой истории был посвящен специальный
тематический выпуск международного журнала «История и теория»: Theme Issue 34.
World Historians and Their Critics // History and Theory. 1995. Vol. 34. № 2.
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
205
историй19» (в том числе национальных20 и региональных21) и направлена
она не на познание неких общих принципов или смысла истории, а на
описание событий и сравнительный анализ процессов.
Итак, в идеале современная всеобщая история как история глобаль-
ная должна отказаться от категорий доминирования в пользу категорий
различия, превратиться из «старомодно-евроцентричной» в принципи-
ально мультиперспективную, быть нстелеологичной и контекстуально-
ориентированной, оставлять место для альтернатив и иметь даже не соб-
ственно интегративный, а по-настоящему коммуникативный характер22.
В ходе осмысления последствий глобализации в современном ми-
ре сформировалась новая научная дисциплина - глобальная история,
опирающаяся на представление о структурной когерентности мирового
исторического процесса и взаимозависимости всех его локальных акто-
ров. Одним из наиболее заметных проявлений интеллектуальной реак-
ции на глобализацию стал бурный рост исторических исследований,
посвященных ставшим сегодня наиболее острыми мировым социаль-
ным проблемам, таким, например, как проблема миграций или мобили-
зующей роли этнического самосознания, а также изучению проблем
межкультурного взаимодействия (диалога культур), контактов и взаи-
мовлияния различных цивилизаций и их роли в процессах трансформа-
ций разного уровня, включая всемирно-исторический. Вполне естест-
венно, что эти и подобные, в прямом смысле глобальные, проблемы
оказались в фокусе внимания международных конгрессов исторических
наук и других крупнейших научных форумов23. Создаются новые учеб-
ные программы, возникают специальные периодические издания (в том
числе и электронные), постепенно формируется международное научное
19 Ibid. Р. 1330.
20 Специально подчеркивается способность глобальной истории предложить
альтернативу «героическим, национальным нарративам» традиционной историо-
графии. См., в частности: Conceptualizing Global History... Р. 245.
21 Впрочем, сегодня отчетливо проявляется тенденция перевести обсуждение
перспектив и проблематики региональной истории в иные плоскости: например, в
контекст более специализированной интеллектуальной традиции историко-
географических исследований или так называемой географической истории, изу-
чающей пространственную сторону исторического процесса. См., в частности: Bak-
er, Alan R. Н. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge; N. Y., 2003.
22 См., например: Proceedings Acts. 19th International Congress of Historical
Sciences. Oslo, 2000. P. 3-52.
23 Подробно об этом см.: Репина Л. П. Историческая наука и современное об-
щество // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации /
Под рсд. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 3-19.
206
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
сообщество, в рамках которого ведутся оживленные дискуссии, стимули-
рующие развитие нового направления. В 2007 г. Ассоциация мировой
истории провела свою шестнадцатую ежегодную конференцию под зна-
менательным названием «Раздвигая горизонты, сметая границы: макро и
микро в мировой истории»24, а в 2008 г. в Гарварде «глобальные истори-
ки» впервые собрались на специальный научный форум, посвященный
глобальной истории под девизом Global History, Globally25.
В настоящее время речь идет не о том первоначальном понимании
глобальной истории, которое было - в совершенно иной социокультур-
ной и интеллектуальной ситуации - введено в научный оборот
Ф. Броделем. Глобальное видение истории в интерпретации Броделя
было прежде всего направлено на объяснение развития общества как
сложной системы в единстве, взаимосвязи и взаимодействии состав-
ляющих его групп и подсистем (экономической, социальной, политиче-
ской, культурной)26 27 28, хотя, конечно, нельзя упускать из виду и другой
сущностный аспект его глобализирующего подхода - расширение ис-
следуемого пространства за пределы национальных границ2 . Много
позднее М. Эмар, защищая оптимистический взгляд на «кризис исто-
рии» 1990-х годов, констатировал: «История - это не все, но все являет-
ся историей или, по крайней мере, может ею стать, лишь бы были опре-
делены объекты анализа, поставлены вопросы и идентифицированы
источники, которые позволят угадать начало ответа. Но объекты иссле-
дования, так же как и поставленные вопросы, все дальше и дальше вы-
ходят за пространственные и временные рамки какого-либо государства
или прежде считавшегося замкнутым исторического периода, требуя от
28
нас выхода на иные смысловые уровни» .
Принципиальный контекстуализм, способный обеспечить выход за
пределы привычных административных и национальных границ и евро-
поцентристских ограничений, за рамки «имперского» и «колониально-
24 См.: http://www.thewha.org, а также программу конференции на сайте:
http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu.
25 См.: http://www.wcfia.harvard.edu/conferences/08_global_history/overview).
26 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV
XVIII вв. Т. 2. С. 462-463. Подробно об этом см.: Введение. Междисциплинарный
синтез в изучении модернизационных процессов. Опыт Ф. Броделя // Полидисцип-
линарные технологии исследования модернизационных процессов / Под ред-
Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. Томск, 2005. С. 6-19.
27 О его концепции «универсальной истории» и «истории цивилизаций» см.:
Aguirre Rojas С. A Fernand Braudel et les sciences humaines. Paris, 2004. P. 104-118.
28 Эмар M. Образование и научная работа в профессии историка: современные
подходы // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 19.
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
207
го» дискурса, выступает как насущная задача исторической науки XXI
в. и признается как таковая в зарубежной и российской историографии.
Конечно, глобальная и мировая история сегодня - это не коллек-
ция национальных и региональных нарративов. Сторонники новых мак-
роисторических подходов имеют разные точки зрения по многим мето-
дологическим и другим вопросам, включая периодизацию мировой
истории, баланс между западными и незападными обществами в разные
периоды истории, соотношение между глобальной и региональными
или национальными историями, но сходятся в понимании насущной
необходимости особой формы истории для исследования глобальных
процессов в их исторической ретроспективе.
Становление глобальной/транснациональной истории в се совре-
менном варианте опирается на общие процессы в интеллектуальной
сфере, связанные с утверждением «постнеклассической» научной пара-
дигмы (ее иногда определяют как «неоклассическую»29), и отражает
развитие интеллектуальной традиции, в которой принцип целостности
сочетается с учетом различий и многообразия.
Постнеклассическая ситуация в современном естествознании сти-
мулировала появление новых макроисторических парадигм, включая
развитие универсального, или глобального эволюционизма, а также но-
вой концепции универсальной истории человечества, которая отражает
наметившийся синтез гуманитарного и естественнонаучного знания -
альтернативу мнимой универсальности постмодернизма. «Большая ис-
тория» призвана выявлять закономерности в масштабе трех уровней —
человечества, планеты и вселенной °. Как считают некоторые энтузиа-
сты, новая универсальная история может стать той теоретической плат-
формой, которая объединит в себе все предыдущие исторические кон-
цепции, поскольку «предметное поле нового направления неимоверно
Широко» и в новом направлении, олицетворяющем собой междисцип-
линарный синтез, «найдется место макро- и микроистории, постмодср-
31
низму и модернизму, постструктурализму и структурализму и т.д.» .
29 Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005.
30 См., в частности: Spier F. The Structure of Big History. From the Big Bang until
Today. Amsterdam, 1996; Christian, David. ‘Maps of Time’: An Introduction to ‘Big Histo-
ry’. Berkeley, 2004; Idem. Science in the Mirror of ‘Big History’// The Changing Image of
the Sciences / Hd. By I. H. Stamhuis, T. Koetsicr, C. de Pater, A. van Helden. Lancaster, 2002;
Idem. World History in Context// Journal of World History. 2003. Vol. 14. №4. P. 437-458.
См. также: НазаретянА. П. Универсальная (Большая) история: версии и подходы//
Историческая психология и социология истории. 2(2). 2008. С. 5-24.
31 Высокова В. В., Сосновский М. А. Универсальная история в современной ис-
ториографии // Диалог со временем. 2007. Выл. 18. С. 186.
208
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Однако сколь бы важным ни было значение новой концепции
«универсальной истории» как поля междисциплинарного синтеза, эта
теория, ориентированная на преодоление барьеров между гуманитар-
ным и естественнонаучным знанием, отнюдь не исчерпывает номенкла-
туру современных версий макроисторического анализа и - более того -
не занимает среди них центрального места. Преобладают менее амби-
циозные варианты «глобальной», «мировой», «межнациональной» ис-
тории, причем сами эти термины, как и аналитический багаж «новой
всемирной» и «новой глобальной» истории (то противопоставляемых
друг другу, то воспринимаемых в тандеме), вызывают бурные споры32.
При этом термин «глобальная история» все же более популярен среди
32 См., в частности: Kossock, Manfred. From Universal to Global History // Con-
ceptualizing Global History / Ed. by B. Mazlish, R. Buultjens. Boulder, 1993. P. 93-112;
Haines Brown H. The Contradiction of World History (Paper presented at New England
Regional World History Association conference, April 23, 1994)// http:www.hartford-
hwp.com/archives/10/039.html; Geyer M., Bright Ch. World History in a Global Age//
American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 4. P. 1034-1060; Bentley, Jerry H. Cross-
Cultural Interaction and Periodization in World History // American Historical Review.
1996. Vol. 101. № 3. P. 749-770 (cp.r BentleyJ. H. The New World History// A Compa-
nion to Western Historical Thought / Ed. by L. Kramer, S. Maza. Oxford, 2002. P. 393-
416); Between National Histories and Global History I Ed. by S. Tonneson et al. Helsing-
fors, 1997; Mazlish, Bruce. Comparing Global History to World History// Journal of In-
terdisciplinary History. 1998. Vol. 28. №3. P. 385-396; Internationale Geschichte. The-
men - Ergebnisse - Aussichten I Hg. W. Loth, J. Osterhammel. Munchen, 2000;
Perspectives on Global History: Concepts and Methodology: a) Is Universal History Poss-
ible; b) Cultural Encounters Between the Continents Over the Centuries // Proceedings
Acts. 19th International Congress of Historical Sciences. Oslo, 2000. P. 3-52; Across Cul-
tural Borders. Historiography in a Global Perspective I Eds. E. Fuchs, B. Stuchtey. Lan-
ham, 2002; Writing World History 1800-2000/ Eds. E. Fuchs, B. Stuchtey. Oxford; New
York, 2003; Manning, Patrick Navigating World History. Historians Create a Global Past.
New York, 2003; World Civilizations: The Global Experience I Eds. Peter N. Steams et al.
2 vol. New York, 2000-2003; Stearns, Peter N. Western Civilization in World History.
New York, 2003; Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past / Eds.
J. Bentley, H. F. Ziegler. Boston, 2003; Osterhammel J., Petersson N. P. Geschichte der
Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen. Miinchen, 2003; BaylyC. The Birth of
the Modem World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons. Malden (Mass.);
Oxford, 2004; Palgrave Advances in World Histories I Ed. by M. Hughes-Warrington.
Basingstoke, 2005; Pernau, Margrit. Global History. Wegbereiter fur einen neuen Kolo-
nialismus? (http://geschichte-transnational.clio-online.net/fomm); Hughes-Warrington.
Mamie. World History and World Histories// World History Connected. 2006. Vol-3.
№ 3 (http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edU/3.3.html); O’Brien, Patrick K. Historical
Traditions and Modem Imperatives for the Restoration of Global History// Journal of
Global History. 2006. Vol. 1. № 1. P. 3-39; Sachsenmaier, Dominic. World History as
Ecumenical History? // Journal of World History. 2007. Vol. 18. № 4. P. 465-490.
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
209
философов и социологов33, в то время как большинство историков отда-
ет предпочтение понятиям «всеобщей» или «всемирной» истории.
Возглавлявший дискуссию о перспективах глобальной истории на
XIX Международном конгрессе исторических наук (Осло, Норвегия,
2000) известный британский историк Патрик О’Брайен в своем вступи-
тельном докладе утверждал, что в последней трети прошедшего столе-
тия глобальная, всемирная или универсальная история возродилась и
даже стала модной, вновь заняв достойное место в историографии на
рубеже столетий34. При этом он обращался не к перспективам междисци-
плинарной кооперации, а именно к фундаментальным традициям дисци-
плинарной истории. Интересно, что в поисках глубоких «корней» гло-
бальной истории, выстраивая се буквально классическую генеалогию, он
дошел до Геродота, перечислил последующих протагонистов «экумени-
ческих программ» всеобщей истории, включая Вико, Вольтера и даже
Ранке, а затем сосредоточился на методологических проблемах сравни-
тельного анализа, с которыми сталкиваются современные «глобальные
историки», не оставшиеся индифферентными к постмодернистской эпи-
стемологии, но взыскующие нового синтезирующего инструментария.
Глобальная история представляет собой попытку на новом теорети-
ческом уровне вернуться от микроисторической оптики к масштабному,
интегрирующему взгляду на историю, охватить человечество как некую
структуру в развитии взаимосвязей ее отдельных частей. Глобальная ис-
тория может быть понята и как осмысление процесса мировой интегра-
ции, исторического движения к более взаимосвязанному мировому по-
рядку и объединенной мировой культуре, характеризуемой в идеале как
живое взаимодействие локальных и национальных культур35. Предмет
глобальной истории - это именно взаимосвязи, экономические, полити-
ческие и культурные, между различными странами и цивилизациями.
Аргументация современных пропагандистов глобальной истории
удивительным образом перекликается с тем, что выдающийся россий-
ский ученый Н. И. Кареев, констатировавший «постепенное объедине-
ние судеб отдельных стран и народов», более века назад описывал как
«всемирно-историческую точку зрения»:
33 См.: Ионов И. Н. Основные направления и методология глобальной исто-
рии // Новая и Новейшая история. 2003. № 1. С. 18-29.
34Perspectives on Global History: Concepts and Methodology// 19th International
Congress of Historical Sciences, 6-13 August, 2000/ Proceedings Acts: Reports, Abstracts
and Round Table Introductions. Oslo, 2000. P. 3.
35 Fait, Olavi K. Global History, Cultural Encounters and Images // Between Na-
tional Histories and Global History. P. 59.
210
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
«Всемирная история не есть только сумма частных историй, т.е. ис-
торий отдельных стран и народов. Смотреть на историю человечества та-
ким образом мы имели бы право только в том случае, если бы жизнь ка-
ждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне
какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов.
Всякому известно, что в настоящее время нет ни одного почти уголка за-
селенной земли, который так или иначе, в той или другой мере не испы-
тывал бы на себе влияния со стороны того, что происходит в других мес-
тах, и что сближение между наиболее отдаленными одна от другой
странами, один от другого народами делается все более и более тесным...
С этой точки зрения всемирная история и является перед нами как про-
цесс постепенного установления политических, экономических и куль-
турных взаимоотношений между населениями отдельных стран, т.е. про-
цесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления
связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народа-
ми. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захваты-
ваемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, т.е. жизнью
своею собственною, местною и особою, и жизнью общею, универсаль-
ною, состоящею, с одной стороны в том или ином участии в делах других
народов, а с другой - в испытывании разнородных влияний, идущих от
этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так
сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества, ко-
нечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она получает
право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку
судьбы отдельных народов переплетаются между собою, один народ ока-
зывает на другой то или иное влияние, между народами устанавливается
известная историческая преемственность, и таким образом над суммою
частных историй возникает общая, универсальная, всемирная»36 37.
В этом пассаже, пожалуй, только выделенная курсивом фраза с
предлогом «над», отводящая всемирную историю на более высокий
«этаж» исторического описания, несколько диссонирует с современным
представлением о специфике перспективы мировой истории.
Сегодня многие специалисты считают, что не следует противо-
поставлять друг другу синонимичные, по сути дела, термины «миро-
вая» и «глобальная» история, и в конструировании генеалогии гло-
бальной истории обращаются к имеющейся в историографии традиции
и длинной череде авторитетов, включая и непосредственных предше-
37
ственников этого направления .
36 Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. СПб., 1903. С. 5-7.
37 Crosby, Allred W Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe-
900-1900. Cambridge, 1983; Wrlf, Eric. Europe and the People without Histoiy. Berke-
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
211
Однако в современной ситуации в историографии пересматрива-
ются и такие, казалось бы привычные, понятия, как «всемирная (миро-
вая) история», «европейская история», «региональная история» и даже
«компаративная история», активно обсуждается вопрос о соотношении
глобальной истории и цивилизационного анализа, который делает упор
на разнообразие и уникальность локальных цивилизаций. Речь, конечно,
нс идет об универсальной теории исторического процесса. Современное
понимание глобальной истории подразумевает наличие множества ло-
кальных вариантов и траекторий развития и далеко ушло от линейных и
европоцентристских в своей основе обобщающих схем в духе христиан-
ского универсализма и классических модернизационных теорий.
В связи с процессом так называемой «глокализации» или «гло-
бальной локализации» (речь идет о процессе регионализации, который
сопровождает и - более того - является непосредственной реакцией на
глобализационные процессы) чрезвычайно актуальной и критически
важной задачей становится разработка проблемы диалога культур и ци-
вилизаций в ее историческом измерении. С учетом «культурного пово-
рота», который пережила не только историография, но и общественные
науки, обновляются теоретические основания компаративной истории,
прежде ориентированной на методы исторической социологии. Поиск
современного взгляда на бесконечное разнообразие исторического опыта,
актуализируя сравнительно-исторические исследования, формирует но-
ley, 1983; Curtin, Philip D. Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge, 1984; Park-
er, Geoffrey. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-
1800. Cambridge, 1988; Alas M Machines as the Measure of Men: Science, Technology,
and Ideologies of Western Dominance. Ithaca, 1989; Pacey A Technology in World Civiliza-
tion: A Thousand-Year History. Oxford, 1990; etc. В этом плане весьма интересен пред-
ставленный активным сторонником «новой компаративной истории» Юргеном Осгер-
хаммелом анализ «космополитической перспективы» сравнительной истории
Цивилизаций XVIII века, утраченной в профессиональной исторжнрафии XIX столе-
тия - века европоцентристских национапьно-государственных и имперских («колониа-
листских», или «ориснталистских») историй. См/. Osterhammel 1. Geschichtswissen-
schaft lenseits des Nationalstaats: Studien zu Bcziehungsgeschichtc und
Zivilisationsvergleich. Gottingen, 2001. См. также: Muhlack, Ulrich. Universal History and
National History. Eighteenth- and Nineteenth-Century German Historians and the Scholarly
Community// British and German Historiography, 1750-1950: Traditions, Perceptions, and
Transfers / Ed. by B. Stuchtey, P. Wendc. Oxford, 2000. P. 25-48. Очень точно охарактери-
зовал пафос академической истории конца XIX века Франсуа Фюре: «История стала
тенеалогическим древом европейских наций и цивилизации, которую они породили»
(FuretE In the Workshop of History. Chicago; London, 1984. P. 98). Заметим, при этом,
'no в российской историографии, как говорилось выше, именно во второй половине
XIX века всеобщая (универсальная) история переживала свой расцвет.
212
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
вую стратегию компаративной истории, которая связана не с де-
контекстуализацией сходных явлений в рамках универсалистской, или же
эволюционной (европоцентристской, по своей сути) парадигмы, а с пре-
одолением европоцентризма38, с акцентированием - наряду с обнаружи-
ваемыми аналогиями - контрастов и различий, с последовательным уче-
том разнообразия локальных контекстов и культурных традиций39.
В этой связи пространственно-темпоральные перспективы «новой
локальной истории» в ее социокультурном наполнении, встраиваясь в
сетевую структуру глобальной истории, обретают новый эвристический
потенциал. Знаменательно, в частности, само недавнее возникновение
термина «перекрестная» или «переплетенная история», призванного обо-
значить новую парадигму, которая в отличие от традиционной компара-
тивной истории, работающей в режиме синхронии40, отдает приоритет
изучению динамики межкультурных интеракций (как между разными
38 Равным образом эта задача ставится в образовательной практике. Споры
идут вокруг вопроса о том, как сделать традиционный курс по истории западной
цивилизации в американских университетах более совместимым с учебным курсом
мировой истории, в котором реализуется новый подход. См.: Knowing, Teaching and
Learning History. National and International Perspectives I Eds. P. N. Steams, P. Seixas,
S. Winebur. New York, 2002; Stearns, Peter N. Western Civilization and World History.
New York; London, 2003; Idem. American Students and Global Issues // World History
Connected. 2007. Vol. 4. №2 (http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edU/4.2.htmI), a
также: Popp, Susanne. Integrating World History Perspectives into a National Curriculum:
A Feasible Way to Foster Global Oriented Historical Consciousness in German Class-
rooms? // World History Connected. 2006. Vol. 3. № 3 (httpV/worldhistoryconnected.
press.uiuc.edu/3.3.html); Bentley, JerryH. Why Study World History// World History
Connected. 2007. Vol. 5. № 1 (http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edU/5.l.html).
39 Показательно, в частности, что оргкомитет планируемой на 2010 год конфе-
ренции под названием «Глобализируя Средние века?» (обратим внимание на вопроси-
тельный знак) в Каламазу (Мичиган, США) ставит своей целью «переосмыслить науч-
ное поле медиевальных исследований, не ограничивая его одной лишь Европой, но
включая также Африку, Ближний Восток, Евразию и Азию», т.е. инкорпорируя эти
исследования в глобальную и компаративную перспективу (http://www.scgma.org).
40 По лаконичному определению Дж. Фредриксона, традиция компаративной
истории состоит в «выделении решающих факторов или независимых переменных,
которые объясняют национальные различия» (Fredrickson, George М. From Exceptio-
nalism to Variability: Recent Developments in Cross-National Comparative History//
Journal of American History. 1995. Vol. 82. №2. P. 587). Можно вспомнить как во-
семьдесят лет тому назад, обосновывая возможности сравнительного метода на Ме-
ждународном конгрессе по историческим наукам в Осло, Марк Блок говорил о том,
что название «сравнительная история» закрепилось «почти исключительно за сли-
чением явлений, существовавших по разные стороны государственной или нацио-
нальной границы» (см.: БлокМ. К сравнительной истории европейских обществ/'
Одиссей. Человек в истории - 2001. М., 2001. С. 66).
JI. П. Репина. Пространственные перспективы...213
обществами, странами, регионами, так и между интеллектуальными тра-
дициями и научными дисциплинами)41. Параллельно и иногда альтерна-
тивно употребляются и обсуждаются другие близкие по содержанию по-
нятия, прежде всего так называемая «связанная история»42 43.
Благодаря этому в последнее десятилетие и компаративная исто-
рия переживает «второе рождение», новый «смысловой сдвиг», сопро-
вождаемый переопределением исследовательских задач и базовых
принципов. В современной историографии внимание к историческому
контексту одерживает верх над влиянием обобщающих теорий. В «ин-
терактивной компаративной истории» мы наблюдаем переход от кау-
зального объяснения к контекстуальному^. «Новая компаративная ис-
тория» (в своих разных версиях) преодолевает границы априорно
устанавливаемых национальных, региональных и даже локальных кон-
текстов, сосредоточивает внимание на существующих множественных
взаимосвязях, взаимообменах и взаимовлияниях между сравниваемыми
объектами и их культурно-историческими горизонтами, нередко ис-
пользуя для концептуализации изучаемых явлений понятие «культурно-
го псреноса/трансфсра» (отсюда - histoire des transferts)44 и выявляя его
медиаторов. Между тем два подхода («синхронический» и «диахрони-
ческий»), сравнительная история отдельных обществ, «история транс-
феров» и «перекрестная» (в иных версиях - «межнациональная»,
транснациональная», или «кросс-национальная»45) история не только
41 См.: Werner М., Zimmermann В. Penser 1’histoire croiscc: entre empiric et reflex-
ivitc // Annales (HSS). 2003. A. 58. № 1. P. 7-36; De la comparaison a Phistoire croisee/
Sous la dir. de M. Werner et B. Zimmermann. Paris, 2004; Werner M., Zimmermann B.
Beyond comparison: histoire croisee and the challenge of reflexivity // History and Theory.
2006. Vol. 45. № 1. P. 30-50. См. также: Le travail et la nation: Histoire croisee de la
France et de 1’Allemagne / Ed. B. Zimmermann, C. Didry, P. Wagner. Paris, 1999.
42 Cm.: The Making of the Modem World: Connected Histories, Divergent Paths
(1500 to the Present I Ed. by Robert W. Strayer. N.Y., 1989; Unraveling Ties: From Social
Cohesion to New Practices of Connectedness / Ed. by Y. Elkana et al. Frankfurt, 2002.
43 Cohen D. Comparative History: Buyer Beware // Bulletin of the German Histori-
cal Institute. 2001. №29. P. 30. См. также: Comparison and History: Europe in Cross-
National Perspective I Ed. by Deborah Cohen and Maura O’Connor. N. Y.; L., 2004.
44 Espagne M. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999.
45 См., например: Kocka J., H.-G. Haupt. Geschichte und Vergleich: Ansatze und
Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung. Frankfurt-am-Main, 1996;
Thelen, David. The Nation and Beyond. Transnational Perspectives on United States His-
tory// Journal of American History (The Nation and Beyond. Transnational Perspectives
on United States History. A Special Issue). 1999. Vol. 86. № 3. P. 965-975; Iriye, Akira.
Internationalizing International History // Rethinking American History in a Global Age I
Ed. by P. Bender. Berkeley, 2002. P. 47-62; Miller, Michael. Comparative and Cross-
214
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
46
не замещают и не исключают друг друга , но могут с успехом приме-
няться как взаимодополнительные.
3. Региональная и локальная история
Радикальное разрастание экономических связей и системы массо-
вых коммуникаций в современном мире существенно расширило плат-
форму взаимодействия между его разными частями, в том числе в фор-
ме конфликтов, не укладывающихся в привычную модель
противостояния национальных государств. Одной из не первостепен-
ных, но явственных примет этого глобализирующегося мира в его ин-
теллектуальном преломлении стало отступление парадигмы националь-
ной истории с доминирующих позиций, которые она занимала с XIX
столетия, и начавшаяся перестройка в статусной иерархии исторических
дисциплин46 47. Процессы регионализации (в самых разных конфигураци-
ях) и региональной самоорганизации, наблюдаемые, с одной стороны, в
интеграции локальных сообществ в более широкие территориальные
комплексы, с другой - в сохранении культурных различий как в рамках
этих территориальных образований, так и между ними48, привели к ак-
туализации и эскалации трансдисциплинарных региональных исследо-
ваний. На рубеже XX-XXI вв. региональная история решительно раз-
межевывается с историей национальной (как и межнациональной), в
одних своих версиях смыкаясь с локальной историей, в других - дис-
танцируясь от нее, причем границы между ними остаются неясными и
зачастую просто не рефлексируются. В этой ситуации нельзя не согла-
ситься с характеристикой сегодняшнего научного статуса региональной
истории как «не достигшей совершеннолетия субдисциплины» с недос-
таточно определенными «концептуальными горизонтами»49.
National History. Approaches, Differences, Problems // Comparison and History: Europe
in Cross-National Perspective. P. 133-144; Haupt H.-G. Historische Komparatistik in der
intemationalen Geschichtsschreibung // Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen
und Theorien. Gottingen, 2006. S. 137-149.
46 Рассуждения (хотя и несколько прямолинейные) о совместимости компара-
тивной и «перекрестной» истории см., в частности: Коска J. Comparison and
Beyond И History and Theory. 2003. Vol. 42. № 1. P. 39-44.
47 См., в частности: Wallerstein E. Unthinking Social Science. The Limits of Nine-
teenth-Century Paradigms. Cambridge, 1995.
48 Так «размывается» сложившаяся в Новое время и до сих пор формирующая
нашу «ретроспективную оптику» исторически несостоятельная концепция жесгких
государственных границ.
An Agenda for Regional History I Ed. by B. Lancaster, D. Newton, N. Vail. New-
castle-upon-Tyne, 2007. P. VIII.
JI. П. Репина. Пространственные перспективы... 215
IFF
Противоречивые дефиниции региональной истории отражают
имеющиеся различия в трактовках понятия региона, как в отношении
его пространственных масштабов (на основе географического критерия
и согласно различным схемам организации географического простран-
ства)50 или дифференциации исследуемых регионов на внутригосудар-
ственные и надгосударственные (т.е. на основе административного или
геополитического критерия), так и в практике их выделения на основе
некоего общего набора содержательных характеристик (причем при-
оритет в научных исследованиях такого рода все больше переходит от
сферы экономики к культурной специфике региональных сообществ).
Однако последние и сегодня нередко определяются по территориально-
административным границам и номинируются по названиям соответст-
вующих округов или исторических областей, причем обычно ретро-
спективно используются нынешние границы, без учета их подвижности
и изменчивой конфигурации. Более осмысленная и продвинутая иссле-
довательская модель опирается на комплекс природных, экономиче-
ских, этнокультурных и других признаков, который может объединять
несколько округов или существовать внутри одного из них, но все же
представлять собой некую культурно-хозяйственную целостность на
основе общих представлений, образа жизни, исторических традиций,
независимо от современных административных границ.
Поскольку ни сугубо географические, ни административные так-
сономические единицы территориального членения не могут сегодня
служить опорой теоретического «рсгионостроительства», споры вокруг
дефиниций и критериев выделения изучаемых объектов рискуют затя-
нуться51. Найти какой-то безупречно нейтральный термин невозможно в
50 Всесторонний анализ взаимодействия географии и истории на «пересекаю-
щихся» проблемных полях, и в том числе в исследовательском пространстве региона-
листики, см.: Baker A R. Н. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge, 2005.
Историки, используя пространственные категории, редко дают им строгие дефиниции.
Подробнее об этом см.: Les espaces de I’historien: Etudes d’historiographie / Ed. Jean-
Claude Waquet, Odilc Goerg, Rebecca Rogers.Strasbourg, 2000.
51 Известный британский ученый, видный теоретик локальной и региональной
истории Джон Маршал (1919-2008) полвека своей научной карьеры активно участ-
вовал в дискуссиях по этим проблемам с представителями «лестерской школы»,
Которые строили свои модели изучения локальной истории доиндустриального пе-
риода вокруг концепта «локального сообщества». Он обоснованно отстаивал необ-
ходимость изучения более широких региональных контекстов для анализа реалий
Индустриальной эпохи. См., например: Marshall J. D. The Study of Local and Regional
communities”: some problems and possibilities // Northern History. 1981. Vol. 17.
203-230; Idem. Why Study Regions? // Journal of Regional and Local Studies. 1985.
216
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
силу историко-культурной «привязанности» всех понятий, имеющих
хождение в мировой и отечественной историографии. В целом соглаша-
ясь с критическими соображениями М. П. Мохначевой по поводу суще-
ствующих этимологических изысканий52, считаю целесообразным, по
возможности, избегать в обозначении научных направлений слов, из-
лишне нагруженных коннотациями - таких, например, как эпитет «про-
винциальный». Заметим, кстати, что термин «регион/региональный»
наиболее нейтрален. И он правомерно становится общепринятым в ме-
ждународном научном сообществе, так как даст возможность обозна-
чить отличие научного подхода к изучению прошлого, обозначаемого
данным термином, от традиционных для соответствующих националь-
ных традиций историописания - например, «истории земли» в Герма-
нии, «истории графства» в Англии, «истории провинции» во Франции
(провинции в административно-территориальном значении, а не в зна-
чении периферии), - оставив эти последние для обозначения объекта
историко-историографического исследования. Образцом последнего мо-
жет служить фундаментальный коллективный труд «Английские истории
графств»53, в котором представлен анализ особого рода исторических
нарративов - всех так называемых «историй графств» (разных уровней -
и графства как целого, и его округов, и выходящих за его пределы куль-
турно-исторических областей), начиная с местных эрудитов XVI столетия
(включая неопубликованные рукописи, завершенные и незавершенные, а
также собранные антикварами коллекции документов и артефактов,
предназначавшихся для создания истории графства или его частей, или
отдельных местных общин) и до профессионалов конца XX века.
Региональную историю следует рассматривать в двух несовмести-
мых культурных контекстах, имеющих разную идейную ориентацию: с
одной стороны, как способ мобилизации исторической памяти, а, с дру-
гой - как инструмент научно-исторического познания, отражающий
V. 5. Р. 15-27; Idem. Why Study Regions? Some Historical Considerations // Journal of
Regional and Local Studies. 1986. Vol. 6. N I. P. 1-12; Idem. Communities, Societies,
Regions and Local History; Perceptions of Locality in High and Law Furness // Local
Historian. 1996. Vol. 26. N 1. P. 36-47; Idem. The Tyranny of the Discrete: a Discussion
of the Problems of Local History in England. Aidershot, 1997.
52 Подробнее см.: Мохначева M. П. Провинциальная историография и историче-
ское краеведение: предметные поля и дисциплинарные полномочия // Новая локальная
история. Выл. 3. Ставрополь, 2006. С. 202-216. Ср.: Шмидт С. О. Краеведение и ре-
гиональная история в современной России // Методология региональных историче-
ских исследований. Материалы международного семинара. СПб., 2000. С. 11-15.
53 English County Histories. A Guide // Ed. by C. R. J. Currie and C. R. Elrington-
Stroud, 1994.
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
217
современное состояние исторической науки, мировую историографиче-
скую практику, в которой находят применение теории, методы и кон-
цепции смежных дисциплин - к примеру, концепции «ментального про-
странства»54 и «воображаемых сообществ».
Первая ипостась региональной истории ярко воплощается в так на-
зываемой «истории родного края», составляющей региональный компо-
нент школьного образования. М. Ф. Румянцева, размышляя о причинах
актуализации краеведения, справедливо отмечает его поощрение вла-
стями как идеологического средства государственного и национального
утверждения. Представляя краеведение и новую локальную историю
«как два оппонирующих типа локальных/региональных исследований
интравертный и экстравертный соответственно», она подчеркивает
«значение новой локальной истории как концептуальной основы пре-
одоления ксенофобии и воспитания толерантного мировосприятия»55. В
том же плане рассматривается и весьма перспективная «история погра-
ничных областей», которая развивается в контексте новой локальной и
культурной истории. Но если в политических и этических аргументах
относительно значимости изучения пограничных зон, представляющих
опыт (хотя и неоднозначный) совместного существования разных этно-
культурных групп, для «воспитания в духе сотрудничества, синкретиз-
ма и интеграции» и «в интересах взаимопонимания»56 недостатка нет,
то научные основания и перспективы, которые открывающиеся в bor-
derland history (истории пограничных регионов)57, и в истории кон-
тактных зон, до сих пор остаются слабо эксплицированными.
54 Так, например, Д. В. Сень рассматривает- формирование ментальных границ
региона “Кубань” в составе Российской империи («присвоение и символическое
освоение») как «пример воображаемою пространства, судьба которого теснейшим
образом была связана с имперскими “войнами памяти”, необходимостью со стороны
Российского царизма управлять новыми окраинными землями». СеньД. Воображае-
мая география в дискурсе империй: из истории (русификации» Причерноморья в
конце XVIII века // Украша в Центрально-Схщнш Свропь Вин. 7. Кшв, 2007. С. 346.
55 Румянцева М. Ф. Новая локальная история и современное гуманитарное
знание // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 272-273.
56 См., например: Коткин С. О краеведении и его методологии // Методология
Региональных исторических исследований. Материалы международного семинара.
СПб., 2000. С. 16-20.
57 О концептуальных проблемах истории пограничья см.: МегиллА. Границы
Как историческая и теоретическая проблема // Теории и методы исторической науки:
IIJar в XXI век. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Л.П.
Репина. М., 2008. С. 212-214. Регион определен как «сообщество людей в простран-
стве, отличном от локального, национально-государственного и глобального... Ре-
218
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
В связи с этим акцент в региональных исследованиях на проблема-
тику исторической памяти нередко оказывается не только малопродук-
тивным, но и откровенно манипулятивным. Вот почему Д. В. Сень,
справедливо указывая на то, что многие современные российские ре-
гионоведы используют «такие “химеры” региональной идентичности,
как “коренной народ”, “родная земля”, “малая родина”, счел необходи-
мым признать, что «региональный подход, зачастую приводящий к эт-
низации местной истории, становится все менее научно состоятельным
на фоне возрастающей политической значимости национализма и ре-
гионализма» и может послужить «лишним горючим основанием для
разжигания новых “войн памяти”»58. Вместе с тем этот категоричный
вывод, при всей его обоснованности, имеет отношение только к вполне
определенному направлению идеологии регионализма и «этнизации
прошлого». Что касается научной парадигмы локально-региональных
исследований в современном историческом познании, то она имеет со-
вершенно иную направленность, развиваясь как антидот от «национали-
зации прошлого», к которой приводит доминирование традиционной
перспективы национально-государственной историографии, ориентиро-
ванной на задачи государственного строительства и национальной са-
моидентификации59. А задача изучения специфических форм региона-
лизма и культурной идентификации локальных и региональных
субъектов («региональной идентичности») связывается с проблемати-
кой роли социокультурного фактора в процессах региональной модер-
низации60. К этому, однако, стоит добавить, что в европейском контек-
гиональная история - это история, в которой национальные государства и их четко
очерченные границы играют второстепенную роль или отсутствуют вовсе» (С. 212).
58 СенъД. В. “Черномория” versus “Кубань”: некоторые аспекты дискурса импе-
рий и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца
XVIII - начала XIX в. // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических
культур Северного Кавказа за 2005 год. Дикаревские чтения (12). Краснодар, 2006.
С. 380-381, 386. См. также: История края как поле конструирования региональной
идентичности. Материалы семинара / Под ред. И. И. Куриллы. Волгоград, 2008.
59 См., в частности: Савельева И. М., Полетаев А. В. Современное общество и
историческая наука: вызовы и ответы // Мир Клио. Т. 1. М., 2007. С. 181-183.
60 Например, синтетическое исследование крупных историко-культурных зон
или макрорегионов России рассматривается как актуальная задача культурологии в
рамках современной регионалистики. См.: Мосолова Л. М. Историография XX века
о глобальном и региональном в развитии культуры // Регионы России: Социокуль-
турные контексты художественных процессов Нового и Новейшего времени / Отв;
ред. Л. М. Мосолова. СПб., 2002. С. 16. Обоснование регионально-ориентированной
теоретико-методологической модели изучения процессов модернизации см. в кни^-
Д. П. Репина. Пространственные перспективы...
219
сте речь все чаще идет о региональной идентичности (включая роль ми-
граций в ее становлении и трансформации) не только в пределах нацио-
нальных государств61 или в «регионах, соединяющих нации-
государства», но и в регионах, «рассекающих» все существующие ад-
министративно-государственные границы (включая создание трансна-
циональных региональных ассоциаций)62.
При высоком градусе терминологических споров представляется
странным, что в них, как правило, обходится стороной вопрос о пред-
метных и методологических различиях локальной и региональной исто-
рии и связанный с ним вопрос о последовательной трансформации наи-
более продвинутых концепций «новой локальной истории»63.
Отсутствие сколько-нибудь осмысленного различения предметных
полей локальной и региональной истории проявляется в их практическом
отождествлении в учебных планах научно-образовательных центров. По-
казательна магистерская программа специализации по локальной и ре-
гиональной истории (МА in Local and Regional History) Института исто-
рических исследований Лондонского университета. Программа, в фокусе
которой — история графств, состоит из трех частей: общие подходы к ре-
гиональной истории; пространственно-временные определения регионов,
миграция и этичность, экономика, политика и религия, культурная
Россия в XVII - начале XX вв.: региональные аспекты модернизации / Отв. ред.
И. В. Побережников. Екатеринбург, 2006. Глава!. Пространственные аспекты мо-
дернизации: теорегико-мето дологические проблемы. С. 17-82.
61 См., например: British Regionalism, 1900-2000 / Ed. by P. L. Garside and
M.Hcbbert. L., 1989; Issues of Regional Identity. In Honour of John Marshall / Ed. by
E. Royle. Manchester, 1998; Regional Identity and Diversity in Europe: Experience in Wales,
Silesia and Flanders I Ed. by D. M. Smith and E. Wistrich. L., 2007; Regional Identities in
North East England c. 1300-2000 / Ed. A. Green, A J. Pollard. Woodbridge, 2007; etc.
62 См., в частности: Sahlins P. Boundaries: The Making of France and Spain in the
Pyrenees. Berkeley, 1989; Place and Politics of Identity / Ed. by M. Keith and S. Pile.
L, 1993; Pollard S. Marginal Europe: The Contribution of Marginal Lands since the Mid-
dle Ages. Oxford, 1997; Bridging the North Sea; Conflict and Cooperation I Ed. Da-
vid J. Starkey and M. Hahn-Pedersen. Esbjerg, 2005.
63 О концепциях разных поколений представителей британской школы ло-
кальной истории см.: Фитьян-Адамс Ч. Англия Хоскинса: гений локальной исто-
рии // Диалог со временем: историки в меняющемся мире / Отв. ред. Л. П. Репина.
1996; Репина Л. П. Новая локальная истории // Горизонты локальной истории
восточной Европы в XIX-XX веках. Челябинск, 2003. С. 10-20. См. также: Local
History: Objective and Pursuit I Ed. by H. P. R. Finberg and V. H. T. Skipp. Newton Ab-
bot, 1961; Hoskins W. Provincial England. L., 1963; Idem. English l-ocal History: the Past
attd Future. Leicester, 1966; Rural Change and Urban Growth 1500-1800: Essays in Eng-
lish Regional History in Honour of W. G. Hoskins / Ed. by C. W. Chaikin and
A. Havinden. L., 1974; Everitt A Landscape and Community in England. L., 1985; etc.
220
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
идентичность, внешние связи и влияния, причем вводный курс включает
тему «Идентификация регионов». Вместе с тем одна из самых интерес-
ных программ по региональной истории - магистерская в международ-
ном Центре региональной истории (Centre for Regional History) при Ин-
ституте истории Северо-Восточной Англии (the North-East England
History Institute) - предлагает более широкий подход к региональной ис-
тории, стимулируя ее изучение как в национальном, так и в межнацио-
нальном контекстах с применением компаративного анализа64.
В плане концептуализации локальной и региональной истории пе-
редовые позиции принадлежат такому признанному авторитету, как
Чарльз Фитьян-Адамс. Его известная концепция локальной социальной
истории65 постепенно, но неуклонно расширялась и трансформирова-
лась: от его книги об отдельной городской общине66, через реконструк-
цию сельских сетей и взаимосвязей между городом и округой67 68, и далее,
через анализ развивающейся региональной идентичности в погранич-
ных областях6 , к обобщающему труду, в котором исследуется эволю-
ция провинциальной Англии как целого, вместе с механизмами внут-
ренней дифференциации, от Римской Британии до сегодняшнего дня в
более широких контекстах всего Британского архипелага и континен-
тальной Европы. Выявление локальных, межлокальных, региональных
социальных сетей и содержания осуществляемых в них взаимодействий с
выходами в межрегиональное и глобальное пространство представляется
одной из весьма востребованных возможностей региональной истории.
«Опутывая» пространства разного уровня, эта флуктуирующая сеть, в
которой реализуется реальное многообразие социальных связей, форми-
рует соединительную ткань социального целого. Эта историческая мо-
дель корреспондирует с концепцией регионов как серии связанных соци-
64 Активно развивается Манчестерский центр региональной истории (с 1987 г.
издает журнал Manchester Region History Review), Центр локальной и региональной
истории Университета Эссекса. Отметим также специальные программы подготовки
исследователей по локальной и региональной истории в Ланкастерском университете,
Университете Ноттингема, Университете Сассекса и др. См. также: Jackson A J.H.
Local history and local history education in the early twenty first century: organizational and
intellectual challenges//Local Historian. 2008. Vol. 38. N 4. P. 266-273.
65 Phythian-Adams Ch. Re-thinking English Local History. Leicester, 1987.
66 Phythian-Adams Ch. Desolation of a City: Coventry and the Urban Crisis of the
Late Middle Ages. Cambridge, 1979.
67 Phythian-Adams Ch. Introduction: An agenda for the English local // Societies,
Cultures and Kinship 1580-1850: Cultural Provinces in English Local History / Ed. by Ch-
Phytian-Adams. L.; N.Y., 1993. P. 1-23.
68 Phythian-Adams Ch. I .and of the Cumbrians: A Study in British Provincial Ori-
gins AD 410-1120. Aidershot, 1996.
Л. П. Репина. Пространственные перспективы...
221
альными отношениями перемежающихся пространств, предложенной
британскими специалистами по географии регионов69, отличаясь введе-
нием в нее долговременной динамической составляющей.
Насколько правомерно в данном случае в связи с заметным отхо-
дом историков от перспективы национально-государственной истории —
говорить об усилении «“фрагментации” исторического знания»70 71? Это
явление, скорее, характерно для исторических сочинений, занятых лю-
бительским или заказным продуцированием коллективной памяти и
абсолютизирующих локальную (зачастую этнически детерминирован-
ную) перспективу в интересах конструирования локальных идентично-
стей (местного/этнического самосознания). Что касается собственно
исторического знания, производимого на уровне научных исторических
программ современной локальной и региональной истории, занимаю-
щих все более прочные позиции в мировой историографии, то здесь при
оио^с на выявление культурных манифестаций региональной идентично-
сти' , превалируют контекстуальное мышление, ориентация на компара-
тивный анализ вариантов локально-регионального развития и изучение
системы взаимосвязей как внутри микро- и мезо-социума, так и вне его.
Подобные принципы положены в основу концепции, разработан-
ной историками научно-образовательного центра «Новая локальная ис-
тория»72. Эта концепция, определяя локальные и региональные объекты
изучения не в традиционных границах, заранее заданных территориаль-
ными рамками, предполагает пристальное внимание к научно-
методическому инструментарию и к контекстам локальной истории,
69 См.: Allen J., Massey D., Cochrane A. Rethinking the Region. L., 1998.
70 Маловичко С. И. Глокальная перспектива новой локальной истории // Новая
локальная история. Вьш. 3. С таврополь, 2006. С. 185.
71 При этом учитываются и даже подчеркиваются существующие различия в
восприятии людьми пространства, культуры и повседневности в рамках одного и
того же региона. См., в частности: An Agenda for Regional History... P. 38.
72 См. сайт Центра «Новая локальная история» (http://www.newlocalhistory), а
также концепцию межвузовской научно-образовательной профаммы «Локальная ис-
тория: компаративные подходы и методы изучения» (http://www.newlocalhistory/
Work/konccpcia.pht). Цешр выпускает одноименное периодическое издание и проводит
ежегодные Иптерпет-конферепции. Представляется также весьма перспективным не-
давно начавшееся сотрудничество с созданным в 2006 г. Центром теоретико-
методологических проблем исторической регионалистики Института истории Украи-
йы Национальной академии наук Украины. См. изданные Центром сборники научных
егатей (в т.ч. посвященных теоретическим вопросам): Репопальпа icropix Украши.
Виц. 1 и 2. КМв, 2007-2008. См. также: Верменич Я. В. Теоретико-методолопчш про-
бисми югорично! регюнагпетики в Укра1ш. Кшв, 2003.
222 Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
понимание глобальной перспективы той или иной проблемы, опираю-
щееся на способность «видеть целое прежде составляющих его локаль-
ных частей, воспринимать и понимать контекстностъ, глобальное и
локальное, отношения исторических макро- и микроуровней», строить
исследование «на признании глубокой взаимной детерминации “внеш-
него” и “внутреннего”»73. В некоторых отношениях эта научная про-
грамма существенно развивает установившиеся в зарубежной историо-
графии подходы. Так, чрезвычайно важным представляется обращение
отечественных историков к отнюдь не тривиальным аспектам регио-
нальной истории изучению интеллектуальной жизни региона и кон-
кретных локальных сообществ на основе комплексного анализа локаль-
ных источников, в том числе местной периодики.
Региональная история сегодня стремительно развивается, ее теоре-
тические основания и методы постоянно обогащаются на базе междис-
циплинарного сотрудничества, преодолевающего концептуально-
терминологические барьеры.
Пространственные перспективы современной историографии мно-
гообразны, а границы между создаваемыми в избранных контекстах
нарративами условны и подвижны. Зафиксированный “периметр” ис-
следовательского поля рискует остаться искусственной конструкцией,
не имеющей отношения к реалиям прошлого, если его выбор не опира-
ется на понимание того значения, которое придавалось этому социаль-
ному и культурному пространству (от локального до глобального) са-
мими историческими акторами.
73 Булыгина Т. А., Маловичко С. И. Новая локальная история: Новые исследо-
вательские практики И Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. Ю-
См. также: Маловичко С. И. Глобальная (г)локализация и практика контекстуализма
новой локальной истории // Национальные образы прошлого: Этническая доминанта
в историографии и философии истории. Третьи Санкт-Петербургские чтения п0
теории, методологии и философии истории / Отв. ред. А. В. Малинов. СПб., 200«-
С. 140-147.
И. Н. Ионов
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
В 1980-е гг. цивилизационные представления, на протяжении поч-
ти двухсот лет доминировавшие в сфере исторического сознания, впали
в кризис. Попытка их структуралистского обобщения и создания все-
объемлющего синтеза, предпринятая в 1981 г. Г. Мишо и Э. Марком,
оказалась в целом неудачной . Критике стали подвергаться как теория
исторической эволюции и линейно-стадиальная схема истории, так и
способность познания культур и истории других цивилизаций. Это про-
исходило даже в России, где с цивилизационной теорией были связаны
надежды на преодоление формационной догматики1 2. Вместе с тем, си-
туация распада образа прошлого также считалась многими историками
неудовлетворительной и требующей преодоления3.
На рубеже XXI в. происходит перелом в отношении к цивилизаци-
онным идеям, их ре-актуализация. В. М. Мучник в 2000 г. указывал на
«оживление интереса в западной методологической литературе к таким
понятиям, как “метанарратив” или “великий нарратив”, известное со-
чувствие к тому, что когда-то именовалось “историцизмом” или “эссен-
циализмом” и, казалось бы, было окончательно определено по ведомст-
ву любопытных историографических раритетов»4. В частности,
И. Рюзен выдвинул план «восстановления последовательности истории
посредством соединения модернизма с постмодернизмом». «Мы долж-
ны признать на деле, - писал он, - что существует лишь множество ис-
торий, а нс единственная история как фактическое бытие. Но, тем не
менее, - и это мое модернистское продолжение аргументации - нам
нужна идея единства исторического опыта»5.
1 Michaud G., Marc Е. Vers une science des civilisations? Bruxelles, 1981;
Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы
взаимодействия. М., 2007. С. 415-421.
2 Копосов Н. Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005.
с- 82, 104, 129.
3 Revel J. Histoire science sociale // Annales. E.S.C. 1979. № 6; Dosse F. Histoire
en miettes. Des “Annales” a la “Nouvelle histoire”. P., 1987.
4 Мучник В. M. Актуальность мифа: о тенденциях развития исторического
с°знания в канун третьего тысячелетия // Историческая наука и историческое соз-
нание. Томск, 2000. С. 221.
5 Рюзен Й. Утрачивая последовательность времени (некоторые аспекты ис-
торической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о
Памяти) И Диалог со временем. 2001. Вып.7. С. 24-25.
224 Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Эти идеи оказались плодотворными для развития и усложнения
образов цивилизаций, трансформировали их в многообразные, противо-
речивые и многоплановые нарративы. Для того чтобы оценить их, необ-
ходимо оценить события конца XX - начала XXI вв., прежде всего по-
следствия наступления и кризиса «лингвистического поворота», роль
связанного с ним внимания к диалогу и самоидентификации и их важ-
нейшего итога - постколониального дискурса, которые оказали разно-
стороннее влияние на различные варианты цивилизационных представ-
лений и методологию сравнительного изучения цивилизаций.
Лингвистический поворот и предпосылки возрождения
цивилизационных представлений: Поль Рикёр
Еще в 1970-е - начале 1980-х гг., в ходе «лингвистического поворо-
та» X. Уайту и Л. О. Минку казалось, что гуманитаризация исторического
знания позволит полностью переосмыслить его основы, вытеснив объяс-
няющие модели. Но уже довольно скоро появились противоположные
тенденции. В частности, началась критика «лингвистического поворота»
и сближение образа истории с образом объективного научного знания.
В частности, на стороне цивилизационных представлений высту-
пил такой известный философ, как создатель феноменологической гер-
меневтики Поль Рикёр, который в книге «Время и рассказ» (1985) опи-
рался на опыт историков школы «Анналов» и, в частности, Ф. Броделя.
Полем компромисса между релятивистской и эссенциалистской вер-
сиями истории для него стала логика вероятности, не исключающая
представлений о причинности, а значит, и научности и даже истинно-
сти6. Ее дополнял феноменологический, конструкционисткий подход,
согласно которому, как думал и А.-И. Марру, «субъективность - не
тюрьма, а объективность - не освобождение из тюрьмы... если история
правдива, ее истинность бывает двоякого рода, ибо она слагается из
правды о прошлом и свидетельства историка»7.
Таким образом, целью историка является не ре-актуализация (объ-
ективизация) прошлого. Она невозможна, поскольку история существу-
ет лишь благодаря отношению между прошлым мира и настоящим ис-
торика. Именно благодаря настоящему, тем вопросам, которые историк
задает прошлому и используемой им совокупности исторических про-
цедур, и становится возможным историческое знание. Поэтому правда о
прошлом кроется не в архивных документах, а в диалоге историка и
6 Рикёр П. Время и рассказ. В 2 т. Т. 1. М„ СПб., 2000. С. 119.
7 Цит по: там же. С. 117.
Ц. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
225
информации, содержащейся в документе8. Историк — не тот, кто вносит
беспорядок в реально существующую совокупность остатков прошлого,
а тот, кто благодаря своему, пусть несовершенному психологическому и
дознавательному аппарату может, во взаимодействии с коллегами, вне-
сти в эту совокупность порядок, с той или иной вероятностью (фикси-
руемой профессиональными нормами) отвечающий реальности про-
шлого и потребностям настоящего.
Если исходить из этих посылок, то нарратив и объяснение, вплоть
до «подведения под закон», считает П. Рикёр, не противоречат друг
другу. Нарратив это форма конструирования картины прошлого, ко-
торая не создает аналога или субститута объяснения. Объяснение всту-
пает в силу, когда сталкиваются разные картины и историк стремится
защитить свои выводы от противника, в том числе путем перегруппи-
ровки разнородных факторов внутри модели9. В результате происходит,
как отмечал Г. X. фон Вригг, расширение исходного языка и как следст-
вие - аппроксимация знания, обогащение модели10. Нс все то, что гово-
рится об истории, носит повествовательный характер, не все события
имеют своих свидетелей, правда о некоторых выясняется лишь задним
числом. Рассказ может быть формой объяснения, когда «объяснение
того, почему нечто произошло и описание того, что произошло, совпа-
дают». Кроме того, рассказ это описание одних событий, а значит,
исключение других. Это устраняет из методологии истории гипотетиче-
скую фигуру Идеального Хрониста, которую X. Уайт пытался противо-
поставить историку и в особенности - социологу и философу, пишущим
О прошлом. Развивая эти идеи, Рикёр сделал шаг вперед, проясняя раз-
личения между хроникой и историей, объяснением и пониманием, про-
стым рассказом и значимым рассказом и т.п.11
Рикёр пытается представить это как традицию Л. О. Минка, кото-
рый, по его мнению, изначально стремился к диалогу логики о&ьясне-
ния и феноменологии понимания, возникающему там, где соединяются
прошлое и будущее12. Однако анализ работ предшественников у Рикера
Далеко не беспристрастен: он выделяет в их мыслях то, что созвучно его
представлениям о неразрывности гуманитарного характера и научности
8 Там же. С. 118.
9 Там же. С. 166, 144-145.
10 Там же. С. 154.
11 Там же. С. 167-172.
12 Там же. С. 183. См.: MinkL.O. Philosophical Analysis and Historical
Understanding // Review of Metaphysics. 1968. Vol. 20. P. 686.
226
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
истории, акцентирует диалоговые аспекты познания. Так, у X. Уайта
для него главное - несозвучное созвучие форм, создающее уникальный
исторический стиль автора или даже произведения13. Этим его исходная
интенция отличается от подхода Л. О. Минка, который все же стремил-
ся монологически стянуть центр взаимодействия нарратива и объясне-
ния в сторону нарратива, или У. Б. Гэлли, который перемещал этот
центр в сторону объяснения14.
Методология П. Рикера не сводится к оправданию объяснения или
понимания, она принципиально диалогична, хотя крен в сторону «лин-
гвистического поворота» присутствует. Срединной позицией между
историческим и вымышленным нарративом Рикёр считает нарратив-
ную идентичность, в которой главную роль играет такой повествова-
тельный инструмент, как интрига. Это олитературенный способ само-
идентификации, «превращающий историю какой-либо жизни [или
цивилизации - И. И.] в вымышленную историю... в точке пересечения
между историографическим стилем биографий и романическим стилем
биографий воображаемых». Как признавал впоследствии Рикёр (1990),
эта позиция имела свои слабости, была оторвана от нерепрезентируемо-
го опыта, сосредоточенность автора на соотношении реальности и вы-
мысла отвлекла его от проблемы «идентичности как таковой», которой
он посвятил свою следующую книгу15.
Тем не менее, П. Рикёр четко различал и по-своему сопрягал исто-
рическое событие и нарратив как литературную форму. Его мало трога-
ло невнимание школы «Анналов» к событию и индивиду - он считает
это двойное неприятие основ микроистории «сильной стороной школы
“Анналов”». Он легко раздвигал границы понятий индивида и события
в сторону макроистории (персонажем нарратива для него может быть
Франция или цивилизация)16. Так же не вызывали у него идиосинкразии
структуралистские, объясняющие методы Ф. Броделя, книгу которого
«Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»
П. Рикёр (в отличие, скажем, от А. Я. Гуревича) считал «подлинным
манифестом школы “Анналов”». Критика Л. Февром и М. Блоком исто-
рического факта как атома истории совпадает с его взглядами, а критика
Ф. Броделем событийной истории как преимущественно истории поли-
13 Там же. С. 194.
14 NfinkL. О. Historical Understanding. Ithaca; L., 1987; Gaily W. B. Philosophy
and Historical Understanding. N.Y., 1964.
15 Рикёр П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 143. Сн. 1.
16 Там же. С. 153.
и. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
227
тической приводит к возведению истории цивилизаций в ранг истории
макрособытий (ранее подобную мысль высказывал Ф. Гизо) и трансполя-
ции истории цивилизаций в мир литературной интриги, составляющей
ядро исторического нарратива. Событийность, но особая, внеиндивиду-
альная и подразумевающая «целостность» социального факта, возможна,
по мнению Рикера, и в геоистории, на уровне «географического време-
ни», времени большой продолжительности. При этом позиция Броделя
защищается Рикером именно как взгляд историка, а не философа, в том
числе отстаивается право историка на нестрогость формулировок, харак-
теризующих пережитой опыт исследований17. «Властная история циви-
лизаций» высоко ценится как антитеза традиционной политической исто-
рии, истории-рассказа, «в которой нет человечности»18.
История цивилизаций предстает перед Рикером как двойственный,
противоречивый объект. Во-первых, это история, которая «обретает
интеллигибельность, свойственную лишь большой длительности». Он
видит в ней «спокойную мудрость, противоположную неистовству со-
бытия». Но вместе с тем, историк цивилизаций остается «хранителем
изменения». Длительность, какова бы она ни была, противостоит за-
стою, «совершенной синхронии», «квази-временным моделям», кото-
рые могут строить лишь социологи-математики. На деле эти модели
отражают «движение по темным и неизведанным дорогам большой
длительности»19. Длительность и изменчивость, вплоть до взрыва, оди-
наково отражают сущность цивилизационной модели. Вневременные
модели К. Леви-Строса вызывают у Рикёра неприятие. Модели большой
длительности Леви-Строса - это «слишком большая длительность», не-
приемлемая для историка, для которого остается значимой «многооб-
разная игра жизни»20. Суть работы историка цивилизаций Рикер видит в
борьбе «на два фронта: против события и против слишком большой
Длительности»21. В более поздней работе Рикёр конкретизировал эти
претензии, говоря, что исторические персонажи, будучи отделены от
истории и географии «дали бы удобную возможность разбушеваться
наихудшим идеологиям “национальной идентичности”»22.
17 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 120-122.
18 Там же. С. 123. Braudel F. La longue durce; Le^on inaugurale// Ecrits sur
1’histoire. Paris, 1969. P. 29, 44.
19 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 124.
20 Braudel F. Op. cit. Р. 75.
21 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 125.
22 Рикёр П. Я-сам как другой. С. 153.
228
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актпуализация
Как Рикёр ранее выделял стремление к объяснению у философов
аналитической школы, так теперь он подчеркивает внимание к времен-
ным явлениям даже у историков-структуралистов, таких как П. Шоню,
которым приходилось дистанцироваться от ахронических моделей эко-
номистов С. Кузнеца и Ж. Марчевски. «Вот почему, - пишет Рикёр, -
обращение Броделя к обширным пространствам и союз с геополитикой
были необходимы серийной истории, чтобы... не порывать своей связи
с традиционной историей»23. Конъюнктура и структура здесь взаимо-
действуют, находятся в диалоге. Достижения сериальной, в особенности
демографической истории Рикёр считает продолжением борьбы
М. Блока и Л. Февра против позитивизма, за право историка на отбор
свидетельств о прошлом. Поэтому борьба против нарративности в исто-
рии не привела в школе «Анналов» к превращению истории в геогра-
фию или экономику. «История в этом браке по расчету остается исто-
рической», - подчеркивает П. Рикер24. Особенно ярко это проявляется в
исторической антропологии и истории ментальностей. Их внимание к
количественным данным и структурам П. Шоню связывал не только с
постоянством, но также и с изменением и распадом. Для Ж. Дюби исто-
рия идеологий значима не столько описанием стабильных состояний,
сколько характеристикой стадий и ритмов, отличающихся от демогра-
фических и экологических. Это ориентация не на конструирование или
реконструкцию структур, а на их историческое сопоставление25.
Подход П. Рикёра коренным образом отличался от подхода Г. Мишо
и Э. Марка, которые, пытаясь соединить структуралистские и постструк-
туралистские идеи, оставались, как социологи, ориентированными на
изучение неизменного. Заслугой Рикёра являлось именно акцентирование
роли диалогического, подвижного и субъективного, критического в такой
изначально монологической (из-за связи с аксиологией), объективистской
и догматической области, как история цивилизаций. Особенно важны его
поздние работы, в которых он, все еще исходя из философии языка, под-
верг анализу идею тотальности последнего («все есть язык»). Он крити-
ковал «“замкнутый семантизм”, неспособный объяснить человеческое
действие как реально происходящее в мире», неэффективность языка по
отношению к интенциональному сознанию26.
Отрицая исторический релятивизм в стиле М. Фуко, он нашел но-
вую опору для частичного возрождения субъекта и догматических ос-
23 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 126.
24 Там же. С. 127-128.
25 Там же. С. 130.
26 Рикёр П. Я-сам как другой. С. 352-353.
Ц. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
229
нований исторической мысли в виде Самости (ipseite) как особого мо-
дуса бытия27. Принципиальной особенностью Самости является, по-
рикёру, ее неразрывная связь с Инаковостью, которая не может под-
вергнуться репрезентации, а значит, быть отвергнутой, включенной в
идентичность Тождественности. Другой таким образом предстоит не как
лицо, а как голос, в модусе этики. Другой «конституирует меня как от-
ветственного, то есть способного отвечать», как субъекта диалога28. Хо-
тя образ этого Другого может быть трактован и теологически, Рикёр
настаивает на его интерпретации как голоса исторического Предка,
«поколенческой фигуры Другого». «Предок, - подчеркивает он, - ис-
ключается из режима репрезентации, как подтверждается его охвачен-
ностью мифом и культом»29 30. Провозглашаемое и защищаемое Рикёром
«основанное на наказе бытие как структура самости» является базой как
для этики, так и для связанных с ней идеалов благой жизни, общей вла-
30
сти, тесно соприкасающихся с ценностями цивилизации .
Проблема преодоления тотальности языка и анализа нерспрезенти-
руемого нашла свое развитие у теоретика истории Ф. Р. Анкерсмита, ко-
торый, в свою очередь, в 2005 г. задумал «проломиться сквозь стены
“языковой тюрьмы”» и сделал шаг от «лингвистического поворота» в
сторону «экспериентального» (experiental) или «интеллектуально-
эмпиристского» поворота, нс связанного с историографической традици-
ей и делающего ключевыми понятиями интеллектуальный (или форми-
рующий) опыт. Это «“субъективный опыт”, т.е. принадлежащий историку
опыт прошлого». Подобный «сдвиг от языка к опыту» был связан с ос-
воением таких понятий, как идентичность, травма, гештальт-
переключение, коллективная память, места памяти. Он направлен на изу-
чение свойств «современного прошлого», «гораздо менее неподвижного и
завершенного, чем у предыдущего поколения»31. Как и Рикер, Анкерсмит
пытается осмыслить проблему «себя-как Другого», когда реальный опыт
«заставляет нас смотреть на себя глазами постороннего... мы можем осоз-
навать это только благодаря приобретению новой идентичности»32.
27 Там же. С. 354, 361.
28 Там же. С. 370-371.
29 Там же. С. 411. Правда, П. Рикёр нигде не пишет о той ситуации, когда
''Редок теряет свой сакральный статус и «выпадает» из нашей исторической
преемственности, что предполагал еще Н. Луман и подробно описал Р. Козеллек.
30 Там же. С. 232-245.
31 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт М., 2007. С. 23-24, 27.
32 Там же. С. 477.
230
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Тем самым Анкерсмит, отрицая теоретический универсализм, вме-
сте с тем сделал maj в сторону методологии макроистории, пытаясь уяс-
нить, как происходит исторический симеозис, если «это ужасное и трав-
матическое прошлое должно... стать частью современного нравственного
мира». Для этого ему надо было «понять, как цивилизации могут реаги-
ровать на коллективную травму», рассуждая о типах забвения прошлого
и разрывах в историческом опыте, о том, что «принуждает цивилизацию
отказаться от прежней самости и стать тем, чем она больше не является»,
о превращении отброшенных идентичностей в мифологизированное «хо-
лодное» сердце цивилизации33. Возникает картина, в центре которой жи-
вой исторический опыт - привлекательный для политиков и историков,
побуждающий их к изучению прошлого, травматический и вместе с тем
помогающий преодолеть травму. Актуализация исторического мифа про-
исходит именно тогда, когда цивилизация отрывается от своей праисто-
рии и происходит «жестокая буря историзации и нарративизации». «Гра-
ницам идентичности всегда грозит опасность, они постоянно нарушаются
— и потому понятие идентичности здесь так сильно востребовано»34.
Однако в отличие от Рикёра, допускающего возможность историче-
ской истинности и позитивные познавательные следствия «нарративной
идентификации», Анкерсмит эсплицитно провозглашает «дизъюнкцию
истины и опыта», а также отрицает существование субъекта опыта. Для
него, в отличие от Рикёра, исследование «культурных и цивилизационных
контекстов», как и для М. Фуко, означает «отсутствие каких-либо субъек-
тов опыта»35. При этом он явно недооценивает как подвижность границ
мифа, так и нестабильность границ и сложность структуры самоиденти-
фикации историка. Правда, это не мешает ему ставить вопросы, имеющие
актуальное значение для самоидентификации и истории многих локаль-
ных цивилизаций, например, «как переживается прошлое в современной
России после двух исторических цезур - 1917 и 1991 годов»36.
Смена точки зрения на цивилизационный процесс: Эдвард Саид
Не менее важным для дальнейшей судьбы цивилизационных пред-
ставлений были кризис идеологии европоцентризма после 1945 г. и соз-
дание в 1975-78 гт. А. Абдель-Малеком, С. Амином и Э. В. Саидом по-
стколониального дискурса. Его основной задачей была замена
33 Там же. С. 480, 483, 502-503.
34 Там же. С. 430, 440-443, 451, 498.
35 Там же. С. 34-35.
36 Там же. С. 36.
Ц. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
231
европоцентристского монолога диалогом между различными культурами,
в том числе, как провозглашал уже в 1978 г. мексиканский философ
Д. Сеа, «между теми, кто осуществлял экспансию, и теми, кто от нее
страдал». Это означало коренную смену точки зрения на историю циви-
лизаций. «Историко-философскую трактовку Запада, указывал Сеа, -
следует теперь производить с точки зрения историко-философской трак-
товки незападного мира»37. Тут он прямо развивал идеи А. Дж. Тойнби38.
Радикальная трансформация познавательного поля проявлялась в том, что
египетский философ А. Абдель-Малек в 1975 г. связывал с превращением
«объекта» ориенталистских исследований в «суверенный субъект» дея-
тельности и познания39. В результате подвергался критике линейно-
стадиальный подход к истории, в котором центральную роль играли Ан-
тичность и Европа Нового времени, а также вся связанная с нею антиис-
торическая типология. Как опасность для исторического знания рассмат-
ривались, в частности, попытки описать в качестве периферийных любые
формы цивилизаций, нс относящиеся к Западу, приписать особую сущ-
ность людям отдельных континентов или эпох (один из основателей ра-
сизма Ж. В. де Лапуж описывал такую сущность в терминах, очень близ-
ких концепту «пассионарности», а нацисты называли подобную
вневременную сущность «менталитетом»40). Абдель-Малек указывал, что
так можно договориться не только до выделения “Homo sinicus”, “Ното
africanus” и т.д., но и, приписав особые качества людям Античности или
Возрождения, дойти до идеи упадка и экзотизации современного Запада,
до превращения истории Запада в событие прошлого41.
Сам египетский ученый не был чужд субстанционализму и не
упускал этой возможности, противопоставляя упадку Запада процесс
«национального возрождения» Востока. Опорой современного развития
Египта и других стран Азии и Африки Абдель-Малеку виделось импер-
ское прошлое этих стран. Идеал Египта будущего он видел как отстро-
енный на величественных фундаментах власти древних богов и фарао-
нов, в стилистике пирамид42. Л. Сеа считал идеи Абдель-Малека
37 Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки.
М., 1984. С. 31.
38 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 156.
39 Abdel-Malek A La dialcctica social. Mexico, 1975. P. 74.
40 Callot E. Civilisation et civilisations. Recherche d'une philosophic de la culture.
Earis, 1954. P. 97.
41 Abdel-Malek A Op. cit. P. 80.
42 Рикёр писал в связи с этим о «догматизме воли к власти» и возводил к
Философии Ф. Ницше. Рикёр П. Я-сам как другой. С. 403.
232
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
своеобразной уступкой традиции европоцентризма (сейчас это называ-
ется «реакционным ориентализмом») и попыткой возрождения неравен-
ства между теми народами, которые создавали в прошлом империи, и
теми, которые их не создавали (как в Африке и Латинской Америке). Он
называл позицию Абдель-Малека «убого-националистическим ответом
на колониальный империалистический натиск Запада»43. Сеа боялся
как образов прошлого, так и образов будущего, навязанных национали-
стической идеологией и превратившейся в догму. Он полагал, что такое
«возрождение» станет отказом от подлинного настоящего с целью по-
гружения в прошлое, т.е. тем, что сейчас именуется фундаментализмом.
Идентификация и аутентичность, по его мнению, должны основываться
на свободном выборе и адаптации, диалоге и метисации культур (запад-
ной и местной), иначе они становятся принудительными и бесперспек-
тивными. Философия зависимости может стать одной из основ филосо-
фии освобождения, но для этого она должна быть свободно
переосмыслена44. Отметим, что и Абдель-Малек не отрицал значения
диалога, признавая наличие в современной египетской культуре «ислам-
ских, османских, арабских, восточных, нилотских, средиземноморских, и
потому европейских элементов»45. Речь шла о мере субстанционализации
(догматизации) или проблематизации (диалогизации) прошлого.
В процессе развития постколониального дискурса все большее
значение приобретала радикальная деконструкция линейно-
стадиальных моделей истории, созданных европейцами в XIX в. для
оправдания колониального господства над странами Азии и Африки.
Раскрывался их подчиненный политике, служебный характер. «В сис-
теме знаний о Востоке сам Восток, - писал Э. В. Саид, - в большей сте-
пени оказывается... скоплением характеристик, имеющих своим исто-
ком, скорее, выдержки и текстовые фрагменты, цитаты из работ
предшественников, прежние плоды работы воображения или амальгаму
всего этого вместе»46. Это образ, созданный для постулирования гос-
подства образа Запада как оплота прогресса и средоточия мировой ис-
тории. Он «помог Европе (или Западу) определить по принципу контра-
ста свой собственный образ, идею, личность, опыт»47.
43 Сеа Л. Указ. соч. С. 35.
44 Там же. С. 36-37.
45 Abdel-Malek A Op. cit. Р. 227.
46 Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока М., 2006. С. 278.
47 Там же. С. 8.
jj. И. Ионов. Цивилизационные представления...
233
В 1990-е гг. в деконструкцию цивилизационных представлений как
«воображаемой географии» включились американские и европейские
ученые, такие как Л. Вульф и И. Б. Нойманн, акцентировавшие внимание
на сконструированное™ цивилизационных представлений и их полити-
ческой функции, связанной со стремлением доминировать или защитить-
ся48 49. В связи с этим очень важным было появление в 1995 г. в переизда-
нии классической книги Э. В. Саида «Ориентализм» Предисловия, в ко-
котором был ясно обозначен двойственный и противоречивый, и вместе с
тем отчетливо диалогический характер постколониального дискурса.
Главной целью автора было опротестовать стремление его критиков
провозгласить книгу антизападной. Для этого Саид подчеркнул идеи о
тесном соединении реальности и вымысла, «комбинации эмпирического
и имагинативного» в «воображаемой географии» Востока и Запада, о
принципиальном скептицизме и антиэссенциализме автора, его непри-
ятии представления о противоположных социальных сущностях . Он
тщательно дистанцировался от оценок ислама и Запада и их идеологизи-
рованного толкования в исламских странах и на Западе. Тем самым была
впервые артикулирована оценка ситуации, которую мы наблюдаем до сих
пор: смешение и взаимодействие антиколониалистского (субстанциона-
листского) и постколониального (критического) дискурсов, взаимное пе-
реосмысление проявлении того и другого. Эти тенденции - проявления
универсальной для философии истории бинарности, сочетания историче-
ски сменяющего друг друга стремления к двум противоположным позна-
вательным полюсам: логической прозрачности, аподиктичности, догма-
тичности - и достоверности, проблематизируемости50.
Для первого характерна тесная связь с некритическим и антиисто-
рическим эссенциализмом, для второго - принципиальный релятивизм,
тяга к мультикультурализму и диалогичность. Но проблема в том, что в
современных условиях носителем обоих тенденций часто является одна
и та же группа людей или даже одна и та же личность. В процессе дис-
куссии оказывается, что сам Саид чувствует свою ответственность за то,
чтобы дать голос угнетенному (а значит, воспроизвести оппозицию уг-
иетенный-угнетатель), что он, признавая эпистемологические ошибки
Фундаментализма, в то же время сам не чужд им, допуская существова-
48 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании
’•Юхи Просвещения. М_, 2003; Нойманн И. Б. Использование “другого”: образы
м°стока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
49 Саид Э.В. Указ. соч. С. 8, 511-512, 541.
50 Ионов И. Н. Указ. соч. С. 480-492.
234
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ние у ислама или Востока особой имманентной сущности (хотя и не
раскрываемой в бытующих понятиях)51. Он отвергает «торжествующий
и некритичный национализм», но, несмотря на собственные заверения и
неприятие националистов остается отчасти подверженным его «крити-
ческому» варианту. Это придает постколониальному дискурсу те черты
«последовательности и непоследовательности... игры», которые Саид
отмечает в ориенталистском дискурсе52.
Э. В. Саид подверг анализу процедуру создания коллективного
опыта Запада, связанную с конструированием собственной идентично-
сти, а для этого - с постулированием образа и качеств Другого. Он резко
противопоставил идею неподвижной, статичной идентичности, встре-
чающуюся, в частности, у Л. Вульфа, и выдвинул историческую идею о
постоянной трансформации идентичностей как «социальном противо-
борстве», соревновании, затрагивающем исторические, социальные,
интеллектуальные и политические процессы. В конечном счете, Саид
опирается на представление Рикера о «конфликте интерпретаций» как
универсальной основе самоидентификации и предостерегает от демони-
зации любой его формы. Саида привлекает прежде всего «историческая
динамика», а не статика идентификационного процесса, присутствие в
нем диалога, в частности, в описании одних и тех же событий истории с
точки зрения колонизаторов и колонизуемых, тяготы промежуточной
идентификационной ситуации в атмосфере расширяющихся конфлик-
тов в арабо-мусульманском мире в 1970-80-х гт., пути преодоления
враждебности, порождаемой бинарными (а потому застойными) иден-
тификационными схемами53.
Цивилизационные представления Э. В. Саида основаны на призна-
нии того, что «культуры гибридны и гетерогенны... культуры и цивили-
зации взаимозависимы и взаимосвязаны, что любое обобщенное или
просто схематичное описание их индивидуальности обречено на неуда-
чу». Он принципиально выступал против «попытки втиснуть культуры
и народы в отдельные дифференцированные типы и сущности», кото-
рые приводят к фальсификациям и сотрудничеству с властью. «Запад-
ная цивилизация», по его мнению, осталась «идеологической фикцией,
51 Саид Э. В. Указ. соч. С. 514-515, 518-520.
52 Там же. С. 522, 525.
53 Там же. С. 513-518. Саид понимает, что его проблема (как писал
М. Рустум) - в отсутствии собственной «признанной идентичности», а потому и
его основная тема - создание палестинской идентичности, что особенно ярко пр°"
явилось в его книгах 1980-х гг. (Там же. С. 512).
И. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
235
подразумевающей всего лишь сепаратное превосходство горстки цен-
ностей и идей, ни одна из которых не имеет смысла вне истории завое-
ваний, миграций, путешествий и смешения народов». Особенно остро
эта проблема была поставлена им применительно к США как «палим-
псесту различных рас и культур»54. Вместе с тем Саид выступал против
европоцентризма, характерного для постмодернизма, его неприятия ме-
танарративов и его «теоретического и эстетического акцента на всем
локальном и случайном, почти декоративной невесомости истории»55.
Геополитика цивилизаций: Сэмуэль Хантингтон
Сдвиг истории цивилизаций в сторону геополитики ярко проявил-
ся в книге Сэмуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций и пере-
стройка мирового порядка» (1996)56. В ней впервые за долгие годы ци-
вилизационный подход приобрел актуальный исследовательский и
практический смысл, был поставлен в контекст международной поли-
тики и изучения новейшей истории. Этим книга обязана резкой полеми-
ке, которую вызвала статья автора в журнале Foreign Afiaires (1993)57.
Тему исследования пришлось защищать по всем фронтам, привлекая
новые подходы, что не делалось начиная со времен О. Шпенглера и
А. Дж. Тойнби. Книга впервые за долгие десятилетия стала предметом
реального межкультурного диалога.
При этом едва ли не впервые задача развития цивилизационных
исследований как парадигмы знания была осмыслена и представлена
автором в качестве творческой. Политолог не “открывал” локальные
цивилизации, а представил свидетельства того, что другие подходы яв-
ляются еще менее адекватными современной реальности, чем “полици-
вилизационный”. Хантингтон поставил свое исследование в контекст
истории культурных самоидентификаций, и только затем - в контекст
истории идей. Существование теории цивилизаций оправдывает для
него нс реальность прошлого цивилизаций (которое можно описать и
иным способом) и не авторитет ученых, которые писали о цивилизаци-
ях. Политолог опирается на неоспоримый факт: рост цивилизационного
самосознания во многих регионах мира.
Соответственно, история локальных цивилизаций ставится в со-
временный контекст истории исторического сознания, связывается
54 Там же. С. 536.
55 Там же. С. 539-540.
56 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
57 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1.
236
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
прежде всего с представлениями о границах локальных цивилизаций
(как зон господствующего самосознания) и несколько дистанцируется
от предмета, который был особенно модным среди эпигонов Шпенглера
и Тойнби - от структуралистского представления о системности ло-
кальной цивилизации. Соответственно полицивилизационность как па-
радигма политической теории несколько противопоставляется теории
локальных цивилизаций в ее историографической традиции середины
XX века, но тем же самым она сближается с историографической тра-
дицией конца XX - начала XXI вв.
Поэтому не случайно, что примером цивилизационной мысли для
С. Хантингтона является Ф. Бродель с его географическим мышлением
и представлением о том, что цивилизация — прежде всего культурное
пространство, а не культурная система, а ее главные характеристики -
границы, центр и периферия58. В отличие от большинства концепций
подчеркивается динамизм смены идентичностей и контуров цивилиза-
ций59. Цивилизации - условные целостности, интегрированные прежде
всего языком и религией. Мера этой интегрированности сильно отлича-
ется от эпохи к эпохе, но главное, что должна фиксировать теория ми-
ровой политики - насколько сильно эта интеграция проявляется на гра-
ницах, насколько влияет на взаимодействие народов. Максимальная
интеграция - далеко не всегда благо. Например, как показали Д. Эптер и
Ш. Н. Айзенштадт, консумматорные социокультурные системы, харак-
теризующиеся высокой интегрированностью, тесными отношениями
общества государства и религии, такие как Китай или арабские страны,
хуже поддаются модернизации, чем более рыхлые инструментальные
культуры, такие как Япония или Индия60.
Тем самым теоретические претензии данной версии цивилизацион-
ных представлений резко ограничены. Речь изначально шла о сознатель-
ном упрощении модели, адекватной практическим целям: созданию ре-
комендаций по международной политике и анализу довольно тонкого
слоя социокультурной реальности, не редуцируемого к образам истории
национальных государств и этнических меньшинств. Вместе с тем возни-
кает и новая, вполне актуальная историческая тема: новейшая история
цивилизаций, в которой под цивилизациями имеются ввиду прежде всего
регионы с одинаковой глобальной самоидентификацией населения-
58 Хантинтон С. Столкновение цивилизаций. С. 48, 45.
59 Там же. С. 88.
60 Там же. С. 110-111.
И. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
237
Впервые учитывается, что представители цивилизаций разнятся по форме
отношения к этой идентификации: у элиты разорванных цивилизаций
существующая идентификация вызывает недовольство и стремление ре-
идентифицироваться. Это может быть связано со стремлением стать как
“западной страной” (Россия), так и “азиатской страной” (Австралия)61.
Образ универсальной цивилизации анализируется С. Хантингтоном как
продукт не только европоцентристского сознания, но и компенсаторной
формы периферийного самосознания (особенно у мигрантов), стремления
преодолеть нежелательную периферийную самоидентификацию62. Он
резко отделяет цивилизацию как объект самоидентификации и идеал Ци-
вилизации как «сложную смесь более высоких уровней морали, религии,
образования, искусства, философии, технологии, материального благопо-
лучия», которые «не обязательно меняются вместе»63.
Проблема постколониального диалога осмысливается неоконсер-
ватором Хантингтоном в новом контексте: незападные элиты обращены
лицом к Западу и отрешены от местных традиций и местного населения.
В результате межцивилизационный диалог порой оказывается легче
достижимым, чем внутрицивилизационный. «Элитам не-западных об-
ществ зачастую намного проще общаться с жителями Запада и друг с
другом, чем с народами своих обществ»64. Изучая этот вопрос, Хан-
тингтон разделил два вида культурного взаимодействия: модернизацию
и вестернизацию, первая из которых подразумевает культурный диалог
с народами, а вторая - культурный монолог Запада и элит, получивших
там образование65.
В этой обращенности к социокультурной практике, к проблеме
культурного диалога - подлинное значение книги. Хотя многие воспри-
няли теорию Хантингтона как угрозу диалогу цивилизаций, на деле он
первым показал, как можно конкретно изучать проблемы такого диало-
га. Для него это одна из крупных проблем истории и центральная про-
блема международной политики конца XX века, когда начался «этап
непрерывных и разнонаправленных взаимоотношений между всеми
Цивилизациями»66. В этих отношениях выделяется проблема, наиболее
опасная для Запада это «восстание против Запада», пришедшее на
61 Там же. С. 209.
62 Там же. С. 91.
63 Там же. С. 529-530.
64 Там же. С. 86.
65 Там же. С. 105.
66 Там же. С. 69.
238
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
смену экспансии последнего (1960-1996). Не менее важной и опасной
для США является проблема «заката европейской составляющей запад-
ной цивилизации» (1910-1945)67.
Правда, эта тенденция не является единственной, а тем более глав-
ной в книге Хантингтона. Перенос акцента с культурологической и ис-
торической тематики в геополитическую приводит к деградации его
собственного цивилизационного идеала как универсалистского и к ак-
тивизации имперского самосознания. Отсюда его неприязнь к мульти-
культурализму как «этническому сепаратизму», а также скандальная
враждебность к «незападной Америке», в частности к испаноязычным
американцам68.
Экономическая история цивилизаций Дипака Лала
Однако книги С. Хантингтона только начали экспансию цивилиза-
ционной проблематики в ранее неосвоенные области. Другим ярким
примером такого рода является книга индийско-американского экономи-
ста Дипака Лала «Непреднамеренные последствия. Влияние обеспечен-
ности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные
экономические результаты» (1998). Отталкиваясь от неоконсервативной,
во многом ориенталисткой позиции Хантингтона, Лал выстроил собст-
венную историко-экономическую концепцию, сочетающую элементы
линейно-стадиальной и локальной модели истории цивилизаций, но го-
раздо более близкую постколониальному дискурсу с его сочетанием тра-
диции и инновации. Причиной обращения к цивилизационной проблема-
тике для него является успех восточноазиатских экономик, в частности
Сингапура и Малайзии, руководители которых (Ли Куан Ю и
М. Махатхир) настаивают на превосходстве восточных социальных и
политических форм (конфуцианских и неоконфуцианских, семейно-
клановых и авторитарных) перед классическими либеральными, которые
породили на Западе «декаданс среди процветания»69.
В отличие от Хантингтона, концепции которого остался только
символ линейно-стадиальной прогрессистской модели - современный
Запад, у Лала вся книга выстроена как квазипозитивисткий последова-
тельный анализ локальных цивилизаций, представляющих собой стадии
прогресса на пути к современной экономике - от древнегипетской, ме-
67 Там же. С. 69, 118.
68 Там же. С. 503, 526.
69 ЛалД. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности
факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические
результаты. М., 2007. С. 15.
И- Н. Ионов. Цивилизационные представления...
239
сопотамской и иудейской, через классические цивилизации Индии и
Китая к исламской и Западной. Стадиальность проявляется в типологии
экономического развития (вслед за Э. А. Ригли различаются смитовский
и прометеевский типы развития). Первый связан с сельским хозяйством
и разделением труда и имеет мальтузианские ограничения по росту, а
второй связан с промышленной революцией и использованием полез-
ных ископаемых. Он впервые может обеспечить долговременный и ус-
тойчивый рост благосостояния70. Важным аспектом стадиальности яв-
ляется различение коллективистских и индивидуалистических обществ.
Индивидуализм связывается с западно-христианской традицией, насле-
дием св. Августина и событиями 1075 г., когда Григорий VII объявил
независимость духовенства от светского контроля'1. По мнению
Д. Лала, именно «папская революция предоставила институциональную
инфраструктуру для экономической динамики Запада. <Г.Дж.> Берман
показал, что вся современная западная правовая традиция фактически
может быть выведена из развития канонического и светского права в
период с XI по XIII в., происходившего под эгидой церкви»72. Лал счи-
тает, что именно с этого времени купцы перестают рассматриваться как
неизбежное зло (что зачастую бытовало ранее, а также на Востоке).
Коммерческая деятельность примиряется с христианской жизнью.
Именно в это время возникает торговое право (lex mercatoria), способ-
ствовавшее развитию таких институтов, как купеческие гильдии, а так-
же созданию таких важнейших экономических инструментов, как цен-
ные бумаги, кредитные гарантии, совместные предприятия73.
Однако линейно-стадиальная схема у Лала существенно трансфор-
мируется. Гегелевская модель, в которой важнейшее место в становлении
Цивилизации принадлежит государству, отбрасывается. Важнейшую роль
приобретает введенное самим Лалом в 1988 г. понятие «хищническое го-
сударство»74. Цивилизация у него рождается вследствие появления города
как потребителя прибавочного продукта и основы социальной стратифи-
кации. Именно он является символом цивилизации75. Государство же во
Многом обязано своим развитием «варварамл-скотоводам, обладавшим
70 Там же. С. 37-39.
71 Там же. С. 102. В русском переводе ошибочно указан 1705 г.
72 Там же. См. также: Берман Г. Дж. Западная традиция права. М., 1994.
С. 319.
73 ЛалД. Указ. соч. С. 102-103.
74 Lal D. The Hindu Equilibrium. 2 vols. Oxford, 1988-1989; ЛалД. Указ. соч.
С. 211-221.
75 Там же. С. 203.
240
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
преимуществом в военно-политической организации, которые начинают
вслед за скотом «одомашнивать», как выражался У. Мак-Нил, и своих со-
братьев-людей, земледельцев, создавая эксплуататорские империи76 77. Это
представление связано с экономическими циклами становления и упадка
империй, балансирующих на грани «естественной» ренты. Гораздо боль-
шее значение для жизни цивилизаций, считает Лал, имеют такие мораль-
ные инструменты, как стыд и вина. Их развитие (в частности, в иудаизме)
меняет направление движения истории, их размывание угрожает совре-
менному западному миру. В конце концов, его книга оказывается рассуж-
77
дением о влиянии нравственности на экономику .
Ключевое место, которое в истории Запада занимала «классиче-
ская» античность, передается Лалом Индии и Китаю. Китай - самое ур-
банизированные общество в мире, он знал периоды мощного экономи-
ческого подъема смитовского типа, «в основном в результате
связывания воедино областей с разнообразными ресурсами в более об-
ширный рынок». Для сунского Китая характерно к тому же наличие
предпосылок для роста прометеевского типа, в частности использова-
ние кокса в металлургии с XI в.78. Для этого не нужно было инструмен-
тальной рациональности (как считал М. Вебер), этот рост не связан с
отличиями христианства от буддизма (хотя возможно негативное влия-
ние неоконфуцианства). С точки зрения экономики (а отчасти и культу-
ры), «он был исторической случайностью». Застой породила система
морали, отвергавшей частное богатство, и система чиновничества, ста-
вившая «системные ограничения на промышленную экспансию, ком-
мерческую экспансию и военную экспансию»79 80. Застой в Китае эпохи
Мин и Индии при династии Маурьев возникает в специфических усло-
виях «ловушки высокого уровня равновесия», на том уровне потребле-
ния, который будет достигнут в Европе только в XIX в. Воспроизводст-
во застоя тесно связано также с такими культурными явлениями, как
китайская «тирания истории», воспринимавшейся как «аккумулирован-
„ „ 80
ныи административный опыт» .
Античности в этом контексте остается второстепенная роль пред-
шественницы Запада (наследию древних греков уделено 2 страницы),
хотя такие ее свойства, как политическая децентрализация и «пытливый
/6 Там же. С. 42.
77 Там же. С. 181-187
78 Там же. С. 62, 203.
79 Там же. С. 63, 204.
80 Там же. С. 65-67.
0. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
241
греческий дух» необходимые предпосылки прометеевского типа раз-
вития. Да и сам Запад оказывается в двусмысленном положении техни-
ческого (и во многом случайного) центра модернизации, который свя-
зывает два важнейших элемента истории: древние и современные циви-
цивилизации Востока. Его «индивидуализм создал инструменты роста
прометеевского типа». Но оказалось, что «однажды открыв, их можно
имплантировать в самые разные общества по всему миру без необходи-
мости для этих обществ перенимать космологические представления,
которые привели к созданию этих инструментов»81.
Более того, оказалось, что заимствовать эти представления опасно.
Папская революция подорвала традиционные семейные ценности на
Западе. Индивидуализм разрушал интернализованные нормы, поддер-
живавшие социальный порядок. Он связан с чувством вины перед Бо-
гом («страх Божий»), а не стыда, как на Востоке. В культуре вины важ-
нейшее место играли августиновские образы «Града Небесного» и
Судного Дня, которые воспроизводились и в секуляризованной форме
от Просвещения до марксизма и от фрейдизма до экофундаментализма.
Когда Бог приобрел у Ч. Дарвина вид «слепого часовщика», основы
христианской морали распались82. Попытки построить новые, светские
основания провалились. Развивая экономический либерализм, а затем
доктрину «государства всеобщего благоденствия», подрывающую ос-
новы взаимопомощи в большой, а затем и нуклеарной семье, Запад по-
следовательно разрушает собственную религиозную («космологиче-
скую») и моральную основу, а значит и глубинные основания
модернизации. Именно Запад ввергает мир в «новое Средневековье»,
приметы которого (распад большого общества) Лал связывает с город-
скими фронтирами Запада, в частности с демонизированным образом
Лос-Анджелеса, жителем которого ему пришлось быть83.
Восток, таким образом, оказывается не только в начале, но и в конце
мировой истории как регион, культурно не связанный со «смертью Бога»
(так как его религии не являются «религиями книги» и не создают орга-
низованных церквей). Нравственность удерживается не церковью, а тра-
дицией, образом жизни, самой социальной тканью, прежде всего семьей.
Тем самым носителем современного идеала, по мнению Д. Лала, является
не Запад, а Восток, не государство (и в особенности «государство всеоб-
щего благоденствия»), а семья. «Нельзя принимать в качестве исходной
81 Там же. С. 94-96, 203, 205.
82 Там же. С. 205.
83 Там же. С. 273. Сн. 83; С. 206.
242
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
предпосылки ни то, что преобладающий на Западе тип индивидуалисти-
ческой, в противоположность династической, мотивации брака является
всеобщей человеческой характеристикой, ни то, что он является необхо-
димым спутником экономического роста». Поэтому и идеалом модерни-
зации выступает развитие без вестернизации, на собственной основе, в
диалогическом взаимодействии с индивидуалистической культурой Запа-
да. На этом фоне противоречия между мирами христианства и ислама
выглядят не соперничеством прогресса и застоя, а внутренним спором
двух «культур Книги», в котором ислам по-своему прав, отстаивая веру в
Книгу как основу нравственности (хотя бы в форме вины)84.
В результате картина либерального идеала у Д. Лала приобретает
не менее странные и сомнительные формы, чем у С. Хантингтона.
Единство идей модернизации и вестернизации, присутствующее у по-
следнего, трактуется Лалом как «особая форма дуализма», в основе ко-
торой смешение понятий отсталости и традиции. Этот дуализм крити-
куется с постколониальных позиций, его рождение связывается с
«нечестивым союзом утилитаристских правителей и христианских мис-
сионеров в Индии XIX в.»85. Универсальность и закономерность запад-
ных форм культуры и права (в том числе «прав человека»), подвергает-
ся критике. В центр этого своеобразного видения мира ставится не
секуляризация, а бытовые религиозные верования, не государство, а
семья, не демократия, а иерархия (и, возможно, монархия). Западный
город оттесняется на периферию истории, а классическая культура за-
меняется культурой постмодерна (postmodernity) как его порождени-
ем86. Утилитаризм, стремление к выгоде Лал связывает не с западным
опытом, а с инстинктами, с человеческой природой, утвердившейся на
протяжении тысячелетий. Опыт Запада с этой точки зрения - это «мощ-
ные, но, в конечном счете, саморазрушающиеся нормы, основанные на
концепции первородного греха». По мнению индийского экономиста,
«остальной мир не обязан заключать этот Фаустов договор. Не-
западные общества могут перенимать западные средства для достиже-
ния процветания, не поступаясь своей душой». Поэтому он выступает
против универсализации индивидуализма, призывая Запад вспомнить
библейское наставление: «Врачу, исцелися сам»87.
84 Там же. С. 200-201.
85 Там же. С. 207.
86 Там же. С. 206-207. Ведь, как подчеркивает Лал, именно наследственная
монархия породила промышленную революцию.
87 Там же. С. 208.
и. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
243
Методология цивилизационных исследований:
Юрген Остерхаммель
В этой познавательной и исследовательской ситуации появились
попытки оформить новые дисциплинарные правила цивилизационных
исследований. В частности, немецкий историк Юрген Остерхаммель,
вслед за И. Хейзингой, Ф. Боасом, Ф. Хертцсм, Ф. Хэнкинсом, Э. Калло,
выступил против географического, биологического или менталистского
редукционизма и субстанционализма, подчеркивая, что цивилизацион-
ная специфика подразумевает различия нс в сущности или природе
культур, а «неопределенную и неточную связь» в мере проявления тех
или иных культурных, психологических, ментальных особенностей88 89.
Остерхаммель признает значение микроистории, выступает против
«сведения микроистории к макросхемам», но вместе с тем убежден, что
умеренный скепсис по поводу метанарративов, таких как цивилизаци-
89
онные, может помочь повысить их научно-познавательное значение .
Это не мешает ему видеть величие идеала цивилизации, как его тракто-
вал Д. Юм, понимавший под этим понятием свободу безнаказанной
борьбы гражданина против бюрократии90.
Историк методологически продолжает борьбу с догмами Ф. Боаса
и подчеркивает бесперспективность стремления «подвести историю под
несколько общих принципов», разделить «цивилизации» и «примитив-
ные культуры». Более того, он признает, что у него нет никакой «про-
граммы» или «новой парадигмы» для изучения истории цивилизаций.
Ведь неевропейская история для него - скорее проблема, чем поле ее
решения. Исследователи этой проблематики - скорее эксперты-
страноведы, они нс понимают логики исторического исследования, в их
работах мало рефлексии91. А ведь неевропейский мир - огромное гете-
рогенное пространство, объединенное только тем, что в Новое время
оно стало целью европейской экспансии. При этом цель интеграции
доколумбовой Америки, Азии, Африки, Океании в горизонт «нормаль-
ной» истории представляет собой важнейшую задачу, потому что толь-
ко в результате этого история действительно становится «всеобщей»,
«универсальной»92. Путь решения этой проблемы прежде всего диалог
88 Callot В. Op. cit. Р. 98.
89 Osterhammel J. Geshichlswissenschaft jenseits des Nationalsstaat. Studien zu
Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Gottingen, 2001. S. 7.
90 Ibid. S. 89.
91 Ibid. S. 47, 178.
92 Ibid. S. 8, 18,46.
244
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
историков по поводу глобальной истории и взаимодействие культурной
антропологии и сравнительной макросоциологии. Ведь именно социо-
логи, по мнению автора - конечные адресаты конкретно-исторического
знания и инициаторы новых направлений исследований прошлого. Тем
не менее, и это все не гарантирует успех, так как связано со сложностя-
ми процесса глобализации в рамках исторического знания, с поиском
w 93
культурно-нейтральной терминологии .
История цивилизаций - никак не «царский путь» в изучении исто-
рии. Это лишь один из подходов к историческому знанию, «который
только тогда может быть полезен, когда отдаешь себе отчет в опасности
эссенциализации культурных понятий». Рефлексию по поводу последней
задает важнейшая область сравнительной истории - история культурного
трансфера, позволяющая рефлексировать смысловое содержание концеп-
тов и его изменения. В этой области нет еще адекватного предпосылочно-
го знания, нет учения о методе и элементарного нормативного набора
(канона) тем93 94. Между тем в условиях глобализации европоцентризм
окончательно изжил себя и есть потребность в переориентации на «гло-
бальный горизонт проблем». Отсюда полная невозможность использо-
вать при формировании современных образов стран и цивилизаций би-
нарные классификации (Европа/Неевропа) или холистские образы,
которые неизменно ведут к ошибкам и фальсификациям. Остается неяс-
ным, что же на самом деле можно считать «европейским» или «совре-
менным», если не замыкаться на идее прогресса. В этом смысле револю-
ционными являются сравнительные исследования Д. Гуди о европейской
семье и Ш. Н. Айзенштадта о неевропейской современности95.
Как основу для реформы сравнения цивилизаций
Ю. Остерхаммель использовал классификации подходов, созданные
Т. Скокпол, М. Сомерсом, Ч. Тилли, К. Лоренцем и, в особенности,
А. А. ван ден Брембуше, разделившим компаративные истории на кон-
трастирующие, генерализирующие, макрокаузальные, инклюзивные и
универсализирующие типы96. Остерхаммель объединил и упростил их
схемы, выделив главный референт сравнения, синхронный и диахрон-
93 Ibid. S. 9. См. также: Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor
dem Problem des Kulturvergleichs / J. Matthes (Hg.). Gottingen, 1992.
94 Osterhammel J. Op. cit. S. 9-16.
95 Ibid. S. 49. Patterns of Modernity. Beyong the West / Ed. by S. N. Eisenstadt
N.Y., 1987; Goody J. The Oriental, the Ancient and the Primitive: Systems of Marriage and
Family in the Preindustrial Societies of Eurasia. Cambridge, 1990.
96 Braembussche A. A Historical Explanation and Comparative Method: Toward a
Theory of Society // History and Theory. 1989. Vol. 28. P. 13-14.
я. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
245
ный подходы, литра- и интерцивилизационные сравнения, структурные
сравнения и истории связей цивилизаций, тотальное или частичное
сравнение (последнее «менее произвольно»), асимметрическое и сим-
метричное сравнение, конвергентное и дивергентное сравнение (по-
следнее позволяет преодолевать «неосознанное стремление к дихотоми-
зации»)97. От субъекта познания такое сочетание подходов требует
двойной компетенции, сочетания философских (социологических, куль-
турологических) и специфически исторических, страноведческих, в том
числе языковых знаний. Господствующей при этом становится не то-
тальная, холистская, а дифференцированная, частичная, конвергентная,
симметричная версия сравнительного описания, учитывающая как об-
щие черты, так и различия цивилизаций, их отдельных регионов, инсти-
тутов, уровней и секторов. Остерхаммсль ставит проблему пределов срав-
нительного анализа-, чем большее количество объектов в него вовлечено,
тем менее подробно может быть представлен каждый из них. Поэтому
важнейшую роль играет фрактальный анализ, проводимый по уровням и
секторам политики, общества, экономики. В рамках неклассической ло-
гики аналитичность и эмпиризм, холизм и парциализм, конвергенция и
дивергенция могут сосуществовать на основе принципа дополнительно-
сти, но поиск общих конкретных черт различных цивилизаций остается
доминирующим, так как он имеет методологическое значение98.
Ю. Остерхаммсль строит свои взгляды на широком анализе циви-
лизационных представлений начиная с Античности, в т.ч. отношений с
варварами в Риме и Китае (граница цивилизации) и язычниками у ран-
них христиан. Он прослеживает такие стратегии взаимодействия, как
инклюзия (интеграция), аккомодация (с изменением образа жизни), ас-
симиляция, сегрегация (или эксклюзия с закрытием границ), экстерми-
нация (геноцид)99. Его особое внимание привлекает история XVI века,
когда Европа еще находилась в тени Других, таких как Османская импе-
рия, и идентифицировала себя в ряду прочих культур. Он исследует
прежде всего когнитивный потенциал таких форм самоидентификации,
который, по его мнению, переживает рост до XVIII века, когда Европа
еще сравнивала себя с Азией, а затем испытывает катастрофическое
падение в эпоху формирования европоцентризма и ориентализма, на
Рубеже XIX в., особенно во Франции и Англии, но также в Германии и
немного позже в России. Тогда в рамках империалистических теорий
97 Osterhammel J. Op. cit. S. 47-66.
98 Ibid. S. 54.
99 Ibid. S. 224-232.
246
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Азия была противопоставлена Европе, возникли «великие теории миро-
вого развития», появились представления о «неисторических народах»,
различия стран были во многом сведены к уровню их наук и техноло-
гий, а конкретное исследование было заменено «физиогномическим
обозначением»100. Рубеж этой эпохи - 1920-е гг. (в Германии позже),
когда возникает интерес к новой неевропейской истории.
Однако при этом Остерхаммель (отчасти как китаист) далек от по-
следовательной критики ориентализма и приверженности релятивизму.
Он считает, что культурный релятивизм - эго своего рода «закрытый кос-
мос», он «не создает пространства для убедительной транскультурной
точки зрения», т.е. почвы для оберегаемого историком идеала всеобщей
истории101. Для него важны не только проблемы ориентализма, построе-
ния образа Востока, но и проблемы оксидентализма, построения образа
Запада. Он подчеркивает, что «у каждой колонии своя Европа», образы
которой диктуются интересами аборигенной интеллигенции102. Поэтому
его подход к теории Э. В. Саида и особенно его последователей, таких
далеких от исторической эмпирии, как X. Баба и Г. Ч. Спивак, - деконст-
рукционистский, критический103. Он видит в учении Саида эссенциализм
(эссенциализацию Иного) и его корни - самоочевидное видение, озарение
(Vision), порождающее догматизм эпигонов, что не оставляет места для
самокритики. Это учение имеет главной функцией самоидентификацию
за счет демонизации власти Запада. Поэтому оно не может быть реле-
вантно когнитивной задаче, особенно если иметь в виду ранние претензии
Саида на монополию мусульман изучать исламскую культуру. В этом
Ю. Остерхаммель пытается опереться на авторитет Э. Геллнера, который
в дискуссии 1993 года критиковал Саида несколько по иному поводу.
«Предостережение <Геллнера> против интеллектуального нигилизма и
политического анархизма» как следствий «культурного релятивизма по-
стмодерна и пермиссивной мультикультурности» Остерхаммель не про-
тивопоставил осуждению эссенциализма Саида, а добавил к нему. Оно
относится напрямую только к одному из обвинений Саида Остерхамме-
лем: в неприятии мышления в категориях сущностей, растворении сущ-
ностей в отношениях и практиках, что действительно свойственно по-
стмодернизму104. Правда, в конце концов, резкость критики Саида
100 Ibid. S. 81-84, 206, 238. Ср.: Tomlinson J. Cultural Imperialism. L., 1991.
101 Osterhammel J. Op. cit. S. 18.
102 Ibid. S. 87.
103 Ibid. S. 256, 259.
104 Ibid. S. 257-260.
Ц. Н. Ионов. Цивилизационные представления...
247
снижается, дается высокая оценка его самоиронии и самокритике, непри-
ятию эссенциалистской рсификации в других культурах, его выходам за
пределы теории власти-знания М. Фуко, его учению о предпосылочном
знании, создающем основание для «культуры непонимания» и «права на
собственное непонимание»105.
Для Ю. Остерхаммеля, в отличие от Э. В. Саида, западная тради-
ция истории цивилизаций ущербна лишь отчасти и не потому, что свя-
зана с «власть-знанием». Власть-знание, по мнению Остерхаммеля, мо-
жет быть «эмпирически верным»106. Когнитивная функция
цивилизационного знания не противостоит идентификационной потому,
что потребность в стабилизации своей идентификации свойственна сей-
час не только Европе или Западу, но и Китаю, Японии, Среднему Вос-
току107. Поэтому он стремится в полной мерс использовать современ-
ную традицию изучения истории цивилизаций, прежде всего работы
А. Дж. Тойнби, с которыми он связывает отход от жестких линейно-
стадиальных схем, У. Мак-Нила, который первым демистифицировал
задачу написания мировой истории, обозначил в ней «эмпирический
поворот», стал согласовывать теоретические задачи макроистории со
стремлением привести их в соответствие с данными современных кон-
кретно-научных исследований. Из всей школы «Анналов» в число исто-
риков цивилизаций у него попал только Ф. Бродель с его «Грамматикой
цивилизаций». Остерхаммель высоко оценивает работы социологов, в
частности Ш. Н. Айзенштадга — по цивилизациям Осевого времени, а
также Дж. Голдстоуна - по истории европейских и азиатских револю-
ций и реформ ХУП-ХУШ вв.108. Остерхаммель не отбрасывает, подоб-
но многим, прогрессизм и европоцентризм, но исследует их историче-
ски, указывая, в частности, на разницу между эксклюзивным
европоцентризмом XIX века, сложившимся в континентальной Европе
и рисовавшим иерархическую «лестницу цивилизаций» как «лестницу
рас», и инклюзивным нерасистским европоцентризмом, утвердившимся
в Англии и США во второй половине XX века и провозглашавшим все-
проникающий характер модернизации109. Он тем самым создает свое-
образную, во многом западническую картину соотношения иерархии
Цивилизаций и цивилизаторства.
105 Ibid. S. 262-265.
106 Ibid. S. 259.
107 Ibid. S. 260-261.
108 Ibid. S. 54, 177-178.
109 Ibid. S. 82.
248
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Глобальный подход Остерхаммеля в присутствии идеала «универ-
сальной» истории при всех оговорках все же достаточно традиционен, он
связан с массовыми занятиями мировой историей в американских уни-
верситетах 1990-х гг., он оставляет место для неоконсервативной трактов-
ки международных отношений и мировой истории. Методологическая
проблематика сравнительного изучения цивилизаций во многом сводится
Остерхаммелем к взаимодействию двух догматически описываемых мо-
делей: когнитивного подхода, связанного с универсальностью познава-
тельных принципов, позволяющих изучать цивилизации не только «из-
нутри», но и «извне», и морального подхода, задающего универсальные
ценностные нормы, позволяющие осуществлять самоидентификацию и
вместе с тем дающие возможность подвергать страны и культуры критике
извне110. Тем не менее, у него есть много общего с Э. В. Саидом и по-
стмодернистами, так как одной из важнейших тем истории цивилизаций
ему представляется исследование современных текстов о неевропейских
цивилизациях: «японцах», «исламе», «конфуцианстве», в которых прояв-
ляются старые клише о народном характере. Этот источник культурного
непонимания и межкультурной власти используется по всему миру для
создания национальной, религиозной, этнической идентичности111.
* * *
Таким образом, в новой познавательной ситуации развитие цивили-
зационных представлений осуществляется в условиях частичного кризиса
«лингвистического поворота». На первый план выходит ряд новых про-
блем: исторической травмы и исторического забвения; исторической са-
моидентификации; когнитивного аспекта цивилизационных представле-
ний. Они вытесняют линейно-стадиальный, целостный, дивергентный,
классический, сциентистский подход к истории локальных цивилизаций
на периферию размышлений. Интеллектуальная история становится в
этих условиях важнейшим аспектом самоосмысления и самокорректи-
ровки цивилизационных представлений, их неотъемлемой частью11 .
130 Ibid. S. 257-258.
1,1 Ibid. S. 263.
1,2 См. подробнее: Ионов И. Н. Идентификационная, коммуникативная и
когнитивная составляющие цивилизационных представлений // История и совре-
менность. 2007. № 2.
И. И. Колесник
ГРАНД-НАРРАТИВ В УКРАИНСКИХ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ
Настоящее знание - это всегда непрямое
знание, сформированное из относительных
высказываний и инкорпорированное в ме-
тарассказ субъекта, который обеспечива-
ет его легитимность.
(Ж.-Ф. Лиотар. Состояние Постмодерна)
«Гранд-нарратив»: концепт и идеология
В современной литературе существует ряд близких по смыслу по-
нятий: гранд-нарратив (Grand-narrative), метанарратив (Metanarrative),
мастер нарратив (Master Narrative), «большая история», «теоретическая
история», объяснительная схема, концепция, теория и т.д. В западной
интеллектуальной традиции гранд-нарратив воспринимается как «вели-
кая идея Модерна»1.
Гранд-нарратив как практика историописания возникает в эпоху
Просвещения и приобретает статус идеологии Модерна. Именно с по-
мощью этой категории постмодернизм отличает себя от модернизма. В
культуре Модерна гранд-нарратив является способом легитимации сис-
темы знаний, норм мышления, стандартов историописания. Легитима-
ция, как утверждал Ж.-Ф. Лиотар, возникает из «речевой практики» и
«коммуникационного взаимодействия»2.
' Bernstein J. М. Grand Narratives // On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation /
Ed. by D. Wood. L., 1991. P. 102-123; Kreiswirth M. Trusting the Tale: The Narrativist
Turn in the Human Sciences // New Literary History. Vol. 23. N 3, History, Politics, and
Culture (Summer, 1992). P. 629-657; Kerwin Lee Klein. In Search of Narrative Mastery.
Postmodernism and the People without History // History and Theory. 1995. Vol. 34. N 4.
P. 275-298; Hutcheon, Linda. Coda: Incredulity Toward Metanarrativc: Negotiating Post-
modernism and Feminisms// Ambiguous Discourse: Femininist Narratology & British
Women Writers / Ed. Kathy Mezei. Chapel Hill, 1996. P. 262-267; Price R. Historiogra-
phy, Narrative, and the Nineteenth Century// Journal of British Studies. Vol. 35. N 2, Re-
visionisms (Apr., 1996). P. 220-256; Zagorin P. History, the Referent, and Narrative: Ref-
lections on Postmodernism Now // History and Theory. 1999. Vol. 38. N 1. P. 1-24;
Browning, Gary K. Lyotard and the End of Grand Narratives. Cardiff, 2000; Weinstein B.
History Without a Cause? Grand Narratives, World History, and the Postcolonial Dilem-
ma// International Review of Social History. 2005. Vol. 50. P. 71-93; Rigby S. H. History,
discourse, and the postsocial paradigm: a revolution in historiography? // History and
Theory. 2006. Vol. 45. N 1. P. 110-123.
2 Лиотар Ж.-Ф. Состояние Постмодерна /Пер. с фр. Н. А. Шматко. М., 1998.
С. 136.
250
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Метанарратив как идеология Модерна имеет свои константные ха-
рактеристики: универсализм, который основывается на принципах сциен-
тизма и логоцентризма; признание объективных законов, причинно-
следственной связи, каузальность. Гранд-нарратив как стандарт историо-
писания предполагает унификацию культурной, экономической, полити-
ческой и других составляющих истории. Гранд-нарратив как идеология
оперирует набором базовых понятий. Одно из ключевых - «Развитие»
(Development) представлено такими метафорами, как: «эволюция», «ста-
диальность», «прогресс», «революция», «революционные скачки», а про-
изводные от него категории «отсталость», «запаздывание», «историче-
ские» и «неисторические» народы, «культурно-надиональное
возрождение». Важным компонентом классического метанарратива явля-
ется евроцентризм, который легитимизируется в идее цивилизационной
миссии и культурных практиках Старой Европы. В зависимости от кон-
текста культурными миссионерами, носителями ценностей цивилизации
Запада, могут выступать Европа, Россия, США и др.3.
Гранд-нарратив - проект эпохи Просвещения не только системати-
зировал мышление европейцев, но осуществлял культурную экспансию
во всем мире, навязывая стереотипы мышления, присущие исключи-
тельно Западной цивилизации, пренебрегая другими типами историопи-
сания, как восточно-азиатское, арабо-исламское4.
Наиболее древняя модель неевропейского исторического письма -
китайское историописание с его важнейшей составляющей - династий-
ными историями: 24 династийные истории и 30 тысяч биографий пер-
сонажей китайской истории от императоров до вождей народных дви-
жений и даже женщин, которые выполняли свой долг перед
государством. Историческое сознание, как известно, пронизывало все
сословия традиционного китайского общества. Более того «китайцев
3 См.: Малоеичко С. И. Коммуникативная открытость исследовательской
практики новой локальной истории// http://mncipi.narpod.ru\l018.htm; Он же. Совре-
менная историческая наука и изучение локальной истории //www.wordhist.ru/qual/
fpk/TheorMethHist-04/hi st-ref.htm-22k-
4 На особенности неевропейского письма обращает внимание британский ис-
торик Патрик О’Брайен. Если для Китая, Японии, исламских стран Юго-Восточной
Азии кроме собственных территориальных, этических и политических границ был
присущ интерес к истории цивилизаций, культур, религий, династий, империй и
политической истории, то это не относится к Африке, Австралии, Тихоокеанскому
побережью, Доколумбовой Америке, большей части Южной Азии накануне ее ко-
лонизации в XIX в. См.: O’Brien Р. Historiographical traditions and modem imperatives
for the restoration of global history // Journal of Global History. 2006. 1. P. 3-39.
И. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
251
объединили и сделали единым народом нс миф или религия, подчеркива-
ет петербургский ориенталист Б. Г. Доронин, а их «великое прошлое»,
воспетое и интерпретированное «многими поколениями придворных ис-
ториков и закрепленное в общественном сознании при активном участии
государства». Важной составляющей модели китайского историописания
была концепция циклично-линеарного времени. Основным рефреном
китайского историописания оставалась тема власти - божественной вла-
сти императора, т.н. «мандат Неба». Для китайской традиции историопи-
сания вообще характерен высокий уровень политической культуры, ос-
нованной на нормах конфуцианства и традициях восточно-азиатского
письма. Прошлое воспринималось как бесценный опыт, необходимый
для нынешнего дня, а интерес к будущему отсутствовал вообще5.
Гранд-нарратив как система норм и стандартов исторического
письма, распространенных со времен Просвещения (т.н. классической
науки), создал образ линейной истории, имеющий свои отличительные
черты. Во-первых, доминантой этого образа служит постулат о беспре-
рывном линейно-процессуальном развитии истории, обусловленном
причинно-следственной связью событий и времен. Прошлое строго рег-
ламентирует современность, которая и определяет будущее. Метафора
«Развития» (стадиальность, эволюция, прогресс) представлена тремя
модусами времени - прошлое/настоящсс/будущсс. Связь времен явля-
ется культурным приобретением Ренессанса, который актуализировал
чувство времени, восприятие прошлого и настоящего, а Романтизм пре-
образовал историческую статику в историческую динамику (гегельян-
ство). Во-вторых, линейный образ истории имеет телеологический ха-
рактер (предзаданность), обусловленный внешними или
трансцендентными причинами. Исторический процесс изначально пре-
допределен, целенаправлен: будь-то собирание земель-территорий; соз-
дание централизованных государств; формирование народа/нации; сме-
на одной формации другой; возникновение великих культур; смена
локальных цивилизаций, победа социалистической революции или ми-
ровая революция и т.д. В-третьих, линейный образ истории «замыкал»
ход исторических событий в определенные структурные, процессуаль-
ные рамки, которые обязательно имели начало и конец, проходили оп-
ределенные фазы эволюции, финальность. Таким путем осуществлялась
формализация событий, упрощение действительности, реальной жизни.
Словом, линейный образ истории предполагал в обязательном порядке
5 См.: Доронин Б. Г. Национальная идентичность и китайская историографиче-
ская традиция // Диалог со временем. 2007. Выл. 21. С. 132-141.
252
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
процессуальность, порядок, направленность, закрытость, завершен-
ность. В-четвертых, линейный образ истории представлен иерархиче-
ской структурой, которая имела вертикальную, горизонтальную или
циклическую формы. Такие иерархические структуры опирались на
различные основания, структурирующими элементами выступали или
событийно-политическая, биографическая канва истории, или социаль-
но-экономическая и культурная история.
Метанарратив как способ легитимации создал ряд моделей исто-
риописания. Наиболее распространенной была и до сих пор остается
национально-государственная схема истории, абсолютизирующая поли-
тический опыт развитых стран Западной Европы, которые сакрализует
свой исторический путь, опыт создания централизованных государств и
формирования современных политических наций. Национально-
государственная парадигма придавала историописанию универсальный,
унифицирующий характер. Все, что не вписывалось в ее рамки, счита-
лось второстепенным, отсталым, «неисторическим».
Со второй половины XIX в. с классическим метанарративом начи-
нает конкурировать формационная схема, абсолютизировавшая роль
экономического фактора в истории. Эта модель теоретической истории
была представлена в категориях «общественно-экономическая форма-
ция», «способ производства», «производительные силы», «класс»,
«классовая борьба», «революция». Если стержнем национально-
государственной схемы являлась национально-политическая идея, фор-
мационной - соответственно социально-классовая, то в эпоху Fin de
Siecle возникают метанаррации, проникнутые настроением историче-
ского пессимизма, возврата к циклизму (теория «великих культур»
О. Шпенглера, концепция «локальных цивилизаций» А. Тойнби). Куль-
турные модели гранд-нарртива XX века определенным образом варьи-
ровались (геоистория Ф. Броделя, теория третьей волны Э. Тоффлера),
но все завершилось пессимистическими настроениями и ожиданиями в
духе «конца истории» Ф. Фукуямы.
Словом, классический гранд-нарратив служил инструментом кон-
струирования истории, когда большая, средняя и даже малая схемы
«набрасывались» на конкретный исторический материал.
Украинский гранд-иарратив
В рамках идеологии модернизма возникает и первый украинский
самодостаточный, оригинальный гранд-нарратив - концепция Михаила
Грушевского. Аккумулируя теоретический опыт своих предшественни-
ков -- М. Максимовича, П. Кулиша, Н. Костомарова, В. Антоновича, '
//. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
253
он создал стройную схему, альфой и омегой которой стали непрерыв-
ность развития и телеологичность украинской истории. Схема украин-
ской истории М. Грушевского выстраивалась им в дискуссиях с офици-
альной российской историографией, не допускающей мысли о самодос-
самодостаточности и полноценности украинской истории. Логичная и
убедительная схема Грушевского служила теоретическим и историче-
ским основанием украинского политического проекта конца XIX - на-
чала XX вв., квинтэссенцией которого стала легитимация идеи украин-
ской государственности и формирования украинской нации.
Концепция украинской истории Грушевского демонстрировала все
признаки классического гранд-нарратива эпохи Модерна. С помощью
идеи развития он связал в единое целое разрозненные периоды и собы-
тия украинской истории, превратив их в стройную схему: княжеский;
литовско-польский; казацко-гетманский периоды, эпоха национального
возрождения. Имплицитно схема М. Грушевского имела телеологиче-
ский характер, идея создания независимого государства как результат
предшествующего развития, являлась системообразующим компонен-
том его схемы. Политический проект Грушевского ставил целью вос-
создание целостности украинских земель-территорий в едином государ-
ственном организме, который оставался расчлененным в рамках
великих империй, Российской и Австро-Венгерской.
Однако схема М. Грушевского из-за своей нестандартности и не-
обычности небезупречно вписывалась в классический европейский мета-
нарратив. Если ранее нестандартность украинской истории воспринима-
лась как се недостаток, проявление «неполноценности», «отсталости», то
в нынешней ситуации это несоответствие европейским образцам тракту-
ются как выражение самобытности и самодостаточности украинской ис-
тории. На несоответствие схемы Грушевского европейскому канону впер-
вые обратил внимание Иван Лысяк-Рудницкий, который усмотрел в этом
провинциализм и теоретическую слабость6 и предложил свою собствен-
ную схему украинского прошлого, которая органично вписывалась в ев-
ропейскую национально-государственную парадигму:
1. Древняя и средневековая история
а) период Киевской Руси VI-IX вв.
б) подпериод Киевской федерации и Галицко-Волынского госу-
дарства X - сер. ХП вв. Галицко-Волынское королевство - первая
6 Лисяк-Рудницький /. Проблема термшологн та псрюдизацп в украТпсыбй ic-
T°pii // 1сторичп1 есе: У 2 тг. К., 1994. Т. 1. С. 42.
254
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
украинская держава. Государство Владимира-Ярослава было ни
российским, ни украинским, а скорее восточноевропейским;
в) литовский период сер. XV в. - 1569 г. имел решающее значе-
ние в процессах социокультурной, административно-
политической дифференциации Украины / Белоруссии / России.
Причем, по мнению исследователя, в Украине средневековье
«длилось дольше, чем на Западе».
2. В период Ранней Новой истории 1569 г. - конец XVII в. Преж-
ний режим в Украине завершился в XVIII в., как и в Западной
Европе, что обусловливалось ликвидацией автономий - общей
чертой эпохи Просвещения в Англии, Испании, Австрийской
монархии и т.д.
3. «Украинский XIX век», 1780/90-1914 гг., длился 130 лет
(т.н. «длинное столетие»), отличительными чертами которого
являлись отказ от идеи автономии и переход украинской элиты
на позиции имперской идеологии. В пределах «украинского
XIX века» Лысяк-Рудницкий выделял более мелкие подперио-
ды: а) шляхетский/дворянский (до 1840-х гг.); б) народнический
(1840-1880 гг.); в) период модернизма (1890-1914 гг.).
4. Украина XX века.
Центральной проблемой новейшей истории Украины, являлось
формирование нации, превращение лингвоэтнический массы в самодос-
таточную политическую и культурную общность7. Позиция И. Лысяка-
Рудницкого как последовательного модерниста и евроцентриста, объяс-
няет «колониальную идентичность» сознательного украинства с его
многочисленными комплексами: неполноценности, провинциализма,
вторичности, «отсталости», «неисторичности».
Совсем недавно в историографических практиках украинских ис-
ториков самой популярной была формационная схема, маркерами кото-
рой являлись: формационно-классовый подход, ре-актуализация госу-
дарственной схемы российской либеральной историографии, в недрах
которой культивировалась идея вечной дружбы восточнославянских
народов, представленной в метафорах «общей колыбели», «старшего
брата», «семьи братских народов» и пр.
Примечателен сам факт совпадения марксистской и национали-
стических схем украинской истории, несмотря на внешние различия
7 Там же. С. 27; Лисяк-Рудницький I. Структура украшсько'Г icropii’ в XIX ст. //
1сторичш есе. Т. 1. С. 198-199; Рус. пер.: Лысяк-Рудницкий И. Между историей и
полити кой / Под ред. Д. Фурмана, Я. Грицака. М.; СПб., 2007. С. 127-148.
jf. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
255
(терминологию, фактографическую наполненность, общественно-
политический контекст). Обе эти схемы не выходили за пределы клас-
сического европейского гранд-нарратива XVIII-XX вв.
В 1995 г. на страницах журнала Slavic Review развернулась дискус-
сия по поводу научной легитимности украинской истории. Смысл дис-
куссии заключался в поисках ответа на сакральный вопрос: Does Ukraine
Have a History? - Имеет ли Украина историю в традиционном понимании,
т.е. в рамках национально-государственной парадигмы, подобно развитым
европейским историографиям8. Разумеется, подобная дискуссия являлась
запоздалым отголоском европейских дискуссий вокруг кризиса классиче-
ского гранд-нарратива. Вместе с тем и украинское историописание почув-
ствовало вызовы общего интеллектуального кризиса9. В период пере-
стройки и постперестройки довольно мирно сосуществовали
националистическая, марксистская и «смешанная» версии украинского
гранд-нарратива. Последняя основывалась на попытках объединить
обычную - «звычайну схему» М. Грушевского с формационно-классовой,
что на практике означало «замещение» марксистской терминологии на-
ционально-ориентированной лексикой (например, формация/культура;
класс/народ-нация; государство/элита; классовая борьба/освободительное
движение; национально-освободительная война/казацкая революция;
гражданская война и интервенция/национально-демократическая рево-
люция 1917-1921 гг.; коллсктивизация/голодомор и т.д.). Осознание кри-
зиса, как известно, это шаг на пути его преодоления.
Кризис гранд-нарратива
Существенные сдвиги в европейском культурном и научном созна-
нии происходили на протяжении последней трети XX века. Ж.-Ф. Лиотар
в работе «Состояние Постмодерна. Доклад о знании» (1979) констатиро-
вал недееспособность, закат классического гранд-наратива. В современ-
8 Hagen vonM. Does Ukraine Have a History?//Slavic Review. 1995 . 54. N 3;
GrabowiczG. Ukrainian Studies: Framing the Context?// Ibid.; Kappeler A Ukrainian
History from a German Perspective// Ibid.; Isaievych J. Ukrainain Studies - Exceptional
or Merely Exemplary? // Ibid.; Plokhy S. The History of “Non-historical” Nation: Note on
the Nature and Current Problems of Ukrainian Historiography // Ibid.; Slezkine Y. Can We
Have Our Nation State and Eat it Too? // Ibid.
9 См.: Смолш В. А. Украшська icTOpmua паука на рубеж! XXI столггтя. Про-
блема пошуку нових георегичпих та методолог! чних шдхо;ив // Освгга Украгни.
1997. №27; Таран Л. Про кризу сучасно! украгнськоТ 1сторюграфп // Чствертий Mi-
Жнародний конгрсс украгшепв. Допоыд! та повщомлення. IcTopia. Ч. 2. XX столггтя.
Одеса-Ки1в-Льв!в, 1999; Реснт О. Криза сучасног вторично! науки: методолопчний
i джерелознавчий аспекта // Там же; Колесник I. Украшська !сторюграф!я з нерспек-
тиви концептуального синтезу // Там же.
256
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ном обществе и культуре - постиндустриальном обществе и постмодер-
нистской культуре - вопрос о «легитимации знания» ставится по-иному.
Гранд-нарратив, или «великий рассказ», по мнению Лиотара, утратил
«свое правдоподобие вне зависимости от способа унификации», будь-то в
виде «спекулятивного рассказа иди рассказа об освобождении». Упадок
«великого нарратива» Лиотар понимал как «результат быстрого техниче-
ского и технологического подъема после Второй мировой войны, пере-
несшего акцент с цели действия на способы ее достижения», как резуль-
тат активизации внешнеполитических связей «либерального
капитализма». Правда, «ростки утраты легитимности -“делегитимации” -
и нигилизма» были присущи уже «великим рассказам» XIX века. Кризис
знания возникает не из-за «технического прогресса и экспансии капита-
лизма», а вследствие «внутренней эрозии основ легитимности знания».
Именно эрозия «расслабляет плетение энциклопедической ткани, где ка-
ждая наука находит свое место, позволяет им освободиться»10.
Словом, в условиях свободы, декларируемой постмодернизмом, не
существует обязательных норм и стандартов метанарраций. Реальными
остаются опыт и свободный выбор. М. Фуко вообще рассматривал По-
стмодерн как «эпоху комментариев». Постмодернизм нивелирует вес
различия и ограничения, все метанаррации, все системы объяснения
мира, заменяя их плюрализмом, «фрагментарностью опыта»
(И. Хассан)11. Парадокс, но отказ от гранд-нарратива есть тот же нарра-
тив, скорее «историзующий нарратив», считает Барри Страус12.
Почти одновременно с «приговором» Ж.-Ф. Лиотара европейскому
гранд-нарративу появляется работа Э. Саида «Ориентализм», которая на
практике подтвердила демонтаж метанарратива как продукта европей-
ской культуры Модерна. Вслед за Фуко Саид считает, что академиче-
ские тексты могут не только порождать знание, но и создавать саму ре-
альность. Различие между таким «письмом Запада» и «молчанием»
Востока Э. Саид воспринимает как «результат и знак великой культур-
ной силы Запада», «его воли власти. Власти над Востоком»13. Саид опе-
рирует разными определениями ориентализма, возникающими в конце
10 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 93, 94, 96-97.
" См.: Hassan I. Culture. Indeterminacy and Immanence: Margins of the
(Postmodern) Age//Humanities in Society. 1978. Vol. 1. P. 51-85.
12 Strauss, Barry. The Rebirth of Narrative// Historically Speaking. 2005. 6.6. (Ju-
ly/August) P. 1-5.
13 Said, Edward W. Orientalism. Western conceptions of the Orient. N.Y., 1978;
Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ.
А. В. Говорунова. СПб., 2006. С. 147-148.
И- Я. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
257
XVIII - начале XIX вв. Ориентализм он понимает и как «чисто научную
деятельность», пик развития которой относится к середине XIX века,
когда появляются ученые-ориенталисты; и как «систему мышления по
поводу Запада» (Ориентализм воспринимал Восток «неизменным и аб-
солютно отличным от Запада»); и как «проекцию Запада на Восток и
волю господствовать над ним». Более того Ориентализм «это школа
интерпретации, предметом которой есть Восток, его цивилизация, наро-
ды и характерные черты». Итак, ориентализм можно воспринимать как
разновидность «регламентированного письма», в котором доминируют
«императивы, перспективы и идеологические предпочтения». Восток
изучают, исследуют и им же управляют14.
Со временем Ориентализм превращается в методологию постко-
лониальных исследований (Post-Colonial Studies). Американской их раз-
новидностью считается мультикультурализм. Смысл постколониально-
го дискурса (мультикультурализма) заключается в актуализации опыта
безмолвных культурных групп, история которых связана с «крайним
политическим, социальным, культурным и психологическим угнетени-
ем». Постколониальные исследования направлены на деконструкцию
западной традиционной модели знания, в частности таких ее структуро-
образующих категорий, как: универсализм, евроцентризм, этноцен-
тризм, развитие, прогресс, государство, пол, а также на создание и леги-
тимацию собственного дискурса, неевропейского характера.
Постколониализм превращается в методологию, способ исследования,
легитимации и презентации знания. Основные понятия-концепты, кото-
рыми оперирует мультикультурализм - это проблема «Чужого», созда-
ния образа «Чужого», «Иного», культурная мимикрия, признание сим-
волической пропасти, отчужденности, расщсплсния/расколотости
сознания. Мультикультурализм осознанно отказывается от националь-
ного метанарратива, акцентируя внимание на кросс-культурных связях
и взаимодействиях. В рамках постколониализма как методологии идет
поиск нового инструментария и языка повествования. Внимание кон-
центрируется на механизмах кросс-культурного взаимодействия. Про-
шлое и настоящее неевропейских народов рассматривается не с точки
зрения национального, но с позиций явлений и влияний глобального
характера: «историческая травма», «рабство, революция, террор, изгна-
ние, бездомность, потеря культурной идентичности и проч.»15.
14 Там же. С. 150, 148,313.
15 Тлостанова М. Post-Colonial Studies//http://viscult.by.com/article; Тлостано-
ва М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века.
258
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Таким образом, поиски собственной идентичности нацией, куль-
турной группой, личностью всегда воспринимается как проявление ин-
теллектуальной свободы, акт сознательного выбора или протеста про-
тив какой-либо стандартизации и унификации.
Вызовы современной украинской историографии
В украинском историографическом пространстве культурные вызо-
вы современности имели довольно слабый резонанс. Конечно же, исто-
рики сознавали, что писать следует по-новому. Некоторые воспринимали
новый образ национальной истории как совокупность локальных нарра-
тивов, отсюда интерес к региональной/локальной истории в ее разнообра-
зии и богатстве, поискам ее скрытых возможностей и интеллектуальных
ресурсов. Впрочем, еще Бернар Лепти заметил, что национальную исто-
рию не следует воспринимать в виде суммы монографий по локальной
истории, это должен быть принципиально новый нарратив16.
Популярным остается подход к национальной истории с позиций
полиперспективности, полиэтничности. Один из сторонников такого
подхода Пол Роберт Магочий считает, что все существующие истории
Украины «имели ошибку в названии», т.е. были историями украинского
народа («совершенно оправданного субъекта истории), но «не история-
ми территории, которую занимает современная Украина». Свою «Исто-
рию Украины» П. Магочий называет «первой историей, которая стре-
мится представить развитие всех народов и культур, когда-либо
существовавших в Украине». Принцип полиперспективности (мульти-
национальности), с точки зрения канадского исследователя, заключает-
ся в том, что «в нашей истории россияне, поляки, евреи, крымские тата-
ры, немцы, румыны, греки вместе с другими, живущими на территории
Украины, рассматриваются как неотъемлемая часть украинской исто-
рии, а не просто противники этнических украинцев...». Нарратив
П. Магочия полностью вписывается в рамки европейского националь-
но-государственного нарратива: «подобно большинству европейских
держав» границы Украины вмещают ныне «народы различного этно-
культурного, этнолингвистического происхождения и разного религи-
озного вероисповедания». Магочий идентифицирует свою «Историю»
как «написанную иностранцем для иностранцев», но которая «может
М., 2000. С. 5-7. Доманьсъка Е. Криза метанаратииш (випадок постколошальних
студш) //Ейдос. Альманах reopii та icropii вторично!' науки. К., 2005. Вин. 1.
6 Лепти Б. Общество как единое целое. О трех формах анализа социальной
целостности // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 150-151.
Я- И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
259
все-таки представлять определенную ценность для всех жителей Ук-
раины, независимо от их этнического происхождения»17.
Автор «Малой истории Украины» Андреас Каппслср также под-
черкивает, что «работа написана неукраинцем». Свою собственную по-
зицию он определяет как полиперспективную, что органично вписыва-
ется в традиционный гранд-нарратив: «...я в полной мере
придерживаюсь украинского национального “гранд-наратива” (“GroBen
Erzahluhg”) ...я стремился интегрировать в украинскую историю поля-
ков, россиян, евреев, немцев и другие этнические группы, которые жили
в Украине». С его точки зрения, «отказ от эксклюзивной концентрации
на истории этнических украинцев», должен «укрепить понятие полити-
ческой или гражданской государственной нации...»18. А. Каппслср во-
обще остается в поле действия «национально-государственного прин-
ципа» историописания, утверждая, что «определяющей константой
российской истории является полиэтничность», и что без осознания
этих «полиэтнических взаимозависимостей будет неполной как история
России, так и история ее регионов и народностей» (в том числе Украи-
ны и украинского народа). Каппслср, как исследователь, действует в
пространстве «новой истории империи», верифицируя идею полиэт-
ничности Российской империи. Следовательно, констатирует он, наибо-
лее мощной является идеология «национального», национализма в ши-
роком смысле, как «всеохватывающий нейтральный термин для
определения всех аспектов национального, что характерно для англоя-
зычных и частично для последних немецких исследований.. .»19.
Не секрет, большинство современных украинских историков мыслят
и работают в традициях национально-государственного нарратива. На-
ционально-государственный принцип структурирования «больших исто-
рий» украинского народа (с определенными уточнениями, модификация-
ми, вариациями) доминирует в многочисленных учебниках, монографиях
отечественных, диаспорных историков и западных украиноведов.
Один из вариантов современного украинского гранд-нарратива
связан с попытками вписать историю Украины в общеисторический
17Magocsi, Paul Robert. A History of Ukraine. Toronto, 1996; Укр пер.: Маго-
чШ П. P. Icropia УкраТни. К., 2007. С. 5-6. (Читачам в Украпп).
18 Kappeler, Andreas. Kleine Geschichte der Ukraine. Munchen, 1994; КаппелерА.
Мала icTopia У крайни. К., 2007. С. 8. (Передмова автора до украТнського видання).
19 Kappeler A Russland als Vielvolkerreich: Entstehung. Geschichte. Zerfall. Mun-
chen, 1993; Каппелер A. Pocis як пол(стн1чна iMncpia: Виникнення. 1стор1я. Розпад/
Пер. з niM. X. Назаркевич. Род. М. Крикун. Льв>в, 2005. С. 2,5.
260
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
процесс. Это схемы М. Драгоманова и М. Ковалевского, которые, по
словам Владимира Потульницкого, стремились «объединить украин-
скую и мировую истории». Современные украинские историки подобно
тем историкам, которые «сумели интегрировать свои национальные
истории в мировую», должны, по мнению Потульницкого, опираться на
«отечественный опыт» при написании «всемирной истории со специ-
альным обобщением истории украинской»20.
Как бы в стороне от классического метанарратива находится ори-
гинальная концепция украинской истории Я. Дашкевича. Свой проект
национальной истории Дашкевич представляет с позиций государст-
венного релятивизма. История Украины в его интерпретации предстает
как чередование периодов государственности/безгосударственности:
1) период Киевского государства;
2) эпоха «первой безгосударственности», XIV-XV вв.;
3) первое культурно-национальное возрождение XVI-XVII вв.,
связанное с «лавинообразным» нарастанием национального сознания,
что совпадало с политико-военным возрождением и создавало условия
для возникновения «Второго государства украинской нации»;
4) эпоха «второй безгосударственности», XVIII-XIX вв., совпадает
со Вторым национальным возрождением новым «лавинообразным на-
растанием» национального сознания;
5) период Третьего Государства, 1917-1920;
6) период третьей безгосударственности: вследствие концентриро-
ванного наступления соседей (Россия Польша, Румыния) нация снова на
коленях, в «объятиях геноцида переживает холокост»;
7) период Четвертого Государства, в рамках которого фциональнос
возрождение будет необходимо; «оно будет необходимо также тогда, -
писал Я. Дашкевич в 1992 г., - когда Четвертого украинского государст-
ва не будет»21.
Свою версию модерной истории Украины предлагает Ярослав
Грицак с позиций теории модернизации/вестернизации. Модернизация
за пределами Западной Европы, по его мнению, является вестернизаци-
20 Потулъницький В. Схема перюдизашТ icTopii' Украши в украшсьюй iciopio-
графп 19-20 ст.: проблема reopii та методологи // Спешальн! icTopauni дисцигойни:
патання теорп та методика. Ч. 5. (1сторюграф!чн! дослщження в УKpaTai [Ban. Ю]-
36. наук. пр. на пошану академика НАН Украши В. А. Смол1я: У 2-х ч. К., 2000. Ч. 2.
С. 454.
21 Дашкевич Я. Нащональна самосв!дом!сть украТнщв на злам! XVI-XVII ст. И
Сучасшсть. 1992. № 3. С. 65-77.
И. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
261
ей, т.е. «осознанным копированием западных образцов с надеждой на
успех и богатство». Основная мысль автора - без мощного западного
влияния «Украина вообще бы не возникла», и никакой альтернативы —
«какая-то русская цивилизация, русское сообщество - - неизвестно какие,
невнятные». Модерную историю Украины он начинает с открытия
Америки «как ключевого события для понимания и европейской, и ук-
раинской истории». Без каких-либо усилий освободиться из объятий
классического гранд-нарратива, Грицак рубит прямо с плеча: Украина,
«как дочь Европы», является «продуктом вестернизации». Такие рассу-
ждения современного украинского историка полностью выдержаны в
рамках колониального, имперского дискурса, лейтмотивом которого
становится идея цивилизационной миссии Европы/России/США в са-
мых разных контекстах. Применительно к Украине Я. Грицак использу-
ет метафору улитки: это «медленное существо, еле ползущее, но ползу-
щее уверенно»22 (очевидно, в сторону Западной цивилизации). Образ
«улитки» в данном контексте воспринимается как секвенция модерни-
стской метафоры Развития/отсталости/неисторичности.
Совершенно очевидно, что перепев преимуществ классического
метанарратива, который еще в последней трети XX века был признан
европейскими интеллектуалами утратившим «правдоподобие», более
того мертвым, в XXI веке воспринимается как «интеллектуальный ан-
тиквариат». Вместе с тем, несмотря на всевозможные констатации
смерти, кризиса, недееспособности классического гранд-нарратива, он
существует. Вопрос, очевидно, находится в другой плоскости: а возмо-
жен ли принципиально новый меранарратив?
Возрождение гранд-нарратива
В последнее время в западной историографии заговорили о возро-
ждении нарратива, о довольно непростых отношениях между академи-
ческой историографией и историописанием. Если в конце XX века, счи-
тает Б. Страус, постмодернистский релятивизм нанес сильный удар по
нарративу, то популярная история (popular history) не знала таких про-
блем. В свое время Ж.-Ф. Лиотар пропагандировал релятивизм как «ан-
тидот против гранд-нарратива». Постмодернизм отдавал предпочтение
«непредвзятой, мультикультурной версии истории», в то время как
прежняя историография оставалась евроцентричной и недостаточно
интересной с перспективы других культур, вот почему нынешняя исто-
22 Грицак Я. «Украина словно улитка: медлительная, но уверенная» // Зеркало
«едсли. 2007. 27 января. С. 21.
262
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
риография должна быть непредвзятой, глобальной и одновременно хра-
нить великие традиции Западной цивилизации - таким видит современ-
ный гранд-нарратив Б. Страус23.
Ныне и сам концепт метанарратива наполняется иным смыслом и
используется как новый исследовательский инструментарий. Так, аме-
риканские исследователи Джастин Ирвинг и Карин Кленке определяют
метанарратив как методологию, качественный метод исследования
(qualitative method), который, во-первых, интегрирует историческую,
психологическую и культурную перспективы, во-вторых, усиливает
роль саморефлексии/самоинтерпретации (narrator’s self-interpretation),
которая отражает онтологическую целостность познания жизни инди-
видуума. Определяемый подобным образом метанарратив ре-
актуализирует такие составляющие нарративной интерпретации, как
интеграция контекстов (integration of contexts), жизненный опыт и мно-
гомерные подходы (multiple-level approaches). Метанарратив также
включает представления, которые «с герменевтической точки зрения
воспринимают жизнь человека как процесс нарративной интерпрета-
ции». Таким образом, метанарратив провозглашает возвращение к гер-
меневтическому кругу. Новый метанарратив продуцирует смыслы и
принимает во внимание то, что Рабинов и Салливен (1987) называли
возвращением «герменевтического круга» или «кругом смысла»
(“hermeneutical circle” or “circle of meaning”), который является «целью
интерпретирующей социальной науки»24.
Метанарратив как метод открывает новые исследовательские воз-
можности. К новым технологиям относится и синергетический метод,
ресурс синергетического сознания. Синергетика, синергетический метод
описывает нелинейные процессы в природе и обществе. Ильй Пригожин
выводит такую формулу синергетического сознания как: множествен-
ность, темпоральность, сложность. Существуют экономическая, социаль-
ная, психологическая, синергетика. Проблема заключается в адаптации
синергетических идей/метафор к событиям истории. Примечательно, что
Украина, как и Россия, ныне переживает «синергетический бум»25. Исто-
23 Strauss В. The Rebirth of Narrative. P. 1-5.
24 Irving Justin A, Klenkc Karin. Telos, Chronos and Hermeneia: The Role of Me-
tanarrtive in Leadership Effectiveness through the Production of Meaning // International
Journal of Qualitative Methods. 2004. 3 (http://www.ualberta,ca/~iiqm/backissues/3_3/
html/irvingklenke./html).
25 В Украине существует Синергетическое общество (2002), которое репрезен-
тует себя как «организацию ученых, преподавателей высшей школы, политиков и
общественных деятелей, заинтересованных в решении проблем развития человечес-
И. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
263
рическая синергетика представлена Московской школой, в частности ра-
ботами Леонида Бородкина26, Георгия Малинецкого27 и др., в Украине -
Днепропетровской школой клиометристов28.
Синергетическое сознание и технологии создают возможность для
описания и изучения нелинейных процессов в истории. Целесообразно
ограничиться двумя, но выразительными синергетическими метафора-
ми: «самоорганизующаяся система» и «принцип нелинейных историче-
ских динамик». «Самоорганизующаяся система» - одно из базовых по-
нятий синергетического сознания. Имеется в виду такая система, кото-
рая сама изменяет собственные структуры и функции и при этом
сохраняет жизнеспособность, объединяя в себе необратимость процес-
сов саморегуляции и непредсказуемое поведение данной системы. Ме-
ханизмом самоорганизации такой системы выступает окружающая сре-
да. Принцип самоорганизации предполагает самодостаточность,
саморегуляцию, саморазвитие и самонормирование системы.
«Принцип нелинейных исторических динамик» (как историческая
метафора) позволяет деконструировать идею беспрерывного линейного
развития - основного постулата гранд-нарратива Модерна. Нелинейная
динамика является ключевой проблемой современного метанарратива.
Принцип нелинейных исторических динамик предполагает существова-
ние эволюционного этапа и бифуркационной стадии (в виде разрывов,
катастроф, исторических мутаций, кризисов, революций). События на
эволюционном витке развития имеют свою закономерность, последова-
тельность, причинно-следственную связь. На стадии бифуркации уско-
ряются темпы исторических событий и перемен, возникают нелинейные
тва и модернизации украинского общества на основе синергетической парадигмы
самоорганизации: новой методологи познания и практики». См.сайт:
www.synergetics.org.ua.
26 Бородкин Л. И. История, альтернативность и теория хаоса // Одиссей. Чело-
век в истории. 2000. М., 2000; Он же. О «кризисе» концепции научной рациональ-
ности и исторической синергетике // Ейсн.Дшпроперт.ун-ту. Сер. 1стор1я та археоло-
пя. Дшпропсгровськ, 2000. Вип. 8; БородтнЛ.Й. Tcopia хаосу в 1сторичних
Дослщженнях: новий етап квантифжацц // Icropioipai|)i4Hi та джерелознавч! пробле-
ми icTOpii Украши. 1сторюграфгя та джерелозпавство в часовому BHMipi: Мгжвуз. зб.
наук. пр. Дшпропсгровськ, 2003.
27 Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Нелинейность. Новые проблемы. Новые
возможности. М., 1994; Малинецкий Г Г. Нелинейная динамика - ключ к теоретиче-
ской истории // http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004.
28 Святец Ю. А. [сторичне джерело як синергетичний об’ект // 1стор1'ограф1чш
та джсрслознавч! проблсми icropii Украши. 1сторюграф!я та джерелознавство в ча-
совому BHMipi: М1жвуз. зб. наук. пр. Дшпропсгровськ, 2003.
264
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
эффекты и тенденции. Именно в бифуркационный период фактор слу-
чайности начинает играть конструктивную роль, возникает целый
спектр альтернатив и возможность выбора. По мнению И. Пригожина, в
точках бифуркации происходит активное социальное переструктуриро-
вание, резко возрастает культурное разнообразие, появляется множест-
во субкультурных форм29. Метафорой точки бифуркации (бифуркаци-
онной фазы) является образ витязя на распутье (налево пойдешь - коня
потеряешь, направо - голову сложишь, прямо пойдешь — счастье най-
дешь). В бифуркационный период, несоизмеримо с мирным этапом эво-
люции, возрастает роль лидера и харизматических идей, процессов
взаимодействия лидера - народа, вождя - масс. Лидеры, идеи, движение
масс — все это атрибуты бифуркационного состояния общества, являю-
щиеся инструментом его самоорганизации. Выбор будущего происхо-
дит в момент бифуркационного взрыва, хотя данный выбор обусловлен
не причинностью, а скорее случайностью.
Синтез синергетического сознания, мультикультурализма, куль-
турной антропологии, истории повседневности, новой социальной ис-
тории создает образ нелинейной истории в глобальном, национальном и
локальном измерениях. Образ нелинейной истории характеризуется та-
кими чертами, как соединение линейных и нелинейных процессов, не-
завершенность, нон-финальность. Если линейные процессы отличаются
определенной последовательностью, закономерностью, то нелинейные
связаны с поворотом к нео-архаике. Это означает, что на смену регули-
рованному, индустриально-серийному образу жизни приходят слит-
ность, нераздельность быта и профессиональной деятельности, возврат
к «надомной» работе, которую сейчас практикуют представители сред-
него и малого бизнеса, дилеры, программисты, работники сферы серви-
са, люди искусства и т.д. Сближение архаического и современного ти-
пов духовности, образа жизни, формирование новой картины мира
вызывает в памяти понятие архаического синкретизма с его нерасчле-
ненностью/слитностью всех сфер бытия человека и природы. Архаиче-
скому сознанию были чужды присущие линейному мышлению бинар-
ные оппозиции: объект/субъект, дух/гело, материя/сознание,
содержание/форма и т.д. Нераздельность сфер деятельности предопре-
деляет нео-архаический образ жизни и тип мышления, например, син-
кретизм в современном искусстве, междисциплинарность в науке.
29 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. №
С. 46.
И. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
265
Характерная черта нелинейного образа истории многомерность,
многовекторность исторического существования. Социальная, эконо-
мическая, политическая, государственная истории страны имеют собст-
венные ритмы и конфигурации, которые между собой часто не совпа-
дают и зачастую представляют разные векторы движения. Как заметил
Бернар Лепти, какой-либо момент времени имеет «множество темпо-
ральностсй»30. Политические пики могут не совпадать с экономически-
ми подъемами/спадами, более того, увеличение разнообразия экономи-
ческой жизни приводит к нарастанию социальной напряженности в
обществе. Ритмы культурно-интеллектуальной жизни могут ускоряться
или замедляться благодаря динамике политических процессов, слож-
ным механизмам державо- и нациеобразования.
Образ нелинейной истории несет в себе идеал целостности. Цело-
стность, как известно, — архетип синергетического мышления, который
коррелируется с современным пониманием культуры разнообразия.
Культура разнообразия означает целостность через различие. Модель
целостности реконструируется через посредство жизни, жизненного
опыта обычного человека. Из всех реальностей самой реальной остается
повседневность, будничная жизнь индивида, группы, социума. Повсе-
дневность воспринимается как мир разнообразных будничных практик,
а жизнь конкретного человека как совокупность микроситуаций, кото-
рые меняются, накладываются, дополняют одна другую или наоборот
конфликтуют между собой. В таком калейдоскопе микроситуаций и
формируется мир человека, во всех его срезах и возможных ракурсах.
Структуры повседневности - природа, ландшафт, полезные ископае-
мые, питание, жилища, одежда, орудия труда, народные обычаи, песни,
танцы - все это воспринимается сейчас как нетрадиционные сюжеты
для классического гранд-нарратива, проявление нелинейности в исто-
рии. Совершенно очевидно, что целостность моделируется через жизнь,
Жизненный опыт человека и воспринимается не с точки зрения полно-
ты, а скорее глубины понимания и описания.
Образ нелинейной истории реконструируется как нехронологиче-
ская, незавершенная, необратимая, неустоявшаяся история, не имеющая
заданности, каузальности, она прерывна, дискретна. Образ нелиней-
ной истории (Non-Linear History) не только сложно вообразить, но еще
сложнее репрезентировать. Метафора, передающая суть образа нели-
нейной истории, навеяна, пожалуй, российской литературной критикой,
30 Лепти Б. Указ соч. С. 152.
266
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
которая определяла творчество Марка Алданова, блестящего историче-
ского беллетриста, как концепцию «ветвящейся истории». Метафора
«ветвящейся истории», на наш взгляд, удачно раскрывает сущность не-
линейной истории.
Средствами презентации нелинейной истории могут служить мето-
дология синергетики, нелинейное письмо и историческая память. Нели-
нейное письмо (Non-Linear Writing) разрушает иерархию одного смысла,
как правило, мужского дискурса, предполагает смесь различных жанров,
т.е. (pastishe) пастиш (Ф. Джеймисон), отдает предпочтение текстуальным
коллажам, свободному стилю изложения. Нелинейное письмо представ-
лено разными типами: женский, детский текст. Женское письмо
(Women’s Writing) отличается от мужского структурой фразы, стилисти-
кой. Для текста женщин характерна детализация, уточнения, фрагментар-
ность, внимание к подробностям, мелочам; мужским же текстам присуща
строгая логичность, структурированность, иерархичность смыслов, раз-
деление на абзацы, короткие, четкие предложения3’. Разновидностью не-
линейного письма являются детские тексты, изучение которых в специ-
альной литературе только начинается31 32. Итак, признаками нелинейного
письма являются цитатность, смешение жанров, отсутствие заданной
структуры, децентрация смыслового пространства.
Нелинейное письмо обращено против иерархии одного смысла.
Признаком нелинейности письма является его многомерность, пред-
ставленная гипертекстом. Термин «гипертекст» (hypertext) возникает в
1965 г. и принадлежит Теду Нельсону. В 1987 г. он определил гипер-
текст как письмо, «которое ветвится или осуществляется по запросу».
Нелинейное письмо всегда больше чем текст. Гипертекст — это предос-
тавление текстовой информации как сети, по которой читатель может
свободно перемещаться нелинейным способом. Библия, Талмуд, слова-
ри, энциклопедии, где существуют перекрестные ссылки, цитатная сеть
31 См.: Горошка Е. И. Особенности мужского и женского вербального поведе-
ния (психолингвистический анализ). М., 1996; Суприянович А. Г Язык текстов в
гендерном измерении // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов /
Отв. ред. Г. И. Зверева. М., 2001; Андросова-Байда Д. «Жшоче письмо» в украТнсь-
кому пауковому простор!// Ейдос. Альманах теорб' та icropiT юторичноТ науки.
К., 2008. Вип. 3.
32 Сальникова А. А. «Детский текст», его специфика и значение для реконст-
рукции детского восприятия и детской памяти «эпохи российских катастроф»^
Харювський 1сторю1раф1чний зб1рник. X., 2006. Вип.8; Она же. «Остров достовер-
ности»: «детский» текст и его специфжа // Ейдос. Альманах теорб’ та icTopii’ (сторич-
ноТ науки. К., 2008. Вип. 3.
И- И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
267
в статьях, компьютерные поисковые системы представляют собой ги-
пертекст, вариант многомерного текста. Метафора «ветвящаяся исто-
рия» или гипертекст (ризома Делеза и Гватгари) означает отсутствие
структуры, иерархии, когда нет фиксированных начала и конца, логиче-
ской замкнутости, присущих обычному (линейному) тексту.
Нелинейный, многомерный текст, по мнению М. Субботина, раз-
рушает иерархию одного смысла, одной сквозной идеи, обычно. Гипер-
текст из узловых точек может разворачиваться в любом направлении, то
есть читать его можно с любого места или фрагмента, притом не теряя
смысла. Гипертекст лишен устоявшейся структуры, а также иерархии
смыслов, он «принципиально открыт для пополнения новыми элемен-
тами». В текстовую ткань гипертекста «могут включаться и элементы
ранее созданных линейных текстов». Нелинейное письмо это буйство,
настоящий «разгул» смыслов, что означает отказ от хмурой серьезности
традиционного линейного текста.
Именно современное, информационное общество создает условия
для распространения нелинейного письма. Неслучайно настоящие по-
стмодернистские тексты, наиболее талантливые, представляют образец
нелинейного мышления и письма. Нелинейное письмо размыкает одно-
мерность текста, создает пространство мысли, способствует проявлению
авторской индивидуальности, создает эффект присутствия автора в тек-
сте. Оно воссоздаст единое текстовое пространство, в котором тексты,
разные по жанру, стилю, содержанию, переходят один в другой, допол-
няют и обогащают друг друга. Суть нелинейного письма блуждание в
поле смыслов, «игра» этими смыслами. Примечательно, Ж. Деррида,
вслед за А. Леруа-Гураном, считал, что древнейшие формы письма имели
нелинейный характер и были побеждены линейным письмом. Линей-
ность вытеснила древние формы нелинейного письма, потому что струк-
турно совпадала с экономикой и техникой33. Признак нелинейного пись-
ма — активный диалог с читателем, пользователем интернет-ресурса. На
первый план, по мнению А. Леруа-Гурана, выступает проблема чтения.
Если начинают писать по-новому, то следует учиться и читать иначе.
Проявлением нелинейности считается историческая память, поли-
тика памяти. Историческая память фиксирует в сознании индивидуума
события прошлого, всю мозаику фрагментарности сквозь призму нели-
нейности.
” Субботин М. М. Теория и практика нелинейного письма (взгляд сквозь при-
ему «грамматологии» Ж. Деррида) // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 39, 36.
268
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Модель нелинейной истории Украины
Элементы нелинейности украинской истории встречаются еще в
концепции М. Грушевского (интерес к нестандартным сюжетам: при-
родный ландшафт, психофизические типы украинцев, внимание к про-
блемам украинского языка, семьи, системы городов, формам государст-
венности). Из-за нестандартности/несоответствия европейскому гранд-
нарративу схему Грушевского критиковал И. Лысяк-Рудницкий, кото-
рый стремился вписать историю Украины в классическую европейскую
триаду: Античность - Средневековье - Новое время34.
Свой образ «большой истории» Украины предложил известный
украинский историк Виталий Сарбей. В 1993 г. он настаивал на созда-
нии нового «синтетического труда по истории украинского народа»,
которого «никто до этого не пробовал создать». Идеалом настоящей
истории украинского народа он считал «доступную, выверенную» исто-
рию, в основе которой лежит история повседневности: «показ жизни
украинского народа (будничного, повседневного, на которое приходит-
ся собственно 90% его истории), это на деле был бы новаторский вклад
в украинскую и мировую историографию». В. Сарбей призывал «отойти
от мифической истории Украины, созданной выдающимися корифеями
украинской исторической науки и продолженной (хотя и со сменой ак-
центов и оценок) советской историографией»35. Имплицитно он искал
модель целостности украинской истории через осознание культурного
опыта народа. Совершенно очевидно, что его идея/проект - это полиэт-
ническая и социально-ориентированная концепция истории Украины.
В 1995 г. в ходе дискуссии вокруг научной легитимности истории
Украины, Марк фон Хаген также обратил вниманиех на неординар-
ность украинской истории, в частности такие ее черты, которое ранее
воспринимались как слабость, вторичность, несоответствие европей-
ским стандартам: полиэтничность, разнообразие идентичностей, раз-
рывы в истории элит, дискретность государственного существования,
прозрачность культурных границ и проч. Все эти признаки нелиней-
ности дали повод американскому исследователю предположить, что
история Украины может служить «лабораторией» применения новых
научных методов и практик36.
34 См.: Лисяк-Рудницький I. Роля Укра'ши в новптнй icropii // [сторичш есе.
Т. 1.С. 147.
35 Сарбей В. Роздуми з приводу фундаментально! «Icropii У крайни» // Кшвська
старовина. 1995. № 2. С. 9.
36 Hagen von, М. Does Ukraine Have a History? P. 669-670, 673.
pf. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
269
Проблема переосмысления прошлого Украины, создания новой
большой истории, т.е. национального гранд-нарртива, довольно остро
была поставлена в массовом и профессиональном сознании после 1991
года. Понимание необходимости нового украинского метанарратива и его
поиски связаны с рядом обстоятельств. Украина в последнее время пере-
живает бифуркационный период, т.е. стоит перед выбором своего буду-
щего, обусловленного в значительной степени фактором случайности. В
моменты социального, политического, экономического кризиса ре-
актулизируются новые теории, непривычные формы развития, практики
принятия нестандартных решений. На стадии бифуркации («смуты») в
обществе возрастает нравственная рефлексия, усиливаются религиозные
настроения, чувства вины и покаяния за действия предшественников,
возрастает интерес к близкому и далекому прошлому.
Важным вызовом/стимулом служит также заинтересованность но-
вых элит в создании респектабельного национального гранд-нарратива,
естественно, возникает ситуация конкуренции подобных заказов и про-
ектов. Речь идет о разных моделях экономического развития Украины и
ее решонов, представителях региональных субкультур, носителях раз-
личных форм политического сознания. Иными словами, судьба нового
украинского метанарратива зависит от взаимодействия субкультур и
политического мышления украинского Востока и Запада.
Потребность в новой модели национального метанарратива тесно
связана с конструированием различных идентичностей, от «семьи до
страны». Новые модели должны помочь людям сделать свой нравствен-
ный и исторический выбор.
Исходя из синергетических принципов и метафор, рискнем пред-
ложить структурно-синергетическую модель украинской «большой
истории». По мнению исследователей, восточнославянская менталь-
ность создает определенные предпосылки для восприятия синергети-
ческого сознания и адаптации синергетических метафор, понятий в
современных социокультурных и интеллектуальных практиках, в на-
шем случае - украинства.
В христианстве существует учение о синергии - существовании
Двух порывов, Божественной благодати и воли человека. В православ-
ном сознании синергетика воспринимается как соединение двух энер-
гий, двух сущностей - Божественной и человеческой. Это «сороботни-
Чество Божественной и человеческой энергии»37, на нем зиждятся
37 Синергия. Проблемы аскетики и мистики православ’я / Под ред.
с- С. Хоружсго. М„ 1995. С. 108-109.
270
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
основы Богообщения, единения человека с Богом. Славянское сознание
имеет синергетический подтекст, который проступает в известных
практиках полагания на случайность, судьбу, удачу (российский
«авось» или украинское: «как-то оно будет»), в доверии к мистическим
силам, вере в сверхъестественное. Словом, это ментальное основание
для восприятия синергетических метафор. Кстати, по мнению
И. Пригожина, синергетика коррелируется с восточно-азиатскими мо-
делями знания, в частности китайской традицией восприятия всех со-
бытий как взаимосвязанных.
Адаптация синергетических идей и метафор в пространстве украин-
ской истории предполагает предварительную договоренность относи-
тельно слов/терминов и понятий. Ключевыми остаются' слова: «структу-
ра», «самоорганизующаяся система», «неравновесная система»,
«бифуркация», «нелинейные исторические динамики», «хаос», «поря-
док», «энтропия», «акторы», «флуктуации», и основное - поиск их социо-
культурных заместителей. Итак, сам термин «нарратив» ныне употребля-
ется вместо детерминированного и математизированного «исследо-
вания». «Олитературивание» текста -- тоже шаг к нелинейности. «Само-
организующаяся система», «социокультурная общность, пространство»,
«общество» - такой микроряд терминов является базовым для синергети-
ческого мышления, в отличие от доминирующих в европейском научном
сознании понятий «развитие», «прогресс». В качестве аналогов синерге-
тических понятий можно использовать выражения: «бифуркация» - пе-
риод перемен, социальных разломов; «хаос» - состояние кризиса; рево-
люция - синоним катастроф, исторических мутаций. Войны, революции
как разновидность исторических трансформацш тоже имеют нелиней-
ный, катастрофический характер. В контексте синергетики национальные
движения, идеологии, политические системы воспринимаются как «не-
равновесные системы». Результатом самоорганизации соответствующих
социальных систем являются экономические законы, нормы морали, за-
коны языка, а также закономерности развития культуры38.
Структурно-синергетическая модель украинской истории имеет
свои знаки-характеристики. Во-первых, в рамках такой модели украин-
ская история воспринимается как совокупность этносоциокультурных
миров, смена общностей, разных форм общества. Во-вторых, эти миры
следует рассматривать как самоорганизующиеся системы. С точки зрения
синергетической теории основными признаками такой системы есть уме-
38 См.: Рузавин Г. И. Самоорганизация и организация в развитии общества И
Вопросы философии. 1995. № 8. С. 66.
и. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
271
нис изменять собственные структуры и функции, сохраняя при этом жиз-
неспособность и непредсказуемость поведения. Механизмами саморегу-
ляции такой системы, иными словами, этносоциокультурных ми-
ров/общностей/обществ, выступает окружающая среда, которая
полностью нивелирует воздействие внешних детерминант. В-третьих,
признание необратимости процессов самоорганизации такой системы.
Дело в том, что социальная самоорганизация, как процесс, происходит
одновременно в социальном, культурном, психологическом измерениях
системы, а человек является ее центральным элементом. Это означает
отказ от упрощенной линеарности и событийности в истории. Многочис-
ленные составляющие самоорганизующихся систем (общества) - поли-
тические, экономические, социальные, географические, культурные, ду-
ховные имеют свою собственную конфигурацию и темпоральность,
которые зачастую не совпадают, а наоборот, расшатывают систему, вводя
ее в состояние неравновесия, а позднее хаоса. Порядок рождается из хао-
са, т.е. посредством самоорганизации порядка. В таком контексте роль
хаоса конструктивна и означает стремление каждого элемента системы к
автономии. Жизнь, как базовая реальность, воспринимается через повсе-
дневность, обстоятельства существования конкретного человека или со-
циума. Словом, синергетическое сознание органически объединяет и
примиряет «микрофилию» Постмодерна с «макрофилией» Модерна.
Проблема заключается в способах интерпретации синергетических
идей на материалах национальной истории. Понятно, что структурно-
синергетическая модель истории Украины имеет статус всего лишь
проекта в силу своей незавершенности, открытости, гипотетичности39.
Смысл структурно-синергетической схемы украинской истории
заключен в формуле — от этнолингвокулыурного сообщества к граж-
данскому обществу:
I. Цивилизационный треугольник'. Юг — Север — Центр. Пути освое-
ния восточнославянского пространства. По мнению одного из фундато-
39 Концепцию структурно-синергетической социодинамики на материале рос-
сийской истории предлагает М. С. Ельчанинов. Ее контуры выглядят таким образом:
Глава 3. Среда, трансисторические структуры и самоорганизация России; 3.1 Геог-
рафическая среда; 3.2 Колонизационная структура; 3.3 Монократическая структура;
3.4 Социальные и ментально структуры; 3.5 Православие и трансисторическая стру-
ктура. Глава 4. Модернизация и бифуркация в России; 4.1 Стратегии догоняющей
Модернизации; 4.2 Модернизация и самоорганизация российского социума; 4.3 Со-
Чиетальная бифуркация в модернизующейся России. См.: Ельчанинов М. С. Социа-
льная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна. Серия «Синергетика в
гуманитарных науках». М., 2005 (содержание).
272
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ров синергетики Германа Хакена, пространственно-временные структуры
возникают в результате самоорганизации, а не «набрасываются» извне40.
Следовательно, взаимосвязь социально-экономических, социокультур-
ных, геополитических процессов имеет нелинейный характер. В литера-
туре, к примеру, существует понятие «скифо-сармато-аланская лингво-
культурная среда» (М. Васильев) или Древняя Русь как полиэтнический,
многоязычный торговый союз/объединение (О. Прицак).
П. Возникновение украинского сообщества: конструирование границ
и территориальной, этнической, конфессиональной идентичностей
(XTV-XVI вв.). Принято считать, что географическое пространство - не
«объективная данность», а продукт политического и культурного вообра-
жения. Географическое пространство является социально обусловленным
и социально сконструированным. Географические границы реконструи-
руются с учетом стратегий, которые выбирают политические и интеллек-
туальные элиты, а не с точки зрения неизменных геополитических пара-
метров и интересов41. Геополитический дискурс Украины - это набор
самых разнообразных представлений и устремлений. Границы Украины
всегда отличались чрезмерной подвижностью, изменчивостью, зависимо-
стью от геополитических ситуаций и стратегий собственных элит.
Ш. Восточноукраинское социокультурное пространство: структу-
ра и динамика (XVII-XLX вв.). Восточноукраинское социокультурное про-
странство как самоорганизующаяся система включает самые разные из-
мерения, каждое из которых имеет свою траекторию развития, проходит
соответствующие эволюционные и бифуркационные фазы. О нелинейно-
сти украинской государственной истории свидетельствуют дискретность,
разнообразие государственных форм, отсутствие связи и преемственности
между ними: патримониальная монархия Киевской Руси, Галицко-
Волынское королевство, латентные формы украинской государственности
в структурах Великого княжества Литовского, Казацкая держава, Гетман-
щина- автономия до конца XVIII в., Украинская держава 1917-1920 гг.;
квазигосударственность в составе СССР; с 1991 г. - новая форма украин-
ской государственности. В категориях синергетики казачество восприни-
мается как самоорганизующаяся система; кризисы, войны, революции -
точки бифуркации, в хаосе которых рождался порядок. Явление украин-
ской полиэтничности коррелируется с современными практиками муль-
тикультурализма. В рамках синергетической модели предметом нацио-
40 Хакен Г. Синергетика. М., 1985. С. 86.
41 См.: Цыганков А. П. Что для нас Евразия? Пять стратегий российского ос-
воения пространства после распада СССР // Вопросы философии. 2003. № 10. С. 4.
Я. И. Колесник. Гранд-нарратив в украинских...
273
нальной истории являются нс события национальной исторической дра-
мы (политическая, социально-экономическая, культурная канва событий,
даже не история повседневности, как думал В. Г. Сарбей), а социокуль-
турные миры, которые возникали, сосуществовали, сменяли один другого,
в центре которых находилось молчаливое большинство с его повседнев-
ными проблемами, радостями, печалями, вечным круговоротом жизни,
как говорил Л. Февр, от рождения до смерти.
IV. Западноукраинский культурный мир. Эволюция и разрывы
(XVII-XIX вв.). Для западноукраинского культурного мира были прису-
щи такие нелинейные явления-характеристики, как отсутствие нацио-
нальной элиты (заместителем которой стал слой униатского духовенст-
ва), мультиэтничность населения, полилингвизм, множественные
культурные лояльности, прозрачность границ, практики лингво-
культурной экспансии (мадьяризация на Закарпатье, полонизация в Га-
лиции, румынизация на Буковине и т.д.).
V. Украинское общество XX века как самоорганизующаяся систе-
ма. В сложных самоорганизующихся системах соединяются линейные и
нелинейные процессы, происходит чередование эволюционной и би-
фуркационной стадий. Под влиянием случайных флуктуаций (возмуще-
ний) такие сложные системы становятся неустойчивыми, неравновес-
ными, способными на изменения, и в результате саморегуляции могут
перейти в качественно иное состояние. Бифуркационный социум, как
известно, насыщен событиями, конфликтами и альтернативами. Извест-
но также, что линейное мышление в политике ведет к кризисам, выход
из которых возможен благодаря нелинейному характеру поведения и
принятия решений. Накопление социальных, экономических, культур-
ных отклонений/мутаций со временем приводит к их аккумуляции и
превращению в исторические причины/предпосылки/вызовы/, обуслов-
ливающие переход социума к следующей фазе эволюционного или би-
фуркационного состояния. Понятно, что выбор альтернативы в период
бифуркации не случаен, он всегда предопределен многочисленными
объективными и субъективными факторами.
Таким образом, данная модель украинской истории - только гипо-
теза, которая может пригласить к обсуждению насущных проблем на-
ционального метанарратива. При современном состоянии научного соз-
нания и механизмов авторефлексии историка каждый имеет право на
конструирование своего «мира истории». Наличие моделей нелинейных
социокультурных процессов открывает новые перспективы нравствен-
ного выбора и теоретического опыта в истории.
Н Б. Селунская
“ОБЪЯСНЕНИЕ” НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
В УСЛОВИЯХ “ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА”
«Обновление» объяснительных теорий изучения российской исто-
рии путем ре-актуализации парадигм изучения прошлого, извлеченных
из запасников отечественной и мировой историографии, имеет свою
специфику. Прежде всего, сообщество историков, специализирующихся
на изучении истории собственной страны - носитель национальных (эт-
нокультурных и интеллектуальных традиций), то есть обладает истори-
ко-культурной идентичностью и в то же время формируется под влия-
нием и внутри определенной историографической среды,
историографической традиции объяснения национальной истории, па-
радигм изучения прошлого своей страны, которые на каждом этапе ис-
торического развития определенным образом ре-актуализируются в
диапазоне от прямого повтора до нарочитого отрицания.
Процесс формирования знания о национальной истории, однако,
весьма существенным образом связан с воздействием теоретико-
методологического пространства, в котором сегодня существует миро-
вое историческое сообщество, и основных определяющих тенденций
его изменений. Вот почему представляется важным оценить эти тен-
денции в плане их воздействия на объяснение национальной истории и
процедуру исторического исследования. С этой целью предполагается
ответить на ряд общих вопросов, а также продемонстрировать возмож-
ности объяснения исторического опыта России начала XX века в социо-
культурном контексте избранного периода, содержание кЬторого связа-
но с концептом «демократической культуры».
Определяющими тенденциями развития современного историо-
графического пространства являются, по признанию исторического
сообщества, глобализация и «историзация». В самых общих чертах
представляется бесспорным, что обе отмеченные тенденции воздейст-
вуют, в основном, на эпистемологические аспекты исторического ис-
следования, а значит на язык науки, а в процедуре объяснения - на
процесс формирования исторического знания об изучаемом объекте в
избранном аспекте и конкретно-историческом контексте изучаемого
периода национальной истории.
Современное «новое» историческое знание национальной, россий-
ской истории, формируется в условиях лингвистического поворота и,
следовательно, должно быть связано, прежде всего, с формированием
Н. Б. Селунская. “Объяснение” национальной истории...
275
«нового» семантического поля - ключевых концептов, раскрытие смы-
слов которых является центральной задачей историка, и которое проис-
ходит в системе двух определяющих его координат: «глобального» (в
значении универсального) и «локального» (в смысле особенного, спе-
цифического, в том числе, национального). Первое (глобальное) опре-
деляет поиск «общих универсальных смыслов» концептов, второе (ло-
кальное) - «уводит» в поиск специфики, в т.ч. национального контекста
используемых понятий, часто путем ре-актуализации объясняющих
факторов, ключевых операциональных концептов, объясняющих со-
держание исторической эволюции и отдельных этапов российской ис-
тории. Оба параметра находятся в единстве и конфликте.
Так, на уровне объяснения национальной истории, центральным
моментом, формирующим каркас исторического знания, является созда-
ние общей схемы периодизации. Отказ от марксисткой парадигмы объяс-
нения истории России сопровождался, как известно, утратой общей схе-
мы, а также содержательной логики объяснения истории России,
возвратом к хронологическим разделам как основным темпоральным ха-
рактеристикам изучения отечественной истории (и/или к делению отече-
ственной истории «по правлениям/царствованиям»). Эта ситуация харак-
терна и для учебного процесса, и для академической практики, а также
проявляется на институциональном уровне - доя обозначения подразде-
лений специализации по отечественной истории (например, кафедр исто-
рического факультета МГУ). Отметим, что структурирование по интере-
сам сообщества историков-отечествснников, объединенных единым
объектом изучения - историей России - как раз связано с «вертикалью»,
специализацией по отдельным периодам российской истории.
Характерна и ригидность сообщества, нежелание использовать как
общие схемы периодизации всеобщей истории, деление исторического
процесса на эпохи - древний мир, средние века, новая и новейшая исто-
рия, так и историографического опыта российской дореволюционной
историографии, например, в плане выделения в российской истории пе-
риодов домонгольской и послемонгольской Руси, допетровской и после-
петровской, дореформенной и пореформенной России. Вместе с тем,
стремление к «освобождению» от концептов, характерных для объясне-
ния истории России в рамках марксистской парадигмы1 определяет пред-
1 Нельзя не отметить, однако, что в отечественной историографии появляется
и прорисовывается тенденция к академическому осмыслению марксизма и совет-
ской историографии. См., например: Сидорова Л. А. Советская историческая наука
середины XX века. Синтез трех поколений историков. М., 2008.
276
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
почтительность хронологического принципа или использование «не по-
литизированных» или «возвращенных» (но, одновременно, и неопреде-
ленных по своему историческому содержанию и придаваемому истори-
ком-интерпретатором смыслу) концептов и для внутренней периодизации
и характеристики отдельных этапов отечественной истории XX-XXI вв.2
Примером неопределенности критериев периодизации националь-
ной истории может служить подход к изучению нового и новейшего
времени. Так, советский период отечественной истории часто лишается
самостоятельной идентификации, оказываясь погруженным в историю
России XX века, а ее история последнего времени, однако, обозначается
либо как постсоветский период, либо как история современной России3.
Если отмеченные сдвиги в периодизации истории России, свя-
занные с «восстановлением» хронологического подхода, ведут, в той
или иной степени, к потере или снижению ее объяснительной функ-
ции4, то попытки конструирования новых схем, объяснительных мо-
делей исторического развития вообще и, в частности, национальной
истории, на первый план выдвигают проблему раскрытия историче-
ского содержания, исторических смыслов используемых историками
концептов для оценки как общих этапов исторической эволюции, так
и периодов национальной истории.
Трансформация современных объяснительных моделей россий-
ской истории характеризуется новым ракурсом прочтения историческо-
го развития России как культурно-исторического процесса и предпоч-
тительным пониманием российского общества как «цивилизации».
Одним из ключевых концептов современного знания о национальной
российской истории является концепт цивилизация, и пц популярности
его распространения в работах по национальной российской истории
(частотности употребления), и по эластичности вбираемых им смыслов
(и интерпретаций), и для методологической ориентации - оценки его
как индикатора авторских стремлений раскрыть «глобальное» в локаль-
ном - в контексте российской истории.
- Среди них особой популярностью в последнее время пользуется, например
такой объясняющий историю России концепт как «империя». См., например: Миро-
нов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). В 2-х
т. СПб., 2000; Гаеров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспек-
ты модернизационных процессов в России. М., 2004; Кагарлицкий Б. Н. Периферий-
ная империя: Россия и миросистема. М., 2004.
3 Отечественная история новейшего времени. 1985-2008. М., 2009. Введение.
4 Подробнее см.: Селунская Н. Б. К проблеме объяснения в истории И Пробле-
мы источниковедения и историографии. М., 2000. С. 44-63.
и. Б. Селунская. “Объяснение" национальной истории... 277
При этом концепт «цивилизация» используется и для характеристи-
ки стадии социального развития, характеризующегося сложностью соци-
альной структуры, высокой степенью развития технологической и адми-
нистративной инфраструктуры и высоким уровнем достижений в интел-
лектуальной и эстетической сфере, и как синоним «культуры» в
антропологическом значении, т.е. вся совокупность материальных и ду-
ховных сторон жизни общества. Представляется важным уточнение тол-
кования этого понятия, не забывая о том, что введение его в оборот было
вызвано конкретной исторической необходимостью в термине, обозна-
чавшем триумф и распространение разума нс только в конституционной,
политической и административной области, но также и в моральной и
интеллектуальной сферах. Этот этический идеал послужил широким фи-
лософским основанием для различных вариантов культурной и всеоб-
щей/всемирной истории в конце XVIII века и стал главным концептуаль-
ным элементом парадигмы историографии XIX - начала XX в.
Симптоматично, что идеи Просвещения актуализируются в совре-
менных моделях объяснения отечественной истории и в плане расши-
рения (или даже смены) пространства объясняющих факторов и их ие-
рархии. Достаточно заметить, что в историографии последних
десятилетий (с 1990-х годов) понятие «цивилизация» использовалось и
как обогащенный вариант понятия «формация», и как культурологиче-
ская категория, обозначающая одновременно и этапы, и формы истори-
ческого процесса, основное содержание которой состоит в «ценностной
ориентации, проявляющейся в воспроизводстве социальных отношений,
культуры, всех значимых параметров общества5. Цивилизация может
рассматриваться как концепт для характеристики процесса развития
истории человечества; выделяются этапы цивилизационного развития
человечества - доиндустриальный, индустриальный и информационный
(постиндустриальный) этапы, смыслы которых раскрываются через сис-
тему эндогенных (энергетическая и информационная вооруженность
общества, уровень материального производства, знания и навыки, ха-
рактер социальных и политических отношений, культурно-идейный и
нравственно-психологический облик человечества) и экзогенных фак-
торов (естественно-природные, планетарные и космические, общие и
Локальные условия жизнедеятельности). Другие историки предлагают
использовать категорию цивилизации для характеристики типологии
Двух основных типов ценностей: два основных типа цивилизаций (или
5 Подробнее см.: Селунская Н. Б. Методологическое знание и профессиона-
лизм историка И Новая и новейшая история. 2004. № 4.
278
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
суперцивилизаций) - «традиционный», в котором имеет место массовая
ориентация на воспроизводство исторически сложившихся форм жизни,
и «либеральный», для которого характерно сохранение и воплощение
некоего статичного идеала вопреки вызовам истории. При всем различии,
обе эти версии направлены на ре-актуализацию концепта цивилизации
для достижения глобального исторического знания вообще и российской
национальной истории, в частности. Однако при этом на этапе выхода на
уровень объяснения российской истории они идут в противоположных
направлениях. Одни доказывают единство национальной истории России
и Запада, а другие ищут самобытность России, в том числе в самосозна-
нии интеллигенции, находящейся между двумя вариантами пути разви-
тия, в национальных, самобытных идеалах ранней соборности, умерен-
ном авторитарном идеале и даже в различных сторонах жизни, включая
покрой одежды и антропологические черты. Россия представляется как
расколотая цивилизация, которая застряла между основными типами су-
перцивилизаций - традиционной и либеральной.
Цивилизационный подход и теория модернизации продолжают за-
нимать значимое место в объяснении истории современной России. От-
метим, что здесь, прежде всего, теория модернизации как объяснитель-
ная модель среднего уровня, экстраполируется на период «современной
России», при этом смысл самого концепта остается неопределенным и
раскрывается весьма неоднозначно историками, как с точки зрения хро-
нологических границ, так и исторического содержания. Вместе с тем,
все рельефнее происходит расширение культурологической компонен-
ты в объяснении. Так, изучая новейший период реформ, историки под-
черкивают роль новых тенденций времени: глобализация Исторического
процесса, формирование нового общества, усиление роли информации в
политической и общественной жизни, возрастание роли тонких социо-
культурных факторов (духовных потребностей, верований, идеологиче-
ских догм), которые вывели на первый план проблемы социокультурно-
го, религиозного фундаментализма, общественного сознания,
идеологии. Период 1980-х - начала XXI в. в истории России характери-
зуют как незавершенную модернизацию со специфическими чертами
российского характера, неспособную прочно укорениться на нацио-
нальной почве, в народной ментальности6.
6 Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Гор-
бачева до Путина. М., 2001; Он же. Современная российская модернизация И Во-
просы философии. 1994.
[[.Б. Селунская. “Объяснение” национальной истории...
279
Таким образом, представляется, что вопрос об общих объясни-
тельных моделях национальной российской истории на современном
этапе требует формирования некоторой новой основы, конкретно-
исторических и конкретно-методологических наработок, создания объ-
яснительных теорий среднего и низшего уровня, без которых подняться
выше вряд ли удастся. Вместе с тем, учитывая общую ситуацию, харак-
терную для мирового исторического сообщества и особенно лапидарно
сформулированную представителями постмодернизма, как «поиск но-
вого теоретического жилета», вообще вряд ли возможен в националь-
ном масштабе в условиях «методологического плюрализма», формиро-
вания нового «семантического поля» объяснения национальной
истории, отсутствия определенности употребляемых «старых» и «но-
вых» концептов, в том числе опорных концептов для объяснения, не-
достаточности историографического слоя конкретно-исторических ис-
следований, выполненных на основе измененного пространства
объясняющих факторов. Это еще раз свидетельствует об актуальности
разработки процедуры объяснения микроисторического уровня. Одно-
временно, достаточно определенно обозначилась тенденция, прояв-
ляющаяся как при конструировании общих объяснительных моделей
российской истории, так и в конкретно-исторических исследованиях,
связанная с растущим вниманием к социокультурному контексту, этно-
культурным факторам в объяснении изучаемых явлений и этапов рос-
сийской истории. Это не просто расширение сферы объясняющих фак-
торов, но и стремление иного прочтения их структуры, иерархии,
наполнения конкретно-историческим содержанием. Представляется, что
именно социокультурный контекст позволяет и выявить национальное
(локальное) своеобразие, и увидеть сходные (универсальные, глобаль-
ные) черты исследуемых явлений.
Насколько сложны и многочисленны методологические проблемы
объяснения даже ограниченных исследователем аспектов российской
истории, рассмотренных в сжатой исторической ретроспективе, связан-
ные только лишь и прежде всего с раскрытием смыслов избранных
опорных объясняющих или классификационных концептов может быть
продемонстрирована на опыте изучения краткого, но весьма динамич-
ного периода российской истории начала XX века в социокультурном
Контексте анализа зарождения демократической культуры7.
7 Наталья Селунская, Рольф Тоштендаль. Зарождение демократической куль-
туры. М., 2005.
280
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Важно отметить, что история России начала XX века относится к
так называемым переходным эпохам и, следовательно, является наиболее
сложным периодом для исследования и объяснения, которое требует впи-
сывания изучаемого периода в определенную классификационную схему.
Еще более актуальным представляется поиск основных' объяс-
няющих концептов и пространства факторов при объяснении социаль-
но-политических процессов, где мотивация на индивидуальном и груп-
повом уровне их политического поведения особенно значима, в том
числе для обобщенных оценочных характеристик периода.
Представляется, что на сегодняшний день выбор основного объяс-
няющего концепта, в какой-то степени, заменяет поиск объяснитель-
ной теории для исторического исследования. Этот выбор связан с соб-
ственными «установками» историка, с формированием его
предпочтений в процессе его знакомства с наработками в области тео-
ретического историографического знания, накопленными историческим
сообществом по избранной для исследования проблеме и периоду. При
выборе основного концепта объяснения большую роль, на наш взгляд,
играет обращение к историческому контексту его использования и бы-
тования в историографической традиции, хронологическим, историко-
содержательным и пространственным пределам его объяснительной
функции. В этой связи возникает и проблема объяснения «глобального»
и «локального» в плане возможностей объяснения с помощью избран-
ного концепта некоторых универсальных черт, свойственных избран-
ным для исследования процессам и, в то же время, особенностей, на-
циональной специфики их протекания в контексте национальной
истории. Это своего рода процедура установления «чувствительно-
сти» избранного объясняющего концепта, которая тесно связана и с оп-
ределением пространства объясняющих факторов, раскрытием йх струк-
туры и интерпретации конкретно-исторического содержания. Подобная
процедура требует поиска и работы с эмпирическим материалом, разра-
ботки методологических процедур «прочтения» информации источников
в обозначенном основным объясняющим концептом аспекте.
Наиболее важными для нашего исследования являются концепты
«демократическая культура» и «политизация». Первый концепт сле-
дует понимать не как неопределенное обозначение того, что можно рас-
сматривать как позитивное отношение к демократии, а как понятие опре-
деленного содержания. Оно дополнялось и использовалось многими
политическими социологами и политологами, сторонниками концепции
Роберта Путнама, сформулированной им в его работах, посвященных
f{. Б. Селунская. “Объяснение” национальной истории...
281
изучению «разрыва пути» в политической традиции в Италии8. Конечно,
мы не можем использовать анкетирование, положенное в основу иссле-
дования Путнама, поэтому нам необходимо разработать другие группы
индикаторов содержания концепта демократической культуры.
Высказанные соображения определили выбор в качестве основно-
го объясняющего концепта исследования социально-политического
процесса в России первого десятилетия XX века концепт «демократи-
ческой культуры». «Демократическая культура», несомненно, означает
позитивное отношение к демократии. Однако это понятие более широ-
кого исторического содержания, тесно связанного с процессом демо-
кратизации, формирования гражданского общества. Процесс демокра-
тизации общества, как известно, проявляется в масштабах и
ограничениях развития избирательного права, в формировании ин-
ститутов представительной власти, то есть участии различных слоев и
групп населения через «представительство» в решении жизненно
важных вопросов, а также в складывании многопартийной систе-
мы, в усилении роли политических партий . Демократическая культура
предполагает осведомленность общества о существовании политиче-
ских партий, деятельность партий и других объединений и ассоциаций
по профессиональным, экономическим интересам, общественных орга-
низаций (в том числе религиозных объединений, общин) прежде всего в
ходе таких масштабных акций как выборный процесс, по усилению ро-
ли местного самоуправления и других форм самодеятельности населе-
ния, по регулированию различных сфер общественной жизни «на мес-
тах». Особое значение в этой связи имеет развитие политического
самосознания, которое мотивируется в обществе желанием равного уча-
стия в решении социальных проблем. Таким образом, демократиче-
ская культура прежде всего связана с возможностями вовлечения
простых граждан в сферу политической жизни, со степенью их ре-
альной вовлеченности в эту сферу. Говоря о формировании первых
ростков «демократической культуры»9, мы имеем в виду приобщение
широких слоев населения России к участию (как непосредственному,
8 Putnam R. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modem Italy.
N.J., 1993.
9 Понятие «демократическая культура» вводится под влиянием работ Роберта
Путнама и исследований политических социологов институтов и демократической
культуры в современной России, которые проводились в рамках проекта, историче-
ской частью которого является паше исследование. Однако следует заметить, что
использование нами этого понятия имеет свою специфику, состоящую в значимости
Исторического контекста его толкования.
282
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
так и опосредованному, через систему представительства) в процессе
принятия решений по вопросам, касающимся государства и общества. В
предмет исследования «демократической культуры» входит и рассмот-
рение степени «вовлеченности» населения, то есть анализ того, какие
возможности имели различные слои населения России для участия в
политическом процессе и насколько они реализовали эти возможности.
Содержание понятия «демократической культуры» определяется в
нашем исследовании критерием «вовлеченности масс в политиче-
ский процесс» и, таким образом, оно не тождественно ни понятию «де-
мократии», ни категории «демократических воззрений».
Под политизацией мы понимаем растущее осознание возможно-
стей влияния на общество и его институты. Мы имеем в виду, что мо-
жем показать, что именно этот процесс имел место как среди отдельных
членов общества, занимающих важные позиции, так и среди электората,
в целом. Такая «политизация» включает также желание принять на себя
ответственность и, что особенно важно, принимать решения на основе
собственных убеждений - и в случае, когда они являются решениями
министра в правительстве и когда речь идет о решениях избирателя о
поддержке той или иной партии. Изучение вовлеченности масс в по-
литический процесс прежде всего предполагает анализ формирования
политических предпочтений электората, факторов, определяющих
характер, степень и особенности политизации отдельных групп россий-
ского электората в различных регионах России. При этом нас будет ин-
тересовать интерпретация понимания социального в структуре объяс-
няющих факторов и индикаторов. Так, говоря о социальной
составляющей в объясняющих факторах и индикаторах важно по-
пытаться осмыслить ее в контексте формирования социальной иден-
тичности внутри российского общества. Этот процесс был связан, в
том числе, с действием такого значимого элемента избирательной сис-
темы как «курия». Курия, как известно, была предложена как некий со-
циальный критерий деления российского общества (его части, вовле-
ченной в избирательный процесс) в ходе выборов. Социальный аспект
раскрытия концепта «вовлеченности в политический процесс» как ин-
дикатора развития демократической культуры связан, таким образом, с
интерпретацией категории «курия» как «новой» конструкции, вырабо-
танной политической властью, в рамках которого могла формироваться
социальная и политическая идентичность определенных электоральных
групп российского общества. Представляется очевидным, что электорат
по отдельным куриям не может рассматриваться как совершенно одно-
fl. Б. Селунская. “Объяснение" национальной истории...
283
родные социальные группы. Однако, возможно говорить о том, что от-
дельные электоральные группы (объединяющие выборщиков по обо-
значенным куриям) представляли собой формирующиеся «новые»
группы «модернизирующегося» общества, и в то же время обладали
характеристиками, свойственными для стратификации «традиционно-
го» общества. Прописанные в выборном законодательстве курии, с по-
нятной степенью условности, тем не менее, дают основания утверждать,
что правительство формировало через электорат «представительство»
российского общества, прежде всего, с учетом его деления на «аграр-
ное» и «городское». Так, «аграрное общество» представлено избирате-
лями от крестьянской и землевладельческой курий, а «городское» - со-
ответственно - электоратом «городской» курии. Заметим, что
сословный принцип присутствует явно лишь в названии одной из изби-
рательных курий - крестьянской. Название землевладельческой курии
уже свидетельствует о представительстве в выборном процессе «новой»
категории, отличной от сословных и социальных групп «традиционно-
го» общества (дворяне, помещики). Наконец, выделение «городской»
курии являлось проявлением осознания необходимости специального
представительства для «городского общества», внутренняя социальная
структура которого явно игнорировалась на начальном этапе формиро-
вания выборного законодательства. Однако очень быстро потребовалась
хорошо известная корректировка в плане включения «рабочей курии».
Представительство аграрного общества имело существенные внут-
ренние отличия. Они проявлялись в политических симпатиях и электо-
ральном поведении и не позволяют говорить о существовании общих
черт, характеризующих выборщиков крестьянской и частновладельче-
ской курий как единое представительство «аграрного общества». Для
выборщиков крестьянской курии влияние фактора социальной иден-
тичности было, по определению, наибольшим, в том числе, на степень
политизации этой электоральной группы. Оно проявлялось, прежде все-
го, в такой «устойчивой» характеристике как высокая доля «беспартий-
ных» крестьянских выборщиков. Это означало не только и не столько
отсутствие, сколько неоформленность (недостаточную степень осоз-
нанности), неопределенность их политических предпочтений. Однако
невозможно не заметить, что действие этого фактора на крестьянский
электорат было неравнозначным для разных губерний России, о чем
свидетельствуют различные оценки доли «беспартийных» крестьянских
выборщиков в электорате различных регионов.
284
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Высокие показатели доли зарегистрированных «беспартийных» кре-
стьянских выборщиков, и следовательно, низкий уровень политизации
(или вообще ее отсутствие) рассматриваются обычно- как основание для
утверждения о тесной взаимосвязи социальной и политической идентич-
ности крестьянства. Однако, на наш взгляд, они нуждаются в более уг-
лубленном анализе и расширенной интерпретации, хотя бы уже потому,
что сами показатели доли беспартийных выборщиков существенно раз-
личались по губерниям, то приближаясь к 100%, то падая до 50%.
Памятуя об условности категории «беспартийных» выборщиков10,
ее интерпретация может варьироваться от безусловного признания при-
надлежащих к ней выборщиков как «политически индифферентных» до
раскрытия ее содержания как нежелание (неготовность) определить
свои политические предпочтения в силу их неопределенности или не-
возможности «вписаться» в рамки предложенной классификации поли-
тических предпочтений. Кроме того, как показывает проведенный ана-
лиз «заявленные» (зарегистрированные) политические предпочтения
выборщиков от крестьян часто не совпадали с проявленными политиче-
скими симпатиями в ходе избрания депутатов Думы. Учитывая удель-
ный вес выборщиков от крестьян, который в ряде губерний Европей-
ской России был определяющим для состава электората, значимость
электорального поведения крестьянства была очень высокой и - в неко-
торых губерниях - определяющей результаты избирательного процес-
са — выбора депутата в Думу. В этом смысле вовлеченность крестьянст-
ва через выборщиков по крестьянской курии в политический процесс
была фактом исторического значения.
В ходе избирательного процесса крестьяне-выбррщики демонст-
рировали различные модели электорального поведения - от подтвер-
ждения симпатий к «беспартийным» кандидатам в депутаты Государст-
венной думы до проявления различного рода политических
предпочтений к депутатам довольно широкого спектра партийной при-
надлежности: в диапазоне от «правых» партий до «трудовиков». Такая
гибкость электорального поведения крестьянства может быть объяснена
активностью различных политических сил во время выборных кампа-
ний, а также «подвижностью» политических симпатий крестьянского
электората в силу неоформленности их политических предпочтений.
10 Характерно, что работая с первичными материалами о выборщиках и депу-
татах в 1 Государственную думу, часто приходилось встречаться со случаями, когда
при заполнении данных о партийной принадлежности имеются такие сочетания, как
«кадет, беспартийный», или «трудовик, беспартийный» и т.д.
Н. Б. Селунская. “Объяснение" национальной истории... 285
Вместе с тем, проведенный анализ свидетельствует об определенной
«самостоятельности и единстве крестьянского электората отдельных
губерний в осуществлении политического выбора в данном случае
липп> в части заявленных политических предпочтений, который был
отличным и дополнял и корректировал спектр политических предпоч-
тений выборщиков губернии, в целом. Это важное свидетельство, по
меньшей мере, спорности высказываемого в литературе тезиса о «реф-
лективности» политического сознания крестьянства. В то же время надо
сказать о наличии симпатий среди крестьян к «правым» (хотя и с сильно
варьирующимся показателем доли представительности «правых» среди
выборщиков крестьянской курии по губерниям) в структуре политиче-
ских предпочтений крестьянского электората.
Землевладельческая курия, как свидетельствует проведенный ана-
лиз обобщенных данных общероссийского масштаба, не была однород-
ной. Наряду с традиционной для землевладельцев консервативной ком-
понентой, в политических предпочтениях выборщиков этой курии в
общероссийском масштабе заметную роль играла достаточно стабиль-
ная тенденция проявления симпатий к кадетам (что, в частности, прояв-
лялось в показателях доли выборщиков-кадетов в землевладельческой
курии). Во всяком случае, это наводит на размышления о том, что внут-
ри этой курии складывались «новые группы по интересам», имеющие
отличную от «традиционной» (дворянско-помещичьей) социальную и
политическую идентичность.
Городской электорат, бесспорно, отличался наибольшей степенью
политизации от обеих электоральных групп, представлявших «аграрное
общество», и в этом смысле демонстрировал силу проявления фактора
социальной идентичности. Важной отличительной чертой была ста-
бильность политических предпочтений этой электоральной группы, ко-
торые характеризовались явным преобладанием симпатий к кадетам (и
прогрессистам), с одной стороны, и ригидностью к вызовам политиче-
ских партий правого крыла (не только «правых», но и октябристов).
Характерно, что если «степень политизации» (доля беспартийных)
городского электората все-таки имела существенные пространственные
различия, то стабильность спектра политических предпочтений пред-
ставительства «городского общества» наблюдалась в общероссийском
Масштабе без каких-либо существенных региональных различий. Вы-
сказанные соображения подтверждаются документально и резолюция-
ми местных городских властей. В них представители городской адми-
нистрации признавали необходимость изменения «правовых условий
286
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
существования городской общины и населения города», «дарования
свобод о призыве выборных от населения для участия в законодатель-
ной работе»11». Это - не что иное, как признание властями «-зрелости»
городского населения, а также осознание необходимости вовлечения
его в политический процесс.
Анализ обобщенных данных о выборщиках в общероссийском мас-
штабе имеет своим преимуществом возможность выявления самых об-
щих черт пространственных особенностей формирования политических
предпочтений и особенностей электорального поведения российских вы-
борщиков. Полученные итоги со всей очевидностью доказывают, в част-
ности, недооцененную роль «пространственного фактора», а также неод-
нозначное проявление социальной идентичности в объяснении процесса
вовлечения масс в политический процесс, формирования политических
предпочтений выборщиков, их электорального поведения.
Несмотря на существование значительных региональных разли-
чий, мы считаем возможным говорить о наличии в обществе в целом
определенного рода демократической культуры, то есть признать, что
политическая воля к самоопределению в решении общенациональных
политических вопросов приобрела решающие масштабы.
Осознавая ограниченность выводов лишь суждениями относитель-
но некоторых общих тенденций коллективного поведения электораль-
ных групп, не имея данных об индивидуальных политических предпоч-
тениях выборщиков во время первой выборной кампании, мы можем
отметить следующие основные моменты. Представители верхних слоев
общества не всегда голосовали так, как того следовало ожидать исходя
из традиционных представлений относительно их собственных интере-
сов. Когда определенная часть этой группы избирателей отдавала свои
голоса левым либералам, представляется, что они имели убедительные
мотивы поступать таким образом в соответствии с осознанно выбран-
ной позицией. Это не исключает того, что впоследствии они могли быть
разочарованы и изменить свою позицию на следующих выборах, что.
однако, не снижает значения факта их «вовлеченности» в политический
процесс уже во время первой выборной кампании. Для крестьян харак-
терно было то, что они часто предпочитали не обнародовать свои поли-
тические взгляды, что проявлялось и в их голосовании за «беспартий-
ных». Этот факт часто интерпретировался исследователями проявление
политической индифферентности. Нам же представляется, что такое
11 Урусов Н. Россия перед созывом Государственной Думы. Пг., 1906. С. 69.
Н. Б. Селунская. “Объяснение” национальной истории...
287
поведение можно оценивать как устойчивое и сознательное политиче-
ское поведение. «Беспартийные» выборщики наиболее часто стреми-
лись иметь и «беспартийных» депутатов, избранных в Думу. Характе-
ристика «беспартийный», таким образом, может расцениваться как
своего рода проявление партийности среди крестьян. Следовательно,
как сделанный ими выбор, так и их особые партийные предпочтения
свидетельствуют о существенной «вовлеченности» их в выборный, то
есть политический процесс.
Таким образом, даже анализ данных официального учета о выбор-
щиках в общероссийском масштабе даст основания для утверждения о
зарождении в обществе определенных черт демократической культуры,
связанных, прежде всего, с вовлеченностью населения в избирательный
процесс, который требовал от него принятия решений, определенного
политического выбора.
Особое внимание к социальным аспектам объяснения характерно
для отечественной историографии и несправедливо было бы ограничи-
вать эту традицию лишь этапом развития советской историографии. В
публикациях современников, посвященных истории Первой Государст-
венной Думы, мы также можем встретить подобного рода попытки, на-
пример, при классификации политических партий, опирающиеся на ха-
рактеристики их социального состава и социальных интересов.12 Важно
понять, насколько сильное влияние оказывал социальный фактор на сте-
пень и характер политизации российского общества13. Вот почему в круг
понятий, значимых для исследования, включены тс, которые относятся к
структуре российского общества, политическим объединениям, партиям
и предпочтениям, как они были представлены в официальных источни-
12 В историографической традиции изучения истории выборов в Государст-
венную думу подобный подход имел своими истоками работы современников, ко-
торые также являлись участниками событий: например, сборник статей депутатов 1
Государственной Думы под названием «К десятилетию Первой Государственной
Думы ...» (Пт., 1916), а также «Государственная дума и социал-демократия»
(М„ 1906). Работы современников могут рассматриваться и как исторические источ-
ники в указанном контексте. См., например: Бойович М. М. Наши депутаты,
М., 1906; Дмитриев-Мамонов В. А. Материалы по истории выборов в первую Госу-
дарственную Думу. См. также воспоминания таких известных деятелей того време-
ни как П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, С. Ю. Витте.
13 Такого рода первичными данными но истории электората являются анкеты
и списки выборщиков, а также отчеты губернаторов, обнаруженные нами в Россий-
ском Государственном историческом архиве. См. публикацию некоторых итогов
этой работы: Становление российского парламентаризма начала XX века / Под ред.
Н. Б. Сслунской. М., 1996.
288
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ках. Среди них такие понятия как сословие, социальный статус, профес-
сия, курия, город и горожанин, землевладельцы и земледельцы и др. Мы
пытаемся раскрыть содержание этих понятий, что не только представ-
ляется естественным в подобного рода исследованиях, но и, в определен-
ном смысле, имеет особую значимость. Все названные концепты отно-
сятся к группе индикаторов основного объясняющего концепта -
«демократической культуры» в контексте изучения национальной рос-
сийской истории начала XX в. и с учетом возможностей ее аутентичного
прочтения по сохранившимся документальным материалам той эпохи.
Выбор объясняющего концепта в значительной степени влияет
на всю исследовательскую стратегию, включая выбор методологии
исследования, принципы поиска, отбора и методики прочтения доку-
ментальных материалов. Говоря о методологии, следует заметить, что в
данном случае мы не стремимся к созданию описания того, как и когда
происходили события в период, который мы изучаем. Соответственно,
наиболее важным в историческом исследовании мы считаем аргументи-
рованный анализ. В то же время, мы не стремились представить читате-
лю перечень дефиниций как путеводитель для чтения. Анализ некото-
рых устоявшихся утверждений в отношении исследуемых процессов и
изучение научных оснований для подобных утверждений требует двух
типов аргументации, в которых описание явно не имеет первостепен-
ного значения. Содержание первого типа аргументации состоит в том,
что мы должны рассмотреть с помощью анализа языка исторического
источника и его интерпретации - лингвистического и статистиче-
ского анализа то, как в первое десятилетие XX века развивалась в
России система участия населения в политической жизн^. Мы не стре-
мимся при этом «к дальнейшему развитию нарратива». Однако, пред-
ставляется, что на основе нашего исследования может быть создан но-
вый нарратив, и основные контуры этого нового нарратива должны
присутствовать в исследовании.
Одной из проблем лингвистического анализа является прочтение
источника и проблема аутентичной интерпретации политических
предпочтений электората. В официальной статистике имеются сведения о
выборщиках по отдельным губерниям с указанием их политической при-
надлежности. Классификация выборщиков по политическим партиям или
группам представляется условной, так как она во многом не соответству-
ет известному политическому спектру политических партий того периода
и даже не соответствует списку партий, приведенных в публикациях ста-
тистических данных о выборщиках. Остановимся на этом подробнее.
Ц.Б. Селунская. "Объяснение”национальной истории...
289
Классификация выборщиков по их партийной принадлежности,
как она приводится в публикациях официальной статистики о выборах в
начале XX века, включает следующие категории: кадеты, прогрессисты,
октябристы, Торгово-промышленная партия (ТПП), правые. Кроме того,
особого внимания заслуживает категория выборщиков, чья «партий-
ность неизвестна», которая часто интерпретируется в литературе, как
категория «беспартийные», что, на наш взгляд, явно некорректно. Не-
сомненно, что каждая партия не представляла отдельных, обособленных
от других, экономических интересов. В реальности, несомненно, суще-
ствовало «пересечение» как интересов партий, так и групп, представ-
ляющих эти интересы и составляющих «социальную основу» сочувст-
вующих той или иной партии, или партиям.
Необходимо иметь в виду, что в изучаемый период партийная при-
надлежность выборщиков была весьма подвижной и неопределенной.
Кроме того, на том этапе формирования партийной системы была рас-
пространенным явлением организация блоков с другими партиями с це-
лью обеспечения избрания «желательного» кандидата в Думу. Однако,
вместе с тем, имели место и факты раскола партий и политических объе-
динений на несколько новых групп. Наконец, начальный этап формиро-
вания партий характеризовался недолговечностью их существования.
Они появлялись и скоро исчезали как отдельные политические группы,
союзы или объединения. Подобная нестабильность политических образо-
ваний приводила к постоянным изменениям в партийной системе, что,
безусловно, усиливало для современников трудности классификации
партийной принадлежности вообще, выборщиков, в частности. И надо
сказать, что спустя столетие решение проблемы классификации в данном
контексте представляется не менее сложным, чем прежде. А смена вы-
борщиками и кандидатами в депутаты в Думу партийной и фракционной
принадлежности только усугубляет подобного рода сложности.
Кроме того, в источниках обозначение партийной принадлежности
часто отличалось от официальных названий политических партий. Сле-
дует упомянуть, что в различных публикациях современников по истории
Первой Государственной думы, которые являются важным источником
информации, можно встретить, например, классификацию политических
групп депутатов Думы по этническим характеристикам. Так, речь может
Идти о «национальных группах», или «автономистах», таких как Поль-
ская народно-демократическая, Эстонско-Русская прогрессивная труп-
290
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
пы14. Основой классификации мог выступать и преимущественный реги-
он проживания или сословная принадлежность, объединяющие группы и
политическое поведение входящих в нее членов, как это было, например,
в случае выделения «группы из Западных окраин» или «группы казаков»
при классификации депутатов 1 Государственной думы.
Сложность аутентичного «прочтения» партийной принадлежности
выборщиков, как и депутатов Думы, объясняется длительностью и раз-
нообразием форм существования подобного рода политических пред-
почтений на протяжении всей истории существования Государственной
думы. Маловероятно, что для современников при классификации поли-
тических предпочтений выборщиков первых выборных кампаний в Го-
сударственную думу определяющим принципом была их принадлеж-
ность к названным политическим организациям. Высказанные
соображения не только раскрывают сложность выявления партийной
принадлежности выборщиков и депутатов первых созывов Государст-
венной думы, но и подчеркивают значимость интерпретации и выявле-
ния социального и политического содержания, скрывающегося за фор-
мальным обозначением их партийной принадлежности.
Решение проблемы аутентичной интерпретации политических
предпочтений как избирателей, так и избранных в Государственную
думу первых двух созывов связано с неоднозначностью интерпретации
одних и тех же категорий «партийной принадлежности» применительно
к электорату или к избранным депутатам. Так, в «Детальной таблице
депутатов», «Портретах депутатов» приводятся различные интерпрета-
ции, в частности, оценки политических взглядов депутатов-
прогрессистов: «умеренный либерал», «беспартийный умеренный либе-
рал», «беспартийный умеренный либерал, занимающий позицию левее
октябристов, но правее кадетов», «отрицающий внезапные изменения в
социальном и политическом строе». Наиболее часто современники-
эксперты отождествляли прогрессистов с кадетами, хотя были случаи
их зачисления и в категории «правые» или «умеренные». Это еще раз
подтверждает «промежуточное положение» данной категории между
двумя политическими полюсами.
Заметим, что при классификации современниками политиче-
ских предпочтений избирателей и избранных особую роль для них иг-
рал социальный статус, социальное происхождение. Так, при характе-
14 См., напр.: Бородин Н. А. Государственная Дума в цифрах... С. 37-39; Пет-
рункевичИ. Распределение депутатов по партиям// Государственная дума. Вып. 1.
Политическое значение 1 Государственной Думы. СПб., 1907.
Н. Б. Селунская. “Объяснение" национальной истории...
291
ристике политической принадлежности крестьян категория «прогрес-
сист» толковалась преимущественно как обозначающая «неопределен-
ность политических убеждений», их нестабильность. Вообще крестьяне
очень легко «зачислялись» в категорию «прогрессистов» или сторонни-
ков «прогрессивного направления», причем очень часто основанием к
этому было «сочувствие партии народной свободы», проявлявшееся в
весьма конкретных формах и акциях. Как свидетельствуют описания
губернских избирательных собраний, изданных в сборнике, посвящен-
ном десятилетию Государственной Думы, там достигалась договорен-
ность между крестьянами, имевшими большинство на избирательных
собраниях, и партийной интеллигенцией (кадетами).
Например, в Казанской и Самарской губерниях «партия народной
свободы деятельно организовала блок е татарами и другими мелкими
инородческими группами и русскими крестьянами прогрессивного на-
правления»15. Большинство «прогрессистов» в «Подробной таблице
депутатов» характеризуются как люди, симпатизирующие правому ла-
герю, тогда как в издании М. Бойовича они оказываются в числе «уме-
ренных»16. Характерно, что в сознании современников «прогрессисты»
не отождествлялись с правыми. Почти вес крупные землевладельцы,
члены минского сельскохозяйственного общества, попавшие в Государ-
ствснную Думу, названы в публикации «Члены Государственной Ду-
мы» прогрессистами. Это депутаты, сочувствующие партии «народной
свободы», но не разделяющие ее аграрную программу в части о прину-
дительном отчуждении частновладельческих земель. При интерпрета-
ции категории «прогрессист» особую роль играют дополняющие опре-
деления, как например, «безусловный прогрессист». В этом случае речь
идет о совпадении политических убеждений «безусловного прогресси-
ста» с кадетами, так как он, как следует, например, из анкет выборщи-
ков по Воронежской губернии, «по политическим воззрениям прибли-
жается к кадетам, и если не входит в состав ее членов, то
исключительно с целью не связывать себя партийной дисциплиной17».
Проблема интерпретации партийной принадлежности, безусловно,
не исчерпывается приведенными примерами. Не менее сложным явля-
ется содержательное уточнение и таких категорий, как, например, «пра-
15 К десятилетию первой Государственной Думы. 27 апреля 1906 - 27 апреля
1916». Пг., 1916. С. 190.
16 См.: Члены Государственной Думы... М., 1906.
17 РГИА. Фонд 1327. On. 1 - 11 созыв. Д. 109. Л. 82. Подробнее об этом см. в
Главе 6.
292
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
вые» или «беспартийные» («партийность неизвестна»). Учитывая, что
для большинства выборщиков характерно именно отсутствие обозначе-
ния партийности («партийность неизвестна»), то здесь речь может идти,
прежде всего, об уточнении политических предпочтений выборщиков
на основе первичных архивных материалов, какими, в частности, явля-
ются анкеты выборщиков. В то же время, очевидно, что изучение поли-
тических предпочтений избирателей, процесса политизации общества,
прежде всего в аспекте вовлечения населения в политический процесс,
не может ограничиваться лишь «декодированием» отдельных категорий
партийной принадлежности. В классификации политических предпоч-
тений выборщиков присутствуют следующие категории их оценки: ка-
деты, прогрессисты, октябристы, члены Торгово-промышленной партии
(ТПП), правые, беспартийные («партийность неизвестна»). Как видим,
данная классификация не отражает реально существовавшего
спектра политических партий, хотя бы уже потому, что официаль-
ная статистика не учитывала левые партии. В первичных материалах
выборного делопроизводства, анкетах выборщиков, мы можем встре-
тить наряду с указанными категориями, ориентированными на «партий-
ную принадлежность, и оценки политических предпочтений выборщи-
ков более общего характера, как-то: «благонадежный», «консерватор»,
«экстремист», «социал-демократ».
Таким образом, значимость лингвистического анализа для раскры-
тия смысла концепта «демократической культуры» представляется оче-
видной.
Другим типом аргументации, не связанным с нарративом, кото-
рый мы используем в своем исследовании, является сравнительный
анализ. Сравнение не может рассматриваться ни как нарратив, ни как
его «конечная» цель, состоящая в «заполнении пробелов» в историче-
ском нарративе национального (европейского) масштаба. Тип сравне-
ния, который использовался в данном исследовании, имел целью вы-
явить соотношение между конкретно-историческими «реальностями»,
воссозданными на основе эмпирических данных посредством теорети-
ческих концептов (понятий). История должна иметь и эмпирическую
основу. Однако для понимания прошлой «реальности», превосходящего
по масштабу возможное понимание ее самими участниками, мы долж-
ны использовать понятия, недоступные для них, извлеченные из раз-
личных эмпирических данных, то есть из различного рода национально-
го опыта, в исторической перспективе. При использовании
компаративной методологии национальный контекст событий может
Н. Б. Селунская. “Объяснение” национальной истории...
293
быть представлен в новом свете, позволяющем обнаружить соотноше-
ние глобального, локального и национального в содержании изучаемых
процессов и явлений, связанных, в частности, с распространением де-
мократической культуры в российском обществе.
Выбор исследовательской стратегии всегда связан с историогра-
фическим пространством изучения избранного сюжета. В предшествую-
щей исследовательской традиции уже много было сказано о недостатках
российской системы правления в плане ее соответствия нормам демокра-
тической системы управления. Общим является утверждение и о том, что
в развитии форм правления Россия отставала от Западной Европы, и это
отставание рассматривается как важная, если не основная, причина на-
сильственного падения императорского правления. Представляется, од-
нако, нс менее значимым то, что в России и в Западной Европе в первые
годы XX столетия были сходные по всем основным аспектам, хотя и не
тождественные, условия для развития демократии. Борьба между сторон-
никами и реакции, и реформ, и революции вокруг понятий «конститу-
ция» и «демократия» велась и в России, как и на западе Европы.
Если признать, что население России имело недостаточный опыт
развития системы самоуправления и разделения ответственности за об-
щее благополучие, по сравнению с народами Западной Европы, и что
семена демократии нс имели таких возможностей для произрастания на
российской почве, какие они имели на Западе, то тогда необходимо по-
казать, что российская община и российские земства предоставляли
меньший опыт, в этом отношении, чем аналогичные институты в запад-
ноевропейских странах. Нам представляется, что это вряд ли возможно
доказать, и что изучение приводит к противоположным выводам. Ха-
рактерной чертой для стран Западной Европы было то, что сельскохо-
зяйственное население, которое преобладало повсюду вплоть до конца
XIX века, а иногда даже и дольше, имело свои каналы воздействия на
общество. То же было характерно и для России, хотя там вплоть до
1860-х годов не развивались юридические формы системы самоуправ-
ления. Подобная ситуация характерна и для многих стран Западной Ев-
ропы, хотя, возможно, там развитие юридически признанных форм са-
моуправления началось несколькими десятилетиями раньше. Традиции
коллективной ответственности за определенные сферы жизни были на-
много более длительными, нежели юридическое оформление систем
самоуправления, как в Западной Европе, так и в России. В аграрной
России эти традиции были связаны, прежде всего, с общиной, с ее
Принципами общего владения земельными и лесными угодьями и ее
294
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
функциями как органа местно самоуправления. Таким образом, пред-
ставляется, что преобладало сходство, как в неформальном, так и в
формальном местном самоуправлении. Это, в свою очередь, значит, что
для развития демократических институтов существовала единая основа
как в России, так и, например, в Скандинавии.
Новые институциональные формы, представленные Государствен-
ной Думой, и выборы - хотя и непрямые, неравные и не всеобщие - да-
ли России возможность приобрести опыт того, как развивать демокра-
тическую культуру в отношениях с государством (земства и община
действовали внутри региональных и местных сообществ). Как в прави-
тельстве, так и в различных политических партиях были сторонники
реформ. Представляется априорным суждение о том, что только рево-
люция была альтернативой «реакции».
Далее, процесс приобщения масс к политической жизни, был зна-
чительным и масштабным. Поэтому другим априорным суждением,
страдающим недостатком аргументации, является суждение о том, что
Россия в то время, в сравнении с другими странами Европы, имела ме-
нее благоприятные возможности для развития «полной» демократии в
отношениях между народом и правительством.
Сравнение политической системы России первого десятилетия XX
века с политическими системами, развивавшимися в тот период в отдель-
ных странах Западной Европы, и является основной целью нашего иссле-
дования. Представляется удивительным, что чаще российскую политиче-
скую систему сравнивают с английской и французской на более ранних
стадиях их политического развития. Гораздо реже можно встретить срав-
нение развития России периода 1905—1907 гг. с другими странами Запад-
ной Европы того же периода, и особенно с автократическими монархия-
ми Центральной Европы или же со странами севера и юга Западной
Европы, позже вступившими на стадию индустриального развития. Та-
ким образом, очевидна роль сравнения в качестве исследовательской
стратегии и типа аргументации для выявления как универсальных или
локальных тенденций, так и национального специфического контекста
изучаемых явлений и процессов. При этом особенно важно для решения
поставленной задачи грамотно осуществить выбор объектов сравнения,
доказательств их сопоставимости, самого типа сравнения.
Представляется, таким образом, что для современного этапа разви-
тия и пересмотра объяснения истории России как национальной исто-
рии характерно особое внимание к эпистемологическим проблемам и,
прежде всего, к конструкции опорных объясняющих концептов, групп
И-Б. Селунская. “Объяснение" национальной истории... 295
индикаторов, формирующих пространство для процедуры объяснения и
интерпретации. Этот интерес корреспондирует с общими тенденциями,
протекающими в историческом сообществе в связи с «лингвистическим
поворотом», вниманием всего этого сообщества к проблеме языка исто-
рической науки как весьма значимого, если не самого значительного
компонента в процессе постижения пропитого. Вместе с тем, важным
представляется и тот факт, что процесс формирования исторического
знания о прошлом своей страны, национальной истории, тесным обра-
зом связан и со спецификой конкретно-исторических условий и особен-
ностей развития отечественной национальной историографии на данном
этапе развития. Эти особенности связаны с тотальным пересмотром на-
шей историографией моделей объяснения различных уровней и стреми-
тельной заменой их на «новые» в условиях «исторического поворота»,
содержание которого не ограничивается пределами изменений в теле
исторической науки, но и связано с кардинальными изменениями усло-
вий развития отечественной историографии последних десятилетий.
Эти особенности, однако, на наш взгляд не меняют существенным обра-
зом, а лишь усиливают и конкретизируют проявление обозначенной
тенденции возрастания роли языка в историческом исследовании.
A. X Боров
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБОБЩАЮЩИХ
ТРУДОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Развивающиеся в нашей стране в течение ряда лет процессы мута-
ции общественных структур и общественного сознания вызвали в отече-
ственной историографии смену концептуальных структур как в явно вы-
раженных, так и имплицитных формах. Резкое повышение удельного веса
факторов этнонациональной идентичности в общих структурах совре-
менного исторического сознания позволяет предположить, что новые па-
радигмы исторической науки выступят как некие общие концепции на-
циональной истории тех или иных народов, претендующие на целостное
и непротиворечивое осмысление пройденного ими исторического пути.
Первые результаты продвижения национальных историографий в
этом направлении получили в литературе скорее негативную оценку.
Характеризуя общие тенденции развития историографии на постсовет-
ском пространстве, К. Аймермахер и Г. Бордюгов, констатируют: «Для
нынешнего “переписывания” историй характерны, даже среди истори-
ков, тенденции к героизации, удревнению своей государственности,
завышению уровня политического и общественного развития этносов,
вообще самоутверждению за счет соседей, созданию модифицирован-
ного пантеона выдающихся национальных деятелей»1. Практически все
эти тенденции фиксируются наблюдателями и на материале северокав-
казской историографии2. «Северокавказские научные сообщества, -
подводит итог Л. Гатагова, - не без потерь пережившие тяготы пере-
ходного периода, весьма тяжело избывают издержки старого мышления
и устаревшие методологические стереотипы. Новым испытанием для
региональных историков (взамен имперского догматизма партийной
науки) представляется “ловушка” этноцентризма. Безусловно, негатив-
ными факторами являются также чрезмерная политизация научного
сознания и его провинциализация. Удастся ли северокавказским ученым
1 Аймермахер К.. Бордюгов Г. «Своё» и «чужое» прошлое. Введение // Нацио-
нальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999. С. 13.
2 Шнирельман В. А. В поисках престижных предков: этнонационализм и
школьные учебники // Ответственность историка: преподавание истории в глобали-
зирующемся обществе. М., 2000. С. 155-160.
A. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
297
уберечь историческую науку от идеологических и прочих соблазнов
смутного времени — покажет будущее»3.
Почти через десять лет после публикации процитированной рабо-
ты вновь ставится вопрос: «насколько соответствует российское кавка-
зоведение, в его сегодняшнем состоянии, требованиям времени, с точки
зрения и теоретической, и практической»? Ответ неутешителен. Указы-
вается, что прошлое народов Кавказа превращено в мозаику воюющих
между собой национальных историй, наполненных мифами о великом
культурном и территориальном наследии, на которое якобы посягают
соседи. При этом стремительно сокращается разница между профессио-
налами и любителями - и те и другие работают на конъюнктурный
спрос, целенаправленно выполняя политические заказы и преднамерен-
но эксплуатируя опасные социальные настроения4.
Интеллектуальная среда, в которой осуществляется научная и па-
ранаучная деятельность по «производству прошлого», утрачивает регу-
лятивные признаки коммуникативной рациональности. Все чаще в ис-
ториографическом дискурсе ценностные стандарты применяются
«идиосинкратично» (в терминологии Ю. Хабермаса), т.е. без ориента-
ции на интерсубъективно признанные притязания на значимость. Ха-
рактерным показателем этого являются оценочные ссылки на «уникаль-
ность» социокультурной традиции того или другого народа и
объясняющие ссылки на его «менталитет» как вневременную данность.
Данное сообщение основано на стремлении автора внести посиль-
ный вклад в утверждение академического статуса и позитивных соци-
альных функций исторического кавказоведения.
В нем обсуждается несколько вопросов, имеющих отношение к
проблемам построения обобщающих трудов по истории Северного Кав-
каза. Первое. Возможно и необходимо решать концептуальные пробле-
мы исторического кавказоведения исходя из конкретной познаватель-
ной задачи и вида работы, а не только из содержательных
характеристик различных теоретико-методологических подходов и спе-
цифики предмета изучения. Второе. Центральной методологической
проблемой обобщающих историй (региона в целом либо отдельных на-
родов и республик) является проблема исторического синтеза. Третье.
' ГатаговаЛ. Северный Кавказ: метаморфозы историческою сознания// На-
циональные истории в советском и постсоветских государствах. С. 271.
4 Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI века и пути развития рос-
сийского кавказоведения // Кавказ в российской политике: история и современность.
К 2007. С. 18-23.
298
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Исторический синтез, реализуемый в обобщающем историческом труде,
имеет специфическую природу и условно определяется в данной статье
как «субъектный синтез». Четвертое. Одной из предпосылок достижения
научной объективности обобщающих историй является рациональная
саморефлексия социокультурных и политических субъектов региональ-
ного исторического процесса на его современном этапе, которая реализу-
ется в теоретико-методологическом поиске научного сообщества.
Методологические ориентиры современного кавказоведения: обзор
На рубеже 1980-90-х гг. в отечественной историографии резко ак-
тивизировалось обсуждение теоретико-методологических проблем ис-
торического познания. Общая направленность дискуссий первоначаль-
но была задана стремлением историков и обществоведов преодолеть
границы исторического анализа, задаваемые вплоть до этого времени
марксовой схемой истории как универсального процесса смены обще-
ственно-экономических формаций. Отсюда преимущественный интерес
к альтернативным подходам, претендующим на построение общих тео-
рий исторического процесса. Во второй половине 1990-х гг. фокус вни-
мания сместился на обсуждение эпистемологических проблем, постав-
ленных постмодернистской критикой исторического познания. В то же
время развертывается гораздо более плодотворная работа по освоению
целого ряда новых предметных областей, подходов и методов решения
конкретных исследовательских задач, апробированных ранее в зару-
бежной историографии. В профессиональном самосознании российских
историков все шире утверждается представление о методологическом
плюрализме - неустранимой множественности концептуальных подхо-
дов, методов и методик осуществления конкретных исторических ис-
следований как основы развития исторического познания.
В региональной южнороссийской историографии в последние го-
ды сложилась собственная традиция изучения теоретико-
методологических проблем исторической науки5. Опубликованные в ее
5 Боров А. X. Историческая наука Кабардино-Балкарии: к постановке теорети-
ко-методологических проблем // Вестник Кабардино-Балкарского государственного
университета. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 2. Нальчик, 1996. С. 83-92; Анике-
ев А. А., Лубский А. В. Теоретические поиски в современной исторической науке и
проблемы изучения истории Северного Кавказа// Научная мысль Кавказа. 1997.
№ 3. С. 53-64; Боров А. X. Условия и возможности применения синергетического
подхода в историческом адыговедении // Мир этноса (аспекты и методы исследова-
ния). Нальчик, 1999. С. 58-96; Боров А. X. Методологические проблемы социальной
истории России XX столетия // Вестник Кабардино-Балкарского государственного
A. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
299
русле работы свидетельствуют, что региональное научное сообщество
активно осваивает и вполне квалифицированно оценивает существо и
познавательные возможности различных школ и направлений совре-
менной историко-теоретической мысли.
Обзорное либо специальное рассмотрение теоретико-
методологических проблем вполне оправдано с точки зрения общих за-
дач развития исторической науки и профессионального самосовершенст-
вования историка. Однако, как представляется, есть один аспект анализа
условий эффективного участия «знания методологического» в формиро-
вании «знания предметного», который до сих пор нс обсуждался в лите-
ратуре. Речь идет о спецификации методологического инструментария
применительно не только к объекту и предмету познания, но и к характе-
ру и особенностям - к «жанру» - той или иной исторической работы.
В частности, отдельного рассмотрения требуют вопросы теорети-
ко-методологического обоснования обобщающих трудов по истории
масштабных культурно-исторических общностей (таких как Северный
Кавказ), отдельных народов и республик. В данном случае действитель-
но необходимо предварительное определение концептуальных рамок и
принципов интерпретации, организации и представления обширного
исторического материала. Во-первых, сама идея обобщающего труда в
качестве своей предпосылки имеет концепт определенного «историче-
ского индивидуума», говоря языком классического немецкого историз-
ма. Такой концепт не может быть обоснован непосредственно материа-
лом источников и нс должен сводиться к чьей-либо субъективной
«интуиции целого». Без теоретической и методологической обработки
университета. Сер. Гуманитарные науки. Выл. 5. Нальчик, 2000. С. 3-8; Кавказский
регион: проблемы культурного развития и взаимодействия И Научная мысль Кавка-
за. 2000. № 2. С. 19-74; Шадже А. Ю., Шеуджен Э. А. Северокавказское общество:
опыт системного анализа. М.; Майкон, 2004; Мининков И. А. Методология истории.
Ростов н/Д., 2004; Боров А. X. Национальные истории народов Северного Кавказа:
проблемы концептуализации // Вестник Кабардино-Балкарского государственного
университета. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 9. Нальчик, 2004. С. 3-11; Луб-
ский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005; Шеуд-
Жен Э. А. Историография. Вопросы теории и методологии. Майкоп, 2005; Булыги-
на Т. А. История Северного Кавказа: новые исследовательские подходы //
Кавказоведение; опыт исследований. Материалы международной научной конфе-
ренции. Владикавказ, 2006; Шеуджен Э. А. Путь в историю: в поисках методологии
исследования. Майкоп, 2007; Актуальные и дискуссионные проблемы истории Се-
верного Кавказа/ Отв. ред. В. В. Черноус // Южнороссийское обозрение Центра
системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ
РАН. Выл. 45. Ростов н/Д., 2007.
300
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
эмпирических и мировоззренческих составляющих предмета обоб-
щающего труда его целостное и одновременно структурированное
представление было бы невозможно. Во-вторых, обобщающий труд
представляет собой согласованный свод научных результатов, получен-
ных многими специалистами, и сам, как правило, носит коллективный
характер. Иными словами, он может рассматриваться как воплощение
парадигмы, по поводу которой в данном научном сообществе уже сло-
жился или еще должен быть достигнут определенный консенсус. Сле-
довательно, без анализа «оснований» здесь не обойтись.
Постановка теоретико-методологических проблем в контексте ре-
шения конкретной познавательной задачи вводит анализ в более строгие
рамки. Тем самым несколько ограничивается «блеск и необязательность»
теоретической эрудиции, но взамен приобретается предметность и после-
довательность. Прежде всего, становится очевидным, что для подобных
случаев в большей степени релевантна проблематика методологии исто-
рии в широком смысле слова, объединяющая мировоззренческие (фило-
софско-исторические) позиции и подходы к теории исторического про-
цесса. Риторически заостряя эту мысль можно было бы ввести
различение между двумя типами познавательного интереса к прошлому -
«историческим познанием», с одной стороны, и «познанием истории», с
другой. В первом случае подразумевается стремление к обретению пер-
вичного или нового знания о любом конкретном фрагменте прошлой со-
циальной реальности, что возможно только на основе обращения к пер-
воисточникам. Условия, принципы, методы реализации
исследовательского процесса, нацеленного на обретение нового и макси-
мально достоверного знания являются предметом методологии истории в
узком и конкретном смысле6. Во втором случае, речь идет о потребности
в систематизации, упорядочении и интерпретации совокупности уже на-
копленных исторических знаний о том или ином объекте познавательного
интереса, в пределе - о совокупном прошлом всего человечества. Здесь в
силу вступают категории методологии в широком смысле этого слова,
обнимающей по характеристике И. М. Савельевой и А. В. Полетаева
«аналитические концепции исторического процесса, способы познания
причинных и структурных связей, теоретический анализ прошлых об-
ществ и процессов перехода от одного типа общества к другому, модели,
объясняющие динамику и статику истории»7.
6 Мининков Н. А. Указ. соч. С. 93.
7 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного.
М., 1997.
A. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
301
Проблема исторического синтеза: поиски и трудности решения
Но и в пределах методологии в указанном ее понимании требуется
дальнейшая конкретизация аспектов и задач теоретического анализа.
Представляется, что в нашем случае он должен быть направлен пре-
имущественно на поиск путей и форм воплощения исторического син-
теза. В самом деле, само описание познавательных процедур в опреде-
лении методологии в широком смысле слова показывает, что их
логическая функция является скорее синтетической, а не аналитиче-
ской. Дополнительная аргументация здесь вряд ли нужна.
Разумеется, проблема исторического синтеза принадлежит к числу
давних, а может быть и «вечных» проблем научного познания. В класси-
ческом руководстве по методике и методологии исторического исследо-
вания Ш.-В. Ланглуа и III. Сеньобоса оно рисовалось как состоящее из
двух видов познавательных процессов - аналитических и синтетических8.
По Ланглуа и Сеньобосу, историк осуществляет синтетические опе-
рации, опираясь на аналогии между доступной ему непосредственно со-
временной реальностью и воображаемой картиной прошлого. Его цель
сводится к максимально полной реконструкции определенного фрагмен-
та прошлой реальности и не предполагает решения каких либо теорети-
ческих задач. Но к этому времени делались уже попытки исторического
синтеза иного рода, построенные на приложении к историческому мате-
риалу теоретических схем, направленных на его глобальное объяснение.
Здесь достаточно указать на марксистскую теорию исторического про-
цесса и на идею «культурно-исторического синтеза» К. Лампрехта. Обе
эта теории были предметом оживленных и острых дискуссий в общест-
воведческой и исторической мысли рубежа XIX-XX вв.
В XX в. ориентация на исторический синтез оказалась связана с по-
пытками представить исторический процесс в его непосредственной це-
лостности. На историософском уровне они выразились в постулировании
того, что человеческая история структурирована определенными куль-
турно-историческими «монадами» - цивилизациями. В построениях
О. Шпенглера и А. Тойнби цивилизации предстают в качестве сложных и
эволюционирующих, но, тем не менее, целостных, локализованных в
пространстве и времени единиц всемирно-исторического процесса.
В рамках академической историографии основной вектор в поис-
ках исторического синтеза был задан идеей «тотальной истории», вы-
сказанной основоположниками школы «Анналов». Внутренним богат-
211.
8 Ланглуа Ш.-В., СеньобосШ. Введение в изучение истории. М., 2004. С. 210-
302
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ством этой идеи обусловлено то обстоятельство, что в дальнейшем она
реализовалась в различных исследовательских программах, предло-
живших либо социологическую (социоисторическую), либо социокуль-
турную, либо антропологическую ес интерпретацию. Поиски историче-
ского синтеза реализовались, соответственно: в первом случае - через
вычленение социальных целостностей, задающих объективные струк-
турные условия человеческой деятельности; во втором - через иденти-
фикацию и «прочтение» символических систем, культур, обеспечиваю-
щих ориентацию и придающих смысл социальным действиям; в
третьем — через проникновение в субъективный опыт человека, «пере-
живающего» исторические сдвиги своего времени.
С 1960-х годов ведущая роль в разработке различных вариантов
исторического синтеза принадлежала «новой социальной истории»9.
Однако 1970-е гг. происходит сдвиг интересов историков от изучения
структурных изменений к исследованию представлений, ценностей,
моделей человеческого поведения. Складывается ситуация сосущество-
вания и соперничества двух парадигм социальной истории: социологи-
чески ориентированной социально-структурной истории и антрополо-
гически ориентированной социально-культурной истории10.
Одновременно развивались другие два процесса, существенно повли-
явших на подходы к решению проблем исторического синтеза. Во-
первых, происходило бурное расширение предметно-тематических ин-
тересов, внутренняя специализация и тенденция к фрагментации пред-
метного поля социальной истории. Во-вторых, - ломка общекультурной
парадигмы модернизма и переход к постмодернистской культуре.
С одной стороны, ряд виднейших представителей современной ис-
торической науки в этих условиях продолжали поиск п^гей к историче-
скому синтезу и предложили ряд плодотворных концепций. Вместе с
тем, по глубокому наблюдению Л. П. Репиной, в разнообразных про-
граммах исторического синтеза 1970-80-х гг. предполагалось, что цело-
стная, тотальная история должна присутствовать нс в самих конкретных
исследованиях, а как бы «на горизонте», как сверхзадача, как их сово-
купная генеральная программа11.
9 Социальная история: проблема синтеза / Отв. ред. В. В. Согрин. М., 1994;
Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998 (2-е изд.
М, 2009).
10 Репина Л. 77. Социальная история на пороге XXI века: от междисциплинар-
ного анализа к новому историческому синтезу // Социальная история: проблема
синтеза. С. 11.
11 Там же. С. 15.
J. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
303
Здесь необходимо вернуться к вопросу об особой роли синтеза в
построении обобщающих историй, особенно историй, которые необхо-
димо доводить «до наших дней», как это имеет место с историей Север-
ного Кавказа. Очевидно, что это сложная многоаспектная проблема.
Ведь речь идет о необходимости дать единую интерпретацию тенден-
ций развития, выражающих социокультурную целостность, самобыт-
ность субъектов регионального исторического процесса и их откры-
тость воздействию многообразных, все более интенсивных внешних
влияний; проследить масштабность и разнообразие форм социально-
культурной динамики в широчайших временных рамках и соотнести их
с единым преемственным субъектом исторических трансформаций; от-
разить взаимосвязь и содержательную общность явлений и процессов,
конституирующих Северный Кавказ в качестве определенной историче-
ской области и их внутреннее многообразие, применительно к субре-
гиональным социально-историческим организмам. Причем в данном
случае целостная история должна присутствовать не «на горизонте»,
как сверхзадача, а непосредственно в структуре и тексте обобщающего
труда. О трудностях решения подобной задачи писал ведущий предста-
витель школы «новой локальной истории» Ч. Фитьян-Адамс: тот, кто
пытается согласовать результаты изучения историй множества локаль-
ных обществ с национальной английской историей и результатов иссле-
дования отдельных периодов с целостным представлением развития «с
доисторических времен до наших дней», сталкивается с проблемой син-
теза в пугающих масштабах. Решение се предполагает высокий уровень
обобщений12. Со своей стороны французский историк Б. Лепти подчер-
кивал: «Написание синтетической работы всегда означает, по отноше-
нию к существующим частным исследованиям, изменение объекта, а
следовательно и методологии»13.
Конкретизация направлений методологического поиска возможна
на основе типологизации исторического синтеза в зависимости от целей и
задач конкретной работы. В качестве предварительной гипотезы пред-
ставляется возможным свести все многообразие упомянутых и не упомя-
нутых выше вариантов исторического синтеза к трем его разновидностям
~ «объяснительному» (как правило, основанному на макросоциологиче-
ских теориях), «объектному» (нацеленному на схватывание непосредст-
12 Phythian-Adams Ch. Time, Society and Nation: Conceptualizing English Social
History // Социальная история: проблема синтеза. С. 22.
131-epetit В. Macro-analysis, Micro-analysis and the Problem of Generalization in
Social History // Социальная история: проблема синтеза. С. 69.
304
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
венной целостности исследуемой единицы исторического процесса) и
«субъектному» (прослеживающему историческую жизнь, путь, становле-
ние определенного исторического субъекта - парода, государства, циви-
лизации, регионального или локального сообщества и т.д.). Именно этот
третий вариант синтеза реализуется в обобщающих историях того типа,
который является предметом настоящей статьи.
Необходимость расширения перспективы
В последней трети XX века под воздействием постструктурализма
и постмодернизма в рамках академической историографии складывает-
ся оппозиция исторической культуре модернизма, которая выражалась,
в частности, в утверждении множественности истолкования культурно-
го текста, его постижения средствами индивидуального субъективного
восприятия, в реабилитации интуитивизма и идиографизма, в обраще-
нии к детали, в переходе от системных теорий к признанию множест-
венности языков описания14. Вне рамок постомодернистского дискурса
также высказываются сомнения относительно того, что «синтез - это
достоинство, а фрагментация - недостаток»15.
Последствия этих процессов для профессиональной самоиденти-
фикации современных российских историков и для судеб идеи истори-
ческого синтеза нашли выражение в опубликованном сравнительно не-
давно ярком манифесте с призывом к методологической
переориентации исторической науки16. Автор этого манифеста
Д. М. Володихин считает все более беспредметными взгляды большой
группы современных историков, ратующих за синтез разнообразных
подходов, за постепенное движение в сторону «тотальной истории»,
объединяющей нарратив и аналитические практики, сводящей вместе
отдельные факты и структурные изменения в обществе.
Подход Д. М. Володихина представляет интерес с точки зрения
целей настоящего анализа, потому что он далек от простой апологии
постмодернистского комплекса взглядов на природу и функции истори-
ческого познания. Во-первых, он признает действенность гносеологиче-
ских (фальсифицируемость) и методических («ремесло») критериев на-
учности профессиональных занятий историка. Во-вторых, исполнив
«настоящий погребальный гимн синтезу в исторической науке», он все-
14 Зверева Г. И. Морфология социальной истории // Социальная история: про-
блема синтеза. С. 40.
15 Мегилп А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 256.
16 Володихин Д. М. «Призрак третьей книги»: методологический монизм и
«глобальная архаизация»//Диалог со временем. 2002. Вып. 9.
4. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
305
таки допускает возможность нового обретения синтеза, связывая ее с от-
казом от целого ряда великих иллюзий Нового времени и заменой несу-
щих интеллектуальных и духовных концептов на те, которые управляли
человеческой цивилизацией до наступления Нового времени. Традиция
ставила в положение, доминирующее над социумом (и уж тем более над
отдельной личностью), сверхценностъ. В нынешнем гносеологическом
тупике методологический традиционализм открывает возможность инте-
гративных программ познания и реабилитирует синтез, полагает
Д. М. Володихин. Выбрав актом сознательного воления причастность к
полю доминирования определенной сверхценности, историк в дальней-
шем получает возможность совокупного анализа всех процессов, идущих
в социуме, как многогранной игры влияний и контрвлияний различных
факторов развития в рамках преобладающего, векторообразующего
влияния сверхценности, влияния, которое пронизывает социум от корней
до кроны. При этом природа самой сверхценности может определяться
как непознаваемая (во всяком случае, научными методами)17.
Здесь, конечно, напрашивается целый ряд возражений и соображе-
ний, но применительно к актуальному положению и задачам северокав-
казского научного сообщества профессиональных историков наиболее
существенно то, что эти построения выводят обсуждение методологи-
ческой проблематики за сугубо академические рамки к их действитель-
но исходному пункту - позиционированию историка в плоскости со-
пряжения прошлого (традиции) и настоящего (в широком смысле как
эпохи модерна и в узком смысле - как текущей современности).
Д. М. Володихин призывает стремящихся к синтезу историков заду-
маться, зачем и для кого нужны такие труды? Кто и с какой целью ста-
нет их читать? Ведь общий кризис исторической науки, который был
ясно виден еще в первой четверти XX века, не прекратился, напротив,
можно говорить о его усилении: целевая составляющая исторических
исследований размылась еще более. Ответ мог звучать таким образом,
что любые социальные и культурные (национальные) общности, нуж-
дающиеся в установлении или поддержании идентичности, являются
Потенциальной аудиторией «синтезных», обобщающих историй, связы-
вающих воедино их прошлое и настоящее. Действительно важный для
историка вопрос заключается в том, есть ли возможность рационально
обосновать выбор той или иной позиции в этой системе координат, не
сводя его к акту сознательного воления, отнесенного только к некоей
17 Володихин Д. М. Указ. соч. С. 52-63.
306
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
иррациональной свсрхценности? Такую возможность дает, в частности,
обращение к понятию «дисциплинарной матрицы» исторической науки,
разработанному немецким историком и методологом И. Рюзеном.
Дисциплинарная матрица представляет процесс исторического по-
знания развивающимся по кругу, который обнимает собой и жизненную
практику, и академическую дисциплину. Познавательный интерес к
прошлому порождается тем, что цели и стремления людей, социальных
и национальных групп и целых обществ выходят за рамки текущей си-
туации, а их последствия не совпадают с первоначальными намерения-
ми. Отсюда - потребность в ориентации во временном измерении со-
временного мира. Ответ, который даст на эту потребность
академическая историография, неизбежно опосредован перспективой,
теориями, категориями, которыми руководствуются профессиональные
историки в своем общем понимании прошлого, а конкретные исследо-
вания проводятся в соответствии со строго определенными процедура-
ми, правилами, методами. Таким образом, между потребностями жиз-
ненной практики и научным исследованием имеется нс только
очевидная связь, но и достаточно жесткая грань. Научное исследование
не просто удовлетворяет потребность социальных субъектов в само-
идентификации и ориентации, но производит и некий «теоретический
излишек», который выходит за пределы частного практического инте-
реса и составляет определенное рациональное достижение, приобре-
тающее непреходящее значение. Форма представления полученного
исторического знания должна обеспечивать возможность его критиче-
ской проверки со стороны профессионального сообщества. Но главное
заключается в том, что оформленный результат исследования как бы
возвращается в сферу жизненной практики и выполняет функцию куль-
турной ориентации и поддержания исторической идентичности данного
социального субъекта18.
Вышеизложенное позволяет указать на первый существенный изъ-
ян в построениях Д. М. Володихина. Они предполагают выведение из
сферы рационального анализа, критики и обсуждения основополагаю-
щих и ориентирующих элементов исторического исследования
«сверхценностей». Второй существенный изъян связан с идеей «гло
18 Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исто-
рической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памя-
ти)// Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 7. М., 2001; Ме-
gill A Jom Ruscn’s Theory of Historiography: Between Modernism and Rhetoric of
Inquiry//History and Theory. 1994. Vol. 33. № 1.
4. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
307
бальной архаизации». Она исходит из допущения, что уже завершены
Процессы глобальной модернизации, а возврат к традиции может быть
реализован через индивидуальный выбор того или иного историка.
В глобальном историческом процессе вряд ли можно усмотреть
подобную цикличность. Для многих частей современного мира, вклю-
чая и Северный Кавказ, речь идет не об исчерпанности модерна, а о его
фрагментарности и незавершенности. В этих условиях предписывать
историку ориентацию только на ценности традиции означало бы такое
сужение интеллектуальных горизонтов, которое не может быть преодо-
лено соблюдением методических и технических стандартов анализа
источников. А если ставить этот вопрос применительно к задаче по-
строения обобщающих трудов по региональной или национальной ис-
тории, то несостоятельность рассматриваемого подхода становится еще
более очевидной. Сам Д. М. Володихин в обоснование небесспорной
мысли о том, что микроподход в исторических исследованиях вполне
может существовать без макроподхода («Псковской летописи не нужен
учебник по русской истории, она и без него востребована»), приводит и
совершенно бесспорное суждение о том, что «учебник без синтеза ло-
кальных результатов историко-познавательной деятельности не обой-
дется, он в принципе синтетичен»19. Вопрос заключается в том, будет ли
этот учебник выполнять функцию источника знаний, поддающихся ос-
мыслению, критике и дальнейшему обогащению, или функцию катехи-
зиса по усвоению той «сверхценности», которую автор учебника вы-
брал «актом сознательного воления».
Автор формулы «модерн - незавершенный проект» Ю. Хабермас
подчеркивал, что философия истории XVIII века, направленная на ре-
конструкцию истории человеческого рода, и теория общества XIX сто-
летия обобщили опыт, который в XX веке не только не устарел, но и
становится еще более актуальным. В этом опыте отражаются процессы
модернизации, которые осуществлялись вместе с капиталистическим
способом производства и с утверждением буржуазного общества. Про-
екты философии истории XVIH века и эволюционные теории общества
XIX века, действительно, представляли собой попытки решить пробле-
му идентичности посредством научного толкования всеобщей истории.
Они постулировали реальность всемирно-исторического субъекта, ко-
торый в ходе прогресса, преодоления кризисов и самоосвобождения
путем критики созидает сам себя. Ю. Хабермас объясняет это как ре-
19 Володихин Д. М. Указ. соч. С. 62.
308
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
зультат перенесения на историю натурмифического мышления, исходя-
щего из единства мира. Вместе с тем, он считает, что универсальное
единство истории на земном шаре сегодня является реальностью, однако
- ставшей реальностью. Единство истории - это результат, а не что-то
изначально гарантированное благодаря деятельности субъекта, который в
процессе воспитания сам себя созидает. В качестве реального субстрата
развития выступают социокультурные системы, несущие как всеобщие
системные качества, так и специфические характеристики. Поэтому
единство мировой истории не является механическим результатом про-
цессов структурной дифференциации и системной интеграции. Оно
предполагает попытку «соединить развитие социокультурных систем с
модусом управления, основанного на саморефлексии, носящей форму
политического рассуждения, результаты которого получают политиче-
скую институционализацию в виде самосоздающихся, находящихся на
высокой ступени развития интерсубъективных общностей». Базисный
механизм, делающий возможным подобное развитие, заключается в том,
что всякий способный к познанию и целенаправленно действующий
субъект (индивидуальный или социальный) не может не учиться20.
«Субъектный синтез»: научная методология и жизненная практика
В рассуждениях Ю. Хабермаса для нас одинаково важны и тезис об
актуальности опыта модернизации для современного исторического
мышления, и рассмотрение основных проблем философии истории в их
отнесении к определенному историческому субъекту. Выше указывалось,
что сама идея обобщающего труда в качестве своей предпосылки имеет
концепт «исторического индивидуума». Логика немецкого философа от-
крывает возможность отправляться в ходе его идентификации от актуаль-
ного эмпирического опыта, от «субъектной» структуры современной со-
циально-политической реальности. Но осознание им своей историчности
должно быть результатом рациональной рефлексии, т.е. научного иссле-
дования прошлого, результаты которого не предопределены заранее.
Прежде всего, здесь возникает проблема своего рода синтеза
«прошлого» и «настоящего», т.е. самосознания, опыта, концептуального
аппарата, языка, которыми владеет современный историк, и источника с
отраженными в нем представлениями, восприятиями, опытом прошлых
поколений. Это давняя проблема, но она сохраняет свою актуальность и
требует осознанного решения, поскольку затрагивает основополагаю-
20 Хабермас Ю. О субъекте истории: краткие замечания по поводу ложных
альтернатив // Философия истории. Антология. М., 1995. С. 283-289.
Д. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
309
щий принцип историзма - судить о явлениях прошлого в соответствии с
условиями и представлениями той эпохи, к которой они принадлежат, а
не той, к которой принадлежит сам историк.
Весьма глубоки и убедительны в этом плане аргументы, которые
высказал один из крупнейших современных историков Ю. Кокка в ходе
дискуссии между сторонниками «социально-научной» структурной ис-
тории и представителями историко-антропологического направления
«истории повседневности» в ФРГ21. Во-первых, требование изучать яв-
ления прошлого только «изнутри, на их собственной почве» он считает,
в конечном счете, нереализуемой несисторицистской иллюзией. Исто-
рик не имеет прямого и непосредственного доступа к прошлой реально-
сти, а источники начинают «говорить» только в ответ на вопросы, кото-
рые он ставит перед ними. Мы должны (или вынуждены) использовать
наши вопросы, наши точки зрения, наши понятия и теории. Разумеется,
их следует модифицировать применительно к различным историческим
субъектам, которых мы изучаем, но мы можем реконструировать про-
шлое только на основе анализа, соотнесенного с определенной точкой
зрения, и эта точка зрения наша, а не исторического субъекта, изучае-
мого нами. Ю. Кокка замечает, что «история не исчерпывается тем, что
люди воспринимают и узнают», исключительно герменевтическая ре-
конструкция смысла прошлого восприятия и опыта «не способна дать
понимание истории как целого»22. Речь здесь идет не об отказе от тре-
бований историзма, а о необходимости соединять «понимание-
сопереживание» с «пониманием-объяснением» опыта прошлого. Кроме
того, необходимо различать условия и процедуры добывания конкрет-
ных «исторических знаний» и условия и способы упорядочения «знания
истории» как целого. Во-вторых, есть проблема изучения данного явле-
ния в его взаимосвязях, в историческом контексте (второй классический
принцип научного историзма). Важно понимать его во всей полноте -
применительно к синхронным (структуры) и диахронным (процессы)
связям и зависимостям. Только тогда изучаемое явление предстанет
Действительно «укорененным» в истории. И дело не только в том, что
21 Кокка Ю. Социальная история между структурной и эмпирической истори-
ей// THESIS. Весна 1993. Т. 1. Вып. 2; Дюльмен Р. ван. Историческая антропология
в немецкой социальной историографии // THESIS. Лето 1993. Т. 1. Вып. 3; Соска J.
A Controversy within Social History and the Need for Context // Социальная история:
проблема синтеза; Ким С. Г. В поисках интегральной версии историописания (по
Материалам немецкой науки 1990-х годов) // Диалог со временем. 2002. Вып. 9.
22 Кокка Ю. Указ. соч. С. 180.
310
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
невозможно понять часть, нс имея никакого представления о целом.
Если не забывать, что историк, так или иначе, призван способствовать
осознанной ориентации во времени, исторической идентичности, а зна-
чит самостоятельности своих современников, то формирование у них
ясных представлений об историческом контексте (синхронном и диа-
хронном), в который они помещены, становится императивом его про-
фессиональной деятельности23.
Иными словами, решение проблем синтеза при построении обоб-
щающих исторических трудов выходит за рамки академического теоре-
тизирования и предполагает выработку позиции по общественно-
политическим проблемам актуальной действительности. Но в связи с
этим неизбежно возникает вопрос о возможности сохранить научную
объективность при отборе, интерпретации и оценке значения историче-
ских фактов, явлений и процессов. Очевидный ответ на этот вопрос за-
ключается в том, что гарантией объективности является соблюдение
профессиональных стандартов научно-познавательной деятельности.
Именно они маркируют четкую границу между жизненной практикой, в
которую историки вовлечены как личности и граждане, и академиче-
ской дисциплиной, которой они занимаются как профессионалы. Вид-
ный британский историк Дж. Тош замечает, что теперь, когда битва за
торжество научных критериев исторического исследования в среде
профессионалов давно выиграна, практические задачи можно выпол-
нять без ущерба для научного уровня (в том числе и потому, что про-
фессиональные историки с чрезвычайным рвением выискивают иска-
жения в работах коллег)24.
Однако применительно к случаю обобщающих исследований, ох-
ватывающих всю траекторию становления каких-либо исторических
субъектов (скажем современных народов Северного Кавказа) вплоть
«до наших дней» сугубо профессиональные критерии объективности,
будучи абсолютно необходимыми, могут оказаться недостаточными,
хотя бы потому, что некоторые элементы общеисторических интерпре-
таций несводимы к источниковым данным. Поэтому здесь необходимо
обратиться к подходам, предполагающим поиск решения проблемы
объективности исторического познания в сфере самой жизненной прак-
тики. Наиболее очевидный хрестоматийный пример - марксистско-
ленинская теория о том, что мера объективности социальных теорий и
23 Соска J. Op. cit. С. 50-52.
24 Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка-
М„ 2000.
A. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
311
исторических концепций определяется их связью с интересами «восхо-
дящих» или «нисходящих» классов и общественных систем. При всей
ее идеологической нагруженности, она вовсе не лишена гносеологиче-
ского смысла, но его экспликация потребовала бы громоздкого анализа.
Гораздо ближе к академическим интересам находится тот подход к ре-
шению проблемы объективности, который предложил в свое время вы-
дающийся британский историк Э. X. Карр.
На первый взгляд неожиданно, Э. X. Карр ставит проблему объек-
тивности исторического познания в связи с обсуждением вопроса о про-
грессе в истории. Но дело в том, что наука по определению представля-
ет собой прогрессирующее накопление знаний о своем объекте. Кроме
того, историческая объективность не сводится к объективности факта.
Факт включается в систему исторического знания лишь постольку, по-
скольку историки придают ему определенное значение. Дело историка
заключается не просто в установлении фактов, но и в различении реаль-
но значимых, существенных для его целей и менее существенных,
«случайных» в данном исследовательском контексте, фактов. Следова-
тельно, проблема объективности лежит в плоскости отношения между
фактом и его интерпретацией, а ее мера определяется тем, какие крите-
рии значимости применяются к установленным фактам. Правда, именно
по этой причине объективность не может рассматриваться как абсолют-
ная характеристика научного знания. Но не вытекает из этого и реляти-
вистский вывод о том, что все интерпретации равноправны, поскольку
критерии значимости, прилагаемые к ним любым из историков, субъек-
тивны. Прежде всего, очевидно - накопление новых данных позволяет
уточнять и усиливать объяснительную силу исторических концепций.
Не менее важно учитывать глубинную временную структуру историче-
ского познания как артикулированного взаимоотношения прошлого
(источник), настоящего (историк в данной социально-исторической си-
туации) и будущего (видение историком общей направленности исто-
рического процесса). Историки «воображают прошлое и помнят буду-
щее», приводит Э. X. Карр высказывание другого крупнейшего
историка XX столетия Л. Б. Нэмира. Только это «чувство направления»
в истории позволяет упорядочивать и интерпретировать события про-
шлого (в этом задача историка), высвобождать и организовывать энер-
гию современников с прицелом на будущее (задача государственных
Деятелей, экономистов, социальных реформаторов). В таком контексте
Мера объективности историка определяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, его способностью в полной мере и ясно представлять ту со-
312
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
циальную и историческую ситуацию, в которую он включен. С одной
стороны, это позволяет осознать пределы доступной для него объектив-
ности. С другой, для него становится возможным критически осмыс-
лить и как бы «подняться над» ограниченностью собственной позиции,
приближаясь к большей объективности. Во-вторых, тем, насколько глу-
боко проникает в будущее его видение современных проблем и путей
их решения. От этого зависит глубина и жизнеспособность истолкова-
ния прошлого в предлагаемых им концепциях. «Более объективными»
являются те концепции, которые основаны на «более долговременном
видении прошлого и будущего»25.
На первый взгляд речь здесь идет о том, что историк должен де-
лать выбор между различными точками зрения на политических осно-
ваниях26. Но акту индивидуального выбора между различными точками
зрения должен предшествовать общественный процесс формирования и
формулирования этих точек зрения. Если этот процесс отождествляется
с самой историей, «точки зрения» (идентичности) различных групп и
лиц оказываются их «судьбой», возможность рационального выбора для
личности элиминируется или приравнивается к предательству, а поли-
тический выбор, сделанный сообществом в целом, подразумевает по-
давление тех или иных идентичностей. Если же он развертывается как
процесс общественного обсуждения различных «проектов будущего»
для данного сообщества, участники которого должны следовать требо-
ваниям коммуникативной рациональности, чтобы суметь убедить своих
оппонентов, то происходит не столько подчинение научной методоло-
гии соображениям политической целесообразности, сколько привнесе-
ние научной культуры исследования проблем в социальную практику.
Насколько актуальна для историков Северного Кавказа задача
«помнить будущее», обращаясь к реконструкции прошлого, можно ви-
деть из следующего синоптического взгляда на современную социои-
сторическую ситуацию в регионе27. Этногенез и политогенез народов
Северного Кавказа уходит в глубокую древность, но за период пребы-
вания в составе России у них сформировалась российская идентичность
как в политическом, так и социокультурном ее воплощении. Крах со-
циалистической системы, распад СССР вызвали глубокий кризис иден-
25 Carr Е. Н. What is History? L., 1967. P. 119-123.
26 Мегилл А. Историческая эпистемология. M., 2007. С. 359.
27 Черноус В. В. Российская идентичность на Кавказе: вызовы и ответы
XXI в. // Россия и Кавказ: История и современность. Материалы научной конфсрсН
ции. Владикавказ, 2005. С. 312-316.
A. X. Боров. Концептуальные основы обобщающих трудов...
313
тичности на Северном Кавказе. В ходе охватившей регион этнической
мобилизации здесь сформировалась целая цепочка идентичностей - эт-
нонациональная, северокавказская, российская и общекавказская, и
произошло возрастание религиозной идентичности как одной из основ
этичности. Со второй половины 1990-х годов начался процесс восста-
новления роли российской идентичности, что было обусловлено уста-
новлением функциональной стабильности. Российская идентичность на
Северном Кавказе определяется сохранением, пусть и сегментирован-
ного единого социокультурного пространства, надеждой на обеспечение
безопасности как личности, так и этносов, надеждой на переход к ус-
тойчивому развитию, обеспечение на этой основе благополучия и лич-
ных перспектив для человека. Эти надежды связаны с укреплением вла-
сти, удачной экономической конъюнктурой, признаками
экономического роста. Вековое взаимопроникновение культур народов
создает иммунитет, который способен преодолеть настроения взаимо-
обусловленной ксенофобии (русофобии, кавказофобии, исламофобии) и
восстановить российскую идентичность как общегражданскую и как
свойство этнокультурного синтеза.
Но реконструкция российской идентичности на Северном Кавказе
сталкивается с новыми вызовами. Ослабление российской идентично-
сти стимулировало этноэтатистские, региональные панэтнические, се-
паратистские, исламистские идеологии, политические и геополитиче-
ские проекты. В борьбе с терроризмом не удается добиться решающего
перелома. Этнополитическая ситуация остается в национальных рес-
публиках кризисной и малоперспективной для модернизированных,
квалифицированных слоев населения. Возможности, открываемые по-
литической консолидацией и экономическим восстановлением, не ис-
пользуются в полной мере. Относительное ослабление России в услови-
ях динамично меняющейся геополитической ситуации придает ярко
выраженную альтернативность вариантам обеспечения национальной и
региональной безопасности. Идет процесс вхождения государств Юж-
ного Кавказа в состав «расширенной Европы», а Турция при поддержке
США добивается вступления в ЕС. Существуют привлекательные за-
падные инвестиционные проекты для Кавказа и гарантии безопасности
со стороны НАТО. В случае реализации этих проектов резко ослабеет
Российская идентичность не только в Абхазии и Южной Осетии, но и у
народов Северного Кавказа, получит новый импульс пантюркизм уже
как сегмент европейской идентичности и т.д. И это на фоне того, что
Российская Федерация не может на практике в полной мере гарантиро-
314
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
вать безопасность и благополучие ни своим гражданам на Южном Кав-
казе, ни своим субъектам Федерации на Северном Кавказе.
Можно было бы спросить, сколько «прошлых» имеет такое «на-
стоящее», и сколько разных, но в одинаковой мерс «объективных исто-
рий» региона может быть написано сегодня? Если ограничивать свой
взгляд горизонтом текущей ситуации, то действительно можно оказаться
в тисках познавательного скептицизма или субъективного произвола в
интерпретации прошлого. Но если ориентироваться на будущее, в кото-
ром сохраняется возможность неконфликтного взаимодействия альтерна-
тивных программ, диалога социокультурных и политических субъектов
«текущей истории», поддержания сложных, «многомерных» структур
личной и групповой идентичности, то появится возможность различать
«более» и «менее» объективные истории. Внутреннее богатство и «под-
вижность» такого будущего препятствуют редуцированию прошлого в
простое обоснование какого-либо фундаментализма — державного, этни-
ческого, религиозного или идеологического. Предмет исторического ана-
лиза проблематизируется, поскольку проблемой, требующей решения,
является искомое будущее. Познавательный интерес, направленный не на
доказательство некоей истины, а на обобщение опыта прошлого, требует
тщательного выявления и учета всех значимых фактов, как соответст-
вующих, так и противоречащих той «идее будущего», которая положена
в основу общей интерпретации исторического процесса.
П. С. Шаблей
ЦЕННОСТЬ ПРОШЛОГО И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ1
Понятие «ценность прошлого» находится в тесной связи с пробле-
мой культурного синтеза современности. Масштаб и рамки полезности
или оценки истории формируют определенное единство социальной
памяти, общезначимость событий и символических форм.
В историографии Центральной Азии и Казахстана, после распада
СССР, взгляд на свое историческое прошлое претерпел изменение. На-
метилось несколько тенденций: во-первых, сложилось представление,
что абсолютная система ценностей складывается из отдельных ценно-
стей общества, история развития которых может быть представлена
обособленно; во-вторых, будто каждая отдельная ценность значима для
всего человечества и поэтому может и должна быть прослежена в своем
развитии, начиная с доисторической эпохи и вплоть до современных
предпосылок национальных и политических конфликтов, и, наконец, в-
трегьих, складывается представление, будто каждое общее развитие
обладает законом последовательности своих ступеней, из которого мо-
жет быть выведена значимая для нас сегодня тенденция развития на-
стоящего и тем самым достигнуто управление ею2. В результате исто-
рическое знание стало заложником корреляции между замкнутым
национальным нарративом и стремлением к эмпирической и идеальной
всеобщности в истории Центральной Азии. С одной стороны, неудовле-
творенность идентичностью способствовала расширению методологии,
когда с помощью цивилизационного подхода произошло углубление
«умопостигаемого поля истории» и усложнение механизмов идентифи-
кации3, а с другой, социально-политические перемены архаизировали
репрезентацию национального. Примордиализм, эссенциализм, абсолю-
тизация этнического фактора в истории, нарциссизм, оксидентализм
(негативный образ Запада) стали идейной основой для некоторых про-
1 Выделение в составе Центральной Азии Казахстана, как отдельного региона,
основывается на различии хозяйственно-культурных типов и было принято еще в
советское время. В Казахстане ему продолжают следовать. Во введении мы объеди-
няем историографические тенденции в Центральной Азии и Казахстане.
" Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 131.
3 Румянцева М. Ф. «Места памяти» в структуре национально-исторического
мифа // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 109.
316
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ектов национальной истории в Центральной Азии. Эта ситуация делает
еще более затруднительными ответы на целый ряд вопросов. Можно ли
найти более объективный взгляд на историю Центральной Азии и Ка-
захстана через принципы общезначимости и всеобщности? На чем ос-
новывается современная идентификация этого региона (на фоне этно-
культурных различий и сходства е другими тюркскими народами)?
Каким образом историография становится заложником дискурсивных
практик - ориентализма, постколониализма?
Общезначимость и всеобщность: имагинативная география4
Центральной Азии и Казахстана
Современная Центральная Азия, по-евоему реагируя на процессы
глобализации, модернизации, космополитизации, создает неоднознач-
ный в глазах мирового сообщества образ о себе. Сложная политическая
обстановка и экономическая нестабильность в вопросах национально-
государственного самоопределения востребуют не космополитизм, а
примордиализм. Это позволяет многим внешним акторам определен-
ным образом видеть и объединять, далеко не всегда объективно, общие
проблемы региона, создавая в средствах массовой информации обоб-
щенный образ этих стран5. Поэтому сегодняшняя Центральная Азия
рассматривается как не вполне усвоившая уроки модернизации, неспо-
собная сдержать угрозу терроризма. Складывается представление, что
многие страны Центральной Азии, пребывая в нарциссичсском состоя-
нии, стремятся, таким образом, защититься и выработать свою оценку
событий6. Поэтому употребление в геополитическом лексиконе США
понятий «Большая Центральная Азия», «Великая Центральная Азия» свя-
зано не столько с исторической географией региона, сколько с отсутстви-
ем верификации «самости» Центральной Азии. В результате удлиняется
процесс формирования представлений о ней. Сам регион включается,
таким образом, в обыденные или новые геопространственные ниши -
концепт «Большого Среднего Востока». Такая экстраполяция, культурная
инверсия формируют искаженные представления о традициях, истории и
4 Воображаемая, образная география. Она демаркирует пространство на осно-
ве экстраполируемых образов, создает виртуальные границы.
5 См., например: Мирский Г. Исламский фундаментализм и международный
терроризм// Центральная Азия и Кавказ. 2001. №6; Абашин С. Исламский фунда-
ментализм в Центральной Азии: причины распространения, прогнозы на будущее^
Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 2.
6 См.: Шукуров Р. Таджикистан: муки воспоминания // Национальные истории
в советском и постсоветских государствах. Сб. статей. М., 1999. С. 247.
Ц. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
317
потенциальных угрозах со стороны Центральной Азии7. С помощью саи-
довской концепции ориентализма можно подумать, что это происходит
не столько из стремления описать данный регион, сколько из желания
господствовать там и каким-то образом защититься от него8.
Вместе с тем в представлениях Запада Центральная Азия не всегда
гомогенна. В настоящее время на ее карте проводится виртуальная гра-
ница, разделяющая восточное наследие, так называемый недемокра-
тизм/исламизм и переходное социокультурное и политическое состоя-
ние, ожидающее, по мнению Запада, заимствования «правильного» ев-
европейского опыта и распространения его на весь регион9. К первой
группе относят Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, а ко второй
Казахстан, Кыргызстан10. «Слишком часто, - писал депутат палаты об-
щин парламента Великобритании Джон Манн, - - мы рассматриваем
Центральную Азию как нечто цельное. Однако из стран этого региона
Казахстан демонстрирует наиболее динамичный прогресс, эта страна
приобретает черты либеральной демократии»11. Согласно стратегии
США, Казахстан «должен послужить в качестве маяка на этом пути»12.
Между тем современный образ Центральной Азии постоянно со-
вершенствуется за счет новых исторических, социальных, интеллекту-
альных и политических процессов. На этом фоне складывается несколь-
ко тенденций в самоидентификации региона. С одной стороны, страны
Центральной Азии, помещая себя в контекст глобальной истории, ак-
туализируют цивилизационные отношения между собой, с Россией, с
цивилизациями классического Востока и с Западом. Провозглашаются
идеи единства и универсальности истории Центральной Азии, стремле-
7 См.: УлунянА. «Большая Центральная Азия»: геополитический проект или
внешнеполитический инструмент? Доступно на: http://www.
fergana.ru/comments.php?id=5655; Бешимов Б. Большая игра и Центральная Азия:
перспективы и вызовы. Доступно на: http://www.analitika.org/article.php?stori=
2006016220445309; Касенов У. Новая «Большая игра» в Центральной Азии? Дос-
тупно на: http://www.ca-c.Org/jomal/08-1997/st_ll_kasenov.shtml#up; КаграмановЮ.
Зеленый бык на зеленом поле И Дружба народов. 2007. № 4. С. 151-161.
8 Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 36-37.
9 См. например: Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в
формировании европейских идентичностей. М., 2004.
10 См.: Терентьев А. Казахстан: укрощение «оранжевой» волны// Мировая
экономика и международные отношения. 2006. № 5; Салиев А. Киргизстан: ислам-
ские политические и религиозные силы // Россия и мусульманский мир. 2008. № 5.
11 Казахстан: история успеха глазами мирового сообщества. Алматы, 2006.
С. 8.
12 Там же. С. 12.
318
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
нис к объединению ряда исторических этнокультурных процессов и к
стиранию внутренних противоречий. Таким образом, системе социо-
культурного и хозяйственно-экономического развития придается спе-
цифика центральноазиатской цивилизации. Подчеркивается общность
исторических судеб народов региона, взаимопроникновение культур,
сходность образа жизни и менталитета и др.
Но есть и другая позиция, когда цивилизационная идентичность
достаточно жестко определенна по отношению к этничносги, культур-
ным идеалам, национальной территории, выступающими смысловыми
идеологическими конструкциями. Национальная история стремится к
регионализации и фундаменталистской реакции13. Перспективы взаи-
моотношений рассматриваются через столкновение мировых цивилиза-
ций, исключительность национальных категорий, антиисторизм. Обще-
значимыми становятся символы деконструкции прошлого:
искусственная экстраполяция несводимых друг к другу событий про-
шлого, вычеркивание из истории травматических сюжетов.
Обозначенные нами тенденции в постсоветское время сформиро-
вали определенную центрально-азиатскую методологию истории. Ве-
дущее место в ней занял цивилизационный подход, которому свойстве-
нен определенный концептуальный плюрализм в сфере историко-
культурных конструкций. Рассмотрим его в нескольких проектах на-
циональной истории:
1. Наиболее объективная и классическая позиция — это рассмот-
рение исторических и общих культурных закономерностей Централь-
ной Азии и Казахстана как своеобразной и целостной системы. Такой
подход нашел отражение в учебном пособии «История Казахстана и
Центральной Азии», появившемся в 2001 г. На страницах Sroro издания
ведущие ученые Казахстана и России пытаются проследить на протя-
жении тысячелетий не только территориальную близость и взаимовлия-
ние, но и общность культурно-исторических процессов. Для аргумента-
ции своей позиции авторы вводят понятия - глубоко интегрированное
единое геополитическое пространство, пространственно-временная
общность. При этом проводится последовательная критика этнизации
культурно-исторического наследия, преувеличения самобытности и на-
циональной исключительности14.
13 См.: Ионов И. Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: про-
блемы взаимодействия. М., 2007.
14 Абусеитова М. X., Абылхожин Ж. Б., Кляшторный С. Г. и др. История Ка-
захстана и Центральной Азии. Алматы, 2001. С. 5-6.
77. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
319
2. Иной по характеру цивилизационной идентичности является
точка зрения известного казахстанского ученого Н. Э. Масанова. Рас-
сматривая историю Казахстана через призму хозяйственно-культурных
типов, он формирует свою версию локальной цивилизации. По его мне-
нию, историю Казахстана нельзя рассматривать по шаблону китайской,
римской, византийской цивилизации, пытаться поставить ее вровень с
достижениями других культурно-исторических типов. Считая хозяйст-
венно-культурную идентификацию ведущей в дореволюционный пери-
од, Н. Э. Масанов вводит понятие казахская кочевая цивилизация. Этот
подход элиминирует многие версии истории советского периода и со-
временности и призывает исследовать кочевое общество как самобыт-
ное и типичное явление15. Рассматривая номадизм как фундаменталь-
ный тип самоопределения Н. Э. Масанов категорически не приемлет
симбиоза оседло-земледельческой и кочевой культур. «Если же его (ко-
чевника -П.ПГ) родители казахи, но он живет в Испиджабе, он - сарт.
Он - не казах. Казахом был только кочевник - номад». Основываясь на
этой логике, он призывает пересмотреть историю дореволюционного
Казахстана. В частности, Н. Э. Масанов требует отказаться от претензий
на государственную регламентацию общественных отношений, привне-
сенную в среду казахов значительно позднее - только в XVIII в., т.е. в
период российского протектората. Через призму этого взгляда
Н. Э. Масанов рассматривает причины так называемых национально-
освободительных движений казахов. Их образ, считает он, во многом не
соответствует реальности. Казахи боролись не за создание самостоя-
тельного государства, а, наоборот, против огосударствления16. Такая
позиция сегодня вызывает неоднозначные мнения в академической нау-
ке, но в целом отвечает сложившемуся еще с советского времени под-
ходу - определенным образом разграничивать хозяйственно-
культурные типы Центральной Азии.
3. Совершенно иным по характеру цивилизационных представле-
ний является подход, основанный на стремлении вписать историю сво-
его народа как можно шире и ярче в контекст мировой истории. Эти
попытки в странах Центральной Азии достаточно многообразны. В
1990-е гг. в Узбекистане получила развитие идея «Большого Туркеста-
на», что предполагало не только слияние и сближение культур Цен-
тральной Азии, но и признание Узбекистана одним из центров этого
15 Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов. А.-М., 1995. С. 24-25.
16 Масанов Н. Э., Абылхожин Ж. Б., Ерофеева И. В. Научное знание и мифо-
творчество в современной историографии Казахстана. Алматы, 2007. С. 122, 127.
320
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
региона. В Таджикистане была сформулирована концепция «Историче-
ского Таджикистана». Согласно ей, «Исторический Таджикистан» зани-
мал всю территорию современного Узбекистана, Таджикистана, значи-
тельную часть территорий Кыргызстана и Туркменистана, часть
территории Казахстана, Китая, Афганистана и Ирана! Эссенциализация
территории осуществляется на основе исторического расселения таджик-
ского народа в 1 тыс. н.э.17 В конкуренции за присвоение цивилизацион-
ного наследия не уступает и казахстанская историография. Изощренными
мифологическими проекциями, в контексте всемирной истории, отлича-
ются работы Е. Омарова, К. Даниярова, К. Закирышова, Асана Бахши,
А. Байбатши18 и др. По размаху «научных открытий» они не уступают
своим центральноазиатским и российским аналогам (Н. Фоменко,
М. Аджи, Я. Кеслеру). Так, например, Е. Омаров в своей интерпретации
национальной истории закрепляет за собой новое «научное направле-
ние»: «казахская цивилизация». По его мнению «предки казахов жили на
обширной территории: от западных стен Китая до Карпат и от тундры до
Ирана, которая заполнена городами... Значит, наша история и территория
древняя, знаменитая и большая, и вовсе не кочевники мы»!19
Как правило, признаки цивилизационной общности в таких работах
достаточно расплывчаты. И любая интерпретация становится конструк-
цией определенного воображаемого сообщества, объединенного своеоб-
разными парадоксальными идеями об общем происхождении, глобаль-
ном влиянии на мировую историю, этногенетических связях с романо-
германскими, славянскими народами, первостепенности национальных
символов, приобретших в последующем мировое значение. Совокуп-
ность этих факторов создает определенные мифологические иллюзии в
общественном сознании. На веру воспринимаются представления «о не-
обычайной древности своей этнической культуры и языка в целом и на
занимаемой ныне территории; происходит стремление проецировать со-
временные этнополитические границы как можно глубже в прошлое и
максимально расширить территорию древнего расселения своей этниче-
17 Абашин С. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности.
СПб., 2007. С. 196, 201.
18 См.: Омаров Е. С. Из истории казахской государственности и этимологии
этнонима казак// Конституция и цивилизационные процессы в Казахстане. Универ-
ситет «Кайнар». Алматы, 2005; Данияров К. История Чингисхана. Алматы, 2001;
ЗакирьяновК. Чингисхан. Сокровенное сказание казахов. Алматы, 2007; Байбат-
ша А. А. Антропогенная история Казахстана. Алматы, 2003.
19 Омаров Е. С. О журнале «Казахская цивилизация» // Казахская цивилиза-
ция. 2001. № 1. С. 3.
77. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
321
ской группы»; раздувается миф об «этнической семье» и «старшем бра-
те», что позволяет претендовать на важные привилегии и делать эти пре-
тензии естественными и законными; осуществляются «претензии на ис-
торический приоритет некоторых культурных (письменность) или
политических (государственность) достижений своих предков по сравне-
нию с предками соседних народов (миф о культуртрегерстве)»20 и др.
4. В отдельную группу можно включить некоторые геополитиче-
ские идеи, актуализирующие общезначимость этнополитических про-
цессов для народов Центральной Азии в контексте истории и современ-
ности. Например, реанимация идеи пантюркизма, получившей заметное
распространение в Узбекистане. Она основывается на общем самосоз-
нании тюркских народов, едином культурно-историческом наследии,
идее объединения усилий для отстаивания интеллектуальных, полити-
ческих интересов. Необходимость внедрения идеологии пантюркизма в
контекст истории Центральной Азии обоснована следующим образом:
во-первых, для положительной самооценки народа (тюрк значит пред-
ставитель великого народа, владел огромными территориями и т.д.); во-
вторых, общетюркский подход способен решить проблему «дележа ис-
торического наследия». Нет необходимости четко определять этниче-
скую принадлежность культурных героев, загонять национальную ис-
торию в строгие хронологические рамки. Разделяющий родоплеменной
фактор становится объединяющим. При этом подача материала в таком
ракурсе на страницах учебников истории позволила бы сгладить острые
моменты в истории и улучшить, таким образом, климат взаимоотноше-
ний между современными тюркскими народами21. Подобной по разма-
ху, но менее этноцентричной является идея евразийства. С ее помощью
конструируется схема бесконфликтного и взаимодействующего способа
Исторического существования народов Центральной Азии. В литературе
Евразийство имеет множество репрезентаций. Одна из них - это «Хру-
стальные мечты тюрков о квадранации» М. Барманкулова. В основе
этой книги - идея слияния отдельных лучших черт разных народов для
создания более высокой цивилизации и жизненного уровня. По мнению
автора, тюрки в своей истории предлагали нечто подобное - квадрана-
Цию и квадрогосударство. Довольно легко такая связь переносится в
20 Шнирельман В. Ценность прошлого: этноцентрические исторические мифы,
идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов / Под ред.
А. Малашенко, М. Б. Олкотт. М., 2000. С. 22.
21 Козырев Т. Феномен пантюркизма в контексте казах(стан)ской националь-
ной истории // Саясат. 2008. № 5. С. 78-79.
322
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
символическую плоскость современной Центральной Азии. Ее образ
создастся на основе мечты о сильном тюркском государстве с лучшими
качествами нс одного, а разных народов22.
Как видим, современные формы цивилизационных представлений
о Центральной Азии неоднозначны. Достаточно сложно их подвести
под классические маркеры локальных цивилизаций А. Тойнби как «со-
циокультурной общности, сформированной на основе локальных цен-
ностей»23 24 или О. Шпенглера как «группы народов подчеркнуто выра-
женного стиля и единого мирочувствия, пребывающие под влиянием
имманентной государственной идеи» . Это все равно, что рассматри-
вать современность через дихотомию постмодерный Запад и классиче-
ский Восток, используя «очки» колониального ориентализма. «Аполо-
гетические истины» сегодня уже не могут восприниматься на веру. В
первую очередь, снижается роль религии в качестве цивилизационного
маркера. Сохраняя функцию духовного самораскрытия культурно-
исторического наследия, она потенциально уже не способна быть свя-
зующим звеном между территорией проживания народов и границами
распространения национальной идеи. Несмотря на это, в европейском
дискурсе о Центральной Азии сохраняется привычное значение религи-
озного фактора. В ходе перманентных взаимоотношений он становится
ярлыком для так называемых «цивилизационных столкновений». Иначе
говоря, цивилизации Запада стремятся маркировать Восток каким-то
«единым или лишь незначительно варьируемым видением сверхчувст-
венной реальности», принимая прочее «как этнографическую или пси-
хологическую экзотику»25. В силу современной неадекватности многих
классических цивилизационных критериев происходит моделирование
новых региональных проектов цивилизационного строительства. Оно
осуществляется, по мнению В. Цымбульского, с учетом типа огосудар-
ственной социальности, представления себя как носителя независимого
знания со свободным выбором характера диалога с внешним миром. На
этой основе цивилизация создает «геополитический режим определен-
ного, географически достоверного автономного ареала, выстроенного
на мировой карте как “твердыня” данной цивилизации»26.
22 Барманкулов М. Хрустальные мечты тюрков о квадранации. Алматы, 1999.
С. 404-405.
23 Тойнби А. Д. Постижение истории. М., 2006. С. 85-88.
24 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 197.
25 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 54.
26 Цимбульский В. Цивилизация - кто будет ей фоном? Доступно на:
http://www.archipelago.ni/text/141.htm.
Ц. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
323
Репрезентация национальной истории,
постколониальиый дискурс и мифотворчество в Казахстане
Современная репрезентация истории Казахстана в общественном
сознании предстает перед нами как символическая комбинация историче-
ских знаний, контекстно обусловленных и направленных на формирова-
ние целостных ментальных и геокультурных образов. Два из них являют-
ся приоритетными: образ народа с его историей и культурой и образ
страны на фоне современного мирового процесса. Потенциал националь-
ной идентификации раскрывается через решение трех вопросов: Кто я?
Кто мы? Мы и они? Первый реализуется путем социокультурного само-
отождествления с семейно-клановыми, национально-территориальными,
религиозно-идеологическими уровнями социализации. Большое внима-
ние патриархально-родовым традициям, культу предков является следст-
вием архетипов, которые предстают в виде репрезентаций роли семьи,
родственных связей, образа жизни, религии. Ритуализация истории, таким
образом, выражается в подчеркивании семейно-брачной обрядности
предков, символизирующей гостеприимство, коллективную память, ува-
жение старших и др.27 Жертвоприношения, традиционные праздничные
церемонии и конноспортивные состязания проводят связь между совре-
менностью и образом жизни кочевника. Сохранение традиций, суеверий,
тотемных и анимистических верований символизирует синкретичность и
богатство духовного мира, многомерность восприятия времени.
Поэтому наиболее эффективной формой индивидуального созна-
ния является формирование общих эмоционально-духовных символов.
В этом случае человеческое «Я» репрезентируется как показательный
примерный образ в персонифицированных памятниках истории. Они
символизируют определенные эпохи и их культурных героев (первый
тюрк, батыры, Алдар косе, ханы, люди из народа и др.), выражающих
причастность современного индивидуального сознания системе нацио-
нально-государственной реактуализации. С другой стороны, согласно
лакановской концепции воображаемого, символического, реального,
самосознание предстает как комплекс иллюзорных представлений, иг-
рающих роль его защиты и самозащиты от влияния глобальных перемен
и экспансии модернизма28. Здесь символизация тождественности и по-
27 Сохранение традиционных праздников, обрядов и вовлечение через ритуал
в них молодежи является самым прочным способом духовного самопознания своей
Истории, формирование целостных представлений о ней.
28 Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция науч-
ного мифа. М., 1998. Доступно на: http://www.chat.ru/yankos/ya.html.
324
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
добия призывает вспомнить своих героических предков: нечего искать-
замещать - просто нужно к нему вернуться. Таким образом, формирует-
ся эссенциалистское мышление, презентующее этичность как очевид-
ное и естественное явление. Идентификация на уровне группы, общно-
сти строится путем сочетания универсализма с конкретными особенно-
особенностями национальной истории, особенностями страны, этноса.
Важно не просто показать присутствие в истории элементов - «казах-
ский», «государственный», «национальный», но и отразить стремление
к образу нации как общности граждан одного государства.
Один из вариантов - это презентация уникальности и многогран-
ности своей культуры, признание себя наследниками великих цивили-
заций. С учетом классической инструменталистской методологии неко-
торыми авторами изобретаются понятия «казахская цивилизация»,
тюркская вселенная, «Казахия», встречающаяся якобы у Геродота29.
Великие исторические деятели Аттила, Чингисхан, Аспарух в работах
К. Даниярова, К. Закирьянова получают этническую идентификацию -
казах. Все это делается, по словам того же К. Закирьянова, не только с
учетом формирования национального гражданского сознания, но и для
обеспечения обобщенных представлений своего народа о его великом и
героическом прошлом30. Отсюда этногенетическая мифологизация со-
бытий, выступающих скорее как экспрессивная фиксация коллективно-
го сознания, а не историческая память, символизирует счастливое обре-
тение Родины, этнической семьи, этнического единства. Поэтому мифы
о едином Тюркском Эле, «казахской цивилизации», преувеличивая сте-
пень этнической консолидации в древности, формируют эссенциализм
нации как достаточно позитивное в политическом отношении явление.
Особенно показательны мифологические \ измышления
Дж. Черчварда, творчески переложенные Б. Адиловым на казахскую
историю31. Если прежняя история, по словам казахского автора, явля-
29 См.; Омаров Е. С. О журнале «Казахская цивилизация». С. 3; Бесбаев М.
«Казахия» встречалась у Геродота // Советы Казахстана. 1993. 21 января. С. 6.
30 См.: Данияров К. Указ. соч. С. 23; Закирьянов К. Указ. соч. С. 59, 74.
31 Свою мифологическую историю древней единой цивилизации человечества
Б. Адилов построил на «методологии» англичанина Дж. Черчварда, который в коло-
ниальной Индии в конце XIX в. написал достаточно фантастическую историю о
«працивилизации Му». Ею казахстанский последователь попытался, опираясь на
выводы Черчварда, доказать, что все первые символы человечества сохранились в
этнографии казахского и других тюркских народов мира. См.: Адилов Б. Долгая
песнь агунов или гунны заговорили. Краткая альтернативная история человечества.
Алматы, 2006. С. 25-29.
п. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
325
лась «седлом» европоцентризма, то «реальная история человечества
глазами казаха» представляет, что все прошлое сотворено гуннами -
«прямыми предками казахского и всех других тюрко-язычных наро-
дов». Одно их доказательств - это размещение в повседневности казах-
ской культуры всей цивилизации человечества (казахская юрта, родо-
вые тамги по сходству графических элементов связываются автором с
символами бога Солнца Ра, государственными гербами некоторых со-
временных народов). Конечно, параллели не могут отрицаться, но
именно у Б. Адилова эти символы обретают одну Родину - державу
гуннов32. Как видим, чрезмерная манифестация псевдонаучными этно-
культурными категориями по природе имеет трайбалистскую и нарцис-
сическую (вспомнить себя как можно полнее, не упустив ни одной де-
тали) форму мышления. Эссенциализация усилена в данном случае
синдромом национальной уязвленности, «волей к забыванию» колони-
ального прошлого, попыткой вместо истории подчинения (угнетения)
«выдвинуть на авансцену истории самодостаточный, замкнутый нарра-
тив национального, в котором колонизатор или занимает маргинальное
место, или вообще не существует»33.
Коллективные представления усиливаются и другим путем. Один из
них - удревнение своей генеалогии. Так появляются потомки легендар-
ных исторических деятелей, привилегированное сословие (торе, чингизи-
ды)34. Все это играет большую роль в переходный период истории, когда
общественное сознание больше всего подвержено травме, потере ориен-
таций. Создается символ-замещение, который направлен на утопические
спекуляции для безболезненной психологической трансформации обще-
ства. Один из них - это, например, миф о Золотом веке тюркской цивили-
зации, символизирующий беспечность, покой, гармонию, уверенность в
будущем и непроблематичность35. Репрезентация истории здесь основы-
вается на замещении и обосновании «вновь открывшихся» фактов и сви-
детельств как утаенных, скрытых от народа. В жанре политических био-
32 Книга изначально носит предвзятый характер. Позиция автора достаточно
ясна: «...дать пищу историкам-идеологам возрождающегося Казахстана, дабы они
скинули с себя «седла» европоцентризма и смогли самостоятельно глянуть в про-
шлое человечества»... (Там же. С. 29).
33 Бобков И. М. Постколониальные исследования // Постмодернизм. Энцикло-
педия. Минск, 2001. С. 568.
34 См.: Масанов Н. Э., АбылхожинЖ. Б., Ерофеева И. В. Указ. соч. С. 198.
35 См. теоретические работы: Фрейденберг О. М. Утопия // Вопросы филосо-
фии. 1990. №5. С. 141-167; ЭлиадеМ. Миф о благородном дикаре, или престиж
начала. Доступно на: http://www.gumer.info/
326
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
графий появляется серия «Возвращенные имена»36. Национальная интел-
лигенция, вычеркнутая из памяти народа в советский период, обретает
яркое символическое значение: именно эти умные и благородные люди
были вырублены из генофонда нации37. Отсюда характерный символиче-
ский лейтмотив: нужно воспитываться мужественностью, благородством
и порядочностью этих лиц. Этот важный аспект формирования идентич-
ности хорошо выражен в характере написания учебников, в ономастике,
памятниках истории и культуры. Закрепляется не только ряд новых имен,
но и символических репрезентаций. Такие понятия как степная цивилиза-
ция, алаш, тюркский суфизм/яссавийа, ашина - символизируют признаки
исторической общности.
Формирование национальной идентичности в условиях переходно-
го периода обусловлено комплексным взаимовосприятием: мы и они.
Адекватность трансформации прежней политической системы проявля-
ется в складывании эмоций самоотчуждения. Недавнее прошлое, как
ущербное, воплощается в символах жертвы. Советский Союз приобре-
тает черты «империи зла», «тюрьмы народов», символизируя бремя
(иго, ярмо), угнетение и подавленность (мемориал «Алжиру» в Аста-
не)38. Попытка разорвать связь с таким прошлым есть стремление найти
собственное место через отчуждение Другого как внешнего, навязанно-
го исторической ситуацией. Следствием этого может быть пропаганда
ненасилия, справедливости, символически приуроченная к междуна-
родным правам человека и общезначимым ценностям. В период кризиса
прежней системы и формирования нового политического аппарата ак-
ции самоотчуждения (протеста) наиболее значимы. Они носят церемо-
ниальный, демонстративный характер. Мы хорошо помним декабрьские
события 1986 года, движение «Нсвада-Семипалатинск», кассовые реа-
билитации в конце 1980-х репрессированной интеллигенции. Образ на-
ции здесь преподносится как вырвавшийся их «колониальных тисков»,
которые как мертвое и больное подлежат уничтожению или разруше-
нию. Такая ситуация очень удобно встраивается в дискурс угнетенного
М. Фуко, «освобождение человека» как преумножение способов сопро-
тивления подавляющим элементам истории. «Бунт порабощенных зна-
36 В этой серии вышли биографии репрессированных деятелей партии
«Алаш»: А. Байгурсынова, А. Букейханова, М. Дулатова и др.
37 Кармадонов О. А. Социология символа. М., 2004. С. 291.
38 Образ девочки в сидячей позе, сгорбленной и высохшей, символизирует по-
давленность, скорбь. Мемориал Акмолинскому лагерю для жен изменников Родины-
Астана.
С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация...
327
ний» здесь не просто попытка утверждения новой познавательной само-
тождественности, но и стремление показать, что в истории нет постоян-
ных приоритетных ролей39. С другой стороны, переживание разрыва с
прошлым и забвение его травм означает, что мы способны к отказу от
субъективного стремления приватизировать прошлое и закрепить за
ним статус смыслового конструкта. Человек становится тем, кем он
больше не является (освобождаясь от вины и бремени прошлого), он
смотрит на то, что впереди. Холокост, ГУЛАГ предстают уже не просто
как ужасающая память, но в большей степени как величайшие события
истории, одно упоминание о которых порождает диссоциацию иден-
тичностей и производит терапевтический эффект. Можно жить с этим
или превратить это в единство памяти и забвения, тогда воспоминания о
прошлом становятся вечным прошлым. Таким образом, ситуация само-
определения, свободного выбора нашего отношения к истории это
единственный путь к свободе, единственная форма обретения каждым
своей собственной, уникальной исторической самоопределенности40.
После распада Советского Союза как определенной геокультурной
и политической конструкции перед народами Центральной Азии встала
проблема поиска культурно-исторических ориентаций, поиск друзей и
союзников. Идея суверенного государства, автохтонного населения,
исторической самобытности, обусловленной образом жизни и культу-
рой, акцентировали отказ от тотальной вестернизации. Центральная
идея - это репрезентация общности исторических судеб у народов,
проживающих в Центральной Азии. Поэтому соотношение «мы» и
«они» в официальном дискурсе оформляется в привычных еще с совет-
ского времени тонах - братские республики, общая религия, родствен-
ный язык, традиции и т.д. Тогда как историческая судьба представляет-
ся в виде общей травмы - колониального прошлого, общих врагов,
единой борьбы против угнетателей. Интересным примером является
появление в современности ложных конструкций квазиисторических
репрезентаций. Ими изобилует как учебная, так и научная, и художест-
венная литература. И. Ерофеева, разоблачая один из исторических под-
логов - «отрывок из дастана Елим-ай» (презентируемый как источник
39 См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности.
М., 1996. Доступно на: http://www.chat. ru/yankos/ya.html.
40 Анкерсмит Ф. А. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 160; Рез-
вых П. Опыт разрыва и событие любви (тезисы об «историческом опыте»
Ф. Анкерсмита и «вечном прошлом» Ф. Шеллинга) // Новое литературное обозре-
ние. № 92. 2008. Доступно на: http://www.nlobooks.ru/rus/
328
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
ХУШ века, «неожиданно обнаруженный» в начале 1990-х годов), видит
в нем намерение авторов провести «логическую связь его содержания с
идеей этнической мобилизации и консолидации населения республики
на основе собирательного образа его общего внешнего врага». В этой
роли попеременно выступают джунгары, русские, китайцы, уйгуры.
Веру в такие идеи пытаются усилить импровизацией с фактами. В сочи-
нение проводится мысль о многолетней военной поддержке Россией и
Китаем Джунгарского ханства с целью уничтожения всех мусульман41.
Характерно, что такой идеологический дух стал уже реальностью и для
многих научных работ и учебных пособий42 43.
Итак, постколониальный дискурс и мифотворчество являются
наиболее показательными примерами контекстно-обусловленной репре-
зентации национальной истории. Актуализируясь в виде обобщенных
символических форм, историческое знание усиливает эссенциализацию
этничности (исключительность этнических различий), травматическую
реставрацию исторической памяти, способствует внедрению в общест-
венное сознание таких мировоззренческих парадигм как евразийство,
пантюркизм. Вместе с тем пластичность использования разнообразных
социальных конструкций (мифов, мировоззренческих норм, социально-
исторических идеалов) может адаптировать и интегрировать в полиэт-
ническом обществе неоднородные элементы: национальность, граждан-
ство, религию, право, утопические идеи. Провозглашается лозунг -
общность исторических судеб, многоконфессиональное и полиэтниче-
ское государство. Имидж страны, построенный на таких представлени-
ях, создает позитивную оценку и притягательную силу для соседей, а
знания по истории выступают в виде двойной реализации - «в смысле
понимания объективированной социальной реальности и'в смысле нс-
« 43
прерывного созидания этой реальности» .
Совершенно очевидно, что современная историография Централь-
ной Азии и Казахстана переживает сложный переходный период. Как и
в любом постсоветском государстве, критика марксистско-ленинской
методологии способствовала росту национальных репрезентаций исто-
41 Автором-издателем этого сочинения «историографами» назван знатный батыр
племени керей Среднего жуза Кожаберген-жырау Толыбайсыншынулы (1683-1786).
См.: Масанов Н. Э„ Абылхожин Ж. Б., Ерофеева И. В. Указ. соч. С. 194,195,198.
42 Укажем лишь на некоторые из них: Садвакасова 3. Т. Духовная экспансия
царизма в Казахстане в области образования и религии. Алматы, 2005; Тулебаев Т. А.
История древнего мира. Алматы, 2005; Абдакимов А. История Казахстана (с древ-
нейших времен до наших дней). Алматы, 2003.
43 Кармадонов О. А. Указ. соч. С. 172.
Ц. С. Шаблей. Ценность прошлого и репрезентация... 329
рии. С одной стороны, геополитическая реальность усилила потреб-
ность в интеграции исторического знания в форме цивилизационного
подхода, а с другой, постепенно стала рушиться иллюзия о том, что
Центральная Азия и Казахстан могут рассматриваться в широкой ретро-
спективе как целостный объект истории с общим историко-культурным
наследием. Жесткий социально-политический контекст национальных
историй углубил тенденции регионализма и выдвинул самодостаточный
национальный нарратив. Диалектика национального сознания стала ко-
лебаться от общезначимости исторических судеб, языка, религии до
дележа культурных героев, спора о границах, выпячивания травматиче-
ских сюжетов исторической памяти. Кризис методологии и научных
школ породил волну научно-популярного мифотворчества, которое ста-
ло своеобразным откровениям для любителей всякого рода сенсаций и
«белых пятен», к которым еще не способна приблизиться академиче-
ская наука. Этот бум формирует сегодня актуализацию исторического
знания как «подлинного, сокровенного», одним словом притягательного
для искушенного и травмированного общественного сознания.
В. Г. РЫЖЕНКО
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА, РЕГИОНОВЕДЕНИЕ,
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ
ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ “ПРИСВОЕНИЯ ПРОШЛОГО”*
В предложенном названии соединены две равноправные линии для
размышлений. Первая связана с активизацией в последние годы разно-
направленных изменений во внутренних проблемных полях каждой из
выделенных областей научного знания. Эти изменения инициируются
сложными отношениями соответствующих наук с обществом, которое
либо востребует результаты их деятельности, либо нет. Отсюда для всех
из указанных наук есть одна общая проблема востребования создавае-
мого интеллектуального продукта/ресурса, актуализированная в на-
стоящее время предельно остро. Вторая линия также связана с транс-
формацией «социального заказа». Она выводит на различные формы
понимания и интерпретации в современном обществе проблемы «при-
своения прошлого». Среди них далеко не последнее место занимают
«силовые» акты такого его «присвоения», которые используются в ин-
тересах отдельных социальных групп и/или личностей (при разработке
политтехнологий, коммерческих проектов, рекламных текстов и т.д.). В
этом случае прошлое становится искусным инструментом манипулиро-
вания массовым сознанием.
Подобная ситуация заставляет историка задумываться над собст-
венным участием в происходящем и определять возможные направле-
ния своих действий в сложившейся ситуации. В рамках предлагаемой
статьи ограничусь тремя задачами. Во-первых, выяснить, как внутри
каждой из обозначенных областей научного знания рассматривается
проблема «присвоения прошлого»; во-вторых, определить, какие потен-
циальные условия имеются для междисциплинарной кооперации ука-
занных наук/областей знания по изучению данной проблемы; в-третьих,
обозначить возможные исследовательские модели для реализации об-
щих проектов и приоритеты внутри комплекса источников.
Каждая из названных областей научного знания пережила (и про-
должает переживать) на рубеже XX- XXI вв. полосу кардинальных пе-
ремен. Об этом уже немало написано. Применительно к исторической
науке тенденции ее развития в интеллектуальном пространстве «без
границ» отражаются в материалах издающегося с конца 1990-х гг. аль-
В. Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение...
331
манаха «Диалог со временем». О близости интересов исторической нау-
ки и регионоведения (отечествоведения, родиноведения, страноведения)
свидетельствуют давние убеждения российских ученых, забытые теоре-
тико-методологические подходы и образовательно-исследовательские
практики. Вспомним, например, неоднократно встречающееся в трудах
И. М. Гревса высказывание: «География и история - две родные сест-
ры» и его же методику экскурсионных исследовательских погружений.
Недавний поворот к моделированию геокультурных образов террито-
рий в контексте процессов пространственного взаимодействия различ-
ных культур, субкультур, этносов и цивилизаций соединил культуроло-
гию, историческую науку и географию, обозначив в качестве нового
самостоятельного исследовательского направления «гуманитарную гео-
графию» (Д. Н. Замятин* 1). Отсюда появился еще один мощный фактор,
стимулирующий продуктивную кооперацию.
Однако интрига, пронизывающая современное интеллектуальное
пространство, сводится пока к борьбе за приоритет «материнской пла-
ты», из которой вырастает либо «историческая регионалистика», либо
«региональная история», либо «историческое регионоведение». Некото-
рые из относительно недавних трудов теоретического характера2 3 заяв-
ляются как поиск базовых положений, необходимых для теоретического
осмысления региональной проблематики, но исходят из географических
приоритетов. Подобные издания рекомендуются культурологам, фило-
софам, социологам, но игнорируют историков. Другая позиция у акаде-
мика В. В. Алексеева, который считает, что изучение региональных
проблем, вышедшее на передний край гуманитарных исследований к
концу XX века, должно происходить в дамках нового научного направ-
ления - исторической регионалистики . Отсюда создание такого на-
правления - миссия исторической науки. О начале движения по пути
кооперации историков, географов и экономистов для разработки регио-
нальной истории как предмета исторического исследования свидетель-
ствуют материалы сборника «Регионы и регионализм в странах Запада
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государст-
венный контракт 02.740.11.0350.
1 Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических
образов. М., 2006; Гуманитарная география: Научный и культурно-просвети-
тельский альманах /Сост. и отв. ред. Д. Н. Замятин. Вып. 1-4. М., 2004—2007.
z См., например: Попов П. Л. Элементы теории регионов. Новосибирск, 2005.
3 Алексеев В. В. Регионализм в России. Екатеринбург, 1999.
332
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
и России», подготовленного под эгидой Института всеобщей истории
РАН4. Непосредственно для выделенной проблемы «присвоения про-
шлого» отмечу из его текста важный акцент, указывающий на условия
появления региональной истории, а, следовательно, и возникновение в
перспективе «исторической регионалистики» внутри исторической нау-
ки. По мнению Р. Ф. Иванова, региональная история появляется только
там и тогда, когда тот или иной регион какого-либо государства облада-
ет своей специфической историей, порождаемой особенностями этниче-
ского, культурного, религиозного и прочего порядка, когда эти особен-
ности выделяют данный регион из числа других районов страны5.
Специфичность «прошлого» отдельного региона «рождает-
ся»/конструируется в умах и действиях тех, кто осуществляет акт его
«присвоения», выбирая для этого ту или иную форму.
Поэтому следует договориться, что в дальнейшем будет понимать-
ся под «присвоением прошлого». Совпадает ли это с мобилизацией ис-
торической памяти для поисков индивидуальной и коллективной иден-
тичности? В развитии этого вопроса возникает следующее уточнение:
«Кто осуществляет мобилизацию памяти»? Памяти, превратившейся,
как пишет Л. П. Репина, в конце XX века в ценность, соответствующую
плюралистическому видению прошлого6. И в то же время она обраща-
ется к метафоре «зеркала» (для прошлого), перед которым примеряются
новые его образы в качестве единого национального прошлого, соответ-
ствующего запросам Времени/его Вызовам. Вдумаемся в предложенное
рассуждение: «Метафора “зеркала” в применении к прошлому и исто-
рии верна только в том смысле, что, на самом деле, “век нынешний”
вовсе не ищет в нем аутентичный образ минувшего, а смотрится в это
зеркало (т.е. смотрит именно на себя) все с той же целью самоиденти-
фикации, пристально “вглядываясь” в свой собственный лик...» (выде-
лено Л. Р.). Тем самым, «рассказываемая» зеркалом «вся правда» пре-
вращается в допустимый воображением/воспоминанием вариант
«героического» и/или «самого лучшего» прошлого.
Каковы различия между «воспоминаниями о прошлом» и «при-
своением прошлого»? На мой взгляд, в первом случае востребуют-
4 Регионы и регионализм в странах Запада и России. М., 2001.
5 Иванов Р. Ф. Региональная история как предмет исторического исследова-
ния // Регионы и регионализм в странах Запада и России... С. 78.
6 Репина Л. П. Память и знание о прошлом в структуре идентичности // Диалог
со временем. 2007. Вып. 21 [Специальный выпуск: Исторические мифы и этнона-
циональная идентичность]. С. 7-8.
в. Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение...
333
ся/мобилизуются ностальгические образы (они способны утверждать
позитивные мифы). Во втором случае доминируют героические, более
жесткие, если не сказать даже резче - агрессивные образы (отсюда в
конструируемом с их помощью «едином» национальном прошлом ут-
верждаются мифы имперские в качестве национально-государственных;
их крайняя форма - националистические). Под мифом в данном случае
используем второе значение из предлагаемых для различения
Л. П. Репиной7: это то, что считается в данном сообществе правдивым,
реальным, истинным в рамках определенной картины мира (хотя и не
может быть доказано эмпирически).
Таким образом, для нас «присвоение прошлого» - сугубо субъек-
тивный волевой акт мобилизации исторической памяти, который обес-
печивается/осуществляется при наличии «воли к образам»
(Д. Н. Замятин8), когда востребуются именно героические, прослав-
ляющие единое национальное прошлое историзации мифа и они стано-
вятся стержнем стратегий развития страны, региона (регионов) и т.д. в
самом широком смысле. Отсылка к выражению, употребляемому
Д. Н. Замятиным, весьма существенна в плане решения второй из по-
ставленных мною задач, поскольку его труды демонстрируют еще один
уже реализованный вариант исследовательской кооперации и согласо-
вание усилий метагеографии/гуманитарной географии, истории, куль-
турологии. В итоге продемонстрированная ученым «воля к кооперации»
способствует повороту проблемы «присвоения прошлого» к поиску
ментального ядра цивилизационной идентичности, имеющего в россий-
ском варианте неразделенность пространства и цивилизации. Отсюда
особое значение приобретает союз/синкретическое слияние истории и
географии для восприятия специфики российских процессов идентифи-
кации на всех уровнях (национально-государственном, региональном,
локальном, коллективном и индивидуальном). При этом придется учи-
тывать пространственное моделирование образов «присваиваемого
прошлого». Тем самым в волевом акте мобилизации исторической па-
мяти как фундаментальном мыслительном процессе, по мнению
Д. Н. Замятина, «глубочайшем и незавершенном», происходит выход на
следующий уровень научных представлений о способах «всматривания
в зеркало». В их число можно включить распределение «присваиваемо-
го прошлого» по «Местам памяти» и его репрезентацию с помощью
7 Там же. С. 6.
8 Замятин Д. Н. Россия и нигде: географические образы и становление россий-
ской цивилизационной индентичности //Диалог со временем. 2008. Вып. 24. С. 64-90.
334
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
комбинаций «знаковых фигур» («Фигур памяти») внутри метанарратива
соответствующих профессиональных историографических практик.
Вернемся к вопросу о формах и степени участия историков в реше-
нии проблемы использования прошлого для воспроизведения опор кол-
лективной и индивидуальной идентичности, а также об их настроенности
на продуктивную научную кооперацию. Рассуждения на этот счет ос-
ложняются нссформированностью набора необходимых понятий. Так,
при выяснении, насколько позиция историка свободна от «силовых ак-
тов» по отношению к «присвоению прошлого», возникает необходимость
развести понятия «научное историческое знание» и «профессиональное
знание». На это обстоятельство обращает внимание М. Ф. Румянцева9 и
делает весьма существенную оговорку относительно линейного типа ис-
торического знания, которое лучше всего работает на обеспечение на-
ционально-государственной идентичности. По ее мнению, интеллекту-
альная ситуация в XX веке изменилась, кроме того, в условиях
манипуляционного общества возрастает проблема ответственности исто-
риков как профессионалов. М. Ф. Румянцева права в своем утверждении,
что время грандиозных метанарративов национально-государственного
уровня прошло, а историки пока нс научились “рассказывать” историю
“нелинейно”, учитывая при этом еще и меняющийся «социальный заказ».
Опасения, что профессиональные историки, поддавшись на соблазн
славы и мирских выгод, будут способствовать управлению коллективной
памятью, высказывал еще в середине 90-х гг. прошлого века Пьер Бурдье.
Его тревога относительно конструирования и усиления полюса мемори-
альной истории под влиянием рынка и светского успеха была услышана
многими и обсуждается. Достаточно снова сослаться на специальный
выпуск альманаха «Диалог со временем»10 11. Вместе с тем, стоит прислу-
шаться к рассуждениям М. Ф. Румянцевой и осознать, что в профессио-
нальной работе историка наличествуют как минимум две составляющие:
это конструирование исторических мифов и их деконструкция".
Предлагается учитывать, что в современной ситуации, когда про-
исходит кризис идентичности линейного типа, сопровождающийся по-
явлением возможностей самоидентификации во всем социокультурном
пространстве, обеспечение идентичности является унивсрсаль-
ной/«сквозной» (по выражению М. Ф. Румянцевой) функцией историче-
9 Румянцева М. Ф. “Места памяти” в структуре национально-исторического
мифа // Диалог со временем. Вып. 21. С. 106-118.
10 Диалог со временем. Вып. 21. С. 18-19.
11 Там же. С. 111.
Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение...
335
ского знания. В этом случае проблема участия историков в реализации
своего предназначения, а также проблема кооперации их с представите-
лями других областей знания для разработки ин-
тер(поли)дисциплинарных исследовательских моделей поворачиваются
еще одной стороной, о которой шла речь в докладах конференции «Тео-
рии и методы исторической науки: шаг в XXI век»12. В виде четкого во-
проса это выразила Г. И. Зверева: «Кто определяет порядок и смысл того,
что такое история?». Рискну слегка изменить формулировку и добавлю:
И что такое «Места памяти» для профессионалов и для «широких масс»?
Перечитывая рассуждения современных историографов и, в част-
ности, вновь обращаясь к упоминавшимся материалам альманаха, мож-
но выстроить своеобразную классификацию внутри современного исто-
рического «цеха». К первой группе отнесем профессиональных
историков, которые воспринимают прошлое как ценность само по себе
и пишут для профессионалов. Их профессиональный статус можно оп-
ределить как статус «экспертов», чьи заключения могут быть либо вос-
требованы, либо отвергнуты. Во вторую группу войдут профессиональ-
ные историки, активно участвующие в «конструировании»
коллективной памяти, отвечая на «социальный заказ» со стороны
имеющих «волю» к соответствующим образам. Назову их «транслято-
рами-технологами». Их интеллектуальная деятельность связана пре-
имущественно с конструированием исторических мифов. При совпаде-
нии содержания соответствующего мифа с ожидаемым заказчиком
результатом является вариант «полуофициальной истории». Такого ро-
да «продукты» профессиональной деятельности историков чаще всего
востребуются для укрепления национально-государственной идентич-
ности и коллективной памяти при подготовке юбилеев тех событий,
знаковую роль которых следует «вписать» в массовое историческое
сознание. Наконец, можно выделить третью группу профессиональных
историков, которые намерены (или берут на себя задачу) изучать про-
цессы формирования исторической памяти с целью приращения знания,
разработки и апробации нового инструментария, в том числе междис-
циплинарных моделей. Представители этой группы - это «эксперты-
экспериментаторы». Их занятия ближе всего к проблемному полю ин-
теллектуальной истории, а также к деконструкции исторических мифов,
создаваемых официальной и полуофициальной историей. Проблема
востребования их результатов обществом осознается как открытая. Воз-
12 См.: Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы меж-
дународной конференции. М., 2008.
336
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
никает вопрос: «Куда же отнести тех историков, которые работают или
стремятся работать в полидисциплинарном пространстве, в кооперации
с другими, в том числе далеко нс смежными областями?» Остаются ли
они пока в своего рода личинах «чужих среди своих» и, естественно,
«чужих среди чужих»?
Стоит обратить отдельное внимание на такой аспект проблемы,
который в виде вопроса поднимает М. Ф. Румянцева и на ее собствен-
ный вариант ответа. Итак, она спрашивает: «Стоит ли деконструировать
«Места памяти» и разоблачать их в массовом сознании?»13. Ее ответ
включает позицию с точки зрения профессионального историка (безус-
ловно, стоит). Другой вариант стоит, но с большой осторожностью,
поскольку это может разрушить уже сложившуюся в массовом созна-
нии целостность восприятия «разумности» некоторых «мест памяти».
Добавлю, что второе очень важно на уровне поисков региональной и
локальной идентичности.
Рост внимания к «новой локальной истории», дискуссии современ-
ных российских историков (М. П. Мохначева, С. И. Маловичко,
М. Ф. Румянцева, Т. А. Булыгина и др.) о ее статусе и соотношении с
краеведением придали дополнительную остроту происходящему движе-
нию к эффективной междисциплинарной кооперации. Вместе с тем ло-
кальные и региональные аспекты проблемы «присвоения прошлого» в
контексте национально-государственной версии исторической памяти в
настоящее время обрели особый смысл. Речь идет о выборе историка ме-
жду участием в создании «осколочной», насыщенной новыми мифами
памяти (ответ на заказ Власти), и поиском исследовательской модели для
реконструкции специфики закрепления в культурной памяти тех или
иных фигур российской истории, в том числе и их циклического востре-
бования в регионах. Путь к конструированию такой модели можно опре-
делить, отталкиваясь от различных новейших подходов, в частности,
наиболее близких нам по проблематике трудов Ф.-Б. Шенка14, учитывая
возможную кооперацию исторической науки, рсгионовсдения и культу-
рологии. Причем «фигуры памяти», требующие от «исследователя-
экспериментатора» первостепенного внимания, могут быть обнаружены в
арсенале «присвоенного местного прошлого» одновременно в разных
регионах. В качестве таких «кочующих фигур памяти» можно указать на
персоны А. В. Колчака, Ф. М. Достоевского, М. А. Врубеля, активно ис-
пользуемые в современных рекламных проектах в ряде регионов России.
13 Там же. С. 116-117.
14 Шенк Ф.-Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, пра-
витель, национальный герой (1263-2000). М., 2007.
В. Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение...
337
В интересах кооперации при решении вопросов о языке историка
представляется более уместным термин «регионоведение» как более
близкий по своему семантическому значению к сути интересующих нас
смыслов современных междисциплинарных исследований. Отечествен-
ная (российская) традиция использования окончания «ведать» изна-
чально нацеливает на непрекращающийся процесс познания и стремле-
ние не только накопить «базу данных» об изучаемом объемном объекте,
но договориться о руководстве принципом получения «избыточного
знания». Регионалистика - свод знаний, статичный единовременный
срез представлений о регионе. Регионализм, по мнению современных
географов, в англоязычной традиции является частью географической
науки, хотя и близок семантически к регионоведению, но он дистанци-
руется от природных регионов и больше связан с социологией науки.
Для понимания сущности и эффективности междисциплинарного
изучения региона целесообразно опираться на понятия, входящие в со-
став «культурной географии». Ее содержание близко «цивилизационному
подходу». Шесть основных звеньев в познавательной схеме «культурной
географии» включают путь от «мировой цивилизации» к «отдельной ци-
вилизации», затем к «национальному культурному пространству», от него
к «геокулыурному ядру государства», через него к «национальной суб-
культуре» и в завершении - к проникновению в «культуру отдельного
города». Так пространство региональной культуры, дробясь на локальные
«культурно-цивилизационные ландшафты», образует причудливый узор
линий укоренения «фигур памяти» на всех уровнях исторического иссле-
дования и одновременно учитывает соображение относительно системы
многоуровневой коммеморации. Последняя обеспечит включенность ин-
дивидуума в социум на уровне государства как непосредственно, так и
через локальную идентичность. Интересные теоретические интерпрета-
ции проблемы «присвоения прошлого» на локальном уровне и в русле
уже рассмотренных выше соображений о конструировании междисцип-
линарной модели изучения «мест памяти» предлагает А. В. Дахин15. Опи-
раясь на исследования Ф. Йейтс16, он вводит понятия «городская loci-
совокупность» и «коллективная идентичность городского сообщества», а
затем рассматривает средства и способы формирования социально-
исторической памяти городского сообщества. Обозначу это как еще один
вариант опоры для возможной научной кооперации.
15 Дахин А. Город как место памятования // Гуманитарная география. Вып. 4.
М., 2007. С. 164-179.
16 См.: Йейтс Ф. Искусство памяти. М., 1997.
338
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
Регионоведение - страноведение - краеведение. Соотношение этих
областей научного познания окружающего мира связано с историческим
познанием, с методами и методиками «погружения в прошлое» и «воспи-
тания наследием». Интерпретация понятия «регион» влияет на содержа-
ние названных областей научного знания. Существующий «разброс» его
трактовок выглядит следующим образом: административно-
территориальная (политико-административная или юридическая); фило-
софская (особо важная для изучения истории культуры региона, так как в
ней акцент переносится на менталитет, образ мышления, традиции, ми-
роощущение обитателей того или иного региона, что сближает регионо-
ведение с новейшими направлениями в исторической науке); историче-
ская трактовка региона (способствует восстановлению утраченной со
временем идентичности); геополитическое понимание региона (акцент
переносится на соотношение центров «мощи» и «слабости» в простран-
ственной дифференциации различных политических сил); экономический
регион (обозначение территории с четко выраженной специализацией
производства и хозяйственной целостностью).
В качестве одной из самых вдохновляющих современных теорий ре-
гионализма на XIX международном конгрессе исторических наук в Осло
(2000) была выделена теория финского географа Ансси Пааси17. Она ос-
новывается на так называемой региональной «модели институционализа-
ции», проходящей четыре хронологические фазы в своем развитии. Пер-
вая фаза, начало которой относится к середине XIX в., характеризуется
развитием понятия особой региональной области на какой-либо террито-
рии; вторая фаза - формированием символической образности, выра-
жающейся, например, в изобретении названия региона или в восстанов-
лении его старого, исторического имени. В третьей фазе создаются
формальные институты в регионе, как с целью формирования региональ-
ной идентичности, так и для обретения сильной позиции во взаимодейст-
вии с центральными властями. Наконец, в четвертой фазе регион пред-
стает как законченный продукт в том, что касается идентичности и его
формальной организации в структуре государства. Как раз на этой завер-
шающей фазе региональное пространство закрепляется знака-
ми/маркерами/символами региональной идентичности и самосознания
(происходит позиционирование «себя»/региона через особый образ само-
17 См.: Большакова О. В. Специализированная тема 9: регионы и регионализа-
ция (Обзор материалов) // XX век: Методологические проблемы исторического по-
знания: Сб. обзоров и рефератов: В 2 ч. / Отв. ред. А. Л. Ястребицкая. М., 2001. Ч. 2.
С. 287.
В. Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение...
339
сгоятельного региона). Власть и местное сообщество (бизнес-элиты, с
одной стороны, особые «культурные работники» - с другой) демонстри-
руют «волю к образам» в поисках стратегий и ресурсов развития региона.
Соединение признаков этой теории с формирующимися в гума-
нитарной географии концепциями «образов» территорий, с подходами
к реконструкции исторической памяти, включая использование спосо-
бов закрепления «знаковых фигур» в региональном и локальном про-
странстве станет вариантом междисциплинарной кооперации, в кото-
ром «материнская плата» будет представлять «сплав» теоретико-
методологических оснований естественнонаучного (природно-
географического) и социогуманитарного (исторического и культуро-
логического) знания. На такой основе возможна разработка «пилотно-
го» проекта под условным названием «Трансформации исторической
памяти в пространстве, образах и символах российских регионов».
Итак, необходимость осмысления происходящей глокализации и
формирования многоуровневой идентичности побуждает эскизно на-
метить некоторые контуры будущих действий. Один из них («предва-
рительный») представит условную типологию (иерархию) «фигур па-
мяти». Первый тип (высший уровень) - фигуры общегосударственной
значимости, закрепляющие официальную версию исторической памя-
ти, решающие вопрос о региональной идентификации в пользу страны
в целом и осуществляющие «мобилизацию образов единого прошло-
го». Среди таких фигур, несомненно, присутствуют, а в новейшей си-
туации еще более упрочивают свою знаковую роль, фигуры святых
Русской Православной церкви, Сергия Радонежского как символа Мо-
сковской линии в русской истории за Уралом. Новые «места памяти»
конструируются с использованием образов возрождения духовности -
в виде восстанавливаемых и возводимых культовых сооружений. Из
светских «фигур памяти» к этому типу принадлежит фигура
А. С. Пушкина, напоминающая, что «Пушкин - это наше все». На со-
ставе этой группы «фигур памяти» отразился переход от одной эпохи
к другой. Некоторые прежние советские «места памяти» и символизи-
рующие их смысл фигуры, скреплявшие коллективную идентичность
(«советский народ»), утратив свою идеологическую заданность, вошли
в трансформированное культурное пространство. Они стали знака-
Ми/символами сохраненной национально-государственной памяти
(мемориалы павшим: от революционных лет к почитаемым памятным
местам, связанным с Великой Отечественной войной, с погибшими в
локальных войнах и конфликтах). В подавляющем большинстве эти
340
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
«искусные места» с «фигурами памяти» стали частью ритуалов празд-
ничной повседневности, а, следовательно, они закрепляются и помимо
«силовых актов» присвоения прошлого.
Второй тип (условно - это средний, собственно региональный,
уровень) включает «фигуры памяти»/знаковые фигуры, дающие опору
для коллективной и индивидуальной идентификации обитателям регио-
нального пространства. Однако и здесь следует выделять ту часть «на-
бора» соответствующих «фигур», которые формируют официальную
версию региональной идентичности и составляют своего рода «капитал
региональной уникальности». Как правило, эти фигуры используются в
проектах имиджевой привлекательности регионов, в соперничестве ре-
гиональных «столиц», в политике взаимоотношений с Центром. В кон-
струировании соответствующих «наборов» принимают активное уча-
стие представители региональной историографии.
Третий тип (низовой, повседневный, уровень) «фигур памяти»
определяет формирование локальной (коллективной и индивидуаль-
ной) идентичности, закрепляя ее в «вещах» культуры, появляющихся в
пространстве любого конкретного обитаемого Места, в мифах и ле-
гендах, порожденных и транслируемых «устной» традицией стихий-
ной исторической памяти. Под «вещами» культуры, одновременно
выступающими в качестве символов/ориентиров локальной уникаль-
ности («лица не общего выражения»), понимается в первую очередь
городская беспостаментная скульптура, переводящая исторические
смыслы/ассоциации или прямые аналогии, или даже овеществленные
факты/события истории в контекст повседневности и тем самым, вто-
рично, в массовое историческое сознание.
В этих процессах историки могут участвовать по желанию и в ка-
честве местных активистов, заботящихся о конструировании местного
сообщества и формировании его локальной идентичности («малая ро-
дина»). Однако действия историков-профессионалов все-таки в боль-
шей степени проявляются опосредованно, через научно-популярные
публикации, образовательную сферу, гораздо реже с помощью науч-
ных статей и монографий. Однако существуют примеры сознательной
профессиональной деятельности в рамках отдельных проектов по кон-
струированию региональной и локальной идентичности. При этом воз-
можен некий компромисс между профессиональным знанием (напри-
мер, сосредоточенным в Центрах по истории и охране культурного
наследия) и устремлениями региональных властных структур, бизнес-
элит. Определенным обнадеживающим примером, на взгляд стороннего
I. Г. Рыженко. Историческая наука, регионоведение... 341
историка, воспринимается в Челябинске местный «Арбат» - Кировка.
Любопытно, что на нем есть «фигуры памяти», относящиеся к каждому
из условно выделенных типов, включая сидящего на скамье
А. С. Пушкина, что означает включение Великого поэта в повседнев-
ную среду и создание потенциальной возможности «присвоить» его
каждому в желаемой форме. Происходит почти как у Д. Самойлова «На
фоне Пушкина снимается семейство». На том же челябинском «Арбате»
можно посидеть рядом с Пенсионером-Ветераном советской эпохи, по-
стоять рядом с задумавшимся крестьянином начала XX века, пытаю-
щимся прочесть книгу Законов у входа в здание современного Законо-
дательного собрания Челябинской области, или присесть у ног
А. Розенбаума, поющего «про Афган» рядом с домом, на котором со-
хранена мемориальная доска о В. Блюхере. Подобные наслоения фраг-
ментов национально-государственной, региональной и локальной памя-
ти вызывают желание трактовать знак/символ «футбольный мяч в
кепке» не только как подчеркивание «присвоения» маркера московской
столичности, но и с определенной долей иронии.
Смысл приведенных примеров пока сводится к желанию обозначить
привлекательность идеи проверить теоретические построения на кон-
кретно-историческом материале, а также перспективность возможного
«на кооперативных началах» пилотного проекта. Подобный проект по-
зволяет экспериментировать и с комплектованием источниковой базы,
соединяя на равных правах письменные, визуальные и устные источники.
Исследователь получает возможность пополнять «банк избыточной ин-
формации», не только за счет источников различных форм бытования, но
и целенаправленно осуществляя «натурные обследования». Некоторые из
результатов поиска выявляют неожиданные свидетельства фиксации не-
официальной исторической памяти. К примеру, на любительских фото-
графиях из семейных архивов встречаются снимки, сделанные на фоне
уже исчезнувших «фигур памяти» (например, на фоне памятников
И. В. Сталину или возле знаковой для сталинской эпохи «скамеечки с
вождями». При рассмотрении проблемы «присвоения прошлого» в даль-
нейшем поворот к этому сюжету исчезающей памяти, ее форм и послед-
ствий замен одних символических фигур на другие может также оказать-
ся предметом компаративисткого исследования, осуществленного с
Помощью полидисциплинарных моделей.
Самостоятельное направление в объединении исследовательских
Усилий вокруг изучения «Мест памяти», «Образов Места» и «Фигур
памяти» как способов составления «ментальных карт» регионов обо-
342
Парадигмы изучения прошлого и их ре-актуализация
значается на перспективу в случае кооперации исторической науки,
гуманитарной географии, культурологии, регионоведения и музееве-
дения. Музеи, их экспозиционно-выставочная деятельность - это важ-
ные инструменты как в процессах трансляции той или иной версии
исторической памяти, так и в конструировании коллективной иден-
тичности. Примечательно, что А. В. Дахин в своей статье относит му-
зеи к категории «особо изолированных мест», выпавших из лона жи-
вых структур социально-исторической памяти и перестающих быть
полноценной основой социальной еамотождеетвенноети и еамоиден-
18
тичноети участников коммеморации .
Думается, что эти вопросы требуют специального внимания. Пока
же отмечу, что в контексте рассмотренной проблематики в настоящее
время желательно выявить, каким образом и в каких сочетаниях музеи
транслируют «фигуры памяти» выделенных трех условных типов и соот-
ветствующих уровней. Кроме того, следует иметь в виду, что за послед-
нее время расширилось участие профессиональных историков в разра-
ботке или в экспортировании концепций новых музеев, в осуществлении
совместных проектов, в том числе и по фиксации художественных обра-
зов прошлого, которые отражают динамику формирования многоуровне-
вой идентичности в полиэтничных регионах, возвращение и укоренение
архаических мифов в региональной и локальной культурах. Особенно
причудливые формы эти процессы принимают в пограничных регионах,
соединяющих территории бывшего Советского Союза.
Вее изложенные соображения представляются полезными для со-
вместных эффективных исследовательских действий современных гу-
манитариев навстречу друг другу. Хочется надеяться, что профессио-
нальные историки, разделяющие идеи научной кооперации и
ощущающие себя в пространстве интеллектуальной истории «диалогов
без границ», найдут силы для эксперимента по реализации проекта, обо-
значенного в примерных контурах основных исследовательских линий.
18 См.: Гуманитарная география. Выл. 4. С. 168-169.
ИСТОРИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
Рольф Тоштендаль
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЗМА?
НЕО-ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И “ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТ” В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
За последние 20 лет в социальных науках произошел «поворот» в
сторону истории. Движущей силой этого тренда стал так называемый
нео-институционализм. Существует множество разных точек зрения от-
носительно того, что означает этот термин, но общий маркер - это при-
знание того, что ранжир социальных предназначений играет особую роль
для членов общества. В данном контексте под социальной позицией под-
разумевается и имеется в виду то, что существует некое принуждение,
привязка к социальной роли. Люди не просто говорят: мне это нравится, и
поэтому я выбираю и хочу именно это. Существует социальная обуслов-
ленность, как бы принуждение к определенным правилам.
Люди действуют с оглядкой на общество, пытаясь понять, что от
них требуется, какие ожидания на них возлагаются - со стороны рабо-
ты, семьи, партии, церкви. Эти организации или институции создава-
лись исторически на протяжении времени. Притязания, которые они
предъявляют в отношении индивидуума, можно ощутить; влияние дан-
ных институтов, конечно же, сказывается на пожеланиях и приоритетах
людей. Так история (прошлое) оказывает действенное воздействие на
поступки человека, совершаемые в настоящее время. Коротко говоря, в
этих тезисах и заключается суть того явления, которое мы называем
институционализмом или нео-институционализмом.
Следующие краткие замечания и наблюдения призваны лишь под-
черкнуть имеющиеся проблемы, наметить тематику, которую трудно пол-
ностью охватить в небольшой статье. Итак, нео-институционализм и его
следствие - поворот к истории в социальных науках - не лишены пред-
шественников, предвосхитивших их. Я нахожу особенно любопытным то,
что нео-институционализм не лишен общности с некоторыми формами
историзма как течения мысли, характерного для середины XIX века.
Леопольд фон Ранке и Дуглас Норт, эти ученые, казалось бы, на-
столько далеки друг от друга, насколько это вообще возможно предста-
вить. Ранке (1795-1886) воспринимается как достопочтенный «памят-
ник» историографии. Согласно его воззрениям, история дает ответы на
344
История на перекрестках междисциплинарности
хитросплетения, острые вопросы современности и раскрывает секреты
жизни. Прежде, до Ранке, эти вопросы считались прерогативой филосо-
фии, ее доменом. Философы начала XIX века с пренебрежением думали
о современниках-историках.
Фихте считал историков, поглощенными работой с эмпирическими
данными, людьми, неспособными к интеллектуальной рефлексии, кото-
рую может дать лишь философия. Ранке совершил переворот, пере-
смотрев эту идею. Ранке начал критику гегельянства, представлявшего
историю как логический процесс развития, описываемый как тезис -
антитезис синтез. Подобный схоластический подход разрушает все
жизненное, говорил Ранке в лекциях, посвященных характеристике ис-
торических эпох (лекции эти адресовались королю Баварии)1.
И уже с этого периода, после 1854 г., Гегель нередко характеризуется
как скучный и тенденциозный мыслитель, представитель не яркой и жи-
вой мысли, но сухой теории, в то время как Ранке и историки его школы
начинают восприниматься как обладатели ключа к пониманию истинной
жизни и истории человечества. Этот ключ и представлял собой то, что
позже было суммировано в виде концепта историзма или историцизма.
Второй из названных мной великих основателей двух направлений
мысли, которые я и хотел бы здесь обсудить, это Дуглас Норт2. Норт
(р. 1920) был награжден в 1993 г. премией по экономике, учрежденной в
честь Альфреда Нобеля (хотя Нобель никогда не представлял, себе воз-
можности наградить призом экономиста). Норт получил образование как
экономист, но уже на ранней стадии своей карьеры сделал главным на-
правлением своих исследований экономическую историю. Он обнару-
1 Leopold von Ranke. Aus Werk und Nachlass (ed. by T. Schieder & H. Berding).
Vol. 2. Uber die Epochen der neueren Geschichte. Munchen & Wien (Oldenbourg), 1971.
P. 63-64.
2 Hopr (North), Дуглас Сесил, американский экономист
(http://dic.academic.ru/dic.nsl7business/8546). Тесно связывал рыночную экономику с
социальными и политическими институтами и считал, что изучение изменений по-
следних должно быть неотъемлемой частью экономической теории. Первым в нача-
ле 1960-х тт. привлёк внимание к клиометрии, новому направлению в изучении эко-
номической истории, основанному на статистическом анализе объективных данных.
Нобелевская премия (1993, совместно с Р.У. Фоуджелом). - Les Prix Nobel. The No-
bel Prizes 1993 / Ed. by Tore Frangsmyr. Stockholm (Nobel Foundation), 1994 (internet,
http://nobelprizeorg.) Русскоязычные ресурсы: Hopr, Дуглас. Инстизуты, институ-
циональные изменения и функционирование экономики / Пер. с ашл.
А. Н. Нестеренко. М., 1997. http://www.liberal.ru/library_all/north/north.pdf. Англоя-
зычные ресурсы: работы Д. С. Норта, предоставленные Университетом Вашингтона-
http://idcas.repec.0rg/p/ wpa/wuwpch/9309001 .htrnl.
Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма?..
345
жил, что экономика должна изучаться с точки зрения ее функционирова-
ния в обществе, а не только в рамках теоретических моделей, как предпо-
лагали другие экономисты. Более того, полноценное изучение социаль-
ных феноменов предполагает их углубление в прошлое -
непосредственно близкое или отдаленное прошлое.
Норт заглянул глубоко в прошлое и почерпнул из истории, начиная
с ее первоначальных стадий, некоторые наблюдения над экономиче-
скими моделями. Работая над этим, он обнаружил нечто, для названия
чего использовал позаимствованный у Ричарда Хайека термин collective
learning. Коллективное знание состоит в тех опытах, которые прошли
проверку времени и уже вошли в наш язык, институты, технологии и
способы действия, как сказал Норт в своей нобелевской лекции. Этот
термин collective learning является ядром концепта института, который
заключает в себе фундаментальные для общества принципы и общест-
венные идеи. Это, например, церковь в средневековой Западной Европе,
точно так же, как рынок в настоящее время. Институты могут меняться
или растворяться, но те способы, которыми они проникают в общест-
венный опыт, меняются медленно и оставляют свой след. Благодаря
этой «историзации» сознания общества, Норт стал пророком для многих
представителей социальных наук. В сущности, Норт дал новое понима-
ние концепта path dependence3 («зависимости от пройденного пути», т.е.
зависимости от прошлого состояния вещей в изменившейся ситуации,
когда прежние факторы влияния, уже не играющие никакой роли, про-
должают приниматься во внимание, как ныне действующие правила).
Кажется, что этот термин возник у него одновременно в книге «Ин-
ституты, институциональные изменения и экономические представле-
ния», которая была опубликована в 1990 г. Термин присутствует, одна-
ко употреблен Нортом только в паре случаев, и данное понятие не
3 Концепт был прежде использован экономистами для обозначения ограниче-
ния выбора, который является результатом использования специфической техноло-
гии для определенной цели. Излюбленный пример в этой связи - использование
qwerty-клавиатуры компьютера. Клавиатура этого дизайна была присуща пишущей
машинке, и ее хотели изменить исследователи новых и лучших форм клавиатур. Но
ни производители, ни те, кто был знаком с прошлым типом печатания, не оценили
бы перемены. Также те, кто нанимал специалистов по набору текстов, привыкших к
старой системе набора, не были готовы к тому, чтобы купить клавиатуры нового
Дизайна. Таким образом, это типичный пример того феномена, который называется
«зависимость пути». Этот пример часто обсуждается в Интернете в связи с пробле-
мой экономической необходимости. Некоторые из выступавших подчеркивали, что
на самом деле qwerty-дизайн был не хуже предлагаемых новых моделей.
346
История на перекрестках междисциплинарности
играет здесь особо заметной роли. Это интересно, но в то же время не
должно сбить с толку читателя: идея path dependence присутствует во
всей второй части книги. Такие институты, как рынок и другие, пони-
маемые как системы правил, делают возможным создание организаций
(например, торговых и индустриальных компаний).
Институты «помещают» эти организации в историю, решения прини-
маются по определенным правилам, и таким образом, в системе правил
они нацелены на непрерывность и традицию. Итак, даже когда Норт явно
не пользуется понятием path dependence, он придерживается именно этой
идеи. Это относится к книге 1990 года. Я не предполагаю углубляться в
анализ развития и изменений в размышлениях Норта. Здесь достаточно
заметить, что многие специалисты в своих обзорах выражали удивление,
которое становится понятным как признак того, что для них была неожи-
данной предложенная интерпретация понятия path dependence. Для пони-
мания концепции Норта следует прояснить понятие «институт».
Норт является «институционалистом», а это означает то, что он не
разделяет позицию, относящуюся к роли рынка и только рынка во всех
его ипостасях и проявлениях - экономической, политической, религи-
озной и других сферах - как единственного фактора, который формиру-
ет условия, определяющие поведение человека. Сторонники классиче-
ских теорий, экономисты приверженцы особой роли рынка развивают
концепции о конкуренции товаров, идеологий и философий на уже вы-
сказанных основаниях. Институционалисты же рассматривают как
часть теории то, что было создано человеком в ходе истории и привне-
сено в развитие социальных систем и норм. В этом случае история явля-
ется фундаментальным основанием. (
Еще одно последнее замечание вводного характера.’Среди институ-
ционалистов существуют две различные точки зрения относительно
того, какого рода социальные установления должны определяться поня-
тием «институт». Некоторые институционалисты понимают под «ин-
ститутами» как нормативные (регулирующие) системы (то есть рынок,
политическую демократию), так и установления, подобные парламен-
там разных стран или же индивидуальные (частные) компании.
Норт делает различие между, е одной стороны, нормативными уч-
реждениями, к которым относятся институты, функционирующие в
соответствии со специфическими целями, заложенными в самом опре-
деляющем их понятии, и, с другой стороны, организациями, создан-
ными в соответствии с нормами, типичными для институтов как тако-
вых. Я продолжу более подробное развитие аргументации как одной,
Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма?..
347
так и другой позиции, однако хотел бы подчеркнуть, что, по моему
мнению, ни одна из названных позиций не является однозначно пред-
почтительной. В своей статье я буду употреблять те понятия и те их
значения, которые использовал Норт.
Читатели могут возразить: Мы согласны с тем, что и Ранке, и Норт, а
также их последователи подчеркивают значимость истории. Однако это
не значит, что данный факт является основанием для утверждения о
сходстве их идейных позиций. Понимание истории может иметь различ-
ные интерпретации, и два мыслителя могут вкладывать совершенно раз-
ное содержание в историческое развитие человечества. Это, несомненно,
так, поэтому в последующем изложении своих соображений в данной
статье я более пристально проанализирую их аргументации, особенно
аргументацию Ранке, которая относится к пониманию основ историзма.
Во введении к книге под названием «История историзма» (Geschichte
des Historismus4) авторы, Егер и Рюзен, начинают с заявления следующего
характера: «Историзм является специфическим стилем исторического
мышления и соответствующей концепцией историографической школы.
Это тип мышления, сосредоточенный на возможности познать специфику
прошедших эпох как отличных от настоящего. В то же время этот стиль
мышления направлен на поиск всеобъемлющих отношений между раз-
личными эпохами». Этот смысл концепта историзма является достаточно
общепринятым, но ни в коей мере не единственным. О. Г. Эксле подчер-
кивает широкий диапазон использования и многозначность понятия исто-
ризма, так как он применялся представителями различных областей зна-
ния и в различные исторические периоды5.
4 Jaeger F. & RiisenJ. Geschichte des Historismus. Eine Einfiihrung. Miinchen,
1992. (В переводе я стремился быть как можно ближе к оригиналу, но не полностью
передаю цитату - Р. Т). На русском языке доступны следующие созвучные работы
упомянутых авторов или обзоры их трудов: Рюзен Й. Утрачивая последовательность
истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, по-
стмодернизма и дискуссии о памяти// Диалог со временем. 2001. Вып. 7
(http://abuss.narod.ru/Biblio/ruzen.htm). См. также: Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н.
Историография и историческое мышление (аналитический обзор) // Вестник Мос-
ковского университета. Сер. 7. Философия. №2. 2004. С. 31-49
(http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2004/kukarts hist.htm (прим. переводчика).
5 Giro Герхард Эксле (Otto Gerhard Oexle), р. 1938 г., историк-медиевист. Дирек-
тор Института истории им. Макса Планка с 1987 по 2004 г. На рус. яз. см.: Эксле О. Г.
Культурная память под воздействием историзма// Одиссей. 2001. М., 2001; Он же.
Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья. М., 2007
(прим, переводчика). См. также статью О. Г. Эксле в настоящем сборнике.
348
История на перекрестках междисциплинарности
С 1880-х годов в Германии развернулась дискуссия по поводу поня-
тия Historismus6. Само понятие имеет более раннее происхождение, но
оно стало употребляться для обозначения определенной историографи-
ческой школы с 1930-х годов, когда Фридрих Майнеке ввел его в том
смысле, который и стал доминирующим в ходе названной дискуссии в
Германии7. Более ранним было понимание историзма как «фундамен-
тальной историзации размышлений по поводу человечества, его куль-
туры и ценностей», если заимствовать формулировку, предложенную
Эрнстом Трёльчем в 1922 г.8
Но если вернуться к Ранке и его взгляду на историю (который он
еще не называл историзмом), то основные положения, как представля-
ется, выглядят следующим образом:
1. Европейские народы составляют специфическое сообщество в
смысле общей идентичности, которая укреплялась ими в про-
цессе войн и борьбы за превосходство.
2. Государства представляют собой образования, которым прису-
ще собственное (коллективное) понимание обязанностей их
подданных.
3. Нельзя рассматривать времена, события или ситуации только
как средство достижения последующей фазы истории - «каждая
эпоха прямо связана с Богом»9, - говорил Ранке, - и это означа-
ет, что она имеет свою собственную особую ценность.
4. Непрерывность (и отсутствие резких скачков) создают историю
человечества.
В современных работах, особенно в исследованиях Рюзена, имеет
место тенденция рассматривать Historismus как способ или метод орга-
низации знания. Для него особое значение имеет то, как Ранке и после-
дующие историцисты учились извлекать знание о прошлом, нежели
что они считали наиболее важным в прошлом как суть историзма. Рю-
зен назвал это Wissenschaftsparadigma, парадигмой научного знания.
Таким образом, он подчеркивает беспристрастность историка и значи-
6 George Iggers. ’’Historismus im Meinungsstreit” H Oexle & Riisen. Historismus in
den Kulturwissenschaften. P. 7-27.
7 Friedrich Meinccke. Die Entstehung des Historismus. Vol. 1-2. Miinchen
(Oldenburg), 1936.
8 Der Historismus und seine Probleme. Gesammelte Schriften 3 (1922/1977). P. 9.
9 Leopold von Ranke. Aus Werk und Nachlass (ed. by T. Schieder & H. Berding),
Vol. 2. Uber die Epochcn der neueren Geschichte. Miinchen & Wien (Oldenbourg), 1971-
P. 59-63.
Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма?..
349
мость работы с первоисточниками как основные составляющие пони-
мания историзма Ранке. В этом отношении не наблюдается единства
мнений. Так, для Трёльча, решающим был имевший философскую ос-
нову вопрос что\ Что было важным в концепции истории Ранке? Что
составляло основу исторического развития? Что представляла собой
мотивация поступков человека в прошлом? Многие следовали за Трёль-
чем в этом направлении, рассматривая поставленные вопросы как фун-
даментальные для понимания историзма Ранке.
Дж. Иггерс обратил внимание на то, что за пределами Германии в
историческом академическом сообществе конца XIX столетия не было
общепринятым связывать с именем Ранке разрыв с предшествовавшей
традицией. Габриель Моно видел в нем одного из тех историков, кото-
рые способствовали трансформации исторической дисциплины к сере-
дине столетия. Несмотря на восхваления, исходящие от членов школы
Ранке в Соединенных Штатах и неоранкеанской школы в Германии,
неверно было бы, как справедливо отмечает Иггерс, полагать, что Ранке
сформировал традицию профессиональной подготовки историков, за
которую впоследствии его превозносили американские, немецкие и не-
немецкие европейские историки.
Немецкие неоранкеанцы (особое направление исторической мысли,
расцвет которого приходится на рубеж XIX и XX столетий) преодолели
некоторые метафизические предположения, из которых исходил Ранке.
Как подчеркивал Иггерс, «для Ранке государство - это “идея Бога”, со-
единявшая в себе идеальное и реальное, и это теоретическое наследие
было впоследствии развито нео-ранкеанцами»10.
Невозможно решить, что «в действительности» представляет собой
историзм. Есть ряд различных интерпретаций, основанных на разных
текстах, относящихся к разным периодам. Если мы обращаемся к Ранке
ко времени его творчества, то тогда мы должны отказаться от признания
историзма как некой методологии.
Для Ранке другие аспекты были гораздо более важными, чем метод,
даже если он и делал свои комментарии относительно него. Он, возмож-
но, и образовывал своих учеников в отношении владения методами (на-
ряду с обучением другим вещам), но наиболее значимыми для него в
процессе обучения были идеи государства и континуитета, идеи, которые
10 Georg Iggers. The crisis of the Rankean paradigm in the nineteenth century //
George G. Iggers & James M. Powell (eds.). Leopold von Ranke and the Shaping of the
Historical Discipline. Syracuse (Syracuse U.P.), 1989. P. 170-179.
350
История на перекрестках междисциплинарности
оказали глубокое воздействие на всех его учеников и последователей и
имели фундаментальное значение для формирования исторического со-
общества, состоявшего из тех, кто разделял эти взгляды и нормы11. Это
сообщество разделяло идеи европейской исторической идентичности,
непрерывности всего процесса развития и божественной коллективной
природы государства. Идсалистически-реалистическая (real-geistlich)
природа государства, понимаемая как божественная идея ((die Gedanken
Gottes), распространялась и на все государственные институты.
В контексте философии периода Романтизма не следует понимать
термин «божественное» слишком буквально. В основном, он служит
раскрытию особой природы тех явлений, которые характеризует, и ко-
торые находятся над уровнем повседневности, творений рук человече-
ских, и имеют отношение к вечности. Идея «круга» или цикла в интер-
претации Ранке акцентирует возможность для историка рассматривать
каждый период и общество как обладающее собственными целями, но
не как ступеньку к чему-то еще.
Если следовать Рюзену, то нет ничего удивительного в обнаружении
сходства между историзмом и экономическим институционализмом. Раз-
вивая различные интерпретации по поводу исторического места Исто-
ризма, Рюзен придерживается идеи об отсутствии противоречий в исто-
рии. По его мнению, Историзм не заменил философию Просвещения, а
вобрал ес в себя. Поэтому философия Просвещения не возродилась в
идее «современности» (модерне) и модернизации в XX веке, а, скорее, все
разрывы между эпохами стерты, и нет конца Историзму12. Историзм, та-
ким образом, оказывается способным выживать в новых формах.
В Германии состоялось горячее обсуждение по этому уоводу. Дис-
кутировался вопрос о том, принадлежит Историзм определенному пе-
риоду развития историографии или нет. Позиция Рюзена представляет-
ся привлекательной, но в некотором роде слишком упрощенной.
Предполагается, что различные позиции в истории идей способны вы-
жить в новых формах внутри последующих, успешно конкурировавших
с ними направлений науки и философии. Противоречия, таким образом,
полностью исчезают. Очевидно, что Рюзен не это имеет в виду. Однако
11 Я разберу позже в краткой форме вопрос о важности научного сообщества
для развития профессионализма.
12 Jrirn Riisen. Historismus als Wissenschaftsparadigma. Leistung und Grenzen
eines strukturgeschichtlichen Ansatzes der Historiographiegeschichte И Otto Gerhard
Oexle & Jom Riisen (eds.). Historismus in den Kulturwisscnschaften, Koln etc. (Bohlau)
1996. P. 126.
Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма?..
351
если считать, что содержание понятий «модерн» и «прогресс» вбирает в
себя концепт Историзма, толкуемый в этом духе, то такой взгляд на ис-
торию представляется весьма перспективным .
Соблазнительно разрешить дискуссию о Просвещении, Историзме и
Модерне, декларировав, что существует «встроенное» в человеческий
разум неразрешимое противоречие между ретроспективной, историче-
ской интерпретацией изменений в настоящем и в прошлом, с одной сто-
роны, и проспективной их интерпретацией с точки зрения прогресса и
пользы — с другой. Любое такого рода заявление является, однако, несерь-
езным, т.к. мы не знаем, существовало ли данное положение всегда и рас-
пространяется ли оно повсеместно. Кроме того, мы должны исключить
возможность других альтернатив, что непросто. Представляется, что по-
стмодернизм является попыткой сделать иной выбор, и эстетизм Хайдена
Уайта и Фрэнка Анкерсмита, возможно, создает одну из альтернатив13 14.
Когда я говорил о том, что институционализм Норта является возвра-
том Историзма, я не имел в виду, что он включает в себя более ранние
идеи научных школ, о чем было сказано выше. Напротив, я имел в виду,
что Историзм и родственные ему идеи умерли достаточно давно и не уча-
ствовали в формировании теорий социальных наук. Историзация челове-
ческого опыта, предпринятая Нортом, вновь пробудила их к жизни. Это
было сделано Нортом не на индивидуальном уровне, что следовало бы
ожидать от ученого, представляющего сциентистское направление эко-
номической мысли, существенным элементом которой является методо-
логический индивидуализм. Норт, совершенно так же, как Ранке и неко-
торые другие историки XIX столетия, являвшиеся представителями этой
школы, воспринимает институты и коллективы как некие образования,
аккумулирующие опыт. Отдельные люди, действующие внутри органи-
заций, которые в соответствии с позицией Норта являются институтами,
связаны коллективным опытом этих организаций.
13 Рюзен допускает амбивалентное высказывание по этому поводу. С одной
стороны, он указывает, что Historismus -- это эквивалент Verwissenschaftlichung исто-
рии (т.е. речь идет о профессионализации с упором на нормативную систему дисци-
плины). С другой стороны, Рюзен подчеркивает переломный момент от XIX к
XX веку, когда парадигма Historismus отступает под влиянием социальных наук с их
аналитическими методами. (Ibid. Р. 129-30,133-34).
14 Hayden White. “Interpretation in History” and “The Historical Text as Literary
Artefact*1 // H. White. Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism. Baltimore &
London (John Hopkins U.P.), 1978; Frank Ankersmit. Historical Representation // History
and Tropology. Rise and Fall of the Metaphor. Berkeley, Los Angeles & London, 1994.
Анкерсмит Ф. P. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ.
М. Кукарцевой, Е. Коломоец, В. Катаева. М., 2003.
352
История на перекрестках междисциплинарности
Различия между Историзмом у историков XIX века и у Норта, в ос-
новном, состоит в том, что Норт редко рассуждает о действиях политиков
и политического окружения, а больше о так называемых «современных
акторах» - менеджерах компаний и администраторах государственных
учреждений и их окружении. Тем не менее, у них сходная проблематика.
Так, прошлое ими (и Ранке, и Нортом) рассматривается не только как ос-
нова для интерпретаций современной ситуации, но также считается, что
история накладывает свои ограничения на возможные действия акторов.
В этом Историзм и нео-институционализм Норта совпадают.
Норт утверждает: «Теория path dependence является способом кон-
цептуально сузить диапазон выбора и связать во времени процесс при-
нятия решений. Это не рассказ о неизбежности, при которой прошлое
предрекает будущее... Мы можем теперь интегрировать изменения,
связанные с path dependence, в институты, которые характеризуются
устойчивыми моделями долговременного роста или упадка. Поскольку
зависимое от пройденного пути направление развития уже определено,
сеть внешних обстоятельств, процесс формирования организаций и ис-
торически обусловленное субъективное моделирование результатов
закрепляют это направление»15.
Фактически Норт разработал понятие path dependence и развил не-
которые его аспекты достаточно недавно. Цитата из книги Норта «По-
нимание процесса экономических изменений», опубликованной в 2005
г., дает представление об этих новых аспектах его идеи. «Вопрос о том,
как человеческие общества пытаются сформировать свое будущее, за-
ставляет нас иметь дело непосредственно с фундаментальным аспектом
процесса изменений, его исторической природой. Мы не в состоянии
понять, куда мы идем, без понимания того, где мы находились. Как со-
относится прошлое с настоящим и будущим - это и есть содержание
понятия path dependence - понятия, которое используется, используется
неверно и использованием которого злоупотребляют»16. В этой связи,
опять-таки Норт развенчивает суждение о том, что идея path dependence
означает только то, что «выбор настоящего определяется системой ин-
ститутов, унаследованных от прошлого».
Смысл этого понятия значительно шире. Идея path dependence «в
более всестороннем ее понимании» требует признания того, что инсти-
15 Douglass С. North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge etc, (Cambridge U.P.), 1990. P. 98-99.
16 Douglass C. North. Understanding the Process of Economic Change. Princeton &
Oxford (Princeton U.P.), 2005. P. 51-52.
Рольф Тоштендалъ. Возвращение историзма?..
353
туты порождают организации, «выживание которых зависит от увеко-
вечивания этих институтов». И эти организации, в свою очередь, будут
предоставлять ресурсы для поддержания жизнеспособности соответст-
вующих институтов. Однако Норт не удовлетворяется этим объяснени-
ем и предлагает еще более емкое понимание «зависимости пути»:
«Взаимодействие убеждений, институтов и организаций во всеобъем-
лющей структуре артефактов, делает path dependence фундаментальным
фактором непрерывности развития общества»17.
Таким образом, Норт характеризует три уровня понимания «зави-
симости пути». Первый состоит в том, что мы постоянно обращаемся к
прошлому, когда осуществляем свой выбор на будущее. Это первое
объяснение было отброшено как неинтересное. Второй - предполагает,
что организации (в понимании Норта) имеют законный интерес в кон-
тинуитете институтов, унаследованных от прошлого. Организации не
приемлют неожиданных изменений в обществе, а наоборот, заинтересо-
ваны в том, чтобы оно продолжало движение по одному и тому же из-
бранному пути. Наконец, третий смысл понимания «зависимости пути»
включает также системы верований и убеждений, которые, как и орга-
низации и институты, призваны сохранять непрерывность социального
развития. Сам человеческий разум является основным гворцом «зави-
симости пути»18. Общества, вместо того, чтобы впадать в зависимость
от революционных изменений (которые считал необходимыми во избе-
жание жесткости социальной структуры Манкур Олсон19), приобретают
«эффективный механизм адаптации», посредством которого они меня-
ют или создают институты по мере возникновения новых проблем20.
Норт защищает идеи, созвучные концепции исторического разви-
тия, которую Ранке надолго ввел в обиход историков. Эта идея состоит
в том, что изменения носят постепенный характер и зависят от преды-
дущего опыта и знаний, накопленных социумом.
17 Ibidem. Р. 52.
18 Ibid. Р. 83-85.
19 Манкур Олсон (Mancur Olson, Jr), 1932-1998 - американский экономист.
Основные произведения: «Логика коллективных действий: общественные товары и
теория групп» (Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups,
1965); «Возвышение и упадок наций» (The Rise and Decline of Nations, 1982). Ha pyc.
яз.: Возвышение и упадок народов: Экономический рост, стагфляция и социальный
склероз. Новосибирск, 1998; Логика коллективных действий. Общественные блага и
теория групп. М., 1995.
20 North 2005. Р. 169.
354
История на перекрестках междисциплинарности
Однако есть и весьма существенное различие между концепциями
развития общества, предложенными Ранке и Нортом. Для Ранке государ-
ство всегда являлось несущей конструкцией общества, и все социальные
организации, которые он считал достойными упоминания, были органами
государства. Они являлись либо политическими организмами, имеющи-
ми собственные права (такими как парламенты, государственные советы,
правительства и т.п.), либо административными единицами, обеспечи-
вающими поддержку монарха или другим акторам, принимающим поли-
тические решения. Для Норта же главная структура - это общество, и он
редко упоминает о государствах, даже в части определения политической
стратегии. Интересы Норта лежат в такой области, как процесс изменения
в сфере общественной экономики; главные элементы, которые он призна-
ет и рассматривает, это те, что влияют на спрос и предложение.
Несмотря на основополагающие различия во взглядах и оценках зна-
чимости для изучения разных аспектов исторической жизни, в выборе тех
из них, о которых стоит писать, оба исследователя демонстрируют глубо-
кое согласие по вопросам исторического развития и понимания истории.
Используя разные термины (это легко приводит к тому, что аналитик не
улавливает сходство их идей), они описывали тот же континуитет и то же
представление о коллективном опыте, который как бы накладывает исто-
рия на общество и индивидов. Понимание мира, и для Ранке, и для Норта,
определяется историческим развитием, аккумулируемым в социальных
образованиях, которые окружают индивида. Представление о path depen-
dence - это современная вариация, новый термин для обозначения поня-
тия, которое всегда стремился акцентировать Ранке, речь идет о Geschich-
tlichkeit - историчности. Оба концепта опираются на представление о том,
что социальная жизнь - не поле импровизаций, а этот процесс развивает-
ся исторически, но без того, чтобы стать предсказуемым.
(Перевод с англ. Н. А. Селунской)
Н. А. Селунская
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОБЩИНЫ,
ИЛИ “КАК ЭТО НЕ БЫЛО”*
В данном выступлении тема средневекового права и общины рас-
сматривается в связи с вопросами интеллектуальной моды и языка на-
учного сообщества. Знаменитый призыв Ранке - показать wie es eigen-
flich gewesen («как было на самом деле») в свое время не казался крайне
претенциозным, напротив, это воспринималось как смиренное возраже-
ние ученого против морализаторских тенденций в истории. В течение
прошлого века этот лозунг сменил более реалистичный посыл умерен-
ного позитивизма: путем исторической критики и скептической само-
рефлексии историка, борьбы с историческими мифами, историографи-
ческими стереотипами выявить, по крайней мере, самые шаткие и
неподкрепленные предположения. Таким образом, задачей историка
становится попытка ответить на вопрос wie es eigenflich nicht gewesen -
«как это не было» в истории* 1. И в настоящий момент напряжение меж-
ду полярно заряженными полюсами этих двух «историй» и антагони-
стических позиций - псевдо-объективистской и сознателъно-
субьективисткой - весьма ощутимо.
Наиболее дальновидным мыслителям XX века стало очевидно, что
историческое знание не может быть описано в соответствии с моделью
объективного знания, поскольку оно само является процессом, имею-
щим все характеристики исторического события, а также то, что объек-
ты знания конструируются, а не пассивно отражаются2. Стереотип ис-
ториописания, созданный XIX столетием и воплощенный в ряде
классических работ по истории античности и средневековья первой по-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гт.», государст-
венный контракт 02.740.11.0350.
1 Iggers G. G. Historiography and Politics in the 20th century // Societies made up of
history. Edsburg, 1996. P. 15-16; Idem. New Directions in European Historiography.
L., 1985; BrawJ. D. Vision As Revision: Ranke and the Beginning of Modem History//
History and Theory. 2007. Vol. 46. N 4. P. 45-60; Репина Л. П. Историк в 20 веке //
Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996. С. 8-9.
2 Гадамер Г.-Г. Истина и метод / Пер. с нем. М. А. Журинской, С. Н. Земляного
и др. М., 1988; Gadamer Н. G. П problema della coscienza storica (1963). Napoli, 1969;
Bourdieu P. Structures, Habitus, Practices // The Logic of Practice. L., 1990.
356
История на перекрестках междисциплинарности
ловины XX столетия, к началу нашего века стал для большинства исто-
риков (по крайней мере, на Западе Европы) своего рода известным му-
зейным экспонатом, но никак не ориентиром в исследовании. При этом
позитивистская риторика все еще продолжала использоваться, но мето-
ды, которые уже применялись исследователями, были невозможны с
точки зрения позитивистской логики, а объекты изучения - невообра-
зимы или несущественны для предшествовавшей традиции.
История средневековой Италии, с ее невиданными и неожиданны-
ми для до-индустриального периода развития общества сохранными
массивами источников, представляет собой особое поле исторических
исследований, которое одновременно требует новых подходов, но и до-
пускает длительное «экстенсивное» развитие — использование одних и
тех же методик применительно к однотипному материалу, и, в конеч-
ном счете, консервацию историографических традиций.
«История, какой она не была» - двоякий концепт, обоюдоострый
инструмент историописания. С одной стороны - это своеобразный апо-
фатический метод создания исследования и отражающего его наррати-
ва. Мы можем узнать о жизни социума и индивида прошлого, например,
средневековья, далеко не все: самые тонкие материи нс поддаются на-
шей реконструкции. Кроме того, только когда мы как историки просто
признаем это положение, можно двигаться дальше во-первых, исклю-
чить самые бездоказательные, необоснованные (и в этом смысле нереа-
листичные) тезисы и исторические реконструкции, а во-вторых, выде-
лить сюжеты, по определению требующие исключительно
субъективного взгляда, эмоционально окрашенного отношения3.
С другой же стороны становится очевидным, что проблема мифо-
творчества, закрепленного в историографической традиции нс может
быть оценена совершенно однозначно. Это мифотворчество имеет не
только негативные, но еще и позитивные последствия для развития ис-
следовательских перспектив изучения отдельных тем. Образно говоря, в
противном случае, рабочие пчелы - исследователи-практики - не имеют
3 Отношение к этим аспектам может быть диаметрально противоположным.
Можно считать эту ускользающую историчность смысловой основой труда истори-
ка, недостижимой целью, которую он стремится, тем не менее, представить и кон-
кретизировать (например, см. работы М. Сорто), или же просто игнорировать и ис-
ключать иррациональное и субъективное в рамках исторического исследования или,
прекрасно понимая смысл «позиции субъективности», как она выражается в совре-
менных гуманитарных исследованиях, он, тем не менее, с полной ответственностью
и последовательностью отстаивает точку зрения анти-релятивизма (например,
Р. Коллингвуд).
Н. А. Селунская. Современные перспективы изучения...
357
тех сот, ячейки которых они могли бы заполнить. Без четко заданной и
структурирующей сознание (идеологизированной) картины прошлого, без
создания большого нарратива, без попытки реконструирования широкого
исторического контекста, бывает невозможно реализовать имеющиеся
частные наработки и исследовательские результаты, выстроить их в опре-
деленной перспективе. Такой фокусирующей линзой, усиливающей влия-
ние и значение частных исследовательских результатов, являлась исто-
риографическая традиция описания общины (коммуны) и сеньории.
С одной стороны, описание общины, особенно высшей ее формы —
коммуны города, и описание сеньории в силу идеологических причин
разводились по двум параллельным плоскостям контекстов: во-первых,
истории города, демократии, социальной динамики, и, во вторых, истории
деревенской округи, феодализма и сеньориального господства и насилия.
С другой стороны, описание и истории общины, и сеньории сред-
невековья производилось медиевистами сходным образом - с опорой на
правовые свидетельства. Правовая история средневековья, отражая в
особом преломлении сферу вассальных отношений, отношений по по-
воду феодов, функционирование сеньориальной власти и общинного
самоуправления и т.д., в силу использования данной источниковой базы
претендовала на объективность.
Этим традиционным и традиционно нерешенным проблемам са-
моопределения историков итальянского средневековья по отношению к
вопросам субъективности и объективности необходимо уделять больше
внимания, особенно при трактовке взаимоотношений историков и исто-
риков права, историков города и феодализма.
Итак, начнем с констатации того, что в Италии после рубежа тысяч-
ного года образование общин (коммун) и сеньорий в ситуации политиче-
ского полицентризма и территориальной раздробленности представляло
собой основной способ организации, как экономической, так и социаль-
но-политической жизни на локальном уровне. Сами структуры, которые в
научной литературе определяются как сеньория и община, на мой взгляд,
представляли собой историческое единство. Главным источником иссле-
дования и сеньории, и общины средневековья является правовая доку-
ментация, особенно широко представленная благодаря сохранности
итальянских нотариальных архивов. Практически весь период существо-
вания медиевистики основной (не всегда осознанной и четко артикули-
руемой исследователями) парадигмой изучения итальянского средневеко-
вья была перспектива выведения политических, экономических и
социальных аспектов истории из свидетельств правового характера. Были
Периоды, когда исторические нарративы пытались корректировать «дан-
358
История на перекрестках междисциплинарности
ными» правовых документов, были периоды возвращения к хроникам и
другим нарративным источникам как к свидетельствам, «обогащающим»
правовой материал, но общей позиции по сути это не меняло.
Таким образом, слияние медиевистики и истории права для италья-
нистики стало важным симбиозом. Если историописание сознательно
планировалось как противовес правовому дискурсу, то и тогда его влия-
ние не перечеркивалось, а, скорее, подчеркивалось - ведь история таким
образом определялась по отношению к праву. Сама по себе эта оппозици-
онность сохраняет на определенной высоте и тот и другой подход, расце-
нивая каждый из них как высокий штиль или, выражаясь модным языком,
дискурс. Оппоненты некоторым образом невольно являются пропаганди-
стами той позиции, которая удостоилась их критики, оппозиционность же
истории и права в любом случае является условной, поскольку у обеих
дисциплин есть ряд общих используемых концептов и тем.
Среди тем, изучаемых по традиции, первостепенное значение име-
ли вопросы организации общин и коммун средневековой Италии, а
также и сеньориальных структур с их институтами, обычно рассматри-
ваемыми отдельно друг от друга в различных контекстах. Однако был
практически одинаков сам язык описания сеньории и коммуны, даже
представляемых историками в совершенно разных, контрастирующих
контекстах, и при том, что историки могли являться оппонентами. Более
того, этот общий язык историков был языком историков права, в кото-
ром понятия и термины употреблялись лишь с большей вольностью.
Подобное положение поддерживалось весьма долго.
Это заимствование юридических концептов никогда не было сек-
ретом, но до недавнего времени не являлось и предметом рефлексии
историков. Как только одно из таких употребляемых историками поня-
тий было уличено в неисторичности, вторичности, заимствованное™ из
сферы истории права - а именно, понятие о феоде, вассалитете и феода-
лизме4, то и вся традиционная картина мира историков-медиевистов
покачнулась. Эта ревизия обычно связывается с именем американской
исследовательницы С. Рейнольдс, хотя у нее были предшественники, а
точнее говоря, главным образом стоит говорить о ее предшественнице
Э. Браун5. Можно заключить, что радикальный критицизм Рейнольдс,
вписывается в определенный историографический контекст и даже тра-
4 Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. N.Y.; Ox-
ford, 1994; Eadem. Kingdoms and communities in Western Europe 900-1300. 2-nd ed.
Oxford, 1997.
5 Brown E. A R. The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval
Europe //American Historical Review. 1974. Vol. 79. P. 1063-88.
Н. А. Селунская. Современные перспективы изучения...
359
дицию, которую воплощают и ее учителя, как, например, Элизабет Бра-
ун, и некоторые из ее критиков6, наиболее чутких к сути вызова, сфор-
мулированного в ее исследовании. Но важно, что именно Рейнольдс
предложила исследование стереотипов в области истории коммун, фье-
фов, государств средневековья как основу исторического изучения дан-
ных феноменов. По крайней мере, произошла переоценка ценностей в
глазах тех историков, которые были не лишены известной саморефлек-
сии и не могли отрицать очевидного зависимого положения историка
(прежде всего, имеется в виду зависимость от привнесенных в истори-
ческое поле чужеродных концептов).
Для историков права, как и для историков, не ставящих вопроса о
соотношения теории и истории в собственном исследовании, собствен-
но, ничего не изменилось, и традиционное словоупотребление остается
корректным способом описания в рамках академического дисципли-
нарного дискурса. Также необходимо рассмотреть перспективы и пре-
тензии такой дисциплины, как история права в целом, накопившей и
введшей в научный оборот в последние десятилетия ценный источнико-
вый материал7, создать историю по модели «как это было».
Более того, проникновение терминологии, связанной с определен-
ной традицией, в новую область (например, терминов Jus comune в сфе-
ру, принадлежавшую Jus proprium) однозначно трактуется как показа-
тель исторического влияния, практического замещения одного другим8.
6 Speculum. 1996. Vol. 71. Р. 998-1006 (F. Cheyette).
7 См., напр.: Pennington К. Roman and Secular Law in the Middle Ages. Medieval
Intin: An Introduction and Bibliographical Guide / Ed. E A. C. Mantello, A. G Rigg. Wash-
ington, D.C., 1996. P. 254-266; Pennington K. Learned Law, Droit Savant, Gelehrtes Recht:
The Tyranny of a Concept // Rivista intemazionale di diritto comune 5 (1994) 197-209; Syra-
cuse Journal of International Law and Commerce. 1994. Vol. 20. P. 205-215. (Бумажных
публикаций этой работы было две: авторитетное международное издание напечатало
статью в том же году, когда аналогичный вариант был опубликован университетом, в
котором работал автор.) Затем появилась Интернет-версия статьи, текст которой я и
использую: “Twenty-five years ago, a paper delivered to an audience of historians treating
doctrines of the lus commune often evoked a stylized ritual between speaker and audience.
Hard-headed historians squirmed and wiggled in their seats until the last syllable of doctrine
passed the lips of the speaker. As soon as the chair of the session permitted questions, their
hands shot up to ask the inevitable, pragmatic, down-to-earth question: 'Yes, yes. All that you
have told us is quite interesting and perhaps even correct. But what does this theory of the
learned law have to do with the practice of the courts, lawyers, and litigants?' In some
respects, this ritual has changed...”.
8 Pennington K. Learned Law...: “Legal historians have shown again and again how
the jurisprudence of the lus commune pierced the lowest levels of the judicial system... Man-
360
История на перекрестках междисциплинарности
Самый наивный историк не станет принимать наличие свидетельств,
описывающих изменения практики (например, практики судопроизвод-
ства), за объективный показатель ее реальных изменений.
Однако в пользу истории права играют непрерывность самого пре-
подавания дисциплины, системность терминов и понятий, в конечном
итоге дающие связность описания, четкий общий план картины иссле-
дования, который далеко не всегда могут продемонстрировать истори-
ки. Сами историки решали проблему связности, или дисциплинарной
когерентности, различными способами, если вообще ощущали ее как
проблему и нс считали легко достижимой технической задачей9. Вооб-
ще самый распространенный случай отсутствие заявки со стороны
историка на методологически обоснованную стратегию исследования и
описания - представляет наибольшую трудность для историографиче-
ского анализа, поскольку отсутствие авто-комментария и проблемати-
зации, рассматриваемых понятий не снимает вопроса о наличии мето-
дологических предпочтений, стереотипов и предрассудков, а только
усложняет этот вопрос. Подобным наивным позитивизмом может отли-
чаться и вполне качественное, с точки зрения текстологии или истории
права, исследование, но настолько же важно, насколько и трудно оценить
его вклад в развитие собственно исторической дисциплины. Однако тен-
денция к созданию рефлективной историографии непреодолима, даже
когда конкретно-исторические исследования находятся на подъеме.
Потребность в связной «картине мира» бывает настолько велика в
ситуации поразительной сохранности исторических источников и их
усиленного штудирования на локальном уровне, что единственным
«двигателем» системы исследований становятся тенденциозные, впи-
санные в идеологические каноны, историки и исторические школы. В
итальянистике в основном это были историки, придерживавшиеся той
или иной версии марксизма.
В этой связи необходимо выделить таких итальянских историков
прошлого как Вольпе и Каджсзс10, а также Табакко, связанных с мар-
lio Bellomo has pointed out that the doctrines of the lus commune guided the practice of
Italian courts, penetrated the doctrine and language of the ius proprium”.
9 Интересные наблюдения над историками и их представлениями в связи с
проблемой дискурса связности делает А. Мегилл. См.: МегиллА. Историческая эпи-
стемология. М., 2007 (особенно гл. 4-5).
10 Ссылаюсь на более доступное в России издание, хотя существует и более
современное: Volpe G. Question! fondamentali sull’origini e primo svolgimento dei com-
uni italiani / Medio evo Italiano. 2nd cd.Firenze, 1961. P. 85-118. (3 cd. Roma, 1992);
Caggesc R. 1 cclassi e comuni rurali nel medioevo italiano. Firenze, 1907-1909. Vol. 1-2.
Ц. А. Селунская. Современные перспективы изучения...
361
ксистской ориентацией на экономические и политические факторы разви-
тия коммуны, которые и получили международную известность благодаря
не столько своим талантам в сфере конкретно-исторических исследова-
ний, сколько мировоззренческой внятности, которая обеспечивала связ-
ность их исторической картины мира (в частности, мира итальянских
средневековых коммун и общин). Справедливо мнение, что краткая рабо-
та Вольпе о происхождении и развитии итальянских коммун служит от-
правной точкой в изложении современной историографии коммун, есте-
ственно, она была и пионерской для идеологически обоснованного тренда
умеренного марксизма в историографии11. Дальнейшее развитие это те-
чение получило в творчестве Табакко12, который четко, хотя и несколько
тяжеловесно, заявил, что в его представлении социально-политическая
история представляет собой изучение процесса сознательного приобрете-
ния социальными группами и классами-гегемонами структур осуществ-
ления власти и кристаллизации особых институтов13. Как продолжатель
этой традиции должен быть упомянут и современный британский медие-
вист, провозглашающий себя приверженцем марксизма К. Уикхэм14.
В определенный период оказалось необходимым и закономерным
взаимодействие двух дополняющих друг друга традиций - исследова-
ний итальянских медиевистов и школы советских итальянистов. Совет-
ские историки могли скорректировать жесткие контуры формационной
модели за счет исследовательских практик, апробированных в Италии и
принесших интересные результаты, а итальянские медиевисты не менее
нуждались для создания обзорных трудов по истории Италии в доинду-
стриальную эпоху в способах объяснения и создания исторического
нарратива через фильтры тоталитарного видения, свойственные россий-
ской версии марксистской историографии15.
11 Coleman 2. The Italian communes. Recent works and current trends // Journal of
Medieval History. Vol. 28. N 4. P. 376.
12 Tabacco G. The struggle for power in medieval Italy. Structures of political rule.
Cambridge, 1989.
13 Ibid. Introduction. P. 1: “...in the instance the chosen viewpoint is the socio-
political one. Socio-political history is here understood as the conscious acqusition by
groups or hegemonic classes, and by a political power-structure which gradually becomes
institutionalized...”. Из контекста всей книги следует, что под институциализацией
Табакко понимает именно систему формально регламентированных и достаточно
Долговечных должностных постов и учреждений осуществления публичной власти.
14 Wickham С. Community and clientele in twelfth-century Tuscany. The origins of
rural commune in the plain of Lucca. Oxford, 1998.
15 Рутенбург В. И. Чомпи и гранды // Из истории трудящихся масс Италии.
М., 1959; Он же. Введение / Итальянские коммуны. Л., 1965; Самаркин В. В. Эво-
362
История на перекрестках междисциплинарности
Позиция В. И. Рутенбурга, одного из авторитетнейших специали-
стов советского периода, отраженная в ряде работ по этой теме, весьма
показательна. Общие идеологические установки этого исследователя
составляли как бы несущую конструкцию советской историографии,
однако в данном вопросе исследователь выражается весьма нейтрально
и избегает четких определений коммуны в плане правового статуса, по-
литические же моменты признаются основными ориентирами, даже
если не существует никаких доказательств политического влияния объ-
единения на раннем этапе: В. И. Ругенбург утверждал, что города-
коммуны к последней четверти XI века пользовались уже «частичной
или полной автономией, как правило, закрепленной юридически», без
какой-либо конкретизации форм и способов правового самоопределе-
ния коммуны. Из этого следует, что «юридические формальности» счи-
тались менее значимыми, чем общий план политической борьбы. Имен-
но поэтому (вследствие отрицания формально-юридических критериев),
как считал этот историк, «время зарождения средневековой коммуны
Италии не может быть зафиксировано с абсолютной точностью». При
этом, однако, подчеркивалось, что консолидация коммун происходила
именно «в период борьбы с сеньорами»16.
Вклад российских ученых действительно был самобытным, и не
случайно среди авторов многотомной энциклопедии истории Италии есть
имена российских медиевистов. Прежде всего, органически ощущавшей-
ся потребностью в связности исторического нарратива и тщетными поис-
ками дисциплинарной когерентности в 1960 70-х гг. можно объяснить тот
моральный авторитет, которым пользовались в среде итальянских тексто-
логов и исследователей региональных и локальных казусов некоторые
зарубежные коллеги, вводившие в оборот гораздо меньший объемы ис-
точников и не замечавшие многих аспектов средневековой социальности.
Кроме усложнения вопросов эпистемологического характера, ме-
няющих картину исторического описания и восприятия, видимые «из-
менения истории» влечет за собой расширение спектра тем историче-
ского исследования. А возможно, проблематизация языка описания и
люция либеллярного держания в Северо-Восточной Италии в XII-XIV вв. // Вестник
МГУ. История. 1964. № 3.
16 Рутенбург В. И. Итальянские коммуны ХГУ-ХУ вв. М.; Л., 1965. С. 8-11-
Такая тенденция продолжала существовать и в дальнейшем в отечественной исто-
риографии. См. напр.: Классы и сословия средневекового общества/ Под ред-
S. В. Удальцовой. М., 1988.; Общности и человек в средневековом мире / Отв. ред.
А. А. Сванидзе. М„ 1992.
И- А. Селунская. Современные перспективы изучения...
363
новые стандарты теоретического рефлексирования, которые возникли в
рамках отдельных видов медиевальных исследований, заставили неко-
торых историков отказаться от традиционных правоведческих сюжетов
средневековой истории и перейти в другую область интересов, напри-
мер в ту сферу, которую прежде считали своей историки искусства и
культуры. При этом было бы неправомерным обвинять историю в том,
что, не справившись с тысячелетней традицией дисциплины изучения
истории права, историки посягнули на «территорию» более молодой
дисциплины, с менее определенными теоретическими основами.
Естественно, историк хочет сосредоточить исследование на взаимо-
действиях и сосуществовании множества малых социумов, в их социаль-
но-правовых проекциях. Поскольку осуществление права является таким
взаимодействием, историк с неизбежностью встает на путь изучения пра-
вовых источников, нормативных правовых свидетельств и черпает из них
материал для создания нарратива. В любом случае, историки задавали
собственные вопросы, пусть используя те же исторические материалы,
что и представители других видов гуманитарного знания, искали и рекон-
струировали объекты описания, интересные именно с точки зрения исто-
рии социума, социальной коммуникации и репрезентации.
В последние десятилетия в плане общих теоретических «опор» ис-
следования стали фигурировать и основы культурной антропологии, и
вопросы символических репрезентаций идентичности, и понятия из со-
циологического арсенала Бурдье, в первую очередь «габитус». При
слиянии изучения этих разноплановых концептов возникает новая ин-
терпретация картины истории «цивитас», как это проявилось в наиболее
ярком, пусть и единичном примере - труде под редакцией итальянского
историка Р. Бордоне, для которого община представляет собой вопло-
щение не просто цивильной традиции, но и некого состояния духа - uno
stato d’anima17. В этой работе, по крайней мере, чувствуется попытка
выхода из парадигмы истории, «какой она была», а также демонстри-
руются возможности переосмысления правового поля как репрезента-
ции, а не как материала информативного исторического источника.
Но не станем забывать, что и символическая репрезентация един-
ства социума, визуализация в произведениях искусства, в архитектуре
его определенных аспектов (например, власти семейства магнатов или
независимости городской общины) является таким же коммуникатив-
ным средством, как и выстраивание правовых систем.
17 La societa urbana nell’Italia comunale (secoli XI XIV) / A cura di Renato
Bordone (2005).
364
История на перекрестках междисциплинарности
Можно согласиться с Э. Колеманом, что большинство исследова-
ний отличает именно юридический и институциональный подход, но,
собственно, автор критического выступления, во-первых, сам принад-
лежит критикуемой традиции, а во-вторых, рассматривает мало совре-
менных трудов историков. Так, по вопросу ассамблей Колеман приво-
дит лишь одну ссылку на общую работу Поста об ассамблеях Италии и
Испании, которая представляет собой публикацию шестидссятилетней
давности18. Эта работа Поста, на мой взгляд, весьма интересна как по-
пытка компаративного исследования, несмотря на несколько искусст-
венную заданность сравнительного подхода, но ее никак нельзя назвать
«современным» планом трактовки проблемы. Со своей стороны, совре-
менные специалисты практически не отреагировали на дискуссионные
выступления, инициатором которых был Э. Колеман, что сделало прак-
тически бессмысленным весь пафос его выступлений, который мог, при
другом стечении обстоятельств, оказаться запалом для дискуссии с да-
леко идущими последствиями. А возможно и остро дискуссионные вы-
ступления и критика не смогут поколебать позиции «истории с право-
вым уклоном» - слишком многоликой является эта тенденция.
Естественно, что основная направленность исследования обычно
определяется читателем не столько исходя из специфических особенно-
стей конкретного труда, но отталкиваясь от того, с каким из сущест-
вующих историографических направлений этот текст можно соотнести.
Последнее обстоятельство и формирует «долгие» тренды в историогра-
фии. При этом предмет исследования (община или коммуна) как будто
не равен сам себе, если выбиравший их исследователь позиционирует
себя как историк права, приверженец социальной истории^ культурной
антропологии и т.д. Один и тот же масштаб исследования может быть
понят как пример изучение локальных особенностей или же процесс
микроисторического анализа объекта.
Даже сам выбор источников как бы предопределяет исследова-
тельские горизонты. Существует представление о том, каким является
мировоззрение исследователя правовых документов, и чем оно отлича-
ется от мировоззрения историка, которого занимают феномены репре-
зентации культурной идентичности. Эти шаблоны или стереотипы сами
по себе составляют проблему исследования, ситуация требует, если не
полного снятия произвольно наложенных ограничений, то специальной
18 Post G. Roman I .aw and Early Representations in Spain and Italy, 1150-1250//
Speculum. 1943. Vol. 18. P. 211-32.
Н. А. Селунская. Современные перспективы изучения...
365
рефлексии по поводу исследовательского выбора и вписанности его в
определенный историографический контекст.
Анализ феномена коммуны в целом, как и характеристика самого
понятия «института», зависит от восприятия задач исторического иссле-
дования. Если понимать институт как нечто, выражающее корпоратив-
ный дух и групповой интерес, то, исследователь должен дать историко-
содержательный анализ отраженных в источниках функций институтов и
должностных лиц, а также элитарной группы, выдвигающей из собствен-
ной среды исполнителей должностных полномочий, раскрыть смысл су-
ществования института в контексте локальной истории социума.
Источниковый материал представляет собой проблему исследова-
тельского выбора и, следовательно, может быть рассмотрен не только
как сюжет специального источниковедческого раздела, но и в ряду ха-
рактеристик школ, направлений и индивидуальных особенностей ме-
диевистических исследований, а также их масштабов и контекстов реа-
лизации. Правовой источниковый материал включает в себя, прежде
всего, статуты, затем грамоты и их разновидности (chartae / chartae liber-
tatis), а также нотариальные акты и иные записи, сделанные нотариями
ad hoc - расписки, свидетельства взимания штрафов и т.п., но не исчер-
пывается этими подвидами. Репрезентативность данного типа истори-
ческих свидетельств заключается не только в разнообразии данных, в
них содержащихся, и многообразии моделей их составления, и не толь-
ко актуальность этого ряда источников задачам изучения права общины
и сеньории определяет его ценность.
Вообще понятие репрезентативности и ценности исторических ис-
точников не является неизменным в историографии. Опуская некоторые
нюансы, можно сказать, что при позитивистском подходе, господство-
вавшем вплоть до первой половины прошлого века, считалось аксио-
мой, что источниковая база (в частности, ее расширение) предопределя-
ет возможности и результаты исследования. Соответственно, в этом
смысле и трактовалось понятие репрезентативности Источниковой ба-
зы - как потенциальной возможности получать сведения по большему
или меньшему спектру тем. Релятивистская парадигма представлений,
система координат, в которой существуют современные исследователи,
предполагает, что в зависимости от того, ищут ли историки наиболее
корректную методику, связность и всеобщность или иной результат,
формируются их представления о репрезентативности источников.
При этом не столько демонстрируются возможности максимально
использовать информативность исторических свидетельств или состав-
366
История на перекрестках междисциплинарности
пять общие представления по отдельным источниковым казусам, но на-
глядно проявляется достаточность небольшого круга источников для до-
казательства ложности общих схем и историографических стереотипов.
Поскольку исследование особенностей историографии вопроса
также входит в задачу исследования, то ценность изучения этой базы
содержится и в самой традиционности ее использования для задач изу-
чения средневекового социума многими поколениями историков разных
взглядов, приверженцами несхожих практик исследований.
Первоочередное использование именно этого перечня источников
составляет особенность изучения коммуны и сеньории в историографи-
ческой традиции. Одним из краеугольных принципов исследования ис-
тории средневековой Италии с ее полицентризмом вообще, а также
проблемы общины и сеньории как ее основной канвы, традиционно яв-
лялось изучение особенностей развития отдельных исторических зе-
мель, локальных центров, регионов, которые или не позиционировались
автором вовсе в рамках каких бы то ни было исследовательских страте-
гий, или реже заявлялись различным образом: как банальное краеве-
дение, в качестве исследования территориальности и регионального
государства, как микроисторический анализ и т.д.
Задачи и сами масштабы исследований, весьма существенно раз-
личаются, причем нс только в связи с индивидуальной авторской пози-
цией, но и в зависимости от общей стилистики национальных историо-
графических школ. Британские и американские итальянисты, за редким
исключением, рисуют историческую картину более широкими мазками,
используют почти очерковую манеру. Итальянские ученые подчерки-
вают дробность и мозаичность исторического описания^ фокусируют
исследование на более мелких объектах без каких-либо широких ввод-
ных частей, даже упоминания предшествующих историографических
достижений весьма сужены пределами данной специфической темы.
Кажется, что практически невозможно совместить эти две системы
описания. И, даже когда речь идет о сходных объектах исследования
или об одном временном и региональном пространстве, в организации
стилистически и методологически разнородного исследовательского
материала помогает лишь заранее составленное представление об исто-
рических контекстах, в которые вписывались результаты исследований.
Новая роль локальной истории, в частности, может проявиться в
соединении масштабов микроисторичсского анализа с исследованием
концептов, развиваемых историками в процессе изучения локализован-
ного объекта, сопоставлением историографических контекстов, в пре-
я, А. Селунская. Современные перспективы изучения...367
одолении псевдо-объективистского краеведения. С другой стороны,
исследователь локальной истории может присоединиться к использова-
нию апофатического метода, т.е. пытаться вычленить совершенно не-
применимые методики исследования и отвергать самые неправдопо-
добные реконструкции истории.
На фоне этого прорыва традиционной медиевистики новейшие
разработки в сфере правовых исследований кажутся прямо противопо-
ложными, если не ретроградными. История права, кажется, упивается
достижениями, основанными на расширении Источниковой базы, в том
числе на введении в оборот материалов, иллюстрирующих процесс
применения, исполнения правовой нормы, известной по теоретическим
трактатам и сводам права.
Было бы не только иллюзорным, но и бесперспективным основы-
вать на этой практической возможности верифицировать то, как законо-
творчество в отдельных случаях воплощалось на практике, что пытается
сделать история права как дисциплина на современном этапе развития.
При этом, по моему мнению, в рамках собственно исторических иссле-
дований не происходит отклонения от парадигмы описания средневеко-
вой итальянской истории, основанной на правовом материале, интер-
претируемом в таком ключе, который изжил себя еще до эпохи
интеллектуальной революции Просвещения.
Сказанное не имело целью призвать к тотальному отказу от при-
вычного для медиевиста модуса исследования, включающего детализи-
рованное краеведение и описание казуса. Я лишь отмечаю, что некото-
рые изменения уже происходят и неизбежно будут усиливаться, причем,
как это ни парадоксально, как бы против течения основной тенденции.
На мой взгляд, если исследования итальянского средневековья останут-
ся в традиционном детализирующем ключе описания, будет повышать-
ся ценность связных нарративов, хотя они включают немало идеологем.
Вопрос в том, каким будет русло развития нового большого нарратива.
М. В. Калашников
ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ:
ОТ ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ
К ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Отечественные гуманитарные и социальные науки, едва начавшие
вписываться во второй половине 1980-х гг. в «лингвистический поворот»,
практически одновременно стали испытывать воздействие происходив-
шего в мировом масштабе «когнитивного поворота»1, который выразился
в непрерывно возрастающем с конца 1980-х интересе исследователей к
проблемам мышления и сознания и, в частности, к истории понятий.
В 1999 г., обозначая контуры новой парадигмы, Е. С. Кубрякова и
О. В. Александрова писали: «Именно когнитологи подчеркнули, что все
науки имеют дело с чисто человеческими знаниями о мире, а, следова-
тельно, рассуждения о том, отражает ли человек в своих описаниях ми-
ра ОБЪЕКТИВНО (выделено авторами. - М.К.} существующую дейст-
вительность, “мир как он есть”, онтологию мира, или же мир,
пропущенный через сознание и спроецированный в голову человека, -
эти рассуждения по сути дела бессмысленны: мы не знаем ничего, не
пропущенного через человеческое сознание и - в основном — не объек-
тивированного в вербальных формах, в текстах и дискурсе»2.
В философии языка также происходит перенос акцента с семанти-
ки на прагматику, что, в конечном итоге, приводит к проблеме понима-
ния. Сходные процессы происходят и в рамках исторического сообще-
ства. Историки перестают ограничиваться реконструкцией социальных
структур ушедших эпох и обращают внимание на сознание людей про-
шлого3. Описывая переходную, по своей сути, ситуацию 1990-х гг. в
интеллектуальной истории, Л. П. Репина также констатировала: «Исто-
рики политической мысли сконцентрировали свое внимание не на иде-
1 В рамках аналитической философии уже к концу 1970-х гт. философия языка
и, следовательно, «анализ» той или иной области языка стали пониматься «как за-
ключительная часть гигантского теоретического исследования человеческою созна-
ния». (Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика// Аналитическая фило-
софия: Избранные тексты. М., 1993. С. 173.)
2 Кубрякова Е. С., Александрова О. В. О контурах новой парадигмы знания в
лингвистике // Структура и семантика художественного текста. М., 1999. С. 194.
3 Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исто-
рической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памя-
ти) И Диалог со временем. 2001. Вып. 7. С. 21-22.
/. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
369
ях, текстах, и традициях, а на изучении политического “языка” или
“языков” (т.е. полного политического словаря того или иного периода, а
особенно переходных эпох) с целью выявить тот интеллектуальный
контекст, на почве которого выросли “великие тексты” и в трансформа-
цию которого они внесли свой вклад»4.
Современная «история понятий» возникла не как единое научное
направление, а как две по-разному мотивированные исследовательские
стратегии исторически ориентированного анализа научных понятий. В
конце 1960-х гг. в Англии в рамках исследования политической теории и
истории политической мысли, прежде всего, благодаря усилиям
Д. Данна5 и К. Скиннера6, складывается кембриджская школа «истории
понятий»7. Заметим, однако, что сам К. Скиннер считает Кембриджский
университет ведущим центром «исторически ориентированного подхода
к изучению моральной и политической мысли», а свои исследования на-
зывает видом интеллектуальной истории8. К немецкому проекту «исто-
рии понятий», предложенному Р. Козеллеком и его сторонниками,
К. Скиннер относится достаточно скептически. Он полагает, что “долгие”
истории понятий как таковые невозможны. Доступна лишь история ис-
пользования и употребления тех или иных понятий в спорах9. Вместе с
тем именно К. Скиннер вскрыл абсолютную историческую случайность
так называемых «непреходящих ценностей». Он писал: «показать, что в
истории нет вечных истин и понятий, а есть только различия и полисе-
мия, - значит уже выяснить что-то о нашем прошлом и о нас самих»10.
4 Репина Л. П. Культурный поворот в интеллектуальной истории // Выбор ме-
тода: изучение культуры в России 1990-х годов. М., 2001. С. 34.
5 Dunn J. М. The Identity of the History of Ideas // Philosophy. Vol. 43. 1968. P. 85-
104.
6 Skinner Q. R. D. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and
Theory. Vol. 8. 1969. P. 3-53. Перепеч. в: Meaning and Context: Quentin Skinner and His
Critics/Tully J. (ed.). Oxford, 1988. P. 29-67.
7 Финская исследовательница T. Пулккинен в 2000 г писала: «В настоящее время
под “историей понятий” подразумеваются философски-ориентированные историко-
лингвистические исследования преимущественно политических терминов». {Пулкки-
нен Т. Valtio - история понятия «государство» в финском языке // Понятие государства
в четьгоех языках: Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М., 2002. С. 117.)
8 Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. с англ. А. В. Магуна; науч. ред.
О. В. Хархордин. СПб., 2006. С. 87-88,91.
9 Асоян Ю. А. Практика исследования концептов: от «категорий культуры» к
«концептосфере» и «семантике понятий» И Культурология: Дайджест.
М.: ИНИОН, 2008. № 1 (44). С. 22.
10 См.: Рощин Е.Н. История понятий Квентина Скиннера// Полис: Политиче-
ские исследования. 2006. № 3. С. 150-158.
370
История на перекрестках междисциплинарности
В конце 1960-х гг. получает развитие и немецкая школа «истории
понятий»11. Главный теоретиком школы стал Р. Козеллек, ученик
М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. В наиболее концентрированном виде
методологический подход Козеллска к «истории понятий» представлен
в его статье «Социальная история и история понятий», которую принято
считать манифестом данного направления историографии: «Изучение
понятий и истории их языкового выражения является таким же мини-
мальным условием познания истории, как и их определение как имею-
щих дело с человеческим обществом». Р. Козеллек считал, что социаль-
ная история и «история понятий» неразрывно связаны и фактически
должны дополнять друг друга: «...обе истории нацелены... на долго-
срочные, диахронно действующие условия, которые сделали возможным
соответствующий отдельный случай. ...они ставят вопрос о структурах и
об их изменении, а также о языковых данных, с помощью которых по-
добные структуры проникали в общественное сознание, осознавались и
изменялись». В русле подходов немецкой философии языка и, вероятно,
под влиянием К.-О. Апеля, Р. Козеллек объединяет семантику и прагма-
тику: «.. .каждое изменение понятия, которое становится языковым собы-
тием, происходит в акте семантического и прагматического обновления,
позволяющего познать новое вообще, а старое — иначе»12.
В 1990-х гг. «история понятий» конституируется как международ-
ное историографическое направление. Проводится целый ряд междуна-
родных конференций и организуется международная группа по изуче-
нию «истории понятий»13. В современной Германии, как отмечает
М. Е. Соболева, «...изучение истории понятий занимает важное место
среди классических историко-герменевтических исследований»14.
В последнее десятилетие исследования в рамках «истории поня-
тий» появились и в России. С некоторой долей условности можно гово-
рить о формировании петербургской «школы» «истории понятий», цен-
тром которой является Европейский университет. Определенным
11 KoselleckR. Vergangene Zukunfl: Zur Semantik gcschichtlichen Zeiten. Frank-
furt am Main, 1979; KoselleckR. Einleitung//Geschichlliche Grundbegriffe. Hislorisches
Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland / (Hrsg.). O. Brunner, W. Conze,
R. Koselleck. Stuttgart, 1972. Bd. 1. S. ХШ-ХХУП.; Historische Semantik und Be-
griffsgeschichte. (Hrsg.) R. Koselleck. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979.
12 Козеллек P. Социальная история и история понятий // Исторические понятия
и политические идеи в России. XVI - XX века. СПб., 2006. С. 33, 46-47, 52.
13 Колосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Там же. С. 25.
14 Соболева М. Е. Философия в Западной Германии во второй половине
XX в. // Хора. 2008. № 2. С. 44.
М- В. Калашников. Историко-семантический анализ...
371
итогом деятельности этой «школы» стала публикация в 2006 г. сборни-
ка «Исторические понятия и политические идеи в России. XVI-XX ве-
ка», в котором опубликованы материалы круглого стола проходившего
в марте 2005 г. в Европейском университете в С.-Петербурге под харак-
терным названием: «История понятий как метод». Как следует из мате-
риалов публикации, участники круглого стола так и не пришли к еди-
ному мнению относительно вопроса, «...как понимать историю
понятий - как метатеорию или как метод - и как ее можно использовать
в российском интеллектуальном контексте» |5. Для популяризатора но-
вого направления и одного из лидеров петербургской «школы»
Н. Е. Колосова характерен именно эпистемологически-
инструменталистский подход к «истории понятий»: «Для меня история
понятий является важнейшим инструментом критики социальных наук,
под каковой я подразумеваю эмпирическое междисциплинарное исследо-
вание интеллектуальных и социальных оснований социальных наук как
исторически сложившейся культурной практики»15 16 17. А. И. Миллер также
полагает, что «история понятий» - это методологический подход .
Приходится констатировать, что подавляющее большинство ис-
следователей, обративших свой взгляд на «историю понятий», рассмат-
ривает ее как вспомогательную методологию позволяющую усовершен-
ствовать инструментальный набор основных (базовых) научных
понятий, используемых ими в своих исследованиях соответствующих
предметных областей социальных и гуманитарных наук, и не ставит
своей целью анализ общественного (общего, коллективного) сознания.
Практически все исследования политической и социальной терми-
нологии или понятий не идут дальше уточнения их смысла и содержа-
ния, с учетом их исторической составляющей как инструментов позна-
ния прошлого или настоящего (об опасности инструменталистского
подхода к языку неоднократно предупреждал Х.-Г. Гадамер)18. Поэтому
15 История понятий как метод (Круглый стол) // Исторические понятия и поли-
тические идеи в России... С. 238.
16 Колосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня. С. 28-29.
17 Миллер А. И. «Народность» и «нация» в русском языке XIX века: подгото-
вительные наброски к истории понятий /7 Российская история. 2009. № 1. С. 160.
18 Х.-Г. Гадамер писал: «Язык не есть одно из средств, с помощью которого
сознание опосредует себя в мире. Он не представляет собой третий инструмент на-
ряду со знаком и орудием труда, хотя оба они и принадлежат к сущностным харак-
теристикам человека. Язык вообще не является инструментом, орудием. Сущностью
орудия выступает то, что мы распоряжаемся его употреблением, а это значит, мы
берем его в руки и выпускаем из рук, когда оно сослужило свою службу. Это совсем
372
История на перекрестках междисциплинарности
опасность вырождения истории понятий, если она не преодолеет своего
переходного качества (не став в полном смысле историей общественно-
го сознания), в схоластическое инструменталистское теоретизирование
по поводу исторического дискурса представляется нс столь уж отдален-
ной перспективой. Застывая и твердея, инструментальное научное по-
нятие, если в новом контексте не будет кардинально изменен его
смысл* 19, отрывается от семантического тренда общественного сознания
и из разряда частных случаев употребления понятий вообще, переходит
в разряд мемориально-историографических понятий, превращаясь в
историографический факт соответствующих наук.
Переход к историческому исследованию общественного сознания
предполагает не только отказ от представления об истории как осуще-
ствлении сверхвременных идей и ценностей20, но и отказ от функциона-
лизма (позитивизм, марксизм и структурализм)21, то есть от представле-
ния о социальном как наборе структур и функций.
не то же самое, что вложить в рот заранее заготовленное слово и, использовав ею,
опустить во всеобщий словарный запас, находящийся в нашем распоряжении. Эта
аналогия ложна потому, что мы как носители сознания никогда не находимся в про-
тивостоянии миру и не хвагаем орудие понимания, словно в безъязыком состоянии.
Скорее, мы в наших знаниях о мире и о нас самих всегда охвачены языком, который
является нашим собственным». (Гадамер Г.[Х.]-Г. Человек и язык // От Я к Другому:
Сб. переводов по проблемам интерсубьективности, коммуникации, диалога/Ред. -
сост. Т. В. Щитцова. Минск, 1997. С. 136-137.)
19 А. В. Ахугин, по сути, делая вывод о невозможности полной и окончатель-
ной понятийно-терминологической инструментализации, писал: «...всякое понятие
есть одновременно и определенное (абстрактное) знание, и определение незнания,
т. е. вопрос об этом знании со стороны познаваемого или идеи познания, не совпа-
дающих с исходным знанием. Стоит расслышать этот вопрос, это противоречие
познанному в понятии, как мы сообразим, что всякий акг познания есть не примене-
ние понятия, а его изменение (развитие, конкретизация). Причем изменение это про-
исходит не столько путем сравнения понятия с предметом (операция во всех отно-
шениях сомнительная), сколько путем сравнения понятия с ним самим, путем
приведения его в соответствие с идеей понимания (знания)». (Ахутин А В. Дело
философии И Он же. Тяжба о бьггии. М., 1996. С. 37-38.)
20 См.: Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты / Пер. с нем.,
глосс., послесл. О. А Коваль, прсдисл. Е. Ю. Сивсрцева. СПб., 2000. С. 161-162.
21 См.: Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. На примере эво-
люции школы «Анналов» // Новая и Новейшая история. 1998. № 6. С. 77. Англий-
ский социолог Д. Уолш, подвергая критике с позиции феноменологии основные
интегрирующие парадигмы, писал: «Коренной недостаток позитивистской социоло-
гии заключается в ее неспособности понять смысловое строение мира, вследствие
чего позитивизм и выработал методологию, совершенно не адекватную природе
исследуемого объекта». (Уолш Д. Социология и социальный мир // Новые направле-
ния в социологической теории. М., 1978. С. 51-52.) Говоря о марксизме, все тот же
{. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
373
Вместе с тем кризис социальных наук — это, прежде всего, кризис
предметного, то есть опредмечивающего социальную реальность и тем
самым ее и создающего, мышления. Но это и есть мышление эпохи Со-
временности (Модерна), которое М. Хайдеггер определил как мышле-
22
ние, «почти целиком погрязшее в предметном представлении» .
Если предметом «истории понятий» является формирование поня-
тийно-терминологического аппарата социальных и гуманитарных наук и
социально-политических теорий, то предметом истории общественного
сознания должна стать сама история понятий, обозначающих соответст-
вующие феномены сознания. Прежде всего, это касается отвлеченных
(абстрактных) понятий используемых для описания социальных или
идеологических феноменов, таких, например, как - личность, общество,
государство, или - либерализм, консерватизм, социализм. У них нет ре-
ферента, то есть, у них нет ни природной, ни антропологической пред-
метности23. Они присутствуют в общественном сознании как феномены,
соответствующие определенным системам отношений в поле социально-
го. То есть это социологические (социологизированные) абстракции, су-
ществующие только как феномены сознания и получающие статус неких
сущностей лишь благодаря их грамматической категоризации24.
Д. Уолш заметил: «...Маркс никогда не интересовался тем, как в действительности
члены общества воспринимают и описывают явления социального мира и как при-
писываемые явлениям значения меняются со временем в зависимости от применяе-
мых для их описания методов. Подобные проблемы он предпочитал решать на осно-
ве представлений о мире, содержащихся в его собственной теоретической модели».
(Уолш Д. Функционализм и теория систем // Там же. С. 138.)
22 Хайдеггер М. Положение об основании. С. 160.
23 Американский философ Р. Рорти пишет: «...такой вещи, как человеческая
природа, просто не существует, поскольку люди преобразуются и меняются по ходу
собственного развития. Они творят себя подобно тому, как поэты творят стихи. Че-
ловеческому пониманию не подлежат и такие феномены, как “природа” государства
или “природа” общества. Вместо них мы имеем дело с исторической последователь-
ностью более или менее успешных попыток добиться гармоничного соотношения
порядка и справедливости». (Рорти Р. Демократия и философия // Неприкосновен-
ный запас. 2007. № 6. С. 56.)
24 Б. Л. Уорф, американский лингвист, последователь Э. Сепира и автор гипо-
тезы «лингвистической относительности», еще в 1930-х it. писал: «...основа языко-
вой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент
Для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, являет-
ся программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средст-
вом анализа его впечатлений и их синтеза». (Уорф Б. Л. Наука и языкознание (О
Двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естест-
венной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) // Новое в лингвис-
тике. М., 1960. Вып. 1 / Под ред. В. А Звегинцева. С. 174.) Или, например, как полага-
374
История на перекрестках междисциплинарности
Став некой сущностью, т.е. получив статус существительного в
языке как знаковой системе общественного сознания, а также вследст-
вие неявного онтологического допущения позволяющего рассматривать
общество и различные комбинации общественных отношений как ре-
альность* 25, такие отвлеченные (абстрактные) понятия обретают права на
социальную онтологию, что совершенно не означает их действительной
укорененности и присутствия в бытии. Обретаясь в социальной онтоло-
гии, они остаются всё теми же отвлеченными (абстрактными) понятия-
ми, когда-то найденными сознанием метафорами26, для описания (опре-
деления) неких новых социальных явлений и их свойств.
Абстрактное понятие, находящееся в тесной связи со сложным яв-
лением (системой отношений), которое оно описывает, может в созна-
нии современников соответствовать, или даже заменять собой сущность
явления, но самой сущностью быть не в состоянии. Поэтому анализ та-
кого понятия как некой предметной сущности просто невозможен. При
попытке описать его как некий в действительности существующий кон-
кретный предмет он будет постоянно ускользать, дробиться, теряться и
мимикрировать, обретая формы других, зачастую столь же мнимых,
предметных сущностей, что собственно мы и наблюдаем в условиях
тотального кризиса социальных наук.
ет П. Ф. Сгросон, «...грамматическая структура, равно как и смыслы отдельных слов,
обусловливают смыслы, или семантические интерпретации, предложений». (Стро-
сон П. Ф. Грамматика и философия // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986.
Вып. 18. Логический анализ языка/ Сост., общ. ред. и вступ. ст. В. В. Петрова. С. 162.)
25 Э. Бснвенист писал: «Язык вос-производит действительность. Это следует
понимать вполне буквально: действительность производится заново бри посредни-
честве языка... Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собствен-
ной организации». (Бенвенист Э. Взгляд на развитие лингвистики // Он же. Общая
лингвистика/ Ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. М.,1974. С. 27.) Конкре-
тизируя эту мысль, следует сказать, что социальную реальность, которая является
системой отношений и институций, язык в большей степени не «вос-производит», а
именно производит. Социальная реальность онтологизируется сознанием человека
именно как действительность, как нечто существующее в реальности, как некое
пространство, наполненное предметностями, только благодаря организующей и
структурирующей способности языка и, в не меньшей степени, верой самого чело-
века в ее существование, его иллюзиями. «Если иллюзии людей рассеиваются, то
реальность исчезает, а действительность изменяется. Иными словами, общество
структурируют нс социальные структуры, а надежды, мечты и грезы людей...». (Ги-
ренок Ф. Почему закатилась звезда социальных наук? // Censura. Политика концепга.
Проект: Реактор. 13. 10. 08. http://censura.ru/articles/sociologyfall.htm.)
26 «.. .язык изначально метафоричен». (Деррида Ж. О трамматологии / Пер. с
фр. и вступ. ст. Н. Автономовой. М., 2000. С. 455.)
В. Калашников. Историко-семантический анализ...375
Мнимые предметные сущности можно описать только косвенно
через анализ совокупности признаков, качеств или свойств, принадле-
жащих действительно бытийственным сущностям. Достаточно полно и
адекватно их можно описать только как понятия, существующие в об-
щественном сознании и соответствующие определенным феноменам
сознания, являющимся аналогами тех якобы предметных сущностей,
которые в самом этом сознании обрели права социальной онтологии.
Сразу оговоримся, что такой анализ не может быть анализом только
представления, так как само сознание, в силу склонности к эссенциа-
лизму, посредством грамматической категоризации наделяет мнимые
предметные сущности свойствами действительно существующих пред-
метностей. Отвлеченные (абстрактные) понятия должны анализиро-
ваться как феноменологические предметности присутствующие только
в общественном сознании, изменяющиеся значения словоформ которых
позволяют нам говорить об изменениях в общественном сознании отно-
сительно изменения представлений о системе социальных отношений,
т.е. относительно изменяющихся условий существования антропологи-
ческого в системе социальных отношений.
В настоящее время, то есть в эпоху приходящую на смену Постмо-
дерна, когда разрушены или, по крайней мере, находятся в процессе
разрушения основания парадигмы, в рамках которой сложился проект
Современности (Модерна), адекватный анализ каких либо явлений или
феноменов, явленных и воспринятых в рамках этого проекта, с помо-
щью методов, имеющих те же основания, что и сами эти феномены,
невозможен27. Актуальным, то есть важным, существенным для новой
наступающей эпохи должно быть не только выявление изначальных
смыслов ключевых понятий эпохи Современности (Модерна), но и само
понимание (осознание) их смысловой изменчивости. Включение в ос-
нование новой рациональности представления о мерцании этих поня-
тий из «темных глубин времени», то есть изменчивости и одновремен-
ном постоянном присутствии множественности смыслов в каждой из их
лексических форм, взятых в отдельности, придаст этой новой рацио-
нальности28 подлинно историческое измерение29.
27 Как писал Х.-Г. Гадамер, «...одно лишь применение привычных методов в
гораздо меньшей степени составляет сущность всех исследований, чем нахождение
новых...». {ГадамерХ.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики/
Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М., 1988. С. 615-616.)
8 О том, что представление о мерцании, изменчивости, бликовости языка уже
начинает осознаваться как условие некой новой рациональности, свидетельствует
заявление московского философа, манифестирующего археоавангард: «Понятийный
376
История на перекрестках междисциплинарности
В силу сложившихся в науке традиций единственным критерием
научности, точнее рациональности, понимаемой в данном случае как
научность, является использование определенного метода исследова-
ния. К. Ясперс выделял три признака присущих науке: познавательные
методы, достоверность и общезначимость. Если признаком достоверно-
сти знания, по Ясперсу, является только внутренняя субъективность
исследователя, выражающаяся в его «полной уверенности» в достовер-
ности его знания, а критерием общезначимости может быть только при-
знание результатов исследования научным сообществом, выражающим
тем самым свою коллективную субъективность, то метод исследования
является рефлексивной объективацией самого исследователя, одновре-
менно его самого и определяющей. К. Ясперс писал: «Я обладаю науч-
ным знанием лишь в том случае, если осознаю метод, посредством ко-
торого я это знание приобретаю, следовательно, могу обосновать его и
показать в присущих ему границах»* 29 30. Иначе говоря, метод исследова-
ния - это некая рационально-логически организованная произволь-
ность, основания которой, в зависимости от объекта и предмета иссле-
дования, на которые направлена интенция автора, определяет он сам.
Как мы полагаем, если объектом исследования является общест-
венное сознание, а непосредственными предметами исследования ста-
новятся понятия, то наиболее адекватным методом их анализа может
быть только метод историко-семантического анализа31 естественного
языка, как изменяющейся во времени знаковой системы семантически
организованного общественного сознания. Предлагаемый нами метод
язык требует множества определений. Но определить - значит ограничить, утратить
оттенки, упростить. Я же хочу работать с неустоявшимися смыслами, зыбкими зна-
чениями». (Гиренок Ф. [И]. Удовольствие мыслить иначе. М., 2008. С. 3.)
29 М. Хайдеггер писал: «...множественность значений какого-либо слова про-
исходит не только из-за того, что мы, люди, в своих речах и писаниях подчас под
одним и тем же словом подразумеваем различное. Множественность значений, так
или иначе, является исторической. Она возникает из-за того, что в говорении языка,
которое всегда происходит сообразно с бытийным посылом судьбы, бытие сущего
по-разному относится к нам самим, т.е. по-разному к нам обращается». (Хайдег-
гер М. Положение об основании. С. 163-164.)
30 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 101.
31 Историко-семантический анализ, не разработанный как специальный метод
исследования, используется в настоящее время в рамках этимологических исследо-
ваний с целью реконструкции «исходного значения слова, позволяющего попять
логику его семантического развития». Берестнев Г. И. Историко-ссмантические
этюды// Языкознание: Современные подходы к традиционной проблематике: Сб.
науч. тр. / Под ред. Г. И. Бсрсстнева. Калининград, 2001. С. 26.
Jvf. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
377
^историко-семантического анализа ориентирован не на исследование
'семиотической (знаково-символической) сферы общественного созна-
ния, а на исследование семантики (значений слов и смыслов понятий)
естественного языка как знаковой системы общественного сознания.
Э. Бенвенист, различая два способа означивания, существующие,
по его мнению, в языке, назвал один способ семиотическим, а другой -
семантическим. Делая это различение, он писал: «...семантическое оз-
начивание основано на всех референтных связях, в то время как означи-
вание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой ре-
ференции. Семантический аспект принадлежит сфере высказывания и
миру речи». По мнению Бенвениста, «...семиотическое (знак) должно
быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято»32.
Историко-семантический анализ как метод исследования пред-
ставляет собой не эклектическое смешение разнородных обломков дру-
гих методов, и не методологический компромисс, а органический син-
тез33, насколько это возможно, достижений философии языка,
лингвистики, герменевтики и феноменологии. Метод историко-
семантического анализа позволяет через анализ изменения смыслов по-
нятий и значений соответствующих им слов, используемых в рамках
определенных дискурсов для описания идеологических, политических и
социальных феноменов, которые онтологизируются сознанием как
предметности политической и социальной реальности, наиболее адек-
ватно выявить не только эти предметности и порождающие их интен-
ции, но и проследить за их изменениями в общественном сознании.
Исходный тезис, являющийся основанием предлагаемого нами ме-
тода историко-семантического анализа: естественный язык — это изме-
няющаяся во времени знаковая система семантически организованного
общественного сознания34. Одновременно мы исходим из представления
32 Бенвенист Э. Семиология языка // Он же. Общая лингвистика. С. 88.
33 В этом отношении характерно суждение «.. .прошло время методологиче-
ского плюрализма, предполагающего использование различных познавательных
принципов, не сводимых к какому-либо одному, основополагающему. Речь, следо-
вательно, должна идти о методологическом синтезе, составляющем концептуальное
ядро исторического синтеза и осуществляющемся в сфере исторического познания:
на поле истории и под ее эгидой». (Могилъницкий Б. Г., Николаева И. Ю. Введе-
ние // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспекти-
вы / Под ред. Б. Г. Могильницкого и И. Ю. Николаевой. М., 2005. С. 9.)
34 Согласно К.-О. Апелю, который еще в 1963 г. первым заявил о необходимо-
сти «лингвистического поворота» в философии, язык - это «“общий логос” челове-
ческого сообщест ва». К.-О. Апель также писал и об общем логосе безграничного
коммуникативного сообщества: «Знание знанием самого себя в смысле абсолютного
378
История на перекрестках междисциплинарности
о тотальной историчности общественного сознания и, соответственно,
языка как его семантически организованной, знаковой системы35. Разви-
вая тезис Л. Витгенштейна о совпадении границ познанного мира с гра-
ницами языка, мы полагаем, что сфера общественного сознания конкрет-
ной исторической эпохи совпадает со сферой языка данной эпохи36.
Язык, как семантически организованная знаковая система общест-
венного сознания, является единым во всей своей множественности и
единственным трансцендентальным означающим в отношении сознания
отдельного человека. Общественное сознание прошлого всегда с помо-
щью языка осуществляет свою власть над любой современностью. В
этом проявляется археократия языка. Можно освободиться из-под вла-
сти единичных означаемых, но от власти единого означаемого освобо-
диться нельзя37. Язык - это коллективная память.
В понимании трансцендентальности языка и, соответственно, обще-
ственного сознания, мы опираемся на положения К.-О. Апеля, который в
разума Гегеля есть не что иное, как рефлексивное предвосхищение тождественности
“я мыслю” и общего логоса без1раничного коммуникативного сообщества» (выде-
лено К.-О. Апелем. - М. К.). (Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое
понятие языка// Апель К.-О. Трансформация философии: Пер. с нем./Перевод
В. Куренной, Б. Скуратов. М.: «Логос», 2001. С. 242,261.)
35 М. Хайдеггер в 1959 г. писал: «Нет никакого естественного языка..., чтобы
он был языком неисторической, естественным образом наличной человеческой при-
роды. Всякий язык историчен, даже там, где человек не приобщился к историогра-
фии в новоевропейском смысле. Язык как информация тоже не язык в себе; он исто-
ричен сообразно смыслу и ограничешюсти нынешней эпохи, которая не начинает
ничего нового, но лишь завершает, доводя до последней крайности, старое, уже
предначертанное содержание Нового времени». (Хайдеггер М. 11уЧч> к языку // Он
же. Время и бьггие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 271.) С другой стороны, как
заметил К. Манхейм, «...лучший проводник по истории - язык...». (Манхейм К.
Консервативная мысль // Он же. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 597).
6 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Он же. Философские рабо-
ты. М., 1994. Ч. 1. С. 56. Вместе с тем, Гадамер, придя к выводу, что язык не является
продуктом рефлектирующего мышления, писал: «Языковой опыт мира “абсолютен”,
...поскольку охватывает собой всякое в-себе-бытие, в какой бы связи (отношении)
оно ни представало перед нами. Языковой характер нашего опыта мира предшествует
всему, что мы познаем и высказываем в качестве сущего. Основополагающая связь
между языком и миром не означает поэтому, что мир становится предметом язы-
ка. Скорее то, что является предметом познания и высказывания, всегда уже окруже-
но мировым горизонтом языка». (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 520.)
7 Как заметил Ж. Деррида, «.. .любой исторический язык несет в себе неуст-
ранимый понятийный момент и, следовательно, определенное насилие». (Дерри-
да Ж. Письмо и различие/ Пер. с франц. А. Гараджи, В. Лапицкого и
С. Фокина / Сост. и общ. ред. В. Лапицкого. СПб., 2000. С. 189.)
г. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
379
:972 г., хотя отчасти и выдавая желаемое за действительное, писал, что
юнимание «трансцендентального достоинства языка, а тем самым - и
выкового сообщества», является реальным достижением философии XX
века38. Критически реконструировав идеи трансцендентальной филосо-
фии, Апель «радикальным образом» скорректировал ее «путем конкрети-
зации понятия разума в смысле понятия языка». Отвергнув стоящую за
философией языка Нового времени «и восходящую к грекам модель язы-
ка, отвечающую здравому смыслу, - языка как средства обозначения, по-
нимаемого как инструмент мышления», Апель предложил трансцен-
дентально-герменевтическое понятие языка39.
Отметим, что тезис Ж. Лакана — «бессознательное структурирова-
но как язык»40, получает свой действительный смысл только в том слу-
чае, если язык понимается как знаковая система общественного созна-
ния, трансцендентальная по отношению к каждому отдельно взятому
носителю языка и определяющая его. Если в качестве постулата при-
нять положение о том, что в языке как действительном коллективном
сознании содержатся одновременно все возможные в каждый данный
момент времени смыслы, то он действительно будет и коллективным
бессознательным для отдельных его носителей, не способных одновре-
менно осознавать все эти возможные смыслы41.
Понимание языка как трансцендентального означающего влечет за
собой важное следствие. Как полагал К.-О. Апель, выявление «транс-
цендентально-герменевтической функции языка», приводит к преодо-
лению различия между “семантическим” и “прагматическим” измере-
ниями языка42. Это имеет прямое отношение к предлагаемому нами
методу, потому что центральным его звеном является анализ значения.
Семантика, наука о значении, появилась именно как историческая
наука. Ее основоположник французский лингвист М. Бреаль в 1897 г. в
книге «Очерк семантики, науки о значениях» впервые предложил опыт
исторического (диахронного) анализа значений. Это уже в XX в. в рам-
38 Диель К.-О. Коммуникативное сообщество как трансцендентальная предпо-
сылка социальных наук // Он же. Трансформация философии. С. 193.
39 Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка. С. 240,251.
40 См.: ЛаканЖ. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда / Пер. с фр.
А. К. Черноглазова, М. А. Титовой. М., 1997; Мазин В. А. Введение в Лакана. М., 2004.
41 Вместе с тем, «...бессознательное включает в себя неосознаваемое знание,
которое проявляется не в дефинициях слов, а в первую очередь, в их несвободной
сочетаемости». (Чернейко Л. О. Базовые понятия когнитивной лингвистики в их
взаимосвязи И Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных,
А. И. Изотов. М., 2005. Вып. 30. С. 63. Электронная версия сборника.)
42 Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка. С. 243.
380
История на перекрестках междисциплинарности
как формализации лингвистики господствующим принципом семантики
стала синхрония. В 1968 г. об историко-аналитическом потенциале се-
мантики Гадамер писал: «Семантика... может фиксировать различия
между эпохами и вместе с тем улавливать общий ход истории, но более
всего замечательна ес способность к анализу такого процесса, как пере-
растание одной структурной всеобщности в другую. Дескриптивная
точность семантики позволяет обнаруживать чужеродность, возникаю-
щую при пересаживании того или иного пучка слов на новую почву,
причем возникновение такого словесного разнобоя часто говорит о том,
__ v 43
что здесь действительно познается нечто новое» .
Следует заметить, что понимание языка как трансцендентального
означающего и признание его «трансцендентально-герменевтической
функции» (Апель), которое позволяет снять существовавший барьер
между семантикой и прагматикой, трансформирует представление ис-
торика о предметном поле его исследований и, соответственно, о необ-
ходимом для исследования этого поля методе. Объектом исследования
становится общественное сознание, а семантика, в соединении с праг-
44
матикои, из «вспомогательного орудия истории» становится основ-
ным методом исследования, методом историко-семантического анализа.
Объединяя семантику и прагматику, мы также исходим из теории
значения разработанной «поздним» Л. Витгенштейном, который считал
семантику, синтаксис (грамматику) и прагматику языкового знака неот-
делимыми друг от друга, объединив эти аспекты знака понятием «язы-
ковая игра»43 44 45. Именно Витгенштейн предложил вернуть «слова от ме-
тафизического к их повседневному употреблению»46. (В контексте
43ГадамерГ.[X.]-Г Семантика и герменевтика// Он же. Актуальность пре-
красного. М., 1991. С. 62.
44 Дюпрон А. Язык и история. М., 1970. С. 44.
45 О введенном им понятии «языковая игра» Л. Витгенштейн писал: «.. .весь
процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве одной из тех игр, с
помощью которых дети овладевают родным языком. Я буду называть эти игры “язы-
ковыми играми"... “Языковой шрой” я буду называть также единое целое: язык и
действия, с которыми он переплетен... Термин “языковая игра”, призван подчеркнуть,
что говорить на языке - компонент деятельности или форма жизни... Новое (спон-
танное, “специфическое”) - это всегда языковая игра». (Витгенштейн Л. Философ-
ские исследования И Он же. Философские работы. Ч. 1. С. 83, 90, 312.)
46 Там же. С. 128. Он определял значение того или иного слова или понятия
только по его употреблению. «Значение слова есть способ его употребления. Ибо
этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые входит в наш
язык». (ВитгенштейнЛ. О достоверности// Он же. Философские работы. Ч. 1.
С. 331.) Определяя значение самого слова «значение», Витгенштейн заметил: «Для
большого класса случаев - хотя и не для всех, - где употребляется слово “значение”,
М. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
381
данной статьи это следует понимать и как деинструментализацию науч-
ных понятий). Принципиальным для нас является положение Витген-
штейна: «Мы анализируем не феномен (например, мышление), а поня-
тие (например, мышления), а стало быть, употребление слова»47 48.
Рассматривая вопрос изменения значений, он писал: «Если мы пред-
ставляем себе факты иными, чем они есть, то одни языковые игры что-
то теряют в своей значимости, тогда как другие становятся важными. И
таким образом постепенно изменяется употребление словарного состава
языка... Когда изменяются языковые игры, изменяются и понятия, а
48
вместе с понятиями и значения слов» .
Важным для предлагаемого нами метода историко-семантического
анализа языка как знаковой системы общественного сознания, является и
положение Э. Бенвениста о внутренней структуре языкового знака и вы-
воды относительно анализа значения, которые из этого следуют. В част-
ности, Э. Бенвенист писал: «Одна из составляющих [языкового] знака,
акустический образ, представляет в нем означающее; другая, то есть по-
нятие, - означаемое. Связь между означаемым и означающим не произ-
вольна; напротив, она необходима». Означающее у Бенвениста - это «зву-
ковой перевод идеи», а означаемое - феномен сознания, или, как он
пишет; «мыслительный эквивалент означающего». «Такая совмещенная
субстанциальность означающего и означаемого обеспечивает структурное
единство знака». Бенвенист полагал, что «...свойством быть изменяемым
и в то же время оставаться неизменным обладает’ не отношение между
означаемым и означающим, а отношение между знаком и предметом,
иными словами, предметная мотивация обозначения..., которая, как та-
ковая, подвержена действию различных исторических факторов»49.
С проблематикой семантики тесно связана герменевтическая про-
блема понимания и толкования текста и контекста. Герменевтический
анализ позволяет выявить не только изменчивость смысла, но и причи-
ны этой изменчивости. Герменевтика как раз и ориентирована на выяв-
ление смысла феноменов сознания через исторически развивающийся
язык. Следует сказать, что с точки зрения герменевтического анализа
изменение лексических значений, фиксируемое в языковой практике
отдельных индивидов, также свидетельствует об изменении смысла со-
можно дать следующее его определение: значение слова - это его употребление в
языке». (Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 99.)
47 Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 201.
48 Витгенштейн Л. О достоверности. С. 331.
49 Бенвенист Э. Природа языкового знака II Он же. Общая лингвистика. С. 92-
94.
382
История на перекрестках междисциплинарности
ответствующих понятий в общественном сознании, что дает основание
говорить об изменениях описываемых этими понятиями явлении в со-
циальной или политической практике.
Важной составляющей частью предлагаемого нами метода исто-
рико-семантического анализа является и дискурсивный анализ, в рамках
которого возможно объединение различных линий аргументации — лин-
гвистической, когнитивной и социальной точек зрения - для обоснова-
ния раскрытия смысла понятий, используемых в языке для описания
соответствующих им феноменов сознания. В частности, мы ориентиру-
емся на концепцию дискурса в работах В. Е. Чернявской. Дискурс по-
нимается «как комплексный коммуникативно-речевой процесс, вклю-
чающий текст(ы) в неразрывной связи с ситуативным контекстом: в
совокупности с культурно-историческими, идеологическими, социаль-
ными, психологическими факторами, с системой коммуникативно-
прагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодейст-
вующего с адресатом, обусловливающим особую упорядоченность язы-
ковых единиц при воплощении в текст»50. Дискурсивный анализ разру-
шает представление о человеке как индивиде (индивидууме), то есть
едином и неделимом субъекте исторического процесса, характерное для
эпохи Современности (Модерна) и дает возможность вести анализ поня-
тий общественного сознания с трансцендентально-прагматической, по
отношению к прежнему субъекту познания, позиции. Дискурс понимает-
ся нами также как коммуникативно-когнитивный процесс, как языковое
выражение социальной практики в политической коммуникативной сфе-
ре; «упорядоченное и систематизированное особым образом использова-
ние языка, за которым стоит особая социально-, идеологически-, куль-
турно-, исторически обусловленная ментальность»51. '
50 Чернявская В. Е. От анализа текста к анализу дискурса И Текст и дискурс:
традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования: Сб. науч,
тр. / Под ред. Л. А. Манер ко. Рязань, 2002. С. 230. См. также: Чернявская В. Е. Дис-
курс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс. Проблемы эко-
номического дискурса / Огв. ред. В. Е. Чернявская. СПб.,2001. С. 11-22.
51 Чернявская В. Е. От анализа текста к анализу дискурса. С. 30. Заметим, что
еще в 1984 г. Г. Зейдель (G. Seidel) писал: «Дискурс любого типа <...> является по-
лем борьбы (a site of struggle). Это динамическое языковое и, прежде всего, семанти-
ческое пространство, в кагором производятся и испытываются социальные значе-
ния. Это наиболее очевидно в отношении политического дискурса, так как практика
политической деятельности и политической речи связана прежде всего с властью».
См.: Герасимов В. И., Ильин М. В. Политический дискурс-анализ// Политическая
наука. Политический дискурс: История и современные исследования: Сб. науч, тр. I
Отв. ред. и сост. Герасимов В.И Ильин М. В. М., 2002. С. 65-66.
М. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
383
Следует сказать, что в рамках предлагаемого нами метода исполь-
зуется не формальный анализ дискурса, не принимающий во внимание
анализ значения, а содержательный - в его историческом и семантиче-
ском аспектах. Материалом исследования в этом случае являются пись-
менные тексты исследуемой эпохи. Образец подобного дискурсивного
анализа в свое время продемонстрировал М. Фуко52.
Еще одно важное положение, из которого мы исходим, - это тезис
о том, что познавательная функция языка первична по отношению к
коммуникативной функции языка. Мысль сама по себе не новая, но яв-
ляющаяся одной из отправных точек в понимании языка как знаковой
системы общественного сознания53.
В рамках предлагаемого метода исследования необходимым пред-
ставляется и определение условий возможности возникновения новых
смыслов и значений. В пространстве, совершенно различном для каж-
дого конкретного человека, которое образуется в его индивидуальном
сознании между общественным сознанием (языком) и окружающей
предметностью, предстающей перед человеком в своей явленности, и
находится субъектность человека, ограниченность которой столь хоро-
шо выявлена постмодернизмом. В этом пространстве как раз и находит-
ся пространство собственно антропологического (человеческого). Это
же пространство является и пространством внутренней свободы челове-
ка, полагающего в нем свои, как ему представляется, в той или иной
степени независимые смыслы54.
Появление новых смыслов и значений, как мы полагаем, возможно,
во-первых, в случае ошибки или оговорки самого номинатора. Это свобо-
да, двери в которую распахивает перед человеком его незнание, и поэто-
му не осознаваемая им самим как свобода. Самый простой пример такой
свободы - это дети. Их кажущаяся гениальность - следствие огромного
пространства их свободы высказывания. Что стало причиной ошибки или
оговорки взрослых, в их ограниченном пространстве свободы, если оно
52 См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук: Пер. с франц.
М.: Прогресс, 1977.
53 В условиях когнитивного поворота в гуманитарных науках это положение
становится основополагающим. Так, например, современные исследователи Е. Е. и
Ц. А. Ланины неоднократно, в той или иной форме, повторяют утверждение: «Ком-
муникативная функция языка производна от его познавательной функции». {Пани-
ча Е. Е., Ланин Д. А. Идеи и знаки: семиотика, философия языка и теория коммуни-
кации в эпоху французской революции. СПб., 2004. С. 102.) См. также: Апель К.-О.
Трансцендентально-герменевтическое понятие языка С. 245.
j 54 Как писал Х.-Г. Гадамер, «...язык в его употреблении есть свободная и ва-
риативная возможность человека». (Гадамер X.-Г. Истина и метод. С. 515.)
384
История на перекрестках междисциплинарности
вообще есть, - случайность или влияние подсознания номинатора, — это
уже предстоит выяснять получателю сообщения или исследователю.
Во-вторых, в силу способности понимания, которая проявляет
себя как способность суждения. Использовать слово естественного язы-
ка, например, в качестве научного понятия — это значит превратить его в
метафору. Это значит открыть в окружающей действительности для
всех других новые смыслы. Или вложить новые смыслы в старые слова.
Если полагать, что окружающая действительность воспринимается че-
ловеком, прежде всего эстетически, то это удел поэтов и «гениев».
И, в-третьих, появление новых смыслов и значений возможно в
силу способности и воли к номинации, к полаганию собственных смы-
слов и творения через это, с помощью новых слов, самой действитель-
ности (социальной действительности). Заметим, что это можно тракто-
вать и как перформативный акт. Такой волевой акт равнозначен акту
творения, поэтому он и воспринимался, как в античной традиции, так и
в христианской, уделом богов или Бога, т.е. как акт творчества, оза-
ряющий общественное сознание новыми смыслами и воспринимаемый
им как истина в ее единственной и единой возможности. Такой акт
творчества - это трансгрессия55 невидимой границы трансценденталь-
ного означающего. Однако преодоление этой границы парадоксальным
образом означает не выход за пределы трансцендентального означаю-
щего, а расширение его собственного пространства.
Язык, как знаковая система общественного сознания, находится в
постоянной связи с социальной и политической реальностью, которая
сама онтологизируется посредством языка, но структурируется и изме-
няется под влиянием событий, являющихся следствием социальных и
политических практик. В свою очередь событие (историческое событие)
это некое сложное, достаточно длительное и многофакторное явление,
происходящее в определенный период времени и меняющее политиче-
скую и социальную реальность по способу ее описания (онтологизации)
и присвоения ее людьми. Именно событие обязывает человека не толь-
55 «Трансгрессия - это жест, который обращен на предел; там, на тончайшем
изломе линии, мелькает отблеск ее прохождения, возможно, также вся тотальность
ее траектории, даже сам ее исток. Возможно даже, что та черта, которую она пересе-
кает, образуег все ее пространство. Кажется, и1ра пределов и гранстрессии направ-
ляется простым упрямством: то и дело трансгрессия переступает одну и ту же ли-
нию, которая, едва оказавшись позади, становится беспамятной волной, вновь
отступающей вдаль - до самого горизонта непреодолимого». (Фуко И. О трансгрес-
сии //Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины века.
СПб., 1994. С. 117.)
М. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
385
ко определить изменившуюся реальность, заново онтологизировав ее,
но и определить свое место в ней56. Завершенное событие, то есть собы-
тие переставшее оказывать влияние на социальную и политическую
реальность, закрепляется в языке как факт (исторический факт)57.
Давно уже было отмечено, что значение слова развивается от кон-
кретного к абстрактному. Достигая определенного уровня абстракции,
слово, оставаясь неизменным в своей форме, одновременно становится
формой выражения некой идеальной сущности, присутствующей только
в сознании как некий феномен, форму выражения которого, собственно,
и называют «понятием».
Таким образом, именно «понятие», как минимально значимая
(значащая) единица, формой которого в свою очередь является соответ-
ствующее ему слово, выбрано нами в качестве непосредственного
предмета исследования в рамках метода историко-семантического ана-
лиза. В русском языке слово «понятие» означает, одновременно, - и
некий феномен сознания в его схваченности, и процесс понимания, то
есть понятия некоего предмета, явления или совокупности явлений,
которые сознание человека соотносит с этим феноменом. В силу этого
«понятие» динамично в своем объеме и содержании, что и проявляется
в изменении значения соответствующего ему слова.
В отечественных гуманитарных науках с начала 1990-х гг. в каче-
стве минимально значимой (значащей) единицы исследования активно
используется «концепт». Одной из причин того, что именно «концепт»,
пребывавший до этого в «подвалах» науки, оказался востребован в рам-
ках новых научных направлений, стало неправильно проведенное или
понятое различение между «понятиями» вообще и инструментальными
понятиями (терминами) в частности, имеющими жесткий смысл и ис-
пользующимися в научном дискурсе в качестве «инструментов» позна-
ния58. В данном случае мы наблюдаем и достаточно тривиальное смеше-
56 См.: Хайдеггер М. Путь к языку. С. 269-270.
57 См.: Шильман М. Е. Событие и исторический факт: попытка разведения по-
нятий // Фшософсью перипетп. В1сник Харювського нацюнального ушверситету
1м. В. Н. Каразша. Харив, 2002. № 561. С. 102-107.
58 Такое представление сохраняется до настоящего времени. В. 3. Демьянков,
например, пишет: «О понятиях люди договариваются, конструируя их для того,
чтобы „иметь общий язык“ при обсуждении проблем. Концепты же существуют
сами по себе, их люди реконструируют с той или иной степенью (не) уверенности».
(Демьянков В. 3. «Концепт» в философии языка и когнитивной лингвисти-
ке // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования. Сб.
науч, трудов. М., 2007. С. 27.) С. С. Неретина и А. П. Огурцов также пишут:
386
История на перекрестках междисциплинарности
ние плана познания и плана исследования плана познания, которое при-
водит к отождествлению предметностей, творимых человеком в процессе
познания окружающей его действительности, как реальной, так и вирту-
альной, с предметной областью, вычленяемой в рамках определенных
наук в качестве объекта исследования. (Например, изучение либерализма
как некой предметной сущности вместо анализа понятия «либерализм».)
Все это в итоге породило в начале 1990-х гг. нспрскращающуюся до на-
стоящего времени волну филологической эквилибристики.
«Понятия», понимаемые адептами новых направлений с точки
зрения логики только как рационализированные инструменты «науки»,
были отнесены ими к ее ведению. А чтобы отличить, в рамках новых
научных направлений, понятия естественного языка, как единицы ана-
лиза, от инструментальных понятий науки, «естественные» понятия,
либо их часть, либо что-то имеющее к ним какое-нибудь отношение,
переименовали в «концепты».
В этом, вероятно, был какой-то смысл. Новым наукам необходимо
было представить и предоставить свой, заново «концептуализирован-
ный», предмет исследования. В итоге «концепт», наряду с такими еще
более сомнительными умозрительными конструктами, появившимися
несколько ранее, как «языковая личность» и «картина мира»59 («языковая
картина мира»), стал базовым понятием (термином) культурологии (лин-
гвокультурологии) и когнитологии. Вместе с тем, в рамках этих антропо-
центрически выстроенных научных областей «концепт» до сих пор оста-
ется не только нс определенным, то есть нстерминологизированным, но и
неопределенным, в самом широком смысле этого слова, понятием.
В 1996 г., пытаясь определить «концепт» в рамках когнитологии,
Е. С. Кубрякова писала, что это «.. .единица ментальных или Психических
ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике».
«...концепт можно охарактеризовать как смысловую форму, возникающую и функ-
ционирующую в смысловом поле естественного языка, в контекстах дискурсивных
практик (от речи до текстов)... В этом их принципиальное отличие от понятия, ло-
гическое значение которого всегда всеобще, не зависит от естественного языка и
однозначно выражаег логические отношения в идее, в идеальном бытии». (Нерети-
на С. С., Огурцов А. П. Концепты политического сознания. 2007 // Vox [электронный
философский журнал]. 2008. № 5. Декабрь. Эл № ФС 77-27570. Приложение.
http://www.vox-joumal.ru/vol5/vox%20-%205%20-%20prilojenie.pdf С. 68, 91.)
59 О «картине мира» см., например: Хайдеггер М. Время картины ми-
ра II Хайдеггер И. Время и бытие. С. 41-62.
М. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
387
«Концепты», как она полагала, «...отражают содержание результатов
человеческой деятельности и познания мира в виде неких “квантов” зна-
ния». Предположив, «...что способность к образованию концептов явля-
ется врожденной...», Кубрякова пошла еще дальше: «Конструирование
концептуальной системы, как считают многие, происходит еще на доя-
зыковой стадии существования индивида и вся она приобретает невер-
бальный характер, почему и должна рассматриваться в терминах мен-
тальных репрезентаций (представлений)»60 61. Таким образом, «концепт» -
это почти «врожденный» «“квант” знания» «языка мозга», имеющий, к
тому же, «невербальный характер» и сконструированный «еще на доя-
зыковой стадии существования индивида», то есть в возрасте от 0 до 1,5—
2 лет. Конечно, изучать таким образом определенный предмет практиче-
ски невозможно, поэтому в рамках когнитологии «концепт» достаточно
быстро стал если не синонимом «понятия», то его заместителем.
В рамках культурологии «концепт» в настоящее время рассматри-
вается как явление культуры, родственное «понятию» не только в логи-
ке, но и в психологии и философии, а исторически он оказывается бли-
зок «идеям» Платона. Метафорически «концепт» трактуется и как
«тонкая пленка». Вместе с тем он определяется и как «...понятие, рас-
ширенное в результате всей современной научной ситуации». Однако,
как полагает Ю.С. Степанов, в отличие от «понятия», «концепт» не оп-
ределяется, а подлежит переживанию, которое «...включает в себя не
только логические понятия, но и компоненты научных, психологиче-
ских, авангардно-художественных, эмоциональных явлений и ситуа-
ций». Одновременно определяющей чертой «концепта» является его
61
«минимальность, или минимализация» .
В последние годы изучение «концептов» превратилось в крайне
субъективное «творчество концептов»62, когда существующие в обще-
60 Кубрякова Е. С. Концепт И Краткий словарь когнитивных терминов / Под
общ. ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996. С. 90-92.
61 Степанов Ю. С. Концепты: тонкая пленка цивилизации. М., 2007.С. 18-20.
62 Понятно, что такое «творчество концептов» не имеет ничего общего с тем,
что под этим понимали Ж. Делез и Ф. Гваттари. С. Н. Зенкин, переводчик их книги
«Что такое философия?», оставил французское слово concept, которому соответству-
ет русское слово «понятие», без перевода, пытаясь, тем самым, отличить его от ин-
струментальных «понятий» науки, которые сами авторы, отличая их от «понятий»
философии, назвали «функтивами». «Функтивы» С. Н. Зенкин также оставил без
перевода. (Зенкин С. Н. Послесловие переводчика// Делез Ж., Гваттари Ф. Что
такое философия? / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. М., 1998. С. 280-281.) Ж. Делез и
Ф. Гваттари сами задавались вопросом: «...нельзя ли установить какое-то неустой-
чивое равновесие между концептами научно-логическими и феноменологико-
388
История на перекрестках междисциплинарности
ственном сознании понятия и их словоформы наполняются «сгустками
смыслов» соответствующих, по мнению исследователей, данным поня-
тиям. В итоге «концепт» становится сконструированной самим иссле-
дователем предметностью, которая затем им же и изучается. Да и в об-
щественном сознании за концептами все больше закрепляется
представление об их «сделанности», «произведенности». Они выступа-
ют как уникальные, единичные вещи и товары — концепт-арт, дизайн-
концепт, концепт-кар. Появились даже концепт-художники, рисующие
концептуальных (т.е. уникальных) персонажей для компьютерных игр.
Понятие «концепт», вероятно, следует отнести к терминам, в том
смысле, что оно обозначает некий фрагмент действительно предметной,
социальной или виртуальной (ментальной) реальности или их совокупно-
сти, «схваченный» сознанием человека, и не просто превращенный им в
предмет своего исследования, а, по сути, произведенный, созданный са-
мим человеком именно как предмет, хотя бы и мнимый или виртуальный.
Однако, получая имя и оставаясь авторским, концепт автоматически пе-
реходит в разряд единичных предметностей, или же, потеряв «авторскую
подпись», становится понятием (термином, категорией) общественного
сознания. Понятия «термин» и «категория» следует, как мы полагаем,
рассматривать как частные случаи использования понятия «понятие».
«Понятие», в отличие от «концепта», - это всегда метафорически
образованная абстракция того или иного уровня. Абстрагироваться в
сознании человека могут действительно существующие предметности,
или же социальные явления, всегда существующие только как паутина
отношений с узлами институций, принимающие в сознании видимость
предметностей, поэтому мы их и называем мнимыми предметностями,
или же, наконец, чистые виртуальности, хотя и представляющиеся са-
мому сознанию как предметности. Поэтому смысл какого-либо понятия,
вследствие его изначальной метафоричности и абстрактности, может
философскими?». (ДелезЖ., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 183.) В беседе с
К. Парне Ж. Делез сказал: «...если мы соглашаемся закрепить слово “концепт” за
философией, тогда для научных понятий необходимо другое слово. Нельзя гово-
рить, например, что художник создает концепты, а живописец или музыкант не соз-
дают их. Поэтому для науки нужно другое слово. Давайте скажем, что ученый - это
тот, кто создает функции, хотя это и не лучшее слово». (Алфавит Жиля Делеза. Со-
вместно с Клер Парне. 1988—1989/ Пер. А. Корбута. [Минск], 2001,
2003 И KL1NAMEN. Инфра философия, http://klinamen.com/ С. 55.) Следует заме-
тить, что русские переводы книг Ж. Делеза, некритически воспринятые научной
общественноегью, в значительной мере способствовали распространению «концеп-
та» в отечественных гуманитарных науках.
М. В. Калашников. Историко-семантический анализ...
389
быть понят только с помощью контекстного анализа значения слова,
являющегося формой данного понятия.
Инструментальные понятия, которые используются в рамках на-
учного дискурса, являются не более чем частным случаем употребления
понятий естественного языка, имеющих общую с ними форму слова.
Принципиальным для нас является отказ от использования мета-
форы «развитие», понимаемой как развертывание имманентно прису-
щего, изначально заложенного, в пользу нейтрального, как нам пред-
ставляется, термина «изменение», не имеющего прогрессивных или
регрессивных коннотаций.
Если в лингвистической семантике для выяснения семантического
поля слова необходимо учесть все случаи его употребления, то в рамках
историко-семантического исследования понятия это сделать практиче-
ски невозможно. Поэтому возникает проблема выявления наиболее зна-
чимых словоупотреблений исследуемого понятия для наиболее полного
выявления его семантической динамики в общественном сознании. Для
этого, как мы полагаем, необходимо установить, по крайней мере, ос-
новные контексты, в которых зафиксировано употребление словоформы
исследуемого понятия.
В рамках историко-семантического анализа исследованию должны
быть подвергнуты главным образом нарративные источники. Предпочте-
ние же, вне всякого сомнения, должно быть отдано опубликованным тек-
стам, так как именно они оказывали влияние на общественное сознание
эпохи. Наиболее же ценными для такого исследования следует признать
тексты, содержащие дефиниции (определения) исследуемых понятий, что
позволяет судить об уровне рефлексии самого общественного сознания,
выявляющего себя через сознание отдельного человека.
Аутентичность анализируемых текстов мы понимаем как строгое
соотнесение текста с условиями его возникновения, т.е. обстоятельствами
времени, места и всей доступной для исследователя совокупности соци-
альных и политических контекстов, несомненно, учитывая при этом ин-
тенции автора. Как заметил К. Скиннер, «...тексты являются действиями.
Чтобы понять тексты, помимо прочего, мы должны воссоздать интенции,
с которыми они создавались, а следовательно, должны и понять, какие
_ „ 63
действия совершали их авторы посредством написания этих текстов» .
Однако, учитывая внетекстуальные обстоятельства и мотивы созда-
ния определенных текстов, которые двигали их авторами, основное вни-
63 Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: ста-
новление, вызов, перспективы // Новое литературное обозрение. 2004. № 2 (66). С. 65.
390
История на перекрестках междисциплинарности
мание должно быть уделено анализу значений слов, являющихся форма-
ми исследуемых понятий, исходя непосредственно из контекста их упот-
ребления. Вместе с тем, чтобы не порождать смысловые химеры, не сле-
дует заниматься поиском и определением «трансцендентального
означаемого», находящегося, якобы, вне социальной или политической
реальности. То есть, не следует заниматься поиском неких идеальных
сущностей, выступающих не просто внетекстовыми, а виртуальными ре-
ферентами, как это делает, например, ряд современных исследователей,
которые виртуальным референтом (означаемым) отвлеченного (абстракт-
ного) понятия «либерализм» назначают «идею свободы».
В рамках метода историко-семантического анализа общественного
сознания, сутью которого является контекстуальный анализ изменений
смысла взятых в диахронии понятий, в качестве источника могут вы-
ступать тексты различного вида и происхождения. При этом не имеют
значения генетические или, тем более, жанровые различия между тек-
стами. И литературное произведение, и документальный текст, если
время их создания относится к исследуемому периоду, в равной степени
дают возможность судить о смысле анализируемого в диахронии поня-
тия. Особый интерес, в силу их метафоричности, представляют поэти-
ческие тексты. Исследование таких текстов позволяет не только значи-
тельно расширить смысловой спектр анализируемых понятий, но и
уловить оттенки и нюансы их смыслов, недоступные по другим источ-
никам . Заметим, что эстетическое понимание действительности не
только расширяет представление о ней, но и предшествует логическому,
определяя для него ориентиры и направления.
М. Хайдеггер писал: «Мысль прокладывает своим сказом непри-
метные борозды в языке»64 65. Вот эти «неприметные борозДы в языке» и
призвана изучать история общественного сознания.
64 «Именно в лирическом стихотворении, где язык выявляется в его чистой
сущности, все возможности языка, а также и понятия существуют как бы в сверну-
том виде». (Гадамер Х-Г Истина и метод. С. 641.)
65 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 220.
Д. В. Тимофеев
В ПОИСКАХ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ
В РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ
Важной составляющей частью исторического процесса, во многом
определявшей содержание и направленность развития в экономической
и социально-политической сферах, является мировосприятие людей
прошлого, комплекс знаний, надежд и тревог, связанных с представле-
ниями о личности и ее роли в обществе, функциях государства и харак-
тере его взаимоотношений с гражданами, о целях, условиях и пределах
реформирования экономических и социально-политических отношений.
Все элементы этого комплекса оказывали непосредственное влияние на
процесс формирования общественно-политических настроений и фик-
сировались в вербальной форме на страницах мемуаров, периодической
печати, учебных пособий и научных трактатов, законодательных актов
и документах делопроизводства. Вне зависимости от жанра и целевого
назначения документа, подобная информация присутствует в тексте и
отражена в форме используемых автором социально-политических по-
нятий, таких, например, как «государство», «власть», «закон», «свобо-
да», «рабство», «собственность», «гражданин», «право», «просвеще-
ние», «революция» и т.п. Сравнительный анализ различных контекстов
их употребления и тех смысловых акцентов, которые сознательно рас-
ставлялись авторами, на мой взгляд, может способствовать более точ-
ному пониманию исследователями процесса освоения людьми изучае-
мого времени всего спектра политических и экономических идей без
механического причисления одних авторов к «либералам», а других к
«консерваторам» или «реакционерам».
К сожалению, многие авторы работ по истории общественно-
политической мысли, либо искусственно вычленяют лишь те элементы
сложной системы общественных настроений, которые соответствовали
«общепринятому» в историографии и, как правило, достаточно абст-
рактному набору признаков, характерных для какой-либо идеологии,
либо пытаются конструировать свое определение и признаки либера-
лизма, консерватизма, социализма и т.п. И в том, и в другом случае
Происходит упрощение исторической реальности, которая, примени-
тельно к истории общественно-политической мысли, представляет со-
392
История на перекрестках междисциплинарности
бой не только историю либерализма, консерватизма и других политиче-
ских идеологий, но чаще всего, процесс взаимовлияния и взаимодопол-
нения различных идей, теорий, концепций, которые современники счи-
тали полезными для решения актуальных социально-политических и
экономических проблем.
Выход из сложившегося положения, на мой взгляд, возможен в
том случае, сели произойдет смена исследовательской парадигмы при
изучении общественно-политической мысли в целом. Необходимо отка-
заться от установки на поиск каких-либо универсальных критериев и,
признав пластичность любых политических и экономических идей, их
способность адаптироваться к конкретно-исторической среде распро-
странения, исследовать все возможные варианты трактовки этих идей
современниками изучаемой эпохи. Основой для частичной реконструк-
ции всего многообразия взглядов и принципов, сосуществовавших в
одно время, на мой взгляд, может стать контекстуально-
текстологический анализ письменных исторических источников раз-
личной видовой принадлежности, цель которого - выявление в тексте
важнейших для формирования мировоззрения человека социально-
политических понятий, используемых им для описания окружавшей его
действительности. В этом случае можно реконструировать систему
представлений, логических и ассоциативных связей, надежд и тревог,
имевшихся в сознании создателя документа.
Методологической основой подобных исследований может стать
признание тесной взаимосвязи общественного сознания с языковой прак-
тикой, как в устной, так и в письменной форме. Ориентиром для работы в
этом направлении является инструментарий «истории понятий», осново-
положником которой в немецкой историографии 1960 70 гг. был
Р. Козеллек. По его мнению, особое внимание следует уделять так назы-
ваемым «узловым понятиям», т.е. таким, содержание которых формирует
новые или корректирует уже сложившиеся представления о месте лично-
сти в историческом процессе, сущности и функциях государства, грани-
цах свободы гражданина в социуме и др. Такие «узловые понятия» всегда
находятся между «областью опыта» и «горизонтом ожиданий», и, следо-
вательно, отражают, с одной стороны, знания об уже существовавших
правовых нормах, повседневной практике и результатах определенных
действий, а с другой, - надежды или тревоги, связанные с перспективами
развития каких-либо общественных процессов.
При исследовании системы значений социально-политических по-
нятий важно помнить, что их оформление всегда сопровождалось осоз-
Д. В. Тимофеев. В поисках новых подходов к изучению...
393
нанием сущностных характеристик определяемого явления и происхо-
дило одновременно с изменениями в экономической, социально-
политической или духовной сферах. Скорость и масштабы изменений
семантических значений всего комплекса ключевых для описания осо-
бенностей окружающей индивида социально-политической реальности
понятий со временем могли значительно варьироваться. Однако, ком-
плексное изменение языковой картины мира, по мнению Р. Козеллека,
происходило только в периоды значительных общественных трансфор-
маций. Одним из таких «переломных времен» была вторая половина
XVIII - начало XIX вв. Именно в это время происходило становление
современной системы социально-политических понятий в странах Ев-
ропы и США. Предполагается, что данный процесс сопровождался из-
менением их темпоральной направленности: до XVIII в. они, как прави-
ло, описывали «область опыта» и отражали знание о существовавших
структурах, правовых нормах и результатах определенных действий. В
XVIII - начале XIX вв. началось формирование дополнительных значе-
ний уже знакомых, или появление новых слов, которые ориентировали
человека в будущее, обозначая так называемый «горизонт ожиданий»'.
Одновременное существование двух «временных горизонтов» обусло-
вило возможность более широкой трактовки и появление противопо-
ложных по своему смыслу значений одного и того же понятия. В зави-
симости от того, насколько точно понятие фиксировало наиболее
существенные признаки явления или процесса, и какие негативные или
позитивные ассоциации вызывало оно у современников, понятие стано-
вилось инструментом для выражения имевшегося социального опыта
или возникавших в сознании современников опасений и надежд, свя-
занных с представлениями о возможных изменениях в стране и мире.
Таким образом, изучение истории общественно-политической
мысли методами истории понятий поможет более точно определить
различные течения и полутона во всегда подвижной системе социально-
политических представлений как отдельной личности, так и определен-
ной социальной группы в целом, что позволит, на мой взгляд, лучше
понять процесс адаптации различных политических и экономических
идей в процессе заимствования из одной культурной среды в другую.
В современной отечественной и зарубежной историографии «ис-
тории понятий» можно проследить ряд тенденций. Во-первых, боль-
1 См.: Козеллек Р. Социальная история и история понятий И Исторические по-
нятия и политические идеи в России xVl-XX века: Сб. научн. работ. СПб., 2006.
С. 33-53; Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Там же. С. 11,19.
394
История на перекрестках междисциплинарности
шинство исследований имеют полидисциплинарный характер. Их авто-
ры используют методы работы с текстом, выработанные в рамках со-
циолингвистики, семантики, исторической психологии, лингвистиче-
ского и литературного источниковедения, сравнительной политологии
и др. Во-вторых, история понятий, как самостоятельное направление,
возникнув в Германии, приобретает международное значение. В Герма-
нии под руководством О. Брунера, В. Конце и Р. Козеллека был издан
многотомный труд «Основные исторические понятия. Исторический
лексикон социально-политического языка в Германии»2, в котором
представлен всесторонний анализ 130-ти социально-политических по-
нятий. Во Франции в 19X0 90 гг. сложилась близкая по методологиче-
ским установкам школа исторической лексикографии, которую возгла-
вил Ж. Гийом. Французские и немецкие историки с 1985 г. начали
совместную работу над аналогичным немецкому «Словарем социально-
политических понятий французского языка»3. Не менее интересное про-
должение история понятий получила в Англии и США в работах
К. Скиннера, Дж. Покока, Р. Уильямса, М. Рихтера4. Несмотря на некото-
рые отличия в немецкой и англосаксонской историографии по вопросу о
методах исследования, изучение процессов возникновения и эволюции
значений социально-политических понятий рассматривается как способ
реконструкции общественного сознания в различных странах мира.
Естественно, что в зарубежной историографии основное внимание
уделяется изучению истории понятий стран Европы и США. Однако в
последнее время проводятся исследования и на материалах российских
источников. О необходимости изучения российских понятий Нового вре-
мени говорилось на прошедшей в немецком городе Бамберге конферен-
ции по Russische Begriflsgeschichte5. В качестве примера конкретно-
исторических исследований можно привести ряд работ И. Ширле, в кото-
рых она проводит всесторонний анализ различных коннотаций понятий
2 Geschichtliche Grundbergriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Spra-
chc in Deutschland. Stuttgart, 1972-1993. Bd. 1-8.
3 Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich. 1680-1820. Mun-
chen, 1985.
4 См.: Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках. Сб. ст.
СПб.; М., 2002; Он же. Коллингвудовский подход к истории политической мысли:
становление, вызовы, перспективы И Новое литературное обозрение. 2004. № 66;
Рощин Е. Н. История понятий Квентина Скиннера // ПОЛИС. 2006. № 3;
PocockJ.G. A Politics, Language and Time. Essays in Political thought and History-
L., 1972; Williams R. Keywords. A vocabulary of culture and society. Glasgow, 1976;
Richter M. The history of political and social concepts. A critical introduction. N.Y., 1995.
5 Cm.: Zcitschrift fur Slawistik. 2002. Bd. 47. S. 104-105.
В. Тимофеев. В поисках новых подходов к изучению...
395
|рбщество, «отечество», «патриот» и др. в текстах источников второй по-
ловины XVIII в.6 В 2003 г. российские и зарубежные исследователи рус-
ской истории и литературы XVIII-XIX вв. в рамках работы на
IX международном конгрессе обсуждали актуальные проблемы истории
понятий в России, основные подходы к решению которых были отражены
в специальном выпуске журнала Canadian-American Slavic Studies7.
В российской историографии интерес к «истории понятий» про-
явился с конца 1990-х гг. Первыми к данной проблематике обратились
филологи, философы, культурологи, политологи. В ряду наиболее инте-
ресных исследований, авторы которых посредством изучения смысло-
вых значений отдельных понятий раскрывали характер развития рос-
сийской истории и культуры, могут быть названы работы М. В. Ильина,
В. В. Колесова, В. В. Прозорова, Ю. С. Степанова, Т. Б. Витман и др8 9.
Одновременно с учеными различных гуманитарных наук историей по-
нятий заинтересовались и профессиональные историки. На сегодняш-
ний день своеобразным центром исследований в этом направлении яв-
ляется Европейский университет в Санкт-Петербурге, где совместно с
европейскими коллегами были изданы два специализированных сбор-
ника научных статей, посвященных истории понятии и ее методам .
6 См., например: Schierle, Ingrid. Zur Politisch-Sozialen Begriffssprache der Re-
gierung Katharinas II. Gesellschaft und Gesellschaften: «Obscestvo» // Katharina II. Russ-
land und Europe. Beitrage Zur Intemationalen Forschung. Mainz, 2001. P. 275-306; Она
же. «Syn otecestva»: Der «wahre Patriot»// Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit.
Beitrage zu einem Forschungsdesiderat. Koln, 2006. P. 347-367; Она же. “For the Benefit
and Glory of the Fatherland”: the concept of Otechectvo H Eighteenth-century Russia:
society, culture, economy. Papers from the VII international conference of the study group
on eighteenth-century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, 2007. P. 283-295; Она же. Уче-
ние о духе и характере народов в русской культуре И «Вводя нравы и обычаи Евро-
пейские в Европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в
российской империи. М., 2008. С. 119-37.
7 Canadian-American Slavic Studies: Русский XVHI век. Текст и реальность».
2004. Vol. 38. См. подробнее: Марасинова Е. Н. Власть и личность. Очерки русской
истории XVIII века. М., 2008. С. 104.
8 См.: Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических
понятий. М., 1997; Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека.
СПб., 2000; Прозоров В.В. О семантических горизонтах понятия «власть» // ЛОГОС.
№ 4-5. 2003; Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М., 2004;
Витман Т. Б. Закон силы или сила закона: (Франция - Россия) // Текст - Дискурс -
Диалог культур. СПб., 2005.
9 Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. СПб., 2002;
Исторические понятия и политические идеи в России...
396
История на перекрестках междисциплинарности
В целом для современной российской историографии «истории
понятий», на мой взгляд, характерна либо нечеткость в обозначении
хронологических границ, либо отсутствие системности при изучении
общественно-политических настроений в рамках небольшого временно-
го периода. Как правило, предметом изучения становится изменение в
течение достаточно продолжительного времени значения какого-либо
одного понятия. Так, например, в статьях О. Хархордина и М. М. Крома
анализируется формирование содержания понятия «государство», в ра-
боте Т. Ю. Борисовой - понятия «свод законов» и «уложение», а в ис-
следованиях Е. Н. Рощина, и А. В. Магун соответственно реконструи-
руются контексты употребления слов «суверенитет» и «революция» .
Отсутствие в ряде исследований четких хронологических границ
приводит к тому, что история одного понятия, как правило, предстает в
виде обзора эволюции его смысла в течение нескольких столетий, что, на
мой взгляд, не позволяет проследить множество одновременно сосущест-
вовавших контекстов употребления в различных социальных средах. Ме-
жду тем именно эти контексты отражают их взаимосвязи с другими поня-
тиями, в результате чего люди могли или по-новому расставлять
смысловые акценты при употреблении уже известных слов, или встраи-
вать различные, нередко привнесенные из другой культурной среды, не-
ологизмы в имевшуюся языковую картину мира. Все вышесказанное обу-
словливает необходимость выстраивать историю понятий как вертикаль-
ную хронологическую последовательность горизонтальных срезов, что
предполагает изучение значений системы взаимосвязанных понятий в
течение непродолжительного (в рамках жизни одного-двух поколений)
времени с выявлением всех существовавших коннотаций каждого из
основных понятий. В этом случае можно более точно реконструировать
различные тона и полутона в общественно-политическом спектре опреде-
ленного времени. Последовательное изучение и сопоставление таких
временных горизонтальных «срезов» в перспективе позволит понять
зарождение и эволюцию различных общественно-политических идей,
отраженных и закрепленных в языковой практике. *
10 Хархордин О. Что такое «государство»? Русский термин в европейском кон-
тексте И Понятие государства в четырех языках. С. 152-216; Кром М. М. Рождение
«государства»: из истории московского политического дискурса XVI века // Истори-
ческие понятия и политические идеи в России... С. 54-69; Борисова Т. Ю. Борьба за
русское «национальное» право в цервой четверти XIX в.: изобретение новых смы-
слов старых слов//Там же. С. 123-151; Рощин Е. Н. История понятия «суверенитет»
в России // Там же. С. 190-230; Магун А. В. Опыт и понятие революции // Новое ли-
тературное обозрение. 2003. № 64. С. 54-79.
ffi. В. Тимофеев. В поисках новых подходов к изучению...
397
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют исследования, в
готорых бы проводился комплексный контекстуально-текстологический
|нализ системы социально-политических понятий в России. Наиболее
близкими по методологическим установкам предлагаемому подходу
являются работы Е. Н. Марасиновой, которая исследовала целый ряд
понятий, используемых представителями российского дворянства в раз-
личных текстах второй половины XVIII в.11 12 При этом автор справедливо
отмечает, что «история понятий» должна изучаться не как история от-
дельных слов сама по себе, а может стать важным инструментом, с по-
мощью которого историк от более глубокого понимания текста источни-
ка может придти к «пониманию внетекстовой действительности»,
окружавшей людей изучаемого времени, определявшей их убеждения и
12
практическую деятельность .
Сложность проведения конкретно-исторических исследований с
использованием инструментария «истории понятий» заключается в том,
что сколько-нибудь значительные результаты могут быть достигнуты в
том случае, если будет решена принципиально важная проблема, свя-
занная с необходимостью выработки критериев для отбора из всего
множества слов именно «основных социально-политических понятий».
В качестве таких критериев, на мой взгляд, должны быть:
1) концептуальная нагруженность каждого понятия, т.е. его смысловое
содержание должно быть связано с какими-либо социально-
политическими или экономическими концепциями, с помощью которых
современники обосновывали необходимость обращения к прошлому
опыту, либо описывали идеальные модели общественного переустрой-
ства в ближайшем будущем; 2) общеизвестность и многократность
употребления понятия в текстах источников различной видовой при-
11 См., например: МарасиноваЕ. Н. Психология элиты российского дворянст-
ва последней трети XVIII века. (По материалам переписки). М., 1999; Она же. По-
нятие «честь» в сознании российского дворянина (последняя зреть XVIII в.) И Рос-
сия в средние века и новое время: Сб. ст. к 70-летию Л. В. Милова. М., 1999. С. 272-
292; Она же. Личность и власть в России XVIII века (проблемы понятийной исто-
рии) // Дашкова Е. Р. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 68-87; Она же.
«Раб», «поданный», «сын Отечества» (К проблеме взаимоотношений личности и
власти в России XVIII века)// Canadian-American Slavic Studies. 2004. Vol. 38. № 1-2.
P. 83-104; Она же. Власть и общество в России XVIII века (проблемы понятийной
истории)// Труды ПРИ РАН: Вып. 5. М., 2005. С. 87-107; Она же. «Рабы» и «граж-
дане» в российской империи XVIII в. И «Вводя нравы и обычаи Европейские в Ев-
ропейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской
империи. М., 2008. С. 99-118; и др.
12 Марасинова Е. Н. Власть и личность... С. 104.
398
История на перекрестках междисциплинарности
надлежности; 3) понятие должно быть элементом системы понятий, ис-
пользуемой для описания окружающей социально-политической реаль-
ности и решения наиболее актуальных экономических и социально-
политических проблем. При этом взаимосвязь понятий может быть как
на уровне представлений о функциональном назначении обозначаемого
словом явления или субъекта, так и на уровне ассоциаций или каких-
либо логических умозаключений.
В соответствии с указанными критериями, применительно, напри-
мер, к истории России первой четверти XIX в., систему основных соци-
ально-политических понятий образуют понятия «государство», «госу-
дарь», «закон», «собственность», «конституция», «гражданин»,
«свобода», «рабство», «революция», «просвещение». Содержательно
все они были тесно взаимосвязаны и достаточно часто употреблялись в
рамках социально-политического и экономического дискурсов на стра-
ницах российских газет и журналов, учебных пособий и научных трак-
татов, мемуарах и личной переписке, законодательстве и материалах
официального делопроизводства13. Реконструкция системы основных
социально-политических понятий предполагает установление их взаи-
мопересекающихся значений. Рассмотрим в качестве примера примене-
ния системного подхода к изучению истории общественно-
политической мысли смысловые взаимосвязи понятий «закон», «свобо-
да», «собственность» и «просвещение»в России первой четверти XIX в.
В начале XIX в. под влиянием идей философии европейского Про-
свещения «закон» воспринимался в России как универсальный регуля-
тор общественных отношений. Проведенный анализ различных проек-
тов, научных и учебных изданий, а также публикаций в периодической
печати, позволяет предположить существование как минимум трех
взаимосвязанных друг с другом функций закона14. Одной из них счита-
13 См.: Тимофеев Д. В. Трактовка понятия «конституция» в правительственных
кругах России первой четверти XIX века И Проблемы российской истории. Вып. П.
Магнитогорск, 2003. С. 219-230; Он же. Образ государства в периодической печати
и российской публицистике первой четверти XIX века И Россия и мир: панорама
исторического развития: Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2008. С. 302-308; Он же. Поня-
тие «собственность» в России первой четверти XIX века: опыт реконструкции смы-
слов И Российская история. 2009. № 1.
14 См. подробнее: Тимофеев Д. В. Соотношение понятий «закон» и «свобода» в
правительственных проекгах и российской публицистке первой четверги
XIX века// Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XVI/3.
М.; Магнитогорск; Новосибирск, 2006. С. 83-97; Он же. Понятие «закон» в полити-
ческом лексиконе европеизированного российского дворянства первой четверти
Д. В. Тимофеев. В поисках новых подходов к изучению...
399
лось обеспечение личной безопасности индивида, защита его «естест-
венных» прав, к которым относились право на свободу и неприкосно-
венность частной собственности. Нередко необходимость законода-
тельного закрепления «естественных» прав личности преподносилась
как отражение исторической закономерности, «духа времени», который,
по выражению современников, «есть общий глас народа... некоторая
общая потребность, проистекающая от степени просвещения и граждан-
ского образования»15. Именно «степень просвещения», по мнению ав-
тора, определяла «желание народов» законодательно закрепить свои
зрава и свободы. В данном контексте он так описывал «желания наро-
дов»: «народы... утомленные опустошительными войнами... вздыхают
) мире и спокойствии; .. .гонимые за разноверие, спрашивают свободы
совести, терпимости вер; обремененных налогами, желают облегче-
ния...; стесненные в правах личности и собственности, ищут неприкос-
новенности прав сих...; не находя в судах защиты от притеснений силь-
ного и богатого, но, встречая везде лицеприятие, мздоимство, подлоги и
коварство, они просят о правосудии, строгом, нелицеприятном, скором,
гласном. И все сии желания можно совокупить в одном, всеобъемлю-
щем - владычество законов»'6. Признание в качестве одной из важней-
ших функций закона функции защиты прав и свобод личности звучало
и в публичных выступлениях императора Александра I. Так, на откры-
тии Польского Сейма российский самодержец призвал депутатов: «...вы
преуспеете постановить законы, которые будут служить к ограждению
драгоценных благ: безопасность лиц ваших, собственности и свободы
ваших мнений»17. При этом он акцентировал внимание собравшихся на
том, что народные представители должны быть «гражданами просве-
щенными»18. Подобное обращение царствующей особы было для со-
временников дополнительным подтверждением справедливости уста-
новления взаимосвязи между «просвещением», как совокупности
XIX века И Вестник Челябинского государственного университета. История.
Вып. 20. 2007. № 11. С. 15-25; Он же. Понятие «конституция» в России первой чет-
верти XIX века// Общественные науки и современность. 2007. № 1. С. 120-131.
15 Чего требует дух времени? Чего желают народы? И Архив истории и поли-
тики: из Духа журналов 1819 г. СПб, 1819. С. 8.
16 Там же. С. 11.
17 Речь, произнесенная Его Императорским Величеством при открытии Сейма
Царства Польского в 15/27 день марта 1818 года в Варшаве// Дух журналов.
СПб., 1818. Ч. 27. Кн. 14. С. 426.
18 Речь, произнесенная Его Императорским Величеством при закрытии сейма
Царства Польского, в 15/27 день апреля 1818 гадав Варшаве//Там же. С. 563.
400
История на перекрестках междисциплинарности
особых качеств образованного человека, правами личности и содержа-
нием идеального законодательного акта. Понимание такой взаимосвязи
присутствует в целом ряде проектов, представленных на высочайшее
имя М. М. Сперанским, Н. С. Мордвиновым, Н. Н. Новосильцевым,
А. Р. Воронцовым, В. П. Кочубеем19 20.
Для обозначения всего комплекса «естественных» прав личности,
закрепленных в действующем законодательстве, в начале XIX в. исполь-
зовали понятие «гражданская свобода». Содержание этого словосочета-
ния объяснялось с помощью слов «собственность» и «закон». Так, на-
пример, О. П. Козодавлев, размышляя над тем, что такое «гражданская
свобода», писал: «Свобода гражданская есть такое положение человека в
гражданском обществе живущего, в каковом личная его безопасность и
безопасность его собственности охраняются законами, и он совершенно
удостоверен, что он, будучи законами охраняем, .. .не подвергается ника-
кому насилию или нарушению безопасности лица и собственности»®.
Еще одан важный элемент в системе логических взаимосвязей по-
нятий «закон», «собственность» «свобода» и «просвещение» отражен в
различных документах, созданных в процессе поиска решения проблемы
действенности российского законодательства на практике. В поисках эф-
фективного механизма исполнения законов либерально-ориентированная
часть российского общества обращалась к опыту работы органов сослов-
ного представительства в развитых странах Европы. В некоторых публи-
кациях подчеркивалось, что действенный механизм защиты «законных
прав» граждан может быть создан только посредством создания выбор-
ных законодательных или законосовещательных органов при императоре:
«Многочисленными опытами дознано, что всякое сословие, под влиянием
Правительства состоящее, нс может быть надежным охранителем Госу-
дарственного Уложения. Природные блюстители оного суть - народные
представители. [...] чрез них народ имеет свой голос, который есть тогда
по истине глас Божий - при них личность и собственность каждого ос-
тается неприкосновенною...»21. Аналогичное понимание задачи выбор-
ных органов представлено было в мнениях о реформировании Сената
19 См. подробнее: Тимофеев Д. В. Европейские идеи в России: восприятие ли-
берализма правительственной элитой в первой четверти XIX века. Челябинск, 2006.
С. 115-125.
20 Козодавлев О. П. Рассуждение о постепенном освобождении крестьян из-
под рабства и о способах, коими безопасно можно ввести между ими фажданскую
свободу (около 1818 г.)// Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в
России конца XVIII - первой четверти XIX вв. Сб. док-тов. Липецк, 2003. С. 146.
21 Чего требует Дух времени? Чего желают народы? С. 10-11.
Д. В. Тимофеев. В поисках новых подходов к изучению...
401
С. П. Румянцева, Н. С. Мордвинова, А. Р. Воронцова, а также в конститу-
ционных проектах М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцова, Н. С. Морд-
винова22. При этом всегда подчеркивалось, что большая общественная
значимость такого рода выборных структур обусловливала необходи-
мость наделения «политическими свободами» не всех граждан страны, а
только наиболее «просвещенных» их представителей, обладавших не-
движимой собственностью.
Проведенный анализ многочисленных проектов, и материалов рос-
сийской периодической печати позволяет предположить, что в сознании
образованной части российского общества первой четверти XIX в. сло-
жилось представление о целесообразности установления неравенства в
отношении объема прав и свобод граждан при реализации принципа
равенства всех перед законом: «гражданской свободой» могут и должны
были быть наделены все участники общественных отношений, а «поли-
тической свободой» - только те из них, кто обладал необходимым
уровнем «просвещения» и собственностью. При этом признавалось, что
единственным ограничителем и «гражданской», и «политической» сво-
боды личности может быть только «закон».
В начале XIX в. подобная логика рассуждений не вызывала сколь-
ко-нибудь серьезных возражений. Постепенность и осторожность в на-
делении граждан «политической свободой» хорошо сочетались с заим-
ствованным из философии европейского Просвещения представлением
об органичном развитии любого общества от простого к сложному, от
невежества к «просвещению». В этой связи далеко не случайным пред-
ставляется то, что во всех конституционных проектах того времени пра-
во выбора было ограничено имущественным цензом.
Таким образом, смысловые значения понятий «закон», «свобода»,
«собственность» и «просвещение» находились в тесной взаимосвязи.
«Закон» одновременно рассматривался и как инструмент обеспечения
«свободы» и неприкосновенности частной «собственности», и как огра-
ничитель свободы каждого конкретного индивида во имя «общего бла-
га». Интеграция этих двух смыслов была зафиксирована в широко рас-
пространенном и устойчивом словосочетании «законная свобода»,
которое содержательно было близко к европейскому пониманию функ-
ционального назначения законов. Однако в российском варианте боль-
ший акцент делался на прилагательное «законная», подчеркивавшее
наличие установленных государством границ поведения человека, как в
22 См. подробнее: Тимофеев Д. В. Европейские идеи в России... С. 153-186.
402
История на перекрестках междисциплинарности
масштабах всего общества, так и в рамках какого-либо сословия. При
этом одновременно с декламацией европейских принципов свободы
личности, неприкосновенности частной собственности и равенства всех
участников социальных отношений перед законом, существовало убеж-
дение в необходимости дифференциации объема политических граж-
данских прав в зависимости от «степени просвещения» индивида. При-
мерно тот же алгоритм прослеживается и в отношении использования
европейских экономических и политических теорий: заимствование
допустимо только в том случае, если оно согласовывалось с традицион-
ными нормами и не повышало вероятность возникновения острых со-
циальных конфликтов. В общем виде, соотношение понятий «закон»,
«свобода», «собственность» и «просвещение» воспроизводило патерна-
листский идеал взаимоотношений личности и государства. «Свобода
личности» рассматривалась как свобода под опекой и покровительством
«просвещенного» помещика, закона, императора или государства. Су-
ществование подобной патерналистской логики рассуждений обуслови-
ло положение, когда при всем многообразии высказываний о необходи-
мости модернизации российского законодательства в первой четверти
XIX в. на практике больше внимания уделялось нс наполнению законо-
дательных актов новым содержанием, а модернизацией их общей
структуры или формальной согласованности конкретного документа с
системой действующего в стране законодательства.
Приведенный выше пример анализа системы взаимосвязанных по-
нятий, на мой взгляд, наглядно демонстрирует необходимость проведе-
ния контекстуально-текстологического анализа максимально возможно-
го количества общеизвестных в изучаемое время документов.
Сопоставлению должны подвергаться, прежде всего, содержание поня-
тия, отражавшее представление о функциях обозначаемого им явления
или процесса, а также все положительные и отрицательные коннотации,
употребляемые в рамках экономического, социально-политического
дискурсов. В случае если исследователь решит все обозначенные выше
задачи, «история понятий», как одно из направлений интеллектуальной
истории, может стать эффективным инструментом исследования по ис-
тории общественно-политической мысли в различных странах мира.
М. В. Белов
СТЕРЕОТИПЫ, МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ,
ИМАГОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АПОРИИ
В гуманитарных науках не редки случаи, когда те или иные фено-
мены исследуются в рамках различных дисциплин или теоретико-
методологических направлений с присущим им категориальным аппа-
ратом. Польза рассмотрения предмета с разных углов зрения не вызыва-
ет сомнений, но рано или поздно возникает потребность в обмене опы-
том, конвергенции теорий и адаптации языка научных описаний.
Нередко такую потребность испытывает практикующий историк, пере-
ходя от конкретного к абстрактному и наоборот. К описанному случаю
относятся и образы «другого». Они рассматривались в рамках социаль-
ной психологии (кросскультурной, культурно-исторической или этноп-
сихологии). в отмеченных влиянием культурной географии (антропо-
географии) или структурализма исследованиях «картины мира», а затем
в выполненных под знаком постструктурализма или же конструктивиз-
ма исследованиях «ментальных карт». Наконец, образы «другого» стали
предметом специального изучения в синтетической субдисциплине,
вышедшей из сравнительной истории литератур и названной «имаголо-
гия». В рамках науки о прошлом эта тема, очевидно, может быть отне-
сена к интеллектуальной истории, поскольку она касается вопроса о
механизмах и способах производства и распространения знаний.
Настоящая статья отталкивается от опыта конкретного исследова-
ния и поиска в этой связи приемлемых для него методологических ос-
нований1. Поэтому рассмотрение разных теоретических моделей в дан-
ном случае будет совмещено с эмпирическими наблюдениями.
Центральным понятием в работах психологов, посвященных обо-
значенной проблеме, является «социальный стереотип», чаще всего,
этнический (автостереотип и гетеростереотип, составляющие динамиче-
ское целое). При этом признается, что содержание понятия «стереотип»,
1 Научный проект, получивший поддержку ACLS на 2008-2009 гг., носит назва-
ние «Открытие “братьев-славян”: русские путешественники и дипломаты на Балканах
в первой половине XIX века». Его цель двояка. Во-первых, я надеюсь проследить путь
русской мысли и дискурсивной практики к стереотипному образу «славянских брать-
ев», сложившемуся где-то в середине XIX столетия. Во-вторых, следует решить во-
прос об адекватности свидетельств русских дипломатов и путешественников, возмож-
ности их использования при реконструкции балканских реалий.
404
История на перекрестках междисциплинарности
введенное в оборот У. Диллманом в начале 1920-х, до сих пор не получи-
ло однозначной трактовки2. Вместе с тем, в этой давней работе, написан-
ной в свободной публицистической манере, по справедливому замечанию
Э. Ноэль-Нойман, нет «ни одной идеи относительно функционирования
коммуникации, которая позднее нс получила бы подтверждения в кропот-
ливых лабораторных исследованиях или работах в полевых условиях»3 4.
Как известно, Липпман назвал стереотипы «картинками в наших
головах». Затем их называли «эмоциональными символами», «фиксиро-
ванными образами», «когнитивными схемами», «сгустками обществен-
ного опыта» и т.д. При этом образное воплощение стереотипов регу-
лярно всплывает в их характеристике, что при абсолютизации данной
интеллектуальной тенденции и фиксации на поисках «истоков» может
увести в сомнительную сферу архетипов воображения. Между тем,
«зримость» стереотипа вовсе не следует сбрасывать со счетов, а более
того, следует признать связь этого феномена со словесным (литератур-
ным) творчеством и фигурами речи, а также формами визуализации.
Авторы, склонные к широкому пониманию термина, выделяют в
стереотипизации три уровня (когнитивный, эмоциональный и поведен-
ческий). Каждый из них порождает «неполный» стереотип, а в случае
их соединения в повторяющихся ситуациях - полный, а также два пути
формирования стереотипа: непосредственный личный опыт и опосредо-
ванный коммуникативный путь . Впрочем, сторонники более узкого
понимания, делающие акцент на повседневном опыте контактирующих
этносов, вовсе не отрицают опосредованную составляющую при фор-
2 Липпман У. Общественное мнение. М., 2002 [1922]. О неоднозначности поня-
тия «стереотип» пишут практически все авторы, касающиеся этого вопроса. См., па-
пример: Семендяева О. Ю. Эффект сгереотипизации И Социологический журнал. 1985.
№ 1. С. 164-167. Она же. Критический анализ концепции «стереотипа» в социальной
психологии И Социологические теории и социальные изменения в современном мире.
М„ 1986. С. 184-196; Мельник Г. С. Mass-Media: психологические процессы и эффекты.
СПб., 1996. С. 89-99; ШихиревП.Н. Современная социальная психология. М., 1999.
С. 114-115, 267; Донцов А. И., Стефаненко Т. Г. Социальные стереотипы: вчера, сего-
дня, завтра И Социальная психология в современном мире / Под ред. Г. М. Андреевой и
А. И. Донцова М., 2002. С. 91 -92 и др. Впрочем, А. И. Донцов и Т. Г. Стефаненко нс
склонны видеть большие различия в базовом понимании термина, выделяя в «стерео-
типах» пять качеств: согласованность, схематичность или упрощенность, эмоциональ-
но-оценочная пагруженность, устойчивость или даже ригидность, неточность. Ср-
Стефаненко Т. Этнопсихология. М., 1999. С. 237-255.
3 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: Открытие спирали молчания.
М., 1996. С. 204-215.
4 Социальная психология. Краткий очерк / Под общ. ред. Г. П. Предвечного и
Ю. А. Шерковина. М., 1975. С. 85-89.
М. В. Белое. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
405
мировании стереотипа. Они указывают на соединение в нем когнитив-
ной и эмоциональной информации, отделяя стереотипы от действия5.
Авторы, выходящие за рамки социальной психологии и теории массо-
вой коммуникации, распространяют стереотип на любой процесс фор-
мирования знания, в том числе на современную научную практику6.
Историк при обращении к литературе путешествий оказывается на
перекрестье этих методологических подходов. Путешественник, отпра-
вившийся в чужую страну, несет с собой груз стереотипов, почерпну-
тых в своей социальной и интеллектуальной среде. Но с другой сторо-
ны, его записки являются результатом непосредственного опыта
пребывания в другом мире и «удивления» от него. В этой ситуации мо-
гут трансформироваться старые стереотипы и возникнуть новые формы
восприятия. Многое зависит от глубины погружения, компетентности,
длительности пребывания, плотности коммуникации, открытости вос-
приятия и т.д. Впрочем, некоторые из этих параметров противоречат
друг другу. Перед нами некая вариация герменевтического круга.
В любом случае не следует ожидать от путешественников «фото-
графического» отчета. В недавних исследованиях присутствует стрем-
ление отказаться от разоблачительной стратегии в изучении стереоти-
пов, так как «с психологической точки зрения процесс стереотипизации
не релевантен этической антиномии “хорошо или плохо”... Этот про-
цесс можно сравнить с устройством грубой настройки в таких оптиче-
ских устройствах, как микроскоп или телескоп, наряду с которым суще-
ствует и устройство тонкой настройки, аналогами которой в сфере
восприятия выступают такие тонкие и гибкие механизмы, как иденти-
фикация, эмпатия, социально-психологическая рефлексия и т.п.»7. При-
менение методов, выработанных в ходе полевых исследований контак-
5 Солдатова Г. Н. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. С. 64-
86. См. также: Агеев В. С. Психологическое исследование социальных стереотипов //
Вопросы психологии. 1986. № 1. С. 985-102; Он же. Стереотипизация как механизм
социального восприятия И Общение и оптимизация совместной деятельности / Под
ред. Г. М. Андреевой и Я. Яноушека. М., 1987. С. 177-188; Он же. Межгрупповое
взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990. С. 134-158; Гуле-
вич О. А. Психология межгрупповых отношений. М., 2008. С. 147-258.
6 Васильева Т. Б. Стереотипы в общественном сознании (социально-
философский аспект). Научно-аналитический обзор. М., 1988.
7 Агеев В. С. Психологическое исследование социальных стереотипов... С. 98.
Агеев настаивает на необходимости различать в процессе стереотипизации два
Уровня - социологический и психологический. Негативные оценки стереотипа как
явления справедливы, но они связаны лишь с негативными социальными установ-
Ками, которые детерминируют его содержательную сторону.
406
История на перекрестках междисциплинарности
тирующих этнических и, тем более, лабораторных групп, при этом вряд
ли уместно. Путешественник в полной мере не является частью коллек-
тивных процессов повседневного взаимодействия, а остается по пре-
имуществу в ранге привилегированного наблюдателя8 9. Дипломат, нахо-
дящийся на постоянной службе в другой стране, конечно, имеет
возможность глубже постичь местную культуру и обычаи, однако его
статус экстерриториален в силу выполняемых им функций. Случаи, ко-
гда «путешественники» надолго оседают в чужой среде, превращаясь в
полуэмигрантов, достаточно редки, но чрезвычайно интересны. Они в
большей степени связаны с феноменом ассимиляции или, если «осев-
шим» предстоит встреча с соотечественниками, - с феноменом диаспо-
ры, т.е. непосредственным межэтническим взаимодействием;
В последние десятилетия XX века под влиянием «культурного» и
«лингвистического поворота» усилилась критика доминантной когни-
тивистской парадигмы, ставящей в центр внимания универсальные по-
знавательные процессы с редукцией от индивида к группам или обще-
ству, и оформилось новое эпистемологическое течение — «социальный
конструкционизм». Отдельные авторы, делающие акцент на культурной
и лингвистической изменчивости социально-психологических феноме-
нов, предложили даже считать науку о них исторической, собственно,
историей как таковой. С другой стороны, испытав влияние постструк-
туралистских идей, некоторые «конструкционисты» толкуют сотворе-
ние «я» и окружающей его социальной реальности исключительно как
результат работы дискурса. Эта ультракритическая тенденция, харак-
терная, прежде всего, для самой успешной (и самой «сциентистской»)
американской версии социальной психологии, сочетается с более дав-
ней, основательной, но и более сдержанной традицией критики ее у ев-
ропейских исследователей. Такое сочетание позволило отечественным
аналитикам говорить о процессе рождения новой парадигмы в социаль-
ной психологии, принимающей культурно-историческую перспективу .
Новации коснулись и подходов к рассмотрению явления стереоти-
пизации. Не отрицая полностью (за исключением крайних «конструк-
8 Эго положение не следует абсолютизировать, если рассматривать акт коммуни-
кации как взаимодействие, пускай эпизодическое, включение в другую культуру.
9 Андреева Г. М. В поисках новой парадигмы: традиции и старты XXI века//
Социальная психология в современном мире. С. 9-26. Стефаненко Т. Г. Социальная
психология в культурно-исторической перспективе// Там же. С. 27-41. См. также:
Социальная психология: саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. М., 1995.
С. 23-135; Якимова Е. В. Социальное конструирование реальности: социально-
психологические подходы. Научно-аналитический обзор. М., 1999.
М. В. Белое. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
407
ционистов») когнитивистское решение вопроса о его происхождении
как следствии закона экономии познавательных ресурсов в условиях
избытка информации, уже с середины XX века исследователи все более
смещали акцент на функции стереотипов: защита групповых ценностей,
легитимация социальных позиций, определение идентичности и вос-
полнение иллюзорной целостности «своего» мира. Стереотипы стали
рассматриваться как явления, детерминированные отношениями власти
и межгрупповой конкуренции. Под действием этого социологического
дрейфа в процессе стереотипизации стали выделяться разные уровни. В
частности, швейцарский психолог В. Дуаз обнаружил четыре таких
уровня: первый - индивидуально-психологический - выделяется с тру-
дом, поскольку формируется под сильным влиянием второго - уровня
межличностных отношений. Третий уровень - коллективные представ-
ления, складывающиеся в процессе межгрупповых отношений. А чет-
вертый - уровень идеологии, исторически обусловленной для данного
общества. Дуаз признал, что четвертый уровень пока полностью исклю-
чен из практики исследований социальных психологов. И это при том,
что «верхний уровень - идеология - детерминирует нижележащие»10.
В силу сказанного, верхний уровень стереотипизации не может
быть сведен (хотя разные уровни связаны между собой) к феноменам,
исследованным на уровне межличностных и межгрупповых отношений,
и наоборот. С другой стороны, стереотипы верхнего ряда в социально
дифференцированных обществах, очевидно, отражают интересы и цен-
ности доминантных групп. При этом они могут быть выражены (и так
чаще всего бывает) в общезначимой форме. Пространство стереотипов
на этом уровне определяется широтой, глубиной и характером властных
притязаний «элиты». Вычленение стереотипов верхнего ряда соотно-
сится с интерпретацией идеологии «как культурной системы» (системы
символов, литературных тропов и фигур речи) в одном из влиятельных
направлений антропологии11. Это не только не снимает, но скорее обо-
стряет вопрос, о какой «культуре» и какой «идеологии» мы говорим.
10 Шихирев П. Н. Указ. соч. С. 268-272. Другой видный психолог, представи-
тель социального когнитивизма Г. Тэджфил на первое место поставил уровень куль-
туры с разными идеологическими образованиями. Внутри этой метасистемы он по-
местил групповые идеологии (второй уровень). Они предполагают наборы
стереотипных образований, из которых выбирает отдельный индивид (третий уро-
вень). Три уровня находятся между собой в динамическом взаимодействии.
11 ГирцК. Идеология как культурная система// Он же. Интерпретация куль-
тур. М. 2004 [1973]. С. 225-267. Ср.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструиро-
вание реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995 [1969]. С. 151-209.
408
История на перекрестках междисциплинарности
Термин «идеология» может быть употреблен в более узком, «со-
временном» значении (политическая, государственная, национальная
идеология) и в более широком значении, когда это понятие распростра-
няется на духовные образования «досоврсмснных» эпох (мифологиче-
ские комплексы, религия, этические системы, сословные «идеологии»).
Производящие инстанции, функции, способы распространения, воз-
можности трансформации смыслов и т.д. в этих случаях будут различ-
ными. Все еще более усложняется при обращении к переходным эпохам
с характерными для них гибридными формами.
Относительное единство культуры можно наблюдай, в «холодных»
(по определению К. Леви-Стросса) обществах, но в ином случае мы име-
ем дело, как минимум, с двумя культурами: «официальной» (т.е. господ-
ствующей) и так называемой «народной», низовой культурой, а в настоя-
щее время - с разными уровнями и формами «массовой» культуры,
противостояние которой «элитарной» весьма условно. Все это необходи-
мо учитывать с принятием культурно-исторической перспективы в гума-
нитарных исследованиях, в том числе при анализе образов «другого».
Представляет интерес соотношение понятия «стереотип» с концеп-
том «социальных представлений», выдвинутых школой С. Московичи.
Некоторые авторы решают этот вопрос однозначно: «Будучи общественно
разделяемым способом когнитивного упорядочения мира людей, стерео-
тип может быть рассмотрен как разновидность социальных представле-
ний»12. В. Дуаз интегрирует процесс стереотипизации в данную концеп-
туальную рамку. Однако существенные расхождения между американской
и европейской (французской) традицией в социальной психологии, ко-
нечно, еще не преодолены, а сама концепция «социальных представле-
ний» встретила разнонаправленную критику, где наиболее частый и спра-
ведливый упрек сводится к ее эклектичности. Теория Московичи
принадлежит конструкционистской парадигме, и его ближайшая со-
трудница ссылается на известный трактат П. Бергера и Т. Лукмана как
на работу, близкую этой школе по духу13. Представления толкуются как
12 Донцов А. И., Стефаненко Т. Г. Указ. соч. С. 84. О школе Московичи и «со-
циальных представлениях» см.: Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепции социаль-
ных представлений в современной французской психологии. М., 1987; Якимова Е. В-
Теории социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-90-х
годов. Научно-аналитический обзор. М., 1996; Шихирев П. Н. Указ. соч. С. 273-282;
Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 2. Образы
прошлого. М., 2006. С. 393-400.
13ЖодлеД. Социальное представление: феномены, концепт и теория// Соци-
альная психология / Под ред. С. Московичи. СПб., 2007 [1984]. С. 376.
М. В. Белое. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
409
феномен на границе психологического и социального, благодаря чему
окончательно стирается доставшееся в наследство от бихевиоризма
противопоставление стимула и реакции. При этом представление со-
ставляет неразрывное единство образа и значения, фигуративного и
символического аспекта. В представлении всегда присутствует некое
образное ядро, выработанное в процессе объективации. Однако в ходе
социальной практики («внедрения»14), подобно Протею, представление
трансформируется, встраиваясь в ту или иную систему значений, функ-
ций, поведенческих моделей, меняя одновременно и саму эту систему.
Привилегированной областью изучения социальных представлений
в школе Московичи является обыденное, практическое знание или «здра-
вый смысл». Однако, как указывает Д. Жодае, тенденция натурализовать
категории и теоретические модели может быть свойственна и научному
знанию, особенно, когда оно вступает на путь популяризации15. Следует
вспомнить, что концепция Московичи формировалась в работе над док-
торской диссертацией «Психоанализ, его образ и его публика» (1961),
посвященной популяризации этой научной теории. В дальнейшем круг
интересов и объяснительные притязания школы Московичи расширились
до перекройки всей социальной психологии. Во всяком случае, его теория
воспринимается «как учение о социальном опыте и знании, его конструи-
ровании, динамике и роли в общественной практике в целом»16.
Литература путешествий находится на границе жанров, литера-
турных и интеллектуальных стратегий. С одной стороны, русские пу-
тешественники первой половины XIX века были выходцами из дворян-
ской элиты и в своих сочинениях ориентировались на образцы и топосы
«высокой» словесности. С другой стороны, литературе путешествий с
ее стихийной и наивной этнографией, образовательно-воспитательными
или публицистическими установками близки стратегии «здравого
смысла». Излюбленная маска автора путевых записок - «ученый люби-
тель» и «любознательный наблюдатель». Типаж, столь характерный для
XIX века, символизирует союз науки и здравомыслия17.
Путешествующие литераторы, авторы «скромных наблюдений»,
заняты по преимуществу «внедрением» (в смысле Московичи) образа
14 Англ, anchoring, фр. anchorage воспроизводится в русскоязычной литературе
как анкеровка или анкоринг и передается еще как «привязка» и «заякоривание».
15 ЖодлеД. Указ. соч. С. 384. В качестве примера приводится «овеществлен-
ная» модель атома, где электрон вращается вокруг ядра.
16 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 68.
17 Фарр Р. Социальные представления И Социальная психология / Под ред.
С. Московичи. С. 404.
410
История на перекрестках междисциплинарности
«другого» в систему имеющихся культурных значений. В похожей си-
туации оказывался и дипломат-практик, призванный решать актуальные
правительственные задачи в чужой культурной среде. Его главным про-
водником при адаптации «языка власти» к местным условиям становит-
ся «здравый смысл», универсальный в понимании людей Просвещения.
Процессы объективации и «внедрения» нельзя понимать как мета-
физическую последовательность. Будучи диалектически связанными,
эти процессы смыкаются друг с другом, поскольку «представление не
возникает из ничего, оно не записывается на чистую доску. Оно всегда
застает уже имеющуюся мысль в скрытом или явном виде... Освоить
что-то новое - это значит сблизить его с тем, что мы уже знаем, харак-
теризуя его словами нашего языка»18 19. В процессе конструирования
представления, где значительную роль играет воображение, использует-
ся уже имеющийся образный, языковой материал, в результате чего не
может возникнуть точная копия реальности, что не исключает выявле-
ния некоторых ее конкретных черт.
Впечатления путешественника в его сочинении интерпретируются
с помощью двойного перевода: он переводит со своего «языка» на чу-
жой и с чужого на свой. Историку предстоит вновь пройти этот путь,
чтобы уклониться от простого воспроизводства старых стереотипов, но
ему еще следует самокритично вписать результаты исследования в на-
учный дискурс и язык сегодняшнего читателя. Эти обстоятельства за-
ставляют обратиться к теории межкультурной коммуникации.
Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, грамматические и семантиче-
ские категории языка формируют идеи и определяют характер мышле-
ния (лингвистический детерминизм), при этом в каждом языке кроются
специфические особенности, не воспроизводимые в другом языке (лин-
гвистическая относительность). «Сильная» версия этих положений мота
бы похоронить любые надежды на адекватный перевод и межкультурную
коммуникацию. Однако в настоящее время, с поправками из психологии,
антропологии и новых лингвистических изысканий, принципы Сепира-
Уорфа принимаются лишь в их «слабой» форме. В этой связи непонима-
ние рассматривается «как конкретный тип понимания, при котором слу-
шатель приписывает знаку внутреннюю репрезентацию, отличающуюся
на одном или нескольких уровнях от того, что имел в виду говорящий» .
18 ЖодлеД Указ. соч. С. 378-379, 387-391.
19 Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию. М., 2007. С. 10,
17, 65-66. См. также: Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация.
М., 2000; Грушевицкая Т. Г., Попонов В. Д., Садахин А. П. Основы межкультурной ком-
Ц/. В. Белое. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
411
Понимание всегда носит относительный характер. А полное понимание и
полное непонимание - это не более чем идеальный конструкт. В результа-
те столкновения с «другим» при определенных обстоятельствах бессозна-
тельная часть культурного восприятия может выйти на уровень сознания,
поэтому человек начинает с большим пониманием относиться как к сво-
ей, так и к чужой культуре. Таким образом, понимание зависит от степени
рефлексии, где в качестве идеала выступает способность рефлексировать
над всем опытом человечества20.
В теории межкультурной коммуникации выявлены факторы,
влияющие на способность понимания, среди которых одним из главных
является сходство культур21. В качестве основных параметров здесь
выделяется стратификация общества по горизонтали и вертикали, ме-
стоположение культур на шкале времени, соотношение языковых кар-
тин мира и культурно-языковых кодов. Наряду с разработкой бинарных
моделей культурных ориентаций в разных культурах признается значи-
мость для понимания «другого» социальных факторов: «Индивидуаль-
ные коммуникаторы одновременно выполняют множество социальных
ролей, и их коммуникативное поведение зависит от иерархии этих ро-
лей, выстраиваемой в системе их ценностей и приоритетов»22.
Записки путешественников столько же говорят о стране, в которой
они побывали, сколько и о той социальной и интеллектуальной среде,
из которой они вышли. Поэтому, как уже ясно из всего вышесказанного,
главная опасность для исследования, нацеленного на поиск подлинных
реалий в чужих свидетельствах, - это воспроизводство в них предза-
данной «картины мира», которая в свою очередь обусловлена разными
формами «этноцентризма», «культурного империализма» и т.д., с со-
путствующими им стереотипными представлениями.
В этой связи возникло целое направление в изучении литературы
путешествий, более или менее институционального страноведения, на-
чало которому положила книга Э. Саида «Ориентализм» (1978). Следуя
в русле концепции «власти-знания» М. Фуко, ее автор разоблачал евро-
муникации. М., 2003. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации.
М., 2003. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003 и др.
20 Леонтович О. А. Указ. соч. С. 69, 73. Богин Г. И. Типология понимания тек-
ста. Калинин, 1986. С. 11-12, 56-59.
21 Применительно к языку это проявляется в количестве «семантических прими-
тивов», т.е. общих для всех людей понятий, которые лексикализовались во всех языках
мира. С их помощью могут быть установлены комплексные и специфические для дан-
ной культуры значения. См.: Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
22 Леонтович О. А. Указ. соч. С. 75.
412
История на перекрестках междисциплинарности
поцентристские стереотипы восприятия Востока, подоплекой которых
является обоснование принципа превосходства Запада и его права на
обладание миром. В теоретическом введении к книге Саид оговаривал-
ся: «И тем не менее следует постоянно задавать себе вопрос, что в ори-
ентализме важнее: попирающая массу материала общая совокупность
идей, неоспоримо пропитанных идеей европейского превосходства,
разного рода расизма, империализма и тому подобное... или куда более
разнообразная работа, проделанная бесчисленными отдельными авто-
рами, которых можно взять в качестве отдельных примеров индивидов,
имеющих дело с Востоком»23. Саид не согласился с Фуко относительно
малой значимости индивидуального текста и каждого отдельного авто-
ра в анонимной «дискурсивной формации», напротив, живучесть «ори-
ентализма» он объяснил исключительным богатством его наследия.
Исследовательская стратегия Саида направлена на выявление ге-
нерализирующей интенции в интерпретации Востока, что предполагает
анализ «поверхности текста» и исключает вопрос о правильности ре-
презентации или ее верности оригиналу. Вместе с тем автор открестил-
ся от притязаний на исчерпывающее исследование предмета в надежде
на продолжателей и поставил вопрос об альтернативных способах по-
нимания «другого», который требует пересмотра всего комплекса про-
блем соотношения власти и знания24.
Модель, положенная в основу исследований после Саида, несмот-
ря на его предупреждения и оговорки, порой абсолютизирует посюсто-
ронний социальный опыт и литературную предвзятость путешествен-
ников, а также схематизм и ригидность стереотипа. Поклонники
постструктуралистской теории нередко игнорируют или недооценивают
степень дифракции свидетельств, различия в уровне политической и
интеллектуальной ангажированности их авторов. Переход от «внутри-
группового фаворитизма» к антифаворитизму в исследованиях «мен-
тальных карт» сам по себе не может быть гарантией от стереотипности
мышления. На схематизм некоторых построений в данных исследова-
ниях уже указывали оппоненты25.
Вероятно, путь к упрощениям проложен самой стратегией сколь-
жения по «поверхности текста» со стремлением выявить генерализи-
23 Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 17.
24 Там же. С. 36-37,40-42.
25 См. обзор исследований: Шенк Ф. Б. Ментальные карты: конструирование
географического пространства в Европе// Регионализация носткоммунистическои
Европы: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. И. Миллер (Политическая наука. 2001. К®4).
М., 2001. С. 6-32. Тот же текст: Новое литературное обозрение. 2001. № 52.
/. В. Белов. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
413
(ующую интенцию и принципиальной ставкой на интертекстуальность,
что делает малозначимыми межтекстуальные различия. Кроме того,
часть исследований в области «ментальных карт» написана политоло-
гами и специалистами по международным отношениям, которые поль-
зуются уже препарированным материалом и «готовыми» фактами, по-
своему определяя задачи анализа26.
Примером здесь может служить во многих отношениях интересная
и содержательная книга И. Нойманна. Ее автор много внимания уделяет
методологии исследования, развивая ту группу подходов, которую он
назвал «восточным экскурсом», в том числе идеи М. Фуко и Э. Саида,
но также М. М. Бахтина, Э. Левинаса, Ц. Тодорова и др. Нойманн обо-
значил свой метод, солидаризируясь в этом отношении с рядом иссле-
дователей27, как переход от диалектического к диалогическому видению
коллективных идентичностей. С этой точки зрения «я» и «другой» пе-
ретекают друг в друга, идентичности постоянно пересоздаются, они
текучи и многогранны, будучи отношениями, а не сущностями. Внеш-
ний «другой» представляется проекцией внутреннего «другого». Такой
подход, по-видимому, продуктивный в изучении процессов построения
коллективных идентичностей и их использования в международных
отношениях, практически ничего не дает для исследования способности
«увидеть» и передать в дискурсивной форме чужой опыт. Более того,
такая способность по существу отрицается, поскольку объявлено о
«смерти суверенного субъекта»28.
Опыт гиперкритики в потсруктуралистских работах должен быть
усвоен историографией, часто недооценивавшей механику производст-
ва знания. Однако продуктивность исследований в области «имаголо-
гии» (изучении образов «другого») будет затруднена, если не снять из-
быточную негативную нагрузку с понятия «стереотип» (дискурс,
«ложное сознание»). Стереотип - не обязательно искаженный, но всегда
неполный и упрощенный образ, выполняющий важную функцию в про-
цессе познания и элементарного ориентирования в окружающем мире.
Это означает неистребимость стереотипов, которые все же различны по
степени сложности и амбивалентны по природе, что обеспечивает их
26 Среди наиболее значимых работ следует назвать: Вульф Л. Изобретая Восточ-
ную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003 [1994];
Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских
идентичностей. М., 2004 [1998]; Todorova М. Imagining the Balkans. N.Y.; Oxford, 1997.
27 Автор объединяет их в Копенгагенской школе международных исследований.
28 Нойманн И. Указ. соч. С. 25-70, 267-295. Заключение к книге носит назва-
ние: «“Я” и “Другой” после смерти суверенного субъекта».
414
История на перекрестках междисциплинарности
динамику. Историку нс следует замыкаться в рамках дискурсивного
анализа и нарратологии (хотя литературная история и теория для него
полезны), вовлекая в исследование вес возможные источники и объяс-
нительные модели, выделяя разные уровни восприятия чужой культуры.
История дисциплины, получившей название имагология, насчиты-
вает уже несколько десятилетий. Как показывает обзор
М. И. Логвинова, помимо методик, заимствованных из компаративист-
ской истории литератур и науки о знаковых системах, имагология учла
опыт изучения стереотипов в социальной психологии и теории массо-
вой коммуникации 9. «Однако, - по мнению Т. Г. Стефаненко, до сих
пор не решена одна из самых существенных проблем, встающих перед
этим направлением, а именно вопрос о том, насколько адекватно худо-
жественная литература, публицистика, различные виды искусства отра-
жают стереотипы, существующие в обыденном сознании»29 30.
Ответить на вопрос, сформулированный в столь абстрактной форме,
затруднительно, если вообще возможно. Конкретизируем проблему на
эмпирическом материале. Русские путешественники, побывавшие на Бал-
канах в первой половине XIX века, принадлежали к узкому слою «образо-
ванного общества». Их мышление, характер рецепции впечатлений и спо-
собы их литературной репрезентации целиком и полностью принадлежат
данной коммуникативной структуре, связанной с европейской постпро-
светительской культурной средой. Распространять свойственные «образо-
ванным» стереотипы на каждого русского было бы, по меньшей мере,
опрометчиво. Славянский дискурс до определенного времени не был ча-
стью обыденного сознания необразованного большинства общества. Сте-
реотипное наполнение сознания «простого» человека скорее проистекало
из непосредственного иноэтничного окружения.
В последнее время появилось немало работ, посвященных взаимо-
представлениям, где парами выступают русские и англичане, русские и
французы, русские и поляки, русские и немцы, русские и сербы и т.д.31
29 Logvinov М. I. Studia imagologica: zwei methodologische Anzatze zur kompara-
tistischcn Imagologic// Gcrmanistischcs Jahrbuch GUS “Das Wort”. 2003. S. 203-220.
Электр, версия: http://www.daad/wort/wort2003/Logvinov.Druck.pdf.
30 Стефаненко T. Г. Указ. соч. С. 242.
31 ЩепетовК. П. Немцы глазами русских. М., 1995. Россия и Запад в XIX-
XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996. Оболен-
ская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). М., 2000; Поляки и русские
в глазах друг друга. М., 2000; Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонспони-
мание. М., 2000; Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре.
М., 2002; Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Великий
L В. Белов. Стереотипы, ментальные карты, имагология...
415
Однако далеко не все из авторов этих исследований демонстрируют
свои методологические предпосылки. В качестве весомого исключения
следует указать на книгу А. С. Мыльникова32. С одной стороны, он ис-
пользовал концепт «картины мира», делая предметом изучения «куль-
турную географию» и этническое номинирование. С другой стороны,
Мыльников придерживался традиционного для отечественной науки
понимания феномена этничности как субстанционального, игнорируя
конструктивистские версии ее «изобретения». С точки зрения автора,
выявление этничности есть результат культурного контраста при столк-
новении с непохожим укладом жизни.
Проблематичность подобного подхода я проиллюстрирую с по-
мощью одного примера: интерпретации русской бани как культурного
знака. В этой связи Мыльников допускает воздействие на знаковые раз-
личия не только социальной, но и природной среды. В частности, исхо-
дя из местных природно-климатических условий, формировались ги-
гиенически-бытовые навыки: мыться в проточной воде или в замкнутом
пространстве (лоханке, бочке и т.д.). Впервые, рассказ о бане встречает-
ся в «Повести временных лет». Он приурочен к посещению апостолом
Андреем Новгорода, и, по мнению исследователей, отражает бытовые
различия между новгородцами и киевлянами. По возвращении в Рим
пораженный Андрей рассказывает: «Диво видел я в Славянской земле
на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и
разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут
на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что
едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так
оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя
мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье»33.
Рассказ летописца приправлен теплым юмором, но как замечает
Мыльников, повторяющийся в сочинениях иностранцев XVI-XVII вв.
топос бани приобретает однозначно негативный смысл. Этот культур-
ный знак прочитывается как свидетельство «варварства» московитов, их
склонности к насилию, тирании и самоистязанию. Данная интерпрета-
ция соотносится с другим топосом - рассказом о неком Иордане, же-
Новгород, 2004; Хореев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имаго-
логические очерки. М., 2005. Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, ме-
муары. СПб., 2006 и др.
32 Мыльников А. С. Картина славянского мира. Представления об этнической
Номинации и этничности XVI- начало XVIII веков. СПб., 1999.
33 Повесть временных лет / Подгот. текста, пер, ст. и коммент. Д. С. Лихачева.
2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 9, 145. Мыльников А. С. Указ. соч. С. 309-319.
416
История на перекрестках междисциплинарности
пившимся на русской, которая требовала от мужа «знаков любви», т.е.
побоев. Можно ли в данном случае ограничиться нейтрально-
культурной системой знаков или же следует учитывать также политиче-
ские и идеологические установки совершивших реальное или вообра-
жаемое путешествие иностранцев?
В заключительной части статьи поделюсь некоторыми предвари-
тельными результатами моего исследования.
По наблюдению А. Л. Шемякина, отношение русских к сербам во
второй половине XIX в. радикально отличалось от отношения западно-
европейских авторов. Если последние исходили из модели «другой -
чужой», то первые - из модели «другой свой»34. Данная модель сло-
жилась не сразу. В период, исследованный Шемякиным, «славянское
братство» уже являлось почти непререкаемой аксиомой, но вот мышле-
ние середины XVIII в. либо не догадывалось о нем, либо оставляло его в
тени «православной общности». Так полковник С. Ю. Пучков, побы-
вавший в Черногории в 1759 г., увидел здесь странное соединение лука-
вого православия, турецкой дикости и венецианского торгашества35.
Составленное в 1805 г. С. А. банковским «описание Черногории»36
уже отличается от свидетельств XVIII века как большей детализацией, так
и меньшей однозначностью оценок. Оно испытало на себе влияние ново-
го литературного стиля сентиментализма. Несмотря на отдельные заме-
чания, касающиеся дикости и буйств, донесения банковского в целой
проникнуты искренним интересом и симпатией к черногорцам, которая
транслируется сквозь призму известного руссоистского концепта - «бла-
городный дикарь»37. Мотивы славянской общности, исторические и этно-
графические параллели в донесениях банковского не прослеживаются.
То же необходимо отнести и к донесениям К. К. Родофиникина из
повстанческой бербии (1807-1809 гг.). Он пользовался в своих сужде-
ниях о местной жизни универсальным просветительским мерилом, про-
тивопоставляя «буйных» вождей «несчастному» народу, бентименталь-
34 Шемякин А. Л. В плену у традиции. Русские путешественники о Сербии и
сербах (вторая половина XIX - начало XX вв.) // Запад и Восток в Новое время. Сб.
науч. тр. Нижний Новгород, 2009.
3 ДраговиИМ. Материал за исторщу Црне Горе// Спомепик Српске
Крал>евске академHje. Кгь. XXV. Бсоград, 1895. С. 27-30.
36 Достян И. С. Описание Черногории начала XIX в. в донесениях
С. А. Санковского // Балканские исследования. Историография и источниковедение.
М., 1972. С. 291-336.
37 Этот концепт начал складываться в европейской литературной традиции за-
долго до Руссо: Дюше М. Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения.
Основы антропологии у философов // Век Просвещения. М.; Париж, 1970. С. 251 -278.
М. В. Белое. Стереотипы, ментальные карты, имагология... 417
ный подход не выявлял специфики, все еще мало обращал внимания на
детали, поскольку, как заметил разделявший взгляды Родофиникина
главнокомандующий Молдавской армией А. А. Прозоровский: «народ
везде одинаков, без просвещения и понятия о политике не имеет...
Другим способом постижения балканских реалий стал неокласси-
цизм, который на русской почве разрабатывал тему славянской антики38 39.
Примером здесь могут служить впечатления студентов геттингенского
университета А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова40. Встреча русских путе-
шественников со «славяно-спартанцами» - восставшими сербами, к со-
жалению, так и не состоялась. В Белграде они увидели декорации пере-
вернутого вверх дном магометанского ада и ритуальные демонстрации
жестокости, замешанной на ненависти и страхе. Коалиция вождя пов-
станцев с турецкими разбойниками, неприятно удивила Кайсарова, хотя
была объяснима тактическими соображениями, а впрочем, не помешала
автору дневника в выражении моральной солидарности и чувства гордо-
сти - принадлежать славянскому миру и быть русским. Дневник Кайсаро-
ва содержит отдельные этнографические зарисовки хозяйственного укла-
да сербского населения в Южной Венгрии.
Античные и былинные ассоциации, свидетельствующие о сложив-
шихся литературных стереотипах, возникли у участника морской экспе-
диции под предводительством адмирала Д. Н. Сенявина, который весной
1806 г. побывал в Черногории: «Я видел Спарту, видел в полном смысле
Республику, отечество равенства и истинной свободы, где обычаи заме-
няют закон, мужество стоит на страже вольности, несправедливость
удерживается мечем мщения, удивлялся возвышенности духа, горделиво-
сти и смелости того народа, которого имя наводит страх всем соседям.
Образ же их жизни, неиспорченность нравов и отчуждение всякой роско-
ши истинно достойно всякой похвалы. Три дни, проведенные мною меж-
ду ними, я так сказать перенесен был в новый мир и познакомился с
предками моими 9-го и 10-го столетия, видел перед собой простоту пат-
38 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. ВУА. Д. 394.
Ч. 5. Л. 173-177об. А. А. Прозоровский - депутатам, 7 марта 1809 г.
39 Соотношение неоклассицизма с сентиментализмом и преромантизмом, оче-
видно, следует представлять как динамическое и вариативное: Гиллелъсон М. И.
Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 36-37; Майофис М. Воззвание
к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный про-
ект 1815-1818 годов. М., 2008. Гл. 7; Smith A D. Neo-Classicist and Romantic Elements
in the Emergence of Nationalist Conception// Nationalist Movements/ Ed. by
A. D. Smith. L„ 1976. P. 74-87.
40 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в
1804 г. / Архив братьев Тургеневых. Вып. 4. Пг., 1915.
418
История на перекрестках междисциплинарности
риаршсских времен, беседовал с Ильею Муромцем, Добрынею и другими
богатырями нашей древности»41. Впрочем, подобный стереотип, заимст-
вованный из фольклорных памя тников, конечно, не мог служить ключом
для более адекватного понимания увиденного. Этнокультурную иденти-
фикацию сербов (черногорцев) и русских разрывала бездна веков.
Ответ на вопрос о причине различий и слабости понимания во
взглядах русских дан в апокрифическом отчете барона Дибича, наблю-
давшего повстанческую Сербию в первой половине июня 1811 г.: «При-
чина, почему мы о Сербии криво судим, в том, что в ней находились люди
с предвзятым образом мышления или ограниченных знаний... Народ
сербский в великой степени от турков притесненный, ни одним шагом не
мог к просвещению приступить; и поэтому серб вообще сурового нрава
без наук, и думаю, с полным правом горд своею тяжко добытой свободой.
Во всей стране нет балов, театров, людей света, приятных изысков, сло-
вом того, что в свете называется “bon ton”»42. И действительно, взгляд из
светского салона, с ответственного дипломатического или военного поста,
из литературно-исторической утопии или с точки зрения вдохновляющей
военной авантюры давал неоднозначные результаты.
Общей слабостью всех русских путешественников и дипломатов
начала XIX века являлось отсутствие опыта изучения и описания кре-
стьянского быта у себя на родине. Дворянско-просветительская культу-
ра предлагала в этой связи лишь оторванные от жизни, пасторально-
идиллические картинки. Только на рубеже 1820 30-х гг. начинаются
известные дебаты о «народности» в литературе и делаются первые шаги
к осмыслению народной жизни. Однако решающий поворот к крестьян-
ской теме приходится на пореформенный период. «Внутренний другой»
был включен в культурный горизонт «образованного общества». Имен-
но этот опыт позволил авторам второй половины XIX века более адек-
ватно рассмотреть специфику балканской ситуации, сравнивая «селян-
скую» Сербию с крестьянской Россией. Особенно ярко это проявилось в
наблюдениях «народников» П. А. Ровинского, Г. И. Успенского и др.
Таким образом, только в результате глубоких социальных и культурных
трансформаций было обретено понимание сербов и вообще балканских
славян как «своих» или «братьев».
41 Броневский В. Записки морского офицера [1818]. СПб., 1836. Ч. 1. С. 192.
42 Голубица. Кн>. V. Београд, 1844. С. 304. Отчет Дибича на немецком языке был
найден среди бумаг покойного сербского поэта-классициста и деятеля «национального
возрождения» Л. Мупшцкого. При этом неизвестно, как попал к нему этот текст.
А. Э. Афанасьева
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ
История медицины на современном этапе своего развития пред-
ставляет собой один из особенно ярких примеров преодоления дисцип-
ршарных границ. С самого начала своего существования эта исследо-
Фтельская область была полем взаимодействия двух дисциплин:
истории - в самом традиционном ее понимании - и медицины. Однако
настоящим образцом «смешения жанров»1 она стала во второй полови-
не XX века, когда к её изучению обратились представители социальной
истории и демографии, психологии и антропологии, а затем - литерату-
роведения и лингвистики. За последние десятилетия из замкнутой узко-
профессиональной дисциплины, ориентированной преимущественно на
студентов медицинских факультетов, история медицины превратилась в
подвижную, открытую самым разным подходам и веяниям область ис-
следования на передовом крае исторической науки. Внушительное коли-
чество конференций, семинаров и прочих научных форумов, неуклонно
растущее число издательских проектов, посвящённых истории медицины,
делают её одной из наиболее динамично развивающихся областей гума-
нитарного знания. Как произошла подобная трансформация, чем было
обусловлено столь масштабное расширение предметных границ истории
медицины? Что представляет собой новейшее направление развития дис-
циплины - культурная история медицины - и что она может предложить
истории медицины и гуманитарным исследованиям в целом?
От истории «великих врачей» к социальной истории медицины
Со времени своего появления в XIX веке история медицины созда-
валась представителями медицинской профессии и была призвана зафик-
сировать процесс последовательного приращения медицинского знания; в
центре её внимания поэтому оказывались выдающиеся врачи, учёные и
совершённые их усилиями важнейшие медицинские открытия. Выполняя
образовательные и дидактические функции, история медицины являлась
частью профессионального становления врачей: рассказы о великих учё-
ных обеспечивали как примеры терапевтической практики, так и образцы
поведения, на которые следовало ориентироваться медикам.
'GeertzC. Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought// Local Know-
ledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. N.Y., 1983.
420
История на перекрестках междисциплинарности
С наступлением эры «научной медицины» в 1870-х it. опыт врачей
прошлых столетий потерял свою практическую ценность; из библиотек
медики перемещаются в лаборатории, где закладываются основы ново-
го, экспериментального, медицинского знания. История медицины ста-
новится историей развития дисциплины; отныне обращение к выдаю-
щимся персонам и открытиям прошлого служит преимущественно
легитимации профессиональной идентичности врачей, маркируя посте-
пенное превращение медицины из ремесла и искусства в науку. В тру-
дах Карла Зюдхоффа, Чарльза Сингера, Макса Нойбургера, Филдинга
Гэррисона2 3 история медицины приобретает вид триумфального марша
врачей по пути неуклонного прогресса в методах диагностики и техни-
ках лечения болезней. Успехи пастеровской микробиологии, открытие
рентгеновских лучей, прорывы в понимании причин инфекционных бо-
лезней (открытие холерного вибриона, возбудителей туберкулёза и маля-
рии), совершённые в течение жизни одного поколения, давали основания
для оптимизма в отношении медицины, возможности которой казались
безграничными. Медицина при этом рассматривалась как наука в высшей
степени аполитичная, «морально нейтральная», единственная цель кото-
рой заключается в излечении болезней и облегчении страданий людей.
Рассказывая о врачах - главных героях «великого эпоса медицины»', из-
вестный историк медицины Генри Зигсрист писал: «...воодушевлённые
священным огнём своей миссии, жертвуя собой в повседневном труде,
они помогали бесчисленным страждущим в горькой нужде. Они осушили
множество слёз, принесли много счастья... разбив оковы болезни»4.
Автор работы с характерным названием «Великие врачи: биогра-
фическая история медицины», Зигерист, между тем, стоял у истоков
новой историографической традиции медицинской истории. Уже в
1951 г. он отмечал значимость более широкого социального контекста
2 SudhoffK. Essays in the History of Medicine / Ed. by F. H. Garrison. N.Y., 1926;
Singer Ch. From Magic to Science: Essays on the Scientific Twilight. N.Y., 1928; Sing-
er Ch. The Discovery of the Circulation of the Blood. L., 1922; Neuburger M Essays in
the History of Medicine / Ed. by F. H. Garrison. N.Y., 1930; Garrison F. H. An Introduc-
tion to the History of Medicine. Philadelphia, 1914.
3 Risse G. B. Reflected Experience in Medicine, Science and Technology: The
Example of Hospital History// Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft fuer Ge-
schichtc der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. 2000. Bd. 50. S. 201. Цит. no:
Введение. История медицины: актуальные тенденции и перспективы // Болезнь и
здоровье: новые подходы к истории медицины / Под ред. Ю. Шлюмбома,
М. Хатнера, И. Сироткиной. СПб., 2008. С. 9.
4 Sigerist Н. The Great Doctors: A Biographical History of Medicine. N. Y., 1958.
P. XIII.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
421
для понимания истории развития медицины и указывал на необходи-
мость изучения точки зрения пациентов - более чем за тридцать лет до
программной статьи известного социального историка медицины Роя
Портера5. Поколение Портера, однако, оказалось гораздо более воспри-
имчивым к этой идее, чем современники Зигериста, в глазах которых
«взгляд на медицинскую историю с позиции пациента, а не врача»6, быв
скорее недостатком труда по истории медицины, чем его достоинством.
Ситуация изменилась в 1960-е гг., когда движения социального
протеста, развернувшиеся в Европе и США, поставили на повестку дня
вопросы, связанные с «историей масс». Складывание новой социальной
истории повлекло за собой перемены и внутри истории медицины, ко-
торая в эти годы выходит за пределы медицинских факультетов и кон-
цептуализируется исследователями как часть более широкой истории
общества. Интеллектуальным стимулом к новому видению медицин-
ской истории послужили работы Т. Парсонса, Т. МакКюона и, конечно,
Т. Куна, ставшие основой для отрицания универсалистских претензий
современной науки и осознания iраниц возможностей медицины7.
В Великобритании в 1970 г. было основано Общество социальной
истории медицины, вскоре превратившееся в одну из наиболее автори-
тетных организаций в области изучения медицинской истории. С само-
го начала существования Общества его основатели подчеркивали меж-
дисциплинарный характер исследований, проводимых под его эгидой,
призывая «наводить мосты» между медициной, социальными науками и
социальной работой. Между тем, первоначально подавляющее боль-
шинство членов Общества составляли врачи, и собственно истории в
программе Общества отводилось в лучшем случае лишь второстепенное
место. История имела преимущественно прикладное значение: к ней
следовало обращаться для лучшего понимания медицинских проблем
современности8. На торжественном открытии Общества говорилось о
необходимости «перестать обсуждать ипохондрию Флоренс Найтин-
5 Porter R. The Patient’s View: Doing Medical History from Below// Theory and
Society. 1985. Vol. 14. N 2. P. 175-198. Русский перевод статьи см.: Портер Р. Взгляд
пациента. История медицины «снизу» // Болезнь и здоровье... С. 41 -72.
6 Sigerist Н. Landmarks in the History of Hygiene. Oxford, 1956. P. VII. Цит. no:
Brieger G. The Historiography of Medicine // Companion Encyclopedia of the History of
Medicine / Ed. by W. F. Bynum. L„ 1993. Vol. 2. P. 26.
7 Parsons T. The Social System. Glencoe, 1951. Русский перевод см.: Парсонс Т.
О социальных системах. М., 2002; McKeown Т. The Modem Rise of Population.
N.Y., 1976; Кун T. Структура научных революций. М., 1975.
8 Porter D. Historical Perspectives. The Mission of Social History of Medicine: An
Historical View// Social History of Medicine. 1995. Vol. 8. N 3. P. 346-349.
422
История на перекрестках междисциплинарности
гейл» и сосредоточиться на истории, которая могла бы помочь в опре-
делении стратегии политики здравоохранения9 10.
Уже через несколько лет, однако, научная программа Общества
обрела выраженное историческое измерение. Направление интеллекту-
ального движения теперь задавала небольшая группа историков и со-
циологов, призывавшая к изучению всего спектра проблем истории ме-
дицины в их взаимосвязи с динамикой развития общества и
„ „ _ 10
использованию для этого техник новой социальной истории .
В 1970-х гг. социальная история медицины начала прокладывать
себе дорогу в Соединённых Штатах. Становление нового направления
было далеко не беспроблемным, и если в Великобритании институцио-
нализация социальной истории медицины проходила в относительно
спокойной обстановке, то в США (а в дальнейшем и в Германии) она
сопровождалась острейшей полемикой между историками и врачами.
Последние рассматривали деятельность историков как вторжение диле-
тантов в сферу профессиональной медицинской компетенции - причём
дилетантов, претендующих на «ниспровержение основ» истории меди-
цины. Конфликт усугублялся политическими разногласиями сторон -
консервативной медицинской профессуры и социальных историков,
нередко придерживавшихся леворадикальных взглядов11.
Тем не менее, к концу 1970-х гг. социальной истории медицины уда-
лось отвоевать свои позиции и в США, о чём свидетельствует изменив-
шаяся тематика публикаций, посвящённых медицинской истории12. В
Великобритании с 1988 г. начал выходить журнал «Социальная история
медицины», став крупнейшим форумом для специалистов этой области13.
9 Ibid. Р. 349.
10 Ibid. Р. 351.
11 См.: Reverby S. М, Rosner D. “Beyond the Great Doctors” Revisited: A Generation
of the “New” Social History of Medicine // Locating Medical History: Stories and Their
Meanings / Ed. by F. Huisman and J. H. Warner. Baltimore; L., 2004. P. 167-193. Дискуссии,
свидетельствующие о сохраняющихся противоречиях между врачами и историками,
продолжаются до сих пор. См. недавнюю полемику на страницах журнала «Ланцет»:
Kushner Н. I. The Art of Medicine: Medical Historians and the History of Medicine // The
Lancet 2008. Vol. 372. August 30 - Septembers. P. 711; Chalmers I. Historians and the
history of medicine // The Lancet. 2008. Vol. 372. November 8 - November 14. P. 1632.
12 Reverby S. M„ Rosner D. Op. cit. P. 177. См. также; Porter D. Op. cit. P. 355 о
резком сокращении числа медиков среди авторов статей британских журналов по
истории медицины.
13 В 2007 г. сообщалось, что журнал имеет самый высокий импакт-фактор сре-
ди прочих периодических изданий по истории медицины, см.: Editorial// Social His-
tory of Medicine. 2007. Vol. 20. N 3. P. 439.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
423
Представители нового направления сосредоточились на изучении
медицины в контексте исторического развития общества. Исследовате-
лей интересовали вопросы рождаемости и смертности, динамика забо-
леваемости населения, формы медицинской помощи от магии и знахар-
ства до «лабораторной медицины» новейшего времени,
взаимоотношения между различными группами целителей, возникнове-
ние институтов современного здравоохранения. Эти и многие другие
проблемы рассматривались в тесной связи и на фоне экономических,
социальных, политических процессов. Обращение к новым предметам
изучения повлекло за собой использование методов, концепций и тео-
рий других дисциплин - исторической демографии, социологии, этно-
графии, психологии. Как вспоминают современники, «множественные
профессиональные идентичности» становились в то время нормой14.
Феминистские исследования открыли социальной истории медицины
такие новые поля для изучения, как история тела, и ввели в рамки анализа
категории гендера и сексуальности. Социология науки обогатила дисцип-
лину представлениями о социальной обусловленности научного знания и
базирующихся на нём практик. Наконец, квантитативная история, тесно
связанная с демографией, создала узнаваемое «лицо» социальной истории
медицины, снабдив её обилием графиков, диаграмм и таблиц15. Междис-
циплинарность нового направления проявлялась не только в выборе тем и
методов их освоения, но и в сотрудничестве специалистов различных об-
ластей: участие историков медицины в конференциях социологов или
медицинских антропологов уже в 1980-е гг. стало регулярным16.
Чтобы дать более конкретное представление о предмете социаль-
ной истории медицины, остановимся подробнее на её ключевых темах.
В рамках нового направления иной ракурс рассмотрения приобре-
ли традиционные вопросы профессионализации медицины: обращаясь к
сюжетам о профессиональной организации врачей - борьбе медиков за
укрепление собственных позиций и независимость профессии, исследо-
ватели выясняли, каким образом западной «научной» медицине удалось с
14 Reverby S. М., Rosner D. Op. cit. Р. 176.
15 Примечательно, что в то время как в целом в исторических исследованиях
пик популярности квантитативной истории пришёлся на 1985 г. (см.: Reynolds!. F.
Do Historians Count Anymore? The Status of Quantitative Methods in History, 1975—
1995 // Historical Methods. 1998. Vol. 31. N 4. P. 144), в области социальной истории
медицины наблюдалось определённое «запаздывание»: здесь большая часть таких
публикаций относится уже к периоду после 1988 г., преимущественно к концу 1980-
х - первой половине 1990-х гг. См.: Porter D. Op. cit. Р. 356.
16 Porter D. Op. cit. P. 354.
424
История на перекрестках междисциплинарности
течением времени вытеснить все прочие формы и традиции врачевания и
приобрести статус единственно авторитетной системы медицинского зна-
ния17. Описывая историю создания медицинских заведений - госпиталей
и клиник, учёные акцентировали внимание на их социальных функциях и
на процессе постепенной утраты пациентом возможности распоряжаться
собственным телом: в противоположность «доклиническому» периоду
(до конца XVIII в.), когда большинство больных лечилось дома и облада-
ло значительной самостоятельностью в выборе врачевателей, лекарств и
медицинских процедур, с утверждением массовой клинической медици-
ны больные превращались в обезличенных пациентов без права голоса,
становясь объектами медицинского наблюдения18.
Одним из важнейших понятий социальной истории медицины стал
термин «мсдикализация», относящийся к сопутствовавшим профессио-
нализации медицины процессам. В общих чертах мсдикализация озна-
чает монополизирование современной медициной права определять
«истинные» потребности человека, распространять свою компетенцию
на различные социальные и культурные проблемы, ранее считавшиеся
моральными или правовыми, устанавливать «научно обоснованные»
стандарты жизни и поведения. Прочно утвердившийся в лексиконе ис-
тории и социологии в середине 1970-х гг., этот термин был обязан сво-
им появлением работам Томаса Шаша, Ирвинга Гоффмана, Айвана Ил-
лича и Мишеля Фуко. В трудах Фуко, чьё влияние на оформление
данной концепции было особенно значительным, мсдикализация на-
прямую связывалась с дисциплинированием тела и рассматривалась в
качестве одного из аспектов растущего могущества государства, в тес-
ном сотрудничестве с которым выступали врачи. В дальнейшем Фуко
внёс коррективы в понимание механизмов медикализации, развеяв об-
раз «медицинского Левиафана»19. Указывая на децентрированный ха-
17 Park К. Medicine and Society in Medieval Europe, 500-1500// Medicine in So-
ciety: Historical Essays / Ed. by A. Wear. Cambridge, 1992. P. 59-90; Digby A The Evo-
lution of British General Practice 1850-1948. Oxford, 1999; Gelfand T. Professionalising
Modem Medicine. Paris Surgeons and Medical Science and Institutions in the 18th Cen-
tury. Westport, CT, 1980; Loudon I. Medical Practitioners 1750-1850 and the Period ol
Medical Reform in Britain// Medicine in Society. P. 219-248; Porter R. “The Greatest
Benefit to Mankind”. A Medical History of Humanity. N.Y.; L., 1999; и др.
18 ФукоМ. Рождение клиники. М., 1998; Granshaw L. The Rise of the Modem
Hospital in Britain // Medicine in Society. P. 197-218; Fissell M. Patients, Power and the
Poor in Eighteenth-century Bristol. Cambridge, 1992; и др.
19 Выражение А. Иллича. См.: Nye R. A The Evolution of the Concept of Medica-
lization in the 1 .ate Twentieth Century // Journal of History of the Behavioral Sciences.
2003. Vol. 39. N 2. P. 117.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
425
рактер медицинской власти, которая реализуется не столько через «вер-
тикальные» принудительные инициативы государства, сколько через
неявную сеть дисциплинирующих дискурсов, Фуко и его последователи
продемонстрировали, что государственное вмешательство в жизнь сво-
их граждан было гораздо эффективнее, когда последние разделяли
представления о благотворности такого вторжения во имя медицинских
«истин» или защиты здоровья всего населения20 21.
Характерным для социальной истории медицины является внимание
к пациенту как активному участнику процесса медицинского взаимодей-
ствия. Пионером в этой области стал, как отмечалось выше, британский
историк Рой Портер, озвучивший призыв к изучению истории пациентов
в 1985 г. Учёный указал, что игнорирование точки зрения и опыта больно-
21
го чреваты искажением картины исторического прошлого , ведь относя-
щиеся к медицине события, как правило, представляли собой сложные
социальные ритуалы, в которых помимо больного и врача принимали
участие родные пациента и прочие члены сообщества. Портер подчёрки-
вал, что в прошлом - как, впрочем, и в настоящем, - участие профессио-
нальных медиков в процессе лечения было довольно незначительным, в
основном же бальные занимались самолечением или полагались на забо-
ту своего окружения22. Опираясь на «твёрдую почву материальных усло-
вий прошлых сообществ», сведений о рождаемости, смертности, браках,
уровне жизни, история больных должна, по мнению историка, реконст-
руировать образ мыслей и действий людей прежних эпох: их отношение к
жизни и смерти, к телу и его разным органам, способы выражения боли и
объяснения недомоганий, мотивации выбора лекарств и врачевателей;
другими словами, Портер предложил «заглянуть внутрь пациентов»23.
Источниками для столь масштабных реконструкций должны были слу-
жить дневники, письма, тексты молитв, сведения о принесённых по обету
жертвах, пословицы, приметы, сборники медицинских советов, руково-
дства по сохранению красоты, а также свидетельства врачей, которые
нужно заставить отвечать на новые вопросы, подобно тому, как это сдела-
ли Э. Ле Руа Ладюри и Карло Гинзбург24.
20 Ibid. Р. 118.
21 В этом высказывании, в числе прочих, проявляется свойственное социальной
истории медицины убеждение в возможности обьекгивной реконструкции истории.
22 Porter R. Op. cit. Р. 175.
23 Ibid. Р. 185-186.
24 Ibid. Р. 183-184. В последующие годы в работах, написанных «о пациенте» и
«с его точки зрения», не было недостатка, в том числе и благодаря усилиям самого
Портера, см.: Patients and Practitioners / Ed. by R. Porter. Cambridge, 1985; McCray
426
История на перекрестках междисциплинарности
С сюжетами «истории пациента» тесно связаны проблемы так назы-
ваемого «медицинского рынка» — ещё одной важной темы, разработка
которой началась в рамках социальной истории медицины. Концепция
медицинского рынка предполагает наличие множества альтернативных
форм лечения, доступных заболевшему, из которых он и делает свой
осознанный выбор, необязательно в пользу «учёного» медика. Врачевани-
ем, помимо докторов, могли заниматься цирюльники, знахари-травники,
костоправы, повивальные бабки, коновалы, колдуньи, священники и
странствующие вырыватели зубов25. В борьбе за клиентов участники
рынка использовали различные рекламные стратегии и дискредитирую-
щие конкурентов кампании: так, например, стремление профессиональ-
ных врачей с университетским образованием обвинить традиционных
повитух в невежестве в XVIIIXIX вв., с точки зрения рыночной модели,
было средством вытеснить с рынка медицинских услуг более успешных
соперников26. В колониальных условиях количество доступных пациен-
там медицинских рынков умножалось: помимо местного традиционного и
влиятельных соседних например, китайского или индийского, каждый
из которых обладал своим особенным спектром лекарств и техник цели-
тельства, сюда добавлялся и новый - европейский.
Прошлое европейских колониальных империй стало ещё одним
объектом повышенного внимания социальной истории медицины,
стремившейся включить в свои предметные границы весь мир, а не
только западную его часть. Исследователи подвергли сомнению рас-
пространённые в традиционной историографии утверждения о благо-
творности европейского влияния в колониях, в том числе влияния ме-
дицинского. Учёные указывали на то, что именно европейцы не только
принесли в тропики ряд совершенно новых болезней, к которым не был
приспособлен организм туземцев, но и фактически спровоцировали
распространение эпидемий, нарушив изоляцию отдельных регионов и
функционирование местных экономических систем27. Социальная исто-
Beier L. Sufferers and Healers. The Experience of Illness in Seventeenth-Century England.
L., 1987; Porter D., Porter R. Patient’s Progress: Doctors and Doctoring in Eighteenth-
Century England. Cambridge, 1989; Porter R. The Patient in England, 1660-1800// Medi-
cine in Society. P. 91-118; и др.
25 Porter R. The Patient’s View. P. 188.
26 Fissell M. Op. cit; Digby A Making a Medical Living: Doctors and Patients in the
English Market for Medicine, 1720-1911. Cambridge, 1994; Medicine and the Market in
England and Its Colonies, с. 1450 - с. 1850 / Ed. by M. S. R. Jenner, P. Wallis. N. Y., 2007.
27 Turshen M. The Impact of Colonialism on Health and Health Services in Tanza-
nia // International Journal of Health Services. 1977. Vol. 7. N 1. P. 7-35; Fcierman S.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
427
рия колониальной медицины развивалась в различных направлениях: од-
ни историки увлеклись клиометрией, занимаясь подсчётом больных и
умерших в поисках ответов на вопросы о «цене империи»* 28, другие со-
средоточились на изучении медицинских мероприятий имперских вла-
стей и оценке роли западной медицины в изменении жизненного уклада
туземных сообществ29 30. Акцент на действиях европейцев способствовал
укоренению в историографии несколько упрощённого, одномерного ви-
дения колониальной истории медицины. В противовес такой тенденции в
настоящий момент приоритетной задачей этой области признаётся иссле-
дование динамических взаимодействий разнородных местных и западных
медицинских традиций, адаптирующихся друг к другу и изменяющихся
30
под влиянием вызванных колониализмом социальных перемен .
Список тем, разрабатываемых в рамках социальной истории меди-
цины, можно продолжать ещё долго - сюда, бесспорно, вошли бы такие
области исследования, как история эпидемий и история тела, история
родовспоможения и история психиатрии31. Как можно видеть, проблем-
Struggles for Control: The Social Roots of Health and Healing in Modem Africa // African
Studies Review. 1985. Vol. XXVIH. N 2-3. P. 73-147 и др.
28 См., например: Curtin Ph. Death by Migration: Europe’s Encounter with the
Tropical World in the Nineteenth Century. Cambridge, 1989.
29 Manderson L. Health Services and the Legitimation of the Colonial State: British
Malaya 1786—1941 // International Journal of Health Services. 1987. Vol. 17. N 1. P. 91-112;
Disease, Medicine and Empire. Perspectives on Western Medicine and the Experience of
European Expansion // Ed. by R. MacLeod, M. Lewis. L.; N.Y., 1988; Arnold D. Colonizing
the Body: State Medicine and Epidemic Disease in XlX-century India. Berkeley, 1993.
30 Ernst W. Beyond East and West. From the History of Colonial Medicine to a So-
cial History of Medicine(s) in South Asia И Social History of Medicine. 2007. Vol. 20.
N 3. P. 505-524.
31 Классические исследования по истории эпидемий, выполненные в рамках
социальной истории медицины: Rosenberg С. Е. The Cholera Years: The United States
in 1832, 1849, and 1866. Chicago, 1962; McNeill W Plagues and Peoples. N.Y, 1976.
Более поздние работы: Epidemics and Ideas. Essays on the Flistorical Perception of Pesti-
lence/ Ed. by T. Ranger, P. Slack. Cambridge, 1992; Witts S. J. Epidemics and History:
Disease, Power and Imperialism. New Haven; L., 1999. Обзор историографических
тенденций изучения эпидемий см.: Михель Д. В. Историческая наука и чума//Диалог
со временем. 2008. Вып. 25(2). С. 221-232. Об историографии истории тела см. ста-
тью А. Б. Соколова в настоящем сборнике. Об истории родовспоможения и кампани-
ях врачей против повитух см.: Donnison J. Midwives and Medical Men. A History of
Inter-Professional Rivalries and Women’s Rights. L., 1977; Midwives, Society and Child-
birth: debates and Controversies in the Modem Period I Ed. by H. Marland, A. M. Rafferty.
L., 1997. Об истории психиатрии см.: Фуко М. История безумия в классическую эпо-
ху. СПб., 1997; Он же. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999; Por-
ter R. Mind-Forg’d Manacles. A History of Madness in England from the Restoration to
428
История на перекрестках междисциплинарности
ное поле социальной истории медицины чрезвычайно разнообразно, что
связано с её ориентацией на максимально широкий охват всего ком-
плекса социальных процессов.
К началу 1990-х гг. историографию этого направления составляло
весьма внушительное число работ, что давало некоторым наблюдателям
основания с удовлетворением отмечать наступление зрелости социаль-
ной истории медицины32. Отдельные исследователи, однако, уже тогда
находили подобный оптимизм сильно преувеличенным. Признавая ус-
пехи, достигнутые социальной историей медицины, они, тем не менее,
полагали более уместным считать дисциплину всё ещё пребывающей «в
детском возрасте»33. В последующие годы критика направления усили-
лась. Ее главной мишенью стала склонность социальных историков ме-
дицины к игнорированию теоретико-методологических вопросов, их
приверженность в основном описательным подходам и отсутствие реф-
лексий в отношении важнейших исторических категорий, которые по-
являлись в их работах как нечто само собой разумеющееся34. Конечно,
довольно язвительно отмечал Роджер Кутер, в социальной истории ме-
дицины иногда применялся специальный инструментарий: «немного
просопографии здесь, немного статистики там, всё щедро приправлено
отсылками к классу, расе и гендеру», однако по «большей части эта ис-
тория писалась без упоминания о методах - или той подозрительной...
штуки, называемой “теорией”»35. Исследователь подчёркивает, что
сформировавшаяся на волне отрицания прежней, позитивистской вер-
сии истории медицины, социальная история медицины фактически бы-
ла частью того самого просвещенческого проекта, который изобретал
«дисциплины». Она создавалась в рамках той же рациональности и точ-
но так же претендовала на объективность36.
Между тем, базовые категории социальной истории медицины - и
социальной истории как таковой - в 1990-е годы подверглись критике и
переосмыслению. Это коснулось не только таких центральных для со-
the Regency. L., 1987; The Anatomy of Madness/ Ed. by W. Bynum, R. Porter,
M. Shepherd. 3 vols. I.., 1985-1988.
32 Wear A Introduction /Medicine in Society. P. 1.
33 J ordanova L. Has the Social History of Medicine Come of Age? I I The Historical
Journal. 1993. Vol. 36. N 2. P. 438.
34 Cm.: Ibidem; а также: Jordanova L The Social Construction of Medical Know-
ledge//Social History of Medicine. 1995. Vol. 8. N 3. P. 361-381; Cooter R. After
Death /After-“Life”: The Social History of Medicine in Post-Postmodemity // Social Histo-
ry of Medicine. 2007. Vol. 20. N 3. P. 441-464.
35 Cooter R. Op. cit. P. 443.
36 Ibid. P. 446.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
429
циальной истории понятий, как гендер, класс и раса. Нейтральность са-
мой категории «социального» была поставлена под вопрос. В работе
Патрика Джойса «Конец социальной истории?», ставшей важным рубе-
жом в дискуссиях о будущем данного направления, это понятие концеп-
туализируется как исторический конструкт, возникший в ходе модерни-
стского проекта проекта, «маскирующего тот факт, что “индивид” и
“общество” являются не реальными, “объективными” сущностями, а
историческими и нормативными конструктами, созданными ради нужд
политической власти и политического порядка»37.
Возможности обновления социальной истории медицины связыва-
лись исследователями с усилением внимания к теории, открытостью
идеям, развиваемым в рамках смежных исторических направлений, и
сотрудничеством с другими гуманитарными дисциплинами. В числе
приоритетных областей, обращение к которым могло быть особенно
полезным, называлась новая культурная история, выводившая знакомые
социальным историкам сюжеты на новый теоретический уровень38.
Именно с новой культурной историей была связана очередная серия
междисциплинарных заимствований в истории медицины.
История медицины и новая культурная история:
вариации взаимодействия
«Культурный», или «лингвистический», поворот начала 1980-х гг.
к гуманитарном знании, выразившийся в переориентации исследовате-
лей от изучения комплекса социальных процессов к проблемам куль-
гурного опыта, во многом отразил разочарование учёных в объясни-
тельных возможностях социальных наук: чем больше становилось
известно, тем сложнее было интегрировать это знание в границы суще-
ствующих теорий и категорий39. Историки начинают обращаться к
культурным контекстам действий людей прошлого, акцентируя внима-
ние на символах, ритуалах, дискурсах и культурных практиках40. Ис-
37 Joyce Р. The End of Social History? // Social History. 1995. Vol. 20. N 1. P. 83.
Как справедливо указывает P. Кутер, понимание «социального» как объяснительной
категории, которую не нужно считать само собой разумеющейся, восходит по
меньшей мере к Бодрийяру: Cooter R. Op. cit. Р. 445.
38 Jordanova L. Has the Social History of Medicine Come of Age; Cooter R.
Op. cit.; Hofer H.-G., Sauerteig L. Perspektiven einer Kulturgeschichte der Median //
Medizinhistorisches Journal. 2007. Vol. 42. P. 105-141.
39 Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture I
Ed. by L. Hunt and V. Bonnell. Berkeley, 1999. P. 10.
40 Сюжеты культурной истории, безусловно, поднимались исследователями и
раньше, однако теперь, в ходе культурного поворота, они приобрели совершенно
430
История на перекрестках междисциплинарности
следовательские стратегии при этом, как и концептуальная основа,
формировались под сильнейшим влиянием культурной антропологии:
появление в 1973 г. работы Клиффорда Гирца «Интерпретация культур»
нередко указывается в качестве точки отсчёта начала культурной исто-
рии41, а одним из наиболее часто используемых определений культуры
по-прежнему остаётся предложенная Гирцем формулировка об опуты-
вающих человека сетях значений, сотканных им самим42 43. Основопола-
гающей для историков стала идея Гирца о том, что любое событие мо-
жет быть прочтено как текст; что бунт, парад или петушиные бои
заключают в себе особые символические смыслы, существенные для
членов сообщества, внутри которых эти события разыгрываются, и ко-
торые учёному следует обнаружить и объяснить.
Важная роль в оформлении новых подходов к исследованию куль-
туры, безусловно, принадлежит постструктуралистам - Ролану Барту,
Мишелю Фуко, Жаку Деррида. Именно они указали на значимость язы-
ка в освоении реальности человеком, чем инициировали так называе-
мый «лингвистический поворот» и привлекли внимание к проблемам
функционирования властных отношений в обществе, реализуемых че-
рез культурные практики . Постструктурализм, кроме того, оказал
влияние на манеру написания научных текстов: нередко изобилующие
упущениями, недосказанностью и открытыми вопросами, они отражают
релятивистские установки авторов.
У историков медицины обсуждение культурного поворота приняло
вид дискуссий о социальном конструкционизме. В рамках социально-
конструкционистских подходов, развивавшихся с середины 1970-х гг.,
прежде всего, в философии и социологии науки, отвергались представ-
ления о последовательном прогрессе научного знания, ставился под во-
прос эпистемологический статус научных теорий. Учёные акцентирова-
нные теоретико-методологические основания. Об изучении истории культуры в
предыдущие эпохи см.: Burke Р. Reflections on the Origins of Cultural History // Inter-
pretation and Cultural history. Ed. by J. H. Pittock, A. Wear. L., 1991.
41 Fissell M. Making Meaning from the Margin. The New Cultural History of Medi-
cine // Locating Medical History. P. 368.
42 Geertz C. The Interpretation of Cultures. L., 1975. P. 5. Об «антропологичпо-
сти» новой культурной истории см.: Афанасьева А. Э. Тело, медицина и культура:
«антропологические» ракурсы новой культурной истории // Науки о культуре в но-
вом тысячелегии. М.; Ярославль, 2007. С. 78-81.
43 О значении трудов М. Фуко для новой культурной истории см.: O'Brien Р-
Michel Foucault’s History of Culture // The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berke-
ley, 1989. P. 25-46.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
431
ли внимание на социальной и исторической обусловленности знания, в
том числе медицинского, подчёркивали его нагруженность ценностны-
ми установками. Центральной стала идея о том, что знание производит-
ся - конструируется - в ходе и через посредство социальных процессов.
Для социального конструкционизма характерен интерес к анализу языка
науки и медицины, как вербального, так и визуального, поскольку
именно изучение языка, считают учёные, открывает возможность про-
никнуть в суть конфликтов, трений, разного рода напряжённостей, со-
провождающих те социальные процессы, которые кроются за формиро-
ванием и утверждением «знания» в обществе44 45.
Известный британский историк медицины Людмилла Джорданова
указывала на то, что внимание к медицинским идеям - толкуемым ши-
роко, в духе не интеллектуальной, а культурной истории - в сочетании с
социально-конструкционистским взглядом и образует новое проблем-
ное поле культурной истории медицины, в границах которого, как пола-
гает исследовательница, могут быть созданы наиболее продуктивные
45
подходы к медицинской истории .
Очерчивая исследовательскую программу новой области, Джорда-
нова пишет: «Нам необходима историография, способная объяснять во-
ображаемое пространство идей о здоровье, лечении и болезни. Идеи о
медицине оказывают влияние на то, как люди переживают эти состояния,
реагируют на них, действуют в связи с ними, и конструируют их значи-
мость. Главные свойства этих идей заключаются в том, что, во-первых,
они подкрепляют переживания и поступки, и во-вторых, они глубоко уко-
ренены в нашем сознании, и, значит, слабо подвержены осознанным воз-
действиям. Задача заключается в том, чтобы объяснить, как изменяются
такие идеи, не поддаваясь при этом искушению приписывать единые
представления большим группам людей»46. В центр внимания, таким об-
разом, попадают не только и не столько медицинские теории, сколько ин-
дивидуальные и коллективные представления, фрагменты «коллективного
бессознательного», а также репрезентации здоровья, болезни и всего со-
прягающегося с этими состояниями круга медицинских практик.
44 Hofer H.-G., Sauerteig L. Op. cit.; Jordanova L. The Social Construction of Med-
ical Knowledge.
45 Jordanova I.. The Social Construction of Medical Knowledge. P. 362, 375.
46 Ibid. P. 375. О значимости медицинских идей и риторики в формировании
опыта переживания болезней и их лечения см.: Harley D. Rhetoric and the Social Con-
struction of Illness and Healing// Social History of Medicine. 1999. Vol. 12. N 3. P. 407-435.
432
История на перекрестках междисциплинарности
Джорданова подчёркивает; что социальный конструкционизм не от-
рицает; как это часто ему приписывают, реальность болезней и их биоло-
гическую природу. Напротив, в русле этого подхода материальность мира
имеет первостепенное значение, так как именно объекты материального
мира и происходящие в них процессы и создают основу для интерпрета-
ций и формирования значений через действия и сознание людей47.
Этой позиции придерживается и известнейший американский ис-
торик медицины Чарльз Розенберг, который, признавая вариативность
смыслов, придаваемых болезням, и их зависимость от культурных кон-
текстов, в границах которых они рационализируются, в то же время
указывает на биологическую реальность болезней48. Отказываясь от
термина «социальное конструирование болезней» как несущего в себе
коннотации оторванности недугов от их патологических оснований, он
использует выражение «концептуализация болезней», предлагая изу-
чать способы осмысления, формирования людьми удовлетворительных
концептуальных объяснений тех биологических феноменов, которые
осознаются ими как наиболее важные49. Методологическая установка
Розенберга, многими называемая прагматичной,50 примиряет крайности
биологического детерминизма и радикального конструкционизма. Не-
случайно она сложилась в контексте «научных войн» 1980-х гг. вокруг
проблемы культурного релятивизма, с одной стороны, и на фоне рас-
пространения эпидемии СПИДа, наглядно продемонстрировавшей объ-
ективную природу болезней, с другой. Предложенный Розенбергом
подход нашёл значительное число сторонников, особенно в США, где
его ученики историки медицины нередко с мировым именем до сих
пор причисляют себя к «школе Розенберга»51.
47 Jordanova L. The Social Construction of Medical Knowledge. P. 368.
48 Речь идёт о большинстве болезней; за скобками остаются случаи, когда «бо-
лезнью» называют определённые формы поведения, не имеющие выраженной сома-
тической основы - истерию, неврастению, алкоголизм и пр. См.: Rosenberg С. Dis-
ease in History: Frames and Framers// The Milbank Quarterly. 1989. Vol. 67. Suppl. L
Framing Disease: The Creation and Negotiation of Explanatory Schemes. P. 1,3.
45 Rosenberg C. Disease in History. P. 1 -15; Rosenberg C. Framing Disease: Illness,
Society and History // Framing Disease. Studies in Cultural History I Ed. by C. Rosenberg,
J. Golden. New Brunswick, NJ, 1992. P. ХШ-XXV.
50 Hayward R. “Much Exaggerated”: The End of the History of Medicine// Journal
of Contemporary History. 2005. Vol. 40. N 1. P. 168; Pickstone J. Medical History as a
Way of Life // Social History of Medicine. Vol. 18. N 2. P. 315.
51 Tomes N„ Greene J. Is There a Rosenberg School?//Journal of the History of
Medicine and Allied Sciences. 2008. Vol. 63. N 4. P. 455-466.
4. Э. Афанасьева. История медицины...
433
Нетрудно заметить, что и у Розенберга, и у Джордановой социальная
и культурная история медицины фигурируют в рамках одного проекта, в
котором обращение к культурной составляющей исторического опыта
человека в определённой степени призвано сбалансировать сложившуюся
ранее асимметрию в истории медицины. Как отмечает ряд учёных, насту-
пление культурного поворота не означает необходимости полностью пре-
вращать социальную историю медицины в культурную52 53. Хотя императи-
вом в новой историографической ситуации является признание
проблематичности категории «социального», игнорирование социальных
контекстов едва ли может быть продуктивным. Фактически речь идёт об
оформлении нового, интегрирующего, социокультурного подхода «к изу-
чению исторического прошлого с новой масштабной задачей - раскрыть
«53
культурный механизм социального взаимодействия» .
Размах такой задачи делает необходимой кооперацию между дис-
циплинами, ведь поднимаемые культурной историей медицины про-
блемы не принадлежат ни одному отдельно взятому предмету или дис-
циплине, но находятся на пересечении исследовательских полей и
программ многих из них. Ни одна дисциплина не в состоянии лишь соб-
ственными средствами адекватно объяснить, например, как происходит
концептуализация болезней в истории, как недуги обретают свои со-
временные очертания. Так, прослеживая трансформацию представлений
о чахотке с XVI до XIX века, когда болезнь получила название туберку-
лёза и была зафиксирована в причудливых образах и метафорах, харак-
терных для высокого романтизма XIX века, образах, нагруженных
идеями героизма, национализма, романтики, судьбы, Жорж Себастьян
Руссо справедливо отмечает, что процессы концептуализации болезней
никогда не были исключительно медицинскими, являясь визуальными,
риторическими, моральными, мифологическими, политическими, рели-
гиозными, аллегорическими и т.д., а значит и изучение этих процессов
должно вовлекать инструментарий самых разных дисциплин54.
Открытая междисциплинарному сотрудничеству, культурная ис-
тория медицины активно разрабатывается литературоведами, лингвис-
тами, медицинскими антропологами, психологами, социологами куль-
туры, искусствоведами. Разнообразие и смешение академических
52 Cooter R. Op. cit. Р. 457; Hofer H.-G., Sauerteig L. Op. cit P. 108.
53 Репина Л. П. Интеллектуальная история на рубеже XX-XXI веков // Новая и
новейшая история. 2006. № 1. С. 22.
54 Rousseau G. S. Introduction И Framing and Imagining Disease in Cultural Histo-
ry / Ed. by G. S. Rousseau. Basingstoke, 2003. P. 8-9.
434
История на перекрестках междисциплинарности
дисциплин в рамках этого направления отражается в широком спектре
тем, на которых фокусируется культурная история медицины.
Одним из ключевых векторов исследований является анализ языка
и нарративных категорий, в чём прослеживается заметное влияние
постструктурализма и деконструктивизма. Основное внимание учёных
сосредоточено на литературных текстах - от знаменитых романов и фи-
лософских трудов до дешевой печатной продукции. Литература изуча-
ется, с одной стороны, в качестве источника генерирования медицин-
ского знания, которое транслировалось в массы в виде сведений о теле,
его болезнях, способах лечения, сценариях взаимоотношения между
врачом и пациентом55. С другой стороны, литература рассматривается
как обширное «вместилище единичных голосов» — голосов поэтов, ро-
манистов, философов, мемуаристов, которое не имеет себе равных в
том, что касается выражения частного, индивидуального переживания
боли, страдания, болезни. Исследование путей концептуализации бо-
лезней (или прочих относящихся к человеческому телу сущностей, на-
пример, нервов56) в литературных текстах включает изучение не только
актуального опыта автора, но и воображаемого как важной части когни-
тивных процессов. Такой подход имеет много общего с описанной вы-
ше историей пациентов, популярной среди социальных историков ме-
дицины. Различия, однако, существенны: в рамках культурной истории
медицины особенное внимание уделяется спектру нарративных спосо-
бов, используемых автором для выражения собственных идей о здоро-
вье или болезни, анализу подвергаются литературная форма, жанр, но
прежде всего - риторические фигуры и метафоры текста57.
Другим приоритетным направлением является изучение матери-
альной культуры. Внимание к ней неслучайно как отмечают Виктория
Боннелл и Линн Хант, материальная культура представляет собой «одну
из тех арен, на которых культура и социальная жизнь пересекаются
наиболее явным и значительным образом, где культура принимает кон-
кретную форму, а эти конкретные формы делают культурные коды наи-
более эксплицитными»58. Исследования материальной культуры позво-
55 См.: Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты
русской культуры ХУШ-Х1Х вв. М., 2005; Русская литература и медицина: Тело,
предписания, социальная практика: Сб. ст. / Под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова,
Р. Николози. М., 2006.
56 Rousseau G. Cultural History in a New Key: Towards a Semiotic of the Nerve //
Interpretation and Cultural History. P. 25-75.
57 Framing and Imagining Disease in Cultural History.
58 Beyond the Cultural Turn. P. 11.
Я. Э. Афанасьева. История медицины...
435
ляют обнаружить механизмы формирования идентичности, тесно свя-
занные с практиками потребления тех или иных товаров - так, целая
потребительская индустрия складывается вокруг важнейших событий в
жизни людей, например, рождения детей . С другой стороны, изучение
истории бытования отдельных объектов, связанных с медициной, - их
появления, попыток введения в обиход, распространения - выводит на
широкие обобщения о меняющихся конфигурациях взаимоотношений
между медициной, пациентом и его телом. Так, в работе И. Лахмунда,
посвящённой изобретению стетоскопа в начале XIX века и последую-
щему внедрению стетоскопии в клиническую практику, процесс «вве-
дения звука в медицину» осмысливается как важнейший шаг не просто
на пути познания человеческого тела, но в изменении отношений власти
в медицине, утверждении решающей роли врача в диагностике болез-
ней: «По мере того как звуки внутри тела приобретали для постановки
диагноза большее значение, чем дискурсивно артикулированный опыт
больного (ранее основное значение в диагностике имел опрос пациента
- А. А)... врач становился необходимым специалистом по репрезента-
ции реальности болезни, которая теперь оказывалась перемещённой
внутрь тела». Контроль над процессом диагностирования осуществлял
теперь не говорящий больной, а слушающий врач .
Наконец, большое внимание уделяется изучению визуальной куль-
туры. Медицина, указывает Джорданова, визуальна по самой своей су-
ти . Изображения играли и продолжают играть важную роль как в кли-
нической практике, так и в теоретических медицинских исследованиях.
Так, история анатомии всегда имела дело с анатомическими чертежами и
гравюрами, а в психиатрии XIX - начала XX вв. центральное место зани-
мали визуальные репрезентации душевнобольных, что отражало пред-
ставления врачей того времени о соматическом измерении душевных рас-
стройств, которые должны были придавать телу и лицу пациента
характерный для той или иной болезни вид59 60 61 62. Со временем визуальность
медицины только возрастает: изобретение новых диагностических мето-
дов - рентгеновских лучей, ультразвукового исследования, магнитно-
резонансной томографии (МРТ) - позволило заглянуть внутрь человече-
59 См., например: Musacchio J. М. The Art and Ritual of Childbirth in Renaissance
Italy. New Haven, 1999.
60 Лахмунд Й. Изобретение слушающей медицины. К исторической социологии
стетоскопа// Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины. С. 135,131.
61 Jordanova L. The Social Construction of Medical Knowledge. P. 377.
62 Gilman S. L. Picturing Health and Illness: Images of Identity and Difference. Bal-
timore; L„ 1995. P. 20-24.
436
История на перекрестках междисциплинарности
ского тела и создать разнообразные его изображения. Любопытно, что
выбор учёными цветов для репрезентации внутренних тканей определял-
ся в том числе эстетикой массовой культуры - в 1970-х гг., как отмечает
Келли Джойс, в эпоху глэм-рока, диско и поп-арта, разработчики МРТ
выбрали яркие, вибрирующие цвета. Однако с внедрением МРТ в меди-
цинскую практику в 1980-х гг. изображения приобрели традиционные для
медицинской визуальной культуры оттенки серого цвета, и это изменение
цветовой гаммы лишь отчасти коррелировало с изменившимися стили-
стическими предпочтениями поп-культуры 1980-х63.
Переходя от внутренних представлений медицины о самой себе к
более широким представлениям о медицине в обществе, нужно отме-
тить, что эта область предлагает не менее богатые возможности для ра-
боты с визуальными материалами. Историки демонстрируют повышен-
ный интерес к изучению иконографии здоровья и болезни в различных
культурных традициях. Визуальные материалы рассматриваются как
объекты, через интерпретацию которых можно получить доступ к ин-
дивидуальным и коллективным «культурным фантазиям» о здоровье,
болезни и теле64. Примером может служить работа Найтхарда Бульста
«Почитание святых во время чумы», в центре внимания которой нахо-
дится тесная связь художественных форм выражения «с социальными
потребностями времени, с отношением людей к религии, умиранию и
смерти»65. Автор показывает, как страх людей позднего средневековья
перед чумой воплощается в умножении количества изображений святых
в городах на пересечении торговых путей - местах, в наибольшей сте-
пени подверженных угрозе эпидемии, и как с отступлением страшной
болезни святые, ранее ассоциируемые с защитой от чумы, приобретают
другую «специализацию», связанную с более значимыми для общества
проблемами на тот момент - например, падежом скота.
Исследования визуальной культуры прошлого вновь актуализи-
руют необходимость междисциплинарного сотрудничества историков
медицины - на этот раз с историками искусств, культурологами, кино-
ведами, чей опыт и исследовательские методики оказываются всё бо-
лее востребованными.
63 Joyce К. A From Numbers to Pictures: The Development of Magnetic Resonance
Imaging and the Visual Turn in Medicine // Science as Culture. 2006. Vol. 15. N 1. P. 1-22.
Gilman S. L. Op. cit.
65 Бульст H. Почитание святых во время чумы. Социальные и религиозные
последствия эпидемии чумы в позднее средневековье // Одиссей. Человек в истории.
М., 2000. С. 153.
А. Э. Афанасьева. История медицины...
437
* * *
За последние десятилетия история медицины вышла далеко за
пределы привычной истории дисциплины - нарратива о накоплении
медицинских знаний и эволюции медицинских техник, истории, напи-
санной «врачами, о врачах и для врачей»66. Развиваясь в русле социо-
культурных подходов, она рассматривает медицину - понимаемую в
самом широком смысле - в качестве неотъемлемой части культуры лю-
бого общества, его социальных практик и представлений о себе самом.
Будучи исследовательским полем на стыке многих дисциплин, новая
история медицины обладает значительным арсеналом средств, позво-
ляющим глубже проникнуть в механизмы функционирования общества,
его символический порядок и процессы производства смыслов.
Означает ли междисциплинарность новой истории медицины не-
возможность сколько-нибудь точного определения собственной про-
фессиональной идентичности тех, кто занимается ею? Едва ли, считают
наблюдатели, хотя само по себе существование дисциплин является ещё
одним пережитком просвещенческого проекта67. Сотрудничество исто-
рии медицины с другими областями академического знания становится
осознанным взаимодействием с настоящим, которое вовлекает в пере-
смотр и углубление доминирующих в настоящее время исследователь-
ских сценариев социологов, антропологов, гендерных теоретиков и фи-
лософов, участвующих в поисках нового способа осмысления
исторического прошлого.
66 Problems and Methods in the History of Medicine / Ed. by R. Porter, A. Wear.
L., 1987. P. 1. Конечно, традиционная история медицины существует и в наши дни,
сохраняя свой статус истории дисциплины в медицинских вузах. Однако в Велико-
британии, Германии, США доминирующие позиции в этой области принадлежат
социальным и культурным историкам медицины - именно они определяют тенден-
ции её развития и составляют большинство среди авторов публикаций по медицин-
ской истории. См.: Kushner Н. I. The Art of Medicine: Medical Historians and the Histo-
ry of Medicine // The Lancet. 2008. Vol. 372. August 30 - September 5. P. 711.
67 Cooter R. Op. cit. P. 457.
С. А. Рассадина
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРАКТИК УДОВОЛЬСТВИЯ КАК ПРЕДМЕТ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Способность культуры преобразовывать природную данность че-
ловеческого бытия нигде не проявляется так наглядно, как в практиках
удовольствия, претворяющих социокультурные императивы в спонтан-
ные телесные реакции. При поверхностном рассмотрении роль культу-
ры, как правило, видится исключительно в том, чтобы подчинить неис-
сякаемую природную энергию гедонистических импульсов нормам
определенного социума и предотвратить возможные асоциальные
всплески жизненной стихии. Однако культурная регламентация эмо-
циональных практик не ограничивается насаждением норм, сдержи-
вающих природные инстинкты. Культура оформляет, канализует, диф-
ференцирует и семиотизирует естественные импульсы человека,
превращая их в значимые элементы социальной практики. Как показал
на примере сексуальности М. Фуко1, культурные императивы, интенси-
фицирующие стремление к удовольствию, имели не меньшее историче-
ское значение, чем императивы репрессивного характера. Можно гово-
рить о существовании культурной тактики «заботы об удовольствии»,
которая играет не последнюю роль в процессах становления, воспроиз-
водства и трансформации социокультурной идентичности.
Данная статья имеет целью продемонстрировать, что исторические
изменения, затрагивающие практики удовольствия, могут свидетельство-
вать о серьёзных социально-психологических сдвигах, и потому обсужде-
ние многообразия практик удовольствия не может быть сведено к баналь-
ному постулированию культурного релятивизма. Естественно, что дня
весомого подкрепления данного тезиса нам потребуется междисципли-
нарный подход, позволяющий опереться на методы и данные различных
гуманитарных наук, так или иначе вносящих свою лепту в изучение той
специфической формы человеческого бытия, каковой является культура.
* * *
В первую очередь целесообразно поставить вопрос об общих ме-
тодологических основаниях для разработки исторической концепции
телесно-чувственного опыта. Тело человека в значительной степени
1 См. об этом: Фуко М. Воля к знанию И Фуко М. Воля к истине: по ту сторону
знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 97-268.
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
439
принадлежит миру природы, поэтому его потребности и привычки на
протяжении веков считались чем-то самоочевидным, непроблематич-
ным и тривиальным. Для классической философии тело - это организм,
подчиняющийся естественным законам, и, соответственно, оно нахо-
дится в ведении так называемых «наук о природе» и не входит в сферу
интересов исторических наук, за которыми во второй половине XIX в.
закрепляется наименование «науки о духе». Только в XX в., в русле фе-
номенологической философии, рождается дискурс, позволяющий избе-
гать резкого противопоставления духовного и телесного. Французский
феноменолог М. Мерло-Понти положил в основу разработанной им фи-
лософской методологии идею о том, что никакое восприятие не может
быть рассмотрено исключительно в терминах психофизиологического
функционирования. Следовательно, если исследователь стремится све-
сти анализ телесных практик к выявлению элементарных реакций удо-
вольствия и боли, тем самым он необоснованно игнорирует мир куль-
турных значений. «Естественная установка, - писал М. Мерло-Понти, -
не в том, чтобы испытывать наши собственные чувства и потакать соб-
ственным удовольствиям, а в том, чтобы жить в соответствии с эмоцио-
нальными категориями среды»2.
М. Мерло-Понти предлагает концепцию феноменального тела, кото-
рое несёт в себе опредмеченную историю. Человек обнаруживает себя
заброшенным в мир культурных значений, и работа, которую неизбежно
проделывает каждый, чтобы обрести источник самопонимания в поле
культуры, заключается не только в мыслительной деятельности, но и в
освоении телесно-чувственных модусов бытия. Способность различать,
от природы присущая человеческому телу, становится основанием для
имманентного смыслополагания, непосредственно сопровождающего акт
восприятия. Эмоции и ощущения, субъективно представленные как спон-
танные реакции принятия/неприятия каких-либо жизненных реалий, —
такой же элемент традиции, как знания, верования, нормы и.т.п.
Передача чувственно-телесного наследия культуры осуществляет-
ся посредством различных форм миметической деятельности: «Всё
происходит так, как если бы интенции другого населяли моё тело, а мои
интенции населяли тело другого»3. Этот опыт реализуется в желании,
пробуждающемся в ответ на призывный жест соблазнителя, и, продол-
жив рассуждение в данном направлении, можно сказать, что телесное
бытие - а не только «дух» - является основанием для интерсубъектив-
2 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 482.
3 Там же. С. 242.
440
История на перекрестках междисциплинарности
ности, делает возможным совместный опыт. Культура активно исполь-
зует потенциал воздействия, имеющий своим основанием телесную ин-
терсубъективность. В частности, опыт совместного приобщения к удо-
вольствию лежит в основе таких эффективных практик социальной
интеграции, как совместная трапеза или коллективное пение в религи-
озной и светской культуре. Таким образом, методология, предложенная
М. Мерло-Понти, позволяет говорить о том, что телесный опыт истори-
чен и коммуникативен, а это, в свою очередь, является основанием для
междисциплинарного исследования феномена научения удовольствию.
* * *
Здесь мы, безусловно, обязаны отдать должное прецедентным тек-
стам, относящимся к историографии удовольствий. Для начала необхо-
димо упомянуть богатую историческую традицию «бытописания», ко-
торая получила продолжение в скрупулёзных фактографических
исследованиях, воссоздающих повседневную жизнь прошлого, - таких,
как, например, работы П. Гиро, посвящённые Античности. Новый им-
пульс исследованию «структур повседневности» придали историки
Школы «Анналов» - в первую очередь Ф. Бродель, чьи труды дают впе-
чатляющую картину систематизированного описания эпохального среза
культуры путём интеграции данных географии, экономики, политоло-
гии, демографии, социологии. По мере формирования проблемного по-
ля исторической антропологии (М. Ландман) и исторической психоло-
гии (Л. Февр) появляются исследования, трактующие вопросы
исторической трансформации телесно-чувственного опыта. Во всех
упомянутых работах наряду с другими формами культуры рассматри-
ваются и практики удовольствия. Однако необходимо особо выделить
фактографические исследования, предметом которых была непосредст-
венно интересующая нас тематика — исследования, посвящённые опи-
санию исторических форм отдельных практик удовольствия. В этом
ряду как наиболее значимые прецеденты должны быть названы труды
Э. Фукса и И. Блоха по истории сексуальной жизни, работы Дж. Гуди,
М. Монтанари, С. Минца, Ю. М. Лотмана и Е. Погосян по социальной
истории гастрономических предпочтений, а также масштабный проект
издательства «НЛО» «Ароматы и запахи в культуре».
Вместе с тем необходимо отмстить, что разработка методологиче-
ского инструментария для аналитического описания практик удоволь-
ствия — заслуга не столько исторических наук, сколько социальной, или
культурной, антропологии. Именно в рамках этой области знания впер-
вые был поставлен вопрос о культурной вариативности чувственно-
'. А. Рассадина. Историческая трансформация...
441
телесного опыта. Кроме того, актуальным направлением социально-
антропологического знания является анализ «практик», позволяющий
выявить недискурсивные формы преемственности культурной традиции
и нерефлексивные основания идентификации. Исследования, проведён-
ные в этой области, позволяют сделать вывод о том, что способность к
различению приятного и неприятного, вожделенного и отвратительного
становится элементом культурного кода, разграничивающего «собст-
венное» и «чуждое» в структурах повседневности.
Вариативность индивидуальных ощущений сглаживается в пользу
социальных практик интеграции, результатом которых становятся сте-
реотипизированные чувственно-телесные паттерны. Носителям опреде-
лённой идентичности (этнической, гендерной, статусной) приписывает-
ся (и тем самым предписывается) «склонность» к определённому
комплексу удовольствий - «джентльмены предпочитают блондинок».
При рассмотрении взаимосвязи социальной структуры и личностной
ориентации удобным инструментом является концепт «габитуса», кото-
рый даёт возможность выстраивать рассуждение в терминах инкорпора-
ции основных социальных императивов и ценностей. «Габитус - не что
иное, как имманентный закон, lex insita, вписанный в тела сходной ис-
торией, которая суть условие не только согласования практик, но и
практик согласования»4. Тело в такой же мере представляет собой объ-
ективацию истории, как и институции, оно вписывается в существую-
щий порядок и становится оплотом общепринятых стратегий воздержа-
ния и наслаждения за счёт того, что его диспозиции, сложившиеся в
определённой социокультурной среде, заведомо соответствуют её тре-
бованиям. Таким образом, усилиями представителей «социологическо-
го» направления телесные практики, казавшиеся периферийной и фа-
культативной областью человеческого бытия, были перенесены в фокус
исследования. Блистательный пример анализа социальной функции
обыденных предпочтений - фундаментальное исследование П. Бурдье
по социальной антропологии Франции 1970-х гт.5
* * *
Итак, рассматривая стратегии удовольствия, практикуемые в раз-
личных культурах, можно показать, каким образом происходит семио-
тизация обыденного опыта, и в повседневной жизни реализуются иден-
тификационные различия. Для пояснения этой мысли приведём
4 Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 115.
5 Bourdieu Р. La Distinction, Critique sociale du jugement. P., 1979.
442
История на перекрестках междисциплинарности
несколько примеров возможных дискурсивных моделей, свидетельст-
вующих о смысловой нагруженности практик удовольствия.
Пример первый - дискурс статуса и престижа. История осканда-
лившегося дворянина из возрожденческой новеллы: «Один босский
дворянин [...] весьма легко пообедал [...] какой-то похлёбкой, которую
[...] там называют „коделе“. Пообедавши, он отправился по тамошнему
обычаю навестить соседа [...] запросто ввалившись в дом соседа, когда
тот садился обедать. [...]- А вы, - спросил его сосед, - уже пообедали?
- Да, — ответил наш дворянин, — Уже пообедал, и славно пообедал. Я
заказал в горячем виде горлышки двух куропаток [...]. Сосед, прекрасно
зная, как он обычно обедает, ответил ему: [...] Вы кушали отличных
куропаток. Вот тут у вас остался ещё кусочек! - И показал нашему дво-
рянину кусочек „кодсле“, застрявший у него в бороде»6.
Второй пример - дискурс личных принципов. «Гастрономический»
диалог из «Анны Карениной» Л. Толстого: «Степан Аркадьич задумал-
ся. [...] Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изме-
нить? А? — Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь
этого нет. [...] И не думай, - прибавил он, заметив на лице Облонского
недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удо-
вольствием поем хорошо. [...] Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с
сыром был ему приятнее»7.
И, наконец, третий сюжет - дискурс социальной морали. Рассужде-
ние о дамах полусвета от лица одного из героев скандального романа
Д. Г. Лоуренса «Женщины в любви»: «Пару дней она мне и правду нра-
вилась, - сказал Джералд. — Но уже через неделю меня бы от неё выво-
рачивало. Кожа этих женщин пахнет так, что в конце концов ты чувст-
вуешь крайнее омерзение. Даже если раньше тебе и нравилось».8
Приведённые примеры, конечно же, не дают исчерпывающей карти-
ны возможных дискурсивных стратегий, вменяющих или табуирующих
социально значимые практики удовольствия. Но они дают возможность
продемонстрировать один из ключевых принципов ссмиотизации телес-
ного опыта: «чуждые» практики, не соответствующие сложившемуся ти-
пу самоидентификации, исключаются из сферы потенциально приемле-
мых реалий и выступают антитезой практикам удовольствия. Этот аспект
культурной регламентации заслуживает отдельного рассмотрения.
6 Бонавантюр Деперье. Новые забавы и весёлые разговоры // Французская но-
велла Возрождения. М., 1988. С. 206-207.
7 Толстой Л. Н. Анна Каренина // Толстой Л. Н. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 7.
М„ 1984. С. 41-42.
8 Лоуренс Д. Г. Женщины в любви: СПб., 2007. С. 126.
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
443
Действительно, в силу того, что на протяжении многих веков че-
ловеческой истории суждения об истоках удовольствия и способах его
актуализации принимали форму дискурса воздержания, гуманитарное
знание оказалось под влиянием этического стереотипа, согласно кото-
рому человека окружает неисчерпаемое разнообразие потенциальных
соблазнов. В наши дни этот стереотип интенсивно эксплуатируется ин-
дустрией рекламы, сделавшей ставку на снятие традиционных запретов
и стремящейся внушить обывателю мысль о том, что каждому из нас
доступны все возможные удовольствия. И если мы подходим к исследо-
ванию исторических практик удовольствия с подобных позиций, то куль-
тура предстаёт не более чем репрессивным механизмом, ограничиваю-
щим «естественные желания» индивида. Но, как было сказано выше,
габитус субъекта культуры - это результат инкорпорации системы цен-
ностей, за счёт чего недопустимые практики исключаются как невозмож-
ные. В итоге повседневный опыт поляризуется между тем, что должно
быть источником удовольствия, и тем, что не может быть таковым.
В обыденной жизни беспокойство вызывает не обилие соблазнов, а
опасность столкнуться с тем, что позиционируется культурой как «чуж-
дое», то есть некрасивое, невкусное, грязное, омерзительное и даже
вредоносное. В самых разных сферах культуры мы можем наблюдать
своеобразный императив «заботы об удовольствии», который проявля-
ется в строгом правиле избегания неприятных вещей: дурной пищи,
дурных запахов, дурной одежды, дурных женщин и т.п. Вот, например,
характерный пассаж из старинного китайского эротического сочинения,
автор которого среди прочих советов предупреждает читателя об опас-
ности вступать связь с «женщинами, имеющими грубую кожу; слишком
тощими женщинами; женщинами, у которых есть склонность к мужчи-
нам из низших сословий; женщинами, у которых мужеподобный голос;
женщинами, которым за сорок; женщинами, у которых сердце и живот
не совсем в порядке; женщинами, у которых волосы растут не в том
направлении; женщинами, у которых всё тело холодное; женщинами,
у которых сильные и твёрдые кости; женщинами, у которых курчавые
волосы»9. Перечень этим не ограничивается, однако даже процитиро-
ванного фрагмента достаточно для того, чтобы развенчать иллюзию
бесчисленных и вездесущих соблазнов, ибо речь идёт не о запретных
женщинах, но о женщинах, непригодных для наслаждения.
9 Фан нэй цзи (Записки из спальных покоев). Цит. по: Ван Гулик Р. Сексуаль-
ная жизнь в Древнем Китае. СПб., 2000. С. 165.
444
История на перекрестках междисциплинарности
* * *
Поскольку самоидентификация осуществляется на уровне телесно-
го опыта за счёт способности спонтанно ощущать «собственное» и «чу-
ждое» как, соответственно, приятное и неприятное, инкорпорированные
императивы нередко принимаются носителями культуры и сторонними
наблюдателями за естественные, врожденные реакции. В качестве при-
мера приведём обширную цитату из назидательного текста Ж,-
Ж. Руссо: «Женщине свойственно любить молочные яства и сахар, кои
словно являются символами невинности и кротости, самых милых ук-
рашений женского пола. Большинство мужчин, наоборот, предпочита-
ют кушанья с острым вкусом и спиртные напитки; им нужна пища, бо-
лее соответствующая деятельной и трудолюбивой жизни, для которой
природа их предназначила. [...] В общем, думается мне, в выборе блюд,
кои предпочитает человек, зачастую сказывается его характер. Италь-
янцы употребляют растительную пищу - они женоподобны и вялы. Вы,
англичане, много едите мяса - в ваших непреклонных добродетелях
есть что-то жестокое, варварское. Швейцарец, по природе своей холод-
ный, миролюбивый и простой, но в гневе лютый и неистовый, любит и
мясную, и растительную пищу, пьёт молоко и вино. Гибкий и перемен-
чивый француз употребляет всякие блюда и приноравливается ко вся-
ким характерам. Примером может служить Юлия: в еде она разборчивая
чревоугодница и лакомка, не любит ни мяса, ни дичи, ни солений и ни-
когда нс пробовала неразбавленного вина. Превосходные овощи, яйца,
сливки, фрукты - вот обычная её пища»10.
Культура ревностно оберегает эту чувственную грань между «собст-
венным» и «чуждым», выраженную в виде спонтанных вкусовых пред-
почтений. Игнорируя соответствующие стереотипы, индивид рискует не
только нанести урон своей репутации и подвергнуться насмешкам, но и
причинить вред здоровью, поскольку «чуждые» практики заведомо счи-
таются нелепыми или даже опасными. С этой точки зрения, современная
реклама не просто эксплуатирует гедонистические лозунги, она нацелена
на трансформацию идентификационных моделей. Однако не стоит ду-
мать, будто возможность преобразования практик удовольствия является
открытием современных рекламистов. Несмотря на чрезвычайную устой-
чивость идентификационных моделей и соответствующих телесных
практик в обществах прошлого, историческая судьба «принципа удоволь-
ствия» поражает не только многообразием форм, но и радикальностью
10 Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М, 1968. С. 417-418.
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
445
изменений, которые можно наблюдать на всём протяжении развития куль-
туры. Как же возможна историческая трансформация практик удовольст-
вия, коль скоро они представляют собой исключительный случай синер-
гии природных импульсов и культурных императивов?
Как правило, основную роль играет престижная мотивация - заим-
ствуются практики доминантной социальной группы, например, доми-
нантного этноса. Так, во многих произведениях Юрия Рытхэу обыгрыва-
ется различие между чувственным опытом «настоящих людей» и
«тангитан»: трогательно описывается традиционное соприкосновение
носами, но также и новые для героев ощущения от «русского поцелуя».
Причём интересны различия в отношении к новой практике. Один из ге-
роев сетует на жену. «Я привык вдыхать ее собственный запах, а она
вдруг заткнула мне рот своим ртом и стала присасываться ко мне, как те-
ленок к сосцам важенки». («В долине Маленьких Зайчиков»). Но те, для
кого культура пришельцев имеет престижный статус, ощущают иначе:
«Умканау подошла к засмущавшемуся учителю и сказала [...]- Алексей!
Поцелуй меня по-русски, как ты вчера делал! - Ну, Умканау! - с укором
произнес Першин. - Кто целуется на людях? [...] - А я не стыжусь! —
громко заявила Умканау. - Я горжусь! Мне очень нравится русский поце-
луй.» («Магические числа»). Повод провести аналогию с социокультур-
ными процессами, имевшими место в далёком прошлом, даёт наблюдение
Н. Пушкарёвой, по свидетельству которой в некоторых покаянных сбор-
никах XIV в. упоминается поцелуй, который называется «татарским»:
«Вдевала ли язык свой ... вкладывала ли по-татарски, или тебе кто та-
кож?»11 Комментируя это наблюдение, Н. Пушкарёва пишет: «В XVHI в.
тот же поцелуй получил название “французского”, что отражает общую
для древнерусской назидательной литературы тенденцию приписывать
иностранцам и иностранной культуре все “вредные” заимствования».
Возможно, автор не совсем права. В первом случае, действительно, осуж-
даемые практики маркируются как «чуждые» путём именования
при помощи этнонима, имеющего негативные коннотации; тогда как вто-
рой пример свидетельствует, скорее, о переосмыслении данной практики
в контексте престижности, что получает выражение в представлении о
соблазнительности такого поцелуя, которое не отменяет формального за-
прета, но, тем не менее, переводит действие из категории «мерзостей» в
категорию телесно приемлемых практик.
'1 Пушкарёва Н. «Мёд и млеко под языком у неё». (Женские и мужские уста в
Церковном и светском дискурсах России X - начала XIX вв.) И Тело в русской куль-
туре / Сост. Г. И. Кабакова и Ф. Конт. М., 2005. С. 86.
446
История на перекрестках междисциплинарности
* * *
Говоря о перспективах экспликации метода социальной антропо-
логии на исследования в области истории культуры, нельзя обойти вни-
манием уникальный пример синтеза психологии, антропологии, исто-
рической социологии и философии культуры, каковым по сей день
остаётся проект истории повседневных практик, предложенный
Н. Элиасом (бЪег den Prozess der Civilization, Basel, 1939). Изучая исто-
рические изменения в поведении «высшего слоя мирян в странах Запа-
да», Элиас предложил методологию, позволяющую рассматривать из-
менение эмоциональной структуры личности, манифестирующей в
привычных реакциях удовольствия и неприязни, как свидетельство зна-
чимой трансформации социальных структур. В своих рассуждениях он
опирается на разработанную им же социологическую теорию «общества
индивидов», согласно которой объективные социальные структуры не
могут быть абстрагированы от субъективного опыта индивида. Поэтому
проследить ход тех масштабных социально-психологических трансфор-
маций, которые он называет «процессом цивилизации», можно и нужно
на уровне изменений в повседневном «жизненном мире» — только таким
путём можно установить, каким образом происходило согласование внут-
ренних интенций индивида и соответствующих социальных практик.
Основной вектор развития европейского общества нового времени
Н. Элиас видит в снижении спонтанности и агрессивности. В отличие от
«натуралистов», таких, как К. Лоренц, Элиас полагает, что уровень аг-
рессии и импульсивности лишь отчасти определяется биологической
программой человечества и, напротив, является атрибутом габитуса,
соответствующего тем или иным социальным институциям. Прогресс
европейской цивилизации потребовал пасификации общества в целях
обеспечения высокой степени социальной интеграции, необходимой в
условиях интенсивного экономического развития. Пафос интерпрета-
ции, предложенной Н. Элиасом, заключается в том, что цивилизован-
ный человек не только подчиняется предписаниям закона на рацио-
нальном уровне, но подсознательно отказывается от агрессивных форм
поведения, ощущая их неприятными вследствие превращения открытых
социальных требований в автоматизированный самоконтроль. Подобный
эффект, по его мнению, был достигнут благодаря постепенному внедре-
нию в повседневные практики дисциплинарных техник, под действием
которых был сформирован габитус европейского человека Нового време-
ни, не позволяющий тому испытывать удовольствие от ощущения себя
носителем грубой силы. Для того чтобы раскрыть социально-
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
447
антропологическую логику этого процесса, Элиас скрупулёзно анализи-
рует историю нормативных и маргинальных практик, затрагивающих
различные аспекты телесно-чувственного бытия: поведение за столом,
поведение в спальне, отправление естественных позребностей и т.д.
Работы Н. Элиаса задают междисциплинарную исследовательскую
парадигму, которая позволяет представить исторические процессы сквозь
призму изменения практик удовольствия. Становление новых социально-
политических структур сопровождается формированием нового габитуса,
что предполагает вытеснение одного комплекса практик удовольствия и
его замену другим, соответствующим иной системе социальных дистинк-
ций. Прослеживая истоки подобных социально-психологических транс-
формаций в истории европейской культуры, Элиас приходит к заключе-
нию, что формирование габитуса европейского человека началось в
придворном обществе XVI-XVII вв. - именно тогда происходит переход
от формальных правил поведения к спонтанным телесно-чувственным
реакциям, свидетельствующим об инкорпорации культурных императи-
вов. Объективным основанием послужили изменения в способе легити-
мации европейской аристократии: место средневекового феодала, кото-
рый господствовал на своей земле и был волен распоряжаться жизнью и
смертью всего, что было ему подвластно, заступает новый социальный
типаж - придворный, обязанный вести городской образ жизни, чтобы по-
стоянно находиться при особе абсолютного монарха, поскольку в против-
ном случае он не может претендовать ни на статусные символы престижа,
ни на реальную экономическую поддержку.
Изменения в характере самоидентификации получили выражение,
а также дополнительное подкрепление в трансформации повседневных
практик. В качестве иллюстрации мы рассмотрим несколько примеров,
касающихся такой «естественной» способности человека, как наслаж-
дение трапезой. В средние века символом престижа, показателем могу-
щества и богатства знатного сеньора служило обилие мясной пищи. «В
высшем слое средневекового общества на стол часто подавались либо
туши целиком, либо большие их части. [...] Целые гуси, ягнята или чет-
верть телёнка появлялись на столе, не говоря уж о крупной дичи или
зажаренных на вертеле свиньях или быках. Тушу разделывали прямо на
столе. Книги о хороших манерах обращаются к правилам этой разделки
раз за разом [...] встречаются указания на то, сколь важно хорошо вос-
питанному человеку уметь разделывать туши животных. [...] И раздел-
ка туши за столом, и разрезание мяса представляют особую честь. Чаще
448
История на перекрестках междисциплинарности
всего они предоставляются хозяину дома или уважаемому гостю»lz.
Туша убитого животного, как полагает Н. Элиас, ассоциировалась с
войной и охотой, то есть с проявлением агрессивной силы и личной
власти, поэтому средневековая знать испытывала удовольствие от со-
зерцания и вкушения упомянутых кулинарных шедевров.
Однако постепенно, по мере того как общество становится более
мирным, а на публичное проявление агрессии налагается табу, появля-
ются «des gens si Helicals, [...J у которых возникают неприятные чувства
при виде мясной лавки с развешанными тушами, [среди этих людей]
бывают и такие, кто вообще нс употребляет мяса, прикрывая свою чув-
ствительность более или менее рациональными обоснованиями»12 13. В
XVII в. Лабрюйер писал: «Если вы во всех подробностях узнаете, как
разделывают мясо, которое подадут вам на званом пиру [...] прежде, чем
оно превратится в изысканные кушанья и обретёт то опрятное изящест-
во, которое пленяет ваши взоры; [...] если вы увидите все эти яства не на
роскошно накрытом столе, а в другом месте, вы сочтёте их отбросами и
почувствуете отвращение»14. В Англии, где обычай подавать крупные
части туши сохранялся дольше, чем на материке, отказ от этой традиции в
силу неприязни был зафиксирован в литературе по этикету достаточно
позднего времени и поэтому в форме совершенно очевидной: «Если толь-
ко вы не изголодались до изнеможения, само зрелище груды дымящегося
в подливке мяса способно совершенно лишить вас аппетита»15.
* * *
Итак, ощущение удовольствия от вкушения мясной пищи, которое
наивному наблюдателю может представляться естественным атрибутом
человеческой природы, в ходе истории проявляет себя как атрибут со-
циализированной телесности - габитуса. На определённом этапе разви-
тия европейской цивилизации простодушное раблезианское изобилие
перестаёт радовать глаз и обоняние и даже, напротив, вызывает отвра-
щение. И хотя внешние формы аристократических трапез сохраняют
символику роскоши, удовольствие от пищи всё менее ассоциируется с
12 Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические
исследования. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада.
М.; СПб., 2001. С. 186-187.
13 Там же. С. 188.
14 Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// Размышления и афо-
ризмы французских моралистов XVI-XVII веков. СПб., 1995. С. 277.
15 The habits of good society (1859). Цит. по: Элиас Н. О процессе цивилизации.
Т. I.C. 188.
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
449
её количеством и всё более относится на счёт способа приготовления.
Это послужило поводом для привлечения внимания к вкусовым оттен-
кам, которые подвергаются дифференциации и становятся материалом
для создания нового кулинарного кода.
Стратегии удовольствия, ориентированные на заботу о вкусе,
впервые заявляют о себе в качестве идентификационных техник куль-
туры в эпоху погони за пряностями. Именно тогда маркированный вкус
становится признаком аристократического застолья, а немаркирован-
ный (пресная еда) - закрепляется за пищей простонародья. Однако
средневековая кухня не знала дифференциации вкусов и без колебаний
злоупотребляла приправами ради демонстрации богатства. Повара той
эпохи, следуя представлению о престижной символике густого пряного
аромата, добавляли в каждое блюдо неограниченное количество разно-
образных специй. По мере того, как пряности становятся всё более дос-
тупными, аристократическая кухня вырабатывает новый гастрономиче-
ский код, в котором дистинктивную функцию неожиданным образом
принимает на себя обычай умеренного использования приправ с целью
проявления собственного вкуса продукта. Так, в начале XVII века фло-
рентиец Джованни дель Турко критикует одного из своих коллег на том
основании, что тот «предписывает великое изобилие специй и сахара,
которые многим приходятся не по вкусу, а особенно имбирь, мускатный
орех и корица»16. «Очищение» вкуса было поводом для непримиримых
баталий между авторами поваренных книг, упрекающими друг друга в
«экстравагантности, некомпетентности и вульгарности», то есть в не-
знании принципов вкусовой аранжировки и неприемлемом смешении
продуктов17. Самым значительным изменением, произошедшим в евро-
пейской кухне на заре Нового времени, стало разделение солёного и
сладкого направлений: например, из соленых блюд, подаваемых во вре-
мя основной перемены, исключаются сахар, мёд, подслащающие фрук-
ты (вроде изюма и чернослива) и цукаты, которые широко использова-
лись для их приготовления прежде.
Чрезвычайно любопытный эффект описываемого семиотического
процесса, меняющего местами «вкусное» и «невкусное», заключался в
том, что на столе аристократии появляются травы и овощи, которые в
средние века считались презренной пищей бедняков. Если мясо утрачи-
вает ту символику власти, которую оно несло в предыдущую эпоху, то
16 Каппати А., Монтанари М. Итальянская кухня: История одной культуры.
М., 2006. С. 172.
17 Мишель Д. Ватель и рождение гастрономии. М., 2002. С. 237.
450
История на перекрестках междисциплинарности
овощи, напротив, становятся узнаваемым компонентом привилегирован-
ной nouvelle cuisine, озабоченной «тонкостью вкуса». Поиск новых дис-
тинкгивных гастрономических форм ведёт к тому, что «артишоки, спар-
жа, огурцы, грибы, капуста кочанная и цветная, бобы, тыква, шпинат, зс-
зелёный горошек стали широко использоваться для супов, антре, рагу и,
разумеется, антреме»18. При Людовике XIV аристократические круги ока-
зываются во власти сумасшедшей моды на зелёный горошек: «Страстное
желание вкусить его, удовольствие от того, что он съеден, и радость от
того, что можно съесть его ещё, — вот три предмета, о которых наши
принцы толкуют уже четыре года», - говорится в «Мемуарах» мадам де
Ментенон19. На протяжении всего ХУЛ века повара проводят политику
сохранения природного вкуса растительных продуктов. «Капустный суп
должен иметь вкус капусты, порей вкус порея, репа вкус репы», - убеж-
дал Никола де Боннефон в середине XVH века в своём «письме мажордо-
мам»20. Другой автор советует не добавлять к клубнике «других вещей,
потому что необходимо чувствовать её естественный запах и вкус», и то
же говорит о вкусе дикой вишни: «этот вкус не следует маскировать ника-
ким ингредиентом, потому что он сам по себе восхитителен»2’.
Переломным моментом в судьбе идеологемы «вкуса» было её освое-
ние третьим сословием и превращение в ключевой концепт буржуазного
самосознания. По мнению Э. Спейри, определяющая для развития евро-
пейской кухни общая концепция «вкуса» окончательно складывается во
Франции как альтернатива роскошным излишествам эпохи «старого по-
рядка» и, вместе с тем, республиканским идеалам спартанского воздер-
жания. Первым противопоставляется моральное содержание культуры
вкуса, не допускающей распущенного чревоугодия, вторым - её взаимо-
связь с достижениями культуры, которые игнорируют сторонники ради-
кальной простоты22. Другими словами, руководствуясь престижной моти-
вацией, буржуазия заимствует ряд атрибутов аристократического
застолья, но вместе с тем разрабатывает альтернативный код социальных
дистинкций. Сходного мнения - с учётом особенностей истории итальян-
ской культуры - придерживаются А. Каппати и М. Монтанари: «Если на-
родная кухня [...] солёная, а кухня элиты - сладкая, [...] то питание бур-
18 Там же. С. 216.
19 Там же.
20 Каппати А., Монтанари М. Итальянская кухня... С. 134.
21 Там же. С. 172.
22 Spary Е. Making a science of taste: The Revolution, the learned life and the in-
vention of 'gastronomic'// Consumers and luxury: Consumer culture in Europe 1650
1850. Manchester; N.Y., 1999. P. 177.
С. А. Рассадина. Историческая трансформация...
451
жуазии в основе своей пресно, и она ценит это. Эта кухня предпочитает
нечто не слишком острое, мягкое, “естественного” цвета, возможно, сдоб-
ренное соусами, - картошку, говядину, курятину, рыбу в белом соусе, пас-
ту Консервирование, особенно по методу Дилера, способствует со-
хранению вкуса, не “забитого” солью, уксусом, сахаром или жиром»23.
«Бифокальная» идентификация европейской буржуазии, которая утвер-
ждала собственный жизненный стиль, отвергая, с одной стороны, изыски
аристократизма, с другой - «грубые» пристрастия простонародья, послу-
жила социальным основанием для формирования того чувственного
стандарта, благодаря которому расцвело ресторанное дело и сформирова-
лось гастрономическое пространство, охватившее при посредничестве
кулинарных книг даже дома средней руки.
* * *
Способность испытывать удовольствие - природная данность, но
вместе с тем способность проводить различие между вкусами - достиже-
ние культуры, свидетельствующее о том, что «забота об удовольствии»
является важной формой социальной активности, позволяя интегрировать
индивидуальный чувственный опыт в практики воспроизводства куль-
турной идентичности. В результате миметической идентификации тело
субъекта культуры становится своего рода аналоговым оператором для
установления соответствия между значимыми делениями социального
мира, что проявляется в реакциях эмоционального принятия или оттор-
жения маркированных реалий. Безусловно, не только престижная моти-
вация, потребность в социальной дистинкции или другие аспекты про-
цесса социально-психологической идентификации были фактором
исторических изменений в практиках удовольствия. Можно указать при-
чины экономического, демографического или даже физиологического
характера, обусловившие, к примеру, «продовольственную революцию» в
Европе. Но вместе с тем «гастрономический этюд», приведённый в за-
вершение этой статьи, позволил продемонстрировать преимущества меж-
дисциплинарного исследования практик удовольствия. В этом новом ра-
курсе самые разнообразные практики удовольствия могут быть
подвергнуты анализу как отражение значимых в определённом культур-
ном контексте проблематизаций бытия, а изучение их исторической
трансформации позволит увидеть, каким образом происходило изменение
социальных структур и соответствующих им типов самоидентификации —
не только на уровне рефлексии, но и на уровне телесного самоощущения.
23 КаппатиА., Монтанари М. Итальянская кухня: История одной культуры.
С. 176-177.
Ю. Ю. Хмелевская
“ИСТОРИЯ ЭМОЦИЙ” В СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
ИСТОКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Общеизвестно, что антропоморфно-эмоциональная терминология,
применяемая в описаниях отдельных исторических акторов, социаль-
ных групп, целых обществ и даже эпох давно превратилась в устойчи-
вую и не вполне отрефлексированную черту научного языка историков,
зачастую совершенно не задававшихся вопросом об эпистемологиче-
ской оправданности понятий и метафор, привлекаемых в качестве объ-
яснительных клише. Другими словами, пользуясь эмоциональными
эпитетами, приписывая их своим героям и стремясь вызвать эмоции у
читателей, исследователи игнорировали эмоции как самостоятельное
историческое явление или вообще считали их аисторичными и универ-
сальными. В значительной степени, по-видимому, это было связано с
укоренившимся в традиционной (рационалистической) историографии
разделением социальных явлений на «рациональные» и «иррациональ-
ные» и их противопоставлением, в соответствии с чем эмоции относи-
лись именно ко второй сфере. Так, например, Р. Коллингвуд считал, что
принципиальное отличие истории и психологии заключается в том, что
первая изучает мышление, а вторая - сознание: «В той мере, в какой
опыт есть непосредственное переживание, простой поток сознания,
включающий ощущения, эмоции и тому подобное, он не является исто-
рическим процессом», и поэтому эмоции должны составлять предмет
психологии, а не истории1 2.
Историографическая ситуация последних полутора десятилетий
свидетельствует о бурном росте исследовательского интереса к эмоци-
ям и чувствам как самостоятельным факторам исторического развития,
что, по сложившемуся уже обычаю, спровоцировало громкие деклара-
ции об очередном «повороте», на этот раз - эмоциональном. Безуслов-
но, одним из важных факторов, многократно усиливших внимание к
роли эмоций в политике и истории, явились драматические события
рубежа XX—XXI вв., подробно описывать которые нет необходимости .
1 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 291-292.
2 Например, мнение о том, что 11 сентября 2001 г. в одночасье разрушило го-
дами выстраивавшиеся представления об «относительности» и «абстрактности»
таких понятий как ненависть и страх, стало уже практически общим местом.
Ю. Ю. Хмелевская. “История эмоций”... 453
Наглядной иллюстрацией этого «эмоционального поворота» может
служить целая серия международных конференций3 и утверждение но-
вого направления в ряде европейских и американских университетов в
виде профильных научных центров и постоянно действующих семина-
ров4. Количество литературы и исследовательских проектов, связанных
с разнообразными аспектами истории эмоций растет с каждым днем.
Немало надежд также связывается с историей эмоций как средством
преодоления «постмодернистского тупика»5. Но не приведут ли эти
«эмоции» по поводу эмоций к новым тупикам и ловушкам? Данная ста-
тья не претендует на исчерпывающее изложение всех имеющихся на
данный момент теорий исторического исследования эмоциональности, а
имеет своей целью лишь в самых общих чертах обозначить основные
вехи пути к историческому анализу эмоций и, возможно, указать на не-
которые вызовы, которые привнесло с собой новое расширение поля
исторических исследований.
Первые шаги к историзации эмоций были предприняты еще в XIX
и первой половине XX в. - в работах Я. Буркхардта, Ж. Мишле,
И. Хейзинги, М. Блока, Н. Элиаса и др. Но призыв к «прицельному»
именно историческому изучению этих сторон человеческой жизни про-
звучал в 1940 г. из уст Л. Февра в статье «Чувствительность и история».
Для французского историка, находящегося в оккупированной нациста-
ми Франции и ставшего очевидцем иррациональности и эмоционально-
3 Эмоции в русской истории и культуре. Международная конференция.
Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве 3-5 апреля
2008; Interpreting Emotion in Eastern Europe, Russia, and Eurasia. University of Illinois,
Urbana-Champaign June 19-21, 2008; Cultural History of Emotions in Premodemity, an
international workshop at Umea University, Sweden October 23-26, 2008, Childhood and
Emotion in Early Modem History 1O.O3.2OIO-13.O3.2OIO, University of Pennsylvania,
Call for Papers at http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=10075.
4 Institute for Study of Emotions, Florida www.fsu.edu/~ise/; EMMA: A Research
Program on Emotions in the Middle Ages (Les Emotions au Moyen Age)
http://emma.hypotheses.org/le-projet, CHEP - An International Network for the Cultural
History of Emotions in Premodemity, Umea University (Sweden)
http://chep.idesam.umu.se/; The Queen Mary Centre for the History of the Emotions (Lon-
don) http://www.qmul.ac.uk/emotions/: History of Emotions Research Center at the Max
Planck Institute for Human Development (Berlin) http://www.mpib-
berlin.mpg.de/en/forschung/GG/index.htm; Language of Emotion Cluster of Excellence,
Free University (Berlin) http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/en/languagesofemotion/index.html, и др.
5 См., например: Плампер Я. Страх в русской армии 1878-1917 гт.: К исгории
медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России / Под ред.
И. В. Нарского и др. Челябинск, 2007. С. 459.
454
История на перекрестках междисциплинарности
сти политики - самой, казалось бы «рациональной» деятельности чело-
века - это наглядно видимое и ощущаемое противоречие между интел-
лектом и эмоциями было чрезвычайно важно. Однако предложение на-
писать историю страха, любви, жалости, жестокости, радости и других
чувств не получило тогда большого резонанса. Незамеченными оста-
лись и высказанные Февром гипотезы, предвосхитившие многие на-
правления современного развития истории эмоций: о ритуальном ха-
рактере эмоций, об их социальных и социализирующих функциях, о
том, что для лучшего понимания эмоциональной жизни современных
обществ требуется изучать общества «первобытные» и привлекать для
этого другие науки - психологию, лингвистику, искусствоведение. От-
части это было связано с политической ситуацией, но в более значи-
тельной степени с тем, что историки в то время не располагали научным
инструментарием для анализа эмоций. Примечательно, что и сам Февр,
обратив внимание на коммуникативную роль эмоций, подчеркнув их
«полезность» и «системность», вес же акцентирует их примитивность
по сравнению с другими, более цивилизованными способами общест-
венной организации и фактически противопоставляет и подчиняет их
«интеллектуальным операциям»6.
Таким образом, при всей постановочной новизне, февровский при-
зыв к написанию «истории эмоций» не выходил за рамки традиционно-
го дуалистического подхода, уходящего корнями в античную филосо-
фию, христианство и картезианскую теорию и разделяющего разум и
чувства, духовность и телесность, мышление и сознание. Различные
версии этой интерпретационной матрицы широко представлены в рабо-
тах просветителей и моралистов XVIII и XIX веков, 3. Фрейда,
Ф. Ницше, Г. Лс Бона, М. Вебера, М. Фуко и др., в которых эмоции вы-
ступают как иррациональные и неструктурированные феномены, посте-
пенно подпадающие под влияние различных цивилизующих инстанций
или, напротив, вырывающиеся из-под их контроля. Наиболее же после-
довательным выражением этой «гидравлической» теории7 считается
теория «процесса цивилизации» Норберта Элиаса, сформулированная
6 Февр Л. Чувствительность и история. Как воссоздать эмоциональную жизнь
прошлого / Февр Л. Бои за историю. М., 1991 .С. 111 -125.
7 Оригинальный и емкий термин для обозначения двух основных векторов на-
учного дискурса об эмоциях был предложен американской исследовательницей
средневековой культуры и признанным специалистом по истории эмоций Барбарой
Розенвайн, см.: Rosenwcin В. Worrying about Emotions in History / American Historical
Review. 2002. Vol. 107. N 3. P. 821 -845.
^Ю. Ю. Хмелевская. “История эмоций"... 455
еще в 1939 г., но получившая запоздалое признание лишь в 1970-е гг.8
Отдавая приоритет не столько самим «чувствам», их проявлениям и
функциям, сколько процессу формирования «рациональных» внешних и
внутренних механизмов их сдерживания и выражения (от принуждения
извне до самодисциплины), эта модель достаточно органично вписалась
в конвенциональный «просвещенный» дискурс.
Неслучайно поэтому, что новое требование «легализации» эмоций
в качестве особого поля исторических исследований прозвучало со сто-
роны модернистов - точкой отсчета «официального» зарождения ново-
го исследовательского поля в истории считается американская «эмо-
циология», основы которой были заложены Питером и Кэрол Стернс в
середине 1980-х и развиты в более поздних работах9. Некоторые авторы
занимались историей эмоций и ранее10. Но Стернсы превратили свою
концепцию в настоящую «индустрию эмоций» с собственным журна-
лом и книжной серией (The History of Emotions Series), провозгласив
главной целью эмоциологии изучение «диспозиций и стандартов, кото-
рые общество или определенная группа внутри него поддерживают с
помощью базовых эмоций и правил их выражения, а также способов,
посредством которых институты продвигают эти стандарты в поведение
людей»11. Однако такое понимание эмоциологии, заключенное в рамки
сознательного отношения к эмоциям и чувствам, по существу, ограни-
чило сферу ее применения Новым временем с точкой отсчета в начале
ХУШ в12. Вместо того, чтобы произвести переворот в историописании,
такая модель, напротив, обеспечила новые основания для «больших
8 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенегические
исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации.
М.; СПб., 2001.
9 Манифест эмоциологии см.: Stearns Р., Stearns С. Emotionology: Clarifying the
History of Emotions and Emotional Standards/ American Historical Review. Vol. 90.
October 1985. P. 813-836; дальнейшее развитие: Stearns P., Stearns C. Anger. The
Struggle for Emotional Control in America’s History. Chicago, 1986; Stearns P. American
Cool; Constructing a Twentieth Century Emotional Style. N.Y., 1994; An Emotional His-
tory of the United States / Ed. by P. Steams, J. Lewis. N.Y., 1998; Stearns P. Battleground
of Desire; The Struggle for Self-Control in Modem America. N.Y., 1999; и др.
10Delumeau J. Sin and Fear: The Emergence of a Western Guilt Culture 13th-18th
Centuries. N.Y., 1990; Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renun-
ciation in Early Christianity; Twentieth Anniversary Edition with a New Introduction.
Columbia U.P., 2008 (1 ed. 1988); и др.
11 Stearns P., Stearns C. Emotionology... P. 813.
12 Подробнее см.: Steams P., Lewis J. (eds.) An Emotional History of the United
States... P. 6-7.
456
История на перекрестках междисциплинарности
нарративов», постулирующих контроль над «аффектами» как признак
цивилизации, сознательности и модерной ментальности и, с другой сто-
роны — существенно снизила познавательную ценность эмоций как та-
ковых, фактически заменив их историю интеллектуальной историей и
историей властных дискурсов в разных вариациях.
Новый импульс истории эмоций как особому направлению куль-
турной истории был придан сменой исследовательских парадигм в гу-
манитарных науках, произошедшей в связи с развитием культурной ан-
тропологии, когнитивистики, этнологии и конструктивистской
философии. Опираясь на достижения нейрологии, которая с 1940-х гг.
стала все больше внимания уделять эмоциям и их месту в-жизни людей,
эти «смежные дисциплины» продемонстрировали явную эпистемологи-
чскую недостаточность «гидравлического» подхода к изучению эмоций,
обнаружив его западнический этноцентризм, редукционизм и эволю-
ционистский характер теории «аффектов», которые при всем их «удоб-
стве» как объяснительных схем, в истории эмоций скорее служили соз-
данию проблем, чем их решению. «Экспериментальным» основанием
для таких сомнений стали исследования этнологов и антропологов, про-
демонстрировавшие, что эмоциональные переживания не только нс
являются «докультурными», но в высшей степени зависят от культуры,
а дуалистическое разведение представлений о чувствах и разуме, «куль-
турности» и «телесности», нехарактерно для обществ, не относящихся к
вестернизированной цивилизационной модели13.
Нагляднее всего этот сдвиг проявился в когнитивной психологии и
философии, которые стали акцентировать мотивационную, практиче-
скую роль эмоций, не противопоставляя их сознанию с присущими ему
культурными характеристиками, а, напротив, подчеркивая их тесное
взаимодействие14. Для когнитивистов и эмоциональность, и рациональ-
ность являются манифестациями присущей человеческому организму
способности освоения реальности, своего рода программами, которые
действуют в одной системе и взаимно дополняют друг друга.
13 Rosaldo М. Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life.
L.; N.Y., 1980; LutzC. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll
and Their Challenge to Western Theory. Chicago, 1988.
14 Solomon R. C. The Passions. Emotions and the Meaning of Life. N.Y., 1993 (2 ed.);
De Sousa R The Rationality of Emotions. Cambridge (Mass.), 1987; LeDouxJ. The Emo-
tional Brain: The Mysterious Underpinning of Emotional Life. N.Y, 1996; Elster J. Alche-
mies of the Mind: Rationality and the Emotions. Cambridge, 1999; Damasio A The Feeling
of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. N.Y, 1999: Niss-
baum M. Upheavals of Thought: The Intelligence of the Emotions. Cambridge, 2001; и др.
Ю. Ю. Хмелевская. “История эмоций”...
457
Инос направление тенденции к сглаживанию противопоставления
разума чувствам, получило развитие в конструктивизме, включившем
эмоциональные нормы и проявления в процесс социального и культур-
ного конструирования. Конструктивисты подчеркивают прежде всего
социальную обусловленность эмоций, рассматривая их как культурный
конструкт, складывающийся и меняющийся под воздействием социаль-
ных практик языка, культуры, ожиданий, морали и т.д.15 Однако, акцен-
тируя конструируемость эмоций и норм их выражения, конструктивист-
ские теории по большей части игнорировали вопрос о том, насколько сам
процесс «выстраивания» индивидами эмоций был сконструирован их су-
губо индивидуальными мотивами (выбором, желанием, сопротивлением)
или внешним воздействием (террор, репрессии)16. Таким образом, одной
из главных нерешенных проблем стала проблема взаимодействия между
меняющимися эмоциональными характеристиками людей и меняющими-
ся историческими обстоятельствами, в которых они находились.
Конец 1980-х гг. ознаменовался новыми нюансами в смене
парадигмы. Социально-конструктивистский и культурно-
релятивистский подходы, которые доминировали в течение
предшествующего десятилетия, стали сдавать свои позиции с дальней-
шим развитием экспериментальной нейробиологии и когнитивной
психологии. Естественные науки затронули все вопросы гуманитарных
наук и дали толчок к возрождению универсализма. В последующие
годы первоначальный энтузиазм по поводу применимости естественных
наук в гуманитарной сфере уступил место более трезвому отношению.
Важнейшей, вехой в теоретизации истории эмоций стала работа
У. Редди «Навигация чувств: основы истории эмоций» (2001). Уильям
Редди предлагает синтетический подход, в котором объединены
результаты конструктивистской антропологии и универсалистских
естественных наук. Предложенная им теория «навигации чувств» и
«эмоциональных режимов» является на сегодняшнее время одной из
наиболее востребованных, а многие из введенных в его исследовании
понятий вошли сейчас в базовые понятия современной социологии эмо-
ций. Согласно У. Редди, любой стабильный политический режим со-
провождается и подкрепляется «набором нормативных эмоций и офи-
циальных ритуалов, методов и практик, служащих их выражению и
15 См.: The Social Construction of Emotions / Ed. by R. Нале. Oxford, 1986.
16 Критику конструктивизма см: Reddy W. M. Against Constructionism. The His-
torical Ethnography of Emotions // Current Anthropology. 1997. Vol. 38. № 3, P. 327-351;
Hasking I. The Social Construction of What? Cambridge (Mass.), 1999.
458
История на перекрестках междисциплинарности
внушению». Существование индивида в этом режиме возможно с по-
мощью «навигации чувств», которую автор характеризует как «фунда-
ментальную черту эмоциональной жизни, систему ориентирования в
обществе, позволяющую индивиду выбирать стратегию поведения»17.
Еще одним важным концептом, предложенным Редди, является понятие
«эмотив» (emotive) - эмоциональная реакция, эмоциональное действие,
выраженное с помощью речевого акта и сочетающее в себе перцептив-
ный, оценочный и перформативный компонент18 19. Принципиальным
отличием теории У. Редди является именно акцент на интерактивность,
подразумевающий не только подверженность индивида или группы ин-
дивидов эмоциональному режиму, но и инструментальность эмоций как
особых коммуникативных и когнитивных средств, имеющих обратное
воздействие на этот режим.
Значительный вклад в разработку теоретических оснований исто-
рии эмоций был внесен в 2002 г. Барбарой Розенвайн, предложившей
адаптировать достижения «негидравлической» теории к более конкрет-
ным историческим исследованиям с помощью концепции «эмоцио-
нальных сообществ», которые, по ее мнению, существуют и действуют
по аналогии с сообществами социальными - семьями, гильдиями, цер-
ковными приходами и т.д. Изучая их, исследователь должен стараться
раскрыть «системы чувств», а именно: «что эти сообщества и состав-
ляющие их индивиды считали для себя полезным, а что - вредным; ка-
кие оценки они давали эмоциям других; какова природа признаваемых
ими аффективных связей; на какие способы выражения чувств они воз-
лагают надежды, одобряют, терпят или считают предосудительными».
Как полагает Розенвайн, эти «эмоциональные коммуны» не являются
установленными раз и навсегда, а имеют инструментальный характер,
позволяя людям постоянно перемещаться между ними и выбирать раз-
личные эмоциональные стратегии в зависимости от окружения. Поэто-
му разница в формировании, ограничении и выражении эмоций сущест-
вует не только между отдельными обществами, но и внутри каждого из
них, где уживаются противоположные ценности и модели .
17 Reddy W. The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions.
Cambridge: Cambridge University Press, 2001 P. 128-129.
18 Впервые это понятие было использовано в статье: Reddy W. Emotional Liber-
ty: Politics and History in the Anthropology of Emotions / Cultural Anthropology. 1999.
Vol. 14. P. 256-288; впоследствии интегрировано в теорию «навигации»: см. Red-
dy W. The Navigation of Feeling... P. 128.
19 Rosenwein B. Worrying about Emotions... P. 842-843.
Ю. Ю. Хмелевская. “История эмоций”...
459
В результате в «негидравлическом» векторе истории эмоций по-
степенно начала складываться в основе своей культуралистская иссле-
довательская модель, сместившая акценты с аффективного компонента
эмоций на понимание их как универсальной социально структурирую-
щей и упорядочивающей силы, с помощью которой обеспечивается со-
циальная коммуникация. Принципиальным отличием этой новой моде-
ли, соединяющей в себе когнитивистские, конструктивистские и
антропологические элементы, стал также отказ от дихотомии «разум -
чувства», проявившийся в признании культурной сконструированности
и обусловленности обоих феноменов и их «уравнении в правах» как
когнитивных, мотивационных и социализирующих инструментов.
В этой связи, основной задачей исследователя становится не изуче-
ние «управления» эмоциями, а анализ их инструментальной роли, рас-
шифровка содержащихся в них «посланий» и символики, даже если сами
их агенты и не осознают этого символизма. Такой междисциплинарный
по своей сути подход гораздо труднее интегрируется в привычный для
историков исследовательский инструментарий, однако именно в рамках
этой модели были выдвинуты наиболее систематичные теории и предло-
жения по поводу историзации эмоций, позволяющие не зацикливаться на
создании очередного «великого нарратива», а рассматривать эмоцио-
нальную жизнь прошлого в ес многообразии и неоднозначности.
Однако перед историком, занимающимся чувствами и эмоциями,
встают несколько трудноразрешимых проблем. Наряду с методологиче-
ской эквилибристикой, одну из главнейших трудностей, как это уже
неоднократно бывало во время кардинальных историографических «по-
воротов», представляет работа с источниками. Изучая эмоциональную
жизнь прошлого, исследователю приходится сталкиваться нс с самими,
эмоциями, а с их вербальными и невербальными воплощениями, в про-
цессе анализа которых необходимо учитывать разнообразные контексты
их формирования - дискурсивные, социальные, политические. В отли-
чие от антропологов, располагающих «живым» материалом и фикси-
рующих «непосредственные» эмоциональные проявления, историк мо-
жет полагаться только на «вторичные» источники, фиксирующие
эмоциональные выражения, или, пользуясь терминологией У. Редди,
«эмотивы» формы вербального и телесного выражения эмоций, опре-
деляемые временем и пространством, культурой и историей, языком и
личными особенностями индивидов, в том числе психическими и ин-
теллектуальными. Поэтому в выявлении «реальных» эмоций, стоящих
за ними, сохраняется достаточно большой риск домысла.
460
История на перекрестках междисциплинарности
Питер Берк, одним из первых обративший внимание на эту пробле-
му, указывает, что исследователь должен решить для себя, сторонником
какого подхода он является - «минималистского» или «максималистско-
го», приняв за основу «неисторичность» или «эссенциальную историч-
ность» эмоций, то есть определиться в мнении, меняются ли «эмоции» во
времени или остаются неизменными. Избравшие «минималистский» по-
люс, вынуждены будут ограничиться изучением сознательного отноше-
ния к эмоциям. С одной стороны, они находятся в более выгодном поло-
жении, поскольку «не так трудно найти в сохранившихся документах
свидетельства сознательного отношения к злости, страху, любви». Но, с
другой стороны, получается, что вместо истории эмоций они пишут
«добротную интеллектуальную историю». Авторы же, избравшие «мак-
сималистскую» сторону, «более инновативны, но их выводы о фундамен-
тальных переменах гораздо труднее обосновать источниками, и они го-
раздо более спорны»20. Все это превращает историю эмоций в крайне
трудное и даже рискованное предприятие, требующее основательной
междисциплинарной подготовки и тщательной саморефлексии со сторо-
ны самого исследователя. Как было отмечено на одной из недавних кон-
ференций «эмоционалистов», «когнитивизм позволяет нам не разделять
разум и эмоции, конструктивизм заставляет принимать в расчет наши
собственные ментальные структуры при их изучении»21.
Тем не менее, последние годы были отмечены значительными ус-
пехами «истории эмоций» Античности, европейского Средневековья и
раннего Нового времени22, в то время как, например, в русистике (и
особенно в отечественной историографии) это направление пока что
20 Burke Р. What is Cultural History? Cambridge, 2005. P. 109.
21 См. выступление П. Надь, руководителя проекта EMMA от 23 октября 2008
г. на открытии конференции «Cultural History of Emotions in Premodemity»...
(http ://emma.hypotheses .org/147).
22 Corbin A Time, Desire and Horror: Toward a Histoiy of the Senses. Cambridge,
1995; Fear in Early Modem Society / Eds. W. Naphy, P. Roberts. Manchester, 1997; The
Social Uses of an Emotion in the Middle Ages / Ed. B. Rosenwein. Ithaca, 1998; Reddy W.
Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution //
Journal of Modem Histoiy. 2000. Vol. 72. P. 109-152; Harris W. Restraining the Rage: The
Ideology of Anger Control in Classical Antiquity. Harvard U.P., 2001; Smail D. The Con-
sumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423. Ithaca,
2003; Reading the Early Modem Passions: Essays in the Cultural History of Emotion / Eds.
G. K. Paster, K. Rowe, M. Floyd-Wilson). Philadelphia, 2004; Kaster R Emotion, Restraint,
and Community in Ancient Rome. Oxford; N.Y., 2005; Rosenwein B. Emotional Communi-
ties in the Early Middle Ages. Ithaca, 2006; Gross D. The Secret History of Emotions: From
Aristotle’s «Rhetoric» to Modem Brain Science. Chicago, 2006; и др.
Ю. Ю. Хмелевская. “История эмоций”...
461
совершает лишь первые шаги23. Однако представляется, что осмысле-
ние сквозь призму истории эмоций опыта XX века, богатого самыми
различными эмоциональными проявлениями, обеспечит этой исследо-
вательской парадигме широкие возможности, превратив ес в важный
инструмент изучения не только эмоциональных феноменов как тако-
вых, но и их взаимодействия с общественным климатом и «большими»
политическими решениями. Историки же, которые прежде к месту и не
к месту уверенно писали о хладнокровии и страстности, ненависти и
любви, жестокости и великодушии, ярости и жалости, в свою очередь,
будут пользоваться эмоциональной фразеологией более осознанно или,
по крайней мере, обдуманно.
23 См., например, статью Ш. Фицпатрик, следующую в русле дискурса о вла-
сти: Fitzpatrick Sh. Happiness and Toska: An Essay in the Histoiy of Emotions in Pre-war
Soviet Russia// Australian Journal of Politics & History. 2004. Vol. 50. N3
(http://findarticlcs.eom/p/articles/mi_gol 877/is_3_50/ai__n9086556/?tag=content;coll); и
Steinberg M. Melancholy and modernity: emotions and social life in Russia between the
revolutions // Journal of Social Histoiy. 2008. (http://findarticles.eom/p/articies/mi_m2005/
is_4_41/ai_n27894092/), а также специальный выпуск журнала Slavic Review “Emo-
tions in Russian Histoiy and Culture” и ожидаемую в 2009 г. публикацию издательст-
вом НЛО сборника статей участников конференции «Эмоции в русской истории и
культуре», прошедшей в Москве в апреле 2008 г.
А. С. ХОДНЕВ
НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ
И “НОВАЯ ИСТОРИЯ ДОСУГА”
Новая культурная история'.
зигзаги или поглощение других направлений историографии?
В начале XXI века новая культурная история — преобладающая
форма культурной истории, и, по мнению некоторых историков, исто-
рии как таковой'. Направление развивается как междисциплинарное,
заимствующее методы у других социальных наук, прежде всего антро-
пологии, этнографии. С самого начала о новом повороте в историогра-
фии высказывались серьезные подозрения в его агрессивности. Напри-
мер, американский историк Л. Насдорфер в обзорной статье о сборнике
«Новая культурная история» писал: «В настоящее время хорошо из-
вестно, что недавно появившееся в истории направление является пло-
тоядным животным. Культурная история поедает тело существующих
дисциплин. Помните интеллектуальную, религиозную, социальную,
политическую, дипломатическую и экономическую историю? Немногие
из практикующих в начале 1990-х гг. историков, которые ранее иденти-
фицировали себя с тем или иным направлением, чувствуют себя уютно,
когда заявляют, что они не работают в жанре культурной истории»1 2.
Новая культурная история, как и всякое направление историогра-
фии, формировалась постепенно. Карло Гинзбург обратил внимание в
знаменитой работе 1976 года3 на наличие нескольких культурных уров-
ней в глубине цивилизованных обществ, а термин «культура», приме-
нительно к комплексу взглядов, верований, жизнеповеденческих прин-
ципов был позаимствован у культурной антропологии. Иными словами,
потребовалось посмотреть на цивилизованные общества в исторической
ретроспективе, как антропологи изучали примитивные общества для
того, чтобы обнаружить наличие культуры «у тех, кого не так давно
свысока именовали “плебсом цивилизованных народов”»4.
1 Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое ли-
тературное обозрение. 2005. № 75 (htttp://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html).
2 The New Cultural Histoiy: Interpretation and Cultural History / Review by
L. Nussdorfer // Histoiy and Theoiy. 1993. Vol. 32. N 1. P. 74.
3 Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.
М., 2000. С. 32.
4 Там же.
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
463
Итак, интерес к культурным исследованиям проявился еще в 1970-
1980-е годы. В то время в зените славы и популярности была социаль-
ная история, резко расширившая предмет, по сравнению с конвенцио-
нальной историографией, за счет изучения истории «снизу». В 1988 г.
вышел сборник «Расширяя прошлое»5. Редактор этого издания
П. Стирнс подчеркивал, что социальная история изменила большинство
отраслей исторической науки: «в политической истории исследователи
рисовали диаграммы балансов между социальными группами и поведе-
нием избирателей, историки культуры изучали книгоиздание, чтобы
открыть насколько широко и при помощи каких средств распространя-
лись идеи»6. Многим историкам тогда казалось, что социальная история
будет долго доминировать, влияя на учебные планы университетов и
даже средних школ. Однако у ряда ученых появилось противодействие
акцентированному изучению только классов, структур и процессов в
ущерб исследованию мотивов поведения людей в прошлом.
В начале 1980-х появилась серия очерков Р. Дарнтона7, который
вел семинар вместе с антропологом К. Гирцем в Принстонском универ-
ситете, и прямо подчеркивал, что его методологические подходы, кото-
рые Дарнтон скромно называл «жанром, не нашедшим наименования на
английском языке», были связаны с антропологией. «Это такой же под-
ход к собственной цивилизации, какой используют для изучения других
народов... это история в этнографической сущности», пояснял он.
Р. Дарнтон называл этот подход «культурной историей»8 9. Для него ва-
жен принцип «поймать инаковость» («схватить чуждость»), перевести
это явление в терминах исторического ремесла. Часто историк, по сло-
вам Дарнтона, совершает ошибку, подмечая подобное в прошлом. Са-
мос простое думать, что люди два столетия назад думали и чувствовали
так же, как наши современники, хотя носили парики и деревянную
обувь. «Нам необходимо постоянно испытывать потрясение от ложного
9
чувства похожести прошлого, испытать дозы культурного шока» , -
призывал Дарнтон. Для него главное в работе историка — интерпретаци-
5 Expanding the Past: A Reader in Social History. Essays from the Journal of Social
History / Ed. by P.N. Steams. N.Y., 1988.
6 Ibid. P. 3.
7 В 1984 г. очерки были объединены в книгу: Darnton R. The Great Cat Massa-
cre and other Episodes in French Cultural History. N.Y., 1984. См. также перевод на
русский: Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории фран-
цузской культуры. М., 2002.
8 Darnton R. The Great Cat Massacre... P. 3.
9 Ibid. P. 4.
464
История на перекрестках междисциплинарности
онная сторона его деятельности, и это направление культурной истории
он относил к интерпретационным наукам111. Книга Дарнтона вызвала в
свое время немало споров и упреков автору в том, что он не достаточно
изучил ретроспективный контекст отдельных событий XVIII века, напри-
мер, суда над когами, устроенного подмастерьями. Автор принял это со-
бытие, давшее название всей книге, за «инаковость», хотя оно имело глу-
бокие корни в традиционной культуре Франции10 11. Тем не менее, значение
и популярность этой книги Дарнтона вышли далеко за рамки утвержде-
ния нового направления в историографии. В 1993 95 гг. автор данной ста-
тьи был свидетелем, того как исторический департамент университета
Дэйтона (Огайо, США) выбрал две первые главы упомянутой книги
Р. Дарнтона в качестве главного текста по истории для чтения всех сту-
дентов университета, выбравших курс «История западной цивилизации».
Первая половина 1990-х гг. была еще и пиком интереса исследова-
телей к культурным особенностям политики. В 1993 г. появилась зна-
менитая статья американского политолога С. Хантингтона «Столкнове-
ние цивилизаций», в 1996 г. переработанная в книгу «Столкновение
цивилизаций и передел мирового порядка»12. Идеи Хантингтона отра-
зили особенности «культурного эссенциализма» как направления ана-
лиза политических проблем глобального развития при помощи исследо-
вания границ распространения культур. Определяя характерные черты
новой фазы глобальной истории, Хантингтон подчеркивал, что фунда-
ментальными источниками конфликта в современном мире будут не
экономические или идеологические факторы, а, прежде всего, культур-
ные. В 2000 г. под его редакцией появился сборник с еще более много-
значительным названием «Культура имеет значение: как ценности фор-
мируют прогресс человека»13.
Между тем, конец 1980-х и рубеж 1990-х принес многочисленные
повороты в историографии: культурный, лингвистический, визуальный,
метафорический и др. Все эти развилки, с одной стороны, вносили что-
10 Ibid. Р. 6.
11 См. подробнее: Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (Размыш-
ления медиевист а) // Новое литературное обозрение. 2005. № 75
(http.7/magazines.russ.ru/nlo/2005/75/gu4.html).
12 Huntingion S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. N 3.
P. 22-49; Idem. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y., 1996.
Существуют русские переводы обоих изданий и значительная научная полемика
вокруг них.
13 Culture Matters: How Values Shape Human Progress I Eds. L. E. Harrison and
S. P. Huntington. N.Y., 2000.
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
465
то новое в проблематику истории как научной дисциплины, а с другой,
возрождали воспоминания о прежних областях исследований. Напри-
мер, П. Берк утверждал, что культурная история не являлась новой, и
доказывал, что ее предыстория уходит к 1800 г.14. Это лишний раз под-
твердило характеристику Э. Хобсбаумом не линейного, а зигзагообраз-
ного прогресса, завоеванного в XX веке исторической наукой: «История
достигла в этом веке прогресса в результате зигзагообразного движения
между завалами, настоящего прогресса!»15.
Для новой культурной истории в контексте соревнования с други-
ми направлениями важным событием стало появление в 1989 г. первого
программного сборника статей «Новая культурная история»16, вышед-
шего под редакцией Линн Хант. Этот проект воспринимался многими
историками как модель, образец для продвижения свежих идей. Неслу-
чайно в него были приглашены не только историки, но также социоло-
ги, философы, способные сформулировать новые методологические
принципы. Тем не менее, в текстах статей сборника просматривались
модели исследований, предложенные ранее М. Фуко, Э. П. Томпсоном,
Н. Земон Дэвис, К. Гирцем, X. Уайтом17. Иными словами, выбранные
траектории исследований выглядели весьма эклектично: от европейско-
го марксизма до либерализма и постмодернизма.
На фоне этих инноваций во второй половине 1990-х происходят
важные перемены в достаточно конвенциональной до того области -
истории изобразительного искусства. На смену исследованиям биогра-
фий художников, особенностей стиля, сравнительному разбору работ
публикуются междисциплинарные книги в жанре постмодернизма. Те-
мой одного из таких изданий стал транспорт18. В подготовке книги уча-
ствовал многонациональный и, главное, мультидисциплинарный кол-
лектив: представители истории искусства, социальной истории,
литературные критики, специалисты в области медицины, а также му-
зееведения. Цель авторов заключалась в стремлении показать искусство
и литературу как социальные и культурные продукты в контексте путе-
шествий на доступных в ХУП - начале XIX вв. видах транспорта. Глав-
14 The New Cultural History... / Review by L. Nussdorfer. P. 75.
15 HobsbawmE. On History. N.Y., 1997. P. 69.
16 The New Cultural History / Ed. with introd, by Lynn Hunt. Berkeley, 1989.
17 См. подробнее: The New Cultural History... / Review by L. Nussdorfer. P. 77.
18 Transports: Travel, Pleasure, and Imaginative Geography, 1600-1830/ Ed. by
'. Chard and H. 1 ring don. New Haven, 1997.
466
История на перекрестках междисциплинарности
ные междисциплинарные принципы, примененные к объекту исследо-
ваний: деконструкция и насыщенное объяснение.
Культурная история брала одну крепость за другой. Объектом экс-
пансии новой культурной истории становились целые континенты. Ус-
корившаяся с начала 1990-х интеграция Европейского Союза (ЕС) по-
ставила перед историками еще один вызов. Свобода передвижения и
развивающийся туризм внутри ЕС заставил политиков, а затем ученых
и специалистов в области образования начать поиски обоснования но-
вой европейской идентичности в прошлом. Многие хотели, чтобы наро-
ды обрели скорее общеевропейскую, а не национальную память. Объем
исторической литературы с названием «Европейская история» увеличи-
вался. Главным, что объединяло историков в этих поисках, были иссле-
дования в жанре антропологии и культурной истории.
Наконец, Питер Берк в 2004 г. написал: «Мы на пути к культурной
истории всего на свете: снов, еды, эмоций, путешествий, памяти, жес-
тов, юмора, экзаменов и т.д.»19. Здесь стоит вспомнить еще раз о том,
что в конце 1980-х царила такая же эйфория в другом знаменитом на-
правлении новой историографии - социальной истории. Историки гото-
вились написать социальную историю всего на свете, а затем перейти к
«тотальной социальной истории»20.
«Культурный поворот» обретал все большую популярность среди
профессиональных историков. С начала XXI в. статьи в жанре новой
культурной истории появляются в каждом номере издающегося 42-й год
журнала Journal of Social History, который был одним из главных перио-
дических изданий направления новой социальной истории. К общепри-
знанным историческим журналам в 2003 г. прибавился еще один -
Cultural and Social History, созданный с явной целью соединения усилий
сторонников социальной и культурной истории.
Несмотря на всю постепенность развития истории, у некоторых
представителей этого ремесла создалось впечатление о слишком высо-
кой скорости перемен и отрицания прежних подходов. Тех из нас, кто
сделал недавно лингвистический, или культурный, или другой поворот,
пугает эта стремительность изменений. Часто задаваемые вопросы в
этом контексте: возможно ли, несмотря на все усилия, догнать какую-то
новую методологию? Не пропустили ли мы очередной поворот? Не от-
стаем ли мы безнадежно?
19 Берк П. Историческая антропология и новая культурная история...
20 Expanding the Past: A Reader in Social History... P. 6.
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
467,
Действительно, в современной историографии все развивается дос-
таточно быстро. Через десять лет после упомянутого выше первого сбор-
ника «Новая культурная история», в 1999 г. в США появился сборник
«Дальше “культурного поворота”»21. Среди редакторов и участников это-
го сборника была и Линн Хант. Авторы книги предложили подумать о
новых перспективах исследований. Если вы не выступаете, утверждали
они, за возвращение прежних методологических подходов, возможно, вы
двигаетесь дальше «культурного поворота», изучения «идентичностей»,
«ориентализма» и т.д. С 2002 г. на страницах журнала American Historical
Review идет дискуссия с обсуждением текстов, опубликованных в этом
сборнике. В частности, интересные мнения высказываются нс только по
поводу того, что будет дальше или после культурного поворота, но и что
нужно вернуть в новом значении из арсенала методов, существовавших
до культурного поворота. Например, спорят о том, как использовать та-
кие понятия как «класс» и «государство»22.
Новая культурная история не исчерпала свой наступательный по-
рыв, но она не выглядит теперь «плотоядным животным», она не по-
глощает параллельные тренды историографии, а обогащает их новым
методологическим содержанием.
Эволюция «новой истории досуга»: дисциплина на обочине?
История досуга в отличие от новой культурной истории еще не за-
вершила процесс становления как научная дисциплина. До конца XX
века история повседневности и ее неотъемлемая часть — история досуга
находилась на обочине основной дороги исследований историков.
История повседневности находится в поисках метода, благодаря
достаточно серьезным усилиям, предпринятым учеными разных наук.
Например, известный французский социолог и философ А. Лефевр по-
святил этой проблеме эссе «Каждый день и повседневность»23, в кото-
ром ему удалось интерпретировать существенные тенденции развития
повседневности от перехода к эре модернити до эпохи глобализма. Ле-
февр подметил, что до революций XVIII—XIX вв., знаменовавших на-
ступление эры модернити, дома, модели одежды, привычки, традиции в
еде и потреблении напитков, иными словами, многие стороны повсе-
дневной жизни людей, представляли собой удивительное разнообразие,
21 Beyond Cultural Tum: New Directions in the Study of Society and Culture.
Berkeley, 1999.
22 Suny R. G. Back and Beyond: Reversing the Cultural Turn // American Historical
Review. 2002. Vol. 107. N 5. P. 1476.
23 IjefebvrcH. The Everyday and Everydayness //Yale Erench Studies. 1987. N 73.
468
История на перекрестках междисциплинарности
не подчинявшееся никаким системам или структурам. По мере прибли-
жения к современности, по мнению Лефевра, возрастало стремление к
единообразию и однородности повседневной жизни, если судить с точ-
ки зрения архитектуры городов и формы предметов, которые окружали
человека24. Поэтому концепция повседневности, в оценке Лефевра, не
создает сама систему, а является скорее «общим знаменателем сущест-
вующих систем, включая юриспруденцию, педагогику, налоговые и
политические институты»25. Несмотря на некоторое противоречие в
оценке исторической эволюции повседневности, заключавшееся в том,
что переход к современности не отменяет многообразия ее форм, неко-
торые наблюдения А. Лефевра заслуживают внимания историков.
В настоящее время досугу людей прошлых эпох посвящают отдель-
ные главы или разделы в коллективных монографиях. Однако эти штудии
все-таки не считаются чем-то серьезным. Историков повседневности и
досуга все еще часто упрекают в потворстве дилетантским запросам о
прошлом, увлечении социологией и экономикой в ущерб истории, в при-
бавлении к научным исследованиям личных детских впечатлений. На-
пример, историки, пишущие о кино или поездках на отдых часто вклю-
чают свои субъективные детские и юношеские рефлексии в нарративы,
если их сюжет связан с не далекой по времени эпохой XX века26.
Все это происходит за рубежом: в США, Англии, Франции, Герма-
нии и других странах, где издается много интересных книг по истории
досуга людей разных эпох. Совершенно иная картина в российской ис-
ториографии, где историки занимаются исследованием досуга доста-
точно случайно, несмотря на то, что есть целая серия публикаций по
истории повседневности2 , а сам сюжет досуга чаще всего рассматри-
вают как вспомогательный предмет. Характерный образец - книга
Т. Дитгрич «Повседневная жизнь викторианской Англии»28. Понятна
цель книги: популяризация истории. Тем не менее, этот нарратив осно-
ван на литературных источниках, в основном, на сочинениях
Ш. Бронте, Ч. Диккенса, А. Конан Дойля. Для автора не важно, что про-
пущены существенные литературные, мемуарные и другие источники
эпохи, например, воспоминания У. Теккерея. Из предмета исследования
24 Ibid. Р. 7.
25 Ibid. Р. 9.
26 Lowerson J. Review Article: Starting from Your Own Past? The Serious Business
of Leisure History // Journal of Contemporary History. 2001. Vol. 23. N 3. P. 518.
27 Серия «Живая история. Повседневная жизнь человечества», выпускаемая
издательством «Молодая гвардия».
28 Диттрич Т. Повседневная жизнь викторианской Англии. М., 2007.
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
469
исчезли достаточно хорошо изученные историками сюжеты, в частно-
сти, досуг англичан XIX века. Книга, естественно, построена как попу-
лярное описание, и в ней не обсуждаются методологические проблемы,
нет глубокого, насыщенного объяснения процессов.
История досуга и спорта, появившаяся на Западе в конце 1950-х гг.
под мощным влиянием социальной истории, была во многом эклектич-
ной с точки зрения теоретических подходов и используемых материа-
лов. Однако в последние пятнадцать-двадцать лет второе поколение
историков досуга обретает академические рамки подходов к предмету
исследования. Об этом свидетельствует легкий ревизионизм в их рабо-
тах, заявления о пересмотре прежних концепций, а также быстрое ис-
чезновение неизученных в этой области тем и резкое расширение пред-
мета исследований. Иными словами, происходят тс же процессы, что и
в новой культурной истории.
Тем не менее, существуют достаточно серьезные трудности с оп-
ределением объекта и предмета исследования. Английский историк
П. Борсей отмечал, что досуг как предмет исследования расплывча-
тый, неясный, и к тому же обладает способностью перетекать в другие
области29. Подмеченный парадокс последних публикаций по истории
досуга состоит в следующем. Вес попытки определить досуг с точки
зрения противопоставления досуга/работы наталкиваются на противо-
речия. Обычно перечисляют всё, что связано с активной деятельностью
человека, относится к работе и не может считаться свободным време-
нем или досугом: сама работа, а также образование, религия, граждан-
ская активность (политика и волонтерская работа), «обыкновенная
жизнь» (включающая такие обязательные действия как сон, еда, секс).
Этот список ставит новые вопросы, и, прежде всего, проблему, а что
понимать под термином «работа»?30 Кроме того, хотя досуг обычно по-
стигают как время свободное от работы, историки незанятого времени
стараются обрисовать досуг в индустриальных обществах, где его естест-
венно больше, не отделяя его от рабочих часов. Например, популярны
исследования занятости в сфере досуга. Кроме того, трудно отделить ре-
лигиозные практики и досуг-отдых. В частности, в Средневековье и ран-
нее Новое время все возможности досуга у людей были связаны с религи-
озными праздниками. Известный немецкий католический философ Иозеф
Пипер посвятил в 1948 г. свой трактат обоснованию невозможности появ-
29BorsayP. A History of Leisure. The British Experience since 1500. N.Y., 2006.
P. 1.
30 Ibid. P. 1-2.
470
История на перекрестках междисциплинарности
ления культуры и самой религии в истории человечества без досуга31.
Образование, как уже говорилось, следует отнести к практикам, не свя-
занным с досугом. Тем не менее, хорошо известна на Западе новая массо-
вая традиция: получение пенсионерами диплома университета, которое
можно считать деятельностью, соединенной с «заслуженным отдыхом».
В поисках определения досуга в его самых «существенных качест-
вах» П. Борсей предложил три главные характеристики: «символ», «иг-
ру», идею «другой деятельности»32. Под «символом», он понимает идею
репрезентации, метафору какого-то иного феномена, чем обычная
жизнь. Под «игрой», подразумевается что-то синтетическое, нереальное
или экспериментальное. Идея «другой деятельности» связана с фанта-
зией человека о жизни, которая отличается от повседневности33. И все
же данное определение не выглядит исчерпывающим, поскольку пред-
ложенные «существенные» характеристики можно применять и к дру-
гим видам практик человека.
История досуга, как уже говорилось, использовала достижения но-
вой социальной истории. Однако в конце XX в., по мнению П. Борсея,
«дирижерская палочка новизны перешла к другим дисциплинам: куль-
турной и гендерной истории»34. В истории досуга, связанной к этому
времени еще с одним значительным направлением - urban studies, эту
перемену новизны отметили не как новую моду, а как поиски новых
подходов и окончательную смену парадигмы от «жесткой» к «мягкой»
социальной истории. «Жесткая» (hard) социальная история строилась
вокруг таких понятий как «классы», «классовая структура общества»,
«государство». Предложенная историками досуга «мягкая» (soft) соци-
альная истории двигается к новой культурной истории. На наших глазах
происходит что-то похожее на конвергенцию двух сильных историче-
ских дисциплин: социальной истории в «мягкой» форме и новой куль-
турной истории. Многие историки досуга, являясь по своему предыду-
щему опыту социальными историками, рассматривают общество как
культурный конструкт. Приоритет отдается исследованиям взаимодей-
ствия мифа, памяти и места, как инструментов познания общества и его
ключевых воззрений и практик.
31 Pieper J. Leisure: The Basis of Culture. South Bend, In., 1998.
32 Borsay P. A History of Leisure. P. 6.
33 Ibidem.
34 Borsay P. New Approaches to Social History. Myth, Memory, and Place: Mom-
mouth and Bath 1750-1900 // Journal of Social History. 2006. Vol. 40. N 4. P. 867.
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
471
Что можно использовать в рамках «новой истории досуга»
из новой культурной истории?
Новым поворотом в исследовании истории досуга может стать ис-
пользование методов, разработанных в новой культурной истории. В
частности, выявление «культурной непонятности» нового поведения
людей в области досуга. Источники показывают, что ни один новый
общественный слой нс знал как себя вести в рамках предлагаемого но-
вого поведения или новых практик в области досуга. По мнению неко-
торых историков, можно говорить о «культурной нервозности»
(“cultural anxieties ’’) даже элит в новой действительности.
Глубокое исследование одного из популярных видов досуга, прове-
денное А.-К. Эберт35, привело к интересным выводам о формировании
при помощи велосипеда идентичности нации в Нидерландах в 1880
1940 гг. Вместе с тем, автор использовала подходы, характерные для со-
циальной истории в ее «жесткой» форме: при анализе материала она ис-
пользовала такие понятия как «структура», «класс буржуа», «социальные
различия», «социальная мобильность», «переход к модернити»36. Снача-
ла, по оценке А.-К. Эберт, элита увлеклась ездой на велосипеде, а затем
эти новые формы иного поведения стали популярными у простых людей.
Здесь важно обратить внимание на то, что подобные процессы про-
ходили в конце XIX в. и в российских городах. В губернском Ярославле,
например, появилось в начале 1890-х гг. общество велосипедистов. Если
рассматривать это событие как простую иллюстрацию к рассказу об исто-
рии досуга горожан, а не как переход к модернити, можно не заметить два
важных обстоятельства: общество велосипедистов возникло в процессе
борьбы против навязанных городскими властями «Правил велосипедного
движения», ограничивавших репрезентации представителей ярославской
городской элиты. Они хотели появляться на велосипедах в самых людных
местах, во время народных гуляний, там, щс это запрещалось правилами,
введенными городской управой. Характерно, что в переписке с городски-
ми властями «ярославские велосипедисты» демонстрировали «инако-
вость» практик поведения. В частности, они доказывали, что отведенное
для велосипедных прогулок место находится на окраине, тогда как в ре-
альности это был почти центр города37.
35 Ebert A-К. Cycling towards the Nation: The Use of the Bicycle in Germany and
the Netherlands, 1880-1940//European Review of History. 2004. Vol. 11.N3.P.347.
36 Ibid. P. 363-364.
37 Дело об издании обязательных правил езды на велосипедах. ГАЯО. Яро-
славская городская управа. Фонд 509. On. 1. Д. 672д.
472
История на перекрестках междисциплинарности
Как уже говорилось, у социальной истории и новой культурной ис-
тории есть несомненное достижение, связанное с признанием наличия
культуры «у тех, кого не так давно свысока именовали “плебсом цивили-
зованных народов”». В конкретных исследованиях это выражается в от-
вете на вопросы, когда у людей формируется сознание горожанина, или
как, по словам Р. Дарнтона, «выявить диктовавшуюся улицей стратегию
выживания»38? Например, М. А. Макквиртер посвятила свое исследова-
ние истории досуга, который, по ее мнению, создал из афроамериканцев
настоящую городскую общину в столице США Вашингтоне. По мнению
Макквиртер, участвуя в досуге, афроамериканцы «предъявляли свои
права на город, в котором сегрегация была скорее частью привычки, чем
закона»39. Кроме того, через свой досуг жители Вашингтона узнавали, по
словам автора, как «плавать по урбанистическому ландшафту»40.
Призыв антропологов и историков культуры «поймать инаковость»
или «схватить чуждость» может быть реализован с помощью использова-
ния методов французского социолога и антрополога П. Бурдье, исследо-
вавшего роль социальных структур в воспроизводстве образцов власти и
неравенства. Бурдье ввел (1983 г.) понятие «социальный капитал» для
обозначения социальных связей, которое могут возникать в результате
различных социальных практик и становиться средством достижения
групповой солидарности41 42. Концепция «социального капитала» привлек-
ла внимание исследователей еще в начале 1990-х гг. Постепенно историки
начали изучать «социальный капитал» как первоначальную связь между
досугом и становлением гражданства в различные эпохи. А в настоящее
время концепция «социального капитала» все чаще повторяется в призы-
вах к исследованию новых областей в истории досуга .
Несмотря на то, что у новой культурной истории сложилось весьма
противоречивое отношение к таким концептам как «государство», его
все-таки используют для изучения отношений между людьми в про-
шлом. В истории досуга особенно в Европе весьма распространенным
38 Дарнтон Р. Великое кошачье побоище... С. 7.
39 McQuirter М. A Claiming the City. African Americans, Urbanization, and Lei-
sure in Washington, D.C. 1902-1957. Diss, for the degree of Doctor of Philosophy (Histo-
ry). The University of Michigan, 2000. P. 3.
40 Ibid. P. 11.
41 http://bourdieu.name/content/kapital-socialnyj/
42 T. D. Glover, J. L. Hemingway. Locating Leisure in the Social Capital Literature //
Journal of Leisure Research. Arlington: Fourth Quarter 2005. Vol. 37, Iss. 4
(http://proquest.umi.com/pqdweb?did=950676791 &Fmt=3&clientId=l 1920&RQT=309&
VName=PQD).
А. С. Ходнев. Новая культурная история...
413
было мнение о том, что государство не занималось систематическим кон-
тролем свободного времени своих граждан43. В действительности госу-
дарство активно держало руку на пульсе в этой области. При этом необ-
ходимо разделять активность институтов центральной и локальной
власти. В 2006 г. на страницах Journal of Social History проходила дискус-
сия, во вводной статье к которой уже упоминавшийся П. Стирнс подчер-
кивал, что призывы «вернуть» государство в исследовательское поле зву-
чали давно. Но не в простых схемах взаимоотношений классов и
государства. «Влияние культурной истории показывает новые подходы,
основанные, однако, на хорошем знании происхождения власти и госу-
дарства»44. Следовательно, современное поколение историков возвращает
в практику понятие государства в «мягкой» форме. Исследуется не только
происхождение государства, но так называемое «неформальное государ-
ство», включающее мотивы государства, группы интересов, группы влия-
ния, «разделенное государство»45, а также вновь найденные в государстве
группы — кванго46 47 (quango). Изучение подобных форм существования
государства поможет расширить инструментарий истории досуга.
История потребления также является важным поворотом в исследо-
вании истории досуга, т.к. использует многие достижения новой культур-
ной истории. Это, прежде всего, изучение покупок в свободное время,
_______________________________ __ vz 47
походов в рестораны, поведения людей, их практик и настроении .
Итак, новая история досуга становится настоящей научной дисцип-
линой, ломающей конвенциональные дисциплинарные границы. В этом
процессе главное противоречие современной истории в целом, любая
область которой не может не пережить эволюцию в направлении развития
междисциплинарности. Возможно, в случае осознания этих процессов,
используя междисциплинарную «мягкую» методологию, уверенно прохо-
дя зигзаги на новой дорожной карте истории, современный историк и не
отстанет в своих исследованиях.
43 Borsay Р. A History of Leisure. Р. 43.
44 Stearns Р. Issues of Power in Social History and the State // Journal of Social His-
tory. 2006. Vol. 40. N 3. P. 738.
45 Borsay P. A History of Leisure. P. 54-73.
46 Кванго (quango) - общественные совещательные или полуадминистратив-
ные организации, созданные при поддержке властей.
47 См.: The Politics of Consumption: Material Culture and Citizenship in Europe
and America/ Ed. by M. Dauton and M. Hilton. N.Y., 2001; Hilton M. Review Article:
Class, Consumption and Public Sphere // Journal of Contemporary History. 2000. Vol. 35.
N 4. P. 655-666; Stearns P. Stages of Consumerism: Recent Work on the Issues of Peri-
odization//The Journal of Modem History. 1997. Vol. 69. N l.P. 102-117.
ИСТОРИОГРАФИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ
Т. Н. Попова
ИСТОРИОГРАФИЯ
В КОНТЕКСТЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИСТОРИИ
Наша особенность состоит в постоянном
преодолении собственного сознания.
Акутагава Рюноскэ
Ремарка предваряющая. В современной науковедческой литературе
проблема дисциплинарной истории не является новацией: она получила
многочисленные варианты своего решения, как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне, хотя споры о «гражданском статусе» дисципли-
нарной истории и методах ее изучения не прекращаются1.
Дисциплинарная история стала неотъемлемой составляющей и со-
временной интеллектуальной истории. В то же время, как замечает
Л. П. Репина, в отношении истории исторической науки вопрос об изу-
чении ее дисциплинарной истории вообще не ставится, поскольку исто-
риография этой древнейшей области знания никогда не ограничивалась
«дисциплинарными» рамками, захватывая обширные территории «ин-
теллектуального ландшафта» разных эпох2. Справедливо отмеченный
факт бытия истории исторической науки отражает, однако, традиции
западной (символически) науки, в границах которой, действительно,
дисциплинарного оформления этой области знания не произошло. В рос-
сийском и украинском научном поле3 наблюдалась иная картина: история
1 См.: Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная ор-
ганизация науки. М., 1980; Сычова Л. С. Современные процессы формирования наук.
Опыт эмпирического исследования. Новосибирск, 1984; Дисциплинарность и взаи-
модействие наук. М., 1986; Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки: ее гене-
зис и обоснование. М., 1988; Functions and Uses of Disciplinary Histories. Boston, 1983;
Аллахвердян А. Г, Агамова H. С. Эволюция дисциплинарной структуры науковедения
и становление «демографии науки» как новой субнауковедческой дисциплины //
Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. М., 2005. С. 43-58;
Оноприенко В. И. Науковедение: поиск еистемных идей. К., 2008; Руда С. П. Станов-
ления М1кробюлопчно! науки в УкраТш: гносеолопчш та шетитушональш аспекти:
Автореф. дис. .. .докт. ict. наук. К., 2001; Кузнецова Н. Возможна ли дисциплинарная
история науки? И Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 99-113 и др.
2 См.: Репина Л. П. Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи ин-
теллектуальной истории // Диалог со временем. 2005. Выл. 15. С. 5-14.
3 Под «российским и украинским научным полем» мы понимаем научную
традицию, сформировавшуюся в университетах Российской империи (XIX - начало
XX вв.) и получившую свое дальнейшее развитие в советскую эпоху.
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
475
исторической науки в диапазоне своего более чем столетнего развития
(XIX вторая половина XX вв.) обрела официальную «нишу» в класси-
фикационных схемах исторических наук (сначала вспомогательная, за-
тем — специальная историческая дисциплина), собственный дисципли-
нарный статус и дисциплинарное имя («историография») и состоялась как
социокогнитивная система со всеми атрибутами дисциплинарности.
Стремительно расширяя в современном научном пространстве диа-
пазон своего проникновения в исследовательскую практику, являясь, по
сути, «маркером идеологии профессионализма», историография, тем не
менее, оказалась ныне в глубоком институциональном кризисе, заняв чуть
ли не «полумаргинальное положение»4 в семействе исторических наук.
Перефразируя Люсьена Февра («...нет истории. Есть историки»),
можно сказать: нет историографии, есть историографы и их «игры» с
идентичностью приводят к постоянной «реактуализации правил»5. О ка-
ких «новых правилах» пойдет речь? о каких «старых правилах» мы уже
запамятовали? — в любом случае наш взгляд должен быть сфокусирован в
плоскость понимания двух взаимосвязанных проблем - «дисциплинарно-
сти» и регионально-темпоральной специфики «дисциплинарных миров».
О «монстре» дисциплинарности. В бесконечных поисках пана-
цеи от всех бед профессионального историописания ярко высветилась
идея «раздисциплинирования» традиционных гуманитарных предметов,
идея «упразднения предписаний», которые традиционно формируются в
границах дисциплинарности6. Тенденция, направленная против «дисци-
плинарного сепаратизма», свойственного «модерной эпохе», и ориенти-
рованная на достижение целостного знания, детерминировала в воспри-
ятии многих представителей ученого цеха и главную конфигурационную
линию в организационном движении знания: «дисциплинарность — меж-
дисциплинарность (интердисциплинарность) - полидисциплинарность».
4 См.: Репина Л. П. Профессиональное историческое образование в России:
современное состояние и перспективы развития // Диалог со временем. 2004.
Вып. 13. С. 6; Корзун В. И., Рыженко В. Г. Поиск нового образа историографии в
современном интеллектуальном пространстве // Мир Клио. Т. П. М., 2007. С. 269.
5 См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности.
Работы разных лет. М., 1996. С. 69.
6 См.; Эксле О. Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре:
размышления о повороте в сторону наук о культуре // Одиссей: Человек в истории.
2003. М., 2003. С. 394, 412; Маловичко С. И., Булыгина Т. А. Современная историче-
ская паука и изучение локальной истории (вступительная статья) // Новая локальная
история. Вып. 1. Новая локальная история: методы, источники, столичная и провин-
циальная историография: Материалы первой Всероссийской научной Интерпет-
конференции. Ставрополь, 23 мая 2003 г. Ставрополь, 2003. С. 14.
476
Историография и ее история
Постмодернистская парадигма - интердисциплинарная по своей сути -
привнесла существенную лепту в «смешение границ» не только «внутри»
территории научного знания, но и обозначила проблему интеграции всех
видов и форм познавательной деятельности - «научных» и «нс-научных».
Новый «вызов» - «эстетический» - в очередной раз нанес удар по науч-
ной истории, серьезно поколебав ее профессиональные основы.
Освоение новой историографической культуры - процесс не одно-
актный. Наше сообщество оказалось не просто между новым и старым,
но между разными “дисциплинарными мирами” в то время, когда эти
миры вступили в полосу кардинальной трансформации. В современной
науке “передний край” приобрел значительное ускорение в выработке
новых идей, которые не успевают адаптироваться в привычных дисцип-
линарных арьергардах. Столкновение с западной историографией и од-
новременно решительное отторжение марксистской методологии (в ос-
новном - ее вульгаризированного образа) создало своеобразную
ситуацию: новые термины стали использоваться как кодовые слова,
призванные засвидетельствовать новизну подходов того или иного ав-
тора, его легитимацию в новом теоретическом пространстве.
В связи с этим и тезис «ингердисциплинарности» превращается
подчас в обязательную декларацию передовых позиций, в методологиче-
ское клише, напоминая нечто из прежней жизни, а «монстр дисциплинар-
ности» заставляет многих отказываться от привычной корпоративности.
Между тем, «единение» двух полярностей - «дисциплинарности» и
«междисциплинарности» - выразилось в том, что именно размах меж-
дисциплинарных исследований (как один из факторов) вызвал к жизни
постановку проблемы самой научной дисциплины, дисциплинарности
как таковой, а затем и проблему соотношения между дисциплинарной и
проблемной, монодисциплинарной и интер/ мульти/ поли/ транс/ кросс-
дисциплинарной организацией науки. И вряд ли эти проблемы в реалиях
современной историографической ситуации стоит разделять.
В литературе уже было обращено внимание на то, что наряду с
бесспорными достижениями в области кросс-дисциплинарных исследо-
ваний последних десятилетий явст’венно обозначился своеобразный
«парадокс»: вместо ожидаемой когнитивной интеграции, создания ус-
ловий для обретения нового исторического синтеза появилось «много
историй», процесс «фрагментации исторической науки» стал практиче-
ски необратим, а ее «дисциплинарное семейство», теряющее хрестома-
тийных облик, постоянно пополняется новыми проблемными полями,
настоятельно стремящимися к обретению своего дисциплинарного ста-
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
477
туса. С другой стороны, вопреки «междисциплинарной риторике» ака-
демические структуры достаточно прочно сохраняют «старые» образцы
организации, в связи с этим и многочисленные оценки междисципли-
нарных подходов испытывают «колебание» между двумя полюсами:
апофеозом междисциплинарных достижений и перспектив и результа-
тами реальной профессиональной практики.
«Спокойный» взгляд на две, казалось бы, полярные формы органи-
зации науки позволяет констатировать их взаимодополняемость: если
междисциплинарность даст возможность увидеть привычные исследова-
тельские объекты в разных ракурсах, расширить методологический инст-
рументарий их освоения, способствует установлению «критической дис-
танции» по отношению к многочисленным способам репрезентации
исторической реальности, не давая возможности «оказаться в плену» ни у
одного из них (Л. П. Репина), то дисциплинарность сохраняет свое функ-
циональное предназначение в когнитивно-социокультурном пространстве
как арьергардная система апробированных нормативов историописания.
Дисциплинарный массив знания, постоянно пополняемый, вне зависимо-
сти от применения либо «автохтонных», либо различных иных методик в
границах типологии кросс-дисциплинарных исследований, по-прежнему
остается базовым достоянием дисциплинарного сообщества и одновре-
менно щедро поставляется на «общий рынок» науки (Ф. Бродель).
В восприятии современных ученых историческая наука предстает
как сложная система институциональных, организационных форм, дис-
циплинарных предписаний, формирующих и закрепляющих различные
системы представлений («культурно-исторические образцы») об исто-
рическом знании, профессии и профессионализме, их преемственности
и изменениях; как «гетерогенная интеллектуальная система», в которой
должны «сосуществовать» в рамках единого академического сообщест-
ва специалисты, идентифицирующие себя с различными дисциплинар-
ными, методологическими, идейно-политическими, социальными и
прочими «группировками». Перед историками выдвигается задача пре-
одоления разнонаправленности субдисциплинарных векторов с целью
выбора новой перспективы, которая была бы способна их «переориен-
тировать и упорядочить, но не игнорировать»7. Эти идеи, бесспорно,
7 См.: Ястребицкая А. Л. О культур-диалогической природе историографиче-
ского: взгляд из 90-х // XX век: Методологические проблемы исторического позна-
ния: Сб. обзоров и рефератов: В 2 ч. М., 2001. 4.1. С. 6-7; Зверева Г. И. Обращаясь к
себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со
временем. 1999. Вып. 1. С. 261-262; Репина Л. П. Интеллектуальная история сего-
дня; проблемы и перспективы // Диалог со временем. 2000. Вып. 2. С. 8.
478
Историография и ее история
нацелены на сохранение «территории истории» в целом, на упрочение
«единого академического сообщества» историков, какие бы дисципли-
нарные «векторы» они не представляли, на толерантность взаимоотно-
шений субдисциплинарных интеллектуальных сообществ. Сама уста-
новка «полидисциплинарного синтеза» на основе проблемной
организации науки предполагает «сличение» специфических для каж-
дой дисциплины «вопросников, методов, языков и толкований», анализ
разнообразных «хорошо обоснованных комментариев социальных объ-
ектов», полученных от конкретных дисциплин, в соответствии с про-
блематикой и концептуальным инструментарием определенных «дис-
циплинарных традиций» (Б. Лепти).
«Дисциплинарность», безусловно, категория «классической науки»,
артефакт декартова «индукгивизма», ньютоновской «механистической
модели мира», бэконовского «методологического сепаратизма», когда в
поисках «универсальной» истины целостность мира разделяли на состав-
ляющие, и эти фрагменты реальности определяли предметную установку
конкретного блока знаний. «Неклассическая наука», направив острие
рефлексии на «субъект познания», поколебала традиционные критерии
систематизации научного знания. Социально и антропологически ориен-
тированные «повороты» в научном познании обусловили выдвижение на
первый план не «предмета науки», а ее «субъекта». В отличие от «жестко-
го образа» дисциплинарности с приоритетом четкой конфигурации
«предмета науки» (модель XVH-XIX вв.) наметился переход к более
«гибкой версии» научной дисциплины, ведущей характеристикой которой
выступила категория «научное сообщество».
Введенное понятие «фактор институционализации»8 соотносится
со структурированностью поведения ученых и значений терминов, при-
нятых в отдельной исследовательской области, т.е. конкретным коллек-
тивом, профессионализм которого маркируется блоком дисциплини-
рующих нормативов. Для того чтобы принадлежать конкретной
дисциплине ее репрезентант должен создавать свой «дискурс» в соот-
ветствии с определенным типом «теоретического горизонта», а его суж-
дения будут формулироваться в определенном коридоре значений и
терминов, которые приняты дисциплинарным научным сообществом.
«Функция взаимопризнания» при этом остается важнейшей: члены кон-
8 Уитли Р. Когнитивная и социальная институционализация научных специ-
альностей и областей исследования // Научная деятельность: структура и институты.
Сб. переводов / Сост., общ. ред. и вступ. статья Э. М. Мирского и Б. Г. Юдина.
М„ 1980. С. 220.
Г. Н. Попова. Историография в контексте...
479
крстной дисциплинарной корпорации признают одних и тех же лиц в
качестве своих лидеров и в границах общей традиции развивают собст-
венную исследовательскую линию9. Индекс цитирования наглядно де-
монстрирует сложившееся положение вещей.
В условиях плюралистичности и толерантности научных позиций,
определенной «размытости» традиционных «дисциплинарных ланд-
шафтов» ситуация внутри научного сообщества в целом, тем не менее,
радикально не изменилась. Можно, безусловно, говорить о значительно
большей внутренней свободе отдельного исследователя, о более значи-
тельном пантеоне «титульных лидеров», о расширении «теоретического
горизонта» и т.п. Но не преобладает ли декларативность над действи-
тельной победой «полифундаменталистского мышления»? И «крайне
левые» (причем, в большей мерс — адепты, нежели отцы-основатели) на
«переднем крае» науки не утверждают ли свои открытия в нигилисти-
ческом противостоянии с «традиционными»? Внедрять новые идеи все-
гда проще, «если воспринимать их как протест против старых»
(И. Валлерстайн). Однако, разворачивая флаг «новизны», стоит четче
соотносить «теоретические схемы» с реальной практикой В этом плане
вряд ли уместно жестко «диахронировать» и организационные формы
науки: тезис о «смене» дисциплинарной организации науки (архаичной
формы) проблемной организацией сегодня практически утвердился.
И это при всей «борьбе» с «линейным» мировидением!
«Дисциплинарность» и «проблемность» - два типа организации
научно-исследовательской работы, дополняя и восполняя друг друга,
образуют, тем не менее, неразрывное целое науку, многоструктурное,
многоуровневое и полисистемное образование. Структура науки более
напоминает «проблемно-дисциплинарный» тип. Ес «передний край»
всегда организован проблемно и часто исследовательская проблема ле-
жит на «перекрестке» дисциплинарных «территорий», вызывая к жизни
междисциплинарные методики и создавая собственное «проблемное
поле». Определение направлений «новой исторической науки» как
«проблемных полей»10 наглядно отражает данный факт. Дисциплинар-
ная же организация науки - как арьергард, «жесткое ядро» - выступает
в качестве канала, обеспечивающего социализацию достигнутых на
9 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии.
М., 1985. С. 234-235.
10 Румянцева М. Ф. Целостность современного гуманитарного знания: необхо-
димость и возможность // Единство гуманитарного знания: новый синтез: Материа-
лы XIX международной научной конференции. М., 2007. С. 47.
480
Историография и ее история
когнитивном уровне результатов, превращая их в «культурно-
исторические образцы». При этом следует учитывать «двуликий образ»
дисциплины, включающей в себя свой «учебный лик» - наиболее «кон-
сервативный» с точки зрения своей функциональности. Его главная
цель - сохранение и передача традиций - «дисциплинарной матрицы»,
воспроизводство научного сообщества в общепринятых для конкретно-
го этапа развития науки профессиональных нормативах.
Проблемно-дисциплинарная структура науки предполагает учет
следующих моментов: во-первых, проблемную и дисциплинарную фор-
мы организации науки можно рассматривать как полярные (и при син-
хроническом анализе научной деятельности, и при диахроническом
подходе к ее изучению), но отнюдь не единственные: между ними, без-
условно, существует целый ряд «промежуточных» форм и уровней; их
репертуар (учитывая наличие «терминологического хаоса» не только в
области «родной» исторической науки) определяется различными на-
именованиями исследовательских групп (сообществ), которые разнятся
формами когнитивной доктринальности и социально-организованной
интегрированности; во-вторых, проблемно ориентированный тип орга-
низации науки не исключает наличия «дисциплинирующих норм» и
различного рода «регулятивов», напротив, их наличие необходимо (хотя
и имеет, разумеется, свою специфику по сравнению с дисциплинарным
уровнем организации (как и с иными - «промежуточными»), ибо связа-
но с «фактором институционализации».
«Дисциплина» в широком значении этого слова - неотъемлемая
форма социального бытия. Пронизывая все сферы социума, устанавли-
вая правила общественных связей и отношений, поддерживая и сохра-
няя (в том числе - в передаче традиций) некий «порядок вещей», дис-
циплина способствует нормальному функционированию и
воспроизводству социума. Институционально-дисциплинарные процес-
сы в науке как компоненте социокультурного организма в целом имеют
относительную автономию и неразрывно связаны с единым «регламен-
тационным» цивилизационным процессом. В рснове «движения» - не
только «рефлексивные размышления» интеллектуалов, представителей
научного сообщества, но и много иных, отнюдь «не-научных», факто-
ров, которые влияют на «реактуализацию правил» и трансформацию
«институциональной среды».
Рассматривая дисциплину как некую целостность, инвариантную
во времени схему, нельзя не учитывать и открытость этой системы, и
исторически преходящий характер содержания всех ее компонентов,
идет ли речь о составе дисциплинарного знания, составе научного со-
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
481
общества, критериях научности, содержательном наполнении оценок и
пр.11 12. «Дисциплинарность», регламентирующая мир науки, продолжает
свое бытие, но, безусловно, каждая новая эпоха со своими социокуль-
турными катаклизмами вносит коррективы в систему «дисциплинарных
миров» и в собственно «дисциплинарный образ» как таковой.
О дисциплинарных традициях. Известно, что наука — часть куль-
туры (и это, отнюдь, не новация последнего времени). Дисциплинарная
структура науки феномен реальный и одновременно — фантом. Про-
цесс «дисциплинизации» всегда имеет не только конкретно-временную
окраску, но и регионально-национальную. Дисциплинарные традиции
вписаны в общий контекст специфики культурного развития опреде-
ленного социума (государства). Причем часто в этом процессе задейст-
вованы и политико-идеологические мотивы.
Институциональным стержнем, определяющим дисциплинарную
доктринальность, маркером самоидентификации, соотнесения с кон-
кретной научной (историографической) традицией выступает «имя»
научной дисциплины, в котором сконцентрирована социальность ког-
нитивного образования. Бесспорен факт, что при единстве научного
поля, наименования его отдельных составляющих и их статус подчас
различны в регионально-темпоральной проекции. К подобным областям
исторического знания относятся, в первую очередь, рефлексивные дис-
циплины: методология истории, источниковедение и историография
как история исторической науки, которые приобрели дисциплинарный
статус специальных исторических дисциплин в российской и украин-
ской традиции (и ряде иных «восточных» регионов), и имеют иные
формы своего существования в западной традиции.
В английском «официозе», например, термин historiography означает
«писание истории», и, в первую очередь, «писание истории» на основе
критической проверки источников, т.е. профессиональную историческую
науку. Одновременно этот же термин включает в себя «теорию и историю
исторических писаний», «историю истории». Для обозначения развития
«историописания» в целом и истории исторической науки употребляются
понятия history of history и history of historiography. Последний фиксиру-
ется официальным изданием не ранее последней трети XX века . Дисци-
11 Мирский Э. М. Массив публикаций как источник информации о научной
дисциплине // http: И www.courier-edu.ru / pril / posobie /mirdis.htm.
12 Encyclopaedia Britannica. Index to Volumes 1 to 23. Vol. 11. 1968. P. 529; The
New Encyclopaedia Britannica. Vol. 20; Macropaedia I Knowledge in Depth. 15th ed.
1994. P. 343, 559.
482
Историография и ее история
плинарное оформление истории историографии как формы исторической
рефлексии в западной науке не состоялось.
Термин «историография» относится к числу полисемантичных.
Его применение с XVIII века начиналось как определение процесса ис-
ториописания и самой исторической науки. В XIX веке на волне про-
фессионализации исторического знания в связи со складыванием и ре-
формированием университетской системы термин «историография» в
значении синонима исторической науки утверждается практически во
всех европейских странах, в том числе - в границах Российской импе-
рии. Одновременно широкое распространение получает второе значе-
ние этого термина, истоки которого в общеевропейской традиции также
в XVIII веке - историография как систематизированный по определен-
ным признакам (проблемному, регионально-хронологическому, теоре-
тическому, культурно-типологическому и пр.) блок исторической лите-
ратуры. Именно эта линия составила основу формирования т.н.
«критического направления» в исторической науке и, по сути, стала ба-
зой для выделения на протяжении XIX - начала XX вв. в системе исто-
рического знания его историко-научной составляющей в форме уже
самостоятельного научного направления исторических исследований. В
университетах Российской империи эта линия трансформировалась в
учебную дисциплину и определила третье значение термина «историо-
графия» как истории самого исторического знания. Многочисленные
историографические курсы - специальные, а затем общие - стали нор-
мой учебного процесса на историко-филологических факультетах. «Ди-
дактический» фактор стимулировал естественный процесс формирова-
ния рефлексивного знания, в котором «рефлексивное острие» к концу
XIX века было устремлено на эпистемологическую проблематику, и со-
действовал усилению процесса институционализации и дисциплинарного
формирования историографии как истории исторической науки.
Советская наука, получив в наследие эту триаду основных значе-
ний, в последнее тридцать лет своего существования институционально
закрепила следующие нормативы: термин «историография» в значении
синонима исторической науки стал считаться «архаичным»; второе зна-
чение термина сохранилось без особых изменений; третья линия приве-
ла к конституированию специальной дисциплины, проблемное поле
которой определяли в широком диапазоне: история исторического зна-
ния и исторической науки как социального института. В рамках самого
историографического знания сформировалось новое направление, вы-
ражающее рефлексию собственно историографии и получившее назва-
ние «история историографии». Завершение когнитивной и социальной
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
483
институционализации и дисциплинарное оформление историографии
способствовало се утверждению как методологической дисциплины в
иерархии «дисциплинарного семейства» исторической науки.
«Родоначальники» новой дисциплины - С. М. Соловьев,
В. О. Ключевский, П. Н. Милюков (Московский университет),
К. Н. Бестужев-Рюмин, Н. И. Кареев, А. С. Лалло-Данилевский (Санкт-
Петербургский университет), В. С. Иконников (Киевский университет
Св. Владимира), А. Г. Брикнер, П. М. Бицилли (Новороссийский уни-
верситет) и другие блистательные ученые заложили основы для воспри-
ятия историографии в широком проблемном диапазоне.
В 1960-80-е годы советские историографы во многом сохранили
(«по умолчанию») традиции «дореволюционной» науки: «перекличка»
поколений, несмотря на разные методологические ориентиры, проявля-
ла себя в подходах к пониманию сущности конституировавшейся дис-
циплины: как части истории культуры (П. Н. Милюков — М. В. Нечкина
и др.), как части истории науки (А. С. Лаппо-Данилевский —
А. М. Сахаров и др.) и пр. Классики науки историографии в советскую
эпоху - Н. Л. Рубинштейн и О. Л. Вайнштейн были воспитанниками
Новороссийского университета. Уже к середине 1960-х гг. (в результате
бурных дискуссий по проблемам истории исторической науки) совет-
скими историографами и науковедами на основах «обновленного мар-
ксизма» был преодолен социологический редукционизм в понимании
факторов развития науки и синдром «контраверзы интернализм-
экстернализм». К началу 1990-х дисциплина «историография» включала
как когнитивные, так и социокультурные аспекты истории историче-
ской науки и исторического познания; в структуру историографических
исследований входили относительно самостоятельные направления:
проблемная историография, биоисториография, региональная историо-
графия, история историографии, история исторических учреждений и
исторического образования и пр.
Историографическая ситуация последующего десятилетия в неза-
висимых государствах «постсоветского» научного сообщества характе-
ризовалась, на наш взгляд, своеобразным пересечением трех линий.
Первая была представлена т.н. традицией «разрушения традиций» (от-
нюдь не новой, но в новом облике), которая в данном случае выража-
лась в гиперкритицизме и нигилизме по отношению ко всему наследию
советской исторической науки13. Вторая - акцентом на традиции, суще-
13 Подчас это имело декларативный характер: анализируя издания 1990-х -
начала 2000-х гг., можно сделать вывод: авторы, широко используя советскую лите-
484
Историография и ее история
ствовавшие в области историографических исследований в российской
науке XIX — начала XX вв., особым интересом к исторической и исто-
риографической литературе этого периода, и здесь приоритеты вполне
закономерно были ориентированы на сугубо национально-этническое
наследие. Третья - устремленностью к традициям западной науки.
Столкновение этих линий определило следующую картину:
1) многие достижения советской науки были отринуты или забыты в сре-
де «широких» историков; 2) обращение ко второй линии в разработке
«нового» образа национальных историографий способствовало заимство-
ванию, по сути, традиций XIX века, которые характеризовались началом
дисциплинарного оформления истории исторической науки; 3) третья
линия привела к активному включению терминологии западной науки
(что способствовало «размыванию» смысловых акцентов историографии
в практике сегодняшнего дня), к попыткам пересмотреть «дисциплинар-
ную нишу» и «содержательное поле» истории исторической науки14.
В традициях западной науки проблемное поле истории историче-
ской науки (познания) распределилось среди ряда дисциплин: интел-
лектуальной истории, социальной истории, собственно историографии
как исторической науки, эпистемологии истории, теории истории, фи-
лософии истории и пр. По существу, до последнего времени практика
исследований по истории исторической науки в западной традиции ха-
рактеризовалась определенным «изоляционизмом»: когнитивные пара-
метры были объектом изучения интеллектуальной истории, философии,
теории и эпистемологии истории; социальная проблематика включалась
в сферу социальной истории, социологии науки и т.д. Соединение ког-
нитивных и социокультурных параметров в единой плоскости исследо-
ваний стало для западной науки новацией последних десятилетий.
Следует учитывать еще один момент: в начале XX века в россий-
ских университетах появляется новая тенденция: на кафедрах русской
истории утверждается практика чтения общих и специальных курсов по
историографии, тогда как «всеобщники» от историографических курсов
(или наряду с ними) начинают переходить к чтению курсов по теории и
методологии истории15. Возможно, этот историографический факт от-
ратуру 1960-1980-х гг. при полном отсутствии ее критики, обычно ограничивались
выпадами против марксистской методологии во вводной части своих опусов.
14 См. подробнее: Попова Т. Н. Историотрафия в лицах, проблемах, дисципли-
нах: Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007.
15 Этот факт, отмеченный в свое время представителями школы историогра-
фов Воронежского университета (Алленов С. Г., Матвеева М. С., Чесноков В. И.
К вопросу о преподавании историографии в университетах дореволюционной Рос-
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
485
ражает специфику образования дисциплинарных форм исторической
рефлексии в европейской университетской традиции по сравнению с
традициями, утверждавшимися в системе университетов Российской
империи. В европейских университетах (а от них и в университетах
США) рефлексивное историческое знание получило свое дисциплинар-
ное оформление только в курсе «методологии истории», в российских
университетах дисциплинарно оформлялись на протяжении XIX - на-
чала XX в., по меньшей мере, три формы исторической рефлексии: ис-
ториография как история исторической науки, методология истории и
источниковедение (теоретическое). «Всеобщники», как специалисты
прежде всего по западноевропейской истории, испытывали в значительно
большей степени влияние европейских университетских традиций, неже-
ли «русисты» (не будем забывать и о том, что согласно университетским
уставам стажировка в западноевропейских университетах предоставля-
лась в обязательном порядке только стипендиатам-«всеобщникам»), от-
сюда - широкий репертуар разрабатываемых ими курсов теоретико-
методологического характера, но одновременно они были включены в
практику «отечественного» университетского процесса, отсюда — много-
численные курсы по историографии и источниковедению.
Если обратиться к генезису институционализации историографии в
России16, то среди «фундаторов» новой области мы также увидим, прежде
всего «русистов». Фундаментальное обоснование специфики этого про-
цесса еще впереди. Возможно, в поиске причин дисциплинарной само-
бытности стоит прислушаться к замечаниям В. О. Ключевского об осо-
бенностях формирования исторической науки в России и на Западе.
Западная наука начиналась, по его мнению, с работы «над источниками
истории античного мира», т.е. «почти исключительно» литературными
памятниками, произведениями «личного творчества»; соответственно
вырабатывались и доведенные «до педантизма твердые приемы» истори-
ческой критики. Источники русской истории - преимущественно летопи-
си и акты, которые - в значительной мере - «писания без писателей»: их
изучение потребовало и несколько иных «критических приемов»17. Веро-
ятно, следует учесть и тот факт; что институционализация русской исто-
сии // Проблемы истории отечественной исторической науки. Воронеж, 1981), был в
полной мерс подтвержден материалами по истории исторического образования в
Новороссийском университете.
16 См.; Колесник И. И. Истори01’рафическая мысль в России: от Татищева до
Карамзина. Днепропетровск, 1993 и др.
17 Ключевский В. О. Источниковедение. Источники русской истории. Лекция
1 // Ключевский В. О. Сочинения в 9 т. Т. VII. Специальные курсы. М., 1989. С. 8-9.
486
Историография и ее история
рии как научной дисциплины на протяжении XVIII - середины XIX вв.
опережала процесс институционализации всеобщей истории. Ведущим
же параметром когнитивной институционализации (одной из сторон
«дисциплинизации») является формирование блока рефлексивного зна-
ния, основными дисциплинарными формами которого в области истории
выступают методология и история исторической науки.
В советскую эпоху тон в «дисциплинарном движении» историогра-
фии также задавали «отечественники»: М. В. Нечкина как глава проблем-
ного совета по «Истории исторической науки» при Отделении истории
АН СССР, позже - И. Д. Ковальченко. Достаточно жесткая регламентация
бытия научного сообщества в СССР (не исключая при этом «длящуюся
традицию» из предшествующей эпохи!), способствовала тому, что вектор
«национальной» (а, по сути, методологической, учитывая «официоз» идеи
«противоборства» советской и «буржуазной» науки) специфики преобла-
дал над международной историографической практикой. Тем не менее,
«дисциплинарная длительность» историографии (от второй половины
XIX до второй половины XX вв.) в «отечественной» традиции - усилиями
и русистов, и «всеобщников» - предоставила на «общий рынок» социо-
гуманитарного знания значительный научный капитал18.
Сегодня историографическая область в восприятии даже ее репре-
зентантов (не говоря уже о представителях научного сообщества исто-
риков в целом) не имеет четкой конфигурации ни по предметно-
содержательным, ни по формальным признакам, включая самоназвание.
К ведущим факторам, обусловившим эту тенденцию, можно отнести, на
наш взгляд, во-первых, сближение с западной наукой и ее традициями;
во-вторых, обращение к отечественным традициям XIX - начала XX в.;
в-третьих, «оппозицию» в отношении традиций советской науки; в-
четвертых, специфику историографической и общенаучной ситуации
«эпохи постмодерна».
Ремарка заключающая. Сохранение дисциплинарного статуса за-
висит от выработки оптимальной стратегии по его укреплению, что, в
свою очередь, требует не только рассмотрения «предложений» по «при-
обретению нового качества», но и осмысления различных «образов»
историографии (историографических традиций), в том числе «мифоло-
18 См. подробнее: Иллерицкий В. Е. Историография // Очерки истории истори-
ческой науки в СССР. Т. II. М., 1960; Киреева Р. А. Изучение отечественной истори-
ографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983; Истори-
ография истории нового времени стран Европы и Америки: Учеб, пособие/
А. В. Адо, И. С. Галкин, И. В. Григорьева и др. Под ред. И. П. Дементьева. М., 1990;
Наумова Г. Р., Шикло А. Е. Историография истории России. М., 2008; и др.
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
487
гических», создание которых в силу разных причин («забвения», «раз-
рыва традиций», «совмещения», подмены одного другим и т.д.) неиз-
бежно в «переломные эпохи». Нельзя не признавать тот факт, что мар-
ксистскую концепцию, например, периодически «огрубляют» до
примитивности, для того чтобы с ней «воевать». И это касается не толь-
ко марксизма и иных «миросистемных» учений, но и любой концепции,
широкое распространение которой означает в конечном итоге ее «уп-
.. 19
рощение», подчас «искажение до неузнаваемости основних идеи» .
Процесс включения операционного инструментария на формаль-
ном уровне (в первую очередь, «вторжение» новой терминологии) во
многом опередил сегодня рефлексию исследовательского поиска, с од-
ной стороны, а с другой — способствовал созданию очередных «мифоло-
гем», в том числе «уничижительных» образов отечественной науки ис-
ториографии, с изъятием из нее позитивного багажа. «Обвал»
публикаций с бесконечным цитированием (в большинстве случаев -
при отсутствии анализа цитируемого) практически одних и тех же фраз
«титульных лидеров» (при этом, в историографии в последние годы
доминируют т.н. «чужие» для профессионала-историка «классики»19 20)
привело к «смешению понятий», неспособности определиться с историо-
графическим контекстом. Понятие «контекста» - ключевое со времени
возникновения интеллектуальной истории и вместе с ней эволюциониро-
вавшее в историографических исследованиях приобретает сегодня осо-
бое звучание. Требование «контекстуализации» как историографического
норматива, т.е. «вписывания» автором самого себя «не только в актуаль-
ную исследовательскую ситуацию, но и в более широкий теоретический
контекст», в современных условиях разрушения «стабильных генеалогий
различных наук», отсутствия не только общепризнанных канонов исто-
риописания, но и размывания границ самой научной историографии при-
обретает особое звучание21. Собственно, «вписывание» исследования «в
определенный корпоративный дискурс» - норматив, необходимость гото-
рого не подвергается сомнению в среде профессионалов22.
19 Микулинский С. Р. Очерки развития историко-научной мысли. М., 1988.
2. 60-61; Селунская Н. А. Осень средневековья и поздняя античность: как антикове-
1Ы с медиевистами историю делили // Диалог со временем. 2004. Вып. 13. С. 246.
20 Савельева И. М. Классики в исторической науке: «свои» и «чужие»// Тео-
рии и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной на-
учной конференции / Отв. ред. Л. П. Ренина. М., 2008. С. 258-260.
21 Савицкий Е. Е. Проблема контекста в интеллектуальной истории, 1940-
2000 // Мир Клио. М., 2007. Т. 1. С. 348.
22 Яковенко Н. Вступ до icropii. К., 2007. С. 325.
488
Историография и ее история
В XX в., по мнению многих ученых, история вступила в историо-
графический этап своего существования, когда историографический
анализ выступил как императив профессиональной деятельности исто-
рика, а трансформация информационного общества в манипуляционное
и начавшийся переход к «постпостмодерну» породили новую проблем-
ную ситуацию, которая потребовала переключения «дисциплинарного
типа» мышления на рефлексивный - критический23 24. Рефлексивное зна-
ние, приобретя на протяжении XX века устойчиво-хрестоматийные
дисциплинарные образы (с вариациями «дисциплинарных ландшаф-
тов»), сегодня расширило горизонты своего бытия и, ломая привычные
дисциплинарные барьеры, устремилось к созданию единой «рефлексив-
ной территории». В области исторической рефлексии это выразилось в
формировании глобальной интеллектуальной истории, в радикальном
сближении истории исторического знания с методологией истории, тео-
ретическим источниковедением, в восприятии всей практики историо-
писания и ее рефлексии как историографического дискурса и т.п.
Размышляя о перспективах развития историографического про-
странства, можно опять обратиться к И. Валлерстайну: оценивая буду-
щее социологического знания, он утверждал, что «социология, как и
прочие дисциплины, вышедшие из узко-профессионального деления
знания в XIX веке, идет к вымиранию. Однако есть два пути вымира-
ния - большой и малый, почетный и позорный». Если второй - это путь
«измельчания», дробления на «поддисциплины», создания все новых и
новых «социологических княжеств», которых в итоге ждет «селектив-
ное вымирание» в результате очередных бюджетных сокращений и не-
довольства студентов, которым «надоест схоластика»; то первый путь -
«путь наддисциплинарного преодоления раздробленности знания», соз-
.. .. „24
дания парадигмы «единой исторической социальной науки» .
Новый-старый образ «единого знания» - в какой-то мере идеал,
несопоставимый с условиями социальной структурированности, осно-
ванной на дисциплинарных механизмах функционирования нашего бы-
тия. Во всяком случае, путь «большой» и «почетный» - «наддисципли-
нарного преодоления раздробленности знания» - длительный и далекий
23 Румянцева М. Ф. Феноменологическая концепция источниковедения в по-
знавательном пространстве постпостмодерна // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2 (6). С. 7-8; Вспомогательные
исторические дисциплины - источниковедение - методология истории в системе
гуманитарного знания: Материалы XX Международной научной конференции.
Часть П. М„ 2008. С. 729.
24 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006. С. 8.
Т. Н. Попова. Историография в контексте...
489
от линеарности процесс. Возможно, в современных условиях трансфор-
мации единого дисциплинарного поля, в обстановке интенсивных поис-
ков своего «обновления» конкретные дисциплины, превратившиеся са-
ми в «дисциплинарные ландшафты», пойдут по пути «преодоления раз-
раздробленности» собственного дисциплинарного знания.
Размах кросс-дисциплинарных исследований не устраняет дисцип-
линарность как таковую, не упраздняет «предписаний» («теорий»), про-
цесс «раздисциплинировапия» понятие весьма относительное и может
рассматриваться лишь в пределах конкретных координат, как, впрочем,
и все остальное. Например, в координатах постмодернистской парадиг-
мы дисциплинарная история должна отказаться от сциентистских, т.е.
номотетических методов (так в самовосприятии), а центральный объект
их анализа — «постистория» (концепт, заменивший старое понятие «ис-
тории», ориентирующий на отказ от «линейности», «логоцентризма»,
признания автохтонной социальной реальности, возможности новизны
как таковой) — мыслится как «событийный поток» (Дж. Ватгимо). Это
ли не новая «установка», новые «предписания», «новая дисциплинар-
ность»? И соответствуют ли эти «ограничения» (а это — конкретные ог-
раничения индивидуального творчества!) самой постмодернистской
парадигме - плюрастической по своей декларации? Или эта декларация,
направленная своим острием против регламентации творчества, по су-
ти — лишь декларативность очередного репрезентативного кода?
В этом контексте весьма интересным представляется образ «меж-
дисциплинарности» как «особой техники мышления» (онтологического
явления), с присущей ей структурированностью (по аналогии с научной
дисциплиной), функциональностью и источниками, среди которых - со-
циокультурная реальность, наука как система дисциплин и личность уче-
ного25. Подобный «всеобъемлющий» подход правомерно делает акцент на
интеллектуальную оппозицию монодисциплинарности и междисципли-
нарности как специфических «техник мышления», но отнюдь не исклю-
чает обязательного наличия «дисциплинирующих механизмов», «предпи-
саний», «нормативов» в существовании обеих мыслительных форм.
В современном научном «хаосе» (эпистемологическом, термино-
логическом, понятийном и пр.) только одна «установка» имеет «смыс-
лообразующую» перспективу — установка на саморефлексию личност-
ную — осмысление траектории собственного «исторического опыта» и,
соответственно, профессионального опыта, и саморефлексию дисципли-
25 См.: Колесник I.1. «М1ждисциплшаршсть» як концепт // Харювський icropi-
oгpaфiчний зб!рник. X., 2008. С. 23-34.
490
Историография и ее история
парную — осмысление, анализ собственной профессии, ее истории, ее
дисциплинарного бытия. В этом плане, действительно, следует говорить
о необходимости смены «дисциплинарного типа мышления» «рефлек-
сивным». Но и эта «установка» неизбежно потребует новых «стандар-
тов»: изучение истории дисциплинарности и дисциплинарной цртории
исторических наук детерминирует выработку конкретных методик,
подходов, экспликации категорий («генеалогии» идей и понятий) - все-
го арсенала профессионального инструментария, при этом вариант дис-
циплинарной истории как «событийного потока» вполне допустим в
многообразии форм постижения неуловимой реальности.
Приведет ли изучение дисциплинарной истории к выводу о воз-
можности профессии без предписаний и институциональной паутины,
или эпифеномен новых открытий окажется непредсказуемым для тех,
кто находится в постоянном поиске освобождения от «интеллектуаль-
ной бюрократии» и «эпистемологического воздержания»? Откроет ли
нам история профессии, дисциплинарная история новые пути в понима-
нии горизонтов собственных возможностей - возможностей познающе-
го субъекта, или новое направление станет разворачиваться по привыч-
ным тропам «предписаний»? Однако вряд ли конституирование самой
«дисциплинарной истории», или «истории профессии», не потребует ее
трансформации в социокогнитивную систему, интегрированную в кон-
кретный социокультурный контекст...
Какой предстанет «новая историография» - процесс «естественно-
исторический», в котором значительна роль субъективного фактора - ак-
тивная позиция ее репрезентантов-историографов. Но, безусловно,
«.. .новые пути открываются там, и только там, где ответом... является не
огульное отрицание-отторжение, а углубление рефлексии над основами
собственной интеллектуальной и дисциплинарной программы.. .»26.
26 Репина Л. П. От истории идей к интеллектуальной истории (Аналитический
обзор) // XX век: Методологические проблемы исторического познания. Ч. П. С. 101.
И. М. Савельева
КЛАССИКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
В данной статье предлагается модель статуса классики и классиков
в исторической науке. Насколько можно судить, данный вопрос не за-
нимал ни историков, ни других ученых, обращавшихся к проблеме
классики в социальных науках в целом. Это само по себе странно, по-
скольку историки в принципе очень внимательны к своему patrimoine:
существует даже отдельная суб дисциплина «историография» - знание о
развитии «исторических» знаний или история изучения какой-либо
проблемы. Историографический обзор, по сложившемуся в профессии
канону, должен быть предпослан любой исторической работе, и от ав-
тора требуется показать максимум осведомленности, то есть упомянуть
всех, кто до него занимался избранной им темой, да еще и отметить, ка-
кие аспекты темы исследовались в разных работах, какие выводы и ре-
зультаты они содержат. Историк (может быть, в отличие от других гу-
манитариев) просто обязан стартовать с той черты, у которой останови-
лись его предшественники.
Тем не менее, несмотря на постоянное внимание к трудам предше-
ственников, у историков сегодня не так легко обнаружить фигуры
«классиков». Если исходить из тавтологии: «классики это тс, кого
считают классиками» - то классиками для нас, конечно, остаются ан-
тичные историки. Однако их работы давно перешли в разряд «источни-
ков», тем самым по отношению к ним значение понятия «классика»
оказывается сугубо историческим.
Если же говорить о социологическом подходе, то ситуация с исто-
риками в явном виде не напоминает ни ту, что сложилась в обществен-
ных науках («Классическим являются тс более ранние исследования,
которым придается привилегированный статус по сравнению с более
поздними трудами в той же области» - Джеффри Александер1), ни ту,
что существует в искусстве (создание канона, сохраняющего свою эсте-
тическую ценность). Хотя, имея в виду античные исторические сочине-
ния как род литературы и их риторические качества, можно, именно в
этом смысле, тоже говорить о них, как о классических.
1 Alexander J. С. The Centrality of the Classics 11 Social Theory Today I Eds.
A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 11-57 (cit. P. 11-12).
492
Историография и ее история
К тому же сами историки не очень охотно оперируют термином
«классик» в интересующем нас смысле. При огромном числе исследо-
ваний, посвященных творчеству известных историков, определение
«классик» применительно к авторам эпохи «модерности», когда собст-
венно и сложилась историческая наука, используется достаточно редко.
Вклад историков чаще всего определяется словами «великий», «вы-
дающийся», «основоположник». Именно историки, наделенные такими
эпитетами, более других привлекают внимание собратьев по цеху, но их
крайне редко называют классиками, и по существу они ими не являют-
ся. Профессора их почитают и включают в списки рекомендованной
студентам литературы, но реально они «не участвуют в дискуссии». Для
«практикующего» историка, на самом деле, важны прежде всего рабо-
ты, отражающие современное состояние исследований в его области.
Кроме того, важно иметь в виду, что в социальных науках классика
часто представляет собой «всенародное достояние», она принадлежит
всем, кто работает в области социальной мысли, хотя прежде всего -
своей дисциплине. В обществознании сложилась даже практика своеоб-
разной моды на теории и имена, которая тоже нередко ведет к классика-
лизации того или иного автора. Существует междисциплинарное сооб-
щество cognoscenti, которые в каждый период разделяют привержен-
ность одному и тому же набору властителей «научных дум». Как спра-
ведливо отметил Питер Бёрк: «Мы живем в век расплывчатых линий и
открытых интеллектуальных границ, век одновременно волнующий и
приводящий в замешательство. Ссылки на Михаила Бахтина, Пьера
Бурдье, Фернана Броделя, Норберта Элиаса, Мишеля Фуко, Клиффорда
Гирца можно найти в работах археологов, географов и литературных
критиков, так же как и в работах социологов и историков» .
Вряд ли можно оспорить, что перечисленные Бёрком ученые сего-
дня могут числиться по разряду классиков. Показательно, что историк
Бёрк назвал только одного коллегу по цеху - историка Броделя. Как же
«выглядит» историческая классика в современной гуманитаристике?
Очень приблизительный, но впечатляющий ответ на этот вопрос
можно получить, посмотрев на «Список Гарфилда»2 3 (составлен на осно-
2 Burke Р. History and Social Theory. Ithaca, 1993. P. 21.
3 Garfield E. The 250 Most-Cited Authors in the Arts & Humanities Citation Index,
1976-1983 // Essays of an Information Scientist. Philadelphia, 1986. Vol. 9. P. 381-388
(Reprinted from: Current Contents, December 1, 1986, no. 48, p. 3-10). Анализ первого
варианта этого списка с данными за 1977-1978 гг. (Garfield Е. Most-Cited Authors in
the Arts and Humanities, 1977-1978 // Essays of an Information Scientist. Philadelphia,
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
493
вс Arts & Humanities Citation Index), который включает 250 представите-
лей гуманитарных наук, на работы которых чаще всего ссылались авторы
статей в гуманитарных журналах за 1976-1983 гг. Извлеченные из него
имена историков приведены в табл. 1. Сразу же обратим внимание чита-
теля на «узость круга»: если брать только «чистых» историков (всего 9 из
250 гуманитариев!), то даже и круга не образуется - скорее, одинокие фи-
гуры, с трудом различимые на групповом «гуманитарном портрете».
Таблица 1.
Историки с наибольшим индексом ссылок
в гуманитарных журналах, 1976-1983 гг.* *
«Чистые» историки А В «Условные» историки А В Античные историки А в
Ле Руа Ладюри, Эммануэль 1929 497 Гомбрих, Эрнст 1939 871 Тацит (Публий Корнелий Тацит) 55 729
Томпсон, Эдвард 1924 786 Фуко, Мишель 1926 1783 Плутарх 46 1558
Дюби, Жорж (Michel Claude) 1919 494 Кун, Томас 1922 1275 Иосиф Флавий с37 552
Стоун, Лоуренс 1919 743 Элиаде, Мирча 1907 1405 Ливий (Тит Ливий) 59 ВС 482
Хобсбоум, Эрик 1917 588 Йейтс, Frances 1899 628 Ксенофонт с430 ВС 578
Хофстедтер, Ричард 1916 456 Панофски, Эрвин 1892 1113 Геродот с484 ВС 670
Арьес, Филипп 1914 457 Лавджой, Артур 1873 464
Хилл, Кристофер 1912 668 Хёйзинга, Йохан 1872 535
Бродель, Фернан 1902 559 Вольтер 1694 689
А - дата рождения. В - число статей, ссылающихся на каждого автора (net citations).
1981. Vol. 4. Р. 238-243. (Reprinted from: Current Contents. August 6, 1979. No. 32.
P. 5-10)) см. в: Megill A The Reception of Foucault by Historians // Journal of the History
ofldeas. 1987. Vol. 48. N 1. P. 117-141.
* Источник: Garfield E. The 250 Most-Cited Authors in the Arts & Humanities Cita-
tion Index, 1976-1983 // Essays of an Information Scientist. Philadelphia: ISI Press, 1986.
Vol. 9. P. 381-388 (Reprinted from: Current Contents. December 1, 1986. No. 48. P. 3-10).
494
Историография и ее история
Дальнейшее рассуждение концентрируется вокруг двух основных
вопросов: какова роль классики в теоретической историографии и каков
механизм воздействия работ классиков на современные исторические
исследования.
1. Свои классики <
Конечно, история принадлежит гуманитаристике и делит с дисци-
плинами этого блока многие принципы производства научного знания и
формирования его социального запаса. Как и в других гуманитарных
науках, в истории отсутствуют унифицированные смыслы отдельных
понятий, терминов или высказываний. «Сложное переплетение прозре-
ний и догадок - часто разделяемых очень немногими - в лучшем случае
формирует образцы смыслов, убедительно систематизированные суж-
дения о данных, которые... хорошо, если хотя бы в основных положени-
ях соответствуют друг другу»4. В естественных науках достаточно опо-
знать то или иное понятие, суждение или заключение (первая теорема
Коши), а в «не естественных» - нужно знать, о каком смысле идет речь
(«долгое Средневековье» по Ле Гоффу, «человек играющий» по Хёй-
зинге, «места памяти» по Нора)5.
Кроме того, многие признанные классическими теоретические ра-
боты (Алексиса де Токвиля, Йохана Хёйзинги, Фернана Броделя, Яна
Ассмана) представляют собой неопределенные туманные теории (vague
theories), пригодные в силу этого недостатка (или достоинства) к неог-
раниченному употреблению. Сказанное, конечно, в полной мере отно-
сится не только к историкам, но и к широчайшему кругу социальных и
гуманитарных классиков из сопредельных областей. Понятно, напри-
мер, каков диапазон использования идей и прозрений 250 «классиков»
из «списка Гарфилда», среди которых: Макс Вебер, Клод Леви-Строс,
Клиффорд Гирц, Юрген Хабермас, Вальтер Беньямин, Михаил Бахтин и
др., не говоря уже об античных авторах.
Напомним и то, что гуманитарные компендиумы знания редко - в
отличие от естественнонаучных - упорядочены согласно временной по-
4 Weintraub К. J. The Humanistic Scholar and the Library // library Quarterly.
1980. Vol. 50. N 1. P. 22-39 (P. 30-31); цит. no: Thompson J. W. The Death of the Scho-
larly Monograph in the Humanities? Citation Patterns in Literary Scholarship// Idbri.
2002. Vol. 52. N 3. P. 121-36 (P. 126).
5 Ле ГоффЖ. В поддержку долгого Средневековья [1983]// Ле Гофф Ж.
Средневековый мир воображаемого. Пер. с фр. М., 2001. С. 31 -38; Хёйзинга Й. Ното
ludens [1938]// Й. Хейзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с голл.
М., 1992. С. 5-240; Les lieux de memoire / P. Nora. 7 t. P., 1984-1993.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
495
следовательности. В естественнонаучных дисциплинах даже незначи-
тельные новые результаты предполагают более полное познание объекта
изучения и в этом смысле превосходят предшествующее знание об объек-
те. В гуманитарных науках новейшие исследования ни в косм случае ав-
томатически не превосходят предыдущие, хотя любая научная работа мо-
жет определять задачи и перспективу для последующих исследований6.
а) Научные направления
Разговор о статусе классики в истории мы считаем правильным на-
чать с проблемы дисциплинарной специализации. Применительно к со-
временной исторической науке бессмысленно говорить о роли классики в
целом, точно так же как непродуктивно рассуждать в таком ключе о физи-
ке, биологии, психологии или языкознании. Современное научное знание
высоко диверсифицировано: у специалиста по молекулярной биологии
одни классические работы, у генетика - другие. Естественно предполо-
жить, что и у историков, специализирующихся в разных субдисциплинах,
будут разные «классические» исследования», созданные основоположни-
ками различных направлений или наиболее яркими их представителями.
Важность этого момента очевидна для историка, но нс всегда - для
не-специалиста, который по-прежнему мыслит историю как единую нау-
ку. Между тем в последние десятилетия прошлого века на наших глазах
произошла лавинообразная фрагментация историографии. Появились де-
сятки субдисциплинарных направлений, основанных на предметном
принципе. Если когда-то Люсьен Февр сетовал: «Подумать только у нас
нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни
истории Жестокости. Нет истории Радости»7, то по прошествии чуть бо-
лее 50 лет наряду с привычными всеобщей, страновой, экономической,
социальной, политической, культурной, военной, аграрной историей и ис-
торией международных отношений, мы имеем историю повседневности,
включая историю еды и историю запахов, рабочую историю, историю го-
рода, демографическую историю и отдельно историю детства и историю
старости, историю женщин и гендерную историю, экоисторию, психои-
сторию, историю ментальности и многое другое.
Впрочем, разнообразием предметных интересов история вряд ли
выделяется в ряду других социальных наук. Однако в отличие от них,
6 Подробнее о роли классики в социальных и 1уманигарных науках см.: Клас-
сика и классики в современном социально-гуманитарном знании / Ред.
И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М., 2009.
7 Февр Л. Чувствительность и история [1941] // Февр Л. Бои за историю. Пер. с
фр. М„ 1991. С. 109-125. (С. 123).
496
Историография и ее история
история к тому же специализируется по периодам, и для специалистов
по новейшей истории классическими являются одни работы, а для ме-
диевистов - другие. Наконец, историки часто очень тесно привязаны к
страновой традиции (причем это относится и к стране изучения, и к
стране проживания). Национальные историографические границы, ко-
нечно, условны и прозрачны, тем не менее они существуют и довольно
прочно инкорпорированы в систему исторического образования и ин-
ституциональные структуры. Хотя основателями социальной истории
по праву считаются Марк Блок и Люсьен Февр, для английских истори-
ков большим «классиком» в этой области, возможно, будет Джордж
Маколей Тревельян. Мы с еще большими основаниями можем говорить
о классических работах по национальным (страновым, государствен-
ным) историям. «Государственная» концепция Н. М. Карамзина -
«классическая» только для тех, кто писал историю России, а концепция
социальной истории Германии, представленная работами Ханса-
Ульриха Велера или Юргена Кокки, вряд ли инспирировала аналогич-
ные исторические штудии по другим странам. (При этом «хорошо ин-
формированный историк» знает всех перечисленных авторов.)
Осмысленно даже говорить о классических работах применитель-
но к конкретным предметным областям в страновом ракурсе: экоисто-
рия средневековой Франции, история промышленной революции в
Англии, аграрная история России и т.д.
Последний аспект, о котором необходимо упомянуть в связи с
проблемой дифференциации классики внутри исторической дисципли-
ны, - это деление на идейно-политические направления. Набор наиме-
нований для обозначения (самоназвания) историографии по политиче-
скому критерию почти дословно отражает спектр политических течений
и партий: либеральная (республиканская, демократическая) со всеми
градациями (умеренно-либеральная, леволиберальная, праволибераль-
ная, неолиберальная и т.д.). Те же нехитрые приемы словообразования
используются применительно к консервативным и социалистическим
направлениям. С середины XIX в. и вплоть до 1970-х годов идеологиче-
ская ориентация историков очень часто определяла выбор классических
работ. У либералов были свои классики, у консерваторов - свои, у мар-
ксистов - свои (в частности, Карл Маркс практически игнорировал са-
мую передовую для его времени немецкую историческую школу, воз-
главляемую Леопольдом фон Ранке, и предпочитал опираться на труды
французских историков создателей теории классовой борьбы). В каче-
стве известного примера можно привести противостояние исторических
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
497
школ (консервативной, республиканской и социалистической) в изуче-
нии французской революции, которое началось в 1820-е годы и про-
должалось по меньшей мере до конца XX в. Кто станет отрицать, что
Алексис де Токвиль, Ипполит Тэн, Франсуа Миньс, Луи-Адольф Тьер,
Альфонс Олар, Альбер Матьез, Жорж Лефевр создали классические
труды по истории Французской революции? Но эти труды заложили и
развивали разные и непримиримые историографические традиции, в
русле которых работали их последователи.
Противоречивость трактовок важнейших исторических событий и
процессов привела к тому, что для «объективной» оценки прошлого ис-
торики уже в XIX в. стали практиковать стереоскопический подход к
историческим сочинениям, представлявшим разные идейно-
политические направления. (Подобно тому, как для оценки политиче-
ской конъюнктуры мы используем данные, почерпнутые из средств ин-
формации разной политической ориентации.) Еще лорд Актон замеча-
тельно сказал, что никто нс осознает до конца величия революции, не
прочитав Мишле, или ее ужаса, не прочитав Тэна8 (два несомненных
классика, о которых у нас еще будет повод поговорить). Конечно, в по-
следние десятилетия принадлежность к той или иной идейной платфор-
ме уже не играет столь заметной роли в выборе научных кумиров, И
все-таки историческое знание в странах, занимавших на протяжении
последних двух веков лидирующие позиции в историографии, сложно
репрезентировать, игнорируя идейно-политические границы.
Обозначив столько водоразделов внутри исторического знания,
влияющих на отбор ключевых сочинений и авторов, приведем лишь не-
сколько примеров работ, ставших основополагающими в современных
субдисциплинарных направлениях.
В современной макросоциальной истории, представляющей теоре-
тические конструкции прошлого громадных территориальных про-
странств, или массовых социальных движений и насилия в истории, или
социальных процессов исторической трансформации и кризисов, к
«классическому» блоку с полным правом можно отнести исследования
Фернана Броделя, Питера Стирнза, Чарльза Тилли, Эрика Хобсбоума9.
8 Цит. по: Gooch G. Р. History and Historians in the Nineteenth Century. J., etc.,
1928(1913]. P. 238.
9 Cm.: Steams P. N. European Society in Upheaval. Social History since 1800. N.Y.,
1967; Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984; Tilly Ch.,
Tilly b, Tilly R. The Rebellious Century, 1830-1930. Cambridge (MA), 1975; Хобсба-
ум Э. Век Революций [1972]. Век капитала [1975]. Век империй [1987]. В 3-х т. Пер.
498
Историография и ее история
Эти работы до сих пор на слуху (на виду), и без их упоминания иссле-
дование аналогичных сюжетов выглядит некорректно.
Точно так же обращение к микроанализу в социальной истории, свя-
занное с возникшими в 1970-е годы сомнениями по поводу известных
макроисторических моделей, тоже четко маркировано работами осново-
положников - Джованни Леви, Карло Гинзбурга, Ханса Медика10.
Появление культурологической интерпретации повседневного по-
ведения в 1970-1980-е годы было отмечено поистине культовыми исто-
рическими книгами - «Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)»
Эммануэля Ле Руа Ладюри, «Сыр и черви. Картина жизни одного мель-
ника, жившего в XVI в.» Карло Гинзбурга и «Возвращение Мартена
Герра» Натали Земон Дэвис11 - которые стали эталоном исследования
повседневной жизни в контексте культуры прошлого. Вслед за ними
многочисленные адепты этого направления пытаются «прочитать» (и
соответственно рассказать) ритуалы карнавалов и праздников, торжест-
венных церемоний и посиделок с той же пользой, что и дневник, поли-
тический трактат, проповедь или свод законов.
Начало исследованиям плебейской культуры, создаваемой и рас-
пространяющейся в народе, положили работы Питера Бёрка о народной
культуре Европы начала Нового времени и Эдварда Томпсона о форми-
ровании рабочей культуры в Англии12. До появления этих работ такие
исследования велись преимущественно в рамках фольклористики и тес-
но увязывались с формированием национального сознания (и там были
свои классики еще из XIX в.). Бёрк и Томпсон показали, как можно
представить эту проблему в ракурсе новой социальной истории и исто-
рической антропологии. Множество последующих исследований по на-
родной культуре отсылают читателя к этим работам.
с англ. Ростов-на-Дону, 1999; HobsbawmE. J. The Age of Extremes. L., 1994; Бро-
дель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Пер.
с фр. В 3-х т. М„ 1986-1992 [1979J.
10 Levi G. L’eredita immateriale. Camera di un esorcista nel Piemonte del Seicento.
Torino, 1985; Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в
XV в. Пер. с итал. М., 2000 [1976]; MedickH. Weben und Uberleben in Laichingen,
1650-1900. Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte. Gottingen, 1996.
11 Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). Екатеринбург,
2001 [1975]; Гинзбург К. Сыр и черви...; [Земон] Дэвис Н. Возвращение Мартена Гер-
ра. Пер. с англ. М., 1990 [1983]. Все эти книги неоднократно переиздавались, перево-
дились на разные языки и достигали немыслимых для научных изданий тиражей.
12 Burke Р. Popular Culture in Early Modem Europe. L., 1978; Thompson E. P.
Plebeian Culture and Moral Economy. L., 1980.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
499
В этом же ряду «классических» работ мы поместили бы известную
книгу французского историка Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная
жизнь при Старом порядке»13, в которой впервые в полемической фор-
ме поставлен вопрос об историчности детства. Согласно Арьесу, сред-
невековое общество не признавало детство как особую стадию челове-
ческого развития, наделенную собственными характеристиками и по-
требностями, и фактически лишало детей самостоятельного социально-
го статуса. Надо заметить, что тезис, выдвинутый Арьесом, впоследст-
вии неоднократно оспаривался. Но, независимо от доказательной силы,
он оказался плодотворным в том смысле, что спровоцировал целую
волну исследований по истории детства, и на каких бы позициях нс
стояли представители этого направления, они начинают «от Арьеса».
У истоков психоистории стоит книга американского психоанали-
тика Эрика Эриксона «Молодой Лютер: психоаналитическое историче-
ское исследование»14 15. Бесспорно выдающийся талант автора обеспечил
его опыту успех - реакция на книгу была столь бурной, что даже то-
гдашний президент Ассоциации американских историков, вполне «тра-
диционный» ученый Уильям Лангер, удивил своих коллег, определив
первоочередную задачу историков как более внимательное отношение к
возможностям психологии . И, хотя направление нс оправдало столь
больших надежд, психоисторики связывают рождение своего направле-
ния с книгой Эриксона.
Одна из последних инициаций в классики произошла совсем не-
давно в области «исторической памяти». Мы имеем в виду известные
исследования Пьера Нора (вышедшее под его редакцией многотомное
издание «Места памяти») и книгу Яна Ассмана «Культурная память:
Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких
культурах древности»16. Вся современная «индустрия производства ис-
торической памяти» перерабатывает в меру сил и потребностей эти
фундаментальные работы.
13 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Пер. с фр. Екате-
ринбург, 1999 [1960].
4 Эриксон Э.Г Молодой Лютер; психоаналитическое историческое исследо-
вание. Пер. с англ. М., 1995 [1958].
15 Langer W.L. The Next Assignment // American Historical Review. 1958. Vol. 63.
N 1. P. 283-304.
16 Les lieux de tnanoire...; Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о
прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем.
М„ 2004 [1992].
500
Историография и ее история
Эти примеры ни в коей мере не исчерпывают данной темы. Иссле-
дования (не всегда, но часто это работы основоположников), которые
собственно «создают» направление, определяя предметные и времен-
ные рамки, круг источников и способы их обработки, методологический
инструментарий, есть не только в выбранных нами, но и во многих дру-
гих новых направлениях историографии.
Так сложилось, что историки, ставите основоположниками раз-
ных исторических субдисциплин, воспринимали себя и в качестве «хра-
нителей» основ исторической науки. Питер Бёрк, Поль Вейн, Карло
Гинзбург, Роберт Дарнтон, Натали Земон Дэвис, Жак Ле Гофф, Юрген
Кокка, Жак Ревель, Лоуренс Стоун, Чарльз Тилли, Роберт Фогель,
Франсуа Фюре, Эрик Хобсбоум и др., в годы, когда историография ока-
залась перед лицом «постмодернистской угрозы», выступили с работа-
ми, в которых вновь пытались объяснить специфику предмета истори-
ческой науки, особенности исторического сознания и познания, а также
четче обозначить нормы и конвенции, которыми руководствуются про-
фессиональные историки. Эти сочинения, продиктованные во многом
пониманием профессионального долга, немало способствовали разви-
тию рефлексий по поводу исторического знания и, безусловно, укрепи-
ли авторитет и влияние историков-классиков в нашей науке.
б) Научные школы
Проблему историографической классики плодотворно также рас-
сматривать в контексте научных школ. Сотни историков-эмпириков мо-
гут вести исследования в духе той или иной школы, не ссылаясь на ра-
боты ее основателей, но они знают, к какой школе они принадлежат.
Научная школа, как и специализированное направление, может зада-
вать тематику исследований, правда, обычно намного более широкую.
Главная же ее характеристика - манифестация исследовательского подхо-
да и задание модуса исследования. Можно даже говорить о «духе школы»
примерно в том же смысле, в каком мы говорим о «духе времени».
Научные школы в историографии возникли в период формирования
исторической науки и по сей день определяют институциональное лицо
дисциплины. Надо сказать, что общепризнанных среди них было немно-
го. Для XIX в. это - Гейдельбергская школа Фридриха Шлоссера и исто-
рическая (берлинская) школа Леопольда фон Ранке со множеством его
учеников (самые известные из них - Георг Вайц, Вильгельм Гизебрехт,
Генрих фон Зибель). Школа Ранке возникла в Германии в 1830-40-е годы
и впоследствии заняла ведущее положение в европейской историографии,
надолго став эталоном культуры исторического исследования (свидетель-
ство, между прочим возникновения исторической науки именно в Герма-
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
501
нии, что неудивительно, так как немецкие историки XIX века уже работа-
ли в университетах). Как удачно суммировал английский историк Джордж
Гуч, заслуги Ранке состояли в том, что он отделил изучение прошлого от
страстей настоящего; был не первым, кто использовал архивы, но первым,
кто использовал их хорошо; развил критический метод применительно к
анализу государственных источников. «И все это сделало немецкую исто-
рическую школу лучшей в Европе»17.
В XX в. происходит смена лидера, и в историографии доминирует
французская школа «Анналов», которая сформировалась в конце 1920-х
годов. Создание новой школы было вполне сознательной попыткой груп-
пы французских историков занять господствующие позиции в европей-
ской историографии в связи с ослаблением немецкой исторической шко-
лы после Первой мировой войны18. Попытка эта оказалась успешной. Ос-
нователи школы «Анналов» Марк Блок и Люсьен Февр работали в Страс-
бургском университете, где одновременно с ними преподавали ведущие
ученые того времени: знаток Древнего Рима Андре Пиганьоль, медиевист
Шарль-Эдмон Перрен, виднейший представитель социалистической ис-
ториографии Жорж Лефевр, основоположник французской истории рели-
гии Габриэль Ле Бра, географ Анри Болит, филолог Эрнест Хепфнер, врач
и психолог Шарль Блондель, социолог и социальный психолог Морис
Хальбвакс. Такая концентрация интеллекта вкупе с лидерскими качест-
вами французских историков способствовали созданию уникального
междисциплинарного сообщества и радикальному обновлению истори-
ческой науки. Программу этой школы предельно кратко можно опреде-
1 лить двумя понятиями - «синтез» и «макро»; ее теоретические конст-
рукты - феодальное общество, большая длительность, исторические
пространства, кризисы, структуры и конъюнктуры, ментальность. Отли-
чительной чертой школы «Анналов» на всех этапах се существования
! была ориентация на теоретические достижения социальных наук, а так-
’ же внедрение в историографию методов, очень далеких от традицион-
; ной критики источников, а одно время - максимально приближенных к
методам точных наук (квантитативные техники и серийный метод, ме-
тоды дендрохронологии и иконографический анализ, аэрофотосъемка и
анализ пыльцы, климатологические процедуры).
17 Gooch G. Р. History and Historians... Р. 102.
18 Известный журнал «Анналы экономической и социальной истории», соз-
данный в 1929 г. задумывался Марком Блоком еще в начале 1920-х годов как изда-
ние, которое заменит пустоту, возникшую в связи с приостановкой немецкого жур-
нала Vierteljahrschrift ffir Sozial und Wirtschaftsgcschichtc, игравшего ведущую роль в
исторической науке с момента его учреждения в 1904 г.
502
Историография и ее история
Конечно, в историческом сообществе были и есть школы мень-
шего масштаба, представляющие национальные историографии. Тако-
ва, например, американская школа «новой истории», включающая
виднейших американских историков начала XX века (Чарльза Бирда,
Вернона Паррингтона и Карла Беккера). К этому же разряду относятся
школы, появившиеся в Германии во второй половине прошлого века:
очередная гейдельбергская (на этот раз она называлась «гейдельберг-
ская школа Вернера Конце») и социально-критическая школа Биле-
фельдского университета (Юрген Кокка, Вольфганг Моммзен, Ханс-
Ульрих Велер), восстановившая престиж немецкой историографии,
потерявшей позиции в период фашизма. Можно назвать и британскую
школу новой локальной истории, представители которой (Уильям
Хоскинс, Герберт Финберг), отвергнув традиционный принцип пред-
заданной локализации объекта в историческом пространстве, сделали
задачей исследования определение территориальных границ того или
иного социального явления. По существу, они предложили метод соз-
дания тотальной истории, прямо противоположный тому, что иниции-
ровал классик школы «Анналов» Фернан Бродель в книге «Средизем-
номорье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»» (histoire
totale в варианте Броделя).
Существуют и неявные национальные школы без манифестов,
деклараций, сообществ и журналов - например, национальная школа
политической истории России, все проблемное поле которой со вре-
мен Николая Михайловича Карамзина формировалось вокруг особой
роли русского государства и идеи государственности.
С национального можно спуститься на уровень локальных школ,
связанных с работой тех или иных университетских кафедр или исто-
рических обществ (например, в России - историко-экономическая
школа И. Д. Ковальченко, томская школа, основанная
А. И. Даниловым и продолженная Б. Г. Могильницким). Однако в си-
лу локального влияния нет смысла рассматривать их в исследовании
по классике (хотя для представителей этих школ основатели являются
классиками, что хорошо прослеживается как на содержательном уров-
не, так и по обзорам и ссылкам).
Школы в исторической науке, по крайней мере до сих пор, пред-
полагали единство места (возможно, развитие коммуникационных и
информационных средств что-то изменит в механизме формирования
научных школ). В определенном смысле для школ характерно и един-
ство времени — они недолговечны. Обычно научные школы формиру-
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
503
ются вокруг одной-двух личностей, дело которых продолжают непо-
средственные ученики. Если даже название сохраняется дольше, то
это вовсе нс означает сохранения духа и буквы. Одна из самых долго-
летних школ - «Анналы», как показано в ряде исследований (одно из
последних удачных - работа Карлоса Агирре Рохаса), за годы, про-
шедшие со времени возникновения, на самом деле четырежды ради-
кально меняла тематику, подходы, и на базе одноименного журнала не
только последовательно, но и одновременно объединялись самые раз-
19
ные интеллектуальные проекты .
Тем не менее, идентификация с той или иной влиятельной шко-
лой может быть очень устойчивой и выходить за реальные временные
границы ее существования. Так «школа Ранке», давно перестав быть
школой в собственном смысле слова, до сих пор маркирует стиль ис-
торического исследования. Установленные немцами критерии научно-
сти, связанные с отношением к источнику, требованиями к научному
аппарату исследования, стали признаком профессиональной культуры
любого ученого-историка.
Точно так же, благодаря долголетию созданного Блоком и Февром
20
журнала , это название закрепилось за новаторским, поисковым на-
правлением французской исторической науки. «Звучит удобно, а потому
продолжает существовать», несмотря на то, что начиная с Люсьена
Февра (дискуссия с Марком Блоком, начатая в 1941 г.) и кончая Берна-
ром Лепти, те, кого относили к этой школе (в том числе Фернан Бродель,
Марк Ферро, Жак Ле Гофф) множество раз говорили о своем неприятии
термина «школа», который предполагает внутреннее единство учения.
2. «Чужие» классики
Как уже говорилось выше, среди чаще всего цитируемых (в том
числе и самими историками) гуманитариев историки составляют ма-
лую толику, большинство же — исследователи, представляющие дру-
гие социальные и гуманитарные науки.
19 Агирре Рохас К. А. Критический подход к истории французских «Анналов».
Пер. с исп. М., 2006. С. 6-7.
20 С 1929 по 1941 г. журнал выходил в Страсбурге под названием «Анналы
экономической и социальной истории» («Annalcs d'histoire cconomique ct sociale»). В
годы фашистской оккупации pei-улярное издание журнала было прервано. С 1944 г.
он стал выходить в Париже иод названием «Анналы социальной истории» («Annales
d'histoire sociale»), с 1946 г. - «Анналы: Экономики. Общества. Цивилизации» (An-
nalcs: Economies. Socictcs. Civilisations), с 1989 г. - «Анналы: история, социальные
науки» («Annales: histoire, sciences sociales»).
504
Историография и ее история
Для каждого периода развития социально-гуманитарного знания
существует некий набор авторов, из работ которых ученые-гуманитарии
черпают идеи, методы, цитаты, в крайнем случае - просто ссылаются на
имена. Это - свидетельство и проявление междисциплинарного характера
современных наук о человеке. Однако в историографии к концу прошлого
века сложилась ситуация доминирования, условно говоря, «чужих» клас-
сиков. Если роль больших философских теорий в исторических построе-
ниях, к счастью, явно уменьшилась, то значение концепций и моделей из
практически всех социальных и гуманитарных наук в небывалой степени
возросло, сведя почти на нет роль собственно исторических теорий.
Как мы уже писали, в последние десятилетия междисциплинарное
взаимодействие в теоретических сочинениях по истории ночти всегда
происходит в форме соединения теории из неисторической дисциплины и
исторических методов исследования. Историки практически не произво-
дят «исторических» теорий21. Примеры важных исключений, появивших-
ся, впрочем, уже довольно давно: «Два тела короля» Эрнста Канторовича
(1957), положившего начало «церемониалистскому» направлению в исто-
риографии; теория трех уровней социального времени и социальных из-
менений Фернана Броделя (1958); упомянутая теория отсутствующего
детства Филиппа Арьеса (1960); из относительно недавних - «долгое
Средневековье» Жака Ле Гоффа (1983). В основном же историки; создавая
концептуальные работы, решали проблему методологического обновле-
ния, обращаясь к теориям разных социальных и гуманитарных наук и, со-
ответственно, к «чужим» классикам и классическим трудам.
Эта практика получила название «стратегии присвоения», и в ос-
нове её имплицитно заложена идея, что история, которую можно рас-
сматривать как социальную науку, анализирующую прошлые, уже не-
существующие общества, естественным образом должна опираться на
теоретический аппарат социальных наук, занимающихся современно-
стью. Начиная с 1960-х годов, обновление историографии происходит в
высоком темпе и повсеместно в ней складывается следующая модель
взаимодействия: социальная дисциплина - соответствующая историче-
ская субдисциплина - выбор макро- (позднее и микро-J теории - ее
применение к историческому материалу.
21 См.: напр.; Савельева И. М., Полетаев А. В. История в пространстве соци-
альных наук// Новая и новейшая история. 2007. № 6. С. 3-15; Они же. «Там, за по-
воротом...»: о модусе сосуществования истории с другими социальными и гумани-
тарными науками // Новый образ исторической науки в век глобализации и инфор-
матизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 73-101.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
505
Эта модель перевернула те отношения истории с социальными
науками, которые существовали в позитивистской парадигме. В ис-
ходной схеме, предложенной основоположником позитивизма Огю-
стом Контом в работе «Курс положительной философии» (1830), к
общественным наукам относились две обобщенные дисциплины: объ-
ясняющая («теоретическая») наука об обществе - социология, и опи-
сательная («фактографическая») наука об обществе - история. При
этом Конт обозначал социологию как «историю, в которой нет имен
индивидов и даже имен народов», считая, что эта новая наука должна
начаться с открытия фактов о жизни человека (решение этой задачи он
отводил историкам), а затем переходить к поиску причинных связей
между этими фактами. Социолог тем самым как бы поднимал историю
до ранга науки, осмысливая научно те факты, о которых историк мыс-
лит только эмпирически.
У Блока и Февра в середине прошлого века идея междисциплинар-
ного синтеза, напротив, предполагала создание «империалистической
истории», которая захватит (или охватит) все другие дисциплины. Этот
замысел, однако, не реализовался, социальные науки стали развиваться
и формализоваться намного быстрее, чем история. В результате во вто-
рой половине прошлого века социальные науки превращаются в «по-
ставщиков» теоретических концепций для истории. В 1974 г. Эмману-
эль Ле Руа Ладюри писал: «Представителей более сложных дисциплин
мы пропускаем вперед, в разведку, часто с угрозой для жизни, через
минные поля, лежащие на общем пути. Что же касается нас, историков,
то мы широко пользуемся богатствами, накопленными отраслями зна-
ния, обладающими количественными характеристиками, а именно: де-
мографией, экономикой, даже эконометрикой. Мы без стыда заимству-
ем — хотя и возвращаем сторицей... из кладовой этнологии»22.
Надо сказать, что «стратегия присвоения» обнаружила совершенно
иные возможности для анализа исторического материала и оказалась
чрезвычайно плодотворной для развития исторического знания. В итоге
достаточно тесного союза истории с социальными дисциплинами, кото-
рый реализовали ведущие западные историки, в 1960-е годы экономи-
ческая и социальная истории завоевали передовые позиции в историо-
графии, опираясь на экономические и социологические макротеории
(экономических циклов, экономического роста, социальной стратифи-
кации, модернизации, миросистемный анализ, символической власти,
22 Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история... С. 157-158.
506
Историография и ее история
конфликта) и структурный анализ. В исторической науке появляются
такие классики как экономисты Иозеф Шумпетер, Саймон Кузнец, Уолт
Ростоу; социологи Макс Вебер, Толкотт Парсонс, Шмуэль Айзенштадт,
Иммануэль Уоллерстайн, да и по-новому прочитанный Карл Маркс.
Вслед за становлением экономической, социальной и демографи-
ческой истории, ориентированных в то время на возможности примене-
ния математических и статистических методов, начинается использова-
ние историками достижений других социальных и гуманитарных наук.
Одной из самых востребованных историками областей знания стано-
вится культурная антропология, на ее теориях и во многом методах
строится историческая антропология, история ментальности, история
повседневности и даже «новая» политическая история. Ведущие антро-
пологи (Марсель Мосс, Клиффорд Гирц, Клод Леви-Строс, Арнольд ван
Геннеп, Эдмунд Лич, Маршал Салинз и др.) выполняют функции клас-
сиков в исторических исследованиях. В немалой степени популярность
антропологов среди историков можно объяснить тем, что антропологи,
как и историки, повествуют о Других. К тому же ведущие современные
антропологи, говоря словами Лоуренса Стоуна, «писали и пишут, слов-
но ангелы»23, то есть их труды служат образцом научного исследования,
что очень важно для обретения статуса «классики». (Известен и проти-
воположный пример: антрополог Леви-Строс перед тем как начать пи-
сать очередную работу обычно перечитывал блестящую социологиче-
скую статью Карла Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».)
Осмысливая использование историками концепций других наук о
человеке и обществе, Андре Бюргьер привел несколько характерных
вариантов обращения к классикам, реализованных в известных работах
по исторической антропологии (см. Вставку /). Бюргьер обращается к
новаторским работам известных историков, работающих в области ис-
торической антропологии, и буквально в трех абзацах, выделяя типы
«междисциплинарных обращений к этнологии», перечисляет 13 ученых
(мы их пометили), в основном антропологов, но не только, чьи теории
легли в основание знаменитых ныне исторических исследований: «Об-
щество Макконэ в Х1-ХП вв.», «Воины и крестьяне» и «Тройственное
устройство общества, или Мир воображаемого в эпоху феодализма»
Жоржа Дюби; «Монтайю: окситанская деревня (1294-1324)» Эмману-
эля Ле Руа Ладюри; и «Великая кошачья резня» Роберта Дарнтона.
23 Stone L. The Past and the Present Revisited. L., 1987. P. 9.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
507
Вставка 1. Варианты «стратегии присвоения»
«В зависимости от темперамента историка можно выделить несколько
стилей заимствования, несколько типов междисциплинарных обращений к
этнологии, например, модель Дюби, который стремится акклиматизировать
экзотический концепт, заимствованный у этнологии, что придает историче-
скому анализу необычный колорит. Само заимствование необходимо при
этом лишь для решения одной проблемы или создания одной книги... В
“Обществе Макконэ в Х1-ХП вв.” используются структуры родства Леви-
Строса, согласно которым появление родовых связей и родового сознания
можно считать основой складывающейся системы господства. В исследо-
вании “Воины и крестьяне” Дюби заимствует у Мосса понятие дара и по-
казной щедрости. В книге “Тройственное устройство общества, или Мир
воображаемого в эпоху феодализма” он, как об этом говорит уже заголовок,
применил к своему историческому материалу сетку анализа трехчастного
деления Дюмезиля.
Модель Ле Руа Ладюри, в том виде, в каком она представлена в
“Монтайю”, книге-эмблеме, покорившей широкую публику, наоборот, но-
сит эклектический и энциклопедический характер. Книга не только предла-
гает перечень тем, которые будет включать в себя историческая антрополо-
гия, но и без всякого предубеждения черпает необходимый материал из
классической и новейшей литературы по этнологии. Документальный ма-
териал монографии - исторический, тема уже менее исторична (анализ про-
водится не на региональном уровне, а на материале жизни деревни). Сетка
анализа - полностью этнологическая: Рэдклифф-Браун, а также Ван Ген-
неп, Лич, Эванс-Притчард. Для интерпретации привлекаются такие авто-
ритеты, как Мосс, Поланьи, Чаянов, Бурдье, Леви-Строс.
Недавно в результате развития микроистории появилась третья мо-
дель заимствований, которую я назвал бы имитационной, поскольку она за-
имствует у этнологии как концепты, так и способ изложения. Ограничимся
лишь одним наиболее удачным примером модели третьего типа взаимоот-
ношений между историей и этнологией - оригинальным экзотичным опи-
санием одного происшествия в Париже XVIII в. в работе “Великая кошачья
резня” Роберта Дарнтона, где до полного подражания имитируется техника
анализа Клиффорда Гирца в его “Петушином бою в Байи”»24.
24 Бюргьер А. Историческая антропология и школа «Анналов» И Антропологи-
ческая история: подходы и проблемы. Материалы российско-французского научного
семинара. М., 2000. С. 4-22. (С. 8-9).
508
Историография и ее история
В последние десятилетия в историографии резко усилилась функ-
ция классики, которую Артур Стинчкомб именует «разменной моне-
той» - когда интеллектуальные опознавательные знаки присутствуют в
виде сносок на первых страницах25. Возрос престиж исторических ра-
бот, апеллирующих к той или иной социальной теории. Если до второй
половины XX века историки четко делились на теоретизирующее
меньшинство и эмпирическое большинство (и принадлежать к боль-
шинству вовсе не было зазорным), то сейчас чуть ли не каждый автор
исторической работы навешивает для начала какую-нибудь теорию,
маркированную именем классика (или даже просто задает список имен), а
уже затем описывает что-нибудь вроде истории гимназистки. «Лексика
исторических исследований кишит знаками показного коленопреклоне-
ния перед загадочными письменами полубогов. Ныне эти ученые цити-
руются в предисловиях ко многим книгам или статьям, как будто само
упоминание их священных имен придаст ореол и смысл тому, что. авторы
подобных работ довольно помпезно предпочитают сейчас называть своим
“дискурсом”. Среди западных историков ссылки на авторитеты сегодня
почти в такой же моде, как в свое время в России при Сталине. Например,
автор статьи, опубликованной недавно в одном из британских историче-
ских журналов, умудрился враз упомянуть следующие имена: Соссюр,
Барт, Лиотар, Деррида, Альтюссер и Лакан из Франции; Ницше и Хайдег-
гер из Германии; Стэнли Фиш, Хейден Уайт и ЛаКапра из Америки»26.
Подобной «легкости мыслей» способствует институциональный
механизм «стратегии присвоения» в историографии, который чаще все-
го выглядит следующим образом: один—два историка действительно ос-
ваивают какую-то теорию и начинают использовать ее в своих работах,
а все остальные отталкиваются уже от этого вторичного изложения. По-
этому формально множество авторов исторических трудов в наши дни
отсылается к тем или иным не-историческим исследованиям, что и ве-
дет к их классикализации, однако далеко не все историки используют
«чужие» теории по существу и даже знакомятся с соответствующими
исследованиями, не говоря уже об их творческом развитии.
Повышение популярности теоретического знания и стейени зна-
комства историков с современными социальными концепциями (сколь
бы поверхностным иногда оно ни было) объясняется целым комплексом
очевидных предпосылок. Сами социальные и гуманитарные науки
25 Stinchcombe A L. Should Sociologists Forget Their Mothers and Fathers? // The
American Sociologist. 1982. Vol. 17. N 1. P. 2-11. (P. 2).
26 СтоунЛ. Будущее истории //THESIS. 1994. Вып. 4. С. 160-176. (С. 168).
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
509
должны были не только установиться, но и достаточно развиться, чтобы
из них можно было с большей пристрастностью и разбором заимство-
вать теории, обещающие новые перспективы в изучении прошлого.
Кроме того, разработанные в обществоведении теории и их авторы
должны были стать хорошо известными.
Процесс обращения историков к признанным социальным теориям
не всегда легко объяснить, если обращать внимание только на познава-
тельные задачи, отрефлексированные научным сообществом. Здесь дей-
ствует и такой фактор как научная мода, в данном случае — мода на ту
или иную школу, концепцию, автора. На волне моды могут возникать
как устойчивые направления, так и фантомы. Так, знакомство истори-
ков с классиками постмодернистской социальной философии, которое
по времени почти совпало с социологизацией истории, дало скорее
внешние, чем реальные результаты (отсутствие четкости мысли и изло-
жения, использования модных словечек — текст, контекст, интертекст,
гипертекст, дискурс, различение, тело и т.д.).
Бывает, что в центре внимания историков оказываются «класси-
ки», утратившие актуальность в контексте своей дисциплины. Там мо-
гут царить уже совсем другие кумиры, историки же часто и охотно опе-
рируют устаревшими теориями. Не говоря уже о непреходящей попу-
лярности Карла Маркса, современные исторические работы насыщены
отсыпками к классическим сочинениям Зигмунда Фрейда, Эмиля Дюрк-
гейма, Макса Вебера, Люсьена Леви-Брюля, ранним работам Норберта
Элиаса и т.д. Причины для подобного временного лага разные: инфор-
мационный отрыв; трудности, естественным образом связанные с ори-
ентацией в «чужой» дисциплине и возможностями оценки потенциала
новых теорий; профессиональная неготовность к усвоению сложных
современных концепций и др.
3. Как это бывает «на самом деле», или «Дело Шартье»
Рассуждение о том, что в теоретических работах по истории обна-
руживается присутствие классиков, предполагает не только предъявление
этих классиков (набор имен и исследований), но и обоснование роли, а
точнее выявление функций, в которых выступает классика. В качестве
примера функций классики в исторических трудах, претендующих на
статус теоретических, мы решили предложить анализ известного иссле-
дования Роже Шартье «Культурные истоки Французской революции»27.
27 Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. Пер. с франц.
М„ 2001 [1990|.
510
Историография и ее история
Предмет этой работы - Революция 1789 года - хорошо известен исто-
рикам независимо от их конкретной специализации, и сама тема, без
преувеличения, давно обрела статус классической в процессе истори-
ческого образования.
Искомое слово «классический» мы находим на первой странице
первой главы книги Шартье применительно к работе Дайиэля Морнэ
«Интеллектуальные истоки Французской революции» (1933). Анализи-
руя связь между распространением просветительских идей на протяже-
нии всего XVIII века и свершившейся в конце этого столетия револю-
цией, Морнэ сформулировал главный тезис своего исследования:
«Французскую революцию во многом предопределили идеи»28. Из этой
концепции, по словам Шартье, полвека исходили все исследователи, за-
нимавшиеся историей мысли и социологией культуры XVIII века, т.е.
она, безусловно, приобрела статус классической29.
Вопрос, который Шартье предвидит: «Если уже есть одна всеми
признанная работа, зачем браться за другую»? Естественно, у него есть
ответ на этот вопрос и не один. Главное основание для пересмотра кон-
цепции Морнэ в том, что за 50 лет, прошедших со времени написания
«Интеллектуальных истоков...», историческая наука изменилась, историки
стали очень осторожны в установлении причинно-следственных связей, и
их стали занимать вопросы, которые были вне поля зрения Морнэ.
Шартье волнует проблема ретроспективного «предвидения», когда
событие уже совершилось и мы выстраиваем цепь событий, ведущих к
нему, не замечая помех и вытягивая из потока событий все пригодное.
«Не путает ли классическая (снова ключевое для нас слово - И.С.) тра-
диция причины и следствия, когда утверждает, что Просвещение поро-
дило Революцию? Не вероятнее ли другое: что Революция придумала
Просвещение, желая доказать свое законное происхождение и ища свои
корни в основополагающих текстах философов, для чего примирила их
авторов, несмотря на бросающиеся в глаза различия?»30 (Здесь Шартье
ссылается на целый ряд недавних на момент написания книги работ).
Вслед за Морнэ на страницах книги появляются два других клас-
сика: Мишель Фуко и Фридрих Ницше. Точнее - Фуко, который опирал-
ся на Ницше с его понятием «действительная история» (wirklichc Histo-
ne), отвергающим представление о линейности исторического развития,
28 MornetD. Les origines intellectuelles de la Revolution fran^ais 1715-1787. Par-
is, 1967 [1933]. P. 3; цит. по: Шартье P. Указ. соч. С. 11.
29 Шартье Р. Указ. соч. С. 12.
30 Шартье Р. Указ. соч. С. 13-14.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
511
согласно которому в основе истории лежит преемственность, а события
взаимосвязаны и порождают друг друга. Фуко предложил, обосновал, а
затем и применил в своих работах по истории (клиники, безумия, насилия
и дисциплинированна) метод «генеалогического» или «археологическою»
анализа, отказавшись от классических понятий: «целостность», «преемст-
31
венность», «причинность» , т. е. — от идеи поиска истоков.
Удастся ли избежать ретроспективной иллюзии, сели на место
«интеллектуальных» истоков поставить «культурные»? Шартье уверен,
что такая замена как минимум облегчит понимание сути дела. Во-
первых, потому, что культурные институты являются нс просто фоном,
оттеняющим идеи. Это средства общения, способы распространения
информации, процессы воспитания, имеющие собственную динамику,
выводящую далеко за пределы идеологии, основополагающей для ана-
лиза Морнэ. Кроме того, подход с позиций социологии культуры «от-
крывает доступ к обширному спектру явлений, которые следует прини-
мать в расчет: сюда относятся нс только четкие, выношенные идеи, но
также случайные и непроизвольные мысли, не только добровольная и
обдуманная принадлежность к какой-нибудь партии, но также неволь-
ная вынужденная причастность к тем или иным деяниям»31 32.
Да и вообще следует ли в процессе исследования делать вид, будто
мы нс знаем, что произошло в конце XVIII в. и рассуждать так, словно
революции вовсе не было? Отказавшись от гипотезы, позволяющей
упорядочить факты, не подвергаемся ли мы опасности хаоса? Предваряя
исследование (хотя мы знаем, что введения обычно пишутся а
posteriori), Шартье говорит, что с учетом всех этих обстоятельств, он и
соглашается с гипотезой Морнэ и намеревается ее опровергнуть.
Совершая поворот от истории идей к социологии культуры (важно,
что к социологии, а не истории), Шартье обращается к другим класси-
кам: Ипполиту Тэну, Алексису де Токвилю, Юргену Хабермасу и Нор-
берту Элиасу. Первые два — Токвиль и Тэн с их хрестоматийными рабо-
тами о Великой французской революции, соответственно: «Старый
порядок и Революция» (1856) и «Происхождение современной Фран-
ции» (1876-1893) — были классиками и для Морнэ. Однако Шартье про-
читывает обе работы иначе, чем Морнэ. У Тэна он считает наиболее па-
радоксальным и оригинальным обойденный вниманием Морнэ тезис о
том, что происхождение революционного духа восходит к французско-
31 Foucault М. Nietzsche, la genealogie, I’histoire И Hommage a Jean Hippolite.
Paris, 1971. P. 145-172.
32 Шартье P. Указ. соч. С. 14.
512
Историография и ее история
му классицизму, к идее о торжестве классического рассуждающего ра-
зума: «Тем самым Тэн предложил рассматривать культурный процесс, в
том числе и революцию в более широких временных рамках, нежели
те», в которых их рассматривали сами революционеры, а вслед за ними
историки, как до, так и после Морнэ. Обосновывая свой выбор «исто-
ков», Тэн писал: «Во имя разума, представителем и толкователем кото-
рого является только государство, будут отринуты и созданы заново, в
согласии с разумом и одним только разумом, все обычаи, праздники,
церемонии, одежда, летоисчисление, календарь, меры длины и веса, на-
звания времен года, месяцев, недель, дней, населенных пунктов и па-
мятников, имена и фамилии, формулы вежливости, манера изъяснять-
ся... - так чтобы француз, как некогда пуританин или квакер, полностью
переродившись, выражал всем своим видом и всеми своими повадками
торжество всемогущего принципа, который делает его новым человеком,
и несокрушимой логики, которая лежит в основе его поступков. В этом и
будут заключаться итог и полная победа классического разума»33 34.
Противоречие между абстрактным миром идей и миром реальных
вещей за 20 лет до Тэна обнаружил Токвиль и использовал его для объ-
яснения как причин революции, так и ее, в конечном счете, несоответ-
ствия идеалам Просвещения и проектам самих революционеров. Только
он выбрал другую оппозицию: «литературную политику» и «деловую
практику». Центральным для Токвиля было противоречие между
управлением страной, которое осуществляется через королевских слу-
жащих, и «политикой, носившей литературный и отвлеченный харак-
тер». Политики, лишенные возможности участвовать в государственных
делах, были вынуждены заняться литературой - «политическая жизнь
оказалась вытесненной в литературу». В результате политизация лите-
ратуры означала в то же время литературизацию политики, стремление
свести всю сложность окружающей действительности к простым и яс-
,, 34
ным правилам, рожденным разумом и естественным законом» .
Вторая глава книги Шартье посвящена появлению общественно-
политической (общественно-буржуазной) сферы социальной жизни, об-
разующей пространство дискуссий, не испытывающих давления .со сто-
роны государства, пространство, где частные люди публично пользуются
собственным разумом. Шартье начинает ее словами: «Чтобы подойти к
33 Тэн И. Происхождение современной Франции. Пер. с франц. В 5 тт.
СПб., 1907 [1876-1893]. Т. 1; цит. по: Шартье Р. Указ. соч. С. 17-18.
34 Токвиль А. де. Старый порядок и Революция. М., 1997 [1856]; цит. по: Шар-
тье Р. Указ. соч. С. 20-21.
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
513
тому, из чего складывалось в XVIII в. понятие общественного мнения, мы
обратимся к классической книге Хабермаса “Strukturwandel der Offentlich-
keit”.,.»35 (курсив мой. - И. С.). Чтение очередной классической книги
приводит Шартье к проблеме частного и публичного: эти понятия впер-
вые были соотнесены еще одним не забытым им классиком Иммануи-
лом Кантом - в статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» (1784).
В целом классики в постановочной части работы Шартье, цель ко-
торого пересмотреть одну классическую книгу о происхождении
Французской революции, представлены многообразно и обильно. Среди
них и философы, и историки, и социологи. Однако если прочесть ос-
новную часть исследования, то мы увидим, что на самом деле Шартье,
не очень опираясь на всех указанных классиков, полемизирует в основ-
ном с одним своим современником - историком Робертом Дарнтоном,
который опубликовал серию статей о роли чтения в предреволюцион-
ную эпоху, полагая, что если французы читали книги философов (а они
их читали), значит - они и верили в их идеи. Шартье же справедливо
полагает, что читать - не обязательно значит верить, тем более действо-
вать в соответствии с прочитанным. Книги тех, кого впоследствии на-
звали просветителями, читали все, как до, так и во время и после рево-
люции (даже заключенные в Консьержери и роялисты в эмиграции), но
не все участвовали в революции и принимали ес.
Заключение книги Шартье симметрично Введению. Мы видим тот
же набор имен, маркирующих ключевые идеи о происхождении Фран-
цузской революции.
Так нужны ли были классики? Ответ, безусловно, будет утверди-
тельный, как минимум в том смысле, что они нужны были автору. Хотя
в основной части книги Шартье уходит от классических работ и вроде
бы в них не нуждается, классические теории, рассмотренные в первых
главах книги, выполняют в его исследовании самые разные функции.
Шартье выстраивает концепцию, альтернативную классической интер-
претации Морнэ, при этом относясь к предшественнику с подобающим
пиететом. Хотя в начале Шартье, кажется, собирался развенчать иллю-
зию ретроспективного предвидения (тогда-то ему и понадобилось поня-
тие wirkliche Historie Ницше и ссылка на Фуко), в итоге он тоже пишет
об истоках Французской революции, только о более опосредованных и
неоднозначных, о связях между идеями и революцией через сложные
механизмы рецепции в пространстве культуры. Он даже выносит слово
35 Шартье Р. Указ. соч. С. 30 (см.: Habermas J. Strukturwandel der Offentlich-
keit. Neuwicd, 1962).
514
Историография и ее история
«истоки» в заглавие своей книги36. Можно сказать, что классическая ра-
бота Морнэ выполняет для Шартье функцию источника гипотезы (в
данном случае полу-альтернативной, что вообще с классическими тру-
дами случается довольно редко).
Обращаясь далее к классическим историям Французской револю-
ции Токвиля и Тэна, Шартье черпает в них идеи, не существенные для
его предшественника, но ключевые для его собственной интерпретации,
т.е. использует указанные работы как резервуар уникальных и одновре-
менно фундаментальных идей. В той же функции выступают далее ра-
боты Хабермаса и Канта, а параллельно и они, и Тэн с Токвилем ис-
пользуются для легитимации авторского подхода к проблеме истоков
революции. Ведь Шартье не просто предлагает новую теорию, он за-
махнулся на опровержение всеми признанного классика с полувековым
стажем — Морнэ, и ему нужны авторитеты. А вот отсылка к «психиче-
ской экономике» Норберта Элиаса или цитата из Эриха Ауэрбаха, «как
бы воспроизводящая ход мысли Тэна», скорее выполняют функцию
«интеллектуальных опознавательных знаков» - во всяком случае, мы
нигде не обнаружили, как еще «работают» концепции этих классиков.
* * *
Задача данной статьи состояла в том, чтобы выявить классику в
современной исторической науке и в какой-то степени систематизиро-
вать формы ее присутствия. Разные модусы существования актуальной
классики в историографии, как нам кажется, во многом обусловлены
разнообразием функций, которые выполняют классические произведе-
ния в трудах историков37. Кратким анализом функций классики мы и
завершим свое исследование.
Прежде всего, классические сочинения могут являть собой «образ-
цы совершенства», в которых важны не столько сами теории, методы
или аналитические процедуры, сколько эстетика интеллектуального
продукта. Существует ряд оснований для признания работы совершен-
36 Интересно, что Шартье не только сохраняет идею истоков революции, он
тщательно прослеживает и обосновывает истоки собственных идей, отсыпаясь к ве-
ликим предшественникам, которых прямо называет классиками.
37 В социологии проблеме функций классики посвящен целый ряд работ,
предлагающих разные классификации, хотя, по сути, они довольно близки (ср-:
Мертон Р. К. Об истории и систематике социологической теории [1968] И Мер-
тон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Пер. с англ. М., 2006 [1968]-
С. 19-63; Stinchcornbe A L Op. cit.; Alexander J.С. The Centrality of the Classics // So-
cial Theory Today / Eds. A. Giddens, J. Turner. Cambridge, 1987. P. 11-57).
И. М. Савельева. Классики в исторической науке...
515
ной: литературный дар автора, способность увлечь блистательными
прорывами в исследовании, элегантность теоретических построений.
Хотя вубор образцов - дело сугубо индивидуальное, у историков, без-
условно, присутствует широкое согласие по поводу таких работ, хотя
они вполне могут быть устаревшими с научной точки зрения.
Классические работы могут служить и образцами выхода за рамки
привычного, будь то тематика, гипотеза, формулировка проблемы или
ее решение - назовем хотя бы «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги
или «Американцев» Дэниела Бурстина.
Важнейший эвристический ресурс классики заключен в работах,
предлагающих фундаментальные идеи и решения. Число исторических
работ такого рода невелико, но благодаря пресловутой «стратегии при-
своения» эту функцию для современных историков выполняет несчет-
ное количество классиков XX века из других социальных и гуманитар-
ных дисциплин. Важной особенностью фундаментальных работ являет-
ся возможность использовать сформулированные в них теории как ис-
точник гипотез для проведения эмпирических исследований и разработ-
ки более узких историографических концепций. Укажем хотя бы на
Броделя на базе его уникального подхода к предмету исследования
через структурирование времени впоследствии возникло несколько на-
правлений: модель стационарных периодов (Эммануэль Ле Руа Ладю-
ри), концепция долговременных циклов (Иммануэль Уоллерстайн) и
версии равномерных изменений (Франсуа Фюре и Дени Рише)38.
И, наконец, классики служат ритуальными фигурами самоиденти-
фикации для корпорации. Артур Стинчкомб поясняет суть этой функ-
ции предельно кратко: «Мы все читали этих классиков или, по меньшей
мере, отвечали на вопросы о них на экзаменах, и это объединяет нас в
интеллектуальное сообщество»39. Этот список, конечно, включает толь-
ко «своих», он будет самым длинным и начнется с Геродота.
38 Подробнее см.: Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: Теория
и история. В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого.
СПб., 2003-2006. Т. 1. Гл. 10.
39 Stinchcombe A L. Op. cit. Р. 9.
Н. Н. Алеврас
ЧТО ТАКОЕ «ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ БЫТ»?
ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕФИНИЦИИ
Можем ли мы рассчитывать на абсолютно точное, в традициях
строгой научности определение интересующего понятия? Словосочета-
ние, состоящее из двух терминов, один из которых обозначает научно-
дисциплинарную область, а другой - сферу обыденной жизни, может
вызывать подозрение в его научной выдержанности у последователь-
ных научных ортодоксов. Но в качестве аргументов в пользу легитим-
ности данного понятия отметим целый ряд обстоятельств, которые про-
ясняют «изобретение» данного конструкта.
Вхождение исторической науки в антропологический поворот гу-
манитарного знания со всеми из этого вытекающими последствиями
явилось началом размывания, казалось бы, устоявшихся границ между
научными отраслями и дисциплинами. Более того, раздвигаются пре-
грады между наукой и не-наукой, возникает осознание множественно-
сти средств познания, не исключая пространства художественного вос-
приятия реальности. Определяя свое местоположение в общей системе
знания о человеке, историография как бы заявляет возможность исполь-
зования и таких познавательных инструментов, которые характерны для
этого пространства.
Новая ситуация в культуре познания вернула ученых к основам
давно известной идеи о целостности познаваемого мира и невозможно-
сти понять и подвергнуть научному описанию суть человека в истории
без проникновения во все сферы его бытия. В связи с этим и меняются
наши представления о средствах и способах познания. Среди них не
последнее место занимает интуиция исследователя, способная сформи-
ровать на основе исгочникового материала не только сюжетную кан-
ву/историю судьбы человека, но и проникнуть в мир его идей и чувств,
без чего историку понять выбор и траекторию жизненного пути изучае-
мой персоны невозможно.
Вольно или невольно историк-историограф осознает необходи-
мость держать открытой «калитку», которая соединяет его с широким
полем культуры. Мир живописи, литературы, кинематографа, художе-
ственной фотографии и т.д. подступает к «забору» исторической науки,
заставляя смотреть в прошлое, в том числе прошлое своей науки, голо-
графическим зрением. Подобный подход, дополненный интуитивист-
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ”?
517
скими способами познания человека из прошлого, определяет метафо-
ричность используемых в историографии определений тех теоретических
конструкций, при помощи которых историограф пытается проникнуть в
мир человека-историка. В этой связи остро встают вопросы относительно
предметной области историографии и места в ней историографического
быта, что, впрочем, может потребовать отдельного разговора. В данной
же статье сделана первая попытка прояснить историческую и смысловую
связь «историографического быта» с его литературным прототипом -
«литературным бытом», раскрывается история возникновения интере-
сующего понятия, прослежен опыт восприятия и применения инноваци-
онного конструкта в ряде историографических исследований.
От быта «литературного» к «историографическому»
Проблема «историографического быта» была сформулирована в
середине 1990-х гг. - в период осознания сообществом историков кри-
зиса исторического знания, активных поисков путей его теоретического
обновления, а также попыток расширить методологический диапазон
такой сферы исторической науки как историография. Специалисты из
этой области, не раз подчеркивали функциональную значимость исто-
риографии как рефлексивного знания, в общей системе гуманитарных
дисциплин и культуры. Утверждение понимания смысла историографии
как истории исторической науки позволяет проводить параллели с цик-
лом других научных отраслей, обращенных к изучению истории раз-
личных наук и их науковедческих практик. Взгляд на историографию
как актуальное знание для широкой социокультурной среды делают его
востребованным в сфере художественной культуры, искусства. Законо-
мерно, что значимые для развития науки и культуры перспективы ис-
пользования междисциплинарного подхода не могли не сблизить исто-
рию исторической науки и историю литературы с позиций определенного
совпадения их научных задач. Нс останавливаясь на очевидных различи-
ях предметных областей, отметим сходство дисциплинарных задач этих
двух гуманитарных наук, обращенных к изучению творческой деятельно-
сти и интеллектуальных продуктов этой деятельности.
Стремление историографов обновить представления о предметном
пространстве своей научной области с учетом инновационных идей
конца XX в., выходящих в широкую область культурной истории, опре-
делило выработку таких способов познания, которые бы позволили рас-
крыть процесс творения и организации исторического знания в непо-
средственной связи с социокультурной сферой бытования науки. Эти
попытки того времени могли опереться на уже имевшийся опыт вое-
518
Историография и ее история
приятия литературного процесса и литературоведческих исканий, осу-
ществлявшихся в свое время теоретиками и историками литературы в
целях разработки теории и корректировки понимания методов и целей
изучения развития литературы.
Активный процесс на этом поприще развернулся в 1920-е гг. в
среде русских формалистов, образовавших творческое объединение
ОПОЯЗ (Общество по изучению поэтического языка), наиболее видны-
ми представителями которого были Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум,
В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон. Благодаря творческим усилиям, глав-
ным образом, первых двух из перечисленных персон, литературоведе-
ние того времени пополнилось новым понятием - «литературный быт»1.
По аналогии с этой категорией уже в другую, но тоже кризисную эпоху
(конец XX в.), и возникает его историографический аналог. Однако во
время конструирования нового понятия в области историографии не
состоялось выразительной рефлексии относительно его генезиса. Пола-
гаем, что после того как категория «историографический быт» получила
«прописку» в историографических текстах, наступило время для уясне-
ния его происхождения и корректировки определения.
Обратимся первоначально к истории возникновения категории
«литературный быт». Ю. Н. Тынянов в 1924 г. первым употребляет тер-
мин «быт» применительно к литературному процессу, имея в виду ис-
торию трансформации (смены) литературных жанров. Рассматривая
постоянный процесс движения и замещения жаиров в системе приори-
тетного внимания писательско-читательской аудитории, он, на примере
«переписки», показывает, как это внелитературное, бытовое явление
повседневности трансформируется в особый литературный жанр «пи-
сем» (например, «Письма русского путешественника»
Н. М. Карамзина)2. Прослеживая «превращение факта быта в литера-
турный факт», Тынянов в 1924 г. подчеркивал роль «эпохи», которая
либо создает условия для «олитературения вещи быта», либо заставляет
литературный факт вновь «нырять» в быт3. Это общее наблюдение опи-
рается на его теоретические рассуждения о «центре» и «периферии»
литературного пространства и текучести границ между ними. В свойст-
1 См.: Тынянов Ю. Н. Литературный факт [1924] // Тынянов Ю. Н. Литератур-
ный факт. М., 1993. С. 121-137; Он же. О литературной эволюции [1927] И Там же.
С. 137-148; Эйхенбаум Б. И. Литература и литературный быт// На литературном
посту. 1927. № 9. С. 47-52.
2 См.: Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 130-133.
3 Там же. С. 133.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ’’?
519
венной Тынянову манере интуитивных, метафорических характеристик-
определений он использует понятия «смещение», «перемещение» для
того, чтобы раскрыть специфику взаимодействия «центра» и «перифе-
рии». Литературный процесс, по его версии, развивается таким образом,
что «новые явления занимают именно самый центр, а центр съезжает в
периферию»4. Рассматривая литературу как «динамическую речевую
конструкцию»5, он и «быт» определял с этих позиций. Бытовая сторона
жизни существует для него как один из соседних с литературой «ря-
дов». Ставя в 1927 г. вопрос о том, как быт соотносится с литературой,
лидер школы формалистов отвечал: «Быт соотнесен с литературой
прежде всего своей речевой стороной» (курсив Тынянова - Н. А.). При
этом он продолжает подчеркивать эластичность границы между литера-
турной культурой и бытом, концентрируя внимание и на «закреплении
бытовых форм за литературной функцией», и на «экспансии литературы
в быт»6. Ю. Н. Тынянов еще не употребляет полное словосочетание
«литературный быт». Оно, как устойчивая конструкция, появилось в
статье Б. М. Эйхенбаума и получило, как нам представляется, несколько
более широкое, чем у Тынянова, толкование.
Не детализируя всех аспектов позиций авторов, отмстим в данном
случае, что новое понятие у главного его разработчика -
Б. М. Эйхенбаума - осознается как «социальное бытование» литерату-
ры. Он сосредоточивается на внелитсратурном контексте деятельности
писателя, показывая, каким образом кризис социального бытования ли-
тературы (имелись в виду социальные и экономические изменения, а на
этом фоне - «профессиональное положение писателя», «соотношение
писателя и читателя», «условия и формы литературной работы»), ока-
зывал воздействие на литературный процесс7. По его мнению, в новых
условиях современности приобретали актуальность не только проблемы
эволюции, но и генезиса литературного процесса, который он связывал
с проникновением в него бытового элемента. Поэтому перед «литера-
турной наукой вставала новая теоретическая проблема соотношения
фактов литературной эволюции с фактами литературного быта»8.
4 Там же. С. 124.
5 Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 127.
6 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции. С. 145, 146. (Данная статья появи-
лась вслед за статьей Эйхенбаума).
7 Эйхенбаум fi М. Указ соч. С. 48-49.
8 Там же. С. 49.
520
Историография и ее история
Пытаясь выработать некоторые теоретические основания «литера-*
турного быта»9 и установить связь литературы с «внелитературным»
контекстом, Эйхенбаум, опираясь на идеи Тынянова, полагал: «Отно-
шения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне
его, не могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия,
зависимости или обусловленности»10. Сложные и едва ли предсказуе-
мые взаимодействия и пересечения полей науки и социального быта, по
мысли Эйхенбаума, позволяют выделить в творческом процессе, по
крайней мере, два рода явлений, в разной степени связанных с внелите-
ратурным (бытовым) пространством.
Иллюстрируя свою мысль фрагментами творчества А. С. Пушкина,
он полагал, например, что выбор поэтом стилевых особенностей лите-
ратурного произведения менее всего подвержен социализации (т.е. был
независим от социальных причин), в то время как смена («эволюция»)
интересов литератора в области жанровых приоритетов является непо-
средственной рефлексией на изменившуюся социокультурную ситуа-
цию. Имея в виду факт перехода А. С. Пушкина к журнальной прозе,
Эйхенбаум объясняет его реакцию формированием «новых литератур-
но-бытовых условий, отсутствовавших прежде». Он подразумевал
«расширение читательского слоя», появление «особых профессиональ-
ных издателей», «периодических изданий коммерческого типа» и в це-
лом профессионализацию литературной деятельности. В качестве по-
следствий проникновения литературного быта в контекст творческого
процесса Эйхенбаумом подчеркиваются такие факты литературной
жизни как превращение (или совмещение) писателей в редакторов-
издателей, формирование «писательских групп». Особо он отмечал по-
явление феномена «второй профессии» среди тех, кто пытался отмеже-
ваться от непривычного еще в середине XIX в. образа профессионала в
литературе и сохранять имидж прежнего, свободного от коммерческо-
профессиональной конъюнктуры, деятеля. Подразумевая, в частности,
уход Л. Н. Толстого в Ясную Поляну от кипевшей в столице профес-
сиональной литературной жизни, он обозначает это явление как «вызов
9 Отметим, что Б. М. Эйхенбаум в 1927 г. задумывал специальную работу о
литературном быте, но не реализовал ее, попытавшись воплотить свои теоретиче-
ские идеи в книге, посвященной научной биографии Л. Н. Толстого. См. об этом:
Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в
научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Тыняновский сборник: Вторые Ты-
няновские чтения: Сб. ст. / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига, 1986. С. 114-119.
10 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции. С. 50.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ’’?
521
писателя-помещика писателю-профессионалу» и, одновременно, как
«бытовой контраст» новой литературной эпохи11.
Таким образом, «литературный быт» Эйхенбаума предстает в виде
некоего социокультурного поля, в котором разворачивается литератур-
ный процесс. При этом он фокусирует проекцию «социального бытова-
ния» литературы на ситуацию кризиса социума, повлекшего кризис
профессии. Новая социальная реальность формирует иные, чем прежде,
мотивы творческой деятельности, заставляет представителей писатель-
ско-литературного сообщества пересматривать старые поведенческие
стратегии. Трансформационные социальные процессы, вызывая новые
формы социального бытования литературы, или литературного быта, по
Эйхенбауму, рождают новый творческий опыт.
«Литературный быт», появившись в качестве теоретического кон-
структа в период резких социальных перемен, в атмосфере ощущений
кризисного состояния теории «литературной науки», а таюре в ходе об-
суждения вопросов выработки литературоведческой тактики адаптации
к вызову времени, не смог в то время окончательно утвердиться в пра-
вах признанной категории и получить теоретическую легитимность12.
Но несмотря на то, что интересующие нас идеи формалистов ими сами-
ми не были развиты в полном объеме и, более того, не получили в их
собственной микрокультуре признания со стороны всех ес представите-
лей, литературоведы впоследствии все же не раз обращались либо к яв-
лениям, имеющим литературно-бытовой подтекст, либо к самому поня-
тию «литературный быт».
Примечательна в этом отношении одна из статей Ю. М. Лотмана,
посвященная характеру бытового поведения в культуре России. Не ссы-
лаясь прямо на понятие «литературный быт» и его родоначальников, он
выдвигает общую мысль о существовании неких стилевых особенно-
стей бытового поведения людей, свойственных, практически, любой
социокультурной группе и любой эпохе. Речь идет о совмещении пове-
денческих практик двух типов. Один тип бытового поведения связан с
ментальными установками. По Лотману, это поведение «обычное каж-
додневное, бытовое, которое самими членами коллектива воспринима-
ется как “естественное”, единственно возможное, нормальное». Другой
11 Там же. С. 51.
12 Об истории выработки понятия «литературный быт», попытках реализовать
его в практике литературоведческих исследований Б. М. Эйхенбаумом и критиче-
ском восприя тии его интеллектуальных новаций Ю. Н. Тыняновым и
В. Б. Шкловским см.: Чудакова М. О. Указ соч. С. 103-131.
522
Историография и ее история
тип поведения можно определить как «ритуальный», «обрядовый». В
отличие от первого, органично, неявно входящего в жизнь человека,
второй тип поведения приобретается через сознательное усвоение (пу-
тем обучения) ритуальных норм и правил социокультурной среды13 14 15.
Сформулированная своего рода закономерность поведенческой
культуры может быть спроецирована на любую сферу деятельности
человека, в том числе связанную с творчеством в литературе и науке.
Заметим, что статья Ю. М. Лотмана наполнена сюжетами из области
литературной культуры и «поэтики» быта, пересекающимися с тем, что
интересовало в свое время Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Завер-
шается же она любопытным пассажем, фиксирующим внимание на «по-
этике поведения» как типологическом явлении культуры', характерном
как для XIX, так и для различных эпох XX века. Среди явлений, входя-
щих в данную культурную традицию называется феномен «жизне-
14
строительства» , за которым угадываются интенции литературоведче-
ских поисков в 1920-е гг. .
«Литературный быт» продолжает интриговать современную литера-
туроведческую среду, в которой сохраняется убеждение в актуальности
этой конструкции. Не прекращаются попытки интерпретаций введенных
формалистами идей и понятий на литературно-бытийную тему16. Инте-
ресна одна из попыток реанимировать понятие литературного быта в не-
большой статье В. Лазутина, в которой автор пытается актуализировать
современную проблему Интернета как способа профессиональной ком-
муникации писателей. Для автора сетевое общение людей, связанных ли-
13 См.: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII
века//Лотман Ю. Н. Избранные статьи: В 3-х тт. Т. 1. Таллин, 1992. С. 249.
14 Там же. С. 268.
15 Б. М. Эйхенбаум в 1925 г. в ситуации творческого кризиса и поисков своего
пути в науке, писал в дневнике о формирующейся у него целевой установке буду-
щей темы, связанной с «историко-бытовым» подходом к изучению жизни писателя:
«...Сплести жизнестроение (курсив мой - Н. А.) человека (творчество как посту-
пок) с эпохой, с историей...». Цит. по: Чудакова И. О. Указ. Соч. С. 111.
16 См., например: Зенкин Cr Н. Открытие «быта» русскими формалистами //
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=72194; Лазутин В. Литературный быт начала XXI
века// http://magazines.russ.rU/october/2006/5/la9.html/; Литературный быт пушкин-
ской поры // http://skolakras.narod.ru/materiales/LitByt.htm/; Проскурин О. А. Литера-
турные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. В данном случае не ставился задача
полномасштабного обзора современных интерпретаций «литературного быта».
Важно лишь подчеркнуть, что прерванный в 1920-е гг. разговор по поводу данного
литературного феномена и литературоведческого понятия, похоже, возобновляется.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ”?
523
тсратурной деятельностью, в частности, через сайт «Живой журнал», рас-
сматривается как проявление современного литературного быта17.
Наблюдения по поводу литературного быта, направленные на изу-
чение собственно литературной жизни, внелитературных и окололите-
ратурных процессов, имеют очевидный теоретический и практический
интерес для истории исторической науки. Поэтому основные параметры
понимания и смыслового наполнения понятия литературного быта, вы-
работанные в рамках довольно длительной традиции, конкретное во-
площение на страницах литературоведческих и историко-литературных
исследований сюжетов «быта» в литературном процессе, могут быть
признаны актуальными и рассматриваться в качестве некоей матрицы
для их проекции в область интересов историографии.
«Историографический быт»:
некоторый опыт смыслового наполнения и применения (1995-2008)
Новое в историографической практике понятие «историографиче-
ский быт» появилось в 1995 г. в выступлении Ю. Л. Троицкого на одной
из омских конференций. Внедряя одним из первых йонятие «историо-
графический быт», историк вполне резонно объяснял, что практика ис-
ториографических исследований того времени свидетельствовала об
отставании этой сферы исторического знания от современных требова-
ний к гуманитаристикс. Сложившаяся ситуация, когда, по словам авто-
ра, «иные историографические работы неотличимы от аннотированной
библиографии», требовала конструктивных изменений историографиче-
ского нарратива. Как представляется, заявленные претензии к методоло-
гии историографических исследований, могли быть обращены, в первую
очередь, к работам, выполненным в стиле так называемой «проблемной
историографии», преобладавшим в историографической практике совет-
ского времени. Скудость и невыразительность научного языка историо-
графа, ограниченность представлений о пространстве предметной облас-
ти историографии, по его мнению, привели к специфическому
методологическому парадоксу - «почти слитости (так в тексте - Н. А.)
исторических исследований и историографических описаний»18.
17 См.: Лазутин В. Литературный быт начала XXI века//
http://magazines.ross.ni/october/2006/5/la9.html/
18 Троицкий Ю. Л. Историографический быт эпохи как проблема // Культура и
интеллигенция России в эпоху модернизаций (XVLII-XX вв.). Материалы Второй
всероссийской научной конференции. Т. П. Российская культура: модернизацион-
ные опыты и судьбы научных сообществ. Омск, 1995. С. 164.
524
Историография и ее история
В то же время Ю. Л. Троицкий подчеркивал необходимость обнов-
ления широкого методологического пространства истории исторической
науки, включающего и предметное поле, и тезаурус историографии. Не-
обходимость выработки метаязыка данной области исторического знания
потребовала создания некоего исследовательского конструкта, при по-
мощи которого можно было бы выработать адекватный задачам историо-
графии научный инструментарий и выйти из кризисной ситуации исто-
риографического знания. Понятие «историографический быт», по мысли
автора, призвано было сыграть подобную роль.
Ю. Л. Троицкий заимствует литературоведческий теоретический
опыт современных ученых (в частности, идеи литературоведа В. Тюпы)
и, вероятно, опирается на теоретические построения выразителей «но-
вой интеллектуальной истории» и семиотики, в частности, X. Уайта,
Р. Барта, И. Рюзена. В лаконичной схематической форме (в виде «исто-
риографического треугольника») Троицкий представил «историографи-
ческий быт» и как инструмент описания структуры историографическо-
го знания, и как выражение некоей интеллектуальной коммуникации.
Предлагаемая понятийная конструкция, по его версии, отражает взаи-
мосвязь процессов и форм происхождения исторического знания, спо-
собы его трансляции в общественную среду и восприятия как социумом
(читателем), так и корпоративным сообществом.
Понятие «историографический быт», по Ю. Л. Троицкому, нагру-
жено довольно широким спектром характеристик. Кроме вышеизло-
женного, оно наделяется функцией описания историографических жан-
ров, с характерными для литературоведческих исследований
наблюдениями за жанровой эволюцией. Вводит он и дополнительное
понятие историографического письма, характерного для изучаемой эпо-
хи, учитывает различные типы научных коммуникаций историков. Всё
перечисленное в совокупности образует, если следовать логике рассуж-
дений автора, новые сегменты предметного поля историографии и ста-
вит перед историей исторической науки оригинальные задачи, возни-
кающие как результат методологических устремлений этой научной
области, фокусирующих внимание на точке соприкосновения собствен-
но научной деятельности историка и ее «бытового» контекста. Приведен-
ный перечень аспектов, входящих в предлагаемое историографическое
понятие свидетельствует, что автор был довольно последователен в деле
перенесения в область историографии целого ряда ее литературоведче-
ских аналогов. Однако все же сохраняется вопрос относительно того, на-
сколько все они органичны природе историографического знания.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ”?
525
Последующий опыт восприятия и применения данной категории в
историографических исследованиях отражает процесс корректировки и
наполнения ее новыми элементами смысла и содержания. Вместе с тем
следование, либо интуитивное, либо намеренно не подчеркиваемое, ли-
тературному прообразу «историографического быта» сохраняется на
протяжении всего времени с момента его применения в историографии.
Это дает основание считать имеющийся опыт использования изучаемо-
го междисциплинарного заимствования как устойчивую традицию.
В историографической практике, связанной с обращением к идее ис-
ториографического быта, выделяется исследовательский опыт
В. П. Корзун, с характерным для нее стремлением реализовать в сфере
историографии методологические подходы культурной истории. В 1995 г.,
проецируя взгляд на историографическое сообщество с позиций задач
историко-культурных исследований, В. П. Корзун также обращается к
понятию «историографический быт», пытаясь задать контуры его опреде-
ления19. Категория «историографический быт» воспринималась ею как
один из способов исследования «внутреннего мира культуры», к которому
историография принадлежит как история исторической науки. Рассматри-
вая «историографический быт» в качестве структурообразующей катего-
рии, В. П. Корзун, в первую очередь, видела в ней «понятие, описываю-
щее структуру историографического знания как определенную
коммуникативную целостность». Другой акцент его восприятия подчер-
кивался перспективами применения новой категории в целях исследова-
ния «непрофессиональных форм самовыражения историков». «Историо-
графический быт» рассматривался при этом в качестве одного из
инновационных подходов, ориентированных «на междисциплинарность и
постоянное расширение предмета историографии»20.
19 Вспоминая ситуацию с восприятием в 1995 г. выступления
Ю. Л. Троицкого, В. П. Корзун отмечает: «после доклада Троицкого я обратилась к
литературоведческим работам Г. А. Белой, и меня как раз интересовала категория
"литературный быт". Выяснив для себя неоднозначность этою понятия в литерату-
роведении и стремление разграничить его с понятием "быт писателя", я была озада-
чена проблемой коммуникативного контекста, в рамках которого создается как сам
интеллектуальный продукт, гак и воспроизводятся поведенческие практики, нормы
и ценности самого научною сообщества. Но в таком поиске больше было интуиции,
чем рефлексии». (Цитируется фрагмент из нашей переписки в январе-феврале
2009 г. по поводу «историографического быта» - Н. А.).
20 Корзун В. П. Отечественное историографическое сообщество: от сциентизма
к историко-культурным исследованиям // Культура и интеллигенция России в эпоху
модернизаций... Т. II. С. 160.
526
Историография и ее история
Подчеркнем, что первые толкования историографического быта,
возникшие в рамках омской историографической традиции, связывали с
этой конструкцией эпистемологический, науковедческий и культуроло-
гический потенциал историографии и являлись сознательным продол-
жением выразительного интереса дореволюционной историографии к
истории литературы21. Однозначно, при этом, новая категория провоци-
ровала историографов на актуализацию проблем предметного про-
странства историографии.
В дальнейших работах омских историографов понимание содержа-
ния историографического быта корректируется, предпринимаются по-
пытки вписать в интерьер историографического быта схоларные процес-
сы22, разнообразные поведенческие и коммуникативные практики,
характерные для корпорации российских историков. Постепенно выраба-
тывается методология современного историографического исследования,
в котором изучение индивидуальных и корпоративных поведенческих
стратегий научного сообщества историков, превращается в актуальную
историографическую проблематику. Развитие исторической науки* общая
картина выработки и состояния исторического знания уже не мыслятся
без учета вненаучных процессов, в лоне которых формируются и качест-
ва творческих личностей, и судьбы их научных произведений23.
Показательна новаторская по характеру статья А. В. Свешникова,
рассмотревшего ценностно-культурные формы и мотивации поведения
ученых-историков с позиций этических норм и традиций научной жиз-
недеятельности профессионального сообщества.24 Апеллируя к катего-
21 Ссыпаясь на А. Н. Веселовского, который называл историю литературы
«пограничной полосой, куда заходят поохотиться историк культуры и эстет, эрудит
и историк общественных идей», В. П. Корзун подчеркивает, что в эту область ак-
тивно «заходили» и дореволюционные историки исторической науки. В не меньшей
мере она интересовала омских историографов в момент возникновения интересую-
щего нас понятия. (Информация из указанной переписки - Н. А.).
22 См.: Корзун В. П. Научная школа в интерьере «историографического быта»
(В. О. Ключевский, П. Н. Милюков, С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский) //
Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных со-
обществ (XVIII-XX вв.). Т. I. Научные сообщества в социокультурном пространстве
России. Омск, 1998. С. 2-5.
23 Этот поворот в историографическом знании привлек внимание научной об-
щественности как выражение инноваций исторического знания. См., например:
Алеврас Н. Н. Проблемы историографии на омских конференциях И Вестник ЧелГУ.
Серия История, 1999. № 2. С. 16-20.
24 См.: Свешников А. В. Кризис науки на поведенческом уровне // Мир истори-
ка: идеалы, традиции, творчество. Омск, 1999. В данном случае мы сосредоточива-
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ”?
527
рии «этос науки» и рассматривая сс в соотношении с социокультурны-
ми основаниями творческой деятельности ученых, автор выделяет в
науке «центральное ядро» и «периферию». Не используя термин «исто-
риографический быт», он под «периферией» понимает «все то, что не
связано явно с процессом познания», оговаривая одновременно, что
«четкой границы между собственно научной деятельностью и произ-
водным от нес бытом (курсив наш - Н. А.) провести невозможно»25.
Можно предполагать, что перед нами попытка обратиться к идеям и
терминологии Ю. Н. Тынянова (замечу, автор не делает на этот счет
специальных ссылок, и я могу ошибаться в своих предположениях), в то
время как историографы-предшественники в большей мере, на наш
взгляд, следовали линии Б. М. Эйхенбаума26.
Предложенный А. В. Свешниковым подход интересен не только
«тыняновскими» акцентами, но и закономерным при разговоре об исто-
риографическом быте обращением к «этосу науки», что специально не
подчеркивалось в предыдущих интерпретационных опытах с новой ка-
тегорией. В наблюдениях за «периферией» научного пространства он
выходит на вопросы внутреннего мира ученых, их жизненных ценно-
стей, личностно-персонального своеобразия, затрагивая, в том числе, и
такие интимные аспекты творчества, как характер их талантливости.
Связывая в единую цепь проявления социальных кризисов, переосмыс-
ление представителями научного сообщества ценностных жизненных
установок, смену характера и форм их взаимоотношений, Свешников
оперирует еще одним понятием - «значимое поведение». Контекст ав-
торских пояснений позволяет воспринимать его в традициях менталь-
ной истории. Это обозначение, на наш взгляд, соотносится с приведен-
ными выше наблюдениями и характеристиками Ю. М. Лотмана
относительно социокультурных типологий поведения человека. Сам же
автор предпочел использовать понятие «габитус», введенное П. Бурдье
в изучение социальной реальности. Габитус, как его понимает Свешни-
емся на некоторых теоретических посылках автора и лишь слегка касаемся основно-
го содержания статьи, связанного с созданием образов науки и ученых-историков
периода научною кризиса рубежа XIX XX вв., образов, которые автор выстраивает
на основе проникновения в мир экзистенциальных ценностей своих героев.
25 Там же. С. 76.
26 С. Н. Зенкин попытался определить разность понимания «литературного
быта» Тыняновым и Эйхенбаумом, полагая, что подход первого опирался на идею
текстуальности, а у второго он имел интституционально-социологическую основу.
См.: Указ соч.
528
Историография и ее история
ков применительно к исследованию пространства научной жизни, иден-
тифицируемого как историографический быт, это некие правила пове-
дения, воспринимаемые в научном сообществе с позиций «этоса науки»
и выступающие «как обязательная органическая часть традиции, хотя
не всегда рационально объяснимая». Стоит подчеркнуть при этом, что
для автора статьи «этос науки» определяет, в конечном итоге, жизнен-
ную стратегию и стереотипы поведения ученого, как в собственно на-
учной деятельности, так и на уровне научного быта27.
С позиций предложенного подхода образы главных героев статьи
А. В. Свешникова - М. С. Корелина и Л. С. Карсавина - предстают как
выражение и результат различных ценностных научно-бытовых ориента-
ций. По мысли автора, разность судеб историков, характер их талантов,
тип восприятия своих учителей и даже длительность жизненной стези не
в последнюю очередь оказываются связанными с их отношением к быто-
вому контексту научной жизни. Научная целеустремленность Корелина и
«бескомпромиссное» стремление следовать ценностному ряду науки че-
рез «преодоление самого себя» - это один, принятый Корелиным, идеал
жизни в науке, когда человек пытается сознательно дистанцироваться от
«быта» (удается ли ему от него уйти - другой вопрос). Противоположный
стиль жизни характерен для Карсавина, ученого со сложной траекторией
научного выбора, человека конфликтного, не пугавшегося перспектив
остаться в положении историка-маргинала. Его научная деятельность
органично связана с комплексом экзистенциальных оснований и интен-
ций, сердцевину которых составляли его религиозно-мировоззренческие
ценности. «В описаниях современников Карсавин часто предстает по-
груженным в быт, где чувствует себя органично», - констатирует Свещ-
ников. Он заключает, имея в виду и то, что историки принадлежали раз-
ным эпохам, поколениям и пережили в науке различные ее ситуативные
состояния: «Корелин, в первую очередь, ученый, Карсавин - человек»28.
Образ первого - это выражение «должного», образ же второго - подви-
жен, контекстуален. Свешников видит, на наш взгляд, в своих героях не-
кие универсальные характеристики, которые позволяют, подобно литера-
торам, создавать типажи представителей науки на основе их ценностного
выбора, на весы которого положена «чистая» наука и наука, органично
включенная в социальный жизненный контекст.
Вполне очевидно, что идеи А.В. Свешникова формировались в си-
туации характерных для рубежа XX-XXI вв. активных обсуждений
27 Свешников А. В. Указ соч. С. 78.
28 Там же. С. 89, 92.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт ”?
529
проблем теории и методологии историографии и сказались на дальней-
шей практике использования понятия «историографический быт». В это
же время появляется монография М.П. Мохначевой, которая, позитивно
принимая новую категорию, образно представляет «историографиче-
ский быт» как «...“тело” историографии или все то, что питает, органи-
зует, формирует историческою концепцию и облекает ее в формы, год-
ные для коммуникации...» . Сам термин она воспринимает в качестве
«рабочего», очевидно предполагая необходимость более глубокого про-
никновения в его смысл. В предложенной же характеристике автора исто-
риографический быт, представленный ею как «тело» историографии, за-
нимает, можно полагать, существенную часть предметного пространства
историографии. Примечателен при этом прозвучавший акцент на «исто-
рическую концепцию». Заметим, что это понятие в предшествующих оп-
ределениях историографического быта не фигурировало, поскольку оно
выходит, если воспользоваться терминологией Свешникова, за пределы
историографической «периферии» и составляет сугубо научный, а не бы-
тийный элемент историографической повседневности.
Существенная часть исследования М. П. Мохначевой, посвящен-
ная «формам сотворчества интеллигенции», в том числе знаменитым
«журфиксам», строится, как нам представляется, на основе позиции,
близкой Эйхенбауму. Автор пытается представить журналистику как
«идейно-познавательный процесс», развертывающийся на разных
«уровнях» ее бытования. Имея в виду «делательный», по ее выражению,
характер всех уровней, она выделяет «профессионально-
институциональный», «социетальный, или общесоциальный» уровни,
трактуя их, одновременно, как формы «бытования» журналистики. В
этом «бытовании» для автора соединяются воедино процессы самоут-
верждения творческой личности в профессиональной среде, самоорга-
низации творческих сил журналистики в виде свободных (неформаль-
ных) социальных институтов и другие проявления функционирования
этого культурного феномена, включающие, в том числе, фиксацию и
трансляцию посредством журналистики историко-научного знания29 30.
В ряде статей и в монографии В. П. Корзун, появившихся в самом
начале нового столетия, вносятся некоторые уточнения в понимание
«историографического быта» относительно тех формулировок, которые
возникли в 1990-е годы. Теперь в трактовках историографического быта
29 Мохначева М. П. Журналистика и историческая наука. Кн. 1. Журналистика
в контексте науко творчества в России XVIII XIX вв. М., 1998. С. 165.
30 См.: Там же. С. 165-213. ,
530
Историография и ее история
особо подчеркивается поведенческая составляющая корпоративной
культуры, акцентируются возможности обращения к этой стороне исто-
рической науки с позиций повседневной истории. Интересующая нас
категория воспринимается в первую очередь как «неявно выраженные
правила и процедуры научной жизнедеятельности, являющиеся важны-
ми структурирующими элементами сообществ ученых». Поясняя эту
формулировку, историограф подчеркивает перспективы применения
данного понятия в качестве познавательного инструмента, позволяюще-
го «реконструировать научную каждодневность и расширить проблема-
тику историографического исследования, в частности - субъективного
фактора в развитии науки»31. Методология историографического опи-
сания, целенаправленно встраиваемого В. П. Корзун в' научно-
исторический «бытовой» контекст, пополняется понятийными инстру-
ментами современной социологии. Она также обращается к социологии
П. Бурдье. В частности, сравнительный анализ образов двух петербург-
ских историков - С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского - осуще-
ствляется ею с опорой на понятие «габитус» (habitus). Трактуя его как
выражение духовных привычек, усвоенных личностью в процессе со-
циализации, она разводит историков по разным социокультурным ни-
шам их общего историко-научного пространства, поскольку они сдела-
ли несовпадающий выбор научных идеологий, интеллектуальной
атмосферы, среды и форм научного общения32.
Принимая идеи Ю. Н. Тынянова - А. В. Свешникова, В. П. Корзун
также опирается на понятия «центральное ядро» и «периферия» науч-
ной традиции. Под «периферией» она понимает «жизненную и пове-
денческую практику», что, вероятно, можно соотнести с важнейшими
характеристиками историографического быта. Но для нее базовое' раз-
личие научных стратегий ученых связано с «различным видением идеа-
лов науки». Именно эти идеалы, определяя ценностные установки уче-
ных, оказывают воздействие и на «периферию» научной жизни33.
Вместе с тем, в нашей переписке В. П. Корзун поясняет, что источни-
ком ее теоретических рассуждений стали идеи видного представителя
семиотической школы В. Н. Топорова, на которого она ссылается и в
своей монографии34. Это свидетельствует, что зачастую прямого обра-
31 Корзун В. П. Образы исторической науки на рубеже XIX-XX вв. Екатерин-
бург; Омск, 2000. С. 20.
32 См. . Там же. С. 85-100.
33 См.: Там же. С. 96.
34 См.: Там же. С. 98.
Н. Н. Алеврас. Что такое "историографический быт"?
531
щения к литературоведческим идеям формалистов могло не быть, но под-
спудно в историографии реализовывалась мысль о существовании связи
между «литературным» и «историографическим» «бытом», а в трудах
Корзун и Свешникова сложился образ сложной системы пространства
научного сообщества. В нем улавливается органическая связь двух сфер
бытия науки, одна из которых реализует преимущественно творческо-
интеллектуальную функцию, другая формирует социокультурный «быто-
вой» контекст, определяющий стилевые особенности творческого процес-
са в науке. Пересекаясь и взаимодействуя, две сферы не могут существо-
вать друг без друга, границы, их разделяющие, условны, результатом их
взаимодействия становятся историографические феномены, которые су-
ществуют подобно диалектике отношений содержания и формы.
Современные адепты литературного быта, задавая проблеме куль-
турологический ракурс, рассматривают культуру как «многоярусную»
конструкцию. Они полагают, что «если высшее ее проявление — искусст-
во, то “культура быта” - ее фундамент, кирпичи, из которых здание стро-
ится»35. Применительно к области науки, в частности историографии,
данное метафорическое суждение можно приложить по методу аналогии.
Если на «ярус искусства» поставить историко-научное творчество, вос-
принимая его как искусство мысли и создания образов ушедшей в про-
шлое историографической реальности, то уровень «фундамента» с его
«строительным материалом» займет историографический быт. Логика
этих сопоставлений может нас вернуть к упомянутому выше сравнению
М. П. Мохначевой историографического быта с «телом» историографии.
Таким образом, все, кого можно отнести к родоначальникам поня-
тия «историографический быт», явно не апеллировали к литературовед-
ческим исканиям в области «литературного быта» и не связывали на-
прямую эти две категории. Впрочем, из изложенного выше вовсе не
следует, что эта связь не осознавалась; она в историографическом опыте
давно уже присутствует в латентной форме. Но, вероятно, настало вре-
мя явной рефлексии в этой области.
Собственные попытки автора данной статьи обратиться к феноме-
ну историографического быта возникли в условиях профессионального,
дружеского и творческого взаимодействия с омскими коллегами. Сам
по себе феномен историографического быта привлек внимание еще в
1990-е годы, но более выразительная рефлексия обозначилась в недав-
35 Литературный быт пушкинской поры // http://skolakras.narod.ru/materiales/
LitByt.htm/
532
Историография и ее история
них публикациях36. В первом случае был представлен опыт осмысления
особого стиля научной жизни историков, поставивших себя вне схолар-
ных процессов и выработавших режим творческой деятельности в рам-
ках научной автаркии. Подразумевая бесконечность вариаций и моде-
лей самовыражения и самоутверждения ученого в корпоративной и
социальной среде, была предложена интерпретация специфики научно-
го индивидуализма небольшой галереи историков. Типаж «индивидуа-
листической культуры» в историографии выступает в данном случае
как одно из проявлений историографического быта.
Второй обозначенный сюжет, связанный с предметом историогра-
фии и категорией «историографический быт», вытекал из статьи о «сво-
ей игре». Обозначая «историографическим бытом» «экзистенциальное
пространство творческой деятельности и коммуникативных практик
сообщества ученых-историков» и связывая с этой категорией «проявле-
ния научной жизни историков в потоке их научной повседневности»37,
хотелось обратить внимание на методологический потенциал данной
категории. Были выделены ее онтологическая и гносеологическая
функции, позволяющие рассматривать историографический быт как
познавательный инструмент истории исторической науки.
При обсуждении вопросов историографического быта на историо-
графической секции международной научной конференции «Теории и
методы исторической науки: шаг в XXI век» (ноябрь, 2008) выявился, с
одной стороны, интерес к этому вопросу, с другой - различное понима-
ние того, что такое «историографический быт». В результате обсужде-
ния перед автором встало несколько вопросов. Если «историографиче-
ский быт» - это термин, выражающий научный феномен прошедшей
реальности, то какую область жизни и деятельности ученого он фикси-
рует? Каково его смысловое содержание, если под ним понимать некий
набор культурно-ценностных установок ученого или норм поведения
имманентной природы? Если это интеллектуальный конструкт историо-
графического свойства, то каковы его познавательные возможности?
36 См.: Алеврас Н. Н. 1) «Своя игра»: историк вне «школьной» традиции или
опыт персонального выбора в пространстве историографического быта // Мир исто-
рика: историографический сборник / Под ред. С. П. Бычкова, А. В. Свешникова,
А. В. Якуба. Вып. 4. Омск, 2008; 2) И снова про... предмет историО1'рафии (транс-
формация предметного пространства и категория «историографический быт») //
Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной
научной конференции. М., 2008.
37 Алеврас Н. Н. И снова про... С. 239, 240.
Н. Н. Алеврас. Что такое “историографический быт"?
533
Один из вопросов, заданных автору данной статьи, ориентировал на
необходимость обратиться к его прообразу «литературному быту»38.
Другими словами, подтвердилась ожидаемая реакция, связанная с
тем, что введенное в научный оборот понятие функционирует пока на
уровне метафорического определения, не прояснен его генезис, не от-
слежена история междисциплинарных заимствований при его формиро-
вании, нс поднимался вопрос о его теоретико-философской основе. И
это, надо полагать, еще не полный перечень того, что можно ожидать в
качестве проблемных задач при дальнейшем разговоре на заданную те-
му. Возникшие вопросы и первая реакция на них стали непосредствен-
ным поводом для нового обращения к вопросу, что же такое «историо-
графический быт». Результатом этого и стала настоящая статья.
Памятуя долгую историю разработки, нс простую, хотя и не самую
несчастливую, суцьбу «литературного быта», выразим надежду, что заин-
тересованные исследователи, во-первых, продолжат свои наблюдения за
бытовой стороной истории исторической науки, во-вторых, внесут свою
лепту в укрепление тезауруса историографии посредством углублений в
смысл «историографического быта» и уточнений его дефиниции.
Мы же выскажем наблюдение, основанное на многочисленных
уже контекстах использования (явного или подразумеваемого) понятия
«историографический быт»39 40. Историографы, зачастую, даже нс будучи
осведомленными, относительно происхождения такой дефиниции, ко-
торая бы выразила соединенные творческие усилия человека на научно-
профессиональном поприще и в потоке каждодневной жизни, сущест-
венно расширили представление о «быте» науки. Если «литературный
быт» Эйхенбаума нередко интерпретируется как выражение социально-
40
го контекста развития литературного процесса , то современные исто-
38 Искренне благодарю за этот вопрос историографа из Украины
И. И. Колесник.
39 Выразительным историырафическим источником в этом отношении стало из-
дание историотрафической серии «Мир историка». «Бытовые» 1рани жизни научных
сообществ и персональных историй ученых, Включающие различные аспекты: гендер-
ной историографии, истории чувств и эмоций, истории профессионализации и науч-
ных карьер, поведенческих стратегий в исторической науке, способов трансляции ис-
торических знаний в общественную среду и др., особенно заметны в последнем
выпуске. См.: Мир историка: историографический сборник. Вып. 4. Омск, 2008.
40 Обратим внимание на современное его толкование, предложенное
С. Н. Зенкиным: «Профессиональный быт - это институциональный контекст лите-
ратурною творчества, социальные рамки, в которых оно развивается». См.: Зен-
кин С. Н. Указ. соч.
534
Историография и ее история
риографы, как нам представляется, в практике своих исследований не
ограничивают понимание историографического быта только социаль-
ными аспектами бытия науки. Историографический быт, конечно, вос-
принимается в ракурсе социологии творчества историка, но все же, не в
последнюю очередь, рассматривается как концентрированное выраже-
ние всех жизненных изгибов в судьбе ученого, которые воздействуют
на процесс сотворения исторического знания. Вероятно, с позиций ис-
торической эпистемологии историографический быт точнее было бы
трактовать посредством философских и методологических идей герме-
невтики и феноменологии. Принцип герменевтического «понимания»,
соединенный с феноменологической установкой следовать интенцио-
нальности сознания субъекта, включающей личные переживания по-
знающего, формирует экзистенциалистский подход и задает, одновре-
менно, культурологический угол зрения. Это и позволяет погрузиться в
жизненный мир ученого. Однако такого рода погружение подчинено
главной историографической задаче, нацеленной на конструирование
целостного образа исторической науки, в том числе уникальных и ти-
пичных образов ее творцов - ученых-историков.
И. Е. Рудковская
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
ВОЗМОЖНЫЕ ГРАНИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перспективы реализации идеи межкультурной компаративной ис-
ториографии, предложенной И. Рюзеном, предполагают максимально
«плотное описание» национальных историографий»1. Этот поистине
грандиозный замысел немецкого методолога, вероятно, нс лишенный
элементов утопии, привлекает обозначением контура долгосрочной
программы сотворчества историков в рамках земного научного сообще-
ства. В данном случае, вероятно, уместно провести аналогию с приня-
тым в современных исследованиях мира различением понятий «Утопия
как конечная точка» и «Утопия как процесс», впервые введенным Джо-
зефом Наем в 1987 г. Если «Утопия как конечная точка» направлена к
финальной точке человеческой истории, то «Утопия как процесс» наце-
лена на состояние дел в любой точке будущего, которая может быть
достигнута на пути к «Утопии как к конечной точке»2. Последняя вы-
ступает в качестве значимого ориентира, искомого идеала, выполняя
тем самым важную функцию обеспечения продвижения «Утопии как
процесса». Процесс реализации идеи межкультурной компаративной ис-
ториографии мог бы придать большую динамичность исследованиям в
области истории отечественной исторической науки. Формулирование
задач из области историографической компаративистики, которая призва-
на обеспечить выработку и реализацию программы сопоставления мас-
штабных текстов по ряду значимых параметров, стало бы неизбежным.
Реальный вклад историографии отечественной истории в предла-
гаемую И. Рюзеном программу затруднен сегодня (и будет затруднен в
ближайшем будущем) прежде всего тем, что процесс ее отхода от классо-
вых ориентиров, замены их новыми координатами не был столь стреми-
тельным, как в исторической науке в целом. Тексты трудов даже самых
именитых историков, изучавших историю России и доносивших до со-
временников и потомков созданные ими образы сс прошлого, изучены
несоизмеримо меньше, нежели любые другие тексты, столь же значимо
предопределившие развитие нашей культуры, нашей истории. Феномен,
1 Репина Л. П. Историческре сознание и исгориописание // «Цепь времен»:
проблемы исторического сознания. М., 2005. С. И.
2 См.: Matsuo М. Peace and Conflict Studies. A Theoretical Introduction. Hirositna,
2005. P. 5-7.
536
Историография и ее история
относительно недавно именовавшийся «дворянской историографией»3,
оказался и вовсе на обочине происходящей историографической револю-
ции, вне того «историографического континуума», в котором, по словам
Б. Г. Могильницкого, «происходит нарастание критической массы и со-
вершается череда медленных изменений и внезапных взрывов»4.
Сегодня при разработке программы изучения отечественного ис-
торического наследия есть возможность опереться на довольно значи-
тельное число работ методологического характера, появившихся в по-
следние десятилетия предшествующего и в начале текущего столетия.
Состоявшаяся легитимация любых исследовательских стратегий очер-
чивает и пространство возможностей, и сложности отбора при значи-
тельном расширении исследовательского инструментария. В данном
случае важно, как подчеркивает И. Ю. Николаева, учитывать при кон-
струировании конкретной модели междисциплинарной исследователь-
ской стратегии, что «в том широком поле выбора, в котором наличест-
вует множество конкурирующих концепций, выделяются те, чья
комплементарность определяется тем, что они находятся в положении
диалогического напряжения друг с другом, имея методологическое
сходство в ключевых понятиях»5. Данная работа представляет собой
опыт анализа пространства возможностей историографической компа-
ративистики в ситуации нарастания методологических новаций в гума-
нитарных науках, в интеллектуальной истории, с учетом практики изу-
чения исторического наследия эпохи Просвещения и особенно
творчества Н. М. Карамзина.
Сама необходимость «провести научный анализ качественных
сдвигов, произошедших в понимании задач истории как академической
дисциплины, в историографической практике и исторической новелли-
стике» на рубежах столетий, в том числе и на грани XVIII-XIX вв.,
вполне осознавалась еще десятилетие назад6. Тогда же был отмечен
особый интерес интеллектуальной истории к выдающимся умам про-
шлого, к текстам «высокой культуры», ее готовность легитимировать
порожденные «интерпретативным поворотом» символической антропо-
3 Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. М., 1993.
Лекция 13.
4 Могилъницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций.
Вып. Ш: Историографическая революция. Томск. 2008. С. 4-5.
5 Николаева И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в ис-
тории в свете современных концепций бессознательного. М., 2005. С. 29.
6 Репина Л. П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем.
1999. Вып. 1.С. 11.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
537
логии и «лингвистическим поворотом» постструктурализма исследова-
тельские практики, признать неизбежность «здоровой толики эклектиз-
ма»7. Проблемно-ориентированная интеллектуальная история, как от-
мечает Л. П. Репина, именно в силу фокусировки на проблемах, а не на
учениях и текстах, «позволила включить идеи и тексты в их историче-
ский контекст, совместить их с цепью понять высказывание или текст
как событие, результаты которого определяются как мыслительным
процессом, так и внешними обстоятельствами»8. Проведение масштаб-
ных компаративных исследований, позволяющих выявить границы и
специфику того интеллектуального пространства, которое, пересекая
границы национальных государств, давало как формальные, так и со-
держательные ориентиры российским ученым эпохи Просвещения,
ориентировано именно на воссоздание обусловившего появление их
трудов исторического контекста.
Историограф, обращающийся к реалиям периода становления в
России науки истории, не видит сколько-нибудь сложившегося научно-
го сообщества, дискуссии по исторической проблематике лишь зарож-
даются, нет и исторической периодики как признанной трибуны для их
развертывания, а также сложившейся системы исторического образова-
ния, т.е. процесс институционализации еще не начался. В то же время,
первые обобщающие труды российских историков свидетельствуют о
сопоставимости их результатов с признанными европейскими аналога-
ми той эпохи. Исследователь имеет основание предположить, что, не-
смотря на доминирование событийной канвы летописной традиции,
специфика отечественного исторического наследия эпохи Просвещения
определялась европейским научным пространством в большей степени,
нежели еще нс сложившимся отечественным.
Компаративные исследования в нашей историографической науке не
являются абсолютной новацией, но они велись, преимущественно, по
пути сопоставления отечественных исторических исследований с запад-
ноевропейскими философскими трудами. Сопоставление же историче-
ских трудов с историческими было и эпизодическим, и предельно крат-
ким. Российская историографическая традиция, при всех ссылках на
западные идеи, воссоздавалась как продукт собственной, внутренней эво-
люции. А. Л. Шапиро в новаторских для своего времени лекционных кур-
сах соединил анализ философско-политической мысли с исследованием
7 Там же. С. 7-8.
8 Репина Л. П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем.
2008. Вып. 25/1. С. 8.
538
Историография и ее история
текстов историков западноевропейского Просвещения, но сопоставления
трудов российских историков с трудами их зарубежных колле!' и у него
единичны, касаются в основном решения конкретных вопросов с точки
зрения западных теоретических позиций9. В лекции, посвященной твор-
честву Н. М. Карамзина, А. Л. Шапиро ограничился констатацией хоро-
шего знания автором «Истории государства Российского» зарубежной
истории и умения раскрыть особенности трудов западных историков10.
В масштабных исследованиях М. А. Алпатова, рассматривавшего
проблему «Русская историческая мысль и Западная Европа» на материале
разных периодов11, преимущественное внимание уделялось исследова-
нию того, «что знала русская сторона о Западной Европе» и «что знала
Западная Европа о России»12. Подробно анализируя значительный ком-
плекс западноевропейских и отечественных источников и исторических
сочинений эпохи средневековья, М. А. Алпатов привел лишь краткие
справки о крупнейших исследованиях эпохи позднего Просвещения13, а
его характеристики трудов российских исследователей касались преиму-
щественно решения ими дилеммы «завоевание - мирное призвание» и
перспективы России пойти по западному пути, т.е. по пути революции14.
Компаративный анализ текстов чрезвычайно осторожно выходил
за рамки выяснения философских истоков и источников сведений рос-
сийских историков по зарубежной истории, к решению проблем, свя-
занных с самой спецификой историописания. В книге Д. Н. Шанского о
И. Н. Болтине уже целый параграф был отведен проблеме формы исто-
рического труда и, соответственно, шла речь о западных образцах эпохи
Просвещения, пусть и оцененных весьма негативно, в качестве пособий,
9 Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен по ХУШ век. Курс лек-
ций. Л., 1982. С. 189, 196. Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до
1917 года. С. 235,238.
10 Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. Лекция 16.
С. 299.
11 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XI1XVII вв.
М., 1973; Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII -
первая четверть ХУШ века. М., 1976; Алпатов И. А. Русская историческая мысль и
Западная Европа (ХУШ - первая половина XIX в.). М., 1985.
12 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа ХП-ХУП вв.
С. 5.
13 См. рубрику, посвященную Д. Юму, В. Робертсону и Э. Гиббону: Алпа-
тов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (ХУШ - первая половина
XIX в). С. 98-100.
14 Там же. С. 31, 187-190.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
539
учивших лишь тому, как не стоит писать историю15. В работе
А. Н. Котлярова тексты И. Н. Болтина и знаменитый труд В. Робертсона
«История государствования императора Карла V» сопоставлялись уже
по ряду значимых проблем: происхождения дворянства, борьбы коро-
левской власти со знатью, закрепощения крестьянства16.
Современный исследовательский инструментарий, накопленный,
если принять формулировку К. А. Агирре Рохаса, в течение «долгого
XX века»17 18, включивший и достижения позднего модерна, и постмодер-
нистские новации, позволяет конструировать принципиально иные мо-
дели сравнительного анализа трудов российских историков и их запад-
ных предшественников. Перечень вопросов, с которыми историограф
может сегодня подойти к своим источникам, значительно видоизменен,
что является, без сомнения, позитивным итогом произошедшей в исто-
рической науке «эпистемологической революции» .
Такой перечень не может не быть вариативным, что предопреде-
лено, прежде всего, историческими интересами исследователя. Касаясь
неизбежной при историографическом анализе проблемы исторических
интересов, нельзя не учитывать позицию Г. Риккерта, высказанную в
тот период развития философских наук, который, по его словам, харак-
теризовался, прежде всего, реставрацией интереса к Канту19. Точка зре-
ния методолога, который, по словам А. И. Ракитова, одним из первых
попытался «проанализировать смысл и структуру понятия “историче-
ский интерес”»20, представляется наиболее адекватно схватывающей
специфику отношения к воссозданию прошлого в историографии позд-
него Просвещения, которая формировалась не без влияния идей
И. Канта21. Ключевым в данном случае представляется тезис
Г. Риккерта о том, что никто нс может писать или читать политической
истории, «не ставя политические ценности в известное отношение к
15 Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли. И. Н. Болтин.
М„ 1983. С. 96-97.
16 Котляров А. Н. Историография дворянства и ее место в развитии историче-
ской науки в России (XVIII в.): Учебное пособие. Томск, 1990. С. 118-122.
17 Агирре Рохас К. А. Историо! рафия в XX веке. История и историки между
1848 и 2025 годами. М„ 2008. С. 8-9.
18 Репина Л. П. Что такое интеллектуальная история?.. С. 5.
19 Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908. С. 1.
20 Ракитов А. И. Историческое познание. М., 1982. С. 35.
21 Рудковская И. Е. Идеи Канга в историческом творчестве Н. М. Карамзина //
Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Т. I.
Томск, 1999. С. 73-79.
540
Историография и ее история
своим собственным положительным или отрицательным оценкам», по-
скольку, не понимая «ценностей, определяющих выбор исторического
материала», нельзя «иметь также по отношению к этому материалу ни-
какого, даже малейшего исторического интереса»22. Хотя эта формули-
ровка, безусловно, отражает не все аспекты исторических интересов
эпохи позднего Просвещения, она позволяет выстроить ценностный ряд
по аналогии, последовательно вычленяя составляющие исторических
интересов того или иного историка.
Возможен и учет альтернативного подхода к данной проблеме,
предложенный А. И. Ракитовым, который оспаривал подход Г. Риккерта
по ряду позиций23 и видел в утверждении о предопределенности исто-
рического интереса ценностями той или иной культуры некий пороч-
ный круг (интерес «определяется отношением к культурным ценностям,
а ценностью признается то, что существенно, т.е. то, что по тем или
иным причинам вызывает интерес»24). По мнению А. И. Ракитова, исто-
рический интерес — следствие постоянного наличия в историческом
процессе таких полярных противоположностей, как «отношения инди-
видуального, личностного и социально-группового, стабильного и не-
стабильного..., неповторимого и повторяющегося, обстоятельств, зави-
сящих от каких-то неизвестных еще факторов, и отдельных поступков,
детерминированных личной волей»25.
Представляется, что обе трактовки в состоянии стать исходной
программой компаративного анализа изучаемых текстов, причем, выби-
рая одну из них и имея в виду противоположную, исследователь полу-
чает возможность проверить на практике ^дееспособность» предложен-
ных гипотез об историческом интересе26.
Корпус исторических трудов эпохи позднего Просвещения (второй
половины XVHI - начала XIX вв.) в режиме большого времени может
быть представлен как синхронно возникший феномен, поэтому при его
изучении, вероятно, позволительно использовать структуралистские
подходы, как ориентированные, в отличие от историзма, на исследова-
ние синхронных процессов, именно в них надеющиеся «разглядеть ре-
22 Риккерт Г. Философия истории. С. 63.
23 Ракитов А. И. Историческое познание. С. 35-38.
24 Там же. С. 38.
25 Там же. С. 47.
26 Именно так, «Гипотеза об историческом интересе», были названы два пара-
графа в работе А. И. Ракитова (в название второго из них автор ввел слово «Про-
должение»).
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
541
ально существующую систему, связи частей единого целого»27. На пер-
воначальной стадии анализа предполагается сопоставление заявленной
авторами изучаемых трудов структуры их исследований, выделенных
ими значимых фрагментов текста, воспринимаемого в качестве некой
системы. В исторических работах той эпохи наиболее очевидной мани-
фестацией структуры являются чрезвычайно развернутые оглавления,
отражающие общее видение историками своих исследовательских за-
дач. Значимыми элементами являются и посвящения, адресованные мо-
нархам (в работах официальных историографов), предисловия или об-
ширные вступления, обобщающие главы, разрастающиеся примечания.
Вероятно, уже на этом этапе может быть начат анализ трансформации
исторических интересов авторов масштабных «Историй» как главного
жанра этого периода, поскольку, наряду со спецификой источниковой
базы, именно исторические интересы, непосредственно связанные с
ценностями, предопределяли, в значительной мере, варианты структуры
их исследований. Посвящения, предисловия, обобщающие главы дают
информацию и о коммуникативных стратегиях изучаемых текстов в их
наиболее формализованных, отчетливо ориентированных на читателя
проявлениях. Компаративный анализ структурных элементов текста
предполагает, кроме того, и сопоставление выполняемых ими функций в
общей архитектонике трудов, поскольку таковы условия структурного
метода: «он возможен, если есть триада система, структура, функция»28.
И совпадения, и расхождения в структуре трудов, справедливо
воспринимавшихся младшими современниками как последнее слово
науки, являются для их исследователя значимой информацией. Данная
стадия исследования позволит выявить генетические взаимосвязи меж-
ду текстами, близкими по времени создания, выделить в отечественных
исторических исследованиях те характерные черты, которые позволят
рассматривать их как феномен, сформировавшийся в рамках европей-
ского научного пространства29. Однако результаты компаративного
анализа выделенных элементов структуры текстов нуждаются в соотне-
сении с данными, полученными по завершении «освоения» всего про-
странства сопоставляемых текстов.
27 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.
С. 207.
28 Там же. С. 241.
29 Рудковская И. Е. Н. М. Карамзин и аш ло-шотландская историографическая
традиция второй половины XV11I в. // Вестник ТГУ. № 281. Серия «История. Крае-
ведение. Этнология. Археология». Томск, Март 2004. С. 142-148.
542
Историография и ее история
На втором этапе структурными элементами текста должны высту-
пить те компоненты, которые адекватно отражают скорее содержатель-
ную, нежели формальную структуру текста, при всей условности по-
добного разделения, особенно с учетом присущих авторам позднего
Просвещения (не только им, но им особенно) поисков оптимального
соответствия между формой и содержанием. Проблематика изучаемых
трудов позволяет использовать политологический, социологический,
культурологический и иной гуманитарный аналитический инструмен-
тарий в целях выделения необходимых для исследования в рамках
структуралистской парадигмы элементов текста. В современной ситуа-
ции, когда вдуманитарных науках нарастает протест против «расчлене-
ния социальных знаний»30, когда стало очевидным, что «проблемное
знание обязано быть как минимум полидисциплинарным»31, такой на-
бор вряд ли может быть признан чрезмерным. Соответственно, полнота и
результативность анализа будет зависеть от степени изученности выде-
ленных компонентов и взаимосвязей «каждого компонента системы с ка-
ждым другим компонентом», а общий итог будет определяться тем, «на-
сколько подробно и глубоко показана мера неполноты исследования»32.
Исторические труды эпохи Просвещения, рассматриваемые в кон-
тексте и рационализма33, и сентиментализма34, трактуются частью ис-
следователей как произведения, создававшиеся в рамках так называемо-
го прагматического подхода, но единого мнения о специфике и
хронологических рамках периода преобладания прагматической, «по-
учающей» историографии в России и в Западной Европе не сложилось.
Согласно Д. Н. Шанскому, прагматический подход, для которого, по его
мнению, характерно не столько стремление поучать, сколько превраще-
ние истории в служанку идеологии, присущ отечественной историогра-
30 Агирре-Рохас К. А. Историография в XX веке... С. 157.
31 Румянцева И. Ф. Целостность современного гуманитарного знания: необхо-
димость и возможность И Единство гуманитарного знания: новый синтез. Материа-
лы XIX междунар. науч. конф. Москва, 25-27 янв. 2007 г. М., 2007. С. 46.
32 Бочаров А. В. Подходы к пониманию тотальной истории// Методологиче-
ские и историографические вопросы исторической науки. Вып. 28. Томск, 2007.
С. ПО, 113.
33 Ковальченко И. Д, ШиклоА. Е. Основные направления в русской историче-
ской науке последней трети XVIII - первой трети XIX вв. // Сборник материалов по
истории исторической науки в СССР [конец XVIII - первая треть XIX в.]. М., 1990.
Введение. С. 9,11.
34 Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. Лекция 16.
«Сентиментализм в историографии. Н. М. Карамзин и его «История Государства
Российского».
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
543
фии преимущественно в первой четверти XVIII в?5. Г. Шпет распро-
странял феномен прагматической истории на середину - вторую поло-
вину ХУШв., подчеркивая, что в этот период исторические вопросы
разрабатывались уже «при помощи исторических методов», но остава-
лась преобладающей «прагматическая окраска в способе объяснения»35 36.
Для него было «вполне понятно, что историография классифицирует
Историю Юма как прагматическую историю»37. Характеризуя прагма-
тическую историографию как явление, предшествовавшее и философ-
ской, и научной истории, он, вместе с тем, связывал оживление науки
истории с работами вес тех же представителей прагматической исто-
риографии (Д. Юма, В. Робертсона и Э. Гиббона)38, которые, по словам
Ф. Мейнеке, «посредством рассматриваемой в качестве разумной исто-
рии» стремились обосновать новый идеал человечества39. У ориентиро-
вавшегося на их труды Н. М. Карамзина, признавала
О. М. Медушевская, «уже остро ощущалась необходимость перехода к
научной истории»40. Именно в создании своеобразного жанра историче-
ского произведения, нового, альтернативного типа исторического ис-
следования, направленного на изучение исторических источников, где
«нарратив и аналитика как бы дополняют друг друга», видела
О. М. Медушевская заслугу Н. М. Карамзина41.
Преимущественное внимание к политической сфере былых эпох,
свойственное историческим трудам прагматического направления, по-
зволяет рассматривать средства политологического анализа как вполне
комплементарные традиционным методам историографического анали-
за. Очевидно, что политическая сфера жизни общества, как объект нау-
ки политологии, имеет уходящее в глубину веков значимое измерение.
Устремленность истории за ту черту, у которой начинается современ-
ность, какой бы срок давности не устанавливался для фиксации этой
черты, создает значимое поле пересечения научных интересов истории
и политологии. Но, если историки видят сегодня в междисциплинарном
35 Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли. С. 54.
36 Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916. С. 65.
37 Там же. С. 83 (выделено Г. Ш.).
38 Там же. С. 76.
39 Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 153.
40 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. С. 181.
41 Там же. С. 181-182. То, что Карамзину удалось создать «монументальный и
в то же время новый тин исторического нарратива», отмечает и литературовед
В. С. Киселев (Киселев В. С. Метатскстовые повествовательные структуры в русской
прозе конца XVIII - первой трети XIX века. Томск, 2006. С. 235).
544
Историография и ее история
синтезе, в «последовательном транзите» от мультидисциплинарности к
42
трансдисциплинарности магистральный путь развития исторического
знания, хотя и подчеркивают опасность неразборчивой всеядности «в вы-
боре комплектующих тот или иной вариант междисциплинарного подхода
43
исследовательских методов» , то политологи значительно осторожнее
подходят к данной проблеме. Как отмечал французский исследователь
М. Доган, выражение «междисциплинарные исследования» имеет отте-
нок поверхностности и дилетантизма, поэтому стоит «воздерживаться от
употребления этого термина, заменяя его другим - гибридизацией фраг-
ментов отдельных научных дисциплин» . И все же, независимо от того,
называем ли мы феномен «заимствования и восприятия понятий, теорий
и методов» интердисциплинарным синтезом или гибридизацией, он сего-
дня является неотъемлемой особенностью гуманитарного знания. По сло-
вам М. Догана, современная политология имеет открытые и подвижные
границы, не нуждающиеся в четком определении, поскольку «все наибо-
лее существенные проблемы, над которыми работают исследователи, пе-
ресекают формальные дисциплинарные границы», и достижения в облас-
ти социальных наук в основной массе сегодня «объясняются
гибридизацией отдельных направлений различных дисциплин»42 43 44 45.
В то же время, те общие понятия и закономерности, которые выде-
ляются в истории, будучи возведенными, как и в политологии, на пусть и
на относительно прочном фундаменте фактов, имеют для историков и
историографов смысл лишь в границах живой ткани исторической или
историографической реконструкции. Теоретический уровень историогра-
фического исследования, в отличие от политологического анализа, ориен-
тированного в большей степени на поиск закономерностей, является ско-
рее средством, нежели целью познания. При всех различиях ощутимое
дублирование объектов исследования создает почву для взаимного урав-
новешивания, своеобразного дозирования конкретики и абстракции, хотя
и не снимает проблему корректности «чередования» подходов.
При изучении «Истории государства Российского»
Н. М. Карамзина как итогового исторического труда эпохи российского
42 Репина Л. П. Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи интел-
лектуальной истории // Диалог со временем. 2005. Вып. 15. С. 5-6.
43 Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы.
М., 2005. С. 9.
44 Политическая наука. Новые направления. Гл. 3. Политическая наука и дру-
гие социальные науки. М., 1999. С. 115.
45 Там же.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
545
Просвещения, где политическая сфера являлась преимущественным
объектом исследования, политологический подход позволяет сосредо-
точить внимание на представленном историком политическом мире как
«универсуме в его политическом значении», задающем «четкие коорди-
наты исследования: пространство и время, таницы и центр, язык и
культура, структура и homo politicus, и т.п.» . Компаративный анализ
текста «Истории» Н. М. Карамзина и трудов его зарубежных и отечест-
венных предшественников позволяет выделить целый комплекс про-
блем, которые в равной мере могут быть признаны как историографиче-
скими, так и политологическими. При таком анализе отдельные,
соотнесенные с контекстом, фрагменты, посвященные роли монархиче-
ского, аристократического и демократического начал в политической
системе, особенностям политической элиты, специфике становления
политических лидеров, их влиянию на политическую сферу, взаимоот-
ношениям между государством и церковью как институтом граждан-
ского общества46 47, выступают в роли структурных компонентов сопос-
тавляемых текстов как тщательно выстраивавшихся систем. В качестве
особой задачи, уточняющей магистральные линии, важен уже активно
применяющийся в области изучения общественно-политической мысли48
сравнительный семантический анализ тех основных терминов, или, по Р.
Козсллеку49, «узловых понятий», которые использовались изучаемыми
авторами («система», ««монархия», «республика, «тирания» и т.д.).
Исследование текста позволяет сделать вывод об обратном воздей-
ствии исследований в области политической истории на политические
позиции Н. М. Карамзина, на формирование его консервативных взгля-
дов. Политологический анализ выводит его «Историю» из разряда тех
трудов, обращение к которым возможно лишь «из антикварного интере-
са»50, дает возможность преодолеть устойчивые стереотипы восприятия
46 Щербинин А. И., Щербинина Н. Г. Политический мир России. Томск, 1996.
С. 3-5.
47 Рудковская И. Е. Политический мир Древней Руси в главном труде
Н. М. Карамзина // Диалог со временем. 2006. Вып. 17. С. 12-54.
48 См.: ТимофеевД. В. Понятие «конституция» в России первой четверти XIX
века//Общественные науки и современность. 2007. № 1. С. 120-131.
49 Тимофеев Д. В. На грани «области опыта» и «горизонта ожиданий»: пер-
спективы и проблемы изучения общественно-политической мысли в контексте ис-
тории понятий // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы
международной научной конференции. М., 2008. С. 61.
50 Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия.
М., 2005. С. 270.
546
Историография и ее история
его в качестве монументального политического трактата охранительно-
го содержания, пребывавшего изначально за гранью науки, выйти за
пределы подхода, при котором акцент на «упущенных» проблемах за-
слонял то новое, что сделало «Историю государства Российского» глав-
ным историческим произведением российского Просвещения.
Среди проблем, которые также представляются достойными вклю-
чения в реестр важнейших линий сопоставления, нельзя не отметить
проблем войны и мира. Длительный период накопления эмпирического
материала и теоретического его осмысления уже в 60-е гг. XX в. позво-
лил выделить исследования мира в качестве самостоятельной академи-
ческой дисциплины, выявляющей и детально анализирующей те со-
стояния социума, которые обеспечивают либо подрывают стабильность
сложившихся систем, ставят их у предельной черты или держат на
безопасном расстоянии от нее. Предлагая инновационные решения ми-
ротворческих проблем, рассматривая мир не только как отсутствие вой-
ны, но и как отсутствие структурного насилия, вызванного особенно-
стями общественного устройства, как отсутствие нарушений прав
человека51, исследования мира неизбежно опираются на опыт, накапли-
вавшийся веками. Представление М. Фуко о значимости введения в ис-
торию «историко-критического дискурса перманентной войны», кото-
рый бы противостоял «преемственной и легитимирующей картине
прошлого»52, созвучно тем идеям, которые, в частности, были характер-
ны для философов и историков эпохи Просвещения. Компаративный
анализ трудов представителей англо-шотландской историографической
школы, Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона, позволяет сделать вывод о
нарастании стремления развенчать войну, лишить ее романтического
ореола, о более последовательном разоблачении войн в труде
Э. Гиббона53. Изучение научного наследия Н. М. Карамзина позволяет
увидеть проблемы войны и мира в контексте как минимум трех столь
различных по социальным и политическим реалиям временных пластов:
средневековья и начала нового времени (IX - начало ХУП вв.), рубежа
51 Matsuo М. Peace and Conflict Studies... P. 24-34; Международный опыт ис-
следований мира: Учебное пособие. Томск, 2008’ С. 43-53.
52 См.: Савицкий Е. Е. Удовольствие от прошлого и чувство свободы в исто-
риографии 1990-х // Диалог со временем. 2005. Вып. 15. С. 194.
52 Rudkovskaya I. Е. War and peace in Anglo-Scottish historiographic tradition of
the second half of the 18th century // Peace studies and Peace Discourse in Education. Insti-
tute for Peace Science of Hiroshima University (Japan); Tomsk State Pedagogical Univer-
sity (Russia). January, 2007. P. 39-51.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
547
XVIII XIX вв. и постмодернистской современности, так и нс вырабо-
v» _______ ______________ 54
тавшеи оптимального рецепта по поддержанию мира .
Достаточно ощутимые отличия, которые становятся очевидными
при компаративном анализе текста «Истории государства Российского»
и трудов его предшественников, делают целесообразным включение в
число исходных параметров и тех кризисов, которые, по мнению видно-
го немецкого методолога И. Рюзена, являются определенным пережи-
ванием изменения времени, случайностью, лежащей «вне горизонтов
ожидания». Именно кризисы, полагает исследователь, конституируют
историческое сознание, и сама история как наука является ответом на
кризис, который «должен быть преодолен интерпретацией»54 55. Предла-
гаемая им в качестве аналитического инструментария типология кризи-
сов ориентирована на то, чтобы зафиксировать соответствие кризиса
идентичности, пережитого историком или научным сообществом, тому
или иному идеальному типу. Сопоставление текстов «Истории государ-
ства Российского» и предшествующих ей «Историй» может стать более
результативным, если будет найден ответ на вопрос, в рамках какого
кризиса исторического сознания - нормального, критического или, быть
может, катастрофического - создавался каждый из них. Исследовате-
лю важно показать, шла ли речь о преодолении кризиса с использовани-
ем изначально заданного культурного потенциала, потребовалась ли
существенная трансформация исторической культуры, вычленение но-
вых ее элементов, или разрушалась сама «способность исторического
сознания превращать последовательность событий в осмысленное и
значимое повествование», ставились под сомнение сами принципы об-
разования смысла, и кризис становился травмирующим56.
Но перед исследователем неизбежно встанут непростые вопросы.
Например, при компаративном анализе текста «Истории государства
Российского» и трудов предшественников Карамзина, историков англо-
шотландской историографической школы, потребуется чрезвычайная
осторожность при соотнесении вычленяемых проявлений кризиса с
идеальными, априорными признаками. Ведь специфика текстов той
эпохи такова, что теоретические постулаты «растворены» в нарративах,
54 Рудковская И. Е. Мир и война в мировоззрении и историческом творчестве
Н. М. Карамзина // Интарационные процессы и проблемы междисциплинарного
взаимодействия в современной науке. Материалы международной научной конфе-
ренции. 16-17 ноября 2006. Томск, 2006. С. 79-94.
55 Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»... С. 38,40.
56 Там же. С. 41-42.
548
Историография и ее история
чья блестящая литературная форма была условием доступа к читающей
аудитории. Непросто решить, и какой, собственно, политический, соци-
альный кризис - давний в собственной стране или современный исто-
рику, но в ином государстве - в большей мере провоцировал сломы,
трансформации исторического сознания в том или ином случае? При-
нимая сегодня в арсенал историков категорию травма для обозначения
катастрофической разновидности кризиса, опыт которого «фиксирует
беспорядок и разрыв в самой исторической сущности последовательно-
сти времени как культурного способа человеческой жизни»57, составляя
перечень кризисов, производный от потрясений политических, не све-
дем ли мы снова изучение историографического наследия к исследова-
нию политических взглядов историков?
Впрочем, неизбежный при таком ракурсе акцент на трансформа-
ции системы ценностей, вероятно, позволит обойти привычную чрез-
мерно политизированную колею.
Представляет интерес и предлагаемая И. Рюзеном типология со-
бытий, предопределивших формирование и эволюцию исторической
идентичности граждан того или иного государства, представлявших
определенную социальную группу. Вычленение в исследуемых текстах
выделенных Рюзеном событий с позитивным основанием или функцией
утверждения, событий, создающих идентичность путем отрицания и
событий, обновляющих старую идентичность58, также может стать
значимой частью компаративного анализа трудов историков. Важным
аналитическим инструментом представляется и предложенный немец-
ким методологом реестр стратегий, с помощью которых в исторических
исследованиях достигался в прошлом и достигается сегодня эффект де-
травматизации. Исследователю в данном случае предстоит определить, в
какой мере совпадали в трудах историков избранные каждым из них стра-
тегии сведения к минимуму травмирующего эффекта воссоздаваемых
ими событий, какие из охарактеризованных им стратегий превалировали:
анонимизация или категоризация, нормализация или морализация, эсте-
тизация или телеологизация, метаисторическая рефлексия или специа-
лизация59. Тезис Рюзена о том, что историческое исследование «по своей
логике является культурной практикой детравматизации», вполне заслу-
живает того, чтобы стать отправной точкой отдельных исследований в
рамках историографической компаративистики. Исследователь может
57 Там же. С. 45.
58 Там же. С. 52-54.
59 Там же. С. 56-60.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
549
опираться и на предложенную им типологию нарративов, поставить своей
задачей выявление в изучаемых текстах признаков традиционного, нази-
дательного, критического и генетического нарратива60 61.
Без сомнения, востребованными в историографической компара-
тивистике должны стать и программы, ориентированные на выявление
соотношения в текстах так называемых канонических фигур и персона-
жей второго и третьего плана', которые могут рассматриваться сквозь
призму религиозных предпочтений, гендерных ролей и т.д. Выявить
специфику «канонических фигур» как политических лидеров (посколь-
ку в исследованиях эпохи Просвещения к разряду канонических фигур
могут быть причислены преимущественно акторы, заявившие о себе в
политической сфере) позволяет не только инструментарий, используе-
мый специалистами по проблемам политического лидерства62, но и ме-
тоды, предлагаемые социологами. В частности, не исключено исследо-
вание «ближнего круга» главных героев анализируемых работ с точки
зрения предложенного в «Социометрии» Я. Морено варианта анализа
социального атома личности63. Возможно, что при изучении тех фраг-
ментов текстов, которые посвящены периодам Смуты, революций, мас-
совых выступлений эпохи Реформации, окажется эффективным исполь-
зование предложений Эдварда П. Томпсона по реконструкции
«барометра народной чувствительности», устанавливающего «в данный
каждый момент, что, с точки зрения самих народных масс, терпимо и
что нетерпимо, что справедливо и что несправедливо, что можно еще
принять - по сравнению с тем, что вызовет народный гнев, всеобщее
волнение и негодование»64. Это позволит расширить анализ homo politi-
cos в изучаемых текстах, обеспечить выход за пределы элитарного слоя.
Как отмечает 3. А. Чеканцева, сегодня при осмыслении проблемы
времени как важнейшего «материала», с которым работает историк,
широко применяются и старые, во многом переосмысленные понятия
(время истории, время историка, хронология, хронотоп, анахронизм,
диахрония, синхрония), и новые (полихрония, монохрония, гстсрохро-
60 См.: Репина Л. П. Историческое сознание и историописание... С. 7-9.
61 Репина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении // Чело-
век второго плана в истории. Вып. 3. Ростов-на-Дону, 2006. С. 12.
62 Шаблинский И. Г. Политическое лидерство: типология и технология. Учеб-
ное пособие. М., 2004.
63 Морено Я. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе.
М., 2001. С. 117-129.
64 Агирре-Рохас К. А. Историография в XX веке... С. 148-149.
550
Историография и ее история
ния, будущее прошлое, режим историчности)65. В. Н. Сыров акцентиру-
ет внимание на том, что теперь перед исследователями ставятся, поми-
мо традиционного для историографического анализа внимания к «ха-
рактеру использования источников и проблеме достоверности
пресловутых исторических фактов», инновационные для историографии
отечественной истории задачи: фиксировать «знаки авторской активно-
сти, формы присутствия нарратора в тексте, специфические способы
игры со временем, процедуры осюжечивания... и т.д.»66. В связи с вы-
явлением границ «растягивающейся» современности, включающей в
себя и актуальное прошлое, и обозримое, предчувствуемое будущее67,
формируется целый комплекс проблем, которые могут быть рассмотре-
ны в рамках компаративного анализа. В данном контексте обретают
значимость представления о том, что начало и финал - это «условия и
составные части конструирования современности», той современности,
которая не завершена, и потому «носит открытый характер»68. Если
идею финала (или, по В. Н. Сырову, «принцип финала») рассматривать
в качестве необходимого условия создания истории69, то структуру ана-
лиза сопоставляемых текстов следует выстраивать именно с учетом
очерченного тем или иным историком финала, неявно предполагавше-
гося или отчетливо обозначенного, свершившегося или помещенного в
будущее, желательного или, напротив, абсолютно неприемлемого.
Методологически оправданным представляется перенесение прин-
ципов составления «генетического досье», предложенных
И. Н. Данилевским, из источниковедения в область историографических
исследований70, хотя потребуется определенная трансформация тех ме-
тодов герменевтического анализа, которые применимы при работе с ис-
торическими источниками. Однако, учитывая, что сопоставление уровня
изученности историографических и летописных текстов явно не в пользу
трудов историков, можно предположить, что в повестку дня столь мас-
штабная задача вряд ли будет включена сегодня или завтра. Использова-
ние исследователями методов герменевтики наталкивается на проблему
65 ЧеканцеваЗ. А. Время историка // Теории и методы исторической науки...
С. 130.
66 Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической
мысли. М„ 2006. С. 7-8, 103.
67 Там же. С. 41-51.
68 Там же. С. 48-49 (выделено В. С.)
69 Там же. С. 75-76.
70 Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы ис-
точниковедения летописных текстов. М., 2005. С. 87-93.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
551
«герменевтического круга», которая, по словам О. М. Медушевской, «на-
чинает осознаваться постструктуралистским сознанием», постигающим
«невозможность в процессе работы с текстом разграничить то, что думал
автор текста от того, что думает об этом читатель» .
Методологические разработки Хейдена Уайта, видевшего в истори-
ческих произведениях излета эпохи Просвещения реакцию «на проник-
нутый Ироническим представлением об истории рационализм Просве-
щения»71 72, также могут стать частью инструментария историографической
компаративистики. Вынесенные на первый план в его «Метаистории»
проблемы поэтики историописания предоставляют исследователю воз-
можность сосредоточить внимание на специфике историографического
стиля сопоставляемых произведений, соотнесении их с выделенными
X. Уайтом главными модусами исторического сознания: метафорой, ме-
тонимией, синекдохой и иронией. Хотя, как отмечает
Б. Г. Могильницкий, «поэтическая природа историописания в исследова-
тельской практике X. Уайта осложняется его научной составляющей»,
историческое познание в его трактовке «выступает как некая целост-
ность, интегрирующая в себе обе ипостаси, поэтическую и научную, вза-
имно дополняющие друг друга»73 74, что особенно важно при анализе исто-
рического наследия целого ряда отечественных историков, начиная с
Н. М. Карамзина. В этом контексте актуален и вывод А. Мегилла о том,
что, если «в историописании утрачивается это качество удивлять, то оно
74
одновременно утрачивает свое академическое, научное оправдание» .
Насколько постструктуралистские вызовы совместимы с верифи-
цируемыми результатами исследований, осуществленных с использова-
нием структуралистских методов? Как соотносится элемент текста и то,
что именуется «единицей дискурса», которую, по мнению исследовате-
лей, в неком потоке дискурса (при всех разночтениях в трактовке дан-
ного термина75) и найти невозможно76. Но игнорировать постструктура-
листскис подходы, возникшие как результат стремления к извлечению
глубинных смыслов из анализируемых текстов, вряд ли продуктивно.
Вероятно, неизбежен учет тех позиций, которые были выдвинуты
71 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. С. 234-235.
72 Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века. Вып. III. С. 231.
73 Там же. С. 238.
74 МегиллА. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 132.
75 Серио П. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интердис-
курс] // Семиотика: Антология. М., 2001. С. 549-550; Степанов Ю. С- Вводная ста-
тья. В мире семиотики // Там же. С. 34-35.
76 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. С. 212,231.
552
Историография и ее история
Ж. Деррида как теоретиком деконструкции - своего рода эпистемологи-
ческого барокко. Абсолютизация изменчивости мира, игра которого, по-
нимаемая как письменность, определяется двумя первичными вектора-
ми- «опространствливанием» и «овремениванием» , акцентирование
высокой степени корреляции пространственных и временных изменений
настраивает исследователя на максимальное внимание к вариантам фик-
сации в текстах как изменений в различных сферах жизни социума, так и
трансформаций в пространственно-временном континууме. Вместе с тем
данный подход (не метод, настаивала О. М. Медушевская, а именно под-
ход), принципиально не верифицируем, поскольку он «избегает четкого
определения, напротив, настаивает на том, что каждое индивидуальное
прочтение завершается индивидуальным результатом»77 78.
Почти «тотальная компаративистика» в реальной историографиче-
ской практике позволит выявить истоки, большую или меньшую преем-
ственность моделей осмысления, репрезентации прошлого. Складывается
принципиально иное, более объемное представление о том историогра-
фическом феномене, который является центральным для исследователя.
Появляется возможность разглядеть проблемное видение истории даже за
литературной изысканностью блестящего нарратива, вписать ранние оте-
чественные исторические труды в контекст основных этапов развития
европейской науки. Совмещение наиболее интересных из предложенных
в прошлом и предлагаемых сегодня подходов не только дает новое знание
о присущем тому или иному историку видении истории, но и обеспечива-
ет выдвижение ряда новых проблем, имеет большой эвристический по-
тенциал. В частности, проведенный автором анализ взглядов В. Роберт-
сона на проблему легитимности женских правлений, нашедших отраже-
ние в его первом историческом труде79, подтвердив гипотезу о принципи-
альной тождественности представлений шотландского и российского ис-
ториков по данному вопросу80, обусловил постановку проблемы роли
XVI в. в структуре и общей исторической концепции труда Карамзина81.
77 Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это
имя (Постскриптум). Как избежать разговора: денегации. Минск, 2001. С. 103.
78 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. С. 232.
79 Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of
King James VI // The Works of W. Robertson in 12 vol. V. I-Ш. Edinburgh; L., 1819.
80 Рудковская И. E. Женщины в политике Англии и Шотландии XVI в. в трак-
товке В. Робертсона // Гендерное образование в подготовке учителя. Томск, 2007.
С. 140-148.
81 Рудковская И. Е. XVI столетие в творчестве В. Робертсона и
Н. М. Карамзина // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 321-352.
И. Е. Рудковская. Историографическая компаративистика...
553
Однако историографическую компаративистику стоит иметь в ви-
ду не только при изучении отдельных текстов, составивших историо-
графическое наследие конкретного историка. Ее потенциал может быть
востребован, в том числе, и в связи с развернувшимися в последнее
время исследованиями в области схоларной проблематики. В процессе
дальнейших исследований научных школ, начавших складываться в
России в XIX в., все более очевидными станут пробелы в сфере так на-
зываемого первичного обобщения фактов, не выходящего за рамки
«эмпирико-описательного этапа» развития историографии. Без сомне-
ния, прав Г. П. Мягков, утверждая и доказывая в своем исследовании,
что интерес к проблеме школы в науке определяется именно невозмож-
ностью свести ее к некой сумме личностей и их достижений82. Но, как
точно сформулировал в роковом 1917 году ученик В. И. Герье и
П. Г. Виноградова М. О. Гершензон, «все объективное зарождается в
личности и первоначально принадлежит только ей»83. Дальнейший ана-
лиз становления исторических школ, феномена лидерства в ней, как
поколенческого, так и тематико-фсномснологического84, неизбежно
«спровоцирует» компаративные исследования целых комплексов тек-
стов, созданных отцами-основателями той или иной школы, их предше-
ственниками и последователями, причем как в синхронном, так и в диа-
хронном режиме. Эти проблемы в той или иной мере встанут и при
изучении самой ранней, хронологически максимально приближенной к
рубежу XVI1I XIX вв., скептической школы, возникшей как реакция на
труды историков позднего Просвещения.
Поскольку в рамках историографической компаративистики не про-
сто изучается «траектория творческой жизни ученого», а сопоставляется
некий комплекс текстов и заложенных в них идей, разнесенных во време-
ни и в пространстве, комплекс, объединенный преимущественно в твор-
ческой лаборатории историка или исторической школы, неизбежно воз-
никает проблема интеллектуальной традиции, а значит, и «глубины
исторической ретроспективы»85 и т.д. Объем непознанного при охаракте-
ризованных подходах разрастается подобно снежному кому: он не просто
превалирует над объемом изученного, но и постоянно возрастает по мере
погружения в изучаемые проблемы.
82 Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: опыт русской ис-
торической школы. Казань. 2000. С. 5-6.
83 Гершензон М. О. О ценностях // Вегвь. Сборник клуба московских писате-
лей. М., 1917. С. 287.
84 Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке. <. С. 200-204,294.
85 Репина Л. П. Контексты интеллектуальной истории... С. 10.
554
Историография и ее история
Разумеется, речь не идет о необходимости совмещения затронутых
здесь стратегий в рамках одного исследования. Выдвинутый А. Метал-
лом тезис: «Нельзя согласиться с максимой “все сгодится!”»86 87, безус-
ловно, актуален и для историографической компаративистики. Пред-
ставляя возможные риски при разработке разноплановой
компаративной программы, нельзя не видеть, что перспектива reductio
ad absurdum изначально заложена едва ли не в каждой из моделей ис-
следования. Но проблема выявления полноты или неполноты исследо-
вания с точки зрения современных представлений об интеллектуальной
истории требует учета всего многообразия исследовательских практик
последних десятилетий, ориентированных на творческое переосмысле-
ние багажа, накопленного гуманитарным знанием предшествующего
времени, в рамках исследований модерна и постмодерна. В исследова-
тельском пространстве интеллектуальной истории, позволяющем актуа-
лизировать все многообразие внутренних и внешних коллизий, приво-
дивших к порождению идеи как «реакции мыслителя на вызов
контекста»81, неизбежен отбор того, что будет решаться в рамках одного
исследования (или серии исследований), а что пока останется за бортом.
Масштабная перспектива создания межкультурной компаративной
историографии так или иначе востребует весь накопленный исследова-
тельский инструментарий, причем выбор в каждом конкретном случае,
каждым из историографов, в конечном итоге, будет предопределяться,
вероятно, не столько признанной эффективностью методик, сколько
максимальным соответствием научным интересам исследователя, спе-
цифике сопоставляемых текстов и уровню их изученности.
86 Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 254.
87 Репина Л. П. Контексты интеллектуальной истории... С. 8 (выделено Л. Р.).
А. В. Гордон
СОВЕТСКОЕ ИСТОРИОЗНАНИЕ
КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
О «КУЛЬТУРЕ ПАРТИЙНОСТИ»
Представление о советском историознании1 как о своеобразном на-
учном феномене вошло в конце XX века в общественное сознание, а изу-
чение достигло высокой степени интенсивности, отражая потребность
ученого сообщества в понимании своего недавнего прошлого. Изучение
советского исторического знания совершенно очевидно выступает фор-
мой рефлексии, осознанием отечественной наукой в лице ее современных
представителей своих ближайших предпосылок, а для ученых старшего и
среднего поколений еще и опытом личного самоопределения, отношени-
ем к собственным трудам, творческой (или имитировавшей творчество)
деятельности и по большему счету к своему советскому бытию.
Нет сомнений, внесение рефлексии насыщает историографический
процесс, проясняет глубинный смысл его как деятельности, в которой
историческая наука приходит к самосознанию. Однако крутая смена
ориентиров с упразднением советской системы придала этой рефлексии
утрированный характер. После 1991 г. возобладало убеждение, что со-
ветское историознание являлось неполноценной наукой, поскольку
принадлежало государственному режиму в качестве компонента, «гар-
монично вписанного в систему тоталитарного государства и приспособ-
ленного к обслуживанию его идейно-политических потребностей»2.
Толкование советского историознания как «научно-политического фе-
номена» имеет серьезные основания, в том числе в самооценке тех, кто
именовал себя «бойцами идеологического фронта», «солдатами пар-
тии», видел в себе людей на государственной службе. Подход «от поли-
тики» позволяет оценить драму советского историознания как «репрес-
сированной науки» и одновременно части репрессивной системы.
Однако раскрытие позиционной амбивалентности (жрец — жертва)
само по себе требует обращения к категориям иного уровня обобщения.
И в этом отношении заслуживает внимания сдвиг к толкованию совет-
ского историознания «от культуры», к анализу его как «особого культур-
1 Термин «историознание» вместо привычного в данном сочетании «историо-
графия» употребляется во избежание смешения исторического знания в целом с одной
из отраслей - историей самой исторической науки, которая явдясгся предметом статьи.
2 Советская историография. М., 1996. С. 37. (Ю. Н. Афанасьев).
556
Историография и ее история
но-исторического явления» (В. П. Корзун)3. Перспективным для историо-
графического исследования представляется соотнесение «национальной
по форме, социалистической по содержанию», во-первых, с культурным
наследием страны, а, во-вторых, - с общецивилизационными формами,
являвшими разрыв исторической преемственности и внедрение культур-
ных моделей сверху, художественной, литературной, научной элитой4.
Главной для советской исторической науки, в глазах Власти, была именно
воспитательная функция, формирование нового человека. И в этом пред-
назначении можно найти сходство с установками эпохи Просвещения.
Следующим шагом видится соотнесение культуры советского пе-
риода с вероучениями. Такое методологическое продвижение обосно-
вано прежде всего значением канона как совокупности идейных и пове-
денческих установок, нормативных для адептов. Канонизированность
исторического знания и советской культуры в целом отличает их от от-
меченных прецедентов цивилизационной инновации, где не было ни
подобной унифицированности, ни тем более репрессивной нормативно-
сти, и сближает с феноменом государственной религии. Речь идет о
разновидности «гражданской религии», соединившей универсалистский
мессианский проект с изоляционистской социальной организацией.
Совокупность квазирелигиозннх черт требует системного определе-
ния, каковым может стать концепт «культура партийности». Несомненно,
перед исследователем явление более глубокое, чем идеология. Квазирели-
гиозность вошла в массовое сознание и утвердилась в общественной
жизни; распространенный термин «идеологический режим», акцентируя
усилия Власти, оставляет в тени мотивацию воспринявшего «режим»
общества. Одновременно, определяя этот культурно-исторический фено-
мен, следует подчеркнуть ключевую роль политического субъекта, под-
чинившего на известный период частную сферу публичной и превратив-
шего ту и другую в пространство Власти («тоталитаризм»).
Далеко выходя за рамки формальной принадлежности к правящей
структуре, культура партийности включала многообразные компоненты
от политической лояльности до профессиональных критериев и приори-
тетов. Лояльность предполагает здесь не просто законопослушность
члена общества, а чувство сопричастности и веру в высшее предназна-
чение Власти, в харизму партийного руководителя. Партия являла для
3 Очерки истории исторической науки XX века / Под ред. В. П. Корзун. Омск,
2005. С. 680.
4 См.: Культурология. Энциклопедия в 2-х т. Т. 2. М., 2007. С. 510 (статья
В. В. Глебкина «Советская культура»).
А. В. Гордон. Советское историознание...
557
советского интеллигента сущность Бытия и абсолют единственно верно-
го Учения, совокупный объект идентичности, вбирающий в себя страну,
идеальный общественный строй, всемирно-исторический прогресс. Ге-
нетическая связь культуры партийности с революционной традицией
очевидна, но, становясь ее стержнем, последняя меняла свою природу. В
«сталинский» период вера в партию поглотила революционный культ.
Превратившись в ритуальный атрибут общественной жизни, революци-
онная традиция сделалась опорой партократии. В историческом знании
революционная традиция проявляла себя и в апофеозе созидания нового
общественного строя, и в апологии насильственных методов этого сози-
дания, а с середины 1930-х гг. больше всего - в культе Власти5.
Утверждение культуры партийности в советском обществе в целом
и в исторической науке тесно связано с превращением руководителя
(генсека ЦК) партии в национального вождя, установлением его едино-
властия и четко коррелируется с личностью и деятельностью Сталина.
Вместе с упразднением демократических норм внутрипартийной жизни
и «фракционности» плюрализм исчезал и из научной жизни. Шельмо-
вание прежних авторитетов и поношение установок создавало ту самую
tabula rasa, при которой единственным ориентиром становилась вера в
обретавший узнаваемые физические черты Абсолют.
Отправным пунктом можно считать «великую перековку», от-
крывшуюся «академическим делом» и речью генсека на совещании
марксистов-аграрников (конец 1929 г.) и отмеченную внесением прие-
мов классовой борьбы в сферу социальных наук. «К началу 30-х годов в
тесной связи с ликвидацией в СССР остатков эксплуататорских классов
и с победой генеральной линии партии в строительстве социализма
торжествовала победу и утвердившаяся в общественных науках мар-
ксистско-ленинская методология»6, — так описывал динамику процесса
участник событий. Методологическая победа была достигнута насиль-
ственным искоренением инакомыслия.
Завершением «перековки» явилась кампания, инициированная вы-
движением постулата об «аксиомах большевизма» (1931 г.). Они нс
подлежат дискуссии, дальнейшая разработка таких положений исключа-
ется7, - предупреждал вождь. Вводился принцип непогрешимости для
5 См.: Гордон А. В. Власть и революция: Советская историография Великой
французской революции. 1918-1941. Саратов, 2005.
6 Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. 1917-1966. Л., 1968. С. 52.
7 Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редак-
цию журнала «Пролетарская революция»// К изучению истории. Сборник. М., 1946.
С. 3-16.
558
Историография и ее история
выработанной к тому времени теории (вернее, претендовавшей на теоре-
тический статус политики) социалистического строительства, включая ее
историческое обоснование. Идеологическая аксиоматизация сделалась
важнейшим инструментом догматизации исторической мысли8 9.
Исключительную роль в становлении культуры партийности сыг-
рало возникновение авторитарной наднаучной инстанции, которая при
«развитом социализме» именовалась «директивными органами», а пер-
воначально таковой выступала по преимуществу известная личность.
С разгромом «школы Покровского» главным историографом страны
стал лично Сталин, и каждое высказывание новоявленного научного
светила воспринималось как абсолютная истина с момента произнесе-
ния или публикации. В этом качестве вождь предложил схему всемир-
ной истории, которая, будучи изложенной сначала в замечаниях к учеб-
никам для начальной школы (1934-1936), а затем в «Кратком курсе»
истории партии (1938), носила откровенно дидактический характер.
Справедливо уточнение, что с выходом последнего следует говорить
уже не о марксизме, а об его особой версии - «советский марксизм» .
Каноном культуры партийности сделалось учение, выработанное в
Советском Союзе коллективной мыслью партработников и ученых и
сакрализованное обращением к основоположникам. Его корпус сущест-
венно менялся, при этом наднаучный статус и основные части измене-
нию не подлежали. Абсолютной истиной на всех этапах считались уче-
ние о смене формаций, классовый подход, «теория отражения» («бытие
определяет сознание»), Табуированию («аксиоматизации») подлежал ши-
рокий круг положений, начиная с руководящей роли партии, высшей
мудрости и неизменности ее «генеральной лйнии»; не подлежали обсуж-
дению пролетарское происхождение партийной диктатуры, социалисти-
ческий характер Октябрьской революции и утвердившегося строя и т.п.
После того как воззрения Маркса были систематизированы Эн-
гельсом, Каутским, Лениным в виде «марксизма», таковой при склады-
вании культуры партийности был превращен уже в «ленинизм», при
8 «Сталин в своем письме... выдвинул положение о том, что есть определен-
ные аксиомы, которые обсуждать нельзя. Постепенно это понятие необсуждаемых
аксиом расширили на все положения, высказанные Сталиным. Поскольку ничего
нельзя было обсуждать, то все принималось на веру», - жаловалась на засилье догм
в изучении истории Востока индолог К. А. Антонова (Всесоюзное совещание о ме-
рах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам.
18-21 декабря 1962 г. М., 1964. С. 457). Понятно, что еще больше «аксиом» было в
истории советского периода и Запада.
9 Алаев Л. Б. Община в его жизни: История нескольких научных идей в доку-
ментах и материалах. М., 2000. С. 8.
А. В. Гордон. Советское историознание...
559
том, что установка на «систематизацию и углубленное изучение выска-
зываний Ленина» обернулась превращением ленинских сочинений в
«тридцать томов цитат» . Подобно тому как в политике идсократизм
оборачивался подменой идей лозунгами, в науке мысль заменяла цита-
та. Никакие методологические новации и даже попытки обобщения,
сколь-нибудь выходящие за пределы эмпирического анализа, сделались
невозможными без обращения к идеологически выверенным цитатам.
Важнейшим итогом поэтапного упрощения явилась формационная
теория с ее ультрадетерминизмом. Весь духовный мир человечества,
культура общества и само общество сводились к производственному
«базису», развитие которого принимало автоматический характер осу-
ществления «потребностей развития материальной жизни общества»10 11.
Фетишизация последних, в свою очередь, сводила человеческую дея-
тельность к «исполнению законов». Превращение живой мысли в свод
кодифицированных положений да еще придание им характера «зако-
нов», имеющих обязательную силу для исторического процесса, меняло
существо подхода мыслителя, провозгласившего de omnibus dubitandum
принципом своей научной деятельности. Утрируя мессианские тенден-
ции в мышлении основоположников, теория обретала вид вероучения.
Марксизм в СССР изначально выступал, говоря словами
Н. А. Бердяева, «явлением духа»12. Так М. Н. Покровский доказывал,
что Октябрьская революция была «сделана марксистами» в полном со-
ответствии с методом, которым они владели, с «глубокой верой» боль-
шевиков в «материальные, объективные причины»13. Метод, которому
приписывали чудодейственные свойства изменения действительности,
переставал быть просто научным методом, наравне с другими. Это было
больше, чем мировоззрение - особое состояние духа людей, претен-
дующих на свою исключительность.
Духовные основания «советского марксизма» складывались не на
пустом месте. Вспомним особенности культурной традиции — представ-
ления о мессианской избранности страны или общественном служении
интеллигенции. Задумаемся об идеократической составляющей тради-
ционной государственности и культуртрегерской роли Власти от об-
стоятельств Крещения Руси (по «Повести временных лет») к «креще-
нию» императорской России в новоевропейскую культуру великим
10 Свободен А. П. «Перечитывая диссертацию» (письмо историка) // История
советской политической цензуры: Документы и материалы. М., 1997. С. 543.
11 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1939. С. 546, 548.
12 Цит. по: Советская историография... С. 19. t
13 См.; Под знаменем марксизма. 1922. № 1-2. С. 35-36.
560
Историография и ее история
реформатором и его восприемницей14. И в начале XIX века Власть вос-
принималась как «единственный европеец в России»15. В пореформен-
ный период эта монополия была нарушена, но присвоившая себе куль-
туртрегерские функции интеллигенция действовала на общественном
поприще столь же самовластно. Вдохновенно писал о призвании рос-
сийской интеллигенции вовсе не желавший ей льстить С. Н. Булгаков:
«Она есть то прорубленное Петром окно в Европу, через которое входит
к нам западный воздух... Ей принадлежит монополия европейской об-
разованности и просвещения», без которых Россия не может обойтись
«под угрозой политической и национальной смерти»16.
Генезис и развитие отечественной науки оказались производными
от исторических видов культуртрегерства, принимавшего форму месси-
анского подвижничества. «Невозможность политической деятельно-
сти, - писал Н. А. Бердяев, - привела к тому, что политика была перене-
сена в мысль и литературу». Произошло «переключение религиозной
энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сфе-
ры науки или социальной жизни». В результате у русской интеллиген-
ции «выработалось идолопоклонническое отношение к самой науке»
(заодно с «крайней идейной нетерпимостью»). «То, что на Западе было
научной теорией, подлежащей критике... у русских интеллигентов пре-
вращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения (кур-
сив мой - А. Г.)»17. Так и случилось с социализмом, который еще до
1917 г., по оценке С. Н. Булгакова, из «исторического движения» пре-
вратился в «надысторическую конечную цель»18. Торжество социализ-
ма внедрилось в советское историознание «финалистской» ретроспек-
тивой, благодаря чему овладевший в XIX в. европейским сознанием и
мировой наукой прогрессизм обрел выраженную телеологичность. 1917
год стал источником духовного озарения19 и «прожектором» в глубинах
14 О символике петровских реформ как «крещения в Просвещение» см.:
Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Роль дуальных моделей в динамике русской куль-
туры (до конца XVIII в.) // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 414.
1977. Труды по рус. и слав, филологии № 28.
’’А. С. Пушкин - П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. // Пушкин А. С. Соч. в 10
т.Л., 1979. Т. 10. С. 701.
16 Вехи: Интеллигенция в России. М., 1991. С. 45.
17 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 18-19.
18 Вехи... С. 59.
19 «Все старые вопросы русской истории... вдруг получили новый смысл, оза-
рились новым светом... Только теперь, после исторического завершения явления,
можно изучать его подлинно научно и во всей полноте» (Нечкина И. В. Наука рус-
ской истории//Общественные науки в СССР. 1917-1927. М., 1928. С. 126).
А. В. Гордон. Советское историознание...
561
прошлого20, а картина исторического процесса, восходящего к Октябрь-
ской революции как его вершине, - основанием убежденности совет-
ских историков в истинности и превосходстве своего миро видения. Со-
циализм показался искомой национальной идеей для части «партийной
интеллигенции» дореволюционного образца, а с «партийными раздора-
ми»21 было покончено установлением особого вида партийности, еди-
ной и для всех обязательной. Можно утверждать, что большевики не
генерировали мессианские настроения, а вдохнули в них новую жизнь,
сплавив с революционными убеждениями. Последние же способствова-
ли доведению идейного единения до степени единомыслия.
О том, что партийность в исторической науке была не просто од-
ним из гносеологических принципов, свидетельствует их четкая субор-
динация: партийность являла «высшую объективность», объективность
без партийности означала подлежащий искоренению «объективизм» (с
«либеральным душком», как добавляли в годы «застоя»), «Партийность
марксистско-ленинской исторической науки полностью совпадает с ее
объективностью, ибо она опирается на объективно существующие зако-
ны общественного развития»22 23, декларировалось в установочном из-
дании. «Факты должны служить средством к познанию исторической
закономерности. Эти /sic!/ объективные закономерности с железной /!/
необходимостью ведут к торжеству коммунизма»21.
Итак, партийность - признание закономерности торжества комму-
низма, а объективность науки - это «объективность» тех же законов, «же-
лезно» установленных. Зависимость объективности исторического (как и
иного) знания от партийности была аксиомой, выражая подчинение науки
партийной идеологии. «Методология — это мировоззрение, — констатиро-
вал куратор общественных наук П. Н. Федосеев; марксистская методоло-
гия - «вера... в необходимость /!/ исторической смены общественных
формаций»24. Доказывая, что историческая наука в ее советской разно-
20 «Восстановление правильной перспективы в деле оценки вождей и деяте-
лей, а также деяний Великой французской революции - только лишь начинается...
Российский Октябрь гигантским прожектором своих революционных идей бросает
такой ослепительный свет на великую свою предшественницу, что она предстает в
новом виде» (Зайдель Г. С. Вокруг Великой французской революции //Под знаменем
марксизма. 1926. № 9-10. С. 152).
' 21 Вехи... С. 58. Приводя слова С. Н. Булгакова, отмечу, что представления о
«партийности» интеллигентов и сетования по поводу их «распрей» были общим
местом.
22 Очерки исторической науки в СССР. Т. 1. М., 1955. С. 11.
23 Там же. С. 10.
24 Всесоюзное совещание ... С. 191. 1
562
Историография и ее история
видности является «основной гуманитарной дисциплиной», академик
М. В. Нечкина напоминала коллегам: «Есть одна-единственная наука, ко-
торая несет в себе всю систему доказательств... закономерной смены об-
щественно-экономических формаций, закономерного движения человече-
ства к коммунизму». Советским историкам, интеллигенции, народу очень
хотелось верить в счастливое будущее человечества.
Было бы упрощением сводить культуру партийности к «индустрии
страха» (Г. М. Козинцев)25. Устрашению сопутствовало уверование, и,
взаимно питая друг друга, эти процессы не совпадали полностью («не-
виданные преобразования... неслыханные репрессии», по формуле ака-
демика Ю. В. Полякова26). Исключительную роль в утверждении куль-
туры партийности играла завороженность интеллигенции грандиозно-
грандиозностью («я планов наших люблю громадье») происходящих
социальных сдвигов, отдаленные последствия которых трудно было
предвидеть. Отметим, что подобную завороженность проявляла и зару-
бежная интеллигенция, которая в лице таких корифеев, как Бернард
Шоу, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, выражала симпатии к строительст-
ву нового мира, видя в советском обществе осуществление вековой
мечты человечества о гармоничном обществе27. Мессианский проект
принимался как «доведение до логического конца... культа идеи о воз-
можности построения жизни общества только на разумных, научных
основаниях» (А. С. Покровский)28.
Если партия в мировоззрении и мироощущении ученых станови-
лась чуть ли ни всем, то и ученые, конкретно историки значили немало
для партруководства. Сталина, его сподвижников и преемников, думаю,
привлекало в исторической науке преимущественно сочетание научной
рациональности с эмоциональной выразительностью. История пред-
ставляла сферу научного знания и одновременно выказывала себя осо-
бого рода литературой, а потому призвана была стать важнейшим мо-
билизующим и воспитательным средством. Не случайно одновременно
25 Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет.
Л., 1989. С. 353.
26 Поляков Ю. В. Историческая наука: Люди и проблемы. М., 1999. С. 327.
27 «Чем СССР был для нас?... Все, о чем мы мечтали... и чему мы готовы были
отдать силы, - все было там. Это была земля, где утопия становилась реальностью.
Громадные свершения позволяли надеяться на новые, еще более грандиозные... И
мы со счастливым сердцем поверили в неизведанные пути, выбранные им во имя
страдающего человечества» (Жид А. Возвращение из СССР // Два взгляда из-за ру-
бежа. М., 1990. С. 64).
28 Покровский А. С., Лавров В. М. Диалог об учителе (Памяти
Е. Н. Городецкого) // Кентавр. 1993. № 6. С. 113.
А. В. Гордон. Советское историознание...
563
с восстановлением исторического образования состоялся первый съезд
писателей, конституировавший систему литературного производства в
СССР («мастеров слова» возвели в степень «мастеров культуры» и даже
«инженеров человеческих душ»). Не случайна популярность, какую
обрел в 1930-х годах жанр нравоучительных биографий выдающихся
личностей («жизнь замечательных людей»).
Историческая наука в ее традиционных формах комментированной
хроники событий и деяний правителей как нельзя лучше позволяла вне-
дрить установку на восстановление государственной преемственности,
все более утверждавшуюся в мировоззрении руководства, затем в идео-
логии правящей партии в течение 1930-х годов. Поддерживая офици-
альный культ Октябрьской революции, требовалось укрепить легитим-
ность режима, расширив его идеологическую базу включением
национально-государственных тем. Советская культурная традиция оп-
лодотворялась мифологизацией дореволюционного прошлого, героиза-
ция революции переходила в идеализацию имперского наследия, поро-
ждая неустранимую противоречивость в трактовке исторического
процесса. Оборотной стороной революционно-имперского «синтеза»
становилась нараставшая изоляция советской науки.
Культура партийности оказывалась существенным дополнением к
железному занавесу. С торжеством доктрины социализма в «одной, от-
дельно взятой стране» отчетливой стала идентификация Советского
Союза с «осажденной крепостью», а всего находящегося за пределами -
с «враждебным окружением». Как «земля обетованная» СССР противо-
стоял остальному миру, который предстояло осчастливить обретенной
истиной партийного Учения. «Лишь в стране победившего социализ-
ма», «только Октябрьская революция», «только Сталинская конститу-
ция» - эти пропагандистские клише нормативной лексикой внедрялись
в историографию, интериоризуясь в образе мышления, одной из черт
которого явилось восприятие мировой науки как знания, генерирован-
ного враждебным окружением. Заимствование положений «буржуазной
науки» становилось идеологическим (а в известные периоды и полити-
ческим) преступлением. С конца Отечественной войны пролетарская
исключительность была дополнена национально-государственной из-
бранностью, классовая борьба - межнациональными антагонизмами.
«Только исследовав, представителем какого класса и в какой стране вы-
ступает данное историографическое направление и данный историк,
можно правильно и всесторонне оценить это направление»29, посту-
29 Очерки исторической науки в СССР. Т. 1. С. 14.
564
Историография и ее история
лировали авторы цитированного издания. В соответствии с избранным
методом обоснование самобытности русской научной традиции выли-
лось в обличение не только инокультурных заимствований, но и боль-
шей части национального наследия, отвергнутого за классовую чуж-
дость. Изоляция от мировой культуры была дополнена сужением
национальной традиции, и представление ее в таком препарированном
виде компрометировало саму идею самобытности.
Историки не только должны были нести партийное Слово, и не
только пропагандистско-воспитательными возможностями историческо-
го образования было озабочено партруководство, восстанавливая статус
истории. Партия большевиков формировалась в цивилизационной тради-
ции Нового времени, на одном из знамен которой значилось «Знание -
сила». Культ знания отличал Советскую власть с 1917 года, и оно остава-
лось непреходящей ценностью на всех этапах советской истории. Власть,
персонифицировавшая Знание в лице партруководства (всеведущего Во-
ждя и его преемников), сохраняя за собой функции высшего и постоянно-
го контроля над Знанием, нуждалась в его приращении.
История - с древнейших времен magistra vitae - воспринималась
Властью еще как наука управления. От ученых требовали раскрытия
закономерностей исторического процесса, обобщения государственно-
го, военного, революционного опыта прошлого. Совершался не имев-
ший реальных исторических прецедентов социальный эксперимент; но
«законы истории» надлежало знать, поскольку, по убеждению партру-
ководства, их можно, было использовать (постулат «Краткого курса»).
Эпистемологический статус законов (а с ними самой исторической нау-
ки) оказывался, следовательно, двойственным. Их и декретировали, но
также искали, раскрывали, доказывали. «Законы истории» обозначали
не только вехи движения к мессианскому идеалу, но и ориентиры в ре-
шении практических задач, обоснование Realpolitik
Особый вопрос - социальный статус ученых. Восстановление ис-
торического образования сопровождалось укреплением материального
положения работников науки и высшей школы (повышение зарплаты,
восстановление ученых званий и др.). Этот курс продолжался и в после-
военный период. Ученые Академии наук и профессура центральных
университетов стали привилегированной частью советской интеллиген-
ции, последствия чего тоже были неоднозначными. Главное, наверное,
что создавались предпосылки для формирования интеллектуальной эли-
ты страны. Издержки - высокий уровень конкуренции, в которой талант
и профессиональная пригодность далеко не всегда играли ведущую роль.
«Великая перековка», Большой террор, «космополитчина» демонстриро-
А. В. Гордон. Советское историознание...
565
вали подлинную жестокость такой конкуренции, превращавшейся в реа-
лизацию принципа «разделяй и властвуй» в научной среде.
Двойственность отношения правящей партии выявилась в особой
драматургии эволюции советской науки. С большим или меньшим ос-
нованием (в зависимости от отрасли) можно говорить о приращении
знания, накоплении фактического материала, совершенствовании мето-
дов его обработки, а также (как общем и поступательном процессе) о
развитии профессиональной культуры. Но не менее значимыми для су-
деб науки были идеологические кампании. Инициируемые высшим ру-
ководством, проводимые в соответствии с инструкциями центрального
партийного аппарата, при самом деятельном, как правило, участии ре-
прессивных органов, они отбрасывали науку к более примитивным
формам бытия, калеча духовно и нравственно (нередко физически) уче-
ных, создавая временами поистине Дикое поле.
В течение классического периода вся система знания вобрала в се-
бя различные структурообразующие принципы правящей партии —
строгую иерархичность («штаб науки», «центр - периферия»), корпора-
тивную замкнутость, тяготение к монополии одной теории, школы, ли-
дера, наряду с безоговорочным признанием партруководства как выс-
.. 30
шеи инстанции и номенклатурным принципом движения кадров ,
наконец - с восприятием партийной идеологии как «руководства к дей-
ствию», универсальной методологии.
Отражая смену этапов советской истории, культура партийности не
оставалась неизменной. Не сразу она утвердилась в историознании, с
разной силой определяла его характер в различные периоды, наконец,
по-разному являлась в работах советских историков, представляя не
только основание для подчинения Власти, но и - гораздо реже - легити-
мацию протеста, принимавшего порой широкие формы («шестидесятни-
чество»). Реформаторские явления постсталинского времени напомина-
ют об истории религиозных учений. Общими чертами были обращение к
истокам традиции и протекание обновленческих процессов в рамках со-
ответствующего канона, который реформаторы брались очистить от воз-
никших наслоений. Уклонение от канона маскировалось, преобладал
поиск обходных путей, позволявший избегать прямой конфронтации.
Решающую роль в эрозии культуры партийности сыграла форма-
лизация отношения к мессианскому Абсолюту. Политический институт
30 Партийное руководство наукой начинается с контроля над «ее организацией
и расстановкой сил ее работников», - напоминал во время Оттепели историкам сек-
ретарь ЦК неизменный закон их советского бытия (Всесоюзное совещание... С. 52).
566
Историография и ее история
не смог заменить харизматическую личность, и то, что было верой, пре-
вращалось в малосодержательный ритуал. Напротив то, что было по-
глощено культом сверхличности, обретало первородную жизнь. Про-
возглашенный XX съездом курс очищения революционной традиции,
возвращения к ленинским истокам партийной жизни обернулся против
партократии. Причудливую метаморфозу претерпел бином партийно-
сти-объективности. Во имя «подлинной» партийности ученые стали
добиваться восстановления приоритета объективности исторического
знания, во имя верности основоположникам отвергались догматы «но-
менклатурного марксизма».
Скованность ритуализованной мысли, как и специфичный путь ее
последующего раскрепощения, превосходно описал Б. Ф. Поршнев, мо-
делируя архаическое сознание: «Мы видим человека запеленутым в рече-
вые и образные штампы и трафареты... Он разгружен от необходимости
думать: почти на всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изре-
чение, пословица, цитата... Каждая такая формула применима ко многим
конкретным значениям. Надо только уметь вспомнить подходящую. Но
ведь тем самым можно и выбирать среди них! Можно сталкивать одну
формулу с другой и тем расшатывать их непререкаемость. Так развивает-
ся пользование “своим умом”»31. Интересна и другая аналогия. Советский
историк, вспоминала Е. В. Гутнова, «с помощью творчески интерпрети-
руемых цитат... получал некоторую свободу маневра», маскировавшего
теоретический поиск. «В этой своеобразной ’’игре” с цитатами
С. Д. Сказкин в чем-то уподоблялся средневековым схоластам, которые,
оперируя одними и теми же религиозными догматами, моти порой раз-
вивать совершенно разные философские учения, вплоть до концепции
верховенства разума над верой (курсив мой - Л. Г.)»32.
Можно спорить: в отличие от средневековых схоластов советские
историки были лишены возможности «развивать совершенно разные
философские учения». Учение оставалось одно - «единственно верное»!
К 1930-м гг. формула цитатной «игры» вряд ли применима: не могло
быть индивидуального Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Партия по-
требовала, чтобы был «один на всех», и для этого озаботилась воору-
жить ученых канонизированной суммой цитат. Но в 1960-е гг. «творче-
ская интерпретация цитат» сделалась возможной, а вместе с ней стала
реальностью «война цитат». У каждой из дискутирующих сторон ока-
зывался «свой Маркс» (или Ленин) в совокупности нужных цитат.
31 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихоло-
гии). М:, 1974. С. 484.
32 Портреты историков. Т. 2. М.; Иерусалим, 2001. С. 205.
Л. В. Гордон. Советское историознание...
567
Многочисленные и разнообразные контролеры в научной среде и
за ее пределами бдительно следили за соблюдением положений канони-
зированного марксизма, обрушиваясь на всякое «новое прочтение» тру-
дов классиков. И вместе с тем эта боеготовность партийных ревизоров,
постоянные призывы к их бдительности, напоминания об обязанности
самого ученого «строго контролировать себя в том, что и как он сооб-
щает массам, насколько полно его оценки пронизаны духом марксизма-
ленинизма, каков будет реальный вклад его труда в дело продвижения
народа к коммунизму» , лучше всего свидетельствуют, что столь же
непрерывно исследовательская мысль пробивалась сквозь регламенти-
рующие сети и фильтры, включая вынужденную самоцензуру самих
ученых. В 1960-е годы в научной среде утвердилось негласное противо-
поставление «творческого марксизма» «марксизму догматическому»,
или «номенклатурному».
До общего кризиса «великих метанарративов» марксизм не терял
своей привлекательности как научное объяснение исторических про-
цессов ни на Западе (неомарксизм, марксистский структурализм, фрей-
до-марксизм и др.)33 34, ни тем более в СССР. Заметным событием явилась
публикация ранних текстов и Марксовых рукописей 1850-х годов, во-
шедших в 46-й том собрания сочинений Маркса-Энгельса. В этих изда-
ниях, интерпретированных с позиций науки и исторического опыта се-
редины XX века, ученые творческого типа находили стимул и ресурс
для выдвижения своих идей. Главным направлением новаций стал удар
по формационной схеме: оспаривалась универсальность указанных в
«Кратком курсе» общественно-экономических формаций («пятичлен-
ка»). С отказом от парадигмы прямолинейного движения различных
«отрядов человечества» в одном заданном направлении («линейка»)
научная мысль опять-таки упиралась в устои официального Учения,
пытаясь - не всегда тщетно - обойти их.
Немаловажным аспектом обновленчества стало освобождение ка-
нона от наиболее популярных, но вместе с тем примитивных и разру-
33 Всесоюзное совещание... С. 53.
34 Г. Маркузе, Ю. Хабермас, Л. Альтюссер сделались в 1960-х годах властите-
лями умов и душ студенческой и научной молодежи, заряжая ее неприятием буржу-
азного истеблишмента. Критический антикапиталистичсский заряд содержала тео-
рия мирсисгемы (Э. Валлерстайн). К классовому подходу обращались даже
профессора американских университетов (Б. Мур, Т. Скокпол). О сохранявшейся
популярности марксизма и конкретно классового подхода, о влиянии советских
исторических исследований сМ.: Гордон А. В. Советские историки и «прогрессивные
ученые» Запада // Французский ежегодник... 2007. М., 2008.
568
Историография и ее история
тигельных постулатов типа «закона обострения классовой борьбы»,
которые были выдвинуты лично вождем. Обоснованием превосходства
диктатуры над «буржуазной» демократией был постулат о «коренной
противоположности» революции 1917 года как «социалистической»
всем революциям прошлого как «буржуазным». В свете этой директивы
историки Запада акцентировали пороки демократии и эксплуататор-
скую сущность капитализма. В историографии Российской революции
идеологический водораздел разрушал поступательность процесса, пре-
вращая общенациональную революцию в большевистский переворот5.
Хотя научная эмансипация разворачивалась в рамках канона, это не
мешало ей быть радикальной в ряде направлений. Показательна пере-
оценка революционного наследия. Являя духовный стержень советской
историографии, оно сделалось основанием духовно-нравственного об-
новления в начале Оттепели. Однако уже в 1960-х годах встал вопрос об
его очищении. «Не обоготворять понятие “революция”»35 36 37, - призывал
один из лидеров «нового направления» М. Я. Гефтер. А в конце 1980-х на
смену образу «революции-праздника» пришло представление о «револю-
ции-трагедии» , озвученное с трибуны научно-партийного форума.
Поступательная переоценка затронула и основу основ «советского
марксизма» - классовый подход. В 1950-60-х годах одни историки-
новаторы добивались четкости классовых оценок событий и деятелей
прошлого, строгой привязки исторических явлений к социально-
экономическому базису. Другие рассматривали идеологическую «отте-
пель» как возможность ослабить жесткость классового подхода. В сере-
дине 1980-х последнее направление стало преобладать. Характерна
судьба проекта юбилейных монографий к 200-летию Французской ре-
волюции в МГУ38. Замысленный в рамках классового подхода по при-
вычной модели (контрреволюционное дворянство; оппортунистическая
буржуазия; революционные низы), он претерпел серьезную трансфор-
мацию. Замещая схему классовых агентов исторического процесса как
35 Разительна перекличка между «сталинизмом» и конспирологическими по-
стулатами современного отечественного «ревизионизма».
36 Историческая наука и некоторые проблемы современности... М., 1969. С. 255.
37 «Революция по природе своей трагична», - говорил руководитель кафедры
Академии общественных наук Ю. Н. Гаврилов (Великая французская революция и
современность... М., 1990. С. 120).
38 Кожокин Е. М. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции
до революции 1848 года. М., 1985; Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой
французской революции. М., 1986; Адо А. В. Крестьянство и Великая французская
революция. М., 1987; Буржуазия и Великая французская революция. М., 1989.
А. В. Гордон. Советское историознание...
569
сил, которые действуют единообразно в строго определенном полити-
ческом направлении, обусловленном отношением к средствам произ-
водства, воссоздавалась картина отдельных социальных миров, части
которых пришли в сложное взаимодействие. А во время Перестройки
сам классовый подход уступил гегемонию цивилизационному. «Обще-
человеческие ценности» против «узкоклассового подхода» - таков был
лейтмотив переоценки значения Французской революции в связи с ее
200-летием! На первый план выступило ее демократическое содержа-
ние; гуманистические ценности, права человека как непреходящие по
своему цивилизационному значению завоевания революции были про-
тивопоставлены формам, в которых она совершалась.
«Наступила пора раскованного, свободного от идущего извне нау-
ки принуждения и есть возможность думать /!/ и писать без внутреннего
и внешнего цензора»39, — констатировал А. В. Адо. Однако на смену
культуре партийности приходила новая регламентация. Как отмечал
Е. Б. Черняк, историк, уклоняющийся от этической оценки террора и
якобинской диктатуры, рискует не найти себе «достойного читателя и
слушателя»40. Выработка нового общественного самосознания совет-
ских людей проходила под знаменем гуманизма, и это веяние времени
заставляло ученых учитывать такие факторы, как «нравственное чувст-
во». Над принципом историзма сгущалась очевидная опасность.
Существуют два плана, постоянно подчеркивал Адо. Один - «ре-
волюция и наша современность», когда выявляется, что «из наследия
Французской революции сохраняет немеркнущую ценность» и что сле-
дует рассматривать как «присущее лишь той эпохе» и, в частности, «от-
нести к тем кровавым формам исторического творчества, которые мы не
можем принять сегодня». Но есть и другой план - «научного историче-
ского анализа острых и сложных проблем Французской революции в
контексте ее эпохи, когда задача историка не столько дать нравствен-
ную или иную оценку, сколько объяснить и понять»41. Между тем в
новом, «перестроечном» варианте воспроизводилось проецирование
идейных установок и моральных ценностей одной эпохи на иную.
Адо тогда же предупреждал от «повторения не лучших наших тра-
диций - на смену одним мифам создавать иные»42. Е. М. Кожокин ре-
зюмировал: «Время канонической историографии заканчивается, но
39 Великая французская революция и современность. С. 150.
10 Актуальные проблемы изучения истории Великой французской револю-
ции... М., 1989. С. 257.
41 Великая французская революция и современность... С. 149-150.
42 Там же. С. 149.
570
Историография и ее история
мифологизация истории продолжается. Историки обязаны вести с ней
борьбу, тем более тяжелую и трудною, что в значительной степени это
борьба с собственным сознанием»43. Духовное обновленчество Пере-
стройки, как видим, формировало плодотворные тенденции преодоле-
ния ограничений культуры партийности и ограниченности выработан-
ного в ее рамках историографического канона.
Однако после 1991 года возобладало не научно-критическое, а ад-
министративно-идеологическое отношение к наследию. Канон совет-
ского историознания был отброшен, что в значительной степени осла-
било отечественную науку на международной арене, внушив ее
представителям комплекс профессиональной неполноценности. Не ме-
нее важно то, что отбросив достижения прошлого, историческая наука
оказалась дискредитированной внутри страны, о чем ярко свидетельст-
вует натиск дилетантства, поощряемого ведущими СМИ ради идейно-
политической конъюнктуры.
Современные вызовы побуждают к серьезному размышлению об
особенностях историографического процесса советского времени. Ан-
тимарксизм и антикоммунизм оказались здесь плохими советчиками.
Развитие советской науки тормозилось по большей части не содержани-
ем канона, а самой канонизированностью. Вряд ли уместно говорить о
недостатке профессиональной культуры, советская наука кристаллизо-
валась из дореволюционных школ и ее профессионализм постепенно
укреплялся. Главным тормозом оказалось подчинение науки вненауч-
ным установкам и авторитетам.
Основателям российской традиции была чужда мысль об интел-
лектуальном заповеднике «истории историков»44. Потребности общест-
ва формируют тот вызов, который исторической науке не дано игнори-
ровать. Будучи сыном своего времени и своей страны, историк должен,
тем не менее, оставаться верным призванию. Опыт прошлого учит от-
стаиванию автономности науки в рамках национальной культурной
традиции, сохранению права научного сообщества на лишенную прив-
несенной нормативности «цеховую проверку»45, наконец, всемерной
защите суверенитета историка как личности, обладающей возможно-
стью профессионального (и общественного) выбора.
43 Актуальные проблемы... С. 253.
44 Из недавних работ см.: История идей и воспитание историей: Владимир
Иванович Герье /Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.
45 Значение в современных условиях этого принципа заповедовал
А. Я. Гуревич (Отечественные записки. 2004. № 5. С. 101).
Журандир Малерба
ИСТОРИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ (1968-2008)
Статья суммирует выводы, сделанные мной в результате анализа
главных тенденций в латиноамериканском историописании после эпи-
стемологического сдвига середины 1960-х гг., когда в гуманитарных и
общественных науках доминирующих центров западной культуры гос-
подствовал постструктурализм. Его относительно замедленная рецеп-
ция в интеллектуальной среде Латинской Америки объясняет, почему
вплоть до середины 1980-х гг. экономическая и социальная история ос-
тавались важнейшими областями исследований. К тому времени голо-
вокружительный приток новых тем и теоретических подходов, возник-
ших под влиянием так называемого «культурного поворота» начал
изменять и латиноамериканские историографические сценарии.
Моя посылка заключается в том, что история латиноамериканской
историографии в рассматриваемый период отмечена радикальной сменой
парадигмы, приведшей к отказу от холистских и синтетических историче-
ских нарративов, основанных на имевших широкое хождение макроисто-
рических теориях, и их замене новыми аналитическими моделями исто-
риописания, построенными вокруг сюжетов гораздо меньшего масштаба.
Важными вехами на этом пути стали 1968 и 1989 гг.
Цель этой статьи — выделение основных тенденций — неизбежно ве-
дет к генерализации, которая является основой рассуждения и стратегией
аргументации. Естественно, многие из обобщений будут скорее верны
применительно к одной стране или традиции, а не к другой. Ведь нацио-
нальные историографии имеют различные ритмы и траектории развития.
Интеллектуальный и исторический контекст «смены парадигмы»
1960-е годы отмечены резким ускорением исторического времени,
повлиявшим на все формы исторического бытия. Этот «поворот» - сим-
птом более масштабного культурного сдвига, пережитого западным ми-
ром; он выразился в появлении концепций, касавшихся целей и границ
социальных и гуманитарных наук, а также потребовал критического пе-
реосмысления модернистской концепции научной рациональности1.
Макроисторичсские и макросоциальные модели, основывавшиеся на го-
сударстве, рынке, или классовом антагонизме, не могли объяснить по-
1 Wallcrstcin I. Open the social sciences. Stanford, 1997; Santos B. deS. Toward a
New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition. N.Y.,
1995; Iggers G. Historiography in the 20th century. Hanover; L., 1997.
572
Историография и ее история
требностей и вызовов настоящего. Пессимистический взгляд на развитие
и качество современной западной цивилизации сыграл главную роль в
возникновении «новой культурной истории».
Постмодернизм, ставший наследником постструктурализма, опре-
деляли как плавильный котел, в котором соединялись различные тео-
рии, восходившие к немецкой философии эпохи модерна (от Ницше до
Хайдеггера), и как адаптацию (с 1960-х гг.) этой философии некоторы-
ми французскими интеллектуалами, в частности, такими корифеями
постструктуралистских теорий языка, как Мишель Фуко и Ролан Барт.
Постмодернизм характеризуется окончательным отрицанием на-
следия Просвещения (особенно его веры в Разум и Прогресс) и недове-
рием к большим метанарративам, поскольку они навязывают-Истории
смысл и направление, представление о том, что человеческая история
является процессом всеобщей эмансипации. Метанарративы замещают-
ся множественностью дискурсов, играми языка, вопрошанием о приро-
де знания, а идея истины исчезает2. Постмодернистские идеи оказали
огромное воздействие на теорию истории, и еще более - на теорию ис-
ториографии3 4. Смена парадигмы в историописании заключалась в при-
нятии двух аксиом: концепции языка и отрицания реализма. Первая из
них непосредственно повлияла на лингвистический поворот. Новая
идеалистическая философия языка утверждает, что язык составляет и
определяет реальность для человеческого ума, и соответственно, что
внеязыковая реальность не существует независимо от наших представ-
лений этой реальности в языке или дискурсе. Подобный лингвистиче-
ский идеализм рассматривает язык как систему знаков, связанных друг
с другом изнутри, в рамках бесконечного процесса построения смы-
слов . Повсеместное распространение этой концепции языка было яв-
ным признаком лингвистического поворота5 в истории и других соци-
альных науках. Итак, постмодернизм отрицает как способность языка
2 Анализ метанарративов и «смерти истории» см.: Callinicos A Theories and
Narratives. Reflections on the Philosophy of History. Cambridge, 1995.
3 Я писал об этом: «Постмодернизм фактически разбил старые догмы, желез-
ные постулаты, дожившие до разрушения исторической концепции, унаследованной
от Просвещения, а также научное мышление, все еще влиятельное во многих интел-
лектуальных кругах в 1970-х гт. Он принес отрицание и разрушение, но немногое
сумел дать взамен». Malerba J. Introdu^ao: teoria е histdria da historiografia // A histdria
escrita: teoria e histdria da historiografia / J. Malerba (org.). Sao Paulo, 2006.
4 Cardoso C. Critica de duas questoes relativas ao anti-realismo epistemologico
contemporaneo // Dialogos, Maringa. 1998. N. 2. P. 47-64; Iggers G. Op. cit. P. 118 ff.
5 Cardoso C., Malerba J. Representa^oes: contribui^ao a um debate transdisciplinar.
Campinas, 2000.
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
573
или дискурса соотноситься с независимым миром фактов и вещей, так и
окончательное определение (или «опрсдсляемость») смысла текста.
Впредь он отрицает также и возможность объективного знания и исти-
ны, считая их утопическими целями любого исследования6.
Отказ от всеобщности как от утопии есть одна из опор, на которой
стоит эклектическая группа идей, окрещенная постмодернизмом. По сло-
вам бразильского историка Широ Кардозу (1999), больше не существует
одной «Истории», а есть истории отдельных групп или истории их воз-
никновения, определенные заданными позициями, «местом рассказчика».
Рассеивание источников дискурса нашло свою кульминацию в истории
для женщин, для афроамериканцев, для гомосексуалистов, истории, по-
строенной вокруг интересов экологии, истории молодых и истории пожи-
лых, истории, определяемой относительно различных этнических или
национальных групп и т.п. Подобные подходы типичны для исторических
исследований 1990-х гг. в США, Европе и Латинской Америке.
Отношения Латинской Америки
с доминирующими западными культурными центрами
Второй важный для понимания современной латиноамериканской
историографии момент связан с отношениями этого региона с другими
культурными центрами. Принято считать, что латиноамериканская ис-
ториография возникла и развивалась не сама по себе, но была тесно свя-
зана с главными матрицами западной исторической мысли7. Бремя ко-
лониального наследия, которое несут народы Латинской Америки,
имеет глубокие корни в истории и культуре региона, и обретение поли-
тической независимости в лишь частично преодолело их. Это исходный
пункт в понимании латиноамериканской культуры и историографии.
В частности, когда речь идет об отношении Соединенных Штатов к
латиноамериканцам, ученые, даже североамериканцы, обычно ощущают
определенный «прагматизм», диктующий исследовательский интерес к
латиноамериканским темам. Видный североамериканский историк Томас
Скидмор проследив траекторию латиноамериканской «темы» в академи-
ческих кругах США, указал на относительное отсутствие интереса к ре-
гиону у американских интеллектуалов в целом и у историков, в частно-
сти, на протяжении XX века. Картина начала меняться лишь после
6 См. критику: Malerba J. La historia у los discursos: una contribucion al debate
sobre el realismo histdrico // Contrahistorias, Mexico (DF). 2007. N 7. P. 63-82.
7 Sato M. Historiografia cognitiva e historiografia normaiiva // A histdria escrita;
tcoria e histdria da historiografia... '
574
Историография и ее история
Кубинской революции, когда исследователям внезапно стали доступны
многомиллионные исследовательские фонды. Только после выступления
Фиделя Кастро, которого можно назвать подлинным покровителем лати-
ноамериканских исследований в США, там возникла такая организация
как Ассоциация Латиноамериканских Исследований (LASA).
Когда речь идет об отношениях латиноамериканского академиче-
ского сообщества с доминирующими центрами западной культуры,
особенно с США, необходимо иметь в виду и тот факт, что многие ла-
тиноамериканские историки получили образование в американских
университетах как студенты и аспиранты.
Новые предметы исследования
Нынешний разнообразие предметов исследований латиноамери-
канских историков, с одной стороны, отражает общую фрагментацию,
свойственную фазе сдвига парадигмы, начавшегося в конце 1960-х гг.,
но, с другой стороны, демонстрирует культурную зависимость латино-
американского интеллектуального сообщества от канонов, выработан-
ных в странах с наиболее сильной экономикой в рамках западной миро-
вой капиталистической системы8. В 1985 г. американский историк Джон
Джонсон утверждал, что по-настоящему важным достижением в иссле-
дованиях латиноамериканской истории Нового времени в США с 1960-
х гг. стало внимание исследователей к обширному кругу вопросов по-
вседневности. Среди них - городская история, интерес к истории «обез-
доленных», «опыту чернокожих» (и расовым проблемам) и рабовладе-
нию (в частности, с использованием микроанализа), социальная история
труда, и особенно резкий рост числа исследований по женской истории
(«темы, практически не возникавшей в исследованиях до 1970-х гг.»).
Уже после обзора Джонсона академический престиж обрели также ис-
тория сексуальности (геев и лесбиянок) и вопросы экологии9.
В относительно недавней работе секретарь Ассоциации Бразиль-
ских исследований и специалист по истории Латинской Америки Мар-
шалл Икин подтвердил более ранние выводы: если в 1980-х гг. домини-
8 Европа всегда оказывала на Латинскую Америку большое воздействие, в том
числе и интеллектуальное. Однако после Второй Мировой войны это влияние в ре-
гионе было замещено американским.
9 Johnson J. J. One hundred Years of Historical Writing on Modem Latin America
by United States Historians // The Hispanic American Historical Review. 1985. V. 65. N 4.
1985. P. 757 ff. См. также: Skidmore Th. E. Studying the History of Latin America: A
Case of Hemispheric Convergence// Latin America Research Review. 1998. V. 33. N. 1.
P. 113 ff.; Eakin M. C. Latin American History in the United States: From Gentlemen
Scholars to Academic Specialists // The History Teacher. 1998. V. 31. N 4. P. 550-561.
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
575
ровала социальная история, то в 1990-х - «новая» культурная история;
тогда же возродились исследования, посвященные не-элитарным груп-
пам - женщинам, индейцам, рабочим, крестьянам. Преимущественное
значение тогда имели «лингвистический поворот» и пост-колониальные
исследования, концентрировавшие внимание на подчиненных груп-
пах10. Кроме того, новые предметы в латиноамериканских исследовани-
ях, возникшие из ценностей и социальных «политически корректных»
интересов, отражают устремления и потребности людей, являвшихся
объектами исследования. Неоспариваемое принятие канонов, экспорти-
руемых академическим сообществом США предполагает незаметное
навязывание ценностей, свойственных либеральной демократии, кото-
рую США распространяют по всему миру. Однако даже если мы согла-
симся, что такие цели являются благородными, а данная степень вовле-
ченности ученых в предмет исследования желательна, подобный тип
мотивации, хотя и чрезвычайно важный для американцев, окажется эт-
ноцентричным, анахроничным и вследствие этого лишится значимости
для страны и региона, избранных в качестве «предмета исследования».
Не вынося суждение о внутренней ценности этих предметов (расы,
гендера, сексуальности и т.п.), хочу лишь подчеркнуть, что эти сюжеты
были привнесены в Латинскую Америку «извне», как актуальные темы,
важные для развитых либеральных обществ, которым больше не прихо-
дится преодолевать таких структурных проблем, с какими сталкиваются
все латиноамериканские нации: асимметричные экономические отно-
шения с экономиками ведущих стран, порождающие несправедливые
формы включения латиноамериканских наций в мировой рынок в каче-
стве экспортеров сырья и импортеров технологий. Можно указать на
такие проблемы, как исторически сложившаяся концентрация земель-
ной собственности; создание экономически и политически домини-
рующих элит, которые постоянно пребывают у власти; хроническое
неравенство в распределении дохода, приводящее к низким стандартам
в образовании, здравоохранении, жилищных условиях; трудности с по-
лучением работы и образования и т.п., другими словами, многочислен-
ные формы социального неравенства, испытываемые подавляющим
большинством населения Латинской Америки. Этими структурными
проблемами нередко пренебрегают в пользу других, более престижных
тем, которые чаще освещаются средствами массовой информации и
предлагают больше возможностей для продвижения в институционных
рамках, например, доступ к грантам и академическим постам.
10 Eakin М. С. Op. cit.
576
Историография и ее история
Короче, культурные и академические отношения между домини-
рующими державами и странами Латинской Америки отмечены тем, что
бразильский социолог Флорестан Фсрнандеш однажды охарактеризовал
как навязывание исследовательской программы, которая, как правило,
редко включала в себя темы, необходимые для людей, ставших объектом
исследования, и реально интересные для них11.
1970-е и 1980-е годы: экономическая и социальная история
Экономическая и социальная история являются признанными сфе-
рами историографии, имеющими собственную проблематику, предметы
исследования, теоретический и методологический инструментарий.
Однако как в Латинской Америке, так и в Европе несколькими десяти-
летиями раньше, эти исследовательские области были тесно связаны
между собой и представляли собой знамя критического направления в
его попытке превзойти «методическую историю» (неверно названную
«позитивистской»), которая тогда доминировала. Хотя обе сферы име-
ют собственные стадии развития, пункты пересечения бесчисленны.
Наиболее символичным из них, пожалуй, является история рабочих.
Экономическая и социальная история - то, что некоторые предпо-
читают называть социально-экономической историей - рассматривала
рабовладение сквозь призму динамики экономических структур, а так-
же семейных, сексуальных, культурных отношений и сопротивления
порабощенных. Рабочие изучались как шестеренки в капиталистиче-
ской машине периода индустриализации. Однако для латиноамерикан-
ской историографии важными объектами исследования оказывались
также формирование идентичностей и политическое сопротивление.
Теперь, обращаясь к исторической продукции региона за последние три
десятилетия, мы можем сказать, что экономическая и социальная исто-
рия - наиболее развитая отрасль латиноамериканской историографии.
Межвоенный период был отмечен уменьшением французского и
немецкого культурного влияния в Северной Америке. В Южной Аме-
рике, напротив, культурное влияние Европы оставалось постоянным.
В этом контексте Люсьен Февр в 1929 г. провозглашал притяга-
тельность такой «привилегированной области исследований» как Юж-
ная Америка. Школа «Анналов» еще оставалась маргиналом на фран-
цузской историографической сцене, когда начали развиваться ее связи с
отдельными выдающимися представителями латиноамериканской ис- 11
11 Ср.: Social Sciences in Latin America / Ed. by M. Diegues Jr., B. Wood.
N.Y., 1967. P. 3-5; Fernandes F. The Social Sciences in Latin America// Social Sciences
in Latin America... P. 19.
Журандир Малерба. История в Латинской Америке... 577
ториографии и социальных наук. Примером служит то, что в 1935-37 гг.
Фернан Бродель возглавил одну из первых кафедр истории цивилизации
на недавно открытом факультете философии, наук и искусств Универ-
ситета Сан-Паулу. Присутствие Броделя оказало глубокое влияние на
бразильскую историографию. Программа аспирантских исследований
Сан-Паулу стала пионерской для Бразилии; эта матрица сформировала
практически всех бразильских историков 1960-90-х гг.12
Экономическая и социальная история с самого начала составляют
две главные области в аспирантской программе Университета Сан-
Паулу по истории, и это не случайность1 . При этом экономическая ис-
тория в Латинской Америке связана с так называемыми теориями зави-
симости. В бурные 1960-е гг., когда западные индустриальные общества
оказались охваченными ветрами культурной революции, в Латинской
Америке возникали различные новые способы размышления об истории
и о нынешней ситуации в данной части земного шара. «Теории зависимо-
сти» начали разрабатывать в 1950-е гг. интеллектуалы, связанные с ECLA
(Экономической комиссией по Латинской Америке и странам Карибского
бассейна при ООН). Их главный - и не слишком новый - постулат за-
ключался в том, что условия международной торговли в XX в. были не-
выгодны для стран-экспортеров сырья, поставлявших их с «периферии»
«центру» мировой экономической системы. Соответственно, решением
проблемы недостаточного развития региона должна была стать активная
деятельность правительств в области того, что авторы теорий именовали
«импорт-заменяющей индустриализацией»14.
12 Prado М. L. С, Capelato М. Н. R A 1’origine de la collaboration universitaire
franco-bresilienne: une mission franpaise a la Faculty de Philosophic de Sao Paulo // Prefa-
ces. 1989. N 14; Capelato M H. R. el al. A escola uspiana de histdira // Capelato M. H. R.
(org.). Produ<;ao historicano Brasil. Sao Paulo, 1995.
13 В наши дни они составляют две независимые программы аспирантских ис-
следований по истории. В качестве примера французского влияния нужно вспом-
нить об основании самого влиятельного исторического журнала 1950-60-х гг. Revis-
ta de Historia. Его редактором был Эврипидеш Симуш де Паула, ученик Броделя,
позднее - преподаватель его кафедры. О роли журнала в бразильской истории и
культуре см.: Mota С. G. Ideologfa da culture brasileira. 1933-1974. Sao Paulo, 1980.
14 Bergquist Ch. Latin America: A Dissenting View of 'Latin American History in
World Perspectives’ D International Handbook of Historical Studies: Contemporary Research
and Theories / Ed. by G Iggers, H. T. Parker. Westport, 1970; Love J. L The Origins of De-
pendency Analysis// Journal of latin America Studies. 1990. V. 22. N 1. P. 143-168; Cue-
va A, MllamilJ., FortinC. A Summary of “Problems and Perspectives of Dependency
Theory// latin American Perspectives. 1976. V. 3. N.4. P. 12-16; Halperin-DonghiT. “De-
pendency Theory” and Latin American Historiography // Latin American Research Review.
1982. V. 17. N 1. P. 115-130; ChilcoteR. Issues of Theory in Dependency and Marxism//
578
Историография и ее история
Положение об «идеологии развития» (девелопментизме), помещав-
шей все нации в различные точки неизбежной линии эволюции - как не-
развитые, развивающиеся и развитые, - составляло основу взглядов ли-
беральных экономистов послевоенного периода. Оно основывалось на
трех предпосылках, ставших ядром новой парадигмы: во-первых, мир
разделен на центральные развитые нации и неразвитую периферию; во-
вторых, обе категории наций были неизбежно связаны друг с другом в
мировой экономической системе так, что развитость и неразвитость ока-
зывались нераздельными» наконец, торговые отношения в рамках миро-
вой системы ущемляют интересы неразвитых наций15.
Однако объяснительный потенциал теорий зависимости был унич-
тожен последовавшим за событиями мая 1968 года культурным взры-
вом, который уничтожил возможность продвижения по данной линии
интеллектуальной эволюции и убил в зародыше «новую парадигму»
прежде, чем та смогла развить весь свой критический и творческий по-
тенциал в исторических исследованиях - и в общественных науках в
целом. Этот феномен может быть объяснен тем, что теории зависимости
процветали в 1960-х гг., когда парадигмы общественных наук были раз-
рушены появлением пост-структурализма, приведшего к постмодер-
низму 1980-х и 1990-х гг. Новые парадигмы, в свою очередь, пригово-
рили к смерти макротеории и макронарративы. Таким образом, в
контексте глубокой и затяжной фрагментации, вызванной сменой пара-
дигм, которую мы, пожалуй, до сих пор переживаем, полезность, цен-
ность и необходимость «больших» социальных и исторических теорий
- а именно таковыми являлись теории зависимости - утратили свой ин-
терес и смысл для академического истеблишмента.
Теории зависимости появились в 1960-х гг. под влиянием Кубин-
ской революции. По всей территории Латинской Америки эти теории
сыграли свою роль в сопротивлении североамериканскому империа-
лизму, хотя в их первоначальных формулировках он мог отсутствовать.
Хотя не все они основывались исключительно на марксизме, марксизм
Latin American Perspectives. 1981. V. 8. N 3/4. P. 3-16; Idem. Post-Marxism: The Retreat
from Class in Latin America // Latin American Perspectives. 1990. V. 17. N 2. P. 3-24.
15 Cp.: Sunkel O. El Subdesarrollo Y La Teoria Del Desarrollo. Mexico, 1970; Fur-
tado C. Economic Development of Latin America: a survey from colonial times to the
Cuban revolution. Cambridge, 1970; Furtado C. Economic Development of Latin Ameri-
ca: A Survey From Colonial Times To The Cuban Revolution. Cambridge, 1970;
Cardoso F.H., FalletoE. Dependencia у desarollo em America Latina. Mexico, 1969;
Gunder Frank A Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies
of Chile and Brazil. N.Y., 1967.
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
579
предлагал важные аналитические инструменты, помогавшие их распро-
странению. В момент, когда на всей территории Латинской Америки у
власти находились военные диктатуры, марксизм предлагал также и
идеологическую поддержку сопротивлению. Когда к середине 1970-х
гг. теории сопротивления утратили свою силу, возникла социально-
экономическая история, основанная на смешении марксизма с уроками
французской школы «Анналов». Эта гибридная и типично латиноаме-
риканская «новая экономическая история» играла центральную роль как
символ обновления, тем самым сменив старые теории зависимости.
Влияние французской культуры в Латинской Америке было особен-
но сильным в развитии экономической и социальной истории 1970-х гг.
еще и потому, что десятки влиятельных латиноамериканских историков
были изгнаны во Францию диктаторскими режимами. В Европе эти исто-
рики вошли в контакт с лучшими представителями школы «Анналов», с
одной стороны, и марксизма, с другой. Такой взгляд на мир питал не толь-
ко исторические исследования, но и само сопротивление империализму в
регионе. Среди многочисленных мексиканских историков поколения
1968 года, отмеченных влиянием «Анналов» и распространением мар-
ксизма, мы можем выделить такие имена, как Антонио Гарсиа де Леон и
Эирике Флорескано16.В то же самое время многие талантливые бразиль-
ские историки и студенты (Мария Иедда Линареш, Мария Луиза Марси-
лио, Катя де Кейрош Матгозу, Широ Фламарион Кардозу) эмигрировали
во Францию и получили образование в лучших традициях социальной,
демографической и экономической истории, бывших тогда в ходу17. Этот
союз марксизма и «Анналов» наложил глубокий отпечаток на бразиль-
ских историков, учившихся в конце 1960-х и в 1970-е годы.
1980-е и 1990-е годы: «новая политическая история»
и «новая социальная история»
Сферы, лучше всего характеризующие латиноамериканскую исто-
риографию данного периода, это «новая политическая история» и «но-
вая культурная история». Однако прежде, чем обратиться к ним, важно
подчеркнуть, что, во-первых, исследования по экономической и соци-
альной истории не исчезли мгновенно, во-вторых, политическая исто-
рия присутствовала в латиноамериканской историографии как важная
ее отрасль, по крайней, мере, с XIX в. Политическая историография
16 Aguirre Rojas С. A Os Armales е a historiografia francesa. Tradifoes criticas de
Marc Bloch a Michel Foucualt / Trad. J. Malerba. Maringa (Pr), 2000.
17 Moraes J. G. Vinci de, Rego J. M. Conversa com historiadorcs brasileiros. Sao
Paulo, 2002.
580
Историография и ее история
1990-х гг. признавала себя «новой» в оппозиции к старой, ориентиро-
ванной на государство и великих деятелей/героев; она отрицала такой
тип нарратива как апологию деяний правящих элит. Она также воспри-
няла новую проблематику и теоретико-методологический инструмента-
рий от того, что было окрещено культурным поворотом в обществен-
ных и гуманитарных дисциплинах. То же самое верно и по отношению
к культурной истории, которая существовала всегда, однако носила
иные имена и преследовала другие цели. «Новая» культурная история
идентифицировала себя как «новую» благодаря формулам, продикто-
ванным пост-структуралистским сдвигом парадигмы. >
«Новая» политическая история
В начале 1990-х гг. возрождение этой отрасли, начавшееся в Евро-
пе (особенно во Франции) в предшествующее десятилетие, достигло
Латинской Америки. Теперь говорили о «новой политической истории»,
обновленной благодаря интенсивному контакту с культурной историей,
в которой распространение получила концепция «репрезентации». Не-
смотря на многообразие подходов, теоретических и методологических
отсылок и множественность предметов исследования, мы можем опре-
делить новую топографию в области политической истории, характери-
зующейся доминированием систем репрезентации и их отношения к
жизни общества, природе власти и ее использования. Возникновение
этой новой топографии может быть объяснено прямым влиянием таких
течений мысли, как структурализм и пост-структурализм, а также от-
крытостью латиноамериканской историографии для современных тен-
денций политической философии, социологии и антропологии. Все это
верно применительно к Бразилии. У меня нет аналогичных исследова-
ний по другим латиноамериканским странам, однако возникает впечат-
ление, что во всем регионе историография развивалась сходным путем.
С конца 1970-х гг. в Бразилии большое внимание уделялось соци-
альным движениям и меньшинствам. В международном масштабе, тема
Революции, доминировавшая в политических дебатах со времен рево-
люции в России, постепенно уступила место теме демократии. В Брази-
лии и странах Латинской Америки, имевших сходный опыт, этот фено-
мен связан с процессом исчезновения военных режимов, на смену
которым приходила политическая открытость.
Важное примечание относится к постоянной интеллектуальной под-
чиненности латиноамериканской историографии иностранной програм-
ме. Хотя открытость и диалог на равных с другими историографиями обя-
зательны для качественного роста истории в Латинской Америки, роль
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
581
«импортера моделей» наносит ущерб ее творческому потенциалу. Бра-
зильские историки М. Капелато и Э. Дутра провели детальное исследова-
ние обстоятельств появления в Бразилии в 1990-х гг. «репрезентаций» и
«новой политической истории». Они отмстили очевидное доминирование
иностранной литературы как теоретического субстрата местной истори-
ческой продукции. Они проверили более 200 диссертаций, чтобы выде-
лить группу авторов, являющихся наиболее авторитетными для бразиль-
ских исследователей. Среди наиболее часто цитируемых авторов -
историки Жак Ле Гофф, Роже Шартье, Питер Бёрк, Бронислав Баско,
Мишель Вовель, Мишель де Серго, Пьер Бурдье, Рауль Жирарде, Натали
Дэвис, Роберт Дарнтон, Стюарт Шварц, Жан Старобински, Морис
Агюльон. В числе часто цитируемых теоретиков - Мишель Фуко, Вальтер
Беньямин, Ханна Аренд т, Пьер Франкастель, Клиффорд Гирц, Ролан Барт,
Корнелиус Касториадис, Жорж Баландье, Клод Лефорт, Пьер Ансар, Мо-
рис Хальбвакс, Норберт Элиас, Михаил Бахтин и Эрнест Кассирер.
Исследовательское поле истории политических репрезентаций - это
проекты, относящиеся к коллективным репрезентациям, выраженным
посредством идей, идеологий, изображений, символов, мифов, утопий,
апофеозов власти (граяоданских праздников и дней памяти, ритуалов, ли-
тургий, парадов). Можно отметить и присутствие исследований полити-
ческой культуры, изучающих публичную и частную сферы, гражданство,
идентичности, нацию. Большинство работ говорит о политике и культуре,
включая темы из других областей и сближая историю с литературой, му-
зыкой, изобразительным искусством, архитектурой, кино, театром18.
Культурная история
Появление новых тем и героев, начиная с 1970-х гг. можно счесть
одним из очевидных последствий событий 1968 года для западной исто-
риографии. Отличительной чертой этой культурной революции, глубоко
затронувшей модели исторического мышления и историописания после-
дующих десятилетий, стало так называемое «вторжение настоящего в
историю». Благодаря этому втбржению настоящее сильнее выявляет себя
в историографии, прорываясь сквозь резкое разграничение прошлого и
настоящего, выдвигая в объекты исторического исследования настоящее
время, современность, актуальность. Это явление можно усмотреть в рас-
18 См. примеры обновленной политической историографии в Бразилии:
Souza I. L С. Patria coroada. О Brasil сото corpo politico autonomo (1780- 1831).
Sao Paulo, 1999; SchwarczL. M. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos
tr6picos. Sao Paulo, 1998; Neves L. M. В. P. Corcundas e constitutionals: a culture polftica
da Lndcpcndencia (1820-1822). Rio de Janeiro, 2003; Hico C. Reinventando о otimismo:
ditadura, propaganda e imaginario social no Brasil (1969-1977). Rio de Janeiro, 1997.
582
Историография и ее история
пространении в последние три десятилетия многих важных тем под зна-
ком так называемой исторической антропологии, или антропологической
истории (или «истории ментальностей» во Франции), охватывает част-
ную сферу, сексуальность, историю женщин, детей, семьи, сумасшествия,
народной культуры, расы, гендера, окружающей среды и т.д.
Другая сторона того же культурного движения отражается в новых
проявлениях социальных движений, теперь также раздробленных. Уже
отмечалось многообразие требований новых социальных движений,
которые теперь не ограничиваются экономическими или политически-
ми, но дифференцируются на феминистские, пацифистские, экологиче-
ские, городские, антирасистские, этнические и коммунальные требова-
ния, возникшие в контексте социальной борьбы после 1968 года19.
Историография в целом, и латиноамериканская историография в част-
ности, реагировали на эти движения. За этим последовали первые ис-
следования, относившиеся к «новой культурной истории».
Анализируя появление «новой культурной истории» в Мексике,
профессор Калифорнийского университета (Сан-Диего) Эрик Ван Янг
указывает на его «очевидный экуменический характер». Он иронически
замечает, что культурной истории придется колонизировать экономиче-
ские отношения, как она это уже сделала с политическими системами,
следуя империалистической установке - вся история является культур-
ной историей. Таков определяющий аспект этой модели исторического
нарратива: если все, в конце концов, сводится к дискурсу, то все аспек-
ты человеческой жизни - от экономики до политики, от институтов до
частной жизни - также могут быть сведены к культурному подходу.
Трудно, однако, ответить на вопросы: что такое культура? Что та-
кое культурная история? Что «нового» в культурной истории? Согласно
Ван Янгу, одержимость культурной истории исследованиями текстов и
языка явно происходит от пост-структуралистских исследований в об-
ласти истории литературы, подобно тому, как этнографический метод и,
до некоторой степени, интерес к «подчиненным» (subaltern) группам,
сообществам и системам идентичности порожден антропологией. Здесь
не стоит приводить всю обширную литературу, затрагивающую «крово-
смесительные» отношения между антропологией и историей, начиная с
конца 1960-х гг., когда на сцену вышло третье поколение школы «Ан-
налов». Лингвистический поворот и последовавшее за ним вредоносное
19 Критический подход к свойственному этой историографии консерватизму
см.: Cardoso С. F. Epistemologia pos-modema, texto е conhecimento: a visao de um
historiador // Dialogos, Maringa. 1999. V. 3. N 3. P. 1 -28.
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
583
воздействие постмодернизма потребовало интеллектуальной критики со
стороны более «традиционных» историков, как справа, так и слева
(имея в виду, как политику, так и эпистемологию).
Ван Янг поставил еще одну важную проблему, касающуюся степе-
ни «новизны» этой «новой» культурной истории. Янг ссылается как на
значимые примеры культурной истории на работы Чарльза Гибсона
(«Ацтеки под властью испанцев», 1964) и Гонсало Агирре Бельтрана
(«Медицина и магия», 1963), к которым можно прибавить, помимо про-
чих, Серджио Буарке де Оланда («Видения рая», 1958). Однако в наши
дни в Мексике (а также в Бразилии и других странах Латинской Амери-
ки) исследователи, принадлежащие к течению «новой» культурной ис-
тории, опознают друг друга благодаря упоминаниям группы канониче-
ских трудов, теоретических отсылок, выбора методологий и источников
и «специализированному жаргону», в котором неизбежно присутствуют
такие темы как сексуальные и расовые представления, текстуальность,
отношения власти, «подчиненный Другой», сексуальная и расовая
идентичность, частная сфера, народная культура.
Однако хотя программа задана, ее выполнение в Латинской Аме-
рике не всегда точно следует предписаниям. Латиноамериканские исто-
рики, особенно бразильцы, благодаря своей открытости для контактов с
многообразными центрами теоретической мысли и историографии, по-
своему «перемешивают» подходы к культурно-историческим исследо-
ваниям. Они начинают подходить к ним с определенной творческой
свободой, порой приходя к ней в рамках исследования других тем. Но
какой бы генеалогией и основополагающими авторитетами она ни об-
ладала, новая культурная история в Латинской Америке не является
радикальным постмодернистским проектом, поскольку историки
склонны верить в познаваемость (частичную или полную) реальностей
прошлого, а также и потому, что они видят различие между творческим
воображением романиста и фактическим воображением историка20.
* * *
Что можно указать в качестве «новых перспектив и проблем» в ла-
тиноамериканской историографии? В целом, наряду с общемировыми
тенденциями развития историографии с 1960-х гг. и до настоящего мо-
мента, в Латинской Америке можно усмотреть своеобразный радикаль-
20 Young Е. von. The New Cultural History Comes to Old Mexico // The Spanish
American Historical Review. 1999. V. 79. N 2 (Mexico’s New Cultural History: Una
Lucha Libre). P. 217.
584
Историография и ее история
ный поворот в историческом мышлении и историописании - постепен-
ный отход от холистских и генерализирующих подходов, которые стре-
мились понять историческую судьбу Латинской Америки в ряду других
наций. Смена эпистемологии сопровождается ощущением общей соци-
альной фрагментации в политических нишах меньшего масштаба, в ко-
торых располагаются новые изолированные исторические индивиды.
Эти изолированные субъекты больше не составляют целого и не счита-
ют себя интегральной частью некого социального объединения (госу-
дарства) или воображаемого сообщества (нации): женщины, черноко-
жие, аборигены, евреи (и всевозможные этнические группы), дети,
старики, зеленые, геи и лесбиянки и т.п. С этого момента теория стала
менее масштабной и разделилась на теорию для женщин, теорию для
многочисленных этнических групп, общественных классов, теорию для
стариков и детей, теорию для членов различных конфессиональных
групп, экологов, сексуальных меньшинств и т.п. Генерализирующим
вектором этих локальных идентичностей является культура, как бы ка-
ждый ее ни определял! Этот поворот в латиноамериканской историо-
графии подчеркивает ее историческую роль импортера идей и мод.
Строго говоря, новизна в латиноамериканской историографии от-
носится к прошлому, а настоящее полно стилизаций и подражательства.
«Новым», собственно латиноамериканским продуктом были теории
зависимости. Однако они были отброшены с приходом пост-
структурализма, отрицавшего функцию теории. Пост-структурализм
сыграл большую роль в отказе от старых закоснелых истин, в особенно-
сти тех, что были порождены марксистской теорией, ставшей символом
веры авторитарных режимов XX века. Однако хотя пост-структурализм
и пришедший за ним постмодернизм были важны своим иконоборчест-
вом, эти интеллектуальные течения так ничего и не поставили в ниши
на место разбитых идолов21 22. Наилучшее решение заключается не в про-
стом отказе от теории. Напротив, ее нужно спасти, усовершенствовать
ее так, чтобы все важные исторические субъекты, обретшие голос с мо-
мента пост-структуралистской смены парадигмы, можно было вновь
интегрировать в глобальную картину латиноамериканского общества,
его истории и его отношения с миром в целом.
По моему мнению, пан-семиотический редукционизм, сводящий
все аспекты реальности к воздействию дискурса, превращающий мир в
текст, точно не является выходом для теории 2. Не является им и замы-
21 A histdria escrita: teoria е historia da historiografia...
22 Malerba J. La historia у los discursos...
Журандир Малерба. История в Латинской Америке...
585
кание предметов в их собственных тесных мирках. Теперь уже невоз-
можно понять колониальную историю Латинской Америки, рассказы-
вая лишь отдельные истории либо белых, либо американских индейцев,
либо чернокожих, не учитывая их взаимоотношений. То же самое мож-
но сказать об истории женщин, геев, окружающей среды и т.п. Они
должны быть рассмотрены не в рамках расколотого, фрагментирован-
ного, сектантского подхода, а как целое.
Наконец, размышляя о будущем латиноамериканской историогра-
фии, необходимо учитывать настоятельную необходимость демократи-
зации в области производства и распространения знания. Большая часть
латиноамериканских университетов не имеет средств для оплаты досту-
па к великолепным разветвленным базам данных по гуманитарным
дисциплинам, созданным в других странах, которые нередко включают
в себя лучшие результаты латиноамериканских исследований, оказы-
вающихся недоступными исследователям с юга. Только когда доступ к
информации станет по-настоящсму широким, академическая продукция
сможет распространяться свободно, откроется возможность определить
новую программу исторических исследований в Латинской Америке;
эта программа будет связана с интересами самих латиноамериканцев.
К счастью, на пути развития латиноамериканской историографии
встречаются нс только преграды. Несмотря на все проблемы, она значи-
тельно выросла за последние десятилетия. В таких странах, как Арген-
тина, Чили, Колумбия, Перу, Мексика, Бразилия, а также и в Централь-
ной Америке, появились или укрепились исследовательские и
преподавательские центры, научные журналы и другие инструменты
распространения научного знания. Невзирая на все бюджетные и техно-
логические ограничения, в регионе благодаря компьютерным сетям
улучшалась система обменов, сотрудничества и научных дискуссий. В
академическую программу многих стан прочно вошли конгрессы и
конференции. Во всем этом важную роль сыграли представительные
организации. Местные авторы начинают привлекать внимание в меж-
дународных дискуссиях. Эти улучшения стали возможными потому,
что латиноамериканские историки научились создавать свое простран-
ство во враждебной среде, при недостатке ресурсов, неэффективной
администрации, при суровых политических режимах. Возможно, этим
объясняется гибкость, способствующая преодолению преград, откры-
тость, теоретическая пластичность и точность, свойственные все боль-
шему числу латиноамериканских историков. Еще многое предстоит
сделать, однако путь обозначен, и многие уже вступили на него.
Т. А. Сидорова
ИСТОРИОГРАФИЯ
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И КОНТЕКСТА
Полисемантизм понятия «историография» предполагает конкрети-
зацию объекта в пределах заданной темы, в которой затронут один из её
возможных смыслов - история исторического знания, история истори-
ческой науки. В данной системе координат предлагается позициониро-
вать историографию как интеллектуальную историю, междисциплинар-
ное и сильноконтекстное направление.
Историографическая практика синтезировала несколько основных
смыслов понятия «историография» (история исторической мысли, исто-
рия исторической науки, история исторического знания), которые функ-
ционируют в широком социокультурном контексте, раскрываются и по-
знаются в его границах. Хотелось бы привлечь внимание к особому срезу
этой темы - к историографии как интеллектуальной истории.
В таком понимании историография изучает процесс осмысления
исторического прошлого в пространственно-временных и интеллекту-
альных системах и субъективно-личностных восприятиях. Ей свойст-
венны аналитичность, системность, обобщения - как концепты путей -и
способов познания и процессов создания знания. Она представляет пер-
соналии, их предмет изучения, эпистемы, технологии и научный инст-
рументарий, то есть интеллектуально-научную лабораторию, творче-
ский процесс. Историография выполняет функцию ретрансляции в
концентрированном виде сгустков коллективной памяти об историче-
ском прошлом, если подразумевается совокупный опыт осмысления
«исторического», которым располагает современная наука, воссоздание
образов этого прошлого, отображенного в теориях и концепциях, несу-
щих на себе печать индивидуальности их создателей и «знаков» их вре-
мени. С этой точки зрения историография - науковедческая дисципли-
на, тесно связанная с философией истории, теорией и методологией.
Современное качественное историографическое исследование яв-
ляется комплексным, системным, теоретико-методологическим, опира-
ется на междисциплинарный подход, синтезирующий возможности раз-
ных смежных с историей наук, диапазон которых исключительно широк
и органичен для интеллектуальной истории, являющейся продуктом
интердисциплинарности. Ему свойственна определенная комбиниро-
Т. А. Сидорова. Историография как интеллектуальная история... 587
ванность, предполагающая почти неизбежное присутствие в тексте, по-
мимо собственно историографического материала, конкретно-
исторического сегмента, который позволяет историографу, не навязы-
вая категорического суждения, сохранить за собой право «прямой речи»
как средства самовыражения и «Я»-сотворчества. Историографическое
исследование, выполненное в разрезе интеллектуальной истории, уси-
ливает ответственность историка историографии, усложняет исследова-
тельские задачи, саму позицию историографа, который одновременно
вступает в множественные разноуровневые контакты, осуществляет
различные виды коммуникативных практик.
Историограф погружается в сложную систему общения, в которой
«Я» обнаруживает и познает себя в «Другом» или посредством «Друго-
го», и которое теоретически может реализоваться в формате диалога,
монолога, дискуссии, молчания и даже вопля. «Интеллектуальный» ис-
ториограф изначально глубоко «задействован» в исследовательском
процессе, обязан позиционировать себя определенным образом, его
роль не может быть сведена к «немой», безучастной, неинтерпретаци-
онной ретрансляции взглядов его источника.
В русле историографии, понимаемой как интеллектуальная исто-
рия, открываются перспективы расширения и углубления историогра-
фического исследования посредством включения в его предметность и
акцентирования двух взаимосвязанных аспектов: творческого потен-
циала источника в самом широком его охвате и интеллектуальных воз-
можностей историографа. Анализ взаимодействия интеллектуальных
миров, в первом случае статичного, взятого как завершенный резуль-
тат научной деятельности и обладающего динамикой в отношении ис-
ториографа, позволяет изменить традиционную траекторию историо-
графического исследования, включив в радиус ее действия поиск не
только различий во взглядах, установках и подходах, которые, вероят-
нее всего, очевидны, но и точек соприкосновения, исследовать не толь-
ко «разрывы» и «разломы» в историописании и историознании, но и
преемственность научных традиций.
Развитие исторической науки наиболее отчетливо прослеживается
в смене парадигм, которые, завершив свой исторический цикл, нередко,
имеют продолжение в другом, более позднем периоде времени (напри-
мер, классическая парадигма и ее современная модификация - неоклас-
сическая). Базовые признаки и элементы всех известных парадигм име-
ют свою биографию и историю в исторической науке; их эмпирическая
практика познается и транслируется посредством изучения научного
588
Историография и ее история
опыта предшественников, то есть историографическим путем и постига-
ется посредством анализа интеллектуальных процессов прошлого в ши-
роком историческом контексте. Такой исходный посыл позволяет сфор-
мировать представление о процессуальности и целостности исторической
науки, об отсутствии принципиальной дискретности историографическо-
го процесса, который мыслится как движение интеллекта, идей, творчест-
ва, сохранение и развитие исследовательских традиций, их филиации по-
следующими поколениями историков. Понимание историографии как
интеллектуальной истории всецело соответствует этим задачам.
Интеллектуальная история как специфический ракурс историогра-
фии исследует опыт осмысления исторического прошлого, его объясни-
тельные модели и традиции историописания, запечатленные-в трудах
историков, через творческие, личностные аспекты научной деятельно-
сти, специфику индивидуального восприятия «исторического», разра-
ботку исследовательской стратегии, познавательные ресурсы и меха-
низмы конкретных персоналий, помещенных в широкий
социокультурный контекст эпохи. Особенное раскрывается через об-
щее, не в отрыве от него, а «внутри» и посредством его исследования.
Это общее - историографический процесс и единое историографиче-
ское пространство, фигурантами которого являются все историки, с
Геродота и Фукидида до настоящего времени: писавшие историю, изу-
чавшие и изучающие их наследие с позиций современного им уровня
научных знаний, как правило, в русле доминирующих парадигм.
В этом пространстве историограф является весьма значимой фигу-
рой. Он выступает как универсальный историк - специалист в области
знания исторического прошлого и носитель знаний о способах и вариан-
тах его моделирования и презентации. От интеллектуального ресурса ис-
ториографа, помноженного на степень его профессионализма, во многом
зависят полнота, аксиологическая значимость, отсутствие деформации
образа исторического прошлого, созданного (источником) предшествен-
ником. Следовательно, историография как интеллектуальная история пре-
дусматривает многоуровневый подход к изучению истории исторической
науки: исследование в полном объеме индивидуального проекта истори-
ческого прошлого, являющегося продуктом интеллектуальной собствен-
ности «источника», варианта этого проекта как результата творческих
усилий историографа, синтеза внутреннего и внешнего контекстов,
влияющих на содержание обоих дискурсов. Такой исследовательский ра-
курс возможен в формате диалога, являющегося традиционной формой
общения историков, позволяющей, преодолевая пространственно-
Т. А. Сидорова. Историография как интеллектуальная история... 589
временные границы, постичь тайны исчезнувших цивилизационных и
интеллектуально-личностных миров или соприкоснуться с ними.
Историографический текст, выполненный с позиций интеллекту-
альной истории, всегда сильноконтекстсн, как по характеру связей и
зависимостей его внутренних компонентов, так и с точки зрения его
внешнего окружения. В нем встречаются контексты «прошлого» и «на-
стоящего» - источника и историографа, которые организуют обширное,
мощное контекстное окружение. Они пересекаются, противоборствуют,
взаимодополняются и оказывают влияние на формирование основного
текста, сохраняя при этом свою принципиальную самостоятельность.
По сути, контексты - это «исторические времена-пространства» и «ис-
торические научно-интеллектуальные системы» трёхуровневого изме-
рения: источника историографии, источника источника и историографа,
выступающие в качестве значимых и значительных по объему и содер-
жанию ресурсов познавательного процесса. Для историографии как ин-
теллектуальной истории изучение контекстов важно и в том отношении,
что оно позволяет поставить вопрос о соотношении научной объектив-
ности и персональных преференциях, установках, ориентациях. Ведь
историк любой эпохи, так или иначе, ангажирован нс только идеологи-
чески, но и в научно-интеллектуальном плане. Поэтому контекст «ска-
жет» многое о явных или скрытых причинах выбора исследовательской
проблематики, способах ее презентации, движении научной мысли.
Ресурс интеллектуальной истории позволяет преодолеть достаточно
устойчивую историографическую традицию концентрировать внимание
на анализе учений и концепций и перемещает центр тяжести в плоскость
исследования творческого процесса их создания и осмысления.
Вместе с тем, если междисциплинарность историографии как ин-
теллектуальной истории - факт в известном смысле состоявшийся, и в
силу этого обстоятельства общепризнанный и самоочевидный, то в от-
ношении проблемы контекста объекта исследования возможны вариан-
ты конкретизации. В этой связи уместно рассмотреть несколько вопро-
сов, связанных с вероятными конфигурациями контекстов
историографического текста. Прежде всего - это предмет контекста,
философско-исторический и лингвистический анализ которого возмо-
жен в формате семантического среза, англоязычного смыслового поля:
context - environment - beyond. Выбор данной модели изучения пробле-
мы лингвистически сопряжен с исследовательской тематикой автора —
британской историографией «критического направления», для языка
которой лексика подобного рода является нормативной. Смысловая
590
Историография и ее история
близость понятий context, environment, beyond не исключает их содержа-
тельных, нюансовых различий, позволяющих существенно расширить
толкование предмета контекста. Так, в понятии собственно «контекст»
акцентируется смысловая, ситуативная, событийная взаимосвязь об-
стоятельств, явлений и фактов существования основного текста; envi-
ronment понимается в большей степени как «обстановка», «среда», ок-
ружающая основной текст, и непосредственные условия его бытования;
beyond же фиксирует то, что находится вдали, на расстоянии, вне, за
пределами основного текста и первых двух радиусов его окружения.
Избыточное число признаков, характеризующих контекст как се-
мантическую модель, и не являющихся диссонирующими, образуют ее
панорамную дефиницию. Действительно, контекст в самом широком
смысле может интерпретироваться как совокупность синонимичных
характеристик: среда, пространство, время, фон, в которых существует
объект. Их смысловое поле дает возможность уточнить значение от-
дельных фрагментов и сюжетов текста, условий их бытования (ком-
плекс обстоятельств, окружающих объект). Если же согласиться с опре-
делением контекста как относительно законченной в смысловом
отношении части текста, то его правомерно толковать как относительно
законченную в смысловом отношении часть бытия. Одно из специфиче-
ских свойств историографического текста как раз и состоит в том, что он
выступает как носитель выраженности контекста. Чем глубже знание
контекста, тем более целостна индивидуальная картина соответствующе-
го участка мира историографа, тем более полным и адекватным будет
понимание происходящего, в том числе и для «принимающего» текст.
Для историографа контекст ценен не только как инструмент конструиро-
вания текста, но самоценен как его неотъемлемая часть, так как контекст
представляет собой показатель степени «плотности», «насыщенности»
данных, концентрируемых историографическим текстом. Так преодоле-
вается дихотомия «внутреннего» и «внешнего» в тексте и в контексте.
Вне широкого социокультурного контекста историографический
текст несостоятелен, немыслим, если, разумеется, историограф созна-
тельно не преследует цель презентации «слепого» текста.
Таким образом, контекст в историографическом исследовании
представляет собой рамочную среду, посредством которой базовый
смысловой текст, расширяясь и конкретизируясь, синтезируется со
смысловым ситуативным окружением, вписывается в ткань истории.
В ситуации позиционирования историографии как интеллектуаль-
ной истории знание контекста совершенно необходимо для осмыслен-
Т. А. Сидорова. Историография как интеллектуальная история... 591
ного восприятия сложной и многоплановой информации, которую несет
текст историографического исследования. Уровень профессионализма
историографа и степень подготовленности читателя историографиче-
ского исследования во многом определяются знанием «скрытых смы-
слов» контекста. Неосведомленность в этом вопросе приводит к разно-
чтению, к произвольному «наделению» оригинального
историографического текста «чужими» и «чуждыми» ему смыслами, во
всяком случае, «иными», добавочными, которые могут существенно из-
менить первоначальный смысл в сторону его познаваемости, либо «со-
крытию» таковой. Отсюда - возможность прочтения весьма разных тек-
стов в одном и том же случае независимо от целей и намерений автора.
Феноменологические признаки контекста придают ему способ-
ность варьировать композицию историографического текста посредст-
вом условности контекста, то есть посредством тематической вариации:
сюжетного эпизода, комментария, рассуждения, резюме, преамбулы,
жанра, стиля.
Речь идет о моделировании контекста, который не вбирает автома-
тически всю историческую, интеллектуальную и социокультурную си-
туацию основного историографического текста (environment и beyond), а
создается сознательно самим историографом, который может наращи-
вать степень его ассоциативной сложности или ограничивать ее. Имен-
но историограф определяет, что является для данного текста главным
или второстепенным, отсекая, порой, внушительные пласты историче-
ского материала (в иной ситуации эти отсеченные фрагменты вполне
могут оказаться главными). Контекст с его классифицированными об-
стоятельствами, фактами и событиями создает опору и устойчивость
тексту, цементирует его, формируя, таким образом, мотивирующие
смыслы, знание которых позволяет «разглядеть» как фигуры «героев»
историографического текста, так и его автора. Поэтому «рыхлый» кон-
текст затрудняет «понимающее» восприятие основного текста, лишает
его определенности. Кроме того, контекст выполняет функцию посред-
ника, миссия которого состоит в его потенциальной возможности тес-
тирования историографического текста на степень достоверности, обна-
ружения в нем элементов несоответствия действительности,
фальсификации. Иными словами, контекст представляет собой сово-
купность смысловых условий производства и верификации текста. Ве-
роятно, даже самый доброкачественный текст несамодостаточен и нуж-
дается в сторонней коррекции посредством содержания контекста.
592
Историография и ее история
Структурный каркас основного текста неоднороден. В нем отчетли*)
во выделяются сюжетные блоки, каждый из которых предполагает нали-'
чие собственного контекста, что неизбежно приводит к необходимости
конструирования сложного тематического контекста по принципу блоков.
Соотношение текста и контекста в историографическом исследо-
вании традиционно осмысливается по принципу бинарных оппозиций,
аксиологически близких пар. В этой ситуации текст и контекст нередко
противопоставляются друг другу. Анализ осуществляется с позиций
выяснения главенствующей и второстепенной значимости обоих ком-
понентов единого текста исследования. При этом акцентируется «поро-
ждающая» сила контекста в придании смысла и значения основному
тексту, формируется понимание последнего как исключительно контек-
стуального феномена. Не отрицая полностью правомерности подобной
интерпретации, следует, справедливости ради, подчеркнуть, что кон-
текст создается с учетом и под влиянием основного текста, «под» дан-
ный, конкретный текст. Валентность текста и контекста как систем, об-
ладающих способностью образовывать устойчивые взаимные связи,
присоединять, передавать либо замещать смыслы, в этом подходе мало
учитывается. Между тем нельзя не признать, что контекст несет в себе
обратную, отраженную информацию об основном тексте, вектор кото-
рой направлен от него к контексту. Он является своего рода зеркалом,
отражающим содержание текста, его внешним «проявителем», который
реализует, «высвечивает» то, что заложено в основном тексте. Важно
достичь такого синхронистического эффекта, при котором бы исключа-
лась возможность (насколько это вообще возможно) в процессе чтения
историографического исследования его двойственного восприятия: ис-
ториограф идет от текста к контексту, а читатель - наоборот.
Контекст не может и не должен «заслонять», редуцировать основной
текст; обладающий творческой силой. Его полнота и объем тесно связаны
с проблемой установления границы, достаточности контекстового мате-
риала, способностью историографа согласовать структурное соотношение
текста и контекста, своевременно «заморозить» контекстовое окружение.
Сильноконтекстность историографии как интеллектуальной исто-
рии состоит в том, что ее текст одновременно погружен в многослой-
ную, блочную и радиальную структуру контекста. Схематично архитек-
тоника контекста включает в себя несколько внутренних сюжетно-
тематических контекстов (в зависимости от сложности текста) и три
радиуса контекстов по окружности. Разумеется, деление контекстов на
внутренние и внешние является условным и относительным. На этом
Т. А. Сидорова. Историография как интеллектуальная история... 593
основании, быть может, целесообразно говорить не о контексте, а о
контекстах в историографии как интеллектуальной истории. Набор сю-
жетно-тематических, проблемных контекстов сопровождает весь исто-
риографический текст. Первый радиус образует базовый контекст,
плотно прилегающий к основному тексту, и практически слитый с
внутренними контекстами; второй - environment - средовой; третий —
beyond - резонирующий. Схема контекстного окружения историогра-
фического текста визуально представляет собой концентрические ок-
ружности, группирующиеся вокруг своего ядра — текста, и отделенные
от него не сплошными, а пунктирными линиями, указывающими на
способность контекстов сообщаться между собой, взаимодействовать и
проникать в зональные пространства друг друга. По мере удаления от
центра, ядром которого является историографический текст, сила воз-
действия «контекстов» заметно ослабевает. Сильноконтекстность наше-
го предмета исследования во многом объясняется этим тройным «объя-
тием», общей массой контекстового «давления» («веса»), а не
«слабостью» самого текста.
Отбор материала контекстов выполняется историографом. Терри-
ториальная, временная, социальная, событийная, интеллектуальная и
т.п. «близости», лежащие на поверхности (очевидные), не являются аб-
солютным ориентиром для признания их бесспорной значимости в ас-
пекте понимания смыслов текста: «близкое», как современное и непо-
средственно имеющее отношение к предмету исследования, на деле
может оказаться бесконечно «далеким». Критериями классификации
контекстов в рамках рассматриваемой модели являются степень их воз-
действия на формирование текста и смысловой потенциал, задейство-
ванный в раскрытии и объяснении его сущностных характеристик.
Рассмотрим функционирование предложенной модели на примере
анализа творчества выдающегося британского историка и правоведа ру-
бежа XIX—XX вв., родоначальника «критического направления» в нацио-
нальной историографии Фредерика Уильяма Мейтленда (1850-1906).
Историографический текст представляет собой комплексное сис-
темное исследование творческого процесса и научного наследия
Ф. У. Мейтленда в области социальной истории Англии раннего и раз-
витого средневековья, английской конституционной истории.
Первый контекстуальный радиус, самый обширный, охватывает
экзистенциальные обстоятельства становления Мейтленда как историка
права, медиевиста, юриста, обстоятельства его интеллектуальной био-
графии. Сюда входит несколько внутренних блочных контекстов: люди
594
Историография и ее история
и книги, т.е. интеллектуальная среда, сформировавшая историка; усло-
вия формирования теоретико-методологических позиций и историче-
ских взглядов; историко-темпоральные измерения жизни и творчества
Мейтленда (историк живет в «своем» времени, в эпохе, которую изуча-
ет, в историографическом времени - эпохе предшественников, изучав-
ших его предмет исследования, и во времени потомков, оценивающих
результаты труда историка. Синтез этих «времен» составляет сложный
исторический фон интеллектуальной биографии ученого); националь-
ный компонент в личности Ф. У. Мейтленда (английское в Мейтленде -
одна из смысловых сюжетных линий в понимании творческой индиви-
дуальности историка - это путь к рассмотрению его наследия в русле
могучего потока национальной историографии, к раскрытию особенно-
стей восприятия истории Англии как отечественной истории, к проник-
новению вглубь научной лаборатории через специфику менталитета
этнической общности); интеллектуальные сети, переписка в рамках
«невидимого» колледжа, коммуникативные практики.
Второй радиус контекста представлен анализом состояния англий-
ской историографии второй половины XIX - начала XX вв., особенно-
стей развития исторической науки времени историографа на момент
изучения творчества Мейтленда, ее потребностей, в том числе необхо-
димости актуализации темы исследования.
Третий радиус - широкий исторический контекст эпохи жизни
британского историка и эпохи жизни историографа, влияние концепции
Мейтленда и представителей «критического направления» на англий-
скую и американскую историографию, историческую науку начала
XXI века, в том числе и российскую.
Разумеется, предложенное видение проблемы «сильноконтекстно-
сти» историографии как интеллектуальной истории - лишь одна из воз-
можных моделей, но, быть может, способная привлечь внимание коллег.
ОБ АВТОРАХ
Алеврас Наталия Николаевна, д.и.н., профессор кафедры истории
дореволюционной России Челябинского государственного
университета
Афанасьева Анна Эдгардовна, к.и.н., старший преподаватель кафедры
всеобщей истории Ярославского государственного педагогического
университета
Белов Михаил Валерьевич, к.и.н., доцент кафедры истории зарубежных
стран Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского
БОРОВ Аслан Хажисмелович, к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей
истории Кабардино-Балкарского государственного университета,
Нальчик
ВЖОСЕК Войцех (Wojciech Wrzosek), профессор университета
им. А. Мицкевича, Познань, Польша
Гордон Александр Владимирович, д.и.н., зав. сектором Института
научной информации по общественным наукам РАН
ГРИШАЕВА Людмила Ивановна, д.филол.н., профессор кафедры
немецкой филологии Воронежского государственного университета
Денисов Юрий Петрович, аспирант кафедры современной
отечественной истории и историографии Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского
ЗУБОВА Ирина Львовна, к.философ.н., доцент кафедры истории
Отечества Ульяновского государственного университета
ИОНОВ Игорь Николаевич, к.и.н., старший научный сотрудник Центра
интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН
Калашников Михаил Васильевич, старший преподаватель кафедры
истории России Института истории и международных отношений
Саратовского госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского
КОЛЕСНИК Ирина Ивановна, д.и.н., профессор, зав. отделом Института
истории Национальной Академии наук Украины
Кукарцева Марина Алексеевна, д.философ.н., профессор
Дипломатической Академии МИД РФ
596
Об авторах
ЛАПТЕВА Мария Петровна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей
истории Пермского государственного университета
ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович, к.философ.н., ассистент Липецкого
государственного технического университета
МАКАРОВ Андрей Иванович, д.философ.н., доцент кафедры истории
философии и религиоведения Волгоградского государственного
университета
МАЛЕРБА Журандир (Jurandir Malerba), профессор Католического
университета, Рио Гранде де Сул, Бразилия
МЕГИЛЛ Аллан (Allan Megill), профессор университета Вирджинии,
США
МОГИЛЬНИЦКИЙ Борис Георгиевич, д.и.н., профессор кафедры истории
древнего мира, средних веков и методологии истории Томского
государственного университета
ПОПОВА Татьяна Николаевна, к.и.н., профессор кафедры новой и
новейшей истории исторического факультета Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова
РАССАДИНА Софья Александровна, к.философ.н., докторант кафедры
философской антропологии Санкт-Петербургского государственного
университета
РЕПИНА Лорина Петровна, д.и.н., профессор, зав. отделом историко-
теоретических исследований, зам. директора Института всеобщей
истории РАН
РУДКОВСКАЯ Ирина Евгеньевна, к.и.н., доцент Томского экономико-
юридического института
РЫЖЕНКО Валентина Георгиевна, д.и.н., профессор зав. Сектором
динамики локальных культурно-исторических процессов в Сибирском
филиале Российского института культурологии Министерства культуры
САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна, д.и.н., профессор, директор Института
гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного
университета - Высшая школа экономики
Селунская Надежда Андреевна, к.и.н., старший научный сотрудник
Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН
Об авторах
597
Селунская Наталья Борисовна, д.и.н., профессор кафедры
источниковедения, историографии и методов исторического
исследования исторического факультета Московского государственного
университета
СИДОРОВА Тамара Анатольевна, д.и.н., профессор, декан социального
факультета Сочинского филиала Российского государственного
социального университета
Тимофеев Дмитрий Владимирович, к.и.н., доцент кафедры истории
дореволюционной России Челябинского государственного
университета, докторант
ТОШТЕНДАЛЬ Рольф (Rolf Torstendahl), заслуженный (emeritus)
профессор Уппсальского университета, Швеция
Хмелевская Юлия Юрьевна, к.и.н., научный сотрудник Центра
культурно-исторических исследований Южно-Уральского
государственного университета, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин
ХОДНЕВ Александр Сергеевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой
всеобщей истории Ярославского государственного педагогического
университета имени К. Д. Ушинского
Чеканцева Зинаида Алексеевна, д.и.н., профессор, ведущий научный
сотрудник ИВ И РАН
ШАБЛЕЙ Павел Сергеевич, преподаватель Костанайского филиала
Челябинского государственного университета, Республика Казахстан
ЭКСЛЕ Отто Герхард (Otto Gerhard Oexle), доктор, профессор, с 1987 по
2004 гг. директор Института истории им. Макса Планка в Гёттингене; '
Берлин, Германия
CONTENTS
INTRODUCTION
Current situation in historiography (L. P. Repina)................. 5
HISTORICAL EPISTEMOLOGY TODAY
Methodology of history in the perspective
of historiographical revolution (B. G. Mogilnitsky)............... 14
What role should theory play in historical research and writing?
(Allan Megill).................................................... 24
History: Wissenschaft and/or Bildung?
(M A. Kukartseva)................................................. 41
The Historian’s ‘narrative’ time (Z. A Chekantseva)............... 55
‘History of memory’ - new paradigm of historical research
(<9. G. Oexle).................................................... 75
Concepts ‘historical memory’ and ‘cultural memory’: conflict
of interpretations of historical reality (A I. Makarov)........... 91
Methodology of history as theory and history
of historical thinking (Wojciech Wrzosck)........................ 102
Status of historical epistemology in science (I. L Zubova)....... 116
Understanding of text as a problem of historical epistemology
(M A. Kukartseva)................................................ 126
Historical epistemology and the communicative theory
(A A Linchenko).................................................. 140
Difficulties and paradoxes of historical terminology
(M. P. Lapteva).................................................. 152
Category ‘discourse’ in historical knowledge
(Yu. P. Denisov)................................................. 165
Content of culturally specific stereotypes
and textual organization (L. I. Grishayeva)...................... 182
Contents
599
PARADIGMS OF HISTORY
AND THEIR RE-ACTUALIZATION
Spatial perspectives of universal history (L. P. Repina)......... 200
Civilizational representations at the border of XXI century
(I. N. Ionov).................................................... 223
Ukrainian metanarrative in the historiographical practices
(I. I. Kolesnik)................................................. 249
“Explanation” of national history under conditions of “historical turn”
(N. B. Selunskaya)............................................... 274
Conceptual framework of regional “general histories”: Problem
of synthesis in historical study of North Caucasus (A Kh. Borov). 296
Value of the past and representation of historical knowledge
in the Central Asia and Kazakhstan (P. S. Shabley)............... 315
History, area and cultural studies: possibities for cooperation around
the problem of “appropriation of the past” (V. G. Ryzhenko)...... 330
HISTORY AND INTERDISCIPLINARITY
A Return of Historismus? Neo-institutionalism and the historical turn
of the social sciences (Rolf Tor stendahl)....................... 343
Contemporary perspectives of studying medieval community,
or “as it didn’t happen” (H. А. Селунская)....................... 355
The historical-semantic analysis as a method of historical research:
from conceptual history to the history of social consciousness
(M V. Kalashnikov)............................................... 368
In searching of new approaches to the study of social and political
attitudes in Russia during the early XIX century: experience of
system analysis of the history of concepts (D. V. Timofeyev)..... 391
Stereotypes, Mental Maps, Imagology: Methodological Apories
(M V. Belov)..................................................... 403
600
Contents
Cultural history of medicine as an interdisciplinary field of research
(A. E. Afanasieva).................................................... 419
Interdisciplinary studies of the historical transformation of pleasure
practices (S. A. Rassadina)........................................... 438
“Emotional History” in the current paradigm: Background,
potentialities and problems (Yu. Yu. Khmelevskaya).................... 452
“New Cultural History ” and “New History of Leisure”
(A. S. Khodnev)....................................................... 462
HISTORIOGRAPHY AND ITS HISTORY
Historiography in context of disciplinary history
(T. N. Popova)........................................................ 474
Classics in historical science: “one’s” and “else’s”
(I. M. Savelieva)..................................................... 491
What is “historiographical everyday life”: experience of elaboration
and introduction of historiographical definition (N. N. Alevras)...... 516
Comparative historiographical studies: possible ways of research
(I. E. Rudkovskaya)................................................... 535
Soviet historiography in anthropological perspective:
about “party culture (A. V. Gordon)................................... 555
History in Latin America (1968-2008)
(Jurandir Malerba).................................................... 571
Historiography as intellectual history:
the problems of interdisciplinarity and context (T. A. Sidorova)...... 586
List of Contributors.................................................. 595
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Ситуация в современной историографии:
общественный запрос и научный ответ (Л. П. Репина)......... 5
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СЕГОДНЯ
Актуальные проблемы методологии истории
в зеркале современной историографической революции
(Б. Г. Могилъницкий)...................................... 14
Роль теории в историческом исследовании и историописании
(Аллан Мегилл)............................................ 24
История: Wissenschaft и/или Bildung-процесс?
(М. А. Кукарцева)......................................... 41
“Нарративное” время историка (?. А. Чеканцева)............ 55
“История памяти” — новая парадигма исторической науки
(Отто Герхард Эксле)...................................... 75
Историческая память versus культурная память: конфликт
интерпретаций исторической реальности (А. И. Макаров).... 91
Методология истории как теория и история
исторического мышления (Войцех Вжосек)................... 102
Статус исторической эпистемологии в науке (И. Л. Зубова). 116
Понимание как проблема исторической эпистемологии
(М. А. Кукарцева)........................................ 126
Историческая эпистемология и теория
коммуникативного действия (А. А. Линченко)............... 140
Специфика терминологического пространства
исторической науки (М. П. Лаптева)....................... 152
Категория “дискурс” в историческом познании
(Ю. П. Денисов).......................................... 165
Содержание культурно-специфических стереотипов
и организация текста (Л. И. Гришаева).................... 182
602
Содержание
ПАРАДИГМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОШЛОГО
И ИХ РЕ-АКТУАЛИЗАЦИЯ
Пространственные перспективы всеобщей истории
(Л. П. Репина)........................................... 200
Цивилизационные представления на рубеже XXI века:
перезагрузка (И. Н. Ионов)............................... 223
Гранд-нарратив в украинских историографических практиках
(И. И. Колесник)......................................... 249
“Объяснение” национальной истории в условиях “исторического
поворота” (И. Б. Селунская).............................. 274
Концептуальные основы обобщающих трудов по региональной
истории: проблема синтеза в историческом изучении
Северного Кавказа (А. X. Боров).......................... 296
Ценность прошлого и репрезентация исторического знания
в Центральной Азии и Казахстане (П. С. Шаблей)........... 315
Историческая наука, регионоведение, культурология:
возможности кооперации вокруг проблемы
“присвоения прошлого” {В. Г. Рыженко).................... 330
ИСТОРИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
Возвращение историзма? Нео-институционализм и
“исторический поворот” в социальных науках
(Рольф Тоштендалъ)....................................... 343
Современные перспективы изучения средневековой общины,
или “как это не было” (Н. А. Селунская).................. 355
Историко-семантический анализ в историческом исследовании:
от истории понятий к истории
общественного сознания (М. В. Калашников)................ 368
В поисках новых подходов к изучению общественно-
политических настроений в России первой четверти XIX века:
опыт системного анализа истории понятий (Д. В. Тимофеев). 391
Стереотипы, ментальные карты, имагология:
Содержание 603
методологические апории (М. В. Белов).................... 403
История медицины как междисциплинарное
исследовательское поле (А. Э. Афанасьева)................ 419
Историческая трансформация практик удовольствия как предмет
междисциплинарных исследований (С. А. Рассадина)......... 438
“История эмоций” в современной историографической
парадигме: истоки, возможности и проблемы
(Ю. Ю. Хмелевская)....................................... 452
Новая культурная история и “новая история досуга”
(А.С.Ходнев)............................................. 462
ИСТОРИОГРАФИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ
Историография в контексте дисциплинарной истории
(Г. Н. Попова)........................................... 474
Классики в исторической науке: “свои” и “чужие”
(И. М. Савельева)........................................ 491
Что такое “историографический быт”: из опыта разработки
и внедрения историографической дефиниции (Н. Н. Алеврас). 516
Историографическая компаративистика:
возможные грани исследования (И. Е. Рудковская).......... 535
Советское историознание как культурно-историческое явление:
о “культуре партийности” (А. В. Гордон).................. 555
История в Латинской Америке (1968 2008)
(Журандир Малерба)....................................... 571
Историография как интеллектуальная история:
проблемы междисциплинарности и контекста (Г. А. Сидорова).... 586
Об авторах............................................... 595
Contents................................................. 598
TU URSSru URSSru URSS.l
urssW ,CT-B*MJni '^‘|S.uwss.W.Mliiwss.raW^;u«ss.'riii;:'t ruitss!ral
Другие книги нашего издательства:
История России и СССР
Пушкин А. С. История Пугачева: Замечания о бунте.
Даль В. И. (Казак Луганский). Об Уральском казачьем войске. URSS
Иллюстров И. И. Юридические пословицы и поговорки русского народа.
Кульпин Э. С. Путь России: Генезис кризисов природы и общества в России.
Кульпин Э. С. Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства.
Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в ХШ—XIV вв.
Ильичев А. Т. Справочник по русской истории. Киевская Русь.
Ильичев А. Т., Ляшенко А. Г. Справочник по русской истории: Южнорусские княжества;
Владимирская Русь.
Даркевич В. И. Путешествие в древнюю Рязань.
Ельянов Е. М. Иван Грозный — созидатель или разрушитель?
Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию.
Kucmepee С. И. (ред.) Очерки феодальной России. Вып. 1-8.
Тимошина Л. А. (ред.) Архив гостей Панкратьевых XVII - начала XVIII в.
Гришин И. В., Клещинов В. И. Каталоги русских средневековых монет.
Данилевский И. И. Смысловые уровни повести временных лет.
Сенчакова Л. Т. (ред.) Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905—1907.
Цимбаева Е. И. Исторический анализ литературного текста.
Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Идея всеевропейского единства в России XIX в.
Юртаева Е.А. Государственный совет в России (1906—1917 гг.).
Ахметьева И. И. Род Гаттенбергеров на службе России.
Карнович Е. И. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими.
Жизнь в свете, дома и при дворе. Правила этикета для России конца XIX века.
Никаноров Г. Л. Надрыв: Правда и ложь отечественной истории XX века.
Робертс Дж. Победа под Сталинградом. Битва, которая изменила историю.
Джохадзе Д. В., Косолапов Р. И. (ред.) Сталии и современность.
Калинин Л. А. Интервью со Сталиным.
Барский Д.А. Сталин. Портрет без ретуши.
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Сталии и распад СССР.
Миронов А. Е. Столкновение: Путь в бездну.
Миронов А. Е. 1941-й: Последний шанс (Германия—СССР).
Сенин А. С. Московский железнодорожный узел. 1917—1922 гг.
Сенин А. С. Министерство путей сообщения в 1917 году.
Кирьянов Ю. И. и др. (ред.) Трудовые конфликты в Советской России 1918—1929 гг.
Безнин М. А., Димони Т. М. Капитализация в российской деревне 1930—1980-х годов.
Плотников А. Ю. Русская дальневосточная граница в XVIII — первой половине XX в.
Плотников А. Ю. Прибалтийский рубеж: К десятилетию заключения российско-
литовского договора о границе.
Ященко В. Г. Антибольшевистское повстанчество в Нижнем Поволжье
и иа Среднем Дону: 1918-1923.
Вирхилио де лос Льянос Мас. Ты помнишь, tovarisch...?: Из архива одного из детей,
вывезенных в СССР во время гражданской войны в Испании. Пер. с исп.
Труш М. И. От политики революционной борьбы к победам на дипломатическом
фронте. Жизненный путь Александры Коллонтай.
URSS.ru „ URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru
„«ЛRSS.ru URSS.ru URSS.ru URSS.ru .
URSS.ru
URSSlrui
И
и
Другие книги нашего издательства:
URSS
nJSSHR nJSSUn nJSSUn HJSSHU nJSSMIl
История культуры
Липперт JO. История культуры.
Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств.
Даркевич В. П. Путями средневековых мастеров.
Даркевич В. П. Народная культура Средневековья.
Даркевич В. П. Художественный металл Востока VIII—ХШ вв.
Даркевич В. П. Художественное ремесло средневекового Запада (X—XIV вв.).
Чекалова Л.Л., Даркевич В. П. Культура Византии. IV-XII в.
Ржепянская И. В. Русское народное творчество в становлении нравственной
культуры Древней Руси.
Шестаков В. II. История истории искусства: От Плиния до наших дней.
Шестаков В. П. История эстетических учений.
Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века.
Шестаков В. П. Европейский эрос: Философия любви и европейское искусство.
Шестаков В. П. Шекспир и итальянский гуманизм.
Шестаков В. П. Эсхатология и утопия: Очерки русской философии и культуры.
Шестаков В. П. США: псевдокультура или завтрашний день Европы?
Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века.
Рюмина М. Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность.
Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада.
Афасижев М. Н. Изображение и слово в эволюции художественной культуры.
Режабек Е. Я. Мифомышлеиие (когнитивный анализ).
Преображенский П. Ф. В мире античных образов.
Преображенский П. Ф. Курс этнологии.
Федосов Д Г. Андские страны в колониальную эпоху.
Карпова Т. Д. (ред.) Искусство «золотой середины»: Русская версия.
Свидерская М. И. (ред.) Западная Европа. XVI век: Цивилизация, культура, искусство.
Макарова Г. В. (ред.) Западное искусство. XX век. Образы времени и язык искусства.
Рубанова И. И. (ред.) Западное искусство. XX век. Проблемы интерпретации.
Симон К. Р. История иностранной библиографии.
Хачатуров С. В. Искусство книги в России 1910-1930-х годов. Мастера левых течений.
Свириденко С. (ред.) Старшая Эдда. Песнь о богах.
Сыромятников С. Н. Сага об Эйрике Красном.
Шукуров Ш. М. Образ человека в искусстве ислама.
Федосов Д. Г. Андские страны в колониальную эпоху.
Классическое искусство от Древности до XX века. Сборник статей.
Мазаев А. И. Искусство и большевизм (1920—1930-е гг.).
Манин В. С. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917-1941 гг.
Стигнеев В. Т. Век фотографии. Очерки истории отечественной фотографии.
Стигнеев В. Т. (ред.) Фотография: Проблемы поэтики.
Попадюк С. С. Неизвестная провинция. Историке-архитектурные исследования.
Бодэ А. Б. Поэзия Русского Севера.
Бодэ А. Б. Архитектурная сокровищница Поонежья.
Анисимов А. В. Венеция. Архитектурный путеводитель.
Хан-Магомедов С. О. 100 шедевров советского архитектурного авангарда.
nJSSUn nj-ssun nj-RSUU HJSSUU nj-ssun nj-ssun
URSS.ru JIRSS.ru URSS.ru URSS.ru