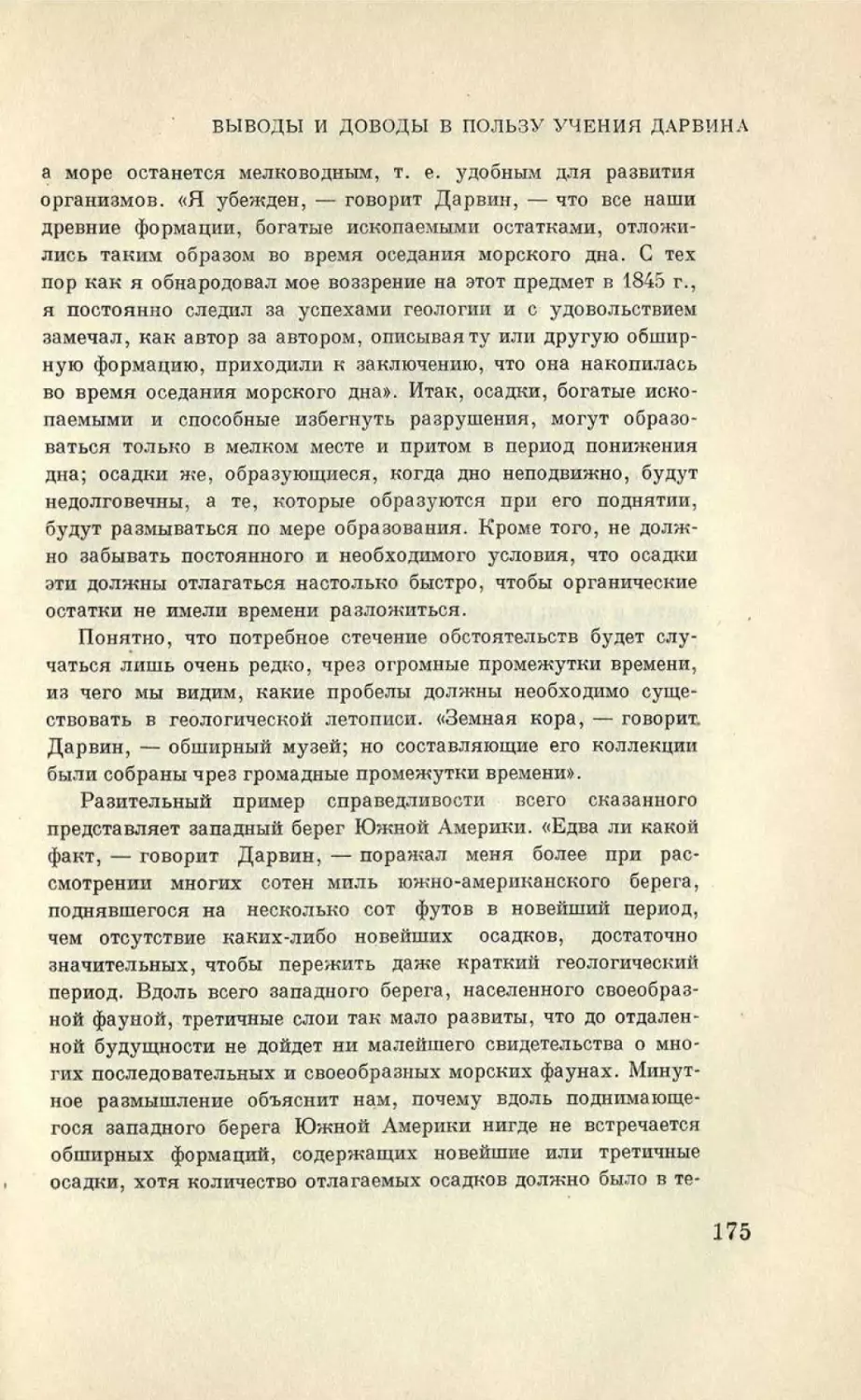Текст
1
r
*
ПЕЧАТАЕТСЯ
ПО П О С Т А Н О В Л Е Н И Ю
СОВЕТА
Н А Р О Д Н Ы Х КОМИССАРОВ
СОЮЗА С С Р
o r 23
ОКТЯБРЯ
/935
18 4
3 - 1 9 2 0
4
л V 5 33 •
U
КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ
СОЧИНЕНИЯ
том
VI
\
«
О Г И 3 •
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О
К О Л Х О З Н О Й
И С О В Х О З Н О Й
Л И Т Е Р А Т У Р Ы
С Е Л Ь Х О З Г И З - 1
9 3 9
у
2011096175
Ответственный редактор
АКАДЕМИК В . Л .
Заместитель
ПРОФЕССОР
КОМАРОВ
отвеигственного редактора
А. К .
ТИМИРЯЗЕВ
Редактор седьмого тома
АКАДЕМИК В . Л .
КОМАРОВ
КЛИМЕНТ
1878
АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ
К , А. Т И М И Р Я З Е В
Чарлз Дарвин
и ЕГО УЧЕНИЕ
В ДВУХ
ЧАСТЯХ
СЕЛЬХОЗГИЗ
1939
ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
ековые своды Вестминстерского аббатства приняли
смертные останки неутомимого труженика и гениального мыслителя, целую четверть века наполнявшего
ученый мир своею славой. Гуманное — de mortuis
nihil nisi bene 1 — напоминает, что над закрывшейся могилой
должно раздаваться лишь слово похвалы и сожаления, но над
1
О мертвых говорят только доброе.
* Работами об учении Д а р в и н а К. А. начал свою научно-литературную деятельность. В 1864 г. в журнале «Отечественные Записки» были
опубликованы три статьи К . А. под общим названием «Книга Дарвина,
ее критики и комментаторы». Первое отдельное издание этих статей вышло
в 1865 г. под заглавием «Краткий очерк теории Дарвина». Второе издание
книги, названной «Чарлз Дарвин и его учение», вышло в 1883 г. С этого
времени до 1936 г. книга выдержала еще десять изданий (подробнее см.
том I настоящего издания, стр. 475 и 476).
Здесь текст книги воспроизведен по седьмому, исправленному и
дополненному изданию (Москва, Гос. изд., ч. I. — 1919, ч. II — 1921),
подготовленному самим К. А. Ред.
А. Т И М И Р Я З Е В
этой могилой подобное напоминание звучало бы только оскорблением. В истории человечества найдется немного великих
имен, не нуждающихся в этом великодушном забвении их слабостей и недостатков, во имя их высоких заслуг. Немного найдется великих людей, которые завещали бы потомству безупречно чистый и светлый нравственный образ, на который даже
клевета врагов не могла бы набросить тени. Таким человеком
был Чарлз Дарвин.
Едва успела разнестись весть о его кончине, как со всех
сторон и люди, его коротко знавшие, и люди, видевшие его
всего несколько часов, и люди, его никогда не видавшие, и те,
кто ему безусловно сочувствовал, и те, кто не разделял его
образа мыслей, как будто сговорившись, поспешили высказать
одну и ту же мысль, — что над гениальностью ученого в нем
еще господствовали нравственные достоинства человека, что качествам человека должно приписать успех ученого. Выслушаем
сначала отзыв противника, знакомого с Дарвином только по его
трудам. Катрфаж, в речи, произнесенной в заседании Парижсішй академии 1 мая настоящего года, несколько раз возвращается к этой мысли. «Нередко он простирал хладнокровие
своих суждений до того, что в своих собственных трудах отыскивал доводы и факты в пользу своих противников. Тогда с какою-то рыцарскою честностью он спешил первый на них указать». «Эта, никогда не изменявшая ему, высокая добросовестность сообщала некоторым страницам его труда какую-то чарующую прелесть». «Каждый раз, как вы откладываете в сторону его книгу, вы чувствуете, что в вас невольно возрастает
глубокое уважение к ученому, горячая симпатия к человеку» 1 .
Альфонс де-Кандоль, который видел его два раза, в 1839
и потом в 1880 г., пишет, что во всем его обращении обнаруживалась «известная печать чистосердечия, бывшая, по всеобщему признанию, одной из причин успеха Дарвина» 2 .
А вот что говорит о нем один из близких ему людей и его
сподвижник — Гёксли, в нескольких вылившихся от души строках, вызванных вестью о его кончине 3 . «Замечательна была про1
2
3
Comptes Rendus. 1 Mai, 1882.
Archives des Sciences Physiques et Naturelles, 15 Mai, 1882.
Nature, April 27, 1882.
ницательность его ума, громадны его знания, изумительно упорное трудолюбие, не отступавшее перед физическими страданиями, которые превратили бы девять человек из десяти в беспомощных калек, без цели и смысла в жизни; но не эти качества,
как они ни были велики, поражали тех, кто приближался к нему, вселяя чувство невольного поклонения. То была напряженная, почти страстная честность, подобно какому-то внутреннему
огню, освещавшая каждую его мысль, каждое его действие»...
«Нельзя было говорить с Дарвином, не вспоминая Сократа».
Это сравнение невольно напрашивается, когда говоришь о
Дарвине. Девятнадцатый век нередко упрекают в упадке нравственного чувства, в утрате идеалов, — и вот, как бы в ответ на
этот незаслуженный упрек, на расстоянии немногих дней, на
противоположных концах Европы сходят в могилу два представителя двух крайних полюсов человеческой деятельности—человек дела и человек мысли, герой и мудрец, Гарибальди и Дарвин.
Два античные в своей величавой простоте образа, столь различные по своей сфере деятельности, столь сходные по ее внутреннему смыслу: оба — борцы, служившие одной идее — идее освобождения человечества от связывающих его пут, — оба своим
примером преподавшие высокий урок, что только в нравственном величии, в бескорыстном служении идее лежит залог конечного успеха.
Но точно ли полный успех увенчал полувековые труды гениального ученого? Выслушаем снова свидетельство обеих сторон. «Попытка Дарвина, — говорит Катрфаж в уже упомянутой
нами речи, произнесенной перед той самой Парижской академией, которая еще так недавно отказывалась принять Дарвина
в свою среду, — попытка Дарвина заключалась в том, чтобы объяснить действием одних вторичных причин то чудесное целое,
которое изучают ботаники и зоологи; он захотел нам объяснить
его происхождение и развитие таким же образом, каким
астрономы и геологи объясняют нам, как возникла наша
планета и как произошло то, что мы теперь на ней видим».
«В этой грандиозной попытке великого ума нет ничего незаконного, и нельзя не согласиться, что в идеях Дарвина должно
заключаться что-нибудь глубокое и в то же время заманчивое,
если они могли увлечь не только толпу, которая верит на слово
и нередко только под влиянием страстей, но главным образом
таких людей, как Гукер, Гёксли, Фогт, Лёббок, Филиппи, Геккель, Лайель, и многих других. Дело в том, что его основное
положение неуязвимо. Я полагаю, в настоящее время никто не
станет и пытаться отрицать все, что есть безусловно верного в
мыслях, высказанных английским ученым о борьбе за существование и естественном отборе» 1 . Не доказывают ли эти слова, как
бесконечно далеки мы от того, еще недавнего, времени, когда
для этих самых идей не находилось более лестного названия,
как «физиологический роман»?
А вот спокойное и полное достоинства суждение единомышленника и до некоторой степени предвестника Дарвина —
Альфонса де-Кандоля 2 . «Образ действия Дарвина по отношению
к его противникам был довольно своеобразен. Он, очевидно,
не любил полемики. Вместо того, чтобы возражать, он шел
своим путем. Не нападая на религию, он нимало не стеснялся
сталкиваться с идеями и предрассудками людей набожных,
которых он знал и уважал. Не было ли это только результатом
убеждения, до вольно распространенного между людьми науки,—
что истина царит над всем и что ее должно провозглашать,
хотя бы в ущерб самому себе? Не думал ли он, что если его
учение не противоречит основам религиозных убенедений,
то уже дело теологов уладиться с фактами? Почему бы не примириться им с теорией развития органического мира, как примирились они после Галилея с вращением земли, после Лапласа — с последовательным образованием небесных тел? Эти научные идеи распространены во всем свете, даже в Китае. Они
не пошатнули ни христианства, ни магометанства, ни буддизма.
Последствия показали, что Дарвин был прав, предпочитая молчать и рассчитывая на действие времени. Его два тома „О происхождении человека" появились в 1871 г. Крики негодования,
1
Правда, вслед за этими словами французский ученый пытается
отстоять заветную идею о неподвижности вида, но мы увидим ниже, что
эта защита не выдерживает критики.
2
«Darwin» et;. —Archives des Sc. Ph. et Nat. 15 Mai, 1882. Альфонс
де-Кандоль еще ранее появления книги Дарвина высказывал сомнения
относительно неизменяемости видов и один из первых приветствовал теорию
Дарвина.' Когда он был избран во Французскую академию, Де-Кандоль
писал Катрфажу: «Академия должна была избрать не меня, а Дарвина».
раздававшиеся вокруг него, еще удвоились, но вскоре несколько
людей, светских и духовных, искренно преданных религиозным
идеям, выступили его защитниками, а через одиннадцать лет
по случаю кончины знаменитого натуралиста в соборе с. Павла
и других лондонских церквах говорились проповеди, в которых доказывалось, что дарвинизм не противоречит религии».
Вот, наконец, горячий отзыв друга и союзника в борьбе: 1
«Никто лучше Дарвина не умел бороться, никто не был счастливее его в борьбе. Он нашел великую истин}-, попираемую
под ногами, оскверненную ханжами, всеми осмеянную; благодаря главным образом собственным усилиям, он дожил до
того, что эта истина несокрушимо водружена в науке, что она
вошла в обычный обиход человеческой мысли, что ее ненавидят
и боятся только те, кто и хотели бы ее опозорить — да не смеют.
Чего же еще может желать человек?».
*
Предлагаемые два очерка появились в печати в различное
время. Один из них представляет ряд статей, помещенных в
«Отечественных Записках» в 1864 г., в то время, когда наше
читающее общество особенно живо интересовалось этим учением, и позднее изданных отдельной брошюрой. В этом очерке
теории Дарвина я только старался облегчить для читателя-неспециалиста труд понимания этого гениального произведения,
оставаясь в то же время возможно ближе к подлиннику.Изложение Дарвина, как известно, отличается своеобразностью.
Его труды нельзя просто читать, их нужно изучать; за подавляющей массой фактов читатель нередко может упустить нить
его строгой аргументации, потому что аргументация эта состоит не из обнаженных логических доводов, а из систематически сцепляющихся фактов. «Масса фактов может утомить, —
говорит А. де-Кандоль в своей оценке труда Дарвина, — читателю предоставляется сличать, выбирать, выводить заключение.
Прием не дидактический, а чисто научный». Я именно старался
сообщить изложению по возможности дидактический характер,
обнаружив, так сказать, внутренний остов учения; при этом
1
2
Huxley — C h a r l s Darwin, «Nature», April 27, 1882.
К. А. Тимирязев,
т.
VII
17
я, конечно, имел в виду того читателя, который имеет досуг
только читать, а не того, который может изучать — этот последний, конечно, предпочтет обратиться к подлиннику. Просматривая теперь, по прошествии восемнадцати лет, этот очерк,
я мог только его пополнить примерами из позднейших исследований самого Дарвина и других ученых,— ничего не пришлось
выкинуть или изменить; не служит ли это доказательством прочности этого учения? С другой стороны, почти ребячеокое упрямство последних противников, продолжающих повторять те же,
не выдерживающие критики, возражения, доказывает пользу
повторения еще и еще раз тех могучих доводов, которыми Дарвин навеки сокрушил их оплот.
В другом очерке, представляющем публичную лекцию, я старался в возможно сжатой форме и самых крупных чертах указать основную идею переворота, сделанного Дарвином в современном научном мировоззрении, и потому он удобно может
служить введением к более обстоятельному изложению теории.
Это мне казалось тем более необходимым, что и до настоящего
времени недостаточно строго различают учение о развитии органического мира (Descendenzlehre, Théorie de l'évolution, Transformisme *), основания которого высказывались и ранее Дарвина, от учения о развитии органического мира путем естественного отбора, — учения, которое объясняет нам основной факт
гармонии и целесообразности органического мира, в чем Дарвин
не имел предшественников. В этом же очерке я пытался наметить
нравственный облик самого творца этого учения, как ученого и
человека. Все, что появилось в печати за эти последние дни:
воспоминания людей, стоявших к нему близко, некоторые его
письма и пр., вполне подтверждают общее впечатление, вынесенное мною из тех немногих часов, которые я имел счастье
провести под гостеприимным кровом этого.великого человека.
Гёксли, мнения которого мне уже несколько раз приходилось
приводить, употребляет в одном месте своей статьи почти буквально то выражение, которое поставлено мною в заголовке
моего очерка. «Чем более я его знал, — говорит он,— тем более
он мне представлялся воплощенным идеалом ученого».
30 мая 1882 г.
д
ТИмИРЯЗЕВ
* Учение о происхождении, Теория эволюции, Трансформизм.
Ред.
и
4
П
редлагаемый читателю томик представляет собрание
статей, посвященных дарвинизму. В западных литературах существует несколько подобных сборников под
названием «Darwiniana».
Учение это продолжает у нас попрежнему занимать умы,
но тех, кто с ним близко знаком, поражает факт, что обращающиеся в обществе сведения чаще и чаще распространяют
совершенно превратное о нем представление. Чаще и чаще приходится встречаться с людьми, очень развязно высказывающими
о нем суждение и, очевидно, никогда не имевшими в руках
«Происхождения видов». Это тем более понятно, что подлинник
едва ли когда имел многочисленных читателей, а русский перевод, к сожалению, уже давно стал библиографической редкостью. Если к этому прибавить, что чтение этой книги всегда
было немаловажным умственным трудом, то появление извлече2*
19
ний, вроде предложенного на следующих страницах, получает
себе полное оправдание. Что в этих очерках читатель с неболь- t
шой сравнительно затратой труда и времени ознакомится с основами «настоящего» дарвинизма, — ручательством тому служи#
свидетельство покойного Данилевского и H. Н. Страхова, отзь^%
вы которых никак нельзя заподозрить в пристрастии к авторт :
этих строк.
За период времени, истекший после выхода второго издания
моей книги, только что упомянутые писатели, как известно, еде«
лали попытку полного опровержения дарвинизма, почему *
я счел уместным поместить в конце книги, в виде особого приложения, и вызванные этой попыткой мои критические статьи.
Нахожу это полезным как потому, что для русского читателя
легко доступное русское опровержение имеет более значения,
чем мало известные сходные попытки иностранных писателей,
так и потому, что наши антидарвинисты довольно тщательно
подобрали все, что могли найти против Дарвина в иностранных
литературах 1 .
Сопоставляя мысли Дарвина с тем, что было предъявлено
против них, читатель, конечно, всего лучше сам себе составит
понятие о неотразимой логической силе этого учения, составляющего одно из величайших завоеваний научной мысли за
истекающее столетие.
1
С тех пор H. Н. Страхов в предисловии к своей книге «Борьба с Западом» пытался вновь уверить своих читателей, будто в речи «Факторы
органической эволюции» («Русская Мысль», 1893) я отступаю от своего
первоначального воззрения на дарвинизм. Но если читатель сличит то,
что я говорю в этой речи, с тем, что я говорю в V главе «Краткого очерка»,
в X главе «Жизни растения» и в своей речи «Основные задачи физиологии растений» (см. мою книгу «Насущные задачи современного естествознания»), то везде, где я касался вопроса о ближайших причинах изменения форм, найдет выражение одной и той же мысли. (В настоящем
издании см.: «Факторы органической эволюции» — том V, стр. 107;
V глава «Краткого очерка теории Дарвина» —стр. 155 этого тома; X глава «Жизни растения» — том IV, стр. 299; «Основные задачи физиологии растений»—том V, стр. 143. Ред.) Если г. Страхов позволяет
себе уличать меня в несуществующей непоследовательности, то, очевидно,
только на том основании, что не дал себе труда познакомиться с
тем, что я в действительности высказывал в печати
за последние 10—15 лет.
Ч. Дарвин и белки
По Holder'y
.
.
.
»
•
•
.
Приложенный очень оригинальный и мало известный портрет Дарвина и рисунок, изображающий его рабочую комнату,
помимо их непосредственного интереса, мне кажется, наводят
на мыслй о двух довольно распространенных современных
заблуждениях. Портрет наглядно показывает нам, как далек
был от навязываемых ему идеалов людоеда этот мыслитель,
видевший в «благоволении ко всей твари» один из высших
нравственных атрибутов человека, а скромный кабинет ученого
показывает несостоятельность так часто повторяемого на все
лады утверждения, будто наука XIX века может успешно
развиваться только в роскошных дворцах. Вот в какой обстановке созрела и вылилась в окончательную форму одна из плодотворнейших научных идей века или, вернее, всех веков. Кабинет
потсдамского полкового врача
где зародилось и нашло
себе выражение учение о сохранении энергии, вероятно, был не
роскошнее.
К.
Москва, февраль 1894 г.
1
Гельмгольтца.
ТИМИРЯЗЕВ
»
В
предисловии к последнему изданию я ссылался на
тот факт, что русский перевод «Происхождения видов»
сделался библиографической
редкостью, — обстоятельство, очевидно, указывающее на некоторое
охлаждение
в нашей читающей публике к самым живым интересам естествознания. За незначительный промежуток времени, отделяющий настоящее издание от предшествующего*, картина значительно изменилась. Вновь обнаруживается усиленный спрос
на серьезное научное чтение: большое издание нового русского
перевода сочинений Дарвина разошлось почти до своего появления (по подписке), и на-днях выходит в свет второе. Нельзя
не радоваться расширению круга читателей, обращающихся
к подлинным произведениям великого ученого, но я все же
* Третье издание
книги
вышло в 1894,
а четвертое — в 1898
г.
Ред.
полагаю, что рядом с этим будет сохраняться и даже соответственно возрастать потребность и в кратких изложениях этого
учения, рассчитанных на читателей, не имеющих достаточной
подготовки и досуга для такого значительного умственного
труда. Добавлю, что изложение, предлагаемое в этом томике,
отличается от большей части подобных произведений иностранной и нашей литературы тем, что в нем отведено должное место
(глава VI) позднейшей ученой деятельности Дарвина и показана
ее глубокая связь с главным трудом его жизни.
Приложение, заключающее опровержение неудачных нападок на это учение наших отечественных философов, сохраняет
и в настоящую минуту свое прежнее значение в виду продолжающихся и у нас, и в Западной Европе попыток людей, непричастных науке, и, к сожалению, официальных ученых — делать
безуспешные вылазки против этого учения, никогда не пользовавшегося благосклонностью официальных сфер. Геккель недавно рассказал в печати назидательный случай с одним
немецким зоологом, начавшим обширное сочинение с дарвинистической точки зрения и закончившим его резкими выходками
против нее, — метаморфоз, случайно совпавший со служебными
успехами этого ученого.
К.
ТИМИРЯЗЕВ
П
режде чем разойдется это пятое издание, минет полвека со времени появления гениального произведения,
доступному изложению которого посвящен этот краткий
очерк. Случай, я полагаю, небывалый, чтобы строго научное
произведение, несмотря на такой долгий срок, продолжало
привлекать внимание широких кругов читающей публики. Но,
может быть, спросят: точно ли учение Дарвина не утратило
своего значения? Не явилось ли ему на смену чего-либо нового,
более согласного с новейшими приобретениями науки? Можно
смело сказать, что не только не появилось чего-либо равного
ему по значению, но даже не явилось чего-либо совершенно
нового, т. е. такого, зачатки чего не находились бы в произведениях самого Дарвина. Все, кто желал занять его место, или
потерпели неудачу, или, в лучшем случае, представляли в своих
попытках только подробное и в то же время одностороннее
развитие какого-нибудь уже высказанного им положения.
Не говоря уже о том, что не появилось ни одной теории,
которая охватывала бы поставленную Дарвином задачу во всей
ее полноте, едва ли найдется хоть одна попытка разрешения
этой задачи, которой нельзя было бы противопоставить другую,
почти ее уничтожающую. Всего более за последнее время заставила о себе говорить так называемая теория мутаций (Де-Фриза), но она, по сознанию самого автора, ничего не объясняет без
дополнения самою существенною частью дарвинизма — учением об естественном отборе. Самый же факт, обозначаемый
этим термином мутация, Дарвин принимал во внимание, не
придавая только ему того исключительного значения, как некоторые современные ученые, и был, конечно, прав 1 .
То же можно сказать о так называемом неоламаркизме
(с его частной формой — теорией самоприспособления, высказанной в первый раз Генсло, позднее Вармингом и подхваченной несколькими немецкими учеными). Начиная с первых
строк его записной книги (1839 г.) и кончая последними письмами, Дарвин во всех своих произведениях приписывал важное
значение влиянию среды. Если современная «экспериментальная
морфология» обогатила это направление фактами, то должно сознаться, что случаи наследственной передачи этих изменений
до сихпор очень ограничены, — обстоятельство, перед которым
останавливался и Дарвин. А главное, этот неоламаркизм, как
и старый, не объясняет необходимости усовершенствования
организмов, являющейся результатом исторического процесса,
выдвигаемого Дарвином.
Что касается второй части этой книги — полемики с русскими антидарвинистами, то я полагаю, что и она едва ли устарела. Новый поход, предпринятый против дарвинизма в Германии (Рейнке, Вольф и др.) во имя телеологии, по содержанию
вполне сходен с - тем, что проповедывали у нас Данилевский
и Страхов, а по форме далеко уступает нашим отечественным
1
Сказанное о Де-Фризе еще более применимо к попытке Коржинского, в основе ничего не объясняющей и заключающей только новые примеры, совершенно сходные с теми, которые были приведены и
Дарвином.
защитникам этого отжившего свой век учения, обнаружившим
в своих произведениях недюжинную диалектическую изворотливость.
Я думаю, что читатель, получив ясное представление об учении, которое и в настоящее время, как и полвека тому назад,
дает единственное целостное представление об эволюции органического мира и о сделанных против этого учения основных
возражениях, сумеет сам разобраться и в только что упомянутых новейших немецких на него нападках. В этом походе против дарвинизма я вижу, с одной стороны, реакционный возврат
к немецкой метафизике начала прошлого века, а с другой — проявление той узкой националистической борьбы, которую ведет
не на одной только политической почве германская раса против опередившей ее англо-саксонской.
27 мая 1905 г.
К.
ТИМИРЯЗЕВ
В
предисловии к последнему изданию я высказал предположение, что, прежде чем оно разойдется, наступит
двойная годовщина, которую, конечно, отметит весь
цивилизованный мир, — пятидесятилетия со дня появления
«Происхождения видов» и столетия со дня рождения Дарвина.
Вопреки ожиданиям, новое издание потребовалось ранее, с небольшим через два года. Факт этот, конечно, не может не радовать пишущего эти строки, как с личной, так и с более широкой общей точки зрения. Старый профессор двадцатого века
может вполне объективно радоваться успеху произведения
студента шестидесятых годов девятнадцатого, отмечая факт,
что книга, в первом своем издании разошедшаяся в двадцать
лет, в пятом расходится в два года. Но, конечно, гораздо более
радует ученого мысль, что то учение, распространению и убежденной защите которого он уделил не малую долю своей дея-
тельности, что это учение находит все более и более широкие
круги интересующихся, особенно в среде молодого поколения. А несомненным признаком этого движения служит не
только возрастающий спрос на эту книжечку, служащую
только для первого ознакомления с учением, но и возобновляющееся требование на произведения великого творца этого
учения.
Несколько слов по поводу приложения о наших антидарвинистах. В этой полемике отразилась целая полоса нашей недавней культурной истории, в ней чувствуется удушающая атмосфера восьмидесятых годов, когда торжествующая реакция
считала возможным решительно порвать с преданиями ближайшего прошлого и объявить войну всей западной культуре во имя
каких-то исконных, национально-византийских начал. Поход,
предпринятый Данилевским против дарвинизма, был одним
из характерных эпизодов этой борьбы по той дружной поддержке, которую встретил во всех реакционных сферах. Министры, влиятельные петербургские круги, услужливый капитал (без которого увесистые томы Данилевского не увидели бы
света), литература в лице такого выдающегося критика, каким
считался Страхов 1 , господствовавшие тогда органы ежедневной печати, философы, официальная наука (академия собиралась присудить Данилевскому высшую премию) — все было
на стороне Данилевского, когда я выступил против него. Но,
может быть, в своих товарищах по науке я нашел поддержку?
Все молчали. Один из них, академик Фаминцын, правда, через
два года выступил со своей критикой, но с какой? Пожурив
слегка Данилевского за совершенно второстепенные недостатки,
позолотив свою пилюлю неумеренными похвалами, прямо отказавшись от обсуждения основного вопроса, он, к удовольствию
влиятельных защитников Данилевского, с академическою авторитетностью изрек мне приговор, что я умею только браниться,
но неспособен к беспристрастной научной критике 2 .
1
К тому же, как и Данилевский, натуралист — магистр зоологии.
Одному из министров, благоволивших Данилевскому, вскоре представился случай выразить свое критическое ко мне отношение, если не
в особенно убедительной, то в довольно действительной форме, — устранением меня от преподавания в Петровской академии.
2
Таким образом, в этой неравной борьбе я был один. Но со
мной был читатель, — тот читатель-друг, к которому так трогательно взывал в те ужасные годы «великий сатирик земли
русской». И победа оказалась на нашей стороне Ч Так тщательно
задуманный и приведенный в исполнение дружными усилиями
поход против европейской науки не привел ни к чему. Мало
того, неожиданный исход полемики внес раскол в ряды философов, сочувствовавших Данилевскому и особенно Страхову,
и самый талантливый из них В. С. Соловьев, увлекшись моим
успехом, продолжал преследовать пораженного Данилевского
на другом и с общественной точки зрения еще более вредном
поле его деятельности, как автора пресловутой «России и Европы».
Не следует, однако, думать, что эта полемика представляет
только значение исторической картинки мрачной и, будем надеяться, навсегда исчезнувшей полосы нашей жизни. Нет, я
полагаю, что тот значительный труд, который я затратил на
разоблачение тонкой диалектики наших антидарвинистов, не
лишен значения и в настоящее время. Я глубоко убежден, что,
ознакомившись с ним, читатель окажется настолько вооруженным, что, встретившись с совершенно сходной, но менее искусной аргументацией всевозможных Рейнке, Дришей, Вольфов,
Вагнеров, Паули, Франсе и других немецких погребателей2
дарвинизма, сумеет сам в ней разобраться. Все они так же, как
и русские антидарвинисты, тщетно пытаются восстановить учение о конечных причинах,— это порождение схоластической метафизики, да и почва, на которой они стоят, как я указал в
конце последнего предисловия, та же реакционно-националистическая Ч Но и помимо этой общей научно-философской стороны
1
Не могу не вспомнить с признательностью гостеприимство, оказанное мне «Русскою Мыслью», благодаря В. А. Гольдеву, всегда стоявшему
за положительную науку и против всякого обскурантизма, явного или
скрытого.
2
Один из них, Денерт, так и озаглавил свое произведение: «Дарвинизм на смертном одре». Это, вероятно, один из преемников остроумных
немцев, при появлении дарвинизма выбивших медаль (из экономии свинцовую), на которой Д а р в и н был изображен с ослиными ушами.
3
Эта реакционность, которую я разумел в философски-научном смысле, успела обнаружиться и в более узком политическом смысле. Рейнке
моей полемики с Данилевским читатель найдет в ней готовые
ответы и на те частные возражения, которые новейшие противники дарвинизма повторяют со слов старых.
Само собою понятно, что указанное немецкое антидарвинистическое направление не осталось без протеста как в самой
Германии, так и за ее пределами.
И.
ТИМИРЯЗЕВ
[1908 г.]
недавно в своей борьбе с дарвинизмом призывал на помощь тот самый прусский ландтаг, из-за которого после полувекового мира улицы Берлина
на-днях обагрились кровью, а в ту минуту, когда я пишу эти строки, немецкая либеральная печать возмущается заявлением реакционного прусского министра просвещения, что он готов содействовать изгнанию Дарвина из общественных библиотек. Националистический х а р а к т е р немецкого
антидарвинизма проглядывает даже в языке; так, один из перечисленных
авторов (Вагнер) озаглавил свое произведение излюбленным националистами выражением «Das neue Kurs». Новый курс — подразумевается
Вильгельмовский.
В
предисловии к пятому изданию я указал на близость
двойной годовщины, которая должна отметить век, истекший со дня рождения Дарвина, и полвека со дня появления его великого творения. Этот срок действительно не прошел
незамеченным 1 . Празднование этого двойного торжества в
Кэмбридже дало повод к международному съезду ученых
со всех концов мира и к новой оценке значения того переворота,
который вызван дарвинизмом не только в биологии, но и в других областях человеческой мысли 2 . По этому же поводу был
1
По этому поводу произнесена мною и, приложенная к этому изданию, речь «Чарлз Д а р в и н и полувековые итоги дарвинизма». (См. в этом
томе стр. 213. Ред.)
2
См. мою статью «Кэмбридж и Дарвин» в сборнике «Памяти Дарвина», М., 1910. (В этом томе — стр. 580. Ред.) •
издан сборник, к участию в котором были приглашены выдающиеся ученые различных стран, представившие краткие очерки,
касающиеся как различных сторон самого учения, так и различных областей знания, в которые оно проникало 1 . Одновременно был издан и любопытный, незадолго перед тем найденный, первоначальный текст «Происхождение видов», относящийся к 1842 г., под названием «Основы происхождения видов»2,
и т. д. Как сборник статей, так и речи, произнесенные на юбилее, еще раз засвидетельствовали перед всем миром, что учение
это выдержало полувековую критику, ничего не утратив в своей
убедительной силе, но, напротив, постоянно обогащаясь новыми
подтверждающими его фактами, завладевая все более и более
широким полем действия и приложения. В свою очередь «Основы» еще раз доказали, как рано сложились в голове великого
ученого главные черты учения, для прочного обоснования которого он, тем не менее, счел необходимой почти двадцатилетнюю
обработку и проверку, чем и объясняется бесплодность всей
последовавшей критики его противников.
В предисловиях к двум предшествующим изданиям я показал всю безуспешность попыток будто бы опровержения дарвинизма со стороны клерикалов и метафизиков, а отчасти и со
стороны национального шовинизма (в Германии). Главой клерикального антидарвинизма в Англии продолжал выступать бездарно упрямый Бэтсон. Для большего успеха своего безнадежного похода он, как известно, выдвинул в карикатурно-преувеличенном виде деятельность Менделя, полагая заслонить
этой рекламно-раздутой славой католического монаха значение
дарвинизма, но в конце концов сам должен был от этого отказаться 3 .
1
Darwin and modern Science. Cambridge, 1909. («Дарвин и современная наука». Кэмбридж, 1909. Ред.). См. мою статью «Дарвин
и современная наука», «Русские Ведомости», 1909. (В этом томе —
стр. 636. Ред.)
«The foundations of t h e origin of species, a sketch written in 1842
by Charles Darwin». Cambridge, 1909.
3
См. мои статьи в «Вестнике Европы»: «Отбой мендельянцев», 1913,
и «Из летописи науки за ужасный год», 1916, и слова «Мендель» и «Наследственность» в энциклопедическом словаре «Гранат». {В настоящем
издании см. стр. 467 и 485 этого тома и том VI, стр. 255 и 164. Ред.)
Титульная страница 7-го издания
«Чарлз Дарвин и его учениеъ, часть 1
К . Тимирязев.
\РЯЗ ДАРВИН
ЕГО У Ч Е Н И Е
ИЗДАНИЕ
исправленное
СЕДЬМОЕ,
и
дополненное,
В ДВУ* ч н с т я * .
Ч а с т ь 1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва — 1919
•
••
•
•
О - a .i
. . . . .
Настоящее, седьмое, издание книги ради удобства читателей
разделено на две части: первая содержит изложение учения
и его позднейшую оценку, вторая — критические статьи, возражения на попытки его будто бы опровергнуть в английской,
немецкой и, главное, в русской литературе. Я обращаю особое
внимание на последние, т. е. русские произведения, так как они
имеют более шансов найти русских читателей, да и к тому же
за последние годы являются и новые защитники наших антидарвинистов Ч
Но если можно смело сказать, что отношение у нас к дарвинизму серьезных ученых, свободных от клерикальных и метафизических соображений, не изменилось, то можно сказать, что
многое переменилось в том общем положении, которое суждено
занять этому учению в России свободной в сравнении с Россией
царской. Скажут —какое отношение может иметь строго научное
учение к политическому строю страны? Из следующих фактов
читатель увидит—какое.
Типический представитель царской России кн. Мещерский
в своем «Гражданине» писал по поводу моих книг и статей
о дарвинизме следующее: «Профессор Петровской академии
Тимирязев на казенный счет2 изгоняет бога из природы».
Такой отзыв влиятельного «в сферах» журналиста, подкрепляемый открыто враждебным ко мне отношением Академии наук
(в лице Фаминцына) и литературы (в лице высоко ценимого
интеллигенцией Страхова) 3 , развязал руки благоволившему
к Данилевскому министру (Островскому) и побудил его принять
меры, чтобы я долее не заражал Петровскую академию своим
зловредным присутствием. Факт обратного отношения царского
1
С таКой защитой Данилевского выступил, например, профессор К а р пов в своем предисловии к переводу «Философии зоологии» Ламарка, М.,
1914.
" Курсив мой.
8
С грустью у з н а л я впоследствии, что в числе людей, сочувствовавших общей травле меня (властями, учеными, литераторами) был и JI. Н.
Толстой. В одном из напечатанных его писем к Страхову он утешает его,
что окончательный успех в его полемике со мной будет, конечно, на его
стороне, потому что «Тимирязев должен быть неправ». Вот до какого еле- ,:
пого фанатизма могут доходить люди, руководящиеся предвзятыми ре-г
лигиозными или метафизическими идеями.
3
К. А. Тимирязев,
т.
VII
с
правительства к антидарвинисту (раскаявшемуся дарвинисту)
читатели найдут на стр. 230 и 231, где рассказано, как после
своего превращения в антидарвиниста академик Коржинский
получил приличное денежное вознаграждение из собственной
Е. В. канцелярии для продолжения своих полезных научных
трудов.
В приведенных словах кн. Мещерского, помимо доноса, заключалась и фактическая ложь. Никогда ни одна моя строка
до сих пор не была издана или отпечатана на казенный счет.
В предисловии к последнему изданию я останавливаюсь на той
борьбе, которую мне приходилось выдерживать, имея на своей
стороне только «читателя-друга».Но вот теперь, на склоне лет, я
встретил друзей и с той стороны, с которой привык встречать
только врагов, — встретил готовность и желание печатать
и распространять то, что выходило из-под моего пера. Отношение к дарвинизму в Советской России можно доказать и «от
противного», исходя из того факта, что антидарвшшсты добровольно перекрашиваются в ней в дарвинистов, — факт, соответствующий (mutatis mutandis *) «случаю» Коржинского.
Вот такой факт. Профессор одного московского высшего учебного заведения предпринял устроить зоологический музей.
Ну, и устроил бы его на здоровье. Но ему показалось этого мало,
и в широковещательной брошюре 1 он старался доказать, что
его музей — единственный в мире, все остальные никуда негодны,
в том числе и знаменитый, действительно единственный в мире
Кенсингтонский музей в Лондоне. Но в чем же основной порок
этого великолепного музея? А в том, что главную входную залу
он посвятил наглядному пояснению дарвинизма и (о, ужас!)
даже украсил ее мраморной статуей Дарвина, — «Дарвинова
зала», как несколько раз повторяет с очевидным глумлением
автор брошюры, видя в этом желании выдвинуть на первый
план значение этого мирового гения какой-то позррный «пиетизм», свидетельствующий об узком понимании устроителями
музея своей задачи. А в частности он считает ошибкой, что в этой
«Дарвнновой зале» .отведено место «искусственному отбору»,
1
А. Ф. Коте. — Пути и цели эволюционного учения в отображении
биологических музеев. М., 1913.
* изменив, что надо изменить. Ред.
«защитной окраске» и «миметизму», а не тому, что предшествовало Дарвину (ламаркизм) или выдвинуто и рекламируется
в качестве его будто бы опровержения (мутации Де-Фриза,
мендельянство Бэтсона и пр.). Любопытно, что московский
зоолог осуждает как раз те отделы, которые недолюбливал попечитель Московского округа, известный зоолог А. А. Тихомиров, и для которых в Европе существуют роскошные специальные коллекции (например, по миметизму — проф. Поултона
в Оксфорде) Ч Так же неодобрительно относится автор брошюры и к другому известному музею — Геккелевскому филетическому, в Иене. На этот раз он еще обстоятельнее высказывает, что в основной мысли музея обнаружен недостаток будто
бы мышления самого Геккеля — его склонность к «материализму», отрицание «метафизического знания» (?!) и неумение понять
«идейные требования времени». Всеми этими качествами, а прежде
всего «импиетизмом» по отношению к Дарвину, очевидно, отличается музей автора брошюры. Во введении он даже довольно
прозрачно намекает, что главное назначение музея — показать
бога в природе 2 , т. е. осуществлять ту задачу, которую сто лет
тому назад выполнял зоологический музей в ханжеском Оксфордском университете, — служить пособием при изучении курса
богословия знаменитого богослова Пэли. Но вот царский режим
сменился советским, и наш ученый «ничтоже сумняшеся» спешит уже не одну какую-нибудь залу, а весь свой музей окрестить Дарвиновским. Это поспешное и вполне свободное перекрашивание антидарвиниста в дарвиниста, представляющее
антитезу обратного перекрашивания Коржинского, тем более
знаменательно, что советское правительство не прибегало к николаевскому меценатству, не имеет в своем распоряжении
и попечителей, насаждающих науку, согласную с «идейными
требованиями времени». Не думаю, чтобы на этот раз и Академия наук особенно встревожилась совращением правоверного
1
Профессор Плате, о котором автор брошюры вынужден отзываться
с уважением, отводит этим сторонам дарвинизма в своих позднейших со-,
чинениях выдающееся место.
2
Хотя автор брошюры цитирует Гёте, но что он имеет в виду не монистический пантеизм Спинозы, Гёте и Геккеля, а нечто более ортодоксальное, видно из его огульного осуждения Геккеля.
3
35
антидарвиниста в зловредного дарвиниста, да и литература
не поднимет похода во вкусе Данилевского и Страхова.
Отсюда можно сделать два вывода — что [во-первых] если
на истинных ученых форма правления не оказывает влияния, то
на общее положение науки в обществе она очень влияет, а вовторых, что во всяком случае не советское правительство
можно обвинять в научном вандализме, когда безо всяких
мер воздействия, поощрительных или карательных, практиковавшихся при царском режиме, а одним только фактом своего
присутствия оно способствует распространению в стране здравых
научных понятий, одним из видных показателей которых является дарвинизм.
Октябрь
1919 г.
К.
ТИМИРЯЗЕВ
I
ДАРВИН,
КАК ОБРАЗЕЦ УЧЕНОГО
•
ч
ДАРВИН,
КАК ОБРАЗЕЦ УЧЕНОГО 1
Р
овно двадцать лет тому назад, 1 июля 1858 года, в заседании Лондонского Линнеевского общества была получена чрез посредство двух знаменитых ученых, Лайеля
и Гукера,
небольшая
записка, занимающая
в трудах
общества всего несколько страниц. Автором этой записки был
ученый, уже не молодой — ему было 50 лет — и уже двадцать
лет почти не покидавший своей деревни. И на этот раз
он не счел нужным явиться в заседание, да и самую записку
свою решился представить только по настоянию, почти по принуждению своих друзей. Записка эта касалась сухого, технического вопроса «о происхождении видов», а ученого звали —
Чарлз-Роберт Дарвин.
1
Публичная лекция, читанная в Московском университете 2 апреля 1878 г. (Эта лекция под названием «Дарвин, к а к тип ученого» вошла
в книгу К. А. «Некоторые основные задачи современного естествознания»,
изд. 1-е, М., 1895 г., стр. 64—114, Ред.).
Прошло два года, и мысли, изложенные на двух страничках,
облетели весь ученый мир; имя Дарвина, до тех пор уважаемое
только немногими специалистами, зоологами и геологами,
было в устах каждого натуралиста, хотя и произносилось
с весьма различными чувствами.
Прошло двадцать лет, и теперь едва ли найдется уголок
образованного мира, где бы не слыхали этого имени; мало того,
едва ли найдется образованный или даже полуобразованный че• ловек, который, сознательно или бессознательно, самостоятельно или по наслышке, не составил себе о нем мнения, все
равно лестного или нелестного, сочувственного или враждебного. Это имя и связанное с ним учение перестало быть уделом
исключительно ученых, оно сделалось достоянием всех мыслящих людей. Серьезный ученый постоянно имеет в виду это учение, но и светский человек не прочь вставить в свой разговор,
кстати или некстати, «борьбу за существование» или какое другое выражение, заимствованное из современного учения. В истории наук бывали примеры, что за известной теорией, за известной гипотезой сохранялось имя ее автора, но чтобы имя человека
сделалось нарицательным названием для целого направления,
целого отдела знания, подобного примера еще не бывало,
а между тем во многих библиографических указателях, рядом
с заголовками: зоология, ботаника, геология, вы встретите
новый — дарвинизм. Громадная литература этой новой отрасли
. знания уже и теперь едва ли под силу одному человеку; наконец,
уже возникают специальные повременные издания, имеющие
исключительною целью развитие и разработку этого учения.
Это умственное движение не ограничилось одним естествознанием; оно охватило и другие области знания: философы,
историки, психологи, филологи, моралисты приняли в нем живое участие. Как всегда случается при обсуждении вопросов,
представляющих такой всеохватывающий интерес, к голосу холодного разума присоединился и голос страстей. Возникла борьба, какой не запомнят в летописях научной мысли. В ожесточенной схватке сшиблись самые противоположные убеждения,
самые разнородные побуждения. Трезвый критический анализ
сталкивался с фанатическим поклонением; открытая справедливая дань удивления перед талантом встречалась с худо затаен-
ной мелкой завистью; всеохватывающие обобщения и напускной
скептицизм, фактические доводы и метафизические доказательства, бесцеремонные обвинения в шарлатанстве и такие же бесцеремонные обвинения в скудоумии, насмешки, глумление,
восторженные возгласы и проклятия, — словом, все, что могут
вызвать слепая злоба врагов и медвежья услуга друзей, примешалось для того, чтобы усложнить исход этой умственной борьбы. И среди этого смятения, этого хаоса мнений и толков один
человек сохранил невозмутимое, величавое спокойствие,— это
был сам виновник этого движения — Дарвин.
Какого бы взгляда ни придерживаться, на чью бы сторону
ни стать, должно прежде всего сознаться, что размеры этой
борьбы, та страстность, которую вносят в нее обе стороны, доказывают одну истину: в мир брошена новая идея, затрогивающая глубокие умственные и нравственные интересы, и целое
поколение, а может быть и не одно, будет ее развивать и анализировать, расширяя или ограничивая, пока не найдет для нее
полного, всестороннего выражения, пока не укажет ей границ.
Посмотрим же, в чем заключается основная мысль этого
учения, на какую насущную потребность человеческого разума
откликнулось оно, можно ли его считать доказанным, чем объясним его беспримерный успех и насколько успех учения зависит от личности ученого, его провозгласившего.
Познакомимся прежде всего с деятельностью этого ученого,
предшествовавшею тому заседанию Линнеевского общества,
когда его учение сделалось общеизвестным. Трудно найти жизнь,
которая была бы так бедна событиями. Сын ученого медика,
внук известного писателя Эразма Дарвина, Чарлз Дарвин родился 12 февраля н. с. 1809 года, пробыл два года в Эдинбургском университете, затем четыре в Кэмбриджском, где и получил степень баккалавра. Тотчас по выходе из университета,
в 1831 году, он отправился в кругосветное плавание на корабле
«Бигль». Пятилетнее плавание было для него школой, обогатившей его громадным запасом фактов и выработавшей замечательный талант наблюдателя и умение угадывать, верно объяснять явления природы. Плодом этого путешествия было несколько специальных исследований, отличавшихся указанными
двумя свойствами, и журнал путешествия, изданный в двух
томах и замечательный по простоте, безыскусственности и доступности изложения; книга эта, более чем специальные труды,
сделала его имя знакомым всем любителям серьезного чтения.
Возвратясь в Англию, он женился и поселился в деревне, в своем
имении, в местечке Down, где и живет до настоящего времени,
почти безвыездно*. Но специальные исследования не поглощали
всего досуга этой мирной отшельнической жизни. При том
письме, которое было представлено его друзьями в 1858 году
в Линнеевское общество, был приложен документ, доказывавший, что развиваемые им идеи были изложены им со всей полнотой уже в 1839 году, и, тем не менее, он счел возможным напечатать их вполне только ровно через двадцать лет, в 1859,
Критикам этого ученого не следовало бы никогда забывать,
что они имеют дело с человеком, который двадцать лет обдумывает свои мысли, прежде чем выпускать их в печать.
Какая же была эта мысль, в течение двадцати лет созревавшая в этом могучем мозгу? Какая была эта истина, которую он
так тщательно и долго скрывал, словно опасаясь слишком озадачить ею мир?
Изучение живых существ, растений и животных приводит
внимательного наблюдателя к одному общему заключению: все
эти существа в общей сложности поразительно совершенны,
разумея под совершенством приспособление каждой части, каждого органа к его отправлению и целого организма к среде его
существования.
Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования, — вот вопросы, которые невольно приковывали
к себе внимание натуралистов и философов, настойчиво, неотвязчиво преследуя всякого мыслящего человека, стремившегося
к сознательному миросозерцанию. Чем более накоплялось фактов, тем более росло изумление перед этим совершенством,
перед этой целесообразностью, этой гармонией органической
природы. Многие мыслители и ученые довольствовались простым констатированием факта; в ярких, иногда даже в преувеличенно ярких красках описывали они это совершенство, эти
* Напоминаем читателю, что эту лекцию К. А. читал
а Дарвин умер в 1882 г- Ред,
в 1878 г.,
чудеса, но когда им задавали вопрос: «да почему же они так
совершенны?..», то получали в ответ: «потому, что они созданы
таковыми». Но понятно, что такой ответ немногих удовлетворял, — это даже был вовсе не ответ. Это было отрицание самой
возможности ответа. Обидное сознание бессилия ума объяснить
эту общую, но на каждом шагу в новой форме повторяющуюся
загадку природы побудило иных ученых броситься в другую
крайность, — всякое новое указание на целесообразность,
на гармонию природы преследовалось насмешкой и глумлением.
Образчик такого отношения к делу мы находим у Гейне, всегда
чуткого к жгучим вопросам науки и философии. В своем путешествии на Гарц он рассказывает, как встретился с одним простоватым бюргером, который стал ему надоедать своими измышлениями о целесообразности природы. «Выведенный из терпения, — говорит Гейне, — я постарался, наконец, подладиться
под его тон и продолжал: вы правы, в природе все целесообразно, — вот она создала быка, чтобы из него можно было делать;
вкусный бульон; она создала осла, чтоб человек имел перед собой вечный предмет для сравнения; она создала, наконец^
человека, чтоб он кушал бульон и не походил на осла».
Остроумие, очевидно, было на стороне Гейне, но истина,
по крайней мере не малая доля истины, была на стороне его I
простоватого собеседника. Насмешка не разрешала и не устраняла вопроса о целесообразности органической природы. Но дело не ограничивалось одними насмешками, — доходило до того,
что поразительные факты обходились молчанием, подвергались забвению, просто отрицались — потому только, что казались слишком изумительными, слишком раздражали ум, напоминая ему о его беспомощности объяснить их. Так, например,
было с открытием насекомоядных растений в семидесятых го- I
дах восемнадцатого столетия, — его отрицали, о нем нередко
даже упоминали как о примере, до чего может увлекаться ум,
ищущий везде в природе целесообразности, пока Дарвин ровно
через сто лет не восстановил истины и не раскрыл фактов, еще
более изумительных.
Понятно, что ни лирические восторги по поводу чудес природы, ни презрительные насмешки, подобные описанной выродке Гейне, ни ложный скептицизм, предпочитающий скорее
отрицать действительность, чем сознаться в своем бессилии,
объяснить ее, нисколько не умаляли значения факта. Целесообразность органических форм и жизненных явлений продолжала попрежнему поражать всякого сознательно относящегося
к окружающим явлениям.
В ответ на насмешки, природа, как бы нарочно поддразнивая
человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, с каждым новым открытием раскрывала перед ним новые
и новые совершенства. Вопрос оставался открытым; загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и не принес к ней ключа.
Этот давно ожидаемый, давно искомый ключ заключался
в тех двух страничках, которые были прочтены 1 июля 1858 года
в Линнеевском обществе. Под сухой технической оболочкой
этой записки скрывалось новое самобытное мировоззрение,
целая философия природы, все логические последствия которой
едва ли еще исчерпаны.
В чем же заключается этот ключ, какою цепью умозаключений доходит Дарвин до желаемого объяснения причины гармонии и целесообразности органического мира? Постараемся,
в самых крупных, общих чертах проследить ход развития его
мысли.
Мы видели, что на вопрос, почему органические существа
так совершенны, наука в былое время отвечала: потому что они
созданы такими. Если этот ответ верен, если органические существа действительно возникли в том виде, в каком мы их застаем, если все эти сотни тысяч разнообразных существ когдато вылились в окончательные, неподвижные, навеки застывшие
формы, тогда, конечно, науке здесь делать нечего, ее анализ
беспомощен, он не в состоянии разло?кить подобного элементарного, первичного факта. Но если, наоборот, все эти формы
произошли постепенно, под влиянием известных нам законов
природы, тогда положение дела изменяется; тогда мы в праве
задать вопрос, — почему же действие этих законов сложилось
таким образом, что в результате получилась гармония, а не совершенно обратное явление?
Вопрос о причине совершенства организмов находится, следовательно, в связи с вопросом об их происхождении.
Для того, чтоб ознакомиться с положением этого последнего
вопроса, которое застал Дарвин, нам нужно начать несколько
издалека. По странному совпадению, ровно за полстолетие
до появления книги Дарвина и, следовательно, ровно в год его
рождения, в Париже вышло в свет сочинение Ламарка «Philosophie Zoologique» 1 . В этом замечательном сочинении в первый
раз со строго научной точки зрения возбуждался вопрос:
не могли ли все теперь существующие организмы возникнуть
с течением времени одни из других, путем постепенного, медленного процесса изменения, и не только был возбужден этот
вопрос, но и был разрешен в положительном смысле. Эта мысль,
удачно развитая и поддерживаемая Ламарком, с каждым новым шагом науки приобретала более и более вероятия. Посмотрим, какие же доводы можно привести в ее защиту.
Главным доводом служит то сходство, более или менее очевидное, которое представляют нам все организмы, несмотря
на их кажущееся бесконечное разнообразие. Одна из первых
задач, которую стремилось разрешить естествознание, заключалась в том, чтобы распутать эту сложную сеть взаимного сходства организмов; результатом этого стремления было возникновение естественной классификации. Образовав из существ,
наиболее между собою сходных, группы или собирательные единицы, получившие название видов, эти виды стали группировать по степени их сходства в более обширные группы: роды,
семейства, колена. Но что же должны были выражать все эти
степени сходства,обнаруживаемые классификацией? Не решаясь
высказаться, что они выражают близость по происхождению,
степени кровного родства, прибегли к темному, лишенному определенного смысла выражению — сродство. Говорили, что
системы выражают степени сродства, существующие между
живыми существами. Дальнейшие успехи науки показали,
что сродство между организмами не ограничивается одним внешним сходством; сравнительное изучение анатомического строения обнаруживает, что органы, даже по внешнему виду различные, даже служащие для различных отправлений, представляют известный общий склад, построены как бы по общему
1
«Философия
зоологии».
образцу, по общему плану; орган, очень развитой у одного
существа, мало развит у другого, едва развит у третьего,— на
каждом шагу встречаются так называемые переходные, промежуточные, зачаточные формы. Далее, изучение истории развития
показало, что сходства, скрывающиеся на взрослых организмах,
проявляются при сравнении их зародышей. Наконец, начало
всякого растения или животного, клеточка, комок протоплазмы,
сходно у всех без исключения организмов. Таким образом,
вся совокупность фактов, доставляемая классификацией, сравнительной анатомией, эмбриологией, указывает на существование сходства, сродства между формами, даже очень отдаленными. Рядом с этим результатом выясняется и другой общий
биологический факт: органический мир являет нам как бы
непрерывную лестницу существ, представляющих постепенные ступени усовершенствования, начиная с простых одноклеточных организмов и кончая человеком. То же оправдывается
и относительно отдельных органов: мы нередко можем проследить, как они возникли, чрез какие ступени усовершенствования прошли, пока достигли высшего развития. Как же,
наконец, объяснить себе эту сложную сеть взаимного сходства,
эту постепенно восходящую лестницу живых существ? Очевидно,
самое простое, самое естественное, невольно навязывающееся
уму объяснение следующее: все эти сходные существа произошли
одни из других, сложные из простых, совершенные из несовершенных. Стоит на место неопределенного выражения «сродство»
поставить ясное, реальное понятие «родство», — откинуть
только одну букву с, — и все станет просто и понятно.
Но если это предположение верно, то оно должно найти
себе подтверждение в истории органического мира, т. е. в геологии. И действительно, в общих чертах, вся совокупность
геологической летописи является в подтверждение этого взгляда.
Она свидетельствует, что сложное появилось позже простого;
чем отдаленнее от нас эпоха, тем проще ее обитатели и тем
менее они похожи на современные организмы; с течением времени к ним присоединяются более сложные, которые вытесняют
их; флора и фауна постепенно приближаются к современным.
Сверх того, ископаемые позднейших формаций, находимые
на различных точках земного шара, соответствуют существам,
и теперь обитающим в этих странах, как это показывает сравнение ископаемых и живущих форм Старого и Нового света. Последовательность в появлении организмов соответствует, в общих
чертах, последовательности в их усложнении, которую мы пытались выразить в наших классификациях. Так, например,
хвойные растения, которые на основании сложных микроскопических исследований и длинного ряда умозаключений мы должны поместить между бесцветковыми растениями и высшими
цветковыми, занимают как раз это место и в исторической последовательности их появления. Это согласное показание двух отраслей знания, руководящихся совершенно различными логическими соображениями и различными приемами исследования,
не может не убеждать в справедливости защищаемого воззрения
Итак, все отрасли науки об органической природе согласно
свидетельствуют о кровном родстве, о единстве происхождения
организмов. Внося это воззрение, мы вносим свет и смысл во все
наши сведения о природе; отказываясь от него, мы повергаем
все во мрак и сомнение.
И, однако, несмотря на кажущуюся логическую обязательность этого заключения, такие умы, как Кювье, как Агассис,
обогатившие науку значительной долей сюда относящихся фактов, решительно отказывались от такого заключения; они упорно
утверждали, что каждая из сотен тысяч органических форм
создана независимо от остальных. Против всех приведенных доводов они выставляли несомненный будто бы факт, — факт неизменчивости видов. Они говорили: все эти соображения о взаимном родстве организмов очень хороши, но до сих пор никто
не видал, чтобы виды изменялись, чтобы они давали начало другим видам. Это-то убеждение, этот научный догмат о постоянстве
видов и служил единственным доводом, препятствовавшим допущению учения о родстве всех организмов, о единстве органического мира. Необходимо было подорвать это убеждение в неизменяемости вида, доказать его несостоятельность, отсутствие
под ним фактической почвы. И Дарвин блистательно выполнил
эту задачу.
1
Это положение получает все новые подтверждения, становясь чуть
не самым убедительным доводом в пользу защищаемого взгляда. (Примечание 1918 г.).
К сожалению,
я не в состоянии
изложить
здесь
весь ход его аргументации — не потому, что было бы
невозможно представить ее в такой
доступной
форме, чтобы вы
сами могли быть
судьями, на чьей
стороне истина, но
потому, что для
Рис. 1.
этого
потребовалось бы более времени, чем я имею в своем распоряжении. Остановлюсь только
на одном примере, который и Дарвин считает наиболее убедительным.
Говорят, виды неизменчивы, вид не может настолько измениться, чтоб дать начало другому виду. Но вот пред нами голубь
и вот другой голубь, — и вы видите, что ни один из них не похож
на другого и ни один из них не похож на простого голубя;
и все же это — голуби и происходят от настоящего голубя,
и, тем не менее, если б их нашли в естественном состоянии
в природе, то не признали бы в них обыкновенных голубей,
а установили бы не только два новых вида, но даже, пожалуй,
два новых рода.
В виду таких фактов и других не менее убедительных доводов, приведенных Дарвином, учение о постоянстве вида уже более не выдерживает критики, а вместе с ним падает единственная
преграда для принятия учения о единстве органического мира.
Ничто не говорит против него, а все свидетельствует в его
пользу, следовательно, мы должны признать в нем единственное
согласное с действительностью воззрение на органический мир.
Как ни велика заслуга Дарвина в этом отношении, она еще не
составляет его главной заслуги. Всю силу доводов, приведенных
Дарвином, сознавал уже и Ламарк, только Дарвин привел в их
защиту такую массу тщательно, критически проверенных фактов, что дальнейшее сопротивление стало невозможным. Этим он
так сказать, расчистил дорогу, проложил путь для той части
своего учения, которая всегда остается связанной с его именем,— для той части, которая стремится разрешись основную задачу— причину совершенства и гармонии органического мира.
ф.
Мы допустили, таким образом, что все организмы находятся
в кровном родстве, что они произошли одни из других медленным, непрерывным процессом исторического развития, о котором
свидетельствует геология. Но почему же этот исторический процесс неуклонно вел к совершенствованию, почему в основе органического мира лежит закон прогресса, а не обратное явление?
Теория Дарвина дает нам первый удовлетворительный ответ
на этот вопрос.
Для объяснения этого закона прогресса Дарвин прибегнул
к приему до того оригинальному, до того с первого взгляда
парадоксальному, что многие из его противников и обличителей, в том числе некоторые из наших отечественных, до сих
пор не могут или не хотят его понять. Для объяснения того,
что совершается в природе под влиянием физических сил,
он обратился за сравнением к тому, что совершается под влиянием разумной воли человека.
Все искусственные произведения человека, выведенные им
породы животных и растений, несут несомненный отпечаток совершенства, разумеется, условного, т. е. сточки зрения пользы
человека, а не пользы самого организма. Во всех этих организмах отражается мысль и воля человека; они представляют осуществление известных задуманных им целей. Каким же путем
осуществлял он эти цели? Каким путем заставил он органические формы изменяться соответственно его желанию? Для этого
в практике садоводов и скотоводов давно существует один общий
прием, так называемый отбор. Он основан на следующих двух
• общих свойствах организмов, на следующих двух коренных
законах. Похожи ли дети на своих родителей? И да и нет, вообще говоря, похожи, но не безусловно. Это да есть заявление
одного закона природы — закона наследственности; это нет
4
К. А. Тимирязев,
т.
VII
49
есть заявление другого закона природы — закона изменчивости.
Органические существа могут неизменно передавать свои особенности потомству, но могут также изменяться и передавать
свои изменения потомству. Не существует двух организмов,
безусловно ме^ду собою сходных, — семена, взятые с одного
растения, из одного плода, обнаруживают различия, и эти различия часто передаются потомству. Сочетанием этих двух свойств,
наследственности и изменчивости, т. е'. наследственной передачей изменений, человек пользуется для того, чтобы по своему
желанию, так сказать, лепить органические формы. Изменчивость доставляет ему необходимый материал, наследственность
дает средство закреплять и накоплять этот материал. Для этого
он только тщательно в каждом поколении отбирает наиболее
соответствующие его целям существа и оставляет их плодиться
отдельно. В этом заключается весь несложный прием отбора,
несложный по основной мысли, но требующий громадной
наблюдательности и навыка для удачного осуществления. В тех
случаях, когда отбор производится на большую ногу, как,
например, в садоводстве, весь процесс ограничивается истреблением менее удовлетворительных существ; тщательно выпалывая
в своей гряде все неудовлетворительные экземпляры, не дозволяя им оставлять потомства, садовод не только сохраняет,
но из года в год совершенствует свою породу, заставляя ее приближаться к задуманному им идеалу.
Убедившись, что вся тайна успеха при выводе искусственГ ных пород заключается в этом процессе отбора или браковки,
Дарвин ставит вопрос, не существует ли в природе отбора, безличного отбора, отбора без отбирающего лица, без руководящей
, воли, как в отборе человека, а исключительно под влиянием
известных нам свойств организмов и окружающей среды?
Для того, чтобы скачок не показался слишком резким, он
напоминает, что в деле усовершенствования пород животных
и растений человек только недавно является сознательным деятелем; он поясняет, что систематическому, сознательному отбору
предшествовал отбор бессознательный, в котором по отношению
к достигаемому результату человек является совершенно бессознательной стихийной силой. Так, например, дикари в голодные годы бывают вынуждены сокращать число своих собак:
очевидно, они всегда истребляют менее удовлетворительных жив о т н ы х ^ в результате оказывается улучшение породы, которое
вовсе не имелось в виду, так как дикарь, если б мог, сохранил бы
и менее удовлетворительных животных.
Значит, вместо того, чтобы спрашивать, существует ли в природе бессознательный отбор, мы можем сделать более простой,
более определенный вопрос, — существует ли в природе уничтожение, истребление неудовлетворительных существ?
В ответ на этот вопрос Дарвин развертывает перед нами картину истребления, совершающуюся вокруг нас ежечасно, ежеминутно, на каждом шагу, и в таких размерах, перед которыми
невольно теряется мысль. Доказательство существования такого
процесса основывается на следующих незыблемых численных
данных. Воспроизведение живых существ неизменно связано
с их размножением. Всякое растение, если бы оно существовало
одно на земле, в самый короткий срок должно было бы завладеть
всей доступной ему поверхностью земли. Если бы сохранилось
все потомство одного одуванчика, т. е. ветер разнес бы все его
семена, и каждое дало бы начало растению, то десятому поколению было бы тесно на земле. Если бы проростали все семена
одного обыкновенного в наших лесах растения —- кукушкиных
слезок, то третье поколение •— внуки одного растения — покрыли бы всю землю сплошным ковром. В одной капле воды помещается 30 ООО ООО тех бактерий, о которых в последнее время
приходится слышать так много страшного, и это население удваивается каждые 20 минут. Даже человек, так медленно размножающийся, не представляет исключения; если б население повсеместно увеличивалось бы, как теперь в Соединенных Штатах*,
то в 2535 году род человеческий покрыл бы всю землю, сушу
и воду сплошной толпой, примыкая плечом к плечу.
Из этих цифр можно сделать один вывод. На каждый сохраняющийся организм гибнут миллионы; большая часть жизней
гибнет в состоянии возможности. Но кто же будет этот избран* В 1878 г., когда читалась эта лекция, К. А. акцентировал внимание
на Соединенных Штатах,как на стране демократической, выдвигая и в данном случае своеобразное обвинение российскому самодержавию. Ныне,
как известно, США имеют 12 млн. безработных, я в л я я с ь типичной страной
умирающего капитализма. Ред.
4*
51
:
ник? Какое обстоятельство решит, кому из этих миллионов существ следует жить, кому умереть? Очевидно, между всеми
конкурентами должна завязаться борьба или, вернее, состязание, призом которого будет жизнь. Но кто же произнесет этот
приговор? Слепые силы природы. И их приговор будет верен
именно потому, что он будет слепой, механический, — недаром
и самую идею правосудия мы себе представляем с повязкой
на глазах, с весами в руках. Исход этого состязания, приговор
природы, будет обусловливаться одними только достоинствами
конкурентов: победителем выйдет тот, в организации которого
окажется хотя бы одна ничтожная черта, делающая его более
совершенным, т. е. более способным к жизни при данных условиях. .И должно заметить, что одна победа не решает исхода
борьбы, можно сказать, что каждый организм в каждый момент
своего существования находится под давлением всех остальных
организмов, готовых у него оспаривать каждую пядь земли,
каждый луч солнца, каждый клок пищи. Над каждым существом постоянно висит вопрос «быть или не быть», и сохраняет
оно свое право на жизнь только под условием — в каждое
мгновение своего существования быть совершеннее своих соперников.
Итак, в этом состязании, в этой борьбе за существование
решающим обстоятельством является собственное совершенство
состязающихся, никакое другое условие немыслимо; значит,
результатом этого процесса будет неизбежное сохранение наиболее совершенного, т. е. отбор. Отбор без отбирающего лица,
самодействующий, слепой и безжалостный, работающий без устали и перерыва в течение несметных веков, отбирающий одинаково и крупные внешние особенности и самые ничтожные
подробности внутреннего строения — под одним только условием, чтоб они были полезны для организма; естественный
отбор — вот причина совершенства органического мира; время
и смерть — вот регуляторы его гармонии.
Таким образом, мы видим, совершенно изменяется старая
телеологическая точка зрения, по которой мир существовал
для человека. С точки зрения учения об естественном отборе
всякая сколько-нибудь приспособленная форма органа может
возникнуть лишь под условием —быть полезной для ее обла-
дателя, если же мы встречаем явное приспособление одного
существа к потребностям другого, тогда польза должна быть
взаимная, — таково, например, как увидим ниже, приспособление цветов к насекомым и насекомых к цветам, — польза
этого приспособления обоюдная. Дарвин делает вызов —
указать ему хотя на один орган, приспособленный не для
пользы его обладателя, а исключительно для пользы другого
существа, и такого органа не нашлось в природе. Гейне, следовательно, был прав, иронически давая понять своему собеседнику, что и бык и осел существуют не для него, а для себя
самих. Сохраняя старое слово — целесообразность, мы придаем ему новый смысл. Не в виду, не в ожидании пользы созидались все эти совершенные органы и целые организмы, а сама
польза создала их. Вместо предполагаемой цели, мы имеем действительную причину. Совершенство органического мира не есть
возможная, гадательная цель, а неизбежный, роковой результат
законов природы.
Попытаемся сделать общую оценку этого учения во всей его
совокупности, т. е. разумея под ним и родственную связь организмов, и их происхождение путем естественного отбора. Что
говорит в пользу этой теории? — Все. Что говорит против нее?—
Ничего. Что можно ожидать от нее? — Многого, и если двадцатилетнее прошлое может служить ручательством за будущее,
то она, конечно, оправдает эти надежды. Если я говорю, что все
свидетельствует в ее пользу, то потому, что едва ли найдется
какая-нибудь отрасль биологии, в которую она не внесла бы
новый свет и смысл. Если говорю, что ничто не свидетельствует
против нее, то потому, что действительно до сих пор не выставили ни одного общего возражения, которое не было бы предусмотрено Дарвином в его книге или отражено в последующих
изданиях. Предъявлялись и специальные возражения или, скорее, сомнения насчет приложимости учения к тому или другому
частному случаю, но и эти частные ' затруднения устранялись
по мере их появления. Разбирать все эти возражения и ответы
на них нам решительно невозможно по недостатку времени.
Учению, обнимающему несметное число фактов, весь органический мир, несмотря на страстное желание, не могли сделать
в течение двадцати лет ни одного веского возражения, — разве
это уже не ручательство за его верность? Противники дарвинизма, чувствуя свое бессилие опровергнуть его, очень охотно
бросают в глаза его защитникам упрек: это только гипотеза.
Этот упрек особенно комичен в устах людей, которые сами стоят
на почве гипотезы, произвольной, голословной гипотезы самостоятельного происхождения видов. Допустим, что теория Дарвина только гипотеза, но какое различие между двумя гипотезами? С одной стороны, гипотеза обобщающая, согласующая факты
из самых разнородных областей знания, оправдавшаяся на бесчисленных случаях и дозволившая предвидеть другие,— гипотеза, не нуждающаяся ни в каких произвольных посылках,
опирающаяся на двух, трех общих законах природы, — гипотеза, не только удовлетворяющая идеальным стремлениям
человека объяснять явления, но сделавшаяся, по справедливому замечанию Аза Грея, рабочей гипотезой, т. е. новой
рабочей силой, в высшей степени плодотворной, побуждающей
к свежей деятельности и открывшей новые области для исследования. С другой стороны, гипотеза о самостоятельности видов, основанная на совершенно произвольной, бездоказательной посылке, ничего не объясняющая, а, напротив, становящаяся
на пути всякого объяснения,вносящая всюду мрак и недоумения,
тормозящая всякий успех, отнимающая всякую энергию у исследователя, предваряя его,что он может открывать новые факты,
но никогда не поймет того, что откроет.
Но учение Дарвина не есть только гипотеза в смысле простой
догадки, это — необходимый, логически обязательный вывод
из нескольких фактов, — вывод, от которого нельзя уклониться.
Пусть опровергнут существование изменчивости, наследственности и быстротой прогрессии размножения пусть опровергнут
свидетельство геологии о несметном ряде веков, истекших
со времени появления жизни на нашей планете, а до тех пор учение об естественном отборе является логически неизбежным
выводом. Мы не в состоянии еще доказать, как велики могли
быть его результаты, но сомневаться в том, что этот процесс
существует в природе, решительно невозможно.
«Естественный отбор, — говорит Дюбуа-Реймон, — не есть
какое-нибудь эмпирическое правило, которое завтра может оказаться несостоятельным. Правда, мы еще не можем признать
за ним непогрешимости одного из тех физико-математических
законов, которые управляют материальным миром. Но, тем
не менее, вытекая из целой цепи умозаключений, он является
обязательным для нашего ума выводом, занимающим положение среднее между правилом и естественным законом и ближе
к последнему».
При оценке всякого учения мы необходимо можем о нем судить лишь на основании наших настоящих сведений. Будущее
для нас темно. Быть может, со временем возникнет новое учение, которое разовьет и видоизменит теорию отбора, об этом
бесполезно гадать; одно только не подлежит сомнению, что расчеты с прошлым покончены. Если научная борьба еще длится,
то исход ее уже давно выяснился, и в истории науки мало найдется примеров такой решительной и блестящей победы.
«Это был взрыв, — говорит тот же Дюбуа-Реймон, — какого
еще не видывала наука, — так долго подготовлявшийся и так
внезапно нагрянувший, так неслышно подведенный и так смертоносно разящий. По размерам и значению произведенного разрушения, по тому эхо, которое отозвалось в самых отдаленных
областях человеческой мысли, это был научный подвиг, не имеющий себе подобного. В сферах чистой науки уже успели
очнуться от первого впечатления. Столбняк уступил место спокойному обсуждению. Новое поколение, подросшее среди этой
борьбы, со свежими силами становится во главе движения.
Правда, еще раздаются вопли нескольких одиноких чудаков,
но наука, не обращая на них внимания, переходит к очередным
делам, и теперь всеми сторонами признано, что теория самостоятельности видов, защищаемая Кювье и Агассисом, должна
уступить место учению Дарвина» *.
*
Я только что успел сказ ать, что мы не в состоянии разбирать
здесь возражения, предъявляемые против теории Дарвина,
и отвечать на них; но есть одно общее возражение или, скорее,
* См.: Е. du Bois R e y m o n d . — Darwin und Kopernicus. Reden, 11,
1887. E. du Bois Reymond. — Leibnitzsche Gedanken in der neueren Naturwissenschaft. Berlin, 1870. Ред.
обвинение, которое нельзя обойти молчанием, некоторое нужно
отвечать именно здесь. Это — старое, вечное обвинение, которое
слышали и Сократы, и Галилеи, и Ньютоны, — слышали все,
кто имел несчастье или высшее счастье вывести мысль из однажды проторенной колеи на новый широкий путь развития. Это—
обвинение в безнравственности. Это обвинение можно услышать
в устах любого болтуна, знающего теорию лишь по названию,
но, что больно и обидно, то же обвинение можно слышать в устах
людей, которые по силе своего таланта, по чистоте своих побуждений призваны быть учителями своего общества, своего
народа.
Все это ваше учение о борьбе за существование, — восклицают искренно или притворно негодующие обличители, — что же
это, как не преклонение перед грубой силой; это — сила, попирающая право; кулак, торжествующий над мыслью; это — человеческие чувства, отданные в жертву животным инстинктам,
это, наконец, — оправдание, апофеоз всякого зла и насилия.
Но я боюсь, что я недостаточно красноречив в этой роли обвинителя, и потому прошу у вас позволения продолжать собственными словами одного из этих негодующих моралистов.
: «Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего
. и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил,
потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто
открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование
j и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удоs влетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого
не мог открыть разум, потому что это неразумно» 1 . Излишне
пояснять, что это говорит нам коротко знакомый Левин. Должно
сознаться, что вопрос поставлен ясно: учение о борьбе за существование, распространенное на человека, противоречит нравственному принципу любви. Чувство, совесть громко говорят —
люби, ближнего, разум, наука нашептывают — души его. Можно
ли на минуту колебаться в выборе? Вывод может быть один: —
во имя нравственности долой науку.
Но именно эта ясность, эта категоричность в постановке
вопроса облегчают защиту. Вместо того, чтоб оправдываться,
1
Анна Каренина, ч. 8, стр. 78. (См. «Л. Н. Толстой. — Полное собрание сочинений», том 19, стр. 379. Ред.)
защищаться, приходится задать один вопрос самому обвинителю, — вопрос, сознаюсь, крайне невежливый, в благовоспитанном обществе даже нетерпимый, но, к сожалению, неизбежный
почти всегда, когда приходится иметь дело с противниками и обличителями Дарвина, — это вопрос: читали ли вы эту книгу, которую так красноречиво обличаете? И, не дожидаясь ответа,
можно ответить: нет, не читали. Потому что если бы читали,
то знали бы, что в этой книге 1 находится III глава, которая
исключительно посвящена нравственному чувству, чувству любви к ближнему, тому чувству нравственного долга, который
заставляет нас жертвовать собою ради ближнего или ради
идеи. Вы бы знали, что'в этой книге есть еще V глава, в которой разбирается происхождение этого нравственного чувства;
вы бы, наконец, знали, что борьба за существование в применении к человеческому роду не значит ненависть и истребление,
а, напротив, любовь и сохранение.
Вот что узнал бы Левин, если бы дал себе труд заглянуть
в эту книгу; узнал бы и многое другое, узнал бы между прочим, почему это ему сказали в детстве именно то, что уже было
у него в душе; узнал бы, что это учение дает нам, быть может,
единственное объяснение для так называемых прирожденных
идей. •
А так как он этого ничего не знает, то, очевидно, борется
' против врага, созданного его собственным воображением, по наслышке, налету, подхватив одно слово «борьба».
Но как же, в самом деле, объясняет Дарвин, что _это начало
борьбы становится в приложении к человеку началом, способствующим, а не препятствующим развитию нравственного чувства любви к ближнему? Очень просто: человек, — говорит он,—
прежде всего существо социальное, стремящееся жить обществом, и эти-то социальные инстинкты, это чувство общественности становятся исходной точкой нравственности.
В применении к человеку (отчасти и к йёкоторым животным, имеющим социальные инстинкты) борьба за существование
ч не ограничивается борьбой между неделимыми, к ней присоединяется еще борьба или состязание между собирательными еди1
«Происхождение человека» и пр.
ницами, — между семьями, между племенами, расами, а в этой
борьбе или, вернее, состязании успех настолько же зависит
от материальной силы и умственного превосходства по отношению к врагам, как и от нравственных качеств по отношению
к своим.
Поясним примером. Представим себе, например, два племени;
одно, обладающее превосходством в отношении физической
силы, но вовсе не обладающее материнскими инстинктами, —
и рядом другое, в физическом отношении более слабое, но
в котором сильно развиты инстинкты матери, забота о детях.
Если первое и будет одолевать последнее племя в частных
случаях прямой борьбы, то конечный результат естественного
отбора несомненно будет в пользу второго. Любовь матери, это
самое идеальное из чувств, есть в то же время самое могучее оружие, которым слабый, беззащитный человек должен был
бороться против своих сильных соперников не в прямой,
а в более важной, косвенной борьбе за существование. Итак,
нравственные качества неделимых несомненно полезны для собирательных единиц. Общество эгоистов никогда не выдержит
борьбы с обществом, руководящимся чувством нравственного
долга. Это нравственное чувство является даже прямой материальной силой в открытой физической борьбе. Казалось бы,
что человек, не стесняющийся никакими мягкими чувствами,
дающий простор своим зверским инстинктам, должен всегда одолевать в открытой борьбе, и однако на деле выходит далеко
не так. «Превосходство дисциплинированных армий, — справедливо замечает Дарвин, — над дикими ордами заключается
главным образом в том нравственном доверии, которое каждый
солдат имеет к своим товарищам».
Моралисты обыкновенно не любят, когда о нравственности,
о добродетели говорят с утилитарной точки зрения; они видят
в этом какое-то оскорбление, а между тем сами, когда желают
доказать ее необходимость, приводят те же утилитарные доводы. Спросйте их, на что нужна нравственность, — вот
Левина не нужно даже и спрашивать, он сам за несколько
строчек до приведенного места дает нам ответ: если бы я не имел
этих верований, я бы грабил, лгал, убивал. Значит, нравственность препятствует вам наносить вред обществу, значит, нрав-
ственность, какого бы она ни была происхождения, прямо
полезна, а все полезное, будет ли то материальная особенность
строения или идеальное чувство, — подлежит естественному
отбору, т. е. сохранится и будет совершенствоваться.
Следовательно, по мнению Дарвина, нравственное чувство
берет начало в социальных инстинктах человека. Прежде всего
выработалось понятие долга по отношению к ближнему и затем
уже по отношению к самому себе и высшему нравственному
идеалу. Тот нравственный разлад, на который так любят указывать моралисты, та внутренняя борьба между материальными
аппетитами и чувством долга — только остаток борьбы между
эгоистическими инстинктами ветхого человека с его исключительно индивидуальными стремлениями и социальными инстинктами человека, созданного обществом и для общества. И развилось это чувство, по мнению Дарвина, из самого святого, самого
древнего чувства — чувства матери, расширяясь постепенно
на всю семью, на племя, расу, чтоб в идеальной форме обнять все
человечество. Современный дикарь ценит правдивость, честность, — но только по отношению к своим; обмануть врага счи- і
тается добродетелью. Да и мы, европейцы, — замечает Дарвин — j
точно ли мы всегда ценим правдивость ради правдивости, —
точно ли и у нас нет двух мерок, для своих и для чужих? Если
вы в этом сомневаетесь, — говорит он, — посмотрите .на дипломатов.
К сожалению, недостаток времени-вынуждает меня говорить
почти общими местами и этим отступать от самого духа этого
учения, которое никогда, ни на минуту не покидает фактической почвы, которое и эти идеи подкрепляет массой фактов.
Но я все же надеюсь, мне удалось вас убедить, что Дарвин
не проповедует людоедства, как в том желали бы уверить его
нравственные противники. Напротив того, признавая в нравственном начале, в любви к ближнему, высший атрибут человека, он только старается доказать, что это начало полезно
и потому необходимо, роковым образом должно побеждать начало эгоизма,—он только старается доказать необходимость нравственности, с очевидностью какой-нибудь механической истины.
Итак, моралистам, подобным Левину, мы отвечаем: прежде
всего познакомьтесь с этим учением, в которое бросаете камнем,
а затем чистосердечно, положа руку на сердце, отвечайте, что
нравственнее: утверждать ли, что ближнего любить можно,
хотя это не разумно, или утверждать, что ближнего любить должно потому именно, что это разумно? Что нравственнее: утверждать ли, что голос совести противоречит голосу рассудка, или
принимать, что совесть — только безличный разум бесчисленных поколений, предшествовавших нам на пути развития?
Что, одним словом, нравственнее: голословно ли утверждать,
что нравственность противна разуму, или пытаться доказать,
как это делает Дарвин, что нравственность есть только высший
разум?
Желая принести науку в жертву своей условной нравственности, вы оказываете ей плохую услугу, — вы клевещете на науку, но еще более клевещете на свою нравственность.
*
От учения переходим к ученому; посмотрим, в каком отношении находится учение к самой личности автора, каким качествам лица обязано оно своим успехом.
Прежде всего, — тому неуловимому, не поддающемуся анализу свойству, которое, за неимением более точного определения,
мы называем гениальностью. В области естествознания всякая
действительно плодотворная научная мысль,—мысль, раскрывающая науке новые горизонты, представляет три момента, три
ступени развития, почти соответствующие тем трем ступеням
развития, чрез которые, по мнению положительной философии,
прошла вообще человеческая мысль. Это, во-первых, ступень
угадывания истины — ступень творчества; за ней следует ступень логического развития этой творческой мысли во всех ее
последствиях и, наконец, третья ступень — проверки этих выводов путем наблюдения или опыта, — ступень собственно научного исследования.
Эта первая ступень — ступень творчества — и составляет
главную особенность гения, — все равно, выразится ли это
творчество в научной гипотезе, философской системе или поэтическом произведении, — все равно, называется ли этот гений
Шекспиром, Спинозой или Ньютоном. Но мещду тем как мысль
поэта проходит только одну стадию, мысль философа — две,
мысль ученого необходимо должна пройти все три. Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя —
вот материалы, из которых слагается великий ученый*.
Толпа любит разоблачать этот процесс научного творчества,
она думает, что может захватить гения врасплох, в самом процессе творчества и объяснить его какой-нибудь внешней, механической случайностью. Она любуется в Пизанском соборе
паникадилом, открывшим Галилею основные законы механики;
она пересказывает анекдот об яблоке, открывшем Ньютону
закон тяготения; к этим легендарным паникадилам и яблокам
со временем, вероятно, присоединится еще какое-нибудь стойло,
открывшее Дарвину закон естественного отбора. Все это может
быть и верно; но верно и то, что яблоко падало и до Ньютона,
садоводы и скотоводы выводили свои породы и до Дарвина, —
но только в мозгу Ньютона, только в мозгу Дарвина совершился тот смелый, тот, казалось бы, безумный скачок мысли,
перескакивающей от падающего тела к несущейся в пространстве планете, от эмпирических приемов скотовода — к законам,
управляющим всем органическим миром. Эта способность угадывать, схватывать аналогии, ускользающие от обыкновенных
умов, и составляет удел гения. Но если и поэтическое творчество, конечно, основывается на обширном запасе наблюдений,—
то это несомненно по отношению к творчеству научному. Изобретению научной гипотезы необходимо должно предшествовать
возможно полное знание тех фактов, которые она должна
объяснить. Но именно это сочетание двух условий — творче-І
ства и обширного запаса сведений в одном лице — и составляет!
редкое явление. С одной стороны, можно встретить ученых,
обладающих громадным запасом сведений, обладающих аналитической способностью изучать частные явления и обогащать этим
материалом науку, но неспособных к синтетической работе
мысли,—неспособных связывать, обобщать этот сырой материал.
С другой стороны, можно встретить умы, которые, тяготясь
разработкой частностей, пытаются истолковать природу путем
смелых догадок, построенных на очень тесном и шатком фунда* Выраженная здесь характеристика творческого процесса
философа и ученого, конечно, условна и схематична. Ред.
поэта,
менте, забывая, что достоинство этого синтетического труда
находится в прямой зависимости от качества предшествовавшего
ему труда аналитического. Но, что еще страннее, бывают случаи,
I что обе эти деятельности, совмещаясь в одном лице, тянутся,
не сливаясь, как бы две самостоятельные струи; в своей аналитической деятельности ученый стоит на строгой почве факта,—
в области обобщений довольствуется смелыми сравнениями,
отдаленными аналогиями; принимая возможное за вероятное,
вероятное за истинное, он все выіне и выше возводит свое
здание — на песке. Примером подобной личности был отчасти
Ламарк; строгий ученый в области специальных исследований,—
в области гипотез он был нередко мечтателем: он никак не мог
примириться с мыслью, что наука — дитя своего времени, что
забегать вперед, дополнять отсутствующие факты умозрениями
и догадками невозможно. Этим объясняется его неудача. Блестящие, вполне верные мысли разделили общую участь с его увлечениями: они не устояли против холодной критики Кювье.
Злоупотребление умозрением, неправильное отношение к роли гипотезы в науке вызвали в биологических науках понятную
реакцию; явилось воззрение, что настоящее назначение науки
заключается в разработке частностей. Явились целые полчища
специалистов, различных истов и логов, размежевавших приj роду на мелкие участки и не желавших знать,что творится за пре' делами их узкой полосы. Смешивая осторожность с ограничеи» ностью, трезвость и строгость мысли — с отсутствием всякой
мысли, эти пигмеи самодовольно провозглашали, что наш век —
не век великих задач, а всякого, пытавшегося подняться над общим уровнем, чтобы окинуть взором более широкий горизонт,
величали мечтателем и фантазером.
Такого-то мечтателя, созидающего мир из глубины своего
сознания, полагали они встретить в Дарвине при первом слухе
об его учении, и ?кестоко ошиблись. Перед ними был не мечтатель, даже не кабинетный ученый, знакомый с природой из книг
и музеев, — перед ними был человек, видавший природу лицом
к лицу. Зоолог, геолог, ботаник, совмещавший в себе почти все
современные биологические знания, он изучал эту природу
и в девственных лесах Бразилии, и в соседнем огороде, и в водах Великого океана, и у себя на голубятне. Он мог сказать
всем этим специалистам, заподозрившим его в неосновательности,
в поспешности, что не менее их потрудился на поприще специальных исследований, — только у него все эти исследования клонились к одной общей цели. В нем никогда не было разлада между аналитической и синтетической деятельностью; обе они составляли одно целое, одна служила необходимымдополнением и продолжением другой. Весь этот громадный материал — результат
целой жизни — был подчинен одной идее, которую можно
было развить в 6 положениях, на двух страничках. Едва ли
в истории наук можно найти второй пример деятельности, представляющей столько разнообразия в частностях при таком единстве общего замысла.
Итак, на первой стадии развития своего труда Дарвин представляется нам творцом гениальной мысли, опирающейся на колоссальный запас фактов.
Переходим ко второй стадии. Еще мало напасть на счастливую мысль, — нужно ее развить. На этой стадии натуралист наиболее нуждается в том качестве, іхоторое особенно характеризует
деятельность философов и математиков, — в способности выследить мысль во всех ее изгибах, усмотреть, до малейших подробностей, последствия, вытекающие из общего положения, предупредить все возможные противоречия. И в этом отношении труд
Дарвина представляется редко досягаемым образцом. Мы уже
говорили, что ему не было предъявлено ни одного веского общего возражения. В развитии своей идеи никогда не покидает
он фактической почвы, никогда (кроме одного случая, который
он зато и обставил всевозможными оговорками) не застанете его
за чисто умозрительными, отвлеченными рассуждениями. Никогда не увлекается он вопросами, неразрешимыми при современном состоянии науки: таково, например, его отношение
к вопросу о самопроизвольном зарождении и первоначальном
появлении организмов; как ни старались его вовлечь в обсуждение этого вопроса, высказывая в печати предположения о том,
каковы должны быть его мнения, — он упорно хранил молчание*. И нельзя не заметить' своеобразности его способа аргу* Отношение Дарвина к вопросу о самопроизвольном зарождении
едва ли можно объяснить тем, что вопрос этот был неразрешим при тогдашнем состоянии науки. В 1862 г. Л у и Пастер окончательно опроверг
•
ментации; непривычному читателю кажется, что сочинение
имеет чисто повествовательный характер; вам кажется, что
автор все только рассказывает, а не доказывает, и только
когда в конце главы или книги, в нескольких мастерских
чертах, он подводит итог, вы убеждаетесь, что его цель достигнута, что остается только сдаться перед очевидностью его
доводов.
Следовательно, и по отношению к этой второй ступени развития научной мысли приходишь к заключению, что едва ли
когда ученому представлялась такая сложная по своим последствиям логическая задача, — задача, обнимающая целый цикл
наук, начиная геологией и кончая психологией, и едва ли когда
все логические последствия такой сложной мысли были выслежены, почти истощены, в таком совершенстве.
Переходим к третьей и последней ступени — к фактической
проверке приобретенных выводов. Здесь, как в выборе предмета,
так и в его обработке, открывается простор для применения
способностей собственно ученого, здесь обнаруживается искусство исследователя. Как почти вся деятельность, предшествовавшая появлению его книги «О происхождении видов», была подготовлением к ней, так вся последующая деятельность, до настоящей минуты, была ее разъяснением и подтверждением.
Каждые два, три года появлялось по одному или по два, знакомых каждому натуралисту, зеленых томика, заключавших
или развитие положений, находящихся в его книге, или их
применение к какому-нибудь частному случаю 1. При выборе этих
частных случаев он умышленно останавливался на самых сложных вопросах, на изучении тех поразительно приспособленных
органов, которые своей необъяснимой, чудесной.целесообраз-
теории о существовании самопроизвольного з а р о ж д е н и я микроорганизмов в современных условиях. О блестящих исследованиях Пастера, связанных с разрешением этого вопроса, К . А. говорит в своем очерке «Луи
Пастер» (в настоящем издании см. том V, стр. 191). Сравни также стр.
85 этого тома. Ред.
1
Примером первого с л у ж и т появившееся в 1868 г. сочинение «О прирученных животных и возделываемых растениях», представляющее в двух
томах материалы в подкрепление положений, высказанных в одной главе
его книги «О происхождении видов».
ностыо отталкивали прежних исследователей, и каждый раз
успевал показать, что эти явления объяснимы с его точки
зрения.
Так, в одном сочинении * он описывает поразительные приспособления в форме цветков орхидей, которые способствуют
их опылению при помощи насекомых, перелетающих с цветка
к цветку. В другом сочинении ** описаны клонящиеся к той же
цели приспособления у множества других растений. Эти исследования открыли новое обширное поле деятельности для ботаников, и вопрос этот уже имеет богатую литературу.
Но существование этих сложных приспособлений, существование этой гармонии между организацией существ, относящихся
к различным царствам природы, может быть объяснено, с точки
зрения теории естественного отбора, только в таком случае,
если допустить взаимную пользу этого явления. Для насекомых эта польза очевидна: они посещают цветы для того, чтобы
питаться их медом. Но какая же польза растению от этих посещений? Относительно орхидных объяснение было бы еще просто:
большая часть из них без содействия насекомых вовсе не могла
бы оплодотворяться; относительно остальных приходится допустить, что для растения вообще полезно, чтобы оно оплодотворялось не своей, а чужою пыльцою; и вот Дарвин предпринимает
целый ряд экспериментальных исследований, иногда тянущихся
целые десять лети составляющих содержание третьей книги***.
В результате оказывается подтверждение, по отношению к растению, закона о вреде браков в близких степенях родства и,
следовательно, о пользе перекрестного опыления. Таким образом,
эти три томика составляют целую, всесторонне обработанную
научную доктрину, бросающую новый свет на темное явление
полового размножения и разъясняющую значение частей цветка,
его формы, развития, цвета и запаха, а все вместе являются доказательством справедливости той теории, которая послужила
ключом для этого объяснения.
* «Приспособления орхидных к опылению насекомыми», 1862 г. Ред.
** «О различных формах цветков у растений, принадлежащих к одному и тому же виду», 1869 г. Ред.
*** «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире», 1876 г. Ред.
О • Li. А. Тимирязев,
т.
VII
65
Такой же результат получился и по отношению к насекомоядным растениям. Факт, что листья некоторых растений обладают раздражительностью, так что захлопываются от прикосновения насекомых, был давно известен, но ученые не
хотели верить, что растение может питаться пойманными насекомыми,— это казалось им слишком чудесно-целесообразным. Но с точки зрения естественного отбора такое сложное
приспособление могло возникнуть только в силу полезности этого
процесса, как питания. Дарвин предпринимает исследование и
раскрывает целый ряд поразительных фактов, поставивших
учение о плотоядности растений вне сомнения и показаших,
что это явление далеко не так редко, к а к полагали *.
Вьющиеся растения доставляют ему третий пример, подкрепляющий его теорию 1 .
Наконец, он не остановился и перед самой трудной задачей— применения своего учения к вопросу о происхождении
человека, его физических, умственных и нравственных свойств,
и успел в этом, насколько ему позволила сложность задачи
и скудность фактических данных.
Подводя итог всей научной деятельности Дарвина, прежде
всего встречаемся с поразительным явлением — целой 70-летней
жизни, посвященной развитию одного учения, а переходя
к оценке самого учения, мы должны признать в ученом творца
гениальной гипотезы, обладающего неотразимой логикой и
талантом исследователя,—двумя качествами, дозволившими
ему выследить и проверить новыми фактами справедливость
этой гипотезы и, таким образом, превратить ее в несомненную
научную теорию. Одним словом, мы должны признать в нем
редкое гармоническое сочетание тех трех основных качеств,
которые образуют идеальный тип ученого.
Немаловажным элементом успеха его учения было и мастерское, сжатое изложение его знаменитой книги, написанной
1
Последнее сочинение Д а р в и н а , находящееся в связи с его теорией,
именно: «О способности растений к движению», доказывает, что движение вьющихся стеблей, равно к а к и другие случаи целесообразных движений, вытекают из одного общего свойства растений и, следовательно,
могли возникнуть и развиться путем отбора, в силу своей полезности.
* Книга Дарвина «Насекомоядные растения» вышла в 1875 г. Ред.
притом языком, доступным всякому образованному человеку,
привыкшему к серьезному чтению. Учение, охватывающее весь
органический мир, требующее томов оправдательных документов, затрогивающее самые запутанные вопросы естествознания,
сжато в одном небольшом томике, в одной заключительной
главе, в одной последней страничке. Паскаль оканчивает одно
из своих писем остроумным парадоксом: извиняясь в том, что
написал такое длинное письмо, он оправдывается тем, что не
имел времени написать более короткое. Когда двадцать лет
обдумываешь свои мысли, тогда имеешь время изложить
их в ясной и сжатой форме.
»
Но не одним умственным качествам Дарвина следует приписать успех его научной деятельности. Над всеми этими качествами господствует в нем одно общее нравственное качество,
признаваемое за ним даже врагами, это — его научная добросовестность, его правдивость. Редкий ученый умел так вполне
отрешиться от всякого личного чувства по отношению к защищаемой идее. Редкий ученый встречал с такою готовностью,
с таким удовольствием всякое возражение, взвешивал и обсуждал его, хотя бы оно шло из такого скромного источника, к которому иной второстепенный ученый отнесся бы только с презрительным высокомерием. Никогда не прибегал он к каким-нибудь
полемическим приемам, имеющим целью прикрыть слабый довод, напротив, находя довод слабым, он сам первый обращал
на это внимание. Строгий судья своих идей, он никогда не
унижался до роли их адвоката. На каждом шагу можно
убедиться, что и чужое возражение и свой довод он ценит лишь
настолько, насколько они касаются дела, не обращая внимания
на то, задевают ли они или защищают его авторитет. Личная
слава для него будто не существует, он дорожит только торжеством своей идеи, и даже нельзя сказать своей идеи, а просто
идеи, потому что бескорыстно готов был уступить другому
право на эту идею — плод двадцатилетних трудов и размышлений. Доказательством тому служат обстоятельства, при которых
появилась его первая записка, заключающая общие положения
5*
67
его учения. В том же заседании Линнеевского общества, о котором я упомянул, была представлена самим Дарвином записка
его знакомого Уоллеса о том же предмете, и еслц бы не вмешательство Лайеля и Гукера, настоявших, чтобы в том же заседании была прочтена записка Дарвина, идеи которого им были
известны уже почти двадцать.лет, то право первенства осталось
бы за Уоллесом. В этом замечательном самообладании, в этом
полном отрешении от овоей личности должно видеть главную
причину, почему он никогда не был ослеплен, всегда ясно
видел, где истина, и совершенно избег увлечений.
Если ко всему, что мы успели узнать о деятельности Дарвина, прибавить, что с самого своего возвращения из кругосветного плавания и до настоящей минуты он никогда не пользовался полным здоровьем, то получаешь еще более высокое понятие о тех нравственных силах, которые поддерживали его
в его неутомимой деятельности. Словом, с какой стороны ни попытаешься оценить этого человека, проникаешься невольным
к нему удивлением, но это чувство еще более возрастает, когда
испытаешь непосредственное обаяние этой личности, столько
же симпатичной, как и гениальной. Когда попадешь в Даун,
когда переступишь порог этого небольшого кабинета, в йотором ежедневно вот уже полвека работает этот могучий ум,
когда подумаешь, что через минуту очутишься в присутствии
человека, которого потомство поставит наряду с Аристотелями
и Ньютонами, невольно ощущаешь понятную робость, но это
чувство исчезает без следа при первом появлении, при первых звуках голоса Чарлза Дарвина. Ни один из его известных
портретов не дает верного понятия об его внешности; густые,
щеткой торчащие брови совершенно скрывают на них приветливый взгляд этих глубоко впалых глаз, а главное, все портреты,
в особенности прежние, без бороды, производят впечатление
коренастого толстяка, довольно буржуазного вида, между тем
как в действительности высокая, величаво спокойная фигура
Дарвина, с его белой бородой, невольно напоминает изображения ветхозаветных патриархов или древних мудрецов. Тихий,
мягкий, старчески ласковый голос довершает впечатление;
вы совершенно забываете, что еще за минуту вас интересовал
только великий ученый; вам кажется, что перед вами •— до-
Кабинет
Ч. Дарвина в Дауне
•
И
•
рогой вам старик, которого вы давно привыкли любить и уважать как человека, как нравственную личность. 1 Во всем,
что он говорил, не было следа той узкой односторонности, той
неуловимой цеховой исключительности, которая еще недавно
считалась необходимым атрибутом глубокого ученого, но в то же
время не было и той щекотливой ложной гордости, не редкой
даже между замечательными учеными, умышленно избегающими разговора о предметах своих занятий, чтобы не подумали, что весь интерес их личности исключительно сосредоточен на их специальной деятельности. В его разговоре серьезные
мысли чередовались с веселой шуткой; ои поражал знанием
и верностью взгляда в областях науки, которыми сам никогда
не занимался; с меткой, но всегда безобидной иронией характеризовал он деятельность некоторых ученых, высказывал очень
верные мысли о России по поводу книги Макензи-Уоллеса,
которую в то время читал; указывал на хорошие качества русского народа и пророчил ему светлую будущность. Но всего
более поражал его тон, когда он говорил о собственных исследованиях,— это не был тон авторитета, законодателя научной
мысли, который не может не сознавать, что каждое его слово
ловится нал«ту; это был тон человека, который скромно, почти
робко, как бы постоянно оправдываясь, отстаивает свою идею,
добросовестно взвешивает самые мелкие возражения, являющиеся из далеко не авторитетных источников. В то время
он производил опыты над кормлением росянки мясом, — опыты,
вызванные сделанными ему возражениями, что он не доказал
экспериментальным путем пользы этого процесса для растения.
Разговорившись об этом, он повел меня в оранжерею, чтобы я
мог быть свидетелем, что он, «кажется, не ошибается в своих
выводах». Нечего говорить, что появившаяся позднее работа
вполне подтвердила все его ожидания. Это живое, несмотря
на преклонные годы, отношение к делу, эта тревожная забота
о том, точно ли он успел охватить все стороны вопроса, это
постоянное недоверие к своей мысли и уважение к мысли самого скромного противника производят глубокое впечатление,
но это впечатление достигает высшей степени при виде того
полнейшего отсутствия озлобления или горечи, при виде той
добродушной улыбки, которая оживляла его лицо каждый раз,
когда разговор случайно касался тех преследований, которым
его идеи подвергались в его отечестве и за его пределами.
Позвольте мне закончить этот, несколько затянувшийся,
но, боюсь, слишком бледный очерк личности и учения Дарвина
последними словами, которые я слышал из уст этого гениального
человека. Хотя они прямо не относятся к предмету этой лекции, зато кстати напомнят нам о той главной цели, ради которой мы собственно собрались в эту залу 1 . Утомившись продолжительным оживленным разговором, он простился со мной
и, оставив меня со своим сыном, удалился, чтобы отдохнуть,
но через несколько минут возвратился в комнату со словами:
«Я вернулся, чтоб сказать вам только два слова. В эту минуту
(это было в июле 1877 г.) вы встретите в этой стране много
дураков, которые только и думают о том, чтобы вовлечь Англию в войну с Россией, но будьте уверены, что в этом доме
симпатии на вашей стороне, и мы каждое утро берем в руки
газету с желанием прочесть известия о ваших новых победах»2.
Против этих сочувственных слов, я надеюсь, не станут возражать даже самые ожесточенные из наших отечественных
обличителей и порицателей великого ученого; что же касается
до меня, то я готов и в этих немногих словах видеть два основных качества, характеризующих всю деятельность этого человека; я узнаю в них проницательность мыслителя, сумевшего возвыситься над предрассудками своего народа, точно так
же как в своем учении он сумел возвыситься над предрассудками своего века, я узнаю всеми, даже врагами признанную
правдивость отважного борца за истину, открыто, честно, смело
высказывающего свои убеждения, нимало не заботясь о том,
суждено ли им встретить в окружающей среде одобрение
или порицание.
1
Лекция читана в пользу учреждения университетской стипендии
для детей воинов и врачей, пострадавших в последнюю (1877) войну.
2
Что бы сказал великий мыслитель и честнейший человек, так клеймивший своих соотечественников в 1877 году, о современных правителях,
заправляющих жалким английским народом, отшатнувшимся от своих
светлых политических преданий! (Примечание 1918 г.)
из
КРАТКИЙ ОЧЕРК
ТЕОРИИ ДАРВИНА
Oans doute chaque organisme déterminé est en relation nécessaire avec un système déterminé de circonstances extérieures.
Mais il n'en résulte nullement que la première de ces deux
forces correlatives ait dû être produite par la seconde, pas
plus qu'elle n'a pu la produire; il s'agit seulement d'un équilibre mutuel entre deux puissances hétérogènes et indépendantes. Si l'on conçoit que tous les organismes possibles soient
successivement placés, pendant un temps convenable, dans
tous les milieux imaginables, la plupart de ces organismes
finiront de toute nécessité par disparaître pour ne laisser subsister que ceux qui pouvaient satisfaire aux lois générales de
cet équilibre fondamental; c'est probablement d'après une suite
d'éliminations analogues que l'harmonie biologique a dû s'établir
peu à peu sur notre planète où nous la voyons encore en effet
se modifier sans cesse d'une manière semblable.
COMTE'
«COURS
DE
PHILOSOPHIE
POSITIVE»,
I I I , p.
39S.
Несомненно, что каждый организм находится в необходимом
соотношении с определенной системой внешних условий. Но
отсюда отнюдь не следует, чтобы первая из этих соотносительных сил была порождена второй так же, как она не могла бы
и породить эту последнюю; здесь идет речі только о взаимном
равновесии двух сил, разнородных и независимых. Если представить себе, что всевозможные организмы были бы последовательно поставлены в течение подходящего срока времени
во всевозможные мыслимые условия среды, то большая часть
этих организмов, в конце концов, исчезла бы, оставив по себе
лишь те, которые могли удовлетворить общим законам этого
основного равновесия. По всей вероятности, именно в силу
такого исключения (элиминации) должна была мало-помалу
установиться биологическая гармония на нашей планете, где
она и продолжает, у нас на глазах, изменяться подобным же
образом.
КОНТ
«КУРС
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ»-,
I I I , стр. 393.
ОСНОВНОЙ СТРОЙ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
Постановка вопроса. — Два мнения о происхождении
органических
существ.— Происхождение
органических
существ путем
постепенного
развития. — Доводы в пользу этого взгляда, заимствованные
из классификации,
сравнительной
анатомии,
эмбриологии
и палеонтологии.
—
Возражения противников этого воззрения. —Постоянство видовых форм. —
Первоначальное
возникновение организмов и современное состояние этого
вопроса-.
В
сякий мыслящий человек при виде окружающих его
живых существ, растений и животных, при виде изумительного совершенства в приспособлениях этих существ
к внешним условиям их жизни и каждой отдельной их части, каждого органа к его определенному отправлению ощущает какое-то беспокойное желание, какую-то потребность
разгадать, понять сущность этого совершенства, объяснить
себе его причину, его происхождение.
Тем живее, тем настоятельнее должен ощущать эту потребность человек, перед которым развертывается весь величавый
строй существ, населяющих землю, — человек, испытавший,
что, куда бы он ни обратил свои взоры, начиная от величественных внешних форм и до мельчайших, сокрытых в тайне подробностей внутреннего строения, начиная с простейших проявлений жизни в микроскопических организмах и до слоягаейших
явлений психической жизни высших животных, везде природа является ему одинаково непонятною, чудесно-совершенною. Изучающий природу не может только изумляться этим
чудесам: он хочет понимать их, т. е. низвести их из разряда
чудес. Каждый новый факт восстает перед ним новой загадкой,
новым мучительным вопросом, пока, наконец, все эти разнообразные вопросы [не] сливаются в один всеобъемлющий вопрос
вопросов: как возникли, как сложились все эти непостижимо
совершенные формы?
Книга Дарвина предлагает разрешение этого вопроса, самое
удовлетворительное, какое возможно при современном состоянии науки.
Но этот громадный вопрос представляет две стороны, которые могут быть сначала рассматриваемы совершенно независимо одна от другой, хотя впоследствии мы увидим, что они
находятся в теснейшей, неразрывной связи. Как возникли,
как сложились эти формы, и почему они так совершенны? —
вот два частных вопроса, на которые он распадается.
Посмотрим прежде, как разрешает Дарвин первый из них,
и тогда мы увидим, что необходимым следствием его явится и
разрешение второго.
Как возникли, как сложились все органические существа,
населяющие теперь землю? Вопрос этот во все времена с какоюто чарующею силой волновал умы мыслителей; они пытались
проникнуть взором в темную даль неизмеримого прошлого,
когда впервые возникла жизнь на нашей планете, и усилиями
своей мысли, своего творчества начертать, воссоздать процесс
творения. С развитием естествознания два возможных предположения представились человеческому уму: все эти организмы или прямо вылились в те формы, которым мы изумляемся в настоящую минуту, или они произошли одни из других
постоянным,- медленным процессом изменения.
В такой неразрешенной форме вопрос этот сохранился
в науке до появления книги Дарвина. Оба мнения существовали
в ней рядом, но на стороне первого было огромное большинство,
на стороне последнего — лишь ничтожное меньшинство Ч
1
В настоящее время отношение совершенно обратное, и если бы всеобщее голосование могло иметь какой-нибудь вес в научных вопросах,
Немногие естествоиспытатели и многие, не изучавшие специально естественных наук, — говорит Дарвин в предисловии
к своей книге, — полагают, что ныне существующие формы
произошли путем зарождения от форм, прежде существовавших;
большинство же естествоиспытателей думает, что формы неизменны и созданы отдельно; это последнее мнение, — говорит
далее Дарвин, — было прежде и моим.
Постараемся объяснить это кажущееся противоречие; посмотрим, что могло привести обе стороны к таким противоположным убеждениям. Начнем с доводов недавнегф меньшинства .
Первое впечатление, которое естествоиспытатель выносит
из наблюдения органических существ, состоит в том, что они
вовсе не так разнообразны, не так различны, как это кажется
при поверхностном взгляде на природу. Формы уже не являются ему единичными фактами, не имеющими аналогии в других формах; напротив, на каждом шагу он замечает сходство,
какую-то родственную связь, то очень близкую, то лишь отдаленную. Распутать эту сложную сеть родства организмов,
определить, насколько возможно, степени этого родства, —
вот была первая цель, которую стремилось разрешить естествознание. Результатом этого направления появилась классификация органических существ: все они были собраны в группы,
подчиненные одна другой, заключающиеся одна в другой и выражавшие все более и более близкие степени сходства, как бы
более и более тесные степени родства. В то же время обнаружилось существование некоторых организмов, совмещавших в себе
свойства различных групп, составлявших как бы соединительные звенья, так называемые переходные формы; таков, например, австралийский утконос, составляющий переход от млекопитающих к птицам, или лепидосирен, составляющий переход
от земноводных к рыбам. Такие же переходы можно было заметить и в сходственных органах различных организмов;
у одних они являются едва развитыми, у других достигают
высокой степени совершенства. Чем более накоплялось факто можно было бы ожидать, что результатом его было бы признание теории Дарвина. Но понятно, что подобный довод был бы странен в устах людей, еще недавно находившихся в меньшинстве.
тов, тем более естествоиспытатели убеждались в справедливости линнеевского изречения «Natura non facit saltus» (в природе нет скачков). Всю органическую природу можно было
сравнить с исполинской лестницей существ, на нижних ступенях которой помещались организмы, представляющие не что
иное, как пузырек, комок оживленной слизи, на верхних —
бесконечно сложные существа, исключительно пользующиеся
в общежитии названиями растений и животных. Таким образом, первым намеком на родственную связь, на единство
происхождения органических существ было открытие между
ними подчиненных групп, сходственных форм, нередко связанных формами переходными.
Вторым и более значительным шагом на этом пути было открытие, что даже весьма мало между собою сходные формы
сходны в общих чертах строения, как бы созданы по одному
> образцу, по одному плану. Сравнительное изучение анатомии
животных показало, что органы, существенно различные по
своему виду и назначению, каковы рука человека, нова
лошади, лапа крота, ласт моржа, крыло летучей мыши, состоят из тех же костей, соединенных в том же порядке; что даже
орган, столь отличный от только что исчисленных, как крыло
птицы, мало отличается от них по 'строению; что, наконец,
в плавнике рыб можно видеть нечто подобное всем этим органам. Иногда один и тот же орган у различных животных соответствует совершенно различным отправлениям; так, например,
зоологи принимают, что плавательный пузырь рыб соответствует
легким других позвоночных. То же можно сказать и о растениях: например, причудливый цветок орхидных состоит из тех
же частей, как и правильный цветок лилии. Аналогия между
организмами простирается иногда до того, что орган, имеющий
значение для одного организма, является у других в уменьшенном, зачаточном виде; довольно указать на хвостец человека,
зачатки крыльев некоторых насекомых, до того уменьшенные,
что не могут служить для летания, а в растительном царстве
на тот факт, что у раздельнополых цветов в мужском цветке
встречается зачаток женского органа, а в женском — зачаток
мужского. Органы эти, очевидно, не имеют значения для организма и являются как бы для поддержания какой-то необ-
ходимой аналогии между _ существами. Подобные аналогии
встречаются в природе на каждом шагу.
Итак, сравнительное изучение анатомического строения
еще теснее сблизило между собою разнородные органические
существа. Таким образом выработались понятия: единство
типа, план творения, — понятия, выражающие, что во всех
существах проглядывает какой-топрообраз, какой-то тип, претерпевающий более или менее глубокие изменения, представляющий различные степени усложнения. Число этих типов как
для животных, так и для растений весьма невелико.
Еще очевиднее обнаружилось сродство организмов вследствие изучения их в зачаточном состоянии. Аналогии, не приметные или совершенно исчезающие на вполне развитых организмах, выступают в полном свете в их зародышах. Так, междучелюстные косточки, встречающиеся у позвоночных животных, за исключением человека, и считающиеся одним из признаков, отличающих человека от животных,найдены Гёте у человеческого зародыша; впоследствии они совершенно срастаются с верхнею челюстью. У зародышей кита, у зародышей некоторых птиц встречаются зубы, впоследствии исчезающие.
Если пойти далее, то оказывается, что начальные зародыши
так сходны, что невозможно бывает определить, к какому из отрядов животного царства они принадлежат; точно то же можно
сказать и о зародышах растений. В 1867 году Ковалевский сделал замечательное открытие, позволяющее сблизить два типа
животных, именно оболочников и позвоночных; он показал,
что у асцидии, морского животного, относящегося к оболочникам, образуется зачаток позвоночника и спинного мозга совершенно сходно с первоначальным образованием этих частей
у низшего представителя позвоночных — у ланцетника, только
у последнего орган развивается далее, у первого же исчезает.
В растительном царстве мы встречаем еще более резкие примеры.
Все растительное царство можно разделить на два полуцарства,
на растения семенные и на так называемые споровые. Первые
производят цветы и размножаются семенами, вторые не производят цветов и размножаются спорами, т. е. простыми клеточками, таковы, например, папоротники, мхи и пр. Более глубокого, более коренного различия между растениями не суще-
ствует. И, однако, Гофмейстер, обратив внимание на историю
развития высших споровых растений и простейших семенных,
показал возможность перехода между обоими полуцарствами
и таким образом соединил все растительное царство в одно целое1. Наконец, если итти еще далее, то оказывается, что начало
всех органических существ, малейшая частица оживленного
вещества, из которого образуются все организмы,— клеточка—
сходна у всех животных и растений.
Итак, все существа имеют одинаковое начало, только последующие изменения определяют позднейшие различия, и чем
ранее начинается изменение, тем глубже различие. Это сродство растительного и животного царства еще более утвердилось,
когда с изучением микроскопических организмов открылся
целый мир существ, образующих нечувствительный переход,
как бы спай между обоими царствами.
Следовательно, второй намек, — который едва ли уже
можно назвать только намеком, — на единство происхождения всех органических существ заключается в единстве типа,
проявляющемся как на вполне развитых, так еще более в зачаточных организмах. Эту идею выработали две отрасли науки
о живых существах: сравнительная анатомия и эмбриология.
Еще более могущественным доводом в пользу этого предположения явились результаты, приобретенные изучением ископаемых остатков органических существ. Изучая животные и растительные организмы, сокрытые в земле, естествоиспытатели
пришли к тому убеждению, что в общих чертах они сходны
с ныне существующими и хотя представляют значительные
отступления, но, тем не менее, могут быть удовлетворительно
размещены в существующие системы живых существ.
Следовательно, то же единство типа, связующее ныне существующие формы между собою, связывает их и с формами,
давно отжившими,- чему учит палеонтология. Сверх того, наблюдается замечательная последовательность в этом сродстве:
чем свежее происхождение ископаемого, тем оно ближе подходит
к ныне существующим формам; по мере же удаления от настоящей эпохи уменьшается и это сродство. В то же время ископа1
Идеи Гофмейстера получили в недавнее время еще новые блестящие
подтверждения. (Примечание 1918 г.)
емые формы, находимые в позднейших геологических образованиях в различных местах земного шара, соответствуют существам, и теперь обитающим эти страны, как это показывает
сравнение ископаемых и ныне живущих форм Старого и Нового Света.
Из этого видно, что общие данные, приобретенные наукой
об ископаемых существах — палеонтологией, еще более убеждают во мнении, что все существа находятся в родственной связи, что все они одного происхождения и представляют видоизменения нескольких типов, которые в свою очередь, особенно
если обратить внимание на их начальное развитие, сходны
между собою в основных чертах.
Всех этих данных, и даже меньшего числа их, было достаточно для некоторых естествоиспытателей, чтобы признать
происхождение органических существ из одного источника
путем медленного изменения.
И, однако, ввиду этих фактов, принимая идеи единства
типа и постепенности в природе, огромное большинство естествоиспытателей отказывалось заключать по ним о единстве
происхождения органических существ. Эти ученые упорно держались мнения, что каждая из сотен тысяч различных форм,
населяющих теперь землю, совершенно независима от остальных и возникла отдельно. Показав в тумане, какое величественное целое представляет природа, они спешили разбить его
на бесчисленные осколки, утверждая, что между ними никогда
не существовало связи!
Что же могло привести этих ученых к такому, казалось бы,
возмутительно нелогичному заключению? Что могло побудить
Кювье, которому мир почти одному обязан теми двумя науками,
о которых была только что речь, — сравнительной анатомией
и палеонтологией, — сделаться поборником мнения, так обидно разрушавшего высокие идеи, невольно возбуяеденные его
славными открытиями?
Причина этого противоречия заключалась в противоречии,
представляемом самой природой. Идеи единства типа и постепенности верны лишь в общих, широких чертах. Лестница органических существ представляет очень крутые
ступени.
Если организмы произошли путем изменения, то весь органический мир должен бы представлять нам непрерывную цепь
нечувствительных переходов; во всяком случае, подобные переходы должны существовать между формами, наиболее близкими. В самом деле, выше было сказано, что все органические
существа могут быть собраны по сходству своему в группы,
подчиненные одна другой, так что чем подчиненнее группа,
тем большим сходством между собою будут обладать собранные
в нее существа. Так, все представители одного царства имеют
очень мало общего; уже большим сходством обладают существа
одного из классов, на которые распадается это царство, еще
большим существа, относящиеся к одному отряду этого класса,
и т . д.: чем менее группа, тем менее становится разліічие
между ее представителями. Можно было бы предполагать,
что, наконец, придется приостановить подобную группировку;
сравниваемые существа уже будут отличаться неуловимыми
оттенками, соединяться нечувствительными переходами, совершенно стушуются, сольются в один неразличимый хаос форм.
Как только что было замечено, для теории происхождения
организмов через постепенное изменение даже необходимо существование подобных нечувствительных переходов подобного слияния между формами, наиболее близкими, потому что
без этого невозможно допустить перехода между формами, мало
сходными.
На деле же в природе этого не замечается. Продолжая распределять органические существа в подчиненные группы, наконец достигаем резких граней, различие между которыми очень
значительно. Эти грани называются видами. Виды не распадаются на дальнейшие подчиненные группы; они представляют
как бы единицы, из которых слагаются все обширные группы.
Сходство в некоторых общих, так называемых родовых признаках дозволяет соединять виды в группы, в роды; собственные же
характеристические видовые признаки определяют различие между ними. Поясним примером: осел и лошадь во многом сходны,
но во многом и несходны; в силу этого сходства они соединены
в один род, в силу этого несходства они составляют два различных вида этого рода. Душистая фиалка и анютины глазки
во многом сходны, но во многом и несходны, потому что они
составляют два различных вида одного рода. Если окинем взором всю природу, то найдем, что сходство между различными
существами в общей сложности не превышает сходства
между ослом и лошадью, между душистой фиалкой и анютиными глазками. Итак, в природе нет более сходных между
собою, более близких отдельных форм, чем виды одного рода.
Но если одни формы переходят в другие, если они постоянно
изменяются, то эти переходы должны быть всего очевиднее
между формами наиболее близкими — между видами; эти
изменения должны всего яснее обнаруживаться в признаках
наименее важных — в признаках видовых. Виды должны превращаться в другие виды; они должны, наконец, изменяться
на наших глазах. Но не только за память истории осел не превращался в лошадь или лошадь в осла, даже, напротив, мы
имеем факты, свидетельствующие, что оба эти вида не изменились за этот промежуток времени.
Мало того, если б этот процесс произошел во времена доисторические, то следы его должны были бы сохраниться
в виде переходных форм между ними или общей формы предка,
к которой можно было бы возвести их родословную; но ничего
подобного не представляет современная нам природа. Отсутствие
подобных соединительных звеньев между видами и неизменчивость видов за исторические времена и заставили большинство
естествоиспытателей отказаться от предположения о единстве
происхождения органических существ.
В самом деле, какой смысл имеют все соображения о родстве между организмами одного типа, о родстве типов между
собою, наконец о родстве между обоими царствами органических существ, когда непреодолимая бездна разделяет формы,
столь близкие между собой, как осел и лошадь, фиалка и анютины глазки? Какой смысл имеет выражение: «в природе нет
скачков», когда между формами, наиболее между собою близкими, существуют такие скачки, когда формы самые близкие
еще так резко различаются между собой?
Идеи единства типа и постепенности в природе, имеющие такое громадное значение при широком взгляде на природу, совершенно разбиваются перед частностями. Они, правда, сохраняют свое фактическое значение, но смысл их, бывший столь
6
К. А. Тимирязев,
от.
VII
81
ясным, становится загадочным; ввиду только что приведенных
фактов они уже не могут доказывать единства происхождения
органических существ.
Не следует, однако, думать, чтобы все представители одного
вида были безусловно между собою сходны, тождественны; всякий знает, как различны породы лошадей, как разнообразны
анютины глазки наших садов. Но это различие незначительно
в сравнении с различием видовым, — говорят защитники неизменчивости видов: во всякой породе лошадей нельзя видеть
ничего иного,"как лошадь, в многочисленных сортах анютиных глазок —ничего иного, как анютины глазки. Эти изменения
в пределах одного вида называются разновидностями. В доказательство того, как ничтожно различие между разновидностями в
сравнении с различием между видами, обыкновенно приводят тот
факт, что представители одного вида, его разновидности, могут
между собою скрещиваться и давать начало плодовитому' потомству, скрещивание же различных видов между собою или
совершенно бесплодно, или происшедшие от него помеси бесплодны. Последний случай представляет скрещивание лошади
и осла: помеси их, мулы и лошаки, оказываются бесплодными.
Смысл этого факта очевиден, — говорят защитники отдельного
происхождения видов: природа позаботилась, чтобы все эти
формы сохранились во всей своей первобытной чистоте, не изменились через скрещивание с формами сродными.
Итак, вот вкратце цепь доводов тех естествоиспытателей, <
которые держатся мнения, что органические существа не могли
произойти из одного источника. Если органические существа
изменяются, то виды должны быть изменчивы; если виды изменчивы, то они должны были бы измениться за память истории
или оставить доказательства своей изменчивости в образе переходных форм или форм предков. Но этого не наблюдается в природе; напротив того, вид является строго определенною, замкнутою группой, ревниво охраняемою от изменчивости своей
неспособностью давать помеси с другими видами. Следовательно,
все сотни тысяч видовых форм возникли отдельно.
Теперь понятно, почему вопрос о происхождении органических существ сводится к специальному, с первого взгляда казалось бы узкому, сухому вопросу о происхождении видов;
теперь понятно, почему книга Дарвина, носящая это название,
заслуживает внимания не только естествоиспытателя, но и вообще всякого мыслящего человека.
Опровергнуть все только что сказанное о виде, доказать
происхождение видов путем изменения — значит доказать единство органического мира; мало того, как уже было сказано вначале, процесс образования видов, предлагаемый Дарвином,
объясняет в то же время другой, еще более важный вопрос:
почему органические существа так совершенны?
Но прежде, чем приступить к изложению теории происхождения органических существ, предлагаемой Дарвином, необходимо сделать еще оговорку. Вопрос этот был поставлен нами
в следующей форме: как возникли, как сложились все органические существа, населяющие теперь землю? Но сказанное до
сих пор относилось только до второй части вопроса: мы старались объяснить себе, как сложились формы, мы приводили доводы за и против предположения, что все формы произошли
одни из других, вследствие медленного процесса изменения,
и оставляли совершенно в стороне вопрос, как возникли формы.
Само собой понятно, что ни одно из двух высказанных предположений о происхождении существ не в состоянии выяснить
последнего вопроса; он лежит вне их области, он совершенно
самостоятелен и должен быть разрешен независимо, потому
что, примем ли мы, что все формы произошли отдельно, или
одни из других, в конце концов все же придем к. нескольким или
хоть к одной форме, которая должна была возникнуть, а не
произойти от других форм.
Вопрос, как возникли организмы на земле в бесконечно отдаленном прошлом, конечно, никогда не мог быть серьезным
предметом изучения, но в науке до самого недавнего времени
существовало мнение, что и в настоящее время на земле постоянно возникают, или, как обыкновенно говорится, самопроизвольно зарождаются, органические существа. Человеку, без
сомнения, всегда было известно, что животные, которых он привык видеть в обыкновенном быту, не появляются на свет иначе,
как от подобных себе,, т. е. родятся, что растения не происходят
иначе, как от семян, спор или отводков, следовательно, также
от подобных себе. Никогда, конечно, никому не приходило
6
83
в голову получить животное без родителей или ожидать жатвы
с незасеянного поля, и, однако, по какому-то непонятному
противоречию человек во все времена совершенно обратно рассуждал о происхождении низших организмов: в древности были
глубоко убеждены, что угри и змеи зарождаются из ила, что
насекомые и черви образуются из гниющих веществ; последнее
мнение было очень распространено до начала прошлого столетия; в настоящее время образованный, но незнакомый с наукой
человек, пожалуй, не верит, чтобы черви могли образоваться
из гниющего вещества, но зато он, не задумываясь, скажет,
что плесень не что иное, как выступившая сырость. Немало
труда стоило науке показать, что, как собака родится от собак,
так черви, заводящиеся в гниющих телах, происходят от других червей; как хлеб не родится там, где он не посеян, так и плесень не может появляться там, где не было ее спор.
Но над этим вопросом о произвольном зарождении суждено
было оправдаться французской поговорке: «Les extrêmes se
touchent» L Не успели рассеяться закоренелые предрассудки
о зарождении новых организмов из разлагающихся органических веществ, как некоторые ученые, во имя теоретических начал, возвысили голос в защиту этого отвергнутого самопроизвольного зарождения низших существ. Оно казалось им необходимой, неизбежной исходной точкой для теории происхождения существ чрез постепенный переход из низших форм в высшие; без него эта теория была, по их мнению, неполной, лишенной точки опоры, потому что она не объясняла первоначального
возникновения организмов на земле. Если же было бы доказано, что простейшие организмы еще и теперь возникают прямо
из неорганических или, по крайней мере, неорганизованных веществ, говорили они, то вопрос о происхождении органического
мира мог бы считаться окончательно решенным, и вот с новым
жаром принялись искать в природе это произвольное зарождение: его последовательно полагали видеть то в паразитах, попадающихся во внутренностях человека и животных, то в инфузориях, появляющиеся в гниющих жидкостях, то в дрожжевых грибках, составляющих сущность явления брожения; но
1
«Крайности сходятся».
более строгие исследования каждый раз изгоняли его из нового
убежища; наконец, Пастер нанес решительный удар произвольному зарождению, изгнав его из одного из самых надежных убежищ, — из процесса брожения. Пастер доказал, что
дрожжевой грибок не зарождается самопроизвольно из веществ,
предоставленных брожению, а происходит из зачатков, носящихся в воздухе и попадающих в эти вещества, как семена
в почву. И доказал он это простым и убедительным опытом:
если воздух, приходящий в соприкосновение с жидкостью, предоставленной брожению, предварительно процедить через хлопчатую бумагу, то брожения не происходит; напротив, кусочка
этой ваты, брошенного в жидкость, способную бродить, достаточно, чтобы вызвать это явление, а микроскоп обнаруживает
в нем зачатки дрожжевых грибков. Тогда защитники учения
о произвольном зарождении обратились к еще простейшим
организмам, к так называемым бактериям,
появляющимся
в разлагающихся и бродящих жидкостях. Организмы эти,
лежащие почти на пределе микроскопического наблюдения,
представляются в виде маленьких палочек или точек; проще их
уже ничего нельзя себе представить. Но и здесь теория потерпела поражение. Исследования Коха, Сандерсона и опять Пастера показали, что и бактерии происходят от зачатков.
Итак, исследования Пастера и других показали, что в настоящее время (или, выражаясь точнее, в тех случаях, где его искали) произвольного зарождения не существует на земле;
другими словами, наука до сих пор могла только наблюдать происхождение существ от себе подобных, о первоначальном же
появлении существ ровно ничего не знает. Дарвин, с характеризующей его осторожностью, не коснулся этого вопроса, лежащего вне области его теории, и на все попытки заставить его
высказаться по этому вопросу ответил упорным молчанием.
Следовательно, наука не в состоянии разрешить вопроса,
как возникли, как сложились органические существа, во всей
его целости, но ограничивается только частью его, именно —
разрешением вопроса: представляют ли все органические существа одно целое, связанное узами единства происхождения,
или представляют они отдельные отрывочные явления, не имеющие никакой между собой связи?
II
ПОНЯТИЕ О ВИДЕ
Критика господствовавшего понятия о виде.—Два
средства
убедиться
в несостоятельности
этого взгляда. — Примеры изменчивости
видовых
форм. —Породы голубей. —Их происхождение от одного вида. —Отсутствие определенной границы между видом и
разновидностью.—Возможно
ли установить ее на основании признака бесплодия скрещивания
между
видами? — Бесплодие не совпадает с видовым различием. — Диморфные
растения. —Сравнение бесплодия с неспособностью к прививке. •—В чем
заключается логическая ошибка защитников неподвижности
видов?—Разновидность—зачинающийся
вид.—Статистическая
поверка этого взгляда.—
Вывод.
з всего сказанного выше вытекает, что главнейшим
препятствием к принятию единства происхождения всех
органических существ служил факт или, вернее, широко
распространенное убеждение в постоянстве, в неизменяемости
видовых форм. Если этот факт несомненен, если это убеждение безусловно верно, то приходится отказаться от всяких
соображений о происхождении органических существ путем
изменения. Прежде чем приступить к ним, необходимо подвергнуть критике, осомнить самый факт,пошатнуть упорное убеждение в неизменности видовых форм.
Достигнуть этого можно двумя путями: во-первых, представив очевидные, убедительные примеры изменчивости, возникнувшие в исторические времена; во-вторых, показав, что изменения видовых форм, называемые разновидностями, вовсе не
И
так ничтожны, как обыкновенно полагают; что различие между
видом и разновидностью вовсе не так ясно, не так строго определено, как желают в том убедить защитники самостоятельности видовых форм, — словом, показав, что в существовании
разновидностей мы можем видеть выражение изменчивости
видов.
Самые разительные примеры изменчивости представляют
нам животные и растения, прирученные человеком; их разновидности или породы гораздо резче разнятся между собою, чем
разновидности природные. Успехи современных садоводов и скотоводов выставили это обстоятельство в особенно ярком свете.
Изучающий специальные сочинения, посвящаемые некоторым
издавна разводимым растениям, каковы: крыжовник, тыква,
картофель, гиацинты, даже сравнительно молодая георгина,
изумляется множеству черт изменчивости, представляемых
ими; вся организация их словно сделалась мягкою, податливою,
как воск, способною отступать, в малых размерах, от типа
родителей. Различные породы домашних животных, немалое
число которых возникло почти на наших глазах, представляют
едва ли ие более разнообразия, чем породы растений.
Но многие полагают, что заключения, выводимые из наблюдений над домашними породами, не применимы к видам, находящимся в состоянии природном. Изменения домашних пород
они считают чем-то искусственным, непрочным и в подтверждение своего мнения ссылаются на несомненный будто бы факт,
что домашние разновидности, одичав, возвращаются к прародительскому типу. Если бы это было справедливо, то, действительно, домашние породы нельзя было бы сравнивать с природными разновидностями. Но Дарвин говорит, что он тщетно
старался доискаться фактических оснований для этого убеждения и пришел к окончательному выводу, что в пользу его нельзя
привести и тени доказательства. Никто не сомневается, что домашняя порода, одичав, изменяется, но, во-первых, в большей
част;и случаев предки домашних пород нам неизвестны, и, следовательно, ничто не служит нам ручательством, что изменение пород при одичании всегда состоит в возвращении к прародительскому типу; во-вторых, еще требуется доказать, что изменение происходит именно вследствие этого внутреннего стре-
мления возвратиться к прародительскому типу, а не вследствие
другой какой причины. Доказать это можно, только устранив
влияние всех других возможных причин. К числу этих причин
относится изменение внешних условий, обыкновенно связанное с одичанием, скрещивание со сродными разновидностями
и малочисленность 1 . Если бы можно было доказать, что при
устранении всех этих причин изменчивости, т. е. при сохранении совершенно тождественных условий, при ограждении от
скрещивания и пр., при содержании их в большом числе,
наши домашние разновидности обнаруживают упорное стремление к такому возвращению, тогда, конечно, мы не могли бы основывать на домашних разновидностях выводов, приложимых
к виду. Но предполагать, что такой случай возможен, значило
бы, другими словами, утверждать, что наши домашние породы,
разводимые при соблюдении всех исчисленных условий, могут
внезапно, без видимой причины вырождаться, что мы не в состоянии разводить наши породы в бесконечном ряду поколений,
а утверждать это значило бы противоречить ежедневному опыту.
Все сказанное убеждает, что домашние породы, одичав, изменяются не в силу одного стремления возвратиться к типу предков, а вследствие других причин, потому что при устранении
этих причин изменения не происходит. А все эти причины изменчивости одинаково действуют и на естественные разновидности, следовательно, в этом отношении между природными
и домашними разновидностями не представляется различия.
Высказывают также мнение, что домашние виды одарены
исключительной способностью изменяться, что потому они
и были избраны человеком и, следовательно, то, что применяется к ним, не может еще применяться к другим видам, но
это возражение решительно не выдерживает критики: дикарь,
впервые приручавший животное, руководился в выборе только
полезными для себя особенностями животного и, конечно,
не мог предвидеть, способно ли оно образовать разновидности
в отдаленном будущем.
Итак, между домашними и природными разновидностями
нет существенной разницы: заключения, применимые к одним,
1
Значение этого обстоятельства, как причины изменчивости, будет
разъяснено ниже.
применимы и к другим. Остается сделать выбор домашней породы, которая всего очевиднее обнаруживала бы изменчивость.
С первого взгляда, казалось бы, нетрудно указать пример
прирученного животного, представляющий резко между собою
различающиеся породы; но естествоиспытатель, желающий
доказать этими примерами, как глубоко могут изменяться виды,
встречает весьма важное затруднение. Чтобы доказать, что
все породы одного домашнего животного — видоизменения,
разновидности одного вида, следует прежде доказать, что был
приручен всеми один вид этого животного, а доказать это историческими фактами в большинстве случаев невозможно, потому
что происхождение домашних животных теряется во мраке времен. Поясним примером: если бы можно доказать, что все породы собак происходят от одного вида, то это был бы сильный
довод в пользу изменчивости видов, но затруднение в том и заключается, что невозможно определить, от одного ли вида произошли все собачьи породы. Многие натуралисты производят
их от одного вида,, другие от нескольких. Дарвин, для которого
первое мнение было бы важным приобретением, после беспристрастной оценки фактов склоняется скорее к последнему;
подобные же сомнения встречают естествоиспытателя почти
при каждой домашней породе.
Выбор Дарвина пал, наконец, на голубей, как богатых
самыми резкими разновидностями и в то же время представляющих несомненные признаки происхождения от одного вида.
Русский читатель не имеет и понятия о том разнообразии,
которое представляют голубиные породы в Англии. Разведение их пользуется там особенною популярностью, оно возведено
на степень искусства; охотники до голубей (pigeon-fanciers)
образуют между собою клубы, питомцы их играют немаловажную роль на бесчисленных выставках домашних животных
и занимают почетное место на столбцах иллюстрированных
газет, сообщающих отчеты об этих выставках. «К сожалению,
я должен признаться, что я не pigeon-fancier, — шутливо замечает знаменитый ученый Гёксли в своих лекциях о теории Дарвина, — а потому я ощущаю робость и смирение при мысли,
что в рядах моих слушателей могут найтись pigeon-fancier ы.
Это — искусство высокое, тайна великая, — дело, о котором
человек не должен говорить легкомысленно». Эту-то глубокую
премудрость Дарвин изучил как в обширной ее литературе,
так и на практике. Он разводил все породы, которые только
мог достать, получал от путешественников шкурки пород
индийских и персидских, вошел в сношения со знаменитыми
охотниками и даже удостоился чести попасть в члены двух
голубиных клубов. Вообще, одна из важных заслуг Дарвина —
та, что он не почел унизительным воспользоваться теми сокровищами знания, которые приобрели долголетним опытом практические деятели его страны; наука до него не имела обыкновения обращаться в эту сторону за сведениями и с презрительным
равнодушием пропускала без внимания наблюдения и опыты
скотоводов и садоводов.
Изучение голубиных пород привело Дарвина к заключению, что разнообразие их изумительно, степень различия превосходит ожидание. Чтобы не утомлять читателя перечислением
этих многочисленных форм, различие которых все же будет
неясно, если нет перед глазами, рисунков, мы постараемся описать поподробнее несколько самых резких разновидностей.
Самая оригинальная уродливая разновидность, без сомнения,—
порода, называемая Pouter, дутыш. Человек, незнакомый с делом, никогда не узнал бы в ней голубя: это — очень крупная
птица на высоких ногах, с длинным туловищем и огромным
зобом, который она обыкновенно надувает, вследствие чего
общая форма ее представляет опрокинутый конус. Fantail,
трубастый голубь, — очень маленький ростом, в хвосте его вместо двенадцати или четырнадцати перьев, свойственных всему
семейству голубиных, от тридцати до сорока, расправленных
вертикально наподобие опахала или даже пригнутых к голове 1 .
Carrier, чистый голубь, также очень крупная птица, с очень
длинным клювом, украшенным мясистым наростом, и со сравнительно небольшим черепом. Совершенную противоположность
его составляет Tumbler, турман; рядом с чистым голубем он
кажется карликом; клюв мал до крайности, а череп, напротив,
сравнительно велик. У Jacobin, хозырного голубя, перья на
1
Обе эти формы изображены на стр. 48.
затылке и шее заворочены кверху, представляя форму капюшона.
Нет почти ни одной черты в строении или в нравах, которая
не подвергалась бы изменчивости. Форма черепа, клюва, ребер, грудной кости, даже число крестцовых и хвостцовых позвонков и число перьев хвоста и крыльев, форма яиц, полет,
голос — все это может изменяться самым резким образом.
Еловом, различие между породами голубей так резко, что
если бы они были найдены в диком состоянии, то без всякого
сомнения были бы отнесены к различным видам; более того,
ни один орнитолог не решился бы даже соединить все упомянутые породы в один род.
Теперь остается доказать, что все эти разнообразные породы
действительно произошли от одного вида, от сизого голубя
(Columba livia) 1 .
Если они не произошли от одного вида, то они должны были
произойти, по крайней мере, от семи или восьми видов, потому
что каждая из них отличается от остальных какою-нибудь
резкою особенностью. Обыкновенно ссылаются на скрещивания,
вследствие которых могут образоваться разнороднейшие породы из сравнительно малого числа предков; но это объяснение
только увеличивает затруднение, потому что через скрещивание получаются только формы средние. Следовательно, на каждую резкую разновидность пришлось бы насчитывать два
еще более резких предка, и вместо семи или восьми родоначальников мы получили бы уже четырнадцать или шестнадцать.
К тому же, по исследованиям Дарвина, почти невозможно
получить средние формы между двумя резко различающимися
формами; нельзя, по крайней мере, привести пример домашней
разновидности, которая возникла бы таким путем. Следовательно, если породы голубей происходят от о т д е л ^ і х видов,
то таких видов должно быть, по крайней мере, семь, и все они
1
Читатель, надеемся, не посетует на нас за то, что мы не довольствуемся догматическим изложением положений Дарвина, а приводим
доказательства, которыми он подкрепляет эти положения. Высказывая
свое мнение, он спешит предупредить все возможные возражения. Не передать полемический тон книги значило бы — не передать ее существен,
ного характера.
должны быть горные голуби, т. е. не вьющие гнезда на деревьях
и даже неохотно на них садящиеся. Но кроме Columba livia
нам известно всего два-три вида горного голубя, и ни один из
них не представляет ни одного признака наших домашних пород. Предполагаемые дикие предки должны были, следовательно, исчезнуть, быть истреблены в исторические времена,
но истребить птиц, гнездящихся над пропастями и хорошо летающих, нелегко, доказательством чего служит тот факт, что
обыкновенный горный голубь сохранился еще на мелких британских островах, на берегах Средиземного моря, в центральной Индии. Кроме того, современные исследования показали,
как трудно приручить дикие породы для того, чтобы они плодились в неволе, и потому в высшей степени невероятно, чтобы
полудикий человек приручил .семь или восемь видов одной
птицы. Заметим еще, что все домашние виды представляют особенности, которых мы не встречаем во всем семействе голубиных. Следовательно, чтобы объяснить происхождение голубиных пород от соответствующего числа видов, должно допустить,
что полуобразованные дикари, несмотря на громадную трудность этого дела, приручили семь или восемь видов голубя;
далее, что они, случайно или намеренно, выбрали для этого
виды, представляющие резкие отклонения от типа всего семейства, и, наконец, что именно все эти виды (существовавшие одновременно с человеком, способным приручить животных,
следовательно, в сравнительно недавнее время) вымерли, исчезли
без следа. Допустить такое стечение случайностей решительно
невозможно.
Случайные отступления в окраске голубиных пород доставляют еще довод в пользу происхождения голубей от одного
вида. При скрещивании различно окрашенных голубей иногда
получаютс^Гголуби, окрашенные совершенно, как сизый голубь.
Дарвин скрещивал чисто черного голубя с чисто белым и получал пестрых, пятнистых; скрестив же этих последних между
собою, получал сизого. Факты эти, очевидно, указывают на
общее происхождение всех голубей от сизого голубя, тем более, что совершенно подобной окраски не встречается ни у одной птицы во всем семействе голубиных; допустить же, что все
предполагаемые вымершие восемь видов были сизые, значило
бы еще более увеличивать невероятное стечение случайностей.
Наконец, все известные породы домашних голубей, скрещиваясь
между собою, дают начало плодовитому потомству, между тем
как известные в естественном состоянии виды голубя на это
неспособны.
«Итак, окончательный вывод, к которому привело Дарвина
изучение домашних голубиных пород, состоит в том, что они,
несомненно, происходят от одного вида и что различия в строении, представляемые ими, так значительны, что если бы они
были найдены в диком состоянии, то непременно были бы отнесены к различным видам или даже и к различным родам.
Другими словами, домашние породы голубей, если принимать
во внимание только различие в строении, можно считать новыми
видами и, пожалуй, даже и новыми родами, происшедшими от
вида Columba livia.
Пример голубиных пород, следовательно, блистательным
образом опровергает убеждение в неподвижности форм; можно
ли утверждать,что виды неизменчивы, когда сизый голубь в исторические времена изменился настолько, что дал начало нескольким формам, которых, не зная их происхождения, можно
было бы отнести к различным родам!
Резкий пример вариации в растительном мире представляет
нам тыква. По мнению Нодена, специально занимавшегося этим
растением, разновидности его представляют такие глубокие
различия, что их можно было бы признать за отдельные виды.
Ноден также указывал на одну разновидность дыни, которая
поразительно похожа на огурец.
Ограничимся этими наиболее резкими примерами и перейдем ко второму способу доказательства изменчивости видов;
постараемся доказать, что существование разновидностей уже
есть опровержение неподвижности видовых форм; постараемся
показать несостоятельность мнения, будто виды могут изменяться только в известных, весьма тесных пределах, будто различия, представляемые разновидностями, ничтожны в сравнении
с различием между видами.
Прежде чем приступить к обсуждению дела, необходимо
разрешить один важный вопрос: существует ли точное определение того или другого понятия, имеем ли мы верный кри-
териум для различия самостоятельного вида от разновидности?
Этот вопрос, самый естественный, самый законный, с первого
же раза обнаруживает всю несостоятельность желания провести
резкую границу между видом и разновидностью. Самые ревностные защитники самостоятельности видов должны согласиться,
что они не в состоянии ответить на вопрос: что такое вид и чем
он отличается от разновидности? Сколько ии было предложено
определений вида, ни одно из них не могло быть признано удовлетворительным. Вообще под видом разумеют (хотя совершенно произвольно) самостоятельную форму, возникшую независимо от других; под разновидностями же разумеют формы, имеющие общее происхождение, хотя доказано оно бывает только
очень редко.
Обыкновенно говорят, что все представители одного вида
сходны между собою в существенных признаках, разновидности же представляют различия в признаках несущественных,
второстепенных. Но, во-первых, слово «существенный» очень
гибко, а, во-вторых, полагаясь на такое определение, мы даем
полный простор произволу: выходя из убеждения, что виды
^
не изменяютйГ~в ^существенных~ признаках, мы~дейотвйтельно
не найдем в природе реіішх разновидностей7потбму~-что 0 т нас
і же зависит всякую резкую разновидность возвести на степень
I самостоятельного вида. Рассуждающие таким образом впа/ дают в ложный круг: они уничтожают резкие разновидности
на том основании, что виды должны быть неизменчивы, и вслед
за тем доказывают, что виды действительно неизменчивы,
потому что в природе нет резких разновидностей. Вообще при
установлении видов ученые руководятся личными, субъективными воззрениями или, как любят выражаться, «тактом». А. деКандоль, один из лучших авторитетов в вопросе о виде, говорит: «Ошибаются те, кто повторяют, что наши виды хорошо ограничены и что сомнительные виды составляют слабое меньшинство. Это казалось ясным, когда роды не были достаточно изучены, а виды установлены на основании нескольких экземпляров, но, чем ближе мы с ними знакомимся, тем более всплывает
переходных форм, тем более возрастают сомнения о пределах
видов».
Очевидным доказательством, как значительны могут быть
изменения, представляемые разновидностями, и как неудовлетворительны все критерии для различения их от вида, служит
тот факт, что флора каждой страны заключает значительное
число растений, которые одними ботаниками принимаются
за разновидности, другими — за самостоятельные виды. В одной Англии находится до 182 подобных сомнительных форм.
Существуют роды, относительно которых ученые не могут
притти к соглашению. Таков, например, род Hieracium, в котором различные ботаники насчитывают кто 20, кто до 300
видов. Подобное же разногласие существует относительно ежевики. По свидетельству Негели, не существует ни одного рода
с 4 и более видами, в принятии которых были бы согласны все
ботаники. Гукер обращает внимание на тот факт, что одни ботаники насчитывают всего 80 ООО, другие 200 000 видов цветковых растений. Эта шаткость в установлении видов проглядывает даже в самом выражении «хороший вид» (bona species),
которым натуралисты обозначают несомненные виды в отличие
от сомнительных. Наконец, оказалось, что по отношению к низшим организмам понятие о виде, в его обыкновенном смысле,
окончательно неприменимо; к такому выводу пришли, по крайней мере, некоторые естествоиспытатели, как, например, Карпентер, Геккель и др.
Наглядным примером, показывающим, как ненадежно различие между видом и разновидностью, основанное на степени
внешнего различия, может служить следующий случай. В семействе орхидей существовало три самостоятельных рода: Саtasetum, Myantbus и Monachanthus, пока не нашли цветов всех
этих трех родов на одном растении, — тогда пришлось разжаловать эти три рода на степень трех форм одного и того же
вида. Но тем еще дело не окончилось: Дарвин показал, что эти
три формы цветков не что иное, как мужские, женские и обоеполые цветы одного и того же растения. Таким образом, одно
и то же растение с обоеполыми и раздельнополыми цветами
было принято не только за три отдельные разновидности или
вида, но даже за три самостоятельных рода. Очевидно, что степень различия не может служить непреложным критериумом
при различении вида и разновидности, что невозможно устано-
вить правила, насколько две формы должны отличаться, чтобы
получить право называться видами.
Посмотрим, однако, нет ли иного средства, независимо
от степени сходства, чтобы различить резкую разновидность
от самостоятельного вида; нет ли возможности доказать, что
такая-то резкая разновидность действительно разновидность,
а не самостоятельный вид.
На практике при разрешении вопроса, следует ли признать
известную форму за вид или за разновидность, обыкновенно
руководствуются существованием соединительных звеньев.
Если найдены две формы, связанные между собою промежуточными звеньями, то их признают за разновидности одного вида,
потому что существование перехода указывает на единство их
происхождения.
Имея теперь признак разновидности, независимый от степени различия, мы уже в состоянии доказать, что некоторые
формы, по различию своему признаваемые за виды, на деле суть
разновидности. Можно привести примеры растений, которые
на основании совокупности признаков признаются за виды,
а между тем существование соединительных звеньев убеждает,
что это — разновидности. Таковы два вида обыкновенных барашек: Primula vulgaris и Primula veris; они отличаются по
наружности, запаху и вкусу, цветут не в одно время, имеют
неодинаковое географическое распределение, на горах подымаются на неравную высоту, весьма трудно дают помеси, —
словом, представляют все признаки вида, и, однако, они соединены множеством промежуточных звеньев. Подобные случаи
весьма драгоценны, потому что они во всяком случае доказывают возможность происхождения одного вида от другого:
если, основываясь на существовании перехода, мы признаем
их за разновидности, то этим докажем, что разновидности могут быть так же различны между собой, как и виды; если же,
основываясь на глубоком различии между ними, признаем их
за отдельные виды, то присутствие промежуточных форм прямо
укажет на возможность происхождения одного вида от другого.
Итак, различия, представляемые разновидностями, могут
быть иногда так значительны, что мы бываем принуждены признать эти разновидности за самостоятельные виды.
Но если, с одной стороны, мы видим такие резкие разновидности, которые нельзя различать от самостоятельных видов,
то, с другой стороны, мы встречаем и такие ничтожные разновидности, которые уже почти нельзя отличить от личных особенностей, проявляющихся почти в каждом неделимом; другими
словами: разновидности представляют нам лестницу, целый
ряд тончайших оттенков изменения, начиная от ничтожных
личных особенностей отдельных неделимых и до резких особенностей видовых. Все различие между разновидностью и видом
заключается только в степени, а не в сущности: разновидность
можно с Дарвином назвать зачинающимся видом, вид — резкой
разновидностью.
При этом воззрении становится понятно, почему невозможно
положить границы между разновидностью и видом: пока форма
еще немного уклонилась от своей родоначальной формы, она
называется разновидностью; но, как скоро это различие сделается значительным, она становится родоначальницею, центром новой группы — видом. Разновидность и вид представляют
только различие во времени, — никакой рубеж тут немыслим.
До сих пор, доказывая изменчивость видовых форм, мы обращали внимание только на изменение в строении: приводя в пример голубиные породы, мы старались показать, что различие
их строения так велико, что их можно бы возвести на степень
самостоятельных видов; доказывая невозможность границы
между видами и разновидностями, мы также приводили примеры
разновидностей, различающихся между собою так же резко,
как виды. Но мы оставили совершенно в стороне другое различие, чисто физиологическое, заключающееся в бесплодии скрещиваний между видами и плодовитости скрещиваний между
разновидностями. Этот факт настоятельно требует критической
оценки, потому что, если это различие действительно так постоянно, так строго определенно, как его выставляют защитники неизменности видовых форм, то мы не в праве сказать,
что разновидность есть зачинающийся вид, потому что непреодолимая бездна будет еще разделять самую резкую разновидность от вида.
Требуется разрешить вопрос: представляет ли бесплодие
видов и плодовитость разновидностей закон природы, не допу7
К. А. Тимирязев,
т.
VII
екающий исключений, или только часто повторяющееся явление, зависящее от множества разнообразных причин, представляющее изменения в степени и даже подверженное исключениям. Другими словами, требуется разрешить вопрос: следует ли видеть в бесплодии свойство, которым природа нарочно
отметила виды, или только одно из следствий общего различия
их склада.
Понятно, что должен существовать предел, где прекращается
возможность образования помеси между двумя формами". Нельзя
себе представить, например, помесь между птицей и рыбой,
между мхом и дубом. Но весь вопрос в том: всегда ли степень
внутреннего различия, с которой уже несовместима способность к перекрестному оплодотворению, совпадает со степенью
внешнего различия, которое, мы признаем видовым? И затем
спрашивается: изменяется ли способность к перекрестному
оплодотворению постепенно, или наступает она внезапно, когда
различие сделается видовым? Мы остановимся на рассмотрении
этого вопроса несколько подробнее, так как последние защитники неизменяемости видовых форм видят главный критериум
вида в этом признаке бесплодия; так, например, Катрфаж,
в упомянутой нами выше речи*, произнесенной в Парижской
академии по случаю смерти Дарвина, ссылаясь на тот факт,
что все разнообразные породы голубя, изученные Дарвином,
происходят от одного вида, способны давать помеси, утверждает,
что Дарвин своими исследованиями только доставил доказательство неподвижности видовых форм и возможности руководиться
при установлении видов именно этим признаком бесплодия.
Начнем с оценки достоверности самого факта; посмотрим,
точно ли скрещивания видов всегда бесплодны, скрещивания
разновидностей всегда плодовиты. Самый характер этого вопроса
уже указывает, что при разрешении его придется бороться с теми
же затруднениями, которые мы встретили при разрешении вопроса о пределе изменений разновидности. Защитники бесплодия видов и плодовитости разновидностей снова запрутся в своем
ложном круге. Если им докажут, что такие-то виды плодовиты
при скрещивании, они ответят: значит, мы ошиблись, это не
* См. в этом томе «Предисловие ко второму изданию», стр. 13. Ред.
были виды; если им докажут, что такие-то разновидности бесплодны при скрещивании, они только возведут их на степень
видов и все же останутся при своем убеждении. Такой именно
тактики придерживался Кёльрейтер, известный своими тщательными исследованиями по вопросу о скрещивании растений; он считает бесплодие видов правилом без исключения,
но зато в десяти случаях, в которых две формы, принимаемые
большинством ботаников за виды, оказались вполне плодовитыми, он, не колеблясь, признал их за разновидности. Не имея
неопровержимого критериума для определения вида, мы не
в состоянии положительно разрешить этот вопрос, хотя авторитет большинства ботаников служит ручательством, что эти
десять пар растений — не разновидности, а виды.
Но из исследований того же Кёльрейтера и некоторых других ученых оказывается, что бесплодие видов редко бывает
полное, безусловное; напротив, оно представляет длинный
ряд постепенностей и в некоторых случаях может быть подмечено только при тщательном сравнении числа зрелых семян,
получаемых при скрещивании, с числом семян, производимых
видами в состоянии естественном. Доказательством, как неуловима черта, отделяющая малую степень бесплодия от полной
плодовитости, служит тот факт, что два одинаково опытных
и добросовестных исследователя, Кёльрейтер и Гертнер, пришли к заключениям прямо противоположным относительно
одних и тех же видов.
Наконец, из других источников можно привести примеры,
что скрещивание некоторых видов бывает не только не бесплодно, но даже плодовитее, чем самооплодотворение; так, например, Герберт, весьма опытный экспериментатор в этой области
исследования, приводит много подобных примеров: он сообщает,
что каждое яичко в коробочке Crinum capense, опыленное пыльцою другого вида, Crinum revolutum, произвело растение, что
при естественном опылении никогда не случалось. Существуют
даже растения, которые легче дают помеси, чем чистое потомство при самооплодотворении; подобные растения встречаются
во всех видах рода Hippeastrum, в некоторых видах лобелий,
Passiflora и Verbascum (царский скиптр). Герберт рассказывает,
например, следующий случай: одна луковица Hippeastrum
7*
99
произвела четыре цветка; три из них он опылил собственной
пыльцой, а четвертый — пыльцою других видов; в результате
оказалось, что первые три завязи завяли, а четвертая произвела всхожие семена. Герберт повторял этот опыт более пяти
лет сряду и всегда с одинаковым успехом. Факт бесплодия при
самооплодотворении и плодородия при скрещивании с другими
видами был подтвержден и другими наблюдателями над другими растениями, например, Corydalis (хохлатка) и над различными орхидеями. Любопытно, что бесплодие при самооплодотворении у одних растений свойственно всем, у других — только некоторым, ничем не отличающимся особям. Известно также,
какие сложные помеси получены нашими садоводами от скрещивания различных видов пеларгоний, фуксий, кальцеоларий,
петуний, рододендрона; опыты их, правда, произведены без
научной точности, но, тем не менее, несомненен факт, что многие из этих ублюдков разводятся семенами. Дарвин сам имел
случай убедиться в совершенной плодовитости помеси двух
видов рододендрона.
Примеры из животного царства не так многочисленны и убедительны. Бесплодие помеси лошади и осла, т. е. мулов и лошаков, может быть, более всего содействовало возникновению
и укоренению убеждения в бесплодии всякого скрещивания
между видами. Тем не менее, можно указать на противные
случаи и в животном царстве. Наиболее известна помесь между
зайцем и кроликом, разводимая в последнее время во Франции
под названием «лепоридов». По свидетельству Дарвина, обыкновенный гусь дает помесь с китайским, настолько отличным
от него, что их иногда относят к различным родам. Два вида
фазанов дают плодущую помесь. Из насекомых два вида шелкопряда произвели помесь, размножавшуюся в течение восьми
поколений. Наконец, различные породы собак и других домашних животных, несомненно, происшедшие от различных видов,
могут между собою плодиться и давать плодущие помеси.
Кроме того, Дарвин указывает на один источник неточности,
по которому многие виды, может быть, совершенно плодовитые,
были признаны бесплодными. В большей части случаев о бесплодии скрещиваний между видами заключают по бесплодию их
помесей. Гертнер, например, утверждает, что хотя ему и уда-
валось в некоторых случаях сохранить ублюдков до шестого,
седьмого и даже девятого поколения, но плодовитость их сильно
ослабевала, так что он принимает бесплодие ублюдков за несомненный закон, не подлежащий исключению. Дарвин не сомневается, что уменьшение плодовитости в ублюдках есть явление
обычное; но он в то же время полагает, что при всех этих опытах
оно происходило от совершенно особой причины. Все опыты
подобного рода (как над растениями, так и над животными)
производятся над весьма ограниченным числом неделимых,
так что скрещиваемые между собою ублюдки находятся в близком родстве; нельзя, например, привести ни одного примера,
чтобы два животных ублюдка были выведены от различных родителей и затем подвергнуты скрещиванию, — напротив, в каждом следующем поколении скрещиваются братья и сестры.
Вред подобных скрещиваний был познан на опыте всеми заводчиками; нескольких подобных скрещиваний было бы достаточно,
чтобы погубить лучшую породу животных. Вред браков между
близкими родственниками признавался обычаями и законами
почти всех времен и народов. В растениях с двуполыми цветами еще вреднее действует самооплодотворение, и Дарвин,
а по его стопам и другие ученые: Гильдебранд, Мюллер, Дельпино и др., тщательными опытами доказали, какими изумительными приспособлениями одарена большая часть растений для
предотвращения самооплодотворения. Итак, вредность скрещиваний между неделимыми, находящимися в близком родстве, — несомненна, и этому обстоятельству, по всей вероятности, мы должны приписать, в большой части случаев, бесплодие
ублюдков. Это воззрение Дарвин позднее доказал в отдельном
обширном исследовании. Этот взгляд Дарвина вполне объясняет, почему у Герберта множество форм, признанных Кёльрейтером и Гертнером за бесплодные, оказались вполне плодовитыми: Герберт — садовод, имел в своем распоряжении
теплицы и мог производить свои опыты при надлежащих условиях, т. е. над большим числом неделимых.
Можно было бы теперь привести обратный довод, т. е.
примеры форм, признанных лучшими ботаниками за разновидности и, однако, оказавшихся при скрещивании совершенно
бесплодными (таковы, например, Primula officinalis и Р. Еіа-
tior); но, как мы видели, подобные примеры неубедительны
для тех ученых, которые не признают другого различия между
видом и разновидностью, кроме различия, основывающегося
на бесплодии. Гораздо убедительнее в этом отношении факты,
показывающие, что плодовитость разновидностей представляет
такие же степени, как и бесплодие видов, что есть разновидности, плодовитость которых граничит с бесплодием.
Эти примеры тем доказательнее, что они почерпнуты из
сочинений писателей, враждебных воззрениям Дарвина. Гертнер в продолжение нескольких лет сажал вместе две породы
кукурузы, различающиеся только ростом и цветом зерен;
растения эти раздельнополы, следовательно, цветень мужских
цветов переносится на женские цветы ветром или насекомыми
и естественно может попасть и на женские цветки другой
породы; но, несмотря на это, породы эти ни разу не скрестились. Затем Гертнер опылил тринадцать цветков одной породы
цветнем другой, но лишь в одном початке развилось несколько
семян, а вызрело из них всего пять. Всякий знает, какое огромное число зерен находится в початке кукурузы; следовательно,
если бы мы стали заключать о плодовитости этого скрещивания
по сравнению этих пяти семян с тем числом, которое могло бы
образоваться в тринадцати початках при естественном опылении, то должны были бы сознаться, что плодовитость скрещивания этих двух пород кукурузы граничит с бесплодием.
И, однако, различие этих пород так ничтожно, что никому
не войдет в голову признать их за отдельные виды, и, что еще
важнее, полученные пять семян оказались вполне плодовитыми,
так что сам Гертнер должен был признать эти породы за разновидности.
Замечено было, что скрещивание различных пород тыквы
тем менее плодовито, чем значительнее различие между скрещиваемыми разновидностями. Замечено также, что при скрещивании желтой и белой разновидностей Verbascum плодовитость значительно уменьшается, между тем как все различие
этих разновидностей заключается в окраске цветов, и одна
разновидность иногда развивается из семян другой.
Этих примеров достаточно для подтверждения факта,
что разновидности могут оказываться бесплодными или,
что еще более убедительно, почти бесплодными при скрещивании.
Обратимся теперь к фактам, доказывающим, что бесплодие
скрещиваний или происходящих от него помесей не представляет вовсе исключительной особенности видов. К числу
таких фактов следует отнести явления взаимного скрещивания
и ди- или триморфизма. Под взаимным скрещиванием разумеется такой случай, когда женское неделимое вида А скрещивается с мужским неделимым вида В, а женское неделимое
вида В — с мужским вида А. Можно привести примеры, что
одно скрещивание оказывается вполне плодовитым, между
тем как другое совершенно бесплодно, так что, судя по одному
скрещиванию, мы должны были бы признать эти две формы
за две разновидности, судя по другому — за два отдельных
вида. Вот два примера, взятые с двух крайних пределов растительного мира. По наблюдениям Кёльрейтера, Mirabilis jalappa
(одно из обыкновенных садовых растений) легко опыляется
пыльцою Mirabilis longiflora, и получаемые ублюдки довольно
плодовиты; но Кёльрейтер пытался более двухсот раз в течение восьми лет оплодотворить, наоборот, Mirabilis longiflora
пыльцою M. jalappa и ни разу не имел успеха. Точно такое же
наблюдение сделал известный французский ученый Тюре над
морскими водорослями (фукусами). Таким образом, судя по
одному скрещиванию, мы должны были признать эти растения
за разновидности, судя по другому — за виды.
Диморфными, или двуформенными растениями называют
такие, которые производят двоякого рода неделимых, совершенно между собою сходных во всем, кроме величины органов
размножения. Таковы примулы, или барашки, некоторые виды
льна и пр. Этого различия недостаточно для того, чтобы принять их даже за разновидности, а потому их называют формами.
Так, например, примулы приносят двоякого рода цветы —
одни с длинными пестиками и короткими тычинками, другие
наоборот, с длинными тычинками и короткими пестиками.
Оказывается, что только оплодотворение длинных пестиков
длинными тычинками или коротких — короткими бывает вполне плодовито, остальные же две комбинации оказываются более или менее бесплодными. Первый способ
оплодотворения Дарвин называет законным, второй — незаконным. Следовательно, законным, т. е. плодородным оказывается перекрестное оплодотворение между двумя формами,
незаконным, бесплодным — оплодотворение пыльцою той же
формы. Триморфные растения представляют еще более сложный случай. Бесплодие обнаруживается не только при первом
скрещивании, но и продукты незаконного оплодотворения
оказываются бесплодными, т. е. совершенно сходно с тем,
что мы видим при скрещивании видов. Таким образом, не
только самоопыление или опыление особей, находящихся в
близком родстве, но и опыление особей той же формы оказывается бесплодным. Примером диморфных растений нагляднее
всего доказывается, что в бесплодии нельзя видеть характеристического признака видовых форм, так как именно скрещивания сходных представителей одного вида оказываются
бесплодными, а несходных — плодовитыми.
Итак, после всех приведенных фактов не может быть и речи
о постоянном бесплодии скрещиваний между видами и полной
плодовитости скрещиваний между разновидностями; напротив:
бесплодие представителей различных видов может доходить
до полной плодовитости; плодовитость разновидностей одного
вида — представлять обратную постепенность. Наконец, самооплодотворение или оплодотворение между сходными формами
у растений диморфных, может быть также бесплодно.
Ввиду всех этих странных фактов кажется невозможным
утверждать, что бесплодие видов есть элементарный закон
природы; еще менее можно видеть в нем нарочно дарованное
свойство для того, чтобы первоначально созданные формы
сохранились в своей первобытной чистоте. Напротив, факты
эти будут совершенно понятны, если мы примем, что бесплодие
не есть самостоятельное свойство, а только следствие других,
неизвестных нам особенностей в складе, главным же образом
в воспроизводительной системе скрещиваемых видов. Дарвин
очень удачно поясняет эту мысль сравнением.
Никому, конечно, не войдет в голову, что способность растений прививаться к одним и не прививаться к другим растениям есть нарочно дарованное свойство, потому что способность
эта не имеет никакого значения для растения, находящегося
в природном состоянии. Во многих «случаях мы в состоянии
даже объяснить, почему одно дерево не прививается к другому,
различием в быстроте их роста, в твердости их древесины,
в свойстве и времени движения их соков; но во множестве
случаев не можем дать себе никакого объяснения. Иногда
значительные различия в росте обоих растений, в свойстве
тканей, долговечности листьев, в приспособленности к очень
различным климатическим условиям не препятствуют прививке
одного дерева к другому. Способность прививаться, так же,
как и способность скрещиваться, говоря вообще, определяется
систематическим сродством; никому, например, не удавалось
привить друг к другу растения, относящиеся к двум различным
семействам; напротив, близко сродные виды или разновидности одного вида прививаются очень легко. Но оба эти свойства далеко не всегда определяются систематическим сходством; существуют примеры, что растения прививаются легче
к видам другого рода, чем к видам своего рода: так, груша
прививается к айве, относящейся к другому роду, и не прививается к яблоне — к виду того же рода. Далее, как в некоторых случаях взаимного скрещивания, так и в некоторых случаях взаимной прививки результаты бывают неодинаковы:
так, например, смородина может быть привита к крыжовнику,
а крыжовник никогда не прививается к смородине.
Все эти факты указывают, что неспособность растений прививаться друг к другу, в общих чертах, подлежит почти тем
же законам, как и неспособность видов скрещиваться между
собою; но никому, конечно, не войдет в голову утверждать,
что неспособность различных растений прививаться друг
к другу есть самостоятельное свойство, нарочно дарованное
для того, чтобы предотвратить возможность их сращения
в наших лесах. Так же мало основания имеем мы считать
бесплодие свойством, нарочно дарованным для предотвращения
скрещивания видов.
Но если, с одной стороны, невозможно допустить, что скрещивания видов всегда бесплодны, скрещивания разновидностей
всегда плодовиты, то, с другой стороны, мы должны согласиться,
что для огромного большинства случаев это различие верно.
Точно так же, хотя мы могли доказать, что степень различия
между разновидностями "бывает так же велика, как и между
видами, мы все над не могли не согласиться,что в массе случаев
эта степень гораздо менее значительна, чем между видами.
Это само собою понятно, потому что иначе в уме нашем
не могло бы существовать этих двух понятий. Но это нимало
не должно изменять нашего мнения о невозможности установить границу между видом и разновидностями. Постараемся
пояснить дело примером: между ребенком и взросльщ существует целая бездна различия, и мы вполне различаем эти два
понятия, потому что в массе случаев различие это очень резко,
но никому, конечно, не войдет в голову мысль определить
черту, где кончается ребенок и где начинается взрослый человек; никто не станет утверждать, что эти два существа,
так резко между собою различающиеся, не могли произойти
один от другого. И, однако, именно эту ошибку делают те, кто
отвергает возможность образования новых видов из разновидностей и старается отделить вид от разновидности резкою
чертою. Оба случая совершенно параллельны: как невозможно
положить границы между ребенком и взрослым, так же невозможно положить границы между разновидностью и видом,
и невозможно потому, что ни ребенок, ни взрослый, ни вид,
ни разновидность в природе не существуют: это — отвлеченные понятия, средние величины, которые мы выводим из огромного числа фактов. Это — два состояния одного и того же существа или группы существ, которые мы олицетворяем, и если
в первом случае мы не впадаем в ту ошибку, которую столь
многие делают во втором, то потому только, что ежедневный
опыт научает нас, что ребенок незаметно делается взрослым,
между тем как превращение разновидностей в новые виды
происходит в промежуток времени, перед которым ничтожна
одна человеческая жизнь.
Итак, ограниченность нашего существования не дозволяет
нам проследить над одной и той же формой превращения разновидности в вид, но если мы будем одновременно принимать
во внимание множество форм, то получим впечатление этого
перехода: мы, таж сказать, застигнем различные формы на
последовательных точках этого пути. Вообразим себе человека,
который бы, как говорится, с неба свалился, т. е. не имел бы
понятия о явлениях, совершающихся на. земле. Увидав все
тончайшие оттенки, которые соединяют грудного ребенка
с седым стариком, увидав, что все эти существа слегка изменяются на его глазах, он, конечно, тотчас заключил бы, что
этот старик был когда-то грудным ребенком, что этот ребенок
будет со временем седым стариком, а не стал бы для этого дожидаться, чтобы ребенок состарился на его глазах. Или возьмем еще более близкий пример. Когда натуралист говорит,
что он проследил историю развития такого-то животного или
растительного организма, он только в очень редких случаях
разумеет, что ему удалось проследить этот процесс над одним
неделимым; в большей части случаев это даже невозможно, —
например, эмбриолог не может обыкновенно исследовать зародыша иначе, как уничтожив возможность дальнейшего развития. Таким образом, хотя натуралист, желающий изучить
историю развития какого-нибудь организма, принужден изучить одну степень развития на одном неделимом, другую —
на другом, тем не менее, он считает результат своего наблюдения
почти столь же несомненным, как если бы он наблюдал одно
неделимое. Точно в таком же положении находится натуралист,
желающий изучить процесс изменения разновидностей; как
одному условия жизни препятствуют проследить явление над
одним неделимым, так другому время препятствует проследить
явление над одной разновидностью, — оба должны заключать
только по сравнению различных случаев.
Теперь понятно, почему, несмотря на столь ясное, столь
осязательное, повидимому, различие между видом и разновидностью, мы впадаем в бесконечные затруднения и противоречия, как только захотим подвести все естественные формы
под две резкие категории. Вид и разновидность — только
отвлеченные понятия, выражения, употребляющиеся ради
удобства: в природе ни то, ни другое не существует. Шлейден
совершенно верно замечает, что спор о виде есть только последний отголосок схоластических споров между реалистами и номиналистами.
Но, отрицая реальное существование вида, как чего-то ясно
отличающегося от разновидности, мы не отрицаем существования видов, т. е. вполне обособленных групп существ, ясно
отличающихся от остальных групп и не связанных с ними
переходами. Это отсутствие переходов все ящ остается логическим препятствием к допущению превращения одних форм
в другие. Это препятствие еще нами не устранено, его предстоит
устранить.
Все сказанное нами о виде и разновидности сводится Дарвином к краткой формуле: разновидность есть зачинающийся
вид, вид — резкая разновидность. Вникнем глубже в ее значение; посмотрим, как должна она изменить наш взгляд на природу.
При существовавшем воззрении на виды, как на отдельные
акты творения, природа представлялась обширным музеем,
в котором собрано известное, может быть, громадное, но все
же определенное и постоянное число форм; сколько мы видим
их сегодня, столько их было и вчера, столько их будет и завтра.
Все представители одной формы, одного вида, правда, не абсолютно между собою сходны; но эти различия, так сказать,
колебания в пределах одного вида, называемые разновидностями, никогда не могут сделаться столь резкими, чтобы
мы принуждены были принять их за новую самостоятельную
форму — за новый вид.
Теперь посмотрим на природу с той точки зрения, справедливость которой мы старались доказать. Вид и разновидность —
только типические, отвлеченные понятия: в природе они не
существуют; следовательно, об определенном числе отдельных
форм не может быть и речи; природа находится в состоянии
постоянных родов, разновидности суть только различные
возрасты новых видов.
Дарвину пришла счастливая мысль сделать поверку этого
вывода посредством другого ряда фактов, посредством приема,
который можно назвать статистическим. Соображения его
основывались на следующей цепи умозаключений.
Возникновение новых форм должно зависеть от какихнибудь благоприятных условий. Возникновение новых видов
и образование разновидностей (на основании защищаемого
воззрения) есть одно и то же явление, — оно должно зависеть
от одних и тех же условий. Отсюда вытекает прямое следствие,
что там, где возникло много видов, мояшо ожидать и много
разновидностей. «Там, где растет много деревьев, — метко поясняет Дарвин, — мы должны искать и молодые сеянки».
Продолжая высказанную выше параллель, мы могли бы сказать: там, где взрослое население находится в более благоприятных условиях, и детское население должно быть многочисленнее, менее подвержено смертности.
Если это предположение оправдается, то мы получим убедительное фактическое подтверждение справедливости воззрения Дарвина на вид и разновидность.
Мы говорили выше, что сходные виды соединяются в группы,
называемые родами. Группы эти весьма неравны: есть роды
обширные, т. е. заключающие большое число видов, есть роды
и весьма малочисленные. Но род — также понятие отвлеченное; роды представляют нам только как бы известные направления, по которым изменились формы; следовательно, обширность
рода доказывает, что условия благоприятствовали изменению
форм в этом направлении; напротив, малочисленность рода
доказывает, что в окружающих условиях было что-то враждебное возникавшему изменению.
Итак, если воззрения Дарвина верны, то виды многочисленных родов должны чаще представлять разновидности, чем
виды родов малочисленных, ибо в большей части случаев,
где возникло много видов, где процесс их образования был
очень деятелен, мы должны найти следы продолжения этой
деятельности.
Ожидания Дарвина вполне оправдались. «Я расположил, —
пишет он, — растения двенадцати стран и жесткокрылых
насекомых двух областей в две, приблизительно равные, массы;
по одну сторону — виды родов обширных, по другую — виды
родов мелких, и постоянно оказывалось, что на стороне обширных родов большая часть видов представляла
разновидности,
чем на стороне родов мелких. Сверх того, виды обширных родов,
представляющие разновидности, постоянно, средним числом,
представляют их большее количество, чем виды родов мелких».
Между видами обширных родов и их разновидностями
существуют еще другие, не менее любопытные соотношения. Мы
видели, что при распознавании вида от разновидности руководятся степенью различия между двумя формами: если формы
резко различаются между собою, их признают за отдельные
виды; если это различие менее значительно — за две разновидности одного вида. Но некоторые ученые заметили относительно растений и насекомых, что степень различия между
видами обширных родов менее, чем между видами родов мелких.
Дарвин проверил это мнение цифрами и получил результаты,
подтверждающие его справедливость. Следовательно, и в этом
отношении виды обширных родов приближаются к разновидностям, как бы носят еще отпечаток своего происхождения.
Есть и еще несколько пунктов сходства между видами
обширных родов и разновидностями; так, например, в этих
родах не все виды одинаково разнятся между собою, так что
маленькие группы видов собраны как спутники около других
видов; но разновидности — не что иное, как группы форм,
собранных вокруг других форм, т. е. породивших их видов.
Одна из характеристических черт, отличающих разновидность, — малая область распространения; относительно видов,
близко между собою сходных, также замечено, что область
их распространения гораздо ограниченнее, чем область распространения резко типических видов.
Итак, мы можем сказать, что в родах обширных, в которых
вырабатывается в настоящее время много разновидностей,
т. е. зачинающихся видов, многие виды, уже выработавшиеся,
до некоторой степени похожи на разновидности.
Почти такое же убедительное подтверждение справедливости воззрения Дарвина на вид и разновидность можно получить еще другим путем.
Мы видели, что в обширных родах, т. е. в таких родах,
в которых уже возникло много видов, и теперь возникает их
более, чем в других; но мы могли бы сделать эту проверку
иначе: мы могли бы проверить цифрами, точно ли в тех видах,
которые теперь благоденствуют, процветают, возникает более
разновидностей, чем в видах, которым судьба менее благоприятствует.
Прежде всего объясним, что мы разумеем под процветающим видом. Если какая-нибудь форма преобладает над другими,
то мы можем прямо заключить, что в ее собственной организации, в органических и неорганических условиях ее суще-
ствования есть что-нибудь благоприятное или, по крайней
мере, менее враждебное ей, чем другим формам, иначе невозможно было бы объяснить ее преобладания. Итак, под процветающими видами мы разумеем виды преобладающие. Но преобладание одной формы над другой может проявляться весьма
различно: форма может быть расселена на земной поверхности
шире других форм, она может быть очень равномерно распространена в данной области, между тем как другие формы только
разбросаны в ней; наконец, она может быть представлена
большим числом особей сравнительно с другими формами;
отсюда три категории преобладающих видов: виды
широко
расселенные,
виды, значительно
распространенные
в данной
стране, и виды, богатые особями. Уже Альфонс де-Кандоль
показал, что виды первой категории чаще производят разновидности. Дарвин своими таблицами доказал, что и последние
две категории преимущественно перед другими производят
резкие разновидности, удостоивающиеся внимания ботаников.
Представленные два разряда фактов находятся в теснейшей
связи и взаимно подтверждают друг друга, потому что если
составить список растений, населяющих какую-нибудь страну,
так, чтобы в один столбец собрать все обширные роды, в другой — все роды мелкие, то на стороне первых окажется большинство преобладающих видов.
Мы развязались, наконец, с этим нескончаемым и для неспециалиста скучным вопросом о виде и разновидности; посмотрим, насколько это подвинуло нас к разрешению главного
вопроса: как произошли органические формы. Вначале мы
постарались показать, насколько позволяют пределы подобного очерка, на чем главным образом основывались два различных мнения о происхождении органических существ. Мы
видели, что общие данные классификации органических существ, морфологии, эмбриологии и геологии свидетельствуют
в пользу предположения о происхождении
органических
существ путем изменения. Затем мы видели, что единственным
препятствием к принятию этого предположения служило убеждение в неподвижности органических форм, в неизменяемости видов. Мы употребили все усилия, чтоб пошатнуть,
опрокинуть это убеждение, и вполне в этом успели: пример
голубиных пород показал нам, как глубоко могут изменяться
виды; критический разбор понятий о виде и разновидности
показал нам невозможность провести между ними границу
и привел нас к окончательному выводу, что разновидность
есть зачинающийся вид; наконец, интересные факты относительно видов обширных родов и видов преобладающих представили нам фактическую поверку этого вывода, потому что
откуда иначе взялась бы эта соответственность между видами
и разновидностями, которую мы, однако, могли предвидеть на
основании теоретических начал?
Итак, органические формы изменяются, вся природа находится в постоянном движении; следовательно, главное препятствие к принятию единства происхождения всех органических существ устранено. Но этого еще мало; теперь необходимо начертать самый процесс изменения, который был бы согласен со всеми известными нам фактами, который устранил
бы все кажущиеся противоречия, как, например, отсутствие
переходов между видами и некоторые другие, и объяснил бы
главное и самое загадочное обстоятельство — изумительное
совершенство органических форм.
Теперь только мы можем приступить к изложению того,
что собственно заслуживает названия теории Дарвина.
NI
искусственный
отбор
Совершенство искусственных
пород животных и растений в смысле их
соответствия требованиям человека.—Как
достиг человек этого результата? — Незначительная
роль прямого воздействия человека на организмы.— Изменчивость и наследственность.—Искусственный
отбор,—
Примеры применения
этого приема. —Высокое совершенство,
до которого он доведен в настоящее время, и свидетельства
о его
применении
в глубокой древности. —Бессознательный
отбор. —Общий
вывод.
П
оверхностный взгляд на породы животных и растений,
искусственно разводимые человеком, убедит всякого,
что в них естественные формы не только изменились,
но в то же время
усовершенствовались.
Это выражение «усовершенствовались» нуждается в оговорке; смысл, в котором оно употреблено, совершенно условный; говоря: «естественные формы усовершенствовались», мы
становимся на точку зрения человека, для удовлетворения
потребностей которого эти породы разводятся. Почти излишне
говорить, что изменения, соответствующие целям человека,
кажущиеся ему усовершенствованием, не всегда полезны для
самого организма, не могут считаться безусловным усовершенствованием данной формы. Нам на каждом шагу случается
даже видеть, что интересы человека бывают прямо противо8
К. А. Тимирязев,
т.
VII.
113
положим, враждебны интересам разводимой им породы: разжиревшая призовая свинья, едва двигающаяся на коротких,
тоненьких ножках, может представлять идеал стремлений скотовода; но, несмотря на то, она влачила бы жалкое существование
без заботливого ухода человека и, предоставленная естественным условиям, конечно, не выдержала бы конкуренции своих
менее породистых, но более подвижных соперников; махровый
цветок может удовлетворять требованиям вкуса, и, .однако,
махровость не что иное, как пагубная уродливость, поражение
воспроизводительной системы растения, лишающее его возможности принести плод и семя. Очевидно, что подобные
изменения можно назвать усовершенствованием разве только
с точки зрения прихоти человека. Итак, говоря: породы совершенствуются, мы не будем упускать из виду условность
этого выражения.
Но, впрочем, эта условность не касается сущности дела;
для нас важно только то .обстоятельство, что эти породы вполне
удовлетворяют требованиям человека, что в них, так сказать,
проглядывает его умысел.
Нескольких примеров будет достаточно, чтобы пояснить
эту мысль. Сравнив, например, различные породы наших
цветочных и огородных растений, мы заметим, что в каждой
из них развилась и видоизменилась та именно часть, которая
почему-либо особенно ценится человеком: «Посмотрите, —
говорит Дарвин, — как различны листья капусты и как поразительно однообразны ее цветы, как разнообразны цветы анютиных глазок и как сходны ее листья, какие изменения в цвете,
форме, опушении представляют ягоды крыжовника и как ничтожно различие его цветов». Еще более очевидный отпечаток
человека носят домашние животные; довольно взглянуть на
могучую, но тяжелую на ходу ломовую лошадь и легкого,
быстрого скакуна, чтобы прочесть в них блистательное разрешение механической задачи — замены скорости силой и силы
скоростью; довольно взглянуть на разнообразнейшие породы
собак, овец, полезные каждая по-своему, чтобы убедиться,
что этими изменениями руководил не случай, а сознательная
воля человека. Ясно, что человек создал эти породы, т. е.
заставил естественные формы измениться именно в том напра-
влении, которое наиболее соответствует его потребностям или
прихотям, — иногда даже в ущерб их собственной пользе.
Спрашивается: каким же путем достиг ои этих результатов,
как мог он заставить природу способствовать его целям? Понятно, что человек может действовать на природу только теми
средствами, которые доставляет ему природа; сам созидать,
изменять в строгом смысле этого слова, он, конечно, не в состоянии.
Какие же средства доставила природа человеку для изменения органических существ сообразно его целям?
Человек может или непосредственно изменять органические формы, подвергая их влиянию различных деятелей природы, или он может подхватывать и развивать те
случайные
изменения, которые возникают сами собой. Рассмотрим оба
эти способа и постараемся определить, которому из них человек наиболее обязан своими усовершенствованными породами.
В с е органические существа находятся в тесной зависимости от окружающих условий; они как бы отлиты в формы,
определенные этими условиями, так что изменение в условиях
производит отпечаток и на организме. Этим источником изменчивости человек пользовался во все времена: так, например,
переселив некоторые дикие растения на более богатую почву
своих садов и огородов, он получил пеструю толпу садовых
и огородных растений, приобревших такое громадное значение
в его быту; этим путем, например, из бедного листьями растения дикой капусты он получил кочан, из тощего корня дикой
моркови — мясистую огородную морковь; этим путем он превращает тычинки в лепестки ы получает разнообразные породы
махровых цветов; этим путем, наконец, он может заставить
колючку терновника распуститься в цветущую ветвь. Что
для растения почва, то для животного пища: изменяя количество и качество корма, человек может вызывать некоторые
изменения и в животных организмах; этим путем, полагают,
возникли разнообразные породы свиней.
Но этот способ изменения существ чрез посредство внешних влияний имеет весьма ограниченное применение: соотношения между организмом и окружающими условиями бесконечно сложны и запутаны и почти неизвестны человеку, так
что изменение свойства или количества пищи (почвы для растения, корма для животных) составляет едва ли не единственное влияние, которым он в состоянии располагать. Сверх того,
изменения, производимые этим путем, должны быть весьма
незначительны, потому что всякое немного резкое изменение
условий оказывается пагубным для организма.
Другой способ непосредственного изменения органических
форм состоит в скрещивании. Но, говоря о голубиных породах, мы уже имели случай высказать, как недоверчиво Дарвин
смотрит на этот способ изменения, которому обыкновенно
приписывают главную роль в образовании домашних пород.
Тщательное изучение вопроса привело его к заключению,
что главная цель этого процесса — получение формы, средней
между обоими родителями, достигается только тогда, когда
скрещиваемые породы очень близки между собой; но и в таких
даже случаях для успешного хода изменения необходимо прибегать еще к другому процессу, о котором будет речь ниже. Если
же скрещиваемые породы будут резко между собой различаться,
то почти невозможно предвидеть результаты скрещивания.
Итак, мы видим, что оба способа непосредственного изменения, взятые сами по себе, еще не в состоянии объяснить
результатов, достигнутых человеком. Оба они применимы
лишь в очень ограниченных пределах, а главное — не доставляют человеку возможности вызывать разнообразные, вполне
определенные изменения. Ясно, что подобными несовершенными средствами нельзя было достигнуть того разнообразия
и тех тонких приспособлений, которые представляют домашние породы животных и растений.
И действительно, если мы обратимся за разрешением нашего вопроса к лучшим судьям этого дела, к практическим
деятелям страны, наиболее славящейся своими усовершенствованными породами, — к английским скотоводам, то увидим,
что не этим путем непосредственного изменения были выведены
все знаменитые породы. Способ усовершенствования, принесший в их руках такие блистательные результаты, опирается
на совершенно иные начала. Материалом для усовершенствования послужил им второй из указанных нами источников,
так называемые случайные изменения.
После всего сказанного не может быть сомнения, что способность, или, вернее, возможность
изменяться составляет
одно из отличительных свойств органических существ. Впрочем,
даже того факта, что в природе нет двух существ тождественных, достаточно, чтобы убедить, что некоторая степень изменчивости есть явление постоянное, почти неизбежное.
Изменения эти мы называем случайными потому, что причины их по большей части нам неизвестны; но нет, конечно,
сомнения, что в числе этих причин должны быть и те, посредством которых и человек может вызывать изменения, т. е.
действие условий существования и скрещивания, а также
известную роль, может быть, играет упражнение органов.
К числу изменений, зависящих от скрещивания, должно
отнести и все изменения, необходимо возникающие от того,
что при половом размножении в каждом существе сливаются
и борются организации двух родителей. Результат, впрочем,
бывает весьма различен: иногда одна совершенно осиливает
другую, иногда же они взаимно уравновешиваются. Доказательством, что половое размножение необходимо влечет за
собой некоторую долю изменчивости, служит сравнение существ, происшедших путем полового и бесполого размножения.
Т а к , например, всем известно, что растения, происшедшие от
отводков, почек или клубней, гораздо более схожи с материнским растением, чем растения, происшедшие от семян; некоторые особенности даже вовсе не передаются семенами, так
что садоводы, желающие сохранить какую-нибудь тонкую
разновидность, принуждены разводить ее только отводками.
Факт этот вполне объясняется тем, что на семенах должно
отразиться влияние мужской особи. Сказанное о растениях
применимо и к низшим животным, размножающимся половым
и бесполым путем. Итак, мы не должны забывать, что половое
размножение уже есть скрещивание, а следовательно, источник
изменчивости.
Действие упражнения, как изменяющего начала, не может
подлежать сомнению. Дарвин нашел, например, что кости
крыла домашней утки весят менее, а кости ноги более относительно веса всего скелета, чем у дикой утки. Это, по всей
вероятности, должно приписать тому, что домашняя утка
летает менее, а ходит более, чем ее дикий предок. Подобным
же образом многие натуралисты приписывают висячие уши
домашних животных неупотреблению ушных мускулов вследствие того, что животное редко подвергается опасности, а следовательно, и испугу.
Понятно, что случайные изменения, зависящие от действия
естественных условий, должны быть гораздо разнообразнее
тех изменений, которые в состоянии произвести человек,
потому что, как мы видели, человек может успешно влиять на
организмы едва ли не чрез одну только пищу.
Но, чтобы направить эти изменения в свою пользу, человек
должен обладать средством, которое бы дозволяло ему удерживать и накоплять те изменения, которые соответствуют его
требованиям, — это средство доставляет ему
наследственность.
Сущность этого свойства, общего всем органическим существам,
заключается в том, что каждое из этих существ одарено упорным стремлением воспроизводить формы своих родителей.
Почти излишне доказывать
действительное существование
этого свойства, — в этом убеждает ежедневный опыт: никому,
конечно, не войдет в голову усомниться, что щенок бульдога
будет бульдог, щенок борзой — борзая; всякий знает, как
вследствие этого высоко ценятся так называемые породистые
животные, какое значение охотники приписывают родословной
животного. Взятый, в широком смысле, закон наследственности составляет основу всего органического мира, он уже
выражается в основном положении, что органические существа
происходят от себе подобных. Но наследственность не ограничивается лишь передачей общего склада животного или растения; можно привести множество примеров, и всякий, конечно,
знает их немало, что случайные изменения, какие-нибудь резкие
особенности или даже уродливости передавались из поколения
в поколение. «Быть может, — говорит Дарвин, — всего разумнее смотреть на передачу всякого любого признака как
на правило, а на непередачу его — как на исключение».
Но, может бытв, читатель спросит, как же согласить эти
два свойства: наследственность с изменчивостью, как согласить,
что существа упорно стремятся сохранить форму родителей
и в то же время изменяются? Смысл этого, в сущности, таков;
каждая черта организации наследственна, следовательно, и всякое случайное изменение наследственно, если только новые
влияния не будут противодействовать этой передаче, вызвав
новые изменения. Собственно говоря, меяеду этими двумя
понятиями так же мало противоречия, как между понятием
об инерции и о движении: первое — более общее и заключает
второе. Наследственность можно сравнить с инерцией. Это —
органическая инерция. Как вследствие инерции тело сохраняет
покой, пока не будет из него выведено, и продолжает двигаться,
пока не будет остановлено, так точно организм остается неизменным, пока не получит толчка, и передает полученное
изменение из поколения в поколение, пока новая причина
не помешает этой передаче. В некоторых, впрочем, очень редких, случаях мы даже можем указать, вследствие какого враждебного влияния известный признак не перешел к потомству.
Только что приведенные факты относительно изменчивости,
необходимо связанной с половым размножением, могут служить
тому примером: садовод желает сохранить какую-нибудь
случайно появившуюся уклонную форму, но для получения
от нее семян необходимо содействие мужской особи, и вот
влияние этой посторонней формы парализует передачу желаемого признака. Закон наследственности строже применяется
к существам, происшедшим путем бесполого размножения,
именно потому, что путь этот представляет одним источником
изменчивости менее. Подобным-то противодействующим влияниям должны мы приписать причину того факта, что дети
только по большей части, а не всегда сходны с родителями.
В этом смысле должны мы понимать приведенные только что
слова Дарвина, что передачу признаков следует принимать
за правило, непередачу — за исключение; другими словами,
мы должны допустить, что наследственность
есть явление необходимое, изменчивость же — лишь возможное или обычное.
Понятна вся польза, которую человек может извлечь из этих
двух свойств органических существ: изменчивость снабжает
его богатым выбором уклонений, наследственность дает возможность упрочить эти уклонения. Таким образом, он в состоянии накоплять, черту за чертой, тончайшие оттенки изменчивости, получая в итоге, по прошествии нескольких поко-
лений, в е с ь м а з н а ч и т е л ь н ы е и вполне определенные у к л о н е н и я .
Процесс у с о в е р ш е н с т в о в а н и я пород,
о с н о в ы в а ю щ и й с я на этих
н а ч а л а х , п о л у ч и л у а н г л и й с к и х с к о т о в о д о в н а з в а н и е отборки,
отбора,
— selection 1 .
В з в е с и в все преимущества
этого способа
усовершенствова-
ния пород в сравнении с о с т а л ь н ы м и , мы н и с к о л ь к о не удивимся тем восторженным и , с первого
взгляда, казалось
хвастливым
английские
выражениям,
в
которых
бы,
скотоводы
о т з ы в а ю т с я о нем.
«Скотоводы, — пишет
Д а р в и н , — привыкли
говорить
организации ж и в о т н ы х , к а к о пластическом м а т е р и а л е ,
рому они м о г у т сообщить к а к у ю
об
кото-
у г о д н о форму. Е с л и б место
д о з в о л я л о , я бы мог привести о т р ы в к и в этом смысле из с а м ы х
а в т о р и т е т н ы х писателей по этой части. Ю а т , е д в а л и не лучший
знаток с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й л и т е р а т у р ы
ж и в о т н ы х , говорит
об отборе:
„Он
дает
и
хороший
сельскому
знаток
хозяину
1
Слово отбор употреблено мною вместо вошедшего в общее употребление выражения подбор родичей, которым проф. Рачинский передал английское selection. Мне кажется, что слово отбор (или, пожалуй, выбор)
менее определенно и потому вернее передает смысл английского слова.
Выражения подбор, подбирать предполагают какую-то предвзятую цель,
которую стремятся осуществить, какой-то идеал или образец, к которому стараются приблизиться при помощи известного сочетания производителей, между тем как процесс selection в большинстве случаев состоит
лишь в отделении, в уединении существ, отличающихся от остальных.
Когда мы говорим о собрании каких-нибудь предметов; это — предметы
отборные, мы этим означаем только, что предметы эти отличаются чемнибудь (обыкновенно превосходством) от остальных, с ними сходных;
когда же мы говорим: предметы эти, как на подбор, то мы этим выражаем,
что предметы эти сходны или между собой, или с данным образцом, или,
наконец, находятся в известном между собой соотношении. Но для процесса selection в широком смысле не нужно ни одного из этих трех условий. Впрочем, видно, что и сам проф. Рачинский избрал выражение подбор не без некоторого колебания, потому что в заголовке первой главы
у него несколько раз встречается выражение выбор, а на стр. 74 даже отбор. Наконец, добавление родичей, по моему мнению, едва ли не произвольно.
Считаю при этом своей обязанностью объяснить, что при составлении
этого очерка я пользовался прекрасным переводом проф. Рачинского,
прибегая к собственному переводу лишь в тех случаях, где разногласие
относительно слова selection делало это необходимым.
возможность не только изменять, но даже вовсе переделывать
характер своего стада. Это — волшебный жезл, при помощи
которого он мояіет вызвать к жизни какие угодно формы".
Лорд Сомервиль, говоря о результатах, которых достигли
заводчики относительно овец, выражается так: „Можно было
бы подумать, что они начертали на стене идеально совершенную
форму и затем придали ей жизнь". Сэр Джон Себрайт, один из
самых искусных заводчиков, говаривал относительно голубей,
что он берется произвести какое угодно перо в три года, но
что ему потребовалось бы шесть лет, чтобы получить желаемую
форму головы или клюва».
Сущность отбора весьма проста: подмечается какая-нибудь
полезная особенность, и тотчас же все особи, одаренные этой
особенностью, отбираются, тщательно ограждаются от смешения
с остальными. Благодаря этому уединению данная особенность
сохраняется вследствие устранения вредного влияния скрещивания (во всяком случае только ослабляющего эту особенность или вводящего новые уклонения) и упрочивается вследствие укоренения в целом ряде поколений, так что в результате
получается вполне установившаяся порода.
Но если этим ярко обрисовываются соответствующие роли
в этом процессе двух начал — наследственности и изменчивости,
то он не дает еще надлежащего понятия о ходе процесса с самой
важной его стороны. Мы предположили внезапно возникнувшее
резкое уклонение, которое оставалось только сохранить и упрочить, но понятно, что подобные счастливые уклонения не могут
случаться часто. В большей части случаев породы слагаются
только вследствие тщательного, продолжающегося в течение
многих поколений накопления незначительных уклонений.
Таким образом, при обыкновенном способе образования пород
отбор повторяется в каждом последующем поколении; в каждом
поколении отбираются особи, представляющие какое-нибудь,
хотя бы самое ничтожное, преимущество перед остальными
Подобным медленным путем сложилась большая часть знаменитых пород, как, например, породы голубей, описанные
в предыдущей главе.
«Если б отбор, — говорит Дарвин, — состоял только в отделении резко обозначившейся разновидности и в разведении
ее, то начало это было бы так просто, что не заслуживало бы
внимания; но главное значение его заключается в значительных результатах, достигаемых чрез накопление в одном направлении и в течение нескольких поколений уклонений,
положительно неприметных для неопытного глаза, — уклонений, которые я, например, тщетно пытался уловить. Из
тысячи человек не найдется и одного, одаренного достаточно
верным глазом и суждением, чтобы сделаться замечательным
заводчиком. Если человек одарен этими качествами, изучает
свой предмет в течение многих лет, терпеливо посвящает ему свою
жизнь, — он будет иметь успех, произведет значительные
усовершенствования; но если хоть одно из этих требований
не выполнено, он наверно потерпит неудачу. Не всякий поверит,
сколько природных способностей и сколько лет практики
необходимо, чтобы овладеть только искусством выводить голубиные породы». «В Саксонии начало отбора в применении
к мериносам признается столь важным, что там можно встретить людей, занимающихся им как исключительным ремеслом.
Овец кладут на стол и изучают, как знатоки изучают картины.
Это повторяется три раза через месяц, и каждый раз овец
отмечают и сортируют для того, чтобы окончательный выбор
пал на самых лучших представителей, которых и пускают на
племя».
Когда порода достаточно установилась, тогда поступают
обратным образом, т. е. удаляют или истребляют животных,
не соответствующих требованиям, потому что оставлять плодиться несовершенные формы значило бы терпеть прямой
убыток, и никакой расчетливый хозяин никогда этого не допустит.
Садоводы по большей часты поступают на тех же основаниях,
как и скотоводы, хотя между растениями возникновение резких
особенностей встречается вообще чаще, чем между животными;
примером внезапного уклонения, оказавшегося полезным человеку, может служить ворсянка (Dipsacus fullonum), так
называемые ворсильные шишки которой употребляются для
наведения ворса на сукне и незаменимы никаким искусственным механизмом. ІІо постепенное, на глазах у нас совершавшееся увеличение в объеме ягод крыжовника и земляники,
а также необыкновенное разнообразие цветов анютиных глазок есть дело отбора. Относительно усовершенствования крыжовника в Англии мы имеем документальные данные почти
за целое столетие, показывающие, как постепенно улучшались
его качества.
Поразительным примером успешности применения начала
отбора к растениям даже в короткий срок может служить необыкновенно плодовитая пшеница, представленная г. Галлетом
(из Эссекса, недалеко от Брайтона) на лондонскую всемирную
выставку 1862 г.. Порода эта (Hallett's pedigree nursery wheat),
как сообщил г. Галлет, получена им посредством отбора,
повторявшегося ежегодно в продолжение пяти лет. Вот генеалогия лучшего из произведенных им экземпляров. В 1857 г.
посеяно было 87 зерен: одно из них произвело на следующий
год растение, принесшее 688 зерен (10 колосьев — порода
была кустистая). Зерна лучшего колоса этого экземпляра были
посеяны отдельно, и одно из них принесло 1 190 зерен (17 колосьев). С этим последним экземпляром было поступлено, как
и с предыдущим, т. е. зерна лучшего его колоска были посеяны
отдельно, и одно из них в следующем, 1860 г. дало 2 145 зерен
(39 колосьев).
Таким образом на третий год от зерна, давшего 688 зерен,
получилось зерно, давшее 2 145 зерен. Но успешности дальнейшего процесса воспрепятствовала неблагоприятная зима
1860 г.; стремление куститься и производить крупные колосья
не совпадало в одних и тех же экземплярах, так что одни из
них (в том числе упомянутый только что экземпляр о 2 145 зернах) отбирались ради кустистости и произвели в следующие
1861 и 1862 годы экземпляры о 52 и 80 колосьях, другие же —
ради крупных колосьев: самый крупный из полученных г. Галлетом колосьев заключал 123 зерна. Конечно, с остальными
экземплярами результаты не могли быть одинаково блистательны, как с этими избранными из избранных, но в итоге все же
получилась порода, оставляющая далеко за собой все известные
до сих пор породы 1 .
1
Через двадцать лет в прочитанной им лекции Галлет вновь напоминал о том громадном значении, которое должно играть начало отбора в
Посредством совершенно сходного приема Вильморен, можно сказать, создал свою сахарную свекловицу. Каждый год
из каждого испытуемого корня бралась небольшая проба,
в которой определялось содержание сахара, и все корни,
отличавшиеся более значительным содержанием сахара, тщательно отбирались. Таким образом получились столь распространенные теперь богатые сахаром сорта свекловицы.
Самый совершенный вид отбора в садоводстве, как и в скотоводстве, состоит в истреблении неудовлетворительных особей.
«Когда порода установилась, садовники, разводящие растения
для семян, не собирают их с лучших экземпляров, а ограничиваются тем, что выпалывают „разбойников", как они называют
те экземпляры, которые не удовлетворяют их требованиям».
Так как уклонения, очевидно полезные или приятные для
человека, не могут возникать очень часто, то из этого ясно, что
процесс отбора должен итти тем успешнее, чем значительнее
число особей, над которыми он производится, потому что этим
увеличивается вероятие появления подобных уклонений. И действительно замечено, что у садоводов по ремеслу, разводящих
растения в больших количествах, разновидности возникают гораздо чаще, чем у садоводов-любителей. То же самое замечено
относительно крупных и мелких стад.
Итак, на основании приведенных фактов мы должны заключить, что в настоящее время самый богатый результатами, самый
употребительный, можно почти сказать — единственный употребительный способ усовершенствования пород заключается в том
процессе, который английские заводчики назвали отбором. Выше
мы заметили, что непосредственное действие условий и скрещивание, взятые сами по себе, не могут считаться удобными средствами к усовершенствованию; но понятно, что они могут доставлять
материал для отбора (хотя далеко не такой богатый, как изменения случайные), что в связи с ним они могут сделаться источником усовершенствования \ И, по всей вероятности, даже
увеличении производительности наших злаков и других культурных растений. Я первый обратил внимание на опыты Галлета. Дарвин в своей
книге еще не мог на них ссылаться.
1
Самые известные селекционисты, как Вильморен и особенно Бербанк, широко пользовались скрещиванием. Исключительная роль, кото-
в процессах усовершенствования, наиболее зависящих от внешних условий, как, например, при образовании различных пород
капусты, не обошлось без содействия отбора.
Но против всего только что сказанного могут возразить: все
это прекрасно; нет сомнения, что современные усовершенствованные породы произошли путем отбора; но ведь самый отбор
этот производится методически всего каких-нибудь семьдесят
лет, и то в небольшой части Европы; как же можно приписывать ему происхождение домашних пород, теряющихся во мраке
времен ?
В ответ на это возражение Дарвин приводит факты и доводы,
убеждающие, что начало это вовсе не ново, что оно было известно
в самой отдаленной древности и теперь известно полудиким
племенам; что быстрые успехи, сделанные в последнее столетие
европейскими скотоводами и садоводами, должно приписать
не открытию этого начала, а только более сознательному и систематическому его применению. Т а к , например, учение об отборе
весьма ясно изложено в одной старинной китайской энциклопедии. Из книги Бытия видно, что во времена Моисея обращали
внимание на масть животных. Виргилий в «Георгинах» указывает на важность выбора (dilectus) при разведении скота.
Плиний, упоминая о моде на голубей в Риме, говорит: «Дело
дошло до того, что высчитывается их родословная и род».
С другой стороны, известно, что южноамериканские дикари
подбирают свой рабочий скот под масть, как эскимосы своих
собак, а Ливингстон свидетельствует, что негры внутренней
Африки, никогда не видавшие европейцев, ценят хорошие породы
домашних животных.
Наконец, Дарвин указывает на то важное обстоятельство,
что отбор постоянно совершается даже людьми, нимало не заботящимися об усовершенствовании пород. Этот отбор, который
Дарвин называет бессознательным
отбором на том основании,
что усовершенствование породы достигается в нем без намерерая приписывается Менделю, ни на чем не основана. См. статью III в этом
томе и том I I . (К. А. ссылается в данном случае на статью «Чарлз Дарвин
и полувековые итоги дарвинизма» и на свои научно-полемические работы,
вошедшие в раздел «Из научной летописи» второй части книги « Ч а р л з
Дарвин и его учение». В данном томе см. стр. 213 и 445—538. Ред.)
ния, проистекает от весьма естественного желания каждого человека обладать возможно лучшими животными или растениями.
Т а к , всякий охотник до какой-нибудь породы собак будет стараться достать самое лучшее, самое типическое животное ы сохранить от него приплод, способствуя таким образом совершенно
бессознательно усовершенствованию породы; есть, например,
основание предполагать, что порода кинг-чарлз значительно
усовершенствовалась со времен короля, по имени которого она
названа, хотя никто в строгом смысле слова не занимался ее усовершенствованием. Чтобы выказать справедливость этого воззрения в наиболее очевидной форме, предположим самый неблагоприятный, теоретический случай. Допустим, что существуют дикари, не подозревающие наследственности свойств
их пород; но мы должны будем согласиться, что и между ними
всякое животное, чем-либо полезное, будет заботливо сохранено во время голода или других бедствий, столь частых
в быту дикарей. Что подобное предположение основательно,
в том убеждают нас факты: например, известно, что дикари
Огненной земли во время голода убивают старых женщин,
а сохраняют собак. Итак, дикари эти будут сохранять полезное
животное для него самого и этим самым дадут перевес его потомству над потомством других, менее совершенных форм и, следовательно, вполне бессознательно будут способствовать улучшению породы.
Таким образом, и у дикарей, как и у цивилизованных людей,
существа более совершенные, естественно, будут иметь более
шансов на сохранение, а вследствие этого с каждым новым поколением порода должна будет хотя сколько-нибудь, улучшаться.
Представим себе, что процесс этот повторяется сотни, тысячи
лет, и мы легко поймем, какие результаты может дать даже бессознательный отбор.
Бросим беглый взгляд на те заключения, к которым привело
нас тщательное изучение вопроса: каким образом человек усовершенствовал свои породы? Мы видели, что способы непосредственного изменения естественных форм весьма ограничены,
изменения, вызываемые ими, ничтожны и что, следовательно,
человек не в состоянии производить этим путем разнообразных, вполне определенных уклонений.
Обратившись прямо к действительности, к практике скотоводов и садоводов, мы убедились, что главное средство для
усовершенствования заключается в наследственности, дозволяющей упрочивать бесчисленные, так называемые случайные
изменения естественных форм. В богатом выборе этих изменений,
в возможности накоплять их в многочисленном ряду поколений
и заключается могущественная сила отбора. Только отбор может
объяснить, как ничтожные уклонения разрастаются в значительные различия; только отбор, дозволяющий человеку накоплять мельчайшие, незаметные для неопытного глаза уклонения, в состоянии произвести те тончайшие приспособления к потребностям человека, которым мы удивляемся в искусственных
породах.
Итак, человек не сам непосредственно изменял к лучшему
естественные формы, а только сохранял, слагал счастливые
изменения, возникавшие в природе.
Наконец, относительно самого процесса отбора мы видели,
что простейшая и в то же время наиболее совершенная его форма
заключается в удалении или истреблении менее удовлетворительных особей.
IV
естественный
отбор
Существует ли в природе отбор? — Размножение
организмов в геометрической прогрессии.—Борьба
за существование.—Естественный
отбор. — Примеры борьбы. —Борьба прямая, конкуренция
и борьба с условиями среды.—Сложные соотношения зависимости между
организмами.—
Образ действия
естественного
отбора.—Примеры.—Естественный
отбор действует исключительно
на пользу самого организма; — в силу
закона соотношения развития вызывает изменения
безразличные ; — никогда не вызывает изменений, полезных исключительно для другого организма;— не ведет к безусловному совершенству.
—Заключение.
Ч
итатель, может быть, уже не раз с досадой спрашивал
себя: к чему это длинное отступление о скотоводах
и садоводах, о происхождении и причинах совершенства домашних пород, когда цель наша — разъяснить процесс
образования видов в естественном состоянии?
Но каково будет его удивление, когда он узнает, что выводы,
к которым привело нас изучение домашних пород, послужат
нам путеводной нитью в бесконечном лабиринте природы, что,
изучая эти породы, мы только вернее шли к означенной цели,
что половина пути уже осталась за нами!
Как, спросит читатель, разве заключения, выведенные для
известного ряда фактов, могут быть применены для объяснения
совершенно иного ряда фактов? Разве может быть что-либо
общее между процессом, в котором главным деятелем является
разумная воля человека, и процессом, зависящим от слепых
сил природы?
Чтобы скачок этот не показался слишком резким, чтобы убедиться, что различие между двумя процессами едва ли так
громадно, как может показаться с первого взгляда, припомним,
что и при сознательном отборе человек не создает, не вызывает,
а лишь сохраняет и накопляет изменения, возникающие без
участия его воли. Припомним далее, что наибольшую долю участия в образовании искусственных пород должно приписать бессознательному отбору, т. е. такому процессу, в котором человек
по отношению к достигаемой цели является совершенно слепым
орудием, таким же бессознательным деятелем, как и другие
силы природы.
Но приступим прямо к разрешению вопроса: можем ли мы
объяснить образование всех органических форм и их совершенство причинами, подобными тем, которыми мы объяснили образование и совершенство искусственных пород, разводимых человеком? Поставим вопрос в самой ясной, в самой резкой форме.
Существует ли в природе отбор?
Но и этот вопрос мы можем еще значительно упростить:
припомним только, что было сказано об отборе. В самом деле,
в чем заключался отбор в его наиболее совершенной форме?
Лишь в удалении или истреблении неудовлетворительных особей. Итак, вот в каком виде окончательно является наш вопрос:
наблюдается ли в природе истребление менее совершенных форм?
В ответ на этот вопрос Дарвин развертывает перед нами картину истребления, в сравнении с которой бледнеет самая
смелая фантазия художника или поэта. Вместо вечно ясной,
улыбающейся природы, которую мы привыкли считать воплощением мира, перед удивленными глазами нашими возникает
грозный хаос, где все живущее смешалось и переплелось в ожесточенной, смертельной схватке, где ка?кдое существо вступает в
жизнь по трупам миллионов себе подобных.
И все это не фраза, не бред расстроенного воображения, —
нет, это факт, который может быть доказан рядами сухих прозаических цифр.
Случалось ли вам, читатель, следить за полетом хохлатой
семянки одуванчика, к немалой досаде садоводов пестрящего
9
К. А, Тимирязев,
т.
VII
своими желтыми цветами наши газоны? Случалось ли вам задуматься об ожидающей ее участи? Случалось ли вам подумать,
что бы сталось с нашим газоном, если бы каждая из этих семянок, носящихся в таком несметном числе, произвела растение?
Если не случалось, то и не трудитесь. Никакие усилия воображения не дадут вам понятия о действительности. Цифры здесь
всего красноречивее. Постараемся вычислить, какое потомство
произведет одна летучая семянка в течение десяти лет, предполагая, что ни одно семя не погибнет. Для этого допустим,
что каждое растение приносит ежегодно сто семян, и это будет
очень немного, потому что число их в одной головке немногим
менее этого, а каждое растение приносит по несколько головок
в год. Однако и по этому крайне умеренному расчету мы получим следующий ряд цифр:
в первый
год 1
» второй
» 100
)> третий
» 10 000
» четвертый
» 1 000 000
» пятый
» 100 000 000
» шестой
» 10 000 000 000
» седьмой
» 1 000 000 000 000
» восьмой
» 100 000 000 000 000
» девятый
» 10 000 000 000 000 000
» десятый
» 1 000 000 000 000 000 000
Но эти цифры все еще не дадут нам никакого понятия
о громадности этого числа; чтобы оживить их, чтобы придать им смысл, посмотрим, какое пространство- земли потребовалось бы для вмещения всей этой растительности. Положим, что каждое растение одуванчика покрывает один квадратный
вершок * земли — эта цифра, конечно, будет ниже
действительной, — в таком случае представленный ряд цифр
выразит нам площади: в 1, в 100, в 10 ООО и т. д. квадратных
вершков, покрываемые последовательными поколениями одуванчиков.
Но поверхность всей суши на земле равняется приблизительно 66 824 524 800 000 000 квадратных вершков.
* Около 20 квадратных сантиметров.
Ред.
Разделим
цифру, выражающую площадь, покрываемую
десятым поколением одуванчика, на эту цифру, выражающую
поверхность всей суши:
1 О О О ООО ООО ООО О О О ООО
6 6 8 2 4 5 2 4 8 0 0 О О О ООО '
получим, примерно, 15.
Итак, для десятого поколения одного семени одуванчика
потребовалась бы площадь в 15 раз более поверхности всей суши
на земле. И не следует думать, чтобы эта изумительная плодовитость одуванчика была явлением исключительным: еще Линней рассчитал, что растение, которое приносило бы только два
семечка в год, по прошествии двадцати пяти лет произвело
бы потомство в миллион, но подобного растения в природе
не существует; напротив, можно привести множество примеров,
в сравнении с которыми плодовитость одуванчика будет ничтожна: в коробочке мака, например, бывает от 2 900 до 3 ООО семян, а порядочное растение мака приносит до 10 головок, —
следовательно, одно растение мака рассеивает до 30 000 семян
ежегодно; в одном плоде кукушкиных слезок, по расчету
Дарвина, не менее 186 300 семян. И это еще не предел плодовитости: бурая или черноватая пыль, покрывающая изнанку
узорчатых листьев папоротника, могла бы дать начало миллионам особей.
И мы имеем доказательства быстроты размножения растений, еще более осязательные, чем эти теоретические соображения. Многие из растений, теперь самых обыкновенных,на обширных равнинах Ла-Платы выстилающих целые квадратные мили
почвы, с которой они вытеснили все прочие растения, ввезены
из Европы; а по наблюдениям доктора Фоконера, есть растения, распространенные по всей Индии, от Гималаев до мыса
Коморина, которые ввезены из Америки. Натурализация некоторых европейских растений в Австралии представляет еще
более' поразительные факты.
Сказанное о растениях в такой же степени применимо и к
животным: слон плодится медленнее всех остальных животных — в течение двухсотлетней своей жизни он производит
всего три пары детенышей (между тридцатыми и девятидеся9*
131
тыми годами), но, по расчету Дарвина, потомство одной пары
слонов через пятьсот лет достигло бы пятнадцати миллионов.
Каково же должно быть размножение хотя бы, например,
рыб, в икре которых яички должно считать тысячами и сотнями
тысяч? Быстрое размножение медленно плодящихся лошадей
на равнинах Америки и недавнее размножение кроликов в Австралии служат фактическим ручательством того, что выводы наши
верны и для животных.
Словом, нет такого существа, потомство которого, огражденное от истребления, не заселило бы в самом непродолжительном времени всю землю; закон этот не представляет исключений.
Но мы не в состоянии даже приблизительно оценить число
живых существ, населяющих землю; чтобы дать хотя отдаленный намек на громадность этой цифры, скажем, что число одних
видов животных и растений простирается
до
полумиллиона.
Итак, органических существ родится в несметное число раз
более, чем сколько может выжить; это — неумолимый закон
Мальтуса, примененный ко всему органическому миру * . Не
в праве ли мы были сказать, что в природе совершается постоянный процесс истребления, перед которым теряется человеческая мысль?
Посмотрим, какие же последствия должно иметь это истребление. Возвратимся к нашему одуванчику, перенесемся мыслью
в ту эпоху (между девятым и десятым годом), когда потомство
его уже заселило всю поверхность суши на земле.
* Основоположники марксизма резко разграничивали учение Дарвина и реакционную мальтусовскую теорию народонаселения. Так,
Маркс говорит: «Дарвин в своем превосходном сочинении не видел, что он
опровергает теорию Мальтуса, открывая в царстве животных и растений
„геометрическую" прогрессию. Теория Мальтуса основывается как раз на
том, что он уоллесовскую геометрическую прогрессию человека противопоставляет химерической „арифметической" прогрессии животных и растений. В произведении Д а р в и н а , например, в обсуждении причин вымирания видов, заключается и детальное — не говоря об его основном принципе — естественно-историческое опровержение мальтусовской теории»
(К. Маркс — «Теории прибавочной стоимости», т. II, ч. I, стр. 213. Партиздат, 1932 г.). Ред.
л
Что же будет далее? Каждое растение, окончив свой жизненный оборот, погибнет 1 , оставив по себе 100 потомков и клочок
земли, достаточный для одного.
Кому же достанется это наследие? Кому жизнь, кому смерть
на самом пороге жизни? Это решит ожесточенная борьба, из которой выйдет победителем только один.
Но кто же будет этот победитель, кто побежденные? Кто
отметит счастливого избранника, кто произнесет смертный
приговор над остальными девяносто девятью?
Не слепой ли случай?
Но что такое случай? Пустое слово, которым прикрывается
невежество, уловка ленивого ума. Разве случай существует
в природе? Разве он возможен? Разве возможно действие без
причины?
Итак, что же определит этого избранника? Его же собственное достоинство. Если в его организации найдется хоть
одна ничтожная черта, которая сделает его более способным
к жизни при данных условиях, более совершенным, чем его
соперники, то он уже избран. Песчинка может склонить в его
сторону чувствительные весы природы.
Но в чем же может заключаться превосходство одного семени
перед другим? Кто знает! Быть может, в тонкой кожуре, которая
облегчит для него процесс прорастания, а может быть, и в более
толстой, которая защитит его от ненастья; быть может, в раннем прорастании, которое дозволит ему опередить других, и, может быть, напротив, в более позднем, которое спасет его от ранних морозов и сохранит от участи его соперников. Наконец,
по всей вероятности, существуют бесчисленные тончайшие оттенки, различия которых мы не в состоянии подметить, не только
оценить, и которые, тем не менее, имеют громадное значение
для самого организма. Гукер, изучивший флору Индии, от
Бенгальской долины и до снеговой линии Гималаев, и обращавший главное внимание на так называемые географические
разновидности, убедился, какие важные физиологические изменения могут претерпевать растения, нимало не отступая от нор1
Мы допустили, ради
летнее.
простоты, что одуванчик — растение одно-
мальной формы. Так, например, один вид в одной местности обладает целебными свойствами, а в другой — лишен их вовсе,
следовательно, представляет иной химический состав, или одна
и та же форма в различных местностях способна выдерживать
весьма различные климатические условия, так что растение,
взятое, например, с верхней границы его распространения
на Гималаях, гораздо лучше выдерживает климат Англии,
чем растение, взятое из более низменной области. Только когда
подобные изменения сопровождаются изменением в форме,
они привлекают внимание наблюдателя. В природе не существует двух форм тождественных; следовательно, в каждой
кучке состязающихся существ найдется одно наиболее совершенное , наиболее приспособленное к окружающим условиям,
оно и выйдет победителем из борьбы, оно и будет избранником
природы.
И не следует думать, что исход борьбы был так прост: одна
победа еще не решает распри, пораженные соперники еще не
тотчас гибнут. Мы и не подозреваем, сколько жизни таится,
теплится в природе, жизни, готовой вспыхнуть при первом возможном случае. Из горсти ила, собранного Дарвином на дне
пруда, в течение шести месяцев взошло 538 растений. Следовательно, малейший ложный шаг, минута колебания — и тот, кто
за мгновение был избранником,
погиб, растоптан лежавшими
у его ног соперниками. Можно сказать, что каждое живое существо постоянно подвержено неумолимой критике своих враговсоперников.
Итак, в этом постоянном состязании, в этой борьбе за существование необходимо гибнут особи менее удовлетворительные,—
значит, в природе существует не только истребление, но даже
истребление существ, менее совершенных, — в природе существует отбор.
Понятно, что этот естественный отбор S вытекающий из
борьбы за существование,
может действовать только на пользу
1
Дарвин назвал этот процесс, необходимо вытекающий из быстрого
размножения органических существ, естественным
отбором (natural
selection) для того, чтобы у к а з а т ь на полнейшую аналогию его с процессом, посредством которого человек совершенствует свои породы; но нашлись люди, которые не поняли смысла этого выражения и стали утверж-
самого организма. «Благодаря борьбе за существование, всякое
изменение, как бы оно ни было легко и от каких бы причин оно
ни зависело, если оно сколько-нибудь выгодно для особи какоголибо вида, при ее сложных соотношениях с другими органическими существами и с внешней природой, — всякое такое
изменение будет содействовать сохранению особи и большей
частью передастся потомству. Это потомство будет иметь более
шансов на существование, ибо из множества особей каждого
вида, периодически рождающихся на свет, выживают лишь
немногие». «С другой стороны, мы можем быть уверены, что
всякое уклонение, сколько-нибудь вредное, подвергалось бы
неминуемому пресечению».
Понятно также, что естественный отбор должен так же неизмеримо превышать отбор человека, как природа вообще превышает искусство. «Если человек мог достигнуть и действительно достиг громадных результатов путем методического и бессознательного отбора, то чего не в состоянии сделать природа!
Человек может влиять только на внешние, видимые признаки;
природа же не заботится о внешности: эта внешность подлежит ее отбору лишь постольку, поскольку она полезна организму. Природа может влиять на каждый внутренний орган,
на каждый оттенок изменения в организации, на совокупность
жизненного механизма. Человек отбирает для своей пользы,
природа — для пользы охраняемого существа. Каждый отобранный ею признак идет в дело, и существо вступает в хорошо
дать, что Дарвин придает природе сознание, что природа у него рассуждает, разбирает; нашлись даже такие судьи, которые решили, что дело было
бы еще понятно, если б он ограничился животными, но что к растениям,
не имеющим воли, начало отбора никак неприменимо. К а к ни смешны эти
возражения,однако Дарвин счел нужным объяснить в одном из последовавших изданий своей книги, что выражение «природа отбирает» должно
понимать в таком же метафорическом смысле, в каком иногда говорится,
что кислота избирает основание, что сила тяготения управляет движением
планет, — в таком смысле, в каком употребляют слово природа, разумея
под ним сумму бесчисленных естественных законов, в каком, наконец,
употребляется самое выражение естественный закон, означающее только
известное чередование, известную последовательность фактов, постоянно
наблюдаемые. Все это — метафорические выражения, употребляемые
ради краткости изложения,
приспособленные условия жизни. Человек содержит в одной
стране уроженцев различных климатов; он редко доставляет
каждому отобранному признаку необходимые упражнения, он
кормит одной пищей короткоклювого и длинноклювого голубя;
он не упражняет различным образом животных с длинными
ногами или с длинной спиной; он не дает самцам оспаривать
самок; он не истребляет строго всех неудовлетворительных
животных, но по силам ограждает от вредных влияний всех своих
питомцев. Исходной точкой ему часто служит полууродливая
форма или уклонение, настолько резкое, чтобы привлечь его
внимание, или уже очевидно ему полезное. В состоянии естественном малейшее различие в строении или складе способно
перетянуть тонко уравновешенные весы жизненной борьбы н,
следовательно, сохраниться. Как мимолетны желания и усилия
человека! Как кратко его время! И потому как жалки достигнутые им результаты в сравнении с теми, которые накопила
природа в течение целых геологических периодов! Можем ли мы
удивляться, что произведения природы имеют характер более
„истинный", чем произведения человека, что они бесконечно
лучше приспособлены к сложнейшим условиям жизни и, очевидно, несут отпечаток высшего творчества?»
«Выражаясь метафорически,
мы можем сказать, что естественный отбор ежедневно, ежечасно исследует по всему миру
каждое уклонение, даже самое ничтожное, отбрасывает все
дурное, сохраняет и накопляет полезное, неслышно и неприметно работает, когда бы и где бы ни представился случай, над
усовершенствованием каждого органического существа, прилаживая его к органическим и неорганическим условиям жизни.
Мы не замечаем медленного хода этих изменений и лишь по истечении длинных периодов времени дивимся результатам; наши
сведения о геологических эпохах так несовершенны, что мы
только в состоянии сказать, что формы теперь не таковы, каковы
они были прежде».
I
Но, чтобы вполне уяснить себе действие естественного отбора,
нам необходимо представить себе по возможности полную картину всеобщей борьбы между органическими существами.
«Ничего нет легче, — говорит Дарвин, — как признать на словах действительность всеобщей борьбы за существование, ни-
чего нет труднее, — по крайней мере, я сам это испытал на
себе, — к а к постоянно иметь ее в виду при обсуждении частных
явлений».
В примере одуванчика мы видели простейший пример
борьбы — борьбу между особями одного вида. Но, может быть,
читатель возразит: ведь это был пример чисто теоретический,
это была только дедукция, вывод из закона быстрого размножения органических существ. Нет ли прямых фактов, которые
бы подтверждали, что наш вывод верен, что в природе действительно происходит борьба, что одни организмы побеждаются и
вытесняются другими? Простейший опыт может доставить желаемое фактическое доказательство. Если посеять вместе несколько
разновидностей какого-нибудь растения, например, пшеницы,
то мы увидим, что некоторые из них, вероятно, более приспособленные к почве или климату или более плодовитые, вскоре
одержат верх над остальными и, наконец, совершенно их вытеснят. Даже разновидности, столь близкие между собой, каковы
душистые горошки различных колеров, вытесняют друг друга.
Чтоб сохранить одни сорта в присутствии других, необходимо
собирать семена отдельно и ежегодно смешивать их в определенной пропорции, иначе сорта более слабые будут постоянно уменьшаться в числе и, наконец, совершенно исчезнут. Сакс очень
остроумно замечает, что усилия, которые сельский хозяин должен
употреблять для того, чтобы охранить свои поля от вторжения
сорных трав, дают наглядное понятие о той борьбе, которую
каждое растение должно выдерживать с остальными. То же
самое наблюдается и относительно животных. Некоторые горные породы овец положительно вытесняют другие породы, так
что их невозможно разводить вместе. Занимающиеся разведением
пиявок заметили подобное же явление.
Но ведь способность размножаться в геометрической
прогрессии, как мы видели, присуща всем органическим существам
без исключения, — следовательно, каждое существо в своем
стремлении заселить всю землю встречает отпор со стороны всех
остальных существ; понятно, в каком напряженном состоянии
должен находиться весь органический мир, какое страшное органическое давление должен выдерживать каждый организм,
цтобь$ удержать за собой свое маленькое местечко в природе,
в какой упорной борьбе против всех и каждого должен он
отстаивать свое существование. Что подобная борьба между
различными видами не есть только предположение, в том убеждают нас непосредственные факты: «Если предоставить самому
себе луг, на котором долго косили (а то же самое можно сказать
о луге, на котором постоянно паслись травоядные звери), более
сильные растения постепенно заглушают более слабые, хотя
и вполне развитые; так (в одном опыте Дарвина), из двадцати
видов, растущих на клочке луговой земли в 12 квадратных
футов, девять погибло оттого, что прочим дали разрастись
вволю». В недавнее время в Северной Америке распространение
одного вида ласточки вытеснило другой вид; в некоторых местах
Шотландии умножение дрозда-деряба повлекло за собой уменьшение числа певчего дрозда. Один вид крысы вытесняет другой; в России прусак вытесняет таракана; один вид речного
рака вытесняет другой. Растительный мир представляет подобные же явления. Один вид сурепицы вытесняет
другой.
Гофмейстер приводит очень любопытный пример двух видов
торфяного мха, которые с изменением условий влажности
болота попеременно заглушают друг друга; попеременно то
тот, то другой, вытесняя своего противника, овладевает
полем сражения. Итак, не только все особи одного вида, но
даже и виды между собой находятся в постоянном ожесточенном состязании.
В примере одуванчика мы предполагали, что он мог бы заселить всю землю; но ведь это предположение невозможно, даже
если бы он не встречал сопротивления в других существах. Невозможно предположить такой организм, который был бы одинаково хорошо приспособлен ко всем точкам земного шара:
всякое растение, всякое животное имеет свою область распространения, определяемую свойством страны или климатом.
Каждый организм имеет свои границы горизонтального
и вертикального
распространения. Следовательно, каждый организм при своем стремлении распространиться должен бороться
еще с условиями существования,климатом, почвой и т. д.; отсюда
другой вид борьбы — борьба со стихиями. Но мы не должны
приписывать особенно большого значения прямому, непосредственному противодействию условий; гораздо важнее их кос-
венное влияние на борьбу, на состязание существ между собой.
Возьмем, например, какое-нибудь растение в самом центре его
области распространения; мы знаем, что оно в состоянии выдерживать несколько больший холод или жар, несколько большую
влажность или сухость воздуха, потому что оно выносит эти
условия на границах своей области. Что же мешает численности
этого растения удвоиться, учетвериться? Ясно, что только
состязание других существ. Условия существования участвуют
тут только косвенно: они не препятствуют его распространению,
а только более способствуют распространению других растений;
они враждебны ему только потому, что благоприятствуют его
врагам. «Если, подвигаясь к югу, мы замечаем, что какой-либо
вид редеет, мы можем быть уверены, что это зависит настолько
же от того, что условия благоприятствуют другим видам, сколько от того, что редеющий вид страдает. Точно так же, когда мы
подвигаемся к северу, хотя и в меньшей степени, ибо количество
видов вообще, следовательно и соискателей, уменьшается к северу, почему мы, подвигаясь к северу или поднимаясь в горы,
гораздо чаще встречаемся с формами, недоразвившимися вследствие прямого действия климата, чем когда мы подвигаемся
к югу или спускаемся с горы. Когда мы достигнем до стран полярных, или до снеговых вершин, или до абсолютных пустынь,
нам представляется борьба, ведущаяся почти исключительно со
стихиями». Новым доказательством, что климат действует, главным образом, только косвенно, служит огромное число садовых
растений,выносящих наш климат, но не дичающих потому,что они
не в состоянии выдержать состязания с природными растениями.
Особенно наглядно обнаруживается косвенное влияние среды
в опытах искусственного удобрения лугов. Азотистые и минеральные удобрения полезны для всех растений, но не в одинаковой степени, — и вот, под влиянием азотистых удобрений
злаки берут перевес над бобовыми растениями, под влиянием
исключительно минеральных удобрений бобовые берут перевес
над злаками.
Мы получим, однако, еще далеко не полную картину всеобщей борьбы за существование, если не примем во внимание
бесчисленные сложные соотношения зависимости, связывающие
между собой все органические существа, Самая простейшая,
прежде всего бросающаяся в глаза зависимость органических
существ друг от друга есть зависимость жертвы от ее врага и, как
необходимое следствие этого, — обратная зависимость хищника от его добычи. Самым обыкновенным примером подобных
прямых врагов являются нам хищные животные относительно всех
остальных животных и травоядные
животные относительно
растений. Несмотря на то, что этот род зависимости нам наиболее известен и понятен, мы редко можем отдать себе отчет в размерах его последствий. Дарвин полагает, что количество куропаток, рябчиков, зайцев в Англии зависит главным образом от
уничтожения мелких хищников, так что, по его мнению, если бы
в течение двадцати лет не было убито ни одной дичины и в то же
время ни одного хищника, то по прошествии этого времени в
Англии оказалось бы менее дичи, чем теперь, когда она истребляется сотнями тысяч 1 . Следующее любопытное наблюдение
показывает, какому истреблению растения подвергаются от мелких животных. Дарвин тщательно отмечал все всходы диких
трав, появлявшиеся на клочке земли длиной в три и шириной
в два фута, и из 357 не менее 295 были разрушены улитками
и насекомыми. Несоразмерная многочисленность особей истребляемого вида в сравнении с числом врагов в иных случаях есть
единственное средство, сохраняющее эти виды от совершенного
уничтожения; доказательством этому нам могут служить хлеба
и другие растения, которыми мы засеваем наши поля; всем известно, что они подвергаются истреблению от птиц, и, однако,
это не мешает нам собирать ежегодно жатву, между тем как всякий, пытавшийся собрать семена в саду с нескольких растений
пшеницы, знает, с какими это сопряжено трудностями. Дарвин
говорит, что ему нередко случалось потерять при таких условиях
1
В 1863 г. была наряжена английским парламентом комиссия для
пересмотра законов, относящихся до ловли сельдей у берегов Шотландии.
Из цифр, приведенных в отчете этой комиссии, оказывается, что то количество трески и другой крупной рыбы, которое ловится у тех же берегов,
истребило бы более сельдей, чем сколько их вылавливают все рыбаки Шотландии, взятые вместе. Но количество изловленной крупной рыбы, конечно, составляет ничтожную часть всего количества ее, водящегося в тех
водах, из чего составители отчета заключают, что истребление сельдей
через их ловлю ничтожно в сравнении с истреблением, которое они терпят от крупной рыбы.
все семена. Эти факты, может быть, объяснят то любопытное
явление, что некоторые очень редкие растения скучены в огромных количествах на тех немногих точках земного шара, на которых они встречаются, — потому что иначе они, может быть,
вовсе исчезли бы.
Не следует думать, что прямые враги всегда те только, которые питаются своими жертвами; следующий пример лучше всего
объяснит нам, какие разнообразные могут быть враги. В Парагвае не одичали ни рогатый скот, ни собаки, меяеду тем как в соседних странах они водятся в несметном числе; причина этого
явления заключается в изобилии в Парагвае известного рода
мухи, которая кладет свои яйца в пупок молодых животных
тотчас по их рождении.
Но самые любопытные, самые изумительные явления взаимной зависимости органических существ представляют, без сомнения, те сложные, почти чудесные соотношения, которые
наблюдаются между некоторыми растениями и насекомыми.
Существует целое растительное семейство орхидных, оплодотворение которых обыкновенно невозможно иначе, как при
содействии насекомых. Цветы этого семейства вместо легко
распыляющейся и разносящейся в воздухе цветочной пыли
имеют по большей части цветень, собранный в липкие комочки,
которые сами собой никаким образом не могли бы попадать на
женский орган, на рыльце. Этот недостаток восполняется насекомыми, которые, питаясь сладковатой жидкостью, выделяющейся в глубине цветка, переносят с цветка на цветок эти липкие
комочки и таким образом способствуют оплодотворению. Участие
насекомых в оплодотворении орхидных было замечено уже давно,
но только исследования Дарвина показали, какими изумительно тонкими приспособлениями одарены цветы орхидных
для облегчения этого процесса. Так, у иных цветов (Orchis
mascula) комочки пыли одарены липкими пуговичками, которые
по положению своему необходимо должны упираться в лоб
насекомого, запустившего хоботок в глубину цветка; у других
вместо пуговички есть липкая уздечка (Orchis pyramidalis),
которая охватывает кольцом запущенный хоботок; у третьих
(Catasetum, Mormodes) комочки пыли при малейшем прикосновении к соседней части цветка выбрасываются вон, иногда на рас-
стояние двух-трех фу.тов. И все эти механизмы так точны, так
чувствительны, что нельзя просунуть волоса в глубину цветка,
чтобы не вынести на нем этих комочков пыли. Насекомые с подобными цветневыми комочками на голове или на хоботке
попадаются нередко, и Дарвин даже находил бабочек, у которых
на хоботке было несколько пар комочков. Наконец, положительным доказательством необходимости участия насекомых
в оплодотворении служит прямой опыт, что цветы, предохраненные от насекомых, не оплодотворяются. И эти факты не стоят
одиноко. Дарвин положительным опытом убедился, что участие
шмелей необходимо для оплодотворения клевера, анютиных
глазок и некоторых видов лобелий. Эти любопытные исследования Дарвина открыли совершенно новое поприще для исследования ботаников. По его следам, Гильдебранд, Дельпино,
Мюллер, Лёббок и другие занимались этим любопытным вопросом и показали, что это замечательное явление участия насекомых в оплодотворении цветов распространено в значительном
числе растительных групп. Можно сказать, что главное физиологическое значение пестрых и разнообразных покровов цветов,
которые человек до сих пор считал только украшением, существующим для услаждения его взоров, что главное значение
этих органов состоит в том, чтобы привлекать насекомых и, приноравливаясь к их нравам и ухваткам, пользоваться их посещением для достижения перекрестного оплодотворения Ч
Итак, мы видим, как бесконечно сложны взаимные соотношения живых существ: плодовитость клевера зависит от присутствия щмелей, а сами шмели зависят от полевых мышей,
разоряющих их соты и гнезда; по свидетельству одного авторитетного писателя, много занимавшегося нравами и образом
жизни шмелей, более двух третей этих животных погибает таким образом. Но всякий знает, что число полевых мышей зависит от числа кошек, и этот же ученый положительно говорит,
что около городов и сел он встречал наибольшее количество
шмелиных гнезд, что должно прямо приписать присутствию кошек. Следовательно, мы должны допустить, что численность
кошек, через посредство мышей и шмелей, влияет на обилие клевера в данной местности.
1
О пользе которого уже было сказано во II главе. См. главу VI.
Дарвин неоднократно фактически убеждался, какими важными последствиями отзываются самые ничтожные изменения,
введенные в общий строй органических существ какой-нибудь
местности. В одном месте в Страффордшире ему удалось тщательно изучить изменения, вызванные в бесплодной вересковой
равнине, которой не касалась рука человеческая, разведением
на ней соснового леса. После засева прошло всего двадцать
пять лет, и, однако, сравнивая растительность равнины с растительностью засаженных участков, он нашел, что не только
относительное число растений вересковой равнины совершенно
изменилось, но даже появились двадцать новых видов (не считая
злаков и ситниковых). Влияние этой перемены на насекомых
должно было быть еще громаднее, потому что в роще завелось
шесть насекомоядных птиц, которых не было в равнине. Итак,
мы видим, какие важные изменения произвело одно разведение
сосны, но в другом месте (в Суррее) Дарвин имел случай заметить, от какого ничтожного обстоятельства может зависеть
появление леса. В этой местности, на такой же вересковой равнине, как только что описанная, большие участки были за последние десять лет огорожены изгородями, и одного этого
обстоятельства было достаточно, чтобы огороженные места покрылись множеством самосеяных сосен, и притом так густо,
что не все могли выжить. «Убедившись в том, что эти молодые
деревья не были ни посажены, ни посеяны, — говорит Дарвин, — я очень удивился их количеству и всходил на несколько
возвышений, с которых мог озирать сотни акров * неогражденной равнины, и буквально не мог усмотреть на ней ни одной
сосны, кроме старых групп на холмах. Но, заглядывая внимательно между стволов вереска, я увидел множество сеянок и мелких сосенок, которые беспрестанно огрызал скот. На квадратном ярде*, на расстоянии сотни ярдов от одной из старых групп,
я насчитал тридцать два деревца, и одно из них, с двадцатью
шестью годовыми слоями, много лет. силилось поднять свою
верхушку над вереском и не успело в этом. Немудрено, что эта
почва, как только ее оградили, вся покрылась сильными молодыми соснами. Но равнина была так обширна и бесплодна,
* Я р д — английская линейная мера, равная 0,9 метра. А к р — английская квадратная мера, равная 0,4 гектара. Ред.
что никто бы не подумал, что она так тщательно обглодана скотом». Из этих двух примеров мы видим, что ничтожное условие,
щіково ограждение от потравы скотом, может вызвать появление
леса в безлесной равнине, которое, в свою очередь, повлечет
глубокое изменение во флоре и фауне страны.
Приведенный выше пример мухи, препятствующей размножению лошадей и рогатого скота на равнинах Парагвая, мог
бы дать начало подобному же ряду соотношений: численность
этой мухи должна, по всей вероятности, зависеть от численности
насекомоядных птиц, — следовательно, размножение этих последних повлекло бы за собой вторжение лошадей и рогатого
скота из соседних стран, что значительно изменило бы растительность страны; это повлияло бы на насекомых и через них на
насекомоядных птиц. Мы начали ряд с насекомоядных птиц
и окончили ими же; таким образом, малейшее изменение, претерпеваемое одним органическим существом, передается от звена
к звену целой цепи существ. И как бесконечно просты должны
быть все предполагаемые примеры в сравнении с действительностью!.
Итак, только подведя о б щ и й итог всем этим борьбам — борьбе со средой, борьбе между особями одного вида, борьбе между
различными видами, борьбе с прямыми врагами, только постоянно имея в виду бесконечно сложную сеть соотношений и зависимости, переплетающую все живое в одно громадное целое,—
мы в состоянии получить верное представление о том, что разумеет Дарвин под борьбой за
существование.
«Но я убежден, — говорит Дарвин, — что, не запечатлевши
в своем уме все значение, все размеры этого процесса, мы не можем охватить ясным взглядом, не можем верно понять всего
строя природы с бесчисленными фактами распределения, редкости, обилия, угасания и изменения, из которых слагается этот
строй».
«Когда мы смотрим на разнообразные кустарники и травы,
столпившиеся на густо заросшем берегу реки, мы склонны
приписать так называемому случаю присутствие и относительную
численность того или другого вида. Но как ложен этот взгляд!
Всякий слыхал, что когда вырубают американский лес, на его
месте появляется совершенно иная растительность, но замечено,
что деревья, заглушившие древние мексиканские развалины,
которые первоначально, конечно, не были покрыты растительностью, представляют то же дивное разнообразие, то же численное отношение видов, к а к и окружающий их девственный лес.
К а к а я борьба Должна была происходить в течение целых веков
между разнообразными деревьями, рассеивающими
каждое
тысячи семян ежегодно, к а к а я война менаду различными насекомыми, между насекомыми и улитками, между хищными птицами и зверями и другими животными! Как все они должны были
стремиться размножиться, пожирая друг друга или питаясь
деревьями, их семенами и сеянками или другими растениями,
первоначально облекавшими почву и противодействовавшими
росту деревьев! Бросьте на воздух горсть перьев, каждое из них
должно упасть на землю по определенному закону; но как легка
эта задача в сравнении с действиями и противодействиями бесчисленных растений и животных, определившими в течение
веков виды и относительную численность дерев, теперь растущих на древних индийских развалинах!»
Познакомившись с теми явлениями, которые Дарвин разумеет
под общим названием борьбы за существование, мы теперь
в состоянии полнее выяснить себе, как действует естественных!
отбор и каковы будут сохраняемые и развиваемые им изменения. Из сущности самого процесса вытекает, что посредством
его могут сохраняться только такие особенности, которые сообщают обладающему ими организму перевес в жизненной
борьбе, другими словами, что действие естественного отбора
необходимо должно быть совершенствующее, разумея под усовершенствованием приспособление, прилаживание к жизненным условиям.
Но из всего сказанного о борьбе за существование и о взаимной связи организмов ясно, что каждый организм имеет существенные соотношения не только с непосредственными условиями
жизни, каковы почва, атмосферные явления, но и со всеми окружающими его существами; на нем, так сказать, кладется отпечаток окружающего его органического строя. Из этой двоякой
зависимости органических существ вытекают два вида приспособления: приспособление к условиям неорганическим — к стихиям, и IÎ условиям органическим — к другим существам. Сле10
к. А. Тимирязев,
т.
VП.
*
довательно, всякое изменение, которое делает существо более
соответствующим неорганическим условиям данной местности,
всякое изменение, дающее ему защиту против врага, орудие
на добычу, новое средство для добывания пищи, всякое свойство, прилаживающее его к другим организмам,'с существованием которых связано его существование, — всякое такое изменение будет подхвачено естественным отбором, потому что обладающее им существо получит преимущество перед своими соперниками.
Несколько примеров лучше всего объяснят действие естественного отбора.
Уолластон, изучая насекомых острова Мадейры, нашел, что
из 550 видов жуков, обитающих на этом острове, 200 настолько
бескрылы, что неспособны летать, а из местных 29 родов 23 во
всех своих видах представляют ту же особенность. Следующие
обстоятельства, по мнению Дарвина, вполне убеждают, что это
уменьшение крыла мадейрских насекомых есть дело отбора;
во многих прибрежных странах замечено, что жуки нередко заносятся ветром в море и погибают 1 . Уолластон заметил, что мадейрские насекомые обыкновенно прячутся, пока не стихнет ветер
и не выйдет солнце; далее, по его наблюдениям, процент бескрылых насекомых еще значительнее на менее защищенном от
ветров островке Дезертас, чем на самой Мадейре; наконец, Уолластон с особой силой напирает на то обстоятельство, что на
Мадейре вовсе нет целых групп жуков, повсюду весьма многочисленных, но образ жизни которых делает летание необходимым.
Взвесив все эти факты, мы, конечно, согласимся с Дарвином,
что уменьшение крыла произведено отбором; в течение тысяч
последующих поколений особи, летавшие менее или вследствие
незначительного крыла, или от прирожденной лени, имели более
шансов на сохранение, так как они менее подвергались опасности погибнуть в море.
С другой стороны, тот же Уолластон заметил, что цветочные
жуки и бабочки, достающие свою пищу не из почвы, а следовательно, принужденные летать, имеют крылья не только не умень1
Мне случалось слышать, что в Ораниенбауме именно по этой причине затрудняются р а з в о д и т ь пчел; впрочем, не выдаю этого за несомненный факт.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР
шенные, но даже увеличенные. Оба эти факта совершенно согласны с естественным отбором. Для насекомых, попавших
на этот остров, было только два исхода: или приобрести органы,
при помощи которых они были бы в состоянии бороться с ветром,
или оставить все попытки на подобную борьбу. «Тут должно было
произойти то же, что с мореплавателями, потерпевшими крушение близ берега: хорошим пловцам в этом случае было выгодно
еще большее искусство, чтобы они могли доплыть до берега;
плохим же пловцам было бы выгоднее вовсе не уметь плавать
и, следовательно, держаться на остатках корабля».
Итак, здесь мы видим прекрасный пример приспособления
к стихиям. Такое же приспособление представляют и хохлатки
одуванчика, дозволяющие его семенам рассеваться на огромные
пространства и, следовательно, сообщающие ему важное превосходство над соперниками, рассыпающими семена лишь на ограниченном пространстве. Быть может, благодаря, между прочим,
этому приспособлению семейство сложноцветных, к которому
относится одуванчик, — самое обширное и распространенное
из всех растительных семейств, населяющих земной шар.
Разительный пример приспособлений, представляющих защиту от врагов, мы видим в окраске некоторых животных. Многие насекомые, питающиеся листьями, зелены; другие, питающиеся корой, — все в серых пятнах; горная куропатка зимой
бела, красная куропатка имеет цвет вереска, а косач — торфяной почвы. Окраска эта, очевидно, полезна для существ
как средство, предохраняющее их от врагов, и мы должны допустить, что это приспособление образовалось не иначе, как
отбором, т. е. что все особи, не имевшие подобной окраски,
терпели сильное истребление от врагов и, следовательно, не
оставили потомства 1 . Предположение это оправдывается тем
фактом,что во многих странах Европы не разводят белых голубей,
как слишком подверженных истреблению хищными птицами.
Еще удивительнее примеры насекомых, подражающих расте1
Один русский зоолог издевался над этой теорией Дарвина о защитной окраске. Что бы сказал он теперь, когда культурное (!) человечество
положило ее в основу высшего своего искусства (!) — искусства взаимного
истребления. (Это примечание, вызванное событиями империалистической войны, К . А. внес в 7-е издание книги. Ред.).
10*
147
ниям не только цветом, но и формой. Есть насекомые, напоминающие засохший сучок, другие — засохший или еще зеленый
лист со всеми его жилками и притом с таким поразительным
сходством, что с первого взгляда нельзя не обмануться. Наконец, существуют насекомые, подражающие в своей окраске
другим насекомым. Все эти явления (обратившие на- себя в последнее время внимание натуралистов и получившие английское
название mimicry *), очевидно, представляют для насекомых
одну пользу — возможность укрываться от естественных врагов.
Из этого примера мы видим, что даже такие с первого взгляда
«
маловажные признаки,-какова окраска, могут подленіать естественному отбору. Подобные же примеры можно привести и для
растений; так, известно, что некоторые плоды с пушистой
кожей гораздо менее подвергаются истреблению от насекомых,
чем плоды с кожей гладкой, — следовательно, естественный
отбор будет сохранять преимущественно плоды с кожей пушистой.
Это были примеры защиты от врагов; но не менее изумительны приспособления к преследованию добычи или добыванию
пищи; примерами подобного приспособления могут служить
строение ступни и зубов тигра и других хищных или поразительно гармоническое строение дятла, вся организация которого
приспособлена к добыванию насекомых под корой деревьев.
Все эти и даже самые сложные явления взаимного приспособления растений и животных, как представляют нам, например, орхидные и другие растения, могут быть вполне объяснены
действием отбора. Мы видели, что цветы этого семейства нуждаются в посещении насекомых, без чего невозмояшо оплодотворение; побудительной причиной для посещения их насекомыми
служат железки, находящиеся в глубине цветка и выделяющие
сладкую жидкость; следовательно, весьма естественно, что
постоянно будут выживать те особи, которые будут одарены
большими железками, между тем как особи, случайно лишенные этих железок, не будут привлекать насекомых и останутся вовсе без потомства. Далее мы видели, какими сложными,
тонкими приспособлениями одарены эти цветы для того, чтобы
* Мимикрия, подражание.
Ред.
сделать перенесение цветня неизбежным; но и эти приспособления вполне могли сложиться из случайных отступлений путем отбора, потому что те цветы, которые насекомые могли бы
посещать, не перенося цветня, остались бы неоплодотворенными, а чем совершеннее было бы это приспособление, тем вернее
был бы успех в борьбе.
Но как для цветка выгодно строение, приспособленное к форме и ухваткам насекомых обитаемой им страны, так, обратно,
и для насекомых выгодно приспособление к форме цветка, доставляющего ему пищу. Т а к , например, едва заметное изменение в длине или изгибе хоботка, дозволяющее насекомому
удобнее и поспешнее высасывать сладкую жидкость, доставит
ему преимущество над состязателями. Дарвин приводит весьма
любопытные наблюдения над соотношением между цветами
клевера и насекомыми. Трубочки венчика обыкновенного красного клевера и клевера пунцового (Trifolium pratense, T. incarnatum) с первого взгляда кажутся одинаково длинными, и,
однако, пчелы могут высасывать нектар только пунцового клевера, а не красного, который посещается только шмелями. Таким образом, целые поля красного клевера не в состоянии дать
пчеле ни капли питательной влаги. И, однако, это различие
в строении так ничтожно, что цветы того же самого клевера,
появляющиеся после покоса и отличающиеся несколько меньшими венчиками, посещаются пчелами в огромном числе. Но выше
было сказано, что Дарвин опытом доказал необходимость присутствия шмелей для оплодотворения клевера; следовательно,
если бы в какой-нибудь местности шмели были бы истреблены
или стали редки, то в этой местности уцелело бы потомство
тех цветков, которые, имея случайно короткие венчики, - могли
бы посещаться пчелами; таким образом, по прошествии долгого
времени,вследствие повторяющегося в каждом поколении отбора
особей, унаследовавших эту особенность, в данной местности
образовалась бы порода клевера, приспособленная уже не к шмелям, а к пчелам. Точно так же и в обратном случае, если бы
в данной местности исчезли другие растения, так что красный
клевер составлял бы главную растительность, то из обитающих
в той местности пчел уцелели бы те только, которые вследствие
более длинного хоботка были бы способны питаться красным
клевером, — следовательно, возникла бы порода с организацией, носящей отпечаток цветов клевера. И не следует предполагать, чтобы для подобного приспособления необходимы
были такие крайние случаи, как вымирание целой породы
насекомых или совершенное изменение флоры; даже без всяких
подобных переворотов цветки, способные оплодотворяться и шмелями и пчелами, имели бы более шансов на сохранение, чем те,
которые оплодотворяются одними шмелями, точно так же, как
пчелы, питающиеся всеми остальными цветами данной местности
и еще красным клевером, были бы постоянно более сыты и, следовательно, оставили бы более здоровое потомство, чем остальные.
Итак, мы видим, что даже подобные изумительно тонкие
приспособления, каковы соотношения цветов и насекомых,
вполне объясняются действием отбора; стоит только припомнить,
как громадно число погибающих организмов в сравнении с выживающими. По расчету Дарвина, из 186 300 семян, производимых ежегодно каждым растением кукушкиных слезок, очень
распространенного у нас орхидного, выживает только одно растение в два года.
Во всех приведенных нами случаях изменения, хотя иногда,
повидимому, и маловажные, были, однако, очевидно полезны,
но в некоторых случаях действие отбора может сопровождаться
изменениями, польза которых не так очевидна. Многие естествоиспытатели обращали внимание на так называемый закон
восполнения или равновесия развития; Гёте удачно формулировал его в следующих словах: «Природа для того, чтобы расщедриться с _одной стороны, должна скупиться с другой».
В силу этого закона естественный отбор, развивая какуюнибудь часть организма, должен соответственно уменьшить
другую. Справедливость этих слов подтверяедают факты; так,
например, всякий знает, что капуста не может дать обильной
питательной листвы и обильных маслянистых семян, что нельзя
в одно время откармливать корову и получать от нее молоко.
Следовательно, действие отбора может проявляться не только
в развитии органа, но иногда и в одновременном уменьшении
или даже совершенном уничтожении другого органа. Наконец,
если с переменой условий какой-нибудь орган, бывший прежде
полезным, сделается бесполезным, то естественный отбор будет
стремиться его уменьшить и вовсе уничтожить, потому что организму будет выгодно не тратить пищи на бесполезный орган,
и подобная бережливость даст ему несомненный перевес в борьбе.
Наконец, благодаря одному свойству органических существ,
которое Дарвин называет соотношением развития, отбор может
иногда упрочивать и такие свойства, которые не приносят даже
косвенной пользы организму. Сущность этого закона заклю-_
чается в том, что между некоторыми частями организма, между
отдельными органами, сзчцествует какая-то скрытая связь, вследствие которой изменение одной части сопровождается изменением другФі;
в большей части случаев для
нас темна, но, тем не менее, самый факт не подлежит сошіению.
Т а к , например, замечено~заводчиками, что удлинение конечностей сопровождается удлинением черепа, а у птиц — клюва;
также замечено, что бесшерстные собаки имеют не вполне развитые зубы; кошки с голубыми глазами всегда глухи. Таким
образом, если бы одно свойство было почему-либо полезно
организму, то вместе с ним отбор упрочил бы и второе, даже
если бы оно не представляло ровно никакой пользы или, пожалуй, и небольшой вред, лишь бы в общем результате преобладала польза. Любопытный пример подобного действия отбора
был замечен г. Виманом над породами свиней во Флориде.
Примечая, что все свиньи, которых ему случалось видеть в этой
стране, — черные, он спросил у заводчиков о причине этого
предпочтения и получил в ответ следующее объяснение: в лесах
Флориды растет какое-то красильное растение, которое пагубно действует на всех свиней иной окраски, кроме черной
(именно окрашивает кости и разрушает копыта, следствием
чего бывает смерть). Понятно, что черный цвет не может иметь
здесь прямого значения, а только находится в тесной связи
с другими особенностями организации и сохраняется в силу
того, что Дарвин называет соотношением развития. Итак, приведенный пример ясно доказывает, что в иных случаях естественный отбор может сохранять и поддерживать свойства, даже
не представляющие прямой пользы организму 1 .
1
Любопытнейшие факты в подтверждение этого з а к о н а «соотношения» бесполезных и полезных признаков недавно открыты молодым русским ботаником Н . В. Цингером. (Примечание 1918 г.).
Но если естественный отбор может производить иногда
изменения, не клонящиеся к прямой пользе данного организма
или вида, то он ни в каком случае не может производить изменения исключительно ко благу другого вида. «Если бы можно
было доказать, — говорит Дарвин, — что какая-либо черта
в каком-либо виде сложилась лишь на благо другому виду,
такой факт подорвал бы всю мою теорию, ибо такая черта строения не могла бы сложиться в силу естественного отбора». И действительно, хотя во многих естественно-исторических сочинениях и встречаются указания на подобные приспособления,
Дарвин говорит, что он не мог отыскать ни одного подобного
факта, которому бы можно было придать вес. Говорят, например,
что гремучий аппарат гремучей змеи дан ей для того, чтобы
предупреждать добычу, следовательно — к прямому вреду
его обладательницы». «После этого, — замечает Дарвин, —
можно сказать также, что кошка, собирающаяся прыгнуть,
извивает хвост для того, чтобы спугнуть мышь».
Но из всего сказанного не следует заключать, чтобы каждая
часть организма была в каждый данный момент для него полезна или строго необходима, чтобы организмы не представляли
ничего излишнего; не должно забывать, что естественный отбор
действует только в весьма длинные сроки и, следовательно,
не может мгновенно удалять все, что вследствие изменений
условий сделалось излишним, бесполезным. «Поэтому всякую
подробность в строении всякого живого существа (приняв в соображение некоторое прямое действие физических условий
Ж И З Н И ) можно рассматривать либо как бывшую специально
полезною какой-либо прадедовской форме, либо как полезную
ныне потомкам этой формы, будь то прямо или косвенно, в силу
сложных законов развития».
Еще менее следует думать, чтобы естественный отбор всегда
вел к безусловному совершенству; он стремится усовершенствовать каждый организм лишь настолько, чтобы он с успехом
мог выдерживать состязание с другими обитателями данной
страны, т. е. настолько лишь, чтобы обеспечить ему существование. Но ведь и природа не всегда представляет нам безусловное
совершенство. «Если наш разум заставляет нас восхищаться
в природе множеством неподражаемых приспособлений, тот же
разум учит нас, хотя в обе стороны возможны ошибки, что другие приспособления менее совершенны. Можем ли мы считать
совершенным жало осы или пчелы, которое при употреблении
против разных врагов не может быть снова втянуто вследствие
загнутых назад зубцов и, следовательно, производит неизбежную
смерть насекомого, вырывая его внутренности?» Можем ли мы
после изумительно тонких приспособлений, посредством которых оплодотворяются орхидные, считать столь же совершенным
приспособлением те облака желтого цветня, которые подымаются
каждую весну с наших сосен для того, чтобы несколько пылинок
случайно попало на женские цветки?
Взвесив все сказанное о борьбе за существование и вытекающем из нее естественном отборе, мы должны будем согласиться, что процесс этот вполне объясняет самое главное и загадочное обстоятельство, поражающее всякого при взгляде на
органический мир, — его изумительное совершенство и гармонию. Мы видим, каким простым путем природа могла достигнуть тех поразительных результатов, которыми мы восхищаемся. Она не чудеса творила, прямо выливая существа в изумительно совершенные формы, а только тщательно стирала
следы своих ошибок. В несметном числе попыток, в беспощадном
истреблении всех неудач и заключается причина этого совершенства. Мы можем сказать, не боясь впасть в парадокс, что причина
совершенства органического мира заключается в его скрытом
несовершенстве, так как едва ли можно назвать совершенством
гибель миллиардов существ для сохранения одного.
Представим себе, что человек подвергал бы свои произведения
такой же неумолимой критике, такой же страшной браковке, —
как изумительно они были бы совершенны! Рассказывают, что,
например, на севрской мануфактуре работники, прежде чем
ставить изделия в печь, тщательно сличают их со служившим
при их изготовлении образцом, и, если они хоть сколько-нибудь
не соответствуют этой норме, их тут же разбивают. Бэтой
ломке неудовлетворительных предметов лежит залог совершенства остальных.
Итак, ключ к загадке, которую представляет для каждого
мыслящего человека органический мир, заключается в одном
слове: это слово — смерть. Смерть, рано или поздно пресе-
кающая все уродливое, все бесполезное, все несогласное с окружающими условиями, и есть источник и причина красоты и гармонии органического мира; и если эта вечная борьба, это бесконечное истребление невольно вселяют в душу ужас, то мы не
должны забывать, что
...у гробового входа
М л а д а я будет ж и з н ь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять*.
* А. С. Пушкин (1799—1837).
Ред.
выводы и доводы в пользу
дарвина
учения
Отсутствие
живых переходных форм объясняется с точки зрения учения об естественном
отборе. — Исчезновение
промежуточных
форм —
необходимое следствие этого процесса. — Образование разрозненных,
но
подчиненных
групп.—Естественная
классификация
выражает
только
факт генеалогической
связи.—Громадные
промежутки
времени,
необходимые для процесса превращения
органических
форм,
подтверждаются свидетельством геологии. — Необходимость
существования
ископаемых переходных форм.—Отрицательное
свидетельство
палеонтологии
объясняется
ее фактическою
бедностью. — Новейшие успехи
палеонтологии подтверждают
справедливость
воззрений Дарвина. — Общее заключение.
з
всего до сих пор сказанного мы должны заключить,
что органические существа изменяются, и что вследствие процесса, названного Дарвином естественным
отбором, те изменения, которые приспособляют существа к жизненным условиям, сохраняются, а те, которые ставят их в разлад с этими условиями, рано или поздно пресекаются, другими
словами—в природе существует движение, и это движение в итоге
поступательное, т. е. клонится к усовершенствованию существ.
Но теперь возникает вопрос: какое значение, какие размеры
можем мы приписать этому процессу? Можем ли мы объяснить
им все разнообразие органических существ? В праве ли мы допустить, что путем естественного отбора незначительные различия, подобные тем, которыми отличаются наши разновидности,
могли разрастись в более резкие различия между видами, ро-
дами, семействами и т. д.? И в таком случае как отнесемся мы к
факту отсутствия переходных форм,— факту, представляющему,
поводимому, неотразимое опровержение всякой теории происхождения органических существ путем изменения?
Внимательное рассмотрение некоторых необходимых следствий естественного отбора доставит нам ключ к разъяснению
всех этих вопросов.
Мы видели, что вследствие отбора образуются формы, более
приспособленные к данным условиям, следовательно, имеющие
более задатков на сохранение и размножение. Но мы видели
также, что вследствие быстрого размножения органических
существ всякая область, в каждый данный момент, содержит
все количество жизни, которое она в состоянии вместить. Отсюда прямо вытекает, что потомство форм совершенных должно теснить и выживать своих предков, отставших в общем движении. Рука об руку с размножением совершенных форм должно
итти редение их менее совершенных предков. Но редение неизбежно ведет к вымиранию, к полному угасанию формы —
в этом убеждают уже известные нам факты. В самом деле, мы
видели, что формы, представленные большим числом неделимых,
менее терпят от истребления, чем формы малочисленные; вспомним, например, замечание Дарвина, что с нескольких кустов
пшеницы иногда не удается снять и одного зерна, между тем
как поля, засеянные той же пшеницей, дают ежегодно обильную жатву. С другой стороны, многочисленность породы увеличивает вероятие появления уклонений вообще, а следовательно
и уклонений, полезных для организма; на этом основании виды
обширные, широко распространенные, представляют
более
разновидностей, чем воды редкие. Таким образом, формы редкие терпят более и совершенствуются медленнее форм многочисленных — следовательно, все шансы будут против первых
и в пользу последних, и притом в постоянно возрастающем
отношении. Ясно, что редение должно вести к полному вымиранию формы: предки усовершенствованных форм, раз сделавшиеся редкими, уже тем самым обречены на конечное истребление, хотя иногда, вследствие исключительно благоприятных
условий, они еще долго могут провлачить свое существование.
Естественный отбор, следовательно, не только сохраняет
усовершенствованные формы, но также чрез их размножение
прямо истребляет их менее совершенных предков. Геология
действительно свидетельствует, что на земле существовали
целые группы форм, не оставивших по себе и следа.
' Искусственный отбор представляет нам явления вполне
аналогические; новые породы животных или растений, более
выгодные в экономическом отношении или более соответствующие прихотям моды, часто вполне вытесняют своих предшественников; так, появление породы «шортгорнов» имело последствием, что преяшяя длиннорогая порода скота «была словно сметена, как будто ее истребила моровая язва».
Если бы вся деятельность естественного отбора ограничивалась сохранением избранных и истреблением неудовлетворительных существ, то процесс этот был бы сравнительно прост,
но мы сейчас увидим, какое еще усложнение он необходимо
будет представлять.
Начало, названное Дарвином борьбою за существование,
есть не что иное, как состязание между органическими существами. Причина этого состязания •— безграничное стремление
всех существ размножаться, вследствие чего только незначительная часть рождающихся организмов находит себе место
в природе, разумея под местом всю совокупность условий,
необходимых для существования. Но состязание по самой своей
природе должно быть наиболее упорно, наиболее истребительно
между организмами, наиболее сходными, между организмами,
живущими в одинаковых условиях, питающимися одинаковой
пищей и т. д., — словом, между организмами, занимающими
одинаковые места в природе. С другой стороны, также очевидно,
что между существами, не имеющими одинаковых интересов,
одинаковых потребностей, вовсе не может быть состязания.
Отсюда пряхмо вытекает, что чем различнее будут существа,
обитающие в данной какой-нибудь области, тем менее помехи
они будут оказывать взаимному размножению, или, другими
словами, что на данном пространстве может ужиться тем более
существ, чем менее они между собою сходны.
Таким образом, мы должны допустить, что для каждого
отдельного организма положительно выгодно всякое уклонение
от сходных с ним существ, потому что с каждым подобным уклонением он более и более устраняется от опасного соперничества
и, следовательно, получает более шансов на сохранение и размножение. И чем значительнее уклонение, тем очевиднее его польза.
Но всякая выгодная особенность подпадает отбору, следовательно, мы должны допустить, что из всех видоизменившихся
потомков какой-нибудь видовой формы в каждом поколении
будут предпочтительно сохраняться самые различные, т. е. такие,
которые будут наиболее расходиться между собою в складе, в
образе жизни, в потребностях. Вследствие этого — различия,
первоначально слабые, едва заметные, с каждым новым поколением будут выясняться резче и резче, и образовавшиеся разновидности будут постоянно удаляться друг от друга и от своих
общих предков.
Итак, закон, по которому количество органических существ
увеличивается с их разнообразием, — закон, прямо вытекающий из учения о борьбе за существование, будет причиной
постоянно возрастающего уклонения раз образовавшихся разновидностей, потому что в каждом поколении будут отбираться
особи, наиболее между собою различные. Стремление организмов
размножиться, эта постоянно напряженная, ничем неудержимая органическая сила найдет себе исход в стремлении их разнообразиться, расходиться в нравах, в строении, в потребностях.
Но, может быть, читатель пожелает более осязательных фактических доказательств существования подобного закона? Доказательства эти под рукой. Известно, например, что участок
земли, засеянный несколькими сортами трав, дает большее
по весу количество сена, чем равной величины участок, засеянный одной какой-нибудь травой, или что поле, засеянное несколькими породами пшеницы, дает больший сбор, чем такое же
поле, засеянное одной породой. Земледельцам тоже из опыта
известно, что они могут собрать со своих полей наибольшее
количество питательных веществ посредством севооборота из
растений, относящихся к разнообразнейшим порядкам, потому
что растения эти извлекают из почвы различные вещества.
«Природа производит, так сказать, одновременный севооборот»;
растения, находящиеся в близком соседстве, обыкновенно отли-
чаются разнообразием; так, например, на клочке газона в четыре
фута длины и три ширины Дарвин насчитал 20 различных видов
растений, относящихся к 18 родам и 8 порядкам, из чего видно,
как они были разнообразны.
Можно привести еще другого рода факты в подтверждение
сказанного закона. Известно, что человек иногда умышленно,
а иногда и неумышленно переселял растения из одной страны в
другую, причем некоторые очень хорошо принимались на своей
новой родине, легко дичали, или, как говорят, натурализовались. С первого взгляда всего естественнее, казалось бы, предположить, что примутся те растения, которые будут наиболее
сходны с туземными, и притом растения, относящиеся к немногочисленным группам, которые найдут выгодные для себя условия.
На деле выходит далеко не так: приурочиваются растения,
по большей части совершенно отличные от туземных, и притом
весьма разнообразные, так что, по удачному замечанию Альфонса де-Кандоля, флоры чрез натурализацию
сравнительно
более обогащаются родами, чем видами. Т а к , например, 260 видов, натурализованных в Северной Америке, относятся к 162 родам — следовательно, весьма разнообразны, и из этих 162
родов 100 не имеют туземных представителей.
Итак, повторяем, в силу закона, по которому количество
жизни возрастает с разнообразием существ,уклоняющиеся разновидности, избегая взаимно невыгодной борьбы, будут постоянно
стремиться по более и более расходящимся путям. Из этого
видно, что начало, по которому незначительные различия
между разновидностями разрастаются в более и более резкие
различия между видами, родами и т. д., есть только одно из
необходимых следствий естественного отбора. Дарвин называет
это начало расхождением
признаков (divergence of character).
Искусственный отбор представляет нам совершенно аналогическое явление. Любители обыкновенно ценят экземпляры
с особенно резко выраженными особенностями; экземпляры же
с неясно выраженными признаками не сохраняются, и потому
формы неопределенные, со смешанными признаками, составляющие соединительные звенья между вновь возникающими
породами, быстро исчезают, и связь между этими породами порывается.
Посмотрим теперь, каковы будут последствия одновременного действия обоих начал — расхождения
признаков и вымирания. Для большей ясности и краткости изложения представим себе этот процесс наглядно, как это делает Дарвин.
Представим себе, что потомство какой-нибудь видовой формы
А уклоняется от нее по нескольким различным направлениям,
что означено на нашем чертеже лучеобразно расходящимися
чертами. В силу начала расхождения признаков в общей борьбе,
которая завяжется между этими видоизмененными потомками А,
наиболее шансов на сохранение будут иметь формы, уклонившиеся по наиболее расходящимся направлениям (означенным
на чертеже крайними чертами). Они, следовательно, вскоре
опередят и заглушат формы средние, промежуточные между
ними, и будут продолжать уклоняться все далее и далее. Но рано
или поздно с каждой из этих новых форм а', п' повторится тот
же процесс, что и с А; в них обнаружится раскол, стремление
образовать более или менее резкие уклонения. Из этих уклонений снова предпочтительно перед другими сохранятся самые
крайние. Таким образом, две формы а', п' дадут начало уже
четырем а , d", к", п". Эти, в свою очередь, снова раздробятся
и дадут начало восьми формам.
Но естественный отбор действует не иначе, как на пользу
организма; следовательно, каждый новый (горизонтальный) ряд
форм будет совершеннее ряда, ему предшествовавшего. В самом
деле, формы а , п не могут быть менее совершенны, чем И, потому
что при этом условии они не могли бы сложиться; они не могут
быть и равного с ней достоинства, потому что всякая возникающая форма необходимо представлена меньшим числом неделимых,чем форма типическая, а, следовательно, при равном с нею
достоинстве терпит большее истребление и не может удержаться.
Значит, самый факт существования этих форм уже есть доказательство, что они имеют какое-нибудь преимущество перед А.
Точно так же формы a", d", fc", п" должны быть совершеннее
a', ri H т. д. Но появление более совершенной формы необходимо влечет за собою вымирание ее менее совершенных предков;
появление а , п' будет сопровождаться вымиранием А и всех
промежуточных степеней между А п а ' и между А и п'. В свою
очередь а и п будут истреблены следующими за ними а ,
<Г, к", п" и т. д. Но форма А связывала между собою d u n , а эти последние были, в свою очередь,
связывающими
звеньями
между а" и d", п" и к".
Следовательно, самым процессом образования новых
форм порывается связывавшая их цепь существ.
Разрывы, раз образовавшиеся, с течением времени
разрастаются более и боРис. 2.
лее, а между тем появляются еще новые разрывы. Таким образом, в итоге получаются последовательные ряды разрозненных форм, лишенных
всякой между собой связи. Окончательным результатом процесса, изображенного на нашем чертеже, является восемь резко
очерченных форм (означенных точками а " — п " ) , между которыми не сохранится и следа переходов.
Не следует, однако, думать, чтобы процессы изменения,
расхождения и вымирания всегда происходили с такой неизменной правильностью, как изображено на нашем чертеже; напротив, они, по всей вероятности, будут подвергаться значительным отступлениям, обусловливаемым разнообразнейшими причинами; так, например, одни формы будут изменяться быстрее других, вследствие чего одно разветвление выйдет длиннее другого;
в некоторых случаях из двух крайних форм разовьется только
одна, а в других, напротив, разовьется более двух; может также
случиться, что вымирание в некоторых, впрочем, очень редких,
случаях будет неполное; так, при счастливом стечении обстоятельств какая-нибудь форма Ä " , весьма мало уклонившаяся
от первоначальной А, сохранится где-нибудь в затишье и проу
ТП
влачит свое существование даже до эпохи появления форм а
п " , но, повторяем, это будет очень редкое исключение.
Обратим теперь внимание на взаимное родство между
шими восемью формами а " — п " . Зная их родословную, мы
труда можем определить эти степени родства и разбить
11 К. А. Тимирязев,
т. VII
—
набез
все
161
восемь форм на группы, которые бы выражали эти соотношения. В наиболее тесном, непосредственном родстве очевидно
III
_
7
III
у./
Г,Г
4И
7
Ш
III
Ш
~
будут пары а и b , а н е , г
и к,m
и п ; чтооы выразить это отношение, мы разделим наши восемь видов на четыре
группы: a" b'", d'" е", г" к'", т" п" 1 . Но эти четыре
группы будут находиться в неравной степени родства: а " Ъ'", например, будет в ближайшем родстве с d'" е", чем с остальными,
и обратно, г" к'" будет в ближайшем родстве с т" п", чем
с первыми двумя; таким образом, полученные четыре пары форм
снова расположатся попарно в две группы высшего порядка;
m
m
-m
in
наконец, эти две последние группы: а — е
иг —п
войдут в состав одной общей группы а " — п " . Следовательно,
если бы мы желали выразить группировкой родственную связь
между формами, то должны были бы соединить их в группы,
подчиненные одна другой. Весьма любопытно было бы отношение ко всем остальным формам А", если бы она сохранилась;
нетрудно заметить, что она была бы в совершенно равном,
хотя и весьма далеком, родстве со всеми восемью, так что мы
с одинаковой справедливостью могли бы отнести ее и к группе
tu
m
*rrr
tu
a — e и к группе г — п , но еще вернее поступили бы,
если бы не относили ее ни к той, ни к другой; она составила бы
настоящее соединительное звено, переход между обеими
группами, и притом не переход между той или другой формой
этих групп, а между общими их типами. Конечно, как уже замечено, сохранение подобной средней формы будет очень редкое
исключение.
Но мы могли бы распутать эту сеть взаимных соотношений
между нашими восемью формами, даже не зная их родословной,
а руководясь только степенью различия между ними, т. е.
держась того пути, которым систематики определяют соответствующие места органических существ в общем строе природы.
В самом деле, представим себе, что эти восемь форм были бы
восемь существующих в настоящее время видов; в таком случае
все разветвление представит их родословную, теряющуюся во
мраке геологических времен;
она нам неизвестна и, следователь«
1
Обозначим это скобками над буквами. Тогда разветвление будет
означать родословное дерево, подтверждаемое палеонтологией, а охватывающие скобки — сродство, выражаемое классификацией.
но, как бы не существует для нас. Закроем ее рукой и будем
обращать внимание только на ряд точек а"—ri".
Прежде
всего, видя, что они не связаны между собою переходами, мы
естественно будем склонны признать их за формы самостоятельные, за формы, совершенно независимые друг от друга. Затем
мы приметим,что в них есть что-то общее, что-то сходственное,
хотя степени сходства весьма неравны (что означено на нашем
чертеже промежутками различной величины). Желая выразить
эти соотношения, мы постараемся сгруппировать наши восемь
видов таким образом, чтобы самые сходные составляли самые
тесные группы, чтобы эти группы в свою очередь снова располагались, на основании своего сходства, в группы высшего по-
г
/
" '
рядка, и т. д. (как показано рядом скооок над точками а —
п " ) . Довольно взглянуть на наш чертеж, чтобы заметить, что
наиболее сходные (т. е. разделенные наименьшими промежутками) будут пары а" и Ъ"', сГ и е" и т. д. Группы сходных
видов называются родами; следовательно, получаемые четыре
.
иг
-, rrr
jtrr
rtr
-m
-, rtr
пары видов оѵдут четыре рода: а — о , а — е , г — к ,
rrr
нг
«j
m — il . Эти роды, в свою очередь, сходны не в равной сте,
,пI
п'
•'!!
, r/r г
пени (промежуток между а — е и г — к более промежутка
irr
, irr
,rrr
in
•irr
, tu
tu
rtr,
между а — Ъ и а — е и между г — к
и m — п ); мы
tft
rtr
'trt
rtr
разделим их на две высшие группы а — е
и г
— п ,
на два семейства. Наконец, оба семейства вместе составят отряд.
Мы видим, следовательно, что, не зная ничего об общей родословной этих восьми видов, даже прямо отрицая ее существование, так как они представляются нам совершенно самостоятельными, мы заметим какую-то сложную сеть соотношений
между ними, для выражения которой будем принуждены распределить их в такие же точно подчиненные группы, в какие распределили бы их на основании этой родословной. Наши виды,
роды, семейства, составленные на основании взаимного сходства,
будут соответствовать различным степеням родства, связывающего эти восемь форм.
Из всего сказанного вытекает, что потомство формы А, развиваясь на основании начал расхождения признаков и вымирания, представит нам те две особенности, те две существенные
черты, которые, л е ж а в основе всего органического мира, поражают естествоиспытателей своим, противоречием,—именно,
отсутствие переходов между видами и в то же время существование несомненной связи между ними, дозволяющей соединять
их в подчиненные группы.
В самом начале нашего очерка мы старались выставить
в возможно ярком свете противоречие этих двух заключений,
к которым приводит изучение органической природы; мы видели,
что, с одной стороны, классификация органических существ
и данные, приобретенные сравнительным изучением организмов, как живых, так и отживших, как вполне развитых, так
и зачаточных, громко свидетельствуют о глубокой связи, о каком-то сродстве между ними, но что, с другой стороны, отсутствие переходных форм так же ясно свидетельствует о невозможности видеть в этом сродстве потомственную связь.
Чтобы согласить эти два заключения, необходимо было или
найти объяснение для этой связи независимо от единства происхождения, или показать причину отсутствия переходных
форм, т. е. доказать, что они могли существовать и исчезнуть.
Некоторые естествоиспытатели действительно думали разъяснить дело тем, что видели в этом сродстве форм не действительную, фактическую связь, но лишь только выражение «плана творения», так сказать, разоблачение общей идеи, положенной
в основу органического мира. Но понятно, что подобные
объяснения ничего не объясняли, а только повторяли факт
в более туманных выражениях.
Изложенный только что процесс образования органических
форм разрешает эти противоречия другим путем. Он раскрывает
нам причину, почему органические существа, несмотря на оче^
видную связь между ними, угадываемую из их взаимного сходства или сродства, не сохранили в большей части случаев фактической связи в виде переходных форм. Если органические
формы произошли путем естественного отбора, то это отсутствие
переходных форм есть явление не только возможное, но необходимое.
Устранив, таким образом, кажущееся противоречие, представляемое органической природой, мы теперь с полным правом
можем объяснить связь или сродство органических форм единством их происхождения; эта связь — потомственная связь, это
сродство — прямое родство. Наша классификация опирается
на наследственное сходство форм, характер ее чисто родословный. Ключ к разъяснению сложной сети соотношений, сплетающей в одно целое существующие органические формы, кроется
в их общем родословном дереве.
«Взаимное сродство всех организмов одного класса, — говорит Дарвин, — часто сравнивали с большим деревом. Я думаю,
что в этом сравнении есть немалая доля истины. Зеленые ветви
с их почками можно сравнить с ныне существующими видами,
ветви же, произведенные в прежние годы, — с длинным рядом
видов вымерших. В каждый период роста все юные отпрыски
пытались ветвиться во все стороны, перерасти и заглушить
окружающие отпрыски и ветви, точно так же, как виды и группы видов пытались пересилить другие виды в великой жизненной
борьбе. Сучья, разделенные на большие ветви, расчленяющиеся
в свою очередь на мелкие и мельчайшие веточки, сами некогда,
когда дерево было молодо, были мелкими отпрысками с почками,
и эта связь прежних и современных почек чрез ветвящиеся
сучья соответствует классификации всех живых и вымерших
видов группами, подчиненными одна другой. Из многих отпрысков, покрывавших дерево, когда оно было еще кустом, всего
два или три, разросшиеся в большие сучья, дожили до сих пор
и несут на себе прочие ветви; так и из видов, живших в давно
прошедшие геологические периоды, весьма немногие имеют
еще живых видоизмененных потомков. Во время роста дерева
многие сучья и ветви отмерли и отпали, и эти погибшие ветви
различных размеров могут представлять целые отряды, семейства и роды, не имеющие ныне живых представителей и известные нам лишь по ископаемым остаткам. Точно так же, как мы
там и сям видим тонкий, слабый сучок, выходящий из развилины, образуемой двумя могучими суками, и случайно дотянувшийся до вершины, так мы иногда видим животное, каков
орниторинх или лепидосирен * , до некоторой степени связывающее своим сродством два обширных разветвления живот*Орниторинх или, иначе, утконос — низко организованное млекопитающее, откладывающее яйца, подобно пресмыкающимся. Лепидосирен — рыба, ж и в у щ а я в Южной Америке, наряду с жабрами имеет легкие, благодаря чему ее строение приближается к строению земноводных. Ред.
ного царства и, повидимому, спасаемое от гибели защищенным
местом жительства х . Как почки, разросшись в ветви, производят новые почки, а эти, если они сильны, ветвятся и заглушают
многие более слабые ветви, так, полагаю я, было и с великим
деревом, наполняющим своими мертвыми, изломанными сучьями
земную кору и покрывающим ее поверхность своими пышными,
вечно разрастающимися ветвями».
.
Итак, исходя из основных начал естественного отбора,
развивая его необходимые логические следствия, мы начертали
процесс, который вполне объясняет существующий строй органической природы. Он объясняет бесконечное разнообразие
органических существ. Он объясняет, далее, почему органические существа представляют такие постепенные оттенки
сродства, начиная от ничтожного различия между разновидностями одного вида до более глубокого различия между видами
одного рода, между видами различных родов, между видами
различных семейств и т. д., — одним словом, почему все органические формы могут быть распределены в подчиненные группы.
Он объясняет, наконец, — и в этом заключается его главное
достоинство, — почему, несмотря
на
несомненную печать
общего происхождения, которою отмечены в настоящее время
организмы, мы не имеем живых следов их родословной, за исключением некоторых, только весьма редких случаев.
Отсутствие переходных форм, служившее полнейшим, неотразимым опровержением всякой теории происхождения органических существ чрез изменение, не только не может служить
препятствием для теории их происхождения путем естественного отбора, но даже можно сказать наоборот, что существование переходов было бы более или менее полным ее опровержением.
Но для того, чтоб допустить эту теорию, еще мало того,
что конечные результаты описанного процесса вполне согласны
с настоящим строем органической природы; должно еще показать, что образование форм действительно могло итти этим
путем, что никакие известные нам факты не противоречат ему.
1
Такова форма
А'".
Первым и самым естественным возражением против этого
допущения является громадность времени, которое потребовалось бы для этого процесса.
Нам известно, что изменение органических существ происходит бесконечно медленно; мы должны принять, что для образования в естественном состоянии самой незначительной разновидности потребуются, быть может, сотни, тысячи поколений;
но мы будем еще ближе к истине, — говорит Дарвин, — если
примем, что на это потребуется десять тысяч поколений. Следовательно, для образования определенных, ясно разграниченных
видов потребуется уже громадный срок времени, а для образования родов, семейств и т. д. — периоды, решительно необъятные для нашего ума. Спрашивается, в праве ли мы предполагать, что органическая жизнь существует на земле такие необъятные сроки времени?
Ответ на это возражение представляет нам современная
геология. Пока история органического мира не простиралась
за пределы истории человека, пока библейская космогония
была всемогуща в науке, попытка подобного объяснения
происхождения органических существ, конечно, была бы немыслима по недостатку времени. Открытие следов исчезнувшей
жизни в недрах земли, правда, заставило значительно отодвинуть эру появления органических существ на нашей планете, но,
тем не менее, первоначальные воззрения геологов на продолжительность геологических эпох и приблизительная оценка истекших времен давали цифры, далеко не достаточные для оправдания подобного предположения. Только при господствующих в
настоящее время воззрениях предположение о происхождении
органических существ подобным медленным путем изменения не
боится этого возражения, опирающегося на недостаток времени, потому что современные геологи привыкли считать прошедшие времена не веками, а миллионами и сотнями миллионов
лет. Причина этого разногласия относительно продолжительности времени, истекшего с появления органических существ
на земле, заключается в изменении воззрений на историю земной
коры. Постараемся, хотя в нескольких словах, объяснить или,
скорее, намекнуть, в чем заключается различие двух воззрений.
Изучение земной коры ясно обнаруживает, что на поверхности
земли в течение геологических эпох происходили значительные
изменения. Для объяснения себе этих изменений геологи первоначально полагали необходимым допустить громадные перевороты, подобно урагану проносившиеся над землей, сглаживавшие горные хребты, выдвигавшие новые, изменявшие положение воды и суши, причем все органические формы необходимо истреблялись и по наступлении периода покоя сменялись
новыми, внезапно возникавшими формами. Но современные
геологи со времен Лайеля учат, что изменения эти могут быть
гораздо удовлетворительнее объяснены, не прибегая к подобным
переворотам. Сущность учения Лайеля может быть выражена
старинной пословицей: «Gutta cavat lapidem» (капля точит
камень), т. е., что незначительные, повидимому бесследно исчезающие силы, действуя в громадные сроки, могут произвести
такие же громадные последствия, как и деятели несравненно
более энергические. То, что прежние геологи приписывали
внезапным переворотам, действию неведомых грозных деятелей, то в настоящее время приписывают влиянию и теперь еще
действующих причин, но необходимым условием при этом
ставят громадные периоды времени. Здесь не место доказывать
преимущества и научные достоинства этого воззрения в сравнении с прежде господствовавшим; мы постараемся только
показать, какими соображениями могут руководствоваться геологи для получения хотя грубо-приблизительного понятия
о продолжительности истекших эпох. Приведенная пословица
применима в геологии даже в прямом ее смысле: вода, в виде
морского прибоя вечно гложущая и подмывающая берега,
вода в виде дождя, снега и льда, постоянно разрушающая горные породы, вода, в виде бесчисленных потоков, ручьев и рек
уносящая ежегодно массы ила и песка, чтобы слагать их на пути
или на дне морей, — составляет один из могущественных источников тех изменений, о которых свидетельствует геология.
Этой-то деятельности воды должны мы приписать образование
тех пластов глины, песчаника, известняка и пр., которые известны в геологии под названием осадочных образований. Наибольшая толща всех этих пластов, например, в Англии, составляет
не менее 20 верст; представим -же себе, сколько времени потребовалось бы для медленного отложения подобной массы на дне
морей. И мы должны еще принимать во внимание, что пласты,
весьма тонкие в одной местности, достигают в других значительной толщины, что между двумя непосредственно следующими друг за другом пластами проходили огромные промежутки
времени, что пласты, однажды образовавшиеся, снова размывались, переносились с места на место.
Но мы получим еще лучшее понятие о необъятности этого
времени, если взглянем на тот же факт с другой стороны. Из
только что сказанного о действии воды мы видим, что рука об
руку с созиданием, т. е. с отложением осадков, идет и дело разрушения, что мера отложения свидетельствует о соответствующей же мере разрушения, подобно тому, как здание, сложенное
из камня, свидетельствует, что где-нибудь в каменоломне образовалась соответствующая пустота. Следовательно, чтобы вполне
оценить время, потребное на образование известного осадочного
пласта, мы должны перенестись мыслью в то время, когда составные его части образовали твердую породу: мы должны мысленно проследить весь процесс разрушения этой породы, должны
представить себе, как, постоянно подтачиваемая морскими волнами или горными потоками, она отрывалась огромными глыбами, как эти глыбы, вследствие непрерывного разрушительного
действия воды, распадались на более мелкие обломки, которые,
шлифуясь друг о друга, размельчались все более и более и, наконец, уже в виде песка или ила уносились волнами. Таким
образом, мера разрушения представит нашему воображению
еще более необъятное понятие о громадности истекших времен, чем мера отложения.
Дарвин сделал исчисление времени, которое потребовалось
бы на процесс разрушения, последствием которого было бы
обнажение одного осадочного пласта
и пришел к заключению,
что на это потребовалось бы примерно 300 ООО ООО лет. Конечно,
данные, на которых он основывает эти вычисления, весьма
неопределенного свойства, так что, по замечанию одного английского геолога, весьма возможно, что процесс этот продолжался
всего три миллиона лет, а может быть, и тридцать тысяч миллионов.
1
Вельдского пласта, меловой формации
в Кенте.
Смысл всех подобных цифр состоит в том только, чтобы приучить ум наш постоянно иметь в виду громадность истекших
времен. «Созерцание таких фактов, — говорит Д а р в и н , — н а страивает мой ум таким же почти образом, как попытка представить себе вечность».
В самом деле, чтобы только пересчитать тридцать тысяч
миллионов, считая по шестидесяти в минуту, потребовалось
бы 950 лет. Мы видим отсюда, что геология дает нам право
рассчитывать на периоды времени, почти неизмеримые; следовательно, с этой стороны теория происхождения органических
существ путем изменения не встречает препятствия.
Но у читателя, по всей вероятности, уже давно готово возражение иного рода. Мы вполне объяснили сродство существующих
органических форм, исходя из того предположения, что все
они связаны общим родословным деревом, корни которого
теряются в бесконечном прошлом, а могучие ветвистые сучья
пронизывают толщу последовательных геологических формаций. Но, спрашивается, оправдывают ли имеющиеся у нас данные
подобное предположение, можем ли мы хотя отчасти восстановить эту родословную? Процессы вымирания и расхождения
признаков вполне разъяснили нам, почему живущие в настоящее время организмы не связаны переходами; но ведь все эти
бесчисленные переходные степени, столь же тонкие, как современные разновидности, тем не менее, должны были когда-то существовать; спрашивается, встречаются ли они между известными
нам ископаемыми формами? Нигде, быть может, не выступают
так ярко успехи естествознания со времени появления книги
Дарвина, как именно в том положении,
которое могла
принять палеонтология по отношению к этому вопросу в
то время и какое занимает она теперь. Посмотрим, что мог
отвечать на этот вопрос Дарвин в 1859 г. и насколько
позднейшие успехи науки оправдали справедливость его точки зрения.
Палеонтология давала на этот вопрос почти отрицательный
ответ. Правда, ископаемые формы связаны с существующими
таким же несомненным сродством, как и последние между собою;
правда, ископаемые формы могут быть размещены в одну общую
систему вместе с живущими; но, тем не менее, не было возможно-
сти связать существующие формы постепенными
нечувствительными переходами при помощи форм исчезнувших.
Читатель спросит: что же мог сказать Дарвин в ответ на такое
всесокрушающее опровержение, чем объяснял он это вопиющее противоречие его теории с действительностью?
Он отвечал на него отрицанием компетентности современной
геологии в этом деле; он шел далее: он оспаривал права геологии вообще на окончательное разрешение вопроса. Он старался
доказать, что геология не только при ее современном развитии,
но даже, по всей вероятности, никогда не будет в состоянии
произнести окончательное осуждение над его теорией.
Посмотрим, на чем основывал он это убеждение. Разберем
прежде основания, убеждавшие его в несостоятельности геологии при ее современном развитии.
Сущность геологического довода против теории происхожде- j
ния органических существ путем изменения сводится к следующему: до сих пор не найдено тех бесконечных переходных форм,
которые должны были существовать, если современные нам
виды — потомки видов, прежде существовавших. Но не найдено
еще не значит не сохранилось.
Сравнение того, что открыто I
в геологии до сих пор, с тем, что предстоит еще открыть, даст <'
лучшее понятие о громадном различии между этими двумя выражениями. Прежде всего сравним то пространство земной
поверхности, которое исследовано геологами, с тем, которое еще
не исследовано и даже недоступно исследованию.
Геология несомненно свидетельствует, что относительное
положение суши и вод менялось неоднократно со времени появления органической жизни на земле. Материки медленно выдвигались и снова скрывались под поверхностью океана, и во время
этих процессов, длившихся миллионы лет, они разрушались,
подтачивались морскими волнами по всей своей береговой
линии. Следствием этого разрушения было отложение на дне
моря осадков, более или менее значительной толщины, с заключенными в них остатками органических существ. Эти пласты,
осадившись на дне моря, или оставались там на долгое время,
или вследствие нового поднятия морского дна снова выступали
на свет, или, наконец, не успев подняться над поверхностью воды,
размывались и переносились с места на место. Таким образом,
мы с одинаковою справедливостью можем ожидать органических
остатков по всей поверхности земли как в пластах, образующих нашу сушу, так и в пластах, образующих дно океанов.
Но дно океана недоступно исследователю, а, между тем, оно
составляет три четверти всей земной поверхности. Затем из остающейся четверти известна только самая незначительная часть:
Европа и часть Северо-Американских штатов. Азия, Африка,
большая часть Америки и Австралия еще ожидают исследователей. Сверх того, огромная часть ископаемых органических
остатков на суше погребена под массами, которые громоздятся
над ними на тысячи футов. Но можно было бы полагать, что
хоть эти незначительные клочки земной поверхности изучены
вполне. Напротив, почти ежегодные открытия ископаемых
в Европе и даже в таких пластах, которые считались известными, ясно свидетельствуют, что наши сведения даже о наиболее
известных местностях далеко не полны. Весь предшествующий
опыт должен бы научить геологов, кар мало доверия внушают
отрицательные свидетельства, как неосторожно, неосновательно
предполагать, что то, что неизвестно нам сегодня, не будет найдено завтра. История геологии переполнена подобными примерами, и, однако, большинство геологов было склонно преувеличивать действительное значение имеющихся данных и на
основании ничтожных отрывочных сведений, имеющих чисто
местное значение, полагало возможным судить об истории всего
органического мира. По удачному замечанию профессора Гёксли,
в этом обнаруживается только юношеская ретивость молодой
науки. «Ученые, открывшие новое поле исследования, —
говорит остроумный ученый, — напоминают собою жеребят,
выпущенных на новое пастбище; в избытке радости они несутся
вперед очертя голову, не обращая внимания на изгороди и рвы,
теряя из виду действительные пределы своих исследований
и крайнюю недостаточность своих действительных знаний».
Вспомним миллионы лет, истекшие со времени появления органической жизни на земле, и мы должны будем согласиться с Дарвином, что «количество экземпляров, хранящихся во всех наших
музеях, решительно ничто в сравнении с бесчисленными поколениями бесчисленных видов, которые должны были существовать».
Итак, геология при том фактическом материале, которым
она располагает в настоящее время, решительно не может произнесть какое-либо резкое суждение относительно теории происхождения органических существ.
Переходим теперь к будущему. Представим себе, что со
временем вся земная поверхность будет вдоль и поперек изучена
геологами; для большей силы довода предположим, пожалуй, невозможное: предположим, что будут до некоторой степени исследованы органические остатки, содержащиеся в пластах, скрытых
на дне океана,—предположим, одним словом, что геологи когданибудь будут в состоянии с полным убеждением сказать, что
им известны все органические существа, содержащиеся в недрах
земли, и что искомых переходных форм положительно не сохранилось. Но это не сохранилось, будет ли оно равносильно —
никогда не существовало?
Рассмотрение условий, необходимых
для сохранения органических остатков, убедит нас в противном. Само собою понятно, что в ископаемом состоянии могут
сохраниться главным образом только части организмов, более
или менее твердые, каковы, например, раковины, кости; следовательно, целые классы организмов, не представляющие твердых частей, не оставят по себе вовсе следа. Но и сохранение твердых частей организмов есть все же случайность, потому что
они также подвержены разрушению, хотя в меньшей степени,
чем части мягкие. Относительно животных сухопутных мы
можем делать некоторые предположения на основании настоящего. Весьма замечателен факт, что, несмотря на тысячи
и десятки тысяч животных, которые должны погибать ежегодно
естественной или насильственной смертью., только весьма
редко удается найти вполне сохранившийся скелет. Но эти
редкие уцелевшие остатки для того, чтобы сохраниться для
отдаленного будущего, должны попасть на дно реки, озера
или моря, где образуются осадки, и притом настолько быстро,
чтобы облечь их прежде, чем они успеют разрушиться. Из
этого видно, что сохранение остатков сухопутных животных
должно быть весьма редким, случайным явлением. «Кажется, —
говорит Лайель, — в план природы не входит сохранять
продолжительное свидетельство значительного количества растений и животных, которые жили на поверхности
земли.
Напротив, повидимому ее главная забота состоит в доставлении средств избавить удобную для жительства поверхность
земли, покрытую или не покрытую водою, от этих мириад
плотных скелетов и огромных стволов, которые без того вскоре
запрудили бы реки, засыпали бы долины. Чтобы избегнуть
этого неудобства, она прибегает к теплоте солнца, влажности
атмосферы, к растворяющей силе угольной и других кислот,
к зубам хищных, к желудку четвероногих, птиц, пресмыкающихся и рыб и действию множества беспозвоночных животных» 1 .
Теперь переходим к животным морским, составляющим главную массу сохранившихся ископаемых. Мы говорили, что
пласты, содержащие органические остатки, образовались из
осадков, отлагавшихся преимущественно на дне морей; следовательно, с первого взгляда можно предположить, что о
морских животных могла сохраниться почти полная летопись.
Мы, однако, увидим, как ошибочно это заключение. На основании исследований некоторых ученых оказывается, что органические существа вообще не живут в морях на значительной
глубине; следовательно, осадки, богатые ископаемыми, могут
образоваться лишь в мелких водах. Но, с другой стороны, эти
пласты с органическими остатками должны быть значительной
толщины и плотности для того, чтобы противостоять разрушительному действию волн при первом поднятии над уровнем
моря и при дальнейших колебаниях, о которых свидетельствует геология. Если пласт будет недостаточно толст и недостаточно плотен, то при первом поднятии он будет размыт,
и заключенные в нем органические остатки сотрутся в прах.
Итак, для того, чтобы пласт был богат ископаемыми, т. е.
давал удовлетворительное понятие о формах, существовавших
в эпоху его отложения, он должен образоваться в мелких
водах, но в то же время, для того, чтобы избегнуть последующего разрушения, он должен быть значительной толщины. Но
понятно, что толстый пласт может образоваться в мелком
море только при одном условии, именно — когда дно этого
моря медленно, но постоянно понижается. Только при подобном условии осадки могут накопляться до любой толщины,
1
«Древность человека», перевод Ковалевского.
а море останется мелководным, т. е. удобным для развития
организмов. «Я убежден, — говорит Дарвин, — что все наши
древние формации, богатые ископаемыми остатками, отложились таким образом во время оседания морского дна. С тех
пор как я обнародовал мое воззрение на этот предмет в 1845 г.,
я постоянно следил за успехами геологии и с удовольствием
замечал, как автор за автором, описывая ту или другую обширную формацию, приходили к заключению, что она накопилась
во время оседания морского дна». Итак, осадки, богатые ископаемыми и способные избегнуть разрушения, могут образоваться только в мелком месте и притом в период понижения
дна; осадки же, образующиеся, когда дно неподвижно, будут
недолговечны, а те, которые образуются при его поднятии,
будут размываться по мере образования. Кроме того, не должно забывать постоянного и необходимого условия, что осадки
эти должны отлагаться настолько быстро, чтобы органические
остатки не имели времени разложиться.
Понятно, что потребное стечение обстоятельств будет случаться лишь очень редко, чрез огромные промежутки времени,
из чего мы видим, какие пробелы должны необходимо существовать в геологической летописи. «Земная кора, — говорит
Дарвин, — обширный музей; но составляющие его коллекции
были собраны чрез громадные промежутки времени».
Разительный пример справедливости
всего сказанного
представляет западный берег Южной Америки. «Едва ли какой
факт, — говорит Дарвин, — поражал меня более при рассмотрении многих сотен миль южно-американского берега,
поднявшегося на несколько сот футов в новейший период,
чем отсутствие каких-либо новейших осадков,
достаточно
значительных, чтобы пережить даже краткий геологический
период. Вдоль всего западного берега, населенного своеобразной фауной, третичные слои так мало развиты, что до отдаленной будущности не дойдет ни малейшего свидетельства о многих последовательных и своеобразных морских фаунах. Минутное размышление объяснит нам, почему вдоль поднимающегося западного берега Южной Америки нигде не встречается
обширных формаций, содержащих новейшие или третичные
осадки, хотя количество отлагаемых осадков должно было в те-
чение долгих времен быть значительным, судя по сильному
разрушению, которому подвергаются скалы, и по количеству
илистых рек, втекающих в море. Объяснение, без сомнения,
заключается в том, что береговые и подбережные осадки постоянно истачиваются по мере того, как медленное поднятие
морского дна возносит их до того уровня, на котором действует морской прибой». «Я могу присовокупить,— продолжает
Дарвин далее, — что единственная древняя третичная формация на западном берегу Южной Америки, которая имела достаточно массы, чтобы противостоять процессам разрушения,
действующим на нее до сих пор, но едва ли способна продержаться до отдаленной будущности, что эта формация несомненно накопилась во время оседания морского дна и через это
успела приобрести значительную толщину».
Мы, кажется, довольно ясно показали, как отрывочна,
как полна пробелов должна быть геологическая летопись,
взятая в целом; как мало надежды на сохранение непрерывного
ряда тонких переходов между угасшими формами.
Но могут возразить, что в пределах одной и той же формации могли бы сохраниться все тончайшие переходы от видов,
существовавших в ее начале, к видам, существовавшим в ее
конце. На это Дарвин отвечает, во-первых, что, как ни громадно время, потребное на образование целой формации, оно
может быть недостаточно для превращения одного вида в другой и, следовательно, не может представить нам такого перехода и, во-вторых, что самые формации должны были представлять перерывы в процессе своего образования. Во многих случаях изменение минералогического состава осадков ясно свидетельствует о значительных географических изменениях той
местности, откуда притекли осадки, на что, конечно, требовалось много времени. Далее «можно было бы привести много
случаев, в которых нижние слои формаций были подняты,
обнажены, вновь погрузились и покрылись верхними слоями
той же формации, — факты, показывающие, какие значительные, но легко ускользающие от внимания перерывы происходили в ее накоплении. Во многих других случаях большие ископаемые деревья, до сих пор стоящие в том же положении,
в котором они росли, ясно свидетельствуют о длинных проме-
жутках времени и изменении уровня во время процесса осаждения, о которых мы не имели бы понятия/ если бы эти деревья
случайно не сохранились; так, Лайель и Даусон нашли в Новой
Шотландии каменноугольные пласты в 1 400 футов толщиною,
со старинными слоями, содержащими корни один над другим
на шестидесяти восьми различных уровнях. Поэтому, если
один и тот же вид встречается у основания, в средине и в верхних слоях формации, весьма вероятно, что он не жил на одной
и той же точке в течение всего периода осаждения, но исчезал
и снова появлялся, может быть, много раз в течение одного
и того же периода; так что, если бы такие виды подвергались
значительным видоизменениям в течение одного геологического
периода, один разрез мог бы обнаружить не все тонкие переходы, которые, по моей теории, должны были существовать,
но лишь внезапные, хотя бы и незначительные, изменения в
формах».
Вообще для того, чтобы формация не представляла перерыва,
необходимо, чтобы во все время ее образования понижение дна
и отложение осадков находились в совершенном равновесии,
а это, конечно, почти невозможный случай.
Наконец, если даже формация и не представляет перерывов и в ее верхних этажах сохранилась форма, происшедшая от
более древней формы той же формации, то это еще не значит,
что самый переход совершился на той же самой точке. Напротив, верхняя форма могла образоваться из разновидностей
древней формы, возникшей где-нибудь далеко от этой точки,
затем только возвратилась на прежнее место жительства. Это
предположение становится тем более вероятным, если припомним, что наиболее разновидностей производят виды, широко
распространенные;
следовательно,
каждая
разновидность
имеет местное происхождение и затем уже, если она обладает
каким-нибудь преимуществом перед другими формами, распространяется на более и более широкую площадь. Таким образом,
в целой области, заселенной новым видом, существует только
одна точка, на которой мы в праве ожидать перехода от нее
к старой форме.
Мы видим, следовательно, что не только все формации,
взятые в целом, но и, по всей вероятности, ни одна формация
12
К. А. Т и м и р я з е в , m.
VII
в отдельности не может нам представлять полного постепенного перехода форм. «Почти можно сказать, — говорит Дарвин, — что природа хотела затруднить открытие своих переходных связующих форм».
Но все эти затруднения выставляются в еще более ярком
свете следующими соображениями. Весьма возможно, что,
даже имея в руках действительную переходную или связующую форму между двумя ныне существующими или ископаемыми формами, мы не узнаем ее. В самом деле, посмотрим,
какого рода переходы мы в праве ожидать. Один взгляд на
наш чертеж (стр. 161), изображающий процесс образования
видов, убедит, что переход между двумя существующими в настоящее время видовыми формами (например, а и Ъ') не может быть прямой, непосредственный; напротив, мы всегда
должны искать переходов в третьей какой-нибудь форме (а),
которая может быть почти так же мало сходна с теми двумя,
как они между собою; таким образом, мы не должны ожидать,
чтобы эти переходные формы представляли характер, средний
между двумя видами в том смысле, что совмещали бы признаки
той и другой группы. Пример лучше всего объяснит эту
мысль. Все голубиные породы, описанные нами в начале нашей
статьи*, несомненно произошли от одного источника, и, однако,
мы напрасно стали бы искать прямых переходов между ними.
Например, мы тщетно искали бы форму, среднюю между дутышем и трубастым голубем, т. е. такую форму, которая соединяла бы небольшой зоб с немного распущенным хвостом.
Такой формы никогда не существовало; напротив, соединительное звено между ними составляет обыкновенный голубь, который так же мало похож на них, как и они между собою. Если
бы нам другими путями не было известно происхождение
голубиных пород, то мы признали бы их за отдельные формы
и рядом с ними поставили бы и их общего предка, нимало не
подозревая в нем общее связующее звено. Но именно в таком
положении будет очень часто находиться геолог. Положіш,
он нашел форму а", настоящую переходную форму между
m
видом а
,m
f
и b ; но строение ее нисколько ему это не оонаружит,
* См. в этом томе главу «Понятие о виде» (стр. 86 и след.). Ред.
потому что она может не иметь вовсе их частных характеристических признаков и, напротив, иметь. такие признаки,
которые у них изгладились. Если мы не могли бы на основании сходства определить происхождение голубиных пород,
которые имеются у нас в живых экземплярах, то к а к же ожидать
этого от геолога, которому во всяком случае доступны только
некоторые части организма, а иные видовые формы часто известны лишь по одному неполному экземпляру?
Только полный ряд тонких оттенков перехода от а
к а
и к о мог бы навести геолога на мысль, что а есть соединительное звено между ними. Из этого мы видим, что геологу для
выполнения промежутка между двумя живущими формами
необходимо иметь целый ряд промежуточных форм, потому
что отдельные промежуточные формы, какова а , часто вовсе
не произведут на него впечатления перехода. Но все только
что сказанное убеждает нас, как мало надежды представляет
геология на открытие такого множества переходных форм.
Итак, ответ Дарвина на возражения геологов заключался
главным образом в том, что геологическая летопись по самой
своей природе, а тем более при современном ее состоянии, так
отрывочна, так несовершенна, что решительно не в праве произнесть суда над его теорией. «Те, которые считают геологическую летопись сколько-нибудь полною и не придают особого
веса фактам и доводам, приведенным в этой книге, без сомнения,
не обинуясь, отвергнут мою теорию. Что до меня, то, развивая
метафору Лайеля, я считаю нашу геологическую летопись
за историю мира, веденную непостоянно и написанную на изменчивом наречии. Из этой истории нам доступен лишь последний
том, относящийся к двум-трем странам. Из этого тома лишь
там и сям сохранилась краткая глава, и от каждой страницы
лишь несколько бессвязных строк. Каждое слово медленно изменяющегося наречия, на котором написана эта история, более
или менее различно в каждой из открываемых глав и представляет нам зарытые в наших последовательных формациях и, как
нам совершенно ложно кажется, внезапно
появляющиеся
формы. С этой точки зрения разобранные выше затруднения
значительно уменьшаются или даже совершенно уничтожаются».
Такова была, по мнению Дарвина, единственная возможная
точка зрения на свидетельство палеонтологии при том фактическом материале, которым она располагала в конце пятидесятых
годов. Он только предостерегал не придавать слишком большого
веса отрицательному свидетельству, всегда ненадежному, когда
число фактов недостаточно, и этот отрезвляющий взгляд имел
громадное значение в истории этой науки. Дарвин выставлял
на вид, что если переходные формы еще не найдены, то это еще
не доказывает, что они и не будут найдены, но в то же время
предупреждал, что безрассудно было бы ожидать открытия многочисленных переходов, так как сохранение их — дело весьма редкого стечения случайностей. Предсказания его не замедлили
исполниться: по мере увеличения фактического материала стали
появляться и ожидаемые промежуточные формы.
«Каково же положение дела, — спрашивает Гёксли 1 , —
теперь, когда наши сведения по ископаемым млекопитающим
третичной эпохи увеличились раз в пятьдесят и в некоторых
направлениях достигли почти желаемой полноты? А вот каково:
мы можем сказать, что если бы учение об образовании органических форм путем постепенного развития еще не существовало, то палеонтологи должны были бы его сочинить, — так
неотразимо представляется оно нашему уму при изучении ископаемых остатков, открытых за период времени после 1859 года».
Мы здесь, конечно, не в состоянии дать хотя бы приблизительного понятия о богатстве этих открытий, — укажем только
на самые крупные факты. В третичных формациях западной
Америки Маршу удалось проследить ближайших предков лошади, Годри указал на общего предка собаки и медведя и т. д.;
наконец,открытие знаменитого археоптерикса в Баварии и птиц,
снабженных зубами, в меловой формации Америки подтвердили существование перехода между птицами и пресмыкающимися. К подобным же заключениям приводят позднейшие
исследования ископаемых растений. Вот общий вывод, к которому приходит один из лучших авторитетов по растительной
палеонтологии, граф де-Сапорта: «Вид может быть рассматри1
«The coming of age of the „Origin of species"», Nature, May, 1880.
«Вступление „Происхождения видов" в совершеннолетие» (т. е. 21 год),
газета «Природа», май, 1880.
ваем в настоящем и в прошлом. Если мы останавливаемся на
современном положении вещей, то оказывается невозможным
дать точное определение этому понятию, в котором, однако,
желают видеть прочную основу всей системы. Оно то замыкается
в самых тесных рамках, то расплывается до таких размеров,
что захватывает существа, совершенно не сходные. Таким образом оно становится неуловимым, приводя в недоумение самых
опытных исследователей, и совершенно ускользает от анализа.
Если мы обратимся к прошлому, то происхождение видов путем
последовательного изменения обязательно представляется нашему уму не как теория, но как факт, вытекающий из всей совокупности наблюдений. Нам представляется невозможным дать
другое объяснение для последовательного развития палеонтологических явлений. Все приводит нас к следующему результату.
Между отдельными периодами не существует определенных границ, все в них изменчиво, изменяется и их характеристика,
смотря по тому, какой ряд животных или растительных форм
мы предпочтительно имеем в виду. Растет число переходных
образований, промежуточные пласты связывают главные отделы
в одно неразрывное сцепляющееся целое. Современные виды
почти всегда связаны с непосредственно им предшествовавшими,
а' эти последние, в свою очередь, примыкают к другим формам,
которые тем более отличаются от современных, чем значительнее
промежуток времени, их разделяющий. Таким образом открываются промежуточные образования между видами, родами
и семействами,и обнаруживаются до известной степени те стадии,
через которые прошла органическая жизнь прежде, чем достигла современной нам эпохи».
Этим мы, по необходимости, должны закончить наш обзор
теории Дарвина; размеры подобного очерка лишают нас возможности рассмотреть более частные вопросы, более специальные возражения, которые Дарвин отражает с таким же успехом. Читатель видел, что цель этой теории — доказать единство
происхождения органических существ. Дарвин поставил себе
задачей устранить сомнения, сгладить препятствия на пути
этой великой идеи, облечь ее в определенную форму, вооружить
и обезопасить ее от дальнейших нападок. Насколько он в этом
успел, читатель уже сам в состоянии судить. В то же время
процесс, посредством которого, на основании этой теории,
развились все бесчисленные формы, населяющие землю, объясняет нам поразительную гармонию и совершенство органического мира.
Все сказанное всего лучше резюмируется в следующих словах, которыми Дарвин заканчивает свою книгу и которые представляют самый полный и самый точный ответ современной
науки на вопрос, поставленный нами в начале нашего очерка:
как возникли, как сложились все эти дивные формы и почему
они так совершенны?
«Интересно рассматривать густо заросший клочок земли,
покрытый разнородными растениями, с поющими птицами в кустах, с насекомыми, толкущимися вокруг них, с червями, ползущими по влажной почве, и думать, что все эти дивно построенные формы, столь отличные одна от другой и одна от другой зависимые таким сложным спосо.бом, все возникли по законам,
действующим вокруг нас. Эти законы, в обширнейшем их смысле,
суть развитие и воспроизведение, наследственность,почти необходимо связанная с воспроизведением, изменчивость, обусловливаемая прямым или косвенным действием жизненных условий,
а также деятельностью и бездействием органов, прогрессия
размножения, столь быстрая, что ведет к борьбе за существование, а следовательно и к естественному отбору, с коим неразрывны расхождение признаков и вымирание менее усовершенствованных форм. Так из вечной борьбы, из голода и смерти
прямо следует самое высокое явление, которое мы можем себе
представить, а именно — возникновение высших форм жизни.
Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее разнородными силами была вдохнута первоначально в немногие формы
или лишь в одну, по которому, меж тем как земля продолжает
кружиться по вечному закону тяготения, из столь простого
начала развились и до сих пор развиваются бесчисленные формы
дивной красоты».
последующие исследования дарвина,
подкрепляющие его у ч е н и е
Последующая
деятельность Дарвина, представляющая
развитие его учения. — Материалы
в подкрепление основных положений его теории: «Об
изменениях прирученных
животных и возделываемых
растений».—Приложение его учения к .частным случаям. — «Происхождение
человека и
половой подбор» и <-.Выражение чувств у человека и животных». —• «Различные приспособления,
при помощи которых орхидные
оплодотворяются
насекомыми».—«Различные
формы цветка у растений
того же вида» и
«О действии самооплодотворения
и перекрестного
оплодотворения
в растительном царстве». — «Насекомоядные растения». — «Движения и повадки лазящих растений» и «О способности растений к
движению»,—
Общий прием и основная мысль, проходящие во всех специальных
исследованиях Дарвина.
—Заключение.
#
М
ожно с к а з а т ь , что в с я н а у ч н а я д е я т е л ь н о с т ь
в течение
двадцати двух
Дарвина
лет, последовавших
за по-
я в л е н и е м с о ч и н е н и я , и з л а г а в ш е г о е г о теорию, за весь-
ма
небольшими
ее о с н о в н ы х
исключениями \
положений,
или
представляла
подтверждение
или
на
т щ а т е л ь н о о б р а б о т а н н ы х п р и м е р а х ее применимости
развитие
обширных,
для
объя-
с н е н и я с а м ы х с л о ж н ы х , с а м ы х з а п у т а н н ы х б и о л о г и ч е с к и х вопрос о в . С д е л а е м беглый обзор этих д в у х категорий
ничиваясь,
е г о т р у д о в , огра-
понятно, самой общей и х х а р а к т е р и с т и к о й , т а к
как
не м о ж е т б ы т ь и мысли о том, чтобы д а т ь х о т я бы приблизительное п о н я т и е о неисчерпаемом б о г а т с т в е ф а к т и ч е с к о г о содержа1
Таково, например, его сочинение о земляных червях, биографический очерк ж и з н и ребенка и некоторые другие мелкие статьи.
ния этих одиннадцати томов, заключающих слишком 5 ООО страниц, по большей части оригинальных исследований и наблюдений.
Начнем этот обзор с того сочинения, которое представляет,
так сказать, собрание оправдательных документов в подтверждение некоторых основных положений его учения. Еще в предисловии к первому изданию своего знаменитого сочинения, которое он называет только извлечением из своего труда, Дарвин
писал: «Я могу здесь сообщить только общие заключения,
к которым я пришел, иллюстрируя их несколькими фактами,
которых, я надеюсь, будет, тем не менее, достаточно. Никто
более меня не сознает необходимости привести со временем все
факты, на которые опираются мои заключения, как я и надеюсь
это исполнить в непродолжительном будущем». Это обещание
Дарвин начал осуществлять, издав в 1868 г. обширное сочинение
в двух томах «Об изменчивости прирученных животных и возделываемых растений», появленйе которого, как он объясняет
в предисловии, значительно замедлилось постоянным его болезненным состоянием. В этом же предисловии Дарвин обещал
такое же или два таких же обширных сочинения по вопросам,
касающимся изменчивости органических существ в естественном
состоянии и основных сторон его теории — борьбы за существование и естественного отбора. Но обещанные труды не
появились при жизни Дарвина, и еще неизвестно, в каком виде
оставил он подготовленные для них материалы. Быстрый успех
и .почти всеобщее признание основных его идей, а также, повиднмому, никогда не покидавшая его мысль о его недолговечности 1 ,
вероятно, побудили его отказаться от намерения представить
подробное документальное развитие уже высказанных и достаточно убедительно доказанных идей и обратиться к частным
исследованиям, открывавшим каждый раз целые новые области
знания и в то же время служившим образцом того, как этими
идеями можно пользоваться при исследовании природы. Появившийся труд представляет развитие и подтверждение мыслей,
высказанных только в двух главах (I и I X ) его знаменитой
книги. Перед подавляющим строем фактов, заключенных в этом
1
Эта мысль о близкой смерти постоянно проглядывает в его частной
переписке.
сочинении, должна была умолкнуть завистливая критика, до тех
пор все еще пытавшаяся видеть в.Дарвине какого-то верхогляда,
легкомысленно решающего на нескольких страничках вековые вопросы науки. Тысяча слишком страниц убористого текста
едва вмещала тот фактический арсенал, который Дарвин собрал для подтверждения нескольких только положений своего
учения. После появления этого сочинения никто уже не имел
права сомневаться в том, что когда его друзья говорили, что он
двадцать лет обдумывал мысли, излагаемые на двух страницах,
они говорили не фразу, а только констатировали факт. В этом
замечательном сочинении Дарвин сначала приводит длинный,
критически проверенный перечень фактов, касающихся происхождения многочисленных пород животных и растений, прирученных и возделываемых человеком. С особенною тщательностью обработан вопрос о происхождении голубиных пород;
здесь почти каждый факт проверен им самим; он собрал все
известные породы голубей, изготовил и подробно описал их скелеты, произвел продолжительные и сложные опыты их скрещивания и т. д. Одна только эта часть труда потребовала не
менее десяти лет исследований. Вооружившись всеми этими
фактами, Дарвин подвергает затем обсуждению вытекающие
из них общие вопросы. Перед читателем последовательно развертываются законы наследственности, явления атавизма, т. е.
возвращения к типу предков, образование помесей, вред скрещиваний в близких степенях родства, искусственный отбор,
причины изменчивости и, главным образом, влияние внешних
условий, употребления и неупотребления органов, соотношение развития и т. д . , — словом, вся совокупность законов и явлений, управляющих и наблюдаемых при воспроизведении органических существ — полный свод современных знаний по этим
запутанным и нередко темным вопросам, свод, которым еще
долго будет руководиться всякий натуралист, интересующийся
изучением этих сторон органической жизни Ч
1
Сказанное здесь особенно применимо к вопросу о наследственности,
по которому столько пишут в последнее время разные писатели, обнаруживающие свое полное незнание того, что уже до сих пор сделано Дарвином.
См. мои статьи «Наследственность», «Мендель» в энциклопедии бр. Гранат. (В настоящем издании см. том VI, стр. 164 и 255. Ред.). Примечание
1918 г.
Все последующие труды, как уже сказано, относятся ко второй категории; они представляют не подкрепление только или,
так сказать, оправдание мыслей, высказанных уже ранее, а их
распространение на частные случаи, на группы естественных
явлений, или уже известных, или им вновь открытых и объяснимых только с точки зрения защищаемой теории. Некоторые из
этих монографий близки по содержанию и образуют как бы
группы взаимно пополняющихся исследований. Таковы, например, исследования «Об оплодотворении орхидных», «О различных формах цветка» и пр., «О самооплодотворении и перекрестном оплодотворении»; все эти три исследования представляют
одно целое, объясняющее нам значение так называемых несущественных частей цветка—их своеобразные формы, яркую окраску и пр. — и их вероятное происхождение путем естественного
отбора в силу приносимой ими пользы, как средств для обеспечения перекрестного опыления. Такая же связь существует
между исследованием «О лазящих растениях» и «О способности
растений к движению»; в первом из них описывается ряд поразительных целесообразных приспособлений растений, а второе
показывает, что эти приспособления, наравне с другими, не менее удивительными, развились из одного основного свойства
растения и, следовательно, также могли выработаться постепенно, путем отбора. Замечательно, что, за исключением сочинения
о человеке, все остальные специальные труды были ботанические,
между тем как прежняя деятельность Дарвина сосредоточивалась на вопросах зоологических и геологических. Это, вероятно, объясняется тем, что в применении к растительной жизни
действие закона естественного отбора является наиболее ясным
и в тоже время наиболее поразительным. В последующих изданиях своей книги «О происхождении видов» Дарвин говорит,
что ему делалось — очевидно людьми, не понимавшими сущности его учения — возражение, что отбор еще понятен по отношению к животным, обладающим волей, но не применим к растениям, не обладающим ею. Для торжества его теории особенно
важно было показать присутствие в растительном мире органов
и явлений, носящих характер как бы сознательного приспособления, а в действительности очень просто объяснимых действием отбора.
В своем сочинении «Происхождение человека и половой
отбор», как видно из самого названия, Дарвин задался двойной
задачей: во-первых, показать, насколько его учение применимо
к объяснению происхождения физических и основных умственных и нравственных свойств человека, и, во-вторых, показать
специальное явление отбора, применимое исключительно к животному царству и заключающееся или в борьбе самцов за обладание самками, или в предпочтении, которое эти последние оказывают первым. Этот вид отбора не всегда имеет или даже вовсе
не имеет результатом гибель кого-нибудь из конкурентов,
но лишь уменьшает их шансы на сохранение по себе потомства.
Путем этого отбора могли выработаться многие органы защиты
или нападения, которыми обладают одни только самцы, как,
например, грива льва, шпоры петуха; этим же путем могли выработаться и те многочисленные органы животных, которые
служат только для украшения и в особенности характеризуют
самцов в период развития их половой деятельности, отсутствуя
у самок и у молодых животных обоих полов. Значение этих
последних органов, очевидно, заключается в том, чтобы привлекать внимание, прельщать самок; таковы, например, яркие
цвета и музыкальные способности птиц. Эти органы не представляют прямой пользы и не могли быть также вызваны непосредственным влиянием условий жизни, потому что в последнем случае появились бы у обоих полов. Дарвин приводит в подтверждение этого воззрения такое множество фактов, заимствованных
из организации и нравов насекомых, рыб, земноводных, птиц,
млекопитающих и, наконец, человека, что не оставляет в уме
читателя и тени сомнения относительно того, что именно этим
путем взаимного предпочтения, оказываемого полами, выработались те особенности животных, которые имеют исключительное эстетическое значение и, следовательно, как не приносящие
непосредственной пользы, не могли явиться результатом борьбы
за существование.
«Тот, кто допустит начало полового отбора, — так заключает
Дарвин эту часть своего труда, — должен притти к замечательному выводу, что мозговая система не только регулирует большую часть существующих отправлений организма, но даже косвенным образом повлияла на постепенное развитие многочис-
ленных особенностей строения организмов и на некоторые умственные качества. Храбрость, воинственность, настойчивость,
сила и размеры тела, оружие всякого рода, музыкальные органы,
как вокальные, так и инструментальные, яркие цвета, полоски
и отметины и вообще всякие украшения были приобретены тем
и другим полом через косвенное влияние любви и ревности,через
ощущение прекрасного в звуках, цвете и форме, через применение свободного выбора, — а все эти умственные качества,
очевидно, находятся в связи с развитием мозговой системы».
Понятно, каким важным дополнением общей теории естественного отбора является это учение о половом отборе, объясняющее
целую категорию фактов, необъяснимых с точки зрения прямой
борьбы за существование.
Но не это учение, которому посвящена большая часть труда,
было причиной, почему борьба, уже завязавшаяся между противниками Дарвина и его защитниками, после выхода в свет
этого сочинения еще более ббострилась. В этом сочинении он
коснулся жгучего вопроса, лежащего, по мнению многих, вне
компетенции науки и в то же время такого, по которому всякий
почему-то считает себя компетентным, — он поднял вопрос
о происхождении человека, его физических, умственных и нравственных качеств и отнесся к нему со свойственной ему последовательностью и неумолимой логикой. Нигде, быть может, очень
распространенная логическая ошибка, —ошибка, заключающаяся в том, что различию количественному желают во что бы
то ни стало придать значение различия качественного, —
не являлась таким препятствием, как при обсуждении этого
вопроса. Как будто превосходство заключается не в степени
различия, а именно в существовании скачка, в отсутствии перехода, как будто отсутствие скачка, существование перехода
может хоть сколько-нибудь фактически сблизить противоположные полюсы органического мира. Дарвин очень метко замечает, что немногих, повидимому, тревожит мысль, в какой
момент своей зачаточной, утробной жизни человек становится
человеком, а между тем те же люди не хотят примириться с мыслью о невозможности установить подобную же грань в истории
развития всего человечества. Но предубеждение против распространения теории Дарвина на человека шло из совершенно иных
источников, руководилось совершенно иными соображениями,
и этим недоразумением Дарвин всего более обязан некоторым
своим комментаторам (как, например, своей французской переводчице Клеманс Ройе), которые еще до появления его сочинения о человеке поспешили сделать из его теории практические
выводы, которых он сам не делал и не мог делать. Отчасти эти
не по разуму усердные сторонники, но еще более недобросовестные или невежественные противники идей Дарвина спешили навязать ему мысль, будто бы борьба за существование,
понимаемая в самой грубой, животной форме, должна быть
признана руководящим законом и должна управлять судьбами
человечества, совершенно устраняя сознательное воздействие,
сознательный рефлекс самого человечества на его дальнейшие
судьбы. Но понятно, что ничего подобного он не мог высказать.
Он ли, каждое слово которого дышит самой высокой гуманностью, стал бы проповедывать идеалы людоеда? Он ли, даже
по отношению к улучшению животных пород указывавший на
быстроту и превосходство результатов сознательного
отбора
в сравнении с результатами отбора бессознательного,
стал бы
доказывать превосходство стихийной борьбы над сознательным
прогрессом человечества? Конечно, он заказывал на резз^льтаты,
достигнутые в течение несметных веков бессознательным состязанием между живыми существами, но из этого не следует,
что человек должен отказаться от всякой сознательной деятельности, направленной к достижению «наибольшего блага наибольшего числа»; точно т а к ж е , как из того,что он указал на существование в природе приспособлений для естественного
обсеменения при помощи ветра и животных, еще не следует,
что человек не должен более сеять и пахать. А главное, нигде,
кроме немногих мест своего сочинения, которых мы коснемся
ниже, он и не касается этих вопросов; они лежат за пределами
его задачи; он не только не преподал никаких правил для руководства человечества в его настоящем и будущем, но даже почти
не касался ни того, ни другого, ограничиваясь лишь объяснением его темного прошлого. Как мыслитель, имевший случай
лично наблюдать по л у животный быт дикарей, он только остановился перед вопросом, каким образом из этого жалкого материала мог создаться физический и нравственный тип цивили-
зованного человека, каким образом могло случиться, что «ceci
a tué cela»
— и пришел к тому выводу, что и здесь первоначальным фактором был естественный отбор. Вот как он сам
описывает процесс зарождения в нем этой мысли. «С сожалением
думаю я, что главный вывод этого сочинения, — именно, что
человек происходит от менее совершенной органической формы,
— придется многим не по вкусу.
Но ведь невозможно
отрицать, что мы произошли от дикарей. Никогда не забуду я,
как я был озадачен, увидав в первый раз на диком изрытом
прибрежии Огненной земли ее первобытных обитателей. Первая
мысль, пришедшая мне в голову, была: таковы были наши предки. Эти люди были совершенно наги и испачканы красками;
их длинные волосы свалялись, на губах выступила пена, вызванная их возбужденным состоянием; лица выражали дикий
испуг и подозрительность. Они не имели понятия ни о каких ремеслах и, как дикие животные, питались только тем, что могли
поймать; у них не было1 никакого правительства; и ко всем
людям, не принадлежащим к их маленькому племени, они не
знали жалости. Тот, кто видел дикаря в его естественной обстановке, не почувствует стыда, придя к заключению, что в его
жилах течет кровь более скромного существа. Что касается меня,
то я так же готов вести свою родословную от той героической
маленькой обезьянки, которая бросилась на самого страшного
своего врага, чтобы спасти жизнь своему сторожу, или той
старой обезьяны, которая спустилась c r o p и с торжеством унесла своего маленького товарища, отбив его у целой своры
озадаченных собак, как и от этого дикаря, приносящего кровавые жертвы, безжалостно умерщвляющего собственных детей, обращающегося со своими женами, как с рабами, не знающего стыда и зараженного самыми грубыми суевериями».
Начиная с обзора физической организации человека, Дарвин прежде всего подтверждает то положение, что в строении
тела человека нельзя указать ни одной коренной черты, которая бы резко отличала его от высших животных; далее он указывает на сходство их зародышей, до того полное, что на ранних
стадиях развития невозможно их различить; указывает на
1
«Вот это убило то».
Присутствие у человека заглохших, выродившихся органов,
развитых у животных, и приходит к общему заключению, что те
же доводы, которые применимы по отношению к взаимному
сходству между различными животными, применимы и по
отношению к сходству между человеком и животным и позволяют в том и другом случае заключать об единстве происхождения. Переходя к умственным и нравственным
качествам
человека, Дарвин старается показать, что между этими качествами у цивилизованного человека и у дикаря можно проследить ряд переходов, точно так же, как от этих последних
можно найти переходы к инстинктам высших животных 1 .
Он указывает на присутствие у животных в элементарной форме
основных умственных и нравственных качеств человека —
впечатлений радости и страха, подозрительности, мстительности, любви к детям, любопытства, внимания, памяти и т. д.,
он перебирает последовательно все свойства, в которых полагают видеть исключительную особенность человека, как-то:
умение изготовлять орудия, речь, чувство прекрасного, самосознание, отвлеченные представления, религиозное чувство,
и приходит к заключению, что или зачатки этих свойств присутствуют уже в животных, или они не составляют атрибута
человека вообще, а только характеризуют высшие ступени его
развития, отсутствуя у первобытного дикаря.
С особенным вниманием останавливается Дарвин на вопросе
о происхождении нравственного чувства, или совести. «Я
вполне присоединяюсь к мнению тех мыслителей, которые утверждают, что из всех различий между человеком и животными
нравственное чувство, или совесть, — самое важное», так начинает он главу, посвященную этому вопросу, и продолжает
далее: «Это чувство, по выражению Макинтоша, „справедливо
господствующее над всеми другими началами, которые управляют поступками человека", сводится к этому краткому, но
полному высокого смысла повелительному слову — должен.
Это благороднейший из атрибутов человека, заставляющий
его без минутного колебания рисковать своей собственной
1
Возможность объяснить происхождение этих последних путем естественного отбора подробно рассмотрена им в отдельной главе его книги
«О происхождении видов».
жизнью для спасения жизни себе подобных или, после зрелого
обсуждения, под влиянием глубокого чувства правды или долга,
жертвовать ею на служение великому делу. Эммануил Кант
восклицает: „Долг! Дивная мысль; ты, которая действуешь
не заманчивым обещанием, не лестью, не угрозой, а просто
налагая на душу свой закон; ты, вынуждающая к себе уважение, если и не всегда — повиновение; ты, перед которой смолкают все вожделения, как бы втайне они ни возмущались, —
откуда взялся твой прообраз?" Этот вопрос обсуждался многими
талантливыми писателями, и если я решаюсь его коснуться,
то потому только, что не могу его обойти, и потому, что, насколько мне известно, никто еще не касался его с исключительно
естественно-исторической точки зрения».
Дарвин проводит основную мысль, что нравственное чувство,
в известной мере наследственное, явилось в форме инстинкта
и постепенно перешло в сознательное чувство. Таким инстинктом был социальный
инстинкт,
стремление к общественной
жизни, так глубоко коренящееся в природе человека. После
инстинкта самосохранения это едва ли не самый сильный инстинкт, недаром же после смертной казни самым тяжким наказанием является одиночное заключение.
Дарвин стремится
доказать общее положение, что существо с такими развитыми
умственными способностями, как человек, и в то же время
обладающее сильно выраженными социальными инстинктами,
неизбежно должно было приобресть нравственное чувство,
или совесть. Совесть не что иное, как внутренняя борьба между
более или менее укоренившимися инстинктами, между эгоизмом, выработавшимся в индивидуальной борьбе, и альтруизмом — результатом социального инстинкта, который в свою
очередь выработался из инстинкта материнской любви. Что
такова была последовательность развития нравственного чувства, на это указывает факт более раннего развития общественных добродетелей сравнительно с нравственными качествами
чисто личными, каковы воздержанность, стыдливость и пр.
Развивая далее свою мысль, Дарвин старается показать,
что естественный отбор могущественно способствовал победе
высших инстинктов над низшими, их укоренению и развитию.
Уоллес, как замечает Дарвин, высказал глубокую мысль, что,
как только человек достиг- значительного превосходства над
животными в умственном и нравственном отношении, дальнейшее действие отбора должно было следовать преимущественно
в этом направлении, потому что — какую пользу могли принести какие-либо телесные приспособления существу, которое
благодаря умственным качествам могло «со своим неизмененным телом приспособляться к изменяющимся условиям окружающей его вселенной». Что всякое умственное превосходство
должно было сообщать перевес в борьбе, само собою понятно,
но нетрудно понять, что и нравственные качества могли сохраняться и развиваться путем естественного отбора. Как инстинкт матери, забота родителей о детях могли быть могучим
орудием в индивидуальной борьбе, так общественные инстинкты
должны были обеспечивать успех в борьбе между племенами,
и, по мере того, как одно племя побеждало другое, должен был
расти идеал нравственности, причем немалым стимулом служило одобрение соплеменников, чувство славы и пр. Конечно,
эти первобытные добродетели касались только взаимных отношений между членами одного племени; по отношению к врагам
господствовало совершенно другое мерило нравственности.
Но то прославление патриотических идеалов в ущерб идеалам
общечеловеческим, которое еще так часто раздается в наше
время, — не доказывает ли оно, что и современные понятия
о нравственности находятся еще в переходной стадии, что они
далеки еще от того законченного, неподвижного идеала, какими
желали бы его выставить противники теории развития? 1
Таково в самых общих чертах воззрение Дарвина на темное
прошлое человека; он сам не раз говорит, что это — только
смелая попытка, только намек на возможное разрешение этой
колоссальной задачи, но, повторяем, везде он имеет в виду
лишь прошлое, стремится объяснить возникновение умственных и нравственных качеств цивилизованного человека, исходя
1
То озверение, свидетелем которого человечеству пришлось быть за
последние четыре года, свыше всякой меры доказывает, что только в торжестве общечеловеческих идеалов — залог будущего спасения. См. мои
статьи «Наука, демократия и мир», 1917, и «Красное знамя», 1917. (Эти
статьи К. А. вошли в сборник «Наука и демократия», ГИЗ, 1920. В настоящем издании см. том. IX. Ред.). Примечание 1918 г.
13 К. А. Тимирязев
т. VII
193
из качеств дикаря или основных свойств высших типов животного царства; никогда не принимает он на себя роль пророка
или моралиста, хотя такая воздержанность и ставится ему
в упрек некоторыми критиками, очевидно, не понимающими
основного смысла всей его деятельности. Как мало вообще основания в нападках на него тех его противников, которые полагают, что он готов проповедывать самую бессердечную животную борьбу как закон для взаимных отношений между людьми,
можно усмотреть из следующих слов заключительной главы
его сочинения: «Человек, как и другие животные, без сомнения,
достиг своего современного высокого состояния путем борьбы
за существование, являющейся результатом его быстрого размножения, и если он должен развиваться далее, то должен оставаться под влиянием этой строгой борьбы. Иначе он погрязнет в лени и бездельи, и более даровитый не будет выходить
победителем из борьбы с менее даровитым. Отсюда наше естественное стремление'к размножению, хотя оно и является источником многих и несомненных зол, не должно быть ни под каким
видом значительно задержано. Всем людям должна быть доставлена возможность к открытому состязанию, и законы или обычаи не должны препятствовать наиболее способным иметь успех
в жизни и воспитать возможно большее число детей. Но как
ни важна роль, которую борьба за существование играла и
продолжает играть до сих пор, тем не менее, по отношению к
высшим сторонам человеческой природы существуют деятели
гораздо более важные. Развитие нравственных качеств гораздо более обусловливается посредственным или непосредственным действием привычки, мыслительных способностей,
образованием, религией и пр., чем действием естественного
отбора; но этому последнему смело может быть приписано происхождение социального инстинкта, послужившего основанием,
на котором развилось нравственное чувство».
«Извинительно, — так заключает Дарвин свою книгу, —
извинительно то чувство гордости, которое испытывает человек
при мысли, что он возвысился, хотя и не собственными усилиями, до высшей степени органической лестницы, а самый
факт этого возвышения может подавать надежду в отдаленном
будущем на еще более высокую судьбу. Но здесь мы имеем дело
не с надеждами и опасениями, а с одной лишь истиной, насколько она доступна нашему разуму. По мере своего разумения
я привел свидетельства, которые, на мой взгляд, вынуждают
нас притти к заключению, что человек, при всех его благородных и высоких качествах, его готовности сочувствовать самым
униженным, его доброте, простирающейся не только на других
людей, но и на низшие существа, при его богоподобном разуме,
проникшем в тайну строения и движения солнечной системы, —
человек в своей телесной оболочке несет неизгладимую печать
своего низкого происхождения». Эта основная мысль его труда
вызвала против Дарвина целую бурю. Люди, готовые с восторгом повторять метафору поэта:* «я царь — я раб, я червь —
я бог», с ужасом пятятся перед хладнокровным, строго научным обсуждением того фактического смысла, который кроется
под этой поэтической метафорой, считая самую попытку углубиться в эту мысль каким-то оскорблением человеческого достоинства , клеймя ее названием кощунственной и безнравственной. К а к мало основательно это обвинение, можно видеть из
следующих слов человека, которого два века отделяют от
этого спора, гарантируя таким образом его беспристрастие,—
человека, которого, конечно, никто не обвинит в распространении безнравственных идей или в отсутствии спиритуалистических стремлений. «Опасно, — говорит Паскаль, — слишком
ясно обнаруживать перед человеком его близкое сходство с животными, не указывая в то же время на его величие. Одинаково
предосудительно внушать ему только понятия об его величии,
не указывая на его низменные стороны. Еще предосудительнее
оставлять его в неведении относительно того и другого. Но
весьма полезно заставлять его одновременно иметь в виду и то
и другое».
Появившееся в следующем, 1872 году сочинение «О выражении чувств у человека и животных», по заявлению самого
Дарвина, представляет только разросшуюся до размеров целого
тома главу его сочинения «О происхождении человека». Это,
быть может, одно из наиболее оригинальных произведений
Дарвина. Такое, повидимому, капризное явление, как игра
* Г. Р. Державин (1743—1816). Ред.
физиономии
под впечатлением различных душевных движений, становится в его обработке предметом строго научного
исследования, как всегда изобилующего массой любопытных
фактов, сопоставленных и обобщенных. Некоторые выражения,
неизменно повторяющиеся у всех людей, во всех возрастах,
у всех народов, на всех степенях культуры, являются неизбежными результатами физиологических процессов и анатомических особенностей человеческого тела; другие представляют
полезные приспособления, унаследованные от далеких предков
и вошедшие в привычку; третьи, наконец, — выродившиеся
до неузнаваемости остатки привычек, встречающихся у высших животных, и, подобно атрофированным
органам, указывают на единство происхождения.
Все последующие, состоящие в связи с его теорией труды
Дарвина, как уже сказано, были посвящены вопросам ботаническим. Подобно тому, как половой подбор являлся необходимым дополнением его
учения, объясняя
происхождение
чисто эстетических сторон организации животных, так учение
о вреде самоопыления и пользе перекрестного оплодотворения
растений, подробно развитое Дарвином в трех упомянутых выше
сочинениях, являлось необходимым дополнением по отношению
к органам растений, имеющим, повидимому, такое же эстетическое значение, т. е. не представляющим прямой, непосредственной пользы. 3 f o учение давало первое удовлетворительное объяснение для значения частей органа, более всех остальных останавливавшего на себе внимание ботаников и, тем не
менее, остававшегося загадкой, т. е. цветка. Ботаники давно
различали в цветке двоякого рода части: существенные, т. е.
собственно органы размножения, мужские и женские, и несущественные, их сопровождающие, каковы яркие покровы, медоносные железки и пр. Этой второй категории органов затруднялись приписать какое-нибудь определенное значение. Яркий,
пахучий, медоносный цветок с его бесконечно разнообразными
формами, игравший главную роль во всех ботанических классификациях, оставался необъясненным с точки зрения физиологической, т. е. с точки зрения отправления этих частей, их пользы для всего организма. Дарвин в первой своей работе, посвященной строению цветка и способу оплодотворения орхидей,
показал, что причудливые формы цветка у этого семейства
приспособлены к тому, чтобы их цветень попадал, при содействии посещающих цветок насекомых, на рыльце, вызывая
таким образом оплодотворение, которое, благодаря особому
строению цветка, было бы иначе невозможно, и растения эти,
следовательно, были бы обречены на бесплодие. Целый ряд
загадочных, замысловатых форм стал понятен как приспособление к этой цели, притом осуществляющее ее с изумительною
точностью. В то яге время обнаружилось, что у этой группы
растений господствующей формой оплодотворения является
оплодотворение перекрестное, а самооплодотворение как бы
систематически устранено.
В следующем труде, составляющем ряд статей, появившихся
в журнале Линнеевского общества и позднее собранных в отдельный том, Дарвин раскрыл целую новую область поразительных фактов, указывающих на присутствие у многих растений цветов двоякой и даже троякой формы (так называемые
ди- и триморфньіе растения), дающих при самооплодотворении
и при перекрестном оплодотворении совершенно различные
результаты 1 . Оказалось, что самооплодотворение или оплодотворение пыльцой сходной формы дает результаты, всегда менее
благоприятные, чем скрещивание форм несходных, и что этот
результат опять обеспечивается при помощи посещения цветов
насекомыми. На этот раз это последнее обеспечивает не оплодотворение вообще, как у орхидей, а лишь способствует более
благоприятному перекрестному опылению. Эти два ряда исследований ставили вне сомнения факт участия насекомых в
оплодотворении растений и делали возможным объяснение
роли несущественных органов цветка. Это объяснение предполагает, в свою очередь, существование закона природы, заключающегося в том, что самооплодотворение или браки в близких
степенях родства вообще вредны и что в природе существуют
приспособления для предотвращения этого вреда. Хотя существование такого закона было дознано по отношению к животным и прямо вытекало из его опытов над ди- и триморфными
1
Относящихся сюда фактов мы уже отчасти коснулись выше, при
обсуждении вопроса о физиологическом признаке вида. Дарвин сам при
этом исследовании имел в виду двоякую цель.
цветами, тем не менее, Дарвин счел нужным проверить его
целым рядом опытов. В течение десяти лет производил он
подобные опыты, и результаты их, составившие содержание
третьего тома, вполне подтвердили его ожидания. Цветы,
оплодотворенные собственной пыльцой, давали менее семян,
чем цветы, оплодотворенные пыльцой других особей, а полученное потомство в первом случае было слабее, чем во втором.
Таким образом учение о значении частей цветка получило
прочную экспериментальную почву. Самый факт перенесения
цветня с цветка на цветок посещающими его насекомыми уже
давно был подмечен Шпренгелем, но от этого наблюдения было
далеко до стройного, целостного учения Дарвина, объяснявшего значение этого факта, его пользу для растительного организма, а следовательно, и дозволявшего объяснять происхождение всех особенностей цветка путем естественного отбора.
Потому понятно, что, между тем как открытие Шпренгеля не
обратило на себя до'лжного внимания и было почти забыто,
учение Дарвина было с восторгом приветствовано ботаниками
и в несколько лет породило богатую, все более и более разрастающуюся литературу. Это учение дает нам действительную
физиологическую теорию цветка; перед наблюдателем развертывается уже не случайный набор причудливых форм, доставляющий только материал для упражнения памяти, а осмысленный ряд органов, соответствующих известным отправлениям,
прямо или косвенно клонящимся к пользе организма. Перекрестное оплодотворение дает начало более многочисленному
и здоровому потомству, — значит, каждое приспособление,
клонящееся к тому, чтобы обеспечить это перекрестное оплодотворение, должно являться могучим орудием в борьбе за существование и, следовательно, становиться предметом отбора. Отсюда прежде всего раскрытые цветы, способные принимать
пыльцу из других цветов, случайно заносимую ветром 1 ; отсюда
нектарники, своим медом привлекающие насекомых, представляющих в сравнении с ветром более верное экономическое средство для перенесения цветня с цветка на цветок; отсюда имеющие такое эфемерное существование яркие покровы и запах
1
Самооплодотворение удобнее осуществляется в закрытых цветках,
и такие цветы действительно существуют.
цветов, издали направляющие полет насекомых; отсюда так
часто встречающаяся симметрическая
форма цветка, облегчающая его посещение; отсюда, наконец, те многочисленные,
нередко поразительно сложные аппараты, не дозволяющие
насекомым воспользоваться медом, не перенеся на рыльце цветень, вынесенный из другого цветка. Бесчисленные разнообразные формы цветов вдруг стали понятны, будучи освещены
основным принципом — пользы перекрестного оплодотворения
при помощи насекомых. Новые примеры, новые приложения
этого учения посыпались со всех сторон, и теперь оно составляет
одну из обширных глав физиологии, оживляя и осмысляя массу
фактов, приобретенных стараниями прежних систематиков.
Как обыкновенно случается, и в этом направлении излишнее усердие сторонников этого учения породило некоторые крайности и натяжки, вызвавшие в свою очередь преувеличенный
скептицизм, подвергший сомнению самые основы этого учения, но результатом этой во всяком случае полезной критики
было еще более очевидное выяснение его справедливости.
Представителем этого скептицизма выступил
талантливый
молодой французский ботаник Гастон Бонье в сочинении,
трактующем о строении и роли нектарников, — сочинении,
получившем премию Парижской академии. Многие в этом действии Парижской академии усматривали остаток ее враждебного отношения к Дарвину, но это предположение едва ли
справедливо, — труд Бонье с фактической стороны действительно почтенный, и к тому же сам Бонье поспешил заявить,
что напрасно было бы его причислять к противникам эволюционизма х . Кроме целого ряда частных возражений против современной теории цветка, возражений, опровергнутых выдающимся защитником этого учения в Германии Германом Мюллером, Бонье главным образом основывает свое несогласие
с господствующим воззрением на следующем соображении:
нектарники не могут быть признаны органами, специально
предназначенными для привлечения насекомых, потому что
они встречаются не в одних только цветах и вообще представляют не что иное, как отложения, запасы питательных ве1
Позднейшее враждебное отношение Бонье к дарвинизму показывает,
что первоначальные подозрения были основательны.
H
ществ для потребностей самого растения. Но это возражение
только доказывает, что Бонье недостаточно освоился с основными положениями учения Дарвина и даже недостаточно основательно знаком с его сочинениями, посвященными этому
вопросу, иначе он не видел бы препятствия в том, что служит
только подтверждением справедливости общих воззрений Дарвина, как это указано самим Дарвином в его сочинении «О перекрестном оплодотворении» и пр. и даже отчасти в «Происхождении видов». Факт прямой пользы, приносимой нектарниками в процессе питания, не устраняет косвенной пользы, приносимой ими в процессе оплодотворения, а напротив, объясняет нам
возможность возникновения этого специального приспособления. В самом деле, если бы нектарники существовали только
в цветке, в форме совершенно обособившихся органов, исключительно приспособленных для привлечения насекомых, то
их происхождение представляло бы загадку. Предположить,
например, что они возникли вдруг случайно, во всем своем совершенстве, значило бы оставаться на почве праздных догадок; на деле же объяснение гораздо проще. Нектарники представляют не что иное, как местные накопления сахаристых веществ, отложенные в особых органах цветка, высачивающих
наружу избыток этих веществ. Но рядом с подобной совершенной формой нектарника встречаются нектарники, выделяющие нектар лишь при известных условиях или вовсе его не выделяющие, — нектарники, не представляющие особого внешнего органа, а просто часть ткани, более богатую сахаристым
веществом, а это последнее, в свою очередь, принадлежит к
числу наиболее обыкновенных, почти повсеместно распространенных составных начал растительной клеточки и в некоторых
случаях в изобилии выделяется на поверхности целых растительных органов, без пользы и даже ко вреду растений, как,
например, в явлениях так называемой медовой росы, часто
покрывающей листья наших лип и других растений и косвенно
влияющей на появление паразитного грибка, так называемой
сажистой росы. Что цветочные нектарники служат временными запасами питательных веществ, в том едва ли есть основание сомневаться, но также не подлежит сомнению, что в период цветения обнаруживается застой в спросе на эти пита-
тельные вещества. До этого периода они затрачиваются на
рост цветка, после оплодотворения — на рост плода и семени;
в самый же период цветения в них нет непосредственной надобности, и тогда избыток их высачивается наружу, собирается
в шпорцах и иных подобных органах и утилизируется растением для совершенно побочной, но не менее важной цели —
для обеспечения его, при содействии насекомых, более многочисленным и здоровым потомством. Остаток нектара, со свойственною организмам экономией, вновь всасывается. Рассматривая нектарник только с точки зрения питания, трудно было
бы видеть какую-нибудь пользу в этих последовательных высачиваниях и всасываниях сахаристых веществ. Таким образом, нам становится понятным, как самое основное и распространенное свойство растений — их способность вырабатывать сахаристые вещества — целым рядом
усложнений,
целым рядом промежуточных степеней, самих в себе полезных,
могло путем естественного отбора выработаться в загадочно
с.дожное приспособление, гармонически связывающее пользу,
а в некоторых случаях и самое существование двух форді,
принадлежащих к различным царствам природы. Таков везде
основной строй мыслей, руководящих Дарвином в его объяснениях самых, повидимому, непонятных явлений органической жизни: раскрыть и доказать пользу изучаемого явления,
обнаружить цепь переходов, связывающих это явление с его
простейшим проявлением, показать широкое распространение
этого простейшего явления — вот все, что может сделать натуралист по отношению к раскрытию происхождения той или
другой формы; время и естественный отбор, эти логически
неотразимые факторы природы, довершают искомое объяснение.
К совершенно подобным заключениям приводит исследование Дарвина над насекомоядными растениями. В конце
X V I I столетия была открыта мухоловка, листья которой при
малейшем прикосновении неосторожного насекомого схватывают его и пожирают. Факт этот в течение целого века передавался охотниками до диковинок как одно из чудес природы,
скептиками — как пример увлечений, до которых может довести телеологический взгляд на природу. Самого факта движения, захлопывания половинок листа под влиянием раздра-
жения, никто не мог отрицать; сомнительною представлялась
только его чудесная целесообразность в качестве процесса питания, совершенно не свойственного растительному организму,
а скорее напоминающего сложный процесс пищеварения и сознательные движения животного, ловящего свою добычу. Едва
ли во всей органической природе нашелся бы факт более поразительный, более одиноко стоящий, не представляющий, повидимому, аналогии в организации и образе жизни остальных
представителей того же царства, —: понятно, каким пробным
камнем он мог служить для проверки основного воззрения Дарвина на постепенную выработку даже самых сложных приспособлений. С точки зрения его учения самый факт только и мог
существовать, если процесс этот был полезен для растения в
смысле акта питания; следовательно, его точка отправления
была диаметрально противоположна ходячим
воззрениям.
Прежде всего он показал, что факт этот не стоит одиноко, что
в различной степени и в несколько видоизменяющейся форме
способность эта присуща всем известным представителям семейства росянковых, к которому относится мухоловка, и сосредоточил свое внимание на почти повсеместно распространенной болотной росянке (Drosera). Длинным рядом оригинальных
и точных опытов, произведенных над этим растением, а также
над мухоловкой, он несомненным образом доказал, что процесс этот — действительное, настоящее пищеварение, даже
в подробностях своих сходное с пищеварением животных, что
здесь, как и там, растворение белков происходит при содействии такого же фермента и кислоты. Явление это у различных родов этого семейства представляет различные степени
усложнения: у одних движение раздраяштельных органов
весьма быстро, они действуют, как западня; у других — насекомое удерживается липкою жидкостью, выделяющеюся ворсинками, которые медленно направляются к нему, охватывая
его со всех сторон; у третьих, наконец, движения вовсе нет,
насекомое улавливается только липкою яшдкостью, — словом,
опять раскрывается целый ряд усложнений, переходов от простых к самым сложным аппаратам. Далее обнаружились приспособления к улавливанию насекомых и в других группах растений; давно известные так называемые кувшинчатые органы
Nepenthes, Utricularia и др., оказалось, соответствуют тому
же отправлению. Здесь опять встречаются различные ступени
совершенства: одни органы представляют только ловушки для
насекомых, которые уже только после разложения служат для
питания растений, другие представляют настоящие подобия
желудков, т. е. на внутренней своей поверхности покрыты железистым слоем, выделяющим, подобно росянке или мухоловке,
сок, совершенно подобный пищеварительным сокам животных.
Этот последний факт, т. е. присутствие у очень ограниченного
числа растений ферментов, подобных ферментам животного организма, представлялся малопонятным, и Дарвин на основании этого и других соображений высказал предположение,
что ферменты эти, по всей вероятности, очень распространены
в растительных организмах, но только не обратили на себя
внимание ботаников. Не успел он высказать это предположение, к а к оно уже оправдалось. Горуп Безанец открыл пепсинообразный фермент в прорастающих семенах вики, а вслед
за тем он был найден и во многих растениях, в том числе в млечном соке растения Сагіса Papaya, уже давно употреблявшемся
южноамериканскими дикарями для размягчения мяса. Фермент этот, папаин, в настоящее время едва ли не наилучше изученный из всех ферментов. Наконец, оказалось, что подобный
фермент, вероятно, представляет составную часть всякой протоплазмы. Таким образом, анализ, казалось, совершенно исключительного, совершенно одиноко стоящего явления, представляемого мухоловкой, привел к открытию полной аналогии между растениями и животными по отношению к происходящим в них химическим превращениям белковых веществ.
Мы видели, что Дарвин с особенною тщательностью остановился на доказательстве того факта, что улавливаемые насекомые идут в пищу растению, и поставил этот факт вне всякого
сомнения, но явились скептики, которым и этого показалось
мало; они возражали: процесс этот несомненно питание, но,
быть может, оно представляет только излишнюю роскошь,
так как растения эти помимо того могут питаться углекислотой
воздуха; Дарвин не доказал, что это питание действительно полезно. В ответ на это Дарвин предпринял ряд сравнительных
опытов, доказавших, что росянки, которые он питал мясом,
развились лучше и дали более семян, чем росянки, которые были
ограждены от посещения насекомыми. Как и в предшествовавшем случае (т. е. в объяснении значения частей цветка), нам понятен общий ход развития, давший начало типу насекомоядного растения. Три, как оказывается, весьма распространенных свойства растений: способность вырабатывать пепспнообразные ферменты, способность высачивать свои соки при помощи железок, способность к движению под влиянием внешнего толчка (также весьма распространенная у самых разнообразных растений), комбинируясь самым различным образом,
представляя весьма различные стадии
совершенствования,
выработались, наконец, в те изумительные органы, которые
нас поражают у мухоловки. Очевидно, этот случай входит в
круг явлений, объясняемых действием естественного отбора.
Переходим к третьему и еще более обширному примеру,
взятому Дарвином из мира растений. Ему посвящено сочинение «О лазящих растениях», появившееся
первоначально
в 1865 г. и затем вторым изданием в 1875 г. В этом сочинении
Дарвин уже ясно дает предугадать основную мысль его последнего труда «О способности растений к движению», представляющего ключ к разъяснению этих и многих других явлений растительной жизни, так что и эти оба сочинения, подобно сочинениям о роли цветка, составляют одно целое. Когда мы
взглянем на какое-нибудь лазящее растение (вьющееся или
цепляющееся усиками или другого рода прицепками), весь образ жизни которого предполагает существование какого-нибудь другого растения или предмета, точно так же, как при
виде цветка орхидного или листа мухоловки, мы выносим впечатление какой-то предусмотренной гармонии или порой инстинктивной, пожалуй, даже сознательной деятельности. Для
того, чтобы объяснить себе, как могли возникнуть подобные
организмы, приходится вновь найти те три фактора, исходя из
которых мы в праве объяснить их происхождение путем естественного отбора, т. е. мы должны доказать полезность этого
свойства, постепенность его совершенствования и его распространенность в самой элементарной его форме.
Польза лазящих стеблей сама собою очевидна: листья всех
растений нуждаются в свете; чем более освещена солнцем лп-
стовая поверхность, тем обильнее питание растения, но для
того, чтобы нести большой шатер листьев, для того, чтобы
выбраться на свет, не быть заглушённым, растению необходимо иметь сильно развитые, высокие и ветвистые стебли,
а это, в свою очередь, невыгодно, так как на построение прочного стебля тратится слишком много материала. Д л я организма,
понятно, выгоднее воспользоваться чужим стеблем или вообще посторонним предметом и на тонких, хрупких стебельках
развить широкую листовую поверхность. И вот являются такие совершенные приспособления, каковы стебли, снабженные прицепками в форме нежных, тончайших усиков, вооруженных на концах липкими комочками или маленькими цепкими когтями, или, наконец, вследствие своей раздражительности при самом ничтожном прикосновении постороннего предмета охватывающих его и сжимающих его в своих кольцах,—
усиков, затем закручивающихся спиралью, превращаясь таким образом в пружины, которые, обеспечивая прочное и в то
же время подвижное прикрепление стеблей, делают для них
безопасными самые сильные порывы ветра.
Эти чудесные приспособления, как и другие, не могли сразу вылиться в такую законченную форму, — и вот Дарвин
развертывает перед нами еще более полный, чем в предшествовавших примерах, ряд вероятных последовательных переходов. Прежде всего, по всей вероятности, явились стебли, снабженные крючковатыми органами, дозволявшими им удерживаться за посторонние предметы; затем появилась способность
образовывать вьющиеся стебли, как, например, у нашего хмеля,
повилики и других; затем черешки листьев приобрели способность под влиянием раздражения охватывать стебли, вокруг
которых извивалось растение; далее эти листья стали изменяться, превращаясь в усики, — и здесь природа представляет нам
целый ряд переходов, — и, наконец, усики получили все свои
поразительные свойства — различную степень раздражительности, способность закручиваться и т. д.
Таким образом, по мнению Дарвина, самая совершенная
форма, снабженная цепляющимися усиками, произошла из
сравнительно простой вьющейся формы, и это предположение
подтверждается тем фактом, что просто вьющиеся растения не
снабжены раздражительными листовыми органами, между тем
как растения, снабженные усиками, представляют в различной
степени способность виться, вероятно, унаследованную от их
предков. Но если цепляющиеся растения произошли из просто
вьющихся растений, то они должны представлять преимущество
перед этими последними, и действительно, едва ли в этом можно
сомневаться. Во-первых, укрепление посредством усиков представляется более прочным, чем простое обвивание; когда мы,
например, желаем поддержать какое-нибудь растение на наших
клумбах, мы его подвязываем, — того же результата, но еще
с большим совершенством, достигает растение при помощи усиков. Далее, цепляющиеся растения поднимаются на одинаковую высоту при сравнительно малой затрате строительного
материала: так, например, стебель гороха, цепляющийся своими усиками, достигнув высоты двух футов, имеет почти такую
же длину, между тем к а к , взобравшись на ту же высоту, вьющийся стебель фасоли имеет длину почти в три фута. Наконец,
и это самое важное соображение, цепляющиеся растения имеют
возможность расстилаться по наружной, освещенной солнцем
поверхности шатра растений, между тем как вьющиеся стебли
прикованы к стволу и ветвям и находятся, следовательно,
в тени этого шатра.
До сих пор мы только рассматривали, так сказать, различные этапы на пути развития этого полезного приспособления, но теперь рождается вопрос: а эта способность усиков
цепляться за раздражающие их предметы и, еще ранее, способность стеблей виться, — она-то откуда же вдруг взялась? Дарвин смело отвечает на этот вопрос, что способность к движению,
под влиянием внешнего раздражения или без него, в особенности способность молодых, растущих частей к круговому
движению, подобно тому, которое свойственно вершинам вьющихся стеблей, должна быть признана за общее свойство растений, гораздо более распространенное, гораздо более общее,
чем ботаники привыкли полагать.
К этому выводу вынуждает прежде всего тот факт, что форма
лазящих стеблей не составляет исключительной особенности
какой-нибудь ограниченной группы растений, а, напротив,
широко
распространена
во всем растительном
царст-
ве 1 . В высшей степени невероятным являлось бы предположение,
что эта особенность была таким перемежающимся образом унаследована от одной родоначальной формы, а, с другой стороны,
если она неоднократно возникала в течение истории развития
растительного мира, то это может быть объяснено только значительною степенью полезности этого явления и в то же время
значительною распространенностью того основного свойства,
которым мог воспользоваться естественный отбор.
Это смелое, неожиданное для большинства ботаников предсказание, точно так же, как и предсказания относительно широкого распространения ферментов, не замедлило оправдаться
и на этот раз, благодаря неутомимой деятельности самого Дарвина. Подтверждению этого общего положения, обнимающего
все высшие растения, посвящен последний труд этого гениального ученого, находящийся в связи с его общим учением,—
именно его исследование «О способности растений к движению».
При помощи очень простого и остроумного приема исследования, на громадном числе примеров, относящихся к всевозможным органам самых разнообразных растений, он обнаружил,
что вершины растущих органов, а в некоторых случаях и органов, прекративших рост, но тогда снабженных особой тканью,
находятся в непрерывном движении, описывая в горизонтальной проекции неправильные замкнутые кривые, более
или менее приближающиеся к кругу. Этому круговому движению он дал название «циркумнутации». Круговое движение
верхушек вьющихся стеблей оказывается только принявшим
большой масштаб частным случаем явления, общего верхушкам всех растущих стеблей. К а к во всех предшествовавших его
исследованиях, и это открытие послужило ключом для объяснения целых рядов самых разнообразных явлений. Остановимся только на одном. Давно были известны, но нисколько
не объяснены с точки зрения их значения явления так называемого сна растения, т. е. то ночное складывание листьев, которое встречается у весьма многих растений. Дарвин показал,
что и это явление полезно для растений, представляет целый
1
И з 59 порядков, на которые Линдлей делит цветковые растения,
Дарвин нашел подобные стебли у 45.
•
ряд градаций и в ускользающих от обыкновенного наблюдения размерах встречается почти у всех листьев, т. е. сводится
к присущему им всем круговому движению их вершин. Общее
заключение этого труда Дарвина или, точнее, формулировка
этого заключения не без основания оспаривается некоторыми
немецкими ботаниками, но это разногласие не касается самого
факта, который не подлежит сомнению, а лишь его дальнейшего
толкования. По мнению Дарвина, это вращение верхушек
растущих частей при современном состоянии наших знаний
представляется простым, т. е. неразложимым на дальнейшие
факторы, свойством растительных организмов; по мнению возражающих ему, это явление сложное, разложимое, зависящее от
того, что растущие части находятся под влиянием обыкновенно
борющихся между собою внешних сил — света, теплоты, земного притяжения и пр. Спор, следовательно, касается возможности более глубокого физиологического анализа этого явлен и я — анализа,' собственно даже не входящего в задачу
Дарвина. За ним остается никем не оспоримая громадная
заслуга открытия целого ряда явлений, до него не подозреваемых, и еще большая заслуга обобщения, подведения
под одно общее начало самых разнородных явлений движения, столь распространенных в ускользающих
от
непосредственного наблюдения размерах и лишь только изредка
достигающих таких размеров, которые невольно должны были
обратить на себя внимание ботаников. Дарвин дает вполне
удовлетворительное объяснение и этому основному факту.
Он указывает на то, что растения не нуждаются в движении в такой мере, как животные, так как их главная
пища, газообразная и жидкая, сама движется к ним навстречу. Потому-то, за исключением некоторых, сравнительно
редких случаев, они и не воспользовались этой способностью,
которую разделяют с животными. Зато во всех этих случаях
можно указать ту специальную пользу, которую они при
этом извлекают, как этого и следовало ожидать на основании учения об естественном отборе.
Таковы в самых общих чертах результаты колоссальной
творческой деятельности, обнаруженной Дарвином после выхода в свет его знаменитого сочинения. Нельзя не порадоваться,
> что он покинул первоначальную мысль подробного, мотивированного изложения основных положений своего учения, а предпочел показать примеры плодотворности его приложения к исследованию природы. Б е з этих специальных исследований
ученый мир не получил бы настоящего понятия об его изумительной способности являться повсюду истолкователем природы даже в самых запутанных и сложных ее проявлениях. В то
же время едва ли какие-либо аргументы могли бы доставить более
наглядные доказательства могущества его теории. Если пробным камнем всякой теории служит ее способность объяснять
и предсказывать факты, если верно, что «savoir c'est prévoir*,
то каких еще доказательств можно требовать от этой теории после
тех объяснений и оправдавшихся предсказаний, которыми переполнены специальные исследования Дарвина? Противники этого
ученого стараются выставить его специальные труды как бы не
имеющими ничего общего с его учением, а их результаты —
лишь плодами кропотливой деятельности досужего старичка.
Не будучи в силах опровергнуть самое учение, они пытаются
выставить его чем-то совершенно посторонним науке, какою-то
излишнею роскошью, без которой она может легко обойтись,
какими-то, пожалуй, оригинальными и даже блестящими, но
праздными мечтаниями, нисколько не важными для дальнейших
успехов знания. Приведенной краткой характеристики его
специальных трудов, полагаю, достаточно для того, чтобы обнаружить всю несостоятельность этого взгляда. Во всех этих
исследованиях волшебным жезлом, вызывающим истину, объясняющим то, что веками оставалось необъяснимым, является
учение о происхождении организмов медленным путем естественного отбора. Основной логический прием исследования везде
один и тот же. Выбираются какие-нибудь наиболее поразительные по своей сложности формы или явления. Самый факт их существования, на основании теории, необъясним без допущения
их полезности для обладающего ими организма. Строится предположение о природе этой пользы, и предположение это тщательно проверяется экспериментальным путем. Но это полезное
приспособление, на основании той я^е теории, не могло воз* «знать, это — предвидеть».
11
К. А. Тимирязев, т. VII
Ред.
никнуть вдруг во всем своем совершенстве, — и вот разыскиваются промежуточные ступени, чрез которые оно должно было
пройти, пока в конечном анализе не раскрывается какое-нибудь значительное распространенное свойство, присущее большому числу или почти всем живым существам, пока не обнаруживается широкая аналогия, какой-нибудь общий закон природы, обнимающий целую обширную группу фактов. Очевидно,
что такое учение должно было сделаться могучим логическим
орудием исследования, действительной «рабочей гипотезой»,
«а working hypothesis», по меткому выражению Аза Грея. Без
нее современный биолог не может сделать ни шага, если не хочет ограничить свой труд одним только описанием встречающихся ему живых тел, — отсюда понятен тот энтузиазм, с которым это учение было встречено именно натуралистами-исследователями во всех концах образованного мира.
Основная заслуга Дарвина заключается в том логическом
повороте, который он совершил в наших коренных воззрениях
на органическую природу. Гармония, совершенство, польза —
все эти так называемые конечные причины, causae finales старой
метафизики, превратились в его руках в действительные, деятельные causae efficientis * , а результатом этого кругового
сплетения причины и следствия, цели и средства явилось объяснение основного факта целесообразности организмов, а, следовательно, перемещение всей относящейся сюда категории явлений из области простого созерцания и немого изумления в области исследования и понимания.
* «причины производящие».
Ред.
m
ЧАРЛЗ Д А Р В И Н
И ПОЛУВЕКОВЫЕ ИТОГИ
ДАРВИНИЗМА
у
-
•
'
.
- '••
.
•
-
ЧАРЛЗ
ДАРВИН
И ПОЛУВЕКОВЫЕ
ИТОГИ
ДАРВИНИЗМА
РЕЧЬ,
П Р О И З Н Е С Е Н Н А Я ПО С Л У Ч А Ю
ИСПОЛНИВШЕГОСЯ
С Т О Л Е Т И Я СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я Д А Р В И Н А И П О Л У С Т О Л Е Т И Я
СО Д Н Я П О Я В Л Е Н И Я ЕГО К Н И Г И . 1809—1859—1909.*
DARWIN'S THEORIE ENTHÄLT E I N E N WESENTLICHEN
NEUEN SCHÖPFEISCHEN
GEDANKEN.
SIE ZEIGT, WIE ZWECKMÄSSIGKEIT DER BILDUNG
I N DEN ORGANISMEN AUCH OHNE ALLE EINMISCHUNG VON INTELLIGENZ DURCH DAS BLINDE
WALTEN EINES NATURGESETZES E N T S T E H E KANN.
H.
v.-Helmholtz
TJéber das Ziel und die Fortschritte
der
Naturwissenschaft.
(ERÖFFNUNGSREDE FÜR D I E NATURFORSCHERVERSAMMLUNG IN INNSBRUCK. 1869). 1
Н
а с т у п и в ш и й год
вилизованный
б у д е т годом ю б и л е е в ,
мир п о м я н е т
одно
которыми
ци-
из в е л и ч а й ш и х
за-
в о е в а н и й ч е л о в е ч е с к о й м ы с л и , отметившее н о в у ю
эру
в ее п о с т у п а т е л ь н о м д в и ж е н и и . Сто лет тому н а з а д , в 1 8 0 9 году
1 2 ф е в р а л я , родился Ч а р л з Д а р в и н ; в том же г о д у , почти н и к е м
Д а р в и н о в а теория заключает существенно новую, творческую идею.
Она показывает, что целесообразность в строении организмов могла воз*
никнуть без вмешательства разума, в силу слепого действия одних естественных законов (Герман Гельмгольтц).
О цели и современных успехах естествознания (Вступительная речь
на собрании естествоиспытателей в Иннсбруке. 1869).
* Эта статья под названием « Ч а р л з Дарвин» была напечатана впервые в ж у р н а л е «Вестник Европы», Г909 г., кн. 2, а затем в сборнике «Памяти Дарвина» (М„ 1910 г.). Ч е р е з 10 лет, под тем же сокращенным названием, с подзаголовком «12 февраля (н.с.) 1809—12 февраля 1909 г.»
К . А. включил ее в сборник своих статей «Наука и демократия» (Гос.
Изд., М., 1920 г.). Д л я этого издания К. А. внес в статью несколько редак-
не замеченная, появилась «Philosophie Zoologique»* Ламарка.
Ровно через полвека, в 1859 г . , вышло в свет «Происхождение
видов», и через какой-нибудь год или два о нем заговорили все
образованные люди. Прошло еще полвека, и можно сказать, что,
несмотря на непрерывавшиеся попытки умалить значение этой
книги, она и теперь, как и в момент появления, является единственной «философией биологии», остается единственным ключом для понимания общего строя органической природы, продолжает служить путеводной звездой современного биолога
каждый раз, когда, отрывая свой взгляд от ближайших, узких задач своего ежедневного труда, он пожелает окинуть
взором всю совокупность биологического целого** .
Рядом с желанием помянуть столетнюю годовщину рождения гениального английского ученого и полувековую годовщину его бессмертного произведения возникает и желание отдать запоздалую дань удивления его великому французскому
предшественнику. Но нередко это, с виду внушаемое только
чувством справедливости, желание восстановить Ламарка в его
законных правах оказывается одним из проявлений плохо скрываемого стремления умалить или даже совершенно уничтожить значение учения Дарвина, — стремления, внушенного
тем реакционным течением европейской мысли, которое тщетно
пытается дать отпор научному мировоззрению, завоевывающему все новые и новые области знания, привлекающему к себе
все более и более широкие круги сторонников.
Этой годовщиной можно бы воспользоваться для того,
чтобы освежить в своей памяти общие черты этой изумительной
деятельности целой жизни, в которой все вяжется в одно стройционных поправок, существенно видоизменив и дополнив
некоторые
примечания к тексту. Учитывая эти видоизменения, редакция воспроизводит здесь текст статьи не по изданию 1919 г. («Чарлз Дарвин и его учение», часть 1), а по изданию 1920 г. («Наука и демократия»). Ред.
* «Философия зоологии». Ред.
** В издании 1919 г. («Чарлз Дарвин и его учение», часть 1) К. А.
сопроводил этот абзац следующим примечанием: «Любопытно, что почти
в тех же выражениях высказался о современном значении дарвинизма через несколько лет (в 1915 г.) американский зоолог Вильсон. См. мою статью „Из летописи науки за ужасный год". „Вестник Европы", 1915. г.».
(В этом томе — стр. 485. Ред.).
ное целое вокруг одной центральной идеи. Сначала, в молодых
годах, не в обычной пыли библиотек или музейских коллекций,
а лицом к лицу с природой, в течение пятилетнего кругосветного плавания, зарождается «революционная мысль» 1 , шедшая в разрез воззрениям всех без исключения авторитетов
того времени. Затем неимоверный т р у д 2 более чем двадцатилетней обработки этой мысли — выслеживание ее во всех ее
изгибах и последствиях, внезапное освещение их общей связующей идеей — и, наконец, сведение всей теории в сжатую форму
одного небольшого тома, одной главы, одной заключительной
страницы. И вслед затем — целый ряд специальных исследований, касающихся самых сложных случаев применения теории и служащих примером ее использования в качестве «рабочей гипотезы». Весь этот колоссальный труд, — анализа,
исчерпывающего все стороны вопроса, широко обобщающего
синтеза и блестящих проверочных исследований, — еловом,
всего того, из чего слагается всякое великое произведение науки, мы могли бы проследить чуть не изо дня в день, благодаря дневнику путешествия, автобиографии и пяти томам переписки, оставшимся после Чарлза Дарвина. Мы могли бы, таким
образом, воспроизвести самое удивительное зрелище, какое только доступно человеческому изучению,—процесс зарождения, полного развития и последующего использования в уме великого мыслителя одной из гениальнейших когда-либо высказанных идей.
Но можно воспользоваться этой годовщиной и для того,
чтобы еще раз, особенно ввиду выдвигаемых сомнений, в возможно сжатой форме выяснить, какое же новое слово принес
с собой великий ученый, чем отличалось оно от высказанного
за полвека до него его предшественником 3 и что внесло в
1
«Вы — величайший революционер в естествознании нашего века или,
вернее, всех веков», — отзыв о Дарвине Уотсона.
2
Особенно если вспомнить, что в течение пятидесяти лет самой деятельной своей трудовой ж и з н и он не пользовался почти ни одним днем
полного здоровья.
3
Мы не станем здесь перебирать различных указаний на так называемых более ранних предшественников Дарвина. К каким ошибкам может
приводить погоня за подобными находками, доказывает история с Аристотелем. Н а основании свидетельства одного филолога Д а р в и н приводил
и Аристотеля в числе своих предшественников, но недавно Диксей пока-
оценку этого нового слова истекшее затем полу столетие. Заставило ли оно сколько-нибудь усомниться в его основах, выдвинуло ли что-нибудь ему на смену, или дополнило его только
новыми фактическими данными и раскрыло перед наукой новые горизонты?
В этом по необходимости кратком очерке мы выберем второй путь.
Основная задача всей деятельности ученого, столетний юбилей которого мы теперь чествуем, так же как и центральная
идея его знаменитой книги, сводится к вопросу, почему органический мир таков, каким мы его знаем? В ответе на это одно
слово почему заключается все различие между старым и новым
мировоззрением. Старое мировоззрение признавало достаточным знать, каков этот органический мир в общем и еще более
в частностях, вопрос же, почему он таков, исключался из области-ведения исследователя природы и всецело передавался
в область ведения теолога или метафизика. Ламарк сделал первую обстоятельную, но в целом неудачную, Дарвин — первую
и до сей поры единственную вполне удачную попытку изъять
этот вопрос из ведения последних и передать его в верные руки
первого. Отсюда понятно все негодование последних, лишающихся одной из своих, казалось, навсегда обеспеченных монополий,
и радость первого, при виде раскрывающейся перед ним новой
и широкой плодотворной деятельности.
Но в чем же заключается самая выдающаяся, самая в то же
время загадочная и, как всякая загадка, невольно возбуждающая человеческий ум особенность органического мира? В том,
что он — органический.
Этот ответ может показаться слишком
простым и очевидным, но мы увидим, что на непонимании, неумышленном или умышленном, этого простого положения основываются главные современные попытки заменить дарвинизм
чем-то иным. Организм — значит снабженный органами, а орган — значит орудие. Орудие предполагает пользование им,
а пригодность орудия к использованию указывает на существование как бы известной цели, на умысел, на участие в производстве этого орудия сознательной, разумной воли. Поэтичезал, что в действительности Аристотель высказывает эту мысль от лица
воображаемого противника и сам ее отвергает!
ское творчество человека ответило на эту загадку разгадкой
теологической,
а изобретательность метафизиков заменила ее
разгадкой телеологической.
Первая отвечала: создал эти орудия the great Artisan — Великий Мастер, — выражение, нередко встречающееся в старинных английских натуральных
теологиях. Вторая разгадка старалась только затемнить эту
мысль учением о конечных причинах, этим диковинным созданием схоластики, по которому та пара фактов, которую мы
называем причиной и следствием, может меняться местами и
причина становиться в конце своего следствия. Но это учение о конечных причинах или целях, играющих роль причин,
приводит в окончательном выводе к тому же, что откровеннее
и эстетичнее заявляли теологи, т. е. к выводу, что всякая организация, производящая на нас общее впечатление умысла, не
может быть объяснена как последствие естественных причин,
но только как осуществление целей, как результат непосредственного вмешательства разумной воли.
Биология, как последнее слово науки о природе, необходимым образом, через учение о конечных причинах, вводит нас
в иную, высшую область — в преддверие теологии. Таков был
заключительный вывод «Истории индуктивных наук» Юэля,
в которой лучше всего отразилось современное ей состояние
естествознания. Юэль приходит к этому выводу, опираясь на
авторитет Канта и Кювье, но он смело мог бы добавить, что
иного объяснения не в состоянии был бы предложить ни один
из современных ему ученых, как бы отрицательно он ни относился к данному выводу. А книга Юэля появилась (третьим
исправленным изданием) в том самом 1858 г., когда в Лондонском Линнеевском обществе была прочтена краткая записка
Дарвина и Уоллеса, заключавшая основание их теории.
Таким образом, первый вопрос, который ставит Дарвин, прямо вытекает из самого понятия организма: это — вопрос о его
строении, неизменно вызывающем впечатление целесообразности. Несомненное соответствие между строением организма и
его потребностями, является ли оно только не поддающимся никакому объяснению проявлением сознательной творческой воли или, наоборот, объяснимым результатом известных причин,
т. е. естественных условий, при которых оно осуществилось?
Второй вопрос представляет уже более узкое • научно-техническое значение; человеку, стоящему в стороне от науки, он
можзт да?ке и не приходить в голову 1 . Вопрос этот — почему
составляющие органический мир существа представляют необъяснимые черты общего сходства, наводящие на мысль об их
общем происхождении, а в то же время состоят из отдельных,
не связанных между собою групп — видов, так что весь органический мир представляется не сплошной картиной с нечувствительно сливающимися в одно целое тонами, а мозаикой из
отдельных кусочков, дающих впечатление общей картины
лишь под условием не рассматривать их слишком близко.
И на этот второй вопрос во всей его совокупности, как и на первый, дала ответ только теория Дарвина; ни до него, ни после
него не предложено другого удовлетворительного объяснения.
Для подтверждения этих двух положений мы должны сравнить . учение Дарвина сначала с учением его позднейшего предшественника Ламарка, а затем перейти к рассмотрению главнейших учений, возникших в течение последнего полувека в
связи с дарвинизмом, насколько они касаются этих двух главных его основ.
Прежде всего повторим в самых общих чертах ответ Дарвина на первый и основной вопрос. Это может показаться излишним, но, как это ни странно, именно от неверного понимания основной задачи и отправляется большая часть его современных противников.
Если мы желаем себе объяснить, каким естественным путем могли возникнуть все те бесконечные чудесные органы,
которым мы справедливо изумляемся (глаз, рука, павлиний
хвост и т. д.), или целые организмы, как бы заранее во всех
своих подробностях прилаженные к той обстановке, в которой
должна протекать их ?кизнь (дятел, омела — эти излюбленные примеры Дарвина), мы должны найти в природе условия,
которые неизбежным, роковым образом — без вмбшательства
разумной воли или голословно допускаемого метафизического
1
В такой последовательности ставил вопросы и Дарвин. Его г л а в ный современный противник в Англии, Бэтсон, извращает этот порядок
и даже снова утверждает, что современная наука должна ограничиться
т о л ь к о вторым.
«стремления» к совершенству — направляют образование новых органических форм в сторону наибольшего их совершенства. Словом, мы должны найти в природе такой процесс, который в человеческой истории обозначается словом — прогресс.
Дарвин, как известно, доказал постоянную наличность такого процесса, как необходимого дедуктивного вывода из трех
постоянно наличных в природе реальных факторов. Эти три
фактора — изменчивость, наследственность и перенаселение.
Логически неотразимый результат этих трех факторов он назвал «естественным отбором». То же понятие Спенсер позднее
предложил выразить словами: «переживание наиболее приспособленного», а О. Коит, за тридцать лет до Дарвина обозначил
словом «élimination» 1 , т. е. устранением, уничтожением всего
неприспособленного.
Первое и, конечно, самое важное условие — изменчивость;
для того, чтобы изменяться целесообразно, необходимо прежде
всего как бы то ни было изменяться. И Дарвин, на первой же
странице первой главы своей книги, указывает на обильный
материал изменений, -доставляемый природой, — притом изменений всех степеней, от мелких индивидуальных до крупных, наблюдаемых при внезапном появлении новых пород
культурных растений и прирученных животных. Останавливаю внимание читателя на этой подробности, так как на совершенно голословном ее отрицании основываются главнейшие
современные возражения, нередко выдаваемые за опровержения
дарвинизма.
Р а з дан обильный, постоянно возобновляющийся материал
изменений, выступает на сцену второе условие — наследственность. Эти изменения, для того чтобы сохраниться, для того
чтобы нарастать, накопляться, должны наследоваться, и природа представляет нам самые разнообразные проявления наследственности, обеспечивающие сохранение появившихся новых особенностей во всевозможных сочетаниях и притом вне
Я у к а з а л на это в 1863 г. Совсем недавно JI. Морган предложил заменить Дарвинов «естественный отбор» выражением «естественная элиминация», вероятно, не подозревая давности этого термина. Еще позднее он вошел в общее употребление, как, например, у P l a t e — Selections
Princip, 1913. (Плате. — Основы селекции, 1913. Ред.).
1
всякой зависимости от того, будут ли они полезны для обладающего ими организма, или вредны, или, наконец, безразличны.
Наследственность определит только их большую или меньшую
прочность. Эти два фактора могут обеспечить самое широкое
разнообразие органических форм; второй из них может обусловить все более возрастающее усложнение организации, все
более и более увеличивающееся разнообразие форм. Но ни
вместе, ни порознь эти факторы не дадут нам ответа на поставленный нами вопрос.
Что же' будет налагать на организмы печать кажущейся
целесообразности? До Дарвина, как мы видели, один только
О. Конт дал на это ответ, заключавшийся в одном слове. Это
слово — «élimination», т. е. устранение, уничтожение всего
несогласного с условиями основного равновесия между живым
существом и его жизненной обстановкой, имеющее результатом приспособленность, прилаженность первого ко второй,
в чем и заключается вечная загадка живых форм. Но Конт мог
понимать только исчезновение существ, вполне непригодных
к условиям их существования; для него было бы совершенно
непонятно, почему появление существа более совершенного,
более приспособленного должно являться обстоятельством,
определяющим исчезновение существ менее приспособленных, а только в этом и может лежать залог непрерывного совершенствования, как рокового закона, управляющего живой
природой. Этот закон и составляет характеристическую сущность дарвинизма, основу всего современного эволюционизма.
Этот закон «естественного отбора» вытекает как неотразимое
логическое следствие из третьего фактора, столь же реального,
как первые два, и заключающегося в несоответствии между ограниченностью обитаемой поверхности земли и неограниченной прогрессией размно?кения всех живых существ. Это, как
известно, закон Мальтуса, распространяемый на весь органический мир * ; менее известно, что факт этот ранее обратил на
себя внимание в области естествознания, откуда и был заимствован и применен Мальтусом специально к человеку.
Таким образом, изменчивость, дающая материал, наследственность, его накопляющая и делающая его устойчивым, а
* См. в этом томе примечание редакции на стр. 132. Ред,
главным образом «естественный отбор», то роковое устранение
всего менее совершенного, менее согласного с требованиями
жизни при данных условиях — вот основа этого учения, открывающая нам в природе реальную наличность сложного
исторического процесса, неминуемо направляющего организм
по пути совершенствования. Все это объяснение, как известно,
построено Дарвином на основании аналогии с тем процессом,
который применялся человеком при усовершенствовании им
культурных растений и прирученных животных. Для сближения
этих двух процессов, т. е. искусственного отбора человеком и
отбора, совершающегося в природе в силу известных свойств организмов и ограниченности доступного им пространства, Дарвин
указал, что в простейшей форме и отбор искусственный сводится
к простому уничтожению всего несовершенного. Для еще большего сближения этих двух процессов, из которых в первом действует сознательная воля человека, а во втором — «господство
слепых законов природы»
Дарвин вводит понятие о «бессознательном отборе», в котором результат усовершенствования
породы человеком получается без всякого умысла. В свою
очередь, отвечая на вечно повторяемый телеологами аргумент,
что произведения природы носят печать призведений искусства, я старался показать на основании сопоставления свидетельств ученых, художников, поэтов, музыкантов, что и в произведениях человеческого творчества важным элементом является отбор. Совершенный продукт творчества природы, как
и творчества человека, является не первичным неразложимым
явлением, а результатом двух более элементарных процессов —
колоссальной производительности и неумолимой критики 2 .
Т а к отвечает Дарвин на первый и самый важный вопрос,
возникающий перед каждым мыслящим исследователем природы. Посмотрим, каков его ответ на второй: почему вся совокупность органических существ при очевидном единстве целого
1
Выше приведенные слова Гельмгольтца. (См. эпиграф, стр. 213.Ред.).
См. мою статью: «Творчество природы и творчество человека» в
сборнике «Насущные задачи [современного] естествознания», 1908. (В настоящем издании см. «Историческая биология и экономический материализм в истории», том VI, стр. 216. Ред.). Много лет после меня ту же
мысль высказал Пуанкаре. См. мою статью «Наука» в энциклопедии
бр. Гранат. (В настоящем и з д а н и и — т о м V I I I . Ред.).
2
представляет нам разъединенные между собою более или менее
резкими промежутками, взаимно подчиненные группы? Почему в общем строе органических существ мы наблюдаем прерывчатость, — ту «discontinuity», в которой, как мы видели,
Бэтсон, главный противник дарвинизма в Англии, усматривает важнейшую особенность органического мира? Дарвин
выводит и эту особенность из того же начала «естественного
отбора», и этот его вывод обыкновенно обходится молчанием
его противниками, между тем как он сам его ставил очень высоко, с радостью вспоминая, где и когда он ему пришел
в голову. Ему снова помогла аналогия с искусственным отбором. Изучая историю возникновения каких-нибудь искусственных пород, замечаем, что постоянно берут перевес формы крайние, между тем как формы промежуточные, в которых ценные
признаки выражены менее резко, мало-помалу исчезают. То же
явление, конечно, mutatis mutandis,* Дарвин находит и в
природе. Все среднее не в состоянии выдерживать конкуренцию крайних форм, лучше приспособленных к той или другой
стороне окружающей среды. Вообще, чем разнообразнее население, тем оно может быть многочисленнее. Это подтверждает
статистика любого клРчка луга, любой пришлой флоры, завоевывающей себе новые места в природе.
Таким образом, обе самые общие задачи, которые предстояло
разрешить естествознанию, разрешались исходя из того же
начала естественного отбора, который в свою очередь являлся
результатом трех не подлежащих сомнению реальных свойств
всех живых существ.
А теперь посмотрим, какова была последняя, предшествовавшая Дарвину, попытка дать ответы на те же вопросы — попытка Ламарка.
На первый вопрос, как объяснить себе целесообразность
строения организмов, он прежде всего не дал одного общего
ответа, как Дарвин, а два совершенно различных: один — для
растений, другой — для животных. Показав весьма убедительно
преимущество представления о происхождении органических
форм путем превращения одних в другие, он естественно должен
* изменив, что надо изменить. Ред.
был остановиться на вопросе: что же обусловливало эти превращения, какие известные нам явления могли их вызвать, и не
скрывал от себя, что «прежде всего должно найти объяснение
для всех этих чудес», т. е. для изумительно целесообразной организации живых существ. Останавливаясь на животных, он
пытается доказать, что эти «чудеса» могут быть объяснены,
исходя из двух положений: во-первых, что органы могут изменяться под влиянием «упражнения», т. е. воли животного; вовторых, что эти приобретенные упражнением изменения могут
наследоваться и таким образом накопляться и достигать того
полного развития, которое вызывает наше справедливое удивление. Таким образом, воля самого животного, руководимая его
потребностями, направляет ход изменения. Если б это было
верно, то, конечно, получилось бы объяснение кажущейся целесообразности организации, так как сама потребность создавала
бы соответствующий ей орган. Это представление, создавшееся
на почве всем известного наблюдения, что гимнастикой можно
развить мускулы, понятно, не могло быть применимо к большинству органов и строений, но это не помешало Ламарку
прибегать там, где порывалась путеводная нить действительных
фактов, к смелым предположениям, ничего в основе не объяснявшим, а только дававшим оружие его врагам, которые и
воспользовались ими, чтобы выставить Ламарка беспочвенным
фантазером. Таково его обыкновенно приводимое объяснение
длинной ше'и жирафы или длинных ног цапли тем, что животные
эти тянулись из поколения в поколение. Но, конечно, еще комичнее реже упоминаемое объяснение происхождения рогов:
«В порывах гнева, столь обычных у самцов, внутреннее
чувство
вследствие своих усилий направляло жидкости к этой части головы, вызывая в одних случаях отложение рогового, в других —
смеси рогового и костного вещества, давших начало твердым
отросткам: таково происхождение рогов, которыми вооружены
их головы». Одна подобная фраза дает нам лучше всего понять,
какая бездна лежит — в отношении ли ученого к фактам, или
в самом способе рассуждения — между «Philosophie Zoologique» * и «Происхождением видов». С трудом верится, чтобы меж* «Философией зоологии».
Ред.
ду ними протекло всего полстолетие, такое же полстолетие, какое
отделяет нас от «Происхождения видов», продолжающего служить трудно достижимым образцом строго научного изложения.
Но этой голословностью частных догадок еще не ограничивается неудовлетворительность объяснения, предложенного Jlaмарком. Еще менее выдерживает критику второе положение
его теории — наследственность приобретенных упражнением
признаков. Это необходимое для Ламарка допущение после
тщательной проверки отрицается большинством современных
ученых х . Таким образом, зоологическая часть объяснений
Ламарка, с общей логической точки зрения, может быть, и удовлетворительная, оказывается фактически вдвойне неверной.
Соответствуй все изменения потребностям животного, будь
они вызваны усилиями его воли, они несомненно носили бы печать целесообразности; но эта первая посылка применима,
вероятно, к очень ограниченному числу случаев (упражнению
мускулов), а вторая неприменима даже и к ним, — откуда все
объяснение оказывается лишенным почвы.
Как уже сказано выше, для растений Ламарк прибегает к
совершенно иному объяснению. Не допуская у растения сознания и воли, а следовательно, и направляемого ими упражнения, — чем он выгодно отличается от своих современных, особенно немецких поклонников — неоламаркистов2,
— Ламарк
указал по отношению к ним на другой источник изменчивости —
на влияние среды. На этот раз он стоял на почве действительно
наблюдаемых фактов; он мог указать: на формы листьев, изменяющихся у того же вида растения, смотря по тому, будет ли оно
расти в воде или в воздухе; на стебли, вытягивающиеся или
сокращающиеся; на появление или исчезновение колючек и т. д.,
все в связи с различием окружающих условий. Но какой же
можно было сделать из этого логический вывод? Изменяться
не значит приспособляться, совершенствоваться; понятие изменения не заключает в себе логически понятия совершенствова1
Аргументы против него собраны у Вейсмана и, пожалуй, еще лучше
у Platt-Ball'а.
2
Различных Паули, Франсе, Дришей, Рейнке и их русских поклонн и к о в — Бородина, Арциховского и др., подогревающих забытую телеологию только в несколько измененной форме.
ния; само по себе изменение может быть и вредно, и безразлично, и, конечно, в незначительном только числе случаев,
полезно. Таким образом, по отношению к самому важному
вопросу, по отношению к объяснению целесообразности организмов Ламарк не дал никакого ответа, так как его ответ, в применении к животным, мыслимый логически, опирался на фактически неверные посылки, а в применении к растениям, отправляясь от фактически верных наблюдений,
не отвечал вовсе на
вопрос.
Что же сделал он по отношению ко второй задаче — объяснению разрозненности систематических групп, — видов, родов,
семейств и т. д.? Он выразил надежду, что соединяющие их переходы сохранились где-нибудь в неисследованных еще уголках земли, — предположение невероятное уже и в его время,
а теперь и окончательно неприемлемое.
Таков логический остов учения Ламарка * ; таким же остовом мы ограничились и по отношению к дарвинизму — для
того, чтобы мало знакомые с этими учениями могли их легко
сопоставить и дать им сравнительную оценку.
Дарвин связывает всю совокупность фактов одной руководящей идеей, и эта идея дает полное разрешение обеих задач,
исходя из фактически вполне обоснованных посылок. Ламарк
для каждой категории фактов дает особое объяснение, и притом или фактически неверное, или логически несостоятельное,
т. е. не разрешающее той задачи, которую берется разрешить.
Неудивительно, что судьба двух учений была так различна;
она вполне соответствовала их внутренней ценности. Идеи Ламарка не могли убедить не только таких ученых, как Бэр, как
Агассис, как Оуэн, которых можно было бы заподозрить в предвзятости, исходившей из их религиозной точки зрения, но и
представителя наиболее передового течения научной мысли того
времени, каким был Лайель, и наиболее свободомыслящего, как
Карл Фогт. Драгоценное свидетельство о беспомощности
науки перед задачей, смело поставленной, но не разрешенной
Ламарком, оставил умерший в том же году, когда появился дар* Подробнее о Ламарке и его учении см. в томе VI настоящего собрания сочинений, стр. 69—80 и "244. Ред.
15 К. А. Тимирязев,
т.
VII
225
ЧАРЛЗ ДАРВИН И ЕГО УЧЕНИЕ
винизм, Иоганн Мюллер, несомненно совмещавший в себе все
знания своего времени в области общей биологии 1 .
Не будем останавливаться на истории победы дарвинизма,
в несколько лет заставившего смолкнуть своих противников и
привлекшего на свою сторону все молодое и двигавшее науку
вперед, — она была уже неоднократно рассказана, а перейдем
прямо к оценке современного положения этого учения, к попыткам подвергнуть его сомнению или даже упразднить, заменив
чем-либо новым.
Д л я этого сделаем сначала общую оценку всех этих попыток. Прежде всего следует указать на ту особенность, что ни
один из новейших естествоиспытателей, пытавшихся выступить
со своей теорией на смену дарвинизма, не охватывал вопроса во
всей его совокупности, со всеми его разнообразными последствиями, к а к это сделал Дарвин. Каждый останавливался на
одной какой-нибудь стороне вопроса, умышленно или неумышленно упуская из виду остальные, как будто не замечая противоречия с фактами или неполноты защищаемой им точки зрения.
Но еще важнее на первых же порах отметить, что за эти полвека не предложено иного ответа на основной вопрос, на который отвечал дарвинизм. И теперь, как за полвека тому назад,
предстоит выбор: или дарвинизм, или отказ от какого бы то ни
было объяснения. Конечно, это был бы плохой аргумент в пользу
дарвинизма, если бы его несостоятельность была в чем-нибудь
доказана, — лучше никакого, чем заведомо неверное объяснение; но рассмотрение предъявленных поправок и возражений
именно и убеждает, что такого довода, который подвергал бы сомнению хотя бы одно из основных положений, из которых исходил Дарвин в построении своей теории, до сих пор не предъявлено.
*
Итак, посмотрим, изменились ли наши воззрения со времени
Дарвина на явления изменчивости и наследственности и на
естественный отбор.
1
См. мой очерк «Основные черты истории развития
биологии
а X I X веке». Москва, 1908 г. (В настоящем издании см. том VIII. Ред.).
Факт изменчивости, конечно, никем не подвергается сомнению; менялись только воззрения на различные его проявления, изменилось только отношение к вопросу: каким из этих
проявлений изменчивости придавать исключительное или преобладающее значение в процессе образования новых форм,
новых видов? Дарвин отвечал на этот вопрос: всем, от самых мелких и до самых крупных, и этот ответ сохраняет всю свою силу
до настоящего времени.
Его противники, правда, упорно утверждали, будто Дарвин приписывал такое значение исключительно мелким индивидуальным изменениям, и так часто это повторяли, что успели
убедить многих, вопреки истине, что так и было на деле. Особенно любопытна в этом отношении книга Келлога: «Darwinism to-day»*. Повторяя на протяжении значительной части
книги это неверное утверждение противников Дарвина, он
вдруг спохватывается и заявляет: а в сущности ведь Дарвин
никогда этого не утверждал. В противность этой широкой точке
зрения Дарвина, в новейшее время Бэтсон, а по его следам ДеФриз и Коржинский утверждают, что новые формы, новые виды
появляются исключительно резкими скачками. Де-Фриз назвал
эти превращения мутациями и утверждал, что он первый человек в мире, присутствовавший при этом редком явлении зарождения новых видов, — именно над найденным, недалеко от
Амстердама, на старом, заброшенном картофельном поле растением Oenothera
lamarckiana
неизвестного происхождения
и попавшим туда, вероятно, из соседнего парка. Эта Oenothera за
последние десятилетия прожужжала уши всем натуралистам.
Свое разногласие с Дарвином Де-Фриз резюмирует так: по Дарвину виды образуются в результате длинного ряда превращений в силу процесса естественного отбора, а по моему мнению
виды образуются внезапным скачком, после чего уже начинается действие естественного отбора, в силу которого уничтожаются виды неприспособленные, а сохраняются приспособленные. Даже и в такой форме различие невелико, так как существенная часть теории — естественный отбор — вполне сохраняется и у Де-Фриза. Но при более внимательном разборе оно
и вовсе исчезает, так как слово «вид» применяется Де-Фризом
* «Дарвинизм сегодня».
Ред.
ЧАРЛЗ ДАРВИН Й ЕГО УЧЕНИЕ
совсем не в том смысле, к а к его применял Д а р в и н . Д а р в и н применял это слово в том смысле, в к а к о м оно применялось в
его
время, да и в настоящее время применяется громадным большинством натуралистов, если т о л ь к о не всеми. Д е - Ф р и з применяет
его в совершенно ином смысле, предложенном в шестидесятых годах лионским ботаником-дилетантом Ж о р д а н о м , разбившим общепринятые виды на множество мелких групп, т а к ж е н а з в а н н ы х
им видами 1 .
Т а к и м образом, понятно, почему для
действие естественного
отбора
Дарвина
происходит в пределах
вида,
а для Д е - Ф р и з а начинается только за его пределами: все вертится, со стороны Д е - Ф р и з а , на игре слов 3 .
Не противоречит Д а р в и н у и основная мысль Д е - Ф р и з а о
возможности изменения видов скачками;
он всегда
допускал
рядом с мелкими изменениями, начиная с и н д и в и д у а л ь н ы х различий, и крупные (single v a r i a t i o n s , sports, bud-variations) и прид а в а л им сначала более ваягное, а затем менее ваяшое
значе-
ние, — мы увидим далее, на к а к о м основании. Д а и не только
1
См. мой очерк «Основные черты истории развития биологии в XIX
веке», Москва, 1908 г., и статью «Жордан» в энциклопедии бр. Гранат.
(В настоящем издании см. том VIII и том VI, стр. 252. Ред.).
Так, одну самую обыкновенную нашу мелкую травку крупку (Draba
verna L.) Жордан, после десяти лет наблюдений, разбил на десять новых
видов; через двадцать лет он уже различал их пятьдесят три, а через тридцать лет — целых двести. Ботаники никогда не переставали протестовать
против такого распиливания вида. Должно заметить, что для Жордана все
эти формы, различать которые можно научиться только после тридцатилетних упорных наблюдений, •— соответствуют отдельным творческим
актам. Его новейший защитник Костантен ставит ему даже в заслугу, что
«как ревностный христианин, вскормленный на святом Фоме Аквинском,
он приступил к изучению ботаники с идеями a priori». Но вот что удивительно: оказывается, что Фома Аквинский учил несколько иному: «что же
касается до происхождения растений», — пишет он, «то блаженный Августин был иного мнения»... «Хотя некоторые и говорят, что в третий день
растения были созданы каждое по роду своему — воззрение, опирающееся
на поверхностное понимание буквы священного писания, — блаженный
Августин говорит, что это должно понимать так, что земля произвела травы
и деревья causaliter, т. е. получила силу производить их». Оказывается,
что догмат об отдельном творении — сравнительно недавнего происхождения и принадлежит испанскому иезуиту Суарезу.
2
Например, Генсло, хотя и противник Дарвина, не считает виды ДеФриза за виды.
факт мутаций
(т. е. крупных изменений скачками), но и самое
название принадлежит не Де-Фризу, а скромному садовнику
Дюшену, жившему в X V I I I столетии. Дюшен в сочинении, посвященном землянике, указал на факт внезапного появления
земляники не с обыкновенными тройчатыми, а с простыми листьями и назвал это явление мутацией. Альфонс де-Кандоль,
самый авторитетный в этой области сторонник Дарвина, указывал на значение наблюдений Дюшена, но ему и в голову не
приходило видеть в мутации Дюшена какое-нибудь противоречие с учением Дарвина, который к тому же сам упоминает о
Дюшене. Заслуга Де-Фриза сводится главным образом к тому,
что, встретив случай, нередкий в практике садоводства, он его
протоколировал
с необычайною до сих пор подробностью.
В конечном итоге, все учение о мутациях Де-Фриза только
становится на более узкую и пока ничем не оправданную точку
зрения на явления изменчивости, но вполне признает все значение естественного отбора, т. е. сущности дарвинизма.
Более смелым, но зато и вполне бессодержательным является
выпад против дарвинизма петербургского академика Коржинского, полагающего, что ему удалось не только опровергнуть
дарвинизм, но даже заменить его какой-то новой теорией, которую он называет старым (заимствованным у Кёлликера) термином гетерогенезиса.
Как и Де-Фриз, Коржинский является
последователем Бэтсона, выдвигая вперед исключительное будто бы значение изменений резкими скачками. Все фактическое
содержание статьи Коржинского заключается в перечислении
многочисленных случаев подобного происхождения культурных растений. При этом он ни одним словом не обмолвился,
что большая часть этих примеров взята из книги Дарвина, так
что многие малосведущие читатели 1 остались под впечатлением, что все это — литературные открытия самого Коржинского. Затем, приписав Дарвину совершенно голословно мысль,
которой он, как мы видели, никогда не высказывал, — будто
материалом для' образования новых видов служили исключительно «мелкие и незаметные индивидуальные различия»,
Коржинский легко приходил к выводу, что большая часть действительных известных изменений происходит будто бы нацере»
Как, например, проф. Арнольди.
кор воззрениям Дарвина, а следовательно, и вся его теория
неверна. Но так как в действительности Дарвин изменения
скачками
не отрицал, а напротив собрал колоссальный
материал фактов, его подтверждающих, и говорит о нем на первой же странице первой главы «Происхождения видов», то,
очевидно, все опровержение Коржинского имело в виду читателей, плохо осведомленных в обсуждаемом предмете. На такого
же читателя, очевидно, был рассчитан и категорический вывод 1 :
«Всякий беспристрастный
ученый должен будет признать, что
у нас решительно
нет никаких фактических
данных, доказывающих, что процесс трансмутации * , столь увлекательно
описанный Дарвином, действительно
имеет место е природе.
Напротив, все факты и наблюдения
приводят нас неминуемо
к заключению, что в эволюции органического мира главную,
если не исключительную роль играет гетерогенезис, а отнюдь
не трансмутация». И заключает свою академическую
статью
Коржинский обычным приемом всех антидарвинистов, которые,
сознавая слабость своих научных доводов, взывают к чувствам
читателей. Он высказывает благородное негодование по поводу
бесчеловечности приложения учения «о борьбе за существование» к человеческой деятельности, — приложения, в котором,
как всякому известно, ни Дарвин, ни последовательные дарвинисты неповинны 2 .
1
Курсив мой.
* Т. е. постепенного превращения видов. Ред.
2
В этой негодующей тираде можно согласиться только со словами:
«люди, хорошо умеющие приспособляться к окружающим условиям и потому благоденствующие, далеко не всегда представляют нам более совершенных в идейном отношении личностей». Только они как-то странно звучат в устах убежденного дарвиниста, с перемещением в академическое
кресло так быстро превратившегося в воинствующего антидарвиниста,
так легко обратившегося из Павла в Савла. В течение тридцати лет в целом ряде статей («Дарвин, к а к тип ученого», 1878 г.; «Дарвинизм перед судом философии и нравственности»;«Значение переворота, произведенного
в естествознании Дарвином»; «Факторы органической эволюции»; «Столетие физиологии растений» и т. д.) я доказывал, что воображаемый конфликт
между дарвинизмом и этикой выдуман неразборчивыми на средства врагами и не по уму усердными поклонниками Дарвина. (Из перечисленных
здесь статей первую и третью см. на стр. 39 и 243 этого тома. Две последние статьи см. в томе V настоящего собрания сочинений, стр. 107 и 385.
Но положим, что Коржинскому удалось доказать, что все
изменения в природе происходят скачками, — что же далее? Как
же объясним мы, почему в результате этих скачков явятся целесообразно организованные формы? Де-Фриз, привыкший к общему научному складу мышления
как мы видим, не находит
возможности обойтись без естественного отбора. Коржинский
его-то и отрицает. Но что же дает он взамен в своей теории,
которая призвана будто бы упразднить дарвинизм? Ничего;
он отделывается словами: для «объяснения происхождения
высших форм из низших», «необходимо допустить существование в организмах тенденции, прогресса», т. е. присоединяет
еще какую-то virtus progressiva к тем virtus dormitiva и virtus
purgativa, которые уже слишком два века тому назад заклеймил своей насмешкой Мольер * . Плате, один из наиболее
тщательных и беспристрастных исследователей современного
положения дарвинизма, приводя эти слова Коржинского, ограничивается замечанием: «Я считаю все подобные представления
просто ненаучными; они исходят из принципов, несовместимых
с законами мышления современного естествознания, и потому
не подлежат обсуждению».
Таким образом, атака, которая была поведена против дарвинизма с точки зрения будто бы более глубокого анализа факта
изменчивости, нисколько не касается его сущности, а в частноВторая из названных статей представляет собой отрывок из публичной
лекции К . А. «Опровергнут ли дарвинизм?» См. в этом томе стр. 263.
Ред.). В течение двадцати лет я излагал его учение, не обмолвившись
этим несчастным выражением: «борьба за существование». Негодование
же Коржинского на людей, умеющих приспособляться, особенно странно
в устах человека, получившего за свой антидарвинизм приличную сумму
от самого Николая II, как об этом повествовалось своевременно в одном
некрологе этого академика. Случай даже в истории русской науки совершенно исключительный.
1
Х о т я в частности нередко против него грешивший: стоит вспомнить его смелую теорию хронологии органического мира все на основании того ж е единственного наблюдения над энергией — теорию, от которой отмахиваются даже самые горячие его поклонники.
* К . А. имеет в виду комедию Мольера «Мнимый больной». Virtus dormitiva и v i r t u s purgativa — «усыпляющая способность» и «послабляющая
способность», псевдонаучные термины, употреблявшиеся во времена
Мольера невежественными врачами. Ред.
сти более широкая точка зрения Дарвина, видевшего материал
для отбора в изменениях всех степеней, т. е. и крупных и мелких, также не опровергнута и представляется и теперь более
верною.
Это нечувствительно приводит нас к рассмотрению новейших воззрений, касающихся второго фактора, положенного
в основу дарвинизма, — фактора наследственности.
Здесь мы встречаемся с любопытным явлением: одно из
выдающихся и плодотворных направлений исследования в этой
области, выдвигаемое вперед как нечто заслоняющее или
упраздняющее дарвинизм, на деле только говорит в его пользу,
так как устраняет одно из самых в свое время, казалось, веских и непреодолимых возражений против него. Если Дарвин,
как мы неоднократно повторяли, никогда не ограничивал материал для отбора одними мелкими индивидуальными изменениями, а рядом с ними признавал значение и крупных скачков, то несомненно, что вначале он придавал более значения
последней категории изменений, а позднее — первой. Это было
с его стороны уступкой, вынужденной вмешательством в обсуждение биологического вопроса совершенно неожиданного противника — математика. Дарвин сам сознавался, что самое веское возражение было ему сделано не натуралистом, а этим математиком; но теперь можно только пожалеть, что он остановился перед препятствием, выдвинутым против его теории непризванным судьею. Флиминг Дженкинс (инженер) в 1867 г .
возражал, что всякое резкое уклонение является всегда или
в единичном, или в очень ограниченном числе экземпляров,
и потому имеет очень мало шансов на сохранение. Дженкинс
рассуждал приблизительно так: если известным признаком
п обладает один из родителей, то у детей будет только
у
внуков -J- и так далее в быстро убывающей прогрессии, и, следовательно, этот признак обречен на исчезновение и не может
послужить материалом для естественного отбора. Повидимому,
ничто не внушало Дарвину столько забот, как эта статья
Дженкинса и появившееся вследствие того всеобщее убеждение,
что скрещивание непременно оказывает сглаживающее, заболачивающее (swamping) действие на всякое вновь появляю-
щееся резкое изменение. Вследствие этого Дарвин, более чем
вначале, вынужден был выдвигать вперед менее резкие и в то
же время более многочисленные изменения, как менее подверженные этому процессу уничтожения. Но Дженкинс рассуждал к а к чистый математик (недаром Дарвин с детства так недолюбливал алгебру!). Уже физик не заключил бы, что фунт жидкости при 10° и фунт жидкости при 20° должны дать 2 фунта
при 15°, а знал бы, что еще надо считаться с видовой
(специфической на всех европейских языках), т. е. удельной теплотой
яшдкостей. А химик — тот знал бы, что, сливая синюю и
желтую жидкость, не всегда получишь зеленую жидкость, а
порою даже красный осадок. Во сколько же раз сложнее вопрос о слиянии двух организаций, так смело и победоносно
разрешенный Дженкинсом! Поэтому, когда, много лет спустя,
мне пришлось отвечать на объемистое, направленное против
дарвинизма сочинение Данилевского, главным образом развивавшего аргумент Дженкинса, я обратил особенное внимание
именно на этот пункт возражения. Я указывал, что «было бы
абсурдом ожидать, чтобы при суммировании действия таких
сложных причин, как две борющиеся в детях родственные организации, получалась всегда простая наглядная средняя.
Нужно еще знать эквивалентность признаков, а как ее определить?» Я указывал, что при одном шестипалом родителе не
получаются дети с 5 % пальцами, а или с 5, или с 6пальцами.
Я указывал, наконец, как на самый наглядный пример (выводивший из себя моих противников), на нос Бурбонов, сохранившийся у герцога ЬІемурского, несмотря на то, что в его
жилах течет всего 1 / 1 2 8 крови Генриха I V * . Но, конечно, ни я,
да и никто в Европе не подозревал, что обстоятельный, обставленный цифрами фактический ответ на возражения Дженкинса
был дан еще за два года до появления его статьи. В 1865 г. никому неизвестный августинский монах Мендель напечатал в таком же мало известном журнале общества естествоиспытателей в Брюнне свои статьи, которые были открыты только в
1900 г. одновременно тремя учеными: Чермаком, Корренсом
и Де-Фризом. Общее содержание исследований Менделя Чер* См. в этом томе (стр. 263) статью К. А. «Опровергнут ли дарвинизм?»
Ред.
мак довольно удачно определил так: «Это — учение о закономерной неравнозначности признаков по отношению к их унаследованию». Понятно, что мы можем здесь упомянуть и об
этом учении лишь постольку, поскольку оно касается дарвинизма. Мендель доказал, что при скрещивании, например,
зеленого и желтого гороха получится не желто-зеленый (т. е.
не пятнистый и не средней окраски) \ а в первом поколении исключительно желтый. Но что еще удивительнее, — в следующем поколении, вместо исключительно желтых, получаются и
те и другие, в отношении трех желтых к одному зеленому.
В третьем поколении зеленые окажутся чистокровными, а из
желтых чистокровными окажется только треть, остальные же
две трети разобьются в конце концов поровну на зеленые и желтые. Так как, повторяем, нас здесь интересуют не законы наследственности, обнаруженные любопытными опытами Менделя, а лишь их отношение к дарвинизму, то мы можем ограничиться этими сведениями, сказав только, что они были подтверждены многими позднейшими опытами 2 . Самым важным результатом в этом смысле является, конечно, тот факт, что признаки не сливаются, не складываются и не делятся, не стремятся
стушеваться, а сохраняются неизмененными, распределяясь
между различными потомками. Кошмар Дженкинса, испортивший столько крови Дарвину, рассеивается без следа. Еще
старик Гальтон в «Natural Inheritance»* писал, что если бы
признаки не сливались между собой, то представители с совершенно неразжиженными (undiluted) признаками появлялись бы
в течение неопределенного времени, «доставляя повторные шансы на успех в борьбе за существование». Таким образом, менделизм только устраняет самое опасное возражение, которое,
по словам самого Дарвина, когда-либо было сделано его теории. Спрашивается: можно ли видеть в нем что-либо заслоняющее или упраздняющее это учение, как это стараются доказать
1
Как бы следовало на основании соображений Дженкинса и Данилевского.
2
Интересующиеся опытами Менделя найдут их верную оценку в моей
статье «Мендель» в энциклопедии бр. Гранат. (В настоящем издании
см. том VI, стр. 255. Ред.)
* «Natural Inheritance» — «Естественное наследование». Ред.
многие восторженные поклонники менделизма, особенно в Англии, не стесняющиеся сравнивать Менделя с Ньютоном? 1 Затем возникает и другой вопрос: являются ли основные факты
Менделя чем-то совершенно новым, не предусмотренным Дарвином? К а к это выяснил в своей недавней превосходной популярной статье 92-летний ветеран А. У о л л е с 2 , признание менделизма чем-то совершенно новым, каким-то неожиданным откровением, является только новым доказательством, как мало
изучается книга Дарвина «Возделываемые растения и прирученные животные», этот до настоящего времени наиболее продуманный и богатейший свод наших знаний по вопросу об изменчивости и наследственности, от которого должны отправляться все наблюдатели и с которым должны сверять полученные результаты. Оказалось, что в этой книге имеется целый параграф, так и озаглавленный: «Об известных признаках,
которые между собой не сливаются)), где он сообщает совершенно
аналогичные свои наблюдения, а в другом месте книги даже
приводит указания на опыты, произведенные над желтым и зеленым горохом еще в 1720 г. и давшие в результате не среднюю
окраску, а ту или другую в отдельности. Но почему же Дарвин
не принял во внимание этих фактов? По всей вероятности, потому, что со свойственною ему всесторонностью и осторожностью он не считал возможным обобщать их, как это делают мендельянцы, хотя им очень хорошо известно, что существуют и такие признаки, которые, повидимому, сливаются или совмещаются. В приведенных скрещиваниях гороха не получается
средней окраски, но есть случаи, когда скрещивания желтых
и синих цветов дают зеленую окраску, и, конечно, все дело
в том, чтобы объяснить в частности все эти случаи 3 . Мендельянцы гордятся тем, что они углубились в факты наследственности, найдя крайне любопытные числовые законы; но, конечно,
Lock. — «Recent progress» и т. д., 1907 г.
Мой перевод, появившийся в «Русских Ведомостях», приложен к последнему тому сочинений Дарвина, изд. Ю. Лепковского. (К. А. имеет
в виду статью А. Уоллеса «Современное положение дарвинизма». См.
в этом томе стр. 521. Ред.)
3
В последнем случае объяснение не представляет даже затруднения.
Этот случай подробно описан мною в статье «Наследственность» в энциклопедии бр. Гранат. (В настоящем издании см. том V I , стр. 164. Ред.).
1
2
будущему предстоит проникнуть еще глубже в этом анализе и
показать, когда возможно слияние признаков, когда оно невозможно и, наконец, когда в результате скрещивания являются даже новые признаки.
В итоге менделизм, поскольку он оправдывается, служит
только поддержкой дарвинизму, устраняя одно из самых важных возражений, когда-либо выдвинутых против него. Отсюда
ясно, что никакого препятствия на пути дарвинизма он не выдвигает и тем менее может быть рассматриваем как нечто, идущее ему на смену. Заслуга Менделя, как и заслуга Де-Фриза,
сводится к тщательной регистрации наблюдения, не представляющегося абсолютно новым, и скромный брюннский монах,
так отчетливо производивший свои опыты, вероятно, благодаря тому, что ранее учился математике и физике в Венском
университете, конечно, первый протестовал бы против сравнения его с Ньютоном.
Переходим в третьему из факторов, которые составляют
дарвинизм, — к естественному отбору. Очень часдо приходится
слышать, что это — только дедуктивный вывод из трех посылок:
изменчивости, наследственности и перенаселения, а не факт,
непосредственно наблюдаемый в природе. Но едва ли этот аргумент обладает большой убедительной силой. Раз что естественный отбор является неотразимым выводом из трех факторов,
неизменную наличность которых в природе невозможно отрицать, равно как и колоссальные размеры последнего из них,
то сомневаться в существовании этого процесса нет никакой
возможности. А если число непосредственных
наблюдений над
существованием отбора в природе пока еще очень ограничено, то
это объясняется громадной трудностью таких наблюдений, что
в свою очередь объясняет, почему их так мало было предпринято. Но это не значит, чтобы их вовсе не существовало, и потому
нельзя читать без удивления следующие заключительные строки
едва ли не самого обстоятельного двухтомного труда по современному положению
эволюционной теории «Vorlesungen über
Descendenztheorien» * лейденского профессора Лотси: «Одно
только поле исследования совершенно не возделано: опыты
* «Лекции по теории происхождения».
Ред,
Над результатами борьбы за существование, все равно между
особями или между видами, совершенно отсутствуют, и здесь
приходится их только особенно рекомендовать». Одно такое
исследование во всяком случае существует; оно принадлежит английскому зоологу Уэльдону и касается одного мелкого
краба, водящегося в Плимутской бухте. После постройки нового большого мола, загородившего узкий вход в бухту, было
замечено изменение в составе ее фауны, и Уэльдон, занявшись
биометрическими
измерениями этого краба, заметил, что средняя ширина лобной части головогруди этого рака из года в год
убывала 1 . Ему пришло в голову, не находится ли это изменение в связи с увеличивающеюся мутностью воды, явившеюся
результатом указанной постройки. Он предпринял ряд опытов
в нарочно для того устроенных аквариумах
с чистой и мутной
водой, и оказалось, что в мутной воде наблюдалась усиленная
смертность, причем биометрические исследования показали,
что широколобые раки были более ей подвержены, чем узколобые, так что последние имели более шансов на жизнь. Рассуждая далее, Уэльдон пришел к заключению, что у них, вероятно, лучше обеспечено отцеживание воды от ила, и произведенное исследование околевших и оставшихся в живых экземпляров блистательно подтвердило его предположение; у широколобых жабры оказались сильно загрязненными илом 2 . Таким
образом, Уэльдон дал первый образцовый пример, как следует
браться за дело, чтобы уловить явление естественного отбора
в природе: это достижимо только умелым сочетанием биометрической статистики и прямого опыта. К сожалению, смерть
похитила талантливого молодого ученого, так удачно выступившего на новое плодотворное поприще исследования, на котором он, повидимому, пока еще не имел подражателей 3 .
1
Уэльдон был одним из ревностных сторонников Пирсона, стоящего
во главе этого плодотворного научного направления.
2
Мы видели, что Лотси вовсе не упоминает об Уэльдоне; другие писатели, к а к Плате и Келлог, упускают самую существенную черту —
причину смертности.
3
Д р у г и е примеры непосредственного изучения естественного отбора можно найти под этим словом в энциклопедии бр. Гранат. (См. в настоящем издании том VI, стр. 196. Ред.)
Против естественного отбора была поведена атака и еще с
другой стороны. Некоторые ученые (в том числе Де-Фриз) пытались доказать, что даже искусственный отбор не играет той
роли в образовании новых пород растений и животных, какую
придавал ему Дарвин; но несостоятельность этих возражений
была доказана специалистами. Отрицателям искусственного отбора пришлось смолкнуть, когда из-за океана стали доходить
вести о чудесах американского «кудесника» Бербанка, буквально
по желанию лепящего растительные формы, меняющего в несколько лет почти любое свойство растения и достигающего
этого результата применением отбора почти с тою же строгостью,
с какою он применяется природой, так как в некоторых
случаях знаменитый садовод не останавливается перед истреблением сотен тысяч растений для сохранения одного Ч
Бербанк открыто заявлял, что руководится в своей практике исключительно идеями Дарвина, а побывавший у него
в Америке Де-Фриз вынужден был признать полную научность
его опытов.
Таким образом, принцип отбора, в смысле уничтожения неудовлетворительных форм, тем более успешного, чем строже он
проводится, не подлежит сомнению; а с другой стороны, колоссальное несоответствие между числом появляющихся существ и
тем, которое находит себе место на земле, никогда даже не
подвергалось сомнению, откуда и вывод из него: существование
естественного отбора в природе и его значение для процесса
образования форм целесообразных, т. е. прилаженных к условиям, в которых протекает их жизнь, остаются во всей своей
силе.
Мы поставили себе целью показать, что ни одно из возникших за последние полвека научных течений не выдвинуло никакого препятствия на пути теории Дарвина. Мы могли бы еще
показать, что это истекшее полустолетие добавило в смысле
1
Краткий рассказ о малоизвестной у нас деятельности Бербанка
можно найти в переведенной мною книге Гарвуда «Обновленная земля».
(См. в настоящем издании том X . Ред.). Бербанку ставили в вину, что его
опыты недостаточно подробно протоколируются. Благодаря щедрому пожертвованию Карнеги он теперь, кажется, будет снабжен целой канцелярией.
углубления и дополнения наших сведений и приемов исследования по отношению к этим двум основным факторам— к изменчивости и наследственности. Мы могли бы остановиться на успехах биометрии
(Гальтон, Пирсон), давшей точный метод для
учета этих явлений, на успехах в изучении некоторых частных
случаев наследственности (Мендель и его многочисленные поклонники), и, наконец, на возникновении целой новой отрасли биологии, для которой двадцать лет тому назад я предложил название экспериментальной
морфологии,
пророча, что, «пробиваясь отдельными струйками в X I X веке, она сольется в широкий поток уже за порогом двадцатого», что и не замедлило
исполниться 1 .
Но все это не входит в нашу ближайшую задачу, — в оценку
современного состояния и значения дарвинизма, отправляющегося от факторов изменчивости и наследственности, как от готовых данных. Этого, правда, не понимают многие, именующие
себя неоламаркистами.
Одни из них полагают, что если найдено
физическое объяснение для возникновения той
или другой
формы (что составляет задачу экспериментальной морфологии),
то тем вся задача исчерпана. Другие, на место оказавшейся несостоятельною трансцендентной
телеологии непосредственных
творческих актов, пытаются поставить какую-то
имманентную
телеологию целесообразно действующей среды (Генсло, Варминг) или целесообразно
направляющей процесс развития
организмов сознательной протоплазмы (немецкие панпсихисты). Но понятно, что как, с одной стороны, в задачу собственно
дарвинизма не входит более глубокий анализ его двух исходных
факторов, так, с другой стороны, и самый глубокий их анализ
не в состоянии выполнить задачи, осуществленной дарвинизмом. А эта задача с замечательной лаконичностью выражена
в словах Гельмгольтца, выбранных нами эпиграфом для настоящего очерка . 2 Универсальный гений, давший миру закон
1
В речи на VIII съезде естествоиспытателей в 1900 г. «Факторы органической эволюции». Она вошла в состав сборника «Насущные задачи
[современного] естествознания». (В настоящем издании см. том V,
стр. 107. Ред.).
- Известная речь Гельмгольтца была произнесена при совершенно
исключительных условиях. Немецкие натуралисты в первый раз собира-
сохранения энергии, сумел оценить значение другого гения,
давшего миру закон естественного отбора и тем навсегда оградившего положительную науку от вторжения в ее область
и креациониста-теолога, и финалиста-метафизика.
лись в центре самого ретроградного католицизма и придавали большое
значение этой нравственной победе. Не преждевременна ли была их радость? Еще на днях мы могли прочесть в газетах похвальбы вновь ободрившихся иннсбрукских реакционеров, что они подымут невежественных
крестьян и поведут их на университет.
w
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОРОТА,
ПРОИЗВЕДЕННОГО
В СОВРЕМЕННОМ
ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
ААРВИНОМ
16 К. .4. Тимирязев,
т.
VII
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОРОТА,
ПРОИЗВЕДЕННОГО В СОВРЕМЕННОМ
ЕСТЕСТВОЗНАНИИ ДАРВИНОМ*
«Вы — ( велячайший революционер в естествознании нашего века или, вернее, всех
веков».
(Уотсон
о Дарвине,
1859 г.)
К
огда придет время подвести итог успехам, сделанным
естествознанием в X I X столетии, то, конечно, самой
выдающейся чертой этого движения должно будет признать стремление к объединению, к , слиянию
отдельных
разрозненных областей этого знания в одно стройное общее
целое. Стоит вспомнить, чем была в начале века физика с ее
почти не связанными между собою дисциплинами, и чем стала,
благодаря открытию взаимного превращения физических сил,
учению о сохранении энергии и установлению тожества
между явлениями света и электричества. Чем была в начале
века химия, вынужденная признавать непреодолимую пропасть
между явлениями неорганической и органической природы в сравнении с современной химией, своими завоеваниями в области
* Эта статья была впервые опубликована в 1896 г. во второй части
1 тома собрания сочиненнй Ч . Дарвина (М., издание Поповой). Ред.
органического синтеза совершенно заполнившая эту пропасть.
Чем была и чем стала физиология, навсегда освободившаяся
от бессмысленного призрака жизненной силы и все более и более
успешно подвигающаяся по пути сближения и отожествления
процессов, происходящих в организмах, с явлениями, наблюдаемыми вне их.
Но едва ли не более крупным шагом на пути этого философского синтеза, этого объединения воззрений на природу и
способы ее исследования, явилось то научное движение, которое сблизило две обширные отрасли естествознания, не имевшие ни в своих задачах, ни в своих точках отправления, казалось, ничего общего. Одна из этих отраслей считала своей задачей объяснение наблюдаемого, другая — исключительно только его описание. Между тем как физик, химик, мало-помалу
и физиолог привыкли считать своей задачей объяснение изучаемых явлений, зоолог и ботаник ограничивались их описанием,
считая бесплодными попытки достигнуть их понимания.С давних
пор установилось такое представление, что в области неорганической природы можно и должно разыскивать физические причины (causae efficientes), в области же органической природы
можно и должно довольствоваться одним указанием на причины
метафизические (causae finales) 1 . Коренная особенность организма, выражающаяся в самом этом слове, указывает на то,
что он состоит не из частей только, а из органов, т. е. орудий,
исполняющих известные служебные отправления. Установилось такое убеждение, что исследователь может только указывать на те цели, которые достигаются организацией, не касаясь
вопроса, каким образом осуществляется именно это соответствие между орудием и его отправлением. Для чего служит
орган — вот чем ограничивалась задача зоолога и ботаника.
Вопрос же, почему он построен именно так, что может успешно
исполнять свое отправление, считался лежащим за пределами
1
Необходимость строгого разграничения этих областей физического
и метафизического объяснения и изгнания этого последнего из области
физики была превосходно разъяснена уже Бэконом. (De Dignitate et
Augmentis Scientiarum. Lib. III, Cap. IV. «О значении и развитии наук».
Кн. III, гл. IV). Позднее Ньютон предостерегал: «Физика, бойся метафизики».
этой задачи. Таким образом, явления природы делились на две
категории: на такие, объяснение которых считалось вполне
законным, и на такие, которые по самому своему существу, казалось, не поддаются объяснению. Таково было положение дела,
мояшо сказать, до второй половины X I X столетия.
Рядом с глухо сознаваемой потребностью покончить с этим
делением науки о природе на область объяснимого и область
необъяснимого нарастала и другая, может быть, менее общая, но
еще более настоятельная потребность — дать объяснение для
'факта, с которым сталкивались все постепенно возникавшие
и развивавшиеся отрасли описательного естествознания. Естественная система классификации, сравнительная анатомия,
эмбриология, палеонтология и география организмов с замечательным согласием приходили к одному выводу — к свидетельству об общем сходстве всех существующих и существовавших организмов — к необходимости допустить единство всего
живого в пространстве и во времени. Объяснением этого самого
общего свойства организмов представлялось допущение фактического реального единства, т. е. кровной связи всех живых
существ. Но против этого логически неотразимого конечного
вывода целого ряда наук восставал другой, казалось, не менее
несомненный очевидный факт. Для того, чтобы допустить общность происхождения организмов, должно доказать возможность превращения одного организма в другой, наиболее к нему
близкий. Группам таких наиболее между собою близких существ,
растений или животных присвоено название видов. Оказывалось, что эти виды не изменяются, не превращаются одни
в другие, не дают начала другим видам. Таким образом, все
даже наиболее отдаленные между собою существа несут очевидные следы общего происхождения, и в то же время существа
наиболее сходные разобщены между собою, не могли произойти
одни от других.
Некоторые ученые по складу своего ума, втайне довольные
этим непримиримым противоречием природы, пытались выйти из
него таким образом: отсутствие единства в органическом мире
есть факт, а его кажущееся единство только идеальное, это—
только выражение идеи, лежащей в основе изучаемого нами
строя природы. Так, например, сходство вымерших форм с ныне
существующими не есть фактическое сходство между предком
и потомком, а сходство между пророчеством и его осуществлением; эти вымершие типы являлись только затем, чтобы пророчествовать (кому?) о появлении современных типов живых существ. Понятна логическая цена таким объяснениям Е Но, с другой стороны, и те ученые, для которых единство органической
природы было также фактом, а не отвлеченной идеей, не видели возможности согласить противоречия между этим фактом
и, казалось, не менее очевидным фактом неподвижности видовых
форм. Едва ли когда-нибудь человеческому уму приходилось
бороться с такой неразрешимой и, повидимому, во всех своих
подробностях очевидной антиномией:
единство органического
мира несомненно, но фактически оно не возможно. Все, что
высказывалось натуралистами в первой половине X I X века,
за редкими исключениями, заключало в себе это непримиримое
противоречие и могло умещаться в одной голове только ценою
отказа от логической последовательности.
И вот, в исходе 1859 года, появляется теория, которая одновременно и объясняет то, что было признано необъяснимым,
т. е. целесообразность в строении организмов, и устраняет противоречие между • внутренним единством органического мира
и кажущеюся неподвижностью и разрозненностью видов, перед
которым беспомощно остановилась наука. Понятны то место,
которое суждено было занять этой книге («Происхождение видов») в истории человеческой мысли, и тот прием, который ей оказали все мыслящие люди. Можно сказать, что с первого же дня
ее появления, когда разошлось все издание, — случай, кажется,
беспримерный в истории научной литературы, — она сделалась
классической. Понятно и то доходившее до исступления сопротивление, которое встретили новые идеи со стороны защитников старого миросозерцания 2 .
1
Идея о пророческих типах, как известно, принадлежит Агассису.
Почти на-днях (в октябре 1895) Б л а н ш а р высказывал в Парижской академии уверенность, что если б Агассис был жив, то он опровергнул бы
дарвинизм. Но известно, что он ж и л еще долго после появления дарвинизма и, несмотря на страстное желание, не смог его опровергнуть.
2
Стоит, например, напомнить, что в 1865 году некоторые немецкие противники этого учения выбили медаль, правда, ради экономии, свинцовую,
на которой Дарвин был изображен в оскорбительно карикатурном виде.
Не прошло и десяти лет, как идеи, высказанные Дарвином,
вошли в плоть и кровь современного естествознания, отразились даже далеко за пределами биологии
Но прошло еще
десятилетие или два, и стали проявляться новые попытки подорвать значение этого небывалого по своему объему приобретения науки. В том, что еще недавно признавали за нелепое
новшество, пытаются видеть давно известную общепризнанную истину. Для достижения этого пытаются раздробить это
стройное в своей целостности учение на те две основные задачи,
которые только что нами указаны. Пытаются разграничить
учение о единстве органического мира, или вообще эволюционное учение от объяснения, каким образом совершился этот
процесс эволюции, — что собственно составляет главное содержание дарвинизма. Пытаются доказать, что важно в этой книге
только доказательство существования эволюции, а не объяснение самого ее процесса; а так как предположения о возможности
эволюции высказывались и ранее, например, Ламарком, то выходило бы, что хорошо в этой книге только то, что не ново, а то,
что ново, — или не хорошо, или во всяком случае не существенно. Старая, вечно повторяющаяся история: на первых
порах новая идея признается нелепой, а когда она выйдет победительницей из упорной борьбы, — оказывается, что все ее
давно разделяли.
Но Дарвин на первых же страницах своего введения объясняет невозможность рассматривать отдельно эти две стороны
какой бы то ни было эволюционной теории. В пользу существования эволюционного процесса были и ранее высказаны почти
все те соображения, которые с большой силой и убедительностью
высказал и он. И если эти доказательства никого не убедили, —
даже тех, кто только ждали, чтоб их убедили, — то потому
именно, что до него никто не мог указать на самый процесс,
которым совершилась эта эволюция. Натуралисты убедились
в существовании эволюции только тогда, когда Дарвин показал, как она осуществляется. Лучшим тому доказательством
может служить обращение такого передового и свободного от
предрассудков мыслителя, каким был Лайель, — доводы Ла1
Так, астроном Норман Локиер через несколько лет заговорил об
эволюции и в неорганическом мире.
марка не убедили его потому именно, что ламарково объяснение самого процесса его не удовлетворяло.
Только дарвинизм, устранивший две главные преграды,
препятствовавшие принятию какого бы то ни было эволюционного учения, — только дарвинизм, исходя из одного и того же
начала естественного отбора,
объяснивший
и загадочную
целесообразность всякой организации, и кажущуюся разрозненность, обособленность видовых и других групп, в первый
раз дозволил не только допускать, но и понимать единство и
совершенство органического мира в том виде, в каком мы его
наблюдаем.
Как ни оригинальна идея, положенная в основу учения,
быть может, еще оригинальнее тот путь, которым она создалась. Путешествие на «Бигле» и «Автобиография» дают нам возможность присутствовать при одном из величайших явлений,
доступных человеческому наблюдению, — при зарождении великого научного открытия в уме его творца. Глубокие размышления, вызванные наблюдениями в различных областях природы, на различных точках земного шара, приводят Дарвина
к убеждению в несостоятельности догмата о неподвижности
и самостоятельном сотворении видовых форм. И вот, вместо
того, чтобы подобно его предшественникам выступить с наскоро придуманной теорией, — он «в истинно бэконианском
духе», в течение десятков лет продолжает собирать факты,
предоставляя времени выработать теорию, которая их свяжет
в одно стройное целое. Самый способ, которым Дарвин пришел
к открытию своей теории, невольно напоминает склад мыслей
его великого соотечественника. Известен третий афоризм Бэкона о том, как связаны между собою Scientia и Potentia, т. е.
наука и власть человека над природой. Наука раскрывает
причины явлений, а знание этих причин служит средством,
орудием для подчинения себе этих явлений. Дарвин извратил
эту обычную логическую последовательность; он задался вопросом, каким средством пользуется человек для достижения
своей цели — изменения и усовершенствования органических
существ, и научный анализ этого средства привел его к пониманию причины явления. Таким средством оказался прием так
называемого отбора — Selection. Оставалось найти аналог от-
бора в природе. Дарвин сам сообщает нам, что долго искал
его, пока случайное знакомство с книгой Мальтуса «О народонаселении» не навело его на мысль, что причиной отбора в природе, этого «естественного отбора», должно признать совершающийся в громадных размерах процесс истребления менее
совершенных существ — как результат того общего закона,
что организмов нарождается несравненно более, чем сколько
может выжить Е Таким образом, был найден ключ для объяснения основного затруднения, перед которым остановились
прежние эволюционные теории, •— для объяснения, почему
этот процесс в" общем носит характер прогресса, т. е. совершенствования организмов, в смысле их приспособления к жизненной обстановке. Объяснив эту основную черту всего организованного, — это соответствие между формой и ее отправлением, — Дарвин еще долго стоял перед другим препятствием,
перед той антиномией, которая, как мы сказали, лежит в основе
всего строя органического мира,— непрерывностью его в целом
и разрозненностью в частностях. Как он сам повествует в своей
автобиографии, объяснение оказалось просто, как колумбово
яйцо: оно являлось одним из необходимых следствий естественного отбора, т. е. процесса сохранения и накопления полезных признаков. Стремление к разнообразию, к расхождению в своих признаках, оказывается полезным для всех организмов, так как любой клочок земли может вместить и прокормить тем больше живых существ, чем они разнообразнее, чем
менее сталкиваются между собою их потребности, их интересы.
Начало естественного отбора одновременно устранило оба
препятствия, стоявшие на пути всех предшествовавших попыток эволюционных теорий, — кажущуюся целесообразность
органических форм и отсутствие наличных между ними переходов.
Но если эти переходные формы в силу самого процесса отбора должны были исчезать перед более совершенным и специализированным потомством, то, тем не менее, они должны были
когда-то существовать, и следы их должны были сохраниться
в палеонтологической летописи. И можно сказать, что нигде
1
Любопытно, что чтение той ж е книги Мальтуса привело и Уоллеса, независимо от Дарвина, к тому же выводу.
дарвинизм не нашел такого несомненного подтверждения, как
именно в области палеонтологии. В то время, когда выходило
в свет первое издание его книги, Дарвин вынужден был главным образом убеждать геологов в том, что они не должны,
не в праве рассчитывать на особенно обильные фактические доказательства, ввиду естественной неполноты палеонтологических памятников. Современная палеонтология обладает уже
такою массой переходных, связующих звеньев, относящихся
к самым разнообразным систематическим единицам, начиная
с видов и кончая классами, что эта аргументация Дарвина является в известном смысле уже устаревшею. Если она не становится излишнею, то получает совершенно иное значение; она
только подчеркивает, усиливает важность новейших завоеваний геологии. Можно сказать, что с этой самой существенной, фактической точки зрения дарвинизм, как эволюционное
учение, приобрел за истекшие десятилетия такую подавляющую массу несомненных доказательств, на которую почти не
рассчитывал его творец 1 .
В с я последующая деятельность Дарвина, как он также поясняет в своей автобиографии, заключалась в развитии и подробном фактическом обосновании некоторых коренных положений его учения и в разъяснении образа действия естественного отбора в применении к самым интересным частным случаям. Чем более разрастается литература, касающаяся основных факторов эволюции — изменчивости и наследственности,
тем более приходится удивляться глубине, проницательности
и разносторонности мысли и почти истощающему предмет
богатству фактов, которые представляет его книга, посвященная этим вопросам («Прирученные животные и возделываемые
растения»). Последующие писатели, полагая обнаружить самостоятельность своей мысли, только впадали в узкую односто1
Самое поразительное палеонтологическое открытие было сделано
в 1903 г. английским ботаником Скоттом, когда он нашел ископаемые
папоротники с семенами, т. е. доказал связь между двумя самыми большими отделами растительного царства. -—связь, которая была предсказана немецким ботаником Гофмейстером в 1851 г. См. мою статью «Успехи
ботаники в XX веке» в «Истории нашего времени», изд. Гранат, вып. 23,
1918. (В настоящем издании см. том VIII. Ред.)
ронность (неоламаркисты и вейсманисты), которой Дарвин
был совершенно чужд
Но большая часть последующих трудов Дарвина была посвящена второй задаче — блестящей монографической обработке примеров применения его учения, взятых умышленно из
растительного царства. Эти исследования положили основание
новой, обособившейся за последние десятилетия отрасли науки,
получившей не совсем удачное название «Биологии растений».
Стоит пробежать хотя бы оглавление одного из подобных общих трактатов, чтобы убедиться, что почти любой из их отделов
соответствует какой-нибудь монографии Дарвина или представляет развитие какой-нибудь идеи, высказанной им в его общих произведениях. Дарвин остановил свое внимание на примерах, исключительно заимствованных из растительного царства, потому что к ним так называемые ламарковы факторы эволюции или почти неприменимы, каково упражнение органов,
или вовсе неприменимы, каковы факторы психические, воля,
желание, стремление и т. д. Благодаря этой сравнительной
простоте задачи, по отношению к растительному организму
всего успешнее удается уяснить действие трех факторов дарвинизма — изменчивости (прирожденной или вызываемой условиями жизни), наследственности и отбора.
Но, пояснив применение его учения к простейшим случаям,
Дарвин не остановился и перед смелой попыткой его распространения и на самый сложный случай — на человека. Конечно,
именно это его произведение («Происхождение человека и половой отбор») 2 более всей его остальной деятельности дало
повод к той упорной и сознательной клевете, которая посыпалась и продолжает еще сыпаться на него со стороны неразборчивых на средства противников и тех, кто повторяет эти отзывы с чужого голоса, не дав себе труда обратиться к самим
произведениям великого натуралиста. Я говорю о сознательной
клевете, потому что утверждать, что Дарвин проповедует иде1
Любопытно, что даже факты, вокруг которых вращается полемика,
почти исключительно заимствованы у Дарвина.
2
«Выражение ощущений у человека и животных», как известно,
представляет разросшуюся до размеров самостоятельного труда главу
«Происхождения человека».
алы людоеда, что он ответствен, например, в пробуждении
современного милитаризма и других проявлениях торжества
силы над правом и так д а л е е , — взводить подобную небылицу
на автора книги, имеющейся на всех европейских языках и каждому доступной, конечно, нельзя по одному только недоразумению. Так как по этому поводу мне пришлось бы только повторяться, то считаю более уместным привести то, что мне приходилось высказывать уже десятки лет 1 .
«Отчасти не по разуму усердные сторонники 2 , но еще более
недобросовестные или невежественные противники идеи Дарвина спешили навязать ему мысль, будто бы борьба за существование 3 , понимаемая в самой грубой, животной форме,
должна быть признана руководящим законом и должна управлять судьбами человечества, совершенно устраняя сознательное воздействие, сознательный рефлекс самого человечества
на его дальнейшие судьбы. Но понятно, что ничего подобного
он не мог высказать. Он ли, каждое слово которого дышит самой
высокой гуманностью, стал бы проповедывать идеалы людоеда ?
Он ли, даже по отношению к улучшению животных пород ука1
(Далее К . А. цитирует текст из VI главы «Краткого очерка теории
Дарвина», см. в этом томе стр. 189—194. Ред.). В том ж е смысле высказался я в своих речах: «Дарвин, как тип ученого» и «Опровергнут ли дарвинизм?» (См. в этом томе стр. 39 и 263. Ред.). В основе сходный взгляд
высказал и Гёксли в своей речи «Эволюция и этика» (см. в настоящем издании том V, стр. 78. Ред.), к а к оно, впрочем, и понятно, так как мы оба
только верно передавали основную идею Дарвина, — что учение о естественном отборе, объясняя темное прошлое человека, ни в каком случае
не предлагалось как этическое учение для его руководства в настоящем
и будущем.
2
Как, например, его французская переводчица Клеманс Ройе.
3 Способность организмов противостоять вредным влияниям и пользоваться благоприятными условиями, — состязание
конкурентов
на
те же места в природе, — и наконец, в несравненно меньшей степени,
уничтожение одних организмов другими — всю эту сложную совокупность отношений живых существ между собою и с окружающей средой
Дарвин наэвал иносказательно и ради краткости борьбой за существование. Ничто, быть может, не принесло его учению столько вреда, как эта
метафора, без которой он мог бы обойтись, если б только предвидел те выводы, которые будут из нее сделаны. Термина естественный отбор для
его целей было бы совершенно достаточно. Я мог прочесть целый курс дарвинизма, не обмолвившись этим выражением «борьба за существование».
завший на быстроту и превосходство результатов сознательного
отбора, в сравнении с результатами отбора
бессознательного,
стал бы доказывать превосходство стихийной борьбы над сознательным прогрессом человечества? Конечно, он указывал на результаты, достигнутые в течение несметных веков бессознательным состязанием между живыми существами, но из этого не
следует, что-человек должен отказаться от всякой сознательной
деятельности, направленной к достижению „наибольшего блага
наибольшего числа",:—точно так же, как из того, что он указал на существование в природе приспособлений для естественного обсеменения при помощи ветра и животных, еще не следует,
что человек не должен более сеять и пахать. А главное, нигде,
кроме немногих мест своего сочинения, которых мы коснемся
ниже, он и не касается этих вопросов; они лежат за пределами
его задачи; он не только не преподал никаких правил для руководства человечества в его настоящем и будущем, но даже почти
не касался ни того, ни другого, ограничиваясь лишь объяснением его темного прошлого. К а к мыслитель, имевший случай
лично наблюдать полуживотный быт дикарей, он только остановился перед вопросом, каким образом из этого жалкого материала мог создаться физический и нравственный тип цивилизованного человека, каким образом могло случиться, что „ceci
a tué c e l a " 1 , — и пришел к тому выводу, что и здесь первоначальным фактором был естественный отбор. Вот как он сам
описывает процесс зарождения в нем этой мысли: „С сожалением
думаю я , что главный вывод этого сочинения, именно, что человек происходит от менее совершенной органической формы,
придется многим не по вкусу. Но ведь невозможно отрицать,
что мы произошли от дикарей. Никогда не забуду, как я был
озадачен, увидав в первый раз на диком, изрытом прибрежии
Огненной земли ее первобытных обитателей. Первая мысль,
пришедшая мне в голову, была: таковы были наши предки.
Эти люди были совершенно наги и испачканы красками; их
длинные волосы свалялись, на губах выступила пена, вызванная их возбужденным состоянием; лица выражали дикий испуг
и подозрительность. Они не имели понятия ни о каких ремеслах
1
«Это убило то».
и, как дикие животные, питались только тем, что могли поймать; у них не было никакого правительства и ко всем людям,
не принадлежащим к их маленькому племени, они не знали жалости. Тот, кто видел дикаря в его естественной обстановке,
не почувствует стыда, придя к заключению, что в его жилах
течет кровь более скромного существа. Что касается меня, то
я также готов вести свою родословную от той героической маленькой обезьянки, которая бросилась на самого страшного
своего врага, чтобы спасти жизнь своему сторожу; или той старой обезьяны, которая спустилась с гор и с торжеством унесла
своего маленького товарища, отбив его у целой своры озадаченных собак, как и от этого дикаря, приносящего кровавые
жертвы, безжалостно умерщвляющего собственных детей, обращающегося со своими женами, как с рабами, не знающего стыда
и зараженного самыми грубыми суевериями..."
«С особенным вниманием останавливается Дарвин на вопросе
о происхождении нравственного чувства или совести. „Явполне
присоединяюсь к мнению тех мыслителей, которые утверждают,
что из всех различий между человеком и животными нравственное чувство или совесть самое важное" — т а к начинает он главу,
посвященную этому вопросу, и продолжает далее: „Эточувство,
по выражению Макинтоша «справедливо господствующее над
всеми другими началами, которые управляют поступками человека», сводится к этому краткому, но полному высокого смысла повелительному слову — должен. Это благороднейший из
атрибутов человека, заставляющий его без минутного колебания
рисковать своей собственной жизнью для спасения жизни себе
подобных; или после зрелого обсуждения, под влиянием глубокого чувства правды или долга, жертвовать ею на служение
великому делу. Эммануил Кант восклицает: «Долг! Дивная
мысль; ты, которая действуешь не заманчивым обещанием,
не лестью, не угрозой, а просто налагая на душу свой закон:
ты, вынуждающая к себе уважение, если и не всегда — повиновение; ты, перед которой смолкают все вожделения, как бы
втайне они ни возмущались,— откуда взялся твой прообраз?»
Этот вопрос обсуждался многими талантливыми писателями,
и если я решаюсь его коснуться, то потому только, что не могу
его обойти, и потому, что насколько мне известно, никто еще
не касался его с исключительно естественно-исторической точки
зрения".
«Дарвин проводит основную мысль, что нравственное чувство, в известной мере наследственное, явилось в форме инстинкта и постепенно перешло в сознательное чувство. Таким инстинктом был социальный инстинкт,
стремление к общественной
жизни, так глубоко коренящееся в природе человека. После
инстинкта самосохранения это едва ли не самый сильный инстинкт; недаром яге после смертной казни самым тяжким наказанием является одиночное заключение. Дарвин стремится
доказать общее положение: что существо с такими развитыми
умственными способностями, к а к человек, и в то же время обладающее сильно выраженными социальными инстинктами, неизбежно должно было приобресть и нравственное чувство или
совесть. Совесть не что иное, как внутренняя борьба между
более или менее укоренившимися инстинктами, между эгоизмом, выработавшимся в индивидуальной борьбе, и альтруизмом — результатом социального инстинкта, который в свою
очередь выработался из инстинкта материнской любви. Что
такова была последовательность развития нравственного чувства — на это указывает факт более раннего развития общественных добродетелей сравнительно с нравственными качествами
чисто личными, каковы воздержность, стыдливость и пр. Развивая далее свою мысль, Дарвин старается показать, что естественный отбор могущественно способствовал победе высших
инстинктов над низшими, их укоренению и развитию. Уоллес,
как замечает Дарвин, высказал глубокую мысль, что как только
человек достиг значительного превосходства над животными
в умственном и нравственном отношении, дальнейшее действие
отбора должно было следовать преимущественно в этом направлении, потому что — какую пользу могли принести какие-либо
телесные приспособления существу, которое, благодаря умственным качествам, могло „со своим неизмененным телом приспособляться к изменяющимся условиям окружающей его вселенной". Что всякое умственное превосходство должно было сообщать перевес в борьбе, само собою понятно, но нетрудно
понять, что и нравственные качества могли сохраняться и развиваться путем естественного отбора. Как инстинкт матери.
забота родителей о детях могли быть могучим орудием в индивидуальной борьбе, так общественные инстинкты должны были
обеспечивать успех в борьбе между племенами и по мере того,
как одно племя побеждало другое, должен был расти идеал
нравственности, причем не малым стимулом служило одобрение
соплеменников, чувство славы и пр. Конечно, эти первобытные
добродетели касались только взаимных отношений между членами одного племени; по отношению к врагам господствовало
совершенно другое мерило нравственности. Но то прославление
патриотических идеалов в ущерб идеалам общечеловеческим,
которое еще так часто раздается в наше время, не доказывает
ли оно, что и современные понятия о нравственности находятся
еще в перёходной стадии, что они далеки еще от того законченного неподвижного идеала, каким желали бы его выставить
противники теории развития? 1
«Таково, в самых общих чертах, воззрение Дарвина на темное прошлое человека; он сам не раз говорит, что это только
смелая попытка, только намек на возможное разрешение этой
колоссальной задачи, но, повторяем, везде он имеет в виду лишь
прошлое, стремится объяснить возникновение умственных и нравственных качеств цивилизованного человека, исходя из качеств дикаря или основных свойств высших типов животного
царства, — никогда не принимает он на себя роль пророка
или моралиста, хотя такая воздержанность и ставится ему в упрек некоторыми критиками, очевидно, не понимающими основного смысла всей.его деятельности. Как мало вообще основания
в нападках на него тех его противников, которые полагают,
что он готов проповедывать самую бессердечную, животную борьбу, как закон для взаимных отношений между людьми, можно
усмотреть из следующих слов заключительной главы его сочинения: „Человек, как и другие животные, без сомнения, достиг
своего современного высокого состояния путем борьбы за существование, являющейся результатом его быстрого размножения,
1
Вспомним недавнее заявление Эдиссона, что из любви к отечеству
он придумает такие смертоносные орудия, перед которыми содрогнется
все человечество. — 1895. Или остановимся на ужасе современной зверской бойни. — 1918. (Сравни примечание К. А. к цитируемому тексту на
стр. 193 этого тома. Ред. ).
и если он должен развиваться далее, то должен оставаться под
влиянием этой строгой борьбы. Иначе он погрязнет в лени и бездельи, и более даровитый не будет выходить победителем из
борьбы с менее даровитым. Отсюда наше естественное стремление к размножению, хотя оно и является источником многих
и несомненных зол, не должно быть ни под каким видом значительно задержано. Всем людям должна быть доставлена возможность к открытому состязанию, и законы или обычаи не должны
препятствовать наиболее способным иметь успех в жизни и воспитать возможно большее число детей. Но как ни важна роль,
которую борьба за существование играла и продолжает играть
до сих пор, тем не менее, по отношению к высшим сторонам человеческой природы существуют деятели гораздо более важные.
Развитие нравственных качеств гораздо более обусловливается
посредственным или непосредственным действием привычки
и мыслительных способностей, образованием, религией и пр.,
чем действием естественного отбора; но этому последнему смело
может быть приписано происхождение социального инстинкта,
послужившего основанием, на котором развилось нравственное
чувство"».
Возможно ли, имея перед собою эти строки, продолжать
упорно повторять, что Дарвин проповедует озверение человека
и повинен в тех явлениях очевидного переживания, которые нас
порою озадачивают в современной жизни? Но, может быть, все
же заметят, что признавая главное значение за факторами
чисто этическими, он, тем не менее, отводит хотя и скромную
роль борьбе, как средству, не дающему человеку погрязнуть
в лени и т. д.; но я полагаю, против такой формы этой мысли,
со всеми сделанными им оговорками, не станет возражать и любой моралист, если только он не проповедует полнейшего квиетизма, погружения в нирвану и т. д. Эту мысль задолго до
Дарвина и, может быть, еще энергичнее высказал великий поэт
в заключительном монологе Фауста:
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der v e r d i e n t sich F r e i h e i t wie d a s Leben,
Der täglich sie errobern muss l .
1
17
Вот мудрости конечный вывод:
Л и ш ь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день берет их с бою
К . А . Тимирязев,
т. VII
2і
И, кажется, никто еще не ставил этих слов в укор Гёте Е
В этом кратком очерке я, понятно, мог указать только в самых крупных чертах на главную научную заслугу одного из величайших представителей естествознания всех времен, а также
пытался указать на неосновательность попыток вызвать предубеждение против великого ученого в среде людей, стоящих
в стороне от науки * .
1895 г.
1
Между прочим, их можно было прочесть на лентах венка, возложенного на памятнике Гёте от имени германской социал-демократической
партии.
* В издании 1919 г. («Чарлз Дарвин и его учение», часть I) за этой,
заключительной статьей книги напечатаны «Пояснения к тексту», составленные К. А. для мало подготовленного читателя. Редакция нашла возможным и целесообразным не воспроизводить этих пояснений в настоящем издании. Ред.
•
ЧЛ
CTЬ
ВТОРАЯ
я
О т п о в е д ь анти дарвинистам
•
НАШИ
АНТИДАРВИНИСТЫ
ОПРОВЕРГНУТ ЛИ ДАРВИНИЗМ? 1
1
іце на школьной скамье слыхали мы, что tempora тиtanlur et nos mutamur in Ulis, т. е. попросту: времена
и люди переменчивы. Это мудрое изречение невольно
припомнилось мне, когда, в поисках за темой для сегодняшней нашей беседы, я естественно остановился на вопросе,
вот уже несколько месяцев решительно преследующем меня на
каждом шагу: «скажите, правда ли, что дарвинизм опровергнут?»
Припомнилось мне, что менее чем десять лет тому назад
1
Публичная лекция, читанная в Политехническом музее весною
1887 г. (Впервые эта лекция была напечатана в журнале «Русская Мысль»,
кн. 5 и 6 sa 1887 г. Отрывок из нее, под названием «Дарвинизм перед судом философии и нравственности», публиковался в книге К . А. «Насущные задачи современного естествознания», издание 1904 г. и следующие.
Ред.
я имел случай выступать со сходною темой перед таким же
уважаемым собранием, а вместе с тем стало ясно, что многое
с тех пор изменилось. Тогда требовалось только кое-что разъяснять, кое-что примирять, сообщать интересовавшие всех подробности о личности автора этого учения; теперь предстоит
вступить в борьбу за существование. То, что тогда почти единогласно признавалось одним из величайших приобретений человеческой мысли, теперь во всеуслышание объявляется какою-то
умственною эпидемией, каким-то жалким, стадным увлечением.
Таково, по крайней мере, впечатление, которое выносишь из некоторой части нашей периодической печати, из разговоров,
обрывков мнений. Те, кто, внутренно не сочувствуя дарвинизму,
находились в каком-то удрученном состоянии, воспрянули,
приободрились, подняли голову, прочтя в первой статье первой
книжки одного из наших журналов благую весть, что в появившемся еще за год сочинении Данилевского * дарвинизм опровергнут вполне, окончательно, что мы о нем более не услышим.
Возникает вопрос или даже целых два: точно ли дарвинизм
опровергнут, и какой повод ликовать, если бы действительно
строго научная, добросовестно обдуманная ее автором теория,
в продолжение четверти века занимавшая лучшие умы, вдруг
оказалась несостоятельною?
Спрашивается, действительно ли в течении научной мысли
случился один из тех поворотов, отмечаемых как новая эра,
каким было, например, появление книги Дарвина? Сделаны
ли новые открытия, медленно назревавшие и теперь только
принесшие плод? Предъявлены ли новые сокрушающие доводы,
до сих пор, по непонятной близорукости, ускользавшие от всех
мыслящих людей, так как по отношению к дарвинизму всякий
мыслящий человек уже успел составить то или другое суждение?
И, прежде всего, проявляется ли в этом общее направление
европейской научной мысли или это — только явление местного, так сказать, этнографического и временного свойства?
На Западе, действительно, теперь, как и прежде, появляются
возражения против того или другого частного положения
этого всеобъемлющего учения; обсуждаются те или другие
* Н. Я . Данилевский. — Дарвинизм, 1885 г.
Ред.
затруднения. Но все это тщательно взвешивается хладнокровною, строго научною критикой. Нигде не услышите тех
победных кликов, тех труб иерихонских, под оглушительные
звуки которых должен сокрушиться вражеский оплот. Нигде
не встретите такой самодовольно-самоуверенной фразы, как
заявление Данилевского во введении его книги, что под напором
его критики все здание теории изрешетилось, а наконец, и раз-
валилось в бессвязную кучу мусора. Всего удачнее можно сравнить отношение к делу Данилевского и Романеса. Оба сосредоточивают свое внимание на той же стороне теории, но между
тем как первый объявляет, что он превратил ее в кучу
мусора,
другой заявляет, что не только не пошатнул, а, напротив, достроил, дополнил это здание, пролил на него новый свет. Когда
в прошлом году появилось исследование о «физиологическом
отборе», герцог Аргайль, — нечто вроде английского Данилевского, — поспешил приветствовать Романеса с его отречением
от дарвинизма, но Романее, в том же нумере «Nature», облил холодною водой преждевременно возликовавшего антидарвиниста,
уверив его, «что воззрения его (Романеса) на естественный
отбор те же, что были пятнадцать лет тому назад, и во всех существенных чертах сходны с воззрениями Дарвина». Такое же отношение встречаем мы у Вейсмана, Негели, — словом, у всех
действительно научных критиков дарвинизма; каждый ограничивает его область там, где это ему представляется необходимым, дополняет там, где это является возможным, но ни один
не разрушает ради разрушения, не похваляется, что там, где
он прошел, трава более не растет.
Уже одни эти фанатические восторги по поводу разрушения
добросовестного труда стольких выдающихся умов не свидетельствуют в пользу научного характера труда Данилевского.
Не внушает к нему доверия и следующее соображение. Дарвин
своим трудом опроверг то, во что сам прежде верил, — он постоянно, в течение четверти века, сдавался перед очевидностью
фактов, переходил от одного склада мыслей к другому. Дарвинизм озадачил Данилевского, как он сам о том повествует,
возмутил весь его душевный склад. Данилевский встретил
дарвинизм так же враждебно, как и проводил. Один сжег то,
чему поклонялся, другой только ниже и ниже склонялся перед
/
тем, перед чем и ранее уже клонил голову. Наконец, шансы
в пользу того предположения, что Данилевскому удалось превратить дарвинизм в «кучу мусора», можно оценить и на основании той теории вероятностей, из которой Данилевский сам
делает такое широкое применение в своей книге. В самом деле,
предположим, что в настоящее время число дарвинистов и антидарвинистов, не нашедшнх тех сокрушающих аргументов, которые открыл Данилевский, не более 1 ООО, — это очень скромная оценка. Допустим далее, что Данилевский нашел т а к и х аргументов десять, а он в каждой из своих тринадцати глав
приводит их, по крайней мере, столько же, и посмотрим, как
велики шансы, чтобы он успел «изрешетить» здание дарвинизма,
т. е., чтобы всегда победителем оказывался он, а не его союзники
и еще более многочисленные противники. На первый раз шансы
будут к а к 1 к 1 ООО. «Но вероятность, чтоб эти два случая произошли в последовательности один за другим, точно так же,
к а к вероятность, чтоб один и тот же лотерейный билет выиграл
два раза сразу, получится, если мы перемножим их шансы друг
на друга», т. е. для второго аргумента это уже будет Ѵюооооо
и т. д. до десятого.
1 ООО
1 ООО ООО
1 ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО
1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО
Вот как мало вероятия, чтобы Данилевский мог оказаться
правым во всех своих нападках, — к а к мало вероятия, что
ему удалось «изрешетить» дарвинизм. Он, очевидно, забыл
французскую поговорку—qui prouve
trop, ne prouve
rien*.
Я ожидаю, однако, что мне возразят: но, ведь, это математическое доказательство — только шутка. Д а , это шутка. Тогда
мне, конечно, возразят далее: но отпускать шутки в науке
* Кто слишком много доказывает — не доказывает ничего. Ред.
неуместно, неприлично. С этим я соглашусь еще охотнее. Да,
отпускать шутки в науке неуместно, неприлично. Но дело в том,
что эту шутку я взял целиком из книги Данилевского. Дело
в том, что на этой самой шутке построено все его опровержение
дарвинизма. Я даже старался говорить его собственными словами. Я подставил только другое именованное число: вместо фигурирующего там цветка сирени самого автора книги. Я только
хотел вперед заручиться вашим согласием, что отпускать
такие шутки в науке, а тем более основывать на них всю свою
аргументацию — неуместно, неприлично.
Здесь сам собою возникает вопрос: сочинение, при первой
его оценке внушающее так мало доверия, нуждалось ли оно
в серьезном опроверяшнии? Так думалось мне, и, конечно, не
мне одному. Стоит ли тратить, во всяком случае, немало времени,
чтобы одолеть эти два толстых тома? Каждый серьезный ученый,
пробормотав про себя что-нибудь вроде английской поговорки:
«I have better fish to fry» * , перешел бы к своим очередным занятиям. Стоит ли отвлекаться от исследования новых фактов,
от изучения старых мыслей, которых на свете так много и таких
хороших, для того, чтоб изобличать мелкую, изворотливую софистику дилетанта, ослепленного предвзятою идеей и задавшегося,
очевидно, непосильною целью, — остановить одно из могучих
течений современной научной мысли?
Но при оценке полезности или бесполезности критики подобных произведений приходится считаться с тем, что сам Данилевский метко называет законом умственной перспективы.
Палец перед глазом заслоняет далекое солнце. Свой, «наш талантливый писатель» всегда имеет шансы заслонить далекого,
хотя бы и гениального, мыслителя. Т а к , очевидно, отнеслись
к Данилевскому его критики или, вернее, восхвалители. Патриотическая гордость играет, очевидно, не последнюю роль
в том восторженном приеме, который встретила эта книга
в известной части нашей печати. Есть и еще одно обстоятельство, которое выну?кдает именно меня, более чем кого другого,
предпринять, во всяком случае, неблагодарный труд изучения
такого объемистого, на тысячу страниц растянутого, памфлета.
* «Я могу зажарить рыбу получше».
Ред.
Из всех русских дарвинистов, а их, вероятно, столько же,
сколько натуралистов, Данилевский призывает к ответу меня
одного, а его комментатор, г. Страхов, видит даже и в этом некоторую слабую пищу для своего патриотизма: «из всех натуралистов, — пишет он, — нет ни одного, кого Н. Я . Данилевский не уличил бы в той или другой ошибке по части строгого
понимания теории.
Наиболее последовательным и почти
безупречным оказался не Геккель или Виганд, а наш профессор Тимирязев, который, будучи приверженцем теории,
действительно знает, что исповедует». Помнится мне, что, в одной из своих мелких библиографических заметок, Белинский,
разбирая какое-то
жизнеописание известного
разбойника
Ваньки-Каина, остановился в недоумении на предисловии
этой книги, в котором автор ее в порыве патриотической гордости пишет, что и душегубца и разбойника-то настоящего
нужно искать между соотечественниками. Не чета наш Ванька-Каин, — восклицает он, — каким-нибудь западным Картушам. Сдается мне, что приведенное выше лестное замечание
г. Страхова я должен принять приблизительно в таком же
смысле. В самом деле, если отрадно подумать, что русским оказался автор труда, который нужно причислить
к самым редким явлениям во всемирной печати, как называет г. Страхов
книгу Данилевского, то до некоторой степени приятно подумать, что русским же оказался и самый последовательный
сторонник «несомненного заблуждения», как называет г. Страхов дарвинизм.
В качестве такого-то Ваньки-Каина дарвинизма, связанного с ним «for better and for worse»*, я почти нравственно обязан выступить его защитником, ломать копья с его противниками.
Помимо высказанных общих соображений, нельзя не сознаться, что самые свойства сочинения делают его разбор полезным. Его необычайный объем, известный аппарат учености,
в форме приложений и таблиц (которые, заметим мимоходом,
могли бы без ущерба отсутствовать) 1 , рассчитан на то, чтобы
* «для лучшего и д л я худшего». Ред.
1
Т а к , например, четыре таблицы поясняют образование плакучей
туи, как доказательства внезапного появления крупных, чуть не видовых
произвести впечатление на непосвященных, а самому изложению никак нельзя отказать в известной диалектической ловкости, внешнем остроумии, а главное, самоуверенности, невольно подчиняющей себе читателя из робких. В авторе виден несомненно опытный спорщик, — именно спорщик, ни за
что, ни под каким условием не сдающийся даже перед очевидностью и ловко перебегающий от предмета к предмету для того,
чтобы произвести на присутствующих впечатление, что последнее слово осталось за ним. Для того, чтобы суждение это не
показалось голословным, приведу только два примера в доказательство тому, как развита в авторе этой книги готовность
противоречить, противоречить во что бы то ни стало, даже тогда,
когда это невозможно, даже тогда, когда в возражении и нет надобности. Из этих примеров будет также понятно, сколько ненужного балласта заключается в этой неумеренно толстой
книге. В заключительной ( X I V ) главе целые две страницы посвящаются опровержению мнения Дарвина о происхождении
голубей от одного вида. Читая эти две страницы, я, как, вероятно, и всякий читатель, не утративший способности логически мыслить, в нетерпении исчеркал поля вопросительными и восклицательными знаками, — до того невероятною
показалась мне аргументация Данилевского. Что же оказалось? Оказалось, что Данилевский и сам согласен, что Дарвин «в этом
случае вполне прав», понадобилась же вся эта аргументация,
повидимому, только для доказательства, что и против очевидности, и против своих убеждений можно спорить. Как будто
это положение нуждалось в доказательстве; всякому, кажется,
ясно, что стоит только освободить себя от подчинения логике,
и тогда можно сделаться неуязвимым в споре. Другой пример
еще оригинальнее. В главе X I , почти на десяти страницах и
еще с пояснительною таблицей, развивается мысль, что самозарождение организмов (generatio spontanea) несовместимо
с дарвинизмом. Но ведь всякий знает, что ни Дарвин, ни последовательные дарвинисты его и не допускали. Мне самому,
признаков; но если б Данилевский внимательно изучил сочинения Дарвина, то узнал бы, что «плакучесть» — один из самых ничтожных, капризных и непостоянных признаков. О других рисунках будет с к а з а н о в своем
месте.
много лет тому назад, приходилось защищать тезис, что «самозарождение не только не венчало бы здания дарвинизма,
но являлось бы важным против него возражением», и доказывал я это, говоря, что если б самозарождение существовало,
то органический мир представил бы нам, вместо того родословного дерева, к которому стремится дарвинизм, целый дремучий лес. На десяти страницах растягивает Данилевский амплификацию этого аргумента, т. е. вразумляет нас же, дарвинистов, до какого мы бы дошли абсурда, если б допустили то,
что мы отвергаем. Эти примеры достаточно поясняют мою
мысль, что книга переполнена балластом, т. е. возражениями
ради возражений, хотя бы они ничего не доказывали, хотя бы
в них не было надобности, лишь бы держать читателя под постоянным впечатлением, что против чего-то возражается, что
кто-то неизменно разбивается. Немалое удобство, в известном
отношении, представляет и коренной недостаток этой книги—
ее большой объем. Благодаря этому обстоятельству, чувствуя
слабость своего аргумента, автор может удобно сослаться на
его подкрепление в далеком будущем, а там, в свою очередь,
сослаться н& убедительность предыдущего, для того, чтобы
в третьем месте уже просто говорить: как мы видели, как мы
доказали. Это — прием, знакомый каждому, кто имел несчастие изучать толстые полемические сочинения.
Еще один вопрос: отличается ли эта книга тою искренностью, тем критическим беспристрастием, которые только и
придают цену серьезной научной полемике? На этот вопрос
нужно ответить двояко. Едва ли можно сомневаться в искренности автора этой книги, т. е. в том, что дарвинизм глубоко
возмутил обычный склад его мыслей. Не будучи в силах расстаться с этим складом мыслей, не будучи в силах освободиться
от безграничного поклонения авторитетам Кювье и Бэра,—
авторитетам, естественно подчинившим себе человека, закончившего свое научное развитие в сороковых годах, он, конечно,
напряг все свои, во всяком случае, не заурядные способности,
чтоб отвергнуть новое учение, чтобы завоевать себе прежний
покой, возмущенный вторжением которого-то незваного пришлеца. Но также не подлежит сомнению, что сочинение не
удовлетворяет основным требованиям научного беспристра-
стия. Мне кажется, основное правило беспристрастного обсуждения заключается в том, чтобы ваш противник проникался вашим убеждением не менее вас самих, но и никак не более. А потому в беспристрастном обсуждении нельзя допустить искусственных приемов, рассчитанных на то, чтобы временно поразить, увлечь противника кажущеюся сильною аргументацией,
а когда ум его налажен, принял известную складку, осторожно,
мельком скользнуть по обстоятельствам, ограничивающим убедительность предъявленного довода. А именно подобный прием
мы и встречаем в самой существенной части книги Данилевского, в той, где он предъявляет мнимое опровержение естественного отбора. Вперед пускается озадачивающий читателя
парадокс, на протяжении ста страниц читатель выдерживается под удручающим впечатлением ошеломившего его аргумента. Через сто страниц, однако, убедительная сила этого
аргумента уменьшается в несколько миллиардов раз, — заметьте, логическая убедительность аргумента уменьшается в несколько миллиардов раз, — а через 125 страниц, на полустраничке, проскользает обстоятельство,
лишающее его и всей
его обязательной силы. Ведь самому автору известна степень
убедительности всех доводов, рассеянных на различных страницах его книги, — почему же он во всех случаях, когда представляет слабый довод, торопится предупредить, что в запасе
у него есть лучший; а когда он озадачивает читателя своим главным, чудовищным, сокрушающим доводом, не предупреждает
его, чтобы тот не пугался, что через несколько страниц довод
будет ослаблен в миллиарды раз, а может быть, и вовсе
устранен? Это ли прием беспристрастного судьи или уважающего себя адвоката! Нет, это сомнительная
уловка
неразборчивого на средства адвоката, рассчитанная на то,
чтобы на время озадачить, вырвать согласие на первый
бросающийся в глаза довод, а остальное, быть может, и
ускользнет от утомленного внимания, — ведь в книге тысяча
страниц.
Однако пора от рассмотрения общих свойств книги перейти
к ее содержанию. От меня, конечно, не ожидают оценки всех
ее подробностей. Достаточно, если мы остановимся на главном
вопросе, опровергается ли в ней дарвинизм, потому что, ко-
нечно, и сам автор сосредоточил свои силы
только избыток их посвятил частностям.
на главном и
Главное возражение, главный вывод, который повторяется
десятки раз, курсивом и обыкновенным шрифтом, но всегда
с одинаковою категоричностью и самоуверенностью, заключается в том, что естественного отбора, т. е. сущности дарвинизма, не существует,
не существовало и существовать не мо-
жет, что это фантазм,
мозговой призрак,
ein
Hirngespinst.
Г . Страхов называет это положение истинным
открытием
Н. Я. Данилевского.
Мы постараемся показать диаметрально
противоположное:
что существование отбора Данилевским
не опровергнуто, и что вообще никакого открытия он не сделал,
а только лишний раз повторил в односторонней, преувеличенной, гиперболической форме возражение, высказанное десять
и двадцать лет тому назад, известное дарвинистам, и Дарвину
прежде всех, и нисколько не вынуждающее отречься от этого
учения.
Посмотрим, в чем же заключается это открытие Данилевского, развитое им в V I I I и I X главах его книги. Но прежде
в двух словах напомним, в чем состоит это отрицаемое им начало естественного отбора. Все органические существа способны, хотя в слабой мере, изменяться. Эти изменения могут наследоваться. В то же время все организмы размножаются в геометрической прогрессии, так что земля не могла бы вместить
всех нарождающихся существ. Громадное большинство погибает в борьбе с врагами и средой и в состязании с соперниками, — это борьба за существование. Сохраняются только наиболее приспособленные; свои особенности они передают потомству, в котором снова наиболее приспособленный выживает
предпочтительно перед остальными. Таким образом, полезные
особенности сохраняются и накопляются. Это и есть начало
естественного отбора.
От чего же приглашает нас отказаться Данилевский, утверждая, что естественного отбора не существует? Изменчивость — факт, наследственность — факт, геометрическая про-
грессия размножения — факт. Борьба за существование не
только факт, но даже, по заявлению Данилевского, блестящая
заслуга Дарвина. Итак, все посылки верны, но необходимый
логический вывод из них, естественный отбор — фантазм, мозговой призрак.
К а к это объяснить? Данилевский произносит магическое,
по его мнению, слово скрещивание, — и перед этим заклинанием тревожащий его призрак естественного отбора должен
сгинуть и рассыпаться. Он говорит, что естественного отбора,
т. е. сохранения и накопления полезных особенностей, не существует в природе, потому что, как только появится особенная
единичная форма, она будет скрещиваться, образовать помеси
с формами не изменившимися и, следовательно, совершенно
сольется с ними; «как бы ни были полезны индивидуальные
изменения, они должны поглотиться скрещиванием». Для доказательства этого основного положения своей критики он и
прибегает к той пресловутой задаче из теории вероятностей,
о которой мы уже упоминали и которую он величает парадоксальным названием «умственного опыта».
Но прежде, чем приступить к оценке убедительности этого
«умственного опыта», необходимо разъяснить одно обстоятельство, благодаря которому попытка Данилевского, быть может, так преувеличенно оценена, так превознесена его комментатором. Можно подумать, что если Данилевский не опроверг дарвинизма, то все же указал на важный недосмотр, предъявил новое веское возражение, что во всяком случае было бы
крупной заслугой. Благодаря своеобразному, чтобы не оказать более, изложению восьмой и девятой глав, недостаточно
сведущий читатель невольно остается под впечатлением,
будто аргументы эти предъявлены самим Данилевским. После
ста страниц, на которых всесторонне обсуждается вопрос
о невозможности возникновения новых форм, вследствие уничтожения их скрещиванием, приводится, наконец, мнение по
этому вопросу и самого Дарвина, и тотчас же устанавливается
какое-то, как мы увидим, не существующее по этому вопросу
различие между каким-то правоверным или, вернее, староверским дарвинизмом, представителем которого являюсь между
прочим я, и неодарвинизмом, жалким, непоследовательным,
18
К. А . Тимирязев,
т.
VII
бессвязно бормочущим какие-то извинения, представителем
которого в последние годы являлся будто бы сам Дарвин. Благодаря этому искусному изложению, Данилевский, повидимому, успел убедить своих читателей (если судить о них по
г. Страхову), что хотя Дарвин в чем-то и был ранее уличен
и покаялся, но что во всяком случае главная роль в этом открытии несовместимости естественного отбора со скрещиванием принадлежит ему, Данилевскому.
Но всякому, знакомому с делом, известно, что история
вопроса совершенно иная. Едва ли не одна из самых видных
заслуг Дарвина заключается в том, что он именно коренным
образом изменил господствовавшие до него воззрения на скрещивание. До него в скрещивании видели, главным образом,
источник вариации, каково было воззрение Линнея, а также
и Кювье Ч Дарвин же решительно высказался в том смысле,
что скрещивание есть обстоятельство нивеллирующее, подводящее под один средний тип. Следовательно, едва ли кто более
Дарвина способствовал установлению настоящего взгляда на
скрещивание, как на обстоятельство, противодействующее появлению новых уклонных форм. Данилевский прибегнул
только к произвольному усилению этого значения скрещивания. Но даже и по отношению к этой сомнительной заслуге первенство никаким образом не может быть признано
за ним.
Возражение о невозможности будто бы примирить естественный отбор со скрещиванием предъявил уже двадцать лет
тому назад Флиминг Дженкинс, как это известно и самому
Данилевскому, а затем оно повторялось Беннетом, Брока,
Жане в той же псевдоматематической форме и тогда же вызвало очень любопытные математические соображения Дельбёфа. Литературные приличия всегда требуют указывать
прежде на своих предшественников, а затем уже переходить
к своим собственным открытиям. Если бы Данилевский в
своем изложении придерживался этого похвального приема,
то каждому читателю, о первых строк V I I главы, стало бы
ясно, что «открытие» это имеет за собою уже десяти- и даже
1
К а к можно даже судить по цитатам самого Данилевского.
ч
двадцатилетнюю давность и за это время, вероятно, успело бы
опрокинуть дарвинизм, если бы обладало такою разрушающею силой.
Но возвращаемся к самому открытию, к тому «умственному
опыту», при помощи которого так легко и просто, на полустраничке, разрушается все здание дарвинизма.
Представим себе, что мы имеем дело с сиренью, на которой, как известно, между обыкновенными 4-лепестными цветами попадаются и 5-лепестные, так называемое счастье, и зададимся вопросом: как велики шансы, чтоб образовалась новая
форма, скажем, новая порода пятилепестковой сирени? Предположим, — говорит Данилевский, — что 1 счастье приходится на 1 ООО обыкновенных цветков. Для того, чтобы пятилепестная форма сохранилась в следующем поколении, цветочная пыль пятилепестного цветка должна отыскать из тысячи
цветков 5-лепестный же и оплодотворить его 1 . То же должно
повториться и в следующем поколении; но, как мы уже слышали,
вероятность, чтобы оплодотворение 5-лепестного 5-лепестным
же повторилось в следующем поколении, та же, как и вероятность, чтоб один билет выиграл два раза сряду. Такая вероятность получается через перемножение шансов. Перемножая,
по указанию Данилевского, шансы в надлежащем числе поколений, приходим к тому выводу, что вероятие образования-пятилепестной формы выразится отношением 1 к 36 ООО биллионов,
т. е. фактически почти равно нулю. Другими словами, в природе могут возникать какие угодно формы, но сохраниться они
не могут, потому что, вследствие скрещивания с подавляющим
большинством неизменившихся форм, вперед обречены на уничтожение; «новые формы тотчас же и совершенно сольются
с прежними формами» 2 , от них не останется ни следа, а, следовательно, «естественный отбор не существует, не существовал
и существовать не может».
1
Я уже не говорю о том, что пример обоеполого цветка выбран крайне
неудачно. Цветочная пыль не отыскивает один из тысячи, а гораздо вероятнее остается в своем же цветке. Во всем дальнейшем рассуждении я
не пользуюсь этим промахом Данилевского, а рассуждаю, к а к будто имею
дело с организмом раздельнополым.
2
Страхов.— «Полное опровержение дарвинизма».
•
Напомним мимоходом, что Данилевский, запросив у читателя доверия на биллионы, позднее делает на этой цифре
уступку в 17 миллиардов раз, и перейдем прямо к оценке логической обязательности этого аргумента, достаточно страшного
даже в его миллионной форме.
Прежде всего посмотрим, что доказывают эти цифры.
Они доказывают только невозможность образования в есте-
ственном состоянии чистокровной породы 1 . Но я спрашиваю:
есть ли на свете не только дарвинист, но просто неповрежденный в своих умственных способностях человек, который бы
стал утверждать, что это возможно? Покажите мне умственно
здорового человека, который бы стал утверждать, что стоит
только раз в год пускать по одной английской скаковой лошади
в степь, где пасутся табуны, для того, чтобы со временем образовалась чистокровная английская порода. А все эти миллионы
и триллионы Данилевского к тому только и нагромождены,
чтобы доказать нам невозможность этого абсурда. Умственный
опыт Данилевского доказывает только невозможность факта,
возможности которого никто никогда и не предполагал.
Это не мешает, однако, Данилевскому делать во всей своей
книге такое заключение: в природе невозможно образование
чистокровной породы, — значит, невозможно вообще образование новой породы, новой формы. Но для всякого человека,
привыкшего логически рассуждать, очевидно, что одного из
другого не следует, что между посылкой и заключением нет
соответствия. Сохранение случайного уклонения в его чистой
форме — это один предел явления; его бесследное исчезновение,
полное растворение в нормальных формах — это другой и,
заметим, идеальный, теоретический предел. В действительности,
к органическим формам, как и к материи, как и к энергии, применима основная мысль Лавуазье: «rien ne se perd, rien ne se
crée» * . Логически немыслимо, чтобы какое-нибудь воздействие
на организм исчезло без следа, — именно этою невозможностью
1
Точно так же своим вычислением я доказал невероятность предположения, чтобы Данилевский оказался правым во всем, но не доказал
этим, что он ни в чем не прав или не прав в главном. Вот в каком смысле
я назвал свое доказательство шуткой.
* «Ничто не исчезает и ничто не создается вновь». Ред.
бесследного исчезания каких бы то ни было воздействий на
организм и его потомство, суммированием этих воздействий мы
и должны объяснять себе прогрессивное усложнение организмов. Между указанными двумя пределами для естественного
отбора останется широкий простор, а это-то именно и забывает
или, правильнее, на время скрывает от читателей Данилевский,
рассчитывая, так сказать, их воспитать в страхе его биллионного аргумента, а потом уже вскользь, когда это будет не опасно,
упомянуть и о другой возможности.
Если в природе немыслимо возникновение чистокровной
породы, то еще не значит, чтобы раз возникшая уклонная форма
не могла сохраниться в целом ряде степеней или оттенков, что,
как мы увидим, с точки зрения самого Данилевского, еще важнее, чем сохранение чистокровной формы. Он сам не раз предъявляет дарвинизму такую дилемму: из крупных случайных
уклонений отбор не мог бы сложить целесообразных форм,
мелкие же уклонения также для этого неудобны. Скрещивание
как раз именно удовлетворяет требованию Данилевского, т. е.
предлагает в распоряжение отбора признаки во всевозможных
их оттенках Ч
Для применения естественного отбора нет надобности в сохранении чистой формы. Скажем более, если бы это было возможно,
то естественный отбор ничем бы не отличался от самого строгого
и редко практикуемого искусственного отбора, и его результаты
должны бы были обнаруживаться, как и при последнем, через
сотни и даже десятки лет. Но и при искусственном отборе скрещивание далеко не всегда устраняется,
— оно обыкновенно
только ограничивается. Т а к , например, в крупном садоводстве
только истребляются, выпалываются дурные экземпляры, сохраняются же все более или менее подходящие. Наконец, в
отборе бессознательном, на который Дарвин указывал как
на переход к естественному, скрещивание устраняется только
косвенно и, конечно, в очень несовершенной степени 2 .
1
Данилевский нарочно выбрал такой случай, где с р е д н я я форма
(4Д 2 лепестка) немыслима. Но в таких случаях наследственность выраж а е т с я в том, что дети выходят то в отца, то в мать.
2
Подобно тому, как при отборе половом.
Итак, для медленного образования новых органических
форм нет надобности в безусловном устранении
скрещивания,
как это утверждает Данилевский, — для этого достаточно
только его ограничения. А в том, что значение скрёщивания
значительно им преувеличено, не трудно убедиться. Во-первых, возникновение всякой формы всегда местное и совершенно
несправедливо высчитывать ее шансы на сохранение
из
сопоставления ее со всем числом неизменившихся существ. В действительности, возможность скрещивания должна ограничиваться гораздо меньшим числом. Шансы скрещивания для растения должны, например, быстро убывать с расстоянием от
видоизмененной формы. Постараемся это пояснить на совершенно
схематическом примере. Представим себе, что на клочке земли
равномерно распределено известное число растений. Как велики шансы, что растение А будет оплодотворено одним из
первых 6, а не любым из остальных? Во всяком случае, не в / 6 0 ,
не 1 / 1 0 , а значительно более. Мне кажется, я буду не далек от
истины, предположив, что для каждого более и более удаляющегося шестиугольника (или круга) шансы будут пропорцио40 41 42 43 44
39 21 22 23 24 45
38 20 8 9 10 25 46
37 19 7 1 2 11 26 47
60 36 18 6 А. 3 12 27 48
59 35 17 5 4 13 28 49
58 34 16 15 14 29 50
57 33 32 31 30 51
56 55 54 53 52
иальны числу растений и обратно пропорциональны квадратам
расстояния от А. Первое условие понятно само по себе, второе
же, вероятно, близко к истине, так как пыльца, поднимающаяся
с цветка, будет падатыіа площади, возрастающие как квадраты
радиусов Ч Приняв в основание расчета эти посылки, и при
1
Д л я простоты аргумента растение предположено анемофильное
(т. е. оплодотворяемое при помощи ветра). Очевидно, что число оплодотворяемых растет как окружности, количество же оплодотворяющего начала убывает как площади тех же кругов. Мне кажется, что эта посылка
самая умеренная.
самой грубой примерной оценке увидим, что шансы оплодотворения одним из 6 ближайших растений вместо 1 / 1 0 будут недалеки от х / 2 . Ясно, что возможность участвовать в перекрестном
оплодотворении быстро убывает с расстоянием. Все это само
собою очевидно и подтверждается фактом, что «садоводы всегда
предпочитают брать семена с растений, растущих в большом
числе, так как этим уменьшается вероятие скрещивания» 1
с соседними растениями. Следовательно, каждая вновь появляющаяся форма будет встречать соперников, (в смысле скрещивания) далеко не во всех представителях вида в данной местности,
а в гораздо более ограниченном числе ближайших соседей.
Степени соседства будут по большей части совпадать со степенями родства, т. е. организмы будут селиться семьями и племенами. Следовательно, появляющиеся формы не так уже легко
будут растворяться в общей массе представителей всего вида.
Но, может быть, все эти сухие соображения более оживятся,
если мы постараемся их осветить неоколькими общеизвестными
фактами/ которые нам покажут несостоятельность основной идеи
Данилевского, его заявления, что для сохранения какой-нибудь особенности строения безусловно необходимо полное
устранение скрещивания, какого в природе никогда не бывает.
Ведь он утверждает, что всякая новая особенность организации,
если она не ограждена вполне
от скрещивания, неминуемо,
немедленно исчезнет. Но этому прямо противоречит факт сохранения наследственных особенностей строения у существа, у которого скрещивание в каждом поколении, т. е. брак в отдаленных
степенях родства, является обязательным правилом, — у человека. К а к согласить с теорией Данилевского сохранение наследственного семейного типа? Кто не слыхал о носе Бурбонов,
о подбородке Габсбургов? По теории Данилевского выходит,
что Бурбоны и Габсбурги в каждом поколении должны были
вступать в кровосмесительные браки, но, ведь, историки засвидетельствуют, что этого не было. Или возьмем другой, более
широкий пример. Человека и дарвинисты и антидарвинисты признают за один вид. Все эти представители, вступая в брак, могут
иметь потомство. Никакого препятствия, требуемого Данилев1
«Origin of species» («Происхождение видов». Ред.).
ским для ограничения скрещивания, не существует. Как же случилось, что этот вид дал столько оттенков различия — расовых, племенных и т. д.? Понятно, что теперь целый ряд психических побуждений, расовые антипатии и пр. могут способствовать сохранению этого разнообразия; но' вопрос не в том, как
оно сохраняется и разрастается, а как оно возникло. Ведь,
прежде чем вызывать антипатии, эти различия должны были
возникнуть и разрастись. Что же делало все время это,
по Данилевскому, всемогущее начало скрещивания, почему
оно не слило все эти различия, не подвело человечество под одно
лицо, — тогда и для симпатий и антипатий не было бы места?
Первые потомки Адама, — я становлюсь на точку зрения антидарвиниста, — первоначально вступали в кровосмесительные
браки, человеческая семья должна была бы быть совсем однородною, — как же появилось это бесконечное разнообразие
у существа, у которого свободное скрещивание первоначально
не было ничем ограничено? Следовательно, одна возможность
скрещивания
не представляет непреодолимого препятствия для
диференцировки вида. Во введении своей книги Данилевский
с огорчением вспоминает, как в лета его молодости кто-то озадачил его тем, что на школьном языке называется математическою пешкою. Можно только пожалеть, что он сам, в зрелых
годах, в свою очередь, предложил своим читателям эту пешку
о сирени.
Прибавим к сказанному, что однажды обнаружившиеся
даже мелкие разновидности животных и растений, подобно
расам и племенам человека, хотя и могут, но не смешиваются.
Объяснения для этого факта еще не найдены, но самый факт
не подлежит сомнению. Дарвин ссылался, что ему известно
много таких фактов совместного существования разновидностей. Данилевский голословно отстраняет эти факты на том
только основании, что Дарвин не перечислил этих случаев
поименно; как будто в добросовестности Дарвина позволительно сомневаться. Но Данилевскому, однако, было известно, что это мнение Дарвина подтвердил и обобщил НеГели.
Негели считает за правило, что естественные разновидности,
даже очень мало различающиеся, могут существовать совместно, не скрещиваясь. Он это доказывает многочисленными
наблюдениями в мюнхенском ботаническом саду над более
чем 2 000 разновидностей ястребинника. Факты эти не могли
не быть известны Данилевскому, но он предпочитает ссылаться на Негели только в тех случаях, когда этот ученый
расходится с Дарвином.
Подкрепив свои воззрения фактами, убедившись, что нет
надобности в полном устранении скрещивания, допустим теперь, что в какой-нибудь местности существует 1 0 0 0 0 представителей какого-нибудь вида растения, способного к самооплодотворению, как это свойственно большинству растений,
и в то же время рассеивающего свою пыльцу при помощи
ветра. Предположим, что оно приносит до десяти яичек, но
только одно из них будет оплодотворено собственною пыльцою, а также, этою пыльцою будет оплодотворено только
десять яичек у соседних растений. Тогда, пренебрегая даже
участью остальных девяти его яичек, вот что мы получим
для потомства одной измененной формы А, обозначая дробями степени крови, если позволительно применять это выражение к растению 1 :
/І Ѵ2
1
10 000
1—
74
V.
1—10—
1—20—
1—30'—
1—40—
1—50—1
100
300—1000
600—3 000
000—9 000 = 1 0 051
1 000 000 000
Итак, через пять поколений влияние А может отразиться,—
в различных, конечно, степенях, — на десяти тысячах неделимых. И не следует думать, что 1 / 8 крови представляет только
ничтожный след влияния. Очень часто можно заметить влияние
1/юоо крови 2 . Но, конечно, возразят: ведь в то время, как одни
указанные формы образовали потомство в 10 000, первоначаль1
Повторяю, все это н а г л я д н ы й способ выражения, не имеющий и
тени п р и т я з а н и я на математическое доказательство.
2
Приводят даже случаи в л и я н и я 1/2000000, но Д а р в и н относится
к ним очень осторожно.
ные 10 ООО возросли до'миллиарда; отношение осталось то же,—
эти десять тысяч так яге тонут в миллиарде, как и прежняя
единица. Здесь-то и выступает вперед отрицаемый Данилевским
фактор — естественный отбор.
Этот миллиард существует только в возможности. В действительности, по условию, наш клочок земли может вместить
только 10 ООО, следовательно, в каждом поколении исчезает,
гибнет все, что нарождается свыше этого числа, и простейшая
здравая логика вынуждает заключить, что если наша форма и
ее потомство представляют какое-нибудь преимущество, в смысле
большой приспособленности к условиям существования, то
они попадут в число 10 ООО избранников.
Таким образом, отбор и есть то обстоятельство, которое
в каждом новом поколении уменьшает шансы скрещивания
с неизмененными формами, т. е. шансы исчезновения, растворения в массе неизменившегося населения. Естественный отбор
оказывает влияние на успех развития и укоренения данной
формы в таком же смысле, в каком способствует этому результату садовник, выпалывающий на своей гряде всех менее
удовлетворительных представителей разводимой им породы.
Скрещивание и отбор — это два начала, находящиеся в
антагонизме и действующие одновременно и неизменно. Образование новых форм идет по равнодействующей этих двух противоположных влияний, — все равно, как полет ядра зависит от
сообщенного ему движения и притяжения земли; ни в том, ни в
другом случае мы не можем допустить, чтоб явления находились
когда-либо под влиянием только одной из обусловливающих
его причин.
Но Данилевский именно и отрицает отбор или, правильнее,
это ограничивающее скрещивание действие отбора. Геометрическую прогрессию, как мы видели, он допускает, да и не приходится ссориться с арифметикой. Открытие борьбы за существование вменяет в заслугу Дарвину, а обязательный логический вывод — отбор — отрицает.
И достигает он этого следующим путем. Прежде всего он
укоряет Дарвина в том, что тот, пятьдесят лет обдумывая учение об естественном отборе, будто бы не отдал себе точного
отчета в том, что такое отбор, не дал даже его определения. Но
известно, что Дарвин дал его в заголовке своей книги: естественный отбор, это — «the preservation of favoured races in their
struggle for life» — сохранение избранных пород в борьбе за
' существование. Дарвин сам впоследствии со свойственным ему
чистосердечием согласился, что еще лучшее определение дал
Спенсер. По Спенсеру, естественный отбор, это — «Outliving
of the fittest», т. е. «переживание наиболее приспособленного».
Лучшего, более краткого определения не придумано, да и едва
ли можно придумать. Но Данилевский, очевидно, не доволен им
и предлагает свое определение: «отбор есть устранение скрещивания», а затем понятный вывод: а так как в природе скрещивание не устранено, значит в природе нет отбора. Не говоря уже
о том, что это определение не точно С отбор даже искусственный
по большей части не есть устранение, а только ограничение,
ослабление действия скрещивания. Не говоря уже о том, что
отбор может действовать и там, где не может быть и речи о
каком-нибудь скрещивании — у организмов бесполых или у
таких, которые одновременно и подвержены, и не подвержены
скрещиванию, как, например, у растений, имеющих два рода
цветов, тщательно огражденных от скрещивания и других
приспособленных к нему, — не говоря, следовательно, о том,
что самое определение не выдерживает критики, невольно
спрашиваешь себя, для чего Данилевскому понадобилась эта
вводящая путаницу подстановка слов, в результате приводящая
только к ложному кругу? Он говорит, что в природе нет отбора
потому, что нет устранения скрещивания, а когда ему говорят:
но самый-то отбор и есть устранение или, точнее, ограничение
скрещивания, тогда он говорит, что в природе нет устранения
скрещивания потому, что нет отбора. Нет устранения скрещивания потому, что нет отбора, а отбора нет потому, что нет устранения скрещивания. Для чего, повторяю, понадобилась эта
путаница с подстановкой неверного определения, для меня
так и осталось тайной. Между тем для всякого логически рассуждающего человека ясно, что для того, чтобы доказать, что
в природе нет отбора, нужно просто доказать, что его нет.
1
из
Вместо совокупности процесса, оно ограничивается только
последствий.
одним
В этом в конце концов и заключается вся задача, и вот
как ее разрешает Данилевский.
Эти два всегда одновременно присутствующие и борющиеся
начала — скрещивание и отбор — Данилевский разделяет во
времени и старается уверить, что отбор всегда опаздывает,
что, подобно опереточным карабинерам, он «arrive toujours
trop tard», т. е. является на сцену, когда уже нечего отбирать, когда скрещивание уже замело все следы изменения 1 .
Все равно, как если б я сказал, допустим, что земное
притяжение запоздало подействовать на ядро, и тогда ясно,
что оно может полететь на луну еще лучше, чем у Верна.
Но Данилевский пытается доказать это запаздывание отбора, и на этом доказательстве должно сосредоточиться все
наше внимание. Для того, чтоб отбору было за что ухватиться, изменения, по мнению Данилевского, должны быть
резкие, очевидно полезные, потому что мелкие изменения
бесполезны и даже вредны. Естественный отбор очень искусно ставится им в безвыходную дилемму: малые изменения не будут удержаны, потому что малы, а до больших
дело не дойдет, — скрещивание ранее заметет следы и тех
мелких изменений, которые были.
Замечу опять, что основная мысль этого возражения, в
форме затруднения для теории, была высказана Дюбуа-Реймоном чуть ли не через год по появлении книги Дарвина.
Но потом знаменитый ученый сам отказался от этого возражения, и вот теперь, почти через двадцать пять лет, оно
всплывает у Данилевского уже в форме опровержения дарвинизма.
Таким образом, все сводится к почти отвлеченному вопросу: малая польза приносит ли пользу или только вред? Тот,
кто согласится с Данилевским, что малая польза бесполезна
или даже вредна, конечно, должен будет отказаться от дарвинизма, да, я полагаю, и от многого другого. Что касается
1 По отношениям к отдельным поколениям можно было бы, пожалуй, сказать ровно обратное: отбор действует на семя, на росток (и на
них, вероятно, всего более), на растение в течение всей его жизни, а
скрещивание только под конец. Значит, в каждом поколении отбор
идет впереди.
до меня, то я пытаюсь возражать, как сумею, против этого
общего положения, так к а к в нем лежит весь корень вопроса.
«В каких случаях появляющееся изменение, бесспорно полезное при его полном развитии, будет, однако, вредным в начале?» Т а к ставит вопрос Данилевский и затем продолжает:
«Хорошим ответом на этот вопрос может служить остроумное
объяснение одним опытным кавалеристом причины, по которой
в нашу кавалерию набирают преимущественно малороссиян.
У хохлов, сказал он, нет лошадей, а только волы, и дома они
верхом не ездят; мы можем поэтому прямо начинать их учить
ездить по-кавалерийски; русских же должны прежде разучить
ездить по-мужицки. Конечно, в том периоде своего обучения,
когда великорусские новобранцы разучились ездить по-своему,
по-старому, и не научились еще ездить по-новому, они будут ездить всего хуже, и если бы оставить их в этом положении, они
стали бы никуда не годными ездоками и беспрестанно падали бы
с лошадей». Это один из характеристических образцов обычного
приема аргументации, встречающейся в книге Данилевского.
Не осмеливаясь оспаривать авторитета опытного и к тому же
остроумного кавалериста, я только позволяю себе выставить
ряд сомнений. Слыхал я, например, что казаки или черкесы
потому именно и хорошие наездники, что с детства привыкают
к лошади; слыхал я также, что во флот предпочитают брать
береговых жителей, а не горцев или степняков; эти два свидетельства, я полагаю, уравновешивают свидетельство опытного
и остроумного кавалериста, и во всяком случае не подлежит сомнению, что если б кавалериста создавал естественный отбор,
то его выбор остановился бы скорее на привыкшем сидеть на
лошади великороссе, чем на хохле, никогда на ней не сидевшем.
После этой неудачной иллюстрации своей мысли Данилевский
пытается объяснить ее целым рядом придуманных примеров
вреда первых шагов при изменении, например, животного, лазящего по деревьям, в животное ходящее, корнеядного — в насе- .
комоядное и т. д. Одним словом, рассуждение вертится на тему,
что ворона, превращаясь в паву, на перепутье будет ни павой,
ни вороной, т. е. таким существом, которое ни на что не годно
и, конечно, не может сделаться избранником в борьбе за существование. В заключение та же мысль опять поясняется другою
.
кавалерийскою аллегорией о перестройке манежа на казарму,
причем читателю, конечно, становится ясным, что в полуманежеполуказарме и людям и лошадям не совсем удобно. Но все эти
примеры и аллегории доказывают только одно, что Данилевский
не усвоил себе достаточно мысль, не раз повторяемую Дарвином, что п,ереход, вероятно, очень редко совершается от вполне
обособившегося и приспособленного органа в другой, также
резко обособившийся, а обыкновенно оба происходили из такой
средней формы, которая в менее резкой степени совмещала признаки и той и другой. To-есть, говоря иносказательно, и пава
и ворона произошли от дальнего предка, который был именно
ни павой, ни вороной, а в силу этого обстоятельства и должен
был уступить свое место каждой из них, как более совершенной,
в смысле специального приспособления к условиям существования. Это — так называемое начало расхождения признаков,
так талантливо развитое Дарвином и обыкновенно не оцениваемое его противниками. Во всяком случае, можно поручиться,
что в природе никогда не происходило такой нелепой ломки,
как та ломка зданий и людей, на основании которых строит
свои заключения о природе Данилевский.
Следовательно, первый аргумент Данилевского, что малая
польза по существу вредна, не выдерншвает критики, а только
свидетельствует о его недостаточном знакомстве с теорией,
которую он берется разрушить. Второй аргумент, клонящийся
к тому, чтобы доказать, что малая польза бесполезна, объясняется таким же образом. Для того, чтоб убедить читателя, что малая польза не играет роли при отборе, он высказывает положение, что должно существовать известное численное отношение
между степенью пользы известного качества и числом существ,
им обладающих и не обладающих. To-есть в приведенном выше
примере одно наше измененное неделимое могло бы, по его мнению, иметь успех, могло бы подпасть под действие отбора только
в таком случае, если б оно было приблизительно
в десять тысяч
раз совершеннее своих конкурентов. Это положение опять вытекает из соображений военного свойства. «Дарвин как бы упускает из виду, — говорит Данилевский в одном месте, — что
в борьбе за существование, как и в борьбе между двумя армиями,
победу решает не одно превосходство технического обучения,
вооружения и храбрость во втором, но в обоих случаях тоже
и превосходство численности». В другом месте та же мысль
высказывается еще определеннее: «Переживание улучшенных
разновидностей или, вернее, индивидуальных особенностей
может считаться обеспеченным только, когда коэфициент улучшения, усиления приноровленности, приблизительно равняется
числу, выражающему отношение между численностью обеих
форм. Если б это было не так, то элемент численности потерял
бы всякое значение в какой бы то ни было борьбе, и, например,
в сражении всякая армия, лучше обученная, вооруженная,
продовольствуемая и более храбрая, всегда побеждала бы другую армию, сколько-нибудь ей в этих отношениях уступающую,
не взирая ни на какие численные между ними отношения.
Между тем можно утверждать с некоторым основанием не более
того, что победа маяочисленнейшей армии может считаться
вероятною лишь, когда ее храбрость, искусство, вооружение
и пр., по крайней мере, во столько же раз превосходят эти же
качества многочисленнейшей армии, во сколько раз число
воинов последней превосходит число воинов первой».
Собственно говоря, этих двух выписок было бы вполне достаточно для доказательства того, что Данилевский не усвоил
себе самой основной, коренной мысли того учения, которое берется опровергнуть, что все свое опровержение он основывает
только на своем нелонимании этой теории. Уже из одного постоянного сравнения с армиями видно, что Данилевский в самом
существенном месте своей книги понимает под борьбой только
борьбу прямую, зубами, когтями, кулаками, где, очевидно,
сила должна находиться в обратном отношении к числу. Но всякому, кто прочел хоть самую жиденькую статейку о дарвинизме, известно, что не таково действительное понятие о борьбе
за существование. Борьба за существование слагается из прямой борьбы с врагами, из борьбы с условиями и из конкуренции, как результата несоответственнооти между безграничным
размножением и ограниченностью земной поверхности.
Из этих трех сторон одного явления, борьбе о условиями
и конкуренции должна быть приписана главная роль, а именно
в этих двух случаях численное превосходство не имеет почти
никакого значения. Так как это едва ли не самое важное обстоя-
тельство, то поясним его несколькими примерами, конечно,
не военными, так как именно они тут не у места. Совсем недавно одному английскому натуралисту путем отбора в течение нескольких миллионов поколений, — взят был микроскопический
организм, поколение которого длится несколько минут, — удалось получить разновидность этого организма, которая может
выживать при таких температурах, которые абсолютно смертельны для первоначальной формы. Спрашивается, не все ли
равно для одного из этих новых существ, очутится ли оно в одиночестве или в сообществе миллионов своих менее счастливых
соперников, когда его подвергнут высокой температуре? Очевидно, в каком бы отношении ни были они смешаны, высокая
температура отметит избранных из среды миллионов гибнущих.
Значит, в борьбе с условиями, которая гораздо важнее прямой
борьбы с врагами, численное отношение не при чем. То же, очевидно, и по отношению к конкуренции. Представим себе, что
жители известного места нуждаются в ста пудах сахара, а в двух
лавках рядом им предлагают 50 пудов по дешевой и тьісячу пудов по дорогой цене. Спрашивается... впрочем, даже невежливо
и делать такой вопрос, — очевидно, что прежде будут распроданы 50 пудов дешевого сахара, а потом дойдет дело и до дорогого.
По логике Данилевского выходит, что дорогого купят более,
потому что, хотя он и дороже, но зато его и гораздо более. Или,
например, на беге призовой рысак, конечно, обгонит одну извозчичью лошаденку; но если этих последних будет десять, то, по
логике Данилевского, рысак должен будет разделить с ними
приз, потому что их десять. Пример скачки в то же время показывает нам, что отношение между степенями совершенства
не при чем, когда идет дело не о прямой борьбе, а о состязании.
На скачке выигрывает лошадь, которая идет впереди, все равно
на целый ли круг, или на полголовы. Еще один пример, надеюсь, нам окончательно выяснит несостоятельность воззрения Данилевского о соотношении между степенью совершенства
и числом конкурентов, из которого он выводит свое заключение,
что при естественном отборе малая польза — не польза. Дано
учебное заведение; в нем десять вакансий, а конкурирующих сто
человек. Вот настоящий пример борьбы за существование в смысле Дарвина, а не в смысле антидарвинистов. Что же — эти
десять счастливцев должны быть в десять раз умнее или образованнее остальных девяноста? По Данилевскому выходит, что
так. А на деле выходит совсем иначе. Десятого от одиннадцатого
различит порой только 1 / 2 0 балла. Видал ли кто-нибудь одну
двадцатую балла? Что ото: реальная величина или фикция?
А однако от этой величины может зависеть участь. Т а к и в борьбе за существование: песчинка, — говорит Дарвин, — может
склонить весы природы. Данилевский, очевидно, впадает в логическую ошибку, некстати руководясь правилом causa aequat
effectum * . Настоящая причина не в степени различия между
конкурентами, а в напряженности борьбы, как следствии несоответственности между их числом и предоставленным им местом. С большим успехом можно было бы защищать тезис, прямо
противоположный тезису Данилевского, т. е. чем напряженнее
борьба, тем незначительнее может быть мера совершенства,
которая определит перевес. Представьте себе, что в нашем
учебном заведении была бы одна вакансия и тысяча конкурентов. Тогда пришлось бы высчитывать, может быть, сотые
и тысячные доли балла.
И как мы можем определить степень полезности признака
в природе? Если по результату, то ведь различие между жизныо
и смертью бесконечно, следовательно, и каягдый признак, определяющий, кому жить, кому умереть, также бесконечно велик.
Важен ли, например, для душистого горошка колер его цветов?
А известно, что один колер вытесняет другие. Важен ли для картофеля розовый цвет клубней или еще какие-то микроскопические кристаллики в некоторых его клетках? А, однако, дознано, что с этими обстоятельствами связана способность картофеля в большей или меньшей степени противостоять истребляющей его болезни.
Но несостоятельность возражений Данилевского против
существования естественного отбора можно доказать и другим
путем. К а к мы увидим далее, он, главным образом, ставит в вину
дарвинизму слишком широкую роль, которую в нем будто бы
играет элемент случайности. Но, отрицая действие слабых причин, он сам вносит элемент случайности именно в его, противном
•«причина равна следствию».
19
К. А. Тимирязев,
т.
VII
Ред.
логике, смысле, т. е. в смысле беспричинности явлений. Если
из тысяч и миллионов существ выживают только десятки или
сотни, то где же причина, сохраняющая их от гибели? Ведь
факт остается фактом. Не желая допустить, что он является
результатом действия малых причин, Данилевский вынужден допустить, что он происходит вовсе без причин.
Здесь читатели книги Данилевского, может быть, возразят мне: Данилевский, допуская геометрическую прогрессию
и борьбу, однако отрицает ее интенсивность. Отрицать-то интенсивность он отрицает, как и все вообще в учении Дарвина с начала и до конца, но вопрос в том, с каким успехом. Остановимся
на одном из доказательств, приводимых им с этой целью и которое он сам, повидимому, считает наиболее убедительным.
Для того, чтобы борьба действовала как отбор, — говорит
он, — необходимо, чтоб она достигла крайней степени напряжения, и поясняет это сравнением села, стоящего при фонтане
и при реке. В первом случае сильнейшие могут вычерпать всю
воду, так что слабейшим или опоздавшим ее не будет хватать,
и они погибнут; но это немыслимо, если село стоит при реке,
в которой воды на всех хватает. Так и во всех случаях, — говорит Данилевский, — когда мы призываем на помощь борьбу за
существование, мы должны доказать, что борющиеся живут при
недостаточном для них фонтане, а не при многоводной реке.
Посмотрим теперь с этой точки зрения на пчел. Они, как известно, строят свои соты с экономией строительного материала,
приводящею в изумление математиков. Происхождение этого
строительного инстинкта Дарвин объясняет так: воск обходится
пчелам раз в 12—15 дороже меда, следовательно, всякая экономия на воске крайне выгодна для них, а отсюда потомство
искусных строителей, унаследовавшее их архитектурные инстинкты, будет иметь более шансов в борьбе за существование,
сохраняться и размножаться преимущественно перед другими.
«Все это очень остроумно, — глумится Данилевский, —
но для того, чтобы стало не только вероятным, но даже возможным, необходимо еще одно предположение. Необходимо, чтобы
во время первоначального зарождения этого усовершенствованного инстинкта и во все время борьбы, длившейся, по принятому
Дарвином и с его точки зрения совершенно верному масштабу,
десятки и сотни тысячелетий, пчелы эти находились как раз
в том положений, как жители нашего степного села, принужденные добывать воду из одного фонтана во время засухи.
Необходимо, чтобы медоносных цветов было как раз в обрез
для доставления им необходимого количества меда; иначе более экономические постройки не доставляли бы существенной
выгоды прародителям нашей теперешней усовершенствованной
в архитектурном инстинкте пчелы. Иначе и те и другие, и менее
усовершенствованные предки, и улучшенные потомки, находились бы в сущности в совершенно одинаковом положении
с жителями села при большой реке: и на тех и на других хватало
бы меда, и не было бы достаточно напряженной борьбы для того,
чтобы она могла обратиться в деятеля подбора». Вслед за этою
тирадою Данилевский доказывает более или менее успешно,
что число пчел никогда не может насыщать медоносной производительности обитаемой страны, что, значит, не могло быть
между ними достаточно напряженной борьбы и, следовательно,
этою борьбой нельзя объяснить происхождения и усовершенствования строительного инстинкта.
Все это, может быть, и очень остроумно, — скажем, в свою
очередь, и мы,— но только доказывает совсем не то, что имелось
в виду. Все эти рассуждения о пчелах и насыщении медоносной
способности страны доказывают еще раз, что Данилевский не
усвоил того учения, которое во что бы то ни стало захотел опровергнуть. Только что мы видели пример смешения конкуренции
с прямой борьбой, здесь мы имеем пример обратного. Для
объяснения строительного инстинкта пчел нет надобности предполагать, что искусные архитекторы убивали своих противников, прямо или косвенно вырывая у них кусок изо рта. Строительный инстинкт не есть оружие, направленное против других
пчел, а только оружие в борьбе с условиями с}чцествования —
с зимой. Неискусные строители, истратив непроизводительно
свои силы на выработку излишнего и дорогого воска, запасут
гораздо менее меда, и этого запаса может нехватить на всю зиму,
вследствие чего они и погибнут. С искусными строителями
этого не случится; напротив, они будут расселяться все шире
и шире, завоевывая и такие страны, где зима требует большого
запаса меда. Следовательно, все соображения о том, что борьба
за существование немыслима по отношению к пчелам, потому
что они не насыщают медоносной производительности страны,
падают сами собой. Пчелы борются не только между собой,
но и с зимой, а чего стоит эта борьба, русскому человеку коротко известно. Что же касается вопроса, почему в данной стране
столько пчел, сколько их есть, а не более, то это такой же праздный вопрос, как и вопрос, почему не весь органический мир
состоит из одних пчел.
Таким образом, мы видим, что вся хитросплетенная попытка
Данилевского опровергнуть существование естественного отбора на основании парадокса, что малая польза — не польза, а до
большой пользы дело не дойдет, потому что скрещивание до тех
пор все заметет, — эта попытка, составляющая всю сущность
того, что г. Страхов называет его открытием, оказалась совершенно нёсостоятельною, и, вопреки ему, мы можем сказать,
что естественный отбор существовал, существует и будет существовать до тех пор, пока его существование не будет опровергнуто доводами более вескими, чем те жалкие софизмы, с которыми мы успели ознакомиться.
Мы можем подвести "итог этой самой существенной части
книги Данилевского, главам V I I I и I X , носящим общее широковещательное заглавие: «Невозможность естественного подбора
по внутренней и существенной несостоятельности этого начала».
Отметим прежде всего, что Данилевский не предъявил здесь
буквально ни одного нового возражения, а только повторил,
в гиперболической форме, возражения, высказанные уже десять
и двадцать лет до него. Обнаруженная им будто бы внутренняя
несостоятельность заключается в известном всем дарвинистам,
и Дарвину прежде всех, антагонизме между нивеллирующим
действием скрещивания, стремящегося сглаживать все различия, подводить под общий тип, и диференцирующим действием
отбора, стремящегося разнообразить формы, приспособлять
их к условиям существования.
Данилевский пытается изобразить ' действие скрещивания
в невозможных, преувеличенных размерах и, наоборот, свести
на ничто дейотвие естественного отбора. Первого он старается
достигнуть при помощи своей пешки о сирени, а второго — при
помощи софизма о бесполезности или даже вреде малой пользы.
Но ни то, ни другое своей цели не достигает, а следовательно,
никакой внутренней и существенной несостоятельности в дарвинизме не оказывается, и он остается тем же, чем был до появления книги Данилевского.
*
Убедившись в полной несостоятельности основного возражения Данилевского, мы можем теперь остановиться на разъяснении некоторых частностей, некоторых сомнений или недоразумений, которые естественно могли возникнуть по пути.
Прежде всего необходимо отвечать на инсинуации Данилевского (проходящие по всей его книге) по поводу какого-то
староверческого дарвинизма, коснеющего в предрассудках,
в противность самому Дарвину, отрекшемуся будто бы от коренных основ своего учения. Привожу это место из книги Данилевского дословно, так как оно служит характернейшим образцом той формы выражения, к которой он постоянно прибегал
для того, чтобы совершенно внешними приемами озадачивать
читателя. Приведя отрывок из последнего издания «Происхождения видов» 1 , Данилевский восклицает: «При должной оценке
вышеписанного места всякий беспристрастный человек должен
согласиться, что оно заключает в себе полное отречение, полный отказ от учения о происхождении видов путем естественного
отбора, хотя книга, из которой эта выписка сделана, продолжает по-прежнему носить заглавие „Происхождение видов
путем естественного отбора"».
Не странно ли, что прошло более пятнадцати лет с тех пор,
как Дарвин будто бы фактически отрекся от своего учения,
а, кроме Данилевского, никто из многочисленных противников
этого учения и бесчисленных его сторонников этого не приметил.
Не заметил этого и сам Дарвин; я его видел через несколько лет
после появления этой роковой будто бы фразы, и он все еще
считал себя дарвинистом. На этот раз шансы решительно против
Данилевского и открытого им самоотречения Дарвина.
1
Заметим, не впервые встречающийся в шестом издании, как полагает Данилевский, а перешедший из предшествовавших.
В чем же заключается эта роковая выписка? В том, что
Дарвин, соглашаясь с приведенным ему Флимингом Дженкинсом еще в 1867 г. возражением, что шансы победы потомства
одного неделимого очень малы, говорит 1 : «Я полагаю, что справедливость этого возражения не может быть оспариваема. Если,
например, какая-нибудь птица могла бы легче добывать себе
корм, когда клюв ее был бы загнут, и если б она родилась с
клювом сильно загнутым и вследствие этого благоденствовала бы,
то, тем не менее, был бы лишь очень малый шанс на то, чтоб эта
единственная особь продолжала свою породу и привела к уничтожению обыкновенной формы. Но едва ли может быть сомнение, судя
по тому, что мы видим в домашнем состоянии, что этот результат последовал бы от сохранения в течение многих поколений
большого числа особей с более или менее загнутыми клювами и от
гибели гораздо большего числа птиц с прямыми клювами». В этихто словах Данилевский и усматривает полное отречение от теории и поясняет, что «чистый, беспримесный, не смягченный
дарвинизм», в котором он подозревает и меня, требует будто
бы, чтобы форма происходила непременно от одного неделимого,
так как допускать происхождение ее от нескольких значит —
впасть в противоречие, доводящее до самоуничтожения.
Но не трудно убедиться, что эта дилемма существует только
в воображении Данилевского. Во-первых, никакого неодарвинизма, отвергающего настоящий дарвинизм, — другими словами, никакого противоречия между первым и последующими
изданиями «Origin of species» * не существует. Если бы Данилевский не скрыл в приведенной им выписке, что период начинается
словом «Nevertheless» (т. е. «тем не менее», то он вынужден был
бы привести предшествующую этому периоду фразу; а приведя
эту фразу, должен был бы привести и все ей предшествующее,
и тогда' было бы ясно, что в этом месте Дарвин именно напоминает читателю, что хотя сам всегда указывал на возможность
происхождения новых форм не от одного, а от нескольких не1
Повторяю, что у ж е с к а з а л выше: приведи Данилевский это место
не в конце девятой, а в начале своей восьмой главы, и всем было бы ясно,
что все его открытие заключается в повторении возражения, имеющего
двадцатилетнюю давность.
*«Происхождение видов». Ред.
делимых, ко, тем не менее (nevertheless), только прочтя соображения Дженкинса, вполне оценил верность этого воззрения.
Следовательно, приводя это место, без связи с предыдущим,
как доказательство какого-то противоречия с самим собой,
какого-то самоотречения Дарвина, Данилевский утверждает
прямо противное истине. И после этого, через несколько страничек, он осмеливается говорить о Дарвине, чье идеальное научное
беспристрастие признавалось всеми его противниками:
«обращение с фактами (у Дарвина) было не честное, т. е. не беспристрастно-научное».
Вот к чему сводится это обвинение Дарвина в самоуничтожении, проходящее по всей книге Данилевского, от введения до
заключительной главы. Но, может быть, возразят: если, вопреки
Данилевскому, Дарвин и остается верен себе во всех изданиях
своей книги, то тем хуже для него. Ведь, по мнению Данилевского, допускать, что новые разновидности могут образоваться
из большого числа особей, обладающих в большей или меньшей
степени данным признаком, значит отказаться от основных положений теории.
Это утверждение Данилевского, как и предшествовавшее,
не имеет ни тени основания. Никакого противоречия с основаниями теории, ничего невероятного, несогласного с природой
в предположении Дарвина не существует h Во-первых, эти
многочисленные, но обладающие в большей или меньшей степени
данным признаком, особи могут являться, как результат скрещивания. Этим отражается между прочим, как уже замечено
выше, и возражение, которое Данилевский не раз предъявляет
дарвинизму, именно, что мелкие различия не будут сохраняться
отбором, а при помощи крупных, резких черт не может быть достигнута тонкая приспособленность, как он выражается, «мозаичность» органических форм. Скрещивание и будет представлять
отбору каждое уклонение во всевозможных оттенках различия.
1
Разумеется, в той (приведенной выше курсивом) форме, как оно
высказано Дарвином. Д л я того, чтобы выказать нелепость будто бы этого
предположения Дарвина, Данилевский утверждает, что изменение должно охватить Vs— Va и даже
всех представителей вида. Н о ничего подобного Д а р в и н не «признает необходимым»; это только «честный» полемический прием его критика.
Во-вторых, нет никакого основания утверждать, вместе с Данилевским, что возникновение уклонных форм не в одном, а во
многих экземплярах невероятно. Совершенно обратно, не повторяющееся появление одного исключительного неделимого гораздо менее понятно. Ведь не в буквальном же смысле это случайное, т. е. беспричинное явление? Случайным мы его называем только в смысле редкого и не прослеженного до его ближайших причин. Оно — только результат взаимодействия внутренних и внешних условий, результат, который может и должен даже повторяться в более или менее сходной форме. Даже
уродливости мы известным образом классифицируем, — значит, имеем дело с явлениями повторяющимися. Стоило Данилевскому припомнить свою 5-лепестную сирень; ведь, не он один
и не раз в жизни ее видел? А в связи с отбором это возрастание
числа изменяющихся существ должно итти еще быстрее. Так,
например, Гофмейстер приводит любопытный пример образования уродливой породы мака в лейпцигском ботаническом саду.
Когда она была первоначально подмечена, число уродливых
форм составляло 1 % ; посеянные отдельно и ежегодно отбираемые, уродливые неделимые дали последовательно 6 % , 17°/ 0 ,
27°/ 0 , 69°/ 0 , 97°/о себе подобных форм. Здесь любопытно то,
что передавалась не целиком известная уродливая форма, а
только возрастала наклонность производить эти уродливые
формы.
Если бы Данилевский был знаком с литературой своего
вопроса, то он знал бы весьма любопытную статью Дельбёфа,
простыми математическими соображениями доказывающего,
что как бы ничтожно ни было число изменяющихся существ,
но если причина, их вызывающая, действует постоянно, то,
рано или поздно, число измененных осилит число неизмененных Е
Итак, допуская возможность одновременных изменений
(в различных степенях) не одного, а нескольких, даже многих неделимых, Дарвин не только не впадает в противоречие
с самим собой, но в то же время не противоречит ни наблюдаемой действительности, ни здравой логике, а все попытки
1
Конечно, если нет причины, действующей в противном смысле; но
здесь мы рассматриваем одну сторону явления,
Данилевского уверить читателя в существовании какого-то
раскола в дарвинизме — только сомнительный, ничем не оправдываемый полемический прием.
Но, конечно, мне давно готовы возразить: не может, однако,
быть, чтобы Данилевский сам не почувствовал, что вся его аргументация, вытекающая из парадокса о сирени, доказывает
только невозможность существования в природе отбора еще
более строгого, чем обыкновенный отбор искусственный; не
может быть, чтобы он не понял, что дарвинизм никогда и не
предполагал существования в природе такого процесса, что
для дарвинизма достаточно этого вполне возможного, действительно существующего процесса, который мы пояснили,выше
и который состоит в размножении форм полукровных и других степеней. В том-то и дело, что он это очень хорошо сознает,
но искусно отвлекает внимание неопытного читателя от этого
возражения, представляющегося читателю сведущему с первых страниц V I I I главы. Именно этот прием его я имел в виду,
называя его приемом не беспристрастного судьи, а неразборчивого на средства адвоката. Посвятив две главы (слишком
230 страниц) разбору и доказательству невозможности того
предположения, которое дарвинистами никогда и не делалось,
он мельком, вскользь, на полустраничке 1 упоминает о действительном возможном предположении, конечно, в том расчете, что его триллионные (а мимоходом и декаллионные)
математические
доказательства,
с одной стороны, и восклицания об отсутствии «здравой логики» и «честности» у дарвинистов — с другой, уже успели привести читателя в такое угнетенное состояние, что эти строки проскользнут, не произведя
уже должного впечатления.
Но что же возражает он против этого простого устранения
придуманного им затруднения? С одной стороны, он говорит,
что, ьследствие скрещивания, полезный признак будет еще более ослаблен, а следовательно, для того, чтоб он сохранился
в борьбе, число обладающих им существ должно возрасти в таком же размере, т. е. снова повторяет аргумент, несостоя1
Я особенно рекомендую поклонникам труда Данилевского эту
126 стр. II тома, как именно то место, где обнаруживается'вся несостоятельность его пресловутого опровержения естественного отбора.
тельность которого мы уже видели 1 . Но сознавая, что это мало
убедительно, он в конце концов сводит свою аргументацию
к следующему заключению: «при скрещивании улучшение
будет уменьшаться в соответственной степени и, следовательно, настолько же пришлось бы увеличить время дарвинова процесса происхождения видов, родов и пр., а времени
этого, как я покажу в одной из следующих глав, и без того
нехватит, несмотря на всю продолжительность геологических
периодов» 2 .
Вот и все возражение. Процесс признается невозможным
потому, что для него потребовалось бы много времени. Но ведь
никто в этом и не сомневается; напротив, не будь этого, и результаты естественного отбора обнаруживались бы так же
быстро, как и при отборе искусственном.
Значит, в конце концов, все, что встречается в этих главах,
V I I I и I X , не опровергает настоящего естественного отбора,
т. е. процесса, признаваемого Дарвином и дарвинистами; все
возражения относились к невозможному процессу образования чистокровных пород, поставленному Данилевским на место естественного отбора. Доказательство невозможности действительного естественного отбора только обещано в одной из
будущих глав. Перескочим прямо к этой главе ( X I I I ) , потому
что, как замечено выше, одно из удобств таких грузных томов,
между прочим, заключается именно в возможности давать читателю обещания, до исполнения которых дело доходит лишь
тогда, когда читатель, может быть, уже забыл всю обязательную их важность.
Как бы то ни было, но для всякого логически рассуждающего читателя очевидно, что вся аргументация V I I I и I X глав
основана лишь на этой ссылке на главу X I I I .
1 Заметим мимоходом, что в действительности, как это видно из нашей схемы, число продуктов скрещивания, вероятно, всегда будет возрастать даже быстрее, чем убывает степень крови.
2
Д л я меня остается непонятным смысл этих слов «и без того». Очевидно, это только риторический прием, так как неизвестно, каким образом слагались формы в приводимом ниже фантастическом расчете.
Во всяком случае позволительно сомневаться, точно ли образование пород указанным нами способом должно происходить медленнее невозможного в природе процесса образования чистокровных пород.
Здесь Данилевский, опять цифрами, пытается доказать,
что процесс развития, предполагаемый дарвинизмом, не вмещается во времени, — мысль также не новая, но никем еще
не выраженная в подобной форме.
Томсон и некоторые другие ученые пытались вычислить,
как велик период времени, на который может рассчитывать
геолог, и приходили к цифрам, казавшимся более или менее
недостаточными для процесса органической эволюции Е Но
никто, кажется, не пытался вычислить другую цифру, т. е.
определить, сколько нужно было времени для
образования
органического мира. Данилевский, со свойственною ему смелостью, не отступил и перед этою задачей. Но, может быть,
я не имею права судить об этой части книги, так как она, по
заявлению автора, предназначена «для читателя не зоолога
и ботаника». И действительно, читатель приглашается в них
выражать в цифрах степени различия между земляникой, малиной и ежевикой, строить пропорции из лошади и курицы,
пчелы и устрицы, — словом, разрешать математические задачи,
очевидно, невозможные для ботаника и зоолога. Но Данилевский находит все это возможным; находит он также возможным
схематический рисунок (который Дарвин, как он сам определенно выражается, приводит только ради простоты изложения) принять за документальную родословную одного вида
и из этих ни с чем несообразных данных строить хронологию
органического мира.
Повторяю, серьезному
натуралисту
с этими цифрами нечего делать; все вычисление принадлежит
к числу тех, о которых у французских школьников сложилась
шутка: «дан ранг капитана — определить высоту мачты».
Можно только с уверенностью сказать, что Дарвин рассмеялся
бы своим обычным добродушным смехом, если бы когда-нибудь
узнал, что из его рисунка сделано такое применение»2.
1
Против этих соображений можно сделать, да и сделаны уже, веские возражения, но это нас отвлекло бы от нашей задачи — разбора доводов Данилевского.
2
Если в этой диаграмме Д а р в и н а есть что-нибудь, за что можно ухватиться для построения хронологии, то разве только (схематическое
все же) число означенных на ней поколений. Но спрашивается, поколений какого организма, человека или бактерии? А между тем продолжи-
Полюбопытствуем, однако, узнать, каков же конечный
результат этих комических вычислений. Оказывается, что
времени в тридцать раз менее, чем потребно для эволюции
органического мира, по указанию Данилевского. Привыкнув
запугивать своих читателей триллионами п декаллионами,
Данилевский, очевидно, сознает, что цифра тридцать — совсем мизерная цифра. Но как же сделать, чтоб и эта скромная
цифра повлияла на воображение читателя? Он прибегает с этой
целью к такому рассуждению. Различие в тридцать раз — не
шутка. «Ни один из линейных размеров Хеопсовой пирамиды
не превышает размеров обыкновенной комнаты более чем
в 32^2 раза. А попробуйте втиснуть пирамиду в вашу комнату!
Так же невозможно втиснуть во времени и Дарвинов процесс
развития». Здесь Данилевский, очевидно, ради аргумента,
вдруг забывает, что время имеет одно измерение, а Хеопсова
пирамида и комната — целых три, что Хеопвову пирамиду
нельзя втиснуть в комнату не потому, что она в 32 1 / 2 , а потому,
что она в 32 ООО слишком раз более комнаты. Но, и помимо
этого, комната и Хеопсова пирамида измеряются очень точно
и тою же единицей; при таких условиях различие в 30 ООО
и хотя бы только в 30 раз очень существенно. Но когда сравнивают миллионные величины, а главное, когда сравнивают
величину гипотетическую (цифру Томсона) с величиною совсем
фантастической
(цифра Данилевского), то различие в тридцать раз существенно не отличается от полного равенства.
Следовательно, вся эта игра в цифры ничего не доказывает,
а между тем в ней должно было заключаться обещанное окончательное опровержение дарвинизма.
*
Убедившись, что попытка Данилевского опровергнуть дарвинизм, доказав его «внутреннюю и существенную несостоятельность», потерпела полное крушение, переходим к другой
тельность их различается примерно в 50 ООО раз. Судя по цифрам, Д а нилевский предпочитает в з я т ь за единицу поколение человека.
категории возражений, которым посвящены главы X и X I
и которые носят опять-таки громкое название «Невозможность
естественного отбора по противоречию между органическим
миром, каким он вытекает из этого начала, и миром действительно существующим».
На разборе этих аргументов, очевидно, менее роковых для
теории, так как они имеют целью доказать только ее невероятность, между тем как те доказывали ее невозможность, мы
остановимся недолго. Нескольких примеров, одного даже, будет достаточно, чтоб ознакомиться со способом аргументации
и степенью ее убедительности. Остановиться же на этой части
приходится потому, что ' это окажется необходимым при обсуждении нападок на дарвинизм с общей философской точки
зрения.
Все разнообразные фактические частности этих двух глав,
от которых у обыкновенного читателя должно в глазах зарябить, сводятся к одному аргументу. Ваш отбор, — говорит
Данилевский дарвинистам, — сохраняет и сохранял в течение
несметных веков только полезное, совершенное, — значит,
все в органическом мире должно быть осмысленно, т. е . прилажено, приспособлено, — а я вот берусь вам доказать, что
большая часть форм органического мира не имеет вовсе смысла,
а то и прямо бессмысленна, бесполезна, вредна.
Для Дарвина все в организации живых существ должно
быть приспособлено на пользу самого существа, — Данилевский яге берется доказать обратное.
Остановимся на самом существенном примере и в то же
время одном из наиболее характеристических образцов того
способа аргументации Данилевского, в котором самоуверенность и хвастливость возмещают недостаток логики.
«Если б, — говорит Дарвин, — могло быть доказано, что
какая-либо часть строения какого-либо вида образована для
исключительного блага другого вида, это уничтожило бы всю
мою теорию, потому что это не могло бы быть произведено естественным подбором». И вот, — продолжает уже Данилевский,—
один из ревностнейших приверженцев Дарвинова учения (это—
я) с торжеством восклицает: «Дарвин делает вызов — указать
ему хотя на один орган, приспособленный не для пользы его
обладателя, а исключительно для пользы другого существа,
п такого органа не нашлось в природе!». «Но, — продоля;ает
опять Данилевский, — искать такого органа не зачем далеко,—
Дарвин сам потрудился его найти и поместил на той же странице, на которой сделал свой вызов». Самоуверенный задор
этого заявления Данилевского, признаюсь, на этот раз озадачил и меня. Попались, думалось мне, потому что мне казалось очевидным, что не осмелится же человек утверждать
в такой дерзкой, оскорбительной для Дарвина форме то, чего
не в состоянии доказать. Но моя робость перешла в полное
уныние, когда, перескочив через семь страничек, я обратился прямо к выводу. Замечу мимоходом, что все иримеры
Данилевского до того длинны и растянуты, что нетерпеливый
читатель невольно перескакивает прямо к морали басни. Вот
что я там прочел: «Как бы то ни было, — говорит Данилевский, — вот два примера строений и инстинктов, вредных для
их обладателей и исключительно полезных для других существ. Впрочем, мы не придаем им столь всесокрушительного
значения, как сам Дарвин в приведенном его вызове. Если,
что называется, припереть к стене дарвинистов этим, очевидно,
неудачным примером самоуверенности
основателя их учения,
то я, право, не вижу, почему им не отлояшть в сторону и этого
возражения, как они откладывают много других, по моему
мнению, гораздо сильнейших»... Очевидно, попались, повторял я себе, — таким тоном говорят только великодушные победители. Посмотрим, однако, так ли оно на деле. Но прежде
позвольте еще раз объяснить, почему я придаю особое значение этому месту в книге Данилевского. Во-первых, мы видим,
что ставкой, по заявлению самого Дарвина, является весь дарвинизм, — следовательно, Данилевский должен был здесь напрячь все свои диалектические силы. Во-вторых, задор приведенных двух фраз доказывает, что Данилевский вполне собой доволен. В-третьих, наконец, г. Страхов рекомендует читателям это место, как одно из удачных. Следовательно, я имею
полное право остановиться на нем, как на образце логической
аргументации Данилевского. Но к делу.
Дарвин, после приведенного выше своего вызова, говорит:
пожалуй, указывают на то, что гремучая змея имеет будто
бы гремушки для того только, чтобы предупреждать своих
жертв, т. е. к прямому для себя вреду, и вслед затем он устраняет это предположение, как бездоказательное. Данилевский
берется доказать, что гремучий аппарат именно для того и существует, чтобы приносить вред змее и пользу ее врагам. И вот
его доказательство. «Дюмериль пишет, что „все животные крайне боятся гремучих змей, что они ощущают род ужаса, как
только почувствуют их запах или услышат звук их гремушки;
что собаки и даже лошади останавливаются и отказываются
приблизиться к тому месту, куда они удалились, только одни
свиньи их не боятся и пожирают"». Из другого свидетельства
оказывается, что и олень тоже не боится их, хотя и не пожирает.
Вот и все. Одних оленей гремушка не пугает, потому что и свинья почти не идет в счет, — она, конечно, сравнительно недавно введена человеком, а речь идет об естественном отборе,
действующем веками. Все же остальные животные, в том числе
и жертвы — ведь не оленями же питаются змеи, — приходят от этого шума в оцепенение. Следовательно, на основании
этих цитат можно только заключить, что польза очевидна,
вред же, в смысле привлечения внимания оленя и свиньи,
более чем сомнителен. И, тем не менее, Данилевский смело заключает: значит, гремушка приносит только вред змее и пользу
ее врагам, свинье и оленю. Не обходится и здесь без кавалерийской аллегории: гремучая змея уподобляется разведочному
отряду, который, вместо того, чтобы тихо подкрадываться
к неприятелю, стал бы бряцать оружием. Но он упускает из
вида неполноту аллегории: если б одним бряцанием можно
было нагонять панический страх на врагов, то это было бы
самое целесообразное применение оружия Е Но Данилевский,
очевидно, сам сознает, что приводимые цитаты недостаточно
убедительны, и самый убедительный довод приберегает к концу.
«В обширном лексиконе естественных наук, — говорит он, —мы читаем: Дознано, что они (т. е. гремучие змеи) дают услы-
шать звук своих гремушек за несколько минут
до отмщения
1
Я не высказываю здесь никакого мнения о пользе гремучего аппарата для змеи; я только указываю бездоказательность утверждения Данилевского о его вреде.
своему врагу». Кажется, ясно? Но для привычного слуха так
же ясно, что самый слог этой цитаты отзывается чем-то «рококо». Современные натуралисты так не пишут; их змен разучились «мстить врагам». Справляемся, из какого источника
взято это свидетельство; оказывается, что словарь этот издан
профессорами du Jardin du Roi * . Так назывался до 1794 г.
теперешний Museum d'Histoire Naturelle, или Jardin des Plantes * * . Значит, Данилевский в конце концов побивает Дарвина
ссылкой на один из тех устарелых источников, над которыми
Дарвин в этом месте именно и подсмеивается. Все равно, как
если б я возражал Пастеру, что самозарождение организмов
все же существует, потому что в семнадцатом веке ван-Гельмонт из муки приготовлял живых мышей. Ссылка на не имеющую смысла фразу, выхваченную из анонимной статейки затхлого словаря, — и это называется научная критика! И это
называется «прижать к стене» «самоуверенного Дарвина», а сочинение, где по самым важным вопросам можно встретить
подобную аргументацию, провозглашается «самым редким явлением вО всемирной печати»!
Но, быть может, мне заметят, что в приведенном заключении Данилевского упоминается о двух примерах, а я разобрал только один. Быть может, я слукавил, сильный-то
и скрыл. Рассмотрим и второй случай. Это — рабский инстинкт некоторых муравьев, которые, попав во власть своих
победителей, исполняют те же работы, что и в своем муравейнике. Но в этом примере нет даже и тени возражения. Рабский
инстинкт муравьев полезен победителям, это несомненно, но
и рабам от него нет никакого вреда, так как они несут те же
обязанности, что и дома, ничего не выигрывая, но и ничего не
теряя. Их можно было бы еще укорить в недостатке национального чувства, т. е. в том, что они не предпочитают своих господ чужим, но Данилевский сам ограждает их и от этого обвинения, напоминая, что рыжие муравьи берут в плен не живых
муравьев, а их яйца, — следовательно, муравьи-рабы и в глаза
не видят своих прирожденных господ. Также нельзя согласиться
* Сада короля. Ред.
** Музей естественной истории, или Ботанический сад. Ред.
с Данилевским, что муравьи-рабы легко могли бы освободиться
от своей позорной участи. «Ведь, могли бы они, — говорит
он, — только на годик умерить свою рабскую угодливость,
чтоб притеснители их погибли и чтобы возвратить себе полную
свободу». Совет недурен, — и не муравьям бы впору, — но
так ли он легко исполним, как полагает Данилевский?
Нужно ли мне после этого разбирать все бесчисленные обвинительные пункты, которые Данилевский взводит на природу, обличая ее в существовании бесполезных и бессмысленных форм, все в наивной уверенности язвить этим дарвинистов? Конечно, недостаток оказался бы не в материале, а во
времени. Скажу только, что ни один из приведенных им ботанических примеров не выдерживает критики. Зоологические
примеры, насколько я могу судить, того же свойства, — по
крайней мере, бесконечно длинное и поясненное таблицами
описание плавательного пузыря рыб нисколько не умаляет
громадного значения этого органа для учения о трансформизме.
Плавательный пузырь, превращающийся в легкое, неприятен
Данилевскому потому именно, что показывает нам, что природа, когда она берется перестроить манеж на казарму, поступает совсем не так, как его несообразительный кавалерист.
Но против всех этих примеров можно сделать еще более существенное общее возражение. Найди Данилевский в природе
хоть во сто раз более нелепостей, он побивает этим оружием
только самого себя, а не дарвинизм, который не ищет в природе абсолютного совершенства. Но об этом в своем месте.
Третий общий обвинительный пункт, которому, главным
образом, посвящены X I I и X I I I главы, гласит: Невозможность
естественного отбора по отсутствию
необходимых результа-
тов этого процесса п пр. Здесь главную роль играет отсутствие,
будто бы, ископаемых переходных форм между ныне живущими. И можно только дивиться способности Данилевского
возражать против очевидности, — способности, которую, как
мы видели, он, впрочем, ярко обнаружил на примере голубей,
показывая, что, не стесняясь, может доказывать п совершенно
обратное тому, что думает. Если какой факт лежит вне сомнения, то, конечно, тот, что остатки живых существ, обитавших
прежде на земле, должны быть крайне скудны. Данилевский
20
В. А. Тимирязев,
т.
VII
решается, однако, утверждать, что это только отговорка Дарвина. Но если это и отговорка, то не подлежит сомнению, что
дарвинизм получил самые разительные подтверждения именно
с той стороны, с которой наименее ожидал. Успехи современной палеонтологии несомненно свидетельствуют в его пользу,
и на этот раз мы с основанием можем гордиться вкладами русских ученых; пожелаем ли мы увидать крупные связующие
звенья, предков наиболее нам известных животных форм, —
мы их найдем в талантливых трудах так безвременно и трагически погибшего В . О. Ковалевского; пожелаем ли мы остановиться на нечувствительных переходах между разновидностями в пределах одной формации, — мы их найдем в исследованиях профессора Траутшольда.
Но, повторяю, для того, чтоб обнаружить все логические
несообразности этой книги, пришлось бы написать таких же
два тома. Порой мне представляется, что если бы нашим натуралистам, в университетах, преподавалась логика — чего, к сожалению, не практикуется, — то эта книга могла бы служить
хорошим материалом для семинарии, вроде тех наглядных несообразностей, которые недавно были изданы одним педагогом
для целей элементарного преподавания.
Для того, чтоб можно было судить, до чего Данилевский
позволяет себе шутить над здравою логикой, достаточно указать, что к числу недостатков дарвинизма он совсем серьезно
относит его удобопонятность и быстрое распространение. Истинно-научное учение, по его мнению, узнается по двум признакам:
оно темно и туго прививается.
*
Но Данилевский не ограничился одним изысканием, как
мы убедились, несуществующих ошибок дарвинизма; он постарался еще вывести их из соответствующих умственных и нравственных недостатков их автора и его национальности. Католическая теология насчитывает, кажется, семь смертных грехов, — у Дарвина Данилевский нашел их целых десять, т. е.
все таких, которые ясно обрекли бы его книгу на скорое забвение. Но и здесь, как и в других местах своей книги, он зло-
употребляет числом. Все эти десять недостатков сводятся,
строго говоря, к двум. Дарвин не обладал умением логически
мыслить и способностью беспристрастно
судить. Я полагаю,
достаточно только назвать эти два недостатка, чтобы всякий,
что-либо слышавший о Дарвине, понял, что они имели не объективное, а лишь субъективное существование в разгоряченном
полемикой воображении Данилевского.
Перечислив личные недостатки Дарвина, Данилевский пытается вывести и свойства самого учения из особенностей английского национального характера. С верностью этого приема
нельзя не согласиться, только выводы, к которым он приводит, на мой взгляд, совсем иные. Не могу я также согласиться
с мнением Данилевского, будто бы мысль выводить характер
ученого из психических особенностей его расы была в первый
раз осуществлена им в его сочинении «Россия и Европа». Мне
кажется, с тех пор, как она проведена Тэном в области литературы и искусства, мысль эта стала ходячею монетой. Я , по
крайней мере, могу поручиться, что более чем четверть века
тому назад, еще на университетской скамье, слышал очень
оригинальную попытку такой национальной характеристики
из уст своего преподавателя богословия.
Данилевский полагает, что в учении о борьбе за существование выразилось национальное расположение к торговой
конкуренции, чуть ли не к боксу. Это не его собственные выражения, — я только стараюсь передать его мысль, как умею,
в возможно кратких словах. Мне же представляется, что в дарвинизме выразилась совсем иная сторона английского национального гения. Но для пояснения моей мысли позвольте
прежде поделиться с вами тою характеристикой, которую,
как я сказал, я в былые годы слышал на лекции своего профессора богословия. Трем живописцам, — повествовал он, — англичанину, французу и немцу, задали одну тему — написать
осла, и вот как они приступили к делу. Англичанин пошел на
ферму и срисовал осла. Француз пошел в Лувр посмотреть,
как отнеслись к своей задаче «les grands^ maîtres» * . Немец —
тот заперся в своем кабинете, чтобы выяснить себе идею осла,
•«Великие мастера».
Ред.
какою она вытекает из глубины его Selbstbewustsein'a
Справедливость требует заметить, что в этой грубоватой шутке невидимо присутствует и четвертая национальность, с ее несколько пристрастною враждебностью к умозрительному немцу.
Тем не менее, эта шутка не раз вспоминалась мне, когда, много
лет спустя, я ознакомился с историей биологии за первую половину нашего века. В самом деле, между тем как в начале "века
немецкие натурфилософы, в затишьи своих кабинетов, пытались
создать природу такою, какою она должна быть; между тем
как французские натуралисты, в галлереях Jardin des Plantes * , видели природу такою, какою она однажды сложилась
в представлении «великого мастера» — Кювье, два англичанина, Лайель и Дарвин, просто пошли «в природу» и изобразили ее такою, какая она есть. Потому-то и произведения их
дышат тою безыскусственною, жизненною правдой, которая
и в науке, как и в искусстве, несет на себе печать гения.
Этим мы можем заключить те, по необходимости краткие
замечания, которые вызваны нападками на собственно научную
сторону дарвинизма и на его творца. Мы убедились в полной
несостоятельности этих нападок. Теория остается тем, чем
была, т. е. одним из гениальнейших произведений науки X I X
века, а ее автор — идеалом ученого. Первая часть нашей задачи выполнена.
, Противники дарвинизма обыкновенно ставят ему в укор,
что он слишком широко раскинулся, проник Б такие области,
которые ему совершенно чужды, а между тем сами умышленно
заманивают его защитников на непривычную им почву философии, этики, даже эстетики. Так поступает и Данилевский:
для окончательного убеждения, под конец книги, он приберегает
доводы, которые сам называет философскими и эстетическими.
Если уже выбор поля сражения зависит не от нас, то приходится волей-неволей следовать за противником туда, куда
он сам нас завлекает.
1
(самосознания. Ред.) Мой почтенный законоучитель, очевидно,
заимствовал основную мысль этого сравнения у Г. Льюиса — Life of
Goethe (Жизнь Гёте. Ред.), н о я нахожу, что русский вариант и лаконичнее и остроумнее оригинала.
* Ботанического сада. Ред.
В «Profession
de foi du vicaire savoyard» * Руссо, высказывая свои сомнения в возможности целостного механического
мировоззрения, как бы бросает науке своего времени двойной вызов: доказать, во-первых, что количество движения
в природе неизменно, что оно не может ни убывать, ни прибывать, что вообще нет материи без движения, а, во-вторых, объяснить ему целесообразность органических форм. Перчатку, брошенную восемнадцатому веку, поднял уже девятнадцатый. На
первый вызов он ответил законом сохранения энергии и успехами молекулярной физики, на второй — дарвинизмом. Но,
в свое время, логика Руссо была неотразима. На все попытки
объяснить совершенство органических существ случаем он
отвечал: «Если мне придут сказать, что случайно рассыпавшийся типографский шрифт расположился в Энеиду, я шага не
сделаю, чтобы проверить эту ложь». Дюбуа-Реймон приводит
сходный аргумент аббата Галлиани, этого, по мнению Тэна,
остроумнейшего представителя X V I I I века. В одном из философствовавших салонов, в его присутствии, развивалась модная
тема о возможности объяснить себе происхождение организмов
случайным стечением благоприятных обстоятельств. Невозмутимо выслушав длинные рассуждения, Галлиани, в свою
очередь, повел рассказ о том, как один фокусник, в его присутствии, бросая кости, получил несколько раз подряд двенадцать очков. «Что ж удивительного? — перебили его нетерпеливые собеседники. — Кости были фальшивые, les dés étaient
pipés». — « Я только это и хотел сказать, — ответил Галлиани,—
так и в природе: les dés de la nature sont pipés» * * .
Рассыпавшийся набор Руссо, les dés pipés Галлиани для
X V I I I в. были неотразимым аргументом, и все попытки Гольбаха их отвергнуть были так же бесплодны, как и в древности
попытки Эмпедокла. Слепым случаем не объяснить совершенства организмов. С другой стороны, очевидно, что его не объяснить и действием внешних физических сил. Эта невозможность
прямого, механического объяснения органических форм по* В «Исповедании веры савойского викария».
** «...кости природы поддельны». Ред.
Ред.
родила телеологию. Все в организме отвечает известным целям; и эти цели, а не что иное, определяют форму, — так думал еще Аристотель. Совершенство организмов необъяснимо,
как результат, — оно понятно только, как осуществление
цели. И эта цель, — услужливо пояснила схоластика, — в сущности та же причина, только причина, стоящая не в начале,
а в конце явления: это — причина конечная, causa finalis.
Представьте себе, — говорит Кант, — обыкновенное механическое заключение, идущее от причины к следствию, но только
навыворот, и вы получите заключение, исходящее из конечных причин. Таким образом, еще со времени Аристотеля и Эмпедокла, пытливому уму, старавшемуся объяснить себе совершенство органических форм, предлагалось два исхода:
слепой случай или causa finalis. Ни то, ни другое не могло,
конечно, удовлетворить умов, на других отраслях изучения
природы уже привыкших к строго логическому сцеплению причины и следствия; отсюда известная раздражительность, нередкая у натуралистов конца прошлого и начала нынешнего
века, их выходки против телеологии и, в то же время, сознание
своего бессилия от нее освободиться х .
Гениальность основной идеи Дарвина в том и заключалась,
что он нашел выход из этой дилеммы, третье разрешение, не
Эмпедоклово и не Аристотелево — не слепой случай и не
конечную причину. Т а к , по крайней мере, смотрят на философскую задачу дарвинизма самые выдающиеся умы между
натуралистами — Гельмгольтц, Дюбуа-Реймон, так, очевидно,
смотрит на него и Поль Жане, этот позднейший из «causefinaliers» * , как их когда-то называл Вольтер 2 .
Как же вышел из этой дилеммы Дарвин? Расширив почти
беспредельно тот круг действительных причин, тех causae
1
Очень характеристические примеры этой непоследовательности можно встретить в тех выписках из сочинения Б э р а , которые приводит в
своей книге Данилевский, а отчасти и во всех его собственных нападках
на совершенство в природе.
2
Общие возражения Ж а н е против этого смысла дарвинизма существенно сходны с возражениями Данилевского и, следовательно, будут
рассмотрены ниже:
* «Causefinaliers» — дословно «конечнонричинники». Ред,
efficientes, результатом которых является организация. Если
в условиях существования индивидуального организма, с момента его зачатия до момента смерти, нельзя видеть достаточных причин для объяснения его формы, его совершенства, то
эти причины должно искать в его историческом прошлом. А для
этого, прежде всего, должно доказать, что жизнь не только
неделимого, но и отдельных форм не может быть выхвачена
произвольно из целого, из жизни всего органического мира.
Каждая органическая форма есть результат воздействия на
нее не только современных ей условий, но и всех неисчислимых
условий, действовавших на несметные ряды форм, из которых
она произошла. Пока
организмы
не
имели
истории,
круг causae efficientes был ограничен, их можно было
искать только в настоящем и этого было недостаточно, —
с допущением причин исторических этот круг разросся безгранично.
Но какой же из факторов этого исторического процесса
является самым могущественным в образовании органических
форм? Дарвинизм, учение об естественном отборе, отвечает:
их собственная полезность, совершенство самых организмов,
их гармония с условиями существования. Она определяет победу в борьбе, накопляется и закрепляется наследственностью.
Таким образом то, что в готовой форме кажется необъяснимым
следствием, конечною целью, в действительности, в развитии
расы, было только орудием, средством. Польза, совершенство
какого-нибудь органа, представляющиеся нам в процессе индивидуального развития как бы концом, завершением, результатом или, на языке схоластики, его целью, его конечною причиной, в действительности является только условием, определившим образование этого органа в бесчисленных степенях его
приближения к совершенству у предков рассматриваемого неделимого. То, что казалось необъяснимым последующим в развитии индивидуальном, оказалось вполне понятным предыдущим в предшествовавшем ему развитии историческом. Дарвин
не отверг конечных причин, он сделал лучше — он их завоевал,
переместив их на их законное место. Причина, вместо того,
чтобы следовать за своим следствием, стала ему предшествовать, т. е. вернулась на указанное ей логикой место, из схола-
стической causa finalis стала механической causa efficiens —
vera causa * .
Таким образом, дарвинизм дал в первый раз механическое
объяснение совершенства, целесообразности организмов, разумея под механическим
объяснением обыкновенное каузальное, в отличие от телеологического,
как это, кажется, принимает и Кант.
Но, освободив биологию от мрака конечных причин, Дарвин не обратился к слепому случаю и тем избег возражений
Руссо и Галлиани. Его естественный отбор — такой механизді,
благодаря которому при каждом сбрасывании костей выпадает
все более и более очков.
Но так ли смотрит на дарвинизм Данилевский? Его главный
философский упрек дарвинизму — почти буквальное повторение тех возражений, которые Руссо и Галлиани предъявляли
более смелым, чем удачным, попыткам механического миросозерцания философов X V I I I века. Он прямо называет дарвинизм теорией случайности. Вот самые сжатые и определенные места его заключения: «Читатели могут судить, правильно
ли я его определил, отожествив с началом полной случайности». И в другом месте: «Это начало абсолютной случайности,
названное учением об естественном подборе, будучи гораздо
ниже и в научном и в эстетическом отношениях, — в этическом
оно ему равно, — учения о механической необходимости, имеет
значение его заместителя и суррогата». Далее, для большего
уязвления дарвинизма, идет сравнение его с мечтаниями Эмпедокла, которые имел в вид}' и Руссо в приведенном выше возражении. «Он (Эмпедокл) думал, что природа, при ее случайных
смешениях, не была счастлива с самого начала, но образовывала много такого, что не могло сохраниться»... «Так, многие
головы вырастали без шеи, и голые руки бродили без плеч,
тоже и глаза без лбов, многие люди с двойным лицом, с двойною грудью, и скоты с передом человеческим»... «Аристотель
приводит подобные места из Эмпедокла, чтобы выставить в полном свете нелепость учения, которое формы живых существ,
организованные по твердой цели (telos), хочет объяснить про* из схоластической «конечной причины» стала механической «причиной производящей» — истинной причиной. Ред.
сто из случайного совпадения природных сил». А вот и заключение самого Данилевского по поводу этой ссылки на Эмпедокла. «У Эмпедокла руки были развязаны, знание не направляло, но зато и не стесняло его мысли, широко было поле
невежества, и его фантазии был полный разгул. Поэтому
Аристотелю, как и нам, мысли его представляются вполне
нелепыми. Дарвин придал всему, конечно, благоразумную,
приличную и сообразную с нынешнею степенью наших знаний
форму, но сущность осталась Эмпедоклова». «Аристотель, конечно, не мог бы не увидеть все той же безобразной и достойной
осмеяния Эмпедокловой идеи и под благообразною формой дарвинизма». Кажется, ясно, что дарвинизм отличается только
благообразною формой, содержание же безобразно и нелепо,
как у Эмпедокла. И там, и здесь слепой случай, — о механическом, каузальном объяснении нет и речи. Наконец, на последней странице своей книги Данилевский опять сопоставляет
дарвинизм с механическим мировоззрением и отдает предпочтение последнему. Эту страницу, которую г. Страхов называет
удивительной, я попрошу позволения привести почти целиком,
так как мы к ней должны возвращаться не раз.
«Строго проведенное механическое мировоззрение (конечно,
если б оно было возможно) представляется нам величаво-бесстрастным, обладающим грозным величием, перед которым нам
остается только преклоняться, как перед древним фатумом».
«Но каким жалким, мизерным представляется мир и мы сами,
в коих вся стройность, вся гармония, весь порядок, вся разумность является лишь частным случаем бессмысленного и нелепого; всякая красота — случайною частностью безобразия;
всякое добро — прямою непоследовательностью во всеобщей
борьбе, и космос — только случайным частным исключением
из бродящего хаоса! Подбор — это печать бессмысленности
и абсурда, напечатленная на челе мироздания, ибо это — замена разума случайностью. Никакая форма грубейшего материализма не спускалась до такого низменного миросозерцания; по крайней мере, ни у одной нехватало на это последовательности. Они останавливались и не смели или не умели
итти далее по единственному, впрочем, открытому пути, ибо,
повторяю еще раз, эта честь должна быть оставлена за дарви-
низмом, что, претендуя объяснить одну частность, — происхождение и гармонию органического мира, хотя и безмерно важную, но все-таки частность, — он, в сущности, заключает
в себе целое мировоззрение.
«Шиллер в великолепном стихотворении „Покрывало
Изиды"
заставляет юношу, дерзнувшего приподнять покрывало, скрывавшее лик истины, пасть мертвым к ногам ее. Ежели лик
истины носил на себе черты этой философии случайности, если
несчастный юноша прочел на нем роковые слова естественный
подбор, то он пал, пораженный не ужасом перед грозным ее
величием, а должен был умереть от тошноты и
омерзения,
перевернувших все его внутренности при виде гнусных и отвратительных
черт ее мизерной фигуры. Такова
и судьба человечества, если это — истина».
должна быть
Нельзя не сознаться, что, заканчивая свою книгу этим
патетическим взрывом негодования, Данилевский высказал
глубокое знание человеческой природы. Как человек опытный, он знал, что убедить людей в чем-нибудь трудно, разубедить, пожалуй, и того труднее. Зато предубедить очень легко,—
стоит только, минуя разум, обратиться прямо к чувству. Потому-то он и приберег этот эстетический, как он его называет, а правильнее — эмоциональный, аргумент под самый
конец.
Но постараемся на время не дать себя увлечь лирическими
красотами этого места, а остановимся на собственно философской, логической оценке дарвинизма.
Приведенных мест более чем достаточно для доказательства того, что Данилевский просто отожествляет дарвинизм
с учением Эмпедокла — о действии слепой случайности, прямо
противопоставляет ему величаво-бесстрастное механическое мировоззрение. Общий же вывод из этого: «За очевидною несостоятельностью Дарвиновой псевдо-телеологии необходимо при-
нять телеологию настоящую?».. А между тем до сих пор все,
кто сознательно относился к делу (я ссылался уже на авторитет Гельмгольтца), именно и видели заслугу дарвинизма в том,
что он включил органический мир в область механического
мировоззрения в том смысле, что распространил на него
возможность каузального объяснения, исследования естествен-
пых причин там, где до тех пор принято было видеть лишь осуществление угадываемых целей.
Естественный отбор представляет ли нам нелепый случай
или механизм, направляющий исторический процесс развития
к определенному результату? Если бы, повторяю, кости того
неаполитанского фокусника, о котором говорил Галлиани,
каждый раз неизбежно давали более очков, то получение двенадцати очков было ли бы случайностью или только роковым,
неизбежным результатом известного механизма? Такой именно
замысловатый механизм и представляет нам отбор, и это Данилевский, конечно, очень хорошо знает, называя его регулирующим, критическим началом, превращающим хаос в космос, а искусственный отбор даже прямо называет «своего рода
машиною». Он все это очень хорошо сознает и, конечно, не
с этой стороны ведет атаку. Он указывает на то, что материал,
которым пользуется механизм отбора, случайный: изменения
могут быть всевозможные, полезные, безразличные, вредные
и вообще никакого отношения к результату отбора не имеющие.
Отсюда и весь отбор, построенный на случайных элементах,
только случайность. Но мне кажется, что все это только парадоксальная игра словами. Найдется ли какой-нибудь сложный
механический процесс, дающий вполне определенный, вперед
вычисляемый результат, и не представляющий при более глубоком анализе, при рассмотрении в другом масштабе целого
хаоса случайностей? Когда сельский хозяин в своей сортировке отделяет одни семена от других, пользуется ли он определенным механизмом или только игрой случайностей? Когда
химик отделяет на фильтре твердый осадок от жидкости, пользуется он механизмом или случайным явлением? Конечно,
и да и нет. Каждый из этих процессов является и определенным
механизмом, и хаосом случайностей, смотря по тому, с какой
точки зрения мы себе представим явление. Проследите, что
происходит с каждым мелким зернышком в сортировке, какой путь оно опишет, пока дойдет до отверстия в сетке, сколько
раз проскользнет мимо, а может быть, так и ухитрится уйти,
спрятавшись за крупными. Или эта частица раствора, которая
должна пройти через фильтр, и упорно засела в осадке, не доказывает ли она, что вся операция фильтрования основана на
случайности? Но попытайтесь убедить химика, что все его анализы основаны на случае, и он, конечно, только встретит смехом такое философское возражение. Или еще лучше убедите
человека, садящегося в поезд Николаевской железной дороги,
с расчетом быть завтра в Петербурге, — убедите его, что эта
уверенность основана на целом хаосе нелепейших случайностей. А между тем с философской точки зрения это верно. Какая сила движет паровоз? Упругость пара. Но физика нас
учит, что это только результат несметных случайных ударов
несметного числа частиц, носящихся по всем направлениям,
сталкивающихся и отскакивающих и т. д. Но это далеко не
все. Есть еще другой хаос случайных явлений, который называют трением. Вооружимся микроскопом, даже не апохроматом, а идеальным микроскопом, который показал бы нам,
что творится с частицами железа там, где колесо локомотива
прильнуло к рельсу. Вон одна частица зацепилась за другую,
как зубец шестерни, а рядом две, может быть, так прильнули,
что их не разорвать, вон третья оторвалась от колеса, а вон четвертая — от рельса, а пятая, быть может, соединилась с кислородом и, накалившись, улетела. Это ли не хаос? И однако из
этих двух хаосов, — а сколько бы их еще набралось, если бы
посчитать! — слагается, может быть, и тривиальный, но вполне
определенный результат, что завтра я буду в Петербурге.
Итак, мы вправе называть естественный отбор механизмом,
механическим объяснением не потому, чтобы в основе его не
лежало элементов случайности, а, наоборот, потому, что в основе всякого сложного механизма нетрудно найти этот хаос
случайностей 1 . Чтобы ни говорил Данилевский, естественный
1
Вопрос, должен ли был Дарвин глубже анализировать эти элементы, совсем другого рода. Здесь мне пришлось бы возражать против
Негели и Спенсера и вообще против действительно научных возражений,
предъявленных дарвинизму, но об этом в другой раз. См. мою речь «Факторы органической эволюции» в сборнике «Основные задачи современного
естествознания». (В настоящем издании см. том V, стр. 107. Ред.). Скажу
только, что нахожу точку зрения Дарвина более верною. Вообще требовать
от него, чтобы он подробнее изучил факторы изменчивости, значит требовать, чтобы вместо биологической задачи он занялся бесчисленными задачами физиологическими, т. е. все равно, что требовать от историка,
чтобы он бросил историю и занялся психологией.
отбор представляет механическое каузальное объяснение основного факта — совершенства организмов, а его неудачная
попытка свалить в одну кучу гениальные идеи Дарвина и детски-наивные бредни Эмпедокла только возмущает чувство самой элементарной справедливости 1 . Дарвин мог бы ответить
Руссо, что его естественный отбор именно и есть тот механизм,
который вечно рассыпающийся набор органических форм слагает в ту, гораздо более изумительную, чем Энеида, книгу,
которую сам Руссо называл книгой природы.
И почему все это негодование Данилевского, вскипающее
при одной мысли о случайности тех элементов, из которых слагается гармония органического мира, обрушивается на один
дарвинизм? Разве такая же случайность не встречается в природе и помимо органического мира и в еще более грозной форме?
Взгляните на солнце, каким нам его представляет современная
астрономия, — это ли не хаос случайностей? Но разве с тех
пор, как мы это узнали, в чем-нибудь изменилось наше воззрение на стройность солнечной системы? Или времена года сменяются не так, как прежде? Или солнце попрежнему не разливает вокруг себя и свет, и жизнь, и радость? Нет: Die Sonne
tönt nach alter Weise * . И знай Байрон все, что известно современным астрономам, он не изменил бы ни строки в своем
прощаньи Манфреда. Но если кто искренно убежден в том, что
дарвинизм, развертывая картину буйного жизненного хаоса,
лежащего в основе изумительной гармонии органического мира,
возмущает эстетическое, грозит даже нравственному ч у в с т в у , —
кто, повторяю, искренно убежден в этом, тот должен быть последователен. Запретите тогда и астроному наводить свой телескоп на солнце или рассказывать нам о том, что он там видит.
Когда люди были действительно последовательны, тогда и упоминание о пятнах на солнце уже считалось за нечестие.
И откуда весь этот шум, все эти вопли отвращения? Что
случилось? С дарвинизмом естествознание стало — не на сло1
Эдуард Гартман, к а к известно, не сочувствующий дарвинизму и
писавший против него, тем не менее, вполне признает за отбором значение «механического» объяснения.
* Солнце все поет старый гимн (Гёте. — «Фауст», строка из пролога).
вах только, а на деле — естественною историей. Вот и все.
А разве современный историк в своих объяснениях не прибегает исключительно к хаосу бесчисленных случайностей, которые мы называем человеческими побуждениями "и страстями
или для него еще обязательны идеи Боссюэта? И чем исторический процесс отличается от процесса биологического? Жили
до нас люди хорошие и дурные, и дурных было, вероятно,
более, чем хороших; жили люди умные и люди глупые, и глупых было, конечно, более, чем умных, а в результате этой борьбы случайных элементов оказалось, что человек стал как будто
бы и лучше, а уж умнее, конечно. И не странно ли это противоречие? Те же люди, которые готовы из истории сотворить себе
кумира, не допускают, чтобы исторический процесс распространен был на остальную природу. Каждую минуту они готовы зажать мне рот своим заветом истории, как будто и я не
одна из тех несметных, темных, случайных единиц, из которых
слагается история, — или я пойду в счет только тогда, когда
меня не будет, когда мною мертвым удобно будет зажимать
рот живым? И те же люди, в безграничном преклонении перед
историей, готовые утверждать, что учить и действовать призваны только мертвецы, а живые должны им повиноваться,
кричат, что их тошнит, что у них переворачиваются внутренности при одной мысли, — этим историческим процессом объяснить происхождение зайца или капусты.
Астроном-физик справа, историк слева могут разбираться,
каждый в своем хаосе, при помощи естественных причин, один
только биолог, в промежутке, навек прикован к телеологии,
к угадыванию целей вместо исследования причин. Предоставьте
угадывать тем, кто хочет, — в этом все равно сильны, — но не
отрицайте у биолога права на то, чем уже пользуются астроном и историк.
*
Называя естественный отбор «печатью бессмысленности и абсурда на челе мироздания», Данилевский как будто забывает,
что сам в двух главах своей книги, X и X I , пытался доказать,
на зло дарвинистам, именно то, в чем теперь их упрекает. Весь
вопрос там и сводился к тому, что органический мир не соответствует будто бы воззрению дарвинистов. Ваша природа, — говорит Данилевский, — должна быть полна гармонии, совершенства, а я вам берусь доказать, что этого нет на деле; моя
природа прямо нелепа, она натворила кучу несообразных, бесполезных, вредных органов. И вот, без критики хватаясь за
любой пример, он запальчиво взводит на природу обвинение
за обвинением, с каким успехом — мы отчасти видели, но дело
не в успехе, а в цели, в намерении, руководящем автором.
И после всех этих обвинений, по большей части клевет, взведенных на природу, он приглашает нас признать во всем этом
прямое, непосредственное вмешательство «интеллектуального
начала». Может ли путаница понятий пойти далее? И это еще
не все. Отрицая естественный отбор, Данилевский сохраняет
борьбу за существование и геометрическую прогрессию размножения. Для дарвиниста в природе, как в ветхозаветной
загадке, мертвое родит живое и горькое родит сладкое — из
борьбы и смерти возникают более совершенные формы жизни.
Данилевский, отрицая сладкое, оставляет природу при одной
ее горечи. Природа, это отражение «интеллектуального начала», является у него не только бессмысленною, но и бессмысленно-жестокою. И не думайте, что я навязываю ему эту
мысль, — нет, он сам высказывает ее в умышленно жесткой
форме. Это место носит в его книге даже особый заголовок:
«Лорд Райверс и природа». Вот оно: Дарвин, указывая на то,
что в отборе главную роль играет истребление менее совершенных, приводит слова лорда Райверса, который на вопрос:
«каким образом ему всегда удается иметь первостатейных
борзых?» — ответил: «я развожу многих и многих вешаю».
Комментируя это место, Данилевский ядовито замечает: «Лорд
Райверс... конечно, вешал их не зря». «А в природе, если так
же много вешается, то зря». Способность вешать зря, как атрибут Мирового Разума!.. Что же это такое, циническое кощунство или только запальчивое недомыслие? 1
1
Это зря является неизбежным логическим выводом из его отрицания роли «малой пользы». Е с л и не достоинства организмов, хотя бы малые, решают их участь, то, очевидно, она должна решаться «зря».
Подведем
итог.
Которое
из
двух
мировоззрений
более удовлетворяет философскую мысль, эстетическое чувство?
Между тем как во всем, что касается природы неоживленной, мало того — во всем, что касается физиологических процессов живых существ, признавалась возможность, законность,
необходимость механических, каузальных объяснений, — вся
сфера фактов, касающихся органических форм, объявлена была
изъятою из сферы применения этого единственного научного
метода. — Здесь, говорили, не место изыскивать причины, —
достаточно, если мы будем читать цели. И эту-то обширную
область знания, которую философы, вроде Данилевского, объявляют табу, дарвинизм завоевывает для научного метода. Посмотрим же, каким представляется этот завоеванный для науки
органический мир с точки зрения Данилевского или дарвинизма. Для Данилевского он полон бессмыслицы и зла, и для
этой бессмыслицы и зла нет объяснения, потому что нас призывают видеть во всем прямое, непосредственное, детальное
вмешательство «интеллектуального начала». Для дарвинизма
такой бессмыслицы в природе нет или она сводится лишь к очень
малому; природа просто не может позволить себе этой роскоши—
быть бессмысленной. Органический мир управляется железным законом необходимости; все бесполезное и вредное заранее обречено на смерть. Отсюда, там, где Данилевский с каким-то злорадством выискивает недостатки и промахи природы,
дарвинизм ищет, а, главное, находит все новые и новые ее совершенства. Для Данилевского гармония природы нечто уже
законченное, установившееся, даже предустановленное; это—
sein * , и невольно спрашиваешь себя, как же объяснить себе
эти громадные (по его мнению) недочеты? Для дарвинизма
эта гармония нечто текучее, вечно нарождающееся, это —
werden * * ; ее совершенства — это успехи исторического процесса, ее недочеты — только будущие его задачи. Дарвинист
может ответить антидарвинисту словами историка-оптимиста:
«Seul, le bien est absolu; seul, il est nécessaire. Le mal dans
* быть. Ред.
** стать. Ред.
le monde c'est un immense accident. E t voilà pourquoi son rôle
est d'être incessamment vaincu»*.
Но, быть может, скажут: тем не менее, Данилевский прав;
все это ваше совершенство организмов покупается лишь ценою их истребления; смерть — вот регулятор вашей мировой
гармонии. Но разве с этою мыслью мы не встречаемся решительно везде? Посмотрите на эти мириады сверкающих звезд, —
говорил недавно известный астроном Фай, — и вы можете
себе сказать с уверенностью: там никогда не было и не будет
жизни. Конечно, так, но, может быть, в бездонном мраке мировых пространств невидимо присутствуют другие, еще более
несметные миры, и на них эти если не «бессмертные», то вечно
умирающие звезды изливают свой свет и вызывают жизнь.
Только в умирании этих бесчисленных миров лежит залог
возможности существования других, живых. От макрокосма
перенесемся в микрокосм. «La vie, — говорит Клод Бернар, —
la vie c'est la mort» * * , и в этом парадоксе высказывает мысль,
что в организме жизнь целого неизбежно связана с разрушением части. «Светить можно только сгорая», — восклицал,
сам безвременно угасший, Петефи. От астрономии до поэзии
проходит та же мысль, смерть, переплетающаяся с жизнью,
смерть — регулятор, смерть — источник жизни. Возмутимся
ли мы, встретив ту же мысль и в дарвинизме, или, быть может, и за ним признаем долю поэзии, величаво мрачной, во вкусе Аккерман?
Но скользнем быстрее по этой зыбкой почве мировой элегии и поторопимся перейти к последней категории упреков,
делаемых дарвинизму, — к возражениям уже не мечтательным,
а захватывающим за живое, к возражениям из области этической.
Каждый раз, когда вступаешь в эту область полемики,
возбужденной дарвинизмом, невольно задаешь себе вопрос:
как вообще могла она возникнуть, где повод к этим недоразумениям? Но факты красноречиво отвечают: видно, есть почва для
* «Лишь добро абсолютно; лишь оно необходимо. Зло в мире — величайшая неожиданность,
несчастный случай. И потому его роль быть
непрестанно побеждаемым». Ред.
** «Жизнь, это —смерть». Ред.
21
К. А. Тимирязев,
т. VU
недоразумений, если даже такие умы, к а к Штраус и Дюринг,
каждый со своей точки зрения, видят связь между дарвинизмом
и основными этическими законами. Один, Штраус, сокрушивший (по его мнению) все кумиры для того только, чтобы склониться пред последним, пред объединителем Германии, приветствует в дарвинизме высшую санкцию заветных теорий
своего кумира. Напротив, Дюринг в негодовании отмахивается
от дарвинизма потому именно, что видит в нем «ein Stück gegen
die Humanität gerichteter Brutalität» * . Впрочем, доказательством тому, что такие практические выводы не вытекают логически из самой сущности теории, может служить совсем обратный случай: У о л л е с , второй творец дарвинизма, выступает
защитником слабого — крофтера, а самый идеалистический
из антидарвинистов, герцог Аргайль, берет под свою защиту
сильного — лендлорда.
Но в чем же собственно заключается этот упрек? В общей
форме его, кажется, можно формулировать так: допущение
борьбы за существование, к а к верховного закона, — это гибель всякой нравственности. Истина не может быть на стороне
дарвинизма, потому что против него возмущается нравственное чувство.
В таком смысле, очевидно, должно понимать и значительную долю того негодования, которое вылилось в заключительной странице труда Данилевского, например, его заявление,
что -«всякое добро является прямою непоследовательностью
во всеобщей борьбе». Мы пытались доказать, к а к неосновательно его заявление, что дарвинизм оскорбляет разум; попытаемся
показать, что он не оскорбляет и нравственного чувства.
Обвинение в безнравственности, очевидно, получает почву
только с того момента, когда борьба за существование провозглашается мировым законом, которому должен подчиняться
и человек, или, выражаясь определеннее, безнравственность
дарвинизма начинается только тогда, когда борьба за существование, понимаемая в самой узкой и грубой форме, провозглашается руководящим законом для человечества не только
в прошлом, но и в настоящем и в будущем его развитии.
* «грубое начало, направленное против гуманности». Ред.
Но разве дарвинизм, в лице его творца, повинен в чемнибудь подобном? Никогда не видел он в своем учении какогото кодекса, который человечество обязано принять к руководству. Утверждать, что, открыв в явлениях бессознательной
природы законы борьбы и естественного отбора, Дарвин сделал обязательным подчинение этим слепым законам и всей
сознательной деятельности человека, значит навязывать ему
абсурд, за который он нисколько не ответствен. Позволю себе
повторить аргумент, к которому уже однажды прибегал.
Дарвин указал также на существование в природе целого
ряда приспособлений для обсеменения, при помощи ветра
и животных, но разве из этого следует, что человек не должен
более сеять и пахать? Точно так же из того, что он нашел в природе грубый, неповоротливый механизм, устраняющий зло,
только когда оно уже совершилось, каким является отбор,
из этого не следует, что человек должен отказаться от того
тонкого, предусмотрительного, предупреждающего зло механизма, каким является разумная деятельность. Но из этого
также не следует, что механизм грубый не играл роли в судьбе
человека, пока не выработался механйзм более тонкий, что
этот грубый механизм не был, в известном смысле, творцом
последнего 1 .
Нимало не посягая на настоящее и будущее человека, дарвинизм только признал своею законною задачей объяснить
его темное прошлое.
Но я убежден, что главнейший источник негодования против учения о борьбе и всех несправедливых нападок на дарвинизм лежит в одном роковом недоразумении, — недоразумении, вызываемом одним словом — сила. Победа сильного,
торжество силы — вот ваше первое и последнее слово, говорят
его наиболее чистосердечные противники. А хотя бы и так.
Разве в этой фразе заключается что-либо оскорбительное для
нравственного чувства? Сильный всегда побеждает слабого;
так всегда было, будет, так должно быть; законы механики не
1
С удовольствием могу у к а з а т ь на то, что совершенно сходное воззрение на дарвинизм высказал позднее Гёксли в своей блестящей речи
«Эволюция и этика». (См. том V настоящего собрания сочинений,
стр. 78. Ред.)
21*
323
могут извратиться. Безнравственно не то, что заключается
в этих словах, а то, чего в них нет, что совсем произвольно
в них подразумевают. Под победой силы всегда разумеют победу материальной, грубой силы; но пусть укажут мне, где,
в каком месте своей книги Дарвин утверждал, что торжество
должно быть всегда на стороне грубой силы, а я пока попытаюсь
показать обратное, что именно дарвинист этого и не может
утверждать. Утверждать, что победа всегда на стороне грубой
силы, может наивный наблюдатель ежедневной действительности; может, пожалуй, близорукий историк, ограничивающий
свой взгляд одною какою-нибудь эпохой; но если уже историк,
окидывающий взглядом более широкий кругозор, не может
утверждать этого, не впадая в противоречие, то со стороны
дарвиниста, обнимающего в одном общем взгляде и развитие
органического мира и развитие человека, это было бы прямым
абсурдом. Если бы победа в борьбе была всегда на стороне
грубой силы, то мы, конечно, не философствовали бы в этой
зале и кости мамонта не лежали бы там под лестницей, а было
бы что-нибудь прямо противоположное. Дюринг был бы прав,
бросая дарвинизму приведенный выше упрек, если бы все сочинение Дарвина о человеке не было проникнуто одною идеей,
?келанием объяснить себе победу высшей силы, умственной
и нравственной, над грубою, материальною силой. Добавьте
только, что победа всегда остается за высшей силой — и борьба потеряет в ваших глазах весь свой безнравственный характер. Но будет ли тогда она соответствовать действительности?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо условиться, как понимать момент победы.
В военном деле победитель тот, за кем осталось поле; но
уже история учит, что исход целой войны еще не определяет
победителя. Одною победой еще не разрешается исход борьбы,
говорит прямо Дарвин. И нет сомнения, что не всегда человек
побеждал мамонта, как на картине Васнецова; случалось,
конечно, что и мамонт одолевал человека, но еще менее подлежит сомнению, что человек победил мамонта. А если так,
если в борьбе успех всегда на стороне высшей силы, — стоит
только выждать момент победы, — то не тому ли же нас
учат и примеры другой борьбы, которая в жизни челове-
чества все более и более вытесняет животную борьбу, — борьбы, в которой сталкиваются, падают и торжествуют не люди,
а идеи?
Кто победил в великой распре между наукой и авторитетом, свидетелем которой был X V I I век? На чьей стороне была
сила: на стороне ли всемогущего папства или на стороне дряхлого старика Галилея? От папства осталась только тень, а земля вертится. От всеведущей инквизиции, когда-то властною
рукой очертившей круг, за который не смела отваживаться
человеческая мысль, — от этой инквизиции осталось только
имя, а перст Галилея, как святыня хранящийся в его флорентийской трибуне, и теперь еще указывает науке путь вперед,
ведет ее от завоевания к завоеванию. Кто же победил? И когда
наступил момент победы? Тогда ли, когда больной, беспомощный старик «с омерзением отрекся и проклял» свои заветные
идеи? Тогда ли, когда Урбан V I I I отказал его праху в последнем убежище под сводом Санта-Кроче? Тогда ли, когда Александр V I I , уже после его смерти, буллой «Speculatores» еще
раз подтвердил постановления Index'a и святой инквизиции?
Или, быть может, только на наших глазах, в 1877 г., когда будущий Лев X I I I , в окружном послании, поучал свою паству
о великих научных заслугах Галилея, возвысившегося в своих
исследованиях до тех же истин, которым учит и писание? Да,
в борьбе за идеи победа всегда останется на стороне силы, —
той силы, которая одна не знает себе в мире равной, — силы
истины.
Сильный этим убеждением, и дарвинист может без страха
смотреть в будущее. То, что в этом учении истина, постоит за
себя, а о потере того, что не истина, дарвинисты, конечно,
пожалеют последние.
Но это эволюционное мировоззрение, одним из главных
устоев которого является дарвинизм, не может ли оно сослужить человеческой мысли и более общую услугу? Не может ли
оно служить ей опорой в минуту ее шатания, разочарования,
близкого к полному отчаянию? Когда голос разума заглушается
бряцанием оружия, когда открыто провозглашается,
что
«сила — и на этот раз не двусмысленно грубая сила — выше
права»; когда величайшее из человеческих бедствий именуется
«frischer, fröhlicher Krieg»*, — в подобные мрачные минуты
не отрадно ли остановиться на мысли, что если разумная воля
человека является могущественным фактором развития, то его
неразумная воля может, пожалуй, задержать, затормозить,
но бессильна остановить тот, сметающий на своем пути всякое
сопротивление, безличный, стихийный, мировой прогресс, о котором так ясно и согласно свидетельствуют и звездное небо,
и развитие органического мира, и исторические судьбы человеческой мысли?
Это убеждение в существовании мирового прогресса, эта
помогающая сносить тяжелую действительность надежда на
лучшее завтра, составляющая элемент утешения всякого верования, для эволюциониста является не безотчетным только
удовлетворением внутренней потребности, — нет, это идущий
извне, обязательный вывод разума, итог его научной опытности. Вера в прогресс—это только самая широкая индукция, до
которой возвышается научная мысль. Но в ее силе, конечно,
заключается й ее слабость. Сила этой индукции в том почти
безграничном числе фактов, на которые она опирается; ее
слабость — в ее всеобщности, лишающей ее возможности проверки этой конечной санкции всякой научной истины.
Мы дошли до того предела, где кончается строгая, научная
истина. Наша задача исчерпана.
Повторяю, что уже сказал ранее: я ни на минуту не руководился наивно-самоуверенною мыслью — убедить неубежденных и разубедить убежденных. Все мы, конечно, разойдемся
с теми же убеждениями, с которыми пришли, и я надеюсь,
вы позволите и мне, сходя с этого места, унести с собою убеждение в том, что, освежив в вашей памяти общие черты этого
учения, составляющего одно из величайших завоеваний научной мысли, я не оскорбил вашего эстетического чувства, не
пробудил в вас успевших заглохнуть воспоминаний о чем-то
«гнусном а отвратительном», возбуждающем «тошноту и омерзение».
* «бодрая, веселая война». Ред.
БЕССИЛЬНАЯ ЗЛОБА АНТИДАРВИНИСТА*
(ПО П О В О Д У СТАТЬИ
ДАРВИНИСТОВ»)1
Г . СТРАХОВА:
« В С Е Г Д А Ш Н Я Я ОШИБКА
BUT WHEN MEN SET THEMSELVES TO CULTIVATE
SKILL IN DISPUTATION, IRRESPEKTIVE OP THE
MATTER DEBATED, — WHEN MEN REGARD THE
MATTER DISCUSSED, NOT AS A SERIOUS ISSUE,
BUT AS A THESIS UPON WHICH TO PRACTISE THEIR POWERS OF CONTROVERSY,— THEY LEARN TO
PURSUE, NOT TRUTH, BUT VICTORY AND THEIR
CRITERION OP EXCELLENCE HAVING BEEN THUS
P E R V E R T E D , THEY PRESENTLY PREFER INGENIOUS FALLACY TO SOLID REASONING, AND THE
APPLAUSE OF BYSTANDERS TO THE C O P I O U S NESS OF HONEST EFFORT.
(См. слово Sophists в Encyclopaedia
nica, vol. X X I I , p. 265).**
Britan-
ВОИСТИНУ, «ЛОГИКА МСТИТ ЗА СЕБЯ ЖЕСТОКО»«
В
1885
году,
как
известно,
появилась
книга
Н.
Дани-
л е в с к о г о « Д а р в и н и з м » , в которой а в т о р ее в о з н а м е р и л с я
о п р о в е р г н у т ь это у ч е н и е в целом и в ч а с т н о с т я х . У ч е н ы х
эта к н и г а , к о н е ч н о , не м о г л а и н т е р е с о в а т ь , т а к к а к
1
беглого
«Русский Вестник», 1887 г., ноябрь и декабрь.
Стоящие в кавычках слова составляют эпиграф статьи г. Страхова.
* Эту статью К . А. опубликовал впервые в 1889 г. в журнале «Русская Мысль», кн. 5, 6 и 7. Ред.
** «Но когда люди, независимо от дебатируемого предмета, стремятся совершенствовать лишь искусство [ с п о р а , — в и д я т в предмете дискуссии не серьезную цель, а тезис, вокруг которого можно развернуть
свою способность к словопрениям, то они начинают добиваться не истины, а победы; извращая таким образом мерило совершенства, эти
люди находчивую лживость предпочитают обстоятельному рассуждению
и одобрение аудитории — сознанию, что они были честны в своих усилиях». (См. слово «Софисты» в Британской энциклопедии, том X X I I ,
стр. 265). Ред.
2
знакомства с ней было достаточно для ее оценки. Это был сбор
давно известных и в свое время устраненных возражений,
выраженных в преувеличенной, гиперболической форме, снабженных ненужными, длинными отступлениями, рассчитанными
на то, чтобы произвести на неопытного человека впечатление
научной вескости, в довершение изложенных хлестким, самонадеянным тоном, заменяющим для иного читателя логическую
аргументацию. Для ученых, повторяю, труд Данилевского
так и остался comme non avenu * . Но не ученых, способных
критически отнестись к делу, имела в виду эта книга. Дарвинизм — худо ли это или хорошо — бесплодно разбирать, так
как мы стоим пред фактом, с которым приходится считаться, —
дарвинизм давно стал достоянием не одних специалнстов-ученых, а и вообще образованных, мыслящих людей. Озадачить
читателя этой категории хитросплетенными софизмами, потопленными в массе научных частностей, в расчете на его очевидную беспомощность разобраться в этом хаосе, — вот в чем
был очевидный умысел при издании этой неумеренно-толстой
книги. К числу таких почти беспомощных читателей могла
быть отнесена и значительная доля учащихся. Составить себе
мнение по одному из важнейших вопросов современной науки
для них, конечно, весьма существенно. Но прочесть тысячу
страниц — труд немаловажный, прочесть же их основательно,
с карандашом в руке, делая критические заметки, сопоставляя противоречия, проверяя ссылки — труд решительно непосильный, при многочисленности других более полезных занятий.
Что же оставалось им делать? Ограничиться заключительными
главами с их: доказал, опроверг, окончательно доказал, окончательно опроверг, т. е. поверить на слово автору или так же слепо поверить отрицательному отзыву другого «верного человека»?
Нужен известный навык к подобного рода трудам, для того,
чтобы суметь вылущить ядро такого сочинения из облекающей
его толстой шелухи, для того, чтобы отпрепарировать голый
скелет всей аргументации и показать, на каких жалких двух—
трех софизмах выведена главная логическая постройка. Этот
нелегкий, неблагодарный, но, я твердо убежден, полезный
труд я старался выполнить по мере того досуга, который мог
* как будто его не было.
Ред.
уделить на это дело от более серьезных своих занятий. В моей
статье «Опровергнут ли дарвинизм?» 1 желающий найдет нить,
при помощи которой не запутается в лабиринте книги Данилевского, получит возможность проверить справедливость моего
приговора о ней, не руководясь иным авторитетом, кроме собственного здравого смысла.
Не этого, конечно, ожидали горячие поклонники Данилевского. Сначала, оскорбленные молчанием при выходе книги (по
правде сказать, единственным приемом, которого она заслуживала), они начали задирать, инсинуировать, что дарвинисты
ее «замалчивают». Понятно было их изумление и негодование,
когда оказалось, что не бессилием пред врагом, а только пренебрежением к нему объяснялось это молчание научной критики. А главное — никак не ожидали они возражения с той
стороны, с которой оно пришло; думали, станут указывать на
какие-нибудь мелкие промахи, а вдруг оказалось отсутствие
здравой логики в основной аргументации пресловутой книги.
Оставить так дело было, конечно, невозможно; с ответом выступил г. Страхов, связавший свое имя с судьбой этой книги теми до
комизма преувеличенными похвалами, которые он ей расточал.
К а к всякий человек, не уверовавший в свою непогрешимость, принялся я за статью г. Страхова, ожидая найти в ней
какие-нибудь доводы, которые придется взвесить, обсудить,
может быть, даже убедиться в сделанных мелких промахах,
поспешных суждениях, недосмотрах. Особенно боялся я последнего: когда на 50 страницах отвечаешь на такую толстую книгу,
всегда боишься, что, быть может, упустил какой-нибудь довод, и это упущение может быть сочтено за умышленное уклонение от его обсуждения. Но по прочтении обеих статей г. Страхова я испытал самое отрадное чувство, — сознание, что не
имею повода раскаиваться ни в одном слове моей критики.
В переполненной ничем неоправдываемыми грубыми личными
нападками бесконечно длинной статье г. Страхова я не нашел
ни одного заслуживающего внимания, прямого, определенного,
неголословного возражения; вся она представляет только попытку извернуться, запутав, затемнив в глазах читателя само
по себе ясное дело.
1
См. выше, стр. 26S и след.
Слабость аргументации г. Страхова показалась мне до того
очевидною, что самою достойною местью ему я считал простой
совет всем спрашивавшим мое о ней мнение, — совет внимательно прочесть его статью. Отвечать я считал излишним.
К этому побуждало меня отвращение к полемике вообще,
а особенно к той, не имеющей ничего общего с научною полемикой, разновидности ее, примером которой служит статья
г. Страхова. В полемике научной требуется доказать или опровергнуть известное положение, а для этого необходимо постоянно иметь в виду предмет спора; требуется убедить самого строгого судью, а не сбить только с толку беспомощного читателя.
В той же полемике, о которой я говорю, нужно только сохранить вид, что отделал противника. А для этого можно прибегать к таким уловкам: вместо одного вопроса искусно подсунуть другой, чтобы отвлечь в нужный момент внимание читателя, наговорить кучу к делу не относящихся вещей; приписать противнику то, чего он не говорил и т. д., — одним словом, пускать в ход все приемы искусного фокусника, от которого
зрители только и требуют ловкого морочения и, в случае успеха, охотно награждают аплодисментами. Если присоединить
к этому беззастенчивую резкость тона, то получится полная
характеристика этого рода полемики. Почему оно так, трудно
сказать, но это факт, еще за полвека тому назад подмеченный
Гоголем. «Положим, — писал он, — для журналиста необходима резкость тона и некоторая даже дерзость (чего, однако,
мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами
журналист всегда выигрывает в мнении толпы)». Что эти нравы
не изменились за полвека, о том свидетельствует и сам г. Страхов, в предисловии к своей «Борьбе с Западом» объясняющий
резкость своего тона «дурною журнального привычкой».
Стоит ли, думалось мне, обращать внимание на возражение, такое жалкое по своему внутреннему содержанию, стоит
ли раздражаться этими проявлениями «дурной журнальной
привычки», а может быть, и самому втягиваться в нее, а главное — стоит ли терять золотое время, которого нехватает
и на серьезное дело? Эти соображения, особенно последнее,
взяли верх, и я решил оставить статью без ответа. Но некоторые симптомы, на которые обратили мое внимание, заставляют
думать, что мое молчание вторично принимается за признание
себя побежденным. Поклонники г. Страхова видят в этом его
произведении перл его научно-литературной деятельности, полагая, что в этой статье он навеки похоронил дарвинизм. Это
бы еще ничего, но нашелся ученый (академик Фаминцын), V
беспристрастно ставящий и мою критику и возражение г. Страхова на один уровень, даже, повидимому, склоняющийся на
сторону того, за кем осталось последнее слово 1 . Долее молчать невозможно. Делать нечего; вторично, против
желания,
приходится браться за перо, для того, чтобы охладить преждевременный восторг наших антидарвинистов, показать всю
безнадежность их лилипутских походов против одного из гигантов научной мысли девятнадцатого века, кстати пояснить
беспристрастному ученому, в чем заключается разница между
строгою логикой и софистической эристикой.
Д л я облегчения своей задачи, а еще более для того, чтобы
читатели видели, что я не оставляю ничего существенного
в статье г. Страхова без ответа, буду придерживаться того
же деления, тех же курьезных заголовков, которые придуманы самим г. Страховым.
1
НАЧАЛО ПОЛЕМИКИ
Г . Страхов начинает с того, что с неподражаемою игривостью, конфиденциально сообщает своим читателям секрет,
сокровенный смысл его первой статьи по поводу книги Данилевского 2 . Статья эта, — поясняет он, — была только рекламой, имевшей в виду во что бы то ни стало заставить говорить
об этой книге, худо ли, хорошо ли — все равно, лишь бы только
нарушилось то невыносимое для поклонников Данилевского
молчание, которое сопровождало ее появление. Вот уж подлинно: un secret de1 Polichinelle! * Для кого же было [не] ясно
истинное значение этой статьи? Одно название ее — «Полное
1
См. мою статью «Странный образчик научной критики». «Русская
Мысль», 1888, кн. I I I . (В этом томе см. стр. 425. Ред.).
2
«Русский Вестник», 1887 г., январь: «Полное опровержение дарвинизма».
* секрет Полишинеля. Ред.
опровержение» — прямо отзывалось трескучей рекламой. Но
не в том дело; эта исповедь нужна г. Страхову только для того,
чтобы похвастать, как ловко он будто бы выманил меня на
бой, а по этому поводу, кстати, с первых же строк отрекомендовал меня своим читателям как самодовольного пошляка;
это нужно было для того, чтобы изобразить себя хитроумною
лисою, а меня — падкой будто бы на лесть — вороной. Для
этой благой цели он также с первых же строк прибегает к приему, которым потом широко будет пользоваться в своей статье,—
приему очень элементарному, заключающемуся в том, чтобы
вставлять мне в рот диаметрально противоположное тому, что
я говорю. Он пишет: «Тимирязев думает, что я (т. е. г. Страхов) возгордился таким отличным ученым, как он», между
тем как, в действительности, я пишу, что очень хорошо понимаю иронический тон его похвал, что в его глазах я только
«самый последний сторонник несомненного заблуждения». Не
довольствуясь этим, через несколько страниц г. Страхов уже
прямо выставляет меня фатом, который сам себе говорит комплименты. Он пишет: «г. Тимирязев сам себя называет серьезным ученым», и еще имеет смелость ссылаться на страницу,
очень хорошо зная, что там этого не говорится. Я говорю, что
«каждый серьезный ученый», заглянув в книгу Данилевского,
«перешел к своим очередным занятиям», а я-то именно этого
не сделал и подробно объясняю — почему. Г. Страхов мог
сделать из этих слов вывод, что я сам считаю себя «несерьезным» ученым, но это не входило в его расчеты: ему нужно было
выставить меня в глазах своих читателей хвастливым фатом
и сразу возбудить против меня предубеждение. Останавливаю
внимание читателя, на первых же порах, на этом характеристичном литературном приеме г. Страхова, с которым, повторяю,
придется не раз встретиться во всей статье.
Поговорив немного о «фанатизме ученых», мешающем им,
конечно, проникнуться мировым значением таких книг, как
книга Данилевского (к чему мы вернемся), рассказав никому
не интересные подробности о том, как я читал лекцию, и что
он, г. Страхов, в это время перечувствовал, он патетически
восклицает: «Публичная лекция — страшное орудие, и оно-то
неожиданно было направлено на дело, за которое я стоял».
Здесь невольно спрашиваешь себя: на что же собственно ропщет г. Страхов? Если я мог, в Москве, в публичной лекции,
защищать дарвинизм, то что же могло помешать г. Страхову,
вооружившись своим «полным опровержением» или «всегдашнею ошибкой», пройти с этим «страшным оружием» по всем
городам и весям земли русской? Очевидно, что в этом ненужном отступлении о моей лекции кроется какой-то скрытый
смысл. Г . Страхов обращает внимание на примечание к моей
статье, в которой сказано, что это «публичная лекция, значительно
переработанная и дополненная», и что потому он
может «привлечь к ответственности» только, печатную речь.
Для усиления смысла г. Страхов слово «значительно» даже пишет курсивом. Смысл всего этого, очевидно, заключается в инсинуации, что я, пожалуй, позволил себе на лекции многое
такое, за что г. Страхов не может призвать меня к ответственности. Спешу успокоить г. Страхова: я не имею обыкновения
отказываться от своих слов, все равно — произнесенных или
напечатанных. Что же касается примечания, то оно сделано
даже и не мною, а редакциею, без моего ведома; все, что я читал, дословно появилось и в печати, дополненною же статья
явилась потому, что из лекции были выкинуты места, которые
для лекции были бы слишком скучны. Успокоив напрасно
встревожившуюся подозрительность г. Страхова, перейдем
к сущности дела, посмотрим, как будет он «привлекать меня
к ответственности». Впрочем, г. Страхов не так-то легко приступает к делу: за первым вступлением у него следует еще второе. Оно озаглавлено:
2
МОИ З А Т Р У Д Н Е Н И Я
Для того, чтобы окончательно отрекомендовать меня своим
читателям, г. Страхов уверяет их (очевидно, с никогда не покидающею его уверенностью, что его читатели меня не читали
и не станут читать), что на 50 страницах моей статьи «нет ни
одного возражения», что я «только не дочитал, не понял, исказил», что «смутность содержания такова, что читатель не выносит из статьи никакой ясной мысли», что «такая манера хо-
роша только для фельетониста», что «опровергнуть статью вовсе нет надобности», что «на любой странице (у Данилевского)
более логики и строгой мысли, чем во всей статье г. Тимирязева, как бы мы эту статью ни выжимали». После этого набора
огульно голословных, бездоказательных резкостей г. Страхов
с неподражаемою наивностью уверяет, что он решился не быть
резким, хотя ему на это будто бы дает полное право резкий
тон моей статьи, в доказательство чего приводит целый ряд
выражений, выхваченных без связи с содержанием.
Г. Страхов упустил из виду только одно коренное различие
между своею голословною бранью и тем, что он называет моими резкостями. Каждая моя «резкость» — только строго определенная квалификация известного приема известной неприличной выходки самого Данилевского. Когда он говорит,
что превратил дарвинизм «в кучу мусора», я называю эту выходку «самодовольно-самоуверенною», и всякий человек, не
ослепленный личною приязнью, не может не согласиться
с этим. Когда он уверяет, что «прижал к стене самоуверенного (!)
Дарвина», а на деле приводит не имеющую смысла выписку
из затхлого словаря прошлого столетия, я говорю, что «самоуверенность и хвастливость возмещают у него недостаток логики». Когда он серьезно уверяет, что понятность и быстрое
распространение теории доказывают, что она плоха, то я говорю, что он «позволяет себе шутить над здравой логикой»,
и т. д. и т. д. Каждое мое обвинение не только подкреплено
фактом, но всегда является после вызвавшего его факта. Что
же общего между этими суждениями и огульною, по самой
своей природе не допускающею доказательства, бранью вроде
изречения, что «на любой странице (у Данилевского) более
логики и стройной мысли, чем во всей статье г. Тимирязева,
как бы мы эту статью ни выжимали»? Я полагаю, что подобные
обороты речи, наравне с их прототипом: «он ему в подметки
не годится», давно следует предоставить в безраздельное пользование базарных торговок.
Устояв, по его мнению, от соблазна наговорить мне резкостей (любопытно бы знать, что же г. Страхов называет резкостью?), он делает попытку встать по отношению ко мне на
какую-то высшую точк// зрения, вроде той, которая выражается
известной фразой — tout comprendre c'est tout pardonner * .
Он снисходит до того, что старается отожествиться с моею личностью и великодушно разъяснить себе, почему я роковым
образом должен был впасть в заблуждение — увлечься таким
жалким ученым, как Дарвин, и не понять, что Данилевский
(на которого, по изящному выражению г. Страхова, я «неожиданно для себя наскочил») «сияет умом». В самом деле, что я такое? Только ученый, да к тому же еще профессор. Этим, по
мнению г. Страхова, все сказано. «Нравы ученых людей, —
говорит он еще ранее этого места, — мне давно знакомы и из
книг и из практики.
Только религиозные фанатики превосходят их в закоснелом предубеждении и отвращении ко всему,
что противоречит их мнениям. Ученые принадлежат к числу
людей, наиболее слепо преданных своим авторитетам и менее
всего способных отказаться от своих предвзятых мыслей. То,
что они называют наукой, есть их исповедание, их профессия;
они наполнены и поглощены этою наукой и потому, естественно,
заражаются, так сказать, научным фанатизмом». Насколько
все это верно по отношению ко мне (так как обо мне, к сожалению, идет речь в этой главе), читатель вскоре будет в состоянии судить; он увидит, кто из нас более фанатик: я ли по отношению к Дарвину или г . Страхов в своем культе Данилевского. Я , впрочем, далек от мысли оспаривать, что и тип ученого имеет свои отрицательные — пожалуй, даже смешные —
стороны; я, напротив думаю, что они были достаточно эксплоатированы в литературе и даже на сцене. Но в свою очередь,
я думаю, а г. Страхов, может быть, даже знает «и из практики»,
что есть тип еще более смешной: это — тип неудавшегося ученого, тип человека, от науки отставшего, к другому делу не
приставшего, сохранившего какой-то остаток горечи по отношению к этой не давшейся ему науке, убежденного, что она
остановилась, когда он забросил свои книжки, и пытающегося
уверить себя и других, что наука двигается не трудами ученых,
а схоластическою диалектикой или внезапным осенением людей, от науки свободных.
Кроме двух основных моих недостатков (т. е. качеств ученого и профессора), г. Страхов усматривает во мне еще два не• все понять — все простить. Ред.
достатка, т. е., с его высшей тРчки зрения, два смягчающих
обстоятельства. Я преклоняюсь перед европейскою наукой
и на таких «сияющих умом» деятелей, как Данилевский, смотрю как на дилетантов. Г. Страхов, как и подобает, глумится
над этим преклонением перед европейскою наукой. Слово
«европейская», — говорит он, — в глазах профессора и его
слушателей означает «драгоценное качество», и далее иронизирует: «обязанность профессора у нас состоит ведь, главным
образом, в том, чтобы неустанно следить за общим направлением европейской науки и передавать его своим слушателям».
Сознаюсь с полною откровенностью, что слово «европейская»
имеет действительно «драгоценный» для меня смысл. Говоря:
«европейская мысль», «европейская наука», я нимало не противопоставляю ей какую-нибудь русскую мысль, русскую науку, — наука одна, и русская наука только один из голосов
в общем хоре. Я только не смешиваю этого голоса с тем трусливым шипом или молодецким свистом, которыми многие безуспешно пытаются заглушить этот стройный хор общечеловеческой мысли. Что же касается обязанностей профессора, раз
что и о них уже зашла речь, то я замечу, что всякое ремесло,
в том числе и профессорское, имеет свои тяжелые и свои священные обязанности. К числу тяжелых обязанностей профессора относится обязанность читать книги толстые и книги глупые, что бывает вдвойне тяжело, когда толстые книги оказываются в то же время и глупыми. К числу же самых священных
обязанностей профессора относится обязанность облегчать
слушателям чтение толстых и глупых книг, снабжать этих
слушателей компасом, при помощи которого они могли бы
пробиться через самые непроходимые схоластические дебри,
не рискуя в них окончательно заблудиться.
Второе обвинение (или оправдание — право, уж не разберусь) заключается в том, что на Данилевского я смотрел как
на дилетанта — с некоторою долей пренебрежения. Каюсь
и в том и в другом. Но скажите, как, если не дилетантом, назвать человека, который сегодня уничтожает филоксеру, завтра — Дарвина, а мимоходом и Европу? И как, если не пренебрежением, называется то чувство, которое внушала синица,
когда она не зажгла моря?
В заключение этой главы г. Страхов похваляется, что мог
бы разобрать по ниточкам все его (т. е. мои) «промахи и недосмотры», но не делает этого только потому, что если бы это
и было «весело» ему, то не было бы весело читателям. Позволительно, однако, сомневаться, чтобы г. Страхов рискнул
проявить такое самоубийственное самоотвержение, — по крайней мере, во всей статье незаметно, чтоб он себе отказывал
в этом веселье, — с каким успехом, читатель увидит. К тому
же, посвятив 80 страниц разбору статьи, в которой их с небольшим 50, не только можно, но и должно было разобрать ее «по
ниточкам», и если этого не сделано, то уж, вероятно, не по отсутствию желания.
Наконец, на последних строках этого второго введения
г. Страхов внезапно озадачивает заявлением, что для того,
чтобы полемика была плодотворна, нужно найти, в чем заключается главная ошибка дарвинизма. Вот уж признаться, не
ожидал! Право, как обухом по голове. Да помилуйте, ведь
Данилевский уж нашел эту ошибку или эти ошибки? Ведь
г. Страхов возвестил же urbi et orbi * о полном опровержении
дарвинизма? Полнее полного не бывает. Стоит, значит, только
предъявить «непонятый и искаженный» мною текст Данилевского. Оказывается, что нет. При полном опровержении
главную-то ошибку
и просмотрели. Данилевский в двух своих
томах n'a pas trouvé le point * * ! Приходится начинать сначала.
Г. Страхов отправляется, уже за свой счет, в поиски за настоящим опровержением дарвинизма. Вот уж подлинно Сизифов
труд!
3
ВОЗМОЖНОСТЬ И Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Наконец-то к делу. Г . Страхов начинает с того краткого,
сжатого определения естественного отбора (т. е. сущности
дарвинизма), которое я предпосылаю разбору воззрений Данилевского. Я говорю, что если сопоставить три факта, не подлежащие сомнению, так как они вытекают из наблюдения еже* всем и вся. Ред.
** не нашел сути. Ред.
2 2 К. А. Тимирязев,
т.
VU
337
дневной действительности,— факт изменчивости существ, факт
наследственности признаков, факт геометрической прогрессии размножения, — то общий результат их, т. е. факт переживания наиболее приспособленного, или естественный отбор, является как логически «обязательный для нашего ума
вывод» 1 .
Что же делает г. Страхов для того, чтобы лишить этот вывод его обязательной для нашего ума силы? Три раза на двух
страницах повторяет он только что приведенные положения,
с совершенно равнозначащими приставками. По мнению дарвинистов, органические существа изменяются, изменения наследуются, размножение совершается в геометрической прогрессии, а я говорю, поясняет он: органические существа могут
измениться, изменения могут наследоваться и т. д. вплоть до
конца. Дарвинисты говорят: отбор — только необходимое следствие изменчивости, наследственности и т. д., а я говорю, —
повторяет г. Страхов, — отбор произойдет, если произойдут
изменения, если эти изменения унаследуются и т. д. опять до
конца. Но опасаясь, что эти могут и эти если недостаточно еще
пробрали читателя, он в третий раз перефразирует ту же мысль,
с еще более длинною приставкой. Вы говорите: изменения
произошли, а я говорю: могли произойти, а могли и не произойти', вы говорите: наследственность передала, а я говорю:
могла передать, могла и не передать и так далее опять по всему
ряду. В этом, с литературной точки зрения, безвкусном пережевывании одной и той же мысли на три совершенно сходных
лада, в этом убийственном, тоску наводящем толчении на одном
месте, как мы увидим, заключается главный, победоносный
аргумент всей статьи. Он означает вот что. Если, думает убедить своих читателей г. Страхов, я мог ко всем посылкам дарвинизма прилепить эти ядовитые приставки: могут, если могут,
а могут и не, то значит, что все эти посылки, т. е. изменчивость,
наследственность, геометрическая прогрессия размножения —
не факты, не реальная действительность, а лишь возможности,
а, следовательно, и вывод из них — естественный отбор —
возможность в кубе, т. е. полная невероятность. «Этот подбор,—
1
Выражаюсь здесь нарочно словами Дюбуа-Реймона, человека, как
известно, способного логически рассуждать.
докторально проповедует г. Страхов, — таким образом, вовсе не есть факт, с логическою необходимостью вытекающий
из других несомненных фактов, а есть только возможность,
выводимая из других возможностей, и, следовательно, тем более шаткая, чем больше нужно предполагать этих возможностей. Ошибка дарвинистов заключается поэтому в том, что они
возможность принимают за действительность». А несколькими
строками далее он уже тоном победителя восклицает: «И нет
ничего легче, как придумать возможность, которая никогда
не исполняется в действительности. Так и подбор в природе
не существует».
Точно так ли? Не вернее ли, что между посылками и выводом г. Страхова нет никакой связи? Не вернее ли, что, прилепив свои «могут, не могут» к посылкам в одном, узком смысле,
он желает получить их в выводе уже в совершенно ином, широком смысле? Подумал ли г. Страхов, что его приставки могут
быть прилеплены к составным элементам почти любого реального, опытом удостоверяемого явления, и что этим явление это
(конечно, не на бумаге, а на деле) не будет перемещено из мира
реальной действительности в призрачный мир придуманных
возможностей?
Поясним дело на примере, нарочно избрав такую теорию,
согласие которой с действительностью лежит вне сомнения.
Объясняет ли наука, откуда берется вода в реке, например,
в Волге? Конечно, объясняет и так удовлетворительно, что
всеми это объяснение принимается за достоверную истину. А
теперь посмотрим, выдержит ли эта научная теория натиск
придуманных г. Страховым «могут, не могут». Происхождение
воды на Волге объясняется приблизительно так. Из атмосферы
падают осадки (дождь, снег и пр.); они просачиваются сквозь
почву, образуют источники; источники образуют речки, реки,—
словом, Волгу с ее притоками. Так думают натуралисты, да и
простые смертные. Но вот приходит философ, вроде г. Страхова,
и ведет такую речь: «Вы говорите, что дождь падает на землю;
но ведь он может падать, а может и не падать; вы говорите:
вода просачивается сквозь почву; но ведь она может просачиваться, а может и не просачиваться, например, испаряться;
вы говорите, что вода собирается в источники; но ведь она
оо*
339
может, собираться, может и не собираться, например, образовать болота и т. д. до конца. Вся ваша теория, продолжает наш
философ, объясняющая происхождение воды на Волге, только
возможность,
основанная на длинном ряде возможностей и,
следовательно, „тем более шаткая"». «Нет ничего легче, как
придумать возможность, которая никогда не исполняется в
действительности», «так и процесс, которым вы объясняете
происхождение воды в Волге, в природе не существует». Не
правда ли, какая блестящая диалектика, какой убийственнологический вывод? Но подрывает ли он хотя сколько-нибудь
достоверность нашего объяснения, переводит ли он его из области реальной действительности в область невероятной возможности?
Всякому человеку, привыкшему здраво рассуждать, понятно, где кроется логическая ошибка, в чем несоответствие
между посылками и выводом. Ясно, что слово «возможность»,
примененное в известном, ограниченном смысле к части, распространяется в ином, более широком смысле на целое явление.
Когда я говорю, что такая-то научная теория только возможна, я этим хочу сказать, что она обладает самою низкою
степенью достоверности, что она даже не может быть названа
вероятной, что она только терпима, потому что не противоречит
действительности, и в сущности совсем бесполезна. Сказать об
естественно-исторической теории, что она только возможна,
значит приравнять ее к тем трансцендентальным, метафизическим построениям, которые в свое оправдание могут привести
только то, что они мыслимы, т. е. не заключают внутреннего
противоречия. В таком-то именно уничижительном смысле,
очевидно, желал г. Страхов подсунуть своим читателям свой
вывод: естественный отбор — не действительность, а только
возможность, по крайней своей невероятности в природе не
допустимая. Приклеить во что бы то ни стало на спину дарвинизму билетик с этим позорящим словом «возможность» — вот
в чем была цель г. Страхова.
Но имел ли он на то право?
Когда я говорю: дождь может итти, а может и не итти, я
только хочу сказать, что он может итти и здесь или сегодня
и не итти там или завтра, но ни в каком случае не в праве я
делать из этого вывод, что существование дождя вообще (т. е.
в течение года над всем бассейном Волги) могло быть подвергнуто сомнению. Ни в каком случае я не смею утверждать, что
в объяснение происхождения вод Волги дождь входит только
возможным фактором, которого действительность может и не
оправдать. Когда я говорю, что вода может просачиваться в
почву, а может и испаряться с ее поверхности, я опять только
заявляю, что эти явления заменяют одно другое в различных
местах, в различное время, но не подвергаю этим сомнению,
что известное количество все же просочится чрез почву и т. д.
Дождь вообще, просачивание вообще, т. е. по отношению ко
всему бассейну (что только и касается нашего объяснения)—
не возможности, а реальные наличные
действительности,
почему и построенное на них объяснение — не возможность
в кубе или в какой-нибудь там высшей степени, как это выходило
бы по г. Страхову, а простая реальная
действительность.
Совершенно так же, когда г. Страхов утверждает, что существа могут изменяться, а могут и не изменяться, то лишь в том
ограниченном смысле, что иногда сходство с родителями почти
полное, иногда же менее полное, но не в праве отрицать факт,
что на свете не бывает двух живых существ абсолютно сходных,
т. е. не может отрицать постоянной наличности изменчивости
вообще. Когда он говорит, что наследственность может проявляться, а может и не проявляться, то опять лишь в том ограниченном смысле, что один ребенок уродится в отца, другой в
мать, третий в деда и т. д., но не может отрицать факта наследственности вообще, т. е. закона, что организмы производят
себе подобных. Следовательно, как дождь и пр. по отношению
ко всему бассейну реки — постоянно наличная действительность, точно так же изменчивость, наследственность, геометрическая прогрессия размножения по отношению к общему течению
органического мира (в пространстве и во времени) — постоянно наличная действительность, и результат из этих фактов, т. е.
происхождение реки и изменение организмов путем естественного отбора — такая же «обязательная для ума» «реальная действительность)), проверяемая снова реальною действительностью.
В с я аргументация г. Страхова сводится собственно к тому,
что когда нет в наличности всех факторов, из которых слагается
отбор, то не будет и отбора. Т . е. отбора не будет, когда его
не будет. То же, очевидно, и по отношению к реке. В странах
с постоянным или перемежающимся бездождием реки отсутствуют или имеют перемежающееся существование. Но эти
исключения в обоих случаях, как и всегда, только подтверждают правило. Из того, что рек не существует там, где их не
существует, нельзя делать заключение, что рек вообще не
существует.
Сущность софизма г . Страхова, я полагаю, теперь всякому
понятна. Из того, что данное явление (или факторы, из которых оно слагается) не всегда и не везде повторяется с неизменным однообразием, делается ни с чем несообразное заключение:
значит, и все явление, во всей своей совокупности, имеет
сомнительное, проблематическое существование; оно существует не в реальной действительности, а лишь в области призрачной. возможности. Следуя логике г. Страхова, на основании
того, что солнце может только слабо светить в пасмурные дни
и вовсе не может светить ночью, я должен бы заключить, что
и все учение о зависимости органического мира от солнца
построено на
возможностях.
Таким образом, попытка г. Страхова эскамотировать реальную действительность естественного отбора и вместо нее оставить в руках у слушателя слово «возможность», в самом оскорбительном для научной теории смысле, оказывается очень
прозрачным диалектическим фокусом. Фокус этот, тем не
менее, очень ценен для г. Страхова. Главное его достоинство,—
что он легко запоминается: прочел заголовок I I I главы — и
знаешь главную суть всей статьи: дарвинизм построен не на
почве фактов, наблюдаемых в природе, а иа придуманных
возможностях, — он не действителен, а только возможен. Какая простая, легко запоминаемая формула! Жаль только, что
она противоречит здравой логике и потому не только недей-
ствительна,
но и
невозможна.
Г. Страхов, впрочем, сам, повидимому, сознает, что вся
эта глава представляет только hors-d'oeuvre. * Для того, чтобы
опровергнуть дарвинизм, еще недостаточно доказательства,
* вводный эпизод («закуску»). Ред.
что он возможен, нужно еще доказать, что он невозможен. А для
того, чтобы доказать невозможность возможного, нужно
только доказать, как поясняет в конце главы г. Страхов, что
это возможное противоречит действительности. Давно бы так.
Умные речи и слушать приятно. С того бы начать. Еще в своей
статье * я сказал: для того, чтобы доказать, что не существует
естественного отбора, нужно только доказать, что его не существует — не более, но и не менее этого. Вместо того, чтобы туманить ум читателю этой софистикой о действительном и возможном, нужно было просто сказать ему следующее: дарвинисты
выдают свой естественный отбор за действительность, пусть
так; но против их действительности мы выставляем свою действительность, истинность которой доказываем тем-то и тем-то.
А так как двух взаимно исключающих действительностей быть
не может, а наша действительность настоящая, не подлежащая
сомнению, то значит их действительность ложная. Что и требовалось доказать. Это была бы аргументация простая и ясная.
Не потому ли она и не входила в расчеты г. Страхова? Выше
я заметил, что троекратное повторение одной и той же мысли,
мне кажется, противоречит требованиям изящного вкуса. Но
я. боюсь, что я сказал наивность. У г. Страхова тут мог быть тонкий расчет. Весь смысл этой главы в том и заключался, чтобы
этими повторениями, однообразными, как дробь барабанящего
по крыше осеннего дождя, усыпить, загипнотизировать читателя и в этом состоянии внушить ему безотчетное отвращение
к дарвинизму, сделать так, чтобы от этого дарвинизма у него
остался как будто неопределенный дурной вкус во рту, какое-то
смутное представление, что это не наука, а какое-то придуманное метафизическое построение, с которым и церемониться-то
нечего. Как весь смысл двух введений заключался в том, чтобы
во что бы то ни стало, хотя бы в ущерб истине, пробудить в читателях антипатию к моей личности, так и здесь нужно было не
убедить или разубедить его в чем-нибудь, а только прочно заронить в него безотчетное предубеждение против дарвинизма
и уже на этой благодарной почве приступить к настоящему делу,
т. е. к доказательству, что дарвинизм противоречит природе
* «Опровергнут пи дарвиниэм?» См. выше, стр. 263. Ред
Поспешим же узнать, в чем заключается это противоречие,
раскрытие которого обещано в следующих главах, а эту, как
не оправдавшую хвастливого обещания — найти «главную
ошибку» дарвинизма, зачеркнем красным крестом. Так мстит
логика всем, кто ее смешивает со своими диалектическими фокусами.
4
КНИГА П Р И Р О Д Ы
Но и здесь, с первых слов, читателя ждет полное разочарование. Вместо обещанного открытия, что дарвинизм противоречит действительности, т. е. природе, оказывается, что речь
пойдет только о противоречии между дарвинизмом и одною
метафорой Руссо, которую г. Страхов заимствует из моей статьи 1 .
Метафора красивая, для своего времени, как я указал, имевшая
значение, но представляющая, как я также указал, тот естественный недостаток, что она устарела на одно столетие. Делать
нечего, приходится повторяться. Против попытки Эмпедокла
и материалистов восемнадцатого века — объяснить совершенство органического мира случаем — Руссо метко возражает,
что все равно было бы утверждать, что рассыпавшийся случайно
типографский шрифт расположится в Энеиду. Приведя этот
красноречивый аргумент Руссо, я на нескольких страницах
доказываю, как изменилась точка зрения со времени Руссо и как
Дарвин устранил это ребяческое объяснение слепым случаем,
открыв в природе процесс, своего рода механизм, который
именно упорядочивает этот слепой случай, направляя его неизбежным, роковым образом к определенному результату,
1
Г. Страхов уверяет, будто эта ссылка «употребляется часто дарвинистами». Признаюсь, я думал, что я первый обратил внимание на эти слова
Руссо, и если бы г. Страхов указал, у какого дарвиниста он встречал их
ранее, я охотно исправил бы свою ошибку. Странно только, почему, вопреки избитости этой ссылки, ни Данилевский, ни г. Страхов не воспользовались ею ранее меня. Впрочем, дело не в том, я ли или кто другой
в первый раз цитировал это место Руссо, а в той характеристической особенности, что всегда самое лучшее оружие против себя находили или сам
Дарвин, или дарвинисты и вежливо передавали его в руки врагов, приг л а ш а я их убедиться, что оно не опасно.
к сохранению совершенных (в смысле приспособленных к условиям существования) и гибели несовершенных форм жизни,—
другими словами, к тому, что мы разумеем под словами гармония
или целесообразность органической природы * . Г . Страхов
в двух главах перефразирует это красивое, но уже к делу не
идущее сравнение Руссо. Меткая, образная метафора у него
расползается на целые страницы, переворачивается и так и этак,
с бесконечными длиннотами, от которых мысль Руссо, не выигрывая ничего в логической, очень много утрачивает в эстетической силе.
Для того, чтобы мнение это не показалось голословным,
остановимся на этой длинной амплификации аргумента Руссо.
Руссо говорит, что случайно рассыпавшийся шрифт не сложится
в Энеиду, и с этою мыслью, выраженной в одной строке, читатель, конечно, соглашается. Г . Страхов на целой странице
убеждает читателя в невероятности предположения, чтобы этим
способом, хотя бы и в несколько приемов, т. е. разбрасыванием
шрифта и устранением неудачных комбинаций, сложилась бы
книжка толстого журнала, и, повидимому, очень доволен,
когда ему удается убедить читателя, что это было бы «чудовищно
невероятно». Одного только он не замечает, что то, против чего
боролся Руссо, не то, против чего борется он, г. Страхов; что
Руссо с этою аргументацией не выступил бы против дарвинизма,
потому что... да просто потому, что он был Руссо, а не г. Страхов. Поясним, в чем, главным образом, изменилась точка зрения, придерживаясь того же сравнения Руссо. Энеида не может
набраться сама собою, хотя бы в несколько приемов,— это такая
понятная истина, что для этого не стоило мучить читателя на
целых страницах; он сдался бы и без этой пытки. Но представим
себе, что человеческая речь состояла бы всего из двух слов,
скажем для примера, из слова «вперед» и слова «назад», а слова
эти были бы отлиты в две стереотипные дощечки. Представим
себе далее, что типографии одного журнала было бы внушено
печатать только слово «вперед», а типографии другого журнала — слово «назад». Скажите, неужели бы было «чудовищною
невероятностью», если бы в первой типографии выходило все
* См. выше, стр. 309 и след.
Ред.
«вперед», «вперед», а во второй — все «назад», «назад». Я полагаю, самого несложного автоматически действующего механизма было бы достаточно для того, чтобы достигнуть этого результата. Так и в типографии природы. В ней набираются не
заранее намеченные предложения, строки, страницы, томы.
В ней также набираются два слова: «полезно» (вперед) и «вредно»
(назад), и каждый раз, что выпадает дощечка со словом «полезно», она идет в дело, каждый раз что выпадает дощечка со
словом «вредно», она отбрасывается, и автоматический наборщик, исполняющий этот нехитрый труд, называется — естественный отбор, фигура не фиктивная, а, как мы видели в предшествовавшей главе, вполне реальная.
Пока природа представлялась пышным чертогом, созданным
для человека, пока, например, цветы были только ковром для
его ног, их ароматы — фимиамом, возносившимся пред его
лицом, до тех пор многое было трудно объяснить; но когда
оказалось, что все это существует только потому, что оно полезно тем существам, которые им обладают, когда оказалось,
что в природе вообще существует только то, что полезно самим
обладателям, тогда задача значительно упростилась 1 . В музыке
великие художники разрабатывают самые простые темы в рос1
Весьма наглядно выражается это коренное различие во взглядах
Руссо и дарвинистов на следующем примере. Бесконечное разнообразие
форм листьев и однообразие корней Руссо объясняет тем, что первые
предназначены пленять взоры человека, а вторые скрыты от них. Современные дарвинисты, в целом ряде исследований, объясняют пользу сіля
самого растения малейших особенностей строения, формы и распределения листьев. Здесь вполне кстати напомнить читателю одну подробность
нашей полемики. Дарвин указывал, что во всем органическом мире нельзя
найти ни одной черты строения, которая была бы исключительно полезна
не для существа, ею обладающего, и что такой факт был бы серьезным
возражением против его теории. Данилевский с непонятным легкомыслием утверждал, что на той самой странице, на которой он это пишет,
Дарвин сам приводит такой опровергающий его теорию пример. Г. Страхов, между прочим, рекомендовал это место книги Данилевского, как одно
из образцовых. Я показал, что ничего Данилевскому доказать не удалось и что он при этом только обнаружил «самоуверенный задор». (См.
выше, стр. 301 и след. Ред. ) Нажаловавшись на_меня читателю за то, что
я прибегаю к таким ревким выражениям, г. Страхов, однако благоразумно
предал вабвению весь этот неприятный для него эпизод.
кошных вариациях. Органический мир представляет бесконечные
вариации на эту простую тему — «польза».
После этой неудачной амплификации уже к делу не идущего
аргумента Руссо, г. Страхов вдруг принимается делать мне внушение за то, что я будто бы не понимаю различия между задачей
астрономии, биологии и психологии. Все это по следующему поводу. Данилевский, в философской части своей книги, очень патетически объясняет,что так как материалом для отбора служат
случайные изменения,то весь дарвинизм сводится к случайности,
а от этой одной мысли должно будто бы человека «тошнить», должны у него «переворачиваться внутренности». На это я, между
прочим, возражаю, что солнце всегда представлялось олицетворением непоколебимого совершенства, источником всех благ на
земле, лучезарным Фебом и, однако, современная астрономия
учит нас, что поверхность солнца представляет настоящий хаос
случайных явлений 1 . И, однако, этот хаос мелких случайных явлений не мешает солнцу в целом оставаться в наших глазах
тем же, чем оно было до сих пор, и от этой мысли никого еще не
«тошнило». Г. Страхов докторальным тоном поучает меня, что
мысль о случайности в сфере неорганических явлений не может
так возмущать ум, как мысль о той же случайности в сфере явлений биологических и еще более психических. «Г. Тимирязев спрашивает, почему того же (т.е. того,что я говорил по поводу солнца)
нельзя сказать и об органическом мире? Странный вопрос, особенно странный в устах биолога! Я думаю, потому, что нельзя
смешивать различные вещи, потому, что задача, представляющаяся нам в органическом мире, есть, очевидно, особая и несравненно более высокая задача, чем задача астрономии. Для ясности сделаем еще шаг. Кроме органических явлений, существуют
еще психические, есть область нравственных и умственных
форм, в которой мы постоянно вращаемся. Тут задача нашего
ума опять иная, опять неизмеримо более высокая. Итак, что же
удивительного, что мы не сваливаем всего в одну кучу и различаем, где есть различие? Ведь это — первое научное правило».
1
Г. Страхов, повидимому, в этом сомневается и говорит, что трудно
понять, что я под этим разумею. Но мне поучать его популярной астрономии, конечно, не приходится; потому могу только рекомендовать ему
книги Юнга, Ланглея и др.
Тон, как видят читатели, который можно упрекнуть в чем
угодно, только не в недостатке самонадеянной развязности.
Но мне сдается, что источник этой самонадеянности лежит в довольно странном самообольщении. Убаюкав себя мыслью, что
его читатели моей статьи не читали и не станут читать, г. Страхов, кажется, вообразил, что и я сам, вероятно, забыл, что я писал, и поленюсь справиться. Как иначе объяснить себе эту
развязность, с которою он, как школьника, поучает меня азбучной истине о существовании иерархии наук, очень хорошо
зная, что все его рассуждение о промежуточном положении
биологии заимствовано им из моей статьи; что в том месте, на
которое он ссылается, на которое он будто бы возражает, уменя
идет речь не об одной астрономии, а именно об астрономии
и истории (вместо его психологии), что вся моя аргументация
в том именно и заключается, что я ставлю биологию между
астрономией и историей (как у него между астрономией и психологией) и говорю, что если элемент случайности, встречаясь
в астрономии и истории, не возбуждал ни в ком «тошноты»,
то почему же он специально должен вызвать это расстройство,
встречаясь в промежуточной между ними области биологии?
Вот весь ход моего рассуждения. Астроном видит случайные
явления, встречающиеся на поверхности солнца, но это не
мешает ему изумляться попрежнему стройности целого, видеть
в солнце центральное светило, управляющее движениями планет, разливающее вокруг себя свет и жизнь. Историк сознает,
что историю делают люди, с их страстями, ошибками, предрассудками, и это, однако, не мешает ему видеть, что из борющихся
случайных единичных стремлений слагается величественный
процесс исторического прогресса. Точно так же, если биолог
доказывает, что процесс органического развития, располагая
таким же случайным материалом, приводит его к такому же
изумительному результату, как и прогресс исторический, то я не
вижу повода кричать, что от этой мысли должны «переворачиваться внутренности». Вот что я говорю; вот против чего должен
был возражать г. Страхов. Но, видно, это было не так легко,
как скрыть мою настоящую мысль, выдать половину моего довода за целый и беззастенчивостью своего тона, которую примут за правдивость, заставить читателя, пожалуй, действитель-
но поверить, будто мне в голову не пришла такая простая
мысль, что задача биологии сложнее задачи астрономии.
Д а , логика мстит за себя жестоко! Т е х , кто не могут
бороться ее чистым оружием, она вынуждает прибегать к такому
жалкому приему, каково умышленное искажение мыслей своего
противника.
5
СТЕРЕОТИП
Г . Страхову показалось, что он недостаточно еще эксплоатировал метафору Руссо; в этой главе он снова к ней возвращается,
о чем свидетельствует и типографский термин, красующийся
в заголовке.
Но да не подумает читатель, что здесь идет речь о всем нам
знакомом стереотипе, т. е. металлической доске. Нет, стереотип
г. Страхова это — живое лицо, это — господин стереотип,
ремеслом, повидимому, паяльщик, а его непроизводительное
занятие заключается в том, чтобы портить типографский шрифт,
спаивая гуттенберговы подвижные буквы, по нескольку, в слова
или целые строки. Для чего понадобилась г. Страхову эта
аллегорическая личность, которую прогнали бы из всякой типографии, — так для меня и осталось непонятным. Ведь, с
г. Страховым всякий читатель уже согласился, что из типографского шрифта, как его ни перетряхивай наудачу, не сложится
книжка толстого журнала, — согласился вполне, безусловно,
бесповоротно; для чего же понадобилось ему возвращаться
к этой аллегории, еще усложненной присутствием какого-то
фантастического паяльщика? Ведь против этой аллегории можно
возразить только то, что она к делу не идет. Толстая книжка
журнала не может сложиться наудачу, потому что она должна
соответствовать тому, что уже ранее существовало в рукописи
или вообще в мыслях человека, потому что составляющие ее буквы расположены в известном, связанном общим смыслом порядке. Чудовищная невероятность заключается именно в том
предположении, что случайно рассыпающиеся и перетряхиваемые буквы расположатся в последовательности, заранее
определенной законами человеческой мысли, а не в какой бы то
ни было. Вот если бы г. Страхов и ему подобные философы
нашли оригинал, по которому набиралась книга природы,
тогда их типографские метафоры получили бы определенный
смысл. Но именно эти-то метафизические представления о «плане
творения», о «профетических типах» и пр., которыми изобиловала наука до Дарвина, исключил он из круга своих соображений, и в этом его главная заслуга. Дарвинизм отрицает в строении организмов заранее определенную идею или план, следовательно, и сравнение с набором связанных известным смыслом
слов, предложений и страниц сюда не идет; для выбора же между
двумя словами: «полезно» или «вредно» — и механизма отбора
вполне достаточно. Таким образом, мы раз навсегда развязываемся с этой типографскою аллегорией, и, признаюсь, по прочтении этих двух глав г. Страхова, мне только стало жаль бедного Руссо. Ну, зачем я его подвел; зачем его действительно
красноречивая, убежденная речь останется в понятии многих
читателей неразлучною с воспоминанием о комической фигуре
этого господина стереотипа?
Впрочем, спешу оговориться; может быть, я не совсем прав;
этот стереотип, может быть, и не комическая, пожалуй, даже,
наоборот, очень трагическая личность; это — нечто вроде
анти-Гуттенберга. Г. Страхов, как известно, не вполне одобряет
изобретение Гуттенберга. В статье «Полное опровержение дарвинизма» меня поразило одно место, где он с озлоблением говорит, что, благодаря этому изобретению, по свету гуляют такие
возмутительные заблуждения, как дарвинизм. В простоте
. душевной я думал, что ведь, благодаря этому же изобретению,
распространялись и здравые идеи г. Страхова. Теперь я понимаю,
что в воображении г. Страхова, вероятно, уже тогда мелькал
неясный образ стереотипа, при помощи которого можно было бы
окончательно обезвредить это обоюдоострое изобретение Гуттенберга. В самом деле, стоит только еще, в последний раз,
воспользоваться этими коварными подвижными буквами, набрать из всего наличного на свете шрифта одни только хорошие
книги (творения Данилевского, г. Страхова и др.), а затем
пригласить господина стереотипа, чтоб он раз навсегда запаял
человеческую мысль в определенные, навеки нерушимые формы
и тем спас ее от повреждения.
6
П Р И М Е Р СИРЕНИ
Наконец-то к делу. Помилуйте, возразит читатель, ведь
вы повторяетесь; уже за три главы вы объявили, что переходите
к делу. Вина не моя, если г. Страхов не различает реальной
действительности от своих типографских аллегорий. Итак,
приступаем к настоящему делу, к научной критике дарвинизма,
к фактическим доводам, будто бы доказывающим его противоречие с природой.
Начинает г. Страхов эту главу заявлением какой-то, ни
с чем не сообразной, смешной претензии. Он укоряет меня за то,
что в своей публичной лекции я не сообразовался с теми главами,
на которые ему вздумалось разбить свою статью «Полное опровержение дарвинизма». «Г. Тимирязеву не угодно было следовать
за мной», — говорит он, очевидно, обиженным тоном и затем
пытается уверить читателя, что я произвольно выхватил «один
пункт» из книги Данилевского, не упоминая «о полном составе
аргументации». Но, говоря это, г. Страхов не может не сознавать, что он умышленно злоупотребляет доверием своих читателей. Не один какой-нибудь пункт выбрал я для опровержения, а самый главный, самый центральный, на котором построено все опровержение, — словом, тот пункт, который г. Страхов
с восторгом называл «истинным открытием Н. Я . Данилевского».
Все это г. Страхов сам подтверждает последними словами этой
самой V I главы. Но я не ограничился этим: я привел (опять
останавливаясь на самом важном, для дела существенном) целый
ряд примеров, иллюстрирующих, как обработаны у Данилевского частности. Не мог и не хотел я только, подобно г. Страхову, расплываться в ненужных подробностях; я показал,
как жалка главная аргументация, и предоставил досужему
читателю вылавливать мелкие промахи, щедрою рукой рассыпанные по всей книге.
Напомню в двух словах, в чем заключается этот главный
пункт, на котором построено все пресловутое доказательство,
что естественного отбора «не существовало, не существует и существовать не может». Это тем более необходимо, что вся статья
г. Страхова вертится вокруг да около этого пункта. Данилев-
ский при помощи теории вероятностей доказывает невозможность возникновения в природе, в естественном состоянии,
новой чистокровной породы, а так как, по его мнению, дарвинизм построен будто бы на предположении, что в природе возникают чистокровные породы, то из этого понятен торжествующий вывод: значит, весь дарвинизм построен на абсурде.
На это я возражал, что не только Дарвин или дарвинисты,
но ни один человек, «не повредившийся в своих умственных
способностях», не станет утверждать, что достаточно спустить
в степь английского скакуна для того, чтоб образовалась чистокровная порода английских скакунов. Такого нелепого предположения Дарвин не делал и не мог делать; придумал его Данилевский, навязал Дарвину и затем торжественно, математически, на ста слишком страницах, доказал, что придуманная
им нелепость... нелепа. Я показал в своей статье, что возражение
Данилевского касается не дарвинизма Дарвина, а дарвинизма,
выдуманного самим Данилевским. Вот к чему я свел «истинное открытие» Данилевского, так превознесенное г. Страховым.
Вопрос мною поставлен ясно. Посмотрим, что же делает
г. Страхов для того, чтобы затемнить его, сбить с толку своего
читателя? Я совершенно согласен с Данилевским, что «чистокровное размножение», при естественных условиях, невозможно; мало того, я говорю, что не было надобности удивлять читателя применениями теории вероятности для доказательства
такого очевидного факта. Я только говорю, что дарвинизм никогда не утверждал, что это невозможное — возможно. Я говорю только, что Данилевский промахнулся, не попал в цель.
Ясно, что г. Страхов, защищая Данилевского, должен был
доказать, что именно я не знаю настоящего дарвинизма, что,
напротив, дарвинизм Данилевского есть настоящий и что этотто дарвинизм ему удалось опровергнуть. Но что же он делает?
Нечто невообразимое. Тимирязев, — говорит он, — признает
образование чистокровной породы невозможным,
«но он, конечно, питает полное уважение к знаменитому ботанику Негели, на которого не раз ссылается, как на большой
авторитет»,
а этот самый Негели «очень часто говорит о чистокровном распложении (Reinzucht) и очень старательно доказывает его полную невероятность»...
Какая
глупая опечатка! — подумает
читатель, привыкший к обыкновенной логической аргументации. Здесь, очевидно, должно стоять его полную
вероятность,
потому что где же иначе противоречие? Тимирязев считает
явление невозможным,
Негели считает то же явление вполне
невероятным, а г. Страхов думает, что словами Негели побивает
Тимирязева? Нет, это не опечатка, это только образчик логической аргументации г. Страхова. Не довольствуясь этою неудачною выпиской, г. Страхов приводит еще вычисления Негели и в заключение торжественно восклицает: «Так говорит
Негели. Теперь посмотрим, что на это скажет г. Тимирязев;
он так воспламенился на шутку о сирени, что когда мы подставим ему Негели, вместо Н. Я . Данилевского, выйдет интересное
зрелище». Интересно или нет будет зрелище, не знаю, но только
совсем не такое, какого ожидает г. Страхов. Имея, как он выражается, «охоту пошутить над г. Тимирязевым», г. Страхов
забыл французскую поговорку: rira bien, qui rira le dernier * .
Что я скажу? — любопытствует узнать г. Страхов. А вот что
я скажу.
Скажу я, во-первых, не комично ли, прежде всего, положение, в которое добровольно ставит себя сам г. Страхов,
проповедующий «борьбу с Западом», чающий искоренения вредоносной западной науки какою-то внеевропейскою русскою
наукой и бегущий, чуть дело за спором, судиться к представителю той же тлетворной науки Запада? Во-вторых, я скажу,
что magister dixit (что в настоящем случае пришлось бы перевести «немец сказал») я никогда не признавал и не признаю
за логический аргумент. Мнения, чьи бы то ни были, для меня
только слова, — убедительную силу я признаю за фактами
и логическими доводами. А в-третьих, я попрошу г. Страхова
объяснить, на основании каких признаков он так решительно
заключает, что Негели для меня должен быть роковым, безапелляционным авторитетом? На каком основании вообразил
г. Страхов, что, храбрясь перед Данилевским, я должен струсить перед Негели? Представьте себе, что я нисколько-таки
не боюсь его. Представьте себе, что имею даже право не
бояться его. Представьте себе, что между живущими уче* Смеется хорошо тот, кто смеется последним. Ред.
23
К. А. Тимирязев,
т.
VII
ными, пожалуй, не найдется второго, который имел бы такое
право, как я, не бояться авторитета этого страшного господина
Негели. Не ожидал этого г. Страхов, когда собирался потешиться
над моим испугом? Т а к как, можно сказать, вся сущность
этой главы (и не этой одной) сводится к запугиванию меня и еще
более читателя голословными мнениями Негели, то будет вполне
уместно рассмотреть, насколько мнения этого ученого для меня
авторитетны. Что такое Негели, как теоретик, и что такое его
пресловутая механическая теория, которой он думает упразднить дарвинизм? К а к теоретик, это самый злосчастный неудачник. Не говоря о второстепенных его неудачах, укажу
только на судьбу важнейшей из его теорий, его излюбленного
детища, главной задачи его научной деятельности — теории
роста и молекулярного строения растительных тел. Этой теории была посвящена чуть не тысяча страниц; она была принята
всеми немецкими ботаниками, провозглашена одним из высших памятников человеческого ума, господствовала в течение
более чем четверти века, как неоспоримый догмат. И об этой-то
великой теории, в разгар полного перед ней преклонения, один
начинающий русский ботаник, еще восемнадцать лет тому назад, в публично защищаемом тезисе осмелился выразиться так:
«В подтверждение господствующего учения о росте, равно как
и в опровержение прежнего учения, не приведено ни одного
убедительного довода» 1 . Это был я, г. Страхов, — из чего вы
можете судить, как давно я перестал бояться вашего грозного
авторитета. Но кто же оказался прав: немецкий авторитет или
неизвестный русский ботаник? От пресловутой теории не осталось камня на камне, — главные факты оказались совершенно
неверными, — противная теория торжествует по всей линии.
Самые горячие защитники теории Негели тщательно избегают
даже упоминать о ней. Как же могло случиться, что я предсказал судьбу, постигшую эту теорию? Очень просто. Убедившись
на опыте в неточности двух — трех фактов, на которые опиралась теория, я вооружился этой ненавистною для г. Страхова логикой 2 , задал себе труд обнажить для самого себя остов
1
Первый тезис, приложенный к моей магистерской диссертации
1871 г.
2
Г. Страхов прямо корит меня за напоминание о логике.
всей аргументации Негели и убедился, как она слаба. Именно
Негели и его произведения имел я, главным образом, в виду,
говоря в своей статье «Опровергнут ли дарвинизм?» * , что встретил в книге Данилевского прием, знакомый каждому, кто имел
несчастье изучать толстые полемические сочинения, — прием,
заключающийся в том, чтобы потопить свои доводы в массе
мелких подробностей, растасовать их так, чтобы обыкновенный,
не досужий читатель не мог свести концов с концами и принял
выводы на веру. Имею ли я после этого право скептически
относиться к мнениям Негели, или нет? Имею ли я право делать
различие между фактами, добытыми Негели, и его голословными
осуждениями?
А теперь, может быть, г. Страхову любопытно знать, «что
я скажу» о книге Негели, на которую он ссылается, о его пресловутой теории «идиоплазмы», которая должна вытеснить дарвинизм. В основе эта теория не что иное, как перифраза дарвинова «пангенезиса». А что такое «пангенезис?» Слушайте, г.
Страхов, и изумляйтесь. Пангенезис, это — учение «не научное
J в основе, бесполезное в последствиях». Это опять я, фанатически^ поклонник Дарвина, каким желал бы отрекомендовать
меня своим читателям г. Страхов, так выразился об этой гипотезе в эпоху наибольшего увлечения ею и подражания ей в Германии. Это ли отношение фанатика к предмету своего поклонения? Осмелился ли бы, например, г. Страхов выразиться
так о каком-нибудь измышлении Данилевского? Если я так
беспощадно выражался об ошибке Дарвина, то, конечно, имею
право так же относиться к бессодержательно-трансцендентальной гипотезе идиоплазмы, представляющей только растянутое
подражание этой, едва ли не единственной, ошибке Дарвина А
Итак, авторитетного мнения, не подкрепляемого фактами или
доводами, для меня не существует вообще, мнения же Негели —
в особенности. А где же факты, где доводы? Где доказательство,
1
Вот характеристический образчик отношения к этой теории Негели ученого, которого, конечно, не заподозрят в легкомыслии, известного, недавно умершего Д е - Б а р и . Когда я, улыбаясь, спросил его, какого он мнения о ней, он, со свойственною ему живостью, отвечал: «Какого я мнения? А разве о таких вещах дают себе труд составлять какоенибудь мнение?».
» См. в этом томе стр. 263. Ред.
что дарвинизм не может обойтись без нелепого предположения
об образовании в природе чистокровных пород? Где ссылка
на сочинения Дарвина, в которой встречалось бы это чудовищное предположение? Ничего такого, конечно, не могли предъявить ни Данилевский, ни Негели. За невозможностью найти
подходящую аргументацию в подлежащем
направлении,
г. Страхов довольствуется выписками из Негели, к делу не относящимися, лишь бы в них были выражения, неодобрительные
для дарвинизма. Он приводит, например, мнение Негели, что теория миграций недопустима. Что это за теория миграций, — спросит, может быть, читатель, — это, конечно, часть дарвинизма?
Нет, читатель, это теория немецкого ученого Вагнера, о которой Дарвин говорит так: «Но на основании доводов, уже ранее
приведенных, я ни в каком случае не могу согласиться с мнением
этого натуралиста,
что миграция и изоляция — необходимые
условия образования новых видов». Дело, значит, вот в чем:
Вагнер пристроил к дарвинизму свою теорийку миграций,
как поправку, с которой Дарвин ни в каком случае не согласен.
Негели рассуждает так: прямо возражать против Дарвина
я не могу, — ну так буду возражать против Вагнера. Вагнер
не доволен дарвинизмом и предлагает свою поправку, — значит, стоит опровергнуть Вагнера, благо это легко, чтобы развязаться с дарвинизмом. Что за дело до того, что Дарвин сам
отвергает мнение Вагнера? А г. Страхов благоразумно скрывает от своих читателей, что автор учения о миграции не Дарвин,
а Вагнер. Да и не все ли равно, Дарвин ли, Вагнер ли, лишь
бы у читателя осталось смутное впечатление, что г. Страхов,
при помощи Негели, что-то опроверг. И это называется научная
полемика!
Но что же говорят факты Негели, на которые я ссылаюсь
в своей статье и которые Данилевский благоразумно обошел
молчанием? Они доказывают то, что утверждал и Дарвин на
основании своих наблюдений, именно, что в природе не существует безграничного скрещивания, что в естественном состоя- \І
нии даже мелкие разновидности,которые легко могли
выдавать
помеси, в действительности
их не дают, т. е. уживаются рядом,
не смешиваясь. Дарвин прямо заявляет, что ему известны
такие примеры. Данилевский отмахивается от этих неприятных
для него фактов на том только основании, что Дарвин не перечислил этих примеров. Но Негели их перечислил, это — десятки
разновидностей Hieracium, разводимых им на грядах ботанического сада. 'Негели категорически высказывает мнение, что
в природе это явление широко распространенное. Следовательно,
по Негели, в природе существует несомненное противодействие
безграничному скрещиванию, но Данилевский и г. Страхов
находят излишним об этом распространяться. К чему развлек а т ь внимание читателя неудобными для них фактами, когда
можно смутить его глухими, голословными рассуждениями?
Итак, вычисления Негели (как и позднейшие вычисления
Данилевского) доказывают, что сохранение в природе чистокровной породы невозможно. Но это утверждаю и я; я только
иду далее и говорю, что незачем прибегать к вычислениям для
доказательства такой очевидной истины. Следовательно, пока
дело идет о факте, Негели совершенно согласен со мной.
Но сущность возражения Негели и Данилевского, заключающаяся в том, что весь дарвинизм построен будто бы на допущении этой невозможности, так и остается голословною, ничем
не подтвержденною напраслиной, так как ни Дарвин, ни его
последователи этого допущения не делают и в нем не нуждаются 1 .
Возражения Данилевского и Негели опровергают что угодно,
но не дарвинизм. Факты же Негели, систематически скрываемые Данилевским и г. Страховым, только блестящим образом подтверждают
положение Дарвина, что скрещиванию в природе кладется
весьма скоро предел каким-то, ближе нам не известным, но не
подлежащим сомнению свойством организмов, — способностью
их не скрещиваться даже при кажущейся полной возможности
этого процесса, т. е. при совместном существовании.
1
Стоит читателю прочесть следующую строку за теми, которые цитирует г. Страхов
(Naegeli. — «Mechanisch-physiologische
Theorie»,
стр. 313), и там, на примере жираффы, он убедится, что Дарвин говорит
не о происхождении этого животного от какого-нибудь случайного предка,
сохранившего свое потомство от скрещивания (как в примере о сирени),
а от всех предков, имевших шеи на два, на три дюйма длиннее остальных.
Следовательно, о возникновении и сохранении чистокровного
потомства
одного неделимого нет и речи.
Факты Негели я признаю, и они говорят за Дарвина и против Данилевского, голословные же его суждения (вроде возражения Вагнеру, вместо Дарвина) отрицаю и имею на то право
не только на общем основании, но и специально" в применении
к Негели, ввиду несчастной участи, постигшей и его более
продуманные теории.
Не знаю, показался ли г. Страхову смешон этот неожиданный результат очной ставки между мною и Негели, в предвкушении которой он уже с удовольствием потирал себе руки.
Впрочем, г. Страхов сам очень хорошо сознает, что все эти
никого не убеждающие ссылки на Негели рассчитаны только
на внешний эффект, на уверенность, что, в глазах читателя,
доморощенный ученый должен всегда стоять руки по швам перед
немецким авторитетом; английской науки, как известно, г. Страхов не допускает, как и вообще не признает за англичанами
способности к здравому мышлению; но об этом в своем месте.
Очень хорошо понимает он, что в приведенных им выписках не
заключается и тени доказательства, будто дарвинизм нуждается
в навязанном ему абсурде, — но как же вывернуться, как же,
заключая главу, оставить читателя под впечатлением, что победителем из спора вышел он, г. Страхов? Он прибегает к ultima
ratio * всех слабых, — смело и уверенно говорит и повторяет
прямо противное истине. Он утверждает, что «не только Дарвин
и дарвинисты делают это предположение
чистокровного при-
плода,, но это предположение составляет неизбежную, исходную
точку всей теории подбора», и, окончательно ободряемый звуками собственного своего голоса, заканчивает главу еще более
беззастенчивым заявлением: «Так учил Дарвин» и пр. и пр.
Нет, и тысячу раз нет, г. СтраховІ Так Дарвин не учил и не
мог учить, потому что в таком случае он не нашел бы читателей
для своей книги и сам кончил бы свой век не в Дауне, а в Бедламе. Смелость, говорят, города берет, но в науке смелость,
подобная той, которую проявляет в настоящем случае г. Страхов, ни к чему не приводит. В науке принято, что, взводя на
своего противника какую-нибудь нелепость, подтверждают свои
слова ссылкой на его сочинения. По правилам научной полемики,
* решающему аргументу. Pea.
г. Страхов должен был указать ту главу, страницу, строку,
где Дарвин «учит» взводимой на него нелепости; но он знает,
что не может этого сделать, как не мог этого сделать и Данилевский, и потому вся его надежда рассчитана на робкого читателя, который примет этот смелый, самоуверенный тон за
убеждение в своей правоте.
Подводим итог этой самой существенной стороне всего
спора 1 .
Данилевский утверждает, и совершенно верно, что появившееся индивидуальное отклонение не может сохраниться во
всей своей чистоте и неприкосновенности,но из этого делает ни с
чем несообразное заключение: значит, никакое уклонение, в какой бы то ни было степени чистоты, не может сохраниться. Не
все — значит ничего, — вот блестящий силлогизм, на котором
основано его опровержение естественного отбора, т. е. дарвинизма. Я ему возражаю, что между все и ничего лежит вся
реальная действительность. Если в природе не может сохраниться все (т. е. чистокровная порода), то из этого никак не
следует, что ничего не сохранится, т. е. что всякое появляющееся уклонение исчезнет без следа 2 . Г. Страхов должен был
признать, что аргументация Данилевского: «не все — значит
ничего», есть образец строгого, логического мышления, или
откровенно сознаться, что опровержение Данилевского ничего
не опровергает, а так как ни на то, ни на другое у него недоставало храбрости, то он и оказался вынужденным взводить
напраслину на Дарвина, смело уверяя своих читателей, что
Дарвин учил тому, чему он никогда не учил.
Вот как мстит за себя логика!
1 В заключительных словах этой главы г. Страхов сам категорически заявляет, что именно в рассматриваемом вопросе заключается окончательное опровержение дарвинизма.
2 Напомню читателю соображение, которое также умышленно скрывает г. Страхов. Если бы Дарвин утверждал, что в природе могут сохраниться чистокровные породы, то результат естественного отбора должен
был бы обнаружиться в такие же краткие сроки (столетия, десятилетия),
как и при отборе искусственном. Но и Дарвин и дарвинисты допускают,
что в естественном состоянии новые формы требуют несметных веков для
своего образования именно потому, что результаты естественного отбора
тормозятся (но не уничтожаются) скрещиванием.
7
НЕЧТО ОБ О Т К Р Ы Т И Я Х
Как видно из самого названия, глава эта не имеет прямого
отношения к сущности дела; вся она написана г. Страховым,
так сказать, pro domo sua *. В своей статье «Полное опровержение» и пр. г. Страхов, отзываясь с восторгом о неудачном возражении Данилевского, рассмотренном в предшествующей главе, назвал его «истинным открытием Н. Я. Данилевского». Я же
показал, что это сомнительного достоинства открытие сделано
за десять, за двадцать лет до Данилевского.Г. Страхову необходимо было как-нибудь выпутаться из сделанного промаха, и для
этого он прибегает к приему, не лишенному оригинальности.
Напомню, что констатирование факта давности этого возражения значительно ослабляло его убедительную силу в глазах
всякого читателя. Во-первых, читатель видел бы из этого, как
искусственно раздуто значение книги Данилевского, а во-вторых, мог бы сам сообразить, что если, за эти двадцать лет не
последовало окончательного крушения дарвинизма, то, очевидно, пресловутое «открытие» никакою разрушительною силой не обладает. Видя невозможность отстаивать свою прежнюю
точку зрения об истинности открытия Данилевского, г. Страхов развивает совершенно новую теорию о праве писателя на
чужую мысль.
«Кто сам мыслит, — докторально поучает он, — а не составляет своих мыслей из кусочков, взятых в разных книгах,
тот (слушайте, слушайте!) часто вовсе не замечает, где ему
в первый раз встретилось
какое-нибудь положение» (?!!). Вот
неожиданный-то оборот мысли и, в то же время, какое новое
и удобное учение! До сих пор мы (т. е. педанты, фанатики, ученые и пр.), в простоте душевной, думали, что не различать,
где кончается чужая мысль и где начинается моя, можно или
по невежеству (недостатку сведений), или по недобросовестности, или, наконец, вследствие размягчения мозга. Мы привыкли думать, что «тот, кто сам мыслит», тогда только представляет значение, когда высказывает свое слово, а не тогда,
когда только забыл, где его прочел. Мы привыкли думать, что
* для себя самого. Ред.
Ф
открывать Америку по меньшей мере смешно, что с досадой
находить свои мысли у Шекспира как будто неловко, что, наконец, говорить об одном «Юрии Милославском» — Загоскина
и о другом — своем может только Хлестаков. Наивные люди,—
думает г. Страхов, — nous avons changé tout cela * , — и завершает главу следующей тирадой: «Не в том дело, что
Н. Я . Данилевский повторил чужое, а в том, что он это чужое
признал своим» 1. Г. Страхов, очевидно, полагает, что высказал
блестящий парадокс. Я не восстаю вообще против высказывания парадоксов, — это очень забавное препровождение времени, — под условием, конечно, чтобы парадокс был замысловат, чтоб его не так-то легко было разгадать. Но сказать только
что-нибудь, идущее вразрез с ходячим здравым смыслом и элементарною моралью, не значит еще сказать остроумный парадокс. Ведь любая темная личность, перемещая носовой платок
из кармана г. Страхова в свой собственный, может ответить
У ему его словами: «Дело не в том, г. Страхов, ваш ли это платок
или мой, а в том, что я его признал своим!».
Да, логика... виноват, на этот раз, кажется, этика мстит
за себя жестоко I
8
О СОХРАНЕНИИ В С Е Г О В ПРИРОДЕ
И эта глава опять не имеет никакого отношения к делу.
Вся она посвящена глумлению над одной фразой моей статьи,
брошенною мимоходом, как нечто всякому понятнѣе. Но
г. Страхов ее не понял и на основании этого позволяет себе
на четырех страницах издеваться надо мной.
Посмотрим, в чем же заключается проявление моего будто
бы грубого невежества, юмористически (по мнению г. Страхова) заявленное в самом- заголовке, и для издевательства
над которым г. Страхов специально скликает своих читателей.
«Извольте читать на странице 155», — торжественно выкли1 Не забудем, что речь идет о том, имел ли право г. Страхов выдавать
своим читателям довод Данилевского за «истинное открытие». Г . Страхов
заявляет теперь, что он и сам когда-то знал, что открытие это сделано ранее. Тем более он виноват перед своими читателями.
* мы все это изменили. Ред.
»
кает он и приводит это, по его мнению, позорящее меня место
моей статьи. Вот оно: «Сохранение случайного уклонения в его
чистой форме — это один предел явления; его бесследное исчезновение, полное растворение в нормальных формах — это
другой и, заметим, идеальный,
теоретический предел», —
«т. е . — перебивая мою мысль, торопится, для вящшего вразумления читателя, пояснить г . Страхов, — никогда не достигаемый, предполагаемый лишь мысленно, и в действительности
не существующий», и полагая, что поймал меня на слове, довел мою мысль до абсурда, продолжает цитату: «В действительности, — говорю я, — к органическим формам, к а к и к материи, к а к и к энергии, применимо изречение Лавуазье: „dans la
nature rien ne se perd" * С Логически немыслимо, чтобы какоенибудь воздействие
на организм исчезло без следа, — именно
этою невозможностью бесследного исчезания воздействий
на
' организм и его потомство, суммированием этих
воздействий
мы и должны объяснить себе прогрессивное усложнение организмов». Окончив цитату, г . Страхов выходит из себя. «Признаюсь, — восклицает он, — редко можно найти более странную выходку и, притом, сделанную без всякого повода, без
всякой надобности. Какой это новый закон сохранения чего-то
в организмах провозглашает г. Тимирязев?» и далее: «Ведь, дело
идет о случайных уклонениях,
и нет никакого сомнения, что
скрещивание уничтожит их без следа», и, наконец, та же мысль
повторяется в более философской форме: «Г. Тимирязев уверяет, что бесследное исчезание — невозможность,
логически
немыслимо. А х , эта логика! Вот Дарвин — тот, кажется,
о логике никогда не говорил и, право, лучше делал. Ведь если
что-нибудь может, по-вашему, приближаться
к
исчезанию,
то отчего же оно не может и исчезнуть?»
Во-первых, я замечу, что г. Страхов напрасно трудился
ловить меня на слове, боясь, чтоб я не отвильнул. Я сказал
именно то, что хотел сказать; готов повторить, и буду повторять
1
Г. Страхов утверждал, что я неверно цитирую мысль Лавуазье, придаю ей слишком широкую форму. У Дюма, лучшего знатока творений Лавуазье, она приводится в следующей, еще более общей форме: rien ne se
perd, rien ne se crée (ничто не исчезает и ничто не создается вновь. Ред.).
* «В природе ничто не исчезает». Ред.
т о , ч т о с к а з а л ; а е с л и г . С т р а х о в у эта м ы с л ь н е п о н я т н а , то я м о г у
с е б е это о б ъ я с н и т ь р а з в е т о л ь к о т е м , ч т о , ыа о с н о в а н и и защищаемого
им в п р е д ш е с т в о в а в ш е й
главе
права
того,
«кто
сам
м ы с л и т » , н а к о р о т к у ю п а м я т ь , он з а б ы л к о е - ч т о и з э л е м е н т а р н о й арифметики. В в о з м у т и в ш и х его с л о в а х я в ы с к а з ы в а ю только
такую,
всякому
понятную
арифметическую
истину.
Если
п о с л е первого с к р е щ и в а н и я в потомстве и з в е с т н о й формы окажется
будет
г
1
/ 2 ее к р о в и , п о с л е в т о р о г о
І2п. Эта дробь
1
/ , то п о с л е п с к р е щ и в а н и й ее
1 4
/2п может быть очень м а л а ,
неизмеримо
м а л а , но в с е ж е н е б у д е т р а в н а н у л ю , потому ч т о п н е
будет
р а в н о б е с к о н е ч н о с т и ( я д а ж е д о к а з ы в а ю , ч т о оно н и к о г д а не б у дет очень велико). Эта дробь и есть та х и т р а я , непонятная г. Страхову
величина,
которая
«приближается
к исчезаниюъ,
исчезает. П у с т ь г. С т р а х о в задаст себе вопрос, на к а к у ю
ную
да
не
конеч-
в е л и ч и н у (а н а т у р а л и с т имеет д е л о т о л ь к о с ними) н у ж н о
р а з д е л и т ь 1 , ч т о б ы п о л у ч и л с я О? В к а к о м к о л и ч е с т в е в о д ы н у ж н о
р а с т в о р и т ь п у д с о л и , ч т о б о н и с ч е з без следа?1.
А к о г д а он р а з р е -
Г . Страхов спрашивает, что же сохраняется (когда мы говорим —
кровь) — материя или энергия. Я полагаю, что такое любопытство по
меньшей мере преждевременно, потому-то я и выразился неопределенно,
высказывая только основную мысль, что, рассматривая жизнь, как одно
непрерывное, преемственное явление, мы не в праве допустить, чтобы однажды вызванная в этом явлении пертурбация могла исчезнуть внезапно
и без последствий.
В доказательство того, что уклонения исчезают без следа, г. Страхов
озадачивает читателя тем же софизмом, несостоятельность которого я
уже указал в своей статье по поводу примера сирени, именно умышленно
берет численный признак. Бывают, — говорит г. Страхов, — шестипалые люди, а у их потомства эта уродливость исчезает без следа. Я пояснил, что такие примеры наименее удобны. Ясно, что трудно ожидать,
чтобы появились люди с б 1 /?, с 5 1 /« и т. д. пальцев. В таких случаях признак обыкновенно разделяется между потомками; одни будут шести, другие — пятипалые. Впрочем, пример г. Страхова неудачен и в том отношении, что именно относительно шестипалости существуют указания,
что она сохранялась до 5-го поколения, т. е. когда обладатель шестого
пальца имел всего 1 / 8 2 долю крови своего шестипалого предка. По
всей вероятности, большая часть случаев атавизма объясняется так
же. К тому же было бы абсурдом ожидать, чтобы при суммировании действия таких сложных причин, каковы две борющиеся в детях организации родителей, получалась всегда простая наглядная средняя. Нужно еще
энать эквивалентность признаков, — а как ее определить?
1
шит эти неголоволомные вопросы, то, конечно, поймет, что нравственно обязан (конечно, мысленно, про себя) взять назад все
те неприличные издевательства и грубые выходки 1 , которыми
украсил всю эту главу, не имея на тонного права, кроме своей
собственной несообразительности.
Да, логика мстит за себя жестоко... и арифметика также.
9
СКРЕЩИВАНИЕ
Наконец, хоть серьезный, идущий к делу заголовок, —
воскликнет читатель, наскучивший ненужною комическою
интермедией предшествовавших двух глав и не забывший,
в чем заключалось «истинное открытие» Данилевского. Напомню, что, по мнению Данилевского и г. Страхова, стоит произнести слово «скрещивание», чтобы доказать невозможность изменчивости существ, а, следовательно, и дарвинизма. А формулируется это доказательство так. Для дарвинизма необходимо,
чтобы появившаяся в числе одного неделимого форма сохранилась во всей своей неприкосновенности, в виде чистокровной
породы; а так как это требование в природе неосуществимо,
то и весь дарвинизм построен на невозможности. На это я возражаю: дарвинизм ни того (т. е. происхождения от одного неделимого), ни другого ( т . е . сохранения чистокровной породы)
навязываемого ему предположения никогда не делал и потому
не только возможен, но и соответствует действительности. Для
того, чтоб успешнее сбить с толку неопытного читателя, и Данилевский и г. Страхов, прежде всего, стараются уверить его,
1 Вот на выдержку несколько их образцов: «Тут перед нами образчик тех, переходящих всякую меру, несообразностей»... или: «В статье
гораздо менее известного Тимирязева можно было бы подобрать и еще немало таких головоломных скачков»... «Всегдашняя ошибка дарвинистов...
соблазняет даже ученых более серьезных, чем Геккель и Тимирязев».
Замечу к слову, что г. Страхов совсем неуместно позволяет себе такой
высокомерный тон по отношению к Геккелю. Гартман, философ, выражаясь
слогом г. Страхова, гораздо более известный, чем г. Страхов, и противник
дарвинизма, с величайшим уважением отзывается об общих трактатах
Геккеля о дарвинизме и говорит, что всякий образованный человек должен их читать и изучать. Вот как на Западе философы относятся к ученым.
что мой дарвинизм не настоящий. Данилевский уверял, что
я отстал от Дарвина, который будто бы покаялся в каких-то
грехах, в которых я продолжаю коснеть г , г. Страхов теперь
утверждает, что я зарвался, зашел далее Дарвина. Таким образом, я одновременно (и по тому же самому вопросу) и старои младо-дарвинист.
Напомню, что в то же время, по категорическому заявлению
обоих писателей, я — самый чистый дарвинист, самый точный
выразитель мыслей Дарвина. Так как трех взаимно исключающих истин не бывает, то, очевидно, мы имеем здесь дело с очень
прозрачным диалектическим приемом, рассчитанным на то,
чтобы морочить бедного читателя.
Но г. Страхову и этого мороченья показалось недостаточно.
На нескольких страницах старается он в комической, по его
мнению, форме изобразить, с моих будто бы слов, то удрученное состояние, в котором я находился при чтении книги Данилевского, пока, наконец, на ее 126 странице не нашел лазейки,
при помощи которой увидал возможность улизнуть от его сокрушающей диалектики. Те, кто читал мою статью, знают, что
этого нет на деле. Я говорю, что читатель умышленно выдерживается Данилевским в удрученном состоянии, под впечатлением,
будто его пешка о сирени действительно уничтожает дарвинизм, пока на стр. 126 не усматривает, что она не только такого
грозного, но и вообще значения не имеет. Что я не мог очутиться
в положении этого читателя, я прямо заявляю, и для г. Страхова это ясно до очевидности,— он это доказывает всею своею
главой «Нечто об открытиях». Ведь я показал, и г. Страхов
должен был сознаться, что эти аргументы Данилевского уже
были высказаны гораздо ранее; следовательно, они могли озадачить неопытного читателя, могли показаться «истинным открытием» г. Страхову, но не мне, знакомому с литературой своего
предмета. Г. Страхов все это очень хорошо знает, — но какое
ему до этого дело? Конечно, иной читатель и не поверит ему,
чтобы я, уже писавший о дарвинизме, когда Данилевский,
по его собственному заявлению, еще не читал книги Дарвина,
стал учиться дарвинизму по пресловутой книжке Данилевского.
1 Это обвинение, как я показал, происходит оттого, что Данилевский
извращает текст Дарвина, приводя конец фразы без ее начала.
Но, может быть, найдется и такой простак, который и поверит.—
г. Страхов не брезгует даже самым скромным элементом успеха.
Если я указываю на страницу 126, то для того только, чтобы
подкрепить самое тяжкое из обвинений, которое я возвожу
на Данилевского. Я говорю, что прием, употребляемый им в
этой самой существенной части его книги,— прием адвоката, неразборчивого на средства убеждения,—недостоин беспристрастного исследователя. Не будь этой 126 страницы, можно было бы
подумать, что Данилевский сам ослеплен и верит во всемогущество своей аргументации; но здесь он обнаруживает ее слабость и
спешит отвлечь внимание читателя обещанием поправить дело
в одной из позднейших глав, — обещанием, которого, конечно,
также не выполняет х . Сознавая сам, что его доводу цена грош,
Данилевский, тем не менее, на ста слишком страницах выдает
его читателям за целковый, распространяясь о том, какой он
звонкий да блестящий. Эта роковая страница обличает, что он
ведал, что творил, и вполне оправдывает мой суровый приговор.
Не стану утомлять читателя разоблачением всех изворотов,
к каким прибегает г. Страхов для того, чтобы спасти безнадежную аргументацию Данилевского, тем более, что вскоре снова
придется вернуться к этому вопросу 2 . Укажу по этому поводу
на характеристическую особенность изложения г. Страхова.
В одном месте своей статьи он обвиняет меня в том, что мысль
у меня «движется капризными извилинами». Конечно, всякому
чужой грех виднее, так и мне представляется, что бесконечная
канитель его мысли тянется постоянно возвращающимися на
1 И этот неприятный для него эпизод г. Страхов также благоразумно
предает забвению.
2 Не могу не указать на один из типических образчиков этой изворотливости г. Страхова. В этой главе, на странице 107, приводится такая
фраза: «Отношение,— говорит г. Тимирязев,— осталось то же, эти десять
тысяч также тонут в миллиарде, как прежняя единица», — и тотчас делается из нее выгодное для г. Страхова заключение. Но г. Страхов скрыл
от читателей, что перед фразой «отношение и т. д.» у меня стоят слова: «но,
конечно, возразят», а тотчас же после фразы идет ее опровержение. Таким
образом, возражение,
которое я делаю себе от имени предполагаемых
противников и тотчас же опровергаю,
г. Страхов выдает за мое собственное
мнение и пользуется этим в своих целях. И это называется добросовестной полемикой.
себя петлями и узлами, вследствие чего десятки раз приходится
возвращаться к точке отправления и, к явной досаде читателя,
повторяться.
Т а к и здесь: я снова вынужден повторить, что уже сказал
выше. Несостоятельность воззрения Данилевского ясна для
всякого, кто не хочет закрывать глаза, затыкать уши. Он говорит, что в природе не может составиться чистокровной породы, — значит, не может сохраниться и какой бы то ни было
степени крови. Все та же аргументация: NN не богач — значит, он нищий. Не все — значит ничего. Г. Страхову, в качестве
философа, было бы неловко защищать такие заключения в общей логической форме, но он не отказывается от их применения
к фактам реальной действительности и, как всегда, заканчивает
главу голословным, но невозмутимо-смелым заявлением, что
«изменение должно исчезнуть не только от повторенного, а
даже большею частью от первого скрещивания» 1. Нет, г. Страхову не удастся уверить кого-нибудь, что, как общее правило,
дети должны не походить на родителей. Впрочем, к этому вопросу, как я только что сказал, я скоро вернусь по поводу
крайне неприятного г. Страхову носа Бурбонов.
Д а , логика мстит за себя жестоко: тех, кто раз решился
против нее восстать, она принуждает храбро отрицать даже
ежедневный опыт.
10
ОГРАНИЧИВАНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ
«Но нам еще нельзя прекратить анализ мыслей г. Тимирязева», — так начинает г. Страхов эту главу. В переводе на обыкновенный язык это значит, что г. Страхову еще недостаточно
удалось запутать читателя в совершенно ясном по себе вопросе.
И вот начинаются новые старания найти у меня противоречие
там, где его нет и следа.
Я доказываю, что скрещивание не так всесильно, как утверждает Данилевский; я отрицаю, например, что изменения должны исчезать «от первого скрещивания». Г. Страхов подхваты1 Только что мы видели пример передачи шестого пальца потомству,
имеющему всего 1 / s 2 долю крови шестипалого прародителя.
вает: значит, по мнению Тимирязева, скрещивание не есть препятствие; значит оно «в высшей степени полезно»; значит, Тимирязев впадает в противоречие, указывая на то, что в природе
скрещивание бывает ограничено различными условиями и что
это ограничение способствует отбору.
Но всякому понятно, что никакого противоречия в моих
положениях не существует. Понятно это и г. Страхову. Он очень
хорошо знает, как я смотрю на отношение между отбором и скрещиванием; он даже сам приводит это место и досадует, что оно
изложено «так пространно, такою бойкою, плавною речью».
Вот оно: «Скрещивание и отбор, — говорю я, — это — два начала, находящиеся в антагонизме и действующие одновременно и неизменно. Образование новых форм идет по равнодействующей этих двух противоположных влияний, все равно
как полет ядра зависит от движения, сообщенного ему при
выстреле, и от притяжения земли; ни в том, ни в другом случае
мы не можем допустить, чтобы явления находились когда-либо
под влиянием только одной из обусловливающих причин».
Имея перед собою эти строки, г. Страхов не может не понять,
что в моей статье нет и тени противоречия. Отрицая, что скрещивание уничтожает результаты отбора, я не отрицаю, что оно
их ограничивает, замедляет. Скрещивание и отбор, это — два
борющихся начала. По мнению Данилевского, первое бесконечно велико, а второе сводится к нулю. Я же говорю, что противодействие, оказываемое скрещиванием, всегда величина конечная, а, следовательно, и для действия отбора всегда остается
простор, понятно, тем более широкий, чем менее противодействующая сила. Продолжая высказанную выше параллель,
по Данилевскому и г. Страхову, выходит, что если существует
земное притяжение, то, значит ядро никогда не может вылететь
из пушки. А я говорю, — вылетит вопреки притяжению, но
полет его будет зависеть от этого притяжения. Дело так просто,
что нет и места для недоразумения. Так же само собою очевидно,
что скрещивание, разжижая какой-нибудь признак, в то же время распределяет его на большее число существ, это — неизбежный результат всякого разжижения: что теряется в интенсивности, то выигрывается в экстенсивности. В итоге, как я уже
объяснял не раз, скрещивание есть обстоятельство, определяю-
щее, почему естественный отбор требует для проявления своих
результатов длинного ряда веков, а искусственный (где скрещивание более ограничено) — только десятков лет. Отсюда же
понятно, что чем более ограничено скрещивание в природе,
тем быстрее, действие отбора. Отрицая, дто скрещивание всесильно, я не ,имею ни малейшего желания впадать в противоположный абсурд и утверждать, что оно бессильно. Г. Страхов
так проникся убедительностью излюбленного довода: «не все —
значит ничего», что не может скрыть досады, почему и я не рассуждаю таким же образом. Но от меня он этого не дождется.
Я не ограничился в своей критике доказательством несостоятельности рассуждений Данилевского, я привожу факты,
самым очевидным образом доказывающие, что известные черты
организации не исчезают не только вследствие «первого», но
даже и «повторенного» скрещивания. Приводимый мною пример тем более убедителен, что всякому понятен, и потому именно
особенно досаден для г. Страхова, всегда рассчитывающего
только на помрачение своего читателя. Я указываю на исторический нос Бурбонов, который, несмотря на обязательное отсутствие кровосмесительных браков, сохранился до восьмого поколения. В герцоге Немурском еще можно узнать потомка Генриха IV 1 . А между тем в его жилах течет только 1 / 1 2 8 доля
крови родоначальника. Факт становится еще поразительнее,
если сравнить представителей старшей и младшей линии, разделенных целыми пятнадцатью степенями родства. По мнению
г. Страхова, признак должен исчезать «большею частью» от первого скрещивания, а вот пример, законом предписанных и историей засвидетельствованных, скрещиваний в семи поколениях,
не помешавших сохранению таких ничтожных признаков, как
горбатый нос и вообще черты лица 2 . Факт налицо; аргумент
1
П о
свидетельству
Гейне,
сходство
это
было
заметно
еще
в
детстве
герцога.
2
Понятно,
браков
таких,
в
наиболее
сильно»,
ном
то
в
между
природе
степенях
какие
когда
близкими
24 К. А. Тимирязев,
т.
VU
с л у ч а й
родства
благоприятных
понятно,
состоянии,
браки
что
близких
для
абсолютного
ли
него
условиях,
результаты
существа
такого
едва
существуют.
д о л ж н ы
степенями
крови
д о л ж н ы
в
же
скрещивание
получаться
распределяются
устранения
Е с л и
в
пространстве
представлять
и
не
при
«все-
естествентак,
что
правило,
369
тем и досадлив, что всякому до очевидности ясен; тут не помогут
никакие увертки, никакое крючкотворство, никакое обрубание начала и конца чужой фразы или выставление противника
в вымышленно комическом виде. У всякого и руки опустились
бы, но не у г. Страхова. Его изобретательность неистощима.
Для омрачения читателя все средства хороши; и вот к каким
прибегает он на этот раз: «На это возражение (т. е. указание
на образование племенных отличий и сохранение, вопреки
скрещиванию, носа Бурбонов, подбородка Габсбургов), — говорит г. Страхов, — уже совершенно
основательно
отвечал
г. Эльпе». Следует ссылка на соответствующие фельетоны
«Нового Времени». Наивный читатель спросит: почему г. Страхов, вообще тароватый на выписки, не привел во всеобщее назидание этого «совершенно основательного» возражения? Для чего
понадобилась глухая ссылка на такой малодоступный источник,
как фельетон старой газеты? Но в этом и вся новизна полемического приема г. Страхова. Дело в том, что в указанном месте
по главному сюда относящемуся вопросу, т. е. по вопросу о возможности сохранения признаков, вопреки скрещиванию, никакого возражения не оказывается. Вот что там стоит: «Нельзя
же считать серьезным курьезные ссылки на нос Бурбонов или
подбородок Габсбургов». Вот и вое, и это г. Страхов называет
возражать «совершенно основательно»!
Таков новый эристический прием, изобретенный г. Страховым, заключающийся в том, чтобы предъявлять аргумент
не наличностью, а, так сказать, в кредит.
Для того, чтобы еще более убедить читателя в действительности возражения, на которое он ссылается, г. Страхов продолжает, что к этому «совершенно основательному». возражению
он прибавит «только общее замечание» (странная прибавка к
чему-нибудь не существующему). Он говорит, что сохранение
характеристического носа в семье Бурбонов зависит от «таинственного» морфологического процесса, играющего вообще большую роль во всех объяснениях Данилевского. Что нос — признак морфологический, а не психический, — совершенно верно;
а нѳ исключение. См. выше: «Опровергнут ли дарвинизм?» (В этом томе—
стр. 263. Ред.).
так же верно, как и то, что эпитет «таинственный» ничего не
объясняет. Но главное дело в том, что я и не поднимал вопроса
о каком-нибудь объяснении наследственности не только «таинственном», но и действительном. Дело не в объяснении, а просто в самом историческом факте сохранения известной формы
носа при таких условиях, когда, по Данилевскому и г. Страхову,
этого не могло быть. Предыдущую главу г. Страхов заключил
храбрым уверением, что, по большей части, «одного скрещивания» достаточно для того, чтобы уничтожить известный признак, а ему приводят всем известный пример сохранения ничтожного признака, несмотря на семь последовательных скрещиваний, т. е. при наличности всего х/і28 первоначальной крови.
Вместо того, чтобы признать обязательную силу этого факта
или, по крайней мере, молчать, если не можешь возражать,
г. Страхов начинает метаться во все стороны, прячется за несуществующий аргумент, схоронившийся будто бы где-то в чужом
фельетоне, а для отвлечения внимания читателя пускается
в туманные рассуждения о «таинственной» причине факта,
очень хорошо понимая, что не в причине дело, а в том, что самый факт, независимо от его объяснения, разрушает в основе
те голословные уверения о всемогуществе скрещивания, на которых оба они (т. е. Данилевский и г. Страхов) строят все свои
надежды опровергнуть дарвинизм. Но и этого г-ну Страхову
показалось еще мало. Для того, чтобы окончательно затемнить
в глазах читателя истинный смысл довода, против которого
он решительно ничего не может возразить, он старается придать
всему вопросу диаметрально противоположный смысл. Он пытается окончательно сбить с толку читателя, отвечая мне, как
будто я утверждал,
что нос Бурбонов произошел «в силу отбора» (!) и посредством устранения (1!) скрещивания 1 , и, отвергнув без труда эту нелепость, прямо противоположную тому,
что я говорю, самодовольно выкрикивает: «что и доказать надлежалоо) и т . д.
1
Повторяю, что я говорю диаметрально противное; я привожу нос
Бурбонов как доказательство возможности сохранения признака, вопреки присутствию
скрещивания, а г. Страхов отвечает мне, как буд"о
я говорил, что нос сохранялся посредством
устранения
скрещивания.
24*
371
Этот прием не нов; вот как характеризует его Шопенгауэр Ч
«Уловка 13. Бесстыдный фокус проделывается, когда после
нескольких вопросов, на которые противник ответил так, что
ответом этим нельзя воспользоваться для вывода заключения,
которое мы намеревались сделать, выставляют
заключительное
положение как доказанное,
и выкрикивают его с триумфом.
Если противник застенчив или туп, а сам обладает значительным
бесстыдством и хорошим голосом, это весьма может удаться».
Г. Страхов только усовершенствовал эту уловку 13; не будучи
в состоянии отразить довод противника, он опровергает прямо
противоположное
положение (т. е. в сущности, побивает себя
самого) и выкрикивает при этом: что и доказать
надлежало1
Показав, таким образом, на примере Бурбонов, что на первых порах скрещивание вовсе не так всесильно, как утверждает Данилевский, я указываю далее, что в природе несомненно
существуют причины, его ограничивающие (действовавшие,
например, при образовании человеческих племен 2 . Наконец,
я останавливаюсь на несомненных фактах, доказывающих,
что разновидности могут уживаться рядом, не смешиваясь и,
следовательно, не уничтожаясь. При этом я указываю на свидетельство Дарвина, что он неоднократно наблюдал это явление, и ссылаюсь на факты Негели, доказывающего это положение
на многочисленных разновидностях Hieracium. Желая подорвать в глазах своих читателей достоверность моей ссылки на
факты Негели, г. Страхов ядовито замечает: «Итак, г. Тимирязев, полагая, что в настоящем случае Негели сходится с Дарвином, нашел факты в его пользу. Как странно! Сам Негели говорит об этом следующее»... Далее приводится ряд выписок
из книги Негели, из которых читателю понятно только то, что
Негели в чем-то не согласен с Дар вином, но в чем именно и на
каком основании, из этих глухих отрывочных выписок, ко1 «Эристика, или искусство спорить». Перевод кн. Д.
Церетелева,
стр. 27.
2 Как на главную причину (помимо отбора), ограничивающую
скрещивание, я подробно указываю на то, что возникновение всякой новой
формы будет всегда местное; так что не может быть и речи, например,
о скрещивании между всеми представителями вида (см. выше: «Опровергнут ли дарвинизм?»).
нечно, ничего понять невозможно. На эту выходку г. Страхова
я отвечу то же, что отвечал и ранее. До того, что говорит и думает Негели, мне нет никакого дела; я ценю только приводимые им факты, а г. Страхов, конечно, не осмелится утверждать,
что я неверно цитирую или объясняю эти фактыА Данилевский и г. Страхов уверяют, что скрещивание всесильно и ведет
к сглаживанию всяких различий; Дарвин говорит, что наблюдал в природе совместное присутствие разновидностей, а Негели
возводит это в общее правило и подтверждает своими многолетними наблюдениями над совместным разведением многочисленных разновидностей Hieracium. Вот факты; а до мнений
Негели, повторяю, мне так же мало дела, как и до его (столь
приятного г-ну Страхову) голословно-самоуверенного отзыва,
что дарвинизм основательно исследовал только «конюшню»
и «голубятню», а не «свободную природу» А Театр деятельности
обоих ученых мне короче знаком, чем г. Страхову. Был я и в
Дауне, у Дарвина, бывал и в мюнхенском ботаническом саду,
и могу уверить г. Страхова, что сады, поля и рощи, среди которых протекла вся жизнь Дарвина, более походят на «свободную природу», чем несколько десятков пыльных грядок в самом центре германских Афин. А если Негели экскурсировал
в баварских или даже швейцарских Альпах, то г. Страхову
небезызвестно, что Дарвин провел пять лет в кругосветном плавании, да еще, с малых лет, и до и после путешествия, исходил
вдоль и поперек не один угол Англии.
Так же, я полагаю, мало кого убедит и ссылка, которою
г. Страхов победоносно заканчивает свою первую статью, —
ссылка на Агассиса, отзывавшегося о дарвинизме, что это —
«целое болото голословных утверждений». Стара истина, что
Не касаясь вдесь мнений Негели, так как это к делу не относится
замечу, что если Негели в этом случае только полагает, что он не согласен
с Дарвином, то он прямо фактически противоречит Данилевскому и г.Страх о в у , так как именно доказывает, что в природе скрещивание не играет той
роли, которую ему приписывает Данилевский. Если б г. Страхов вдумался
в приведенную им цитату, то, конечно, припрятал бы ее подалее, а не
предъявил бы в качестве аргумента.
2 Гукер и Аза-Грей, — о которых справедливо говорят, что каждый
из них видал более живых растений в их естественной обстановке, чем ктолибо на земле, — совершенно иного мнения о дарвинизме,
1
брань — только признак бессильной злобы. А что Агассис сам
с грустью сознавал свое бессилие перед победоносным, но несимпатичным ему дарвинизмом, об этом мы знаем из мастерской
картинки в одной из лекций Тиндаля, описавшего свое свидание с этим неутомимым наблюдателем, но неглубоким мыслителем, упорно закрывавшим глаза перед очевидностью.
Таково содержание этой главы. Те уловки г. Страхова,
с которыми нам пришлось в ней познакомиться, красноречиво
доказывают, как жестоко мстит за себя логика!
На этом месте г. Страхов дал своим читателям месячный
отдых. Переведем дух и мы.
11
В С Е Г Д А Ш Н Я Я ОШИБКА
Нисколько не подвинувшись в своей задаче на пятидесяти
страницах своей первой статьи, г. Страхов, приступая ко второй, очевидно, спохватился, что его терпеливый читатель,
переведя дух, успел одуматься и сообразить, что ему так и осталось неизвестным, где же, в этом темном лабиринте диалектических ухищрений и не относящихся к делу отступлений, кроется «всегдашняя ошибка» дарвинистов? Сознав этот коренной недостаток своего расплывчатого многословия, г. Страхов с первой
же главы спешит его исправить и повторяет свое обещание показать, в чем заключается главный «вывих мысли» дарвинистов.
В этой главе, как указывает самое название, очевидно, лежит
ядро всей аргументации; остановимся же на ней поподробнее.
Очевидно, подозревая что «болото» Агассиса мало кого убедило, г. Страхов преподносит своему читателю целый набор,
правда, менее бранчивых, но столь же
бездоказательных,
голословных отзывов Негели. Г. Страхов упорно не хочет знать,
что мнение одного человека не доказательство, особенно, когда
сквозящее на каждом шагу побуждение этого человека может
быть выражено известной фразой: Ote toi de là que je m'y mette*.
К чему же сводятся эти голословные обвинения Негели?
Он говорит, что теория подбора получила «слишком неопределен* Отойди, чтобы я занял это место. Ред.
ное выражение», что она не выяснила «процесса (отбора) в его
частностях», что «он (т. е. Дарвин) повторяет только известные
общие положения, которые, по моему мнению (т. е. мнению
Негели), как скоро мы вздумаем дать им конкретную и определенную форму, приводят к невозможиостям».
И это говорится о дарвинизме, в котором каждая посылка,
каждый довод — наблюденный факт. И решается говорить это
человек, все теории которого отличаются именно полною оторванностью от конкретной почвы; человек, необузданно смелый
в своих заоблачных построениях, рушащихся при первом столкновении с наблюдаемою действительностью,— человек, например. подробно изобразивший молекулярное строение клеточной стенки, но недосмотревший, что одного поворота микрометрического винта его микроскопа достаточно, чтоб опровергнуть всю хитросплетенную теорию; человек, скроивший свою
внеопытную теорию идиоплазмы из лоскутов единственной
умозрительной гипотезы Дарвина (его пангенезиса); человек,
придумавший свои мицелли,
потому что молекулы химиков
казались ему слишком малы, а теперь, наоборот, утверждающий,
что молекулы химиков слишком велики, т. е. смело отрицающий
такой конкретный факт, каков химический анализ, для того
только, чтобы спасти незримое бытие своих мицеллей и каких-то
еще там балок своей фантастической, трансцендентальной идиоплазмы 1 .
Нет, г. Страхов, поищите авторитета поудачнее, а когда
вы нам его предъявите, мы и тогда вам ответим, как и ранее:
magister dixit * уже отжило свой век; в науке авторитетны
только факты да логические доводы.
Если бездоказательные
слова, прикрытые сомнительным
авторитетом Негели, не достигают цели, то что же сказать
1 Припомню судьбу и других теорий Негели, еще недавно гремевших:
например, его теорию заражения бактериями исключительно через дыхательные пути, — теорию, приведшую его к блестящим и многих соблазнившим выводам, что зловонный воздух здоровее незловонного и что
сырая квартира здоровее сухой. И самый прием Негели везде тот же
схоластически-диалектический — entweder oder: tertium
non
datur;
ergo... (либо, либо: третье не в счет; следовательно... Ред.) Как будто живую природу так легко защемить между этими entweder, oder!
* учитель сказал. Ред.
о подобном наборе слов, которые г. Страхов заимствует у Данилевского?
Тем не менее, на основании этих слов, г. Страхов полагает
возможным формулировать главное осуждение против дарвинизма в следующих выражениях: «Итак, беда и прелесть теории заключается в общих принципах и общих из них выводах, в неопределенности формул и приемов. Беда именно в том,что дарвинисты довольствуются общими положениями, не заботясь
о проведении их по всем частностям, и употребляют неопределенные приемы, не замечая их неопределенности и стараясь
устранить ее». Но где же хоть тень доказательства этого голословного обвинения? Где же примеры несостоятельности
дарвинизма в применении к частностям? Почему же именно
такие ученые, как Гукер, как Де-Кандоль, как Аза-Грей,
деятельность которых уже никак не отличалась «неопределенностью» или недостатком «частностей», особенно горячо приветствовали дарвинизм, а последний из них метко назвал его
«рабочей гипотезой», т. е. именно таким учением, которое
является могучим орудием при исследовании «частностей», —
орудием, которым действительно, вот уже четверть века, пользуются именно натуралисты, двигающие науку вперед? И, наоборот, где те «частности», о которые разбился дарвинизм?
Вот г. Страхов на восьмидесяти, а г. Данилевский, на сотнях
страниц пытались уловить противоречие дарвинизма с одною
только частностью, с одним фактом — фактом существования
скрещивания, но весь их труд пропал втуне.
Подобно Данилевскому, видя бесплодность своих попыток
доказать несостоятельность дарвинизма по существу, г. Страхов пытается уверить своего читателя, что это учение не может
и не быть слабым, потому что... потому что оно — произведение англичанина. А англичане, известно (г. Страхов это считает, кажется, аксиомой), неспособны к здравому мышлению.
Г. Страхов, повидимому, считает это настолько очевидным, что
на полустраничке развивает какую-то темную теорию, на основании которой выходит, что англичане, как эмпирики, питают
отвращение к отвлеченному мышлению и, в то же время, какою-то роковою силой толкаются в эту, антипатичную им, область, вследствие чего и городят невозможные теории. Таким
образом, на долю английского ума сердитый г. Страхов выбрасывает только два, правда, трудно совместимых, но зато одинаково нелестных недостатка: грубый, не рассуждающий эмпиризм и бестолковую, беспочвенную отвлеченность. Насколько
такое, очевидно, вызванное капризом, представление соответствует действительности, т. е. тому представлению об особенностях английского ума, которое должен был себе составить
всякий, знакомый с историей и современным состоянием положительных наук, не стану распространяться, — это отвлекло
бы слишком далеко от сущности спора, — и перейду к непосредственному обвинению Дарвина, как и всегда, на основании одной выхваченной у него фразы. Вот она: «Всякий, чей умственный склад заставляет приписывать большее значение необъясненным трудностям, чем объяснению известного числа фактов,
конечно, отвергнет мою теорию». По поводу этой фразы г. Страхов, и вместе с Данилевским и за свой счет, глумится над Дарвином. «С детским простодушием Дарвин тут говорит так, как
будто точного мерила истины никакого нет, как будто все зависит от умственного склада (disposition)». И далее: «Необьясценные трудности, — говорит Дарвин. — Под таким неопределенным выражением может только скрываться настоящее положение вопроса. Если это — факты, которые только не исследованы, не разобраны в отношении к теории, то никто не имеет
права ставить их ей в упрек; но если это — факты, противоречащие теории, несогласные с ее несомненными требованиями,
то всякий на основании их должен ее отвергать. А у Дарвина
выходит, как будто, что мы должны принимать или отвергать
теорию, смотря по отношению между числом объясненных и числом необъясненных фактов!». Стоит ли пояснять, что ни того,
ни другого из выдуманных г. Страховым абсурдов у Дарвина
вовсе не «выходит»? Не выходит ни того, что истина зависит от
умственного склада, ни того, что истина — только арифметическая разность, выведенная из противоречивых фактов. И если
кто-нибудь проявляет «детское простодушие», то уж, конечно,
не Дарвин, а г. Страхов, вообразивший, что его читатели забыли русскую грамоту и не понимают, что необъясненньіе значит те, которые не объяснены, а необъяснимые — те, которые
не могут быть объяснены. В словах Дарвина заключается со-
вершенно верное психологическое наблюдение, что умственный склад ученых бывает двух родоі: одни придают более веса
совокупному свидетельству целых категорий фактов и не отвергают теории, допускающей широкое обобщение, при первой встрече с ничтожным и еще необъясненным фактом; другие,
наоборот, готовы остановиться перед каждою песчинкой, перред каждою соломинкой на пути самой плодотворной теории,
не делая даже попытки устранить препятствие, разъяснить кажущееся противоречие. Замечу еще, что эти последние нередко
любят величать себя скептиками, когда, на деле, только произвольно придают несообразное значение ничтожному факту
и так же произвольно умаляют значение крупных фактов, из
скрытого желания затормозить движение несимпатичного им
учения Г. Страхов, конечно, не преминет обвинить меня в том,
что я проповедую презрение к фактам во имя теорий. Нимало:
я только говорю, что здравый, широкий ум должен прежде напрячь все усилия, чтобы устранить необъясненное кажущееся
противоречие и, только когда все усилия примирения окажутся
бесплодными, признать вопрос открытым, потому что если научная истина не лежит необходимо на стороне большинства
фактов, то уж, конечно, и не на стороне меньшинства А Прекрасною иллюстрацией мысли, высказанной в этой фразе Дарвина, может служить следующее место из Leçons sur la Philosophie chimique * Дюма. Речь идет о первом, классическом исследовании Лавуазье, по вопросу «превращается ли вода в землю?» Задача Лавуазье — доказать, что твердый осадок, остаю1 Я полагаю, каждый ученый, даже из своей сферы деятельности,
может привести- примеры устранения кажущихся фактических препятствий на пути той или другой теории. Я могу привести такой пример
из своей личной опытности. Когда, в 1869 г . , я высказал мысль, что известная функция растительной жизни зависит не от солнечного света (т. е.
не пропорциональна его действию на зрительный нерв), а от его теплоты
(т. е. энергии), против этой теории были решительно все сюда относящиеся факты физики и физиологии; но прошло пятнадцать лет, и факты
оказались неверными толкованиями,
а теория оказалась фактом. См.
мои «Публичные лекции и речи», стр. 279. (К. А. ссылается здесь на издание
названной книги 1888 г . , М., и имеет в виду свою статью «Растение и солнечная энергия», В настоящем издании см. том I, стр. 253. Ред.).
* «Уроков по философии химии». Ред.
щийся при перегонке чистой воды, происходит не вследствие
превращения воды в землю, а вследствие растворения стенок
сосуда. Но вода оставляет по себе 20 гран твердых веществ,
а сосуд потерял всего 17. Предоставляем далее говорить самому Дюма, с его обычным увлекательным красноречием.
«Очевидно, что часть воды превратилась в землю. Но Лавуазье
не останавливается перед этим фактом (passe outre*), для него
эта прибыль в 3 грана ничего не доказывает, это — только
случайная подробность опыта; и в этом смелом суждении он
выступает перед нами таким, каким мы увидим его и впредь,
всегда схватывающим, благодаря какому-то чудному инстинкту, главную сущность дела, никогда не задерживаясь над случайными подробностями, в которых мелкий ум (un esprit médiocre) не преминул бы заблудиться». Гений «passe outre» там, где
«un esprit médiocre ne manque pas de s'égarer**,— вот что означает та скромная фраза Дарвина, над которой г. Страхов позволяет себе так неудачно глумиться. Гениальные умы только
знают относительную цену фактам, умеют различать крупное от
мелкого Г Но это не значит, чтобы гений, наравне с простым
смертным, не находил нужным на досуге доискаться или поручить другим доискаться до происхождения тех трех гранов,
которые, по счастию, не остановили Лавуазье на первых шагах
его реформаторской деятельности.
Но г. Страхов не унимается и, все на основании этой совершенно произвольно и неверно перетолкованной мысли Дарвина,
спешит обобщить свое обвинение и говорит: «И всегда (!) у Дарвина встречаются подобные уклончивые выражения или же оговорки,. отнимающие у речи строго определенный смысл». «Для
доказательства»
этого огульного обвинения г. Страхов смело
приводит то самое место из книги Данилевского, на которое указывал и я, как образец возмутительного обращения с текстом
Дарвина, т. е. ссылки на фразу, начало которой умышленно урезано. Поясню, в чем дело. Данилевский уверял, будто Дарвин
1 Этою же способностью отличались и все гениальные классификаторы, этому так называемому «такту» мы обязаны, например, нашими
естественными системами.
* выходит за пределы. Ред.
* * «посредственный ум не преминул бы заблудиться». Ред,
'
в последующих изданиях своей книги вынужден был коренным
образом изменить свои воззрения; именно, будто бы вначале
он утверждал, что измененные формы возникают всегда от одного неделимого, и только позднее допустил, что изменение
охватывает, с первого раза, более или менее значительное число
неделимых. Для подтверждения этого неосновательного обвинения Данилевский привел фразу Дарвина, у которой было обрублено начало, а из этого начала читателю было
бы ясно, что, в так развязно приводимой цитате, Дарвин
говорит диаметрально
противное тому, что ему приписывает
Данилевский. Именно, Дарвин говорит в этом месте, что
всегда,
с самого первого
своего примера
борьбы (примера
быстроногих волков) он указывал на изменения, охватывающие многочисленных представителей
вида, хотя рядом с этим
считал возможным происхождение новых разновидностей и
от случайных единичных уклонений, о которых иногда говорил, как будто эти случаи встречаются часто, а в других
местах оговаривался, что они будут редки. Только прочтя
статью в «Северном британском обозрении» — продолжал Дарвин,—убедился он, как редок будет этот второй случай. Таким образом, Данилевский утверждал, будто Дарвин только
в шестом издании заговорил о возможности одновременного
изменения, в известном направлении, не одного, а многочисленных неделимых, причем Данилевский приводил обрывок
фразы, восстановляя которую во всей ее целости, нетрудно
убедиться, что в ней Дарвин доказывает именно обратное.
Бездоказательность нападки Данилевского, основанная на
искалечении текста Дарыіна, ясна до очевидности. Г. Страхов ничего не может сказать в оправдание Данилевского; но
сознаться в том или хоть промолчать — не в его нравах. Если
не могу ответить на спорный вопрос, то поговорю о другом,
рядом стоящем, — рассуждает он. Если нельзя возражать
против печатного текста, нельзя утверждать вместе с Данилевским, что Дарвин изменил свои воззрения в указанном
направлении, то стоит поговорить о том, что он изменил их
в другом направлении (благо он сам на то указывает), и дело
в шляпе: читатель останется под смутным впечатлением, что
Данилевский прав, а Дарвин и его защитник Тимирязев вц-
новаты. У Данилевского, как мы видим, речь идет о том,
допускал или не допускал Дарвин вначале одновременность
изменения нескольких или многих неделимых, а г. Страхов
заводит речь о возможности происхождения изменений от
единичных уклонений и доказывает, что Дарвин совершенно
изменил свои воззрения на эту сторону вопроса; достигает
же этого г. Страхов следующим крайне элементарным приемом. Дарвин, как мы видели, говорит, что и ранее указывал,
но позднее еще более убедился, как редко будут встречаться
эти случаи. Г. Страхов, повторяя уже от себя эту фразу,
подставляет вместо «редко» — «чрезвычайно редко», и, не удовольствовавшись этим, в скобках еще поясняет: «т. е., просто
говоря, никогда». Таким образом, стоит вместо «редко» подставить «чрезвычайно редко», вместо чрезвычайно редко —
«никогда» и совершенное противоречие Дарвина с самим собою
доказано, а кстати можно пристегнуть и такой, уже ни с чем
несообразный, вывод: «Дарвин отступает от одного начала и
признает другое, совершенно противоположное
и уничтожающее всю теорию» (?1) А Какой простой и, вместе с тем, какой действительный прием! Кажется, Талейран сказал: «дайте мне
два слова, написанные рукою человека, и я найду улики, чтобы
его повесить». Но то ли еще можно сделать с человеком, если
его слова подменить другими, да еще в два приема? Г. Страхов
забыл только, что делать такие превращения на глазах у читателя, на той же странице, на той же строке — прием уж черезчур наивный. Ведь и фокусник, прячущий в один рукав часы,
а из другого неуклюже вытаскивающий канарейку, едва ли может рассчитывать на аплодисменты самых снисходительных
зрителей.
Разделавшись так легко с Дарвином, г. Страхов набрасывается на меня с целью доказать, что я оказываюсь «plus royaliste que le roi»*, что бывшее для Дарвина только «вопросом»,
для меня «непреложная истина». Сущность дела вот в чем. Данилевский пытался доказать, что, по Дарвину, для того, чтобы
1 Не стоит и пояснять, что даже если б вместо «редко» пришлось ска.
зать «никогда», то теория от этого не только не уничтожилась
бы, но и не
изменилась бы.
* «большим роялистом, чем сам король». Ред.
известное, вновь возникшее изменение сохранилось, оно необходимо должно охватить х / 5 , х / 3 и даже х / 2 всех представителей данной формы, а так как допустить, чтоб это всегда или хоть часто
случалось, в высшей степени невероятно, то и вывод Данилевского понятен: дарвинизм, основанный на такой невозможности,
невозможен, нелеп. Я на это возражаю, что возникновение такого громадного процента измененных существ не составляет
необходимого условия дарвинизма, и что Дарвин никогда такой необходимости не допускал. Что же делает г. Страхов?
Он обращается в поисках за опровержением меня к самому
Дарвину и продуцирует перед удивленным читателем подлинный текст, сопровождая свое торжество приличествующими,
по его мнению, ужимками и прибаутками. Вот это место его
статьи:
«Но оказалось, что Дарвин сам сделал этот бесчестный 1 расчет, столь возмущающий г. Тимирязева». Через страницу после
знаменитой 126 стр. приводятся у Н. Я. Данилевского следующие слова Дарвина:
«Или только третья, пятая доля, десятая доля индивидуумов могла подвергнуться такому воздействию, чему могли бы
быть представлены примеры». В случаях такого рода, если б
изменение было благоприятного свойства, коренная форма была
бы скоро 2 замещена посредством переживания приспособленнейших (Origin of species, VI ed., p. 72*).
И H. Я. Данилевский замечает: «Значит, Дарвин идет в
своих требованиях 3 так же далеко, как и я».
" «Вот как жестоко Дарвин изменил г. Тимирязеву!» — восклицает торжествующий г. Страхов.
Точно так ли, г. Страхов? А я так полагаю, что для всякого
человека, не утратившего способности логически рассуждать
(или не желающего прикидываться таковым) не только Дарвин
не изменил мне, но между тем, что я говорю, и приведенною
фразой нет и тени противоречия.
Разъясним дело обстоятельно.
Курсив г. Страхова.
Мой курсив.
3 Мой курсив.
* «Происхождение видов», VI изд., стр. 72. Ред.
1
2
Прежде всего я удивляюсь ненаходчивости г. Страхова;
зачем не пошел он далее Данилевского. Несколькими строками
выше приведенного места Дарвин говорит, что иногда изменение может охватывать всех представителей данной формы и в таком случае не может быть и речи об отборе. Вот фраза, которую
можно было бы выгодно эксплоатировать. Можно было бы сказать (по примеру Данилевского): Дарвин требует, чтобы все
представители изменились, и сам же при этом сознается, что
в таком случае отбора уже не будет.— Дарвин требует упразднения дарвинизма, — что и доказать надлежало! Упустил,
упустил г. Страхов обнаружить обычную свою аргументацию
во всем ее неподражаемом блеске. Читатель, привыкший к этой
аргументации Данилевского и г. Страхова, уже догадывается,
что дело кончится знаменитым умозаключением: «не все —
значит ничего»; «редко — значит никогда», теперь он явится
в новом варианте: «иногда — значит всегда». Поясню дело сначала более простым сравнением, а затем перейду к ближайшему
анализу данного случая. Положим, в разговоре, я сказал бы,
что между гвардейскими солдатами попадаются саженные молодцы; имел ли бы право, на основании этой фразы, г. Страхов
закричать: «слушайте, слушайте, вот Тимирязев
требует,
чтобы в гвардию набирали только саженных молодцов!?».
Полагаю, что не имел бы. Точно так же для существования естественного отбора Дарвин не требует, чтобы изменения всегда
охватывали 1 / 2 или, по меньшей мере, х / 5 всех неделимых данной
формы; такое требование, по своей невозможности, граничило
бы с нелепостью. Потому-то его именно и требуют за Дарвина
Данилевский и г. Страхов и с обычною развязностью хотят
уверить, что их голосом учит сам Дарвин. Дарвин просто заявляет факт, что бывают даже и такие случаи, и тогда результаты отбора должны обнаруживаться скоро. Между тем, всегда
они обнаруживаются не скоро и, следовательно, не охватывают
такого большого числа. Сказать просто о чем-нибудь, что оно
бывает, — не значит сказать, что оно должно быть. Заявлять
о наблюденном факте — не значит требовать, чтобы он неизменно повторялся всегда и везде. Когда г. Страхов поймет эту
простую истину, то в то же время поймет, что не Дарвин изменил мне, а ему, г. Страхову, окончательно изменяет здравая
логика. Не потому ли одно упоминание о ней приводит его в раздражение? Ч
Далее г. Страхов, после лицемерного заявления: «Не ради
погони за недосмотрами г. Тимирязева, а ради самого предмета
укажем, что в тех же его строках есть еще другое уклонение в неопределенность», — обличает эту мою неопределенность в следующей тираде: «Н. Я . Данилевский говорит, что предполагать
большое число изменяющихся особей значит
противоречить
теории; г. Тимирязев возражает, что в предположении большого
числа никакого противоречия с основаниями теории, ничего
несогласного с природой не существует». «Тут смешаны, — поясняет г. Страхов, — слиты в одно две разнородные вещи Именно
то, что не согласно с природой, может ничуть не противоречить
теории, и, наоборот, то, что противоречит теории, может быть
вполне согласно с природой. Так как речь у нас идет о теории,
то природу нужно бы тщательнее отличать от нее. В том все
и дело, что рассмотрение природы вынудило Дарвина сделать
предположение, противное началам его теории». Здесь я позволяю себе высказать мнение, диаметрально противоположное
мнению г. Страхова. Может быть, о верности какой-нибудь трансцендентальной, метафизической теории, не имеющей никаких
точек соприкосновения с действительностью, и можно рассуждать безотносительно, но для натуралиста всякая теория есть
только сопоставление реальных фактов; следовательно, если я
допускаю, что теория верна (что я и делаю неизменно во всей
своей статье), то тем самым заявляю, что она согласна с подлинником, т. е. природой, и, наоборот, опровержение ее могу видеть только в ее несогласии с этим подлинником. Верность теории и согласие ее с природой для натуралиста — одно и то
же: говоря об одном, говоришь и о другом. А что, защищая теорию от нападения, я различаю обвинение во внутреннем противоречии (т. е. автора с самим собою) от обвинений во внешнем
противоречии, т. е. с природой, то это ясно из того, что, доказав на одной странице, что Дарвин не противоречит себе, я после слов: «Но, может быть, возразят... тем хуже для него» —перехожу к доказательству, что, оставаясь последовательным,
Например, в главе V I I I («О сохранении всего в природе», в этом
томе — стр. 361. Ред.).
1
т. е. верным себе, он остается верен и действительности, т. е.
природе. Следовательно, я вперед опроверг то, что голословно
утверждает г. Страхов, а именно, будто «рассмотрение природы
вынудило Дарвина сделать предположение, противное началам
его теории». Противоречия эти сочинил Данилевский, а повторил г. Страхов, — Дарвин тут не при чем А Значит, не только
«ради предмета», но и в смысле «погони за недосмотрами г. Тимирязева», как мы видим, не существующими, г. Страхов сделал бы лучше, если б свои нравоучения оставил при себе.
В конце этой главы, в которой обещано окончательное, конденсированное разоблачение всегдашней ошибки дарвинистов,—
обещание пока, как видит читатель, вторично не исполненное,
г. Страховым приводится длинная-предлинная выписка из
книги Данилевского. В этой выписке г. Страхов, очевидно,
усматривает корень всего разоблачения. Это, очевидно, кульминационный пункт всей полемики 2 . Смысл этой цитаты следующий. Данилевский, отправляясь все от того же положения,
совершенную невозможность которого мы показали, т. е. от
предположения, что Дарвин требует, чтобы изменения зарождались в громадном ( 1 / 5 — г / 2 ) числе представителей данной формы,
рассуждает далее следующим образом: органические существа,
животные и растения представляют нам ту особенность, которую короче всего выражают словом целесообразность. В этом
все согласны, и преяеде эту целесообразность считали предустановленной, предопределенной. Но, по Дарвину, изменчивость
есть вообще результат влияния с р е д ы , — значит, рассуждает
Данилевский, «предустановленная, предопределенная целесообразность» только переносится с одного места на другое —
с самого организма на среду: прежде говорили, что существа
1 Во
избежание недоразумений повторяю: Дарвин допускает, что
изменение может начинаться не с одной, а с нескольких или многих особей, и это вполне согласно и с теорией, и с природой, но он не требует,
чтобы изменение всегда охватывало от As до х /г в с е х представителей данной формы, что было бы невозможно и, следовательно, несогласно с природой. Это последнее предположение для теории не нужно и выдумано Данилевским.
2 Так смотрит на дело сам г. Страхов,
заявляющий, что мог бы на
этом покончить с Дарвином и со мною.
25
д . А. Тимирязев,
т.
VII
созданы целесообразно, а дарвинизм учит, что целесообразно
действует среда. Следовательно, образование органических
форм остается «тайною непостижимой» и, во всяком случае,
свидетельствует о «целесообразной разумности» этого процесса,
а это уже, по мнению г. Страхова, равносильно отказу самого
Дарвина от своей теории.
Приведя длинную выписку, содержание которой мы могли
передать в нескольких словах, нисколько не ослабляя ее смысла, г-н Страхов приходит в восторг и восклицает: «Вот ясная и
определенная речь, с которой всякий должен
согласиться,
каких бы он воззрений ни держался! Ибо это есть чистый анализ: тут взяты известные понятия и сделан из них правильный
вывод». Вопреки г. Страхову, я утверждаю, что нимало-таки
не должен согласиться с этою речью не только, например, я, человек иных воззрений, но даже сам г. Страхов, человек одинаковых с Данилевским воззрений, разумеется, под условием, что
для него истина дороже других соображений. Что рассуждение
Данилевского есть чистый анализ, я согласен; что он взял за
исходную точку известные понятия, также вполне верно. Вся
беда в том, что взял-то он для анализа «известные понятия», да
не те, которые должен был взять. Это «всегдашняя ошибка»
диалектиков, забывающих, что их анализ — только механизм,
одинаково успешно обрабатывающий и зерно, и труху, и те,
и не те посылки, которые требуется взять. Анализ может быть
и очень «чист», но беда, если аналитик, желая анализировать
муку, возьмет для анализа песок. Такой-то обидный случай и
приключился с Данилевским. Он отправляется от того положения, что дарвинизм вынужден будто бы допустить целесообразность воздействия условий на организм. Но откуда он это взял?
Что дарвинизм не делает такой посылки, должно быть известно,
я полагаю, всякому, кто решается говорить, тем более писать
об этом учении. Воздействие условий может быть полезно, совершенно безразлично и даже вредно, — следовательно, ни в
каком случае не целесообразно. Целесообразность, по дарвинизму, является только результатом отбора, т. е. многочисленности попыток и малочисленности удач. Да и может ли воздействие среды быть само в себе признано целесообразно-разумным актом, когда большинство результатов этого акта бывает
неудачно и только ничтожное число удачно? Представим себе,
что какой-нибудь рабочий на спичечной фабрике выделывал бы
такие спички, из которых миллион пришлось бы бросить и сохранить одну. Назвали ли бы мы деятельность этого рабочего
разумно-целесообразной, и в конечном результате зависело ли бы
совершенство спичек от деятельности этого рабочего или от деятельности браковщика, отбрасывающего миллион и сохраняющего одну? Так и действие условий само в себе не может быть
названо разумно-целесообразным, потому что большая часть
существ, подвергающихся этому воздействию, по своему несовершенству погибает, и только малая часть сохраняется. Следовательно, целесообразность организации не есть непосредственный результат воздействия среды, не первичный факт, а
вторичный результат сложного процесса, слагающегося из обширного производства и строгой браковки, т. е. результат выживания наиболее приспособленного, как объясняет это настоящий дарвинизм, а не тот, который опять ad hoc* придумал Данилевский. Обыкновенно предполагается, что, опровергая какое-нибудь учение, прежде всего дают себе труд с ним основательно ознакомиться, но г. Страхов считает себя совершенно
свободным от этого требования.
Таков плачевный исход приводящего г. Страхова в восторг
«чистого анализа» не относящихся к делу «известных понятий».
Впрочем, к обсуждению этого вопроса мы будем вынуждены
вскоре вернуться; такова уже своеобразная манера изложения
у г. Страхова, неизвестно почему втиснувшего этот вопрос в настоящую главу, тогда как далее он посвящает ему целую специальную главу.
А пока оглянемся назад, поищем, где в настоящей главе
скрывается обещанное раскрытие «всегдашней ошибки». В голословном брюзжании Негели или Данилевского? В огульном
признании неспособности английской нации к здравому мышлению? В неудачных придирках г. Страхова к двум фразам Дарвина — придирках, обратившихся на голову самого обвинителя? В еще менее удачном открытии какой-то измены Дарвина
мне? Или, наконец, в восторгах по поводу длинной тирады
* для данного случая.
25*
Ред.
387
Данилевского, заключающей «чистый анализ» «известных понятий», с дарвинизмом не имеющих ничего общего?
Г . Страхов так и остался в долгу у своих читателей; несмотря
на повторенное в заголовке главы обещание раскрыть «всегдашнюю ошибку», он продолжает хранить свое открытие при себе.
Это, впрочем, нисколько не мешает ему с обычною развязностью, на этот раз рассчитанною разве на читателей, которые
прочтут только заголовок и заключительные строки, закончить эту главу словами: «Повторим, вся сила дарвинизма —
в неопределенности посылок и в неправильном обобщении выводов; при точном анализе, при отчетливом вникании в сложный ход предполагаемого процесса эта сила исчезает без
остатка».
Но где же хоть тень доказательства этого смелого заявления? Где яге «точный анализ» или «отчетливое вникание?» Их-то
и забыл сообщить читателям г-н Страхов.
Таким образом, в конце главы г. Страхов остается при своей
точке отправления в ее начале. Взявшись доказать, что всегдашняя ошибка дарвинизма заключается в увлечении «общими
неопределенными положениями», он в заключительных словах просит поверить ему на слово (так как не привел тому доказательств), что «в неопределенности посылок и неправильном
обобщении выводов» и заключается всегдашняя ошибка дарвинизма. Я полагаю, каягдому гимназисту известно, что такой
прием доказательства давно предусмотрен и называется реtitio principii.
Да, ягестоко мстит за себя логика!
12
ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
Казалось бы, что в предшествующей главе, судя по ее заголовку, задача г. Страхова исчерпана, но он вдруг спохватывается и говорит: постойте, постойте,— забыл еще одно обстоятельство, — и, как оказывается, обстоятельство немаловаягное. Мы видели выше, что г. Страхов не одобряет моего способа
изложения и очень гордится своим; у него все — «в связи, в порядке и даже под цифрами». Цифры-то есть несомненно, и замы-
словатые заголовки, совсем как в старинных романах (теперь
и в романах их что-то не встречается), но, воля ваша, порядок
странный: постоянно возвращаться к точке отправления; успокоить читателя, что доканал противника, совсем покончил
с ним, и опять начинать сначала. По счастью, на этот раз дело
так просто, что терпению читателя не грозит слишком долгое
испытание. Мы опять возвращаемся к старой аргументации.
Каждая вновь появившаяся измененная форма будет иметь
против себя большее число неизмененных, следовательно, по
словам Данилевского, может сохраниться в борьбе только под
условием, чтобы превосходство
было во столько раз более, во
сколько меньше численность. Г. Страхов называет это теоремой
и усматривает в ней, повидимому, второе «истинное открытие»
Данилевского. Доказывает свою «теорему» Данилевский, главным образом, военными притчами, так как для всякого очевидно,
что десять солдат могут успешно дать отпор ста солдатам только
в таком случае, если могут выпускать в десять раз более зарядов. Но на это я отвечаю: «Уже из одного постоянного сравнения
с армиями видно, что Данилевский, в самом существенном месте своей книги, понимает под борьбой только борьбу прямую,
зубами, когтями, кулаками, где, очевидно, сила должна быть
в обратном отношении к числу. Но всякому, кто прочел хоть
самую жиденькую статейку о дарвинизме, известно, что не
таково действительное понятие о борьбе за существование.
Борьба за существование слагается из прямой борьбы с врагами, из борьбы с условиями и из конкуренции, как результате
несоответственности между безграничным размножением и ограниченностью земной поверхности». Г. Страхов, очевидно,
ничего не в состоянии мне возразить. Что же он делает? Он прибегает к приему, которым уже пользовался не раз и который,
судя по тому, что я узнал из статьи В . Соловьева в «Вестнике
Европы», грозит войти у него в привычку. Он предъявляет читателю приведенную только что мою фразу, обрубив ее внезапно
на запятой, между словами известно и что, и вслед затем, ничем не смущаясь, вразумляет своих читателей таким резким
суждением: «мы желаем только обратить внимание читателей
на то, что в борьбе за существование, по мнению г. Тимирязева,
„численное превосходство не имеет почти никакого значения"
(стр. 164)». К сожалению, он не приводит совершенно никаких
соображений, из которых можно бы было понять, почему численность не должна играть роли в процессе борьбы. Кажется,
ясно, и вносные знаки и ссылка на страницу, — все в исправности. Очевидно, я сказал какую-то невозможную нелепость.
Но так ли оно на деле? Если всякий сообразительный читатель
поймет, что первая цитата г. Страхова оборвана перед словом
что, то, конечно, никто не в состоянии догадаться, что вторая
начинается даже не с запятой. Если у первой отрезан неудобный г. Страхову конец, то у второй обрублено еще менее удобное начало. Прошу позволения у читателя повторить этот конец, прямо переходящий в начало следующей, искалеченной
г. Страховым, фразы: «Борьба за существование слагается из
прямой борьбы с врагами, из борьбы с условиями и из конкуренции, как результате несоответственности между безграничным
размножением и ограниченностью земной поверхности. Из этих
трех сторон одного явления борьбе с условиями и конкуренции
должна быть приписана главная роль, а именно в этих двух
случаях численное превосходство не имеет почти никакого значения». Эту мысль, очевидную в себе самой, я вслед затем поясняю примерами.
Теперь, полагаю, читателю ясно, для чего г. Страхову понадобилось оборвать фразу на запятой, а вторую начать даже
не с запятой; этим разом достигались две цели; от читателя тщательно скрывалась сущность вопроса, а мне приписывалась нелепая мысль, будто я отрицаю значение численности в борьбе
вообще, т. е. и в борьбе прямой, чего я никогда не высказывал
и не мог высказывать. Я возражаю против «теоремы» Данилевского, что она применима только к частному и сравнительно не
важному (в растительном царстве, например, не существующему) случаю прямой борьбы 1. Гораздо большее (а в растительном царстве исключительное) значение играет борьба с условиями и конкуренция, а в этих случаях «численное превосходство
не имеет почти никакого значения».
Но для достижения своей цели г. Страхов не остановился
на одном калеченьи моих фраз, — он изобрел еще новый диа1
Т. е. прямая борьба в растительном царстве не бывает обоюдная.
лектический прием, и это его «истинное открытие», надеюсь,
никто не станет у него оспаривать. В начале следующей же страницы ему пришлось привести еще цитату, в которой встречается
та же мысль, которую он так старательно обрубил в начале и
в конце предшествующих двух цитат, но здесь, как на зло, она
занимает средину фразы. Как тут быть? Как скрыть ее? А скрыть
необходимо, иначе разоблачится вся проделка. Для благой цели
все средства хороши; и вот г. Страхов вычеркивает мои слова
и заменяет их своими, да еще курсивом! Я говорю: «значит,
в борьбе с условиями, которая гораздо важнее прямой борьбы
с врагами, численное отношение не при чем». А г. Страхов заставляет меня говорить: «Значит, в борьбе за
существование,
которая гораздо важнее прямой борьбы с врагами, численное
отношение не при чем» (стр. 164). Таким образом, г. Страхов
ухитряется заставить меня в трех строках сказать три нелепости: 1) утверждать, что в борьбе за существование вообще
(следовательно, со включением прямой борьбы с врагами) численность не при чем; 2) противопоставить целое (борьбу за
существование) его части (борьбе с врагами); 3) высказать бессмысленный трюизм, что целое (борьба за существование) важнее своей части (борьбы с врагами). Но что до того г. Страхову?
Его цель достигнута: от читателя утаен настоящий смысл вопроса, мне приписана нелепость и «теорема» Данилевского спасена 1 .
Предоставляю судить беспристрастному читателю, какою
дозой терпения и отвращения к полемике нужно было обладать
для того, чтобы спокойно сносить, как это я делал до сих пор,
такие неслыханные проделки над своими мыслями.
Рекомендую ценителям критического таланта г. Страхова
(например, его биографу, признавшему «Всегдашнюю ошибку»
перлом его научно-литературной деятельности) этот новый диалектический прием. Вот его рецепт: обрежь конец одной фразы;
1 На той же странице г. Страхов позволяет себе следующую шуткуОбвиняя меня в презрении к Данилевскому, он говорит в особой выноске:
«Нельзя ли употребить известную поговорку в таком виде: Скажи мне,
кого ты презираешь, и я скажу тебе, кто ты такой?» Нельзя ли мне теперь пародировать эту шутку в такой форме: «Скажи, как назвать твой поступок, и всякий тебе скажет, кто ты такой».
обруби начало другой; выкинь, что тебе не нравится, в третьей
и замести нелепостью; напиши эту нелепость курсивом... да не
забудь сослаться на страницу. А затем посмеивайся втихомолку
над доверчивым читателем.
Как я уже сказал, само в себе очевидное положение, — независимость борьбы с условиями существования от относительного числа состязающихся, — я еще поясняю примерами. Я говорю: если какой-нибудь организм может вынести такую высокую температуру, какой не вынесут его соседи, то, в случае
повышения температуры до этого предела, для него будет безразлично, окажется ли он один или в сообществе миллионов
менее счастливых соперников. Рассуждение это очевидно и в
такой отвлеченной форме, но, как натуралист, я предпочитаю
сослаться на конкретный факт, на наблюдение одного микроскописта. Для всякого ясно, что подробности обстановки опыта тут
не при чем, так как, повторяю, аргумент очевиден и в его отвлеченной форме. Что же делает г. Страхов? Обвиняя меня в том,
что я аргументирую примерами, сам, вместо того, чтоб возражать на логическую сущность примера, чего, конечно, не в состоянии сделать, он отвлекает внимание читателей совершенно
в сторону, на подробности опыта, и с тонкою, по его мнению,
иронией изображает ученого, сидящего за микроскопом и нагревающего свои бактерии, т. е., по мнению г. Страхова, исследующего явление, будто бы невозможное «в природе».Этот
прием г. Страхова мне невольно напоминает старый анекдот из
чиновничьего мира. Начальник спрашивает чиновника: «Понимаете ли вы, что нам пишут из такого-то ведомства?»,— а догадливый подчиненный отвечает прямо на мысль своего начальника: «Понимать, ваше превосходительство, не понимаю, а отвечать могу». Г. Страхов пошел еще далее этого чиновника:
понимать-то он понимает, в чем дело, но может отвечать так,
как будто и не понял. Г. Страхов не может не понять, что дело
не в микроскопе, не в нагревательном столике или равномерной температуре, а в общем логическом положении, что если
в данном случае какой-нибудь организм погибает или сохраняется, в зависимости от какого-нибудь внешнего влияния, то он
умирает или сохраняется в живых независимо от того, много ли,
мало ли умирает или сохраняется живых существ вокруг. В том
только и дело, что можно быть живым или мертвым, но нельзя
быть во сто раз живее или в тысячу раз мертвее, или быть живым
пропорционально числу мертвых.
Впрочем, чтобы читатель и в самом деле не поверил, что в
природе ничто подобное приведенному мною примеру невозможно, приведу пример совершенно сходный. Целый ряд наблюдений заставляет предполагать, что солнечный свет (это уже природа, г. Страхов?) убивает некоторые бактериальные организмы. Что же, если между ними найдутся такие, которых свет не
будет убивать, — их сохранение в живых будет ли зависеть от
числа убиваемых?
Для того, чтобы еще более запутать дело, г. Страхов рас-,
суждает так: пусть на первый раз уцелеют те организмы, которые выносят высокую температуру, что же потом? Оригинальный способ рассуждать не о том случае, о котором идет речь, а о
том, что будет после этого случая. Почем я знаю, г. Страхов, что
будет после? Может быть, в другой раз отбор будет зависеть от
мороза и сохранятся, наоборот, формы самые сносливые к холоду, а в результате получится форма вдвойне совершенная,
способная существовать в самых широких пределах температуры, и в силу этого она получит и широкое распространение. Но
г. Страхов может спросить: а после этого что будет? — и так до
бесконечности отвлекать внимание от настоящего вопроса.
Не удовольствовавшись тем, что, при помощи разговора о
совершенно к делу не относящихся побочных обстоятельствах,
он увильнул от сущности вопроса, т. е. общего положения, что
влияние среды не зависит от числа существ, на которые она действует, г. Страхов укоряет меня, зачем я не проникся каким-то
сравнением Данилевского с игрою в банк. Должен покаяться,
что все, касающееся карт, для меня тараборская грамота, да и
между знакомыми не нашлось сведущих людей по этой части;
к тому же еще Данилевский сопровождает свой пример оговоркой: «допустим случай, обратный бывающему в действительности». При всем том полагаю, что игра в банк также относится
к случаям прямой борьбы, а не к «действию условий существования», так как каждый из играющих посягает на карман противника, и выигрыш одного неизбежно сопровождается соответственным проигрышем другого. При действии же условий (на-
пример, температуры) судьба различных веществ, им подвергающихся, ничем между собою не связана, — ведь одному
не становится теплее потому, что другому стало соответственно
холоднее А Следовательно, сравнение с игрой в банк в основе
так же неудачно, как и военные притчи Данилевского.
Показав, что численность не при чем в борьбе с условиями
существования, я привожу примеры в подтверждение того,
что она не играет почти никакой роли и в конкуренции. Я указываю, что торговец, продающий по дешевой цене, продает свой
товар, независимо от того, много или мало товару предлагают
рядом по дорогой цене. Я указываю, что призовой рысак возьмет приз, все равно, будет ли с ним бежать одна или десять извозчичьих лошаденок. Указываю, наконец, что если в учебном
заведении была одна вакансия и тысяча конкурентов, то попавший на вакансию не будет в тысячу раз умнее своих конкурентов. Наконец, предвидя (слишком я хорошо знаю своих противников) возражение, что все это не относится к природе, я привожу примеры, где ничтожные признаки дают перевес в борьбе
(окраска цветов душистого горошка и клубней картофеля). Что
же делает г. Страхов? Он минует первые два примера, как такие, в которых неудобно прицепиться к подробностям, и совершенно умалчивает о примерах, взятых из природы, так как
одно упоминание о них, как увидим, расстроило бы всю последующую его аргументацию. Аргументацию эту он сосредоточивает на примере об училище, как таком, по поводу которого
можно опять наболтать к делу не относящегося и отвлечь внимание читателя от сущности дела. Он глубокомысленно замечает, что пример училища есть пример отбора искусственного.
Зиаем и без объяснения г. Страхова, что школа — творение
человеческое, а не произведение природы; но, спрашивается,
почему же это соображение, эта оговорка понадобилась г. Страхову, чтобы отделаться от моих сравнений, идущих к делу, и не
мешала ему, еще за несколько строк, восхищаться сравнениями
Данилевского, к делу не идущими? Или его игра в банк, армии,
1 Ведь если игра в банк не прямая борьба, а пример действия условий существования, то и драка с завязанными глазами (есть, ведь, и такое препровождение времени) — не драка, а действие внешних условий;
в нее также входит элемент случайности.
казацкие отряды, манежи и конюшни, — все это произведения
природы? Но г. Страхов, изрекши глубокую истину, что экзамен в школе — пример искусственного отбора, полагает, что
сделал все, что требовалось, и торжественно восклицает: «Но,
ведь, весь вопрос в том, бывает ли что-нибудь подобное в природе?» Еще бы не явиться вопросу, замечу я, когда г. Страхов
тщательно утаил от своих читателей то, что. я говорю о природе!
«Кто же в природе играет роль директора? — победоносно продолжает он. — Кто тщательно высчитывает баллы, сохраняет
под своим кровом имеющего наибольший балл, остальных беспощадно гонит от дверей?»
Что заменяет в природе искусственный отбор? — спрашивает г. Страхов. «Кто исполняет в природе роль директора?»
В свою очередь, так и хочется спросить г. Страхова, шутит ли
он, или говорит это совершенно серьезно? Если он серьезно
воображает, что первый придумал такое ядовитое возражение,
то пусть разуверится: этому аргументу без малого тридцать лет
и уже при первом появлении он был оценен по достоинству.
Если же г. Страхов действительно не понимает, что заменяет
в природе искусственный отбор, то на это может быть только
один ответ — совет прочесть книгу: «On the origin of species
by means of natural selection»*; издана она в Лондоне, в 1859 г.,
а автора ее зовут Чарлзом Дарвином.
Затем, поговорив еще на неопределенную тему — о погибели от случайностей, — тему, не имеющую ничего общего с
вполне определенным вопросом, находится ли борьба со средой и конкуренция в прямой зависимости от отношения между
числом сохраняющихся и погибающих существ, он голословно
и еще курсивом утверждает, что для того, чтоб сохраниться в живых, организм дол?кен обладать огромным превосходством над
другими. При этом г. Страхов, очевидно, забыл или еще не знал
(в том и беда, когда распределяешь свои мысли по клеткам «под
цифрами»), что в следующей главе, через страницу, напишет такие строки: «в организмах жизнь от смерти отделяется одной
чертой, следовательно, и то, что полезно, может одною чертой
отделяться от того, что вредно; таким образом, огромное разли* «Происхождение видов путем естественного отбора...» Ред.
чие вреда и пользы может происходить от бесконечно малого различия в самых организмах или в обстоятельствах, среди которых
они живут». Но, ведь именно это, и не что иное, утверждаю я — и именно это, и не что иное, упорно отрицает Данилевский, которого всеми правдами и неправдами защищает
г. Страхов. Данилевский утверждает, что малое различие бесполезно, а большое различие (пропорциональное числу конкурентов?) не может возникнуть вдруг и не успеет сложиться исподволь. Я же говорю, что ничтожное различие ( х / 2 0 балла в моем
школьном сравнении) определяет судьбу существа.
Все это не мешает г. Страхову заключить и эту главу голословным, бездоказательным повторением положения, которое требовалось и оказалось невозможным доказать, т. е. пресловутой «теоремы» Данилевского: «Превосходство должно быть во
столько больше, во сколько меньше численность,
и наоборот».
А из этой теоремы следует, поясняет, ничем не смущаясь, г. Страхов, «что теория Дарвина невозможна». На этот раз, для усиления своего petitio principii, г. Страхов, как видим, пишет его
курсивом. Но курсив — не довод. По этому поводу припоминается мне сходный случай с одним немецким ученым (Саксом). Высказал он также «теорему», которая никого не убедила. Что же сделал он? Во втором издании своей книги велел
набрать «теорему» даже не курсивом, а сплошь прописью. Представьте себе, и этим не убедил. Да, впрочем, г. Страхов, ведь,
и сам говорит, что знает нравы ученых, никакими типографскими украшениями их не убедишь, твердят себе одно: предъявите нам факты и логические доводы.
А что г. Страхову нечего предъявить, ясно до очевидности;
стал ли бы человек, располагающий доводами, прибегать к таким постыдным приемам, как те, с которыми нам пришлось познакомиться в этой главе?
Жестоко, жестоко мстит за себя логика!
13
СЛЕПАЯ ПРИРОДА
Прочтя этот сенсационный заголовок и твердо помня, какие мысли развивал г. Страхов ранее (например, в IV и в конце
X I главы и т. д.), я был убежден, что под словом слепая скры-
вается тонкая ирония. Но каково же было мое изумление, когда
я узнал, что этот эпитет нужно понимать в прямом, серьезном
смысле, и что он выражает будто бы воззрения самого г. Страхова. Что за мистификация! Читал я и перечитывал эту главу,
но так и не выяснил себе, что же такое природа — слепая,
целесообразно предопределяющая разумность 1 — или целесообразно предопределяющая, разумная слепота? Как ни кинь—
все клин. И, наконец, если г. Страхов допускает, что природа
(со включением органического мира) слепа, т. е., выражаясь
менее фигуральным, более обычным для ученого, языком, если
она управляется неизменными механическими законами, то
где же корень разногласия с дарвинизмом? Постараемся разобраться в этом хаоее противоречий. Речь в этой главе вертится,
главным образом, вокруг того коренного противоречия, на которое я указывал в книге Данилевского и которое приводит основную его аргументацию к абсурду. Коренное философское
различие между дарвинистами и антидарвинистами того толка,
к которому принадлежат Данилевский и г. Страхов, сводится,
главным образом, к следующему. Чтобы сохранить более полное беспристрастие, буду говорить словами антидарвиниста,
правда антидарвиниста ученого, именно Катрфажа «Попытка
Дарвина, — говорит он, — заключалась в том, чтобы объяс- 1
• нить действием одних вторичных причин то чудесное целое,
которое изучают ботаники и зоологи; он захотел нам объяснить его происхождение и развитие таким же образом, каким
астрономы и геологи объясняют нам, как возникла наша планета и как произошло то, что мы теперь на ней видим. В этой
грандиозной попытке великого ума нет ничего незаконного» и
т. д. Объяснение происхождения и современного строя органического мира такими же «вторичными причинами», какими объясняет подлежащие явления астроном и геолог, вот, следовательно, задача дарвинизма. Задача Данилевского и г. Страхова
прямо противоположная: доказать, что процесс происхождения организмов — процесс загадочный, таинственный, необъяснимый без непосредственного вмешательства целесообразно
предопределяющего разумного начала, что объяснения вторич1
Как в главе I («Начало полемики»; в этом томе — стр. 331.
Ред.).
ными причинами в биологии неприменимы, что биолог в своих
объяснениях, или вместо объяснений, вынужден непосредственно восходить к первичной причине — к интеллектуальному
началу.
Особенность организмов, отличающая их от неорганизованного и нуждающаяся в объяснении «вторичными причинами»,
заключается в той их черте, которая (худо ли или хорошо) издавна обозначается словом «целесообразность». Происхождение этой (кажущейся) целесообразности дарвинизм объясняет,
как известно, следующею «вторичною причиной»: в природе существует процесс, устраняющий все бесполезные и вредные организации и сохраняющий и накопляющий все полезные, разумея под полезными такие, которые обеспечивают существование обладающих ими организмов. Польза, каждый раз проявляющаяся, может быть ничтожна, но зато и процесс ее накопления обнимает несметные периоды времени. Сегодня — польза,
завтра — польза, всегда польза, и в итоге, большая, громадная,
изумительная польза, т. е. та именно целесообразность, которая нас поражает в окончательном результате.
Данилевский вообразил, что нашел могучий довод против
дарвинизма в следующем соображении. Дарвинизм, — рассуждает он, — сохраняет и накопляет в организмах только полезное и таким образом направляет их к совершенству. Значит, — заключает он, — все существа всегда должны быть совершенны (все тот же знакомый способ аргументации), и вслед
за тем посвящает значительную часть книги набору примеров,
доказывающих несовершенство организмов, доходя при этом
порою до глумления, приговаривая: вот это так бесполезный
орган и т. д. Но всякий, рассуждающий хладнокровно, поймет,
кого же поражает эта аргументация, — дарвинизм ли, допускающий в природе только существование процесса, направляющего организмы к совершенству, а не абсолютное их совершен- j
ство, или сторонников непосредственного вмешательства в «таинственный морфологический процесс» целесообразно предопределяющего «интеллектуального начала». Присутствие несовершенства, неразумности в природе можно еще, пожалуй, рассматривать как аргумент в пользу того, что совершенство достигается путем медленного, слепого, механического процесса,
каков естественный отбор. Но неразумная деятельность разумного начала, воля ваша — как будто contradictio in adjecto*.
Возможность такого грубого, режущего слух противоречия
только тем и объясняется, что оно распределено на двух противоположных концах толстой книги, и свести эти концы предоставляется читателю. А этот читатель, г. Страхов, за деревьями не
видел леса: услаждаясь диалектическою шумихой отдельных
фраз, он не заметил логического противоречия целых глав.Но
как же было выпутаться, раз противоречие было мною выставлено напоказ? Отчаянной попытке выбраться из этого промаха
и посвящена настоящая глава.
В бесконечно запутанном изложении, извивающемся и ускользающем из рук, как уж, г. Страхов пытается даже в одном
месте совершенно извратить роли, выставить меня защитником непосредственного вмешательства в процесс образования
организмов Мирового Разума, а себя с Данилевским — строгими сторонниками закономерных процессов слепой природы 1 .
Но это ему не удастся.
Вооружимся терпением и проследим шаг за шагом эту мечущуюся из стороны в сторону аргументацию. Прежде всего
г. Страхов обвиняет дарвинизм в том, что он весь построен на
неопределенном будто бы понятии о пользе. Весьма глубокомысленно (но довольно непонятно в устах бывшего зоолога)
он сравнивает трудность отвечать на вопрос: «для чего служит
такой-то орган?» с трудностью отвечать на вопрос: «для чего существует этот мир?» — и вслед затем храбро утверждает, что
«телеологические рассуждения Дарвина и его последователей
производят обыкновенно впечатление смутного брожения мысли, не имеющей никакого руководящего правила», и далее,
что «на вопрос о пользе дарвинисты отвечают просто произвольным придумыванием каких-нибудь подходящих
условий».
Скажи еще г. Страхов — некоторые из дарвинистов или хоть
1 В одном месте своей статьи выражение Данилевского «интеллектуальное начало» я перевожу по-русски выражением «Мировой Разум».
Г. Страхов делает вид, будто не понимает, что речь идет о воззрениях Данилевского (хотя в моем изложении нет места для недоразумения) и разыгрывает какое-то водевильное qui pro quo (принятие одного за другого.Ред.).
* Приписывание предмету противоречащего ему свойства. Ред.
огульно дарвинисты, он имел бы хоть тень основания: в семье
не без урода; хотя не совсем-то благовидно, говоря о семье,
иметь в виду только уродов. Но он осмеливается обвинять
в том самого Дарвина, рассчитывая при этом, конечно, на полное невежество своих поклонников в современном естествознании. Как ставят и разрешают вопрос о полезности «Дарвин и
его последователи», читатели г. Страхова, не желающие быть
сознательно введенными в заблуждение, могут узнать, хоть из
моего краткого очерка «Чарлз Дарвин и его учение» 1 . Приведу
один пример. Требуется доказать, что все особенности цветка—
окраска, форма и т. д., — словом, все признаки, казавшиеся
только эстетическими, полезны растению. Дарвин останавливается на объяснении, что все это полезно в смысле привлечения насекомых для перекрестного опыления. И вот, в целом
томе, посвященном семейству орхидных, он доказывает, что формы этих цветов, очевидно, приспособлены хг посещению насекомыми. В другом томе он указывает на присутствие таких же приспособлений у целого ряда растений. Эти две работы породили
обширную литературу, показали широкую распространенность
подобных приспособлений. Но Дарвину этого было недостаточно. Самый факт полезности перекрестного оплодотворения казался ему недостаточно обоснованным, и вот является третий
том, заключающий более чем десятилетние экспериментальные
исследования, подтверждающие это положение. Следовательно,
разрешению вопроса о пользе одного органа — цветка — посвящается три тома; это ли «смутное брожение мысли» и «произвольное придумывание»? Такого же метода держался Дарвин
в вопросе о насекомоядных растениях и в других специальных
своих исследованиях. Вот как учил ставить и разрешать вопросы о пользе органов Дарвин. Ставил он их на основании
многочисленных наблюдений, а решал на основании прямых очевидных опытов. «Смутное же брожение мысли» было всегда из1 (Применительно к изданию 1919—1921 гг. и к данному тому, К. А.
ссылается на первую часть названной книги, раздел II — «Краткий очерк
теории Дарвина». Ред.). В с я глава ѴІ( см. в этом томе стр. 183. Ред.), представляющая примеры специальных исследований Дарвина и разъясняющая общий метод, которым он руководился в разрешении частных вопросов.
любленным уделом философов-метафизиков, чему мы вскоре и
увидим пример.
Желая еще более затемнить понятие о пользе, лежащей в основе дарвинизма, г. Страхов старается уверить, что понятие это
дарвинисты выводят из понятия о борьбе, которое, в свою очередь, ему будто бы удалось подорвать. Стоит ли пояснять читателю, что пользу дарвинисты понимают так же, как и всякий
бесхитростный, здравомыслящий человек. Польза, это — зубы,
которыми можно жевать, это — мех, который может защитить
от непогоды. Pas plus malin que ça*, г. Страхов! Никакие ухищрения не убедят здорового человека, что на вопрос: для чего
служат зубы, так же трудно ответить, как и на вопрос: «для
чего существует этот мир». Наконец, чтобы окончательно сбить
с толку читателя, г . Страхов предъявляет и ту мою фразу, которую так тщательно утаивал от него в предшествовавшей
главе, куда она прямо относилась. Доказывая, как ничтожны,
(а не громадны, что так тщетно усиливался там доказать г. Страхов) могут быть признаки, определяющие победу в борьбе,
я говорю: «И как можем мы определить степень полезности
признака в природе?»,—причем ссылаюсь на такие эмпирически дознанные, но ближе не объясненные факты, как перевес
в борьбе, доставляемый колером цветов душистого горошка, и т . д.
«Итак, — подхватывает г. Страхов, — судить о том, что полезно и вредно, очень трудно. Дарвинисты и пользуются этою
трудностью, чтобы иметь полную свободу в своих предположениях». Но всякий, не утративший способности здраво рассуждать, понимает, что вывод, сделанный г. Страховым, вовсе не вытекает из посылок. Из них следует только то,что, подобно Дарвину, в трех томах своих исследований объяснившему пользу
частей цветка вообще, какой-нибудь дарвинист, на тридцати,
а может быть, и на трех страницах, должен объяснить, в чем
заключается специальная польза известной окраски цветов душистого горошка, — следует только то, что заниматься наукой
труднее, чем писать пасквили на нее, а этим, в свою очередь,
объясняется и то уважение, которое образованные люди питают вообще к науке и к ее деятелям, и совершенно обратное
* Не более хитро, чем это.
26
К.
А. Тимирязев,
т.
VII
Ред.
чувство, которое они питают к людям, пробавляющимся столь
же дешевым, как и безуспешным глумлением над этою наукой.
Подозревая безуспешность этой попытки уверить читателя,
что польза — какое-то темное, неуловимое понятие, и не надеясь, что все читатели поверят, будто дарвинисты только выдумывают эту пользу, г. Страхов изменяет тактику и, допустив
возможность понимать пользу органов, старается только доказать, что возникнуть эта польза не могла тем путем, как учат дарвинисты. При этом, вероятно, на основании знакомой нам теории, что тот, кто сам мыслит, не различает своих мыслей от чужих, он ни одним словом не обмолвливается, что возражение
его принадлежит не ему, а почти так же старо, как самый дарвинизм.
Возражение это следующее. Если вполне развитый орган
даже и очень полезен, то, может быть, того же нельзя сказать
о низших стадиях его развития; тогда полезность его могла
быть ничтожна, он мог быть вовсе бесполезен, и, следовательно,
естественный отбор, действующий только в силу полезности,
не может нам объяснить первоначального возникновения и сохранения этого органа.
Возражение это старое; ему посвятил не один десяток страниц в своей книге сам Дарвин, отвечая, несомненно, самому сведущему и изобретательному своему противнику — Майварту.
По существу дела понятно, что спор этот может вестись только
на почве строго определенных частных случаев, — в общей диалектической форме он не имеет смысла. Дарвину и были, действительно, предъявлены примеры более сложные и замысловатые, чем пример крыла, упоминаемый г. Страховым, и были
им успешно устранены. Поясним дело на одном примере. Глаз
высших животных представляется органом изумительно полезным, но можно ли сказать то же о промежуточных стадиях образования этого органа ? Опускаясь по лестнице существ до са! мого простейшего появления этого органа, встречаем простое
! цветное пятно, которое, поглощая свет, все же может прибли! зительно указывать направление его источника. Совсем не! давно один медик предлагал новый аппарат для слепых,
прикрепляющийся ко лбу и, вследствие нагревания и вызываемого им термо-электрическго тока, возвещающий о направле-
нии и близости источника света. Конечно, это не глаз, но, по
мнению изобретателя, уже и это ощущение может принести
пользу, облегчить тяжелое положение страдальцев. Следовательно, относительно глаза мы в праве сказать, что с самой низшей стадии своей организации он мог быть полезен. Повторяю,
высказанные г. Страховым соображения очень стары. Они могут обсуждаться только детально, на строго определенных
случаях. Много таких случаев предъявлено и устранено. Появятся, конечно, и новые; для их разъяснения могут потребоваться годы исследований — в том и польза дарвинизма,
в том одна из причин необычайного оживления, которое это
учение внесло в науку. Рассуждения же на эту тему в общей
отвлеченной форме относятся именно к области «смутного
брожения мысли». К этой же категории принадлежит и следующее общее соображение, развиваемое г. Страховым по
тому же поводу. Говоря о необходимости соотношения и гармонии частей, он ставит общее положение: «Полезное устройство ведь одно, а отступлений от него бесчисленное множество,
и все они будут бесполезны и вредны». Сильно и уверенно сказано; но я полагаю, что с еще большим успехом можно защищать
прямо противоположный тезис: задача одна, а разрешений ее
несметное множество. В самом деле: задача неделимого — расти, чтоб питаться, и питаться, чтоб расти; задача вида существовать, чтобы размножаться, и размножаться, чтобы существовать. Все бесконечное разнообразие форм и явлений, предъявляемых органическим миром, только вариации на эту простую
тему. Значит, задача допускает несметное число разрешений,
а если припомним, что число удачных разрешений совершенно
ничтожно в сравнении с числом неудачных (в силу геометрической прогрессии размножения), то убедимся, что результат
процесса далеко не так загадочен. Я хочу этим только показать
всю бесполезность тех общих диалектических соображений, до
которых такой охотник г. Страхов, несмотря на то решающийся
упрекать дарвинизм в неопределенности, в уклонении от конкретных случаев, в «смутном брожении мысли», между тем как
всякий, кто хоть несколько часов подержал в руках книгу
Дарвина, знает, что чтение ее потому именно и затруднительно
для неопытного читателя, что Дарвин аргументирует исключи26*
403
тельно фактами; нигде почти не встретится у него голый остов
отвлеченного рассуждения, всегда он облечен в плоть и кровь
конкретного факта А
Но нам предстоит окунуться в еще более отвлеченные сферы.
Это самая любопытная часть статьи, так как представляет единственное ее положительное место. До сих пор мы встречали
только критику, осуждение чужих воззрений на природу; здесь
мы встречаемся с попыткой г. Страхова предложить свое собственное целостное мировоззрение. Понимая, конечно, что все
рассуждения о неуловимости идеи пользы, о том, что пользу
дарвинисты только выдумывают, о том, что полезному неизбежно предшествует бесполезное и вредное, не разрешают вопроса, поставленного мною ребром, — именно, вопроса, как
совместить это вредное и неразумное с защищаемым Данилевским и г. Страховым прямым вмешательством «интеллектуального начала», г. Страхов, на этот раз, против обыкновения,
смело принимает бой. Он берется доказать, что это бесполезное
и вредное «должно считать бесполезным и вредным» только
«с точки зрения дарвинистов», с точки же зрения его, страховской философии, «мы должны, конечно, признать их прекрасными и полезными». Вот уже подлинно философский фокус: посмотрите на тот же предмет справа — и оказывается, что вредное — вредно, зайдите слева — и окажется, что вредное —
прекрасно и полезно.
Но попытаемся, читатель, сохранить на время надлежащую серьезность и вникнем в таинственный смысл этой глубокой философии. «Она (т. е. природа) может создавать и сохранять черты строения бесполезные или вредные для сколько-нибудь напряженной борьбы, может давать своим существам и больше того, что требуется для борьбы, даже в высшей степени ее напряжения 2. Таким образом, все эти существа, не подходящие под
формулу Дарвиновой пользы, для нас важны и, можно сказать,
1 Вот маленькое числовое соображение. В указателе, сопровождающем книгу Дарвина, находится до 1 200 ссылок почти исключительно
фактического содержания, — круглым числом приходится по три факта
на страницу. На восьмидесяти страницах у г. Страхова не наберется пяти
фактических примеров, — все общие соображения.
2 Не стоит пояснять, что эти утверждения совершенно
голословны.
все прекрасны, потому что это — живые свидетельства некоторого высшего закона, действующего в организмах. Как грех и зло
в человеческом мире есть обнаружение свободы воли, отличающей человека, а потому человек не только есть прекраснейшее
существо, но бывает и самым гнусным и негодным из всех существ, так и природа в своих созданиях показывает нам, что
она имеет силу подыматься выше или опускаться ниже уровня
простой надобности». Постараемся привести этот витиеватый
аргумент к его простейшему выражению. Существа бесполезные и вредные, тем не менее, прекрасны, потому что доказывают, что природа свободна быть или не быть на высоте своего
положения. Мы примиряемся со злом в действиях человека,
как следствием его свободной воли, почему же не примириться
нам и со злом в природе, как выражением ее свободной воли?
Таков философский компромисс, изобретенный г. Страховым.
Но ничто не ново под луною. Так и основная мысль философии
г. Страхова, в ее благоразумной форме, высказана уже давно.
Высказывал ее, например (и, вероятно, не он первый), ненавистный г. Страхову англичанин, и даже из англичан англичанин,
Джонсон. Его биограф Босвель передает, что Джонсон однажды
выразился так: «Нравственное зло происходит от свободной воли,
предполагающей выбор между добром и злом. При всем зле,
которое существует, где же тот человек, который не предпочел
бы лучше быть свободным деятелем, чем неспособною ко злу
машиной, а что представляется лучшим для неделимого, должно
быть хорошо и для целого. Если бы и нашелся человек, который предпочел бы участь машины, то не я, во всяком случае,
с ним согласился бы». Таким образом, как истинный британец,
он готов примириться со злом, видя в нем неизбежное следствие высшего блага — свободы. Мысль несколько парадоксальная и, во всяком случае, допустимая только в применении к существу ограниченному, несовершенному, каков человек. Но во
что же превращается она у г. Страхова? Он распространяет ее
на всю природу. Альфонс де-Кандоль, в очень остроумном этюде,
посвященном слову «природа», жалуется на злоупотребление
этим словом и насчитывает несколько различных смыслов, в которых оно употребляется. Первый смысл — тот, когда слово
природа просто заменяет слово «божество». Очевидно, в этом,
и ни в каком ином, смысле применяет его в настоящем случае
г. Страхов. Природа, целесообразно предопределяющая и созидающая, разумная и свободная, — словом, то, что Данилевский обозначал выражением «интеллектуальное начало», —
что же это такое, как не божество? В своем «Полном опровержении дарвинизма» г. Страхов сам заменяет выражение «интеллектуальное начало» словом «духовное, божественное
начало».
Но в таком случае, если относительно Данилевского, на противоположных концах книги, то, дразня дарвинистов, глумящегося над несовершенством природы, то признающего это несовершенство делом «интеллектуального начала», я имел право
выразиться, что он или «цинически кощунствует», или обнаруживает «запальчивое недомыслие», то что же сказать о г. Страхове, который смело сводит эти концы в одном риторическом
периоде, предлагает для логического промаха Данилевского
свое философское объяснение, сводящееся к самому грубому
антропоморфизму?
Г. Страхов поясняет далее на примере, как природа пользуется своею свободой. Веря на слово Данилевскому, он
ссылается на плавательный пузырь рыб, как на пример совершенно бесполезного органа. В нем, по своеобразной философии
г. Страхова,мы должны усматривать проявление этого «некоторого высшего закона», в силу которого природа, «опускаясь ниже
уровня простой надобности», обременила чуть не целый класс
несчастных существ «прекрасным» (читайте: совершенно бесполезным, а, следовательно, и вредным) органом потому только,
что имела намерение «в будущем» обратить его в полезный орган — в легкие. Что бы сказал г. Страхов, например, о своем
обойщике, если бы последний, «опускаясь ниже уровня простой надобности», натыкал гвоздей в сидение его кресла для
того, чтобы «в будущем» воспользоваться ими для вторичной
обивки! Нашел ли бы г. Страхов такую деятельность «прекрасною» и целесообразно-разумною? Мы только что видели, с какою развязностью и неосновательностью г. Страхов обвинял
дарвинистов в том, что они будто бы выдумывают свою пользу,
но какою дозой легкомыслия нужно обладать, чтобы голословно
утверждать о совершенной бесполезности органа, распространенного чуть не у целого класса животных? Неужели г. Страхов
забыл, как осмотрительно натуралист должен относиться ко
всякому отрицательному свидетельству? Если один положительный результат разрешает вопрос в положительном смысле,
то тысячи отрицательных результатов могут не разрешать
его в отрицательном. Одного опыта было бы, например, достаточно, чтобы доказать существование самозарождения организмов, а все бесчисленные опыты, не обнаруживавшие его там,
где его искали, не доказывают его невозможности. И на каком
основании полагает г. Страхов, что бесполезность плавательного пузыря доказана? Доказано только, что то простое объяснение, которое давал ему на основании «морфологических»
соображений Кювье, не подтвердилось экспериментальным,
физиологическим путем. Оказалось, что функция (а, следовательно, можно ожидать, и польза) этого органа гораздо сложнее, чем предполагал Кювье, на деятельности которого г. Страхов и Данилевский желали бы покончить науку, — вот и все.
От этого еще далеко до признания бесполезности этого органа
и до ликования, что в этой бесполезности выражается «свобода»
«интеллектуального начала» творить бесполезное наравне с полезным.
Выясним еще раз положение сторон. Вееь гнев Данилевского и г. Страхова на дарвинизм вскипает оттого, что это учение своею попыткой объяснить происхождение организмов
«вторичными причинами» будто бы грубо оскорбляет их философское мировоззрение, выражаясь определеннее — их религиозное чувство. Как, говорят они, вся эта стройность, гармоничность органического мира объясняется так просто и грубо —
возникновением бесчисленных, безразличных изменений, под
влиянием известных механических сил, и механическою их сортировкой на полезные и бесполезные, сохранением полезных
и уничтожением вредных? Нет, это слишком просто и грубо!
Вероятно, такие же возгласы, и из таких же источников, раздавались и тогда, когда стройность небесных сфер попытались
объяснить сравнением с таким грубым фактом, как падение
камня на землю. Но что же Данилевский и г. Страхов предлагают своему напрасно встревоженному религиозному чувству
взамен дарвинизма? Они говорят много и темно о загадочных
морфологических процессах, о том, что органический мир напра-
вляется в своем развитии целесообразно предопределяющим разумным началом, и затем вдруг, думая подорвать представление
дарвинистов о пользе, начинают утверждать,что органический
мир полон бесполезного и вредного. А когда их спрашивают,
как же это «интеллектуальное начало» натворило бесполезного
и вредного? — они, т. е. на этот раз один г. Страхов, — Данилевский, должно отдать ему справедливость, до этого не договорился, — г. Страхов, не смущаясь, отвечает: а человек же творит и хорошее и дурное, и умное и глупое, — предоставьте
же эту свободу и «интеллектуальному началу».
Не знаю, найдут ли, со временем, те религиозные люди,
которые были искренно смущены дарвинизмом, какую-нибудь
почву для примирения с ним. Думаю, найдут, потому что и теперь можно указать тому примеры между английскими богословами, и, наконец, история учит нас, что тот конфликт,
который переживает биология, астрономия и геология уже
успели пережить. Н о я полагаю, ни один человек, обладающий
религиозным чувством, возвысившимся над уровнем грубейшего
антропоморфизма, не найдет удовлетворения в философии
г. Страхова.
Да, логика, — на этот раз я, кажется, в праве прибавить,
и философия, и религиозное чувство, — мстят за себя жестоко.
14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вслед за «смутным брожением мысли», с которым мы ознакомились в предшествующей главе, -г. Страхов, снова с непокидающей его развязностью, убеждает своих читателей, что
«взял все существенное из статьи г. Тимирязева 1 и довел дело
до конца, т. е. показал, что всегдашняя ошибка дарвинистов
состоит в общих положениях, в которых не видно различия
между действительностью и возможностью, между малою
Из чего читатели усмотрят, что для разбора только
существенного
в моей статье понадобилось более страниц, чем заключалось во всей моей
статье, в которой, по заявлению г. Страхова (в его второй главе), нет вовсе существа. Замечу, что еще о многом существенном г. Страхов благоразумно умолчал.
1
вероятностью и полною достоверностью». Таким образом,
в конце концов, дело сводится, повидимому, к повторению
того голословного заявления, которое высказано в третьей
главе и совершенную бездоказательность которого мы уже
видели. Для чего же, спрашивается, потребовалось все остальное в этой утомительно-длинной статье? Все ее содержание вертелось, главным образом, вокруг «истинного открытия» Данилевского, т. е. вокруг подогретого и раздутого им до комических
размеров старого возражения, что наличность скрещивания
устраняет будто бы возможность сохранения возникнувших
изменений. Здесь вся аргументация, как мы уже знаем, представляла бесконечно скучные, надоедливые вариации на тему
блестящего умозаключения: «не все — значит ничего». Затем
встречались повторяемые на различные лады обвинения в «неопределенности выражений», в отсутствии «конкретной формы», — обвинения совершенно голословные, так как всякому
известно, что трудно найти научные произведения, которые
в такой степени, если можно так выразиться, щетинились бы
фактами, как именно все труды, вышедшие из-под пера Дарвина. И не комично ли слышать эти обвинения из уст людей,
взамен реальных посылок и логически неизбежных доводов
Дарвина предлагающих свои «загадочные морфологические
процессы», свою природу, свободную грешить и «опускаться
ниже уровня простой надобности», и тому подобные «конкретные явления», обладающие «строгою определенностью» и «полною достоверностью»?
Здесь кончается, по мнению г. Страхова, научная сторона
дела и начинается философская; но он горделиво отклоняет от
себя даже мысль — возражать на почве философии таким жалким противникам, как, например, Гельмгольтц, Дюбуа-Реймон, — обо мне, разумеется, не может быть и речи. Но я, тем
не менее, решительно протестую. Протестую, конечно, не против нежелания г. Страхова вступать в философские словопрения
со мной, а против его мнения, будто до сих пор в своей статье
он стоял на «твердойпочве естественных наук». Если г. Страхову дорого достоинство философии, то мне не менее дорого
достоинство науки. Нет, рассуждения о свободе природы грешить
и творить наравне полезное и вредное— это не наука, это фило-
софия, хорошая ли, судить не берусь, это уж дело философов,
но только это не наука.
Не могу также оставить без ответа вдвойне противоречащее истине заявление, будто у меня «было большое желание
пуститься в область философии» и будто бы я смешал научное
обсуждение вопроса с философским, между тем как Данилевский строго разграничил работу натуралиста от соображений
другого рода. Если в чем меня можно укорить, то уж, конечно,
не в «большом желании», а скорее в ясно выраженной неохоте,
известного рода брезгливости, с которой я признаю себя вынужденным «волей-неволей следовать за противником туда,
куда он сам нас завлекает». Причину этой неохоты я, по счастью,
могу пояснить словами самого г. Страхова: «такие философские
учения... 1 могут вдруг оказаться чрезвычайно слабыми и уродливыми произведениями человеческого ума. Между тем, хорошо
обработанные и установленные результаты любой из естественных наук никогда не могут совершенно потерять своей цены».
Еще менее оснований имеет г. Страхов упрекать меня в каком-то
смешении науки и философии. Разбору философских аргументов Данилевского (он сам их так называл) я уделил всего четверть своего изложения, и отделил эту четверть, под цифрой I I ,
в особую часть, помещенную даже в другой книжке журнала * .
На лекции же * * (о которой г. Страхов был так тщательно осведомлен) я дал своим слушателям отдохнуть десять минут,
прежде чем пригласить их последовать за мной в дебри философских рассуждений Данилевского, приводивших в такой восторг г. Страхова. По какому же праву позволяет себе г. Страхов
уверять своих читателей, что у меня «было большое желание
пуститься в область философии» и что я смешал науку с философствованием?
Но, быть может, благоразумный читатель все же возразит:
стоило ли тратить время на разбор философских измышлений
1 Точки поставлены мною вместо слов: «как Конта,
Спенсера и подобных философов». Я полагаю, аргумент только приобретает ббльшую
силу в такой безличной форме, как не утратил бы он смысла и с совсем
иными имярек.
* «Русская Мысль», 1887 г . , кн. 6. Ред.
* * См. примечание на стр. 268. Ред.
Данилевского, когда такой поклонник его таланта, как г. Страхов, не придает им цены, даже избегает говорить о них? Но моя
ли вина, если г. Страхов, с января по декабрь 1887 г . , сделал
такие успехи, что при обсуждении естественно-исторического
вопроса стал предпочитать (платонически, правда) твердую
почву науки очевидно зыбкой, по его мнению, почве философствования? В окончательном выводе своей статьи «Полное опровержение дарвинизма» (январь 1887 г. *) он высказал такой
афоризм: «Опора ума может быть только в чувстве» — и успех
Данилевского, в значительной степени, приписывал его эстетическим чувствам, находя такое сантиментальное
отношение к естественно-историческим фактам «превосходным» и «глубокомысленным». А теперь, после моего ответа, г. Страхов
отделывается лаконическим замечанием: не будем об этом лучше
говорить,— и меня же обвиняет в желании философствовать 1 .
Не лучше ли было с этого начать и не провозглашать в январе
«превосходным» и «глубокомысленным» того, о чем в декабре
оказывается удобнее не говорить?
Хорошо еще, если бы г. Страхов, отказавшись на этот раз
от защиты философски-эстетических рассуждений Данилевского,
исполнил свое намерение вполне. Нет, еще в последний
раз, но зато в самой возмутительной форме, не может он себе
отказать в «весельи» 2 представить своим читателям мои мысли
в карикатурно-искаженной форме. Скрыв от своих читателей,
1 Г . Страхова, очевидно, из себя выводит
то, что каждый его ход
мною предусмотрен и вперед отражен. Я очень хорошо знал, что не ответь
я на философствование Данилевского, г. Страхов ответил бы мне: ага, это
не так легко, как считать тычинки да пестики, а если я отвечу, он поступит так, как поступил, будет глумиться, что натуралист пускается философствовать. Но я предупредил и то, и другое, т. е. ответил, но с оговоркою,
что пускаюсь в разбор этих философствований потому, что вынужден к
тому восторгами г. Страхова. Г . Страхову оставалось сделать то, что
он сделал,— скрыть все от читателя и со свойственною ему беззастенчивостью извратить положение, уверяя, что это только у меня «было большое
желание пуститься в область философии, даже поэзии», тогда как он с Данилевским предпочитают твердую почву науки.
2 См. II главу («Мои затруднения», в этом томе стр. 333.
Ред.).
* Журнал «Русский Вестник». См. выше (стр. 331, второе примечание
К . А.). Ред.
что я на двенадцати страницах подробно опровергаю основную
философскую точку зрения Данилевского (т. е. его утверждение,
что дарвинизм основан на нелепой случайности), он хочет уверить этих читателей, будто в защиту от философских нападок
Данилевского я не нахожу более остроумного возражения, как
заявление, что дарвинизм мог бы доставить материал... для стихов г-жи Аккерман! Г. Страхов, очевидно, забыл, что всякое
преувеличение тогда только достигает цели,когда не делает смешным того, кто к нему прибегает. Конечно, самый доверчивый
и преданный г. Страхову читатель не поверит ему, чтобы я оказался способен на такую выходящую за пределы возможного
глупость, и, следовательно, сообразит, что г. Страхов поусердствовал, что называется — хватил через край. Разъясним
эту последнюю проделку г. Страхова. Данилевский сам называет свои общие возражения философскими и эстетическими.
На двенадцати страницах опровергаю я то, что составляет философскую часть этой аргументации; г. Страхов благоразумно
обходит эти двенадцать страниц молчанием.
Разделавшись
с философскими возражениями, я уже мельком, на полустраничке, касаюсь и эстетической стороны и говорю, что с сантиментально-поэтической точки зрения можно разве только упрекнуть дарвинизм в том, что он ужасен, — так как провозглашает смерть за регулятор • гармонии органического мира,—
и замечаю, что подобная мысль встречается на каждом шагу
и вполне может быть предметом поэзии, «величаво мрачной, во
вкусе Аккерман». Коснувшись таким образом этой эстетической
стороны, так как она затронута Данилевским, я снова спешу
оговориться: «но скользнем быстрее по этой зыбкой почве мировой элегии и поторопимся перейти к возражениям уже не мечтательным, а захватывающим за живое» и т. д.
Что же делает г. Страхов? Скрыв все, что я возражаю на
философские аргументы Данилевского, он искусною подтасовкой текстов старается оставить читателя под впечатлением,
будто это мое, мимоходом брошенное возражение по поводу
эстетической стороны дела, — все, что я нашелся ответить на
главное философское возражение Данилевского, т. е. обвинение
дарвинизма в том, что это учение будто бы объясняет происхождение органического мира «нелепою случайностью».
Таким образом, с первой главы до последней г. Страхов остается верен одному критическому приему — извращению моих
мыслей, в расчете на доверие читателя.
Еще одно маленькое замечание. Г. Страхов, для сообщения
большей ядовитости этому отступлению о поэзии Аккерман,
преподает мне урок из французской литературы, поясняя, что
выражение «величаво мрачная» не выражает «вполне точно»
свойств поэзии г-жи Аккерман. На это я замечу, что двумя
словами вообще нельзя «вполне точно» охарактеризовать поэта,
в особенности такого своеобразного, как г-жа Аккерман; одну
же из сторон ее поэтического склада, например, возможность
являться певцом смерти, они все яге выражают. А главное,
я не имел намерения писать критический этюд о поэзии г-жи
Аккерман г .
Предполагая, однако, что, поучая меня (хотя и неудачно), г. Страхов руководился самыми лучшими побуждениями,
и не Щелая остаться у него в долгу, я в свою очередь предложу ему маленький урок из немецкой литературы. Г. Страхов (в «Полном опровержении» и пр.) приводит целиком «удивительную», по его мнению, последнюю страницу из книги
Данилевского, где цитируется известное стихотворение Шиллера «Das verschleierte Bild zu Sais» * . Данилевский повествует,
будто у Шиллера юноша, сорвав покрывало, за которым скрывался лик истины, падает мертвым, и ядовито поясняет, что
если б под покрывалом скрывался дарвинизм, то юноша пал
бы «пораженный не ужасом перед грозным ее величием», а...
от расстройства желудка 2 . Эта поэтическая антитеза приводит
г. Страхова в неописанный восторг. Оказывается, однако, что
у Шиллера, — у настоящего Шиллера, которого мы привыкли
читать и уважать чуть не с детства, — дело обстоит несколько
иначе. Во-первых, Шиллер своего юношу не уморил, — это
сделал на свой страх Данилевский; а во-вторых, Шиллер не
ручается, видел ли юноша истину. Напротив того, на вопрос
читателя: «что же он увидел?» — Шиллер отвечает категориЗамечу только, что г-же Аккерман не был чужд и дарвинизм.
Буквально: «от тошноты и омерзения, перевернувших все его внутренности».
* «Покрывало Изиды». Ред.
1
8
чески: «Ich weiss es nicht» *. Значит, Данилевский и г. Страхов
en savent plus long * * , чем сам Шиллер. Судя же по тому, что
несчастный юноша, быстро скоротавший свой век, с отвращением
вспоминал о виденном и полагал, что был наказан за свою попытку насильственно овладеть истиной,должно думать,что виделто он что-то неприглядное. А что,если он увидал не истину, а жреческий обман? 1 Тогда ведь все восторги г. Страхова, вызываемые риторикой Данилевского, падают на его же голову. Законы
антитезы неумолимы. Если у Шиллера юноша, разоблачив
жреческую тайну, вынес глубокое отвращение, то, увидав
дарвинизм, он должен был бы испытать, во всяком случае,
прямо противоположное чувство, — иначе ведь не выйдет
антитезы.
Да, логика — даже в поэзии — мстит за себя жестоко.
И, во всяком случае, «искажать» Шиллера, да еще восхищаться этим, такому знатоку литературы, как г. Страхов,
как будто и неловко.
*
Разделавшись окончательно со мной, г. Страхов, как и в начале статьи, взмывает в недосягаемую, невозмутимую высь
и, взирая с нее на утопающее в невежестве современное естествознание, снова почти изрекает мне великодушное всепрощение.
Виноват, конечно, не я, виноват даже не дарвинизм, виновата
современная наука 2 ; она так приучила меня к «неясным обобщениям, к неопределенным, шатким соображениям», что когда
1 Сомнительно, чтобы Шиллер предполагал,
что в определенном географическом месте, в известную эпоху, показывали истину. Не такой он был наивный человек. Не вероятнее ли, что юноша увидал
не истину, а нечто совсем иное, и приписал неудачу собственной вине,
так как совесть укоряла его в нечистых средствах — в насилии, при помощи которого он хотел овладеть истиной. Такова, по крайней мере, мораль, которую выводит сам Шиллер.
2 Так и стоит: «во всех приемах г. Тимирязева отражаются
недостатки, господствующие ныне в естественных
науках».
* «Я этого не знаю». Ред.
* * знают об этом больше. Ред.
мне «довелось читать книгу точную, строгую, где все связано
и продумано до конца» 1 , я не был в состоянии «оценить этой точности и строгости», и г. Страхову остается только желать, чтоб
наука поскорее оправилась от вреда, причиненного ей Дарвином, и чтобы в ней получили силу «чисто научные, т. е. ясные
и отчетливые, приемы» (само собою понятно, приемы Данилевского и г. Страхова).
Читатель, однако, приходит в недоумение. Как согласить,
в устах такого человека, как г. Страхов, по его собственному
мнению, конечно, «умевшего ценить строгость и точность»
мысли, — как согласить такое режущее слух противоречие:
на одной странице говорится, что не следут пускаться в философствования и терять из-под ног «такую твердую почву, как
естественные науки» (стр. 125), а на следующей (126) странице
утверждается, что современные естественные науки могут приучить только «к неясным обобщениям, к неопределенным шатким соображениям»? Выход из этого противоречия, мне кажется,
один. Очевидно, по мнению г. Страхова, естественные науки
существовали когда-то, но прекратили свое существование за
четверть века перед сим, приблизительно в то время, когда сам
г. Страхов выбыл из рядов натуралистов и променял «твердую
почву естественных наук» на более скользкое, но, повидимому,
более привлекательное поприще философствования «de omnere scibili et quibusdam aliis» 2 .
Несмотря на те потоки брани и ничем не вызванных оскорблений, которыми переполнена вся статья г. Страхова, дойдя
до последней, так тепло и симпатично вылившейся из-под его
пера страницы, посвященной памяти недавно умершего друга,
я почувствовал нечто вроде глухого раскаяния или укора совести. Тут только я понял, что мой бой с г. Страховым неравный. В самом деле, что мне покойный Данилевский? Только
имя, подписанное под известным рядом печатных страниц. Для
г. же Страхова это была живая, привлекательная и дорогая
ему личность, в долгом общении с которой он мог забывать недостатки писателя. Ненаучный, нелогический, легкомысленнохвастливый склад аргументации только оскорбляет мой здра1
2
Мы видели это особенно в предшествовавшей главе.
«О всем известном и еще кое о чем».
вый смысл, воспитанный на образцах строгой науки; дерзкие
выходки и напраслина,-возводимая на Дарвина, только возмущают во мне естественное чувство справедливости. Но каждое
мое обличение бьет г. Страхова прямо в сердце, а эти раны не
так легко переносятся. Да, бой неравный; но кто же искал его?
Беспристрастный читатель нас рассудит. Книга Данилевского
помечена 1885 годом. Я ознакомился с ней немедленно по ее
выходе — испестрил ее поля примечаниями, порою превышавшими самый текст — и отложил ее в сторону. Еще до выхода
ее получал я предложения напечатать ее разбор. Но, тем не
менее, я молчал. Мне казалось, что над свежею могилой уместно
вспомнить классическое «de mortuis nil nisi bene» * . Это следовало бы, кажется, понять и друзьям Данилевского, но это
не входило в их расчеты. Именем покойного друга они торопились воспользоваться как тараном, при помощи которого надеялись пробить брешь в современной науке, как одной из твердынь ненавистного им Запада. Начались задирания. Aral
Замалчивают. Не под силу им борьба с русским богатырем! Появилась статья г.Страхова, которая, по его собственному признанию, была не только рекламой, но и прямым вызовом. Тогда
я понял, что, вместо изречения древних, пора вспомнить не менее гуманное, но более справедливое: «Nous devons aux morts
ce que nous devons aux v i v a n t s — la vérité» * * . Я ответил. Ответил резко, не заботясь о том, чтобы смягчать свои суждения,
и признаюсь, что и теперь ни в содержании самой книги, ни в тоне ее защитников не вижу ничего, что могло бы побудить меня
смягчить жестокость своего приговора. Не раз повторялось,
что я должен был бы сдерживать свой тон, помня, что возражаю
на книгу человека, уже не находящегося в живых. А разве
Дарвин был жив, когда над ним издевались, клеветали на него
Данилевский и г. Страхов? Да если б даже он и был жив, то кто
же, если не русский ученый, обязан был бы защитить этого
идеально чистого человека от оскорблений на непонятном ему
языке. И если г. Страхову была лично дорога память Данилевского, то и мне личность Дарвина не была вполне чужой. Пов* «о мертвых говорят только доброе». Ред.
* * «Наш долг перед мертвыми тот же, что и перед живыми—истина».
Ред.
Страница из книги Данилевского
с замечаниями К. А.
Тимирязева
r.l. IV—
, КИГГИКА ОСИОВАШІ ДАРИЛ ВОВА УЧЕИІЯ
«Дарвинизм»
213
т о л ь к о это я о г . ю бы убѣдйть к а к ъ в ъ постоянстве в иепэмѣвяости,
. Ст а к ъ н в г непостоянстве п изменчивости впдовъ до степекп смѣіпенія н х ъ предЬловъ. Но, с в а ж у т ь , т а к і е о п ы т ы , хотя и в о с н с т е я а т и ч е с к і е и для относительно н о б о л ь т а г о числа т і д о в ъ — бы,™ произвед е н ы въ т е ч е а і е столбтШ в тысячелѣтііі ва.дь домашппяи организмами
и доказали в з м ѣ в ч в в о с і ь видовъ.
В ъ томъ-то н дѣло, что в ѣ г ъ ; о в в показали в ъ сущности большую
мзмЬнчивость для о д н в х ъ , м а л у ю для д р у г в х ъ н почти никакой и з м ё в чивостп для т р е т ь а х ъ , напр. для о с л а , г у с я , ц в ц а р к н , павлппа. Т а к ж е ,
м в о г о ли изменились пѣкоторыя огородныя растспія, напр. у к р о п ъ ,
или нѣкоторыя плодовый, палр. Ф и с т а ш к а , даже иѣкоторыѳ ц в е т ы ,
иаприміръ столь давно и повеемÏICTHO возделываемый лиліп? Кроме \
того я показа.іъ, что въ одомаишевнпе с о с т о я в і е , по самоіі с у щ п о с т в |
д е л а , необходимо должны были приасть с а м ы я и з м і в ч и в ы я н о п р и роде своей растевія и ж к в о т н ы я . І і а к о в е ц ъ и с а м ы я изменчивыя и з ъ
і ш х ъ в и г д ѣ не п е р ш у п а л п видовой г р а н и ц ы , к а к ъ nu громадны, повнд и м о м у , различія, до коихъ дошли г о л у б и , к у р ы и т . п. Но объ э т о м ъ
п р е д м е т е н е будемъ з д к ь распространяться, т а к ъ какъ скоро д о л ж н ы
к ъ нему возвратиться.
/
И з ъ н е м ш ш и ш р е т н строгой поверки постояиетва и неизменности
видовъ, необходимо в ы т е к а ю щ е й п з ъ самаго главиаго, можно с ь а з а т ь . і
е д и н с т в е а н а г о критерія вндоваго понятія (ибо какъ удостовериться в ъ
п о с т о я н с т в е н неизменности вида или ч е г о вьі-то пи было, и н а ч е ,
к а к ъ подвергая е г о въ теченіо долгаго времени всѣмъ возможными
изменяющими обстоятельствами?), — с л ѣ д у е т ъ :
1) Что непмреѴгвенное_впечатлѣіііс
постоянства и неизмен
2 . /.
иости основныхъ. ( в и д о в ы х ъ ) о р г а і ш ч е с к и х ъ ~ 4 > о р п . ,
получаемое
/
изъ доступной нами области набдюдепііі падъ живою природою, —
должно для иоложнтельваго естествознанія с о х р а н я т ь в с ю свою
силу и в с е свое з н а ч е н і е ' д Ъ т е х ъ поръ, п о к а _ н е б у д е т ъ _ п о к о леблев о положительными » а к т а м и . У м о з р і и і я н е н м ѣ ю г ь т у т ъ н и какой доказательности. « Т р с б о в а в і я л о г и к и » , справедливо з а м і ч а е т ъ А
Бэр-., «тогда только кмѣютъ право н а у д о в л е т в о р и т е , когда о н а
п р и н к м а е т ъ во вниманіе и п р н з п а е т ъ т о , ч т о Фактически м о ж е т ъ б ы т ь
у к а з а н о » ( * ) . Т а к ъ . пока у - ж и в о т н ы х ъ е ъ раздельными полами в с е „„X.
н з в ѣ с т н ы о нами Факты у к а з ы в а л и н а т о , ч т о всякому размвожонію
п р е д ш о с т в у е г ь соединеніе д в у х ъ полови — м ы могли с ч и т а т ь это в с е общими закономъ природы и по требовавіямъ логики п р е д п о л а г а т ь
1 <2^
А
ѵСГбрД
C^J
C) Baer, Studien. II, S. SU.
JF V - /
-
I)
'Щ
л
л
• ' . • . . .
.
.
.
.
:
.
торяю, я отвечал резко, потому что был вынужден на то. Но
погрешил ли я против справедливости? Г. Страхов неоднократно,
но в неизменно-ядовитой форме отдает мне справедливость,
что я «чистый» дарвинист, что то, что я предлагаю читателям,
настоящий, беспримесный, неподкрашенный дарвинизм. Я полагаю, чувство справедливости должно было ему подсказать, что
точно так же отнесся я и к Данилевскому. Г. Страхов смело
заявил во второй своей главе, что я только «исказил» произведение Данилевского, но на восьмидесяти страницах своей статьи
он не мог предъявить своим читателям ни одного примера,
ни одного намека на искажение. Он уверял также, будто я скрыл
всю совокупность его аргументации, и, однако, должен был признаться, что в том, на что я возражал, заключается вся сущность
книги, и сам не привел ни одного существенного аргумента
Данилевского, который не упоминался бы уже мною.
Но, может быть, я оскорбительно отнесся к личности автора
«Дарвинизма»? Г. Страхов не раз повторяет, что я отношусь
к нему с презрением. Слово презрение тут неуместно. Презирают только человека нравственно несостоятельного; к людям
же, берущимся о чем-нибудь судить и обнаруживающим недостаток здравого суждения, относятся только с пренебрежением — вот и все. Человек, который не убежден в чем-нибудь,
но берется убеждать других только потому,что в известное время,
в известном месте это может быть выгодно,— такой человек заслуживал бы, конечно, презрения. Но ни в чем подобном я не
обвинял Данилевского. Я отчетливо й определенно высказал
мысль, что Данилевскому был противен дарвинизм, что он
искренно желал, чтобы то, против чего возмущалось его чувство, оказалось несостоятельным перед судом его разума. Но
рядом с этим я возмущался и не перестану возмущаться приемом его аргументации в самой существенной части книги. Это
не прием исследователя, Ищущего истину для себя и предлагающего ее и другим за ту же цену, какую она Имеет в его глазах, а прием софиста, полагающего свою задачу в том, чтобы
добиться одобрения, вырвать во что бы то ни стало согласие
слушателей. Этого приема обязан избегать всякий ищущий истины, во-первых... во-первых, потому, что «кая бо польза человеку,
аще мир весь приобрящет, душу же свою Отщетит»,—это требова27
К. А. Тимирязев,
т.
ѵц
417
ние этики, голос чистого разума; а, во-вторых, если я сам вижу
слабость своего довода, то, ведь, рано или поздно, увидят ее
и другие, и мне будет стыдно, — это голос практического разума. Приходилось мне читать по поводу своей статьи и такое
суждение, будто я внес в полемику элемент страстности. Я мог
бы указать на еще большую страстность противной стороны,
но это, конечно, не аргумент, — напротив, я хочу сказать,
что наличность известного рода страстности нисколько не вредит
интересам науки и, наоборот, я полагаю, что всевозможные:
«с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой стороны должно
признаться», очень полезные в житейском смысле, к науке
никакого отношения не имеют. Тиндаль блистательно защищал,
с виду также парадоксальный, тезис о значении воображения
в точных науках; я полагаю, не менее благодарною темой было
бы и развитие положения, что без страстного, живого, горячего
отношения, без увлечения исследователя своим предметом, едва
ли увидело бы свет хоть одно существенное завоевание науки.
Напрасно смешивают бесстрастие с беспристрастием. Не олимпийское бесстрастие «бессмертного», а простая человеческая
честность — вот что необходимо в науке, как и во всякой другой
человеческой деятельности. Можно быть, страстным, глубоко
возмущенным, взволнованным голосом обличать неправду —
но не забывать требований безусловной справедливости. И, наоборот, оставаясь совершенно бесстрастным, тоскливо-кислым
голосом ронять клевету. Можно, наконец, сохраняя полную
бессловесность, быть возмутительно несправедливым; на то
существует риторическая фигура — умолчания. Страстность
или бесстрастие — только вопрос темперамента; человек так
же мало повинен в них, как в своем росте или цвете волос.
Беспристрастие же — результат развития умственного и нравственного. Нет, не в резком тоне моего возражения кроется
причина той острой формы, которую приняла полемика по чисто
научному вопросу. Не вызванной резкостью формы, а именно
содержанием моей критики, от которого, несмотря на все усилия, г. Страхов не мог защититься, объясняется та бессильная злоба, которая через край бьёт во всей его статье.
Мне кажется, что ключ загадки, истинная причина комически-преувеличенного восхваления труда Данилевского иозлоб-
ления на трезвое критическое к ней отношение сквозит в одной
фразе на последней странице статьи г. Страхова: «Н. Я. Данилевский был для меня, как и для всех его знавших, звездою первой величины».
«Thy wish was, father Harry, to that thought» * , — отвечу
я г. Страхову словами Шекспира. Не достоинства книги
Данилевского навели на мысль возвести его в звезды первой
величины, а именно желание, упорное намерение видеть в нем
звезду первой величины, породило мысль сопричесть его книги
к самым редким явлениям во всемирной печати. Не стану распространяться, как убого должно быть то окошечко, в котором
только и света, что от таких светил, как Данилевский, какой
крохотный и темный уголок неба виден из этого окошечка,
если такие звезды кажутся на нем звездами первой величины.
Для нас важно самое признание г. Страхова, так как в нем заключается разгадка всего искусственного шума, поднятого в нашей литературе по поводу книги, которая во всякой другой
литературе прошла бы едва замеченной 1 . Разгадка эта заключается в одном с л о в е — «кружковщина», в том общественном
явлении, на которое обращали в свое время внимание и Грибоедов, и Гоголь, и Тургенев и которое за полвека так мало
изменилось, что сохранило даже прежний язык и номенклатуру. Тесный кружок единомышленников, мнящий себя
центром нового, мирового движения, распределяет между
своими членами роли гениев, светил, пожалуй, маленьких
мессий. Таким-то маленьким мессией, очевидно, был в глазах
своего маленького кружка и Данилевский, и его книга заранее
была признана мечом, который он должен, был принести для
поражения нечестивой науки Запада. И вдруг оказалось, что
этот мессия — только компилятор, кропотливо подобравший
устарелые, заброшенные возражения и при обращении с ними
на каждом шагу обнаруживающий неспособность к научному
беспристрастию и строгому логическому мышлению. Такой
удар, конечно, не легко было снести. Вот где кроется истин1 Такова была, например, судьба
трехтомной, гораздо более основательной и на десять лет опередившей Данилевского, но такой же злосчастной книги Виганда.
* «Твоим желанием, отец Гарри, было родить эту мысль». Ред.
ное объяснение статьи г. Страхова, его ослепления и необычного, забывающего все приличия, озлобленного тона.
Терпеливо разобрав всю статью, главу за главой, для того,
чтобы читателю было ясно, что на этот раз моя мысль не «движется капризными извилинами»
а послушно следит за бесконечною, тягучею нитью мыслей г. Страхова, подвожу краткий итог.
Минуя главы I и II, в которых, как мы видим, автор только,
так сказать, представляет себя и меня своим читателям: себя
в благородно-негодующем, меня — в комически-нелепом виде,
остановимся прямо на главе III. Судя по некоторым местам
статьи, порою кажется, что в этой-то главе и заключается основное возражение. Глава эта, как и самое ее заглавие, рассчитаны
на то, чтобы вызвать в читателе легко запоминаемое безотчетное предубеждение против дарвинизма. Достигается это искусною попыткой привязать к реальным фактам, из которых слагается процесс естественного отбора, этикетку «возможных»,
в том расчете, что таким путем и самый отбор из области
реальной действительности переместится в область призрачной
возможности (т. е. даже невероятности). Но мы видели, на каком
приеме «форсирования» (как выражаются фокусники) одного
смысла слова другим основан этот диалектический фокус,
и убедились, что и после этой неудачной попытки отбор остается
тем же, чем был, т. е. не призрачною возможностью, а необходимым логическим выводом из наблюдаемой
действительности.
Главы IV и V посвящены пространной амплификации (с введением аллегорического персонажа — стереотипа) заимствованной у меня метафоры Руссо.. Не говоря уже о том, что способ аргументации посредством притчи не совсем удачен в применении к строго научному вопросу, мы убедились, что самое
сравнение Руссо более к делу не идет.
Главы VI, I X , X и X I I представляют главную pièce de résistance * . В них, на всевозможные лады, г.Страхов пытается спасти
Как жалуется г. Страхов во II главе (см. выше, стр. 333.
* часть возражений. Ред.
1
Ред).
пресловутое «истинное открытие» Данилевского, т. е. безуспешно пытается доказать, что если существует скрещивание, то не
существует отбора. Здесь пускается в ход запугивание меня
авторитетом Негели, предлагаются бесконечные вариации умозаключения: не все —значит ничего, смело взводится на Дарвина напраслина, вспоминаются нелестные, но голословные
о нем отзывы различных авторов, но все безуспешно, естественный, отбор остается непоколебимым.
Для развлечения
читателя, утомленного
безотрадным
однообразием этих четырех глав, в виде к делу не относящегося
дивертисмента, введены главы V I I и V I I I . В первой игриво
доказывается возможность для того, «кто сам мыслит», забывать, откуда он.почерпнул эти свои мысли, и защищается право
признавать чужую мысль, за свою, а во второй, повидимому,
иллюстрируется возможность такой забывчивости на примере
самого г. Страхова, забывшего кое-что из арифметики и, на основании, этой забывчивости, решающегося укорять меня в какомто будто бы грубом невежестве..
Глава X I , самое название которой рассчитано на то, чтобы
пробудить в читателе упавшие надежды на разыскание «всегдашней ошибки дарвинистов», заключает в себе несколько
нелестных, но совершенно голословных отзывов Негели и
Данилевского о дарвинизме и самого г. Страхова об англичанах
вообще и о Дарвине в особенности, неудачную придирку к двум
фразам Дарвина, дифирамб Данилевскому по поводу одной
странички его книги, как мы убедились, к делу не относящейся,
и на последних четырех строках внезапное, ничем не мотивированное, обвинение дарвинизма в «неопределенности посылок»
и «неправильном обобщении выводов», в чем, повидимому, и
должно заключаться обещанное открытие.
Глава X I I I особенно любопытна, так как содержит единственную положительную часть статьи. Доказав, по его мнению, несостоятельность дарвинизма, не могущего будто бы
объяснить такого коренного факта, как присутствие в органическом мире бесполезного и вредного, г. Страхов берется
доказать, что этот факт превосходно мирится с воззрением
Данилевского, по которому органические формы создаются
при непосредственном вмешательстве «интеллектуального (или,
по г. Страхову, божественного) начала». Все бесполезное и
вредное, — поучает г. Страхов, — станет в наших глазах
«полезным и прекрасным», стоит лишь допустить, что природа,
подобно человеку, обладает свободной волей и потому вольна
грешить и «подыматься выше или опускаться ниже уровня
простой надобности». В этой блестящей философской теории
преподан, конечно, образец тех «чисто научных» приемов,
основанных на «определенных посылках» и «правильных обобщениях» и потому обладающих «полною достоверностью»,
отсутствием которых, по заявлению г. Страхова, страдает
дарвинизм. Но вслед затем в заключительной, X I V , главе
г. Страхов вдруг начинает убеждать меня (I) в бесплодности
философствования, когда можно иметь под ногами «твердую
почву естественных наук», хотя, к сожалению, не обозначает
точно времени, когда естественные науки потеряли эту твердую почву из-под ног, так как на следующей же странице,
и так же внезапно, заявляет, что современные естественные
науки могут только приучить к «неясным обобщениям» и «шатким соображениям».
Как видно из этого краткого обзора, «всегдашняя ошибка»
так и оказалась неразысканною, если не считать за ее разоблачение нескольких бездоказательных строк в конце X I главы.
Если же все дело в этих четырех строках, которые должны
быть приняты читателем на веру, то зачем было заставлять
его прочесть 80 страниц?
Но если читатель обманулся в ожидании узнать всегдашнюю ошибку дарвинизма, то не познакомился ли он взамен
с всегдашним диалектическим приемом автора этой неудачной
критики? Видел он желание запугивать его голословными
мнениями сомнительных авторитетов (главы VI и X I ) ; видел
смелые, самоуверенные, но решительно ничем не подкрепленные утверждения (главы II, I X , X I I I ) , попытки скрыть от читателя сущность рассматриваемого вопроса (главы IV, V I I I ,
X I V ) , или отвлечь его внимание не относящимися к делу подробностями или совершенно посторонними вопросами (глава X I I ) ; видел бездоказательные обвинения или прямую напраслину, развязно взводимые на Дарвина и дарвинистов
(главы VI, X I , X I I I ) ; видел, наконец, обрубание конца или
и конца и начала мысли противника (главы IV, X I I ) , искажение его мыслей (главы I, V, X I V ) , а то и просто бесцеремонную замену слов противника своими собственными (глава X I ) . Словом, так или иначе, но по всей статье сквозит один
прием, одно неизменное стремление: запутать, затемнить дело
в глазах читателя, лишить читателя возможности самому разобраться, составить себе ясное понятие о предмете спора.
Не могу лучше характеризовать этот всегдашний прием, как
следующим сравнением
Различные существа прибегают
к различным средствам защиты: лев защищается когтями,
бык — рогами, зайца уносят его быстрые ноги, мышь прячется в нору, а каракатица — та мутит окружающую воду
и под покровом мрака ускользает от врага. Вот этой именно
тактике каракатицы неизменно желал подражать в своей статье
г. Страхов, с тем только различием, что та, конечно, рада,
когда ей удалось просто уйти от врага, а г. Страхов из своего
мрака сыплет бранью на противника, а ничего не видящему
перед собой читателю самодовольно кричит: разбил! победил! уничтожил!
Я выполнил намеченную задачу, представил подробный,
пожалуй, чересчур подробный анализ статьи г. Страхова,
доставив читателю возможность оценить ее по достоинству.
Позволю себе в заключение одно последнее, чисто личное
отступление. Бывают исключительные, высокие положения,
когда человек может итти своим путем, не обращая внимания
на раздающиеся вокруг него оскорбительные крики, на долетающие до него брызги грязи. В таком положении находился, например, Дарвин, всегда презиравший полемику 2 .
Но этим правом могут неоспоримо пользоваться только Дарвины. Обыкновенный, рядовой ученый, к сожалению, вынужден добывать это право с бою; от него читающая публика может
требовать знамения его правоты, доказательства несостоятельности его противника. Смею надеяться, что двукратным продолжительным молчанием я достаточно показал свое отвращеВсегдашний, понятно, по отношению к разбираемой статье.
Впрочем, он отступал от своего правила, когда полемика заходила
за пределы обычной литературной добросовестности.
1
2
ние к подобной полемике, содержанием же своих вынужденных
ответов доказал, что молчал не потому, что нечего было отвечать, а тем и другим завоевал себе право, самое драгоценное
для ученого, с досадой считающего каждую минуту, потраченную на полемику, так мало имеющую общего с наукой, — право
впредь молча проходить мимо таких произведений, как «Всегдашняя .ошибка» г. Страхова.
СТРАННЫЙ ОБРАЗЧИК НАУЧНОЙ КРИТИКИ
1
У
видав в февральской книжке «Вестника Европы» статью
г-. Фаминцына, посвященную тому же предмету, носящую
то же название, как и моя статья, появившаяся на страницах «Русской Мысли» два года тому назад * , я невольно
полюбопытствовал узнать, почему автор ее нашел нужным
поднять снова вопрос, как мне казалось, для ученого мира
разрешенный или, вернее, никогда не существовавший? Что
имеет он сказать нового по поводу книги Данилевского? По
мере того, как я подвигался в чтении этой статьи, я все более
По поводу статьи Г . А. Фаминцына: «Опровергнут ли дарвинизм
Данилевским?». «Вестник Европы», 1889 г., февраль. (Статья К. А.
«Странный образчик научной критики» впервые была напечатана в журнале «Русская Мысль», 1889 г . , кн. 3. Ред.).
* См. примечание на стр. 263. Ред.
1
убеждался, что не получу ответа на свой вполне естественный
вопрос. Действительно, более странной критики мне не случалось встречать.
Г. Фаминцын, прежде всего, разъясняет то положение
дела, которое он застал в литературе. Вскоре после выхода
в свет книги Данилевского появилась статья г. Страхова,
в которой произведение это признано одним из редких явлений
во всемирной печати. Вслед затем появилась моя статья, для
характеристики которой г. Фаминцын приводит только ряд
резких, выхваченных без связи с предыдущим и последующим
фраз, заключающих отзывы о книге и приемах ее автора. На
мою статью ответил вновь г. Страхов, утверждавший, что в ней
нет вовсе содержания, и т. д. Изложив таким образом фактическую сторону дела, г. Фаминцын делает вывод, что оба ученые (т. е. Страхов и я), очевидно, могли убедить только своих
«поклонников» (насколько это касается меня, то признаюсь
откровенно, что в первый раз слышу о существовании таковых). В интересе же дела, очевидно, необходим новый, «обстоятельный» и «беспристрастный» разбор достоинств и недоI етатков книги Данилевского.
Суждение, как видно, категорическое, не допускающее
двух толкований. До г. Фаминцына еще не высказано «обстоятельного» и «беспристрастного» суждения, и этот пробел
должен быть выполнен его статьей. Читатели «Вестника Европы», по словам г. Фаминцына, только случайно заглядывающие на страницы «Русской Мысли», конечно, без труда поверят
этому суровому приговору г. Фаминцына над его предшественниками, тем более, что он представляет доказательство своего
высокого беспристрастия, не делая никакого различия между
моею критикой и статьями г. Страхова. Читатели эти, конечно, поверят, что в моей критике не заключалось ничего
более «обстоятельного» и «беспристрастного», чем те резкие
отзывы, которые так заботливо подобрал г. Фаминцын. Но
я-то сам, зная, сколько труда я потратил на изучение книги
Да'нилевского, как тщательно (а следовательно, и «беспристрастно») изложил главный ход его аргументации, отделяя
существенное от несущественного, как старательно (а следовательно, и «обстоятельно»), довод за доводом, пытался ее
опровергнуть, признаюсь, был озадачен таким суждением
третьего ученого — г. Фаминцына. Что же такое упустил я
из виду? — невольно спрашивал я себя. — Какие недостатки
труда не подметил я и тем навлек на себя подозрение в недостатке «обстоятельности», какие достоинства (по отношению
к занимающему нас обоих вопросу: «опровергнут ли дарвинизм?») упустил я в труде Данилевского и тем дал повод подозревать себя в «пристрастии»? Словом, какие новые, нераскрытые мною недостатки или, наоборот, какие скрытые
мною достоинства труда Данилевского раскроет нам г. Фаминцын? Вот вопрос, представлявшийся мне с первых же страниц его статьи.
j
*
Очевидно, не одобряя резкого тона тех нескольких фраз,
которыми он характеризует мою статью, г. Фаминцын в этом
тоне, конечно, мог усмотреть прежде всего признак моего пристрастного отношения к делу. Но на первых же страницах он
сам вынужден сознаться, что вызвавший резкость моих отзывов «самодовольно-самоуверенный», «хвастливо-задорный», как
я его назвал, тон книги на всякого читателя должен произвести одинаковое впечатление. Приводя целый ряд мест, сравнительно более мягких (так как самые неприличные фразы
уже отмечены мною), г. Фаминцын говорит, что отношение
Данилевского к Дарвину «высокомерно и заносчиво», и, наконец, делает вывод, что «никто из последних (т. е. противников
Дарвина) не позволял себе выходок, подобных тем, которыми
испещрено сочинение Данилевского». Значит, резкость, с которою я осуждал неприличные выходки, которыми «испещрена»
книга Данилевского, объясняется не слепым пристрастием
к Дарвину, а справедливым негодованием, вызванным литературными приемами, которых «никто себе не позволял».
В другом месте, когда (по поводу софизма Данилевского, что
истинное учение познается по тому, что оно не легко понимается и трудно прививается) я говорю, что он позволяет себе
«шутить над здравою логикой», — г. Фаминцын предпочитает
назвать эту выходку Данилевского «детски-наивною» — вы-
ражение, едва ли применимое к такому искусному спорщику,
каким проявляет себя во всей книге Данилевский, скорее
предпочитающий .рассчитывать на наивность читателя, чем
щеголять своею собственной. Г. Фаминцын считает также
вполне возможным высказывать и такое предположение, что
Данилевский «забыл, или не подозревал, какое значение имеют
труды Дарвина», и, наконец, очевидно, не одобряя порою
насмешливый тон моих возражений, сам не отказывает себе
в удовольствии поглумиться над Данилевским, говоря, что
«не появись „Дарвинизма" Данилевского, ученый мир и теперь
еще бы пребывал все в том же жалком состоянии» и т. д.
Словом, резкость тона некоторых фраз моего опровержения оказывается вполне заслуженною, — не в ней, следовательно,
можно усмотреть какое-нибудь проявление моего
пристрастия С
' Переходим к разбору сущности возражений г. Фаминцына
против труда Данилевского. Общих возражений, показывающих, как мало вероятно предположение, что Данилевскому
удалось опровергнуть дарвинизм, предъявляется два. Вот
они: 1) мало вероятно, чтобы прав оказался Данилевский,
а не подавляющее большинство ученых, разделяющих обратное воззрение, и 2) еще менее вероятно, чтобы доводы, предъявляемые Данилевским, оказались победоносными, так как
они не принадлежат ему, не новы, и до сих пор не опровергли
этого учения. Но оба эти довода, имеющие, замечу мимоходом, только относительную убедительную силу, были уже
развиты мною и даже более «обстоятельно», в особенности
второй, — я указывал, какой именно аргумент и кем был
предъявлен ранее Данилевского.
Но г. Фаминцын полагает, что он нашел настоящий секрет
раздражения Данилевского, — мотивы, объясняющие все его
1 Напомню еще, что каждая из фраз,
приведенных г. Фаминцыным,
у меня строго мотивирована, касается вполне определенного приема
Данилевского.
нападки. На это я замечу, что Данилевский никогда и не делал из этого тайны, что он ясно н категорически высказал эти
мотивы и за эту искренность я даже отдал ему полную справедливость. Но я замечу также, что ни мне, да и никакому
научному критику, не может быть дела до мотивов автора, —
меня интересует только степень убедительности фактов и доводов, им предъявленных, а чем он руководился, подбирая
факты, изобретая доводы, — это меня, как научного критика,
не касается. Между тем, во всем своем изложении г. Фаминцын становится на обратную точку зрения; не касаясь главных
доводов, он подробно анализирует мотивы. Он говорит, что
Данилевский вооружился против дарвинизма потому, что
это учение разрушало его нравственное мировоззрение или,
выражаясь определеннее, противоречило его религиозному
чувству. На это указывал и я, но г. Фаминцын идет далее и
старается доказать, что Данилевский в этом отношении неправ, и для этого сначала знакомит своих читателей с сущностью дарвинизма, а затем старается доказать, что это учение
не может противоречить религиозному
чувству.
*
Краткому изложению сущности дарвинизма г. Фаминцын предпосылает два замечания. Во-первых, он решительно
утверждает, будто горячие поклонники дарвинизма, в его
целости, составляют лишь редкие исключения; но это заявление остается загадкой, так как неизвестно, в каком отношении большинство ученых оказалось вынужденным нарушить целость дарвинизма 1 , какие из его положений оно
признало невозможными; во-вторых, г. Фаминцын заявляет,
что сам он никогда не принадлежал к числу безусловных
поклонников дарвинизма и принимает его только с существенными ограничениями; но так как и эти ограничения
остаются неизвестными, то и самое заявление, в сущности,
бесполезно.
1
Т. е., в сущности, сделать то, чем похваляется Данилевский.
Неизвестно, который из этих двух исправленных дарвинизмов излагается далее, но те дарвинисты, которые продолжают по-старому обозначать этим именем учение Дарвина,
с трудом узнают в изложении г. Фаминцына характеристические черты знакомого учения. Сначала говорится о каком-то
неопределенном трансформизме, настолько же совместимом
и с ламаркизмом, как и с дарвинизмом, а затем, после длинных
выписок из статьи Бэра, заявляется, будто дарвинизм отодвинул на второй план вопрос «для чего» (для чего существует
тот или другой орган), т. е. телеологию. Между тем, по мнению лучших знатоков дела, да и самого Дарвина, его учение
именно придало новый смысл этому вопросу «для чего», создав
новую или рациональную телеологию С Это понимал и Данилевский, называвший дарвинизм, конечно, со своей точки
зрения, псевдотелеологией.
После этого неопределенного смутного очерка сущности
дарвинизма г. Фаминцын приступает к своей главной задаче — к раскрытию коренной ошибки Данилевского.
*
Эта коренная ошибка, как мы уже видели, сводится к тому,
что Данилевский настойчиво и горячо заявляет, что дарвинизм возмутил его нравственное миросозерцание, что с этим
учением не может примириться его религиозное чувство. Но
здесь я должен принять сторону Данилевского. Г. Фаминцын
говорит далее о каких-то «симпатичных» сторонах характера
Данилевского, обнаружившихся в его книге. Я заметил, и
1 В письме к Аза-Грею (1874 г.) Дарвин пишет: «То, что вы говорите
о телеологии, мне особенно понравилось, и, насколько мне известно, вы первый обратили на это внимание. Я всегда говорил: you are
the man to, hit the nail on the head». («Вы тот человек, который попадает
как раз в точку», буквально — бьет по шляпке гвоздя. Ред.). А вот то
место, к которому относятся слова Дарвина: «Мы должны признать однцй из заслуг Дарвина то, что он возвратил естествознанию телеологию:
так что, вместо морфологии versus телеология, мы будем иметь морфологию, сочетанную браком (wedded) с телеологией»: Life and letters of Charles Darwin, v. I l l , 189 (Жизнь и переписка Чарлза Дарвина, том I I I ,
189. Ред.).
отдал ей справедливость, одну — именно его
искренность,
ту откровенность, с которой он высказывает свои религиозные
антипатии к дарвинизму и, без всяких уверток, заявляет,
что питал непреодолимое отвращение к нему, прежде чем успел
найти (как ему казалось) уязвимые места. Если такое отношение к делу нельзя вменить в заслугу ученому, то за откровенное сознание в нем, раз оно существует, нельзя не чувствовать
уважения к человеку. Г. Фаминцын убеждает цитатами из Бэра
и в особенности Виганда (как известно, самого рьяного противника дарвинизма), что это учение совместимо с религиозным чувством; но, я полагаю, никаким числом примеров нельзя
доказать этого тезиса. Во-первых, всякий человек волен (а, может быть, и не волен) в своих религиозных чувствах. Какое
мне дело до того, разделяют или не разделяют моего религиозного чувства сотни или тысячи людей? Ведь, для меня-то
оно остается тем же, чем было; оно пережито, может быть,
выстрадано мною, а не взято напрокат из последней прочтенной книги. Во-вторых, стоит внимательно
присмотреться
ко всем этим Вигандам и им подобным для того, чтоб убедиться,
что их равнодушие только напускное. Виганд руководится
теми же побуждениями, как и Данилевский, — это сквозит
на каждом шагу; он отказывается от дарвинизма не потому,
что нашел в нем ошибки, а страстно ищет ошибки, потому что
ему противен вывод. А напускное равнодушие — только хорошо известный диалектический прием — уверить читателя,
что мне собственно безразлично, каков будет исход спора —
я ценю только силу доводов за и против х . Немногие антидарвинисты проявили
чистосердечие Данилевского, прямо
заявившего, что для его нравственного спокойствия необходимо было опрокинуть дарвинизм, что это для него было жизненным вопросом. Повторяю, этой искренности я отдал справедливость, — оспаривал я только нравственное достоинство
тех средств, тех приемов, которыми Данилевский полагал
1 Мне неизвестно ни одного примера
антидарвиниста, который бы
отказался от этого учения так, как отказались от догмы постоянства
видов сам Дарвин или Лайель, т. е. постепенно сдаваясь перед очевидностью доводов. У антидарвинистов всегда желание опровергнуть предшествовало опровержению.
(
достигнуть цели 1 . Г. Фаминцын, конечно, вполне и безусловно
прав, утверждая, что дарвинизм совместим с религиозным
чувством, — эта мысль и до него высказывалась в нашей литературе а . Совместим; но с каким религиозным чувством?
Если с ним примиряется религиозное чувство одних, то из этого
не следует, что и религиозное чувство всякого человека должно
примиряться. Рядом с примерами, приведенными г. Фаминцыным (и, в сущности, мало убедительными, так как в них
люди религиозные, уверяя, что готовы примириться с дарвинизмом, его отвергают), можно привести примеры обратного.
Таков, например, проф. Генсло, друг и учитель Дарвина,
горячо им любимый и мнениями которого он дорожил; когда
появилась книга Дарвина, Генсло объявил наотрез, что несогласен с этим учением, потому что не видит возможности
примирить его со своими религиозными убеждениями. Результатом этого было заметное охлаждение долголетней дружбы 3 .
Повторяю, не могу отрицать за Данилевским права заявлять,
что дарвинизм противоречит его религиозному чувству, а та
откровенность, с которой он это высказывает, ставит его,
в моих глазах, выше Виганда и ему подобных, под личиной
равнодушия только плохо скрывающих свои религиозные
антипатии.
Возражать Данилевскому можно и должно лишь с той
минуты, когда он сам переходит к наступательным действиям,
когда в свою очередь он хочет навязать другим свои религиозные чувства, когда он вступает в область аргументов и пытается, в резкой й оскорбительной форме; доказать, что всякий здраво рассуждающий человек обязан отвергнуть дарвинизм. Генсло охладел к Дарвину — и, по своему, был- прав,—но он не стал писать памфлетов против дарвинизма. Против
этой аргументации Данилевского я и восстал. Важнейший
«Публичные лекции и речи». «Опровергнут ли дарвинизм?» Стр.
145—150. (Имеется в виду издание 1888 г. В этом томе см. стр. 263—271.
Ред.).
-••-.
- '
2 См. мой очерк «Чарлз Дарвин и его учение», стр. 4. (М., 1883 г:
Ред.)
3 «Life and letters» («Жизнь и переписка». Ред.).
Из этой книги, которою г. Фаминцын, повидимому, не пользовался, он мог бы почерпнуть
сведения и о религиозных воззрениях самого Дарвина.
1
из его общих философских доводов сводится к тому, что в дарвинизме все объясняется «нелепою случайностью». Против
этого довода вооружается и г. Фаминцын; но, я полагаю, всякий, кто даст себе труд сличить наши статьи, убедится, что
на страницах 637—638 г. Фаминцын дает только перифразу
того, что мною высказано на стр. 199 и 200 х . Я указываю,
что случайность элементов какого-нибудь явления не препятствует им слагаться в стройное целое, и ссылаюсь на астрономию и историю * , а г. Фаминцын повторяет ту же мысль, иллюстрируя ее ссылкой на физическую географию и историю.
Но я этим не довольствуюсь: я показываю, что Данилевский, негодуя на мировоззрение дарвинистов, не замечает,
какое жалкое, полное цесогласимых противоречий, мировоззрение предлагает сам взамен. Я назвал его отношение к этому
вопросу, так глубоко его интересующему, «запальчивым недомыслием», и более точной характеристики не могу предложить и теперь. Бездоказательно обвиняя дарвинистов в том,
будто они объясняют развитие органического мира нелепым
случаем, Данилевский, напротив, видит в этом процессе непосредственное вмешательство «целесообразно направляющего
его» интеллектуального начала, т. е., выражаясь определеннее,
божества. Но при этом он забывает, что ранее несколько глав
посвятил доказательству промахов природы, натворившей
будто бы бесполезных и вредных органов, истребляющей зря
миллионы существ; забывает, например, как ядовито глумился
он над природой, создавшей мотылька, бессмысленно летящего на огонь, и т. д. Там он все это высказывал в резкой,
запальчивой форме, думая этим уничтожить естественный
отбор, не сообразив вперед, что все это глумление придется
по адресу интеллектуального начала, о котором пойдет речь
в последующих главах. Бессмысленная деятельность и непосредственное вмешательство в нее божества, — в таком
сопоставлении, говорил я, можно видеть или «циническое
кощунство», или «запальчивое недомыслие», — выхода из этой
дилеммы не существует. Следовательно, не касаясь его ре1 «Публичные лекции и речи». Москва, 1888 г. «Опровергнут ли дарвинизм?» Статья перепечатана без изменений.
* См. в этом томе стр. 317 и 318. Ред.
28
К. А.
Тимирязев,
т.
VII
дигиозных чувств, я только показал, что в своей запальчивости
Данилевский, думая подорвать дарвинизм, сам того не замечая, нанес религиозному чувству такое оскорбление, с которым, конечно, не может примириться ни один религиозный
человек. Я только хотел показать, что, для защиты религиозного чувства от воображаемых оскорблений, не достаточно
одного благого намерения, — нужно еще уменье, иначе, думая
поразить воображаемого врага, можно поразить самого себя.
Таким образом, г. Фаминцын отрицает за Данилевским
право заявлять о противоречии между дарвинизмом и его религиозными чувствами, я же вполне признаю за ним это право,
уважаю его за искренность, с которой он высказывает свои
убеждения, — отрицаю только его притязания навязать свои
убеждения другим и доказываю логическую несостоятельность
его попытки.
В подтверждение своего обвинения г. Фаминцын ограничивается, как сказано, только повторением одного из моих
возражений.
Но все эти рассуждения мало относятся к сущности чисто
научного вопроса, поставленного г. Фаминцыным, да и самый
характер рассуждений отзывается скорее X V I , чем X I X веком. Пора перейти к тому, что отвечает автор статьи на вопрос: «опровергнут ли дарвинизм Данилевским?». «Обстоятельному» разрешению этой задачи г. Фаминцын посвящает четыре страницы. Полюбопытствуем узнать, что ж : в них заключается.
*
Строго говоря, эти четыре странички, в которых должен
заключаться обещанный «обстоятельный» и «подробный» разбор попытки Данилевского опровергнуть дарвинизм, представляют сокращенное оглавление книги Данилевского, с лаконическими, а порой совсем энигматическими отметками С
1 Я говорю «сокращенное оглавление» сотому, что у Данилевского
оно занимает не 4, а 14 страниц и представляет несомненные достоинства.
Если б это не звучало иронией, я бы готов признать в этом оглавлении одну
Минуя первые главы, как заключающие изложение дарвинизма, г. Фаминцын начинает свой беглый перечень содержания книги Данилевского с третьей главы.
В этой третьей главе Данилевский разбирает законность
распространения выводов, приобретенных по отношению к домашним породам, на существа, находящиеся в естественном
состоянии. Здесь он касается трех вопросов: а) не обладают ли
прирученные породы исключительною способностью изменяться; Ь) возвращаются ли искусственные породы при одичании к первоначальному типу, и с) превосходят ли результаты естественного отбора результаты отбора искусственного.
По первому вопросу г. Фаминцын не высказывает никакого
решительного мнения, хотя, повидимому, склоняется более
в сторону Данилевского, но с этим никак нельзя согласиться,
так как Данилевский не устраняет коренного возражения \
Дарвина, что дикари, приручая животных, никак не могли
предвидеть, будет ли их организация пластична или нет. По
второму вопросу г. Фаминцын, повидимому, высказывает большее одобрение, но с этим также трудно согласиться, так как
Данилевский в защиту своего мнения не приводит ни одного
факта, которому нельзя было бы дать иное толкование. Наконец, по третьему вопросу г. Фаминцын только с ограничением
соглашается с Данилевским; но я полагаю, что более близкий
анализ доводов Данилевского приводит к убеждению в полной
их несостоятельности х .
В четвертой главе обсуждаются: а) вопрос о постоянстве
вида и Ь) та группа доводов Дарвина в пользу изменчивости
вида, которую я когда-то назвал доводами статистическими, —
названием, которое сохранил за ними и Данилевский. По первому вопросу г. Фаминцын только замечает, что в защиту
из лучших сторон книги. Говорю это совершенно серьезно. Не часто случается встретить такое толковое, строго систематическое оглавление, в такой степени облегчающее пользование книгой.
1 Может быть, мне заметят, что я возражаю г. Фаминцыну так же голословно, как он высказывает свои одобрения и порицания. Но при таком беглом обзоре частных вопросов, какой делает г. Фаминцын, иначе
поступать почти невозможно. Вообще весь этот краткий перечень, как
увидим, мог бы без ущерба отсутствовать.
Впрочем, я по возможности
буду мотивировать свои возражения.
постоянства
видов
Относительно
Данилевский
второго
Данилевского
не п р и в е л
ничего
в ы с к а з ы в а е т м н е н и е , что
представляет
«несомненный
натяжками,
поля
экземпляра
интерес».
книги
1
.
аргументация
з а к л ю ч е н и е м я не м о г у с о г л а с и т ь с я ; в е с ь п а р а г р а ф
такими
нового
С
этим
изобилует
Данилевского
и с п е щ р е н ы т а к и м ч и с л о м з а м е т о к , ч т о и х , п о ж а л у й , д о с т а л о бы
на т а к у ю же г л а в у
2
. В п р о ч е м , об этой г л а в е , к а к и о с л е д у ю -
щ е й , с а м а в т о р с т а т ь и г о в о р и т , ч т о о н и в о о б щ е имеют в т о р о степенное
Глава
вости.
значение.
шестая
Здесь,
посвящена
по
мнению
обсуждению
г.
факторов
Фаминцына,
изменчи-
интересны
факты,
касающиеся земляники и груши, а также заслуживает
ния
мнение
ждения
Данилевского
голубиных
пород),
(высказанное
будто
по
Дарвин
поводу
внима-
происхо-
не разъяснил
спо-
соба о б р а з о в а н и я ни одной из этих пород. По мнению г . Ф а минцына,
это
внимания.
Н о и с этим з а к л ю ч е н и е м я
самая
самостоятельная
часть
и
не могу
заслуживает
согласиться.
Ф а к т ы , п р и в о д и м ы е Д а н и л е в с к и м , во в с я к о м с л у ч а е не н о в ы ,
1 Я бы, однако, рекомендовал читателям прочесть хоть начало этого
параграфа книги Данилевского, как образчик той схоластической диалектики, до которой он был способен доходить. Желая отстоять справедливость определения вида, данного Линнеем, он так искусно его преобразует, что от него в результате остается только: Species numeramus—
tot—quot (?!). (Видов мы насчитываем столько, сколько... Ред.). Определение, очевидно, неуязвимое. И все это делается для того, чтобы доказать,
что Дарвин был неправ, принимая определение Линнея в том буквальном смысле, в каком его высказал сам Линней.
2 Чтобы не быть голословным, приведу хоть один образец аргументации Данилевского, допускающий краткое изложение. Дарвин говорит,
что на основании его теории можно ожидать, что виды родов обширных
будут более походить на разновидности, чем виды малых родов, и на деле
так и оказывается. Данилевский берется доказать,
что независимо
от какой бы то ни было теории иначе и быть не может. Вот его доказательство: «род равен по значению другому роду», — следовательно, если в
роде много видов, «то они должны представлять меньшее между собой
.различие». Этим рассуждением, что «род равен роду», а вид не равен виду,
Данилевский остался очень доволен, несколько раз к нему возвращался
и на основании его обвинял Дарвина втом, что тот высказывает «трюизмы».
Другие примеры Данилевского по большей части не удовлетворяют условиям статистического метода, разрешающего относящиеся сюда вопросы.
а выводы едва ли верны. Например, развиваемая здесь основная мысль, что новые формы обыкновенно образуются скачками и что искусственный отбор вообще не играл той роли
в образовании пород, которую за ним признают, едва ли
удачна. Так, приводимая в доказательство возможности подобных скачков плакучая туйя едва ли убедительна, ввиду
заявления Дарвина, что плакучесть — один из самых капризных и непрочных признаков. Наблюдения Дюшена над земляникой (если их имеет в виду г. Фаминцын, говоря о землянике) не новость, — о Дюшене, как об одном из предвозвестников Дарвина, писалось немало, между прочим, Де-Кандолем
в 1882 году. Факты, касающиеся груши, также не представляют того значения, которое хочет им придать Данилевский,
т. е. как доказательства образования культурных пород без
участия отбора. Во-первых, возможность внезапного" возникновения крупных и полезных отклонений в редких случаях
допускал и Дарвин, а в применении к груше приводил примеры пород, происшедших от случайных экземпляров дикой
лесной груши; примеры эти цитирует и Данилевский. А, вовторых, уклонения, представляемые грушей, и не так значительны; Декен, на которого также ссылается- Данилевский,
именно по поводу груши говорит, что понятие о разновидности
(variété), в обыкновенном смысле слова, здесь совсем неприменимо, так как у «фруктовых деревьев существуют только
индивидуальные
формы, непрочные уклонения (des variations
sans consistance), не передаваемые ' семенами и только сохраняемые прививкой». Далее Декен говорит, что, тем не менее,
только посевами получаются хорошие новые породы, но лишь
немногие культиваторы имеют средства получать эти новые
породы, размножая грушу от семян, так как, «может быть,
только одну из сотни стоит сохранить»
Это разве не отбор?
Но, с другой стороны, понятно, что относительно груши, быть
может, давно предпочитали, для получения новых пород, производить отбор между более многочисленными дикорастущими
растениями и только тщательно сохранять отобранное, —
сохранять и улучшать, насколько это возможно, потому что
1 D e c a i s n e e t Naudiп.—«Manuel de l'amateur des jardins» etc. (Декен и
Ноден. —«Руководство для любителя садов» и т. д. Ред.).
нельзя же утверждать, что отбор вовсе неприменим к растениям, размножаемым прививкой. Ведь не абсолютно же сходны
все растения, получаемые прививкой? Между ними найдутся
лучшие и худшие, и конечно, первыми, а не последними будут
пользоваться для дальнейших прививок и, таким образом,
будут достигать отрицаемого Данилевским суммирования индивидуальных изменений 1 . Во всяком случае, пример груши
доказывает только то, что отбор посредством семян таких
признаков, которые семенами не передаются, не может быть
особенно успешен. А этот «трюизм», я полагаю, нисколько
не подрывает достоверности общепризнанного значения искусственного отбора вообще в культуре.
Что касается происхождения голубиных пород, то я не
решаюсь высказать мнения, «заслуживают ли внимания»
соображения Данилевского. Не обладая необходимыми, крайне
специальными сведениями, я могу руководиться только вероятностью. Зная, что этот вопрос был обработан Дарвином
с исключительною
тщательностью,
вызывавшею
горячие
похвалы даже его противников, зная, с другой стороны, что
во всех вопросах, в которых я компетентен, нападки Данилевского оказывались неудачными, я с большою степенью вероятности могу предположить, что и на этот раз правым окажется
не Данилевский, а Дарвин.
Вообще же мне кажется, что весь этот поход Данилевского
против такого очевидного, на глазах у всех совершающегося
факта, каков искусственный отбор, — одна из самых бестактных его выходок. Для его цели, для опровержения дарвинизма,
это вовсе не нужно, а только ярко освещает его желание доказать, что Дарвин всегда и во всем неправ, — желание, несообразность которого, естественно, подрывает доверие к нему
читателя, прежде чем автор приступает к своей главной задаче.
0 главе седьмой, после перечисления ее содержания, г. Фаминцын лаконически замечает, что она не представляет ничего нового.
Главы 8, 9, 10 и 11 — самые важные во всем труде
Данилевского-, в них собственно излагается опровержение дарви1 Процесс отбора несомненно
применялся к случаям так называемой «вариации почек» (bud-variation).
низма. На них, конечно, должно сосредоточиться все внимание критика, задавшегося вопросом: «опровергнут ли дарвинизм Данилевским?» Но г. Фаминцын объявляет, что он «намеренно (V.) не вдается в их оценку», и, намекнув мимоходом,
что сходные мысли высказывались Вигандом и Негели, отделывается похвалой Данилевскому за то, что он обнаружил
«умение ясно, хотя не в меру пространно 1 излагать трактуемый
предмет». Что же это такое? Если б я не собственными глазами
прочел эти строки, я бы никогда не поверил, что подобное
заявление возможно. Ученый, добровольно вызвавшийся разрешить научный вопрос, признающий неудовлетворительными
труды своих предшественников, заявляющий, что дело нужно
разобрать «обстоятельно», «беспристрастно», «подробно», — лаконически объявляет, что «намеренно» отказывается от своей
задачи! Загадка этого, совершенно нового критического приема
так и остается неразрешенной. Ведь нельзя же считать опровержением простое заявление, что сходные мысли высказаны
были другими 2 . Таким образом, выходило бы, что Данилевский
неправ, когда его мысли не разделяются другими, и опятьтаки неправ, когда они разделяются. В своей критике я нашел
необходимым сосредоточиться именно на этой части книги,
которую и автор и его сторонники признали наиболее важною, и «намеренно» уделил этому разбору 35 страниц. Я находил справедливым разобрать предъявляемое опровержение
дарвинизма по существу и только мимоходом указать на его
давность.
Относительно 12 главы приводится замечательный по своей
сжатости и категорической определенности отзыв академика
Карпинского. Мне особенно приятно было прочесть эти ясные,
не допускающие двух толкований строки. Они успокоили
меня, убедив, что и то суждение, которое я мог себе составить,
как простой читатель, о палеонтологической части книги,
Обвинение, высказанное и мною.
Замечу кстати, что г. Фаминцын постоянно в числе предшественников Данилевского упоминает Негели. Я этого не делал, находя неделикатным, ввиду заявления (не припомню, самого Данилевского или г. Страхова), что рукопись Данилевского уже существовала, когда появилась
книга Негели.
1
2
было вполне верно. Академик Карпинский заявляет, что в сведениях Данилевского
рядом со специальными познаниями
обнаруживаются крупные пробелы, что вся его аргументация
проникнута предвзятою идеей и что с его выводами нельзя
согласиться.
Возвращаемся к возражениям самого г. Фаминцына. Глава
13 обходится молчанием, а о главе 14, заключающей в себе
свод возражений научных и возражения философские, г. Фаминцын опять лаконически поясняет, что, «считая разбор
этих положений излишним, оставляет их в стороне», и опять
мимоходом напоминает, что Данилевский до конца книги
продолжает приписывать себе мысли, высказанные
ранее
другими.
Вот и весь «обстоятельный», «подробный» разбор.
Перечисляется, как мы видели, несколько мелких вопросов, по заявлению самого автора статьи, представляющих
«второстепенное значение», а главное содержание книги «намеренно» оставляется «без оценки», «разбор» основных положений опровержения признается «излишним».
Странный, небывалый критический прием 1
*
Но вывод еще неожиданнее. После всего сказанного г. Фаминцын, sans crier gare * , озадачивает заявлением, что в книге
«во всей полноте обнаружилась симпатичная, правдивая, талантливая личность автора». Я не был знаком с покойным
Данилевским, — по отзывам его знавших, он обладал этими
качествами, — но это-еще не основание для того, чтобы видеть
их в каждом его произведении. Всякому известно, как могут
исказиться лучшие стороны характера, когда человек ослеплен
предвзятою идеей. Я видел симпатичность Данилевского в его
искренности, но г. Фаминцын за это его обвиняет и ставит
ему в пример Виганда. В чем же заключаются симпатичные
4 свойства Данилевского, обнаруженные г. Фаминцыным в его
книге? Надеюсь, не в «заносчивости», с которой он на каждом
* без предупреждения.
Ред.
шагу несправедливо оскорбляет Дарвина? Где признаки правдивости? Конечно, не в присвоении себе чужих мыслей, за
что так упорно преследует его г. Фаминцын? А талантливость... в чем она обнаружилась? В уменьи ли «не в меру пространно» излагать чужие мысли, или в уменьи защищать свои,
«так что с ними нельзя согласиться»? 1 Г. Фаминцын идет
в своих похвалах еще далее; он называет книгу «полезной»,
говорит, что она заключает «интересные данные, за которые
наука останется благодарной», утверждает, что за ней «нельзя
не признать научного значения». Полезной для кого? — Для
ученых? Но они предпочтут обратиться к источникам, а не
к искаженной «предвзятыми взглядами», «не в меру пространной» компиляции. Для учащихся? Но они, я полагаю, с большею пользой прочтут книгу Дарвина; в ней они познакомятся,
между прочим, и с действительными возражениями, предъявленными серьезными учеными, а, в то же время, вынесут и
нравственное поучение, как нужно уважать чужие мнения.
Дать же' в руки учащимся книгу, автор которой обнаруживает
существенные пробелы в своих знаниях и, ослепленный предвзятой идеей, аргументирует так, что действительно ученый
с ним не может согласиться, — можно разве с указанною
мною, отрицательною целью — научить их находить в этой
книге то, чего не должно быть в научном исследовании.
Что касается данных, за которые наука, по мнению г. Фаминцына, останется благодарной, то, если они такого яге свойства, как и те примеры, которые приведены выше, то я того
мнения, что они не стоят благодарности.
Окончательный вывод из всех этих похвал еще неожиданнее. Г. Фаминцын заявляет, что в общем итоге он должен выразить о книге суждение «нелестное и даяге несколько суровое». В этих внезапных переходах от похвалы к порицанию,
повидимому, и заключается беспристрастие г. Фаминцына.
Мотивы последнего приговора выражены такягб крайне смутно.
1 Г. Фаминцын еще прибавляет, что «не требуется особенного внимания», чтобы понять, сколько труда потратил Данилевский на свою
книгу. Но я всегда полагал, что достоинства научной книги измеряются
не количеством труда, потраченного автором, а количеством пользы, извлекаемой читателем.
Сначала говорится, что книга, имеющая в виду читателей
неспециалистов, должна, тем не менее, удовлетворять и людей
науки, а книга Данилевского их, повидимому, не удовлетворяет (это вслед за объявлением благодарности от имени самой
науки!). Далее говорится, «что во всем сочинении основы учения (т. е. дарвинизма) изложены неверно», под чем, насколько
можно догадаться, опять подразумевается неверность исходной мысли Данилевского о противоречии между дарвинизмом
и его религиозными чувствами.
Итак, обвинения, похвалы, порицания — одного только
недостает: «оценки», «разбора» главного содержания книги,
т. е. того, что составляет сущность всякой критики.
Г. Фаминцын пояснил в начале статьи, что мы, т. е. г. Страхов и я, могли удовлетворить только каких-то своих «поклонников», а что для обыкновенного читателя потребовался его
«обстоятельный» и «беспристрастный» разбор. Но что же он
дал своему читателю? Несколько возражений общего свойства, а затем обвинения, похвалы, порицания и «намеренный»
отказ от разбора самой сущности им же самим поставленного
вопроса. Этим, я полагаю, можно удовлетворить именно только
поклонников, а не обыкновенного читателя, ожидающего возраяшний, т. е. доводов. И почему г. Фаминцын, так беспощадно преследующий Данилевского за то, что тот не упоминает, кем до него было предъявлено то или другое возражение,
считает себя совершенно свободным от этого требования? Почему он не обмолвился ни одним словом, что все предъявляемые
им общие возражения уже были высказаны мною вместе с теми,
более существенными возражениями, от которых он «намеренно» уклонился? Ведь дал же он себе труд выискать в моей
статье все резкие выражения, не боясь оставить читателя под
превратным впечатлением, будто на шестидесяти страницах
моей критики, кроме набора «пристрастных» резкостей нет
ничего более «обстоятельного». Хотелось бы думать, что в этом,
по крайней мере, случае г. Фаминцын поступил не «намеренно».
Я полагаю, что обыкновенный читатель (т. е. не принадлежащий к числу специальных поклонников г. Фаминцына),
прочтя его статью и взглянув снова на заголовок «Опровергнут
ли дарвинизм Данилевским?» — невольно ответит себе: «Не
знаю, г. Фаминцын; из вашей статьи я не мог узнать — ни
в чем заключается сущность дарвинизма, ни как опровергает
его Данилевский, ни что можете вы ему возразить?» А затем,
быть может, этот обманувшийся в своих ожиданиях читатель
поневоле обратится к «пристрастной», не «обстоятельной»
критике, худо ли, хорошо ли, но ответившей на вопрос, который два года спустя г . Фаминцын почел нужным повторить — и оставить без ответа.
ш
И з НАУЧНОЙ
Л Е Т О П И СИ
ИЗ НАУЧНОЙ ЛЕТОПИСИ 1912 ГОДА*
(ОТПОВЕДЬ ВИТАЛИСТАМ И ОТБОЙ М Е Н Д Е Л Ь Я Н Ц Е В )
Ч
итатели
«Вестника
н я т , что в
Европы»,
прошлогоднем
может
своем
у ч н ы х съездов» — я у к а з а л н а
то,
что
я в л я ю т с я л у ч ш и м и и с т о ч н и к а м и , по к о т о р ы м
ще ( t h e g e n e r a l
reader,
как
выражаются
быть,
припом-
обзоре — «Сезон
собрания
наэти
ч и т а т е л ь вооб-
а н г л и ч а н е ) , т . е. в
с у щ н о с т и в с я к и й ч е л о в е к за пределами с в о е й
специальности,
м о ж е т с л е д и т ь за т е м , к а к и е к р у п н ы е н о в ы е з а в о е в а н и я д е л а е т
* Раздел «Из научной летописи» в 7 издании книги «Чарлз Дарвин и его учение» (ч. I I , М., 1921 г.) начинается отрывком из статьи
К. А. «Сезон научных съездов», впервые напечатанной в журнале «Вестник Европы», 1911 г., кн. 11. Не помещая названного отрывка в этом
томе, отсылаем читателя к тому V I I I настоящего собрания сочинений,
в который статья «Сезон научных съездов» включена полностью.
Статья «Из научной летописи 1912 г.» впервые была опубликована
в журнале «Вестник Европы» за 1913 г., кн. 3 —«Отповедь виталистам»,
кн. 5 — «Отбой мендедьянцев». Ред.
наука, какие общие вопросы вызывают в ней оживленную,
порою резкую полемику. К сожалению, отчеты об этих съездах,
проникающие в периодические издания, все более и более
затягиваются, не заканчиваясь даже в пределах года, лишая
таким образом возможности своевременно подводить итоги.
И на этот раз, как обыкновенно, всего интереснее были
речи, произнесенные на заседаниях «Британской ассоциации».
В прошлом году я указывал на контраст между речью знаменитого химика Рамзи, знакомившего с блестящими завоеваниями науки в новой области радиоактивных явлений, и иеремиадами зоолога, приветствовавшего наступивший будто бы
возврат к витализму и метафизике, и самохвальством главы
английских мендельянцев, Бэтсона, отрицавшего значение
химии и физиологии в рациональной агрономии и сводившего все к бесчисленным повторениям опытов Брюннского
монаха. Я указал при этом, что за объяснением того, что они
делают, мендельянцы в конце концов все же должны будут
обратиться к физиологам и химикам.
Эти выпады виталиста-метафизика и зарвавшегося в своей
узкой односторонности мендельянца не могли, конечно, остаться
без последствий. Ответить первому, хотя не прямо, т. е. не упоминая о нем, выпало на долю председателя съезда, на этот раз
эдинбургского профессора (но не шотландца) физиолога Шеффера 1 . Мендельянцы же сами озаботились сгладить отступление для своего слишком зарвавшегося главы; эту щекотливую роль принял на себя ботаник-бэтсонианец, профессор
Кибль. Эти два выдающихся эпизода съезда мы можем озаглавить так: I. «Отповедь виталистам» и II. «Отбой мендельянцев».
1
О Т П О В Е Д Ь ВИТАЛИСТАМ
Прежде чем ознакомиться с содержанием интересной речи,
полезно ознакомиться с обстановкой, при которой она была
произнесена. Заседания Ассоциации происходили на этот
1 Как всегда, президентская речь — без заглавия. В отдельном издании она появилась под заголовком: «Жизнь, ее природа, происхождение и сохранение».
раз в небольшом шотландском городке Донди. Прошлогодний
защитник витализма и метафизики, Томпсон, был шотландец — и это обстоятельство, повидимому, не случайность.
Между шотландскими учеными до сих пор можно встретить
ревностных сторонников вторжения в науку метафизики и
даже теологии. В появившейся на-днях биографии знаменитого ботаника Гукера встречается очень характерная фраза,
относящаяся к его школьным годам: «Как питомец шотландского университета (Глазго), я потратил немало времени на
изучение метафизики, для того только, чтобы убедиться, что
она ни на что негодна». Что не все шотландские ученые покинули старую точку зрения, можно увидать из следующего
факта. С прошлого года на английском языке стала выходить
очень хорошая библиотека дешевых популярных книг по разным областям знания, в том числе и по естествознанию А Но
наряду с прекрасными отдельными монографиями известных
специалистов, в ней появились и книжки очень определенного
тенденциозного содержания. Так, профессор Томсон (не прошлогодний защитник метафизики, а другой, но также зоолог и
также шотландец, профессор в Абердине) поместил в ней томик, озаглавленный «Введение в науку» (Introduction to science).
В начале книги проводится мысль (на основании известных
слов Кирхгофа, вкривь истолкованных биологами), что никакая наука ничего не объясняет, а только дает описание фактов. Утвердив читателя в этом будто бы ультра-научном скептицизме, Томсон делает неожиданный 2 скачок; а так как человеческий ум уже так устроен, что не может обойтись без
объяснений, то остается только одно — искать их в метафизике. И вот она появляется в основе всей системы наук, причем автор предупреждает читателя, чтобы он не подумал,
что это простая опечатка. В следующей главе он объясняет,
1 Под заглавием Home University. Library of Modern
Knowledge—
Домашний университет. Библиотека современного знания.
2 Т. е. неожиданный для неопытного
читателя, но вперед предвидимый для людей знающих, как я это имел случай разъяснить еще в 1900 г.
в моей актовой университетской речи: «Столетние итоги физиологии растений».—«Насущные задачи современного естествознания», 1908 г. (В настоящем издании см. том. V, стр. 385. Ред.).
29
К. А. Тимирязев,
т.
УН
что где не поможет метафизика — остается прибегнуть к теологии.
Не менее знаменательна другая книга этого издания, посвященная эволюции. В конечном ее выводе оказывается, что
самым верным современным воззрением на этот вопрос следует
считать не теорию Дарвина, а мнение о ней его известного
противника Майварта, католического патера. Один из авторов этой книжки — шотландский ботаник и также католик А
Повидимому, многое в Шотландии ушло недалеко от того,
что полвека тому назад так ярко изображал Бокль А
Речь профессора Шеффера, общее содерягание и направление которой было вперед известно, собрала давно небывалую,
многочисленную аудиторию, а по словам очевидцев, впечатление, ею произведенное, напоминало разве только знаменитые
речи Тиндаля. Не заключая ничего абсолютно нового, она
представила очень умелую сводку, яркую картину тех успехов, которые физиология уже осуществила и продолжает
осуществлять чуть не до настоящего дня. Этим речь отнимала
почву у тех, кто лицемерно сетует о беспомощном будто бы
состоянии физиологии, о каком-то безнадежном ее будущем,
0 чем распространялся прошлогодний оратор-зоолог, приглашавший обратиться за помощью к метафизикам вроде Дриша 3
или Бергсона. Удачным и оригинальным следует признать
распределение богатого содержания речи в порядке вероятной
эволюции физиологических функций, местами подтверждаемой
несомненной историей их развития. Последующее, понятно,
представляет только очень сжатое изложение речи Шеффера,
и лишь кое-где приводятся собственные выражения оратора.
Профессор Шеффер начал свою речь с обычного указания
на бесплодность старых философских определений жизни,
так как ни одно из них не охватывает всей совокупности пред1 В английских изданиях появились публикации о предстоящем выходе в свет «Теории эволюции» двух отцов иезуитов, из которых один,
Васман, уже составил себе известного рода знаменитость.
2 Вспомним его рассказ о шотландской петиции,требовавшей,в 1853 г.,
1 чтобы правительство для борьбы с холерой ввело обязательный пост и об1 щественные молитвы, на что Пальмерстон ответил советом позаботиться
(лучше о гигиене и улучшении положения рабочих.
3 Не так давно гастролировавшего в Шотландии.
"
метов включаемых, равно как и всех исключаемых, и на становящуюся все менее и менее резкою границу между живым
и неживым, что еще увеличивает затруднения новых попыток
этого рода. Ошибочность ходячих понятий увеличивается еще
тем, что, думая определять жизнь вообще, нередко имеют
в виду, главным образом, человека.
Жизнь, в ее всеохватывающем, широком смысле, сводится
на явления превращения материи и энергии; она исследуется
и может исследоваться только методами, применяемыми к изучению и всех остальных материальных явлений. Общие результаты исследований в этом направлении свидетельствуют,
что живые тела подчиняются тем же законам, как и неживые,
и что, чем более мы изучаем проявления жизни, тем более
убеждаемся в ненужности прибегать для их объяснения к содействию какой-нибудь особой, неизвестной формы энергии.
Самое разительное проявление жизни мы усматриваем
в так называемых «произвольных» движениях. Оно не ограничивается человеком или крупными животными. Каждая
капля прудовой воды, как мы часто выражаемся, «кишит
жизнью». Простейшим случаем является так называемое «амебоидное» движение. А физикам удалось воспроизвести движения, по виду ничем не отличающиеся от этих «амебоидных»
и вполне объясняющиеся явлениями поверхностного натяжения жидкостей» Но амебоидные движения могут быть, в свою
очередь, связаны с целой цепью явлений движения, совершающихся в сложных организмах — вплоть до движения наших мышц, под влиянием воли, или сердца, под влиянием
эмоций.
Скажут: явления движения в живых телах идут об руку
с явлениями другого порядка, с явлениями обмена ассимиляции и дезассимиляции веществ и с явлениями роста. Но
в основе и эти процессы имеют аналогию в химических и физических явлениях, воспроизводимых вне организмов. Химические процессы, долго считавшиеся исключительным уделом
организмов, все более и более переходят в руки химиков.
То состояние вещества, которое Грэам назвал коллоидальным
и которое все более и более считается основной особенностью
живых тел, свойственно и телам неорганизованным. Ферменты,
или энзимы — эти удивительные вещества, вызывающие, смотря
по условиям, и явления дезассимиляции и явления ассимиляции — имеют аналогов и в неорганическом мире. Процессы
роста, казалось, представляли нечто совершенно отличное
от роста тел неорганических — кристаллов; но уже известны
искусственные образования, воспроизводящие основные черты
роста клеточек х ; удается воспроизвести и явления, подобные
дроблению ядра. С другой стороны, Лёб показал, что первые
стадии процесса полового воспроизведения могут быть вызваны
искусственно, без участия мужского оплодотворяющего элемента.
«Kurz und gut * , как говорят немцы — закончил эту часть
своей речи Шеффер, — у витализма, как рабочей гипотезы,
подорваны все основы, разрушены и все ее надстройки, и если
в наших объяснениях встречаются некоторые затруднения,
то причину этого должно искать в неполноте наших сведений
о строении и действии живого вещества. При самой снисходительной оценке, выражение „жизненная сила" — только
заявление своего невежества, нисколько вперед не подвигающее. И делу не помочь заменой „витализма" „неовитализмом"
или „биотической энергией" 2 . „Неопресвитер — то же, что
старый поп; только с виду слово будто поважнее„("Хе\ургезЬНег
is old priest writ large")» 3 .
После этого введения, проф. Шеффер переходит к обстоятельному рассмотрению современных задач и успехов физиологии.
Во-первых, говорит он, мы не имеем повода предполагать,
что состав живого вещества так бесконечно сложен, как это
,
1 Шеффер ссылается на недавние опыты Ледюка; но они не что иное,
как повторение искусственных клеточек Траубе, значение которых было
в свое время оценено таким ученым, как Гельмгольтц. С 1870 г. я неизменно показывал их на своих лекциях.
2 Точь-в-точь, что двадцать лет тому назад мне приходилось возражать академику Коржинскому, полагавшему, что он очень подвинул дело
виталистов, заменив слово «жизненная сила» словом «жизненная энергия».
3 Мне неизвестно, откуда
взята эта цитата, но несомненно проф.
Шеффер хотел мимоходом намекнуть на старую клерикальную подкладку
нового похода шотландских ученых против современной науки.
* «Коротко и хорошо...» Ред.
прежде представлялось. Исследования Мишера и Косселя
и его школы показали, что тела, входящие в состав органа,
играющего такую важную роль в процессах роста и воспроизведения, каково ядро, представляют не особенно сложный
состав, так что мы можем надеяться когда-нибудь получить
их синтетически. То же, на основании исследований Эмиля
Фишера, мы можем предположить и о белковых веществах
протоплазмы.
Это приводит к рассмотрению вопроса g начале жизни
и о возможности в будущем созидания живой материи. Шеффер, понятно, относится скептически ко всем до сих пор произведенным попыткам осуществить явление так называемого
произвольного зарождения, но напоминает, что все нам известные простейшие организмы еще очень сложны в сравнении с предполагаемыми начальными стадиями организованного вещества, и совершенно основательно предостерегает,
что ничто не оправдывало бы заключения, будто самый факт
превращения неживого вещества в живое невозможен.
Устраняя, как совершенно ненаучную, идею о непосредственном сверхъестественном вмешательстве исключительно
на этой границе между живым и неживым, мы вынуждены
допустить, что живая материя осуществлялась так же, как
и все остальные материальные процессы, — путем эволюции.
Объяснение нисколько не подвигается вперед предположением
о занесении зачатков жизни из других миров А
Эволюционная гипотеза, обнимающая теперь не одну только
биологию, но и все другие науки о природе — астрономию,
геологию, химию, физику — убеждает нас, что процесс этот,
вероятно, имел место и при переходе из неорганического мира
в органический. Но столь же очевидно, что следы такого процесса не могли сохраниться в форме известной нам геологической летописи.
Мириады лет должны были пройти от начала этого процесса и до появления тех известковых или кремневых игол
и панцырей, которые мы встречаем у наших простейших ор1 Та новейшая форма этой гипотезы, которая прибегает к световому
давлению, повидимому, не считается со смертоносным действием ультрафиолетовых лучей в космических пространствах.
ганизмов. Да если бы нам и удалось увидать непосредственный переход от бесформенно коллоидального вещества к организованному, мы вряд ли получили бы возможность определить, где начинается или кончается жизнь (Пирсон). Иной
вопрос — совершался ли этот переход не раз в течение геологических времен. На это мы можем ответить, что едва ли допустимо, так как вынудило бы нас к предположению, что каждый раз развитие органических форм шло по одинаковым путям — а это в высшей степени невероятно 1 — или что уже
существовавшие организмы без следа пожирали вновь появляющиеся зачатки новых организмов.
Допустив, что такой процесс (однократно или неоднократно) осуществлялся в форме коллоидальной слизи, на
основании сказанного появились бы и функции ассимиляции
и роста, а вслед за тем, как только размеры этих жидких или
полужидких капель стали превосходить известные пределы,
появилось бы и деление, т. е. распад на отдельности, подобные той, из которой они произошли, и воспроизводящие все
ее химические и физические свойства. Т а к же, как формы
родителей, будут повторяться и процессы ассимиляции роста
и размножения: получается о п т е vivum е vivo * . Такая первобытная организация могла бы заполонить весь земной шар.
Раз осуществилась такая элементарная форма жизни, осталь• ное осложнение будет делом уже известных нам неизбежных
законов эволюции. Ce n'est que le premier pas qui coûte * * .
Далее в нашей воображаемой живой материи мы можем
себе представить распадение ее однородной массы, с выделением вещества, более богатого содержанием фосфора — будущего ядерного вещества. В числе его составных начал выдающаяся роль будет принадлежать ферментам, этим веществам, вызывающим целый ряд глубоких превращений вещества 2 — к тому же при сравнительно низких температурах.
Этот аргумент был выдвинут мною сорок лет тому назад.
Аналитических и синтетических. Эти последние, открытые молодым английским химиком Крафт-Гилем, все более и более обращают на
себя внимание химиков и физиологов.
* все живое от живого. Ред.
* * Труден только первый шаг. Ред,
1
2
4
Еще шаг — и эти рассеянные в плазме вещества соберутся
в форму ядра: получится то, что мы привыкли называть клеточкой. Отныне жизнь будет воплощена в клеточку; все живое
будет клеточка или аггрегат клеточек — omnis cellula е cellula.
За этой стадией, но на расстоянии какого промежутка времени, мы не в состоянии гадать, на сцену выступает новое
явление: от времени до времени будет происходить слияние
ядер между отдельными клетками. У одноклеточных организмов этот процесс происходит между любыми клетками, представляющими из себя их особей. Но у многоклеточных организмов эти функции, как и многие другие, выпадают на долю
обособившихся клеток. Результатом этого процесса является
обновление (rejuvinescence) жизни, сопровождающееся обыкновенно и увеличением числа неделимых. Этот процесс выражается введением в обновленную клетку особого вещества,
обыкновенно имеющего определенную форму сперматозоида;
но вспомним опыты Лёба — и мы придем к заключению, что
наличность какого-нибудь морфологического элемента не является необходимым условием процесса. «Мы не должны закрывать глаза на возможность того, что передающиеся потомству
свойства окажутся связанными со специфически химическими
свойствами этих веществ, другими словами, что и наследственность может также оказаться одним из тех вопросов, за разрешением которых придется обратиться к химику» А
До сих пор мы имели дело с проявлением жизни в той ее
форме, в какой она проявляется в простых, одноклеточных
организмах. Но люди, не имеющие дела с микроскопом, произнося слово «жизнь», почти неизменно имеют в виду себя самих
или близко знакомых животных и растения.
«Никакая
нас,
что
интуиция
наша
жизнь
б е з помощи м и к р о с к о п а н е н а у ч и л а б ы
не
какое-нибудь
неделимое
явление,
1 Как быстро оправдалось это пророчество ІЛеффера, — к слову сказать, высказанное и мною, в прошлогодней статье («Сезон научных съездов», см. примечание редакции на стр. 447. Ред.), и еще ранее («Чарлз Дарвин», «В. Е.», 1909 г.), — увидим в следующем параграфе этой статьи.
(Статья «Чарлз Дарвин» в книгу «Чарлз Дарвин и его учение», изд.
7-е, ч. I, вошла под названием «Чарлз Дарвин и полувековые итоги дарвинизма». См. в этом томе стр. 213. Ред.)
которое можно задуть, как пламя свечи, а слагается из миллионов жизней отдельных клеточек. Это представление о клеточном строении сложилось сравнительно очень недавно —
на глазах живущих теперь людей. Но какие изумительные
успехи сделала эта юная наука о живых существах! Все успехи
механических наук, которые принято считать наиболее характеристической чертой
девятнадцатого столетия,
ничто
в сравнении с успехами биологии, и возбуждаемый ими интерес отступает на второй план в сравнении с интересом фактов,
открытых в области жизненных явлений. А в ряду этих фактов
выдающееся место занимает, конечно, открытие клеточного
строения всего живого».
Посмотрим же, как происходит образование многоклеточного тела: путем подразделения единичной клетки, причем
происходящие клетки сохраняются во взаимной связи. Так
происходит развитие неделимых, которое, как мы знаем, представляет сокращенную картину исторического процесса образования данной формы. Эти клеточные аггрегаты образуют
сначала сплошные массы. Далее образуется внутренняя полость, и вся форма переходит в полый шар. До этой стадии
все клеточки сходны между собой, все получают одинаковое
воздействие извне, одинаково воспринимают и ассимилируют
пищу извне, одинаково участвуют в общих движениях. Это
простейшая форма многоклеточных. На следующей ступени
часть стенки полой формы вдавливается внутрь, причем изменяется и форма внутренней полости. В этот момент наступает диференцировка, обособление в строении и отправлении
наружного и внутреннего слоя клеточек этой же чашевидной
формы. Клеточки наружного слоя воспринимают внешние
воздействия, физические и химические, и передают их остальным клеткам, а также исполняют и двигательные отправления.
Клеточки внутреннего слоя, освободившись от этих отправлений, специализируются на восприятии и переработке пищевых веществ, выделяя которые во внутреннюю полость, делают их доступными всем клеткам организма. Некоторые
представители животных, сохраняющие эту стадию, утрачивают подвижность, превращаясь в организмы, напоминающие
своим видом и образом жизни растения: таковы губки. Эта
ступень диференциации, за отсутствием нервной системы,
не обнаруживает общей координации, но зато и отдельные
клетки • сохраняют значительную степень самостоятельности
и независимости.
Наша собственная жизнь, как и жизнь высших животных, — жизнь сложная, совокупная жизнь индивидуальных
клеточек. Жизнь отдельных клеточек может прекращаться,
не нарушая жизни остальных. Этот факт совершается непрерывно, в каждый момент нашего существования. Таковы клеточки на поверхности нашего тела, отмирающие, стирающиеся
и заменяющиеся новыми без всякого ущерба для организма.
Наоборот, уничтожение клеточек нервного центра, управляющего дыханием, вызывает через несколько минут смерть всего
живого организма. Призванный врач признает смерть, ыо
только в известном смысле — прекращения доставки тканям
необходимого им кислорода. И действительно, стоит во-время
искусственно восстановить этот доступ — и все проявления
жизни возвратятся. В момент так называемой общей смерти
только некоторые клетки утрачивают свою живучесть, другие
еще долго сохраняют ее. Особенно отличается этим мышечная
клетка. Мышечные клетки кровеносных сосудов сохраняют
признаки жизни в течение нескольких дней после смерти.
Известны случаи, когда мышечные клеточки сердца оживают
и начинают вновь биться сильно и правильно — у человека
через восемнадцать часов, у животных — через несколько
дней после смерти. Белые кровяные тельца крови могут сохранять свою обычную форму и отправления даже в течение года.
Опыты Карреля и Борроуза в последнее время познакомили
нас с возможностью сохранения тканями, вырезанными из организма, их жизненных отправлений, роста и размножения
клеточек в течение долгих промежутков времени а . Исходя
из этого, Каррель доказал возможность вырезать органы
из умерших животных и привить их другим животным того же
вида, открывая этим такие новые горизонты для хирургии,
все значение которых едва ли еще возможно вполне оценить.
1 Так, например, сердце, вырезанное ив зародыша цыпленка,
жить и биться в течение нескольких месяцев.
могло
Как уже сказано, жизнь некоторых клеточек (дыхательных центров или сердца) необходима для поддержания жизни
всех остальных. Зато существуют ткани и целые органы, бесполезные и даже вредные. Видерсгейм у человека насчитывает их до сотни. Стоит только вспомнить получивший такую
печальную известность червеобразный отросток слепой кишки.
Природа, конечно, со временем сделает успехи по пути их
уничтожения, а пока человеку самому приходится защищаться
от них при помощи хирургии.
В многоклеточном организме жизнь целого, очевидно,
зависит не от одного обеспечения условий существования
отдельных клеток: необходимо еще обеспечить согласное взаимодействие (координацию) различных клеточек, обособившихся
в своих отправлениях. Так, клетки желудочных желез выделяют желудочный сок. Клеточки кишечных ворсинок всасывают питательные вещества. Клетки почки выделяют излишнюю воду с растворенными в ней отбросами. Клетки сердца
образуют насос, прогоняющий кровь через сосуды. Жизнь
каждой клетки приспособлена к ее отправлениям, но без их
кооперации, без подчинения всех потребностям целого, они
могли бы вырабатывать или слишком много, или слишком
мало, качать [всасывать] или слишком, или недостаточно
скоро, причем жизнь целого не была бы обеспечена, ей грозила бы опасность.
Еще недавно мы знали только один механизм, поддерживающий эту координацию, — это была нервная система.
Новейшему времени принадлежит открытие второго —
это «гормоны», или «возбудители». Так названы Стерлингом 1
особые химические вещества, вырабатываемые железами, поступающие в кровь, разносимые ею по всему телу и пробуждающие деятельность других клеточек иногда на значительных
расстояниях. Значение этих веществ уступает разве только
значению нервной системы; действие их очень разнообразно,
а иногда в их отсутствие жизнь становится невозможной.
Прежде чем рассмотреть, каким образом нервная система
способствует объединению яшзни сложных организмов, по1
Шеффер и сам работал в этом направлении.
смотрим, как она появилась. Первый шаг на этом пути осуществился тогда, когда некоторые клеточки наружного слоя
обнаружили особую восприимчивость к внешним воздействиям
механическим (осязательным и звуковым), физическим (световым) и.чи химическим. Эти влияния первоначально, вероятно, просто передавались от клеточки к клеточке. Значительный успех был осуществлен тогда, когда эти восприимчивые клеточки образовали щупальцы, разветвления, которые
проникали в промежутки между другими клетками. Такие
щупальцы устанавливали более быстрые и непосредственные
сообщения с отдаленными частями. На первых порах они
могли быть сократимыми, напоминая ложные ножки (псевдоподии) простейших одноклеточных 'организмов. Получив постоянное положение, они превращались в зачаточные нервные
волокна — начало нервной системы. Даже в настоящее время
(как это показал Росс Гаррисон) в развитии нервных волокон
наблюдается ранняя стадия, напоминающая амебоидные отростки, сначала сократимые, а позднее принимающие постоянное положение, в котором они оказываются закрепленными. Затем часть этих поверхностных элементов, в силу ли
более защищенного положения или лучшего питания, удалилась с поверхности и погрузилась в глубь ткани — это будущие нервные клетки. Они остались своими вытянутыми
частями в сообщении с поверхностью: это будущие приводящие, чувствующие
волокна,
поддерживающие
сообщение
с внешним миром. Другими такими же отводящими ответвлениями они продолжают передавать воспринятые влияния
глубже лежащим клеточкам. Дальнейшее развитие утвердило
эту диференцировку на приводящую, отводящую и промежуточную сферы нервной системы. Уже и такой продтой механизм обеспечивал к их взаимной выгоде взаимодействие отдельных клеточек сложного организма.
Именно развитие нервной системы, хотя не во всех классах
шедшее по одинаковым путям, оказалось выдающейся чертой
эволюции высших животных форм. Через ее посредство, воздействия внешнего мира превращались в сокращения или
какие иные проявления клеточной деятельности. Ее появление
долояшло основание и коренному различию между мнром
животных и миром растений, ни один из представителей которого не обладает никакими следами нервной системы. «Растения,
правда, реагируют на внешние воздействия, и эти воздействия
оказывают более или менее глубокие влияния, вызывают
сравнительно резкие и быстрые движения даже отдаленных
частей; достаточно вспомнить мимозу. Но эти воздействия
всегда передаются от клеточки к клеточке, никогда — через
нервные волокна. А при отсутствии чего-либо соответствующего
нервной системе невозможно допустить, чтобы растение могло
обладать хоть каким-нибудь проблеском «разумности». Наоборот, в животном, из первоначально незначительного изменения
известных клеточек, путем эволюции создалась сложная нервная система, с ее разнообразными и сложными отправлениями,
завершившимися деятельностью человеческого разума. «Какое
великое произведение человек! Как благороден его разум!
Как беспредельны его способности! Как изумительны его формы
и движения! Как подобен ангелам он в своих поступках! Как
богоподобен в своем постиженииі Но если б он вздумал не
в меру возгордиться своими психическими подвигами, то
пусть не забырает, что все это — только результат приобретения
некоторыми клетками его далеких предков способности реагировать в несколько повышенной степени на внешние воздействия, благодаря чему эти клетки, с одной стороны, пришли
в более тесное общение с внешним миром, а с другой стороны,
разросшись далеко за пределы ограниченной сферы, к которой
остались прикованы их соседки, мало-помалу приобрели господство над остальными. Эти господствующие клетки, превратись в нервные клетки, теперь не только служат для передачи воздействий от одной части организма к другой, но с течением времени стали центрами ощущений и сознательных
восприятий, образования и ассоциации идей, памяти, волевых
движений и всех проявлений разума!»
Самыми выдающимися проявлениями деятельности нервной
системы являются вызываемые и регулируемые ею общие
движения так называемых произвольных мышц.' На деле они
являются результатом внешних воздействий, выносимых чувствующими или проводящими нервами на поверхности, т. е.
посредством кожи или органов чувств, хотя эти воздействия
могут и не быть непосредственными, а будут слагаться на
неопределенное время в некоторых клетках нервной системы.
Регулирование движений — непосредственно ли за раздражением или через промежутки времени, притом сознательного
или чисто рефлекторного, бессознательного характера — процесс громадной сложности, обнимающий как вызывание движений, так и их торможение. Исследование его условий составляет в настоящее время предмет трудов Шерингтона.
Менее бросается в глаза, но не менее важна роль нервной
системы в движениях непроизвольно сокращающихся мышц.
При нормальных условиях они совершаются вполне независимо
от сознания, но их регулирование происходит так же, как и при
сокращении произвольных мышц — именно как результат воздействий, получаемых с периферии. Эти воздействия сообщаются проводящими путями центральной нервной системе,
а оттуда, преимущественно при посредстве симпатической
нервной системы, оказывают или усиливающее, или задерживающее действие на сокращение непроизвольных мышц. Многие непроизвольные мышцы имеют естественную наклонность
к постоянному ритмическому сокращению, совершенно независимому от центральной нервной системы; в таких случаях
значение толчков, полученных от последней, ограничивается
увеличением или уменьшением размеров этой деятельности.
Пример такого двойного действия мы видим в сердце. Хотя
этот орган и продолжает совершать правильные ритмические
сокращения даже тогда, когда прервано его сообщение с нервной системой или когда оно совершенно вырезано из тела, но
при нормальных условиях оно побуждается нервной системой
к повышенной деятельности при посредстве симпатической,
а к пониженной — через посредство блуждающего нерва. Благодаря своей готовности подчиняться влиянию тех нервных
потрясений, которые мы называем «эмоциональными», слово
сердце на языке поэтов, да и в обычной речи, стало синонимом
этих эмоциональных движений 1 .
1 Невольно
вспоминаются блестящие страницы Клод Бернара о
«Сердце в представлениях поэтов и физиологов». Последующие полу- и
вековые успехи науки могли только подтвердить воззрения великого физиолога.
Подобным же образом регулируется и действие непроизвольных мышц артерий, вызывая бледность или румянец лица.
Румянец стыда и бледность испуга — простые изменения физиологической деятельности артерий. Совершенно сходные
явления могут быть вызваны и в бессознательном состоянии
организма, во сне или при анестезии.
Регулирующее действие нервной системы обнаруживается
и в ее влиянии на выделение железами их соков. И здесь химическая деятельность желез может быть ею усилена или ослаблена, вызвана или приостановлена; таково, например, действие на железы, определяющие процесс пищеварения и выделяющие кожный пот. Совместное действие на сосуды и на
потовые железы регулирует температуру крови, поддерживая
ее на уровне, наиболее благоприятном для жизни и деятельности тканей.
Как и в деятельности сердца, и в выделении желез важную
роль играет элемент эмоциональный. От впечатления одного
рода «слюнки текут», от других «язык прилипает к гортани» К
Эта задержка деятельности слюнной железы давно использована на востоке так называемой «пыткой рисом» для изобличения, будто бы, преступников.
До недавнего времени регулирующее действие нервной
системы было единственным известным. Открытия последних
лет познакомили нас с другим, несравненно более простым
механизмом — чисто химическим. Эти вещества, как мы видели, получили название «гормонов». Обыкновенная железа
выделяет свои соки на поверхность тела или его полостей.
Но существуют так называемые железы внутреннего выделения. Они выделяют прямо в кровь, рассылающую эти «гормоны» во все концы тела, так что их действие может обнаружиться в отдаленнейших органах. Их действие на эти органы
может быть существенным или только дополнительным. В
первом случае удаление этой железы или ее поражение может
оказаться роковым для существования всего организма. Таковы
так называемые надпочечные железы. Еще в половине прошлого столетия английский медик Аддисон открыл болезнь,
1 Известны опыты
в
лога И. П. Павлова.
этом направлении нашего знаменитого физио-
названную его именем, почти всегда роковую и находящуюся
в связи с надпочечной железой. Броун-Секар показал, что
удаление этой железы у животных сопровождается уже через
несколько дней смертью. Целый ряд исследований показал,
что гормон этой железы (адреналин) возбуждает деятельность
сердца и артерий и содействует деятельности симпатической
системы (Ланглей).
Другой пример представляет щитовидная железа, отправление которой необходимо для нормального течения жизни.
При неудовлетворительном ее отправлении проявляется форма
идиотизма, называемая кретинизмом-, и другая болезнь, известная под названием myxoedema. Сходные явления обнаруживаются и при хирургическом удалении железы. Прием
сока железы излечивает болезнь. С другой стороны, ненормальное развитие или неумеренные приемы сока сопровождаются
сходными болезненными приступами. Здесь мы, следовательно,
имеем дело с химическим веществом, от присутствия которого
зависит отправление важных человеческих функций. Профессор
Глей, сам работавший в этой области, замечает: «Происхождение
и правильное отправление высших человеческих способностей
обусловливается чисто химическим действием известного продукта выделения. Психологи, подумайте об этом!» Еще изумительнее,
может быть, действие сопровождающей щитовидную железу «паратироидной» железы. Она величиною с булавочную головку—
и, тем не менее, ее удаление сопровождается явлениями, подобными тетанусу, всегда опасными, порою роковыми.
Другая железа внутреннего выделения, в последние годы
обратившая на себя большое внимание (glandula pituitaria)
помещается при основании головного мозга. Ее удаление смертельно. Ее ненормальное увеличение в период роста организма
сопровождается ненормальным увеличением скелета, принимающего гигантские размеры. Если общий рост уже закончен,
ненормально разрастаются ноги, руки и личные кости (так
называемая акромегалия).
Очевидно, эти железы или часть их
выделяют гормон, ускоряющий рост скелета. У великанов и
у «акромегалистов» они всегда сильно развиты 1 .
1 Невольно напрашивается мысль: какую важную роль мог сыграть
подобный механизм в эволюции позвоночных. Не усиленной ли деятель-
В перечисленных случаях железы вырабатывают исключительно гормоны, но существуют железы со смешанными функциями. Такова панкреатическая железа — одна из главнейших
в процессе пищеварения. Ее наружное выделение в кишки давно
известно, но сравнительно недавно стало известным, что сверх
того она вырабатывает и внутреннее выделение — гормон,
поступающий в кровь, проникающий в печень и разносимый
во все части организма. Этот гормон играет весьма важную
роль в утилизации углеводов организма. Углеводы пищи превращаются в виноградный сахар, который разносится кровью
во все ткани и сжигается в них как топливо. При заболеваниях
панкреатической железы или ее хирургическом
удалении,
вследствие отсутствия гормона, сахар не утилизируется тканями и накопляется в крови, откуда избыток его поступает
в почки, обусловливая известную болезнь — диабет.
В двенадцатиперстной кишке под влиянием желудочного
сока образуется гормон «секретин», который, в свою очередь,
действует на выделение панкреатического сока. Этот интересный гормон открыт Старлингом и Бэлиссом.
Наконец, железы органов воспроизведения, кроме специальных своих продуктов — яичек и сперматозоидов, выделяют и
гормоны, которые, опять-таки поступая в кровь, оказывают
влияние на ткани отдаленных органов. Через посредство этих
гормонов образуется гребень и хвост петуха, грива льва,
рога оленя, борода и увеличение гортани мужчины — все так
называемые
вторичные половые признаки. Существование
этой зависимости, известной с незапамятных времен, приписывалось деятельности нервной системы, и только в недавнее
ности подобной железы можно приписать все те чудовищные скелеты, которые нас поражают в палеонтологических музеях? Такое физиологическое объяснение, во всяком случае, имело бы более реальную под собою
почву, чем „утверждение современного немецкого палеонтолога-неоламаркиста, что скелеты ихтиозавров и плезиозавров образовались под влиянием волевых импульсов их обладателей. См. мой очерк: «Основные черты
истории раввития биологии в X I X столетии», Москва, 1908, стр. 79. (В настоящем издании см. том V I I I . Ред.). И не сокращению ли этих желез
можно было бы приписать обратное превращение безобразных конечностей и личных костей предка какой-нибудь гориллы в стройный скелет
человека?
время стала известна зависимость их от гормонов, поступающих в кровь. Удалось выяснить и химический состав некоторых
гормонов; они оказались гораздо проще белков и даже энзимов.
Один из них удалось даже получить синтетически.
Из сказанного вытекает, что координация, необходимая
для поддержания жизни, определяется не одной нервной системой, но что рядом с нею существует другая, не менее важная,
чисто химического характера А Оба эти механизма могут
действовать или независимо, или во взаимной связи.
Далее Шеффер, замечая, что только недостаток времени
заставляет его лишь вкратце упомянуть о них, указывает на
защитные механизмы, которыми высший организм защищается
от самых страшных своих врагов — организмов одноклеточных.
На них основаны те изумительные успехи, которые сделала
современная медицина в борьбе с самыми ужасными бичами
человечества, благодаря ГІастеру, превратившему ее из эмпирического искусства в основанную на эксперименте науку.
Все эти изумительные завоевания в области излечения, а
может быть еще более в области предупреждения болезней,
совершились на наших глазах. Вспомним хотя бы одного Листера, кончину которого мы так недавно оплакивали, спасшего
более человеческих жизней, чем удалось их истребить всеми
кровавыми войнами девятнадцатого столетия.
Остается коснуться вопроса: если бы были устранены все
внешние причины, грозящие жизни, могла ли бы она быть про1 А между тем для объяснения этой таинственной координации виталисты и придумали свои фантастические существа, от spiritus rector'a
старых виталистов и до энтелехии, которую один из современных виталистов, Дриш, взял напрокат у Аристотеля. См. слово «Витализм» в энциклопедии «Гранат», т. 10, изд. 7, 1911 г. (В настоящем издании см. том
V, стр. 170. Ред.).
Странно, что Шеффер не приводит еще одного замечательного примера из деятельности Старлинга. Едва ли не самой поразительной органической целесообразностью представляется появление молока у матери
как раз к тому времени, когда в нем нуждается новорожденный. Оказывается, что и это координация химическая, регулируемая гормоном, поступающим из организма ребенка в организм матери. Впрыскивая такой
гормон в организм самки кролика, даже не беременной, можно вызвать
развитие молочных желез.
30
К. А.
Тимирязев,
т.
VII
465
должена на неопределенное время? Другими словами, являются ли старость и смерть необходимыми последствиями жизни?
Многим это представляется лежащим вне сомнения. Но некоторые физиологи, как Мечников, думают, что сама старость —
только форма и результат болезни. Жизнь одноклеточных существ может действительно быть продолжена надолго, без
видимых указаний на начинающееся разрушение; но это еще
не доказывает возможности беспредельной жизни. Большая
часть клеточек сложных организмов представляет, как и весь
он в совокупности, как бы цикл развития; исключение представляют клеточки воспроизводительной системы: оплодотворенное яичко, с его явлением обновления (rejuvenescence),
вносит как будто новый запас жизни для будущего поколения.
Только в смене поколений можем мы видеть непрерывность
жизни. Наше бессмертие — в нашем потомстве.
Другой вопрос — средний предел продолжительности жизни.
Мы знаем, что различные виды животных имеют различную
продолжительность жизни — от нескольких часов до сотен
лет. Мафусаилов век, вероятно, должен занять свое место
в ряду сказаний о всемирном потопе и семи днях творения. Уже
во времена патриархов можно было рассчитывать на значительно менее продолжительный век. Царь Давид упоминает о семидесяти годах. Во времена царей жизнь была очень непродолжительна; правда, она не была и примерной. У греков и римлян, а также и в средней и новой истории, мы встречаем вообще
мало примеров значительного долголетия. Но во всяком случае
человек обладает в этом смысле несомненным преимуществом
перед большинством млекопитающих, и достойно удивления,
почему краткость его «земного странствия» является такой
излюбленной темой у наших проповедников и поэтов.
Не подлежит сомнению, что с успехами предупредительной
медицины и гигиены явится возможность значительно увеличить среднюю продолжительность жизни; все же, однако,
смерть остается законом. Но смерть естественная, не ускоренная, не отягченная болезнями, может быть, превратится в
спокойное, безболезненное явление. Дастр говорит: «Потребность смерти на пределе жизни может стать такою же естественною, как сон в конце долгого дня». Она будет последней,
естественной фазой жизни. Тогда и приближение роковых
ножниц, перерезающих ее нить, перестанет вызывать тот
у ж а с , который они вселяют ныне. «Будем же надеяться, что
меланхолические мысли, которые теперь, несмотря даже на
предвкушение будущего блаженного состояния,
омрачают
конец нашего существования, рассеются перед светом науки,
подобно тому, как на известной гравюре Дюрера лучи восходящего солнца разгоняют сов и нетопырей, ютящихся во
мраке ночи».
2
ОТБОЙ М Е Н Д Е Л Ь Я Н Ц Е В
Мне уже не раз приходилось говорить о менделизме и особенно об увлечениях мендельянцев, пытающихся придать
этому учению, имеющему очень ограниченную область применения, какое-то
чуть не универсальное значение. Особенно
этим увлечением заражена небольшая кучка английских зоологов и ботаников — Бэтсон и его подголоски, разные Пунеты
и Донкастеры, Локки и Кибли х . Они, не стесняясь, величают
1 Им в последнее время особенно повезло у нас. Московские зоологи
стали их переводить и притом не самого г л а в у — Бэтсона, а его сподручных. А между тем на русском языке уже десять лет тому назад появилось
превосходное изложение исследований Менделя («Очерки по вопросам
оплодотворения в растительном царстве» — академика И. П. Бородина.
Спб., 1903 г.), когда они еще были новинкой. Новое издание этой небольшой книжечки было бы несравненно полезнее переводов произведений
бэтсониянцев, только знающих «jurare in verba magistri» («клясться
словами учителя». Ред.). Критическое научное отношение нашего ботаника производит освежающее впечатление в сравнении с сектантством современных авторов не только английских, но и немецких. Стоит указать
х о т я бы на следующий факт. Один из наиболее модных писателей в этой
области, проф. Бауэр, взял эпиграфом своей книги глупо-самонадеянные слова, которыми когда-то обмолвился Сакс: «Слушатели (а, значит,
и читатели книги) хотят и должны только знать, как слагается
наука
в голове лектора; совершенно несущественно,
так или иначе думают другие». Наука, как дело личного усмотрения, наука, не считающаяся с критикой,— куда может довести такое самодовольное одичание, а между тем
нашелся критик, который усматривает в таком отношении автора к своей
задаче какую-то «angenehme Subjecti vität» («приятную субъективность»).
сделавшего за всю жизнь небольшое, но хорошее исследование,
скромного брюннского монаха — вторым Пастером, вторым
Ньютоном, затмившим и заслонившим собою значение Дарвина. Каждый раз, когда мне приходилось касаться этого
вопроса, я указывал на то, что учение Менделя не только
смешно даже и сравнивать с таким действительно универсальным учением, как дарвинизм, но что оно даже не играет той
роли, которую ему приписывают в более ограниченной
области учения о наследственности. А главное, я каждый раз
указывал, что менделизм сам по себе не в состоящий разрешать
тех задач, за которые берется, и в конце концов будет вынужден
обратиться за помощью к физиологии и химии Г Так и случилось. Речь, произнесенная на последнем собрании британской ассоциации (в Донди), является ярким тому доказательством.
Эта речь представляет две очень неравномерные части:
первую, занимающую, примерно, три четверти, посвященную
похвальбе этой фанатической кучке ученых, считающей себя
самым выдающимся явлением во всей области современной
биологии, и вторую, часть, посвященную интересному фактическому рассказу о том, как мендельянцы попали в тупик и
как химики их из него выручили.
Кибль начинает свою речь с облюбленной его учителем
Бэтсоном темы о делении английских ученых на викторианцев
и новых (должно быть, георгианцев, если выдерживать ту же
номенклатуру) и доводит мысль учителя до конца, ставя точки
на все і. Викторианцы — это, видите ли, Лайель, Дарвин,
Уоллес, Гукер, Гёксли, Гальтон. Георгианцы это — но Кибль
благоразумно воздерживается от перечисления ничего ни в отдельности, ни в совокупности не говорящих имен.
Все эти Пунеты, Донкастеры, Локки е tutti quanti* предпочитают разуметь себя под собирательным именем мендельянцев. Главная особенность старого поколения, по мнению
Кибля, заключалась в том, что оно бралось за широкие задачи
и выражало свои мысли литературным языком. «Наше время,
время специализации, во что бы то ни стало (à outrance) —
См. ниже.
* и иже с ними.
1
Ред.
время возделывания маленьких участочков науки (small
holdings, small allotments)». «Современное поколение приобрело искусство интенсивного добывания научных истин, но
разучилось придавать им рыночную ценность. В погоне за
специализацией мы забыли об искусстве выражать свои мысли.
Мы обмениваемся отдельными оттисками, — что за ненавистное слово, — и только очень немногие из нас умеют объясняться с обыкновенной культурной публикой. Наши мысли,
к а к и мысли иностранных классиков, переводятся на обыкновенный английский' язык наемными аматерами. Скромность
современного поколения только вредит ему, потому что сегодняшняя наука заключает не менее, а гораздо более интересного и удивительного, чем полвека тому назад А Пренебрегая
искусством выражаться, мы забываем, что поговорка „кто
ясно думает, тот ясно пишет" — верна и в обратном смысле».
Но не будем, читатель, ломать себе голову над этой пестрой
смесью самоунижения и самохвальства, этим «унижением паче
гордости, и перейдем прямо к заключению самого Кибля,
благо он его сводит к нескольким словам. «При всех своих изящных дарованиях, викторианцы, справедливую хвалу которым
я воспел, проглядели, что между ними жил Мендель, указавший на способ разрешения задач, над которыми они ломали
себе голову 2 . Заслуга открытия всего величия дела Менделя
принадлежит нашему поколению, и те из нас, которые не участвовали сами в этом открытии 3 , имеют во всяком случае
1 Оратор при этом забывает, что мендельянцы ведут свое летоисчисление с 1900 г., следовательно, 40 лет он прикидывает им в придачу.
2 Мы далее увидим, насколько это верно.
3 Под открытием следует разуметь библиографическую находку забытого или, вернее, вовсе незамеченного при его появлении произведения
Менделя. Причиной незаслуженного забвения было появление этого исследования в почти никому неизвестном журнальчике неизвестного общества в городке Брюнне, в Моравии. Незнакомство с этим произведением неизвестного автора, помещенным в неизвестном журнале, ставят
в вину Дарвину и дарвинистам. Ню справедливее было бы приписать ее
известному немецкому ученому Негели (в то время уже антидарвинисту),
с которым Мендель был в переписке. Обратись он к Дарвину, тот, конечно,
позаботился бы, чтобы отметить в своих трудах его заслуги, как он это
делал в сотнях других случаев, и Мендель при жизни был бы признан
остроумным, точным наблюдателем, превосходно изучившим один специаль-
право приветствовать тех, кто его сделал, и зачесть это открытие себе в приход. Я могу подвести итог своему сравнению
между викторианцами и современными натуралистами в следующих словах: на их стороне заслуга более высокой культуры,
на нашей — более глубокой проницательности» А
Здесь приходится сделать значительное отступление от
речи Кибля и задаться вопросом: что же это, наконец, за произведение, одно открытие которого должно быть вменено новому
поколению в заслугу, превышающую, как говорит Кибль,
все заслуги великих биологов X I X века,'творцов современного
эволюционного учения. Это сорок шесть страниц малого формата
первого произведения Менделя 2 . В нем Мендель исследовал
помеси, получаемые между двумя сортами гороха (желтого
и зеленого), и вывел из своих опытов любопытное правило,
которое фанатические мендельянцы желали бы обратить в
универсальный закон наследственности для всех живых существ. Должно заметить, что основной факт, от которого отправлялся Мендель, был известен еще в 1720 г. и упоминался у Гертнера, у которого
Мендель, вероятно, и почерпнул
его.
Скрещивание этих двух сортов гороха замечательно в том отношении, что продукт скрещивания не представляет средней
желтовато-зеленой или пятнистой (желтой и зеленой) окраски,
• а в первом поколении — исключительно желтой, а в последующих или желтой, или зеленой и притом в известных постоянных
численных отношениях. Установление этого численного отношения, а равно и его объяснение и составляет заслугу Менделя,—
то, что по праву можно назвать менделизмом. Это не мешает
подчеркнуть, так как мендельянцы, как увидим, готовы ска-
'
ный случай гибридизации, вместо того, чтобы уже после смерти быть канонизированным в гении кучкой фанатиков-поклонников. Заслугу этого
библиографического открытия, приурочиваемого к 1900 году, принято
приписывать трем ученым — Корренсу, Чермаку и Де-Фризу, причем
обыкновенно упускается из виду, что исследование Менделя еще за двадцать лет ранее упоминалось в очень хорошо известной ботаникам книге
Фокке «Die Pflanzen-Mischlinge» («Растения-гибриды». Ред.), 1881. Факт,
который, как мы увидим далее, многое объясняет в истории возникновения мендельянства.
1 Курсив мой.
2 Значение второго, как увидим, мендельянцы отрицают.
зать: менделизм это то, чему учил Мендель, и еще многое другое — чуть не вся биология. Ознакомимся с этим опытом над
горохом, как наиболее обстоятельно изложенным самим Менделем 1 . На страницах этого журнала* мы, конечно, можем
это сделать в самой сжато-элементарной форме. Выразим символически результаты опытов скрещивания между желтым,
и зеленым горохом следующим образом. Обозначим желтую
породу буквой Ж , а зеленую буквой 3 и станем опылять цветок породы Ж пыльцой породы З 2 . Так как дознано, что цветы
гороха не способны к самоопылению, а тщательный наблюдатель принимал меры, чтобы он не опылялся извне (ветром или
насекомыми), то ясно, что во всех процессах оплодотворения
произойдет соединение различных организаций отца и матери.
Все продукты будут одинаковыми помесями, что мы обозначаем
так: Ж + З .
Но, как уже сказано, эти два цвета не совмещаются —
желтый всегда господствует. Мендель назвал такие побеждающие признаки доминантными, а побеждаемые, подчиненные,
как зеленые, он назвал рецессивными. На основании этого,
сложный характер помеси Ж + 3 не обнаруживается извне.
Все будут одинако желтыми. Но эта однородность только внешняя, кажущаяся; по существу они во всей организации двойственны, а следовательно двойственны и их половые продукты:
яичко и пыльца. Эта двойственность и обнаруживается при их
опылении (все равно самоопылении или между различными
экземплярами той же помеси Ж-фЗ). Результат этого вторичного опыления выразится формулой, имеющей внешнее сходство
1 Бэтсон, а с его голоса Пунет почему-то отправляются не от этого
примера, а от Горохов разного роста — примера, как это заметил сам
Мендель и его издатель Чермак, гораздо менее удачного, так как в нем
правило Менделя может сталкиваться с более общим правилом, установленным Дарвином (см. на нашей таблице дарвинизм с малым д) на основании его более обширных опытов. (Таблицу см. ниже, стр. 476. Эта же
таблица приведена К. А. и в его статье «Мендель», которая помещена в томе
VI настоящего собрания сочинений — стр. 255 — и в-которой дана аналогичная характеристика работ Менделя. Ред.).
2 Или наоборот. В данном случае это безразлично, но в других случаях /КЗ и ЗЖ могут быть различны.
* «Вестник Европы»; см. примечание редакции на стр. 447, Ред.
со знакомой нам со школьной скамьи формулой квадрата двучлена (а-\-Ъ)2=а? -\-2ab-\-b2. Так и здесь получим: ( Ж + 3 ) 2 =
=Жг-\-2ЖЗ-\-Зі,
где Ж 2 будет чистокровная
желтая форма,
т. е. она произойдет через слияние обоих половых элементов,
имеющих характер только Ж; 2ЖЗ будут иметь смешанный
характер (будут представлять слияние обоих половых элементов Ж и 3), но с виду будут, как уже объяснено, желтого
цвета; и, наконец, З 2 будет чистокровная зеленая форма. А
в сумме окажется 1 зеленая и 3 желтые. Но эта зеленая будет
чистокровная; а из трех желтых только одна будет чистокровная, остальные же две желтые будут желтыми только с виду,
а в сущности — смешанными, желто-зелеными. Это правило,
что из четырех представителей второго поколения три будут
в одного родителя, именно в доминанта, а один в другого,
именно рецессива, и представляет то, что можно назвать законом
или, вернее, правилом Менделя. Он очень остроумно объяснил,
что эта закономерность только статистическая, зависящая от
того, что одинаково вероятна встреча одинаковых и различных
оплодотворяющих начал, почему и оправдывается его правило
только при большом числе наблюдений. При ограниченном
их числе может обнаружиться и отступление от этого отношения
1 : 3. В каждом последующем поколении с 2ЖЗ обнаруживается то же, что с Ж + 3 первого поколения, т. е. получатся
две чистые (одна желтая, одна зеленая) и две сметанные формы,
но желтого цвета, снова в отношении З Ж + 1 3 и так далее будет
повторяться. В результате первоначальное полное однообразие
приводит к явлению, давно замеченному садоводами и агрономами, — к вырождению, к возвращению (реверсии) к чистым
типам первой пары.
Это приводит нас к рассмотрению другого вопроса, также
вызванного результатом, давно установленным и наукой и практикой.
Возникает вопрос, имеют ли эти факты значение универсального закона наследственности, какое желают ему придать
мендельянцы, или рядом с тем случаем, который так тщательно
изучил Мендель над горохом, возможны еще другие. Оказывается, возможен и другой случай, при котором признаки а ш Ъ
дают среднюю ab, в которой признаки а ж b будут совмещаться,
смешиваясь и даже сливаясь, причем эта новая средняя форма
будет неизменно передаваться последующим
поколениям.
Основательно знакомый с литературой своего предмета, Мендель допускал и этот случай и во втором своем исследовании над ястребинкой (Hieracium) подтвердил его существование А
Этим он еще раз доказал, что не превратился бы из серьезного исследователя в фанатического мендельянца. Именно
этому второму типу образования помеси некоторые ботаники
(как, например, Кернер), не без основания придавали выдающееся значение. По этому же типу происходят и помеси между
расами человека. Всякий знает, что помеси между белой расой
и неграми, мулаты — представляют средние признаки и со
второго поколения не распадаются на белых и черных (как
у гороха). Таким образом, под менделизмом в смысле открытия
Менделя мы должны разуметь изучение давно известного случая
помеси двух разновидностей, признаки которых между собою
не совмещаются, и определение числовых отношений между
доминантными и рецессивными формами. Чермак так и определяет открытие Менделя: «Это учение
о неравнозначности
признаков по отношению их унаследования» 2 .
На основании сказанного мы можем определить положение
менделизма в общей схеме учения об органической эволюции
и одного из ее основных трех факторов — наследственности.
Мы это сделаем в форме прилагаемой таблицы. Она прежде
1 Исследование это стоило ему больших трудов (говорят даже, что
он на нем расстроил себе зрение). Мендельянцы всячески стараются подорвать значение этой работы, уверяя, что это был случай партеногенезиса.
Своеобразный партеногенезис, в котором обнаруживалось влияние.несуществующего отца, так как Мендель не раз повторяет, что помесь имела
общие признаки отца и матери.
2 Бэтсон, наоборот, старался доказать, что главное значение Менделя
не в том, что он изучал случай скрещивания признаков взаимно исключающихся, [а] в том, что он будто бы открыл явления расщепления признаков
(Segregation). Но это не верно уже из того, что Бэтсону не удалось вклеить
это слово в перевод Менделя; значит, в нем не нашлось соответственного
немецкого названия. Не только слово Segregation, но и основное понятие
и самые разительные примеры расщепления признаков помесей Бэтсон
мог найти у Дарвина.
всего показывает, может ли быть речь о сравнении таких двух
величин совершенно различного порядка, как дарвинизм и менделизм: одного, охватывающего почти все поле биологии, и
другого, касающегося только специального случая наследственности. Мы видим, что дарвинизм опирается на три фактора.
Один из трех — наследственность — представляет две основные
категории явления и так далее. Перемножая последовательно
эти подчиненные категории фактов, как мы перемножили бы
число томов на число глав в одном томе, на число параграфов
в одной главе, мы получим среднее значение одного параграфа
по отношению к целому труду. Перемножив все эти подразделения, мы приходим к заключению, что менделизм по
своему значению покрывает какую-нибудь тысячную долю 1 того обширного поля фактов, которое охватывает дарвинизм 2 .
Далее, если мы сравним значение двух типов образования
помесей, того, который принято называть менделевским (тип
гороха), и другого (также изученного им у ястребинки и характеризующегося образованием наследственной средней формы),
то убедимся, что этот второй тип и с научной (эволюционной)
и с практической (селекционной) точки зрения представляется
более важным. Менделевский процесс, в конце концов, приводит
к возврату, к расщеплению на типы первоначальных производителей и, следовательно, никакого интереса с точки зрения
эволюции, т. е. образования новых форм, не представляет.
Напротив того, наследственные средние типы дают начало
новым формам, почему, как мы сказали, многие ученые видят
в них источник образования новых видов (Кернер). К такому
же выводу приходят и самые выдающиеся практики-селекцио4 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 2 = 1152.
2 Ставить ему в укор, что он не сосредоточился именно на этой 1/1000
своей необъятной задачи, нет никакого основания. А что он не упустил
из внимания и этого явления, доказал Уоллес. См. мой перевод его статьи
«Современное положение дарвинизма» в приложении к последнему тому
собрания сочинений Дарвина, изд. Лепковского. Москва, 1909 г. (В этом
томе см. стр. 521. Ред.) Мендельянцы, ставящие в укор дарвинистам их
позднее знакомство с попавшей в захолустное издание статьей Менделя,
сами как будто и не слыхали об этой блестящей критике Уоллеса.
нисты, к а к Анри Вильморен
женной славой
Бербанк
2
1
и пользующийся
такой
заслу-
.
Н а к о н е ц , последнее и самое важное соображение: в состоянии л и сам менделизм д а т ь какое-нибудь о б ъ я с н е н и е для своего
основного
факта — господства
и
подчиненности
признаков?
К а ж д ы й р а з , к о г д а н а э т и х с т р а н и ц а х мне п р и х о д и л о с ь г о в о р и т ь
о м е н д е л и з м е , я у к а з ы в а л , что с а м по себе о н н е в
этого
сделать,
физиологии
3
и будет
вынужден
обратиться
за
состоянии
помощью
к
.
Остановимся с н о в а на самом удачном
Менделем, — на горохе. Почему
примере,
изученном
желтый цвет подавляет
зеле-
н ы й ? Х о т я до с и х пор н е т п р я м о г о и с с л е д о в а н и я , но н е п о д л е ж и т
1 Его лекция была в свое
время переведена под моей редакцией:
«Наследственность у растений». Лекция А. Вильморена, с предисловием
К. Тимирязева. Москва, 1894 г. (Предисловие К. .А. к названной книге
А. Вильморена см. в томе V I настоящего собрания сочинений, стр. 281.
Ред.).
2 ' См. Гарвуд. — Обновленная земля. Перевод Тимирязева. Москва^
1909; второе издание Государственного Издательства, 1919. (В настоящем
издании см. том X .
Ред.).
3 Вот что я говорил еще в 1909 г . : «В приведенных скрещиваниях гороха не получается средней окраски, но есть случаи, когда скрещивание
желтых и синих цветов дает зеленую окраску. Конечно, все дело
в том, чтобы объяснить в частности все эти случаи, и в последнем
случае объяснение не представит даже затруднения. Мендельянцы гордятся тем, что они углубились в факты наследственности, найдя крайне
любопытные числовые законы, но, конечно, будущему предстоит проникнуть еще глубже в этом анализе и показать, когда возможны слияния признаков, когда это невозможно и, наконец, когда в результате скрещивания
появляются даже новые признаки» («В. Е.», 1909, февраль — «Чарлз
Дарвин»). Позднее, в 1911 («В. Е.», «Сезон научных съездов»): «Вообще
мендельянцы, как не физиологи, не углубляются в анализ явления, не
ищут объяснения, почему в одних случаях признаки не смешиваются,
в других смешиваются, в третьих оказывают взаимное действие, — а пока
это не разъяснено, ни о каких общих законах наследственности не может
быть и речи»; далее: «они-то именно не ставят вопроса, почему зеленый и
желтый горохи не дают желто-зеленого, а синие и желтые цветы дают зеленые — вопрос, ответ на который физиология, вероятно, не затруднилась
бы дать». (Статья К. А. «Чарлз Дарвин» перепечатана в этом томе под измененным самим автором названием «Чарлз Дарвин и полувековые итоги
дарвинизма» — см. стр. 213. Статью «Сезон научных съездов» см. в томе
V I I I настоящего собрания сочинений. Ред.).
—
я
о
X
я
аs
с.
as
er
S
ч
о
УО
оЧ
-Л"
о
! к
s
s
CS
s
о
s
s
со
as
a.
.s
a.
аз
X
öSu
O
О
ьк .
as
I
Я"
О •о
яС
ЯО
яч
' sф ф
«
ф вФ
О.
ms
д
—'
о
Ф
M
а
оз
S3
X
3 s
я
я сяо
я
ф
Е- о.
се
о.
оф as
о S
я
о. Ч
С
со
Д
s
о a>
9?
§
S
S
s —• «
Я
о. жл
« к
Ч о
4
ю
ai
Ä
SЯ
a. р
as
с ч
X
и
аз
о
я
ЕО
О
as
В"
я
Я
в
©
£
о.
X
о
о
§
° S
X
m Й
о ©
О»
S
д
• о _ 8а
о к
a ч03
вз
о
a.
С я
я
я
ai
В
ЯО»
' as
Я
о
я
о.
С
о
S
о
s
©
as
H
О
В
о
X
s
о
о,
я
о.
аS
с
as
В
S
ч
и
о
CU
я яг -о
ст> н и
CJ
я S
Sm C
1Ö§£
s ® -—- — аг
g.
§ 5 А• осо
Us ГОс и З
1 я ©
О
в
® яя
ш£
•г*
о
ч
К
в
<N
oû"
я
га
в ©.
я
ч
©
ccf
Е- О ,
as
X зсо
£ 5
аз S
О—
сомнению, что не желтая окраска уничтожает зеленую, а желтая
сама происходит из первоначальной зеленой,
вследствие
присутствия третьего тела (вероятно, кислоты). Вот это-то
третье тело, не предусмотренное теорией аллеломорфных
пар,
унаследованное при скрещивании, и не допускает сохранения
зеленой окраски у помеси. Но, как я указывал, существует
и обратный случай, — когда две краски дают третью среднюю:
желтая и синяя дают зеленую. Я имею в виду интересную среднюю помесь двух люцерн: посевной и серповидной (Medicago
sativa-|-Medicago falcata=Medicago media) А У первой цветы
синие, а у второй — желтые. У средней формы совершенно
не обычная для цветов зеленая окраска. Почему здесь это
оказывается возможным? Потому что пигменты не оказывают
здесь взаимного действия — они смешаны, как краски на
палитре художника. Нет здесь и третьего тела, которое вызывает
желтую окраску гороха и с присутствием которой несовместима
зеленая окраска помеси. Эти два примера показывают, что
вопрос о причине совместимости и несовместимости признаков
может быть разрешен не мендельянцами с их хитросплетенными
словами вроде аллеломорфа 2 или бумажными теориями (вроде
теории присутствия — отсутствия), а тщательными в каждом
отдельном случае физиологическими исследованиями.
»
После этого необходимого отступления о менделизме Менделя и мендельянцев, возвратимся к речи Кибля, в которой
1 Эту интересную среднюю форму, принимаемую ботаниками даже
за особый вид, я имел случай наблюдать еще в 1867 г. в Симбирском уезде
и с 1 870 г. постоянно упоминал о ней на лекциях. Кроме окраски, она представляет и среднюю форму плода: у посевной он имеет форму пробочника
с плотно сжатыми оборотами, у серповидной он имеет форму серпа; а у
средней формы — несколько (2—3) развернувшихся оборотов спирали.
В ней обнаруживаются и ценные для практиков средние свойства — сочетание урожайности первой с климатической и почвенной нетребовательностью второй.
2 Эта особенность мендельянцев еще десять лет тому назад была подмечена И. П. Бородиным. Он говорил: «я нарочно употребляю русские
и притом сами собой понятные термины. В последние годы научная литература, особенно благодаря немцам, наводнена в учении о помесях вере-
(согласно излюбленной формуле 3 : 1) три четверти посвящено
самохвальству и только последняя четверть делу, т. е. изложению новых и действительно интересных фактов.
То, выходящее за границы приличия, самохвальство, которое проявляет Кибль в своем вступлении, представляется еще
более поразительным (хотя с известной точки зрения, может
быть, и более понятным), когда узнаем его истинный повод. Повод
этот заключается втом, что мендельянцы зашли в тупик, должны
были признаться, что столкнулись с фактом, их теориями необъяснимым, и за действительными, фактическими объяснениями
должны были обратиться к тем самым физиологам и химикам,
к которым их глава, Бэтсон, в своей прошлогодней речиманифесте отнесся с таким пренебрежением А
В этом и заключается весь интерес речи Кибля.
При изучении одной садовой примулы (Primula sinensis)
представился такой неожиданный случай. Растение это известно садоводам в двух совершенно постоянных разновидностях—
цветной и белой. Казалось бы, это типический случай пары
взаимноисключающихся признаков, бэтсоновских
аллеломорф,
и притом подходящий под его излюбленную теорию отсутствия — присутствия
(absence — presence), т. е. наличности
одного положительного признака — окраски и его отрицания—
белизны. При этом цветная оказывается господствующей
(доминантной), а белая подчиненной (рецессивной) формой.
Но вдруг оказалось, что этот случай не укладывается в рамки
мендельянской схемы. Оказалось, что рецессивная белая может
превращаться в доминантную, отсутствие может быть в то же
время присутствием. Рухнули разом и аллеломорфная
пара
ницею новых, неудобоваримых терминов, из которых можно уже составить порядочный лексикон: гетеродинамные, гомодинамные, анизогонные, аллеломорфные, гомеогонные, генеоклинные и т. п. прелести сыпятся как из рога изобилия». Придуман даже особый глагол — mendeln,
который успешно рифмуют с pendeln. (Pendeln — качаться, как маятник. Ред.). Но англичане еще превзошли немцев. Дело дошло до того,
что редакция лучшего английского словаря (Webster's New International)
была вынуждена пригласить в сотрудники Бэтсона для разъяснения пущенных им в оборот новых слов.
1 См. мою статью «Сезон научных съездов». «В. Е.», 1911. (В настоящем издании см. том V I I I .
Ред.).
и теория отсутствия — присутствия. Правда, наши мендельянцы не смущаясь придумывают ad hoc* новую бумажную гипотезу.
«Мендельянцы объясняют себе такое поведение доминантных белых тем, что они одновременно обладают и признаком
цветности и признаком, подавляющим цветность — гипотезой
совершенно новой для биологии». Но оставим в покое биологию,
скажем только, что гипотеза эта равносильна отречению от
менделизма, потому что куда же денутся аллеломорфные
пары,
когда один из членов пары снова парный, совмещающий и свои
свойства и свойства своего партнера, когда отсутствие, в свою
очередь, заключает второе присутствие?
Факты ясно доказывают, что мендельянцы бессильны
объяснить их, отправляясь от своих собственных посылок, и должны обратиться за объяснением к физиологии и
химии 1 .
Переходим, наконец, к тем интересным фактам, которые
получились благодаря своевременной помощи химии. Вопрос
о происхождении и судьбе пигментов в растении связан с более
общим вопросом об окислительных пигментах, вопросом,
берущим начало не от мендельянцев, а, как вынужден сознаться
и сам Кибль, от ботаников — физиологов и химиков, — Шода,
Баха и нашего петербургского ботаника, профессора Палла1 Дело еще усложнилось одним обстоятельством, уже окончательно
переводящим его из ведения мендельянцев в область экспериментальной
физиологии. Оказалось, что белые цветы могут превращаться в цветные—под влиянием высокой температуры. Но и это подало Киблю повод только
к выходящей за все пределы приличия выходке против целой области биологии, во всяком случае не менее обширной, чем все учение о наследственности, и более богатой опытными данными, к области, изучающей явления изменчивости. Вот его слова, по своему неприличию не имеющие себе
подобного в научной литетатуре:
« В домендельянские времена это влияние температуры послужило
бы только новым украшением на окне той лавки старьевщика, на котором
нагромождена масса беспорядочных и бессвязных предметов, украшенных
общим ярлыком „явления изменчивости"».
Эта фраза только доказывает, до какого состояния невменяемости доведены мендельянцы тем положением, в котором они очутились.
* для данного случая. Ред.
дина А Профессор Палладии выработал теорию, по которой
окислительные ферменты действуют на бесцветное начало пигментов (хромоген), которое или, попеременно окисляясь и раскисляясь при содействии фермента; участвует в процессах
дыхания, или же при окончательном окислении может давать
начало постоянным цветным телам — пигментам. Мисс Уелдэль
первая пыталась применить идеи Палладина к вопросу о происхождении цветочных пигментов. Шода и Бах установили
такое представление о действии окислительных ферментов,
получивших общее название оксидаз. Оксидаза не однородна,
а состоит из пары тел — пероксидазы и оксигеназы, имеющей
характер химических тел, называемых перекисями, почему,
при ее отсутствии, она может быть заменена перекисью водорода для получения реакции, свойственной оксидазе. Если
в организме находится только пероксидаза, а оксигеназа отсутствует, то прямо не получится характеристической реакции
оксидазы, но она тотчас появляется, если прибавить к исследуемому телу перекиси водорода.
Благодаря содействию Эдуарда Армстронга 2 удалось выработать прием микроскопического исследования растительных
тканей для обнаружения присутствия и распределения в них,
главным образом, в лепестках, оксидаз и пероксидаз, вызывающих образование пигментов. Для этого употреблялись два
реактива А Спиртовой раствор первого сначала обесцвечивает
окрашенные лепестки этой Primula sinensis и, в случае, присут1 К которым он мог бы прибавить Бертрана и японского химика Иошиду. О наследственности же химических явлений, первый, в начале восьмидесятых годов, заговорил Арман Готье, и, помнится, Д. И. Менделеев,
реферируя его работу в Пет. хим. обществе, называл ее одной из интереснейших за рассматриваемый период.
2 Молодого английского химика, если не ошибаюсь, сына более известного химика Генри Армстронга. Оба известны своими исследованиями
над растительными ферментами и распределением синильной кислоты
в растениях (цианофорных растениях) — обстоятельство, как увидим,
существенное в настоящем вопросе.
3 Спиртовой
раствор а-нафтола и бензоидина. Первый дает с оксидазой или пероксидазой с перекисью водорода фиолетовую окраску,
второй — бурую. Первоначально пробуют реакцию на оксидазу, а, если
ее не оказывается, прибавляют перекиси водорода и пробуют реакцию
на пероксидазу.
ствия оксидазы, окрашивал бы их в фиолетовый цвет. В случае
присутствия одной пероксидазы то же фиолетовое окрашивание
получается лишь после обработки перекисью водорода. Так как
реакция обнаруживалась только после обработки перекисью,
то, значит, в цветных лепестках находится пероксидаза:
ей
обязаны они своей окраской.
Что же наблюдается в белых лепестках? Сначала были
исследованы белые цветы, у которых
белизна — признак
рецессивный, т. е. такие белые примулы, которые при скрещивании с цветными дают помесь цветную. Исследование этих
рецессивных белых, как и окрашенных, обнаружило присутствие пероксидазы. И однако цветы — белые; значит, отсутствие
окраски зависит от отсутствия другого фактора — бесцветного
хромогена, который в нормальных растениях при действии
пероксидазы превращается в красящее вещество.
Исследование белых цветов с доминирующим характером,
т. е. у тех растений, которые при скрещивании с окрашенными
дают белые цветы, обнаружило совершенно обратный результат.
Реакции на пероксидазу нельзя было обнаружить. Этот результат допускает два толкования: или пероксидазы нет вовсе,
или она есть, но рядом с нею есть тормозителъ (inhibitor),
который препятствует ей обнаружить свое действие.
Такие
факты известны; Армстронг и Кибль нашли, что синильная
кислота (слабый раствор в 0,4°/ 0 ) обладает способностью уничтожать задерживающее действие 1 тормозителя.
Это предположение было проверено и вполне подтвердилось.
Белые лепестки доминантных белых (как только что сказано,
не обнаруживающие реакции на пероксидазу) были вымочены
в течение суток в слабом растворе синильной кислоты, тщательно обмыты водой и тогда только исследованы реактивом на
пероксидазу. На этот раз результат получился положительный:
реакция, на пероксидазу ясно обнаружилась там, где ее р а н ь т е
не было. Синильная кислота растормозила тормозителя пероксидазы, и ее присутствие обнаружилось.
Самое изящное подтверждение верности этого толкования
получилось в следующем опыте. Взят был цветок примулы
1
31
К.
Сходное, но менее энергичное действие оказывает и углекислота.
А.
Тимирязев,
т.
VII
синего цвета с белыми пятнами на каждом лепестке. Когда над
таким цветком проделывали реакцию на пероксидазу, все
цветные части сначала обесцвечивались', а затем снова окрашивались в фиолетовый цвет (цвет реакции). Белые части оставались белыми. Тогда, исходя все из того же предположения,
что белизна пятен зависит не от отсутствия пероксидазы, а от
совместного с нею присутствия тормозителя, был сделан следующий опыт. Цветок был сначала обработан, как сказано,
синильной кислотой, а затем уже подвергнут действию реактива
на пероксидазу. На этот раз все сплошь — и синие места и
белые пятна — окрасились в фиолетовый цвет, цвет реакции.
Таким образом, физиология распутала сложную задачу,
перед которой мендельянцы стали в тупик. Не «мендельянский
анализ» 1 с его хитросплетенными словами и бумажными теориями, а анализ химика разрешил вопрос, подчинив явление
воле экспериментатора. Если в менделевском опыте с горохом
результат просто объясняется не борьбой между желтой и
зеленой аллеломорфной
парой, а присутствием третьего тела
(кислоты, с которой несовместима зеленая окраска), то здесь
дело опять идет ие о присутствии и отсутствии аллеломорфной
пары цветности и бесцветности, а о гораздо более сложном процессе, в котором участвуют по меньшей мере четыре тела: хромоген (может быть, еще со своим протохромогеном), пероксидаза,
оксигеназа
и тормозшпелъ,
определяющие
окраску
и два различных случая бесцветности цветка. К а к бы то ни
было, упрощая или усложняя задачу, разрешает ее физиология, а не мендельянство со своими словесными гипотезами.
Физиологическая химия, а не менделизм, раскрывает новую
1
Кибля и здесь не покидает его самохвальство; он уверяет, что исследование этого явления было возможно только благодаря тому, что породы были чистые, благодаря тому, что ему предшествовал «мендельянский анализ породы». Но это неверно. Как сам Мендель ставит первым условием своего опыта (с горохом), чтобы взятые для опыта растения «обладали постоянно отличающимися признаками», так и Кибль взялся за
опыт над примулами только потому, что их можно получить от садоводов,
«в чистых породах (in a pure strain), постоянных в своих цветочных признаках». Мендельянцы не хуже поваров знают, что pour faire un civet de
lièvre i l faut prendre un lièvre (чтобы приготовить заячье рагу, надо
иметь зайца. Ред.\.
главу, обещающую много интересного 1 . И, тем не менее, Кибль
счел возможным закончить высокомерной фразой: «смею думать,
мне удалось доказать, как своевременно было бы entente
cordiale*
между физиологией и менделизмом». Точно действительно разговор идет de puissance à puissance**, a не между
фанатической кучкой, топчущейся на протяжении одного
небольшого параграфа обширной главы о наследственности,
которую физиология только начинает включать во всеобъемлющую область своих исследований. А мысль о том, что мендельянцам нужно искать объяснений у физиологов, еще до
Кибля (в 1910 г.) высказала мисс Уельдэль.
Во всяком случае менделизм, не Менделя, а мендельянцев;
потерпел очевидное поражение. Никакое высокомерие формы
не уменьшит внутреннего значения этого воззвания к помощи
физиологов и химиков через год после прошлогодней речиманифеста их главы Бэтсона 2 , в которой он советовал всего
ждать от «мендельянского анализа» и даже не упоминал о химиках и физиологах и их «пар аферналиях»,
как он некогда
пренебрежительно называл экспериментальную обстановку
лабораторных исследований.
Еще последний вопрос: откуда могло возникнуть это преувеличенное восхваление научной теории, к которой сам ее
автор относился с уравновешенной, строго научной критикой,
не помышляя придавать ей не соответствовавшего ей значения.
Оно объясняется целой совокупностью общих условий, совершенно чуждых самой науке и, главным образом, тем пробуждением национализма и клерикализма, которыми отмечено последнее десятилетие истекшего столетия. Спрашивается, почему
рядом с менделизмом не возникло милъярдеизма (20 на таблице),
1 Уже обещана в Лондоне интересная лекция Э. Армстронга «Об окраске цветов», в которой факты будут, вероятно, изложены более обстоятельно, чем в речи его мендельянского партнера. В ожидании ее выхода
я было даже отложил печатание этой статьи на месяц, но далее откладывать уже неудобно.
2 «В. Е.», 1911. «Сезон научных съездов». (В настоящем издании смтом V I I I .
Ред.).
* дружественное согласие. Ред.
* * между двумя державами. Ред.
этого любопытного учения о гибридизации
без скрещивания?
Почему прошел почти незамеченным дарвинизм (с маленьким д,
11 на нашей таблице для отличия от Дарвинизма) — это
играющее такую громадную роль в природе (и даже, как мы
видели, в менделизме) явление благотворного действия скрещивания, подтверждаемого целым томом специальных исследований Дарвина; почему, наконец, в восьмидесятых годах
указание на деятельность Менделя (в книге Фока) не произвело никакого впечатления?
Ответ может быть один: для этого искусственно раздутого,
почти фанатического превознесения труда Менделя не было
подходящей почвы. Эту почву создал расцвет в последние
годы истекшего столетия немецкого шовинизма и общеевропейского клерикализма. В Германии всеми средствами раздувалась вражда к Англии, ко всему английскому, превознесение всего немецкого, а клерикалы всех стран и оттенков
подняли свой клич о «банкротстве науки», о «смертном одре
дарвинизма» А
Для немцев с этим двойным настроением Мендель был
сущей находкой. «Em Deutscher von echtem Schrotj und
Korn»*,—
так рекомендует его своим читателям его первый немецкий
издатель. «М всему этому положил основание монах — Грегор
Мендель», — так заключает свою книгу о наследственности
Корренс. В Англии, конечно, не шовинизм, а клерикальная
реакция против дарвинизма, после долгого молчания вновь
поднявшая голову, нашла в Бэтсоые одного из своих верных
слуг.
Мендельянство (еще раз повторяю, не Мендель) только
небольшой эпизод на фоне той новой борьбы, которую так
верно предсказал историк, а ранее физик-физиолог Дрэпер—
борьбы между почуявшим вновь свою силу клерикальным
обскурантизмом и наукой.
1 «Vom Sterbelager des Darwinismus» («Дарвинизм на смертном одре».
Ред.). Заглавие памфлета Денерта, одного из глав известного клерикально-реакционного Keplerkund'a.
* «Настоящий, подлинный немец». Ред.
ИЗ ЛЕТОПИСИ НАУКИ ЗА УЖАСНЫЙ Г О Д *
t
f адвее t e r r i b l e » * * — т а к прозвал Гюго злосчастный для
j его родины 1870 год, но и у великого поэта, конечно,
не нашлось бы слов, чтобы выразить тот безысходный
ужас, который держит в своих когтях несчастные народы
Европы вот уже второй год!.. И однако, как в 1870 г. французские ученые гордились тем, что не покидали своего поста
даже в дни осады Парижа, так и теперь во Франции
и в Англии (о Германии по нашим цензурным условиям не
имеем сведений г ) все научные факторы продолжают функцио1 Замечу, что в Англии, по заявлению научных журналов, особым
распоряжением правительства разрешен свободный пропуск из Германии
всех произведений печати, касающихся науки.
* Объединенные этим заголовком статьи К. А. «Наука у антиподов
и антиподы науки» и «Ответ из третьей части света» первоначально были
напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1916 г., кн. 4. Ред.
** «Страшный год». Ред.
нировать — даже Британская ассоциация после продолжительного обсуждения вопроса решила не отменять своей обычной
годичной сессии.
1
НАУКА У АНТИПОДОВ И АНТИПОДЫ НАУКИ
Несомненно, что высшего своего развития современная
наука достигла у народов англо-германской расы и что одной
из причин этого было отсутствие ее централизации. Ни в Англии, ни в Германии не сосредоточивалась она в каком-нибудь
одном центре, но равномерно распределялась во всей стране,
а в Англии, сверх того, была делом частного общественного
почина, а не одной только из функций правительственной опеки
над народом.
Это отсутствие централизации наук особенно наглядно
обнаруживалось в деятельности того учреждения, о котором
мне приходилось из года в год давать отчет на этих страницах.
Это странствующий «парламент науки» — Британская ассоциация, ежегодно меняющая место своих заседаний. Собираясь
более чем полвека в различных городах Соединенного королевства, она за последние десятилетия включила в сферу своей
деятельности и заокеанские колонии — Канаду, и новые
южно-африканские штаты, и наконец, в 1914 г. — свою Австралийскую республику 1 .
И на этот раз, несмотря на дальность расстояния, съезд
был многочислен и оживлен, но ввиду именно этой дальности
заехавшие так далеко пожелали побывать в различных местах
этой далекой части света, и заседания были распределены
между несколькими городами; даже президентская речь была
великодушно распределена между двумя аудиториями, в двух
городах. К сожалению, эта необычная внешняя обстановка
речи не соответствовала ее внутреннему содержанию. Президентом этот раз был профессор Бэтсон, о котором мне не раз
1 Думаю, что эти слова и филологически, и исторически, и но существу передают выражение Australian Commonwealth или Commonweal.
уже приходилось говорить. Общие выводы, к которым пришел
в них этот более эксцентричный и упрямый в своей тенденциозности, чем основательный ученый, конечно, озадачили его
слушателей, но едва ли ученые молодой страны вынесли лестное
представление об ученых старой метрополии, если судили о них
по такому образцу. Парадоксы й явные несообразности этой
речи остались без возражения. Ответ, тем не менее, пришел,
но уже из третьей части света — с ним выступил председатель
подобной же ассоциации — Американской, собиравшейся по
своему обыкновению в последних числах, декабря того же
1914 г.
Познакомимся в кратком пересказе с этим любопытным
международным научным диспутом.
Содержание речи Бэтсона на заезженную общую тему
о наследственности отличалось характеристическою для автора
бессистемностью, отсутствием руководящей идеи. Связующим
цементом служило только не покидающее его желание доказать несостоятельность на этот раз не только дарвинизма, но
и вообще эволюционного учения. Даже в приветственных словах, предпосланных самой речи, он постарался включить лейтмотив своей речи и заявил, что самый факт осуществления этого
съезда представляется не результатом, как можно было бы
подумать, общей эволюции, человечества в области высшего
продукта его творчества — в области науки, а, напротив,
является доказательством существования ненормальных (abnormal) умов в среде физиков, химиков, инженеров, сделавших
возможным этот съезд Британской ассоциации по сю сторону
земного шара. В этом заключался намек на то, что человечество,
как и весь органический мир, движется скачками, а не непрерывным процессом развития, как воображал Дарвин. Приступая к самому предмету своей речи (или речей), он заявил,
что общим содержанием ее будет наследственность,
что он
постарается объяснить сущность открытий Менделя и тех выводов, которые можно сделать из них по отношению к двум
вопросам, к эволюционному учению в самом широком смысле
и в частности к естественной истории человеческого
общества.
Первая тема составляет содержание лекции в Мельбурне, к ней
мы и переходим.
ОТПОВЕДЬ АНТИДАРВИНИСТАМ
МЕНДЕЛИЗМ И ЭВОЛЮЦИЯ
Начинает Бэтсон свою речь с категорического заявления,
что признание значения наследственности и ее изучение представляет совершенно новое явление. Как будто он никогда не
слыхал о том, что еще в половине X V I I I века существовал
такой точный исследователь, как Кёльрейтер (1761—1766 х ),
по следам которого пошел Гертнер (1859) с его 9000 опытов,
по стопам которого уже пошел (по его собственному заявлению)
Мендель. Если бы Бэтсон не только опровергал Дарвина, но
и читал бы его, то он научился бы у него уважать этих предшественников Менделя так же, как их уважал сам Мендель.
В основе современного эволюционного учения лежит представление об изменчивости, и должно признать, говорит Бэтсон,
заслугу Дарвина, который, особенно в последние годы, выдвигал значение этого фактора 2 .
Но говорит это Бэтсон только потому, что цель его речи,
как увидим, доказать, что никакой изменчивости на свете не
существует. Затем, почти мимоходом, он разделывается с эмбриологией и цитологией, признавая, что они ничего не дали
для основной задачи, представляемой эволюцией. Эти неудачные методы, продолжает он, мы заменим менее притязательными, менее понятными, но не менее прямыми: «Раз мы не
можем увидеть, каким образом курица из яйца и семени дает,
начало цыпленку, как душистый горошек из своего яичка
и крупинки цветня дает начало другому душистому горошку,
мы можем, по крайней мере, следить за тем, каким образом
различия между различными породами кур и душистых горошков распределяются у их потомства. Разбив задачу на ее
составные части, мы раскрываем для себя новые шансы успеха.
Это мы называем менделизмом, так как Мендель научил нас
этому. При помощи перекрестного оплодотворения он сочетал
признаки различных разновидностей у их помесей и наблюдал, как они будут распределяться у неделимых последующих
1 Сакс в своей истории ботаники говорит: «исследования Кёльрейтера производят впечатление, будто они были произведены в наше время».
2 Любопытно, что другой противник Дарвина, Ле-Дантек, с такою же
уверенностью утверждает, что Дарвин совершенно упустил изменчивость
из виду.
поколений». Как будто Кёльрейтер и Гертнер и десятки других
ученых не имели в виду той же задачи? С такою же самоуверенностью и вопреки истине, в другом месте, Бэтсон повторил
свое обычное неверное утверждение, будто прежние исследователи говорили огульно о наследовании целой организации
отца и матери, и только Мендель заговорил о передаче отдельных признаков, между тем как Дарвин во всей своей книге
о наследственности говорил именно о передаче признаков
(characters), подчеркивая тот факт, как ничтожны бывают
иногда эти отдельные передающиеся признаки. Можно подумать, что Бэтсон рассчитывал найти в своей австралийской
аудитории дикарей, не имевших в руках ни одной книжки по
наследственности. Потешившись над неопределенностью слов
«кровь», «чистокровный» и заметив мимоходом, что ему более
нравилось бы библейское «семя» — «семя Авраамово», он
догматически поясняет, что современная наука заменила эту
неопределенность определенным будто бы понятием «факторы»,
разумея под этим понятием элементарные зачатки признаков,
и заявляет, что первая задача новой науки — экспериментальной генетики 1 сводится к изучению числа и взаимодействия 2
этих факторов, а затем анализу различных типов жизни. «Excusez du peu!»* — иронически заметил бы на это француз. Шутка
ли сказать — определить число элементарных факторов всех
признаков организмов и на этом построить все типы жизни!
И это только для почина, а далее и не то еще будет. Хотя бы,
очевидно, заговорившийся оратор вспомнил
злоключения
другого такого же, как он, смелого ученого, — Де-Фриза. На
самом пороге нового X X века на общем собрании съезда германских натуралистов этот довольно-таки легкомысленный
ученый выступил с гениальной мыслью, которой он дал широковещательное название биохроническое уравнение. Это было
не более и не менее, как тот же подсчет числа этих элементарных
факторов и такой же смелый подсчет продолжительности
периодов времени, отделяющей появление на свет этих отдель1 Бэтсон, как известно, обозначает этим словом будто бы им самим
изобретенную науку — учение о наследственности.
2 Курсив мой.
* «Извините, что так мало». Ред.
ных факторов, а перемножение этих двух гадательных цифр
должно было дать реальную величину для определения продолжительности жизни на земле ( M x L = B Z ) . Не знаю, какое впечатление произвела эта гениальная формула на ту аудиторию,
которой она была преподнесена, как подарок новорожденному
веку; одно только известно, что ни друзья Де-Фриза — по
благоразумию, ни противники — из уважения к науке, вот
уже пятнадцать лет о ней не упоминали, пока, на днях, не
нашелся жестокий критик, извлекший ее из заслуженного забвения для вящшего уязвления своего соперника х .
Одним из главных завоеваний этого учения о «факторах»
Бэтсон глубокомысленно признает такое положение: «Родители, оба лишенные известного фактора, могут дать начало
только отпрыску, также лишенному этого фактора, и наоборот,
родители, чистокровные по отношению к известному фактору,
дают начало отпрыску, также чистокровному по отношению
к этому фактору». Для установления первой половины этого
положения не нужно даже никакой науки — генетики, оно
понятно даже с ходячей юридической точки зрения: родители,
ничего не имеющие, не могут чего-нибудь завещать, а что
касается второй части, то ее высказывал уже Ламарк задолго
до Менделя. «Но, — продолжает Бэтсон, — если зародышевые
клеточки чистокровных организмов все между собою сходны,
те, которые происходят от перекрестного оплодотворения,
будут смешанного характера». И это положение было известно
задолго до Менделя. Следуем далее за Бэтсоном. «Раз удалось
определить факторы по их последствиям, можно определить
средний состав различных семейств, получаемых при различных
комбинациях производителей». Этот закон действительно открыт Менделем и одновременно с ним, в том же 1867 г., Жоденом 2 , но Мендель случайно наткнулся на совершенно частный
случай (встреча доминантных и рецессивных форм), который
его последователи поспешили возвести в общий закон, гласящий, что при скрещивании между собой неделимых первого
1
Лотси
в
статье,
о
которой
придется
упомянуть
н и ж е
по
другому-
поводу.
2
томе
Все
стр.
это
467.
было
Ред.)
разъяснено
в статье «Отбой
мендельянцев».
(См. в
этом
поколения помесей должно получиться 3 / 4 потомства в одного I
родителя и 1 j 4 в другого. Настоящий же закон — биномиальный — (а-\-Ъ)г= а 2 + 2 а Ь + Ь 2 был открыт уже после Менделя
(Корренсом и др.). Его частный закон проявляется только при
доминантности одной из форм, т. е. когда аЪ=а или Ъ, причем
получится 3 а-\-Ъ или 3 Ъ-\-а А Невольно спрашиваешь себя,
по какому праву Бэтсон, вопреки всем известным фактам,
продолжает приписывать Менделю и то, что было добыто гораздо ранее, и что было выяснено после него. Следует еще
добавить, что ни биномиальный закон, ни его частный случай,
изученный Менделем, по которому можно предсказывать
средние результаты скрещивания (т. е. при очень большом числе
случаев), не представляют какого-нибудь общего значения;
так, например, к человеку ни тот, ни другой не применимы. По
общему (биномиальному) закону потомство от скрещивания
между собой представителей первого поколения мулатов должно
бы состоять наполовину из мулатов и по четверти белых и чер"
ных, а по Мёнделю на 3 / 4 из черных и х / 4 из белых (или наоборот);
но ни того, ни другого, несмотря на значительное число доступных изучению случаев, никогда не наблюдалось. И все же, как
мы видим, Бэтсон самоуверенно обещал (правда, в другом городе) говорить о «применении менделизма к естественной
истории человеческого общества».
И нельзя сказать, чтобы мысль о противоречии того, что он
продолжает утверждать — о всеобщем значении менделизма —
с действительными фактами, не приходила в голову Бэтсону.
Нет, он храбро заявляет: «Часто возникает вопрос, не существует ли и других систем наследственности,
кроме менделевскоій» 2 , и приводит даже пример таких исключений (мериносо1 Напоминаю еще, что основное представление
Менделя и Жодена
о расщеплении признаков родителей было самостоятельно высказано
Дарвином; им же предложен для этого и термин segregation (изоляция,
отделение. Ред.), который Бэтсон постоянно приписывает Менделю.
8 Снова могу напомнить читателю свою статью «Отбой мендельянцев»,
где, для большей наглядности, в форме таблиц показал, какую ничтожную часть всего учения о наследственности занимает менделизм и как много
существует «других систем». Статья эта не прошла совсем бесследно в нашей популярной литературе.
вая овца, трубастый голубь), но отделывается от этих существенных возражений, доказывающих, как искусственно было
раздуто им значение менделизма уклончивой фразой, что эти
и «множество (hosts) других фактов пока еще не затронуты и
нуждались бы в слишком технических подробностях изложения для их объяснения». После нескольких голословных и темных намеков о чаемых в будущем завоеваниях менделизма он,
наконец, переходит к задаче, которую обещал разрешить в этой
речи, т. е. к установлению отношений менделизма к «истории
органических существ или к тому, что принято теперь называть теорией эволюции». При этом он вторично и еще определеннее заявляет, что «постарается в своей второй лекции
(в Сиднее) показать непосредственное значение менделизма но
отношению к поведению (conduct) человеческого общества».
Переходя, наконец, к своей теме, Бэтсон снова начинает
с похвалы Дарвину (невольно
вспоминается Марк Антоний у Шекспира, — «and Brutus was an honorable man!»*).
«Мы снова возвращаемся к дарвинову бесподобному своду фактов. Мы, конечно, едва ли могли бы соперничать с ним в его глубоких знаниях, в широте охвата и силе его аргументации, но
в наших глазах ему уже недостает философского авторитета!..
Мы читаем его эволюционную теорию, как читаем Лукреция
или Ламарка, наслаждаясь их простотой и смелостью. Практическое, экспериментальное изучение явлений изменчивости
и наследственности не только открыло новое поле исследования, оно открыло новые воззрения, предъявляет новые критические требования. Еще находятся натуралисты, развивающие
свои телеологические системы, которые привели бы в восторг
Панглосса, но в настоящее время немногие ими соблазняются».
Бэтсон снова прибегает к своему излюбленному приему, который Щедрин так метко характеризует: «если сознаешь в себе
какой-нибудь порок — припиши его непременно своему сопернику». Почтенный сын клэрджимена, выступивший с первого
же своего шага (в эпиграфе к своей первой книге) не только телеологом, но и креационистом, называет Дарвина телеологом
и Панглоссом, вполне сознавая, что вся причина его ненависти
* «и Брут был почтенный человек!». Ред.
к Дарвину лежит именно в том, что тот навсегда покончил с
защитниками телеологии и креационизма. На этот раз Бэтсон
даже забывает, что сам только что засвидетельствовал факт,
что Дарвин, особенно в последние годы, именно склонялся
к экспериментальному изучению явлений изменчивости, на
которые он сам ссылается, не имея, как увидим далее, о них
никакого понятия и голословно их отрицая. Весь комизм его
речи заключается именно в том, что он пускается судить о том,
о чем не имеет никакого представления. А пока вот как победоносно в нескольких словах разделывается он с учением о
естественном отборе: «Учение о переживании наиболее приспособленных еще имело бы смысл в применении к организму,
как целому, но пытаться на основании этого принципа приписывать значение каждой части, каждому явлению и во имя науки
видеть везде только приспособление — значит возвращаться
к оптимизму восемнадцатого века». Очевидно, Бэтсон снова
думает, что заехал к таким дикарям, которые не знают, что
ни Дарвин, ни его последователи никогда таким вздором не
занимались. Они только показали, что именно те особенности
организмов, которые подали повод самым выдающимся философам (как Кант) и телеологам (как Пэли) строить свои телеологические и креационистские учения, что эти особенности,
отличающие органические существа от предметов неорганических и составляющие коренную загадку органического мира,
могут получить естественное научное объяснение. Этого-то
люди, подобные Бэтсону, и не прощают дарвинизму. Что касается до тех особенностей строения, которые не являются приспособлениями, то они не нуждаются в объяснениях, и это не
служит орудием в руках метафизиков и теологов, а следовательно, и не вызывает ответа со стороны ученых, хотя для
присутствия многих из этих особенностей строения Дарвин
и дарвинисты могли бы дать объяснение на основании его другого принципа — соотношения (correlation). Читатели «Вестника Европы» могли в одной из моих статей познакомиться
с замечательными исследованиями Н. В. Цингера, доказавшего,
что у исследованных им растений целый ряд безразличных
признаков находится в соотношении с одним признаком,
представляющим необходимое жизненное приспособление или,
по меткому выражению самого автора, является его функцией Ч
И только рассчитывая на полное невежество своей аудитории,
мог Бэтсон позволить себе такую дерзкую выходку: «Подобные
допущения, последние лохмотья телеологической 2 пестряди
(fistian), в которую любили рядиться викторианские философы,
окончательно уничтожены. Те, кто утверждают, что все существующее прекрасно 3 , должны будут впредь откровенно основывать эту свою веру на неприступной скале
предрассудка
и отказаться от фактов природы».
Разделавшись ценою такого бесстыдства с эволюционным
учением, Бэтсон с развязностью безответственного невежды
разделывается и со всей биологией: «Всякая теория биологии
должна основываться на фактах химии и физики 4 . Но наши
сведения о химии и физике живых тел почти равны нулю».
«Живые тела, как это видно из простейшего опыта, обладают
силами (powers), о которых нам и не снилось» и «кто знает,
что за всем этим скрывается?» И этим вопросительным знаком,
за которым скрывается феноменальное невежество, говорящий
уничтожает все, что сделано гениальными учеными в течение
трех столетий. Очевидно, Бэтсон воображает в эти минуты, что
перед ніш сидят какие-нибудь Мао рисы.
Переходя, наконец, к заявленной им теме своей речи «Об
отношении эволюционного учения к менделизму», он еще
суживает ее и объясняет, что будет говорить только о значении
одного из фактов современного эволюционного учения — об
«Год итогов и помшюк». «В. Е.», 1910. (В настоящем издании см.
том I X . Ред.).
2 Рядящиеся в лохмотья «викторилнцт
(любимая брань мендельянцев), как объяснил Кибль, один из учеников Бэтсона, это — Лайелы
Дарвин, Гёксли, Гальтон и т. д.; словом, та плеяда ученых, которыми
гордится современная наука. Повидимому, Бэтсон и ему подобные вообще
мечтают о возврате георгианских времен, так удачно охарактеризованных
также «р.икторианцем» Теккереем с его «Четырех Георгах».
3 Это говоритсп о дарвинистах, которые, рядом с опровергнутой ими
телеологией философов и теологов, основали другую область исследования — дистелеологию
(Геккель).
4 К которым Бэтсон еще недавно относился с полным презрением,
но которых — после полученного жестокого урока (см. «Отбой мендельянцев») — вдруг стал уважать.
1
«изменчивости». «Здесь, конечно, не место для каких-нибудь
обобщений», так приступает он, наконец, к настоящему содержанию своей речи и через несколько слов огораживает слушателей заявлением, что никакой изменчивости не существует.
Какое еще более широкое обобщение можно было придумать?
В этом широчайшем обобщении и заключается действительное
содержание его речи.
Но Бэтсон мог бы еще более озадачить своих слушателей,
открыто высказав им, если бы был действительно откровенен,
что главное содержание его речи заключается в отречении
менделизма, так как это и составляет фактически самую существенную часть его речи. Таким образом, из двух слов,
из двух понятий, вошедших в состав заголовка его речи, ни
того, ни другого не существует — не существует ни эволюции, ни менделизма. О какой же связи между ними может
быть речь? Постараемся разобраться в этой путанице, характерной для всех выступлений Бэтсона. Я уже указывал выше
на несостоятельность и этой речи, на постоянное метанье из стороны в сторону, может быть, умышленное, но потому именно
делающее трудным ее толковое изложение.
Мы видели уже выше, что он возбуждал вопрос, не существует ли, помимо менделизма, и других систем наследственности, и оставил его открытым; но теперь необходимо его разрешить для того, чтобы показать, каким роковым образом
вынужден Бэтсон отказаться от своего менделизма, заменив
его именно тем, что прежде он не менее категорично отрицал.
Это необходимо подчеркнуть, потому что сам Бэтсон старается
затушевать свое окончательное поражение, скрыть, что он
вынужден поклониться тому, что сжигал, и сжигать то, чему
поклонялся.
Из моих предшествовавших статей 1 читатели, вероятно,
припомнят точку зрения Бэтсона на учение Менделя, — то,
что можно называть менделъянством в отличие от менделизма,
т. е. того, чему учил сам Мендель. Напомню вкратце основные
черты этого различия. Выражаясь языком самого Бэтсона,
для Менделя существовали две «системы» наследственности,
1
}la что я указывал на этих страницах не раз.
изложенные в его двух известных мемуарах. Для Бэтсона
и его школы 1 только одна — та, которая выражена формулой:
три — в папашу, один в мамашу или vice versa * . Другой тип,
который признавали все ученые и практики, в том числе и
Мендель, тот, когда потомство представляет средний характер,
т. е. соединяет признаки и отца и матери и передает эти средние признаки потомству. Бэтсон и его школа голословно отрицали эту «систему» наследственности. В разбираемой теперь речи он категорично отрекается от прежней точки зрения
и должен признаться, что «более обычный результат
скрещивания заключается
в образовании
формы, средней между
чистыми формами родителей».
Этим категорическим заявлением,
можно сказать, бэтсоновское мендельянство упраздняется,
сдается в архив излюбленный случай в учении, обязанный
своим происхождением упрямству ограниченного, фанатического человека, в течение длинного ряда лет утверждавшего
прямо противоречившее подавляющему числу фактов и —
что еще изумительнее — находившего последователей и поклонников.
Этим можно было бы и удовольствоваться, признавшись,
что в течение ряда лет упрямо сам заблуждался и вводил других в заблу?кдение и сказать свое «mea culpa» * * . Но это не похоже было бы на Бэтсона. Он сваливает все на каких-то «своих
коллег мендельянцев» (some of my Mendellian collègues 2 ). Это
они, видите ли, «утверждали, что генетические факторы неизменны и неуничтожаемы; я же теперь утверждаю, что они
могут порою претерпевать количественную дезинтеграцию,
вследствие чего получатся разновидности средние между теми,
из которых они произошли. Все это только отклонения от нормальной правильности ритма или тех волн диференциации,
в силу которых свойства распределятся между различными
членами типа!». Наговорив еще несколько таких же ничего
1
Это, вероятно, все эти Пунеты, Донкастер и др., в унисон подпевавшие своему патрону, а теперь выброшенные им за борт. Как отнесутся
теперь к ним и многочисленные их русские поклонники?
2
На что я указывал на этих страницах не раз.)
* наоборот. Ред.
** «моя вина». Ред.
не объясняющих темных фраз и свалив таким образом свою
многолетнюю ошибку на каких-то безответственных коллег
мендельянцев, Бэтсон выходит сух из воды. Впрочем, в двух
местах своей речи он должен еще признаться, что и этим своим
новым превращением из исключительного мендельянца в такого же исключительного кернерьянца 1 он обязан не себе
самому, а Лотси 2 .
Но признать другую «систему» наследственности, кроме
своего мендельянства, для Бэтсона мало; на его языке признать
что-нибудь значит — признать это исключительно существующим и отрицать все остальное. Так, признав изменчивость
в силу образования средних форм при скрещивании, он объясняет, что никаких других причин изменчивости и не существует. Остановимся на этой его аргументации несколько подробнее, так как она содержит целое новое или, вернее, подогретое очень старое антиэволюционное
учение.
Все явления изменчивости, по Бэтсону, могут быть подведены под три случая: 1) через потерю факторов, 2) через
их фракционирование, 3) через появление новых факторов.
Первый случай он допускал и при своем узком мендельянстве:
это его излюбленная теория absence presence — отсутствия
присутствия, по которой изменения сводятся к исчезновению
какого-нибудь признака, ранее существовавшего. Второй случай, это — выдуманное им объяснение для образования средних форм, которое он всегда отрицал (даже наперекор самому
Менделю), а теперь признает за преобладающий способ изменчивости. Остается еще третий случай — появление новых
факторов. Этот случай он категорически отрицает и с необычною для него ясностью и определенностью развивает свой
взгляд, сводящийся к формальному отрицанию какой бы то
ни было эволюции. На этот раз он даже принимает необычно
торжественный тон. «Мы должны начать с серьезного обсуждения вопроса: не может ли ход эволюции быть разумно пред1
В вышеупомянутых своих статьях я особенно подчеркиваю, что,
кроме менделевекой «системы» наследственности, существуют и другие,
причем указывал особенно на Кернера.
2
На курьезной статье которого нам, может быть, придется остано-
виться.
32
К. А.
Тимирязев,
т.
VIT
497
ставлен как развертывание первоначального комплекса, уже
заключавшего в себе все то разнообразие, которое проявляется
ныне живущими существами. Я не предлагаю произнести
какое;либо решительное суждение — решить, что в этом отношении вероятно, что невероятно. Как я уже сказал, не время
теперь выдумывать какие-нибудь теории эволюции, да я и
не предлагаю никакой; но так как мы должны признать, что
эволюция все же совершалась, что так или иначе современные
формы возникли из меньшего числа форм, то мы и в праве остановиться на вопросе: обязаны ли мы остановиться на старом
воззрении, что эволюционный процесс шел от простого к сложному, или, в конце концов, мыслимо, что он шел совсем навыворот?» А Отметим прежде всю лукаво уклончивую форму
этого толкования: то поставленный вопрос признается вполне
уместным и законным, то объявляется несвоевременным и
праздным, то вновь признается и провозглашается вполне
уместным и предлагается в еще более определенной, категорической форме. Очевидно, Бэтсон желает себе обеспечить
отступление и, в случае провала, ожидающего его новую затею покончить с эволюцией, выйти снова сухим из воды, взвалив позор поражения, как только что указано с мендельянством, на каких-то анонимных «коллег». Но как ни хитроумен
этот прием, Бэтсон не может скрыть факта, что главное содержание его лекции (отказ от мендельянства — только затушеванный им вводный эпизод) — отношение
наследственности
к эволюции и сводится к этому вопросу. И он сам склоняется
не на старое воззрение, как он презрительно выражается,
т. е. на то, которого держатся все современные ученые, способные мыслить и обладающие необходимым запасом фактов,
а на новое, по его мнению, в действительности же старейшее,
т. е. то, которого в семнадцатом и восемнадцатом веке придерживались люди, не обладавшие необходимыми данными
для составления какого бы то ни было правильного воззрения.
Новое учение Бэтсона, действительно, только повторение очень
старых воззрений; он словно никогда не слыхал о борьбе старого «эволюционного» (правильнее — инволюционного) уче1
Курсив мой.
ния с вытеснившим его «эпигенезисом». Он еще убежден, что
«когда факты, открытые генетической наукой
станут достоянием всех биологов, а не одного только кружка, как теперь», неизбежно возникнут многие и долгие прения — «я
только подготовляю для них почву. Я прошу вас
держать
вагаи умы открытыми ввиду этой возможности. Для этого
необходимо некоторое усилие. Мы должны извратить
наш
обычный склад мышления. На первый раз может показаться
чистой нелепостью предположение, что первобытные формы
протоплазмы могли быть достаточно сложны, чтобы дать начало разнообразнейшим формам жизни. Но разве легче себе
представить, что эта возможность была дана добавлением
чего-то извне?» И с чисто схоластической диалектикой он пытается доказать невозможность второго предположения. Какова может быть природа этих добавлений? Будет ли это материя? Конечно, нет. Говорят, что удобрение железными солями может превратить розовую гортензию в голубую. Но
ведь железо не наследуется, оно не может размножаться и т. д.
Бэтсон, вероятно, не слыхал, что лет сорок и более тому назад
Гофмейстер, а по его стопам Сакс, высказывали ту мысль,
что уже того, что им известно об изменении растительных
форм под влиянием света, тяжести, влажности и других факторов, допуская их действие в течение несметных промежутков
времени, было бы, может быть, достаточно для объяснения
бесконечного разнообразия растительных форм, и что все,
ставшее нам позже известным в этом направлении, делает
более и более вероятным это воззрение. Если все это неизвестно
Бэтсону, то хоть заглянул бы он в книгу Генсло, своего соотечественника, к тому же еще клерджимена и антидарвиниста
(два наиболее существенных качества в глазах Бэтсона). Генсло
в своей книге («The heredity of acquired characters» * , 1908)
1 Он продолжает воображать, что создал какую-то новую науку о
наследственности. Хорош основатель новой науки, который через десять
лет должен сознаться, что не знал целых обширных категорий фактов о
наследственности, уже четверть века тому назад славших достоянием популярной литературы (Кернер, идеи которого только теперь дошли до Бзтсона, им признается за новость).
* «Наследственность приобретенных признаков». Ред.
приходит к выводу, что изучение географического распределения растений на бесчисленных примерах учит нас, что целый ряд признаков (даже таких, которыми пользуются для
установления целых отделов растительного царства, как,
например, однодольных) зависит от условий их обитания, на
что, с другой стороны, указывают прямые ответы, подтверждающие, что такие же изменения вызываются экспериментально
действием именно тех условий. Ему ничего этого неизвестно;
он просто не слыхал о существовании или, по своему обыкновению, голословно отрицает существование одного из наиболее
успешно развивающихся отделов биологии — эсперименталъной морфологии. Только этим полным невежеством в той области современного исследования, которую он выбрал темой
своей речи, объясняется дерзко-самоуверенная выходка вроде
следующей: «Еще скептичнее (т. е. скептичнее, чем к учению
о естественном отборе) относимся мы (т. е. мендельянцы)
к вескости тех ссылок на внешние условия, как на прямые
причины явлений изменчивости, на которые Дарвин, во всяком случае в позднейшие годы, с таким жаром (emphasis) ссылается». Эта выходка доказывает только одно, что Дарвин
предугадал то направление, которое биология приняла уже
после его смерти и особенно в X X столетии, между тем как
Бэтсон голословно отрицает целое плодотворное направление
современной биологии, как до этой речи отрицал существование
других «систем» наследования, кроме той, которую признавали мендельянцы, в чем теперь должен каяться А Тем не
менее, полагая, что своим остроумничанием насчет того, что
железо не наследуется и не размножается, он что-то доказал,
Бэтсон приступает, наконец, к главному тезису своей речи:
изменчивость заключается не в появлении чего-нибудь нового,
а только в потере или в перетасовке старого. И, чтобы не оста-
1 Ученики Бэтсона в грубом отрицании явлений изменчивости пошли
еще далее учителя. Я указывал, что один из них, Кибль, все учение об
изменчивости иазывает «старый хлам, который можно видеть на окнах
старьевщиков». «В. Е.», 1913. (Цитата неточная, но она правильно
передает смысл выражения Кибля. Ср. примечание К . А. на стр. 479
этого тома. Ред.).
валось в умах слушателей ни малейшего сомнения относительно
его точки зрения, он поясняет ее на самом предельном случае,
на применении к человеку. «Я уверен в том, что когда-нибудь
окажется,
что артистические
способности
человечества
зависят не от придачи чего-нибудь к экипировке
обыкновенного
человека, а от удаления факторов, которые в нормальном человеке препятствуют
проявлению
этих дарований.
Почти
не подлежит сомнению, что они должны быть
рассматриваемы,
как кнопки, при давлении на которые освобождаются
способности, обыкновенно
задерживаемые.
Инструмент
всегда налицо, но он заторможен». В награду за такое блестящее открытие невольно хочется пожелать самому Бэтсону поскорее нажать на кнопку, которая тормозит его собственный умственный механизм. Не довольствуясь этими заверениями, в подкрепление которых он может привести только такие доводы:
«я уверен», «не подлежит сомнению», — он пытается пояснить
свою мысль на конкретном примере. Недавно профессор Кокрель, между тысячами культивируемых им подсолнечников,
нашел один с цветками 1 отчасти красными. Разводя его потомство без скрещивания, он получил невиданное чудо —
красный подсолнечник. Всякий
здравомыслящий
человек
просто скажет, что это любопытный случай изменчивости —
появление нового свойства у растения, возделываемого в громадных размерах в течение веков. Бэтсон не смущается и говорит, что стоит только допустить, что вместе с желтой окраской
у всех растений подсолнечника существует и красная, да кроме
того, существует начало, препятствующее его проявлению
(inhibitor), и все объяснится исчезновением этого неизвестного
«ингибитора». Конечно, дело очень просто: вместо очевидного
факта — появления нового признака, стоит при каждом признаке допустить существование другого, да еще третьего ингибитора, делающего его невидимкой, тогда, вместо наблюдаемого
факта появления нового свойства, стоит только допустить
появление другого выдуманного Бэтсоном невидимого, постоянного
свойства,
обусловленного
исчезновением еще
1 Бэтсоп не поясняет, что он разумеет под этим словом — цветок или
соцветие; вероятно, последнее.
третьего, выдуманного им постоянного свойства А А главное,
будет вновь завоеван принцип предвечного творения всего
существующего, столь драгоценный уже не метафизикамтелеологам, а теологам-креационистам. Все существующее
было когда-то предвечно создано во всей своей сложности
и потом только изменялось, теряя по пути часть своих первозданных свойств или перетасовывая их в новых комбинациях.
Бэтсон откровенно высказывает свою надежду на то, что науке
будущего удастся восстановить «прерогативы» неизменных
со дня их сотворения «линнеевских» видов в отличие от изменяющихся в ничтожных пределах разновидностей. Возврат
к Линнею, т. е. почти на два века назад, вот то «новое», что
предлагает Бэтсон взамен «старому,>, т. е. современному эволюционному учению, за целые полвека подвигающемуся вперед, отражая и сводя к нулю все ожесточенные нападки таких
прогрессистов, как Бэтсон.
Воображая, что он успел кого-то убедить в необходимости
вернуться к восемнадцатому или семнадцатому веку, а то
и прямо к средневековью, он с напускным величием так заканчивает свою речь: «Результат, к которому мы пришли,
отрицательный. Он разрушает то, что многими принималось
за эволюцию. Но уничтожение, как бы оно ни было полезно,
низменная работа. Мы находимся теперь в том положении,
в котором находился Бойль в семнадцатом веке. Мы можем
расправиться с алхимией, но то, чем мы сами заняты, только
quasi * химия. Мы еще только ждем своего Пристли, своего
Менделеева. Да, по правде сказать, и не эти широкие темы
генетики занимают нас пока. Их время придет. Великие успехи
науки, как и эволюции, осуществляются не едва заметными
движениями масс, а спорадическим зарождением прозревающих вдаль гениев. Обыкновенные поденщики идут по их сле1 Лет тридцать тому назад мне приходилось возражать на совершенно
сходную теорию одного известного ботаника (Прингсгейма) в другой области науки. Я говорил, что можно придумать существование целых, недоступных отрицанию миров, стоит их только одарить свойствами всегда
парными, равными и с противным знаком. Результатом будет=0. Отрицать их существование невозможно так же, как невозможно и утверждать
его.
* якобы. Ред.
дам, как мы идем по следам Менделя». В одном только Бэтсон
верен себе. Он начинает и кончает свою речь, признавая священное для него, как первосвященника его узкой секты, имя
Менделя, с каким на этот раз правом, мы далее разберем. Но
к чему ему понадобилось призывать имя Менделеева, когда
он уже ранее приравнивал Менделя Пастеру и Ньютону —
да к тому же и Менделеева генетики он еще ждет, значит Мендель еще рангом ниже Менделеева, это из Ньютонов-то! У ж
не одно ли созвучие соблазнило его к этому сопоставлению
имен? Если бы Бэтсон сознательно относился к химии, а, следовательно, и к ее современным творцам, он, вероятно, слыхал бы что-нибудь о другом русском химике — о Бутлерове,
а между тем вот как позволяет он себе отзываться в другом
месте своей речи о новейших исследованиях в направлении,
первый толчок к которому был дан Бутлеровым. Известно,
что Бутлеров первый указал на возможность происхождения
сахаристых веществ из муравьиного альдегида, мысль эта
была подхвачена Байером, и в последнее время английскими
и американскими химиками делаются попытки доказать, что
именно этим путем осуществился первый синтез органического
вещества, переход из неорганического мира в органический.
Ссылаясь на эти исследования, Бэтсон позволяет себе такое
грубое издевательство. «Когда
мы слышим, что 'синтез
формальдегида принимается за первый шаг, обусловливавший
появление жизни на земле, нам приходит на память Гарри
Лаудер, Глазгоуский школьник г , который, выворачивая карманы своих штанов, наполненных всякой дрянью, говорит:
„ Т у т у меня все, что нужно для постройки автомобиля"». Это
образец отношения Бэтсона ко всему в науке, что превышает
его понимание.
Попытаюсь подвести итог этой длинной речи, беспорядочная бессистемность которой делает крайне затруднительной
ее краткую передачу, а чтение в целом сопряжено с громадным
трудом вылущивания действительного ядра ее. Содержание
ее определено самим автором, — «Менделизм и эволюция».
Относительно менделизма нового в этой речи только катего1
Действующее лицо в каком-то произведении Киплинга.
рическое признание, что то превознесение, то исключительное
значение, -которое приписывалось этому весьма скромному
исследованию, вопреки самому его автору объяснялось только
глубоким невежеством маленькой фанатической кучки. То,
что проповедует теперь о «системах» наследственности Бэтсон,
только то, что было известно всем, знакомым с литературой
этого предмета, и прежде всего Дарвину, Кернеру и самому
Менделю Ч Что же касается эволюции, то Бэтсон останавливается только на одной трети этого учения — на изменчивости, и огульно отрицает все, что приобретено наукой, особенно за последнюю четверть века. Несмотря на жестокий
урок, полученный им за его невежество в области учения
о наследственности, Бэтсон позволяет себе дерзкое отрицание
всего, что приобретено в совершенно ему неизвестной области
изменчивости. От себя он предлагает возврат к представлениям
восемнадцатого и семнадцатого века, к учению Линнея о «созданных видах», к учению об «emboitement», т. е. включении
зародышей одного поколения в зародыше другого и так далее, вплоть до замечательных вычислений, сколько зародышей находилось в утробе праматери, если она должна была
заключать готовые зачатки зародышей всего последующего
человечества. В заключение остается напомнить, что даже
смелость этого возврата к темным преданиям прошлых веков
не составляет его личного подвига. Несколько раз в своей
речи он повторяет имя Лотси и должен признаться, что основная мысль его речи уже высказана в 1913 г. этим известным
ботаником. И, действительно, этот ученый, отличающийся
более обилием своих компилятивных произведений, чем строгой критической мыслью, в статье, носящей широковещательный заголовок: «Успехи со времени Дарвина наших воззрений
на учение о происхождении
и современная точка зрения на
этот вопрос»2 — пришел еще ранее и тем же путем к тому же
заключению, выраженному в еще более нелепо-откровенной
форме. Здесь, конечно, не место распространяться о содержа1 См. статьи «Дарвин» и «Отбой мендельянцев».
(См. ниже — стр.
505 — примечание второе. Ред.).
2 Fortschritte unserer Anschaunden über Descengenz und der jetzigen
Standpunkt der Frage von S. P . Lolzy. Progressus Rei Botanicae. 1913.
нии этой статьи, тем более, что с ней уже поторопились познакомить русскую публику 1 . Исходным толчком для Лотси
является вдруг осенившая его «гениальность» идей Кернера 2 .
А проникшись их гениальностью, он впадает в обратную крайность, приписывает процессу образования средних помесей
снова исключительное значение и заявляет: «Причину образования новых видов я усматриваю только в новой перегруппировке предсуществовавших уже в родоначальных, а в конце
концов в первозданных, организмах (Urorganismen) потенций
или ген. И в этом отношении разделяю мнение Гагедорна:
«что, может быть, у Парамеции s уже передавалась из поколения в поколение генетическая вещь, обладавшая способностью
сделать хвост животного вьющимся или зубы его тупыми,
но за отсутствием хвоста и зубов эти вещи должны были дожидаться своего времени». Итак, по современным эволюционистам, любая инфузория со дня творения обладала несметными
мириадами таких бесполезных «вещей», как кудрявость несуществующих хвостов и тупость несуществующих зубов.
И только потеряв по дороге кое-что от этих ненужных вещей,
кое-что перетасовав, из этой первозданной инфузории произошли новые формы животных вплоть до червяка. Неужели
необходим новый Вильям Оккамский, чтобы обуздать этих
воскресших схоластиков-реалистов?
Но если трудно постичь содержание этой новой «эволюционной» (?) теории Бэтсона и тех, у кого он ее заимствовал,
зато ясна ее цель. Остановимся ли мы на чудесной инфузории
«Природа». Октябрь. 1915.
Кернер высказал свои воззрения двадцать пять лет тому назад
в популярной книге. В том же году я подробно изложил их в публичном
курсе «Исторический метод в биологии», упоминал о нем на страницах
«Вестника Европы» («Дарвин», 1909, «Отбой мендельянцев», 1913), разумеется, предостерегая от его крайностей. (В настоящем издании см.:
«Исторический метод в биологии» — том V I ; «Отбой мендельянцев» — стр.
467 этого тома. В журнале «Вестник Европы» за 1909 г . , кн. 2, была напечатана статья К. А. «Чарлз Дарвин», которая в данном томе перепечатана под измененным самим автором названием «Чарлз Дарвин и полувековые итоги дарвинизма» — см. стр. 213. Ред.). Теперь можно ожидать,
что за полосой мендельянства наступит полоса кернерьянства.
* Инфузория.
1
2
Лотси, или, проще, на линнеевских видах, воскрешенных
Бэтсоном, начало их, очевидно, одно — линнеевский креационизм, что Бэтсону и требовалось доказать. Нельзя только
не пожалеть, что первое торжественное слово европейской
науки у антиподов явилось прямым антиподом действительной современной науки — представляясь образцом эволюционного учения à rebours * .
На речи президентов не принято возражать, что, конечно,
и входило в расчеты Бэтсона, но возражение все же пришло
и сравнительно скоро — не из Австралии и не из Европы,
а из третьей части света, из Америки, более старой, чем Австралия, но более молодой, более свободной от пережитков
старой Европы, защитником которых выступил в своей речи
Бэтсон.
2
О Т В Е Т ИЗ Т Р Е Т Ь Е Й ЧАСТИ СВЕТА
Британской ассоциации в Новом Свете соответствует Американская. Как бы желая подчеркнуть мысль, что ею подводится итог науки за истекший год, она обычно собирается
в самые последние дни декабря. Единственная из крупных
наций цивилизованного мира («великая» в настоящий момент
едва ли уместный термин, так как истинное величие культурная история, вероятно, со временем признает за теми нациями,
которым льющаяся кровь еще не ударила в голову и не заразила повальной манией величия) — Америка сумела остаться
в стороне от кровавой бури и в самый разгар ее собрала своих
ученых на свой обычный праздник науки в Филадельфии
с 28 декабря 1914 г. до 2 января 1915 г. Президентом съезда
был избран известный зоолог, много работавший в области
цитологии и наследственности, Эдмунд Вильсон, профессор
Columbia University * * в Нью-Йорке. Речь его была скромно
озаглавлена: Воззрения,
определяющие
прогресс
современной
зоологии.
* наиэнанку. Ред.
* * Колумбийского университета.
Ред.
I
По существу, она была полным, обстоятельным ответом
на ретроградные противонаучные измышления, которым была
посвящена речь Бэтсона. Постараюсь передать ее главное
содержание в таком же кратком пересказе, как и речь последнего. «Мы счастливы, что живем в эпоху беспримерного прогресса естествознания, эпоху, одинаково отмеченную открытиями первостепенной важности — развитием методов исследования и расширением общего кругозора». Так начал свою
речь Вильсон. Упомянув о небывалых успехах физики и намекнув на тот факт, что грандиозные приложения науки
(хотя бы одно осуществление Панамского канала, благодаря
изучению естественной истории москита) почти убили в нас
способность удивляться, что не мешает, однако, нашим романистам попрежнему изображать натуралистов в образе
каких-то диковатых чудаков или, по меньшей мере, безвредных фантастов, он переходит к биологии. «Итоги и содержание
биологии сводятся к двум вопросам: что такое живой организм и откуда он взялся? Часто напирают на один из этих
вопросов, но по существу они нераздельны. Существующий
организм несет неустранимый отпечаток своего прошлого,
а исчезнувшее животное может быть понято только при свете
настоящего. Причинный анализ эволюционного процесса должен опираться на экспериментальное изучение существующих
форм. Все это, кажется, самоочевидная истина и потому так
странен факт, что изучающие эволюцию только недавно приняли во внимание эту истину. А в этом и лежит ключ к пониманию того научного движения в зоологии, о котором я поведу
речь».
«Не вдаваясь в древнюю историю, я хочу только сказать
о тех условиях, при которых в исходе девятнадцатого столетия это движение начало принимать определенную форму.
В первые три десятилетия после появления „Происхождения
видов" изучение существующих животных почти заслонялось
попытками воссоздать их историческое прошлое. Многие из нас
вспомнят, с каким жаром натуралисты набрасывались на эту
глубоко интересную задачу. Позднее многие из них перешли
на совершенно иные предметы, но был ли возбужденный ими
интерес более глубок, более жив, чем тот, который возбуждался теми историко-морфологическими задачами, которые
поглощали нас в те ранние годы? Не думаю. Скажут, юношеский энтузиазм, брожение молодых сил! Конечно; но еще
кое-что в придачу. Попытки разрешить эти задачи в прошлом
не всегда были удачны, они не представляют такого господствующего значения в настоящем, но они не прекратятся,
пока существует биология, потому что они порождаются непокоренным инстинктом, и их завоевания уже обеспечены,
так как опираются на массу твердо установленных фактов,
заложенных ими в самый фундамент науки». «Лет через тридцать
после появления „Происхождения видов" мы перестаем довольствоваться приемами и результатами филогенетического метода. Словно сговорившись, натуралисты стали отворачиваться
от исторических задач для того, чтобы узнать поболее об организмах, какими они нам являются в настоящем. Они как будто
очнулись и сознали недостаточность своих традиционных
приемов — наблюдения и сравнения и стали все более и более
обращаться к тому методу, при помощи которого сделаны все
великие завоевания физическо-химической наукой, к методу,
анализирующему явления, при помощи подчиняющего их
воле исследователя контроля тех условий, при которых эти
явления происходят, — к методу эксперимента.
Его неизменно возрастающее значение и составляет выдающуюся черту
новой зоологии»1. «Постараюсь пояснить характер и последствия этого переворота на примере эмбриологии. В своем
филогенетическом периоде развития она была исключительно
поглощена вопросами историческими: происхождением позвоночных, гомологией зародышевых пластов, жаберными дугами и сотнями других подобных же вопросов. Скажем сразу,
Позволю себе заметить, что преобладание филогенетического направления произошло, главным образом, под влиянием Геккеля. Деятельность Дарвина после появления «Происхождения видов» вращалась
исключительно на почве опыта или всесторонней критической оценки уже
полученных опытных данных, как, например, в области исследований о
наследственности, что и составляет его преимущество перед позднейшими
исследователями.
1
эти вопросы представляли, представляют и всегда будут представлять величайший интерес А Но эмбриология, как мы теперь убедились, только косвенно связана с этими историческими задачами. Эмбриология, прежде всего, стремится понять самый процесс развития; отсюда то значение, которое
приобрела группа эмбриологов с Вильгельмом Р у во главе,
отвернувшаяся от исторических задач и обратившаяся к опыту
и объяснению самого механизма развития». И не одна эмбриология сделала громадные успехи. Экспериментальный метод
охватил области изучения явлений роста и регенерации, экологии и поведения животных, их отношения к внешним стимулам, изучения факторов наследственности и отбора. .Свежая закваска проникла во все области зоологии. «Но вернемся
к эмбриологии. Сомнительно, чтобы какой-нибудь период
в ее длинной истории был более производителен в смысле разнообразия и ценности новых приобретений, чем тот, который
последовал за обращением к экспериментальному методу».
«Эмбриология стала развиваться в направлении, сблизившем
ее с физиком, химиком, патологом, даже с. медиком. Целый
поток света озарил явления истории развития, благодаря исследованиям в области явлений диференциации, регенерации,
прививки; в области развития отдельных бластомер или дробления яйца на отдельные части; в области изучения симметрии
и полярности яйца; в области изучения зависимости развития
от физико-химических условий среды; в области изучения изолированных клеток или тканей, культивируемых как самостоятельные организмы вне произведшего их тела — in vitro * ;
в области явлений оплодотворения, искусственного партеногенезиса и химико-физиологического развития. В смысле расширения области наших реальных знаний все эти успехи отмечают „новую эпоху в развитии биологической науки"». И, однако, эта же эпоха отмечена странным явлением попятного
1 Напомню, что филогенетический
метод на почве эмбриологии дал
доказательство своей пригодности, доказав возможность в этой области
научного пророчества, этого высшего критерия могущества научного метода. Я имею в виду деятельность Гофмейстера, предсказавшего, где следовало искать связь двух полуцарств растений.
* в стеклянном сосуде. Ред.
движения. Вильсон поясняет этот факт на примере Дриша.
Одним из удачных примеров применения эксперимента в эмбриологии было открытие, сделанное Дришем, что на ранней
стадии развития зародыша его можно разделить на составляющие его клетки, которые дадут начало двум или нескольким нормальным зародышам. К сожалению, тот же Дриш,
получивший такие блестящие результаты, пока стоял на механической или физико-химической почве, задумал позднее
воскресить «вымершее учение о витализме» — «приютился
в новом убежище за пределами науки, выступив на университетской кафедре философии» А Этот пример дает повод Вильсону к «небольшому отступлению, необходимому для того,
чтобы разъяснить истинное положение биолога по отношению
к живым телам». Он останавливается на том, как современная
наука должна относиться к вторжению в нее метафизики,
к разным «élan vital» * (Бергсона) или энтелехии (Дриш),
входящим в последнее время в моду». «Ожидали ли мы, что
наши скальпели и микроскопы, наши соляные растворы, химические формулы и статистические таблицы расскажут всю
повесть о живых телах? Конечно, никто из нас не стал бы этого
утверждать. И, однако, чем более останавливаемся мы на этом
вопросе, тем более растет у нас убеждение, что все эти энтелехии 2 и им подобные силы, которые вызываются современными виталистами, так же бесплодны, как и конечные причины старой философии, так что Бэкон с равным правом мог бы
сказать о первых, что сказал о последних: они подобны весталкам, посвященным божеству и бесплодным. Не будем, однако,
слишком строги к натуралисту, который порою позволит себе
часок легкой болтовни с ними — встревоженная совесть рано
1 Дриш недавно
пытался использовать и свои удачные опыты в интересах метафизических воззрений. В возникшей по этому поводу полемике ему была доказана безуспешность такой попытки.
2 Слово, заимствованное Дришем у Аристотеля. Известно, что все
переводчики расходились в передаче его смысла. Юэль сообщает, что один
из них (Hermolaus Barbarus) в отчаянии призывал ночью на помощь самого диавола, но враг рода человеческого, издеваясь над ним, предложил
ему другое, еще более темное. У нас особенно горячим поклонником учения Дриша выступил профессор Огнев.
* «Elan vital» — «жизненная сила», «порыв к жизни». Ред.
или поздно заставит его вернуться на его хотя и тесный, но
прямой путь, задав ему настоятельный вопрос: все эти специальные деятели sui generis * , от которых отправляются
виталисты, — действительно ли это здравые реальности? Может ли существование всех этих élan vital, этих энтелехий
и т. д. быть экспериментально проверено? Или даже если они
не подлежат проверке, то имеют ли какое-нибудь практическое значение при наших исследованиях живых тел, могут ли
они найти себе оправдание с точки зрения других более широких запросов науки? Что бы ни отвечала на это философия,
у науки может быть один ответ: Метод науки — метод механический х. С того момента, как мы уклоняемся от него хоть
на один шаг, мы оказываемся в чуждой для нас стране, где говорят на чужом нам языке. Мы не имеем доказательств его
пригодности. Мы принимаем механическое воззрение на органическую природу не как догмат, а как практическую программу нашей деятельности, не более и не менее. Мы очень
хорошо знаем, что наши механические воззрения на растения
и на животных далеко не исчерпывают всех задач о жизни
как в ее прошлом, так и в настоящем. И это только должно
нас поощрять к новым усилиям, потому что именно в неполноте
наших представлений лежит уверенность в будущем прогрессе.
Но путь не допускающих проверки (а потому и не поддающихся
опровержению) фантастических построений — не наш путь.
Мы достигаем неизменно постоянного успеха, только держась
старого пути, намеченного нашими научными отцами, — пути
наблюдения, сравнения, опыта, анализа, синтеза, предсказания и проверки. Если эта программа покажется прозаичной,
мы можем узнать и еще кое-что у великих ученых почти на
любом поле исследования, — мы узнаем, какой широкий простор .допускала их деятельность построениям воображения —
даже прямого художественного творчества».
В этой первой части своей речи Вильсон, не упоминая имени
Бэтсона, дает ему урок не говорить о том, чего не знаешь,
не позволять себе судить о вещах, о которых не имеешь никакого понятия. В ответ на презрительные выходки Бэтсона
1 Курсив Вильсона.
* Деятели sui generis — своего рода деятели.
Ред.
против эмбриологии и т. д. он указывает, какие успехи сделала наука именно в этих незнакомых Бэтсону областях.
Во второй части он уже прямо отвечает ему по поводу его новой теории эволюции или, лучше сказать, теории возврата
к учению о первично созданных, неизменных формах.
II
«До сих пор я особенно подчеркивал пробуждение нашего
интереса к задачам настоящего, к постоянно растущему сознанию надежности экспериментального метода. Посмотрим, как
эта перемена отразилась и на исторической задаче, в связи
с современной задачей изучения явлений наследственности.
Здесь произошло такое же перемещение центра тяжести, как
и в других областях. Во время дарвиновской эпохи вопрос
изменчивости и наследственности, казалось, представлял интерес только как подход к разрешению задачи эволюции. В последующую эпоху пробудился глубокий интерес к изучению
этих свойств живых существ ради них самих х . Но это нисколько
не было вызвано каким-нибудь сомнением в действительности
эволюции или недостатком интереса к выдвинутым этим учением задачам».
На первый план в этом движении, пробудившем свежий
интерес к изучению явлений наследственности, Вильсон, конечно, выдвигает сделанное в 1900 году открытие забытой
работы Менделя и пресловутую теорию мутаций Де-Фриза
и цитологические исследования, дающие, по мнению Вильсона
(он сам участвовал в этих последних исследованиях), механическое объяснение закону Менделя 2 .
«И вдруг — продолжает Вильсон, переходя к главной
теме своей речи, — среди всего этого движения внезапным
На этот'раз Вильсон едва ли прав. А что делали Кёльрейтер в X V I I I
веке или Гертнер в X I X веке? А сам Дарвин, посвятивший эволюции один,
а наследственности несколько томов? И его стремление к изучению изменчивости признает даже и Бэтсон, правда, только с целью доказать, что и
на этот раз он ошибался, так как никакой изменчивости, по его, Бэтсона,
мнению, не существует.
8 G Менделе и Де-Фризе и их теориях, находящихся на ущербе,
я уже имел случай говорить в других статьях и выше по поводу речи Бэтсона.
1
поворотом калейдоскопа основная задача органической эволюции у нас на глазах превращается, поворачивая все наши
прежние понятия вверх ногами!»
«Я останавливаюсь на этом позднейшем воззрении на эволюцию отчасти ради присущего ему интереса, отчасти же
потому, что оно представляет нам тот случай, который мы
только что видели в эмбриологии — одну из тех попыток унестись в область метафизики (sit venia verbo )
которые теперь так часто идут по стопам новых выдающихся открытий
науки. Возбужденный вопрос встречает аналогию и в эмбриологии, почему к нему особенно удобно подойти именно с этой
стороны».
«Судя по внешнему виду, развитие особи так же, как и
эволюция, идет от простого к сложному; но будет ли это верно,
если мы углубимся в самую сущность процесса? Яйцо представляется нашему глазу более простым, чем взрослый организм. Но опыты над наследственностью, повидимому, приводят
все новые и новые свидетельства в пользу предположения,
что для каждой независимой наследственной черты строения
взрослого организма яйцо содержит соответственное нечто
(мы не знаем, что именно) живое, делящееся, передающееся
при делении клеточек без утраты своего специфического характера и независимо от других нечто того же порядка. Так
возникает то, что я назвал бы загадкой микрокосма. Неужели
кажущаяся простота яйца только иллюзия? Неужели яйцо
так же в основе сложно, как и курица, и процесс развития
представляет только превращение одной сложности в другую?
Таков основной вопрос онтогенезиса, в той или другой форме
служащий темой споров у эмбриологов уже более двух веков».
«Что далее, то хуже. Исследования в области наследственности наталкивают нас на тот же вопрос в применении к эволюционному зародышу. Были ли первобытные формы в действительности проще их, повидимому, более сложных потомков? Шла ли органическая эволюция от простого к сложному,
или от одного рода сложности к другому? А может быть, даже
она шла только от сложного к простому, путем последователь1
33
(извините за выражение. Ред.)
К. А. Тимирязев,
т.
VII
Курсив Вильсона.
513
ной утраты задерживающих факторов, которые по мере их
исчезания освобождали признаки, первоначально заторможенные? С этим ошеломляющим вопросом выступил президент
Британской ассоциации в своей блестящей речи в Мельбурне,
совершенно серьезно приглашая нас „держать наши умы открытыми" при обсуждении такого вопроса». «Не представляется ли
вполне разумным допущение, что эволюция была только развертыванием незначительного комплекса, заключавшего в себе
совокупность всей той сложности, которую обнаруживают
современные нам существа?». «Эти размышления, очевидно,
сродни теории „пангенезиса", особенно в ее дальнейшей обработке Вейсманом и Де-Фризом А Они прямо переносят нас
в X V I I I век, вызывая в памяти Боннетовский „палингенезис"».
«Мы, конечно, должны быть благодарны людям, помогающим
нам раскрывать свои умы, и профессор Бэтсон проделывает
эту трудную операцию со своим обычным мастерством, вызывающим наше изумление. Правда, должно сознаться, что его
сильная и картинная аргументация невольно вызывает сомнение, неужели он ожидает от нас, что мы отнесемся к нему вполне
серьезно и примем его слова в их буквальном смысле?» «Но
допустим, что он действительно серьезно зазывает нас в тот
тупик (cul de sac), которым он так любезно загораживает нам
дальнейший путь. Раз заманив нас туда, он, конечно, сделает
шах и мат вопросу о начале и первоначальной истории органической жизни»... «Но точно ли уже наступил день, когда
мы должны будем помириться с мыслью о таком конце? Точно ли мы готовы все поставить на карту .из-за сохранения гипотезы об „аллеломорфах" и „доминантах", „presence and ab-
1 Позволю себе напомнить, что года через три после появления «провизуарной гипотезы пангенезиса» Дарвина я позволил себе высказаться
о ней, что она «ненаучна в основе, бесплодна в последствиях». Я будто
предвидел все последовавшее. Значительно позднее, когда появилась переписка Дарвина, я узнал из нее, что сам Дарвин отнесся к своей гипотезе безжалостно строго, назвав ее «вздорной спекуляцией». Но это не
помешало ей приобрести горячих сторонников в Вейсмане, Де-Фризе и
др., и вот чуть не через полвека отвергнутая гипотеза воплощается в новейшую теорию Бэтсона, по крайней мере, он остается верен себе и развивает до конца то, что Дарвин признал за «вздорную спекуляцию».
sence" 1 и т . д.? Они, может быть, служили какими-нибудь
орудиями исследования, но ведь существуют и такие компетентные исследователи, которые считают возможным объяснять явления и совершенно иными гипотезами, не вынуждающими к таким парадоксальным выводам-о природе эволюции.
У ж е и впрямь, не приглашает ли он нас „отцеживать комара
и проглотить верблюда"?».
«Но не будем задерживаться долго на его (Бэтсона) психологической концепции, а остановимся только на выведенной
на ее основе общей надстройке. Не идет ли здесь речь о каком-то символизме, о какой-то попытке браться за задачу,
лежащую за пределами нашего мысленного охвата? Осмелюсь
утверждать, что ни вы, ни я не задумаемся ни на минуту утверждать, что первобытная Амёба (если позволительно так
величать самого раннего из наших предков) в том или ином
смысле содержала все то, что реализуется теперь всей нашей
„Американской ассоциацией для развития н а у к и " . Но если бы
кто-нибудь спросил, что собственно хотим мы этим сказать,
мы убедились бы в полной своей неспособности ответить в более понятных выражениях». И если бы мы захотели осуществить
такую же попытку — изобразить конечную организацию яйца
ли или первобытной Амёбы или зародыша, мы почувствовали
бы себя «в опасной близости от обители мистика или трансценденталиста».
«Может быть, из опасения быть нескромным я бы должен
на этом и остановиться. Но подняв вопрос о природе эволюции, Бэтсон оставил незатронутым не менее важный вопрос
о том, что же направляет эту эволюцию? Я буду смел и не побоюсь затронуть вопрос о приспособлении и естественном
отборе. Как известно, вопрос о приспособлениях в настоящее
время получает различное разрешение. Одни думают избавиться от него, просто признав его за основное свойство организмов А Другие думают отделаться от него одним разговором.
Говорят также, что приспособления обоюдны: организмов
к окружающей среде и среды к организмам. Может быть, оно
1 («присутствии и отсутствии». Ред.) Термин, которым манипулирует
Бэтсон в своей мендельянской теории.
3 -Это уже давно пытался сделать Литтре.
и так для метафизиков, но для нас, натуралистов, это вопрос
исторический, и организмы появляются, несомненно, позднее
их среды. И хорошо еще, если бы перед нами стояли только
простые факты вроде того, что водяные животные дышат жабрами, с этим еще можно было бы справиться. Но загвоздка
в том, что, кроме самих жабр, при них есть еще особые резервуары, трубки, фильтры, щетки, которые их выскребают, —
и все это косвенно служит для главной функции. Сваливанием
всего на случай делу не поможешь. Дана вода, и спрашивается,
как все это появилось и усовершенствовалось».
«Вопрос этот неотразим, он навязывается нам здравым
смыслом. Понятно, не метафизики подняли бы его; они бы
охотнее его замалчивали».
«И несмотря на то, находятся люди, которые считают,
что самое слово „приспособление" пользуется еще слишком
сомнительной репутацией, чтобы его можно было упоминать
в приличном обществе» 1 . Вильсон приводит два примера
из своих молодых лет и из недавнего времени.
«Конечно, не подлежит сомнению, что многие приспособления, выражаясь словом Бэтсона, „на деле не так уже хорошо подогнаны". Известно, что даже глаз, как этому давно
учил нас Гельмгольтц, представляет некоторые несовершенства, как оптический инструмент, и, однако, он действует
настолько хорошо, что дает нам возможность видеть обильный
материал относительно приспособлений, наблюдаемых у живых существ. И попытки натуралистов искать объяснения для
этих приспособлений не прекратятся до той поры, пока они
не перестанут, следуя совету Гёксли, руководиться в своей
деятельности здравым смыслом».
«В настоящий момент не существует ни малейшего сомнения в том ходячем факте, что многие, правильнее было бы
1 Вильсон здесь иронизирует не над одним Бэтсоном, но и над известной ультра-реалистической группой американских биологов, которые
в своей заботе изгнать из науки все, отзывающееся телеологией или антропоморфизмом, объявляют войну всем словам, имеющим, по их мнению,
такую подозрительную внешность (вплоть до изгнания частиц to и for—
для и чтобы), причем сами частенько впадают впросак, заменяя слово «приспособление» выражением «выгодная реакция», или слово «функция» словом «ролы.
сказать, все сложные морфологические приспособления не
были осуществлены одним творческим мановением, а подвигались шаг за шагом по пути к совершенству. Но что же направляло это поступательное движение к такому результату?
Мы не можем дать сколько-нибудь уверенного ответа на этот
вопрос. Но как бы мы ни откладывали его на будущее время,
мы должны же смотреть ему прямо в глаза. Мы были свидетелями тому, как целый ряд теорий исчез под огнем критики;
я не буду останавливаться на тяжелых поражениях, понесенных теориями полового отбора, неоламаркизмом и ортогенезисом. Некоторые ученые, пожалуй; готовы отвести место
в этом ряду и естественному отбору. Но, вероятно, не найдется
ни одного ученого, который стал бы утверждать, что это учение
окончательно уничтожено. Сведенное к своему минимуму —
переживания приспособленного — оно является очевидным фактом. Особи, не приспособленные к жизни и воспроизведению,
имеют мало или вовсе не имеют шансов на сохранение — против этого никто не может возражать. Но такое голое и мало
говорящее заключение, исчерпывает ли оно всю задачу, дает ли
оно полную оценку фактов? В этом весь вопрос. Уничтожение
неприспособленных, поддерживает ли оно только status quo
или определяет прогрессивное поступательное движение? Допуская второе, Дарвин приписал отбору руководящую роль
в числе условий, определяющих современный строй живого
мира. С той поры взгляды на задачу значительно расширились. Мы должны исключить из нее происхождение безразличных и бесполезных признаков. Мы не должны смешивать происхождения приспособлений с происхождением
видов»
«И, тем не менее, насколько дело касается самых основ
начала естественного отбора, я должен признаться в моих
сомнениях: точно ли все новейшие рассуждения даже в настоящую минуту дают более пищи для размышления, чем
то, что заключается в шестой и седьмой главе „Происхождения
видов" и в других произведениях Дарвина?»
1 См. сделанное выше замечание по поводу соответствующего места
речи Бэтсона, особенно о соотношении признаков но исследованию профессора Н. В. Цингера (в этом томе — с т р . 493. Ред.).
«Нельзя также отрицать доли истины в утверждении, что
учение о естественном отборе скорее находится еще в стадии
биологической философии, чем биологической науки, что,
вопреки многочисленным экспериментальным и критическим
этюдам на эту тему, концепция Дарвина остается и теперь,
как и в его время, теорией, логическим выводом, построенным, правда, на бесчисленных фактах, но еще ожидающей
экспериментальной проверки А Как ни прост основной принцип учения, его действительное проявление в природе связано с такими спутанными условиями и обнаруживается в такие долгие периоды врбмени, что не может быть воспроизведено в лабораториях. Отсюда понятно, что, несмотря на пятьдесят лет, прошедших с ее появления, еще не наступило время
для полной оценки предложенного Дарвином разрешения великой задачи» 2 .
«Но можно добавить еще кое-что. Слишком часто простая
формула естественного отбора предлагается для того, чтобы
слегка скользнуть по поверхности неподозреваемых бездн,
серьезное исследование которых окупилось бы богатой добычей. Здоровая реакция против этого слепого отношения к делу
перешла в модное умаление значения дарвиновой теории и,
наоборот, большую услугу нашему изучению этой задачи принес критический и скептический дух экспериментальной науки.
Немецкая поговорка учит нас быть осторожнее, чтобы с водой
не выплеснуть из ванны и ребенка. Это предостерегает нас
от ошибки недооценивания единственного простого и понятного объяснения органических приспособлений, когда-либо
1 На это возражение дан уже удачный ответ. Оно относится к способу
изложения, а не к содержанию теории Дарвина. Если бы последний сначала изложил ее в отвлеченной форме, а затем стал бы приводить бесчисленные примеры искусственного отбора, то каждый из них признавался
бы за новое экспериментальное доказательство. Для современного натуралиста не существует различия между естественным и искусственным изменением формы, которая во время Дарвина поддерживалась господствовавшим предрассудком о чудесном начале естественных форм, в отличие
от искусственно вызванных.
2 Такие примеры естественного отбора, каких требует Вильсон, уже
существуют (исследование Ченола, Уэльдона, Цингера); я о них упоминал в статьях в 1909, 1910 годах.
высказанного. Для некоторых умов, — причисляю к их числу
и себя, — в этом и заключается та нескромность, о которой
я упомянул выше, — становится все более очевидным, что
наша привычка смотреть на задачу со слишком близкого расстояния, в известном смысле препятствует нашему зрению
охватить ее в более широких размерах, для чего необходима
аккомодация на более далекое расстояние. Мы сосредоточиваем внимание на мелких препятствиях в ущерб успеху великой истины. Для таких умов учение об естественном отборе,
если, может быть, еще не доставляет ключа ко всем загадкам
эволюции, во всяком случае продолжает оставаться одним из
величайших завоеваний науки» А
«Мы окинули беглым взглядом предмет настолько же громадный, как и многосторонний. Я старался показать, что
прилив умозрительного обобщения в нашей науке значительно
отступил, а экспериментальный метод занял в ней подобающее место, и что мы достигли более верной перспективы в оценке
относительного значения прошлого и настоящего в изучении
задач, предлагаемых нам животной жизнью. Эпоха разрушения уже уступила место эпохе созидания, и эта новая эпоха
обещает быть продолжительной. Все это сулит долгую будущность продуктивной деятельности физико-химической науке,
не удовлетворяющейся априорными построениями, академическими обсуждениями гипотез, не поддающихся опытной
проверке. Предстоящая работа предъявит нам серьезные технические требования. Дни пионерской деятельности уже ми1 Под страхом той же нескромности, о которой говорит выше Вильсон,
пишущий эти строчки может напомнить, что почти сорок лет тому назад
он также с публичной кафедры («Жизнь растения», X лекция) отстаивал
эту мысль о тесной связи между экспериментальной наукой и Дарвиновой исторической теорией, которую защищает Вильсон от односторонности некоторых современных ученых. А двадцать пять лет тому назад
в такой же обстановке («Факторы органической эволюции», речь на съезде
натуралистов) я еще определеннее высказал мысль, что за порогом будущего века возникнет та отрасль экспериментальной науки
[экспериментальная морфология, как я в первый раз предложил ее назвать), развитие
которой американский зоолог признает самой характерной чертой биологической науки двадцатого века. (В настоящем издании см. том IV, стр.
299, и-том V, стр. 107. Ред.).
новали для зоолога. Натуралист будущего должен быть воспитан на методах физики и химии
Он должен подготовлять
себя к целой жизни напряженной работы и высшей специализации, но и в будущем, пожалуй, даже более, чем в прошлом,
он будет только тщетно бродить в сухих песках специальных
исследований, если будет упускать из виду широкие задачи
и общие цели всей своей науки. Потому-то именно они представляются истинным путеводным маяком ее прогресса, и
хотя бы на близком расстоянии наука и представлялась нам
бесконечно сложной, с более широкой точки зрения ее отдельные открытия окажутся только более простыми. Это поможет нам поддерживать в себе дух великих пионеров науки,
которые вели нас вперед, когда ее задачи были более просты,
а это настроение сохранит в нас надежду на успех и в будущем».
Таков этот любопытный международный научный турнир.
Копья на нем ломались за главные устои современной биологии, а ареной ему служил без малого весь земной шар.
1 В том-то и беда, что современные зоологи, берущиеся за вопросы
по существу физиологические, часто воображают, что годы сидения за
микроскопом или подсчитывание усиков и сяжков могут заменить им
серьезную физиологическую, физическую и химическую школу. Это мне
также приходилось не раз высказывать.
N I
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДАРВИНИЗМА
А Л Ь Ф Р Е Д УОЛЛЕС
ПЕРЕВОД
К. ТИМИРЯЗЕВА
*
В
последнее время в самые широкие круги пущен слух,
что песенка дарвинизма спета, что в качестве попытки
объяснить происхождение видов и вообще развитие органического мира он окончательно вытеснен новыми и будто бы
более научными воззрениями. Конечно, публика, всегда падк а я на новизну, легко верит этим заявлениям, предъявляемым
к тому же с полной самоуверенностью и ссылками на надежные будто бы авторитеты, а теологи, в свою очередь, особенно
рады ухватиться за новое орудие в борьбе с тем, кого они уже
давно считают за своего самого опасного врага.
Примером этого последнего настроения общественного мнения может служить произведение доктора Рудольфа Отто,
* Впервые этот перевод был напечйтан в газете «Русские Ведомости»,
1908 Г., № 248 и 254. Ред.
профессора теологии в Геттингенском университете, признаваемое за одно из выдающихся в литературе этого сорта. По
словам отчета об этой книге (в «Jnquirer», 6 апреля 1907 г.),
автор ее вслед за изложением теории Дарвина говорит: «Наоборот, на основании господствующего в настоящее время воззрения, эти случайные, индивидуальные изменения играют
ничтожную роль в образовании новых видов. Новые виды
происходят из старых, вследствие нарушения общего жизненного равновесия, из которого внезапно возникает новое состояние... Борьба за существование — фактор вредный, а
не благоприятный, так как им задерживаются новые пути
развития и все новое возникает не там, где борьба сильна,
а там, где она слаба. Теория нагромождения спорадических
изменений уступает место теории развития присущих организму стремлений и признаков, которые и не вызываются
средой и не зависят от нее, а часто проявляются даже вопреки
ей». Таков передаваемый автором цитируемого обзора итог
статьи доктора Отто, а окончательный вывод этого последнего,
что дарвинизм — только «неудачная гипотеза».
Переходя от немецкого теолога к представителю английской ежедневной печати, остановимся на длинной статье
в «Scheffield Daily Independent» от 3 июля по поводу дарвиновского юбилея в лондонском Линнеевском обществе. Статья,
главным образом, посвящена возражениям против дарвинизма,
в числе которых находим следующие: «Сравнительно новая
наука о „наследственности" выдвинула неотразимые возражения против дарвинова предположения о передаче изменений». И далее, вслед за изложением явлений менделизма,
автор ставит вопрос: «Где же в них место дарвинизму? Никто
не сумел бы сказать... но как бы то ни было, весь вопрос о
происхождении видов и теперь — такая же тайна, как и в те
дни, когда сэр Джон Гершель называл его „тайной из тайн"».
Замечу мимоходом, что первое заявление автора — просто
неправда, так как «передача» изменений, на которую опирается
дарвинизм, — не предположение, а всеми признанный факт.
Подобные заявления за последние годы широко распространяются печатью, и, пожалуй, не найдется ни одного читателя газет или журналов в этой стране, которому не прихо-
А л ь ф р е д
У о л л е с
1823—1913
дилось бы сталкиваться с чем-либо подобным, пожалуй, в еще
более внушительной форме, так как авторы этих статей щедро
сыплют ссылками на свидетельства английских и континентальных биологов, нередко профессоров университетов или
других высших школ. Эти читатели бывают озадачены кажущеюся убедительностью аргументации критиков, и так как
они сами совершенно беспомощны и не в состоянии разобраться и уличить неверные ссылки на факты или неверное их
толкование, а в то же время не знают о постоянно растущем
запасе фактов и о более веских авторитетах, свидетельствующих
в обратном направлении, то в результате даже очень образованные люди приобретают мало-помалу совершенно превратное понятие об этом предмете. Ввиду этого я имею намерение
представить самый краткий очерк тех теорий, которые предлагаются в качестве частичных или полных заместительниц дарвинова объяснения органической эволюции путем естественного отбора и обыкновенно известны под названием учений
неоламаркистов, мутационистов и мендельянцев.
*
Великий французский зоолог Ламарк был первым, предложившим в начале прошлого столетия сколько-нибудь разработанную научную теорию происхождения организмов путем
естественного процесса их изменений. Но его воззрения никогда не были приняты в широких кругах натуралистов, потому что они не объясняли всей совокупности сюда относящихся фактов, в особенности же не объясняли приспособления организмов к бесчисленно разнообразным условиям их
существования. Выражаясь кратко, теория эта исходила
из следующих трех положений: что каждый орган или часть,
употребляемая для удовлетворения потребностей организма,
увеличивается в размерах, становится более сильной или ка«
ким иным образом изменяется, благодаря упражнению и делаемым усилиям; что эти изменения передаются потомству
и, наконец, что таким образом, с течением времени, создались
разнообразные формы, встречаемые нами теперь в природе.
В применении к растениям влияли, главным образом, не-
посредственные воздействия окружающей среды, тепло и холод, бури и затишье, влажная или сухая атмосфера, первозданная или наносная почва; они вызывают изменения форм и
строения, чрез наследственную передачу которых и образовались новые виды. Творец этой теории повествовал нам, как
выдры, бобры, водяные птицы, лягушки, черепахи не были
созданы с перепонками между пальцев для плавания, а будучи
привлечены к воде в силу своих потребностей, распяливали
пальцы ног для того, чтобы, ударяя по воде, быстрее по ней
двигаться, и таким образом с течением времени приобрели те
перепонки, которые теперь натянуты у них между пальцами.
Но зоологи вскоре убедились, что многие признаки животных не могли образоваться в силу одного упражнения или
неупражнения органов. Как могли бы образоваться этим путем волосы или шерсть, колючки ежа, иглы дикобраза или
носовые наросты носорога? Как могли жесткие надкрылья
жуков измениться на тысячи ладов', представляя то гладкие,
то шершавые поверхности с шипиками или колючками, нередко до того сходные с корою обитаемых растений, что могли
служить целям защиты? Какое упражнение могло создать
глазки на хвостовых перьях павлина, оперение фазана —аргуса или оперение на голове птицы — зонтика? Ведь все эти
перья совершенно излишни как для полета, так и в качестве
покрова. Наконец, как могли образоваться бесконечно разнообразные окраски и рисунки крыльев бабочек и перьев птиц
простым их упражнением? И, однако, эти особенности, как
уже дознано в большем числе случаев, а может быть, оправдается и во всех, служат для целей укрывания от преследований, отпугивания или взаимного узнавания, представляя
собою приспособления большой, а иногда и громадной важности. Все они не могли быть не только вызваны, но и закреплены никаким мыслимым процессом прямого воздействия организма самого на себя или действия на него окружающей среды.
Так и по отношению к растению ботаники убедились, что
одно прямое влияние причин, выдвигаемых Ламарком, не
могло вызвать бесконечно разнообразных приспособлений,
представляемых строением листа, цветка и в особенности
плода и встречающихся решительно на каждом шагу.
И, тем не менее, хотя в течение полувека ламаркизм был
совершенно заброшен как учение, не отвечающее своей цели,
позднее, уже после того как Дарвин показал, как его новое
учение разрешает все затруднения, перед которыми Ламарк
оставлял своих читателей в полном недоумении, — забытое
учение было вновь призвано к жизни, главным образом, благодаря влиянию американского палеонтолога Коопа. Причиной
этому было отчасти то обстоятельство, что одно из основных
положений учения Ламарка, — унаследование каких бы то
ни было изменений, вызванных в особи упражнением ли органов или прямым воздействием среды, — стали считать верным. Даже Дарвин допускал его возможность, хотя с постоянной оговоркой, что оно имело мало значения или и вовсе его
не имело в процессе превращения видов. Кооп отстаивал ламаркизм в течение четверти века, и в последнем своем труде
«Первичные факторы органической эволюции»,
вышедшем
в 1896 г., он говорит нам, что стимулы химических и физических сил, равно как и молярные движения, упражнение
или его отсутствие, вполне достаточны для того, чтобы вызвать
всякого рода изменения в организованных существах. Но
так как Кооп имел дело исключительно с исчезнувшими животными и тщательно избегал каких-нибудь попыток объяснения тех явлений, которые совершаются в живых существах,
то верность только что приведенного его заявления едва ли
может быть допущена,
Достойно изумления, что многочисленные американские
биологи приняли теорию Коопа, по крайней мере, настолько,
что стали приписывать естественному отбору самое ничтожное
значение, не дав себе труда выяснить, как, наоборот, ничтожен
круг явлений, доступных объяснению при помощи ламарковой
теории. Уже после смерти Коопа, в 1897 г., стал обнаруживаться решительный поворот в воззрениях ученых этой страны,
и были произведены очень ценные наблюдения и опыты, доказывающие широкое поле действия естественного отбора.
Быть может, самое замечательное исследование в этом
направлении находим мы в превосходной, недавно появившейся в Америке-, книге сэра Вильяма Лоренса Тоуера, заключающей результаты многолетних наблюдений и опытов над
•
размножением и расселением нескольких видов жуков рода
Лептинотарза из семейства Хриземелид. К общим результатам этого исследования должно отнести следующий вывод:
«В настоящее время не существует ни одного факта, подтверждающего возможность наследования приобретенных соматических изменений или их воздействия на зародышевую
плазму». Новое доказательство, что основное положение ламаркизма — наследственность подобных качеств — в основе
неверно. А тот факт, что, вопреки заявлениям ламаркистов,
не удостоверено ни одного случая подобной наследственности,
делает невозможной защиту учения, выведенного на таком шатком основании.
М. Тоуер приходит в заключение к следующему выводу:
«Я того мнения, что эволюция рода Лептинотарза и вообще
животных шла в прямом и непрерывном направлении, производя новые виды из мигрировавших рас в силу их прямой
отзывчивости к условиям существования. В этой эволюции
естественный отбор оказывал свое действие, определяя сохранение вновь возникавших разновидностей».
Если мы примем в расчет, что во всех тех многочисленных
случаях, где теория Ламарка не в силах дать какое-нибудь
объяснение фактам, теория Дарвина их объясняет в малейших
подробностях, то не удивимся тому, что каждый внимательный
исследователь, знакомящийся с этими фактами путем их непосредственного наблюдения, приходит к заключению о полной
несостоятельности первой теории в качестве объяснения происхождения видов.
Следующая теория, на которой нам приходится остановиться, — более новая теория мутаций, основанная доктором
Гуго де-Фризом из Амстердама, изложившим ее в своем труде
«Теория мутаций». Труд этот представляет два больших тома,
посвященных пространному изучению различных форм вида
Oenothera Lamarkiana, одичавшего в Голландии так же, как
другой вид этого рода Oenothera biennis одичал в Англии и
других странах. Разводя это растение от семян в большом
числе экземпляров в течение нескольких лет, Де-Фриз подметил
несколько особей, настолько отличавшихся по внешнему виду,
форме листьев, способу роста, размерам, что они казались будто
бы новыми видами. Эти формы были им названы «мутациями»,
причем он утверждал, что они так же верно воспроизводятся
семенами, как и материнское растение. На основании этого он
заключил, что они — действительно новые виды, при появлении
которых ему удалось присутствовать. Исходя из этого опыта
над одним видом растения, он пришел к колоссальному выводу,
что именно таким путем, таким скачком образуются вообще новые
виды, а не медленным путем изменчивости и отбора, как утверждал Дарвин. Однако же все его усилия подметить что-либо
подобное хотя бы у одного дикорастущего европейского растения оказались тщетными.
Не следует забывать, что род Энотера почти исключительно
принадлежит Америке и отсутствует в Европе и Азии. Сверх
того, растение, носящее название Oenothera Lamarkiana, совершенно неизвестно в диком состоянии ни в Америке, ни в
какой другой стране. Полагают, что оно возникло в парижском
Jardin des Plantes*, на основании чего высказывают мнение,
что это — помесь двух или более видов, там разводившихся,
а известно, что помеси нередко дают начало новым уклоняющимся формам. Таким образом, не представлено никакого доказательства в подтверждение появления таких мутаций в
естественном состоянии, кроме разве исключительно редких
случаев. Делать же вывод, что они были и продолжают быть столь
многочисленными, что именно им и не чему иному следует приписать происхождение всех существующих видов и приходить
к этому заключению на основании явлений, наблюденных у
одного вида, предки которого к тому же совершенно неизвестны,— очевидно, противно здравой логике.
Чтобы показать, до чего доходят притязания, предъявляемые сторонниками этой теории, остановлюсь только на недавней статье профессора А. В . Губрехта, появившейся в «Popular
science Monthly». Он заявляет, что исследования Де-Фриза
доказали, что в природе никогда не возникает новых видов
путем колеблющейся вариации, а появляются они исключительно путем «мутации». Он поучает нас, что через сорок лет после
Дарвина «рождение вида было действительно
им (т. е. Де* Ботаническом саду.
Ред.
•
Фризом) наблюдено», разумея под этим указанный только что
случай появления уклонений (sports) у Энотеры неизвестного
происхождения. Он утверждает далее, что «пока не появилась
мутация, не может появиться и нового вида; вид сам по себе
постоянен и только подвержен изменениям, колеблющимся в
известных границах, никогда не выходящих за пределы вида,
не дающих начала новому виду». В заключение он заверяет,
что Де-Фриз «первый показал резкое различие между случайной вариацией и вариацией колеблющейся и доказал, что только
первая, а не последняя вызывает в природе образование новых
видов». И все эти решительные, самоуверенные заявления относительно того, что имело место во всей области органической
природы за все время ее развития, основываются, как сказано,
на опытах всего с одним растением, — опытах мало убедительных, так как они произведены не над дикорастущим видом,
а, по всей вероятности, над помесью. Едва ли когда-нибудь,
за память истории науки, такая громада теории воздвигалась
на почве такого ничтожно малого факта.
А теперь познакомимся с тем, что небольшое число выдающихся биологов думает об этих ни с чем несообразных притязаниях. Едва ли, среди живущих ученых, существует более веский авторитет по вопросу об изменчивости культивируемых и
дикорастущих форм растений, чем сэр Виллиам ТизельтонДайер, бывший много лет директором ботанического сада в
Кью, и вот как он выраіжается в заключении тщательного обсуждения этого вопроса в своей прошлогодней статье, помещенной в «Nature». «Что мутации рано или поздно появляются у
культурных растений— не предположение, а факт. Если, как
утверждает М. Локк, шансы их возникновения одинаковы как
в природе, так и в культуре, то в природе случаи их появления
должны быть несравненно более часты, чем в культуре, так
как естественное население неизмеримо более культурного.
Но на деле этого не наблюдается. Отсюда я заключаю вместе
с Дарвином, что культурой создаются условия, вызывающие
это явление и отсутствующие (или таящиеся в скрытом состоянии) в природе». В предшествовавшей своей статье Дайер
доказал, что подобные мутации в природе не могут сами собою
сохраняться и, следовательно, по самому своему существу не-
пригодны для образования новых видов. Этого именно мы
были в праве ожидать, потому что эти крупные случайные изменения (sports, как их зовут садовники), появляясь крайне
редко, представляют все шансы против того, чтобы в них могли
осуществляться те приводящие нас в изумление приспособления к органической и неорганической среде, да еще как раз
в том самом месте и в то самое время, где и когда они появляются. А в таком случае они естественно должны вымирать.
Обращаясь к животному миру, мы встречаемся опять с
исследованиями того же М. Тоуера, который нашел несколько
примеров «мутаций» при своих долголетних исследованиях над
родом Лептинотарза и изучил их и с тою же тщательностью,
как и другие случаи изменчивости. Он приходит к заключению,
что «все наследственные изменения ведут себя совершенно
сходно и ни в одном случае нельзя найти доказательства в пользу какого-нибудь основного различия между „мутантами" и
другими формами наследуемой изменчивости». «Следовательно,
нет никакого коренного различия, по отношению к происхождению видов, между постепенной слабой изменчивостью и крупными скачками, это—только пределы одного и того же процесса».
Все сказанное подсекает в корне теорию мутаций, потому
что, с одной стороны, случаи колеблющейся изменчивости бесконечно часты и обнаруживаются одновременно во всевозможных направлениях, а с другой стороны, мутации, по допущению самих защитников этой теории, крайне редки и одновременно совершаются в одном или в очень ограниченном числе направлений. Отсюда всякому ясно до очевидности, что первые
дают материал для приспособления организмов к изменяющимся
условиям, а вторые не дают его.
Но, быть может, самое убедительное доказательство полной
несостоятельности теории мутаций приведено профессором
Е . Поултоном в предисловии к его только что появившейся книге
«Essays on Evolution»*. Оно доставляется
бесчисленными
примерами защитного сходства и подражания (мимикрии), составляющими такую выдающуюся особенность насекомых всего света, в особенности же тропических стран. Таковы много* Очерки эволюции.
34
К. А. Тимиряясч, т. У11
Ред.
численные случаи сходства внешней формы и особенно полного
сходства в очертаниях и окраске крыльев мотыльков и ночных
бабочек, глубоко различающихся по своему строению и часто
относящихся к группам, далеко стоящим одна от другой, причем ночные бабочки то походят на мотыльков, то на ос. Эти
сходства до того полны в малейших своих подробностях, что,
по словам Поултона, так же легко поверить, что они произошли в силу внезапной мутации, как и поверить, что случайным
ударом молотка по долоту можно из куска железа получить
ключ, вполне прилаженный к хитрому секретному замку.
Только тот, кто сам наблюдал в природе эти изумительные
естественные копии или изучал их на коллекциях в музеях
или хоть на крашеных рисунках, может вполне оценить всю
вескость этого аргумента, но для того, чтобы показать, как
точны эти подражания, скажу только, что даже такой опытный
специалист, как покойный профессор Вествуд, в течение нескольких месяцев хранил в своей коллекции, как образцы одного
вида, двух жуков, относящихся к различным семействам, даже
различным подотрядам. А я полагаю, любой собиратель бабочек
под тропиками ловил и приносил домой, каі{ представителей того же вида, бабочек, которые при ближайшем исследовании оказывались относящимися к различным родам и даже семействам.
В Оксфорде, в музее Гопа, профессор Поултон собрал обширную коллекцию, так искусно подобранную, что она обнаруживает всю сложность и в то же время широкую распространенность этого явления. Всякому, кто заинтересовался бы
этим явлением, можно посоветовать нарочно съездить в Оксфорд,
чтобы тщательно изучить эту коллекцию под руководством
самого профессора Поултона. Этого одного уже было бы достаточно для того, чтобы рассеять всякие сомнения насчет относительной ценности теории мутаций и теории Дарвина в качестве удовлетворительного объяснения происхождения видов
растений и животных.
*
Переходим теперь к третьей современной теории, относительно которой даже в широких кругах распространено мнение,
будто она у большинства эволюционистов заменила дарвинизм.
Эта теория слывет под названием менделизма. Для читателейнеспециалистов не мешает возможно кратко и просто пояснить,
что такое менделизм.
И. Г . Мендель, сын зажиточного силезского крестьянина,
был в 1847 г. посвящен в католические монахи, изучал затем,
в 1851—1853 годах, естественную историю и физику в Вене,
вернулся в свой монастырь в Брюнне, где вскоре и был назначен настоятелем. В течение многих лет он делал в своем монастырском саду опыты над получением растительных помесей
и открыл закон] имеющий применение к скрещиванию некоторых
растений и теперь известный под именем «закона Менделя».
Труд свой он напечатал (в двух статьях) в «Трудах Общества
естествоиспытателей в Брюнне» в 1886 г., где он и оставался
погребенным, пока на него не было обращено внимание континентальных ботаников в 1900 г.
Главные его опыты были произведены над обыкновенным
огородным горохом, представляющим, как всякому почти
известно, две формы или разновидности: одну—с семенами в
зрелом состоянии желтыми и другую — с семенами голубовато-зелеными. К первой относится обыкновенный сухой горох наших зеленщиков и вообще многие старые грубые сорта
огородного гороха, к последней —- так называемый marrorofat
и другие высокие сорта столового гороха. Они имеют, кроме
того, и много других отличительных признаков семени, стручка,
листвы, роста и т. д. Каждая из этих разновидностей, как известно всякому, передается семенами.
Но когда обе разновидности скрещиваются, по наблюдениям Менделя, помеси оказываются одного сорта. Т а к , например, при скрещивании желтого и зеленого гороха все гибриды
были желтого цвета. Отсюда в этой паре форм Мендель желтую
назвал «доминирующей»; Дарвин, как известно, ранее назвал
такие формы «осиливающими» (prepotent). Но специальное открытие Менделя заключалось в том, что когда эти желтые
горохи — продукт
первого скрещивания — разводились отдельно, они, вместо того, чтобы производить исключительно
желтые, производили и те и другие, приблизительно в отношении трех яіелтых к одному зеленому, причем и те и другие встречались-в одном и том же плоде. Но с третьего поколения обнару-
живается еще новый сюрприз. Между тем как «зеленые» верно
передают свой признак, оказывается, что желтые заключали
только одного желтого, верно передавшего свои признаки, тогда
как потомство остальных двух желтых разбилось на желтых
и зеленых приблизительно в том же отношении, как и вначале.
В конечном ряде поколений оказывается, что и желтые и зеленые,
передающие верно свои признаки, встречаются приблизительно
в равных количествах, откуда вытекает, что термин «доминирующих» признаков не обозначает собой какого-нибудь постоянного свойства, а лишь временную особенность, уже через
несколько поколений обеспечивающую только ничтожное численное превосходство. В конечном результате, закон Менделя,
повидимому, выражает стремление воспроизводить
известные
пары признаков без их взаимного
смешения.
Постоянство признаков иа первый взгляд может способствовать образованию нового вида, и многие мендельянцы действительно выдвигают вперед это обстоятельство, но понятно,
что результат этот будет вполне зависеть от природы признаков.
Ясно, что если они окажутся хотя бы в самой ничтожной мере
вредными для организма, то будут противодействовать его приспособлению и потому в силу естественного отбора будут
подлежать вымиранию. Профессор Ж . А. Томсон сообщает,
что мендельянские явления были подмечены не только у гороха,
но и у мышей, кроликов, кур, слизняков и других животных
и растений. Однако во всех случаях, по крайней мере, один из
предков происходил от внезапного изменения (sport), появившегося вследствие перехода в культурное состояние, или же
от сомнительной естественной разновидности, или «мутации».
Одна из мышей была, например, альбиноска, один из кроликов—
или альбинос, или длинношерстый; у куриных помесей петух
отличался ненормальным гребнем; у рогатого скота один производитель был безрогий и т. д.; а из двух скрещенных европейских крапив (Urtica pillulifera и U. Dodartü) последняя форма с почти цельнокрайними листьями неизвестного происхождения и не встречается в списках видов ни у Гукера, ни у Нимана.
Очевидно,что мы имеем здесь дело с формами ненормальными,
редко или никогда не встречающимися в природе как формы
постоянные, способные сами собой поддерживать свое сущеетво-
вание. Любопытные явления, представляемые ими прп скрещивании с близкими культурными или естественными формами,
хотя и представляют глубокий интерес, как материал для общей
теории наследственности, не имеют никакого прямого отношения к вопросу о превращении видов.
Не следует забывать, что результаты мендельянских опытов
далеко не всегда постоянны, так как различные наблюдатели
нередко приходили по отношению к тем же самым или очень
близким формам к совершенно различным результатам, примеры
чего приведены у проф. Томсона. И немало потрачено остроумия на то, чтобы сгладить эти противоречия (или попросту отделаться от них).
К тому же сама основная идея этого учения вовсе не так
нова, как обыкновенно утверждают, так как большая часть
сюда относящихся фактов была известна Дарвину. Он приводит
факт, что уже в 1729 г. было замечено, что белый и синий горох,
посаженные рядом, давали помеси, а осенью находили в том
же стручке семена обоих цветов и ни одного семени смешанной
окраски. Вигман, Гертнер и Берклей повторяли эти опыты и
вполне подтвердили их результаты («Animals and Plants under
domestication», vol. l , p . 3 9 7 * ) . Основной факт менделизма, а
именно, что известные признаки не сливаются при скрещивании, не только был известен Дарвину, но и был подвергнут
им тщательному обсуждению. Мы находим у него целый интересный параграф, так и озаглавленный «О некоторых признак а х , которые между собой не сливаются», начинающийся так:
«Когда две породы скрещиваются, их признаки обыкновенно
вполне между собой сливаются; но существуют признаки, которые отказываются смешиваться и передаются в неизмененном состоянии или одним или обоими родителями. Мыши, получаемые от скрещивания белых и серых мышей, не бывают пегими
или промежуточной окраски, а или белыми, или серыми. То
же наблюдается и при скрещивании обыкновенных и белых
голубей. Относительно боевых петухов такой крупный авторитет, как М. Ж . Дуглас, замечает: „Могу упомянуть странный
факт: если скрещивают черные и белые породы, то получают
397.
* «Животике и растения в одомашненном состоянии», том I, стр.
Ред.
чистейших белых и чистейших черных".Сэр Р. Герон скрещивал в течение многих лет белых, черных, коричневых или бурых
ангорских кроликов и ни одного раза не получал этих мастей
смешанными в одном животном, но нередко все четыре в одном
помете. Можно было бы привести и другие примеры, но эта
форма наследственности далеко не представляет общего случая
даже в применении к самым различным окраскам. Когда датские собаки или ангорские овцы, представляющие, те и другие,
укороченные конечности, скрещиваются с обыкновенными породами, то помеси не представляют средних форм, а родятся
в одного из родителей. Когда бесхвостые или безрогие породы
животных скрещиваются с нормальными особями, их помеси
обыкновенно, но не всегда, бывают или снабжены нормальными
хвостами и рогами, или вовсе их лишены». Дарвин приводит
затем ряд случаев, где при скрещивании получаются отчасти
промежуточные формы, как, например, при скрещивании доркингских кур, безволосых собак, цельнокопытных свиней с
их нормальными типами. Он затем рассматривает сходные
явления у растений, где наблюдаются еще более любопытные
факты. Майор Тревор Кларк произвел скрещивание между
мелкой однолетней породой с гладкими листьями и другой
двухлетней с волосистыми листьями и получил семена наполовину гладколистой, наполовину волосатой формы и ни одного
экземпляра промежуточного.
«В последующих поколениях, выведенных из семян, давших волосистые листья, появилось несколько гладколистых, обнаруживая этим, что
признак гладколистости, хотя он и не сливается с признаком волосистости, таится в скрытом состоянии в этом семействе растений; многочисленные вышеупомянутые растения, которые я выводил путем скрещивания
между пелорическими и обыкновенными антиринумами, представляют
почти параллельный случай; в первом поколении все растения походили
на обыкновенную форму, а в последующих поколениях из 137 растений
только два представляли промежуточное состояние, остальные же вполне
походили или на пелорическую, или на обыкновенную форму».
В этих двух последних случаях мы встречаем чистейшие
примеры Менделева закона, по которому продукт первого
скрещивания, представляющий все признаки одного из родителей, приносит семена, дающие в следующем поколении растения с чистыми признаками обеих исходных форм. И если бы
М е н д е л ь вовсе не делал с в о и х опытов или н и к о г д а не публиковал
и х р е з у л ь т а т о в , з д е с ь н а х о д и л и с ь в с е о с н о в ы т о г о , что т е п е р ь
называется
в
1868 г.
менделизмом.
Напечатаны
эти
строки
Дарвином
и о с т а л и с ь ф а к т и ч е с к и н е и з в е с т н ы м и тем легионам
современных ученых,
в рядах
которых н а х о д я т с я люди,
в о з г л а ш а ю щ и е , ч т о т р у д М е н д е л я — «одно и з с а м ы х
про-
крупных
п р и о б р е т е н и й , к о г д а - л и б о с д е л а н н ы х в о б л а с т и в с е й биологии».
П р и ч и н а , п о ч е м у Д а р в и н не п р о д о л ж а л д а л е е с в о е г о и с с л е дования т а к , чтобы открыть численный закон,
проявляющийся
в с л е д у ю щ и х п о к о л е н и я х , я с н а из его з а к л ю ч и т е л ь н ы х
заме-
ч а н и й по этому п о в о д у . В о - п е р в ы х , н а о с н о в а н и и м а с с ы ф а к т о в ,
с о б р а н н ы х и м в т е ч е н и е 2 0 л е т , он в п о л н е у б е д и л с я , что с к р е щ и в а н и е о ч е н ь р а з л и ч н ы х м е ж д у собою форм н е имело н и к а к о г о
з н а ч е н и я по о т н о ш е н и ю к е с т е с т в е н н о м у п р о ц е с с у
образования
в и д о в . Это я с н о в ы р а ж е н о в е г о з а к л ю ч и т е л ь н ы х с л о в а х в к о н ц е
параграфа, которые я и приведу
здесь:
«Достойно замечания, — и на этом особенно настаивал Изидор Жоффруа Сент-Илер по отношению к животным, — что передача признаков
без их слияния очень редко наблюдается при скрещивании видов. Мне
известно только одно исключение из этого правила, — именно естественная помесь между двумя воронами (Corvus corone и Corvus cornix), представляющими очень близкие виды, так как они отличаются только окраской 1 .
А равно мне неизвестно ни одного достоверного случая такого рода передачи даже при значительном преобладании одной формы над другой и в
тех случаях, когда скрещиваются две породы, образовавшиеся путем
медленного отбора человеком и потому до известной степени напоминающие естественные виды. Все вышеперечисленные признаки, передающиеся
полностью одним потомкам и вовсе не передающиеся другим, — каковы
различия в окраске, отсутствие волос, гладкие листья, отсутствие рогов
или хвоста, добавочные пальцы, пелоризм, карликовые размеры и -Е. д., —
как известно, могут появиться внезапно у отдельных особей животных или
растений. Из этого факта, а равно из того обстоятельства, что некоторые
слабо связанные отличия, которыми различаются между собою искусственные породы и виды, не обнаруживают
этой особенной формы
наследственной передачи, мы в праве заключить, что она каким-то образом связана с
внезапным появлением этих признаков, о которых . идет речь» (Animals
and Plants, vol. II, pp. 92—93).
1 Покойный профессор Ньютон считал их за один вид. Он говорит,
что продукт скрещивания иногда представляет смешение признаков обоих
родителей,
так что и этого «единственного исключения», допущенного
Дарвином, на деле не существует.
Мне кажется, что на трех страницах, из которых приведены
мною выписки, Дарвин дал лучшее представление об истинной
природе мендельяиской наследственности и ее отношении к
вопросу о происхождении видов, чем может доставить нам изучение бесконечных таблиц и диаграмм, постоянно предъявляемых нам мендельянцами в сопровождении трубных звуков и
заверений об их колоссальной важности.
В качестве существенной составной части общей схемы
органической эволюции явления эти представляют, по моему
мнению, самое ничтожное значение. Берут начало они от изменений по существу ненормальных, все равно назовем ли мы
их разновидностями, «мутациями» или «игрой» (sports). Эти
аномалические формы в естественном состоянии крайне редки
по сравнению с всегда наличного индивидуальною изменчивостью, колеблющеюся в широких пределах, охватывающею
любую часть, любой орган и доставляющею обильный материал
для отбора человеком ли или природой. Самая непрочность
этих аномалий, равно как и ограниченность признаков, ими
охватываемых, доказывает, что они, так сказать, — отбросы
из мастерской природы, как это ясно вытекает из того факта,
что они не сохраняются в естественном состоянии. Мне представляется, что наиболее вероятное истолкование этих явлений
сводится к следующему. Самая непрочность и редкость рассматриваемых признаков полезна для вида, в котором они проявляются, так как это обстоятельство при естественных условиях определяет более верное и скорое исчезновение обладающих ими существ. А это их уничтожение устраняет вредные
последствия, которые могли бы явиться или как результат их
конкуренции с нормальной формой в период ее медленного
приспособления, или как результат их замедляющего влияния
на этот процесс приспособления нормальных форм, в силу скрещивания с -ними. Я полагаю, что всякий вид, который давал
бы начало большому числу таких ненормальных и не поддающихся изменению особей, был бы настолько задержан ими в процессе образования необходимых приспособлений, когда эти
приспособления оказались бы необходимыми, что всему виду
грозила бы опасность истребления. Отсюда, из числа близких
между собою видов те, которые давали бы начало наименьшему
числу таких ненормальных форм, были бы лучшим образом приспособлены к тому, чтобы стать родоначальниками новых видов
во всех тех случаях, когда изменившиеся условия вызывали бы
потребность в новых приспособлениях.
Но отрицать за этими отверженцами природы какое-нибудь
значение в нормальном процессе органической эволюции еще
не значит утверждать, что их изучение не имеет известного
значения в разъяснении таинственных явлений наследственности. Изучение болезней во всех их странных проявлениях,
равно как и многочисленных уродливостей строения, изредка
наблюдаемых в человеческом теле, могло, без сомнения, порой
пролить свет на некоторые темные физиологические процессы
и раскрыть необходимые условия здоровой жизни, но никому
не придет в голову считать их существенной основой процессов, совершающихся в здоровом теле и определяющих его
здоровый рост.
Перед тем, кто в течение значительной части своей жизни
изучал природу и в поле, и у себя в кабинете, и дома, и в дальних странах, необъятная совокупность, представляемая органическим миром с его несметными видовыми формами, их бесчисленными взаимными отношениями и приспособлениями, с
законами их развития в прошлом и их распределения в настоящем, выступает во всем своем подавляющем величии и красоте.
Почти все эти люди, с любовью изучавшие природу, в теории
Дарвина, в его многочисленных трудах, будивших мысль, а
также в трудах его друзей и последователей приветствовали
единственную путеводную' нить в этом лабиринте природы.
Всем этим исследователям природы притязания мутационистов и мендельянцев, предъявляемые многими из их плохо осведомленных сторонников, являются только смешными благодаря преувеличениям и полному непониманию содержания
той задачи, которую, по их заверениям, они первые разрешили.
Ставить на пьедестал, превозносить эту узенькую, крайне
специальную сторону биологического исследования, как будто
она включает в себе все явления, все задачи биологического
космоса, значит делать просто смешный то, что, оставаясь на
своем месте, могло бы представить интересную и полезную область изучения. Для меня лично эти чудовищные притязания
вызывают воспоминания о тех не менее восторженных и настолько же плохо осведомленных поклонниках бессмертного Пиквика, которые полагали, что его «Размышления о происхождении гамстедских прудов с прилояшнием некоторых соображений
о теории колюшек»1 — величайшее научное произведение своего времени.
В заключение я бы предложил тем из моих читателей, которые действительно интересуются великими вопросами, связанными с именем Дарвина, но кому не приходилось самим
изучать относящихся сюда фактов в поле или библиотеке для
получения ясного представления о том, вокруг чего вертятся
современные споры, прочесть, по крайней мере, по одной книге
с той и с другой стороны. В качестве первой я бы посоветовал
книгу М. Р. Г . Локка «Variation, Heredity and Evolution» *
(1906), как единственную английскую книгу, излагающую весь
предмет с точки зрения мендельянцев и мутационистов. Когда они одолеют ее, я бы пригласил их прочесть мою книгу
«Дарвинизм» (1901), хотя и появившуюся до распространения
менделизма, но дающую понятие, к тому же на понятном
всякому языке, о тех обширных областях фактов, для которых
теория Дарвина дает объяснения. Там же читатель найдет и
достаточный запас фактов в подтверждение
совершенной
несостоятельности попыток какой бы то ни было иной теории
объяснить всю совокупность относящихся сюда явлений.
Прочтя эти две книги и вновь взвесив доводы, приведенные
в этой статье, читатель будет в состоянии составить себе собственное суждение по вопросу, представляет ли дарвинизм
только «неудачную гипотезу» или нечто иное.
1 Слово Tittlebat, которое стоит здесь у Диккенса (вместо обычных
Prickleback или Stickleback), имеет два смысла — колюшка и олух. Примечание
переводчика.
* «Изменчивость, наследственность и эволюция». Ред.
Статьи
К» А» ТИМИРЯЗЕВА
О ДАРВИНЕ,
н е в о ш е д ш и е в книгу
«чарлз д а р в и н h е г о у ч е н и е »
-
<
КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ ЧАРЛЗА ДАРВИНА *
овут меня Чарлз Дарвин. Родился я в 1809 году,
учился, проделал кругосветное плавание — и снова
учился». Т а к ответил великий ученый назойливому
издателю, добивавшемуся получить от него биографические сведения. По счастью, о жизни этого человека,
изумлявшего и обворожившего всех своею почти невероятною скромностью, сохранились более обильные документальные сведения в напечатанных после его смерти «Автобиографии»
(предназначавшейся исключительно для семьи) и пяти томах
переписки, тщательно собранной и изданной его сыном Фрэнсисом и профессором Сюардом. На основании этих источников,
по возможности выражаясь словами самого автора, был состав* Эта статья была опубликована в сборнике «Памяти Дарвина»,
М., изд. «Научное Слово», 1910. Ред.
лен по случаю кэмбриджского чествования его памяти краткий,
прекрасно иллюстрированный биографический очерк, раздававшийся всем приезжим и, кажется, не поступивший в печать.
Эта краткая биография, кое-где дополненная, легла в основание предлагаемого очерка.
Родился Дарвин 12 февраля 1809 года в Шрюсбери, в доме,
сохранившемся до сих пор и живописно расположенном на
берегу р. Северна. Дед его был известен как ученый, медик,
поэт и один из ранних эволюционистов*. Об отце Дарвин отзывался, как о «самом умном человеке, какого он знал», из его
качеств отличал удивительно изощренную способность к наблюдению и горячую симпатию к людям, «какой я ни в ком
никогда не встречал».
В школе Чарлз, по собственному его отзыву, ровно ничему
не научился, но сам забавлялся чтением и химическими опытами, за что получил прозвище «газ». В позднейшие годы, на
опросные пункты своего двоюродного брата, знаменитого статистика Гальтона, дал следующий ответ. На вопрос «Развила
ли в вас школа способность наблюдательности или препятствовала ее развитию?» — ответ: — Препятствовала, потому
что была классическая. На вопрос: «Представляла ли школа
какие-нибудь достоинства?» — ответ был еще лаконичнее: —
Никаких. А в общем выводе «я считаю, что всему тому ценному,
что я приобрел, я научился самоучкою».
* В энциклопедическом словаре Граната (издание 7-е, том 18, стр. 1)
К. А. дает о деде Ч. Дарвина следующую справку:
«Дарвин, Эразм (1731—1802) — д е д Чарлза Дарвина, медик, ученый
и автор многочисленных дидактических поэм во вкусе его времени («Любовь растений», «Ботанический сад», «Храм природы, или происхождение
общества», «Святилище природы»), отличающихся неподдельным энтузиазмом к науке и любовыо к природе, но без поэтических достоинств. Из
ученых произведений обратили на себя внимание «Фитология», или философия земледелия и садоводства, и «Зоономия». Особенно последняя
(имеется в русском переводе пр. Холодковского), а равно и некоторые места поэм дают Э. Дарвину право считаться одним из предвестников эволюционного учения. Особенно сходны его мысли с тем, что позднее высказывал Ламарк. Очерк жизни Дарвина, составленный Ч. Дарвином, приложен к книге Эрнеста Краузе «Erasmus Darwin». Дарвин имел сына Роберта — отца Ч. Дарвина, и дочь Виолетту — мать Гальтона». Ред.
Шестнадцати лет он был вместе со старшим своим братом
в Эдинбургском университете, где слушал лекции на медицинском факультете. Через два года перешел в Кэмбриджский университет, где по желанию отца перешел на теологический факультет. Е г о серьезно заинтересовало только
«Натуральное богословие» знаменитого Паллея (выдержавшее
19 изданий) 1 . Три человека имели на него несомненное влияние:
это были Генсло, Седжвик и Юэль. Первый, к а к ботаник и,
повйдимому, как высоко нравственная личность; ему же
Дарвин был обязан и тем, что, по его собственному признанию, «сделало возможным и все
остальное в моей
жизни», т. е. кругосветное путешествие на «Бигле». Если
с Генсло он делал экскурсии по соседним болотам (fens),
которыми гордится Кэмбридж, то с Седжвиком он карабкался по необитаемым горам Уэльса и научился умению
делать геологические разведки еще не исследованных мест,
что особенно пригодилось ему в путешествии. Наконец, о
Юэле (астрономе и авторе известной «Истории индуктивных
наук») он отзывался, что он был одним из двух встреченных им
в жизни людей, поражавших его увлекательностью своего
разговора на научные темы. Тем не менее, и время, проведенное им в Кембридже, он считал почти потерянным, хотя «в общем итоге самым веселым в своей счастливой жизни». С увлечением занимался он только собиранием жуков.
Настоящей его школой было пятилетнее (с 1831 по 1836 г.)
кругосветное плавание. Уезжая, он увозил с собой только что
вышедший первый том «Основ геологии» Лайеля. Снабжая
Дарвина этой книгой, Генсло советовал ему пользоваться ее
богатым содержанием, но не останавливаться на слишком смелых идеях реформатора геологии. Дарвин последовал совету,
выполнил его только наоборот — он не остановился, а ушел
вперед гораздо далее своего учителя, каким всегда с благодарностью признавал Лайеля.
1 Каково было содержание этого богословия и почему оно оставило
такое сильное впечатление на Дарвина, можно судить по следующему
факту: около того же времени при составлении зоологического музея
в Оксфорде руководились мыслью, чтобы он мог служить наглядным пособием при изучении книги Паллея [Пэли].
Наиболее поразили его п в то же время оказали наибольшее
влияние на всю его дальнейшую деятельность четыре факта.
Во-первых, постепенная смена органических форм по мере перемещения с севера на юг по восточному и с юга на север по
западному берегу Южной Америки. Во-вторых, сходство между
ископаемой и современной фауной той же страны. И в третьих,
черты сходства и различия обитателей отдельных островов
архипелага Галапагос как между собою, так и с обитателями
соседнего континента/Четвертым несомненным глубоким впечатлением, вынесенным из этого путешествия, отразившимся
гораздо позднее на его отношении к вопросу о происхождении
человека, было первое впечатление, произведенное на него
туземцами Огненной Земли; воспоминание о нем выразилось в
известных словах, что ему легче примириться с мыслью о
далеком родстве с обезьяной, чем с мыслью о близком происхождении от людей, подобных тем, которых он увидал при первой высадке на Огненную Землю.
Через год по возвращении в Англию (в 1837 г.) он начинает
свою первую записную книяжу, в которую заносит все имеющее
отношение к вопросу о происхождении видов. Задача с первого же раза охватывается им со всех сторон, как это видно даже
из одной странички этой записной книжки 1 . Но только через
два года, в 1839 году, перед ним раскрывается путеводная нить
к этому лабиринту хотя и согласных, но продолжающих быть
непонятными свидетельств в пользу единства происхождения
всех органических существ. Чтение книги Мальтуса и близкое
знакомство с практикой приводят его к выводу о существовании
«естественного отбора», т. е. процесса устранения всего несогласного с условиями существования и, следовательно, сохранения всего согласного с ним, предустановленного, гармоничного,
целесообразного, как выражались теологи и телеологи, полезного, приспособленного, как будет отныне называться эта коренная особенность организмов.
Краткий очерк всей теории, набросанный в 1842 г. (на 35
страницах) и в первый раз отпечатанный и розданный в подарок
1 Она приложена к первому тому полного русского перевода сочинений Дарвина. Издание Ю. И. Лепковского. Москва, 1909 г. (См. эдесь
рклейку.
Ред.].
Страница
w o
[С
из записной
^ і -
книжки
Ч. Дарвина
frzztby
l ' ^ U J , -
1837
года
, - J y
L ^ J ^
^ o ^ d
UMJ^
rf JUx
•<J
^
^
t ^ v j
• ^
,
С coeurs
^7*-
t- Ü U
^
t- L ~
/
^
Ww - t e d
k y ^
—
^
i
. . M r * -
0
^
/-w
* привело к пониманию истинного" сродства. Моя теория дала бы толчок сравнительной анатомии современной и ископаемой: она привела бы к изучению инстинктов
наследственности, умственной наследственности, всей метафизики — она привела бы
к тщательному рассмотрению гибридизации и воспроизведения причин изменчивости,
затем, чтобы узнать, откуда мы происходим и куда стремимся — какие обстоятельства
способствуют скрещиванию и какие препятствуют ему, эти и непосредственные наблюдения прямых переходов в строении видов могли бы привести к законам изменчивости,
которые составили бы главный предмет изучения и руководили бы нашими умозрениями.
i
•
всем ученым, собравшимся на чествование Дарвина в Кэмбридже
в настоящем году, не оставляет никакого сомнения, что за двадцать лет до появления «Происхождения видов» основная идея
этого труда уже вполне сложилась в голове автора, а некоторые
положения вылились в ту же самую форму, в которой потом
стали известны всему миру А И однако потребовались эти двадцать лет для того, чтобы свести в систему тот колоссальный оправдательный материал, без которого он считал свою теорию
недостаточно обоснованной. Впрочем, два обстоятельства * мешали ему вполне сосредоточиться на главном труде его жизни.
Во-первых, обработка привезенного из путешествия громадного материала и специальные исследования по геологии и зоологии. Из числа первых доставила ему особую известность монография о «коралловых островах», заставившая Лайеля отказаться от своих прежних теорий. Еще более времени поглотило
зоологическое исследование об «усоногих раках», живущих
и ископаемых. Эта работа, по его собственному мнению и по
мнению компетентных его друзей, была практической школой
для реального ознакомления с тем, что такое вид. «Не раз, —
пишет он сам, — я то соединял несколько форм в один вид,
с его разновидностями, то разбивал его на несколько видов,
повторяя эту операцию до тех пор, пока с проклятием не убеждался в ее полной бесплодности». Эта тяжелая, суровая школа
навлекла на него же насмешки Бульвера, изобразившего его
в одном из своих романов чудаком, убивающим десятки лет
на изучение каких-то ракушек. Более широкую известность,
чем эти специальные труды, доставил ему «Журнал путешествия
на Бигле», обративший на себя внимание Гумбольдта и по своей
легкой, доступной форме ставший одним из любимых произведений охотно читающей путешествия английской публики.
Другим и еще более важным препятствием, мешавшим ему
быстрее подвигаться в своей главной работе, весь план которой
был у него вполне готов, была постоянная неизлечимая болезнь,
явившаяся результатом переутомления от усиленных занятий
в первые годы по возвращении из путешествия. Во всю после1 Этим окончательно устраняется и всякое сомнение насчет его приоритета перед Уоллесом, который в это время был двадцатилетним землемером.
35
І(. А. Тимирязев,
т.
VII
545
дующую жизнь трех часов усидчивых занятий было достаточно,
чтобы привести его на весь остальной день в состояние полного истомления. «Никто, кроме моей матери, — пишет в своих
воспоминаниях Фрэнсис Дарвин, — не может себе составить
понятия о размерах испытанных страданий и его изумительном терпении. Она заботливо ограждала его от всего, что могло
причинить ему малейшую неприятность, не упуская ничего,
что могло избавить его от излишнего утомления и помочь ему
сносить тягость постоянного болезненного состояния».
В том же 1842 г. он переселился из Лондона в деревню,
в Даун, в Кенте, откуда писал: «моя жизнь идет, как заведенные часы, я, наконец, прикреплен к той точке, где ей суждено
и окончиться». Эти мрачные мысли, навеянные постоянною
болезнью, дошли до того, что он составил завещание, в Котором просил жену озаботиться изданием рукописи, которая с 35
страниц (1842 г.) разрослась до 230 страниц, поручая эту заботу своему лучшему другу — Гукеру. По счастью, предчувствия его обманули — впереди было еще сорок лет изумительной деятельной жизни, увенчавшейся небывалой славой.
В 1856 г., по настоянию Лайеля, он принялся за свой главный труд, задуманный в размере, превышавшем раза в три
окончательную форму «Происхождения видов». В 1858 г. он
получил известное письмо от Уоллеса
результатом чего было
представление Гукером и Лайелем обеих записок Дарвина и
Уоллеса в Линнеевское общество.
Через год, 24 ноября 1859 г., вышла его книга «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение избранных пород в борьбе за жизнь». Все издание разошлось в один
день.
В следующем, 1860 году, произошло в Оксфорде на заседании Британской ассоциации знаменитое, в истории эволюционного учения, столкновение между противниками и защитниками Дарвина, закончившееся, благодаря Гёксли, блестящей
победой последних. Но, тем не менее, по мнению того же писа1 Подробности этого чуть ли не единственного в истории науки случая рассказаны мною в другом месте. См. «Первый юбилей дарвинизма»
(в этом томе — стр. 569. Ред.).
теля, «вселенский собор ученых несомненно осудил бы нас подавляющ™ большинством».
В 1870 г. он же писал, что не найдется той отрасли естествознания, на которой бы не отразилось влияние «Происхождения
видов», а менее чем через двадцать лет мог заявить, что «если
бы не документальные доказательства, то он подумал бы, что
его память ему изменяет, — до того резка перемена в общественном мнении» в пользу воззрений Дарвина.
Издание следовало за изданием, а в 1868 г. появилось двухтомное «Изменение прирученных животных и возделываемых
растений», этот самый полный и глубоко продуманный свод знаний по вопросу об явлениях изменчивости и наследственности,
этих двух основ естественного отбора. Можно сказать, что-шум,
произведенный некоторыми позднейшими теориями (мутаций,
гетерогенезиса и менделизма), главным образом объясняется
невежеством нового поколения натуралистов по отношению
к содержанию этого изумительного труда, вероятно, поглотившего большую часть времени, протекшего между первым очер- .
ком теории и выходом «Происхождения видов» и за последовавшее затем десятилетие.
В 1871 г. появилось его «Происхождение человека», послужившее сигналом к новому взрыву негодования ханжей и реакционеров всех оттёнков против автора, хотя, как он справедливо замечает, уже и в «Происхождении видов» он высказал
вполне определенно свой
взгляд на
этот жгучий вопрос «для того, чтобы ни один честный
человек
не
мог укорить его в том, что он скрывает свои действительные
воззрения».
Вот отзыв об этой книге немецкого профессора Швальбе
в изданной по случаю чествования памяти Дарвина в Кэмбридже книге «Дарвин и современная наука»: «Труд Дарвина о
происхождении человека до сих пор не превзойден никем; чем
более мы погружаемся в изучение сходства в строении человека
и обезьян, тем более наш путь освещается ясным светом,
излучаемым его спокойным, рассудительным исследованием,
основанным на такой массе собранного им материала, какой
не накоплял никто ни до, ни после него. Слава Дарвина будет
навеки связана со свободным от всякого предрассудка изу-
чением этого вопроса из вопросов — происхождения человеческой расы».
Эти три основных произведения заключают основы всей
теории. Первое содержит учение о естественном отборе и доказательства его согласия со всем, что нам известно об органическом мире; второе дает позднейший для его времени истощающий анализ наших сведений о двух основных свойствах
всех организмов, на которых основывается возможность естественного отбора; третье представляет проверку учения на
основании его применения к самому сложному предельному
случаю 1— к человеку с его эстетическим, умственным и нравственным развитием.
Одна глава книги о человеке разрослась в целый отдельный
том — «Выражение чувств у человека и животных», — одно из
остроумнейших развитий его общего учения о единстве всего
живого, на таких, казалось бы, ничтожных фактах, как выражение лица и т. д. при различных психических движениях.
Маленький очерк по психике новорожденного дал толчок
целому ряду подражаний, и немецкие авторы нередко совершенно несправедливо приписывают первый шаг в этой области
исследователю Прейеру.
После этого внимание Дарвина обратилось к другому полюсу
органического мира — к растению — с целью показать применяемость его учения и к существам, лишенным той сознательной волевой деятельности, которой Ламарк приписывал
(у животных) главную роль: его ботанические труды, где ему
впервые пришлось из области описательной науки переступить
и в область экспериментальной. Основная их мысль — доказать существование самых сложных приспособлений и объяснить их происхождение их полезностью.
Эта основная мысль, делающая из них одну связную систему,
обыкновенно упускается из виду биографами при их голом
перечислении.
В «Насекомоядных растениях» он показал у ряда растений
органы для улавливания и переваривания животных и доказал, что это действительно полезный процесс для обладающих ими растений. В «Движениях и повадках вьющихся растений», показав широкое распространение этой формы растений,
он задался вопросом, каким образом она могла возникать так
часто и независимо в самых разнообразных группах растений,
и ответил на это другим исследованием — «Способность растений к движению», в котором доказал, что то явление, которое
бросается в глаза у вьющихся растений, в незаметной форме
широко распространено во всем растительном царстве, резко
проявляясь не только у вьющихся растений, но и в других явлениях растительной жизни, всегда полезных для обладающего
ими организма.
Еще замечательнее группа монографий, касающаяся формы
и других особенностей цветка, находящихся в связи с перекрестным опылением цветов насекомыми. («О различных приспособлениях, при помощи которых орхидиые оплодотворяются
насекомыми». «Различные формы цветов у растений того же
вида». «Действие самооплодотворения и перекрестного оплодотворения».) В первых двух раскрываются самые поразительные
приспособления организмов, относящихся к двум различным
царствам природы, а так как подобная гармония, на основании
учения о естественном отборе, мыслима только под условием
обоюдной пользы (польза для насекомых очевидна, они при этом
питаются), то третий том представляет обстоятельное экспериментальное исследование, доказывающее пользу перекрестного
оплодотворения, так как в результате его является всегда более могучее поколение.
Таким образом, тем, кто, не желая принимать теоретической основы учения Дарвина, стараются отвлечь внимание,
указывая на талантливость его специальных работ, приходится
неизменно напоминать, что это не были отрывочные факты, разбросанные по всей области биологии от растения до человека,
а факты, строго связанные между собою именно этой теорией и,
следовательно, проверяющие и подтверждающие ее обширной
системой исследования».
Эти биологические работы послужили толчком & неимоверной деятельности, в этой области, и теперь литература, ими
вызванная, выражается не одной тысячей томов.
Посвятив почти двадцать лет на подготовку себя к главной
своей жизненной задаче, на ее разработку и почти столько же
на то, чтобы научить, как надо пользоваться его теорией, как
орудием изучения природы, могучий ум, в течение большей
части жизни боровшийся с немощным телом, уже начинал видеть новые широкие горизонты в смысле более глубокого экспериментального изучения основного фактора, легшего в основу его учения, — фактора изменчивости. Но сиды изменили,
и он мог еще только обработать остроумное маленькое исследование над «Образованием перегноя почвы при содействии червей», успех которого, если судить о нем по ходкости распродажи, превзошел даже успех «Происхождения видов».
Он умер 19 апреля 1882 г. и похоронен рядом с Ньютоном
в Вестминстерском аббатстве. Последними его словами были:
«Я нисколько не боюсь умереть». А в заключительных строках
своей автобиографии * он подвел такой итог своей жизни: «Что
касается меня самого, я убежден, что поступил правильно, посвятив всю свою жизнь упорному служению науке. Я не чувствую за собой какого-нибудь большого греха, но часто « ш а лел, что не принес более непосредственной пользы своим собратьям» А
« т у fellow creatures»: очевидно, Дарвин принцип братства распространяет не на одного только человека.
* Автобиографию Ч. Дарвина в переводе К. Л. см. в книге «Ч. Дарв и н . — Происхождение видов», изд. Сельхозгиза, М,—Л., 1937 г., стр.
40—92. Ред.
1
У ДАРВИНА В ДАУНВ
ПО ПОВОДУ СТОЛЕТНЕЙ
31 Я Н В А Р Я 1809 г. *
ГОДОВЩИНЫ Д Н Я
ЕГО РОЖДЕНИЯ
С
обираясь в июле 1877 г. из Парижа в Англию, где я
бывал уже ранее простым туристом, я хотел на этот раз
проникнуть и в ее ученые круги. Для этого я обратился за
советом к профессору Jardin des Plantes** академику Дегерену,
известному своими трудами в области агрономической химии, но
всегда интересовавшемуся физиологией растений. Это был один
из немногих французов, в котором я встречал нечто более обычной чисто внешней и довольно холодной любезности. В обращении его было что-то радушное, прямо дружеское, несмотря
* Эта статья была впервые напечатана в газете «Русские Ведомости»
№ 24 и 25 за 1909 г., а затем вошла в сборник «Памяти Дарвина» (М.,
1910 г.). Для настоящего издания текст статьи взят из книги К. А. «Наука и демократия» (М., 1920 г.). Ред.
* * Ботанического сада. Ред.
на разделявший нас возраст и положение в научной иерархии;
он и звал меня обыкновенно mon jeune ami.* К тому же, как
немногие французы того времени, он был очень расположен к англичанам и бывал не раз в Англии. Он мне сказал, что из личного опыта знает, какое значение имеют в Англии рекомендательные письма, и постарается добыть мне письмо от директора
Jardin des Plantes академика Декена, известного своими обширными сведениями по садоводству, к кому-нибудь из выдающихся английских ботаников. Через несколько дней я уже был
у Декена и получил от него письмо, адресованное на имя директора всемирно известного ботанического сада в Кыо, под
Лондоном, сэра Джозефа Гукера. Увидев на конверте имя самого близкого друга Дарвина, я тут же порешил не отступать
ни перед какими препятствиями, пока не увижу Дарвина. Теперь, подводя полувековой итог, я мог бы оправдать в своих глазах эту настойчивость тем, что из этих пятидесяти лет целых
сорок пять я верой и правдой служил дарвинизму, пропагандируя, защищая и развивая его, но в то время я и сам, конечно,
затруднился бы подыскать довод, почему я мог бы добиваться
увидеть его, более чем любой из легионов его горячих поклонников, рассеянных по лицу земли. Для того, чтобы иметь хоть
какой-нибудь осязательный предлог, я отыскал на дне чемодана экземпляр своей книжки «Чарлз Дарвин и его учение»,
первое издание которой мирно покоилось вот уже пятнадцатый
год на складе какого-то петербургского книгопродавца, сообщил ей изящный вид, на какой способны только парижские переплетчики, снабдил посвящением, в котором, конечно, с полной искренностью свидетельствовал о своем «profound respect
and unbounded admiration» * , и пустился в путь.
На следующее утро по приезде в Лондон я был уже в Кыо,
этом «парадизе» всякого ботаника или просто любителя растений, насчитывающем не сотнями, а десятками тысяч своих дневных посетителей, с сокровищами которого я был уже знаком
из прежних поездок в Англию. На этот раз я отправился не в
чудный сад или единственные в мире оранжереи, а к директорскому дому, или к тому, что я принял за таковой, т. е. скром* Мой юный друг. Ред.
* * «глубоком уважении и безграничном восхищении». Ред.
ному коттэджу из серого кирпича, с обычными подъемными окнами, тонущему в ползучих цветущих растениях. Я позвонил
очень развязно, но, когда дверь отворилась, остолбенел перед
самым величественным, какого только приходилось видеть,
старым придворным лакеем в расшитой ливрее. На мой уже не
совсем уверенный вопрос «Дома ли директор?» он, не торопясь,
с полным достоинством произнес: «Здесь живет не директор,
а ее высочество герцогиня Кумберлэндская, тетка ее величества королевы». Но затем, убедившись, вероятно, что перед
ним не какой-нибудь нахал-англичанин, посягающий на спокойствие ее высочества, а просто невежественный «Shabby toreigner» * , каких много попадается в соседнем ботаническом
саду, милостиво выступил со мной на середину дороги и плавным, изящным движением руки показал мне, как пройти к такому же совершенно коттэджу, занимаемому директором. Здесь
меня ожидало новое разочарование: мне объявили, что сам директор стар и так занят, что не может принимать незнакомцев,
и направили меня к его помощнику и, как я потом узнал, зятю,
мистеру Тизельтону-Дайеру, ныне сэру Виллиаму, успевшему
после своего тестя побывать директором и за старостью лет
в свою очередь*выйти в отставку. А сам Гукер процветает, работает, произносит речи, несмотря на свои 92 года! Познакомиться с ним мне удалось несколько позже: лет через двадцать,
а с год тому назад он любезно прислал мне свою карточку-портрет, где он изображен за рабочим столом, разбирающим нагроможденные перед ним гербарии. Кто учтет, какое наследие
культуры извлекает целая нация из этой нередкой у лучших
ее представителей способности в течение каких-нибудь 70 лет
жить сознательной и производительной умственной жизнью!**
Мистер Дайер извинился за своего тестя и сказал, что готов оказать мне всякое содействие для обозрения и работ в саду,
но когда я повел речь о посещении Дарвина, он всплеснул руками и начал мне доказывать совершенную невозможность моей
затеи. Он красноречиво объяснял мне, что Дарвин постоянно
болен, родные тщательно оберегают его от назойливых посетп* «потрепанного вида иностранец». Ред.
* * См. статью К. А. о Гукере в томе VIII настоящего собрания сочинений. Ред.
телей, к тому же в Даун нельзя иначе попасть, как попросив
выслать экипаж на станцию, чего вы, конечно, не будучи знакомы, не пожелаете сделать, и, наконец, он, мистер Дайер,
сам просто не решится беспокоить Дарвина просьбой принять
меня. Но я не унимался; я доказывал, что экипажа мне не нужно, что мы, русские, привыкли к паломничествам, что, наконец,
если меня не примут, я, при данных условиях, найду это только
весьма естественным. Мало-помалу он начал сдаваться, и помирились мы на том, что он мне даст письмо, но не к самому
Дарвину, а к его младшему сыну Фрэнсису, или Франку, как
его все звали тогда, — теперь прошлогоднему председателю
британской ассоциации, — титул, который английский ученый навсегда сохраняет в своем научном формуляре. «Он покажет вам, что возможно; но еще раз предупреждаю вас, что
вы потеряете целый день, а Дарвина все же не увидите». В заключение он посоветовал поехать попозже, так, чтобы быть
в Дауне не раньше трех часов, когда кончается обыкновенно рабочий день Дарвина. С этим письмом в кармане я был вполне спокоен: ничего неделикатного и назойливого в моем поступке уже
не было, так как время Дарвина-сына, конечно, не было так
драгоценно, чтобы он не мог уделить мне какие-нибудь полчаса.
На другой день поезд мчал меня на юг от Лондона, мимо
когда-то знаменитого, а теперь прискучившего, банального
«Кристального дворца» Сиденгама, мимо исторического Чизельгорста и вскоре остановился у никому неизвестной станции Орпингтон. Невольно приходила в голову мысль об относительности всемирной славы. Местечко, где нашел себе последнее убежище злодей*, начавший свою деятельность в крови
2-го декабря и потопивший ее в крови Седана, знакомо по имени всякому, и, спроси я любого уличного мальчишку, где живет
ех-императрица Евгения, он бы показал мне дорогу; но в Орпингтоне мне и в голову не пришло бы спросить, как пройти
к Дарвину. Я спрашивал, конечно, как пройти в Даун, так как
никакого экипажа ни на станции, ни в окрестности, действительно, не оказалось
Это была моя первая прогулка по
* Наполеон III. Ред.
1 Это мне напоминает другое паломничество — в Ныостед Байрона.
На вопрос, обращенный к начальнику станции, где бы найти экипаж,
Двойной
юбилей Дарвина
и его
теории
глухой английской деревне, так коротко мне знакомой по
английским романам. В молодые годы я добывал себе пропитание английскими переводами, и, вероятно, в итоге оказалась
бы не одна погонная сажень томов Бульвера, Диккенса, Элиота
и других, прошедших чрез мои руки. Впоследствии я видел
действительные красоты английской природы: скалы Landsend'a, которые вечно гложет океан и которые когда-то исходил вдоль и поперек молодой Тёрнер, или очаровательные берега английских озер, где ребенок Рёскин, по его словам,
в первый раз понял, что такое красота природы, а Дарвин
провел свое последнее лето. Но была совершенно своеобразная красота и в этой однообразной, слегка холмистой, плавно волнующейся Кентской равнине с извивающимися по
ней лентами дорог, окаймленных цветущими изгородями, разбросанными деревеньками, а главное — этими чудными, веками
оберегаемыми,
привольно
раскинувшимися
дубами
или вязами. В Англии, как известно, не найдешь нашего
леса, но можно смело сказать: кто не был в Англии, — не
видал дерева.
Сначала пришлось итти широким шоссе. Чтобы не сбиться
и не пропустить указанного поворота, приходилось справляться
то у ворот деревенского кабачка, у проезжего возчика, остановившегося, чтобы напоить свою лошадь-слона (невольно вспоминалась наша несчастная крестьянская кляченка), и самому
пропустить a tin of bitter, т. е. оловянную кружку того напитка,
о котором все поэтизирующий немец выражается, что он соединил в себе des Weines Geist, des Brodes K r a f t * , то у мелькавших везде по полю рабочих, так как жатва была в полном разгаре. Наконец, показался и поворот вправо, на более узкую,
по-нашему проселочную, но не по-нашему такую же проезжую,
т. е. так же хорошо шоссированную дорогу, между двух стен
изгородей, этих так часто воспеваемых поэтами hedgerows. Проселок скоро уперся в парк с легкой калиткой и красивой сторожкой. Я уже думал, что ошибся поворотом и что прион с неподражаемым юмором ответил: «I fear yon are in the wrong place»,
т. е. что-то вроде: «Вы, должно быть, заблудились, — здесь никогда и не
бывало экипажа».
* дух вина и силу хлеба. Ред.
дется вернуться. Но тотчас же появившийся сторож, осведомившись, что я направляюсь в Даун, объявил мне, что это
и есть единственная дорога в Даун. Если не ошибаюсь, парк
этот принадлежит известному любителю-ученому Лёббоку,
ныне лорду Эвбюри. Выходя из парка, я уже увидел вдали
крыши домов и колокольню маленькой деревенской церкви;
это, очевидно, был Даун. Подойдя ближе, я заметил, что
деревня или, скорее, местечко расположено с правой стороны,
а с левой тянется каменная стена, а за нею сад, если и не с
очень старыми, то все же с крупными и разнообразными деревьями. Зная, что Дарвин состоит чем-то вроде церковного
старосты и очень любим всем населением Дауна, я уже смело
обратился к первому встречному с вопросом, как пройти к
мистеру Дарвину, на что получил несколько укоризненный
ответ: «К доктору Дарвину? А вот это его сад, только к дому
нужно обойти кругом». Много раз потом мне приходилось
замечать, как англичане, даже простолюдины, высоко ценят
свои ученые степени. Так, например, в Брантвуде, у Рёскина,
о нем говорили не иначе, как просто «professor», не называя
имени. Дом со стороны дороги, с примыкавшей к нему кухонной пристройкой и службами, был довольно банального вида,
чего нельзя сказать о садовом фасаде, который, благодаря несимметричной пристройке вроде башни, а главное — почти
сплошной, покрывавшей его сверху донизу, зелени вьющихся
растений, представлялся уютно-живописным.
На мой звонок дверь отворил старый лакей, вероятно, тот
самый, о котором Фрэнсис Дарвин в своих воспоминаниях говорит: «Мы привыкли видеть в нем члена своей семьи». Он посмотрел на меня удивленно-укоризненно: удивленно, — потому что я пришел пешком, укоризненно, — потому что, как
и все в семье, боялся вторжения чужого; но значительно смягчился, когда я сказал, что желаю видеть только «мистера
Фрэнсиса», и подал письмо. Через минуту появился и мистер
Фрэнсис, с виду совсем юноша, несмотря на то, что ему было
уже под тридцать, так как теперь ему уже шестьдесят. Он провел меня в гостиную, предупредив также, в свою очередь,
что мне едва ли удастся увидеть отца, которого разговор со
всяким посторонним очень волнует, чего при его слабом здо-
ровье следует во что бы то ни стало избегать. Я поспешил согласиться и передал ему свою книгу, собираясь уходить,
но он задержал меня, говоря, что попросит выйти ко мне свою
мать, которая, конечно, пожелает со мной познакомиться.
Я воспользовался его отсутствием, чтобы оглядеть комнату.
Обычная parlour* скромного английского дома, с камином у
задней стены, — этим действительным «семейным очагом», вокруг которой) группировались места обычных обитателей, с покойным креслом самого Дарвина и другим поменьше, с рабочим
столиком, очевидно, излюбленным местом мистрисс Дарвин.
Вдоль стен и по углам — несколько «этаблисментов», в противоположной камину стене — два окна с дверью посредине.
У левого окна, отступя и вкось, — небольшой письменный
стол на кривых ножках, со всякими безделушками, очевидно,
также дамский, мистрисс Дарвин. Во всем — простота и уютность английского h o m e * * . Дверь выходила в сад без одной
ступеньки, даже без порога, — de plain pied, как говорят
французы, — прямо на площадку, усыпанную, как в большей
части европейских садов, непривычными нам мелкими гальками, очень неудобными для тонкой обуви, но зато обеспечивающими от столь обычных на наших дорожках слякоти и грязи.
Во всю ширину гостиной тянулся легкий навес на столбах,
образуя То, что на языке обитателей звалось «верандой», а под
ним разбросаны жардиньерки с цветами и легкая садовая мебель, в том числе известное по многочисленным фотографиям
плетеное кресло Дарвина с высокой спинкой.
Вскоре появилась вместе с сыном и мистрисс Дарвин, приветливая старушка, без тени какой-нибудь чопорности или желания показать свою светскость и умение принимать гостей,
а с той простотой и непринужденностью обращения, которая
дается только привычкой к действительно образованному и воспитанному обществу Ч Ни в тоне, ни в предмете разговора не
1 Мистрисс Дарвин была внучкой известного Веджвуда, основателя
фарфорового завода Эрурия, прелестные произведения которого наподобие античных камей, выполнявшиеся но рисункам известного Флаксмана,
так ценятся знатоками.
* гостиная. Ред.
* * домашнего очага. Ред.
было ничего, что бы имело хоть тень провинциализма или отвычки встречаться с совершенно чужими людьми. К слову сказать, я никогда не замечал различия между лондонцем и провинциалом, тогда как между парижанином и провинциалом его
нередко подметишь, а типичный берлинец — самый провинциальный из немцев. К сожалению, весь поглощенный мыслью,
увижу ли я Дарвина, я недостаточно обратил на нее внимания
и только трогательные, глубоко прочувствованные строки сына
в его воспоминаниях об отце дали мне понять, как много человечество обязано этой скромной, непритязательной женщине,
совершившей, никем незамеченной, свое великое чудо любви:
неустанными, ежедневными, ежечасными заботами она дала возможность, не знавшему почти ни одного дня полного здоровья,
уже тридцать лет тому назад отчаявшемуся в своем существовании, мужу довести до конца его неимоверный, почти сверхчеловеческий труд.
Через несколько минут совершенно неожиданно вошел в
комнату Дарвин. Мне уже приходилось говорить о первом впечатлении, которое произвело на меня его появление 1 . Дело
в том, что в то время еще не были известны теперь так широко
распространенные, всем знакомые его портреты, с длинной,
седой бородой. Известен был только один его портрет, приложенный к немецкому переводу «Происхождения видов» (и к
моей книжке «Чарлз Дарвин» и пр.). На этом портрете, относившемся к началу пятидесятых годов, он был изображен лет Сорока, тщательно выбритым и с коротко подстриженными бакенбардами, а так как портрет был к тому же поясной, то воображение почему-то дополняло его фигурой коротенького толстяка, в котором можно было признать коммерческого дельца,
пожалуй, спортсмэна,— кого угодно, но менее всего глубокого, гениального мыслителя. А передо мной стоял величавый
старик, с большой седой бородой, с глубоко впалыми глазами,
спокойный, ласковый взгляд которых заставлял забывать об
- ученом, выдвигая вперед человека 2 . Словом, само собой на1 «Дарвин, как тип ученого». «Чарлз Дарвин и его учение». (В этом
томе см. стр. 39. Ред.)
2 Только
вернувшись из Дауна в Лондон, я случайно нашел
фотографию в высшей степени
любопытной
группы
Дарвина,
прашивалось то сравнение с древним мудрецом или ветхозаветным патриархом, которое я тогда и высказал и которое потом
так часто повторялось.
Не припомню, с чего начался разговор, помню только, что
начал его он, и мне ни на минуту не пришлось испытать невыносимого положения человека, вынужденного объяснять или оправдывать свой неловкий поступок,— вторжение в дом великого
человека, неутомимого труженика, говорящего себе diem регdidi*, когда он не выполнил намеченного труда, и ушедшего
в свой глухой угол для того именно, чтобы оградить себя от таких назойливых посетителей, отнимающих у него не только
время, но и здоровье, каким являлся в эту минуту я. Знаю
только, что через несколько минут передо мной был бесконечно
добрый, ласковый старик, с которым я разговаривал, будто
знал его с давних пор. Но это не было благодушное спокойствие
старика, который «все в жизни совершил» и, устранившись от
мирской суеты, снисходительно и свысока взирает на чужую
молодость. В том, что он говорил, не было ничего старческиелейного, поучающего, — напротив, вся речь сохраняла бодрый, боевой характер, пересыпалась шутками, меткой иронией и касалась живо интересовавших его вопросов науки и
жизни. Не было в начале беседы и тех обычных, даже в среде
образованных европейцев, расспросов: «Неправда ли, у вас в
России очень холодно и... и очень много медведей?» Только на
вопрос жены: «Чего вам предложить, чаю или кофе?» он поспешил ответить за меня: «Конечно, кофе. Разве русскому можно
предлагать нашего чаю» , доказывая тем, что до него дошел наш
ходячий русский предрассудок, будто в Европе нет такого чая,
как в Р о с с и и ! — предрассудок, в доброе старое время пояснявшийся тем, что «чай моря не любит», а теперь уже неизвестно чем.
Д. С. Милля, Спенсера, Рёскина и двух менее общеизвестных английских
писателей (Дамба и Киизлея). Мне так и не удалось выяснить, была ли
когда-нибудь такая встреча, или портреты искусно скомбинированы
художником; все участвующие напоминают свои лучшие портреты,
а Дарвин в первый раз изображен в том виде, в каком он перешел
в историю.
* потерянный день. Ред.
Зато когда разговор наш перешел на серьезные, научные
темы, он тотчас принял чисто английский характер. Узнав,
что я занимаюсь физиологией растений, он сразу озадачил меня
вопросом: «Вы, конечно, почувствовали себя очень странно,
очутившись в стране, в которой не нашли ни одного ботаникафизиолога?» Только истый англичанин, гордо сознающий все
достоинства своей нации, может так откровенно, так беспощадно
говорить и об ее недостатках, зная, что это — единственное
средство от них избавиться. Я , конечно, не мог не согласиться,
но с оговоркой: «Действительно, не нашел... за исключением
одного, — величайшего всех веков и народов». Из этого вопроса и последующего разговора я догадался, но только через много лет узнал с достоверностью, что попал в Даун в очень
благоприятный момент. Известно, что после появления «Происхождения видов» и других сочинений, представлявших
только развитие частных сторон теории, Дарвин сосредоточился
исключительно на ботанике, и ботанике экспериментальной,
физиологической; все эти специальные работы должны были
показать плодотворность его теории, как «рабочей гипотезы».
В это время он, вместе с Фрэнсисом, был уже занят своим исследованием, составившим содержание целого томика: «О способности растений к движению».
Тут-то он и должен был, очевидно, натолкнуться на (факт,
что английская наука, д а в ш а я , — не говоря уже о других областях, — столько выдающихся деятелей и в смежной описательной ботанике, и в физиологии животных, не выдвинула
вперед за последнее столетие ни одного ботаника-физиолога,
даже не имела ни одной лаборатории, снабженной всем необходимым для такого рода исследований. Но узнал я это с достоверностью чуть не тридцать лет спустя, прочтя его письмо к мистеру Дайеру, написанное чрез несколько месяцев после моего
посещения и которое не могу себе отказать в удовольствии
здесь привести. «Я глубоко убежден», — писал Дарвин мисстеру Дайеру по поводу организации в Кью лаборатории по
физиологии растений для желающих предпринять подобные
исследования, — «я глубоко убежден, что было бы в высшей
степени жалко, если бы физиологическая лаборатория, уже отстроенная, не была снабжена самыми лучшими инструментами.
Может случиться, что многие из них устареют, прежде чем понадобятся. Но это — не аргумент против их приобретения,
потому что лаборатория без инструментов ни на что не нужна,
а самый факт, что имеются инструменты, может навести на
мысль ими воспользоваться. Вы в Кыо, как блюстители и распространители ботанической науки, по крайней мере, исполните свой долг, п если вашей лабораторией не воспользуются,
позор ляжет на голову нашего образованного общества. Но
пока горький опыт не научит меня обратному, я не поверю,
чтобы мы так отстали. Я думаю, немецкие лаборатории могли
бы послужить нам примером, но Тимирязев из Москвы, изъездивший всю Европу, перебывавший во всех лабораториях и показавшийся мне таким хорошим малым (so good a fellow), мог
бы составить нам лучший список самых необходимых инструментов» 1 . Как будто угадав занимавший его в эту минуту вопрос,
я с полным убеждением стал утешать его на тему «людей нет—
перед людьми», изречение, если не всегда оправдывающееся
в отечестве великого сатирика, то, несомненно, верное в отечечестве великого ученого. Излишне говорить, что наши общие
ожидания не замедлили исполниться, и Джодрельская лаборатория в Кыо, — крохотный домик, который поместился бы
в любой большой комнате наших институтов, сделался центром,
из которого вышел целый ряд исследований, уже ставших классическими. От физиологии растений разговор перешел к моим
работам 2 , и, узнав, что я занимаюсь специально хлорофиллом,
он, не задумываясь ни минуты, высказал те слова, которые мне
приходилось не раз цитировать, прямо поразительные в устах
человека, стоявшего совершенно в стороне от химических и физических вопросов: «Хлорофилл, это, пожалуй, — самое интересное из органических веществ». Любопытно, что последняя его заметка, появившаяся за несколько дней до его смерти,
касалась именно хлорофилла. Затем он стал меня расспрашивать, что кроме Кыо интересует меня в Англии собственно с ботанической точки зрения. Я ответил, что завтра уже собираюсь
\«More letters of Charles Darwin», vol. II, p. 417 («Письма Чарлза
Дарвина». 1903, том I I , стр. 417. Дополнительные тома. Ред.).
- Вместе со своей книгой и передал ему оттиск моей работы, только
что представленной Бешшерелем в Парижскую академию.
36
к. л.
Тимирязев,
т.
Vil
в Ротгамстэд
и указал на тот интерес, который представляют,
с точки зрения учения о «борьбе за существование», любопытные производившиеся в то время опыты над изменением состава
луговой флоры под влиянием искусственных удобрений. Пока
я говорил, он делал какие-то знаки сыну и, когда я кончил,
проговорил в тоне укоризны: «Вот видишь, человек приехал
чуть ли не с края света и завтра побывает в Ротгамстэде, а мы
все собираемся». И опять, только много лет спустя, когда появился первый сборник писем 2 , я узнал, что Дарвин замышлял
в это время обширный ряд опытов над искусственными культурами, как средством изменять формы, и вступил по этому поводу в переписку с известным ротгамстэдским химиком Гильбертом. Около этого яге времени он с замечательной проницательностью задумал свои опыты над искусственным получением
растительных наростов (чернильных орешков п пр.), так же,
как средством экспериментального изучения законов изменчивости. За 30 лет, истекших с тех пор, вопрос этот не подвинулся ни на шаг! Указываю на это, как на доказательство того,
что мысль Дарвина постоянно 3 , а в последние годы в особенности, обращалась в сторону этой новой области науки, если не составляющей необходимой составной части «дарвинизма», то
представляющей, как я это неоднократно указывал, его естественное продолжение.
От ботаники вопрос перешел к науке вообще. С особенным
удовольствием отметил Дарвин факт, что в русских молодых
ученых нашел игарких сторонников своего учения, чаще всего
останавливаясь на имени Ковалевского, и когда я его спросил,
которого из братьев он имеет в виду, — вероятно, Александра,
зоолога, — он мне ответил: «Нет, извините, по моему мнению,
палеонтологические работы Владимира имеют еще более знамения». Привожу эти слова, потому что несчастному Владимиру
Оііуфриевичу не привелось быть «пророком в отечестве своем».
Если не ошибаюсь, отечественные экзаменаторы ухитрились его
1 Известная
агрономическая опытная станция, по времени первая
в Европе.
2 «Life and letters-..» («Жизнь п переписка...». Ред.)
1887.
2 Начиная со знаменитой странички его записной книжки,
1837.
(См. в этом томе вклейку к стр. 545. Ред.)
срезать на магистерском экзамене именно из той палеонтологии, в которой он уже пользовался всемирной известностью.
Среди этого разговора Дарвин вдруг озадачил меня неожиданным вопросом: «Скажите, почему это немецкие ученые так ссорятся между собою?» — «Вам это лучше знать», — был мой ответ. — «Как мне? Я никогда не бывал в Германии».— «Да, но
это — только новое подтверждение вашей теории: должно быть,
их развелось слишком много. Это лишний пример борьбы за
существование». Он на минуту запнулся, а потом залился самым добродушным смехом. Наконец, разговор перешел на ту
тему, на которую я желал давно его перевести, на то, чем он сам
был в эту минуту занят, и он предложил мне прогуляться с ним
в тепличку, где он производил новые опыты над насекомоядными растениями.
Несмотря на то, что стояла июльская жара (хотя день
был серенький) и теплица была в двух шагах, заботами
жены и сына, откуда-то моментально явились тот короткий
плащ и мягкая войлочная шляпа, которые теперь так знакомы по фотографиям. Перед верандой расстилалась довольно
большая лужайка с тем английским газоном, подстриженным,
как бархат и, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, не
боящимся, чтобы по нему ходили, чтобы на нем без стеснения
располагались сидеть или лежать. Клумбы цветов ие представляли ничего особенного. Тепличка была в противоположном
правом углу сада, — маленькая, какую мог бы себе позволить
любой наш помещик для своих гортензий и пеларгоний, но
стройная, светлая, благодаря легкому железному остову и
чисто, словно в Голландии, промытым стеклам. Только позднее, все из тех же писем, я узнал, как долго он колебался, прежде чем позволить себе эту роскошь, а в сущности необходимое
пособие для его работ, как радовался, когда она была, наконец,
готова и стали проходить транспорты не обычных цветов, а исключительно «ботанических», как выражаются наши садовники,
растений из Кыо и из лучших садовых заведений этой страны
знаменитых садоводов. У х о д за растениями был, как известно,
первой страстью Дарвина. Самый ранний, детский портрет
изображает его с горшком цветов в руках. На пороге теплицы
нас встретил старик-садовник, тот самый, прелестный отзыв
которого о Дарвине недавно припомнил Лёббок А «Хороший
старый господин, только вот что жаль: не может себе найти путного занятия. Посудите сами: по нескольку минут стоит,
уставившись на какой-нибудь цветок. Ну, стал бы это делать человек, у которого есть какое-нибудь серьезное занятие?»
В это время Дарвин был занят ответом на сделанное ему возражение, что он не доказал пользы, которую извлекают насекомоядные из* животной пищи, и что этот процесс— вовсе не
питание, а гниение под влиянием бактерий. Я увидел целый
ряд подонков с дерновинами росянки; каждый из них был разгорожен жестяной пластинкой на две половины; листья одной
получали мясо, листья другой оставались без мясной пищи,
и мояшо было ясно видеть, что первые растения были гораздо
крупнее вторых.
Показывая своих питомцев, Дарвин самым миролюбивым
тоном, как бы оправдываясь и защищаясь, обращал мое внимание на то,- что он, «кажется, не ошибается», что результаты
опыта говорят в его пользу, а между тем мы теперь знаем из
очерка его сына, что ни одно из сделанных ему возражений не
раздражало его так, как это 2 .
Когда мы вернулись домой, подоспел кофе, и беседа приняла
более общий характер. Известно, что вторую половину дня
Дарвин вынужден был уделять отдыху, и в это время жена читала ему вслух, по большей части романы, как он сам признавался, не особенно высокого качества, лишь бы они оканчивались счастливо. Но порой делалось исключение в пользу чегонибудь более серьезного. На этот раз возле него на столе лежала
известная книга Макензи-Уоллеса о России. Должно заметить,
что. несмотря на пятнадцать слишком лет, прошедших со времени освобождения крестьян, многие в Европе еще не могли забыть этой мирной революции освобождения 20 миллионов,
да еще с землей, — особенно, когда пришлось сравнить его
с последовавшим позднее только после кровопролитнейшей
борьбы освобождением негров в Америке. Дарвин во время
1
году.
На юбилейном заседании Линнеевского общества в прошлом [1908]
Оно было сделано Баталиным, на основании опытов, несостоятельность которых была потом доказана.
2
своего кругосветного плавания научился всей душой ненавидеть рабство, и это подавало ему повод (да и ему ли одному?)
видеть будущее русского народа в самом розовом свете. Другой
вопрос, который его интересовал, — начинавшая пробиваться
в России свобода мысли. «Общество, в котором так широко распространены такие книги, как „История цивилизации" Бокля
(факт также, вероятно, заимствованный у Макензи-Уоллеса),
где свободно читают книги Лайеля и его (Дарвина) „Происхождение человека" — говорил он, — уже не может вернуться к
традиционным воззрениям на коренные вопросы науки и жизни».
Незаметно пролетели часа два или более, и хотя я и не заметил следов утомления в его голосе, он поднялся, чтобы распрощаться, объяснив мне, что всякий разговор с кем-нибудь,
кроме самых близких, его как-то возбу?кдает и утомляет, отражаясь даже на сне, так что он и теперь не уверен, сойдет ли
ему безнаказанно сегодняшний день. «Вы, конечно, пожелаете
иметь мой портрет, более схожий, чем тот, который приложен
к вашей книжке?» — сказал он, подходя к столу жены, и, достав свою фотографическую карточку, очевидно, домашнего
изделия, тут же подписал ее, пометив 25-го июля 1877 г. 1 .
Еще раз простившись, он ушел, чтобы прилечь отдохнуть,
но вскоре, к общему удивлению, снова вошел в комнату со
словами: «Я вернулся, чтобы сказать в а м ^ в а слова. В эту-шінуту вы встретите в этой стране много глупых людей 2 , которые
только и думают о том, чтобы вовлечь Англию в войну с Россией,
но будьте уверены, что в этом доме симпатии на вашей стороне,
и мы каждое утро берем в руки газеты, с* желанием прочесть
известие о ваших новых победах».
Эти слова можно оценить только в их исторической -перспективе. А для этого надо сделать маленькое отступление на
тему об английских либералах и русских патриотах. Нужно
припомнить, что незадолго перед тем пало либеральное мини1 Портрет этот, по сходству один из лучших, приложен при моей
книжке «Основные черты истории развития биологии» (см. в настоящем
издании том V I I I . Ред.), 1908 г.
2 Он так и сказал,
foolisch. В первоначальной своей версии я смягчил эти слова, но теперь, через тридцать лег, можно восстановить их в
подлинном виде.
стерство Гладстона, и дальновидные истинно-русские патриоты,
с Катковым во главе, приветствовали появление у власти консервативного министерства, в уверенности, что оно отнесется сочувственно к уже ясно выступившему на путь реакции русскому
правительству. Помнится, в «Московских Ведомостях» не стыдились называть «vieux ramolli»* того, кого весь свет уже прозвал «великим стариком». Но в этом vieux ramolli проснулся
прежний лев, — тот Гладстон, который когда-то выступил со
своим обличением против «короля бомбы», расстреливавшего
свои города, гноившего в отвратительных тюрьмах людей,
которым Неаполь позднее воздвиг памятники на своих площадях, — и этим обличением сумел привлечь симпатии всей Европы на сторону итальянского народа, боровшегося за свое
освобождение. На этот раз боевым кличем Гладстона были «болгарские ужасы». Он призывал английский народ забыть свою
вековую подозрительность к русскому правительству и протянуть руку русскому народу, готовому притти на помощь угнетаемым. Движение приняло небывалые даже в Англии размеры, но любезные сердцу Каткова консерваторы остались у
власти. Остальное хорошо известно. Дизраэли толкнул Россию в никем не поддержанное единоборство, а затем в согласии
с «честным маклером» (другим идолом Каткова) сумел вырвать
у победителей доставшиеся ценой таких жертв плоды победы.
Слова Дарвина означали только то, что он стоял на стороне
«великого старика», а не его торжествующих противников 1 .
Отрадно вспомнить, что в стране, на которой мысль охотно отдыхает всякий раз, когда, как говорится, «за человека становится страшно» — что в этой стране сочувствие ее величайшего мыслителя, как и ее величайшего государственного человека, в годину испытаний было на стороне русского народа.
Вдвойне отрадно вспомнить об этом в настоящую минуту, когда
вновь возникает надежда на entente cordiale** двух народов,
в эту минуту, когда русский народ не мечтает уже об освобождении других народов, — до того ли ему, — а сам судорожно
1 Известно, что на присланный ему Гальтоном опросный лист в графе
«Какой вы политической партии?» он ответил: «Либерал или радикал».
* «старой развалиной». Ред.
* * дружественное согласие. Ред.
бьется, отстаивая свое право на простое человеческое существование А
Приведенные слова были последние, которые я слышал от
Чарлза Дарвина. Когда он ушел, мистер Фрэнсис предложил
мне пойти посмотреть его кабинет. Благодаря фотографии
она теперь также хорошо известна — эта маленькая комнате
с обычным камином, самым простым письменным столом посредине и небольшой кушеткой, которой пользовался неутомимый труженик, когда его одолевал неумолимый недуг. Поражало в этом кабинете только почти полное отсутствие того,
что мы привыкли связывать с понятием о библиотеке. Известно, что отношение Дарвина к книгам было очень своеобразное.
Если кто мог его искренно презирать, то, конечно, библиофилы
или, вернее, библиоманы, которые ценят книгу, как вещь,
не позволяя себе разрезать какое-нибудь старинное издание,
чтобы не нарушать его антикварской ценности, или снабжая
драгоценными крышками какую-нибудь книжонку самого ничтожного содержания. Дарвин ценил в книге только то, что ему
в ней было нужно, и потому нередко вырывал необходимые ему
листы и страницы, избегая таким образом загромождения своего
стола и комнаты. Еще более скромной оказалась комната
в верхнем этаже, которую, кажется, занимал сам Фрэнсис
и где в то же время помещалось подобие лаборатории для производства опытов по начатому уже Дарвином в то время новому и последнему большому труду «О способности растений
к движению».
Пора было подумать об отступлении. Отказавшись наотрез
от любезно предложенного экипажа, я пустился в обратный
путь. Часть дороги проводил меня мистер Фрэнсис. Но вскоре
нас окружил с возгласами и заразительным смехом веселый
рой молодых людей и юных мисс, Дарвин меня с ними перезнакомил. Это были «the Lubbocks» ( и их гости?), вносившие,
повидимому, как приходилось читать в письмах Дарвина,
нотку беззаботного веселья в серьезную жизнь даунских отшельников. Мне часто потом вспоминалась эта встреча на глуСлова мои относятся к 1909 г. Теперь (1918) именно, глядя на нравственное падение правящей части английского народа, «становится страшно за человека».
1
хом английском проселке. Эта бодрая, жизнерадостная английская молодежь, веселящаяся на деревенском просторе, конечно, менее чем кто другой, нуждалась в напоминании о «Радостях жизни» и «Красотах природы»1.
Не желая отвлекать молодого Фрэнсиса от веселой компании, я поспешил с ним проститься и прибавил шагу, чтобы захватить свой поезд. По холодку обратный путь показался гораздо короче.
Вернувшись в Лондон, несмотря па поздний час, я не мог
утерпеть, чтобы не поделиться свежими впечатлениями с
Д . Н. Анучиным, в то время находившимся тоже в Лондоне.
Дмитрий Николаевич обрушился на меня целым потоком укоризн за то, что я, будто бы, утаил от него свое паломничество,
лишил его единственного случая, который, конечно, не повторится, и т. д., и т. д. Помнится, в свое оправдание я говорил,
что шел на верную неудачу, что весьма естественно мог не желать, чтобы мне захлопнули на нос [перед носом] дверь при
свидетеле и что во всяком случае я неповинен в том, что величайший ученый оказался в то же время и самым приветливым
из людей.
1 Заглавия известных, переведенных и на русский язык, книг Лёббока, на территории которого мы в эту минуту находились.
III
П Е Р В Ы Й ЮБИЛЕЙ
ДАРВИНИЗМА
1 И Ю Л Я н. с. 1858—1 И Ю Л Я 1908 *
«ВЫ — ВЕЛИЧАЙШИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ НАШЕГО ВЕКА ИЛИ, В Е Р Н Е Е , ВСЕХ
ВЕКОВ»
(Из
С
письма Уотсоиа
к Дарвину
егодня в лондонском Бурлингтон-гаузе,
ной
и художественной
Англии
х
, в
чествоваться
первый
юбилей
г.)
этом центре у ч е -
заседании
ского общества при участии иностранных
будет
в 1859
Линнеев-
представителей
дарвинизма.
Я
говорю:
п е р в ы й , потому ч т о о н , в е р о я т н о , о т к р о е т ц е л ы й р я д ю б и л е е в ,
п р е д с т о я щ и х в б у д у щ е м г о д у . В я н в а р е 1 9 0 9 г . и с п о л н я е т с я сто
1 В нем, как известно, помещаются не только Королевское, Линнеевское, физическое, химическое, геологическое и другие ученые общества,
но и Королевская академия художеств с ее ежегодным салоном.
* Эта статья под заглавием «Пятидесятилетний юбилей дарвинизма»
была впервые напечатана в газете «Русские Ведомости» (1908 г., № 140),
а затем в V I I I томе собрания сочинений Ч. Дарвина (изд. Ю. Лепковского,
М., 1909 г.). Под измененным и воспроизводимым здесь названием она
вошла в сборник «Памяти Дарвина» (изд. «Научное Слово», М., 1910 г.).
Ред.
лет со дня рождения Дарвина, а в ноябре минет полвека со
дня выхода в свет «Происхождения видов». Справедливость требует вспомнить при этом, что ровно за пятьдесят лет до появления этой книги (т. е. в 1809 г.) вышла «Философия зоологии»
Ламарка, а за сто лет (в 1759 г.) Бернар Жюсье составил для
Трианонского ботанического сада Людовика X V первый список растений, расположенный по естественной системе, т. е.
в первый раз была ясно выражена мысль о классификации растений, как обнаружении какой-то естественной связи между
живыми существами, а не простом приеме составления наиболее
удобного реестра или іхаталога.
Годовщина, которую справляет сегодня Линнеевское общество, относится к событию, в котором совершенно верно видят тот момент, когда идеи, уже более двадцати лет лелеянные
Дарвином, стали в своих основных чертах всеобщим достоянием. Условия, при іхоторых осуществилось это событие, до
того любопытны и в известном смысле драматичны, что о них
стоит здесь напомнить.
Это тем более необходимо, что полувековой период— настолько длинный срок, что для тех, кто не были свидетелями или
ближайшими современниками этого события, его размеры и
ошеломляющее впечатление застилаются небывалым в истории науки успехом, благодаря чему люди, не сочувствующие
произведенному перевороту (а их теперь очень и очень много),
не без успеха пытаются доказать, что он был только естественным результатом подготовившего его общего движения науки,
что это был, так сказать, совершенно зрелый плод, упавший
к ногам счастливо подвернувшегося прохожего. Такова по
крайней мере точка зрения очень многих новейших, особенно
немецких, антидарвпнистов (явных и скрытых).
Но так ли было на деле? Можно сказать, что ровно наоборот, момент, когда Дарвин выступил со своим учением, был
наименее для того благоприятным. В лице самых выдающихся
своих представителей, іготорых, ххонечно, нельзя было упреігнуть в недостатке знакомства с этим накопившимся будто бы
благоприятным материалом, наука ясно, категорически заявляла, что этот материал негоден для тех выводов, какпе сложились в голове Дарвина. Кто же были эти авторитеты? Это был
Бэр, творец эмбриологии; это был Оуэн, после Кювье величайший из сравнительных анатомов; это был Агассис, совмещавший в себе глубокие знания зоолога и палеонтолога; это
был наконец Лайель, по складу своего мышления духовный
отец Дарвина, основатель учения о ныне действующих причинах, как факторах и прошлой истории земли, тем не менее,
после всестороннего добросовестного анализа теорий Ламарка,
признавший невозможным допустить преемственную историческую связь организмов. Наконец, в том самом 1858 году появилась вторым изданием история индуктивных наук Юэля,
в которой этот лучший для своего времени знаток философии
естествознания, становясь на историческую точку зрения
Лайеля, вместе с тем категорически отрицал возмоятость ее
распространения на мир живых существ и (опираясь на авторитет Канта) утверяадал, что при изучении организмов натуралисту приходится становиться на телеологическую точку зрения, угадывая тайные цели, а не пытаясь раскрывать естественные причины форм 7
Могут возразить, что во всех приведенных примерах
побуяедение к отрицанию попыток объяснить происхояедение организмов естественными причинами крылось в религиозных воззрениях, но и этот аргумент нетрудно отразить.
Карла Фогта можно заподозрить в чем угодно, но уже никак не в недостатке антирелигиозного чувства; нельзя также
его укорить и в недостатке смелости для его выражения, и
если, как научный авторитет, он стоял несколькими степенями
ниже перечисленных, тем не менее, нельзя отрицать его основательных знаний в зоологии и палеонтологии, а также его критически-философского ума, и, тем не менее, до появления теории
1 Другой и более глубокий философ, Конт, как я неоднократно указывал, занял совершенно исключительное положенно в этом вопросе:
излагая господствовавшее в биологии воззрение, он сам от себя высказал
мнение, заключавшее основную идею дарвинизма. Дарвин был знаком
в общих чертах с учением Конта, так как говорит в одном письме о своих
противниках, что они находятся еще в контовском теологическом периоде,
а в другом высказывает желание подробнее ознакомиться с его философией. Но, очевидно, этого желания он не осуществил, и виноват в этом был
Гёксли, столь же размашистая, как и неосновательная критика которого
отбила у Дарвина охоту самому изучить Конта.
Дарвина он был защитником постоянства видов, убежденным
противником Ламарка.
Мояшо ли утверждать после этого, что успех Дарвина в
сравнении с Ламарком объясняется тем, что он выступил в более благоприятный момент? В действительности он выступил
при такой обстановке, которая остановила бы всякого ученого
на его месте. Вопрос уже не был такой неожиданностью, как
во времена Ламарка, и не мог разрешаться унаследованным у
восемнадцатого века диалектическим способом, — нет, он уже
всеми принимался во внимание, и положительное разрешение
его было всеми признано невозможным А Дарвин сам пишет,
что не мог бы назвать ни одного единомышленника тогда, когда
для него самого превращение видов было уже очевидностью;
он вполне сознавал свое одиночество и, тем не менее, не побоялся вызвать на бой весь современный мир, ученый и неученый.
Где же лежала основная причина быстрого поворота в мнениях как выдающихся ученых, так и большинства, уже не стеснявшегося продолжавшимся сопротивлением некоторых выдающихся авторитетов? Ответ на этот вопрос является опровержением другого, в последнее время довольно распространенного, ложного мнения. Очень часто от французских ученых,
затаивших прежнее скрытое враждебное отношение к дарвинизму, и от немецких ученых новой формации, его только приобретающих, приходится слышать такое замаскированное отрицание какого-нибудь значения деятельности Дарвина: важно
не то, что он внес своего нового, а то, что он заставил усомниться в ходячих воззрениях и признать общую эволюционную точку зрения.
На деле снова должно сказать совершенно обратное, что
общая эволюционная точка зрения восторжествовала потому
именно, что приняла форму дарвинизма, так как только эта
теория в первый раз отвечала на вопрос quo modo 2 , т. е. на
Что было на верхах науки, то же, конечно, наблюдалось и между
рядовыми учеными. Очень хорошо припоминаю одного из своих профессоров, который, когда я, студент, взялся за изучение «Происхождения
видов», заметил: «А п таких книг, в которых этот вопрос вновь подымается, более не читаю».
2 По остроумному замечанию Фрэнсиса Дарвина.
1
вопрос, как, каким, образом могла совершиться эта эволюция.
Попытка Ламарка оказалась бесплодной потому именно, что
предложенное им quo modo никого не удовлетворило. Любопытен в этом отношении параллелизм процесса возникновения
и окончательного торжества эволюционной идеи в уме самого
Дарвина и в умах всего мыслящего человечества. Известно,
что деятельность Дарвина представляет и ту драгоценную сторону, что благодаря его дневнику кругосветного путешествия
на «Бигле», автобиографии и двум сборникам его писем 1 нам
удается присутствовать при величайшем зрелище, доступном
человеческому изучению, — при процессе зарождения и развития одного из величайших произведений гения.
Молодым дилетантом-коллекционером, радующимся каждому новому найденному им виду жука, вступает он в 1831 г.
на палубу «Бигля», а через пять лет сходит с нее уже не по летам глубоким мыслителем, скептиком, сомневающимся в самых
основах современного естествознания. Его интересуют уже не
одни только отдельные органические формы, а основной факт
их общей связи в пространстве и во времени. Перемена животного населения по мере передвшкения с севера на юг и по другому берегу с юга на север громадного южно-американского материка, поразительное сходство современной и ближайшей ископаемой фауны этого материка, удивительные особенности в смысле сходства и различий у обитателей затерявшегося в водах
Великого океана миниатюрного архипелага Галапагос, — все
это заставляет усиленно работать гибкий ум молодого натуралиста и вызывает в нем непобедимое сомнение в общепризнанном догмате постоянства видов н отдельных творческих актов,
оставляющем все эти факты без объяснения, между тем как все
становится ясным и понятным, если только допустить общее
происхождение и последовательное превращение организмов.
Позднее годы усидчивого изучения любопытной группы усоногих раков заставляют его практически столкнуться с вопросом о виде и разновидности, так что он мог возражать своим противникам, что и сам то соединял известные группы в виды, то
разбивал их на разновидности, повторял эту операцию несколь1
«Life and letters», 3 тома, 1887, н «More letters», 2 тома, 1903.
ко раз, пока, наконец, с проклятиями не убеждался в полной
ее бесплодности.
Уже через год по возвращении из путешествия он заносит
в свою записную книжку 1 беглые мысли, показывающие, как
ясно он сознавал все широкое значение задуманного переворота. Он уже сознает, что призван перевернуть «всю метафизику». Но в то же время он уже сознает, что одних сомнений,
простого отрицания старой точки зрения недостаточно для замены ее новой. Для того, чтобы объяснить происхождение организмов естественным путем, нужно найти ключ для объяснения основной черты всего организованного мира, — его так
называемой целесообразности, его совершенства; он сознавал,
что основной философский вопрос заключается в устранении
телеологической точки зрения, в замене конечной причины причиной действительной, естественной 2 . Но такой причины не
было найдено, потому что объяснения Ламарка не удовлетворили Дарвина, и в этом отношении он, конечно, стоял впереди
современных нам ламаркистов.
С терпением, которому он сам позднее изумлялся, продолжал он «в истинно бэконианском смысле» собирать колоссальный фактический материал, долженствовавший охватить со всех
сторон сложный, запутанный вопрос о виде. Материал этот долго не был связан никакой общей руководящей идеей. С замечательной проницательностью сосредоточил он свое внимание на
тех организмах, к которым натуралисты его времени относились с пренебрежением, но в которых он совершенно верно усматривал драгоценные случаи изменения органических форм,
удостоверяемые историей, т. е. на прирученных животных и
возделываемых растениях. Изучение этой обширной категории фактов, мимо которой наука его времени проходила без
внимания, убедило его, что главную роль в этом процессе играл отбор — selection. Это понятие и самое слово были так мало
известны, что даже через 20 лет, когда он приступил к печата1 Знаменитая страничка из этой книжки приложена в виде автографа
к I тому собрания сочинений Дарвина в издании 10. И. Лепковского,
Москва, 1907 г. (В этом томе см. вклейку к стр. 545. Ред.)
2 Откуда и вполне понятно, что реакция против дарвинизма приводит различных Паули, Франсе к прославлению телеологии.
нию своей книги, знаменитый лондонский издатель Муррей
протестовал против помещения этого слова в заголовке книги,
как совершенно непонятного английской читающей публике.
Но если отбор объясняет целесообразность изменения искусственных новых форм, то что же, mutatis mutandis*, заменяет его в природе? Этот вопрос, очевидно, неотступно преследовал его, пока его не озарила мысль, перед которой, как
перед «Сезамом» восточной сказки, не раскрылись двери в ту сокровищницу мысли, все богатство которой до сих пор не только
не исчерпано, но, по всей вероятности, еще не вполне оценено.
Давно разыскиваемое объяснение, как внезапный луч света,
озарило Дарвина при чтении книги Мальтуса о народонаселении 1 в октябре 1838 г. Все организмы стремятся размножиться
в такой прогрессии, что каждый из них в краткий срок заполнил бы всю землю, и, следовательно, только путем уничтожения
несметного числа возможных жизней поддерживается наблюдаемая численность существ. При этом истреблении будут,
конечно, сохраняться те из возможных существ, которые наиболее соответствуют условиям существования, — это и будет
непрерывный процесс естественного
отбора,
т. е. приспособления к жизненным условиям, к чему собственно и сводится
то совершенство, та гармония органического мира, для которых
тщетно искали естественного объяснения.
Основные черты будущей теории уже вполне созрели в его
уме, а Дарвин, по его собственному признанию, не позволял
себе даже набросать их на бумаге, — в такой степени боялся
он попасть в сети своих собственных предвзятых идей. Только
через четыре года, в 1842 г., он разрешил себе первый очерк,
набросанный карандашом, а еще через два года, в 1844 г. этот
набросок разросся до подробного изложения на 230 страницах.
Несмотря на то, что до той поры, по его словам, ни один натуралист в мире не мог разделять его идей, Дарвин был так глу1 Этот источник основной мысли дарвинизма нажил ему в нашей литературе врага в лице Чернышевского. Но, не говоря уже о том, что антипатичны, конечно, могут быть только выводы, сделанные из книги Мальтуса, а не факты, — должно заметить, что факт быстрой прогрессии размножения живых существ был отмечен натуралистами (как, например,
Линнеем и Франклином) задолго до Мальтуса.
* изменив, что надо изменить. Ред.
боко убежден в их важности, что на него напал страх, как бы
они не оказались потерянными для науки. Поводом к тому
было его постоянно расстроенное здоровье. В 1844 г. его преследует мысль, что он умрет, не поведав миру своей теории,
и в письме к жене он оставляет завещание, какую сумму употребить. на издание книги и кому поручить ее окончание. Сначала его выбор падает на Лайеля, потом на Гукера. По счастью,
опасения оказались напрасными, и хотя здоровье никогда к
нему более не возвращалось, ему предстояло показать миру пример человека, в течение сорока лет до последних дней своей
жизни, несмотря на постоянные страдания, сумевшего не прерывать колоссальной кипучей научной деятельности. Через
двенадцать лет, в 1 8 5 6 г . , по настоянию Лайеля, он приступает,
наконец, к окончательному изложению своей теории в размерах,
значительно превышавших будущее «Происхождение видов».
Книга была наполовину закончена, когда над его головою разразилась совершенно неожиданная буря, чуть не вынудившая
его отказаться от плодов двадцатилетнего труда, — отказаться
от принадлежащей ему по праву роли человека, двадцать лет
с небывалою осторожностью и осмотрительностью подготовлявшего научный переворот, какого мир еще не видывал. Но, быть
может, в конечном результате следует радоваться этой случайности, без которой наука так и не дождалась бы того момента,
когда Дарвин сам признал бы свой труд достаточно созревшим
для его оглашения. Эта счастливая случайность и составляет
повод сегодняшнего лондонского юбнлея.
Весною 1858 г. Дарвин получил письмо от своего знакомого
Альфреда Уоллеса, который, несмотря на свои восемьдесят
пять лет, вероятно, будет главным чествуемым лицом на сегодняшнем заседании. К письму была приложена записка, в которой в кратких чертах излагалась теория, весьма сходная с теорией Дарвина, с просьбой, в случае, если Дарвин найдет ее
содержание интересным, передать ее Лайелю для напечатанпя.
Нравственное состояние Дарвина, как можно видеть из его писем, было ужасное Ч Воспользоваться появлением записки
1 Часть писем Дарвина,
именно самая любопытная, относящаяся
к периоду возникновения и появления «Происхождения видов», появится
Уоллеса для того, чтобы одновременно с нею выпустить и свой
труд, представлялось ему чем-то таким, против чего возмущалось его нравственное чувство; ему казалось, что он этим не оправдал бы оказанного ему Уоллесом доверия. А, с другой стороны, отказаться от плодов двадцатилетнего колоссального
труда, лишить свое будущее произведение всей по праву ему
принадлежащей оригинальности, быть наказанным за свое слишком строгое отношение к тому, что для него уже двадцать лет
было истиной, призванной изменить весь строй человеческой
мысли, и что в глазах всех его современников было ересью или
безумием, — едва ли какой другой ученый испытывал такую
нравственную борьбу, какую выдержал Дарвин в эти тяжелые
для него июньские дни 1858 г. 1
По счастью, на выручку явились его два друга; они выступили свидетелями, что мысли, высказываемые Уоллесом, были
письменно изложены Дарвином еще в 1839 г. и повторены в
1857 г. (в письме к американскому ученому Аза Грею). Это были
Лайель и Гукер. Имя первого говорит само за себя, имя второго
менее известно в широких кругах, но для специалистов оно не
менее авторитетно. Сэр Джозеф Гукер надолго пережил своего знаменитого друга 2 , и ему вместе с Альфредом Уоллесом
выпадает, вероятно, самая выдающаяся роль на сегодняшнем
юбилее. Англичане так определяют его значение в науке: ни
один смертный не видел столько растений в их естественной обстановке, сколько видел их Гукер. Он известен как знаток австралийской флоры, флоры Гималаев, Южной Африки, Америки и вместе с Бентамом был автором «Genera Plantarum»*, —
в русском переводе в шестом томе «Собрания сочинений Ч. Дарвина»
(К. А. имеет в виду издание Ю. И. Лепковского. Ред.)
1 Удрученное состояние
еще увеличивалось семейным горем, потерей одного ребенка от скарлатины и страхом за здоровье остальных.
Кому приходилось читать письмо Дарвина после смерти его любимой дочери Анни, этот едва ли не самый трогательный «человеческий документ»,
когда-либо появлявшийся в печати, —- поймет состояние, которое он перешивал.
2 Ему теперь 91 год, и, несмотря на то, он еще бодрый старик. Год
тому назад я получил от него письмо и портрет, который приложен к переписке Дарвина.
*«Роды растений». Ред.
37
К. А. Тимирязеву т.
VII
577
несомненно, самого колоссального труда по систематической
ботанике. Эти два едва ли не самые авторитетные английские
ученые явились восприемниками дарвинизма в заседании Линнеевского общества 1 июля 1858 г. А Не то, чтобы они открыто
высказались за него; Лайель сдавался медленно и со всякими
оговорками. Гукер оказался смелее и в предисловии к появившейся вскоре «Австралийской флоре» выступил решительным
защитником превращения видов. Но как же была принята собранием эта записка, заключавшая самую глубокую революцию, когда-либо произведенную в области естествознания?
В письме Гукера сохранились любопытные подробности. «Интерес, возбужденный чтением, был громаден, но содержание
было до того ново и зловеще для сторонников старой школы,
что они боялись выступать, не будучи вполне вооруженными.
После заседания много шептались между собою. Одобрение
Лайеля, а может быть, в меньшей мере и мое, в качестве его
пособника, очевидно, запугало многих членов общества, иначе
они накинулись бы на Вашу теорию». Это было затишье перед
бурей; когда через год появилось «Происхождение видов»,
дело не ограничилось уже шептанием; даже расположенный
к нему бывший его учитель Сед?квик, благодаря Дарвина за
присылку книги, с ядовитостью подписывался: «Ваш старый
друг, а ныне потомок обезьяны».
Как внезапен был удар, так внезапна и решительна была и
победа. Летописи науки не представляют ничего подобного.
Здесь, конечно, не место подводить итоги перевороту в современном естествознании, начало которого справедливо приурочивают к тому навсегда памятному заседанию Линнеевского общества, годовщину которого поминает сегодня ученый мир.
Можно только отметить, что если пятьдесят лет тому назад новое учение явилось вполне неожиданно, то теперь, после полувековых ожесточенных нападок, за последние десятилетия (под
влиянием клерикально-политической реакции) вновь обострившихся, оно вполне выдержало свой искус и продолжает быть
тем же единственным ключом для объяснения основной загадки
1 Их записку вместе с предъявленными
ими документами Дарвина,
доказывавшими его приоритет, можно найти в I томе «Собрания сочинений Дарвина». (Издание Ю. И. Лепковского, М., 1907 г. Ред.).
живой природы, каким было в момент своего появления. Если
история науки и знает умственные подвиги, требовавшие, быть
может, более глубокого напряжения мысли (Ньютон, Максуэль и т. д.), то она решительно не знает второго примера такого широкого, синтетического охвата несметных категорий
фактов, такой всесторонней, исчерпывающей обработки одной
плодотворной мысли в ее бесчисленных изгибах и последствиях.
Это особенно бросается в глаза при сравнении с различными попытками надстройки или замены этого учения, в которых не
было недостатка за эти полвека. Все они или были отмечены узким, односторонним развитием одной какой-нибудь из бесчисленных сторон, указанных Дарвином, причем забывались другие стороны общей задачи, без чего она оставалась неразрешенной, или они поражали коренным непониманием того, что
собственно требовалось объяснить, и выдавали за новую теорию, опровергающую будто бы дарвинизм, набор фактов, ничего не объясняющих, ничего не опровергающих, а только дополняющих уже указанное ранее Дарвином А Можно смело
сказать, что за этот длинный период не только не выдвинулось
ни одного соперника Дарвину, но не выступило ни одного ученого, совмещавшего в своей голове всю ту совокупность фактов, которую одновременно охватывал и оценивал Дарвин,
без чего его теория не обладала бы своей изумительной убедительной силой. Неудивительно, что для этого умственного подвига потребовались десятки лет напряженного мышления и строгой самокритики. Как некогда Ньютон, Дарвин мог бы на вопрос, «как дошел он до своего великого открытия», ответить
с величавою скромностью: «я постоянно его обдумывал». Это
следовало бы иметь в виду его новейшим упразднителям и самодовольным заместителям в этот момент, когда ученый мир
чествует полувековую годовщину одного из выдающихся завоеваний в истории человеческой мысли.
1 Это последнее замечание относится особенно к пресловутому
гетерогенезису
Коржинского, представляющему разительный пример полного непонимания автором той задачи, которую он берется разрешить.
Отчасти я этого коснулся в своей брошюре «Основные черты истории развития биологии в X I X столетии», 1908, Москва, издание А. и И. ГранатIB настоящем издании см. том V I I I . Ред.).
КЕМБРИДЖ И ДАРВИН
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О П Р А З Д Н Е С Т В А Х 22—24 И Ю Н Я *
UPON THE WHOLE, THE THREE YEARS SPENT AT
CAMBRIDGE W E R E THE MOST JOYFUL IN MY
HAPPY L I F E 1
CH. DARWIN.
—
Autobiography.
К
ембридж! На всей земле — не исключая и Флоренции—
не найдется, конечно, второго уголка, который сыграл бы
такую роль в истории современной мысли. Кромвель и
Мильтон, Бэкон и Байрон, Ньютон и Дарвин — одних этих
имен было бы достаточно, чтобы наполнить славой целый мир,
а не одни только университет — a universe, not only a university. Вот что приблизительно сказал бы я, с полным убеждением, нашим гостеприимным кэмбриджским хозяевам, если бы...
1 «В итоге, три года, проведенных в Кембридже, были самыми радостными в моей счастливой жизни» (Ч. Дарвин. — Автобиография).
* Эта статья впервые была опубликована в журнале «Вестник Е в ропы», 1909 г., кн. X I и X I I , а затем вошла в сборник «Памяти Дарвина»
(М., 1910 г.). Для настоящего издания текст взят из книги К. А. «Наука
и демократия» (М., 1920 г.). Ред.
если бы сотням ученых, собравшимся сюда со всех концов мира,
пришлось говорить каждому в свою очередь и растянуть блестящий двухдневный праздник на целые недели.
И эти имена величайших Cambridge-men*, несмотря на
разнообразие их поля деятельности, — к а к они между соб.ой
сплетаются, какую связь, то близкую, то очень отдаленную,
но, тем не менее, несомненную представляют они с чествуемым
мировым гением и его учением!
Байрон, капризнейший из поэтов, в самом капризном из
своих произведений — «Дон-Жуане» — не дал ли он самую лаконическую и в то же время самую высокую, несмотря на ее
шутливую форму, оценку мировой роли своего великого коллеги по Trinity-колледжу:
Man fell with apples
And wite apples rose.
«Человек пал из-за яблока и с яблоком воспрянул вновь»—
намекает он на второе легендарное яблоко: Ньютоново яблоко, благодаря которому человек стал «sicut Deus»**, обнаружил свой «богоподобный разум, проникающий в тайну движения планет», — так как несомненно Ньютон «qui genus humanuni ingenio superavit»
а никто другой рисовался в воображении Дарвина, когда он писал эти заключительные строки своего
«Происхождения человека».
От яблоков поэта недалек переход к деревьям, на которых
они росли, и от поэта и ученого Trinity к ученому и поэту
Clîrist's-колледжа, к Дарвину и Мильтону. В другом своем
произведении (в «Манфреде») Байрон с таким же метким лаконизмом высказал, может быть, еще более глубокую мысль —
«the tree of knowiedge is not that of life» 2 . Но на этот раз мысль
поэта, безусловно верная в общем житейском смысле, оказалась неверной в применении к науке. Натуралисты, конечно,
помнят то «древо жизни», картиной которого заканчивается
1 «превзошел своим умом весь род человеческий». Надпись на памятнике Ньютона в Trinity-college.
2 «Древо
познания — не древо жизни».
* питомцев Кембриджа. Ред.
* * «как бог». Ред.
четвертая глава «Происхождения видов» Ч Плоды этого дерева вдохнули новую жизнь не только в биологию, но H в отдаленнейшие области человеческой мысли, человеческой деятельности и, тем не менее, это «древо жизни» произошло от
плодов «древа познания»: пример мутации, в сравнении с которым все энотеры и им подобные — ничто. И не любопытно
ли следующее сопоставление: не далее, как год тому назад
в стенах того же Christ's-колледжа, где чествовалась теперь память Дарвина, чествовался трехсотлетний юбилей Мильтона—
того самого Мильтона, на ком, как выяснил это недавно профессор Поултон, лежит главная доля ответственности за укоренение в умах целых поколений догмата отдельных актов творения. Известно также, что «Потерянный рай» был любимой
книгой Дарвина, с которой он никогда не расставался во время
своего путешествия на «Бигле». Таким образом, в том же Christ'sколледже, где живы предания поэта, облекшего в поэтическую
форму космогонию книги Бытия, задумал Дарвин, по своем
возвращении из путешествия, ту теорию, которой суждено было
изменить навсегда воззрения людей на происхождение органического мира.
Не менее этого совпадения места поразительно и совпадение во времени возникновения основной мысли этого учения.
В 1837 г., когда Юэль, знаменитый ученый историк индуктивных наук, заканчивал в Trinity заключительные главы своего
известного труда, где он доказывал, что биология никогда
не покинет почвы телеологии, от которой Бэкон навсегда освободил физику, — в том самом 1837 г. молодой натуралист
Christ's-колледжа Дарвин заносил в свою записную книжку
основной план своего будущего труда, задуманного «в истинно
Бэконианском духе», и показал, что этот дух ему был знаком
лучше, чем ученому историку, статуя которого красуется рядом со статуей самого Бэкона, и что именно этот «дух Бэкона»
освободил из сетей телеологии науки биологического цикла,
как ранее освободил от них науки физические. Именно успехи
физических наук зародили в Дарвине, по его собственному приз1 По мнению знатоков английской литературы, это один из тех отрывков знаменитой книги, которые современе.м найдут себе место на страницах английских хрестоматий.
нанию, желание вывести на тот же путь и науку о живых существах. Образ Ньютона стоял перед ним неотступно, и мысль о
параллели с Ньютоном, высказанная в заключительных словах «Происхождения видов», почти в тех же выражениях встречается уже в самом первоначальном очерке, отпечатанном только теперь по случаю торжеств. Так переплетаются здесь воспоминания о поэтах, мыслителях и ученых — питомцах этих
двух самых знаменитых колледжей Кэмбриджа. Не остался,
конечно, без влияния, быть может, отдаленного, по несомненного, и воспитанник третьего колледжа Сидней Суссекса —
Кромвель. Не он ли угадал характер своей нации, основав
величие Англии на ее морском могуществе и тем наложив известную печать на все ее дальнейшее развитие, отразившееся
и на выработке смелого, предприимчивого типа ее натуралистов? Без него, быть может, Англия не имела бы своего К у к а ,
своего Фиц-Роя, в утлых посудинах проделывавших свои кругосветные плавания, не имела бы и «Бигля», этого плавучего университета, давшего Дарвину то, чего не мог ему дать ни Кембридж да и ни один университет на свете, и без чего, опять по
его собственным словам, мир никогда не увидел бы его книги.
Только английская нация могла создать этот тип Дарвина,
Уоллеса, Лайеля или вот этого, явившегося помянуть своего
друга, почти столетнего старца Гукера, одинаково знакомого
с флорой всех пяти частей света и видевшего, как о нем принято
говорить, более растений в их естественной обстановке, чем
какой другой смертный.
Т а к , словно в одном фокусе, собираются вокруг виновника
этих торжеств и его великого произведения славные воспоминания Кэмбриджа. Я говорю просто Кэмбриджа, а не его университета, потому что нигде, даже в Оксфорде или Гёттингене,
университет не поглощает так всецело своего города, как в Кэмбридже — это бросается в глаза даже при самом беглом с ним
знакомстве.
*
Немногие из туристов, посещающих Англию, заглядывают
в Кэмбридж, а между тем едва ли какая поездка может даті,
столько впечатлений, как по связанным с ним дорогим всякому культурному человеку воспоминаниям, так и по красоте
картины исторических зданий, тонущих в зелени вековых деревьев, бархатных лужаек и плюща, повсюду взбегающего до
крыш и верхушек башен. Если прибавить чудную, почти весеннюю погоду, голубое небо, еще более выигрывавшее от близкого сравнения с обычным и на этот раз сереньким небом всего
на полтора часа отстоящего Лондона, то не покажется удивительным, что собравшиеся со всех концов света поклонники
великого ученого вынесли, по единодушному приговору, из его
чествования в этой чудной обстановке самое чарующее впечатление. Оно еще увеличилось удачно задуманной, замечательно
умело выполненной, необременительной, как это случается так
часто, программой празднества.
і
Всем приглашенным или делегатам приглашенных учреждений были приготовлены помещения в различных колледжах; но так как по уставам этих учреждений, напоминающим
их отдаленное монашеское прошлое, жить в них могут только
мужчины, то желавших приехать с семьей комитет Darwin
celebration * просил заранее о том предупредить, чтобы им
были подысканы помещения «в городе». Собираясь в Кэмбридж
с семьей и не желая злоупотреблять традиционным гостеприимством англичан, я задолго телеграфировал хозяину знакомого
отеля «Университетского герба» (University Arms) и получил
ответ, что уже нет ни одного свободного угла, все занято заранее, но что он постарается добыть мне комнаты по соседству.
Комнаты, действительно, нашлись, и нам представился случай
заглянуть в идеально чистый и уютный home** средней руки
буржуазии маленького провинциального городка. Окна квартирки выходили в тенистый сад как раз того самого колледжа,
где находилась моя монашеская келия. Колледж этот — Даѵнинг, самый молодой, насчитывает всего с небольшим одно столетие существования; моложе его только Гиртон (1869) и Ньюнам (1870), но и самое их назначение свидетельствует о их
недавнем происхождении — это первые колледжи для жен* комитет чествования Дарвина.
** Ноте — жилище, дом. Ред.
Ред.
щин. Построен Даунинг-колледж, соответственно своему возрасту, в так называемом у нас александровском стиле: с колонками и фронтончиками — совсем как в старых барских имениях; только чудный газон лужайки, по которому так удобно
ходить, словно по бархатному ковру, напоминал, что вы —
в Англии 1 . Мой хозяин, «master» 2 этого колледжа, профессор
Марш, провел меня в предназначенную мне комнату —мою
гостиную, так как мне были отведены две — гостиная и спальня.
Признаюсь, никогда в жизни не приходилось мне жить в такой
обстановке. Обширная, высокая, с ковром, в котором тонула
нога, с массой покойной мебели, диванами, кушетками, глубокими креслами, столами, столиками, шкапами, полками и полочками для книг, комната манила к отдыху, но письменный
стол с готовой бумагой и конвертами словно приглашал отвечать на обширную корреспонденцию в форме книг, брошюр,
писем, пригласительных билетов, которыми был завален другой,
соседний стол; расставленные повсюду вазы и вазочки с цветами сообщали всему необыкновенно уютный и жилой вид —
точно хозяин только на минуту вышел из своего кабинета. А
этим хозяином, как значилось крупными буквами на двери,
был Professor G. Timiriazeff, а ближайшим соседом через коридор был Professor Lotsy — известный профессор лейденского
университета, автор самого обстоятельного нового сочинения
по дарвинизму. Поблагодарив любезных хозяев за предназначавшееся мне гостеприимство, я принял их любезное приглашение воспользоваться чудной погодой для прогулки по университетским «backs», или попросту «задам» или «задворкам».
Для не бывавших в Кэмбридже непонятно, сколько красоты и поэзии заключается в этом тривиальном слове. Нужно
сказать, что весь университетский Кэмбридж занимает пространство в какую-нибудь версту длиною и две трети версты шириною. Эта площадь пересекается вдоль двумя главными ули1 Припоминается ответ оксфордского университетского садовника на
вопрос одного американца: «Как добиваетесь вы таких газонов?» — «Очень
просто, мы их постоянно подстригаем, а от времени до времени подсеваем;
попробуйте все это проделать, и лет через сто и у вас получатся такие же».
2 Не знаю, как передать титул главы, настоятеля, старосты, управляющего колледжем. В некоторых колледжах его зовут «президентом».
цами, а с западного края примыкает к тянущейся почти параллельно этим улицам реке или, вернее, речке Камм, которой и
сам город обязан своим названием Ч На эту Камм выходят своими задами самые известные исторические колледжи; ее берега представляют один сплошной зеленый парк с вековыми рощами и изумрудными лугами (сама она служит ареной гребных
гонок), почему эти «backs»* и составляют красу и гордость
Комбрид?ка и его преимущество перед Оксфордом и каким бы то
ни было университетом в мире. И, действительно, если многие
колледжи Оксфорда превосходят своим великолепием кэмбриджские, зато большая часть из них — за исключением, конечно, Модлинского (т. е. св. Магдалины), с его чудными садами и прислоненного к реке — как-то стиснута городом, современным пошлым городом с его безвкусными, прозаическими
постройками, магазинами и трамваями 2 .
Первый колледж на нашем пути был Queen's — колледж
королевы, один из самых старых. Но, может быть, для многих
читателей не совсем ясен смысл этого слова — «колледж», без
чего немыслимо историческое понимание уклада старых английских университетов. И нельзя сказать, чтобы легко было объяснить действительное содержание этого понятия. Всего менее объяснило бы его всего ближе передающее его выражение
«университетское общежитие». Это выражение имеет для современного русского слуха какой-то полицейски-зубатовский
1 Впрочем,
некоторые историки утверждают, что последовательность была обратная. Как бы то ни было, настоящее название Кембридж
должно бы быть Камбридж, что и сохранилось в народном произношении:
Киамбридж. Любопытно, что оба знаменитых университетских города Англии обязаны своим происхождением своему положению на переправе:
один значит мост на Камме, а другой, Оксфорд — воловий брод. Историк
Кэмбриджского университета видит в этом факте причинную связь: по
его мнению, мост создал ярмарку, на ярмарке появились странствующие
профессора, что и было первым началом университета.
2 Любопытна переданная мне профессором Вайнзом оценка Оксфорда
одним американцем: «Afuney old town only the buildings are rather out of
repair» («Потешный старый городишко, только постройки плохо ремонтируются».) И эти люди еще недавно хотели скупить Колизей, чтобы свезти
его в Чикаго!
* «зады». Ред.
привкус, между тем как для англичанина оно звучит преданием исторической свободы и служит предметом справедливой
народной гордости. Припоминается мне, к а к много лет тому
назад Фрэнсис Дарвин после обзора Christ's-колледжа, закончившегося обедом в его Hall'e,* обратился ко мне с вопросом: «Понимаете ли вы теперь, что такое наш колледж,
представляющийся чем-то совершенно чуждым всем иностранцам?» — Мой ответ был: «По мне, это что-то среднее между средневековым монастырем и современным клубом», на что он поспешно добавил: «А по-нашему это — швейцарский кантон,
а весь университет — подобие швейцарской республики». Английский колледж — это прежде всего экономическая единица,
это совершенно независимая преемственная община, в которой
не порывается связь поколений, наглядным символом чего являлся этот чудный готический «Hall», где происходил наш разговор, эта общая «трапеза», украшенная портретами Мильтона и Пэли 1 , в мирном соседстве с которым красуется теперь и
портрет Дарвина. Впечатление «трапезы» еще более увеличивается и мантиями собирающихся под общий кров учащих и учащихся этой средневековой обители. Любопытны слова одного из
лучших знатоков истории Кэмбриджа, профессора Кларка,
о происхождении Кэмбриджского университета, подчеркивающие, как изменилось вообще представление об университете.
«Не подумайте, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сказал себе: давайте оснуем университет. Ни один старинный университет,
насколько нам известно, не был никогда основан. Каждое такое учреждение возникло из самых скромных начал и, только
переходя от прецедента к прецеденту, превращалось в те величественные ассоциации ученых людей, последними пережитками которых являются два английских университета». Этими
скромными начатками, а не новейшими надстройками — как
наши недоброй памяти общежития — и были колледжи, сначала служившие убежищами для учащих, а затем уже и для
учащихся.
«
1 Известного богослова восемнадцатого века,
теологическими произведениями которого искренно восхищался Дарвин, давший впоследствии его блестящей аргументации совершенно иной оборот.
* столовой. Ред.
У
Я ранее не был знаком с Queen's-колледжем,* но на этот
раз в сопровождении master'a другого колледжа, мы могли
даже увидеть исторические покои здешнего master'a, почему-то
величаемого «президентом». Я говорю покои, потому что слово
комнаты как-то не идет к этим помещениям, стены которых
сверху донизу покрыты чудной резьбой почерневшего от времени дуба, на полках стоят прикованные цепями фолианты в
пергаментных переплетах, из потускневших рам с удивлением
глядят на вас бывшие обитатели, словно живые благодаря кисти, если и не самого Гольбейна, то его последователей, а о
современной жизни только напоминают хотя и стилистая, но
по своему комфорту принадлежащая другому веку мебель, да
всюду расставленные заботливою рукою хрустальные вазочки
с цветами. Колледж королевы, как и все знаменитейшне колледжи, связан с той удивительной эпохой возрождения, когда
образованная Европа говорила на одном языке — но не на волапюке, способном удовлетворить только скромные потребности
коммивояжера, когда различие между образованной женщиной
и образованным мужчиной было значительно менее, чем в наш
век суффражистских скандалов, — когда спокойствие градов
и весей не возмущалось современными вонючими трещотками,
а люди странствовали верхом, а то и пешком по лицу всей Европы, разнося свои идеи и поучаясь чужим — словом, когда
Кэмбридж давал приют Эразму, как позднее Оксфорд — Джордано Бруно. Имя Эразма встречается в колледже на каждом
шагу: вон по ту сторону Камма, за этим диковинным горбатым
мостиком, было любимое место его прогулки; тенистая аллея
сохранила нпо сей день его имя; а вот в этой башне, совершенно
заполненной плющом, он сидел за своей проверкой текста Нового завета, в ожидании того времени, когда, переведенный
на современные языки, он «станет достоянием и пахаря в поле
и ткача в мастерской». Mutatis mutandis (отбрасывая то, чем
оба случая отличаются), не та же ли это была идея, которая
в наши дни возникла, в том же Кэмбридже, в призыве к University e x t e n s i o n * * — к распространению в народе завоеваний
современной науки?
* Колледжем королевы. Ред.
* * общедоступным курсам (см. примечание К. А. на стр. 633). Ред.
За колледжем королевы, среди чудного луга, разбросаны
постройки колледжа короля — king's. Прямо по траве мы направились к его замечательной капелле, которую, в сердитую
минуту, Рёскин обозвал «скамейкой, брошенной четырьмя
ножками вверх». Но Рёскин — как справедливо заметил мой
спутник, когда я ему напомнил это изречение — такой писатель, с которым порою очень приятно и не согласиться, и остроумие этих слов не мешает любоваться красотой особенно внутренности этой капеллы, одного из изящнейших произведений
позднейшей английской готики. Веерчатые своды потолка даже
несведущему в архитектуре напомнят потолок знаменитой
капеллы Генриха V I I в Вестминстере и тем обличат имя короля, строителя этого колледжа. Полюбовавшись живописными
стеклами, подлинными старинными, а не позднейшей мюнхенской фабрикации, послушав прекрасный орган, на котором студент Дарвин изощрял, хотя и безуспешно, свой музыкальный
вкус, — мы круто свернули в город, и в его узенькой улочке
остановились перед тем, что составляет гордость иных времен,
иного века. Эта новейшая постройка — на наш глаз маленькая,
так называемая Кавендишская лаборатория или, на языке
студентов, просто «the lab». Она еще полна воспоминаний о гениальном Максуэле, творце современного учения об электричестве, еще так мало известном широкой публике хотя бы в своей самой лаконической формуле: свет — это то же электричество. Мало того: может быть, в эту самую минуту, заканчивая
свой дневной труд, работает здесь величайший из живущих физиков, «тот человек, о котором каждый прохожий знает, что
он расколол атом», 1 — сэр Джозеф Томсон. Войдите внутрь,
и ваш глаз, привыкший к роскоши немецких дворцов-лабораторий, будет поражен простотой: стены кирпичные, даже нештукатуренные, а самые драгоценные реликвии — самодельные инструменты и модели Макс^адб- И, тем не менее, здесь бьется
пульс самой передовой из современных наук о природе — новейшей физики; отсюда каждый день можно ожидать вестей об
открытиях, раскрывающих новые горизонты, «о которых и не
снилось нашим мудрецам».
1 Как остроумно выразился на-днях один английский научно-популярный журнал.
\/
Солнце уже заходило за неуклюжую, какого-то циклопического вида, еще до норманнов сложенную из неотесанных камней, самую старинную в городе церковь св. Бенедикта. Пришлось подумать о возвращении домой, чтобы пообедать и отдохнуть перед снаряжением себя на раут, которым должны были
начаться Дарвинские дни.
-*
Главное назначение таких собраний, как этот раут, — встреча старых знакомых и завязывание новых знакомств — на
этот раз, по очень простой причине, могло быть осуществлено
только отчасти. Хотя для него было выбрано обширное, двухэтажное помещение художественного музея Фиц-Уильяма,
по своим размерам и коллекциям очень значительное для такого маленького города, как Кэмбридж 1 , — оно оказалось
недостаточным для свободного движения всех приглашенных, число которых доходило до 1 500. Хозяином, принимавшим гостей от имени университета, был лорд Рэйлей, знаменитый физик, а на этот раз тор?кествениый канцлер университета,
в черной мантиы, сплошь расшитой золотом. Костюм этот,
1 Одно здание музея стоило около миллиона рублей. На его коллекциях (особенно гравюр) воспитывал свой художественный вкус в студенческие годы Дарвин. Здесь имеются Рембрандты и Тицианы, Рейсдали и
Тёрнеры. Великолепною коллекцией этих последних, пожертвованной
Рёскином, я имел случай любоваться в одно из предшествовавших посещений Кэмбриджа, благодаря любезности того же профессора Сюарда,
который был главным распорядителем Дарвиновских торжеств. На этот
раз, как и всегда, они были заперты в своих шкапах. Эта мудрая забота о
Тёрнерах простирается до того, что, например, по воле жертвователя,
в Эдинбургском музее их показывают только в январе месяце. Имена Тернера и Рёскина невольно напоминают один эпизод из жизни Дарвина,
рассказанный его сыном. Дарвин любил проводить лето на Конистонском
озере и, конечно, бывал часто в Брантвуде у Рёскина. Как-то раз Рёскин,
заманив его в свою спальню с ее замечательными Тернерами, прочел ему
о них целую лекцию. Дарвин со всем соглашался и поддакивал, но, вернувшись домой, покаялся своим, что ровно ничего не понял из восторженных объяснений Рёскина, что не помешало, однако, Рёскину потом говорить, что он не ожидал найти в Дарвине такого знатока картин. «Это был,
вероятно, единственный раз в жизни, когда отец покривил душою», —
добавляет Фрэнсис Дарвин.
так же, как и университетские костюмы англичан, многим
приезжим казался чем-то комическим; но как бы в ответ на
это были открыты сообщавшиеся с музеем помещения старейшего из колледжей, Питер-гауза, основанного в 1284 годг/.
Когда со стен на вас смотрят если и не сорок, то, по крайней
мере, семь веков, тогда каждый остаток этой седой старины,
выражается ли он в лежащей изящными складками старинной
мантии, или в серебряном жезле, несомом перёд канцлером,
вызывает совершенно иное чувство, чем, например, наши мундиры с их подпирающими подбородки воротниками, исторически напоминающие век Аракчеева, а эстетически — разве
только Держиморду. Остальные гости сообразовались с приглашением, гласившим, что «habit et décorations» признаются
«de rigeur» A Дамы, конечно, по английскому обычаю, были
в бальных платьях. Лорд Рэйлей простоял весь вечер на верхней площадке красивой мраморной лестницы, и перед ним непрерывной вереницей тянулась эта пестрая толпа, молча пожимая ему руку. Все прибывавшие живые волны сначала разливались по залам, но задние ряды все более и более нагнетали
на ранее прибывших, и вскоре двигаться стало возможно, лишь
меняясь местами с ближайшими соседями. При таких условиях
найти знакомого, а тем более, разойдясь, встретиться с ним снова,
было почти невозможно. Но вот мелькнули издали знакомые
черты нашего недавнего московского гостя, Ильи Ильича Мечникова, переносящие мысль в далекое, далекое прошлое петербургских шестидесятых годов. Его неизменно сопровождает
несколько грузная, но типическая фигура Рэй-Ланкэстера,
который будет завтра, от имени всей английской науки, ломать
копья за дарвинизм с его лицемерными ценителями, выражающими свое кислосладкое сочувствие, в ояшдании момента,
когда, не нарушая приличия, можно будет вовсе сбросить маски.
Только что неимоверными усилиями, рискуя каждую минуту
наступить на дамский шлейф, пролагаю дорогу к старым знакомым, как на другом конце залы в такой яге неприступной
позиции появляется Фрэнсис Дарвин, которого — несмотря
на то, что я видел его еще так недавно, воображение таюке
1
«фрак и ордена обязательны».
рисует цветущим юношей в Дауне. А вот, наконец, и great
attraction* вечера, запрятавшийся в укромном уголке за
большой моделью из слоновой кости Таджи в Агре, напоминающей ему далекие годы молодости, когда он изучал
флору Индии, — 93-летний старец, сэр Джозеф Гукер, охраняемый кружком заботливых дам от всех, желающих
пожать ему руку и пожелать еще многих лет процветания А
По прекрасному распорядку программы, выдаваемой гостям,
к слову сказать, в двух экземплярах, — одном обиходном,
на простом листе, и другом, переплетенном и роскошно иллюстрированном в качестве keepsake** — раут должен был
окончиться к 11 часам.
«
Со второго дня началось собственно чествование Дарвина
(Darwin celebration). В зале или, вернее, в здании сената университета (Senate house) с десяти часов утра назначен был прием
делегаций и чтение речей заранее намеченными лицами. Впрочем, на этот раз понятия «зал» и «здание» оказывались тождественными. Все здание состоит из одного обширного зала,
ничего соответствующего лестнице, сеням или передней не существует — прямо со двора входишь в обширный двухсветный зал с хорами. Какое наглядное выражение сравнительной
мягкости климата! Что бы стали мы делать в этом зале с нашими калошами и енотовыми шубами? Постройка, если прилагать к ней обычный для Кэмбридж а исторический масштаб—
очень недавняя, так как относится к началу X V I I I века. Очень
1 Не знаю, почему он показался И. И.
Мечникову таким жалким.
Последняя фотография изображает его года два тому назад, окруженного
любимыми гербариями, а на-днлх появилась его монография одной тропической группы растений, где он устанавливает целых 24 новых вида!
Мне он напомнил другого старца, Шевреля, в первый день своего второго столетия с юношеским жаром развивавшего, в назидание 70—80-летних молодых людей, свой излюбленный остроумный тезис: il faut toujours
tendre a l'infaillibilité sans jamais y prétendre (Должно всегда стремиться
к непогрешимости, никогда не предъявляя на нее права).
* главная приманка. Ред.
* * подарка на память. Ред.
красивый резной деревянный потолок и возвышение в конце
зала для сената, с креслом, Чуть не троном, для канцлера. Все
приглашенные при входе снабжались маленьким
планом
с № стульев, а так как билеты были нумерованные, зал, открытый только за десять минут до начала заседания, был, без
малейшей суеты, занят приоывшнми ровно к сроку гостями,
не нуждавшимися в содействии каких бы то ни было распорядителей, — один из наглядных примеров удивительного порядка
и предусмотрительности, которыми непрерывно любовались
все приезжие. Согласно программе и английскому обычаю,
одинаковому для всех утренних собраний, на этот раз все были
в сюртуках или в мантиях. Едва успели все занять места, как
началось торжественное шествие. Во главе его шел канцлер
во вчерашней, расшитой золотом, мантии и четырехугольной
шапочке; но на этот раз длинный шлейф нес изящного вида молодой человек (студент?) в черном фраке, шелковых чулках
и башмаках с серебряными пряжками. За ним следовали таких
же двое, один с какой-то старинной книжкой с массивными застежками (вероятно, это был устав университета, а, может
быть, и the book, т. е. библия), а другой — с каким-то окованным серебром ковчежцем, заключавшим, вероятно, какие-нибудь хартии. За ними шел вицеканцлер, т. е. собственно ректор университета, профессор теологии Мэзон. На нем была
красная одежда и широкая горностаевая палатинка — цвета
университетского герба. С тонкими чертами лица, тщательно
выбритый, с живым румянцем на щеках и коротко обстриженной, курчавой, седой, словно напудренной головой — недоставало только голубой ленты Святого духа, чтобы дополнить картину изящного французского прелата X V I I или X V I I I века.
За ним, по два в ряд, то в черных с белым, то в красных мантиях
и черных бархатных беретах, шли члены университетского сената, занявшие места амфитеатра за канцлером и вицеканцлером.
Заседание открылось краткою, сжатою, но очень выразительною речью канцлера, подчеркнувшею мировой характер
деятельности ученого, почтить чью память и в то же время
пятидесятилетнюю годовщину со времени появления его великого произведения стеклись сюда ученые со всех концов
38
К. А. Тимирязев,
т.
ѴП
563
света. «Я достаточно стар, —• сказал он, — чтобы помнить всеобщее возбуждение, вызванное этим последним событием. Для
многих выводы его учения, особенно в применении к человеку,
были очень нежелательны, да, пожалуй, и остались таковыми.
Если бы пятьдесят лет тому назад кто-нибудь предсказал сегодняшнее чествование, то 'это пророчество сочли бы просто нелепым. Но мы, кажется, в праве сказать: Кэмбридж доказал, что
он уже более не связан цепями средневековья, в существовании
которых кое-кто хотел бы еще и теперь нас убедить. Мы смело
приветствуем все то, что строгий метод научного исследования
призывает нас признать за истину. Не стану и пытаться предложить вам хотя бы самый краткий обзор его трудов. Мы услышим их оценку из уст людей науки, по праву могущих нас поучать. Нас всех касается прежде всего личный характер человека , любимого всеми, кто только приближался к нему, уважаемого всеми, в ком теплится хоть искра истинного научного духа.
Сорок один год тому назад я имел счастье видеть его в обстановке его труда, и меня, как и'других, поразили его почти невероятная скромность и его энтузиазм. Как отрадно, как ободрительно представлять себе его, вопреки постоянной болезни и
вынужденному ею уединению, из затишья своего кабинета,
теплицы или сада, приводящего умы всех мыслящих людей
в такое движение, которому едва ли найдется второй пример
в истории» А
За кратким вступительным словом канцлера начался прием
депутаций. Вереница их тянулась, вероятно, более часа, прерываясь на половине для речей, которыми также и закончилось заседание. Четыре оратора, которым было предоставлено
слово, были заранее намечены. Число депутаций и лривезен1 Эти замечательные слова речи лорда Рэйлея легли в основу появившейся на следующее утро прекрасной передовой статьи «Times'a». Оценка
деятельности Дарвина одним из самых строгих математических умов в
Европе невольно напомнила мне одного молодого нашего математика,
который, будучи уверен в сочувствии ближайшего своего математического
начальства и во славу какой-то идеальной философии, ничего не смысля
в биологии, ухарски, в нескольких строках, разделывал Дарвина. Впрочем, лорд Рэйлей не стоит одиноко: такие математики, как Гельмгольтц,
Больцман и Пирсон, высказывали в самых горячих выражениях свое сочувствие его теории.
ных адресов было так велико, что также заранее было решено,
что ни один из них не будет читаться, а все будут только передаваться канцлеру. У ж е вчерашний раут показал, что представлены будут все страны света, но на этот раз смешение
«одежд и лиц, племен, наречий, состояний» превзошло ожидания. Самыми подходящими для обстановки были, на мой взгляд,
все же исторические мантии английских университетов, пожалуй, еще свободные, расшитые зелеными пальмами фраки-мундиры времен не то директории, не то первой империи у французских академиков; но чем-то parvenu* отзывались вновь изобретенные костюмы немецких университетов, особенно торчавшая
колом тяжелая лиловая бархатная, расшитая золотом пелерина почтенного ректора Боннского университета, и уже совершенно комичным показался всем (может быть, для носившего — также исторический?) костюм и особенно головной убор
португальского профессора, имевший вид опрокинутого цветочного горшка, увешанного блестящими шелковыми висюльками из того материала, из которого делаются различные чортики, столь популярные у нас под вербами. Содержание адресов, вероятно, станет известным позднее, когда появится —
кажется, предположенное — описание «celebration**». Читателям, может быть, интересно узнать содержание единственных
известных мне московских адресов, тем более, что высказанные в них мысли, как будет ясно из дальнейшего изложения,
оказались общим лозунгом, повторяясь в главных речах и тостах. Вот, в русском переводе, адрес старейшего из русских
ученых обществ — Испытателей природы х :
. «Сенату Кэмбриджского университета.—„Между тем, как
эта планета совершает свой путь по определенному закону
тяготения, на основании такого простого начала развились и
продолжают развиваться бесчисленные формы изумительного
совершенства и дивной красоты".
1 Не могу не отметить утешительного признака сближения наших
двух национальностей. На этот раз адресы были на английском языке.
Еще лет десять тому назад считалось оскорбительным для национальной
гордости писать иначе, как по-латыни.
* кричащим (parvenu — буквально выскочка). Ред.
* * «чествования». Ред.
38*
595
Эти знаменательные строки определяют то место, которое
потомство отведет книге и ее автору, память которых мы собрались сюда чествовать. Закон всемирного тяготения и закон
естественного отбора сохранятся в памяти грядущих поколений,
как два важнейших шага в истолковании природы, неорганической и органической. Более того — случай беспримерный
в истории — торжествующее эволюционное учение сохранит
навеки имя его автора. Дарвинизм обеспечил бессмертие имени
Чарлза Дарвина.
Московское императорское общество испытателей природы
приносит свою дань уважения памяти великого человека и приветствует Кэмбриджский университет, чье славное имя навсегда
будет сочетано с именами Ньютона и Дарвина».
А вот адрес нашего старейшего университета:
«Сенату Кэмбриджского университета. — В этот достопамятный день, когда биологи всего света спешат принести дань
восторженного удивления перед трудом целой жизни величайшего биолога всех времен, — Московский университет шлет
свой братский привет славному Кэмбриджскому университету.
Университет, чье имя связано с далекими воспоминаниями
о Бэконе, красноречивом „герольде", возвестившзм приход
„новой философии, философии экспериментальной", — университет, в наши дни стоящий в первых рядах великого научного движения, начатого Максуэлем, — университет, чье имя
неразлучно связано с именами творцов „Ргіпсіріа"* и „Origin
of s p e c i e s " * * , этих двух важнейших точек отправления в изучении природы, такой университет может с полным правом сказать „qu'elle a bien mérité de la patrie" 1 .
Но великие люди не принадлежат отдельному университету,
даже отдельной нации; они — достояние всего человеческого
рода, они — связующие звенья между отдаленнейшими народами и в этом смысле величайшие миротворцы, величайшие
благодетели человечества.
«заслужил благодарность своей родины».
* Имеются в виду знаменитые «Philosophiae naturalis principia
mathematica» («Математические начала философии природы») И. Ньютона, опубликованные в 1687 г. Ред.
* * «Происхождение видов». Ред.
1
Московский университет, старейший рассадник просвещения в своей стране, не может упустить этого торжественного
случая — приветствовать наступление новой эры взаимного
понимания и братского сближения между двумя дружественными народами» Ч
Основная мысль, высказанная в московских адресах, повторялась/как увидим, во всех почти речах. Параллель с Ньютоном была особенно уместна в виду известной фракции немецких и английских ученых, желающих видеть в Дарвине не Ньютона, даже не Кеплера, а скорее Тихо де-Браге биологии. Что
Кэмбриджский университет является как бы вторым юбиляром—
эта мысль была особенно подчеркнута Королевским обществом,
присудившим в этом году свою Дарвиновскую медаль не отдельному лицу, а всему Кэмбриджскому университету в совокупности. Наконец, мысль о науке, как источнике мира на земле и
благоволения между людьми, развитая (как увидим далее)
Осборном, Арениусом и др., была встречена особенно сочувственно всеми присутствующими на банкете; исходя же от русского университета, она совершенно неожиданно совпала с
сочувственным России настроением значительной части английского общества.
Депутаты молча кланялись канцлеру и передавали адресы, которых вскоре нагромоздились целые груды. Вопрос о
местничестве, волновавший некоторых из присутствовавших,
разрешался очень просто, как и во всех последующих случаях,
строгим соблюдением алфавита сначала стран, а в их пределах—
городов. Впрочем, это касалось только гостей. Сами хозяева —
и не только Великобритания, но и Величайшая Британия
(Greater Britain), т. е. со включением всех колоний, — шли вне
алфавита, в конце списка. Однообразие церемониала, как уже
сказано, немного нарушалось в середине и в конце заранее назначенными приветственными речами. Роли были распределены
так: Германия была представлена Оскаром Гертвигом, Франция, а в силу личной унии и Россия — Мечниковым, Америка—•
Осборном, автором известной книги «От греков до Дарвина».
Какой иронией звучат теперь эти слова, в виду того озверения,
до которого довела передовые европейские народы проклятая война! (Примечание 1918 г. Ред.).
1
Наконец, представителем английской науки выступил РэйЛанкэстер, по строптивости своего характера не так давно покинувший место директора известного кснсингтонского естественно-исторического музея Ч
Немецкая речь Гертвига, прочитанная вяло и бесцветно,
произвела всего менее впечатления 2 . Да и говорилось в ней
более о том, как оратор, студентом, довольно-таки поздно,
ознакомился с дарвинизмом, какую роль сыграл в этом движении Геккель и т. д., и очень мало о самом Дарвине и сделанном
им перевороте. Между тем его речь по существу и должна была
касаться именно общего научного значения дарвинизма, так
как следующий оратор, в качестве представителя Пастеровского института, отметил другую сторону учения о борьбе за
существование: его значение для практической жизни, для медицины, иллюстрируя это положение собственными блестящими исследованиями в области сравнительной патологии
воспалительных процессов и теории фагоцитоза. Речь, прочитанная на прекрасном французском языке с уверенностью и уменьем опытного оратора, слышная во всех концах громадной залы,
была покрыта громкими рукоплесканиями. После этих речей
следовали снова депутации, а в заключение выступили ораторы
от Америки и Великобритании.
Глубокой симпатией и благородным сознанием долга признательности по отношению к бывшей метрополии звучала речь
представителя заатлантической науки Осборна 3 . «Явившись
сюда из-за океана чествовать Дарвина, 'мы прежде всего же1 Громадный музей, как известно, составляет все же только отделение Британского музея, управлением которого заведует целый «Board, of
trustees» (целая «коллегия доверенных лиц». Ред.), с премьером, спикером парламента, епископом кэнтерберийским и прочими нотаблями во
главе. Ланкастер не мог признать компетентность этого уважаемого собрания в вопросах зоологии и ботаники, и его сторону приняли многие
выдающиеся ученые Англии, но оказалось, что возникшее разногласие
может быть разрешено только новым актом парламента — и Ланкэстер
отказался от директорства.
2
Все вообще речи приводятся здесь в сокращении, но каждая высказываемая мысль передается в буквальных выражениях.
3 Можно было пожалеть,
что слово не было предоставлено проф.
Плате, находившемуся в числе депутатов и, несомненно, лучшему знатоку
дарвинизма в Германии.
лаем принести нашу дань благодарности Кэмбриджскому университету. Ни в одной стране, ни одно учреждение не вызывает в нас таких чувств сыновней любви и благодарности.
Питомец кэмбриджского Эманюэль-колледжа, Джон Гарвард,
основал первый американский университет — Гарвардский.
Эманюэльроди Гарварда, Гарвард роди Иэль. Иэль роди Принстона,аотних родились все остальные университеты вплоть до
третьего и четвертого поколения. Не одна наука, мало-помалу
и политика переходит в руки питомцев университетов, и у нас,
как и у вас, университеты ведут за собой всю нацию. Но не одно
только преемство учреждений связывает нас с нашей общей Alma
mater на Камме. Великие питомцы Тринити и Крайстс-колледжей связывают нас еще теснее. Благодаря Максуэлю, мы
ведем между собою беседу, пользуясь волнами эфирного океана.
Ньютон открыл нам новые небеса, а Дарвин — новую землю.
Это — наши вожди в борьбе с окружающими нас тайнами природы, а когда мы ищем отдыха нашим усталым умам, мы находим его в поэзии Мильтона и Байрона, Уордсворта и Теннисона,
в прозе Теккерея и Маколея — все также питомцев Кэмбриджа.
Вдали от игры колоссальных сил нашей республики, от оглушающего рева машин и сутолоки рынка мы еще более сознаем
значение таких тихих уголков, как этот, вечно создающих новые поколения вождей в науке, в литературе, в государственной
жизни, все крепче и крепче завязывающих узы дружбы и единения между народами».
Осборн перешел затем к воспоминаниям о своих собственных учебных годах в Кембридже, когда в один счастливый
день, занимаясь в лаборатории, он увидел перед собою Дарвина
и даже пожал ему руку! Заметив, что после всего, что было сказано за этот год о Дарвине, трудно прибавить что-нибудь новое,
он указал, что «едва ли какой ученый так побуждал итти вперед, намечая путь, которым следует подвигаться, неизменно
подвергая себя самого беспощадной самокритике. Этот пример
благородного отношения к задаче ученого — едва ли не такое
же драгоценное наследие, как и само бессмертное содержание
„Происхождения видов"».
В заключение Осборн упомянул, что американская депутация привезла с собою в дар Christ's-колледжу бронзовый бюст
Дарвина, «чтобы отдаленные поколения кэмбриджских студентов сохранили хотя бы приблизительное представление о запечатленном строгой простотой и умственным величием образе
человека, которого мы почитаем, перед которым мы преклоняемся». Понятно, что речь представителя Америки не только
сопровождалась, но и не раз прерывалась горячими аплодисментами.
Но самым выдающимся моментом заседания была, конечно, энергическая речь-манифест сэра
Рэй-ЛанкэстераЧтобы вполне понять ее значение и то напряженное внимание!
с которым присутствующие, знакомые с различными течениями
научной мысли в Англии, ловили его энергично подчеркнутые
фразы, его очень прозрачные намеки, прежде всего любопытно
отметить, как менялись роли двух английских университетов
по отношению к дарвинизму. Между тем как в былое время
Кэмбридж был на стороне Дарвина, а Оксфорд был оплотом
антидарвинизма — стоит вспомннть знаменитый диспут Гёксли
с епископом Вильберфорсом, — теперь Оксфорд насчитывает
таких выдающихся представителей дарвинизма, как профессор
Поултон, покойный профессор Уэльдон и сам сэр Рэй-Ланкэстер. В Кэмбридже, между тем, свила себе гнездо если не особенно выдающаяся по своим заслугам, то довольно крикливая
и умеющая себя рекламировать партия антидарвинистов. Главою ее считается профессор Бэтсон; его подголосками выступали значительно позднее как наш академик Коржинский,
так и амстердамский профессор Де-Фриз. Основная мысль
Бэтсона, выражаясь словами Щедрина: «наш век — не век великих задач». Стоит прочесть введение в его книгу «Materials for the study of variation»*, вся она как будто сводится
к основному лозунг}': «non possumus»**. Вопрос о происхождении видов — неразрешим. Вопрос о приспособлениях — неразрешим. Вопрос о причинах изменчивости — неразрешим. Остается, как некогда похвалялся по этому же поводу Еланшар,
«только определять и описывать, описывать и определять».
Бэтсон выступил первым защитником изменчивости скачками,
а как своеобразно понимал он эволюционный процесс — без
* «Материалы по изучению изменчивости».
«не можем». Ред.
Ред.
малейшей двусмысленности выражено эпиграфом его книги:
«Вся плоть не та же плоть: но одна плоть у людей, иная плоть
у скотов, иная же у рыб и еще иная у птиц» Ч Убедившись,
однако, что одним составлением каталогов анатомических аномалий — к чему собственно и сводились его «материалы» —
в науке далеко не уйдешь, и не будучи в состоянии сам придумать что-нибудь более плодотворное, он с жаром ухватился за
повторение опытов так кстати открытого Менделя, словно не понимая, что менделизм составляет только • маленький эпизод
в необъятном целом, называемом дарвинизмом, и к тому же
эпизод, не оставшийся неизвестным Дарвину, как это было превосходно разъяснено Уоллесом. Но это не мешает Бэтсону и его
поклонникам «с трубными звуками» 2 провозглашать, что менделизм так же важен, если еще не важнее дарвинизма. Как
упорно ведется эта реклама, можно судить на основании следующих мелких фактов. Расходясь из здания сената после заседания, публика на окнах противоположной университетской
книжной лавки могла видеть не произведения Дарвина, даже
не выпущенный комитетом сборник «Дарвин и современная
наука» 3 , — нет, все стекла были залеплены узенькими полосками с объявлением о выходе в свет новой книги Бэтсона «Менделизм». А когда наследующий день, в «Times» появилась прекрасная передовая статья о мировом значении дарвинизма,
в приложенном к тому же номеру газеты маленьком литературном прибавлении развивалась мысль, что дарвинизм
не достиг своей цели, т. е. объяснения происхождения видов,
но что оно будет, может быть, достигнуто менделизмом, причем
расхваливалась новая книга Бэтсона. Присутствие бэтсонианцев в заседании обнаруживалось сочувственным отношением,
1 Бэтсон почему-то скрыл источник, откуда он заимствовал этот текст,
но его клерикальный склад очевиден и едва ли примирим с каким бы то
, ни было эволюционизмом.
3 Выражение Уоллеса.
2 Я дал своевременно краткий разбор этой книги в «Русских Ведомостях» немедленно по ее выходе, и могу с удовольствием указать, что совершенно сходный о ней отзыв был дан позднее, на страницах «Nature», известным химиком и в то же время знатоком дарвинизма,профессором'Мольдола.
с каким, если не многочисленная, то очень энергичная часть
собрания подчеркивала каждую фразу, в которой говорилось,
что Дарвин был не только творцом гениальной теории, но и
кропотливым собирателем отдельных фактов и наблюдений.
После этих замечаний читателям будет понятен боевой тон
речи сэра Рэй-Ланкэстера с ее несколько лапидарным, очевидно, умышленным слогом. С первых же слов он объяснил, что
говорит не от своего только имени, а от имени британских натуралистов. «То, что громадное большинство британских натуралистов прежде всего желает провозгласить сегодня, по поводу Дарвина, и притом без всяких колебаний, без всяких двусмысленных фраз — сводится к следующему: по их мнению,
основанному на пятидесятилетнем изучении и проверке, „теория происхождения видов посредством естественного отбора
или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за существование" остается целой, неуязвимой и вполне убедительной,
несмотря на все попытки ее опрокинуть.
Я выскажу только голую истину, заявив, что, по мнению
тех, кому наилучше известны живые существа в их современной жизненной обстановке, „естественный отбор" сохраняет то
положение, которое признавал за ним Дарвин, т. е. главного
средства изменения органических форм.
Удивление громадному числу отдельных наблюдений и любопытных исследований, произведенных Дарвином в течение
его долгой жизни, не должно заставлять нас забывать, что все
они были им придуманы с целью проверки истинности его теории или отражения делаемых против нее возражений, и что
с этой точки зрения они были неизменно успешными и служили
к вящшему торжеству его учения. С другой стороны, ни одна
попытка ввести сколько-нибудь существенную поправку в его
теорию не оказывалась удачной.
Природа органической изменчивости и характер тех изменений, исходя из которых естественный отбор может действовать и действует, не были ни упущены из виду, ни превратно
истолкованы Дарвином, — как нас порою в том хотели бы уверить Ч Понятие о том, что эти изменения могут быть значитель1 Намек, главным образом, на совершенно произвольное утверждение Де-Фриза в книге «Darwin and modern science» («Дарвин и совремеіі-'
ны и внезапны, было им принято во внимание и отвергнуто, на
основании соображений, подробно им развитых. Это понятие
было в недавнее время вновь воскрешено, но истинность его
не была сделана более вероятною какими бы то ни было доказательствами, точность или убедительность которых могла бы
понудить нас отказаться от основного представления Дарвина
о важном значении мелких и повсеместных изменений. '
Далее, по поводу того, что касается важных фактов наследственности в связи с перекрестным оплодотворением культурных разновидностей, в особенности же в отношении слияния и
неслияния признаков в их потомстве и значения преобладания одних над другими— по моему мнению, необходимо в этот
момент и.с этого места напомнить, что все эти вопросы были подвергнуты Дарвином полному и тщательному обсуждению.
Мы не можем сомневаться, что Дарвин был бы глубоко заинтересован числовыми и статистическими результатами, связанными с именем Менделя. Эти результаты направлены к разъяснению механизма наследственной передачи признаков, но
невозможно было бы показать, что- они находились в каком-нибудь противоречии с основной мыслью теории Дарвина, с его
учением о происхождении видов.
Таково, по моему мнению и, я убежден, по мнению громадного большинства моих собратий натуралистов, положение
теории Дарвина теперь, после пятидесяти лет ее тщательной
проверки и многочисленных ее приложений А
Труд Чарлза Дарвина составит славу Кэмбриджского университета, как труд Лайеля составил гордость Оксфорда. Отмечу истинно английские особенности характера Дарвина:
его любовь к природе и сельской жизни и прежде всего ту не
отступающую ни перед какими трудностями решимость, ту
храбрость, я готов сказать — доходящую до дерзости смелость,
ная наука». Ред.), против которого редактор ее, профессор Сюард, и Фрэнсис Дарвин сочли себя вынужденными протестовать.
1 Читатели «Вестника Европы» могут заметить,
что именно такова
точка зрения, высказанная мною (февраль 1909 г., статья «Чарлз Дарвин»)
к а к на дарвинизм, так и на мутацию и менделизм. (См. в этом томе —
стр. 213 — статью «Чарлз Дарвин и полувековые итоги дарвинизма».
Ред.)
с которою, уже покинув университет, он достиг полного совершенства в отдельных отраслях той необъятной области знания, не овладев которой вполне, он не мог бы приступить
к своей основной задаче. Уже на склоне лет, обозревая свой
жизненный труд, он говорил: „мне кажется, я исполнил свой
долг, посвятив всю свою жизнь упорному служению науке".
Стремиться исполнить свой долг, измерять жизненный успех
степенью осуществления этого стремления — вот признак и
лучшая проба истинного величия характера. Мы, англичане,
всегда ценили эту благородную черту в наших национальных
героях».
Излишне говорить, что эта речь была покрыта общими, долго
не. смолкавшими аплодисментами всех присутствовавших.
Начавшись ровно в десять, заседание окончилось около
часа. Промежуток времени между окончанием заседания и назначенной в пять часов garden-party* в Крайстс-колледже —
колледже Дарвина — должен был быть посвящен по программе
посещению других колледжей. Мы с сыном успели осмотреть
только что упомянутую выше Кавендишевскую лабораторию,
на студенческом языке просто «the Lab». И действительно, это
его лаборатория par exellence, в ней сосредоточена современная слава Кэмбриджа. Прекрасные новые здания ботанического института, в котором помещаются Сюард, известный фитопалеонтолог, Фрэнсис Дарвин и Блакман, молодой талантливый физиолог, мне привелось увидеть ранее урывками.
На garden-party в Крайстс-колледже, имя которого навеки
будет связано с именем Дарвина, как имя Тринити-колледжа
с именем Ньютона, — снова собралось все многочисленное
общество, которое было вчера на рауте и сегодня на
заседании.
Уступая в роскоши построек Тринити и Кингс-колледжу,
Крайстс принадлежит к числу типичнейших зданий Кэмбриджа. Как большая часть произведений эпохи Ренессанса, он
сохранил, однако, национальный готический стиль и общий
строй, свойственный всем колледжам. Красивые ворота с башней, несколько дворов, капелла и трапеза (Hall), в которой
* встречи в саду.
Ред.
первоначально происходили н лекции, и диспуты, и все церемонии, — вот их обычные черты. Основательницей была лэди
Маргарита Бофор, «пятнадцатилетняя вдова и мать королей»,
одна из типичных представительниц эпохи Возрождения: она
не только создала этот колледж, где сама поселилась, оберегая
своих питомцев от слишком крутой дисциплины университетских властей, но и снабжала только что возникшую университетскую типографию 1 своими переводами с французского и
итальянского. Память о ней сохранилась и в архитектурных
орнаментах — маргаритках и в каком-то рыцарском культе
даже современных обитателей колледжа к своей Lady Margaret. Ее изящный, строгий профиль сохранился в Вестминстерском аббатстве, благодаря резцу современного ей итальянского ваятеля Торреджиано, более прославившегося, однако,
тем, что его кулак сокрушил другой и более знаменитый живой профиль, т. е., выражаясь вульгарнее, расквасил
нос Микель-Анджело, наложив печать не только на внешние
черты, но, может быть, и на весь нравственный облик угрюмого нелюдима и величайшего из художников. И не одно это
случайное совпадение напоминает здесь о старинной связи
между Италией и Англией. Славный питомец Крайстс-колледжа,
Мильтон, сохранил о себе память не только во Флоренции, но
и в живописной и уединенной Вальомброзе, когда-то монастыре,
а теперь самой поэтической лесной академии — не исключая Таранда и покойной 2 Петровской академии. Мильтон же, как известно, прозвал «Il penseroso»* Микель-Анджеловскую статую жалкого дегенерата Лоренцо Медичи, которого каприз гения навеки обессмертил—и,конечно, отдаленное потомство не отменит этого прозвища, тогда как с хохотом отвергнет кличку «penseur»** ,
1 К слову сказать: какой
контраст представляет современная камбриджская университетская типография с нашей злосчастной московской!
Это одно из изящных зданий в городе отстроено по подписке в память
Вильяма Питта, студента Пэмброк-колледжа; она выпускает научные и
другие издания, могущие служить образцом типографского искусства.
В ней были отпечатаны и все изящные издания, вышедшие в свет по случаю юбилея.
2 Ныне воскресшей.
* «Мыслителем».
Ред.
* * «Мыслитель». Ред.
которою кривляка Родэн окрестил своего кафешантанного
атлета с головой идиота!
В прошлом году Крайстс-колледж помянул своего великого поэта-пуританина выставкой, на которой были собраны
все издания его сочинений, их переводы и т. д. На этот раз
была собрана еще более интересная выставка в память Дарвина.
Хотя я еще за два дня приезжал в Кэмбридж, чтобы на
просторе изучить эту выставку, я зашел еще раз, чтобы воспользоваться присутствием Фрэнсиса Дарвина для некоторых разъяснений. По всеобщему признанию, выставка была очень удачна: собрано было почти все, что можно было собрать. И прежде
всего, все сохранившиеся портреты, начиная с полотен известных художников Колиера и Оулеса, всем знакомых по бесчисленным фотографиям, и кончая превосходно сохранившеюся
пастелью, изображающею Дарвина в возрасте семи лет с его
сестрою Ч Копия с портрета Оулеса теперь красуется по соседству, в Hall'e колледжа между портретами Мильтона и
Пэли, поэтическими и богословскими произведениями которых
Дарвин так искренно восхищался в молодости, чтобы в более
зрелом возрасте всею своею деятельностью доказать их полную
научную несостоятельность.
Рядом с этими портретами бросается в глаза отвратитель-^
ный портрет в красной мантии почетного доктора, кисти сэра
Уильяма Ричмонда, исполненный по подписке членов кэмбриджского философского общества и украшающий библиотеку
общества. Можно подумать, что художник был скрытым антидарвинистом и вместо всем знакомого образа кротко-величавого старца, изобразил какого-то uomo delinquente*, с искривленным злобою ртом и перекосившимися глазами — это
Дарвина-то, мягкость и доброта которого невольно поражали
каждого, кому приходилось с ним встречаться 2 .
1 Диапозитив с этого любопытного портрета был мною показан по
случаю чествования столетия дня рождения Дарвина в Москве, 31 января.
* преступного человека. Ред.
2 Должно заметить, что в последнее время многие ораторы даже злоупотребляли этими ссылками на личное знакомство, хотя бы оно ограни-
Но, конечно, интереснее портретов, известных по фотографическим и другим воспроизведениям, были коллекции рукописей и предметов (простой микроскоп, барометр, геологический молоток, пороховница и пр.), служивших Дарвину в его
путешествии на «Бигле» и позднее, при его работах в Дауне.
Рукописи и записные книжки наглядно показывали, что он
не преувеличивал, говоря в своей автобиографии, что первоначально в спеху набрасывал свои мысли, порою не совсем даже
связно и самым небрежным почерком (in a vile hand), и уже потом отделывал их, достигая порой той стилистической красоты,
о которой было упомянуто выше. Любопытно, с другой стороны, что некоторые основные положения уже за двадцать лет
до появления «Происхождения видов» вылились у него в ту же
литературную форму, в которой получили потом всемирную известность. Все делегаты и гости получили от синдиков кэмбриджской университетской типографии изданную к юбилею
изящную книжечку под заглавием: «The foundations of the
origin of species»* — первый набросок теории, относящийся
к 1842 году. Он оканчивается, как это отмечает редактор издания, Фрэнсис Дарвин, теми самыми словами, которыми заканчивается «Происхождение видов» А Не доказывает ли это, что
Дарвин мог повторить известные слова Гауса: «Мои результаты
у меня давно готовы; не знаю я только, как я до них доберусь».
После всего лично касающегося Дарвина не лишены были интереса и портреты ближайших его родственников и предков —
до шестого поколения, а также фотографии и гравюры, изображающие Даун. Особенно интересен портрет деда его Эразма,
чивалось только тем, что они имели случай пожать ему руку. А
один так даже заявил, что, кажется, видал его на улице, хотя не совсем в том уверен. Любопытно, что к сыну издателя Дарвина, Муррею,
обращались с просьбой, не найдется ли в переписке его отца с Дарвином
какого-нибудь письма последнего с выражением досады или нетерпения по поводу печатания, корректур и т. п. По словам Мурреясына, в них не оказалось, однако, ничего кроме самой изысканной
вежливости и выражений трогательной благодарности за каждую
малейшую у с л у г у .
1 И которыми начинается один из наших
московских адресов. (См.
выше, стр. 595. Ред.)
* «Основы происхождения видов». Ред.
типичнейшего англичанина доброго старого времени, напоминающего Бэна Джонсона.
Не лишен интереса был и обширный отдел карикатур,
поражавший убожеством их общего замысла: несмотря на различие национальностей авторов и времени появления их произведений, ни одна из них не шла далее избитого остроумничанья на ту же тему происхождения от обезьяны, всего проще
и безобиднее выраженнзчо фигурировавшей здесь большой куклой обезьяны, которую кембриджские студенты спустили на
веревочке с хоров Senate-hous'a перед Дарвином, во время церемонии получения им звания почетного доктора прав, в 1878 г.
Предположенный, как на прошлогодней Мильтоновской выставке, библиографический отдел, т. е. собрание всех изданий,
переводов и т. д., повидимому, не состоялся; обращало на себя
внимание только, выставленное на видном месте, русское
«юбилейное» издание сочинений Дарвина, нашего московского издателя 10. И. Лепковского. В общем, выставка, хотя
небольшая, была очень интересна, и производимое ею впечатление дополнялось близким соседством комнаты Дарвинастудента 1 .
Garden-party, с прогулками под музыку по шелковистому
газону и с обычными угощениями в шатрах, на этот раз разбитыми очень кстати, так как принимавшийся несколько раз
дождь загонял в них гостей, настолько многочисленных, что,
как накануне вечером на рауте, трудно было свободно двигаться.
Зато в те минуты, когда выглядывало солнце, картина пестрых
групп в университетских костюмах, разбросанных на фоне свежей зелени векового сада или взбирающихся до крыш плющей и других ползучих растений, скрашивающих дворы колледжей, была очень живописна, хотя увековечена она крайне
прозаично фотографом, построившим всех присутствовавших
обычным сомкнутым фронтом, да еще в заключение с заранее
заготовленными номерками, для того чтобы впоследствии
легче можно было опознать who's who*. В числе многочисленФотографии внешнего и внутреннего вида поме тцения, которое занимал Дарвин в колледже, помещены в первом томе только что упомянутого русского издания.
* кто это. Ред.
1
ных посетителей снова, понятно, обращал на себя внимание старик Гукер, здесь, на чистом воздухе, боле% бодрый,
чем в душной атмосфере вчерашнего раута. Особенно теснились около него, когда он проходил по выставке, делая замечания по поводу всего, так живо напоминавшего ему его славного друга.
Время летело незаметно, благодаря встречам со старыми знакомыми и завязыванию знакомств с новыми молодыми представителями науки. Преобладающая тема разговора, особенно
с людьми, не бывавшими здесь ранее, с главного повода этих
торжеств невольно переходила на восторженные похвалы вечно
юному в своей старческой красоте — Кембриджу.
Банкет, как на всяком английском празднестве центральный момент для выражения его внутреннего содержания, происходил в помещении extra modern*, так как мои знакомые распорядители сообщили мне под секретом, что еще утром окончательно отделывался новый громадный зал, вместивший в себе
пятьсот собеседников, не считая публики на хорах. И, тем не
менее, ни обычных лестниц, ведер с краской, забрызганных полов, ни запаха известки или масляной краски, этих обычных
у нас спутников новой или ремонтированной постройки, не
было ни следа. Указываю на эту подробность, так как и помимо
нее все гости дивились изумительной организации этого обеда,
как и всего вообще приема. Громадный зал получил название
«экзаменационного» (Examination hall), указывающее на то,
что и здесь этот отвратительный институт, достигший в наших
высших школах таких уродливых размеров, также еще
процветает А Главное назначение его — служить для экза* сверхсовременном.
Ред.
1 Впрочем, Кэмбридж, как увидим далее, уже выступил на путь реформ. Следует к тому же оговориться, что Запад не имеет и понятия о наших экзаменах; только у нас можно сказать, что все теперь сведено к экзаменам, а экзамены сведены к нулю. На-днях, прочитав интересную
историческую записку, составленную Женевским университетом по поводу
его юбилея, я в первый раз узнал, что в истории экзаменов разительно
проявились гегелевские тезис, антитезис и синтезис. Оказывается, что
в эпоху Возрождения экзамены были одним из лозунгов движения к свету
и праву, так как до тех пор переход учеников из класса в класс зависел
почти исключительно от степени влиятельности родителей и покладистости
39
[С. .1. Тимирязев,
,п.
VII
609
менов, но расчетливые хозяева университета имеют в виду
в свободное время сдавать его под балы, концерты и публичные лекции, для чего одна из поперечных стен, гладко
выбеленная, служит сплошным экраном для волшебного фонаря. Хотя банкет был без дам, но, тем не менее, так
как истинным джентльмэнам полагается при фраке быть не
только в башмаках, а в каких-то даже туфельках (а калош также не полагается), то весь длинный путь дворами и садом от
ворот до подъезда зала был устлан мягким красным ковром и
покрыт навесом на переносных железных столбиках. Зал был
вплотную заставлен столами, одним почетным вдоль стены и
рядом примыкавших к нему поперечных, оставлявших только
узкий проход у противоположной продольной стены. При таких условиях, задача размещения в несколько минут 500 гостей, прибывших ровно к назначенному сроку, представлялась не из легких, особенно знакомому с толкотней и сумятицей,
царящими при таких случаях у нас. Кому не знакома обычная
картина: распорядители бегают, запыхавшись, разыскивая
кого-то, кого необходимо куда-то посадить — вы в недоумении озираетесь кругом, видя перед собой ряды стаканов, из
которых торчат визитные карточки или сомнительной чистоты
лоскутки бумаги, пока какая-нибудь добрая душа с другого
конца зала не окликнет вас: «сюда, сюда! — я тут занял для
нас десять мест!»? Здесь заботливые распорядители блистательно разрешили эту задачу следующим образом. Каждому при
входе вручался компактно сложенный, но развертывавшийся
в громадный лист план обеденных столов, обозначенных буквами с пронумерованными местами, а под ним — алфавитный
список всех присутствовавших с присвоенными им номерами.
Благодаря этому сочетанию графического метода с бинарной
Лиинеевскон номенклатурой, задача разыскания своего места
осуществлялась без малейшего труда, и я мог с полным убеждением поздравить распорядителей с их организаторскими
способностями, обличавшими в них привычных классификапреподавателей. В наше время обратно: бесконечные экзамены являются
излюбленным орудием реакционно настроенных вершителей просвещения. Не наступила ли пора для разумного синтеза, т. е. экзаменов числом
поменее, содержанием поразумнее?
торов А Определив свое положение в пространстве, мы могли
так же легко определять и свое положение во времени, благодаря menu, украшенному изящными миниатюрами Дарвина
ребенком и стариком. Оно показывало хронологическую последовательность пищи не только телесной, но и духовной,
т. е. тостов и ответов на них, причем роли исполнителей
по прекрасному английскому обычаю были распределены заранее.
Тосты, кроме обычного лойяльного «The King!»*, произнесенного канцлером 2 , сводились к двум — за Дарвина и за
Кэмбриджский университет. Произносились эти тосты-речи
также по обычаю англичан уже по окончании обеда, а не так,
как нередко у нас (вследствие их неумеренного количества,
редко соответствующего качеству), начиная с жаркого, под
стук тарелок, звон стаканов и лязгание приборов. Провозглашал содержание тостов и имена ораторов какой-то господин
из отставных военных, на которого эта обязанность была возложена ради его, протодиаконского голоса, каждый раз вызывавшего неудержимые взрывы хохота всей залы.
Первая речь принадлежала бывшему премьеру — Бальфуру. Почему не настоящему? Причина этого обнаругкилась
из следующего эпизода. К сидевшему рядом со мною во главе
нашего стола профессору-распорядителю от времени до времени подходили за указаниями молодые люди, очевидно, добровольные ординарцы, благодаря которым все шло в таком поразительном порядке, как бесшумная машина. Перед самым
концом обеда объяснение нашего председателя с одним из подо1 Причем они покаялись, что были на волос от
полнейшей fiasco.
Набор этого плана, представлявший немалый труд, утром нечаянно рассыпался, и его только-только успели вновь набрать, прокорректировать
и отпечатать. Останавливаюсь на этой закулисной мелочи, чтобы показать,
ценою каких хлопот наших любезных хозяев достигалась та изумительная, будто автоматическая, организация, которой удивлялись все иностранцы.
2 При этом мне невольно припомнился старик лорд Кельвин, сидевший рядом со мною на обеде Королевского общества и шепнувший мне в
шутку: «А я так по старому пью „the Queen"! („за королеву". Ред.). Шестьдесят лет — привык, поздно переучиваться».
* «За короля!». Ред.
39*
611
шедших к нему приняло какой-то таинственный характер —
шопотком. Когда шептавшийся ушел, мой сосед обратился ко
мне: «Вот вы будете смеяться, если узнаете, в чем наша тайна.—
Меня приходили спрашивать, пора ли посылать за полицией,
и я сказал, что пора. Дело в том, что на такой большой банкет,
как сегодня, дам обыкновенно не приглашают, да и места бы
недостало, но многие желают послушать речи, и вы видите,
что хоры начинают наполняться дамами. Ну, а у нас теперь
такие нравы: как появляются дамы, сейчас посылают за полицией!» Оказалось, что <9ялш-суффражистки Ц травящие Асквита, и на этот раз собирались сделать скандал, так что, повидимому, во избежание скандала перед европейскими гостями,
либеральный университет, в либеральной в эту минуту стране,
должен был быть представлен консервативным ех-премьером.
Бальфур начал свою прекрасную речь (к слову сказать, мало
напоминавшую его недавние пессимистические выпады против
современной науки 2 ) следующим заявлением: «Я не уступаю никому только в двух качествах, делающих меня пригодным для
выполнения той ответственной роли, которую возложил на
меня Комитет чествования Дарвина: эти качества — безграничная преданность родному университету и удивление перед
гением того, кто был одним из его величайших украшений.
Каждый верный сын Кэмбриджа, — продолжал оратор, —
испытывает чувство восторга при сознании, что его университет
стоял во главе тех движений человеческой мысли, которые не
заслонялись новыми завоеваниями науки, новыми открытиями,
а сохраняли за собою навеки значение исходных точек^отправления в поступательном движении человечества. Сегодня
мы собрались чествовать память одного из величайших ученых
всех времен, но в Кэмбридже он имеет достойных соперников.
Не развивалась ли научная мысль в течение веков под наитием механических идей Ньютона? А современное учение об
1 Известно, что движение это специально дамское,
а не общее женское,
так как участницы в нем не раз заявляли, что они — сторонницы ценза.
2 На последнем Кэмбриджском съезде Британской
ассоциации высказанные им мнения встретили своевременный отпор с авторитетной стороны — со стороны выдающихся физиков, которыми современная Англия
так богата.
эфире, не обязано ли оно своими главными устоями Юнгу,
Кельвину, Стоксу, Максуэлю — не говоря уже о присутствующих представителях современного Кэмбриджа? (намек
на сэра Джозефа Томсона, подхваченный общими аплодисментами всей залы). Я не желал бы впадать в грех преувеличения,
который был всегда ненавистен Дарвину; но факт остается фактом, что умственные приобретения Дарвина стали общим достоянием каждого образованного человека, где бы он ни жил
и каков бы ни был предмет его занятий. К Дарвину, быть мо- •
жет, не исключительно, но главным образом, восходят все те
воззрения, которыми руководятся не только исследователи
развития живых организмов, но и политик, и социолог,словом—
все те, кто~ имеет дело со всею человеческою деятельностью на
земле. Он — источник и начало этого умственного движения
и останется навсегда в памяти людей человеком, вызвавшим
благотворную революцию во взглядах просвещенного человечества на историю не только человеческих учреждений, не только человеческой расы, но всего, носящего признак жизни
на нашей планете. Он явился Ньютоном этого обширного поля
исследования, и к нему обращаются все взоры, как некогда обращались к-Ньютону в попытках измерить глубину мирового
пространства и взвесить отдаленные миры. Но измерять мировое пространство и взвешивать солнце — задачи неизмеримо
более легкие, чем те, которые выпали на долю биолога. Загадку
жизни, перед которой нам невозможно отступать, как бы малы
ни были наши надежды на ее полное разрешение, эту загадку
в ее самых широких чертах Дарвин охватил так и с таким успехом, как ни один человек в мире ни до, ни после него, и это
широкое обобщение навеки обессмертило его имя».— Вся эта
часть речи прерывалась неоднократными дружными аплодисментами.
Как опытный парламентский оратор, изучивший секрет
сколачивания большинства, Бальфур, однако, знал, что в числе присутствующих находится довольно обширная фракция,
расположение которой можно привлечь аргументами совершенно иного рода. «Но представим себе, — продолжал он, —
что Дарвин не был бы автором своей великой теории, что он
проявил бы свой изумительный талант только в своих специ-
альных исследованиях, в собирании того колоссального материала, которым переполнены его труды — и в таком случае
не было ли бы его имя почти так же славно, как и теперь?»
И эта часть речи дошла по адресу и была подчеркнута если
не общими, то очень энергическими аплодисментами «бэтсонианцев», как и вчера сочувствовавших всякому намеку на
то, что «наш век — не век великих задач», а век кропотливого
нагромождения «ценных вкладов» Ч
Заключил Бальфур свою речь очень теплыми словами о Дарвине, как этической личности, без чего, конечно, не может
быть полна никакая оценка этого совершенно исключительного человека. «Я могу с гордостью сказать, что принадлежу
к тем из здесь присутствующих, кому выпало редкое счастье
знать Дарвина лично. И я не отступил бы ни на шаг от истины, сказав, что, помимо его научных заслуг, на свете не было
человека, более достойного любви и уважения, чем этот великий натуралист. Ни одно из столь оскорбительных извращений
и ложных толкований его учения не могло нарушить величавую ясность и спокойствие этого великого ума. Самые злостные выходки неразборчивых на средства противников не
могли вывести его из себя, и они, эти героические и в то же
время теплые, сердечные качества его характера должны были
бы обратить на него внимание его современников».
Если устами Бальфура говорил англичанин и представитель Cantabridgia*, то следующий оратор, известный физик
Сванте Арениус, выступил выразителем международного общественного мнения. Как иностранец и не биолог, но интересующийся самыми широкими задачами современного естествознания 2 , он был очень уместен в этой роли. К сожалению,
впечатлению его превосходно составленной речи мешало отвратительное английское произношение; но по счастью его
1 Бальфур, как я потом нашел в стенографическом отчете по
этому
поводу, рискнул даже высказать парадоксальную мысль, что «способность к талантливому обобщению встречается у многих, даже не обладающих другими способностями».
2 Сам
известный ученый, он приехал учиться в лабораторию одного
из выдающихся современных английских физиков — Рутерфорда.
* Cantabridgia — воспитанник Кэмбриджского университета.
Ред.
самого оно не смущало, и говорил он так, что его голос гремел
во всех концах громадного зала. Вот общее содержание этой
речи.
«Эволюционная идея почти так же стара, как человеческая цивилизация. В начале XIX века, благодаряЛамарку,
она сделала большой шаг вперед, но, тем не менее, финалистическое мировоззрение продолжало господствовать даже в произведениях Канта, ранее немало способствовавшего успехам
эволюционной идеи. Потребовался гигантский умственный
труд, обнимающий всю совокупность биологического знания,
связывающий ее самой строгой логикой и неумолимой критикой для того, чтобы обеспечить окончательное торжество современной эволюционной идеи, высказанной в этом образцовом творении — «Происхождение видов». Быстрый успех этого
учения вызвал не менее ожесточенный отпор сторонников старого финалистического мировоззрения, насчитывавшего целые столетия никем не оспариваемого господства над умами.
Сам Чарлз Дарвин сознавал, как широка область фактов, охватываемая его учением, вплоть до явлений умственного и социального развития животных и человека, объясняющих и генезис нравственного чувства. В настоящее время не найдется,
пожалуй, науки, которая не приходила бы в прикосновение
с эволюционной идеей, а во многих случаях не была бы насквозь пропитана ею. Социология и статистика, история и лингвистика, так же как и право, изменяют свои коренные воззрения, руководясь представлением об эволюции и о влиянии наследственности и среды. Даже теолог, так долго боровшийся
с наплывом новых идей, усматривает теперь в них положения
высокой этической ценности, которые он старается привести
в согласие с религией. В то же время исследователи точных наук — где эволюционная идея возникла ранее, чем в биологии—
получив новый толчок, стали еще усерднее применять ее к своим новым задачам. Наука интернациональна; это движение отозвалось во всех странах мира. И вот почему мы, ее представители, явились со всех концов света сюда в Кэмбридж,чтобы вместе с вами почтить память величайшего из эволюционистов.
Мы все глубоко убеждены, что великая умственная революция,
вызванная торжеством эволюционной идеи,— самое важное ео-
бытие в развитии человеческого разума со времени того могучего политического движения, которое началось сто двадцать
лет тому назад взятием Бастилии. Но разница меяэду тем прошлым временем и нашим та, что тогда всякий могучий успех
в области политической, социальной или умственной достигался ценою борьбы и всех ужасов войны. Совершившийся на
наших глазах переворот, благодаря успехам цивилизации,
осуществлен силою разума и убеждения. „Перо оказалось могущественнее меча". Не в праве ли мы радоваться тому, что мы
живем в такое время? И не очевидно ли, что идея эволюции
несовместима с насилием, и мы можем надеяться, что она послужит к утверждению мира и доброго согласия меяеду всеми
цивилизованными народами? Преклоняясь перед памятью Дарвина, все люди науки чтят в нем не только идеального ученого,
но и человека науки, чье могучее влияние еще усиливалось
его нравственной чистотой и духовною мощью».
Весь зал встал, как один человек, и тост был выпит в благоговейном молчании.
Когда поднялся со своего места следующий оратор, которому
было предоставлено отвечать на предшествующие тосты, по
залу пробежал шопот невольного изумления. Казалось —
это был сам автор «Происхождения видов», и именно он, каким
он изображен на современных появлению книги портретах,
а не тот величавый старец с седой бородой, каким Дарвин останется навсегда в памяти потомства, благодаря лучшим позднейшим портретам и их бесчисленным фотографическим воспроизведениям. Тот же громадный выпуклый лоб, те же глубоко
впалые добрые глаза с торчащими над ними щеткой и будто сурово насупленными бровями. Такое поразительное сходство
мне редко случалось встречать; я думал сначала, что мне могло
так показаться издали, но на следующий день, когда привелось
видеть его вблизи и говорить с ним, первое впечатление еще
более подтвердилось. Это был старший из сыновей Дарвина,
Вильям, и если профессор Арениус был прав, упомянув в своей
речи, что сэр Джордж Дарвин своими блестящими научными трудами является наглядным примером наследственности в сфере
умственного труда, то Вильям обнаружил ее влияние не только
в своей внешности, но и в очаровательной простоте и доброду-
шном юморе своей речи, которые невольно напоминали отца
тем, кто его знал, а на всех присутствовавших произвели самое приятное впечатление, так как речь неоднократно прерывалась дружным смехом и аплодисментами. Кто же такой этот
мистер Вильям Дарвин? — Просто — a private gentleman 1 .
Я так и не мог узнать от своих соседей каких-нибудь биографических подробностей. Говорили, что он, кажется, был банкиром, а теперь ему уже много за семьдесят лет. Тем замечательнее была эта речь; в ней выразилась расовая способность
англичанина говорить спичи. Каким тонким тактом и действительным изяществом нужно обладать, чтобы найтись в таком
трудном положении, не обмолвиться ни одной напыщенной,
цветистой фразой, говорить так просто, непринужденно, пересыпая речь то трогательными, то комическими живыми черточками, дополнявшими так хорошо известную из капитальных
трудов другого сына — Фрэнсиса — характеристику их великого отца. По общему признанию, эта речь в своем роде
смело выдерживала сравнение с речами предшественников,
опытных ораторов с парламентской и университетской кафедры.
В. Дарвин начал со слов своего отца Гукеру, которому предстояло говорить где-то спич, что «он сожалеет его от всей души
и что у него у самого от одной мысли о чем-нибудь подобном подирает мороз по коже». Затем он пояснил, что перед таким собранием ученых со всех концов мира не ему говорить об ученых заслугах отца; он будет говорить о нем, как о человеке,
каким он знал его с самого раннего своего детства.
«Той чертой его характера, которая всего ярче запечатлелась в моей памяти, было какое-то напряженное отвращение
или ненависть ко всему сколько-нибудь напоминавшему насилие, жестокость, в особенности рабство. Это чувство шло рука
об руку с востор?кешюй любовью, с энтузиазмом к свободе,
к свободе ли личности или к свободным учреждениям. Помню,
еще в раннем детстве, как, узнав, что один знакомый ему gent(частное лицо. Ред.). Так характеризует себя, например (в справочной книге «Who's Who»), и Гальтоп, также родственник
Дарвина.
Эти-то private gentleman и составляют одну из могучих культурных сил
английского народа.
1
• /
leman farmer* морит голодом своих овец, он —совершенно
больной и всегда заботившийся о поддержании лучших отношений с соседями — обошел весь приход, убеждая подать общую жалобу судье, вследствие чего жестокий фермер был
притянут к суду и осужден. Другой эпизод относился к более позднему времени и лично ко мне. Во время суда над губернатором Айэром 1 я приехал в Даун из Саутгэмптона и,
рассказывая о митинге, собиравшемся в этом городе в защиту
Айэра, позволил себе презрительное замечание о комитете,
требовавшем над ним суда. Это вызвало со стороны отца взрыв
страшного негодования, закончившийся словами: „так и убирался бы ты в свой Саутгэмптон". Но на другое утро, ни свет,
ни заря, он уже сидел у моего изголовья и говорил, что очень
сожалеет о том, что так вспылил, что всю ночь глаз не сомкнул,
и не ушел до тех пор, пока не успокоил меня своими ласковыми словами. Его политические убеждения всего лучше характеризуются тем восторгом, с которым он всегда отзывался
о Джоне Стюарте Милле и Гладстоне».
Далее оратор очень кстати остановился на «заезженном»,
как он метко выразился, вопросе — об утрате, будто бы,
его отцом в преклонных годах всякого интереса к искусству
и к поэзии. «Обстоятельство это важно в том отношении, — заметил оратор, — что из него часто делают вывод о вредном,
будто бы, влиянии изучения природы. Те, кто делают этот вывод, не дают себе надлежащего отчета о состоянии здоровья
отца. Вернувшись из путешествия на „Бигле", он первые годы
трудился так усиленно над обработкой материалов, что не
имел ни малейшего досуга для чего-нибудь другого. К концу
этого периода его здоровье было окончательно надломлено, п за
1 Быть может, многие уже забыли этот эпизод недавней
английской
истории. Губернатор Айэр, прозванный «английским Муравьевым», прославился жестоким усмирением восстания на Ямайке. Английское общественное мнение разделилось по этому поводу на два лагеря: либералы требовали суда над ним, консерваторы предлагали его наградить. На чьей
стороне был Дарвин — видно из рассказа, но не мешает припомнить, что
прекраснодушный Карлейль не только был сам за «Муравьева», но и своим
авторитетом оказал давление на Рёскина, всегда такого гуманного и
справедливого.
* Фермер-дворянин.
Ред.
сорок лет жизни в Дауне от полутора до трех часов занятий
в день было достаточно, чтобы привести его в совершенное изнеможение и лишить возможности продолжать дальнейшую ум- \ /
ственную работу. В эти годы его воображение находило себе
пищу в красоте ландшафта, цветов или вообще растений, в музыке, да еще в романах, чтение которых вслух, равно как и выбор, взяла на себя всецело моя мать. Он говаривал в шутку, что ^
как-нибудь напишет поэму о Росянке. Я думаю, что [для уяснения вопроса достаточно] некоторых страниц „Происхождения
видов" или того известного письма к моей матери из Мур-Парка, в котором, описывая, как, задремав в лесу и внезапно разбуженный пением птиц и прыгавшими над его головою белками,
он был так всецело поглощен красотою окружавшей картины,что
ему в первый раз в жизни, казалось, не было никакого дела до
того, как создались все эти птицы и зверушки. Всего этого не мог
бы написать человек, не обладавший глубоким чувством красоты
и поэзии в природе и жизни. Любовь к предметам искусства никогда его не покидала. В ногах небольшого диванчика, на котором
он отдыхал в своем кабинете, висела картина, которую он себе
как-то купил и которою не переставал любоваться. Он был
знатоком и строгим судьей гравюр и нередко посмеивался над
современным декоративным искусством. Однажды, когда он
гостил у наев Саутгэмптоне, воспользовавшись случаем, когда
ни меня, ни жены не было дома, он обошел все комнаты и снес
в одну из них все фарфоровые, бронзовые и другие художественные произведения, украшавшие камины и т. д., которые ему
казались особенно безобразными, а когда мы вернулись —
с хохотом пригласил нас в эту, как он выразился, „комнату ужасов" . Кэмбридж отец всегда любил, и если бы узнал, что его
собираются чествовать, то — конечно, с обычной оговоркой,
которую подсказывала его необычайная скромность, — добавил бы, что уж если праздновать, то более подходящего места
нельзя было бы придумать. Всегда равнодушный ко всяким
почестям и отличиям, он высоко ценил свой почетный докторский диплом и с радостью и гордостью рассказывал мне о
прогулке по кэмбриджским улицам в красной мантии, под руку
с master'oM своего старого колледжа». Заключил свою речь
мистер Дарвин выражением «самой теплой благодарности от
своего имени и от имени всей семьи университету, комитету,
о громадных трудах которого могли знать только те, кто имел
возможность заглянуть за кулисы, и всем собравшимся в таком числе, из такого далека, чтобы почтить память отца».
Этими тремя речами закончилось собственно чествование
Дарвина, так как следующий тост был за собравший всех поклонников Дарвина в свои гостеприимные стены Кэмбриджский университет. Предлагал тост представитель университетасобрата, университета-соперника, оксфордский профессор Поултон. Отвечал на тост вице-канцлер (т. е. ректор) Кэмбриджского университета, профессор Мэзон. Поултон — зоолог и в
настоящее время один из самых видных представителей дарвинизма, автор книги о Дарвине и его теории и недавно появившегося толстого тома Essays* на дарвинистические темы. Особенно интересуется он вопросом о мимикрии, по которой собрал в Оксфордском университете обширную
коллекцию.
Профессор Мэзон — теолог, также автор многочисленных книг
по своей специальности. И приветствие и ответ отличались самою искреннею задушевностью, доказывая, что времена прежнего разногласия миновали, тем более, что представителем Оксфорда, когда-то враждебного Дарвину, выступил самый убежденный его сторонник.
«Выступить представителем Оксфордского
университета
и предлагать по такому знаменательному поводу тост за Кэмбриджский университет—это такое положение, которым человек справедливо может гордиться, и я невольно опасаюсь,
в состоянии ли буду с достоинством выполнить возложенную
на меня задачу». Так начал профессор Ііоултон.
«Величие университета измеряется величием его сынов и
мощью того умственного движения, которому он дает толчок.
Мистер Бальфур уже говорил о великих именах, связанных
с именем Кэмбриджа. И хотя Дарвин придавал мало значения
своему ученью в Кэмбридже, но он ему был несомненно много
обязан. Вспомним его учителей Седжвика и Генсло, этого последнего в особенности, так как ему Дарвин обязан, по своему
собственному признанию, „самым важным событием в своей
* очерков. Ред.
научной деятельности, сделавшим возможным и все остальное — своим путешествием на «Бигле»". Но и Оксфорд оказал
на него свое влияние через Лайеля. Вспомним опять его собственные слова, сказанные накануне появления первого очерка
его теорпи (в 1842 г.) А „Я всегда чувствую, будто моя книга
(Путешествие на «Бигле») наполовину вышла из мозга Лайеля...
и мне всегде представлялось, что главное достоинство его
«Principles»* заключалось в том, что они совершенно изменили
весь склад вашего ума; рассматривая даже такие предметы,
которых он сам никогда не видал, вы смотрели на них отчасти
его глазами"». Намекая на злобу дня — реформу экзаменов,—
Поултон заметил, что вряд ли Лайель или Дарвин развили бы
"Так свободно свои дарования, если бы в их время господствовала та экзаменационная система, в борьбу с которой Кэмбридж так успешно выступил на наших глазах. Затем он перешел к истории возникновения теории Дарвина и напомнил,
что Юэль не пропустил «Происхождение видов» в библиотеку
Тринити-колледжа, а профессор Вествуд предлагал основать
в Оксфорде особую кафедру для обличения ошибок дарвинизма.
«Но вскоре согласие двух университетов нарушилось: в 1860 г.
Оксфорд дал генеральное сражение дарвинизму, — но через
два года, по случаю заседания той же Британской ассоциации
в Кэмбридже, дарвинизм вышел победителем». Закончил свою
речь Поултон, напомнив, как много мы обязаны одному из сыновей Дарвина. «Что бы мы дали за обладание такими материалами
о жизни Ньютона или Шекспира, какими он (Фрэнсис Дарвин)
снабдил потомство по отношению к своему великому отцу.
Трудно было бы выразить всю глубину нашей признательности,
и мы все, гости Кэмбриджского университета, с радостью узнали, что на завтрашней величавой церемонии раздачи ученых
степеней будет сделано видное отступление от правил старины
и в первый раз будет награждено этой степенью лицо, принадлежащее к действующему преподавательскому персоналу» 2 .
Теперь в первый раз напечатанного
Намек на то, что, вопреки правилам, ученая степень почетного
доктора была присуждена Фрэнсису Дарвину.
* Имеется в виду книга Лайеля «Основы геологии». Ред.
1
2
«Я предлагаю тост за Кэмбрцджский университет, вечно
юный, несмотря на свои почтенные седины, за его славных сынов и особенно за того благородного, великого, кто поучал и
вдохновлял своими идеями весь мир».
своей ответной речи вице-канцлер сказал, что ни из чьих
уст Кэмбриджский университет не услыхал бы этого тоста
с большей радостью, как из уст оксфордского профессора.
«Оба университета все более и более сближаются. Мы не в состоянии выразить того чувства гордости, которое испытываем
при виде этого блестящего собрания людей, научные заслуги
которых признаны всем светом. Этот зал сегодня в первый раз
обновлен, и хотя ему суждено служить для такого непохвального, по мнению профессора Поултона, дела, как экзамены,
будем надеяться, что память о сегодняшнем дне сохранится
в этих стенах, пока они будут стоять, а составленный в этом
смысле акт — и навсегда в летописях Кэмбриджа. В этот поздний час забота о ваших интересах подсказывает мне благоразумный лаконизм. Позвольте только напомнить о двух друзьях
Дарвина, об отсутствии которых мы глубоко сожалеем: о
лорде Эвбюри (мистере Лёббоке) и Альфреде Уоллесе. Мне сделано заявление
что следовало бы послать Альфреду Росселю
Уоллесу телеграмму следующего содержания: «Натуралисты,
собравшиеся для чествования Дарвина в Кэмбридже, не могут
забыть вашу долю участия в великом деле, которое они поминают, и глубоко сожалеют, что вы не можете быть с ними».
Я позволю себе выразить сожаление по поводу одного только
слова в телеграмме — хотя я ее отправлю в том виде, как она
мне передана, — добавил вице-канцлер. —Это слово: „Натуралисты". Как теолог, я заявляю,—а кругом себя я вижу представителей права,» словесности, музыки и других искусств,—
я заявляю, что всех нас, здесь присутствующих, воодушевляют
одни и те же чувства, и мы просим, чтобы и мы были включены
в число „натуралистов". Слова эти были покрыты дружным ве1 Оно исходило от известного химика Мельдола, в то же время признаваемого за одного из лучших знатоков дарвинизма, к а к это видно из
того упомянутого выше факта, что журнал «Nature» поручил именно ему
разбор книги «Darwin and modern science» («Дарвин и современная
наука». Ред.),
выпущенной «Комитетом чествования Дарвина».
селым смехом и аплодисментами — заключительным аккордом так умело проведенного банкета.
Шумной толпой, обсуждая выслушанные речи, высыпали
собеседники снова на показавшуюся среди темной ночи еще
более длинной ковровую дорожку под балдахином, на этот
раз излишним, так как небо, пока мы обедали, успело вызвездить. Дорожка привела к воротам, за которыми, по ту сторону
узенькой улочки, сверкнули уже огнями иллюминации другие
живописные ворота Пэмброк-колледжа, где нас ожидало снова
reception — т. е. раут ректора и в то яге время master'a этого
колледжа. Пэмброк-колледж — колледж Вильяма Питта, о чем
напоминает возвышающаяся рядом, отстроенная по национальной подписке в память великого государственного человека
университетская типография (Pitt's press), скорее напоминающая ново-готическую церковь, чем такое прозаическое здание. Нам представилась прямо сказочная картина садов и,
посреди них, чудных вековых готических построек с их бесчисленными башнями, башенками и аркадами их cloister'oB*.
Все было освещено разбросанными искусною рукой по изумрудной траве, по деревьям и архитектурным линиям зданий
китайскими бумажными фонарями, мягкий, спокойный свет
которых так гармонировал с освещаемой картиной и так выгодно отличался от обычной, кричащей, реяіущей глаза электрической иллюминации в современном американском вкусе.
Спрятанный оркестр музыки дополнял впечатление; к тому же
и дышалось так привольно в этом колоссальном*зале под звездным потолком, почему-то напоминавшим мне ночи на пиацце
св. Марка; хотелось отдохнуть после почти четырех часов,
проведенных в хотя и большом, но все же душном банкетном
зале. Но необходимо было исполнить существенную часть этого
раута и пожать руку гостеприимному хозяину университета,
как вчера его канцлеру. Как утром, в своем почти кардинальском облачении, он принимал гостей в hall'e — громадном
зале, резные стропила потолка которого, напоминающие знаменитый Westminster-hall, уходили куда-то высоко во мрак,
несмотря на блестящее освещение зала, а со стен изумленно
* Cloister'bi—монастырского типа коридоры.
смотрели из своих рам поколения предков, конечно, никогда
не видавших такого стечения людей. Так как приливавшие из
сада волны посетителей должны были отливать обратно в ту
же входную дверь, то зал был перегорожен вдоль барьером из
роз, и этого хрупкого препятствия было достаточно, чтобы предотвратить давку и беспорядок в едва продвигавшейся толпе.
Но пора было, наконец, подумать и об отдыхе, после такого, — если и незанятого, в строгом смысле слова, то богатого
впечатлениями и рядом сменявшихся картин — дня.
Э
Утро третьего дня было посвящено одной из тех импозантных (да простится мне это слово: я не сумел бы подыскать
другое, ему соответствующее) церемоний, которыми Кэмбриджский университет обычно сопровождает все свои научные торжества. Это — церемония Conferring of degrees, т. е. присуждения звания почетного доктора. Самый обряд совершается
в знакомом нам зале сената, но так как часть церемонии —
торжественное шествие процессии, повидимому, любимое
зрелище гордящихся своим университетом горожан, обходит
кругом обширного и отделенного от улицы только решеткой
двора, — то соседние улицы и нарочно устроенные крытые
трибуны стали заранее наполняться публикой. Утро было пасмурное, стал накрапывать дождь, и вся тор?кественность зрелища могла быть нарушена. Оставалось всего несколько минут до объявленного начала, как откуда-то появились рабочие, застучали молотки (заглушаемые, правда, оркестром) —
и словно из земли вырос вокруг всего двора, по пути шествия,
балдахин, покрывавший красную дорожку ковра — вероятно,
ту самую, которая сослужила вчера службу при переходе из
залы банкета на ночной праздник в Пэмброк-колледже. Предосторожность, однако, оказалась излишней, так как солнце
вскоре разогнало тучи и залило лучами прекрасную декорацию,
на фоне которой должно было развернуться шествие. С одной
стороны двор примыкал к улице и площади, заполненным толпой, пестревшей яркими весенними туалетами дам и более
строгими черными утренними костюмами мужчин, с кое-где
мелькавшими мантиями и квадратными шапочками немногочисленных, правда, студентов 1 . С двух других сторон его окаймляли красивые здания, в стиле ренессанс, старого сената и недавно перестроенной библиотеки, и, наконец, с четвертой —
уже знакомая нам кружевная, готическая King's Chapel*.
Все вместе составляло как бы сплошную панораму далекого
прошлого, настоящего и будущего этого славного культурного
центра.
Шествие составилось под аркадами библиотеки. В ее сенях будущие доктора облачались в заготовленные заранее
костюмы: красные суконные мантии с розовыми шелковыми
отворотами и черные бархатные береты, перехваченные золотыми шнурками и напоминающие портреты Рембрандта, а то
и Леонардо-да-Винчи. Красные мантии — одни и те же для
всех факультетов; различаются они только оттенками розового подбоя, и понадобился бы опытный дамский глаз и вся разработанность дамской терминологии (какие-нибудь saumon,
pêche, fraise écrasée и т. д.), чтобы распознать доктора естествознания от доктора теологии или музыки 2 . Шествие было,
действительно, очень красиво. Во главе его, как вчера, предшествуемый жезлоносцем и окруженный тремя пажами, шел
канцлер в своей златотканной мантии; вслед за ним чинно по
два в ряд шли мы, имеющие быть посвященными, числом двадцать один, в неизменном алфавитном порядке, начиная Бонапартом и кончая Цейлером 3 . За будущими докторами шел ректор, член парламента от университета, master'bi колледжей, док1 Отсутствие
студентов объясняется тем, что за день до празднеств
окончились экзамены, в Кэмбридже всегда очень серьезные, и все, кто
мог, разъехались на отдых.
2 К а к известно, П. И. Чайковский был кэмбриджским почетным доктором музыки.
3 В о т полный список: 1) Принц Роланд Бонапарт (географ). 2) ВанБенеден (зоолог). 3) Шода (ботаник). 4) Бючли (зоолог). 5) Гёбель (ботаник). 6) Дарвин (ботаник). 7) Гертвиг (зоолог). 8) Фон Графф (зоолог).
9) Лёб (зоолог). 10) Гёфдинг (философ). 11) Швальбе. (антрополог).
12) Перрье (зоолог). 13) Граф Сольмс Лаубах (палеонтолог). 14) Тимирязев^
(ботаник). 15) Вейдовский (зоолог). 16) Ферворн (физиолог). 17) Де-Фриз
(ботаник). 18) Ф ё х т и н г (ботаник). 19) Вильсон (зоолог). 20) Уолькот (палеонтолог). 21) Цейлер (палеонтолог).
* Королевская часовня. Ред.
40
К. А. Тимирязев, т. VII
62 і1
тора, начиная с теологии и кончая музыкой. За докторами шел
публичный оратор, особый университетский чин, с деятельностью которого мы сейчас познакомимся, а замыкалась процессия сенатским советом, т. е. чем-то средним между нашим советом и правлением, так как самый сенат университета представляет собой очень многочисленное и, следовательно, громоздкое учреждение, собирающееся только в редких случаях и
управляющее университетом через своих выборных: канцлера,
вице-канцлера и совет. Процессия, собственно говоря, могла
бы из библиотеки кратчайшим путем попасть в зал сената,
но ради сугубой торжественности и для того, чтобы £е могла
рассмотреть многочисленная публика на улице, в окнах, чуть
не на крышах окружающих домов, она медленно, шаг за шагом,
под звуки музыки, игравшей, кажется, что-то из «Оберона»
обогнула весь обширный двор или скорее площадь перед домом
сената.
В зале бросалось в глаза, что порядок в нем был совершенно изменен. Вместо обычных для аудиторий, театров или
концертных зал поперечных рядов кресел были расставлены
продольные, с широким проходом посредине — словно в запрестольных местах готических соборов. Канцлер и вицеканцлер
заняли свои места, а посвящаемые — свои, в два ряда вдоль
прохода; остальные участники кортежа разместились за ними,
причем я заметил, что места амфитеатра, вчера занятого сенатом, остались пустыми. Преобладающий цвет в зале был красный.
По мановению руки канцлера началась церемония. Она
состояла в следующем. К каждому из докторантов по очереди
подходил, облеченный в мантию и берет, Esquire Bedell,
т. е. в переводе педэль — и протягивал руку — но не затем,
чтобы, как наши недоброй памяти педэля, получить серебряный целковый, а затем, чтобы массивным серебряным жезлом ударить слегка по полу, приглашая следовать за ним. Он
подводил к подножию канцлерского места и почтительно уда1 Известно, что англичане очень любят это сладкозвучное произведение отца романтической оперы. Объясняется это отчасти тем, что она была
написана специально для Лондонской онеры. Приехавший дирижировать
первым представлением уже находившийся в последней стадии чахотки
Вебер через несколько дней умер и был временно похоронен в Лондоне.
лялся. Тогда «публичный оратор», стоявший налево от канцлера, изящным жестом слегка прикоснувшись к своему берету — только канцлер и он в течение всей церемонии оставались с покрытыми головами, — приступал к своему латинскому приветствию, как обыкновенно прерываемому взрывами
смеха и аплодисментов, на что он также отвечал плавным величавым движением, слегка приподнимая свой берет. Дело
в том, что эти латинские произведения представляют совершенно своеобразный образчик ораторского красноречия. В нескольких строках они должны заключать и краткую характеристику деятельности посвящаемого, и шутку, и какую-нибудь удачную цитату из классического писателя, поэта и т. п.
Теперешний «публичный оратор», доктор Сандис, повидимому,
мастер своего дела, так как на-днях вышел целый том этих его
приветствий, интересных уже потому, что перед ним прошла
целая вереница славных имен Англии и Европы. Тридцать три
года тому назад он же приветствовал и Дарвина, в то самое заседание, в котором студенты спустили с хор на веревочке к ногам великого ученого ту куклу обезьяны, которая фигурирует
теперь на выставке. Все это не доказывает ли, что англичане,
которых многие всегда представляют себе такими чопорными,
уважая науку, может быть, более, чем какая другая национальность, не считают неуместной a good fun (хорошую шутку),
не боятся впасть в преступление «lese-science» (оскорбление
величества науки)? Какой-нибудь Максуэль, понять всю глубину гениальных идей которого ученым всего мира понадобилось несколько десятилетий, сочинял смехотворные стишки на
научные темы, а маститый Сильвестр слагал математические
мадригалы в честь Софьи Васильевны Ковалевской. Я полагаю, что изо всех цивилизованных наций английская наиболее
далека от научного чванства и педантизма.
Вот для примера своеобразное содержание одного из этих
приветствий, того из них, которое я, понятно, должен был выслушать с наибольшим вниманием, так как мог узнать нз него
характеристику своей собственной научной деятельности. Для
того, чтобы смысл его был понятен, поясню, что все оно является
намеком на мою лекцию, прочитанную несколько лет тому назад в Лондонском Королевском обществе. «Meministis fabulo-
у
sum ilium Collegiorum nostrorum unius alumnum, qui ad insulam
Laputa perigrinatus, incolas paius omnes solis de salute cotidie
sollicitos invenit, inque Academia celeberrima Lagadensi professorem quendam venerabilem vidit, qui solis radiis e cucumerum cellulis eliciendis annorum octo labares incassum impenderat. Consilium tam mirum non prorsus absurdum fuisse botanicae
professor quidam Mosduensis coram Regia Societate nostra non
sine lepore indicavit. Scilicet per longos labores ipse comproprobavit non modo solis radios in cucumiesse inclusos, sed etiam fructuum frondiumque omnium partem viridem solis lumine radios
illos tremulos eigere, quorum auxilio carbonum (ut aiunt) in aëre
toto diffusum in materiem quandam vivam permutât. Idem spectri
(quod dicitur) e parte rubra radios illos exortos esse docuit, qui
frondium in vitam mutati omnium hominum, omnium animalium
corpora per tot saecula aluerunt. Ergo de spectri illius exemplo
pulcherrimo, de arcu caeleste, verba olim divinitus dicta saeculo nostro sensu novo denuo commedata sunt — «Erit arcus in
nubibus, et recordabor foederis sempiterni quod pactum est iter
Deum et omnem animam viventem universae carnis, quae est
super terram» (Genesis, IX, 16) 1 .
Каждое приветствие заканчивалось словами: «Duco ad vos»2
(имя рек), с которыми «публичный оратор» брал докторанта за
Приблизительный перевод: «Помните вы того сказочного питомца
нашего университета (Гулливера), который, попав на остров Лапуту в знаменитую академию в Лагаде, увидел в ней почтенного профессора, в течение восьми лет размышлявшего о поглощении солнечных лучей огурцом?
Некий московский профессор ботаники, в присутствии нашего Королевского общества, не без изящества доказал, что диковинная мысль эта не
так бессмысленна, как может показаться. Своими многолетними трудами
он сам показал, что солнечные лучи отлагаются не только в огурцах, но
во всяком плоде, во всяком листе, во всякой зеленой части растения,
причем поглощаемые лучи превращают углерод (как утверждают), "рассеянный в воздухе,— в живое вещество. Он же научил нас, что красные
лучи спектра (как его называют), превращаясь в живых листьях, служат
источником жизни всех людей, всякой твари во веки веков. Это изящное
толкование действия спектра не служит ли новым, согласным духу нашего
времени, подтверждением священных слов о радуге: «И будет радуга в облаках, и я увижу ее и вспомню завет вечный между богом и между всякой
душою живою во всякой плоти на земле»? (Бытие, I X , 16).
1
2
«Подвожу вам».
руку и возводил его на несколько ступенек к канцлеру, который, поднявшись с кресла, в свою очередь брал представляемого за руку и, не выпуская ее, произносил довольно длинную
латинскую формулу посвящения. При этом обнаружилось для
меня весьма любопытное обстоятельство — речи оратора я хорошо понимал, слов канцлера я не мог уловить; слышались
знакомые звуки английской речи: и вместо е, ай вместо и, но
переводить их на привычные латинские звуки мысль не поспевала. Дело выяснилось, когда после торжества, на завтраке
у Фрэнсиса Дарвина, зашла об этом речь. Не успел я заметить,
что к удивлению своему прекрасно понял все приветствия доктора Сандиса, как сидевшие на конце стола мальчуганы, сыновья мистера Фрэнсиса и их товарищи, в один голос воскликнули: — Именно потому мы ничего не поняли. Ваша университетская латынь совсем не та, которой нас учат в школе. — Оказывается, что в университетах начинается что-то вроде компромисса с континентальным произношением.
\
^
Новые доктора проводились на места, занятые вчера членами сената; потому они и не были сегодня заняты. Этим как бы
символизировалось, что коллегия принимает их в свою среду.
Несмотря на краткость каждой отдельной церемонии, при
помножении ее на двадцать один, в общей сложности получилась почтенная цифра, и присутствующие были несколько
утомлены, когда маститый профессор Гики, президент Королевского общества, приступил к своей Rede lecture Ц на тему
«Дарвин, как геолог». Название лекции, вероятно, берет начало от прекрасного исконного обычая англичан учреждать
на пожертвования не только отдельные кафедры или курсы,
но и отдельные лекции. Кто был этот Rede и когда он жил,
не знаю, но, во всяком случае, благодаря ему, мы могли прослушать прекрасную лекцию. К сожалению, лектор слишком
подробно разбирал специальные геологические исследования
и только в заключении остановился на двух геологических гла1 Нѳ решаюсь переводить это имя на русский язык, так как не привелось слышать его из уст англичанина. Это напоминает мне анекдот,
слышанный от А. Г . Столетова. Когда он спросил у лорда Кельвина, как
правильнее произносить, Джоуль или Джуль, тот ответил: «Как вам сказать, я тридцать лет звал его Джоулем — и он откликался».
ч
вах «Происхождения видов», признав их самым важным вкладом в философию геологии.
По окончании лекции и принесении канцлером от имени
всех присутствующих благодарности маститому лектору, не
отказавшемуся принять на себя тяжелую обязанность несмотря на то, что ему приходилось в тот же вечер принимать приезжих гостей на обычном парадном 1 годичном рауте (сопversatione) Королевского общества, канцлер поднялся, и шествие в том же порядке покинуло зал. Этим завершился последний акт собственно чествования Дарвина (Darwin celebration).
«
Но семья Дарвина желала еще раз проститься с многочисленными гостями, пригласив их на свое Garden-party, и местом для него избрала самый величественный, самый славный
из колледжей— колледж Ньютона, Trinity, где сэр Джордж
состоит профессором.
Я видел его уже не раз, этот колледж, и можно ли его забыть, если видел его хоть раз? Эти массивные ворота — башня,
с обычной статуей «основателя». Этот громадный двор, с изящным, словно кружевным монументальным колодцем посредине,
а в правом углу заросшие плющом три окошечка, где, по преданию, жил Ньютон; а еще далее капелла, в притворе которой
стоит его знаменитая статуя, работы Рубильяка, и рядом с нею
статуя Бэкона, великого глашатая—«buccinator», возвестившего
миру наступление эры «новой философии» — философии науки.
А там, на другом дворе эта чудная библиотека — создание
строителя собора св. Павла, Репа, вдохновившегося венецианским прототипом Сансовино, с ее двумя рядами мраморных бюстов славных питомцев колледжа и Торвальдсеновским Байроном в глубине, нашедшим себе, наконец, приют в своем Trinity, после того, как ему было дважды отказано в последнем
убежище poet's-corner (угле поэтов) Вестминстера. И, наконец,
1 На этих раутах делают ретроспективные годичные выставки всех
новых открытий или изобретений. Это — одно из самых интересных собраний не только в Лондоне, но и на всем свете. Их бывает два: черное и
белое. Первое — где исключительно господствуют фраки; второе, более
Сдістшцее — с дамами. Это было белое.
эта аллея вековых вязов и дубов, где искали вдохновения поколения поэтов от Уордсворта до Теннисона. С этой именно стороны подвез меня Фрэнсис Дарвин на свой five-o'clock*, как
бы желая мпновать пёрвое тяжелое историческое воспоминание, которое невольно испытываешь, когда входишь в колледж
через главные ворота. Ведь этот «основатель», там наверху —
никто иной, как звероподобный barbe bleue (синяя борода),
чей топор сносил и головы прельщавших его несчастных женщин, и гордую, непреклонную голову Мора. Но человек —
существо пестрое, многогранное, и та грань характера Генриха
VIII, которая видна отсюда, невольно заставит хоть кого задуматься. Во-первых, самое основание Trinity приписывают его
соперничеству с кардиналом Уольсеем. Тот построил самый
роскошный колледж Оксфорда, Крайст-чёрч, и Генрих, задетый за живое, хотел превзойти своего зазнавшегося подданного,
построив в Кэмбридже еще роскошнейший. Если бы и всегда
монархи побивали своих подданных только таким оружием!
Мало того: когда Генрих осуществил свою оригинальную реформацию, сводившуюся главным образом к ограблению монастырей, он отдал часть награбленного университетам. Среди
окружавших его царедворцев нашлись, однако, советчики,
которые усмотрели в этом только первый шаг реформы: второй,
по их мнению, должен был заключаться в том, чтобы ограбить
в свою очередь университеты и наградить верных слуг престола. И вот тут-то Генрих, будто бы, сказал: «Господа, мы с
вами умрем, и наши косточки истлеют, а университеты будут
управлять Англией, и будут хорошо управлять». Одно можно
сказать: Кэмбриджский университет, должно быть, родился под
счастливой звездой; ему все шло в прок, или уже это было такое время, так как не забудем, что современник Генриха, Франциск I, был не только королем, умевшим «s'amuser» (забавляться), каким он невольно встает в нашем воображении, благодаря
Гюго, но в то же время основателем Collège de France, этого и
по сей день единственного в своем роде учреждения, куда известные ученые привлекаются не затем, чтобы упражнять и экзаменовать, а затем, чтобы двигать науку, проводить свои идеи=и только.
* Five-o'clock — традиционное чаепитие (в 5 часов вечера).
Ред.
Для собрания был выбран не большой, а один из малых
дворов колледжа — тот самый, на который выходят окна комнат, когда-то занятых Байроном. На возвышающейся на неN сколько ступеней террасе, с парапетом и чем-то вроде каменного балдахина, собрались хозяева, т. е. сыновья Дарвина с их
семьями. Поздоровавшись с нпми, перекинувшись несколькими словами с многочисленными знакомыми, я прошел в знаменитый Hall, с его рядом исторических портретов. На этот раз
он представлял необычное зрелище: сдвинутые вплотную столы
не были накрыты для «трапезы», не гнулись под тяжестью векового серебра Б а от края до края были завалены полученными
вчера адресами. И чего-чего тут только не было: бархатные,
кожаные, тисненые, обделанные в серебро и эмаль с тяжелыми
застежками переплеты; длинные футляры, перехваченные золотыми шнурами с болтающимися старинными печатями, рукописи на невиданной бумаге или на пергаменте с великолеп. ными миниатюрами и средневековыми заставками или не менее красиво выведенными восточными (персидскими, япон'скими) письменами — они лежали тут сомкнутыми рядами,
сошедшиеся с отдаленнейших концов мира, свидетели беспримерно единодушного и уже, конечно, вполне бескорыстного
взрыва восторженного уважения цивилизованного человечества к памяти представителя его передовой мысли. Эта длинная вереница также наглядно объясняла и невозможность прочесть их накануне. Если они когда-нибудь будут отпечатаны,
составится порядочный томик.
fl-
IT
Пора было, однако, подумать об отъезде, чтобы поспеть
в Лондон на вечер Королевского общества, а еще нужно было
сделать прощальные визиты или хоть забросить карточки
канцлеру, вице-канцлеру, а главное — очаровавшему всех своей
любезностью и удивительным организаторским талантом профессору Сюарду, живущему, как почти все здешние профессора, за городом.
1 В колледже Магдалины (Модлин) мне показывали массивный серебряный сервиз, подаренный Александром I, посетившим Оксфорд после
взятия Парижа.
Проезжая еще раз из конца в конец этот маленький городок-университет, я снова увидал, как бы в быстро движущейся
панораме, все его исторические колледжи. Последним из них
был Emmanuel, почти с самого своего возникновения игравший передовую роль в жизни университета. С самого момента
его возникновения на него посыпались доносы, и на строгий
выговор королевы Елизаветы его основатель скромно отвечал
«Далека от меня мысль, Madam, нарушать установленные вами
законы. Я только посадил жолудь, а какой из него вырастет
дуб — одному богу известно». Этим дубом было пуританство,
под сенью которого там, на другом конце Кэмбриджа, воспитался Оливер Кромвель 1 . Эмманюэль-колледж и до сих пор
хранит свои либеральные предания, и в наши дни, когда в аристократических университетах Англии проявилось демократическое движение University-extension 2 , Эмманюэль-колледжу
принадлежит в нем выдающаяся роль. Очень хорошо помню,
как несколько лет тому назад я застал в его стенах того же самого профессора Сюарда еще более озабоченным, чем теперь,
организацией летних общедоступных курсов для желающих,
главным образом из народных учителей.
В том сборнике «Darwin and modern science», о котором уже
приходилось говорить, в блестящей статье Джорджа Дарвина
«О генезисе двойных звезд», есть одна красноречивая страница;
она невольно пришла мне на память в Кембридже. В статье
этой собственно идет речь о фигурах равновесия вращающихся
жидких масс, но с общефилософской точки зрения сын развивает эволюционную идею отца в применении ко всему космосу,
до отдаленнейших пределов звездного неба. Желая сделать результаты своих математических изысканий более доступными
пониманию общего читателя, сэр Джордж прибегает к сравнению, заимствованному из круга понятий, более доступных
этому читателю и относящихся к другому порядку явлений,
изучаемых человеком — к явлениям социальной жизни. Вот
этот отрывок. Установив несколько типов фигур равновесия,
переходящих одна в другую по мере возрастания скорости дви1 В колледже Сидней-Суссекс, где хранится его портрет, считающийся
наиболее достоверным.
2 Общедоступные
курсы, преимущественно для рабочих.
жения, сэр Джордж говорит: «Идеи, положенные в основу
этого очерка, могут показаться несколько запутанными н темными; попытаюсь сделать их более доступными читателю не
математику гомологическими рассуждениями из других областей знания, а затем перейду к их иллюстрации из области эволюции звездных систем. Государства или формы правления
представляют нам организовавшиеся схемы взаимного воздействия между группами людей; мы их относим, хотя, может
быть, и несколько произвольно, к различным типам, обозначаемым родовыми терминами, каковы автократия, аристократия
и демократия. Определенный тип формы правления соответствует одному из установленных нами типов движения и, продолжая сохранять этот тип, претерпевает медленное изменение,
соответственно изменению степени цивилизации, характеру
народа и его отношению к другим народам. На языке механики,
выше нами примененном, форма правления представляет группу
явлений (скажем: семейство) — и с течением времени мы получаем различных ее представителей. Эта форма обладает известной степенью устойчивости — едва ли, однако, пока еще подчиняющейся учету числом и мерой, — достаточной для того,
чтобы противостоять дезинтегрирующим влияниям войн, голодовок и внутренних раздоров. Эта устойчивость до известных
пределов возрастает, а затем начинает постепенно убывать.
Степень этой устойчивости в любую эпоху будет зависеть от
способности данной формы правления приспособляться к медленно изменяющимся условиям существования. Но рано или
поздно наступает момент, когда устойчивость нарушается и
малейший толчок вызывает переворот, уничтожающий это правительство. Наступает критический период; но какое-нибудь
условие, иногда совершенно незамеченное, препятствует проявлению анархии. Как бы ни казалось незначительно это условие, оно направляет правительство по новому пути устойчивости, сообщая ему черты нового типа. Это условие оказывается все более и более существенным, и форма правления оказывается изменившеюся, новая форма устойчивости возрастает. В свою очередь и эта новая форма устойчивости клонится
к упадку; близится новый кризис или революция. Таким образом, проявляется в истории то, что мы назвали выше „точками
бифуркации", и политическая преемственность сохраняется
путем смены типов правления. Эти идеи — так мне, по крайней
мере, кажется — дают истинное объяснение истории государств;
мы имеем здесь дело не с какой-нибудь фантастической аналогией, а с действительной гомологией в двух областях мысли — физической и политической — и там, и здесь мы видим
„точки бифуркации" (раздвоения) и смену одних состояний
устойчивости другими».
Обступающие со всех сторон в этом городе исторические
воспоминания не представляют ли нам собранную как бы в одном фокусе картину этой смены трех стадий устойчивости —
автократии, аристократии и демократии, — которую английский народ осуществлял в своей жизни ранее других и с наименьшей тратой сил? А в параллельной области мысли не видим ли мы ту же смену трех фаз развития — теологической, метафизической и научно-положительной? Монахи основали эти
школы-общежития, а они дали приют Эразму. Автократия украсила их этими зданиями, которыми мы не перестаем любоваться и теперь, а из них вышли Кромвель и Мильтон. Духом
самой гордой из аристократий, вплоть до самого мяте?кного из ее
представителей — Байрона — веет от этих стен, а в наши дни
раздается в них демократический призыв: «Университеты —
в народ!» Мильтон, облекая в поэтическую форму библейскую
легенду, зачаровал целые поколения; Пэли, а еще позже Юэль
расточали свою тонкую диалектику на развитие метафизического argument from design
Дарвин сначала увлекается всеми
тремя, а кончает тем, что на развалинах их идей создает свое,
обнимающее весь космос, научное мировоззрение. Нет, не случайность, что именно среди этого великого народа явился мыслитель, поставивший эволюцию во главу угла всего здания современной мысли 2 . А сзывая цивилизованный мир почтить
память Дарвина, английский народ, конечно, не мог выбрать
места лучше этого многовекового культурного центра, в котором самые камни свидетельствуют об эволюции жизни, об эволюции мысли.
довод от умысла.
Особенно, если еще припомнить, что тот же народ дал и Дайедя,
и Спенсера, и Уоллеса, и вновь реабилитируемого Чемберза,
1
2
У
ДАРВИН И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА *
D A R W I N AND MODERN SCIENCE. ESSAYS
IN COMMEMORATION OF T H E CENTENARY
OF T H E
BIRTH OF CHARLES D A R W I N
AND OF T H E F I F T I E N T H ANNIVERSARY OF
T H E PUBLACATI.ON OF T H E O R I G I N OF
SPECIES. EDITED
BY T H E CAMBRIDGE
P H I L O S O P H I C A L SOCIETY AND T H E SYNDICS OF T H E U N I V E R S I T Y P R E S S BY A. C.
S E W A R D **.
П
о случаю наступающих торжеств, которыми Кэмбридж ский университет собирается ознаменовать столетне со
дня рождения Чарлза Дарвина и пятидесятилетие со дня
выхода в свет «Происхождения видов», выпущен объемистый
том (около 600 страниц) очерков, для составления которых
были приглашены выдающиеся ученые и писатели, английские
и иностранные, так или иначе занимавшиеся или только интересовавшиеся дарвинизмом. Следующий перечень показывает,
* Эта рецензия К . А . была напечатана в газете «Русские Ведомости»,
№ 121 за 1909 г. Ред.
* * Дарвин и современная н а у к а . Очерки, посвященные памяти Чарлза
Дарвина к столетию дня его рождения и пятидесятилетней годовщине
опубликования «Происхождения видов». Издано Кэмбриджским философским обществом и объединением (syndics) университетской печати, под
общей редакцией А. Сюарда. Ред.
ДАРВИН И СОВРЕМЕННАЯ
«
НАУКА
как широка задача и как интересно содержание этого издания.
I. Предшественники Дарвина. Статья проф. Артура Томсона.
II. Учение об отборе — проф. Вейсмана. I I I . Изменчивость —
проф. Де-Фриза. IV. Наследственность и изменчивость в современном освещении — проф. Бэтсона. V. Мельчайшее строение
клеточек в связи с наследственностью — проф. Страсбургера.
VI. Происхождение человека — проф. Швальбе. VII. Чарлз
Дарвин как антрополог — проф. Геккеля. V I I I . Первобытные
теории о происхождении человека — Фрэзера. IX. Влияние
Дарвина на изучение эмбриологии — проф. Седжвика. X. Палеонтологическая летопись. I. Животные — проф. У Скотта.
XI. Палеонтологическая летопись. II. Растения — Д. Скотта,
президента Линнеевского общества. X I I . Влияние среды на
формы растений — проф. Клебса. X I I I . Экспериментальные
исследования над влиянием среды на животных — проф. Лёба.
XIV. Значение окраски в борьбе за существование—проф. Поултона. XV. Географическое распространение растений—сэра
Виллиама Дайера. XVI. Географическое распространение животных— Ганса Гадова. XVII. Дарвин и геология — Д. Джудда.
XVIII. Исследования Дарвина о движении растения — Фрэнсиса Дарвина. X I X . Биология цветов — проф. Гёбеля.
X X . Умственные факторы эволюции — проф. Лойд Моргана.
XXI.Влияние концепта эволюции на современную философию —
проф. Гёфдинга. X X I I . Дарвинизм и социология — проф.
Бугле. X X I I I . Влияние дарвинизма на религиозную мысль —
пастора П. Уаггета. XXIV. Влияние Дарвина на изучение религий — Джен Эллен Гаррисон, преподавательницы в Ныонам-колледже в Кэмбридже. XXV. Эволюция и наука об языках — П. Джайлса. XXVI. Дарвинизм и история — проф.
Д. Быори. XXVII. Генезис двойных звезд — сэра Джорджа
Дарвина. XXVIII. Эволюция материи — У. Уэтгама.
Книге предпослано краткое предисловие общего редактора,
кэмбриджского профессора ботаники Сюарда, и напутственное
письмо сэра Джозефа Гукера, вернейшего друга Дарвина,
которому последний завещал продолжать свой труд, когда думал, что сам не доживет до его окончания. Гукер на целых 27
лет пережил своего знаменитого друга и несмотря на свои 92
года еще сохранил полную ясность ума. Сюард в своем преди-
словии справедливо указывает на главную причину прочного
успеха творений Дарвина; она заключалась в том, что качества человека еще превосходили в нем достоинства ученого: он
неизменно следовал своему правилу «ограждать свободу своей
мысли готовностью отказаться от всякой гипотезы, как бы она
ни была ему дорога... если только она сталкивалась с непримиримым с нею фактом». Это редкое свойство великого ученого
особенно бросается в глаза при сравнении с тем упорством,
с каким многие авторы очерков, собранных в этом сборнике,
по поводу Дарвина, носятся со своими маленькими измышленьицами, опровергаемыми автором следующего же очерка. Так,
Вейсман по поводу «Естественного отбора» преподносит читателю свои иды, иданты, детерминанты, зародышевые плазмы
и т. д., значение которых, совершенно справедливо, через несколько страниц, отрицает Геккель, но для того только, чтоб,
в свою очередь, с восторгом приветствовать Земона, подогревшего его старое (или, вернее, геринговское) будто бы объяснение сущности наследственности, основанное на чисто словесном ее сравнении с памятью! Так, Страсбургер признает важнейшее значение за Дарвинской гипотезой пангенезиса, которую
сам Дарвин имел храбрость назвать «просто мусором» (rubbish),
только потому, что она проливает свет на его, Страсбургера,
соображения о наглядной будто бы передаче наследственных
свойств, обнаруживаемой при изучении клеточного ядра.
А рядом с этой статьей, Бэтсон резко отрицает значение этих
микроскопических исследований для учения о наследственности и вновь превозносит исключительную важность работы Менделя, словно забывая, что она представляет только частный случай и не может быть так обобщена, как это делают его слепые
поклонники. Наконец, Де-Фриз выискивает еще новую цитату
из Дарвина, будто бы подтверждающую взведенную им на Дарвина напраслину, несостоятельность которой была уже неоднократно доказана. На этот раз редактор сборника считает
себя вынужденным заявить, что это место из Дарвина толкуется
Де-Фризом совершенно произвольно и неверно. Эта узкая односторонность, это стремление приглашенных участников неизменно вести речь pro doma sua* наглядно указывает на от* для себя самих. Ред.
сутствие у них того высокого отношения к научной истине,
о котором так кстати напоминает Сюард, как о faculté maitresse* Дарвина.
Исторический очерк о предшественниках Дарвина не дает
ничего нового и попрежнему обходит молчанием О. Конта, на
какой-нибудь полустраничке давшего не только самое точное определение основной мысли «естественного отбора», но
и пророчески указавшего на нелогические крайности как «неоламаркизма», так и «неодарвинизма». Наиболее интересны,
конечно, статьи, представляющие фактические успехи за истекшие полвека в области эмбриологии, геологии, палеонтологии (особенно статьи Д. Скотта, в последнее время так много
сделавшего в этом направлении), а также по вопросу об изучении приспособлений животных организмов (статья Ііоултона)
и растительных (статьи Гёбеля и Ф. Дарвина). Если все эти
очерки касаются направлений науки, значение которых было
оценено или указано самим Дарвином, то статья Клебса и в
меньшей мере оригинальная статья Лёба касаются уже совершенно нового направления — экспериментальной морфологии,—
о которой Дарвин в последние годы своей жизни, поводимому,
много думал, но заняться которой уже не имел силы. Клебс,
на основании своих новых данных, совершенно верно указывает на отсутствие коренного различия между двумя категориями явлений изменчивости, перед которыми Дарвин невольно
останавливался, и на важное значение продолжительных опытов над влиянием внешних условий, на что указывал уже и
Дарвин. И очевидно, что только такие опыты дадут окончательное объяснение происхождения новых форм, т. е. форм, возникновение которых понятно и которые в то же время закрепляются
наследственностью.
В этой категории очерков с недоумением отмечаешь отсутствие отдельной статьи о новой плодотворной области —
биометрике. Если имя Гальтона кое-где попадается в других
статьях, то имена Пирсона и Уэльдона отсутствуют даже в указателе.
Совершенно иной, но не менее глубокий интерес представляют статьи, посвященные отголоскам идей Дарвина далеко
* главной черте.
Ред.
за пределами собственно естествознания. Здесь на первом месте можно поставить статью Гёфдинга, одного из немногих философов, понимающих философское значение современной науки. Между прочим он совершенно справедливо указывает неверность попыток видеть в Гегеле одного из предтечей современного эволюционного учения, тогда как для него эволюционировали только идеи, реальная же эволюция организмов
представлялась ему абсурдом. Проф. Бьюри в своей интересной
статье указывает на параллелизм в изменении воззрений на задачи истории и естественной истории; поражает только отсутствие в его изложении имени Вико. Менее основательными
представляются статьи Лойд Моргана и Бугле; особенно
странно, что ни тот, ни другой не упоминает о труде Сутерланда,
несомненно самого талантливого продолжателя Дарвина в этом
направлении.
Сравнительно мало интересна статья Джайлса. Относясь
отрицательно к попытке Шлейхера, еще в 60-х годах с энтузиазмом пытавшегося провести идеи Дарвина в область сравнительного языковедения, и глумясь над филологами старого
типа, занимавшимися простым сопоставлением слов из разных
языков, он сам значительную часть своей небольшой статьи
посвящает почти той же теме.
Наконец, совершенно исключительно интересна статья высокоталантливого сына Дарвина сэра Джорджа, представляющая как бы первую страницу из эволюции миров, т. е. теорию
происхождения переменных звезд, на основании учения о фигурах равновесия вращающихся жидких масс, — учения, в
котором ему самому принадлежит выдающаяся роль.
Заключительная статья принадлежит перу известного и
русской публике популяризатора «Новейших успехов современной физики».
Сказанного, полагаю, достаточно, чтобы показать, какой
глубокий интерес представляет эта книга и каким она является
наглядным доказательством обширного значения разбираемого
в ней учения и в то же время показателем громадности ума его творца, обнимавшего такую область общих
il частных идей, охватить которую едва под силу десяткам
спецалистов.
К книге приложены два портрета, изображение кабинета
Дарвина и несколько рисунков по мимикрии. Выбор портретов
хотя и логичен, но для знавших Дарвина или знакомых с лучшими его портретами едва ли покажется удачным. Первый портрет относится к периоду создания «Происхождения видов» и
лишен той печати величавой старости истинного мудреца,
которая невольно возникает в воображении при имени Дарвина;
второй относится к последнему году жизни великого ученого
и производит тяжелое впечатление какой-то уже болезненной
одутловатости. Зато картинка рабочей комнаты, воспроизведенная с гравюры, очень хороша.
41 К. А Тимирязев,
т. ѴП
ѵ п
ДАРВИН
Д
арвин, Чарлз Роберт (род. в 1809 г. в Шрюсбери, ум.
в 1882 г. в Дауне), величайший биолог всех времен, творец современного эволюционного учения, носящего название дарвинизма. Дед его Эразм Дарвин (1731—1802) был известен, как ученый, медик и поэт, один из предвозвестников идеи
эволюции. Об отце своем, также враче, Дарвин отзывался, как
о «самом умном человеке, какого знал, обладавшем удивительною способностью к наблюдению и горячей симпатией к людям,
»
* Эта статья К . А. напечатана в энциклопедическом словаре Граната
(издание 7-е, том 17, стр. 627—640). Повторяя в видоизмененной форме
некоторые части статьи «Краткий очерк жизни Чарлза Дарвина» и других включенных в этот том статей, она освещает вместе с тем ряд новых
моментов в жизни и деятельности Ч. Дарвина. В ней содержатся, в частности, сведения о сыновьях Дарвина. Ред.
какой я никогда ни в ком не встречал», — качествами, которые
он, очевидно, сам унаследовал. В школе Дарвин, по собственному признанию, ничему не научился, «так как она была классическая», но сам вместе со старшим братом занимался химией,
за что от своего педагога получил презрительную кличку «газ».
Пребывание на медицинском факультете в Эдинбургском университете и на богословском (по настоянию отца) в Камбриджском также не особенно обогатило его знаниями. Из книг,
которые ему приходилось изучать, он с благодарным чувством
вспоминал только труды известного богослова Пали (Раіеу).
Какое это было своеобразное богословие, видно из того факта,
что в Оксфордском университете коллекции зоологического музея были около этого времени расположены так, чтобы служить
наглядным пособием при изучении Пэли. Можно сказать, что
выдающейся чертой деятельности Дарвина было стремление
дать научное объяснение той основной особенности органического мира, которая до той поры была только предметом рассуждений теологов и метафизиков. Другая книга, оказавшая
на него глубокое, но уже прямое влияние, была известная книга
Д ж . Гершеля «Preliminary Discourse on the study of Natural
Philosophy*. В своей автобиографии Дарвин говорит, что чтение этой книги «возбудило в нем пламенное желание заложить
и свой скромный камешек в величественное здание естествознания». Наконец, чтение путевого дневника Гумбольдта заронило в него страсть к далеким путешествиям. Из университетских профессоров на него оказал влияние ботаник Генсло,
геолог Седжвик и Юэль — астроном и автор известной «Истории индуктивных наук». В 1831 г. Дарвин выдержал свой
окончательный университетский экзамен и в декабре того же
года, по рекомендации Генсло, был принят в кругосветное путешествие на «Бигле», командир которого Фиц-Рой разделил
с ним свою каюту. «Это было моим вторым рождением». «Всем,
что я сделал в науке, я обязан путешествию на „Бигле"». Самыми важными впечатлениями, вынесенными из путешествия,
Дарвин признавал следующие: смену органических форм, наблюдаемую по мере передвижения с севера на юг по восточной
* «Предварительные рассуждения к изучению естествознания».
Ред.
части Южной Америки, и обратную смену по западной ее части; сходство между живой и ближайшей ископаемой фауной
тех же стран и, в-третьих, поразительные черты сходства и
различия животного населения отдельных островов архипелага
Галапагос как между собою, так и с фауной ближайшего материка. Это последнее впечатление Дарвин характеризовал так:
«Мне казалось, что я присутствовал здесь при самом акте творения». Наконец, в частности, наблюдения над обитателями Огненной земли приучили его к мысли, что отдаленная общность
происхождения с обезьяной теряет свою остроту перед несомненным фактом близкого родства с подобными людьми.
Уже через год по возвращении в Англию (в 1837 г.) он начал заносить в свою записную книжку мысли, относившиеся
к вопросу о происхождении видов, с того момента ставшему
центральной задачей его жизни. Что задача эта была сразу охвачена во всей ее необъятной широте, свидетельствует страничка этой записной книжки, автограф которой можно видеть
в первом томе полного русского издания сочинений Дарвина*.
В 1842 г. он набросал первый очерк своей теории (в первый раз
изданный только в 1909 г. под названием «The Foundations of
the Origin of Species»**, по случаю двойного юбилея—его рождения и выхода его знаменитой книги). Из этих документов видно,
что основные идеи и даже окончательная формулировка положений созрела в голове Дарвина за 20 лет до предъявления их
публике — доказательство того, с какой строгой критикой он
относился сам к своей теории, чем объясняется тот факт, что
все возможные возражения были им продуманы и заранее отражены, так что, появившись в окончательной форме, теория
была почти неуязвима. Но были и еще два других обстоятельства, принудившие его так долго откладывать выпуск в свет
своего главного произведения. Во-первых, обработка громадного материала, собранного во время путешествия, во-вторых,
болезненное состояние, преследовавшее его со времени его возвращения из путешествия и до самой его смерти. В 1839 г. он
женился на своей двоюродной сестре мисс Веджвуд: «Она была
* К. А. имеет в виду издание Ю. Лепковского (М., 1907—1909 гг.).
В этом томе см. вклейку к стр. 545. Ред.
* * «Основы происхождения видов». Ред.
умной советницей и всегда великой утешительницей в течение
всей моей жизни», — говорит он о ней в своей автобиографии,
а сын его Фрэнсис заявляет, что если отец, несмотря на болезнь,
успел что-нибудь сделать в своей жизни, то исключительно
благодаря неусыпным заботам жены.
Болезнь заставила его в 1842 г. покинуть Лондон и
перебраться на всю свою жизнь в деревню, в Даун. Из
книг, появившихся до его великого главного произведения,
следует отметить: «Журнал путешествия на Бигле», доставивший ему популярность в широких кругах читателей и полный
намеков на занимавшие его широкие задачи; исследование
«О строении и распределении коралловых островов» и особенно
громадную монографию «Об усоногих раках, живущих и ископаемых», — труд, который должен был навсегда зажать рот
узким специалистам, которые могли бы заподозрить его в поверхностном отношении к научным вопросам. По отзыву Гёксли,
в этом труде Дарвин на практике ознакомился с понятием о
виде.
В 1858 г. случайное обстоятельство, — получение им от
его знакомого Уоллеса записки, содержавшей мысли, очень сходные с его теорией, — чуть не побудило Дарвина великодушно
отказаться от своего приоритета, основанного на двадцатилетней давности. По счастью, авторитетные друзья — Гукер и
Лайель — вступились в это дело и настояли на том, чтобы вместе с запиской Уоллеса были предъявлены и два известных им
(и американскому ботанику Аза Грей) документа, в которых
излагались основы его теории. Все вместе было представлено
1-го июля 1858 г. в заседание лондонского Линнеевского общества (русский перевод — в упомянутом первом томе полного
издания трудов Дарвина). Наконец, через год, 24 ноября 1859 г.,
появилось «Происхождение видов путем естественного отбора,
или сохранение избранных пород в борьбе за жизнь». Издание
разошлось в один день. Нередко говорят, что успех книги объясняется тем, что умы были к тому подготовлены; вернее было
бы сказать совершенно обратное. Самые выдающиеся представители науки (Бэр, Агассис, Оуэн, Лайель, Де-Кандоль, даже
такой передовой и боевой мыслитель, как Карл Фогт) к этому
времени окончательно изверились в возможности подобной тео-
рии. Еще определеннее была отрицательная точка зрения философов, которых нередко выдвигают вперед, как предвозвестников эволюционного учения. За десять с небольшим лет до
появления теории Дарвина Гегель утверждал, что «как старая,
так и новая философия природы руководились неуклюжею
мыслью, будто превращение или переход одной естественной
формы или сферы в другую осуществляется во внешнем, явном
проявлении», а не в идее только, как учил он сам. А Шопенгауэр
за пять лет до Дарвина поучал, что только благодаря низкому
уровню философии во Франции Ламарк мог притти к мысли о
преемственном превращении живых существ во времени.
Даже через год после появления книги Гёксли мог говорить:
«вселенский собор ученых, конечно, осудил бы нас (т. е. кружок единомышленников Дарвіша) подавляющим большинством».
Конечно, еще ни одна книга не вызывала такого коренного
переворота в основном складе человеческого мышления. Но через
двадцать с небольшим лет, справляя совершеннолетие теории,
тот же Гёксли мог уже говорить: «Если бы не документальные
свидетельства, то он подумал бы, что память ему изменяет,
до того резка перемена, происшедшая в общественном мнении
в пользу теории Дарвина». Не подготовленность умов, а содержание книги было причиной этого переворота. Идея эволюции с той поры стала чуть не господствующей, руководящей
идеей для всех областей знания.
В 1868 г. появилось двухтомное его произведение «Прирученные животные и возделываемые растения». До настоящего времени это самый полный и продуманный свод сведений
по вопросам изменчивости и наследственности — этих двух
основ естественного отбора. Можно сказать, что тот шум, который вызывался некоторыми позднейшими частичными теориями наследственности (мутации, менделизм), главным образом вызывался малым знакомством молодого поколения натуралистов с этой книгой, своим богатым содержанием изумлявшей даже противников Дарвина (как, например, Катрфаж).
В этих двух произведениях заложены были основы учения:
все последующие труды Дарвина представляли или более подробное развитие некоторых положений теории или примеры
ее применения к частным случаям изучения природы.
В 1871 г. появилось наделавшее Дарвину еще более врагов
«Происхождение человека», где его учение применялось к самому сложному и острому случаю — к человеку, не только
с его телесными, но и с его умственными и нравственными свойствами. Страсбургский профессор Швальбе в 1909 г. дал такой о ней отзыв: «Труд Дарвина о человеке до сих пор никем
не превзойден». Одна из глав этой книги, значительно разросшаяся, составила содержание отдельной книги «Выражение
чувств у человека и животных» — одного из остроумнейших
развитий теории единства происхождения человека и животных в применении к такому, казалось бы, ничтожному факту,
как выражение лица и т. д. От самого сложного случая — от
человека — Дарвин перешел к простейшему — к растениям,
где не мог находить применения фактор, когда-то выдвинутый
Ламарком по отношению к животным, т. е. сознательное волевое воздействие организма на себя самого. Прежде всего он остановился на изучении поразительных явлений взаимного приспособления между цветами и насекомыми. В двух произведениях он доказал факт существования самых сложных приспособлений цветов к перекрестному оплодотворению посещающими их насекомыми («О различных приспособлениях, при помощи которых орхидные оплодотворяются насекомыми» и
«Различные формы цветов у растений того же вида»). Так как
на основании его теории существование таких широко распространенных и сложных приспособлений может быть объяснено,
лишь исходя из предположения, что перекрестное оплодотворение полезно, Дарвин предпринял — на этот раз экспериментальное — исследование над скрещиванием различных экземпляров растений в сравнении с самооплодотворением (т. е.
опылением пыльцою того же цветка или экземпляра). В -результате этого исследования над «Самоопылением и перекрестным опылением растения» оказалось, что перекрестное оплодотворение всегда благотворно, т. е. дает начало более крупному, более полновесному, более плодовитому поколению, чем
самооплодотворение. Таким образом, эти три тома составляют
одно стройное целое и дают ключ к пониманию широко распространенного явления с точки зрения теории естественного отбора, доказывая ее значение, как рабочей гипотезы. Другому
примеру, на котором Дарвин пожелал испробовать свою теорию,
был посвящен небольшой томик «О движениях и повадках лазящих растений». Значение, польза этих форм сама собою очевидна: значительное количество листьев, для поддержания которых потребовалась бы и значительная затрата строительного
материала на построение прочных стеблей, выносится к свету
тонкими, хрупкими стеблями, благодаря способности растения
пользоваться готовыми стеблями других растений или иными
предметами. Дарвин показал, что это приспособление, польза
которого не нуждается в объяснении, представляет другую загадочную сторону. Оно широко распространено в растительном
мире и притом в самых разнообразных и, в систематическом
отношении, далеко стоящих группах. Трудно было понять,
каким образом сложное приспособление могло во всех этих
случаях возникать отдельно, совершенно независимо от других подобных же случаев. Дарвин предпринял вновь чисто экспериментальное и крайне оригинальное исследование «О способности растений к движению», казалось, стоявшее в стороне
от его основной задачи, но в результате показавшее, что в каждом растении таится, так сказать, задаток сделаться вьющимся,
чем и объясняется, что задаток этот был так часто использован
им. Остроумные, совершенно оригинальные приемы исследования и многочисленные важные выводы и по отношению к другим явлениям, кроме того, которое имелось в виду, делают эту
работу, предпринятую почти семидесятилетним ученым в совершенно новой области, одним из оригинальнейших и плодотворных исследований в физиологии растений. Это был второй
данный им образец, как следует изучать природу с точки зрения его теории.
Третьим примером явилось исследование «О насекомоядных
растениях». Самый факт улавливания насекомых листьями
был открыт еще в XVIII веке, но возможность видеть в этом
явлении процесс питания отрицалась выдающимися ботаниками
еще в семидесятых годах XIX века. С точки зрения учения Дарвина такое сложное приспособление переставало быть загадочным именно под условием его полезности, как акта питания.
Снова с замечательным экспериментальным искусством исследовал он наиболее известные случаи, обогатил науку многими
новыми примерами насекомоядности, а главное, доказал, что
химическая сторона процесса совершенно аналогична процессу
пищеварения у животных. В результате было не только раскрытие новой функции растительного организма, но был сообщен новый толчок к изучению до той поры неизвестной в растении группы ферментов, что заставило обратить на этот предмет внимание физиологов и химиков и обогатило учение об
этих важнейших в жизни организмов веществах. Таким образом, начиная с 1859 г., в первых трех книгах он положил основание единственной существующей эволюционной теории,
а в следующих девяти дал блестящие примеры ее применения
к объяснению самых сложных биологических явлений, начиная
с жизни растения и кончая человеком. Эти двенадцать томов
составляют одно стройное целое и величайший памятник человеческой мысли в области объяснения живой природы. Ботанические работы Дарвина породили громадную специальную
литературу.
Так как учение Дарвина исходит, как из основного факта,
из явлений изменчивости, то в последние свои годы он особенно
интересовался ими, но преклонный возраст и болезнь мешали
ему осуществить задуманные исследования.
Не входят в общий цикл его трудов два небольших исследования, тем не менее, обратившие на себя внимание. Это «Очерк
психологии новорожденного», вызвавший целый ряд подражаний, как, например, Прейера, которому нередко ошибочно
приписывают приоритет, и «Образование перегноя почвы при
содействии земляных червей», по числу разошедшихся экземпляров едва ли не самое популярное из произведений Дарвина.
Вся жизнь Дарвина с 1842 г. протекла в скромной сельской обстановке. Ко всем внешним отличиям и почету он относился равнодушно, кроме почетной степени доктора, данной
ему Кэмбриджским университетом; он признавался своему сыну,
что с гордостью расхаживал в своей красной мантии по историческим улицам и колледжам своего университетского города.
Дарвин умер в 1882 г. и погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном.
Дарвин имел трех дочерей и пятерых сыновей. Из последних четверо известны в области науки и техники.
1. Сэр Джордж Дарвин (1845—1912), пользующийся широкой известностью астроном, был профессором Кэмбриджского
университета. Из его исследований особенно замечательны:
по теории приливов, о фигурах равновесия вращающихся жидкостей и о происхождении двойных звезд; в последнем он стоит
на эволюционной почве, продолжая идеи отца в области астрономии.
2. Сэр Фрэнсис Дарвин (р. 1848), преподаватель ботаники
в Кэмбриджском университете. Помогал отцу в некоторых из
его ботанических исследований. Из самостоятельных трудов
особенно известны исследования по механике устьиц. Издал
биографию отца и его переписку.
3. Орас Дарвин (р. 1851). Механик, стоящий во главе известной Кэмбриджской фирмы по изготовлению научных приборов, некоторые из которых им самим изобретены.
4. Леонард Дарвин (р. 1850), инженер и экономист.
Самым ценным биографическим материалом, конечно, служит «Автобиография Дарвина», имеющаяся и в русском переводе (изд. Лепковского) и пять томов переписки: «Life and betters of Charles Darwin» (1887, 3 т., издание его сына Фрэнсиса)
и «More Letters of Charles Darwin» (1903 г., 2 т., издание Фрэнсиса Дарвина и проф. Сюарда). Кроме того, под заглавием
«Life of Charles Darwin» появились в 1892 г. особым изданием
в одном томе под редакцией Фрэнсиса Дарвина автобиография,
выборки наиболее интересных писем и воспоминания об отце *
Фрэнсиса Дарвина (сокращенный перевод — в издании Лепковского). Очерк биографии и личные воспоминания о Дарвине,
см. Тимирязев в сборнике «Памяти Дарвина» (1910)*.
Дарвинизм — современное, предложенное Дарвином эволюционное учение, вытекающее из понятия об естественном
отборе- Никакое учение об эволюции, т. е. об естественном процессе образования существующих организмов и их ископаемых
предков, не может быть признано удовлетворительным, пока
не дает объяснения для основного свойства живых тел, обозначаемого самым словом организм, т. е. состоящий из органов или
орудий. Эта особенность обозначалась в прежних теологиче* В этом томе см. стр. 541, 551, 569 и 580.
Ред.
ских или метафизических попытках объяснения словами совершенство, гармония, целесообразность, целестремительность и
долженствовала служить доказательством скрытого умысла
или цели, обнаруживающихся в процессе созидания организмов.
Эти неясные понятия дарвинизм заменил реальным понятием
приспособление, т. е. соответствие, прилаженность частей организма между собой и к их отправлениям и целого организма
к условиям его существования. Эту приспособленность, эту
полезность, для которой метафизики искали причины, Дарвин
признал за ее собственную причину, в силу исторического процесса, названного им естественным отбором и неизменно клонящегося к сохранению всего приспособленного, или, — что
фактически имеет одинаковое значение, — к
устранению,
элиминации (выражение Огюста Конта) всего неприспособленного. Именно этой, самой загадочной стороны органического
мира не объясняло и не объясняет ни одно из предложенных
ранее или вновь предлагаемых учений, почему дарвинизм и
остается единственным, действительным эволюционным учением. Так как всякое эволюционное учение должно было,
прежде всего, опровергнуть господствовавшую до 1859 г.
точку зрения о неподвижности органических форм — догмат
постоянства видов, то первая задача дарвинизма заключалась
в опровержении этого догмата, откуда и понятно, что книга
Дарвина носила название «Происхождение видов». Первой заслугой Дарвина было ясное, убедительное сопоставление основных данных классификации, сравнительной анатомии, учения
о метаморфозе, эмбриологии,
географии и
палеонтологии
организмов, доказывавшее, что они согласно свидетельствуют
в пользу исторической преемственности всего живущего и
жившего, а не об отрывочных творческих актах. Вторая заслуга Дарвина заключалась в собрании громадного материала,
доказывающего неверность догмата о постоянстве видов, особенно в применении к организмам, история которых известна,
т. е. к прирученным животным и культурным растениям. Расчистив, таким образом, путь к установлению учения об историческом процессе появления органических форм, Дарвин предположил, что он совершается в силу тех же причин, как и процесс образования искусственных форм, т. е. в силу отбора,
но долго не мог найти фактора, который заменял бы в природе
деятельность человека в искусственном отборе. Он уже собрал обширный фактический материал,но еще не имел ключа,
который связывал бы его в одно стройное целое. В 1838 г. эта
мысль озарила его при чтении книги Мальтуса «О населении».
Все организмы стремятся к перенаселению, результатом чего
является уничтожение форм неприспособленных и сохранение
приспособленных. Этот «исторический», как он сам его в первый раз назвал («Foundations», стр. 51), процесс, объясняющий
основную загадочную черту органического мира, слагается
из трех факторов: 1) изменчивости, 2) наследственности и
3) отбора.
Нередко считают основой всего дарвинизма понятие о «борьбе за существование», но это выражение принадлежит Уоллесу,
Дарвином первоначально оно не употреблялось, да и в настоящее время может быть совершенно обойдено, чем устраняется
большая часть недоразумений, особенно на почве этической.
1 .Изменчивость — свойство, присущее всем органическим формам, хотя и проявляющееся в различных степенях;
оно дает первичный материал для образования новых форм.
Причиной изменчивости является влияние внешних условий
или сочетание организаций различных неделимых путем скрещивания. Хотя Дарвин всегда признавал значение воздействия внешних явлений, но особенно интересовался этой стороной вопроса в последние годы своей жизни, как бы угадывая то направление, которое примет наука, направление, получившее позднее название экспериментальной
морфологии.
Общая точка зрения Дарвина на роль изменчивости нисколько
не изменяется попытками придать несоответственное значение
явлениям изменения более крупными
скачками, мутациями, существование которых было ему хорошо известно и оценено по достоинству.
2. Наследственность — общее свойство организмов сохранять сходство в силу преемственной передачи особенностей
организации и отправлений. Это — фактор исключительно
консервативный, сохраняющий существующее или закрепляющий и накопляющий то, что вызвано изменчивостью. Дарвин
дал самый полный и до сих пор единственный критический свод
бесконечно разнообразных проявлений этого фактора и тех,
скорее правил, чем законов, которые здесь можно установить.
Исследования последних десятилетий касались, главным образом, этой части его учения. Они касались некоторых частных
случаев проявления наследственности, которым не столько
сам автор исследования, сколько его поклонники пытались
придать совершенно не соответствующее их содержанию универсальное значение, выдвигая их, как нечто почти равнозначущее дарвинизму или даже опровергающее его.
3. Естественный отбор — вытекающий из факта постоянного перенаселения процесс устранения всего неприспособленного и сохранения приспособленного. Это единственный известный нам до сих пор естественный процесс, налагающий на
организмы печать приспособления, т. е. объясняющий ту основную особенность живых тел, которую до Дарвина тщетно
пытались объяснить теологи и метафизики. Естественный отбор, объясняющий эту самую широкую особенность живых существ — их приспособленность, другими словами, самый факт
организации, — послужил в то же время ключом для объяснения и другой основной особенности органического мира, как
целого — единства его общего плана, на котором основана естественная система, одновременно с обособленностью, замкнутостью составляющих ее групп, начиная с видовой. Эта вторая
характеристичная черта органического мира оказалась только
частным случаем первой, на основании начала, названного
Дарвином расхождением признаков. Так же тщетны, как и в
области наследственности, были и последующие попытки заменить отбор, эту самую существенную часть дарвинизма, возвратом ли к Ламарку или к неверно приписываемым ему под
названием нео-ламаркизма теориям целесообразного воздействия организма на его собственное развитие (Кооп, немецкие
панпсихисты) или такого же целесообразного воздействия на
организмы внешней среды (Генсло, Варминг). Учение об естественном отборе тесно связано с практическим применением отбора
искусственного — селекционизмом
в растениеводстве
и скотоводстве.
Литература.
«Собрание сочинений Ч. Дарвина». Изд. Ю. Лепковского в 8 том. Москва, 1907—1909. T. I. Перевод и редакция К. Тимиря-
зева. Для истории возникновения теории: «The Foundations of the Origin of Species» (1842—4) — первоначальный очерк теории, изданный по
случаю юбилея Дарвина в 1909 г. Лучшее подробное изложение дарвинизма и критика последующей литературы: Plate — «Selektionsprinzip und
Probleme der Artbildung. E i n Handbuch des Darwinismus» (1908), I том:
также Lotzy — «Vorlesungen über Descendenztheorien», 2 тома (1906—1908).
Обильный материал, но не такая систематичная его обработка, как в предыдущем труде.
Современное состояние дарвинизма и его влияние на самые отдаленные отрасли знания изложено в «Darwin and modern Science» (1909), изданном по случаю столетнего юбилея рождения Дарвина и пятидесятилетнего юбилея со дня выхода его книги. В нем приняли участие 20 ученых
различных стран и специальностей. Сходное, но более ограниченное по
содержанию издание представляет появившийся два года позже сборниклекций, читанных в Мюнхене несколькими немецкими учеными, «Die Absatmmungslehre» (1911). Краткое общедоступное изложение содержания
и значения дарвинизма: Тимирязев — «Чарлз Дарвин»— очерк современного состояния дарвинизма в сборнике «Памяти Дарвина» (1910 г.).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
кVII ТОМУ
СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ
КО А О
Т И М И Р Я З Е В А
АКАДЕМИК
B.JL КОМАРѲБ
*
орьба, которую К. А. Тимирязев вел с 1864 года и
вплоть до Октябрьской революции за дарвинизм, против всяческого мракобесия, реакционных теорий и
национализма, в научной литературе того времени является блестящим исключением. Всесторонне освещая теорию
Чарлза Дарвина, Тимирязев одновременно отражал те удары,
которые пробовали нанести ей националисты и реакционеры, и
делал это с таким успехом, что всякое открытое сопротивление со стороны последних прекратилось и дарвинизм получил общее признание.
«В этой неравной борьбе я был один, — говорит К. А.,—
но со мной был читатель». Однако для того, чтобы читатель поддерживал автора, надо, чтобы последний обладал и сознанием
своей правоты, и эрудицией, и увлекательным изложением.
Все это мы и находим у Тимирязева.
42 К. А. Тимирязев,
т.
VII
657
Только что закончились бои, которые сторонники Дарвина
вели с его врагами, определившими свое мировоззрение еще до
того, как окрепла и получила общее признание знаменитая
теория, как с 1900 года начались попытки перекрыть ее новыми,
якобы прогрессивными теориями Коржинского, Де-Фриза,
Лотси и неправильным использованием теорий наследственности от Негели и Вейсмана до Бэтсона и Моргана.
Новые враги у настоящего бойца пробуждают и новое
мужество, он не знает ни усталости, ни паники перед их множеством. Отсюда новый ряд статей, острых, критических,
которые дал нам К. А. Тимирязев, как образцы научной полемики. Значительной части этих статей не было в прежних изданиях книги «Чарлз Дарвин и его учение». Они были напечатаны в разное время и в различных сборниках и лишь теперь
впервые объединены в этом томе.
В совокупности статьи эти представляют собой лучшую
защиту учения Дарвина и выясняют все недоразумения, связанные с попытками перекрыть дарвинцзм.
Враги не раз говорили нам: «Что вы знаете о Дарвине?
Вы познакомились с ним по Тимирязеву, изложение которого
тенденциозно-материалистическое. Почитайте-ка Дарвина в
подлиннике и вы увидите, как далек ваш Тимирязев от подлинного Дарвина».
Расчет был простой.
Дарвин, пробивая своему учению дорогу в жизнь и окруженный учеными, которые ему неустанно возражали, приводит
не только свои мнения, но и эти возражения. Читатель, не особенно искушенный в тонкостях биологии, путается в противоречивых мнениях, иногда не замечает, где Дарвин и где
приводимые им чужие мнения или цитаты, путается в многочисленных примерах из животного и растительного мира и,
в конце концов, из чтения Дарвина выносит не теорию Дарвина, а нечто неопределенное, позволяющее ему от материалистической точки зрения знаменитого биолога притти к мыслям
о коллизии между необходимостью и случайностью или между
нравственным и безнравственным. Словом, Дарвина мало
прочитать, -его надо еще понять! Враги и надеялись, что
большинство поймет плохо.
Изложение Тимирязева, отличаясь железной логикой и
ясностью, ничего подобного не допускает и должно быть
рекомендовано всем - и каждому. Запоминается оно надолго
и дает сильный толчок к диалектическому воззрению на
природу.
Как физиолог, К . А. Тимирязев прекрасно знал, какие особенности организмов определяются ныне действующими причинами, какое влияние на них оказывают свет, тепло, влажность,
химическая среда, и что накоплено как результат исторического прошлого. Физиологические процессы, на которые так
явно влияет внешняя среда, с одной стороны, и историческое
прошлое, с другой — две противоположности, борьба которых
и обусловливает диалектику развития современных нам организмов.
К . А. Тимирязев не только великолепно изложил и успешно
защитил учение Ч . Дарвина, но и сам, в полном согласии с этим
учением, выяснил многие вопросы, интересные для его современников. Так, он много уделяет внимания той относительной целесообразности, или тому относительному совершенству, которое так поражает нас при изучении животных и
растений.
Для начинающего биолога эта Дарвиновская телеология—
настоящее откровение; она просто и убедительно показывает,
что каждая особенность организма существует лишь постольку,
поскольку она поддерживается естественным отбором, и исчезает, как только перестает быть полезной.
В дальнейшем, однако, анализ естественного отбора у Дарвина неполон; нет изложения наблюдаемого в природе существенного различия между борьбой особей друг с другом и
борьбой их с внешней средой, как таковой.
На это обратил внимание Фридрих Энгельс, который говорит об этом следующее:
«Борьба за существование. Прежде всего необходимо строго
ограничить ее борьбой, происходящей от перенаселения в мире
растений и животных, — борьбой, действительно происходящей на известной ступени развития растительного царства
и на низшей ступени развития животного царства. Но необходимо отличать от этого те случаи, где виды изменяются,
42*
659
старые из них вымирают, а их место занимают новые, более
развитые, без наличия такого перенаселения: например, при
переселении растений и животных в новые места, где новые
климатические, почвенные и т. д. условия вызывают изменение. Если здесь приспособляющиеся индивиды выживают и
образуют новый вид благодаря постоянно изменяющемуся приспособлению, между тем как другие, более устойчивые индивиды погибают и под конец вымирают, а с ними вымирают
несовершенные промежуточные элементы, то это может происходить — и происходит фактически — без всякого мальтузианства, а если последнее и принимает здесь участие, то оно
ничего не изменяет в процессе, в лучшем случае только ускоряет его» (Ф. Энгельс. — Диалектика природы. Партиздат,
М., 1933 и 1-936 г., стр. 123).
Словом, не надо упускать из виду и процесс приспособления к внешним условиям, каковой существенно отличается от
борьбы за существование. Прибавим к этому, что, читая «Происхождение видов» или знакомясь с учением Дарвина в изложении Тимирязева, нетрудно увидеть, что построить теорию естественного отбора прекрасно можно было бы без всякого упоминания о Мальтусе, так как совсем не в его пресловутых
законах дело.
Как построена органическая природа? Как построен мир
животных и мир растений? Как произошел человек? Вот вопросы, на которые отвечает книга Тимирязева о дарвинизме.
Ф. Энгельс позднее дал свою замечательную теорию происхождения человека, но все же за Дарвином твердо укоренилась
слава мыслителя, доказывавшего, что человек произошел от
обезьяны, за что и ненавидят его всяческие клерикалы и прочие идеологи буржуазии.
Как и другие труды К. А. Тимирязева, книга «Чарлз Дарвин и его учение» написана прекрасным убедительным языком.
Как стальным молотком, вбивает в память читателя свои аргументы Климент Аркадьевич, и читатель навсегда усваивает
учение Дарвина и становится невосприимчивым, как бы забронированным, ко всем доводам и примерам, которыми думали сокрушить учение Дарвина всевозмояшые идеалисты, буржуазные нытики, упрекавшие Дарвина в безнравственности, ра-
систы, выступавшие против скрещивания, и всякие зарождавшиеся или уже готовые фашисты.
Велика заслуга Чарлза Дарвина перед человечеством и
наукой. Велика заслуга К. А. Тимирязева перед русскими,
а затем и перед всеми советскими людьми. Дарвин и Тимирязев научили нас не только любить, но и понимать природу, а также применять это понимание на практике.
Дарвинизм — теория отбора. В руках человека отбор
превращается в селекцию, а селекция — основа племенного
разведения домашних животных, основа чистосортного разведения хлебов и других культурных растений. Дарвинизм
не только единственная диалектическая теория происхождения и развития, но и могучее орудие в руках культурного
человечества для повышения его благосостояния и устроения
его жизни. Вот почему так ненавидят дарвинизм всевозможные паразиты и эксплоататоры, вот почему таким стойким его защитником был К. А. Тимирязев.
•
•
.
»TIJ Г'.; Г
,,
.
•
• Я:•
• -
А
л
у
к
ф
а
в
и
a b a t e
ммен
т
н
л
ы
ь
К VIÏ ТОМУ
СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ
К. А. ТИМИРЯЗЕВА
м
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин — 228
Агассис — 47, 55, 225, 246, 373,
374, 571, 645.
Аддисон — 462.
Айэр — 618.
Аккерман — 321, 4 1 2 , 413.
Александр
I — 632.
Александр
УII — 325.
Андерсон — 85.
Анучин, Д. H. — 568.
Аракчеев — 591.
Аргайлъ,
герцог — 265, 322.
Арениус, Сванте — 597, 614, 616.
Аристотель — 68, 215, 216, 310,
312, 313, 465,. 510.
Армстронг,
43
Генри
К . А. Тимирязев,
— 480.
т.
VII
Армстронг,
Эдуард—480,
Арнольди — 229.
Арциховский — 224.
Асквит — 612.
481, 483
Байер — 503.
Байрон — 317, 554, 580, 581, 599
630, 632, 635.
Бальфур — 611—614, 620.
Бари-де •— 355.
Баталин — 564.
Бауэр — 467.
Бах — 479, 480.
Безанец,
Горуп — 203.
Белинский,
В. Г. — 268.
Бенеден-ван
— 625.
Беннет — 274.
Бентам — 577.
Бербанк — 124, 238, 475.
Бергсон — 450, 510.
Берклей — 533.
Бернар,
Клод — 321, 461.
Бертран — 480.
Бешшерелъ — 561.
Блакман — 604.
Бланишр — 246, 600.
Бойлъ — 502.
Боклъ — 450, 565.
Болъцман — 594.
Бонапарт,
Роланд — 625.
Бонье, Гастон — 199, 200.
Бородин,
И. П. — 224, 467, 477.
Борроуз — 457.
Босвелъ — 405.
Боссюэт — 318.
Бофор,
Маргарита
— 605.
Браге-де,
Тихо — 597.
Брока — 274.
Броун-Секар
— 463.
Бруно,
Джордано
— 588.
Брут — 492.
Бугле — 637, 640.
Булъвер — 545, 555.
Бурбоны — 233, 279, 367, 3 6 9 —
372.
Бутлеров — 503.
Бьюри, Д. — 637, 640.
Бэкон — 244, 248, 510, 580,
596, 630.
Бэлисс — 464.
Бэр — 225, 270, 310, 430,
571, 645.
Бэтсон —ZI,
35, 218, 222,
229, 448, 467, 468, 471,
478, 483, 484, 486—507,
512, 514—516, 600, 601,
638.
Бючли — 625.
582,
431,
227,
473,
511,
637,
Вагнер — 29, 30, 356, 358.
Вайнз — 586.
Ван-Гелъмонт
— см. Гель.монтван.
Варминг — 25, 239, 653.
Васман — 450.
Васнецов — 324.
Вебер — 626.
Веджвуд
— 557.
Веджвуд,
мисс (см. также Дарвин, мистрисс) — 644.
Вейдовский — 625.
Вейсман — 224, 265, 514, 638.
Берн, /Кюлъ — 284.
Виганд — 266, 41.9, 431, 432, 439,
440.
Вигман — 533.
Видерсгейм — 458.
Вико — 640.
Вильберфорс
— 600.
Вилъморен,
Анри — 475.
Вилъморен,
Луи — 124.
Вильсон, Эдмунд — 214, 506, 507,
510—513, 516, 518, 519, 625.
Виман — 151.
Виргилий — 125.
Вольтер — 310.
Вольф—
25, 29.
Габсбурги
— 279, 370.
Гагедорн — 505.
Гадов, Ганс — 637.
Галилей — 16, 56, 61, 325.
Галлет — 123, 124.
Галлиани — 309, 312, 315.
Галътон,
Виолетта — 542.
Галътон,
Фрэнсис — 234, 239,
468, 494, 542, 637.
Гарвард,
Джон — 599.
Гарвуд — 238.
Гарибальди
— 15.
Гаррисон,
Джен Эллен — 637.
Гаррисон,
Росс — 459.
Гартман,
Эдуард — 317, 364.
Гауе — 607.
Гёбелъ — 625, 637, 639.
Гегель — 640, 646.
Гейне, Генрих —Vi,
53, 369.
Геккелъ — 16, 23, 35, 95, 268,
364, 494, 508, 598, 637, 638.
Гёксли — 14, 16—18, 89, 172, 180,
252, 323, 468, 494, 516, 546,
•571, 600, 645, 646.
Гелъмголыпц,
Герман—21,
213,
221, 239, 310, 314, 409, 452,
516, 594.
Гелъмонт-ван
— 304.
Генрих IV — 233, 369.
Генрих
VII — 589.
Генрих
VIII
—Ш.
Генсло — 25, 228, 239, 432, 499,
543, 620, 643, 653.
Герберт
— 99—101.
Герон,
Г. — 534.
Гертвиг,
Оскар — 597, 598, 625.
Гертнер — 9 9 — 1 0 2 , 470, 488, 489,
512, 533.
Гершелъ,
Джон — 522, 643.
Гёте — 35, 77, 150, 258, 308.
Гёфдинг — 625, 637, 640.
Гики — 529.
Гильберт — 562.
Гилъдебранд
— 101, 142.
Гладстон — 566, 618.
Глей — 463.
Гоголь, Н. В. — 330, 419.
Годри — 180.
Гольбах — 309.
Гольцев, В. А. — 29.
Гоп — 530.
Готъе, Арман — 480.
Гофмейстер
— 78, 138, 250, 296,
499, 509.
Гранат — 185, 221, 234,
235,
237, 250, 579.
Графф — 625.
Г рей-Аза — 54, 210, 373, 376,
430, 577, 640.
Грибоедов,
А. С. — 419.
Грэам — 451.
Губрехт,
А. В. — 527.
Гукер, Джозеф
— 16, 39, 68, 95,
133, 373, 376, 4 4 9 , 468, 532,
546, 552, 553, 5 7 6 — 5 7 8 , 583,
592, 609, 617, 637, 645.
Гумбольдт,
А. — 545, 643.
Гуттенберг
— 350.
Гюго, Виктор—
485, 631.
Давид,
царь — 466.
Дайер-Тизелътон,
Виллиам
—
528, 553, 554, 560, 637.
Данилевский,
Н. Я. — 20, 25,
28—30, 33, 36, 233, 234, 2 6 4 —
308, 310, 312—322, 3 2 7 — 3 2 9 ,
331, 332, 334—337, 344, 346, 347,
3 5 0 — 3 5 3 , 355—361, 3 6 4 — 3 7 1 ,
373, 376, 377, 3 7 9 — 3 9 1 , 393.
394, 3 9 6 — 3 9 9 , 404, 4 0 6 — 4 1 9 ,
421, 4 2 5 — 4 4 3 .
Дантек-ле
— 488.
Дарвин,
Вильям — 616, 617, 619.
Дарвин,
Джордж
— 616, 630,
633, 634, 637, 640, 650.
Дарвин,
Леонард
— 650.
Дарвин,
мистрисс (жена Ч. Д а р вина) — 557.
Дарвин,
Гоберт — 542, 642.
Дарвин,
Фрэнсис — 541, 546, 554.
556, 560, 567, 568, 572, 587,
590, 591, 603, 604, 606, 607,
617, 621, 625, 629, 630, 637_
639, 645, 650.
Дарвин,
Чарлз — 13—18, 2 0 — 2 5 .
27, 2 9 — 3 2 , 34, 35, 37, 3 9 — 4 1 ,
4 3 — 4 5 , 4 7 — 5 1 , 53—55, 5 7 — 6 3 ,
6 5 — 6 8 , 70, 71, 74, 75, 83, 85,
87, 8 9 — 9 3 , 95, 97, 98, 1 0 0 — 1 0 2 ,
104, 108—112, 114, 1 1 6 — 1 2 1 ,
124, 125, 129, 131, 132, 1 3 4 —
136, 138, 140—147, 149—152,
1 5 5 — 1 5 7 , 159, 160, 165, 167,
1 6 9 — 1 7 2 , 175, 176, 1 7 8 — 2 1 1 ,
2 1 3 — 2 2 2 , 225—230, 232—235,
238,
241,
243,
246 — 252,
2 5 4 — 2 5 7 , 264, 265, 269, 2 7 2 —
274, 277, 280—284, 286, 2 8 8 —
290, 292—296, 298, 299, 301,
302, 304, 306—308, 310—313,
316, 317, 319, 323, 324, 334 —
336, 344, 346, 350, 352, 3 5 5 —
359, 362, 365, 372, 373, 375,
377—387, 395, 397, 399—404,
409, 415, 416, 421—423, 427,
428, 430—432, 435—438, 441,
450, 455, 468, 469, 471, 4 7 3 —
475, 485, 487—489, 491—494,
500, 504, 508, 512, 514, 517,
518, 522, 525—528, 530, 531,
533—539, 541—567, 569—584,
587, 589, 590, 592, 594, 5 9 6 —
604, 606—608, 611—622, 627,
629, 630, 632, 635—654.
Дарвин, Эразм — 41, 542, 607, 642.
Дастр — 466.
Даусон — 177.
Дегерен — 551.
Де-Кандолъ
— см. Кандоль-де.
Декен — 4 3 7 , 552.
Делъбёф — 274, 296.
Дельпино — 101, 142.
Денерт — 29, 484.
Державин,
Г . Р. — 195.
Де-Фриз — см. Фриз-де.
Джайлс,
П. — 637, 640.
Дженкинс,
Флиминг — 232—234,
274, 294, 295.
Джонсон,
Дэн — 405, 608.
Джудд,
Д. — 637.
Дизраэли — 566.
Диккенс — 538, 555.
Диксей — 215.
Донкастер — 467, 468, 496.
Дриш — 29, 224, 450, 465, 510.
Дрзпер — 484.
Дуглас, М. Ж. — 533.
Дюбуа-Реймон
— 54, 55 ,284, 309,
310, 338, 409.
Дюма — 362, 378, 379.
Дюмерилъ — 303.
Дюрер — 467.
Дюринг — 322, 324.
Дюшен — 229, 437.
Елизавета,
королева — 633.
Жане, Поль — 274, 310.
Жоден — 490, 491.
Жордан
Жюсъе,
— 228.
Бернар — 570.
Земон — 638.
Иошиду — 480.
Иэль — 599.
Кандоль-де,
Альфонс — 1 4 , 16, 17,
94, 111, 159, 229, 3 7 6 , 4 0 5 , 437,
645.
Кант, Эммануил — 192, 217, 254,
310, 312, 493, 571, 615.
Карлейлъ — 618.
Карнеги — 238
Карпентер
— 95.
Карпинский — 439, 440.
Карпов — 33.
Каррелъ — 457.
Катков — 566.
Катрфаж
— 14—16, 98, 397, 646.
Кёлликер — 229.
Келлог — 227, 237.
Кельвин — 611, 612, /629.
Келърейтер — 99, 101, 103, 488,
489, 512.
Кеплер — 597.
Кернер — 473, 474, 497, 499, 504,
505.
Киблъ — 448, 467—470, 477—479,
481—483, 500.
Киизлей — 559.
Киплинг — 503
Кирхгоф — 449.
Кларк, Тревор — 534, 587.
Клебс — 637, 639.
Ковалевская,
С. В. — 627.
Ковалевский,
А. О. — 562.
Ковалевский,
В. О. — 77, 306, 562.
Кокрелъ — 501.
Колиер — 606.
Конт, Огюст — 72, 219, 2 2 0 , 4 1 0 ,
571, 639, 651.
Кооп — 525, 653.
Коржинский
— 25, 34, 35, 227,
229—231, 452, 579, 600.
Корренс — 233, 470, 484, 491.
Косселъ — 453.
Костантен
— 228.
Коте, А. Ф. — 34.
Кох — 85.
Краузе,
Эрнест — 542.
Крафт-Гиль
— 454.
Кромвель, Оливер — 580, 583, 633,
635.
Кук — 583.
Кювье — 47, 55, 62, 79, 217, 270,
274, 308, 407, 571.
Лавуазье — 276, 362, 378, 379.
Лайелъ — 16, 39, 68, 168, 173,
177, 179, 225, 247, 308, 431,
468, 494, 543, 545, 546, 565,
571, 576—578, 583, 603, 621,
635, 645.
Ламарк — 33, 45, 48, 62, 214,
216, 218, 222—225, 247, 490,
523—526, 542, 548, 5 7 0 — 5 7 4 ,
615, 646, 647, 653.
Ламб — 559.
Ланелей — 347, 463.
Ланкэстер-Рэй—591,
598, 600, 602.
Лаплас — 16.
Лёб — 452, 455, 625, 637, 639.
Лёббок — 16, 142, 556, 564, 568,
622.
Лев XIII — 325.
Ле-Дантек
— см. Дантек-ле.
Ледюк — 452.
Леонардо-да-Винчи
— 625.
Лепковский,
Ю. И. — 235, 474,
544, 574, 608, 650, 653.
Ливингстон
— 125.
Линней — 131, 274, 436, 502, 504,
575.
Листер — 465.
JIummpe — 515.
Локиер,
Норман — 247.
Локк — 4 6 7 , 468, 528, 538.
Лотси — 236, 237, 490, 497, 504 —
506, 585, 654.
Лукреций — 492.
Льюис, Г. — 308.
Людовик XV — 570.
Майварт — 402, 450.
Макензи-У оллес — 69, 564, 565.
Макинтош — 191, 254.
Маколей — 499.
Максуэль — 579, 589, 596, 599,
613, 627.
Мальтус — 132, 220, 249,
544,
575, 652.
Марк Антоний — 492.
Марш — 180, 585.
Медичи, Лоренцо — 605.
Мельдола — 601, 622.
Менделеев,
Д. И. — 480, 502, 503.
Мендель, Грегор — 3 2 , 125, 2 3 3 —
236, 239, 467—475, 477, 4 8 2 —
484, 4 8 7 — 4 9 1 , 495, 497, 503,
504, 512, 531, 532, 534, 535,
601, 603, 638.
Мечников, И. И. — 466, 591, 592,
597.
Мещерский,
к н я з ь — 33, 34.
Микель Андоісело — 605.
Милль, Д. С. — 559, 618.
Мильтон — 580—582, 587, 599,
605, 606, 635.
Мигиер — 453.
Мольер — 231.
Моисей — 125.
Мор, Томас — 631.
Морган,
Лойд — 219,
637, 640.
Муравьев — 618.
Муррей — 575, 607.
Муррей-сын
— 607.
Мэзон — 593, 620.
Мюллер, Герман — 101, 142, 199.
Мюллер,
Иоганн — 226.
Негели — 95, 265, 280, 281, 316,
3 5 2 — 3 5 8 , 372—375, 387, 421,
439, 469.
Немурский,
герцог — 233,
369.
Николай
II — 231.
Ниман — 532.
Ноден — 93, 437.
Ньютон, Исаак — 56, 60, 61, 68,
235, 236, 244, 467, 503, 550,
5 7 9 — 5 8 1 , 583, 596, 597, 599,
612, 613, 621, 630, 649.
Ньютон,
профессор — 535.
. Огнев— 510.
Оккамский, Вильям — 505.
Осборн— 597—599.
Островский,
министр — 33.
Отто, Рудольф—
521, 522.
Oy лес — 606.
Оуэн — 225, 571, 645.
Павлов, И. П. — іЫ.
Палладии — 479, 480.
Палъмерстон — 450.
Панглосс — 492.
Паскаль—67,
195.
Пастер, Луи — 85, 304, 465, 468,
503.
Паули — 29, 224, 574.
Перръе — 625.
Петефи — 321.
Пирсон — 237, 239, 454, 594,
Питт, Вильям. — 605, 623.
Плате— 35, 219, 231, 237,
654.
Плиний — 125.
Поултон, Е. — 35, 529, 530,
600, 620—622, 637, 639.
Прейер — 548; 649.
П рингсгейм — 502.
П ринстон— 599.
Пристли — 502.
Пуанкаре
—221.
Пунет — 467, 4 6 8 , 4 7 1 , 496.
Пали — 35, 493, 543, 587, 606,
643.
Райверс — 319.
Рамзи — 448.
Рачинский — 120.
Рейнке— 25, 29, 224.
Рейсдалъ — 530.
Рембрандт — 590, 625.
637.
598,
582,
635,
Реп — 630.
Рёскин — 555, 556, 559, 589, 590,
618.
Ричмонд, Уильям — 606.
Родэн — 606.
Ройе, Іілеманс — 252.
Романее — 265.
Ру, Вильгельм — 509.
Рубильяк — 630.
Pijcco — 309, 312, 317, 344—347,
349, 350, 420.
Рутерфорд — 614.
Рэйлей — 590, 591, 594.
Сакс — 137, 396, 467, 488,
Сандерсон — 85.
Сандис — 627, 629.
Сапорта-де
— 180.
Себрайт,
Дэісон — 121.
Седжвик — 543, 578, 620,
643.
499.
637,
Сент-Илер,
И. Ж. — 535.
Сильвестр — 627.
Скотт, Д. — 250, 637, 639.
Скотт, У. — 637.
Сократ — 15, 56.
Соловьев, В. С. — 29.
Солъ.чс, Лаубах — 625.
Сомервилъ — 121.
Спенсер — 219, 283, 316, 410,
559, 635.
Спиноза — 35, 60.
Стерлинг — 458, 464, 465.
Стоке — 613.
Столетов,
А. Г. — 629.
Страсбургер
— 637, 638.
Страхов,
Н. Н. — 20, 25, 28, 29,
33, 36, 268, 272, 274, 275, 292,
302, 313, 327—397, 399—424,
426, 439, 442.
Суарез — 228.
Сутерланд — 640.
Сюард — 541, 590, 603, 604, 632,
633, 636, 637, 639, 650.
Талейран
Теккерей
— 381.
— 494, 599.
Теннисон — 599, 631.
Тернер — 555, 590.
Тиндалъ — 374, 418, 450.
Тихомиров,
А. А. — 35.
Толстой,
Л. Н. — 33.
Томпсон, — 449.
Томсон, Артур — 637.
Томсон, Джозеф
— 613.
Томсон. Ж. А. - 4 4 9 , 532, 533, 589.
Торреджиано
— 605.
Тоуер, Вильям Лоренс — 525, 526,
529.
Траубе — 452.
Траутшольд
— 306.
Тургенев,
И. С. — 419.
Тэн — 307, 309. ~
Тюре — 103.
Уаггет,
Л. — 637.
Уелдэль — 480.
У олластон — 146.
Уоллес,
Альфред — 68, 192, 217,
235, 249, 255, 322, 468, 474,
521, 545, 546, 576, 577, 583,
601, 622, 635, 645, 652.
Уолъкот — 625.
Уольсей — 631.
Уордсворт
— 599, 631.
Уотсон — 215, 243.
Урбан V I I I — 325.
Уэлъдон — 237, 518, 600, 637.
Уэтгам,
У. — 637.
Фай — 321.
Фаминцын,
Г. А. — 28, 33, 331,
425—443
Ферворн — 625.
Фёхтинс — 625.
Филиппы — 16.
Фиц-Рой — 583, 643.
Фиц-Уильям
— 590.
Фишер, Эмиль — 453.
Флаксман — 557.
Фогт, Карл — 16, 225, 571, 645.
Фок — 484.
Фоконер — 131.
Фома Аквинский — 228.
Франклин — 575.
Франсе — 29, 224, 574.
Франциск
I — 631.
Фриз-де, Гуго — 25, 35, 2 2 7 — 2 2 9 ,
231, 233, 236, 238, 470, 489,
512, 514, 526—528, 600. 602,
625, 6 3 7 , 638.
Фрэзер — 637.
Холодковский
— 542.
Цейлер — 625.
Церетелев,
Д. — 372.
Цингер, Н. В — 1 5 1 , 493, 517, 518.
Чайковский,
П. И. — 625.
Чемберз — 635.
Ченол — 518.
Чермак—
233, 470, 471, 473.
Чернышевский
— 575.
Швальбе — 547, 625, 637, 647.
ПІеврелъ — 592.
Шекспир — 60, 419, 492, 621
Шерингтон
— 461.
Шеффер — 448, 450, 452, 453,
455, 458, 465
Шиллер — 314, 413, 414.
Ш лейден — 107.
ІІІлейхер — 640.
Шода — 479, 480, 625.
Шопенгауэр
— 372, 646.
Шпренгель — 198.
Штраус — 322
Щедрин
— 492, 600.
Эдиссон — 256Элиот — 555.
Эльпе — 370.
Эмпедокл — 309, 310,
317, 344.
Эразм — 588, 635.
Юат — 120.
Юнг — 347, 613.
Юэль—217 , 510. 543,
635, 643.
312—314,
571,
582.
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАРЛЗ ДАРВИН И ЕГО УЧЕНИЕ
Часть первая
Предисловие ко второму изданию
13
Предисловие к третьему изданию
19
Предисловие к четвертому изданию
22
Предисловие к пятому изданию
24
Предисловие к шестому изданию
27
Предисловие к седьмому изданию
31
1. Дарвин,
II.
Краткий
как образец
очерк
ученого
теории
37
Дарвина
71
I . Основной строй органического мира
73
П о с т а н о в к а в о п р о с а . — Д в а мнения о происхождении о р г а н и ч е с к и х с у щ е с т в . —.Происхождение органических существ
путем
постѳпенвого
развития. — Д о в о д ы
в
пользу
этого
гии
в з г л я д а , з а и м с т в о в а н н ы е из к л а с с и ф и к а ц и и , с р а в н и т е л ь н о й
п
палеонтологии. — В о з р а ж е н и я
видовых форм.—Первоначальное
этого в о п р о с а .
(Стр.
противников
возникновение
этого
анатомии,
эмбриоло-
воззрения. — Постоянство
организмов и
современное
состояние
73—85).
И. Понятие о виде
86
К р и т и к а господствовавшего понятия о виде. — Д в а средства убедиться в несостоятельности этого в з г л я д а . — П р и м е р ы и з м е н ч и в о с т и
видовых
форм. — П о р о д ы
И х происхождение от одного в и д а . — О т с у т с т в и е определенной
и разновидностью. — Возможно ли установить
скрещивания
между
ее
на
границы
основании
признака
в и д а м и ? — Б е с п л о д и е не с о в п а д а е т с в и д о в ы м
морфные р а с т е н и я . — С р а в н е н и е
голубей.
—
мѣжду видом
бесплодия
различием. — Ди-
б е с п л о д и я с неспособностью к п р и в и в к е . — В чем за-
ключается логическая ошибка защитников
неподвижпости
видов? — Разновидность —
з а ч и н а ю щ и й с я в и д . — С т а т и с т и ч е с к а я п о в е р к а этого в з г л я д а . — В ы в о д .
(Стр.
86—112).
III. Искусственный отбор
Совершенство искусственных
требованиям
113
пород ж и в о т н ы х
человека. — К а к
достиг
и растений
человек
этого
в смысле
их соответствия
результата? — Незначительная
роль п р я м о г о в о з д е й с т в и я ч е л о в е к а н а о р г а н и з м . — И з м е н ч и в о с т ь и н а с л е д с т в е н н о с т ь .
И с к у с с т в е н н ы й о т б о р . — П р и м е р ы применения этого п р и е м а . — В ы с о к о е
до к о т о р о г о он д о в е д е н
в настоящее время,
—
совершенство,
и с в и д е т е л ь с т в а о е г о применении в г л у -
бокой древности. — Б е с с о з п а т е л ь н ы й о т б о р . — Общий в ы в о д . ( С т р .
113—127).
IV. Естественный отбор
Существует ли
грессии. — Борьба
Борьба прямая,
128
в п р и р о д е отбор? — Р а з м н о ж е н и е
за
организмов
существование. — Естественный
конкуренция
и борьба
с условиями
в г е о м е т р и ч е с к о й про-
о т б о р . — П р и м е р ы борьбы. —
среды. — Сложные
отношения
зависимости между о р г а н и з м а м и . — О б р а з д е й с т в и я е с т е с т в е н н о г о о т б о р а . — П р и м е р ы . —
Е с т е с т в е н н ы й отбор д е й с т в у е т и с к л ю ч и т е л ь н о
на п о л ь з у с а м о г о
организма; — в силу
з а к о н а соотношения р а з в и т и я , в ы з ы в а е т изменения б е з р а з л и ч н ы е ; — н и к о г д а
вает изменений, п о л е з н ы х и с к л ю ч и т е л ь н о
словному совершенству. — Заключение.
для другого
(Стр.
не в ы з ы -
о р г а н и з м а ; — не в е д е т к безу-
128—154).
V. Выводы и доводы в пользу учения Дарвина
О т с у т с т в и е ж и в ы х п е р е х о д н ы х форм о б ъ я с н я е т с я
155
с т о ч к и з р е н и я у ч е н и я об е с т е с т в е н -
ном о т б о р е . — И с ч ѳ з н о в е п и е п р о м е ж у т о ч н ы х форм — необходимое с л е д с т в и е этого проц е с с а . — О б р а з о в а н и е р а з р о з н е н н ы х , но п о д ч и н е н н ы х г р у п п . — Е с т е с т в е н н а я
кация выражает
только
факт г е н е а л о г и ч е с к о й
ж у т к и времени, необходимые
ждаются свидетельством
г е о л о г и и . — Необходимость существования ископаемых
бедностью. — Новейшие
успехи
палеонтологии
воззрений Д а р в и н а . — О б щ е е з а к л ю ч е н и е .
V I . Последующие
учение
справедливость
Дарвина,
подкрепляющие его
183
представляющая развитие
р и а л ы в п о д к р е п л е н и е о с н о в н ы х положепий
и возделываемых
подтверждают
пере-
ее фактиче-
(Стр. 1 5 5 — 1 8 2 ) .
исследования
Последующая деятельность Дарвина,
животных
проме-
д л я п р о ц е с с а п р е в р а щ е н и я о р г а н и ч е с к и х форм, подтвер-
х о д н ы х форм. — О т р и ц а т е л ь н о е с в и д е т е л ь с т в о п а л е о н т о л о г и и о б ъ я с н я е т с я
скою
классифи-
связи. — Громадные
растений».—Приложение
чаям. — «Происхождение человека
его у ч е н и я . — Мате-
его т е о р и и : « О б и з м е н е н и я х
и половой подбор»
его учения
к
прирученных
частным
слу-
и « В ы р а ж е н и е ч у в с т в у чело-
века
ІІ животных». — «Различные
приспособления,
при помощи
которых орянлныѳ
оплодотворяются насекомыми». — « Р а з л и ч н ы е формы ц в е т к а у растений того же вида»
и «О действии самооплодотворения и перекрестного оплодотворения в растительном царс т в е н — «Насекомоядные
растения». — «Движения
и «О способности растений
и
повадки
к движению». — общий прием
лазящих
дящие во всея специальных исследованиях Д а р в и н а . — З а к л ю ч е н и е . (Стр.
III.
Чарлз
Речь,
Дарвина
произнесенная
и полустолетия
IV.
полувековые
по
со дня
случаю
появления
Значение переворота,
знании Дарвином
итоги
исполнившегося
его книги.
растений»
и основная мысль, прохо183—210).
дарвинизма
столетия
со дня
рождения
Дарвина
211
1309—1859—1909.
произведенного
в современном
естество241
Часть вторая
О Т П О В Е Д Ь
I. Наши
А Н Т И Д А Р В И Н И С Т А М
антидарвинисты
261
I. Опровергнут ли дарвинизм?
263
I I . Бессильная злоба антидарвиниста
По поводу
статьи
г. Страхова
вВсегдашняя
ошибка
327
дарвинистов»
I I I . Странный образчик научной критики
По
II.
поводу
Из научной
статьи
Г. Л. Фаминцына
«Опровергнут
ли дарвинизм
Данилевским/.
летописи
425
445
I. Из научной летописи 1912 года
(Отповедь виталистам и отбой мендельянцев)
1. Отповедь виталистам
2. Отбой мендельянцев
447
4ф8
467
I I . Из летописи науки за ужасный год
485
1. Наука у антиподов и антиподы науки
Менделизм и эволюция
486
488
2. Ответ из третьей части света
506
I I I . Современное
Перевод
положение дарвинизма. Альфред
Уоллес.
К. Тимирязева
521
СТАТЬИ К. А. Т И М И Р Я З Е В А О Д А Р В И Н Е , Н Е
В К Н И Г У «ЧАРЛЗ Д А Р В И Н И Е Г О У Ч Е Н И Е »
ВОШЕДШИЕ
539
I. Краткий очерк жизни Чарлза Дарвина
541
I I . У Дарвина в Дауне
По поводу
столетней
годовщины
дня
его рождения
31 января
1809
е.
551
I I I . Первый юбилей дарвинизма
1 июля
IV.
н. с. 1868—1
июля 1У08 г.
569
Кэмбридж и Дарвин
Из воспоминаний
о празонсствях
22—24
580
июня
V. Дарвин и современная наука
VI.
636
Дарвин
Статья
из знциклопеОичккого
ПОСЛЕСЛОВИЕ
К VII
К . А. Т И М И Р Я З Е В А
Академик
словаря
ТОМУ
642
Граната
СОБРАНИЯ
В. J1. Комаров
СОЧИНЕНИИ
655
*
А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь ИМЕН К VII Т О М У
663
Р е д а к т о р Л . И.
КОРЧАГИЯ.
Т е х н . р е д а к т о р ы Я. Р.
и Т.
Ф.
К о р р е к т о р В. В.
*
Объем
издания
ФИДЗЛЪ
СОКОЛОВА.
печатных
листа
4- 10 в к л е е к ( I 1 / * п. л . ) . У . - а . л .
40,29.
В 1 печ.
42 1 /»
ВИТТОРФ.
листе
34000
знаков.
Формат
бумаги 7 2 Х 1 Ю / і в . Т и р а ж 10500 экзем п л .
Сдано
в
производство
Подписано
17/ѴІ
1938
в печать 13/11 1 9 3 9 г .
г.
Упол-
номочен. Г л а в л и т а № Б - 5 6 4 8 6 . С Х Г S075.
З а к а з № 3021.
*
1 - я Образцовая типограф. Огиза Р С Ф С Р
треста
«Полиграфкиига».
Москва,
В а л о в а я , 28.
<
2011096175