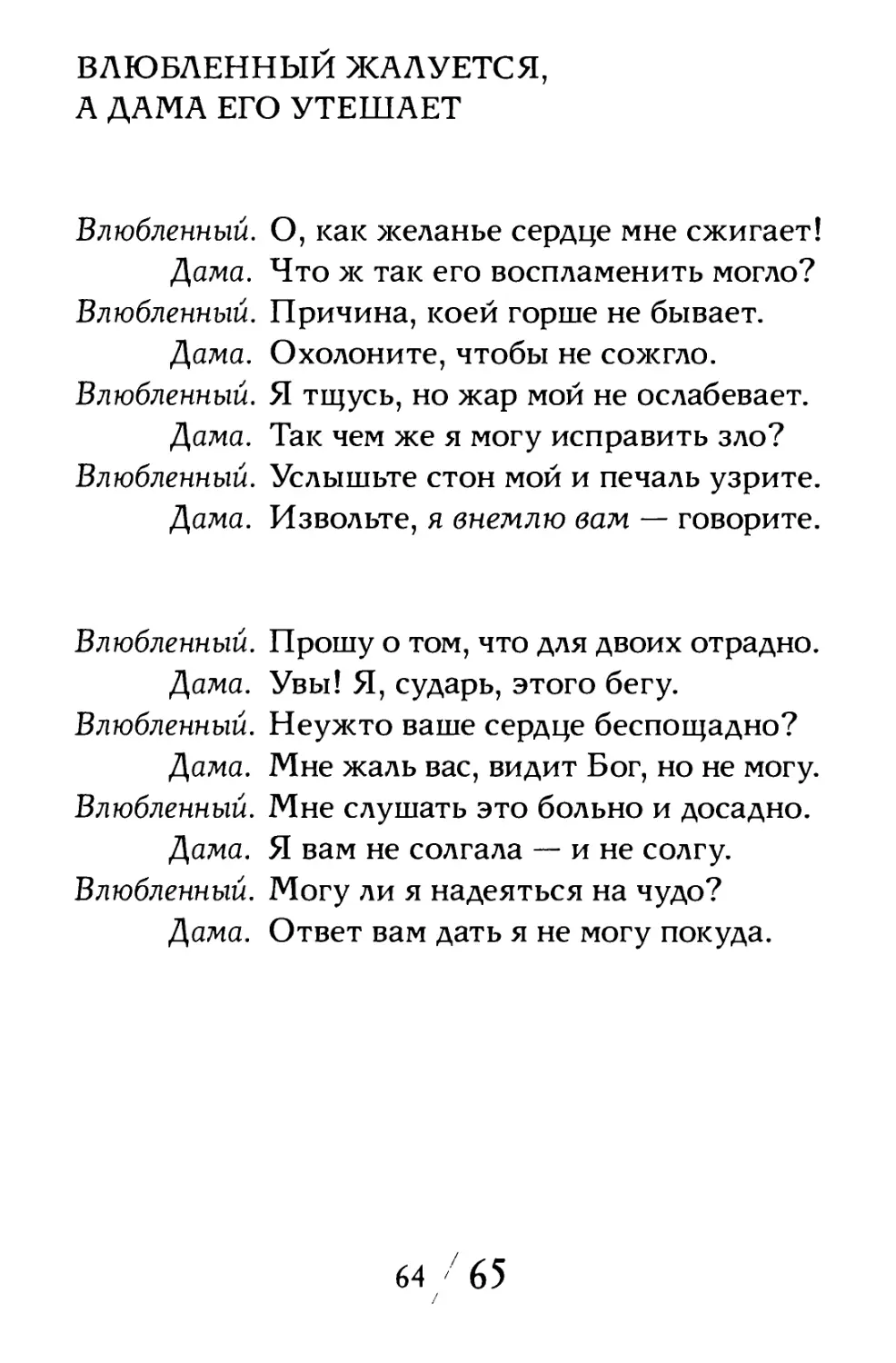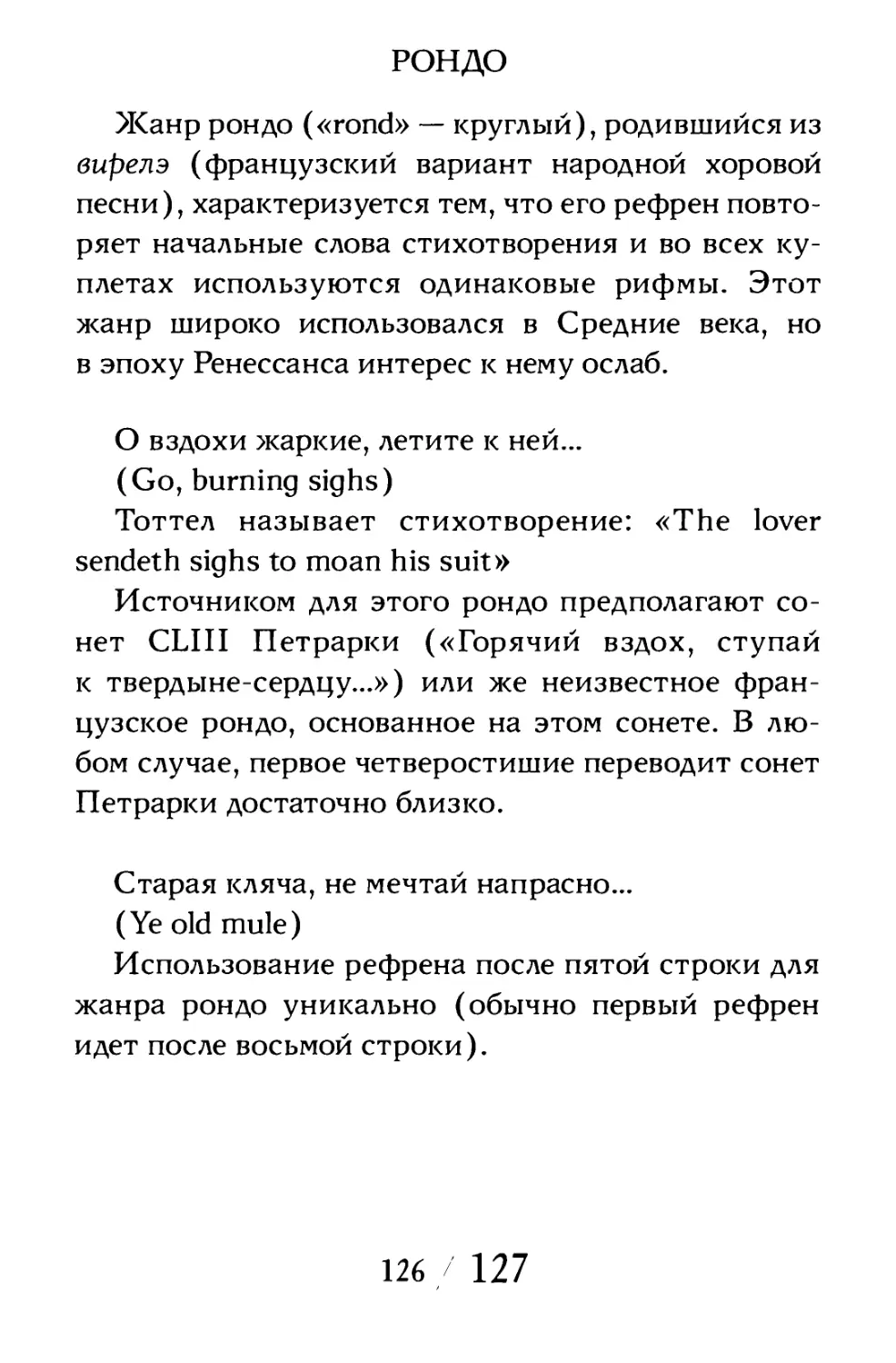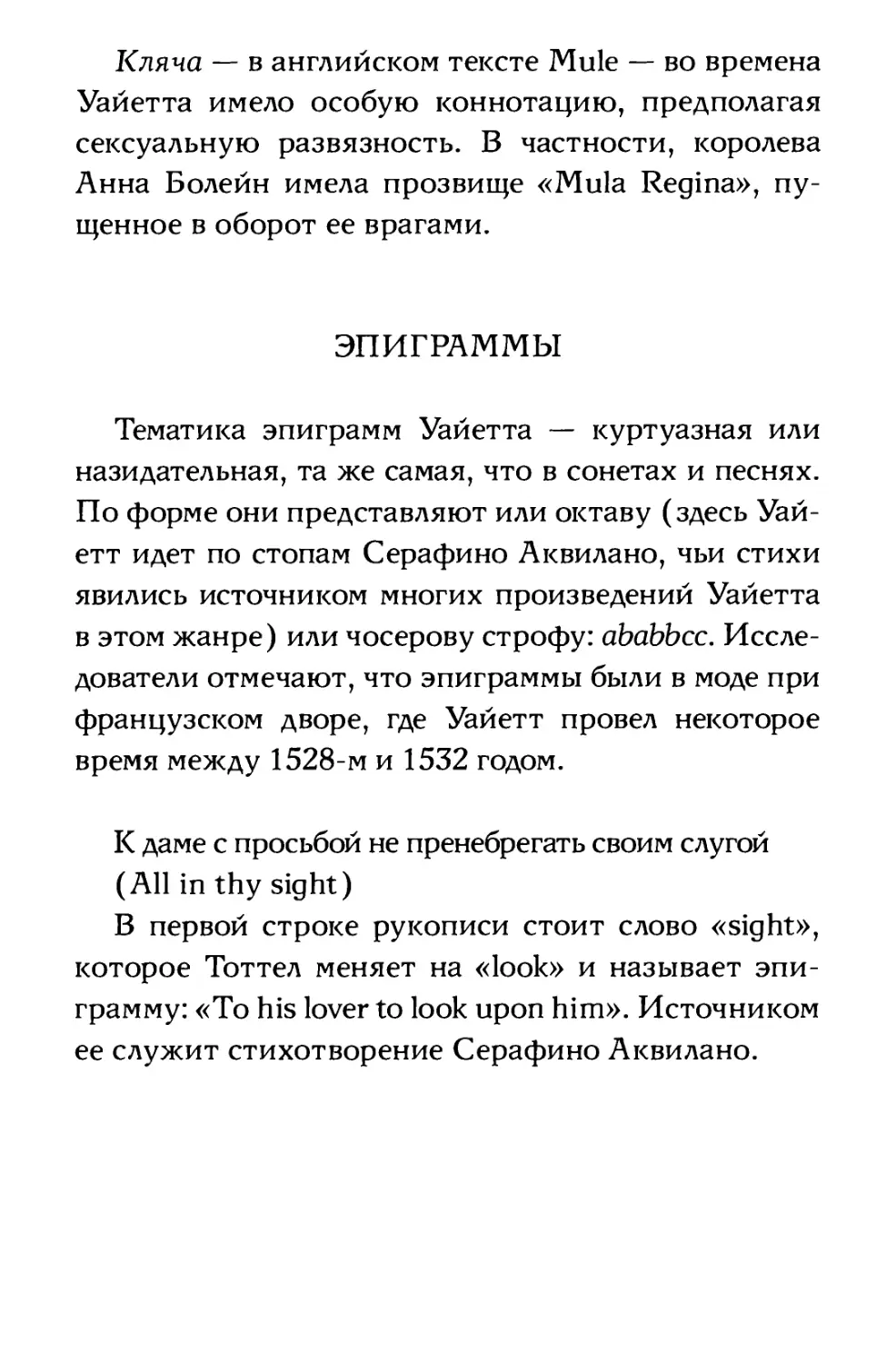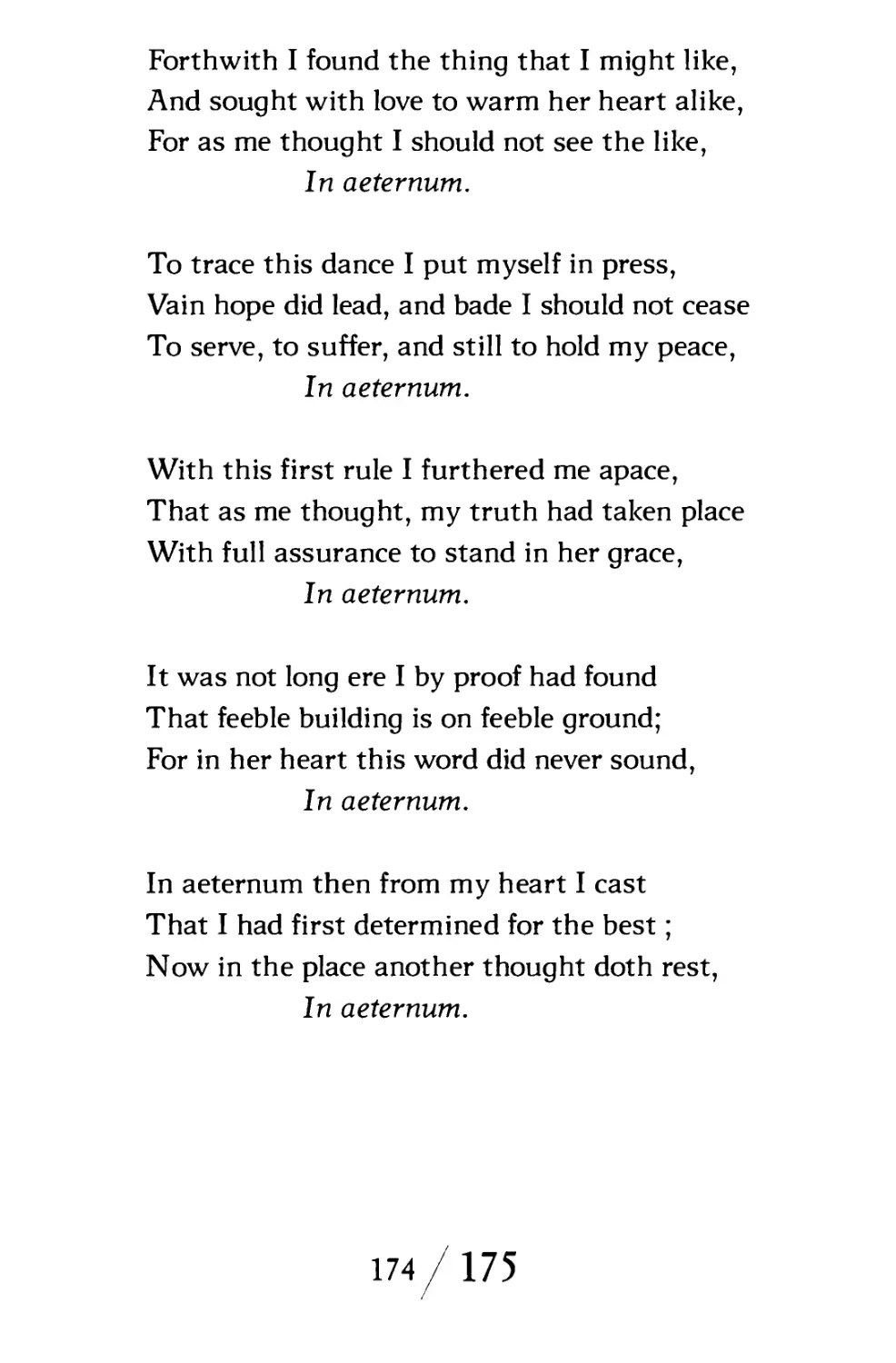Текст
триумфы
Томас Уайетт
ПЕСНИ
И СОНЕТЫ
Перевод с английского
ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА
МОСКВА
ВРЕМЯ
2005
Б БК 84(0)4
У12
Оформление, макет серии
Валерий Калнынъш
Подбор иллюстраций
Григорий Кружков
ISBN 5-9691-0084-6
© Григорий Кружков, перевод,
сопроводительная статья, 2005
© Григорий Кружков, Александра Осина,
комментарии, 2005
© «Время», 2005
OVHOd
(1)
О вздохи жаркие, летите к ней,
Прожгите эту грудь, что холодней
Полярных льдов и тверже, чем скала, —
Иная не проймет ее стрела.
Прошу и заклинаю вас: скорей
Изыдьте, вздохи, из груди моей!
Невмочь терпеть мне ярых сих огней,
Грозящих сердце мне спалить дотла,
О вздохи жаркие!
Быть может, надо бы мне быть умней
И напоказ не выставлять скорбей;
Безжалостно она вас отмела —
Скорей из равнодушья, чем со зла:
Летите же в тьму ледяных ночей,
О вздохи жаркие!
(2)
Старая кляча, не мечтай напрасно
Вновь сотвориться юной и прекрасной,
Как ум твой об уловках не хлопочет —
На ветхое седло никто не вскочит;
Оставь потуги и надежды праздны,
Старая кляча.
Не прыскай духовитые соблазны —
Ты пахнешь все равно конюшней грязной:
Кто прокатиться на тебе захочет,
Старая кляча?
Увы, на этой шкуре безобразной
Лишь на базар возить товар лабазный;
Приманка никого не обморочит.
Тебе понадобился шустрый кочет? —
Плати сполна: кажись, хоть это ясно,
Старая кляча.
8/9
ЭПИГРАММЫ
К ДАМЕ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ
ЕЖЕЧАСНО ЕЕ ЛИЦЕЗРЕТЬ
Когда тебя я вижу, ангел мой,
Я жить могу. Когда ты исчезаешь,
Я умираю. Для чего со мной
Ты так немилосердно поступаешь?
Ведь наши жизни сплетены судьбой,
Сгубив мою, свою ты потеряешь:
Меня один твой воскрешает вид —
Тебя мое страдание живит.
о своей госпоже,
КОТОРУЮ ЗОВУТ АННОЙ
Какое имя чуждо перемены,
Хоть наизнанку выверни его?
Все буквы в нем мучительно блаженны,
В нем — средоточье горя моего,
Страдание мое и торжество.
Пускай меня погубит это имя —
Но нету в мире имени любимей.
14 /15
о притворной дружбе
Притворный друг опаснее, чем враг, —
Прислушайся к старинному присловью,
Не доверяй тому, кто, как червяк,
Вползает в душу с показной любовью:
Оплошно рассудив, заплатишь кровью;
Поспешно раздувая пламя, лишь
Свою же бороду в костре спалишь.
16/17
НЕКОГДА БЕЖАВШИМ ОТ АЮБВИ
ПОНЕВОАЕ ДОАЖЕН ОПРОВОЖДАТЬ
СВОЮ ГОСПОЖУ
Как часто лютый огнь, меня паливший,
Я остужал в боях, в морях, в седле;
А ныне тот же жар, давно остывший,
Из Дувра провожаю я в Кале.
Все в мире потерявший, все забывший,
Смеюсь, как погорелец на золе,
И чую — снова разорвать невмочь мне
Терновник, грудь мне изодравший в клочья.
влюбленный сетует,
ЧТО ПОДОБНОЕ НЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ
ПОДОБНЫМ
Враг юности, вытягиватель жил,
Лишающий нас пищи, сна, досуга,
Ко мне явившись ночью, предложил
Путь к исцеленью моего недуга —
И, вынув из колчана, наложил
Стрелу на лук свой, прозвеневший туго...
Увы! он в старую стрелу попал
И только глубже в грудь ее вогнал.
18/19
ОН СОЗНАЕТ, ЧТО ДОВЕРИЛСЯ
ОПРОМЕТЧИВО
Я поспешил и насмешил природу:
Изменнице дал верности зарок,
В стремнину сунулся, не зная броду,
И сам же на себя беду навлек
(Видать, наука старая не впрок!),
Забыв, что доверять без испытанья
Себе во вред, врагу — на посмеянье.
20/21
О ТЕХ, КТО ЕГО ПОКИНУЛ
Лети, удача, смелый сокол мой,
Взмой выше и с добычею вернись.
Те, что хвалили нас наперебой,
Теперь, как вши с убитых, расползлись;
Лишь ты не брезгаешь моей рукой,
Хоть волю ценишь ты и знаешь высь.
Лети же, колокольчиком звеня:
Ты друг, каких немного у меня.
СОНЕТЫ
влюбленный сетует
НА БЕСКОНЕЧНОСТЬ ОЖИДАНИЯ
Ей любо сдерживать мой порыв:
Мол, погоди, пока не скажу.
И я гожу, и гожу, и гожу —
Кто более, чем я, терпелив?
Я медлю — и пропускаю прилив,
И время у моря зря провожу.
Видать, и тешу я Госпожу
Лишь тем, что полумертв, полужив.
Не лучше, ли попросту говоря,
Надежды вовсе не подавать?
К чему посулами мучить зря
И смертные судороги продлевать?
Уж лучше — от ворот поворот,
Чем ждать и годить за годом год.
ВЕРОЛОМНО БРОШЕННЫЙ,
ОН ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО СОПЕРНИК
РАЗДЕЛИЛ ТУ ЖЕ СУДЬБУ
Ни упрекать, ни предъявлять права
Я не хочу; да и какой резон?
Хоть я твоим коварством поражен,
Не стану тратить гневные слова.
Когда бы ты была не такова,
Какая есть, я был бы уязвлен;
Но ты, блюдя неверности закон,
Верна сама себе, и ты права.
О важном одолженье не прошу,
Но в одолженьице не откажи:
Оставь сокровища измен и лжи
Другим в награду простакам, прошу.
Пускай получат от прекрасных глаз
Посулы, проволочки — и отказ!
26/27
влюбленный, наслаждавшийся
ВО СНЕ ПРИСУТСТВИЕМ СВОЕЙ
МИЛОЙ, ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО ЕГО СОН
НЕ ПРОДЛИЛСЯ И НЕ ОБРАТИЛСЯ
В ЯВЬ
О зыбкий сон, в непрочный сей приют
Явившийся, не сгинь, как всё на свете!
Меня, привадив, крепче впутай в сети
Услад, что сердцу и рассудку лгут.
Побудь еще — иль въяве сбудься тут,
Где я мечусь, как сокол в мытной клети;
Дай утешенье мне ее узрети,
Как в бурю помощь гибнущим дают.
Бесчувствен, я блаженствовал мечтами;
Недвижим телом, духом трепетал;
Зачем ты мне коснуться неба дал,
Чтоб вновь низвергнуть в гибельное пламя
От лютых мук избавив лишь на миг?
О лживый сон, безжалостный шутник!
28 / 29
двойной СОНЕТ
Вулканы вздохов, что во мне кипят
И рвутся из груди неудержимо, —
Затем что в мире нет огня без дыма, —
Не о покое сердца говорят.
Потоки жарких слез, что льются молча
Должны глубокий выдавать исток;
И щек моих землистый цвет — намек
На то, что мало сладостного в желчи.
Кто не видал, пускай придет сюда
Узреть и убедиться, как тревоги,
Тоска душевная и скорби многи
Плоть иссушают; но не в том беда.
Моя беда в другом сокрыта месте:
Рубец неизгладим задетой чести.
30 / 31
Ты сам отведал участи такой,
Мой благородный друг; и потому-то
Тебе понятней этих мыслей смута —
Кто сам страдал, тот может быть судьей.
Ты был, однако, к делу посерьезней
Прикосновен — а я, как на духу,
За сущую страдаю чепуху,
В чужие без вины замешан козни.
Я тут сижу один; лишь через день
Ко мне приходит в гости лихорадка.
За что я полюбился ей — загадка,
Но горяча чертовка — лишь задень!
Блажен, кто ныне в здравье и на воле:
Избави Бог его от этой доли.
NOLI ME TANGERE
Кто хочет, пусть охотится за ней,
За этой легконогой ланью белой;
Я уступаю вам — рискуйте смело,
Кому не жаль трудов своих и дней.
Порой, ее завидев меж ветвей,
И я застыну вдруг оторопело,
Рванусь вперед — но нет, пустое дело!
Сетями облака ловить верней.
Попробуйте и убедитесь сами,
Что только время сгубите свое;
На золотом ошейнике ее
Написано алмазными словами:
«Ловец лихой, не тронь меня, не рань:
Я не твоя, я Цезарева лань».
32 / 33
СОНЕТ ИЗ ТЮРЬМЫ ТОМАСА УАЙЕТТА,
РОДИВШЕГОСЯ В МЕСЯЦЕ МАЕ
Эй, вы, кому удача ворожит,
Кого любовь балует, награждая,
Вставайте, хватит праздновать лентяя,
Проспать веселый праздник мая — стыд!
Забудьте несчастливца, что лежит
На жесткой койке, в памяти листая
Все огорченья и обиды мая,
Что год за годом жизнь ему дарит.
Недаром поговорка говорит:
Рожденный в мае маяться обязан;
Моя судьба вам это подтвердит.
Долгами и невзгодами повязан,
Повержен в прах беспечный вертопрах...
А вы ликуйте! С вами я — в мечтах!
ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ
Прощай, любовь! Уж мне теперь негоже
На крюк с наживкой лезть, как на рожон;
Меня влекут Сенека и Платон
К сокровищам, что разуму дороже.
И я, как все, к тебе стремился тоже,
Но, напоровшись, понял, не резон
Бежать за ветром бешеным вдогон
И для ярма вылазить вон из кожи.
Итак, прощай! Я выбрал свой удел.
Морочь юнцов, молокососов праздных,
На них, еще неопытных и страстных,
Истрать запас своих смертельных стрел.
А я побуду в стороне; мне что-то
На сгнивший сук взбираться неохота.
БАЛЛАДЫ
влюбленный сравнивает себя
С ГАЛЕРНЫМ РАБОМ, А ДАМУ
СО ЗВЕЗДОЙ
Пусть гавань близко и твой верный раб
Гребет упорно, глубь надеждой меря,
Но сделай так, пока он не ослаб,
Чтоб вспыхнул твой огонь на темной сфере,
Указывая верный путь галере.
О Киферея, не видать не зги —
Зажгись, гребцам усталым помоги!
Как тяжело в тумане и во мгле
Плыть, холодея, из последней мочи;
Лишь ты — его надежда на земле,
В пучинах моря и в пустынях ночи.
Когда удары ветра все жесточе
И волны наступают, как враги, —
Зажгись, гребцам усталым помоги!
Так, мучась на одре своем без сна,
Взываю я бесплодными ночами;
Какой горою ты заграждена,
Какими тучами и облаками?
И заливаясь горькими слезами,
Молю: хоть луч в потемках мне зажги,
Явись, гребцам усталым помоги!
Как раб, к своей прикованный доске,
Забывший даже думать о свободе,
Ищу тебя вблизи и вдалеке,
Но ни звезды — на черном небосводе;
О, смилуйся, уж силы на исходе,
И не горят в тумане маяки:
Зажгись, гребцам усталым помоги!
38 / 39
влюбленный рассказывает,
КАК БЕЗНАДЕЖНО ОН ПОКИНУТ
ТЕМИ, ЧТО ПРЕЖДЕ ДАРИЛИ
ЕМУ ОТРАДУ
Они меня обходят стороной —
Те, что, бывало, робкими шагами
Ко мне прокрадывались в час ночной,
Чтоб теплыми, дрожащими губами
Брать хлеб из рук моих, — клянусь богами,
Они меня дичатся и бегут,
Как лань бежит стремглав от ловчих пут.
Хвала фортуне, были времена
Иные: помню, после маскарада,
Еще от танцев разгорячена,
Под шорох с плеч скользнувшего наряда
Она ко мне прильнула, как дриада,
И так, целуя тыщу раз подряд,
Шептала тихо: «Милый мой, ты рад?»
40 / 41
То было наяву, а не во сне!
Но все переменилось ей в угоду:
Забвенье целиком досталось мне;
Себе она оставила свободу
Да ту забывчивость, что входит в моду.
Так мило разочлась со мной она;
Надеюсь, что воздастся ей сполна.
ОН ПРОСИТ СВОЮ ДАМУ
НЕ ДАВАТЬ ЕМУ ПОВОДА
ДАЯ АОЖНЫХ ПОДОЗРЕНИЙ
Как хочешь, но к чему давать
Мне повод, если нет причин?
Разбередить или унять
Мой страх могу лишь я один.
Своих сомнений господин,
Я эту истину приму:
Уж лучше ничего не знать,
Чем думать, что и почему.
Не знать — себя не удручать,
Пусть стороной пройдет гроза.
Не знать — в упор не различать
Резонов против или за.
Но, если довод бьет в глаза,
Аегко ли свет принять за тьму?
Уж лучше ничего не знать,
Чем думать, что и почему.
42 / 43
Тогда на сердце благодать,
С улыбкой я на мир гляжу.
Но, коли страх придет опять,
Склоняя ревность к мятежу,
«Спокойно! — я себе твержу, —
Доверься трезвому уму:
Уж лучше ничего не знать,
Чем думать, что и почему».
И потому прошу понять:
Не суть, что было или нет,
А суть, чтобы не углублять
Сомнений, коим быть не след.
И буду до скончанья лет
Я верен слову своему:
Уж лучше ничего не знать,
Чем думать, что и почему.
ВЛЮБЛЕННЫЙ СМЕЕТСЯ
НАД ФОРТУНОЙ, КОТОРАЯ,
ВОСПРЕПЯТСТВОВАВ ЕГО УСПЕХУ,
ТЕМ САМЫМ ПОМОГЛА ЕМУ
СКОРЕЕ ЗАБЫТЬ СВОЮ БЛАЖЬ
Фортуна, сколько ни мудри,
Какие ямы нам ни рой,
Какую карту ни бери,
Какие ковы нам ни строй,
Игра останется игрой.
Фортуна, как ты ни хитра,
Нет в мире худа без добра.
Все сбудется наперекор
Тому, что ты нам насулишь:
Удача приведет в разор,
Утрата принесет барыш;
Ни корки нету, а, глядишь,
Сварился суп из топора,
Нет в мире худа без добра.
44 / 45
Ты ловишь нас, но рвана сеть,
Ты гонишь нас, но дичь в кусты;
Задумав гневно поглядеть,
Невольно улыбнешься ты;
Угрозы все твои пусты.
Спасенные кричат: ура! —
Нет в мире худа без добра.
ОН НЕ ЗНАЕТ, КАКОЙ УДЕА
ИЗБРАТЬ - СМЕРТЬ НА СВОБОДЕ
ИАИ ЖИЗНЬ В ТЮРЬМЕ
Как птаха в клетке, коей путь открыт,
Порхнуть наружу сразу не решится
И перед дверцей отпертой дрожит,
Боясь кружащей в небе ловчей птицы,
Так я, томясь меж смертью и темницей,
Не знаю, видит Бог, что выбрать мне:
Смерть на свободе или жизнь в тюрьме.
Не лучше ль болью боль преодолеть
И смертью краткою прервать невзгоды,
Чем муки бесполезные терпеть
В плену тоски и горькой несвободы,
За крохи благ снося мучений годы?
Нет, каждый скажет, кто в своем уме:
На воле смерть милей, чем жизнь в тюрьме.
46 / 47
Но если претерпеть несчастий гнет,
Дождаться дня, когда пройдет опала
И колесо Фортуна повернет, —
Кто знает, случаев таких немало,
Возвысить может то, что угнетало;
Не стоит факел свой тушить во мгле:
Чем смерть на воле, лучше жизнь в тюрьме.
Как не желать скончанья стольких бед,
Освобожденья от судьбы постылой?
Влюбленные, подайте мне совет:
Из этих зол какое б меньше было —
Клюв сокола иль клетки плен унылый?
Какой удел избрать, скажите мне:
Смерть на свободе или жизнь в тюрьме?
ПЕСНИ
К ДАМЕ С ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ
«ДА» ИАИ «НЕТ»
Мадам, я должен знать ответ,
Нет больше сил бродить во мгле.
Скажите прямо: да иль нет,
Оставьте ваши силъвупле.
Вам проще нет разок мигнуть,
Махнуть рукой туда-сюда.
Так дайте знак какой-нибудь,
Чтоб мне понять: нет или да.
И если да, уже я ваш —
Бегу, лечу, смеюсь, дрожу.
А если нет — забудем блажь,
Я сам себе принадлежу.
отвергнутый влюбленный
ПРИЗЫВАЕТ СВОЕ ПЕРО ВСПОМНИТЬ
ОБИДЫ ОТ НЕМИЛОСЕРДНОЙ
ГОСПОЖИ
Перо, встряхнись и поспеши,
Еще немного попиши
Для той, чье выжжено тавро
Железом в глубине души;
Л там — уймись, мое перо!
Ты мне, как лекарь, вновь и вновь
Дурную сбрасывало кровь,
Болящему творя добро.
Но понял я: глуха любовь;
Угомонись, мое перо.
О, как ты сдерживало дрожь,
Листы измарывая сплошь! —
Довольно; это все старо.
Утраченного не вернешь;
Угомонись, мое перо.
С конька заезженного слазь,
Порви мучительную связь!
52/53
Иаков повредил бедро,
С прекрасным ангелом борясь;
Угомонись, мое перо.
Жалка отвергнутого роль;
К измене сердце приневоль —
Найти замену нехитро.
Тебя погубит эта боль;
Угомонись, мое перо.
Не надо, больше не пиши,
Не горячись и не спеши
За той, чьей выжжено тавро
Железом в глубине души;
Угомонись, мое перо.
54/55
ОН ВОСХВАЛЯЕТ
ПРЕЛЕСТНУЮ РУЧКУ
СВОЕЙ ДАМЫ
Ее рука
Нежна, мягка,
Но сколь властна она!
В ней, как раба,
Моя судьба
Навек заключена.
О, сколь персты
Ее чисты,
Изящны и круглы! —
Но сердце мне
Язвят оне,
Как острие стрелы.
Белей снегов
И облаков
Им цвет природой дан;
И всяк из них,
Жезлов драгих,
Жемчужиной венчан.
56 / 57
Да, я в плену,
Но не кляну
Прекрасной западни;
Так соизволь
Смягчить мне боль,
Любовь свою верни.
А коли нет
Пути от бед
Для сердца моего,
Не дли скорбей,
Сожми скорей
И задуши его!
ОН УМОЛЯЕТ ЕЕ ОБ УЧАСТИИ
Земля и небеса скорбят, внимая,
Весь мир сочувствует моей мольбе.
Лишь ты бесстрастна, как глухонемая,
Когда взываю я к тебе, к тебе!
Ты дремлешь, может быть, и сновиденье
Тебе мешает в явь перенестись;
Прости, что я неволю пробужденье,
Но, госпожа моя, очнись, очнись!
Не гневайся, что раб твой попытался
Разрушить сладость, чаемую в снах:
Я столько раз ночами просыпался
По милости твоей — в слезах, в слезах!
О, сжалься, именем молю Мадонны!
Из губ, что ни живы и ни мертвы,
В последний раз ты слышишь эти стоны:
Я гибну, милая, увы, увы!
58 / 59
Тебе служил я преданно и рьяно,
Ни крови не щадя своей, ни сил,
И об одном лишь мыслил постоянно,
Одной лишь милости просил — просил
Участья твоего, дабы продлилась
Жизнь, тающая, словно тонкий воск,
Ведь с той поры, как ты в ней воцарилась,
Смерть гложет изнутри мой мозг, мой мозг.
О, если б ты не ведала, не знала
Мой горестный недуг, мою печаль!
Ты знала, не печась о том немало,
Моей тоски тебе не жаль, не жаль!
Пусть так, слова тебя не убедили;
Не хочешь понимать — не понимай.
Ты не поверишь и моей могиле,
Жестокосердая! Прощай, прощай!
влюбленный в отчаянье
ОТ СУРОВОСТИ СВОЕЙ ДАМЫ
О лютня, прозвени струной,
В последний раз пред нею спой
Свой безнадежный мадригал!
Нам не в новинку труд пустой;
Допой и смолкни — кончен бал!
Ей сердца песня не смягчит,
Скорей раскрошится гранит,
Суровость дамы тверже скал.
Не будем исчислять обид,
Что проку, если кончен бал!
Она отбила, как утес,
Все, что к ее стопам я нес,
Как океан, за валом вал:
Любовь, мольбы и бурю слез;
Итак, довольно; кончен бал!
Но ты не думай, что стрелок,
Что столько жертв тебе обрек,
Свой лук забыл или сломал;
Поверь, гордячка, он жесток,
И для него не кончен бал.
60/61
Не жди себе особых льгот,
Когда стрела тебя ожжет,
Сражающего наповал;
Я рад — возмездие грядет! —
Хоть для меня окончен бал.
Когда тебе — седой, больной,
Придется тосковать одной,
Как я однажды тосковал
Под равнодушною луной,
Не жди пощады — кончен бал!
О, ты раскаешься тогда,
Припомнив, как была горда
С тем, кто томился, чах, вздыхал...
Уходит юность без следа;
Поблекнет день — и кончен бал.
Умолкни, лютня! И не строй
Воздушных стен над пустотой
Из жалоб, вздохов и похвал!
Ты видишь, это труд пустой;
Допой и смолкни — кончен бал!
IN AETERNUM
Я вечности, казалось мне, вкусил,
Когда влюбился и судьбу просил,
Чтоб так любить достало сердцу сил
In aeternum.
В ту пору возлелеял я мечту
Завоевать упорством красоту,
Я знал, подобной я не обрету
In aeternum.
Надежды ради я терпел, страдал,
Вокруг нее, как дурень, танцевал,
И был готов служить ей, как вассал,
In aeternum.
Я ждал, мой преданный, покорный взор
Смягчит гордячки строгий приговор
И завоюет мне ее фавор
In aeternum.
Увы, я понял, что труды не впрок,
Что лейкой поливаю я песок;
Ей даже слово это невдомек —
In aeternum.
62/63
Что ж! из груди навеки вырву я
То, что мне грызло душу, как змея.
Пусть там покоится печаль моя,
In aeternum.
влюбленный жалуется,
А ДАМА ЕГО УТЕШАЕТ
Влюбленный. О, как желанье сердце мне сжигает!
Дама. Что ж так его воспламенить могло?
Влюбленный. Причина, коей горше не бывает.
Дама. Охолоните, чтобы не сожгло.
Влюбленный. Я тщусь, но жар мой не ослабевает.
Дама. Так чем же я могу исправить зло?
Влюбленный. Услышьте стон мой и печаль узрите.
Дама. Извольте, я внемлю вам — говорите.
Влюбленный. Прошу о том, что для двоих отрадно.
Дама. Увы! Я, сударь, этого бегу.
Влюбленный. Неужто ваше сердце беспощадно?
Дама. Мне жаль вас, видит Бог, но не могу.
Влюбленный. Мне слушать это больно и досадно.
Дама. Я вам не солгала — и не солгу.
Влюбленный. Могу ли я надеяться на чудо?
Дама. Ответ вам дать я не могу покуда.
64 / 65
Влюбленный. Скажите «да», не мучьте, дорогая!
Дама. Вы слишком многого хотите вдруг.
Влюбленный. Я столько ждал, в тоске изнемогая.
Дама. Ужель моих не видите вы мук?
Влюбленный. Я гибну, кровью сердца истекая.
Дама. Терпенья наберитесь, милый друг.
Влюбленный. Что ж, я умру! Туда мне и дорога!
Дама. Давайте подождем еще немного.
Влюбленный. Одно лишь слово — чтоб надежде
сбыться.
Дама. Положим, я скажу, и что тогда?
Влюбленный. Спеша на помощь, медлить не годится.
Я как в лесу меж ваших «нет» и «да».
Молю, явите милость мне, царица!
Дама. Клянетесь верность мне хранить
всегда?
Влюбленный. Коль изменю, не знать мне в жизни
блага!
Сим побеждают страсть, мольба, отвага.
ДАМА ЖАЛУЕТСЯ, А КАВАЛЕР
НЕ В СИААХ ЕЕ УТЕШИТЬ
Ах, что за грусть изведал я,
Сколь тяжело мне было
Внимать, как милая моя
Жалела, что любила.
Увы и ах!
Был влажен взор и вздох уныл.
«Увы, — она шептала, —
Зачем тому, кто не любил,
Я душу открывала?
Увы и ах!
Иль худо я жила, не знав
Тоски и сокрушенья?
Иль мало было мне забав,
Отрад и утешенья?
Увы и ах!
66/67
А ныне скорби не избыть,
Я плачу дни и ночи,
Кляну любовь, но разлюбить
Мне не хватает мочи.
Увы и ах!»
Она уткнулась мне в плечо
Головкою своею,
И капли влаги горячо
Скатились мне на шею.
Увы и ах!
И я стоял, кляня свой рок,
Рыдая поневоле,
И ничего сказать не мог
От жалости и боли.
Увы и ах!
О ТЕРЗАНИЯХ И СТРАДАНИЯХ,
ПРИЧИНЯЕМЫХ АЮБОВЬЮ
В чем тут секрет? Ложусь в кровать
И нет чтоб мирно почивать,
Тотчас начну вздыхать, стенать —
В чем тут секрет?
Постель мне кажется жестка,
Весь искручусь ужом, пока
и впрямь не заболят бока —
В чем тут секрет?
Всю ночь бессонницей томлюсь,
Едва засну — в поту проснусь,
Горю, и зябну, и трясусь —
В чем тут секрет?
А поутру встаю больной,
Иду с улыбкой напускной
Туда, где помыкают мной —
В чем тут секрет?
Вблизи нее я нем, как дух,
Не смею слова молвить вслух,
Язык прилип и взор потух —
В чем тут секрет?
Боюсь я даже намекнуть,
Какое пламя жжет мне грудь,
Боюсь не так при ней вздохнуть —
В чем тут секрет?
Одно и то ж — день ото дня,
В них нет просвета для меня,
Но не пускает западня —
В чем тут секрет?
ВОЗМОЖНО ЛЬ БЫТЬ?
Возможно ль быть,
Чтоб высший спор —
Душ пылких гордый разговор —
В ничтожный перешел раздор?
Возможно ль быть?
Возможно ль быть,
Чтоб дымно так
Огонь метнувшийся иссяк,
Что от любви к презренью — шаг?
Возможно ль быть?
Возможно ль быть
Такой блажной,
Чтоб две души иметь одной —
Сквозных, как ветер продувной?
Возможно ль быть?
Возможно ль быть,
Чтобы в глазах
Менялись жалость, гнев и страх
Быстрей, чем выигрыш в костях?
Возможно ль быть?
70/71
Возможно ль быть
У райских врат —
И сверзиться оттуда в ад —
И раз, и много раз подряд?
Возможно ль быть?
Все может быть,
Пока сердца
Надежде верят без конца,
Как зверь, бегущий на ловца,
Все может быть!
САТИРЫ
САТИРА I
Любезный мой Джон Пойнц, ты хочешь знать,
Зачем не стал я больше волочиться
За свитой Короля, втираться в знать
И льнуть к вельможам — но решил проститься
С неволей и, насытясь ею всласть,
Подальше от греха в свой угол скрыться.
Не то чтобы я презираю власть
Тех, кто над нами вознесен судьбою,
Или дерзаю их безумно клясть,
Но не могу и чтить их с той слепою
Восторженностию, как большинство,
Что судит по расцветке и покрою,
Не проникая внутрь и ничего
Не смысля в сути. Отрицать не стану,
Что слава — звук святой, и оттого
Бесчестить честь и напускать туману —
Бесчестно; но вполне достойно ложь
Разоблачить и дать отпор обману.
Мой друг! ты знаешь сам: я не похож
На тех, кто любит приукрасить в меру
(Или не в меру) принцев и вельмож,
Ни славить тех, кто славит лишь Венеру
И Бахуса, ни придержать язык
Я не могу, держа иную веру.
Я на коленях ползать не привык
Пред деспотом, который правит нами,
Как волк овечками, свиреп и дик.
Я не умею жалкими словами
Молить сочувствия или скулить,
Ни разговаривать обиняками.
Я не умею бесконечно льстить,
Под маской чести прятать лицемерье
Или для выгоды душой кривить,
И предавать друзей, войдя в доверье,
И на крови невинной богатеть,
Отбросив совесть прочь, как суеверье.
76 / 77
Я не способен Цезаря воспеть,
При этом осудив на казнь Катона,
Который добровольно принял смерть
(Как пишет Ливий), не издав ни стона,
Увидев, что свобода умерла —
Но сердце в нем осталось непреклонно.
Я не способен ворона в орла
Преобразить потугой красноречья,
Царем зверей именовать осла,
И сребролюбца не могу наречь я
Великим Александром во плоти,
Иль Пана с музыкой его овечьей
Превыше Аполлона вознести,
Или, дивясь, как сэр Топаз прекрасен,
В тон хвастуну нелепицы плести,
Хвалить красу тех, кто от пива красен, —
И не краснеть, но взглядом принца есть
И глупо хохотать от глупых басен,
78/79
За лестью никогда в карман не лезть
И угождать в капризах господину...
Как выучиться этому? Бог весть!
Для этой цели пальцем я не двину.
Но высшего двуличия урок —
Так спутать крайности и середину,
Чтоб добродетелью прикрыть порок,
Попутно опорочив добродетель,
И на голову все поставить с ног:
Про пьяницу сказать, что он радетель
Приятельства и дружбы, про льстеца —
Что он манер изысканных владетель,
Именовать героем наглеца,
Жестокость — уважением к законам,
Грубьяна, кто для красного словца
Поносит всех, — трибуном непреклонным,
Звать мудрецом плутыгу из плутыг,
А блудника холодного — влюбленным,
Того, кого безвинно Рок настиг, —
Ничтожным, а свирепство тирании —
Законной привилегией владык...
Нет, это не по мне! Пускай другие
Хватают фаворитов за рукав,
Подстерегая случаи шальные;
Куда приятней меж родных дубрав
Охотиться с борзыми, с соколами —
И, вволю по округе проблуждав,
Вернуться к очагу, где пляшет пламя,
А в непогоду книгу в руки взять
И позабыть весь мир с его делами;
Сие блаженством я могу назвать,
А что доныне на ногах колодки,
Так это не мешает мне скакать
Через канавы, рвы и загородки.
Мой милый Пойнц, я не уплыл в Париж,
Где столь тонки и вина, и красотки,
80 81
Или в Испанию, где должно лишь
Казаться чем-то и блистать наружно, —
Бесхитростностью им не угодишь,
Иль в Нидерланды, где ума не нужно,
Чтобы от буйства к скотству перейти,
Большие кубки воздымая дружно,
Или туда, где Спаса не найти
В бесстыдном Граде яда, мзды и блуда, —
Нет, мне туда заказаны пути.
Живу я в Кенте, и живу не худо —
Пью с музами, читаю и пишу.
Желаешь посмотреть на это чудо?
Пожалуй в гости, милости прошу.
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ УАЙЕТТА
Генри Говард, граф Сарри
НА СМЕРТЬ ТОМАСА УАЙЕТТА
Здесь упокоен Уайетт, враг покоя,
Тот, что дары редчайшие сберег
В душе, гонимой злобою мирскою, —
Так зависть благородным людям впрок.
Ум, смолоду не ведавший безделья,
Подобный кузнице, где всякий час
Выковывались славные изделья
Британии в прибыток и в запас;
Лик, поражавший добротой суровой
И горделивостью без похвальбы
И в бурю и в грозу всегда готовый
Смеяться над капризами судьбы;
Рука, водившая пером поэта,
Что Чосера, казалось, превзойдет:
Недостижимая доныне мета,
К которой и приблизиться — почет;
Язык, служивший королю немало
В чужих краях; чья сдержанная речь
Достойные сердца воспламеняла
Преумножать добро и честь беречь;
Взгляд, мелкими страстями не слепимый,
Но затаивший в глубине своей
Спокойствия утес неколебимый —
Риф для врагов и якорь для друзей;
Душа небоязливая, тем паче
Когда за правду постоять могла:
Не пыжавшая перьев при удаче,
В беде не омрачавшая чела;
86 / 87
Мужская стать особенного рода,
В которой слиты сила с красотой, —
Таких людей уж нет! Увы, Природа
Разбила форму для отливки той.
Но Дух его, покинув прах телесный,
Вернулся вновь к Христовым высотам:
Живой свидетель истины небесной,
Ниспосланный неблагодарным нам.
Сколь ни скорби теперь — все будет мало;
Земля, какой Алмаз ты потеряла!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Григорий Кружков
СОКОЛ ПО КЛИЧКЕ УДАЧА
СЭР ТОМАС УАЙЕТТ - НАБРОСОК К ПОРТРЕТУ
Фортуна хмурится.
Где взятъ лекарство?
Меня швырнуло в прах
Судьбы коварство.
Т. У.
I
В королевской библиотеке Виндзорского замка
вот уже четыреста лет хранятся две папки с рисун-
ками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Анг-
лию дважды: первый раз в 1527—1528 годах,
а во второй раз — в 1532 году, когда он оконча-
тельно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн
Младший (1497—1543) был выдающимся порт-
ретистом, а его виндзорские рисунки — лучшее,
что он создал в графике. Искусствоведы считают,
что это подготовительные наброски к живописи,
они выполнены, в основном, серебряным каранда-
шом и цветными мелками, но впоследствии чужая
рука прошлась пером по контуру некоторых
рисунков и добавила кое-где акварельной под-
краски.
Перед нами портреты придворных Генриха VIII.
Среди них сэр Томас Уайетт, поэт. Умное, благо-
родное лицо прекрасно «рифмуется» с дошедшими
до нас стихами, письмами, переводами. Глядя на не-
го, я думаю о том, как трудна моя задача. На живо-
писный, красочный портрет мне не замахнуться.
Попробую лишь очертить чернилами по контуру
карандашный рисунок, оставленный в стихах и до-
кументах, расцветив его по своему разумению бо-
лее или менее правдоподобными соображениями
и догадками.
II
Двор Генриха VIII был сценой одной из самых
патетических драм в мировой истории, и притом
блестяще украшенной сценой. Король Генрих унас-
ледовал от отца мрачный, еще вполне средневеко-
вый двор и полностью преобразовал его, превратив
жизнь королевской семьи и своих придворных,
по словам Екатерины Арагонской, в беспрерывное
92 / 93
празднество. Его прижимистый батюшка Ген-
рих VII позаботился о том, чтобы наполнить казну,
и эти денежки очень пригодились наследнику.
В глазах народа Генрих VIII выглядел идеальным
королем. Шести футов росту, румяный и статный,
с величественной осанкой и манерами, он любил пи-
ры, танцы, маскарады и сюрпризы. Он приглашал
лучших музыкантов из Венеции, Милана, Герма-
нии, Франции. За музыкантами шли ученые и ху-
дожники. Среди последних были необузданный
Пьетро Торриджано из Рима (сломавший в драке
нос Микельанджело), Ганс Гольбейн из Аугсбурга,
рекомендованный Генриху Эразмом Роттердам-
ским, Иоанн Корвус из Брюгге и другие. В Лондоне
жил знаменитый Томас Мор, автор «Утопии», чей
дом сравнивали с Платоновской Академией. Говори-
ли, что по числу ученых английский двор может
затмить любой европейский университет. Король
и его придворные упражнялись в сочинении стихов
и музыки; постоянно устраивали красочные шест-
вия, праздники, даже рыцарские турниры (собст-
венно говоря, ставшие уже анахронизмом). В об-
щем, это был золотой век, в особенности по сравне-
нию с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой
войн, интриг и злодейств.
Томасу Уайетту было суждено было сыграть одну
из приметных ролей на этой сцене. Он появился
при дворе молодым человеком, только что окончив-
шим Кембриджский университет, и сразу выдви-
нулся благодаря своим исключительным талантам:
он легко писал стихи, замечательно пел и играл на
лютне, свободно и непринужденно говорил на не-
скольких языках, был силен и ловок в обращении
с оружием (отличился на турнире в 1525 году).
К тому же этот образцовый рыцарь имел весьма
знатное происхождение. Он родился в 1503 году
в замке Аллингтон в Кенте. Отец его, сэр Генри Уай-
етт, во времена междоусобиц сохранил верность
Генриху VII, за это (как сказывают) Ричард III его
пытал и заточил в Тауэр, где лишь сочувствующий
кот приносил узнику по голубю каждый день и спас
его от голодной смерти. Сохранился портрет сэра
Генри в темнице — с котом, протягивающим ему че-
рез решетку голубя, а также отдельный портрет «Ко-
та, спасшего жизнь сэра Генри Уайетта». После ос-
вобождения из тюрьмы Генри Уайетт возлюбил ко-
тов, а благодарный Генрих VII — своего верного под-
данного, которого он сделал рыцарем Бани. Генрих
VIII также любил старого Уайетта; среди его почет-
ных должностей была должность коменданта Нор-
94 95
вичского замка, на которую он был назначен вместе
с сэром Томасом Болейном. Так завязывались узлы
фортуны: отец Томаса Уайетта сдружился с отцом
Анны Болейн, его будущей дамы и королевы; исто-
рия с котом, однажды позабавив короля, в критиче-
ский момент могла спасти жизнь сына того самого,
спасенного котом, дворянина.
Здесь, при дворе, и встретился молодой Уайетт
с юной Анной Болейн, вернувшейся в 1521 году
из Франции, где она получила воспитание в кругу
фрейлин королевы Маргариты Валуа. Смуглая, чер-
новолосая, с выразительными черными глазами
и нежным овалом лица, она сразу приобрела много
поклонников. Анна прекрасно танцевала и играла на
лютне. У нее были красивые руки; впоследствии, ко-
гда злая молва превратила ее в ведьму, стали погова-
ривать, что она была шестипалой: друзья уточняли,
что речь шла о небольшом дефекте ногтя. Ее распу-
щенные до пояса волосы с вплетенными в них нитями
драгоценностей были совсем не по моде того време-
ни, но она их носила так. Она затмевала анемичных
дам английского двора и своими талантами, и остро-
умным изяществом разговора. Мог ли Уайетт не об-
ратить внимание на ту, кому посвящал стихи Клеман
Маро, мог ли сам не принести ей поэтической дани?
О СВОЕЙ ГОСПОЖЕ, КОТОРУЮ ЗОВУТ АННОЙ
Какое имя чуждо перемены,
Хоть наизнанку выверни его?
Все буквы в нем мучительно блаженны,
В нем — средоточье горя моего,
Страдание мое и торжество.
Пускай меня погубит это имя —
Но нету в мире имени любимей.
В точности неизвестно, когда король обратил свой
благосклонный взор на красавицу Анну Болейн. Ис-
тория соперничества монарха и поэта — тема много-
численных легенд и исторических анекдотов. Мы не
знаем, какова была природа той куртуазной игры, ко-
торая уже связывала Анну с Уайеттом; но ясно, что
после появления на сцене влюбленного Генриха VIII
ситуация для придворного создалась непростая.
В сонете «Noli me tangere» («Не трогай меня»), пере-
ложенном с итальянского, он уже говорит об Анне,
как о запретной дичи из королевского леса.
NOLI ME TANGERE
Кто хочет, пусть охотится за ней,
За этой легконогой ланью белой;
Я уступаю вам — рискуйте смело,
Кому не жаль трудов своих и дней.
96 / 97
Порой, ее завидя меж ветвей,
И я застыну вдруг оторопело,
Рванусь вперед — но нет, пустой дело!
Сетями облака ловить верней.
Попробуйте и убедитесь сами,
Что только время сгубите свое;
На золотом ошейнике ее
Написано алмазными словами:
«Ловец лихой, не тронь меня, не рань:
Я не твоя, я — Цезарева лань».
По некоторым сведениям, к тому времени среди
любовниц Генриха VIII уже была сестра Анны, Ма-
рия, и король предполагал, что легко удвоит счет.
Встретив сопротивление, он тоже заупрямился
и повел осаду по всем законам военной стратегии.
Но крепость оказалась хорошо защищенной и не
сдавалась в течение целого ряда лет — случай един-
ственный и неслыханный в практике короля. Надо
сказать, что королева Екатерина сама себе рыла
яму, поддерживая целомудренное поведение своей
фрейлины: она старалась не отпускать ее от себя,
часто играла с ней в карты целыми вечерами, терзая
влюбленного короля, и так далее. Если бы Екатери-
на повела себя иначе, король, возможно, сумел бы
одержать победу — и охладеть; Анна предвидела та-
кой вариант, ей не хотелось повторить судьбу сест-
ры: она желала получить всё или ничего. Наконец,
король заговорил о женитьбе. Это означало развод
с испанкой, разрыв с Римом; но Генрих решил идти
до конца.
Рассказывают, что примерно в это время Ген-
рих VIII получил от Анны перстень в залог ее согла-
сия на брак. Томас Уайетт еще раньше завладел ма-
леньким бриллиантом, принадлежавшим Анне: он
как бы играючи взял его и спрятал за пазухой; дама
попеняла ему и потребовала возвращения вещицы,
но кавалер не отдавал, надеясь на продолжение га-
лантной забавы. Владелица больше не возобновляла
иска, так что Уайетт повесил бриллиант на шнурок
и носил на груди под камзолом. Случилось вскоре,
что король Генрих играл в мяч с придворными,
среди которых были сэр Фрэнсис Брайан и То-
мас Уайетт, и, будучи весело настроен, стал утвер-
ждать, что один особенно удачный бросок принадле-
жит ему, — хотя все видели противоположное. Уай-
етт вежливо возразил, но король поднял руку
и ткнул в воздух указательным перстом, оттопыри-
вая при этом мизинец, на котором блестел перстень
Анны Болейн: «А я говорю, Уайетт, это мой бросок».
98/99
Поэт приметил перстень, но, чувствуя, что ко-
роль в добром расположении духа, решил поддер-
жать игру и когда Генрих повторил во второй раз:
«Уайетт, он мой!» достал шнурок с бриллиантовой
подвеской, известной королю, и сказал: «Если Ваше
Величество позволит, я измерю этот бросок: наде-
юсь, что он все-таки окажется моим». С этими сло-
вами он наклонился и стал вымерять шнурком рас-
стояние; король же, признав бриллиант, отшвыр-
нул мяч и сказал: «Коли так, значит, я обманул-
ся», — и не продолжил игры. Многие бывшие при
том придворные не уразумели ничего из этого про-
исшествия, но были и такие, что поняли и запомни-
ли. (Джордж Уайетт. «Некоторые подробности
из жизни королевы Анны Болейн».)
В 1532 году Генрих жалует Анне Болейн титул
маркизы Пембрук, тогда же она становится его лю-
бовницей. В январе 1533-го выясняется, что Анна
беременна, и король тайно венчается с нею. Спустя
несколько месяцев брак легализуется и совершает-
ся коронация, сопровождаемая трехдневными тор-
жествами и водным праздником. Анна, как Клеопа-
тра, в золотом платье, с распущенными черными во-
лосами, восседает на борту галеры, украшенной
лентами, вымпелами и гирляндами цветов. Два ря-
да гребцов, налегая на весла, влекут корабль вперед,
сотни меньших судов и суденышек сопровождают
его. Тауэр, подновленный и сияющий, встречает
королеву музыкой, знаменами, триумфальными ар-
ками и толпой разодетых придворных. «Лань Цеза-
ря» заполучила, наконец, свой золотой ошейник.
III
По наблюдениям современной критики*, образы
охоты и соколиной ловли играют важную роль
в стихах Уайетта. С образом лани связан и его зна-
менитый шедевр — стихотворение «Они меня об-
ходят стороной»:
Они меня обходят стороной —
Те, что, бывало, робкими шагами
Ко мне прокрадывались в час ночной,
Чтоб теплыми, дрожащими губами
Брать хлеб из рук моих, — клянусь богами,
Они меня дичатся и бегут,
Как лань бежит стремглав от ловчих пут.
* Н. A. Mason. Sir Thomas Wyatt. A Literary Portrait. 1986.
Pp. 12-3.
100 /101
Мы порой недооцениваем психологическую
сторону ренессансной лирики, представляя ее иг-
рой с некоторым набором условных тем и образов.
Но ведь эти люди знали и умели многое, чего мы
сейчас не знаем и не умеем. Скажем, они были
азартными охотниками. Изображая превратно-
сти любви в терминах оленьего гона и соколиной
охоты, они касались таких областей подсозна-
тельного, которые лучше объясняют измену и же-
стокость, равнодушие и свободу, чем моральная
психология более позднего времени. Скажем, спу-
щенный с перчатки сокол может вернуться к хо-
зяину, а может и улететь навсегда. И это не зави-
сит от того, как он прикормлен и воспитан. При-
чина может быть любая — переменившийся ве-
тер, пролетевшая вдали цапля — или — никакая.
Измена сокола — закон Фортуны, верность — ее
редкая милость.
IV
Итак, Генрих настоял на своем. Он объявил се-
бя главой английской церкви, развелся с Екатери-
ной Арагонской и женился на Анне Болейн,
но с этого времени тучи начали сгущаться над его
царствованием, и атмосфера непрерывного празд-
нества при дворе, сохраняясь, стала приобретать
все более зыбкий и зловещий характер. Дальней-
шие события известны: рождение принцессы Ели-
заветы в 1534 году, Акт о престолонаследии, объя-
вивший принцессу Мэри незаконнорожденной, на-
сильственное приведение к присяге дворянства,
казнь епископа Фишера и самого Томаса Мора, еще
недавно лорда-канцлера короля, охлаждение Ген-
риха к Анне Болейн, которая так и не смогла дать
ему наследника мужского пола... Судьба королевы
была окончательно решена после рождения ею мер-
твого младенца в 1536 году.
Анна и несколько ее предполагаемых «любов-
ников» и «сообщников» в государственной измене
были арестованы. Одновременно взяли и Томаса
Уайетта. Из окна своей темницы в Тауэре он мог
видеть казнь своих друзей: Джорджа Болейна,
сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра
Уильяма Брертона, Марка Смитона — и ждать
своей очереди. 19 мая казнили Анну Болейн.
На эшафоте ей прислуживала Мэри, сестра Тома-
са Уайетта — ей Анна передала свой прощальный
дар — миниатюрный молитвенник в золотом
102 , 103
/
с черной эмалью переплете. В последнюю минуту
перед казнью королева обратилась к зрителям
с такими словами:
Люди христианские! Я должна умереть, ибо в со-
гласии с законом я осуждена по законному пригово-
ру, и против этого я говорить не буду. Не хочу ни
обвинять никого, ни говорить о том, почему меня
судили и приговорили к смерти. Я лишь молю Бога
хранить Короля и послать ему многие годы правле-
ния над всеми вами, ибо более кроткого и милосерд-
ного государя доселе не бывало, а для меня он всегда
был полновластным и добрым Господином. Если
кто-нибудь вздумает вмешаться в мое дело, я прошу
его рассудить как можно лучше. А теперь я остав-
ляю сей мир и всех вас и молю вас молиться за меня.
Господи, смилуйся надо мной. Богу препоручаю я
душу мою.
«И когда раздался роковой удар, нанесенный
дрожащей рукой палача, всем показалось, что он
обрушился на их собственные шеи; а она даже не
вскрикнула», — продолжает первый биограф коро-
левы Джордж Уайетт.
Томасу Уайетту повезло: 14 июня он был освобож-
ден из Тауэра. Не ясно, что его спасло — покровитель-
ство Кромвеля или петиция отца, взявшего своего
сына «на поруки» и увезшего в Аллингтон. Король
вскоре вернул поэту свою милость. Но жизнь Уайет-
та будто переломилась пополам («в тот день моло-
дость моя кончилась», — писал он в стихах). Доста-
точно сравнить два портрета, выполненные Ган-
сом Гольбейном до и после 1536 года*: на втором —
мы видим совершенно изменившегося человека: пре-
ждевременно постаревшего, с каким-то застывшим
взглядом; ушла легкость и свобода, сокол удачи
улетел.
Теперь он будет перелагать стихами покаянные
псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. На-
пример, так:
Я на коленях ползать не привык
Пред деспотом, который правит нами,
Как волк овечками, свиреп и дик.
Опасные строки? Но ведь это лишь перевод сти-
хов итальянца Луиджи Аламанни, обращенных
* Считается, что гравированное изображение Уайетта
на книге Джона Айленда «Neniae in Mortins Thomae
Viati» восходит к второму, не дошедшему до нас
гольбейновскому портрету. На этой же гравюре
основан портрет Уайетта, находящийся
в Национальной портретной галерее в Лондоне.
(См. В. А. Пахомова, цит. соч., 221.)
Ю4/105
к другу Томазо. Уайетт переадресовал их к Джону
Пойнцу (которого мы также можем видеть на ри-
сунке Ганса Гольбейна) — придворному и другу,
понимающему его с полуслова:
Я не способен ворона в орла
Преобразить потугой красноречья,
Царем зверей именовать осла;
И сребролюбца не могу наречь я
Великим Александром во плоти,
Иль Пана с музыкой его овечьей
Превыше Аполлона вознести;
Или, дивясь, как сэр Топаз прекрасен,
В тон хвастуну нелепицы плести;
Хвалить красу тех, кто от пива красен, —
И не краснеть; но взглядом принца есть
И глупо хохотать от глупых басен...
Впрочем, кому какое дело, что пишет или пере-
водит ученый дворянин в своем имении, на лоне
природы? Уайетт уцелел, но был отправлен с глаз
долой, сперва — в Кент, под опеку отца, потом —
с дипломатическим поручением к императору
Карлу V. Как посол при испанском дворе сэр То-
мас постоянно находился между молотом требо-
вании английского короля и наковальней католи-
ческой монархии. Несмотря на все трудности
(и даже угрозы со стороны инквизиции), он дей-
ствовал весьма успешно; ему удалось даже устро-
ить изгнание из Мадрида кардинала Пола, злей-
шего врага англичан. Возникшая угроза прими-
рения Карла с французским королем Франци-
ском потребовала особого внимания со стороны
Генриха: на помощь Уайетту были высланы
Эдмунд Боннер и Симон Хейнз, которые более
путались под ногами, чем помогали делу. Уайетт
высокомерно третировал их; в результате, вер-
нувшись в Лондон, они написали донос, обвинив
его в изменнических сношениях с врагами Анг-
лии. Кардинал Кромвель, покровитель Уайетта,
положил бумагу под сукно; но в 1540 году Кром-
вель сам был обвинен в государственной измене
и казнен. Боннер, ставший к тому времени епи-
скопом Лондона, и Хейнз, капеллан короля, во-
зобновили свои происки; в результате Уайетт
вновь был заключен в Тауэр и подвержен усилен-
ным допросам.
В те последние годы царствования Генриха VIII
головы с плеч слетали и без столь серьезных обвине-
ний. Но Уайетт проявил удивительное хладнокро-
106 /107
вие и силу духа. Его речь в свою защиту была на-
столько блестящей и убедительной, что судьям ни-
чего другого не оставалось, как оправдать его. Он
удалился в Аллингтон, где, как обычно, предался
чтению и охоте. Осенью 1542 года королевский
приказ прервал эти мирные досуги; Уайетту было
предписано отправиться в порт Фалмут для встре-
чи прибывающего в Англию испанского посла.
В дороге, разгоряченный долгой скачкой, он про-
студился и умер от скоротечной лихорадки в Шел-
берне, в возрасте 39 лет. Во времена, когда многие
умирали от еще более скоротечных причин, это бы-
ла почти удача.
V
Кончилось царствование Генриха VIII, и власть
перешла к его дочери Мэри, дочери Екатерины Ара-
гонской, отменившей реформацию и восстановив-
шей связь с Римом. Когда в 1554 году она объявила
о своем браке с королем Филиппом Испанским,
злейшим врагом Англии, многие возмутились и вы-
ступили с оружием в руках против коварной като-
лички. Сын Томаса Уайетта, сэр Томас Уайетт
Младший во главе отряда в три тысячи солдат про-
бился в Лондон, но был разбит правительственным
войском и казнен.
Интересно, что именно его сын, Джордж Уай-
етт, внук Томаса Уайетта, спустя тридцать лет на-
пишет первую биографию Анны Болейн (дважды
цитированную выше), в которой сообщит интерес-
ные сведения и о своем деде-поэте.
Стихи Уайетта были впервые опубликованы
в 1557 году в первой английской антологии поэ-
зии, полное название которой звучало так: «Пес-
ни и сонеты, сочиненные высокоблагородным
лордом Генри Говардом, покойным графом Сарри,
и другими».
В истории литературы эта книга сделалась бо-
лее известной как «Сборник Тоттела» (Tottel’s
Miscellany). Упомянутые в названии лорд Генри
Говард и граф Сарри — одно и то же лицо, стихи
же сэра Томаса Уайетта занимают в ней скромное
место, рядом с большим отделом стихов «неиз-
вестных авторов», среди которых наверняка на-
ходятся стихи его друзей-поэтов графа Рошфора
и сэра Фрэнсиса Брайана (все трое — Сарри,
Рошфор и Брайан — сложили свои головы под то-
пором палача).
Ю8 /109
Именно издатель Тоттеловского сборника ввел
живописные заголовки стихов, которые четыреста
лет подряд украшали антологии английской поэзии
и которые я счел естественным сохранить в своих пе-
реводах: «Влюбленный рассказывает, как безнадеж-
но он покинут теми, что прежде дарили ему отраду»,
или «Он восхваляет прелестную ручку своей дамы»,
или «Отвергнутый влюбленный призывает свое перо
вспомнить обиды от немилосердной госпожи»,
и прочие. В современных изданиях эти названия ис-
коренены как не достоверные, не авторские. Зато они
старые — и передают аромат своего времени.
За тридцать лет сборник Тоттела переиздавался
семь раз. В 1589 Путтенхэм писал в своем трактате
«Искусство английской поэзии»:
Они [Уайетт и Сарри] отчистили нашу грубую и до-
модельную манеру писать стихи от вульгарности,
бывшей в ней доселе, и посему справедливо могут счи-
таться первыми реформаторами нашей английской
метрики и стиля. <...> Они были двумя ярчайшими
лампадами для всех, испробовавших свое перо на ни-
ве Английской поэзии <...> их образы возвышенны,
стиль торжествен, выражение ясно, слова точны, раз-
мер сладостен и строен, в чем они подражают непри-
нужденно и тщательно своему учителю Франци-
ску Петрарке».
Томасу Уайетту принадлежит честь и заслуга
впервые ввести сонет в английскую литературу,
а также дантовские терцины. Белый пятистоп-
ный ямб — размер шекспировских пьес — изобре-
тение Сарри. Так сложилось, что именно графу
Сарри на протяжении столетий отдавалась пред-
почтение. «Эдинбургское обозрение» в 1816 году,
публикуя отклики на первое большое издание
двух поэтов и в целом благожелательно оценивая
стихи Сарри, о его старшем современнике и учи-
теле отзывалось так: «Сэр Томас Уайетт был ум-
ным человеком, зорким наблюдателем и тонким
политиком, но никак не поэтом в истинном смыс-
ле этого слова».
В этом опрометчивом суждении был, тем не
менее, свой резон. «Эдинбургское обозрение»
руководствовалось классическим мерилом и вку-
сом. С этой точки зрения, граф Сарри — значи-
тельно более очищенный, «петраркианский» по-
эт. Если думать, что английский Ренессанс на-
чался с усвоения Петрарки, тогда Томас
Уайетт — дурной ученик, «испортивший» и «не
понявший» своего учителя. Но дело в том, что
для английской поэзии Петрарка был скорее раз-
дражителем, чем учителем. Уже Чосер нарушил
по 111
все его главные принципы и заветы. Народный,
а не очищенный язык; здравый смысл и естест-
венные чувства, а не возвышенный неоплато-
низм. Таков был и Уайетт, бравший новые формы
у Петрарки, а стиль и суть — у Чосера и у фран-
цузских куртуазных поэтов. Все это легко уви-
деть на любом его переводе из Петрарки. Ска-
жем, на цитированном выше сонете «Noli me tan-
деге». Мог ли Петрарка сказать, что преследова-
ние возлюбленной — «пустое дело» или «я усту-
паю вам — рискуйте смело, кому не жаль трудов
своих и дней»? Никогда! — ведь это убивает са-
мую суть петраркизма. Чтобы продолжить срав-
нение, я позволю себе привести тот же самый со-
нет («На жизнь мадонны Лауры», СХС) в пере-
воде Вячеслава Иванова:
Лань белая на зелени лугов,
В час утренний, порою года новой,
Промеж двух рек, под сению лавровой,
Несла, гордясь, убор златых рогов.
Я все забыл и не стремить шагов
Не мог (скупец, на все труды готовый,
Чтоб клад добыть!) — за ней, пышноголовой
Скиталицей волшебных берегов.
Сверкала вязь алмазных слов на вые:
«Я Кесарем в луга заповедные
Отпущена. Не тронь меня! Не рань!..
Полдневная встречала Феба грань;
Но не был сыт мой взор, когда в речные
Затоны я упал — и скрылась лань.
Разумеется, перед нами не оригиналы, а лишь
русские переложения английского и итальянского
сонетов. Но, сравнивая оригиналы, мы увидим тот
же контраст стилей, контраст мироощущений. Ни-
какой идиллической природы — «зелени лугов»,
«лавровой сени» и «волшебных берегов» — у Уай-
етта нет в помине. Никакой экзальтации, никакой
выспренности («полдневная встречала Феба
грань») — лишь суть, выраженная энергично и до-
ходчиво: «Попробуйте и убедитесь сами».
Именно эта суровая и здравая экспрессия оказа-
лась стержневой для английской поэзии XVI
вплоть до Шекспира и Донна. Даже утонченный
Филипп Сидни, главный пропагандист петраркиз-
ма в Англии, когда речь доходила до практики, до-
пускал такие вещи, от которых Петрарка отшат-
нулся бы с ужасом — например, сравнение возлюб-
ленной с разбойником, ведьмой, сатаной! А Донн
112 113
сделал антипетраркизм едва ли не своим главным
приемом в лирике. Он мог, скажем, изобразить
Амура не как мальчугана с крылышками, а как отя-
желевшего охотничьего сокола:
Амур мой погрузнел, отъел бока,
Стал неуклюж, неповоротлив он;
И я, приметив то, решил слегка
Ему урезать рацион...
(«Пища Амура»)
Таким образом, Томас Уайетт не только явился
в нужное время и в нужном месте. Он оказался
очень прочным и необходимым звеном англий-
ской традиции, связывающим Чосера с поэтами-
елизаветинцами. Заимствуя у итальянцев, он не
подражал им, но развивал другое, свое. Стихи
его порой шероховаты, но от этого лишь более
осязаемы.
VI
Тот свод стихотворений Уайетта, которым мы
сейчас располагаем, основан не только на антоло-
гии Тоттела, но и на различных рукописных источ-
никах, среди которых важнейшие два: так называе-
мые «Эджертонский манускрипт» и «Девоншир-
ский манускрипт». Первый из них сильно постра-
дал, побывав в руках неких набожных владельцев,
которые, презирая любовные стишки, писали по-
верх них полезные библейские изречения и подсчи-
тывали столбиком расходы. По этой причине по-
черк Уайетта местами трудно разобрать. И все же
стихи не погибли. Как отмечает исследователь ру-
кописи мисс Фоксуэлл (не вкладывая, впрочем,
в свои слова никакого символического смысла),
«чернила Уайетта оказались лучшего качества, чем
чернила пуритан, и меньше выцвели»*.
Особый интерес представляет Девонширский
манускрипт. Это типичный альбом стихов, вроде
тех, что заводили русские барышни в XIX веке,
только на триста лет старше: он ходил в ближай-
шем окружении королевы Анны Болейн, его на-
верняка касались руки и Уайетта, и Сарри, и са-
мой королевы.
Предполагают, что первым владельцем альбома
был Генри Фицрой, граф Ричмонд, незаконный сын
Генриха VIII. В 1533 году Фицрой женился на Мэ-
* А. К. Foxwell. A Study of Sir Thomas Wyatt’s Poems. 1911.
114 / 115
ри Говард (сестре своего друга Генри Говарда),
и книжка перешла к ней. После свадьбы невесту со-
чли слишком молодой, чтобы жить с мужем (ей бы-
ло всего-навсего четырнадцать лет) и, по обычаю
того времени, отдали под опеку старшей родствен-
ницы, каковой, в данном случае, явилась сама коро-
лева Анна Болейн. Здесь, в доме Анны, Мэри Фиц-
рой подружилась с другими молодыми дамами,
в первую очередь, с Маргаритой Даглас, племянни-
цей короля. Альбом стал как бы общим для Мэри
и Маргариты, и они давали его читать знакомым —
судя по записи, сделанной какой-то дамой по-фран-
цузски, очевидно, при возвращении альбома: «Ма-
дам Маргарите и Мадам Ричфорд — желаю всего
самого доброго».
На страницах альбома встречаются и пометки
королевы, подписанные именем Анна (Ап), одна из
которых останавливает внимание — короткая бес-
смысленная песенка, последняя строка которой чи-
тается: «I ama yowres ап», то есть «Я — ваша. Анна».
Эта строчка обретает смысл, если сопоставить ее с
сонетом Томаса Уайетта («В те дни, когда радость
правила моей ладьей»), записанным на другой стра-
нице того же альбома. Сонет заканчивается таким
трехстишьем:
Недаром в книжице моей
Так записала госпожа:
«Я — ваша до скончанья дней».
По-английски здесь те же самые слова и даже бу-
квы: «I am yowres». Разве мы не вправе увидеть тут
вопрос и ответ, тайный знак, который сердце оста-
вляет сердцу так, чтобы чужие не углядели, чтобы
поняли только свои — те, кто способен понимать
переклички и намеки. Для живущих в «золотой
клетке» королевского двора такая предосторож-
ность была вовсе не лишней, что доказывает даль-
нейшая судьба альбома и почти всех связанных
с ним персонажей.
Трагическими для этого маленького кружка ста-
ли май, июнь и июль 1536 года. В мае были аресто-
вана и казнена Анна Болейн с пятью ее приближен-
ными. В июне — обнаружен тайный брак между
Маргаритой Даглас и сэром Томасом Говардом, оба
«преступника» арестованы и брошены в Тауэр.
И наконец, в июле умер Генри Фицрой, муж Мэри.
В эти печальные месяцы Девонширский сбор-
ник пополнился, может быть, самыми своими тро-
гательными записями. Во-первых, это стихи Мар-
гариты Даглас, которая, в разлуке с супругом
(из Тауэра ее отправили в другую тюрьму), писала
116 /117
стихи, ободряя своего любимого и восхищаясь его
мужеством. А на соседних страницах Томас Говард,
которому сумели на время переправить заветный
томик, записывал стихи о своей любви и верности.
Два года спустя он скончался в тюрьме от малярии.
История Девонширского альбома ярче многих
рассуждений показывает, каким рискованным делом
была куртуазная игра при дворе Генриха VIII. Неуди-
вительно, что достоинствами дамы в том узком кругу,
для которого писали придворные поэты, почитались
не только красота, но и сообразительность, реши-
мость, умение хранить тайну. И не случайно первым
стихотворением, занесенным в альбом, оказалась пе-
сенка Уайетта «Take hede be tyme leste ye be spyede»:
Остерегись шпионских глаз,
Любить опасно напоказ,
Неровен час, накроют нас,
Остерегись.
Многие вещи нарочно маскировались, зашиф-
ровывались в стихах Уайетта. Загадка с именем
Анны: «Какое имя чуждо перемены?» — простей-
шая. Недавно критики обратили внимание, что об-
раз сокола в стихах Уайетта 1530-х годов может
иметь дополнительное значение. Я имею в виду,
прежде всего стихотворение «Лети, Удача, смелый
сокол мой!»:
Лети, Удача, смелый сокол мой,
Взмой выше и с добычею вернись.
Те, что хвалили нас наперебой,
Теперь, как вши с убитых, расползлись;
Лишь ты не брезгаешь моей рукой,
Хоть волю ценишь ты и знаешь высь.
Лети же, колокольчиком звеня:
Ты друг, каких немного у меня.
Белый сокол был эмблемой Анны Болейн
на празднестве ее коронования в 1533 году. Зна-
чит, можно предположить, что и эти стихи отно-
сятся к тому же «болейновскому» лирическому
сюжету*. Они могли быть написаны, например,
в 1534 году, когда Томас Уайетт в первый раз по-
пал за решетку (за уличную стычку, в которой
был убит стражник). Там он, вероятно, написал
и веселый сонет «О вы, кому удача ворожит...» —
о несчастливце и вертопрахе, который, вместо
того чтобы радоваться весне, вынужден прово-
дить дни на жесткой тюремной койке, «в памяти
* Raymond Southall. The Courtly Maker. Oxfords, 1964.
P. 176.
118 119
листая все огорченья и обиды мая, что год за го-
дом жизнь ему дарит».
Но маяться в веселом месяце мае Уайетту при-
шлось недолго. Вскоре он был освобожден, и удача
продолжала ему улыбаться.
ПЕСНЯ О НЕСЧАСТНОЙ КОРОЛЕВЕ АННЕ БОЛЕЙН
И ЕЕ ВЕРНОМ РЫЦАРЕ ТОМАСЕ УАЙЕТТЕ
Милый Уайетт, так бывает:
Леди голову теряет,
Рыцарь — шелковый платок.
Мчится времени поток.
А какие видны зори
С башни Генриха в Виндзоре!
Ястреб на забрало сел,
Белую голубку съел.
«Они-сва кималь-и-пансы...»*
Государь поет романсы
Собственного сочине...,
Посвящает их жене.
* Honi soi qui mal у pence (искаж. фр.) —
«Стыдно тому, кто плохо об этом подумает», девиз
Ордена Подвязки, вошедший в английский
королевский герб.
Он поет и пьет из кубка:
«Поцелуй меня, голубка».
И тринадцать красных рож
С государем тянут то ж:
«Они-сва кималь-и-пансы...» —
И танцуют контрадансы
Под волыночный мотив,
Дам румяных подхватив.
А другие англичане
Варят пиво в толстом чане
И вздыхают, говоря:
«Ведьма сглазила царя».
...В темноте не дремлет стража,
Время тянется, как пряжа,
Но под утро, может быть,
Тоньше делается нить.
Взмыть бы, высоко, красиво,
Поглядеть на гладь Пролива! —
Гребни белые зыбей —
Словно перья голубей.
Улетай же, сокол пленный! —
Мальчик твой мертворожденный
По родительской груди
Уж соскучился, поди...
КОММЕНТАРИИ
ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА
При жизни Томаса Уайетта его стихи распро-
странялись в рукописном виде. Первое издание
с образцами его поэзии — сборник придворных
стихотворцев эпохи Генриха VIII «Песни и соне-
ты», так называемый сборник Тоттела (Tottel’s
Miscellany, 1557) — вышло спустя пятнадцать лет
после смерти поэта. Основой для изданий XIX и
XX века послужили также многочисленные сохра-
нившиеся рукописи, среди которых особое значе-
ние имеют «Эджертонский манускрипт» и «Девон-
ширский манускрипт» (подробнее см. в тексте ста-
тьи). В них содержатся стихи, написанные рукой
самого Уайетта или переписанные его друзьями.
Печатные источники в большинстве случаев ока-
зываются менее надежными. В сборнике Тоттелла
стихи Уайетта, по-видимому, подверглись редак-
торской правке, в частности многие стихотворения
получили развернутые названия, которых нет в его
рукописях.
Переводы, представленные в этой книге, сдела-
ны по изданию: Sir Thomas Wyatt. The Complete
Poems. Edited by R. A. Rebholz. London, New York:
Penguin Books, 1978. Английские тексты стихо-
творений Уайетта даются в современной орфо-
графии.
Из издания Ребхольца мы заимствуем принцип
разделения стихов по жанрам: «Рондо», «Эпиграм-
мы», «Сонеты», «Баллады», «Песни», «Сатиры».
Надо сказать, что жанровый принцип, хорошо ра-
ботающий в случае рондо, сонетов, эпиграмм, са-
тир, становится в известной степени произволь-
ным, когда мы подходим к разделам «песен» и «бал-
лад». Упрощая, можно сказать, что к балладам
(вслед за Ребхольцем) мы относим стихи, в кото-
рых сильнее проявляется зависимость от формы
французской баллады, в особенности от принципа
тройной рифмы: ababb... и т. д.
Следует сказать несколько слов о принципах пе-
ревода, непосредственно связанных с особенно-
стями поэтики Томаса Уайетта. Язык, стиль
и метр стихов этого, по существу, первого поэта
английского Возрождения, несут в себе черты пе-
реходного периода. В особенности следует затро-
нуть проблему метра Уайетта. Зарубежные иссле-
дователи до сих пор обсуждают этот вопрос, пред-
лагая различные решения. Большая часть стихов
написана, кажется, в силлабо-тонической системе,
124 / 125
но число нарушений весьма велико. Одни ученые
считают, что Уайетт намеренно использовал ак-
центный стих со стабильным количеством ударе-
ний в каждой строке, другие — что он всегда пы-
тался писать ямбом, но у него не каждый раз полу-
чалось. Переводчик пытался изобразить эту «неод-
нородность» стиля, намеренно архаизируя метри-
ку и лексику в некоторых переводах (например,
в сонете «Влюбленный сетует на бесконечность
ожидания»).
В современных английских изданиях заголовки,
используемые в сборнике Тоттелла, в основном тек-
сте отбрасываются и приводятся лишь в примеча-
ниях. Переводчик настоящей книги сохранил их
ради колорита и исторической связи: именно под
этими витиеватыми названиями стихи Уайетта бы-
ли известны на протяжении веков. Уильям Иейтс,
например, стилизовал заголовки стихов своего ци-
кла «Ветер в камышах» под Тоттела («Влюбленный
рассказывает о розе, цветущей в его сердце», «Он
скорбит о перемене, случившейся с ним и его люби-
мой, и ждет конца света»). Стихотворениям Уайет-
та, взятым из иных оригинальных источников, пе-
реводчик, чтобы сохранить стилистическое един-
ство, изобретал названия в духе сборника Тоттела.
РОНДО
Жанр рондо («rond» — круглый), родившийся из
вирелэ (французский вариант народной хоровой
песни), характеризуется тем, что его рефрен повто-
ряет начальные слова стихотворения и во всех ку-
плетах используются одинаковые рифмы. Этот
жанр широко использовался в Средние века, но
в эпоху Ренессанса интерес к нему ослаб.
О вздохи жаркие, летите к ней...
(Go, burning sighs)
Тоттел называет стихотворение: «The lover
sendeth sighs to moan his suit»
Источником для этого рондо предполагают со-
нет СЫН Петрарки («Горячий вздох, ступай
к твердыне-сердцу...») или же неизвестное фран-
цузское рондо, основанное на этом сонете. В лю-
бом случае, первое четверостишие переводит сонет
Петрарки достаточно близко.
Старая кляча, не мечтай напрасно...
(Ye old mule)
Использование рефрена после пятой строки для
жанра рондо уникально (обычно первый рефрен
идет после восьмой строки).
126 / 127
Кляча — в английском тексте Mule — во времена
Уайетта имело особую коннотацию, предполагая
сексуальную развязность. В частности, королева
Анна Болейн имела прозвище «Mula Regina», пу-
щенное в оборот ее врагами.
ЭПИГРАММЫ
Тематика эпиграмм Уайетта — куртуазная или
назидательная, та же самая, что в сонетах и песнях.
По форме они представляют или октаву (здесь Уай-
етт идет по стопам Серафино Аквилано, чьи стихи
явились источником многих произведений Уайетта
в этом жанре) или чосерову строфу: ababbcc. Иссле-
дователи отмечают, что эпиграммы были в моде при
французском дворе, где Уайетт провел некоторое
время между 1528-м и 1532 годом.
К даме с просьбой не пренебрегать своим слугой
(All in thy sight)
В первой строке рукописи стоит слово «sight»,
которое Тоттел меняет на «look» и называет эпи-
грамму: «То his lover to look upon him». Источником
ее служит стихотворение Серафино Аквилано.
О притворной дружбе
(Right true it is)
Тоттел называет стихотворение: «Of the feigned
friend».
О своей госпоже, которую зовут Анной
(What word is that)
Название Тоттела: «Of his love called Anna».
Вероятно, посвящено Анне Болейн. Тоттел так-
же вводит имя Анны в текст, хотя в рукописи его
нет. Поэт лишь загадывает загадку и отвечает
на нее так: «Вот мой ответ, видит Бог, и причина
моих страданий» («It is my answer, God it wot, /
And eke the causer of my pain»). Исследователи счи-
тают, что здесь может быть игра слов: answer —
Anne, sir. Значит, строку можно прочитать и так:
«Это моя Анна, сэр, и т. д.».
Некогда бежавший от любви поневоле должен
сопровождать свою возлюбленную
(Some time I fled)
Тоттел называет стихотворение: «The lover that
fled love now follows it with harm». Существует
предположение, что стихотворение было написа-
но во время плавания Анны Болейн и Генриха VIII
128 / 129
на празднество в Кале в октябре 1532 года.
Уайетт, по-видимому, входил в королевскую сви-
ту, и это стихотворение повествует о его чувствах
к Анне.
Влюбленный сетует, что подобное
не излечивается подобным
(Th’en’my of life)
Название Тоттела: «The lover complaineth that
deadly sickness can not help his affection».
Он сознает, что доверился опрометчиво
(Driven by Desire)
Тоттел называет стихотворение: «Of sudden
trusting».
Доверять без испытанья — обыгрывается посло-
вица «Try before you trust» (русский вариант —
«Доверяй, но проверяй»).
О тех, кто его покинул
(Lucks, my fair falcon)
Тоттел называет стихотворение: «Of such as had
forsaken him».
Полагают, что стихотворение было написа-
но в 1540 году после смерти Томаса Кромвеля,
первого министра короля Генриха и покровите-
ля Уайетта, когда поэт впал в немилость при
дворе.
СОНЕТЫ
Сонет, используемый Уайеттом, по форме сооб-
разуется с сонетами Петрарки, различие же состо-
ит в том, что секстет после зарифмованной по типу
«abba abba» октавы рифмуется «cddcee» и, что важ-
но, всегда оканчивается куплетом. Таким образом,
Уайетт сделал первый шаг в создании английского
варианта сонета («шекспировского»), состоящего
из трех четверостиший с разными рифмами и за-
ключительного двустишия. Но первым по новому
канону стал писать младший современник Уайетта
граф Сарри.
Влюбленный сетует на бесконечность
ожидания
(I abide and abide)
Как и в ряде других случаев, адресат Уайет-
та (его «Госпожа») может интерпретировать-
ся здесь не только как Дама, но и как коварная
Фортуна.
1зо 131
Вероломно брошенный, он желает, чтобы его
соперник разделил ту же судьбу
(То rail or gest)
Тоттел называет стихотворение: «The lover
having dreamed enjoying of his love, complaineth that
the dream is not either longer or truer».
Влюбленный, наслаждавшийся во сне
присутствием своей милой, жалуется,
что его сон не продлился и не обратился в явь
(Unstable dream)
Идея сонета, по-видимому, заимствована
из стихотворения Марселло Филосцено (1450—
1520) «Pareami in questa nocte esser contento».
Но и у Петрарки были стихи о сновидениях. Воз-
можно, сонет был написан в Испании в 1537. Он,
очевидно, перекликается с сонетом испанца
Хуана Боскана (Juan Boscan: «Dulce sonar e dulce
congaharme» (перевод Г. К., ранее не публи-
ковался):
Я понимал, что это только снится,
Но сон был сладок и печаль желанна:
Нежней на свете не было б обмана,
Когда бы дольше мог обман продлиться;
Так сладко было перевоплотиться
И все родное вызвать из тумана;
Так сладко было — страшно так и странно
Знать, что погаснет зыбкая зарница!
О, если б мрак и тишина ночная
Не выпускала памяти из плена!
Я б меньше плакал, день пережидая,
Во сне я, наконец, вздыхал блаженно
И улыбался, горе забывая,
И в пробужденье верил неизменно.
Двойной сонет
(The flaming sighs)
Тоттел, считая, что стихотворение относится к лю-
бовным, называет его: «The lover describeth his restless
state». Но более вероятно, что сонет был написан
в тюрьме в 1541 году и описывает душевное и физиче-
ское состояние автора на тот момент. Это предположе-
ние подтверждается использованием Уайетта послови-
цы: «рана залечена, но шрам неизгладим», которую он
упоминает в своей защитной речи на суде в том же году.
Noli me tangere
(Who so list to hunt)
Этот сонет является подражанием 190-му сонету Пе-
трарки. Многие комментаторы считают, что это стихо-
132 ' 133
творение рассказывает об отношениях Уайетта и Анны
Болейн, ввиду притязаниях на нее Генриха VIII.
Алмазными словами... — Алмаз у Петрарки —
символ целомудрия.
Noli те tangere — не тронь меня {лат.). «Noli me
tangere quia Caesaris sum» — эти слова, как считали,
были написаны на ошейниках ланей Цезаря. Выраже-
ние является контаминацией двух новозаветных ре-
чений: «не прикасайся ко Мне» (Иисус — Ма-
рии Магдалине, Ин. 20:17) и: «отдайте Кесарю Кеса-
рево, а Божие Богу» (Иисус — фарисеям, Мф. 22:11).
Сонет из тюрьмы Томаса Уайетта,
родившегося в месяце мае
(You that in love)
Тоттел, относя это стихотворение к любовным,
называет его: «The lover unhappy biddeth happy
lovers rejoice in May, while he waileth that month to
him most unlucky».
Интересно, что Чосер тоже не раз упоминает
о мае как о времени, когда с людьми происходят
всяческие неудачи и злоключения.
Праздник мая — важный праздник для влюблен-
ных, во время него проходили романтические
встречи, поединки и т. д.
Забудьте несчастливца, что лежит / На жесткой
койке... — Уайетта сажали в тюрьму в мае 1534-го
и — 1536 года; в мае того же года была казнена
Анна Болейн.
Прощай, любовь!
(Farewell, Love)
Тоттел называет стихотворение: «А renouncing
of love».
Сенека и Платон... — Сенека был одним из люби-
мых авторов Уайетта: поэт советовал своему сыну
изучать Сенеку, а также сам перевел отрывок из
трагедии «Фиест» Сенеки. Не существует никаких
свидетельств того, что Уайетт мог читать Платона
или каких-либо греческих авторов в оригинале, хо-
тя, возможно, он приступал к изучению греческого
языка в Кембридже в 1518 г.
БАЛЛАДЫ
Баллады Уайетта можно назвать таковыми
лишь в кавычках; они не следуют строго установ-
ленной форме французской баллады, прежде все-
го, в них отсутствует традиционное заключение
134 135
(envoi, или «посылка»). Но в некоторых случаях
они приближаются к французскому канону, ис-
пользуя пятистопный ямб, рефрены и такое же
строение строфы; оно используется и Чосером в
«Троиле и Крессиде»: ababbcc (rime royale).
Именно по рифменной фигуре строфы (харак-
терное повторение рифмы четвертой строки
в пятой) мы и отделяем в большинстве случаев
«баллады» Уайетта от его же «песен». Еще раз
подчеркнем, что сам Уайетт такого различия
не делал.
Влюбленный сравнивает себя с галерным
рабом, а даму со звездой
(Though this thy port)
Киферея — Афродита (Венера), здесь предстает
в качестве богини и одновременно планеты («твой
огонь на темной сфере»). Имя Киферея происхо-
дит от названия греческого, острова Кифера (Ки-
тира), где она особо почиталась. Скорее всего, под
«Кифереей» автор имеет в виду свою возлюблен-
ную. Существует предположение, что Уайетт напи-
сал это стихотворение в 1537 году, переплывая че-
рез Ла-Манш по пути в Испанию, и что его «да-
мой» была Элизабет Баррелл.
Влюбленный рассказывает, как безнадежно
он покинут теми, кто прежде дарил ему отраду
(They flee from me)
Эту балладу отличает особая детализация и пси-
хологизм, редкие для условной куртуазной лирики
того времени.
Он просит свою даму не давать ему повода
для ложных подозрений
(Deme as ye list upon goode cause)
Стихотворение часто приписывается Уайетту,
но без особых подтверждений.
Влюбленный смеется над Фортуной, которая,
воспрепятствовав его успеху, тем самым
помогла ему скорее забыть свою блажь
(In faith I not well what to say)
Название Тоттела звучит по-английски так:
«The lover rejoiceth against fortune that, by hin-
dering his suit, had happily made him forsake his
folly».
Тоттел своевольно приписал стихотворению лю-
бовную тему; его тема более универсальна. На-
смешки над Фортуной — традиционны для средне-
вековой и ренессансной поэзии.
136 /137
Он не знает, какой удел избрать —
смерть на свободе или жизнь в тюрьме
(Like as the byrde in the cage enclosed)
Тоттел называет стихотворение: ‘Whether liberty
by loss of life, or life in prison and thraldom to be pre-
ferred’.
В этой балладе перед героем встает любовная
дилемма, которая является излюбленным мотивом
трубадуров. Первая строфа ставит перед героем
проблему, во второй — он склоняется к выбору
смерти, в третьей — выступает против такого ре-
шения. Последняя же строфа представляет откры-
тый вопрос на суд других.
ПЕСНИ
Как уже было сказано, песни написаны более
простыми строфами (куплетами), и длина строки
обычно меньше, чем в балладах.
К даме с просьбой ответить ясно «да» или «нет»
(Madam, withouten many words)
Тоттел называет стихотворение: «То a lady to
answer directly with yea or nay».
Источником этого стихотворения, написанно-
го в 1535 году,служит мадригал Драгонетто Бони-
фацио (1500—1526) «Madonna non so dir tante
parole». Следовательно, Уайетт написал эту песню
после указанной даты. Некоторые рукописи со-
держат стихотворный «ответ дамы», написанный
неустановленной рукой.
Отвергнутый влюбленный призывает свое перо
вспомнить обиды от немилосердной госпожи
(Му pen, take pain a little space)
В 1565 году Джон Холл составил и издал сбор-
ник «Двор Добродетели» — в пику «Двору Вене-
ры», изданному годом раньше и включавшему не-
сколько стихотворений Уайетта. В свой сборник
Холл поместил сочиненную им назидательную па-
родию на песню «Му pen, take pain a little space»
с музыкальным сопровождением, которое он также
советовал использовать для песни «Влюбленный
в отчаянье от суровости своей дамы».
Он восхваляет прелестную ручку своей дамы
(О goodly hand)
Первые три строфы песни с той или иной степе-
нью свободы переводят октаву 199-го сонета Пет-
138 / 139
рарки («Прекрасная рука! Разжалась ты...»). Пос-
ледние же строфы расходятся с сонетом Петрарки
по содержанию и смыслу.
Он умоляет ее об участии
(Heaven and earth)
Весь мир сочувствует моей мольбе. — Возмож-
но, идея о сострадающих «земле и небесах» была
почерпнута Уайеттом у Серафино Аквилано или
Филосцено. У них же автор мог заимствовать при-
ем повторения слова в последней строке каждой
строфы.
Влюбленный в отчаянье от суровости
своей дамы
(Му lute, awake!)
Стихотворение иногда приписывается лор-
ду Рочфорду, брату Анны Болейн. Джон Холл
сочинил назидательную пародию на это стихотво-
рение (см. примеч. к песне «Отвергнутый влюб-
ленный призывает свое перо вспомнить обиды от
немилосердной госпожи»).
In aeternum
In aeternum (лат.) — навек, во веки веков.
Влюбленный жалуется, а дама его утешает
(It burneth yet)
Тоттел называет стихотворение «The lover com-
plaineth and his lady comforteth».
Это стихотворение-диалог написано октавой.
Дама жалуется, а кавалер не в силах ее утешить
(There was never nothing more)
Песня написана размером английской баллады
(чередование четырехстопного и трехстопного
ямба) с дополнительным рефреном.
О терзаниях и страданиях, причиняемых любовью
(What means this)
Первые две строфы могут являться подражанием
началу одной из «Любовных элегий» Овидия (I, ii, 1 —
4), рефрен же — переводом первой полустроки этой
элегии.
Возможно ль быть?
(Is it possible)
В английском тексте размер и форма строфы не
строго выдерживаются. В русском переводе стихи
намеренно приглажены, но их исходную шерохова-
тость переводчик попытался передать с помощью
стилизованного под старину рефрена.
140 / 141
САТИРЫ
Сатиры Уайетта («эпистолярные сатиры») ха-
рактеризуются дружественностью и открытостью
тона автора наряду с критическим настроем и тя-
гой к обличению нравов. Поэт, впервые в Англии
использовавший этот жанр, знал его по произведе-
ниям итальянца Ауиджи Аламанни (1495—1556).
У Аламанни он также заимствует новую для анг-
лийской поэзии строфику, так называемые «терци-
ны» (aba bcb cdc...). Разумеется, Уайетт использо-
вал и опыт Горация, чья сатира II также использо-
валась в качестве источника для второй сатиры
Уайетта.
Сатира первая
(Mine own John Poyntz)
Тоттел называет сатиру: «Of the courtier’s life
written to John Poyntz». Стихотворение является
подражанием сатире Аламанни, впервые напеча-
танной в 1532 году. Временами Уайетт переводит
Аламанни достаточно точно, временами немного
изменяет, конкретизируя детали, используя разго-
ворную речь и поговорки, а также понятные англи-
чанам аллюзии. Иногда он опускает части ориги-
нального текста, иногда добавляет свое. Используя
«терцину», Уайетт, в отличие от Аламанни, не все-
гда логически заканчивает мысль с окончанием
строфы.
Вероятно, сатира написана в 1536 году, когда
Уайетт был выпущен из Тауэра и отослан домой,
в замок Аллингтон в Кенте, где под присмотром отца
должен был встать на путь исправления. Вполне воз-
можно, что сатира отражает и личный взгляд Уайет-
та на двор, и собственное желание вернуться домой.
Джон Пойнц — вместо итальянского друга Ала-
манни Уайетт обращается к своему собственному
другу Джону Пойнцу, о котором практически ниче-
го не известно, кроме того, что его семья была ро-
дом из Айрон Актон, графство Глостер, и что сам он
состоял при дворе Генриха VIII. Сохранился, одна-
ко, его портрет работы Ганса Гольбейна Младшего.
Я не способен Цезаря воспеть, / При этом осу-
див на казнь Катона... — В итальянском варианте
рассказывается о диктаторе Сулле. Уайетт же ис-
пользует эпизод, связанный с Катоном (95—46 гг.
до н. э.), сторонником Помпея, который покончил
с собой после победы Цезаря при Тапсе, чтобы не
попасть к нему в плен.
142 143
/
Великим Александром во плоти... — Александр
Македонский (356—323 гг. до н. э.)
Иль Пана с музыкой его овечьей / Превыше
Аполлона вознести... — Добавление Уайетта; в мифе
Пан вызвал Аполлона на состязание в игре на сви-
рели. Мидас, призванный определить победителя,
выбрал Пана, за что разгневанный Аполлон награ-
дил его ослиными ушами.
Или дивясь, как сэр Топаз прекрасен... — Паро-
дийная история о сэре Топазе, рассказанная самим
Чосером как участником действия «Кентерберий-
ских рассказов», была прервана раздраженными
слушателями. В ней осмеивались куртуазные ры-
царские романы. Эти строки — добавление Уайетта.
Я не уплыл в Париж, / Где столь тонки и вина,
и красотки... — итальянский текст интересным об-
разом перекликается с судьбой самого Уайетта,
который получил право импортировать вино
в 1529 году, в Кале.
Григорий Кружков
Александра Осина
Thomas Wyatt
SONGS
AND SONNETS
RONDEUX
III
Go, burning sighs, unto the frozen heart.
Go break the ice which pity’s painful dart
Might never pierce; and if mortal prayer
In heaven may be heard, at last I desire
That death or mercy be end of my smart.
Take with thee pain whereof I have my part
And eke the flame from which I cannot start,
And leave me then in rest, I you require.
Go, burning sighs.
I must go work, I see, by craft and art
For truth and faith in her is laid apart.
Alas, I cannot therefore assail her
With pitiful plaint and scalding fire
That out of my breast doth strainably start.
Go, burning sighs.
VII
Ye old mule that think yourself so fair,
Leave off with craft your beauty to repair,
For it is true without any fable
No man setteth more by riding in your saddle.
Too much travail so do your train appair,
Ye old mule.
With false savours though you deceive the air,
Whoso taste you shall well perceive your lair
Savoureth somewhat of a kappur’s stable,
Ye old mule.
Ye must now serve to market and to fair,
All for the burden, for panniers a pair;
For since grey hairs been powdered in your sable,
The thing ye seek for you must yourself enable
To purchase it by payment and by prayer,
Ye old mule.
148 / 149
EPIGRAMS
L
All in thy sight my life doth whole depend.
Thou hidest thyself and I must die therefore.
But since thou mayst so easily save thy friend,
Why dost thou stick to heal that thou madest sore?
Why do I die since thou mayst me defend ?
For if I die, then mayst thou live no more,
Since t’one by t’other doth live and feed the heart,
I with thy sight, thou also with my smart.
LII
Right true it is and said full yore ago,
‘Take heed of him that by thy back thee claweth,’
For none is worse than is a friendly foe.
Though they seem good, all thing that thee delighteth,
Yet know it well that in thy bosom creepeth:
For many a man such fire oft kindleth
That with the blaze his beard singeth.
LIV
What word is that that changeth not
Though it be turned and made in twain ?
It is mine answer, God it wot,
And eke the causer of my pain.
It love rewardeth with disdain,
Yet is it loved. What would ye more ?
It is my health eke and my sore.
LV
Sometime I fled the fire that me brent
By sea, by land, by water, and by wind,
And now I follow the coals that be quent
From Dover to Calais, against my mind.
Lo, how desire is both sprung and spent!
And he may see that whilom was so blind,
And all his labour now he laugh to scorn,
Meshed in the briers that erst was all to-torn
LVI
Th’en’my of life, decayer of all kind,
That with his cold withers away the green,
This other night me in my bed did find
150 / 151
And offered me to rid my fever clean,
And I did grant, so did despair me blind.
He drew his bow with arrow sharp and keen
And strake the place where love had hit before
And drave the first dart deeper more and more.
LXIV
Driven by desire, I did this deed,
To danger myself without cause why,
To trust the untrue, not like to speed,
To speak and promise faithfully.
But now the proof doth verify
That whoso trusteth ere he know
Doth hurt himself and please his foe.
LXVIII
Lucks, my fair falcon, and your fellows all,
How well pleasant it were your liberty!
Ye not forsake me that fair might ye befall.
But they that sometime liked my company
Like lice away from dead bodies they crawl.
Lo, what a proof in light adversity!
But ye, my birds, I swear by all your bells,
Ye be my friends and so be but few else.
SONNETS
CLVII
I abide and abide and better abide,
And after the old proverb, the happy day.
And ever my lady to me doth say,
'Let me alone and I will provide.’
I abide and abide and tarry the tide
And, with abiding, speed well ye may.
Thus do I abide, I wot, alway,
Neither obtaining nor yet denied.
Aye me, this long abiding
Seemeth to me, as who saith,
A prolonging of a dying death
Or a refusing of a desired thing.
Much were it better for to be plain
Than to say 'Abide’ and yet shall not obtain.
XXXV
To rail or jest ye know I use it not,
Though that such cause sometime in folks I find.
152/153
And though to change ye list to set your mind,
Love it who list, in faith I like it not.
And if ye were to me as ye are not
I would be loath to see you so unkind.
But since your faith must needs be so by kind,
Though I hate it, I pray you leave it not.
Things of great weight I never thought to crave;
This is but small, of right deny it not:
Your feigning ways as yet forget them not
But like reward let other lovers have,
That is to say, for service true and fast,
Too long delays and changing at the last.
XXVII
Unstable dream, according to the place,
Be steadfast once or else at least be true.
By tasted sweetness make me not to rue
The sudden loss of thy false feigned grace.
By good respect in such a dangerous case
Thou brought’st not her into this tossing mew
But madest my sprite live my care to renew,
My body in tempest her succour to embrace.
The body dead, the sprite had his desire;
Painless was th’one, th’other in delight.
Why then, alas, did it not keep it right,
Returning to leap into the fire,
And where it was at wish it could not remain?
Such mocks of dreams they turn to deadly pain.
XXXIV
The flaming sighs that boil within my breast
Sometime break forth and they can well declare
The heart’s unrest and how that it doth fare,
The pain thereof, the grief, and all the rest.
The watered eyes from whence the tears do fall
Do feel some force or else they would be dry.
The wasted flesh of colour dead can try
And something tell what sweetness is in gall.
And he that list to see and to discern
How care can force within a wearied mind,
Come he to me: I am that place assigned.
But for all this no force, it doth no harm.
The wound, alas, hap in some other place
From whence no tool away the scar can rase.
But you that of such like have had your part
Can best be judge. Wherefore, my friend so dear,
I thought it good my state should now appear
To you and that there is no great desert.
And whereas you, in weighty matters great,
Of fortune saw the shadow that you know,
For trifling things I now am stricken so
That, though I feel my heart doth wound and beat,
I sit alone, save on the second day
My fever comes with whom I spend the time
In burning heat while that she list assign.
And who hath health and liberty alway,
Let him thank God and let him not provoke
To have the like of this my painful stroke.
XI
Whoso list to hunt, I know where is an hind,
But as for me, helas, I may no more.
The vain travail hath wearied me so sore,
I am of them that farthest cometh behind.
Yet may I by no means my wearied mind
Draw from the deer, but as she fleeth afore
Fainting I follow. I leave off therefore
Sithens in a net I seek to hold the wind.
Who list her hunt, I put him out of doubt,
As well as I may spend his time in vain.
And graven with diamonds in letters plain
There is written her fair neck round about:
'Noli me tangere for Caesar’s I am,
And wild for to hold though I seem tame.’
XXXIII
You that in love find luck and abundance
And live in lust and joyful jollity,
Arise for shame, do away your sluggardy,
Arise, I say, do May some observance!
156/157
Let me in bed lie dreaming in mischance,
Let me remember the haps most unhappy
That me betide in May most commonly,
As one whom love list little to avance.
Sephame said true that my nativity
Mischanced was with the ruler of the May.
He guessed, I prove of that the verity:
In May my wealth and eke my life, I say,
Have stood so oft in such perplexity.
Rejoice! Let me dream of your felicity.
XXXI
Farewell, Love, and all thy laws forever.
Thy baited hooks shall tangle me no more.
Senec and Plato call me from thy lore
To perfect wealth my wit for to endeavour.
In blind error when I did persevere,
Thy sharp repulse that pricketh ay so sore
Hath taught me to set in trifles no store
And scape forth since liberty is lever.
Therefore farewell. Go trouble younger hearts
And in me claim no more authority.
With idle youth go use thy property
And thereon spend thy many brittle darts:
For hitherto though I have lost all my time,
Me lusteth no longer rotten boughs to climb.
158 / 159
BALLADES
LXXXIX
Though this thy port and I thy servant true
And thou thyself dost cast thy beams from high
From thy chief house, promising to renew
Both joy and eke delight, behold yet how that I,
Banished from my bliss, carefully do cry,
Help now, Cytherea my lady dear,
My fearful trust en voguant la galUre.’
Alas, the doubt that dreadful absence giveth!
Without thine aid assurance is there none.
The firm faith that in the water fleeteth
Succour thou therefore; in thee it is alone.
Stay that with faith that faithfully doth moan
And thou also givest me both hope and fear.
Remember thou me en voguant la galllre.
By seas and hills elonged from thy sight,
Thy wonted grace reducing to my mind,
In stead of sleep thus I occupy the night.
A thousand thoughts and many doubts I find
And still I trust thou canst not be unkind,
Or else despair my comfort, and my cheer
Would flee forthwith en voguant la galere.
Yet, on my faith, full little doth remain
Of any hope whereby I may myself unhold,
For since that only words do me retain
I may well think affection is but cold.
But since my will is nothing as I would
But in thy hands is resteth whole and clear,
Forget me not en voguant la galere.
LXXX
They flee from me that sometime did me seek
With naked foot stalking in my chamber.
I have seen them gentle, tame, and meek
That now are wild and do not remember
That sometime they put themself in danger
To take bread at my hand; and now they range
Busily seeking with a continual change.
Thanked be fortune it hath been otherwise
Twenty times better, but once in special,
In thin array after a pleasant guise,
160 / 161
When her loose gown from her shoulders did fall
And she me caught in her arms long and small,
Therewithal sweetly did me kiss
And softly said, ‘Dear heart, how like you this?’
It was no dream: I lay broad waking.
But all is turned thorough my gentleness
Into a strange fashion of forsaking.
And I have leave to go of her goodness
And she also to use newfangleness.
But since that I so kindly am served
I would fain know what she hath deserved.
CLXXXVIII
Deem as ye list. Upon good cause
I may or think of this or not.
But what or why myself best knows
Whereby I think and fear not.
But thereunto I may well think
The doubtful sentence of this clause:
I would it were not as I think;
I would I thought it were not.
For if I thought it were not so,
Though it were so, it grieved me not;
Unto my thought it were as though;
I hearkened though I hear not.
At that I see I cannot wink
Nor from my thought so let it go.
I would it were not as I think;
I would I thought it were not.
Lo, how my thought might make me free
Of that perchance it needeth not.
Perchance none doubt the dread I see;
I shrink at that I bear not.
But in my heart this word shall sink
Unto the proof may better be:
I would it were not as I think;
I would I thought it were not.
If it be not, show no cause why
I should so think, then care I not;
For I shall so myself apply
To be that I appear not:
That is as one that shall not shrink
To be your own until I die
And, if it be not as I think,
Likewise to think it is not.
162 / 163
/
LXXXVI
In faith I not well what to say,
Thy chances been so wondrous,
Thou Fortune, with thy diverse play
That causeth joy full dolourous
And eke the same right joyous.
Yet though thy chain hath me enwrapped,
Spite of thy hap, hap hath well happed.
Though thou me set for a wonder
And seekest thy change to do me pain,
Men’s minds yet may thou not order,
And honesty, an it remain,
Shall shine for all thy cloudy rain.
In vain thou seekest to have me trapped.
Spite of thy hap, hap hath well happed.
In hindering thou diddest further
And made a gap where was a stile.
Cruel wills been oft put under.
Weening to lour thou diddest smile.
Lord! how thyself thou diddest beguile
That in thy cares wouldest me have lapped!
But spite of thy hap, hap hath well happed.
хс
Like as the bird in the cage enclosed,
The door unsparred and the hawk without,
‘Twixt death and prison piteously oppressed,
Whether for to choose standeth in doubt —
Certes, so do I, which do seek to bring about
Which should be best by determination,
By loss of life liberty, or life by prison.
O, mischief by mischief to be redressed!
Where pain is the best there lieth little pleasure:
By short death out of danger yet to be delivered,
Rather than with painful life, thraldom, and dolour,
For small pleasure much pain to suffer.
Sooner therefore to choose, methinketh it wisdom,
By loss of life liberty than life by prison.
By length of life yet should I suffer,
Awaiting time and Fortune’s chance.
Many things happen within an hour:
That which me oppressed may me advance.
In time is trust which by death’s grievance
Is utterly lost. Then were it not reason
By death to choose liberty, and not life by prison?
164 / 165
But death were deliverance and life length of pain:
Of two ills, let see, now choose the best.
This bird to deliver, you that hear her plain,
Your advice, you lovers, which shall be best:
In cage in thraldom, or by hawk to be oppressed?
And which for to choose make plain conclusion:
By loss of life liberty, or life by prison.
SONGS
XCVI
Madam, withouten many words
Once I am sure ye will or no.
And if ye will then leave your bourds
And use your wit and shew it so
And with a beck ye shall me call.
And if of one that burneth alway
Ye have any pity at all
Answer him fair with yea or nay.
If it be yea I shall be fain.
If it be nay friends as before.
Ye shall another man obtain
And I mine own and yours no more.
CCVIII
My pen, take pain a little space
To follow that which doth me chase
And hath in hold my heart so sore.
166/167
But when thou hast this brought to pass,
My pen, I prithee, write no more.
Remember, oft thou hast me eased
And all my pains full well appeased.
But now I know, unknown before,
That where I trust I am deceived.
And yet, my pen, thou canst no more.
A time thou had’st, as other have,
To write which way my hope to crave.
That time is passed. Withdraw therefore.
Since we do lose that other save
As good leave off and write no more
And use to work another way,
Not as we would, but as we may,
For once my loss is past restore
And my desire is my decay.
My pen, yet write a little more:
To love in vain whoever shall,
Of worldly pain it passeth all
As in like case I find. Wherefore
To hold so fast and yet to fall?
Alas, my pen, now write no more.
Since thou hast taken pain this space
To follow that which doth me chase
And hath in hold my heart so sore,
Now hast thou brought my mind to pass.
My pen, I prithee, write no more.
CXL
О goodly hand
Wherein doth stand
My heart distressed in pain!
Fair hand, alas,
In little space
My life that doth restrain!
О fingers slight,
Departed right,
So long, so small, so round,
Goodly begone
And yet alone
Most cruel in my wound.
With lilies white
And roses bright
Doth strive thy colour fair.
168 / 169
Nature did lend
Each finger’s end
A pearl for to repair.
Consent at last,
Since that thou hast
My heart in thy demesne,
For service true
On me to rue
And reach me love again.
And if not so
Then with more woe
Enforce thyself to strain
This simple heart,
That suffereth smart,
And rid it out of pain.
XCIX
Heaven and earth and all that hear me plain
Do well perceive what care doth cause me cry,
Save you alone to whom I cry in vain,
‘Mercy, madam, alas, I die, I die!’
If that you sleep I humbly you require
Forbear a while and let your rigour slake —
Since that by you I burn thus in this fire —
To hear my plaint, 'Dear heart, awake, awake!’
Since that so oft ye have made me to wake
In plaint and tears and in right piteous case,
Displease you not if force do now me make
To break your sleep, crying ‘Alas, alas!’
It is the last trouble that ye shall have
Of me, madam, to hear my last complaint.
Pity at least your poor unhappy slave
For in despair, alas, I faint, I faint!
It is not now but long and long ago
I have you served as to my power and might
As faithfully as any man might do,
Claiming of you nothing of right, of right,
Save of your grace only to stay my life
That fleeth as fast as cloud afore the wind;
For since that first I entered in this strife
An inward death hath fret my mind, my mind.
170/ 171
If I had suffered this to you unware
Mine were the fault and you nothing to blame.
But since you know my woe and all my care,
Why do I die, alas? For shame, for shame!
I know right well my face, my look, my tears,
Mine eyes, my words, and eke my dreary cheer
Have cried my death full oft unto your ears.
Hard of belief it doth appear, appear.
A better proof I see that you would have
How I am dead. Therefore when ye hear tell,
Believe it not although ye see my grave.
Cruel, unkind! I say, ‘Farewell, farewell!’
CIX
My lute, awake! Perform the last
Labour that thou and I shall waste,
And end that I have now begun;
For when this song is sung and past,
My lute, be still for I have done.
As to be heard where ear is none,
As lead to rave in marble stone,
My song may pierce her heart as soon.
Should we then sigh or sing or moan?
No, no, my lute, for I have done.
The rocks do not so cruelly
Repulse the waves continually
As she my suit and affection,
So that I am past remedy,
Whereby my lute and I have done.
Proud of the spoil that thou hast got
Of simple hearts thorough Love’s shot
By whom, unkind, thou hast them won,
Think not he hath his bow forgot
Although my lute and I have done.
Vengeance shall fall on thy disdain
That makest but game on earnest pain.
Think not alone under the sun
Unquit to cause thy lovers plain
Although my lute and I have done.
172 / 173
May chance thee lie withered and old
The winter nights that are so cold,
Plaining in vain unto the moon.
Thy wishes then dare not be told.
Care then who list for I have done.
And then may chance thee to repent
The time that thou hast lost and spent
To cause thy lovers sigh and swoon.
Then shalt thou know beauty but lent
And wish and want as I have done.
Now cease, my lute. This is the last
Labour that thou and I shall waste
And ended is that we begun.
Now is this song both sung and past.
My lute, be still, for I have done.
IN AETERNUM
In aeternum I was once determined,
For to have loved and my mind affirmed,
That with my heart it should be confirmed,
In aeternum.
Forthwith I found the thing that I might like,
And sought with love to warm her heart alike,
For as me thought I should not see the like,
In aeternum.
To trace this dance I put myself in press,
Vain hope did lead, and bade I should not cease
To serve, to suffer, and still to hold my peace,
In aeternum.
With this first rule I furthered me apace,
That as me thought, my truth had taken place
With full assurance to stand in her grace,
In aeternum.
It was not long ere I by proof had found
That feeble building is on feeble ground;
For in her heart this word did never sound,
In aeternum.
In aeternum then from my heart I cast
That I had first determined for the best;
Now in the place another thought doth rest,
In aeternum.
174/175
LXXXIII
LOVER: It burneth yet, alas, my heart’s desire.
LADY: What is the thing that hath inflamed thy heart?
LOVER: A certain point, as fervent as the fire.
LADY: The heat shall cease if that thou wilt convert.
LOVER: I cannot stop the fervent raging ire.
LADY: What may I do if thyself cause thy smart?
LOVER: Hear my request and rue my weeping cheer.
LADY: With right good will. Say on. Lo, I thee hear.
LOVER: That thing would I that maketh two content.
LADY: Thou seekest, perchance, of me that I may not.
LOVER: Would God thou wouldst, as thou mayst well, assent.
LADY: That I may not. Thy grief is mine, God wot.
LOVER: But I it feel, what so thy words have meant.
LADY: Suspect me not. My words be not forgot.
LOVER: Then say, alas, shall I have help or no?
LADY: I see no time to answer. Yea. But no.
LOVER: Say yea, dear heart, and stand no more in doubt.
LADY: I may not grant a thing that is so dear.
LOVER: Lo, with delays thou drives me still about.
LADY: Thou wouldest my death. It plainly doth appear.
LOVER: First may my heart his blood and life bleed ut.
LADY: Then for my sake, alas, thy will forbear.
LOVER: From day to day thus wastes my life away.
LADY: Yet, for the best, suffer some small delay.
LOVER: Now, good, say yea. Do once so good a deed.
LADY: If I said yea, what should thereof ensue?
LOVER: An heart in pain, of succour so should speed.
‘Twixt yea and nay my doubt shall still renew.
My sweet, say yea and do away this dread.
LADY: Thou wilt needs so. Be it so. But then be true.
LOVER: Naught would I else, nor other treasure none.
Thus hearts be won by love, request, and moan.
CXLI
There was never nothing more me pained
Nor nothing more me moved
As when my sweet heart her complained
That ever she me loved,
Alas the while!
With piteous look she said and sight:
'Alas what aileth me
To love and set my wealth so light
On him that loveth not me?
Alas the while!
176 /177
'Was I not well void of all pain
When that nothing me grieved?
And now with sorrows I must complain
And cannot be relieved.
Alas the while!
‘My restful nights and joyful days
Since I began to love
Be take from me. All thing decays
Yet can I not remove.
Alas the while!’
She wept and wrung her hands withal.
The tears fell in my neck.
She turned her face and let it fall,
Scarcely therewith could speak,
Alas the while!
Her pains tormented me so sore
That comfort had I none
But cursed my fortune more and more
To see her sob and groan,
Alas the while!
CUI
What means this when I lie alone?
I toss, I turn, I sigh, I groan.
My bed me seems as hard as stone.
What means this?
I sigh, I plain continually.
The clothes that on my bed do lie
Always methink they lie awry.
What means this?
In slumbers oft for fear I quake.
For heat and cold I burn and shake.
For lack of sleep my head doth ache.
What means this?
A mornings then when I do rise
I turn unto my wonted guise,
All day after muse and devise.
What means this?
And if perchance by me there pass
She unto whom I sue for grace,
The cold blood forsaketh my face.
What means this?
178 / 179
But if I sit near her by
With loud voice my heart doth cry
And yet my mouth is dumb and dry.
What means this?
To ask for help no heart I have.
My tongue doth fail what I should crave.
Yet inwardly I rage and rave.
What means this?
Thus have I passed many a year
And many a day, though naught appear
But most of that that most I fear.
What means this?
CXLV
Is it possible
That so high debate,
So sharp, so sore, and of such rate,
Should end so soon and was begun so late?
Is it possible?
Is it possible
So cruel intent,
So hasty heat and so soon spent,
From love to hate and thence for to relent?
Is it possible?
Is it possible
That any may find
Within one heart so diverse mind
To change or turn as weather and wind?
Is it possible?
Is it possible
To spy it in an eye
That turns as oft as chance on die?
The truth whereof can any try?
Is it possible?
It is possible
For to turn so oft,
To bring that lowest that was most aloft
And to fall highest yet to light soft.
It is possible.
All is possible
Whoso list believe.
Trust therefore first and after preve,
As men wed ladies by licence and leave,
All is possible.
180 , 181
SATIRES
Satire I
Mine own John Poyntz, since ye delight to know
The cause why that homeward I me draw
(And flee the press of courts whereso they go
Rather than to live thrall under the awe
Of lordly looks) wrapped within my cloak,
To will and lust learning to set a law,
It is not because I scorn or mock
The power of them to whom Fortune hath lent
Charge over us, of right to strike the stroke;
But true it is that I have always meant
Less to esteem them than the common sort,
Of outward things that judge in their intent
Without regard what doth inward resort.
I grant sometime that of glory the fire
Doth touch my heart; me list not to report
Blame by honour and honour to desire.
But how may I this honour now attain
That cannot dye the colour black a liar?
My Poyntz, I cannot frame my tune to feign,
To cloak the truth for praise, without desert,
Of them that list all vice for to retain.
I cannot honour them that sets their part
With Venus and Bacchus all their life long,
Nor hold my peace of them although I smart.
I cannot crouch nor kneel to do such wrong
To worship them like God on earth alone
That are like wolves these silly lambs among.
I cannot with my words complain and moan
And suffer naught, nor smart without complaint
Nor turn the word that from my mouth is gone
I cannot speak and look like a saint,
Use wiles for wit and make deceit a pleasure
And call craft counsel, for profit still to paint.
I cannot wrest the law to fill the coffer,
With innocent blood to feed myself fat,
And do most hurt where most help I offer.
I am not he that can allow the state
Of him Caesar and damn Cato to die,
That with his death did ‘scape out of the gate
From Caesar’s hands, if Livy doth not lie,
And would not live where liberty was lost,
So did his heart the common wealth apply.
I am not he such eloquence to boast
To make the crow singing as the swan,
Nor call ‘the lion’ of coward beasts the most
That cannot take a mouse as the cat can;
182 / 183
/
And he that dieth for hunger of the gold,
Call him Alexander, and say that Pan
Passeth Apollo in music many fold;
Praise Sir Thopas for a noble tale
And scorn the story that the knight told;
Praise him for counsel that is drunk of ale;
Grin when he laugheth that beareth all the sway:
Frown when he frowneth and groan when he is pale,
On other’s lust to hang both night and day.
None of these points would ever frame in me.
My wit is naught. I cannot learn the way.
And much the less of things that greater be,
That asken help of colours of device
To join the mean with each extremity:
With the nearest virtue to cloak alway the vice
And, as to purpose likewise it shall fall,
To press the virtue that it may not rise.
As drunkenness good fellowship to call;
The friendly foe with his double face
Say he is gentle and courteous therewithal;
And say that Favel hath a goodly grace
In eloquence; and cruelty to name
Zeal of justice and change in time and place;
And he that suffereth offence without blame
Call him pitiful, and him true and plain
That raileth reckless to every man’s shame;
Say he is rude that cannot lie and feign,
The lecher a lover, and tyranny
To be the right of a prince’s reign.
I cannot, I! No, no, it will not be!
This is the cause that I could never yet
Hang on their sleeves that weigh, as thou mayst see,
A chip of chance more than a pound of wit.
This maketh me at home to hunt and to hawk
And in foul weather at my book to sit;
In frost and snow then with my bow to stalk.
No man doth mark whereso I ride or go;
In lusty leas in liberty I walk.
And of these news I feel nor weal nor woe,
Save that a clog doth hang yet at my heel.
No force for that, for it is ordered so
That I may leap both hedge and dike full well.
I am not now in France to judge the wine,
With savoury sauce the delicates to feel;
Nor yet in Spain where one must him incline,
Rather than to be, outwardly to seem.
I meddle not with wits that be so fine.
Nor Flander’s cheer letteth not my sight to deem
Of black and white nor taketh my wit away
With beastliness they, beasts, do so esteem.
184/185
Nor I am not where Christ is given in prey
For money, poison, and treason at Rome —
A common practice used night and day.
But here I am in Kent and Christendom
Among the Muses where I read and rhyme,
Where if thou list, my Poyntz, for to come,
Thou shalt be judge how I do spend my time.
Список иллюстраций
Сборник иллюстрирован так называемыми
«виндзорскими портретами» Ганса Гольбейна
Младшего. Этот живописец в 1530-х годах посе-
лился в Англии; он запечатлел в своих графических
портретах образ Томаса Уайетта и многих его сов-
ременников.
С. 1. Томас Уайетт
С. 9. Леди Э. Во
С. 15. Королева Анна Болейн
С. 19. Барон Томас Во
С. 27. Генри Говард, граф Сарри
С. 29. Мэри Сауч
С. 39. Леди Паркер
С. 53. Аорд Клинтон
С. 55. Анна Крезакр
С. 77. Шарль де Солье
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕСНИ И СОНЕТЫ
Рондо
(1) «О вздохи жаркие, летите к ней...» ......7
(2) «Старая кляча, не мечтай напрасно...»....8
Эпиграммы
К даме о своем желании ежечасно
ее лицезреть.............................13
О своей госпоже, которую зовут Анной........14
О притворной дружбе..........................6
Некогда бежавший от любви поневоле должен
сопровождать свою возлюбленную...........17
Влюбленный сетует, что подобное
не излечивается подобным.................18
Он сознает, что доверился опрометчиво.......20
О тех, кто его покинул......................21
Сонеты
Влюбленный сетует на бесконечность
ожидания.................................25
Вероломно брошенный, он желает, чтобы
его соперник разделил ту же судьбу.......26
Влюбленный, наслаждавшийся во сне
присутствием своей милой, жалуется,
что его сон не продлился и не обратился в явь... 28
Двойной сонет...............................30
Noli me tangere.............................32
Сонет из тюрьмы Томаса Уайетта,
родившегося в месяце мае.................33
Прощай, любовь!.............................34
Баллады
Влюбленный сравнивает себя с галерным рабом,
а даму со звездой .......................37
Влюбленный рассказывает, как безнадежно он
покинут теми, что прежде дарили ему отраду... 40
Он просит свою даму не давать ему повода
для ложных подозрений....................42
Влюбленный смеется над Фортуной, которая,
воспрепятствовав его успеху, тем самым
помогла ему скорее забыть свою блажь......44
Он не знает, какой удел избрать — смерть
на свободе или жизнь в тюрьме ............46
Песни
К даме с просьбой ответить ясно «да»
или «нет».................................51
Отвергнутый влюбленный призывает свое перо
вспомнить обиды от немилосердной госпожи ... 52
Он восхваляет прелестную ручку своей дамы....56
Он умоляет ее об участии.....................58
Влюбленный в отчаяньи от суровости
своей дамы................................60
In aeternum..................................62
Влюбленный жалуется, а дама его утешает......64
Дама жалуется, а кавалер не в силах ее утешить .... 66
О терзаниях и страданиях, причиняемых
любовью ..................................68
Возможно ль быть?............................70
Сатиры
Сатира I.................................75
Элегия на смерть Уайетта
Генри Говард, граф Сарри
На смерть Томаса Уайетта...................85
Послесловие
Сокол по кличке Удача: сэр Томас Уайетт —
набросок к портрету. Г. Кружков..........91
Комментарии. Г. Кружков, А. Осина.......123
Thomas Wyatt. Songs and sonnets...........145
Список иллюстраций........................186
Томас Уайетт
У12 Песни и сонеты / Пер. с англ. Г. М. Кружко-
ва. — М.: Время, 2005. — На рус. и англ. яз. —
192 с.: ил. — (Триумфы).
ISBN 5-9691-0084-6
Сэр Томас Уайетт (1503—1542) — первый поэт англий-
ского Возрождения. Именно он ввел в английскую литера-
туру такие формы, как сонет и терцины. Уайетт не просто
подражал итальянцам, он влил в их формы новое, сугубо
национальное, содержание, сделав английские стихи совер-
шенно не похожими по духу и складу на стихи Петрарки
и его подражателей.
В первую книгу, подготовленную известным переводчи-
ком Григорием Кружковым, включены произведения раз-
личных жанров. Большая часть произведений представле-
на читателям впервые.
ББК 84(0)4
Литературно-художественное издание
На русском и английском языках
Серия «Триумфы»
Томас Уайетт
ПЕСНИ И СОНЕТЫ
Перевод Григория Кружкова
Редактор
Лариса Спиридонова
Художественный редактор
Валерий Калныныи
Верстка
Жанна Махмутова
Подписано в печать 10.09.2005.
Формат 70х90’/32. Бумага для ВХИ. Гарнитура New Journal.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 749.
«Время».
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (095) 231-18-64.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http:Wwww.uralprint.ru, e-mail: book@uralprint.ru