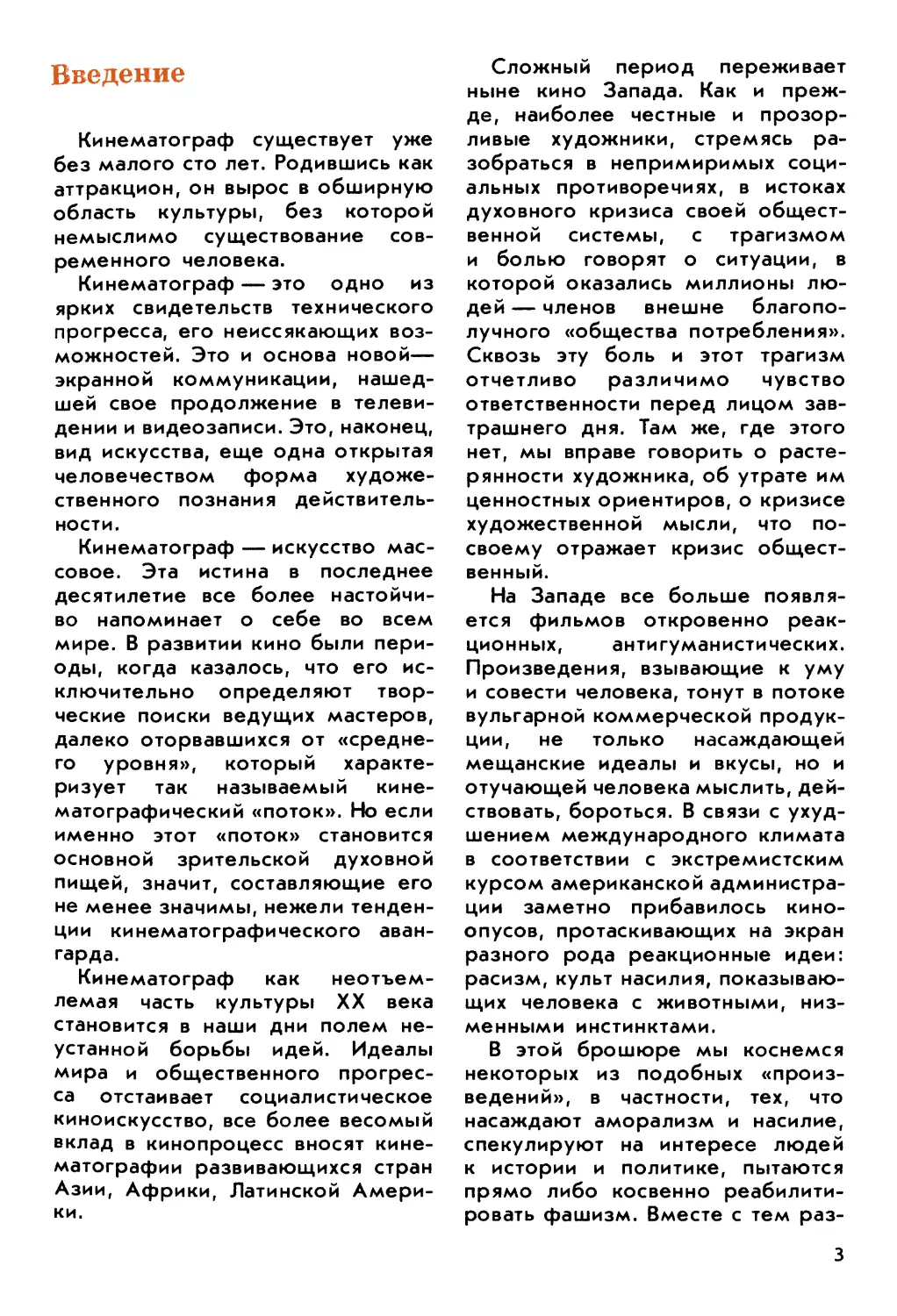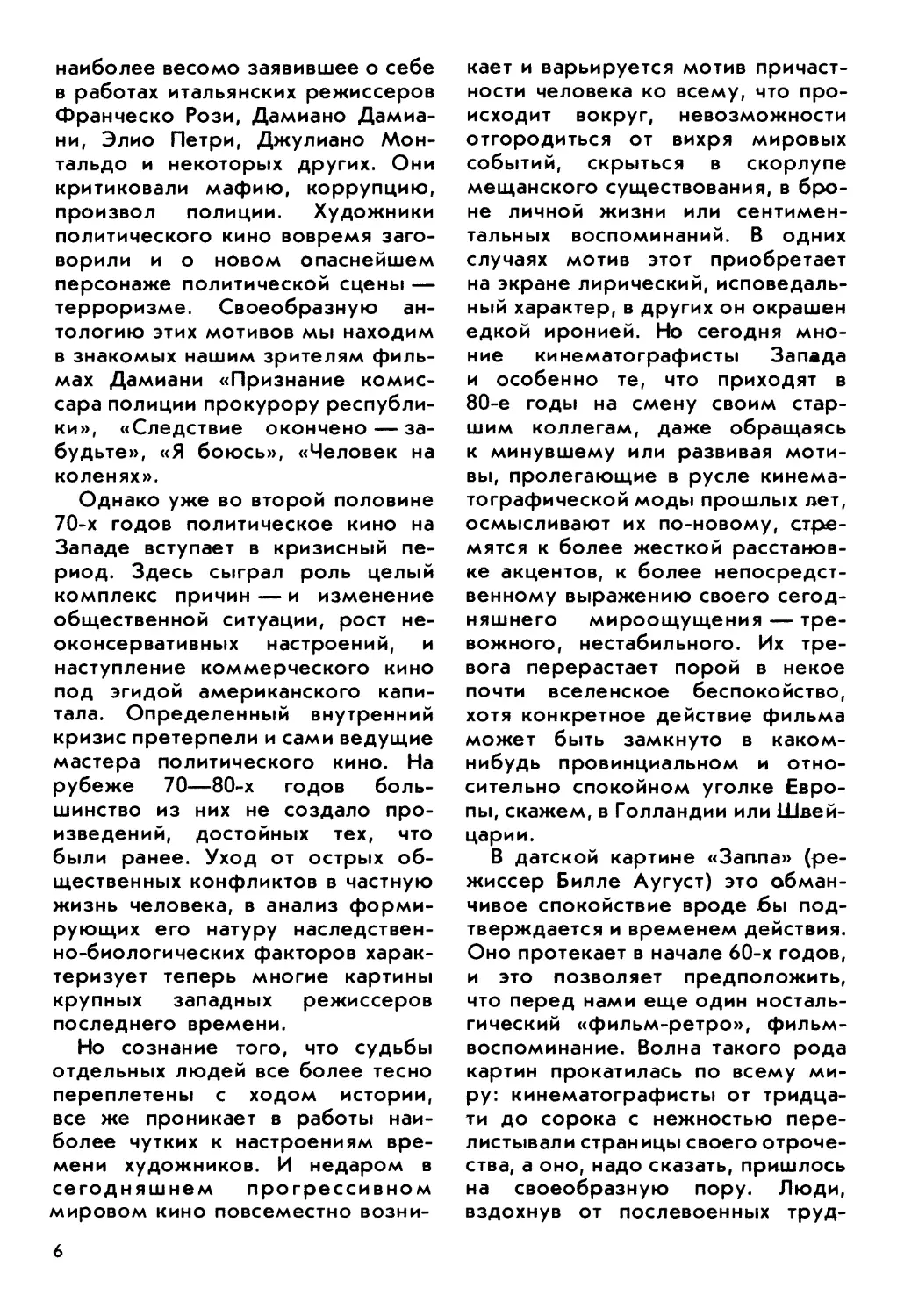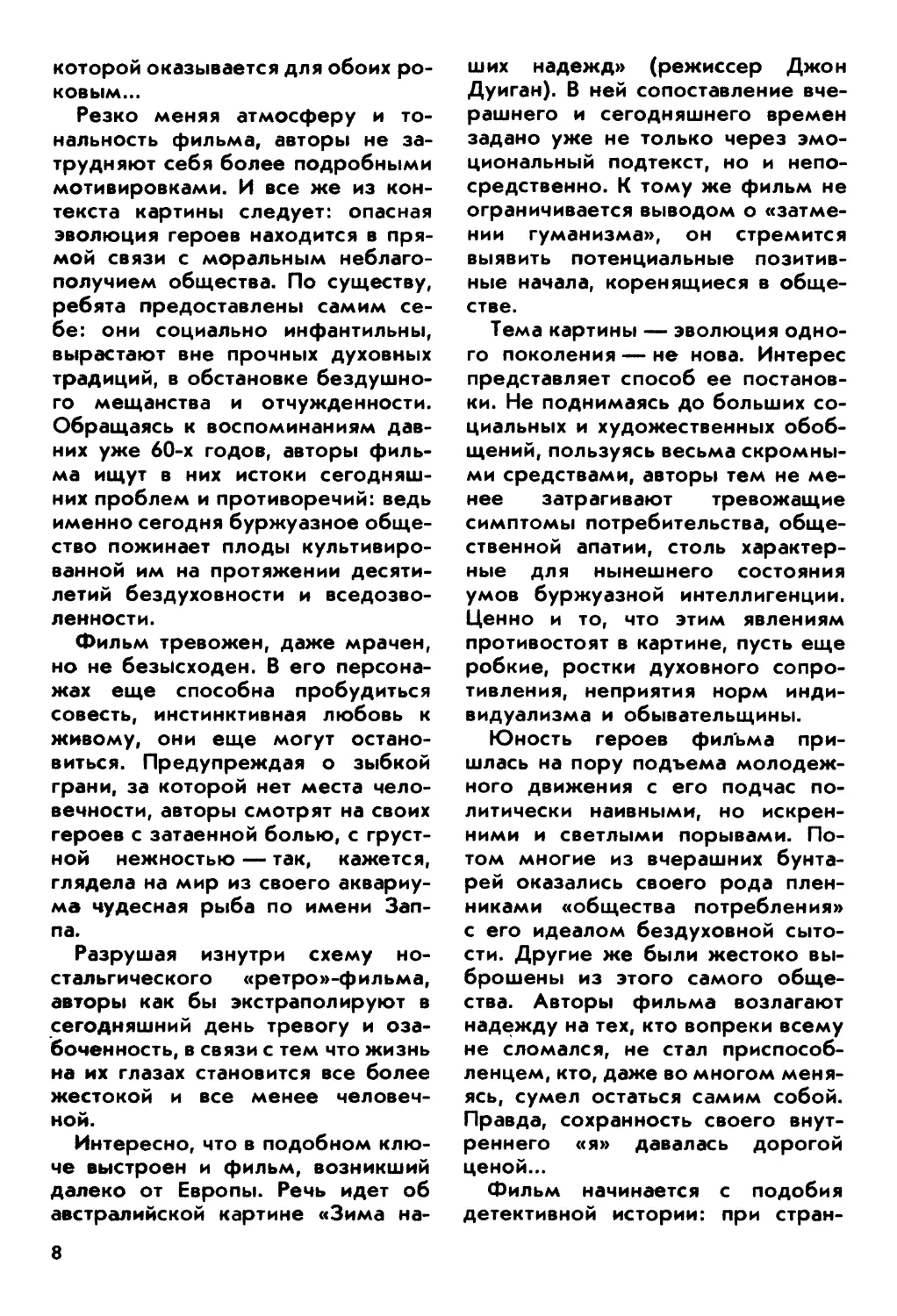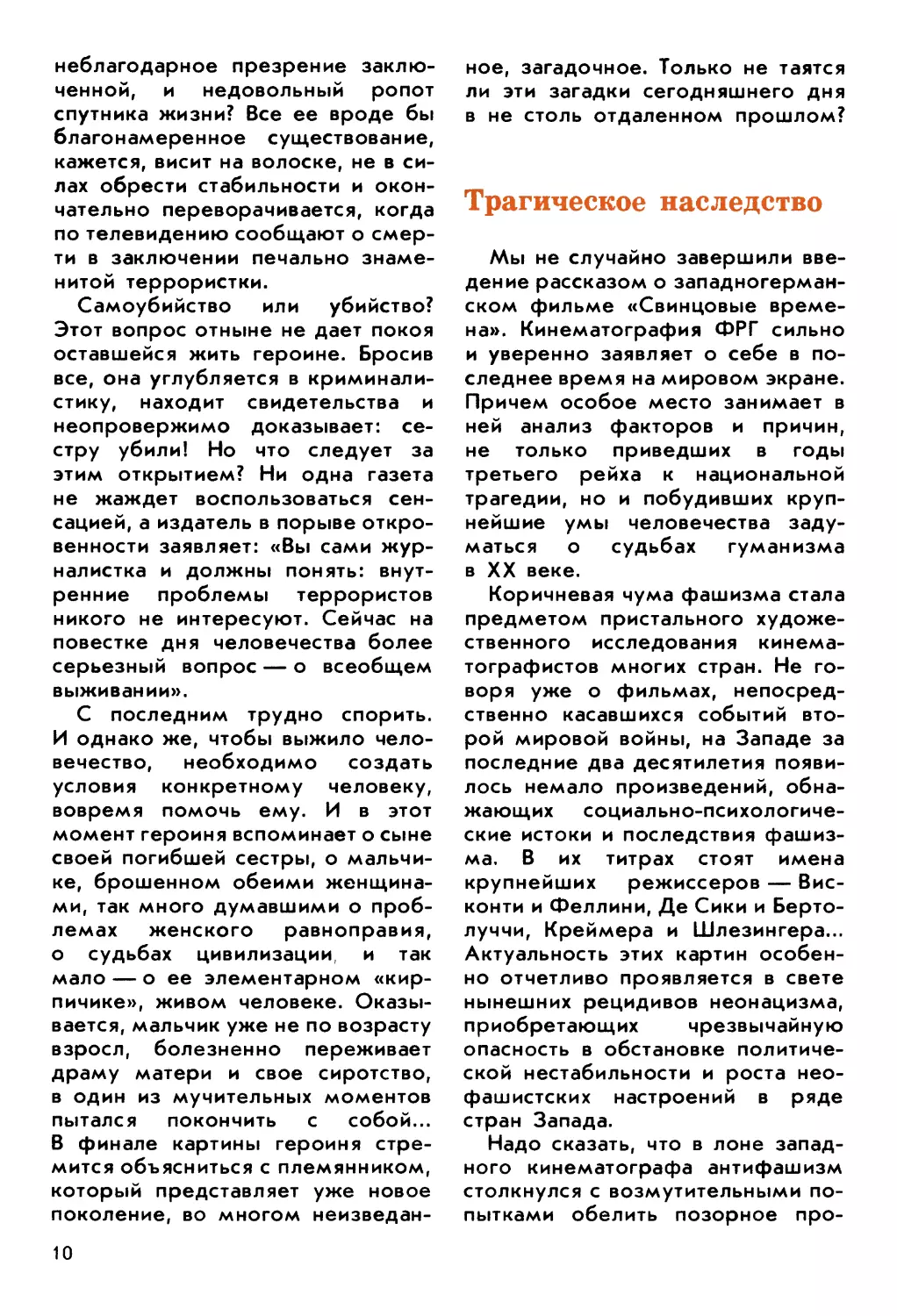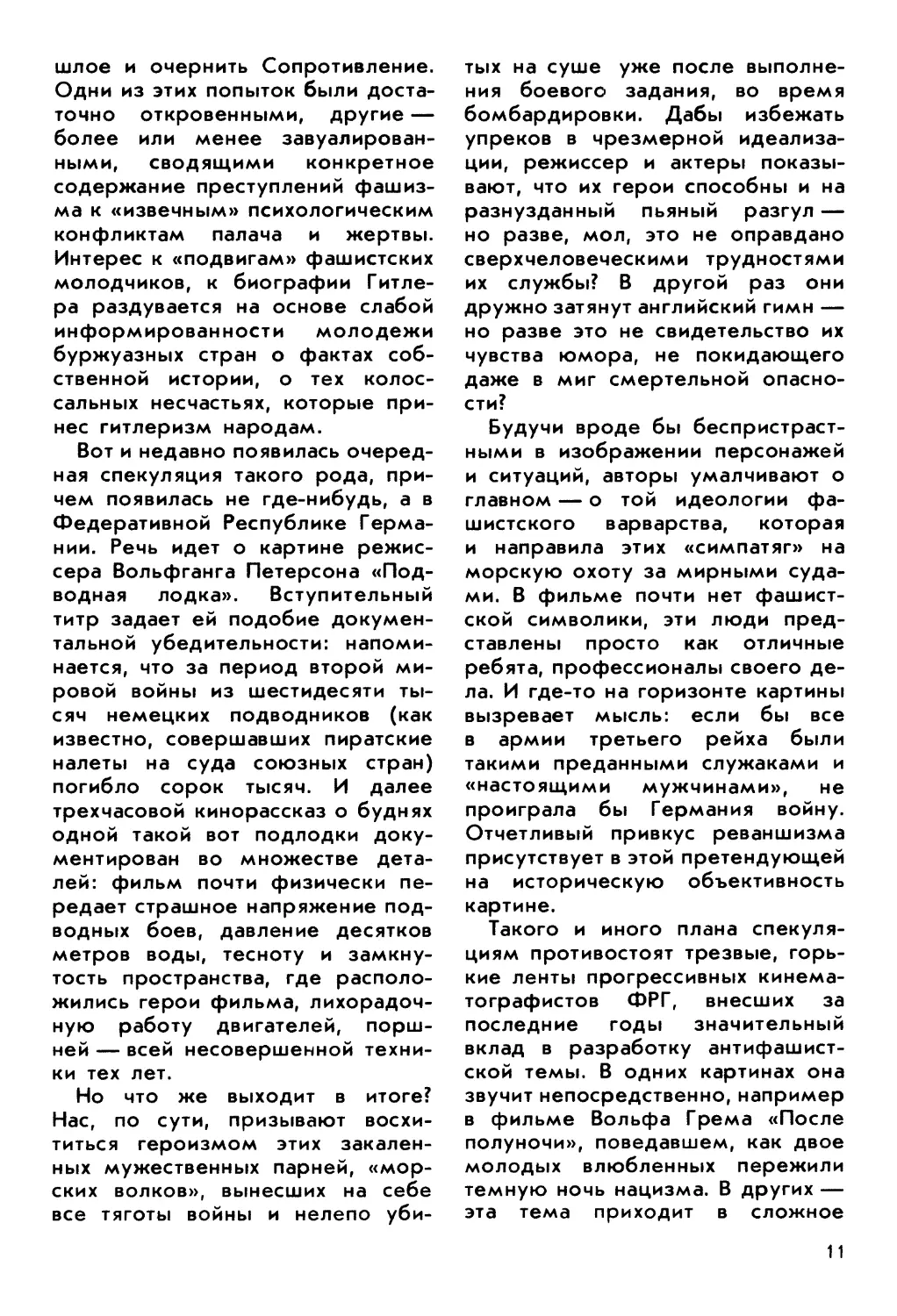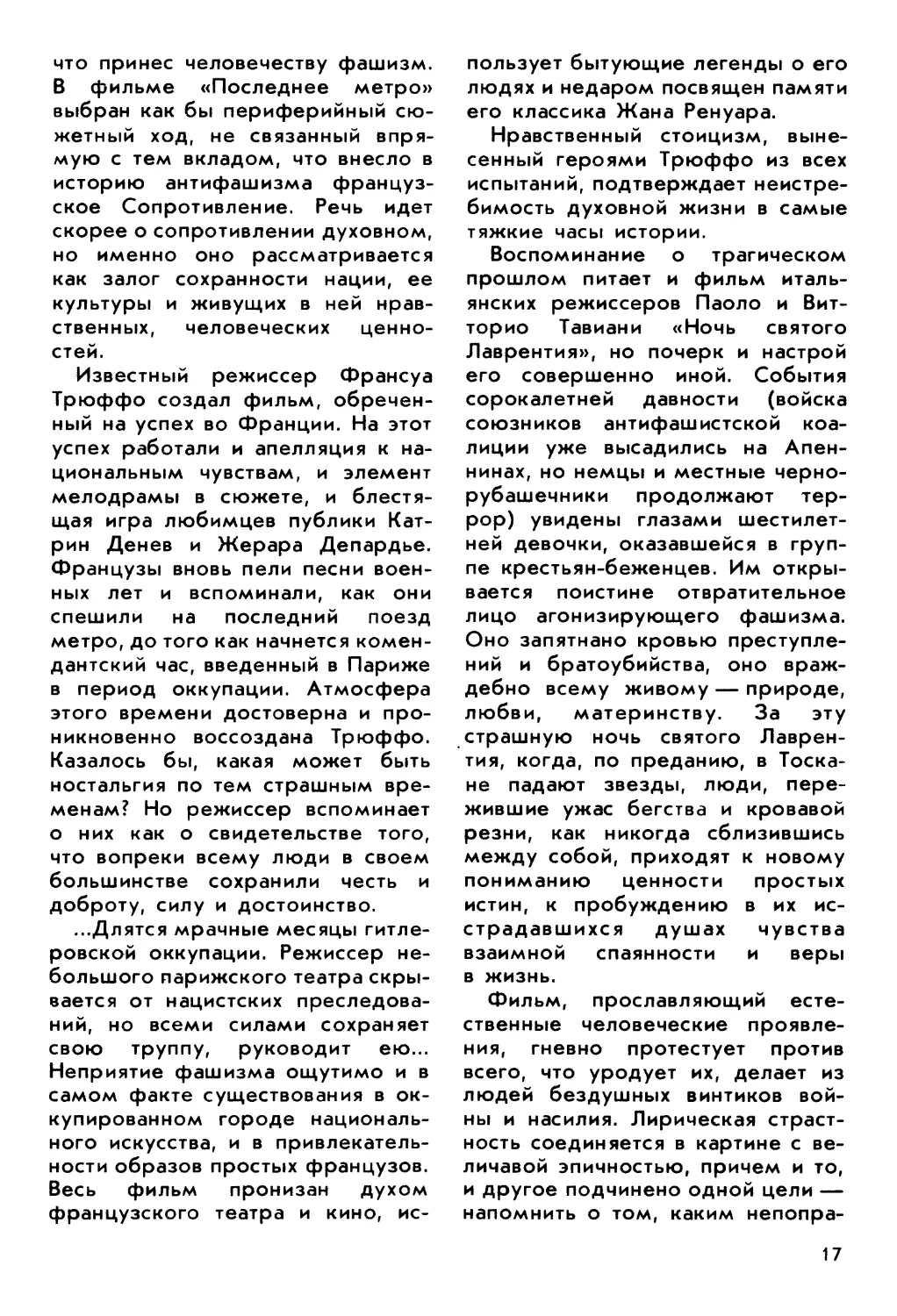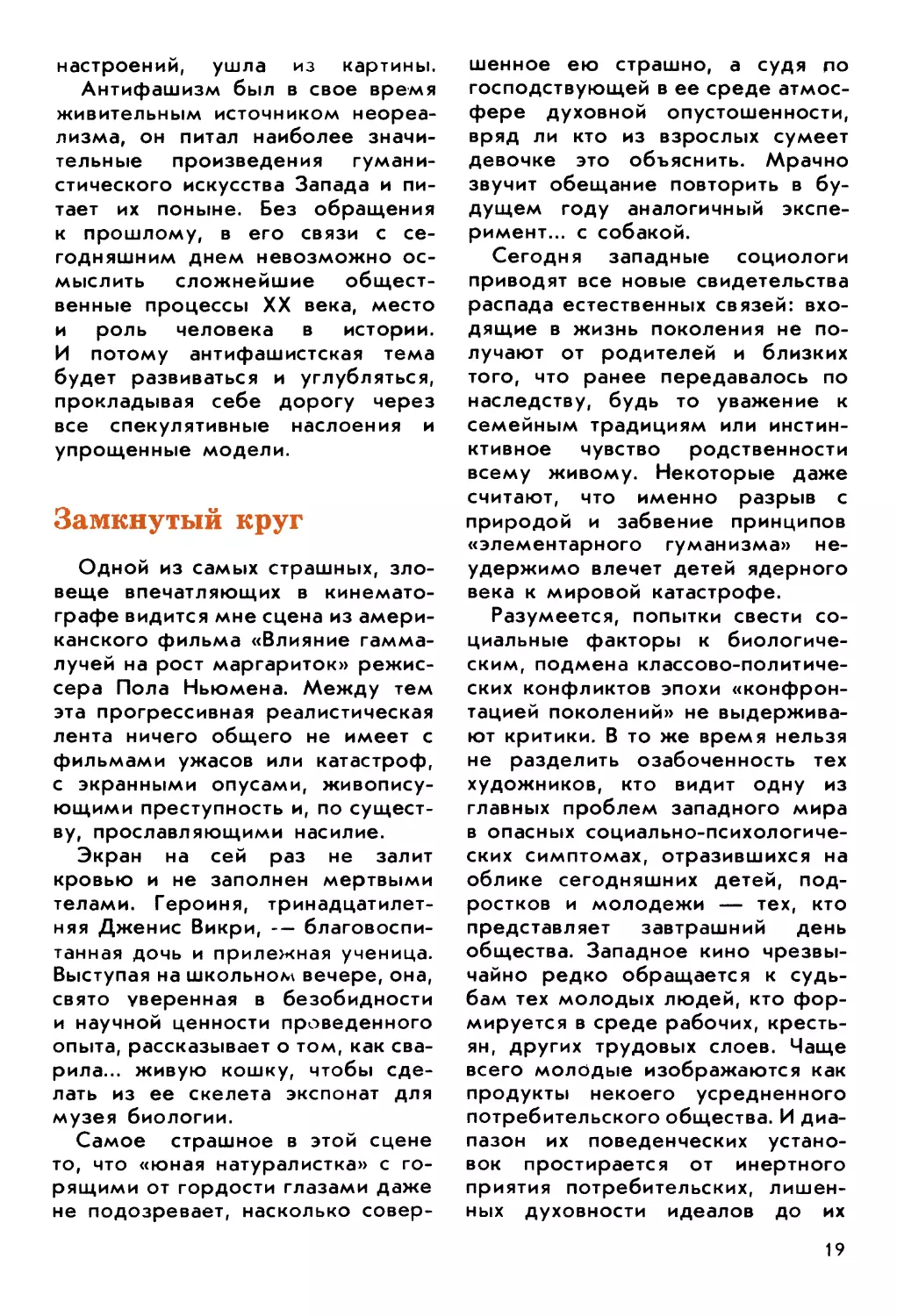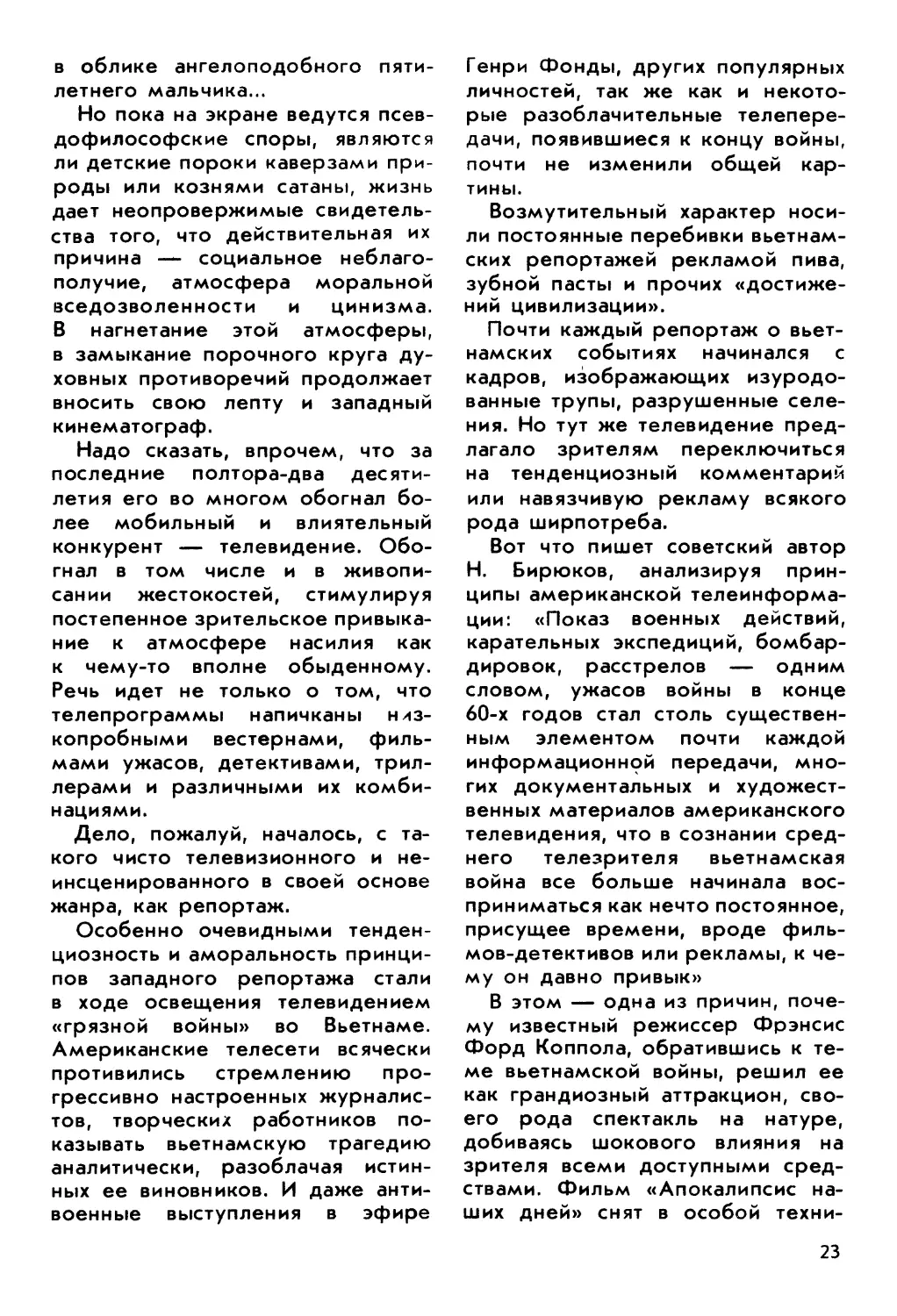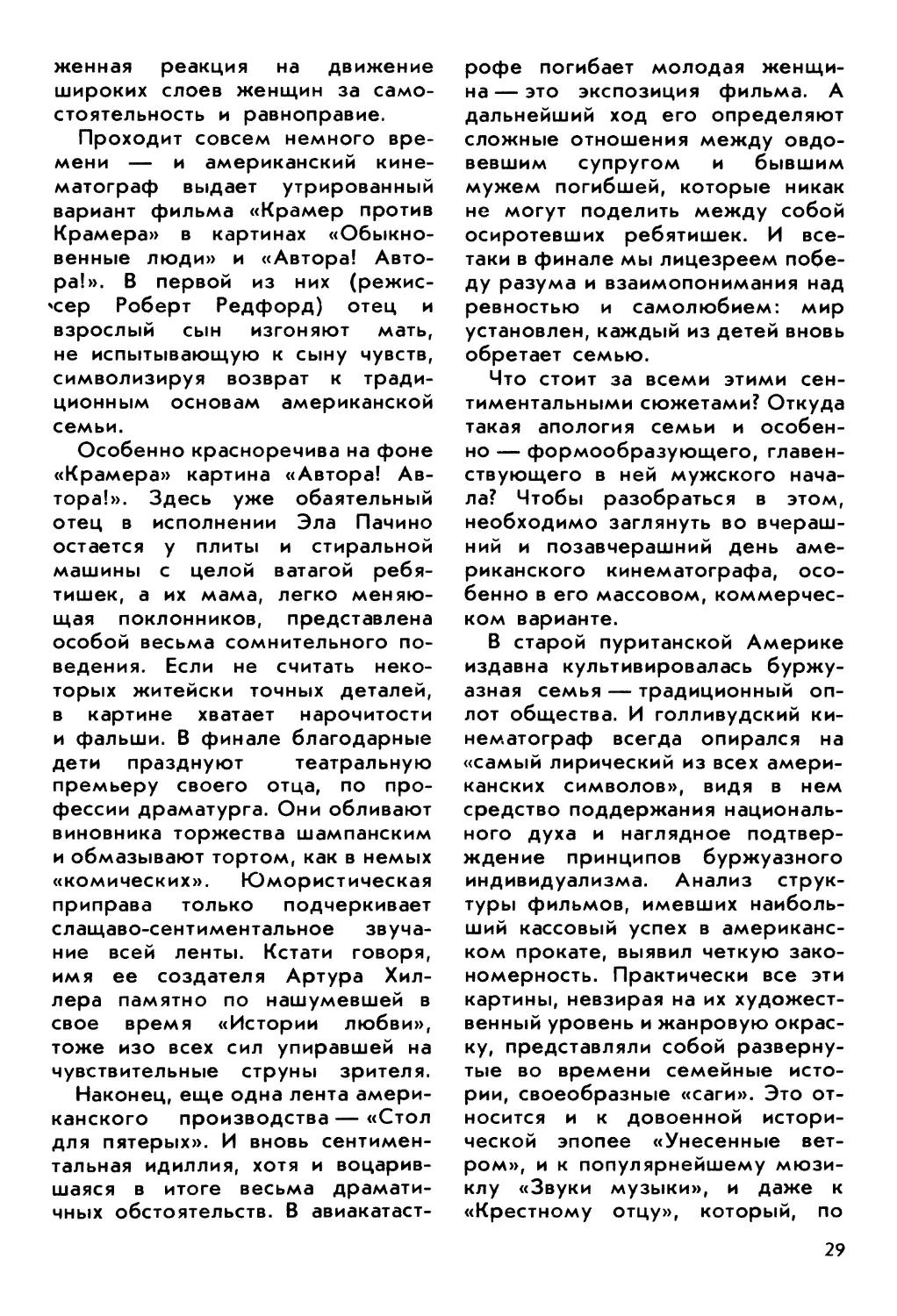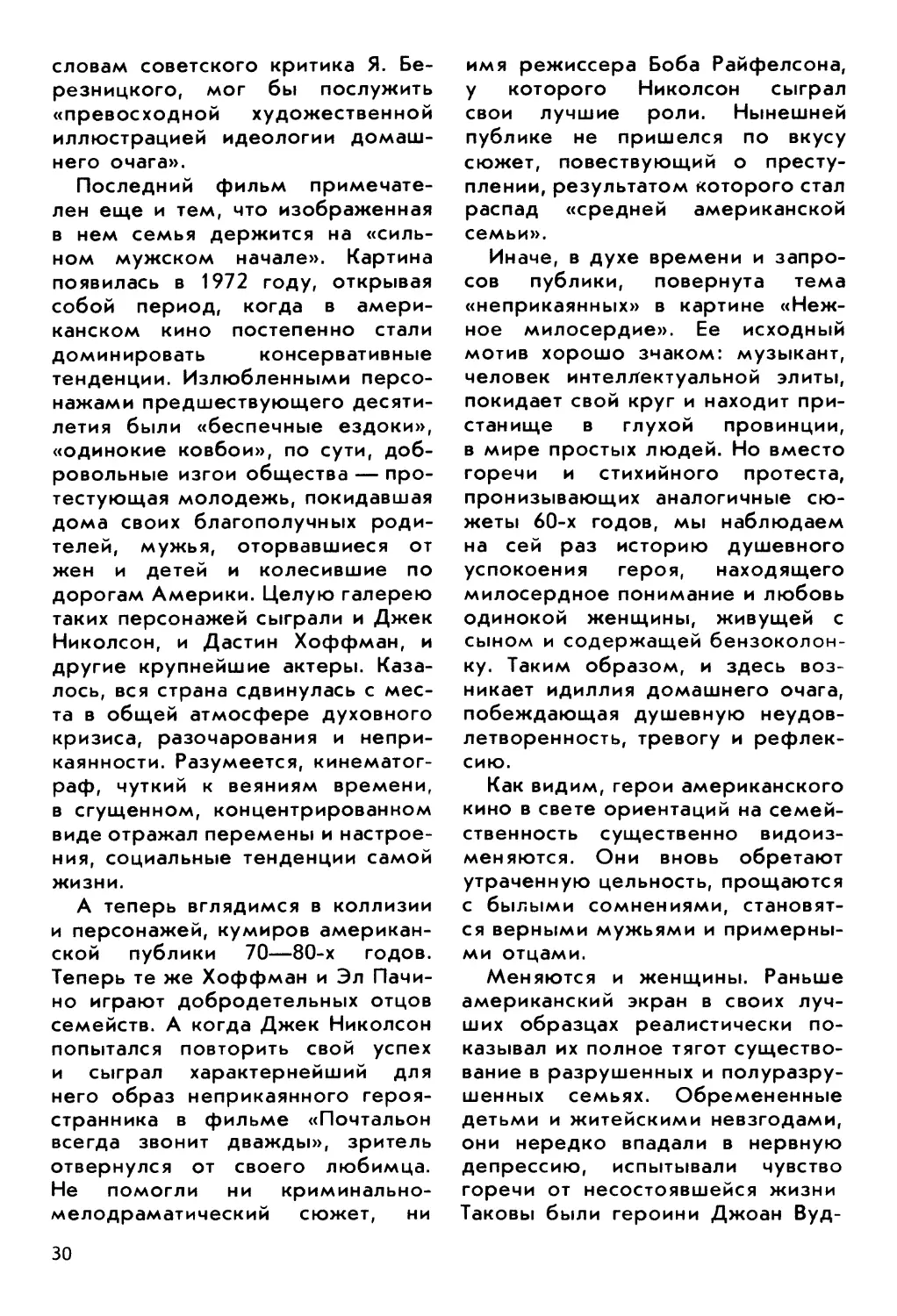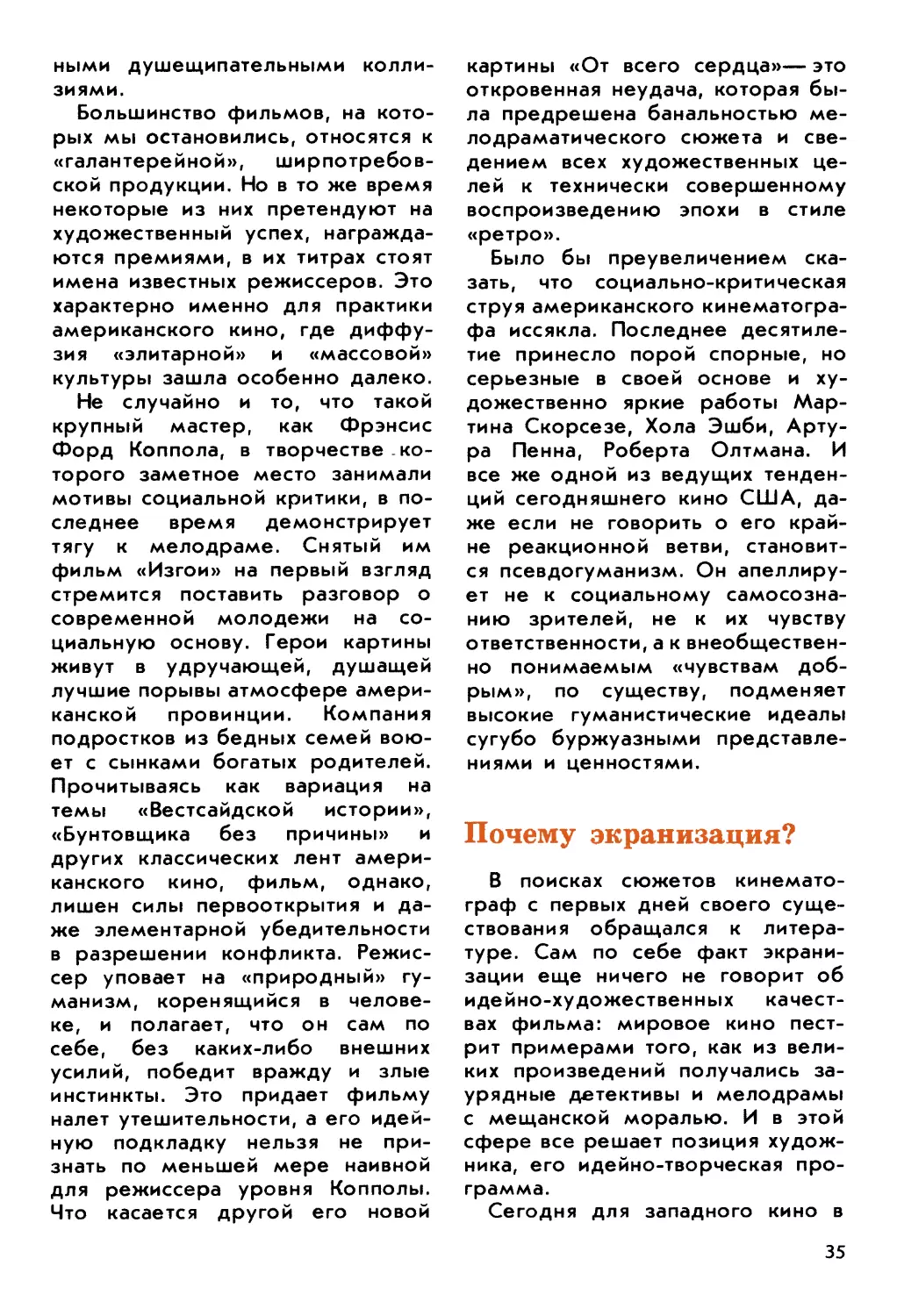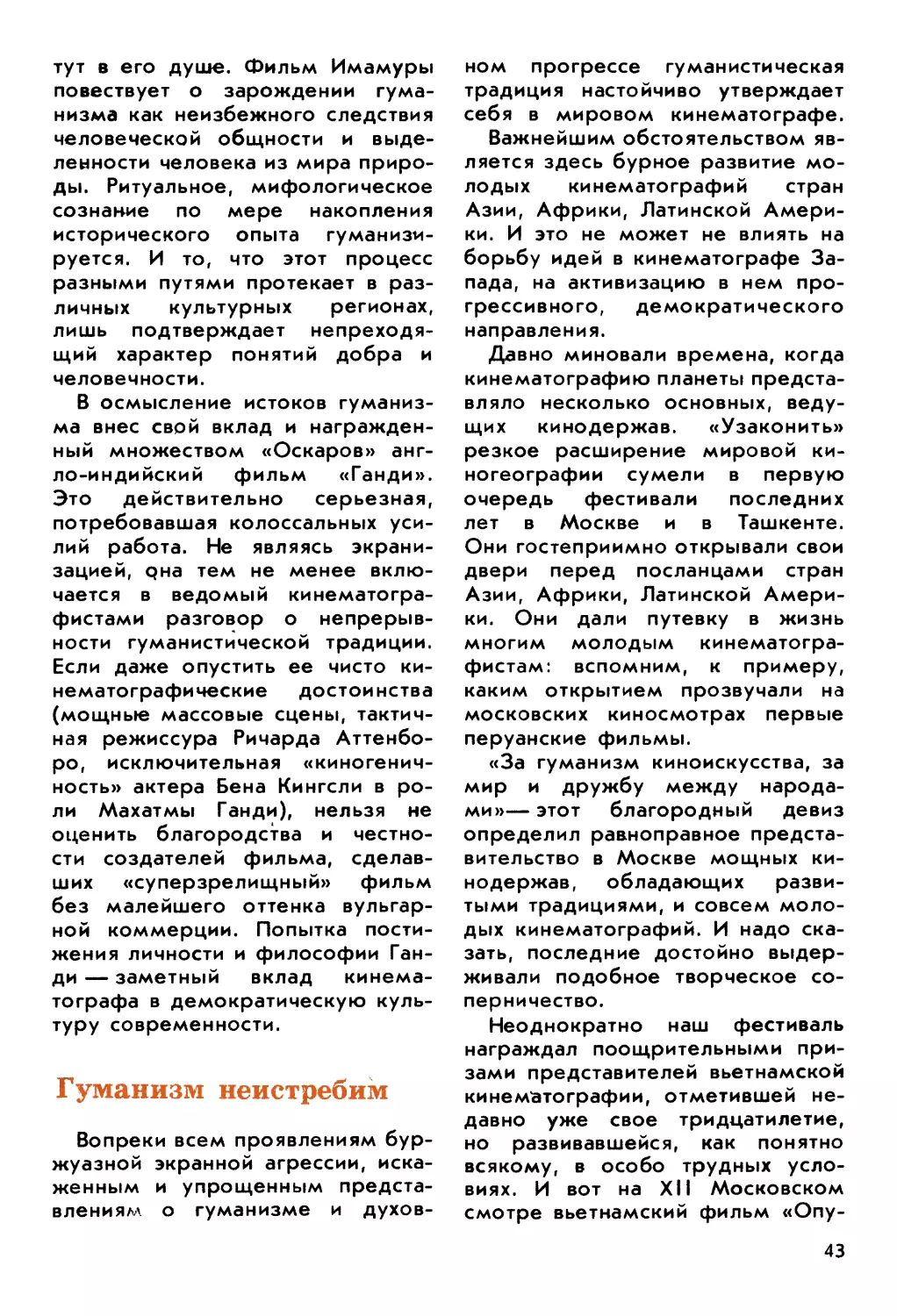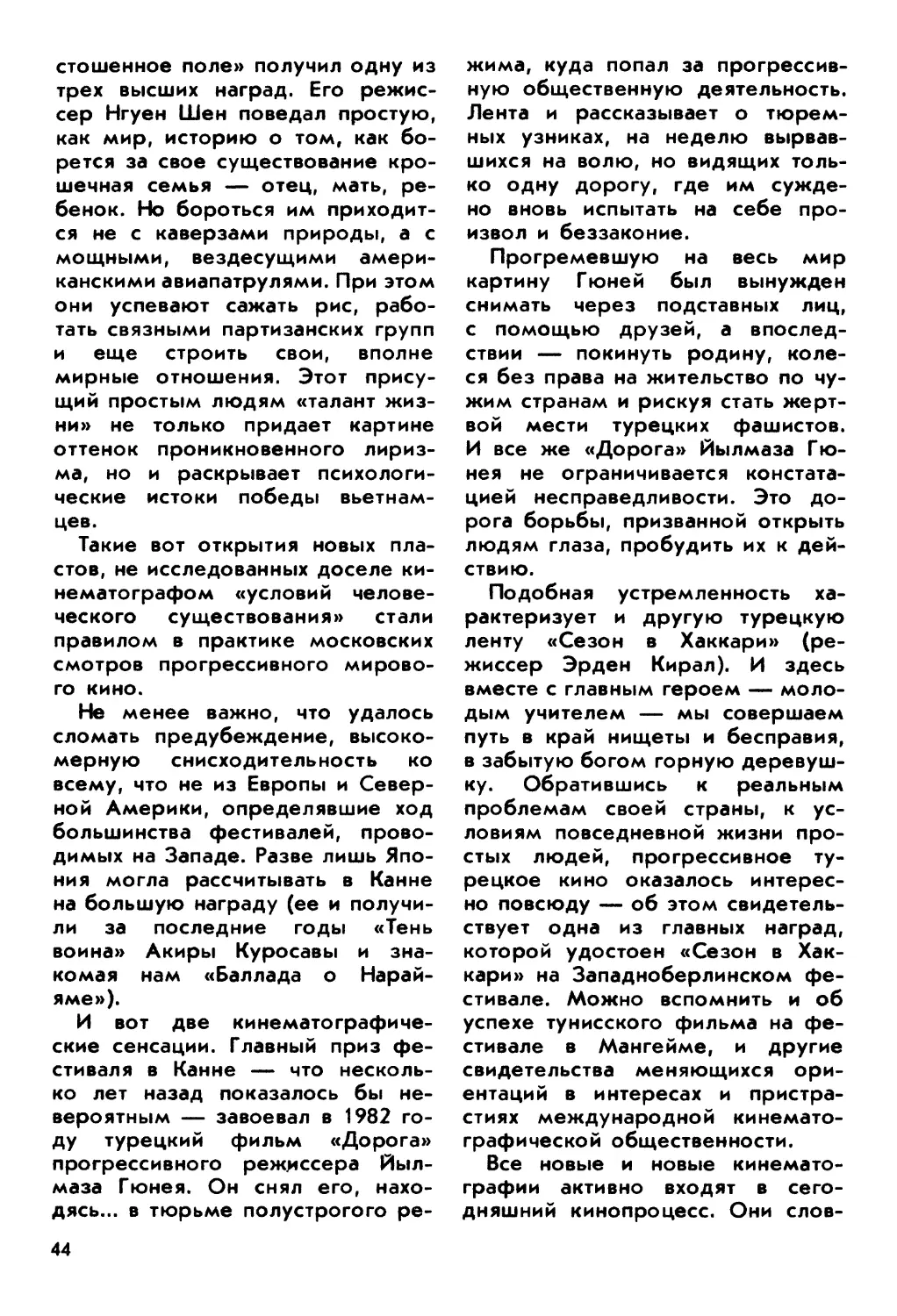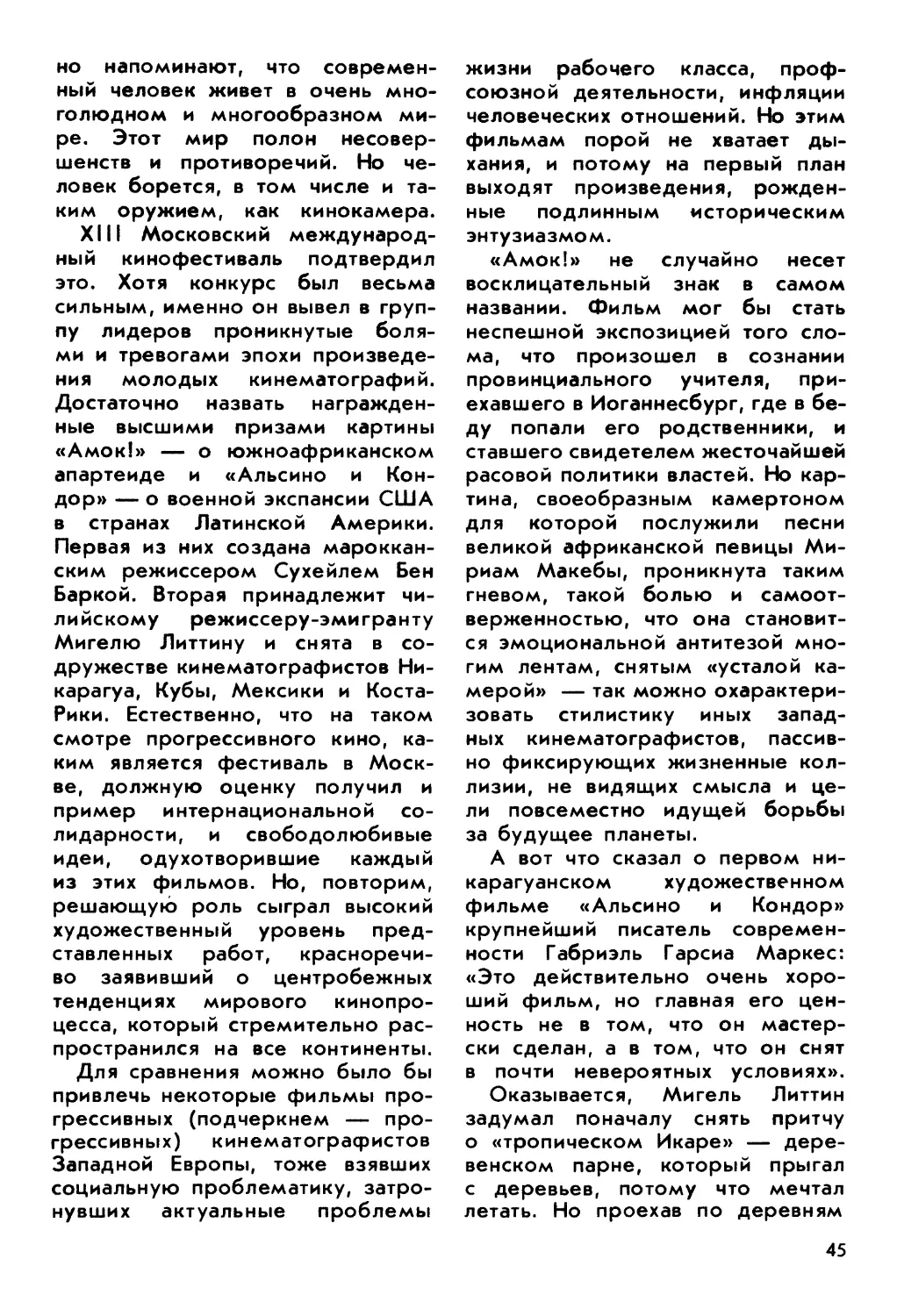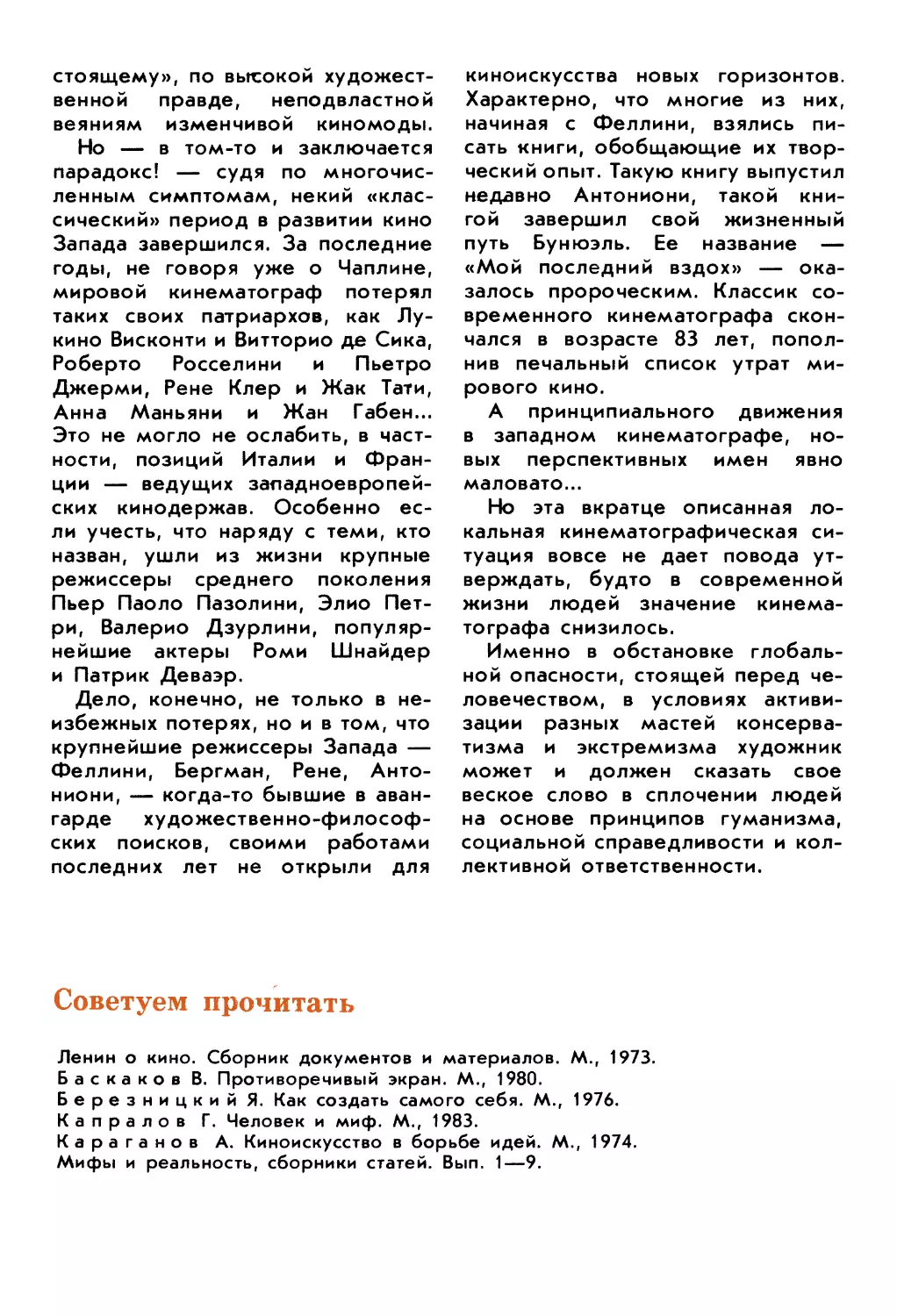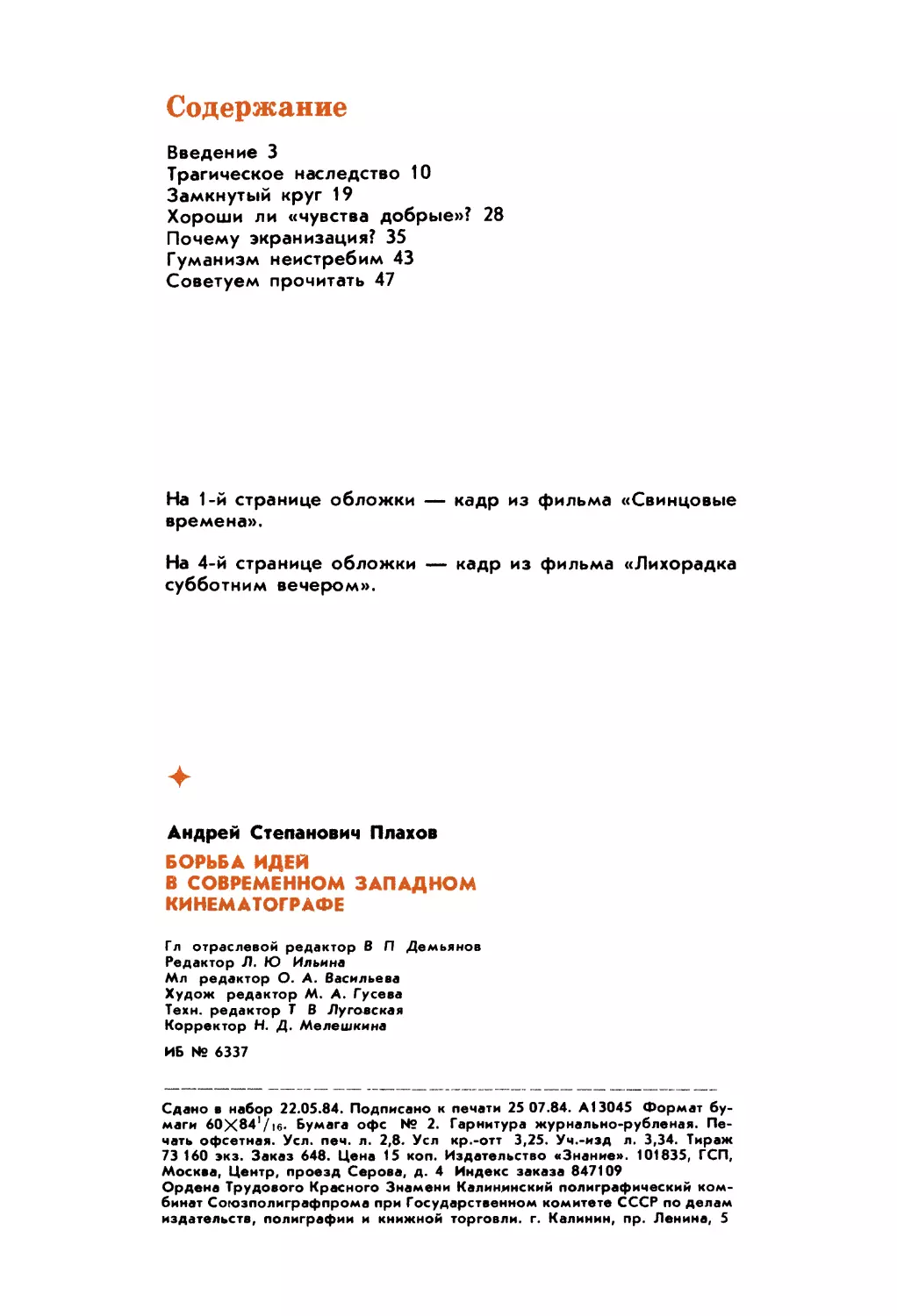Автор: Плахов А.С.
Теги: искусство искусствоведение политология идеология издательство знание кинематограф серия искуство
Год: 1984
Текст
искусство |
ПАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
1984 9
А.С.Плахов
БОРЬБА ИДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
ИСКУССТВО
9/1984
Издается ежемесячно с 1967 г.
А. С. Плахов
БОРЬБА ИДЕИ
В СОВРЕМЕННОМ
ЗАПАДНОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
Издательство «Знание» Москва 1984
ББК 85.5
П 37
ПЛАХОВ Андрей Степанович — кандидат искусствоведения,
спец. кор. газеты «Правда», автор многих работ по советскому
и зарубежному кино.
Рецензент: Л. Г. Мельвиль — кандидат искусствоведения,
заведующий сектором критики буржуазных идеологических
концепций киноискусства ВНИИ киноискусства Госкино СССР.
Плахов А. С.
П37 Борьба идей в современном западном
кинематографе.— М.: Знание, 1984. — 48 с.—(Новое
в жизни, науке, технике. Сер. «Искусство»; № 9).
15 к.
Основное содержание брошюры — современные буржуазные концепции
человека и их преломление в творчестве западных кинематографистов разных
направлений. Показаны и прогрессивные тенденции в творчестве ведущих мастеров
кино, отразивших кризис буржуазного индивидуализма, деперсонализацию
человека в мире буржуазных массовых коммуникаций. Вместе с тем автор говорит и о
наиболее перспективных концепциях активного, борющегося героя.
4910030000 ББК 85.5
778
© Издательство «Знание», 1984 г.
Введение
Кинематограф существует уже
без малого сто лет. Родившись как
аттракцион, он вырос в обширную
область культуры, без которой
немыслимо существование
современного человека.
Кинематограф — это одно из
ярких свидетельств технического
прогресса, его неиссякающих
возможностей. Это и основа новой—
экранной коммуникации,
нашедшей свое продолжение в
телевидении и видеозаписи. Это, наконец,
вид искусства, еще одна открытая
человечеством форма
художественного познания
действительности.
Кинематограф — искусство
массовое. Эта истина в последнее
десятилетие все более
настойчиво напоминает о себе во всем
мире. В развитии кино были
периоды, когда казалось, что его
исключительно определяют
творческие поиски ведущих мастеров,
далеко оторвавшихся от
«среднего уровня», который
характеризует так называемый
кинематографический «поток». Но если
именно этот «поток» становится
основной зрительской духовной
пищей, значит, составляющие его
не менее значимы, нежели
тенденции кинематографического
авангарда.
Кинематограф как
неотъемлемая часть культуры XX века
становится в наши дни полем
неустанной борьбы идей. Идеалы
мира и общественного
прогресса отстаивает социалистическое
киноискусство, все более весомый
вклад в кинопроцесс вносят
кинематографии развивающихся стран
Азии, Африки, Латинской
Америки.
Сложный период переживает
ныне кино Запада. Как и
прежде, наиболее честные и
прозорливые художники, стремясь
разобраться в непримиримых
социальных противоречиях, в истоках
духовного кризиса своей
общественной системы, с трагизмом
и болью говорят о ситуации, в
которой оказались миллионы
людей — членов внешне
благополучного «общества потребления».
Сквозь эту боль и этот трагизм
отчетливо различимо чувство
ответственности перед лицом
завтрашнего дня. Там же, где этого
нет, мы вправе говорить о
растерянности художника, об утрате им
ценностных ориентиров, о кризисе
художественной мысли, что по-
своему отражает кризис
общественный.
На Западе все больше
появляется фильмов откровенно
реакционных, антигуманистических.
Произведения, взывающие к уму
и совести человека, тонут в потоке
вульгарной коммерческой
продукции, не только насаждающей
мещанские идеалы и вкусы, но и
отучающей человека мыслить,
действовать, бороться. В связи с
ухудшением международного климата
в соответствии с экстремистским
курсом американской
администрации заметно прибавилось
киноопусов, протаскивающих на экран
разного рода реакционные идеи:
расизм, культ насилия,
показывающих человека с животными,
низменными инстинктами.
В этой брошюре мы коснемся
некоторых из подобных
«произведений», в частности, тех, что
насаждают аморализм и насилие,
спекулируют на интересе людей
к истории и политике, пытаются
прямо либо косвенно
реабилитировать фашизм. Вместе с тем раз-
3
говор пойдет и о том, как
неистребима традиция прогрессивного
киноискусства в нашем
динамичном мире, где неустанно
противоборствуют силы добра и зла,
воплощенные в конкретном
социальном обличье.
Мы уделим внимание и тем
западным кинолентам, где гуманизм
понимается упрощенно, внеисто-
рично, а порой и в весьма
желательном для буржуазной
идеологии духе. Наблюдая за
кинопроцессом, можно увидеть
красноречивые подтверждения
дегуманизации многих популярных
жанров западного кино —
мелодрамы, вестерна или триллера.
В современном кинопроцессе
находит одно из своих
конкретных проявлений ленинская теория
о двух культурах в буржуазном
обществе. В противовес фильмам,
выражающим идеологию
правящего класса, появляются,
невзирая на все трудности,
произведения демократические,
антибуржуазные по своему духу.
Сохранению гуманистических традиций
способствуют и усилия ряда
художников Запада воплотить
средствами кино великое наследие
духовной культуры человечества,
в частности произведения
литературной классики.
Сегодня в эпоху
высокоразвитого кино и телевидения спор о
человеке, о его прошлом,
настоящем и будущем приобретает
особую остроту. В него включены
огромные массы людей. И потому,
говоря о новейших тенденциях
западного кинематографа, не
забудем: речь идет о борьбе за
умы и сердца миллионов,
приобщенных к кино и испытывающих
на себе всю силу эмоционального
воздействия «десятой музы».
В одном из самых сильных
американских фильмов последних лет,
документальной ленте режиссера
Шелдона Ренана «Убийство
Америки» рассказывается о том, как
насилие стало в США типичным
способом разрешения личных,
социальных и политических
конфликтов. Сохранившаяся
кинохроника далласских событий
двадцатилетней давности, когда был убит
президент Кеннеди... Печально
знаменитые «немотивированные»
убийства десятков случайных
прохожих на площадях американских
городов... Преступления
маньяков, опьяненных разлитым в
воздухе насилием... Но, быть может,
особенно красноречив эпизод
бдения тысяч молодых людей,
собравшихся в Центральном парке
Нью-Йорка в годовщину убийства
их кумира — популярнейшего
музыканта Джона Леннона. Над
толпой плывет знаменитая
антивоенная песня одного из «Битлз»
«Дарим миру шанс». Лица
собравшихся одухотворены, полны
любви и печали. И вот после этой
просветленной финальной сцены
в титрах сообщается, что здесь
же, в парке, в это же время
совершены новые убийства самими
участниками траурной
церемонии... Этот фильм был воспринят
не только как сенсационное
свидетельство, но и как обвинение
американскому образу жизни,
неуклонно ведущему к
самоистреблению нации.
Другое экранное
свидетельство — теперь уже той роли
«международного жандарма», которую
взяли на себя США, фильм
французского режиссера Коста-Гавра-
са «Пропавший без вести». В 1982
году он был лидером
международного фестиваля в Канне.
Сенатор Эдмунд Хорман свято верит
в ценности американской демо-
4
кратиии. И когда в дни пиночетов-
ского бунта без вести пропадает
его сын-журналист,
аккредитованный в Сантьяго, отец едет в Чили
с единственной целью вернуть
Чарлза. Но за семь месяцев
расследования взору сенатора
открывается зловещая картина
организованного насилия, пропитавшего
все поры этой
латиноамериканской страны. Самое же страшное,
в представлении Хормана,
заключается в том, что его сын,
гражданин «свободной» страны, был
выдан пиночетовской хунте
американскими спецслужбами. Выдан за
прогрессивные убеждения, за то,
что сочувствовал правительству
Альенде...
В этом фильме снимались
американские артисты Джек Леммон
и Сисси Спасек. Леммон,
знаменитый комедийный актер
старшего поколения, сказал в одном из
интервью, что он, пожалуй,
впервые в жизни получил столь
серьезную роль и что, на его взгляд,
этот фильм также должен сыграть
важную роль и в жизни всего
американского общества: «Я
надеюсь, что, посмотрев «Пропавшего
без вести», мы поймем: подобное
не должно повториться». Молодая
актриса Сисси Спасек призналась,
что раньше ее мало
интересовала политика. «Но, готовившись к
съемкам, — продолжила она,—
я просмотрела документальный
фильм о чилийском певце Викторе
Харе. И поняла, какую трагедию
пережил этот народ, какую боль
принесли мы им. Я поняла, в чем
мы виноваты, и стала осознавать,
насколько фальшивы
высказывания наших политиков».
Об истинном отношении
прогрессивных кинематографистов к
сегодняшней политической
ситуации свидетельствует
охватившее творческую интеллигенцию
мощное движение против ядерной
угрозы. Среди тех, кто активно
участвует в борьбе за мир, —
актер Пол Ньюмен и режиссер
Орсон Уэллс, актрисы Джилл
Клейберг, Джоан Вудворт, Эллен
Берстин, Джули Кристи, Ванесса
Редгрейв, Мерил Стрип... В одном
из интервью Пол Ньюмен сказал:
«Некоторые наши фильмы рисуют
войну как «нормальное мужское
дело». Я считаю нормальным
мужским делом борьбу против
подобного взгляда, борьбу против
насилия — как в политике, так и в
отношениях между людьми».
Разоблачение социальных
корней насилия, творимого в западном
обществе, свойственно далеко не
всем фильмам, касающимся этой
проблемы. Даже наиболее
талантливые кинематографисты
Запада часто сводят ее к
утверждению якобы врожденной,
генетически закодированной
агрессивности человека, что автоматически
выводит за скобки ключевой
вопрос об ответственности за
насилие. Следы такого вот
абстрактного понимания природы зла
наряду с попытками социального
анализа можно обнаружить в
целом ряде нашумевших картин
70-х годов: и в «Механическом
апельсине» Стенли Кубрика, и в
«Крестном отце» Фрэнсиса Форда
Копполы, и в «Таксисте» Мартина
Скорсезе. Последний из них,
крупный американский режиссер,
говорит: «Герою фильма так больно,
что он вынужден делать больно
другим», — и считает это
исчерпывающим объяснением
показанной в картине кровавой драмы.
Вместе с тем именно в
прошедшем десятилетии значительных
успехов добилось прогрессивное
течение политического фильма,
5
наиболее весомо заявившее о себе
в работах итальянских режиссеров
Франческо Рози, Дамиано Дамиа-
ни, Элио Петри, Джулиано Мон-
тальдо и некоторых других. Они
критиковали мафию, коррупцию,
произвол полиции. Художники
политического кино вовремя
заговорили и о новом опаснейшем
персонаже политической сцены —
терроризме. Своеобразную
антологию этих мотивов мы находим
в знакомых нашим зрителям
фильмах Дамиани «Признание
комиссара полиции прокурору
республики», «Следствие окончено —
забудьте», «Я боюсь», «Человек на
коленях».
Однако уже во второй половине
70-х годов политическое кино на
Западе вступает в кризисный
период. Здесь сыграл роль целый
комплекс причин — и изменение
общественной ситуации, рост
неоконсервативных настроений, и
наступление коммерческого кино
под эгидой американского
капитала. Определенный внутренний
кризис претерпели и сами ведущие
мастера политического кино. На
рубеже 70—80-х годов
большинство из них не создало
произведений, достойных тех, что
были ранее. Уход от острых
общественных конфликтов в частную
жизнь человека, в анализ
формирующих его натуру
наследственно-биологических факторов
характеризует теперь многие картины
крупных западных режиссеров
последнего времени.
Но сознание того, что судьбы
отдельных людей все более тесно
переплетены с ходом истории,
все же проникает в работы
наиболее чутких к настроениям
времени художников. И недаром в
сегодняшнем прогрессивном
мировом кино повсеместно
возникает и варьируется мотив
причастности человека ко всему, что
происходит вокруг, невозможности
отгородиться от вихря мировых
событий, скрыться в скорлупе
мещанского существования, в
броне личной жизни или
сентиментальных воспоминаний. В одних
случаях мотив этот приобретает
на экране лирический,
исповедальный характер, в других он окрашен
едкой иронией. Но сегодня мно-
ние кинематографисты Запада
и особенно те, что приходят в
80-е годы на смену своим
старшим коллегам, даже обращаясь
к минувшему или развивая
мотивы, пролегающие в русле
кинематографической моды прошлых лет,
осмысливают их по-новому,
стремятся к более жесткой
расстановке акцентов, к более
непосредственному выражению своего
сегодняшнего мироощущения —
тревожного, нестабильного. Их
тревога перерастает порой в некое
почти вселенское беспокойство,
хотя конкретное действие фильма
может быть замкнуто в каком-
нибудь провинциальном и
относительно спокойном уголке
Европы, скажем, в Голландии или
Швейцарии.
В датской картине «Загша»
(режиссер Билле Аугуст) это
обманчивое спокойствие вроде бы
подтверждается и временем действия.
Оно протекает в начале 60-х годов,
и это позволяет предположить,
что перед нами еще один
ностальгический «фильм-ретро», фильм-
воспоминание. Волна такого рода
картин прокатилась по всему
миру: кинематографисты от
тридцати до сорока с нежностью
перелистывали страницы своего
отрочества, а оно, надо сказать, пришлось
на своеобразную пору. Люди,
вздохнув от послевоенных труд-
6
ностей, с надеждой смотрели в
будущее, верили, что технический
прогресс неузнаваемо преобразит
их жизнь, что «все будут делать
машины», что на помощь
человеку придут йоговская гимнастика
и гипноз... Многие из этих веяний
времени, данные через обрывки
разговоров, словно бы случайные
детали, присутствуют и в картине
«Заппа», как присутствуют в ней
неумелые ребячьи попытки
сплясать рок-н-ролл и претенциозные
девчоночьи прически «бабетты» —
под королеву тогдашнего экрана
Брижитт Бардо.
Казалось бы, какое отношение
имеют эти зарисовки к жгучим
сегодняшним проблемам?
Оказывается, имеют. Чтобы понять эту
зависимость, присмотримся
внимательнее к эволюции, которую
претерпевают герои датской ленты.
Трое подростков маются от
безделья в небольшом городке,
подшучивают над учителями,
приглядываются к соседским девочкам.
Неизбывная тяга к романтике и
риску побуждает их
организовать «банду», деяния которой
поначалу если и не вполне
невинны, то все же могут быть сочтены
за юношеские шалости,
неизбежные издержки переходного
возраста.
Не все, конечно, в жизни ребят
идиллично. В обеспеченной семье
Стина родители не слишком-то
ладят друг с другом, а потом отец
и вовсе уходит к другой женщине.
У Мюлля тяжело болеет мать, а
достаток семьи невелик,
отцу-рабочему приходится нелегко.
Социальное неравенство отраженным
светом падает и на отношения
между подростками: Стин
обращается с Мюллем высокомерно-
снисходительно, а то и с
изощренной жестокостью, что в итоге
приводит к конфликту и к
последствиям, печальным для Мюлля: он
вынужден покинуть школу и пойти
работать на завод.
Наиболее благополучным
кажется поначалу Бьерн: тихий
интеллигентный мальчик, он несет в
картине функцию лирического
героя, больше наблюдающего и
размышляющего, чем действующего.
Но в какой-то неуловимый момент
в фильме происходит крутой и
решительный перелом...
Вроде бы те же самые ребята,
только появляется в их лицах
какая-то недетская
ожесточенность, они все чаще впадают в
нервные срывы, болезненно
озлобляются. «Банда» врывается в новый
дом отца Стина и крушит все
вокруг: мебель, книги, картины...
Жертвами их вечерних вылазок
становятся владельцы
продуктовой лавки. И трудно представить,
что эти же мальчики, придя домой,
вежливы с родителями,
застенчивы и робки со своими школьными
подругами.
Действие фильма теперь уже
постоянно балансирует на зыбкой
грани, отделяющей мальчишеские
проказы от преступного
своеволия, юношескую энергию от
агрессии, любопытство от цинизма.
И в конце концов происходит
непоправимое. Происходит не
сразу, а как бы по этапам,
отмечающим нравственное падение
героев, «переступивших черту».
Кульминацией этого процесса
становится поступок Бьерна,
убившего любимую рыбу из аквариума
Стина — чудесную рыбу по имени
Заппа. Так, «лирический герой»
мстит своему наперснику за
высокомерие, за лидерство в «банде»,
за издевательства над Мюллем.
И вот уже бывшие друзья
схватываются в жестокой драке, исход
7
которой оказывается для обоих
роковым...
Резко меняя атмосферу и
тональность фильма, авторы не
затрудняют себя более подробными
мотивировками. И все же из
контекста картины следует: опасная
эволюция героев находится в
прямой связи с моральным
неблагополучием общества. По существу,
ребята предоставлены самим
себе: они социально инфантильны,
вырастают вне прочных духовных
традиций, в обстановке
бездушного мещанства и отчужденности.
Обращаясь к воспоминаниям
давних уже 60-х годов, авторы
фильма ищут в них истоки
сегодняшних проблем и противоречий: ведь
именно сегодня буржуазное
общество пожинает плоды
культивированной им на протяжении
десятилетий бездуховности и
вседозволенности.
Фильм тревожен, даже мрачен,
но не безысходен. В его
персонажах еще способна пробудиться
совесть, инстинктивная любовь к
живому, они еще могут
остановиться. Предупреждая о зыбкой
грани, за которой нет места
человечности, авторы смотрят на своих
героев с затаенной болью, с
грустной нежностью — так, кажется,
глядела на мир из своего
аквариума чудесная рыба по имени Зап-
па.
Разрушая изнутри схему
ностальгического «ретро»-фильма,
авторы как бы экстраполируют в
сегодняшний день тревогу и
озабоченность, в связи с тем что жизнь
на их глазах становится все более
жестокой и все менее
человечной.
Интересно, что в подобном
ключе выстроен и фильм, возникший
далеко от Европы. Речь идет об
австралийской картине «Зима
наших надежд» (режиссер Джон
Дуиган). В ней сопоставление
вчерашнего и сегодняшнего времен
задано уже не только через
эмоциональный подтекст, но и
непосредственно. К тому же фильм не
ограничивается выводом о
«затмении гуманизма», он стремится
выявить потенциальные
позитивные начала, коренящиеся в
обществе.
Тема картины — эволюция
одного поколения — не нова. Интерес
представляет способ ее
постановки. Не поднимаясь до больших
социальных и художественных
обобщений, пользуясь весьма
скромными средствами, авторы тем не
менее затрагивают тревожащие
симптомы потребительства,
общественной апатии, столь
характерные для нынешнего состояния
умов буржуазной интеллигенции.
Ценно и то, что этим явлениям
противостоят в картине, пусть еще
робкие, ростки духовного
сопротивления, неприятия норм
индивидуализма и обывательщины.
Юность героев фильма
пришлась на пору подъема
молодежного движения с его подчас
политически наивными, но
искренними и светлыми порывами.
Потом многие из вчерашних
бунтарей оказались своего рода
пленниками «общества потребления»
с его идеалом бездуховной
сытости. Другие же были жестоко
выброшены из этого самого
общества. Авторы фильма возлагают
надежду на тех, кто вопреки всему
не сломался, не стал
приспособленцем, кто, даже во многом
меняясь, сумел остаться самим собой.
Правда, сохранность своего
внутреннего «я» давалась дорогой
ценой...
Фильм начинается с подобия
детективной истории: при стран-
8
ных обстоятельствах погибла
женщина. Ее бывший друг Робин
начинает чувствовать себя
дискомфортно в своем благоустроенном,
отгороженном от тревог мира
существовании, особенно когда
появляется Лу с ее вульгарностью, с
гибельным пристрастием к
наркотикам, с глубокой
неудовлетворенностью жизнью. Нравственным
камертоном поступков героев
оказывается их память об общем
прошлом — «когда мы были
молодые», когда верили в возможность
изменения мира, когда дружно
шли в рядах антивоенных
демонстраций... И кадры юных
пикетчиков в финале мы воспринимаем
не только в том смысле, что
замкнулся круг судьбы одного
поколения, что одни выдохлись, а
другие вновь встали на путь
борьбы. Главное — надежда на
новый духовный всплеск, на
необоримость человеческой совести,
требующей не отъединенного и не
светского, но подлинно
коллективного существования, духовного
родства, преемственности.
Надеждой проникнута и одна из
самых серьезных картин,
воссоздающих
социально-нравственную атмосферу 80-х годов, —
«Свинцовые времена». Ее автор —
режиссер из ФРГ Маргарете фон
Тротта. Значительность этого
произведения в том, что оно дает
глубоко эмоциональный, очень
лично воспринятый образ
сегодняшнего духовного кризиса.
И вместе с тем этот образ
обобщен, представлен словно бы в
объемной исторической
перспективе.
Две сестры — героини ленты —
связаны родством, воспитанием,
и еще какой-то обостренной
совестливостью, не дающей
спокойно жить, «как все». Правда,
старшая пытается действовать, ищет
опору в любви, в умеренно
полезной общественной деятельности
(работает в женском журнале).
Но как разошлись ее пути с
младшей! Максималистка во всем, эта
не приемлет «маленькой пользы»,
хочет сразу перевернуть мир — и
оказывается в лагере терроризма.
Фильм, впрямую коснувшийся
опаснейшего явления сегодняшней
общественно-политической
жизни, не говорит в данном случае о
его идеологии, не анализирует
пагубных последствий. Режиссер
хочет прежде всего привлечь
внимание к истокам общественных и
духовных противоречий, на гребне
которых произросли кризисные
аномалии и уродства. Ибо
«нормальная» колея развития для
девушек-сестер, выросших в семье
пастора, была пресечена с самого
начала. Пусть героини фильма в
силу возраста не застали войны, но
они помнят время, когда
кинохроника фашистских концлагерей
только-только появилась на
экранах и была поистине ужасна.
Религиозное
мировоззрение,столкнувшись с действительностью,
где сам воздух еще дышал
убийством, породило глубокую
духовную травму младшей из сестер,
что привело ее в итоге к
отрицанию не только церковных
заповедей, но и элементарных принципов
гуманности. Возводя в культ
собственное «избранничество» и
принося в жертву абстрактным
идеалам других (возможно,
неповинных) людей, младшая сестра —
эту роль с большой драматической
силой исполняет актриса Барбара
Зукова — оказывается в тюрьме.
А что же старшая? Та, что
собирала сестре вещи, добросовестно
ходила в тюрьму, вынося и
унижения со стороны надзирателей, и
9
неблагодарное презрение
заключенной, и недовольный ропот
спутника жизни? Все ее вроде бы
благонамеренное существование,
кажется, висит на волоске, не в
силах обрести стабильности и
окончательно переворачивается, когда
по телевидению сообщают о
смерти в заключении печально
знаменитой террористки.
Самоубийство или убийство?
Этот вопрос отныне не дает покоя
оставшейся жить героине. Бросив
все, она углубляется в
криминалистику, находит свидетельства и
неопровержимо доказывает:
сестру убили! Но что следует за
этим открытием? Ни одна газета
не жаждет воспользоваться
сенсацией, а издатель в порыве
откровенности заявляет: «Вы сами
журналистка и должны понять:
внутренние проблемы террористов
никого не интересуют. Сейчас на
повестке дня человечества более
серьезный вопрос — о всеобщем
выживании».
С последним трудно спорить.
И однако же, чтобы выжило
человечество, необходимо создать
условия конкретному человеку,
вовремя помочь ему. И в этот
момент героиня вспоминает о сыне
своей погибшей сестры, о
мальчике, брошенном обеими
женщинами, так много думавшими о
проблемах женского равноправия,
о судьбах цивилизации, и так
мало — о ее элементарном
«кирпичике», живом человеке.
Оказывается, мальчик уже не по возрасту
взросл, болезненно переживает
драму матери и свое сиротство,
в один из мучительных моментов
пытался покончить с собой...
В финале картины героиня
стремится объясниться с племянником,
который представляет уже новое
поколение, во многом
неизведанное, загадочное. Только не таятся
ли эти загадки сегодняшнего дня
в не столь отдаленном прошлом?
Трагическое наследство
Мы не случайно завершили
введение рассказом о
западногерманском фильме «Свинцовые
времена». Кинематография ФРГ сильно
и уверенно заявляет о себе в
последнее время на мировом экране.
Причем особое место занимает в
ней анализ факторов и причин,
не только приведших в годы
третьего рейха к национальной
трагедии, но и побудивших
крупнейшие умы человечества
задуматься о судьбах гуманизма
в XX веке.
Коричневая чума фашизма стала
предметом пристального
художественного исследования
кинематографистов многих стран. Не
говоря уже о фильмах,
непосредственно касавшихся событий
второй мировой войны, на Западе за
последние два десятилетия
появилось немало произведений,
обнажающих
социально-психологические истоки и последствия
фашизма. В их титрах стоят имена
крупнейших режиссеров —
Висконти и Феллини, Де Сики и
Бертолуччи, Креймера и Шлезингера...
Актуальность этих картин
особенно отчетливо проявляется в свете
нынешних рецидивов неонацизма,
приобретающих чрезвычайную
опасность в обстановке
политической нестабильности и роста
неофашистских настроений в ряде
стран Запада.
Надо сказать, что в лоне
западного кинематографа антифашизм
столкнулся с возмутительными
попытками обелить позорное про-
10
шлое и очернить Сопротивление.
Одни из этих попыток были
достаточно откровенными, другие —
более или менее
завуалированными, сводящими конкретное
содержание преступлений
фашизма к «извечным» психологическим
конфликтам палача и жертвы.
Интерес к «подвигам» фашистских
молодчиков, к биографии
Гитлера раздувается на основе слабой
информированности молодежи
буржуазных стран о фактах
собственной истории, о тех
колоссальных несчастьях, которые
принес гитлеризм народам.
Вот и недавно появилась
очередная спекуляция такого рода,
причем появилась не где-нибудь, а в
Федеративной Республике
Германии. Речь идет о картине
режиссера Вольфганга Петерсона
«Подводная лодка». Вступительный
титр задает ей подобие
документальной убедительности:
напоминается, что за период второй
мировой войны из шестидесяти
тысяч немецких подводников (как
известно, совершавших пиратские
налеты на суда союзных стран)
погибло сорок тысяч. И далее
трехчасовой кинорассказ о буднях
одной такой вот подлодки
документирован во множестве
деталей: фильм почти физически
передает страшное напряжение
подводных боев, давление десятков
метров воды, тесноту и
замкнутость пространства, где
расположились герои фильма,
лихорадочную работу двигателей,
поршней — всей несовершенной
техники тех лет.
Но что же выходит в итоге?
Нас, по сути, призывают
восхититься героизмом этих
закаленных мужественных парней,
«морских волков», вынесших на себе
все тяготы войны и нелепо
убитых на суше уже после
выполнения боевого задания, во время
бомбардировки. Дабы избежать
упреков в чрезмерной
идеализации, режиссер и актеры
показывают, что их герои способны и на
разнузданный пьяный разгул —
но разве, мол, это не оправдано
сверхчеловеческими трудностями
их службы? В другой раз они
дружно затянут английский гимн —
но разве это не свидетельство их
чувства юмора, не покидающего
даже в миг смертельной
опасности?
Будучи вроде бы
беспристрастными в изображении персонажей
и ситуаций, авторы умалчивают о
главном — о той идеологии
фашистского варварства, которая
и направила этих «симпатяг» на
морскую охоту за мирными
судами. В фильме почти нет
фашистской символики, эти люди
представлены просто как отличные
ребята, профессионалы своего
дела. И где-то на горизонте картины
вызревает мысль: если бы все
в армии третьего рейха были
такими преданными служаками и
«настоящими мужчинами», не
проиграла бы Германия войну.
Отчетливый привкус реваншизма
присутствует в этой претендующей
на историческую объективность
картине.
Такого и иного плана
спекуляциям противостоят трезвые,
горькие ленты прогрессивных
кинематографистов ФРГ, внесших за
последние годы значительный
вклад в разработку
антифашистской темы. В одних картинах она
звучит непосредственно, например
в фильме Вольфа Грема «После
полуночи», поведавшем, как двое
молодых влюбленных пережили
темную ночь нацизма. В других —
эта тема приходит в сложное
11
взаимодействие с мотивом
разочарования, охватившего новое, после-
военное поколение, к которому
принадлежал такой своеобразный,
во многом противоречивый
мастер, как Райнер Вернер Фас-
сбиндер. Советские зрители
знакомы с его лучшей картиной
«Замужество Марии Браун», к ней
тематически примыкают фильмы
«Лола» и «Тоска Вероники Фосс».
Рассказывая о женских судьбах,
сформировавшихся в 40—50-е
годы, Фассбиндер выводит их
генеалогию из неизжитых
последствий фашизма, во многом
перевесивших плоды
разрекламированного в свое время
«экономического чуда». Режиссер
показывает, что над такими судьбами с
самого начала витали «ядовитые
газы» истории буржуазного
общества.
За свою недолгую жизнь
(режиссер умер недавно в возрасте
36 лет) Фассбиндер успел снять
более сорока картин, поставил
множество спектаклей, снялся как
актер в фильмах других
режиссеров. Его работы неравноценны,
но наиболее зрелые из них
пронизаны тонким пониманием связи
истории и современности, полны
трагизма и протеста.
В «Замужестве Марии Браун»
Фассбиндер прослеживает одну
судьбу — судьбу рядовой, хотя и
по-своему незаурядной женщины
(ее играет Ханна Шигулла,
получившая благодаря этой работе
всемирную известность). Муж
Марии на следующий день после
бракосочетания уходит на войну,
где пропадает без вести. Война
окончена, любимого все нет.
Голодная, отчаявшаяся Мария
знакомится с солдатом американской
армии. Жизнь вроде бы начинает
входить в колею, и тут
возвращается муж. Вспыхивает драка,
и Мария, словно в каком-то
сомнамбулизме, убивает американца.
Муж берет вину на себя и садится
в тюрьму. Мария устраивается на
работу, проявляет завидные
деловые качества и, пользуясь
покровительством шефа, входит в
руководство солидной фирмы.
Наступает долгожданное благополучие,
меняется быт: вместо тесной,
убогой квартирки и старых вещей,
ждущих, чтобы их обменяли на
съестное, — просторный дом,
обставленный по модным
рекламным проспектам. Сюда
возвращается странствовавший после
тюрьмы и также разбогатевший
муж Марии, ради которого все
эти годы она проявляла столько
неукротимой энергии. И вдруг
колоссальными усилиями
возведенное здание семейного
благополучия рушится: Мария,
поспешно прикурив от плиты сигарету,
не погасила горелку, и теперь
достаточно чиркнуть спичкой,
чтобы раздался взрыв...
Такой финал не имеет ничего
общего с несчастным
случаем, вообще со случайностью.
Взрыв, разбивший эфемерное
семейное счастье Марии,—лишь эхо
эфемерности мифа об
«экономическом чуде», о том, что можно
легко и просто забыть
трагическое прошлое. И частная жизнь
Марии Браун не что иное, как
отражение общих для многих ее
соотечественников обстоятельств.
В своих последних работах
Фассбиндер часто обращался к
женским судьбам,
деформированным самим ходом истории. Из
фильма в фильм режиссер говорил
о вытравливании в человеке
человеческого, о целенаправленном
обезличивании, которому
подвергаются люди в так называемом
12
«мире равных возможностей».
В этом смысле тотальная
унификация, которая становится
правилом в фашистском
государстве, — лишь наглядное,
концентрированное выражение общей
тенденции буржуазной жизни.
Война у Фассбиндера врезается
в послевоенную мирную
действительность и заостряет ее
обыденные коллизии, то и дело
отзывается зловещими ассоциациями.
В фильме «Тоска Вероники Фосс»
компания врачей, что держит под
своим надзором бывшую
кинозвезду — опустившуюся
наркоманку, — подозрительно
напоминает «медицинский персонал»
фашистских концлагерей. И над
героями «Лолы» словно витает рок
истории: вся их лихорадочная
деятельность в эпоху
послевоенной стабилизации разворачивается
по моделям, сформированным
еще при фашизме.
Неизжитый «национальный
комплекс» вины за прошлое до
последних дней определял
безысходную, мрачную атмосферу
картин Фассбиндера. Многое в его
разноликом и обширном
творчестве для нас неприемлемо. И все
же следует признать: в лице
западногерманского режиссера
мировой кинематограф обрел и, к
сожалению, слишком оано потерял
художника искреннего,
мятущегося, трагичного.
Характерной чертой лучших
западногерманских фильмов о
трагическом наследии истории
становится их глубинная связь
с проблемами и тревогами 80-х
годов, когда человечество вновь
оказалось перед лицом реальной
военной угрозы.
Вот интересный, хотяи спорный
с точки зрения художественного
решения пример — фильм режис-
Кадр из фильма
«Ментоловый мир»
сера Марианны Розенбаум
«Ментоловый мир».
...Военное детство, расколотое
взрывами бомб и крушением
человеческих связей. Отец юной
Марианны — героини ленты —
школьный учитель. Бросив свою
мирную профессию, он воюет на
чужой земле, где-то под
Смоленском. Потом, к концу войны,
возвращается и находит только
призрак домашнего очага:
прошлое нельзя зачеркнуть и забыть.
Другие и вовсе не возвращаются,
и соблазнительной соседке
Марианны ее погибшего мужа
заменяет «победитель» — американец,
наделенный символическим
именем «мистер Фриден» ({пес1еп —
по-немецки мир). Этот супермен,
«стопроцентный мужчина» (его
играет Питер Фонда) разъезжает
на форде, вызывая восторг
соседских ребятишек и награждая их
после каждой встречи с
любовницей автомобильной прогулкой и
порцией ментоловых жвачек.
Только и эта иллюзия
долгожданного мирного быта вскоре
рушится. На пороге другое время.
В разгар вступает холодная война.
13
Пастор, ведающий религиозным
воспитанием детей, внушает им
мысль о всеобщей греховности и
пугает призраком коммунизма.
А где-то на другом конце земного
шара снова льется кровь...
Но люди начали что-то понимать,
хотя и дорогой ценой. Даже
ограниченная соседка Марианны
скептически ухмыляется, когда речь
заходит о пресловутом мистере
Мире, посланном в качестве
«гонца свободы» на очередную
военную авантюру: «Это мою-то
свободу он защищает в Корее?» И
умудренную ранним опытом девочку не
так-то просто на этот счет
успокоить, заверив, что Корея от
Германии далеко: «Так же далеко, как
Смоленск?»
В черно-белые воспоминания
Марианны врываются цветные сны,
в них все деформировано и
перемещено: обманчивое ментоловое
обаяние мистера Мира, кошмар
Хиросимы, проклятия пастора,
сеющего страх перед русскими и
бичующего тех, кто... употребляет
жвачку...
Может быть, в чем-то и нарушая
психологию возраста, внедряя в
сознание тех лет обостренную
сегодняшнюю тревогу, Марианна
Розенбаум — режиссер этой, по
существу, автобиографической
ленты — приводит свою
маленькую героиню к заботе о судьбах
большого мира, к страстному
протесту против войны.
Здесь само собой напрашивается
сопоставление с рассмотренной
выше картиной «Свинцовые
времена».
В обоих фильмах, снятых
режиссерами-женщинами,
происходящее воспринято взглядом
лирической героини, а1тег едо автора.
Только взгляд этот менее всего
лиричен и никак не укладывается
в рамки частных, интимных
перипетий. И Маргарете фон Тротта
(«Свинцовые времена»), и
Марианна Розенбаум («Ментоловый мир»),
что видно уже по названиям их
картин, стремятся создать
обобщенный образ мира и времени,
в котором каждая из них себя
ощущает. Они обнажают горькие
уроки «свинцовых времен»,
неопровержимо проступающие
сквозь ментоловую оболочку
«общества потребления». Они не ищут
благостного спокойствия, но
знают: огонь и свинец, насилие и
самообман никому не принесли
счастья. Не принесут и впредь...
А вот фильм, в котором никто
никого не убивает, и оружие
появляется только в
полукомедийных сценах бесконечных ссор
между двумя братьями. Оскар и
Хуан — герои испанской картины
«Демоны в саду»—связаны
извечными отношениями дружбы-
соперничества, к тому же
наделены южным темпераментом и
мгновенно переходят от проклятий и
угроз к объятиям и слезам
раскаяния.
Да и все остальное
происходящее в фильме на первый взгляд
годится лишь для мелодрамы или
бытовой комедии. На экране —
тривиальная житейская история
одной провинциальной
мелкобуржуазной семьи, содержащей
магазин под пышным названием
«Сад». В то время как Оскар
женится на красавице Ане, ловелас
Хуан перед отъездом в Мадрид
соблазняет бедную соседку Анхе-
лу.
Родившийся от этой связи Хуани-
то, повзрослевший на десять лет
и начавший уже кое-что понимать,
становится главным лирическим
персонажем, от лица которого
ведется дальнейшее повествование.
14
Кадр из фильма
«Демоны в саду»
15
Впрочем, оно и теперь не сулит
выхода из камерного мирка
мещанских страстей. Глория, бабушка
Хуанито и владелица «Сада»,
обожает и балует
незаконнорожденного внука, но травит и третирует
его мать, которая, разумеется,
«не нашего круга». А потом в
кассе магазина пропадают деньги,
и Хуанито, дабы спасти от
подозрений Анхелу, выдает ему одному
известную тайну: это тетка Ана
пошла на воровство, стремясь
угодить давно любимому ею
Хуану, вернувшемуся в
родительский дом...
В сущности, во всех этих
перипетиях как таковых нет ничего
особенно волнующего. А фильм
рождает целую гамму сильных
эмоций. Есть в нем и какая-то
загадка: молодой режиссер
Мануэль Гутьеррес Арагон сумел
насытить каждый кадр своего
произведения подспудной
экспрессией, создать подтекст и
атмосферу, благодаря которым в
неприхотливом сюжете открывается
нечто куда более значительное.
Возьмем хотя бы название
картины. Вроде бы ее герои —
«хранительница традиций» Глория, ее
сыновья, их жены, любовницы и
дети ничуть не напоминают
пресловутых «демонов». Но нечто
демоническое все же витает в
воздухе фильма. Мало того, оно и
определяет безнадежно
повторяющиеся, порой абсурдные отношения
между персонажами, их
болезненные срывы, их взаимную любовь-
ненависть, их блуждание по
душному замкнутому кругу.
Все дело в том, что действие
происходит в годы правления
Франко. И хотя герои ленты не
так уж близки к политике и живут
скорее интересами
«экономическими», они несут зерна
фашизма как бы внутри себя. Фашизма
с культивируемым им
подобострастием перед сильными и
унижением слабого, с его ханжеством и
в то же время с разнузданностью
самых низменных инстинктов.
Нет, подчеркнем еще раз, герои
фильма — не «демоны», они
скорее жертвы, но они же и
питательная среда того, что в течение
десятилетий происходило в
Испании.
Не случайно Хуанито
представлен в картине мальчиком
болезненно чувствительным, как
сейсмограф, реагирующим на перепады
нравственного климата, на
проявление человеческой низости и
благородства. Навсегда запечатлеется
в его сознании приезд из столицы
отца, состоящего в свите Франко.
Мальчик надеется увидеть
«настоящего мужчину», в согласии с
догматами профашистского
воспитания, причем чувство это
усилено осознанием «незаконности»
своего появления на свет. Видит
же последнего из последних,
жалкого лакея, ублажающего на
отдыхе каудильо — так величали
Франко... Этот эпизод, как и
многие вошедшие в фильм лирические
откровения отрочества,
протекающего в душной общественной
атмосфере, роднят «Демонов в
саду» со знакомым нашим
зрителям «Амаркордом» Феллини. При
том, что в фильме Арагона
безошибочно ощутимо
своеобразие «испанского духа» с присущим
ему сочетанием иронии и
нежности: это особенно сказалось в
женских образах, созданных
замечательными актрисами Анхелой Мо-
линой и Аной Белен.
И еще одна картина — на этот
раз очень французская по духу,
также проникнутая отчетливым
критическим отношением к тому,
16
что принес человечеству фашизм.
В фильме «Последнее метро»
выбран как бы периферийный
сюжетный ход, не связанный
впрямую с тем вкладом, что внесло в
историю антифашизма
французское Сопротивление. Речь идет
скорее о сопротивлении духовном,
но именно оно рассматривается
как залог сохранности нации, ее
культуры и живущих в ней
нравственных, человеческих
ценностей.
Известный режиссер Франсуа
Трюффо создал фильм,
обреченный на успех во Франции. На этот
успех работали и апелляция к
национальным чувствам, и элемент
мелодрамы в сюжете, и
блестящая игра любимцев публики
Катрин Денев и Жерара Депардье.
Французы вновь пели песни
военных лет и вспоминали, как они
спешили на последний поезд
метро, до того как начнется
комендантский час, введенный в Париже
в период оккупации. Атмосфера
этого времени достоверна и
проникновенно воссоздана Трюффо.
Казалось бы, какая может быть
ностальгия по тем страшным
временам? Но режиссер вспоминает
о них как о свидетельстве того,
что вопреки всему люди в своем
большинстве сохранили честь и
доброту, силу и достоинство.
...Длятся мрачные месяцы
гитлеровской оккупации. Режиссер
небольшого парижского театра
скрывается от нацистских
преследований, но всеми силами сохраняет
свою труппу, руководит ею...
Неприятие фашизма ощутимо и в
самом факте существования в
оккупированном городе
национального искусства, и в
привлекательности образов простых французов.
Весь фильм пронизан духом
французского театра и кино,
использует бытующие легенды о его
людях и недаром посвящен памяти
его классика Жана Ренуара.
Нравственный стоицизм,
вынесенный героями Трюффо из всех
испытаний, подтверждает
неистребимость духовной жизни в самые
тяжкие часы истории.
Воспоминание о трагическом
прошлом питает и фильм
итальянских режиссеров Паоло и Вит-
торио Тавиани «Ночь святого
Лаврентия», но почерк и настрой
его совершенно иной. События
сорокалетней давности (войска
союзников антифашистской
коалиции уже высадились на
Апеннинах, но немцы и местные
чернорубашечники продолжают
террор) увидены глазами
шестилетней девочки, оказавшейся в
группе крестьян-беженцев. Им
открывается поистине отвратительное
лицо агонизирующего фашизма.
Оно запятнано кровью
преступлений и братоубийства, оно
враждебно всему живому — природе,
любви, материнству. За эту
страшную ночь святого
Лаврентия, когда, по преданию, в
Тоскане падают звезды, люди,
пережившие ужас бегства и кровавой
резни, как никогда сблизившись
между собой, приходят к новому
пониманию ценности простых
истин, к пробуждению в их
исстрадавшихся душах чувства
взаимной спаянности и веры
в жизнь.
Фильм, прославляющий
естественные человеческие
проявления, гневно протестует против
всего, что уродует их, делает из
людей бездушных винтиков
войны и насилия. Лирическая
страстность соединяется в картине с
величавой эпичностью, причем и то,
и другое подчинено одной цели —
напомнить о том, каким непопра-
17
вимым злом стал фашизм для
простых людей Италии.
В традицию антифашистского
кино вписались и некоторые
другие работы прогрессивных
западных кинематографистов,
неопровержимо доказывающие, что
антифашистская тема
по-прежнему жива и актуальна. Под
разными углами зрения
рассматривая не столь давнее прошлое,
авторы этих картин
взволнованно говорят о том, что тревожит
людей сегодня.
Логическим продолжением
этого актуального разговора
становятся фильмы о прямых
наследниках фашистской идеологии,
пытающихся возродить ее
сегодня на практике. Одна из
подобных картин так и называется —
«Наследники». Она поставлена
австрийским режиссером
Вальтером Баннертом и перекликается
с другой, итальянской лентой —
«Площадь Сан-Бабила, 20 часов:
бессмысленное убийство» Карло
Лидзани, знакомой нашим
зрителям. В обоих случаях мы имеем
дело с подробным
социологическим анализом деятельности
молодежных профашистских групп.
И хотя этот анализ не вполне
совершенен с точки зрения
социальной и психологической, не
вызывают сомнений намерения
авторов разобраться в страшном
феномене наших дней,
произросшем в лоне буржуазной
действительности.
Надо сказать, что австрийские
кинематографисты особенно
внимательны к этой проблеме.
Памятен созданный ими несколько лет
назад фильм «Касбах», в центре
его — разоблачительный образ
воинствующего обывателя,
реализующего свои представления о
«настоящем мужчине» на
неофашистских сборищах. Впрочем,
уже в этой картине заметную
роль играют сексопатологические
мотивы, впрямую связываемые с
уродливым мировоззрением
героя. Подобная связь достаточно
характерна для западных
кинолент, трактующих
психологическую подоплеку фашизма.
Нередко они отдают дань внеисто-
ричным, фрейдистским
концепциям, объясняют фашизацию
мелкобуржуазного сознания не
логикой социальных
обстоятельств, а каверзами больного
подсознания, изначально
присущей человеку агрессивностью,
«комплексом палача и
жертвы» и т. д.
Следы такого рода
умозрительных построений видны и в новом
австрийском фильме «Гравий»
(режиссер Лукас Степаник), хотя
намерения его авторов сами по
себе благородны. С явным
осуждением представлен профашистски
настроенный Фридрих,
пытающийся оправдать злодеяния
гитлеровцев спекулятивными
расовыми теориями. Сюжетной
основой фильма становится
психологический конфликт Фридриха с
еврейской девушкой Ханной,
родители которой испытали те же
теории на практике, пройдя через
ужас концлагеря. Однако
углубившись в психологическое
штудирование поступков героев,
авторы сами начинают склоняться к
тому, чтобы объяснить их через
иррациональный «голос крови».
Лишив историю Фридриха и
Ханны реального жизненного фона,
перенасытив ее навязчивой
эротикой, режиссер придал своему
фильму герметичный,
лабораторный характер. И правда
исторических обстоятельств, ведущих
к возрождению фашиствующих
18
настроений, ушла из картины.
Антифашизм был в свое время
живительным источником
неореализма, он питал наиболее
значительные произведения
гуманистического искусства Запада и
питает их поныне. Без обращения
к прошлому, в его связи с
сегодняшним днем невозможно
осмыслить сложнейшие
общественные процессы XX века, место
и роль человека в истории.
И потому антифашистская тема
будет развиваться и углубляться,
прокладывая себе дорогу через
все спекулятивные наслоения и
упрощенные модели.
Замкнутый круг
Одной из самых страшных,
зловеще впечатляющих в
кинематографе видится мне сцена из
американского фильма «Влияние гамма-
лучей на рост маргариток»
режиссера Пола Ньюмена. Между тем
эта прогрессивная реалистическая
лента ничего общего не имеет с
фильмами ужасов или катастроф,
с экранными опусами,
живописующими преступность и, по
существу, прославляющими насилие.
Экран на сей раз не залит
кровью и не заполнен мертвыми
телами. Героиня,
тринадцатилетняя Дженис Викри, —
благовоспитанная дочь и прилежная ученица.
Выступая на школьном вечере, она,
свято уверенная в безобидности
и научной ценности проведенного
опыта, рассказывает о том, как
сварила... живую кошку, чтобы
сделать из ее скелета экспонат для
музея биологии.
Самое страшное в этой сцене
то, что «юная натуралистка» с
горящими от гордости глазами даже
не подозревает, насколько
совершенное ею страшно, а судя по
господствующей в ее среде
атмосфере духовной опустошенности,
вряд ли кто из взрослых сумеет
девочке это объяснить. Мрачно
звучит обещание повторить в
будущем году аналогичный
эксперимент... с собакой.
Сегодня западные социологи
приводят все новые свидетельства
распада естественных связей:
входящие в жизнь поколения не
получают от родителей и близких
того, что ранее передавалось по
наследству, будь то уважение к
семейным традициям или
инстинктивное чувство родственности
всему живому. Некоторые даже
считают, что именно разрыв с
природой и забвение принципов
«элементарного гуманизма»
неудержимо влечет детей ядерного
века к мировой катастрофе.
Разумеется, попытки свести
социальные факторы к
биологическим, подмена
классово-политических конфликтов эпохи
«конфронтацией поколений» не
выдерживают критики. В то же время нельзя
не разделить озабоченность тех
художников, кто видит одну из
главных проблем западного мира
в опасных
социально-психологических симптомах, отразившихся на
облике сегодняшних детей,
подростков и молодежи — тех, кто
представляет завтрашний день
общества. Западное кино
чрезвычайно редко обращается к
судьбам тех молодых людей, кто
формируется в среде рабочих,
крестьян, других трудовых слоев. Чаще
всего молодые изображаются как
продукты некоего усредненного
потребительского общества. И
диапазон их поведенческих
установок простирается от инертного
приятия потребительских,
лишенных духовности идеалов до их
19
стихийного отрицания,
переходящего в неразумный террор, в
болезненную агрессию.
Фильм Пола Ньюмена в
интересующей нас части — картина-
предупреждение, она
представляет жанр, широко
распространенный ныне на Западе, иногда его
называют социальной
антиутопией. Ведь отсюда, от школьных
забав Дженис Викри, совсем
недалеко до уродливых
выплесков жестокости, которые закон и
статистика квалифицируют как
преступления. Бесчинства,
творимые ордами озверевших юнцов
в дегуманизированном
фантастическом обществе, предстающем
в фильме «Механический
апельсин», тоже ведь не совсем
фантастичны. Уже сегодня западный
мир охвачен «страхом перед
подростками», цифры детской и
подростковой преступности растут в
устрашающих прогрессиях. И,
словно соревнуясь с ними,
западный экран демонстрирует
невиданную ранее эскалацию
аморальности и жестокости.
Оговоримся еще раз:
страшными, жестокими бывают и
некоторые эпизоды прогрессивных
реалистических картин, цель
которых — социальная критика, анализ
жизненных явлений и вынесение
нравственного приговора с
позиций гуманизма и общественной
справедливости, разума и
сострадания к человеку. Совсем
иными —
спекулятивно-коммерческими или декадентско-упаднически-
ми критериями руководствуется та
часть западных
кинематографистов, которая ищет повод для
сенсации и морального эпатажа.
Захлестнувшая западный
кинематограф волна насилия и сексома-
нии — явление глубоко тревожное,
не менее чем его аналог в жизни.
Эта волна размывает не только
общепринятые вековые понятия о
границах приличий, о мере
дозволенного, но и остатки
гуманистических ценностей, питающих
искусство.
Одной из таких ценностей
испокон веков почиталось
целомудрие в отношении к детям и
подросткам. Западное кино
последнего десятилетия начисто
отвергло этот «предрассудок»,
лицом к лицу столкнув ребенка со
всем уродливым и низменным,
что раньше было хотя бы
формально принято укрывать от его
глаз. Теперь одна за другой
плодятся теории, согласно которым
необходимо избавиться от
ханжества и лицемерия в
воспитании детей, а потому, дескать,
экран должен играть роль
«путеводителя в жизни»,
заблаговременно открывая ребенку все ее
теневые стороны. А в целом ряде
картин через детальное
муссирование аномалий детской
психики проводится заимствованная
у Фрейда мысль, будто
порочность и агрессивность заложены
в человеке от рождения.
Причем речь может идти не
только об откровенной
порнографии и второсортной
коммерческой продукции. Аргументы в
пользу подобных сюжетов
находятся и у тех деятелей культуры,
кто декларирует право и
обязанность искусства трактовать
проблемы реальной жизни, по-своему
разрешать их. Разве, мол,
детская проституция, родительский
садизм, ранняя преступность и
даже торговля детьми не
процветают в странах Западной
Европы и США?
Отсюда делается вывод, что
эти позорные для
цивилизованного общества явления вполне
20
законно и резонно отражать на
кино- и телеэкране.
Между тем социологи давно
отмечают прямое влияние кино-
жестокостей и агрессивного
эротизма на моральную атмосферу
общества, и прежде всего на
молодежь. Даже те, кто считает
безобидным раннее приобщение
подростков к экранным картинам
сексуальной жизни, не могут
отрицать, что все чаще эти картины
переплетаются с живописанием
самого изощренного насилия, а
пагубное влияние такого рода
зрелищ общеизвестно и
многократно подтверждено статистикой.
Получается замкнутый круг:
разгул аморальности и насилия
в жизни и на экране взаимно
стимулируют друг друга. Кстати,
знакомая нашим зрителям
итальянская телевизионная лента Джу-
лиано Монтальдо, посвященная
в значительной своей части этой
проблеме, так и называется —
«Замкнутый круг»
В западном кино редко
появляются фильмы, где мир детства,
условия формирования личности
исследуются в связи с
подлинными общественными и
нравственными проблемами времени,
как, например, в известных
работах Франсуа Трюффо «Четыреста
ударов» и «Карманные деньги»
или в шведской картине «Элвис!
Элвис!». Эти фильмы известны
нашим зрителям. Обычно же
западный экран изображает
психику подростка, отношения детей
со взрослыми в свете тотального
пессимизма, пронизывающего
вообще все человеческие связи,
диктующего роковую
неизбежность неврозов, психических
извращений и расстройств.
В фильме «Узы крови»
французского режиссера Клода
Шаброля молоденькая девчушка из
тайной ревности к собственному
брату убивает кузину, а чтобы
сбить с толку полицию, наносит
раны самой себе. Атмосферу
болезненных страстей дополняет
образ матери юных героев —
законченной алкоголички и
невропатки, которую весьма
натуралистично играет Стефан Одран.
Трудно узнать в этой картине
с примитивной фрейдистской
подкладкой почерк Шаброля, когда-то
одного из перспективных
режиссеров французской «новой
волны».
Подобная сосредоточенность
на болезненных сферах людской
и детской психики, к сожалению,
характерна и для одной из
последних работ крупного
итальянского режиссера Бернардо
Бертолуччи, хотя сделан фильм «Луна»
на высоком уровне
художественных притязаний. Его герой —
мальчик из интеллигентной, можно
даже сказать
рафинированно-артистической семьи, прожив
несколько лет за океаном, пристрастился
к наркотикам, а вернувшись в
Италию, находит прибежище
среди обитателей римского дна.
Однако мотивы социальной критики
и духовного разочарования
отодвинуты в картине на второй
план. На первом —
мучительные,- в сущности, патологические
отношения юного героя с
матерью — женщиной психически
неуравновешенной, не умеющей
найти внутренней гармонии ни
в любви, ни в воспитании сына,
ни в служении искусству (по
профессии она оперная певица).
Постепенно весь интерес режиссера
сосредотачивается на
любви-ненависти мальчика к матери и на
его попытках, следуя зову
инстинкта, разыскать своего отца. И хотя
21
Бертолуччи пытается придать
действию символический характер,
жестокий натурализм ключевых
эпизодов картины оставляет
тягостное впечатление. Его
усиливает понимание того, сколь
недетские ситуации пришлось
воспроизвести на экране юному
исполнителю главной роли.
На фоне общей удручающей
атмосферы западного кино
судьбы самих юных актеров могут,
конечно, показаться, моментом
частным. Но и в них, в реальных
судьбах, по-своему воплощается
влияние этой атмосферы на
детскую психику. Вот несколько
характерных примеров.
Фильм «Бумажная луна»
поставлен американским режиссером
Питером Богдановичем. Сам по
себе он ничего общего не имеет
с теми сюжетами, о которых
говорилось выше. Отношения
девятилетней сиротки и бродяги-
авантюриста, заменившего ей отца,
обрисованы в духе, пожалуй, даже
диккенсовском. Лента сделана в
стилизованной манере «старого
кино», само же действие не
случайно отнесено в 30-е годы.
Следует добавить, что Богданович
ввел в этот классический сюжет
некоторые актуальные мотивы,
ощущение неприкаянности
героев, колесящих по
провинциальным дорогам, что в момент
появления фильма
соответствовало настроениям публики
«разочарованной Америки».
Успеху картины немало
способствовали обаяние и
непосредственность юной исполнительницы
Татум О'Нил, которая выступила
в ней вместе с отцом —
популярным актером Райаном О'Нилом.
По общему мнению, одаренная
Татум «переиграла» своего
опытного партнера Обрушившаяся на
нее ранняя слава (премия
«Оскар» за второплановую женскую
роль) оказалась нелегким
бременем, и дальнейшая судьба
героини сложилась вовсе не как в
рождественской сказочке.
Десятилетняя Татум стала появляться
в вечерних туалетах на светских
приемах, участвовать в ночных
телешоу, употреблять алкоголь —
словом, вести образ жизни,
полный нервных перегрузок.
Вообще в последние годы деся-
ти-двенадцатилетние «звезды» —
непременная принадлежность
голливудского Олимпа.
Героиня юной Линды Блэйр,
сыгравшей в фильме Уильяма
Фридкина «Изгоняющий дьявола»
и конкурировавшей с Татум О'Нил
в борьбе за «Оскар», предстает
поначалу на экране
очаровательной девочкой, а затем, на наших
глазах — в буквальном смысле
слова — превращается в
отвратительное чудовище, внутри
которого «поселился дьявол». Лента
изобилует подробно, в деталях
снятыми сценами буйства жертвы
нечистой силы, с ругательствами
и побоями.
«Изгоняющий дьявола»—фильм
из так называемой «сатанинской»
серии, для которой вообще
характерно намерение представить зло
в лике ребенка. Но речь здесь
идет уже не о врожденных
инстинктах и не о дурной
наследственности. Самые откровенные
формы мистики и оккультной
истерии уживаются на буржуазном
экране с перепевами
христианского мифа об антихристе. Сын
сатаны рождается уже в
сравнительно давнем фильме Романа
Поланского «Ребенок Розмари»,
в картине «Дурное
предзнаменование» (режиссер Ричард Доннер)
отпрыск нечистой силы предстает
22
в облике ангелоподобного
пятилетнего мальчика...
Но пока на экране ведутся
псевдофилософские споры, являются
ли детские пороки каверзами
природы или кознями сатаны, жизнь
дает неопровержимые
свидетельства того, что действительная их
причина — социальное
неблагополучие, атмосфера моральной
вседозволенности и цинизма.
В нагнетание этой атмосферы,
в замыкание порочного круга
духовных противоречий продолжает
вносить свою лепту и западный
кинематограф.
Надо сказать, впрочем, что за
последние полтора-два
десятилетия его во многом обогнал
более мобильный и влиятельный
конкурент — телевидение.
Обогнал в том числе и в
живописании жестокостей, стимулируя
постепенное зрительское
привыкание к атмосфере насилия как
к чему-то вполне обыденному.
Речь идет не только о том, что
телепрограммы напичканы
низкопробными вестернами,
фильмами ужасов, детективами,
триллерами и различными их
комбинациями.
Дело, пожалуй, началось, с
такого чисто телевизионного и не-
инсценированного в своей основе
жанра, как репортаж.
Особенно очевидными
тенденциозность и аморальность
принципов западного репортажа стали
в ходе освещения телевидением
«грязной войны» во Вьетнаме.
Американские телесети всячески
противились стремлению
прогрессивно настроенных
журналистов, творческих работников
показывать вьетнамскую трагедию
аналитически, разоблачая
истинных ее виновников. И даже
антивоенные выступления в эфире
Генри Фонды, других популярных
личностей, так же как и
некоторые разоблачительные
телепередачи, появившиеся к концу войны,
почти не изменили общей
картины.
Возмутительный характер
носили постоянные перебивки
вьетнамских репортажей рекламой пива,
зубной пасты и прочих
«достижений цивилизации».
Почти каждый репортаж о
вьетнамских событиях начинался с
кадров, изображающих
изуродованные трупы, разрушенные
селения. Но тут же телевидение
предлагало зрителям переключиться
на тенденциозный комментарий
или навязчивую рекламу всякого
рода ширпотреба.
Вот что пишет советский автор
Н. Бирюков, анализируя
принципы американской
телеинформации: «Показ военных действий,
карательных экспедиций,
бомбардировок, расстрелов — одним
словом, ужасов войны в конце
60-х годов стал столь
существенным элементом почти каждой
информационной передачи,
многих документальных и
художественных материалов американского
телевидения, что в сознании
среднего телезрителя вьетнамская
война все больше начинала
восприниматься как нечто постоянное,
присущее времени, вроде
фильмов-детективов или рекламы, к
чему он давно привык»
В этом — одна из причин,
почему известный режиссер Фрэнсис
Форд Коппола, обратившись к
теме вьетнамской войны, решил ее
как грандиозный аттракцион,
своего рода спектакль на натуре,
добиваясь шокового влияния на
зрителя всеми доступными
средствами. Фильм «Апокалипсис
наших дней» снят в особой техни-
23
ке, с мощными звуковыми
стереоэффектами, да и в визуальной
своей части призван вернуть
зрителю ощущение первородства
ужаса, когда под звуки вагнеров-
ского «Полета валькирий»
американские летчики несутся на
мирную вьетнамскую деревушку. Или
ощущение вырвавшихся наружу,
разнузданных страстей, когда
заезжие девицы устраивают
вульгарное шоу перед американской
солдатней.
Коппола задался серьезной
целью — смоделировать экранные
ситуации так, чтобы зритель
независимо от того религиозен ли он,
почувствовал себя внутри, в
эпицентре вселенной трагедии,
трагедии наступившего апокалипсиса.
Но — вот парадокс! Обратившись
к апробированным «масскуль-
турой» средствам шокового
воздействия, создав потрясающую
воображение картину
человеческой жестокости и неулравляемого
буйства военной техники,
режиссер в какой-то мере ушел от
вопроса о социально-политических
корнях и причинах творимого
насилия, эстетизировал и
мифологизировал войну.
И хотя фильм убедительно
показывает моральный кризис, в
который завела американцев
захватническая бойня, он все же
поверхностен и держится
главным образом на внешних
эффектах. Впрочем, этот шаг был во
многом вынужденным: по словам
режиссера, если бы не эти
эффекты, не шумная реклама,
предшествовавшая «супергиганту», картину
о Вьетнаме вряд ли бы удалось
широко прокатить в Америке.
Одной из причин подобной ситуации
можно считать практику
телевидения — приучившего зрителей
к повседневной «обыкновенной»
жестокости, к самым
изощренным ее формам, к тому же
«с доставкой на дом».
А раз уж даже война
становилась слишком «пресным»
материалом для западных
кинематографистов, они продолжали
искать все новые и новые поводы
для сенсаций, эмоционального
шока, спекулируя на всем, что
присуще человеку — от
религиозной веры в чудо до праздного
любопытства и самых низменных
инстинктов. Мало того, иные из
телерепортеров доходили до
того, что, попадая в горячие точки,
провоцировали акты насилия,
«санкционировали» расстрелы и бес-
страсно фиксировали их на
пленку.
Телевидение Запада по мере
его развития оказалось настолько
дегуманизированным, а его
вторжение в повседневную жизнь
потребителя столь всеобъемлющим,
что эта тема, взятая в
острокритическом аспекте, заинтересовала
тех кинематографистов, кто с
ответственностью подходит к
экранной профессии. Примером
может служить знакомая
советским зрителям картина француза
Бертрана Тавернье «Преступный
репортаж» (оригинальное
название — «Прямой репортаж о
смерти»). В этом фильме
телевидение поистине играет роль джинна,
вырвавшегося из бутылки и
ставшего разносчиком зла.
Когда-то мечтой
кинодокументалистов и их коллег с
телевидения было запечатлеть «жизнь
как она есть». Герой ленты
Тавернье получает в свое
распоряжение невиданное техническое
устройство — телекамеру,
вмонтированную в сетчатку его глаза.
И столь же немыслимое,
дьявольское задание — запечатлеть на
24
потребу пресыщенной публике
уже не жизнь, а «смерть как она
есть». Замаскированный
репортер неотступно следует за своей
жертвой — как предполагается,
безнадежно больной женщиной,
намеренно вступает с ней в
близкий контакт, не переставая ни на
минуту снимать ее для прямого
телерепортажа на всю Францию
(жестокий натурализм этой
коллизии смягчает благородная манера
игры Роми Шнайдер).
Самое страшное, однако,
наступает позднее, когда
выясняется, что героиня в
действительности не больна. Но поскольку
задачей служителей
телевизионного культа по-прежнему
является удержать у экранов
пресыщенную публику, они продолжают изо
дня в день снимать
«предсмертные муки» своей жертвы, самым
изощренным образом издеваются
над ней и в итоге действительно
доводят до смерти.
Фильм пронизан
безысходностью попыток сохранить
личностное, гуманное начало в эпоху
всеобщего душевного стриптиза, во
имя наживы и сенсации.
А вот эпизод непосредственно
из жизни, рассказанный недавно
в интервью итальянским
режиссером Франческо Лаудадио.
Малолетний ребенок упал в узкий
колодец, откуда его в течение двух
дней не могли вытащить. И все
это время смертельную агонию
младенца снимала и
транслировала в эфир находчивая
телевизионная компания!
Потрясенный этим и подобными
ему фактами, Лаудадио сделал
фильм «Грог», где в обобщенном
виде представил деятельность
западных телекомпаний с присущим
ей бесстыдством и нюхом на
сенсацию. Двое преступников, бежав-
Актриса Роми Шнайдер,
исполнительница главной роли
в фильме «Преступный репортаж»
ших из тюрьмы, захватывают
особняк с группой заложников.
Из идущей в это время
телепередачи они узнают, что дом
оцеплен полицией. Вступив в
телефонный контакт с телекомпанией,
преступники добиваются, чтобы
им предоставили возможность
выйти в эфир и изложить свой
ультиматум. Особенно
«впечатляет» поведение телерепортера,
который, представляя зрителям
преступников, требует, дабы те
конкретно сказали, когда и кого из
заложников первыми
«ликвидируют». Злоумышленники в
растерянности: они еще не успели
выстроить столь кровожадных
планов...
Начинается грандиозное
трагикомическое телешоу, куда втянуто
множество разных лиц. Когда
полиция наконец врывается в дом,
25
преступников уже и след
простыл. Оказывается, перед тем как
уйти, они заставили телегруппу
снять их на видеокассету и
убедить зрителей, что еще остаются
в доме...
Надо сказать, что фильмы
Тавернье и Лаудадио очень
различны по манере повествования.
«Преступный репортаж» соединяет
фантастичность сюжета с
многозначительностью едва ли не
библейской притчи. «Грог» же несет
в себе неповторимые черты
«комедии по-итальянски», с карна-
вальностью ее масок, с меткостью
диалогов, порой окрашенных
черным юмором. Как видим, эффект
гротеска достигается в каждом
случае своими средствами, но
исходным для обеих картин
является горькое размышление о
том, чем становится
телерепортаж в руках дельцов от экрана.
В условиях Запада «замкнутый
круг» насилия с неизбежностью
включает в себя то, что можно
назвать «экранной провокацией».
И не случайно в кинолентах,
рисующих гипотетическое
будущее, этот момент играет
первостепенную роль.
Сошлемся на фантастический
гротеск режиссера из США
Нормана Джуисона «Роллербол». В
нем общество будущего
представлено без войн и конфликтов, в
этом обществе нивелированы
национальные различия, а мир
управляется гигантскими
капиталистическими корпорациями.
Через всю картину проходит тема
«комфорта, который убивает».
Приглушены, «сняты» все живые
человеческие проявления: герои
ведут полупризрачное,
наркотическое существование, пребывают
в ленивой расслабленности,
напоминающей эпоху упадка
Древнего Рима. Любовь заменена
продажным сексом, книги —
примитивными дайджестами, в ходу
наркотические пилюли,
убаюкивающая музыка. И конечно,
телевидение.
Центром жизни героев
оказывается всемирная телевизионная
игра «роллербол» — новый,
более жестокий вариант хоккея, с
примесью американского футбола
и роллер-дерби. У этой игры, по
словам одного из хозяев
корпорации, «есть свои социальные
задачи»: с ее помощью общество,
из которого «ушла жизнь»,
реализует, «канализирует» и отводит
в безопасное русло свои
агрессивные инстинкты. И вот
зрители фильма как бы ставятся на
точку зрения тех, кто на своих
экранах телевизоров обречен без
конца наблюдать бои
«гладиаторов будущего» —
беспрецедентные по свирепости матчи роллер-
болистов, которые кончаются
обычно кровавыми убийствами.
Подобная идея не нова, она
переходит в различных вариациях
из картины в картину; последний
раз мы встретились с ней в
показанной у нас ленте
французского режиссера Ива Буассе
«Цена риска». Во всех фильмах
этого ряда выражается опасение,
что общество потребления,
культивируя насилие посредством
экрана, придет к
самоистреблению.
Но есть и другие причины,
проясняющие, почему именно
кинематограф вкупе с
телевидением оказался в эпицентре
сотрясающих западный мир
дискуссий о тотальном насилии и о
кризисе гуманизма. Ибо
кинематограф, обретая черты и формы
некой современной
«мифологии», соприкасаясь с действитель-
26
ностью, разоблачает и
компрометирует создаваемые им же
самим мифы. Классическими
примерами такого рода стала
трагическая смерть Мерилин Монро,
бывшей некоронованной
королевой экрана, навязчивым
«символом секса» — и страдавшей от
одиночества и депрессии. Или
варварское убийство бандой «сатаны
Мэнсона» актрисы Шэрон Тэйт —
героини заигрывавших с
потусторонними силами «вампирических»
фильмов ее мужа Романа Полан-
ского.
За кулисами буржуазного
кинематографа родились и сюжеты
другого плана, персонажи
которых стремились разрушить
общепринятую канонизированную
мифологию и за это испытывали
насильственные «санкции»
общества.
Один из таких сюжетов,
основанных на документальной канве,
воспроизвел в своей недавней
картине «Фрэнсис» американский
режиссер Грэм Клиффорд. В ней
использованы факты биографии
голливудской киноактрисы 30—
40-х годов Фрэнсис Фармер.
Фильм исследует, однако, более
общую проблему — отношения
американского общества,
построенного на псевдодемократии и
полуприкрытом насилии, с яркой,
выбивающейся из традиционных
канонов личностью.
Фрэнсис уже в ранней юности
инстинктивно восставала против
религиозного воспитания,
ханжества и прагматизма своей
провинциально-мещанской среды,
высказывала симпатии к левым
кругам. Оказавшись на Бродвее и в
Голливуде, героиня и здесь
проявляет строптивый нрав,
подвергается обструкции заправил шоу-
бизнеса. Конфликт назревает мед-
Кадр из фильма
«Фрэнсис»
ленно, но неуклонно, он изнутри
разрывает и душу самой героини,
страдающей от непонимания и
отчужденности (поразительно
сыграла эту роль актриса Джессика
Ланж). Несколько лет жизни
Фрэнсис Фармер проводит в
психиатрических лечебницах, где
подвергается принудительному
лечению и операции на мозге — ло-
ботомии, лишающей ее воли
и темперамента.
В одной из психбольниц
«низшего разряда» насилие выступает
уже в чистом виде: санитары
приводят сюда солдат с соседней
базы, которые за деньги получают
«право» насиловать пациенток.
Этой участи не избегает и
Фрэнсис. Горькой, страшной иронией
звучат словно в бреду
произносимые ею в этот миг чеховские
слова о том, что «мы увидим небо
в алмазах». Ведь Фрэнсис когда-то
сама играла в «Дяде Ване», и жизнь
открывала перед ней самые ра-
27
дужные перспективы...
Сюжеты... Сюжеты... Сюжеты...
Сквозь их многообразие
проглядывает одна вполне уловимая
закономерность: в западном кино
практически ни один фильм не
обходится без того, чтобы на экран
не выплескивалось насилие.
Однако художники, искренне
озабоченные духовной атмосферой
общества, стремятся разомкнуть
замкнутый круг насилия, вывести
кинематограф к социальному
анализу его причин.
Хороши ли
«чувства добрые»?
В последнее время западный
зритель устал от нагромождения
кошмаров, жестокостей и
эротики. В моду вошли наряду с
яркими образцами экранной
агрессии сюжеты совсем другого толка,
возвращающие каждому
возможность, не стесняясь пережить
простые человеческие чувства,
еще недавно признанные
«устаревшими». Традиционная
голливудская мелодрама вновь
завоевывает свои позиции, но при этом
самым причудливым образом
впитывает новые веяния.
Режиссер Стивен Спилберг
сделал несколько кассовых картин
последних лет. После нашумевших
«Челюстей» за ним прочно
закрепилась репутация специалиста
по «ужасам» и «катастрофам».
В фильме «Тесные контакты
третьей степени» к этому набору
добавился мотив «пришельцев». Но
вот последняя лента
беспроигрышно работающего режиссера
обозначила знаменательный поворот
в его творчестве. Картина «Е. Т.
Внеземной» («Инопланетянин»)
повествует о маленьком уродце с
космического корабля, которого
забыли на Земле
товарищи-инопланетяне. И он — беспомощный,
вызывающий физическое
отвращение каждого «уважающего себя»
землянина — наверняка погиб
бы, если бы не мальчик,
увидевший в нем потенциального друга
и спасший его. Эффект фильма
заключается в том, что к его
финалу зритель тоже проникается
любовью к этому странному
существу, а идея сочувствия,
преодолевающего недоверие и
одиночество, звучит в полный
голос, хотя и не без привкуса
сентиментальности.
Что ж, разве искусство не
призвано самой своей сутью
пробуждать чувства добрые? И этому
вновь воскрешенному намерению
можно было бы только
порадоваться. Если бы не одно
обстоятельство: в условиях Голливуда
слишком часто «вечные
человеческие ценности» — доброта,
любовь, семейственность —
подаются в мещанском варианте, а иной
раз маскируют
неоконсервативную идеологию.
На наших экранах шла картина
режиссера Роберта Бентона
«Крамер против Крамера», полечившая
несколько «Оскаров» — высших
премий Американской
киноакадемии. Успеху у себя на родине
фильм обязан, конечно, и
талантливой игре актера Дастина Хоф-
фмана, и общему
гуманистическому настрою. Речь идет о
мытарствах отца, самоотверженно
воспитывающего своего
шестилетнего сынишку, брошенного
матерью. Но для консервативно
настроенных американцев важен
оказался еще один акцент:
осуждение героини, «посмевшей»
разрушить благопристойную семью
и — более широко — раздра-
28
женная реакция на движение
широких слоев женщин за
самостоятельность и равноправие.
Проходит совсем немного
времени — и американский
кинематограф выдает утрированный
вариант фильма «Крамер против
Крамера» в картинах
«Обыкновенные люди» и «Автора!
Автора!». В первой из них
(режиссер Роберт Редфорд) отец и
взрослый сын изгоняют мать,
не испытывающую к сыну чувств,
символизируя возврат к
традиционным основам американской
семьи.
Особенно красноречива на фоне
«Крамера» картина «Автора!
Автора!». Здесь уже обаятельный
отец в исполнении Эла Пачино
остается у плиты и стиральной
машины с целой ватагой
ребятишек, а их мама, легко
меняющая поклонников, представлена
особой весьма сомнительного
поведения. Если не считать
некоторых житейски точных деталей,
в картине хватает нарочитости
и фальши. В финале благодарные
дети празднуют театральную
премьеру своего отца, по
профессии драматурга. Они обливают
виновника торжества шампанским
и обмазывают тортом, как в немых
«комических». Юмористическая
приправа только подчеркивает
слащаво-сентиментальное
звучание всей ленты. Кстати говоря,
имя ее создателя Артура Хил-
лера памятно по нашумевшей в
свое время «Истории любви»,
тоже изо всех сил упиравшей на
чувствительные струны зрителя.
Наконец, еще одна лента
американского производства — «Стол
для пятерых». И вновь
сентиментальная идиллия, хотя и
воцарившаяся в итоге весьма
драматичных обстоятельств. В
авиакатастрофе погибает молодая
женщина — это экспозиция фильма. А
дальнейший ход его определяют
сложные отношения между
овдовевшим супругом и бывшим
мужем погибшей, которые никак
не могут поделить между собой
осиротевших ребятишек. И все-
таки в финале мы лицезреем
победу разума и взаимопонимания над
ревностью и самолюбием: мир
установлен, каждый из детей вновь
обретает семью.
Что стоит за всеми этими
сентиментальными сюжетами? Откуда
такая апология семьи и
особенно — формообразующего,
главенствующего в ней мужского
начала? Чтобы разобраться в этом,
необходимо заглянуть во
вчерашний и позавчерашний день
американского кинематографа,
особенно в его массовом,
коммерческом варианте.
В старой пуританской Америке
издавна культивировалась
буржуазная семья — традиционный
оплот общества. И голливудский
кинематограф всегда опирался на
«самый лирический из всех
американских символов», видя в нем
средство поддержания
национального духа и наглядное
подтверждение принципов буржуазного
индивидуализма. Анализ
структуры фильмов, имевших
наибольший кассовый успех в
американском прокате, выявил четкую
закономерность. Практически все эти
картины, невзирая на их
художественный уровень и жанровую
окраску, представляли собой
развернутые во времени семейные
истории, своеобразные «саги». Это
относится и к довоенной
исторической эпопее «Унесенные
ветром», и к популярнейшему
мюзиклу «Звуки музыки», и даже к
«Крестному отцу», который, по
29
словам советского критика Я. Бе-
резницкого, мог бы послужить
«превосходной художественной
иллюстрацией идеологии
домашнего очага».
Последний фильм
примечателен еще и тем, что изображенная
в нем семья держится на
«сильном мужском начале». Картина
появилась в 1972 году, открывая
собой период, когда в
американском кино постепенно стали
доминировать консервативные
тенденции. Излюбленными
персонажами предшествующего
десятилетия были «беспечные ездоки»,
«одинокие ковбои», по сути,
добровольные изгои общества —
протестующая молодежь, покидавшая
дома своих благополучных
родителей, мужья, оторвавшиеся от
жен и детей и колесившие по
дорогам Америки. Целую галерею
таких персонажей сыграли и Джек
Николсон, и Дастин Хоффман, и
другие крупнейшие актеры.
Казалось, вся страна сдвинулась с
места в общей атмосфере духовного
кризиса, разочарования и
неприкаянности. Разумеется,
кинематограф, чуткий к веяниям времени,
в сгущенном, концентрированном
виде отражал перемены и
настроения, социальные тенденции самой
жизни.
А теперь вглядимся в коллизии
и персонажей, кумиров
американской публики 70—80-х годов.
Теперь те же Хоффман и Эл
Пачино играют добродетельных отцов
семейств. А когда Джек Николсон
попытался повторить свой успех
и сыграл характернейший для
него образ неприкаянного героя-
странника в фильме «Почтальон
всегда звонит дважды», зритель
отвернулся от своего любимца.
Не помогли ни криминально-
мелодраматический сюжет, ни
имя режиссера Боба Райфелсона,
у которого Николсон сыграл
свои лучшие роли. Нынешней
публике не пришелся по вкусу
сюжет, повествующий о
преступлении, результатом которого стал
распад «средней американской
семьи».
Иначе, в духе времени и
запросов публики, повернута тема
«неприкаянных» в картине
«Нежное милосердие». Ее исходный
мотив хорошо знаком: музыкант,
человек интеллектуальной элиты,
покидает свой круг и находит
пристанище в глухой провинции,
в мире простых людей. Но вместо
горечи и стихийного протеста,
пронизывающих аналогичные
сюжеты 60-х годов, мы наблюдаем
на сей раз историю душевного
успокоения героя, находящего
милосердное понимание и любовь
одинокой женщины, живущей с
сыном и содержащей
бензоколонку. Таким образом, и здесь
возникает идиллия домашнего очага,
побеждающая душевную
неудовлетворенность, тревогу и
рефлексию.
Как видим, герои американского
кино в свете ориентации на
семейственность существенно
видоизменяются. Они вновь обретают
утраченную цельность, прощаются
с былыми сомнениями,
становятся верными мужьями и
примерными отцами.
Меняются и женщины. Раньше
американский экран в своих
лучших образцах реалистически
показывал их полное тягот
существование в разрушенных и
полуразрушенных семьях. Обремененные
детьми и житейскими невзгодами,
они нередко впадали в нервную
депрессию, испытывали чувство
горечи от несостоявшейся жизни
Таковы были героини Джоан Вуд-
30
ворт («Влияние гамма-лучей на
рост маргариток») и Эллен Берс-
стин («Алиса здесь больше не
живет»). Теперь те из них, кто по
собственной инициативе
разрушает семейный очаг, по логике
авторов, «с жиру бесятся» и
подвергаются решительному
осуждению («Крамер против Крамера»,
«Автора! Автора!»). Другие же
проявляют «нежное милосердие»
и способствуют желаемой
семейной гармонии.
Интересно, что главную
мужскую роль в фильме «Нежное
милосердие» играет Роберт
Дюваль, получивший известность
благодаря широко
разрекламированной картине «Охотник на
оленей». В свое время о ней
немало писали, критикуя позицию,
с которой режиссер Майкл Чимино
подошел к разработке темы
вьетнамской войны. Нас в данном
случае интересует другой аспект.
Популярность, обретенная
фильмом в США, во многом
опирается на весьма ловкий, изобретенный
авторами ход. Показывая, как
«страдали» во Вьетнаме его
«чувствительные и гуманные» (!)
соотечественники, режиссер
акцентирует их естественную тягу к
домашнему очагу и семейным
традициям. Недаром растянутая на
треть картины экспозиция
живописует свадебные и другие
семейные обряды, а в финале
«принесшее жертвы» на алтарь войны
семейство вновь собирается и
запевает песню, прославляющую
Америку. Словом, уже в этой,
сравнительно давней картине
апология семьи обретает четко
выраженную
консервативно-политическую окраску.
А совсем недавно молодой
постановщик Тоуб Хуппер под
руководством Спилберга снял
картину «Полтергейст», где чары
мистики и дьявольщины разрушает
патриархальная добродетель
«образцовой американской семьи».
В таком варианте семья
становится символом «национального
единства», которое сегодня, по
мнению американских идеологов,
следует противопоставить тем,
кто жаждет прогрессивных
перемен.
Надо учитывать, однако, что
«семейная» ориентация массовой
американской кинопродукции
имеет в виду преимущественно
зрителей среднего и старшего
поколения, составляющих основу
«истеблишмента». Именно таким
зрителям оказываются близкими
мещанские идеалы и обывательская
психология сегодняшних героев
экрана; именно они особенно
падки к призывам обуздать
«длинноволосых бунтовщиков»,
искоренить «свободу нравов» и
возродить «добрые американские
традиции», расшатанные, по их
мнению, либералами и участниками
молодежных движений.
Главной же задачей нынешних
идеологов и их адептов от
кинематографа становится
воспитание в духе неоконсерватизма
молодежи США, которую
реакционные силы хотели бы отвлечь
от сознательной общественной
борьбы слегка обновленными
американскими мифами.
Отсюда — появление новых
«моделей жизненного успеха»,
особенно ярко представленных
в ряде картин последних лет с
молодежной проблематикой.
Первым из этого ряда фильмов
был «Рокки», снятый режиссером
Джоном Эвилдсеном и
познакомивший зрителей с новой
«звездой» Сильвестром Сталлоне.
Собственно, самому Сталлоне и при-
31
надлежала идея картины, причем
судьба актера теснейшим образом
переплелась с судьбой его героя.
И тот, и другой из полной
безвестности мгновенно попали под
свет юпитеров в самый центр
общественного внимания. Рок-
ки — благодаря выпавшему ему
жребию сразиться в боксерском
матче, посвященном 200-летию
США, с чемпионом Америки.
Сталлоне — благодаря
феноменальному успеху своего фильма,
осыпанного «Оскарами» и
положившего начало целой серии
картин-дублеров. Оба стали
восприниматься как олицетворение
пресловутой американской мечты,
свидетельства того, что
восхождение на вершины жизненного
успеха может ждать самого скромного
члена общества. И конечно же,
этот идеологический посыл был
рассчитан прежде всего на
молодежь.
Кадр из фильма
«Рокки»
Характерно, что хотя
знакомый нам «мотив
семейственности» отсутствовал в данном
сюжете, но разработка темы опять-таки
опиралась на «чувства добрые»,
толкуемые в
слащаво-сентиментальном духе. Что касается
жанрового решения, то фильм
откровенно мелодраматичен, а также
использует популярные среди
молодежи, комедийно окрашенные
слэнговые обороты. По существу,
история, развернутая на экране,
представляет собой сладенькую
рождественскую сказочку о
Золушке-боксере, которого судьба
за терпение и добродетель
наградила счастливым жизненным
шансом. Причем характерно, что этот
шанс Рокки реализует не в
профессиональной карьере (он
проигрывает матч), а в том, что обре-
32
тает истинную любовь и верность
своей девушки. Утверждая, что
это и есть высшая ценность, авто»
ры в то же время дают понять,
что их герой отныне не пропадет
в безвестности. Они выводят его
в центр всеобщего внимания,
делая любимцем публики.
Даже слегка иронизируя над
мифом об успехе, авторы
фильма в конечном счете
утверждают его. Подобный подход был
«усовершенствован» и получил
развитие в другой американской
картине, овладевшей умами
широких кругов молодых зрителей.
В фильме «Лихорадка
субботним вечером» (режиссер Джон
Бэдхем) впервые заблистал
Джонни Траволта — сегодняшний кумир
дискотечной молодежи. И здесь
был найден весьма
изобретательный прием, придавший фильму
в своем роде символическое
звучание.
Юный Тони Морено живет в
захудалой семье итальянских
эмигрантов; целую неделю он
влачит унылое существование,
работая помощником в магазине
хозяйственных товаров. Но вот
наступает субботний вечер, и Тони
преображается: в модной
одежде несется он в дискотеку, где его
ждут такие же, как он, дети
нью-йоркских окраин: белые
американцы, негры, пуэрториканцы...
Всех их объединяют музыка и
танцы. Серый, не обладающий
выразительной внешностью Тони
разительно преображается: он
становится поистине королем
дискотеки. Здесь его ждут встречи
с друзьями, с хорошенькими
девушками, здесь он впервые
испытывает настоящее чувство...
А потом опять наступают
бесцветные будни, опостылевшая
работа, где Тони в лучшем случае
ждет мелкое повышение и
денежная надбавка. И все же фильм
исполнен оптимизма в чисто
американской манере: герой
побеждает в танцевальном конкурсе, а в
финале, кажется, завоевывает
благосклонность своей избранницы.
Правда, при этом дается намек на
некоторые сложности в
отношениях между молодыми людьми:
девушка Тони явно превышает
своего партнера по культурно-
образовательному цензу, сам же
он силен только в области танца.
Зато как он пластичен и
сексапилен в своих ритмичных
телодвижениях, исполняемых под музыку
группы «Би Джиз», как эффектен
в сцене рискованного ночного
перехода через Бруклинский мост...
Нет, словно говорят авторы, с
этим парнем все будет о'кэй.
И действительно, если
отождествить Траволту с его героем
(а это правомерно ввиду явного
характера самовыражения,
предусмотренного для этой роли),
можно утверждать, что с ним все
в полном порядке. Мало того,
стереотипный Траволта и
пробивной Сталлоне с его
безапелляционной убежденностью, что
«актеры — это короли», не только
не стали соперниками, но
поистине нашли друг друга, сойдясь в
самоуверенности и безотказном
умении играть на настроениях
публики. Они начали работать
совместно, сделали картину
«Остаться жить»— дорогой
мюзикл, продолжающий историю
Тони Морено. Вопреки
опасениям, будто бы блистать в танце
можно лишь в юные годы, Тони
продолжает блистать и
выбивается в суперзвезды Бродвея, играя
теперь уже почти буквально
самого себя. Дорвавшись до славы,
он получает и поклонение самых
33
красивых женщин, и все
остальные блага, которые сулит
американский миф.
Любопытно, что очередной
замысел Сталлоне (он выступает и
как продюсер, и как режиссер)—
сделать фильм, где Траволта
сыграл бы боксера, ученика Рок-
ки. Обоих актеров объединяет
также их итальянское
происхождение, которое только лишь
подчеркивает универсальность
«американской утопии», якобы
реальной для всех, кто попадает в эту
«благословенную страну». И мало
кто думает о том, что
сногсшибательный успех подобных Траволте
и Сталлоне скоротечен и прихо-
дящ, ибо их фильмы
представляют собой модный ширпотреб,
который — придет день — выйдет
из употребления.
Конечно же, американское
кино, обращаясь к проблемам
молодежи, производит не только
примитивные суррогаты в
сентиментальной обертке. Даже в
некоторых картинах, не ставящих
перед собой цели критиковать
общественное устройство, а
просто живописующих нравы и быт
молодежи, можно встретить
трезвый взгляд на действительность и
на те пути, которые она
открывает перед молодыми. Ноты
разочарованности и подлинного
жизненного драматизма звучат,
заглушая
ностальгически-сентиментальные мотивы в картине
«Американское граффити», поставленной
еще в начале 70-х годов, и в
сравнительно недавней —«Четыре
друга» Артура Пенна. Есть и более
свежие, весьма выразительные
примеры. В новом фильме
«Пистолет» (режиссер Тони Гарнетт)
показана атмосфера
бесконтрольного насилия и своеволия, в
котором формируются молодые люди.
И возникает вопрос: разве
высказывать беспокойство за
нравственное здоровье общества,
критически осмысливать его
перспективы не более гуманно, чем
рисовать идиллические картинки и
сеять ложные утопии?
Внесоциальное и внеисторичное
толкование гуманизма —
характерная черта голливудской
продукции последнего времени. Вот
фильм «Парни из бара»
режиссера Ричарда Доннера. Он
начинается эффектными кадрами
самоубийства, которое пытается
совершить главный герой,
выбрасываясь с вершины гигантского
небоскреба. Но... волею случая
остается жив, становясь инвалидом. И вот
вместе с такими же, как он,
герой влачит безрадостное,
ущербное существование, околачиваясь
в баре, хозяин которого тоже
страдает физическим изъяном.
Впрочем, вглядитесь,
предлагают авторы фильма, не так уж
безрадостно это существование.
Общество старается насколько
возможно скрасить его: не только
бар, но и спортивные площадки,
другие блага и развлечения к
услугам инвалидов. И само
положение их не совсем безнадежно:
упорно занимаясь спортом,
можно в большинстве случаев
вернуть здоровье и даже добиться
расположения одной из
хорошеньких женщин, посещающих бар.
Это во всяком случае удается
герою фильма. Сам по себе
разговор о специфических проблемах
людей, страдающих физическим
недугом, казалось бы,
продиктован гуманными соображениями.
Но слишком сильны в этом
разговоре фальшивые,
сентиментальные ноты. Главное же —
подлинность социальных и духовных
конфликтов подменяется надуман-
34
ными душещипательными
коллизиями.
Большинство фильмов, на
которых мы остановились, относятся к
«галантерейной», ширпотребов-
ской продукции. Но в то же время
некоторые из них претендуют на
художественный успех,
награждаются премиями, в их титрах стоят
имена известных режиссеров. Это
характерно именно для практики
американского кино, где
диффузия «элитарной» и «массовой»
культуры зашла особенно далеко.
Не случайно и то, что такой
крупный мастер, как Фрэнсис
Форд Коппола, в творчестве
которого заметное место занимали
мотивы социальной критики, в
последнее время демонстрирует
тягу к мелодраме. Снятый им
фильм «Изгои» на первый взгляд
стремится поставить разговор о
современной молодежи на
социальную основу. Герои картины
живут в удручающей, душащей
лучшие порывы атмосфере
американской провинции. Компания
подростков из бедных семей
воюет с сынками богатых родителей.
Прочитываясь как вариация на
темы «Вестсайдской истории»,
«Бунтовщика без причины» и
других классических лент
американского кино, фильм, однако,
лишен силы первооткрытия и
даже элементарной убедительности
в разрешении конфликта.
Режиссер уповает на «природный»
гуманизм, коренящийся в
человеке, и полагает, что он сам по
себе, без каких-либо внешних
усилий, победит вражду и злые
инстинкты. Это придает фильму
налет утешительности, а его
идейную подкладку нельзя не
признать по меньшей мере наивной
для режиссера уровня Копполы.
Что касается другой его новой
картины «От всего сердца»—это
откровенная неудача, которая
была предрешена банальностью
мелодраматического сюжета и
сведением всех художественных
целей к технически совершенному
воспроизведению эпохи в стиле
«ретро».
Было бы преувеличением
сказать, что социально-критическая
струя американского
кинематографа иссякла. Последнее
десятилетие принесло порой спорные, но
серьезные в своей основе и
художественно яркие работы
Мартина Скорсезе, Хола Эшби,
Артура Пенна, Роберта Олтмана. И
все же одной из ведущих
тенденций сегодняшнего кино США,
даже если не говорить о его
крайне реакционной ветви,
становится псевдогуманизм. Он
апеллирует не к социальному
самосознанию зрителей, не к их чувству
ответственности, а к внеобществен-
но понимаемым «чувствам
добрым», по существу, подменяет
высокие гуманистические идеалы
сугубо буржуазными
представлениями и ценностями.
Почему экранизация?
В поисках сюжетов
кинематограф с первых дней своего
существования обращался к
литературе. Сам по себе факт
экранизации еще ничего не говорит об
идейно-художественных
качествах фильма: мировое кино
пестрит примерами того, как из
великих произведений получались
заурядные детективы и мелодрамы
с мещанской моралью. И в этой
сфере все решает позиция
художника, его идейно-творческая
программа.
Сегодня для западного кино в
35
целом не слишком характерно
обращение к литературной
классике: как правило, ищутся
сюжеты более «острые», оснащенные
приемами сегодняшней
индустрии развлечений. Вместе с тем в
творчестве серьезных, мыслящих
художников классические образы
нередко становятся необходимой
точкой отсчета для разговора об
общих проблемах цивилизации и
культуры, об исторических
судьбах личности.
Реалистически рассматривая их
в конкретных
социально-временных обстоятельствах,
кинематографисты ищут опорные точки
для построения более общих
моделей, философски выражающих
смысл человеческого
существования. Новые эстетические задачи
ставятся по преимуществу в
непосредственной связи с
затрагиваемой социокультурной
проблематикой. Она же, в свою очередь,
берется как звено в долгой цепи
традиций человеческого
общежития. Идея преемственности, связи
времен и культур, проходящей от
прошлого к будущему через
сегодняшний день, звучит в
кинематографе
пронзительно-обостренно. Лишь через перспективу
осмысленного исторического
опыта удается понять современность,
а иногда и предвидеть контуры
грядущего.
Когда-то литература выступала
для молодого экранного искусства
в роли «учительницы», «старшей
сестры». Сегодня вряд ли
годятся подобные определения. Вместе
с тем не оправдало себя негати-
вистское отталкивание от
традиций в широком смысле,
хранительницей которых испокон
веков служила литература. Об этом
не лишне напомнить именно
сегодня, когда волна
неоконсерватизма на Западе пытается
обосновать себя как возврат к
традициям. Традиции, однако, бывают
разные. Традиция же высокой
гуманистической культуры имеет
свое неповторимое лицо. Именно
его запечатлели трагедии
Шекспира и эпос Сервантеса, романы
Толстого и Гюго, пьесы Горького
и проза Томаса Манна. И далеко
не случайно последние три из
названных имен оказались
источниками вдохновения весьма
заметных конкурсных фильмов
состоявшегося в 1983 году XIII
Московского международного
кинофестиваля.
,Речь идет не о том, чтобы
представить кардинальную дорогу
кинематографа как искусства
пролегающей через экранизацию, и
не идет она о непременном
прямом заимствовании тем и
сюжетов. Литература, классика
выступает в данном случае как некая
стимулирующая культурная
субстанция. Фауст, Ромео и
Джульетта, Татьяна Ларина или Жан Валь-
жан — эти классические фигуры,
так многим обязанные
«коллективной памяти» человечества, его
легендам, фольклору, народным
представлениям о нравственности,
сами, в свою очередь,
превратились в некие первообразы, с
детства входящие в наше сознание,
воспитывающие духовность и
пробуждающие творческую мысль.
Вот почему экранизация в
современном кино становится
настойчивой потребностью, как бы
закрепляющей в искусстве экрана
навыки высокой культуры,
подтверждающей его тяготение к
формам устойчивым, освященным
фольклорной и литературной
традицией, использующим, по
выражению Чингиза Айтматова,
«энергию мифа», что живет в куль-
36
турном опыте каждого народа.
Разумеется, экранизация —
лишь частное проявление этой
тенденции. Скажем, для молодых
кинематографий наряду с лучшими
образцами национальной
культуры источником творческой
энергии часто становится еще живо
функционирующая мифология
различных культурных регионов.
Примером могут служить
представленные в конкурсе
Московского фестиваля (и выходящие
за рамки буржуазного кино)
кубинская лента «Роза ветров» и
ангольская «Нелизита», где
актуальность исторических уроков
подается в формах развернутой
поэтической аллегории.
Еще более интересен, при всей
его противоречивости, опыт
американского режиссера Годфри
Реджио, который снял свой фильм
«Суматошная жизнь» в особой
экспериментальной технике, с
тысячекратным ускорением и -
замедлением экранного движения.
Но не только вкус к формальным
новациям заставил критиков
вспомнить в связи с этим фильмом
Эйзенштейна и Вертова. Картина
обратила на себя внимание
образно-философской насыщенностью,
стремлением дать обобщающую
экранную модель движения
цивилизации. И здесь режиссер
нашел опору в ритуальных гимнах-
пророчествах индейцев племени
хопи, которые наложились на
поистине библейские в своей
величественности пейзажи,
поданные по контрасту с изнуряюще-
бездуховными картинами
городской жизни. В результате возник
удивительный эффект
совмещения времен и пространств,
поддержанный оптическими,
монтажными и цветовыми
«микроэффектами».
Конечно, апокалипсические
мотивы, катастрофический образ
агонизирующей цивилизации
отражают вполне определенные,
окрашенные пессимизмом настроения
в западном мире. Однако не
случайно они осмыслены
режиссером отчасти исходя из
принципа мифологического «вечного
возвращения». Этот принцип, когда-
то провозглашенный Ницше, был
взят на вооружение адептами
модернизма и стал основой
мифотворчества, усматривающего «все
во всем», программно
отрицающего прогрессивное
историческое движение и нанизывающего
на одну смысловую ось самые
отдаленные культурные
реминисценции.
По поводу антйисторизма
буржуазного сознания В. И. Ленин
в свое время заметил: «Нет
ничего характернее для буржуа,
как перенесение черт
современных порядков на все времена и
народы». Мифологизация
умонастроений, порожденных кризисом
капиталистической системы, и
сегодня составляют важную
предпосылку многих течений в
западной культуре. Вопреки им
развитие реалистического искусства в
нашем веке породило иную,
гуманистическую концепцию .лифа,
обладающую зарядом
исторического оптимизма и ставящую
силу «коллективной памяти»
человечества на службу актуальным
задачам дня. Именно на таком
понимании мифа строится
творчество Томаса Манна, оно же
наложило отпечаток на лучшие
фильмы Лукино Висконти. Манн
сформулировал идею бессмертия
мифа следующим образом: «Нас
занимают не числовые
выражения времени, а то уничтожение
времени в тайне взаимозаменяе-
37
Кадр из фильма
«Доктор Фаустус»
мости предания и пророчества,
которое придает слову «некогда»
двойное значение прошлого и
будущего, и тем самым заряжает
его потенцией настоящего. Здесь
корни идеи перевоплощения».
Эта идея наиболее глубоко
воплотилась в романе «Доктор
Фаустус», самой темой которого
стала драма искусства,
оторвавшегося от корней гуманизма. Томас
Манн выразил это противоречие
не только в сюжете, но и в самой
образной структуре
произведения, пронизанной логикой
таинственных превращений.
Соотечественник писателя
режиссер из ФРГ Франц Зайтц
рискнул экранизировать один из самых
«трудночитаемых» романов
мировой литературы. Надо сказать,
что этот почти героический
эксперимент оправдался только
отчасти. Время в картине не
достигает того объема, который
запрограммирован Манном, имевшим
цель вобрать в поле зрения всю
новую эпоху, пронизав ее
бесконечными вариациями
средневековой легенды о Фаусте.
Режиссер сосредоточился на
том, что представлялось ему
главным. Культурный декаданс
начала века увиден им сквозь
призму страшных событий эпохи
фашизма, данных в виде
стилизованной хроники. В этом и сила,
и слабость фильма. То, что для
писателя было мучительным
процессом осознания истоков
национальной трагедии (роман писался
в годы второй мировой войны),
а для героев являлось смутным
предчувствием, в экранной
версии выглядит как комментарий
38
р05+ (астит. И все-таки
благородные намерения создателей —
донести до широкой аудитории
предостережение об опасности
возрождения фашизма —
прочитываются в картине достаточно
отчетливо, и в этом ее
несомненное достоинство.
Иной принцип применен
известным французским режиссером и
актером Робером Оссеином при
экранизации другого шедевра
мировой литературы, романа
Виктора Гюго. Теофиль Готье говорил
об «Отверженных»: «Это ни
хорошо, ни плохо; творение это
создано не руками
человеческими, оно, можно сказать,
порождение стихии». И впрямь,
«беспредельный гений» Гюго
выплеснулся в этом романе с щедрой пол-
Кадр из фильма
«Отверженные»
нотой. Впрочем, в наш век, когда
романтизм упал в цене,
популярность «Отверженных» (они были
многократно экранизированы)
может показаться несколько даже
искусственной. Тем более следует
оценить творческую
принципиальность известного французского
режиссера и актера Робера
Оссеина, который не стал
соревноваться в оригинальности с
предыдущими версиями, а выстроил
свой фильм в согласии с
классическим представлением об
атмосфере и героях романа Гюго.
Эти люди словно пришли из
услышанной когда-то прекрасной
легенды, почти сказки. Страдания
39
здесь вознаграждаются не «хэппи
эндом», не последующим
жизненным успехом, не* прежде всего
нашим нравственным соучастием
в судьбах Козетты и Гавроша,
Жана Вальжана и Фантины.
Сцены революционных боев
решены Оссеином в живописных
традициях Делакруа и других
романтиков. Его работа (кстати,
осуществленная сначала в
театре, а потом на телевидении в
многосерийной постановке) впитала
концепцию народного зрелища, о
которой режиссер рассказывал
недавно на страницах «Советской
культуры». Продуманность и
органичность авторского замысла
присутствует и в трактовке
персонажей.
Превосходен в фильме
актерский дуэт Лино Вентуры (Валь-
жан) и Мишеля Буке (Жавер).
В особенности нелегко было
первому из них — играть после
великого Габена, не обладая его
глубоко демократическим
актерским амплуа, а имея за плечами
преимущественно серию ролей в
гангстерско-полицейских фильмах.
Режиссер рассказывал: «Когда я
предложил Лино Вентуре сыграть
Жана Вальжана, тот отказался,
поскольку восхищался Жаном
Габеном— его предшественником
в этой роли. Согласился, когда я
ему объяснил: «Не нужно его
играть, ведь вы живете, как он.
Вы и есть Жан Вальжан». Оссеин
руководствовался не только
профессиональными, но и личными
качествами в выборе актеров.
И эта печать пристрастного
авторского отношения постоянно
ощутима в фильме.
Ощутима она и в другой
картине, обошедшей крупнейшие
фестивали мира,— в фильме
испанского режиссера Карлоса Сауры
«Кармен», который в отличие от
«Отверженных» нельзя признать
собственно экранизацией. Зато
это некое художественно
оформленное «размышление об
экранизации», о взаимопроникновении
искусства и жизни, первообраза и
его новых воплощений во
времени, что не менее интересно. Сау-
ра размышляет также о судьбе
национальной традиции: сюжет
«Кармен», испанский по своему
духу, был трансформирован Ме-
риме в новелле и Визе в опере
с точки зрения француза и
воспринят как своего рода экзотика.
Герой фильма балетмейстер Ан-
тонио (Антонио Гадес) ставит
балет на тему «Кармен», но как бы
возвращает ей изначальный
народный характер. По существу,
он решает постановку в стиле
фламенко, предполагающем не
только эффектный внешний блеск,
но и глубину самовыражения.
Поэтому не случайно отношения,
складывающиеся между
балетмейстером и танцовщицей, как
бы перекликаются с драмой Хо-
се и Кармен, занимающей их
творческое воображение, а
приглядевшись, мы ощущаем глубоко
личное, взволнованное
отношение самого Сауры к своему
сюжету. Субъективность авторского
взгляда предусмотрена здесь
самим предметом исследования —
им становится творческая
лаборатория художника, настроенный
на классическую мелодию оркестр
его души.
Совершенно иной подход к
взятой за основу ведущей
«мелодии» демонстрирует известный
итальянский постановщик
Франко Дзефирелли, снявший для кино
вердиевскую «Травиату». Лучшие
голоса мира (ведущие партии
поют Тереза Стратас и Плачидо
40
Доминго), блеск декораций и
костюмов, не менее блестящие
натурные съемки, сложнейшие
массовые сцены, и даже
включенный в качестве
дивертисмента «гастрольный» номер советских
балетных звезд Екатерины
Максимовой и Владимира Васильева...
Поразительно, что при всей
роскоши постановки в ней
отсутствует эклектика, обычно
сопутствующая «суперфильмам», а
поистине оперная монументальность
сочетается с чисто
кинематографической динамикой. Во многом
это объясняется подлинно
драматичной игрой Терезы Стратас,
но главная заслуга, разумеется,
принадлежит Дзефирелли: это он
не просто перенес оперу на экран,
но создал зрелище,
синтезировавшее сам дух итальянской
культуры.
Известный кинокритик Ренцо
Ренци пишет: «другие страны
имеют за своими плечами
великие литературы, Италия
располагает мелодрамой с участием
тенора, сопрано, баритона, баса».
Вердиевские темы у Висконти и
Бертолуччи, «оперный» стиль
целого ряда известных итальянских
фильмов, посвященных
переломным моментам истории,— все это
находит свое соответствие в
картине Дзефирелли. И хотя она
лишена прямой сюжетной
актуальности, но через сложную
систему культурных ассоциаций
вписывается в сегодняшний
кинопроцесс с его повышенным
стремлением установить «связь
времен», раскрыть глубинные нити,
соединяющие гуманистическую
культуру прошлого с
современным художественным мышлением.
Вообще независимо от того,
является ли экранизация
традиционной или отмеченной чертами
новаторства, кинематографисты,
чьи работы были представлены и
обратили на себя внимание на
международных фестивалях
последних лет, искали уже
существующие в классических
структурах мосты, ведущие в
современность. Либо достраивали их сами.
Разговор об экранизации будет
неполным, если пройти мимо
получившей мировое признание
японской картины «Баллада о
Нарайяме». Ибо в ее основе —
тоже литература, две повести
Ситиро Фукадзавы, однако этот
факт не имеет решающего
значения (по крайней мере для
европейского восприятия), ибо перед
нами редкий образец «чистого»
авторского кино, а связь с
традицией имеет место постольку,
поскольку режиссер Сехэй Имамура
впитал глубинные основы
восточной философии.
В фильме дан малознакомый
срез жизни затерянной в горах
японской деревушки, прошлого
века, когда в передовых странах
уже развернулась
научно-техническая революция, а культура
достигла признанных высот.
Именно потому с первых же кадров
потрясает не только даже
ужасающая бедность, скудость
условий человеческого существования
героев картины, сколько острый
«дефицит человечности»
(пользуясь выражением Чингиза
Айтматова), вызванный не
разрушительными войнами, не «издержками
цивилизации», а, напротив, ее
инфантильностью. Здесь всем
селением уничтожают семью вора,
и не потому что зло должно быть
наказано — просто искореняют,
как сорняк. Здесь всех
новорожденных, кто оказался в семье
«лишним ртом», родители
убивают или меняют на драгоценную
41
соль, что развозит приезжий
торговец. Стариков, достигших
семидесятилетнего возраста,
отправляют на гору Нарайяму умирать
голодной смертью.
Первое приходящее в голову
толкование фильма связано с
непостижимыми для европейца
особенностями восточного
мироощущения, ставящего жизнь и
смерть в единый ряд «вечных
превращений». Этому
соответствует и мифологический характер
структуры фильма: действие
охватывает четыре времени года, от
зимы до зимы, и словно
возвращается к исходной точке.
Фильм пронизан природными
мотивами, в едином ритме
соединяющими существование зве-
Кадр из фильма
«Баллада о Нарайяме»
рей, птиц, насекомых и... людей.
И все же главный итог
«Баллады» заключается в ином.
Полемическое отрицание христианских
основ гуманизма, подчеркнутый
биологизм, в духе которого
трактован быт обитателей селения,
становятся лишь предпосылкой
для выявления сущности
происходящего. Эта сущность
раскрывается в отношениях старой
вдовы О-Рин и ее взрослого сына,
обреченного обычаем отнести
свою мать на Нарайяму. И хотя
он в конечном итоге исполняет
предписанное, зерна сомнения и
«непростительной слабости» рас-
42
тут в его душе. Фильм Имамуры
повествует о зарождении
гуманизма как неизбежного следствия
человеческой общности и
выделенное™ человека из мира
природы. Ритуальное, мифологическое
сознание по мере накопления
исторического опыта
гуманизируется. И то, что этот процесс
разными путями протекает в
различных культурных регионах,
лишь подтверждает
непреходящий характер понятий добра и
человечности.
В осмысление истоков
гуманизма внес свой вклад и
награжденный множеством «Оскаров»
англо-индийский фильм «Ганди».
Это действительно серьезная,
потребовавшая колоссальных
усилий работа. Не являясь
экранизацией, с»на тем не менее
включается в ведомый
кинематографистами разговор о
непрерывности гуманистической традиции.
Если даже опустить ее чисто
кинематографические достоинства
(мощные массовые сцены,
тактичная режиссура Ричарда Аттенбо-
ро, исключительная «киногенич-
ность» актера Бена Кингсли в
роли Махатмы Ганди), нельзя не
оценить благородства и
честности создателей фильма,
сделавших «суперзрелищный» фильм
без малейшего оттенка
вульгарной коммерции. Попытка
постижения личности и философии
Ганди — заметный вклад
кинематографа в демократическую
культуру современности.
Гуманизм неистребим
Вопреки всем проявлениям
буржуазной экранной агрессии,
искаженным и упрощенным
представлениям о гуманизме и
духовном прогрессе гуманистическая
традиция настойчиво утверждает
себя в мировом кинематографе.
Важнейшим обстоятельством
является здесь бурное развитие
молодых кинематографий стран
Азии, Африки, Латинской
Америки. И это не может не влиять на
борьбу идей в кинематографе
Запада, на активизацию в нем
прогрессивного, демократического
направления.
Давно миновали времена, когда
кинематографию планеты
представляло несколько основных,
ведущих кинодержав. «Узаконить»
резкое расширение мировой
киногеографии сумели в первую
очередь фестивали последних
лет в Москве и в Ташкенте.
Они гостеприимно открывали свои
двери перед посланцами стран
Азии, Африки, Латинской
Америки. Они дали путевку в жизнь
многим молодым
кинематографистам: вспомним, к примеру,
каким открытием прозвучали на
московских киносмотрах первые
перуанские фильмы.
«За гуманизм киноискусства, за
мир и дружбу между
народами»— этот благородный девиз
определил равноправное
представительство в Москве мощных
кинодержав, обладающих
развитыми традициями, и совсем
молодых кинематографий. И надо
сказать, последние достойно
выдерживали подобное творческое
соперничество.
Неоднократно наш фестиваль
награждал поощрительными
призами представителей вьетнамской
кинематографии, отметившей
недавно уже свое тридцатилетие,
но развивавшейся, как понятно
всякому, в особо трудных
условиях. И вот на XII Московском
смотре вьетнамский фильм «Опу-
43
стошенное поле» получил одну из
трех высших наград. Его
режиссер Нгуен Шен поведал простую,
как мир, историю о том, как
борется за свое существование
крошечная семья — отец, мать,
ребенок. Но бороться им
приходится не с каверзами природы, а с
мощными, вездесущими
американскими авиапатрулями. При этом
они успевают сажать рис,
работать связными партизанских групп
и еще строить свои, вполне
мирные отношения. Этот
присущий простым людям «талант
жизни» не только придает картине
оттенок проникновенного
лиризма, но и раскрывает
психологические истоки победы
вьетнамцев.
Такие вот открытия новых
пластов, не исследованных доселе
кинематографом «условий
человеческого существования» стали
правилом в практике московских
смотров прогрессивного
мирового кино.
Не менее важно, что удалось
сломать предубеждение,
высокомерную снисходительность ко
всему, что не из Европы и
Северной Америки, определявшие ход
большинства фестивалей,
проводимых на Западе. Разве лишь
Япония могла рассчитывать в Канне
на большую награду (ее и
получили за последние годы «Тень
воина» Акиры Куросавы и
знакомая нам «Баллада о Нарай-
яме»).
И вот две
кинематографические сенсации. Главный приз
фестиваля в Канне — что
несколько лет назад показалось бы
невероятным — завоевал в 1982
году турецкий фильм «Дорога»
прогрессивного режиссера Йыл-
маза Гюнея. Он снял его,
находясь... в тюрьме полустрогого
режима, куда попал за
прогрессивную общественную деятельность.
Лента и рассказывает о
тюремных узниках, на неделю
вырвавшихся на волю, но видящих
только одну дорогу, где им
суждено вновь испытать на себе
произвол и беззаконие.
Прогремевшую на весь мир
картину Гюней был вынужден
снимать через подставных лиц,
с помощью друзей, а
впоследствии — покинуть родину,
колеся без права на жительство по
чужим странам и рискуя стать
жертвой мести турецких фашистов.
И все же «Дорога» Йылмаза
Гюнея не ограничивается
констатацией несправедливости. Это
дорога борьбы, призванной открыть
людям глаза, пробудить их к
действию.
Подобная устремленность
характеризует и другую турецкую
ленту «Сезон в Хаккари»
(режиссер Эрден Кирал). И здесь
вместе с главным героем —
молодым учителем — мы совершаем
путь в край нищеты и бесправия,
в забытую богом горную
деревушку. Обратившись к реальным
проблемам своей страны, к
условиям повседневной жизни
простых людей, прогрессивное
турецкое кино оказалось
интересно повсюду — об этом
свидетельствует одна из главных наград,
которой удостоен «Сезон в
Хаккари» на Западноберлинском
фестивале. Можно вспомнить и об
успехе тунисского фильма на
фестивале в Мангейме, и другие
свидетельства меняющихся
ориентации в интересах и
пристрастиях международной
кинематографической общественности.
Все новые и новые
кинематографии активно входят в
сегодняшний кинопроцесс. Они слов-
44
но напоминают, что
современный человек живет в очень
многолюдном и многообразном
мире. Этот мир полон
несовершенств и противоречий. Но
человек борется, в том числе и
таким оружием, как кинокамера.
XIII Московский
международный кинофестиваль подтвердил
это. Хотя конкурс был весьма
сильным, именно он вывел в
группу лидеров проникнутые
болями и тревогами эпохи
произведения молодых кинематографий.
Достаточно назвать
награжденные высшими призами картины
«Амок!» — о южноафриканском
апартеиде и «Альсино и
Кондор» — о военной экспансии США
в странах Латинской Америки.
Первая из них создана
марокканским режиссером Сухейлем Бен
Баркой. Вторая принадлежит
чилийскому режиссеру-эмигранту
Мигелю Литтину и снята в
содружестве кинематографистов
Никарагуа, Кубы, Мексики и Коста-
Рики. Естественно, что на таком
смотре прогрессивного кино,
каким является фестиваль в
Москве, должную оценку получил и
пример интернациональной
солидарности, и свободолюбивые
идеи, одухотворившие каждый
из этих фильмов. Но, повторим,
решающую роль сыграл высокий
художественный уровень
представленных работ,
красноречиво заявивший о центробежных
тенденциях мирового
кинопроцесса, который стремительно
распространился на все континенты.
Для сравнения можно было бы
привлечь некоторые фильмы
прогрессивных (подчеркнем —
прогрессивных) кинематографистов
Западной Европы, тоже взявших
социальную проблематику,
затронувших актуальные проблемы
жизни рабочего класса,
профсоюзной деятельности, инфляции
человеческих отношений. Но этим
фильмам порой не хватает
дыхания, и потому на первый план
выходят произведения,
рожденные подлинным историческим
энтузиазмом.
«Амок!» не случайно несет
восклицательный знак в самом
названии. Фильм мог бы стать
неспешной экспозицией того
слома, что произошел в сознании
провинциального учителя,
приехавшего в Иоганнесбург, где в
беду попали его родственники, и
ставшего свидетелем жесточайшей
расовой политики властей. Но
картина, своеобразным камертоном
для которой послужили песни
великой африканской певицы
Мириам Макебы, проникнута таким
гневом, такой болью и
самоотверженностью, что она
становится эмоциональной антитезой
многим лентам, снятым «усталой
камерой» — так можно
охарактеризовать стилистику иных
западных кинематографистов,
пассивно фиксирующих жизненные
коллизии, не видящих смысла и
цели повсеместно идущей борьбы
за будущее планеты.
А вот что сказал о первом
никарагуанском художественном
фильме «Альсино и Кондор»
крупнейший писатель
современности Габриэль Гарсиа Маркес:
«Это действительно очень
хороший фильм, но главная его
ценность не в том, что он
мастерски сделан, а в том, что он снят
в почти невероятных условиях».
Оказывается, Мигель Литтин
задумал поначалу снять притчу
о «тропическом Икаре» —
деревенском парне, который прыгал
с деревьев, потому что мечтал
летать. Но проехав по деревням
45
революционной Никарагуа,
режиссер понял, что жизнь богаче
любого сценарного вымысла, и
расширил рамки повествования.
Правительство Никарагуа
всеми силами содействовало
съемкам картины. Оно предоставило
в распоряжение
кинематографистов части войск революционной
армии, единственный в стране
танк, а также вертолет. Но
выделенный вертолет разбился во
время спасательных работ при
наводнении. Другой вертолет —
единственный оставшийся —
исполнил роль артиста до конца,
хотя «капризы», которые он себе
позволял, режиссер не простил
бы ни одной кинозвезде.
Например, его пришлось отозвать на
границу с Гондурасом в период
обострения ситуации в стране.
И занятые в фильме части
отзывались для вооруженных действий,
а когда они возвращались, лица
солдат были другими, и режиссер
не всегда был уверен, стреляют
они холостыми или боевыми
патронами.
Жители поселка, где
снимался фильм, однажды задумали...
поджечь танк, поскольку узнали
в нем бывший танк самосовцев.
Актер, игравший самосовского
офицера, вызвал ненависть
местных жителей, решивших, что в
съемочную группу прокрался враг.
Во время работы умер от
инсульта знаменитый кубинский
оператор Хорхе Эрера (снявший
картину «Люсия», премированную
в свое время на Московском
кинофестивале). Словом,
трудностей и проблем было не
перечесть. И тем не менее фильм
был снят!
В центре картины, какой она
получилась, противостояние двух
героев — мальчика Альсино и
американского летчика-инструктора,
сеющего смерть на чужой
земле. Альсино поразительно сыграл
Алан Эск^вель, сын строителя,
который не умел читать и учил
роль со слов ассистента. Роль
капитана Франка исполнил
американец Дин Стокуэл вопреки
политическому нажиму своих
соотечественников и за мизерные
(по голливудским понятиям)
деньги, собранные энтузиастами.
Филъм Литтина показал, что
искренность переживания
острейших проблем современности,
преломляясь через самую что ни на
есть жизненную методику того,
как «делать фильм», способна дать
и новое художественное
качество. Качество, определившее
заметное место молодых
кинематографий на карте мирового
киноискусства.
Участие молодых
кинематографий в мировом кинопроцессе по-
новому освещает и проблему
гуманизма в кинематографе
Запада. Ведь многие, даже
бесспорно крупные художественные
явления западноевропейской
культуры несут на себе отпечаток
усталости и растерянности, неверия
в социальный и духовный
прогресс.
Только что бушевала
очередная «новая волна» — самые
смелые ее эксперименты выглядят
нынче безнадежно устаревшими.
Имена «властителей умов»,
которые критики еще вчера дружно
выдвигали на первый план,
сегодня оказываются в тени, их
место занимают другие. При
такой нестабильности усиливается
тяготение к устойчивым,
непреходящим ценностям, способным
пережить поверхностную
«злобу дня». Ощущается, говоря
словами поэта, «ностальгия по на-
46
стоящему», по вьгсокои
художественной правде, неподвластной
веяниям изменчивой киномоды.
Но — в том-то и заключается
парадокс! — судя по
многочисленным симптомам, некий
«классический» период в развитии кино
Запада завершился. За последние
годы, не говоря уже о Чаплине,
мировой кинематограф потерял
таких своих патриархов, как Лу-
кино Висконти и Витторио де Сика,
Роберто Росселини и Пьетро
Джерми, Рене Клер и Жак Тати,
Анна Маньяни и Жан Габен...
Это не могло не ослабить, в
частности, позиций Италии и
Франции — ведущих
западноевропейских кинодержав. Особенно
если учесть, что наряду с теми, кто
назван, ушли из жизни крупные
режиссеры среднего поколения
Пьер Паоло Пазолини, Элио
Петри, Валерио Дзурлини,
популярнейшие актеры Роми Шнайдер
и Патрик Деваэр.
Дело, конечно, не только в
неизбежных потерях, но и в том, что
крупнейшие режиссеры Запада —
Феллини, Бергман, Рене, Анто-
ниони, — когда-то бывшие в
авангарде
художественно-философских поисков, своими работами
последних лет не открыли для
киноискусства новых горизонтов.
Характерно, что многие из них,
начиная с Феллини, взялись
писать книги, обобщающие их
творческий опыт. Такую книгу выпустил
недавно Антониони, такой
книгой завершил свой жизненный
путь Бунюэль. Ее название —
«Мой последний вздох» —
оказалось пророческим. Классик
современного кинематографа
скончался в возрасте 83 лет,
пополнив печальный список утрат
мирового кино.
А принципиального движения
в западном кинематографе,
новых перспективных имен явно
маловато...
Но эта вкратце описанная
локальная кинематографическая
ситуация вовсе не дает повода
утверждать, будто в современной
жизни людей значение
кинематографа снизилось.
Именно в обстановке
глобальной опасности, стоящей перед
человечеством, в условиях
активизации разных мастей
консерватизма и экстремизма художник
может и должен сказать свое
веское слово в сплочении людей
на основе принципов гуманизма,
социальной справедливости и
коллективной ответственности.
Советуем прочитать
Ленин о кино. Сборник документов и материалов. М., 1973.
Баскаков В. Противоречивый экран. М., 1980.
Березницкий Я. Как создать самого себя. М., 1976.
Капралов Г. Человек и миф. М., 1983.
Караганов А. Киноискусство в борьбе идей. М., 1974.
Мифы и реальность, сборники статей. Вып. 1—9.
Содержание
Введение 3
Трагическое наследство 10
Замкнутый круг 19
Хороши ли «чувства добрые»? 28
Почему экранизация? 35
Гуманизм неистребим 43
Советуем прочитать 47
На 1-й странице обложки — кадр из фильма «Свинцовые
времена».
На 4-й странице обложки — кадр из фильма «Лихорадка
субботним вечером».
Андрей Степанович Плахов
БОРЬБА ИДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
Гл отраслевой редактор В П .Демьянов
Редактор Л. Ю Ильина
Мл редактор О. А. Васильева
Худож редактор М. А. Г/сева
Техн. редактор Т В Луговская
Корректор Н. Д. Мелешкина
ИБ № 6337
Сдано в набор 22.05.84. Подписано к печати 25 07.84. А13045 Формат
бумаги 60Х84'/|б- Бумага офс № 2. Гарнитура журнально-рубленая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,8. Уел кр.-отт 3,25. Уч.-изд л. 3,34. Тираж
73 160 экз. Заказ 648. Цена 15 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП,
Москва, Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 847109
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический
комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Индекс 70095
Брошюры этой серии в розничную продажу не
поступают, поэтому своевременно оформляйте
подписку. Подписка на брошюры издательства
„Знание" ежеквартальная, принимается в любом
отделении „Союзпечати".
Напоминаем Вам, что сведения о подписке Вы
можете найти в „Каталоге советских газет и
журналов" в разделе „Центральные журналы",
рубрика „Брошюры издательства ,,3нание".