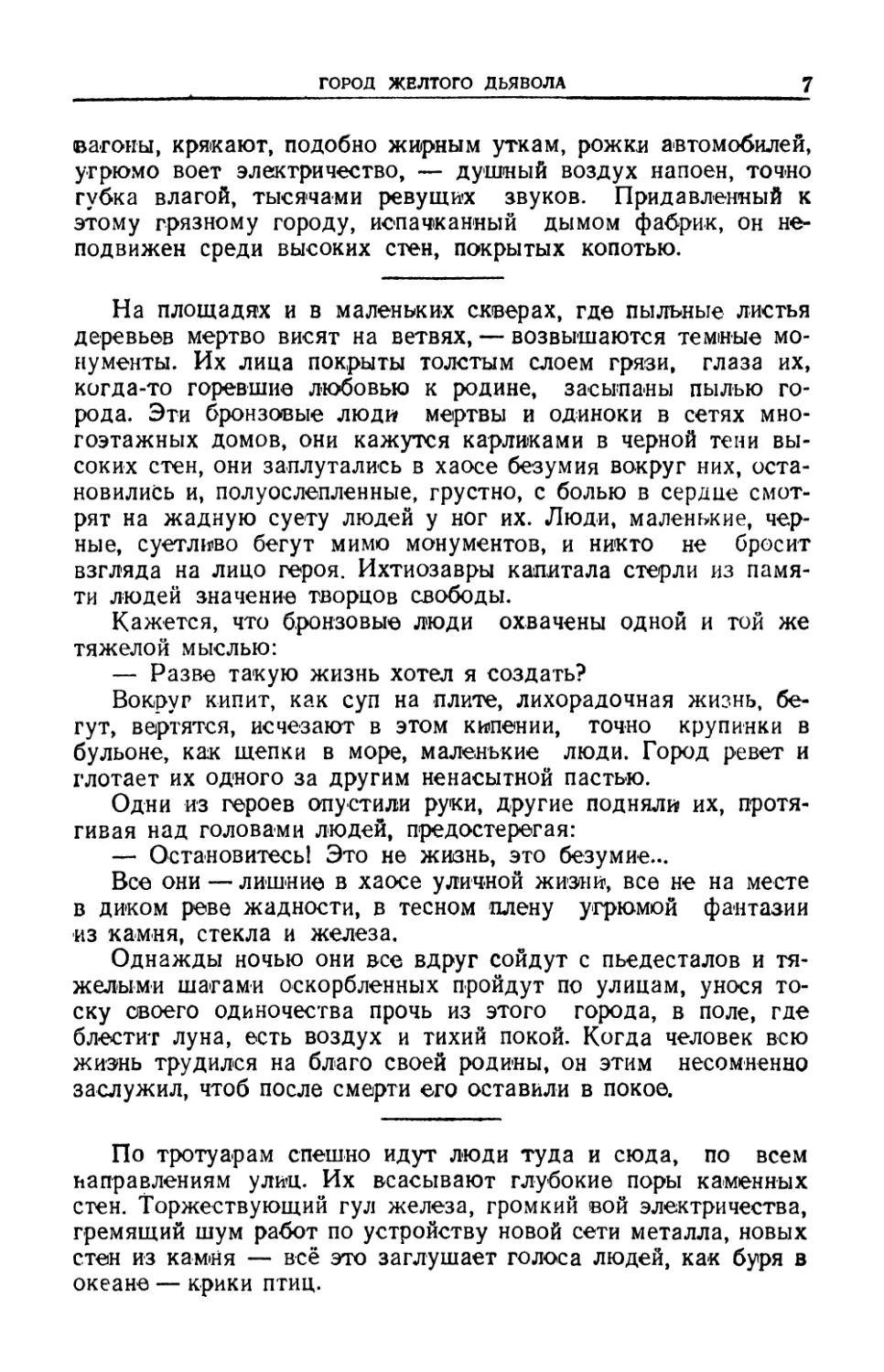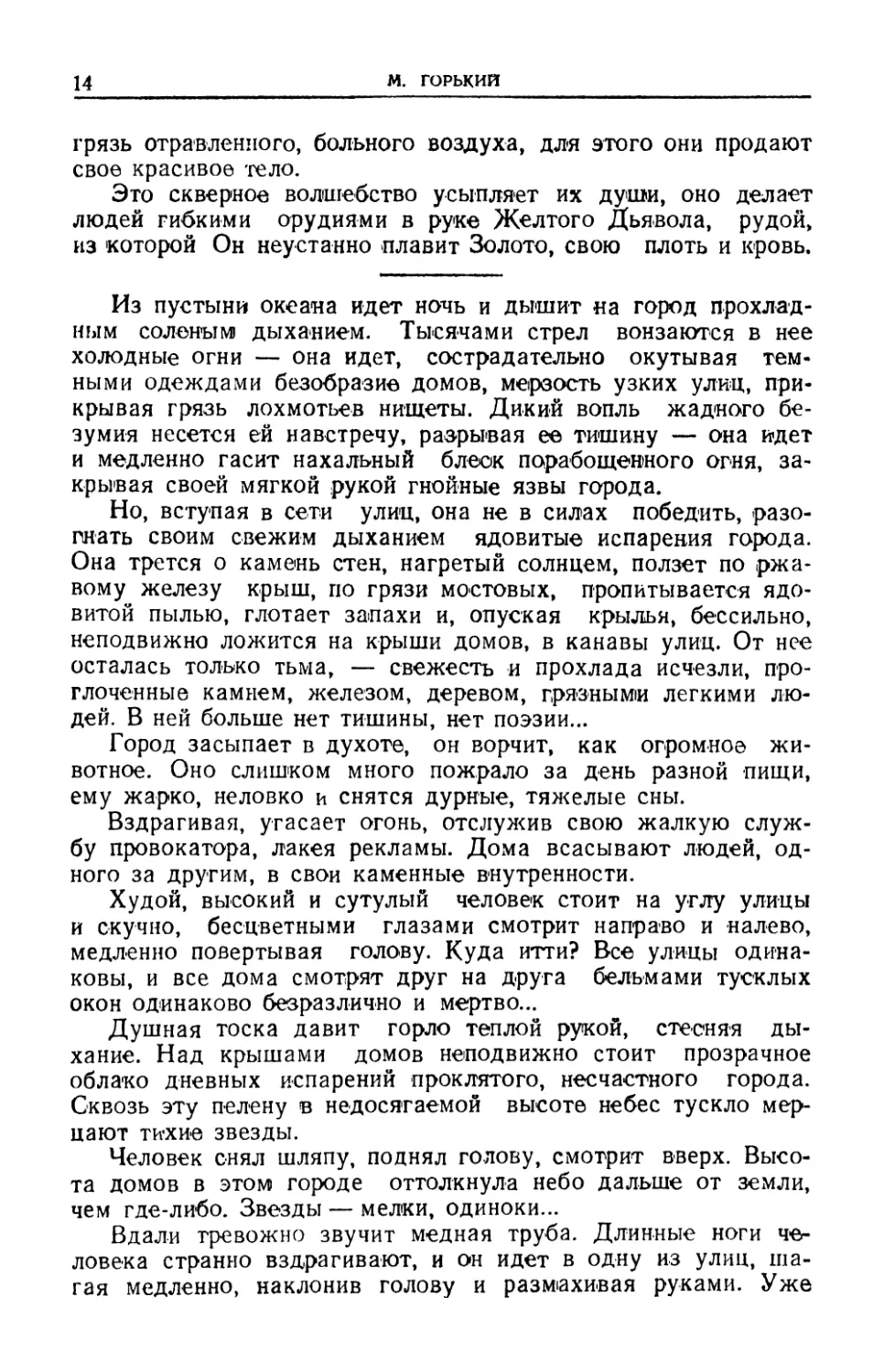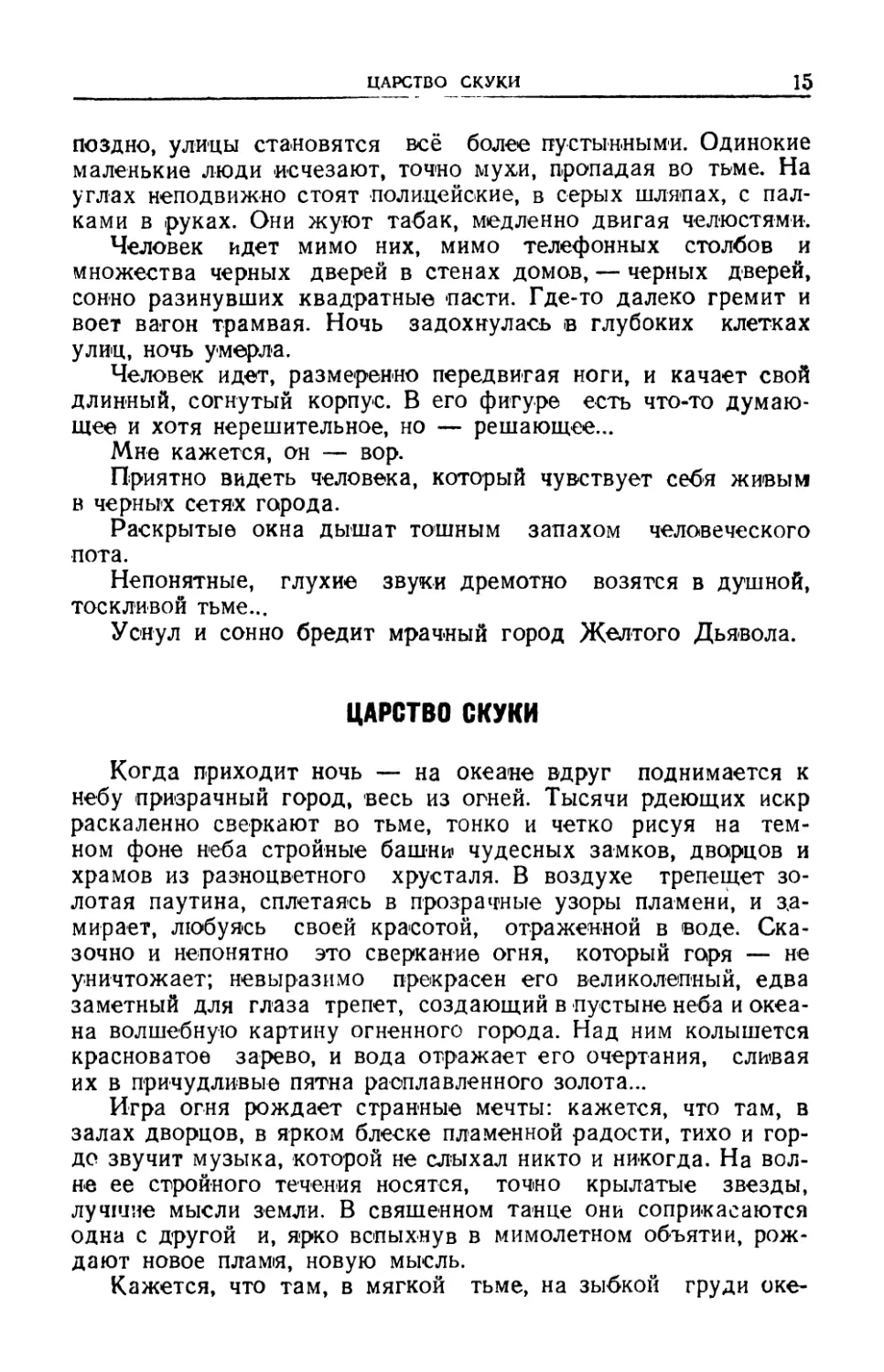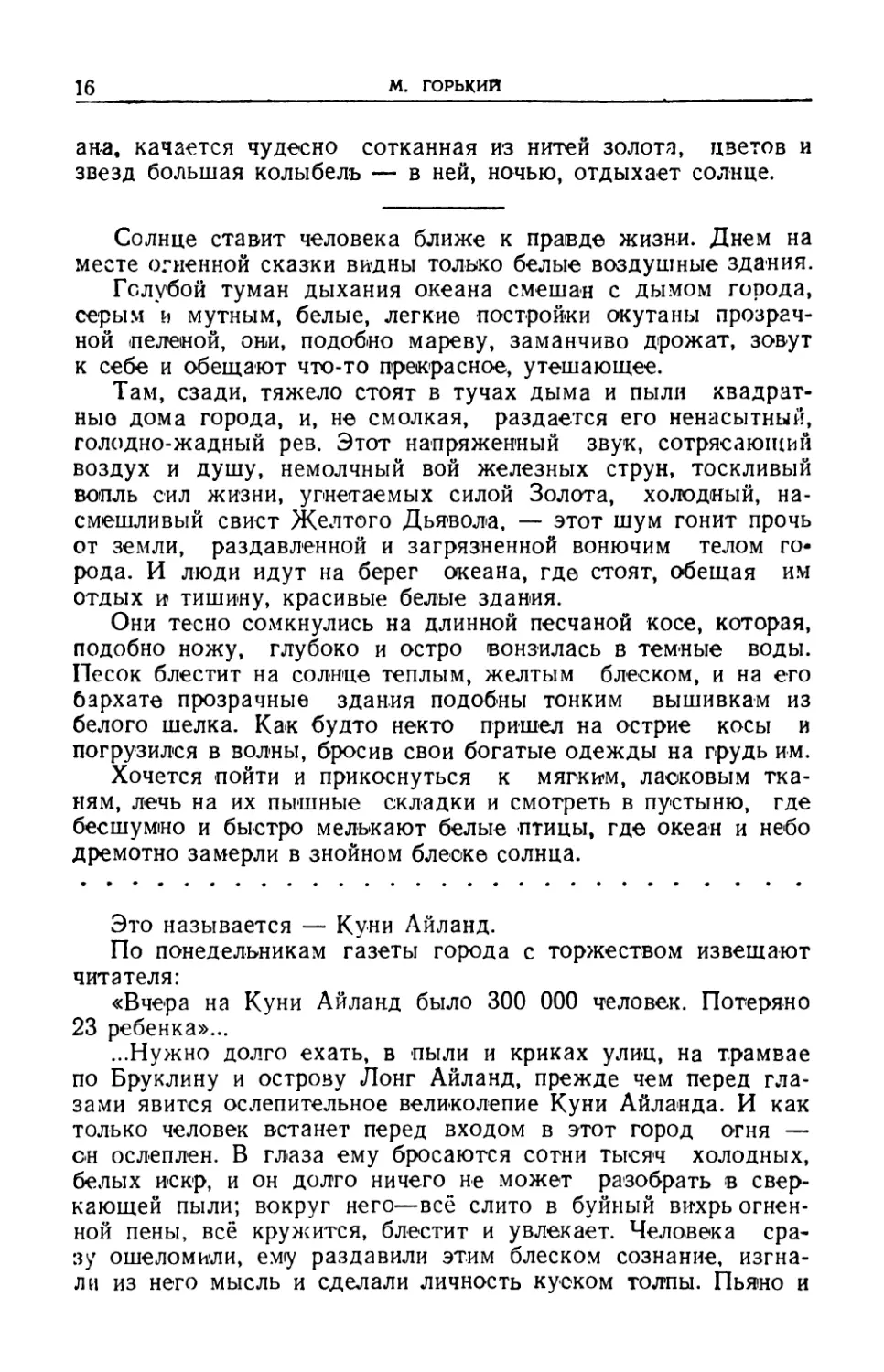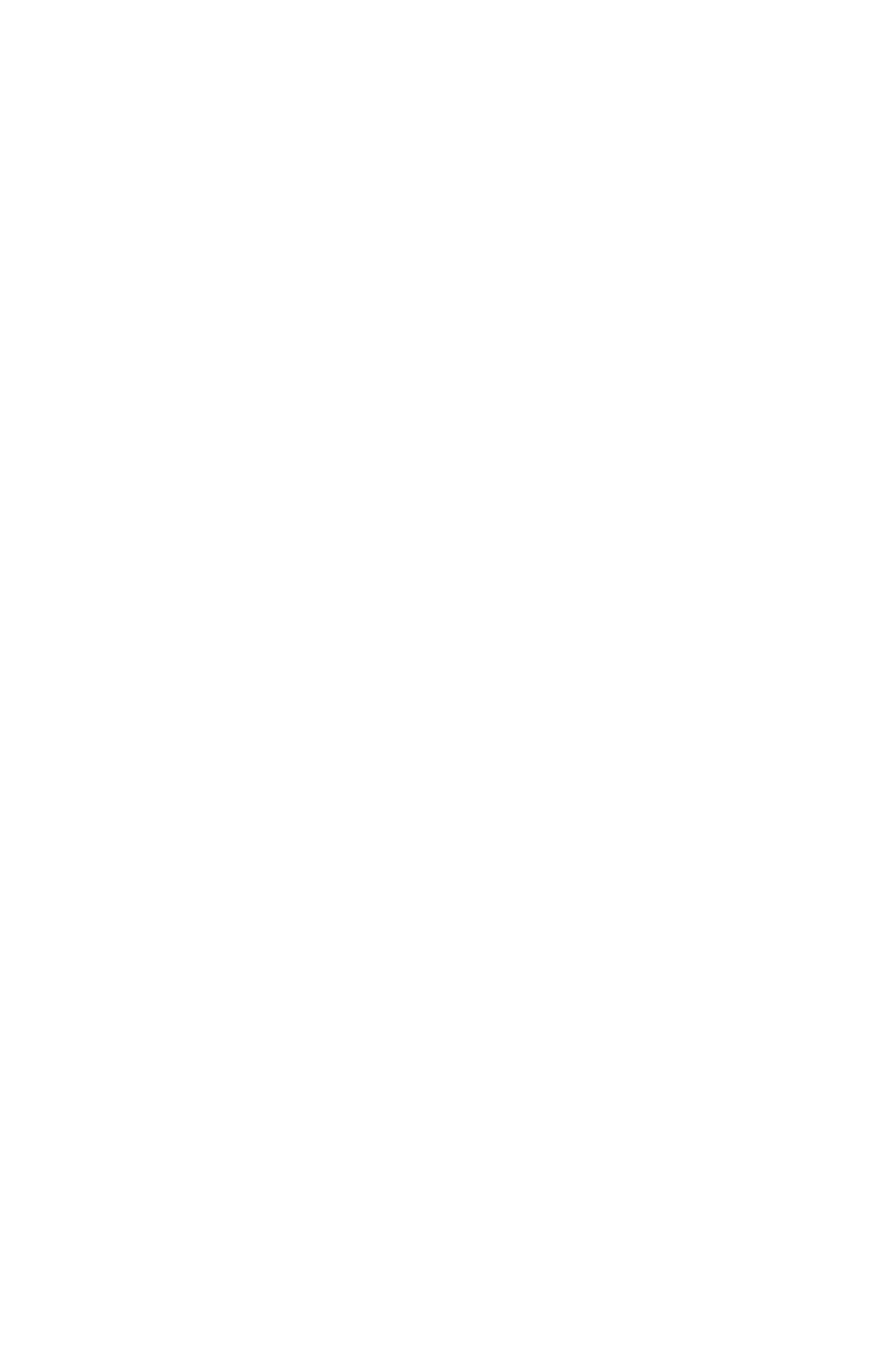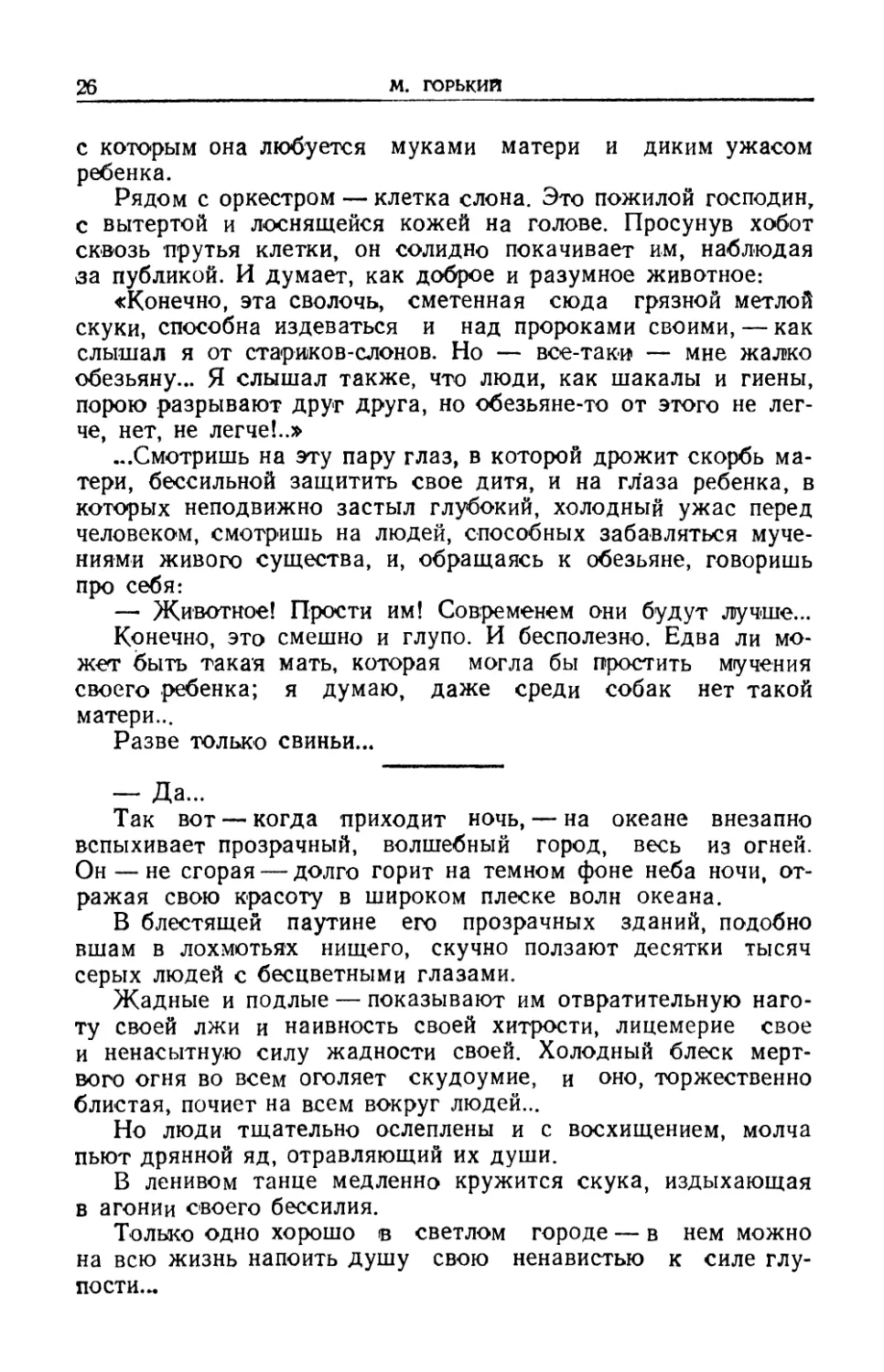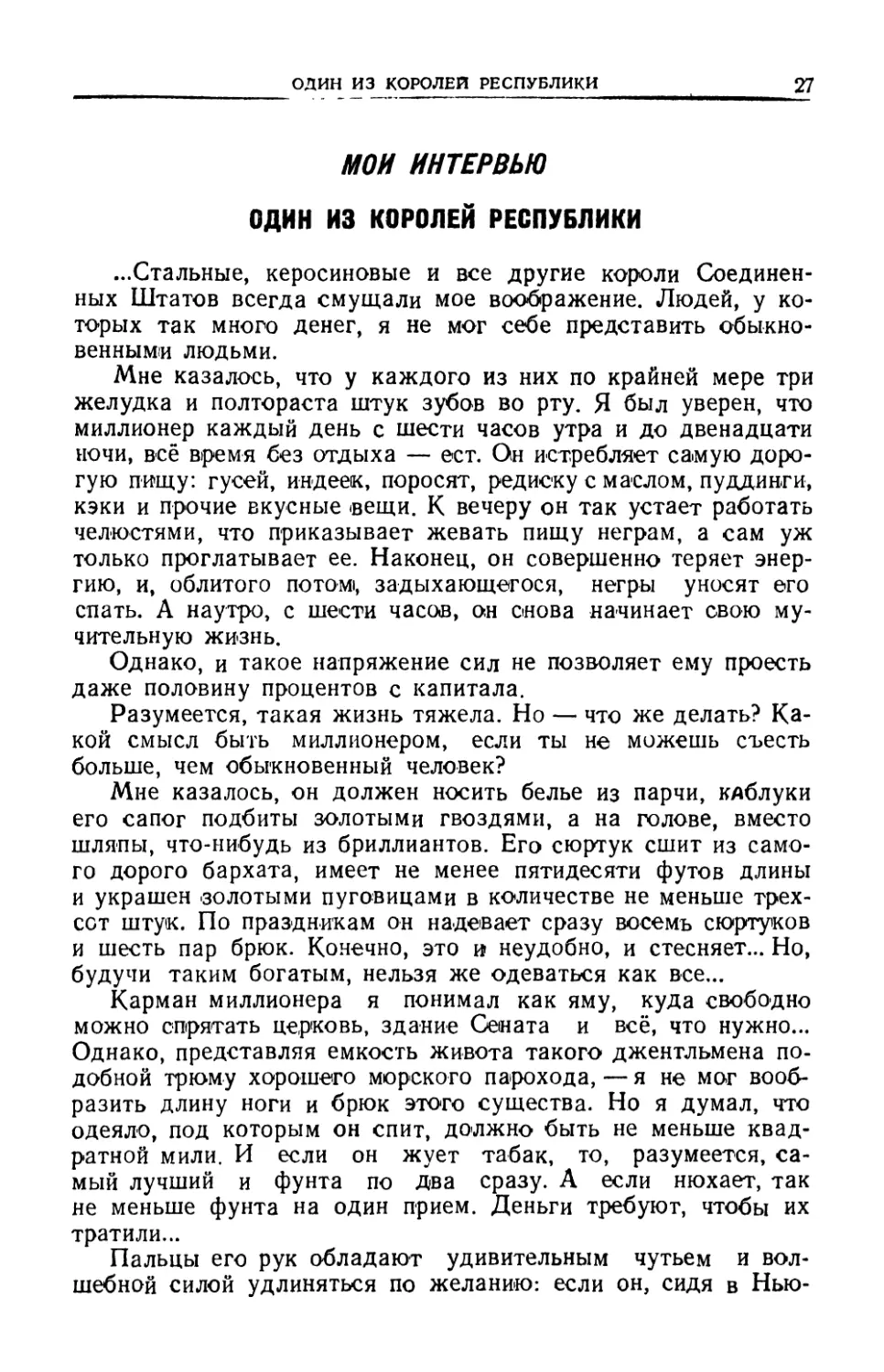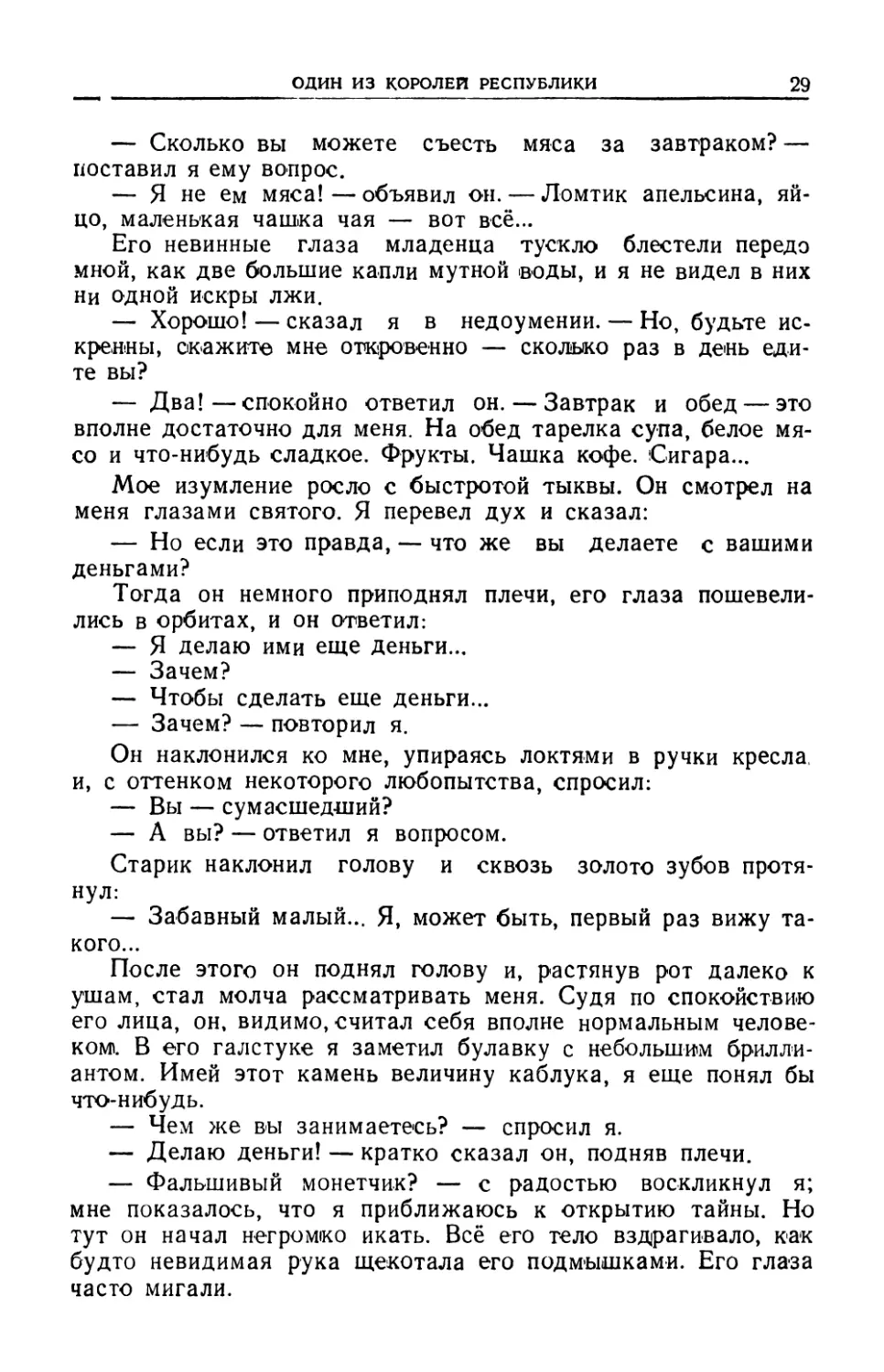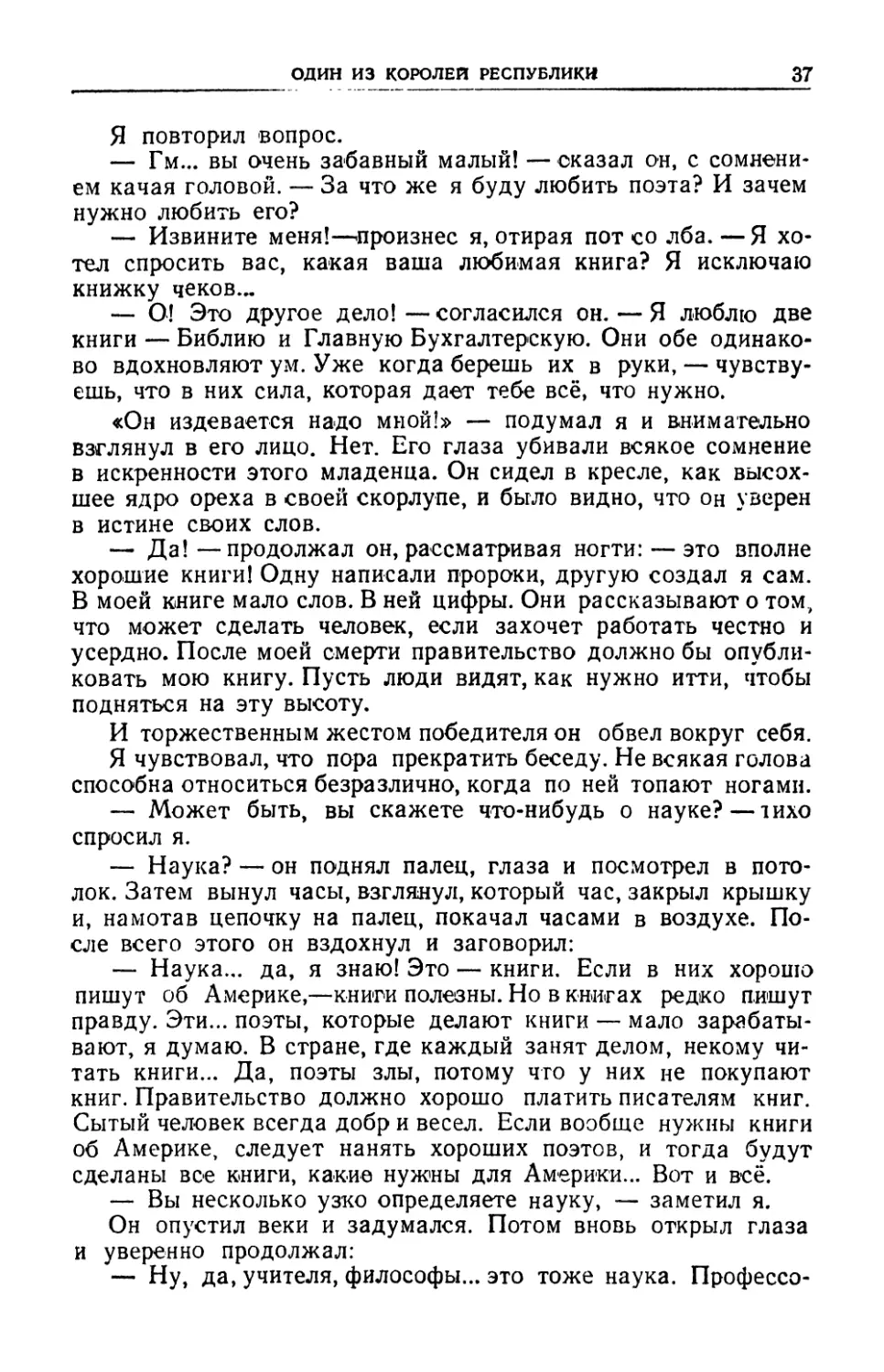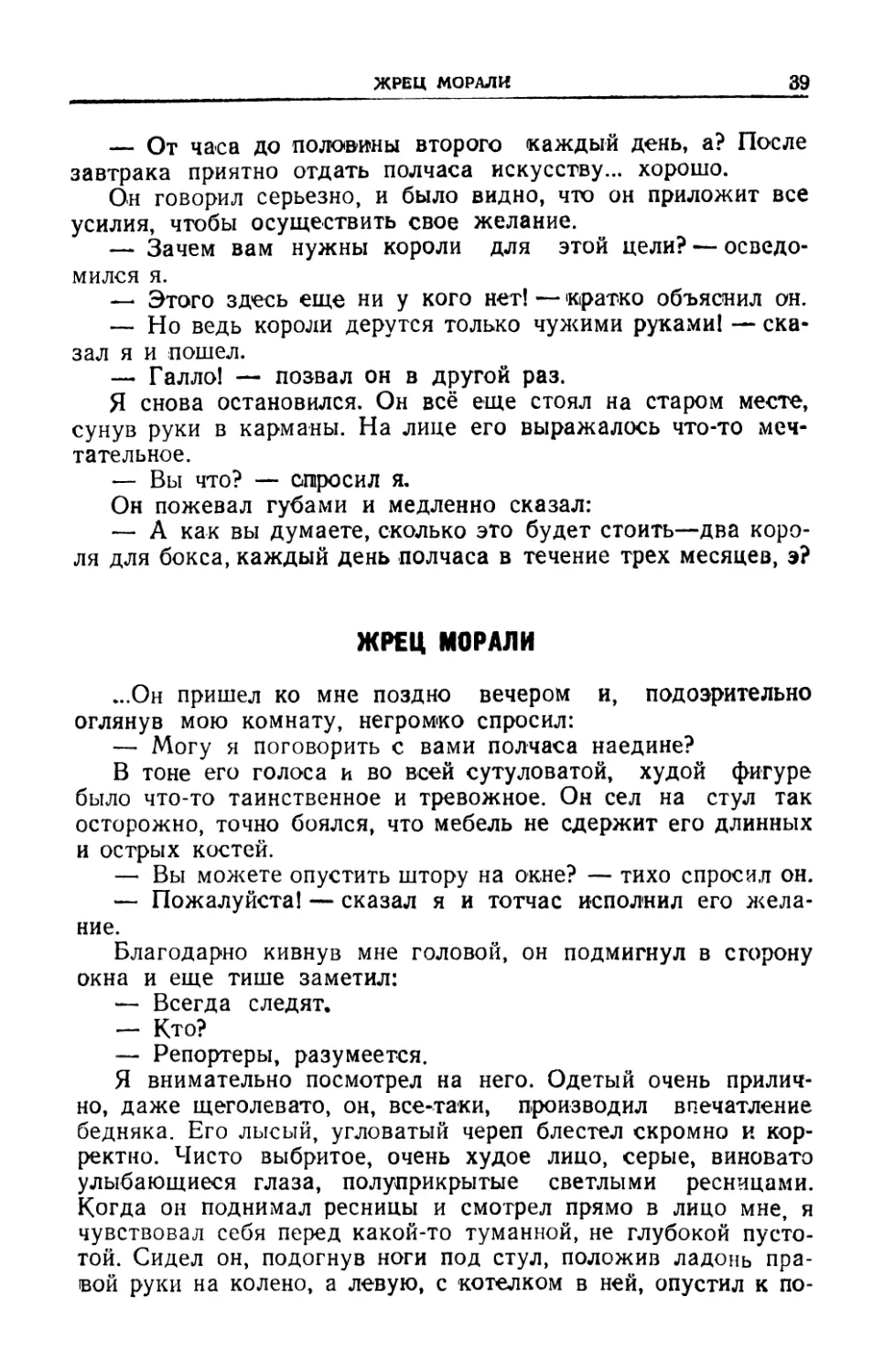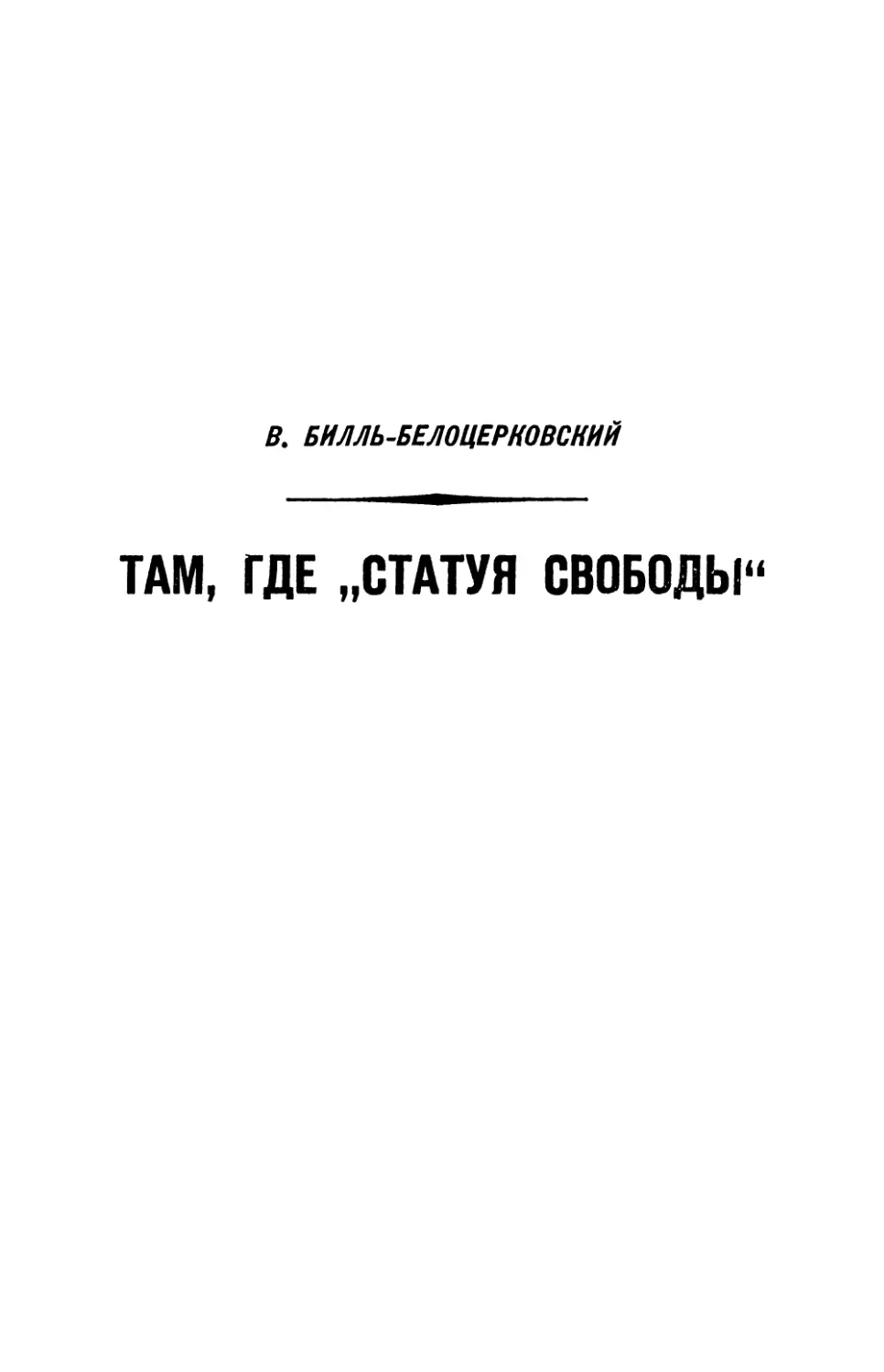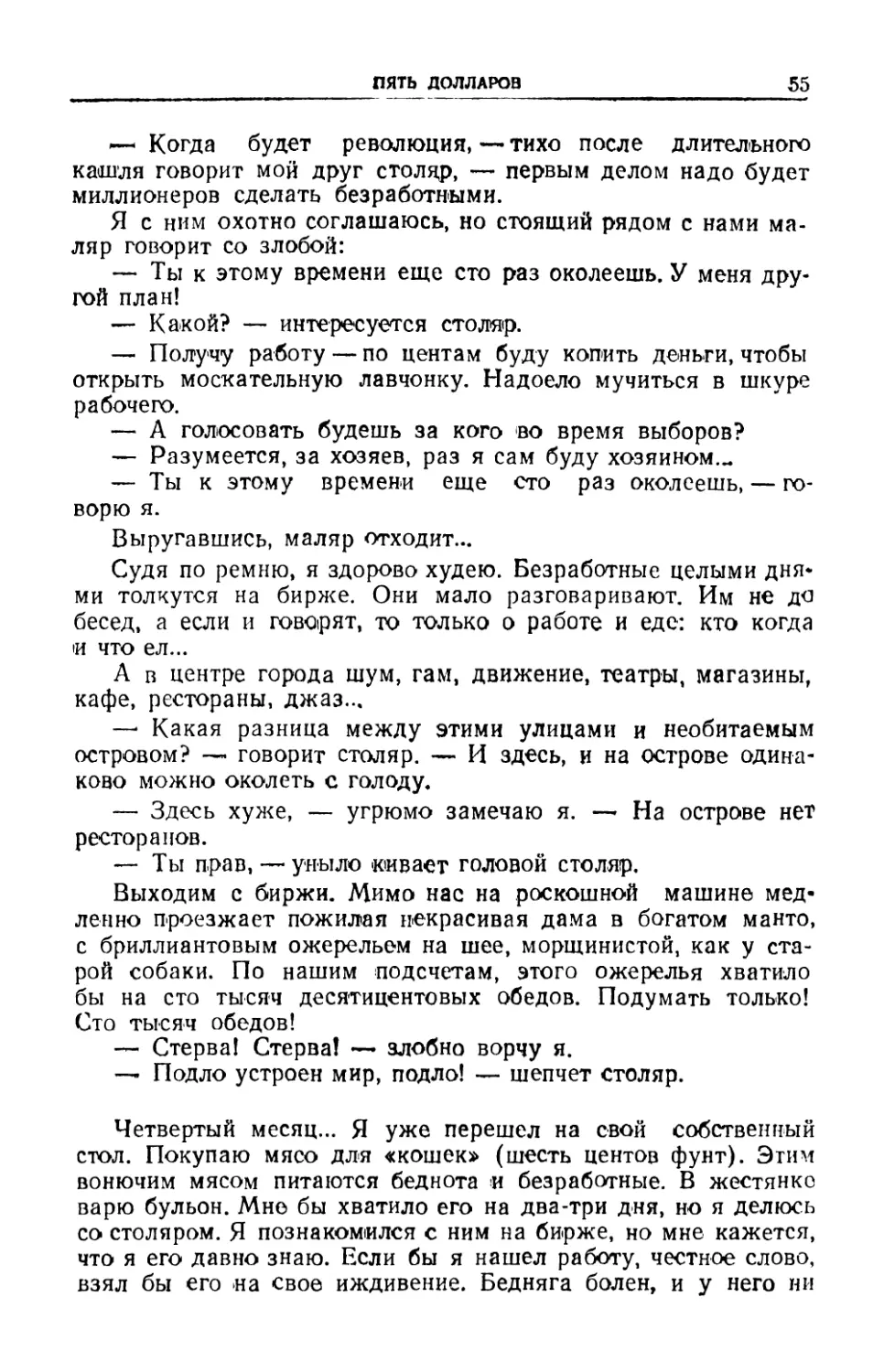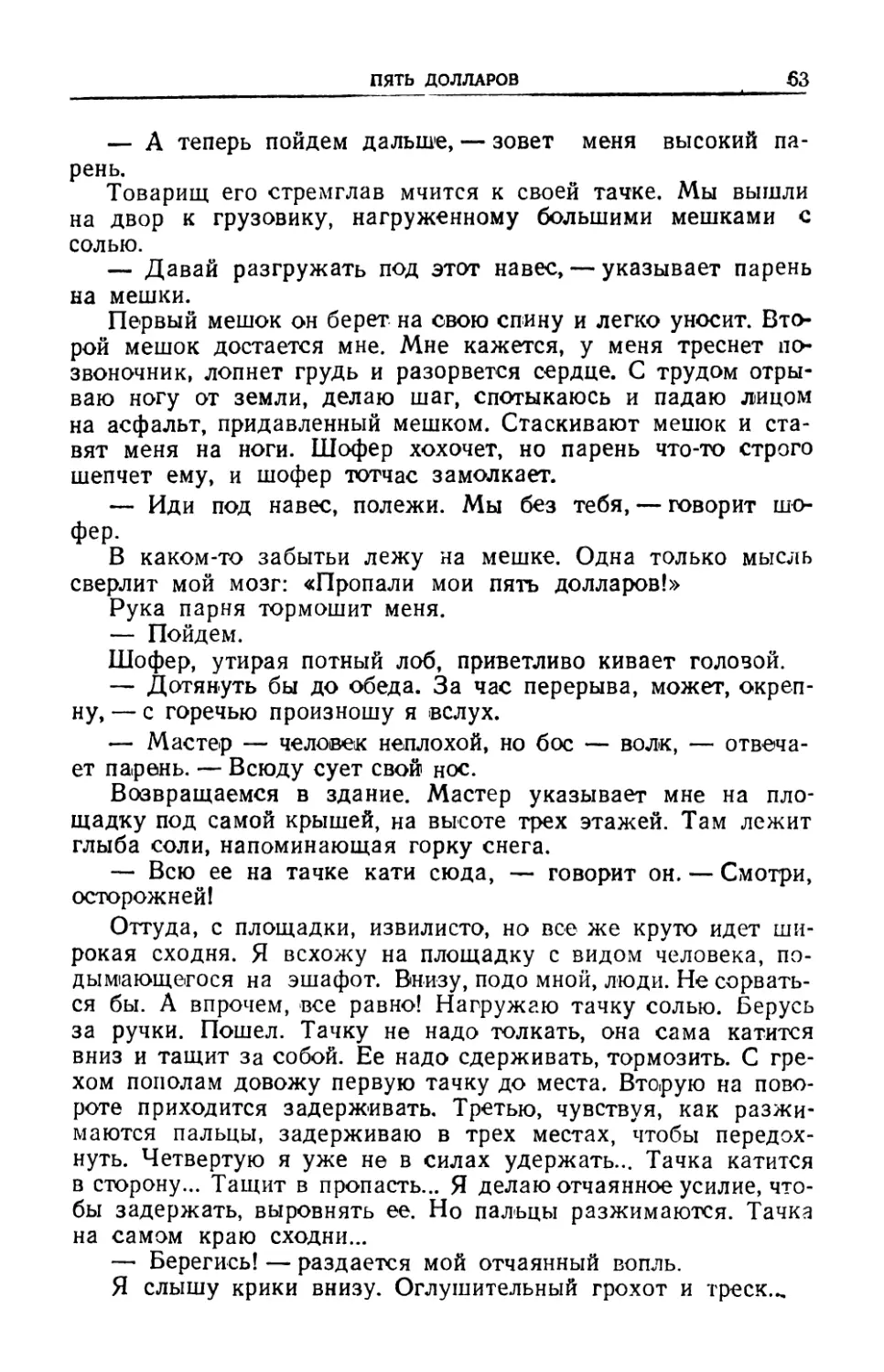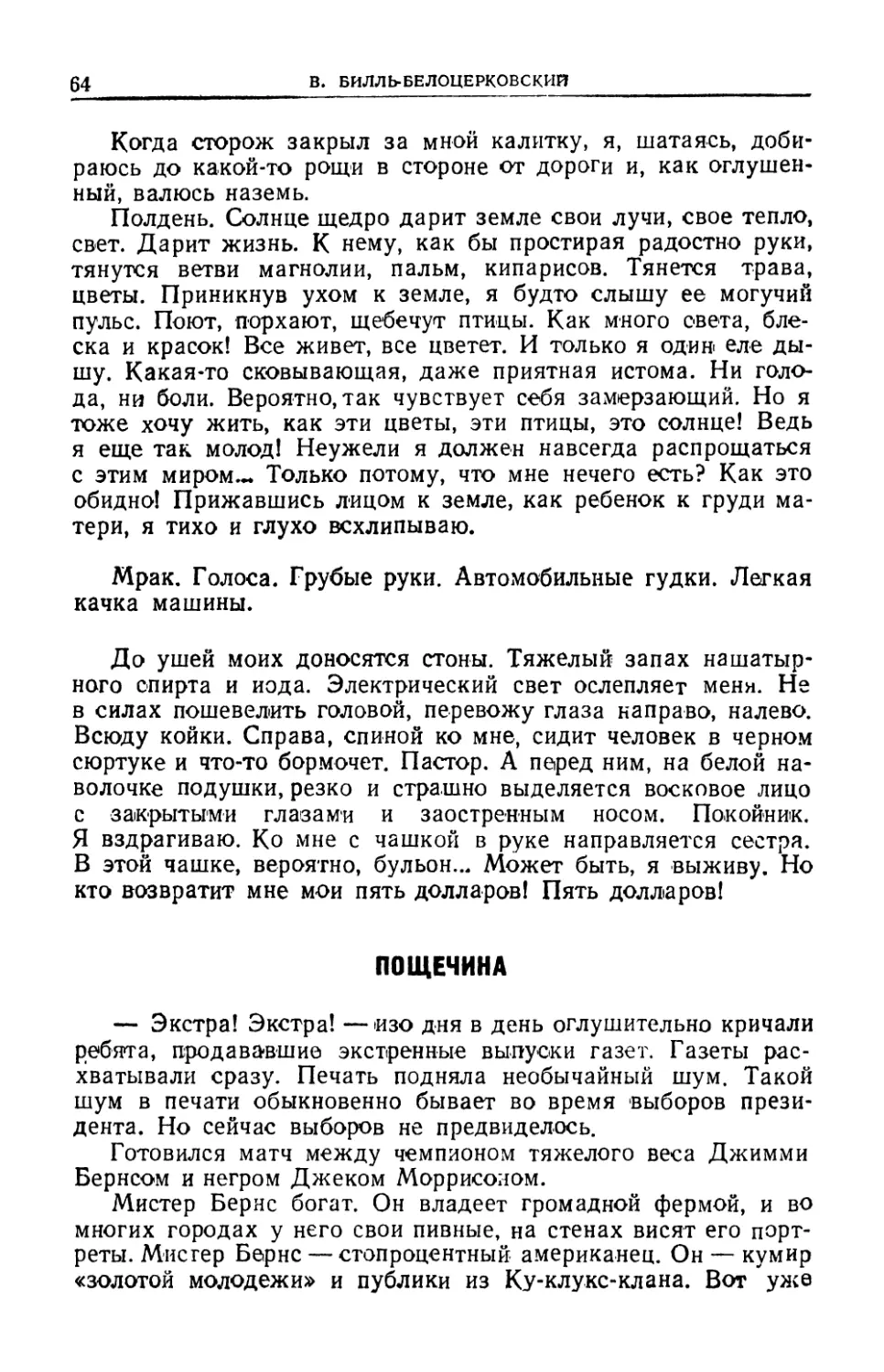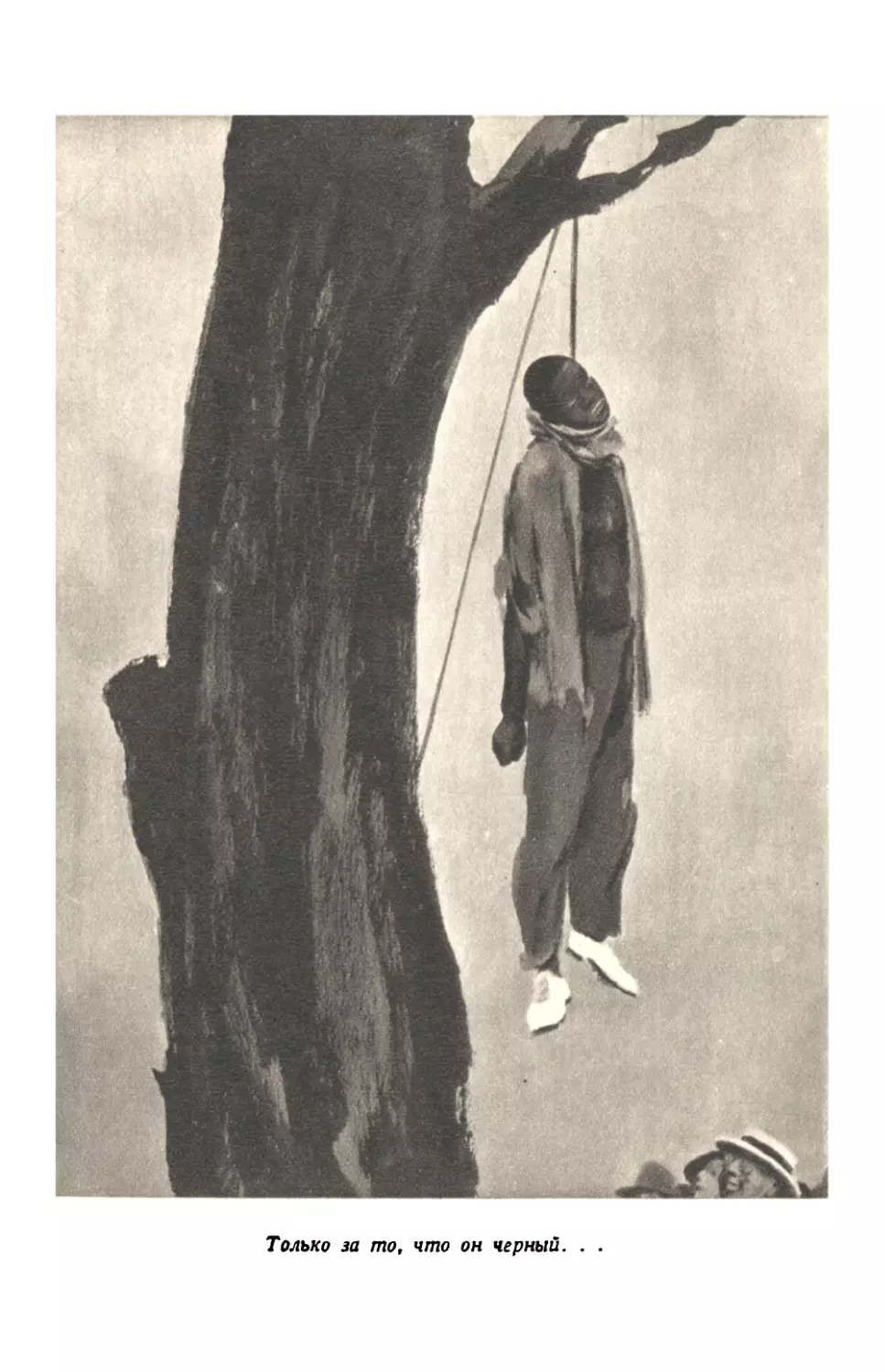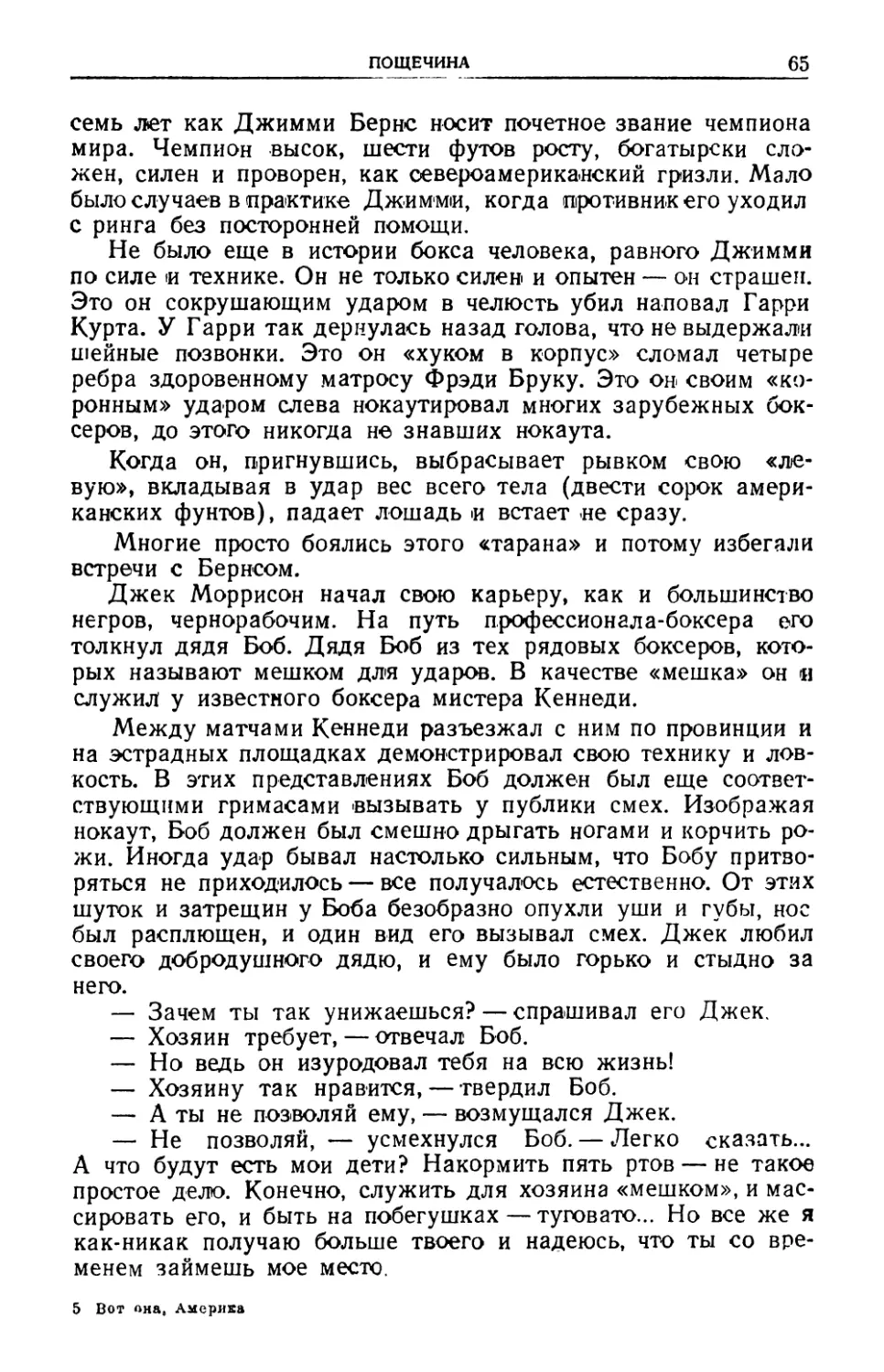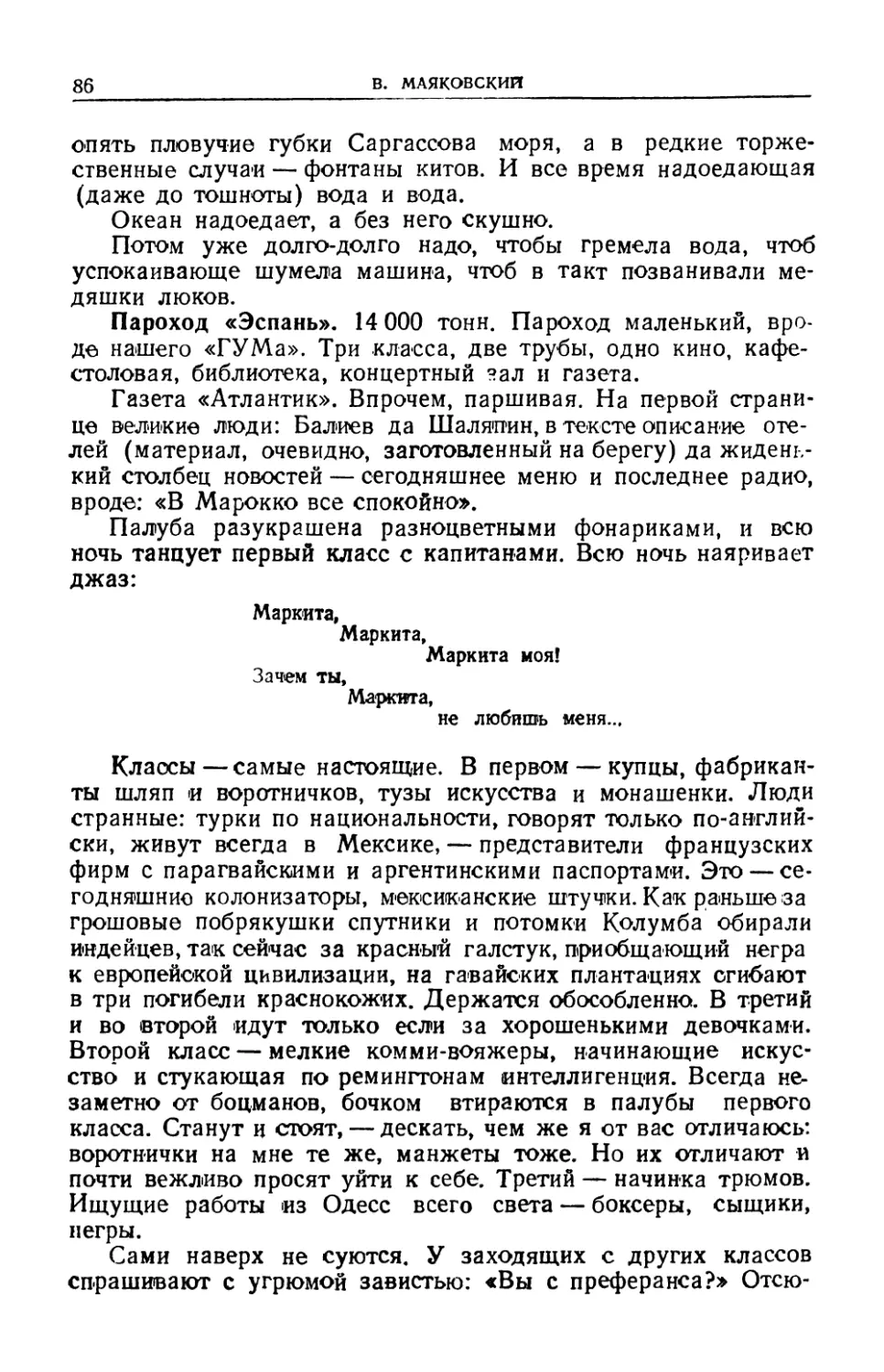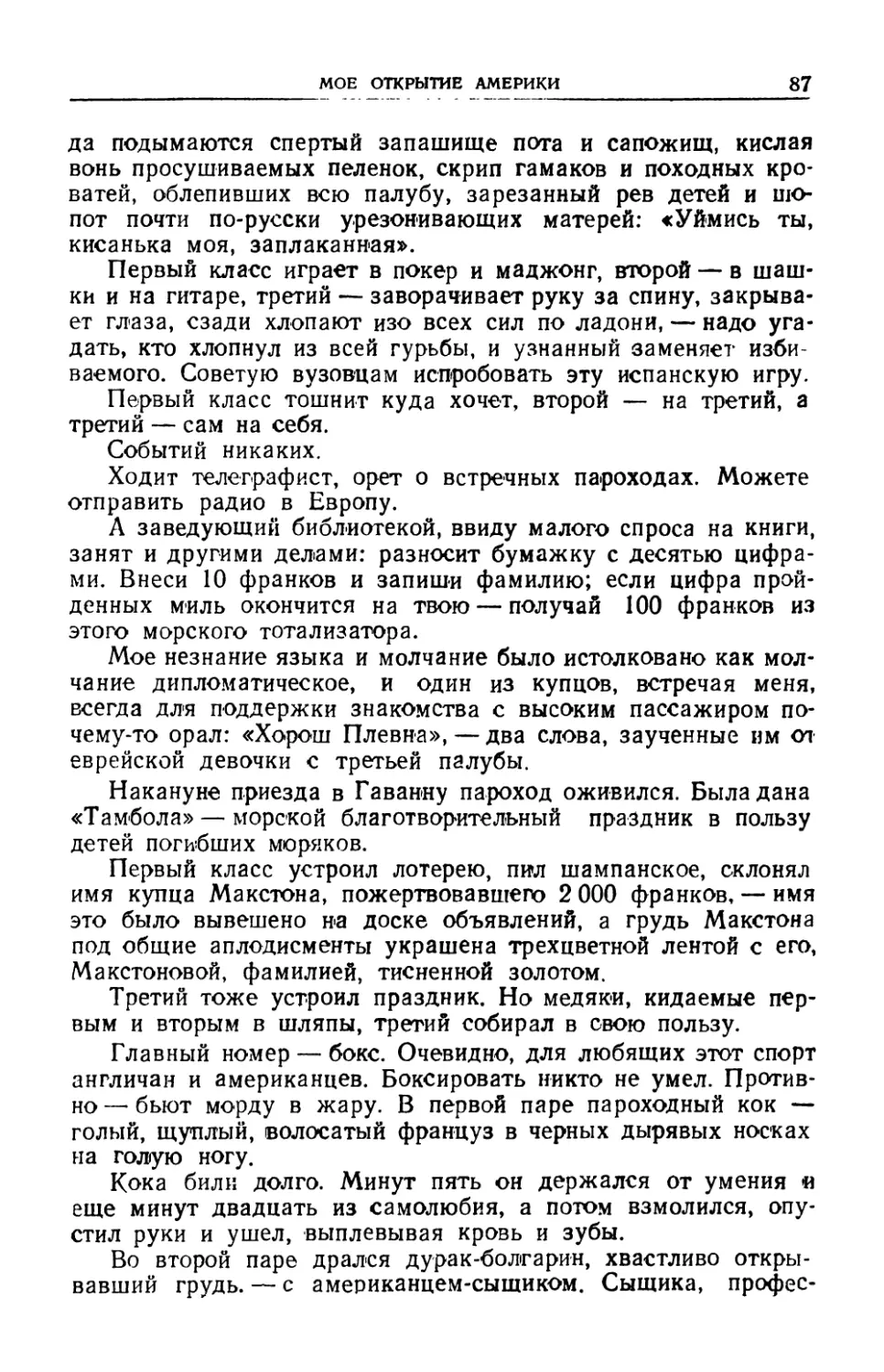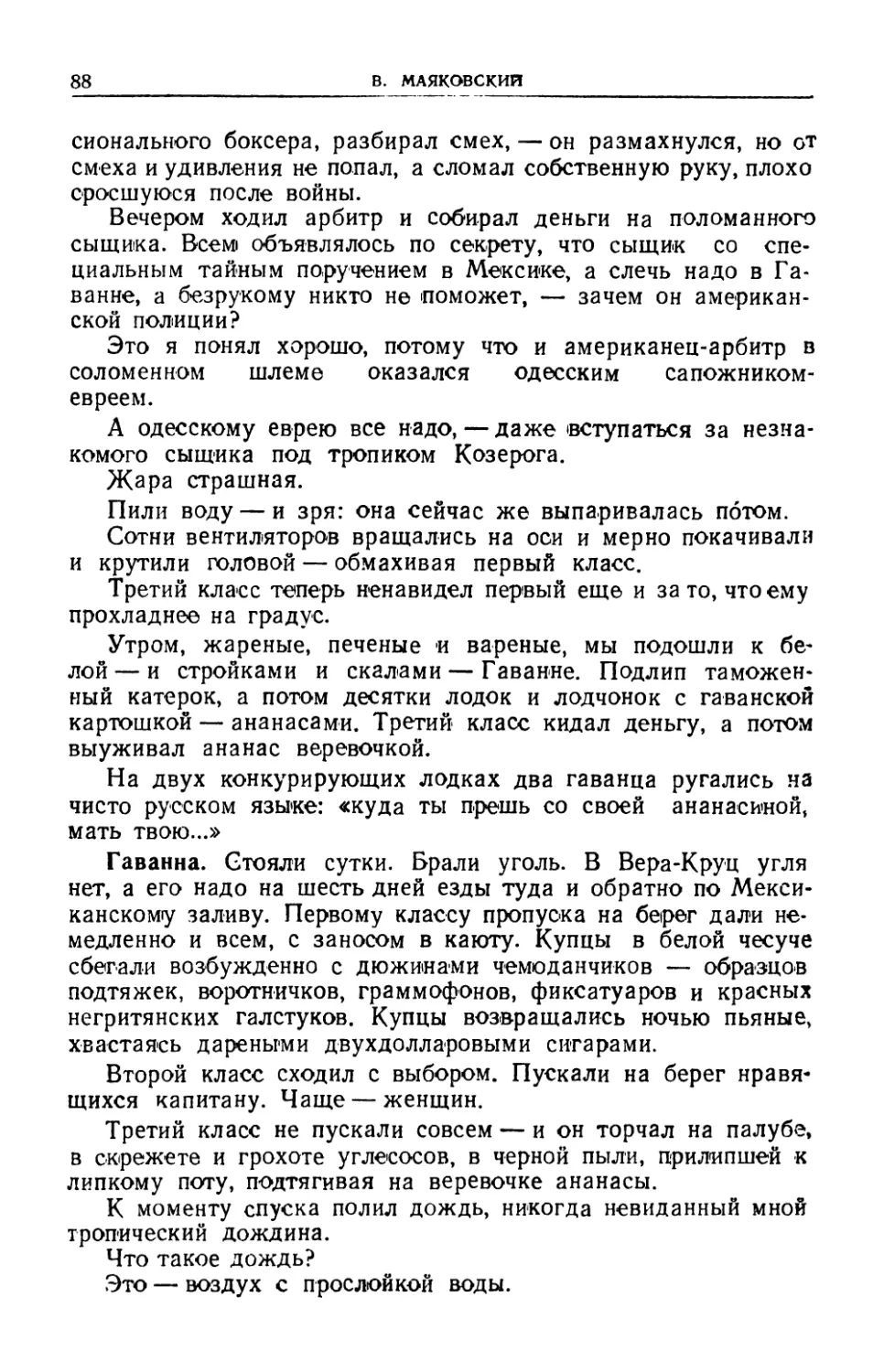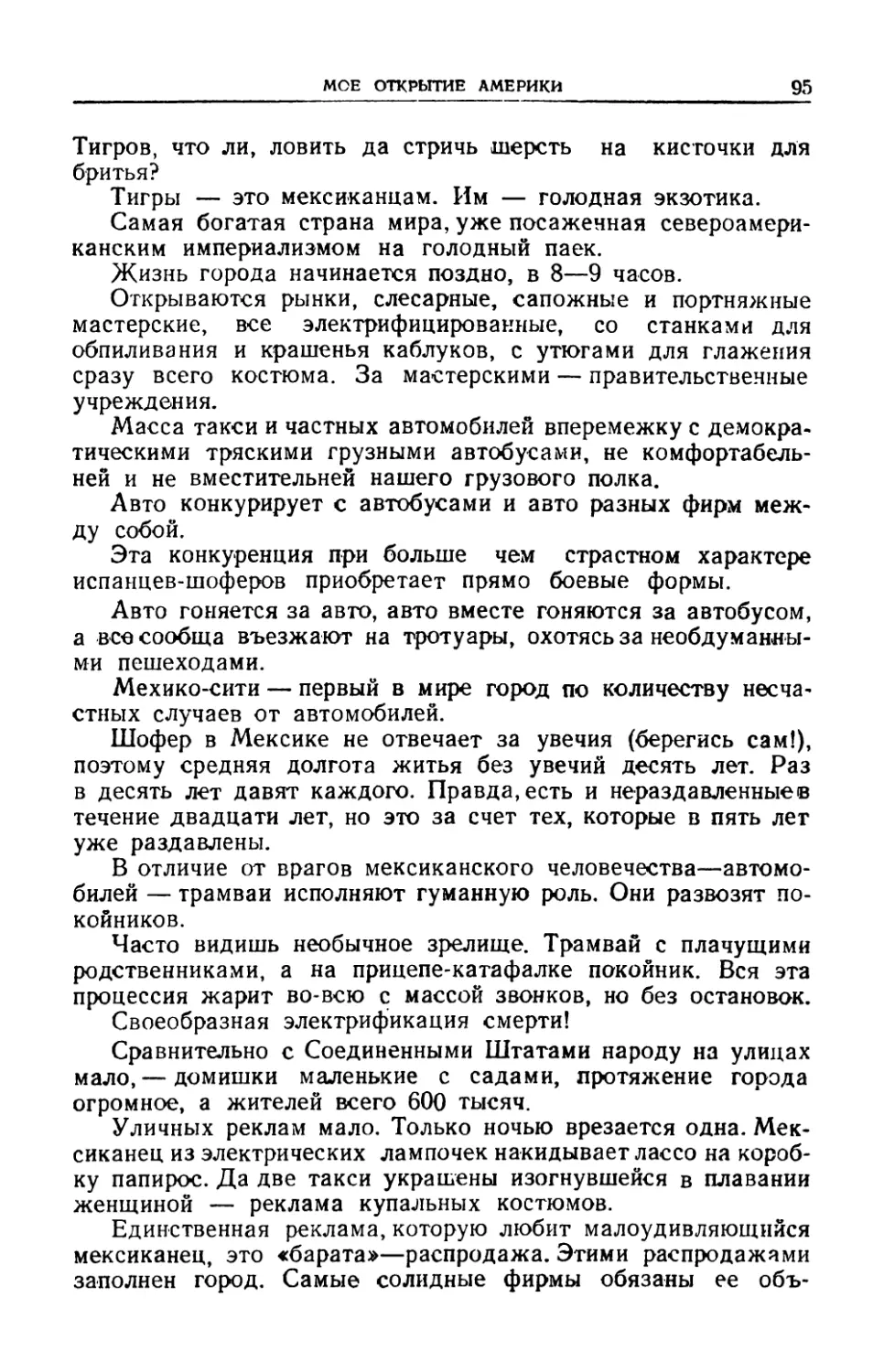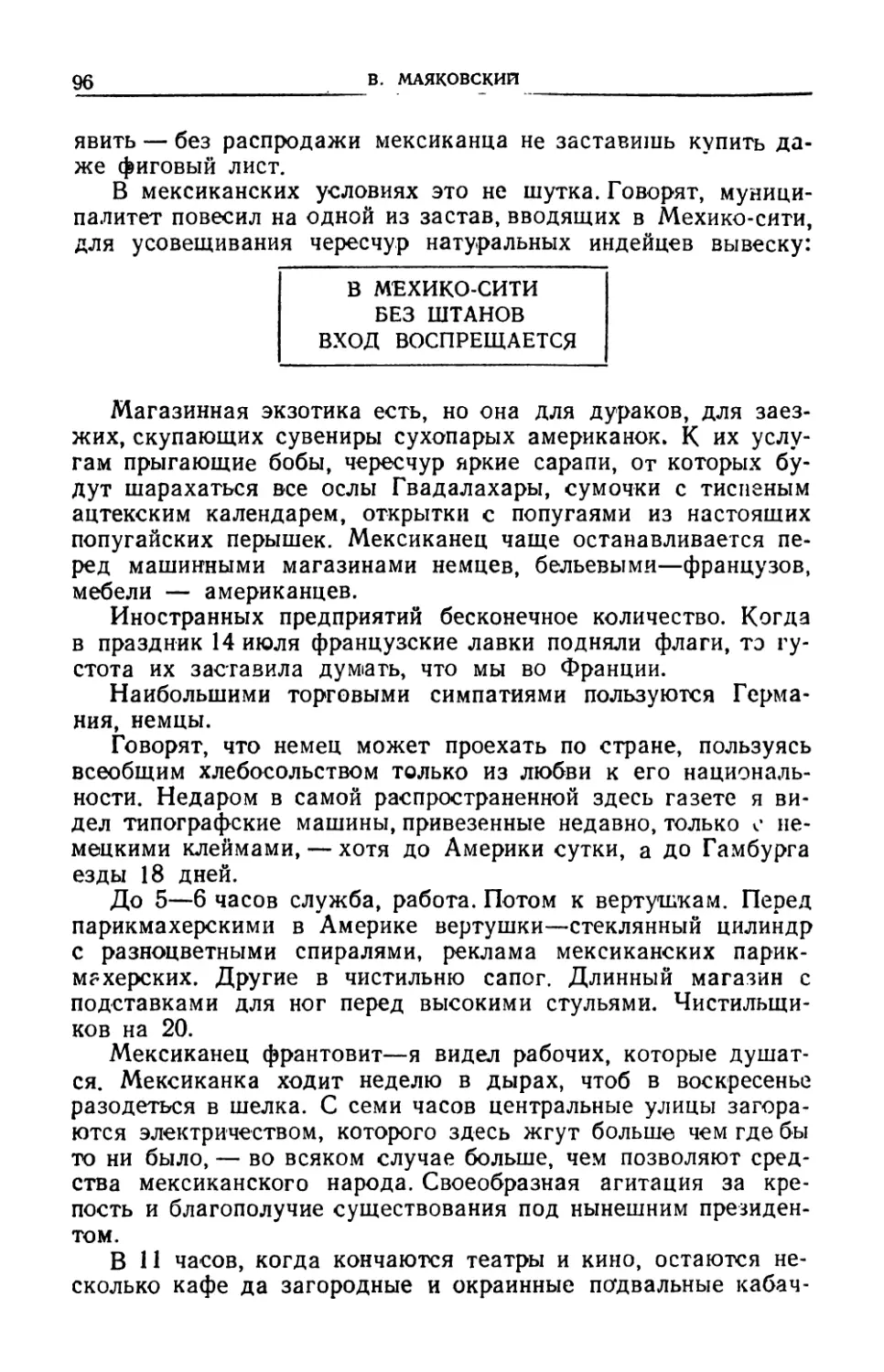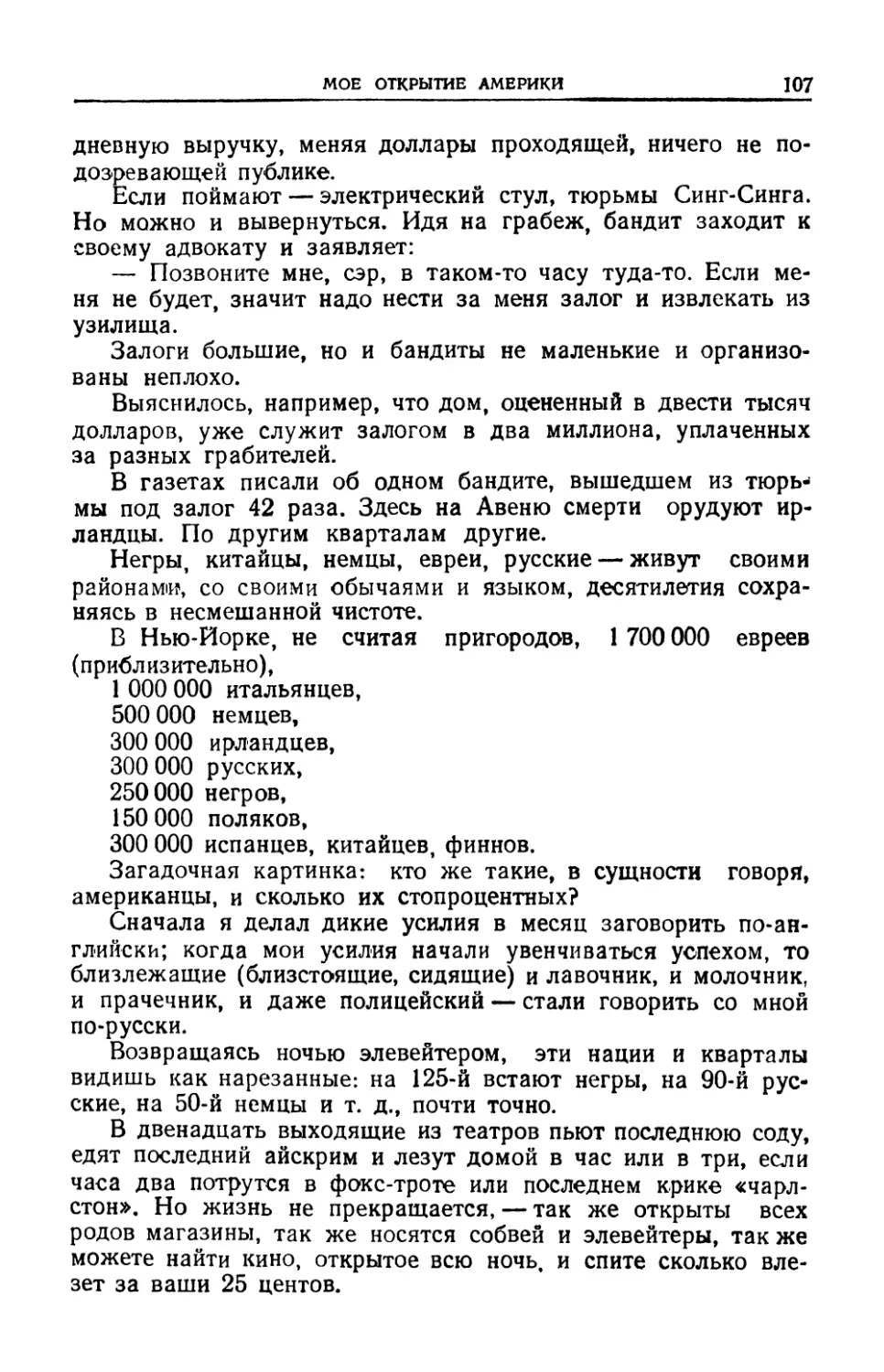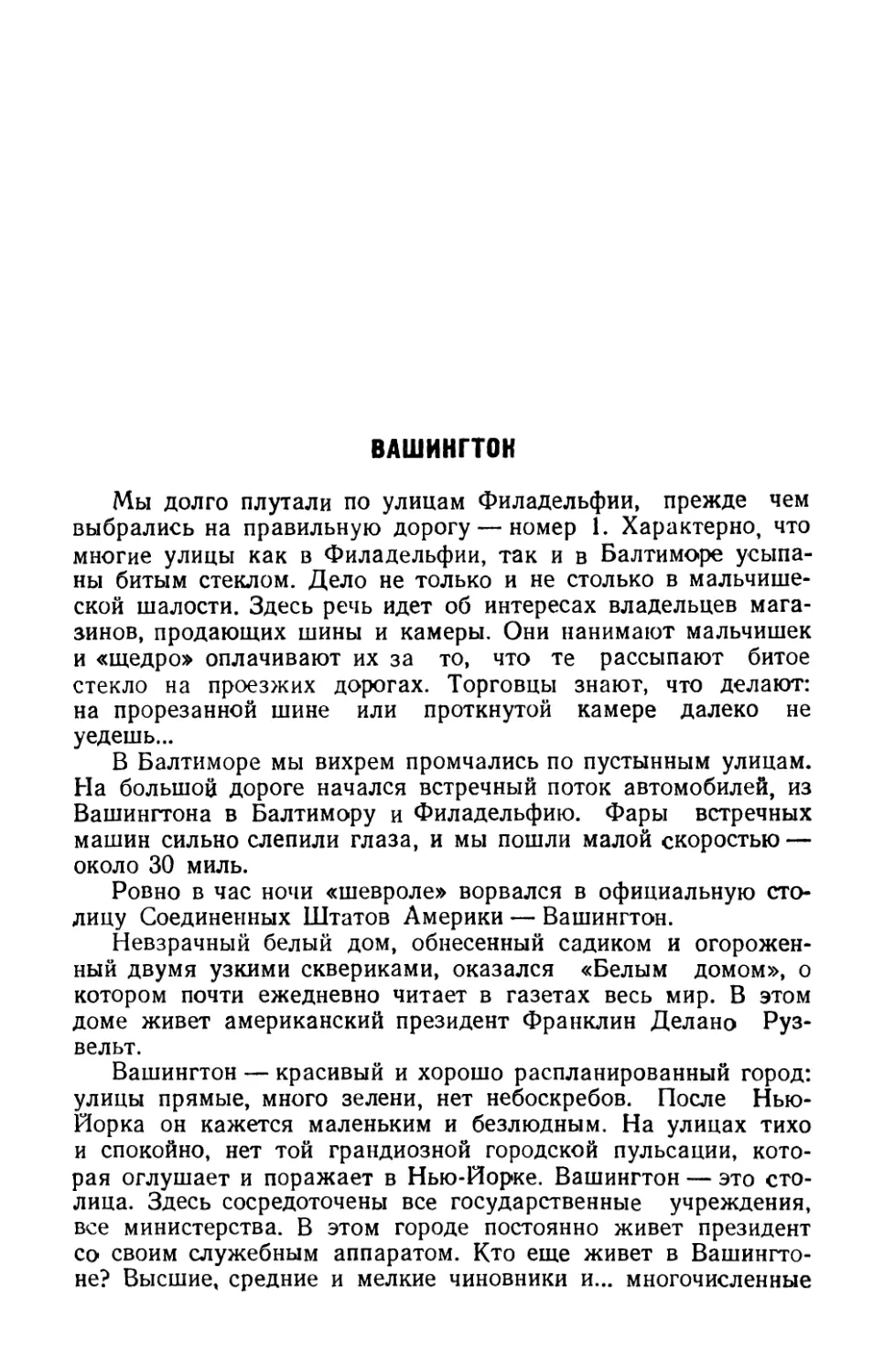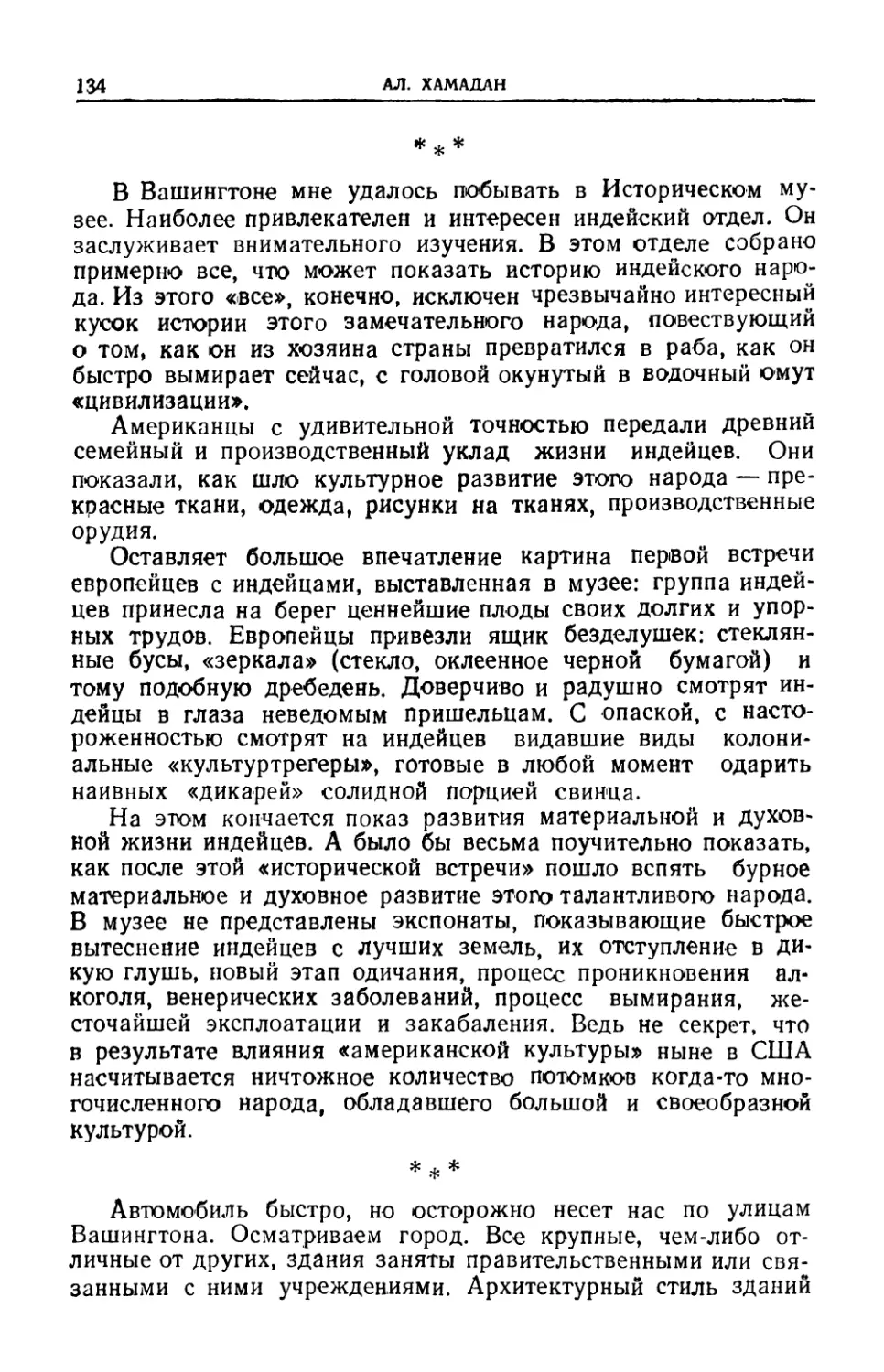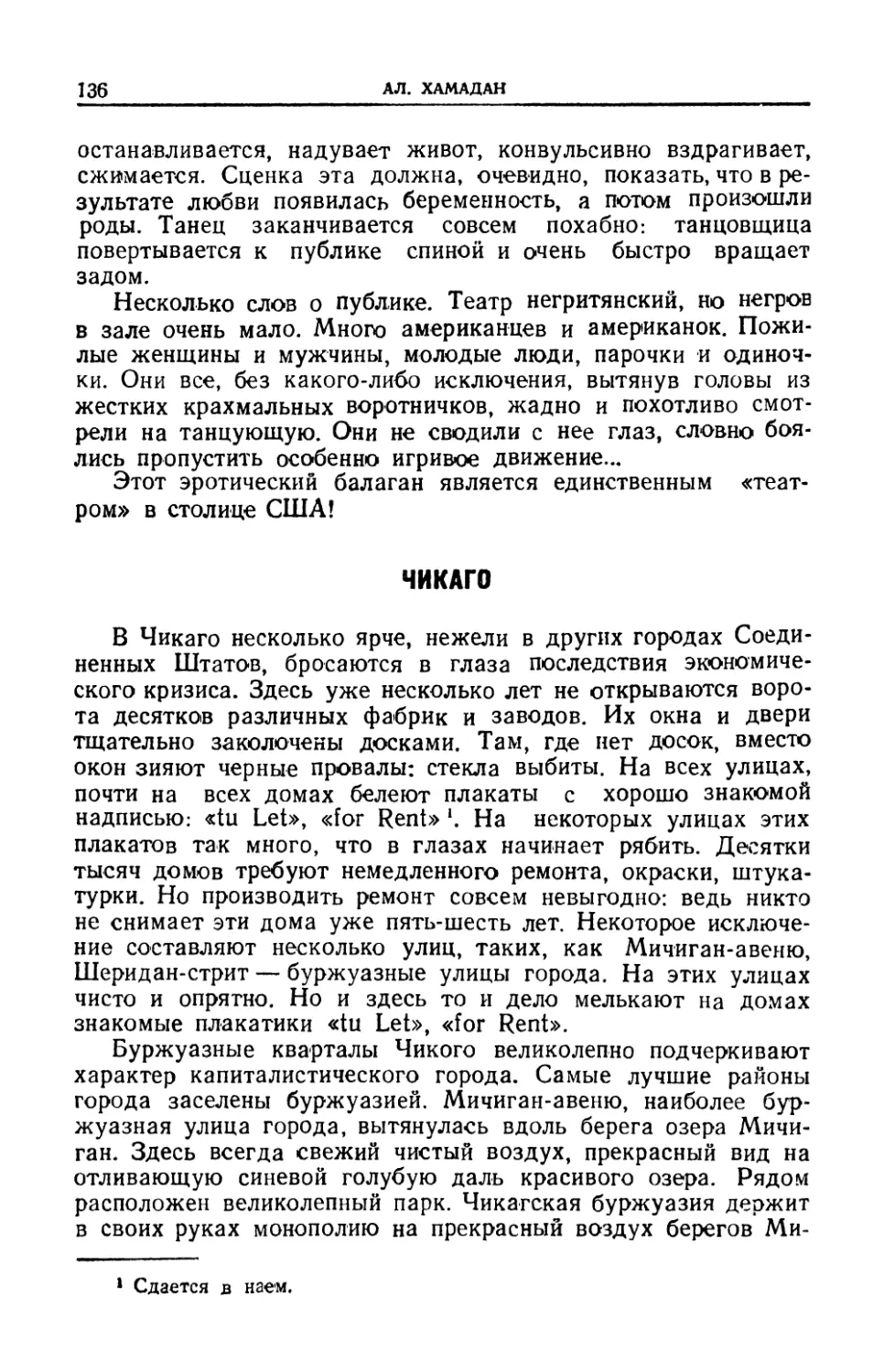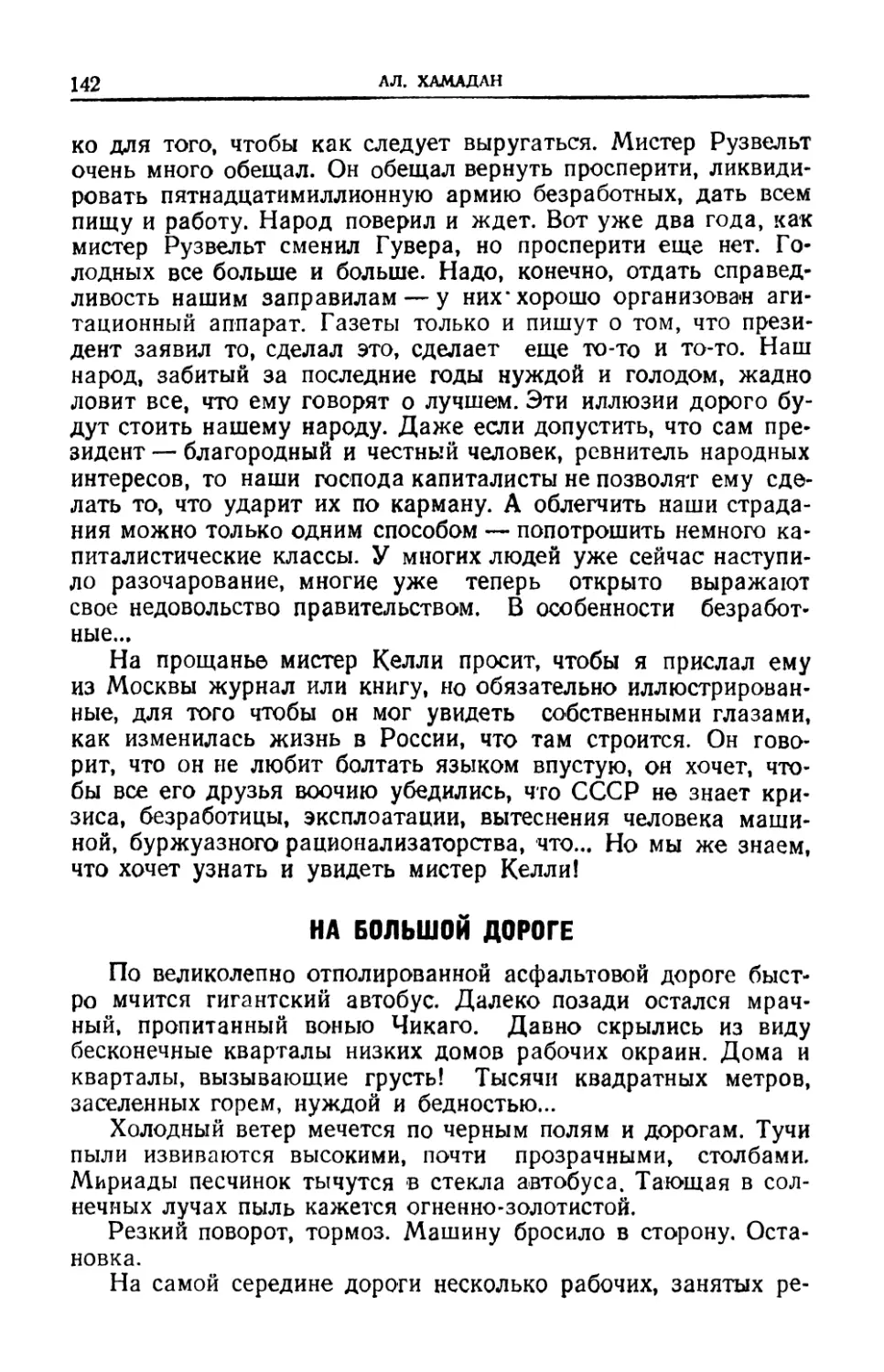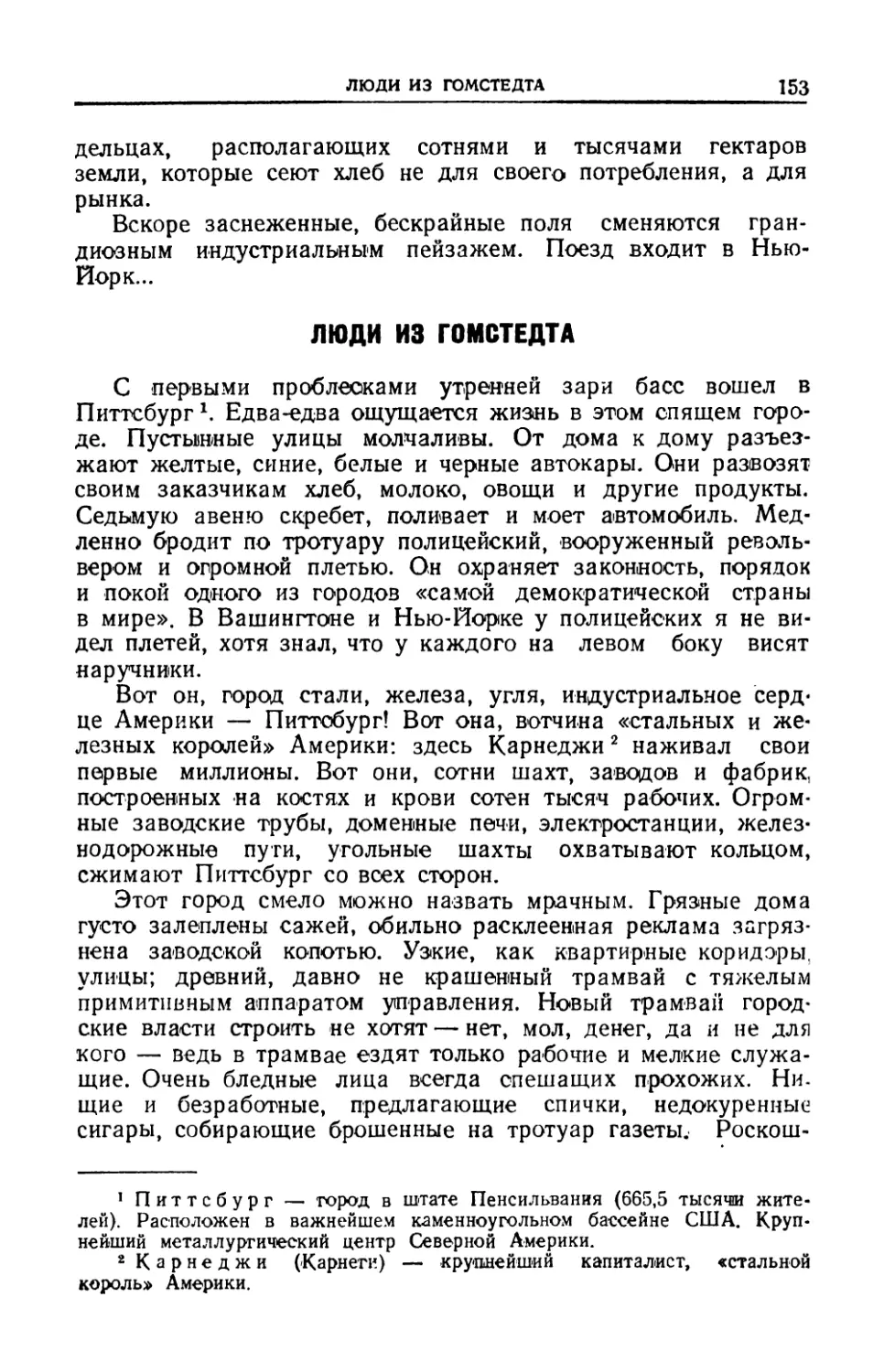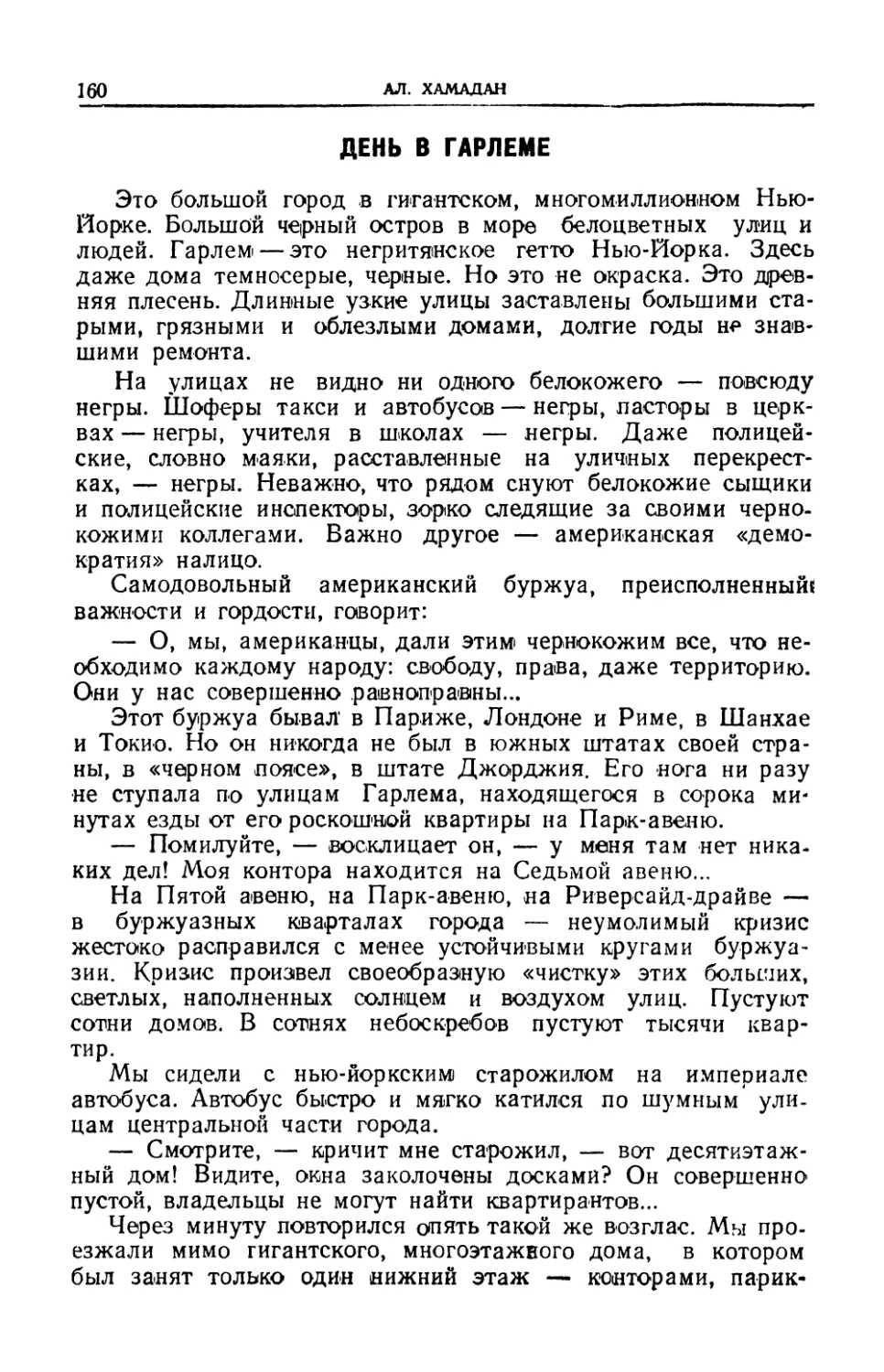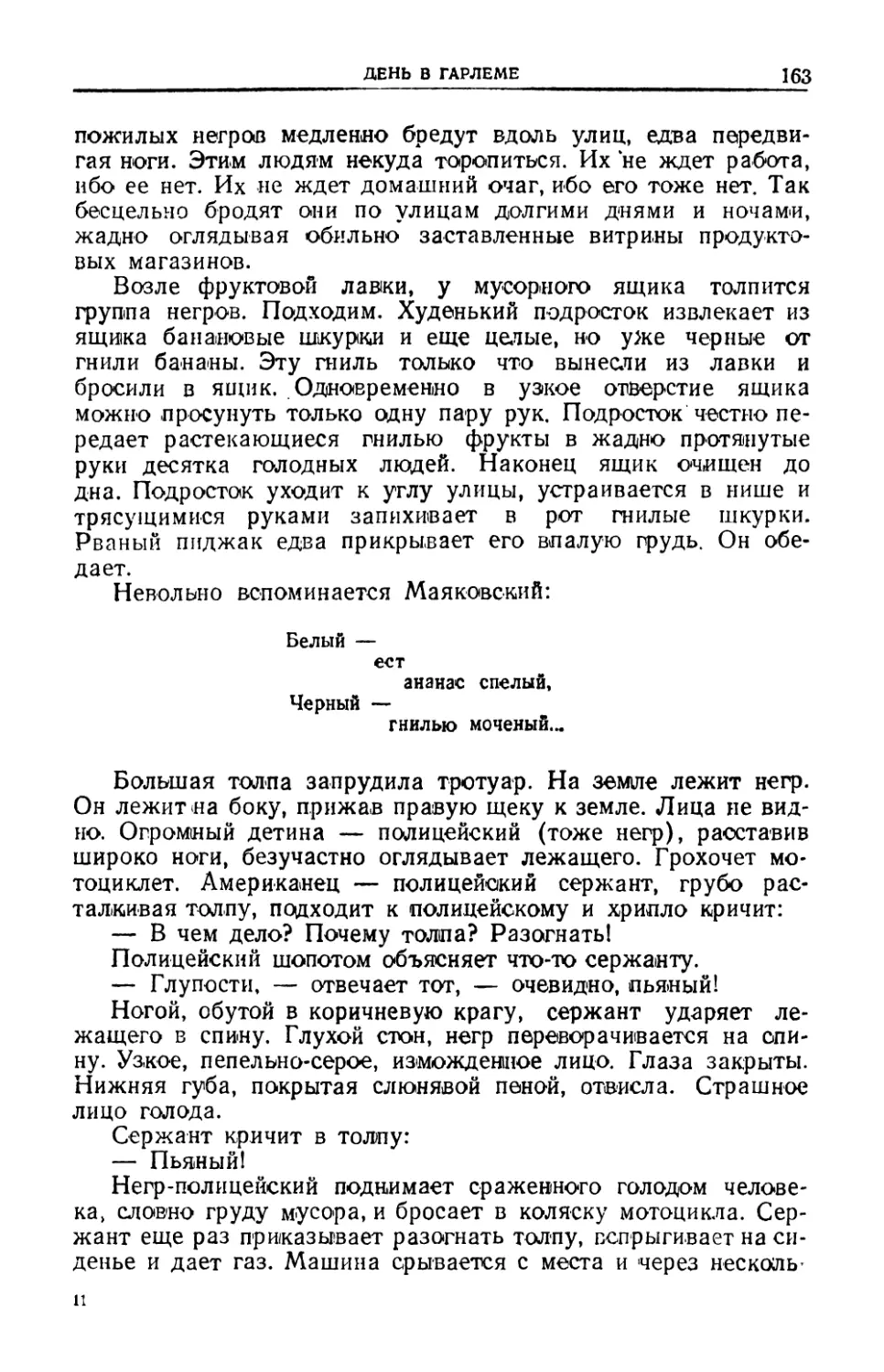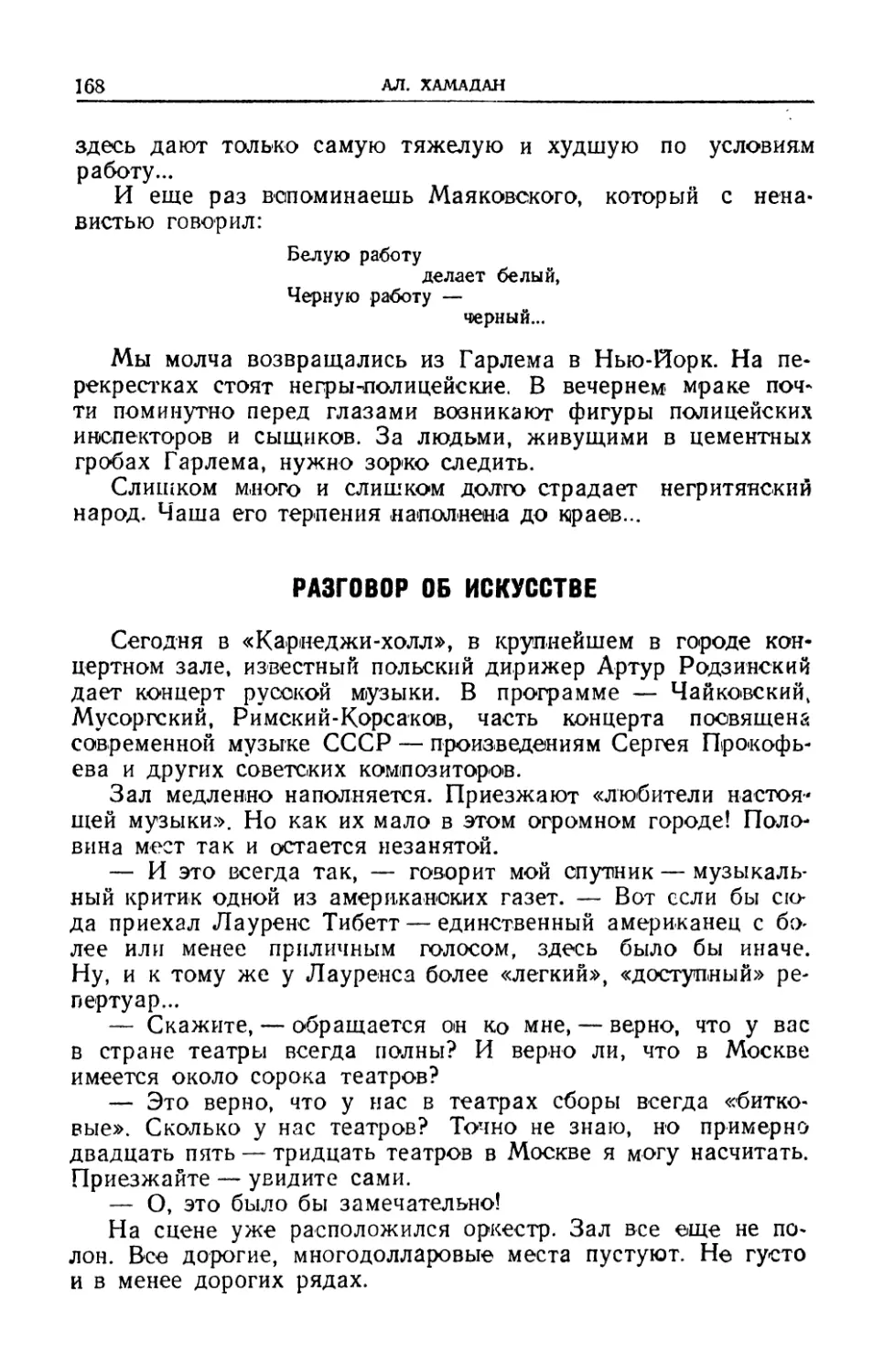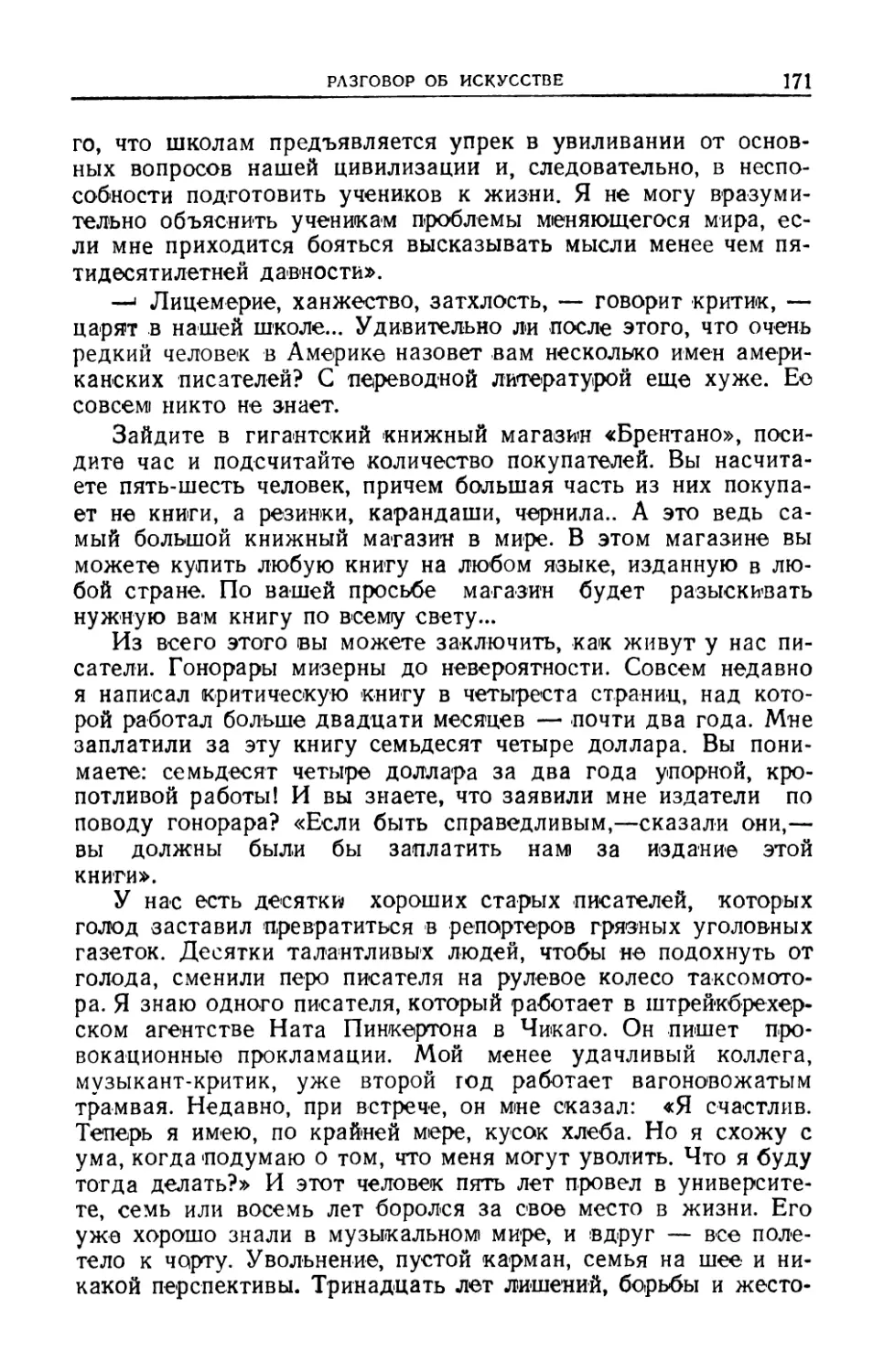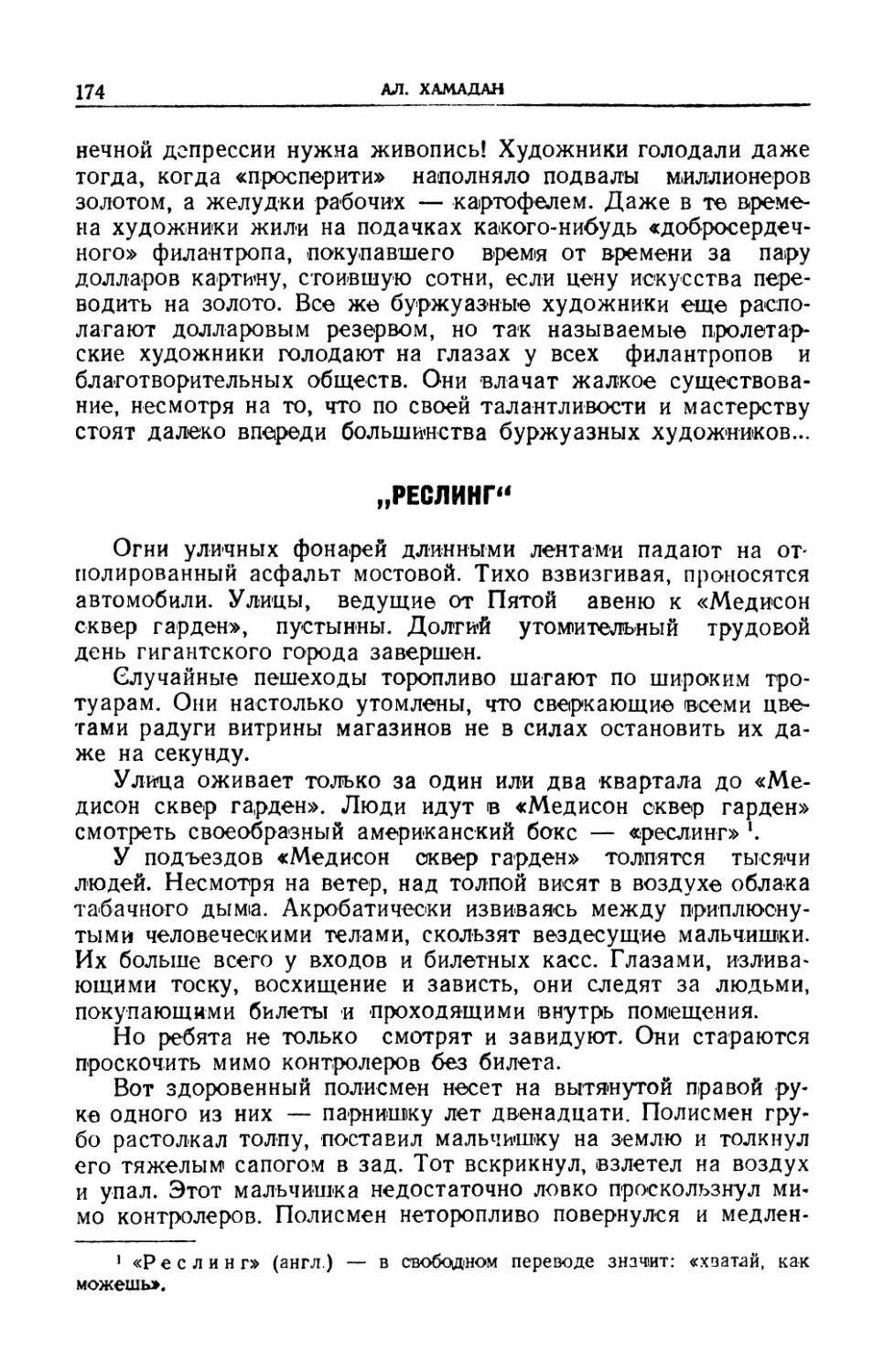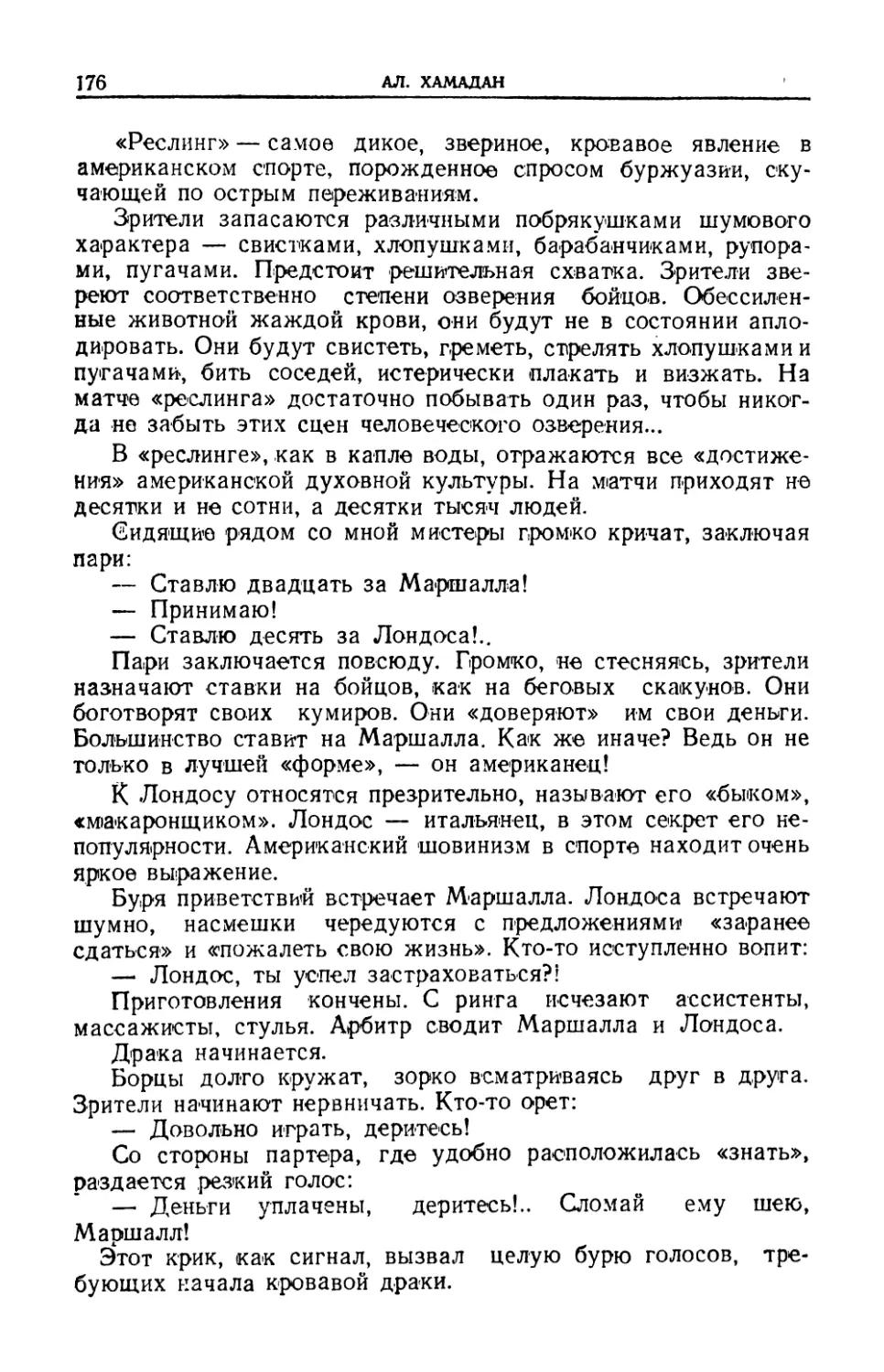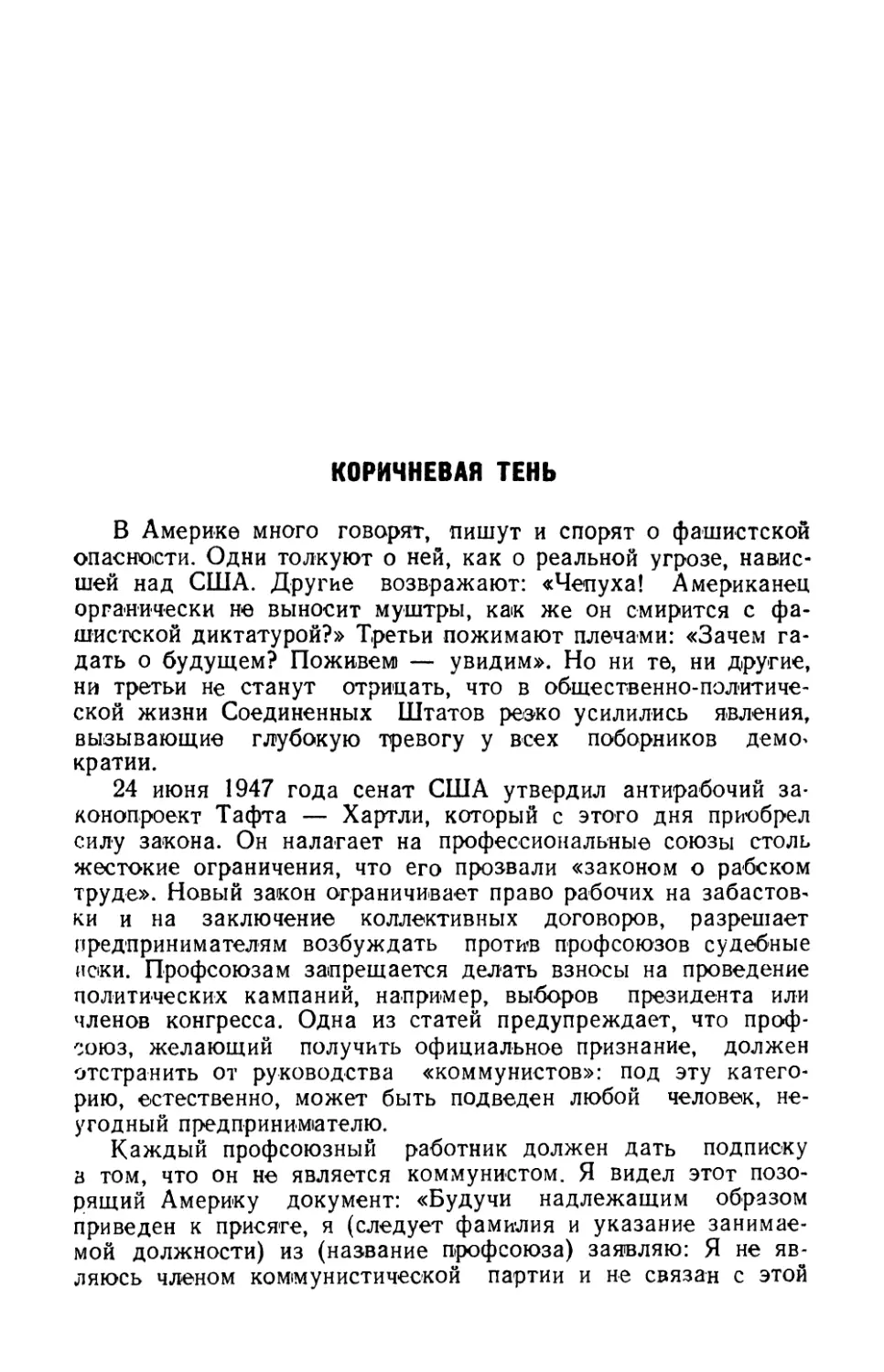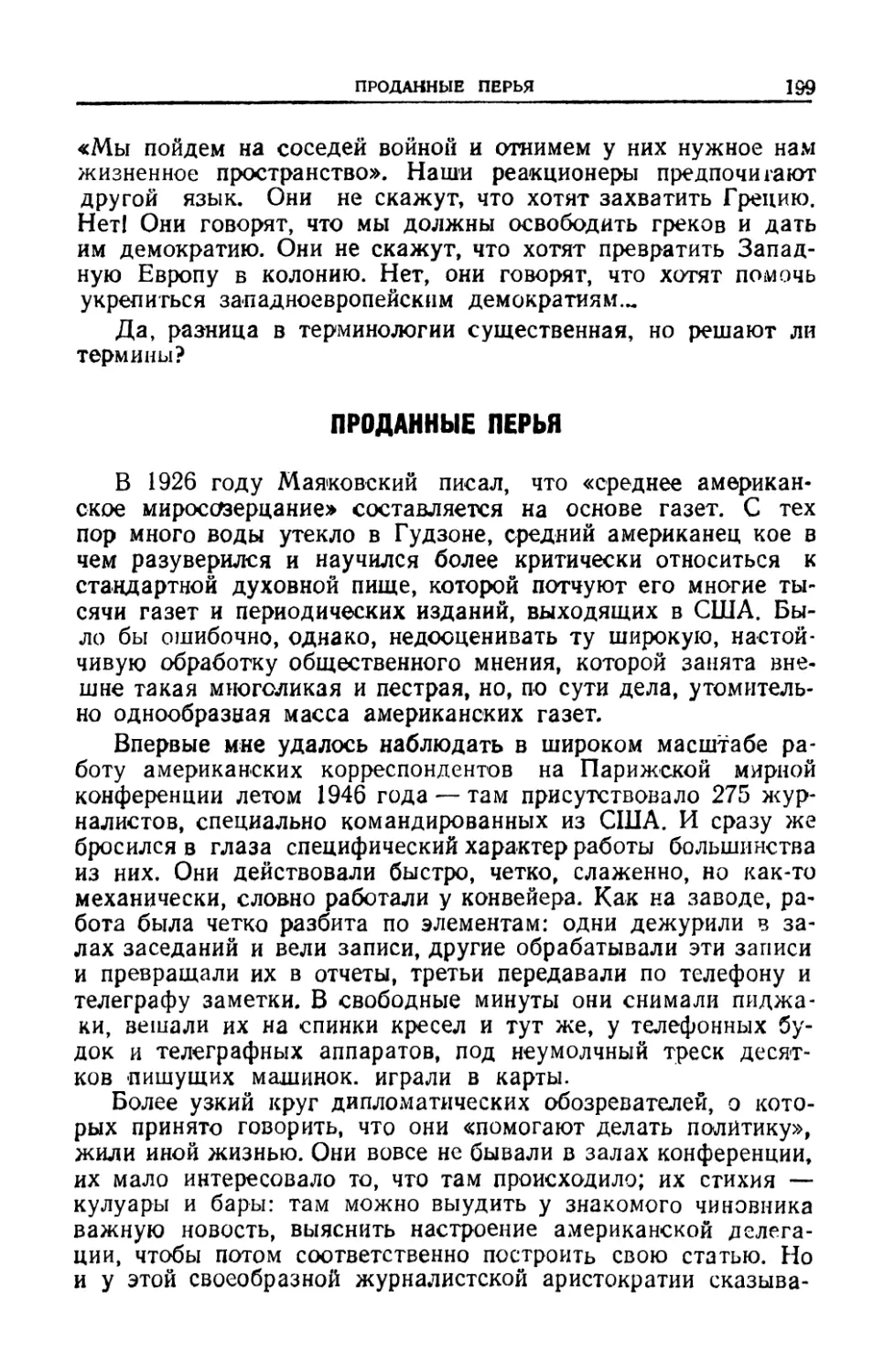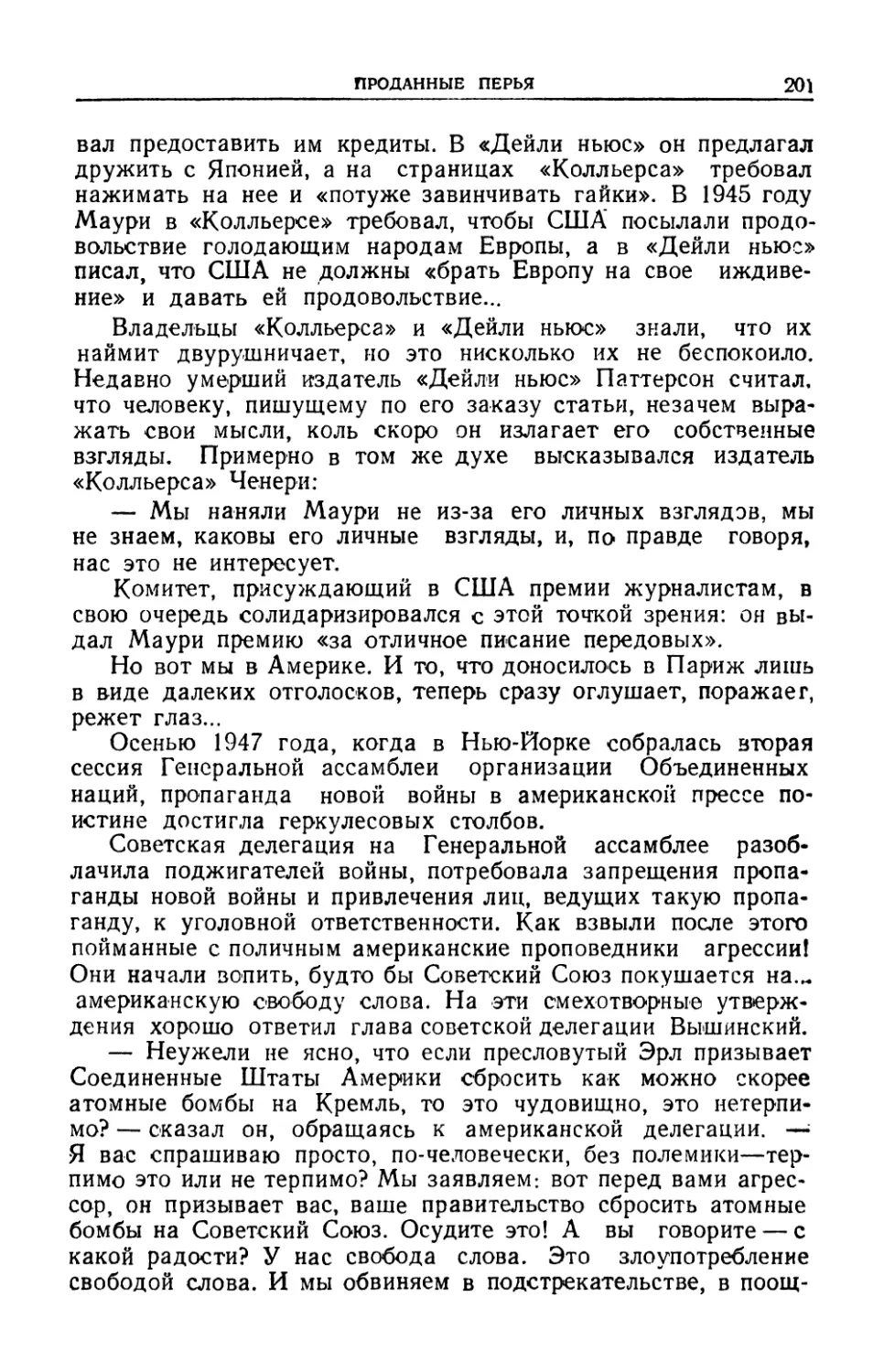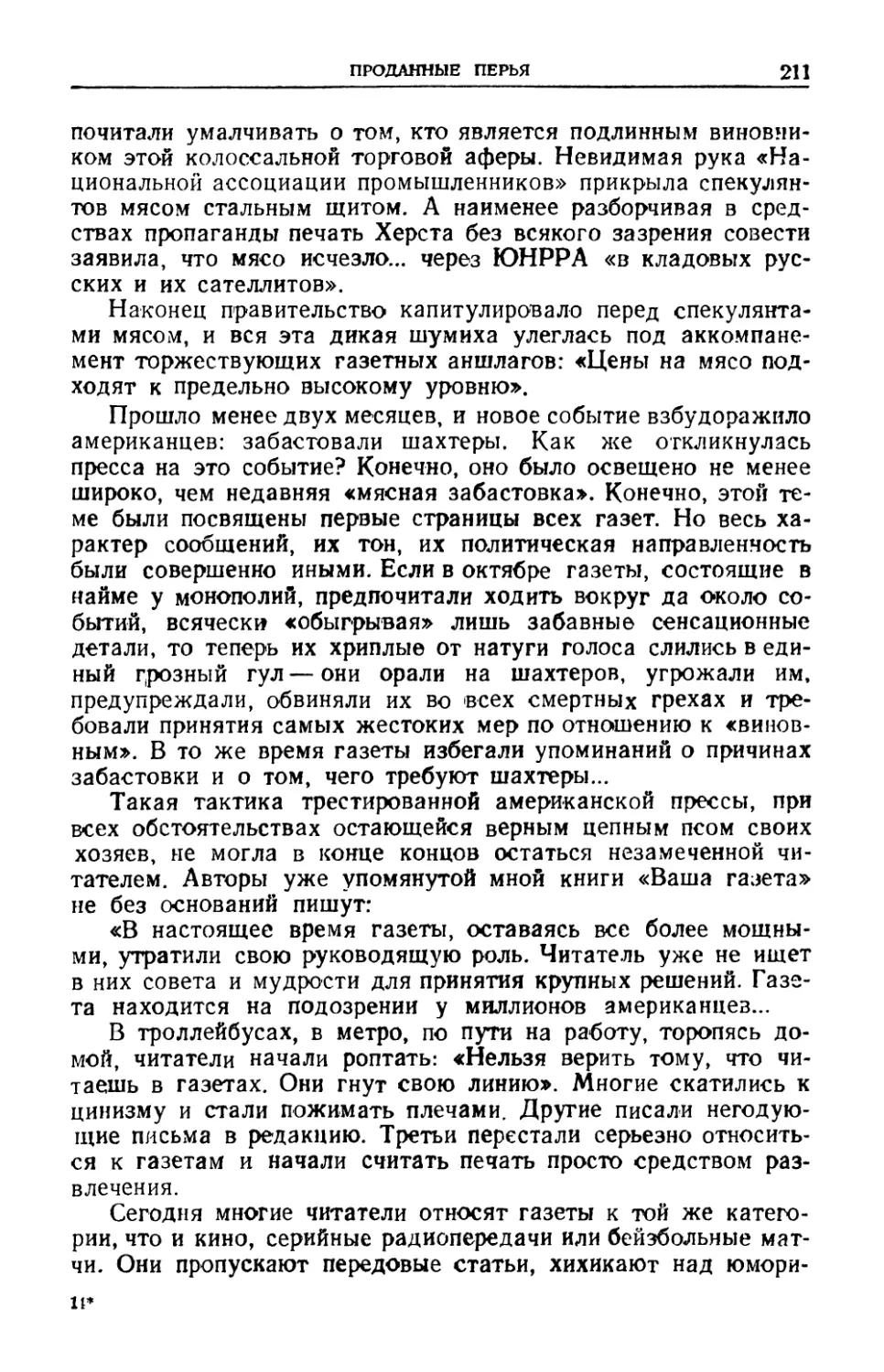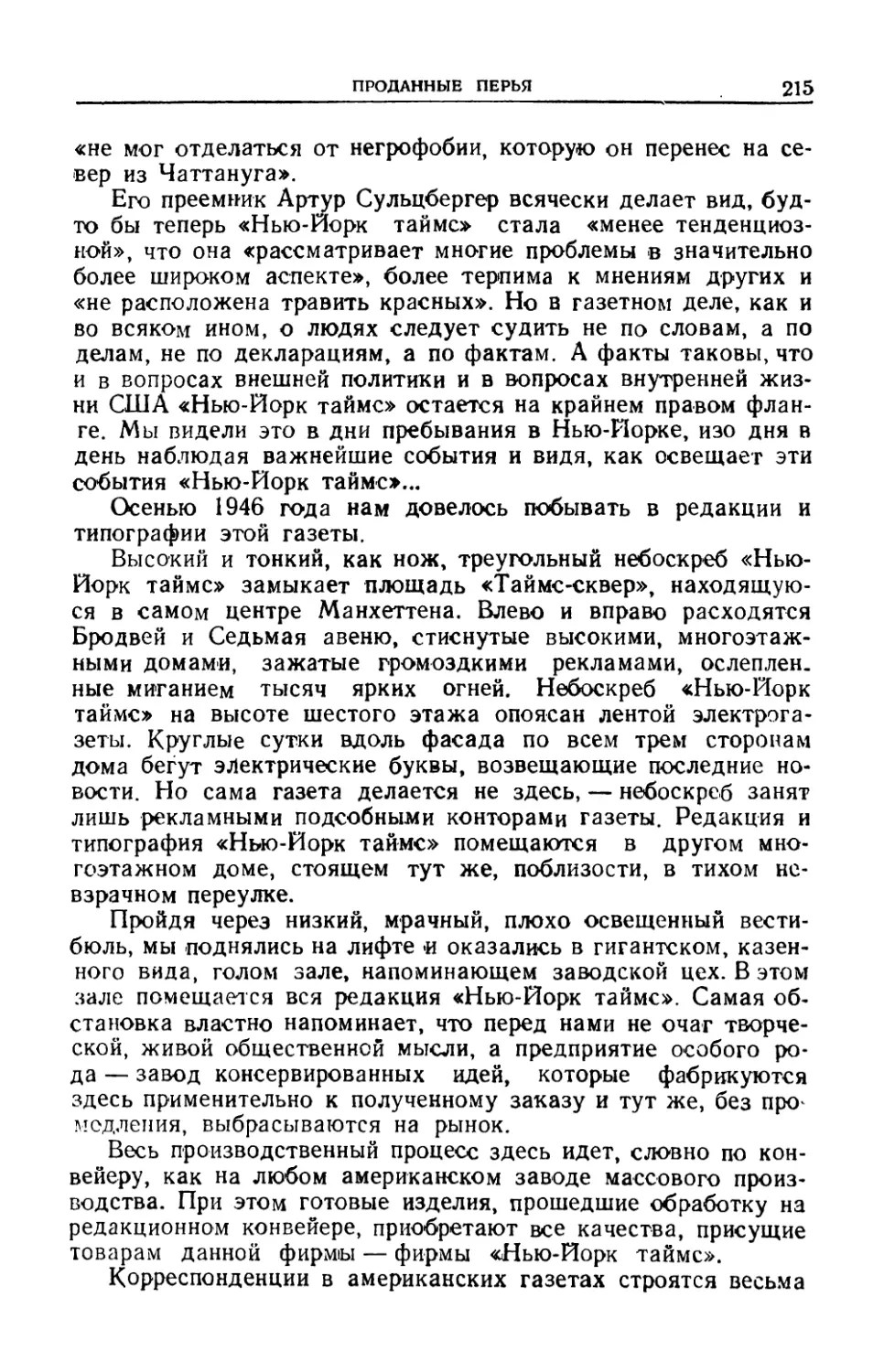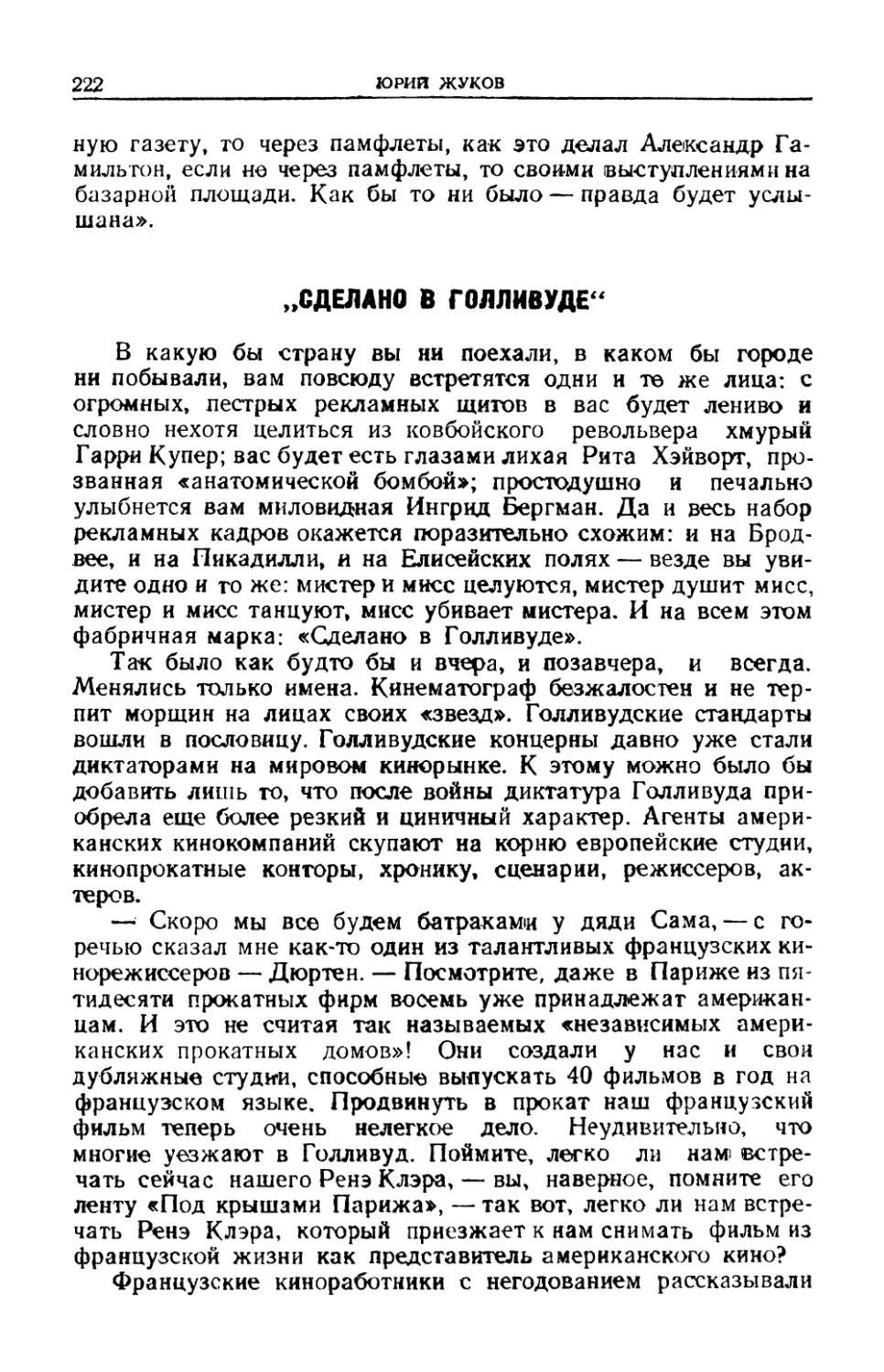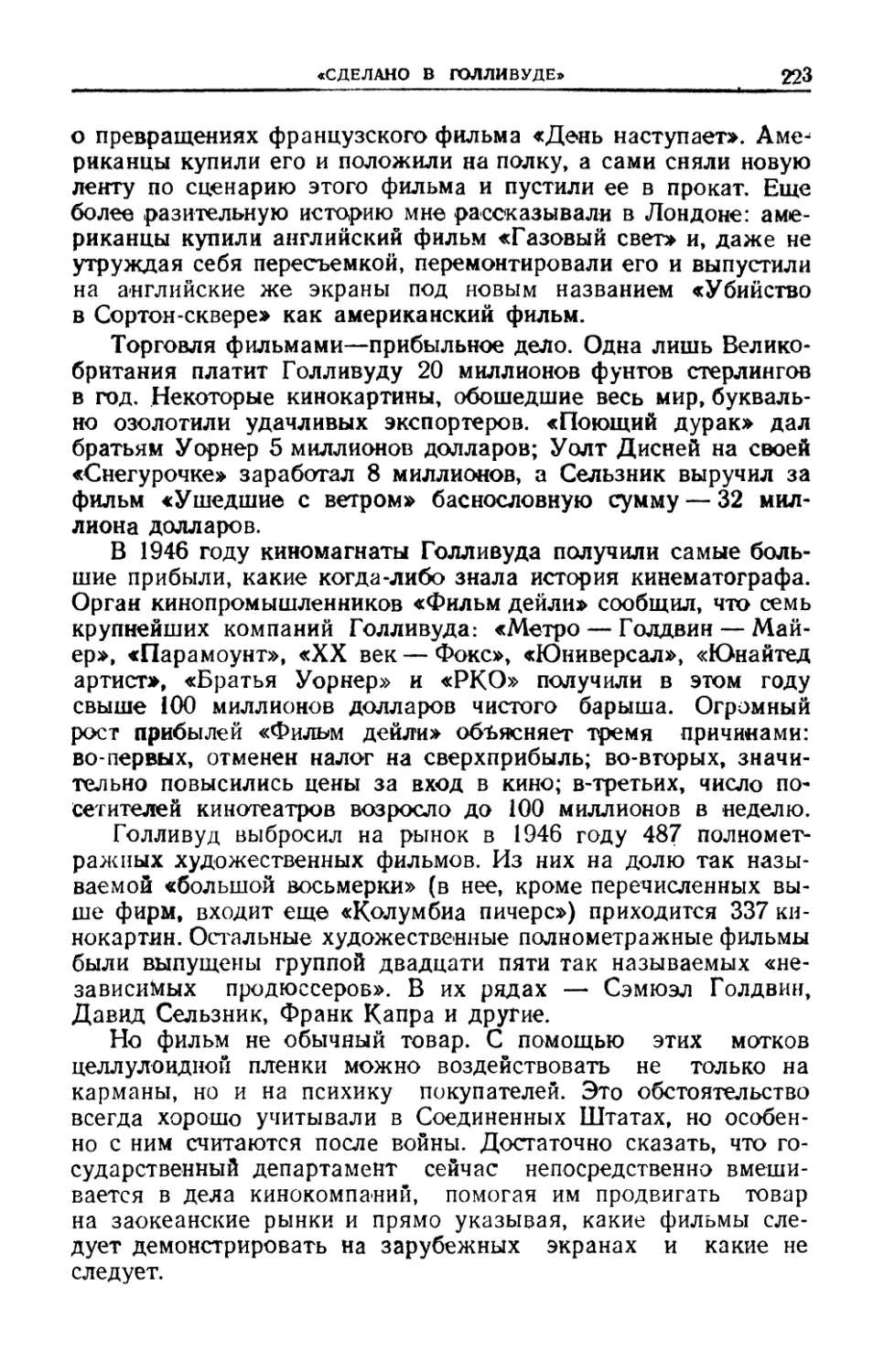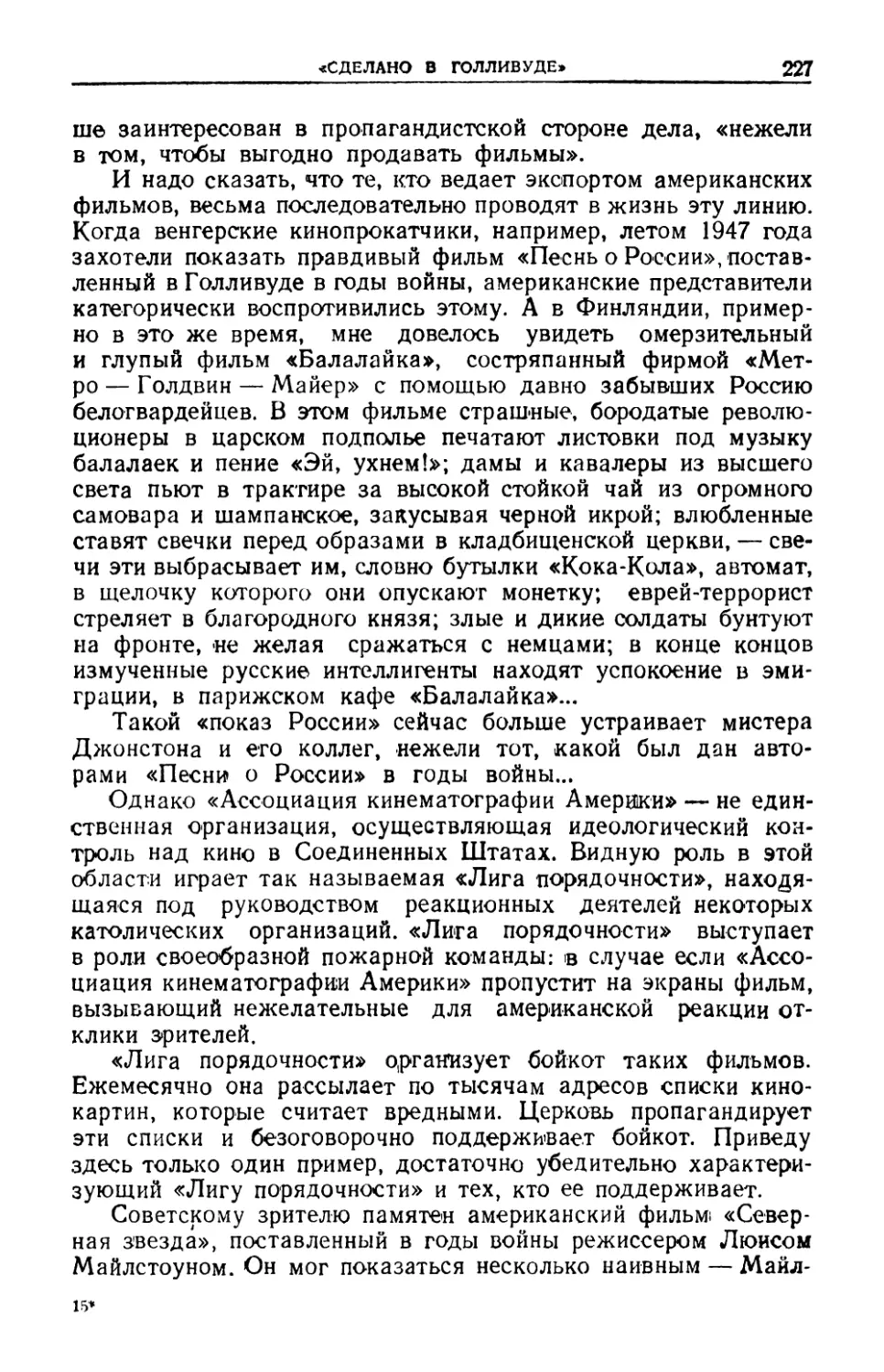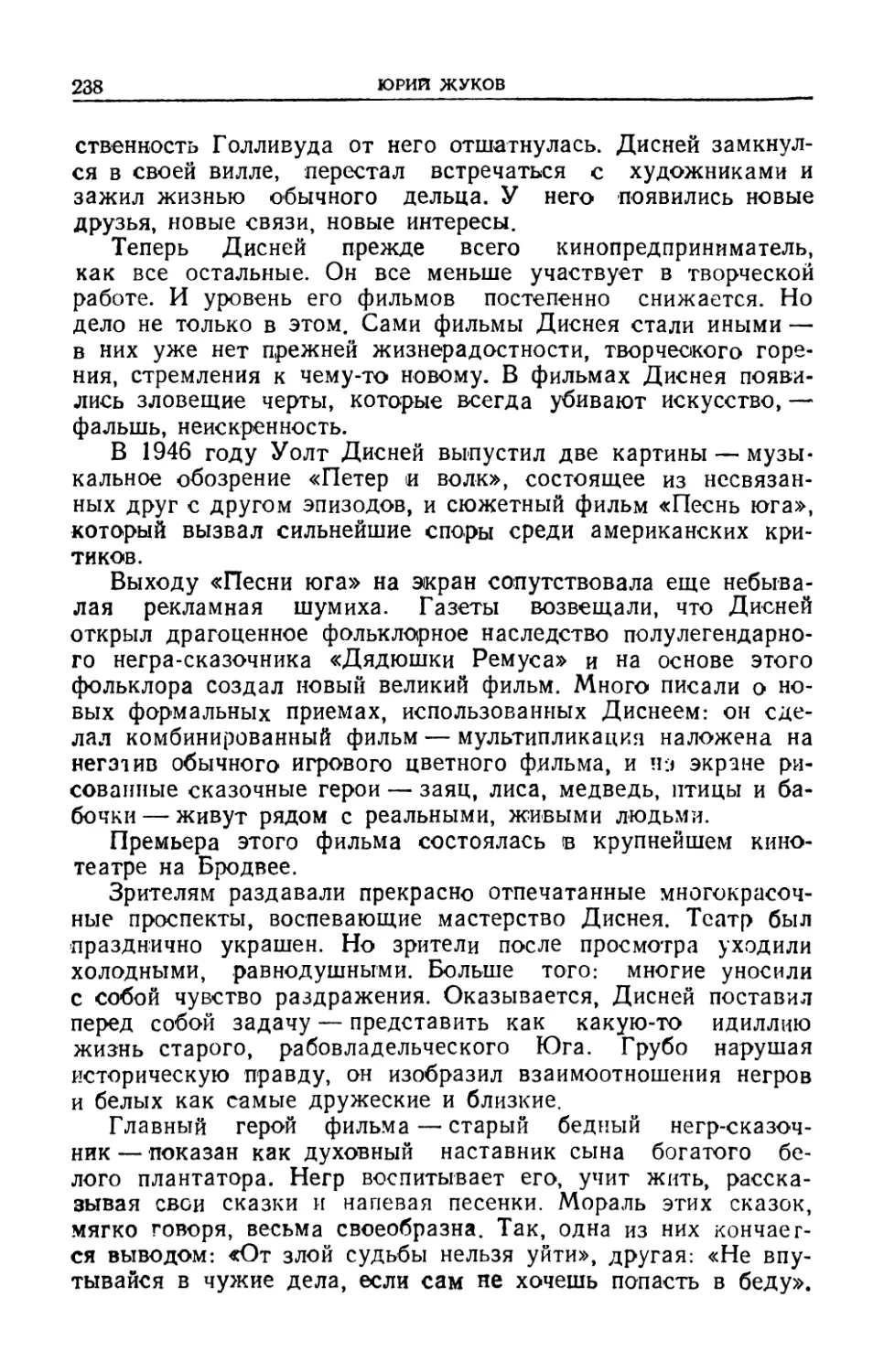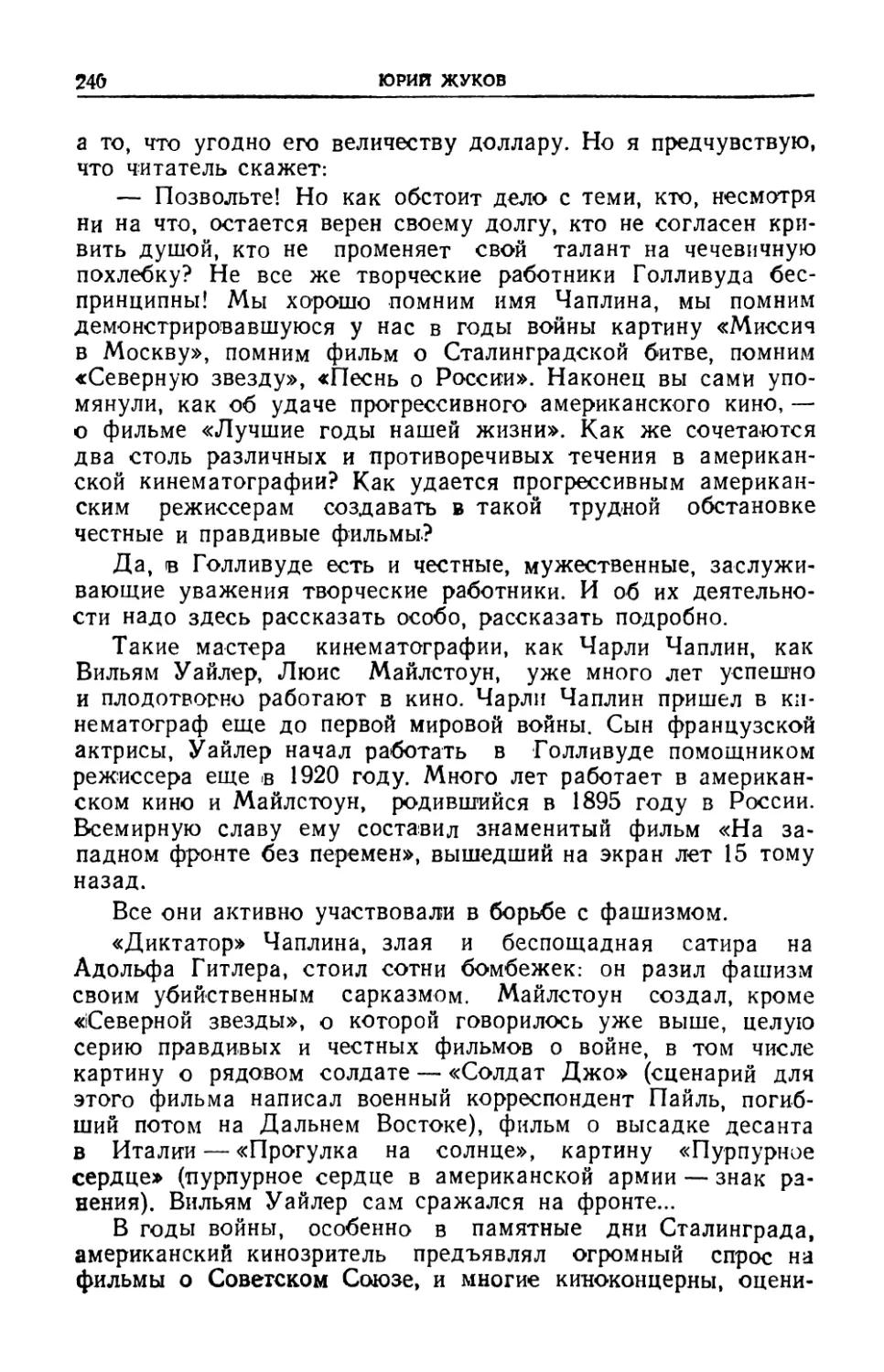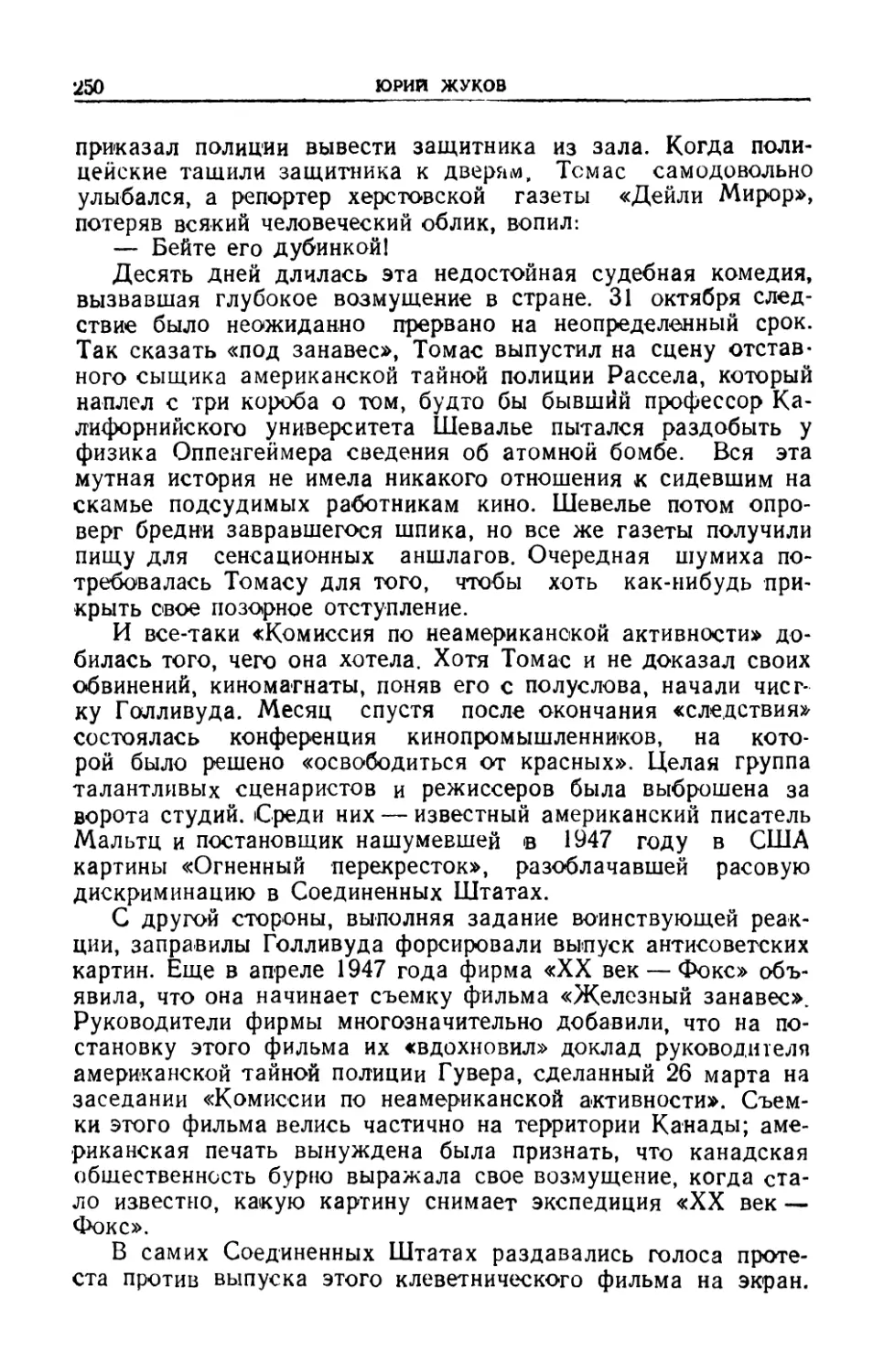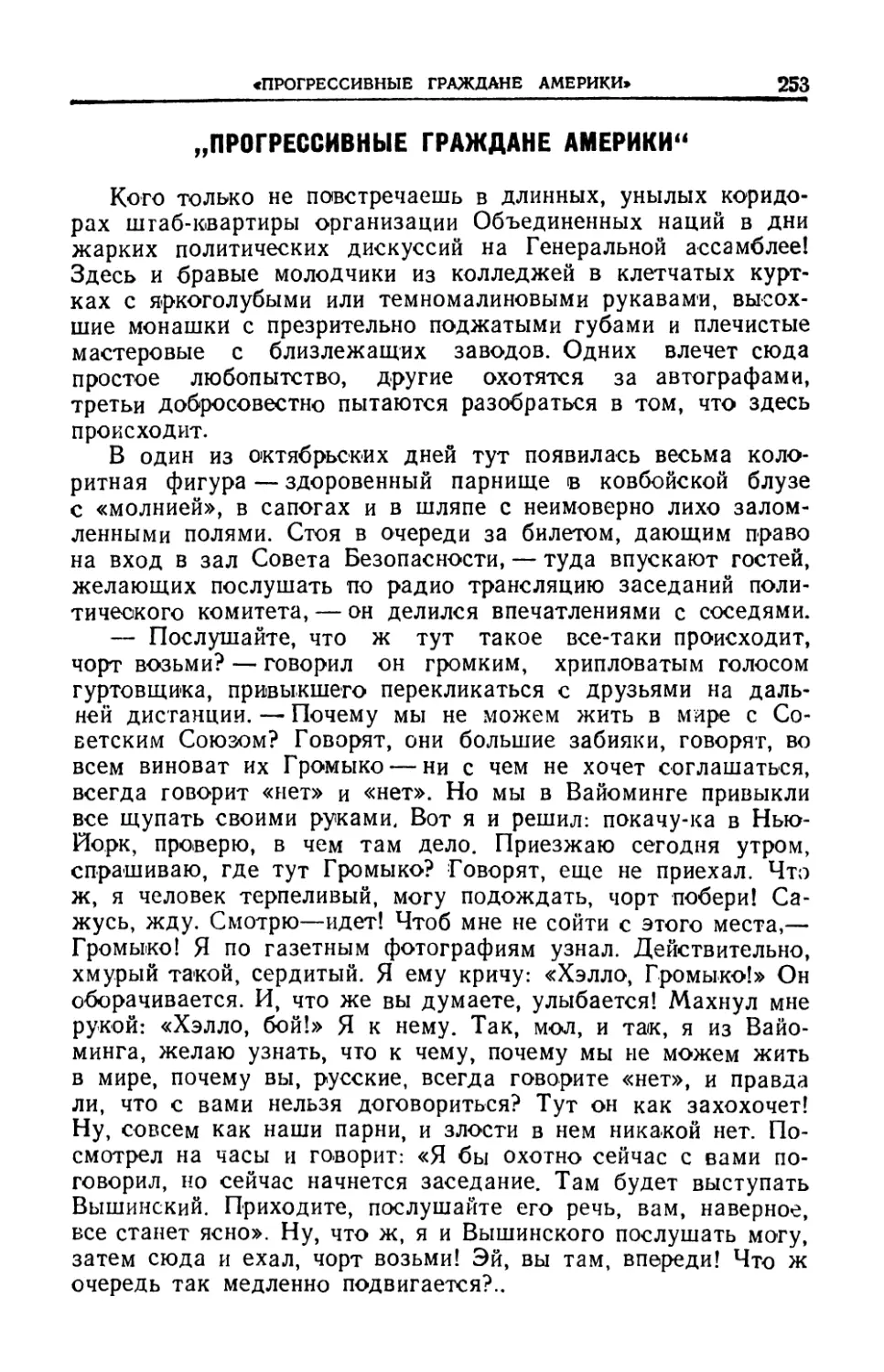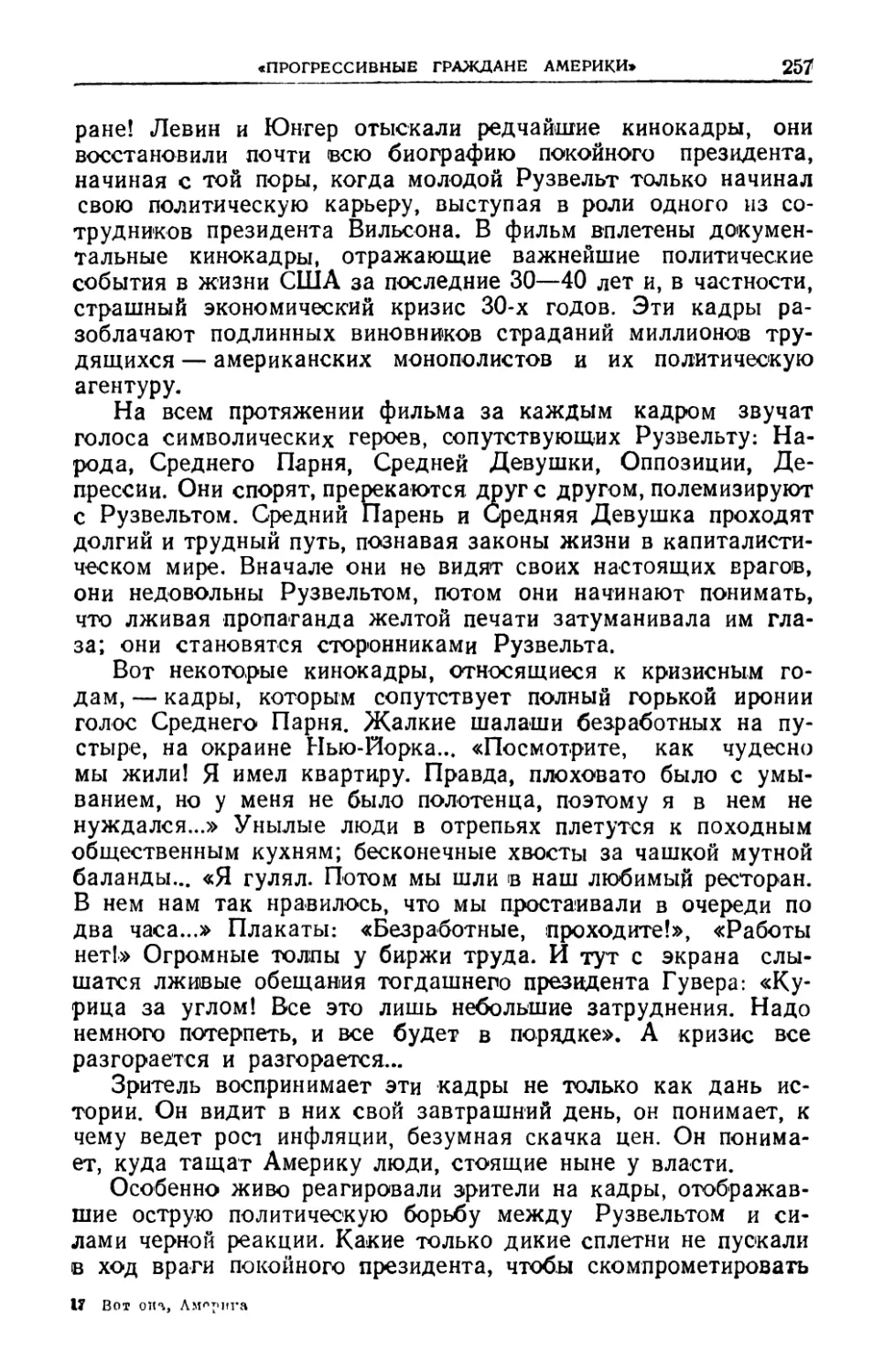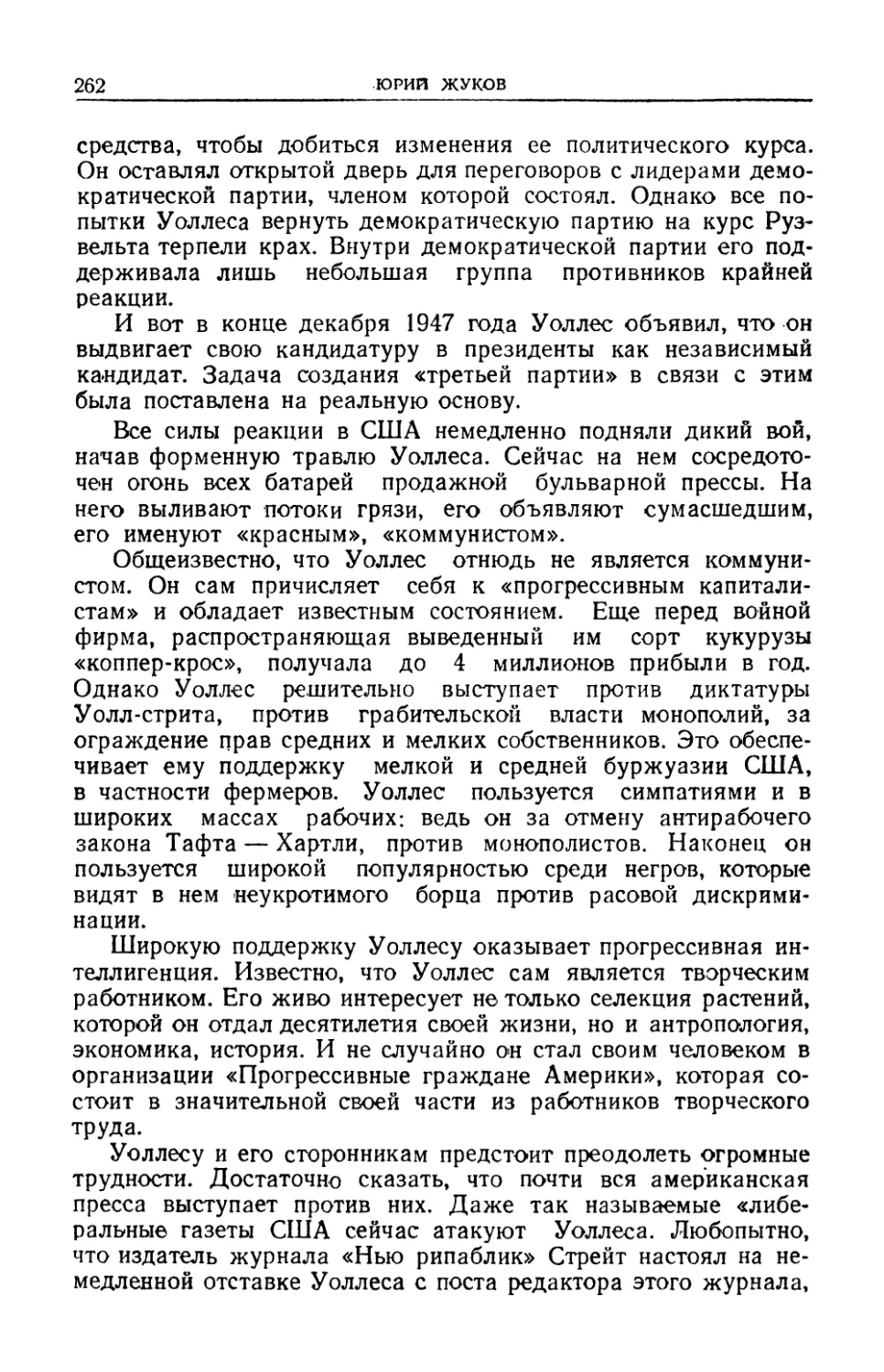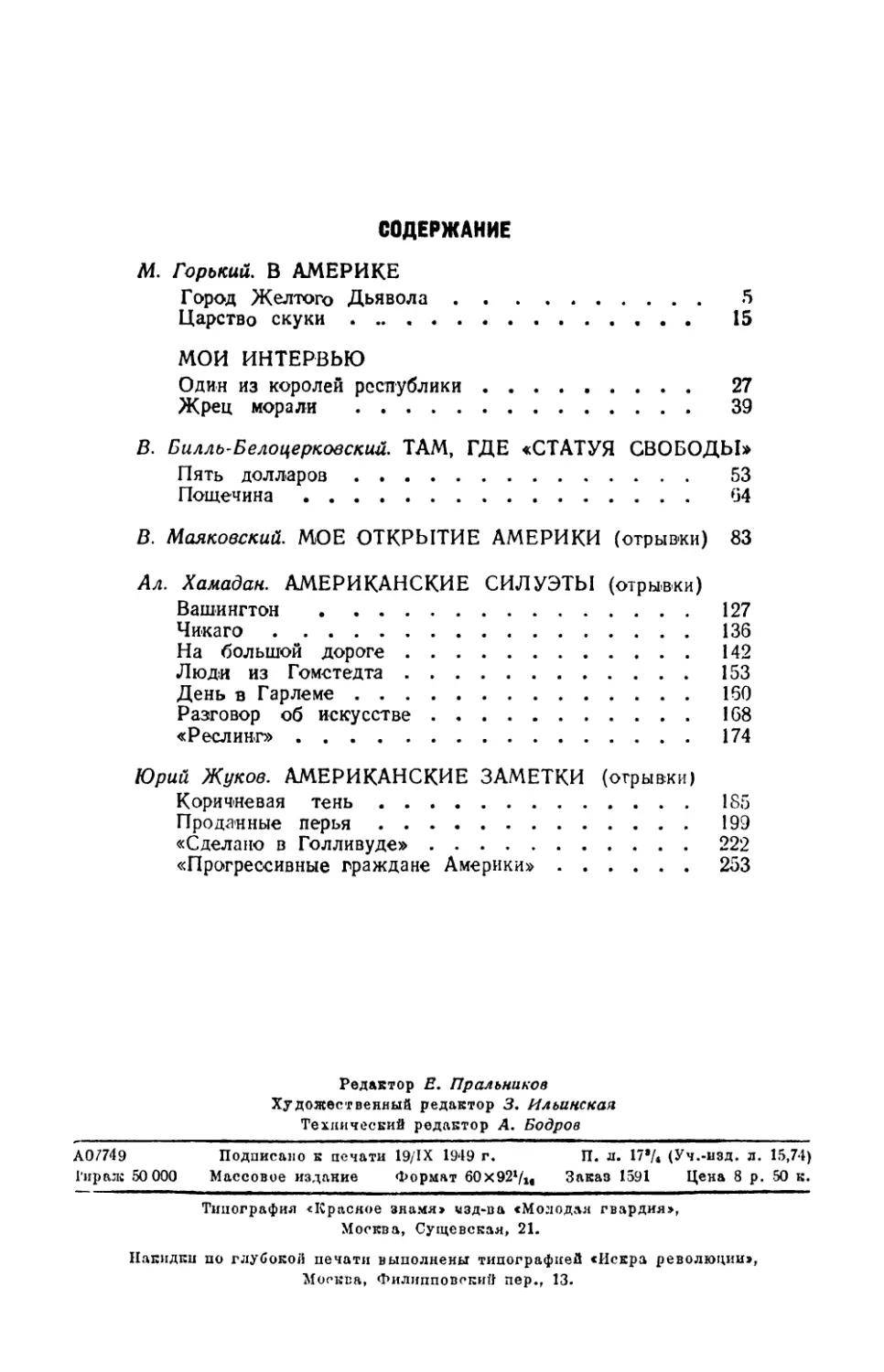Автор: Горький М.
Теги: история этнографические очерки история сша издательство молодая гвардия
Год: 1949
Текст
ВОТ ОНА,
АМЕРИКА
Сборник памфлетов, рассказов и очерков
о Соединенных Штатах Америки
Издательство ЦН ВЛКСМ
„Молодая гвардия"
1949
Художник Б. Пророков
Сборник составил Е« Пральникое
М. ГОРЬИИЙ
В АМЕРИКЕ
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА
...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с
дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города
и мутную воду рейда.
У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на
все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и
радости.
— Это кто? — тихо спросила девушка полька,
изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:
— Американский бог...
Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до
головы зеленой окисью. Холодное лшо слепо смотрит сквозь
туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы
оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — мало
земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее —
как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном
и мечтами судов, придает позе гордое величие и красоту.
Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет,
разгонит серый дым и щедро обольет всё кругом горячим,
радостным светом.
А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит,
скользят по воде океана, как допотопные чудовища,
огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники,
маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных
гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей,
сурово плещут волны океана.
Всё вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно.
Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду — она
покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.
И кажется, что всё — железо, камеи, вода, дерево —
полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в
плену тяжелого труда. Всё стонет, воет, скрежещет,
повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повею-
б
м. горький
ду на груди воды, изрытой и разорванной железом,
запачканной жирными» пятнами нефти, засоренной щепами и
стружками, соломой и остатками пищи — работает невидимая глазом!
холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки
всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки —
только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая
точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в
хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных
вагонами.
Ошеломленное, оглохшее от шума, задерганное этой
пляской мертвой материи двуногое существо, всё в черной
копоти и М!асле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы
штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи и
не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость
зубов.
Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица
эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно-
овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно
смотрят в тума<н.
А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное,
полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям
тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слшшю что-то грозное,
жадное.
Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят
двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба».
Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые,
тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом
доме чувствуется надменная кичливость своею высотой,
своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...
Издали город кажется огромной челюстью, с неровными
черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как
обжора, страдающий ожирением.
Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из
камня и железа, в желудок, который проглотил несколько
миллионов людей и растирает, переваривает их.
Улица — скользкое, алчное горло; по нему куда-то вглубь
плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде —
над головой, под ногами и рядом с тобой живет, грохочет,
торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою
Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей
паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и
нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, всё
шире раскидывая звенья своей цепи.
Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА 7
вагоны, крякают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей,
угрюмо воет электричество, — душный воздух напоен, точно
губка влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к
этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он
неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.
На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья
деревьев мертво висят на ветвях, — возвышаются темные
монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их,
когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью
города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях
многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени
высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них,
остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце
смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие,
черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто не бросит
взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из
памяти людей значение творцов свободы.
Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же
тяжелой мыслью:
— Разве такую жизнь хотел я создать?
Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь,
бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в
бульоне, как щепки в море, маленькие люди. Город ревет и
глотает их одного за другим ненасытной пастью.
Одни из героев опустили руки, другие подняли их,
протягивая над головами людей, предостерегая:
— Остановитесь! Это не жизнь, это безумие...
Все они — лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте
в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии
из камня, стекла и железа.
Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и
тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося
тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где
блестит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю
жизнь трудился на благо своей родины, он этим несомненно
заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.
По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем
направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных
стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества,
гремящий шум работ по устройству новой сети металла, новых
стен из камня — всё это заглушает голоса людей, как буря в
океане — крики птиц.
8
М. ГОРЬКИЙ
Лица людей неподвижно спокойны — должно быть, никто
из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей
города-чудовища. В печальном Самомнении они считают себя
хозяевами своей судьбы — в глазах у них, порою, светится
сознание своей независимости, но, видимо, hmi непонятно, что
это только независимость топора в руке плотника, молотка в
руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика,
который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но
тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице
прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы
духа — не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы
напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели
иступить. Это — свобода слепых орудий в руках Желтого
Дьявола — Золота.
Я впервые вижу гакой чудовищный город, и никогда еще
люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то
же время я нигде не встречал их такими трагикомически
довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном
желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с
диким ревом скота пожирает мозги и нервы...
О людях — страшно и больно говорить.
Вагон «воздушной дороги» с воем и грохотом мчится по
рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих
этажей, однообразно опутанных решетками» железных
балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них —
фигуры людей. Одни — работают, что-то шьют или считают,
наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон,
лежат грудью на подоконниках и смотрят на. вагоны,
каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и
дети — все одинаково безмолвны, однообразно спокойны.
Привыкли к этим стремлениям! без цели, привыкли думать,
что тут есть цель. В глазах — нет гнева против владычества
железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов
сотрясает стены домов, — вздрагивают груди женщин,
головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и
тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь
как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда
встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые,
красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую
мечту.
Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте,
расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный,
отравленный воздух испуганно бросился в окна, — седы?
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА
9
волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой
птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.
В мутных внутренностях ком-нат мелькают железные
прутья крова гей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и
объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь
человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно
расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в
быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.
Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем
пыли. Он однообразно качался над каким-то станком.
Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок,
считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло
внутрь комбаты, — она не отвела глаз от работы, не
поправила платья, развеянного ветром. Два мальчика, лет по пяти,
строят на балконе дом из щепок. Он развалился от
сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы
они не упали на улицу сквозь отверстия в решетке
балкона, — и тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче.
Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах, точно
осколки чего-то одного — большого, но разбитого в
ничтожные 'Пылинки, растертого в дресву.
Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развевает платье
и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной,
толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза
мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно
воющим звуком...
Живому человеку, который мыслит, создает оз своем моь
гу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет,
отрицает, ждет, — живому человеку этот дикий вой, визг, рев,
эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах —
всё это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома
и сломал, разрушил эту мерзость — «воздушную дорогу»; он
заставил бы замолчать нахальный вой железа, он — хозяин
жизни, жизнь — для него, и всё, что ему мешает жить —
должно быть уничтожено.
Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно
переносят всё, что убивает человека.
Внизу, под железной сетью «воздушной дороги», в пыли и
грязи мостовых, безмолвно возятся дети, — безмолвно, хотя
они смеются и кричат, как дети всего мира, но голоса их
тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они
кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из
окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испа-
10
М. ГОРЬКИЙ
рениями города, они бледны и желты, кровь их
отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла,
угрюмым воем порабощенных молний.
Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые
люди? — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот,
злой визг.
Вагоны несутся mihmo Ист-Сайда, квартала бедных,
компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие
людей куда-то в глубины города, где — представляется уму —
устроена огромная, бездонная дыра — котел или кастрюля, —
туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают
золото. КанаВЬ1 улиц кишат детьми.
Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее
зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода
и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски
покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас
нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.
В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети
жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей,
загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в
едкой пыли и духоте.
Когда они находят корку загнившего хлеба, она
возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием
проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они
покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час
ночи, в два и позднее — они всё еще роются в гряэи, жалкие
..кробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов
Желтого Дьявола.
На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни,
в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на
воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий,
режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все
звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая,
холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в
голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду,
дрожит в гнилом за.пахе, пожравшем воздух, дрожит
насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.
Грязь — стихия, она пропитала собою всё: стены домов,
стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания,
мысли...
В этих улицах — темные впадины дверей подобны
загнившим ранам в камве стен. Когда, заглянув в них, увидишь
грязные ступени лестниц, покрытые мусором, кажется, что
там», внутри, всё разложилось и гнойно, как во чреве трупа.
А люди представляются червями...
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА
И
Высокая женщина с большими темными глазами стоит у
двери; на руках у нее ребенок, ее кофта расстегнута,
бессильно повисла длинным кошелем ее синяя грудь. Ребенок
кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется
в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь
кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь
матери. Она стоит, точно каменная, и глаза ее круглы, как у
совы — они смотрят упорно в одну точку перед собой.
Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме
хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее
вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек
живет воспоминанием! о пище, проглоченной им вчера, мечтой
о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь.
Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким, желтым
тельцем, — она не слышит его криков, не чувствует ударов...
Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на
седой голове, прищурив красные веки больных глаз,
осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к
нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает
туловище и что-то говорит.
Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря,
смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам
встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы
бркж и судорожно шевелят там пальцами...
Здесь, в этих улицах, человек заметен, слышен его голос,
озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека
есть лицо — голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что
люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в
грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке
мутной воды; их кружит и вертит сила голода, оживляет
острое желание съесть что-нибудь.
В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми,
они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах
их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные
желания.
Они подобны болезнетворным микробам в желудке
города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами,
которыми он так щедро питает их теперь!
Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой,
крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о
чем он думает, чего он хочет — иметь огромные руки
страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для
того, чтобы однажды днем подняться над городом, опустить
в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем всё
в груду мусора и праха, — кирпич и жемчуг, золото и мясо
12
М. ГОРЬКИЙ
рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья,
отравленные грязью, и эти глупые, многоэтажные «скребницы
неба», всё, весь город — в кучу, в тесто из грязи и крови
людей — в скверный хаос. Это страшное желание
естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много
работы рабов, там не может быть места для свободной,
творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения,
ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это
понятно— искажая душу человека, люди не должны ждать от
него милосердия к ним.
Человек имеет право мести — это право дают ему люди.
В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные
дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их теммых
недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза
странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое
богатство этих гробниц.
Люди кончили работу дня и, — не думая о том, зачем она
сделана, нужна ли она для них, — быстро бегут спать.
Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все
головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги —
это видно по глазам — уже уснули. Работа кончена, думать
больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе
думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые
наслаждения жизнью, кроме этого ничего не нужно человеку в
городе Желтого Дьявола.
Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим»
мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и
скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась
новая, свежая пища...
Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестят
улыбки.
Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют
электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет
музыка.
Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый
звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом
объятии убийцы и балаганного шута. Безвольно идут малень
кие люди, — точно камни катятся под гору...
Всё больше и больше вспыхивает желтых огней — целые
стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле,
новой бритве, шляпах, сигарах, о театрах. Грохот железа,
гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не
становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерыв-
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА
13
ный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл,
более тяжелую силу.
Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — льется
ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный,
крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза,
искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание
полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные
крупицы их заработка, — он слагает свои подмигивания в
огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым
удовольствиям, предлагает им удобные вещи...
Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется
красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия,
гордое дитя солнца. Когда о« буйно расцветает — его цветы
трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает
жизнь, он может уничтожить всё ветхое, умершее и грязное.
Но когда «в этом городе смотришь на огонь, заключенный
в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь — как
всё — огонь порабощен. Он служит Золоту, для Золота и
враждебно далек от людей...
Как всё — железо, камень, дерево — огонь тоже в
заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:
— Иди сюда!
И выманивает:
— Отдай твои деньги!..
Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и
смотрят на зрелища, отупляющие их.
Кажется, что где-то в центре города вертится со
сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота,
О'Н распиливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день
люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер?
ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону,,
образуя холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей
затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную
днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на
утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его
вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий
вой железа, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.
И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь
и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг
обратились в холодный, желтый металл. Ком Золота — сердце
города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь
смысл ее.
Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо,
строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела
14
М. ГОРЬКИЙ
грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают
свое красивое тело.
Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает
людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой,
из которой Он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.
Из пустыни океана идет ночь и дышит «а город
прохладным соленым) дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее
холодные огни — она идет, сострадательно окутывая
темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц,
прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного
безумия несется ей навстречу, ра&рывая ее тишину — она вдет
и медленно гасит нахальный блеок порабощенного огня,
закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.
Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить,
разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города.
Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по
ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается
ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно,
неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее
осталась только тьма, — свежесть и прохлада исчезли,
проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими
людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии...
Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное
животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи,
ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.
Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую
службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей,
одного за другим, в свои каменные внутренности.
Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы
и скучно, бесцветными глазами смотрит направо и налево,
медленно повертывая голову. Куда итти? Все улицы
одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых
окон одинаково безразлично и мертво...
Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя
дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное
обла-ко дневных испарений проклятого, несчастного города.
Сквозь эту пелену в недосягаемой высоте небес тускло
мерцают тихие звезды.
Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх.
Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли,
чем где-либо. Звезды — мелки, одиноки...
Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги
человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц,
шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками. Уже
ЦАРСТВО СКУКИ
15
поздно, улицы становятся всё более пустынными. Одинокие
маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На
углах неподвижно стоят полицейские, в серых шляпах, с
палками в .руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.
Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и
множества черных дверей в стенах домов, — черных дверей,
сонно разинувших квадратные 'пасти. Где-то далеко гремит и
воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках
улиц, ночь умерла.
Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой
длинный, согнутый корпус. В его фигуре есть что-то
думающее и хотя нерешительное, но — решающее...
Мне кажется, он — вор.
Приятно видеть человека, который чувствует себя живым
в черных сетях города.
Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого
пота.
Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душной,
тоскливой тьме...
Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.
ЦАРСТВО СКУКИ
Когда приходит ночь — на океане вдруг поднимается к
небу ^призрачный город, весь из огней. Тысячи рдеющих искр
раскаленно сверкают во тьме, тонко и четко рисуя на
темном фоне неба стройные башни чудесных замков, дворцов и
храмов из разноцветного хрусталя. В воздухе трепещет
золотая паутина, сплетаясь в прозрачные узоры пламени, и
замирает, любуясь своей красотой, отраженной в воде.
Сказочно и непонятно это сверкание огня, который горя — не
уничтожает; невыразимо прекрасен его великолепный, едва
заметный для глаза трепет, создающий в пустыне неба и
океана волшебную картину огненного города. Над ним колышется
красноватое зарево, и вода отражает его очертания, сливая
их в причудливые пятна расплавленного золота...
Игра огня рождает странные мечты: кажется, что там, в
залах дворцов, в ярком блеске пламенной радости, тихо и
гордо звучит музыка, которой не слыхал никто и никогда. На
волне ее стройного течения носятся, точно крылатые звезды,
лучшие мысли земли. В священном танце они соприкасаются
одна с другой и, ярко вспыхнув в мимолетном объятии,
рождают новое плам1Я, новую мысль.
Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди оке-
16
м. горький
ана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и
звезд большая колыбель — в ней, ночью, отдыхает солнце.
Солнце ставит человека ближе к правде жизни. Днем на
месте огненной сказки видны только белые воздушные здания.
Голубой туман дыхания океана смешан с дымом города,
серым й мутным, белые, легкие постройки окутаны
прозрачной зеленой, они, подобно мареву, заманчиво дрожат, зовут
к себе и обещают что-то прекрасное, утешающее.
Там, сзади, тяжело стоят в тучах дыма и пыли
квадратные дома города, и, не смолкая, раздается его ненасытный,
голодно-жадный рев. Этот напряженный звук, сотрясающий
воздух и душу, немолчный вой железных струн, тоскливый
вопль сил жизни, угнетаемых силой Золота, холодный,
насмешливый свист Желтого Дьявола, — этот шум гонит прочь
от земли, раздавленной и загрязненной вонючим телом
города. И люди идут на берег сжеана, где стоят, обещая им
отдых и тишину, красивые белые здания.
Они тесно сомкнулись на длинной песчаной косе, которая,
подобно ножу, глубоко и остро вонзилась в темные воды.
Песок блестит на солнце теплым, желтым блеском, и на его
бархате прозрачные здания подобны тонким вышивкам из
белого шелка. Как будто некто пришел на острие косы и
погрузился в волны, бросив свои богатые одежды на грудь им.
Хочется пойти и прикоснуться к мягким, ласковым
тканям, лечь на их пышные складки и смотреть в пустыню, где
бесшумно и быстро мелькают белые птицы, где океан и небо
дремотно замерли в знойном блеске солнца.
Это называется — Куни Айланд.
По понедельникам газеты города с торжеством извещают
читателя:
«Вчера на Куни Айланд было 300 000 человек. Потеряно
23 ребенка»...
...Нужно долго ехать, в пыли и криках улиц, на трамвае
по Бруклину и острову Лонг Айланд, прежде чем перед
глазами явится ослепительное великолепие Куни Айланда. И как
только человек встанет перед входом в этот город огня —
он ослеплен. В глаза ему бросаются сотни тысяч холодных,
белых искр, и он долго ничего не может разобрать в
сверкающей пыли; вокруг него—всё слито в буйный вихрь
огненной пены, всё кружится, блестит и увлекает. Человека
сразу ошеломи-ли, ему раздавили этим блеском сознание,
изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы. Пьяно и
Он потерял надежду найти работу.
ЦАРСТВО СКУКИ
17
безвольно люди идут куда-то среди сверкания огней. В мозг
проникает матово-белый туман, жадное ожидание окутывает
душу вязким пологом. Пораженная блеском толпа людей
вливается черным потоком в неподвижное озеро света, отовсюду
сдавленного темными границами ночи.
Везде сухо и холодно сверкают маленькие лам-почки, они
прилеплены ко всем столбам и стенам, к наличникам окон,
карнизам, они тянутся ровными линиями по высокой трубе
электрической станции, горят на всех крышах, царапают
глаза людей острыми иглами мертвого блеска — люди
прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно влачатся по зем1-
ле, как тяжелые звенья запутанной цепи...
Человеку нужно сделать большое усилие, чтобы найти
себя среди толпы, подавленной удивлением, в котором нет
восторга \л радости. И кто находит себя, тот видит, что эти
миллионы огней рождают унылый, всё раздевающий свет и,
создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают
тупое, скучное безобразие. Призрачный издали, сказочный
город встает теперь, как нелепая путаница прямых линий
дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей,
расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят
детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в
детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо
разнообразны, и ни в одном) из них нет даже тени красоты. Они
построены из дерева, намазаны облупившейся белой краской
и все точно страдают однообразной болезнью кожи. Высокие
башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно-
ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Всё раздето,
ограблено бесстрастным блеском огня; он — всюду, и нигде
нет теней. Каждое здание стоит точно удивленный дурак,
широко раскрыв рот, а внутри него облако дыма, резкие вопли
медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди
едят, пьют, курят.
Но человека — не слышно. В воздухе течет ровной
струей шипение огня в фонарях, носятся лохмотья музыки,
нищенское пение деревянных дудок органов и тонкий,
непрерывный свист жаровен. Всё это сливается в назойливое
гудение какой-то невидимой, толстой, туго натянутой струны,
и если в этот непрерывный звук вторгается человеческий
голос, он кажется испуганным топотом. Всё вокруг нагло
блестит, обнажая свое скучное уродство...
Душу крепко обнимает пламенное желание живого,
красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена
пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза...
Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать,
2 Вот опа, Америка
18
м. горький
кричать и петь в буйной игре разноцветных языков живого
пламени, на сладострастном пире уничтожения мертвого
великолепия духовной нищеты...
Людей в плену этого города — действительно сотни
тысяч. На всей его огромной площади, тесно застроенной
белыми клетками, во всех залах зданий они толпятся, как
тучи черных мух. Беременные женщины самодовольно несут
тяжесть своих животов. Дети идут, молчаливо раскрыв рты,
и ослепленными глазами смотрят вокруг так напряженно и
серьезно, что их до боли жалко за этот взгляд, питающий их
душу уродством, которое они берут за красоту. Бритые лица
мужчин, безусые, странно похожие друг на друга, — солидно
неподвижны. Большинство их привело сюда жен и детей и
чувствует себя благодетелями своих семейств, которым они
дают не только хлеб, но и великолепные зрелища. Им самим
тоже нравится этот блеск, но они слишком серьезны для
того, чтобы выражать свои ощущения, поэтому они
однообразно сжали тонкие губы и, прищурив глаза, смотрят
исподлобья, как люди, которых ничем не удивишь. Но под этим
внешним спокойствием зрелого опыта чувствуется
напряженное желание изведать все наслаждения города. И вот
солидные люди, пренебрежительно усмехаясь и скрывая довольный
блеск светлых глаз, садятся верхом на спины деревянных
лошадок и слонов электрической карусели, садятся и, болтая
ногами, с трепетом ждут острого удовольствия помчаться
по рельсам, ухая взлететь вверх и со свистом опуститься вниз.
Совершив это тряское путешествие, все снова туго
натягивают кожу на лице и идут к другим наслаждениям!...
Удовольствия бесчисленны: вот на вершине железной
башни медленно качаются два длинные белые крыла, на
концах крыльев висят клетки, в клетках — люди. Когда одно из
крыльев тяжело взмывает к небу — лица людей в клетках
становятся тоскливо серьезны, и все они одинаково
напряженно и молчаливо смотрят круглыми глазами на землю,
уходящую от них. А в клетке другого крыла, которое в это время
осторожно опускается вниз—лица людей цветут улыбками, и
раздаются довольные взвизгивания. Это напоминает
радостный визг щенка, когда его опустишь на пол, подержав на
воздухе за кожу шеи.
Вокруг вершины другой башни летают в воздухе лодки,
третья, вращаясь, двигает какие-то баллоны из железа,
четвертая, пятая — все они двигаются, пылают, зовут
безмолвным криком холодного огня. Всё качается, взвизгивает,
гремит и кружит головы людей, делая их самодовольно скучны-
ЦАРСТВО СКУКИ
19
ми, утомляя их нервы путаницей движений и блеском огня.
Светлые глаза становятся еще светлее, как будто мозг
бледнеет, теряя кровь в странной суете белого, сверкающего
дерева. И кажется, что скука, издыхая под гнетом отвращения
к себе самой, кружится, кружится в медленной агонии и
вовлекает в свой унылый танец десятки тысяч однообразно черных
людей, сметая их, как ветер —сор улиц, в безвольные кучи и
снова разбрасывая, и снова сметая.«.
Внутри зданий людей ждут тоже наслаждения, но они
серьезны, они воспитывают. Здесь людям показывают Ад с
его строгими порядками и разнообразием мучений, которые
ждут людей, нарушающих святость законов, созданных для
них...
Ад сделан из папье-маше, окрашенного в тёмнокрасный
цвет, всё в нем пропитано огнеупорным составом и густым
грязным запахом какого-то жира. Ад очень скверно
сделан, — он способен вызвать отвращение даже у человека
весьма нетребовательного. Он представляет собой пещеру,
хаотически заваленную камнями и наполненную красноватым
сумраком. На одном из камней сидит Сатана в красном
трико, искажая разнообразными гримасами свое худое,
коричневое лицо, и потирает руки, как человек, который сделал
выгодное дело. Ему, должно быть, очень неудобно сидеть —
бумажный камень трещит и качается, но он будто бы не
замечает этого, наблюдая, как внизу, у его кривых ног, черти
расправляются с грешниками.
Вот девушка купила новую шляпку и смотрит на себя в
зеркало, довольная и веселая. Но сзади к ней
подкрадывается пара небольших, видимо очень голодных чертей, они
схватывают ее подмышки, она визжит — поздно! Черти кладут
ее в длинный гладкий жолоб, который круто опускается в
яму среди пещеры, из ямы идет серый пар, поднимаются
языки огня, сделанного из красной бумаги, и девушка, вместе с
зеркалом и шляпой, съезжает на спине по жолобу в эту
яму.
Молодой парень вьгпил стакан водки, — черти немедленно
спускают и его туда же, под пол сцены.
В аду душно, черти мелки и слабосильны, они, видимо,
страшно утомлены своей работой, их раздражает ее
однообразие и очевидная бесполезность, поэтому они не
церемонятся с грешниками, бросая их в жолоб, точно поленья.
Смотришь на них, и хочется крикнуть:
— Довольно глупостей! Бастуй, ребята!..
Девица вытащила несколько монет из кошелька своего
20
м. горький
собеседника, — ив тот же миг черти расправляются с ней,
к удовольствию Сатаны, который радостно болтает ногами
и гнусаво хихикает. Черти сердито косятся на бездельника и
озлобленно швыряют в пасть огненной ямы всех, кто
случайно — по делу или из любопытства — заходит в ад...
Публика смотрит на эти страсти молча и серьезно. В
зале— темно. Какой-то здоровый парень с курчавой головой и
в толстом пиджаке густым, угрюмым голосом говорит речь,
указывая рукой на сцену.
В своей речи он утверждает, что — если люди не хотят
быть жертвами Сатаны в красном трико и с кривыми
ногами— они должны знать, что нельзя целовать девушек, не
обвенчавшись с ними, потому что от этого девушки могут
сделаться проститутками; нельзя целовать молодых людей
без разрешения церкви, потому что от этого могут родиться
мальчики и девочки; проститутки не должны воровать
деньги из карманов своих гостей; все вообще люди не должны
пить вино и прочие жидкости, возбуждающие страсти; все
они должны посещать не трактиры, а церкви, — это полезнее
для души и дешевле стоит...
Говорит он однотонно, скучно и, должно быть, сам не
верит, что нуж'но жить именно так, как ему велели проповеды-
вать.
Невольно восклицаешь по адресу хозяев исправительного
увеселения для грешников:
— Господа! Если вы желаете, чтобы мораль действовала
на душу человека, хотя бы с силою касторового масла, —
проповедникам морали надо больше платить!
В заключение этой страшной истории из угла пещеры
является до отвращения красивый ангел. Он подвешен на
проволоке и двигается в воздухе через всю пещеру, держа з
зубах деревянную дудку, окленную золотой бумагой. Сатана,
увидав его, ныряет, подобно ершу, в яму, вслед за
грешника мм, раздается треск, бумажные камни валятся друг на
друга, черти радостно бегут отдохнуть от работы, —
занавес опускается. Публика встает и уходит. Некоторые
осмеливаются смеяться, большинство людей сосредоточено.
Может быть, они думают:
«Если и в аду так мерзко, — пожалуй, не стоит грешить».
Идут дальше. В следующем здании им показывают
«Загробный мир». Это большое учреждение, тоже из папье-маше,
оно изображает шахты, в которых без толку шатаются
скверно одетые души умерших. Им можно подмигивать, но
щипать их нельзя, это — факт. Они, должно быть, очень
скучают в сумраке подземного лабиринта, среди шероховатых
ЦАРСТВО СКУКИ
21
стен, обливаемые холодной струей сырого воздуха. Некоторые
души скверно кашляют, другие молча жуют табак, сплевывая
на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь в углу к
стене, курит сигару...
Когда проходишь мимо них, они смотрят в лицо
бесцветными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячут руки в
серые складки загробных лохмотьев. Голодны они, эти
бедные души, и, видимо, многие из них страдают ревматизмом.
Публика молча смотрит на них и, вдыхая сырой воздух,
питает душу свою унылой скукой, которая гасит мысль, как
мокрая грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлеющий...
Еще в одном здании охотно показывают «Всемирный
потоп», который, как известно, был устроен для наказания
людей за грехи...
И все зрелища в этом городе имеют одну целы показать
людям, чем и как они будут вознаграждены за грехи свои
после смерти, научить их жить на земле смирно и послушно
законам...
Всюду проповедываетея одно:
— Нельзя!
Ибо подавляющее большинство публики — рабочий народ...
Но — необходимо наживать деньги, и в укромных
уголках светлого города, как везде на земле, разврат
презрительно смеется над лицемерием и ложью. Конечно, он прикрыт,
и, разумеется, — он скучен, он ведь тоже «для народа». Он
организован как выгодное предприятие, как средство
вытащить заработок из кармана человека, и, пропитанный
страстью к золоту, он трижды гнусен и противен в этом болоте
светлой скуки...
Народ питается им...
...Он течет густым потоком межд^ -^х линий ярко
освещенных домов, и дома глотают его ю «.ными пастями.
Направо его застращивают ужасами вечных мук, убеждая:
— Не греши! Опасно!
Налево, в просторном зале для танцев, медленно
кружатся женщины, и всё там говорит:
— Согреши! Приятно...
Ослепленный блеском огней, соблазняемый дешевой, но
сверкающей роскошью, пьяный от шума, он кружится в
медленной пляске томящей скуки и охотно, слепо идет
налево — ко греху, направо — в дома, где ему проповедуют
святость.
Это безвольное хождение с одинаковой силой отупляет
22
М. ГОРЬКИЙ.
его, одинаково полезно и для торговцев моралью, и для
продавцов разврата.
Жизнь устроена для того, чтобы народ шесть дней
работал, а в седьмой грешил и — платил за грехи свои, исповеды-
вался и платил за исповедь, —вот и всё!
Шипят огни, подобно сотням тысяч раздраженных змей,
темными роями мух бессильно, уныло жужжат и медленно
ворочаются люди в сетях сверкающей, тонкой паутины
зданий. Не торопясь, без улыбок, на гладко выбритых лицах, они
лениво входят во все двери, стоят подолгу перед клетками
зверей, жуют табак, плюются.
В огромной клетке какой-то человек гоняет выстрелами
из револьвера и беспощадными ударами тонкого бича
бенгальских тигров. Красавцы-звери, обезумев от ужаса,
ослепленные огнями, оглушенные музыкой и выстрелами, бешено
мечутся среди железных прутьев, рычат, храпят, сверкая
зелеными глазами; дрожат их губы, гневно обнажая клыки
зубов, и то одна, то другая лапа грозно взмахивает в
воздухе. Но человек стреляет им прямо в глаза, и громкий треск
холостого патрона, режущая боль ударов бича отталкивает
сильное, гибкое тело зверя в угол клетки. Охваченный
дрожью возмущения, гневной тоской сильного, задыхаясь в
муках унижений, пленный зверь на секунду замирает в углу
и безумными глазами смотрит, нервно двигая змеевидным
хвостом, смотрит...
Эластичное тело сжимается в твердый ком мускулов,
дрожит, готовое взлететь на воздух, вонзить свои когти в мясо
человека с бичом, разорвать его, уничтожать.
Вздрагивают, как пружины, задние ноги, вытягивается
шея, в зеленых зрачках вспыхивают кроваво-красные искры
радости.
И в них вонзаются сотнями тупых уколов бесцветные,
холодно ожидающие взгляды однообразно желтых лиц за
решеткою клетки, тускло слитых в медное пятно.
Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы
ждет, — она тоже хочет крови и ждет ее, ждет не из мести, а
из любопытства, как давно укрощенный зверь.
Тигр втягивает голову в плечи, тоскливо расширяет глаза
и волнисто, мягко подается всем телом назад, точно его
кожу, воспламененную жаждой мести, вдруг облили ледяным
дождем.
Человек стреляет, щелкает бичом, орет, как безумный, — он
прячет в криках свой жуткий страх перед зверем и свое раб-
ЦАРСТВО СКУКИ
23
ское опасение не угодить животному, которое спокойно
любуется прыжками человека, напряженно ожидая рокового
прыжка зверя. Ожидает — не сознавая, в нем проснулся и
дышит древний инстинкт, он требует борьбы, он хочет сладко
вздрогнуть, когда два тела обовьются одно с другим, брызнет
кровь, и на пол клетки полетит, дымясь, разорванное мясо
человека, раздастся рев и крик...
Но мозг животного уже пропитан ядами разных запретов
и опасений, желая крови — толпа боится, она и хочет, и не
хочет, и в этой темной борьбе внутри самой себя она
испытывает острое наслаждение, она — живет...
Человек напугал всех зверей, тигры мягко убегают куда-
то в глубину клетки, а он, потный и довольный тем, что
сегодня остался жив, улыбается побелевшими губами, стараясь
скрыть их дрожь, и кланяется медному лицу толпы,
кланяется ей, как идолу.
Она мычит, хлопает ладонями и разваливается на
темные куски, расползается по вязкому болоту скуки
вокруг нее...
Насладившись картиной состязания человека со зверями,
животные идут искать еще чего-нибудь забавного. Вот — цирк.
В центре круглой арены какой-то человек подбрасывает
длинными ногами в воздух двух детей. Дети мелькают над ним,
точно два белых голубя, у которых сломаюы крылья, порой
они срываются с его ног, падают на землю и, опасливо
взглянув на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или
хозяина, снова вертятся в воздухе. Вокруг арены сложилась
толпа. Смотрит. И когда ребенок срывается с ноги артиста,
на всех лицах вздрагивает оживление, точно ветер кроет
легкой рябью сонную воду грязной лужи.
Хочется увидеть пьяного человека с веселой рожей,
который шел бы, толкался, пелэ орал, счастливый тем, что, вот,
он — пьян и всем добрым людям! искренно желает того же...
Гремит музыка, разрывая воздух в клочья. Оркестр —
плох, музыканты устали, звуки труб мечутся бессвязно, как
будто они прихрамывают, для них невозможен плавный
строй, они бегут изломанной линией, толкая, обгоняя,
опрокидывая друг друга. И почему-то каждый отдельный звук
рисуется воображению куском жести, которому придано
сходство с лицом человека—прорезан рот, прорезаны глаза,
отверстие для носа и приделаны длинные белые уши. Человек,
махающий палочкой над головами музыкантов, которые не
смотрят на него, берет эти куски за ручки-уши и невидимо
бросает их кверху. Они сшибаются друг с другом, воздух
свистит в щелях их ртов, и — это делает музыку, от которой
24
м. горький
даже ко всему привыкшие лошади цирковых наездников —
опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно
хотят вытряхнуть из них колкие жестяные звуки...
Странные фантазии рождает музыка нищих для забавы
рабов. Хочется вырвать из рук музыканта самую большую
медную трубу и дуть в нее всей силой груди, долго, громко,
страшно, так, чтобы все разбежались из плена, гонимые
ужасом бешеного звука...
Недалеко от оркестра — клетка с медведями; один из
них, толстый, бурый, с маленькими хитрыми глазами, стоит
среди клетки и размеренно качает головой. Вероятно, он
думает:
«Это можно принять, как разумное, только тогда, если
мне докажут, что всё здесь устроено нарочно, чтобы осле
пить, оглушить, изуродовать людей. Тогда, конечно, цель
оправдывает средства... Но если люди искренно думают, что
все это — забавно, — я не верю больше в их разум!..»
Два другие медведя сидят один против другого, как будто
играя в шахматы. Четвертый озабоченно сгребает солому в
угол клетки, задевая черными когтями за прутья. Морда у
него разочарованно-спокойная. Он, видимо, ничего не ждет
от этой жизни и намерен лечь спать...
Звери возбуждают острое внимание — водянистые
взгляды людей неотвязно следят за ними, как будто ищут что-то
давно позабытое в свободных и сильных движениях
красивого тела львов и пантер. Стоя перед клетками, они
просовывают палки сквозь решетку и молча, испытующе тыкают зверей
в животы, в бока, наблюдают: что будет?
Те звери, которые еще не ознакомились с характером
людей, сердятся на них, бьют лапами по прутьям клеток и ревут,
открывая гневно дрожащие пасти. Это — нравится.
Охраняемые железом от ударов зверя, уверенные в своей
безопасности, люди спокойно смотрят в глаза, налитые кровью, и
довольно улыбаются. Но большинство зверей не отвечают
людям. Получив удар палкой или плевок, они медленно встают
и, не глядя на оскорбителя, уходят в дальний угол клетки.
Там в темноте лежат сильные, прекрасные тела львов,
тигров, пантер и леопардов, и горят во тьме круглые зрачки
зеленым огнем презрения к людям...
А люди, взглянув на них еще раз, идут прочь и говорят:
— Это—скучный зверь...
Перед оркестром музыкантов, с отчаянным усердием
играющих у полукруглого входа в какую-то тем«ую, широко
разинутую пасть, внутри которой спинки стульев торчат подоб-
ЦАРСТВО СКУКИ
25
но рядам зубов, — перед музыкантами поставлен столб, а на
столбе, привязанные тонкой цепью, две обезьяны — мать и
ребенок. Ребенок тесно прижался к груди матери, скрестив на
спине ее свои длинные тонкие руки с крошечными пальцами;
мать крепко обняла его одной рукой, ее другая рука
сторожко вытянута вперед, и пальцы на ней нервно скрючены,
готовые царапнуть, ударить. Глаза матери напряженно
расширены, в них ясно видно бессильное отчаяние, острая боль
ожидания неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска.
Ребенок, прильнув щекой к ее груди, искоса, с холодным ужасом
в глазах смотрит на людей, — он, видимо, был напоен
страхом в первый день жизни, и страх заледенел в нем на все
дни ее. Оскалив мелкие белые зубы, его мать, ни на секунду
не отрывая руки, обнимающей родное тело, другой рукой всё
время непрерывно отбивает протянутые к ней палки и
зонтики зрителей ее мук.
Их много. Это белокожие дикари, мужчины и женщины,
в котелках и шляпах с перьями, и всем им ужасно забавно
видеть, как ловко обезьяна-мать защищает свое дитя от
ударов по его маленькому телу...
Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости,
величиной с тарелку, рискует каждую секунду упасть под ноги
зрителей и неутомимо отталкивает всё, что хочет прикоснуться
к ее ребенку. Порой она не успевает отбить удар и жалобно
взвизгивает. Ее рука, точно плеть, быстро вьется вокруг, но
зрителей так много, и каждому так сильно хочется ударить,
дернуть обезьяну за хвост, за цепь на шее. Она — не
успевает. И глаза ее жалобно моргают, около рта являются
лучистые морщины скорби и боли.
Руки ребенка давят ей грудь, он так крепко прижался, что
его пальцев почти не видно в тонкой шерсти на коже матери.
Глаза его, не отрываясь, смотрят на желтые пятна лиц, в
тусклые глаза людей, которым его ужас перед ними дает
маленькое удовольствие...
Порой один из музыкантов наводит медный глупый зев
своей трубы на обезьяну и обливает ее трескучим звуком, —
она сжимается, скалит зубы и смотрит на музыканта острым
взглядом...
Публика смеется, одобрительно кивает музыканту
головами. Он доволен и спустя минуту повторяет свою
выходку.
Среди зрителей есть женщины; вероятно, некоторые из
них — матери. Но никто не произносит ни слова против злой
забавы. Все довольны ею...
Иная пара глаз, кажется, готова лопнуть от напряжения,
26
М. ГОРЬКИЙ
с которым она любуется муками матери и диким ужасом
ребенка.
Рядом с оркестром — клетка слона. Это пожилой господин,
с вытертой и лоснящейся кожей на голове. Просунув хобот
сквозь прутья клетки, он солидно покачивает им, наблюдая
за публикой. И думает, как доброе и разумное животное:
«Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой
скуки, способна издеваться и над пророками своими, — как
слышал я от стариков-слонов. Но — все-таки — мне жалко
обезьяну... Я слышал также, что люди, как шакалы и гиены,
порою разрывают друг друга, но обезьяне-то от этого не
легче, нет, не легче!..»
...Смотришь на эту пару глаз, в которой дрожит скорбь
матери, бессильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, в
которых неподвижно застыл глубокий, холодный ужас перед
человеком, смотришь на людей, способных забавляться
мучениями живого существа, и, обращаясь к обезьяне, говоришь
про себя:
— Животное! Прости им! Современем они будут лучше...
Конечно, это смешно и глупо. И бесполезно. Едва ли
может быть такая мать, которая могла бы простить мучения
своего ребенка; я думаю, даже среди собак нет такой
матери...
Разве только свиньи...
— Да...
Так вот — когда приходит ночь, — на океане внезапно
вспыхивает прозрачный, волшебный город, весь из огней.
Он — не сгорая — долго горит на темном фоне неба ночи,
отражая свою красоту в широком плеске волн океана.
В блестящей паутине его прозрачных зданий, подобно
вшам в лохмотьях нищего, скучно ползают десятки тысяч
серых людей с бесцветными глазами.
Жадные и подлые — показывают им отвратительную
наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемерие свое
и ненасытную силу жадности своей. Холодный блеск
мертвого огня во всем оголяет скудоумие, и оно, торжественно
блистая, почиет на всем вокруг людей...
Но люди тщательно ослеплены и с восхищением, молча
пьют дрянной яд, отравляющий их души.
В ленивом танце медленно кружится скука, издыхающая
в агонии своего бессилия.
Только одно хорошо в светлом городе — в нем можно
на всю жизнь напоить душу свою ненавистью к силе
глупости.^
один из королей республики ^^^ 27
МОИ ИНТЕРВЬЮ
ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
...Стальные, керосиновые и все другие короли
Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у
которых так много денег, я не мог себе представить
обыкновенными людьми.
Мне казалось, что у каждого из них по крайней мере три
желудка и полтораста штук зубов во рту. Я был уверен, что
миллионер каждый день с шести часов утра и до двенадцати
ночи, всё время без отдыха — ест. Он истребляет самую
дорогую пищу: гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пуддинги,
кэки и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать
челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж
только проглатывает ее. Наконец, он совершенно теряет
энергию, и, облитого noTOMi, задыхающегося, негры уносят его
спать. А наутро, с шести часов, он снова начинает свою
мучительную жизнь.
Однако, и такое напряжение сил не позволяет ему проесть
даже половину процентов с капитала.
Разумеется, такая жизнь тяжела. Но — что же делать?
Какой смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть
больше, чем обыкновенный человек?
Мне казалось, он должен носить белье из парчи, кдблуки
его сапог подбиты золотыми гвоздями, а на голове, вместо
шляпы, что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук сшит из
самого дорого бархата, имеет не менее пятидесяти футов длины
и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше
трехсот штук. По праздникам он надевает сразу восемь сюртуков
и шесть пар брюк. Конечно, это и неудобно, и стесняет... Но,
будучи таким богатым, нельзя же одеваться как все...
Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно
можно спрятать церковь, здание Сената и всё, что нужно...
Однако, представляя емкость живота такого джентльмена
подобной трюму хорошего морского парохода, — я не мог
вообразить длину ноги и брюк этого существа. Но я думал, что
одеяло, под которым он спит, должно быть не меньше
квадратной мили. И если он жует табак, то, разумеется,
самый лучший и фунта по два сразу. А если нюхает, так
не меньше фунта на один прием. Деньги требуют, чтобы их
тратили...
Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и
волшебной силой удлиняться по желанию: если он, сидя в Нью-
28
м. горький
Йорке, почувствует, что где-то в Сибири вырос доллар, — он
протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое
растение, не сходя с места.
Странно, что при всем этом я не мог представить — какой
вид имеет голова чудовища. Более того, голова казалась мне
совершенно лишней при этой массе мускулов и
кости, одушевленной влечением выжимать из всего золото.
Вообще, мое представление о миллионере не имело законченной
формы. В кратких словах, это были прежде всего длинные
эластичные руки. Они охватили весь земной шар, приблизили
его к большой, темной пасти, и эта пасть сосет, грызет и
жует нашу планету, обливая ее жадной слюной, как горячую
печеную картофелину...
Можете вообразить мое изумление, когда я,
встретив миллионера, увидал, что это самый обыкновенный
человек.
Передо мной сидел в глубоком кресле длинный, сухой
старик, спокойно сложив на животе нормального размера
коричневые сморщенные руки обычной человеческой
величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало
опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные
челюсти, они были усажены золотыми зубами. Верхняя
губа—бритая, бескровная и тонкая — плотно прилипла к его
жевательной машинке, и когда старик говорил, она почти не двигалась.
Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был
лишен волос. Казалось, что этому лицу немного нехватало
кожи, и все оно — красноватое, неподвижное и гладкое —
напоминало о лице новорожденного ребенка Трудно было
определить — начинает это существо свою жизнь или уже
подошло к ее концу...
Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы
и зубы — это всё золото, какое было на hcml Взятое вместе,
оно весило, вероятно, менее полуфунта. В общем, этот
человек напоминал собой старого слугу из аристократического
дома Европы...
Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не
поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была
солидная, вот всё, что можно сказать о ней.
Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны — вот какую
мысль вызывала мебель.
— Это вы... миллионер? — спросил я, не веря своим
глазам.
— О, да!—ответил он, убежденно кивая головой.
Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на
чистую яоду.
один из королей республики
29
— Сколько вы можете съесть мяса за завтраком? —
поставил я ему вопрос.
— Я не ем мяса!—объявил он. — Ломтик апельсина,
яйцо, маленькая чашка чая — вот всё...
Его невинные глаза младенца тускло блестели передо
мной, как две большие капли мутной воды, и я не видел в них
ни одной искры лжи.
— Хорошо! — сказал я в недоумении. — Но, будьте
искренны, окажите мне откровенно — сколько раз в день
едите вы?
— Два!—спокойно ответил он. — Завтрак и обед — это
вполне достаточно для меня. На обед тарелка супа, белое
мясо и что-нибудь сладкое. Фрукты. Чашка кофе. Сигара...
Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на
меня глазами святого. Я перевел дух и сказал:
— Но если это правда, — что же вы делаете с вашими
деньгами?
Тогда он немного приподнял плечи, его глаза
пошевелились в орбитах, и он ответил:
— Я делаю ими еще деньги...
— Зачем?
— Чтобы сделать еще деньги...
— Зачем? — повторил я.
Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла,
и, с оттенком некоторого любопытства, спросил:
— Вы — сумасшедший?
— А вы? — ответил я вопросом.
Старик наклонил голову и сквозь золото зубов
протянул:
— Забавный малый... Я, может быть, первый раз вижу
такого...
После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к
ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию
его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным
человеком. В его галстуке я заметил булавку с небольшим
бриллиантом. Имей этот камень величину каблука, я еще понял бы
что-нибудь.
— Чем же вы занимаетесь? — спросил я.
— Делаю деньги! — кратко сказал он, подняв плечи.
— Фальшивый монетчик? — с радостью воскликнул я;
мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но
тут он начал негромко икать. Всё его тело вздрагивало, как
будто невидимая рука щекотала его подмышками. Его глаза
часто мигали.
80
М. ГОРЬКИЙ
— Это весело!—сказал он, успокоясь и обливая мое
лицо влагой довольного взгляда. — Спросите еще что-нибудь! —
предложил он и зачем-то надул щеки.
Я подумал и твердо поставил ему вопрос:
— Как вы делаете деньги?
— А! Понимаю!—сказал он, кивая головой. — Это очень
просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар.
Я его доставляю на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно
оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог
работать дальше, а всё остальное берешь себе, как тариф за
провоз. Очень просто.
— Фермеры довольны этим?
— Не все, я думаю! — сказал он с детской простотой. —
Но, говорят, все люди ничем и никогда не могут быть
довольны. Всегда есть чудаки, которые ворчат...
— Правительство не мешает вам? — скромно спросил я.
— Правительство? — повторил он и задумался, потирая
пальцами лоб. Потом, как бы вспомиив что-то, кивнул
головой.— Ага... Это те... в Вашингтоне? Нет, они не мешают.
Это очень добрые ребята... Среди них есть кое-кто из моего
клуба. Но их редко видишь... Поэтому иногда забываешь о
них. Нет, они не мешают, — повторил он и тотчас же с
любопытством СПрОСИЛ:
— А разве есть правительства, которые мешают людям
делать деньги?
Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его
мудростью.
— Нет,—тихо сказал я, — я не о том... Я, видите ли,
думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный
грабеж...
— Н-но! — возразил он. — Это идеализм. Здесь это не
принято. Правительство не имеет права вмешиваться в
частные дела...
Моя скромность увеличивалась перед этой спокойной
мудростью ребенка.
— Но разве разорение одним человеком многих —
частное дело? — вежливо осведомился я.
— Разорение? — повторил он, широко открыв глаза. —
Разорение — это когда дороги рабочие руки. И когда стачка.
Но у нас есть эмигранты. Они всегда понижают плату
рабочим и охотно замещают стачечников. Когда их наберется в
страну достаточно для того, чтобы они дешево работали и
ммого покупали, — всё будет хорошо.
Он несколько оживился и стал менее похож на старика и
младенца, смешанных в одном лице. Его тонкие темные
ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
31
пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих
ушах.
— Правительство? Это, пожалуй, интересный вопрос, да.
Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие
задачи: в стране должно быть столько народа, сколько мне
нужно для того, чтобы он купил у меня всё, что я хочу продать.
Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался.
Но — ни одного лишнего! Тогда — не будет социалистов.
И стачек. Правительство не должно брать высоких налогов.
Всё, что может дать народ — я сам возьму. Вот что я
называю — хорошее правительство.
«Он обнаруживает глупость — это несомненный
признак сознания своего величия, — подумал я. — Пожалуй, он
действительно король...»
— Мне нужно, — продолжал он уверенным и твердым
тоном, — чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает
за небольшую плату разных философов, которые не менее
восьми часов каждое воскресенье учат народ уважать
законы. Если для этого недостаточно философов — пускайте в
дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты.
Потребитель ю рабочий обязаны уважать законы. Вот и всё! —
закончил он, играя пальцами.
«Нет, он не глуп, едва ли он король!» — подумал я и
спросил: — Вы довольны современным правительством?
Он ответил не сразу.
— Оно делает меньше, чем может. Я говорю: эмигрантов
нужно пока пускать в страну. Но у нас есть политическая
свобода, которой они пользуются, — за это нужно заплатить.
Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы 500
долларов. Человек, у которого есть 500 долларов, в десять раз
лучше того, который имеет только 50... Дурные люди — бродяги,
нищие, больные и прочие лентяи нигде не нужны...
— Но ведь это сократит приток эмигрантов... — сказал я.
Старик утвердительно кивнул головой.
— Современем я предложу совершенно закрыть для них
двери в страну... А пока, пусть каждый привезет немного
золота... Это полезно для страны. Потом, необходимо увеличить
срок для получения гражданских прав. Впоследствии его
придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать
для американцев — работают, но совсем не следует давать им
права американских граждан. Американцев уже довольно
сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том,
чтобы население страны увеличивалось. Все это — дело
правительства. Его необходимо поставить иначе. Члены
правительства все должны быть акционерами в промышленных
32
м. горький
предприятиях, — тогда они скорее и легче поймут интересы
страны. Теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить
их в необходимости для меня... разных мелочей. Тогда это
будет лишнее...
Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил:
— Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота.
Теперь, когда его политические взгляды были достаточно
ясны, я спросил его:
— А как вы думаете о религии?
— О! — воскликнул он, ударив себя по колену и
энергично двигая бровями.—Очень хорошо думаю! Религия — это
необходимо народу. Я искренно верю в это. И даже сам по
воскресеньям говорю проповеди в церкви... да, как же!
— А что вы говорите? — спросил я.
— Всё, что может сказать в церкви истинный христианин,
всё! — убежденно сказал он. — Я проповедую, конечно, в
бедном приходе — бедняки всегда нуждаются в добром
слове и отеческом поучении... Я говорю им...
Лицо его на минуту приняло младенческое выражение, но,
вслед затем, он плотно сжал губы и поднял глаза к потолку,
где амуры стыдливо закрывали обнаженное тело толстой
женщины с розовой кожей йоркширской свиньи. Бесцветные
глаза его отразили в своей глубине пестроту красок на
потолке и заблестели разноцветными искрами. Он тихо начал:
— Братья и сестры во Христе! Не поддавайтесь внушениям
хитрого дьявола зависти, гоните прочь от себя всё земиое.
Жизнь на земле кратковременна: человек только до сорока
лет хороший работник, после сорока — его уже не принимают
на фабрики. Жизнь — не прочна. Вы работаете,—неверное
движение руки — и машина дробит вам кости, — солнечный
удар — и готово! Вас везде стерегут болезни, всюду несчастия!
Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома, —
куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит
апостол Иаков, брат апостола Иуды. Братья! Вы не должны
ценить земную жизнь, она — создание дьявола, похитителя
душ. Царство ваше, о милые дети Христа, не от мира сего, как
и царство отца вашего,— оно на небесах. И если вы терпеливо,
без жалоб, без ропота, тихо окончите ваш земной путь, он
примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле —
вечным блаженством. Эта жизнь — только чистилище для
ваших душ, и чем больше вы страдаете здесь, тем! большее
блаженство ждет вас там, — как сказал сам апостол Иуда.
Он указал рукою в потолок, подумал и продолжал холодно
и твердо:
— Да, дорогие братья и сестры! Вся эта жизнь пуста и
В „стране изобилия". . .
один из королей республики
33
ничтожна, если мы не приносим ее в жертву любви к
ближнему, кто бы он ни был. Не отдавайте сердца во власть бесам
зависти! Чему вы можете завидовать? Земные блага—это
призраки, это игрушки дьявола. Мы все умрем — богатые и
бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики? улиц. В
прохладных садах рая, быть может, углекопы станут царями, а
царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья и
бумажки от конфет, которыми вы будете питаться каждый
день. Братья! Чего желать на земле, в этом темном лесу греха,
где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и
кротости, терпите молча всё, что выпадет вам) на долю.
Любите всех и даже унижающих вас.
Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал:
— Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах
ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность
одних и богатство других. Эти люди — посланники дьявола,
господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны,
они бедны любовью к ним. Возлюбите богатого, ибо он есть
избранник божий! — воскликнул Иуда, брат господень,
первосвященник храма. Не внимайте проповеди равенства и других
измышлений дьявола. Что значит равенство здесь, на земле?
Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души
перед лицом бога вашего. Несите терпеливо крест ваш, и
покорность облегчит вам эту ношу. С вами бог, дети мои, и боль,
ше вам ничего не нужно!
Старик замолчал, расширив рот, и, блестя золотом зубов,
с торжеством посмотрел на меня.
— Вы хорошо пользуетесь религией! — заметил я.
— О, да! Я знаю цену ей, — сказал он. — Повторяю вам —
религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле
всё принадлежит дьяволу, говорит она. О, человек, если
хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь, на земле.
Ты насладишься жизнью после смерти — на небе всё для тебя!
Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да.
Религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину
жизни, тем меньше будет трения частей, тем легче задача
машиниста...
«Да, он король»,—решил я и почтительно спросил у
этого недавнего потомка свинопаса:
— А вы себя считаете христианином?
— О, да, конечно! — воскликнул он с полным
убеждением. — Но, — он поднял руку кверху и внушительно сказал:—я
з то же время американец и, как таковой, я строгий моралист...
Его лицо приняло выражение драматическое: он оттопырил
губы и подвинул уши к носул
3 Вот она, Америка
34
м. горький
— Что вы хотите сказать?.. — понизив голос,
осведомился я.
— Пусть это будет между нами! — тихо предупредил он.—
Для американца невозможно признать Христа!
— Невозможно? — шопотом спросил я после паузы.
— Конечно, нет! — подтвердил он тоже шопотом.
— А почему? — спросил я, помолчав.
— Он — незаконнорожденный! — Старик подмигнул мне
глазом и оглянулся вокруг. — Вы понимаете?
Незаконнорожденный в Америке не может быть не только богом, но даже
чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе.
За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень
строги! А если бы мы признали Христа — нам пришлось бы
признавать всех незаконнорожденных порядочными людьми...
даже если это дети негра и белой. Подумайте, как это
ужасно! А?
Должно быть, это было действительно ужасно — глаза
старика позеленели и стали круглыми, как у совы. Он с
усилием подтянул нижнюю губу кверху и плотно приклеил ее к
зубам. Вероятно, он полагал, что эта гримаса сделает его лицо
внушительным и строгим.
— А негра вы никак не можете признать за человека? —
осведомился я, подавленный моралью демократической страны.
— Вот наивный малый! — воскликнул он с сожалением. —
Да ведь они же черные! И от них пахнет. Мы линчуем негра,
лишь только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас
его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень
строги, если дело касается морали...
Он внушал мне теперь то почтение, с которым невольно
относишься к несвежему трупу. Но я взялся за дело и должен
исполнить его до конца. Я продолжал ставить вопросы, желая
ускорить процесс истязания правды, свободы, разума и всего
светлого, во что я верю.
— Как вы относитесь к социалистам?
— Они-то и есть слуги дьявола!—быстро отозвался он,
ударив себя ладонью по колену. — Социалисты — песок в ма,
шине жизни, песок, который, проникая всюду, расстраивает
правильную работу механизма. У хорошего правительства не
должно быть социалистов. В Америке они родятся. Значит —
люди в Вашингтоне не вполне ясно понимают свои задачи. Они
должны лишать социалистов гражданских прав. Это уже кое-
что. Я говорю — правительство должно стоять ближе к жизни.
Для этого все его члены должны быть набираемы в среде
миллионеров. Так!
— Вы очень цельный человек! — сказал я.
ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
35
— О, да! — согласился он, утвердительно кивая головой.
Теперь с его лица совершенно исчезло все детское, и на щеках
явились глубокие морщины.
Мне хотелось спросить его об искусстве.
— Как вы относитесь... — начал я, но он поднял палец и
заговорил сам:
— В голове социалиста—атеизм, в животе у него —
анархизм. Его душа окрылена дьяволом крыльями безумия и
злобы... Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше
религии и солдат. Религия — против атеизма, солдаты — для
анархии. Сначала — насыпьте в голову социалиста свинца
церковных проповедей. Если это не вылечит его — пусть
солдаты набросают ему свинца в живот!..
Он убежденно кивнул головой и твердо сказал:
— Велика сила дьявола!
— О, да! — охотно согласился я.
Впервые наблюдал я силу влияния Желтого Дьявола —
Золота — в такой яркой форме. Сухие, просверленные подагрой
и ревматизмом кости старика, его слабое, истощенное тело
в мешке старой кожи, вся эта небольшая куча ветхого хлама
была теперь воодушевлена холодной и жесткой волей Желтого
Отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как
две новые монеты, и весь он стал крепче и суше. Теперь он еще
больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин.
— Что вы думаете об искусстве? — спросил я.
Он взглянул на меня, провел рукой по своему лицу и стер
с него выражение жесткой злобы. Снова что-то
младенческое явилось на этом лице.
— Как вы сказали? — спросил он.
— Что вы думаете об искусстве?
— О! — спокойно отозвался он. — Я не думаю о нем, я
просто покупаю его...
— Мне это известно. Но, может быть, у вас есть свои
взгляды и требования к нему?
— А! Конечно, я имею требования... Оно должно быть
забавно, это искусство, — вот чего я требую. Нужно, чтобы я
смеялся. В моем деле мало смешного. Необходимо вспрыснуть
мозг иногда чем-нибудь успокаивающим... а иногда
возбуждающим энергию тела. Когда искусство делают на потолке или
на стенах, оно должно возбуждать аппетит... Рекламы следует
писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы
реклама схватила вас за нос издали, еще за милю от нее, и сразу
привела, куда она зовет. Тогда она оправдает деньги. Статуи
или вазы — всегда лучше из бронзы, чем из мрамора или
фарфора: прислуга не так часто сломает бронзу, как фарфор. Очень
з*
36
м. горький
хорошо—бои петухов и травля крыс. Это я видел в Лондоне...
очень хорошо! Бокс — тоже хорошо, но не следует допускать
убийства... Музыка должна быть патриотична. Марш — это
всегда хорошо, но лучший марш — американский. Америка —
лучшая страна мира, — вот почему американская музыка
лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где
хорошие люди. Американцы—лучшие люди земли. У них больше
всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к
нам скоро приедет весь мир.
Я слушал, как самодовольно болтал этот больной ребенок,
и с благодарностью думал о дикарях Тасмании. Говорят, и они
тоже людоеды, но у них, все-таки, развито эстетическое
чувство.
— Вы бываете в театре?—спросил я старого раба
Желтого Дьявола, чтобы остановить его хвастовство страной,
которую он осквернил своей жизнью.
— Театр? О, да! Я знаю, это тоже искусство! — уверенно
сказал он.
— А что вам нравится в театре?
— Хорошо, когда много молодых дам декольте, а вы
сидите выше их! — ответил он, подумав.
— Что вы любите большее всего в театре?—спросил я,
приходя в отчаяние.
— О! — воскликнул он, раздвинув рот во всю ширину
щек. — Конечно, артисток, как все люди... Если артистки
красивы и молоды — они всегда искусны. Но трудно угадать
сразу, которая действительно молода. Они все так хорошо
притворяются. Я понимаю, это их ремесло. Но иногда думаешь —
ага! Вот это девушка! Потом оказывается, что ей пятьдесят
лет и она имела не менее двухсот любовников. Это уже
неприятно... Артистки цирка лучше артисток театра. Они почти
всегда моложе и более гибки...
Он, видимо, был хорошим знатоком в этой области. Даже
я, закоренелый грешник, всю жизнь утопавший в «пороках,
многое узнал от него только впервые.
— А как вам нравятся стихи? — спросил я его.
— Стихи? — переспросил он, опуская глаза к сапогам и
наморщив лоб. Подумал и, вскинув голову, показал мне все
зубы сразу. — Стихи? О, да! Мне очень нравятся стихи. Жизнь
будет очень весела, когда все начнут печатать рекламы
в стихах.
— Кто ваш любимый поэт?—поспешил я поставить другой
вопрос.
Старик взглянул на меня в недоумении и медленно спросил:
— Как вы сказали?
ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
37
Я повторил вопрос.
— Гм... вы очень забавный малый! — сказал он, с
сомнением качая головой. — За что же я буду любить поэта? И зачем
нужно любить его?
— Извините меня!—произнес я, отирая пот со лба. — Я
хотел спросить вас, какая ваша любимая книга? Я исключаю
книжку чеков...
— О! Это другое дело!—согласился он. — Я люблю две
книги — Библию и Главную Бухгалтерскую. Они обе
одинаково вдохновляют ум. Уже когда берешь их в руки, —
чувствуешь, что в них сила, которая дает тебе всё, что нужно.
«Он издевается надо мной!» — подумал я и внимательно
взглянул в его лицо. Нет. Его глаза убивали всякое сомнение
в искренности этого младенца. Он сидел в кресле, как
высохшее ядро ореха в своей скорлупе, и было видно, что он уверен
в истине своих слов.
— Да!—продолжал он, рассматривая ногти: — это вполне
хорошие книги! Одну написали пророки, другую создал я сам.
В моей книге мало слов. В ней цифры. Они рассказывают о том,
что может сделать человек, если захочет работать честно и
усердно. После моей смерти правительство должно бы
опубликовать мою книгу. Пусть люди видят, как нужно итти, чтобы
подняться на эту высоту.
И торжественным жестом победителя он обвел вокруг себя.
Я чувствовал, что пора прекратить беседу. Не всякая голова
способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами.
— Может быть, вы скажете что-нибудь о науке? — тихо
спросил я.
— Наука? — он поднял палец, глаза и посмотрел в
потолок. Затем вынул часы, взглянул, который час, закрыл крышку
и, намотав цепочку на палец, покачал часами в воздухе.
После всего этого он вздохнул и заговорил:
— Наука... да, я знаю! Это — книги. Если в них хорошо
пишут об Америке,—книги полезны. Но в книгах редко пишут
правду. Эти... поэты, которые делают книги — мало
зарабатывают, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому
читать книги... Да, поэты злы, потому что у них не покупают
книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг.
Сытый человек всегда добр и весел. Если вообще нужны книги
об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут
сделаны все книги, какие нуж'ны для Америки... Вот и всё.
— Вы несколько узко определяете науку, — заметил я.
Он опустил веки и задумался. Потом вновь открыл глаза
и уверенно продолжал:
— Ну, да, учителя, философы... это тоже наука. Профессо-
38
м. горький
pa, акушерки, дантисты, я знаю. Адвокаты, доктора, инженеры.
All right. Это необходимо. Хорошие науки... не должны учить
дурному... Но — учитель дочери моей сказал мне однажды,
что существуют социальные науки... Этого я не понимаю. Я
думаю, это вредно. Хорошая наука не может быть сделана
социалистом. Социалисты вовсе не должны делать науку. Науку,
которая полезна или забавна, делает Эдисон, да. Фонограф,
синематограф — это полезно. А когда много книг с науками—
это лишнее. Людям не следует читать книг, которые могут
возбудить в уме... разные сомнения. Всё на земле идет как
нужно... и вовсе незачем путать книги в дела...
Я встал.
— О! Вы уходите? — спросил он.
— Да! — сказал я. —Быть может, теперь, когда я ухожу,
вы, наконец, все-таки объясните мне—какой смысл быть
миллионером?
Он начал икать и дрыгать ногами вместо ответа. Может
^ыть, такова была его манера смеяться?
— Это привычка! — воскликнул он, переводя дух.
— Что привычка? — спросил я.
— Быть миллионером... это привычка!
Я подумал и поставил ему мой последний вопрос:
— Вы думаете, что бродяги, курильщики опиума и миллиа
неры — явления одного порядка?
Это, должно быть, обидело его. Он сделал круглые глаза,
окрасил их желчью в зеленый цвет и сухо ответил:
— Я думаю, что вы плохо воспитаны.
— До свиданья! — сказал я.
Он любезно проводил меня до крыльца и остался стоять на
верхней ступеньке лестницы, внимательно рассматривая носки
своих сапог. Перед его домом лежала площадка, поросшая
густою, ровно подстриженной травой. Я шагал по ней и
наслаждался мыслью о том, что больше уже не увижу этого человека.
— Галло! — услышал я сзади себя.
Обернулся. Он стоял там, на крыльце, и смотрел на меня.
— А что, у вас в Европе есть лишние короли? — медленно
спросил он.
— Мне кажется, они все лишние! — ответил я.
Он сплюнул направо и сказал:
— Я думаю нанять для себя пару хороших королей, а?
— Зачем это вам?
— Забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот
здесь...
Он указал на площадку перед домом и добавил тоном
вопроса:
ЖРЕЦ МОРАЛИ
39
— От часа до половины второго каждый день, а? После
завтрака приятно отдать полчаса искусству... хорошо.
Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все
усилия, чтобы осуществить свое желание.
— Зачем вам нужны короли для этой цели? —
осведомился я.
— Этого здесь еще ни у кого нет! — «кратко объяснил он.
— Но ведь короли дерутся только чужими руками! —
сказал я и пошел.
— Галло! — позвал он в другой раз.
Я снова остановился. Он всё еще стоял на старом месте,
сунув руки в карманы. На лице его выражалось что-то
мечтательное.
— Вы что? — опросил я.
Он пожевал губами и медленно сказал:
— А как вы думаете, сколько это будет стоить—два
короля для бокса, каждый день полчаса в течение трех месяцев, э?
ЖРЕЦ МОРАЛИ
...Он пришел ко мне поздно вечером и, подозрительно
оглянув мою комнату, негромко спросил:
— Могу я поговорить с вами полчаса наедине?
В тоне его голоса и во всей сутуловатой, худой фигуре
было что-то таинственное и тревожное. Он сел на стул так
осторожно, точно боялся, что мебель не сдержит его длинных
и острых костей.
— Вы можете опустить штору на окне? — тихо спросил он.
— Пожалуйста! — сказал я и тотчас исполнил его
желание.
Благодарно кивнув мне головой, он подмигнул в сторону
окна и еще тише заметил:
— Всегда следят.
— Кто?
— Репортеры, разумеется.
Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень
прилично, даже щеголевато, он, все-таки, производил впечатление
бедняка. Его лысый, угловатый череп блестел скромно к
корректно. Чисто выбритое, очень худое лицо, серые, виновато
улыбающиеся глаза, полуприкрытые светлыми ресницами.
Когда он поднимал ресницы и смотрел прямо в лицо мне, я
чувствовал себя перед какой-то туманной, не глубокой
пустотой. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь
правой руки на колено, а левую, с котелком в ней, опустил к по-
40
м. горький
лу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно
сжатых губ были устало опущены — признак, что этог человек
дорого заплатил за свой костюм.
— Позвольте вам представиться, — вздохнув и
покосившись на окно, начал он, — я, так сказать, профессиональный
грешник...
Я сделал вид, что не расслышал его слов, и наружно
спокойно спросил:
— Как?
— Я — профессиональный грешник, — повторил он буква
в букву и добавил: — моя специальность — преступления
против общественной морали...
В тоне этой фразы звучала только скромность, я не
уловил даже тени раскаяния в словах и на лице.
— Вы... не хотите ли стакан воды? — предложил я ему.
— Нет, благодарю вас! — отказался он, и виноватые
глаза его с улыбкой остановились на моей фигуре.
— Вы, кажется, не вполне ясно понимаете меня?
—- Нет, почему же? — возразил я, скрывая, по примеру
европейских журналистов, невежество под маской
развязности. Но он мне, очевидно, не поверил. Покачивая котелком
в воздухе и скромно улыбаясь, он заговорил:
— Я приведу вам несколько фактов из моей деятельности,
чтобы вам было понятно, кто я...
Здесь он вздохнул и опустил голову. И снова я был
удивлен тем, что в этом вздохе было только утомление.
— Помните, — начал он, тихо покачивая шляпой, — з
газетах писали о человеке... то есть о пьянице? Скандал в
театре?
— Это господин из первого ряда, который во время
патетической сцены встал, надел шляпу и начал кричать
извозчика? — спросил я.
— Да! — подтвердил он и любезно добавил:—это — я
Заметка под заголовком «Зверь, истязатель детей» — тоже
мною вызвана, как и другая — «Муж, продающий свою
жену»... Человек, преследовавший на улице даму нескромными
предложениями — это тоже я... Вообще, обо мне пишут не
менее одного раза в неделю и всякий раз, когда требуется
доказать испорченность нравов...
Всё это он сказал негромко, очень внятно, но без
хвастовства. Я ничего не понимал, но мне не хотелось показать ему
это. Как все писатели, я тоже делаю всегда вид, будто знаю
жизнь и людей, точно свои пять пальцев.
— Гм! — сказал я тоном философа. — Что же, вам
доставляет удовольствие этот род занятий?
ЖРЕЦ МОРАЛИ
41
— Когда я был молод — это забавляло меня, не скрою, —
ответил он. — Но теперь мне уже сорок пять лет, я женат,
имею двух дочерей... В таком положении очень неудобно,
когда вас раза два-три в неделю изображают в газетах, как
источник порока и разврата. Постоянно следят за вами
репортеры, чтобы вы точно и во-время выполняли свои
обязанности...
Я закашлялся, чтобы скрыть недоумение. Потом тоном
сострадания спросил:
— Это у вас болезнь?.
Он отрицательно качнул головой, помахал себе в лицо
шляпой, как веером, и ответил:
— Нет, профессия. Я уже сказал вам, что моя
специальность — мелкие скандалы на улицах и в публичных местах...
Другие товарищи в нашем бюро занимаются более
ответственными и крупными делами, например: оскорбление
религиозного чувства, совращение женщин и девиц, кражи на сумму не
выше тысячи долларов... — Он вздохнул, оглянулся вокруг и
пояснил: — И прочие поступки против нравственности... а я
делаю только мелкие скандалы...
Он говорил, как ремесленник о своем ремесле. Это меня
начинало раздражать, и я саркастически спросил:
— Вас не удовлетворяет это?
— Нет! — просто ответил он.
Его простота обезоруживала и возбуждала острое
любопытство. Помолчав, я .поставил ему вопрос:
— Сидели в тюрьме?
— Три раза. А вообще я действую в размерах штрафа.
Но штрафы платит, конечно, бюро... — объяснил он.
— Бюро? — невольно повторил я.
— О, да! Согласитесь, что мне самому невозможно
платить штрафы! — с улыбкой сказал он. — Пятьдесят долларов
в неделю — это очень немного для семьи в четыре человека...
— Дайте мне подумать об этом, — сказал я, встав со стула.
— Пожалуйста! — согласился он.
Я начал ходить по комнате взад и вперед мимо него,
напряженно вспоминая все формы психических заболеваний. Мне
хотелось определить характер его болезни, но я не мог. Было
ясно одно — это не мания величия. Он следил за мной с
любезной улыбкой на худом, истощенном лице и терпеливо
ждал.
— Итак бюро? — спросил я, останавливаясь против него.
— Да, — сказал ст.
— Много служащих?
■— В этом городе — 125 мужчин и 75 женщин.*
42
М. ГОРЬКИЙ
— В этом городе? Значит... и в других городах ~ тоже
бюро?
— Во всей стране, конечно! — сказал он, покровитель-
ственно улыбаясь.
Мне стало жалко себя.
— Но., что же они... — нерешительно спросил я, —* чем же
они занимаются, эти бюро?
— Нарушают законы нравственности! — скромно ответил
он, встал со стула, сел в кресло, потянулся и с откровенным
любопытством стал рассматривать мое лицо. Очевидно, я
казался ему дикарем, и он переставал стесняться.
«Чорт побери! — подумалось мне. — Не надо показывать,
что я ничего не понимаю...» И, потирая руки, я оживленно
сказал:
— Это интересно! Очень интересно!.. Только... зачем это?
— Что? — улыбаясь, спросил он.
— Да эти бюро для нарушения законов морали?
Он засмеялся добродушным смехом взрослого над
глупостью ребенка. Я посмотрел на него и подумал, что,
действительно, источником всех неприятностей в жизни является
невежество.
— Как вы полагаете, надо жить, а? — спросил он.
— Конечно!
— И надо жить приятно?
— О, разумеется!
Этот человек встал, подошел ко мне и хлопнул меня по
плечу.
— А разве можно наслаждаться жизнью, не нарушая за-
коноз морали, а?
Он отступил от меня, подмигнул мне, снова развалился в
кресле, как вареная рыба на блюде, вынул сигару и закурил
ее, не слросив моего разрешения. Потом продолжал:
— Кому приятно кушать землянику с карболовой кисло*
той?
И он бросил горящую спичку на пол.
Уж это всегда так, — сознав свое преимуществе над
ближним, человек сразу становится свиньей по отношению к
нему.
— Мне трудно понять вас! — сознался я, гладя в его лицо.
Он улыбнулся и сказал:
— Я был лучшего мнения о ваших способностях...
Становясь всё свободнее в своих манерах, он сбросил
пепел сигары прямо на пол, полузакрыл глаза и, следя сквозь
ресницы за струями дыма своей сигары, заговорил тоном
знатока дела:
ЖРЕЦ МОРАЛИ
43
— Вы мало знакомы с моралью — вот что я вижу.,.
— Нет, я иногда сталкивался с нею, — скромно
возразил я.
Он вынул сигару изо рта, посмотрел на конец ее и
философски заметил:
—: Удариться лбом об стелу — это еще не значит изучить
стену.
— Да, я согласен с этим. Но почему-то я всегда
отскакиваю от морали, как мяч от стены...
— Здесь виден недостаток воспитания! — сказал он
резонерски.
— Очень может быть,—согласился я.—Самым отчаянным
моралистом, которого я видел, был мой дед. Он знал все пути
в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему
под руку. Истина была известна только ему одному, и он
усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего
семейства. Он прекрасно знал все, чего хочет бог от человека,
и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы
достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден,
зол, постоянно лгал, занимался ростовщичеством и, обладая
жестокостью труса, — особенность души всех моралистов и
каждого, — в свободное и удобное время бил своих
домашних, чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая
сделать его мягче, — однажды выбросил старика из окна,
другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились,
но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом.
А мне с той поры мораль кажется несколько противной...
Может быть, вы скажете что-нибудь такое, что может
помирить меня с нею? — предложил я ему.
Он В'ынул часы, посмотрел на них и оказал:
— У меня нет времени читать вам лекции... Но, если я
пришел к в a mi, всё равно. Начатое—нужно кончать, Может
быть, вы сумеете что-нибудь сделать для меня.,. Я буду
краток...
Он снова полузакрыл глаза и начал говорить
внушительным тоном:
— Мораль необходима для вас — это нужно помнить!
Почему она необходима? Потому что она ограждает ваш личный
покой, ваши права и ваше имущество — иначе сказать, она
защищает интересы «ближнего». «Ближний» — это всегда вы
и более никто, понимаете? Если у вас есть красивая жена, вы
говорите всем окружающим» вас: «не пожелай жены ближнего
твоего». Если у человека есть деньги, волы, рабы, ослы, и сам
он не идиот — он моралист. Мораль выгодна для вас, когда
вы имеете всё, что вам нужно, и желаете сохранить это для
44
М. ГОРЬКИЙ
себя одного; она не выгодна, если у вас нет ничего лишнего,
кроме волос на голове.
Он погладил рукой свой голый череп и продолжал:
— Мораль — это страж ваших интересов, вы стараетесь
поставить его в души людей, окружающих вас. На улицах вы
ставите полицейских и сыщиков, внутрь человека вы
всовываете целый ряд принципов, которые должны врасти в его мозг
и связать в нем, задушить, уничтожить все враждебные вам
мысли, все угрожающие вашим правам желания. Мораль
всего строже там, где экономические противоречия нагляднее.
Чем больше у меня денег, тем! более я строгий моралист. Вот
почему в Америке, где так много богатых — ими
исповедуется мораль во сто лошадиных сил. Понятно?
— Да, — сказал я, — но зачем же бюро?
— Подождите! — возразил он, внушительно подняв
руку. — Итак, мораль имеет целью внушить всем людям, чтобы
они оставили вас в покое. Но если у вас много денег — у вас
множество желаний и полная возможность осуществить их,—
так? Однако, большинство желаний ваших нельзя
осуществить, не нарушая принципов морали... Как же быть? Нельзя
проповедывать людям то, что отрицаешь сам: это и неловко,
да и люди могут не поверить. Ведь они не все глупы...
Например: вы сидите в ресторане, пьете шампанское и целуете
очень красивую женщину, хотя она не жена вам... С той
точки зрения, которую вы считаете обязательной для всех —
подобные занятия являются безнравственными. Но лично для
вас — такая трата вре!мени необходима: это ваша милая
привычка, она дает вам массу наслаждений. И перед вами встает
вопрос: как примирить проповедь воздержания от сладких
пороков с вашей любовью к ним? Другой пример: вы
говорите всем — не укради. Ибо вам крайне будет неприятно, если
вас начнут обкрадывать, — не так ли? Но в то же время, хотя
у вас и есть деньги — вам нестерпимо хочется украсть еще
немного. Третий: вы строго исповедуете принцип — не убий.
Потому что жизнь вам дорога, она приятна, полна
наслаждений. Вдруг в ваших угольных копях рабочие требуют
увеличения платы. Вы невольно вызываете солдат, и — трах! —
несколько десятков рабочих убито. Или: вам некуда сбывать
товар. Вы указываете на этот факт вашему правительству и
убеждаете его открыть для вас новый рынок. Правительство
любезно посылает небольшую армию куда-нибудь в Азию,
Африку и исполняет ваше желание, перебив несколько сотен
или тысяч туземцев... Всё это -плохо гармонирует с вашей
проповедью человеколюбия, воздержания и целомудрия. Но,
избивая рабочих или туземцев, вы можете оправдать себя ука^
ЖРЕЦ МОРАЛИ
45
занием на интересы государства, которое не может
существовать, если люди не станут подчиняться вашим интересам.
Государство — это вы, если вы богатый человек, разумеется.
Вам гораздо труднее в мелочах, — в разврате, воровстве и
прочем. Вообще, позиция богатого человека — трагическая
позиция. Ему положительно необходимо, чтобы все любили его,
все воздерживались от покушений на целость его имущества,
чтобы никто не нарушал его привычек и все относились
целомудренно к его жене, сестре, дочерям. В то же время для
него не только нет необходимости любить людей, воздерживать-
ся от воровства, целомудренно относиться к женщинам! и так
далее — напротив! Всё это только стесняет его личную
деятельность и безусловно вредно для успеха его работы.
Обычно — вся его жизнь сплошное воровство, он грабит тысячи
людей, целую страну, — это необходимо для роста капитала,
то есть прогресса страны — вы понимаете? Он развращает
женщин десятками, — это очень приятное развлечение для
праздного человека. И кого ему любить? Все люди делятся
для него на две группы — одну он обворовывает, другая
конкурирует с ним в этом занятии.
Довольный своим знанием вопроса, оратор улыбнулся и,
бросив окурок сигары в угол комнаты, продолжал:
— Итак: мораль полезна богатому и вредна всем людям,
но, в то же время, она не нужна ему и необходима для всех.
Вот почему моралисты стараются вколотить принципы морали
внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстуки
и перчатки. Далее: как убедить людей в необходимости для
них подчинения законам морали? Никому не выгодно быть
честным среди жуликов. Но если невозможно убедить, —
гипнотизируйте! Это всегда удается...
Он утвердительно кивнул головой и, подмигнув мне,
повторил:
— Невозможно убедить, — гипнотизируйте!
Затем он положил свою руку на колено мне, заглянул в
лицо мое и, понизив голос, продолжал:
— Дальнейшее — между нами, хорошо?
Я кивнул головой.
— Бюро, в котором я служу, занимается гипнозом
общественного мнения. Это одно из оригинальнейших учреждений
Америки — прошу заметить! — с гордостью сказал он.
Я еще раз наклонил голову.
— Вы знаете, что наша страна, — говорил он, — живет
только одним стремлением — делать деньги. Здесь все хотят
быть богатыми, и человек для человека — только материал, из
46
м. горький
которого всегда можно выжать несколько крупинок золота.
И вся жизнь есть процесс вынимания золота из мяса и крови
человека. Народ в этой стране—как и везде, я слышал —
руда, из которой добывают желтый металл, прогресс — эго
концентрация физической энергии масс, то есть
кристаллизация мяса, костей и нервов человека в золото. Жизнь
построена очень просто...
— Это ваш личный взгляд? — спросил я.
— Это? Конечно, нет!—сказал он с гордостью.—Это про-'
сто чья-то фантазия... Я не помню, как она попала в мою
голову... Я пользуюсь ею, только когда говорю с людьми...
ненормальными... Продолжаю. Народу здесь некогда заниматься
пороками — для этого не остается свободного времени. Часы
напряженной работы так истощают человека, что он уже не
имеет ни сил, ни желания согрешить в час отдыха. Людям
некогда думать, у них нет силы желать, они живут только
работой, для работы, и это делает их жизнь очень нравственной.
Разве иногда, в праздник, несколько ребят повесят пару
негров, но это — не шрот-ив морали, потому что негр — н£ белый,
к тому же их здесь много, этих негров. Все ведут себя более
или менее прилично, и на общем сером фоне этой
неподвижной жизни, забитой в тесные рамки старой пуританской
морали, всякое нарушение ее принципов выступает резко, как пятно
сажи. Это — хорошо, но это — дурно. Высшие классы
общества могут гордиться поведением низших, но в то же время
такое поведение стесняет свободу действий богатых. Они
имеют деньги — значит, они имеют право жить как хотят, не
считаясь с моралью. Богатые — жадны, сытые — чувственны,
праздные — порочны. Бурьян растет на жирной почве,
разврат — на почве пресыщения. Что же делать? Отрицать
мораль? Это — невозможно, ибо это — глупо. Если тебе
выгодно, чтобы люди были нравственны, — умей скрывать свои
пороки... Вот и всё! В этом немного нового...
Он оглянулся и еще понизил голос.
— И вот, представители высшего общества в Нью-Йорке
напали на одну удивительно счастливую мысль. Они решили
учредить в стране тайное общество для явного нарушения
законов морали. Был собран, путем вкладов, солидный капитал,
и в разных городах страны открыты—негласно, разумеется—
бюро для гипноза общественного мнения. Наняли разных
людей, вроде вашего покорного слуг», и возложили на них
обязанность совершать преступления против нравственности. Во
главе каждого бюро стоит надежный и опытный человек,
руководящий действиями служащих и распределяющий
занятия... обыкновенно он редактор какой-нибудь газеты...
ЖРЕЦ МОРАЛИ
47
— Я не понимаю целей бюро! — тоскливо сказал я,
— Очень просто! — отозвался он. И вдруг его лицо
приняло выражение тревоги и нервозного ожидания чего-то. Он
встал и, заложив руки за спину, начал медленно ходить по
комнате.
— Очень просто! — повторил он. — Я уже сказал вам, что
низшие классы, по недостатку времени, мало грешат. А ведь
необходимо, чтобы нравственность нарушалась — нельзя же
оставлять ее бесплодной старой девой. Нужно, чтобы всегда
кричали о нравственности, это оглушает общество, не
позволяя ему слышать правду. Если в реку набросать массу
мелких щеп, среди них может незаметно для вашего глаза
проплыть большое бревно. Или, если вы неосторожно вытащили
бумажник из кармана вашего соседа, но своевременно
обратите внимание публики на мальчишку, который украл горсть
орехов, — это может спасти вас от скандала. Только кричите
громче — вор! Наше бюро занимается тем, чтобы создавать
массу мелких скандалов для прикрытия крупных
преступлений.
Он вздохнул, остановился среди комнаты и помолчал.
— Например, в городе разносится слух о том», что одно
уважаемое и почтенное лицо бьет свою жену. Бюро
немедленно поручает мне и нескольким товарищам побить наших
жен. Мы бьем. Жены, конечно, посвящены в дело и кричат
очень громко. Об этом пишут все газеты, и шум, поднятый
ими, заставляет забыть о слухах по поводу отношений
почтенного лица к его жене. Какое значение имеют слухи, когда
налицо факты? Или начинают говорить о подкупе сенаторов.
Бюро немедленно организует ряд подкупов полицейских
чинов и разоблачает их продажность перед публикой. Снова
слухи исчезают перед фактами. Некто из высшего общества
оскорбил женщину. Тотчас же в ресторанах, на улицах —
создается ряд оскорблений женщин. Поступок представителя
высшего света совершенно исчезает в ряду однородных
поступков. И так всегда, во всем. Крупная кража засыпается
кучей мелких краж, и вообще все крупные преступления
подавляются грудами мелочей. Вот — деятельность бюро.
Он подошел к окну, осторожно взглянул на улицу и снова
сел на стул, продолжая тихим голосом:
— Бюро ограждает высший класс американского
общества от суда народа и, в то же время, постоянными криками
о нарушении законов морали забивает народу голову
мелкими скандалами, организованными для прикрытия порочности
богатых. Народ находится всегда в состоянии гипноза, ему
48
М. ГОРЬКИЙ
нет времени думать самостоятельно, и он только слушает
газеты. Газеты принадлежат миллионерам, бюро организовано
ими же... Вы понимаете? Это очень оригинально...
Он замолчал, задумался, низко наклонив голову.
— Благодарю вас! — сказал я ему. — Вы сообщили мне
очень много интересного.
Он поднял голову и уныло взглянул на меня.
— Д-да, это интересно, конечно! — медленно и задумчиво
произнес он. — Но меня это уже утомляет. Я семейный
человек, три года тому назад я построил себе дом... мне хочется
немного отдохнуть. Это трудное дело — моя служба.
Поддерживать в обществе уважение к законам морали — о! это,
право, нелегко! Вы подумайте, мне вреден алкоголь, но я
должен напиваться, я люблю жену и тихую жизнь в семье — и
должен ходить по ресторанам, скандалить... и постоянно
видеть себя в газетах... хотя под чужим именем, конечно, но все-
таки... однажды откроется мюе собственное имя, и тогда...
придется уехать из города... Я нуждаюсь в совете... Я пришел
к вам узнать ваше мнение по моему делу... очень запутанное
дело!
— Говорите! — предложил я.
— Видите ли что, — начал он, — за последнее время
среди представителей высших классов общества в южных
штатах заводят любовниц — негритянских девушек... По две и по
три сразу. Об этом начали говорить. Жены недовольны
поведением мужей. В некоторых газетах получены письма женщьн
с разоблачением деятельности их мужей. Возможен громкий
скандал. Бюро немедленно же принялось за организацию ряда
«контр-фактов», как это у нас называется. Тринадцать
агентов — и в их числе я — немедленно должны завести
любовниц-негритянок. По две или даже по три сразу...
Он нервно вскочил со стула и, приложив руку к карману
сюртука, заявил:
— Я не могу сделать это! Я люблю жену... и она мне не
позволит, вот что главное! Наконец — если бы одна!
— Откажитесь! — посоветовал я.
Он посмотрел па меня с сожалением.
— Л кто же мне уплатит 50 долларов за неделю? И
награду в случае успеха? Нет, этот совет вы оставьте для себя...
Американец не отказывается от денег даже на другой день
после своей смерти. Посоветуйте что-нибудь другое.
— iMne трудно! — сказал я.
— Гм! Почему трудно? Вы, европейцы, очень
легкомысленны в вопросах" нравственности... ваша развращенность нам
известна.
ЖРЕЦ МОРАЛИ
49
Он сказал это с твердой уверенностью в правде своих
слов.
— Вот что, — продолжал он, наклонясь ко мие, —
вероятно, у вас есть знакомые европейцы? Я уверен, что есть!
— Зачем вам? — спросил я.
— Зачем? — Ой отступил от меня на шаг и встал в
драматическую позу. — Я положительно не могу взять на себя
дело с негритянками. Судите сами: жена мне не позволит, и
я ее люблю. Нет, я не могу...
Он энергично погряс головой, провел рукой по своей
лысине и вкрадчиво продолжал:
— Может быть, вы могли бы мне рекомендовать на это
дело европейца? Они отрицают нравственность, им всё равно!
Кого-нибудь из бедных эмигрантов, а? Я плачу десять
долларов в неделю, хорошо? Я буду сам ходить по улицам с
негритянками... вообще я всё сделаю caMi, — он должен
позаботиться только о том, чтобы родились дети... Вопрос нужно решить
сегодня же вечером... Вы подумайте, какол скандал может
разгореться, если это дело в южных штатах не завалить
своевременно разным хламом! В интересах торжества
нравственности — необходимо торопиться...
...Когда он убежал из комнаты, я подошел к окну и
приложил ушибленную о его череп руку к стеклу, чтобы
охладить ее.
Он стоял под окном и делал мне какие-то знаки.
— Что вам угодно? — спросил я, открывая раму.
— Я забыл взять шляпу! — сказал он скромно.
Подняв с полу котелок, я выбросил его на улицу. И,
закрывая окно, услыхал деловой вопрос:
— А если я дам пятнадцать долларов в неделю? Это
хорошая плата!
1906 г.
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРНОВСНИЙ
ТАМ, ГДЕ „СТАТУЯ СВОБОДЫ"
ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ
Я уволен. Кризис добрался и до меня. В моем кошельке
четырнадцать долларов. Из них пять необходимо выделить
для уплаты частной бирже труда, если она найдет мне работу.
Стоять целыми днями у ворот предприятий в толпе
безработных — дело почти безнадежное. Помимо частной биржи, или,
как ее называют безработные, «акулы», найти работу
немыслимо.
Но и на биржу мало надежды. Она тоже полна
безработными. И если квалифицированные рабочие вынуждены
браться за любую работу, то что могу ожидать я, чернорабочий?
За вычетом пяти долларов мне остается на жизнь девять
долларов. А если безработица протянется долгие месяцы? Можно
продать кой-какие вещи и воскресный костюм, тогда,
пожалуй, при очень жесткой экономии можно будет
продержаться несколько месяцев. Может быть, за это время толпы
безработных разбредутся по другим городам и штатам в надежде
найти там работу или просто превратятся в бродяг. Но я не
уйду отсюда, потому что кризис охватил всю страну, а здесь,
в Калифорнии, мягкий климат. Это много значит для
безработных. Сейчас октябрь, а солнце греет, словно весной.
В крайнем случае можно будет ночевать и на открытом
-воздухе. Я решительно вынимаю из кошелька пять серебряных
долларов и кладу их в особое отделение. Это мой бронированный
фонд — плата «акуле», последняя надежда...
Тяжелый вздох вырывается из моей груди и тревожно
сжимается сердце, как перед сложной и тяжелой операцией.
Выдержу ли?
Первый месяц... Из комнаты в пятьдесят центов я сразу
перехожу в ночлежку за десять центов. Труднее экономить на
еде. С обеда в пятьдесят центов я пока перехожу на обед в
54
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЯГ
двадцать пять центов и ем только раз в день. Это уже дает
себя знать, я теряю в весе, меня постоянно «точит червяк».
Однако и с этим можно мириться, только бы оставалась
надежда получить работу. Но унылые лица безработных,
слоняющихся по бирже, взоры, отупевшие от тяжелого ожидания,
глухие вздохи, похожие на стоны, только усиливают мою
тревогу. Я вижу в толпе изможденных женщин и стариков. Мне
делается стыдно за свою молодость, за свое здоровье. И
когда из-за перегородки) раздается голос: «Работа!» — и толпа
стремглав бросается к конторке, я, смущенно улыбаясь, в
нерешительности остаюсь на месте.
Давка, крики, проклятия, визг женщин. Натренированный
глаз «акулы» безошибочно определяет по внешним признакам
состояние кошелька безработного. «Акула» не верит в долг
и не занимается благотворительностью. Хозяин биржи,
краснощекий франт, шныряя хищным взглядом, спокойно и быстро
выбирает из толпы подходящее лицо и жестом приглашает за
перегородку. Стоны и вздохи безработных для него так же
мало ощутимы, как для старого хирурга стоны оперируемых.
Злобно ворча, волна безработных откатывается.
Надо беречь свои пять долларов до последней
возможности...
Второй месяц... За шесть долларов я продал свой пятна-
дцатидолларовый костюм. Ем раз в день в
пятнадцатицентовой столовке.
Я осунулся, побледнел. Я не в силах проходить мимо
витрин ресторана. Но я должен экономить каждый цент, чтобы
прожить на свои средства еще три, четыре месяца. Не может
быть, чтобы за это время толпы безработных не уменьшились.
Еще туже стягиваю ремень на животе.
— Плохо дело, — говорит столяр, тощий пожилой человек
с желтым лицом и добрейшими глазами. — Плохо..-
Я как будто болен. В диспансере вше дали капли, а толку
никакого.
Я смотрю на его осунувшееся лицо и думаю: «Не капли
тебе нужны, а хлеб...»
Третий месяц... Ем раз в день в десятицентовой столовке.
Ночую в пятицентовой ночлежке «сидя>>. Дни провожу на
бирже. По ту сторону перегородки — на румяном лице «акулы»
жизнь, страсть хищника; по эту сторону — отчаяние,
голодный блеск в глазах. Я уже не смущаюсь и на зов: «Работа»
продираюсь к перегородке и кричу подобно другим, чтобы
обратить на себя внимание. Но что толку?
ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ
55
э—i Когда будет революция, — тихо после длительного
кашля говорит мой друг столяр, — первым делом надо будет
миллионеров сделать безработными.
Я с ним охотно соглашаюсь, но стоящий рядом с нами
маляр говорит со злобой:
— Ты к этому времени еще сто раз околеешь. У меня
другой план!
— Какой? — интересуется столяр.
— Получу работу — по центам буду копить деньги, чтобы
открыть москательную лавчонку. Надоело мучиться в шкуре
рабочею.
— А голосовать будешь за кого во время выборов?
— Разумеется, за хозяев, раз я сам буду хозяином.^
— Ты к этому времени еще сто раз околеешь, —
говорю я.
Выругавшись, маляр отходит...
Судя по ремню, я здорово худею. Безработные целыми дня*
ми толкутся на бирже. Они мало разговаривают. Им не до
бесед, а если и говорят, то только о работе и еде: кто когда
и что ел...
А в центре города шум, гам, движение, театры, магазины,
кафе, рестораны, джаз..,
— Какая разница между этими улицами и необитаемым
островом? — говорит столяр. — И здесь, и на острове
одинаково можно околеть с голоду,
— Здесь хуже, — угрюмо замечаю я. — На острове нет
ресторанов.
— Ты прав, —■ уныло кивает головой столяр.
Выходим с биржи. Мимо нас на роскошной машине
медленно проезжает пожилая некрасивая дама в богатом манто,
с бриллиантовым ожерельем на шее, морщинистой, как у
старой собаки. По нашим подсчетам, этого ожерелья хватило
бы на сто тысяч десятицентовых обедов. Подумать только!
Сто тысяч обедов!
— Стерва! Стерва! — злобно ворчу я.
— Подло устроен мир, подло! — шепчет столяр.
Четвертый месяц... Я уже перешел на свой собственный
стол. Покупаю мясо для «кошек» (шесть центов фунт). Этим
вонючим мясом питаются беднота и безработные. В жестянке
варю бульон. Мне бы хватило его на два-три дня, но я делюсь
со столяром. Я познакомился с ним на бирже, но мне кажется,
что я его давно знаю. Если бы я нашел работу, честное слово,
взял бы его на свое иждивение. Бедняга болен, и у него ни
56
В. БИЛЛЬБЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
цента за душой. Во время приступа кашля у него вытащили
из кармана кошелек вместе с «бронированным фондом». Но*
чуем мы с ним в его полотняной палатке, на пустыре, но в
палатке больше дыр, чем полотна. Ночи сыроватые, и мы
зябнем. Мы сдираем полотнище и укрываемся им. Мне теплее,
но столяр продолжает зябнуть. Он набивает себе под пиджак
старые газеты, но дрожь его не уменьшается. Только на
солнце ему делается лучше. Кашель особенно по ночам изводит
его. Днем в парке на солнышке мы с ним «досылаем». На
языке безработных это называется «ночлежка днем». Но дремать
в парке не разрешается, и мы прибегаем к хитрости: усевшись
рядом, плечом к плечу, дремлем поочередно: один дремлет,
другой дежурит. При появлении полисмена «дежурный» будит
спящего. Уткнувшись в старую газету, мы делаем вид, будто
читаем, и с замиранием сердца ждем, пока пройдет
полисмен. На фоне пышной зелени калифорнийского парка наш
вид может показаться ему подозрительным. К нашему брату
полисмены относятся, как к назойливой бездомной
собаке.
Столяру доставляет большое удовольствие сидеть на
солнце. Но в конце концов это тоже утомляет его.
— Полежать бы! — виновато и жалобно шепчет он.
Я нахожу ему глухое и укромное место между забором и
кустами, на зеленой бархатной травке.
— Хорошо, — блаженно закрывая глаза, говорит
он.—Хорошо... Я никуда не пойду. Какой толк? А ты иди, друг, не
возись со мной.
Да и мне, собственно, итти некуда. Апатия и слабость в
ногах тянут к земле, но какая-то другая, скрытая сила
настойчиво и властно гонит меня из парка... Выхожу из парка и
останавливаюсь, как вкопанный, у первой витрины ресторана.
Ростбиф! Бифштексы! Салаты! Вина! Фрукты! Стою, как
загипнотизированный. Сколько раз я давал себе слово не
останавливаться! Как назло, так много витрин... А в кармане у
меня пять долларов. С каждым днем они беспокоят меня зее
более и более. Они жгут мой карман. Эта сумма кажется мне
целым состоянием. Пять долларов — пятьдесят
десятицентовых обедов!
А между тем нельзя потратить ни одного цента. «Акула»
принимает деньги только полностью. Сколько раз я вынимал
из кошелька эти дьявольские деньги! Сколько раз у меня
захватывало дух при одной мысли, что их можно превратить в
фасоль со свининой, ветчину с яйцом, в стакан
холодного пива! А на биржах народу не уменьшается. Выдержу
ли я?
ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ
*я
Пятый М1есяц... Я проел свой костюм, шляпу, бритву,
воскресные ботинки. По ночам меня знобит. Кипа газет за
рубахой не греет. Столяр харкает кровью...
— Пропал, — говорит он мне. — Скоро финиш... — и
кашляет так, что, кажется, вот-вот задохнется. Он не берет у
меня те крохи, которые я с ним делю. У него мученическое лицо
и такие добрые, хорошие, честные глаза! Труп с живыми
глазами. В последнее время часто находят трупы на улицах
и в парках. Невесел и маляр, с которым я встречаюсь на
бирже.
— Галло! Хозяин! — иронически приветствую я его.
Он что-то бормочет, вероятно, ругается. Безработные
волнуются. Газеты требуют применения закона о
«подозрительных», высылки безработных за пределы города. Кричат об
убийстве миллионера, о бурной демонстрации. Демонстрация
действительно получилась бурная. Бесчисленная толпа
запрудила центральные улицы, площади, скверы. Безработные
отчаянно шумели, требуя работы и помощи. Ораторы надрывались.
Полисмены угрожали. От этого крика даже лошади конной
полиции становились на дыбы. Полиция пустила в ход
дубинки. Но толпа не отступала и кружилась на месте, словно
водоворот. Еще миг, и загремели бы выстрелы. Но примчались
пожарные команды. Шланги, выбрасывая могучие струи воды,
смыли толпу. На асфальте улиц остались только те, кто был
не в силах подняться. С трудом выволок я из толпы своего
друга столяра. От удара струи в спину он едва не
задохнулся.
Толпы безработных на бирже тают. Но работы все нет.
Я устал ждать, у меня больше нет сил. Но я буду
терпеть еще месяц! Последний месяц! А потом... Пропадай мои
пять долларов! Нелепо носить при себе такой капитал и
подбирать на рынке остатки овощей и фруктов. Но и на рынке я
не один. Мексиканские и негритянские ребята, такие же
безработные, как и я. Стайками, щебеча, как воробьи, порхают
дети по рьшку. Они проворнее нас, вв1рослых. Часто я ухожу с
рынка, не проглотив даже листа салата. И снова брожу по
улицам, мысленно пожирая все, что расставлено на витринах.
Глотая слюну и быстро-быстро двигая челюстями, воображаю,
что ем. Теперь даже и в воображении я начинаю экономить.
Мне кажется недопустимой роскошью даже мысленно есть
дорогие яства. Я разрешаю своему воображению пожевать
заплесневелую котлетку или кашу десятицентового обеда.
В конце концов эта пустая жвачка доводит меня до
исступления. Кажется, будто хищный зверек гложет твое нутро,
ледяные пальцы мнут внутренности. Раскаленная игла щупает
58
В. БИЛЛЬБЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
сердце. Перед глазами то черные, то огненные, то зеленые
круги. Тошнит. Кружится голова. Свернувшись в клубок, сжимаю
руками живот и вою...
Шестой месяц... Ночь... Столяр лежит, завернутый в
полотнище, и еле шевелит губами. Он умоляет меня не
вызывать карету скорой помощи.
— Зачем? Я знаю, что обречен... Не тревожь меня.., Я
тебе и так благодарен. В последние дни я убедился, что главное
в жизни — это дружба...
Кашель прерывает его бормотание. Он замолкает... Я
сижу не шевелясь и прислушиваюсь к его дыханию.
— Когда свершиться революция, надо будет наказать
магнатов голодом, — бормочет он. Через некоторое время он
шепчет: — У меня в кармане завещание...
«Бредит», — подумал я. Во мраке, на глухом пустыре, —
жутко. Тихо, на цыпочках, я ухожу звонить в больницу.
Несмотря на мой тревожный голос, из трубки телефона женский
голос спокойно ответил, что мест нет, но, может быть, к утру
освободится. Я бросил трубку.
«Может, к утру освободится» — это означало: если кто-
нибудь умрет...
Вернувшись, я укрыл товарища частью своего полотнища.
Прижался к нему спиной. Я начал придумывать такую еду,
которую можно было бы получить бесплатно и которую
никто, кроме меня, не догадается есть. Никто, кроме меня... Кто
сказал, что мясо собак, кошек, ворон не съедобно? Что за
барские предрассудки! Мясо щенят, вероятно, вкусно и
нежно, как мясо кролика! Попадись мне сейчас щенок, я бы здесь,
на пустыре, зажарил его. Я даже ощущаю запах жареного
мяса и вдыхаю ею аромат. Жую... жую... Да и зачем,
собственно, жарить, когда проще сварить его! И я снова жую... Кто
сказал, что мясо надо обязательно жарить, тушить, когда его
можно есть сырым? И я жую, жую, жую... Лицо мое юрит.
Мелкая дрожь трясет руки и ноги. Но я жую, глотаю,
давлюсь! Я весь в жару, в поту... Я перехитрил мир. Я не завишу
от его предрассудков. И я лукаво и тихо смеюсь... ПотОхМ сон:
пять долларов... Монеты растут, растут, сверкая, вертятся,
застилают небо... Потом кошмар: на мне черная мохнатая
шерсть. Я не то волк, не то пещерный человек. Я грызу труп
своего товарища столяра. На его мученическом лице укор.
Просыпаюсь, шумно дыша, в ужасе.
Чуть брезжит рассвет. Рука моя ударяется о что-то
твердое, как бревно. Это тело столяра, Я отдергиваю руку, как от
ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ
59
раскаленной плиты. Вскакиваю, отбегаю, возвращаюсь.
Наконец робко сбрасываю с него полотнище. Он лежит липом
вниз. Перевертываю. Его добрые глаза закрылись навеки. На
лице покой. В кармане пиджака торчит помятый конверт.
Вспоминаю, что он бормотал о каком-то завещании. Уж не оно
ли? Читаю: «Завещаю свой скелет моему благороднейшему
другу Вилли Брайту на предмет продажи его в
анатомический музей». Число, подпись... На отдельной бумажке
приписка: «Мой дорогой друг, это все, чем) я могу тебя
отблагодарить...» Жуткое чувство охватывает меня, я торопливо
уничтожаю эту бумажку.
Рассеивается утренний туман. Все гуще шум
пробуждающегося города. Мир опустел и превратился в бесконечный
заглохший пустырь.
Седьмой месяц...
— Друг-то твой не дождался революции, — ехидно
замечает маляр.
— А ты не дождался лавочки, — отвечаю я. — На-днях
околеешь. Карета ждет тебя! — говорю я зловеще.
Бормоча проклятия, он отходит от меня. Я не в силах
больше терпеть. Эти пять долларов сводят меня с ума. Ждать или
проесть?! Может, и я на-днях неожиданно заболею, умру и
мои пять долларов впрок не пойдут. Разговаривая вслух и
обращая на себя всеобщее внимание, я плетусь к бирже. В
последний раз я хочу взглянуть на рожу «акулы», убедиться в
бесцельности ожидания работы. Глупо и бессмысленно
хранить пять долларов! Получить работу — так же безнадежно,
как надеяться найти на улице бриллиант. Рассуждая, я
незаметно очутился у биржи. Народу меньше, и на лицах
беспросветная тоска и апатия. Нет! Больше ждать я не буду. Сегодня
же съем, загуляю! Закажу ростбиф, бифштекс, пудинг и
виски!.. Весь свой капитал, все пять долларов! Сразу! В один
присест! В последний раз я подхожу к перегородке, но так
решительно, что «акула» удивленно вскидывает на меня свои серые
колючие глаза. В это время звонит телефон.
— Хорошо! Адрес?
«Акула» что-то записывает, кладет трубку.
— В чем дело? — обращается он ко мне.
— Работы!
— А деньги есть?
— Есть, есть! — встрепенулся я. — До сегодняшнего дня
хранил!
Владелец биржи испытующе смотрит на меня.
— Есть деньги! — торопливо повторяю я, вкладывая в это
60
В. БИЛЛЬ-БЕ ЛОЦЕРКОВСКИИ
слово всю душу, всю боль, все мои чаяния и надежды. Как
он медлит с ответом! Каждая секунда — вечность. А вдруг
раздумает? Он переводит глаза на группу других безработных,
шныряет по их лицам. От нервного напряжения я готов
кричать и топать ногам»и.
— Ладно! — слышу я наконец. — Заходи!
Я бегу за ним в другую комнату. Он садится на
стул.
— Тридцать долларов в месяц, — говорит он.
Тридцать долларов — жалованье ничтожное, но время
такое, что раздумывать не приходится.
— Хорошо, — соглашаюсь я.
— Деньги!—командует он.
Я вынимаю кошелек. «Акуле» полагается десять процентов
с месячного жалованья: значит — три доллара. Мне,
следовательно, еще остается два доллара на еду, подкрепить
себя перед работой. Отлично. Трясущейся рукой я кладу на
стол) три доллара.
— Мало! — слышу я жесткий голос.
— Десять процентов... как полагается... — бормочу я.
— Мало! — он собирается подняться со стула.
Я быстро кладу еще доллар.
— Мало! — в голосе раздражение и угроза. Он встает.
Я кладу свой последний доллар.
— Все! — и выворачиваю наизнанку кошелек. Он
поворачивается ко мне спиной.
«Уйдет! Уйдет!» Я теряю рассудок. Одним прыжком
я загораживаю ему дорогу.
— Давай! — Я угрожающе роюсь за пазухой, хотя там
ничего нет.
— Давай!
«Акула» испуганно отшатывается. Садится за свой стол и
пишет записку. Уже в дверях я слышу голос:
— Вон!
Плезать... Мне хочется кричать, бежать, смеяться.
Перебегая улицы, я слышу проклятия шоферов по моему адресу.
Теперь я буду жить! Жить!., Где мой друг столяр? И только в
сквере, в тишине, я прихожу в себя. Сомнение подтачивает
мою радость... Выдержу ли я эту работу? Ведь я истощен и
слаб! Через четыре дня я должен- явиться на клеевую
фабрику. Работа тяжелая. Будь у меня что продать, я бы поел,
подкрепился бы за эти дни. Но у меня нет ничего, кроме
галстука. С большим трудом мне удается продать его на рынке за
пять долларов
61
десять центов. Три дня трачу по центу в день. Покупаю на
цент четыре конфетки-ириски. Питательней ничего на эти
деньги не найдешь! Эти четыре конфетки и маленькая сальная
свеча, которая тоже идет в пищу, — моя порция на день, — у
меня случайно остались три свечи. При жизни столяра мы
освещали ими палатку. А утром, на рассвете, перед тем как итти
на работу, впервые за несколько месяцев я выпиваю чашку
горячего кофе за пять центов и сразу съедаю на два цента
восемь штук ирисок. Чувствую себя бодрей, но до фабрики
несколько километров, и бодрости моей хватает только,
чтобы добраться до ее ворот... Вот, наконец, и фабрика. Робко
дергаю за ручку звонка. До боли колотится сердце. С трудом
перевожу дыхание, когда открывается калитка. Проходя по
двору, словно в тумане, вижу какие-то сараи, надстройки,
навесы и силуэты людей. Куда ни повернись — кучи отбросов,
кожи, жил. Тяжелый запах. Кто-то берет у меня записку
«акулы». Потом подводит к яме, сует в руки тяжелые вилы
и велит содержимое ямы выбросить наверх, на платформу.
Я спускаюсь в яму. Ноги мои ступают по липкой, вонючей
массе. Как бы ни было тяжело, я должен выдержать до
вечера. Во что бы то ни стало! Вечером, попросив расчет за день,
я поем, за ночь высплюсь и к утру окрепну. Дальше пойдет
легче.
Но через полчаса я уже дышу, как испорченный паровоз.
Легким нехватает воздуха. Пот заливает глаза. Масса
густая, твердая, клейкая. Вместо полных вил я с трудом отрываю
небольшие куски, В другое время я бы легко справился с
такой работой, но сейчас я истощен.
— Плохо у тебя идет дело, — доносится сверху
убийственный голос.
— Никуда не годится, — говорит мастер.
Я вздрагиваю и задираю вверх голову.
— Тяжело, — хриплю я в ответ. — Голодал...
— Пожалуй, и до обеда не дотянешь, — продолжает
мастер.
Покачав укоризненно головой, он уходит. Неужели не
дотяну? Ведь я уплатил за это место «акуле» пять долларов.
Пять долларов! Заскрипев зубами, с проклятием и отчаянием
вонзаю вилы в массу, как в грудь смертельного врага. Рванул!
Вырвал большой кусок, но одновременно послышался треск...
Отчаяние на миг придало мне силу. Я сломал зуб на
вилах. Вернувшийся мастер от изумления только руками развел.
— С отчаянья, — упавшим голосом поясняю я. Он
приносит мне новые вилы.
62
В, БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
— Не напрягайся так... Совсем выдохнешься, — говорит
он. — Я пустил пар, теперь тебе легче будет. Сказал бы
раньше, я бы это раньше сделал!.
— Но откуда я могу знать?
— Это верно.
Когда он отошел, под ногами вдруг зашипело, захлюпало,
из ямы пошел вонючий пар. Постепенно масса размякла,
превратилась в клейкую жижу. Ноги увязают.
Стало легче, намного легче, но увы! — поздно...
Последняя вспышка ярости отняла последние силы, и я едва держусь
на ногах, чтобы не упасть в эту жижу.
— Бос идет! — доносится голос мастера сверху. —
Ворочай!
Я слышу его удаляющиеся шаги. На смену им
приближается тяжелый, мерный хозяйский шаг. Сердце мое замирает.
А страшные шаги медленно приближаются. И снова я напрягаю
всю волю, все силы, чтобы не выдать себя. Шаги замерли
надо мной... Пыхтит трубка. Я боюсь взглянуть. Проходит
вечность... Наконец шаги удаляются. Осторожно подымаю
голову. От сердца отлегло, но, кажется, от напряжения теряю
сознание. Едва успеваю опереться спиной о стену ямы, закрываю
глаза...
— Вылазь! — слышу я голос мастера. — Пришлю сюда
другого. Иди вон к нему, — указывает он на высокого
добродушного парня. Парень участливо смотрит на меня.
— Воды! — хриплю я.
Он мигом подает мне бутылку. Я жадно выпиваю ее до
дна...
— Голодал? — спрашивает парень.
Киваю головой.
— Такая наша доля, — задумчиво произносит он. — Ну, а
теперь берись за носилки.
Большая куча отбросов лежит на носилках. Я берусь за
ручки и чувствую, как у меня разжимаются пальцы. Парень,
подозрительно оглянувшись по сторонам, снимает часть
груза. Но пальцы мои снова разжимаются.
— Сил нет, — виновато оправдываюсь я, чувствуя, как
глаза мои становятся влажными. Парень растерянно
топчется на месте.
— Как бы бос не увидал.
Бедняга не знает, чем помочь мне. Но вот он увидел
проходящего с тачкой товарища. Он жестом подзывает его и
что-то говорит по-словацки. Взглянув на меня, не говоря ни
слова, подошедший рабочий берется за ручки носилок. Бегом
они вдвоем переносят восемь полных носилок.
пять долларов
S3
— А теперь пойдем дальше, — зовет меня высокий
парень.
Товарищ его стремглав мчится к своей тачке. Мы вышли
на двор к грузовику, нагруженному большими мешками с
солью.
— Давай разгружать под этот навес, — указывает парень
на мешки.
Первый мешок он берет на свою спину и легко уносит.
Второй мешок достается мне. Мне кажется, у меня треснет
позвоночник, лопнет грудь и разорвется сердце. С трудом
отрываю ногу от земли, делаю шаг, спотыкаюсь и падаю лицом
на асфальт, придавленный мешком. Стаскивают мешок и
ставят меня на ноги. Шофер хохочет, но парень что-то строго
шепчет ему, и шофер тотчас замолкает.
— Иди под навес, полежи. Мы без тебя, — говорит
шофер.
В каком-то забытьи лежу на мешке. Одна только мысль
сверлит мой мозг: «Пропали мои пять долларов!»
Рука парня тормошит меня.
— Пойдем.
Шофер, утирая потный лоб, приветливо кивает головой.
— Дотянуть бы до обеда. За час перерыва, может,
окрепну, — с горечью произношу я вслух.
— Мастер — человек неплохой, но бос — волк, —
отвечает парень. — Всюду сует свой нос.
Возвращаемся в здание. Мастер указывает мне на
площадку под самой крышей, на высоте трех этажей. Там лежит
глыба соли, напоминающая горку снега.
— Всю ее на тачке кати сюда, — говорит он. — Смотри,
осторожней!
Оттуда, с площадки, извилисто, но все же круто идет
широкая сходня. Я всхожу на площадку с видом человека,
подымающегося на эшафот. Внизу, подо мной, люди. Не
сорваться бы. А впрочем, все равно! Нагружаю тачку солью. Берусь
за ручки. Пошел. Тачку не надо толкать, она сама катится
вниз и тащит за собой. Ее надо сдерживать, тормозить. С
грехом пополам довожу первую тачку до места. Вторую на
повороте приходится задерживать. Третью, чувствуя, как
разжимаются пальцы, задерживаю в трех местах, чтобы
передохнуть. Четвертую я уже не в силах удержать... Тачка катится
в сторону... Тащит в пропасть... Я делаю отчаянное усилие,
чтобы задержать, выровнять ее. Но пальцы разжимаются. Тачка
на самом краю сходни...
— Берегись! — раздается мой отчаянный вопль.
Я слышу крики внизу. Оглушительный грохот и треск...
64
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Когда сторож закрыл за мной калитку, я, шатаясь,
добираюсь до какой-то рощи в стороне от дороги и, как
оглушенный, валюсь наземь.
Полдень. Солнце щедро дарит земле свои лучи, свое тепло,
свет. Дарит жизнь. К нему, как бы простирая радостно руки,
тянутся ветви магнолии, пальм, кипарисов. Тянется трава,
цветы. Приникнув ухом к земле, я будто слышу ее могучий
пульс. Поют, порхают, щебечут птицы. Как м:ного света,
блеска и красок! Все живет, все цветет. И только я один еле
дышу. Какая-то сковывающая, даже приятная истома. Ни
голода, ни боли. Вероятно, так чувствует себя замерзающий. Но я
тоже хочу жить, как эти цветы, эти птицы, это солнце! Ведь
я еще так молод! Неужели я должен навсегда распрощаться
с этим миром.- Только потому, что мне нечего есть? Как это
обидно! Прижавшись лицом к земле, как ребенок к груди
матери, я тихо и глухо всхлипываю.
Мрак. Голоса. Грубые руки. Автомобильные гудки. Легкая
качка машины.
До ушей моих доносятся стоны. Тяжелый запах
нашатырного спирта и иода. Электрический свет ослепляет меня. Не
в силах пошевелить головой, перевожу глаза направо, налево.
Всюду койки. Справа, спиной ко мне, сидит человек в черном
сюртуке и что-то бормочет. Пастор. А перед ним, на белой
наволочке подушки, резко и страшно выделяется восковое лицо
с закрытыми глазами и заостренным носом. Покойник.
Я вздрагиваю. Ко мне с чашкой в руке направляется сестра.
В этой чашке, вероятно, бульон... Может быть, я выживу. Но
кто возвратит мне мои пять долларов! Пять долларов!
ПОЩЕЧИНА
— Экстра! Экстра! —изо дня в день оглушительно кричали
ребята, продава-вшие экстренные выпуски газет. Газеты
расхватывали сразу. Печать подняла необычайный шум. Такой
шум в печати обыкновенно бывает во время выборов
президента. Но сейчас выборов не предвиделось.
Готовился матч между чемпионом тяжелого веса Джимми
Бернсом и негром Джеком Моррисоном.
Мистер Берне богат. Он владеет громадной фермой, и во
многих городах у него свои пивные, на стенах висят его
портреты. Мистер Берне — стопроцентный американец. Он — кумир
«золотой молодежи» и публики из Ку-клукс-клана. Вот уже
Только за то, что он черный. . .
ПОЩЕЧИНА
65
семь лет как Джимми Берне носит почетное звание чемпиона
мира. Чемпион высок, шести футов росту, богатырски
сложен, силен и проворен, как североамериканский гризли. Мало
было случаев в практике Джимми, когда противник его уходил
с ринга без посторонней помощи.
Не было еще в истории бокса человека, равного Джимми
по силе и технике. Он не только силен и опытен — он страшен.
Это он сокрушающим ударом в челюсть убил наповал Гарри
Курта. У Гарри так дернулась назад голова, что не выдержали
шейные позвонки. Это он «хуком в корпус» сломал четыре
ребра здоровенному матросу Фрэди Бруку. Это он своим
«коронным» ударом слева нокаутировал многих зарубежных
боксеров, до этого никогда не знавших нокаута.
Когда он, пригнувшись, выбрасывает рывком свою
«левую», вкладывая в удар вес всего тела (двести сорок
американских фунтов), падает лошадь и встает не сразу.
Многие просто боялись этого «тарана» и потому избегали
встречи с Бернеом.
Джек Моррисон начал свою карьеру, как и большинство
негров, чернорабочим. На путь профессионала-боксера его
толкнул дядя Боб. Дядя Боб из тех рядовых боксеров,
которых называют мешком для ударов. В качестве «мешка» он и
служил у известного боксера мистера Кеннеди.
Между матчами Кеннеди разъезжал с ним по провинции и
на эстрадных площадках демонстрировал свою технику и
ловкость. В этих представлениях Боб должен был еще
соответствующими гримасами -вызывать у публики смех. Изображая
нокаут, Боб должен был смешно дрыгать ногами и корчить
рожи. Иногда удар бывал настолько сильным, что Бобу
притворяться не приходилось — все получалось естественно. От этих
шуток и затрещин у Боба безобразно опухли уши и губы, нос
был расплющен, и один вид его вызывал смех. Джек любил
своего добродушного дядю, и ему было горько и стыдно за
него.
— Зачем ты так унижаешься? — спрашивал его Джек.
— Хозяин требует, — отвечал Боб.
— Но ведь он изуродовал тебя на всю жизнь!
— Хозяину так нравится, — твердил Боб.
— А ты не позволяй ему, — возмущался Джек.
— Не позволяй, — усмехнулся Боб. — Легко сказать...
А что будут есть мои дети? Накормить пять ртов — не такое
простое дело. Конечно, служить для хозяина «мешком», и
массировать его, и быть на побегушках — туговато... Но все же я
как-никак получаю больше твоего и надеюсь, что ты со
временем займешь мое место.
5 Вот она, Америка
66
В. ПИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
Дядя настаивал на том, чтобы Джек стал боксером.
— Я хоть и не знаменитость, — говорил он, — но у меня
верный глаз. Из тебя может выйти первоклассный
тяжеловес и, кто знает, может быть, чемпион мира.
Дядя усердно обучал племянника технике бокса. Джек со
страстью изучал это дело и тренировался с товарищами
неграми.
Через два года мистер КеннеДи уволил Боба. У негра
оказался поврежденным глаз.
— Теперь я должен представить тебя мистеру Кеннеди, —
грустно сказал дядя. — Я уже инвалид...
— Ладно. Ты только не грусти. Я тебе буду помогать, а
мистер Кеннеди, надеюсь, останется мною доволен, —
усмехнулся Джек.
— Дай бог! — прошептал Боб, не замечая усмешки
племянника.
Джек был принят на службу вместо старого Боба.
Но мистер Кеннеди остался весьма недоволен Джеком. При
первой же встрече с ним на эстраде, в присутствии
многочисленной публики, он был нокаутирован своим слугой на
третьем раунде. Это было так неожиданно, что публика
остолбенела от изумления. Ей было не до смеха. Мистер Кеннеди, придя
в себя, первым долгом уволил Джека. Но слух о поражении
дошел до спортивных кругов, да и не только до спортивных..
Дядя Боб оказался прав. Племянник оправдал его надежды.
Джек в небывало короткое время добрался до первоклассных
боксеров и развенчивал их одного за другим. И организаторы
матчей, чтобы пресечь триумфальное шествие негра,
вызывали чемпионов разных стран и даже из Австралии.
Но всех постигала одна и та же участь. В ко>нце концов все
козни, все уловки оказались бессильными. И теперь
абсолютному чемпиону мира предстояло спасти честь «белой
общественности» от посягательства чернокожих на гордое звание
чемпиона. Он — последняя «белая надежда»... Джимми Берне
охотно взялся за это «общественное» дело, тем более, что за
этот выход на ринг он получал семьдесят пять тыся>ч
долларов.
Оставалось два месяца до матча. У чемпиона мира был
большой штат помощников, среди которых имелись
первоклассные боксеры. Чемпион периодически делал пробежку на
десять миль. Левый таран его попрежнему валил с ног коня.
Кто знает, может, и негра ожидает такая же участь. По
крайней мере, реакционная печать очень прозрачно намекает
на это. И печать шумит, шумит...
ПОЩЕЧИНА
67
— Экстра! Экстра!
Экстренные листки выпускались и днем и ночью, отмечая
малейшие подробности тренировки боксеров. Споры и
дискуссии переносились из спортивных клубов, пивных и кафе в
школы и университеты. Спорили до хрипоты. Чемпиону мира
посвящались передовицы газет. Его снимали в разных позах
и целиком и по частям: дельтовидные мышцы, спинные-
мускулы, прямые, косые удары и, конечно, таран.
— Экстра! Экстра!
О матче кричали кино, театры, клубы, эстрады. Кричали
электрические рекламы, вспыхивающие по вечерам над
небоскребами. Шум разрастался, как пламя пожара, раздуваемого
ветром. И этот шум заглушал ту отчаянную борьбу, когорую
вот уже несколько месяцев в одном из центральных штатов
вели бастующие шахтеры против предпринимателей. Шахтеры,
почти безоружные, разбили отряд штрейкбрехеров и отнятым
оружием (а частью кое-где добытым) удачно отбивали атаки
национальной гвардии, пришедшей на смену штрейкбрехерам.
Среди шахтеров было много бывших солдат, воевавших во
время первой мировой войны в «Старой Европе», и этим
объяснялась столь крепкая организация их вооруженных сил. Но
об этом газеты молчали.
Существо забастовки, если судить по скупым, заметкам
в печати, оказывалось не -в борьбе шахтеров за
существование, а в злостном вымогательстве — дескать, в своих
шкурных интересах шахтеры оставили на зиму без топлива бедные
семьи: нет сомненья, что в этой борьбе подозрительную роль
играют рабочие-эмигранты и негры. Ведь для них
Соединенные Штаты — не родина. Гнать надо таких рабочих из
Штатов, а американцев, действующих с ними заодно, — судить
за измену.
А в это время регулярная армия коварно расстреляла из
орудий палатки, в которых расположились лагерем семьи
бастующих шахтеров. Десятки трупов мужчин, женщин и
детей.
И печать шумит о предстоящем матче, так шумит, что
заглушает стук пулеметов и залпы ружей.
Джек был одного роста с Джимми, он весил> двести
фунтов, на целых сорок фунтов меньше его. Для Джека это был
минус. Он тоже тщательно готовился к матчу. Но его
подготовка шла не так гладко: то и дело возникали
непредвиденные препятствия. Джек получил анонимное письмо, в
котором ему сообщали, что один из двух его белых помощников,
по фамилии Картер, подослан. Дядя Боб вспомнил
аналогичный случай, когда у чемпиона-негра, завоевавшего право
68
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
оспаривать первенство мира в легком весе, на ринге
оказалась такая высокая температура, что он не выстоял и пяти
раундов. Вспомнился и другой случай, который произошел
с известным боксером-евреем. Перед схваткой ассистенты
угостили его таким бифштексом, после которого даже на
ринге его клонило ко сну.
Картера пришлось немедленно удалить.
Странным и неожиданным показался Джеку визит
пастора-негра. Это был знакомый пастор негритянского квартала.
В длинном черном сюртуке и черном галстуке, сам черный, он,
мягко улыбаясь, снял черную широкополую шляпу и после
обычного своего приветствия — бог спаси и помилуй вас! —
справился о самочувствии молодого боксера. Все так же
отечески и снисходительно улыбаясь, пастор, коснувшись успехов
Джека, незаметно перешел на тему о славе.
— Слава — это яд. Вкусивший ее — пропащий человек.
Он теряет покой. Жизнь обыкновенного смертного для него —
скука и тягость. Слава вызывает зависть и ненависть. Слава—
это куртизанка. Слава — это шутка дьявола. И тот, кто
гонится за ней, кто сбивается с пути, указанного Христом, пути
смирения, терпения и скромности, — тот погибший человек...
Джек нетерпеливо прервал его:
— Надеюсь, ваши слова не имеют никакого отношения ко
мне. Вы в этом можете убедиться по газетам. И вообще,
какая может быть слава у чернокожего?
Пастор на миг смутился. Пастор привык говорить, а не
слушать. Однако, не показывая виду, с профессиональной
миной доброго пастыря он продолжал свою проповедь:
— Совершенно верно! И потому, считая вас
благоразумным человеком, я хочу довести свою мысль до конца. Если
вас не привлекает слава — зачем весь этот шум? Как
духовный отец цветнокожих я не могу быть безучастным
к судьбе своих детей, в частности — вашей.
Подумайте, как с вами поступят в случае вашей победы?!
Вас ждет несчастье, а вашу добрейшую старушку-мать —
голод и страдания. Вы молоды, озлоблены и потому так
упорно добиваетесь цели, но я со стороны вижу ваш путь в
пропасть, и я кричу: «Остановись, мой сын! Остановись!»
— Короче говоря, вы предлагаете ему отказаться от
матча и, следовательно, лишиться десяти тысяч долларов? —
вмешался Боб.
— Покой дороже долларов, — авторитетно произнес
пастор.
— Но вы лично, мистер, не отказываетесь от них? —
заметил Джек.
ПОЩЕЧИНА
69
— Мои деньги не нарушают моего покоя, — ответил
пастор.
Джек вскочил:
— Неужели вы считаете, что унижаться и пресмыкаться —'
это покой?
— Если учение Христа вам ничего не говорит, то
бесполезно рассуждать на эту тему, — укоряюще произнес
пастор. — Разрешите мне только закончить мою мысль...
— Пожалуйста.
— Я совсем не предлагаю вам отказаться от вашего
матча. Я только советую вам, в ваших же интересах, ради
спасения вашей жизни не добиваться победы. Ведь это не лишает
вас десяти тысяч, и это будет самый благоразумный выход и,
если хотите, поступок христианина.
— То есть: когда тебя бьют по левой щеке, подставляй
правую. Нет, мистер! Плохой был бы я боксер, если бы
придерживался такого учения. Наше учение: защищая левую —
бей в правую. Благодарю вас за совет, мистер, но принять его
я не могу. Дело не в деньгах, дело в победе, и я, цветноко-
жий, буду ее добиваться.
Пастор резко поднялся и направился к двери. У порога
круто повернулся и без обычной улыбки глухо и зловеще
изрек, приподняв руку:
— Господь сохрани и помилуй вас!
И фраза эта прозвучала как явная угроза. Суеверный Боб
вздрогнул...
— Что ты скажешь? — усмехнувшись, спросил Боба
Джек.
— Мне показалось, будто к нам влетел черный ворон,
накаркал и улетел. Да простит мне бог такое сравнение.
— А мне кажется,—сказал Джек, — что этот ворон
прилетел с определенной целью и не бескорыстно.
— А именно?
Вместо ответа Джек вынул из кармана пиджака письмо.
Неизвестное лицо предлагало Джеку Моррисону тридцать
тысяч долларов отступного, если он даст себя нокаутировать в
двенадцатом раунде. Десять тысяч авансом!, остальные
ПОТОМ!.
— Что ты думаешь об этом? — машинально спросил Боб.
Джек неторопливо изорвал письмо на клочки.
— Экстра! Экстра! Экстра! До матча осталось две недели.
Последние сведения о пробежках боксеров. Экстра! Экстра!
Чемпион мира за завтраком съел две курицы.
— Экстра! Экстра! Джек проглотил два десятка яиц!
70
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
Громко крича и размахивая свежеотпечатанными листами,
газетчики бешено носились по улицам. Страсти разгорались.
Печать делала все, чтобы разжечь эти страсти. Пивные были
полны народу. Среди шума и гама в густом дыму папирос и
трубок орудовали юркие люди — с фальшивой страстностью,
развязными манерами, быстрым говором) и жульническими
глазами. Это — «политики», платные агитаторы реакционных
партий на выборах.
Сейчас они явно работали на Ку-клукс-клан. Хозяевам
пивных выпали прибыльные дни. Поддакивая «политикам»,
заискивая перед посетителями, они колотили себя в грудь при
упоминании о доблестях белой расы, однако не забывали
быстро наполнять стаканы, брать деньги, давать сдачу, следить за
расторопностью слуг. Большинство за чвм-пиона — все говорит
в его пользу: и вес, и опыт, и таран. Ставки пари
увеличивались.
Завтра бой. К месту схватки, обгоняя друг друга, мчатся
дорогие автомобили и мотоциклеты, спешат специальные
поезда. Выпускаются один за другим экстренные листки. Печать
в истерике. Тротуары усыпаны прочитанными листками.
Ветер поднимает их, и они, словно огромные белые хлопья,
кружатся в воздухе. Глухо, совсем глухо в этом шуме
воскресного дня в церкви прозвучал одинокий выстрел. Скромная
пожилая учительница стреляла в мультмиллионера. Стреляла в его
собственной церкви, во время богослужения. От волнения она
промахнулась. Христолюбивый магнат был главным
владельцем тех шахт, где расстреляны были семьи шахтеров.
Через два часа схватка на ринге. Джеку необходим покой.
Последняя ночь была бессонной. Ему мешал спать какой-то
паршивенький джаз в соседнем доме. Джек лежит на кровати.
Возле него на стуле валяются газеты. Он пытается уснуть, но в
голове его бродят тяжелые мысли. Он гонит эти мысли, но они
возвращаются снова. Но не встреча с могучим противником
тревожит его. Он не боится Бернса. Его бесит
несправедливость. Да! Он, Джек Моррисон, цветнокожий. Но разве он в
этом виноват? Или, может, виноваты его родители, которые
тоже родились цветнокожими? Но ведь их не спрашивали,
какой цвет кожи им больше нравится? Не зная его, эти белые
господа насмехаются над ним, рисуют подлые карикатуры.
Вот он изображен: черный, огромный... Одна рука в
боксерской перчатке касается земли, другой он почесывает
подмышкой. Огромный рот, отвратительные толстые губы, лошадиные
ПОЩЕЧИНА
71
зубы. И рядом с ним Джимми Берне, могучий джентльмен в
смокинге и с хлыстом в руке. Создается впечатление, будто
на ринге встретятся не два чемпиона, а черный зверюга и
белый укротитель. В этой газете открыто выражается
сожаленье по поводу встречи белого человека с представителем
«низшей» расы.
Какой-то профессор, теоретик бокса, в своей статье
доказывает, что негр — это нечто среднее между человеком и
гориллой, и потому череп у негра (следствие недоразвитости
интеллекта) значительно крепче, чем у белого. Зато мускулы
живота негра развиты значительно слабее, чем у белого (тут
профессор не объясняет причин). И поэтому в схватке с
негром чемпион мира должен, учтя это указание, направить
мощную силу своего тарана в наиболее уязвимое место
негра— живот... Джек — не политик, он не принадлежит ни к
какой партии, но он догадывается, что авторы этих статей и
анонимных писем — молодчики из Ку-клукс-клана. Это они
вчера ночью прислали джаз, чтобы не дать Джеку уснуть.
Это они назначили матч в одном из южных штатов: здесь
когда-то процветало рабство, и потому острее, чем в других
штатах, осталась здесь ненависть к цветнокожим. Джек
почувствует это сегодня на ринге... Но это не остановит ею
воли, воли к победе.
Джек так свирепо заворочался, что кровать под ним
затрещала: казалось, она вот-вот рассыплется. Прибежал
дядя Боб. Перед матчами, в которых выступал племянник, он
всегда волновался, но это ке мешало ему все время
повторять:
— Спокойно! Спокойно!—Старый боксер знал, что
спокойствие на ринге — это все. — Нервы — плохой союзник, —
говорил старик. И обычно Джек не терял самообладания на
ринге, даже когда его умышленно дразнили и пытались вывести
из равновесия.
На этот раз Боб нашел племянника очень раздраженным.
— Алло, Джек! — воскликнул старик. — В чем дело?
Робеешь?
— Нисколько,—ответил Джек.
— Может, ночной концерт расстроил тебя? Плохо спал?
— Да... Но я принял душ и теперь отдыхаю.
— Так в чем же дело?
— Меня -выводит из себя вот это. — Джек указал на
газеты.
— Спокойно. Спокойно. Это не так страшно, мой мальчик.
Не так страшно. И среди белых у нас есть друзья. Вот, читай.
Боб вынул из кармана небольшую газетку и передал ее
72
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Джеку. Это была левая рабочая газета. По мере того как
Джек читал ее, лицо ею прояснялось.
В газете какой-то камрэд очень остроумно, тепло и
логично защищал Джека от выпадов реакционных писак. О Джеке
говорилось как о самом честном и умном боксере, которого
когда-либо видел ринг; автор описывал его классически
стройное тело, его спокойные движения, в которых чувствуется
скрытая сила, ловкость и быстрота тигра, его серьезные и
вдумчивые глаза. Пусть Джек не волнуется. Его победа
будет пощечиной ©сем его врагам. Пусть Джек знает, что среди
белых у него много друзей. И если на матче, среди
публики, их будет меньше, чем врагов, то это объясняется только
тем, что рабочим не по карману цены на билеты. Привет
Джеку.
Боксер повеселел.
— Спасибо, камрэд, — шепнул он, бережно складывая
газету.
— Ну вот видишь, — обрадовался Боб. — Главное — спо*
койствие.
И все же в раздевалке, куда доносились шум, гул, говор
и крики многочисленной публики, Джек волновался. Это было
заметно но тому, как заблестели его глаза. Но это было не то
волнение, какое испытывает актер перед выходом на сцену.
Джека раздражал этот шум. Он знал, что ждет его при
появлении на ринге.
Стоять одному против всей толпы, слушать возгласы,
насмешки и презрение — нелегкое дело.
— Спокойно, мой мальчик. Спокойно, — шептал дядя
Боб. — Твоя победа — пощечина им, — повторил он фразу из
рабочей газеты.
— Правильно, — ответил Джек. И нервный блеск в его
глазах потух.
Он надевал халат, когда до ушей его донеслись все
разрастающийся, оглушительный гром аплодисментов и
приветственные крики. Воздух задрожал от грохота и гула. Это
публика встретила появившегося на ринге чемпиона м-ира
тяжелого веса Джимми Бернса.
— Меня так не встретят, — усмехнулся Джек.
—- Наплевать. Наплевать,—с дрожью в голосе произнес
Боб. — Главное — спокойствие.
Но вот шум утих. Кто-то торопливо постучал в дверь и
крикнул:
— Пора! Пора!
— Пошли? — спросил Боб, сдерживая дрожь в
челюстях.
ПОЩЕЧИНА
73
При появлении негров поднялся яростный вой. По мере их
приближения к рингу он усиливался. Кто-то надрывно кричал,
кто-то лаял, мяукал, свистал. Джек чуть побледнел. С
застывшей усмешкой на губах он нарочито медленно двигался по
узкому проходу. Шагавший за ним дядя Боб весь скорчился.
Шум и ярость толпы напоминали ему суд Линча. Джек
-перелез через канаты, ограждавшие ринг, и направился в
указанный ему угол. Там уже стоял приготовленный для него стул.
За Джеком на ринг взобрался Боб. Джек сбросил с себя
халат и, выпрямившись во весь свой шестифутовый рост,
огляделся вокруг. Ринг находился под открытом небом. У самого
ринга помещался партер. В партере, как полагается, сидела
самая богатая публика. Об этом можно было судить по
джентльменской внешности сидящих, по их бритым,
самодовольным и свирепым лицам. Но это не мешало почтенным
джентльменам шуметь и орать больше всех. Народу было так
много, что трещали скамейки.
— Эй, Джек! Уходи, пока не поздно! — неслись возгласы.
— Подумай о своей мамаше.
— Гуд бай, Джек! Ты написал завещание?
Джек повернулся лицом в ту сторону, откуда громче всех
неслись крики. Какие злые лица!
Спокойно подошел он вплотную к канатам и пристальным
взглядом обвел публику. Твердый взгляд, стройная, словно
высеченная из черного мрамора фигура заставили передние
ряды партера на минуту затихнуть.
— Молодец, Джек! Молодец!—донеслись из задних
рядов отдельные голоса, послышались хлопки.
Джек приветливо улыбнулся им.
«Камрэд», — подумал он.
— Камрэд, — сказал Боб, когда Джек вернулся на свое
место и опустился на стул.
В противоположном углу, окруженный свитой помощников,
приятелей, репортеров и фотографов, сидел чемпион мира
Джимми Берне и о чем»-то весело болтал. Вот он поднялся на
ноги перед фотоаппаратом, и казалось, что это гризли
поднялся на задние лапы. Снова гром аплодисментов и рев восторга.
Хищные глазки Джимми спокойно, по-медвежьи,
озирались вокруг.
— Пропал, Джек! — насмешливо, под общий хохот,
крикнул кто-то в партере.
Но вот начались приготовления к схватке. Боксеры
надевали перчатки. Старый Боб снова начал волноваться. Ни жив,
ни мертв, он машинально повторял:
74
В. БИЛЛЫБЕЛОЦЕРКОВСКИП
— Спокойно. Спокойно.
— Время! Время! В|ремя! — неслись нетерпеливые голоса
с мест. Посторонняя публика уходила с ринга. На ринге
остались только боксеры и рефери. Жюри разместились у ринга.
Убрали стулья. Стало тихо. Только слышен был
раздражающий скрип скамей. Наконец резко прозвучал удар гонга. Два
гиганта, черный и белый, легко сорвавшись с мест, шагнули
навстречу друг другу. Джек, как полагалось, протянул руки
для пожатия, но руки его повисли в воздухе. Джимми Берне
не пожелал пожать руку негра... Оглушительный хохот,
аплодисменты и рев одобрения пронеслись по рядам. Джек опешил.
Он отступ-ил. А чемпион улыбался публике. Но смущение
недолго владело Джеком. Сверкнули его черные глаза, белки
налились кровью. Таким Боб его никогда не видел.
Почувствовав спиной канаты, Джек в бешенстве с такой силой
нажал на них, что канаты затрещали и выгнулись дугой, вот-
вот лопнут. Джек приготовился к рискованному и страшному
прыжку: оттолкнувшись от натянувшихся канатов, как от
пружины, ринуться всем телом» на врага и сразу кончить
бой.
Но стоило Джеку промахнуться и нарваться на встречный
удар увернувшегося противника, чтобы самому оказаться
нокаутированным в самом начале схватки. Боб, старый боксер,
моментально учел обстановку. Так рисковать нельзя, тем
более, что чемпион смекнул, в чем дело, и приготовился. Какая-
нибудь доля секунды — и будет поздно. Джек услыхал
голос Боба: «Спокойно. Спокойно». Голос, в котором таилось
столько тревоги и мольбы, что Джек сразу отрезвел. Он не
тронулся с места.
В хищных глазах чемпиона мелькнула досада, но тут же
вспыхнула мысль: «Пока негр прижат к канатам, надо
воспользоваться этим моментом». Сделав двойной ложный
выпад левой, он бросился в атаку, с силой выбросив правую.
Джек мгновенно пригнулся. Правой рукой чемпион
рассек воздух над головой негра, и грудь его ударилась о
канаты. Для начала неплохо. Даже у части враждебно
настроенной публики вырвался гул одобрения. А старый Боб, умильно
улыбаясь, зашептал:
— Хорошо, мой мальчик! Хорошо...
Первый раунд, после этой первой атаки, прошел в
осторожном прощупывании друг друга.
Во время минутного перерыва Боб, обмахивая Джека
полотенцем, спрашивал:
— Надеюсь, ты не будешь больше горячиться?
— Постараюсь. — ответил Джек.
ПОЩЕЧИНА
75
Следующие два раунда прошли в таком же темпе. После
трех раундов можно было задать вопрос:
— Ну как, Джек?
— Прощупываю.
— Только не торопись. Время есть. Еще семнадцать
раундов.
— Это слишком долго, — сказал Джек.
— Не забудь, ты имеешь дело с чемпионом.
— Вот именно, — загадочно усмехнулся Джек.
— Ну как? — опрашивал мэнеджер1 Джимми Бернса.
— Будет бит, — ответил чемпион.
Гонг. В четвертом раунде чемпион, приподняв широкие
плечи, спрятав между ними свою голову и согнувшись, чтобы
защитить живот, повел наступление. Словно ветер прошел по
рядам. Чемпион легко и быстро кружил вокруг своего
противника. Его могучие руки несколько раз пробили защиту
Джека. Ведя расчетливую атаку, не давая противнику
передышки, чемпион рано или поздно должен был вымотать его
силы, чтобы потом, улучив момент, «достать» его своим
тараном.
С этого раунда ставки на Джимми еще повысились. Джек
при всей своей ловкости и увертливости был скуп в
движениях. В своей защите Берне прикрывался. Джек, словно
провоцировал удар и почти не прикрывался, надеясь на свои
молниеносные уходы и угрожая встречными хуками. За первые
пять раундов он не получил ни одного серьезного удара, хотя
Берне все время атаковал. Почти незаметное отклонение
головы или корпуса в сторону, назад или вперед, и удар
проносился мимо, на расстоянии какою-нибудь сантиметра от цели.
Движения Джека так же быстры и неуловимы, как движения
пальцев фокусника во время сеанса.
После пятого раунда Берне сказал мэнеджеру:
— У него большая выдержка и спокойствие. Придется с
ним повозиться.
Тогда мэнеджер нагнулся к его уху и что-то шепнул.
— Попробуйте, — ответил чемпион.
Мэнеджер вынул из кармана белый носовой платок, снял
шляпу и, прежде чем вытереть со лба пот, сильно встряхнул
платок в воздухе. Тотчас же со всех сторон раздались крики:
— Кунь! Кунь! Кунь!
Боб в этот момент хотел что-то сказать, но рот его так и
остался открытым. У него задрожала нижняя челюсть. Джек
Мэнеджер — управляющий, импрессарио.
76
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
изменился в лице. Слово «кунь» — название черного
вонючего животного — относилось к ним. Самое страшное
оскорбление для цветнокожих. Это было уже слишком. Джек
вырвал из рук Боба полотенце, которым он его обмахивал, и
соскочил со стула. Боб тоскливо оглядывался по сторонам, как
бы умоляя публику прекратить это безобразие.
— Они хотят меня вывести из равновесия. Ладно. Я им
доставлю это удовольствие, — глухо произнес Джек.
С дубинками в руках показались полисмены. Сильный удар
в гонг прекратил шум. Куда девались хладнокровие и
выдержка Джека? Как бешеный, носился он по рингу, нападая на
Бернса. Кулаки его в черных перчатках мелькали, как мячи
жонглера. Растерянный Боб с ужасом следил за его
движениями. Возбужденные зрители не в состоянии были сразу
успокоиться, и за общим шумом Джек не мог слышать голоса дяди.
Да и вряд ли это успокоило бы его. Боб с отчаянием видел,
что бешеная атака племянника не производила на Бернса
никакого впечатления. Это была попросту трата сил. Чемпион был
неуязвим. По рингу двигалось его огромное и, казалось,
безголовое туловище, временами выбрасывающее длинные
могучие руки.
— Джек! Джек! — шептал Боб. — Что ты делаешь?! Что
ты делаешь?!
— А! — вскрикнул Боб.
Джек нарвался на удар в челюсть. Он упал на колено.
С криком: «Гурей! Джимми, Гурей!» — партер вскочил на
ноги.
На четвертой секунде, при счете рефери «четыре», Джек
встал... Его движения стали значительно медленней
— Что, съел? — «кричали с мест.
— Скажи спасибо! Это тебе на пользу!
— Пари. Сто против одного, что негр уснет в следующем
раунде! — кричал потный краснощекий мистер с огромным
сверкающим бриллиантом в галстуке.
Удар, нанесенный чемпионом, повидимому, помутил
сознание Джека. Впервые за все свои бои на ринге негр прикрыл
лицо перчатками »и почти надвое согнулся.
Джек был жалок. Джек превратился в мешок для ударов.
У Боба выступили на глазах слезы.
— Тайм * — перерыв...
Небрежно развалившись на стуле, усердно обвеваемый
двумя полотенцами, чемпион с наслаждением подставлял свое
1 Т а й м — время.
ПОЩЕЧИНА
77
разгоряченное тело освежающему ветерку. Сияющий мэне-
джер подмигнул чемпиону:
— Ол-райт?
— Ол-райт, — мигнул в ответ Берне.
А напротив него, устало раскинув руки на канатах и
запрокинув голову, тяжело дышал Джек. Боб, смешно
сгорбившись, вяло, словно через силу, помахивал полотенцем. Его
фигура смешила публику.
— Эй, горбатый! Помахай лучше своими штанами!
— Махай не махай, ничего не вымахаешь!
— Дуй на него! Дуй!
И снова хохот.
Старый Боб обалдел от шума и переживаний. Ему было
так стыдно за племянника, что он готов был провалиться
сквозь землю. Он даже не успокаивал Джека.
— Не волнуйся, дядя, — услышал он злой шопот. — Я их
дурачу...
Боб поднял голову. В черных глазах племянника таилась
свирепая и вместе с тем лукавая усмешка.
— Но это рискованно! Ты потеряешь контроль над собой.
— Я спокоен, как никогда, — твердо сказал Джек. — И я
их изведу.
Боб недоуменно пожал плечами.
В седьмом раунде чемпион не давал Джеку ни
передышки, ни возможности притти в себя. В воздухе стоял
сплошной гул от криков и аплодисментов.
— Кончай его! Кончай! — кричал мистер с бриллиантом на
галстуке.
Боб опустил глаза. Лицо его болезненно морщилось. И вот
грохот падающего на помост тела, зловеще напряженная
тишина и четкий счет рефери:
— Раз, два, три, четыре...
Боб решил поднять глаза. «Притворяется?» — недоумевал
он. Над распластанным телом Джека рефери считал секунды.
На четвертом счете тело Джека зашевелилось, на пятом,
опираясь на руки, приподнялось, на шестом снова бессильно
упало.
— Прощай, Джек! — кричал голос из публики. —
Спокойной ночи!
— Семь, восемь, девять, — продолжал рефери.
«Доигрался», — с ужасом подумал Боб и вдруг ахнул, а
вместе с ним ахнули и все сто тысяч человек. Перед
последним, десятым, счетом Джек вскочил с такой быстротой, какой
позавидовал бы лучший акробат. Эластично и мягко ступая
78
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
по рингу, он смеялся, сверкая белизной зубов. Он был £веж
и бодр, как в начале боя. В задних рядах дружно захлопали
и кричали:
— Ура! Джек! Ура!
Обманутый партер ответил звериным ревом и воем.
— А здорово я сыграл? — весело спрашивал) Джек во
время перерыва. — Смотри, что делается. Настоящий зверинец.
Действительно, люди потеряли человеческий облик:
налитые кровью лица, оскаленные зубы, озверелые глаза.
Джек смеялся. Но Боб был мрачен.
— Мальчишество, — ворчал он. — Мальчишество. Разве
можно так рисковать? Безумие,..
— Погоди, не то еще будет, — ответил Джек. —
Посмотрим, кто кому больше испортит крови. Посмотрим.
— Спокойно. Спокойно. Без глупостей. Умоляю. Ради меня.
Ради твоей матери! —чуть не плакал старик.
Чемпион мира несколько побледнел и растерялся. В
следующем раунде он пятился, как испуганный медведь перед
укротителем, и даже не заметил, как очутился прижатым к самому
углу ринга. Но Джек не воспользовался его замешательством.
Иронически улыбаясь, он жестом предложил ему выйти на
середину. В задних рядах бешено захлопали. Но оттуда же
слышались и предостерегающие голоса. В течение всего раунда
Джек был необычайно вежлив, загоняя чемпиона в тяжелое
положение и всякий раз давая ему возможность выправиться.
Это редкое в истории бокса благородство производило на
джентльменов обратное действие. Они изрыгали
проклятия...
— Не смущайтесь, — говорил после этого раунда мэне-
джер чемпиону, — у вас еще имеется главный козырь —
таран. Времени еще более чем1 достаточно.
В партере, словно догадавшись, о чем идет речь,
истерически заорали:
— Таран! Таран! Таран!
Это была последняя надежда тех, кто поставил на него
десятки, сотни и тысячи долларов. Пусть только он «достанет»
негра...
Чемпион мира решительно встал. Медвежьи глаза его
сверкали. Во всей его фигуре чувствовалась настороженность
и угроза. Прикрывшись, он пошел на негра. Публика затихла,
згтаила дыхание. По рингу зловеще кружились гризли и тигр.
Но тигр не нападал. Он отскакивал, увертывался.
При всей осторожности они все же нанесли друг другу
несколько ударов. Джеку удалось нанести больше ударов, по
ПОЩЕЧИНА
79
ведь чемпион и не гонялся за количеством. Не в этом, так в
следующем раунде он достанет негра.
— О-о!—прокатилось по всем рядам. Это чемпион, улучив,
наконец, момент, двинул тараном свою могучую, быструю,
тяжелую, как бревно, руку. Джек едва увернулся.
— Осторожно... Осторожно... — уговаривал Джека после
этого раунда Боб. — Помни, с кем ты имеешь дело. Этот
левша опасен.
В ответ Джек только подмигнул,
— Погоди, дядя... еще не то будет...
— Не надо. Не надо. Именем твоей матери прошу тебя, —•»
слабым голосом умолял старик. За какие-нибудь тридцать
минут он заметно осунулся и постарел.
— Таран! Таран! Таран! — просил, приказывал, проклинал
партер.
Чемпион преобразился, сосредоточился. Ложными
выпадами, хитрыми комбинациями, будто нечаянно обнажая то или
иное опасное место, чтобы «отвести» глаза, внезапно со
страшной силой бросал он вперед свой решающий таран. Джек пока
удачно избегал смертоносного удара, но Бобу эта игра
казалась слишком опасной.
В напряженной атмосфере прошли девятый и десятый
раунды.
Одиннадцатый раунд... Нервы зрителей напряглись до
предела. Джек попытался контратакой сломить инициативу
Джимми, но не мог преодолеть напора чемпиона. Улыбка
сошла с его лица.
«Боится или дурака валяет?» — пытался определить
Боб.
— Боишься, кунь, — злорадно прохрипел Джимми.
— Джимми, убей ею! Убей!
«Убей!» Одной победы было мало публике. Она хотела
крови.
— Ну-ка, разыграй нас теперь! Разыграй!
Дикие голоса заглушали протестующий шум задних рядов,
и только один отчаянно пронзительный крик резко выделился
в этом невнятном гаме:
— Не надо! Не надо!
Это кричал старый Боб. С судорожно искаженным лицом
он кинулся к рингу.
Общий крик изумления поднял на ноги всех и даже жюри.
Отскочив гигантским прыжком на середину ринга, Джек
опустил руки. Он явно «подставил» себя под удар.
Даже чемпион опешил. Но это продолжалось какую-нибудь
80
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИИ
долю секунды. Он искоса метнул вопросительный взгляд на
мэнеджера. Тот, стиснув зубы, налившись кровью, нетерпеливо
и злорадно кивнул головой. Это означало: «Не рассуждай.
Бей». Ближайшие к рингу зрители открыли рты, словно они
сами получили жестокий удар в солнечное сплетение.
Джимми выбросил вперед свою страшную руку, вкладывая
всю свою силу в окончательный удар, но в то же мгновение
Джек нььрнул под его руку и ответил контрударом!. Ноги
Джимми отделились от земли. Он был подброшен в воздух
ударом чудовищной силы. Шумно, как огромный тюк,
шлепнулся оземь чемпион мира...
Он лежал лицом вверх, пластом.
— Раз... Два... Три... — начал считать секунды рефери,
явно медленнее, чем следовало.
— Вставай! Вставай! Вставай! — разом в такт закричали
тысячи голосов.
Чемпион мира, белый чемпион, лежал у ног негря
Джек спокойно стоял, добродушно улыбаясь.
Этой улыбки джентльмены не могли вынести.
— Пять... Шесть...
— Вставай! Вставай! Вставай!
— Восемь... Девять...
Чемпион чуть пошевелил головой.
— Десять.
— Нокаут! — точно вопль, пронеслось над амфитеатром!.
Джимми быстро унесли с ринга. Тогда рефери, с постным
лицом, нехотя взял руку негра и под восторженные крики и
аплодисменты задних рядов поднял ее вверх. Это означало
победу.
Негр Джек Моррисон стал абсолютным чемпионом мира.
С неизменной улыбкой на губах он насмешливо махнул рукой
партеру.
Это взорвало джентльменов. Полиция с трудом
сдерживала натиск орущей толпы. Партер рычал и рвался к негру.
— Уйдем, Джек! Уйдем! Пристрелят! — тащил
племянника Боб.
— Уйдем!
Вечером в гостинице появились какие-то подозрительные
люди. Они искали номер, в котором остановился Джек.
Дежурный ответил, что негр скрылся тотчас же после
матча. Ругаясь, таинственные люди ушли. А Джек и Боб в это
время в экспрессе мчались на север. На следующее утро в
купе, Джек *вслух читал рабочую газету.
ПОЩЕЧИНА
81
Камрэд писал:
«Шум, поднятый вокруг матча реакционной печатью, имел
двояко гнусную цель: заглушить шум борьбы шахтеров и
предпринимателей и одновременно натравить белых на цветнокожих.
Если первая подлость в значительной степени им удалась, то
во второй они потерпели фиаско. Цветнокожий Джек
Моррисом нанес варварам пощечину, прокатившуюся громом по всей
стране. Мужественный Джек показал настоящее человеческое
достоинство. Победа Джека не только победа на ринге — это
и политическая победа. С этой победой от всего сердца
поздравляет его и крепко жмет ему руку каждый сознательный
рабочий».
Джек бережно сложил газету. Старый Боб смущенно
вытирал влажные глаза.
1913 г.
В. МАЯНОВСНИЙ
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
(Отрывии)
МЕКСИКА
ДВА СЛОВА
Моя последняя дорога—Москва, Кенигсберг (воздух),
Берлин, Париж, Сантназер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь
(Испания), Гаванна (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити,
Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт,
Питсбург, Кливланд (Северо-Американские Соединенные
Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рита, Москва.
Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами
почти заменяет мне чтение кн»иг.
Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных
интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи,
интересные сами по себе.
Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и
подробно частности.
Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.
18 дней океана. Океан—дело воображения. И на море
не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в
домашнем обиходе, »и на море не знаешь, что под тобой.
Но только воображение, что справа нет земли до полюса
и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый,
второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это
воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан
скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо
поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути
из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан,
белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду.
Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в
океане, — и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч.
Потом— опять пловучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и
86
В. МАЯКОВСКИЙ
опять шювучие губки Саргассова моря, а в редкие
торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая
(даже до тошноты) вода и вода.
Океан надоедает, а без него скушно.
Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб
успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали
медяшки люков.
Пароход «Эспань». 14 000 тонн. Пароход маленький,
вроде нашего «ГУМа». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-
столовая, библиотека, концертный ?.ал и газета.
Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой
странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание
отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да
жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио,
вроде: «В Марокко все спокойно».
Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю
ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает
джаз:
Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркина,
не любишь меня...
Классы—самые настоящие. В первом — купцы,
фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди
странные: турки по национальности, говорят только
по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских
фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это —
сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за
грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали
индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра
к европейской цивилизации, на гавайских плантациях сгибают
в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий
и во второй идут только если за хорошенькими девочками.
Второй класс — мелкие комми-вояжеры, начинающие
искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда
незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого
класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь:
воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и
почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов.
Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики,
негры.
Сами наверх не суются, У заходящих с других классов
спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?» Отсю-
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
87
да подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая
вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных
кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и
топот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись ты,
кисанька моя, заплаканная».
Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в
шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину,
закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, — надо
угадать, кто хлопнул из всей гурьбы, и узнанный заменяет
избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.
Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а
третий — сам на себя.
Событий никаких.
Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете
отправить радио в Европу.
А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги,
занят и другими делами: разносит бумажку с десятью
цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра
пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из
этого морского тотализатора.
Мое незнание языка и молчание было истолковано как
молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня,
всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром
почему-то орал: «Хорош Плевна»,— два слова, заученные им от
еврейской девочки с третьей палубы.
Накануне приезда в Гаванну пароход оживился. Была дана
«Тамбола» — морской благотворительный праздник в пользу
детей погибших моряков.
Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял
имя купца Макстона, пожертвовавшего 2 000 франков, — имя
это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона
под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его,
М а кетоновой, фамилией, тисненной золотом.
Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые
первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.
Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт
англичан и американцев. Боксировать никто не умел.
Противно—бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок —
голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках
на голую ногу.
Кока били долго. Минут пять он держался от умения ю
еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился,
опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.
Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо
открывавший грудь. — с американцем-сыщиком. Сыщика, профес-
88
В. МАЯКОВСКИЙ
сионального боксера, разбирал смех, — он размахнулся, но от
смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо
сросшуюся после войны.
Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного
сыщика. BceMi объявлялось по секрету, что сыщик со
специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Га-
ванне, а безрукому никто не поможет, — зачем он
американской полиции?
Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в
соломенном шлеме оказался одесским сапожником-
евреем.
А одесскому еврею все надо, — даже вступаться за
незнакомого сыщика под тропиком Козерога.
Жара страшная.
Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась потом.
Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали
и крутили головой — обмахивая первый класс.
Третий класс теперь ненавидел первый еще и зато, что ему
прохладнее на градус.
Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к
белой — и стройками и скалами — Гаванне. Подлип
таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской
картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом
выуживал ананас веревочкой.
На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на
чисто русском языке: «куда ты прешь со своей ананасиной,
мать твою...»
Гаванна. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля
нет, а его надо на шесть дней езды туда и обратно по
Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали
немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче
сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов
подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных
негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные,
хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.
Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег
нравящихся капитану. Чаще —женщин.
Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе,
в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к
липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.
К моменту спуска полил дождь, никогда невиданный мной
тропический дождина.
Что такое дождь?
Это — воздух с прослойкой воды.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
89
Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой
воздуха.
Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в
огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до
потолка начинен «виски». Таинственные надписи: «Кинг Жорж»,
«Блэк энд уайт», «Уайт хоре» — чернели на ящиках спирта,
контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые
Соединенные Штаты.
За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов
и гниющих фруктов.
За портовой полосой — чистый, богатейший город мира.
Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря
черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая
ее за хвост над собственной головой. Другая сторона —
мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров,
испанцев и русских рабочих.
А в центре богатств — американский клуб,
десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки
владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной,
Южной и Центральной Америкой.
Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост:
длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей
Вед ад о, перед их особняками, увитыми розовыми калларио,
стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев
берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие
полицейские.
Все, что относится к древней экзотике, красочно, поэтично
и малодоходно. Например, красивейшее кладбище
бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-
то сплетшихся тропических бородатых деревьев.
Все, что относится к американцам, прилажено, прилежно и
организованно. Ночью я с час простоял перед окнами
гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут
почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте
носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и
телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму,
передает телеграфисту и возвращается от него с последними
курсами мировых валют. И в полном! контакте с нею, от тех
же двигателей вертятся и покачивают головами
вентиляторы.
Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по
эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясчо—
название улицы. Только через месяц я узнал, что «трафико» на
тысячах улиц просто указывает направление автомобилей.
Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади
90
В. МАЯКОВСКИЙ
меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит
о помощи. Оборванец удивился.
— Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву
Франсе?
Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб
отвязаться: «Ай эм реша!»
Это был самый необдуманный поступок. Оборванец
ухватил обеими руками мою руку и заорал:
— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!
Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.
Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.
Как украшает гимн людей,—даже купцы стали серьезны,
вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:
Будь готов, мексиканец,
вскочить на коня...
К ужину давали незнакомые мне еды—зеленый кокосовый
орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго-
шарж на банан, с большой волосатой косточкой.
Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по
правой руке, — это горели железнодорожные огни Флориды.
На железных столбах в третьем классе, к которым
прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская
машинистка. Машинистка говорила со слезой:
— Нас сократили, я голодала, сестра голодала,
двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год
плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У
сестры — ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел,
а вызвал к себе. Пришли, говорит — раздевайтесь. Сидит с
кем-то и смеется. В Гаванне хотели слезть зайцами —
оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в
Александрии. Мы — третьи. Этого и в Одессе не бывало. Два
года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные
Штаты... Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.
Мексика. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими
низкими домишками. Круглая беседка для встречающих
рожками музыкантов.
Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас
прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиар-шин-
ных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки, с но-
сильщическими номерами, дрались друг с другом из-за*
чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей.
Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.
— Где же индейцы? — спросил я соседа.
— Это индейцы, — сказал сосед.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
91
Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-
Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами
павлинов переделывают в куриц.
Я был хорошо вознагражден за первое разочарование.
Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая
жизнь.
Первое —красное знамя с серпом и молотом в окне
двухэтажного дома.
Ни к каким советским консульствам это знамя никак не
относится. Это «организация Пораля». Мексиканец въезжает
в квартиру и выкидывает фла<г.
Это значит:
«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду».
Вот и все.
Попробуй — вышиби.
В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые
люди. Можно итти и по солнцу, но тогда тихо, тихо—иначе
солнечный удар.
Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая
ноздри и рот — чтобы наверстать нехватку разреженного
воздуха.
Вся жизнь, и дела, и встречи, и еда — все под холщевыми
полосатыми навесами на улицах.
Главные люди — чистильщики сапог и продавцы
лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог, — не знаю.
Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни
чистке, ни описанию, А на каждого имеющего сапог —
минимум 5 чистильщиков.
Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с
отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных
билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с
массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то
своеобразная полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как
в Москве подсолнухи. В Вера-Kpyu не задерживаются долго:
покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за
плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики —
Мехико-сити.
В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена
правительств (за отрезок времени в 28 лет — 30 президентов)
подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и
мешки.
В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов.
А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком,
разве не покуситесь?
На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа
92
В. МАЯКОВСКИЙ
с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу,
зеленые мундиры и лакированные желтые краги.
Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже,
не знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами.
Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат,
хвастается десятью тысячами. А получив на десять, продает ему и
амуницию девяти.
Если генерал против президента, он щеголяет статистикой
в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.
Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска
отвечает:
— Кин сав, кин сав. Кто знает — кто знает. Может, 30
тысяч, но возможно — и сто.
Войско живет по-древнему — в палатках со скарбом, с
женами и с детьми.
Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во
время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но
есть маис, а другие без маиса, но с патронами—армии
прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся
маисом, другие наполнят патронами сумки — и снова
раздувают бой.
По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть
чего испугаться.
Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и
большими клювами, они подымались над нами.
Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; ихнее дело —
всякий отброс.
Отъехали в девять вечера.
Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая
красивая в мире. На высоту 3 000 метров вздымается она по
обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не
видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь
необыкновенна.
В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела
пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники.
Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды.
Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные
небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды
светляков.
Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь,
ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапи» — пестрых
коврах, прорезанных посредине, чтобы просунуть голову и спустить
концы на живот и за спину.
Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.
Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, —
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
93
странная помесь вони газолина и духа гнили банана и
ананаса.
Я встал рано. Вышел на площадку.
Было все наоборот.
Такой земли я не видал и не думал, что такие земли
бывают.
На фоне красного восхода, сами окрапленные красным,
стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в
бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов.
Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места,
вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку —
«пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем,
в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами,
орган консерватории, только темнозеленый, в иголках и
шишках.
По такой дороге я въехал в Мехико-сити....
Город Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти
все домики — ящиками. Розовые, голубые, зеленые.
Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским! песком на
заре. Фасад дома скучен, вся его красота — внутри. Здесь дом
образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой
цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая
дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью,
увешанная горшками с ползучими растениями и клетками
попугаев.
Целое огромное американское кафе Самборн устроено так:
застеклена крыша над двориком — вот и все.
Это — испанский тип домов, завезенный сюда
завоевателями.
От старого восьмисотлетнего Мехико, — когда все это
пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное ьул-
канами, и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный
город-дом-коммуна, тысяч на 40 человек,—от этого
ацтекского города не осталось и следа.
Зато масса дворцов и домов первого завоевателя
Мексики — Кортеса и его эпохи, недолгого царя Итурбиды, да
церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10 000 расставлено
в Мексике.
И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама, от
кафедраля на площади Сокола до маленькой церковки в
старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей. Она
брошена лет двести назад после сражения монахов с кем-то, —
вот и стоит дворик, в котором еще и сейчас валяется
допотопное оружие, в том порядке,—вернее, беспорядке, — в котором
побоосали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг
94
В. МАЯКОВСКИЙ
на деревянных подставках носятся летучие мыши и
ласточки.
Правда, упомянутым кафедралем для молений пользуются
мало, — у кафедраля с одной стороны вход, а с
другой—четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и
синьориты пользуются собором как проходным двором для
того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление
религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия
любовника или под руку поклонника.
Хотя церковные земли конфискованы, процессии
религиозные запрещены правительством, но это остается только на
бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество
своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество
дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.
Это — дома и здания, на которых останавливаются гиды и
Куки. Дома истории — дома попов и дома богатых.
Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких
подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу,
как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих
домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи
из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.
Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода
заливает пропитанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими
лужами.
Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис,
продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными
тряпками, на которых ночью спит сам торговец.
Взрослые, у которых еще есть 12 сантимов, сидят в «пуль-
керей» — этой своеобразной мексиканской пивной,
украшенной коврами сарапи с изображением генерала Боливара, с
пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.
Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок.
И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с
одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей,
охотников за скальпами! Это, — обобранная американскими
цивилизующими империалистами страна,—страна, в которой до
открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось
драгоценным металлом, — страна, в которой сейчас не купишь и
серебряного фунта, а должен искать его на Уолл-стрит в
Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На
севере Мексики во владении американцев и густые железные
дороги и проммцлевность по последнему техническому
слову.
А экзотика — на кой она чорт! Лианы, попугаи, тигры и
малярии, это—на юге, это—мексиканцам. Что американцам?
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
95
Тигров, что ли, ловить да стричь шерсть на кисточки для
бритья?
Тигры — это мексиканцам. Им — голодная экзотика.
Самая богатая страна мира, уже посаженная
североамериканским империализмом на голодный паек.
Жизнь города начинается поздно, в 8—9 часов.
Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные
мастерские, все электрифицированные, со станками для
обпиливания и крашенья каблуков, с утюгами для глажения
сразу всего костюма. За мастерскими — правительственные
учреждения.
Масса такси и частных автомобилей вперемежку с
демократическими тряскими грузными автобусами, не
комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.
Авто конкурирует с автобусами и авто разных фирм
между собой.
Эта конкуренция при больше чем страстном характере
испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы.
Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом,
а все сообща въезжают на тротуары, охотясь за
необдуманными пешеходами.
Мехико-сити — первый в мире город по количеству
несчастных случаев от автомобилей.
Шофер в Мексике не отвечает за увечия (берегись сам!),
поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз
в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленныев
течение двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет
уже раздавлены.
В отличие от врагов мексиканского
человечества—автомобилей — трамваи исполняют гуманную роль. Они развозят
покойников.
Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими
родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта
процессия жарит во-всю с массой звонков, но без остановок.
Своеобразная электрификация смерти!
Сравнительно с Соединенными Штатами народу на улицах
мало, — домишки маленькие с садами, протяжение города
огромное, а жителей всего 600 тысяч.
Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна.
Мексиканец из электрических лампочек накидывает лассо на
коробку папирос. Да две такси украшены изогнувшейся в плавании
женщиной — реклама купальных костюмов.
Единственная реклама, которую любит малоудивляющнйся
мексиканец, это «барата»—распродажа. Этими распродажами
заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее объ-
96
В. МАЯКОВСКИЙ
явить — без распродажи мексиканца не заставишь купить
даже фиговый лист.
В мексиканских условиях это не шутка. Говорят,
муниципалитет повесил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити,
для усовещивания чересчур натуральных индейцев вывеску:
I В МЕХИКО-СИТИ I
БЕЗ ШТАНОВ
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для
заезжих, скупающих сувениры сухопарых американок» К их
услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапи, от которых
будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисненым
ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоящих
попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается
перед машинными магазинами немцев, бельевыми—французов,
мебели — американцев.
Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда
в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, тэ
густота их заставила думать, что мы во Франции.
Наибольшими торговыми симпатиями пользуются
Германия, немцы.
Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь
всеобщим хлебосольством только из любви к его
национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я
видел типографские машины, привезенные недавно, только v*
немецкими клеймами, — хотя до Америки сутки, а до Гамбурга
езды 18 дней.
До 5—6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед
парикмахерскими в Америке вертушки—стеклянный цилиндр
с разноцветными спиралями, реклама мексиканских
парикмахерских. Другие в чистильню сапог. Длинный магазин с
подставками для ног перед высокими стульями.
Чистильщиков на 20.
Мексиканец франтовит—я видел рабочих, которые
душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье
разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы
загораются электричеством, которого здесь жгут больше чем где бы
то ни было, — во всяком случае больше, чем позволяют
средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за
крепость и благополучие существования под нынешним
президентом.
В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются
несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабач-
За слово правды. . .
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
9/
ки, — ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Ча-
пультрапек, в котором дворец президента, уже не пускают.
По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не
всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах,
пользуясь кольтом как штопором. Отшибают бутылочьи
горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на
пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать,—вынувший
застреливает честно. В саду Чапультрапек стреляют
обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду
президентский дворец), стрелять после третьего
предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают
предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без
энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета
публикует с удивлением:
«Сегодня убийств не было».
Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания
такой: становишься животом к животу и похлопываешь по
спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк
всегда прохлопнешь увесистый кольт.
Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста...
Нью-Йорк. — Москва. Это в Польше? — спросили меня в
американском консульстве Мексики.
— Нет, — отвечал я, — это в СССР.
Никакого впечатления.
Визу дали.
Позднее я узнал, что если американец заостривает только
кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он
может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи
ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.
Лоредо — граница С.-А.С.Ш.
Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки)
полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего
въезда.
Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и,
наконец, обращается по-русски:
— Ты — жид?
Я опешил.
В дальнейший разговор американец не вступил за
неимением других слов.
Помучился и минут через десять выпалил:
— Великороссь?
— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в
американце отсутствие погромных настроений. Голый
анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять
минут:
7 Вот она, Америка
98
В. МАЯКОВСКИЙ
— На комиссию.
Один джентльмен, бывший до сего момента штатским
пассажиром, надел форменную фуражку и оказался
эмиграционным полицейским.
Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы
подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем
сидел человек без пиджака и жилета.
За человеком были другие комнаты с решетками. В одной
поместили меня и вещи.
Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками
загнали обратно.
Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.
Сижу четыре часа.
Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.
Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я
назвал французский.
Меня ввели в комнату.
Четыре грозных дяди и француз-переводчик.
Мне ведомы простые французские разговоры о чае и
булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни
черта и только судорожно ухватился за последнее слово,
стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.
Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не
понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.
Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово
француза.
Оно оказалось:
— Клятва.
Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока
найдут русского.
Через два часа пришел француз и возбужденно утешал
меня:
— Русского нашли. Бон гарсон.
Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный
еврей, владелец мебельного магазина.
— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать
разговор.
Переводчик равнодушно махнул рукой:
— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же
вы хотите врать, так вы же все равно не скажете правду.
Взгляд резонный.
Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья
фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п.
Совершенно позабытые вещи!
Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвав-
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
99
шись до русского языка, я, разумеется, понравился
переводчику.
Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста
под залог в 500 долларов...
Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не
останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом
вылизанные дороги, измурашенные фордами, какие-то строения
технической фантастики. На остановках виднелись техасские
ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах,
с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные
станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых,
половина—для черных, «фор нигрос», с собственными
деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже
случайно залезть на чужую сторону!
Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро,
перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд,
и несся опять по правой.
Это — сторожевые пограничные американские аэропланы.
Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных
Штатах.
Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в
ночной рекламе над Нью-Йорком.
Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.
Могущественные железнодорожные компании даже
каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для
агитации против полетов.
Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в
Нью-Йорке) воздушным кораблем Шенандоу, когда
тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю
вместе с окрошкой оболочки и стальных тросов.
И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских
полетов.
Может, только сейчас мы накануне летающей Америки:
Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-
Йорке в универсальном магазине Ванамекер, — там, где много
лет назад был выставлен первый авто-фордик.
Нью-йоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят
крылья, — но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать
широкого потребителя. А пока что аэропланы взлетали до Сан-
Антонио, потом пошли настоящие американские города.
Мелькнула американская Волга, — Миссисипи, — огорошил
вокзал в Сан-Луисе, и новью в просветах двадцатиэтажных
небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное
рекламное нежалеемое, неэкономное электричество.
Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Боль*
7*
100
В. МАЯКОВСКИЙ
ше, чем вывороченная природа Мексики, поражает
растениями и людьми и больше ошарашивает вас выплывающий из
океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой.
Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один
вокзал, но хотя и был приучаем трехдневным проездом по
Техасу — глаза все-таки растопырил.
Много часов поезд летит по Гудзонову берегу шагах в
двух от воды. По той стороне — другие дороги у самого
подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики.
Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней
прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков,
угольных станций, электрических установок, сталелитейных
и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в
непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных
ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши
нарастает по этажу. Наконец дома подымаются колодезными
стенками с квадратами, квадратиками и точками окон.
Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще
теснее, как будто щекой трешься об этот камень.
Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза
не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвения-
стэшен.
На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты
и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галлерей,
балконов с машущими платками встречающей и провожающей
массы.
Американцы молчат (или, может быть, люди только
кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят
рупоры и радио о прибытиях и отправлениях.
Электричество еще двоится и троится белыми плитками,
выстилающими безоконные галлерей и переходы,
прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и
никогда не закрывающимися всеми магазинами — от
мороженных и закусочных до посудных и мебельных.
Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь
этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору,
находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом
Нью-Йорке, в каком-нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт
Бьюльдинг, и у вас совиный характер—вам незачем вылазить
из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный
лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвения-отель,
гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.
Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки,
телеграфы, любые товары — все найдешь здесь, не выходя за
пределы отеля.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
101
Здесь же сидят какие-то смышленые маменьки с
недвусмысленными дочерьми.
Иди танцуй.
Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте
громадного театра после длинной скучной пьесы.
Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите
экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы
в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж
без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас
обратно на вокзал, под потолок — небо пенсильванского вокзала,
под голубое небо, по которому уже горят Медведицы,
Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может
ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-
диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-
Йорк.
Еще поразительнее возвышающийся несколькими квартал
лами вокзал Гранд-Централ.
Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей.
Дымящий паровоз сменен чистеньким, неплюющимся
электровозом, — и поезд бросается под землю. С четверть
часа под вами еще мелькают увитые зеленью решетки
просветов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это
кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов
и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами,
долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые
блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то
зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям —
задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов.
Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой
русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а по*
том начинают реветь и голосить:
— Пропали, братцы! Живьем в могилу загнали, куда ж
отсюда выберешься?
Приехали.
Над нами ярусы станционных помещений, под залами-^
этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под
нами еще подземное трехэтажие собвея...
Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни.
6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.
Одеваешься при электричестве, на улицах —
электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как
рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и
цветные мигающие регуляторы движения двоятся, троятся и
десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем.
102
В. МАЯКОВСКИЙ
В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то
авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается
свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не
задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих
Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. G
боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких
стритов, также по линеечному ровно режущих Мангеттен поперек
от воды к воде. Под навесом, — а в бездождный день
просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет,
развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь
газетчиками.
По маленьким кафе холостые пускают в ход машины
тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан
паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях
экземпляров кидает булкоделательная машина в кипящий и
плюющийся котел сала.
Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари —•
черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные,
мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белый. Они
идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих
работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными
самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не
могут потухнуть даже под этим дождем.
Автомобилей, такси еще почти нет.
Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые
ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя
по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими,
почти безостановочными, и местными через каждые пять
кварталов останавливающимися поездами.
Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на
трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до
восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с
площадей и улиц вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил
в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же
увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле,
во избежание фальши.
5 центов, — и езжай на любое расстояние, но в одном
направлении.
Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся
сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни
неба, ни боковых домов, — только грохот поездов по голове
да грохот грузовозов перед носом, — грохот, в котором
действительно не разберешь ни слова, и, чтобы не разучиться
шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую
жвачку, чуингвам.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
103
Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет
ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники
великой армии труда десятимиллионного города.
Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и
дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по
бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы
заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с
подавляющей примесью стриженых, голоколенных, с закрученными
чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий
магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов
Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный
ход десятков лифтов.
Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в
каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до
семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы
указывают вам этаж, на котором сейчас лифт, — лампы,
отмечающие красным и белым спуск и подъем.
И если у вас два дела,— одно в седьмом, другое —
в двадцать четвертом этаже, — вы берете местный (локал) до
седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут —
пересядьте в экспресс.
До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков,
растут в бумагах столбцы цифр.
Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее
устройством.
Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:
— Алло! Приготовьте к завтрему контору в 6 комнат.
Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и
знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских
подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со
звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков
вышеупомянутого названия.
— Гуд бай.
Завтра вы можете итти в свою контору, и ваши
телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:
— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.
В час перерыв: на час для служащих и минут на
пятнадцать для рабочих.
Завтрак.
Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты.
Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете
за никель и грызут его со всем молодым усердием.
Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический
трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку
выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля
104
В. МАЯКОВСКИЙ
открывают на огромных, уставленных едой полках одну из
стеклянных дверок сандвичей.
Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и
яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам —
кафе Рокфеллера.
Сто долларовые и выше идут по ресторанам всех
национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским,
индусским — по всем, кроме американских безвкусных,
обеспечивающих катарры консервированным мясом Армора,
лежащим чуть не с войны за освобождение.
Стодолларовые едят медленно, — они могут и опоздать
на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки
от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для
компании); другой стеклянный или серебряный пузырек,
плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане
оружием любви и дружбы наравне с мексиканским
кольтом.
Как ест рабочий?
Плохо ест рабочий.
Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо
зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают
сглодать у станка или перед заводской сменой на улице свой
сухой завтрак.
Кодекс законов о труде с обязательным помещением для
еды пока на Соединенные Штаты не распространился.
Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной,
литературой прославленной организованности, методичности,
быстроты, хладнокровия.
Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела.
Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему.
Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас
окружит толпа, с трудом усовещиваемая полицейским!.
Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно
мирит меня с нью-йоркской толпой.
Снова работа до пяти, шести, семи вечера.
От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое
время.
Окончившие труд еще разбавлены покупщиками,
покупщицами и просто фланерами.
На люднейшей 5-й авеню, делящей город пополам, с
высоты второго этажа сотней катящихся автобусов, вы видите
политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком
десятки тысяч в шесть-восемь рядов рвущихся в обе стороны
автомобилей.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
105
Каждые две минуты тушатся зеленые огни на
бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.
Тогда машинный и человеческий поток застывает на две
минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.
Через две минуты опять на маяках загорается зеленый
огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на
углах стритов.
Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку,
которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты
надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь
немедля улицу.
Когда вы запаздываете перебежать и видите
срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы,
забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, —
крыло так сказать: на самом деле это — хорошая рука одного
из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой пал-»
кой — клобом.
Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда
она (во время демонстрации, например) — способ вашей
остановки. Добрый удар по затылку, ивам все равно: Нью-Йорк ли
это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.
С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая
улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и
авеню одна своенравно и нахально прет навкось. Запутаться в
Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню,
на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам
на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню,
мне нужна 53-я, угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и
сверни направо, до угла 2-й.
Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвеище
(здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а
часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер,—это,
как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый
путь.
Он действительно белый, и ощущение действительно
такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел,
а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи.
Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам»,
свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся
магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеванные плакаты,
свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров,
несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающих под
ногами в стеклянных окнах тротуаров, свет подземных
поездов, свет рекламных надписей в небе.
Свет, свет и свет.
706
В. МАЯКОВСКИЙ
Можно читать газету и притом у соседа и на
иностранном языке.
Светло и в ресторанах и в театральном центре.
Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева
или готовящиеся к этому.
Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в
бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах —
на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами —
грязь почище минской. В Минске очень грязно.
Стоят ящики со всевозможными отбросами, из
которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски.
Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего
дождя.
Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по
щиколку, а по-настоящему, всамделишно.
Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей
5-й авеню и Бродвея.
Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.
Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь
обязательно грохочет—или труд, или выстрелы, или крики.
Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый
дом за трубу выволакивающие из трюма.
Ходят пикетчики в забастовку, не допуская
штрейкбрехеров.
Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта
объявил забастовку в солидарность бастующим морякам
Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день
приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.
Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Ма-
жестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый
адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической
партии Морис Гилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-
добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.
Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего
на какой-то конгресс генерала,—усмирителя Ирландия,—и его
выводили задворками.
А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным
пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания»
и другие гиганты по 50 000 тонн.
Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въез*
жающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей,
начиняющих кабачки,—зовутся здесь «Авеню смерти».
Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-
Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в соб-
вей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
107
дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не
подозревающей публике.
Если поймают — электрический стул, тюрьмы Синг-Синга.
Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к
своему адвокату и заявляет:
— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если
меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из
узилища.
Залоги большие, но и бандиты не маленькие и
организованы неплохо.
Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч
долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных
за разных грабителей.
В газетах писали об одном бандите, вышедшем из
тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют
ирландцы. По другим кварталам другие.
Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими
районами, со своими обычаями и языком, десятилетия
сохраняясь в несмешанной чистоте.
В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1700 000 евреев
(приблизительно),
1 000 000 итальянцев,
500000 немцев,
300 000 ирландцев,
300 000 русских,
250 000 негров,
150 000 поляков,
300 000 испанцев, китайцев, финнов.
Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря,
американцы, и сколько их стопроцентных?
Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить
по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то
близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник,
и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной
по-русски.
Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы
видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й
русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.
В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду,
едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если
часа два потрутся в фокс-троте или последнем крике
«чарлстон». Но жизнь не прекращается, — так же открыты всех
родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, также
можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько
влезет за ваши 25 центов.
108
В. МАЯКОВСКИЙ
Придя домой, если весной и летом, закройте окна от ко*
маров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте
угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная
забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город
антрацита, и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к
употреблению в больших городах мягким углем.
Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух
нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени,
вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут
миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать,
Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов в 10 в одном
лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк.
Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым
номером в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса»,
Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам
универсальных магазинов (по которому составляется среднее
американское миросозерцание), после реклам просматриваются
отделы краж и убийств.
Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых
всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз
навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с
пожаром и черным морем. Одетый американец с час постарается
посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях
на низких приступочках, окружающих дом, или на
скамейках ближайшего лысого скверика.
Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не
слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не
сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду
прелюбодеев и пьяниц.
К часу американец идет завтракать туда, где завтракают
люди богаче его и где его дама будет млеть и восторгаться
над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в
сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп
генерала и генеральши Грандт или, скинув сапоги и пиджак, лежать
в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище
«Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты,
обертку чуингвама и мятую траву.
Кто богаче — уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей
машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и
завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.
Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных
американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская
или графская золотая коронка.
Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее
немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «малень-
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
109
кой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные
по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной
дамой никуда и никогда не поедет, — и самую даму
засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.
Если американец автомобилирует один, он (писаная
нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и
останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой,
скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением
глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет
квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастия,
возможности познакомиться с обладателем стосильного
автомобиля.
Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как
спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая
мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как
накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают
за него бесчисленные починочные мастерские и бензинные
киоски на всех путях его езды.
Вообще в спортсменство Америки я не верю.
Спортом занимаются главным образом богатые
бездельницы.
Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно
получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний
между питсбургской командой и вашингтонской командой
«сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе
футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране
перед картой военных действий только что начавшейся
войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес
азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту
или другую команду.
И. если рослы и здоровы футболисты, на которых глядят
тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то
семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и
хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.
Такое же впечатление оставляют и американские солдаты,
кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами
привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в
минувшую войну отказывались влезть во французский товарный
вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий,
классный.
Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в
5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.
Хозяин запасся бутылками матросского «джина» и
лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское
шампанское эпохи прогибишена.
110
В. МАЯКОВСКИЙ
Приходят девицы с завороченными чулками,
стенографистки и модели.
Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой
лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что
покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить
разговора, похлопывают даму по ляжке с той
непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает
папиросой о портсигар.
Дамы показывают колени и мысленно прикидывают,
сколько стоит этот человек.
Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический
характер — играют в покер или рассматривают последние
приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.
Потом разъезжаются по домам. Переодевшись,
направляются обедать.
Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше,
богатые — похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду,
едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачи-
ваемом.
Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную
портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что
любят не электричество, а свечи.
Эти свечи меня смешат.
Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при
огарках.
Она неосознанно боится своего электричества.
Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не
умеющим с ними справиться.
Такое же отношение большинства и к остальной технике.
Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу,
говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не
понимают, но делают его почетным гражданином какого-то
города и преподносят ему в золотом ларце —
канализационных акций на сорок тысяч долларов.
Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами
гонятся за оперными абонементами в опере, где жена фабриканта
Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством
долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой,
раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров
закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.
И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно
врет вам, что был в балете или в голом ревю.
Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой
толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные
углы.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
111
— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс
Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на
углу 5-й авеню 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда
напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.
После обеда состоятельным — театры, концерты и
обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов.
Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в
китайский квартал, где будут показывать обыкновенные
кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай —
только не американцами, а китайцами.
Парам победнее — многоместный автобус на «Кони-Ай-
ланд» — Остров Увеселений...
Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся
трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае
возбужденно идет домой.
Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговорить ни К
чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде:
страна долларов, шакалы империализма и т. д.
Это только маленький кадр из огромной американской
фильмы.
Страна долларов — это знает каждый ученик первой
ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом
спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время
падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время
тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не
ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое
представление будет совершенно неверным.
Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного
мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие
эпитеты.
Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.
Но это не грошовое скопидомство людей, только
мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить сум-
мочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду
маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники
любимых наседок. И до сих noR нью-йоркцы с удовольствием'
рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.
Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый
мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и
родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все
кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона
рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной
иодножке товарного поезда.
Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он
знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимилли-
112
В. МАЯКОВСКИЙ
онной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что,
кроме известных всем свойств денег, американец эстетически
любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с
весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом
крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на
долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие
же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей,
которую может прочесть юношество. При встрече американец
не скажет вам безразличное:
— Доброе утро.
Он сочувственно крикнет:
— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.
Американец не скажет расплывчато:
— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.
Американец определит точно:
— Вы смотрите сегодня на два цента.
Или:
— Вы выглядите на миллион долларов.
О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в
догадках — поэт, художник, философ.
Американец определит точно:
— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.
Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают,
куда вы уедете летом и т. д.
Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в
Америке. Все — «бизнес» дело, — все, что растит доллар.
Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не
поймали — тоже.
К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители
радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки,
приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.
— Он будет настоящим американцем.
В общей атмосфере бизнеса изобретательность
растет...
У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические
формы.
Три года тому назад кандидату в какие-то доходные
городские должности — мистеру Ригельману надо было
хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической
затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для
гуляющих по Кони-Айланду.
Владельцы прибрежной полосы запросили громадные
деньги, — больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригель-
ман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан,
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
113
создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с
половиной мили оправил берег идеальным досчатым настилом.
Ригельмана выбрали.
Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав,
в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего
оригинального предприятия под рекламу.
Если даже косвенным давлением долларов можно
победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно
положив деньги на бочку, купишь все.
Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов
запродались рекламодателям, владельцам универсальных
магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что
американская пресса считается неподкупной. Нет денег,
которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.
А если тебе цена такая, что другие дают
больше,—докажи, и сам хозяин набавит.
Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты
часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей
горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю,
и ее красавцем мужем графом, вместе с пакеновскими
моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.
Любовь — извольте.
Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о
мистере Браунинге.
Этот миллионер, агент по продаже недвижимого
имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.
Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная,
миллионер пошел на удочерение.
Объявление в газетах:
ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР
УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ
12 000 лестных предложений с карточками красавиц
посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек
сидело в приемной мистера Браунинга.
Браунинг удочерил первую (слишком велико
нетерпение), — по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку
Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться
Марииным счастьем.
В первый день куплено 60 платьев.
Привезено жемчужное ожерелье.
За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.
И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выра-
114
В* МАЯКОВСКИЙ
жением лица, которое впору показывать из-под полы
перед публичными домами Монмартра.
Отцовскому счастью помешало известие, что мистер
пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю
из следующей пришедшей партии. Проблематичным
извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась
девятнадцатилетней женщиной.
Там на три меньше, здесь на три больше «фифти-фифти»,
как говорят американцы — в общем, какая разница?
Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой
счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на
этот бизнес определенно указывает, что только он является
страдающей стороной.
Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне
неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.
Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные
коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со
стороны нравственности и морали.
Ни одна страна не городит столько моральной,
возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные
Штаты.
Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке,
с какой-нибудь мастечковой техасской сценкой, где банда
старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в
сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в
смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка
сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.
Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом
«Твенти-Сенчери-экспресс».
Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и
американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».
Виски продают все.
Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы
увидите на всех столах надпись: «Занято».
Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает
его, идя к противоположной двери.
Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:
— Вы джентльмен?
— О да! — восклицает посетитель, предъявляя
зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря
просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена
пропускают в соседнюю комнату, — там с засученными рукавами
уже орудуют несколько коктейлыдиков, ежесекундно меняя
приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей
стойки.
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
115
Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие,
любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питей-
ностью. Пообедав, требуют:
— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из
кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?
За тем, чтобы не надували при дележе.
У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на
службе 240 полицейских.
Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком
честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не
находятся.
Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную
продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам
вином. А таких купцов и посредников—армия—один на каждые
пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие,
даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой
карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и
надстройка определяются экономикой.
Если перед вами идет аскетический спор о женской
красе и собравшиеся поделились на два лагеря—одни за
стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит
еще, что перед вами бескорыстные эстеты.
Нет.
За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек,
со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы
ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие
волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе
стригущееся человечество.
Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете
сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу,
то знайте, — проповедь красивых свертков ведет фабрикант
оберточной бумаги.
Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи,
как честность, имеющей целую литературу, — даже по этому
поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие
ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы
кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с
магазинными кассами и чтобы незыблемо лежал и не пропадал
залог.
Такими же долларными соображениями объясняется и
своеобразная осенняя оживленная игра.
14 сентября меня предупредили — снимай соломенную
шляпу.
15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды,
сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твер-
116
В. МАЯКОВСКИЙ
дые днища и десятками нанизывающие продырявленные
трофеи на руку.
Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.
На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы
мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты
мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали
соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?
А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от
фабрикантов на чуингвам по-шляпно.
Сказанное о нью-йоркском быте, — это, конечно, не лицо.
Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.
Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для
всей мещанской массы, — массы, почти покрывающей всю
буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями;
массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего
класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик,
выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего
боится стать безработным.
Безработица — это пятенье обратно, выгон из
неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в
мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи
осени 1920—1921 года, когда 80 000 безработных спали в
Централ-парке.
Американская буржуазия квалификацией и заработками
ловко делит рабочих.
Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными
затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже
по-настоящему, попросту купленных буржуазией.
Другая — революционный пролетариат — настоящий, не
вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции,—
такой пролетариат и есть и борется...
Чикаго... Если все американские города насыпать в мешок,
перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры
города не смогут отобрать свое бывшее имущество.
Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других
городов — отличен не домами, не людьми, а своей особой по-
чикагски направленной энергией.
В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.
Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже
пятидесятисемиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания
провинциалам и иностранцам очков.
Чикаго живет без хвастовства.
Показная небоскребная часть узка, притиснута к берегу
громадой фабричного Чикаго.
Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
П7
окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак Кормик выставляет
свои заводы сельскохозяйственных машин центральней, даже
более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-
Дам.
Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать
вегетарианством, — поэтому в самом центре кровавое сердце —
бойни.
Чикагские бойни—одно из гнуснейших зрелищ моей жизни.
Прямо фордом вы въезжаете на длиннейший деревянный
мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков,
телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней.
Визг, мычание, блеяние, — неповторимое до конца света, пока
людей и скотину не прищемит сдвигающимися скалами,—
стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый
смрад бычьей мочи и дерьма скотов десятка фасонов и
миллионного количества.
Воображаемый или настоящий запах целого разливного
моря крови занимается вашим головокружением.
Разных сортов и калибров мухи с луга и жидкой грязи
перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.
Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся
скот.
Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный
козел.
Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев
и быкобойцев.
Живых визжащих свиней машина подымает крючком,
зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную
цепь, — они вверх ногами проползают мимо ирландца или
негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч
свиней в день режет каждый — хвастался боенский
провожатый.
Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы
кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом
выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся
холодильники — и курьерскими поездами и пароходами едет
ветчина в колбасные и рестораны всего мира.
Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной
компании.
А со всех сторон десятки компаний орут вывесками:
Вильсон!
Стар!
Свифт!
Гамонд!
Армор!
118
В* МАЯКОВСКИЙ
Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно
объединение, один трест. В этом тресте главный — Армор, — судите по
его охвату и моши всего предприятия.
У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков
имеет Армор 10—15 тысяч.
400 миллионов долларов — общая ценность арморовских
богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над
целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с
владельцев.
Половина акционеров рабочие (половина, конечно, по
числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в
рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается
временно смирение отсталых боенских рабочих.
Армор горд.
Шестьдесят процентов американской мясной продукции и
десять процентов мировой дает один Армор.
Консервы Армора ест мир.
Любой может наживать катарр.
И во время мировой войны на передовых позициях были
консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми
барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и
консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!
Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных
Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на
крохотную уличку Нью-Йорка — Уолл-стрит, улицу банков, улицу —
фактически правящую страной.
Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не
при Кулидже должны держать своих послов иностранные
державы. Под Уолл-стрит тоннель-собвей, а если набить его
динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту
уличку!
Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серий
бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.
Уолл-стрит — первая столица, столица американских
долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.
Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо
Вашингтона. Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки,
чем влиял его однофамилец Вудро.
Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или
станешь вегетарианцем, или будешь спокойно убивать людей,
когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго —
место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.
Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один
умирает до года.
Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чи-
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
119
кагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся
на самый больший в Америке отпор.
Здесь главные силы рабочей партии Америки.
Здесь центральный комитет.
Здесь центральная газета — «Daily Worker».
Сюда обращается партия с призывами, когда надо из
скудного заработка создать тысячи долларов.
Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить
министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно
пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов,
что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно — а
придется пустить и коммуниста Саклатвала и других
посланцев рабочего класса мира.
Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на
революционный путь.
Так же как в Париже приезжие коммунисты идут к
обстрелянной стене коммунаров, — так в Чикаго идут к
могильной плите первых повешенных революционеров.
1 мая 1886 года рабочие Чикаго объявили всеобщую
забастовку. 3 мая у завода Мак Кормик была демонстрация, во
время которой полиция спрювоцировала (выстрелы. Выстрелы
эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод
выловить зачинщиков.
Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт
Парсонн, Луи Линч и Жорж Энгель — были повешены.
Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного
из обвиняемых:
«Придет день, когда наше молчание будет иметь
больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас
заглушаете»...
Детройт — второй и последний американский город, на
котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть
деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно
дороги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей)...
В Детройте много огромных мировых предприятий,
например, Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта —
автомобили.
Не знаю, на сколько человек здесь приходится один
автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их
много больше, чем людей.
Люди заходят в магазины, конторы, кафе и столовые, —
автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по
обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых
озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за
25—35 центов.
120
В. МАЯКОВСКИЙ
Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с
главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять,
а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут
выволакивать из-за тысяч других машин.
А так как автомобиль больше человека, а человек,
который выйдет, тоже садится в автомобиль, — то нерушимое
впечатление: машин больше людей.
Здесь фабрики:
Пакард,
Кадиляк,
бр. Дейч, вторая в мире — 1 500 машин в день.
Но над всем этим царит слово — Форд.
Форд укрепился здесь, и 7 000 новых фордиков выбегают
каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью
и днем фабрики.
На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами
на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами.
Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиосбороч-
ный завод.
На фордовский завод я шел в большом волнении...
На завод водят группами, человек по 50. Направление
одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не
останавливаясь.
Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате,
в которой стоит испещренный надписями юбилейный
десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими
рекламами, грудами лежащими по столам. У анкетщиков и
провожающих вид как у состарившихся, вышедших на пенсию
зазывал распродажных магазинов.
Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на
секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают
постоянные отметки в каких-то листах. Очевидно, учет рабочих
движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только
общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами,
как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света.
За инструментальной, за штамповальной и литейной
начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед
рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без
штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с
вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов,
подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно
скатываются шины, рабочие с-под цепи снизу что-то подбивают
молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут
рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль
приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шо-
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
121
фер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во
двор.
Процесс, уже знакомый по кино, — но выходишь все-таки
обалделый.
Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части
своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками
шерсти, слетающими над головой на цепях подъемных кранов,
тысячами пудов коленчатых валов, мимо самой мощной в мире
фордовской электростанции, выходим на Woodword —
улица.
Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий,
бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел
завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это
они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на
Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».
Вечером мне говорили фордовцы — рабкоры
коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:
— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не
ставит, говорит: «Мне не надо, чтоб вы плевались, — мне надо,
чтобы было чисто, а если плеваться — надо вам покупать
плевательницы самим».
...Техника — это ему техника, а не нам.
...Очки дает с толстым стеклом, чтобы не выбило глаз —
стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при
тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на
толстом только царапины остаются, глаз от них портится все
равно года через два, но платить не приходится.
...На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы
кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.
...Расчет — без всяких выходных.
...А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет.
Только кино, и то в нем показывают картины только про то,
как быстрее работать.
...Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только
про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на
обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.
...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий
день), на самом деле — чистая сдельщина.
...А как с Фордом бороться?
...Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80>/о
иностранцев.
...Как вести агитацию на 54 языках?
В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую
смену, — люди валились в трамваи и тут же засыпали,
обессилев.
122
В. МАЯКОВСКИЙ
В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская
система делает рабочих импотентами...
Отъезд. Пристань компании «Трансатлантик» на конце
14-й улицы.
Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту
с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на
второй этаж.
К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо»,
ставший еще меньше от соседства огромной, как
двухэтажный манеж, пристани.
Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.
Посмотрев, отбирают выпускные свидетельства —
свидетельство о том, что налоги Америки с заработавших в ней
внесены и что в страну этот человек въехал правильно, с
разрешения начальства.
Посмотрели билет — и я на французской территории,
обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компа-
ни-нейшенал — нельзя.
Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний,
потому что осень — время бурь, и люди будут лежать в
лежку все 8 дней.
При приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем
одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе
шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на
умывальник во время качки, перекатывающей волны через все
палубы.
Пароход плохонький — особый тип: только первый и
третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или
бедные, или экономные, да еще несколько американских
молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых
родителями учиться искусствам в Париже.
Отплывал машущий платками, поражающий при въезде
Нью-Йорк.
Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополи-
тен-бильдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое
здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало
видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бененсон-
бильдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по
имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились
пристанью. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой,
над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.
Замахнулась кулаком с факелом американская
баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.
Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки,
ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
123
под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое.
Люди полегли.
Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая
капитанов.
Шестеро из них — американские молодые люди: новеллист,
два художника, поэт, музыкант и девушка, провожавшая,
влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без
французской визы.
Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и про-
гибишена, начали пить.
Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали
все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за
десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый
палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в
поисках за спящим официантом.
Кончили пить за день до приплытия, во-первых, потому, что
озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух
художников предать в руки французской полиции, не спуская
на берег, а, во-вторых, все шампанские запасы были уже
выпиты. Может быть, этим объяснялась и комиссарская
грозность.
Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец,
все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно
называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими
живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на
страницы газет.
Путались между дребезжащими столиками два дипломата:
помощник парагвайского корпуса в Лондоне и чилийский
представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но
никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов
и наблюдения за молодыми американцами! Чилиец
пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин
на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы
сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец,
испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а
по-французски только:
— регардэ —
даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело
обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он
целыми днями перебегал от компании к компании в форменном
разговорном ажиотаже.
Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять
отпраздновали тамболу.
На обратном безлюдии я старался оформить основные
американские впечатления...
124
В. МАЯКОВСКИЙ
Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут
последними вооруженными защитниками безнадежного
буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший,
типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».
Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой
борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.
«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые
только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния
гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся
оборванными калеками, мальчишками.
С парохода кидали ненужные центы (считается —
«счастье»), и мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные
рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.
Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали
моментальными.
Эти нищие встают передо мной символом грядущей
Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и
всякой другой деньгой...
1925 г.
Ал. ХАМ А ДАН
АМЕРИКАНСКИЕ СИЛУЭТЫ
(Отрывки)
ВАШИНГТОН
Мы долго плутали по улицам Филадельфии, прежде чем
выбрались на правильную дорогу — номер 1. Характерно, что
многие улицы как в Филадельфии, так и в Балтиморе
усыпаны битым стеклом. Дело не только и не столько в
мальчишеской шалости. Здесь речь идет об интересах владельцев
магазинов, продающих шины и камеры. Они нанимают мальчишек
и «щедро» оплачивают их за то, что те рассыпают битое
стекло на проезжих дорогах. Торговцы знают, что делают:
на прорезанной шине или проткнутой камере далеко не
уедешь...
В Балтиморе мы вихрем промчались по пустынным улицам.
На большой дороге начался встречный поток автомобилей, из
Вашингтона в Балтимору и Филадельфию. Фары встречных
машин сильно слепили глаза, и мы пошли малой скоростью —
около 30 миль.
Ровно в час ночи «шевроле» ворвался в официальную
столицу Соединенных Штатов Америки — Вашингтон.
Невзрачный белый дом, обнесенный садиком и
огороженный двумя узкими сквериками, оказался «Белым домом», о
котором почти ежедневно читает в газетах весь мир. В этом
доме живет американский президент Франклин Делано
Рузвельт.
Вашингтон — красивый и хорошо распланированный город:
улицы прямые, много зелени, нет небоскребов. После Нью-
Йорка он кажется маленьким и безлюдным. На улицах тихо
и спокойно, нет той грандиозной городской пульсации,
которая оглушает и поражает в Нью-Йорке. Вашингтон — это
столица. Здесь сосредоточены все государственные учреждения,
все министерства. В этом городе постоянно живет президент
со своим служебным аппаратом. Кто еще живет в
Вашингтоне? Высшие, средние и мелкие чиновники и... многочисленные
128
АЛ. ХАМАДАН
представители различных компаний, трестов, фирм—так
называемые «лобби».
Лобби — агентура крупных капиталистических
предприятий — защищают в Вашингтоне интересы своих хозяев. Они
проталкивают с удивительной энергией и поразительной
ловкостью бесчисленное множество законов, проектов, планов,
разработанных в тиши трестовских кабинетов. Они получают
здесь правительственные подряды, заказы и многое другое.
Они с необычайной тонкостью (это ведь почти искусство!)
могут и замять любой проект или закон, нарушающий или
задевающий интересы представляемых ими трестов и банков.
Особое искусство проявляют они тогда, когда хозяину
необходима правительственная субсидия. В это время они
олицетворяют собой гениев бизнеса. Они мчатся на самолетах,
экспрессах, авто; они устраивают приемы, дружеские вечеринки для
сенаторов, для членов конгресса; они дарят букеты женам
всех крупных чиновников, — они «мажут» там, где это надо,
а надо это буквально везде. Они прекрасно знают вкусы своих
друзей: кто любит китайский фарфор, кто собирает трубки,
кто любит носить искусно вышитые японские хаори (халаты).
Они все знают! Они знают даже, у какого чиновника сколько
денег лежит на текущем счету в банке.
Лобби — это порода сильных людей в Америке. В Нью-
Йорке один человек сказал мне про другого: «Он талантлив,
как вашингтонский лобби».
В Вашингтоне лобби могущественны и вездесущи. Ни
один лобби никогда не пропустит какого-либо важного
заседания в Капитолии \ Белом доме или в каких-либо
министерствах. У каждого лобби есть своя собственная агентура,
регистрирующая все события, колебания, изменения и доносящая
об этом своему шефу, который, в свою очередь, шифром
радирует новости своим хозяевам.
Лобби знают в Вашингтоне все; в правительственных
учреждениях их знают в лицо все курьеры, портье, шоферы,
шефы отделов и департаментов. И немудрено: все они так
щедры...
Рассказывают, что в начале 1933 года один из членов
конгресса (никто не знает его фамилии, абсолютно никто!) имел
несчастье пожаловаться в присутствии лобби на свой
автомобиль. Он сказал: «Этот задрипанный «форд» (роскошный
«лимузин» — рассказывал очевидец) вымотал у меня все кишки!»
Через два дня уважаемый конгрессмен ездил на дорогом
1 Капитолий — название здания, в котором происходят заседания
конгресса.
Ему некогда учиться читать.
ВАШИНГТОН
129
«линкольне» выпуска 1933 года. Два дня понадобилось
энергичному лобби не для размышлений, а для доставки машины
конгрессмену.
Злые языки говорят, что особенно большая дружба
существует между лобби и журналистами. Чем влиятельнее
газета, тем крепче узы этой дружбы.
* * *
В Вашингтоне огромное количество американских
звездных флагов на крышах и подъездах домов. Я видел
несколько мировых столиц, но такого обилия флагов нет нигде.
Флаги здесь повешены всюду, где это только возможно. Есть
дома, на которых вывешено по нескольку флагов.
Повсюду в Вашингтоне царствует мрамор. Дворцы, музеи,
памятники, правительственные здания, частные особняки — все
сделано из мрамора. Розовый, красноватый, серый, цвета
песка— все оттенки мрамора представлены в этом городе.
Огромный вместительный лифт легко и быстро поднимает
иас почти на высоту Эйфелевой башни, к вершине
монумента, воздвигнутого в память генерала Джорджа
Вашингтона *. Внизу живописно разбросался правильными рядами
улиц, скверами, площадями Вашингтон. Все утопает в зелени.
Панорама прекрасна. Река Потомак плотно охватывает
город. Далеко-далеко за рекой, скрытой легкой туманной
дымкой, расстилается ровный, словно подстриженный гигантскими
ножницами, лес.
Обсаженный деревьями пруд отделяет от монумента
памятник другому известному американцу — Аврааму
Линкольну 2. По существу, это не памятник, а скорее величественная
гробница из белого мрамора. Огромная фигура Линкольна,
сидящего в кресле, находится внутри храма, за колоннадой.
Всю ночь Линкольн озарен электрическим светом. Это
красиво.
Памятник-храм был начат постройкой в 1914 году и
закончен лишь в 1920 году. Какие «темпы»! Служитель,
наблюдающий за памятником, говорит:
1 Джордж Вашингтон (1732—1799) — главнокомандующий
американских войск в борьбе за независимость. В 1789 году был избран
первым президентом США.
2 Авраам Линкольн (1809 — 1865) — выдающийся государствен,
ный деятель Америки. В 1860 году был избран президентом США.
В 1862 году издал указ об отмене рабства. Как известно, крупные
землевладельцы южных штатов, кровно заинтересованные в сохранении
рабства, долгое время боролись против осуществления указа о его
ликвидации.
9 Еот ода, Америка
130
АЛ. ХАМАДАН
— Он обошелся в три миллиона долларов. Понимаете?
Товарищ разъясняет мне это «понимаете»: служитель
хочет сказать, что к рукам строителей прилипла изрядная
сумма.
Лифт быстро опускает нас вновь на землю. Едем в
Капитолий. Огромный, куполообразный, он по внешнему своему
виду также напоминает храм. Он тоже мраморный. Входим
внутрь. Десятки мужчин и женщин предлагают свои услуги
в качестве гидов. Это безработные. Людям нужно есть, они
изучили все закоулки Капитолия и показывают его вам за
несколько центов.
Стены коридоров и многих зал Капитолия заняты
фресками, изображающими отдельные эпизоды борьбы Соединенных
Штатов за независимость.
В круглом зале мы наткнулись на десятки статуй. Это,
оказывается, статуи выдающихся представителей различных
штатов в конгрессе, в сенате и т. п. Их здесь более
шестидесяти. Их свалили в одну кучу. В грязном зале царит
полумрак, поэтому кажется, что статуи вынесли сюда за
ненадобностью, как сносят в чулан ненужные вещи. Рабочие
передвигают статуи и чистят их наждачной бумагой. После чистки
они вновь будут выставлены в залах конгресса.
Имена людей, позировавших для этих статуй, уже забыты
всеми, стерлись в памяти тех, кто посылал их в конгресс.
Статуи в лучшем случае служат лишь украшением Капитолия,
хотя их художественная ценность невысока. Они настолько
похожи друг на друга, что невольно ищешь клеймо фирмы,
поставившей массовое производство стандартных памятников
безвозвратно ушедшей и всеми забытой истории.
Мы попали в Капитолий неудачно. Его помещения
приготовлялись к новым выборам. Поэтому мы видели его грязным,
потертым и мрачным. Зал заседаний конгресса, с
потрескавшимся полом, с грубо и неудобно сделанными, почти
школьными, партами для членов конгресса, оказался меньше, нежели я
его представлял себе, исходя из «американских масштабов».
Ничего, что могло бы оставить большое впечатление.
Медленно ходим по коридорам, заглядываем в комнаты
десятков комиссий и подкомиссий. Они пусты.
Здесь, в этих коридорах (так называемых «кулуарах»),
представители штатов, занятые государственными делами,
ведут разговоры «государственной важности». Содержание этих
разговоров, как мне передавали весьма осведомленные
американские журналисты, обычно следующее:
— Не знаю, что делать, — цена на мясо страшно
упала.
ВАШИНГТОН
131
— Как упала? Наоборот, за последний месяц она
поднялась на тридцать процентов.
— Да, но мой избиратель и личный друг твердит, что он
возмущен политикой правительства, которое не может
установить приемлемые для производителей цены на мясо. Вы
ведь знаете, что я не могу игнорировать желания моих
избирателей...
— Вы помните, я говорил вам: не рискуйте деньгами на
текстиле — сделано в двадцать раз больше, чем нужно.
Теперь все деньги заморожены. Вы все-таки вложили? Ай-ай-ай!
— Сегодня утром мне говорил мистер... (вы его хорошо
знаете, он здесь свой человек), что уже готов проект решения
о выдаче компании правительственной субсидии. У нас есть
шанс вернуть свои деньги.
— Разве вы тоже влипли в это дело?
— Я нет, но меня просили помочь.
— Сейчас самое главное — хлопок! Ребята с Уолл-стрита
продолжают нажимать. Мой агент сообщает, чтобы я крепился
еще один, всего лишь один месяц, и потом я верну все
деньги, вложенные в этот идиотский хлопок.
— Так значит, все в порядке?
— Какое там в порядке! У меня нет за душой ни одного
цента наличными...
— Да, это печально. Безобразные времена настали.
Сколько у вас горит на хлопке?
— Только между нами — восемьсот пятьдесят тысяч
долларов.
— Но, дорогой мой, это же ерунда! Что должен говорить
мистер Н., ваш коллега, — у него все капиталы вложены в
хлопок!..
— Дорогой Вильям, я сейчас говорил с моим
нью-йоркским бюро. Мои ребята сообщают, что если наш проект не
пройдет сегодня через комиссию, то известные вам лица
поручат его проведение своей агентуре. Это ясно, что они не
могут ждать, но мне кажется, председатель имеет свои виды
на этот проект. Так давайте играть в открытую. Идите и
приглашайте его ко мне в отель. Мы основательно потолкуем...
Я перебил своего собеседника-журналиста:
— Послушайте, дорогой мой, но ведь когда-нибудь они
говорят и о государственных делах, о внешней и внутренней
политике, интересах представляемых ими штатов, об
избирателях?
— А разве все эти бизнесы, о которых я вам
рассказываю, не та же политика? Конгрессмены имеют в своем распо-
132
АЛ. ХАМАДАН
ряжении всего четыре пода. За это время они должны либо
обеспечить себе сытую старость, либо они останутся с
дырявым карманом. О политике они говорят на официальных
заседаниях. И еще как говорят! Но они никогда не забывают
о том, кто их подлинный хозяин, и... никогда не забывают
себя!
— Ну, а как же такие вопросы, как регулирование
экономической жизни, вопросы планирования, борьбы с
безработицей?
— О, этим делам уделяется максимум внимания.
Президент энергично направляет эти проблемы к разрешению. Но
сила ведь не у него. Вы читали его речь на собрании банкиров
в Вашингтоне? Знаете, что это такое? По существу, это
отступление с барабанным боем.
Планирование? Очень хорошо! Ликвидация
безработицы? Еще лучше! Но планированием хотят заниматься сами
хозяева, каждый в отдельности. О государственном
регулировании, то есть о вмешательстве в их дела, ни один из
капиталистов не только думать, но и слышать не хочет.
— А как же «Энарея» г9 декларации президента?
— Все это прекрасно! Вы уже видели, вероятно, на всех
авто, галстуках, в витринах магазинов, на тротуарах — везде
есть знак синего орла. Во всех кино сперва появляется синий
орел и только потом начинается программа. Но что толку?
Ведь уже давно идет шум, а дела до сих пор не видно.
— Быть может, смена Джонсона и назначение Ричберга
главой «Энареи» улучшит дела?
1 «Энарея» (NRA) — «Национальная администрация
восстановления». «Энарея» была создана президентом США Рузвельтом в 1934 году
для регулирования в целях оживления пораженного экономическим
кризисом хозяйства страны. «Энареей» были созданы так называемые «кодексы
честной конкуренции». Смысл этих кодексов заключался в том, чтобы
предприниматели взяли на себя обязательства выплачивать определенный
минимум зарплаты рабочим и служащим и поддерживали также
определенный уровень цен.
Организация «Энареи» и ее первые дела сопровождались громадным
шумом. Газеты посвящали им восторженные статьи, возвещая
наступление нового «просперити» (процветания). Все предприятия, принявшие
«кодекс честной конкуренции», стали ставить на своей продукции знак
«Энареи» — синий орел. Вскоре этот орел появился всюду: на товарах,
в витринах магазинов, на улицах и площадях. Дошло до того, что синий
орел появился на обнаженных спинах женщин «высшего света». Но
дальше шума дело не пошло. Само собой разумеется, что кодексы «Энареи»
ни одним из предпринимателей не выполнялись, а наиболее крупные
предприниматели, как, например, Форд, вообще не признавали их. Провал
«Энареи» — яркое свидетельство того, что в капиталистическом
обществе планирование хозяйства невозможно.
ВАШИНГТОН
133
— Как раз наоборот! Ведь капиталисты потребовали
снятия Джонсона. Его шумные угрозы, которые, правда, не
осуществлялись, раздражали их. Вся задача Ричберга — плавно,
на тормозах, «без потери лица» свернуть весь этот шум.
— Ну, а как же президент?
— Кто его знает! Сведущие люди говорят, что он
предложит проект объединения железных дорог страны, их
реорганизации, обновления, усовершенствования... Если это серьезное
дело, то оно должно будет стоить несколько миллиардов
долларов. Будучи вложена в виде заказов в промышленность, эта
грандиозная сумма оживит рынок, сократит безработицу,
повысит спрос на все товары.
— Этот проект уже обсуждается?
— Что вы! В печати о нем еще ничего но было.
— Каким же образом вы узнали о существовании такого
проекта у президента?
— Видите ли, у него обычно такая система: он
рассказывает своим весьма близким людям, что у него есть новая
идея, что он изучает такой-то вопрос. Этим он преследует две
цели.- первая — провентилиривать идею в обществе, создать
определенное мнение, оценить силы борющихся лагерей, и
вторая — дать знать своим противникам о готовящихся
мероприятиях и изучить реакцию. В случае явного провала идеи,
президент всегда может официально опровергнуть слухи. Это
старая, много раз применявшаяся тактика.
— Какая перспектива вырисовывается в результате всех
этих планов, деклараций, борьбы?
— Боюсь что-либо сказать определенное. Лично я не вижу
никакой перспективы. В стране, даже по официальным
данным, более двенадцати миллионов безработных, причем
около трех-четырех миллионов из них являются бездомными.
Можете себе представить, какие чувства владеют этими
людьми!..
— А какие меры принимаются для того, что облегчить
их положение?
— Никаких. По крайней мере, до сих пор. И, что крайне
удивительно, ничего даже не обещано. Известен только один
случай, когда в Нью-Йорке один из кандидатов в члены
конгресса заявил собранию безработных: « Вы голосуйте за меня,
а я уж о вас позабочусь».
— Ну и как, голосовали?
— Часть собравшихся проголосовала: они не хотят терять
и эту последнюю надежду.
Я вспомнил, чем занимаются конгрессмены. Еще одна
обманутая иллюзия!..
134
АЛ. ХАМАДАН
***
В Вашингтоне мне удалось побывать в Историческом
музее. Наиболее привлекателен и интересен индейский отдел. Он
заслуживает внимательного изучения. В этом отделе собрано
примерно все, что может показать историю индейского
народа. Из этого «все», конечно, исключен чрезвычайно интересный
кусок истории этого замечательного народа, повествующий
о том, как он из хозяина страны превратился в раба, как он
быстро вымирает сейчас, с головой окунутый в водочный омут
«цивилизации».
Американцы с удивительной точностью передали древний
семейный и производственный уклад жизни индейцев. Они
показали, как шло культурное развитие этою народа —
прекрасные ткани, одежда, рисунки на тканях, производственные
орудия.
Оставляет большое впечатление картина первой встречи
европейцев с индейцами, выставленная в музее: группа
индейцев принесла на берег ценнейшие плоды своих долгих и
упорных трудов. Европейцы привезли ящик безделушек:
стеклянные бусы, «зеркала» (стекло, оклеенное черной бумагой) и
тому подобную дребедень. Доверчиво и радушно смотрят
индейцы в глаза неведомым пришельцам. С опаской, с
настороженностью смотрят на индейцев видавшие виды
колониальные «культуртрегеры», готовые в любой момент одарить
наивных «дикарей» солидной порцией свинца.
На этом кончается показ развития материальной и
духовной жизни индейцев. А было бы весьма поучительно показать,
как после этой «исторической встречи» пошло вспять бурное
материальное и духовное развитие этого талантливого народа.
В музее не представлены экспонаты, показывающие быстрое
вытеснение индейцев с лучших земель, их отступление в
дикую глушь, новый этап одичания, процесс проникновения
алкоголя, венерических заболеваний, процесс вымирания,
жесточайшей эксплоатации и закабаления. Ведь не секрет, что
в результате влияния «американской культуры» ныне в США
насчитывается ничтожное количество потомков когда-то
многочисленного народа, обладавшего большой и своеобразной
культурой.
* * *
Автомобиль быстро, но осторожно несет нас по улицам
Вашингтона. Осматриваем город. Все крупные, чем-либо
отличные от других, здания заняты правительственными или
связанными с ними учреждениями. Архитектурный стиль зданий
ВАШИНГТОН
135
министерств строго деловой, даже несколько казарменный.
Министерство иностранных дел помещается в одном здании
с военным, как бы символизируя этим тесное содружество
дипломатии и пушек. Здание огромно и мрачно. Маленькие
окна дают мало света, днем почти во всех комнатах горит
электричество. У подъездов стоят пушки, жерла которых
направлены на президентский Белый дом.
Белый дом обнесен невысокой металлической решеткой.
Глубоко внутри негустого сада, у самого подъезда, медленно
ходят взад и вперед два полисмена.
Все улицы и переулки города заставлены машинами. В
городе более 300 тысяч автомобилей. Гаражи очень дороги.
Машины оставляют прямо на улицах. Официально это
запрещено, но власти прекрасно понимают, что девать автомобили
некуда. Длинные ряды машин стоят неподвижно дни, недели,
месяцы, потому что времена стали тугие — не у каждого
автовладельца есть деньги на бензин, продать же машину —
дело далеко не легкое.
В Вашингтоне, в этом полумиллионном городе, столице
Соединенных Штатов, есть только один театр — это
негритянский «Ховард-театр». Театр заменен ревю в
кинематографах. В городе есть один концертный зал, куда изредка
приезжают певцы и музыканты.
...Ровно в двенадцать часов ночи началось представление
в «Ховард-театре». Все артисты — негры и негритянки. Среди
танцующих есть одна американка. Но это совсем не театр!
Это своеобразная эстрада. Танцы перемежались с
комическими номерами, в заключение была показана кинохроника и
фильм. Из всей программы этого, с позволения сказать, театра
стоит отметить только два номера.
На сцену вышли четыре щеголевато одетых молодых
негра. Они легко, красиво и ритмично танцовали чечетку,
сопровождая танец акробатикой. Затем на сцену выпрыгнула почти
раздетая маленькая худенькая негритянка. Ее встретили
шумными аплодисментами. Публика уже знала ее, многие пришли
сюда, вероятно, только ради нее.
Негритянка начинает танец сперва очень медленно. Она
плавно раскачивается на своих худых, но упругих ногах.
Затем музыкальный ритм усиливается, танцовщица начинает
вздрагивать, извиваться, приседать. Она отдается здесь, на
сцене, на глазах у публики, жадными глазами следящей за
каждым ее движением. Затем о<на легко прыгает по сцене,
136
АЛ. ХАМАДАН
останавливается, надувает живот, конвульсивно вздрагивает,
сжимается. Сценка эта должна, очевидно, показать, что в
результате любви появилась беременность, а потом произошли
роды. Танец заканчивается совсем похабно*, танцовщица
повертывается к публике спиной и очень быстро вращает
задом.
Несколько слов о публике. Театр негритянский, но негров
в зале очень мало. Много американцев и американок.
Пожилые женщины и мужчины, молодые люди, парочки и
одиночки. Они все, без какого-либо исключения, вытянув головы из
жестких крахмальных воротничков, жадно и похотливо
смотрели на танцующую. Они не сводили с нее глаз, словно
боялись пропустить особенно игривое движение...
Этот эротический балаган является единственным
«театром» в столице США!
ЧИКАГО
В Чикаго несколько ярче, нежели в других городах
Соединенных Штатов, бросаются в глаза последствия
экономического кризиса. Здесь уже несколько лет не открываются
ворота десятков различных фабрик и заводов. Их окна и двери
тщательно заколочены досками. Там, где нет досок, вместо
окон зияют черные провалы: стекла выбиты. На всех улицах,
почти на всех домах белеют плакаты с хорошо знакомой
надписью: «tu Let», «for Rent» '. На некоторых улицах этих
плакатов так много, что в глазах начинает рябить. Десятки
тысяч домов требуют немедленного ремонта, окраски,
штукатурки. Но производить ремонт совсем невыгодно: ведь никто
не снимает эти дома уже пять-шесть лет. Некоторое
исключение составляют несколько улиц, таких, как Мичиган-авеню,
Шеридан-стрит — буржуазные улицы города. На этих улицах
чисто и опрятно. Но и здесь то и дело мелькают на домах
знакомые плакатики «tu Let», «for Rent».
Буржуазные кварталы Чикого великолепно подчеркивают
характер капиталистического города. Самые лучшие районы
города заселены буржуазией. Мичиган-авеню, наиболее
буржуазная улица города, вытянулась вдоль берега озера
Мичиган. Здесь всегда свежий чистый воздух, прекрасный вид на
отливающую синевой голубую даль красивого озера. Рядом
расположен великолепный парк. Чикагская буржуазия держит
в своих руках монополию на прекрасный воздух берегов Ми-
Сдается в наем.
ЧИКАГО
137
чиганского озера. Улицы бедноты, рабочие кварталы загнаны
отсюда на далекие мили в вонючий и смрадный район боен
«Свифта» и «Армора», грязной Чикаго-ривер, заводских и
фабричных труб.
...Передо мной, глубоко опустившись в кожаное кресло,
сидит пожилой человек с энергичным лицом. Его огромные руки
рабочего непревычно ерзают вдоль стенок кресла. Когда он
берет сигаретку, в глаза бросаются натруженные ладони,
крепкие, словно из железа сделанные пальцы.
Мы сидим некоторое время молча, внимательно оглядывая
друг друга. Он — старожил Чикаго, прожил в этом городе,
почти никуда не выезжая, около сорока лет. Более тридцати
пяти лет он проработал на мебельных фабриках Чикаго. Его
специальность — отделка художественной мебели. Он —
высококвалифицированный рабочий с огромным опытом.
Мой собеседник улыбается, делает глубокую затяжку,
ударяет меня по колену и восклицает:
— Значит, вы оттуда, из Москвы? Москва — Чикаго? О,
великолепно, очень хорошо! Я еще в жизни своей не видел
ни одного человека из Советской России. Я очень много
читаю о Советской России, не пропускаю ни одной книги или
статьи. Я слежу за вами, как за родными людьми. И если я
скажу друзьям, что мне удалось познакомиться и
беседовать с вами, они, дьяволы, не поверят. Скажут, что старика
одурачили. Поэтому я устрою вам небольшой экзамен.
Согласны?
— Ол-райт! '
— Что у вас в столице строится сейчас?
— Строится метро второй очереди и идет подготовка
строительства Дворца Советов.
— Где у вас есть еще метрополитен?
— Нигде. Это первый метрополитен в Советском Союзе.
— О-кей!2.
Я, в свою очередь, прошу его рассказать о Чикаго.
— Если хотите, я начну с метрополитена. У вас уже
работает метро, а у нас почти пятнадцать лет идут разговоры
о том, что нужно строить метрополитен. В городе живет более
четырех миллионов людей. Движение на улицах невероятное,
невозможно пройти. Пятнадцать лет говорят и пишут о метро,
1 Ол-райт — хорошо.
2 О-кей — специфически американское выражение. Употребляется в
смысле «очень хорошо», «прекрасно».
138
АЛ. ХАМАДЛН
но до сих пор никто палец о палец не ударил для его
постройки. На выборах каждая партия первым своим козырем
выставляет обещание построить метрополитен и разгрузить
уличное движение. Но после выборов это обещание
немедленно забывается до следующей избирательной кампании. Вообще
же вот уже пять лет, как в городе никто ничего не строит,
если не считать одного или двух домов, ремонта мостов и
других мелких работ. А ведь в городе несколько десятков
тысяч строительных рабочих и у каждого семья! — разводит
руками мистер Келли. — Строителям досталось хуже всего.
Мой друг, например, не работает уже пять лет. Вы
понимаете — рабочий человек, специалист своего дела, пять лет
ничего не делает, ищет работы и не может найти. А у него
золотые руки и семья в пять человек. Ну и нам, мебельщикам,
не весело...
Мистер Келли тяжело вздыхает, устало опускает голову
и несколько секунд молчит.
— Особенно плохо таким мебельщикам,—продолжает он
тихим голосом, — которые работали на фабриках дорогой
мебели. Поверите ли, в этом огромном городе закрылись все
до одной мебельные фабрики. На мебель сейчас нет
покупателей, особенно на дорогую, изящную мебель. Я работал на
фабрике изящной мебели. Ее покупала буржуазия. Иногда
театры нам заказывали мебель для фойе, для постановок.
С 1930 года—ни одного заказа! Нас выбросили на улицу, как
мальчишек. А ведь каждому из нас по сорок, сорок пять,
пятьдесят и больше лет. С тех пор я не имел постоянной
работы. Я не имел вообще никакой работы. Разве можно
считать работой то, что я занят один-два дня в месяц? Иногда,
очень редко, наверное один раз в году, какой-либо театр
приглашает меня починить мебель или окрасить ее. Но этой
работы хватает всего на пять-шесть дней. А потом опять
целый год я слоняюсь по городу без дела, словно
беспризорный.
Вот повезло немного, когда готовилась к открытию
чикагская выставка «Сто лет прогресса» в 1934 году. Я работал
целых пять недель. В эти дни, надо сказать, весь город
несколько оживился. Сюда приехала масса людей, отели были
полны, рестораны работали нормально. Но закрылась
выставка, и сейчас же прекратилось даже это, едва ощутимое
оживление в городе. Опять отели и рестораны пусты, опять все
безработные бродят по улицам города (а так они торчали весь
день на выставке). Я и не думаю, что наше положение
улучшится. Дело в том, что за последние годы изобретено столько
машин, что они делают наш труд ненужным. Если я делал
ЧИКАГО
139
один стул в день, то машина делает в час двадцать пять
стульев. Там, где раньше работали двести человек, теперь
работает пятьдесят. Машина отняла у нас кусок хлеба. По
существу, мы обречены на гибель. Вместо того чтобы
облегчить наш тяжелый труд, новые машины лишили нас последней
возможности существования.
Мистер Келли говорил раздраженно, лицо его было
озлоблено. Он говорил о капиталистической рационализации с явной
ненавистью.
— Вы меня простите, пожалуйста,—словно оправдываясь,
говорит мистер Келли, — я слишком много говорю о себе.
Вас это, вероятно, не очень интересует. Но, знаете ли, есть
такая пословица: что у кого болит, тот о том и говорит.
— Вы получаете пособие, мистер Келли?
— Нет, не получаю. Видите ли, бирже труда известно, что
я изредка имею работу: я работаю один-два дня в месяц.
Поэтому меня исключили из списков безработных, нуждающихся
в пособии. Вот уже целый год, как я добиваюсь пересмотра
этого решения. Но мне не пособие нужно. Я рабочий, мне
нужна работа, а не подачка.
— Как вы живете? У вас, вероятно, есть семья?
— Все свои сбережения я уже давно проел. Живу с
помощью родственников. У меня есть взрослый сын, очень
способный человек. Я мечтал о том, что сумею дать ему высшее
образование. Я отказывал себе и остальной семье во всем,
лишь бы обеспечить ему нормальные занятия в университете.
Но он занимался всего два года. Я стал безработным, платить
за его учение не мог. Его исключили. Целый год он
занимался дома. Сумел подготовить себя к сдаче
государственных экзаменов. Но эти экзамены опять потребовали
расходов, а у меня к тому времени не было ни гроша. Ему
пришлось бросить учебу и не думать о дипломе. К тому же он
очень неудачно избрал специальность — он архитектор...
— Что же он делает теперь?
— Теперь он работает в отеле, выполняет различные
поручения: покупает билеты, заказывает автомобили, показывает
город, иногда заменяет лифтера. Он работает круглый день,
а зарабатывает восемь долларов в неделю. Этой суммы
нехватает даже для покрытия его собственных расходов. Ну,
а мы довольны и этим: это ведь тоже работа, она дает кусок
хлеба.
— А как с его архитектурными делами?
— Какие там дела! Кому теперь это нужно? Никто ничего
не строит. В городе несколько тысяч архитекторов не имеют
работы. Сейчас в свободные часы (он очень часто работает и
140
АЛ. ХАМАДАН
по ночам) изучает авиацию. Он признался мне недавно, что
хочет стать авиационным конструктором. Он рассуждает
вполне реально: война неизбежна, и авиация будет играть в ней
главную роль. Так вот он опять что-то чертит, рассчитывает,
надеясь подготовиться за университет, скопить деньги и сдать
экзамены. Я верю, что он сдаст экзамены, он очень упорен и
настойчив, но я не верю, что он сумеет скопить деньги. Для
того чтобы он скопил в течение двух лет, как он думает,
несколько сот долларов, он должен отказаться от питания и
одежды. Я ведь ему ничего не могу дать. Ни одного цента!
У меня нет ничего, кроме этих ждущих работы
рук.—Говоря это, мистер Келли протянул вперед свои мозолистые
руки.
— Вообще наша молодежь оказалась в трагическом
положении. Работы нет, и нет надежды на то, что она появится
в ближайшем будущем. Учиться в высших учебных
заведениях она не может, не имеет денег. У нашей молодежи нет
никаких перспектив на будущее. Я знаю много рабочих семей,
в которых дети убежали из дому. Они бродят по стране в
поисках заработка. Дома оставаться они не могли, дома ничего
нет. У многих моих друзей маленькие дети не ходят в школу.
Годы идут, а дети продолжают оставаться неграмотными.
Ребята четырнадцати-пятнадцати лет едва читают и совсем
безграмотно пишут. Более взрослые ребята уходят на улицу,
организуют настоящие банды, которые не останавливаются
даже перед грабежом и убийством. Такие банды наподобие
взрослых бандитов избирают какой-либо район и терроризуют
его.
По поводу бандитизма вы, вероятно, уже немало слышали
или читали в газетах. Это единственная профессия в Чикаго
(да и не только в Чикаго), которая не знает кризиса. Десятки
тысяч людей заняты этим «делом». Возьмите хотя бы такого
типа, как Дилинжер, недавно убитого полицией. Случайно
убитого, заметьте это: ведь он содержал всю чикагскую
полицию, и не в интересах полиции было убивать его.
Американская пресса превратила этого бандита в какое-то божество.
Мелкие буржуа с восторгом следили за его грабежами. Вот,
мол, здорово наживается; вот, мол, карьера; вот это бизнес!
И на похождениях Дилинжера, на похождениях других
«знаменитых» бандитов, расписанных в сотнях газет и журналов,
воспитывается наша молодежь.
Да что газеты! Наши кинофирмы заполняют экраны
такими фильмами, в которых бандитизм и грабежи, убийства и
разврат преподносятся как наивысшая добродетель
современного общества. Вы знаете, как дети восприимчивы. Они ген
ЧИКАГО
141
лодны, и они видят в кино способы, при помощи которых
можно «легко» зарабатывать деньги, есть, пить и одеваться.
И они встают на этот скользкий путь. Я еще не видел ни
одного фильма в Чикаго, который ставил бы своей целью
культурное воспитание молодежи. Быть может, в других
городах есть, я ведь не бывал, кроме Чикаго, нигде, но у
нас этого нет, хотя Чикаго и является крупнейшим
городом.
Но в Чикаго живет не только рабочая молодежь. Дети
буржуазии, дети крупных чиновников не чувствуют кризиса.
Им с ранних лет прививают ненависть к нашим детям, к
рабочей молодежи, которая «полна пороков», которая «покушается
на их капиталы». И ненависть эта за последние годы приняла
характер открытой борьбы между буржуазной и рабочей
молодежью. Фашиствующие буржуазные сынки организуются
в отряды, вылавливают рабочего парнишку и жестоко
избивают его за то, что если сейчас он еще не коммунист, то
в ближайшем будущем станет коммунистом, а значит, и
«врагом общества». Они заявляют, что вся рабочая молодежь
потенциально коммунистическая. Ясно, что рабочая молодежь
вынуждена организоваться в целях самообороны. И теперь
нередки жесточайшие схватки на улицах, на реке, за городом.
Еще не было случая, чтобы полиция приняла сторону рабочих
ребят. Ни одного раза! Буржуазные детки всегда ни в чем не
повинны. Зачастую полиция вместо того, чтобы ликвидировать
побоище, вместе с фашистскими молодчиками набрасывается
на рабочую молодежь и избивает ее. И об этом вы не найдете
ни слова ни в одной газете. Властям, как всегда, официально
«ничего не известно». Буржуазная молодежь — это кадры
наших будущих фашистов.
Мистер Келли закуривает новую сигаретку. Курит он
добросовестно, докуривает сигаретку до конца, до того
момента, когда уже обжигаются пальцы и губы. У него усталые,
начинающие слезиться глаза. Они безрадостны. Он смотрит на
свои потрепанные ботинки с сильно сбитыми каблуками. Он
поворачивает ногу и с любопытством, точно впервые увидел,
смотрит на подбитые гвоздями подметку и каблук.
— Мистер Келли, скажите, пожалуйста, на что надеются
рабочие, безработные, мелкая буржуазия? Видят ли они где-
нибудь и в чем-нибудь выход из тупика?
— Наш народ живет сейчас только надеждами на
будущее. Четыре года верили мистеру Гуверу, теперь верят
мистеру Рузвельту \ Гувера забыли, а если и вспоминают, то толь-
Рузвельт сменил Гувера на посту президента Америки.
142
ЛЛ. ХАМАДАН
ко для того, чтобы как следует выругаться. Мистер Рузвельт
очень много обещал. Он обещал вернуть просперити,
ликвидировать пятнадцатимиллионную армию безработных, дать всем
пищу и работу. Народ поверил и ждет. Вот уже два года, как
мистер Рузвельт сменил Гувера, но просперити еще нет.
Голодных все больше и больше. Надо, конечно, отдать
справедливость нашим заправилам — у них* хорошо организован
агитационный аппарат. Газеты только и пишут о том, что
президент заявил то, сделал это, сделает еще то-то и то-то. Наш
народ, забитый за последние годы нуждой и голодом, жадно
ловит все, что ему говорят о лучшем. Эти иллюзии дорого
будут стоить нашему народу. Даже если допустить, что сам
президент — благородный и честный человек, ревнитель народных
интересов, то наши господа капиталисты не позволят ему
сделать то, что ударит их по карману. А облегчить наши
страдания можно только одним способом — попотрошить немного
капиталистические классы. У многих людей уже сейчас
наступило разочарование, многие уже теперь открыто выражают
свое недовольство правительством. В особенности
безработные,..
На прощанье мистер Келли просит, чтобы я прислал ему
из Москвы журнал или книгу, но обязательно
иллюстрированные, для того чтобы он мог увидеть собственными глазами,
как изменилась жизнь в России, что там строится. Он
говорит, что он не любит болтать языком впустую, он хочет,
чтобы все его друзья воочию убедились, что СССР не знает
кризиса, безработицы, эксплоатации, вытеснения человека
машиной, буржуазного рационализаторства, что... Но мы же знаем,
что хочет узнать и увидеть мистер Келли!
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
По великолепно отполированной асфальтовой дороге
быстро мчится гигантский автобус. Далеко позади остался
мрачный, пропитанный вонью Чикаго. Давно скрылись из виду
бесконечные кварталы низких домов рабочих окраин. Дома и
кварталы, вызывающие грусть! Тысячи квадратных метров,
заселенных горем, нуждой и бедностью...
Холодный ветер мечется по черным полям и дорогам. Тучи
пыли извиваются высокими, почти прозрачными, столбами.
Мириады песчинок тычутся в стекла автобуса. Тающая в
солнечных лучах пыль кажется огненно-золотистой.
Резкий поворот, тормоз. Машину бросило в сторону.
Остановка.
На самой середине дороги несколько рабочих, занятых ре-
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
143
монтом. Невдалеке медленно проходит группа безработных.
Маленькие свертки, узловатые палки мелькают время от
времени в пыльной завесе.
Спутник предлагает вернуться в Чикаго пешком вместе с
группой безработных. Решение принято. Шофер автобуса
делает удивленное лицо, затем улыбается и говорит:
— Плиз, май дир, — пожалуйста, друзья!
Огромный автобус исчезает, уносимый мощным мотором.
Резкий, холодный ветер забирается под пальто. Быстро
нагоняем отряд безработных. Попали в ногу, идем.
Люди идут молча, с сосредоточенными лицами, не
обращая на нас никакого внимания.
Двадцать пять мужчин — молодые, пожилые и старики —
неровным, усталым, спотыкающимся шагом бредут в Чикаго.
Эти молчаливые, угрюмые люди таят в себе маленькую,
радостную и ускользающую надежду!
Итти все труднее и труднее — ветер и пыль вяжут ноги.
Отрывистыми криками безработные условливаются о
привале. Натруженные ноги, утомленные тела нуждаются в
отдыхе. Долго выбирается место для привала. Наконец вблизи
дороги найдена удобная, защищенная от ветра и пыли
ложбинка. Шумно, но без смеха и улыбок безработные садятся на
корточки или прямо на землю, покрытую жидкой
черно-желтой травкой.
Бледные лица с глубоко запавшими глазами, острыми,
выдающимися вперед скулами. Молодые и старые. Грани зозра-
ста стерлись. Это люди без возраста. Они все — и молодые и
пожилые — выглядят изношенными и замученными.
Взять хотя бы Джека Морроу, — мы сидим с ним на
земле, плечом к плечу. Джеку всего двадцать шесть лет, только
теперь начинается расцвет его жизни. Этот широкоплечий
парень крепко сложен. Честное, открытое, смелое лицо. Мой
спутник, улыбаясь, трогает бицепсы Джека. Джек
неторопливо расстегивает пуговки нескольких рубашек, распахивает
грудь, кладет свою ладонь на остро выпирающую ключицу и
сжимает ее: все четыре пальца легко уходят глубоко под
горло. Ключица кажется обручем, спрятанным под туго
натянутой кожей.
— Раньше, — говорит Джек, — если я бывало дам кому-
нибудь по шее, человек валился с ног. Теперь ветер легко
валит меня самого. Если бы мне подкормиться месяца
три-четыре, пошел бы на ринг, — гарантированный заработок. Мы
идем из Элжина \ — продолжает он, отвечая на наш
1 Э л ж и н — центр часовой промышленности США. Расположен
примерно в 30 километрах от Чикаго.
144
АЛ. ХАМАДАН
вопрос. — Работали на часовых фабриках. Все мы не
имеем работы уже года по два. Тяжело пришлось! Отец, мой
брат и я — все работали на одной фабрике. Выкинули нас
'неожиданно всех сразу. У нас семья — одиннадцать человек.
Пособие первый год давали регулярно — около сорока долларов
в месяц на всех. Пособие плюс маленькие сбережения
прошлых лет, — кое-как жили. В начале этого года кончились
сбережения, пособие снизили ровно вдвое. Сестра заболела и
умерла: лечить ее было не на что. Мать умерла быстро, без
страданий. В Элжине о таких смертях говорят: «человека
унесло горе». За два года ни одного дня работы! Мы никому
не нужны. Жрать нечего, дома пусто. Решили с братом
двинуться в Чикаго. Будем теперь тремпами', погуляем по
стране.
На работу не надеемся, лишь бы перебиться до лета. Идем
на юг. Вон там сидит мой брат. Видите: в черной дырявой
шляпе, голова на коленях? Он старше меня на три года.
Замечательный работник! Главный мастер перед увольнением
говорил ему: «Вилли, тяжелые теперь времена. Ты не уходи из
города. Через полгода придешь обратно на свое место. Если бы
не кризис, мы никогда не уволили бы такого искусного
работника. Но ничего, Вилли, ты отдохни это время, поразмысли
и — самое главное — брось политику. Кризис идет к концу.
Будешь опять работать...» Золотые слова говорил мастер!
Вилли ждал почти два года, изголодался, оборвался. Невеста
была у него — замечательная девушка! Они вместе работали.
Ее уволили тоже. Она очень бедствовала: ведь Вилли ничем
ей помочь не мог. Исчезла она как-то из Элжина. Говорили, —
тихо произносит Джек, — что она теперь в Чикаго,
проститутка... Ей тоже нелегко, на руках у нее больные старики...
И знаете ли? Мастера этого недавно тоже уволили! Не
дождался старик этого проклятого просперити. Так
разрушилась наша жизнь. На юге — тепло, может быть, там нам
подвезет.
— До юга далеко. Когда вы доберетесь туда, Джек?
— Да, путь не близкий. В пульманах нас не повезут,
конечно. После Чикаго разойдемся, пойдем разными дорогами.
Иногда среди шоферов попадаются свои ребята, подвозят от
города к городу.
Джек расшнуровывает свой ботинок, сбрасывает рваный
носок и внимательно рассматривает ногу.
— Немного сбил пятку, — говорит он.
Тремя (англ.) — бродяга.
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
145
Закуриваем. Джек жадно и глубоко затягивается.
— Хорошая сигаретка, давно не курил такую. Дайте одну
для Вилли.
— Вилли!
Ветер относит в сторону призыв Джека.
— Вилли! Вилли!—опять кричит Джек.
Вилли поднимает голову, смотрит в нашу сторону. Джек
машет ему рукой. К нам приближается высокий белокурый
парень. Джек знакомит нас. Вилли опускается на корточки, не
протягивая нам руки. Он долго осматривает нас, затем берет
из рук Джека сигаретку и благодарно улыбается.
Со стороны дороги слышится резкий и частый стук. Вскоре
показываются несколько мотоциклов.
— Полицейская сволочь! — злобно бросает Джек.
В лагере безработных наступает тишина, нарушаемая лишь
визгом разгулявшегося ветра. Полицейские оставляют
мотоциклы на краю дороги и пробираются в ложбинку. В больших
дорожных очках здоровенные детины с торчащими на боку
кобурами подходят к лагерю. Долго и испытующе
оглядывают безработных, намеренно громко и часто поплевывающих
на землю.
— Куда направляетесь, ребятушки? — не обращаясь ни к
кому персонально, спрашивает полицейский сержант.
Никто не отвечает ему. Он раздраженно повторяет вопрос,
но также безуспешно.
— Куда собрались? — злобно орет полицейский.
— В Чикаго идут ребятушки, — спокойно отвечает Джек.
— Нельзя в Чикаго, там и без вас бродяг достаточно.
Сколько вас здесь? Двадцать пять? Все из Элжина? Что это
вам не сидится на месте? В Чикаго, думаете, слаще? Дьявол
вас побери, одно только беспокойство с вами.
«Путешественники», — с иронией говорит полисмен. — Не ходите в Чикаго,
не советую. Сверните обратно в Элжин или, в крайнем
случае, сверните на маленькую дорогу, что идет правее Чикаго,
а в город не заходите. Я позвоню с поста, вам там у дороги
дадут перекусить. Ну, прощайте, ребятушки, и не забывайте
моего совета.
Полицейские пошли обратно на дорогу. Старший
оглянулся еще раз и крикнул:
— Не ходите в Чикаго, беда будет!
На дороге застрекотали мотоциклы.
— Этим псам, — ворчит Джек, — позвонили, наверное,
ищейки из Элжина. У полицейских большая дружба между
собой, — добавил он.
Холодно смотрит на землю ослепительное солнце, Некото-
10 Вот она, Америка
146
АЛ. ХАМАДАН
рые безработные развертывают свои маленькие узелки,
вытаскивают куски сухого хлеба и медленно жуют. Тихо в лагере,
никаких разговоров. Каждый занят своими мыслями. Многие
с радостью ушли из Элжина. Маленькая обжигающая, как
огонь, надежда таилась в груди: Чикаго — большой город, в
Чикаго легче найти работу...
— Ни у одного из нас нет часов, — замечает Вилли, — а
ведь каждый из нас проработал в Элжине самое меньшее де-
сять-пятнадцать лет.
К Вилли и Джеку подсаживается старик.
— Как быть? — обращается он к ним. — Мне нужно в
Чикаго. Сынок мой там живет. Не выгонит же он меня на
улицу. У него думаю пожить, если это будет не в тягость.
— Кому теперь не в тягость лишний рот? — бросает Вилли
и смотрит на дорогу. — Отстань от нас, быть может, и
проскочишь мимо полицейских. Желаю удачи, отец!
Старик молча, ни с кем не прощаясь, покидает лагерь.
— Ну, вставай, ребята, пошли! —- кричит Вилли.
По прекрасной асфальтовой дороге зашагал отряд
безработных. Ветер слабел. Мимо проносились автомобили,
грузовики. Обычно задерживая ход, шоферы кричали:
— Счастливый путь, ребята!
Роскошные лимузины мчались полным ходом, разметая
тучи пыли; их сирены истерически выли, приказывая
освободить дорогу. Оседавшая пыль густо засыпала идущих.
— Если накормят супом, это еще хорошо, — сказал
молчавший до сих пор безработный, — хуже будет, если заставят
отработать этот суп на ремонте дорог.
После паузы он начал рассказывать:
— Однажды мне дали тарелку супу и чашку кофе и
заставили за это отработать два месяца в полицейских лагерях.
Нам давали самую тяжелую и наиболее грязную работу.
Кормили нас три раза в день: жидкий суп и водянистый кофе,
суп и кофе, суп и кофе! Мы износили на этой работе
последнюю одежонку. Через два месяца нас вывели к границе
штата и сказали: «Ребята, вы свободны, идите и не попадайтесь
больше». Мы потребовали денег за работу, полицейские
стали угрожать нам револьверами и слезоточивыми бомбами. Мы
ничего не могли сделать: среди нас не было ни одного,
который мог бы ввязаться в драку. От слабости мы едва
держались на ногах...
Безработный тяжело вздохнул, туже завернулся в рваный
пиджак и опустил голову.
Изредка в нестройных рядах слышится короткий вопрос:
— Нет ли покурить?
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
147
— Хорошо бы тянуть сейчас трубочку у очага, не правда
ли, Джессон? — мечтательно говорит один безработный.
— Что ты мелешь чепуху, Фред? — отвечает ему другой. —
Вот дойдем до перекрестка, попроси у полицейских. У них
добрая душа, они сжалятся над тобой...
Ветер совсем затих. Солнце спряталось за черные тучи.
На пустынной дороге стало холодно. Далеко впереди
показались первые домики, где-то за ними начинается Чикаго. С
озера Мичиган наплывает холодный воздух. Самого озера не
видно, оно находится по другую сторону города. Это хорошо
для бредущих безработных — холодный воздух задерживается
на городских улицах. Но это плохо для городской бедноты,
замерзающей в своих дырявых и ветхих хижинах.
Вилли долю смотрит на небо и говорит, не обращаясь ни к
кому:
— Дождь будет, чорт возьми!
— Дождь бы еще ничего, — замечает низкорослый
рабочий, идущий рядом с ним, — как бы не пошел снег.
Вилли и Джек — вожаки этой маленькой колонны
безработных. В Элжине их хорошо знали все рабочие. Это смелые
и честные люди. Вилли стоял во главе рабочей забастовки.
Агент компании предложил ему за предательство пятьсот
долларов.
— Это же сущая ерунда, — доказывал он. — Вы должны
выйти на работу первым, только и всего. За вами пойдут все
остальные. Вас ведь уважают не только рабочие!
Администрация просит передать вам, что она согласна назначить вас
мастером.
Вилли ответил очень коротко и просто:
— Я не предатель! — И несколькими тяжелыми ударами
превратил морду агента в раздавленный спелый арбуз.
При первом же случае он, один из лучших,
высококвалифицированных рабочих, был уволен. Следом за ним вылетел
с фабрики Джек, а затем и отец.
Начал моросить мелкий дождь. Вскоре вместе с
дождевыми каплями на землю стали ложиться хлопья мокрого снега.
Холод затруднял дыхание. Вся колонна была легко одета. Ни
у кого не было теплого пальто. Несколько человек кутались
в дырявые резиновые плащи, надетые поверх рубашки или
фуфайки. Большинство безработных было в пиджаках.
Коломна медленно двигалась в тягостном молчании. Ноги
месили липкую грязь. У всех было подавленное настроение.
Вилли посмотрел на Джека. Он сказал ему всего лишь одно
слово:
— Ну?!
148
АЛ. ХАМАДАН
Хриплым, простуженным голосом Джек запел популярную
песенку безработных. В этой песне слова, полные печали и го-
ря, чередовались с проклятиями и угрозами:
Совсем недавно Мери мне сказала:
«Больше не ходи...
Не для нас с тобой поются сказки
О любви.
Мы живем на улице — летом и зимой.
Нет работы!
Значит, нет и хлеба и любви
Для нас с тобой.
Разве не постель для нас —
Широкая дорога?
А мягкая подушка — твердый тротуар!»
О, Мери, погоди!
Скоро будет много хлеба и любви.
Дай нам только силы,
Добраться до Чи *.
Мы пройдем по авеню Мичиган,
Мы сорвем с земли все ее плоды.
О, Мери, не тоскуй!
Стань со мною рядом,
Спина к спине,
И смотри же зорко,
Чтобы сзади не прыгнул с бомбой
Дьявол-полисмен!
Десяток голосов повторил припев:
Мы пройдем по авеню Мичиган,
Мы сорвем с земли все ее плоды!
Итти стало немного веселее. Мокрый снег продолжал
падать. Солнце сегодня уж не выйдет из-за туч.
— Джек, — крикнул кто-то, — затяни про американку
Клару, да только веселей!
— Ладно, — устало отвечает Джек,
Впереди на дороге показалась большая толпа людей.
Колонна приостановилась.
— Здесь, наверное, надо сворачивать вправо, — сказал
Вилли.
Толпа на дороге стояла неподвижно. Хлопья мокрого
снега туманили лица. От толпы отделились несколько человек и
направились навстречу колоние. Шли тепло одетые
полицейские. Не доходя до колонны, один из них крикнул:
— Из Элжина, что ли? Сколько человек? Двадцать
четыре? Неверно, должно быть двадцать пять. Куда пропал один?
Чи — сокращенное название Чикаго
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ Н9
— Вернулся в Элжин, — ответил Вилли.
— Вернулся ли? — подозрительно бросил полицейский. —
Ну, быстро стройтесь по одному, получите по тарелке супу.
На краю дороги стоит грузовик с большим баком. Каждый
безработный получает кусок хлеба, жестяную миску с жидким
гороховым супом и отходит в сторону. От мисок валит горячий
пар. Кто-то с голодной нетерпеливостью хлебнул и обжегся.
Выругался длинно и похабно, упомянув чикагских
благотворителей. Полицейский прикрикнул на него.
Через полчаса грузовик уехал. На дороге остались две
колонны безработных. Одну колонну составляли «бродяги»,
выловленные полицией в Чикаго, другая колонна —
безработные Элжина. Несколько десятков вооруженных полицейских
'окружали их.
Инспектор полиции взобрался на коляску мотоцикла; ело-
жил руки рупором, поднес их к губам и заорал:
— Город не может принять вас на свое содержание. В
городе нет никакой работы. Вам придется итти в другой штат.
Там, наверное, не легче, но, может быть, там вам повезет.
Идите по этой дороге. Мы арестуем и отправим в наши лагеря
каждого, кто вздумает вернуться в Чикаго. Ну, валяйте, с
богом. Да не задерживайтесь!
Полицейские мотоциклы загрохотали, наезжая на колонны
безработных, щедро разбрызгивая мокрую грязь. Из толпы
раздался сильный мужской голос:
— Дьяволы, мы еще вернемся!
Полицейские переглянулись и сделали вид, что ничего не
слышат. Мотоциклы застучали, еще сильнее напирая на
толпу, выталкивая ее с большой дороги на маленькую, ведущую
куда-то в штат Индиана.
Вечерело. На дороге не появлялось ни одного автомобиля.
Толпа безработных пыталась согреться быстрой ходьбой.
В чикагской колонне оказалось несколько женщин и
подростков — мальчики и девочки лет по пятнадцати-шестнадцати.
Жалкие, истощенные детские фигурки жались друг к другу,
пытаясь согреться. Они шли в неизвестное, в страдание, голод
и холод. Их будут изгонять из всех городов, из всех штатов
(ведь везде своих безработных достаточно).
Вилли и Джек тихо переговариваются с водителями
чикагской колонны. Скоро ночь. Надо подумать о ночлеге.
— Послушай, белокурый, — обращается к Вилли молодая
женщина из чикагской колонны, — дай покурить.
Она придвигается ближе. Ей не больше двадцати лет.
Бледное, худое, испитое лицо. Коротко подстриженные волосы
лежат на лбу черной коронкой. На узкие плечи накинута
150
АЛ. ХАМАДАН
тонкая жакетка, несколько выпирающая на животе. Она
беременна.
— Мы заставим, чтобы тебя оставили в каком-нибудь
приюте, — мягко говорит Вилли.
— Не заставите, — нервно смеется женщина. —
Полицейский врач заявил мне, что я на четвертом месяце и что мне
полезно много ходить и дышать свежим воздухом!
Женщина с жадностью затягивается дымом сигаретки.
— Давно уже не курила!
Снег повалил чаще. На дорогу опустилась тьма. Изредка
встречались мигающие фонари. Колонна безработных
растянулась на несколько сот метров. Ноги громко шлепали по
мокрой грязи. Порыны ветра стали более сильными и холодными.
Кз темноты сверкнули два больших огненных глаза —
быстро мчался автобус, увозя своих пассажиров от холода и
непогоды к теплу и уюту. Внезапно в колонне запели пеоню,
которую уже пел Джек на пути из Элжина. Многоголосая толпа
подхватила припев:
Мы пройдем по авеню Мичиган,
Мы сорвем с земли все ее плоды!
Колонна безработных, бездомных и обездоленных людей
шла вперед. В темноте исчезли последние фигурки двух
девушек-подростков, которые шли, тесно обнявшись, й тихо пели
какой-то слышанный в ночлежке модный романс о том, как
молодой миллионер Дэвис влюбился в уличную девушку,
положив к ее ногам свое сердце и миллионы. Девушка отвергла
ею любовь.
Миллионы отдал он прекрасной Рут!
Но она его выгнала в шею...
Сильный порыв холодного ветра унес в темноту последние
слова песни.
***
Полночь. На чикагском вокзале обычная сутолока. Через
несколько минут отходит поезд в Нью-Йорк.
Носильщики-негры носятся взад и вперед с чемоданами, коробками и
саквояжами. В этой стране на всех вокзалах, в отелях — повсюду
носильщики только негры. Никто не платит им никакой
зарплаты. Весь их заработок складывается из чаевых, из
щедрости пассажира. Но для того чтобы выдавить из
американского пассажира 10—15 центов, надо обладать поистине
артистическими способностями. И сколько раз можно было
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
151
наблюдать, как негр-носильщик, аккуратно разложивший
бесчисленное множество чемоданов, стоит и умоляюще смотрит
в глаза пассажиру. Очень часто эта сцена заканчивается
вежливой благодарностью, без единого цента носильщику! Второй
вариант этой сценки — 5 центов «на чай».
Носильщик-негр, которому я дал 20 центов, усадил меня в
вагон и не отходил до ухода поезда. Я предложил ему сесть
рядом. Он вежливо отказался. Я спросил, сколько он
зарабатывает.
— В очень хорошие дни, — говорит он, — я зарабатываю
пятьдесят центов, в плохие — пятнадцать-двадцать центов.
Значит, в «блестящий по своей экономической конъюнкту,
ре» месяц он зарабатывает около 15 долларов, а в плохой — от
5 до 6 долларов. А ведь у многих носильщиков большие
семьи...
Поезд отходит без свистков и звонков.
В вагоне почти пусто: всего пять-шесть пассажиров и
пассажирок. На соседнем диване сидит кондуктор, рядом с ним
женщина с большой кошолкой. Они, очевидно, знакомы. Он
спрашивает:
— Ну что, Джек все еще сидит дома?
— Куда же он пойдет?
— Что он делает?
— А что ему делать? Хозяйства у нас никакого нет.
Возится с Биллом (очевидно, с сыном), а остальное время спит.
— А куда вы собрались?
— Да я в Миссавака * к сестре. У нее дела гораздо
лучше. Она звонила и предложила приехать к ней за
продуктами.
Кондуктор подходит ко мне и просит предъявить билет. Он
тщательно разглядывает его, внимательно смотрит на меня и
просит разрешения зависать номер моего билета. Оказывается,
я — единственный пассажир, купивший билет до самого Ныо-
Иорка, остальные пассажиры едут на небольшие расстояния.
Кондуктор возвращает билет, улыбается и говорит, что он
отметит в своей рапортичке, что у него был настоящий
пассажир с настоящим билетом до самого Нью-Йорка.
Примерно через час в вагоне появляется главный
кондуктор. Он тоже внимательно рассматривает билет, что-то
отмечает в своей книжке, извиняется за беспокойство и
уходит.
Делаю тысяча первую попытку уснуть. Однако тщетно.
В длинном, как коридор, вагоне стоят мягкие диваны, на КОТО-
Местечко примерно в 60 милях от Чикаго.
152
АЛ. ХАМАДАН
рых могут усесться только два (не толстых) пассажира. Лечь
не на что. Ноги выскакивают в проход. Убираю их обратно,
но они выскакивают вновь. И так до утра...
За окном мелькают станции, городки, поля, крестьянские
фермы. Погода пасмурная, валит мокрый снег. Поезд,
нисколько не убавляя хода, идет по улицам города Сиракузы.
Мелькают ежащиеся от сырости пешеходы, вывески и уйма
беленьких плакатиков на окнах, стенах, домах и дверях: «tu
Let», «for Rent». Все сдается в наем, словно из города сбежало
население, оставив на произвол судьбы дома, квартиры,
магазины. Промелькнул отель. Успел прочесть название — «Ка-
занова» К
Удивительна любовь к древности в Америке! Особенно к
названиям древних, знаменитых чем-либо городов. По всей
стране, как горох, рассыпаны мелкие заштатные городки с
громкими названиями: Сиракузы, Троя, Мемфис, Олимпия,
Рим, Феникс, Каир, Флоренция, Александрия, Пекин,
Ватерлоо, Париж, Лондон, Берлин. Не забыты и мы: здесь есть
Петербург и Санкт-Петербург. Все эти городки насчитывают
не более 15—20 тысяч жителей. Но они известны, бросаются
в глаза благодаря своим громким названиям. Не обойдены и
герои. Есть города: Ганнибал2, Гамильтон3, Бисмарк*,
Вашингтон (я имею в виду десятки маленьких городков,
разбросанных по стране и названных «Вашингтон»), Линкольн и т. д.
Между прочим, есть местечки, называемые именем целой
страны: Голландия, Великобритания, Мексика...
...Мелькают покрытые снегом поля. Изредка — деревушки.
На полях лежит скошенный, но не убранный хлеб. Часто
хлеб даже не скошен, гниет на корню, занесенный снегом.
И так на протяжении десятков, сотен километров.
Несмотря на то, что на юге была сильная засуха, вызвавшая
небывалый неурожай, на севере цены на зерно страшно упали, и
фермеру уборка хлеба обходится подчас дороже его
продажной цены. Поэтому фермеры предпочитают оставлять поля
неубранными. Конечно, здесь речь идет о крупных землевла-
1 Джакопо Казакова (1725 — 1798) — знаменитый авантюрист.
2 Барка Ганнибал (Аннибал) — один из крупнейших
полководцев древности.
3 Александр Гамильтон (1757 — 1804) — выдающийся
политический деятель США. В ранней юности участвовал в борьбе за
независимость Америки. Девятнадцати лет был адъютантом Дж. Вашингтона,
командовал полком. В 1798 году был главнокомандующим американской
армии. В 1804 году убит на дуэли политическим противником.
4 Отто Бисмарк (1815—1898) — крупнейший государственный
деятель и дипломат Германии XIX <века. Первый канцлер (премьер-
министр) Германии.
ЛЮДИ ИЗ ГОМСТЕДТА
153
дельцах, располагающих сотнями и тысячами гектаров
земли, которые сеют хлеб не для своего потребления, а для
рынка.
Вскоре заснеженные, бескрайные поля сменяются
грандиозным индустриальным пейзажем. Поезд входит в Нью-
Йорк...
ЛЮДИ ИЗ ГОМСТЕДТА
С первыми проблесками утренней зари басе вошел в
Питтсбургх. Едва-едва ощущается жизйь в этом спящем
городе. Пустьшные улицы молчаливы. От дома к дому
разъезжают желтые, синие, белые и черные автокары. Они развозят
своим заказчикам хлеб, молоко, овощи и другие продукты.
Седьмую авеню скребет, поливает и моет автомобиль.
Медленно бродит по тротуару полицейский, вооруженный
револьвером и огромной плетью. Он охраняет законность, порядок
и покой одного из городов «самой демократической страны
в мире». В Вашингтоне и Нью-Йорке у полицейских я не
видел плетей, хотя знал, что у каждого на левом боку висят
наручники.
Вот он, город стали, железа, угля, индустриальное
сердце Америки — Питтобург! Вот она, вотчина «стальных и
железных королей» Америки: здесь Карнеджи2 наживал свои
первые миллионы. Вот они, сотни шахт, заводов и фабрик,
построенных на костях и крови сотен тысяч рабочих.
Огромные заводские трубы, доменные печи, электростанции,
железнодорожные пути, угольные шахты охватывают кольцом,
сжимают Питтсбург со всех сторон.
Этот город смело можно назвать мрачным. Грязные дома
густо залеплены сажей, обильно расклеенная реклама
загрязнена заводской копотью. Узкие, как квартирные коридоры,
улицы; древний, давно не крашенный трамвай с тяжелым
примитивным аппаратом управления. Новый трамвай
городские власти строить не хотят — нет, мол, денег, да и не для
кого — ведь в трамвае ездят только рабочие и мелкие
служащие. Очень бледные лица всегда спешащих прохожих. Ни.
щие и безработные, предлагающие спички, недокуренные
сигары, собирающие брошенные на тротуар газеты. Роскош-
1 Питтсбург — город в штате Пенсильвания (665,5 тысячи
жителей). Расположен в важнейшем каменноугольном бассейне США.
Крупнейший металлургический центр Северной Америки.
2 Карнеджи (Карнеги) — крупнейший капиталист, «стальной
король» Америки.
154
АЛ. ХАМАДАН
ные, отделанные, как бриллиант, автомобили; великолепные,
ломящиеся от избытка товаров витрины. И рядом —
прислонившийся к окну, едва двигающий губами от голода
безработный. Вот лицо Питтсбурга. Мрачный город!
Трамвай идет в Гомстедт —рабочий район Питтсбурга.
Здесь находится большинство фабрик и заводов города.
Гомстедт—крупнейший пролетарский центр Америки.
Здесь тридцать пять лет назад «король стали» Карнед-
жи устроил кровавую бойню (впервые забастовавшим рабочим
своих металлургических заводов. В Гомстедте тридцать пять
лет назад рабочие впервые строили баррикады, на которых
развевалось красное знамя.
Трамвай идет в Гомстедт через Форби-стрит, по улице
вилл, принадлежащих питтсбургской буржуазии. Роскошные
особняки утопают в густой зелени. Заводы и рабочие кварта-
лы дальше, внизу, на обоих берегах реки. Трудно поверить,
что в современной Америке, стране «исключительного
технического могущества, богатейшей стране мира», можно
встретить такие жалкие человеческие жилища! Грязные,
полуразрушенные деревянные дома теснятся друг возле друга,
прилипли к высокому берегу. Ни одного дерева вокруг. И только
заводы, трубы, дым. Дым бесконечными густыми клубами
стелется над крышами этих домишек. Тяжелый, отравленный,
черный воздух.
Тротуа.роз почти нет. Разбитая земляная тропинка
извивается возле рабочих жилищ. А рядом, на расстоянии всего
двух километров, великолепное асфальтовое шоссе,
утопающие в зелени виллы...
Сталелитейный завод Карнеджи. У ворот несколько сот
рабочих. Это — безработные. Они изо дня в день приходят
сюда, надеясь получить работу. Иногда из заводской будки
выходит чиновник и кричит:
— Двух, только двух чернорабочих, и только до конца
недели!
Сотни людей бросаются к будке, давят друг друга.
Каждый пытается первым протолкаться к ней и получить
номерок. Но можно протолкаться к будке, получить номерок и...
не получить работы! Фамилия счастливого обладателя
номерка сообщается по телефону в контору, где лежат личные
карточки рабочих. В личной карточке отмечено, насколько
рабочий «благонадежен». Сплошь и рядом чиновник из
будки кричит рабочему:
— Не подошел!
ЛЮДИ ИЗ ГОМСТЕДТА
155
И снова давка, и снова игра в счастье: работа, пусть хоть
на одну неделю, но все же хлеб!
Здесь, в этой толпе, не видно ни одною человека в
шляпе; три четверти собравшихся без галстуков и больше
половины не брились по нескольку дней. Расстегнутые вороты
рубах черны от грязи, пиджаки и штаны потертые, реаные,
с грязными пятнами. Худые, с мрачными, озлобленными
лицами, с руками, глубоко засунутыми в карманы штанов,
безработные стоят, сидят и лежат прямо здесь же, на панели.
Мы стояли и курили. К нам подошел пожилой рабочий.
Трудно было определить цвет его пиджака — настолько он
слинял и вытерся. Его жилет был сколот булавками, брюки
держались на веревочке. Он что-то говорил.
— Дайте, пожалуйста, докурить,—разобрал я.
Протягиваю ему сигаретку. Он взял ее так бережно,
словно это была не сигаретка, а сама жизнь. Я протянул ему
опички, он отвел мою руку: нет, он выкурит ее потом. Он
пошел было, но сейчас же повернулся и спросил, не иностранец
ли я. Я кивнул головой утвердительно.
— Поляк?
— Нет, русский.
— Русский?!
Он подходит совсем близко.
— По-польски можете говорить?
— Нет.
— Я понимал руш(ки, — говорит он, — забивал сейчас
все.
Так мы познакомились. И вот что он мне рассказал:
— Я приехал сюда в 1911 году и быстро нашел работу.
Женился, была семья. Зарабатывал так, что всегда был сыт.
Но вдруг нам сразу снизили заработную плату наполовину,
а потом выбросили на улицу несколько сот человек, и меня
■в том числе. Не работал' почти год. Спустил все, что имел.
Был такой домик (он показывает на покосившиеся Лачуги),
не успел выплатить домовладельцу его стоимость — отняли.
Вскоре умерла жена. Потом удалось получить место, и я
работал целых десять лет. В 1930 году снова уволили. За
два года я работал всего два месяца, а с 1932 года не
работаю совсем. В 1933 и начале 1934 года получал пособие.
Теперь не получаю, потому что не имею «постоянного
местожительства». Была у меня дочь. Умерла в прошлом году от
туберкулеза. Видите, какой тут черный воздух!..
Мы зашли в маленький сараеобразный ресторанчик.
Предложил ему стакан пива. Он отказался, попросил кофе.
— Уже два дня ничего не ел, — сказал он.
156
АЛ. ХАМАДАН
Закусив, мы вышли на берег реки и направились к
рабочим домишкам. Наш новый знакомый ведет нас по
квартирам своих приятелей. Вот покосившийся деревянный домик.
Гнилые доски выпирают из стен. Вся площадь этого «дома»
примерно 12 квадратных метров. На веревке висит
стиранное серое белье. Заплаты на нем положены щедро и
крупно.
Входим без стука. Славек (так зовут нашего нового
знакомого) ведет уверенно. Нас встречает молодая женщина в
грязном платье. В комнате почти никакой обстановки —
плетеное кресло и стул. В углу — аккуратно свернутая постель.
Женщина приветливо встречает нашего спутника.
— Ну как, тянешь еще? — усмехаясь, спрашивает она и
удивленно оглядывает нас.
— Ваш муж безработный?
— Нет, он работает, скоро должен притти.
Женщина начинает беспокоиться, и Славек объясняет
цель нашею прихода.
— Смотреть-то, собственно говоря, нечего, — приветливо
говорит она.
— Сколько получает ваш муж?
— Сорок два доллара в месяц.
— Сколько у вас детей?
— Четверо. Старшему четырнадцать лет.
— Ходят в школу?
— Только двое. Остальным не в чем. Нам нехватает на
жизнь. Вот за этот сарай мы должны платить каждую
неделю три доллара — двенадцать долларов в месяц.
— В качестве кого работает ваш муж?
— Он сейчас чернорабочий, но он специалист, — словно
оправдываясь, добавляет женщина. — Он был старшим
монтером. Полтора года был безработным, и мы теперь
счастливы, что он работает хотя бы чернорабочим. Вы знаете, как
теперь тяжело?!
— Как вы питаетесь? Покупаете молоко, яйца, масло?
— Нет, молока не покупаем. Мясо бывает едва ли раз в
месяц, и то большей частью консервированное. Маргарин
иногда покупаем для мужа, ведь он очень много работает.
— Сытно едите?
— Вот дети всегда кричат, что им мало.
Тяжело слушать этот печальный рассказ ж;ены рабочего...
В комнату входит тоненькая, как тростник, бледная
девочка лет восьми — самая младшая. Одета она в одно
просвечивающее бумажное платье. Белья на ребенке нет. Мать
гладит девочку по головке. В ком/нате прохладно. Девочка от*
ЛЮДИ ИЗ ГОМСТЕДТА
157
крывает рот. В нем видно всего лишь несколько зубов,
маленьких и серых.
— Почему у нее нет зубов, она больная?
— Нет, видите ли, зубы поздно растут у нее, она
рахитичка. В прошлом году водила к врачу; он сказал, что это
результат недоедания — надо лучше кормить.
На глазах у матери показались слезы.
На улице мы молча постояли несколько минут.
Вечерело. Огненное солнце неторопливо уходило в глубину
не то грязных облаков, не то сгустков дыма заводских труб.
Славек поЕел нас посмотреть, как живет он сам. Его
«квартира» оказалась тут же, почти рядом. Нас отделяло от
этой «квартиры» всего лишь несколько полусгнивших лачуг.
К огромному мусорному ящику прислонился домик «на
курьих ножках». Славек осторожно толкнул криво навешенную
дверь. Она открылась прямо в «комнату». В «комнате»
только одно маленькое окно. Полумрак. Сидеть не на чем. В
"четырех углах комнаты четыре груды грязного тряпья.
Воздух тяжелый, сырой. В этой конуре поселились четыре
друга — безработные.
— Вот наш дворец, — говорит Славек и кричит: — Эй,
Пирлонт, вставай!
В углу что-то зашевелилось. Поднялся высокий человек со
страшно опухшим, лиловатым лицом.
— Мы в шутку зовем его Пирлонт Морган \ — без
улыбки объяснил Славек. — Он не работает, спит и, кажется,
несколько дней уже не курит и не жрет.
— Пирпонт, — продолжает Славек, зажигая коптилку, —
утром я поднял обрывок журнала. Какие интересные вещи
описаны там, если бы ты знал!
— Опять, наверно, написано о том, как пируют и
бездельничают капиталисты? Надоело!
— Нет, здесь написано такое, что ахнешь!
— Рассказывай.
Славек вытаскивает из кармана грязный и оборванный
журнал.
— «Миссис Вандербильд, — читает он, — расходует в год
на личные нужды сумму, равную стоимости содержания семи
тысяч рабочих семей».
— Довольно, Славек! — взмолился Пирпонт. — Не к чему
раздражать себя. Побережем» нервы.
— На что вы надеетесь, Славек?
1 Пирпонт Морган — миллиардер, банкир, один из богатейших
людей капиталистического мира.
158
АЛ. ХАМАДАН
— О, мы ждем чуда! — воскликнул он. — Через месяц,
как люди, имеющие «постоянное местожительство», мы
получим право на пособие. Вы понимаете: я каждый день буду
лить две чашки кофе!
— Но что же дальше?
— Что дальше — я не знаю. Я с Пирпонтом думаю, что
мы должны ударить капиталистам» прямо в сердце. Верно я
говорю, товарищ Пирпонт?
— Отстань, — зло отвечает тот, — я уже давно готов
выпустить кишки всему этому миру!
***
Мы вернулись в Питгсбург поздно вечером.
Седьмая авеню сверкает электрическим великолепием.
Витрины ломятся от всевозможных яств. Непрерывным ра-
диопотоком! несутся звуки джаза — вечный фокстрот «Ка-
риока» и совсем новый, только что выдуманный «Кукарачча».
На улице десятки радиорупоров, и каждый выпевает только
свое. Все это смешивается в какой-то дикий кошачий
концерт.
Прекрасные автомобили мягко разрезают воздух,
бесшумно скользя по зеркальному асфальту авеню. От утла до угла
настороженно ходят полицейские. Они вооружены и
внимательны. Они охраняют этот пресыщенный мир от мира
голодных и нищих. Они готовы в любую минуту броситься на
всяжого, кто посмеет поднять, протестуя, руку, сжать кулак.
Они будут истязать точно так же, как их коллега истязал
сегодня мальчишку-негра возле роскошного кино на Форби-
стрит. Он бил его плеткой по голове. Бил, словно
построенный по последнему слову американской техники • автомат,
размеренно и точно — только по голове...
Над этим огромным, закопченным дымом заводских труб
городом — сердцем индустриальной Америки — встает
гигантская тень гомстедтских баррикад. Уже слышен гулкий
рокот людскою потока. «Люди из Гомстедта» придут
на Седьмую авеню! Они придут обязательно. Они придут для
того, чтобы подвести окончательный баланс начатых еще
тридцать пять лет тому назад расчетов с сегодняшними
хозяевами крови и пота, стали и угля.
Автобус с трудом выбирается из узких и кривых улиц
Питтсбурга. Только далеко за Гомстедтом он может развить
свою нормальную скорость — 90—100 километров в час.
ЛЮДИ ИЗ ГОМСТЕДТА
159
Первая десятиминутная остановка в Эмбридже. Маленький
провинциальный городок. Его улицы не подметались,
вероятно, уже несколько месяцев — настолько они грязны. Витрины
всех магазинов оклеены маленькими и большими цветными
объявлениями:
«ЗДЕСЬ РАСПРОДАЖА»
«ЗДЕСЬ ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА»
«ЛИКВИДИРУЮТСЯ ДЕЛА»
«ТОВАРЫ РАСПРОДАЮТСЯ ЗА БЕСЦЕНОК».
Город очень маленький, на улицах ни души. Для кою же
эта распродажа, где покупатели?
Поздно вечером въехали в другой маленький городок —
Миссланд. Около остановки автобуса сейчас же появилось
несколько ребятишек. Старшему из них едва ли более восьми
лет.
Ребята плохо одеты и обуты. На их узкие плечи
накинуты чужие рЕаные пиджаки. Почти все без шапок, а уже
изрядно холодно: ноябрьский ветер студит л"ицо и руки,
спину пронизывает даже через пальто.
Ребята продают резиновую жвачку «раглей», спички,
яблоки, бананы, утренние питтебургские газеты. Но чаще и
охотнее (ведь никто не покупает) они просто выпрашивают
милостыню.
Мальчишка настойчив. Он сует мне в руку пакетик со
жвачкой и просит «только 5 центов». Он ежится от
холодного ветра, переступая с ноги на ногу.
— В школу ходишь?
— Нет. У меня нет времени, надо что-нибудь заработать.
Теперь он предлагает ми-е набитую окурками и ловко
заклеенную пачку сигарет. Его пальцы, как видно, еще не
привыкли к этой «тонкой работе» и слишком сильно придавили
пачку, — она стала острой и угловатой. Он замечает мой
взгляд и смеется. Но смеется по-деловому, словно опять
хочет сказать: «Надо же что-нибудь заработать!»
— Как звать тебя?
— Джимми.
Я ему больше не интересен. Он подходит к другому
пассажиру и назойливо предлагает, быстро вытаскивая из
глубоких карманов, то банан, то яблоко, то уже знакомую
мне пачку сигареток, то резиновую жвачку. Ею отгоняют. Он
подходит вновь. Он говорит и смеется по-деловому:
— Жаль, очень жаль...
Слишком рано начал заниматься «бизнесом» этот еще
молодой и бесштанный гражданин Соединенных Штатов!
160
АЛ. ХАМАДАН
ДЕНЬ В ГАРЛЕМЕ
Это большой город в гигантском, многомиллионном Нью-
Йорке. Большой черный остров в море белоцветных улиц и
людей. Гарлем! — это негритянское гетто Нью-Йорка. Здесь
даже дома темносерые, чериые. Но это не окраска. Это
древняя плесень. Длинные узкие улицы заставлены большими
старыми, грязными и облезлыми домами, долгие годы не
знавшими ремонта.
На улицах не видно ни одного белокожего — повсюду
негры. Шоферы такси и автобусов — негры, пасторы в
церквах— негры, учителя в школах — негры. Даже
полицейские, словно маяки, расставленные на уличных
перекрестках, — негры. Неважно, что рядом снуют белокожие сыщики
и полицейские инспекторы, зорко следящие за своими
чернокожими коллегами. Важно другое — американская
«демократия» налицо.
Самодовольный американский буржуа, преисполненный*
важности и гордости, говорит:
— О, мы, американцы, дали этим! чернокожим все, что
необходимо каждому народу: свободу, права, даже территорию.
Они у нас совершенно равноправны...
Этот буржуа бывал в Париже, Лондоне и Риме, в Шанхае
и Токио. Но он никогда не был в южных штатах своей
страны, в «черном поясе», в штате Джорджия. Его нога ни разу
не ступала по улицам Гарлема, находящегося в сорока
минутах езды от его роскошной квартиры на Пар»к-авеню.
— Помилуйте, — восклицает он, — у меня там нет
никаких дел! Моя контора находится на Седьмой авеню...
На Пятой авеню, на Парк-авеню, да Риверсайд-драйве —
в буржуазных кварталах города — неумолимый кризис
жестоко расправился с менее устойчивыми кругами
буржуазии. Кризис произвел своеобразную «чистку» этих больших,
светлых, наполненных солнцем и воздухом улиц. Пустуют
сотни домов. В сотнях небоскребов пустуют тысячи
квартир.
Мы сидели с нью-йоркским старожилом на империале
автобуса. Автобус быстро и мягко катился по шумным
улицам центральной части города.
— Смотрите, — кричит мне старожил, — вот
десятиэтажный дом! Видите, окна заколочены досками? Он совершенно
пустой, владельцы не могут найти квартирантов...
Через минуту повторился опять такой же возглас. Мы
проезжали мимо гигантского, многоэтажного дома, в котором
был занят только один нижний этаж — конторами, парик-
„Студия" на. . . мостовой.
ДЕНЬ В ГАРЛЕМЕ
161
махерской и ювелирным магазином. Самый большой в мире
дом — небоскреб «Эмшайр Стейтс бильдивдг», в 102 этажа
высотой, — тоже пуст. Менее 20 процентов полезной площади
этого гигантского дома занято магазинами, конторами и
людьми. В коридорах десятков пустующих этажей и квартир
наслаивается пыль. И, несмотря на это, ни один считающий себя
«настоящим американцем», владеющим доходным домом в
буржуазном! квартале города, не сдаст квартиру негру, будь
этот негр даже сверхбуржуем. Пусть пустуют дома, пусть
пустуют квартиры, пусть подхлестывает кризис, но негру
нельзя сдать квартиры, ибо остальные квартиранты —
«настоящие американцы» — могут оскорбиться и переехать в другой
дом...
Нью-йоркцы любят говорить, что к неграм они относятся
терпимо. В Нью-Йорке негров не порют, не втискивают в
колодки, не заковывают в цепи, не сжигают живьем на кострах,
не вешают и не линчуют1, как это обычно практикуется в
южных штатах, в частности в штатах Джорджия и Алабама.
В северных штатах страны, в том числе и в Нью-Йорке, их
попросту презирают. Здесь относятся к неграм с подчеркнуто
холодной пренебрежительностью — как к животным.
Впрочем, далеко не всякое животное живет та>к, как в
буржуазном обществе живет негр. Например, мисс Вандербильд
расходует на собачку в год 760 долларов, иначе — 63,5
доллара в месяц. А негр Джордж Смис, работающий у
раскаленных печей бисквитной фабрики девять с половиной часов
в день, получает 8 долларов в неделю, иначе — 32 доллара
в месяц, и на них содержит, кроме себя, шесть человек —
жену и пятерых детей!
В поездах подземки, в автобусах, в трамваях Нью-Йорка
нет отделений «для черных людей» и «для белых людей»,
что обычно для юга «страны. Но в Нью-Йорке рядом) с негром
не сядет ни один уважающий себя «настоящий американский»
буржуа и мещанин. Я был свидетелем такого случая. В
вагон нью-йоркского метро вошел прилично одетый негр с
белой женщиной. Стоило полюбоваться широко раскрытыми
ртами и глазами пораженных белых пассажиров! Словно
1 С у д Линча — самосуд, принятая в Америке форма публичной
расправы с неграми. Суд Линча ведет свою историю от землевладельца
Джона Линча, который двести лет тому назад без суда расправился со
своим батраком. Линчевание обычно состоит в том, что обвиняемого
на глазах у толпы зверски мучают, а потом вешают на дерезе или
сжигают живьем. Этот дикий обычай особенно распространен в южных,
бывших ранее рабовладельческими, штатах, где негры составляют
значительную часть населения.
11 Дот онч. Ам?рпп.ч
162
АЛ. ХАМАДАН
парализованные, они ни на секунду не сводили глаз с этой
пары. Упитанные бизнесмены перестали заглядывать даже в
свои газеты.
Всю дорогу — более получаса — продолжалась эта
мучительная моральная пытка. Негр и его спутница неподвижно
сидели в углу вагона, напряженно разглядывая мелькающие
за окном грязные стены тоннелей метро.
Черный и белая вместе — это недопустимая в Америке
комбинация. В южных штатах негра за связь с белой
женщиной немедленно линчуют.
Пользующийся широким покровительством шовинизм
аргументирует в своей антинегритянской деятельности гнусной
«теорией» о «специфическом происхождении запаха и
курчавых волос у черных людей». Все, что может опорочить
достоинство человека, свести его к уровню животного — грязные
анекдоты и отвратительные историйки—выдается за
«характерные черты» негритянского народа.
Когда в Гарлем» потянулись караваны людей,
спасавшихся от каторги и самосуда, творимых в Джорджии, Алабаме
и в других штатах страны, «цивилизованные» американские
мещане завопили: «Черная угроза ползет в Нью-Йорк!»
Негров изолировали от всех других слоев городского населения,
загоняли только в один район. В этом факте — кусочек
истории возникновения Гарлема.
Встреченный на одной из улиц Гарлема безработный
старик-негр рассказал мне следующее:
— Конечно, в Гарлеме несравненно лучше, чем в других
штатах. Два года я пробирался из Джорджии в Нью-Йорк.
На пути в Гарлем меня несколько раз ловили плантаторы и
заставляли отрабатывать на своих плантациях сезоны сбора
хлопка. Сидел в тюрьме за «нарушение контракта» с
владельцем хлопковой каторги. О, тяжело было добраться до
Гарлема! Сейчас работы я не имею. Побираюсь. Да и кто
даст работу мне, шестидесятилетнему негру, когда сотни
тысяч молодых белых и негров не имеют ее? Где я живу?
В Гарлеме можно жить и на улице, конечно, не в центре, а
где-нибудь на окраине. Летом очень хорошо — тепло. Но
зимой страшно холодно и... еще голоднее.
***
Уличная толпа огромна, суетлива, но молчалива. Десятки
лет презрения, преследований и изуверств наложили на этих
людей тяжелый отпечаток подавленности. Сквозь черноту
лиц пробивается матовая бледность, глубоко запавшие глаза,
острые, стянутые кожей скулы. Десятки, сотни молодых и
ДЕНЬ В ГАРЛЕМЕ
163
пожилых негров медленно бредут вдоль улиц, едва
передвигая ноги. Этим людям некуда торопиться. Их *не ждет работа,
ибо ее нет. Их не ждет домашний очаг, ибо его тоже нет. Так
бесцельно бродят они по улицам долгими днями и ночами,
жадно оглядывая обильно заставленные витрины
продуктовых магазинов.
Возле фруктовой лавки, у мусорного ящика толпится
группа негров. Подходим. Худенький подросток извлекает из
ящика банановые шкурки и еще целые, но уже черные от
гнили бананы. Эту гниль только что вынесли из лавки и
бросили в ящик. .Одновременно в узкое отверстие ящика
можно просунуть только одну пару рук. Подросток честно
передает растекающиеся гнилью фрукты в жадно протянутые
руки десятка голодных людей. Наконец ящик очищен до
дна. Подросток уходит к углу улицы, устраивается в нише и
трясущимися руками запихивает в рот гнилые шкурки.
Рваный пиджак едва прикрьшает его впалую грудь. Он
обедает.
Невольно вспоминается Маяковский:
Белый —
ест
ананас спелый,
Черный —
гнилью моченый...
Большая толпа запрудила тротуар. На земле лежит негр.
Он лежит на боку, прижав правую щеку к земле. Лица не
видно. Огромный детина — полицейский (тоже негр), расставив
широко ноги, безучастно оглядывает лежащего. Грохочет
мотоциклет. Американец — полицейский сержант, грубо
расталкивая толпу, подходит к полицейскому и хрипло кричит:
— В чем дело? Почему толпа? Разогнать!
Полицейский шопотом объясняет что-то сержанту.
— Глупости, — отвечает тот, — очевидно, пьяный!
Ногой, обутой в коричневую крагу, сержант ударяет
лежащего в спину. Глухой стон, негр переворачивается на
спину. Уз-кое, пепельно-серое, изможденное лицо. Глаза закрыты.
Нижняя губа, покрытая слюнявой пеной, отвисла. Страшное
лицо голода.
Сержант кричит в толпу:
— Пьяный!
Негр-полицейский поднимает сраженного голодом
человека, словно груду мусора, и бросает в коляску мотоцикла.
Сержант еще раз приказывает разогнать толпу, вспрыгивает на
сиденье и дает газ. Машина срывается с места и через нескосль-
и
164
АЛ. ХАМАДАН
ко секунд скрывается из виду. Резиновая палка полицейского
гуляет по спинам и головам собравшихся. Молча, неохотно
растекается толпа по улицам.
***
Унылые звуки органа льются из широко распахнутых
дверей церкви. В большом полутемном зале на скамьях сидит
человек тридцать. Автоматический орган стоит возле амвона.
Нажатием кнопки служитель меняет пластинки
божественного песнопения. Из-за портьеры появляется священник —
маленький, круглый, как пышка, негр в черном костюме.
Большое лоснящееся от жира лицо. Голова на короткой шее
вертится во все стороны. Священник оглядывает скамьи — как
мало сегодня прихожан! Зал свободно вместил бы согни
четыре верующих. Медленно, словно нехотя, священник
взбирается на ступень амвона. Служитель нажимает кнопку.
Орган смолкает.
— Бесконечны благодеяния твои, о боже! — заученно
бормочет священник. — Ты облагодетельствовал мир
животными, народами, справедливостью, добром и злом<. Как
прекрасен мир, созданный твоими руками! Как прекрасны
младенцы, подаренные тобой человечеству! И как величественны
кротость и терпение детей твоих, поселившихся на чужой, но
гостеприимной земле! Тяжки грехи наши, о господи, перед
тобой!..
Словесная белиберда, как наркотик, усыпляет
малочисленную аудиторию. Молодой парень, далеко вытянув ноги, спит,
нахлобучив на лицо грязную кепку. Рядом с ним- спит другой
негр. Старуха-негритянка в упор смотрит на попа и слушает
его бормотание. В экстазе она, очевидно, видит
величественные картины страданий негритянского народа, его
безграничное терпение. Перед ее глазами проносятся равнины
Джорджии, поля, покрытые цветущим белоснежным хлопком.
Согнутые спины тысяч негров с волочащимися по земле огромными
мешками, наполненными хлопком. Знойное солнце и
надсмотрщики с бичами и винтовками. Огромные черные фургоны-
клетки. Молодые и старые негры в колодках на ногах и на
шее. Негры, скованные тяжелыми заржавленными цепями,
врезающимися в тело. Много картин эта старуха видит за
проповедью священника.
— Терпение и послушание указаны нам всевышним, —
несется с амвона. — Все труды наши вознаградятся сторицей.
Братья и сестры, мужайтесь! Терпение и послушание! Гоните
от себя соблазны! Ищите правильную жизнь на путях любви
к ближнему...
ДЕНЬ В ГАРЛЕМЕ
165
Орган громко заиграл военный марш. Проповедь
кончилась. Спавший молодой негр вздрогнул и проснулся. Его
разбудили бравурные звуки марша. Он огляделся по сторонам,
устроился поудобнее, вновь прикрыл лицо кепкой и заснул...
После церковной затхлости на улице свежо и легко.
Идем вдоль однообразных старых, серых домов. Здесь, в
Гарлеме, нет небоскребов. Целые кварталы домов подстрижены
ровно, словно травка ножницами. Шесть, семь, восемъ,
максимум девять этажей. Это наибольшая высота домов в Гарлеме.
Глубоко is землю уходят эти дома. Под землей, на глубине
двух-трех этажей, в подвалах живут огромными семьями
беднейшие слои негритянского Гарлема.
Вечер. В темноте спускаемся по узкой и скользкой от
сырости каменной лестнице. Товарищ говорит:
— Спускаемся в черную могилу для черных людей.
В большой комнате полумрак. Глаза долго и беспомощно
пытаются «освоить» комнатную обстановку. Цементные
стены, пол и потолок делают комнату похожей на склеп.
Площадь ее 22 квадратных метра, население — две семьи,
насчитывающие тринадцать человек. Одной семье не под силу
нести расходы по оплате этого каземата: 4 доллара в неделю,
16 долларов в месяц надо платить за этот цементированный
гроб. Кроватей здесь нет и, очевидно, не было и раньше.
Нечто напоминающее китайские каны—нары—служит постелью
обитателям комнаты. Нары стоят вдоль обеих боковых стен.
Семьи расположились одна против другой. Посредине
комнаты стоит длинный, грубо сколоченный стол. Несколько
низеньких табуреток, словно стражи, окружают его. Окон в
комнате нет, все стены глухие. Высоко у потолка тоскливо изливает
бледный свет электрическая ламлочка. В комнате затхлый,
застоявшийся воздух.
Почти все население этой комнаты в полном оборе.
Удивленные и настороженные взгляды сменились приветливым
гостеприимством. Из полумрака комнатных углов к столу
высыпали курчавоголовые ребятишки. Большие, круглые детские
глаза с искренним любопытством ощупывали редких
пришельцев. Белокожие иностранцы, к тому же из города с легко
произносимым именем — Москва!
С трудом начатая беседа приняла дружеский,
откровенный характер. Люди рассказывали о своей жизни. Вот почти
дословный рассказ пятидесятилетнего негра Генри Брекера:
— В моей жизни все было одинаково, ничто не менялось
к лучшему, а к худшему не могло измениться, потому что ни-
166
АЛ. ХАМАДАН
чего более худшего не существует. Всю свою жизнь я
работаю, никогда не отдыхал. Для белых людей есть праздники,
для черных людей праздников нет. Я родился на хлопковом
поле в Джорджии. Мать работала до последнего дня родов.
Очевидно, это отразилось на моем здоровье, ибо я всегда
прихварываю. Но это уже такое дело — все негры всегда
прихварывают: и от непосильной работы, и от недостатка
пищи.
В Нью-Йорке, в Гарлеме, я живу уже больше двадцати
лет. Здесь я обзавелся и семьей. Пять ребят. Самому
старшему пошел двадцать первый год, а младшей дочери восемъ лет.
В школу ходил только старший—учился он два года. Осталът
ные ребята в школу не ходят — у меня нет средств. Для
того чтобы итти в школу, нужна обувь и одежда. У ребят одни
пара ботинок на всех.
Последний раз я работал весной 1934 года. С тех пор
никакой работы у меня нет. Старший сын работает
чистильщиком сапог на одной из станций собвея. Заработок маленький,
едва-едва хватает на хлеб и картофель. Изредка я
подрабатываю немного на вывозке мусора. Но даже и такую тяжелую и
неприятную работу не так легко найти...
Дети? Дети, сами видите, очень хилые. В такой комнате
людям нельзя жить. Но все бедные негры живут в таких
подвалах. На лучшее жилище у негров нет денег. Я думаю, что
дети больны туберкулезом. Но точно я не могу сказать.
К врачам их не водил — нет денег. Лечебница для бедных на
весь город одна, и находится она очень далеко, надо ехать
собвеем, фэрриг и трамваем. Очень далеко. За один прое^
надо уплатить не меньше доллара. Откуда у меня такие
деньги?..
Газет я не читаю. Да я и не умею читать. Сын читает —
ведь на станции пассажиры всегда бросают прочитанные
газеты. Иногда он рассказывает что-нибудь интересное...
Зимой эта комната не отапливается. Сюда не провели
парового отопления. Здесь должен был храниться уголь.
Поэтому здесь нет и окон. В такой комнате даже собак не держат.
Только бедные негры могут жить в ней. И если в срок не
внести плату за комнату, то даже из этого гроба выгонят на
улицу...
Какая у меня профессия? Я почти все умею делать, была
бы работа. Я был шофером и монтером, разносчиком молока
и носильщиком на вокзале...
В комнату вошел молодой парень в затрепанной пиджач-
1 Ф э р р и — парбм.
ДЕНЬ В ГАРЛЕМЕ
167
ной паре. Это старший сын Генри Брекера. Он устало
опустился на табурет возле стола. Худое, изможденное лицо.
Сквозь природную черноту кожи просвечивает бледная
синева. Этому парню идет двадцать первый год, а он выглядит
стариком. Тонкая рука — 'К0Ж1а и кость — протянулась по
столу, вцепилась в вареную картофелину и понесла ее в
рот.
— Как дела у тебя, Дэвис? — спрашивает отец.
— Очень хороши... Заработал пятнадцать центов за весь
день.
Дэвис отвечает усталым, хрипловатым голосом, в котором
слышится злобная раздраженность.
— Ну, ничего, сынок, не огорчайся. Как-нибудь
протянем.
— Протянем, отец. Конечно, протянем, у меня сегодня
опять хлынула горлом кровь.~
***
Однажды в специальном туберкулезном госпитале для
негров, построенном за счет забытого филантропа, любезный
американский врач рассказывал мне:
— Туберкулез — это негритянская социальная болезнь.
Это бич негров. Более двадцати пяти процентов
населения Гарлема больны туберкулезом, а все остальные
предрасположены к нему.
— Но почему же, доктор?
— Э, видите ли, мистер, дело в том, что это просто
национальная болезнь. Негры не выдерживают резкой перемены
климата. Здесь, на севере, в Нью-Йорке, очень холодно. «
— Простите, доктор, но ведь и на юге негры болеют
туберкулезом.
— Да, но там они болеют от чрезмерной жары.
Смертность среди негров чрезвычайно высока. Туберкулез
и острые желудочные заболевания уносят в «лучший мир»
ежегодно десятки тысяч негров, е особенности детей.
Любезный доктор, отметив, что туберкулез — социальная болезнь,
сослался на климат. Возможно. Но он «забыл» самое главное:
тысячи негров живут в холодных, сырых подвалах, без света
и воздуха. В невероятной тесноте и нищете прозябают в
Гарлеме негры, бежавшие от ужасов «черной каторги» на
«гуманный, цивилизованный» север и попавшие в объятия
туберкулезных цементных гробов, голода и презрения. Бежав с
хлопковой каторги юга, негры на севере попали в не менее ка-
торжные тиски жестокой экоплоатации. Как правило, неграм
168
АЛ. ХАМАДАН
здесь дают только самую тяжелую и худшую по условиям
работу...
И еще раз вспоминаешь Маяковского, который с
ненавистью говорил:
Белую работу
делает белый,
Черную работу —
черный...
Мы молча возвращались из Гарлема в Нью-Йорк. На
перекрестках стоят негры-полицейские. В вечернем мраке
почти поминутно перед глазами возникают фигуры полицейских
инспекторов и сыщиков. За людьми, живущими в цементных
гробах Гарлема, нужно зорко следить.
Слишком много и слишком долго страдает негритянский
народ. Чаша его терпения наполнена до краев...
РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ
Сегодня в «Кариеджи-холл», в крупнейшем в городе
концертном зале, известный польский дирижер Артур Родзинский
дает концерт русской музыки. В программе — Чайковский,
Мусоргский, Римский-Корсаков, часть концерта посвящена
современной музыке СССР — произведениям Сергея
Прокофьева и других советских композиторов.
Зал медленно наполняется. Приезжают «любители
настоящей музыки». Но как их мало в этом огромном городе!
Половина мест так и остается незанятой.
— И это всегда так, — говорит мой спутник —
музыкальный критик одной из американских газет. — Вот если бы сю-
да приехал Лауренс Тибетт — единственный американец с
более или менее приличным голосом, здесь было бы иначе.
Ну, и к тому же у Лауренса более «легкий», «доступный»
репертуар...
— Скажите, — обращается он ко мне, — верно, что у вас
в стране театры всегда полны? И верно ли, что в Москве
имеется около сорока театров?
— Это верно, что у нас в театрах сборы всегда «битко-
вые». Сколько у нас театров? Точно не знаю, но примерно
двадцать пять — тридцать театров в Москве я могу насчитать.
Приезжайте — увидите сами.
— О, это было бы замечательно!
На сцене уже расположился оркестр. Зал все еще не
полон. Все дорогие, многодолларовые места пустуют. Не густо
и в менее дорогих рядах.
РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ
169
Концерт начинается «Классической симфонией»
Прокофьева. Затем исполняются отрывки из оперы «Хованщина»
Мусоргского.
Затихают последние прекрасные мелодии. Несколько
секунд тишины, и вдруг взрывается буря аплодисментов.
Взволнованный Родзи'нский кланяется и стирает платком обильно
струящийся по лицу пот. Он тоже одержал победу — он
заставил, очаровав, слушать...
Концерт окончен. Мы медленно бредем по пустынной
Пятой авеню. Продолжаем прерванную концертом беседу.
— Я с недоверием отнесся к вашим словам, — начинает
музыкальный критик, — потому что это уж слишком
невероятно. До сих пор мы знали одно: в России живет забитый,
неграмотный, дикий народ, вырвавшийся из Азии, но не
принятый в Европу. Мы знали о том, что культура в России стоит
на самом низком уровне. Правда, в газетах изредка
проскальзывают сообщения, похожие на ваше, но они настолько
туманны, что трудно представить себе действительный рост
культуры в Советской России. Все это никак не укладывается в
моей голове.
— И тем не менее это так, а не иначе! Вы знаете и
говорите о старой, бесследно исчезнувшей России. Бескультурье*
безграмотность и дикость остались далеко в прошлом. В
нашей стране создается совершенно новая человеческая
культура. У нас нет неграмотных. Народ напрягает все свои силы
к тому, чтобы сделать свою жизнь культурной, интересной,
прекрасной. У нас любят и понимают театр и музыку. У нас
нет ни одного театра, в котором во время представления в
зале пустовало хотя бы десять мест. И, несмотря на обилие
театров, их далеко недостаточно! Мы строим новые, расширяем
старые. Дикий, забитый народ, «вырвавшийся из Азии и» не
принятый в Европу», как вы говорите, теперь стал передовым
и культурным народом мира!
Критик молчал. Потом он повернулся в мою сторону и стал
медленно говорить, как бы подыскивая слова:
— Я думаю о том, что вы сказал»... Может ли это быть
в действительности? Трудно поверить, трудно отказаться от
того, что считало незыблемым не одно поколение. Тем не
менее факты — упрямая вещь. Вы оросите рассказать о
культуре и искусстве Америки? Не сочтите меня за невежду, но
культуры, как ее понимают в Европе или в Советском Союзе,
у нас нет. У нас, как вы видите, почте нет театров — этих
основных элементов, определяющих степень культурности
населения. Книги не пользуются популярностью и любовью.
У нас читают лишь уголовную, сенсационную литературу. Хо-
170
АЛ. ХАМАДАН
рошие книги ужасно дороги и издаются крайне ограниченным
тиражом, — их почти никто не покупает. Раньше не читающий
книг «средний американец» говорил: «Не могу читать, нет ня
одной свободной минуты!» Теперь, когда дела сократились
больше чем на девяносто девять процентов, он тоже не
читает: сейчас, мол, не до чтения. Многие объясняют это еще
более просто: «Мы достаточное количество бесполезных книг
прочли в школе». Но возьмите любого нашего школьника или
студента (я сам кончил Иэльский университет — лучший в
США),—кроме учебной литературы, он нечего не читает. Так
было, когда я учился. Так продолжается и сейчас. Ничто не
изменилось. За примерами недалеко ходить. Я вам
рассказывал о студенчестве. А вот почитайте, как приходится жить и
работать американским учителям — этим «воспитателям
народа».
С этими словами критик протянул мне свежий номер
журнала «Америкэн Меркури», который он просматривал на
концерте. Я привожу почти целиком! помещенное ©этом журнале
анонимное письмо провинциальной учительницы, на которое
указал критик. Вот оно:
«Едва ли, — пишет учительница, — люди, которые сами
не были учителями, понимают, насколько непрочно наше
положение. Меня могут уволить за все, что угодно: за то, что
я не была в церкви, за то, что я слишком часто провожу
воскресные дни за городом, за то, что я живу на
самостоятельной квартире.
Я должна выбирать себе квартиру из числа одобренных
начальством. При этом совершенно не учитывается, удобна ли
мне она. Самостоятельные квартиры находятся на плохом
счету. Повидимому, считают, что если учитель свободен от
бдительного ока квартирной хозяйки, то он начнет заниматься
небывалыми гнусностями.
Другие ограничения налагаются на нас в области личных
отношений. Я не должна встречаться с некоторыми молодыми
людьми, ибо они происходят не из «почтенных семейств» или
же совершили вещи, противоречащие установившимся
представлениям. Косо смотрят даже на дружбу учителей между
собой, ибо это вызывает опасение, что они могут образовать
«нежелательные группы». Мое теперешнее начальство дошло
до того, что когда четверо из нас ввели в обычай совместные
обеды, то оно предложило нам прекратить эту практику.
Нам усиленно рекомендуется не высказывать своего
мнения. В конечном счете я убедилась, что для нас опасно
высказывать свое мнение по какому бы то ни было вопросу, будь
то в классной комнате или вне ее. Удивительно ли после это-
РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ
171
го, что школам предъявляется упрек в увиливании от
основных вопросов нашей цивилизации и, следовательно, в
неспособности подготовить учеников к жизни. Я не могу
вразумительно объяснить ученикам проблемы меняющегося мира,
если мне приходится бояться высказывать мысли менее чем
пятидесятилетней дашости».
—' Лицемерие, ханжество, затхлость, — говорит критик, —
царят в нашей школе... Удивительно ли после этого, что очень
редкий человек в Америке назовет вам несколько имен
американских писателей? С переводной литературой еще хуже. Ее
совсем! никто не знает.
Зайдите в гигантский книжный магазин «Брентано»,
посидите час и подсчитайте количество покупателей. Вы
насчитаете пять-шесть человек, причем большая часть из них
покупает не книги, а резинки, карандаши, чернила.. А это ведь
самый большой книжный магазин в мире. В этом магазине вы
можете купить любую книгу на любом языке, изданную в
любой стране. По вашей просьбе магазин будет разыскивать
нужную вам книгу по всему свету...
Из всего этого вы можете заключить, как живут у нас
писатели. Гонорары мизерны до невероятности. Совсем недавно
я написал критическую книгу в четыреста страниц, над
которой работал больше двадцати месяцев —почти два года. Мне
заплатили за эту книгу семьдесят четыре доллара. Вы
понимаете: семьдесят четыре доллара за два года упорной,
кропотливой работы! И вы знаете, что заявили мне издатели по
поводу гонорара? «Если быть справедливым,—сказали они,—
вы должны были бы заплатить нам за издание этой
книги».
У нас есть десятки хороших старых писателей, которых
голод заставил превратиться в репортеров грязных уголовных
газеток. Десятки талантливых людей, чтобы не подохнуть от
голода, сменили перо писателя на рулевое колесо
таксомотора. Я знаю одного писателя, который работает в
штрейкбрехерском агентстве Ната Пинкертона в Чикаго. Он пишет
провокационные прокламации. Мой менее удачливый коллега,
музыкант-критик, уже второй год работает вагоновожатым
трамвая. Недавно, при встрече, он мме сказал: «Я счастлив.
Теперь я имею, по крайней мере, кусок хлеба. Но я схожу с
ума, когда «подумаю о том, что меня могут уволить. Что я буду
тогда делать?» И этот человек пять лет провел в
университете, семь или восемь лет боролся за свое место в жизни. Его
уже хорошо знали в музыкальном! мире, и ©друг — все
полетело к чорту. Увольнение, пустой карман, семья на шее и
никакой перспективы. Тринадцать лет лишений, борьбы и жесто-
172
АЛ. ХАМАДАН
чайших страданий понадобились для того, чтобы стать
трамвайным вожатым. А ведь он был талантливым критиком...
Я вам рассказываю частные, лично мне хорошо известные,
случаи. Вообще же трагедия американских музыкантов
безгранична. Радио и патефон лишили куска хлеба десятки
тысяч музыкантов в стране. Особенно тяжело киномузыкантам.
Их просто вышвырнули на улицу, как ненужный хлам, после
того как огромные оркестры в кино были заменены
музыкальными и говорящими фильмами.
Я—музыкальный критик, это моя основная профессия.
Я занимаюсь этим делом уже двадцать лет. Но я живу и имею
пищу только благодаря тому, что у меня огромные личные
связи, и к тому же я совершенно одинок. Я не представляю се
бе, что бы я стал делать, имея семью! — воскликнул он. —
Каждый день мне пришлось бы думать о том, чем накормить
сегодня жену и детей. Вы, советские люди, не знающие, что
такое безработица, нужда и голод, не представляете, как
страшно жить в таких условиях. Но вам это все же понятно: ваша
страна пережила войны, голод и эпидемии. Героическая
страна! У вас эти ужасы остались далеко в прошлом, а у нас это
реальное настоящее и не менее реальное будущее. Сейчас в
Америке, хотя это и скрывают, пятнадцать-шестнадцать
миллионов людей без работы. Лишились заработка, а вместе с ним
и всех нормальных условий человеческого существования,
прекраснейшие специалисты, профессора, инженеры, доктора
Мы бешеными темпами идем! назад, в дикость. И все это в го-
ды, когда почти достигнута высочайшая точка культурного
развития человечества. Именно теперь миллионы людей,
способствовавших этому длительному и трудному
прогрессивному процессу, сброшены со счетов жизни. У нас это ярче, за-
метнее, чем! где-либо, потому что на фоне вопиющей
бедности и голода вы можете встретить грандиозные богатства,
роскошь, обилие всевозможных товаров, продуктов, наконец
людей, незаслуженно пользующихся всеми этими благами,
людей, равнодушно взирающих на страдания десятков
миллионов голодающих, являвшихся в самом недавнем
прошлом источниками их обогащения.
Вместо книг американская буржуазия покупает своим
дочерям и сыновьям мужей и жен из среды титулованной
европейской аристократии. Американская гнусь роднится с
европейской. Между прочим, на этом поприще подвизаются и
бежавшие из России аристократы — графы, князья и прочие,
Сейчас не редкость в США встретить русского аристократа,
женатого на богатой американке. Эти русские, получив
миллионы, немало сделали для того, чтобы наша страна избегала
РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ
173
восстановления отношений с вашей. Да и сейчас, после того
как нормальные отношения между странами существуют
примерно два года, эти люди всячески пытаются помешать их
развитию. Самые гнусные кампании против Советской России
у нас ведутся либо этими людьми, либо при их активной
помощи...
Я слушал последние слова своего спутника уже у подъезда
«Рокфеллер сентчер» '. Десятки верхних этажей гигантского
дома были поглощены темнотой. Освещалось не более
десяти этажей из семидесяти с лишним. В ярко освещенном
подъезде толпилось несколько сот человек.
Сегодня в Радио-сити премьера пантомимы «Индийская
легенда». Мы -решили воспользоваться этим случаем и
прослушать еще одну музыкальную программу.
Время, остающееся до начала представления, -проводим в
медленной прогулке по обширным, с кричащей роскошью
убранным фойе этого гигантского здания. В Большом зале
стены покрыты художественной росписью. Огромных размеров
картины иллюстрируют историю рода человеческого—от
Адама до наших дней.
— Здесь, — говорит мой спутник, — есть, вернее были,
фрески знаменитого мексиканского художника Диего-де-Риве-
ра. Передают, что художник в ярких красках изобразил
историю борьбы между трудом и капиталом, показал
жесточайшую эксплоатацию рабочего класса буржуазией. Однако этих
картин никто здесь не видел. Их, очевидно, закрасили, так как
«содержание картин оказалось вопиющим и не соотвествую-
щим обстановке». Ясно, что подобные картины не
соответствуют не только обстановке этого домо, но и« вкусам его
посетителей!
Ныне стены украшены слащавыми работами английского
художника Франса Брандвина, изобразившего на гигантских
каменных стенах (25 футов ширины и 17 футов высоты)
счастье, мир и покой, сотрудничество классов перед лицом...
господа-бога! На его картинах джентльмены с Уолл-стрита и
дамы с Парк-авеню в рядах калек, рабочих и нищих дружно
шагают на вершину добра и благополучия. Джентльмены в
цилиндрах идут в первых рядах. Ведь им, конечно, -первым!
надо вкусить от добра и почить на благополучии!..
— Девяносто девять процентов художников,—говорит мой
спутник, — живут так же плохо, как и девяносто девять
процентов бедствующих музыкантов. Кому в наше время беско-
1 «Рокфеллер сентчер» (Радио-сити) — дом, занимаемый
крупнейшей компанией, владеющей почти всем радиовещанием Америки.
174
АЛ. ХАМАДАН
нечной депрессии нужна живопись! Художники голодали даже
тогда, когда «просперити» наполняло подвалы миллионеров
золотом, а желудки рабочих — картофелем. Даже в те
времена художники жили на подачках какого-нибудь
«добросердечного» филантропа, покупавшего время от времени за пару
долларов картину, стоившую сотни, если цену искусства
переводить на золото. Все же буржуазные художники еще
располагают долларовым резервом, но так называемые
пролетарские художники голодают на глазах у всех филантропов и
благотворительных обществ. Они влачат жалкое
существование, несмотря на то, что по своей талантливости и мастерству
стоят далеко впереди большинства буржуазных художников...
„РЕСЛИНГ"
Огни уличных фонарей длинными лентами падают на
отполированный асфальт мостовой. Тихо взвизгивая, проносятся
автомобили. Улицы, ведущие от Пятой авеню к «Медиеон
сквер гарден», пустынны. Долгий утомительный трудовой
день гигантского города завершен.
Случайные пешеходы торопливо шагают по широким
тротуарам. Они настолько утомлены, что сверкающие всеми цве-
тами радуги витрины магазинов не в силах остановить их
даже на секунду.
Улица оживает только за один или два квартала до
«Медиеон сквер гарден». Люди идут в «Медиеон сквер гарден»
смотреть своеобразный американский бокс — «реслинг» К
У подъездов «Медиеон сквер гарден» толпятся тысячи
людей. Несмотря на ветер, над толпой висят в воздухе облака
табачного дымя. Акробатически извиваясь между
приплюснутыми человеческими телами, скользят вездесущие мальчишки.
Их больше всего у входов и билетных касс. Глазами,
изливающими тоску, восхищение и зависть, они следят за людьми,
покупающими билеты и проходящими внутрь помещения.
Но ребята не только смотрят и завидуют. Они стараются
проскочить мимо контролеров без билета.
Вот здоровенный полисмен несет на вытянутой правой
руке одного из них — парнишку лет двенадцати. Полисмен
грубо растолкал толпу, поставил мальчишку на землю и толкнул
его тяжелым сапогом в зад. Тот вскрикнул, взлетел на воздух
и упал. Этот мальчишка недостаточно ловко проскользнул ми*
мо контролеров. Полисмен неторопливо повернулся и медлен-
1 «Реслинг» (англ.) — в свободном переводе значит: «хватай, как
можешь».
«РЕСЛИНГ»
175
но пошел обратно. Несколько мальчишек обступили
потерпевшего. Они поставили его на ноги, сняли прилипшие к штанам
окурки и огрызки яблок. Мальчишка-негр трогательно вытирал
какой-то тряикой кровь, хлынувшую из носа юного
«болельщика».
Над толпой высятся головы полисменов. Плотно сжав
губы, они стоят неподвижно, словно вросли в землю.
Длинный ряд полисменов, сложив руки на груди, занимает почти
всю стену — это резервный отряд.
Завистливыми глазами провожают обладателей билетов не
только дети, но и взрослые. Сотни мужчин и женщин
бесцельно толкутся у входов в здание, у билетных касс, словно
ожидая, что кто-то в припадке филантропии широко и
гостеприимно распахнет заветные двери, скрывающие ринг-
Гвоздем сегодняшнего вечера является «борьба»
чемпионов — итальянца Джима Лондоса и американца Флойда
Маршалла. Этому матчу предшествовала долгая рекламная
шумиха в прессе. Газеты подробно обсуждали шансы борцов на
победу, заранее обещая зрителю «несколько часов крайне
острых переживаний».
На ринге появляются арбитр, и судьи. Радиорупоры гремят:
— Сегодня чемпион «реслинга» Флойд Маршалл будет
драться в решительной схватке с итальянским чемпионом
Джимом Лондосом.
Буря воплей и визгов покрывает сообщение арбитра.
Зрители вяло и безучастно наблюдают за борьбой рядовых
бойцов. По рядам) перекатываются только два имени —
Маршалл и Лондос. Горячие споры кружат головы «болельщиков».
Зал разделился на два лагеря — один за Лондоса, другой —
за Маршалла.
Большинство зрителей уверено в победе Маршалла.
В переднем ряду сухой старичок громко говорит:
— Если он снимет Лондосу уши, тогда тот обязательно
ляжет на обе лопатки. Он ему снимет уши, как он это уже
сделал с немцем Дорфом. Вот увидите.
«Реслинг» — это не бокс и не борьба. Это своеобразная,
крайне жестокая драка. В «реслинге» допускаются все
приемы, кроме ударов кулаком в лицо: можете бить головой,
плечом), локтем, ребром ладони. В этой борьбе переломы рук и
йог, проломы черепа, срыв ушей, ломка пальцев и т. д. —
явления обычные. Убийство в «реслинге» — само обычное
явление, за которое виновник не несет никакого наказания и,
наоборот, приобретает славу, именуясь в дальнейшем!
«непобедимым», «грозой Нью-Йорка», «зверем из Чикаго»,
«тихоокеанской акулой» и т. д.
176
АЛ. ХАМАДАН
«Реслинг» — самое дикое, звериное, кровавое явление в
американском спорте, порожденное спросом буржуазии,
скучающей по острым переживаниям.
Зрители запасаются различными побрякушками шумового
характера — свистками, хлопушками, барабанчиками,
рупорами, пугачами. Предстоит решительная схватка. Зрители
звереют соответственно степени озверения бойцов.
Обессиленные животной жаждой крови, они будут не в состоянии
аплодировать. Они будут свистеть, греметь, стрелять хлопушками и
пугачами, бить соседей, истерически плакать и визжать. На
матче «реслинга» достаточно побывать один раз, чтобы
никогда не забыть этих сцен человеческого озверения...
В «реслинге», как в капле воды, отражаются все
«достижения» американской духовной культуры. На мотчи приходят не
десятки и не сотни, а десятки тысяч людей.
видящие рядом со мной мистеры громко кричат, заключая
пари:
— Ставлю двадцать за Маршалла!
— Принимаю!
— Ставлю десять за Лондоса!..
Пари заключается повсюду. Громко, не стесняясь, зрители
назначают ставки на бойцов, как на беговых скакунов. Они
боготворят своих кумиров. Они «доверяют» им свои деньги.
Большинство ставит на Маршалла. Как же иначе? Ведь он не
только в лучшей «форме», — он американец!
К Лондосу относятся презрительно, называют его «быком»,
«макаронщиком». Лондос — итальянец, в этом секрет его
непопулярности. Американский шовинизм в спорте находит очень
яркое выражение.
Буря приветствий встречает М-аршалла. Лондоса встречают
шумно, насмешки чередуются с предложениями «заранее
сдаться» и «пожалеть свою жизнь». Кто-то исступленно вопит:
— Лондос, ты успел застраховаться?!
Приготовления кончены. С ринга исчезают ассистенты,
массажисты, стулья. Арбитр сводит Маршалла и Лондоса.
Драка начинается.
Борцы долго кружат, зорко всматриваясь друг в друга.
Зрители начинают нервничать. Кто-то орет:
— Довольно играть, деритесь!
Со стороны партера, где удобно расположилась «знать»,
раздается резкий голос:
— Деньги уплачены, деритесь!.. Сломай ему шею,
Маршалл!
Этот крик, как сигнал, вызвал целую бурю голосов,
требующих начала кровавой драки.
«РЕСЛИНГ»
177
Первый удар плечом в горло Лондосу нанес Маршалл.
Лондос покачнулся, схватился руками за горло, упал на
колени. Рот широко раскрыт, бычья грудь часто
вздымается, шум, похожий на клекот, вырывается из его глотки. Ему
нехватает воздуха. Это длится не более пяти секунд.
Лондос -вновь на ногах, громко выплевывает изо ,рта большой
красный комок.
Крики восторга награждают Маршалла за удачный удар.
Он благодарно кланяется.
Минуты проходят в беготне по рингу.
Вдруг Лондос падает на пол: Маршаллу удалось его
опрокинуть подножкой. Лондос стукается головой о
твердый пол. Маршалл, как кошка, прыгает на него. Возня,
стоны, и вновь оба борца на ногах. Маршалл не сумел
использовать преимущества, Лондос отбился.
Сейчас определился характер борцов. Маршалл —
представитель агрессивной школы в «реслинге», первое
правило — все время нападать и бить, не давать противнику
опомниться. Лондос, наоборот, — воплощение осторожности и
осмотрительности. Он малоподвижен, и это ему явно
мешает. Но он не боится стремительных атак извивающегося
Маршалла. Он ждет случая, ему надо поймать Маршалла
в свои объятия...
Атмосфера сгущается все больше и больше. Бледные,
напряженно вытянутые лица плывут в густом табачном
тумане. Многие стоят. Нервный подъем лишил их контроля над
своими движениями. Стиснув зубы, они ©пились глазами в
ринг, ни на одну секунду не отвлекаясь от борьбы. В
перерыве спи тяжело дышат, стирают обильный пот с лица, словно
на ринге дрались не Маршалл с Лондосом, а они, отстаивая
свой карман и жизнь. Они тяжело опускаются на сиденья
и обводят блуждающими взглядами зал.
Молодая нарядная женщина, сидящая в нашем ряду, в
перерыве мажет губы и пудрит утомленное нервным
напряжением лицо. О, она прекрасно чувствует борьбу! Больше
того, она понимает все приемы. Она опасается, что борьба
плсхо кончится. Нет, она не боится, что эта борьба может
окончиться трагически. Совсем нет! Борцам заплачены
деньги, и они принадлежат сейчас зрителю, купившему
билет. Она, волнуясь, говорит:
— У меня плохое предчувствие. Мне кажется, Маршалл
плохо кончит. Он много прыгает, теряя силы. Этот хитрый
макаронщик побьет его.
Нет, в ней не говорит чувство жалости! Ей обидно за
Маршалла. Он ее божок, кумир...
12 Вот ояа, Америка
178
АЛ. ХАМАДАН
Часто ли она посещает эту борьбу?
Почти всегда.
— Я стараюсь не пропускать ни одного матча, —
говорит она. — Это так интересно! Только здесь можно
отдохнуть душой. Ну и, кроме того, я -всегда играю с друзьями.
Мы заключаем пари. Это мое единственное увлечение. Но,
смотрите, борьба начинается...
Она встает, хватается руками за спинку переднего
кресла и впивается глазами в тела, мелькающие на ринге. Ни
разу она не бросила взгляда в сторону! Ринг, словно маг*
нит, притягивает ее всю, она поглощена им.
Оба борца лежат на полу в неестественных позах. Лон-
дос подмят Маршаллом. Нога Лондоса в руках
Маршалла. Маршалл загибает «внутрь ступню Лондоса. Лицо
Лондоса искажено болью, он стонет. Ладонями обеих рук
он беспомощно хлопает о пол ринга. От напряжения лицо
Маршалла налилось кровью. Он вкладывает всю свою силу
в руки, гнущие ступню противника. Он тоже стонет, ем»у
трудно, он тяжело дышит. Весь зал на ногах. В тишине
отчетливо слышны стоны и вздохи борцов. Одна лопатка
Лондоса уже плотно припечатана к полу, другая сгибается
все больше и больше. Страшная боль ломит этого гиганта.
Арбитр ложится щекой на пол и следит за второй лопаткой
Лондоса, отделенной от пола всего двумя-тремя
сантиметрами. Неожиданно Лондосу удается вырвать левую ногу,
на которой сидел Маршалл. Он быстро сгибает ее и
стремительно ударяет ею в горло Маршалла...
Глухой придушенный крик. Тело Маршалла взлетает на
воздух и шлепается на пол в другом углу ринга. Лондос
быстро вскакивает, но сейчас же падает вновь — правая нога
волочится по полу. Он скачет на одной ноге к все еще
лежащему Маршаллу и всей тяжестью своего тела падает
на него, захватывает его левую руку, быстро выворачивает
ее и с яростью начинает ломать кисть. Маршалл стонет,
медленно выворачивает свое тело и кладет одну лопатку на
пол. Арбитр опять приникает щекой к полу, наблюдает за
второй лопаткой. Стоны Маршалла громко разносятся в
молчащем зале. Напряжение зрителей невероятно.
Разряжается оно чьим-то воплем:
— Маршалл, держись!
Борцы вновь бегают по рингу. Лондос все еще скачет
на одной ноге, у Маршалла безжизненно болтается рука.
Кружа по рингу, он время от времени растирает
поврежденную руку. Маршалл вновь нападает: он разбегается -и хочет
ударить Лондоса плечом в горло. Лондос молниеносно опу-
сРЕСЛИНГэ
179
скается на пол. Напружиненное тело Маршалла пролетает
над Лондосом, ударяется о веревки ринга и летит в первые
ряды зрителей. Крики, треск кресел... Из-под Маршалла
извлекают ушибленных зрителей, убирают поломанные кресла.
Ассистенты помогают ему встать на ноги. Маршалл с
трудом взбирается на ринг. Все его тело покрыто кровавыми
ссадинами, на груди сорван большой кусок кожи, голова
низко опущена на грудь. Одноногий Лондос встречает его
появление сильным ударом плеча в опущенную голову. Оба
падают на пол.
Атмосфера в зале разряжена: зрители ревут, выражая свои
чувства.
Несколько минут борцы беззвучно возятся на полу. Затем
Маршаллу удается зажать голову Лондоса между своими
ногами. Попытки Лондоса вырваться из этой «мертвой
петли» остаются безрезультатными. Маршалл начинает
«работать». Он ежесекундно подкидывает ноги вместе с головой
Лондоса, стремительно и тяжело опускает их. Голова
Лондоса глухо стучит о пол. На ринге происходит явное
убийство. Лондосу на глазах двадцатитысячной толпы ломают
череп...
Глухой стук головы Лондоса о пол ринга повторяется
десятки раз. Что осталось целого в этом черепе? Мозги,
очевидно, уже превращены в кашу. Лондос даже не стонет. Все
двадцать тысяч зрителей стоят на ногах, тысячи устремились
через узкие проходы к кольцу ринга. Зал начинает
неистовствовать: истерические выкрики, топанье ног, плач,
неестественный смех. Сидящий рядом мистф считает удары
головой Лондоса о пол.
— Двадцать три! — хриплым голосом! восклицает он.
Тело Лондоса, как мешок, обваливается на сидящего
Маршалла. Маршалл покрыт обильным потом. Тонкой
дымкой поднимается в воздух испарина. Маршалл разжимает
ноги, опускает голову Лондоса, с трудом поднимается
на ноги и безжизненно падает. Лондос неподвижно лежит
на животе. Маршалл переворачивает тело Лондоса на
спину...
Совершается невероятное: казавшийся мертвым, Лондос
хватает голову Маршалла и зажимает ее своими огромными
ногами. Растерявшийся Маршалл дергается всем телом.
Безуспешно! «Мертвец» Лондос вдруг бьет Маршалла головой
о пол ринга. Но он бьет еще сильнее, нежели это делал
Маршалл, Звук ударов гулко разносится по залу. На полу ринга
поя-вились большие кровавые пятна. Неожиданность
подавляет зал, и он, словно захлебнувшись воплями, неестественно
12*
180
АЛ. ХАМАДАН
молчит. Хриплое дыхание борцов, усиливаемое
радиопередатчиками, отчетливо слышно во всех углах гигантского зал»а.
Вспоминаю рекламу:
«Где бы вы ни сидели, вы будете видеть и слышать все,
чтобы ни произошло на ринге. Каждое движение, даже
дыхание чемпионов будет все время находиться в центре
вашего арения и слуха!»
Зал продолжает молчать. Сухой старичок, сидящий рядом
со мной, беззвучно шевелит губами. Он считает удары. Я
наклоняюсь и спрашиваю:
—; Сколько?
— Двадцать семь, — с трудом разжимая губы, тихо
отвечает он.
Дрожащие ноги Лондоса тихо поднимаются кверху, и, не
выдержав тяжести тела Маршалла, стремительно опускаются
на пол.
Двадцать восьмой удар.
Лондос и Маршалл безжизненными тушами вытянулись на
ринге. Борцы лежат неподвижно. Арбитр бегает вокруг с
секундомером в руках. Первым! приходит в себя Лондос. Он
встает сперва на одно колено, потом на другое. Ставит одну
ногу на пол, потом другую и сильно вскрикивает— он ступил
на больную ногу, о которой уже успел забыть. Судорога
пробегает по телу Маршалла, он приподнимает голову, однако
измятая ногами Лондоса шея не в силах удержать ее, и она
вновь падает, глухо ударяясь о пол.
Наконец оба борца стоят на ногах в противоположных
углах ринга. Оба качаются, у обоих низко опущены головы.
Маршалл с закрытыми глазами беспомощно вытягивает свои
огромные руки и ищет веревки ринга, чтобы опереться. Оба
борца находятся в полусознательном состоянии, оба вымазаны
в крови и оба покрыты обильным потом.
Звонкий удар гонга возвещает перерыв.
Зал будто окатили ледяной водой. Он зарычал, захрипел в
смехе, стонах, криках, разговорах. В рядах замелькали
торговцы горячим и холодным кофе, сигарами, сухим мороженым и
шоколадом. Задымили тысячи сигар, забытых курильщиками
в лихорадочном напряжении.
Неумолимый звон гонга вновь электризует толпу, не
успевшую дожевать, допить, докурить. Медленно смолкает гул.
На ринге опять Маршалл и Лондос, чуть ожившие, но
разбитые, обессиленные, окровавленные. Арбитр уходит к
веревкам. Схватка начинается. Борцы сошлись вплотную, грудь в
грудь, для того чтобы передохнуть еще секунду, две, три...
Они медленно и тихо подталкивают друг друга. Но двадцати-
сРЕСЛИНГ»
181
тысячный зверь—зритель — начинает сопеть и рычать. Воздух
разрезает басистый вопящий голос:
— Файт, дзвол, файт!г
Борцы трутся друг о друга плечами. Неожиданно Лондос
ударяет плечом в горло Маршалла. Маршалл валится с ног и
катается по полу ринга. Лондос, с трудом передвигая ноги,
волочится за катящимся Маршаллом. В углу ринга,
ухватившись за веревку, Маршалл подтягивает свое тело и становит*
ся на ноги. Секунду он отдыхает в углу, затем, съежившись,
бежит, подпрыгивая на середине ринга, вытягивает обе
прижатые друг к другу ноги и наносит ими жестокий удар в
живот ковылявшего ему навстречу Лондоса.
Итальянец корчится на полу и орет благим матом.
Невероятная боль исторгает из его груди нечеловеческие стоны,
перемежающиеся с диким звериным воем. Он прижимает руки к
животу. Маршалл, опершись на веревки, отдыхает. У
Маршалла нехватает сил добить корчащегося от боли Лондоса. Весь зал
вновь на ногах. В диком шуме нельзя ничего понять. Зал
неистовствует уже минуту. В первых рядах партера появляется
фигура зрителя с картонным мегафоном в руке. Он кричит:
— Флойд, Флойд, убей эту гадину, убей макаронщика!
Лондос опять на ногах. Ненависть, злоба и отчаянье
исказили его лицо. Согнув туловище, он идет к Маршаллу.
Последний медленно отходит и, разбегаясь, устремляется
навстречу Лондосу, намереваясь, очевидно, повторить удар. Маршалл
подпрыгивает в воздух, вытягивает ноги. Лондос
молниеносно отклоняется в сторону, ловит в воздухе ноги Маршалла,
дергает их к себе, и Маршалл с силой ударяется затылком о
пол ринга. Лондос поднимает Маршалла в воздух и ударяет
его головой о пол ринга еще раз. Телом Маршалла он
действует, как молотом, высоко поднимая и опуская его рае
десять. Зал притих, ни одного звука. Он лихорадочно следит
за звериным избиением своего кумира. Лондос, наконец,
устает. Он прижимает Маршалла к полу, сгибает его «в три
погибели». Вся тяжесть падает теперь на приплюснутую к
полу шею. Белокурая голова Маршалла похожа на спелый, яр-
кокрасный арбуз. Из носа быстрыми струйками бежит кровь,
стекая на лоб, заливая глаза. Здоровая рука Маршалла
крадется к больной ноге Лондоса и с силой ударяет ее. Лондос
падает. Маршалл лежит секунды две неподвижно, затем
отползает в угол ринга и там, хватаясь за веревки, встает на
ноги. Маршалл вертит во все стороны головой, массирует
пальцами шею. Лондос, прихрамывая, двигается к нему. Со-
— Деритесь, дьяволы, деритесь!
182
АЛ. ХЛМАДАН
вершенно обезумев, наклонив голову, как бы>к, навстречу
Лондосу ринулся Маршалл. Лондос приседает, Маршалл
проскакивает между веревками ринга и вторично летит в партер,
падая вниз головой на цементный пол между креслами.
Суматоха, крики испуганных и ушибленных зрителей.
Ассистенты втаскивают на ринг безжизненное, вымазанное в
грязи, плевках и крови, покрытое рваными ссадинами огромное
тело Маршалла. Лондос стоит на коленях.
Гонг громко отзванивает поражение американского
чемпиона «реслинга» — Флойда Маршалла. Появляются носилки: на
одних уносят изуродованного и искалеченного, находящегося
без сознания Маршалла, на других—безжизненного
победителя — Лондоса, издающего рыдающие, истерические звуки.
На ринге больше никого нет. Один за другим тухнут
мощные юпитеры, заливающие ринг потоками света. Гигантский зал
быстро пустеет. Тысячи зрителей струями выливаются в
просторные коридоры, стены которых увешаны портретами
знаменитых борцов и боксеров. Вот Джек Демпсей, Тоней,
Чарки, Бер — коронованные кумиры, божки миллионов
американцев, жаждущих острых ощущений.
Кто-то взволнованно рассказывает о том, что матч
кончился неожиданно: победой Лондоса. Мистер, котелок которого
съехал на затылок, успокаивает «болельщика»:
— Макаронщика все равно убьет какой-нибудь другой
американец!..
У подъездов волнуется растекающееся людское море.
Напротив «Медиеон сквер гарден» горит переливающимися
огоньками реклама строящегося экс-чемпионом мира Демпсе-
ем «боксерского бара». Из переулков лавиной выкатываются
автомобили. «Болельщики» — леди и джентльмены,
встряхнув свои нервы на матче Лондос — Маршалл, разъезжаются
по домам, ночным кабакам и притонам.
...На Пятой авеню, возле Пятьдесят седьмой стрит, через
полтора часа после матча газетчик разгружал с автомобиля
кипы свежих газет. Жирные, набранные через всю полосу
заголовки оповещали мир о сенсационной победе Джима
Лондоса. Утром вся Америка будет с захлебывающимся
волнением читать подробности кровавого матча...
1935 г.
ЮРИЙ ШУКОВ
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ
(Отрывки)
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
В Америке много говорят, пишут и спорят о фашистской
опасности. Одни толкуют о ней, как о реальной угрозе,
нависшей над США. Другие возвражают: «Чепуха! Американец
органически не выносит муштры, как же он смирится с
фашистской диктатурой?» Третьи пожимают плечами: «Зачем
гадать о будущем? Поживем — увидим». Но ни те, ни другие,
ни третьи не станут отрицать, что в
общественно-политической жизни Соединенных Штатов резко усилились явления,
вызывающие глубокую тревогу у всех поборников демо>
кратии.
24 июня 1947 года сенат США утвердил антирабочий
законопроект Тафта — Хартли, который с этого дня приобрел
силу закона. Он налагает на профессиональные союзы столь
жестокие ограничения, что его прозвали «законом о рабском
труде». Новый закон ограничивает право рабочих на
забастовки и на заключение коллективных договоров, разрешает
предпринимателям возбуждать против профсоюзов судебные
иски. Профсоюзам запрещается делать взносы на проведение
политических кампаний, например, выборов президента или
членов конгресса. Одна из статей предупреждает, что
профсоюз, желающий получить официальное признание, должен
отстранить от руководства «коммунистов»: под эту
категорию, естественно, может быть подведен любой человек,
неугодный предпринимателю.
Каждый профсоюзный работник должен дать подписку
а том, что он не является коммунистом. Я видел этот
позорящий Америку документ: «Будучи надлежащим образом
приведен к присяге, я (следует фамилия и указание
занимаемой должности) из (название профсоюза) заявляю: Я не
являюсь членом коммунистической партии и не связан с этой
186
ЮРИИ ЖУКОВ
партией; я не доверяю какой-либо организации,
проповедующей свержение правительства США насильственным путем
или путем каких-либо нелегальных или неконституционных
приемов, не являюсь ее членом и не оказываю поддержки ни-
какой такой организации (подпись). Предостережение:
Всякое ложное показание в настоящей подписке влечет за
собой штраф в 10 000 долларов или десять лет тюремного
заключения, или то и другое, как это предусмотрено статьей
35-а Уголовного Кодекса».
Такую подписку должны были дать 500 000 работников
профсоюзов. Чего стоят после этого разглагольствования
американской пропаганды о «расцвете демократии» в США!
Восстановлена «Комиссия конгресса по неамериканской
активности», основной задачей которой является беспощадная
расправа с демократическими элементами США. Один за
другим идут скандальные процессы: судят демократических
деятелей, обвиняемых по стереотипной неуклюжей формуле:
«неуважение к конгрессу» (это «неуважение» судьи
усматривают в отказе демократических деятелей предоставлять свои
архивы и давать показания указанной выше «комиссии»).
Судебные дела по этой формуле возбуждены были, в частности,
против руководителей Национального совета
американо-советской дружбы и против руководителей Объединенного
комитета помощи антифашистам-эмигрантам. Характерно, что
выступавший на суде представитель государственного
департамента Александер заявил: «Термин «антифашисты»,
содержащийся в названии организации, означает, что эта
организация входит в коммунистический фронт». Этого заявления
было достаточно, чтобы посадить в тюрьму целую группу
известных общественных деятелей США. Видный антифашист
Эйслер был приговорен к штрафу в тысячу долларов только
за то, что, будучи вызван в «Комиссию по неамериканской
активности», попытался сделать трехминутное заявление,
прежде чем начать отвечать на вопросы. Скандальную известность
приобрело затеянное этой комиссией следствие в Голливуде.
Председатель «Комиссии по неамериканской активности»
Томас потребовал от министра юстиции начать судебное
преследование... всей коммунистической партии и ее деятелей.
Выступая на суде, который был устроен в июне 1947 года над
генеральным секретарем коммунистической партии США
Деннисом, он сказал, что комиссия подготовила список людей,
подозреваемых в том, что они якобы являются членами
«антиамериканской организации». В список внесен... миллион
имен! Эта цифра достаточно убедительно говорит о том,
а каких огромных масштабах планируют американские
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
187
реакционеры расправу с демократическими элементами
страны.
Министр труда Швеллербах в 1947 году потребовал от
палаты представителей объявить коммунистическую партию
вне закона. Он заявил, что в его министерстве уже
проводится чистка персонала «в целях выявления коммунистов»,
причем к этому делу привлечены органы уголовно-политического
розыска.
Коммунистам закрыт доступ на государственную службу,
в армию. Их изгоняют и со службы в частных предприятиях.
Широкую огласку в мировой прессе приобрел пресловутый
приказ Трумэна об увольнении «нелойяльных» служащих, —
под эту категорию подводятся не только коммунисты, но все
те, кто не желает безоговорочно принимать широкую
программу подавления демократических свобод. В соответствии с этим
приказом) будут «проверены» 2 300 000 служащих. В целях
«проверки» используются материалы федерального бюро
расследования, то есть тайной полиции, «Комиссии по
неамериканской активности», армейской и военно-морской
разведок и т. д. На всех лиц, чья «лойяльность» будет проверяться,
заводятся особые карточки, которые будут храниться в
центральной картотеке. В каждом правительственном органе и
учреждении создаются особые «внутренние бюро по
наблюдению за лойяльностью» и подбирается штат работников,
специально обученных для несения «службы безопасности»...
Людей, заподозренных в «нелойяльности», ждет тяжкая
участь. Приказом Трумэна они лишаются даже тех
процедурных гарантий, которые закон предоставляет уголовному
преступнику...
27 июня 1947 года бывший сотрудник государственного
департамента Марзани был приговорен к трем годам! тюрьмы
по обвинению в том, что он якобы отрицал свою
принадлежность к коммунистической партии.
— Это пародия на правосудие, — с возмущением сказал
Марзани после того, как был зачитан приговор. — Во время
войны правительство хвалило мою работу. Теперь то же
правительство отправляет меня в тюрьму. Безжалостные
действия правительства могут быть поняты только, если учесть,
что в Германии в настоящее время обвиняемых в том же
преступлении, в каком обвинили меня («дача ложных показаний
правительству США»), приговаривают лишь к 10-дневному
тюремному заключению либо вовсе не наказывают. Таково
«правосудие» через два года после окончания войны —
10 дней для нацистского врага и длительное тюремное
заключение для американского ветерана войны...
188
ЮРИИ ЖУКОВ
Особенно жестоко проводится чистка от «нелойяльных» в
армии. Любопытно, что «Комиссия по неамериканской
активности» потребовала от военного министра немедленного
предания военному суду 80 офицеров и полутора тысяч рядовых,
принявших участие в первомайской демонстрации 1947 года в
Нью-Йорке. Томас заявил, что его агенты присутствовали на
демонстрации, сделали много фотографий и произвели
киносъемки, которые он предоставляет в распоряжение военного
министерства как «улики».
Ненависть реакционеров к прогрессивным элементам про*
стирается так далеко, что комиссия палаты представителей
по делам ветеранов мировой войны 18 июня 1947 года
решила лишить пособий тех ветеранов, которые высказывают
симпатии коммунистам. Текст предложенного комиссией
законопроекта гласит: «Каждый демобилизованный,
желающий получать пособие, должен под присягой сказать, что он
не является членом коммунистической партии, не сочувствует
ее целям и не имеет связи ни с СССР, ни с каким-либо из
государств, являющихся орудиями (?!) Советского Союза...»
Надо побывать в Америке, надо окунуться в ее тревожные
будни, чтобы в полной мере почувствовать ту атмосферу
неуверенности, страха, растерянности, какая здесь создается в
результате этого наступления реакции.
В один из дней, когда американские газеты были
заполнены сверхсенсационными отчетами о так называемом
расследовании «красной опасности» в Голливуде, я встретился с
двумя кинорежиссерами, только что приехавшими из
Вашингтона в Нью-Йорк. Они были вне себя от негодования,
боли и ярости.
— Это... это какой-то сатанинский шабаш, бал
умалишенных, пир каннибалов с диких островов, — это все, что угодно,
только не расследование! — нервно говорил один из них,
прохаживаясь по комнате и машинально оглядываясь на дверь.—
У Томаса и Ренки-на (руководителей «Комиссии по
неамериканской активности».—Ю. Ж.) нет за душой ни единой
улики против тех, кого им угодно называть «красными». Все, в
чем они могут обвинить подсудимых, — это постановка
фильмов «Песнь о России» и «Миссия в Москву». Но ведь даже
самому Томасу не пришло бы в голову утверждать, что эти
фильмы подрывают основы нашего государственного строя.
А посмотрели бы вы, как обращаются с вызванными на допрос
писателями и режиссерами в комиссии! На них кричат, им не
дают слова сказать, вчера трои* вывели из зала заседаний.
А какую ахинею плетут свидетели обвинения!..
— Вы не поверите, но это факт, — вмешался второй собе-
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
389
седник. — Мамаша артистки Роджерс заявила, что
композитор Ганс Эйслер нарочно «создавал для Голливуда унылую и
печальную музыку в русском духе». Вам смешно? Но вот,
представьте себе, подобных доказательств «крамолы» было
достаточно для того, чтобы отдать Эйслера под суд и принять
решение о его высылке из Соединенных Штатов...
«Голливудское расследование» приобрело поистине
скандальный характер. Заправилы «Комиссии по неамериканской
активности» сами разоблачали себя, выступая со злобными
нападками» на прогрессивных деятелей искусства. В связи с
этим вспомиим, что руководитель комиссии Томас еще
несколько лет назад обвинил в коммунизме даже Рузвельта. Он
заявил тогда:
— «Новый курс», повидимому, работает заодно с
коммунистической партией. «Новый курс» — это либо сама
коммунистическая партия, либо же он ее всячески
поддерживает.
Тогда над Томасом! смеялись. Теперь он, -пользуясь
благоприятной для него обстановкой, стремится свести счеты с
ненавистными ему последователями рузвельтовекого «нового
курса».
«Почему эта комиссия намеревается меня уничтожить? —
писал видный прогрессивный писатель Альберт Мальтц. —
За мои писания? Посмотрим, что я написал! Мой poMian
«Крест и стрела» вышел специальным изданием в количестве
140 тысяч экземпляров. Книгу издало правительственное
агентство военного времени, обслуживавшее наши
вооруженные силы. Книга была издана для американских бойцов за
границей. Мои короткие рассказы перепечатаны более чем в
30 антологиях 30 американскими издателями, которые,
видимо, тоже занимались «подрывной деятельностью». Мой фильм
«Гордость флота» впервые демонстрировался в 28 городах
на празднествах, организованных под эгидой военно-морских
сил США. Другой фильм «Цель Токио» был впервые
'показан на борту американской подводной лодки и был одобрен
флотом в качестве официальной учебной кинокартины. Мой
короткий фильм «Дом, в котором я живу» удостоен
специальной награды Академии кинематографического искусства и
науки как вклад в дело борьбы против расовой нетерпимости.
Мой короткий рассказ «Счастливейший человек на земле»
получил в 1938 году премию имени О. Генри как лучший
американский короткий рассказ».
А в чем заключается «неамериканская деятельность»
таких видных писателей, как Лоусон, Трумбо, Ларднер? В том,
что они протестовали против линчевания, писали книги в за-
190
ЮРИЙ ЖУКОВ
щиту испанских республиканцев, активно участвовали в
борьбе против гитлеровской Германии- и империалистической Япо-
нии. Дело дошло до того, что Ларднер, как рассказал мне
видный публицист Сэмиоэл Силен, обвиняется в том, что он
в связи с поджогом рейхстага подписал антинацистскую
декларацию, а также в том, что он участвовал в составлении
плаката «Братство людей».
Заседания комиссии, на которых ToMiac выслушивал
«свидетелей обвинения», превращались в форменный фарс. И не
случайно даже «Нью-Йорк геральд трибюн» сочла
возможным в эти дни опубликовать фельетон «Красная пропаганда
в «Ромео и Джульетте». Автор фельетона И. Бенчли
писал:
«Мне передали, что некий мистер Томас в Вашингтоне
хотел бы получить информацию о коммунистах. Насколько
я энаю, он -проводит какое-то расследование и обеспокоен
коммунистической пропагандой в кино. В одной картине он
усмотрел красную пропаганду в том, что один из персонажей
отказался ограбить бедняка, а другой фильм — «Лучшие годы
нашей жизни» — изображает в неприглядном свете банкиров,
что, по мнению Томаса, говорит о том, что вся картина
инспирирована Кремлем. Так как у меня нет времени ездить в
Вашингтон, я решил опубликовать в газете свои свидетельские
показания для сведения Томаса. Привожу для удобства его
вопросы и мои ответы:
—* Мистер Бенчли, как вы думаете, если бы встретили
коммуниста, вы бы догадались, что он — коммунист?
— Да, конечно.
— Видели вы когда-либо в жизни коммунистов?
— Во время войны я ездил в автобусе с несколькими
русскими матросами.
— Отлично, отлично! Раз вы, таким образом, являетесь
авторитетом в вопросах коммунизма, — скажите, видели ли
вы фильм с коммунистической пропагандой?
— Да, конечно. Вы, наверное, помните картину «Ромео и
Джульетта»?
— Конечно, помню! Может быть, вы скажете, в каких
местах эта картина поддерживает линию компартии?
— С удовольствием! В первом) действии, в первой сцене
группа персонажей, названных «гражданами», кричит:
«Бейте их, долой Капулетти! Долой Монтекки!»
— Вы хотите сказать: «Долой капиталистов»?
— Нет, Капулетти. Но так или иначе и Капулетти и Мон-
текки были своего рода капиталисты. Ясно, что чернь
призывала к революции!
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
191
— Я тоже думаю так. Может быть, вы еще что-нибудь
вспомните?
— Конечно! В той же сцене Бенволио заявляет: «Какая
же тоска твой часы, Ромео, удлиняет»? Ромео отвечает:
«Печалишься, когда не имеешь того, что сделало бы их
быстролетными». Другими словами, Ромео хочет дополнительной
платы за сверхурочную работу и мечтает о вентилируемой
ванной комнате. Самый настоящий коммунист!
— Это любопытно. Можете вы что-либо еще сказать об
этом Ромео?
— Конечно! Он старается навязать Джульетте партийную
линию. Во второй сцене второго действия он выражает
недовольство тем, что она одевается слишком изысканно.
— Как вы думаете, ему удается обратить ее в
коммунистическую веру?
— Да, конечно! Не следует забывать, что она дочь одного
из знатнейших людей города. Несмотря на это, она
восклицает: «Что в имени? То, что мы называем розой, будет и под
другим именем пахнуть так же сладко». Это достаточно
радикальные слова для представительницы дома Каттулетти!
— Нет ли у вас чего-либо такого, что могло бы прямо
показать, что эта пьеса неамериканская?
— Да вот хотя бы слова Ромео в первой сцене пятого ак-
та, когда он пытается купить яд у обедневшего аптекаря.
Аптекарь уверяет, что закон запрещает ему продавать яд. Ромео
ему на это отвечает: «Ни свет, ни светский закон не
являются твоими друзьями. Нет закона, который бы тебя сделал
богатым. Золото — вот худший яд для души человека, и оно
учиняет больше убийств в этом отвратительном мире, чем все
те жалкие препараты, которые ты отказываешься
продавать».
— Большое спасибо, этого вполне достаточно!..»
Многие газеты требовали п-рекращения следствия по делу
Голливуда, превратившегося в общественный скандал. Та же
«Нью-Йорк геральд трибюн» раздраженно рявкнула на
Томаса: «Расследование в Голливуде дало много вздора и очень
мало чего-либо еще». Но все это отнюдь не помешало
комиссии Томаса—Ренкина посадить десять прогрессивных деятелей
Голливуда на скамью подсудимых: двоих из них судят за
отказ ответить на вопрос о том, коммунисты ли они,
восьмерых — за отказ ответить, не являются ли они членами
гильдии (союза) сценаристов.
В этих условиях надо обладать немалым мужеством,
чтобы бросить в лицо нынешним правителям Америки
заявление, подобное тому, какое сделал привлеченный к ответ-
192
ЮРИИ ЖУКОВ
ственности комиссией Томаса — Рен-кина писатель Дальтон
Трумбо:
«Члены этой комиссии и другие реакционеры уже
создали в нашей столице атмосферу страха и репрессий. Вы
превратили Вашингтон в город, где ни один профсоюзный
лидер не может доверять своему телефону, где старые
друзья не решаются узнавать друг друга в общественных
местах, где мужчины и женщины говорят, не боясь быть
подслушанными, только в движущихся автомобилях или на
открытом воздухе. Наш столичный город наломицает сейчас
германскую столицу накануне поджога рейхстага, и те, кто
помнят историю осени 1932 года в Германии, чувствуют
запах дыма».
Томас не позволил Трумбо прочесть вслух это заявление
на заседании комиссии. Сценарист воскликнул:
— Это начало американских концентрационных лагерей!
Присутствовавшая в зале 'публика ответила ему
аплодисментами, но эта демонстрация протеста дорого обошлась
•писателю: Томас отдал его под суд, а кинокомпания, в которой
работал Трумбо, вышвырнула его на улицу, не считаясь с тем,
что фильмы, поставленные по его сценариям, пользуются
большим успехом...
Через несколько дней в Филадельфии разыгрались
события, заставившие вспомнить мрачный прогноз писателя.
Местная организация «Прогрессивные граждане Америки»
просила разрешить ей провести в историческом «Зале
Независимости» (в этом зале была подписана декларация о
независимости США) митинг протеста против разгула реакции в США.
Городские власти отказали ей в этом. Тогда организация
«Прогрессивные граждане Америки» попросила разрешения
собрать митинг на городской площади, перед «Залом
Независимости». Городские власти не могли отказать в этом, но
демонстративно заявили, что они отказываются «принять
меры для охраны порядка». Это был сигнал для фашиствующих
молодчиков из «Американского легиона». Они атаковали
участников митинга, забрасывая их химическими бомбами и
заглушая ораторов гудками сирен. Молодчики из
«Американского легиона» не поленились доставить на городскую площадь
даже... паровоз, издававший оглушительные свистки. Когда
к трибуне направился престарелый юрист Фрэнсис Кан, 81
года, бывший прокурор США, фашисты набросились на него.
Они оттеснили от старика поддерживавшего его спутника и
избили его. Пошатываясь, Кан все же поднялся на трибуну и
сказал, задыхаясь:
— Мы находимся перед зданием «Зала Независимости»,
Американский „экспорт"
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
193
символом свободы, завоеванной для Соединенных Штатов
более ранними поколениями... Свобода США окажется в
опасности, если будет разрешена нетерпимость...
В эту минуту на трибуну вскочил вожак легиона
«Пурпурное сердце» Нэйбл, небрежно отодвинул стари-ка и крикнул
своим молодцам:
— Поздравляю вас!.. Митинг кончен!..
Подобные этой позорные истории произошли в городах
Трэнтоне, Бриджпорте и даже в одном из районов
Нью-Йорка— Бруклине, где в ночь на 4 декабря 1947 года хулиганы
произвели атаки на клубы прогрессивных организаций. На
митинге, собравшемся на углу Страусс-стрит и Питкин-авеню,
нападавшие вырвали у ораторов американский флаг и
разорвали его в клочья.
Американская пропаганда пытается представить дело
таким образом, будто бы все эти эксцессы направлены «только»
против коммунистов. Оправдание по меньшей мере
странное, если учесть, что коммунистическая партия США
легальна и, в соответствии с конституцией, должна пользоваться
теми же свободами, что и остальные партии. Факты говорят,
однако, о том, что ссылки на коммунистов делаются лишь для
отвода глаз. В действительности система неприкрытого
террора распространяется буквально на все прогрессивные
организации.
14 ноября 1947 года в одном из калифорнийских городов
20 молодчиков из «Американского легиона» ворвались в
частный дом. Они пронюхали, что в этом) доме собралась группа
людей, чтобы подписать петицию к Уоллесу с просьбой
выставить свою кандидатуру в президенты. Легионеры
перевернули все вверх дном, сфотографировали собравшихся,
переписали их фамилии и приказали в 10 минут разойтись. В городе
Рочестер в средней школе была обнаружена «ужасная
крамола»: в библиотеке нашли книгу «Двадцать современных
американцев», где рядом с биографией начальника Федерального
бюро расследования Эдгара Гувера помещена биография
Уоллеса. Книга была изъята, но этим дело не ограничилось:
католическая организация потребовала немедленной
«проверки лойяльности» всех учителей города. В городах Атлант и
Мэйкон фашистская организация Ку-клукс-клан
потребовала, чтобы муниципалитеты насильно изолировали негров во
врем1я выступлений Уоллеса.
Никто не назовет Уоллеса коммунистом. Но всем
известно, что он выступает против фашизма. Как показывают
факты, этого достаточно для того, чтобы люди, симпатизирую-
13 Вот ода, Америка
194
ЮРИЙ ЖУКОВ
щие бывшему вице-президенту, автоматически зачислялись
в категорию «красных»...
Факты говорят о том, что деятельность фашистов в
Соединенных Штатах практически остается безнаказанной.
В 1946 году в США нашумела история раскрытой в штате
Георгия фашистской организации «Колумбийцы», ставившей
своей целью свержение государственного строя,
установление фашистской диктатуры по образцу гитлеровского
государства и истребление негров. Формально организация была
распущена. Главаря ее Гомера Лумиса судили. И что же?
Он до сих пор остается на свободе и продолжает свою
преступную деятельность. В октябре 1947 года газеты
публиковали отчеты о его выступлениях на фашистских митингах в
Детройте, где он ораторствовал вместе с руководителем другой
фашистской организации — «Америкен ферст парти» —
Джеральдом Смитом. Примерно в это же время появились
сведения о деятельности еще одной фашистской партии — так
называемой «Демократической национальной партии» — с
главным штабом в Чикаго. Лозунг этой партии, как
сообщало агентство Юнайтед Пресс, гласит: «Жизнь есть борьба,
борьба есть война, война есть жизнь...»
«Твердость» и «непреклонность» представители властей
обретают лишь тогда, когда они встречаются с
представителями прогрессивных организаций. В США опубликован
специальный список «подрывных организаций», сочувствие
которым расценивается как признак неблагонадежности. В этом
списке: Национальный совет советско-американской
дружбы, организация ветеранов бригады Авраама Линкольна,
сражавшейся против Франко в Исяании и потеряв-шей в боях
с фашизмом 1 800 человек убитыми, Международный рабочий
орден — добровольная страховая организация,
насчитывающая 1 880 тысяч членов, и многие, многие другие. По
стандартам американских властей не только членство в этих
организациях, но даже знакомство с их членами преступно.
Газета «Нью-Йорк геральд три<5юн», которую трудно
упрекнуть в симпатиях к «красным», сообщая об увольнении
группы сотрудников государственного департамента,
признанных «нелойяльньшиэ, писала:
«Большинство из них искренно недоумевают. Так,
например, один из них может объяснить свое увольнение только
тем обстоятельством, что, будучи студентом, он просто из
любопытства посещал митинги, организуемые левыми
партиями. Другой был знаком с человеком, друг которого принимал
участие в испанской гражданской «ойне на стороне
республиканцев. Третий оказался в списке клиентов книжного магази-
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
195
на, продающего левую литературу. Четвертый когда-то в
прошлом работал техническим служащим у профессора,
известного более или менее левыми взглядами...»
Журнал «Нейшн» в январе 1948 года опубликовал
ряд фактов, показывающих разгул полицейского произвола
в отношении научных работников, заподозренных в
«крамоле». Многие ученые были смещены со своих постов в
правительственных учреждениях и в частных предприятиях даже
без предоставления hmi «рава быть выслушанными.
...В начале сентября 1947 года американскую печать
облетела сенсация: некий шлоумюый биохимик Курт Лайон
предложил разработать конструкцию... аппарата для контроля над
мыслями! Лайон сказал, что с помощью такого аппарата
можно было бы «анализировать и контролировать заразную
болезнь коммунизма и создавать здоровые умонастроения,
делающие подобные несчастия невозможными». Конечно,
определенным кругам Америки было бы желательно пропустить
весь народ через какие-нибудь патентованные агапараты,
которые начисто отшибли бы у людей способность мыслить или,
по крайней мере, зарегистрировали бы их «опасные мысли»,
как то предлагает Курт Лайон. Однако сие, как говорится, от
них не зависит, и факты говорят о том, что бесчинства
воинствующей реакции? вызывают эффект, обратный тому, на
какой она рассчитывала: у рядового американца понемногу
начинают открываться глаза на происходящее в стране. Тем
упорнее, однако, американская реакция стремится сбить
с толку, оболванить, стандартизировать людей, развить у них
низменные интересы, которые заслонили бы все остальное,
отшибли бы интерес к общественной жизни.
По правде говоря, средний американец недолюбливает
религию, хотя и не говорит об этом вслух. Он не уверен в том,
что существует потусторонний мир: трудно отыскать щель
для ветхозаветного бога в мире современной техники. Именно
поэтому мастера американской рекламы пускают в ход все
средства для того, чтобы поднять акции американского fiora
в глазах рядового американца. В Вашингтоне, например, в
воскресенье вы можете купить виски только в церкви. Если
американцу захочется выпить, он волей-неволей поплетется
к попам, а они вместе с бутылкой виски сунут ему в руки
какую-нибудь веселую молитву или покажут распутно-святень-
кий фильм с привлекательными ангелочками. Тех же,
кого в церковь все-таки не затащишь, атакует многотысячная
толпа прорицателей, волхвов, хиромантов, знахарей,
необычайно расплодившихся в Америке, особенно в послевоенные
годы.
13*
196
ЮРИИ ЖУКОВ
Даже в газетах рядом с биржевыми котировками,
отчетами о скачках и пространными репортажами об убийствах
вы ежедневно можете читать наставления астрологов. В
одной из самых распространенных американских газет
постоянный отдел «Ваши звезды сегодня» ведет «прорицатель^
Мэрион Дрю, изо дня в день поучающий своих читателей на
языке средневековых шарлатанов:
— Сегодня Луна входит в созвездие Льва. Она приносит
поворот интересов вскоре после полудня, создает
непонимание в некоторых инстанциях, воспламеняет споры и
вызывает в ряде случае! инциденты. Остерегайтесь того,
что вы говорите и делаете. Не совершайте сегодня
серьезных поступков. В том случае, если ваше чувство
подавленности и мрачного настроения продлится до вечера, —
откажите себе в удовольствии писать сварливые письма по этому
поводу. Иначе вы зайдете слишком далеко...
По данным, которые были опубликованы 19 октября в
«Нью-Йорк геральд трибюн», в США насчитывается сейчас
около 25 тысяч знахарей только в области психологии; это
бесчисленные «психологические консультанты»,
«эмоциональные советники», «персональные помощники» и т. д. Не
утратившие способности критически мыслить, американцы зовут
их в просторечии «психокваками». «Психокваки», взимающие
с простодушных посетителей за каждый сеанс кругленькую
сумму в 10 долларов, располагают дипломами докторов
психоанализа, хиропрактики, натуропатии, метафизической
философии и т. п. Эти дипломы выдаются сомнительными
учебными заведениями вроде «Колледжа универсальной правды»
в Чикаго, где преподаются такие «науки», как «практическая
метафизика», «персональный мистицизм» или «эзотерическое
масонство» (заметим мимоходом, что масонство весьма
модно в современной Америке; к числу «вольных каменщиков»
принадлежит, в частности, Бирнс, пожертвовавший гонорары
за свою антисоветскую книжку «Откровенно говоря» в
пользу масонской ложи Северной Каролины).
Американца приучают бояться черных кошек,
тринадцатого числа, пятницы. Его приучают верить в приметы, быть
фаталистом. Что же это — случайное поветрие? Дань нелепой
моде? Нет! Проповедь фатализма, суеверий входит каким-то
составным элементом в хитрые планы тех, кто заинтересован
в превращении рядовых американцев в ограниченных,
послушных, отвыкших рассуждать людей.
Той же цели подчинена целая отрасль американской
литературы, рассчитанная на простонародье. Я имею в виду так
называемые «мердер стори» — истории об убийствах. Мощ-
КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
197
ная американская полиграфия выбрасывает на книжный
рынок сотни тонн отпечатанных на прекрасной бумаге
баснословно дешевых книг, растлевающих сознание читателей.
Рядовой американец три раза подумает, прежде чем купить том
Шекспира или Марка Твена. За такую книгу надо заплатить
несколько долларов. А «мердер стори», которая
расценивается в центах, он приобретает, не задумываясь. О том, что
представляет собой эта «литература», дает достаточное
представление вот эта реклама, заимствованная мною из
воскресного издания нью-йоркской газеты «Дейли Мирор»:
«Пять великих пламенных новых книг, все только за один
доллар!
«Великие гангстеры», «Величайшие побеги из тюрьмы всех
времен», «Десять самых ужасных преступлений всех времен»,
«Как детективы ловят на крючок», «Тайны магии».
Если у вас деликатный желудок или хилые нервы, эти
книги не для вас!
От этих книг ваши волосы встают дыбом, ваши колени
дрожат, ваши глаза лезут на лоб, ваша кровь кипит.
В этих книгах, наконец, имеются кровавые подробности
поражающих, смелых, возбуждающих подвигов американских
гангстеров, показанные во всех их шокирующих жесто-
костях».
И многие американцы шлют свой доллар разбитным
издателям, публикующим подобные постыдные объявления в
газетах, и получают взамен пять пропахших кровью книжонок,
отравляющих мозг читателя прославлениями убийств и
грабежей. Но дело не ограничивается пропагандой преступности
как таковой. Она имеет и свою политическую направленность.
Не случайно на конкурсе на лучшую книгу этого «жанра»,
организованном журналом «Америкэн меркури», первую премию
в сумме 25 тысяч долларов получил некий Джералд Херд,
представивший рукопись книги «Война 1999 года между
Соединенными Штатами и СССР».
Плоды такой системы воспитания дают себя знать.
Американцы жалуются на неслыханный рост преступности.
Каждый день газеты сообщают о зверских убийствах, наглых
налетах среди бела дня, насилиях. Во всей своей красе
предстали перед жителями Нью-Йорка молодчики, взращен-
ные на уголовной литературе, развращающих фильмах и
провокационных антисоветских речах, осенью прошлого года
в дни съезда «Американского легиона». Мы прибыли в
Нью-Йорк несколько дней спустя после этого съезда, и город
находился под свежим впечатлением пережитого им. То, что
рассказывали нам нью-йоркцы, казалось невероятным, но
198
ЮРИЙ ЖУКОВ
снимки, опубликованные во всех газетах и журналах, в
частности в «Лайфе», подтверждали эти рассказы...
Военизированные формирования «Американского легиона»
напоминают формирования штурмовиков в Германии, и
воспитание легионеры получают примерно то же, какое получали
штурмовики. Когда в Нью-Йорке собирался съезд легионеров,
свыше было дано специальное указание полиции: смотреть на
поведение легионеров сквозь пальцы. В итоге Нью-Йорк в эги
дни был отдан, что называется, на поток и разграбление этим
разнузданным молодчикам.
Вот кадры, опубликованные в те дни в журнале «Лайф»:
из окна первоклассного отеля «Тафт» на голову прохожему
выливают ушат воды; жирный легионер в белой рубашке,
выпущенной поверх брюк, тычет электрическим штепселем в
спину проходящей девушке, провод от штепселя тянется к
высоковольтной батарейке, спрятанной у него © кармане; девушка
в истерике, прохожие шарахаются в сторону; легионер
въезжает верхом на лошади в гостиницу; трое легионеров
окружили девушку, один держит ее за грудь, другой ее обливает,
третий ругается с прохожими; легионеры носят на палке
гнилую, полуразложившуюся рыбу и тычут ее в нос прохожим.
Все это преподносится как невинные проказы
«ветеранов».
Когда мы приехали в Нью-Йорк, в витринах магазинов
еще висели плакаты «Привет «Американскому легиону»!». Еще
не закрылись специальные магазины, торговавшие в дни
съезда аксесуарами так называемых «практических шуток»,
которым легионеры предавались после слушания очередных
погромных антисоветских речей на своих заседаниях. Я бы
назвал подобные магазины «Мечта хулигана». Противно и
стыдно описывать все то, что лежит в их витринах!..
В эти дни мне довелось встретиться с одним
американским писателем. Речь зашла о фашистской угрозе. Мой
собеседник задумался и сказал:
— Все это не так просто. Не следует забывать, что
рядовой американец в массе своей испытавает глубокую
привязанность к демократическим институтам. Конечно,
преступная пропаганда делает свое дело. Благодаря ей средний
американец не видит, насколько в действительности мы отошли
от демократических традиций. Но он все еще наивно верит,
что Соединенные Штаты — это самая прогрессивая и
демократическая страна в мире. Он не забыл, что мы совсем
недавно воевали против фашизма, и он терпеть не может
фашистов. Естественно, что ло'зунги нашей реакции
отличаются от лозунгов Гитлера. Гитлер говорил прямо немцам:
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
199
«Мы пойдем на соседей войной и отнимем у них нужное нам
жизненное пространство». Наши реакционеры предпочитают
другой язык. Они не скажут, что хотят захватить Грецию.
Нет! Они говорят, что мы должны освободить греков и дать
им демократию. Они не скажут, что хотят превратить
Западную Европу в колонию. Нет, они говорят, что хотят помочь
укрепиться западноевропейским демократиям.^
Да, разница в терминологии существенная, но решают ли
термины?
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
В 1926 году Маяковский писал, что «среднее
американское миросозерцание» составляется на основе газет. С тех
пор много воды утекло в Гудзоне, средний американец кое в
чем разуверился и научился более критически относиться к
стандартной духовной пище, которой потчуют его многие
тысячи газет и периодических изданий, выходящих в США.
Было бы ошибочно, однако, недооценивать ту широкую,
настойчивую обработку общественного мнения, которой занята вне-
шне такая многоликая и пестрая, но, по сути дела,
утомительно однообразная масса американских газет.
Впервые мне удалось наблюдать в широком масштабе
работу американских корреспондентов на Парижской мирной
конференции летом 1946 года — там присутствовало 275
журналистов, специально командированных из США. И сразу же
бросился в глаза специфический характер работы большинства
из них. Они действовали быстро, четко, слаженно, но как-то
механически, словно работали у конвейера. Как на заводе,
работа была четко разбита по элементам: одни дежурили в
залах заседаний и вели записи, другие обрабатывали эти записи
и превращали их в отчеты, третьи передавали по телефону и
телеграфу заметки. В свободные минуты они снимали
пиджаки, вешали их на спинки кресел и тут же, у телефонных
будок и телеграфных аппаратов, под неумолчный треск
десятков -пишущих машинок, играли в карты.
Более узкий круг дипломатических обозревателей, о
которых принято говорить, что они «помогают делать политику»,
жили иной жизнью. Они вовсе не бывали в залах конференции,
их мало интересовало то, что там происходило; их стихия —
кулуары и бары: там можно выудить у знакомого чиновника
важную новость, выяснить настроение американской
делегации, чтобы потом соответственно построить свою статью. Но
и у этой своеобразной журналистской аристократии сказыва-
200
ЮРИИ ЖУКОВ
лась все та же черта, роднящая ее с мелким! репортерским
людом, — работа на хозяина и по заказу хозяина.
Одну из виднейших американских газет на Парижской
мирной конференции представлял обозреватель, который в
годы войны был военным корреспондентом в СССР. В те годы
он объективно освещал жизнь нашей страны и даже издал
неплохую книгу о Красной Армии — тогда-и на такие книги
был спрос у американских издателей. Этот обозреватель "и
теперь часто говорил о дружеских чувствах к
Советскому Союзу, но это не мешало ему в своих ежедневных
обозрениях то и дело представлять в ложном, извращенном свете
позицию советской делегации. Такое тенденциозное
освещение соответствовало общему курсу газеты, и обозреватель
кривил душой.
— Всякая работа — бизнес, — говорил! мне один
американский корреспондент. — Не все ли равно: писать статьи,
торговать пивом или строить дома? Был бы хороший заработок. Мою
газету называют реакционной; у моих хозяев есть какие-то
интересы в текстильной промышленности, и это определяет
линию газеты. Но какое мне дело до этого?!
Своим заработком этот корреспондент был доволен. Он
сетовал только на то, что хозяева слишком долго держат его в
Европе, — он был военным корреспондентом, а теперь ему
пришлось переключиться на освещение работы дипломатических
конференций.
Я вспомнил этот разговор полгода спустя, когда в печати
появились сообщения, разоблачавшие весьма характерную
для американских буржуазных журналистов историю
известного в США публициста Маури, редактора и передовика двух
распространеннейших изданий: нью-йоркской газеты «Дейли
ньюс» и журнала «Колльерс» (тираж «Дейли ньюс» в
будни — 2,3 миллиона, в воскресенье — 4,7 миллиона; тираж
«Колльерса» — 2,8 миллиона экземпляров). Оба эти
издания — ультрареакционные, но принадлежат они разным
группам финансистов, интересы которых далеко не всегда
совпадают. «Дейли ньюс» — орган блока Мак-Кормик — Пат-
терсон, «Колльерс» принадлежит Морганам. И вот Маури
взялся обслуживать оба эти издания. Ему хорошо платили —
его доходы превышали 50 тысяч долларов в год. За эти
деньги он писал все, что угодно его хозяевам, причем сплошь и
рядом в одном издании он выступал против того, за что он
высказывался в другом.
В 1940 году Маури на страницах «Дейли ньюс» выступал
против предоставления союзникам кредитов для закупки
военных материалов. В то же время в «Колльерсе» он требо-
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
201
вал предоставить им кредиты. В «Дейли ньюс» он предлагал
дружить с Японией, а на страницах «Колльерса» требовал
нажимать на нее и «потуже завинчивать гайки». В 1945 году
Маури в «Колльерсе» требовал, чтобы США посылали
продовольствие голодающим народам Европы, а в «Дейли ньюс»
писал, что США не должны «брать Европу на свое
иждивение» и давать ей продовольствие...
Владельцы «Колльерса» и «Дейли ньюс» знали, что их
наймит двурушничает, но это нисколько их не беспокоило.
Недавно умерший издатель «Дейли ньюс» Паттерсон считал,
что человеку, пишущему по его заказу статьи, незачем
выражать свои мысли, коль скоро он излагает его собственные
взгляды. Примерно в том же духе высказывался издатель
«Колльерса» Ченери:
— Мы наняли Маури не из-за его личных взглядов, мы
не знаем, каковы его личные взгляды, и, по правде говоря,
нас это не интересует.
Комитет, присуждающий в США премии журналистам, в
свою очередь солидаризировался с этой точкой зрения: он
выдал Маури премию «за отличное писание передовых».
Но вот мы в Америке. И то, что доносилось в Париж лишь
в виде далеких отголосков, теперь сразу оглушает, поражает,
режет глаз...
Осенью 1947 года, когда в Нью-Йорке собралась вторая
сессия Генеральной ассамблеи организации Объединенных
наций, пропаганда новой войны в американской прессе
поистине достигла геркулесовых столбов.
Советская делегация на Генеральной ассамблее
разоблачила поджигателей войны, потребовала запрещения
пропаганды новой войны и привлечения лиц, ведущих такую
пропаганду, к уголовной ответственности. Как взвыли после этого
пойманные с поличным американские проповедники агрессии!
Они начали зопить, будто бы Советский Союз покушается на...
американскую свободу слова. На эти смехотворные
утверждения хорошо ответил глава советской делегации Вышинский.
— Неужели не ясно, что если пресловутый Эрл призывает
Соединенные Штаты Америки сбросить как можно скорее
атомные бомбы на Кремль, то это чудовищно, это
нетерпимо? — сказал он, обращаясь к американской делегации. —-
Я вас спрашиваю просто, по-человечески, без
полемики—терпимо это или не терпимо? Мы заявляем: вот перед вами
агрессор, он призывает вас, ваше правительство сбросить атомные
бомбы на Советский Союз. Осудите это! А вы говорите — с
какой радости? У нас свобода слова. Это злоупотребление
свободой слова. И мы обвиняем в подстрекательстве, в поощ-
202
ЮРИИ ЖУКОВ
рении пропаганды войны тех, кто не хочет заткнуть рот этим
людям, пропагандирующим агрессию...
Американская делегация всячески противилась принятию
какого бы то ни было решения Генеральной ассамблеи,
направленного против пропаганды новой войны. Однако
Генеральная ассамблея, хотя и со скрипом, приняла решение,
осуждающее «пропаганду в любой форме и в любой стране,
имеющую целью или способную создать или усилить угрозу
миру, нарушение мира или акт агрессии». Это был удар по
поджигателям войны, разоблаченным советской
дипломатией, которая показала перед всем миром, чего стоит
фиктивная «свобода печати» в США, используемая в качестве
прикрытия теми, кто стремится разжечь новую мировую
войну.
В дни пребывания в США мне довелось довольно близко
сталкиваться с «промышленностью, фабрикующей клевету и
дезинформацию», — так сами американцы часто именуют
свою прессу. И всякий раз эта, с позволения сказать,
«промышленность» и ее конкретные представители производили
самое тягостное впечатление.
Американские газеты выходят круглые сутки. Статистики
подсчитали, что в США каждые 30 секунд появляется новый
какой-нибудь выпуск. В любой час дня и ночи вы можете
приобрести в киоске пухлый, еще влажный от типографской
краски номер газеты — в нем от 24 до 100 страниц. «Газетный
бизнес» поставлен в США действительно с промышленным
размахом. В американскую прессу вложены колоссальные
капиталы: тресты, владеющие ею, поистине всемогущи.
Как говорят сами американцы, никому не придет в голову
издавать газету, не имея 10 или даже 15 миллионов в банке.
Человек, который вздумал бы основать новую газету в
США, должен был бы приобрести не только новейшее
типографское оборудование, стоимость которого исчисляется
многими миллионами долларов, не только создать грандиознейший
редакционный и издательский аппарат, но и выдержать
жестокую конкуренцию с газетными монополиями, которые не терпят
каких-либо вторжений с свою сферу деятельности, в
особенности, если новый издатель проявит прогрессивные
тенденции.
Чрезвычайно поунительна в этом отношении история Map-
шалла Филда, который, получив по наследству 184 миллиона
долларов, задумал основать две либеральные газеты:
«Чикаго сан» и «П. М.»; он хотел противопоставить их прессе
известных своим мракобесием издателей Мак-Кормика и Пат-
терсона. Филд заявил, что намерен создать независимые газе-
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
203
ты, которые давали бы читателю беспристрастную
информацию. Он демонстративно отказался от приема платных
объявлений, заявив, что рекламодатели душат свободу печати,
навязывая зависящим от них газетам угодный им политический
курс. Но с первых же шагов Маршалл Филд убедился в том,
что даже его 184 миллиона — безделица в сравнении с тем,
что необходимо для завоевания прочного места в газетном
мире.
Прежде всего предусмотрительные конкуренты Филда
позаботились о том, чтобы все каналы информации дл'я его
газет были закрыты.
Когда Чикагское информационное бюро отказалось
обслуживать «Чикаго сан», Филд вышел из положения, создав
собственную мощную репортерскую сеть. Но для получения
информации в международном масштабе такой прием спасти его
не мог — для этого даже у Филда нехватило бы средств.
В Соединенных Штатах три агентства держат в своих
руках международную информацию: Ассошиэйтед Пресс —
«кооперативное предприятие», охватывающее 1 300 ежедневных
газет, Юнайтед Пресс и Интернейшнл ньюс сервис,
находящееся в руках пресловутого газетного гангстера Херста.
О размахе их деятельности известное представление могут
дать такие цифры: одно лишь агентство Ассошиэйтед Пресс
имеет свои бюро в двухстах пятидесяти крупнейших городах
мира и в девяноста четырех городах США. Агентство аренду*
ет трансатлантический кабель и внутриамериканскую
телеграфную и телефонную сеть протяжением в 290 тысяч миль,—
эта сеть объединяет семьсот двадцать семь городов. 05щая
информация, представляемая агентством, превышает один
миллион слов в день.
Не пользуясь услугами такого агентства, издавать газету в
США невозможно. Но когда Маршалл Филд обратился к
Ассошиэйтед Пресс с просьбой принять его в члены этой
«кооперативной организации», он получил отказ. Агентство
Интернейшнл ньюс сервис также отказалось продавать ему
информацию под тем предлогом, что оно снабжает его конкурента
Мак-Кормика. И только Юнайтед Пресс согласилось
обслуживать «Чикаго сан». Это обошлось Филду в 1942 году в
110 тысяч долларов, в то время как у Ассошиэйтед Пресс по
существующим официальным расценкам он мог бы
приобрести гораздо более полную информацию за 50 тысяч
долларов.
Издатель постепенно охладел к своим детищам и махнул
рукой на них. Осенью 1946 года он опубликовал заявление о
том, что не намерен вечно тратить деньги на дотации «Чикаго
204
ЮРИЙ ЖУКОВ
сан» и «П. М.» и что он отказывается от принципа издания
газет без объявлений. Тем самым обе газеты стали вровень
с остальными буржуазными изданиями — их политический
курю ставится в зависимость от рекламодателей. В ответ на
этот шаг Маршалла Филда главный редактор газеты
«П. М.» — известный прогрессивный журналист Ингерсолл —
вышел в отставку.
Год спустя Филд продал газету «П. М.» провинциальному
издателю Маккиннону, который немедленно уволил всех
сотрудников, заявив, что он примет их обратно только в том
случае, если они выйдут из газетной гильдии
(профессионального союза журналистов). Что касается «Чикаго сан», то
Маршалл объединил ее с газетой «Чикаго тайме», которую он
перекупил у другого владельца. При этом он уволил
восемьдесят пять сотрудников, настроенных «либерально». В
результате такой операции обе газеты немедленно «поправели» и
теперь немногим отличаются от остальных буржуазных газет
США. Круг замкнулся.
Так еще раз восторжествовала система монополий,
которые прочно держат в своих руках прессу Соединенных
Штатов.
Роль тяжелой артиллерии, бомбардирующей беззащитную
публику тенденциозной лжеинформацией, играет в
Соединенных Штатах реакционная пресса, принадлежащая трестам
Херста, Скриппса — Говарда и некоторым другим газетным
концернам. Они контролируют сорок пять газет с гаражом
более 13 миллионов, что составляет 26 процентов тиража всех
ежедневных и воскресных газет. К этому надо добавить
газеты, формально не принадлежащие к указанным трестам, но
приобретающие и регулярно публикующие сообщения херегев-
ского агентства Интернейшнл ньюс сервис, — фактический
тираж печати, отравляющей сознание читателя тенденциозной,
ультрареакционной информацией, достигает 22 миллионов
экземпляров!
Такова неприглядная закулисная сторона американской
прессы, таков механизм, приводящий в движение сложную
и мощную машину, обрабатывающую общественное мнение
страны. Но вернемся к рядовому газетному киоску, за стойкой
которого стоит скромный продавец, вряд ли имеющий
представление о том, какая роль предназначена ему в обслуживании
этой машины и каким ядовитым товаром он торгует. Вернемся
к этому киоску и внимательно рассмотрим его пестрый
товар...
Вот перед вами рассчитанные на массового читателя
богато иллюстрированные издания полужурнального формата, объ-
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
205
емом до 70 страниц. Это самые дешевые газеты—цена номера
только два цента. Всю первую страницу какой-нибудь «Дейли
Мирор» или «Дейли ньюс» занимают аншлаги, напечатанные
дюймовыми буквами, и самое сенсационное фото
текущего дня: труп очередной жертвы бандитов, пылающий
самолет, портрет только что арестованного насильника или
убийцы. Именно эти газеты выходят наибольшими тиражами.
Заголовки ошарашивают вас. За два цента вас доотказа
накормят подробнейшими описаниями всех убийств,
катастроф, мошенничеств, свадеб, великосветских балов,
состоявшихся час тому назад.
«Самый ужасный в истории США пожар отеля! В
«Атланте» сгорели заживо 125 человек!» — и тут же снятая
телеобъективом фотография: женщина, падающая с четырнадцатого
этажа горящего отеля на мостовую.
«Первые женщины в Канаде, приговоренные за бандитизм
к смертной казни через повешение в Торонто!» — и снова
фотография.
Если просматривать эти газеты номер за номером, то
можно невольно подумать, что, кроме убийств, катастроф,
громких судебных процессов и казней, в США ничего не
происходит, — их страницы буквально испещрены безукоризненно
выполненными с технической точки зрения фотографиями
разбитых автомобилей, человеческих трупов, драк. Чем
страшнее и отвратительнее эти снимки, тем более удачным
считается здесь номер газеты, — ведь он должен ошеломить
читателя.
Нужды нет в том, что мутный поток этих сенсаций
развращает, уродует психику читателя, особенно молодого, и
поощряет рост преступности. Если кто-либо посмеет поднять
голос против такого характера газеты, его немедленно обвинят
в покушении на пресловутую «свободу американской
печати».
Итак, сенсация превыше всего. Но ради чего эти
бульварные газеты столь усердно копаются в грязи большого города?
Ради чего они с таким вожделением расписывают во всех
подробностях преступления и скандалы? Издателей интересует
сенсация не сама по себе: они преследуют совершенно
определенные и недвусмыленные политические цели. Это хорошо
подметил еще сорок лет назад А. М. Горький, когда записал в
своих американских очерках, что такая шумиха «оглушает
общество, не позволяет ему слышать правду».
«— Если в реку набросать мелких щеп,—среди них может
незаметно для вашего глаза проплыть большое бревно, —
говорит один из героев американских очерков Горького.— Или
206
ЮРИИ ЖУКОВ
если вы неосторожно вытащили бумажник из кармана вашего
соседа, но своевременно обратите внимание публики на
мальчишку, который украл горсть орехов, — это может спасти вас
от скандала. Только кричите громче — вор!.. Крупная кража
засыпается кучей мелких краж, и вообще все крупные
преступления подавляются грудами мелочей... Народ находится
всегда в состоянии гипноза, ему нет времени думать
самостоятельно, и он только слушает газеты. Газеты принадлежат
миллионерам... Вы понимаете?..»
Приведу наглядный пример, показывающий, как
американская бульварная печать используется для того, чтобы отвлечь
внимание читателей от крупнейших политических событий,
забить им головы дешевыми сенсациями, не дать разобраться
в важнейших событиях.
Дело было ранней весной 1947 года. В те дни в Москве
проходила сессия Совета министров иностранных дел, в ходе
которой отчетливо выяснилось, что правящие круги США не
желают ускорить заключение мира с Германией и подписать
государственный договор с Австрией, что они заинтересованы
в продлении состояния послевоенной неопределенности, что
они стремятся к расчленению Германии. Трумэн выступил со
своей пресловутой «доктриной», требуя от конгресса помощи
реакционерам Турции и Греции. Внутри США становились все
более угрожающими признаки инфляции.
И вот в этот момент большинство американских газет
подхватило и раздуло с небывалым усердием патологическую
историю, вытеснившую все остальные события: в одном из
домов на Пятой авеню был найден труп старика — владельца
этого дома, некоего Гомера Коллиера; некоторое время спустя
внутри дома был найден труп его брата—Лэигли; как
выяснилось, эти два американца, решив стать отшельниками,
тридцать девять лет не покидали своего дома и в конце концов
умерли естественной смертью. Вот и вся история. Но как
преподнесла ее американскому читателю пресса! На
протяжении нескольких недель на страницах газет бушевал шторм
сенсаций.
Чтобы дать представление о характере американской
прессы и об уровне журналистики в США, я позволю себе
воспроизвести здесь некоторые детали этой шумихи на примере
только одной газеты — «Нью-Йорк уорлд телеграмм».
В пятницу 25 марта «Нью-Йорк уорлд телеграмм»
ошарашила читателей жирным аншлагом на всю страницу:
«Отшельник Коллиер найден мертвым». Под этим аншлагом было
помещено подробнейшее описание того, как полицейские нашли
труп Гомера Коллиера и как они искали Лэигли Коллиера. На
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
207
следующий день газета опубликовала занявший три колонки
очерк на ту же тему, начинавшийся такими строками:
«Сегодня в долгие меланхолические предрассветные часы уголъно-чер-
ная кошка во дворе Коллиеров, Пятая авеню, 2078, зашипела
на полицейского, когда он направил на нее свой фонарик.
Она подняла голову, выгнула спину и вызывающе
зафыркала».
В ранних выпусках в понедельник газета дала аншлаги нп
четыре колонки: «Погоня за отсутствующим Ленгли Коллие-
ром, мертвым или живым, должна начаться среди хлама».
Далее следовало сообщение, выдержанное в сверхдраматическом
стиле: «Сегодня в час дня истекает последний срок,
установленный для обыска мрачного, таинственного дома, где Гомер
и Ленгли Коллиер на протяжении 39 лет прятались от
современного мира в мрачном викторианском окружении». В
последующих выпусках газета дала еще более кричащие аншлаги на
всю страницу: «Полицейские переворачивают вверх дном дом
Коллиеров! Фантастический хлам вываливается из старого
особняка! Участники поисков говорят, что в третьем этаже
отшельника нет! Возможно, у него имеется револьвер...»
Чтобы подогреть интерес читателей к этой истории, газеты
фабриковали и публиковали все новые и новые слухи, один
другого сенсационнее и нелепее. То они сообщали, что под
домом Коллиеров имеются таинственные катакомбы, в которых
якобы прятался неуловимый отшельник, то публиковали
рассказы о «старых долларовых ассигнациях коллиеровского
клада», который будто бы запрятан в «заплесневелом старом
особняке», то печатали интервью с тремя мясниками, «чьи
ежедневные поставки мяса поддерживали братьев-отшельни-
коз на протяжении 28 лет», — мясники утверждали, что Лэнг*
ли Коллиер «исчез на 30 дней раньше, чем полиция
обнаружила, в прошлую пятницу, исхудалый труп его слепого и
парализованного брата Гомера».
Долгих восемнадцать дней нью-йорские газеты пичкали
своих читателей всеми этими бульварными сенсациями,
вытеснявшими важнейшие сообщения о международной и
внутренней жизни. Только тогда, когда даже привыкшим ко всему
американским читателям вконец опротивела эта дикая и
нелепая история, газеты сообщили, что труп второго «отшельника»
найден, наконец, под грудой обломков в доме Коллиеров, и
репортеры устремились на поиски новых сенсаций.
Что касается крупных политических событий, то
бульварная печать преподносит их своим читателям в самом
извращенном виде. Она никогда не скажет попросту, что
произошло, но обязательно соберет все слухи и сплетни по поводу
208
ЮРИИ ЖУКОВ
происшедшего и вывалит их на газетный лист. От
политических комментариев этих газет на километр несет самой дикой
и разнузданной ложью, невежеством и нахальством.
Так называемые «большие газеты» выглядят «солиднее».
«Вашингтон пост», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Нью-Йорк
тайме» рассчитаны на менее широкий круг читателей: их
перелистывают за завтраком сенаторы, фабриканты, адвокаты,
журналисты. Их тиражи — 200—400—600 тысяч. Задачи
этих газет тоньше и деликатнее — на их широких, густо
засеянных мелким шрифтом страницах делается политика.
И хотя они также отдают обильную дань бульварным
сенсациям, — есть где разгуляться на шестидесяти страницах! —
круг вопросов, который газеты затрагивают, значительно
шире, их статьи длиннее и сложнее.
Работники «больших» американских газет гордятся своей
осведомленностью, — они не пропустят ни одного
сколько-нибудь заметного события, если редакции выгодно осветить
это событие в газете. Издатели не жалеют миллионов на
техническое оснащение своих типографий и монопольное
приобретение средств связи. Редакции газет располагают
богатейшей аппаратурой связи. Здесь неумолчно стучат десятки
буквопечатающих телеграфных аппаратов; круглые сутки
обшаривают эфир — «от полюса до полюса!» — радиоаппараты,
автоматически фиксирующие на бумажной ленте все, что
читают дикторы на всех континентах; автоматы записывают
статьи, которые диктуют по телефону за тысячи миль
корреспонденты; бильдтелеграф принимает фотографии,
передаваемые из-за океана.
И вся эта мощная техническая машина служит
единственной цели — оказывать ежедневное, ежечасное давление на
психику читателя, фабриковать стандартную духовную пищу
среднего американца, превращать его в безропотного
исполнителя предначертаний кучки финансистов и промышленников,
правящих Америкой.
Выше я показал, какие приемы пускает в ход американская
пресса, чтобы отвлечь читателя от важнейших событий
политической жизни. Не следует удивляться после этого
поразительной неосведомленности среднего американца. Опрос,
проведенный журналом «Форчун» в 1945 году, показал, что
60 процентов американцев не знали, на чьей стороне стоял
СССР в период Мюнхена. 26 процентов опрошенных
полагали, что СССР стоял в этот период на стороне Германии, и
только 14 процентов знали, что Советский Союз энергично
выступал против Мюнхена, в защиту Чехословакии. Опрос,
проведенный так называемым «Институтом общественного
Американцы в Греции.
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
209
мнения» Галлупа, показал, что менее 6 процентов
американцев могут правильно ответить на четыре
элементарнейших вопроса об СССР. Большинство американцев, например,
не знает, что в Советском Союзе некоммунисты имеют право
участвовать в выборах. Большинство американцев уверено,
что русским строго запрещается посещать церковь. «Кажется
неопровержимым, что американская печать несет главную
ответственность за атмосферу невежества и ненависти,
омрачающую наши отношения с Советской Россией, — заявляет в
своей книге «Ваша газета» группа видных американских
журналистов. — На протяжении жизни более чем одного поколения
большинство наших газет заявляло о своей враждебности
почти ко всему русскому. Они наложили руку даже на школы, так
что (благодаря компании Херста) учителя могут говорить
детям о России лишь осторожно или вообще не могут
говорить».
Ту же ничем не прикрытую тенденциозность американская
пресса проявляет в отношении освещения внутренней жизни
США. Какого бы события она ни касалась, — за газетными
аншлагами, передовыми статьями, информациями явственно
чувствуется направляющая прессу рука всемогущей
«Национальной ассоциации промышленников» \
Всегда и при всех обстоятельствах американская пресса в
своем большинстве становится на ту точку зрения, которую
занимают всемогущие короли бизнеса.
Приведу два характерных примера.
В октябре 1946 года американские «мясные короли»
организовали «мясную забастовку», отказываясь продавать
мясо до тех пор, пока правительство не отменит контроля над
ценами. Трумэн поспешил капитулировать перед владыками
боен, и цены сразу резко поднялись. В результате
потребители понесли жестокий урон, а «мясные короли» нажили
1 «Национальная ассоциация промышленников», по свидетельству
Дж. Сельдеса в книге «Тысяча американцев», осуществляет контроль над
прессой через «Национальную ассоциацию издателей» и «Американскую
ассоциацию газетных издателей». Обе они охватывают ежедневные
газеты тиражом в 50 миллионов экземпляров и журналы — еженедельные
и ежемесячные — тиражом в 100 миллионов. Многие стороны
деятельности этих ассоциаций засекречены, особенно тогда, когда они
организуют ту или иную кампанию в масштабе всей американской прессы —-
очередную атаку на СССР, поход против «красных», кампанию против
профсоюзов.
Крикливые адвокаты американской прессы любят распространяться на
тему о том, что издатели будто бы «не вмешиваются» в газетные дела
и что американский журналист волен писать все, что ему вздумается.
Эти рассуждения опроверг не кто иной, как... Сульцбергер, газетный
магнат, издатель «Нью-Йорк тайме». Выступая с лекцией перед нью-
йоркскими учителями в 1945 году, он заявил буквально следующее: «Как
210
ЮРИИ ЖУКОВ
новые миллионы. Как же осветила этот эпизод американская
пресса?
Нельзя сказать, чтобы газеты замолчали искусственно
вызванный монополистами «мясной голод»: уж слишком остро
чувствовал cp-едний американец на собствениой шкуре
результаты происков мясоторговцев-оптовиков. «Сан» даже дала
передовую под заголовком «Политический шторм потрясает
нацию в результате нехватки мяса». Газеты были переполнены
сенсациями одна другой хлеще.
Вот некоторые заголовки из «Нью-Йорк тайме»,
относящиеся к этим дням: «Владелец ресторана «Куинз»,
обеспокоенный положением с мясом, бросается с Бруклинского мое га и
остается в живых», «Охотники за мясом пробираются в
деревушку Джерси», «Вор в лавке мясника нашел все шкафы
пустыми», «Китайские гости едят говядину в городском
ночлежном доме» (под этим заголовком была помещена
информация о том, что несколько китайских полицейских чиновников
пробовали мясо в муниципальном ночлежном доме на Ист-
стрите, 25).
«Нью-Йорк геральд трибюи», соперничающая с «Нью-Йорк
тайме», поместила душераздирающий репортаж под
заголовком: «Пароход «Стелла полярис» прибыл; 106 человек мрачно
прощаются с мясом». Репортер живописал ужас богатых
туристов, сошедших на берег после девятнадцатидневкого
путешествия по Караибскому морю и столкнувшихся с
«трудностями жизни» в Нью-Йорке, лишенном мяса. Специальный
корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн» Джек Уиркли,
каждому сообщению которого редакция предпосылает
напоминание о том, что он порхает по стране в двухмоторном
самолете «Локхид Лодстар», раздразнил воображение читателей,
рассказав, как некий владелец ранчо угостил его ростбифом,
«огромным, как медицинбол».
Но тщетно вы пытались бы найти в этих грудах телеграмм,
очерков, статей хотя бы упоминание, хотя бы намек — почему
же все-таки в стране, располагающей величайшим в мире
поголовьем скота, вдруг разразился «мясной голод». Газеты пред-
и в каждом другом бизнесе, у нас в «Нью-Йорк тайме» имеются своя
должностные лица, свой директорат и свои держатели акций. Как и в
каждом другом бизнесе, у нас имеется президент или председатель
правления. В нашем специфическом деле должность издателя газеты
также связана с большой ответственностью. Он имеет право найма
главного администратора. Он вправе поместить что-либо в газете или изъять
из нее что-нибудь по своему желанию. А в «Нью-Йорк тайме»
должности издателя, президента и председателя правления — все эти должности
возложены на меня одного (!)» («Газета, как она делается и ее
значение». Сборник лекций, стр. 176).
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
211
почитали умалчивать о том, кто является подлинным
виновником этой колоссальной торговой аферы. Невидимая рука
«Национальной ассоциации промышленников» прикрыла
спекулянтов мясом стальным щитом. А наименее разборчивая в
средствах пропаганды печать Херста без всякого зазрения совести
заявила, что мясо исчезло... через ЮНРРА «в кладовых
русских и их сателлитов».
Наконец правительство капитулировало перед
спекулянтами мясом, и вся эта дикая шумиха улеглась под
аккомпанемент торжествующих газетных аншлагов: «Цены на мясо
подходят к предельно высокому уровню».
Прошло менее двух месяцев, и новое событие взбудоражило
американцев: забастовали шахтеры. Как же откликнулась
пресса на это событие? Конечно, оно было освещено не менее
широко, чем недавняя «мясная забастовка». Конечно, этой
теме были посвящены первые страницы всех газет. Но весь
характер сообщений, их тон, их политическая направленность
были совершенно иными. Если в октябре газеты, состоящие в
найме у монополий, предпочитали ходить вокруг да около
событий, всячески «обыгрывая» лишь забавные сенсационные
детали, то теперь их хриплые от натуги голоса слились в
единый грозный гул — они орали на шахтеров, угрожали им,
предупреждали, обвиняли их во есех смертных грехах и
требовали принятия самых жестоких мер по отношению к
«виновным». В то же время газеты избегали упоминаний о причинах
забастовки и о том, чего требуют шахтеры...
Такая тактика трестированной американской прессы, при
всех обстоятельствах остающейся верным цепным псом своих
хозяев, не могла в конце концов остаться незамеченной
читателем. Авторы уже упомянутой мной книги «Ваша газета»
не без оснований пишут:
«В настоящее время газеты, оставаясь все более
мощными, утратили свою руководящую роль. Читатель уже не ищет
в них совета и мудрости для принятия крупных решений.
Газета находится на подозрении у миллионов американцев...
В троллейбусах, в метро, по пути на работу, торопясь
домой, читатели начали роптать: «Нельзя верить тому, что
читаешь в газетах. Они гнут свою линию». Многие скатились к
цинизму и стали пожимать плечами. Другие писали
негодующие письма в редакцию. Третьи перестали серьезно
относиться к газетам и начали считать печать просто средством
развлечения.
Сегодня многие читатели относят газеты к той же
категории, что и кино, серийные радиопередачи или бейэбольные
матчи. Они пропускают передовые статьи, хихикают над юмори-
14*
212
ЮРИИ ЖУКОВ
стическими рисунками, бросают беглый взгляд на рекламы,
отбрасывают газету в сторону и бегут к себе на завод или в
контору...»
При всем том, однако, было бы ошибкой недооценивать
роль американской реакционной прессы, продолжающей
воздействовать на миллионы читателей медленно, исподволь,
роняя в их сознание каплю за каплей яд лживой
пропаганды.
Предводителем американской реакционной печати
является, по всеобщему признанию, «Нью-Йорк тайме», газета
виднейшего газетного дельца Сульцбергера. Поэтому о
деятельности этой газеты мне хотелось бы здесь рассказать
подробнее.
Работники «Нью-Йорк тайме» любят похвалиться тем, что
в США никакая другая газета не приближается к нью-йоркской
«Тайме» по объему информации и по разгаетвленности
заграничной корреспондентской сети. Действительно, на первый
взгляд кажется, что многостраничные номера «Нью-Йорк
тайме» содержат в себе огромное количество разнообразной
информации. Но в действительности под видом «информации»
газета преподносит читателю дезинформацию, попросту
говоря, клевету. Форма информации при этом служит
своеобразным камуфляжем.
Член научно-исследовательского института общественных
наук при Гарвардском университете Мартин Крисберг
выполнил большую и кропотливую исследовательскую работу — он
подверг анализу все информационные сообщения и передовые
статьи о Советском Союзе, появившиеся в «Нью-Йорк тайме»
с 1917 года по май 1946 года. Сообщения и статьи,
посвященные СССР, статистически обрабатывались автором за каждую
неделю в отдельности. При этом анализу подверглись четыре
элемента: тематика сообщений и статей, внимание, уделенное
им газетой, приемы подачи информации и анализ
взаимосвязи информации и передовых статей.
Публикуя результаты этой работы в журнале «Паблико-
пинион куотерли», Крисберг счел нужным подчеркнуть, что он
исходил из того, что «Нью-Йорк тайме», по его мнению,
является «самой авторитетной газетой в США» и что она «дает
наилучшую информацию». Тем любопытнее для нас
познакомиться с результатами работы, проделанной человеком, столь
уважительно относящимся к «Нью-Йорк тайме». И вот что он
пишет:
«Информации, выставляющей Советский Союз в
неблагоприятном свете, уделяется больше внимания, чем сообщениям,
выдержанным в дружественном духе... Если газета высказы-
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
213
вается благоприятно о каком-либо явлении в СССР, то всегда
подчеркивается, что это явление положительно лишь в данном
конкретном случае. Когда же речь идет об отрицательных
явлениях жизни в СССР, то они изображаются как пороки,
присущие самой природе советского правительства. В тех
случаях, когда «Нью-Йорк тайме» пользуется неоправданными
заголовками, сгущающими краски выражениями и
сомнительными источниками информации, они постоянно применяются
для создания неблагоприятного в отношении СССР
впечатления. Имеется у «Нью-Йорк тайме» также тенденция к
субъективным оценкам, стремление изображать любую информацию
об СССР как свидетельство переживаемого им острого
кризиса и навязывать читателю ту или иную предвзятую мысль».
За этими осторожными, тщательно подобранными
формулировками буржуазного исследователя кроется разительная
картина. Начнем с того, что в годы гражданской войны эта,
по мнению Крисберга, «самая авторитетная в США» газета
шесть раз сообщала публике, что Петроград капитулировал,
три раза, чго он находится накануне сдачи, дважды, что он
сожжен дотла, дважды, что там полная паника, и шесть раз,
что в Петрограде вспыхнул мятеж против большевиков. В
годы мирного социалистического строительства «Нью-Йорк
тайме» продолжала пропагандировать ту мысль, что
«советский строй потерпит фиаско». «Этот мотив, — пишет Крис-
берг, — получил отражение в сообщениях о несостоятельности
методов большевиков, о невыполнении пятилетних планов, а
также в тех сообщениях, где высказывалось предположение,
что советский режим изменяется под влиянием идей,
занесенных из западных государств, в особенности из США».
Даже в годы второй мировой войны, когда СССР и США
являлись союзниками, «Нью-Йорк тайме» не изменила
предвзятого отношения к нашей стране. Анализ, произведенный
Крисбергом, показывает, что «чувство единства с советским
народом», возникшее у американского читателя под влиянием
сообщений о победах Советской Армии над фашистами,
«было до некоторой степени ослаблено той проводившейся во
многих сообщениях идеей, что действия Советского Союза
определялись его собственными интересами, которые не всегда
совпадали с американскими». Сообщения о стойкости советских
воинов преподносились в таком духе, что эта стойкость
«могла быть истолкована и в том смысле, что
русские—воинственный народ и что против них необходимо принять меры
предосторожности».
После окончания войны «Нью-Йорк тайме» резко усилила
публикацию антисоветских статей и сообщений. Эти «небла-
214
ЮРИЙ ЖУКОВ
гоприятные по отношению к СССР сообщения», как деликатно
именует их Крисберг, уже во время Парижской мирной
конференции 1946 года составляли до 84 процентов всей
информации об СССР. При этом, как признает тот же Крисберг,
«при подаче информации об СССР неточность (!) в
сообщениях «Нью-Йорк тайме» постоянно приобретает антисоветскую
направленность». Американский исследователь добавляет, что
«у «Нью-Йорк тайме» имеется склонность подчеркивать в
своей информации кризисный характер событий,
происходящих в Советском Союзе... События, происходившие после дня
победы над Германией, постоянно изображались как кризис
в отношениях между США и Советской Россией».
Из своих пространных исследований Крисберг делает
вывод, который заслуживает быть приведенным здесь:
«Информация «Нью-Йорк тайме», вероятно, должна заставить
читателей считать, что конфликт с Советским Союзом возможен...
Тенденция «Нью-Йорк тайме» подчеркивать именно
«кризисные» сообщения и отодвигать на задний план другую информа-
цию о Советском Союзе и русском народе должна
способствовать тому, что в сознании читателя разногласия между
Советским Союзом и США всегда будут на первом плане.
А при сухом фитиле и летающих вокруг искрах всегда
возможен пожар.
Наконец у читателей должно сложиться убеждение, что
конфликт с Советской Россией был бы вполне оправдан».
Таков недвусмысленный вывод, к которому логика
событий и фактов привела даже столь благожелательно
настроенного но отношению к «Нью-Йорк тайме» буржуазного
исследователя, как Крисберг.
К этому остается добавить, что «Нью-Йорк тайме» служит
верой и правдой американской реакции и в вопросах
внутренней политики. Газета не скрывает своей зоологической
ненависти к прогрессивным силам страны. Она боролась против
Рузвельта. Она занимает последовательно враждебную
позицию в отношении рабочего движения. На ее страницах не раз
появлялись достаточно циничные советы предпринимателям,
вроде такого: «Некоторая безработица — превосходное
лекарство от многих социальных бедствий. Когда не удается
воздействовать на рассудок и на производственную дисциплину,
приходится апеллировать к желудку».
Известно, наконец, что на протяжении многих лет «Нью-
Йорк тайме» усиленно разжигала расовую ненависть. Как
говорят американские журналисты, предшественник Артура
Сульцбергера — Адольф Оке, который в 1896 году приобрел
«Нью-Йорк тайме», когда она влачила жалкое существование,
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
215
«не мог отделаться от негрофобии, которую он перенес на
север из Чаттануга».
Его преемник Артур Сульцбергер всячески делает вид,
будто бы теперь «Нью-Йорк тайме» стала «менее
тенденциозной», что она «рассматривает многие проблемы «в значительно
более широком аспекте», более терпима к мнениям других и
«не расположена травить красных». Но в газетном деле, как и
во всяком ином, о людях следует судить не по словам, а по
делам, не по декларациям, а по фактам. А факты таковы, что
и в вопросах внешней политики и в вопросах внутренней
жизни США «Нью-Йорк тайме» остается на крайнем правом
фланге. Мы видели это в дни пребывания в Нью-Йорке, изо дня в
день наблюдая важнейшие события и видя, как освещает эти
события «Нью-Йорк тайме»...
Осенью 1946 года нам довелось побывать в редакции и
типографии этой газеты.
Высокий и тонкий, как нож, треугольный небоскреб «Нью-
Йорк тайме» замыкает площадь «Тайме-сквер»,
находящуюся в самом центре Манхеттена. Влево и вправо расходятся
Бродвей и Седьмая авеню, стиснутые высокими,
многоэтажными домами, зажатые громоздкими рекламами,
ослепленные миганием тысяч ярких огней. Небоскреб «Нью-Йорк
тайме» на высоте шестого этажа опоясан лентой
электрогазеты. Круглые сутки вдоль фасада по всем трем сторонам
дома бегут электрические буквы, возвещающие последние
новости. Но сама газета делается не здесь, — небоскреб занят
лишь рекламными подсобными конторами газеты. Редакция и
типография «Нью-Йорк тайме» помещаются в другом
многоэтажном доме, стоящем тут же, поблизости, в тихом
невзрачном переулке.
Пройдя через низкий, мрачный, плохо освещенный
вестибюль, мы поднялись на лифте «и оказались в гигантском,
казенного вида, голом зале, напоминающем заводской цех. В этом
зале помещается вся редакция «Нью-Йорк тайме». Самая об-
становка властно напоминает, что перед нами не очаг
творческой, живой общественной мысли, а предприятие особого
рода — завод консервированных идей, которые фабрикуются
здесь применительно к полученному заказу и тут же, без про^
модления, выбрасываются на рынок.
Весь производственный процесс здесь идет, словно по
конвейеру, как на любом американском заводе массового
производства. При этом готовые изделия, прошедшие обработку на
редакционном конвейере, приобретают все качества, присущие
товарам данной фирмы — фирмы «Нью-Йорк тайме».
Корреспонденции в американских газетах строятся весьма
216
ЮРИП ЖУКОВ
своеобразно. Их основное содержание излагается в
многоэтажных заголовках. Несколько подробнее существо новостей
сообщается во вступительном абзаце корреспонденции,
который набирается крупным шрифтом. Второй и третий абзацы,
набранные помельче, содержат некоторые подробности. И,
наконец, остальная часть корреспонденции, набранная петитом,
содержит в себе обстоятельное изложение всех деталей.
В зависимости от времени и желания читатель либо прочтет
всю корреспонденцию, либо познакомится со вступительными
абзацами, либо пробежит глазами только заголовки.
Обязанности редакторов информации и их помощников,
сидящих за большим подковообразным столом, в том и
состоят, чтобы готовить соответствующим образом те газетные
блюда, которые будут предложены читателю. Они должны в
предельно короткий срок препарировать материалы,
полученные редакцией, сформулировать вступительные абзацы,
оснастить корреспонденцию кричащими заголовками.
Но задачи редакторов информации h их помощников
отнюдь не исчерпываются технической обработкой
поступающих материалов. Их функции много деликатнее и
сложнее, — именно здесь производится та словесная ретушь,
которая так часто превращает информацию в дезинформацию.
По понятным причинам мы не имели возможности наблюдать
этот деликатный процесс в действии, хотя изо дня в день
читали на страницах газеты совсем не то, что видели и слышали
вокруг. Но вот беспристрастное свидетельство
соотечественника издателей и редакторов «Нью-Йорк тайме» в прошлом
также издателя и редактора, О. Вилларда. В своей книге
«Газета на ущербе» он прямо приводит факт, когда
«редактирование» придало сообщению специального корреспондента «Нью-
Йорк тайме» Герберта Матьюс прямо противоположный смысл.
Герберт Матьюс во время гражданской войны в Испании
прислал оттуда корреспонденцию, в которой доказывал, что
Франко держится на штыках интервентов. Говоря о составе
фашистских частей, брошенных в наступление, Матьюс написал:
«Это были итальянские войска». В газету эти слова не
попали. Вместо них было опубликовано нечто совершенно
противоположное: «Это были войска мятежников и только
мятежников».
Виллард добавляет, что эта скандальная история была
разоблачена газетой «Беттер тайме», издававшейся одно время
нелегально сотрудниками «Нью-Йорк тайме» и часто
разоблачавшей подобные секреты редакции.
Редакторы и их помощники работают напряженно, не
разгибая спины. Над их головами вдоль всего стола тянется
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
217
проволочный конвейер с маленькими корзиночками, — точь-
в-точь как в цехах автомобильных заводов, — от станка к
станку. В эти корзиночки кладут готовые рукописи, и
конвейер уносит их в наборный цех...
Тем временем двумя этажамм выше, в тишине небольших
уютных кабинетов, готовятся так называемые редакционные
статьи, соответствующие передовым статьям европейской
печати. В американских газетах эти статьи печатаются на
внутренних полосах, после новостей. Их задача — дать то
истолкование текущим событиям, какое соответствует
политическому курсу данной газеты. Этим ответственным делом в
«Нью-Йорк тайме» заняты 16 политических редакторов во
главе с известным в Соединенных Штатах публицистом
Чарльзом Мерз. Их фамилии не появляются на страницах газеты:
редакционные статьи печатаются без подписи. Но именно
этот безыменный ареопаг играет решающую роль в редакции,
именно он определяет тон газеты.
Политические редакторы приходят на работу в 11 часов
утра. Они собираются на ежедневное совещание в небольшом
зале заседаний, одну из стен которого занимает гигантская
политическая карта мира. На этой карте отмечены все бюро
и корреспондентские пункты «Нью-Йорк тайме»,
разбросанные по всему земному шару. В Европе «Нью-Йорк тайме»
имеет 50 корреспондентов; в Токио, Харбине, Шанхае, Сингапуре,
Кептауне, Каире, Буэнос-Айресе, Панаме, Монреале, Оттаве
и многих других городах расположены ее бюро.
На совещания приходит обычно хозяин газеты Артур
Сульцбергер. Кроме того, сюда приглашается заведующий
отделом иностранных новостей Джеймс, — он должен быть в
курсе политики редакции, с тем чтобы соответствующим
образом ориентировать корреспондентов и редактировать
получаемую от них информацию. Всем остальным работникам
редакции, в том числе самым ответственным), доступ на совещания
передовиков закрыт.
После того как совещание определит темы редакционных
статей для текущего номера, редакторы расходятся по своим
кабинетам и начинают работать.
Редакционные статьи невелики по размеру — на одной
странице помещается обыкновенно четыре-пять таких
статей; кроме того, на этой же странице обычно печатаются
внутреннее обозрение и соответствующим образом
подобранные так называемые «письма читателей», призванные
подкреплять точку зрения редакции, высказываемую в редакционных
статьях...
Больших сенсаций в этот вечер не было. Ночной редак-
218
ЮРИИ ЖУКОВ
тор Мак Коу избрал симметричный вариант верстки первой
полосы, дающий возможность разместить на равных правах
ряд сообщений. Относительно виднее других он поместил две
информации — одна из них сообщала о предлагаемой
посылке на Балканы комиссии Совета Безопасности, другая—о
крупном футбольном скандале: была разоблачена попытка
подкупа игроков чикагской команды. На этой же странице он
поместил сообщения о том, что Дьюи якобы не намерен
выдвинуть свою кандидатуру в президенты, что аэропорт Ла-Гар-
дия-Фильд нуждается в срочной реконструкции, что Трумэн
предсказывает хорошие перспективы, если... все будут иметь
работу, что в Гарлеме разоблачен трест бандитов,
спекулировавших наркотиками, что сенатор Бильбо не признает себя
виновным во взяточничестве...
Когда план первой полосы был определен и макет передай
выпускающему, Мак Коу со своим заместителем занялся
последующими страницами, размещая материалы отделов на
местах, свободных от объявлений. Объявления, как известно,
занимают в американской прессе примерно половину газетной
площади и обладают приоритетом перед информацией. Их
верстают заранее, причем департамент объявлений
совершенно не связан с редакцией. Даже типографы, верстающие
объявления, принадлежат к другому профсоюзу, нежели те, кто
верстает информацию. Ночному редактору приходится
принять от департамента объявлений макеты, в которых четко
очерчено место, занятое в текущем номере рекламой, и
соответствующим образом лавировать, размещая другие
материалы.
В типографию отправляются, наконец, макеты всех
пятидесяти двух страниц текущего номера.
Типография «Нью-Йорк тайме» оснащена по последнему
слову техники. В условиях жестокой конкуренции газет
чрезвычайно важно выпустить номер газеты раньше других. От
начала верстки страницы до снятия матрицы проходит всего
20 минут, от снятия матрицы до начала печати — 14 минут.
Ротационная машина способна печатать одновременно
80 страниц газеты.
Естественно, что при такой спешке редакция не уделяет
необходимого внимания не только редактированию своих
материалов, но и корректуре. Корректоры читают лишь гранки —
по одному разу — и затем сверяют исправления. Газетных
полос не читают ни редакторы, ни заведующие отделами, ни
ночной редактор, ни его заместители: для этого нехватает
времени. В таких условиях в газете часто встречаются грубые
ошибки, путаются заголовки, попадаются перевернутые строки
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
219
и т. д. На все это здесь смотрят сквозь пальцы—лишь бы
газета вышла побыстрее, лишь бы успеть доставить ее
продавцам раньше, чем доставят свою газету конкуренты!..
Главное, чем озабочена редакция, — это не пропустить
того «или иного важного события и осветить его так, как этого
требует хозяин газеты. В то же время на целый ряд событий
распространяется своеобразное «вето», и вся пресса по
безмолвному уговору обходит их молчанием.
Говоря о поразительной односторонности и пристрастности
американских газет, Виллард в своей книге заметил: «Публика
подчас недоумевает, видя группу репортеров на собрании, а
затем тщетно пытаясь найти хотя бы слово о том, что там
происходило. В лучшем случае можно встретить несколько
жалких строк».
В дни пребывания на сессиях Генеральной ассамблеи нам
не раз вспоминались эти слова, когда мы знакомились с
отчетами американских газет. Вообще говоря, газеты не
скупились на место для этих отчетов. Мы могли из них узнать,
например, какой галстук надел вчера Даллес, какой цветок
был в петлице у британского делегата Шоукросса, как
улыбался сенатор Остин. Мы могли прочесть полные тексты
многих речей, произносившихся в комитетах и подкомитетах.
Но—странное дело! — в ряде случаев газетная машина как
бы отказывала, давала перебой, и напрасно мы искали,
листая одну газету за другой, речь, явившуюся гвоздем
заседания Ассамблеи...
В США любят говорить, о независимости американских
газет, о том, что они якобы публикуют лишь то, что
вздумается их редакторам и сотрудникам. Но каждому читателю
резко бросается в глаза, что большинство американских газет
потчует своих читателей одними и теми же мыслями и притом
часто в одной и той же стандартной упаковке. В дни
Парижской мирной конференции, а затем в дни Генеральной
ассамблеи даже неискушенные читатели видели, как по всей
американской печати волнами проходили одни и те же басни о
«славянском блоке», о «неуступчивой политике русских»,
о «красной опасности» и т. д. и т. п. Характерно, что чем
больше побед одерживала советская дипломатия, тем выше
вздымалась волна антисоветской кампании.
Корреспондент, репортер американской газеты — лишь
поденщики, пишущие то, что приказывает им хозяин. Как
цинично заявил однажды наиболее высокооплачиваемый
корреспондент «Нью-Йорк тайме» Джеймс Рестон: «Журналист,
подобно врачу, имеет возможность отравить своего пациента, с
той лишь разницей, что он можег отравить больше людей и
220
ЮРИЙ ЖУКОВ
сделать это быстрее, чем врач». Дело хозяина и редактора
отдать этому наемному отравителю соответствующий приказ.
— Газета представляет собой коммерческое предприятие,
и те, кто выполняет в ней профессиональную работу, являются
наемными работниками, подчиненными администрации
фирмы. Это основное, что надо помнить, говоря о печати, — учит
видный деятель американской журналистики Луис М. Лайонс,
хранитель так называемого «фонда Нимэна»,
предназначенного для «повышения квалификации» специально
подбираемых журналистов.
Когда говоришь с американскими журналистами обо всех
этих вещах, столь неприглядно характеризующих моральный
облик печати США, они пробуют отшучиваться.
— Вам трудно понять нашу специфику, — говорил мне
один репортер в кулуарах Ассамблеи, — для наших газет
главное — это сенсация, необыкновенность,
экстраординарность. У нас есть старая поговорка: «Газетная информация —
это случай, когда человек укусит собаку». Понимаете, если
собака кусает человека, в этом нет ничего неожиданного,
необычного, сенсационного. А вот если вы напишете, что
человек укусил собаку, это уже можно печатать!..
— А вам не приходило в голову, что при таком методе
работы сама газета становится на четвереньки и начинает
лаять? — вмешался мой сосед, югославский журналист. — И не
кажется ли вам, что читатель в конце концов станет
сторониться такой газеты, боясь, как бы его не искусали?
Наш собеседник вежливо улыбнулся и... быстро переменил
тему разговора.
Было бы неправильно, однако, представлять себе дело
таким образом, что представители прогрессивной общественности
Соединенных Штатов вообще лишены возможности
высказываться на страницах печати. В Соединенных Штатах
существует известное количество прогрессивных газет и журналов,
несущих в массы правдивое слово. К их числу в первую
очередь должны быть отнесены «Дейли уоркер», некоторые
журналы, довольно многочисленная профсоюзная пресса. Все эти
газеты и журналы выступают за укрепление сотрудничества
великих держав, за последовательное соблюдение
международных соглашений, против авантюристских замыслов
монополистических кругов Соединенных Штатов, мечтающих о
мировом господстве.
Однако при всем этом следует помнить, что в США на пути
журналиста, общественного деятеля, которые считают своим
долгом смело говорить правду народу, которые не желают
итги на компромисс со своей собственной совестью, лежат
ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
221
огромные препятствия. Им не дают ходу, их преследуют, им
грозит не только разорение, но и тюрьма. Вот пример,
убедительно показывающий, как выглядит на практике пресловутая
американская «свобода печати»: в 1945 «году журнал «Амерэй-
ша» напечатал материалы, в которых была подвергнута
критике политика США в отношении Японии и Китая.
Немедленно после этого редактора журнала, его помощника и
некоторых других работников посадили в тюрьму. Их объявили...
шпионами. Обвинение в шпионаже было голословным, и
министерству юстиции в конце концов пришлось освободить этих
журналистов. Но дело было сделано — журнал как следует
припугнули...
Трагическую судьбу честного американского журналиста,
не желающего торговать своим пером, прекрасно показал в
своей пьесе «Русский вопрос» Константин Симонов.
Я хотел бы привести перекликающийся с этой историей
пример, взятый из жизни. Многие знают имя прогрессивного
американского журналиста Иоганнеса Стила. В годы войны Стил
был радиокомментатором. Он говорил правду своим
радиослушателям, и именно это не нравилось владельцам
радиокорпораций. После окончания войны Стила уволили, ему не дали
возможности продолжать свою работу на радио. Стил
оказался в очень затруднительном положении: он лишился аудитории,
к которой раньше мог обращаться. Перед ним стоял выбор —
либо покориться воле хозяев и говорить то, что им угодно, либо
остаться верным своей совести. Стил выбрал второй путь.
Он начал издавать свой собственный небольшой бюллетень.
Не обладая крупными средствами, в Соединенных Штатах
очень трудно, почти невозможно быть издателем. Но Стил все
же продолжает борьбу. Его бюллетень расходится в семи
тысячах экземпляров: его подписчиками являются некоторые
газеты, перепечатывающие обозрения Стила.
Таких людей среди американских журналистов
меньшинство. Но эти люди честно делают свое дело. Это их имел в
виду автор уже упоминавшейся мною книги» «Газета на ущербе»
Освальд Виллард, когда писал:
«Сегодня, каким бы острым ни было его перо, никто, живя
и работая на чердаке, не может рассчитывать на то, что голос
его будет услышан аудиторией, которая на 90 миллионов
человек превосходит американскую аудиторию времен Гаррисона
и Линкольна и которая по крайней мере на 200 лет отстала от
них по способности понимать и воплощать основные принципы
американской свободы. И все же какой-нибудь будущий
пророк сумеет заставить услышать себя, если не через
ежедневную, то через еженедельную газету, если не через еженедель-
222
ЮРИЙ ЖУКОВ
ную газету, то через памфлеты, как это делал Александр
Гамильтон, если не через памфлеты, то своими выступлениями на
базарной площади. Как бы то ни было — правда будет
услышана».
„СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ"
В какую бы страну вы ни поехали, в каком бы городе
ни побывали, вам повсюду встретятся одни и те же лица: с
огромных, пестрых рекламных щитов в вас будет лениво и
словно нехотя целиться из ковбойского револьвера хмурый
Гарри Купер; вас будет есть глазами лихая Рита Хэйворт,
прозванная «анатомической бомбой»; простодушно и печально
улыбнется вам миловидная Ингрид Бергман. Да и весь набор
рекламных кадров окажется поразительно схожим: и на
Бродвее, и на Пикадилли, и на Елисейских полях — везде вы
увидите одно и то же: мистер и мисс целуются, мистер душит мисс,
мистер и мисс танцуют, мисс убивает мистера. И на всем этом
фабричная марка: «Сделано в Голливуде».
Так было как будто бы и вчера, и позавчера, и всегда.
Менялись только имена. Кинематограф безжалостен и не
терпит морщин на лицах своих «звезд». Голливудские стандарты
вошли в пословицу. Голливудские концерны давно уже стали
диктаторами на мировом кинорынке. К этому можно было бы
добавить лишь то, что после войны диктатура Голливуда
приобрела еще более резкий и циничный характер. Агенты
американских кинокомпаний скупают на корню европейские студии,
кинопрокатные конторы, хронику, сценарии, режиссеров,
актеров.
— Скоро мы все будем батраками у дяди Сама, — с
горечью сказал мне как-то один из талантливых французских
кинорежиссеров — Дюртен. — Посмотрите, даже в Париже из
пятидесяти прокатных фирм восемь уже принадлежат
американцам. И это не считая так называемых «независимых
американских прокатных домов»! Они создали у нас и свои
дублнжные студии, способные выпускать 40 фильмов в год на
французском языке. Продвинуть в прокат наш французский
фильм теперь очень нелегкое дело. Неудивительно, что
многие уезжают в Голливуд. Поймите, легко ли нам!
«встречать сейчас нашего Ренэ Клэра, — вы, наверное, помните его
ленту «Под крышами Парижа», — так вот, легко ли нам
встречать Ренэ Клэра, который приезжает к нам снимать фильм нз
французской жизни как представитель американского кино?
Французские киноработники с негодованием рассказывали
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ» 223
о превращениях французского фильма «День наступает». Аме^
риканцы купили его и положили на полку, а сами сняли новую
ленту по сценарию этого фильма и пустили ее в прокат. Еще
более .разительную историю мне рассказывали в Лондоне:
американцы купили английский фильм «Газовый свет» и, даже не
утруждая себя пересъемкой, перемонтировали его и выпустили
на английские же экраны под новым названием «Убийство
в Сортон-сквере» как американский фильм.
Торговля фильмами—прибыльное дело. Одна лишь
Великобритания платит Голливуду 20 миллионов фунтов стерлингов
в год. Некоторые кинокартины, обошедшие весь мир,
буквально озолотили удачливых экспортеров. «Поющий дурак» дал
братьям Уорнер 5 миллионов долларов; Уолт Дисней на своей
«Снегурочке» заработал 8 миллионов, а Сельзник выручил за
фильм «Ушедшие с ветром» баснословную сумму — 32
миллиона долларов.
В 1946 году киномагнаты Голливуда получили самые
большие прибыли, какие когда-либо знала история кинематографа.
Орган кинопромышленников «Фильм дейли» сообщил, что семь
крупнейших компаний Голливуда: «Метро — Голдвин — Май-
ер», «Парамоунт», «XX век — Фокс», «Юниверсал», «Юнайтед
артист», «Братья Уорнер» и «РКО» получили в этом году
свыше 100 миллионов долларов чистого барыша. Огромный
рост прибылей «Фильм дейли» объясняет тремя причинами:
во-первых, отменен налог на сверхприбыль; во-вторых,
значительно повысились цены за вход в кино; в-третьих, число
посетителей кинотеатров возросло до 100 миллионов в -неделю.
Голливуд выбросил на рынок в 1946 году 487
полнометражных художественных фильмов. Из них на долю так
называемой «большой восьмерки» (в нее, кроме перечисленных
выше фирм, входит еще «Колумбиа пичерс») приходится 337
кинокартин. Остальные художественные полнометражные фильмы
были выпущены группой двадцати пяти так называемых
«независимых продюссеров». В их рядах — Сэмюэл Голдвин,
Давид Сельзник, Франк Капра и другие.
Но фильм не обычный товар. С помощью этих мотков
целлулоидной пленки можно воздействовать не только на
карманы, но и на психику покупателей. Это обстоятельство
всегда хорошо учитывали в Соединенных Штатах, но
особенно с ним считаются после войны. Достаточно сказать, что
государственный департамент сейчас непосредственно
вмешивается в дела кинокомпаний, помогая им продвигать товар
на заокеанские рынки и прямо указывая, какие фильмы
следует демонстрировать на зарубежных экранах и какие не
следует.
224
ЮРИИ ЖУКОВ
Летом 1946 года, когда французское правительство, по
условиям соглашения об американском займе, подписанного
Блюмом, было вынуждено снять барьеры и отдать три четверти
своих экранов Голливуду и когда в Париж сразу же хлынули
200 американских фильмов, французские газеты опубликовали
следующую многозначительную и совершенно
недвусмысленную информацию:
«Лучшей защитой против коммунизма является
распространение американских фильмов. Таково мнение представителя
государственного департамента, только что возвратившегося
в Америку из Европы, где он посетил ряд стран, изучая
возможности проникновения в них американских картин. В то же
время этот чиновник заявил, что было бы недопустимо
показывать в Европе такие фильмы, как «Табачная дорога» '. Этот
чиновник выразил уверенность, что правительства большинства
стран Западной Европы облегчат экспансию американских
фильмов, чтобы преградить дорогу коммунизму» (цитирую по
«Самди Суар» от 8 нюня 1946 года. —Ю. Ж.).
Конечно, «Табачная дорога» не прибавит зрителю уважения
к пресловутому «американскому образу жизни». Не вызовет
симпатий к нему и такая лента, как «Лучшие годы нашей
жизни», выпущенная осенью 1946 года Вильямом Уайлером,
беспощадно правдивая, талантливая картина о трагической
судьбе демобилизованных американских солдат. Такие фильмы до
недавнего времени еще проскальзывали изредка на внутренни
американский экран,—они давали большой доход, и потом
их до поры до времени терпели скрепя сердце те, кто контре
лирует кинорынок.
В 1947 году, как известно, фильм «Лучшие года нашей
жизни» был объявлен «красным», его авторы были привлечены к
ответственности «Комиссией по неамериканской активности»
(позже я скажу об этом фильме подробнее). Но на внешний
рынок, за границу, дорога таким картинам заказана. Они
не для экспорта. Пусть лучше европеец умиляется
бесстрашными американскими сыщиками, для которых раскрыть любое
преступление все равно, что раз плюнуть, пусть он смотрит на
ножки американских герлс или трепещет перед грозной силой
американской военной техники.
Мне вспоминается один не совсем обычный киносеанс,
который был дан в Париже в разгар дебатов на Мирной
конференции. В девять часов утра 12 августа перед очередным засе-
1 «Табачная дорога» — нашумевший в США фильм Джона
Форда по одноименной книге Эрсюина Колдуэлла, повествующей о
бедственном положении разоряющихся американских фермеров.
Стачка. Пикет забастовщиков.
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
225
данием все делегаты конференции, за исключением
представителей СССР, были приглашены в роскошный кинозал,
принадлежавший знаменитому американскому киноконцерну
«Парамоунт». В вестибюле этого гигантского театра,
представляющего собой своеобразный американский
киносеттльмент в Париже, гостей встречали снисходительно вежливые
хозяева; предупредительные служители в темноголубых
униформах, осторожно ступая по мягким пушистым коврам,
провожали их и усаживали в удобные кресла. Погас свет, и
дрожащий дымчатый кинолуч высветил на экране вступительные
титры фильма: «Испытание атомиой бомбы в Бикини».
«Лента доставлена в Париж специальным самолетом».
Но это была не просто хроника. Кадры, демонстрирующие
взрыв атомной бомбы, были многозначительно перемешаны
с кадрами японского документального фильма, показывающего
последствия взрыва атомной бомбы в Хиросима, и... с кадрами,
заснятыми на Парижской мирной конференции. Возвестив, что
«атомная бомба изменила ход цивилизации», диктор странно
ликующим голосом повествовал о том, как страдали
обожженные женщины и ослепшие дети в Хиросима. В
заключение он посоветовал зрителям строить города под землей, в
случае если не будет принят план Баруха.
Демонстрация фильма длилась ровно десять минут. Потом
в зале зажегся свет, к подъезду были поданы автомобили, и
хозяева проводили гостей. Все было рассчитано так, чтобы
делегаты не опоздали к началу заседания...
Американские дельцы привыкли работать с большим
размахом. Годовой бюджет кинопроизводства в США превышает
270 миллионов долларов. Только на строительство кинотеатров
в Соединенных Штатах было затрачено около 2 миллиардов
долларов. За время войны американские студии поставили
более 2 тысяч картин, не считая кинохроники, короткометражных
фильмов и т. д. Тем интереснее проследить, как меняется после
войны тематика американского кино и как направляется и
регулируется этот гигантский целлулоидовый конвейер,
занимающий свое четко определенное место в американской
политике.
«Идеология» Голливуда полуофициально контролируется
«Ассоциацией кинематографии Америки», становым хребтом
которой является упомянутая выше «большая восьмерка». Эта
ассоциация не только обеспечивает своим членам
господствующее положение на мировом рынке. Она осуществляет так
называемую «самовведенную цензуру». Эта цензура призвана
«ограничить показ сцен аморальных, непристойных,
антирелигиозных, оскорбляющих национальное достоинство* — так
15 Вот она, Америка
226
ЮРИИ ЖУКОВ
сказано в разработанном в 1934 году «Кодексе
кинопродукции». Функции блюстителя «Кодекса кинопродукции» и
присвоила себе «Ассоциация кинематографии Америки».
Формально кинокомпании не обязаны представлять
ассоциации сценарии на предварительный просмотр. Но всем
известно, что ассоциация, пользуясь допускающим самое широкое
толкование «Кодексом кинопродукции», может наложить свое
«вето» на любой фильм, не отвечающий политическим
взглядам ее руководителей. Если же на вступительных титрах
фильма не будут красоваться инициалы ассоциации—МРАА,
он не найдет сбыта на кинорынке: ведь система проката
монополизирована и находится в руках той же ассоциации. Поэтому
предприниматели предпочитают не рисковать и отказываются
разговаривать со сценаристами и режиссерами до тех пор,
пока сценарий не одобрит ассоциация.
Мне приходилось не раз беседовать с работниками
американского кино. И всякий раз они весело смеялись, когда речь
заходила о том, борется ли ассоциация с аморальными и
непристойными тенденциями Голливуда.
— Пройдитесь по Бродвею и посмотрите рекламные кадры!
Есть ли там что-либо, кроме непристойности? — говорили
они. — На такие вещи смотрят сквозь пальцы. Но попробуйте
добиться согласия на сценарий, в котором будет правдиво
показана сцена стачки, были бы осуждены линчевание,
злоупотребления в полиции, в котором была бы разоблачена
реакционная роль церкви. Фильмов на эти темы в Соединенных
Штатах нет и быть не может!..
— Ну, а как же «Табачная дорога»? — спрашивал я.
— «Табачяая дорога»? Но, во-первых, это было в тысяча
девятьсот сорок первом году, а тогда среди
кинопредпринимателей считалось даже модным щеголять левизной, а во-вторых,
ведь в «Табачной дороге» не затрагивались непосредственно
интересы крупных промышленных монополий.
Политическое кредо воротил «Ассоциации кинематографии
Америки», этой крупнейшей в мире киномонополии, с
достаточной откровенностью определил руководитель Эрик Джонстон,
бывший председатель торговой палаты США.
— Цели Голливуда, — сказал он, — сейчас уже не
ограничиваются старанием дать кинозрителю возможность
развлечься. Кино заняло сейчас место наряду с прессой и радио, как
одно из самых мощных средств распространения
информации и просвещения, и выполняет сейчас важную миссию>
эффектно показывая историю Америки как арсенала
демократии.
Джонстон подчеркнул при этом, что Голливуд сейчас боль-
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
227
ше заинтересован в пропагандистской стороне дела, «нежели
в том, чтобы выгодно продавать фильмы».
И надо сказать, что те, кто ведает экспортом американских
фильмов, весьма последовательно проводят в жизнь эту линию.
Когда венгерские кинопрокатчики, например, летом 1947 года
захотели показать правдивый фильм «Песнь о России»,
поставленный в Голливуде в годы войны, американские представители
категорически воспротивились этому. А в Финляндии,
примерно в это же время, мне довелось увидеть омерзительный
и глупый фильм «Балалайка», состряпанный фирмой
«Метро — Голдвин — Майер» с помощью давно забывших Россию
белогвардейцев. В этом фильме страшные, бородатые
революционеры в царском подполье печатают листовки под музыку
балалаек и пение «Эй, ухнем!»; дамы и кавалеры из высшего
света пьют в трактире за высокой стойкой чай из огромного
самовара и шампанское, закусывая черной икрой; влюбленные
ставят свечки перед образами в кладбищенской церкви, —
свечи эти выбрасывает им, словно бутылки «Кока-Кола», автомат,
в щелочку которого они опускают монетку; еврей-террорист
стреляет в благородного князя; злые и дикие солдаты бунтуют
на фронте, -не желая сражаться с немцами; в конце концов
измученные русские интеллигенты находят успокоение в
эмиграции, в парижском кафе «Балалайка»...
Такой «показ России» сейчас больше устраивает мистера
Джонстона и его коллег, нежели тот, какой был дан
авторами «Песни» о России» в годы войны...
Однако «Ассоциация кинематографии Америки» — не
единственная организация, осуществляющая идеологический
контроль над кино в Соединенных Штатах. Видную роль в этой
области играет так называемая «Лига порядочности»,
находящаяся под руководством реакционных деятелей некоторых
католических организаций. «Лита порядочности» выступает
в роли своеобразной пожарной команды: в случае если
«Ассоциация кинематографии Америки» пропустит на экраны фильм,
вызывающий нежелательные для американской реакции
отклики зрителей.
«Лига порядочности» организует бойкот таких фильмов.
Ежемесячно она рассылает по тысячам адресов списки
кинокартин, которые считает вредными. Церковь пропагандирует
эти списки и безоговорочно поддерживает бойкот. Приведу
здесь только один пример, достаточно убедительно
характеризующий «Лигу порядочности» и тех, кто ее поддерживает.
Советскому зрителю памятен американский фильм;
«Северная звезда», поставленный в годы войны режиссером Люисом
Майлстоуном. Он мог показаться несколько наивным — Майл-
15*
228
ЮРИИ ЖУКОВ
стоуну нехватало знания партизанской жизни и борьбы, знания
украинского быта. Но в основе авторского замысла лежало
искреннее стремление проникнуть в психологию непокоренных
советских людей, которые, не щадя собственной жизни,
поднимались на борьбу с врагом, и показать эту борьбу. Майлстоун
работал над фильмом с большой энергией, с подлинным
творческим воодушевлением. С таким же воодушевлением работал
и весь коллектив актеров; в частности, один из выдающихся
американских киноактеров, Эндрьюз, создал подкупающий
образ советского летчика, который участвует в создании
партизанского отряда.
Так вот, «Лига порядочности» выступила против этого
фильма, и выступила она с чрезвычайно характерными
возражениями. «Нельзя показывать зверства немцев! — заявила
лига. — Это может развращающе подействовать на молодое
поколение». И еще одно возражение, еще более наглое и
циничное: «Не доказано, что немцы брали кровь у русских детей для
сврих раненых. Нельзя выпускать на экраны фильм, в основе
которого лежит непроверенная версия!»
Лига начала скандальную кампанию против фильма.
Майлстоун был подвергнут травле. К чести американского
кинозрителя надо сказать, что кампания эта никакого успеха не имела.
Фильм «Северная звезда» обошел все экраны Соединенных
Штатов. Владельцы кинотеатров не вняли истерическим
призывам «Лиги порядочности» и отказались снять фильм с
показа— он давал полные сборы и, следовательно, приносил
немалую прибыль...
Но какие же фильмы идут сегодня на экранах
американских кино? Что представляет собой послевоенная
кинематография Соединенных Штатов?
Американская киностатистика распределяет фильмы по
категориям, точь-в-точь как бюро стандартов делит гайки или
болты; вначале идут м!елодрамы: «мелодрама-действие»,
«мелодрама таинственная», «мелодрама-убийства»,
«мелодрама-шпионаж»; потом с теми же дополнительными
рубриками — ковбойские фильмы, драмы, комедии, фарсы:
«фарс-убийства», «фарс-ужас», «фарс — ужас
психологический» и т. п. За последние годы количество фильмов,
посвященных социальным проблемам, сократилось более чем вдвое,
почти не выпускаются сейчас фильмы биографические,
исторические, спортивные. Зато количество бездумных музыкальных
комедий удвоилось. Примерно в той же пропорции
увеличилось количество фильмов об убийствах.
При всей внешней пестроте сюжетов фильмы, сфабрикован-
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕэ
229
ные в Голливуде, обладают в массе своей совершенно
определенной политической направленностью. Деятели профсоюзов
и других прогрессивных общественных организаций
фигурируют в них как опасные подстрекатели, провоцирующие
рабочих на невыгодное для них выступление против
предпринимателя, который якобы больше всего печется о благосостоянии
своих подчиненных. В очень многих фильмах выводятся
сладенькие, паточные образы бедных, кротких работниц, которые
своим терпением и покорностью завоевывают расположение
и даже любовь овоего хозяина или ею сына.
Бизнесмены, за редкими исключениями, показываются как
почтенные, благородные граждане, которым надо подражать. Если
же в фильме и фигурирует бизнесмен-злодей, то авторы
фильма все же старательно подчеркивают, что это не типичный
делец, а случайный для бизнеса человек—вор, мошенник или
бандит. Но даже и в этом случае в Голливуде нередко
производят чудесное превращение: злодей раскаивается под
влиянием красавицы-героини, плачущею ребенка, старухи-матери
и становится честным, преуспевающим- бизнесменом.
С другой стороны, на американской кинопропаганде лежит
явственный отпечаток расизма. Белые американцы — это
мужественные, бесстрашные герои; негры, как правило, либо
слабоумные типы, вызывающие насмешки в зрительном зале, либо
дикие звери, внушающие чувство ненависти; примерно в том же
духе показывает Голливуд индейцев; люди, родившиеся за
пределами США, чаще всего изображаются как
неполноценные.
Особенно вошли сейчас в моду: «мелодрама
таинственная», «фарс-ужас», просто «ужас» и «ужас
психологический». Экраны заполнены привидениями, загадочными
двойниками, таинственными джентльменами, которые на поверку
оказываются пришельцами с того света, чертями, колдунами,
ведьмами.
Сейчас на Западе определенные круги интеллигенции
увлекаются спиритизмом, масонством, гаданьями,
размышлениями о бренности всего земного, и кино множит и расселяет
по всему белу свету модную чертовщину.
В 1947 году фильмы об ангелах и чертях выходили на
первые экраны Нью-Йорка один за другим. Вот фильм Капра
«Это счастливая жизнь» — первая и единственная лента,
быстро созданная прогоревшей «Ассоциацией независимых продюс-
серов»... «Гвоздь» сюжета этого фильма заключается в том,
что ангел-хранитель спасает от смерти отчаявшегося,
доведенного до разорения директора коммунального банка и
заставляет ею сограждан собрать для него достаточно денег, чтобы
230
ЮРИИ ЖУКОВ
с лихвой вернуть долг финансисту-ростовщику и восстановить
благополучие.
Вот ковбойский боевик «Это энают небеса». С неба на
средний запад прибывает архангел Майк (Михаил) узнать,
что здесь творится: бога беспокоят стрельба, драки,
неустройство. Майк приезжает в городок с попутчиком-бандитом, по
которому тут же другой бандит, Дкж Байрон, открывает
огонь.
Ангел определенно начинает симпатизировать Байрону;
бандит начинает воспитывать посланца небес. Коптя над лампой
револьвер Байрона, с которым тот готовится выйти на дуэль
против бандита, Майк докладывает богу:
— Раньше из такой штуки можно было убить одного
человека, а теперь шесть. Я еще не совсем разобрался, в чем тут
дело. Но, по-моему, сердце у Байрона хорошее. Вот только в
голове у нею не все в порядке...
Байрону все время сопутствует чорт — черноглазый паоень
с черными усиками, с демонической усмешкой, в черной шляпе
и в черном костюме. Он все время зажигает опички. Когда
Майк к нему поворачивается, опички тухнут, и чорт
раздраженно дергается. С помощью такого1 «сложного» приема
режиссер стремится показать, что Майк и чорт ведут оорьбу
за душу бандита.
Вражда двух банд разгорается. Соперники поджигают
кабак Байрона, в котором тот пьет вдвоем с чортом. Чорт
невредимым проходит через огонь, бросая Байрона на произвол
судьбы. Его спасает ангел, — он подплывает на лодке к люку под
домом, который построен над ручьем, и открывает ею.
Байрон укрывается у учительницы, которая и любит
Байрона и ненавидит его за бандитизм. «Сложная психологическая
драма» учительницы кончается объятиями. Начинается
опасение души бандита — под влиянием ангела и учительницы он
бросается в огонь и спасает ребенка, искупая свою вину.
Ангел вводит бандита в церковь и заставляет бросить деньги в
кружку. Тот упирается. Ангел дает ему дважды в морду. Это
оказывает благодетельное «влияние — бандит становится
верующим.
— Церковь — это почтовый офис, через который мы
получаем письма из дому, — наставительно говорит ангел бандиту,
беспокойно ощупывающему свороченную набок челюсть.
После долгих перипетий фильм заканчивается
благополучно. Ангел побеждает чорта, бандит становится
респектабельным гражданином. Закончив свою миссию, ангел возносится в
старинной карете на небо. Заключительный кяпп: обращаясь
в болид, карета уносится в космос...
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕэ
231
Не менее широкое распространение получают «фильмы-
ужасы».
Здоровый человек не может смотреть эти фильмы без
чувства гадливости и тошноты. Мне вспоминается, с каким
скандально-шумным успехом шел осенью 1945 года в Лондоне
американский фильм «Потерянный уик-энд», поставленный Уайль-
дером по одноименной книге Чарльза Джэксона, в которой
с тошнотворными натуралистическими подробностями
описываются пять унылых, протекающих в пьянстве дней из жизни
одного алкоголика.
Фильм долго демонстрировался в одном из лучших
кинотеатров британской столицы, и постоянно у кассы торчала
очередь из щеголевато одетых юнцов, склеротических
чопорных джентльменов и дам в мехах. Но вот однажды в этот
кинотеатр заглянули находившиеся тогда в Лондоне
советские спортсмены, — их внимание привлекла длинная очередь,
и они решили, что фильм, которым так интересуются
лондонцы, должен быть любопытным. Как ругались и плевались
потом эти славные, не испорченные буржуазным искусством
ребята!
— Понимаешь, это, наверное, сделал сумасшедший
человек,— доверительно говорил MiHe потом один из них. — Пойми,
целый вечер на экране показывают, что переживает человек,
допившийся до белой горячки, и что ему чудится. Только один
герой во всем фильме, и только одна эта тема! Когда они
показали крупным планом, как подыхает забившаяся в щель
раненая летучая мышь и как по обоям течет ее кровь, меня чуть не
стошнило, А ведь есть же любители таких фильмов! Сидят,
смотрят и жуют апельсины! Чорт знает что!
Весьма распространенный вариант «фильма-ужаса» — это
фильм, натуралистически, во всех деталях рисующий зверства,
садизм. Характерно при этом, что самые чудовищные
преступления обычно показываются на фоне будничной жизни
небольшою американского юрода.
Типична в этом отношении картина «Глубокий сон», в
которой главную роль играет известный артист Гемфри Богарт.
Фильм представляет собой... последовательный показ семи
убийств, которые главный герой старается расследовать в
качестве частного детектива. «Гвоздь» картины —
отвратительные натуралистические сцены избиения детектива. Его увечат
и топчут ногами респектабельные на вид жители небольшого
юродка, тайно торгующие наркотиками и «белыми рабынями».
Осенью 1947 года я читал в нью-йоркских газетах
сообщение о том, что в Голливуде началась подготов-ка к съемкам
биографическою фильма об... известном американском бандите
232
ЮРИИ ЖУКОВ
Аль-Капоне. В газетах писали, что представители одной
кинофирмы уже начали переговоры о постановке картины «Жизнь
Аль-Капоне» с проживающей в Чикаго женой этого негодяя,
тихо закончившего свои дни в уютно обставленной камере
тюрьмы. Как известно, всемогущий «король гангстеров» Аль-
Капоне даже в тюрьме сумел устроиться с полнейшим
комфортом. В переговорах о постановке фильма принимал участие
адвокат, который вел нашумевшие процессы Аль-Капоне.
Голливуд собирается в назидание подрастающему поколению
увековечить память бандита.
В широких масштабах Голливуд продолжает фабриковать
банальные, трафаретные фильмы о ковбоях и индейцах с
погонями, стрельбой и драками, — американцы иронически
называют такие фильмы «лошадиными операми». В этих фильмах
либо ковбой гоняется за индейцами, либо индейцы гоняются за
ковбоями. Единственное отличие «лошадиных опер»,
сфабрикованных в 1946 году, от тех, которые выпускались лет
двадцать назад, состоит в том, что сейчас применяется более
совершенная техника киносъемок. Широко используются, в
частности, цветные съемки, дающие возможность широко
показать прекрасные пейзажи Аризоны, восход солнца в пустыне.
Значительно увеличился выпуск музыкальных киноревю.
Эти дорогостоящие постановочные фильмы, не обладающие
сколько-нибудь серьезным сюжетом, но изобилующие пением
и танцами, пользуются большим успехом у невзыскательною
зрителя, идущею в кино лишь ради того, чтобы немного
развлечься, и приносят большие барыши. Как правило, в
последнее время такие фильмы снимаются в цвете. В них выступают
виднейшие «звезды» Голливуда — певцы и танцоры.
И еще одна особенность, характерная для послевоенной
американской кинематографии, — отмечается неуклонный
рост количества фильмов на... религиозные сюжеты.
Голливуд никогда не славился благочестием. Ею нравы
всегда служили источником пикантных анекдотов. Такими
голливудские нравы и остались. Тем любопытнее, что
после войны Голливуд был заботливо и милостиво принят под
сень сутан «святыми отцами» католической церкви. Именно
католикам американский капитал вверил опеку над идейным
содержанием своей кинематографии.
Выше я рассказывал о деятельности так называемой «Лиги
порядочности». Но реакционные деятели католических
организаций не ограничиваются контрольными функциями в
кинематографии. Они пытаются перейти в наступление и выступить
в роли поставщиков своею собственною «идеологического
товара».
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
233
В качестве католического ииноавангарда в Голливуде
сейчас выступает группа кинодеятелей, к которой принадлежит и
певец легкого жанра Бинг Кросби. Этот певец нажил себе
миллионное состояние на участии в легкомысленных мюзикхоль-
ных обозрениях и музыкальных кинокомедиях. Его
бархатный баритон ежедневно звучит в эфире: Бинг Кросби
постоянный участник всех радиопередач легкой музыки, повсюду
продаются патефонные пластинки Кросби. По данным
налоговой статистики, Бинг Кросби зарабатывает свыше 5 тысяч
долларов в неделю.
После войны выяснилось, что этот популярный герой
легкого музыкального жанра — ярый приверженец католицизма.
Трудно сказать, как примиряется сцена мюзик-холла с
католическим алтарем, но в Голливуде все возможно. И вот Бинг
Кросби специализируется на выпуске полнометражных
игровых фильмов, пропагандирующих католическую церко-вь. Он
выпустил, к примеру, идиллическую картину «Иди по моей
дороге», в которой дал, словно написанный патокой, образ
католического сельского священника. Последняя работа Бинга
Кросби «Ирландская роза Эйби». Этот антихудожественный,
антисемитский фильм вызвал протесты даже рядо-вого
американского кинозрителя. Отдают дань но>вой тематике и
крупные киномонополии, — «Парамоунт», например, выпустил
фильм «Колокола святой Марии».
С католиками успешно соревнуются на кинопоприще
протестанты. Протестантская церковь в США создала специальную
кинокомиссию, которая установила непосредственный контакт
с Голливудом. По ее заказу фабрикуются фильмы, которые
потом сами церковные организации пускают в прокат. Как
сообщил в сентябре 1947 года на страницах «Нью-Йорк тайме»
председатель протестантской кинокомиосии, уже 7 500 церквей
обладают собственными киноустановками и еще столько же
приспособлено для показа фильмов. 10 тысяч протестантских
церквей сдали заказы на кинооборудование. За прокат
фильма в церкви взимается всего десять долларов.
В статье, опубликованной в американском киножурнале
«Скрин райтер» в сентябре 1947 года, сценарист Даймонд
открыто заявил, что современный американский фильм
немыслим без штампов, трафаретных положений и диалогов,
стандартных героев и героинь. Он привел целый ряд любопытных
примеров.
«В исторических фильмах персонажам даются громкие
имена. Если сама картина не может создать соответствующее
настроение, то стараются воздействовать на публику хотя бы с
помощью этих имен. Так, например, на посольском балу в
234
ЮРИИ ЖУКОВ
Вашингтоне двое беседуют друг с другом о приглашенных
гостях:
— А кто тот симпатичный молодой человек, который
танцует с дочерью сенатора? — спрашивает один другого.
— Да это же лейтенант Эйзенхауэр.
Если в фильме выступает талантливый молодой репортер,
подвизающийся в Вирджинии, то непременно оказывается,
что он «пишет любопытные вещи для газеты» и что зовуг его
Марк Твен.
Как появляется на свет музыкальный шедевр? Наш
музыкальный гений в каждой сцене наигрывает одни и те же
четыре ноты и работает такими темпами, что раньше чем через
тридцать лет нельзя ожидать завершения его замысла. Но
вот перед нами новая сцена. Наш маэстро выступает в сопро*
вождении мощного симфонического оркестра. По всей
видимости, он успел за короткий промежуток времени прибавить
к первоначальным четырем нотам еще тысяч двенадцать и
подарить миру шедевр.
Большую роль играет в кино папироса. Ее можно
закуривать самым разнообразным образом и тем самым выражать
различные эмоции—от нетерпения до нимфомании.
Непременным атрибутом кино являются дедовские часы. Они бьют
тринадцать раз перед тем, как кого-то убивают. Они
останавливаются в момент смерти своего хозяина. Ровно двадцать лет
спустя они начинают итти, когда оглашается завещание
покойного. Во многих картинах момент смерти героя отмечается тем,
что тухнут свечи, качаются занавески. Если героиня долго
жила отшельницей и неожиданно влюбилась, ее любимая кана^*
рейка отмечает этот счастливый момент громким щебетанием.
В благодарность за это девушка открывает клетку и
выпускает птичку на свободу.
Концовки так трафаретны, что их сравнительно легко
классифицировать. Счастливая парочка обычно рука об руку идет
по дороге лицом к заходящему солнцу. Они могут также рядом
ехать верхом или даже вдвоем сидеть на одной лошади.
А как часто вы слышите в кино следующие заявления,
которыми обычно обмениваются любящие друг друга персонажи
картин: «Я люблю вас потому, что вы—это вы», «Они играют
нашу песню»,« Я не сомневаюсь, что Роджер поступил бы
именно так», «Вот то, что придает мне мужество», «С вами я познал
подлинное счастье», «Вы вернулись — и это самое главное»,
«Я знаю, что вы не хотите об этом говорить», «Я был слеп»,
«Он меня так испортил, что я уже не гожусь для другого
мужчины», «Я слишком плоха для вас», «О, милый, держи меня
крепко и не выпускай меня!», «Не выбрасывай меня из своей
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
235
жизни!», «С первого момента я знал, что мы созданы друг для
друга», «Но к чему я все это говорю?», «Для меня?», «Но это
так неожиданно», «Я знаю, что вы меня не любите, но
выходите за меня замуж, и любовь придет», «Ради детей», «Вы старый
дурак, неужели вы в самом деле думали, что я вас люблю?»,
«Забудем все, что было до тою, как мы поженились», «Но вы
ведь ничего не знаете обо мне», «Как могли вы это сделать,
после того как мы так много дали друг другу?»
Каждому типу картины сопутствуют свои характерные
атрибуты. Приведем несколько примеров,
Драма бурных страстей: «Да, я убила его, и я счастлива,
слышите вы, я счастлива, счастлива, счастлива!»
Ковбойский фильм: Побледневший от страха телеграфист
сообщает: «Сэр, я не могу прорваться к форту Блике».
Капитан судорожно держится за край стола и бормочет: «Это
может означать лишь одно...»
Мелодрама: «Он так говорит, как будто ему надоела
жизнь», «Посмейте еще раз это сделать, и вы выплюнете свои
зубы».
Все эти штампы будут повторяться, пока киносценарии
будут строиться на трафаретных ситуациях и стереотипных
персонажах».
Так выглядят голливудские стандарты в оценке одного из
голли-вудцев. Знаменательно, что в последнее время все чаше
к этим упрощенным до предела кинолентам подвешиваются
ярлычки с именами популярных в США писателей.
Один из американских кинорецензентов, говоря о бурной
деятельности «Ассоциации кинематографии Америки», напр а*
вленной на пропаганду «американского образа жмзми»,
который преподносится зрителю как идиллия, как мир, в котором
нет ни борьбы, ни социальных конфликтоз, ни нищеты, — не
без иронии заметил:
— Как Джонстон примиряет пропаганду «американского
образа жизни» с распространением фильмов, постоянно
изображающих безумные убийства, разврат и болезненные
зверства, — он один лишь сможет объяснить.
Однако есть своя закономерность в том, что все эти
«Колокола святой Марии» и «Ирландские розы Эйби» столь
трогательно соседствуют на американском экране с бесконечными
вариантами грязных историй об убийствах и преступлениях.
В этом есть своя закономерность. Полицейские фильмы,
систематически развращающие молодого зрителя, служат той же
цели, что и полицейские романы, которыми наводнены
книжные магазины или бульварные газеты, сплошь заполненные
историями о -приключениях бандитов. Они отвлекают зрителя
236
ЮРИИ ЖУКОВ
от острых социальных проблем, волнующих сейчас среднего
американца, оглушают и оглупляют его.
Передовые творческие работники американского кино
с чувством гнева и стыда говорят о деградации Голливуда, об
искусственном и настойчивом снижении художественного
уровня фильмов послевоенного периода: только бы попроще, только
бы без сложных психологических ходов, которые ©друг могли
бы разбудить мысль у зрителя. Если драма — значит
непрерывная стрельба и беготня; если комедия — значит
непрерывные танцы, бесхитростные и бессмысленные ритмические
песенки. Ни о чем не надо думать! Все просто до предела, как
жевательная резинка.
На одно из первых мест среди пользовавшихся после
войны успехом на Бродвее фильмов ставили картину с
названием^, которое говорит само за себя, — «Убийцы». Этот фильм
демонстрировался на Бродвее осенью 1946 года. Над входом в
кино красовался чудовищный плакат высотой в пять этажей,
на котором были изображены самые дикие уголовные
сюжеты, и среди луж крови и облаков порохового дыма, среди
искаженных от ужаса и боли лиц красовалось выведенное
многометровыми буквами имя: «Хемингуэй». Огромные надписи
возвещали, что этот фильм поставлен по сценарию Хемингуэя.
У Хемингуэя есть коротенький рассказ с тем же
названием «Убийцы», рассказ в полторы странички. Как и многие
короткие новеллы Хемингуэя, этот рассказ без начала и конца,
без всякого действия, — сценка в дешевом ресторане, где
двое бандитов пытаются выведать у хозяина, где находится
человек, которого они хотят убить; бандиты знают, что этот
человек обедает в данную минуту в ресторане, но они не
знают его в лицо. Весь рассказ состоит из диалога между
бандитами и хозяином ресторана.
Фильм «Убийцы» открывается сценой в ресторане. Здесь
использован диалог Хемингуэя; сцена эта длится несколько
минут. Вслед за тем развертывается обычный стандартный
полицейский фильм, который американская киностатистика,
вероятно, отнесла бы к рубрике «фарс-ужас». На протяжении
всего фильма двое убийц выслеживают свою жертву, причем
человек, которого они хотят убить, с болезненным чувством
неотвратимости ждет прихода убийц в своей комнате.
Говорят, что Хемингуэй даже не участвовал в составлении
сценария этого фильма, но он охотно продал киноконцерну
право использовать его имя во вступительных титрах к
фильму «Убийцы», — за это в Голливуде хорошо платят: ведь имя
писателя является неплохой приманкой для доверчивого
кинозрителя.
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
237
В американских литературных кругах часто говорят о
зловещих переменах, которые происходят в творческом облике
писателей, втягиваемых в орбиту Голливуда.
— Что ж, Голливуд нельзя порицать,—сказал мне
однажды известный литературный критик. — Ведь человек,
становясь богачом, совершенно меняется. Возьмите вы хотя
бы Диснея...
И он поведал мне о весьма знаменательных изменениях
в творчестве Уолта Диснея, которого мы знаем как мастера
мультипликационного фильма, как создателя образов
забавного мышонка Мики Мауса, хитрой и рассудительной утки
Дональда Дак, лихого зайчонка, как автора прошедшего у
нас с большим успехом фильма «Бэмби». Эти изменения
произошли в канун войны и в годы войны.
Когда-то Уолт Дисней был бедным талантливым
художником. Он сам пробивал себе дорогу, начав рисовать свои
фильмы в 1922 году. Слава пришла к нему не сразу. Но
Дисней работал много и упорно. В 1923— 1926 годах он сделал
фильм «Алиса», а в 1928 году на экране появился «Мики
Маус». Потом Дисней стал пробовать свои силы в цветных
мультипликационных фильмах, и, наконец, на весь мир прогремел
его первый полнометражный фильм «Снегурочка и семь
гномов». К Диснею пришла слава. К Диснею пришли деньги.
И в 1938 году он основал свою собственную кинокомпанию.
Вначале все будто шло по-старому. Дисней работал с тем
же дружным коллективом своих помощников, талантливых
молодых художников, энтузиастов мультипликационного
фильма. Сообща продумывались сложные сценарные ходы,
трюки, забавные выдумки, заставлявшие зрителя потешаться
от души над приключениями героев Диснея. Но постепенно
начинали вступать в силу прозаические законы
капиталистического общества. Фильмы приносили Диснею все больше
денег, но его помощники получали все ту же, прежнюю
скромную оплату, на которую они согласились в то время,
когда Дисней только создавал свое собственное дело. Они
напоминали своему другу, что пора бы пересмотреть ставки.
Дисней отмалчивался. Отношения стали портиться, возникла
отчужденность. И в самом начале войны, когда студия
Диснея работала над фильмом «Фантазия», вспыхнула
забастовка: художники заявили Диснею, что они отказываются
на него работать, если он не повысит заработную плату.
Дисней заупрямился. Большая группа наиболее
талантливых его сотрудников покинула студию. Воротилы
киноконцернов, с любопытством следившие за событиями в студии их
младшего компаньона, одобрили твердость Диснея, но обще-
238
ЮРИП ЖУКОВ
ственность Голливуда от него отшатнулась. Дисней
замкнулся в своей вилле, перестал встречаться с художниками и
зажил жизнью обычного дельца. У него появились новые
друзья, новые связи, новые интересы.
Теперь Дисней прежде всего кинопредприниматель,
как все остальные. Он все меньше участвует в творческой
работе. И уровень его фильмов постепенно снижается. Но
дело не только в этом. Сами фильмы Диснея стали иными —
в них уже нет прежней жизнерадостности, творческого
горения, стремления к чему-то новому. В фильмах Диснея
появились зловещие черты, которые всегда убивают искусство, —
фальшь, неискренность.
В 1946 году Уолт Дисней выпустил две картины —
музыкальное обозрение «Петер и волк», состоящее из
несвязанных друг с другом эпизодов, и сюжетный фильм «Песнь юга»,
который вызвал сильнейшие споры среди американских
критиков.
Выходу «Песни юга» на экран сопутствовала еще
небывалая рекламная шумиха. Газеты возвещали, что Дисней
открыл драгоценное фольклорное наследство
полулегендарного негра-сказочника «Дядюшки Ремуса» и на основе этого
фольклора создал новый великий фильм. Много писали о
новых формальных приемах, использованных Диснеем: он
сделал комбинированный фильм — мультипликация наложена на
негатив обычного игрового цветного фильма, и ни экране
рисованные сказочные герои — заяц, лиса, медведь, птицы и
бабочки— живут рядом с реальными, живыми людьми.
Премьера этого фильма состоялась в крупнейшем
кинотеатре на Бродвее.
Зрителям раздавали прекрасно отпечатанные
многокрасочные проспекты, воспевающие мастерство Диснея. Театр был
празднично украшен. Но зрители после просмотра уходили
холодными, равнодушными. Больше того: многие уносили
с собой чувство раздражения. Оказывается, Дисней поставил
перед собой задачу — представить как какую-то идиллию
жизнь старого, рабовладельческого Юга. Грубо нарушая
историческую правду, он изобразил взаимоотношения негров
и белых как самые дружеские и близкие.
Главный герой фильма — старый бедный
негр-сказочник — показан как духовный наставник сына богатого
белого плантатора. Негр воспитывает его, учит жить,
рассказывая свои сказки и напевая песенки. Мораль этих сказок,
мягко говоря, весьма своеобразна. Так, одна из них
кончается выводом: «От злой судьбы нельзя уйти», другая: «Не
впутывайся в чужие дела, если сам не хочешь попасть в беду».
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
239
В прогрессивных газетах появились письма с протестами
против демонстрации фильма «Песнь юга». Диснею
напомнили, что в городе Атланте, где особенно сильны
преследования негров, на премьеру фильма пригласили всех
участников, кроме актера Джемса Баскет, создавшего самый яркий
образ — образ негра-сказочника. Дело в том, что Джемс
Баскет — сам негр. «Если внуки героев этого фильма так
обходятся с негром, то как мог Дисней изобразить их дедов
как покровителей негров?» —писали газеты.
Один из фельетонистов газеты «П. М.» писал 17 декабря
1946 года, обращаясь к Диснею:
«Когда я вернулся домой, после того как смотрел «Песнь
юга», я старался себе представить, что же с вами случилось.
Несколько лет назад вы начали свою работу с энтузиазмом
и вдохновением. Но, видимо, какой-то банкирский деляга
примазался к вам и напел вам песнь крупного бизнеса, — из
Уолта Диснея вы превратились в «Уолт Дисней и компания».
Вы ведь не рядовой производитель картин. Вы парень,
которым гордились мы. Когда иностранцы начинали ругаться,
утверждая, что мы ничего хорошего не дали, мы их били по
голове, ссылаясь на «Мики Мауса». Вы честь нашей
национальной культуры, и после этого вы растрачиваете свой
талант на какую-то грязную магнолию вроде «Песни юга»!»
(Магнолия — традиционный цветок Южных Штатов, ставший
символом рабовладельчества южан.)
Дисней предпочел не ответить на все эти письма.
А год спустя Дисней выпустил на экраны новый фильм —
«Веселье и неприхотливость», знаменовавший собой еще
большее падение вкуса и таланта. На этот раз фильм Диснея
не блистал даже техническими достижениями. Механически
сцепленные детские сказки иллюстрировались заурядными
кадрами, возвратившими зрителя к давно пройденным этапам
мультипликации. Дисней обворовывал самого себя, заимствуя
приемы из своих старых фильмов и превращая их в шаблон.
Фильм не мог рассчитывать на успех у зрителей, несмотря на
все еще громкое имя его автора, и расчетливые дельцы
проката не пустили его в первоклассные кинотеатры, где раньше
шли премьеры Диснея...
Можно было бы долго рассказывать о том, как
безжалостная голливудская мельница ломает и крошит таланты, как
всемогущие киноконцерны подчиняют себе способных, но не
обладающих достаточной силой воли творческих работников
и заставляют их делать не то, что велят им совесть и долг,
246
ЮРИИ ЖУКОВ
а то, что угодно его величеству доллару. Но я предчувствую,
что читатель скажет:
— Позвольте! Но как обстоит дело с теми, кто, несмотря
ни на что, остается верен своему долгу, кто не согласен
кривить душой, кто не променяет свой талант на чечевичную
похлебку? Не все же творческие работники Голливуда
беспринципны! Мы хорошо помним имя Чаплина, мы помним
демонстрировавшуюся у нас в годы войны картину «Миссия
в Москву», помним фильм о Сталинградской битве, помним
«Северную звезду», «Песнь о России». Наконец вы сами
упомянули, как об удаче прогрессивного американского кино, —
о фильме «Лучшие годы нашей жизни». Как же сочетаются
два столь различных и противоречивых течения в
американской кинематографии? Как удается прогрессивным
американским режиссерам создавать в такой трудной обстановке
честные и правдивые фильмы?
Да, в Голливуде есть и честные, мужественные,
заслуживающие уважения творческие работники. И об их
деятельности надо здесь рассказать особо, рассказать подробно.
Такие мастера кинематографии, как Чарли Чаплин, как
Вильям Уайлер, Люис Майлстоун, уже много лет успешно
и плодотворно работают в кино. Чарли Чаплин пришел в
кинематограф еще до первой мировой войны. Сын французской
актрисы, Уайлер начал работать в Голливуде помощником
режиссера еще © 1920 году. Много лет работает в
американском кино и Майлстоун, родившийся в 1895 году в России.
Всемирную славу ему составил знаменитый фильм «На
западном фронте без перемен», вышедший на экран лет 15 тому
назад.
Все они активно участвовали в борьбе с фашизмом.
«Диктатор» Чаплина, злая и беспощадная сатира на
Адольфа Гитлера, стоил сотни бомбежек: он разил фашизм
своим убийственным сарказмом. Майлстоун создал, кроме
«Северной звезды», о которой говорилось уже выше, целую
серию правдивых и честных фильмов о войне, в том числе
картину о рядовом солдате — «Солдат Джо» (сценарий для
этого фильма написал военный корреспондент Пайль,
погибший потом на Дальнем Востоке), фильм о высадке десанта
в Италии — «Прогулка на солнце», картину «Пурпурное
сердце» (пурпурное сердце в американской армии — знак
ранения). Вильям Уайлер сам сражался на фронте...
В годы войны, особенно в памятные дни Сталинграда,
американский кинозритель предъявлял огромный спрос на
фильмы о Советском Союзе, и многие киноконцерны, оцени-
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
'241
вая рыночную конъюнктуру, охотно ставили такие фильмы.
В те годы у прогрессивных кинорежиссеров было много
работы; их охотно приглашали самые мощные кинофирмы
Голливуда.
Однако после войны картина резко изменилась.
Прогрессивные деятели, как правило, лишились возможности
продолжать свою плодотворную творческую работу. Такой мощный
концерн, как «Братья Уорнер», поставивший в свое время
«Миссию в Москву» и «Битву в океане» (фильм о конвое,
идущем в СССР), переключился на выпуск бездумных
музыкальных комедий. Его примеру последовали другие
киномонополии.
Режиссеру, сценаристу, которых не удовлетворяет
ремесленная работа и которые ищут острых и правдивых
социальных сюжетов, доступ в студии крупных киномонополий
закрыт. Им остается рассчитывать на свои собственные
средства, если они у них есть, либо искать счастья в мелких,
второстепенных студиях; но такие студии по большей части
не обладают необходимыми материальными возможностями.
Майлстоун, например, решил ставить фильм
«Триумфальная арка»: это картина о падении Парижа в 1940 году. Ни
один из крупных киноконцернов не согласился финансировать
этот фильм. Майлстоун устроился в одну из небольших
независимых киноконтор. Фильм был готов летом 1947 года.
Но Майлстоуну пришлось в течение нескольких месяцев
дожидаться выпуска картины на экран.
Больше повезло Уайлеру, автору известного в
Советском Союзе фильма «Лисички». Когда он вернулся с
фронта, его вновь взял к себе на работу «независимый при-
дюссер» Сэмюэл Голдвин — одна из колоритнейших и
своеобразных фигур Голливуда. Сэмюэлу Голдвину уже за 60 лет.
Выходец из Варшавы, он начал свою карьеру с небольшого
перчаточного дела. В 1913 году Голдвин, поняв, что на
кинематографе можно зарабатывать лучше, чем на перчатках,
сменил профиль своего маленького торгового дома и на паях
с другими торговцами основал небольшую кинокомпанию.
Дела кинематографа шли в гору, и уже через пять лет
Голдвин стал владельцем самостоятельной компании и богатым
человеком. В отличие от многих своих коллег он умеет и
любит итти на риск. Будучи человеком малограмотным, Голдвин
в то же время обладает удивительным чутьем и отлично
угадывает, чем интересуется в данный момент средний
американец и на чем, следовательно, можно хорошо заработать.
При этом Голдвин, в отличие от большинства американских
кинопредпринимателей, отнюдь не- боится так называемой
16 Вот ода, Америка
242
ЮРИЙ ЖУКОВ
«левой темы». Он считает, что эта тема дает верный
заработок; массовый зритель с огромным интересом смотрит
фильмы, затрагивающие социальные темы. Голдвин финансировал
в свое <время постановки фильмов «Лисички», «Северная
звезда» и других, от которых отшатывались его коллеги и
конкуренты. Расходы на постановку этих фильмов он с лихвою
вернул.
И еще одна характерная черта отличает фильмы Голдви-
на: они всегда добротны и тщательно сделаны. Голдвин дает
режиссеру возможность работать над фильмами столько,
сколько тот хочет. Он выпускает всего один-два фильма в
год и не жалеет денег на производственные расходы. Зато
почти каждый фильм, вышедший из его студии, вызывает
оживленные комментарии критики, и публика валом валит
в кинотеатры, узнав, что студия Голдвина выпустила на
экраны новую картину.
Сенсационный успех выпал на долю первой послевоенной
работы Уайлера, поставленной на средства Голдвина, —
картины «Лучшие годы нашей жизни».
«Лучшие годы нашей жизни» — это фильм о трагических
судьбах демобилизованных американских солдат,
возвращающихся на родину с надеждой, что все изменится к
лучшему, что дома их ждет обновленный мир, и... вынужденных
вновь погрузиться в трясину безрадостного, подневольного
существования. Эта тема, видимо, особенно близка Уайлеру.
Он сам провел три года на войне, и, может быть, именно
поэтому фильм дышит такой страстью и силой.
В какой-то мере этот фильм перекликается с известной
книгой Пристли «Трое в новых костюмах». И тут и там
повествуется о судьбах трех демобилизованных, один из которых
принадлежит к «высшему слою общества», а двое других —
простолюдины. Но работники Голливуда уверяют, что такое
совпадение случайно. Говорят, что Голдвин сам набрел на
эту тему, увидев в иллюстрированном журнале снимок трех
солдат, возвращающихся домой.
— Вот то, что нужно сейчас зрителю, — убежденно
сказал Голдвин и тут же пригласил к себе писателя Мак Кинли
и предложил ему написать повесть на тему о возвращении на
родину трех демобилизованных.
Голдвин хотел сначала проверить, «клюнет ли» рядовой
американец на эту тему. Мак Кинли молниеносно выполнил
заказ, книга разошлась с небывалой быстротой. Тогда
Голдвин пригласил сценариста Роберта Шервуда, дал ему повесть
Мак Кинли и сказал: «Напишите сценарий...»
Сценарий, написанный Шервудом, много раз переделывал-
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
243
ся при активном участии Уайлера и актеров, играющих
ведущие роли. Уайлер был требователен и к себе и к актерам,
вновь и вновь изменяя различные сцены. Он воодушевил
своим энтузиазмом весь коллектив. Люди работали над
фильмом в студии около года — явление для Голливуда
небывалое (обычно съемки фильма занимают несколько недель,
а иногда и несколько дней).
И вот перед нами готовый фильм...
На одном из аэродромов в Европе встречаются трое
демобилизованных: капитан авиации (его роль мастерски играет
Эндрьюз, тот же, который играл роль русского летчика в
фильме «Северная звезда»), лейтенант пехоты (в этой роли
выступает знаменитый американский киноактер Фредерик
Марч) и рядовой моряк — инвалид без обеих рук: руки ему
заменяют протезы, которыми он мастерски пользуется (в этой
роли выступает не актер, а настоящий инвалид Гарольд
Рессель, которого разыскали по фотографии, помещенной в
иллюстрированном журнале; Гарольд Рессель играет самого
себя, и, может быть, поэтому он создает волнующий и
сильный образ). Оказывается, все трое из одного города. Они летят
через океан на транспортном самолете, в пути знакомятся и
сближаются, мечтая вслух о встрече со своими семьями.
И вот они дома, в американском городе. Еще вчера, в
армии, они все были примерно на равной ноге — там, на
фронте не играли существенного значения различия в их
социальном, имущественном положении. Теперь же они вынуждены
столкнуться вновь лицом к лицу с суровой обыденной
действительностью. Летчику, который на войне командовал
эскадрильей, отличился во многих боях и был награжден
орденами, приходится вернуться в драг-стор1, где он работал
до войны, и вновь стать за стойку. Его принимают
подручным на ставку в 22 доллара 50 центов в неделю. Им
помыкает его бывший помощник, вздорный, никчемный парнишка,
которого раньше все дразнили «вонючкой». Инвалида-моряка
встречают старики-родители и невеста. Вместе с ним
страшное, неизбывное горе входит под кровлю родительского дома.
И только лейтенанту пехоты улыбается судьба: его
встречают любящая жена и двое взрослых детей. У него прекрасная
квартира, он член правления банка; его ждет блестящая
карьера: правление банка решает назначить его вице-предсе-
1 Драг-стор — американская аптека. Торговля лекарствами в
такой «аптеке» — лишь второстепенное дело. Здесь пьют, едят, покупают
игрушки, предметы домашнего обихода. Короче говоря, это нечто
среднее между кафе и маленьким универсальным -магазином.
244
ЮРИИ ЖУКОВ
дателем, ведь это прекрасное паблисити для банка: вице-
председатель — ветеран войны!
Так завязываются узлы конфликтов в фильме. События
развиваются драматически.;. Радужные мечты, с которыми
трое демобилизованных возвращались на родину,
улетучиваются, как дым. Словно какой-то рок висит над ними. Они
чувствуют, видят, что все идет не так, как думалось, как
мечталось на фронте. Им кажется, что вот-вот все должно
измениться — не зря же они воевали, рисковали жизнью в
борьбе против фашизма! Но все вокруг идет своим чередом,
так же как шло до войны. Их окружают люди, живущие
каждый своими мелкими, эгоистическими интересами.
Вице-председатель банка разделяет со своими
товарищами-фронтовиками еще не совсем ясное, смутное тяготение
к чему-то новому, к каким-то переменам. Он вдруг решает,
наперекор обыкновению, выдавать ветеранам войны кредиты
на строительство новых домов без необходимого
материального обеспечения. Это решение вызывает резкие протесты
членов правления. Нельзя итти на неоправданный риск,
говорят они.
Но бунтарский дух у вице-председателя выветривается
довольно быстро. Постепенно он отходит от своих
друзей-фронтовиков и даже запрещает бывшему летчику встречаться
со своей дочерью, с которой тот подружился. Бывший летчик
и бывший моряк влачат жалкое, безрадостное
существование. И в один из дней, когда инвалид, пришедший проведать
своего друга, сидит, понурившись, у стойки драг-стора,
разыгрывается острейшая сцена, являющаяся кульминационным
моментом фильма...
В драг-стор входит некий отталкивающий тип с
американским флажком в петлице — такие флажки носят члены
ультрареакционной организации «Америка прежде всего».
Он заказывает завтрак и развертывает херстовскую газету
«Джорнэл америкэн». Через всю полосу жирный аншлаг:
«Сенатор предупреждает о новой войне». Пробежав статью
глазами, вновь пришедший, пережевывая бифштекс,
снисходительно обращается к безрукому:
— Жалко мне тебя, братец! Не с теми ты воевал, с кем
надо было воевать. И зря, ни за что ты потерял свои руки...
Безрукий меняется в лице. Он встает, подходит к
человеку с флажком в петлице, ловким движением крючка,
заменяющего ему руку, вырывает у него из петлицы флажок и
ГЛуХО ГОВОРИТ:
— Послушай, ты... Если бы у меня были руки, я дал бы
тебе в морду.
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
243
— Не горюй, дружок! Есть еще руки для этого! — кричит
бывший летчик, ловко перепрыгивая через стойку.
Мастерский боксерский удар — и противник валится,
разбивая вдребезги стеклянную стойку. В драг-сторе паника.
К потерпевшему спешит с извинениями хозяин. Он
ненавидящими глазами смотрит на бывшего летчика. Тот отвечает
ему пренебрежительным взглядом, срывает с себя передник,
бросает его в лицо хозяина и покидает опротивевший ему
драг-стор. За ним выходит его безрукий друг, предварительно
бережно подобрав с пола крючком американский флажок...
Бывший летчик в отчаянии: у него нет теперь работы.
Ему запрещено встречаться с любимой девушкой. Его
окружает постылая, чужая жизнь. Он медленно бредет в аэропорт
и обращается в кассу за билетом.
— Куда?
— Все равно. На ближний самолет. Куда бы он ни летел...
До отлета час. Летчику некуда себя деть. Он выходит на
аэродром, и тут перед ним развертывается гигантской
панорамой огромное мрачное кладбище военных самолетов,
сданных в лом, — теперь эти самолеты устарели, их заменяют
новыми. Этот символический кадр нельзя смотреть без
волнения: медленно идущий герой войны, выброшенный за борт
жизни, и за ним, насколько охватит глаз, обреченные
самолеты. Летчик подходит к заброшенной «летающей крепости»,
медленно поднимается по лесенке, берет с полки старую,
запыленную карту, проходит в переднюю стеклянную кабину
и привычно садится на штурманское кресло.
Он поднимает голову и мертвым, невидящим взглядом
глядит сквозь запыленное стекло. И здесь новый
мастерский кадр: киноаппарат вдруг начинает надвигаться на
самолет, зрителю кажется, будто бы самолет идет на взлет, и
вдруг резкая остановка: вы видите перед собой через грязное
стекло мертвые, страшные глаза бывшего пилота, и вам ясно,
что ни этому самолету, ни летчику больше не летать.
На этом, собственно, фильм логически должен был 6bf
закончиться. Но в таком виде он не увидел бы экрана, и
поэтому к нему наспех прикручен нелепый благополучный
конец — все сразу, словно по волшебству, меняется: летчик
получает хорошую работу, невеста безрукого инвалида
выходит за него замуж, вице-председатель банка вновь становится
лучшим другом ветеранов, а его дочь — опять подруга
летчика. Эта нелепая концовка воспринимается зрителями как
искусственная, вынужденная. Но в целом картина
по-настоящему волнует зрителя и будит много мыслей.
Следует отметить, что в техническом отношении — это
246
ЮРИИ ЖУКОВ
один из лучших голливудских фильмов. Уайлер нашел в себе
мужество порвать с голливудской традицией
искусственности и создал подлинно реалистический фильм.
Мы несколько раз смотрели этот трагический фильм,
которому Шервуд и Уайлер дали злое по своей иронии имя
«Лучшие годы нашей жизни». И всякий раз он заново
покорял, захватывал силой своей волнующей, жестокой и
неумолимой правды. И в то же время невольно тянуло оглянуться
по сторонам, поглядеть, как же реагирует на этот фильм тот,
для кого он создан, — рядовой американец.
Это было тем интереснее, что рядовой американец обычно
не принимает кино всерьез. Бездумные ленты таких фирм,
как «Парамоунт» или «XX век—Фокс», приучили его
относиться к кинотеатру, как к такому месту, где можно без труда
убить время, похохотать, пожевать, позевать, а то и
прикорнуть в мягком удобном кресле — за свои полтора-два доллара
вы можете провести здесь хоть целые сутки. Но на этот раз
в кинозале царила совсем иная обстановка. Люди сидели,
как наэлектризованные. То и дело раздавались бурные,
демонстративные аплодисменты. Весь зал плакал, когда
несчастный, безрукий инвалид подходил к своей невесте, и та
испуганным и растерянным взором глядела на неуклюжие и
страшные крючки, торчащие у него из рукавов вместо рук.
Весь зал кричал «Долой!», когда член организации «Америка
прежде всего» цинично замечал, что надо было воевать не с
немцами. Весь зал бурно аплодировал, когда бывший капитан
нокаутировал этого мерзавца.
...Но это был единственный на всем Бродвее
честный и правдивый фильм. Слева и справа и по всем
переулкам горели, мигали, крутились, гасли и зажигались вновь
огни, рекламировавшие все те же «мелодрамы-убийства»,
«фарсы-ужасы», «драмы таинственные», которые столь
неутомимо размножает Голливуд, чтобы отравлять ими
сознание людей на всех континентах, куда только дотягивается
лапа американских монополий. И не случайно во всех
странах все громче раздаются голоса протеста против
аморальной, растлевающей деятельности американских кинокомпаний
«Бессовестные дельцы Голливуда наводнили мир
фильмами, которые посвящают воров >в такие тонкости воровского
искусства, о которых они никогда и не мечтали. Эти фильмы
обучают развратников и развратниц доселе невиданным
тонкостям разврата. Они дают мошенникам, жуликам и злодеям
полезные. уроки для их деятельности, обучая их таким
преступным приемам, о которых до сих пор никто не знал», —
так писала в декабре 1947 года египетская газета «Эль-ихван
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
247
эль-муслим'ин», протестуя против ввоза американских
фильмов в страну.
Но подобные протесты пока не особенно волнуют Эрика
Джонстона и его коллег. Они знают, что до поры до
времени доллар открывает им все двери на рынках, входящих в
орбиту капитализма. И все свои усилия они прилагают в
первую очередь к тому, чтобы окончательно расправиться с
прогрессивным крылом американской кинематографии и
полностью превратить Голливуд во всемирный питомник
мракобесия.
Весной 1947 года «комиссия Томаса — Ренкина начала
пресловутое «расследование» по делу о так называемой
«красной опасности» в Голливуде. Следователи подвергали допросу
творческих работников, которые в годы войны участвовали
в создании объективных, правдивых фильмов о Советском
Союзе. Было объявлено, что многие из них будут привлечены
к строгой ответственности за «коммунистическую
пропаганду».
Запахло большим политическим скандалом. Перепуганный
киноактер Роберт Тэйлор заявил, что правительственный
чиновник «заставил» его выступить в созданном в годы войны
фильме «Песнь о России», несмотря на его возражения.
Следователи подхватили это заявление, и в докладе подкомиссии,
представленном конгрессу 28 мая, было сказано, что в годы
войны «в результате давления Белого дома был выпущен ряц
скандальнейших фильмов, содержащих коммунистическую
пропаганду». В докладе не указывалось, кого именно из
Белого дома имеет в ©иду подкомиссия, но бульварная пресса
тут же разъяснила, что речь идет о покойном президенте
Рузвельте. Официально было объявлено, что «Комиссия по
неамериканской активности» продолжит расследования «дела
о Голливуде» в сентябре. Сообщалось, что в первую очередь
комиссия допросит Чарли Чаплина, киноактера Эдварда
Робинсона и писательницу Доротти Паркер, которым
предъявляется прямое обвинение в «коммунистической деятельности в
Голливуде».
Наглые атаки американской реакции на прогрессивных
деятелей киноискусства вызвали негодование у
прогрессивной общественности Соединенных Штатов. Бывший
американский посол в СССР Дэвис, например, 19 июня 1947 года
передал в прессу письмо, адресованное председателю
«Комиссии по неамериканской активности» — республиканцу Томасу,
в котором он опровергал и высмеивал утверждения, что
президент Рузвельт «приказал» голливудской кинопромышленности
создать фильм «Миссия в Москву». Дэвис в своем письме под-
248
ЮРИИ ЖУКОВ
черкнул, что «подобные приказы не отдавались и не были
необходимы, поскольку многие кинокомпании желали поставить
такой фильм». Он указал, что фильмы, подобные «Миссии в
Москву», были полезны для военных усилий и заслуживали
поощрения в дни войны против фашизма, когда Советская
Армия и советский народ «сражались за каждый дюйм и каждый
фут вдоль 1 600-мильного фронта ценою огромных жертв».
В беседе с представителями печати Дэвис выразил сожаление
по поводу «резкой антикоммунистической истерии,
охватившей в настоящее время Соединенные Штаты».
С подобными заявлениями выступили и другие
представители общественности США. Однако комиссия Томаса — Рен-
кина продолжала делать свое черное дело, и вот 20 октября
1947 года в Вашингтоне, в здании конгресса, открылось
публичное следствие по делу «голливудских красных».
Выше я уже рассказывал об этом следствии и о том, как
скандально оно провалилось. Поэтому я приведу здесь лишь
некоторые дополнительные детали, характеризующие
обстановку этого беспрецедентного дела, сработанного
«Комиссией по неамериканской активности» по нацистским образцам.
Следствие о «голливудских красных» было задумано как
большой политический «бум», — Томас и Ренкин
рассчитывали поразить воображение падкого до сенсаций американского
обывателя, мобилизовав целый взвод «свидетелей» с
громкими в Америке именами. «Разоблачать коммунистов»
вызвались кинопромышленники Майер, Уорнер и Дисней, режиссер
Сэмюэл Вуд, киноактеры Адольф Менжу, Гарри Купер,
Роберт Тэйлор и некоторые другие из породы тех
беспринципных дельцов, которые готовы торговать всем на свете, даже
собственной совестью.
«Ура! Ура! Большое представление начинается!» — так
озаглавила отчет о начале следствия одна из нью-йоркских
газет, помещая под этим аншлагом красноречивый снимок:
высокая трибуна в виде прилавка, уставленная графинами с
водой, горами бумажных стаканчиков и микрофонами; за
нею — надутые члены «Комиссии по неамериканской
активности» во главе с маленьким, толстым, бритоголовым
Томасом; внизу — в невероятной тесноте и давке — юридические
советники, консультанты, «свидетели», обвиняемые,
стенографистки, радиооператоры, две сотни репортеров, толпа
фотографов; и над всем этим бедламом двадцать взобравшихся
под самый потолок кинооператоров, направивших на
судебный зал свои аппараты, словно пулеметы.
«Большое представление» мистера Томаса, естественно,
привлекло толпы зрителей. Все коридоры здания конгресса
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
249
были забиты людьми, стремившимися хоть одним глазком
поглядеть на то, что делается в зале. Одних влекло сюда
простое любопытство — поглазеть на «кинозвезд», выступающих
в необычных ролях, другие интересовались существом дела.
Газеты посвящали целые страницы необычному следствию
Но с первых же дней этого следствия выяснилось, что мистер
Томас оскандалился со своей затеей — у него и у
вызвавшихся помогать ему «свидетелей» не было за душой ни
одного сколько-нибудь серьезного обвинения, которое они могли
бы предъявить подсудимым.
Одним из первых выступал «свидетель обвинения» Адольф
Менжу, пустой и самовлюбленный актер, который славится в
Голливуде как алчный стяжатель, готовый ради денег и
славы пойти на все. Как ломался он перед направленными на
него объективами двадцати киноаппаратов, как заламывал
руки и закатывал глаза, драматически прорицая грядущую
гибель цивилизации от «коммунистической опасности»! Он
дошел до того, что предложил «уничтожить» таких деятелей
американского искусства, как Чарли Чаплин, Кетрин Хэнбе-
ри и Поль Муни, и даже предложил свои услуги, для того
чтобы «рассчитаться» с ними. Томас с восхищением глядел на
этого прохвоста, он считал его выдающимся специалистом
по вопросам «красной опасности»—ведь Менжу заявил, что
когда-то он даже попробовал читать «Капитал», правда, он
признался, что не смог его одолеть, но зато «лично»
убедился в том, что это «опасная книга».
Однако когда защита обвиняемых потребовала, чтобы
Менжу перешел от общих рассуждений к конкретным
фактам, этот болтун сразу потерял словоохотливость. Он не смог
привести ни одного примера, который хоть в какой бы то ни
было мере подкрепил бы обвинения, предъявленные
прогрессивным деятелям Голливуда. Менжу признался, что он не
знает среди киноактеров ни одного члена коммунистической
партии, «Но я знаю много людей, которые поступают, как
коммунисты», — растерянно бормотал он. Не в лучшем
положении оказались и все остальные «свидетели» обвинения.
Остервеневший, обозленный Томас начал грубо затыкать
рот защите и подсудимым. Он до хрипоты орал на них,
запрещал задавать вопросы «свидетелям», запрещал
высказываться, отбрасывал, не читая, письменные заявления. Нам
рассказывали, что на одном из заседаний, придя в
неистовство, Томас разбил в щепы свой председательский молоток.
Один из защитников настаивал на разрешении подверг
нуть перекрестному допросу окончательно завравшегося
«свидетеля обвинения», некоего Моффита. В ответ на это Томас
250
ЮРИИ ЖУКОВ
приказал полиции вывести защитника из зала. Когда
полицейские тащили защитника к дверям, Тсмас самодовольно
улыбался, а репортер херстовской газеты «Дейли Мирор»,
потеряв всякий человеческий облик, вопил:
— Бейте его дубинкой!
Десять дней длилась эта недостойная судебная комедия,
вызвавшая глубокое возмущение в стране. 31 октября
следствие было неожиданно прервано на неопределенный срок.
Так сказать «под занавес», Томас выпустил на сцену
отставного сыщика американской тайной полиции Рассела, который
наплел с три короба о том, будто бы бывший профессор
Калифорнийского университета Шевалье пытался раздобыть у
физика Оппеигеймера сведения об атомной бомбе. Вся эта
мутная история не имела никакого отношения к сидевшим на
скамье подсудимых работникам кино. Шевелье потом
опроверг бредни завравшегося шпика, но все же газеты получили
пищу для сенсационных аншлагов. Очередная шумиха
потребовалась Томасу для того, чтобы хоть как-нибудь
прикрыть свое позорное отступление.
И все-таки «Комиссия по неамериканской активности»
добилась того, чего она хотела. Хотя Томас и не доказал своих
обвинений, киномагнаты, поняв его с полуслова, начали
чистку Голливуда. Месяц спустя после окончания «следствия*
состоялась конференция кинопромышленников, на
которой было решено «освободиться от красных». Целая группа
талантливых сценаристов и режиссеров была выброшена за
ворота студий. Среди них — известный американский писатель
Мальтц и постановщик нашумевшей <в 1947 году в США
картины «Огненный перекресток», разоблачавшей расовую
дискриминацию в Соединенных Штатах.
С другой стороны, выполняя задание воинствующей
реакции, заправилы Голливуда форсировали выпуск антисоветских
картин. Еще в апреле 1947 года фирма «XX век — Фокс»
объявила, что она начинает съемку фильма «Железный занавес».
Руководители фирмы многозначительно добавили, что на
постановку этого фильма их «вдохновил» доклад руководителя
американской тайной полиции Гувера, сделанный 26 марта на
заседании «Комиссии по неамериканской активности».
Съемки этого фильма велись частично на территории Канады;
американская печать вынуждена была признать, что канадская
общественность бурно выражала свое возмущение, когда
стало известно, какую картину снимает экспедиция «XX век —
Фокс».
В самих Соединенных Штатах раздавались голоса
протеста против выпуска этого клеветнического фильма на экран.
«СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ»
251
Однако кинодельцы Голливуда продолжают ревностно
выполнять задание американской реакции. Фирма «Метро —
Голдвин — Майер» объявила, что она готовит новую
антисоветскую картину — «Красный Дунай». Газета «Нью-Йорк
геральд трибюн» опубликовала сообщение о том, что в
Голливуде готовится сценарий «Советские шпионы». В то же
время кинокорпорации на ходу перекраивают все сценарии,
находящиеся в работе, стараясь влить в каждый из них хоть
каплю фашистского яда. Прогрессивная писательница
Лилиан Хеллман отстранена от работы над сценарием «Сестра
Керри» (по роману Драйзера). Компания «Парамоунт»
потребовала от писателя Роя Чанслора, чтобы он в своем
сценарии «Опасность» сделал положительного героя — негра-
учителя — белым...
Мракобесы торопят голливудских кинофабрикантов,
подталкивают их, требуя как можно быстрее двинуть на экраны
фильмы, которые служили бы делу реакции. Угодливые
прокатчики перерыли все архивы и двинули в обращение даже
ветхое старье, которое хоть в какой-то мере отвечает
нынешнему «новому курсу» Вашингтона.
В один из октябрьских дней 1947 года я с изумлением
остановился перед одним из самых фешенебельных
кинотеатров на Бродвее — над ним красовалась гигантская
кинореклама с памятным названием «Рождение нации». Этот
фильм Гриффитса был выпущен на заре кинематографии —
тридцать два года назад. Он вошел в историю
кинематографии не только как первый фильм с массовыми
съемками (тогда, в 1915 году, это было техническое новшество), но
и как один из первых фильмов, пропагандировавших расовую
дискриминацию. В фильме проповедывалась ненависть к
неграм. И вот он снова на экране...
Зрители бойкотировали этот фильм — у кассы было пусто
(в газетах потом написали, что за два часа в день «премьеры»
было продано только восемь билетов). По тротуару взад и
влеред ходили пикеты с плакатами, — они протестовали
против показа картины, пропагандирующей расовую ненависть.
Секретарь Национальной ассоциации содействия прогрессу
цветного населения Уолтер Уайт опубликовал в прессе
письмо, в котором писал:
«Тридцать два года назад багровая от злобы
женщина, выбежав из кинотеатра на Бродвее, закричала: «Я
хочу убить каждого негра в Америке!» Она находилась под
впечатлением нового сенсационного фильма. Именно в этом
фильме впервые появилось слово «ариец» и была дана своего
25Й
ЮРИИ ЖУКОВ
рода программа, которая впоследствии была использована
австрийским маляром Шикльгрубером для зверского
уничтожения миллионов людей. Мы имеем в виду картину «Рождение
нации». И вот жадные до наживы люди вновь откопали этот
фильм».
Но, невзирая на все протесты и невзирая на то, что фильм
давал явный убыток владельцам кинотеатра, он продолжал
демонстрироваться на Бродвее...
Атмосфера американской кинематографии становится
невыносимо тягостной, удушливой. И не трудно понять
талантливого Чаплина, который на исходе 1947 года выступил с
такой декларацией:
«Я решил раз и навсегда объявить войну Голливуду и его
обитателям. Я не люблю жаловаться — это кажется мне
самонадеянным и бесполезным, но так как у меня нет больше
никакого доверия к Голливуду вообще и к американскому
кино в частности, я считаю нужным сказать об этом...
Вот что я хочу сказать. Я, Чарли Чаплин, утверждаю, что
Голливуд умирает. Он не занимается больше производством
кинофильмов, представляющих собой известное искусство, а
лишь выпускает мили и мили целлулоида. Я могу добавить,
что человек, который не хочет приспособиться и идет своими
путями, не считаясь с предостережениями крупных дельцов
кинематографии, ни в коем случае не может добиться успеха
в Голливуде.
Не думайте, что я имею в виду самого себя. Возьмем для
примера Орсона Уэллса. Разумеется, я не придерживаюсь
совершенно одинаковых с ним взглядов на искусство кино,
но он осмелился сказать «нет» крупным дельцам. И теперь
он — конченный человек в Голливуде...
Я считаю,—совершенно объективно, — что пришло время
вступить на новый путь, чтобы деньги не являлись больше
всемогущим богом прогнившего общества.
Возможно, что я скоро покину Соединенные Штаты. И в
стране, куда я отправлюсь закончить свои дни, я буду
стараться помнить, что я такой же человек, как остальные, и,
следовательно, имею право на такое же уважение, как и
они».
Нам нечего добавить к этой оценке послевоенного
Голливуда, данной одним из выдающихся мастеров американской
кинематографии.
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ»
253
„ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ"
Кого только не повстречаешь в длинных, унылых
коридорах шгаб-квартиры организации Объединенных наций в дни
жарких политических дискуссий на Генеральной ассамблее!
Здесь и бравые молодчики из колледжей в клетчатых
куртках с яркоголубыми или темномалиновыми рукавами,
высохшие монашки с презрительно поджатыми губами и плечистые
мастеровые с близлежащих заводов. Одних влечет сюда
простое любопытство, другие охотятся за автографами,
третьи добросовестно пытаются разобраться в том, что здесь
происходит.
В один из октябрьских дней тут появилась весьма
колоритная фигура — здоровенный парнище в ковбойской блузе
с «молнией», в сапогах и в шляпе с неимоверно лихо
заломленными полями. Стоя в очереди за билетом, дающим право
на вход в зал Совета Безопасности, — туда впускают гостей,
желающих послушать по радио трансляцию заседаний
политического комитета, — он делился впечатлениями с соседями.
— Послушайте, что ж тут такое все-таки происходит,
чорт возьми? — говорил он громким, хрипловатым голосом
гуртовщика, привыкшего перекликаться с друзьями на
дальней дистанции. — Почему мы не можем жить в мире с
Советским Союзом? Говорят, они большие забияки, говорят, во
всем виноват их Громыко — ни с чем не хочет соглашаться,
всегда говорит «нет» и «нет». Но мы в Вайоминге привыкли
все щупать своими руками. Вот я и решил: покачу-ка в Нью-
Йорк, проверю, в чем там дело. Приезжаю сегодня утром,
спрашиваю, где тут Громыко? Говорят, еще не приехал. Что
ж, я человек терпеливый, могу подождать, чорт побери!
Сажусь, жду. Смотрю—идет! Чтоб мне не сойти с этого места,—
Громыко! Я по газетным фотографиям узнал. Действительно,
хмурый такой, сердитый. Я ему кричу: «Хэлло, Громыко!» Он
оборачивается. И, что же вы думаете, улыбается! Махнул мне
рукой: «Хэлло, бой!» Я к нему. Так, мол, и так, я из
Вайоминга, желаю узнать, что к чему, почему мы не можем жить
в мире, почему вы, русские, всегда говорите «нет», и правда
ли, что с вами нельзя договориться? Тут он как захохочет!
Ну, совсем как наши парни, и злости в нем никакой нет.
Посмотрел на часы и говорит: «Я бы охотно сейчас с вами
поговорил, но сейчас начнется заседание. Там будет выступать
Вышинский. Приходите, послушайте его речь, вам, наверное,
все станет ясно». Ну, что ж, я и Вышинского послушать могу,
затем сюда и ехал, чорт возьми! Эй, вы там, впереди! Что ж
очередь так медленно подвигается?..
254
ЮРИИ ЖУКОВ
После очередного бурного заседания политического
комитета, в ходе которого советская делегация еще раз
блестяще разоблачила планы поджигателей войны, в коридоре
послышался знакомый сиплый бас. Ковбой из Вайоминга,
нетерпеливо проталкиваясь сквозь толпу дипломатов,
журналистов и гостей, кричал кому-то:
— Ну вот, я же вам говорил, что эти русские — стоящие
парни! С такими можно сговориться, чорт побери!
В другой раз в зале заседаний появились две
аккуратные седенькие старушки в одинаковых шляпах, с
одинаковыми круглыми значками на груди: они носили так называемые
«пуговицы Уоллеса». Эти значки с портретом бывшего вице-
президента США распространяли осенью прошлого года в
Калифорнии сторонники выдвижения кандидатуры Уоллеса
на президентских выборах. Оказывается, это были две
совладелицы парикмахерской из Сан-Франциско. Их маленький
«бизнес» рухнул, не выдержав конкуренции с трестом
парикмахерских. Старушки решили перекочевать с западного
побережья на восточное: авось, здесь судьба будет милостивее к
ним! Но интересно не это обстоятельство само по себе, а то,
что бывшие владелицы парикмахерской решили использовать
свое путешествие на стареньком фордике через всю Америку
для,., агитации против монополий и за Уоллеса. Тот, кто
хоть немного знаком с политическими нравами США, поймет,
на какой мученический подвиг решились эти две
простодушные женщины. Над ними издевались молодчики из
«Американского легиона», хулиганы срывали с них «пуговицы
Уоллеса», им «по-дружески» рекомендовали «бросить это грязное
дело», но они упрямо продолжали говорить свое, и в каждом
городке находились люди, которые слушали их и понимающе
кивали головами.
Говорят, что подобные факты — нечто новое для Америки.
Говорят, что еще в не столь отдаленные времена средний
американец предпочитал стоять в стороне от политики. Его
интересы не выходили за грань заработка, пирушки с
друзьями, воскресного ггикника. Культурный, интеллектуально
развитый американец относился к политике с некоторой
брезгливостью, считая, что она раз и навсегда отдана на откуп на*
емным дельцам, защищающим интересы той или иной группы
монополистов. «Не все ли равно в конце концов, проголосую
ли я за осла или за слона (осел — официальная эмблема
демократической партии, слон — эмблема республиканской
партии. — /О. Ж.)> — оба они из одного зверинца! — так
рассуждали люди.
Но вот, как видно, и в Америке наступает время, когда
сПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ»
255
рядовые граждане начинают приобретать вкус к политике,
когда волею самих обстоятельств они втягиваются в
политическую борьбу, сознавая% что необходимо дать отпор
наглеющей реакции.
Когда американский сенат утвердил антирабочий
законопроект Тафта — Хартли, ограничивающий право рабочих на
забастовки и на заключение коллективных договоров,
разрешающий предпринимателям возбуждать против профсоюзов
судебные иски, запрещающий профсоюзным организациям
участие в проведении политических кампаний, — по всей
стране прокатилась мощная волна протеста.
Рабочие выражали непреклонную решимость бороться
против этого «закона о рабском труде», как они его прозвали.
Многие профсоюзные деятели демонстративно отказались
дать требуемую законом Тафта — Хартли подписку в том, что
они не являются коммунистами. Забастовочная борьба
приобрела еще более ожесточенный характер. Теперь в
программу забастовщиков нередко включались прямые политические
требования, направленные против антирабочего закона.
В Чикаго свыше полутора месяцев бастовали наборщики
типографий, в штате Аризона более четырех месяцев
боролись рабочие салатных плантаций, в Нью-Йорке несколько
недель бастовали связисты. Власти предпринимали репрессии
против бастующих — в Аризоне на плантации были посланы
войска для охраны штрейкбрехеров, в Нью-Йорке арестовали
девять руководителей профсоюза работников связи. Но
рабочие не сдавались...
А какую бурю возмущения вызвали по всей стране
описанные мною выше действия «Комиссии по
неамериканской активности»! Вспоминается, как в конце
октября 1947 года 26 «кинозвезд», бросив все ювои дела в
студиях Голливуда, пересекли континент, чтобы
протестовать в Вашингтоне и Нью-Йорке против гнусного
преследования группы сценаристов и режиссеров. Американцы
увидели новое лицо своих любимцев — лучший комик страны,
знаменитые танцовщицы и певицы, талантливые исполнители
драматических ролей на этот раз предстали перед ними как
политические ораторы. «Голливуд защищается!» — под этим
лозунгом проводили «кинозвезды» свои радиопередачи и
массовые митинги, требуя роспуска творящей беззакония
комиссии Томаса — Ренкина и восстановления гражданских свобод
в США.
С выступлениями киноактеров перекликались речи
студентов, рабочих, фермеров на массовых митингах во всех
концах Соединенных Штатов. 22 из 26 профессоров правового фа-
256
ЮРИЙ ЖУКОВ
культета знаменитого Иельского университета обратились в
эти дни к Трумэну с призывом немедленно ликвидировать
«Комиссию по неамериканской активности» и отменить
приказ о «проверке лойяльности».
«Правительство США должно отказаться от охоты за
ведьмами и проводить на практике демократию, — гневно
писали профессора. — Если преследования за убеждения не
прекратятся, страна может ожидать проявления расового,
религиозного и любого другого фанатизма, и, если ему будет
позволено полностью развернуться, этот фанатизм может
вызвать такую волну нетерпимости, которая полностью
уничтожит гражданские права».
Все эти явления, понятно, было бы столь же вредно
переоценивать, как и недооценивать. Многое здесь — лишь дань
эмоции, чувству. Отнюдь не следует думать, что все те, кто
протестовал против вызывающих действий комиссии Томаса,
будут и впредь участвовать в борьбе против реакции.
Достаточно было, к примеру, киномагнатам при участии их
«юридического советника» Бирнса принять решение о немедленном
увольнении прогрессивных деятелей Голливуда, обвиненных
в «оскорблении конгресса», и заявить: «Мы не будем держать
на работе коммунистов», — чтобы некоторые из участников
недавней политической демонстрации голливудцев заявили о
раскаянии. Но, во всяком случае, подобные демонстрации не
проходят бесследно.
В Америке создается «третья партия», которая должна
объединить в своих рядах всех противников фашизма, всех
сторонников восстановления рузвельтовскоге «нового курса».
По всей стране уже существует и действует целая сеть
прогрессивных организаций, ряды их растут. В рабочих центрах,
несмотря на драконовские притеснения, постепенно укрепляет
свои позиции пока еще малочисленная коммунистическая
партия США. Идет упорная борьба внутри профсоюзов.
Минувшей осенью в одном из второклассных
кинотеатров Бродвея «Глоб» в течение месяца демонстрировался
документальный фильм, выпущенный безвестной независимой
кинокомпанией «Тола». Этот фильм назывался «Рузвельт-
стори» — «История Рузвельта». Фильм смонтировали
прогрессивные кинематографисты Мартин Левин и Оливер Юн-
гер. Рассказывают, что постановочный коллектив испытывал
большие финансовые затруднения: ни одна крупная
кинокомпания не захотела иметь с ним дела, а на поддержку
правительства рассчитывать, понятно, было невозможно.
Но как тепло принял этот фильм зритель! Какими
бурными аплодисментами встречал он появление Рузвельта на эк-
Против поджигателей новой войны.
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИэ
257
ране! Левин и Юнгер отыскали редчайшие кинокадры, они
восстановили почти всю биографию покойного президента,
начиная с той поры, когда молодой Рузвельт только начинал
свою политическую карьеру, выступая в роли одного из
сотрудников президента Вильсона. В фильм вплетены
документальные кинокадры, отражающие важнейшие политические
события в жизни США за последние 30—40 лет и, в частности,
страшный экономический кризис 30-х годов. Эти кадры
разоблачают подлинных виновников страданий миллионов
трудящихся — американских монополистов и их политическую
агентуру.
На всем протяжении фильма за каждым кадром звучат
голоса символических героев, сопутствующих Рузвельту:
Народа, Среднего Парня, Средней Девушки, Оппозиции,
Депрессии. Они спорят, пререкаются друг с другом, полемизируют
с Рузвельтом. Средний Парень и иредняя Девушка проходят
долгий и трудный путь, познавая законы жизни в
капиталистическом мире. Вначале они не видят своих настоящих врагов,
они недовольны Рузвельтом, потом они начинают понимать,
что лживая пропаганда желтой печати затуманивала им
глаза; они становятся сторонниками Рузвельта.
Вот некоторые кинокадры, относящиеся к кризисным
годам, — кадры, которым сопутствует полный горькой иронии
голос Среднего Парня. Жалкие шалаши безработных на
пустыре, на окраине Нью-Йорка... «Посмотрите, как чудесно
мы жили! Я имел квартиру. Правда, плоховато было с
умыванием, но у меня не было полотенца, поэтому я в нем не
нуждался...» Унылые люди в отрепьях плетутся к походным
общественным кухням; бесконечные хвосты за чашкой мутной
баланды... «Я гулял. Потом мы шли в наш любимый ресторан.
В нем нам так нравилось, что мы простаивали в очереди по
два часа...» Плакаты: «Безработные, проходите!», «Работы
нет!» Огромные толпы у биржи труда. И тут с экрана
слышатся лживые обещания тогдашнего президента Гувера:
«Курица за углом! Все это лишь небольшие затруднения. Надо
немного потерпеть, и все будет в порядке». А кризис все
разгорается и разгорается...
Зритель воспринимает эти кадры не только как дань
истории. Он видит в них свой завтрашний день, он понимает, к
чему ведет рост инфляции, безумная скачка цен. Он
понимает, куда тащат Америку люди, стоящие ныне у власти.
Особенно живо реагировали зрители на кадры,
отображавшие острую политическую борьбу между Рузвельтом и
силами черной реакции. Какие только дикие сплетни не пускали
в ход враги покойного президента, чтобы скомпрометировать
17 Вот онъ, Америка
258
ЮРИИ ЖУКОВ
его! Вот на трибуне сам Рузвельт. Его лицо спокойно, и
только блеск в глазах свидетельствует о том, каким глубоким
гневом он охвачен. Спокойно, неторопливо произносит он
речь, убивая своих противников самым сильным оружием —
оружием сарказма:
— Мои противники травят меня, мою семью, моих
детей. Я не буду отвечать на выпады -против меня и против
членов моей семьи, но я должен вступиться за свою собаку.
Одни говорят, что доставка ее на эсминце стоила государству
три миллиона, другие называют цифру в пять миллионов,
третьи — в двадцать миллионов. После этих разговоров моя
собака определенно стала не та, что была раньше. Я
должен вступиться за нее...
Взрыв смеха, буря оваций огромной аудитории,
слушающей Рузвельта. И зрители в небольшом зале кинотеатра
присоединяются к этой овации.
Президент умирает незадолго до победы над
гитлеровской Германией. Похороны его выливаются в волнующую
народную демонстрацию. Народ оплакивает покойного прези-
дента. Он возлагает свои надежды на его ближайших
соратников, сторонников демократии, врагов реакции. На экране
Генри Уоллес, Фиорелло Лагардия. В зале кинотеатра опять
вспыхивают аплодисменты.
Это уже политическая демонстрация: известно, что
старые соратники Рузвельта теперь оттерты от государственного
управления. Фиорелло Лагардия умер. Но Генри Уоллес
продолжает борьбу, и с ним теперь надежды миллионов
прогрессивных американцев.
11 сентября 1947 года мне довелось побывать на митинге,
организованном при участии Уоллеса нью-йоркским
комитетом организации «Прогрессивные граждане Америки». Этим
митингом «Прогрессивные граждане Америки» открывали
кампанию подготовки к президентским выборам. Он был
созван в самом крупном зале Нью-Йорка — «Медисон сквер
гардене», вмещающем десятки тысяч людей. Это был чисто
американский, яркий, немного театральный, полный динамики
и экспрессии митинг, и мне хотелось бы рассказать о нем
подробно, поскольку такие митинги весьма характерны для
нынешних политических настроений широких народных масс в
США.
Колоссальный, многоярусный зал с ареной посредине, за*
литый потоками ослепительного света. В центре арены
трибуна, на которую направлены прожекторы. Сверху свисают
огромные американские флаги. Трибуна покрыта белым
сукном, она стоит на синем ковре, дальше идут красные полосы—
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ»
259
это элементы национального флага. Вдоль ярусов зала —
плакаты: «Присоединяйтесь к прогрессивной контратаке!»,
«Пришло время вступить в борьбу!», «Долой закон Тафта —
Хартли!»
Сегодня годовщина памятной речи Уоллеса, которая наде-»
лала такой шум прошлой осенью. В этой речи Уоллес,
который тогда был еще министром торговли, осудил агрессивную
внешнюю политику США, направленную на провоцирование
конфликтов с СССР. После этой речи Уоллес был вынужден
покинуть пост министра.
Огромный зал «Медисон сквер гардена» переполнен. У
входа дежурят наряды конной полиции. Люди подходят и
подходят, заполняя проходы и лестницы. Здесь рабочие, служащие,
мелкие торговцы, военные, довольно много негров. Сейчас
должен начаться митинг. В зале ста-новигся темнее, гаснут
прожекторы, и вдруг на весь зал гремят репродукторы:
— Вам надоела безработица, вам надоели богатства для
маленькой группы и нищета для масс?
— Да! — гремят десятки тысяч голосов.
— Вам надоели Тафт и Хартли?
— Да! — повторяют десятки тысяч голосов, и буря
аплодисментов сотрясает своды зала.
— Готовы ли вы встать и бороться?
— Да! — столь же единодушно отвечает зал.
— Это говорят «Прогрессивные граждане Америки»! —
удовлетворенно заключают репродукторы.
И в зале снова вспыхивает свет, освещая трибуну, на
которой уже стоит первый оратор. Один за другим выступают
политические деятели, работники искусства, представители
общественных организаций. Они клеймят американскую реакцию,
призывают массы сплачиваться теснее для предотвращения
фашистской угрозы, выступают против антирабочих законов,
против «проверки лойяльносги», против расовой
дискриминации, против агрессивной внешней политики, которую ведут
посланцы Уолл-стрита в Вашингтоне.
В разгар митинга на трибуну поднимаются два молодых
актера, в руках у одного из них гитара. Они поют популярную
среди рабочих ироническую песенку: «Имейте сердце, Тафт и
Хартли!» Эта песенка воспроизводит спор двух рабочих. Один
из них все время твердит: «Политика, политика... Я не люблю
политики!» Другой доказывает ему, что если стоять в стороне
от политики, то в конце концов поможешь фашистам притти
к власти: «Вспомни Гитлера! Он тоже начинал с
маленького!»
В промежутках между выступлениями участники митинга
260
ЮРИЙ ЖУКОВ
с огромным подъемом принимают резолюции по самым живо-
трепещущим вопросам текущей политики, и репродукторы
вновь и вновь гремят на весь зал, возвещая программу
«Прогрессивных граждан Америки».
Бурей оваций был встречен знаменитый негритянский певец
и актер Поль Робсон. Человек, обладающий редким
артистическим даром, он явился бы подлинным украшением лучших
в мире театров. Однако Робсон жертвует своей театральной
карьерой в пользу политической деятельности. Он неутомимо
выступает на митингах против реакции, ведет большую
общественно-политическую деятельность как председатель «Совета
по африканским делам». Народ высоко ценит и любит Робсона,
оказывая ему повсюду триумфальный прием. Но зато «хозяева
Америки» платят ему за его политическую деятельность
звериной злобой. Характерная деталь: вы не сможете приобрести
в Америке пластинок с записью выступлений Робсона, хотя они
пользуются огромным спросом. Монополия «Колумбия»
расторгла контракт с ним...
Огромный широкоплечий негр в светлосером костюме
поднялся на трибуну и остановился, жмурясь от ослепительных
вспышек столпившихся перед ним фоторепортеров. Он
иронически улыбнулся, зная, что назавтра все равно ни один из этих
снимков в газетах не появится. Когда гром оваций утих,
Робсон вымолвил своим могучим бархатным басом, сразу
заполнившим весь огромный зал:
— Я горжусь тем, что я нахожусь сейчас здесь, среди вас...
И он сразу же запел песню, в которой разоблачается
расовая дискриминация, существующая в Соединенных Штатах.
Робсон пел без всякого аккомпанемента. Закончив одну песню,
он переходил к другой, от песни — к классическим ариям, от
арий — снова к песням. Аудитория слушала его, как
завороженная. В зале, наполненном десятками тысяч людей, царила
полнейшая тишина. Слушать Робсона — редкое
художественное наслаждение.
Потом Робсон произнес речь. С гневом обрушился он на
«либеральные» газеты «П. М.» и «Нью-Йорк пост» за то, что
они публикуют клеветнические материалы о так называемой
«коммунистической опасности», вместо того чтобы разоблачать
опасность фашизма в США. Робсон говорил о том, что
Америка сейчас стоит на распутье; перед нею два пути: путь
Рузвельта — Уоллеса ведет к миру, путь Ванденберга и ему подобных
ведет к войне. Он призывал демократические силы к
сплочению перед лицом реакционной угрозы.
И вот, наконец, репродукторы возвестили о выступлении
Уоллеса — человека, на долю которого выпала виднейшая роль
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ»
261
в организации отпора силам реакции в США, боевого
соратника Рузвельта, который 13 лет провел в Вашингтоне: сначала
в роли министра земледелия, затем в роли вице-президента и,
наконец, в роли министра торговли. Недаром еще до войны
Уоллеса называли «наследником Рузвельта»: он был одним из
самых верных последователей покойного президента.
Долго не стихали громовые овации в честь Уоллеса. Этот
высокий статный человек, не перестающий заниматься
спортом в 59 лет, выглядит значительно моложе своего возраста.
У него густая копна седых волос, приветливое, тонкое лицо,
широкие крестьянские руки: он начал свой жизненный путь
на ферме в штате Айдахо. Говорит он спокойно, без излишней
ораторской аффектации, чувствуя силу своей позиции.
— Странные дела могут произойти с человеком, который
выступает с речью в «Медисон сквер гардеие», — с легкой
иронией начал он свое выступление. — Возьмите, например, мою
речь, произнесенную год назад. Она была одобрена
президентом США, с которым мы прочитали ее страницу за страницей
в Белом доме ровно год назад. И вот эта речь превратила
министра торговли в редактора журнала «Нью рипаблик».
Бурным оживлением реагировал зал на эти слова,
вспоминая скандальную прошлогоднюю историю. А Уоллес
продолжал свое выступление. Он приводил множество фактов,
свидетельствующих о разгуле реакции в США. Наконец, напомнив,
что государственным служащим было запрещено посетить
один из его митингов, Уоллес с гневной иронией сказал:
— Я щиплю себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Та ли
эта свобода, в которую меня учили верить сорок лет назад?
Неужели мы до такой степени попали в руки поджигателей
войны, что мы не можем выступать, слушать или совещаться,
чтобы узнавать правду и стремиться к миру? Действительно
ли в США установлен контроль над мыслью? Навязано ли
нам полицейское государство? Я хотел бы, чтобы то, что я
сказал год назад, устарело. Но, к несчастью, мы не сделали
никакого прогресса!..
Показав, что «при нынешнем правительстве Уолл-стрит
готовится управлять миром», Уоллес заявил:
— Если демократическая партия — это военная партия,
если она продолжает нападки на гражданские свободы, если
обе партии стоят за высокие цены и депрессию, то в таком
случае народ должен иметь новую партию — свободы и
мира...
В те дни Уоллес еще не ставил прямо вопроса о создании
«третьей партии». Он не хотел итти на разрыв с
демократической партией до тех пор, пока не испробует все пути и все
262
ЮРИП ЖУКОВ
средства, чтобы добиться изменения ее политического курса.
Он оставлял открытой дверь для переговоров с лидерами
демократической партии, членом которой состоял. Однако все
попытки Уоллеса вернуть демократическую партию на курс
Рузвельта терпели крах. Внутри демократической партии его
поддерживала лишь небольшая группа противников крайней
реакции.
И вот в конце декабря 1947 года Уоллес объявил, что он
выдвигает свою кандидатуру в президенты как независимый
кандидат. Задача создания «третьей партии» в связи с этим
была поставлена на реальную основу.
Все силы реакции в США немедленно подняли дикий вой,
начав форменную травлю Уоллеса. Сейчас на нем
сосредоточен огонь всех батарей продажной бульварной прессы. На
него выливают потоки грязи, его объявляют сумасшедшим,
его именуют «красным», «коммунистом».
Общеизвестно, что Уоллес отнюдь не является
коммунистом. Он сам причисляет себя к «прогрессивным
капиталистам» и обладает известным состоянием. Еще перед войной
фирма, распространяющая выведенный им сорт кукурузы
«коппер-крос», получала до 4 миллионов прибыли в год.
Однако Уоллес решительно выступает против диктатуры
Уолл-стрита, против грабительской власти монополий, за
ограждение прав средних и мелких собственников. Это
обеспечивает ему поддержку мелкой и средней буржуазии США,
в частности фермеров. Уоллес пользуется симпатиями и в
широких массах рабочих: ведь он за отмену антирабочего
закона Тафта — Хартли, против монополистов. Наконец он
пользуется широкой популярностью среди негров, которые
видят в нем неукротимого борца против расовой
дискриминации.
Широкую поддержку Уоллесу оказывает прогрессивная
интеллигенция. Известно, что Уоллес сам является творческим
работником. Его живо интересует не только селекция растений,
которой он отдал десятилетия своей жизни, но и антропология,
экономика, история. И не случайно о« стал своим человеком в
организации «Прогрессивные граждане Америки», которая
состоит в значительной своей части из работников творческого
труда.
Уоллесу и его сторонникам предстоит преодолеть огромные
трудности. Достаточно сказать, что почти вся американская
пресса выступает против них. Даже так называемые
«либеральные газеты США сейчас атакуют Уоллеса. Любопытно,
что издатель журнала «Нью рипаблик» Стрейт настоял на
немедленной отставке Уоллеса с поста редактора этого журнала,
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ»
263
заявив, что он не желает, чтобы «Нью рипаблик» стал органом
«третьей партии».
Судя по всему, прогрессивные граждане Америки трезво
оценивают перспективы неравной борьбы на предстоящих
президентских выборах. Они отдают себе отчет в том, что партии
Уолл-стрита — демократическая и республиканская, —
командующие государственным аппаратом, располагающие
неограниченными финансовыми возможностями и
мощной пропагандистской машиной, все еще могут
контролировать большинство голосов. Но при всем том прогрессивные
силы США смело вступили в борьбу, зная, что за ними идут
миллионы простых людей, которые полностью на стороне тех,
кто защищает интересы мира и демократии.
1948 г.
СОДЕРЖАНИЕ
М. Горький. В АМЕРИКЕ
Город Желтого Дьявола 5
Царство скуки 15
МОИ ИНТЕРВЬЮ
Один из королей республики 27
Жрец морали 39
В. БиллЬ'Белоцерковский. ТАМ, ГДЕ «СТАТУЯ СВОБОДЫ»
Пять долларов 53
Пощечина 64
В. Маяковский. МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ (отрывки) 83
Ал. Хамадан. АМЕРИКАНСКИЕ СИЛУЭТЫ (отрывки)
Вашингтон 127
Чикаго 136
На большой дороге 142
Люди из Гомстедта 153
День в Гарлеме 150
Разговор об искусстве 168
«Реслинг» 174
Юрий Жуков. АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ (отрывки)
Коричневая тень 185
Проданные перья 199
«Сделано в Голливуде» 222
«Прогрессивные граждане Америки» ...... 253
Редактор Е. Пральников
Художественный редактор 3. Ильинская
Технический редактор А. Бодров
АО/749 Подписано к печати 19/IX 1949 г. П. л. 173/« (Уч.-ызд. л. 15,74)
Гиралс 50 000 Массовое издание Формат 60х921/ц Заказ 1591 Цена 8 р. 50 к.
Типография «Красное знамя> изд-ва «Молодая гвардия»,
Москва, Сущевская, 21.
Накидки по глубокой печати выполнены типографией «Искра революции»,
Москва, Филнпповскии пер., 13.
ОПЕЧАТКИ
Страница Строка Напечатано Следует читать
20 14 снизу окленную оклеенную
114 23 сверху мастечковой местечковой
133 20 сверху провентилиривать провентилировать
133 12 снизу что чтобы
185 3 сверху возвражают возражают
Зак. 1591.