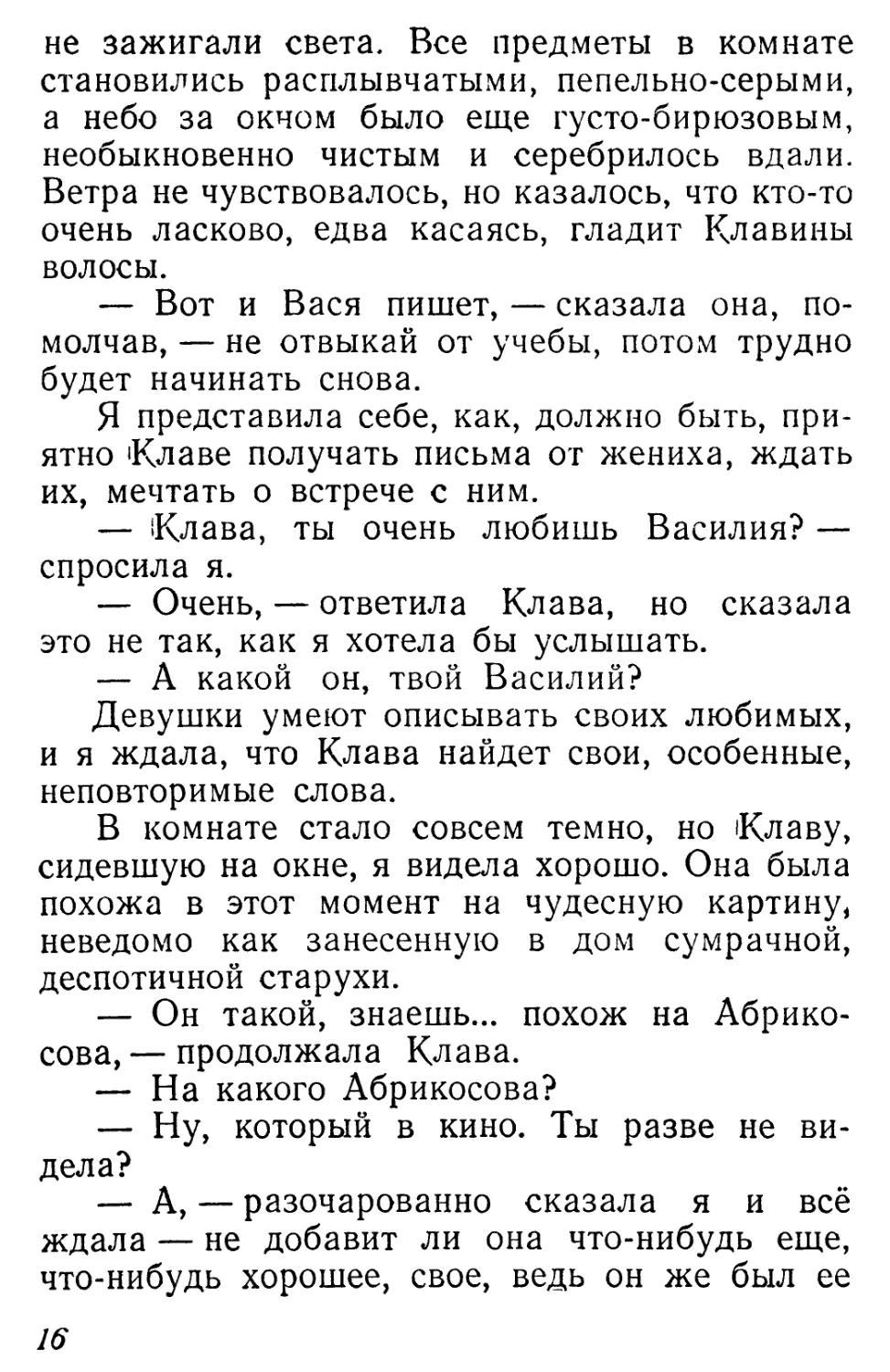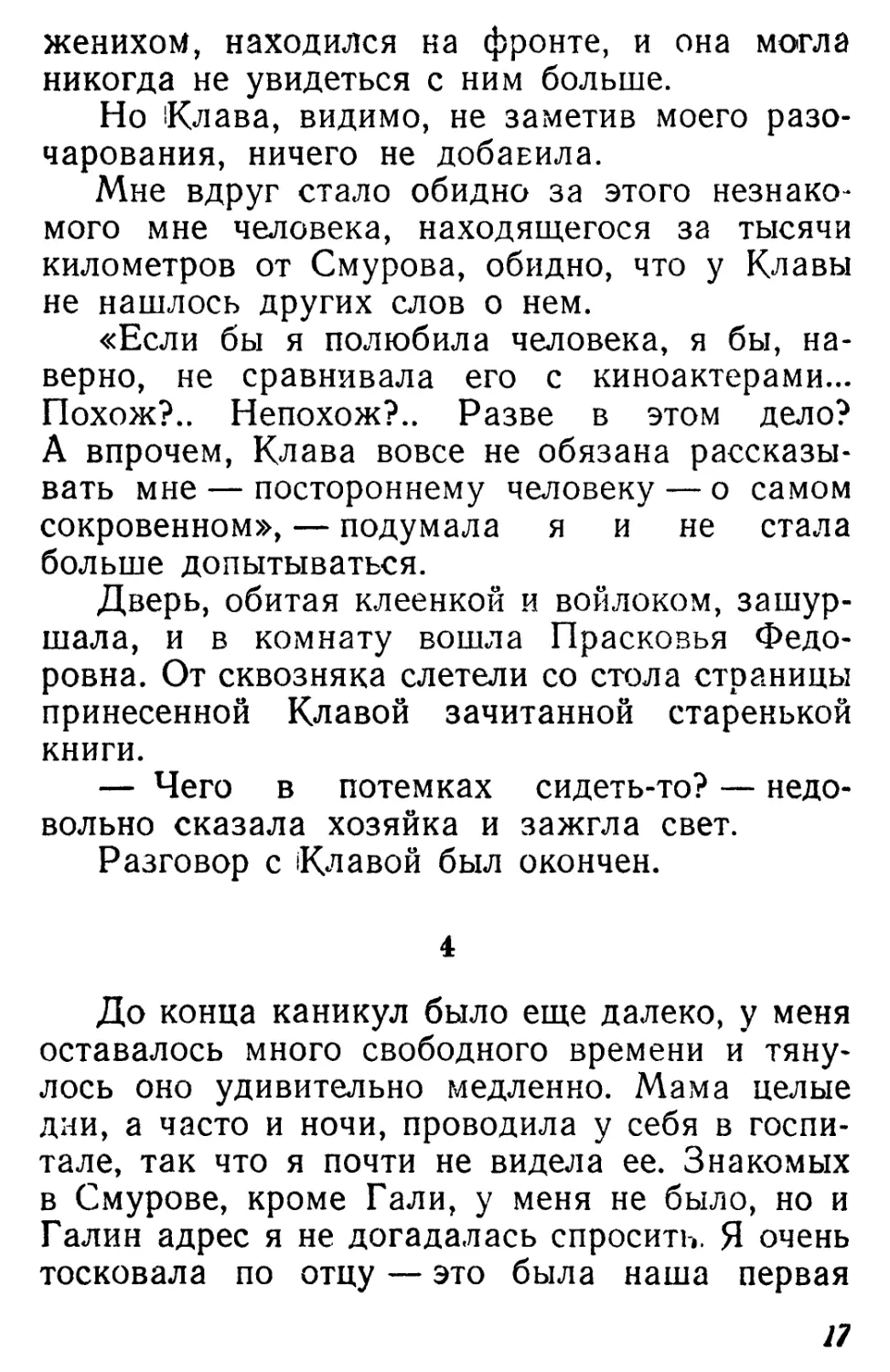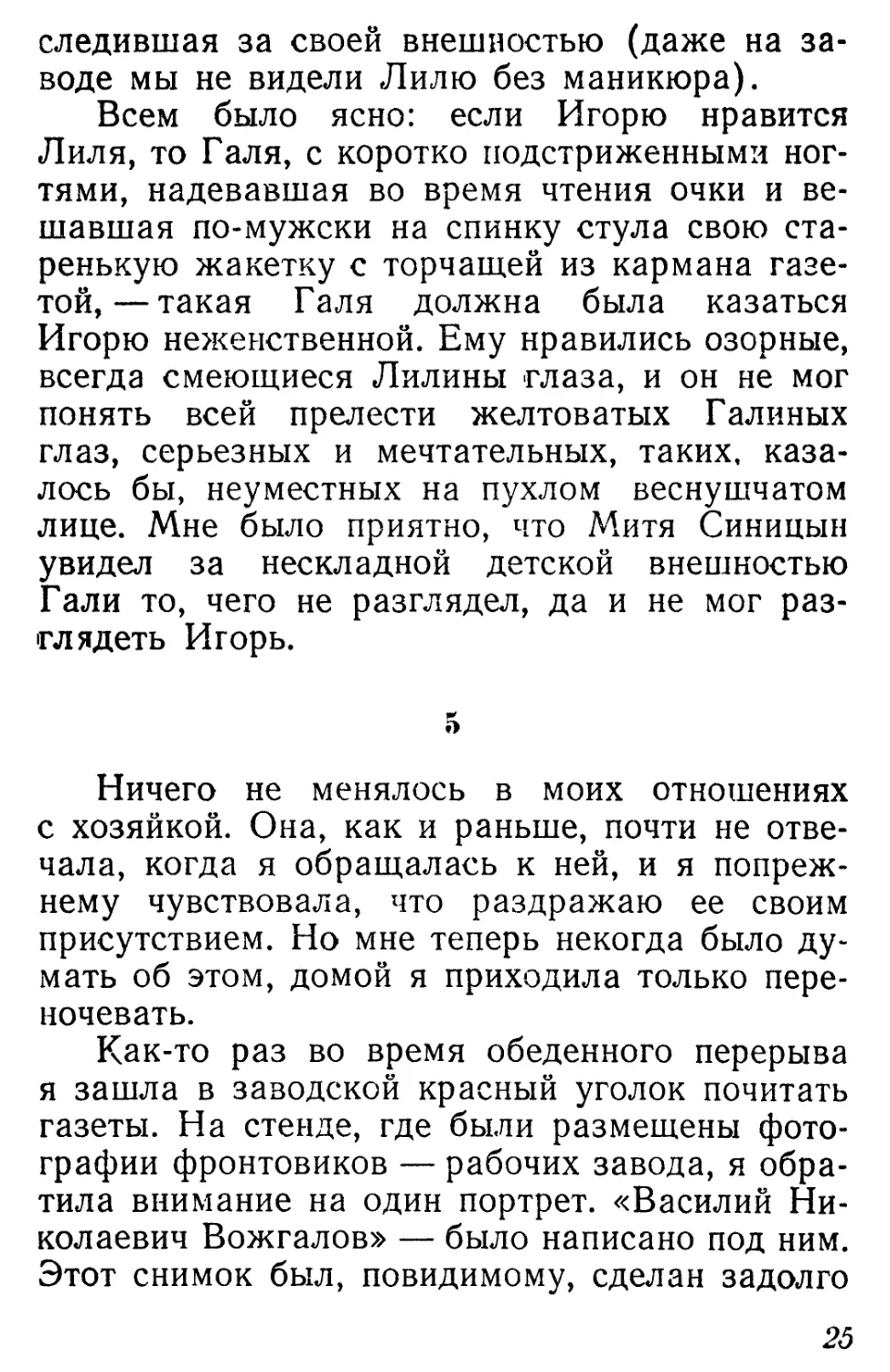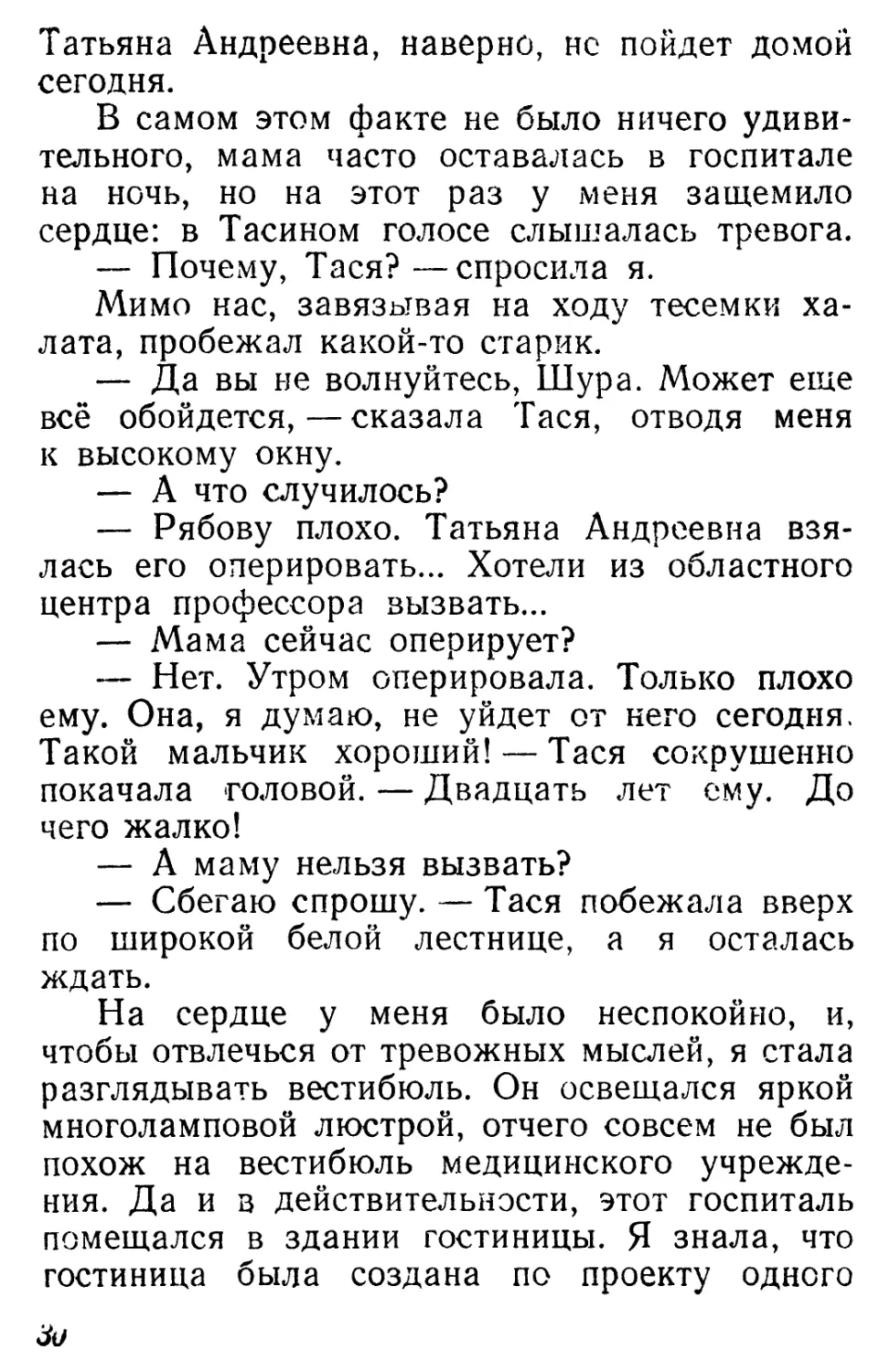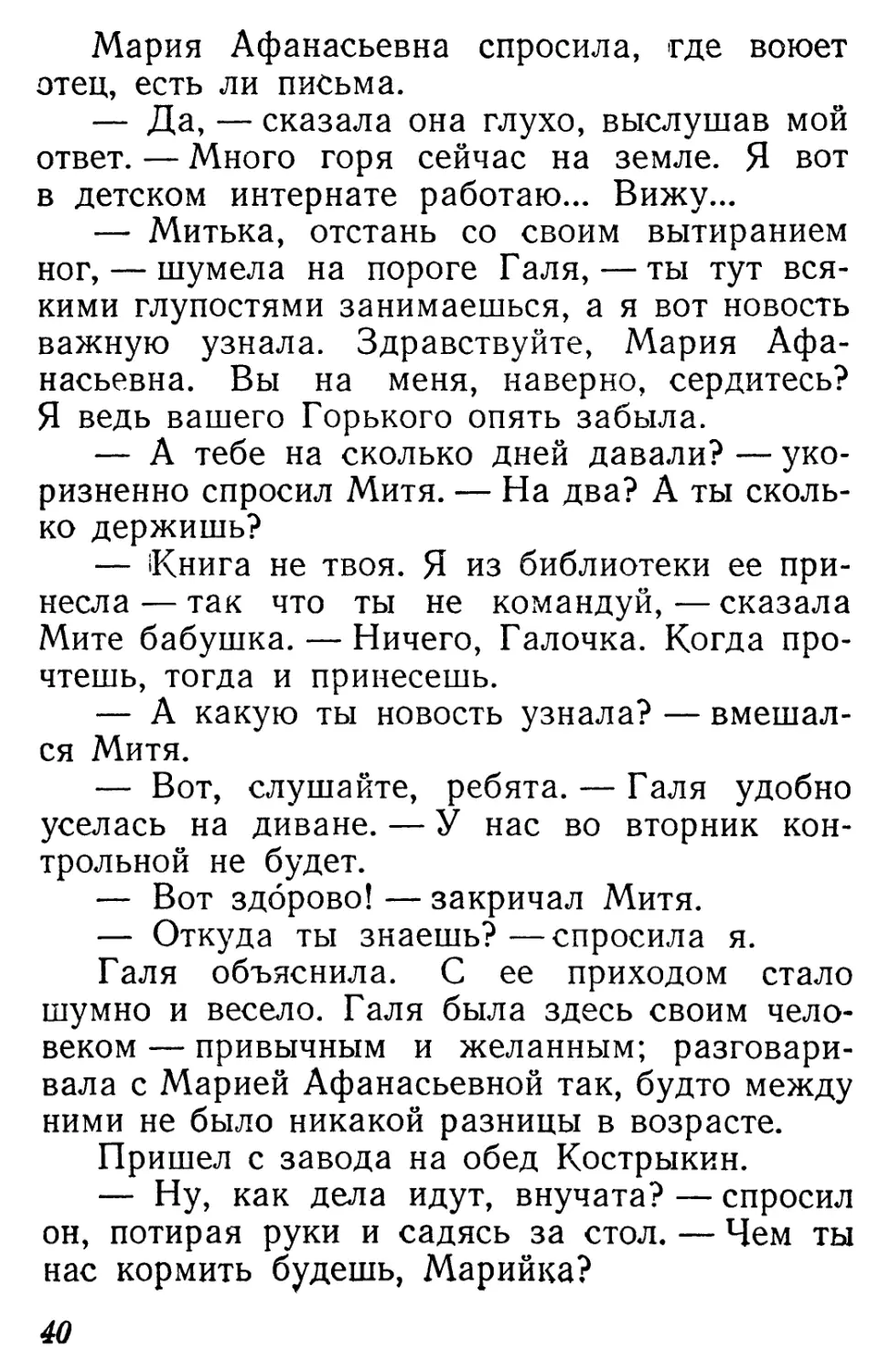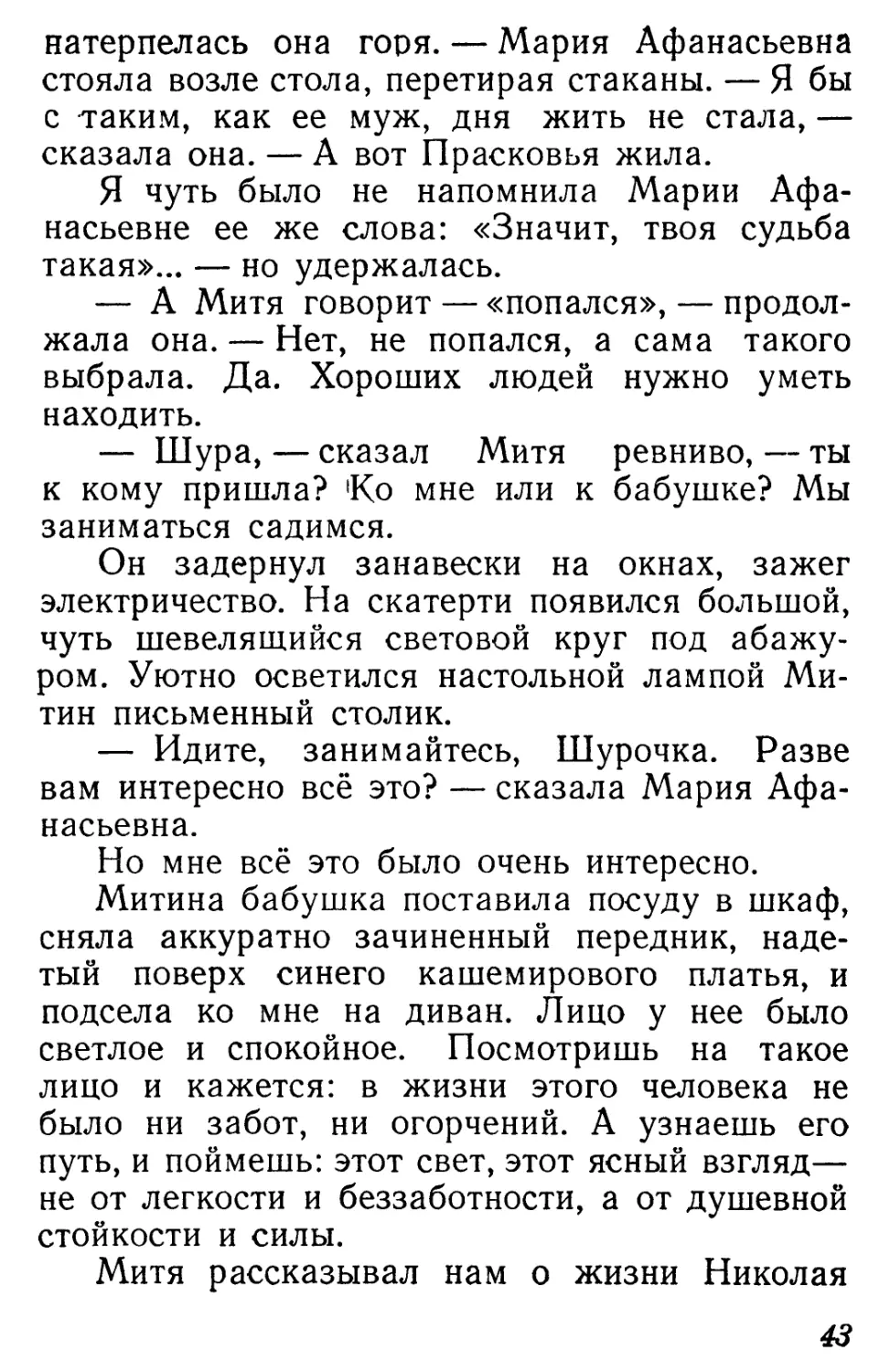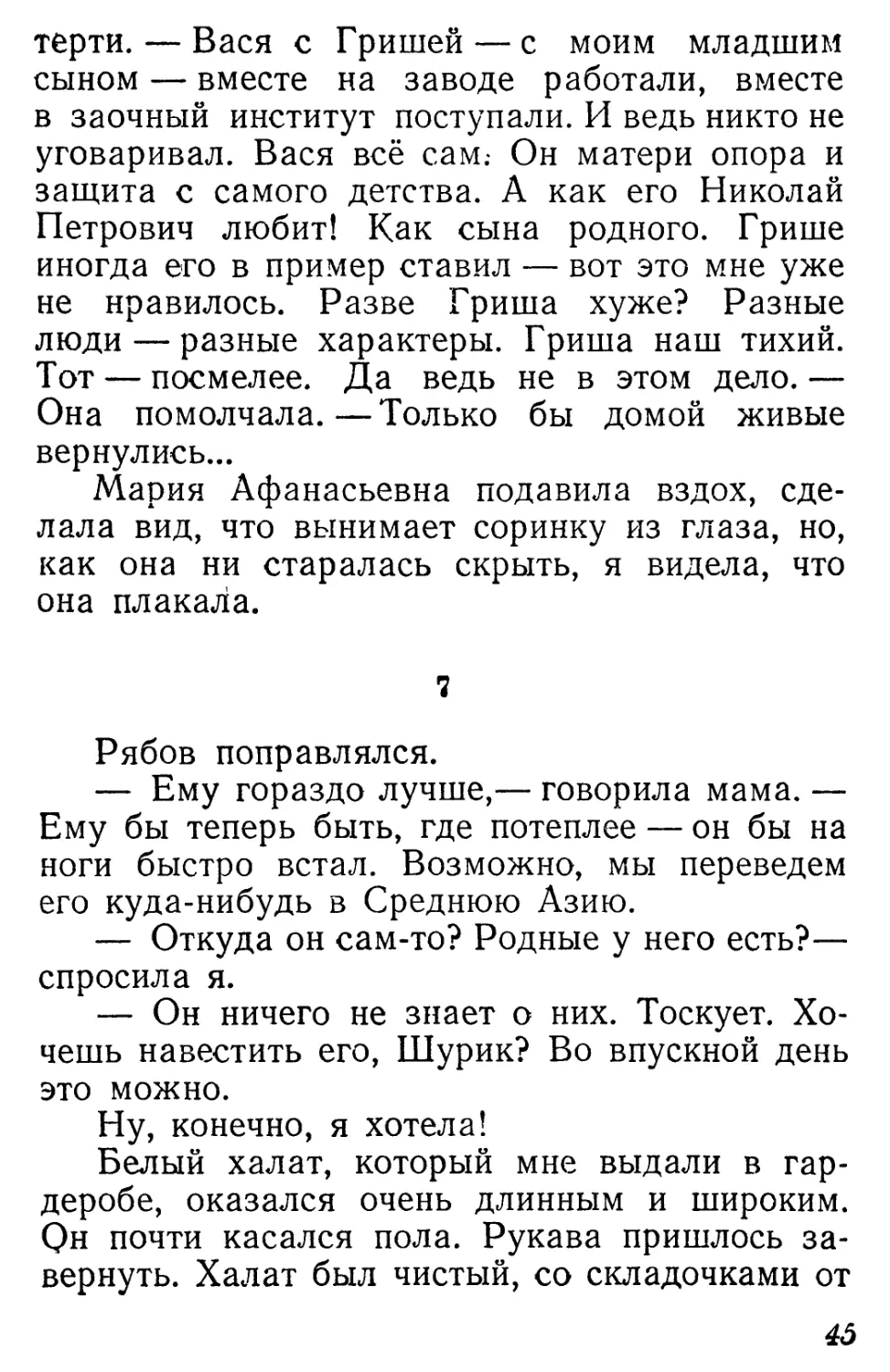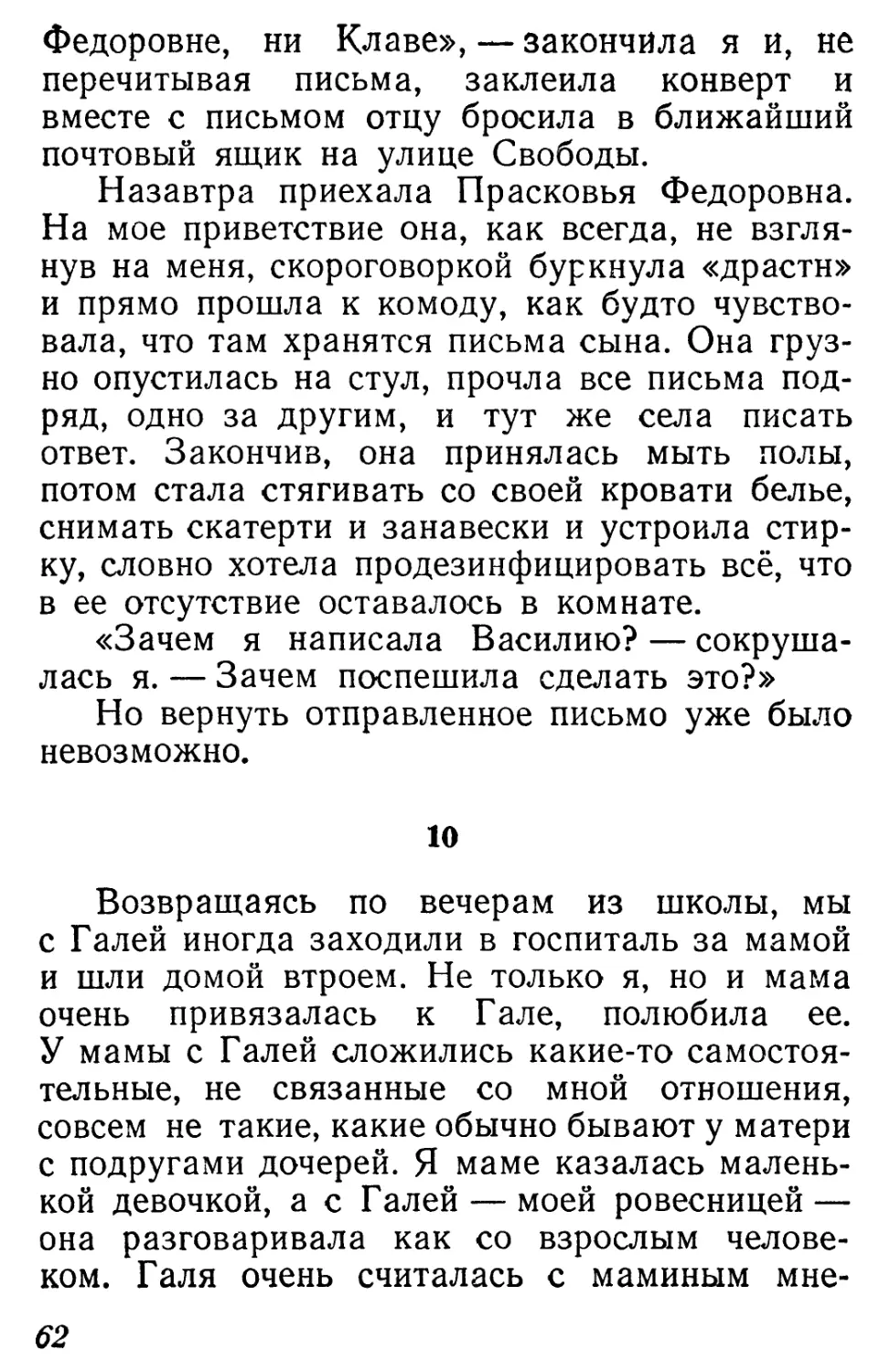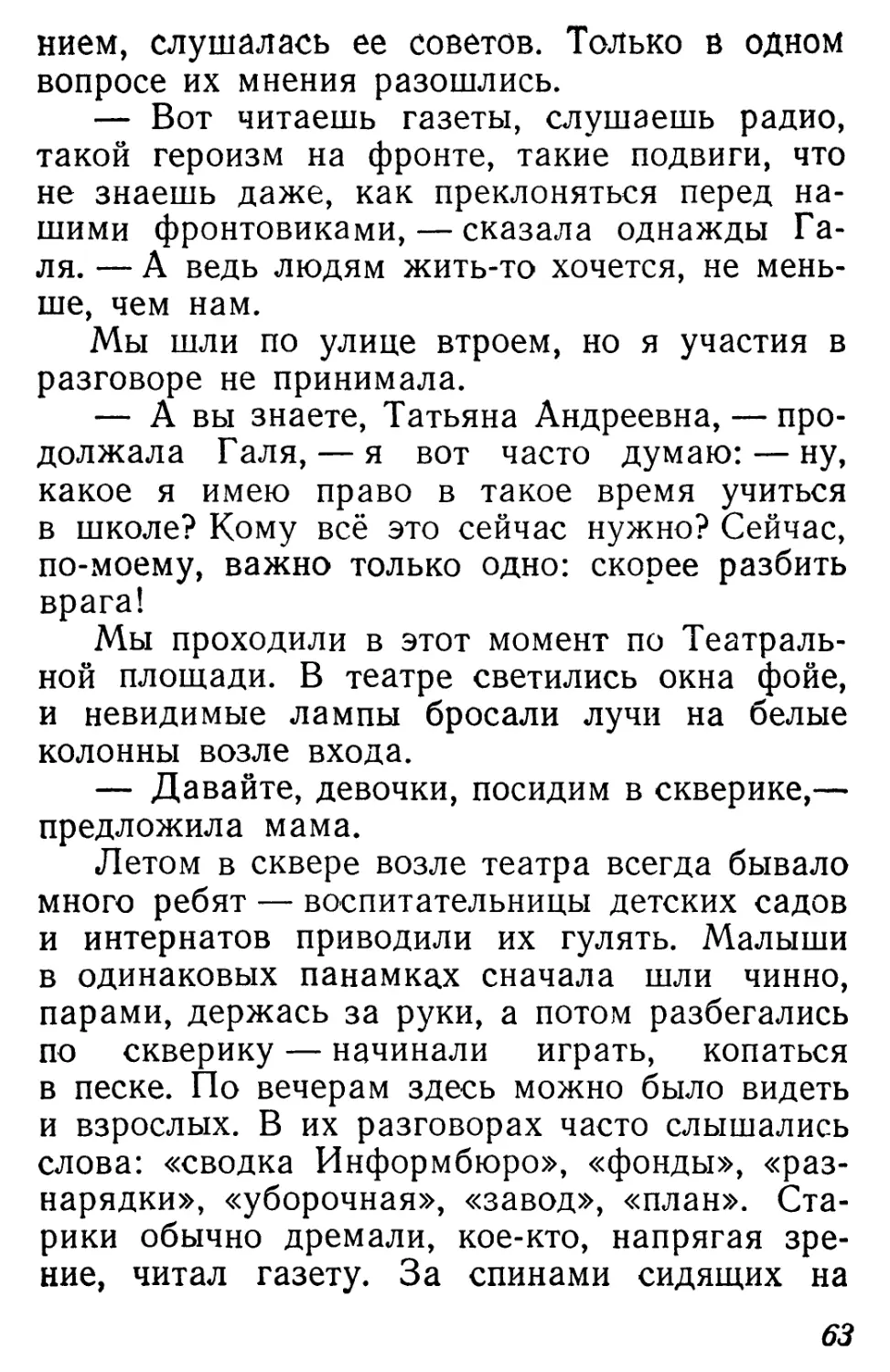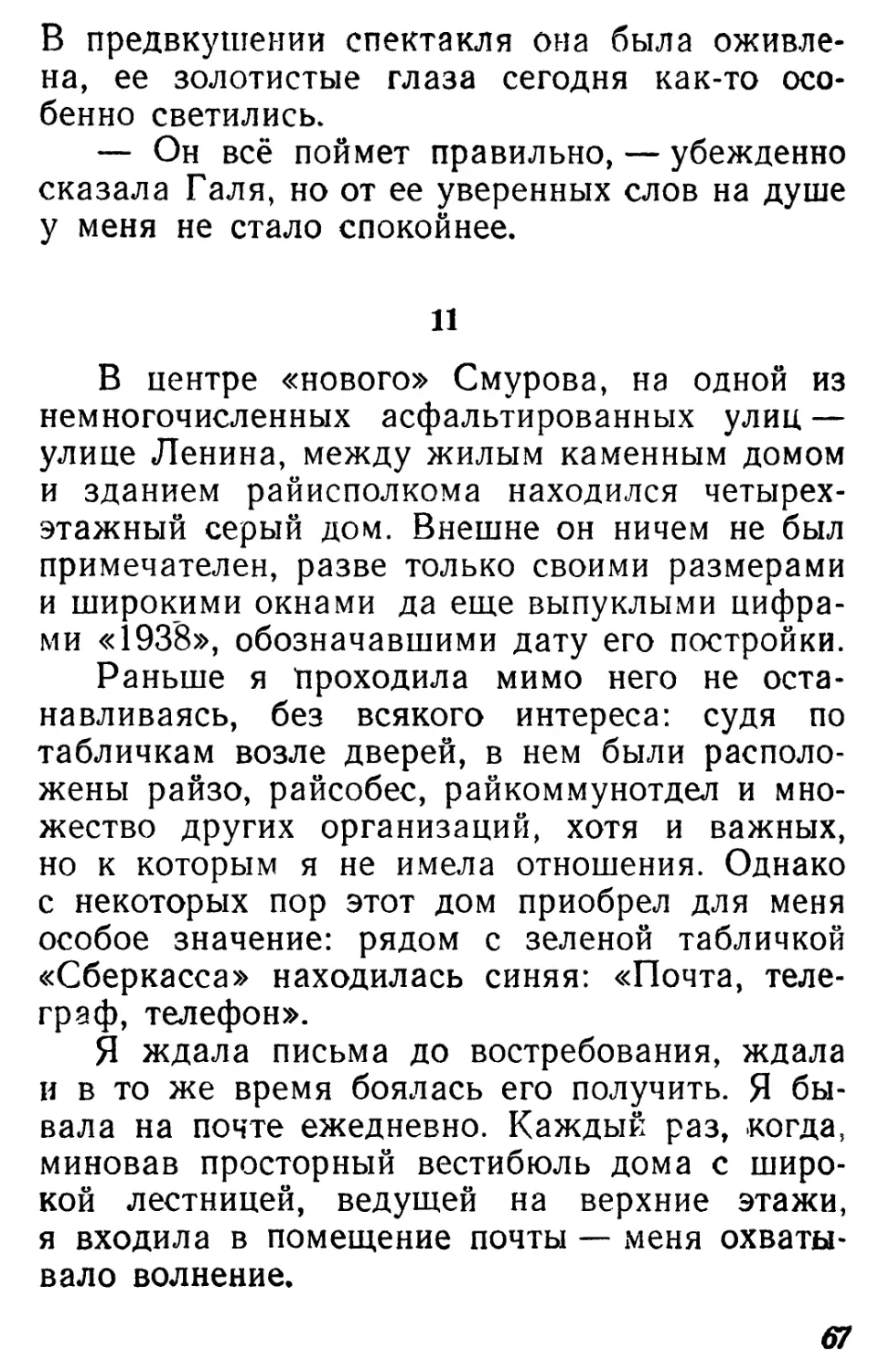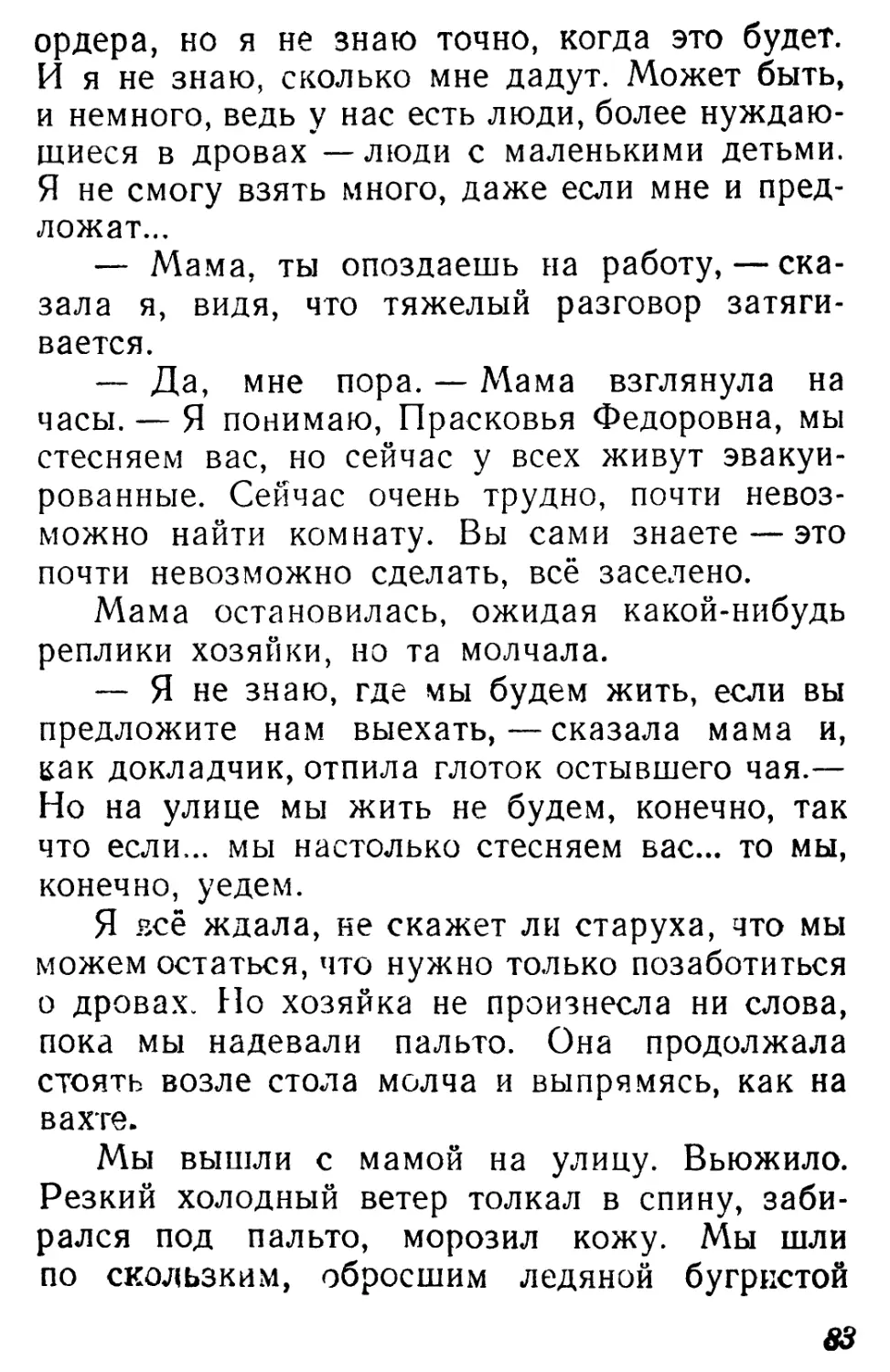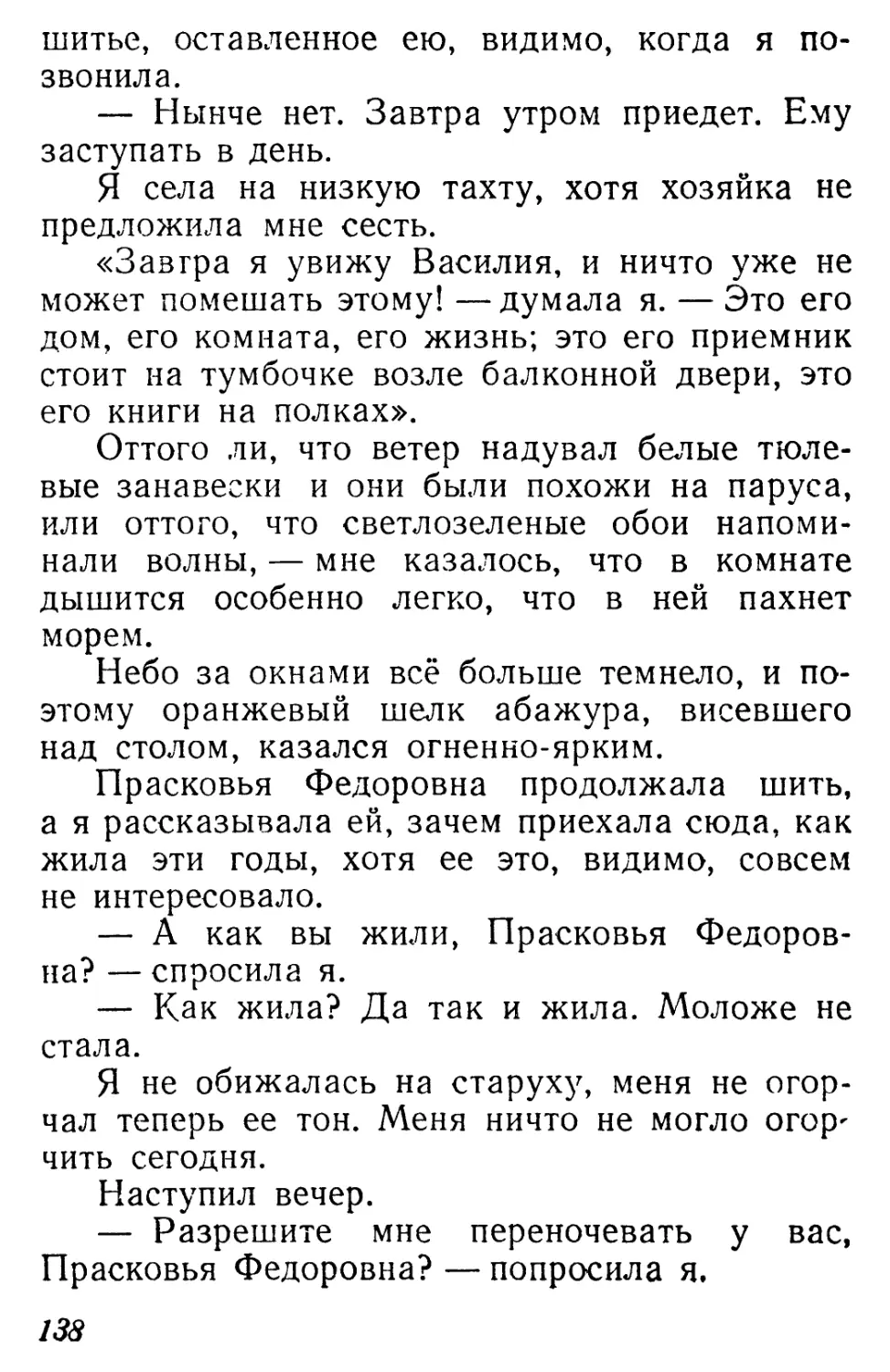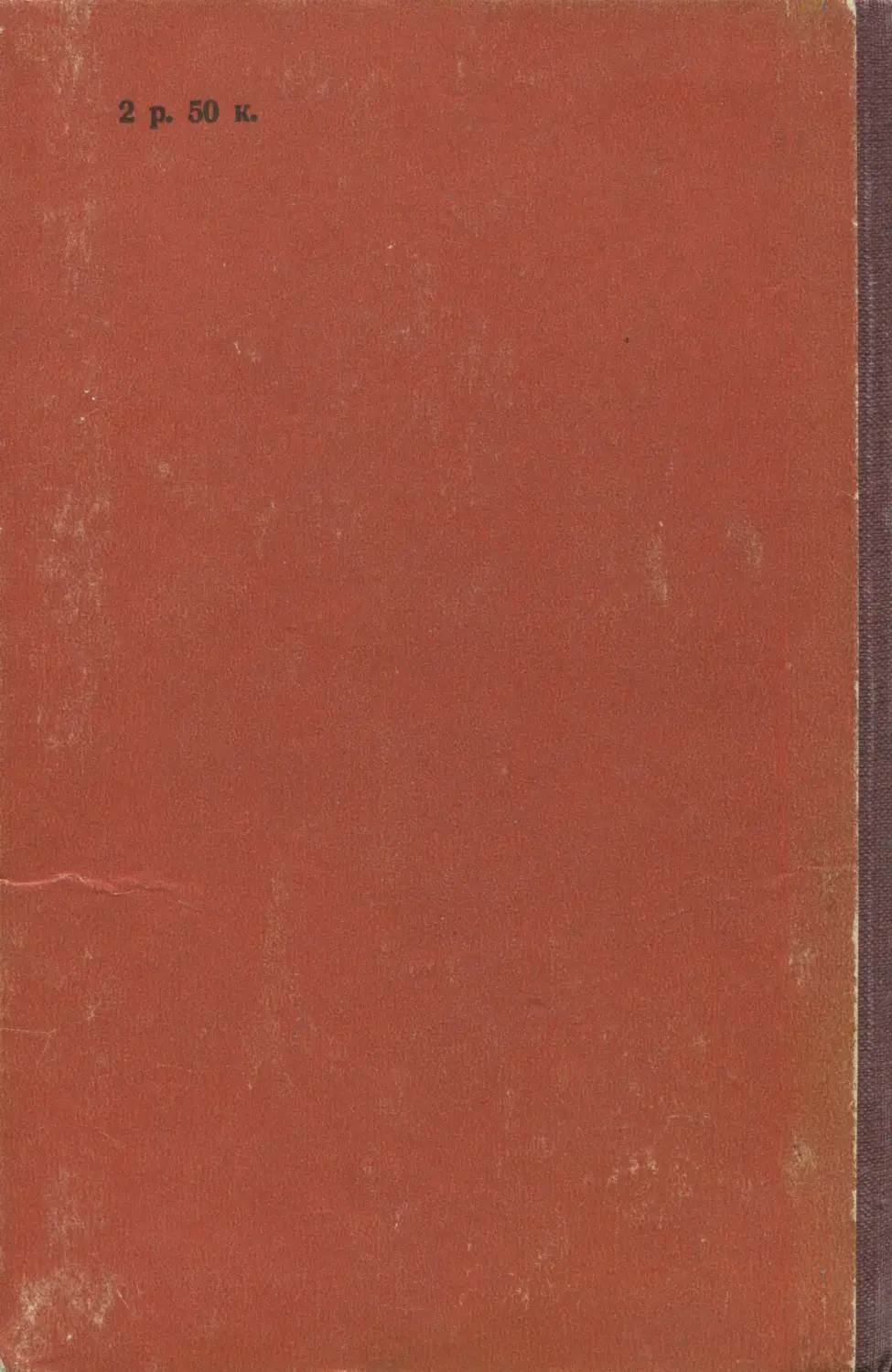Текст
J3<ueHmuna Левидова
ЛЮБОВЬ
п о В Е С Т Ъ
Ленинградское
газетно-мсурналъное и книжное
издательство
19 55
Валентина Левидова
„Первая любовь*
Редактор Г. В. Боголепова
Художник Г, Б. Праксеин
Редактор-художник М. К. Шуваев
Технический редактор Н. И. Родченко
Корректор В. Л. Новицкая
Сдано в производство 2/ХП 1954 г. Подписано к печати 11/III 1955 г.
Формат бум. УОХЭЗ1/^. Печ. л. 9. Перев. печ. л. 5,26.
Уч.-изд. л. 4,96. Тираж 90000 экз. М-26640. Заказ № 1693.
Лениздат, Ленинград, Торговый пер., 3.
Типография им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57
Цена 2 р, 50к.
i
Подъезжая к Смурову, я старалась предста-
вить себе город, в котором мне предстояло
теперь жить и учиться. В воображении рисо-
вался маленький уютный городок с прямыми
асфальтированными улицами, с шумной тол-
пой на тротуарах, с веселым звоном трамваев,
от которого мы отвыкли за блокадную зиму.
Но Смуров оказался совсем не таким, ка-
ким я его себе представляла. Безлюдны были
немощеные, поросшие травой улицы с шаткими
деревянными мостками. Темные бревенчатые
дома выглядели нежилыми, несмотря на зана-
вески и горшки с цветами в окнах.
3
Это был тихий тыловой городок — сонный
и неправдоподобно мирный. Спокойное, не гро-
зящее бомбежкой небо и свет редких фонарей
на пустынных вечерних улицах создавали впе-
чатление, что время здесь остановилось на
какой-то далекой довоенной дате.
О том, что где-то идет война, напоминали
только раненые, которые с палочками и косты-
лями, украдкой от госпитального начальства,
разгуливали по улицам Смурова в халатах,
белых носках и огромных тапочках с загну-
вшимися внутрь стоптанными задниками.
В остальном Смуров жил, казалось, по ста-
рым, довоенным законам. Особенно это броса-
лось в глаза в его самом оживленном месте —
на базаре, который почему-то назывался «Верх-
ним», хотя «Нижнего» не было. На длинных
деревянных столах, врытых в землю, пламе-
нели разложенные грудами помидоры, а в ка-
душках, в рассоле с желтыми зонтиками цве-
тущего ломкого укропа зеленели и желтели,
как осенние травы, свежепросоленные огурчики
с прилипшими к ним листиками черной сморо-
дины. Рядом лежали горки грибов — белых,
подосиновиков, сыроежек с хрупкими, гофри-
рованными снизу шапочками. Здесь были все
сорта меда — от сахаристо-белого с крупин-
ками воска до канареечно-желтого. Был мед
густой и темный, и был прозрачный и жидкий,
как подсолнечное масло.
Меня поразила пестрота красок, обилие
товаров. Я пристально рассматривала их, как
будто видела впервые, и не верила, что вижу
их наяву. Но это была явь, и от нее станови-
лось еще больнее думать об осажденном, отре-
занном от «большой земли», изголодавшемся
Ленинграде...
В том месте базара, где начиналась его
«промтоварная» часть, в ларьках продавались
блестящие, клейкие на вид, крашенные в цвет
крепкого чая деревянные ложки, шкатулки и
детские игрушки с нанесенными на них радуж-
ными узорами. Потом выяснилось, что этими
изделиями славятся смуровские края.
Мы с мамой поселились на улице Салты-
кова-Щедрина в старом двухэтажном бревен-
чатом доме, похожем на барак, мрачном и на
вид очень неуютном. Чтобы попасть в сени,
нужно было войти в калитку и пройти через
двор. От того, что дом не имел входа с улицы,
он казался еще более неприветливым и не-
гостеприимным. Но комнатки в нем были чи-
стенькие и светлые.
Наша хозяйка, суровая старуха с широким
скуластым лицом и опухшими веками — Пра-
сковья Федоровна Вожгалова — поставила нам
несколько условий. Во-первых, к нам никто не
имел права приходить. Во-вторых, дверь из
хозяйской комнаты в нашу должна была всегда
оставаться открытой, чтобы Прасковья Федо-
ровна могла продолжать пользоваться обеими
комнатами. Она так и сказала: «Не хочу ни
в чем себя стеснять».
Эти два условия мама приняла безогово-
рочно: знакомых в Смурове мы не имели, и вы-
полнить эти требования хозяйки было легко.
Однако третье условие нас обеспокоило. Пра-
сковья Федоровна хотела, чтобы на зиму мы
6
заготовили десять-двенадцать кубометров дров.
— Почему так много? — удивилась мама.—
У нас в Ленинграде квартира с кухней, перед-
ней и ванной, и нам всегда хватало трех кубо-
метров. А у вас всего две небольшие ком-
натки...
— А сенцы? — начала было Прасковья Фе-
доровна, но тут же спохватилась и, повиди-
мому, пожалев, что снизошла до обсуждения
этого вопроса, строго добавила: —Как хотите.
Это мое условие.
У нас не было иного выхода, и мы согласи-
лись, хотя совершенно не представляли себе,
где сможем достать столько дров. Мы согласи-
лись бы на всё, лишь бы остаться в этих чи-
стеньких комнатках, как следует помыться,
лечь на эти высокие кровати с пирамидами
подушек и отдохнуть, отдохнуть после утоми-
тельной дороги, после тяжелой блокадной
зимы. Мы мечтали отоспаться за всё время,
что прошло с первой бомбежки, с первого
обстрела, с первого дежурства на крыше, с той
первой ночи, когда мы легли не раздеваясь,
положив возле себя вместо книги сумку
с противогазом, слушая не мирное тиканье
будильника, а стук метронома в тревожном
репродукторе.
Словом, мы остались у Прасковьи Федо-
ровны. Я помню, как приятно было лечь на
мягкую, с пуховой периной, кровать и по-
чувствовать себя «дома», хотя «дом» этот был
чужой и непривычный. Было еще рано, но я
сразу же заснула и проснулась лишь тогда,
когда солнце уже нагрело комнату и на моем
6
ватном одеяле лежал светлый и теплый сол-
нечный квадрат.
Делая вид, что сплю, я наблюдала за хо-
зяйкой. В черной, сбористой, как у цыганок,
юбке и белоснежной просторной блузе, какие
носят кормящие матери, она вытирала пыль.
Мамы в комнате не было, она, как мы услови-
лись накануне, чуть свет ушла в госпиталь,
в котором должна была теперь работать. На
ее кровати уже не возвышалась вчерашняя
пирамида подушек — мама постелила постель
по-своему.
Всё остальное в комнате выглядело так же,
как и вчера, — чистенькие занавески, закры-
вающие половину окна, оттоманка с твердыми
подушками в белых чехлах, горшки с фику-
сами и столетником, застланный вязаной до-
рожкой комод, на котором в рамке стояла
фотография военного.
— Доброе утро, — сказала я хозяйке, са-
дясь на постели.
Не оборачиваясь в мою сторону и продол-
жая вытирать пыль, Прасковья Федоровна
угрюмо буркнула что-то вроде «драстн».
Я быстро оделась и умылась под умывальни-
ком, из которого вода текла тонкой неверной
струйкой, и распахнула окно.
Комната сразу наполнилась той особой
свежестью, что присуща только концу лета или
началу осени, когда долго стоит сухая солнеч-
ная погода и днем бывает жарко, вечерами же
и по ночам в воздухе разлит легкий, как бы
предупреждающий холодок, а утром на траве
видны серебристые следы заморозков.
7
Ветер толкнул створки окна, и оно с шумом
захлопнулось.
Не взглянув на меня и не сделав мне заме-
чания, Прасковья Федоровна подошла к окну
и вновь открыла его, закрепив ставни крюч-
ками. Во всех ее движениях чувствовалось
столько неудовольствия, столько, как мне каза-
лось, неприязни, что мне легче было бы выслу-
шать любой упрек, любой выговор. Мне
хотелось, чтобы Прасковья Федоровна хоть
что-нибуць сказала, хотелось просто услышать
человеческий голос. Но хозяйка молчала. Я села
на край стула и не знала, что же делать
дальше. Не обращая на меня никакого вни-
мания, словно меня и не было в комнате,
Прасковья Федоровна продолжала мести пол.
Через несколько минут она уже подметала
возле меня, и мне пришлось пересесть на дру*
гой стул, но скоро она приблизилась с веником
уже и к тому стулу. Мне ничего не оставалось,
как снова пересесть на первый, — и всё это
происходило без единого слова, без единого
звука, как в немом кино.
Мне было очень не по себе в чужой ком-
нате, наедине с молчаливой суровой старухой.
Мне было не по себе еше и оттого, что она
работала, а я без дела сидела на стуле.
— Прасковья Федоровна, дайте мне ве-
ник, — попросила я. — Вам ведь трудно наги-
баться.
Помолчав, хозяйка сказала:
— Лучше пей-ко чай, пока не остыл.
Я поняла, что больше она не скажет ни
слова.
8
В той комнате, где спала Прасковья Федо-
ровна, был накрыт стол. В самоваре я увидела
свое лицо, так же смешно искаженное, как
в кривых зеркалах в парке культуры и отдыха
у нас в Ленинграде, но там, дома, мне от этого
бывало смешно, а тут нисколько. На столе
в синей стеклянной вазочке лежали мелкие,
аккуратно наколотые кусочки сахара. Будь
Прасковья Федоровна другой, будь она привет-
ливой и радушной, я попросила бы у нее
в долг кусочек сахара, но к такой, как она,
я никогда не обратилась бы ни с одной прось-
бой.
Выпив наскоро холодный несладкий чай,
я, словно вырвавшись на свободу, вышла на
улицу и пошла разыскивать школу, в которой
мне предстояло учиться.
2
Школа № 7, уступив свое большое светлое
здание на центральной улице госпиталю, пере-
ехала в одноэтажную деревянную постройку,
очень похожую на склад. Она находилась да-
леко за огородами и пустырями, и я с трудом
отыскала ее. Обогнув огромную, во всю ширину
дороги лужу, окруженную липкой глиной, я
вошла в помещение, еше сохранявшее запах
сырой земли и овощей. Узкий коридор с ма-
леньким квадратным оконцем был загромо-
жден партами, и пройти в комнату, из которой
доносились голоса, можно было только про-
тискиваясь боком.
В небольшой комнате, служившей одновре-
9
менно и учительской, и канцелярией, и кабине-
том директора, горел свет. За столом у малень-
кого окна сидела седая женщина — директор
школы. Вокруг нее стояли ребята — старше-
классники. Убеждая ее в чем-то, они говорили
очень громко, перебивая друг друга и волнуясь,
и обращались то к ней, то к сидящим за сосед-
ними столами учителям — молодой женщине и
сутулому старику.
Молодая учительница задумчиво смотрела
в окно на редкие кусты, за которыми начина-
лось картофельное поле. У старика слегка дви-
гались челюсти, будто он проверял — на месте
ли они. Директор школы устало слушала ре-
бят, ничего не возражая им, и время от вре-
мени приглаживала свои и без того гладкие
редкие волосы.
Странно было видеть, что никто из взрос-
лых не пытался навести порядок, не пытался
положить конец этому шуму и неразберихе.
Несмотря на то, что взрослые, находившиеся
в комнате, не были похожи друг на друга,
в выражении их лиц в этот момент было
что-то общее, словно они думали об одном и
том же.
Мне показалось, что в этой школе между
учениками и преподавателями сейчас не было
той грани, которая обычно отделяет детей от
их педагогов и не стирается даже после окон-
чания школы. В этой школе не было ни учени-
ков, ни учителей — здесь были люди, собра-
вшиеся, чтобы обсудить и решить важные для
них всех вопросы. Только одни были моложе,
шумливее, говорили громче; другие были серь-
10
езнее, солиднее, тише. Одни предлагали, спо-
рили; другие — внимательно слушали, взвеши-
вали, прежде чем принять решение. Но всё,
что было здесь — темная комната с горящей
днем лампочкой, невеселый шум голосов, не
похожее на школу здание с наваленными в уз-
ком проходе партами, как будто предназначав-
шимися на слом, заставляло с грустью вспо-
мнить довоенную школьную жизнь, где всё
было просто, легко и на своем месте.
Как непохожа была увиденная мною здесь
картина на обычное предсентябрьское оживле-
ние, когда веселые и беззаботные, окрепшие
за лето школьники, создавая неимоверную
суету везде — дома, в канцелярских магазинах,
в книжных киосках и библиотеках,—готовятся
к новому учебному году и даже те, которым
через месяц-другой надоест учеба, мечтают
в конце лета поскорее сесть за парту и довери-
тельно сообщают товарищам: «Я уже устал
отдыхать!»
Оформив документы и узнав, что я зачис-
лена в 9-6 класс, я вышла на улицу и пошла
по тропинке через картофельное поле.
Картошка была уже выкопана, и поле на-
поминало комнату, из которой только что
уехали люди, переворошив перед отъездом всё
содержимое своих сундуков и ящиков и оста-
вив комнату в таком неприбранном, разворо-
ченном виде.
Я то и дело наступала на стебли с тонкими
как паутина корнями, в которых запутались
мелкие черные комочки — не то земля, не то
недозрелая картошка.
11
Я не могла представить себе занятий
в этой школе, из которой никогда не выветрит-
ся запах сырых, а может быть, и подгнивших
овощей, в школе, где нет светлых просторных
классов, физкультурного зала, специально обо-
рудованных химического, физического, биоло-
гического кабинетов со всеми их пробирками и
спиртовками, амперметрами и вольтметрами,
географическими картами и чучелами птиц, где
не развешаны по стенам портреты Ломоносова
и Сеченова, Мичурина и Павлова, где нет
огромной, во всю стену, таблицы Менделеева, —
где нет всего того, что на всю жизнь оставляет
незабываемое ощущение школы.
Стояла предгрозовая душная тишина. Я
услышала позади себя быстрые шаги, огляну-
лась и увидела девушку, которая тоже была
только что в школе.
Еще там я обратила внимание на ее густые
рыжие косы и совсем детское лицо.
Оно было так густо обсыпано веснушками,
что казалось смуглым.
Девушка догнала меня и заговорила со
мной так, словно мы были давно и хорошо
знакомы:
— Ты в наш 9-6 попала? Плохо, что зани-
маться придется в третью смену, правда?
Она улыбнулась, и ее желтоватые глаза
под густыми рыжими бровями осветились золо-
тистым огоньком.
— Может быть, это только на первую чет-
верть? — сказала я.
— Может быть, —- согласилась она и спро-
сила:
12
— Тебя как зовут? Меня Галя. Галя Лап-
тева.
— А меня Шура.
— Ты откуда приехала?
— Из Ленинграда.
— Из Ленинграда?
Ее лицо стало серьезным. Она хотела еще
что-то спросить, но не спросила, а только
как-то очень тепло и участливо поглядывала
на меня своими желтоватыми с золотинкой
глазами.
3
Я старалась поменьше видеться с Пра-
сковьей Федоровной, но в то короткое время,
что мне приходилось бывать дома, я постоянно
чувствовала на себе настороженно-вниматель-
ный взгляд хозяйки, ревниво и неодобрительно
следившей за всем, что я делала в комнате.
Я стеснялась сесть на диван, чтобы не смять
чехол, боялась есть за столом, чтобы не запач-
кать туго накрахмаленную и отутюженную ска-
терть, не решалась поставить в неурочное
время самовар или чайник.
Царившая в комнатах безукоризненная
чистота свидетельствовала о неутомимой энер-
гии и аккуратности старухи, но в то же время
придавала комнатам какой-то нежилой вид.
Сама Прасковья Федоровна в блузе ослепи-
тельной белизны казалась неотъемлемой при-
надлежностью этих комнат, и я не могла пред-
ставить себе ее живущей где-нибудь в другом
13
месте, в другом городе или даже на другой
улице.
Соседки посещали Прасковью Федоровну
редко. Они не забегали, как это обычно водит-
ся, взять на время утюг или корыто или просто
посудачить. Они ходили сюда будто по обязан-
ности, будто выполняя долг; сиживали на
краешке стула, больше помалкивали и, как
мне казалось, робели в присутствии хозяйки.
Только одна семья — мать и дочь Метилевы —
вела себя с Прасковьей Федоровной иначе, чем
все. Я долго не понимала, на чем держится эта
странная дружба нашей хозяйки с шумной,
говорливой старухой Метилевой, часто бывав-
шей навеселе, и с ее тоненькой, беленькой,
нежной, как цветок, дочерью Клавой.
— Ишь, какая краля! — сказала Метилева,
увидев меня впервые. — А папка-то у тебя
есть? А где воюет? А приехали-то вы откуда,
милая? — Она тараторила, совершенно не счи-
таясь с Прасковьей Федоровной, как будто
зная свою власть над нею. — В Ленинграде,
голубка, жила! — воскликнула Метилева, уз-
нав, откуда мы, — подумать только! Небось,
там жизнь до войны у-ух какая была! — Она
улыбалась всем своим маленьким личиком,
всеми его складочками и морщинками.
Познакомившись ближе с этой семьей,
я узнала, почему Метилева так независимо
держала себя с нашей хозяйкой: ее дочь Клава
была невестой сына Прасковьи Федоровны —
Василия.
Эго известие ошеломило меня. Я никогда
особенно не раздумывала над тем, была ли
и
наша хозяйка когда-либо замужем и были ли
у нее дети, но нисколько не сомневалась в том,
что сейчас она одинока. Мне не приходило
в голову, что человек в военной гимнастерке,
фотография которого стояла на комоде, — ее
сын. Уж очень непохож он был на Прасковью
Федоровну.
Ясные глаза юноши смотрели приветливо и
ласково и как будто освещали всю комнату.
Трудно представить себе, что такой Василий —
сын хмурой, неприветливой старухи.
...Клава часто навещала хозяйку.
Работая надомницей, Прасковья Федоровна
почти не выходила на улицу и весь день вя-
зала. Но был, однако, случай, когда Клава,
придя к нам под вечер, не застала старуху
дома. Я была одна, и мы разговорились.
— Какая ты счастливая! — сказала Кла-
ва. — Она села на подоконник и мечтательно
откинула голову. — Ты везде побывала, всё
видела — Москву, Ленинград...
Я всегда считала, что как раз очень
мало видела — почти безвыездно прожила в
Ленинграде, в то время как другие в свои
15—16 лет объездили чуть ли не весь Совет-
ский Союз.
— Ты в каком классе? — продолжала
Клава. — В девятый перешла? Счастливая.
Кончишь школу, дальше учиться пойдешь. А я
вот недоучилась, поступила официанткой в сто-
ловую закрытого типа. Мама насоветовала.
Она говорит: «Девушке образование не обяза-
тельно, затс сыта будешь»...
Темнело всё больше и больше, но мы
16
не зажигали света. Все предметы в комнате
становились расплывчатыми, пепельно-серыми,
а небо за окном было еще густо-бирюзовым,
необыкновенно чистым и серебрилось вдали.
Ветра не чувствовалось, но казалось, что кто-то
очень ласково, едва касаясь, гладит Клавины
волосы.
— Вот и Вася пишет, — сказала она, по-
молчав, — не отвыкай от учебы, потом трудно
будет начинать снова.
Я представила себе, как, должно быть, при-
ятно Клаве получать письма от жениха, ждать
их, мечтать о встрече с ним.
— Клава, ты очень любишь Василия? —
спросила я.
— Очень, — ответила Клава, но сказала
это не так, как я хотела бы услышать.
— А какой он, твой Василий?
Девушки умеют описывать своих любимых,
и я ждала, что Клава найдет свои, особенные,
неповторимые слова.
В комнате стало совсем темно, но Клаву,
сидевшую на окне, я видела хорошо. Она была
похожа в этот момент на чудесную картину,
неведомо как занесенную в дом сумрачной,
деспотичной старухи.
— Он такой, знаешь... похож на Абрико-
сова, — продолжала Клава.
— На какого Абрикосова?
— Ну, который в кино. Ты разве не ви-
дела?
— А, — разочарованно сказала я и всё
ждала — не добавит ли она что-нибудь еще,
что-нибудь хорошее, свое, ведь он же был ее
16
женихом, находился на фронте, и она могла
никогда не увидеться с ним больше.
Но 'Клава, видимо, не заметив моего разо-
чарования, ничего не добавила.
Мне вдруг стало обидно за этого незнако-
мого мне человека, находящегося за тысячи
километров от Смурова, обидно, что у Клавы
не нашлось других слов о нем.
«Если бы я полюбила человека, я бы, на-
верно, не сравнивала его с киноактерами...
Похож?.. Непохож?.. Разве в этом дело?
А впрочем, Клава вовсе не обязана рассказы-
вать мне — постороннему человеку — о самом
сокровенном», — подумала я и не стала
больше допытываться.
Дверь, обитая клеенкой и войлоком, зашур-
шала, и в комнату вошла Прасковья Федо-
ровна. От сквозняка слетели со стола страницы
принесенной Клавой зачитанной старенькой
книги.
— Чего в потемках сидеть-то? — недо-
вольно сказала хозяйка и зажгла свет.
Разговор с Клавой был окончен.
4
До конца каникул было еще далеко, у меня
оставалось много свободного времени и тяну-
лось оно удивительно медленно. Мама целые
дни, а часто и ночи, проводила у себя в госпи-
тале, так что я почти не видела ее. Знакомых
в Смурове, кроме Гали, у меня не было, но и
Галин адрес я не догадалась спросить. Я очень
тосковала по отцу — это была наша первая
17
с ним разлука, и хотя письма от него с фронта
приходили регулярно, в Смурове я особенно
остро ощущала его отсутствие.
Чтобы поменьше встречаться с хозяйкой,
я каждый день подолгу просиживала в читаль-
ном зале библиотеки имени Герцена, которую
все в Смурове называли сокращенно «Герцен-
кой», а потом бродила по незнакомым улицам,
дорогам и пустырям, оттягивая возвращение
домой.
Чем внимательнее присматривалась я к го-
роду, чем лучше узнавала его, тем всё меньше
и меньше нравился он мне.
Смуров резко делился на две неравные
части: меньшую, застроенную в годы советской
власти, и большую—«старый город», состоя-
щую из приземистых деревянных домов. Наш
дом находился именно в этой второй части.
Дома «старого города» имели между собой
какое-то сходство. Вид этих коробкообразных
бревенчатых домов без украшений, балконов
или крылечек был негостеприимен и строг.
Недружелюбно смотрели на улицу далеко от-
ставленные друг от друга небольшие квадрат-
ные оконца.
Скучно и одиноко было мне без товарищей,
без отца в незнакомом далеком городе.
«Скорей бы в школу», — думала я каждый
день. Я мечтала, чтобы поскорее начались за-
нятия и я уже встретилась бы со своими соуче-
никами.
Но случилось так, что я познакомилась со
своим классом еще задолго до начала учебного
года.
18
Возвращаясь как-то раз домой, я увидела
на улице Галю.
— Как хорошо, что я тебя встретила,
Шура!—обрадовалась она.—Ты нам очень,
очень нужна. Я собиралась завтра идти к тебе...
Оказалось, что наша комсомольская орга-
низация решила создать бригаду помощи
фронту и всё оставшееся время каникул рабо-
тать на заводе.
— Приходи послезавтра ровно в восемь.
Сбор у проходной, —добавила Галя, прощаясь.
Там, возле проходной Смуровского завода,
я и познакомилась с моими будущими одно-
классниками. Мне, однако, недолго пришлось
работать вместе с ними. Заболела сушильщица
деревообделочного цеха, и меня послали заме-
нить ее. Все ребята работали на разгрузке
вагонов, а я должна была сидеть одна-одине-
шенька в «сушилке». В мою обязанность вхо-
дило каждые 10—15 минут проверять и регу-
лировать приборы, — мне объяснили, как это
делается, — и заносить их показания в жур-
нал. Эту работу я освоила быстро, но она не
нравилась мне. Я готова была пойти на самую
трудную работу, только бы быть на людях.
В промежутках между записями делать было
нечего, и день казался очень длинным.
Правда, товарищи меня не забывали, — мы
вместе обедали, вместе возвращались домой,
иногда ребята забегали ко мне во время так
называемых «перекурок», заходили ко мне и
рабочие нашего цеха, но всё же большую часть
дня я бывала одна. Я пробовала читать —
в ящике стола, за которым я сидела, кроме
19
нескольких заколок, карандашей и круглого
зеркальца, лежал еще потрепанный том
«Войны и мира» с овальным библиотечным
клеймом и бумажным кармашком со строгой
надписью: «Верните книгу не позже обозна-
ченного здесь срока». Но сосредоточиться было
невозможно, слишком часто приходилось отры-
ваться и делать записи в журнале.
Я не работала в «сушилке» еще и двух не-
дель, но знала уже каждую выбоину в камен-
ном полу, выучила наизусть все надписи, сде-
ланные сушильщицами на листе бумаги, при-
колотом кнопками к столу. В углу листа был
записан чей-то адрес, рядом красовалось
четверостишье:
Может в Кирове, может в Казани,
Не ложилися девушки спать,
Много варежек теплых связали,
Чтоб на фронт их в подарок послать.
Ниже другим почерком было написано:
«Андрей, когда ты вернешься?»
|Как-то раз я подошла к окну, — надышав-
шись запахом распаренной влажной древесины,
сушившейся под полом, мне захотелось вдох-
нуть свежего воздуха. На улице было хоро-
шо — август стоял сухой и теплый.
Из окна был виден кусок голубого неба,
серый, как наждак, асфальт заводского двора,
перерезанный полозьями рельсов, и кирпичная
стена заводской столовой. Две женщины в бе-
лых халатах втаскивали в дверь столовой
ящик с хлебом.
Заглядевшись, я не заметила, как вошел
начальник цеха Кострыкин.
20
— Ты здесь? — услышала я его голос и
обернулась.
— Здесь, Николай Петрович. Здравствуйте.
— Здравствуй, здравствуй, внучка.
Кострыкин был дедушкой нашего комсорга
Мити Синицына и всех Митиных товарищей
называл «внуками» и «внучками». Мы очень
гордились этим — Кострыкин являлся любим-
цем молодежи.
Когда я вспоминаю его, в моей памяти воз-
никает как будто из меди отлитое лицо, со-
стоящее из двух половин, принадлежащих
разным людям. Большой рот, широкие губы
под щетинистыми усами, тяжелый массивный
подбородок. Закрой верхнюю часть лица и
скажешь, что этот человек строгий и даже
сердитый. Зато глаза —лукаво-добродушные,
знающие о тебе всё, что только можно знать,
весело смотрят из-под лохматых, словно при-
клеенных пучков седых бровей.
— Пришел поглядеть, как тут дела идут,
как сушилка работает, — сказал он, присажи-
ваясь на ящик возле моего стола и опираясь
на закутанную войлоком трубу, проходящую
вдоль стены.
— Всё в порядке, Николай Петрович. —
Я протянула журнал с записями, но он отвел
мою руку.
— Там-то в порядке, это я знаю.
Я хотела спросить, зачем же, в таком слу-
чае, он пришел, но постеснялась.
Кострыкин смотрел на меня с веселой хит-
рецой. Он хотел закурить, но в измятой пачке
21
не нашлось ни одной целой папиросы, и он
снова спрятал пачку в карман спецовки.
— Как тебе работается здесь? Довольна?
За окном пронзительно взвизгнул паровоз-
ный гудок: эшелон с грузом шел по заводской
железнодорожной ветке.
Кострыкин подошел к окну, а потом, вер-
нувшись к столу, снова сел на ящик.
— Ну, так как, Шура?
— Ничего, — не глядя на него, тихо отве-
тила я. — Спасибо.
— Э-э-э! Да ты сейчас разревешься, дру-
жище! Ну, не отворачивайся, всё равно ведь
вижу. Вот и пускай после этого девчонок на
завод. — Он покачал головой. — Садись. По-
говорим серьезно. Не нравится здесь?
— Если по-честному говорить...
— Только по-честному. А как же? — пере-
бил он.
— Плохо мне здесь, Николай Петрович,
без ребят. Очень плохо. Они там все вместе,
а я — одна. — Я подошла к нему и дотрону-
лась до его рукава. — Я вас очень прошу...
мне очень хочется работать вместе с ними!
Очень!
— Никак не угодить на вас! — сказал
Кострыкин, и я не поняла, шутит он или сер-
дится всерьез. — Мы тебя сюда специально по-
садили. Думали—полегче здесь. Всё-таки, ты
после блокады, из самого пекла, можно ска-
зать. Пожалели тебя, а ты вон как!
— Я работы не боюсь...
Кострыкин посмотрел на меня внимательно,
даже пытливо.
22
— Да, — помолчав, сказал он. — Значит,
к ребятам хочешь?
— Очень, Николай Петрович.
— А говорила, что всё в порядке.
Со следующего дня я уже работала вместе
с ребятами. Мы разгружали вагоны с углем
и дровами, иногда нашу бригаду разъединяли
и рассылали по нескольку человек по цехам, —
нехватало подсобных рабочих.
Первые дни у меня болели руки и ноги.
Возвращаясь домой, я засыпала, как мама,
почти на ходу. Мы работали с утра до позд-
него вечера, но чем больше я уставала, тем
больше сил было назавтра, тем светлее было
на душе.
С Галей я почти не расставалась: мы
вместе работали, вместе шли на завод, вместе
возвращались. Правда, дома Галя у меня ни-
когда не бывала, — я твердо помнила условие
Прасковьи Федоровны, зато я у Гали бывала
часто: заходила за ней по утрам.
Она жила у дальних родственников. Кроме
них, у Гали никого не было: родители погибли
на Украине в первые месяцы войны. Пятна-
дцатилетней девочке пришлось пережить то,
после чего и более сильный, взрослый человек
мог бы остаться на всю жизнь душевно-иска-
леченным. Галя видела, как гитлеровцы заму-
чили ее родителей, как горел ее родной город.
Иногда я пугалась выражения Галиного лица:
казалось, ни ночью, ни днем нет у нее покоя
от этих воспоминаний. А иногда рядом со
мною была рыженькая девочка-школьница,
беззаботная и мечтательная.
23
Однажды, возвращаясь домой, ребята за-
говорили о Гале — ее в этот раз с нами не
было, она задержалась на заводе.
— У нее мужской ум, —сказал Игорь Вет-
кин, красивый самоуверенный юноша. По тону,
каким он говорил, трудно было определить —
похвала это или порицание.
— А по-моему — вовсе нет! — возразил
Митя Синицын так, словно Галю несправед-
ливо обидели и он должен был за нее засту-
питься.
У Мити были светлые, как у маленького
ребенка, волосы, румяное доверчивое лицо и
всегда немножко удивленные глаза, и хотя
внешнего сходства между ним и Кострыкиным
как будто не было, — каждому, кто видел их
вместе, сразу становилось понятным, что они
близкие родственники.
— Ты напрасно обиделся за Галю, — ска-
зал Игорь, — она девчонка хорошая, я ведь не
об этом. Галка умница и прекрасный товарищ.
Я о другом. Вот влюбиться в нее, по-моему,
нельзя.
— Эх, ты, — укоризненно качнув головой,
сказал Митя. — Много ты понимаешь в людях!
Вот я лично, если бы меня заставили жениться,
женился бы именно на ней.
Мы все засмеялись. Митя, самый младший
среди нас, совсем не был похож на жениха,
и, кроме того, такая постановка вопроса: «Если
бы меня заставили жениться» — была очень
забавной. Между мальчиками завязался спор.
Мы знали, что Игорю нравится Лиля Зве-
рева — веселая, кокетливая девушка, очень
24
следившая за своей внешностью (даже на за-
воде мы не видели Лилю без маникюра).
Всем было ясно: если Игорю нравится
Лиля, то Галя, с коротко подстриженными ног-
тями, надевавшая во время чтения очки и ве-
шавшая по-мужски на спинку стула свою ста-
ренькую жакетку с торчащей из кармана газе-
той,— такая Галя должна была казаться
Игорю неженственной. Ему нравились озорные,
всегда смеющиеся Лилины глаза, и он не мог
понять всей прелести желтоватых Галиных
глаз, серьезных и мечтательных, таких, каза-
лось бы, неуместных на пухлом веснушчатом
лице. Мне было приятно, что Митя Синицын
увидел за нескладной детской внешностью
Гали то, чего не разглядел, да и не мог раз-
глядеть Игорь.
Ничего не менялось в моих отношениях
с хозяйкой. Она, как и раньше, почти не отве-
чала, когда я обращалась к ней, и я попреж-
нему чувствовала, что раздражаю ее своим
присутствием. Но мне теперь некогда было ду-
мать об этом, домой я приходила только пере-
ночевать.
Как-то раз во время обеденного перерыва
я зашла в заводской красный уголок почитать
газеты. На стенде, где были размещены фото-
графии фронтовиков — рабочих завода, я обра-
тила внимание на один портрет. «Василий Ни-
колаевич Вожгалов» — было написано под ним.
Этот снимок был, повидимому, сделан задолго
26
до войны, потому что сын нашей хозяйки вы-
глядел на нем почти мальчиком. Так же как
п на той карточке, что стояла у Прасковьи
Федоровны на комоде, взгляд Василия был
ясен и чист.
— Ну, как, хороши наши ребята? — спро-
сил подошедший Кострыкин. Он говорил тихо,
потому что в красном уголке несколько человек
читали газеты, а Галя и Митя играли в шах-
маты.
— Хороши. Вот я смотрю на Вожгалова,
это сын хозяйки, у которой мы живем...
— На Вожгалова? — сказал Кострыкин. —
А ты, оказывается, знаешь, на кого смотреть...
— Сдаюсь, — сказал Митя и перемешал
фигурки. — Вы про кого?—стараясь говорить
солидно, спросил он, подходя к нам, но Кост-
рыкин не успел ответить — его позвали.
Придя вечером домой, я хотела рассказать
хозяйке, что видела портрет ее сына, но она не
взглянула в мою сторону, а я слишком устала,
чтобы затевать разговор.
Так я ничего и не сказала ей.
Занятия в школе начались только в ок-
тябре — нам разрешили работать на заводе
лишний месяц.
Утром первого октября я каждые полчаса
подходила к ходикам с подвешенной толстой
гирей и каждый раз убеждалась, что всё еще
рано. Дождаться времени, когда нужно будет
идти в школу, у меня нехватало терпения —
я впервые училась в третью смену.
26
Не в силах усидеть дома, я собралась
в школу намного раньше, чем следовало.
Освещая крыльцо и отражаясь в луже, по-
хожей на озеро, над школьной дверью покачи-
вался фонарь. Парты из коридорчика с низким
оконцем были убраны. Они, тесно придвинутые
одна к другой, уже стояли в классах, заполнив
там всё пространство так, что между учитель-
ским столом и доской едва мог встать один
человек.
В третью смену занимались только девятые
и десятые классы, и оттого, что в школе не
было малышей, был вечер, в классах горел
свет, а за окнами совсем стемнело и не видне-
лось ни одного, даже случайного, огонька, —
школа была не похожа на школу, хотя в клас-
сах стояли парты и на нашей доске еще оста-
вались следы плохо стертых, написанных мелом
цифр.
Ребята пришли задолго до начала урока.
Может быть потому, что я не училась с ними
раньше и видела их лишь на заводе, а не в
школьной обстановке, мне теперь казалось, что
здесь сошлись на собрание взрослые и что
они расселись за парты, где им было тесно и
неудобно, лишь потому, что больше сидеть
было не на чем.
Мы не виделись всего два дня, а встрети-
лись как после долгой разлуки. У всех были
новости, но самую большую новость сообщил
Митя: пришло письмо с фронта—его роди-
тели, которых считали пропавшими без вести,
были живы.
— Я же говорила тебе, Митька, что всё
27
будет хорошо! — кричала Галя. — Ну, дай
я тебя поцелую.
— Что ты, не надо!
Митя так испугался, что Гале пришлось
отступить. Ребята весело смеялись.
В классе стало шумно — заговорили о по-
следней сводке Информбюро, разрисовали
доску, и никто не обратил внимания на раз-
давшееся в коридоре дребезжание ручного
звонка.
Вошедшая в класс молодая учительница,
та самая, которую я видела, придя в школу
в первый раз, застала нас врасплох. Она уди-
вленно смотрела на доску, не сразу узнав в
нарисованных на ней линиях привычных очер-
таний морей и рек Советского Союза, а в жир-
ной черте, проведенной мелом сверху дони-
зу, — приковавшей взоры всего мира линии
фронта.
Учительница отрекомендовалась:
— Анна Михайловна Заварина—препода-
вательница английского языка.
Класс был для нее новым, и она начала
«прощупывать» наши знания.
Только что казавшиеся мне взрослыми, не
влезавшие в парты ребята вдруг превратились
в школьников, класс умолк, головы опусти-
лись, — никому не хотелось попасться на глаза
«англичанке» на первом уроке. Она упорно
исправляла наше произношение, требуя, чтобы
мы просовывали кончик языка между зубами
и с силой отдергивали его. Я невольно поду-
мала: «Неужели это действительно важно сей-
час, когда идет война, когда жены, матери,
28
сестры получают короткие, но слишком много-
значительные известия, названные в народе
простым, но страшным словом: «похоронная».
в
— Вот квартирантов пустила... — сказала
как-то Прасковья Федоровна зашедшим к ней
соседкам, кивнув в мою сторону, как будто я
была неодушевленным предметом. — Поживем,
поглядим...
«На что поглядим? — с огорчением ду-
мала я. — Ну почему она такая?»
Вечером я рассказала об этом маме, но она,
засыпая от усталости, ответила: — Зачем обра-
щать внимание на всё, о чем говорят старые
женщины? Ты бы лучше побольше читала,
Шурик. Ты отправила письмо папе? — И, не
дослушав мой ответ, мама уснула.
Меня удивляло, что отношение Прасковьи
Федоровны к нам маму нисколько не интере-
сует.
Впрочем, мама так мало времени прово-
дила дома, что не только с хозяйкой, но даже
и со мной она не всегда успевала повидаться.
Когда мне нужно было поговорить с мамой,
я иногда забегала к ней на работу. Однажды
вечером, отворив тяжелую дверь госпиталя,
я увидела молоденькую лаборантку Тасю.
Она нередко возвращалась домой вместе с ма-
мой, — жила недалеко от нас. Я была с ней
знакома.
— Вы мамочку ждете?—спросила она.—
29
Татьяна Андреевна, наверно, нс пойдет домой
сегодня.
В самом этом факте не было ничего удиви-
тельного, мама часто оставалась в госпитале
на ночь, но на этот раз у меня защемило
сердце: в Тасином голосе слышалась тревога.
— Почему, Тася?—спросила я.
Мимо нас, завязывая на ходу тесемки ха-
лата, пробежал какой-то старик.
— Да вы не волнуйтесь, Шура. Может еще
всё обойдется,—сказала Тася, отводя меня
к высокому окну.
— А что случилось?
— Рябову плохо. Татьяна Андреевна взя-
лась его оперировать... Хотели из областного
центра профессора вызвать...
— Мама сейчас оперирует?
— Нет. Утром оперировала. Только плохо
ему. Она, я думаю, не уйдет от него сегодня.
Такой мальчик хороший! — Тася сокрушенно
покачала головой. — Двадцать лет ему. До
чего жалко!
— А маму нельзя вызвать?
— Сбегаю спрошу. — Тася побежала вверх
по широкой белой лестнице, а я осталась
ждать.
На сердце у меня было неспокойно, и,
чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я стала
разглядывать вестибюль. Он освещался яркой
многоламповой люстрой, отчего совсем не был
похож на вестибюль медицинского учрежде-
ния. Да и в действительности, этот госпиталь
помещался в здании гостиницы. Я знала, что
гостиница была создана по проекту одного
Ju
очень известного архитектора, того самого, ко-
торый строил и смуровский театр. Это были,
пожалуй, самые красивые здания в городе.
Ко мне подошел проходивший через вести-
бюль раненый.
— Вы кого ждете, девушка? — спросил он,
потуже запахивая серый теплый халат. — На-
вестить кого, или так?
Видно было, что это выздоравливающий,
что ему скучно и что он рад случаю погово-
рить с новым человеком.
— Вы местная или приезжая? — продол-
жал он. — Вас не затруднит бросить в ящик
письмишко? Я сейчас принесу...
Я обещала отправить письмо, и он, побла-
годарив, ушел в палату.
Прибежала Тася. Лицо у нее было расстро-
енное и бледное.
— Татьяна Андреевна не велела ее ждать.
Сказала — пусть вы идете домой.
Вернулся раненый с письмом:
— Я извиняюсь... — начал было он.
— Вы зачем сюда спустились, Алексеев?
Что вам наверху места мало? — закричала на
него Тася, но увидев, что лицо у него веселое
и что он совсем не испугался и не собирается
уходить, она тихо и укоризненно сказала: —
Надо, Алексеев, иметь сознательность.
— Я только письмо отдать, — объяснил он
Тасе и протянул мне бумажный треугольни-
чек. — Не забудете опустить? Приходите к нам
еще. Придете?
Когда раненый ушел, я спросила Тасю так
31
умоляюще, будто именно от нее зависела
судьба человека:
— Он выживет, Тасенька? Которого мама
оперировала?
— Надо надеяться на лучшее, — ответила
Тася уклончиво. Она говорила таким тоном,
каким говорят старые профессора.
На улице давно стемнело. Далеко были
видны освещенные окна госпиталя. По мере
того как я удалялась от него, на душе у меня
становилось всё тревожнее и тревожнее.
«Может быть, мама переоценила свои
силы?—думала я. — Может быть, следовало
вызвать профессора?»
Утром мама домой не пришла, и я снова
побежала в госпиталь.
Пасмурное осеннее утро окрашивало се-
рыми красками вестибюль, лестницу, присло-
ненные к перилам носилки, и даже белый
халат санитарки, подпоясанный скрученным
бинтом, казался грязновато-серого цвета.
Санитарка прошлепала мимо меня в кало-
шах на босу ногу, держа в одной руке ведро,
в другой швабру, обвязанную снизу мокрой
тряпкой.
В воздухе был разлит тот особый больнич-
ный запах, к которому медперсонал и больные
настолько привыкают, что перестают его чув-
ствовать, но который постороннему посетителю
кажется мучительным, напоминая о человече-
ских страданиях.
Я подошла к санитарке и попросила ее вы-
звать маму. Старуха недовольно посмотрела
на меня:
32
— А ты кто?
— Я—дочь Татьяны Андреевны.
— Дочка? — удивилась она. — А я дума-
ла — маленькая у нее. Ну, обожди, позову. —
Санитарка поставила на пол ведро, прислонила
к нему швабру и медленно ушла, перевали-
ваясь с ноги на ногу.
Я ждала недолго, но эти минуты показа-
лись мне часами. Я знала, что наверх без ха-
лата подниматься не полагается, но, увидев
маму на лестнице, бросилась ей навстречу.
Не поздоровавшись со мной, мама строго,
будто я была чужая, сказала:
— Зачем ты пришла, Шура? Что-нибудь
случилось?
Мы отошли к окну.
— У меня ничего не случилось, а вот
у тебя? — спросила я.
Наверно в моем голосе был упрек, потому
что мама сильно и властно взяла меня за
плечо и повернула так, чтобы увидеть мое лицо.
— Он жив, мама? — спросила я.
— Кто? — В мамином голосе послышалось
раздражение.
— Которого ты оперировала...
— Я многих оперирую, Шура. — Мама ска-
зала это так резко, что я с горечью подумала:
«Отец так никогда не сказал бы мне. Она, на-
верно, очень устала и на мне вымещает свою
усталость».
— Рябов жив? — упрямо повторила я.
— Жив. Но я попрошу тебя, Шура, никогда
не вмешиваться в мои дела, слышишь? И не
контролировать мою работу. У меня без тебя
33
хватает начальников. И еще я прошу тебя,
Шура, чтобы ты не приходила сюда без особой
необходимости и не отрывала меня от работы.
Иди домой, в школу, куда там хочешь, и зани-
майся, пожалуйста, своими делами. Вот так.
Поняла?—Мама поправила белую шапочку
на голове и пошла к лестнице, но, оглянувшись
и увидев, что я всё не ухожу, вернулась. По-
гладив меня по щеке, она сказала: — Глупая
ты еще у меня девчонка! Ну, иди, иди, Шурик.
Работая на заводе, я почти не виделась
с хозяйкой, но с началом занятий в школе
встреч было уже не избежать.
Я, конечно, старалась как можно меньше
времени проводить дома, но поздно приходить
тоже было неудобно: Прасковья Федоровна
рано ложилась спать. Во всем, что бы я ни
делала дома, мне приходилось считаться
с нею — с ее вкусами и распорядком дня.
Продолжая пользоваться обеими комна-
тами, она старалась подчеркнуть, что наше
вселение ничего не меняет в ее жизни. Каждое
утро Прасковья Федоровна рано входила
в нашу комнату, и даже тогда, когда мама
спала после дежурства, переставляла стулья,
выдвигала и задвигала ящики комода, хотя,
как мне казалось, она ничего в них не искала.
Будучи хозяйкой комнаты, Прасковья Фе-
доровна как бы становилась хозяйкой всей
нашей жизни.
Каждую субботу я с огорчением думала
о том, что если даже я и уйду в выходной день
на несколько часов из дома, всё равно, какую-
54
то часть дня мне придется пробыть вместе со
старухой. Именно поэтому я очень обрадова-
лась, когда однажды Митя Синицын пригла-
сил к себе Галю и меня на всё воскресенье.
— Мы и уроки вместе сделаем, и к кон-
трольной по алгебре подготовимся, и пообедаем
у меня, я с бабушкой договорился, — сказал
Митя, возвращаясь с нами в субботу из
школы.— Приходите, девочки.
— А когда?—спросила Галя.
— Ну, когда хотите. Часов в десять-один-
надцать. Лучше пораньше.
В этот вечер я дома за уроки не бралась,
только сложила тетради и книги в портфель,
написала письмо отцу и рано легла спать.
Мамы дома не было. За окнами гудел и
бесился ветер, казалось — он хочет сорвать
рамы, а в нашей комнате было тепло и темно,
только через приоткрытую дверь из комнаты
хозяйки падала полоска света, освещая кусок
половицы и угол комода.
У Прасковьи Федоровны сидела толстая,
добродушная соседка, которую все почему-то
называли «нюхалка». Они вполголоса перего-
варивались между собой. Под их тихий говор
я и заснула.
Утро наступило ветреное, прозрачное и
прохладное. Через легкую облачную пелену
струился слабый свет от невидимого солнца.
Митя жил далеко от меня, но я шла к нему
не торопясь, с наслаждением вдыхая мятный
запах остывшей, но еще не пожелтевшей
травы, замерзших, но еще не облетевших
листьев. Временами ветер успокаивался и
35
только перекатывал по земле пригоршни песка
и пыли, но потом задувал с новой силой. В эти
минуты обнажалась серебристая тыльная сто-
рона всех листочков. Осенние жесткие листья
шуршали и даже как будто тихонько звенели.
Митина улица не была похожа на боль-
шинство смуровских улиц. На ней было много
одноэтажных стандартных домов с палисадни-
ками. Вдоль заборов по обеим сторонам улицы
шли утоптанные тропинки, отделенные от сере-
дины дороги канавками, густо поросшими
травой. Через низкие заборы свешивались
ветки кустов. Деревья росли не только возле
домов, но и прямо на улице.
Митя жил в небольшом одноэтажном до-
мике с крылечком, с резными наличниками на
окнах, с кустами смородины в палисаднике.
Таких домов в Смурове мало, и потому они
кажутся еще уютнее и милее.
Увидев в окно, что я просунула руку между
планками калитки и стараюсь открыть засов,
Митя выбежал мне навстречу.
— Ты быстро нашла нас? — радостно гово-
рил он, здороваясь. Потом он взял мой порт-
фель и потянул меня за рукав к дому. — А мы
с бабушкой уже беспокоиться начали. Ни тебя,
ни Галки. Никого нет!
От калитки к дому вела ровная дорожка,
пересеченная в нескольких местах вылезшими
из земли скрюченными корнями старых сосен.
На скамейку был насыпан песок, а под ней
валялось детское цветное ведерко.
На крыльцо вышла высокая, полная жен-
щина.
36
— Бабушка, вот Шура пришла,—торже-
ственно сообщил Митя. — Познакомься, Шура.
Бабушку зовут Мария Афанасьевна. Запом-
нишь? Только ноги вытирай, а то грязи в ком-
нату нанесешь.
— Ну, в кого ты такой невежливый, Ми-
тюха? — сказала Мария Афанасьевна. —
Здравствуйте, Шурочка. Вы меня извините —
руки мокрые, поздороваться не могу. Прохо-
дите, проходите.
Мария Афанасьевна не была похожа на
бабушку. Она показалась мне не старой и
очень красивой. Приветливо смотрели совсем
молодые, внимательные серые глаза, весело
поблескивали маленькие сережки, вдетые в
уши еще, наверно, в детстве. Расчесанные на
прямой пробор, темные длинные волосы были
прочно подколоты на затылке.
— Видишь, какая у меня бабушка, — ска-
зал Митя гордо.
Мария Афанасьевна ласково и укоризненно
посмотрела на внука и покачала головой.
Я вошла в маленькую комнату, тесно за-
ставленную мебелью.
— Пальто можно вот здесь повесить, —
Мария Афанасьевна показала на гвоздь. —
Митя! Сколько раз я тебе говорила — велоси-
пед нужно отсюда убрать.
— Бабушка! Ты же знаешь, что некуда, —
ответил Митя. — Ну, куда я его дену?
— Можно найти место. — Потом она обра-
тилась ко мне: — Вы сразу за уроки засядете
или, может, чайку сначала попьете? Я вам
сейчас, ребята, шанежков горяченьких принесу.
31
Мария Афанасьевна вышла из комнаты, и
я спросила Митю:
— А что это такое — «шанежки»?
— Неужели не знаешь? — удивился Ми-
тя. — Это такие пирожки с картофельной на-
чинкой. Мы иногда по карточкам вместо хлеба
берем муку, и бабушка шанежки печет. Только
редко — ей ведь некогда.
Я хотела спросить, почему некогда, но не
успела — вошла Мария Афанасьевна.
В комнате было очень тесно, негде повер-
нуться, но Митина бабушка сумела устроиться
в ней так, что из нее не хотелось уходить. Не-
которые женщины умеют создавать уют и ти-
шину в самых трудных условиях, даже часто
переезжая с места на место, даже в случай-
ных и временных жилищах, даже в поездах.
Или, может быть, само присутствие такой жен-
щины делает комнату более уютной, вагон —
более обжитым, жизнь — более радостной.
— А вы где живете, Шура? — спросила
меня Мария Афанасьевна, постилая поверх
красной плюшевой скатерти светлую, полотня-
ную. — Поправь, Митя, с той стороны: там
угол загнулся. Спасибо, Шура. Да что это
с тобой, Митя, неповоротливый какой? Пока
повернется...
— Ну, что ты ко мне придираешься, ба-
бушка? — обиделся Митя. — Всё не так. Никак
тебе не угодить.
Мария Афанасьевна примирительно похло-
пала внука по плечу.
— Ладно. Не ворчи. Вы далеко от нас жи-
вете? — снова спросила она меня,
38
— На улице Салтыкова-Щедрина, дом
одиннадцать.
— А у кого там?
— У Вожгаловой, Прасковьи Федоровны.
Вы ее не знаете?
— Вожгалову? — Мария Афанасьевна ус-
мехнулась.— Как же мне ее не знать? Мы
ведь с Николаем Петровичем век свой в Сму-
рове живем.
Я знала от Мити, что Кострыкин — старый
член Коммунистической партии, был выслан
царским правительством в Смуров за участие
в революции 1905 года, и с тех пор семья без-
выездно жила в этом городе.
— Приехали сюда молодыми, а теперь ста-
рики, — с грустью проговорила она.
— Разве вы старики? — сказала я.
Мария Афанасьевна улыбнулась, мельком
взглянула на себя в зеркало, вделанное в
шкаф, которым были отгорожены кровати,
вынула зачем-то из волос шпильку и снова
вколола ее.
— У Вожгаловой жить — это только за
большие грехи, — произнесла она, качнув го-
ловой. — Нет, не завидую.
— Значит, ты, Шура, грешница, — улыб-
нувшись, сказал Митя.
Мария Афанасьевна вздохнула, долила мне
чаю, пододвинула тарелку с румяными хрустя-
щими шанежками.
— Ой, вон Галка идет,—закричал Митя,
увидев Галю через окно. Он побежал встре-
чать ее, а я осталась с Митиной бабушкой,
хотя мне тоже хотелось побежать вместе с ним.
39
Мария Афанасьевна спросила, где воюет
отец, есть ли письма.
— Да, — сказала она глухо, выслушав мой
ответ. — Много горя сейчас на земле. Я вот
в детском интернате работаю... Вижу...
— Митька, отстань со своим вытиранием
ног, — шумела на пороге Галя, — ты тут вся-
кими глупостями занимаешься, а я вот новость
важную узнала. Здравствуйте, Мария Афа-
насьевна. Вы на меня, наверно, сердитесь?
Я ведь вашего Горького опять забыла.
— А тебе на сколько дней давали? — уко-
ризненно спросил Митя. — На два? А ты сколь-
ко держишь?
— Книга не твоя. Я из библиотеки ее при-
несла — так что ты не командуй, — сказала
Мите бабушка. — Ничего, Галочка. Когда про-
чтешь, тогда и принесешь.
— А какую ты новость узнала? — вмешал-
ся Митя.
— Вот, слушайте, ребята. — Галя удобно
уселась на диване. — У нас во вторник кон-
трольной не будет.
— Вот здорово! — закричал Митя.
— Откуда ты знаешь?—спросила я.
Галя объяснила. С ее приходом стало
шумно и весело. Галя была здесь своим чело-
веком — привычным и желанным; разговари-
вала с Марией Афанасьевной так, будто между
ними не было никакой разницы в возрасте.
Пришел с завода на обед Кострыкин.
— Ну, как дела идут, внучата? — спросил
он, потирая руки и садясь за стол. — Чем ты
нас кормить будешь, Марийка?
40
Он так нежно смотрел на жену, с таким
одобрением следил за каждым ее словом, ка-
ждым жестом, что было видно: она и сейчас,
после сорока лет совместной жизни, кажется
ему молодой и прекрасной.
За обедом Николай Петрович рассказывал
заводские новости. Мы совсем недавно рас-
стались с заводом, но и я и Галя забрасывали
Кострыкина вопросами. Даже Мигя, видевший
своего дедушку ежедневно, тоже приставал
к нему вместе с нами:
— Как там у вас в деревообделочном?
— Как Борис Павлович работает?
— Как Нюра?
Нюра Михайлова—работница деревообде-
лочного цеха — недавно вышла замуж. Об
этом много было разговоров. Большинство ра-
бочих радовалось за нее, кое-кто осуждал:
«Нашла время замуж выходить».
— С Нюрой беда прямо. — Кострыкин раз-
вел руками. — Налей-ка мне, Марийка, еще
супу. Да и у девочек вон уже тарелки пу-
стые — можно подлить. Не скупись, хозяйка.—
Он улыбнулся, а потом сказал серьезно и оза-
боченно: — Нюра с мужем разводится.
— А что у них там случилось? —спросила
Галя.
— Что случилось? — сердито вмешалась
Мария Афанасьевна. — Наверно, ничего не
случилось. Просто раз-раз — и уже готово:
расписались. Чуть что не так — и уже разве-
лись. Уж больно у молодежи всё просто. А вот
в наше время не так было. Хоть бандит
41
попался — ничего не поделаешь. Живи. Зна-
чит, твоя доля такая.
— Хорошо тебе рассуждать, — сказал Ми-
тя, — твоя доля хорошая: тебе дедушка по-
пался.
Мы все рассмеялись, а Мария Афанасьевна
сделала вид, что сердится:
— Я тебе дам «попался».
— Больше ничего не будет, Марийка? —
с сожалением сказал Кострыкин, подымаясь
из-за стола. — Тогда, как говорят: «спасибо
этому дому, пойдем к другому».
— Не задерживайся сегодня на заводе, —
попросила Мария Афанасьевна мужа. — При-
ходи пораньше, а то ведь целую нецелю вас
не вижу. — Она смахнула с его пиджака пы-
линку, потом сняла с полочки платяную щетку.
— Пойдем на крыльцо — почищу.
Мария Афанасьевна проводила мужа до
калитки.
— Да, — задумчиво сказала она, возвра-
щаясь в комнату. — В наше время не так было.
Вот, взять хотя бы ту же Вожгалову. У нее
муж — зверь сущий был. Правда, и свекровь
там тоже была —сохрани господи!
Митя и Галя разговаривали о чем-то возле
письменного стола, я же слушала Марию
Афанасьевну, затаив дыхание. Мне как-то
не верилось, что Прасковья Федоровна была
когда-то молодая, что у нее был «муж-зверь»
и плохая свекровь. Я никак не могла предста-
вить себе нашу хозяйку иной, чем знала.
— Не люблю я ее,—продолжала Митинг
бабушка. — Только — что правда, то правда —
42
натерпелась она горя. — Мария Афанасьевна
стояла возле стола, перетирая стаканы. — Я бы
с -таким, как ее муж, дня жить не стала, —
сказала она. — А вот Прасковья жила.
Я чуть было не напомнила Марии Афа-
насьевне ее же слова: «Значит, твоя судьба
такая»... — но удержалась.
— А Митя говорит — «попался», — продол-
жала она. — Нет, не попался, а сама такого
выбрала. Да. Хороших людей нужно уметь
находить.
— Шура, — сказал Митя ревниво, — ты
к кому пришла? ’Ко мне или к бабушке? Мы
заниматься садимся.
Он задернул занавески на окнах, зажег
электричество. На скатерти появился большой,
чуть шевелящийся световой круг под абажу-
ром. Уютно осветился настольной лампой Ми-
тин письменный столик.
— Идите, занимайтесь, Шурочка. Разве
вам интересно всё это? — сказала Мария Афа-
насьевна.
Но мне всё это было очень интересно.
Митина бабушка поставила посуду в шкаф,
сняла аккуратно зачиненный передник, наде-
тый поверх синего кашемирового платья, и
подсела ко мне на диван. Лицо у нее было
светлое и спокойное. Посмотришь на такое
лицо и кажется: в жизни этого человека не
было ни забот, ни огорчений. А узнаешь его
путь, и поймешь: этот свет, этот ясный взгляд—
не от легкости и беззаботности, а от душевной
стойкости и силы.
Митя рассказывал нам о жизни Николая
43
Петровича и Марии Афанасьевны. До револю-
ции — тюрьмы, ссылки... Сейчас, во время
войны, на фронте были сын да дочь с зятем —
Митины родители.
За стеной заплакал ребенок.
Мария Афанасьевна сорвалась с места, со-
всем как молодая.
— Нина Владимировна ушла, наверно, —
сказала она, выходя из комнаты. Через не-
сколько минут она вернулась.
— Я думала — Валерик один, — объяснила
она, — но мать, оказывается, дома. Валерка
здесь, в эвакуации, у нее и родился. Отец его
еще не видел.
Я невольно подумала о том, как хорошо,
должно быть, живется эвакуированной жен-
щине в этой семье, с которой можно делить и
радость и горе...
— А сын у Прасковьи Федоровны такой
же, как она? — спросила я.
Мне почти ничего не было известно о Васи-
лии, но почему-то очень не хотелось услышать
о нем что-нибудь плохое. У Василия было хо-
рошее, открытое лицо — я часто разглядывала
его фотографию на комоде и так привыкла
к ней, что если бы ее унесли из комнаты, я,
наверно, скучала бы, как скучают, расставшись
с близким другом. Но ведь говорят — внеш-
ность бывает обманчива...
— Сын? — переспросила Мария Афанасьев-
на.— Она такого сына недостойна. Митя! Там
не сводку ли передают? Включи-ко радио! Нет.
Музыка. Можешь выключить!—Мария Афа-
насьевна, задумавшись, теребила краешек ска’
44
терти. — Вася с Гришей — с моим младшим
сыном — вместе на заводе работали, вместе
в заочный институт поступали. И ведь никто не
уговаривал. Вася всё сам.- Он матери опора и
защита с самого детства. А как его Николай
Петрович любит! Как сына родного. Грише
иногда его в пример ставил — вот это мне уже
не нравилось. Разве Гриша хуже? Разные
люди — разные характеры. Гриша наш тихий.
Тот — посмелее. Да ведь не в этом дело. —
Она помолчала.—Только бы домой живые
вернулись...
Мария Афанасьевна подавила вздох, сде-
лала вид, что вынимает соринку из глаза, но,
как она ни старалась скрыть, я видела, что
она плакала.
7
Рябов поправлялся.
— Ему гораздо лучше,— говорила мама. —
Ему бы теперь быть, где потеплее — он бы на
ноги быстро встал. Возможно, мы переведем
его куда-нибудь в Среднюю Азию.
— Откуда он сам-то? Родные у него есть?—
спросила я.
— Он ничего не знает о них. Тоскует. Хо-
чешь навестить его, Шурик? Во впускной день
это можно.
Ну, конечно, я хотела!
Белый халат, который мне выдали в гар-
деробе, оказался очень длинным и широким.
Он почти касался пола. Рукава пришлось за-
вернуть. Халат был чистый, со складочками от
45
утюга, но очень ветхий — наверно, от частой
стирки — и весь в больших квадратных, при-
строченных на швейной машине, заплатах. Са-
мыми прочными местами его были именно эти
заплаты.
Мамин халат выглядел иначе. Он был но-
венький, с кушачком-хлястиком, и в нем мама
казалась совсем молодой.
Когда мы поднимались по лестнице, попа-
давшиеся нам навстречу люди — и раненые и
работники госпиталя — дружелюбно и почти-
тельно здоровались с мамой, перекидывались
с ней несколькими словами.
Мы прошли в самый конец светлого кори-
дора второго этажа. Дверь палаты, в которой
лежал Рябов, была открыта настежь, как,
впрочем, и большинство других, выходящих в
коридор, дверей.
— Ну, как дела, Витя?—спросила мама,
входя в палату и садясь на край койки, на ко-
торой лежал молодой паренек.
— Спасибо, Татьяна Андреевна, хорошо.
— Молодец, — похвалила мама. — Вот моя
дочь навестить тебя пришла. Возьми табуретку,
Шура, что ты стоишь? Ничего, Витя, скоро
бегать будешь, — сказала мама, вставая. Она
погладила его по стриженой голове, а он бла-
годарно и доверчиво смотрел на нее, как будто
это была его родная мать, а не чужая, почти
незнакомая женщина.
Может быть, действительно матерью имеет
право называться не только та, которая дала
человеку жизнь, но и та, которая ему жизнь
возвратила?
46
Я подумала о том, что последнее время
для меня в мамином сердце было совсем мало
места.
Мама подошла к другой койке, на которой
лежал щетинистый седой человек.
— Как вы себя чувствуете сегодня, Але-
ксандр Григорьевич?
Он пытался повернуться, но сморщился от
боли.
— Осторожно, — сказала мама. — А когда
лежите спокойно, не двигаясь, не беспокоит?
Поговорив с ним несколько минут, мама
ушла, а я осталась в палате.
— До чего ж мне здесь надоело! — Рябов
покачал головой.
— Скоро выпишешься, — сказала я, обра-
щаясь к нему сразу на «ты», — он был немно-
гим старше меня. Мы сразу заговорили просто,
как знакомые.
В палату вошла медсестра — строгая, без
улыбки. Она молча вынула из стакана с какой-
то жидкостью термометр, два раза встряхнула
его и, не глядя, подала Рябову. Потом она
подошла ко второй койке и проделала всё
точно так же.
Боясь утомить Рябова, я его ни о чем не
расспрашивала, больше рассказывала сама
о школе, о ребятах, о стенгазете, которую мы
недавно выпустили. Он слушал внимательно,
поинтересовался, кто оформляет газету, есть ли
у нас хорошие художники.
— С оформлением плохо. В нашем классе
все рисуют неважно, — объяснила я.
— А ты?
47
— Ия тоже.
— А Татьяна Андреевна говорила, что ты
хорошо рисуешь. Это ты просто из скром-
ности, — сказал Рябов.
— Ну, вот еще! При чем тут скромность?
Рисую хуже многих в классе.
— А мечтаешь быть архитектором...
— Тоже мама сообщила?
Рябов улыбнулся:
— Разве это секрет?
Снова пришла медсестра и забрала градус-
ники.
— Нормальная? — спросила я. Она сердито
и невнятно ответила:
— Нормальная.
Отвечая, она почти не открывала рта, всем
неприступным видом показывая свою значи-
тельность и превосходство над нами. Когда
она вышла, Рябов сказал:
— Вот фурия!
Через некоторое время сестра снова загля-
нула в палату:
— Посетители! Пора уходить!
Несмотря на то, что в палате, кроме меня,
посторонних не было, она сказала: «посети-
тели».
Дверь была открыта, и долго еще слыша-
лось, как сестра, видимо, заглядывая в другие
палаты, внушительно говорила: «Посетители!
Пора уходить!»
— Знаешь, Шура, я хотел тебя вот о чем
попросить, — взволнованно сказал Рябов. —
Вообще-то лучше было бы мне это самому
сделать, но ведь кто знает, сколько я прова-
ле?
ляюсь? Да еще переводить меня отсюда соби-
раются. Дай-ка мне, пожалуйста, из тумбочки
папиросы.
— Ты куришь?
— Так, немножко. Вообще-то в палате
нельзя, но... Александр Григорьевич, ничего,
если я одну выкурю? — Рябов обращался к
своему соседу по палате, но тот не ответил—ле-
жал, отвернувшись к стене, может быть, спал.
В дверь снова заглянула медсестра:
— Посетители! Сколько раз говорить?
Последние слова она произнесла уже в ко-
ридоре. В голосе ее не было подлинной настой-
чивости — видимо, из других палат тоже никто
не ушел, и ее это не удивляло. Чувствовалось,
что она привыкла к этому.
Рябов закурил и сразу стал казаться
взрослым.
— Мне нужно в Смурове разыскать одного
человека. — Рябов замолчал, видимо, сильно
волнуясь. Ну, как тебе объяснить? Мой
командир... Он сам местный, смуровский. Тут
где-то мать его живет — может, у нее какие-
нибудь известия есть... Когда меня ранили...
Ну, в общем, спас он меня, а сам... Жизнью
ведь рисковал... Ничего не знаю, что с ним.
Запрашивал я — сестру тут одну просил, на-
писала она мне — я ведь сам еще писать не
могу. Пока ответа нет...
Рябов курил уже третью папиросу.
— Я всё узнаю, Витя, — сказала я. — Мо-
жешь быть спокоен. Мы разыщем его родных!
Снова пришла медсестра, но на этот раз
она была непреклонна:
49
*— Немедленно уходите!
—- Сейчас, сейчас, — произнесла я умо-
ляюще, — это очень важно...
— За час не наговорились! — Она не ухо-
дила. — Сейчас больным будут делать про-
цедуры, по-моему, вам неудобно... — возмущен-
но сказала она.
— Сию минутку. Только одну минутку. —‘
Я достала из кармана карандаш, оторвала от
газеты, лежавшей на тумбочке, клочок бу-
маги.
— Как его фамилия? Командира твоего?
— Вожгалов, Василий Вожгалов.
— Вожгалов?? — закричала я. — Так это
же... Так он же...
— Что?? — Рябов приподнялся на постели.
— От него было письмо! Я это точно знаю!
Мы у его матери живем.
— Когда было письмо?—спросил Рябов
с надеждой, и лицо его посветлело.
— Ну... с месяц назад. А, может быть, и
другие письма были.
— С месяц? — Рябов задумался. — Это
могло быть и старое письмо.
— Вы уйдете? — не выдержала сестра.
— Уйду. Вы же видите! — неожиданно для
себя дерзко и громко сказала я. — Вы же ви-
дите! Нельзя быть такой черствой!
Дверь за мной с силой захлопнулась, но
я всё же услышала слова Рябова:
— Узнай, Шура!
Никогда еще не бежала я домой так стре-
мительно, как в этот раз. Впервые мне очень
хотелось увидеть хозяйку.
50
И, действительно, она была дома. Кроме
нее, в комнате находилась «нюхалка».
Б такой день я не постеснялась бы прямо
заговорить с хозяйкой — слишком серьезным
было дело, но мне не пришлось задать ей ни-
каких вопросов.
Когда я вошла, Прасковья Федоровна, раз-
ливая чай по стаканам, сказала строго, не до-
пуская дальнейших расспросов со стороны
«нюхалки»:
— От Васи что-то давно нет писем.
И «нюхалка» больше ни о чем не спро-
сила ее.
8
В один из светлых осенних дней внезапно
пошел снег. Люди еще носили легкую одежду,
трава была еще почти зеленой. Казалось, при-
рода ошиблась, открыв не тот кран, и, испу-
гавшись своей оплошности, быстро прикрутила
его. Снежные островки на крышах, мостках и
дорогах сразу же потемнели и стаяли, — и всё
осталось попрежнему. Но через неделю снег
пошел снова. На этот раз он шел уже дерзко
и уверенно. Небо стало беспросветно-серым,
как будто над крышами, совсем недалеко от
земли, был натянут огромный навес из суро-
вого полотна. Снег валил мокрый, он растапты-
вался, таял, смешивался с грязью, превращая
дороги в глубокие лужи, а сверху всё сыпало
и сыпало. Люди принялись доставать пахну-
щие нафталином зимние пальто, из труб начал
попыхивать еще неустойчивый дымок, и всем
стало ясно, что лето уже не вернется.
51
Дело было, конечно, не только в перемене
пейзажа. Внезапный приход зимы заставлял
жить по-новому, думать о дровах, о зимних ве-
щах которых у нас с собой не было.
«Как у вас дела с дровами?» — писал нам
в это время отец. Он почему-то всегда знал,
какие заботы в данный момент тревожат нас
больше всего, точно всё время находился
с нами вместе и, несмотря на тысячи кило-
метров, разделявшие нас, давал советы —
всегда правильные и своевременные. Приятно
было ощущать эту далекую заботу отца. Пись-
ма его дышали бодростью и спокойствием,
как будто он, а не мы, находился в тылу, в
безопасности.
Однажды, оставшись дома одна, я села пи-
сать ответ на очередное письмо отца. За окна-
ми в сером, рано стемневшем воздухе уже
зажглись огни. В углу комнаты тикали ходики,
из репродуктора слышался приглушенный за-
унывный голос, — транслировалась местная
передача.
Обмакнув перо в чернила, я вдруг увидела,
что на подстеленной под чернильницу бумаге
появилась лиловая клякса. Сорвав бумагу со
стола, я с ужасом убедилась, что чернильное
пятно прошло на белоснежную, накрахмален-
ную скатерть Прасковьи Федоровны.
«Что делать? Как вывести пятно до при-
хода хозяйки?»
Я бегала по комнате, бросалась то к бу-
фету, то к умывальнику, хватала уксус, мыло,
лила на скатерть воду, сыпала на нее соду и
соль. От всех моих стараний пятно потеряло
52
свою первоначальную яркость, но зато оно
расплылось и вокруг него образовался боль-
шой — размером с блюдце — мокрый, мятый,
желтовато-голубой круг. Это было, пожалуй,
еще хуже, чем маленькое, почти незаметное
пятнышко. Я была в отчаянии. «Что же де-
лать?»
В этот момент дверь широко распахнулась,
и вошла хозяйка. Пока она раздевалась, раз-
матывала платок, я успела накрыть пятно бу-
магой и положила на нее локти. Прасковья
Федоровна прошла мимо меня, ничего не заме-
тив, но мне надо было на что-то решиться: не
могла же я до бесконечности сидеть за столом,
приклеив локти к намокшей бумаге.
«Надо встать и сказать ей обо всем пря-
мо, — решила я, но когда взглянула на хо-
зяйку, решимость меня оставила: — Только не
теперь!»
Я чувствовала, что не могу сейчас загово-
рить с Прасковьей Федоровной, не могу видеть
ее холодные глаза-щелки в опухших веках и,
встав из-за стола, я ушла в свою комнату.
Лучше пусть она заметит сама, а там — будь,
что будет!
«Вот когда должен вскрыться тот нарыв,
который назревал всё время! — думалось
мне. — Старуха увидит пятно, позовет меня, и
тогда я ей всё скажу, всё!»
Было тихо, я не знала, что делает Праско-
вья Федоровна. Ожидание становилось мучи-
тельным. В такт ходикам стучало мое сердце.
«Хорошо хоть, что через час мне в школу.
Хорошо, что через час объяснение с хозяйкой
53
уже будет позади». Но и час показался мне
вечностью. Хозяйка молчала. Почему? Она не
могла не заметить пятна, хотя на нем лежала
намокшая бумага.
«Скорей бы она позвала меня! Скорей
бы!» — думала я, но неожиданно свет в ком-
нате хозяйки погас и зашуршала дверь. Пра-
сковья Федоровна ушла. Я не знала, что и ду-
мать. «Неужели она еще не обратила внима-
ния на скатерть?» Я зажгла свет. Лист бумаги
продолжал лежать на столе, только был не-
много сдвинут в сторону. Пытка, значит, откла-
дывалась до моего возвращения из школы. Это
был худший вариант, которого я не предусмо-
трела...
Вернувшись вечером с занятий, я опять не
видела хозяйки — она уже спала. На утро бе-
лой скатерти с пятном на столе не было, ле-
жала другая: голубая, с синими цветочками.
Больше ждать я уже не могла и решила заго-
ворить первой, но в этот момент Прасковья
Федоровна сама обратилась ко мне:
— Ha-ко, прочти мне, я что-то не вижу, —
сказала она, протягивая какое-то письмо и
снимая очки с обмотанными тряпочкой зауш-
никами.
— Что это?
— Что? Что?—передразнила меня Пра-
сковья Федоровна. — Письмо. От сына моего
письмо.
— От сына? Так он жив!!—У меня радостью
захлестнуло сердце: это было первое письмо
с тех пор, как Рябов просил меня узнать
о судьбе своего командира. Рябова давно уже
54
не было в Смурове, но я всё это время думала
о Василии Вожгалове, о том, что сталось
с ним...
«Нужно немедленно сообщить Рябову! Не-
медленно! Василий жив!!»
Прасковья Федоровна с удивлением смо-
трела на меня.
— Читай! — приказала она.
До чернильного ли пятна тут было! Я при-
нялась читать.
Письмо было написано карандашом, ста-
рухе и в самом деле могло быть трудно про-
честь его самой. Но чем дальше я читала, тем
мне всё больше казалось, что она не только
прочла, но чуть ли не выучила его наизусть.
Когда я останавливалась, чтобы разобрать
стершиеся на сгибах слова, она с несвойствен-
ной ей живостью подсказывала или поторапли-
вала меня: «Ну, ну!»
И действительно, письмо было такое, что
его стоило перечитывать много раз.
Сын Прасковьи Федоровны сообщал матери
о том, что получил орден Красного Знамени.
Он писал об этом просто и скромно. Всё
письмо его было наполнено нежностью и забо-
той о матери, о невесте, о друзьях.
Я уверена, что, получив подобное письмо,
другая женщина растрогалась бы и наверно
заплакала, но, когда я подняла глаза на хо-
зяйку, я увидела ее такою, какой она была
всегда. Она неподвижно сидела на стуле.
Ни один мускул не дрогнул, ни слезинки не
было на ее лице, только прядь седых волос
висела, выбившись из-под шпилек. Эта прядь
55
напоминала кусочек сена, выпавшего с воза и
выцветшего от непогоды.
Вечером к Прасковье Федоровне пришли
Метилевы и какой-то лысый сухонький стари-
чок с узким длинным лицом — не то бригадир,
не то председатель артели, где работала надом-
ницей Прасковья Федоровна. У старика была
сбившаяся на бок бородка грязновато-кирпич-
ного цвета, похожая на стершийся веник, кото-
рым долго подметали крашеный пол.
Пока Клава читала письмо Василия, Пра-
сковья Федоровна достала ухватом из печки
котелок с дымящимся супом и стала разливать
его по тарелкам.
Старичок провожал глазами каждую нали-
тую Прасковьей Федоровной тарелку и вытя-
гивал вперед шею, точно надеясь этим уско-
рить получение своей порции.
Суп подействовал на бригадира как первая
рюмка водки — он стал громко говорить и воз-
бужденно смеяться, его глазки заблестели и
забегали.
— Плохо вам, Петр Петрович, без домаш-
него уюта, — вздохнув, сказала Метилева, —
холостяк ли, вдовец — что младенец. Ни тебе
обеда, ни чистого белья.
— Трудновато без хозяйки, — согласился
бригадир, жадно прихлебывая суп.
— А вы бы, Петр Петрович, оженились, —
предложила Метилева, залившись таким озор-
ным смехом, что не было сомнения: она смеет-
ся не столько сказанному, сколько своим, неви-
димому, не очень скромным мыслям.
56
— Без женщины в семье какая жизнь? —
снова заговорила она, — особо во время войны.
Наш брат тут скомбинирует, там сэкономит, —
глядишь, всё полегче.
Прасковья Федоровна молча убрала пустые
тарелки, не предложив гостям второй порции,
и подала тушеную картошку в котелке.
— Вот хлеба маловато, — продолжала Ме-
тилева,—да я с началу месяца наменяю на
базаре буханочку — сразу есть с чего оттолк-
нуться, а потом так и идет вперед, так и идет, и
по карточкам хватает.
Петр Петрович жадно схватывал губами
горячую желтую картошку и забавно разминал
ее деснами, отчего его бородка смешно под-
прыгивала.
— Правду сказать, грешна, люблю поку-
шать! — Метилева лукаво подмигнула. —
И выпить могу, коли кто угостит.
Прасковья Федоровна метнула на нее недо-
вольный взгляд, но гостья не обратила на это
никакого внимания. В комнате было жарко
натоплено, окна слезились — подтаивала ледя-
ная корка на стеклах.
— Скоро ли войне конец, как вы думаете,
Петр Петрович? — снова затараторила Мети-
лева. Всё-таки вы мужчина, газеты читаете.
— Нашла у кого спрашивать! — отрезала
Прасковья Федоровна, и все посмотрели в ее
сторону. — Все мы одинаково знаем. Что он
газету прочтет, что я — там для всех одно
писано.
— М-да... — обиженно промычал старичок
и снова затряс бородкой-веником.
57
«В такой день не вспомнить о Василии! —
с возмущением думала я, глядя на старуху
Метилеву. — Как, должно быть, неприятно се-
годня Клаве слушать болтовню матери».
Но Клава не смотрела на нее, молчала, ду-
мая о чем-то своем. Потом встала из-за стола
и подошла ко мне:
— Здесь душно, Шура, пойдем пройдемся.
Мы оделись и вышли на улицу. Полная
луна, выпуклая, как яичный желток, освещала
окружавшие ее облака. Там же, куда не дости-
гал ее свет, небо было черным-черно.
По скользким обледенелым мосткам идти
было трудно, и мы пошли серединой дороги.
Мороз стоял крепкий, но у меня всё еще горели
щеки от жарко натопленной печки, и холода
я не чувствовала.
Я смотрела на Клаву.
В лунном свете она казалась особенно пре-
красной, будто из сказки, ее заиндевелые во-
лосы были похожи на тончайшие кружева.
Я представила себе, как любит свою Клаву
Василий, как мечтает о встрече с ней после
полутора лет разлуки, и позавидовала им
обоим, но завистью доброжелательной, а не
злой.
9
Как-то раз Прасковья Федоровна уехала в
район по делам своей артели и долго не воз-
вращалась. Заходившие к ней соседки удивля-
лись длительной отлучке хозяйки.
Во время ее отсутствия пришло одновремен-
но два письма от Василия.
58
Их принес знакомый старик-почтальон.
Всегда, когда я видела его, мое сердце радост-
но замирало. И в этот раз, заметив почтальона
из окна, я выбежала ему навстречу в сени и
чуть ли не выхватила у него из рук конверты.
— Спасибо, большое спасибо! — закри-
чала я.
— Так ведь не тебе, —удивился почтальон.
— Всё равно, спасибо.
Как хотелось мне узнать, что пишет Васи-
лий теперь! Будь Прасковья Федоровна дома,
она, может быть, и в этот раз попросила бы
меня прочесть ей письма вслух, и я узнала бы,
как живет Василий, как воюет.
«Что, если я вскрою конверты, прочту
письма, а потом заклею их снова? Ведь никто
не узнает...»
Я побежала в свою комнату, достала из
портфеля бритву, которой точила карандаши,
и уже было начала надрезать конверт, но спо-
хватилась. «А кто дал мне право читать чужие
письма?». Я бросила бритву.
Долго еще поглядывала я на запечатанные
письма, долго вертела их в руках, а потом,
чтобы не было соблазна, спрятала их подаль-
ше в комод, в тот ящик, где Прасковья Федо-
ровна хранила клубки шерсти. Там под
клубками я увидела в грубом конверте из обер-
точной бумаги четыре одинаковые фотографи-
ческие карточки Василия. Это был тот самый
снимок, который находился в красном уголке
завода. С четырех одинаковых портретов на
меня смотрели четыре одинаковых Василия —
смотрели ласково и в то же время серьезно.
59
Через несколько дней от Василия пришла
открытка — вот ее я прочла. Василий писал:
«Третий месяц не получаю писем ни от Вас,
мама, ни от Клавы. Что случилось? Очень про-
шу ответить мне сразу же, как только получите
эту открытку. Очень беспокоюсь. Берегите
себя, мама!»
Неужели он не получает писем из дома?
Я ведь сама видела, как Прасковья Федоровна
писала ему. Я была огорчена тем, что человек,
находящийся на фронте, оторванный от близ-
ких, каждую минуту подвергаясь опасности,
должен еще понапрасну тревожиться о людях,
которые живы и совершенно здоровы. Я хотела
сразу же сообщить об открытке Клаве, но
адреса /Летилевых не знала.
Прошел день, прошел другой — Прасковья
Федоровна не возвращалась, Клава всё не за-
ходила, и тогда я решила: мой долг немедлен-
но ответить Василию, избавить его от ненуж-
ных тревог и волнений.
«Не пугайтесь и не удивляйтесь тому, что
это письмо не от Прасковьи Федоровны и не
от Клавы, — писала я. — Прасковья Федо-
ровна, наверно, Вам сообщала, что «пустила
квартирантов». Вот «квартирантка» Вам и пи-
шет»...
Дальше я объяснила, из каких побуждений
решила ответить ему на открытку, вовсе не мне
адресованную. Я написала, что Прасковья Фе-
доровна здорова, что она в отъезде и что дома
у нее всё в порядке. Тут бы мне и следовало
остановиться, но я всё писала и писала дальше:
«Я никогда не видела Вас, Василий, но
60
слышала о Вас много хорошего»... Я расска-
зала о Рябове, о том, как он беспокоился, как
восторженно отзывался о своем командире.
«Прасковья Федоровна ничего не подозревает,
но я-то понимаю, что Вы тогда несколько меся-
цев молчали неспроста. Не были ли Вы ра-
нены?..»
Потом я писала Василию о Смурове, о за-
воде, о Кострыкине, о Клаве, о том, как она
хороша, о том, что она любит его и ждет, хотя
меня никто об этом не просил. «Есть еще одна
вещь, о которой мне хотелось поговорить
с Вами, Василий, — писала я дальше. — Я по-
нимаю, что Вы не можете помочь в этом, тем
более, что я очень прошу Вас (слово «очень»
я подчеркнула жирной чертой) не говорить ни-
чего ни Прасковье Федоровне, ни Клаве
о моем письме. Но я не могу удержаться и не
воспользоваться случаем. Не могу не сказать
Вам, что жить нам у Прасковьи Федоровны
очень и очень тяжело. Я сама не знаю, зачем
я пишу всё это. На расстоянии Вам трудно рас-
судить нас, да и вообще в таком вопросе труд-
но быть объективным — ведь мы Вам чужие
люди, а Прасковья Федоровна — мать. Вам
всегда будет казаться,, что она права. Я боюсь,
что мое письмо доставит Вам неприятные ми-
нуты, а мне вовсе не хочется Вас огорчать.
Наоборот. Я так рада, что Вы нашлись! Я об
этом уже писала Рябову, но и Вы сами напи-
шите ему, пожалуйста. От всей души желаю
Вам здоровья. Если Вы захотите что-нибудь мне
ответить, то напишите до востребования. Я уве-
рена, что Вы меня не выдадите ни Прасковье
61
Федоровне, ни Клаве», — закончила я и, не
перечитывая письма, заклеила конверт и
вместе с письмом отцу бросила в ближайший
почтовый ящик на улице Свободы.
Назавтра приехала Прасковья Федоровна.
На мое приветствие она, как всегда, не взгля-
нув на меня, скороговоркой буркнула «драстн»
и прямо прошла к комоду, как будто чувство-
вала, что там хранятся письма сына. Она груз-
но опустилась на стул, прочла все письма под-
ряд, одно за другим, и тут же села писать
ответ. Закончив, она принялась мыть полы,
потом стала стягивать со своей кровати белье,
снимать скатерти и занавески и устроила стир-
ку, словно хотела продезинфицировать всё, что
в ее отсутствие оставалось в комнате.
«Зачем я написала Василию? — сокруша-
лась я. — Зачем поспешила сделать это?»
Но вернуть отправленное письмо уже было
невозможно.
10
Возвращаясь по вечерам из школы, мы
с Галей иногда заходили в госпиталь за мамой
и шли домой втроем. Не только я, но и мама
очень привязалась к Гале, полюбила ее.
У мамы с Галей сложились какие-то самостоя-
тельные, не связанные со мной отношения,
совсем не такие, какие обычно бывают у матери
с подругами дочерей. Я маме казалась малень-
кой девочкой, а с Галей — моей ровесницей —
она разговаривала как со взрослым челове-
ком. Галя очень считалась с маминым мне-
62
нием, слушалась ее советов. Только в одном
вопросе их мнения разошлись.
— Вот читаешь газеты, слушаешь радио,
такой героизм на фронте, такие подвиги, что
не знаешь даже, как преклоняться перед на-
шими фронтовиками, — сказала однажды Га-
ля. — А ведь людям жить-то хочется, не мень-
ше, чем нам.
Мы шли по улице втроем, но я участия в
разговоре не принимала.
— А вы знаете, Татьяна Андреевна, — про-
должала Галя, — я вот часто думаю: — ну,
какое я имею право в такое время учиться
в школе? Кому всё это сейчас нужно? Сейчас,
по-моему, важно только одно: скорее разбить
врага!
Мы проходили в этот момент по Театраль-
ной площади. В театре светились окна фойе,
и невидимые лампы бросали лучи на белые
колонны возле входа.
— Давайте, девочки, посидим в скверике,—
предложила мама.
Летом в сквере возле театра всегда бывало
много ребят — воспитательницы детских садов
и интернатов приводили их гулять. Малыши
в одинаковых панамках сначала шли чинно,
парами, держась за руки, а потом разбегались
по скверику — начинали играть, копаться
в песке. По вечерам здесь можно было видеть
и взрослых. В их разговорах часто слышались
слова: «сводка Информбюро», «фонды», «раз-
нарядки», «уборочная», «завод», «план». Ста-
рики обычно дремали, кое-кто, напрягая зре-
ние, читал газету. За спинами сидящих на
63
скамейках людей шуршали темные кусты.
Ветерок приносил вечернюю прохладу.
Зимой сквер пустовал, дорожки в нем не
расчищались.
Проваливаясь в глубокий снег, мы добра-
лись до ближайшей скамьи.
— А всё-таки, я уйду на фронт, — опять
взволнованно заговорила Галя. — Сейчас стыд-
но в тылу быть! Не могу я сейчас в школе
учиться!
Мама устало улыбнулась. О чем она ду-
мала? Об отце? О своих раненых?
— Не ты одна так рассуждаешь, Талин-
ка, — сказала мама. — Ты думаешь, я не по-
шла бы на передовую? Ведь я врач, и мое
место именно там!—Мама помолчала.—Не
холодно, девочки? Не простудитесь?
— Нет, нет, — ответила Галя.
Мне тоже очень не хотелось уходить. Во-
круг лежал глубокий, нетронутый, ослепитель-
ной белизны снег. Чернели в нем только впа-
дины от наших следов.
— Мне вот приказано работать в тылу —
и я работаю. И ничего не поделаешь, — ска-
зала мама, вздохнув. — А ведь знаешь, Та-
линка, иногда я смотрю на наших врачей...
Бывают такие дни, когда люди и не помнят,
где они, в тылу или на фронте. Здесь ведь
тоже можно работать, как на передовой...
— Вы не хотите понять меня, Татьяна
Андреевна! Госпиталь и школа — это не одно
и то же. От того, получу ли я сегодня пятерку
или тройку, положение на фронте не изме-
нится!
64
— Ты так думаешь?
— Да, я так думаю! — сказала Галя рез-
ко. — Пойдемте домой, стало холодно.
Мы ушли из сквера. Я с недоумением смо-
трела на Галю, — впервые видела ее такой.
Но удивительнее всего было то, что мама ни-
сколько не обиделась.
— Все не могут быть на фронте, Галоч-
ка, — сказала мама и ласково взяла ее под
руку. — Но я тебя очень хорошо понимаю.
Галя ушла сердитая и назавтра отправилась
в райком комсомола. Вернувшись оттуда, она
сидела в классе молчаливая и злая, отвечала
она односложно, и мне так и не удалось
узнать, что ей сказали в райкоме. Об уходе на
фронт больше разговора у нас не было, но я
чувствовала, что Галя не успокоилась, что
учится она в школе без особого интереса, счи-
тая, что ее настоящее место сейчас не за
школьной партой. Она и сводки Информбюро
слушала как-то особенно — напряженно и под-
тянувшись, словно стояла на боевом посту.
Я рассказала Гале о своем письме Васи-
лию. Мы в это время готовили уроки в «Гер-
ценке». В читальном зале было тихо, только
в батареях парового отопления что-то щелкало,
да на столах шелестели переворачиваемые
страницы.
— И ты серьезно жалеешь, что напи-
сала?— спросила шёпотом Галя.
— Конечно, жалею. Я могла ему коротко
сообщить, что дома у них всё благополучно, и
на этом закончить. А я расписала целое сочи-
нение: и Смуров мне не нравится... и мать
65
у него плохая... Эго же бестактность, пони-
маешь? В лучшем случае он мне просто не
ответит...
— Ав худшем?
— Ав худшем — выругает меня! И пра-
вильно сделает. Чего ты смеешься?
— Я не смеюсь, Шура. Я просто не могу
тебя понять. Ты написала правду — чего же
ты боишься?
Галины глаза из-за очков, которые она
надевала во время занятий, казались очень
большими и удивленными. — Ничего ты не
понимаешь, Шура. Пусть знает, какая у него
мать... — почти крикнула Галя. Сидевший на-
против нас старик, придвигая к себе гору книг,
раздраженно сказал:
— Тише вы! Невозможно сосредоточиться.
— Про такую ведьму я б и не то еще напи-
сала!— возбужденно говорила Галя. — Я бы...
— Чего ты кричишь?
— Я не кричу, я просто возмущаюсь! И вот
ты увидишь, он не только не обидится на тебя,
а даже...
— Спасибо скажет! — насмешливо пере-
била я.
— Да. Представь себе! Если, конечно, он
такой, каким ты его расписываешь.
У нас были билеты в театр, и мы собира-
лись идти туда прямо из библиотеки. На Гале
была ее неизменная старенькая жакетка, юбка
и огромные, не по ноге, подшитые армейские
валенки. Но из-за того, что Галя надела белую
шелковую блузку, которую носила в особо тор-
жественных случаях, она казалась нарядной.
66
В предвкушении спектакля она была оживле-
на, ее золотистые глаза сегодня как-то осо-
бенно светились.
— Он всё поймет правильно, — убежденно
сказала Галя, но от ее уверенных слов на душе
у меня не стало спокойнее.
11
В центре «нового» Смурова, на одной из
немногочисленных асфальтированных улиц —
улице Ленина, между жилым каменным домом
и зданием райисполкома находился четырех-
этажный серый дом. Внешне он ничем не был
примечателен, разве только своими размерами
и широкими окнами да еще выпуклыми цифра-
ми «1938», обозначавшими дату его постройки.
Раньше я проходила мимо него не оста-
навливаясь, без всякого интереса: судя по
табличкам возле дверей, в нем были располо-
жены райзо, райсобес, райкоммунотдел и мно-
жество других организаций, хотя и важных,
но к которым я не имела отношения. Однако
с некоторых пор этот дом приобрел для меня
особое значение: рядом с зеленой табличкой
«Сберкасса» находилась синяя: «Почта, теле-
граф, телефон».
Я ждала письма до востребования, ждала
и в то же время боялась его получить. Я бы-
вала на почте ежедневно. Каждый раз, когда,
миновав просторный вестибюль дома с широ-
кой лестницей, ведущей на верхние этажи,
я входила в помещение почты — меня охваты-
вало волнение.
67
На почте всегда стояла торжественная ти-
шина. За окошечком, где принимали заказ-
ные письма и выдавали отправленные «до
востребования», сидела девушка. Быстро пере-
бирая конверты и не найдя нужного пись-
ма, она равнодушно говорила: «следующий».
Подходивший к окошечку просительно на-
клонялся, протягивая девушке паспорт, слов-
но от нее зависело — получит он письмо или
нет.
Сначала я была уверена, что Василий отве-
тит мне, но потом уверенность стала ослабе-
вать — письма всё не было.
Я так привыкла к тому, что девушка за
перегородкой всегда возвращает мне мой
паспорт, не подымая головы, и сухо произнося:
«следующий», что когда она однажды вместе
с паспортом протянула письмо, я от неожи-
данности растерялась и спросила:
— Это мне?
— Вам, конечно. Не мне же, — сердито
сказала девушка и громче обычного выкрик-
нула: — Следующий!
Она уже взвешивала на своих маленьких,
похожих на аптекарские, весах заказное
письмо, сердито стучала по нему штемпелями
и печатями, а я всё стояла у окна, держа
в руках письмо: «Что-то в нем?»
Я подбежала к столу, на котором лежала
обгрызанная ручка и побелевшая, бугристая
от засохшего клея кисточка. Сев на скамью,
я надорвала конверт.
«Рад познакомиться с Вами, милая
Шура, — писал Василий, — и очень благодарен
68
Вам за письмо. Я долго не получал известий
из дома и беспокоился, а сегодня получил
одновременно и от матери и от Вас. Вы не мо-
жете себе представить, сколько радости доста-
вили мне своим письмом. Радости и огорчения.
Вы пишете, что мне трудно быть объективным.
Ошибаетесь! Я хорошо себе представляю, как
Вам трудно жить у нас. Если бы Вы знали, как
мне это неприятно! Я всё думаю, чем бы по-
мочь? Я бы написал матери, но боюсь, что это
еще больше ее рассердит. И, кроме того, раз
Вы просите никому не говорить о Вашем
письме, я, конечно, не скажу. Можете в этом
не сомневаться».
Рядом со мной сидел какой-то человек, и я
слышала, как он несколько раз подряд спраши-
вал: — Вы не пишете? Вам не нужна ручка? —
но я была поглощена чтением письма и не
сразу поняла, что он обращается именно ко
мне.
— Конечно, берите, я не пишу, — отмахну-
лась я и снова взялась за письмо:
«Напишите мне, давно ли Вы живете
у нас? Откуда приехали? Как учитесь? С кем
дружите? Может быть, я кого-нибудь и знаю...
Вы спрашивали в письме, не был ли я ранен?
Стоит ли об этом вспоминать? Сейчас я совер-
шенно здоров. С Виктором Рябовым я теперь
переписку наладил. Спасибо Вам и за это.
А вот от Гриши Кострыкина давно ничего нет.
Узнайте, пожалуйста, Шура, если Вам не
трудно, у Николая Петровича, где Гриша сей-
час и как его дела. Я уже просил об этом и
маму и Клаву, но они, наверно, забыли. Очень
69
прошу Вас ответить мне, и если Вы ничего не
имеете против, я и в дальнейшем буду писать
Вам до востребования. Спасибо Вам, Шура,
что Вы так подробно пишете о моей Клаве.
Она редко мне пишет, — пишите хоть Вы
о ней, уж больно я по ней стосковался. Своим
друзьям я о ней каждый день рассказываю, и
они полюбили ее заочно. Да ведь ее нельзя не
любить».
Василий писал с откровенностью человека,
находящегося на передовой, когда он не стес-
няется говорить вслух о самых сокровенных,
самых дорогих ему вещах и радуется возмож-
ности хотя бы в беседе с посторонним челове-
ком вспомнить родные лица, милые образы.
12
Проведя детство в Ленинграде, я привыкла
к короткой, сырой зиме, поэтому смуровская
зима, сух^я и колючая, длившаяся уже пол-
года, казалась мне бесконечной. Засыпанный
снегом городок как будто накинул на себя бе-
лый пуховый платок. Из наших окон были
видны свесившиеся с крыш, словно надвину-
тые на лоб, снеговые шапки да искрящаяся
на солнце, укатанная дорога. Из труб прямыми
белыми столбами полз вверх дым: в домах
топились печи. На «Верхнем» рынке продава-
лось замороженное в мисках молоко, теплые
варежки и шапки с длинными ушами-завяз-
ками.
Держались устойчивые, цепкие морозы, и
70
мне смешно было вспомнить, что в Ленинграде
до войны при 25° ниже нуля отменялись заня-
тия в школах.
В комнатах Прасковьи Федоровны за ночь
так выстуживало, а окна так заплывали льдом,
что я, прежде чем начать одеваться, соскаки-
вала с кровати и, накинув на плечи пальто,
растапливала печь.
Согревшись и попив наскоро чаю, я ухо-
дила на заводский воскресник, в библиотеку
или в школу. Так было изо дня в день. Мино-
вала вторая школьная четверть. Кончился не-
забываемый 1942 год, принесший легендарную
победу под Сталинградом. Сводки несли всё
новые и новые известия об успехах Юго-Запад-
ного, Донского, Северо-Кавказского, Воронеж-
ского, Калининского, Волховского и Ленин-
градского фронтов, и наша жизнь, жизнь людей
глубокого тыла, освещалась, озарялась этими
победами. Работали школы, библиотеки, театр,
два кино. Цветные афиши оповещали о новой
премьере спектакля «Суворов», хотя недавно
состоялась премьера «Женитьбы Белугина».
Музыкальное училище объявляло о полугодо-
вом отчетном концерте; заводский клуб устраи-
вал вечер самодеятельности.
Газета «Смуровский рабочий» печатала
статьи под заголовками: «Гвардейцы труда»,
«Колхозы Смуровского района успешно гото-
вятся к севу», «Благоустроим наш родной го-
род», «Смуров — героическому Сталинграду».
Как свой личный праздник воспринял наш
класс известие о том, что завод, на котором
мы работали летом и с которым не прекратили
71
связи и зимой, награжден вторым орденом
Ленина за образцовое выполнение заданий
фронта. Нет, Смуров был вовсе не таким сон-
ным, каким показался мне сначала!
Школы шефствовали над госпиталями и
интернатами, устраивали воскресники. По рай-
ону разъезжали агитбригады.
Не по дням —по часам рос фонд обороны,
и Смуров мог гордиться своим вкладом в него.
Под рубрикой «Знатные земляки» в «Смуров-
ском рабочем» печатались сообщения о герои-
ческих подвигах жителей Смурова в тылу и
на фронте. С каким восторгом прочла я од-
нажды в газете очерк о Василии! Там расска-
зывалось, за что Василий Вожгалов получил
орден. В письме, которое я когда-то читала
вслух хозяйке, Василий писал о себе очень
скромно; здесь же, в газете, другие рассказы-
вали о нем с восхищением.
Письма от отца с фронта приходили регу-
лярно и казалось, что отец где-то совсем близ-
ко, рядом. Каждое следующее письмо было
как будто продолжением предыдущего, и раз-
лука становилась не такой тягостной.
Встреча с отцом была еще далека, но о ней
уже можно было мечтать.
13
С получением письма от Василия внешне
ничего не изменилось в моей жизни, но вошла
в нее какая-то новая большая радость. Я отве-
тила ему, и мы стали регулярно переписы-
ваться. Василий рассказывал мне о своих фрон-
72
товых делах, о товарищах, расспрашивал
о Ленинграде, об отце, о школе, о том, не изме-
нилось ли отношение Прасковьи Федоровны
к нам.
«Нет, я не обиделся на Вас, Шура! То, что
Вам после Ленинграда не нравится наш Сму-
ров — в этом нет ничего удивительного, —
писал Василий в одном из писем. — Конечно,
городок наш еще не весь красивый, но подо-
ждите, Вы увидите, каким мы сделаем его
после войны».
Прочитав это, я усмехнулась: «Что ж, мо-
жет быть... Только пока это не так. И меня-то
уж, во всяком случае, тогда здесь не будет».
«Смуров — не Ленинград, — читала я даль-
ше, — и фонтанов в нем пока нет, но Вы учти-
те, что до революции он был местом ссылки, а
теперь это культурный промышленный город.
Но я, конечно, «агитирую» Вас напрасно. Сло-
вами тут не убедишь. Это нужно почувство-
вать сердцем. Для меня же нет ничего роднее
и дороже моего далекого Смурова. Я люблю
наши смуровские белоснежные зимы, но я не
меньше люблю и украинскую белоснежную
весну, когда цветут вишня и яблоня»...
В другом письме Василий писал: «Спешу
сообщить Вам, что несколько дней пробыл
в Ленинграде.Как прекрасен Ваш город! А ка-
кие там люди! Сколько в них мужества и веры
в победу! Да, Вы можете гордиться тем, что
Вы ленинградка. Я всё время думал о том, что
это Ваш город. Как жаль, что я не знаю
Вашего ленинградского адреса, а то я непре-
менно посмотрел бы на Ваш дом, передал бы
73
ему привет от Вас. Но ничего, придет время,
когда Вы сами войдете в него. Я твердо в это
верю. Всё, всё здесь Ваше, и всё ждет Вас».
Я плакала, читая это письмо.
И в этом письме и во всех других Васи-
лий неизменно спрашивал меня о Клаве, и я
подробно сообщала ему о ней.
«Шурочка, — просил он, — не говоря, ко-
нечно, Клаве о нашей переписке, намекните ей
как-нибудь в разговоре, чтобы она почаще мне
писала. Каждое ее письмо — огромная радость,
но она меня письмами не очень-то балует.
Пишет редко и всего по нескольку слов. Я не
обижаюсь, разве на нее можно обижаться?
Но как бы мне хотелось получать весточки от
нее почаще. Ведь я почти ничего не знаю о ее
жизни. Я очень огорчился, узнав, что она бро-
сила учебу. Я, конечно, понимаю, как вам всем
трудно, но всё-таки потом снова взяться за
учебники будет еще труднее. Я боюсь, что
Клава не понимает всего этого по-настоящему.
Она ведь еще почти ребенок, она мало знает
жизнь, мало видела. Когда мы снова будем
вместе и когда она станет моей женой, я по-
стараюсь быть ей не только мужем, я заменю
ей отца или старшего брата. Нет минуты, что-
бы я не думал о ней. Иногда я просто не пони-
маю, за что мне такое счастье? Я счастлив, что
она моя невеста, что она любит меня и ждет
и что вообще она существует на свете».
Я знала, что Василий любит Клаву, но
только теперь поняла, насколько сильна и глу-
бока его любовь. Если раньше я всегда любо-
валась Клавой, восхищалась ее красотой, то
74
теперь стала более придирчиво и внимательно
присматриваться к ней, находя в ней недо-
статки, которых прежде не замечала. Может
быть, я стала слишком пристрастной, но в од-
ном была уверена: при всей своей красоте и
внешнем обаянии Клава недостойна своего
жениха, не понимает его, не чувствует, сколько
в нем особенной, ласковой силы.
Мне казалось, что я, посторонний человек,
никогда не видевший Василия, знаю и ценю
его больше, чем она — его невеста. Слишком
уж Клава была спокойна за его судьбу.
Мы переписывались с Василием всю зиму,
продолжали переписываться и тогда, когда
внезапно, как чудо, пришла поздняя, буйная и
многоводная весна. По горбатым улицам
вдруг побежали шумные, как маленькие водо-
пады, ручьи, поблескивавшие на весеннем
солнце так, словно в них насыпали массу мель-
чайших осколков зеркала. В воздухе запахло
теплой весенней сыростью.
Весна пронеслась быстро со всеми своими
беспокойными, но радостными делами — под-
готовкой к экзаменам, переходом в 10-й класс,
торжественным вечером, происходившим в по-
мещении заводского клуба, и наступило лето—
пыльное и знойное. Как и в прошлом году мы
работали на заводе, дома я почти не бывала,
Прасковью Федоровну видела редко: когда я
возвращалась с завода, она обычно уже спала.
Писем я получала много — от отца, от
Василия. Я тосковала, если от Василия долго
не было вестей, а получив письмо, радовалась,
75
как встрече с другом. Я привыкла к его по-
черку, к его восприятию жизни. Тот Василий,
жених Клавы, похожий, по ее словам, на
Абрикосова, был один, а мой был совсем дру-
гой — близкий и понятный, такой, каким я ви-
дела его на карточках, каким знала по письмам
и очерку в газете.
14
К Гале я очень привязалась, хотя мы были
совершенно разные.
Мне запомнился один случай. Весной нам
выдавали в школе ордера. Я получила ордер
на туфли (от моих старых остались только под-
метки да пряжки), и, встав утром пораньше,
пошла в магазин. Галя в тот день была чем-то
занята, и мне пришлось идти одной. Я переме-
рила в магазине почти все туфли, но выбрать
ни одни не решилась и, вернувшись домой, не
только не была этим огорчена, а, наоборот,
радовалась, что ордер попрежнему находился
у-меня в портфеле. Можно было еще долго
думать, выбирать, советоваться.
Узнав об этом, Галя возмутилась.
— Завтра пойдем вместе, — сказала она.
— Почему непременно завтра? Можно че-
рез несколько дней.
— Завтра!—внушительно повторила она.—
Нет никаких оснований откладывать.
— Не жмет? — спросила меня Галя, когда
на следующий день мы пришли в магазин и
я примерила светлые, нарядные туфли на ма-
леньких каблучках.
— Нет, не жмет.
76
— Нравятся?—строго спросила Галя, но
тут же лукаво посмотрела на меня: такие
туфли не могли не нравиться.
— Конечно, нравятся, — отвечала я, — но
ведь светлые непрактичны.
Галя что-то сердито буркнула в ответ и
решительно пошла к кассе. Всю обратную до-
рогу мы шли молча — впереди Галя с моими
туфлями, сзади я. Вдруг она остановилась,
обернулась ко мне и так звонко рассмеялась,
что и мне сразу стало весело.
Как-то в середине лета я зашла утром за
Галей.
— У меня новость, Шура! Замечательная
новость! — сказала она, выходя со мной на
улицу.
Я вгляделась в Галино лицо — оно было
счастливым, торжественным и смущенным в
одно и то же время. Ее глаза говорили: «Мне
так хорошо, что даже неловко. Пусть всем
будет так же хорошо».
— Да что случилось, Галя?
— Я остаюсь на заводе, понимаешь?
— То есть, как остаешься? До конца
каникул?
— Да нет же. Ну, как ты не можешь по-
нять? Насовсем оформилась, на постоянную
работу. — Она улыбалась, и, казалось, улы-
бается каждая ее веснушка. — Ты не одоб-
ряешь, Шура? Нет? Ты сердишься, что я тебе
раньше об этом не сказала?
— Не то, что не одобряю, — сказала я,
чтобы оттянуть ответ. Я, действительно, не
понимала, как можно уйти из 10-го класса.
77
бросить школу, когда до окончания остался
всего один год. — Не то, что не одобряю, а не
совсем понимаю...
— Я знаю, что ты скажешь, — поморщив-
шись, перебила Галя, — что нужно сперва кон-
чить школу, что снаряды и пушки сделают без
нас...
Галя смотрела на меня с надеждой, что
я опровергну ее подозрения, но я молчала.
— А я думала—ты поймешь, — разочаро-
ванно сказала она, — ведь теперь я спокойна
буду! Если нельзя на передовую, то хоть
в тылу буду что-то делать для фронта. Это не
слова, Шура! Ты понимаешь? Это потребность!
Я знаю — меня никто не спросит, почему я
просто училась в школе и никто не осудит, но
я сама не могу...
— Я всё это понимаю. Но ведь работать
можно было пойти и через год.
— Ну вот, ты опять ничего не пони-
маешь!— закричала Галя.— Я должна была,
обязана была остаться на заводе еще в прош-
лом году.
— Жаль, всё-таки, бросить школу теперь,
доучившись до десятого класса.
Галя остановилась.
— А я не брошу, — тихо и серьезно ска-
зала она, беря меня за руку. — Я в вечернюю
пойду. Хоть ночью буду заниматься, но днем
буду работать. Для фронта.
Я была огорчена и потому, что боялась, как
бы Галя не бросила вовсе учебу, и потому, что
мне предстояло расстаться с нею, но я не отго-
варивала ее — я видела, что это бесполезно.
78
Передо мною на ослепленной солнцем улице
стояла, перебросив на грудь тяжелые косы, не
девочка-школьница, а взрослая женщина со
взглядом, каким встречают вернувшихся с
фронта мужей-калек, какой, должно быть, бы-
вает у тех, кто взрывает мосты, чтобы не про-
пустить врага. Передо мной стояла взрослая
женщина с глазами партизанки в самом высо-
ком значении этого слова.
15
Начался новый учебный год—последний
школьный год. И оттого, что он был послед-
ним, все самые обычные дела, самые буднич-
ные школьные события приобретали теперь
для нас особую значимость.
Как-то не верилось, что предстоит разлука,
и всё, что связывало нас со школой, станови-
лось особенно дорогим сердцу.
Занятия шли своей чередой, каждый день
мы, как все школьники, с волнением думали:
«вызовут или не вызовут?», и так же, как во
всех других школах, обсуждали вопрос о том,
«справедливо» ли поставлена отметка.
Шумно проходили комсомольские собрания,
ребята активно «прорабатывали» товарищей,
подсказывавших на уроке или списавших кон-
трольную работу у соседа. Жизнь кипела в на-
шем маленьком темном здании ничуть не
меньше, чем в школах, занимающих много
этажей, в школах со светлыми коридорами
и классами.
Зима наступила рано, а вместе с ней опять
79
пришли снега, пуховые платки, замороженное
молоко, седые деревья, белые дымы на голу-
бом зимнем небе. Морозы ослабевали на не-
сколько дней, а потом ударяли с новой силой.
Снова побелели крыши, скамейки и мостки
перед домами, снова укатанные дороги за-
искрились и заблестели на солнце. На улице
стало трудно дышать, словно из нее выкачали
весь воздух. Снова приходилось вступать
в единоборство с морозами.
Как и прошлой зимой, «власть» хозяйки
опять возросла.
Я никогда не занималась дома, старалась
делать так, чтобы Прасковья Федоровна не
чувствовала моего присутствия, но она ни-
сколько не замечала и не ценила этого. Ее
скуластое с опухшими веками лицо всегда
было одинаково невозмутимым и холодным.
Я старалась убедить себя в том, что пре-
увеличиваю неприязнь к нам Прасковьи Федо-
ровны, но мне это не удавалось.
Возвращаясь домой, я часто думала: «Мы
живем у нее уже почти полтора года, и она
ничего плохого нам не сделала. За полтора
года совместной жизни она даже ничего не
сказала нам неприятного». Но стоило мне
войти в темные сени, увидеть скрипучую лест-
ницу с крутыми ступеньками, ведущую к сосе-
дям на второй этаж, стоило открыть обитую
войлоком дверь, как все мои доводы пере-
ставали казаться мне убедительными. В самом
воздухе квартиры Прасковьи Федоровны чув-
ствовалось затаенное, сдерживаемое до поры
до времени, раздражение хозяйки. Нарыв этот
80
рано или поздно должен был прорваться. И это
случилось одним зимним морозным утром, со-
вершенно неожиданно, как случается всё, чего
долго ждешь.
Мы с мамой пили чай. Прасковья Федо-
ровна молча вязала у окна. Клубок с шерстью
упал с ее колен и покатился по пестрому поло-
вику, сшитому из цветных тряпочек. Я подала
ей клубок. Хозяйка кивнула мне и, обращаясь
к маме, сказала так, как будто продолжала
давно начатый разговор:
— Дров еще на неделю-полторы хватит...
Дров в сарае было, действительно, мало-
вато, но я думала, что их хватит больше, чем
на месяц.
— На неделю? — удивилась мама. — Не-
ужели дрова уже кончились? Зима еще в са-
мом разгаре.
Прасковья Федоровна положила на окно вя-
занье, встала со стула, стряхнула с передника
обрывки ниток, выпрямилась и медленно двину-
лась к столу, словно решившись на что-то.
— Я такое давала условие, — отчетливо
произнесла она, подойдя к столу вплотную. —
А если вы дров не могли достать, нечего было
ехать на частную квартиру.
Хозяйка глядела на маму в упор своими
глазами-щелками, желая, видимо, показать,
что это не просто вспышка, что разговор давно
обдуман и подготовлен, что она отдает себе
полный отчет в том, что сказала и что скажет
дальше.
«Начинается!» — подумала я с каким-то
странным облегчением.
81
— На что мне себя стеснять? — продол-
жала Прасковья Федоровна жестко.—Только
за дрова и сдала жилье. Прошлый год еще ни-
чего — и своих дров у меня остаток был и вам
дали немного. А нынче... — Прасковья Федо-
ровна остановилась, помолчала, как будто со-
бираясь с духом, и, наконец, медленно и четко
заговорила снова: — Если дров не будет...
Взглянув на маму и увидев ее бледное,
усталое лицо, я не выдержала и, перебивая
хозяйку, воскликнула, вскочив со стула:
— Конечно, если так топить, как мы то-
пим... — но, заметив мамин неодобрительный
взгляд, осеклась. Прасковья Федоровна любила,
чтобы в комнатах было очень тепло, и я, в
угоду ей, по утрам жарко накаляла печь,
а она иногда по вечерам подтапливала еще.
— Дело, конечно, не в этом, — сказала
мама, — если вы любите, чтобы было тепло, —
должно быть тепло. Вы такое условие ставили,
это верно. —Мама встала. — Но вы же видите,
я делаю всё, что возможно. Мне трудно, Пра-
сковья Федоровна. Я знаю, вам тоже трудно.
Вы немолодой человек, а работаете много,
больше, чем позволяют силы. — Мама помолча-
ла. — Ваш единственный сын воюет. Я очень
хорошо понимаю, что это значит. Вам трудно,
Прасковья Федоровна, но... поймите и вы меня.
У меня тоже муж на фронте. Вы-то хоть дома,
а дома, говорят, «стены помогают». А я... я
живу только своей работой, и если бы не ра-
бота, не знаю, как я выдержала бы всё это.
Я старалась достать дрова, — вы же знаете,
мне обещали, нам скоро должны выдать
82
ордера, но я не знаю точно, когда это будет.
И я не знаю, сколько мне дадут. Может быть,
и немного, ведь у нас есть люди, более нуждаю-
щиеся в дровах — люди с маленькими детьми.
Я не смогу взять много, даже если мне и пред-
ложат...
— Мама, ты опоздаешь на работу, — ска-
зала я, видя, что тяжелый разговор затяги-
вается.
— Да, мне пора. — Мама взглянула на
часы. — Я понимаю, Прасковья Федоровна, мы
стесняем вас, но сейчас у всех живут эвакуи-
рованные. Сейчас очень трудно, почти невоз-
можно найти комнату. Вы сами знаете — это
почти невозможно сделать, всё заселено.
Мама остановилась, ожидая какой-нибудь
реплики хозяйки, но та молчала.
— Я не знаю, где мы будем жить, если вы
предложите нам выехать,—сказала мама и,
как докладчик, отпила глоток остывшего чая.—
Но на улице мы жить не будем, конечно, так
что если... мы настолько стесняем вас... то мы,
конечно, уедем.
Я всё ждала, не скажет ли старуха, что мы
можем остаться, что нужно только позаботиться
о дровах. Но хозяйка не произнесла ни слова,
пока мы надевали пальто. Она продолжала
стоять возле стола молча и выпрямись, как на
вахте.
Мы вышли с мамой на улицу. Вьюжило.
Резкий холодный ветер толкал в спину, заби-
рался под пальто, морозил кожу. Мы шли
по скользким, обросшим ледяной бугристой
83
коркой мосткам и молчали, и, только проводив
маму до дверей госпиталя, я спросила:
— Что же будет?
— Может быть, обойдется, — ответила ма-
ма.—Иди в школу, Шурик, и не думай об этом.
Мама ушла, и я осталась одна. Стоя на
колючем ветру, я вдруг вспомнила темные зим-
ние ленинградские ночи сорок первого года,
окоченевшие ноги, обмороженные руки, де-
журство на крыше, неспокойный сон в комна-
тах с выбитыми стеклами, со снегом на под-
оконниках, а потом первые дни в Смурове, где
я отоспалась, отогрелась. Мне стало вдруг
холодно, зябко, захотелось лечь поскорее в по-
стель, утонуть в пуховых подушках Прасковьи
Федоровны, укрыться с головой и заснуть,
а проснувшись — убедиться, что сегодняшнего
утра не было, что это лишь глупый, беспокой-
ный сон. Я бежала по направлению к дому,
зная, чувствуя, что Прасковья Федоровна уже
жалеет о сказанном, что всё еще переменится.
Вернувшись домой, я не застала хозяйки.
Наша комната была убрана, моя и мамина
кровати застелены, как в день приезда —
с пирамидой взбитых подушек у изголовья и
одной подушкой, поставленной на угол посре-
дине кровати.
Я поняла, что хозяйка не передумает.
16
Полтора года жили мы уже в Смурове.
Я хорошо знала теперь этот город, обошла его
вдоль и поперек, но и познакомившись с ним
84
ближе, я не привыкла к нему, не полюбила его.
Мне попрежнему не нравились сцепленные ме-
жду собой плотными — доска к доске — забо-
рами приземистые, большей частью двухэтаж-
ные, бревенчатые дома. Некоторые из них да-
вили на подложенные под них по углам камни,
отчего казалось, что грузные дома сидят на
корточках.
Мое сердце томилось тоской по голубому
простору прямых сквозных ленинградских
улиц, и я всё время сравнивала с ними гори-
стые смуровские дороги. Уезжая из Ленин-
града, я знала, что буду скучать по нему, но
не думала, что такой тяжелой окажется раз-
лука с родным городом. Я не могла удержать
слёз, когда смотрела в кино «Два бойца».
Ленинград был рядом, до него, казалось, ру-
кой подать, на самом же деле нас отделяли
от него тысячи километров.
Часто вспоминала я милые сердцу уголки
Ленинграда — то я видела вечерний Невский
с черными, словно лакированными от дождя,
клодтовскими конями возле знакомого с дет-
ства Дворца пионеров; то видела желтую по-
лоску пляжа у Петропавловской крепости и
шпиль собора. В туманно-розовой дымке утра
он слегка золотится, а на фоне серо-лиловых
грозовых туч кажется застрявшей в них мол-
нией. То мне вспоминался листопад в ясные,
безветренные дни «бабьего лета», когда пло-
щадь Революции, Летний сад и Марсово поле
кажутся частями одного необозримого парка,
разбитого по берегам Невы, где день и ночь
падают желто-красные и желто-зеленые листья,
85
засыпая скамейки и дорожки, подножия холод-
ных белых статуй и памятника «Стерегущему».
Я отчетливо представляла себе гранитные
ступени набережной, ажурную решетку Лет-
него сада там, где она обрывается и прутья ее
веером падают в Лебяжью канавку. В Ленин-
граде прошло мое детство, и хоть я пережила
в нем блокадную зиму, я никогда не вспоми-
нала о ней, а помнила только то, что было до
войны. Со Смуровом же в моем представле-
нии связывалось всё тяжелое, чго принесли
с собой военные годы. Это были не два
периода — это были две разные жизни.
Отца на улицах Смурова я так же не могла
себе представить, как Прасковью Федоровну
в Ленинграде.
«А вдруг отец заедет за нами?» — поду-
мала я однажды, но эта мысль показалась мне
невероятной. Я твердо знала, что наша встреча
с ним произойдет в Ленинграде и уже видела
залитый солнцем, запруженный народом, засы-
панный цветами вокзал, где встретит нас отец.
С этого момента вся жизнь пойдет по-
иному, как до войны, нет, лучше, чем до
войны — жизнь начнется заново, потому что
теперь мы по-настоящему поняли, что такое
горе и что такое счастье, узнали истинный вкус
хлеба, истинную цену миру и солнцу.
Трудно было точно определить, когда въезд
в Ленинград будет разрешен, но теперь уже не
оставалось сомнений, что это не за горами.
«Скорей бы. Скорей бы!» — повторяла я каж-
дый день.
И вот в это-то время, когда победа уже
86
начала входить в дома всех советских людей,
когда звуки позывных по радио предвещали
еще один приказ Верховного Главнокомандую-
щего, объявлявшего благодарность нашим вой-
скам, неудержимо двигавшимся на запад, —
вот в это-то время по воле хозяйки мы должны
были куда-то переселяться, и, казалось, ее не-
лепый каприз отдалял нас от дома.
Прасковья Федоровна ни разу не напом-
нила нам про разговор о дровах, ни разу не
спросила, когда мы переедем от нее, но ка-
ждым словом, каждым жестом, тем, как она по-
хозяйски перекладывала любую нашу вещь —
письмо, тетрадь, тарелку, тем, как ходила по
комнате, — она давала понять, что мы дожи-
ваем у нее последние дни.
Я и мои товарищи сбились с ног, бегая по
знакомым и узнавая, нельзя ли нам с мамой
хотя бы временно куда-нибудь переехать. По-
мочь нам старались и мамины сослуживцы.
Но поиски жилья оказались тщетными. Не
только комнаты — невозможно было найти
даже свободного угла: всё заселено. Чтобы
разместить всех эвакуированных, требовалось
очень много жилой площади. Ее нехватало, на
учете был каждый метр. Многие селились по
нескольку семейств в небольших комнатах.
Все знали: это не навсегда, и чем скорее будет
разбит фашизм, тем скорее жизнь снова станет
прекрасной. Люди, не доспав, не доев, шли
к своим станкам, чтобы совершить подвиг
в тылу, достойный фронтового подвига своих
братьев, мужей, сыновей, сестер, жен.
«Неужели из-за комнаты придется поки*
<87
нуть Смуров? И куда ехать? Неужели маме
придется расстаться с ее госпиталем? Не-
ужели я не получу аттестата, когда осталось
всего несколько месяцев до окончания шко-
лы?» — думала я.
Однажды я слышала, как Прасковья Федо-
ровна говорила соседке. «Наконец-то уедут».
Надо было переезжать, а переехать было не-
куда. Нам оставалось лишь ждать, когда хо-
зяйка прямо скажет нам: «Завтра я вас отмечу».
Но случилось всё иначе.
Придя домой как-то вечером раньше обыч-
ного, я застала маму дома. Это очень удивило
меня — она никогда не возвращалась в такое
время. Меня удивило и то, что мама сидела на
кров’ати, прямо на покрывале, немного смяв
его. «Хорошо, что хозяйки нет дома»,—поду-
мала я. Около кровати стоял на стуле наш
чемодан. Он был раскрыт, и мама складывала
в него наше немногочисленное имущество.
Возле стула валялись скомканные бумажки,
рваные конверты, катушка почти без ниток,
сломанный гребешок.
— Завтра мы переезжаем,—сказала мама
в ответ на мой недоуменный взгляд.
— Куда?
— Ко мне в госпиталь. Раздевайся, Шурик,
нужно тут убрать.
«Как быстро и неожиданно всё перемени-
лось! — подумала я. — Вот и не существует
больше в нашей жизни никакой Прасковьи
Федоровны».
Я помогла маме сложить вещи, а потом
подошла к комоду.
88
«Неужели я больше никогда не увижу кар-
точку Василия, —с грустью подумала я, глядя
на портрет в рамке. Когда мама вышла из
комнаты, я открыла ящик комода. Все четыре
старые фотографии Василия попрежнему ле-
жали в конверте. «Что если я возьму одну на
память? Ведь там останется еще три».
Я быстро вытащила из конверта карточку
и спрятала ее на самое дно чемодана.
«Полтора года прожито здесь, в этих ком-
натах... — думала я. — Полтора долгих года!
А теперь кажется: только вчера мы распако-
вывали чемодан, и вот он снова завязан».
Утром мы ушли от Прасковьи Федоровны.
В вестибюле маминого госпиталя под лест-
ницей находилась комнатка, в которой хра-
нился какой-то госпитальный скарб. Там мы
и должны были временно поселиться. К на-
шему переезду из нее всё было вынесено, и
в комнатке стояла застланная по-больничному
койка, тумбочка и два стула.
— Как вы, сердешные, на одной кровати
спать-то будете? — сокрушенно вздыхала сани-
тарка тетя Паша, помогавшая нам устраивать-
ся на новом месте.—Може какой топчанок
встанет? — прикидывала она, но никакой «топ-
чанок» поместиться тут не мог: мешала плита
и покатый из-за лестницы над головой, ступен-
чатый потолок.
Тетя Паша казалась, очень старой. На ее
лице было множество глубоких морщин и скла-
док, точно она долго спала, подложив под
89
голову продуктовую сетку, и все узлы и нитки
отпечатались на ее щеках.
— И вещи-то вам сложить негде, — участ-
ливо вздохнула старушка.
— Какие вещи? Мы уже всё перенесли, —
мама показала на чемодан.
— И больше у вас ничего с собой нет?
— Больше ничего нет.
Тетя Паша вытерла уголком платка глаза
и покачала головой:— Вот чего война наде-
лала!
Дверца нашей комнаты приоткрылась, и в
нее заглянула лаборантка Тася.
— Можно?
— Конечно, можно. Входите, Тасенька.
— Здравствуйте, Татьяна Андреевна. С но-
восельем!— Тася перешагнула через порог.—
Тесновато у вас. Да ведь это не на век. — По-
том, смущаясь и краснея, она спросила маму:—
Татьяна Андреевна, а правда, что Лобовиков
скоро выписывается? У него операция хорошо
прошла?
— Операция прошла очень удачно, и он,
конечно, долго в госпитале не будет, — отве-
тила мама.—Вы это, Тасенька, сами знаете.
Вас интересует другое, правда?
Тася покраснела еще больше.
— Это же сестра его приезжала, — улыб-
нулась мама, — а вы думали...
— Сестра? —Тася вскочила со стула. —
Спасибо вам, Татьяна Андреевна, а мне-то ска-
зали...
Тася не договорила, потому что внезапно,
широко, по-хозяйски распахнув дверь, а
90
комнатку вошла седая, коротко подстрижен-
ная женщина — начальник госпиталя Вера
Васильевна.
— Ну, как устроились? — спросила она
хрипловато и, не дожидаясь ответа, добави-
ла: — Да. Не очень-то. Потерпи, придумаем
что-нибудь.
По-моему же, ничего лучшего придумывать
было не нужно.
— Для нас это лучший выход из положе-
ния, — сказала мама, как будто подслушав
мои мысли.
— Лучший выход! — прикрикнула Вера Ва-
сильевна. — Почему сразу не пришла и не ска-
зала?
— Я знала, что в госпитале нет места, ра-
неные, бывает, в коридорах лежат, — как буд-
то оправдывалась мама.
— Ну, не на улице же вам жить, — грозно
сказала Вера Васильевна, уходя.
Я застелила плиту белой скатертью, на
тумбочку поставила зеркальце и мамину
пудру, и наша комната, приобретя жилой вид,
стала похожа на купе вагона дальнего следо-
вания. У меня было радостно и легко на
сердце — казалось, мы уже в поезде по пути
домой.
17
От того, что Галя теперь не училась со
мной вместе в школе, наша дружба не угасла.
Мы виделись реже, чем раньше—Галя была
очень занята на заводе, но разве человеческие
отношения измеряются числом встреч?
91
Как-то раз Галя забежала ко мне вечером
после работы — ей нужен был задачник по
тригонометрии, — и я пошла проводить ее.
Было самое начало весны. На асфальтиро-
ванных улицах уже подсохло, зато на немо-
щеных еще таял снег, образуя такие глубо-
кие и большие лужи, что трудно было перейти
через дорогу.
Мы шли молча по длинной, кривой и плохо
освещенной улице. Она, кажется, так и назы-
валась — «Кривая».
Улочка была тихая, совсем безлюдная,
дома далеко отстояли друг от друга.
В сыром весеннем воздухе фонари горели
неярко, образуя вокруг себя световые радуж-
ные круги.
— Галка, — вдруг сказала я,—это честно,
если любишь, ну, например... чужого мужа...
или... чужого жениха. Ведь бывает так...
— Почему это тебя интересует?
— Нет, ты мне скажи. Честно это? Или
нет?
— Я не понимаю, Шура, что значит «чест-
но ли любить?» Ты, может быть, хочешь ска-
зать «отбить»? — Галя лукаво посмотрела на
меня.
— Не смейся. Мне это очень важно.
Галя остановилась, сняла зачем-то рука-
вичку и взялась рукой за столбик забора.
— По-моему, если любишь, значит, не мо-
жешь не любить, — сказала она серьезно. —
И при чем тут честность?
— Я ведь не об этом говорю! Я говорю:
любишь того, кого не имеешь права.
92
Мы снова двинулись дальше.
— По заказу разлюбить нельзя — иначе
это была бы не любовь, — говорила Галя за-
думчиво. — Но вот когда люди решают, ло-
мать ли им чужую жизнь, то тут, конечно...
А почему это тебе так важно?
— Ну, хорошо, вот ты говоришь: ломать
чужую жизнь нельзя...
Галя перебила меня:
— Совсем это не так просто: можно?..
нельзя?.. Понимаешь?.. А он... кого любит:
тебя или другую?
— Нет, я ведь абстрактно.
— Я тоже абстрактно, — сказала Галя.
— Ну, допустим... другую. А я, допустим,
знаю, что он не будет с ней счастлив... Мне
иногда кажется, что она совсем не думает
о нем. Не интересуется, что с ним. И ты поду-
май, ведь он на передовой! Если бы ты только
знала, какой он!
— Ты уверена в этом?
— В чем?
— В том, что он не будет с ней счастлив?
— Так мне кажется.
Галя задумалась, долго молчала, зачем-то
начала переплетать кончик косы.
— Если бы я любила человека, — Галя
перекинула косу на спину, — я бы... я бы не
побоялась предостеречь его...
— А как я потом посмотрю в глаза его
невесте?
— Знаешь, Шура,—снова перебила меня
Галя,— у тебя, по-моему, неверные предста-
93
вления о долге и честности... По-моему, чело-
век иногда кузнец не только своего, но и чу-
жого счастья. Если она мало думает о нем, не
интересуется его судьбой... как ты рассказы-
ваешь... ты имеешь полное право...
Я давно промочила ноги, но совсем не ощу-
щала холода — вечер был теплый, сырой и
безветренный, очень похожий на ленинград-
ские весенние вечера.
Мы находились недалеко от Галиного дома,
но я не могла оборвать наш разговор, и Галя,
как будто почувствовав всю его значимость
для меня, предложила:
— Давай я тебя немножко обратно про-
вожу.
Теперь мы шли по этой размокшей и
скользкой улице уже в обратном направле-
нии.
— Какая ты, всё-таки, скрытная, Шура, —
проговорила Галя не то с укором, не то с со-
жалением. — Ты мне никогда ничего не рас-
сказывала...
Я опустила голову. Что я могла ответить
на это?
— Нет, — сказала я, помолчав, — ты не-
множко знаешь. Я тебе говорила... Помнишь,
я написала письмо на фронт сыну нашей хо-
зяйки...
— Как я тебе завидую! — почти шёпотом
сказала Галя, — я еще никогда никого не лю-
била...
Где-то в стороне станции гукнул далекий
паровозный гудок. Потом снова всё стихло.
94
Были слышны только всхлипы намокшей
глины под ногами, да где-то позади нас за-
скрипела приоткрытая ветром калитка.
В домах гасли огни. Наступала светлая
апрельская ночь.
18
Еще задолго до нашего переезда в госпи-
таль мои встречи с Клавой стали редкими: то
ли она не так часто теперь посещала Пра-
сковью Федоровну, то ли приходила в мое от-
сутствие. Поэтому я обрадовалась, заметив ее
однажды на улице. Мне хотелось еще раз про-
верить свое впечатление, поговорить с Клавой
откровенно. «Может быть, я просто пристра-
стна к ней, и если это так — я выброшу из
головы свои глупые мысли!»
Клава стояла под фонарем и разговаривала
с какой-то девушкой. Когда я подошла к ним,
Клава заговорила еще оживленнее и только
слегка кивнула мне. Я потопталась на месте,
но, видя, что она не собирается прекращать
разговор, медленно пошла по улице. Я думала,
что Клава окликнет меня, попросит подождать,
но она не окликнула. Назавтра я снова уви-
дела ее, но в этот раз она сделала вид, что то-
ропится, и не остановилась.
«В чем дело? Почему Клава стала хуже
относиться ко мне? Пока еще ничего, кроме
хорошего, я не писала о ней Василию. Наобо-
рот, о многом умалчивала...»
Я твердо решила узнать, почему Клава
стала избегать меня, но сделать это мне
95
удалось только встретившись на «Верхнем»
рынке со старухой Метилевой.
На пустыре, огороженном с одной стороны
тыльными стенками рыночных ларей и пала-
ток, а с другой — высоким забором, помеща-
лась смуровская «барахолка». В заборе в не-
скольких местах были вынуты доски, и многие
пользовались этими «дополнительными» вхо
дами. Да и я сама, сокращая путь в школу
нередко пролезала в эти отверстия в заборе.
С интересом наблюдала я за жизнью «бара-
холки». Женщины, перекинув через руку свя-
занные шнурками поношенные мужские бо-
тинки или держа какое-нибудь стираное дет-
ское платьице, медленно прохаживались, тихо
переговариваясь между собой. Каждому стано-
вилось ясно, что, продав эти ненужные сейчас
старые «гражданские» ботинки мужа или
уступив по недорогой цене детские вещицы, из
которых ребенок вырос, эти женщины никогда
больше не придут сюда.
Но были тут и иные посетительницы — не
временные и не случайные. Живой стеной си-
дели на ящиках, чемоданах и складных стуль-
чиках обмотанные платками, увязшие в вален-
ках с калошами старухи. Возле них было рас-
ставлено и разложено всё старье, какое только
нашлось на чердаках, в сундуках и выцветших
от времени шкатулках.
Здесь были и ветхие тюлевые платья с би-
сером, и заржавевшие пуговицы, и непонятного
назначения бляхи. Среди всего этого старого
хлама можно было найти куски полинялых
креповых лент, металлические обручальные
96
кольца, ломаные пряжки. Здесь были и само-
вары всех систем и образцов, и лубочные кар-
тинки, и фамильные портреты с усатыми жени-
хами и одетыми в белую фату невестами. Одни
старухи сидели смирно, видимо хорошо зная,
что их товар никому не нужен; другие были
активны, зазывали и уговаривали покупателей.
Однажды среди прочно обосновавшихся на
«барахолке» женщин я увидела Метилеву.
Хотя апрель подходил к концу, она была тепло
и добротно одета, никакая перемена погоды
не могла бы ее испугать. На ней был новенький
негнущийся белый тулуп, теплый большой пла-
ток и большие валенки с натянутыми на них
оранжевыми калошами. Она посмеивалась,
развлекала сидящих рядом старух и одновре-
менно расхваливала свой товар.
— Посмотри-ка! — закричала Метилева
приходящей мимо нее девушке. — Да посмотри,
какое платье-то! За посмотр денег не берут.
Видя, что девушка не обращает внимания,
Метилева занялась другими покупателями.
— Моя ставка проста, от тыщи до пол-
ета! — Она подмигнула старухам.
Казалось, смеется каждая черточка ее
лица — смеются прищуренные глазки, смеется
маленький остренький носик.
Увидев меня, она нисколько не смутилась
и очень приветливо замахала рукой, подзывая
к себе.
— Ишь, какая хорошенькая у Вожгаловой
стоит, — говорила Метилева своим соседкам.—
Чернявенькая какая. С Ленинграду вакуиро-
ваны. Голодовали там, вот она и похудала.
97
А как в тело войдет — погоди, какая еще
краля будет.
Старухи уныло качали головами, слушая ее.
— Как Вожгалиха-то? Давно не видала
ее, — обратилась ко мне Метилева.
«Она не знает, что мы переехали от Пра-
сковьи Федоровны», — подумала я с удивле-
нием и, чтобы перевести разговор, спросила:
— Как поживает Клава?
— Клава? Та хорошо поживает,—Мети-
лева сделала жест, чтобы я наклонилась
к ней.—Клава замуж идет, — зашептала она
мне в ухо. — Только ты дома-то молчи.
— Замуж?! Разве Василий должен при-
ехать?
Метилева отрицательно замотала головой:
— За своего заведующего идет.
Я стояла как громом пораженная, не пони-
мая, что всё это значит, не веря своим ушам.
«Обмануть Василия? Такого Василия?»
Я не любила Прасковью Федоровну, но в
эту минуту с теплотой подумала о ней: наша
бывшая хозяйка была неспособна солгать, об-
мануть...
Я не могла сказать ни слова от удивления,
возмущения, обиды, я стояла рядом с Мети-
левой, сидевшей на складном стульчике, и мне
хотелось задушить ее. Я не могла больше ви-
деть ее смеющегося румяного лица, и она,
словно почувствовав это, вдруг перестала улы-
баться и сказала серьезно:
— Парень-то больно подходящий. Само-
стоятельный, одинокий, заработок хороший
имеет и пензию еще получает.
98
— Но ведь она же невеста Василия! Ведь
она ждать его обещала! — не помня себя, за-
кричала я. — Как же так?
— Ждать-то ждать. Да кто знает, чего
будет? А вдруг не вернется? На войне — не на
гулянке. А Клаве, може, такого, как этот заве-
дующий, вовек не найти.
Метилева что-то еще говорила мне вдо-
гонку, а я бежала прочь от нее, бежала, не
разбирая дороги, спотыкаясь о разложенные
и расставленные всеми этими старухами шка-
тулки и рамки, ничего не видя перед собой,
и в моей душе была только ненависть к этим
двум женщинам — матери и дочери Метиле-
вым, предавшим Василия, допустившим мысль,
что он может не вернуться.
19
Говорят, что люди начинают плохо отно-
ситься к тому, кто принес им тяжелую весть,
даже если он вовсе к ней и не причастен.
Нет, я не хотела быть для Василия почталь-
оном его горя! Я не ответила ему на одно
письмо, на другое, на третье...
Что я могла написать ему после встречи
с Метилевой?
Василий в каждом письме спрашивал
о Клаве, он так тосковал по ней, так слепо ей
верил. Лгать ему было нельзя, и в то же время
нехватало сил написать правду. Читая письма
Василия, я чуть не плакала: было обидно не то
за него, не то за себя...
99
Переехав в госпиталь, мы зажили совсем
по-новому. Несмотря на то, что в нашей ком-
натке негде было повернуться, нас постоянно
посещали гости: то забегали мои товарищи
узнать, что задано, поделиться школьными но-
востями, то заходили мамины сослуживцы.
Митя принес маленький коврик — чтобы не
было холодно с полу, как объяснил он; Тася
смастерила розовый абажур на лампу. Наша
комнатка постепенно благоустраивалась.
«Ничего, что в ней не помещается вторая
кровать и потолок нависает над головой, — ду-
мала я.—Какое это имеет значение, когда
рядом с нами простые, милые люди — наши
друзья? Не всё ли равно, где дожить оста-
вшееся до отъезда время? Ведь советскими
войсками уже одержана великая победа под
Ленинградом, на Украине, в Белоруссии, ведь
уже и конец войны не за горами».
Наступила весна. Это была особенная
весна для всех людей, а для меня, для моих
товарищей это была еще и последняя школь-
ная весна.
Сколько радостей и тревог, забот и надежд
внесла она в нашу жизнь!
Мы давно уже перестали замечать, что по-
мещение нашей школы похоже на хозяйствен-
ную пристройку, давно уже смирились со
всеми неудобствами. Мы любили школу так,
как любят ее только десятиклассники.
Глядя на ребят, я думала, что все мы по-
хожи на команду корабля, выходящего в от-
крытое море. Сердце рвется вперед, но трудно
оторвать взгляд от того, что осталось позади,
100
и с нежностью ловишь глазами уходящие род-
ные очертания милого берега.
В том году переход от зимы к весне про-
шел незаметно — солнечные морозные дни
стали сменяться днями такими же солнечными
и яркими, но всё более и более теплыми. За-
пахло весенней сыростью, почернели мостки
возле домов, дырявый, словно проколотый,
снег сиротливо лежал в обочинах дорог.
Ручьи быстрые, но не такие шумные, как в
прошлом году, зигзагами, как капли воды по
стеклу, текли вниз по гористым улицам. Зима
уступила дорогу весне тихо, без борьбы, как
будто знала, что борьба бесцельна, что победа
весны предрешена.
В один из таких чудесных весенних дней
мы рано возвращались с ребятами из школы.
Никому не хотелось идти домой, потому что
воздух был прозрачен и свеж, душист и
звонок.
Казалось, весна сделала менее заметными
почерневшие дома и заборы, разлила над
Смуровом ослепительную бескрайнюю голу-
бизну, напоила воздух запахами талого снега,
просыпающейся земли.
Когда я, наконец, подошла к госпиталю,
у меня было такое чувство, словно я плавала
весь день в лучистой теплой синеве улицы.
Отворив дверь в вестибюль, я удивилась: возле
нашей комнатки стояли врачи, санитарки,
сестры. Они молча расступились, уступая мне
дорогу. На кровати сидела мама.
— Что случилось? — закричала я, увидев
ее лицо. Она посмотрела так, словно не узнала
101
меня, и сказала незнакомым голосом, раз-
дельно, как будто диктуя:
— Наш папа убит.
20
Трудно поверить в смерть близкого человека,
даже если он умер у вас на глазах, но как по-
верить, что нет в живых того, от кого три дня
назад пришло бодрое, полное надежд письмо,
поверить тогда, когда от оккупантов уже осво-
бождены почти вся Украина, Молдавия, Крым,
Калининская и Ленинградская области, когда
десятки миллионов советских людей уже вызво-
лены из фашистского рабства, когда впереди
столько хорошего, когда даже в Смурове буй-
ствует озорное весеннее солнце?
Как поверить в смерть человека, дороже
которого нет никого на свете и без которого
невозможно жить дальше? Как смириться
с мыслью о том, что больше никогда, никогда
не увидишь его, и что черты дорогого лица,
кроме неверной памяти, сохранила только
тусклая фотокарточка, которая еще вчера
могла быть заменена новой, а теперь стала
самой последней? Как поверить в гибель отца?
Как пережить ее?
В это страшное для нас время мы с мамой
не могли оставаться одни. Да мы почти и не
бывали одни: санитарки, врачи, сестры, мои
товарищи были всё время с нами, были около
нас. Приходила тетя Паша, садилась на кро-
вать и плакала, горько плакала, приговари-
вая:
102
— Как вы теперь жить-то станете без отца,
сердешные? — Слезы всё катились и кати-
лись из покрасневших глаз старухи, словно
у нее самой только что убили близкого чело-
века.
Приходила Тася, боялась упомянуть о на-
шем горе, говорила о всяких бытовых мело-
чах: — Ай-яй-яй, Шура, как у вас калоши про-
худились. Простудитесь ведь. — Иногда Тася
спрашивала о школе, скоро ли экзамены, много
ли их. Говорила весело, а глаза ее, участли-
вые, серьезные, спрашивали о другом. В них
был вопрос, заданный тетей Пашей: «Как
теперь жить станете?»
Как бы по-разному ни выражали нам люди
свое участие — оно было искренним, шло от
самого сердца, и это если не облегчало, то
хоть немного притупляло невыносимую боль.
— Я знаю, что значит потерять отца, —
сказала Галя просто, не боясь лишним напо-
минанием сделать нам больно. Она, сама пере-
жившая трагическую гибель родителей, имела
на это право. — Я всё понимаю, Шура. Но ведь
жить-то нужно.
Но мы и сами понимали, что жить нужно.
21
Не получая ответов на свои письма, Васи-
лий перестал писать мне.
И вот теперь, когда каждое участливое,
теплое слово было так дорого, так необходимо
нам, — как нехватало мне писем Василия!
103
Я ненавидела Клаву и, встретив ее на
улице, отвернулась. Но Клава подошла ко мне.
— Шура, — сказала она тихо, — я не хочу,
чтобы ты думала...
— Разве ты обязана отчитываться передо
мной? — сказала я резко.
— Шура! — Клава умоляюще взяла меня
за руку, но я перебила ее, отнимая свою
руку:
— Я не имею никакого права высказывать
тебе свое мнение, но раз уж ты сама загово-
рила об этом...
Мы медленно поднимались по гористой
улице, но я задыхалась не от подъема.
— Я завидовала тебе раньше, Клава, —
сказала я, — хорошей завистью, конечно. Я
мечтала встретить такого же человека, как твой
Василий.
Клава посмотрела на меня синими, как
небо над головой, глазами и остановилась.
У нее был такой растерянный, виноватый и
жалкий вид, что мне стало больно смотреть на
нее, но я продолжала:
— Я завидовала тебе, а теперь — нет!!
Опустив голову, Клава теребила концы
своей легкой косынки.
— Подумай, кого ты потеряла! Я не хотела
бы быть на твоем месте! И всё это так неожи-
данно... Я не придавала большого значения
тому, что ты перестала бывать у Прасковьи
Федоровны... И вдруг — узнаю вот это. Если
бы ты знала, как он любит тебя... то есть лю-
бил, — жестко поправилась я.
Клава могла просто повернуться и уйти,
104
потому что я не имела права говорить всё это,
не имела права вмешиваться в ее жизнь, но
она, наоборот, очень внимательно слушала
меня, как будто решившись до конца выдер-
жать это испытание.
— Теперь ты испортила жизнь и ему и
себе. Впрочем, может быть, ты счастлива со
своим заведующим? — насмешливо спросила я,
и Клава слегка приподняла плечи, словно за-
щищаясь от удара.—Только я очень сомне-
ваюсь в этом. Во всяком случае, нужно было
быть хотя бы честной. Почему у тебя нехва-
тает мужества сказать обо всем Василию
прямо и откровенно? Зачем ты причиняешь
человеку такие страдания? Почему ты не напи-
сала ему правду?
В этот момент я не думала о том, что
Клава может спросить, откуда мне известно,
что она не написала Василию. Наверно, я го-
ворила очень громко, почти кричала — прохо-
дившая мимо женщина остановилась на ми-
нутку и, переложив провизионную сумку из од-
ной руки в другую, побрела дальше, всё время
оглядываясь.
— Разве он ничего не знает? — спросила
Клава. — Разве Прасковья Федоровна не сооб-
щила ему? — Она закрыла лицо руками.
— Будь счастлива со своим самостоятель-
ным парнем, — сказала я, вспоминая слова
Метилевой, словно Клава знала, что ее мать
так называла своего будущего зятя. — Будь
счастлива, если, конечно, это возможно! —
крикнула я и пошла прочь, не оборачиваясь.
Клава не догоняла меня.
105
22
В таком небольшом городке, как Смуров,
трудно избежать встречи со знакомым челове-
ком, но, как это ни странно, —с момента пере-
езда в госпиталь я ни разу не встретила быв-
шую хозяйку. Правда, я старательно обходила
улицу Салтыкова-Щедрина, но ведь старуха
ходила не только по своей улице. Я старалась
не думать о Прасковье Федоровне, не вспоми-
нать ни ее, ни время, прожитое под ее кро-
вом. Прасковья Федоровна выбыла из моей
жизни, и мне не верилось, что она продолжает
где-то существовать. Казалось, она бесследно
исчезла, ушла в прошлое так же, как ушли
сорок второй, сорок третий год, как ушел весь
тот период жизни. Именно поэтому мне таким
чудовищным показалось ее появление в дверях
нашего госпиталя. Как она попала сюда? Что
ей нужно? Может быть, она обнаружила про-
пажу одной фотокарточки сына?
У меня так забилось сердце, словно в нем
заработало много-много молоточков.
Заметив меня, старуха направилась в мою
сторону. Она нисколько не изменилась за то
время, что я не видела ее. Скуластое, недоб-
рое лицо с нависшими веками было, как
всегда, невозмутимо спокойным.
Здравствуйте, Прасковья Федоровна.
— Драстн.
— Заходите, — сказала я, распахивая дверь
нашей комнатки.
Когда старуха вошла к нам, по ее лицу
пробежала тень усмешки.
106
— Вот как живете.
— Садитесь, пожалуйста, — предложила я.
Прасковья Федоровна опять ухмыльнулась,
села.
«Где ей понять всю прелесть нашей жизни
здесь, в этой комнате под лестницей? Для чего
она пришла?» — думала я, но Прасковья Фе-
доровна сказала, словно слышала мой вопрос:
— Вот, принесла, — она протянула старое,
измятое письмо отца. — Оставили вы, верно.
Убиралась в комнатах — нашла.
Увидев письмо, я заплакала, не стесняясь
Прасковьи Федоровны, не обращая на нее вни-
мания, забыв о ней. Она сидела прямая, непо-
движная, словно высеченная из камня.
— Вы извините меня, Прасковья Федоров-
на, — сказала я потом, —но у нас такое горе...
— Не вы одни... — Старуха подняла руку,
как будто хотела остановить меня, — и я за
молчала.
Я на минуту забыла, что это наша бывшая
хозяйка, мне в первый раз показалось, что
передо мной просто старый, мудрый и сильный,
хотя и суровый человек. Но она быстро разру-
шила это ощущение, сказав своим обычным
неприятным голосом:
— Тесно у вас, — так что, если хотите, так
уж дожить и у меня можно. Вот и сын мне
тоже упрек дает, — она усмехнулась, — зачем
теперь одна, без квартирантов живу.
— Сын? — вырвалось у меня. — А откуда
он знает? (Я о переезде ему не сообщала.)
— От меня знает. Что я, скрытничать, что
ли, от него буду? — гордо сказала старуха.
107
«Милый Василий! — подумала я — теперь,
когда я не получаю от тебя писем, я рада, что
хоть так, через Прасковью Федоровну узнаю
о тебе».
— Ну, а как он?.. — тихо спросила я.
— Чего? — удивилась хозяйка.
— Василий как?..
Прасковья Федоровна испытующе посмо-
трела на меня.
— Чего, Василий? Воюет Василий... Ну,
а матери так и скажи, — строго сказала она.—
А то тесно у вас.
«Неужели она действительно хочет, чтобы
мы снова жили у нее?» — думала я.
Прасковья Федоровна ушла, а я долго не
могла опомниться. Мне всё не верилось, что
вот на этом самом стуле сидела наша быв-
шая хозяйка и предлагала нам вернуться
к ней.
Мы не воспользовались ее приглашением.
Мы даже не переехали в комнату, которую по
ходатайству госпиталя должен был в скором
времени нам предоставить райисполком, по-
тому что мы уже начали оформлять документы
для въезда в Ленинград. Мы должны были
уехать сразу же, как только я окончу школу.
Казавшееся далекой, почти неосуществимой
мечтой возвращение домой стало теперь воз-
можным.
...Мы уезжали из Смурова летним, теплым,
но пасмурным днем.
В последний раз шла я по смуровским ули-
цам, в последний раз забежала на почту.
108
Хотя давно уже из-за Клавы наша перепи-
ска с Василием прекратилась, я почему-то на-
деялась, что на этот раз есть весточка для
меня.
Но девушка за стеклянной перегородкой
сочувственно улыбнулась:
— Еще пишут.
«Нет, теперь уже он мне не напишет, —
с горечью подумала я. — Василий, наверно, не-
правильно истолковал мое молчание... Но я не
могла поступить иначе. В письме всего не ска-
жешь. Только при личной встрече (разве
она невозможна?) смогла бы я всё объяснить
Василию, и он бы понял».
Как был он мне дорог! Сколько светлых
минут пережила я, читая его чудесные, такие
важные для меня письма!
Как драгоценную память увозила я их с со-
бой; нет, не как память — как залог будущей
встречи.
...Прощаться с нами пришли не только са-
нитарки, врачи и сестры, — даже раненые спу-
скались с верхнего этажа, чтобы пожелать
маме счастливого пути.
На вокзале были и мамины сослуживцы и
мои товарищи. Больше всех суетился Митя.
Ребята успокаивали его:
— Чего ты волнуешься? До посадки еще
далеко.
Галя всё время молчала, ни на минуту не
отходя от меня. Глаза у нее были печальные.
— В добрый час, — сказала тетя Паша, —
дай бог вам счастья!
Тася обняла маму:
109
— Напишите, Татьяна Андреевна, про свою
жизнь. Да нет, не напишете ведь. — Она пока-
чала головой. — С глаз долой — из сердца вон.
— Ну что вы, Тасенька? — сказала ма-
ма. — Разве я вас всех забуду? Приезжайте
к нам в Ленинград непременно.
Когда поезд, наконец, тронулся и медленно
пополз вдоль платформы, в толпе я увидела
лицо Прасковьи Федоровны.
«Неужели она пришла попрощаться с
нами??»
Я не могла успокоиться, не могла оторвать
глаз от толпы, но старухи уже не было видно.
Поезд всё прибавлял ходу, всё больше и
больше отставали бежавшие возле вагона
Галя и Митя. Уплывали назад пыльные при-
вокзальные клумбы, выложенные по краям по-
беленными кирпичами, уже скрылись станци-
онные постройки с вывеской «кипяток», с про-
тивопожарным инвентарем — красным ведром
и лопатой, и Смуров, в котором я прожила
два долгих года, — этот далекий тыловой горо-
док навсегда остался позади.
23
Поезд шел медленно, подолгу стоял на по-
лустанках, но мысленно я была уже дома.
Ленинград представлялся мне таким, ка-
ким до войны бывал в праздники, когда со
всех концов города нарядные первомайские
колонны движутся к Дворцовой площади, и
демонстранты, высоко держа над головой зна-
110
мена, торжественно проходят мимо трибун.
Только пройдя площадь, оставив позади себя
портик Эрмитажа с могучими гранитными фи-
гурами атлантов, люди идут уже не в ногу,
весело переговариваясь между собой.
В такие дни девушки в белых халатах про-
дают с разукрашенных грузовиков горячие
пирожки, лимоны и конфеты, мальчишки раз-
дувают свистульки — «уди-уди», а какой-ни-
будь незадачливый папаша, воткнувший себе
в петлицу бумажную гвоздику на проволочной
ножке, непременно упускает в синюю даль
неба купленный детям воздушный шар, вызы-
вая этим веселые насмешки окружающих.
Мне также вспоминались белые ночи пер-
вых дней войны, когда Ленинград, казалось,
напряженно слушал. Ночными опустевшими
площадями и улицами, арками, каналами, мо-
стами он как будто ловил гул далекого фронта,
звуки далеких выстрелов, неразличимых в
шуме и грохоте трудового дня.
Да, всю дорогу мысленно я была в Ленин-
граде, но когда поезд, дав толчок, наконец,
остановился, мне не верилось, что мы уже при-
ехали.
Началось обычное дорожное волнение: пас-
сажиры поспешно снимали с верхних полок
чемоданы и тюки, суетились в дверях вагона
и в тамбуре.
Мы с мамой не торопились. Нас никто не
встречал.
Вагон опустел. От топота многочисленных
ног подрагивал дощатый настил платформы.
111
«Ленинград, — прочла я надпись и подума-
ла: — Теперь мы дома».
Я смотрела и не могла насмотреться на
знакомые очертания улиц и домов, так часто
вспоминавшиеся мне в Смурове. Теперь, когда
я видела их наяву, мне казалось, что я смотрю
на них через слишком сильные стёкла очков.
Открыв дверь нашей пустой, запыленной
квартиры, я думала только о том, что в нее
уже никогда, никогда не войдет отец...
Мы долго сидели с мамой молча, глядя на
письменный стол, на все вещи отца, и как
будто второй раз хоронили его. Было тихо и
темно. Я подошла к окну, отворила его. Про-
тивоположный дом изменил свой облик за
время нашей разлуки: краска облупилась, сте-
кол в окнах почти не было, только попрежнему
неизменны были знакомые с детства гранит-
ные кариатиды. С улицы доносился шум. Мне
захотелось, чтобы он ворвался в наш дом, за-
полнил все комнаты. «Может быть, работает
репродуктор?» Я включила радио и —о чудо!—
в нашей нежилой, пустой, гулкой квартире раз-
дался громкий и сильный человеческий голос.
Казалось, это голос друга, пришедшего к нам
в трудную минуту. Диктор читал последние
строки приказа Верховного Главнокомандую-
щего:
— Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Невозможно было сказать более прекрас-
ных слов в утешение нам — женам и детям по-
гибших воинов.
112
24
Возвратясь в Ленинград, я еще долгое вре-
мя думала о Смурове, обо всем, что осталось
позади.
Как мне теперь нехватало моих смуровских
друзей! Как хотелось рассказать им, что я чув-
ствовала, заново знакомясь с родным городом!
Я думала, что вернусь в город моего дет-
ства, а меня встретил Ленинград затемненный,
пропахший гарью, с сохранившимися на сте-
нах домов надписями: «Во время обстрела эта
сторона улицы наиболее опасна».
Постаревший, поседевший, с разрушенными
бомбежкой зданиями, Ленинград всё еще оста-
вался военным городом.
Отца не было в живых, старых школьных
товарищей я тоже не нашла. Одни еще не вер-
нулись— кто с фронта, кто из тыла, другие
и не могли вернуться... Чужие люди открывали
мне знакомые двери и сообщали тяжелые
вести. Даже в нашем доме, где я родилась и
выросла, я не увидела ни одного знакомого
лица. В моей старой ленинградской школе те-
перь помещался штаб МПВО.
С детством было покончено.
...На институтском дворе висела непросох-
шая от ночного дождя волейбольная сетка.
Мимо меня пробежали две девушки в запач-
канных известкой комбинезонах. Кто-то крик-
нул: — Вы не видели коменданта?
Я поднялась на третий этаж по внутренней
лестнице с железными перилами — централь-
ный вход был закрыт — и вышла в залитый
113
солнцем коридор. В пустом, холодном здании
было по-летнему тихо, пахло краской. С пор-
третов, развешанных в простенках между окна-
ми, на меня смотрели незнакомые люди, и я
поняла, что это какие-то ученые. С волнением
шла я, сопровождаемая их испытующими
взглядами. В институтском коридоре встрети-
лись мне такие же, как я, вчерашние школь-
ники — завтрашние студенты, еще несмелые,
еще подавленные сознанием ответственности
и важности совершающихся в их жизни пере-
мен. Так же как и я, эти юноши и девушки
робко заглядывали в пустые аудитории, не
могли оторвать взгляда от висящей с весны
стенгазеты с непривычными и таинственными
призывами «ликвидировать хвосты» и своевре-
менно сдать по иностранному языку определен-
ное количество «знаков».
Девушка из приемной комиссии долго и
внимательно разглядывала мои документы —
аттестат, заявление, автобиографию, — словно
хотела выучить их наизусть. Взглянув на по-
данные мной фотокарточки, она покачала го-
ловой:
— Совсем не похожа. Я, между прочим,
тоже плохо выхожу на снимках. — Она спря-
тала мои документы в ящик. — Значит, вы на
архитектурный факультет? Вам общежития не
нужно? — спросила она. — Это нас очень
устраивает: у нас, понимаете, ремонт еще не
закончен.
— Второй дом тоже нужно к учебному году
сдавать, — сказал сидевший недалеко от нее
парень. Он что-то писал левой рукой — пустой
114
правый рукав был у него заправлен в карман
пиджака. — В одном доме всё равно всех не
разместить.
— Да, обещают, — ответила ему девушка.
— Если вы свободны, — снова обратилась
она ко мне, — приходите на воскресник. Помо-
жете нам.
— Еще неизвестно, примут ли, а уже на
воскресник приглашают, — улыбнувшись, ска-
зал парень. — Аня, дайте мне другой листок,
я этот испортил.
— А вы не вмешивайтесь не в свое дело,
Павел, — весело перебила его девушка, протя-
гивая чистый лист бумаги, и, повернувшись ко
мне, добавила: — придете?
— Приду,—ответила я. — Конечно, приду.
Меня приглашали на воскресник, меня уже
считали студенткой!
Прыгая через несколько ступенек, спуска-
лась я по лестнице.
На улице было гораздо теплее, чем в ка-
менном здании института. Солнце скрылось.
Парило. Совсем низко висело милое серое
ленинградское небо. Крошилась едва заметная
дождевая пыль.
25
Прошел почти год, как мы уехали из Сму-
рова. Я теперь чувствовала себя настоящей
студенткой, давно привыкла к словам «дека-
нат», «семинар», «конспекты», и уже не назы-
вала аудиторию — классом, лекцию — уроком,
перерыв — переменой.
116
В одну группу со мной попал Павел Шара-
пов — тот самый юноша, которого я видела в
комнате приемной комиссии, когда сдавала
документы.
С Павлом я подружилась с первых же дней
учебы. Мы вместе готовились к занятиям и
почти не расставались. Ребята относились
к нашей дружбе бережно, не подтрунивали,
как это иногда бывает, над тем, что у нас об-
щие учебники и конспекты. (Потеряв на фронте
руку, Павел не мог быстро записывать лекции
и пользовался моими записями.)
В те годы особенно часто рядом с девуш-
ками и юношами, только что закончившими
десятилетку, учились люди, уже прошедшие
тяжелые и дальние военные дороги. Так было
и на нашем курсе. Кроме моих ровесников,
с нами вместе занимались студенты значитель-
но старше меня, демобилизованные из армии
бывшие фронтовики, награжденные орденами,
медалями, а то и золотыми звездочками
Героев.
Много людей перевидала я в институте, при-
обрела немало друзей, но Василия не забыла.
Попрежнему волновала меня его судьба, никто
не был мне так, как он, близок и дорог.
Вспоминая жизнь Василия, полную серьез-
ных испытаний, перечитывая его письма, я
снова и снова восхищалась скромностью этого
человека, его необыкновенной душевной чисто-
той и силой.
Как хотелось мне возобновить прерванную
переписку!
116
И вот, в День Победы я решилась снова
написать Василию.
Я старалась убедить себя в том, что он, ко-
нечно, уже всё знает о Клаве, и мое письмо,
напомнив о ней, уже не доставит ему огор-
чения.
Теперь, когда погиб отец, у меня никого
близкого не было в армии, кроме Василия.
Не могла же я не поздравить его с Побе-
дой!
Всё слилось воедино: конец войны, снова
переписка с Василием. Радость переполняла
сердце. Я не должна была думать, но всё же
думала о том, что когда-нибудь Василий пере-
живет свое горе и забудет Клаву...
Когда я уже заканчивала письмо, за мной
зашел Павел.
— Быстренько собирайся!—сказал он.—
Ребята будут ждать нас у Кировского моста.
Если ты будешь так копаться, мы пропустим
салют.
— Ничего мы, Павлик, не пропустим!
Я сейчас буду готова, — говорила я, запечаты-
вая конверт.
— Ты кому писала? — спросил Павел, гля-
дя на номер полевой почты. — Ты никогда не
говорила, что...
— Да, Павлик, я никому, даже тебе, не
говорила... У меня, Павел... жених на фрон-
те, — сказала я и сама испугалась сказанных
слов.
— Жених? Но... ты ведь не писала ему
раньше?
— Я... не знала, что с ним, не знала... жив
117
ли он. А теперь... мне сообщили, что он жив.
Я сказала первое, что пришло в голову.
— Поздравляю, — тихо произнес Павел,
не глядя на меня. — Я рад за тебя.
Но в его голосе не было радости.
— Он... скоро приедет? — спросил Павел,
помолчав.
— Я... не знаю. Мы давно не переписыва-
лись. Может быть, он... забыл меня.
— На фронте не забывают! — резко пере-
бил Павел.
Сколько злости было в его голосе!
Моя дружба с Павлом с этого дня не пре-
кратилась, мы так же много времени проводили
вместе, как и раньше, но всё-таки что-то в на-
ших отношениях изменилось...
Узнав, что у меня есть жених и что я по-
лучила хорошее известие о нем, товарищи го-
рячо поздравляли меня.
И я поверила в свою выдумку.
Я понимала, что ответ от Василия не мо-
жет прийти раньше, чем через две-три недели,
но, отправив письмо, я уже на следующий день
несколько раз заглядывала в почтовый ящик
на входной двери.
— От кого ты ждешь писем? — спросила
мама. Она поздно вернулась домой и отдыхала,
облокотившись о подоконник. В окна смотрела
белая чочь, небо было цо-дневному светлого-
лубым. В комнате пахло недавно вымытым
полом и ландышами — накануне я купила не-
сколько длинненьких букетиков. Каждый из
них был обернут плотным зеленым листом и
перевязан коричневой штопкой.
118
— От Васития,— неохотно ответила я.
Мама знала, что в Смурове мы переписыва-
лись с ним.
— От Василия? — переспросила мама и
недоуменно пожала плечами. Больше она ни-
чего не сказала, и я была ей за это благодарна.
Долго ждала я ответа на свое письмо. Но
его всё не было. «Может быть, мое письмо за-
терялось? Может быть, у Василия теперь дру-
гой адрес?»
Я выдумывала разные причины, объясняв-
шие молчание Василия, но второго письма ему
не написала.
И всё-таки, я чувствовала, верила, что Ва-
силий жив и что мы еще встретимся с ним.
26
Шли годы. Уже были восстановлены города
и сёла, заводы и колхозы; уже выросли новые
многоэтажные дома и мощные электростанции,
были разбиты новые парки и скверы. Страна
продолжала свой мирный путь вперед.
Иногда говорят, что человек вступил в пору
своей «второй молодости». Этим вовсе не хотят
сказать, что красота души и тела в последний
раз вспыхнула всем богатством красок. Говоря
о «второй» молодости, имеют в виду совсем
иное. Порой кажется: в свои восемнадцать—
двадцать лет человек так прекрасен, что он уже
никогда не сможет быть лучше, что это расцвет
его сил, а проходят десятки лет, и раскрывают-
ся такие новые черты его, о которых люди не
119
подозревали. Как и раньше, безграничны его
замыслы и мечты, он попрежнему прекрасен и
молод, но уже приобрел опыт и мудрость.
Он знает теперь истинную цену времени,
знает, как много еще нужно успеть сделать в
жизни.
И ничего, что посеребрились виски, загру-
бела кожа, появились шрамы — памятки прой-
денных лет — теперь он пленяет новой красо-
той — красотой своей осознанной силы. Это
и есть его вторая молодость.
Глядя на послевоенный восстановленный
Ленинград, я думала о том, что он переживает
свою «вторую» молодость.
Давно уже были отремонтированы и заново
покрашены замечательные здания Ленинграда,
давно уже весело поблескивали они стёклами
окон; снова били петергофские фонтаны, и
снова, как до войны, приезжие экскурсанты
покупали на память открытки с изображением
«Самсона» на фоне скрестившихся водяных
струй...
Но главное было не в этом. В помолодев-
шем Ленинграде появились новые дома, целые
новые улицы и кварталы, и это были не просто
дома — это были новые ленинградские дома,
легкие и стройные.
На новых проспектах и улицах, прямых и
просторных, казалось, пахло Невой, даже если
до нее было далеко, и так же, как на набереж-
ной, в весеннем сумраке белой ночи отстуки-
вали чечетку чьи-то запоздалые каблучки.
Часто бывало так: огорожен участок, закрыт
путь пешеходам по панели, и еще не видно
120
будущего здания, а проходил короткий срок и,
скинув с себя строительные леса, на этом месте
вырастал дом-дворец, светлый и прекрасный.
Но всё это создавалось не нашими руками,
я и мои товарищи сидели еще в институтских
аудиториях и только летом выезжали на
стройки.
А как хотелось нам постоянно, изо дня
в день, самим, своими руками возводить новые
здания, прокладывать новые дороги, строить,
созидать! Как не терпелось поскорее присту-
пить к самостоятельной работе!
Предстоящая разлука с Ленинградом не
огорчала меня теперь, когда Ленинград не
отрезан от «большой земли», когда ему не
угрожает опасность, когда в любую минуту
можно приехать взглянуть на него, — разве это
разлука?
27
Близилось окончание института. Возле ауди-
тории, где заседала комиссия по распределе-
нию, всё время толпились студенты — и те, кто
уже получил назначение, и те, которым это
еще предстояло. Все шумели, спорили, загля-
дывали в щелку, как дети.
...От волнения я не расслышала первых
слов, сказанных мне председателем комиссии.
Да и как было не волноваться? В такой момент
кажется, что стоишь на пороге своей судьбы и
заглядываешь в свое будущее, а будущее это
зависит не от кого-то чужого и равнодуш-
ного, а от себя самой. Только бы не ошибиться!
121
Похоже на сказку: что выберешь — то и бу-
дет. Скажешь «юг» — и понесет тебя поезд
к синему-синему морю, и появятся на гори-
зонте знакомые еще только по картинам и кни-
гам очертания южных гор. Скажешь «север» —
и ослепительно белые поля потянутся за окном
твоего купе, и морозный воздух будет врывать-
ся в вагон из тамбура.
«Что выбрать?»
Я взяла себя в руки, огляделась. Декан на-
шего факультета приветливо улыбнулся мне и,
нагнувшись к секретарю партийной организа-
ции института, шёпотом сказал ему что-то.
— Мы можем вам предложить, — вновь за-
говорила незнакомая женщина в коричневом,
мужского покроя, костюме, — председатель ко-
миссии,— мы можем вам предложить,— повто-
рила она, глядя на декана, как будто призывая
его перестать разговаривать, — следующие
районы: Псковскую область, Новгородскую...
«Вот и поеду в Псковскую, — сразу же ре-
шила я, — по крайней мере, близко к дому,
смогу часто навещать маму».
— Хабаровский край, — продолжала жен-
щина. — Коми АССР, Кавказ...
«Кавказ? — Во мне всё как будто за-
пело. — Ведь я никогда не видела его, конечно,
Кавказ!» Выбор мною был уже сделан, а жен-
щина в коричневом костюме всё продолжала
читать.
— Краснодарский край, Молотовская об-
ласть, Кировская область... — звучал у меня в
ушах ее голос. «Молотовская, Кировская...»
И мне вдруг так ясно вспомнился заснеженный
122
город Смуров, суровые зимы, искрящийся снег,
яркосинее небо и на его фоне покрытые инеем
деревья, ветви которых кажутся нацарапан-
ными на синей бумаге...
В моей памяти возникали и исчезали кар-
тины нашей жизни в Смурове.
Вот мама и я — пятнадцатилетняя девоч-
ка — впервые идем по тихим гористым улицам,
усталые и измученные. Вот мы уже живем
у Прасковьи Федоровны, и я не могу дождаться
начала занятий в школе. А вот первые дни на
заводе, дружба с Галей, знакомство с Клавой
и, наконец, первое письмо от Василия...
Потом перед моими глазами встал наш пе-
реезд, жизнь в госпитале, окончание школы,
гибель отца, возвращение домой.
«Как давно всё это было!»
Я ли та девочка-школьница, которая робко
просит начальника цеха перевести ее из «су-
шилки» к ребятам?
Я ли та девочка, мечущаяся по комнате и
старающаяся вывести чернильное пятно с глян-
цевито-белой накрахмаленной скатерти хо-
зяйки?
Я ли это? Как я изменилась, и как измени-
лось всё кругом!
А Смуров? Неужели он всё такой же? Не-
ужели в нем не произошло никаких перемен?
— Как видите, выбор велик, — произнесла
женщина в коричневом костюме и замолчала.
— Кавказ, — сказала я, не задумываясь.
Повидимому, эта поспешность удивила ее,
потому что она недоуменно пожала плечами и
отвела взгляд. Декан, еще недавно приветливо
123
улыбавшийся мне, тоже смотрел теперь куда-
то мимо меня в окно.
— Мы ведь вас не торопим, —обратился ко
мне секретарь парторганизации.—Подумайте,
взвесьте.
Я долго молчала.
«Кавказ? — думала я. — А что мне известно
о Кавказе? Только то, что там хорошо отды-
хать. Но ведь я еду туда не за этим. И рабо-
тать мне, возможно, будет лучше где-нибудь
совсем в другом месте, в каком-нибудь... да,
в каком-нибудь Смурове, где сильный, вынос-
ливый человек, молодой специалист именно и
может быть по-настоящему счастлив, делая
угрюмый Смуров городом-красавцем. Когда-то
Василий писал: «Вы увидите, каким мы его
после войны сделаем».
«Как радостно было бы переделать такой
город,—думала я, — вытравить всё, что напо-
минает о далеком прошлом, перестроить его,
войти в него хозяйкой».
— Я всё обдумала и взвесила, — сказала я.
Секретарь партийной организации улыб-
нулся:— Теперь в это можно поверить. Так
остается Кавказ?
И тогда я, не боясь показаться взбалмош-
ной девчонкой, заговорила, подходя вплотную
к столу комиссии:
— Я никогда не была на Кавказе и вовсе
не хочу ехать туда на работу.
Я сбивчиво рассказывала комиссии о Сму-
рове, о мрачном облике таких городов, слу-
живших до революции местом ссылки, о том,
какими хотелось бы мне их видеть, и, хотя я
124
говорила сбивчиво, меня слушали внимательно.
— На месте, в областном центре вы уточ-
ните район, — сказала председатель комис-
сии. — Может быть, это будет и Смуров.
2S
«Милый Василий, Вы не ответили мне на
мое последнее письмо, написанное мною в День
Победы. Может быть, Вы его не получили?
Буду надеяться, что это именно так. Мне
было бы очень неприятно думать, что Вы про-
сто не захотели мне ответить. Если это мое
письмо дойдет до Вас — Вы напишете мне. Я
верю в это. Если Вы в Смурове, то через пару
месяцев мы с Вами встретимся, потому что я
после окончания института получила назначе-
ние в Ваши края. Впрочем, Вы не знаете, какой
институт я кончаю, и вообще ничего не знаете
обо мне. Но я ни о чем не буду сейчас писать,
всё расскажу Вам по приезде. Жду от Вас
хотя бы несколько слов, но мне, конечно, хоте-
лось бы знать очень многое. (Об этом моем
письме ни Прасковье Федоровне и никому
другому, конечно, не говорите, наш старый
договор остается в силе.) Желаю Вам всего
самого, самого лучшего. Шура».
Написав письмо, я задумалась: куда адре-
совать его? Послать на адрес Прасковьи Фе-
доровны? Но она может распечатать. До вос-
требования? Но даже если Василий в Смурове,
он, вероятно, не бывает на почте. На завод...
Ну, конечно, на заводской адрес! Ведь если
125
Василий вернулся в Смуров, то, наверно, снова
работает на заводе.
Надписав на конверте заводской адрес, я
отправила письмо.
Как хотелось мне получить ответ! И ответ
действительно пришел.
Он состоял всего из нескольких строк, но
мне он был дороже самых длинных посланий.
«Милая Шура», — писал Василий, и я, чи-
тая, не верила, что это происходит наяву.
Я снова, как много лет назад, держала в руке
его письмо, снова видела его почерк.
...«Вашего последнего письма я не получил,
иначе, — неужели я не ответил бы Вам, моему
большому другу? Наша дружба возникла в
трудную пору, а такая дружба всегда бывает
особенно прочной. Я часто думал о Вас, думал
о том, сколько радости приносили мне на
фронт Ваши письма. Мне было очень приятно
узнать, что и Вы меня не забыли. Подумайте,
Шура, как много лет прошло с тех пор и как
много перемен произошло и в Вашей и в моей
жизни! Тогда Вы были школьницей, теперь Вы
уже кончаете институт. Молодец! Очень хочу
знать, как у Вас пройдет (или, может быть, уже
прошла) защита дипломного проекта. Хотя Вы
и не написали, какой институт кончаете, но я
всё же догадываюсь: когда-то Вы мечтали
стать архитектором. Неужели передумали?
Я, как и Вы, ничего не буду сейчас писать
о себе, обо всем расскажу при встрече. От
всей души буду рад повидаться с Вами, —
ведь наша дружба выверена временем и рас-
стоянием, и ее ничто уже не может разрушить».
126
29
Защита дипломного проекта... Выпускной
вечер... Отпуск.
Не каникулы, а первый в жизни отпуск...
Как я ждала его, и каким длинным показался
он мне!
Я уже не Шура, а Александра Сергеевна —
молодой специалист. В моем портфеле вместо
выцветшего студенческого билета и матрикула
лежит новенький, чистенький диплом. Я полу-
чила подъемные, и это тоже наполняет мое
сердце гордостью.
Друзья провожают меня — я уезжаю одной
из первых.
— Ну, счастливо, товарищ архитектор, —
говорит на прощанье Павел. — Я еще приеду,
посмотрю, как ты там работаешь. От меня
ведь там до тебя рукой подать.
— Приезжай, Павлик! Приезжайте, ре-
бята! Пишите...
Какие веселые попались мне спутники по
купе, и как хорош этот комфортабельный поезд
дальнего следования, с зеркалами и занавес-
ками на окнах, который через несколько ми-
нут помчит меня навстречу первой в жизни
работе, на новую, самостоятельную жизнь!
Светло у меня на душе и только немножко
грустно оттого, что дома я не замечала, как
изменилась мама, как она поседела, а увидела
это лишь на вокзале, в последние минуты рас-
ставания.
Поезд только что отошел от Ленингра-
да, а проводник уже предлагает постель и
127
разносит чаи в тонких стаканах с высокими
подстаканниками.
Чуть-чуть колышатся теплые, порозовевшие
от вечернего солнца занавески...
Стучат колёса...
Мне мало приходилось ездить, но я еще
в детстве полюбила поезда дальнего следова-
ния. Находясь в вагоне, человек испытывает
чувство какой-то особенной, ни с чем не сра-
внимой праздничной легкости, словно все тре-
воги и огорчения остались позади, а впереди
его ждут только одни удачи и радости.
Я уже третьи сутки в вагоне. 1ре1ий день
мне видны из окна бескрайние поля Родины.
Те поля и огороды, дома, столбы и деревья,
что стоят у самой дороги, быстро летят назад;
те, которые подальше от поезда, — плывут
назад медленно, словно нехотя, а те, что
видны на горизонте, стремительно несутся впе-
ред, как будто во что бы то ни стало решили
обогнать наш поезд.
Еще ночь, но я не сплю уже давно. Всё
время я думаю о том, что ждет меня впереди.
Не удивительно ли, что я выбрала именно
Смуров, из которого шесть лет назад уехала
с такой радостью?
А, впрочем, что же тут удивительного?
Разве так еду я сейчас туда, как ехала
в сорок втором году?
Нет, не полуживой девочкой, вывезенной
из блокадного Ленинграда, войду я теперь
в этот город.
Я решила сойти с поезда в Смурове, не до-
128
езжая до областного центра, прожить там не-
сколько дней, а потом уже ехать за назначе-
нием. Ведь в Смурове Василий! И я увижусь
с ним. Может ли это быть?
Столько лет я мечтала о встрече с ним, и
вот когда, наконец, моя мечта осуществится.
Поет моя душа, и я не могу сдержать улыбку
радости. К этому чувству примешивается и
волнение от предстоящей встречи с городом
моей юности. «Кого из школьных товарищей
найду я там? Какими стали они за эти годы?»
Уехав из Смурова, я первое время писала
ребятам, но потом переписка прекратилась:
мальчики ушли на фронт, многие девушки
разъехались.
Последнее Галино письмо я получила вес-
ной сорок пятого года. Галя писала, что соби-
рается уезжать из Смурова. Я не ответила ей:
сначала всё как-то нехватало времени, шла
сессия, потом уже было бесполезно писать на
смуровский адрес. Я ждала от нее вестей с но-
вого места, но ничего не получила.
Сейчас мне особенно досадно, что так не-
лепо, по моей вине, оборвалась наша перепис-
ка, что я потеряла Галю из виду.
Может быть, в Смурове мне кто-нибудь
скажет, где она. Может быть, я узнаю, как
сложилась ее жизнь. Впрочем, нет — «сложи-
лась» это не то слово. Галина жизнь не может
«сложиться». Галя построит ее, построит сама,
своими маленькими, но крепкими руками. Как-
то построила она ее?
Мне вспоминается моя ранняя юность, при-
ходят на ум события тех дней — и большие и
129
мелкие, и запомнившиеся навсегда, и те, кото-
рые были давно забыты и только сейчас всплы-
ли в памяти, и странно — многое, казавшееся
тогда почти трагичным, вызывает улыбку, ка-
завшееся смешным вспоминается с грустью и
нежностью.
Мой сосед по купе тоже давно проснулся.
— Не спится? — весело спрашивает он
меня. — До вашего Смурова далеко, отдыхайте
еще.
Ему раньше выходить, чем мне. Он уже
умылся и причесался. Его мокрые волосы, раз-
деленные расческой на тоненькие, ровные
пряди, сами похожи на зубья гребешка.
Поезд рвется вперед.
За окном вагона плывут охлажденные за
ночь поля, и в наше купе проникает их утрен-
няя росистая свежесть.
30
Последние минуты пути...
Я уже стою в тамбуре.
Поезд замедлил ход, успокоился дорож-
ный, пахнущий дымком ветер, и вот замель-
кало перед глазами незнакомое вокзальное
здание, и высокая каменная платформа подка-
тилась под ступеньки моего вагона.
Один шаг — ия уже на перроне. Зады-
хаясь, словно после долгого бега, я прошла
сквозным ходом через новое здание смуров-
ского вокзала, мимо завешанных с внутренней
стороны шторами стеклянных дверей с над-
130
писью «Ресторан», мимо украшенного барелье-
фами и похожего на станцию московского
метро зала ожиданий, опустевшего после ухода
поезда.
«Смуров ли это?» — думала я, выходя на
незнакомую асфальтированную площадь, в
центре которой из горки булыжников бил ма-
ленький фонтан. Все скамейки вокруг него
были заняты, и я вспомнила, что сегодня вос-
кресенье — в поезде как-то терялся счет дням.
Я сдала вещи в камеру хранения и пошла
налегке.
Раньше от станции до города было больше
двух километров. Теперь город разросся, он
начинался у самой вокзальной площади. Не
веря своим глазам, шла я по широкой асфаль-
тированной улице, которой и в помине не было
тогда, когда я жила в Смурове. Всё удивляло
и радовало меня —выросшие и уже обжитые
высокие каменные дома и леса новостроек,
подстриженные деревья и коврики газона под
ними.
Только выйдя на улицу Ленина, я стала
узнавать Смуров.
...Вот знакомое здание заводского клуба и
кино «Прогресс», а там за поворотом и глав-
ные заводские ворота...
...Это почта, где я получала письма Васи-
лия, а вот и дорога в школу...
Всё это было не очень далеким, но всё же
прошлым, каким-то большим и значительным
куском жизни, и сердце у меня сжалось при
воспоминании о том времени — ведь во всем,
что осталось позади, мы видим только хорошее
131
и светлое, и думать о нем всегда бывает не-
множко грустно.
Я всё шла и шла, и каждый знакомый дом,
и каждый пустырь, и каждый поворот улицы
напоминал мне минувшие дни и события, и то
мне казалось, что всё это было только вчера,
то казалось, что ничего этого вовсе не было.
Я торопилась к Василию, но ничто не
ускользало от моего взгляда, я с жадностью
вглядывалась в Смуров, как будто желая про-
верить, таков ли он в действительности, каким
казался мне раньше.
Дойдя до улицы Свободы, я уже не шла,
а бежала, потому что совсем близко, за пово-
ротом, был дом Прасковьи Федоровны. Я от-
крыла калитку, вошла во двор, потом в темные
сени и несколько секунд стояла, опершись
о скрипучие перила лестницы.
Мысленно я уже видела глянцевитую, не-
жилую чистоту комнат Прасковьи Федоровны,
когда моя рука, словно чужая, постучала в зна-
комую, обитую войлоком дверь.
На мой стук никто не ответил. Я потянула
за ручку, и дверь поплыла на меня.
Как эта комната была непохожа на ту, что
оставалась у меня в памяти! В ней не было
ничего, связанного с присутствием хозяйки,
ни одной ее вещи не увидела я там.
Вещей вообще нельзя было разобрать, всё
было сдвинуто в угол, и какая-то незнакомая
женщина в подоткнутой юбке и голубой майке,
стоя босыми ногами на мокром полу, выжи-
мала над ведром тряпку.
— Разве здесь не живут Вожгаловы?
132
Женщина вытерла вспотевшее лицо, поло-
жила на пол тряпку и подошла ко мне ближе.
— Нет, не живут. Да вы зайдите.
— А где они?
— Они давно переехали, — ответила жен-
щина. — А вы что, своя им?
— Из Смурова уехали? — Я переступила
порог и чуть не опрокинула ведро с водой.
— Да нет, в Смурове они, на улице Кирова
живут. Василию Николаевичу там новую квар-
тиру дали.
Мне хотелось расцеловать эту незнакомую
женщину, которая сначала так напугала меня.
Я записала адрес Василия, а потом слушала
всё, что она рассказывала мне о своей дочке,
которая ушла гулять, о муже —старшем лейте-
нанте, переведенном в прошлом году в Сму-
ров, о том, что скоро к ней приедет сестра из
Москвы и что муж сестры сейчас на Дальнем
Востоке.
Всё, что она рассказывала, было мне инте-
ресно, я радовалась вместе с нею, что скоро
она увидится с сестрой и что в этом году дочка
ее пойдет в школу. Мне всё больше и больше
нравились ее открытое, приветливое лицо и ее
открытая, приветливая душа, готовая радушно
поделиться с людьми своими радостями.
Я не торопилась. Мне было хорошо здесь.
Василий был близко, я знала его адрес —
встреча с ним была теперь неминуема, и мне
хотелось продлить чудесное время ее ожи-
дания.
«Если предвкушение встречи так прекрас-
но,— думала я, — что же я буду чувствовать,
133
когда увижу самого Василия, впервые пожму
его руку?»
Распрощавшись со своей новой знакомой,
я шла по Смурову медленно, еще более внима-
тельно, чем раньше, разглядывая город, и мне
всё время казалось, что это сон, который я
много раз видела.
Я подошла к «Герценке», вышла на теат-
ральную площадь, посидела в знакомом скве-
рике. Трава и кусты блестели на солнце соч-
ной зеленью, словно смазанные маслом. По
дорожке ковыляла сторожиха с металлической
тросточкой, нанизывая на нее, как шашлык,
брошенные возле урн бумажки и окурки.
Скамейки были заняты взрослыми. Ребята
копались в песке.
«Когда я жила здесь, этих детей еще не
было на свете. Они родились уже после вой-
ны, а те, которых я когда-то видела в Смурове,
теперь выросли, пошли в школу, — думала я,
и у меня возникало чувство почти физического
ощущения времени.
Выйдя из сквера, я направилась к мами-
ному госпиталю. Холодком каменного пола
встретил меня знакомый вестибюль.
До неузнаваемости изменился превращен-
ный в гостиницу госпиталь.
В углу вестибюля помещался газетный
киоск; сидя возле него в мягких креслах, люди
читали газеты.
По лестнице спускались двое мужчин,
громко споря о ремонте каких-то подъездных
путей и перевалочных баз, и мне казалось
134
удивительным, что они идут с верхнего этажа
не в белых халатах.
Я подошла к нашей комнатке под лестни-
цей и приоткрыла дверь.
— Пожалуйста, пожалуйста, — услышала я
женский голос, — заходите.
Я увидела маленький белый столик с мас-
сой бутылочек для маникюрного лака и изо-
гнувшуюся настольную лампу над ними.
— Садитесь, пожалуйста. Я, знаете, задре-
мала, потому и дверь закрыла. Сегодня что-то
мало работы, — говорила маникюрша, потяги-
ваясь и вставая, чтобы налить горячей воды
в мисочку.
«Теперь здесь дремлет маникюрша, а когда-
то мы жили здесь с мамой, — подумала я, —
здесь узнали о смерти отца...»
Когда я вышла из гостиницы, погода на-
чала портиться. Жары уже не было — ветер
нагнал предгрозовые тучи, совсем закрывшие
солнце, но я обрадовалась неожиданной пере-
мене погоды.
Мне был приятен сильный тугой ветер, мне
нравилась странная окраска неба — оно было
почти лиловым, и от этого все предметы
на улице изменили свой цвет — одни по-
блекли, другие, наоборот, стали больше вы-
деляться.
Наконец я дошла до улицы Кирова. Здесь,
в самом конце ее, на месте бывшего пустыря-
площади, за время моего отсутствия вырос
целый городок белых каменных четырехэтаж-
ных домов с симметрично расположенными бал-
кончиками, увитыми легкой вьющейся зеленью.
135
Дома белели на фоне лилового неба, и я
остановилась, залюбовавшись ими.
Всегда, когда я смотрю на такие прекрас-
ные молодые дома, мне кажется, что люди
должны жить в них счастливо и безоблачно,
без болезней и ссор, без измен и разладов. За
окнами этих домов угадываются светлые, про-
сторные комнаты с высокими потолками, с мас-
сой воздуха и света. Я любовалась этими до-
мами, и мне не верилось, что в одном из них
живет теперь Прасковья Федоровна.
Миновав арку и пройдя зеленый, похожий
на сад, двор, я остановилась у парадной, где
в числе других квартир была обозначена квар-
тира № 17.
Неужели в этой квартире живет Василий?
Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые
поняла, что он мне дорог! Сколько произошло
событий! И всё-таки, я разыскала его, стою
возле его парадной.
Остановившись на площадке третьего
этажа, у двери с табличкой «Вожгалов», я на-
жала кнопку звонка.
— Ну, кто это там?—спросил недоволь-
ный голос, потом дверь резко распахнулась.
В дверях стояла наша бывшая хозяйка. Я так
обрадовалась, увидев старуху, что чуть не об-
няла ее.
— Здравствуйте, Прасковья Федоровна! —
закричала я и хотела войти, но хозяйка стояла
на пороге, прищурив свои и без того узкие
глазки с нависшими веками, и не двигалась.
— Вы не узнаете меня? —сказала я, но
она ответила уверенно и недружелюбно;
136
— Нет, почему? Узнала.
Мне некогда было обижаться на старуху,
некогда вообще было думать о ней, и я, не
обращая внимания на то, что она неподвижно
стояла в дверях, словно не желая впустить
меня, спросила:
— Можно войти?
Она нехотя отступила:
— Входи.
Я прошла через переднюю с пустой вешал-
кой, зеркалом и высоким сундуком, на кото-
ром пуховым кренделем свернулся кот, и во-
шла в полуоткрытую дверь.
Войдя за мной, Прасковья Федоровна при-
слонилась к буфету, ожидая, что я заговорю
первой, и я просто сказала:
— Я хочу видеть Василия Николаевича.
На секунду ее лицо осветилось, словно за
ним зажглись невидимые лампочки, но потом
ее глаза-щелки еще больше сузились, будто
собирались слиться в одну линию, и она ска-
зала ревниво и строго:
— А на что он тебе?
Я не была подготовлена к такому вопросу
и молчала.
— Ты ж его не знаешь, — уже мягче доба-
вила она.
Мне вдруг показалось, что Василия здесь
нет: в квартире стояла тишина, на мой звонок
никто, кроме хозяйки, не вышел, и потому
я спросила почти с отчаянием:
— Его нет в Смурове?
Прасковья Федоровна села на стул, при-
двинула к себе коробку с нитками и взялась за
137
шитье, оставленное ею, видимо, когда я по-
звонила.
— Нынче нет. Завтра утром приедет. Ему
заступать в день.
Я села на низкую тахту, хотя хозяйка не
предложила мне сесть.
«Завтра я увижу Василия, и ничто уже не
может помешать этому! —думала я. — Это его
дом, его комната, его жизнь; это его приемник
стоит на тумбочке возле балконной двери, это
его книги на полках».
Оттого ли, что ветер надувал белые тюле-
вые занавески и они были похожи на паруса,
или оттого, что светлозеленые обои напоми-
нали волны, — мне казалось, что в комнате
дышится особенно легко, что в ней пахнет
морем.
Небо за окнами всё больше темнело, и по-
этому оранжевый шелк абажура, висевшего
над столом, казался огненно-ярким.
Прасковья Федоровна продолжала шить,
а я рассказывала ей, зачем приехала сюда, как
жила эти годы, хотя ее это, видимо, совсем
не интересовало.
— А как вы жили, Прасковья Федоров-
на? — спросила я.
— Как жила? Да так и жила. Моложе не
стала.
Я не обижалась на старуху, меня не огор-
чал теперь ее тон. Меня ничто не могло огор^
чить сегодня.
Наступил вечер.
— Разрешите мне переночевать у вас,
Прасковья Федоровна? — попросила я.
138
— Ночуй, — она пожала плечами, словно
хотела сказать: «Если тебе непременно хочется
беспокоить меня, ну что ж, перетерплю как-
нибудь».
Я, конечно, могла ночевать в гостинице или
пойти к своим старым смуровским друзьям,
но мне не хотелось уходить отсюда, из дома
Василия, где всё ждало его возвращения.
Прасковья Федоровна вскипятила чайник.
Пока она разливала чай, я подошла к тум-
бочке, на которой возле радиоприемника ле-
жал какой-то маленький фотоснимок, и взгля-
нула на него.
— Как это попало к вам? — вскрикнула я,
узнав на карточке Галю. — Это же Галя Лап-
тева!!
— Ну, была Лаптева, а теперь Вожга-
лова, — ответила старуха невозмутимо.
— Что вы сказали?
— А то сказала, что сноха это моя.
— Какая сноха?
— Какая! Какая! Васина жена, какая еще.
Должно быть, я очень побледнела, потому
что старуха спросила испуганно:
— Ты чего, заболела никак?
Точно во сне спрашивала я Прасковью Фе-
доровну о Гале и о Василии.
Из слов хозяйки я поняла, что Галя после
войны много раз собиралась уехать из Сму-
рова, но так и не уехала; познакомилась
с Василием на заводе, куда он вернулся после
демобилизации; что Галя до сих пор работает
на прежнем месте и учится в заочном инсти-
туте «на инженера».
139
Я любила Галю, не могла не желать ей
счастья.
Она ни в чем не была виновата передо
мной — могло ли ей прийти в голову, что я до
сих пор помню и люблю человека, за столько
лет не разыскав его, давно уже не переписы-
ваясь с ним?
Но причина ее счастья и моего горя заклю-
чалась в одном и том же, и мне было нестер-
пимо больно от несовместимости возникших в
моем сердце чувств.
Ее мужем был Василий —тот Василий, чьи
письма я хранила, о встрече с которым меч-
тала все эти годы!
— Еще месяца нет, как они поженив-
шись,— добавила Прасковья Федоровна.
— Где же они сейчас? — тихо спросила я.
— Да в Белую Холуницу поехали, к утру
вернутся.
...— Где тебе постелить-то? — спросила
Прасковья Федоровна поздно вечером. — Мо-
жет, в столовой спать будешь? А то постелишь
в кабинете, так они еще недовольны будут, —
усмехнулась она, — квартиру-то им дали, не
мне.
Прасковья Федоровна уже не чувствовала
себя той «хозяйкой», которой была раньше, и
я думала: «Как хорошо, что роли перемени-
лись! Этого не могло не случиться».
Старуха постелила мне на тахте и ушла
в свою комнату.
Я долго сидела, не раздеваясь, вспоминая
всё, что увидела и узнала за день,
140
«Неужели всё это было сегодня? Неужели
только сегодня я приехала в Смуров?»
Я чувствовала сильную усталость, но спать
не хотелось.
«Похожу немного возле дома», — решила я
и тихонько, чтобы не разбудить старуху, вы-
шла.
Ночь подходила к концу. Город спал.
В окнах домов отражалось небо.
Был тот предрассветный час, когда еще
трудно сказать, каким будет следующий день,
но небо, словно залитое разбавленными водой
чернилами, предвещало дождливое утро.
Всё дальше и дальше уходила я от дома
Василия и всё ближе подходила к станции.
Я уже знала, что не вернусь к Вожгаловым.
...Я села в пустой ночной пригородный
поезд.
В вагоне никого не было, кроме меня
и холодного ветра. Гулко хлопали от сквоз-
няка двери.
Ветер метался по вагону: вопреки всем
железнодорожным правилам, окна были от-
крыты с обеих сторон.
За окнами мелькали леса и перелески,
шлагбаумы и безлюдные платформы...
«Да, вот как всё сложилось, — думала я,
сидя в вагоне, — а могло сложиться совсем
иначе.
Я не потеряла бы Василия, не прекрати
я переписки с ним тогда, когда дружеская под-
держка, участие были особенно ему нужны.
Но даже и перестав писать ему, я могла
141
потом найти его, если бы искала по-настоя-
щему, если бы боролась за свое счастье.
Будь на моем месте Галя, она разыскала
бы Василия, где бы он ни находился, не
полагаясь, как я, на волю счастливого слу-
чая.
Когда Галя хотела чего-нибудь, для нее не
было препятствий — стоит вспомнить, хотя бы,
как ушла она на завод.
Еще будучи девочкой, Галя была хозяйкой
своей судьбы. А я?
Теперь я должна забыть Василия, не
думать больше о нем, не перечитывать его
писем.
Теперь одной Гале принадлежит вся жизнь
Василия — его настоящее, его будущее и даже
его прошлое, на которое Галя, может быть,
и не имеет права...»
Мне казалось — не день, а много лет про-
шло с того момента, как я вновь приехала
в Смуров.
Бывают годы, бесследно уходящие из па-
мяти как один серый, пасмурный, бесцельно
прожитый день.
Бывают, наоборот, дни, равные годам по
роли, какую играют они в нашей жизни.
За один день я узнала и поняла больше,
чем могла бы узнать за многие годы.
«Но разве от этого легче, если ничего
нельзя изменить?»
«Прошлого, конечно, не вернешь, — отве-
тила я себе, — но ведь есть будущее!»
...В поезде я думала о военном Смурове
и о Смурове новом, о Гале, о Прасковье Федо-
142
ровне, обо всех этих людях, с которыми столк-
нула меня война.
Я очнулась от своих мыслей только тогда,
когда поезд загрохотал по железнодорожному
мосту.
Взглянув в окно, я увидела похожее на
широкую полноводную реку синевшее под мо-
стом шоссе.
Потом показались заводские трубы, уголь-
ные склады, вынырнул огромный, неуклюжий
каменный дом, стоящий почти у самой дороги.
Потом потянулись огороды, какие-то кирпич-
ные здания, и, наконец, далеко внизу, на фоне
густой темной зелени, я увидела маленький,
словно игрушечный, трамвай.
Наш поезд шел еще полным ходом, но
было ясно, что мы уже подъезжаем к област-
ному центру.
Я удивилась, что пропустила наступление
утра.
Туч, цвета чернильной воды, теперь почти
не было, — они словно стекли за горизонт,
образуя над ним небольшую светлолиловую
полосу.
Слепящее солнце, как будто хорошо вы-
спавшееся и отдохнувшее за ночь, несмотря на
ранний час, жарко горело в синеве, и мне было
приятно, что таким ясным утром встречает
меня далекий город, что уже наступил первый
день моей новой жизни.
«Через несколько минут поезд остановится
в областном центре. И может быть, уже сего-
дня я узнаю, в каком районе буду работать.
Как-то встретят мзня на новом месте?
143
Какие дома предстоит мне строить? Какие
города создавать?»
Я проверила документы — диплом, напра-
вление, паспорт.
Всё было на месте.
«Скоро, совсем скоро конец моему пути», —
думала я.
Конец? Нет, это только его начало!
Но где бы ни пришлось мне в жизни побы-
вать, с какими бы самыми хорошими людьми
ни столкнула меня судьба, никогда не забу-
дется моя первая любовь, как не забудется
и сама далекая заснеженная юность.