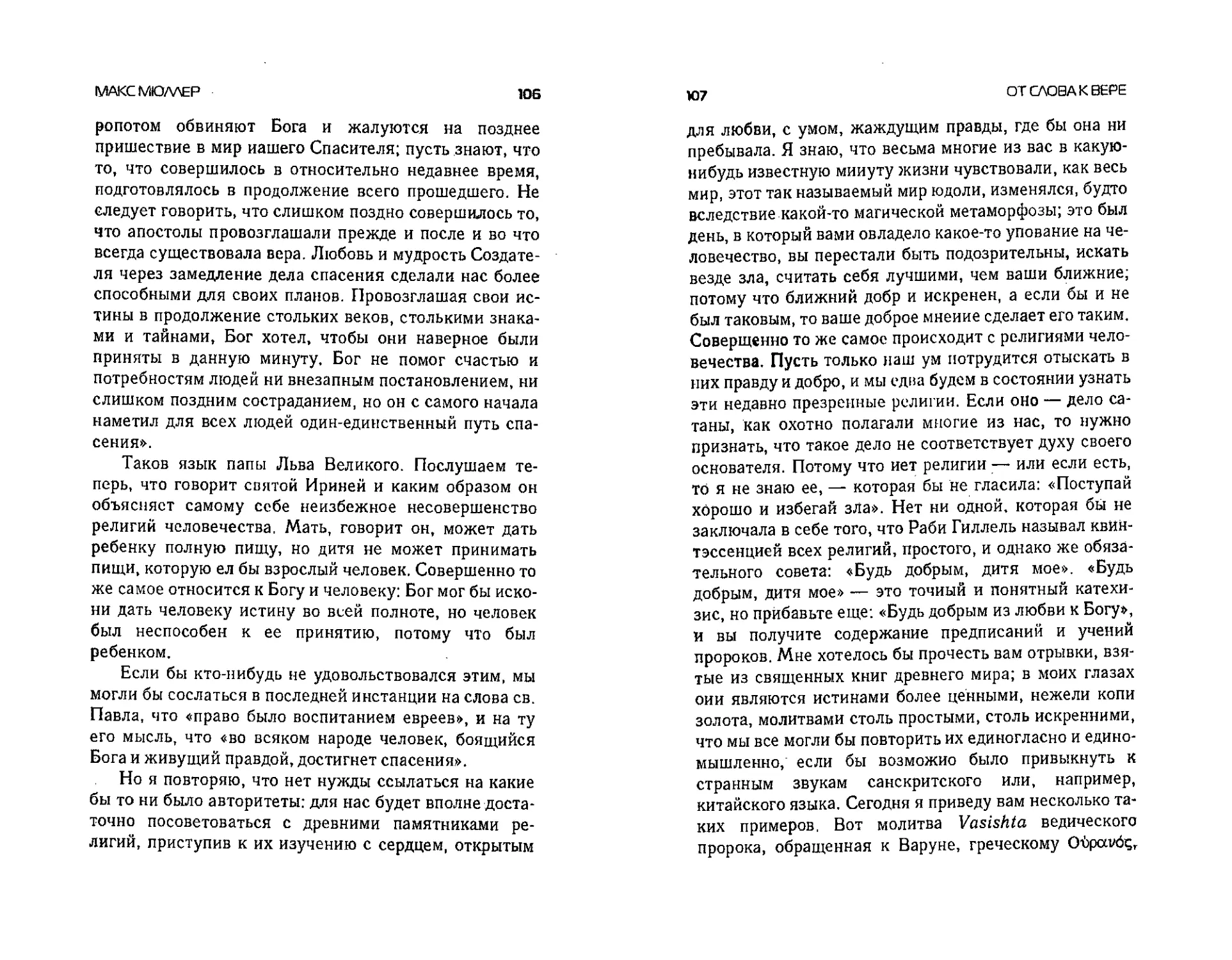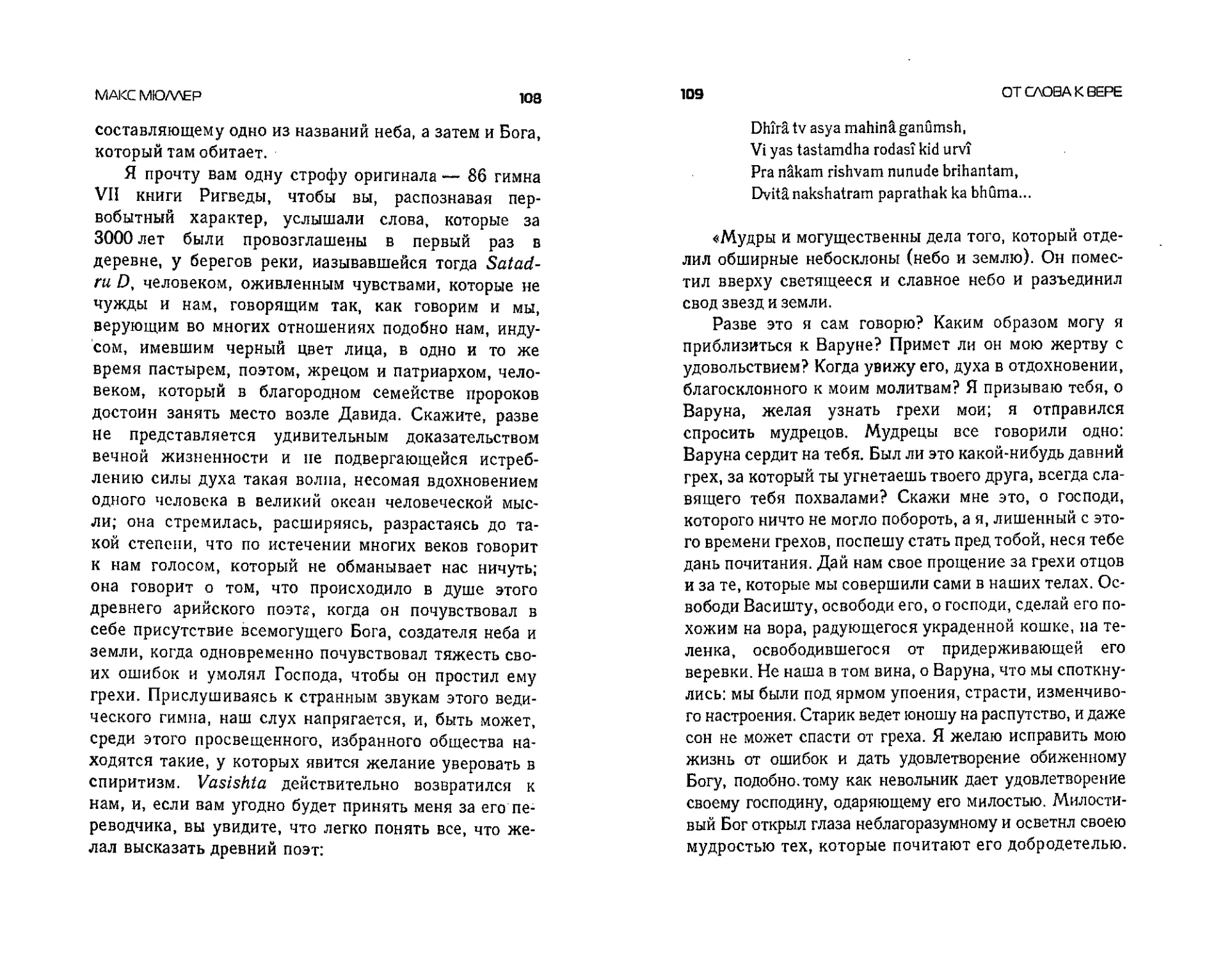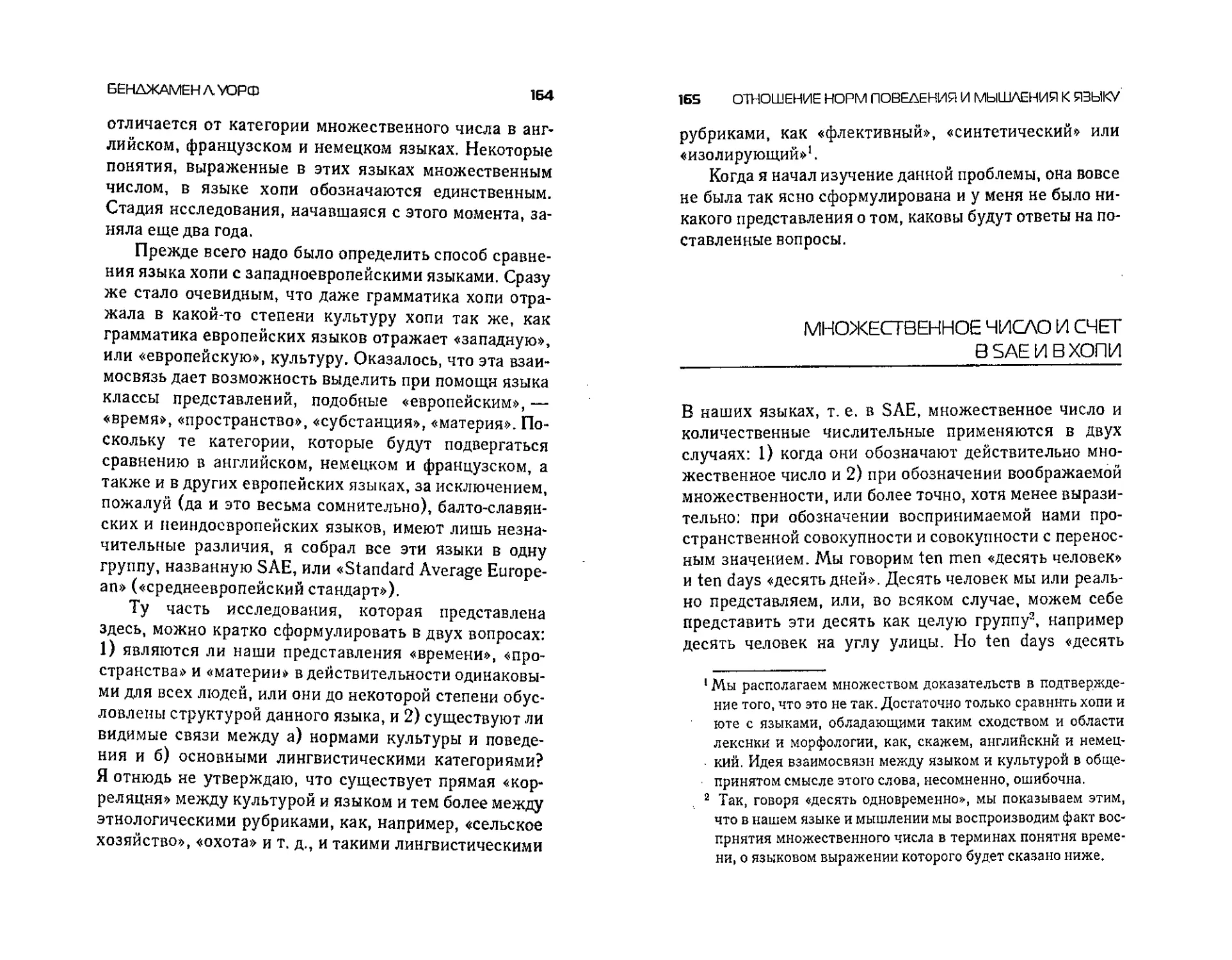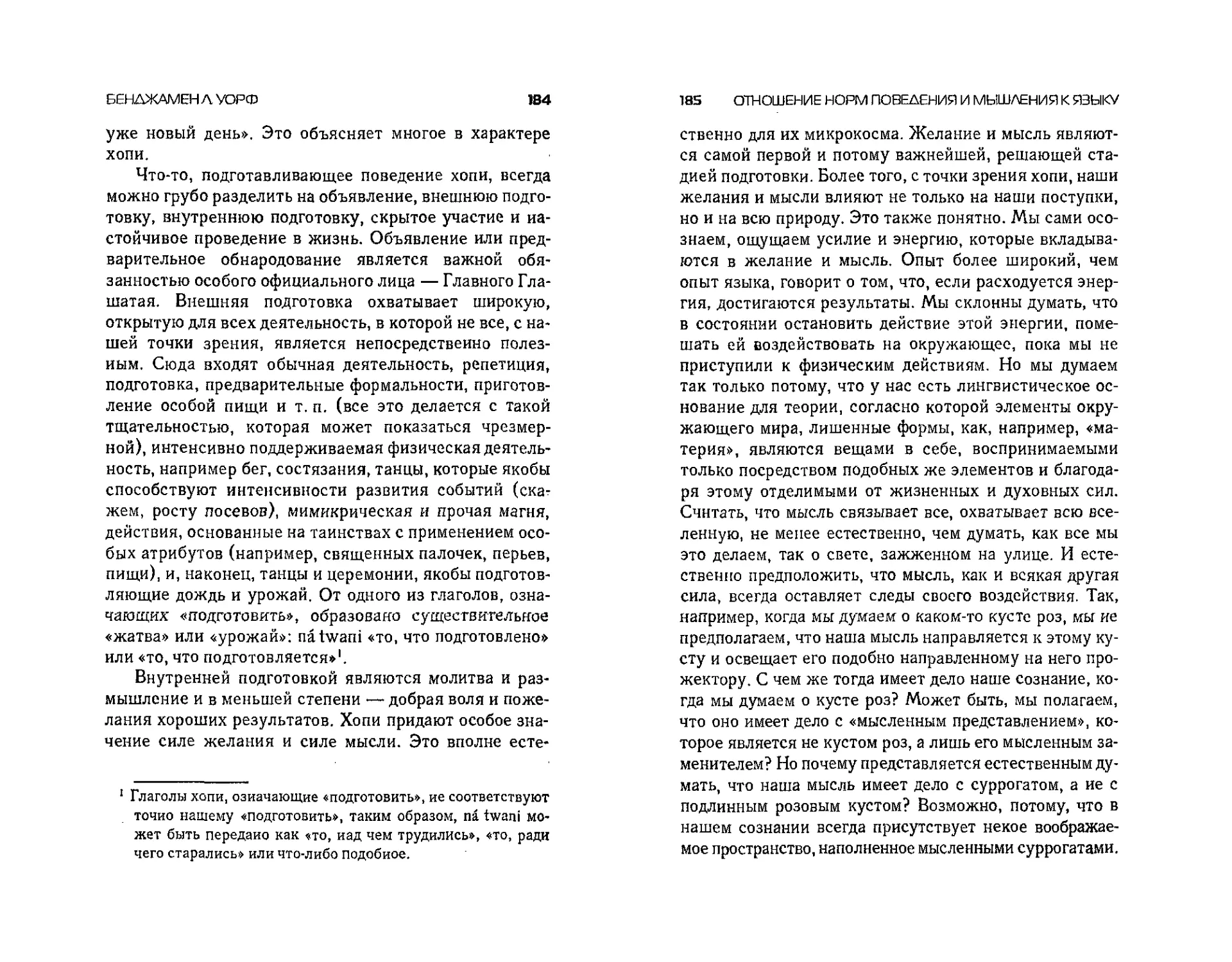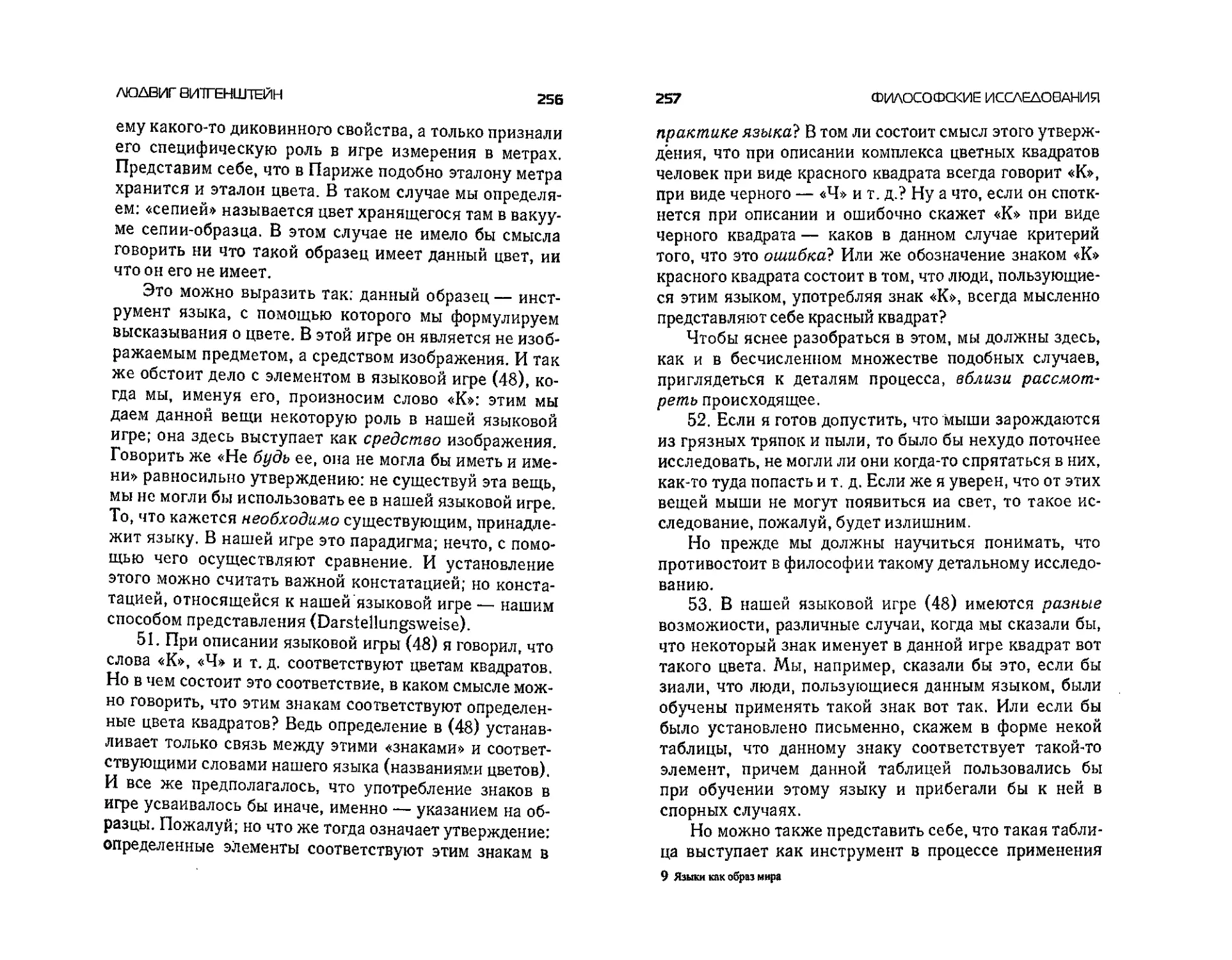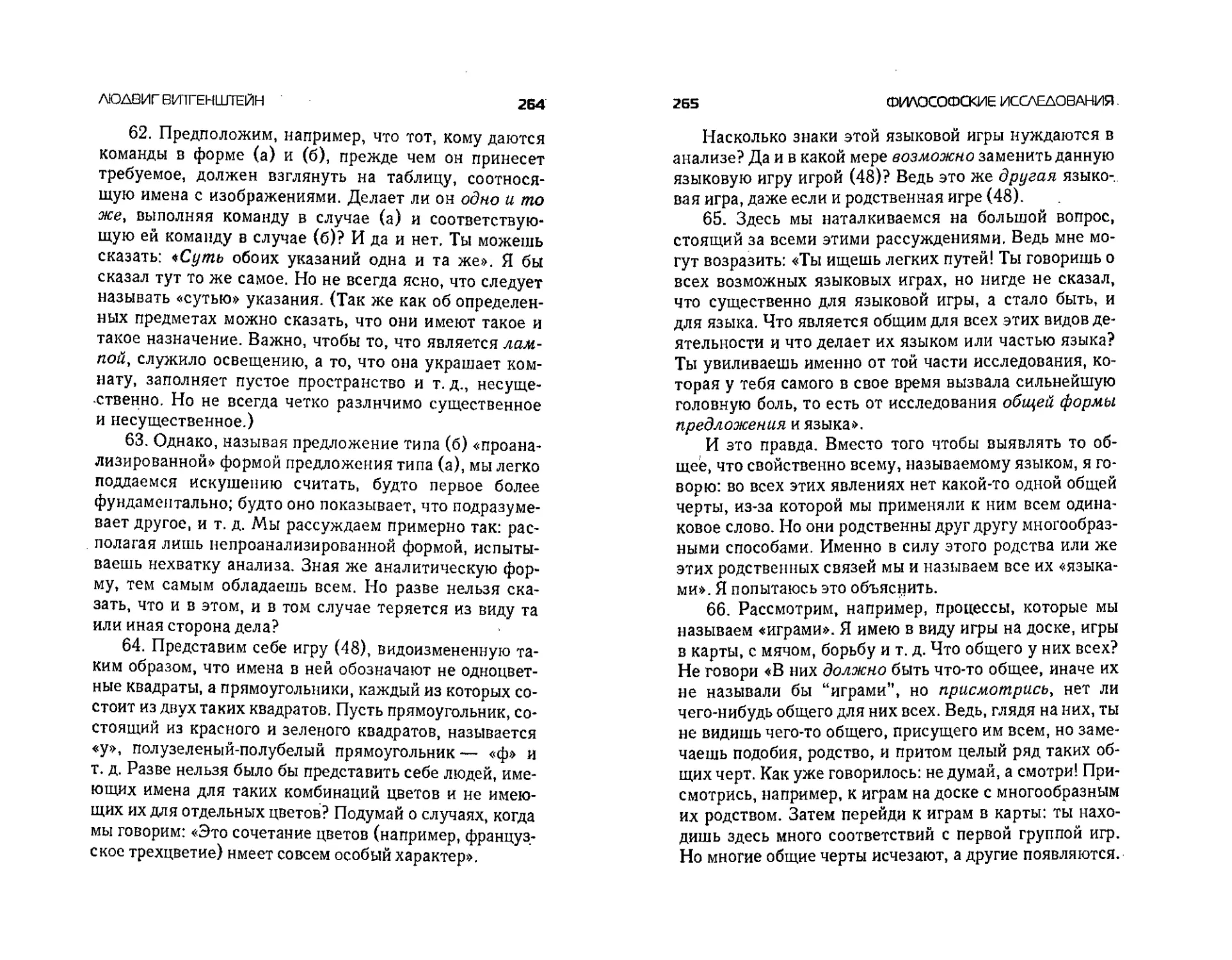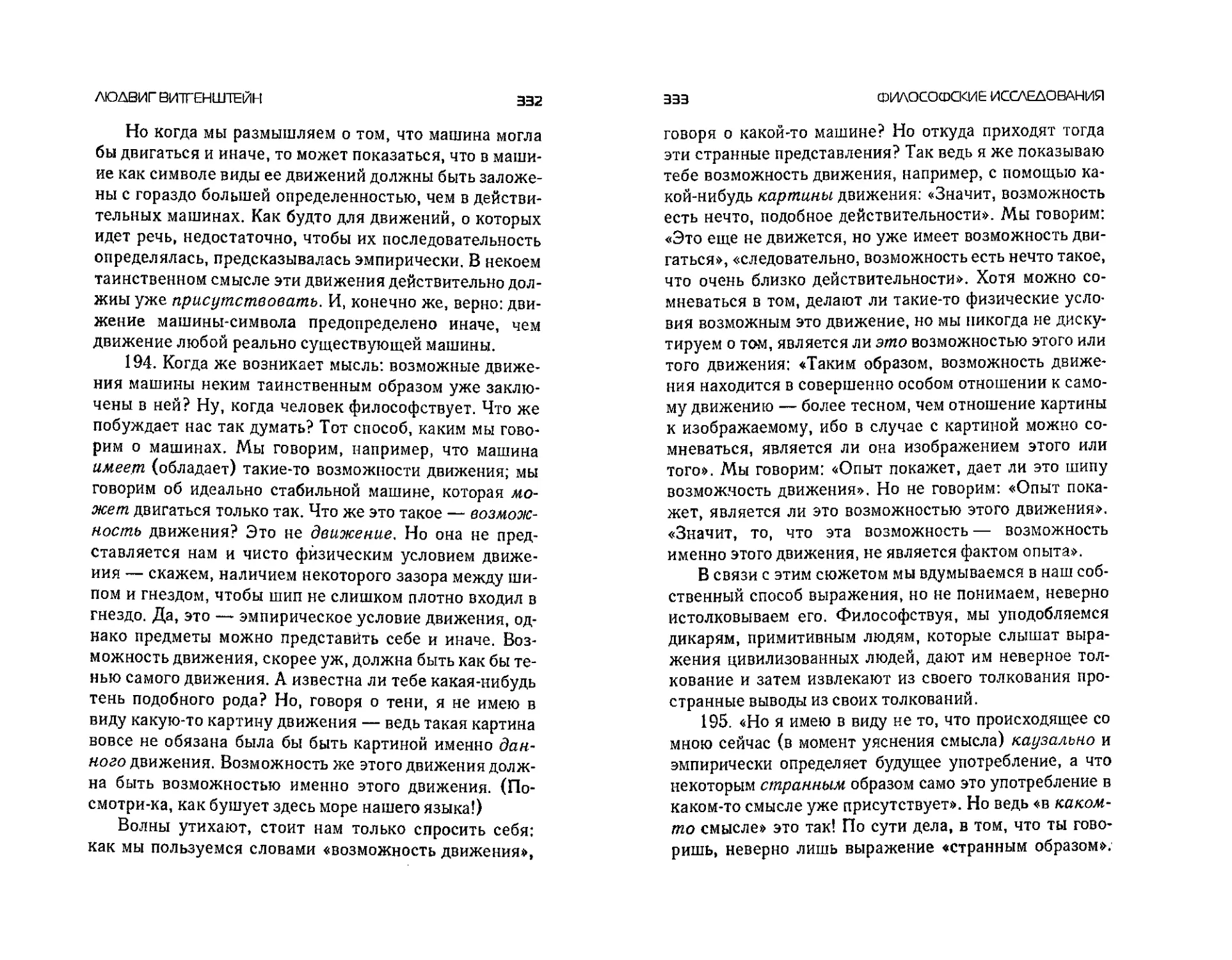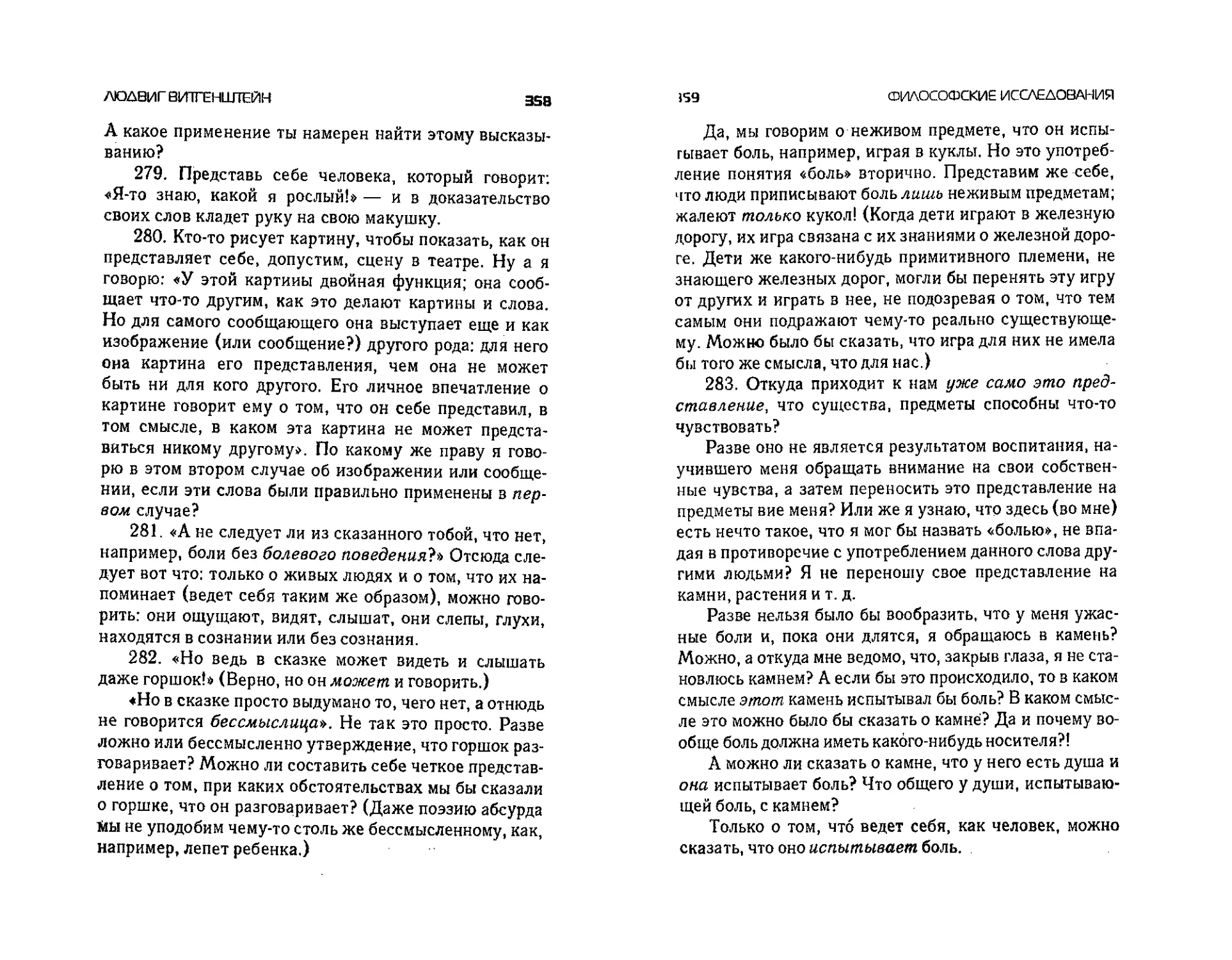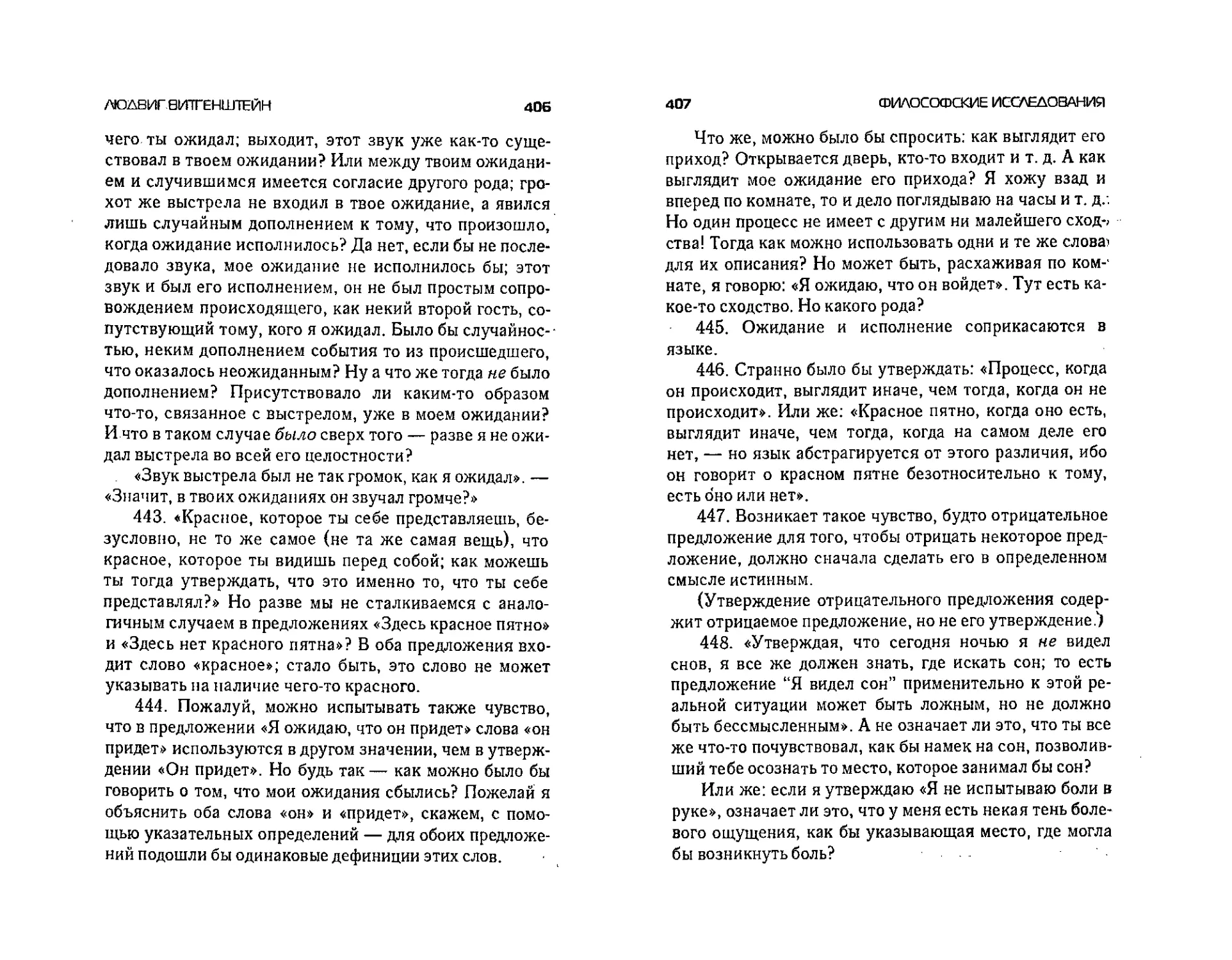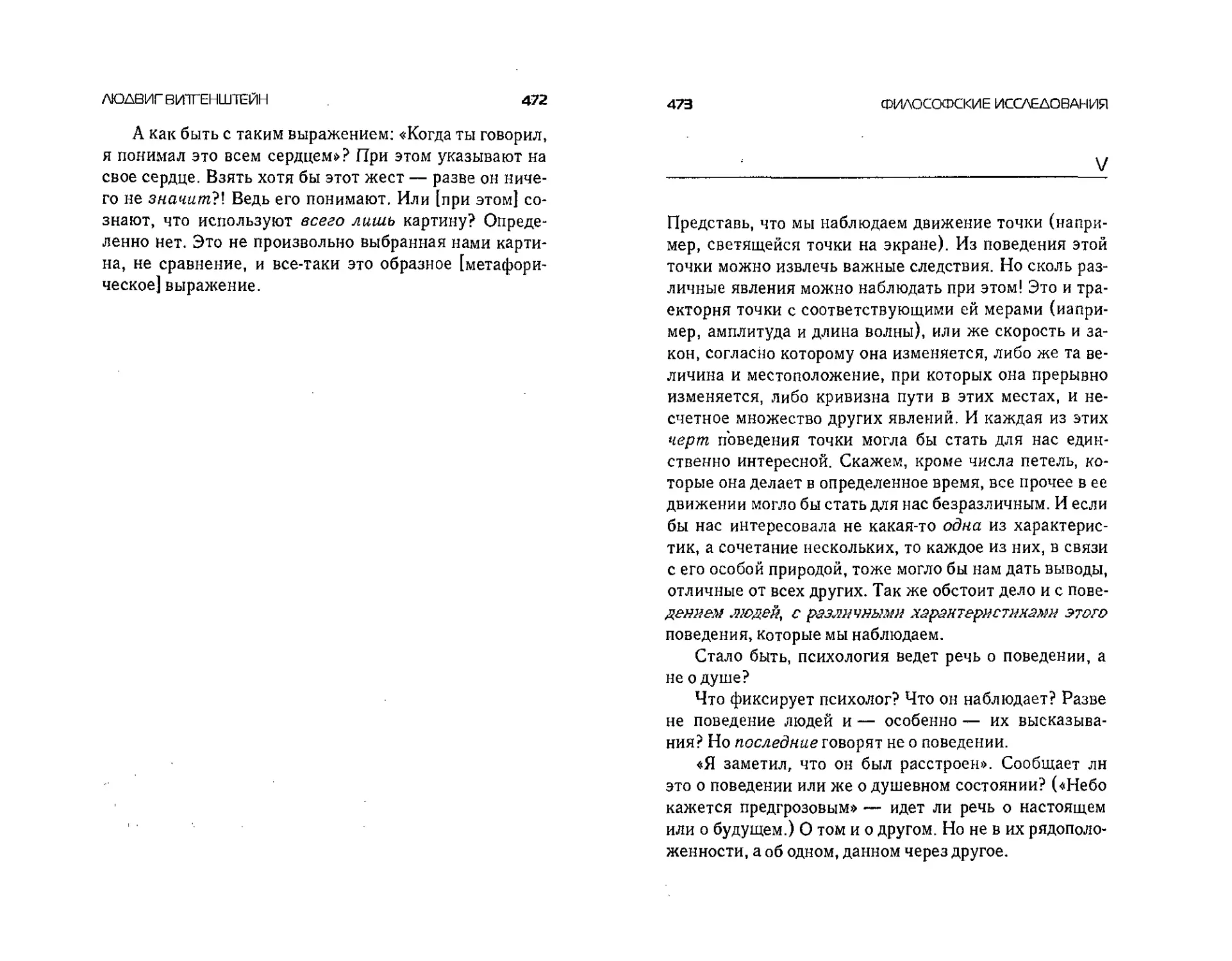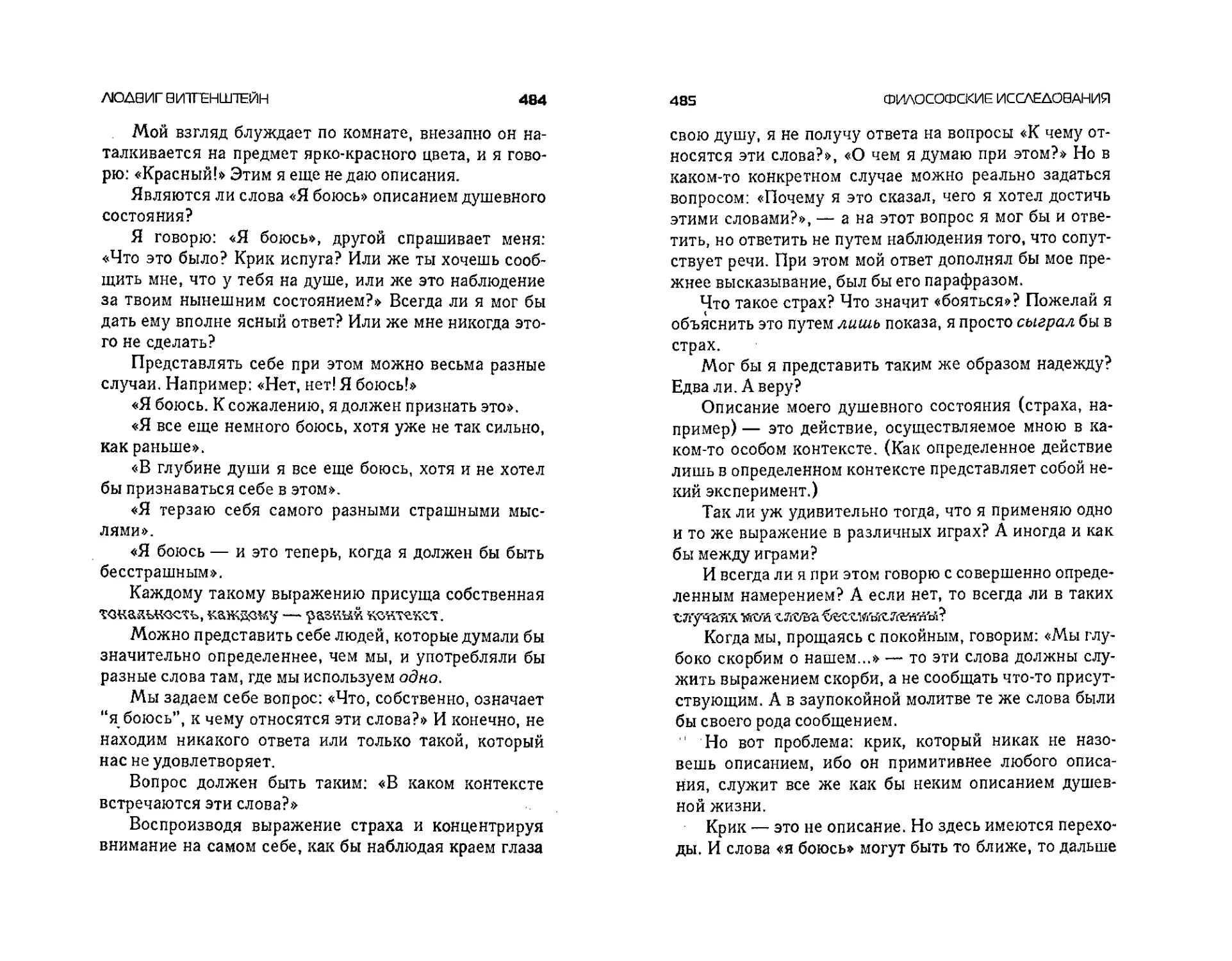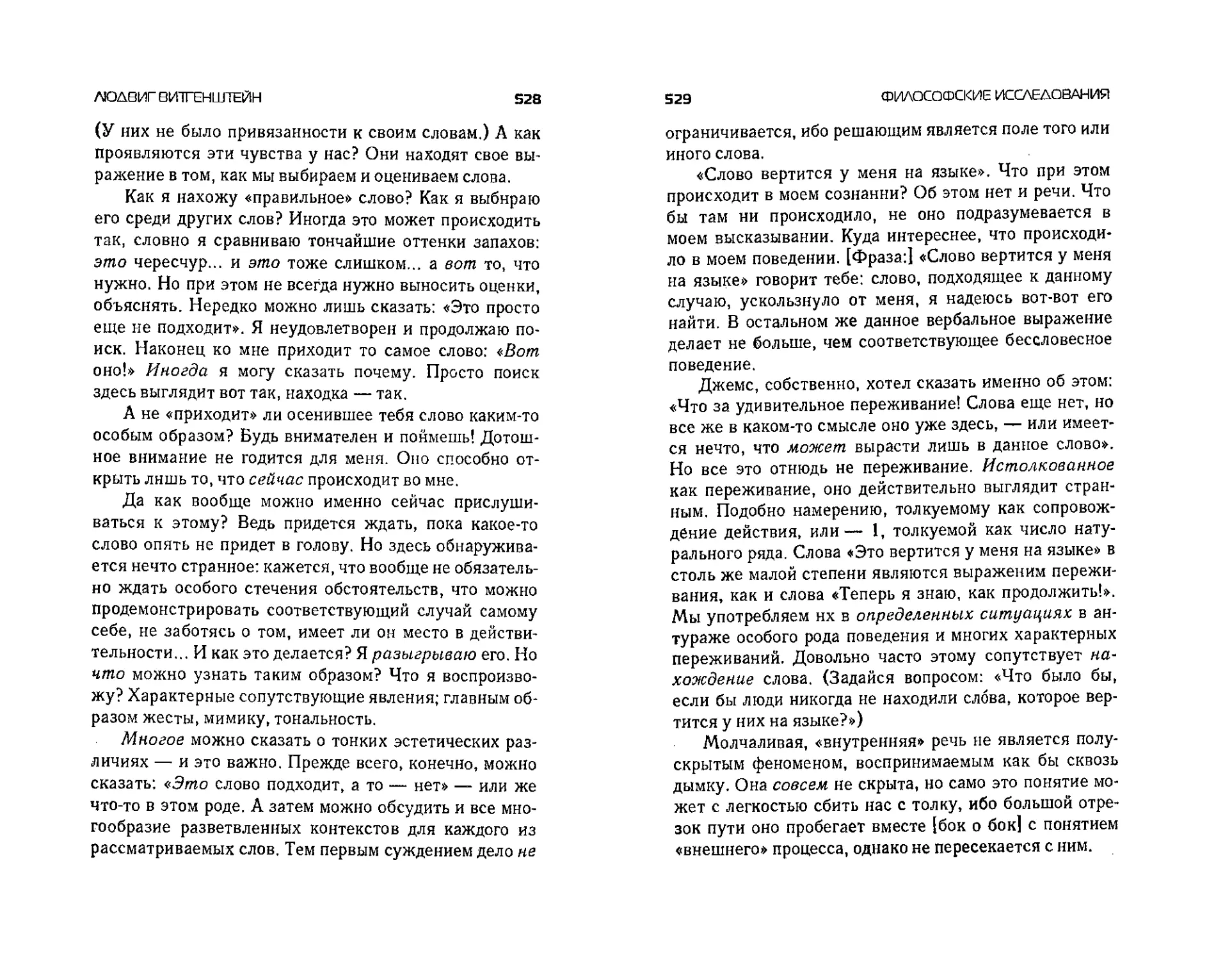Автор: Мюллер М. Сепир Э. Уорф Б.Л. Витгейнштейн Л.
Теги: философия психология философские науки антология языковедение
ISBN: 5-17-019254-1
Год: 2003
Текст
PHILOSOPHY
ЯЗЫКИ
КАК ОБРАЗ МИРА
издательства Terra Fantastica
Москва Санкт-Петербург
2003
УДК 1/14
ББК 87
Я41
Составление К. Королева
Серийное оформление А. Кудрявцева
Подписано в печаль 23.06.03. Формат 84х10&7м.
Усл. печ. л. 30,24. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1501.
Языки как образ мира.—М.: ООО <<Издательство АСТ»; СПб.:
Я41 Terra Fantastica, 2003. — 568, [8] с.: ил. — (Philosophy).
ISBN 5-17-019254-1 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-7921-0648-7 (Terra Fantastica)
«Границы моего языка определяют границы моего мира» — отчеканил в
своем знаменитом «Логико-философском трактате» Людвиг Витгенштейн.
Формулировка Витгенштейна имеют не только прагматический, но и фило-
софский смысл: реальность опосредуется языком, который «пересоздает» ее
внутри себя и тем самым творит образ мира, уникальный для конкретного языка
и конкретной культуры. Иными словами, язык конструирует реальность.
Безусловно, нельзя говорить о том, что язык формирует физическую
реальность, он только проецирует эту реальность в социум, инсталлируя
образ мироздания, однако, как писал Э. Сепир, «было бы ошибкой полагать,
что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи
языка...».
УДК 1/14
ББК 87
© Состав. К. Королев, 2003
© ООО «Издательство АСТ», 2003
©TERRA FANTASTICA
ОТ РЕДАКЦИИ
ЯЗЫК МИРА
Языковая картина мира... Образ мира, истори-
чески сложившийся у конкретного языкового
коллектива, свод представлений о мире, за-
фиксированный языком, определенный спо-
соб концептуализации мироздания в рамках
данного языка. Каждый естественный язык
отражает определенный способ восприятия и
кодировки мира. Выражаемые в языке значе-
ния складываются в единую систему взгля-
дов, своего рода коллективную философию,
которая усваивается всеми носителями дан-
ного языка. Этот способ мировосприятия в из-
вестной мере универсален, однако у каждого
народа он обладает, скажем так, националь-
ной спецификой, и в итоге носители разных
языков воспринимают мир по-своему, отлич-
ным от носителей других языков способом.
«Границы моего языка определяют грани-
цы моего мира», — отчеканил в своем знаме-
нитом «Логико-философском трактате» Люд-
виг Витгенштейн. Это формулу можно тракто-
вать сугубо утилитарно, с «обучающей» точки
зрения: чем большим количеством иностран-
ных языков человек владеет, тем шире грани-
цы его мира, включающие и «исконно свое», и
«приобретенное чужое». Однако формулиров-
ка Витгенштейна имеет и другой, не прагмати-
ческий, а скорее философский смысл: реаль-
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
Б
ность опосредуется языком, который «пересоздает» ее
внутри себя и тем самым творит образ мира, уникаль-
ный для конкретного языка и конкретной культуры.
Иными словами, язык конструирует реальность.
Представление о языке как образе мира восходит к
платоновскому «Кратилу», к учению В. Гумбольдта о
внутренней форме слова («отношение человека и пред-
мета всецело обусловлено языком»), к компаративист-
ским культурно-филологическим штудиям М. Мюлле-
ра, к теориям неогумбольдтианцев (основоположник
этой школы Л. Вайсбергер ввел в обиход само понятие
«языковой картины мира»), к работам Э. Сепира н Б. Уор-
фа, гипотеза которых впоследствии получила название
теории лингвистической относительности. Окончатель-
но это представление оформилось в концепциях Вен-
ского логического кружка в частности — и той «фабри-
ки мысли», которую принято называть аналитической
философией, в целом.
Безусловно, нельзя говорить о том, что язык форми-
рует физическую реальность, он только проецирует
эту реальность в социум, инсталлируя образ миро-
здания, однако, как писал Эдвард Сепир, «было бы
ошибкой полагать, что мы можем полностью осознать
действительность, не прибегая к помощи языка, или
что язык является побочным средством разрешения не-
которых частных проблем общения и мышления. На са-
мом же деле «реальный мир» в значительной степени
бессознательно строится на основе языковых норм дан-
ной группы... Мы видим, слышим н воспринимаем так
или иначе те или другие явления главным образом по-
тому, что языковые нормы нашего общества предпола-
гают данную форму выражения».
К. Королев
язык
КАК ОБРАЗ МИРА
МАКС МЮЛЛЕР
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕКИИЯ I.
ЦЕЛЬ И ПОЛЬЗА СРАВНИТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ
Намереваясь прочесть ряд публичных лекций,
я избрал себе для начала лекцию о лингвисти-
ке. Моим намерением было тогда указать вооб-
ще, что сравнительное изучение главных язы-
ков основывается на точных, научных осно-
ваниях, равно как и то, что оно достигло
результатов, достойных внимания мыслящего
общества. Я старался доказать, что открытия,
сделанные в области сравнительного языкозна-
ния, не должны быть долее пренебрегаемы без-
наказанно не только специалистами, но и
историками, теологами и философами, даже бо-
лее, что для каждого образованного человека
должно составлять приятную работу основа-
тельное изучение духа языка, исследование его
тайн и изучение последовательного развития,
правда, таинственного, однако не настолько,
чтобы его нельзя было не заметить сквозь
прозрачные лингвистические формы. Закан-
чивая чтение лекций, я оговорился, что если бы
только в обширной области человеческого
Переводе английского А.М. Гилевича, В.М. Жи-
ваго.
МАКС МЮЛЛЕР
ю
языка были соединены в одно целое все исследования,
тогда наша новая наука сравнительного языкознания
имела бы полное право требовать себе места за тем
круглым столом, вокруг которого расположилось интел-
лектуальное рыцарство наук нашего века.
Я защищал это справедливое дело до тех пор, пока,
несмотря на мою весьма недостаточную защиту, обще-
ственное мнение непосредственно и единогласно не
склонилось на мою сторону. В продолжении тех лет,
которые нас отделяют от этого первого ряда моих лек-
ций, языкознание приобрело достаточно поклонников и
в сильнейшей степени заинтересовало публику. Примем
ли во внимание сочинения, которые издавались с целью
усовершенствовать эту Науку, просмотрим ли все те луч-
шие статьи, которые появлялись в ежедневных, ежене-
дельных и ежемесячных журналах, соберем ли, наконец,
весьма многочисленные применения результатов линг-
вистики в сочинениях, относящихся к философии, тео-
логии и древней истории, мы всегда будем иметь полное
право чувствовать себя удовлетворенными.
Пример, данный Францией и Германией, побудил
почти все университеты Англии, Ирландии и Шотлан-
дии учредить кафедры санскритского языка и срав-
нительного языкознания.
Нам нечего беспокоиться о будущности этой науки,
потому что, наперекор различным предрассудкам, ее
зарождение совершилось при столь счастливых
предзнаменованиях, что она будет стремиться все к бо-
лее и более блестящим триумфам. Наши общественные
школы не преминут последовать примеру, поданному
университетами, потому что справедливость требует,
чтобы ученики, работающие ежедневно по несколько ча-
сов над грамматикой многих языков, имели удовольст-
вие под руководством искусного руководителя
взобраться на высокую вершину, откуда оии могли бы
11
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
окинуть взором всю ту панораму человеческой речи, тот
рельефный образ, который смелые исследователи созда-
ли так старательно и с таким терпением. Начиная с этого
времени, исчезнут уже грамматические трудности, пото-
му что электрический свет сравнительного языкознания,
примененный к преподаванию грамматик греческой, ла-
тинской, немецкой, французской, сделает ясными и
интересными самые сухие и темные их части. Но успеш-
нее всего он может быть применен особенно при
элементарном преподавании.
Во время моего прошлогоднего путешествия по
Германии я заметил, что все, изучающие в универ-
ситетах языки греческий и латинский, посещают
одновременно лекции сравнительного языкознания.
В Лейпциге профессор, читающий санскритский
язык, насчитывал более пятидесяти слушателей,
приготовляющихся через усвоение этого языка к нача-
тию филологических занятий. Введение греческого
языка в университеты в XV веке не произвело, кажет-
ся, такой революции, какую вызвали в XIX веке
открытие санскритского языка и исследования в облас-
ти сравнительного языкознания. В настоящее время в
Германии мало кто из молодых филологов получает
докторский диплом или право преподавания в обще-
ственных школах, не выдержав сначала экзамена по
предмету сравнительного языкознания и даже начал
санскритского языка. Почему бы тому же самому не
быть и в Англии? Верьте Моей опытности, умственная
жилка у английской молодежи та же самая, что и у не-
мецкой.
Бросим же наконец старые предрассудки и дозво-
лим сравнительному языкознанию получить право
гражданства наравне с другими науками, как оно того и
заслуживает, в каждой публичной школе, в каждом
университете, при каждом филологическом экзамене.
МАКС МЮЛЛЕР
12
Сегодня я начинаю ряд новых чтений по науке о
религии или, лучше сказать, я намерен бросить свет на
выдающиеся пункты, к которым мы раньше должны
присмотреться^ прежде чем начнем рассуждать о
религиях мира по строго научному методу; сегодня я
испытываю то же самое чувство, какое испытывал в тот
день, когда прибыл сюда отстаивать дело языкознания.
Я знаю наперед, что встречу противников, которые
будут отрицать применение научного метода к изучению
религий; они приведут снова, при сем случае, свои
прежние возражения, которыми пользовались раньше по
поводу моих чтений о языке. В этой области я предвижу
даже более серьезную встречу с предрассудком, широко
распространенным, и с убеждениями, глубоко укоре-
нившимися; несмотря на это, я чувствую себя
приготовленным встретиться с глазу на глаз со своими
противниками и, сверх того, имею настолько доверия к
благородству их намерений, что не сомневаюсь, что они
согласятся выслушать меня с спокойным бесприст-
растием. В наше время почти невозможно говорить о
религии, не задев кого-нибудь, справа или слева. По
убеждению многих, религия есть предмет, который,
благодаря своему священному характеру, должен быть
чужд всяких изысканий и научных методов; если послу-
шаем других, те в свою очередь скажут нам, что место
религии в том же самом списке, в котором находятся ал-
химия, астрология, что она соткана из ошибок и мечта-
ний, недостойных внимания человека науки.
В известных отношениях эти мнения я принимаю.
Религия есть предмет священный, и, что касается ее
форм, как самых несовершенных, так и самых возвы-
шенных, она имеет полное право на наше уважение и
почитание. Ннкто из присутствующих здесь — я
уверяю — христианин ли он, еврей, индус или магоме-
танин, не услышит из моих уст ии слова оскорбления
13
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
тому роду почитания, которое он воздает своему Богу.
При всем том истинное уважение основывается не на
том, что этот предмет не может быть подвергнут нами
добросовестному н вполне свободному исследованию,
так как он для нас слишком дорог. Будем далеки от это-
го! Истинное уважение основывается на том, что
предмет, самый святой, самый дорогой для нашего
сердца, мы можем подвергнуть нашему бесприст-
растному исследованию, исследованию строго научно-
му, не признающему личностей, но только неумоли-
мую, искреннюю истину.
Далее я допускаю, что на том же самом низком
уровне, как алхимия и астрология, могла очутиться и
религия первобытных времен, и теперь даже, если оки-
нем взглядом мир и посмотрим вокруг себя, мы найдем
древние остатки, сомнительные и туманные. Но, чтобы
добиться истины, полезнее всего исследовать ошиб-
ки,— это тот известный путь, на котором алхимия была
исходным пунктом для химии, астрология же более или
менее шла ощупью к астрономии.
Несмотря на то, что я, со своей стороны, буду
старательно избегать задевать кого-нибудь, я не скрою
того, что различные истины, которые я хотел бы ус-
тановить, различные мнения, которые выразить я счи-
таю своей обязанностью, зазвучат неприятно в ушах
моих слушателей. Уже одно заглавие «изучение
религии» раздражает многих, а сравнение всех религий
мира, сравнение научное, в котором нн одна из них не
может занять привилегированного положения, такое
сравнение, говорю я, покажется достойным порицания,
особенно в присутствии тех, которые не понимают
внутреннего уважения к своей религии, к своему Богу,
какое чувствует всякий, начиная нами и кончая по-
клонником фетишей. Позвольте мне признаться, что и
я разделял эти предрассудки, но, благодаря моим
МАКС МЮМЕР
14
.трудам, добился над ними триумфа, потому что не мог и
не желал позволить себе изменить ни тому, что я
признавал за истину, нн тому, что интересует меня еще
больше, нежели истина, то есть неопровержимым дока-
зательствам истины.
Я вовсе не утверждаю, что научное исследование
религий не имеет своих темных сторон. Оно влечет за
собой некоторые кажущиеся потери, уничтожает много
для нас дорогого. Я говорю «кажущиеся потери», пото-
му что, насколько может судить мой слабый ум, это ис-
следование не ведет к утрате ни одного из главных ос-
нований всякой истинной религии, и если только
возьмем весы в беспристрастную руку, мы немедленно
откроем, что польза, какую мы извлекаем из этого изу-
чения, неизмеримо больше, нежели потери, какие мы
терпим.
Если бы мы обратились к ученым старой школы,
прося их оценить значение языкознания, то они
предложили бы нам первый вопрос: «Какую же пользу
приносит сравнительное изучение языков?» Языки,
говорили они, изучаются с практической целью, чтобы
можно было говорить на них, читать; а изучая их сразу
несколько, мы подвергаемся опасности усвоить кое-как
материал, которым слишком себя обременяем; тем са-
мым мы не достигаем той пользы, какую могли бы из-
влечь, если бы занялись более важным. Знание наше,
утверждали затем, теряет столько в глубине, сколько
приобретает в обширности. Если же и может быть ка-
кая-нибудь польза в изучении наречий, не создавших
никакой литературы, то она, без сомнения, уничтожа-
ется тем обстоятельством, что мы потеряли возмож-
ность усвоить себе известное количество действитель-
ных и практических знаний.
Если такие упреки делали сравнительному языко-
знанию, то насколько они возрастут, когда речь пойдет
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
1. < и.мнительном изучении религий? В настоящую ми-
ну । у я нс думаю о людях, предающихся размышлению
н.| । ‘ вишенными книгами брахманов и буддистов, Кон-
фуции и Лао, Магомета и Нанаки, людях, которые в
г л v шнс сердца восхищаются учениями этих древних
и.и ганников, часто потеряв веру в свою собственную
рг1игию; однако позволю себе сомневаться в том, что-
Gi.i практическая польза расширения области исследо-
ваний о религиях могла быть признана беспристрастно
и искренно теологами по призванию, потому что еще и
frih'pb некоторые из наших профессоров, известней-
шие представители науки, не признают пользы иссле-
дований в области санскритского, зендского, готского
и кельтского языков, знание которых ведет же к более
глубокому и сознательному пониманию языков латин-
ского и греческого и дает возможность удачнее судить
о природе, правах, росте, образовании и упадке языка
вообще.
Итак, опять придется поставить вопрос: какую
пользу мы и шлемом нз сравнений? Однако нам не сле-
дует забывать, что каждое истинное знание обязано
своим развитием сравнению и на нем же основывается.
Когда говорится, что характер исследований в нашем
веке есть преимущественно сравнительный, под этим
разумеется, что эти исследования основываются на
значительном количестве доказательств, которые
нетрудно собрать в большом числе, и на выводах об ис-
тинах новых, добытых из истин уже известных. «Какая
же,— спрашивают,— польза от сравнения?» Чтобы
ответить на это, выслушайте краткое резюме исследо-
ваний о религии. Обратитесь на несколько веков назад
и взгляните на эти фолианты, исписанные известней-
шими научными авторитетами, и потом постарайтесь с
помощью этих книг разрешить в себе некоторые линг-
вистические сомнения, затем обратитесь к сочинениям,
МАКС МЮЛЛЕР
16
авторы которых — ученики сравнительного языкозна-
ния, и тогда увидите, какую пользу можно извлечь из
применения сравнительного метода.
Несколько веков назад существовало убеждение,
принятое за аксиому, за догмат, что староеврейский
язык был первобытным языком человеческого рода, и
тогда ставили себе только единственный вопрос: каким
путем язык греческий, латинский или какой-нибудь
иной произошел из староеврейского? Эта мечта, равно
как и другая, что язык был откровением, в схоласти-
ческом значении этого слова, была в ходу повсеместно,
несмотря на то, что против нее энергично восставал уче-
ный никейский епископ св. Григорий в IX веке.
Грамматическое строение языка считали результатом
добровольного соглашения или полагали, например, что
окончания существительных и глаголов произошли
вследствие известного растительного процесса из
корней слов, а сходство, самое сомнительное в созвучии
и сходном значении слов, считали неопровержимым до-
казательством общности происхождения. Следов этого
филологического лунатизма мы уже почти не находим в
трудах, опубликованных со времен Гумбольдта, Боппа и
Гримма. Скажите, разве этот переворот принес какой-
нибудь вред? Разве все, что сделано в этой области, сде-
лано бесполезно? Разве теперь язык заслуживает мень-
шего удивления, хотя мы уже знаем, что способность
говорить, вложенная в каждого из нас, есть дело Того,
Который создал также и нашу природу; изобретение же
слов, назначенных для наименования каждого предмета,
было предоставлено человеку, и их отделку закончила
работа человеческого ума? Неужели древнееврейский
язык разрабатывается менее старательно с тех пор, как
мы не считаем его языком откровения, сошедшего с
неба, а языком, родственным с арабским, с сирийским,
старовавилонским, с тех пор как мы смотрим на него как
17
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
на диалект, который можно толковать и изъяснять при
помощи этих сродных, в известном отношении, пер-
вобытнейших языков, служащих для него, в некотором
роде, ключом многих грамматических форм, многих за-
путанных и темных выражений?
Разве нынешние этимологические исследования
менее ценны потому, что не основываются на сходстве
очень поверхностных исследований, ио на серьезных
исторических и физиологических изысканиях? Нако-
нец, разве наш собственный язык потерял что-нибудь в
достоинстве от того, что увеличилось семейство извест-
ных языков? Не было ли это покушением на нашу лю-
бовь к родному языку? Неужели мы меньше гордимся
нашим отечественным языком или с меньшим жаром
возносим на нем молитвы с тех пор, как мы узнали его
истинное происхождение и аутентичную историю, с
тех пор как узнали, что во всех языках, не исключая
даже говора диких, варварских народов, господствуют
порядок, мудрость и общность, уравнивающая нас с на-
шими ближними?
И зачем нам колебаться применить сравнительный
метод к изучению религий, если этот метод в области
других наук ведет нас к столь блистательным ре-
зультатам? Что применение этого метода изменит весь-
ма многие понятия, относящиеся к происхождению,
характеру, развитию и упадку человеческих религий, мы
осмелимся это утверждать, лишь бы нами не овладело
предположение, что смелый и независимый образ дей-
ствий, составляющий нашу обязанность и гордость в
других сферах мысли, небезопасен в исследовании
религий. Лишь бы мы только не устрашились известной
древней пословицы, будто в теологии всякая новость
была ложью; уверенность, что мы находимся на пути к
открытию чего-то нового, должна дать новый толчок,
чтобы не пренебрегать и ие откладывать иа после
МАКС МЮ/WP
18
употребление сравнительного метода при исследовании
религии.
Когда лингвисты, изучающие сравнительное язы-
кознание, приняли своим девизом парадокс Гете: «Кто
знает один только язык, тот не знает ни одного», это
сначала возбудило много удивления и волнения, но
вскоре нашли истину, скрывавшуюся в этом странном
утверждении. Неужели Гете хотел сказать, что Гомер
не знал по-гречески, а Шекспир по-английски, потому
что как тот, так и другой знали только свой родной
язык? Без сомнения, нет! Гете хотел только сказать,
что ни Гомер, ни Шекспир не имели истинного понятия
о языке, которым онн владели с такой силой, производя
такое могущественное впечатление.
К несчастью, в английском языке затерялся старый
глагол to ken, от которого происходят слова canny и
canning; если бы не эта потеря, мы могли бы здесь
выразить нашу мысль только двумя словами, хорошо
рисующими две отрасли человеческого знания, о
котором именно и идет речь. Немцы говорят: «konnen
не есть kennen» — «мочь не есть знать», подобным
образом можно сказать по-английски «to сап не есть to
ken». Однако мне кажется вподне очевидным, что са-
мый красноречивый оратор и поэт наиболее вдохнов-
ленный, несмотря на все богатство выражений, каким
владеют тот и другой, несмотря иа свои стилистические
способности, оба очутились бы в немалом затруднении,
если бы от них потребовали ответа на вопрос: «Что та-
кое язык?»
То, что мы сказали о языке, можио применить и к
религии. «Кто знает одну только религию, тот не знает
ни одной». Можно насчитать тысячи таких, вера
которых способна двигать горы, которые, однако, если
бы их спросили, что такое религия, принуждены были
бы молчать или болтать скорее о внешних ее формах,
19
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
чем о внутреннем существе веры, об истинном ее
характере.
Легко заметить, что слово «религия» означает две
различные вещи. Когда говорим о религии еврейской,
индусской, христианской, мы разумеем под этими сло-
вами целое собрание наук, унаследованных или путем
традиции, или посредством книг, признанных боже-
ственными и заключающих в себе все, что составляет
предмет верования евреев, индусов или христиан.
Принимая слово «религия» в таком значения, можно
сказать, что человек переменяет религию, т. е. что при-
нимает собрание христианских учений вместо брах-
манских, которые признавал до сих пор, совершенно
так, как может говорить по-англнйски человек,
который раньше говорил языком индусов.
Но слово «религия» имеет еще и другое значение.
Подобно тому, как существует в человеке, если можно
так выразиться, способность говорить независимо от
всех исторических форм, какие принимали человече-
ские языки, так же точно обладает он способностью
верить независимо от всех исторических религий.
Говоря, что религия отличает человека от животных,
мы понимаем под этим не только христианскую и
еврейскую религию, мы не имеем в виду никакой осо-
бенной религии, а только известную способность ума,
способность, которая независимо от разума, а даже
наперекор ему, дает человеку возможность исследо-
вать бесконечное под различными названиями и под
различной формой. Без этой способности всякая
религия и грубейшее поклонение идолам и фетишам
сделались бы невозможными, и, если мы только захо-
тим внимательно прислушаться, то услышим от всех
религий как будто вздох, направляющийся в мнр духа,
в бесконечность, как будто крик любви к Богу. Будет ли
этимология, примененная древними к греческому слову
МАКС МЮЛЛЕР
20
dvOpconog, верной или нет, это неважно (6 dvco d0pc5v,
«смотрящий вверх»), однако верно то, что из всех жи-
вотных один только человек одарен способностью под-
нять свой взор к небу и это его исключительная
привилегия — добиваться чего-то такого, чего не могут
ему доставить ни чувства, ни разум.
Если существует философская школа, которая ис-
следует условия чувственного понимания, если суще-
ствует другая, исследующая такие же основания пони-
мания умственного, очевидно, найдется еще место для
исследований третьего рода, исследований, предметом
которых будут условия, среди которых существует
третья способность человека — способность понимать
бесконечное; она-то, если можно так выразиться, суще-
ствует в зародыше каждой религии. В немецком языке
мы находим название для этой третьей способности в
слове Vernunft в противоположность Verstand, «разум»,
и Sinn, «чувство».
По причине недостатка соответствующего выра-
жения в английском языке мы будем называть ее «спо-
собностью верить», однако следует ее значение обусло-
вить точной дефиницией и ограничить ее объем до
предметов, которые ие могут быть поняты человеком ни
при помощи чувств, ни при помощи разума.
Факт чисто исторический никогда не вступает в об-
ласть веры. Если обратимся к истории новой мысли, то
узнаем, что до Канта преобладающая философская
школа ограничила всю интеллектуальную деятельность
одной способностью познавать чувствами. «Nihil in
intellectu, quod non ante fuerit in sensu» — таков был
тогдашний девиз, на который Лейбниц ответил
эпиграммой, полной глубины: «Нет ничего в разуме,
если нет самого разума. Nihil, nisi intellectus». Явился
Кант, который в великом сочинении, опубликованном
90 лет тому назад и никогда не устареющем, доказал,
21
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
что для того, чтобы объяснить всякое познание, следу-
ет допустить две независимые способности: наблюда-
тельность чувств и категории, то есть работу ума. До-
вольствуясь тем, что провозгласил независимость той
способности, которую называет разумом, довольству-
ясь тем, что выразил ее оригинальный и свойственный
ей характер или, говоря его языком, испещренным тех-
ническими выражениями, довольствуясь тем, что дока-
зал существование аподиктических суждений a priori,
Кант не захотел идти дальше и отказал человеческому
разуму в способности подняться выше ограниченных
вещей, в способности приблизиться к идее Божества.
Он запер те вечные ворота, через которые человек
бросил взор в беспредельность; однако, наперекор са-
мому себе, в «Критике практического разума»
принужден был приотворить их немного, и этим путем
вошло сначала понятие обязанности, а с ним и понятие
Божества.
Это именно и есть слабый пункт философии Канта.
Если только задача философии состоит в объяснении
того, что есть, а не того, что должно быть, то она до тех
пор не остановится, пока не узнает неопровержимую ис-
тину, т. е. пока не признает в человеке третьей способно-
сти, которую здесь прямо называем способностью пони-
мать бесконечное, не только в области религии, но всех
вещей; пока не признает способности, независимой от
чувств и разума, способности, находящейся в проти-
воречии, в борьбе с разумом и чувствами и прояв-
ляющейся в полной силе и жизненности с тех пор, как
существует свет; над которой не могли торжествовать ни
разум, ни чувство, между тем как она торжествовала не
раз над чувством и разумом. Подобно тому, как слово
«религия» имеет два значения, так и наука о религии
распадается на две части: одна имеет задачей иссле-
довать исторические формы религии и называется
МАКС МЮЛЛЕР
22
сравнительной теологией; задача второй — исследова-
ние условий, при которых возможно существование
религии, будет ли она выражаться в формах возвышен-
ных или очень простых; эта последняя называется тео-
логией теоретической.
Пока мы займемся только первой: задачей нашей бу-
дет указать, что вопросы, составляющие основание
теоретической теологии, могут быть разрешены только
тогда, когда предварительно будет собран, дифферен-
цирован, классифицирован и разобран весь запас
материалов. Сравнительные исследования доставляют
нам богатую жатву доводов, на которые наша теория мо-
жет спокойно опереться. Может показаться удивитель-
ным то явление, что исследования по сравнительной тео-
логии ие интересовали до сих пор никого, между тем как
много мыслителей занималосьтеологией теоретической,
т. е. разбором внутренних и внешних условий, среди
которых возможна религия. Это явление можно объяс-
нить очень естественно. Для сравнительных исследова-
ний необходимы материалы, составляющие здесь осно-
вание; и вот такие-то материалы были до сих пор недо-
ступны, и только в наше время их собрали в изобилии и
они уже требуют к себе серьезного внимания.
Известно, что император Акбар имел страсть к
религиозным исследованиям, страсть, которая побуди-
ла его призывать к своему двору евреев, христиан, ма-
гометан, брахманов и огнепоклонников, которая побу-
дила его собирать как можно больше священных книг и
заниматься их переводом. Но как же ничтожна была
эта коллекция священных книг, которую успел собрать
император Индии, в сравнении с собранием, какое вме-
щается теперь в библиотеке беднейшего исследовате-
ля! Мы владеем подлинным текстом Вед, которого
Акбар не мог вытребовать ни подарками, ни угрозами
от брахманов. Перевод Вед, полученный им, был (по
23
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
преданию) только переводом текста, известного под на-
званием Атхарваведа; он заключал в себе правдо-
подобно только Упанишады, т. е. мистически-философ-
ские трактаты, без сомнения, весьма интересные, даже
чрезвычайно важные, но отдаленные от древней поэзии
Вед настолько же, насколько Талмуд от Ветхого Завета
или суфизм от Корана. Мы имеем тоже Зенд-Авесту,
священные книги огнепоклонников, мы располагаем их
переводами более точными, нежели те, какими импе-
ратор Акбар мог обогатить свои коллекции. Религия
Будды, которая несомненно важнее религии Брахмы,
Зороастра и Магомета, никогда не была упоминаема на
диспутах, происходивших раз в неделю в импера-
торском дворце в Дели. Министр Акбара Абуфазель,
по-видимому, не был в состоянии найти себе помощ-
ника в исследовании буддизма. Мы же теперь рас-
полагаем всеми буддийскими священными текстами,
писанными на различных языках: на языке пали, на
санскрите, на наречии бирманском, на сиамском, на ти-
бетском, монгольском, китайском, и только то может
быть нам поставлено в вину, что мы ни на одном из
европейских языков не имеем этого важного собрания
священных книг. С другой стороны, древние религии
Китая, религию Конфуция и Лао может изучать всякий,
кто занимается древними верованиями человечества:
он найдет прекрасные переводы, составленные по аутен-
тичным текстам. Но это еще не все: мы обязаны в осо-
бенности миссионерам точными и ценными отчетами о
религиозных верованиях и о культе племен, находя-
щихся на более низкой ступени цивилизации, чем по-
эты ведических гимнов или сектанты Конфуция.
Несмотря на то что религии диких племен Африки и
Меланезии новее с хронологической точки зрения, од-
нако в отношении развития они представляют собою
эпоху значительно отдаленную, более первобытную, и
МАКС МЮЛЛЕР
24
благодаря этому они настолько же поучительны для ис-
следователя религии, насколько для лингвиста знание
варварских наречий, лишенных литературы. Наконец,
мы знаем в настоящее время основания метода в
критике, которые обеспечивают нам огромные выгоды
при изучении истории религий. Никто уже не позволил
бы себе привести в настоящее время выдержки из свя-
щенной или светской книги, не задав себе сначала
простых, но важных вопросов: «Когда эта книга была
написана? В каком месте и кем? Был ли автор сам сви-
детелем, или же повторяет то, что слышал от других?
И в этом последнем случае, свободны ли его свидетель-
ства от всякого пристрастия, от всякого влияния,
которые ослабили бы их ценность? Написано ли сочи-
нение сразу, или оно заключает в себе части, состав-
ленные раньше? А в случае этой последней гипотезы,
возможно ли отделить от целости сочинения эти более
старые документы, приближающиеся более ко времени
описываемых фактов?»
Исследования оригинальных документов, относя-
щихся к главным религиям мира, производимые в духе
времени, привели ученых к отличению того, что дей-
ствительно первобытно, от того, что является поздней-
шим наслоением; привели к различению учения учите-
лей от добавлений их непосредственных учеников, как,
равным образом, к различению учения этих последних
еще и от последующих добавлений и поочередных
переделок, которыми вообще позволяют себе искажать
учение первого основателя.
Беспристрастное и добросовестное исследование,
способное указать точно эти различия, представляет нам
много прелести и чрезвычайно поучительно; но, подобно
тому как при лингвистических исследованиях необхо-
димо познание всех древних форм языков, прежде чем
приступить к методическому сравнению, равным обра-
25
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
зом необходимо составить себе точное и ясное понятие о
первобытнейшей форме каждой религии, прежде чем на-
ступит оценка ее внутренней ценности и сравнение с
другими религиозными верованиями.
Не один правоверный магометанин, например, бу-
дет разглагольствовать о чудесах, совершенных
пророком, между тем как Коран объявляет решительно
Магомета человеком, похожим на всех других людей.
Магомет не делает чудес, но призывает великие
творения Аллаха: восход и закат солнца, дождь,
оплодотворяющий землю, развивающиеся растения и
души, которые возникают для жизни, неизвестно из ка-
кого источника; он призывает их как истинные
признаки божества, как единственные чудеса, суще-
ствование которых должен допускать верующий.
Буддийские легенды богаты многочисленными чу-
десами, приписываемыми Будде и его ученикам, а меж-
ду тем священные тексты буддистов излагают нам сло-
ва основателя, который запрещает своим ученикам де-
лать чудеса, хотя бы их об этом умоляла толпа, как
красноречивое доказательство правдивости учения.
Будда приказывает своим ученикам совершить только
одно чудо: «Скрывайте ваши добрые дела, —• говорит
он, — но исповедуйте перед миром ошибки, вами
совершенные».
Новая религия индусов опирается на систему каст,
как на нерушимую скалу, а между тем в Ведах, состав-
ляющих для индусов авторитет первой степени в делах
веры, нет и малейшего помина о запутанной системе
каст, какую мы находим в книгах Ману; напротив, даже
в одном отрывке, где есть намек на обыкновенные клас-
сы, на которые распадается индийское общество, как и
всякое другое (жрецы, воины, граждане и рабы), сказа-
но, что все эти классы одинаково произошли из
Брахмы, источника всякого бытия.
МАКС МЮЛЛЕР
26
Критический разбор всех документов, необходимых
для исследования каждой религии, еще не окончен; ос-
тается еще очень много труда. Мы можем, однако, от-
метить на этом пути первый шаг, шаг весьма счастли-
вый; результаты же, которые появились уже на днев-
ной свет, служат хорошей порукой и некоторым задат-
ком успеха каждому, кто захочет посвятить себя
исследованию религий.
Желая изучать первоначальную религию Вед, сле-
дует старательно провести границу между гимнами
Ригведы, с одной стороны, и гимнами, собранными в
Самаведе, Яджурведе и Атхварведе, — с другой; впол-
не критическое исследование укажет нам на разницу
между гимнами Ригведы, относящимися к разным эпо-
хам, насколько позволят нам указания, доставленные
языком, грамматикой и метрикой. Чтобы дать себе яс-
ный и точный отчет относительно тех причин и побуж-
дений, которые увлекали и оживляли основателя куль-
та Ахура-Мазды, мы должны обратить прежде всего
наше внимание, впрочем не исключительно, на отделы
Зенд-Авесты, написанные на наречии Gatha, более
первобытном, чем диалект, на котором были дописаны
остальные части святой книги учеников Зороастра.
Чтобы правильно оценить учение Будды, следует
избегать смешения практических частей Трипитаки
(Tripitaka) с чисто метафизическими Абхидхармы
(Abhidharma). Правда, что эти тексты относятся к свя-
щенным буддийским предписаниям, но источники, из
которых происходят те и другие, берут начало в
различных эпохах истории мира.
История буддизма дает нам прекрасную возмож-
ность оценить способ, каким образуются и развиваются
предписания священных книг. Здесь, как и везде, мы за-
мечаем, что современники при жизни учителя не
требуют ни текста, могущего послужить памятником со-
27
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
бытия, ни священной книги, заключающей слова ос-
нователя. Присутствие этого последнего их удовлет-
воряло; мысль о будущности, будущности блистатель-
ной, приходила весьма редко в голову его ученикам.
Только когда Будда оставил мир и вступил в Нирвану,
секта его старалась припомнить себе слова и деяния
умершего друга и учителя. Тогда-то всякие черты, ко-
торые, казалось, увеличивали славу Будды, собирались
и объяснялись в самом благоприятном смысле, хотя та-
кое объяснение и казалось необыкновенным и неве-
роятным. Если очевидцы, пережившие Будду, осмели-
лись на критику, доверяясь собственным воспоминани-
ям, если затем стали отвергать безосновательные, по-
всюду возникающие легенды и делать возражения, хотя
бы малозначащие, против священного характера Будды,
они не имели никаких шансов, что будут выслушаны.
Однако, когда появлялись различные мнения, то не
прибегали непременно к серьезному и тщательному
расследованию свидетельств; но названия «неверный,
еретик» (nastika, paschanda), появившиеся в Индии, как
и в других странах, бросали друг другу как взаимные
обиды; доходило, наконец, до того, что разгневанные
доктора в своем раздражении обращались за помощью к
светской власти. Тогда цари и властители собирали си-
ноды для подавления раскола, для официального уста-
новления правоверной религии, для редактирования
полных и непоколебимых священных предписаний.
История сохранила нам имя царя Ашоки, современника
Селевка, который выслал циркуляр собравшимся для
выслушивания предписания о том, что им делать и чего
избегать; от своего имени он брал их на свое попечение и
покровительство против подозрительного еретического
характера некоторых книг, которые, по его мнению, не
должны были быть принимаемы во внимание при окон-
чательном составлении священных предписаний. При
МАКС МЮЛЛЕР
2В
исследовании религии случаи, подобные приведенному
факту, повторялись не раз; мы узнаем, что книги,
признанные божественными, хотя во многих случаях
представляют указания древнейшие и наиболее аутен-
тичные в области религии, но все-таки они не заслужи-
вают слепого доверия и должны подвергаться исследова-
нию более подробному и точному сравнительно с дру-
гими историческими книгами. При изучении приносит
огромную пользу лингвистика. Потому что, если бы
даже и удалось счастливое подражание древним,
первобытным мыслям, которое могло бы ускользнуть от
внимания историка нашего времени, то во всяком случае
нелегко подражать архаизмам языка и обмануть зоркий
глаз грамматолога. Произведение, скованное из
различных частей, как Яджурведа, которое ввело в заб-
луждение самого Вольтера и было признано им «драго-
ценнейшим подарком, каким Запад обязан Востоку», не
могло бы теперь импонировать ни одному лингвисту,
знакомому с исследованиями о санскритском языке.
«Драгоценнейший подарок, который Восток преподнес
Западу» есть самая бессмысленная из всех книг, какие
приходится читать занимающемуся изучением религий.
Единственно что можно привести в ее защиту, это то,
что автор ничуть не думал защищать дело, рыцарем
которого был Вольтер. Я могу здесь прибавить, что не-
давно вышла в свет книга, производящая некоторое впе-
чатление и обращающая внимание ученого мира: «Биб-
лия в Индии» Жаколио (Р. Jacolliot), книга, принад-
лежащая к той же самой категории.
Несмотря на то что выдержки из священных книг
брахманов приведены здесь не в оригинале, а только в
очень поэтическом французском переводе, всякий, лишь
бы только он знал основание санскритского языка, не за-
думается ни на минуту признать, что текст подделан и
что добрая вера П. Жаколио, президента суда в Шандер-
29
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
нагоре, была употреблена во зло учителем-туземцем,
который помогал ему в исполнении этой задачи. Правда,
что в Ведах можно встретить вещи ребяческие и смеш-
ные, по, прочитав следующий стих: «Женщина есть душа
человечества», процитированный из Вед, легко заметить
в нем изобретение XIX века, но не века детства челове-
чества. Выводы и теории П. Жаколио таковы, какими
они и должны быть, будучи основаны на подобном
материале.
Сравнительные исследования религий сделались в
настоящее время необходимостью при всех подлинных
документах, изданных за последнее время и относя-
щихся к человеческим религиям, при изобилии богатых
запасов, какие даются обширным знанием восточных
языков в распоряжение ученых, чтобы они могли
проникнуть до глубочайших источников, до отдален-
нейших начал религиозной идеи.
Создание науки о религии, основанной на сравнении
всех религий или, по крайней мере, важнейших, состав-
ляет задачу настоящей минуты. Название этой науки,
хотя, скорее, заключает в себе проект, нежели окончен-
ное здание, привилось уже в Германии, во Франции, в
Америке; вопросы громадной важности, здесь скры-
вающиеся, обратили на себя внимание многих исследо-
вателей, а полученные до сих пор результаты не дают
нам повода бояться за будущность, равным образом и ув-
лечение не ослепляет нас. Принять во владение это но-
вое наследство во имя истинной науки и стеречь освя-
щенные границы от вторжения в них поверхностных
вралей — обязанность тех, которые посвятили жизнь за-
нятиям главными религиями мира, изучаемыми по под-
линным документам, и которые умеют оценить религию
и уважать ее во всякой форме.
Те, которые пожелали бы пользоваться сравни-
тельным изучением религии как оружием для нападок
МАКС МЮЛЛЕР
30
на христианство, ставя выше остальные человеческие
религии, являются в моих глазах союзниками столь же
опасными, как и те, которые считают необходимым
унижать все религии, чтобы тем лучше выставить вели-
чие христианства. В науке желательны апостолы, но не
люди партий.
Мне кажется, что христианство выигрывает все бо-
лее и более в величии и достоинстве по мере того, как
мы лучше узнаем и справедливее оцениваем сокровища
истины, заключенные в религиях, обыкновенно наибо-
лее презираемых; но, по справедливости, никто не дол-
жен прийти к этому заключению, не отдав должного
другим религиям. Для всякой религии была бы гибель-
на привилегия изучения ее в ином духе, чем изучаются
другие верования, и наиболее она гибельна была бы для
христианства. Это последнее не пользовалось никаки-
ми привилегиями, нс домогалось никакой свободы, ко-
гда смело атаковало и побеждало могущественнейшие
религии. И ныне оно не нуждается в сострадании, заво-
евывает силой убеждение тех, с которыми встречаются
с глазу на глаз наши миссионеры во всех частях света,
и, если наша религия не перестанет быть собой, ее за-
щитники не отступят перед новым опытом, каким для
христианства являете? сравнительное изучение рели-
гии. Далекие от осуждения, они будут придавать
бодрость этим исследованиям, зная, что эти последние
будут говорить в пользу нашей религии. Да будет мне
позволено, приступая к этим исследованиям, уверить
вас, что, исключая, быть может, первобытный буддизм,
ни одна религия не благоприятствовала бы мысли о
бесстрастном сравнении главных религий мира, ни
одна не была бы терпима к нашему изучению.
Почти все религии присваивают себе фарисейский
язык лицемерия, одно только христианство, будучи
религией человечества, позволило нам открыть следы
Hl
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
мудрости и доброты Божьей в судьбах всех человече-
ских рас и распознать в самых низших религиозных
верованиях не дело факторов и влияний демонических,
но что-то такое, что указывает нам на божеское
управление, что заставляет нас сказать вместе со свя-
тым Петром: «Бог не благоволит к отдельным лицам, и
из всего народа тот, кто его боится и исполняет свою
обязанность, будет им выслушан по справедливости».
Нет лучше возделанной религии для принятия посе-
ва сравнительной теологии, как наша.
Уже это одно положение, занимаемое с самого начала
христианством относительно иудаизма, составляет, в
некотором роде, предмет первой лекции нашего срав-
нительного изучения; оно обратило внимание умов, весь-
ма мало настроенных к исследованиям этого рода, на
сравнение этих двух религий, разнящихся в понимании
божества, во взглядах на человечество, в способе выве-
дения нравственности из различных начал, наконец, в
веровании в бессмертие, но имеющих, однако, столько
общности и точек соприкосновения, что в Ветхом Завете-
весьма мало находится таких псалмов и молитв, которым
бы в сердце христианина не нашлось бы сочувствия, и
весьма мало основ нравственности, которые еще и теперь
не имели бы громаднейшего значения.
Научившись уважать обособленную религию
евреев как приготовление к религии космополитиче-
ской, повсеместной, человеческой par excellence, мы
встретим куда меньше трудностей при отыскивании
тайной цели и порядка в лабиринте других религий. Ка-
жется, будто они идут вразброд; весьма возможно; но
это вольное и скитальческое движение является, одна-
ко, шествием к обетованной земле.
Исследования еврейской и христианской религий,
произведенные ученейшими теологами вместе с иссле-
дованиями по греческой и римской теологии, послужили
МАКС МЮЛЛЕР
32
нам приготовлением и оказали громадные услуги на-
уке, которую мы намерены создать. Даже ошибки, сде-
ланные некоторыми учеными, не останутся без пользы
для тех, которые появились позже; ошибки эти служат
ручательством, что в другой раз они не будут повто-
рены.
Такое, например, убеждение, что языческие
религии произошли через искажение Ветхого Завета,
убеждение, поддерживаемое еще недавно людьми уче-
ными, теперь оставлено совершенно, подобно тому как
пользовавшаяся некогда кредитом теория, по которой
языки греческий и латинский произошли от испор-
ченного древнееврейского языка. С другой стороны, си-
стема, допускающая первобытное сверхъестественное
откровение, которое будто бы осенило предков челове-
ческого рода, система, видевшая столько семян, не по-
павших на ниву, для которой они были назначены, в час-
тичках правды, бросающихся нам в глаза, когда они ос-
танавливаются на языческих святынях и видят множе-
ство остатков рассеянных древних сокровищ, система
эта не имеет уже сторонников; она потеряла всех защит-
ников, подобно системе, утверждавшей, что вначале су-
ществовал прекрасный, совершенный язык, который
впоследствии разложился на бесчисленные языки мира.
В означенной сфере чрез сравнение иудаизма и
христианства с религиями Греции и Рима установлено
еще несколько оснований; основания эти будут нам по-
могать и руководить нашими исследованиями. Доказа-
но, например, что язык древности не был оживлен тем
духом, каким оживляется язык Нового времени, что
языки Востока, что касается их внутреннего характера,
решительно отличаются от языков Запада, и что, счита-
ясь с этими глубокими различиями, мы делаем грубые
ошибки при переводе этих первобытных поэтов, пер-
вых учителей человечества.
зз
ОТ СЛОВАК ВЕРЕ
Те же самые слова имеют одно значение в англосак-
сонском и другое в английском, одно в латинском и
другое во французском языках; еще тем более не следу-
ет надеяться, чтобы современный словарь мог соответ-
ствовать в точности древнему семитскому словарю, ка-
ким является словарь Ветхого Завета.
У древних слова и мысли — две нераздельные
вещи, не достигли еще такой степени абстрактности,
чтобы выражать все силы творения, естественные или
сверхъестественные, иначе, как в форме олице-
творения, более или менее человеческого. Там, где мы
говорим об искушении внутреннем или внешнем, для
древних было вещью вполне естественной говорить об
искусителе, представляющемся их уму в образе чело-
века или животного; там, где мы говорим о вездесу-
щей благости Бога, они говорили: «Бог наша скала,
наша крепость, наш щит, наша башня»; где мы
метафорически употребляем выражения «божеское
посланничество, посланичество неба», они говорили о
крылатом посланнике; что мы называем «божьим
провидением», то было для них двигающимся облаком,
указующим им путь, по которому они должны идти,
лучом освещающего их света, бегством перед бурей,
спасением от солнечного зноя. Без сомнения, под эти-
ми словами они разумели те же самые понятия, что и
мы; это наша, а не их вина, если мы сознательно обма-
нываем себя относительно языка их пророков, если
упорствуем в понимании употребляемых ими выра-
жений в значении внешнем, если можно так
выразиться, материальном; если мы забываем, что
раньше, чем язык выработал разницу между вещами
чувственными и отвлеченными, между тем, что чисто
духовно, и тем, что вполне чувственно, телесно, пишу-
щий обнимал одним выражением понятия мате-
риальные и отвлеченные, способом, кажущимся нам
2 Языки как образ мира
МАКС МЮМЕР
34
чуждым, который нас сбивает с толку, хотя бы мы уг-
лубились в тайны произведений каждого поэта.
Пробегая взором поле деятельности древних
народов, но не давая себе отчета о переворотах, каким
подверглась духовность человека, мы будем постоянно
подвергаться опасности совершать ошибки и состав-
лять ложные понятия.
Я иду даже дальше: я полагаю, было бы нетрудно до-
казать, что половина трудностей, встречаемых при ис-
следовании истории религиозных мыслей, имеет своим
источником это ошибочное понимание, вытекающее из
толкования древних языков при помощи новых, из
переодевания древней мысли в одежду мысли совре-
менной.
Освободившись от недостатка, о котором идет речь,
мы устранили бы множество ошибочных убеждений о
некотором неприличии и безосновательности, господ-
ствующих в мифологии индийской, греческой и италь-
янской, как это многим угодно утверждать еще и теперь
и как утверждали правоверные умы древних.
Исследования в области сравнительной мифологии
доказали основательно, что много детских басен должны
считаться тем, что они суть, т. е. первобытно-ребяче-
предшествует эпохе происхождения древнейших пись-
менных памятников. Явление это произошло в языках
арийских перед эпохой Вед, до Гомера, несмотря на то что
его влияние распространяется на период, гораздо более
близкий кнам.
Очень вероятно, что семитские языки, и особенно
еврейский, уцелели каким-то чудом от этого влияния,
заключающегося в природе и развитии языка, от этого бо-
лезненного кризиса, которого не могла бы предупредить
никакая предусмотрительность, но который можно было
бы назвать болезнью детского возраста.
3S
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
Что мы потеряем, если попробуем заглянуть в
псрвобыткейшие и оригинальнейшие мысли священ-
ных книг, вместо того чтобы удовольствоваться фор-
мой, в какую они облеклись впоследствии; или доволь-
ствоваться современными переводами, которые изме-
нили их значение? Разве мы потеряем что-нибудь, если
в суровом мифе о Вулкане, рассекающем топором голо-
ву Юпитера, или Минерве, появляющейся в доспехах,
мы распознаем следующие понятия: Юпитер пред-
ставляет блистающее небо; чело его — восход солнца;
Вулкан есть солнце до восхода, а Минерва — утренняя
заря, дочь неба, появляющаяся внезапно, как источник
света.
rX.avyto7u<; совоокая (глаза у совы красивы).
Пак&£уо$ целомудренная, как девица.
Xриоса золотистая.
А%р(а освещающая верхушки гор и свой Парфенон
в Афинах, ее любимом городе.
АХ£а рождающая плодотворную теплоту утра.
IlaAAdc мечущая стрелы света.
Ирбцауо^ играющая первую роль в первом строю
борьбы дня с ночью.
HdvQjiXos вооруженная с ног до головы как бы в
панцирь света, рассеивающая далеко мрак ночи и будя-
щая людей к славной жизни, к славным подвигам.
Хотя греки и не верили, буАто Аполлон и Артемида
убили двенадцать детей Ниобы, тем не менее они чув-
ствовали уважение к своим божествам, потому что зна-
ли, что Ниоба в древнюю эпоху языка означала «зим-
ний снег», древний же поэт в своей легенде хотел
выразить следующее: божества весны должны ежегод^
но поражать своими стрелами детей снега, красивых и
сияющих, но обреченных на смерть. Даже по истечении
5000 лет разве не имеет цены открытие, которое учит
нас, что еще раньше разделения различных ветвей
МАКС МЮЛЛЕР
36
)
арийского семейства, раньше существования сан-
скрита, греческого и латинского языков, раньше богов
Веды, раньше чем Юпитер имел свой храм в священной
роще Додоны, наши предки провозглашали уже суще-
ствование высочайшего божества, которое они
призывали в своих молитвах и которому они дали имя
самое уважаемое, священнейшее, какое только мог по-
дыскать человек для означения божества?
Если только критические исследования древней-
шего еврейского языка дают столь же удовлетво-
рительные результаты, как и те, к которым привело тща-
тельное изучение окаменелых языков древней Индии и
Греции, то нечего опасаться: все в наших исследованиях
принесет пользу, мы ничего не потеряем в этом пред-
приятии. Древняя религия похожа на древнюю
драгоценную медаль; постараемся освободить ее от того
слоя ржавчины, который оставили на ее поверхности
века, и мы откроем изображение небесного Отца, Отца
всех народов земли; надпись же, если только можно ее
прочесть, будет не только в Иудее, но и во всех челове-
ческих языках, словом Божьим, откровением в един-
ственном храме, где оно и должно быть открытым: в
душе человека.
ЛЕКЦИЯ II.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ.
Изучение религий налагает на каждого, кто занимается
им, тяжелое бремя труда. Без сомнения, в сравнении с
числом языков, которые должен изучить филолог, ко-
личество религий представится малым; это так, но при
лингвистических исследованиях имеется в распоря-
37
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
жении готовый и вполне обработанный материал, име-
ются под рукой грамматики и словари.
Но где же грамматики и словари главных религий
мира? Катехизисы и символы веры не всегда доставля-
ют нам строевой материал религий, их скелет; а души и
действительного содержания религиозных верований
мы не находим в них и подавно. Эта скромная помощь
ставит нам, к несчастью, чаще всего препятствия.
У восточных народов существует обычай различать
два семейства религий: одно, опирающееся на авторитет
Библии, и другое, не имеющее притязаний на это право.
Первые считают себя более почетными и, хотя могут
заключать в себе ложные учения, однако составляют как
будто аристократию среди серой толпы других религий,
лишенных авторитета писанного текста.
Для каждого, принимающегося за изучение ре-
лигии, книги, признанные божественными, без сомне-
ния имеют громадное значение, лишь бы не забывать,
что книги этого рода дают нам только слабый образ тех
учений, какие имел в виду провозгласить основатель:
образ этот почти всегда искажается посредниками. Но
разве много религий может похвалиться такими свя-
щенными книгами? И как скромно число этих изб-
ранных религий, имеющих писанный божеский закон'.
Приглядимся же к обеим человеческим семействам,
сыгравшим главную роль в драме, называемой исто-
рией мира: семействам арийскому и семитскому, и тог-
да окажется, что в каждом из этих семейств только по
два члена могут ссылаться на авторитет писанных дог-
матов. У арийцев •— индусы и персы, у семитов — ев-
реи и арабы. Индусы создали брахманизм и буддизм,
евреи — иудаизм и христианство.
Достойно внимания то, что у каждого из этих
корней третья религия, которая оттуда произошла, не
могла добиться независимости и есть, как будто бы,
МАКС МЮЛЛЕР
38
слабый отпрыск первой. Итак, религия Зороастра име-
ет свой корень в той же почве, из которой произошла
религия Вед; магометанство имеет свой источник, по
крайней мере, со стороны основных элементов, из
которых оно состоит, в монотеизме, первоначально на-
зывавшемся религией Авраама. Бросьте взгляд на
предлагаемую здесь таблицу — и вы ясно представите
себе историю арийских и семитских религий, именно
тех, которые имеют книги, признанные божествен-
ными.
Арийское семейство Семитское семейство
Веда
Браминиэм
Ветхий Завет
Мосаизм
Зенд-Авеста
Религия Зороастра
Новый Завет
Христианство
Тринитака
Туранцы---
Арийцы --
Коран
Магометанство
В то время как буддизм является одновременно по-
томком и противником брахманизма, религия
Зороастра является скорее уклонением от древней
веры Вед, несмотря на то, что она тоже представляет
протест против некоторых учений, исповедуемых
первыми почитателями индийских божеств.
39
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
Такое же родство в некоторых чертах соединило
между собой три главных религии семитского семей-
ства; но только магометанство появилось хроно-
логически позднее христианства, религия же Зороастра
предшествует буддизму.
Буддизм, который возник из древнего индийского
брахманизма, в короткое время сильно разросся на
родной почве, но достиг истинного значения только то-
гда, когда был пересажен из Индии к народам туран-
ским, в самый центр азиатского материка. Таким
образом, буддизм, первоначально религия арийцев, до-
стиг значения главной религии в туранском мире.
Подобные превратности, подобные перенесения из
одного места в другое произошли и в семитской ветви.
Христианство, рожденное иудаизмом, было отвергнуто
евреями подобно тому, как буддизм — брахманами.
Иначе говоря, христианство не достигло своей перво-
начальной цели, основывающейся на преобразовании
древней еврейской религии, но едва только оно было
перенесено от семитов к арийцам, от евреев к язычни-
кам, оно раскрыло свою истинную природу и приобрело
себе всемирное значение. Христианство, религия
первоначально семитская, сделалась религией мира
арийского.
Исключая семейства арийское и семитское, только
один еще народ может гордиться писанными книгами;
этот народ— китайцы, почти одновременно создавшие
две религии, из которых каждая опиралась на святую
книгу: религию Конфуция, заключающуюся в пяти
King и четырех Shu, и религию Лао, имеющую святую
книгу Tao-te-klng.
Эти восемь религий составляют в человеческом
роде целый отряд, который может гордиться святыми
книгами, и, казалось бы, не представляется ничего осо-
бенно ужасающего для одного труженика в подробном
МАКС МОАЛЕР
40
изучении этих восьми религиозных сборников на язы-
ках: санскритском, пали и зендском, еврейском, гре-
ческом и арабском и, наконец, на китайском.
Но начнем с нас самих, бросим взгляд вокруг себя.
Какая огромная литература, посвященная единственно
толкованию Ветхого Завета, представляется нашему
уму! Сколько книг, занимающихся предметами споров,
относящихся к самому учению или к истории жизни
апостолов!
Из этого вы можете составить себе понятие, чем
была бы теологическая библиотека, могущая обнять
весь материал, необходимый для точного, научного
объяснения восьми священных книг. Даже такая новая
религия, как религия Магомета, имеющая весьма не-
много литературных памятников, располагает столь
обширными историческими источниками, из которых
приходится черпать весьма много, что найдется мало
ученых, которые могли бы их одолеть1.
Возвратившись к арийским религиям, мы увидим,
что священные книги брахманов еще не представляют
непреоборимых трудностей при их изучении. Всех гим-
нов Ригведы, составляющих библию древневедийской
веры, существует 1028, состоят же они из 10 580 сти-
хов. Однако комментарии к этим гимнам, которым я по-
святил 4 тома in quarto, составляют 100 000 стихов, а
каждый стих состоит из 32 букв, что вместе составляет
сумму в 3 200 000 букв. Кроме того, существуют еще
три Веды второстепенного значения: Яджурведа, Сама-
веда и Атхарваведа, которые хоть и имеют меньшее зна-
1 «Источники, к которым я обращался, столь многочисленны и
состояние знаний у древних мусульман настолько отлича-
лось от теперешнего, что материалы, касающиеся библио-
графических источников и собранные мной, составят боль-
шой том» (Шпренгер. Жизнь Магомета).
41
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
чение в отношении взгляда на догматы религии, тем не
менее их необходимо изучить каждому, кто хочет точно
оценить систему церемоний и жертв, приносимых почи-
тателями древних ведийских божеств. Каждый из этих
четырех ведийских текстов влечет за собою целый ряд
так называемых Brahmana, т. е. схоластических тракта-
тов, правда, более поздней редакции, но написанных на
древнем санскритском языке и признаваемых каждым
верующим индусом составными частями священных
книг. Целое, составляющее эти Brahmana, больше са-
мого собрания древних ведийских гимнов.
Такие сборники комментариев, рассуждений и не-
исчислимых подстрочников образуют длинную цепь
теологической литературы, цепь, простирающуюся бо-
лее чем на 3000 лет и удлиняющуюся еще и теперь
благодаря беспрестанным новым прибавлениям. К это-
му прибавьте еще паразитов, неотлучных во всякой
теологической литературе, противоречивые статьи,
вызванные различием школ, из которых каждая счита-
ет себя правой, отличаясь в то же время одна от другой,
как день от ночи; наконец, мнения тех литераторов, вы-
ступающих уже открыто, борющихся с мнением боль-
шинства, провозглашающих себя врагами духовенства
и брахманской религии, которых упреки и колкости,
смелость аргументации и запальчивость оскорблений
заходят дальше, нежели это принято в теологической
литературе других народов. Невозможно было бы
игиорировать сборники прав, носящие отпечаток свя-
щенного характера, древние эпические поэмы «Маха-
бхарата* и «Рамаяна» и новую священную литературу,
заключающуюся в Пуранах и Тантрах. Все это следует
нам изучить, если желаем выработать себе более
совершенное понятие о вере тех миллионов людей,
которые признают Веды высочайшим авторитетом в де-
лах веры, а между тем не могут понять в этих книгах ни
МАКС МЮМЕР 42
одного стиха и довольствуются, как бы насущным хле-
бом умственной жизни, учениями, доставляемыми бо-
лее новыми и более популярными сочинениями. Но и
тогда наш глаз не проникнет еще во все тайники гения
индусов. Индия представляла во все эпохи огромное ко-
личество религиозных сект. Если окинем взглядом
древнейшую историю этой страны, полную чудес, мы
встретим здесь религиозную жизнь, сконцентри-
рованную в тысяче местностей; изворотливый, стойкий
дух жреческой касты едва был в состоянии удержать в
этой области внешнее догматическое единство. Можно
даже считать некоторые секты самостоятельными
религиями, например бывшую некоторое время зна-
менитой секту сикхов (Sikha), имевших в Индии свою
собственную святую киигу, отдельное духовенство и
являвшихся соперниками брахманизма и магометан-
ства.
Это важное историческое положение и репутацию
секты Нанаки следует приписать стечению политиче-
ских обстоятельств. Для исследователя она пред-
ставляется одной из бесчисленных сект, появившихся
в XV и XVI веке, задачей которых было реформировать
испорченные культы брахманский и магометанский, за-
меняя их культом более чистым и менее материальным.
Грантх (Grunth), т. е. библия, святая книга сикхов, воз-
буждает сильный интерес, она полна глубоких мыслей
и истинной поэзии; перевод ее на европейские языки
был бы весьма желателен. Для ума исследователя
религий здесь находится очень богатая флора, поисти-
не очень редкая и далеко богаче ботанической флоры
этой местности.
Пересмотрим другую религиозную, святую книгу Ин-
дии, я говорю о буддизме, который первоначально был
сектой, как и другие религии, но благодаря своей чудес-
ной жизненности покрыл своими ветвями значительную
43
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
часть обитаемого мира. Кто мог бы утверждать, не
говорю уже из европейских ученых, но и из ученых чле-
нов буддийского общества, что прочел все буддийские
книги, признанные святыми, не касаясь комментариев и
критических трактатов, к ним относящихся? Текст и
комментарии буддийского канона, по вычислениям
Saddharma-alankafa, содержат 29 368 000 букв. Цифры
эти не дают нашему уму ясного понятия, но если поду-
маем, что английская Библия, увеличенная в 500 или
600 раз, едва могла бы поспорить в количестве букв с
буддийскими сочинениями, то тогда только мы составим
себе более точное понятие об этой колоссальной лите-
ратуре.
Литература, вызванная третьей священной книгой
арийцев, Зенд-Авестой, кажется на вид менее важной,
но ее меньший объем увеличивает трудность изложе-
ния этого сочинения удовлетворительно, а недостаток
оригинальных и первоначальных источников делает
то, что почти вся тяжесть такого толкования предо-
ставляется терпеливости и остроумию европейских
ученых.
Наконец, обращаясь к Китаю, мы иаходим, что
религия Конфуция опирается на 5 King и 4 Shtit книг
значительного объема, имеющих многочисленные и
обширные комментарии, без помощи которых было бы
невозможно, даже для известнейших ученых, проник-
нуть в тайны святых китайских предписаний.
Лао, современник Конфуция, но старше его,
признается автором многих сочинений, кажется, 930,
трактующих о вопросах веры, нравственности и
обрядов, а 70 о вопросах, относящихся к магии. Однако
же главное произведение Лао — «Дао-дэ-цзин», состав-
ляющее библию для его учеников, называемых даоса-
ми, составляет около 5000 слов и занимает только око-
ло 500 страниц. И здесь также текст до такой степени
МАКС МЮЛЛЕР
44
труден для понимания без помощи многочисленных
комментариев, что П. Жюльен должен был в своем
переводе прибегнуть к 60 каким-то комментаторам, из
которых первый относится к периоду 160 года до Р. X.
Третья религия, которая упрочилась в Китае, назы-
вается фо; это название, должно быть, испорченное ки-
тайское имя Будды. Хотя буддизм, перенесенный из
Индии в Китай, принял особенный характер и создал
громадную собственную литературу, но вместе с тем о
китайском буддизме нельзя сказать, что он пред-
ставляет религию оригинальную, подобно тому, как
нельзя того же сказать и о буддизме на Цейлоне, в Сиа-
ме или Тибете.
Недопустим наконец, что мы собрали эту библиоте-
ку священных книг человечества с комментариями, не-
обходимыми для их толкования; разве через это мы овла-
дели материалами, необходимыми для исследований о
развитии и упадке религиозных убеждений различных
человеческих рас? Вовсе нет! Большая часть человече-
ства, или, лучше сказать, важнейшие народы, отличав-
шиеся в религиозной борьбе и интеллектуальных
переворотах мира, не имели бы представителей в нашей
библиотеке. Ибо где же греки и римляне, где народы тев-
тонские, кельтские и славянские? Как же составить себе
понятие об ид истинных религиозных убеждениях перед
тем периодом, когда их древние святилища были
разрушены, чтобы очистить место для новых храмов, ко-
гда на их священных дубах были развешаны изобра-
жения новых божеств, воздвигнуты кресты на вершинах
гор и по уединенным тропинкам рощ? Ни Гомер, ни Геси-
од не говорят нам, чем была их религия, действительная
вера греческих сердец; их поэмы никогда не считались
священными в Греции, интеллигенция греческого обще-
ства не признавала вовсе за этими поэмами религи-
озного значения.
45
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
...В Риме мы даже не найдем ни «Илиады», ни
«Одиссеи», что же касается религиозного культа тев-
тонских, кельтских и славянских племен, то имена мно-
гих их божеств утонули навсегда в волнах забвения, и
мы поставлены в необходимость схватывать и собирать
различные указания, относящиеся к их религиозным
верованиям, указания, доставляемые нам, быть может,
какими-нибудь крошками мозаики из древнего рим-
ского храма, почивающего ныне в развалинах. Такое же
убожество памятников, такой же недостаток писанно-
го, имеющего авторитет слова, встречаемый у арийцев,
мы находим и у народов семитских, лишь только выхо-
дим из круга писанных религий. Вавилоняне, финикия-
не, карфагеняне, арабы за время, предшествовавшее
принятию магометанства, не имеют никаких памятни-
ков писанных, священных книг, и, чтобы составить
себе дурное или хорошее понятие об их религии, нужно
обратиться к надписям и традиции, нужно воспользо-
ваться собственными именами из источников весьма
сомнительных и слабых, на изучение которых было
потрачено много терпеливого труда. Но сделаем шаг
вперед. Два русла, которые проложил себе в про-
должение веков поток арийской и семитской мысли,
направляющийся с юго-востока к северо-западу, от
Инда к Темзе, от Евфрата к Иордану и Средиземному
морю, заняли площадь сравнительно небольшую с ве-
личиной нашего земного шара. Пойдем еще дальше, и
перед нами расширится горизонт — здесь и там, где
только существуют следы человеческой жизни, мы вез-
де нападаем на след существования религий. Над
берегами древнего Нила стоят гигантские пирамиды,
развалины храмов и лабиринтов, массы камней, покры-
тых иероглифическими надписями и оригинальными
изображениями богов и богинь. Свитки папируса, изде-
вающиеся над разрушительным могуществом времени,
МАКС МЮМЕР
46
представляют нам отрывки того, что мы могли бы на-
звать святыми книгами египтян. И хотя удалось
разгадать много загадок, и хотя, как будто, мы и имеем
ключ к религии этой таинственной расы, тем не менее
истинный источник египетской религии, перво-
начальный смысл ее обрядов и ее культа нам еще не из-
вестен. Идя по берегу святой реки вплоть до ее источ-
ников, мы увидим перед нашими глазами распрос-
тертый африканский материк; и здесь, везде, где только
встретим пастушеские шатры, некогда видели дым
жертв, поднимающийся от земли к небесам. Остатки
древних африканских верований исчезают с удивитель-
ной скоростью с приближением сюда христианских и
магометанских миссий; во всяком случае то, что уда-
лось собрать благодаря стараниям ученых миссио-
неров, имеет большое значение для исследователя.
Достойны удивления и внимания поклонение зме-
ям и умершим предкам, сомнительное и шаткое пред-
чувствие будущей жизни, замкнутая и едва очер-
ченная вера в наивысшего Бога, отца белой и черной
расы.
С восточной стороны Африки глазам нашим
представляется море, среди которого, от Мадагаскара
до Гавайев, виднеются бесчисленные острова, подоб-
ные сваям разрушенного недавно моста, который свя-
зывал между собой океаны Индийский и Тихий. И вез-
де, будет ли то у бронзовых папуасов, у желтых малай-
цев или у смуглых полинезийских племен, мы услышим
даже па низших ступенях человеческой лестницы,
лишь только приложим ухо, какое-то неопределенное
жужжание о божеских вещах; мы везде схватим на
горячих следах странные понятия и представления о
будущей жизни; мы везде встретим жрецов и жертвы,
которые даже под формами очень низкими и унизитель-
ными для людей свидетельствуют о прежней глубокой
47
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
вере в единого Бога, выслушивающего наши молитвы,
лишь бы они были искренни, и принимающего жертвы,
лишь бы они приносились как искупление наших
грехов и как благодарственное почитание.
Проникая дальше на восток, мы откроем аме-
риканский материк и, наперекор столь нехристианскому
вандализму первых завоевателей, найдем там также
материал для изучения древней и, как кажется,
оригинальной веры. К несчастью, религиозные и мифи-
ческие предания, собранные первыми европейцами, за-
вязавшими сношения с туземцами Америки, относятся
близко к тому времени, когда оии были облечены в пись-
менную форму, и во многих случаях в них как будто
пробивается испанский способ изложения мыслей, по
крайней мере, настолько, насколько пробивается одно-
временно мысль рассказчиков американских. Остро-
умные иероглифические надписи Мексики и Гватемалы
объяснили нам очень немного тайн, и отчетами, написан-
ными туземцами на их собственном языке, нужно
пользоваться с большой осторожностью. Кроме того, мы
встречаем здесь очень древнюю религию ацтеков в Мек-
сике и инков в Перу. По мере того как мы приближаемся
к северу и его краснокожим жителям, мы находим все
белее к белее слелн^е ебьлслслля, н ечень юэмаюю,
что в скором времени ничто от этих диких не прольет
света на их веру.
Есть некоторые попытки, отзывающиеся про-
винциализмом диких и относящиеся к религии
краснокожих индейцев, племени, которое все отступа-
ет назад и исчезает мало-помалу. Следует, не медля
долго, обратить внимание и приняться за изучение важ-
нейших памятников, и, быть может, удастся еще
открыть, пока есть время, следы доисторических
странствований "Народов Азии по направлению к
Америке, странствований, быть может, совершавшихся
МАКСмЬлЛЕР
48
северным путем, через удобный Алеутский перешеек, а
быть может, они пускались в путь с попутным ветром
от острова к острову, пока смелая барка не прича-
ливала к американским берегам или пока те же самые
ветры, которым она доверялась, не разбивали надежд
где-нибудь далеко от ее азиатского отечества.
Совершив такое странствование по части рели-
гиозных изысканий по всему миру, мы возвращаемся
опять на азиатский материк. Хотя здесь почти вся
поверхность занята уже той или другой из восьми
религий, как, например, иудаизмом, христианством, ма-
гометанством, брахманизмом, буддизмом или религией
Зороастра, а в Китае религией Конфуция и Лао, — здесь,
говорю я, мы найдем еще формы первобытного культа.
Я говорю о религии ламы у монгольской расы и о
встречающейся у финских и эстонских племен достой-
ной удивления мифологии, наполовину гомерической,
имея в виду характер и колорит ее.
И вот, я развернул перед вашими глазами эту всеоб-
щую историческую картину, и, надеюсь, вы будете
разделять это смущение исследователя религий,
который, оглянувшись вокруг себя, спрашивает, с чего
начать и как поступить.
Нйк.тр лгг? гхб/лгзА'М?
материал, вполне достаточный при умении пользовать-
ся предметом. Но как же тут соединить, сгруппировать
эти материалы? Каким путем открыть элементы, совме-
щающиеся во всех религиях? Чем различаются эти
религии друг от друга? Каково было их развитие и како-
ва история их упадка? Что они такое в действительно-
сти и чем хотят казаться?
Позвольте мне воспользоваться старым положени-
ем divide et empera и перевести его свободно: «клас-
сифицируйте и завладевайте»; надеюсь, что вам тогда
удастся схватить ту нить Ариадны, которая вела уже
49
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
стольких ученых через лабиринты других наук, еще ме-
нее точных, чем иаука о религии. Всякое истинное зна-
ние основывается на классификации, и мне только тог-
да пришлось бы сознаться, что исследования о рели-
гиях не заслуживают названия науки, если бы мы не
были в состоянии классифицировать эти различные ди-
алекты человеческого верования. Раз только будет
окончательно завоевана и старательно размежевана
эта нива, каждый будет в состоянии возделывать на ней
свою собственную пашню, не подвергаясь опасности
растратить бесплодно свой труд и не теряя из вида
главной цели, которой должны быть подчинены все
подробные разыскания.
Каким же образом размежевать обширное госу-
дарство религии иа известное количество таких паш-
ней? Какую классификацию следует здесь установить,
или же поставить себе прежде всего вопрос —• как
классифицировали до сих пор религии? Простейшее
разделение есть то, какое мы находим у всех почти
народов и которое разделяет религии на истинные и
ложные. Совершенно таким же образом была установ-
лена первая классификация языков, основанная на
признании двух семейств: к одному принадлежит язык,
ев котором мы говорам; ко второму же семейству отмо-
сятся все остальные языки мира.
Греки ставили в первом ряду собственный язык, во
втором язык варваров; евреи различали еврейский язык
от языческого. У индусов существовало два языка: язык
арийцев и язык млекгазов; китайцы знали идиоматичес-
кий язык, употребляемый в центре государства, и
другой, бывший в ходу вне его. Мне не приходится дока-
зывать, что подобная классификация не имеет значения
в науке.
Существует еще; другая классификация, имеющая с
виду более основательности, ио в сущности лишенная
МАКС МЮЛЛЕР
50
всякого значения для исследователя религий. Это —
хорошо нам известное деление, встречающееся в
религиях откровенных и естественных. Мне следует
сказать здесь несколько слов о значении названия
«религия естественная». Весьма многие пользуются
этим названием в различном смысле. Так, некоторые
писатели применили его к известным историческим
религиозным формам, не опирающимся иа авторитет
откровения. Поэтому буддизм был бы естественной
религией в глазах исповедующих брахманизм, брах-
манизм же, в свою очередь, естественной религией в
глазах магометан. Мы же можем причислить все
религии, исключая христианство и низший одной сту-
пенью иудаизм, к разряду естественных религий; и
хотя слово «естественный» неоднозначно со словом
«ложный», однако оно заключает в себе понятие об от-
сутствии всякой иной санкции, кроме внутреннего
признания правды и внутреннего голоса совести. Но
ведь в устах и под пером философов последнего века
это слово, это выражение рождает весьма различные
значения. Потому что, когда стали подвергать главные
исторические религии критическому анализу, тогда,
после отделения черт, свойственных каждой из них, ос-
тавалось еще известное количество оснований, свой-
ственных всем им. Когда из Нового Завета выделили
все то, что казалось сверхъестественным, чудесным,
недоступным для ума, осталось нечто вроде скелета
религии, который окрестили словами «естественная
религия».
В последнем веке философы, составляющие оппо-
зицию скептическому прогрессу, полагали, что такая
естественная религия, или же, как ее называли, ра-
циональная, могла бы служить преградой наводнению
неверия; однако вскоре убедились, что философская
система, хотя и истинная, не заключает в себе условий
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
51
для занятия положения религиозного верования.
Дидро, говоря, что все откровенные религии суть
ереси естественной религии, понимал под такой есте-
ственной религией совокупность врожденных челове-
ку истин, для открытия которых достаточно обыкно-
венного разума и которые существуют независимо от
всевозможных исторических и местных влияний,
которым всякая религия обязана своим особенным
характером и своей индивидуальностью. Существова-
ние единого божества, характер таких его качеств, как
всемогущество, всеведение, вездесущие, вечность, ду-
ховность, доброта (понятие, служащее генезисом
предположения о дурном и хорошем элементе, о
добродетели и пороке), все это выясняло характер ес-
тественной религии, для определения которого не-
которые мыслители прибавили . еще единство и
олицетворение Бога в человеческом образе. Когда к
исследованию о такой религии применили опытный
метод, возникла так называемая «естественная теоло-
гия*, название, пользовавшееся известностью в начале
нашего века благодаря труду Полега, который при-
обрел громадную популярность и в котором после все
разочаровались. Название «естественная религия* в
науке о религии соответствует в лингвистике назва-
нию «всеобщая грамматика», под которым разумеется
собрание основных правил, признанных очевидными,
без которых грамматика невозможна и которые, одна-
ко, что весьма замечательно, во всей своей чистоте и
совершенстве не существуют ни в одном из живых и
мертвых языков.
Совершенно то же происходит и с религией. Нико-
гда не было религии, основанной исключительно на
этих столь чистых и простых основаниях естественной
религии, хотя и находились философы, убеждавшие са-
мих себя, что их религия была безусловно и вполне
МАКС МЮМЕР
S2
рациональной, что она была действительно чистым и
простым деизмом.
Так и мы, классифицируя исторические религии на
религии откровенные и естественные (естественные
отрицают откровение), если бы попытались применить
здесь эту теоретическую классификацию, пришли бы к
подобному же результату. Мы имели бы, с одной
стороны, христианство или одно, или, по мнению
некоторых теологов, христианство и иудаизм, а с
другой — остальную толпу религий мира.
Эта классификация, быть может, имеет свою
хорошую практическую сторону, но с научной точки
зрения мы считаем ее бесполезной. Более обширное ис-
следование укажет иам сейчас же, что все основатели
религий имеют претензию на то, чтоб их признали ос-
нователями откровенной религии, а если они сами и
свободны от подобных претензий, то наверное следую-
щий за ними целый ряд проповедников и учителей не
замедлит домогаться этого; таким образом характер
откровения как одна из выдающихся черт христианства
и иудаизма признается за этими религиями единствен-
но только нами самими. Впоследствии мы увидим, что
авторитета откровения даже с большим рвением доби-
ваются исповедники Вед, нежели теологи-апологетики
христианства и иудаизма.
Сам Будда, наиболее человеколюбивый и,
бесспорно, самый независимый между основателями
религий, представляется обладателем откровенной исти-
ны. Он не мог, как Нума, Магомет или Зороастр, ссы-
латься на таинственное общение со сверхъестест-
венными силами, еще менее он мог говорить о боже-
ственном вдохновении и откровении свыше, как то дела-
ли поэты Вед; потому что, по его учению, среди духов не
было ни одного выше и умнее его самого, боги же Вед
были ему даны в услужение и должны были его почи-
53
ОТ СУХОВА К ВЕРЕ
тать. Будда никогда не призывает иных сил, кроме той,
которую мы назвали бы по-нашему внутренним светом.
Когда он в первый раз провозглашал четыре основных
пункта своей системы, он говорил: «Для окончательной
отделки этих учений, до сих пор неизвестных, во мне
развились быстрота, знание, мудрость, ясное понимание
и свет». Первые прозелиты называли его Sarvagna, т. е.
всезнающим; но впоследствии заметили во многих мес-
тах, что Будда говорил языком своего времени, что он
разделял ошибки своих современников относительно
формы Земли и движения небесных тел, и тогда буддийс-
кие теологи сделали значительные уступки касательно
этого всезнания. Широкое значение выражения «все-
ведущий», даваемого Будде в виде эпитета, они огра-
ничили теперь знанием основных учений проповедуемой
системы, и только в этом единственном отношении они
провозгласили непогрешимость Будду. Можно было бы
доказать, что эта точка зрения вполне современна;
впрочем, будет ли она современной или старой, во вся-
ком случае такой взгляд на вещи делает честь буддийс-
ким теологам. В книге, признанной божественной и но-
сящей заглавие «Melinda Ргазпа», мы видим зародыш той
же самой мысли в уме великого Нагансены, который, бу-
дучи спрошен королем Милиндой, всеведущ ли Будда,
отвечает: «Точно так, великий царь, Будда таков, но не
всегда; размышлением Будда познает все; размышляя
же, знает все, что только желает знать». Этот ответ, оче-
видно, имеет цель установить разницу между теми
предметами, которые мы познаем чувствами и разумом,
и теми, до которых достигаем путем самоуглубления и
размышления. В области чувств и разума Нагансена не
признает всеведения и непогрешимости Будды, но он
признает их за ним во всем том, что произошло един-
ственно путем размышления, говоря другими словами,
во всем, что касается веры. Ниже я укажу на
МАКС МЮМЕР S4
чрезвычайные усилия брахманов выделить из ведийских
гимнов все человеческие элементы с целью доказать, что
эти сочинения были не только откровенны и относились
к доисторическим временам, но что они даже пред-
шествовали сотворению мира. Апологетическая наука
никогда не двинулась дальше своей теории откровения.
В настоящую минуту моей задачей будет доказать,
что основатели и защитники всех почти религий мира
ссылаются на откровение, на котором основывают
непогрешимость своей науки; я же полагаю, что
построение классификации на таком шатком основа-
нии не принесло бы пользы.
Основательно или нет такое стремление религии
называться откровенной? Вопроса этого я не думаю ни
рассматривать здесь, ни отвечать на него.
Точная дефиниция откровения относится к
сравнительной теологии, задачей которой должно быть
не только устранение той завесы, которая в про-
должение долгого времени поглощала на пути нап-
равляющиеся к нам лучи божественной правды, но,
кроме того, и указание, каким образом могла существо-
вать такая завеса между правдой и тем, кто ее
разыскивал, между сердцем, готовым почитать, и самим
дщзльпцйнным .цпедмелюм лтпгп .прятания — .межл?7 ЛТ"
цом .д его детьми. И эта последняя задача представляет
огромные трудности. Предмет сравнительной теологии
совершенно иной: она берет факты такими, каковы они в
действительности. Все люди считают свою религию
откровенной; если это так, то беспристрастный историк
должен ее считать таковой же.
Метод классифицирования, основывающийся на
распределении религий на две группы: религий
откровенных и религий естественных, еще и в других
отношениях кажется нам весьма ошибочным. Согла-
шаясь даже с тем, что все религии, кроме хрис-
55
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
тианства и иудаизма, получили свое начало от тех ду-
ховных способностей, которые Пэйли считает вполне
достаточными для установления главных принципов
так называемой естественной религии, классифика-
ция, ставящая по одну сторону христианство и иуда-
изм как религии откровенные, а по другую все осталь-
ные как религии естественные, такая классификация,
повторяю, была бы очень несовершенна еще и потому,
что ни одна религия, даже опирающаяся иа от-
кровение, не могла бы быть вполне отделена от
религии естественной. Ибо принципы естественной
религии, хотя сами по себе не произвели действитель-
ной исторической религии, тем не менее они составля-
ют действительное основание, на которое опирается
откровенная религия, единственную почву, в которую
она может углубить свои корни и из которой черпает
для себя пищу и соки. Снесите эту почву или допусти-
те, что она тоже должна возникнуть путем откро-
вения, и тогда вы будете действовать не только против
буквы и духа Ветхого и Нового Завета, но даже унизи-
те откровенную религию, переделывая ее в чистую
форму, вымышленную лишь затем, чтобы она была
принята человеком, тогда как истинная правда никог-
да Л2 ЛМ ЛЛ Л££Ле1Л>Я2Л2( ЛЛ ОЛ8Л2Л2, Мы
имели бы лишь семя и потеряли бы добрую почву, на
которой единственно только и может жить и про-
израстать зерно истинной религии.
Христианство, ссылаясь не только на евреев, но
также и на язычников, не только на людей простых, но
и на ученых, ие только иа верующих, ио и на
неверующих, допускало равно для всех элементы есте-
ственной религии и вместе с ними и способность
выбора между истиной и ложью.
При этом только условии мог сказать святой Павел:
«Испытывайте все и выбирайте то, что хорошо». То же
МАКС МЮЛЛЕР
SB
садаое происходит и с Ветхим Заветом, который пред-
полагает веру в единого Бога у всех, к которым он
обращается; и пророки, старающиеся обратить к почи-
танию Иеговы заблудших евреев, ссылаются на извест-
ную внутреннюю способность этих последних, дозволя-
ющую им выбирать между Иеговой и богами язычни-
ков, между истиной и ложью. Припомните себе ту важ-
ную главу из древней истории евреев, где Иисус Навин
соединяет все израильские племена в Сихеме, где ссы-
лается на старцев, вождей, судей и израильских свя-
щенников: «И сказал Иисус Навин всему народу: так
говорит Господь Бог Израиля: отцы наши, жившие по
той стороне реки, сам Фарра, отец Авраама и отец
Нагора служили другим богам». А затем, напомнив им
обо всех благодеяниях, какими их осыпал Бог, закон-
чил: «Итак, бойтесь теперь Господа и поклоняйтесь ему
и оставьте богов, которым поклонялись отцы ваши по
той стороне реки и в Египте. А если вам кажется злом
служить Господу, выберите себе богов, которым покло-
нялись ваши отцы по той стороне реки, богов амонитов,
в стране которых вы пребываете, я же и мой дом будем
почитать Господа».
Чтобы быть в состоянии сделать выбор между
различными божествами и религиозными формами^
нужно обладать способностью такого выбора, нужно
обладать средствами отличать ложь от правды
откровенной или неоткровенной, нужно знать, что су-
ществуют известные основные принципы, отнять
которых нельзя ни у одной религии, а вместе с тем су-
ществуют известные учения, против которых про-
тестует наше внутреннее нравственное сознание и от-
талкивает их, как несогласных с правдой. Короче
говоря, каждая религия нуждается в известном фунда-
менте, в известной скале, чтобы на них можно было
воздвигнуть алтарь, храм, церковь; если таким фунда-
57
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ментам мы дадим название естественной религии, то
очевидно, что нельзя себе представить религии
откровенной, которая не опиралась бы более или менее
на религию естественную. Некоторые из наших обра-
зованных теологов, пытавшихся классифицировать
религии с субъективной точки зрения, заметили и по-
чувствовали эти трудности. Вскоре были предложены
совершенно новые дефиниции для естественной
религии, и при помощи их пытались избегнуть необхо-
димости ставить естественную религию на место, под-
чиненное религии откровенной. Естественная религия,
говорили, например, была религией природы до
откровения, она была той религией, которой при-
держивались патриархи, которой придерживаются еще
до сих пор дикие народы, не озаренные светом
христианства, равно как и не униженные идолопоклон-
ством.
С принятием этой дефиниции следовало уже
различать не два, а три класса религий: религию
первобытную или естественную, естественную низ-
шую, или идолопоклонство, и религию откровенную.
Однако, как я уже упомянул выше, первая из этих
религий, религия, признанная естественной или
иервобытиой., существует скорее в умах современных,
философов, чем в умах древних поэтов и пророков.
История показывает нам, что везде чувство почтения к
высшим силам облекалось в мифологическое одеяние.
А если бы даже это происходило и не везде, то во вся-
ком случае было бы трудно провести точную
демаркационную линию, потому что как религии уни-
женные, или идолопоклоннические, так и религии, очи-
щенные откровением, заключали бы в себе непременно
и всегда элементы естественной религии. Равным
образом в этой области уменьшится трудность, если мы
вместо религии естественной подставим всеобщее
МАКС МЮЛЛЕР
SB
первобытное откровение, как это делают некоторые тео-
логи и философы* Всеобщее откровение, о котором идет
речь, есть собственно только новый способ обозначения
естественной религии, и единственный авторитет, на
который оио может ссылаться, это философские объяс-
нения. Подобного же рода философы, считая язык столь
чудесным созданием, что невозможно даже допустить,
чтобы ои был произведением человека, сочли соответ-
ственным построить гипотезу о всеобщем первобытном
языке, непосредственно данном через откровение Бо-
жье людям, или существам немым; между тем глубочай-
шие и достойные наибольшего уважения из отцов
церкви, согласно с философами Нового времени, дока-
зывают, что намного легче с мудростью и всемогуще-
ством Творца мирится предположение в человеке спо-
собности к созданию языка. Ведь в самом деле было бы
очень трудно предлагать вполне обработанные словари
и грамматики существам немым от природы. Скажите,
разве дитя достойно меньшего удивления, нежели
взрослый человек, или куст возбуждает меньшее внима-
ния, нежели дуб? Или еще дальше: разве клетка, в
которой покоится зерно, имеющее развиться, есть
вещь менее великая, чем все создания, существующие
ъ ътире} отношу вышеизложенное наблюдение к
религии. Первоначальная всеобщая религия, открытая
Богом непосредственно людям, представляется нашей
человеческой мудрости наилучшей развязкой трудной
задачи; но та же мудрость, дела которой признаны в
области истории, взывает к нам и учит, лишь бы мы
только желали научиться, что «мы должны также ис-
кать Господа, нам дана возможность познать его, чув-
ствовать и найти, потому что он недалеко от каждого
из нас».
Я еще возвращусь к гипотезе всеобщего
откровения и к затруднениям, которые она.вызвала.
59
ОТ СЛОВА К ЙЕР£
В настоящее время я довольствуюсь указанием, что
классифицирование религий на искусственных основа-
ниях, часто предполагаемых, не приводит ни к каким
результатам.
Имеет большое значение во многих отношениях и
весьма полезна классификация, устанавливающая та-
кое деление: религии политеистические, дуалистиче-
ские и монотеистические.
Если религия опирается прежде всего на веру в
высшее могущество, в таком случае следует, чтобы
характер этого могущества доставил нам черты самые
характерные, чтобы по ним можно было установить
классификацию. Я не отрицаю, что такое деление имеет
значение, однако обращаю внимание на то, что, приняв
его, мы принуждены помещать в одной группе самые
разнородные религии, если только они ссылаются на
одинаковое количество божеств.
Кроме того, сказалась бы необходимость в прибавке
двух других классов религий: религий генотеистиче-
ских и атеистических. Генотеистические отличаются
тем от политеистических, что, допуская существование
многих богов, представляют себе каждого из них впол-
не независимым от других, присутствующим в виде
единого божества в уме верующего, когда он молится.
Этот характер ясно бросается нам в глаза в
произведениях ведийских поэтов. Хотя здесь призы-
ваются различные боги в разных гимнах, а иногда и в од-
ном и том же, однако здесь нет первенства между бога-
ми, и, сообразно с различными обстоятельствами и по-
буждениями человеческого сердца, обращаются то к
Индре, богу голубого неба, то к Агни, богу огня, то к
Варуне, древнему богу небесного свода; каждый из них
почитается как бог высший, и нигде мы не заметим и
тени соперничества или подчинения друг другу между
этими богами. Без сомнения, эта особенная фаза
МАКС МЮЛЛЕР
60
религии, этот культ богов столь индивидуализиро-
ванных составляет первый период в развитии политеиз-
ма и требует специального описания. Что касается
религий атеистических, то существование их кажется
нам невозможным; однако трудно было бы опровергнуть
доказательства того, что религия Будды первоначально
была чисто атеистической.
Идея божества находилась в таком пренебрежении
и унижении благодаря бесчисленным мифологическим
несообразностям, возбуждающим отвращение к Будде;
впоследствии, в течение известного промежутка вре-
мени, эта идея была тщательно изгнана из жилища че-
ловеческой души, и вот, самая возвышенная нрав-
ственность была проповедуема человечеству до появле-
ния христианства людьми, в глазах которых боги были
только пустыми тенями, людьми, не воздвигающими
никому алтарей, даже неведомому Богу. В следующей
лекции задачей моей будет доказать, что единственная
классификация религии, вполне научная и логическая,
есть та же, что и классификация языков, тем более что
в первобытной истории человеческой цивилизации су-
ществует теснейшее родство между языком, религией и
народностью.
лекция in.
классификация религий (продолжение)
Приступив к исследованиям о религиях'человечества
без предрассудка, без предубеждений, в том наст-
роении духа, какое друг правды и знания обязан
принести каждой науке, мы заметим естественные
границы, разделяющие мир религий на известное число
61
ОТ СЛОВА к ВЕРЕ
больших континентов. Здесь идет речь о древних
религиях, о первобытнейшем периоде исторической
карьеры религий. В этой первобытной эпохе, которая
может быть названа если не доисторической, то чисто
этнической, потому что в ней, насколько нам известно,
концентрируется народная деятельность, а не индиви-
дуальные деяния, в этой эпохе, говорю я, названия
народов — названия языков. Но в том же периоде
времени народы можно было бы называть с равной
справедливостью религиями, потому что в то время мы
находим такую же связь между религией и народ-
ностью; даже, быть может, более сильную, чем между
языком и народностью.
Чтобы дать возможность ясно понять мою мысль, я
сошлюсь здесь на теории нескольких известных немец-
ких философов, выясняющих взаимную связь языка,
религии и народности; теории, которые, по моему мне-
нию, не обратили еще на себя такого внимания, какого
они заслуживают ради продолжения новых путей для
современной этнографии.
Шеллинг первый из глубочайших немецких мысли-
телей поставил такие вопросы: «Что составляет народ?
Каково действительное основание народности? Каким
путем человеческие существа группируются в народ-
ности?» Ответ на эти вопросы заставил меня про-
никнуться удивлением, когда в 1845 г. я присутствовал
на лекциях старого профессора; я обращаю здесь осо-
бенное внимание на то, что позднейшие изыскания,
производимые в области языков и религий, все более и
более с ним согласовывались.
Сказать, что человек есть животное общительное,
что люди, как рои пчел или табуны лошадей, инстинк-
тивно сходятся и образуют народы— это значит дать
поверхностное и недостаточное объяснение. Ибо этим
МАКС МЮЛЛЕР
62
‘Способом можно объяснять агломерацию человеческих
существ, но никак не возникновение индивидуумов,
называемых народами.
Предположение, что люди делятся на народы, как
пчелы на рои, вследствие выбора отдельных маток и по-
виновения различным формам правления, ничуть не ве-
дет к разгадке. Повиновение единой власти есть скорее
результат народности, нежели ее причина в перво-
начальное время, во времена же исторические внешние
влияния, грубая сила и династические комбинации
вызвали такое замешательство, что естественное
развитие народов было вполне задержано, и весьма час-
то мы находим один и тот же народ под многими властя-
ми, а с другой стороны — разные народы под одной вла-
стью. Пытаясь разрешить важный вопрос: как соста-
вился из людей народ? — мы должны коснуться эле-
ментов, или самого начала, народности. Как же
возникали народы в то время, когда не было ни царей,
ни пастырей народов?
Быть может, благодаря общности крови? Сомнева-
юсь, потому что общность крови создает семейства,
классы, может быть, расы, но она никогда не создает
того возвышенного чувства, чисто нравственного, соеди-
няющего между собой людей и образующего народ. Язык
и религия образуют народы, и в этом образовании
религия является фактором более могущественным, чем
язык. Языки огромного числа родственных жителей
Северной Америки суть только диалектические виды об-
щего типа, однако люди, говорящие этими диалектами,
никогда не соединялись в один народ. Они остались кочу-
ющими племенами и не испытали чувства общей нацио-
нальности, потому что не сошлись никогда в почитании
общих божеств. Греки, напротив, хотя говорили, без со-
мнения, на диалектах совершенно различных, так что я
сомневаюсь, понимали ли говорящие одним из этих дна-
S3
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ'
лектов говорящих на соседних наречиях, однако эолиец,
дориец, иониец имели во все времена сознание, что они
составляют один народ, несмотря на их подчинение
различным тиранам или деление на многочисленные
республики. Что же это за сила, которая наперекор диа-
лектам, наперекор династиям, в противность взаимной
борьбе колен и зависти государств сохранила в их
сердцах глубокое чувство нравственного единства,
образующего народ? Это была их первоначальная
религия, туманные воспоминания общего поклонения,
воздаваемого некогда отцу богов и людей, это была их
вера в древнего Додонского Зевса, Юпитера всех элли-
нов. Наилучшее доказательство, подкрепляющее то мне-
ние, что религия в большей степени служит основанием
народности, нежели язык, мы найдем в истории евре-
ев — божеского народа. Их язык отличался весьма мало
от языка финикиян, моавитов и других соседних племен.
Разница в языке была здесь значительно меньше, неже-
ли между диалектами Греции. Но культ Иеговы делал
евреев народом изолированным, народом Иеговы, отде-
ленным своим Богом от народа Химоса (моавитов), по-
клонников Ваала и Асторета. Эта вера в Иегову прев-
ратила блуждающие племена Израиля в народ.
«Народ, — говорит Шеллинг, — существует только
тогда, когда он определился относительно своей мифоло-
гии. Эта мифология может возникнуть только тогда, ко-
гда образовался народ, она не может появиться на днев-
ной свет, пока народ еще невидим и замкнут в лоне чело-
вечества. В этом переходном периоде, когда народы не за-
воевали себе независимого существования и находятся в
состоянии отделения от некоторой целости и в состоянии
формирования, и имеет место это возникновение».
Выше высказанное замечание относится и к языку
народа: «Язык устанавливается одновременно с
народом».
МАКС МЮЛЛЕР
64.
Гегель, великий соперник Шеллинга, пришел ю.
тому же самому выводу. В своем сочинении «Филосо-
фия истории» он говорит: «Идея Бога составляет осно-
вание, на которое опирается национальность. Из
религии вытекает неизбежно форма государства, его
устройство, до такой степени неизбежно, что полити-
ческое устройство Афин и Рима могло осуществиться
только при язычестве, свойственном этим народам, и
теперь еще католическое государство отличается по
духу и устройству от государства протестантского.
Народный дух является точно определенным и
индивидуализированным: сознание своей индивидуаль-
ности он черпает из различных сфер; к этому сознанию
он приходит благодаря своему политическому устрой-
ству, своему искусству, своему знанию»1.
Такое понимание вещей встречается не только у
философов. Историки, а еще более юристы достигли
того же самого результата не менее известным спосо-
бом. Правда, многие из них полагают, что право есть ес-
тественное основание общества и узел, связывающий
членов народа между собою, однако те, которые любят
заглядывать глубже поверхности, заметили, что право
заимствуется из религии, в особенности в далекой
древности оно черпает из ее источников значение, силу
1 Несмотря на то что эти слова Гегеля были опубликованы
значительно раньше лекций Шеллинга, одиако они кажутся
мне полными мыслей этого последнего, и справедливость
требует прибавить, что лекции Шеллинга, еще не изданные,
но уже отпечатанные, обращались в тесном кружке посвя-
щенных в тайну за 20 лет до прочтения их в Берлине. Воп-
рос о первенстве имеет мало значения в подобных делах.
Важно также замечание Щеллннга, что философия оказы-
вает меньше услуг, отгадывая трудные вопросы, нежели
ставя и возбуждая новые, о которых без иее никто бы даже
не подумал.
i5
ОТСЛО0АК0ЕРЁ
1 даже жизнь. Г-н Мэн без сомнения прав, когда,
'оворя о законах книг Ману, он отбрасывает идею бо-
кества, диктующего цельный кодекс, и осуждает ее как
изобретение новейших времен. Однако вера в то, что
законодатель находился в более тесных сношениях с
5ожеством, нежели другие смертные, находится нами в
первобытных преданиях многих народов. Судя по
хорошо известному отрывку Диодора Сицилийского,
египтяне верили, что их права сообщил Менесу Гермес,
критяне, что Минос получил их от Зевса, а лакедемоня-
не, что Аполлон доверил их Ликургу. У арийцев их за-
конодатель Затраустес (Zathraustes) получил права от
доброго духа, у гетов Замолксис (Zamolxis) был вдох-
новлен к своему законодательному труду богиней Гес-
тией, у евреев Моисей получил права от бога Яхве.
Никто не превзошел г. Мэна в яснейшем доказатель-
стве той истины, что религия в древности служила ос-
нованием всех житейских отношений, всякого обще-
ственного устройства. Неземное почитание, говорит
он, освящало и укрепляло главные институции перво-
бытных веков: государство, племя, семейство.
«Основную группу составляет семейство, собрание
семейств образует роды или дома. Из родов составляет-
ся племя, а племена, взятые совокупно, составляют об-
щество, общину». Семейство образует нечто целое
благодаря своим домашним sacra, то же самое про-
исходит с родом и общиной; чужестранец не может
быть принятым в общину, если не был раньше допущен
к их культу, к их sacra.
С течением времени право начинает отличаться от
религии, но все-таки остаются многочисленные следы,
которые дозволяют нам заключать, что домашний очаг
был первым алтарем, а отец семейства первым жрецом,
его же жена, дети и рабы были первым составным зве-
ном вокруг священного очага, вокруг Гестии, домашнего
как пбпач миоа
“МАКС МЮЛЛЕР
66
божества, ставшей впоследствии богиней всего народа.
Еще и теперь брак, важнейший акт общественной жиз-
ни, основание, на котором зиждется наша просвети-
тельная деятельность, сохранил религиозный характер,
какой он имел в первых зачатках истории.
Итак, мы видим, чем является религия в этих
первых веках, о которых здесь идет речь. Нужно по-
мнить, что я постоянно говорю о религии, не насколько
она представляется таинственной силой, работающей в
глубине человеческой души, но о религии во внешних
ее проявлениях, об ее ощутительной, определенной
стороне. Мы сейчас увидим, что слово «религия»,
принимаемое в таком значении, относится к весьма ог-
раниченному миру фактов. Итак, в названиях, в эпите-
тах, относящихся к божествам, открыт некоторый не-
значительный запас слов, которые первоначально были
взяты из мира чувственного, материального и возвыше-
ны впоследствии до более достойного нравственного
значения, как, например, слова «сила», «блеск», «физи-
ческая чистота» мало-помалу достигли значения
нравственного величия, доброты и святости; наконец
несколько более или мейее технических выражений,
представляющих понятие жертвы, алтаря, молитвы,
мсжет быть, даже добродетели и греха, тела и души;
вот и все имущество, скелет первобытных религий, в
первый момент их мировой карьеры. Мы легко поймем,
что и религию можно назвать святым диалектом чело-
веческого языка, если только исследуем простоту форм
первобытных религий в эпохах темных, покоящихся во
мраке веков; мы поймем, что религия и язык перво-
начально тесно связаны между собой, потому что внеш-
нее одеяние, в которое облекается религия, черпает
свои материалы из богатства языка. Нет ничего удиви-
тельного, если при такой зависимости религии от языка
мы примем классификацию, употребляемую в лингвис-
67
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
тике, и будем сю пользоваться при изучении религий.
Мы знаем, как широко развита между языками фили-
альная система, или отношения родства; то же самое
отношение существует и между человеческими
религиями, по крайней мере, в древнем мире.
Прежде чем приступить к классификации, свой-
ственной религиям, уместно сказать несколько слов о
настоящем состоянии классификаций в науке языко-
знания.
Бросив взгляд на азиатский материк и европейский
полуостров, мы увидим здесь в обширной пустыне
первобытного человеческого языка три расы, только
три, на лоне которых, еще перед началом исторической
жизни, язык установился и стал уже традиционным^
облекся в новый характер, вполне свободный от той по-
стоянно колеблющейся подвижности, которой так
нравился первобытный говор. Итак, мы находим три
оазиса для языка — расы туранская, арийская и се-
митская. В этих трех центрах, а именно у арийцев и се-
митов, язык перестал быть дитятею природы, его
развитие внезапно остановилось, он застыл, я бы ска-
зал, окаменел; говоря другими словами, язык есте-
ственный сделался языком историческим. Я всегда
утверждал, что эта концентрация, эта традиционная
консервативность языка появилась вследствие рели-
гиозных и моральных влияний; в настоящую же минуту
очевидность заставляет нас установить три семейства
религий: туранское, арийское и семитское, соот-
ветствующие трем семействам языков, о которых я
только что упоминал. Если возьмем, например, язык ки-
тайский как первоначальный тип туранского семейст-
ва, то совместно с этим языком мы найдем в Китае
древнюю религию, лишенную красок и поэзии; ре-
лигию, которую — извините за смелость — имею жела-
ние назвать односложной, религию, основывающуюся на
з*
МАКС МЮЛЛЕР
68
почитании множества духов, изображающих небо, сол-
нце, бури и молнии, горы и реки; духов, стоящих толпа-
ми отдельно друг от друга, без связи, без возвышенного
элемента, который бы их соединял между собой. Даже
более, мы встретимся в Китае с почитанием духов
предков и покойников: по народному поверью, духи эти
сохранили сознание о человеческих делах и имеют
власть вознаграждать или наказывать. Это двойствен-
ное сочетание духов человеческих и естественных со-
ставляет в Китае сущность древней народной религии;
она дожила до настоящего времени, по крайней мере, в
низших классах общества, хотя над ней господствует
наполовину религиозная, наполовину философская
вера в высший порядок, в абстрактные силы, называе-
мые на языке философов силой и материей, на языке
нравственности добром и злом, которые в словаре,
свойственном религии и мифологии, выступают под на-
званием неба и земли. Правда, с древней народной ки-
тайской религией мы знакомимся только по сочинени-
ям Конфуция или даже по источникам более новым, но
Конфуций, хотя его и называют основателем новой
религии, в действительности был только проповед-
ником старой религии. Он сам говорит о себе: «Я толь-
.кр .гергедаю дщ дьш? .пр .'над дздггву мражна?/тсевирщ.н?
могу создать ничего нового. Я сам верю в учение
^.прежних времен, которое люблю».
В другом месте мы находим древний культ семит-
ских рас, следы которого, ясно выделяющиеся, мы на-
ходим в большом количестве имен прежних божеств,
встречающихся в политеистических религиях вавило-
нян, финикиян, карфагенян и вместе с тем в монотеис-
тической вере евреев, христиан и магометан. Почти не-
возможно охарактеризовать религии народов, так силь-
но разнящихся между собой в отношении языка,
литературы и всей их цивилизации; но, если бы мне
69
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
пришлось непременно установить дефиницию веро-
вания семитских народов, то я сказал бы, что оно ско-
рее представляется почитанием богов истории, бога,
распоряжающегося судьбами индивидов, поколений и
народов, нежели почитанием бога, управляющего си-
лами природы. Названия семитских божеств выражают
нравственные качества. Мы встречаем здесь эпитеты
«сильный», «достойный почитания», «господин», «царь»,
и редко когда идет речь о ясно определенных божеских
лицах, легко узнаваемых по выдающимся чертам, по
рельефным контурам. Следствием этого было то, что
огромное количество семитских божеств было смешано
и что переход от этих политеистических культов к
религии монотеистической произошел без больших
затруднений.
В однообразных, безграничных пространствах пус-
тыни почитание многочисленных божеств превра-
тилось почти незаметно в веру в единого Бога. Отчасти
только верно то, что отличительную черту семитских
религий составляет выделение женского рода из назва-
ний божеств и что все их женские божества были сим-
волами действующих сил, преклонных и бесполых бо-
гов; это положение требует оговорки и тщательной
проверки, подобно тому как и теория, согласно которой
г. Ренан утверждает, будто семитские религии были
инстинктивно монотеистическими.
Наконец мы прибываем к древней вере арийских
народов, рассеянной по всем уголкам земли руками
смелых исповедников, ее легко узнать и в долинах
Инда, и в лесах Германии, и по названиям божеств, оз-
начающих вообще всегда какую-нибудь силу природы.
Почитание этой расы не есть, как это часто повторяли,
почитание естественное. Чтобы его охарактеризовать
ясно и кратко, я решился бы назвать его почитанием
Бога в природе, Бога, являющегося нам скорее сквозь
i
МАКС МЮЛЛЕР
70
завесу тайны физического мира, нежели Бога, скрытого
в тайниках человеческого сердца. Боги арийского пан-
теона обладают столь сильной, столь выразительной
индивидуальностью, что у арийцев всякий переход к
монотеизму требовал насильственной борьбы и редко
когда удавался без разрушающих образы революций
или отчаянного сомнения философского духа.
Эти три семейства религий отличаются одно от
другого подобно тому, как различаются три семейства
языков: туранское, семитское и арийское. Они намеча-
ют три главных факта древности, которые были реши-
телями судьбы человеческого рода и последствия
которых мы находим еще и теперь в нашем языке, поня-
тиях и религии.
Один большой поток языка, из которого вытекли
эти три канала, направлял дальше свое течение, и свя-
той огонь веры, пылавшей на трех алтарях, не погас.
Религия и язык существовали в целом мире, но они
были в известном отношении естественными, дикорас-
тущими плодами, это был постепенный рост, не имею-
щий истории, который по этой именно причине усколь-
зает от вполне научного исследования, примененного к
языкам и религиям китайцев, семитов и арйев.
Еесьма часто можно слышать вопрос, почему линг-
висты не установили для языков более двух или трех
семейств, так как туранским языкам едва можно дать
название семейства в тесном значении этого слова, так
как ясно видно, что китайский язык образует середину
двух туранских ветвей: северной и южной, и одно-
временно доказано, что тот же китайский язык состав-
ляет первый слой подвижной массы языков, которые в
более позднюю эпоху установились, окрепли и создали
на Севере языки тунгусский, монгольский, татарский и
финский, на Юге же таитянский, малайский, бхотья
(bhotiya) и тамулитский. Что лингвисты не открыли
71
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
больше двух или трех семейств языков, объясняется
очень просто: нельзя открыть больше, потому что боль-
ше нх и нет. Семейства языков суть формации, исклю-
чительно им свойственные, они суть и должны быть ис-
ключением, а не правилом в развитии языков. Без со-
мнения, всегда было возможно, но, думаю, никогда не
было необходимо, чтобы человеческий язык вырастал
при таких именно, а не других первоначальных услови-
ях из того дикого состояния, в каком он рос, а потом,
благодаря случаю, ослабевал; без сочинения праотцов
семитов, ариев, туранцев, сочинения, считаемого мной
самодельным, все языки остались бы тленными и не-
установившимися; они удовлетворяли бы нуждам сме-
няющихся поколений, существовали бы поочередно, то
возрастая, то уменьшаясь, то завоевывая себе по
временам некоторую прочность, то опять ослабевая; на-
конец их унес бы поток веков, подобно тому как облом-
ки льда уносятся волной, текущей под поверхностью
реки. Тогда наше понятие, какое мы имеем теперь о
языке, было бы иным. Обыкновенно у нас является же-
лание узнать, чем должен быть язык, основанный на
этих исключительных формациях, сдерживаемых в сво-
ем естественном росте влияниями общественными,
йг заге&с лгбг сзраазкваевг
с удивлением: отчего все человеческие языки не похо-
жи на эти три класса языков? Но в таком случае с рав-
ным основанием мы должны удивляться и спрашивать,
отчего все животные не домашние или отчего кроме са-
дового анемона растет столько разновидностей этого
цветка на лугах и в лесах.
В туранском семействе, где концентрация не
произошла с таким совершенством, как в арийском или
семитском, мы находим еще известные, хотя и слабые
следы того, что я назвал естественным ростом языка,
Различные слои этой гигантской волнующейся массы,
МАКС МЮЛЛЕР
72
этих однородных языков не представляют нам столь
тесного родства, какое мы открываем, например, между
языками древнееврейским и арабским или греческим и
санскритом; в туранских языках находятся обособлен-
ные точки соприкосновения и сходства в общей струк-
туре, объясняемые предположением об их первона-
чальной концентрации, после которой наступил период
независимого роста.
Только при добровольном ослеплении возможно не
узнать выразительных черт, встречающихся равным
образом в туранских языках Севера, и было бы даже
весьма трудно считаться с поразительным сходством,
существующим между языками венгерским, лапланд-
ским, эстонским и финским, если б нам не пришла на
помощь гипотеза о первобытной концентрации, через
которую прошел известный идиом, диалектами ко-
торого были все эти языки, В южнотуранской группе
это сходство проявляется не так ясно; что касается
меня, то я не столько удивляюсь скудным запасам ука-
заний, свидетельствующих о первобытной общности
этих различных ветвей языка, сколько тому, что эти
указания вообще существуют. Точку соприкосновения
туранских языков севера и юга мы находим в языке ки-
тайском, потому что изыскания г. Эдкинса все с боль-
шей и большей очевидностью доказывают нам, что ки-
тайский язык есть источник языков маньчжурского и
монгольского, как, равным образом, сиамского и тибет-
ского.
Теперь отвернем глаза от азиатского материка, оте-
чества арийских, семитских и туранских языков, и
присмотримся к Африке; и здесь опять, благодаря
сравнительному изучению диалектов, мы почувствуем
себя в состоянии утверждать существование подобной
же концентрации и относительно африканских языков,
концентрации, последствия которой лучше всего про-
73
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
являются в особенности в сходстве диалектов банту,
встречаемых в южной части Африки.
К северу от языка банту, или кафир, мы находим за-
лежи, независимые от языков семитских, в диалектах
берберийском и галдя; а к югу от того же пояса — диа-
лект готтентотский, или же бушменский. Из этих двух
языков последний едва только теперь разобран, что же
касается первого, то предполагают, что он принад-
лежит к идиомам, встречаемым в северной Африке, от-
куда был вытеснен, быть может, наплывом кафрских
племен. Некоторые ученые выдумали, правда, узел
родства между языком готтентотов и диалектами Ну-
бии и древним языком Египта, который, хотя бы даже
имел не знаю уже какие сношения с соседями, при-
надлежит в отношении языка и религии к совершенно
иному, первобытному слою, который образовался вне
материка Азии.
Африканские языки дают нам возможность открыть
главные черты элементарного языка народностей
Африки, но зато мы вовсе не знаем, да едва ли и будем в
состоянии изучить когда-нибудь рост и упадок религий
на этом материке. Во многих местах христианство и ма-
гометанство вытеснили воспоминания о старых богах;
даже когда миссионеры и путешественники пробовали
представить образ религиозного состояния у зулусов и
готтентотов, они нашли единственно только новейшие
формы африканской веры и из нее составили образ, яв-
ляющийся истинной карикатурой. Мы находим одно
только свидетельство древней африканской религии: это
древние памятники Египта. Но что же, если не помогли
ни это изобилие материалов, ни развалины храмов и бес-
численных статуй, ни папирусы, наполовину прочтен-
ные, я должен сознаться, что мы находимся далеко от
того, чтобы услышать биение сердца, которое билось ко-
гда-то в этом особенном, таинственном величии.
МАКС МЮЛЛЕР
74
Истина, относящаяся к Африке, не может быть
устранена, когда идет речь об Америке.
На Севере там существуют языки, которые свиде-
тельствуют о древних странствованиях. Но что касает-
ся религий древних, то не имеется почти никаких доку-
ментов. Мы знаем, что на Юге были два центра языка.и
политической жизни: в Мексике и в Перу; там мы
встречаемся с любопытными традициями, не всегда,
впрочем, достоверными, свидетельствующими о весьма
древней религиозной системе и о древнем, прочно
укоренившемся почитании. Знание религий имеет то
преимущество перед знанием языка, что во многих слу-
чаях, когда это последнее располагает материалами, до-
статочными для возбуждения весьма важных вопросов,
ио недостаточными для их окончательного разрешения,
первое не располагает еще тогда никакими материа-
лами.
Храмы стоят в развалинах, имена древних божеств
уже почти забыты в различных частях света, тем
временем языки, хотя и измененные, сохраняют в себе
традиции древнейших веков. Но если бы где даже было
и иначе, то все-таки исследователи истории религии де-
лают хорошо, следуя примеру лингвистов- и начиная
свои изучения сравнением семитских и арийских
религий. Если бы на этом пути не было ничего другого
доказано, как только то, что религии арийских народов
соединяются между собой теми же самыми узами
родства, какими связываются в этом семействе языки,
составляющие виды одного типа; если бы то же самое
еще было доказано в области семитских религий, то
перед исследователями открылось бы обширное поле
изысканий; а, по моему мнению, возможно точное уста-
новление такого родства между религиями. Главные
имена божеств и вместе с тем слова, означающие в
каждой религии основные элементы, как, например,
7S
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
«молитва», «жертва», «алтарь», «дух», «право», «вера»,
сохранились одинаково у народов арийских и семит-
ских, и это сохранение может быть объяснено только
одним способом. По рассмотрении этого первого поло-
жения можно с большей надеждой на успех приняться
за сравнительное изучение туранских религий: так как
я не сомневаюсь, что параллельно с первобытными арий-
скими и семитскими религиями существовала, равным
образом, первобытная туранская, и притом гораздо
раньше, чем каждая из этих рас распалась на многочи-
сленные ветви в отношении языка, веры и своей
народности.
Начнем с наших праотцов-арийцев. В моей лекции,
читанной несколько лет тому назад, я набросал очерк
того времени, когда говорили в Индии по-санскритски,
в Малой Азии и Европе — по-гречески. Его черты и
колорит, какой я позволил себе употребить, были взяты
из языка. Я доказывал, что, собрав все слова, существу-
ющие одновременно на языках французском, итальян-
ском и испанском, можно указать, какие слова, а затем
и предметы должны быть известны народу, не владею-
щему ни французским, ни испанским, ни итальянским
языками, но который говорил на языке, предшест-
вовавшем этим романским диалектам.
Мы знаем этот язык: это язык латинский; но если
бы мы не знали ни слова по-латыни, если бы не знали
ни одной главы из римской истории, тем не менее мы
были бы в состоянии представить себе картину занятий
и представлений народа, жившего в Италии за 1000 лет
до Карла Великого, опираясь единственно на запас
слов, общих всем романским языкам. Ничего не было
бы легче, как доказать, что этот народ должен был
иметь царей и законы, храмы и дворцы, корабли и эки-
пажи, дороги и мосты и почти все потребности высоко-
цивилизованной жизни. Мы могли бы это доказать,
МАКС МЮЛЛЕР
76
гбворю я, беря названия всех этих предметов в таком
виде, в каком существуют они во французском, испан-
ском, итальянском языках, и вместе с тем доказывая,
что ни испанский язык не позаимствовал их из фран-
цузского, ни итальянский из испанского; а следователь-
но, они естественно должны находиться в том более
древнем слое языка, из которого получили начало три
вышеупомянутых новых романских диалекта.
Подобная же система аргументации позволяет нам
создать нечто вроде мозаичной картины первобытной
цивилизации, свойственной арийской расе, прежде чем
она распалась на различные народы. Так как мы нахо-
дим в языках и греческом, латинском, санскритском, а,
равным образом, в диалектах славянских, кельтских и
германских одно и то же слово для означения дома, то
мы вправе заключать, что уже задолго до того времени,
когда эти народы имели независимое и обособленное
существование, по крайней мере, за 1000 лет до Ага-
мемнона и Ману, предки арийской расы не кочевали с
шатрами, но строили прочные дома1. Так как мы нахо-
дим то же самое название для города в санскритском и
греческом языке, то мы можем заключить с равной
уверенностью, что арийцам были известны города
прежде, чем заговорили по-гречески и по-санскритски.
Равным образом общность названия для правителя,
короля в санскритском, латинском, германском и кельт-
ском языках доказывает, что царское управление было
известно арийцам в эту доисторическую эпоху. Я не
могу здесь устоять против искушения и не начертить
вторично образ этой первобытной цивилизации. Но же-
лал бы только напомнить вам о факте, имеющем
огромное значение: именно, советуясь с древними
1 Санскр. dama, Sopot;, damns, готск, timljan, слав, дом,
г санскр. vesa, ofyot;, vecus, готск. veihs.
77
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
архивами языка, мы открыли, что наивысшее божество
носило всегда то же самое название в древней мифоло-
гии индийской, итальянской, германской и сохраняло
это название повсюду, поклонялись ли ему на вершинах
Гималаев, взывали ли к нему под тенью до донских дубов,
в Капитолии или в лесах Германии. Мы заметили, что
это название в санскритском языке было Dyaus, у гре-
ков Zeoq, в Риме Jovis, у германцев Tiu; но я не обращал
должного внимания на природу и значение этого
открытия. Такие названия не суть только выражения —
это исторические факты, и факты более достоверные, бо-
лее точные, чем многие случаи из истории средних ве-
ков. Да! эти слова воскрешают перед нами во всем блес-
ке величественный театр деятельности предков арий-
ской расы; благодаря этим названиям мы имеем возмож-
ность видеть за десять веков до Гомера и Вед людей,
почитающих существо невидимое и дающих ему самое
благородное, самое возвышенное название, какое только
они могли найти в своем словаре, название света и неба.
Не позволим же себе ошибаться и заблуждаться относи-
тельно того, что тогда существовало естественное и идо-
лопоклонническое почитание. Значение этих названий
совершенно иное, хотя впоследствии они могли быть
сведены д такому тютиыанй'ю. мудоъ не озттал тояуб&г:
небо, это не было только олицетворение неба; значение
его совершенно иное. В Ведах мы находим воззвание к
Dyaus pitar, Zev яйтер у греков, Юпитер у римлян; и это
означает на этих трех языках то же, что означало до их
разделения; это значит: «Отче наш, иже еси на небесех».
Эти два выражения, по моему мнению, есть древнейшая
поэма, древнейшая молитва человечества, или, по
крайней мере, благороднейшей части человечества, к
которой принадлежим и мы.
Я глубоко убежден, что эта молитва читалась, что это
имя давалось неизвестному богу раньше существования
МАКС МЮЛЛЕР.
70
санскритского и греческого языков, и при виде того, что
молитва «Отче наш» существует в языках Полинезии и
Меланезии, мое убеждение усиливается: она, без сог
мнения, была также первой молитврй на языке народа,
который воздвигнул впоследствии храм в Иерусалиме.
Слыша когда-то имя Юпитера, Юпитера, униженного
Гомером и Овидием, низведенного в положение разгне-
ванного супруга или неверного любовника, мы вовсе не
думали о священном кладе воспоминаний, заключенном
в этом названии, мало достойном уважения.
Мы будем постоянно встречаться с объяснениями
подобного рода при изучении религий и убедимся, что
почва, занятая нами, поистине может быть названа свя-
той землей. Минула тысяча лет с того дня, как арий-
ские народы разделились, чтобы направиться к северу
и югу, к востоку и западу, они повсюду образовали
язык, основали государства и философии, воздвигли
храмы и наконец потеряли все это; все они состари-
лись, сделались, быть может, лучшими и более благо-
разумными, но всякий раз, когда они ищут названия
для выражения того, что наиболее возвышенно, а вмес-
те с тем и дороже всего для каждого из нас, лишь толь-
ко они желают выразить честь и любовь, бесконечное и
конечное, они делают то, что делали их праотцы, кото-
рые, возводя свой взор к вечному небу, чувствовали
присутствие существа, одновременно отдаленного и
близкого: они комбинируют те же самые слова и повто-
ряют первобытную молитву арийцев, воззвание к «Небу-
Отцу», принявшее в продолжение веков форму: «Отче
наш, иже еси на небесех».
Займемся теперь первобытными религиями семит-
ских народов. Их языки, как известно, связаны между
собой еще теснее, чем языки арийские, и даже до такой
степени, что сравнительная грамматика семитских язы-
ков почти лишена тех прелестей, какие, представляют
79
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
нам сравнительное изучение санскритского, латинско-
го и греческого языков. Исследователи семитских иди-
омов жалуются на неблагодарную плату за свои труды
при сравнении еврейского, сирийского, арабского и
эфиопского языков, потому что является вполне доста-
точным простое помещение друг возле друга слов, взя-
тых из этих языков, и родство, связывающее их, делает-
ся тотчас же очевидным.
Что касается меня, то я не считаю основательными
эти нарекания и надеюсь, что г, Ренан исполнит имев-
шееся когда-то у него намерение и посредством сбли-
жения между собой при изучении литературных ветвей
языков семитов, а также старых диалектов Финнкин,
Аравии, Вавилонии и Ниневии составит сравнитель-
ную грамматику семитских языков, которая займет ме-
сто возле знаменитой сравнительной грамматики арий-
ских языков Боппа.
Удивительнее всего то, что ни один философ, изуча-
ющий семитские языки, не последовал примеру лингви-
стов, посвятивших себя изучению арийских языков, и
не собрал из различных семитских диалектов тех об-
щих им всем выражений, которые существовали
раньше, чем язык древнееврейский был древне-
еврейским, сирийский — сирийским, и прежде, чем су-
ществовал язык арабский; эти выражения дали бы нам
возможность составить себе понятие о цивилизации се-
митской расы до того периода, в котором она тоже
распалась на народы. Здесь материалы представляются
довольно обильными и легкими для исследования.
Например, главные степени родства выражены назва-
ниями того же самого происхождения у семитов, что и
у арийцев, и если было важным открытие, что арийцы
умели назвать и различали не только членов естествен-
ной семьи, как-то: отца, мать, сына, дочь, брата и
сестру, но и более отдаленных членов, как-то: отчима,
МАКС МЮЛЛЕР
ВО
мачеху, зятя, сноху, шурина и невестку, то разве было
бы менее интересным открытие, что семитские народы
достигли той же степени цивилизации еще до издания
законов Моисея?
Мы находим без трудности в наших исследованиях,
придерживаясь точно определенных границ, что семит-
ские языки, подобно арийским, имеют много названий
для означения божества, слов, которые, без сомнения,
существовали до того времени, когда языки эти оконча-
тельно отделили от себя ветви южную, или арабскую,
северную, или арамейскую, среднюю, или еврейскую.
Эти слова позволяют нам вникнуть в религиозные поня-
тия первобытной, не разъединенной еще семитской
расы, они дают нам возможность узнать, каковым было
это почитание до того времени, когда Авраам поклонял-
ся Иегове, когда Ваалу поклонялись в Финикии, а Элу в
Вавилоне.
Справедливо и то, как я уже вспоминал об этом в
другом месте, что значение этих слов во многих случа-
ях далеко более общо и абстрактно, чем первобытное
значение названий арийских божеств. Они значат «мо-
гущественный, уважаемый, великий, царь, господин», а
впоследствии, кажется, они давались различными вет-
вями семитского семейства в виде почетных титулов
богам, почитаемым каждой из них в ином храме.
Одно. из древнейших названий божеств, встре-
чающееся у предков семитских народов, есть Е1, Оно
значило «Сильный». В вавилонских надписях мы нахо-
дим его под формой Пи, Бог и далее в названии ВаЬ-П,
«ворота, храм». В древнееврейском языке оно является
уже в значении «Крепкий», или «Богатырь», как одно из
названий Бога; кроме того, мы находим, что это имя от-
носится не только к истинному Богу, но также к богам
языческим, или ложным. Мы его встречаем в названи-
ях Beth-El, «дом Бога», и некоторых других словах.
Bl ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
Если это имя имеет перед собой член, как в ha-El,
«Крепкий», или «Бог», то оно всегда означает в Ветхом
Завете Иегову или единого Бога иудеев.
Тот же самый Е1 был почитаем в Библосе финикия-
нами, где его называли сыном неба и земли. Отец его
был сыном Элиуна, величайшего из богов, лишенного
жизни дикими зверями. Сын Элиуна, который ему на-
следовал, был свергнут с престола, а потом убит своим
сыном, называвшимся Е1, в котором Филон узнает
греческого Хроноса, признавая его божеством, восседа-
ющим на планете Сатурн1. В гимиарптических надпи-
сях встречается также имя Е1.
Eloah, употребленный в Библии в единственном
числе, имеет то же самое значение, что и Е1; упот-
ребленный же во множественном числе, может озна-
чать богов вообще, даже и ложных, однако в Ветхом За-
вете это слово делается названием истинного Бога —
во множественном числе по отношению к форме, в
единственном по отношению к значению.
Другое название божества, весьма известное, сле-
ды которого мы встречаем у многих семитских народов,
есть Baal или Bel. Ассирийцы и вавилоняне, финикия-
не и карфагеняне, моавитяне и филистимляне, можем
прибавить, и евреи — все знали Ваала, или Бела, вели-
кого бога и даже самого высшего. Весьма трудно
утверждать, что Ваал был иноземным божеством у
евреев, ибо эти последние часто не переставали покло-
няться ему в.лесах, окружающих Иерусалим. Евреи счи-
тали Ваала домашним божеством и, во всяком случае,
божеством семитским и одним из божеств, которым по-
клонялись их отцы по другую сторону реки (Евфрата).
Ваал, без сомнения, занимал высокое положение. Ваал,
'Диодор Сицилийский подтверждает, что, по верованию хал-
деев, Е1 царствовал на планете Сатурн.
МАКС МЮАЛЕР
82
сначала единый, вскоре разделился под влиянием мест-
ных культов на огромное число божеских лиц. История
упоминает о Ваале — Tsur, Tsidon, Tars, это был соб-
ственно Ваал Тира, Сидона и Тарса. Два подсвечника,
найденных на острове Мальта, носят такое финикий-
ское посвящение: «Мелькарту, Ваалу Тирийскому».
В Сихеме Ваалу поклонялись как Ваалу-Barith, на-
звание которого предполагается означающим бога
перемирий; в Экроне поклонялись ему как Ваалу-Зебу-
бу, евреям же и моавитам равным образом он был изве-
стен под именем Baal-Peor. На некоторых финикийс-
ких монетах Ваал носит название BaaA-Shatnayim,
«Ваал неба», в том же самом значении, что и Beelsamen,
в котором Филон видит солнце. «Когда жара, — го-
ворит он,— делалась невыносимой, древние финикий-
ские племена простирали руки к солнцу». Солнце в их
глазах было самим богом, владыкой неба, они называли
его Beelsamen, что у финикиян означает — бог неба, то
же, что у греков Зевс. В другом месте мы видим, что
речь идет об Baaltm, т. е. о Ваале во множественном
числе. При мужском Baalt мы встречаемся с женским
божеством Baalt (финикийская Baaltis). Быть может,
первоначальное понятие о женских божествах у семит-
ских народов отличалось от понятия арийцев, и жен-
ская форма Ваала предназначалась сначала для означе-
ния энергии и деятельности, или же суммы всех спо-
собностей божества, но не означала существа отдель-
ного, и еще менее существа женского. Это мнение
хорошо подтверждается карфагенской надписью, где
мы находим богиню Tanit, называемую «лицом Ваала»,
и надписью Eshmunazar, дающей сидонской Астарте
эпитет: «имя Ваала».
Но впоследствии это абстрактное понятие стушева-
лось и его заменило понятие некоторого женского могу-
щества, даже могущества жены, и мы находим уже с та-
83
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ким характером Baaltis, почитаемую у финикиян, вави-
лонян и ассирийцев, ибо название Mytittia у Геродота,
по мнению Опперта, есть испорченное название Baaltis..
Есть еще другое женское божество, Ashtoreth, на-
звание, заставляющее предполагать существование бо-
жества мужеского рода Ashtar. Следы существования
этого бога нашли в слове Ishtar в вавилонских надпи-
сях, а недавно в Ashtar в моавитских памятниках.
Здесь, однако, женское божество одержало верх и
пользовалось почитанием не только карфагенян, фини-
киян и филистимлян, но также и евреев, когда они, сде-
лавшись неверными Господу, стали поклоняться Ваалу
и Ashtoret.
Сирийцы называли ее Astarte, и под этим названи-
ем она была известна в Греции и Риме. Когда Иеремия
говорит о царице неба, то следует понимать только
Astart или Baaltis. Даже в южной Аравии существуют
следы почитания, воздаваемого этой древней богине.
Потому что в Сане, древней столице гимиаритического
царства, находился изящный дворец и храм, посвящен-
ный Венере (Bait Ghumdan), да и в надписях гимиа-
ритических прочли имя Athtar; даже еще более: этому
названию в одном отрывке предшествует слово,
употребленное в мужском роде.
Другое название, означавшее первоначально
«царь», которое, по всей вероятности, означало имя бо-
жества во времена доисторические, есть еврейское
Melech. Мы находим его в Молохе, почитаемом не толь-
ко у карфагенян, на островах Крит и Родос, но также и
в долине Гинном. Мы находим его в Милькоме, боге ам-
монитян, имевших свой храм на Елеонской горе; а боги
Адраммелех и Анаммелех, в честь которых сефарвиты
сжигали своих детей, являются, кажется, только мест-
ными видами того же самого семитского бога. Имя
Adoni, означающее в еврейском языке «мой. господин».
МАКС МЮЛЛЕР
84
а в Ветхом Завете относящееся исключительно к Иего-
ве, встречается в Финикии как название наивысшего
божества; претерпев несколько мифологических пере-
мен, оно становится очень известным благодаря гре-
ческим легендам, которые говорят о красоте Адониса, о
любви, какой он воспламенил Афродиту, и о его смерти
от клыков диких кабанов бога Марса.
Кроме названий приведенных здесь божеств, суще-
ствует еще много других названий, принадлежащих со-
обща ко всем семитским народам или, по крайней мере,
к важнейшим из них, которые свидетельствуют нам тем
самым о своем существовании до разделения семитс-
кой расы; затем следуют другие названия, свойствен-
ные уже каждой ветви.
На первом плане между этими последними помеща-
ется название lehovah, или lahveh, которое, как кажет-
ся, употреблялось исключительно евреями. Правда, что
в известном отрывке у Лидуса сказано, что 1ао было на-
звание Бога у халдеев, но Лидус, предполагая, что 1ао
было то же самое выражение, что lahveh, или lah
(в Hallelu-jah), разумел, может быть, под халдеями
евреев. Если бы, как полагает Роулинсон, имя lehovah
возможно было найти в вавилонских надписях, то было
бы иначе; иам пришлось бы тогда допустить, что имя
это уже упрочилось до разделения разных ветвей се-
митской расы; но пока этот факт не проверен оконча-
тельно, мы всегда будем считать lehovah божеством,
принадлежащим исключительно евреям, или, по мень-
шей мере, названием, избранным пророками для озна-
чения одного истинного Бога, в противоположность
всем остальным богам семитской расы. Впрочем, поме-
стим ли мы имя lehovah в списке богов, общих семитам,
или нет, я думаю, что мы располагаем достаточным ко-
личеством свидетельств, чтобы установить то, что мы
хотели, т. е. что был такой период, в котором предки се-
85
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
митской расы еще не были разделены ни религией, ни
языком. Этот период простирается очень далеко, за
первые воспоминаниями всех семитских ветвей, подоб-
но тому как индусы, греки и римляне не сохранили ни-
чего в памяти из той эпохи, когда они говорили одним
языком и поклонялись небесному отцу, имени которого
нет ни в санскрите, ни в греческом, ни в латинском язы-
ке. Что касается меня, то я не колеблюсь назвать этот
доисторический век периодом историческим, и то в са-
мом узком значении. Этот период, говорю я, имел
исторический характер, потому что, если бы он его не
имел, то все факты, доставленные языками и семитски-
ми религиями, были бы непонятными после разделения
расы. Еврейский, сирийский и арабский языки относят-
ся к общему источнику, равным образом как язык
санскритский и латинский; и если мы не усомнились в
том, что индусы, греки, римляне и тевтоны обязаны
своими божествами и культом какому-то общему
первобытному святилищу, то мы не имеем права отри-
цать, что также и семитская раса имела первобытную
религию; мы не вправе, говорю я, отрицать, что богу Е1,
могущественному на небе, поклонялись все семитские
народы раньше, чем были вавилоняне в Вавилоне, фи-
никияне в Сидоне и Тире, раньше, чем появились евреи
в Месопотамии или Иерусалиме. Объяснения, достав-
ленные нам семитскими языками, ничуть не отличают-
ся от объяснений, почерпнутых из языков арийских,
следовательно, выведенные отсюда заключения не дол-
жны быть иными.
Теперь сделаем обозрение третьей группы языков и,
как я вам докажу, третьей группы религий: той группы,
которая служит основанием для туранского мира. Это в
высшей степени трудная задача; признаюсь, я не знаю,
удастся ли мне возбудить в вас интерес и симпатию к
религиозным воззрениям народов, столь для нас чуждых
МАКС МЮМЕР
86
и отдаленных, как китайцы, монголы, самоеды, финны и
лапландцы. Древияя история арийских и семитских
народов естественно возбуждает наш интерес, потому
что мы —- арийцы относительно языка и семиты — по
крайней мере, в известной степени — в отношении
религии. Но что же нас связывает с туранцами, китай-
цами и самоедами? Без сомнения, они такие же люди,
как и мы. Желтый цвет кожи или выдающиеся скулы
еще не составляют человека. Приглядевшись ближе к
китайцу, мы увидим, что он имеет такую же бес-
смертную душу, как и мы, что Бог, образ которого он
носит в этой душе, тот же, которому поклоняемся и мы,
каково бы ни было состояние его религиозного языка и
несовершенство его почитания.
При изучении религии китайцев как первобыт-
нейшего типа туранского культа представляется воп-
рос: найдем ли мы в их языке названия божеств, встре-
чающиеся также в религиях и мифологиях других
туранских племен, каковыми являются маньчжуры,
монголы, татары и финны? Признаюсь, что, видя под-
вижный и колеблющийся характер туранских языков,
видя долгий промежуток времени, протекший между
эпохой первого слоя языка и религии китайцев и посте-
пенным, несовершенным развитием других туранских
племен, признаюсь, я не питал никакой надежды встре-
титься в религиозных традициях обширного туранского
мира с этими названиями, переходящими из века в век,
от народа к народу, как это происходило, например, у
арийцев с Dyaus pitar, у семитов с Ваалом и Е1. Но не-
ужели это может быть поводом к тому, чтобы не искать
таких имен в китайском, монгольском и туранском язы-
ках, чтобы относиться к ним небрежно, отговариваясь
то неинтересностью предмета, то недоверием к возмож-
ности существования здесь такого же полного и
поразительного сходства, какое существует между
87
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
арийскими или семитскими божествами? В изысканиях
этого рода бывают различные степени достоверности, и
кто желает добиться существа, тот не должен бояться
коснуться того или другого; кто хочет взобраться на ле-
стницу, тот должен начать с первой ступени. Сходство
религиозного китайского словаря с другими туран-
скими языками, без сомнения, не так поразительно, как
в языках греческом и санскритском или еврейском и
финикийском; но, несмотря на все это, оно существует
и не должно быть пренебрегаемо теми, которые сеют
семена новой науки,
Вы помните, что древняя народная китайская
религия основывалась на почитании различных духов,
сил, даже, можно сказать, имен. Этим именам при-
писывают хорошее или дурное влияние на жизнь чело-
века. Мы находим там веру в духов неба, в солнце,
луиу, звезды, земли, горы, ручьи, не говоря уже о духах
покойников.
В Китае, где всегда можно было заметить
стремление к порядку и правильности, образовалось
нечто вроде религиозной системы, основанной на
различии двух сил: активной и пассивной, мужской и
женской; они поглощали все, и люди, даже весьма
образованные, считали их бесконечно выше толпы
других духов.
Эти две силы составляют основание всякого бытия,
всех вещей, потому что в природе все двойственно; их
часто отождествляли с небом и землей. Однако для нас
очевидно, что дух неба испокон веков занимал положе-
ние более высокое, нежели дух земли; и только из
исторических книг Shu-King мы почерпаем известие,
что небо и земля были сообща отцом и матерью всех ве-
щей. В поэзии же древнейших времен само небо явля-
ется одновременно отцом и матерью. Этот дух неба из-
вестен у китайцев под именем Tien, и везде, где в
МАКС МЮЛЛЕР
88
других языках название главного божества было
Юпитер или Аллах, в китайском мы находим Tien, или
небо. Этот Tien по императорскому словарю значит «ве-
ликий», тот, который управляет вверху и правит всем
тем, что делается внизу. В самом деле, мы видим, что
Tien, первоначально название неба, прошло в китай-
ском языке все те фазы, какие прошло слово Dyaas, оз-
начающее небо в поэзии, религии, мифологии и фило-
софии Индии и Греции. Знак, который нам изображает
Tien, таков: он складывается из двух других: ta,
что значит «великий», и__yih, т. е. «один». Только
одно небо считали не имеющим равного себе по вели-
чию и возвышенности. Помнится, я читал в китайской
книге: «Если существует только одно небо, то не может
быть много богов». И в самом деле, вера в Tien, духа
неба, может считаться содержанием и основанием
религиозного словаря китайцев. «Славное небо, — чи-
таем мы в другом месте, — называется широким; оно
сопутствует тебе, куда бы ты ни шел; славное небо на-
зывается также блистающим и простирается над тобой,
хотя бы ты убегал от него». Tien называется также
праотцом всех вещей, существом наивысшим. Кроме
того, оно именуется великим мастером, потому что со-
здает существ и вещи, подобно горшечнику, выделыва-
ющему. из глины кухонную утварь. Китайцы говорят
также о предопределении и воле неба, о шагах неба,
или провидении. Мудрецы, учащие народ, суть послан-
ники неба, и сам Конфуций считается таким посланни-
ком, отправленным как будильник для мира. Тот же Кон-
фуций, теряя надежду на то, что будет в состоянии вдох-
нуть веру в других, находит единственное утешение и
подкрепление: «Небо меня знает». Из этого места следу-
ет, что для Конфуция Tien, т. е. дух неба, был наивыс-
шим божеством; из этого также вытекает, что Конфуций
почитал другие божества: духов воздуха, гор и рек, а так-
89
ОТ СЛОВАК ВЕРЕ
же духов покойников, почти так же, как почитал Сократ
мифологические божества Греции. Его спросили однаж-;
ды: «Каким образом следует почитать духов»? Он же от-
ветил: «Если мы не в состоянии почитать людей, то ка-
ким же образом мы могли бы почитать духов?». В другой
раз он говорил своим точным и связным языком: «Почи-
тайте богов и держитесь от них вдали».
Нам приходится теперь исследовать, находятся ли
хакие-нибудь следы этой веры в наивысшего духа и у
других ветвей туранского семейства, у маньчжуров,
монголов, татар, финнов и лапландцев. Так как суще-
ствует много названий для означения неба на туран-
ских диалектах, то нам нет необходимости искать в них
то же самое название, что и в китайском; однако, если
бы можно было напасть хотя на какой-нибудь след это-
го имени у монголов и татар, наше доказательство
выиграло бы в силе. По крайней мере, так практикуется
в мифологических исследованиях: если мы находим
одинаковые понятия, те же мифы и легенды в Индии,
Греции, Италии, Германии, то наверное родится неко-
торая догадка в пользу общности их происхождения, но
ничего больше. Но если в мифологии Вед и мифологии
Греции, Рима и Германии мы встретим богов и героев,
носящих одинаковое название, мы станем тогда на бо-
лее твердой почве. Мы имеем тогда дело с неопро-.
вержимой действительностью, нам остается только
объяснить себе такой факт и дать себе в нем отчет.
В туранской мифологии факты этой категории нелегко
связать между собой. За исключением Китая, нам весь-
ма мало известна древняя история туранских племен,
тем же, что знаем, мы обязаны очень часто предубеж-
денным исследователям.
Более того, их древнее языческое состояние почти
совсем исчезло от натиска других религий—буддиз-
ма, магометанства, христианства. Однако, справляясь
МАКС МЮЛЛЕР
90
с отчетами заслуживающих наибольшего доверия путе-
шественников по Средней и Северной Азии, а главным
образом, принимая во внимание добросовестные на-
блюдения Кастрена, мы замечаем несколько порази-
тельных сходств в скромном запасе наших понятий о
религии племен тунгусских, монгольских, татарских и
финских. Мы везде находим почитание духов природы,
духов покойников, а над этим почитанием витает вера
в наивысшего духа, известного под различными имена-
ми, как-то: отец, старик, в другом месте — создатель и
попечитель о мире, и всегда небо считается его
местопребыванием. Китайские историки считаются
единственными писателями, доставляющими нам точ-
ные сведения о первобытном периоде некоторых туран-
ских племен, именно гуннов и турок. Эти писатели до-
казывают нам, что гунны почитали солнце, луну, духов
умерших, духов неба и земли и что их духовенство —
шаманы имели свое государство в облаках и власть по-
сылать снег, град, дождь и разгонять ветры.
Византийский историк Менандр говорит, что в его
время турки почитали огонь, воду и одновременно
верили в Бога, создателя мира, и приносили ему в
жертву верблюдов, волов и баранов.
Немного позже средневековые путешественники
Плано Карпини и Марко Поло, сообщают нам много
подробностей и говорят, что монгольские племена по-
клонялись солнцу, огню и воде и верили также в могу-
щественного и страшного Бога, которого звали Natagai
(Natigay) или Noga.
В новое время главным источником, откуда мы дол-
жны черпать, являются отчеты Кастрена, который имел
глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать то, чего
другие путешественники не видели и не слышали. Он
говорит следующее о тунгусских племенах: «Они по-
клоняются солнцу, луне, звездам, земле, огню, духам
9)
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
лесов, рек и некоторых священных местностей; они по-
клоняются также изображениям и фетишам, но,
несмотря на все это, они питают веру в наивысшее су-
щество, называемое у них Buga*. Самоеды, прибавляет
Кастрен, поклоняются идолам и различным естествен-
ным существам, всегда, однако, они исповедуют веру в
высшее божеское могущество, которое они называют
Num. Это божество, называемое Num, носит также на-
звание Juma у самоедов, а в финской мифологии оно из-
вестно под именем Jumala. Финская мифология
сохранилась лучше и полнее мифологии других алтай-
ских племен, и в ее древних эпопеях, передаваемых в
течение многих веков из уст в уста, из поколения в по-
коление, но записанных очень поздно, мы находим пре-
красные описания Юмалы, божества неба.
Юмала первоначально означал небо. Это слово, как
доказал Кастрен, происходит от Juma, «гром», и 1а, «ме<-
сто», и, следовательно, означает место грома, т. е. небо.
Сначала им пользовались для означения неба, затем
для выражения бога неба и наконец для означения бо-
гов вообще. То же самое слово, но уже измененное со-
гласно законам фонетики, свойственным каждому язы-
ку, встречается у лапландцев, эстонцев, зырян, чере-
мисов и вотяков. Мы можем проследить рост и измене-
ния этого небесного божества, ибо то здесь, то там
удается напасть на след религиозной мысли алтайских
племен. Когда Кастрен спросил старую самоедку, мо-
лится ли она, она ему ответила: «Каждое утро я выхожу
из моего жилища и воздаю поклон солнцу, говоря: “Ко-
гда встаешь ты, встаю также и я”. А каждый вечер
говорю: “Когда ты идешь спать, собираюсь ко сну и я”».
Это была ее молитва, быть может, весь ее культ, вся
религия. Религия эта, по нашему пониманию, быть мо-
жет, и груба, одиако о ней иначе думала эта старушка,
которая благодаря этой молитве отрывала два раза в
МАКС МЮЛЛЕР
92
день свой взгляд от земли и смотрела на небо; эта мо-
литва имела то значение для этой женщины, что жизнь
земная зависит от жизни высшей; эта молитва отпечат-
левала на ее ничтожном существе какой-то божеский
характер.
Очевидно, эта женщина гордилась своею молитвой,
потому что она прибавляла с выражением, полным дос-
тоинства: «Есть дикие люди, которые утром и вечером
не произносят молитвы». Итак, в приведенном случае
божество неба приравнивалось к солнцу; в другом мес-
те мы встречаемся с Юмалой как с богом моря. Однаж-
ды Кастрен, гуляя с самоедом-моряком по берегу Ледо-
витого моря, спросил этого последнего, кто таков Num
(т. е. Юмала). Не колеблясь ни минуты, старый моряк
указал на море, чернеющееся вдали, и сказал: «Вот он!»
В эпопее «Калевала» мы находим отрывок, где взывают
к Юмале: «И снизойди теперь к купели, о Юмала, вла-
дыка воздуха».
В другом месте Юмала является божеством возду-
ха, которого призывают следующим образом: «Одень
теперь их упряжью твоих лошадей, о Юмала, ты,
который господин воздуха. Пусти быстрых бегунов.
Блистающие красками сани пусть мчатся, пробегая по
нашим костям, по нашему дрожащему телу, по нашим
жилам, которые кажутся разорванными. Укрепи зараз
тело и кости, соедини теснее жилы с жилами. Сделай,
чтобы кости наполнились серебром и чтобы золото тек-
ло волнами в наших жилах». Во всех этих случаях
призываемое таким образом божество является богом
неба, Юмалой; но характер его здесь так неточен, что
трудно сказать, есть ли он бог неба или солнца, моря
или воздуха, или наивысшее божество, проявляющееся
под этими различными формами природы.
Вы, естественно, спросите меня, есть ли какое-ни-
будь сходство между именем этого божества и китай-
93
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ского бога неба, Tien? Общее почитание Юмалы может
служить доказательством известной религиозной кон-
центрации у алтайских племен Северной Азии, но оно
не доказывает, что в доисторические времена суще-
ствовало что-нибудь общее между различными наро-
дами, с одной стороны, и древними жителями Китая —
с другой. Правда, что китайский Tien, бог неба и бог во-
обще, говоря точно, находится в связи с Юмалой
северных туранцев: но мы домогаемся большего; мы
желали бы найти следы существования того же самого
имени в Китае, у монголов и татар, точно так же, как
мы находим имя Jupiter и в Индии, и в Италии, а Е1 в
Вавилонии и Палестине. Припомним, что китайский
язык есть язык односложный и что позднейшие туран-
ские диалекты вступили в период агглютинации, т. е.
когда пользуются производными слогами, и мы откроем
тогда без труда следы китайского Tien со всеми значе-
ниями, какие он принимал, по крайней мере у несколь-
ких важнейших туранских племен. Так, мы найдем в
монгольском языке Tengri, слово, означавшее перво-
начально небо, потом бога неба, бога вообще, наконец
духа или демона, доброго или злого.
Я полагаю, вы можете оценить великое значение
этого открытия.' оно дает положению, которое я ставлю,
самое сильное основание.
Если бы мы не нашли того же самого названия, да-
вавшегося наивысшему божеству в гимнах Вед и мо-
литвах додонских жриц, мы не могли бы быть
уверенными, что первоначально существовало понятие
божеской личности, почитаемой раньше пришествия
индусов в Индию, раньше, чем голуби искали убежища
в тени додонских дубов. То же самое замечание отно-
сится к китайскому Tien и монгольскому Tengri. Это
еще не все. Благодаря счастливой случайности
туранское название Tengri можно отнести к весьма
МАКС МЮЛЛЕР
94
важной эпохе. Китайские писатели, рассказывая нам
первобытную историю гуннов, ссылаются на то, что эти
последние давали своему начальнику титул TangU-Ku-
tu (или Tchen-ju). Этот Тангли-Куту означал на их язы-
ке «Сын неба»; заметьте, что то же самое имя, в немно-
го измененной форме, дается еще и теперь китайскому
императору. И здесь оно означает уже не «сын неба», а
«император по милости неба». Китайский титул звучит
теперь Tien-tse и соответствует гуннскому TangU-Ku-
ta. Из этих материалов я вывожу заключение, что
TangU гуннов, Tengri монголов и китайское Tien являг
ются одним и тем же названием.
С другой стороны, исторические указания, данные
нам китайцами относительно предков турок, говорят,
что они почитали духов земли, которых называли ри-
teng-i-U; первый из этих слогов означает землю, осталь-
ные три, teng-i-И, соответствуют монгольскому Tengri^
тем, однако, ограничением, что это слово берется здесь
не в значении неба или бога неба, а в значении богов, ду-
хов вообще. Мы находим еще аналогичное выражение в
современном якутском слове Tangara. Оно означает
небо, а также и бога, и у обращенных христиан Сибири
слово Tangara употребляется в значении «святые». Ди-
Бога», так как он живет под открытым небом, или, быть
может, потому, что сам Бог печется о нем.
Здесь мы имеем уже доказательство того же самого
порядка, который дал нам возможность определить
первобытную семитскую и арийскую религию; так как
общее название, дававшееся наивысшему божеству и
сохранившееся в односложном китайском языке, мы
имеем равным образом и в диалектах нескольких более
или менее значительных туранских племен на Севере.
В этих словах мы не только находим, впрочем, не впол-
не верное, сходство в звуке и значении; но, проследив
95
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
их развитие в языке китайском, монгольском, турец-
ком, мы увидим возможность открытия следов орга-
нического тождества. Повсюду упомянутое слово оз-
начает первоначально небо, потом поднимается до
означения Бога, потом, в свою очередь, понижается, оз-
начая собой богов и духов. Перемены в значении, ка-
ким подверглись эти слова, идут параллельно с
религиозными переворотами у этих народов.
Если бы мы позволили себе увлечься простым сход-
ством в звуке или значении, то было бы легко отнести
самоедское слово Num, означающее наивысшее боже-
ство, подобно Юмале финнов, к названию Nam,
которое на тибетском языке означает Бога. Это был бы
весьма важный пункт, потому что он способствовал бы
проведению первоначального тождества между ре-
лигиями северных и южных туранских племен. Однако,
пока мы не узнаем ближе этого тибетского слова, его
образования и органического роста, нам нельзя го-
ворить о только что упомянутом родстве. Если теперь
мы возвратимся на минуту к второстепенным духам, по-
читаемым в Китае народными массами, мы тотчас уви-
дим, что эти духи поразительно схожи с теми духами, в
которых верили туранские племена Севера. Такие духи
'на житаииким згзыке чнлзп ’название &нсн, тганавмие
каждому могуществу, каждому невидимому влиянию,
последствия которого мы можем однако отличить во
вселенной. Некоторые Shin, или духи, являются пред-
метом действительного почитания по мере своего дос-
тоинства; другие возбуждают нечто вроде боязни, со-
единенной с почитанием. Духи несчастья изгоняются и
рассеиваются при помощи заклинаний. Здесь суще-
ствует такое множество духов, что представляется не-
возможным определить точно их число. Главные
категории следующие: небесные духи (tien-shin), духи
земли (ti-ki), духи предков (jin^kwei) и т. д., это порядок
МАКС МЮЛЛЕР
95
достоинства, иерархия, на основании которой их
классифицируют. Среди небесных духов (tien-shin) мы
встречаем духов солнца, луны и звезд, облаков, ветра,
грома и дождя; между духами земными встречаются
духи гор, полей, пашен (хлебов), деревьев, года; между
духами умерших различаются духи царей, мудрецов,
благодетелей человечества, которые должны почитать-
ся целым народом; или, опять, каждое семейство имеет
своих собственных manes, которым воздает особенное
почитание при помощи множества суеверных обрядов.
Религиозное чувство северных туранских племен
заклеймено тем же самым характером, но не имеет уже
той системы мелочных различий, тех комбинированных
правил, на которых истощился гений Китая. Мы виде-
ли, что самоеды верили в единого, наивысшего бога
неба, называвшегося Num. Кастрен, так долго живший
с ними, говорит: «Главные божества, призываемые их
жрецами и кудесниками (шаманами), суть так называе-
мые Tadebejos. Это духи невидимые, населяющие воз-
дух, землю и всю природу. Я слышал от нескольких са-
моедов, что они — духи умерших; другие же считали
их классом второстепенных божеств».
Тот же ученый говорит, что финская мифология
имеет громадное количество имен божеств. Каждый
предмет в природе имеет своего гения, называемого
Haltia и считаемого творцом и опекуном этого пред-
мета.
Такие духи не привязаны исключительно к свой-
ственным им предметам, но имеют возможность нахо-
диться повсюду; они имеют тело и душу и вместе с тем
точно определенную личность. Их существование не
зависит от существования вещей, о которых они пекут-
ся, потому что, хотя все в природе имеет своего гения,
однако этот гений сохраняет известное существование,
независимое,от предмета своего попечения; он обнима-
97
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ет собою целый класс, род. Например, этот ясень, этот
камень или дом имеют своего духа-хранителя; но такой
дух пребывает и во всех ясенях, камнях, домах.
Будет вполне достаточно перевести вышеизложен-
ные факты на язык логики, и мы поймем сразу, что
здесь в развитии религиозных понятий и мифологиче-
ских названий случилось то же самое, что и в других
местах. То, что мы называем общим понятием и что не-
когда называли essentia generalis, т. е. род деревьев,
камней или домов, то финны и самоеды называют гени-
ем, Haltia, Tadebejos, а китайцы Shin. Нам нетрудно
понять эту essentia generalis, но для необразованного
ума она является непонятным выражением. Так как
точные индивидуальные понятия должны существовать
прежде, чем придется говорить о собирательном по-
нятии деревьев, т. е. о лесе, о собирательных днях, т. е.
о годе, то в этом переходном периоде были приняты об-
щие понятия, минуя индивидуальные, вместо вещи ося-
заемой была принята умственная, вместо конкретного
абстрактное, и таким путем тень, призрак, дух лесов,
года, облаков и молнии укоренились в уме человека;
так произошел известный класс существ, представляю-
щихся нам под названием божеств в религии и мифоло-
гии древнего мира.
Почитание духов умерших предков есть равным
образом удел северных туранских племен так же как и
китайцев. Я не придаю этому факту большего значе-
ния, потому что культ духов покойников является фор-
мой предрассудка, самого распространенного в мире.
Но важно то, что в этом отношении, считавшемся все-
гда очень характеристическим в китайской религии,
нет разницы между Китаем и северной Азией. Весьма
многие финские и алтайские племена, говорит Кастрен,
питают веру, что смерть, мысль о которой наполняет
их боязнью, не уничтожает вполне индивидуального
4 Языки как образ мира
МАКС МЮМЕР
58
существования. И даже такие, которые не веруют в бу-
дущую жизнь, сохраняют некоторые церемонии, дока-
зывающие существование веры в мертвецов за гробом.
Они берут пищу, одежду, топоры, ножи, огнива, котлы,
сани и складывают эти предметы на гробах; если
пристаем к ним с вопросом, зачем они делают это, то
они отвечают, что желают доставить умершим возмож-
ность охоты, рыболовства, борьбы; совсем как при жиз-
ни, Лапландцы и финны веруют в разложение тела пос-
ле смерти, но допускают также, что умерший прини-
мает на том свете новое тело. Иные говорят о приз-
раках умерших лиц, то блуждающих по гробницам, то
пробегающих царство смерти или прохаживающихся
по земле, в особенности в ночной темноте или во время
проливных дождей.
Люди слышат их в завывании бури, в шелесте лис-
тьев, в пламени огня и среди тысячи других обстоя-
тельств, Они невидимы для глаз обыкновенных смерт-
ных, по делаются видимыми кудесникам или шаманам,
которые угадывают даже мысли таких духов. Любопыт-
но поверье, по которому эти духи считаются существа-
ми злобными, а самыми злыми из них, по народному
верованию, считаются духи жрецов. Они прерывают
сон, накликают болезнь и несчастье и беспокоят своих
родственников. Делается все, чтобы только удержать
их вдали. Когда тело уже вынесли из дома, за ним
бросают красный камень, как заклятие, предупреж-
дающее возвращение мертвеца в жилище. Дань, состав-
ленная из пищи и разных предметов, помещенных на
могиле, препятствует также возвращению души умер-
шего в дом. У чувашей сын, приносящий жертву духу
отца, говорит: «Мы почитаем тебя этим пиром; смотри:
вот хлеб для тебя и разного рода кушанья, ты имеешь
все, чего только можешь потребовать, не приходи нас
мучить и не приближайся к нам».
И ОГСАООА К ВЕРЕ
Весьма распространена также вера, что умерший,
если ему отказывают в дани, мстит за такое пре-
небрежение, накликая болезни и другие бедствия.
Древние гунны убивали военнопленных над гробом сво-
их вождей, потому что шаманы доказывали, что иначе
нельзя было смягчить гнев духов. Те же самые гунны
приносили постоянные жертвы духам предков. Одно их
племя тора, которое переселилось из Сибири в
Среднюю Азию, отправляло послов с данями к могилам
своих праотцов. Эти гробницы были окружены высо-
ким частоколом для того, чтобы преградить доступ жи-
вым и вместе с тем выход умершим. Некоторые из этих
гробниц были роскошно украшены, а со временем до-
шло до того, что в Китае гробницы приняли размеры ве-
личественных храмов, в которых духи умерших были
предметом действительного почитания. Все это про-
исходит мало-помалу и постепенно; началом служит
цветок, положенный на могиле, а в конце концов почи-
тают духов умерших властителей наравне с наивысшим
духом Hang-te или Tien и ставят их выше других духов
или Shin. Различие, отличающее мелочный церемониал
в Китае от домашнего культа финнов и лапландцев, на
первый взгляд может показаться весьма значительным,
но когда мы заглянем как можно глубже, то увидим, что
эти религиозные верования были первоначально очень
похожи друг на друга. Вначале выступает почитание
неба, детское и наивное; потом оно распространяется
по мере умственного развития тех, которые его ис-
полняют; наконец наступает момент, дающий душе по-
лет, который влечет ее от одного горизонта к другому и
ведет к высшей вере, вере в бесконечное. На втором
плане стоит вера в духов, в бессмертные силы, удовле-
творяющая естественным и необходимейшим требова-
ниям религиозного инстинкта, доставляющего вообра-
жению соответственный элемент и одновременно
4*
МАКС МЮЛЛЕР
100
предмет для первобытной поэзии. Вера в души предков
есть один из жизненных, основных элементов веры в
бессмертие.
ЛЕКНИЯIV.
О СПОСОБЕ ТОЛКОВАНИЯ ДРЕВНИХ РЕЛИГИЙ
Я имел желание предварительно дать вам возможность
узнать, как следует понимать истинно научное изуче-
ние религий и какими материалами мы располагаем,
чтобы усвоить себе серьезное знание главных религий
мира, и основания, согласно которым можно их
классифицировать. Быть может, интерес у многих из
моих слушателей был бы сильнее, если бы я им сразу
указал внутренность древних храмов, где можно было
бы размышлять над мусором истуканов прошедшего и
делать изыскания, какие основные идеи выразились в
той или другой системе древнего религиозного веро-
вания. Но для того, чтобы изучать с видимой пользой
какие бы то ни было руины, будут ли это камни или
идеи, следует непременно знать, на что и как смотреть.
Большая часть историков древних религий любит во-
дить нас, как заблудившихся туристов, по обширным
музеям, где мы находим вместе древние и новые статуи,
утварь, относящуюся к культам восточным и евро-
пейским, оригиналы и копии; из такого путешествия
наш ум возвращается, унося с собой смятение и от-
вращение. На пути он видел много вещей, но из того,
что видел, он извлек поистине скромную пользу.
Разве не лучше, прежде чем вступить в эти лаби-
ринты, посвятить несколько часов времени размыш-
лению о том, что имеет поразить наш взгляд?
Без сомнения, вы заметили в моих вступительных
лекциях, что я остерегался выйти на поле теоре-
101
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
тической теологии, называемой так для отличия от тео-
логии сравнительной. Теоретическая теология, или,
как ее называют иногда, философия религии, занимает,
по моему мнению, место не перед, но за сравнительной
теологией. Я не стану скрывать убеждения, что срав-
нительная теология по отношению к теоретической
приведет к такому же перевороту, какой вызвало изуче-
ние сравнительной филологии в так называемой фило-
софии языка.
Вы уже знаете, на каком пути находятся умозрения,
относящиеся к природе языка, к его началу, развитию,
естественному росту и упадку. Я убежден, что та же
заря рассветает и для философских изучений, предмет
которых есть религия, ее природа, начало и развитие.
Я вовсе не утверждаю этим, что все прежние умо-
зрения на этом поле были бесполезны. Со времени по-
явления в свет сочинений Боппа и Гримма, Гумбольдта
и Бунзена нисколько не утратил значения «Кратил»
Платона и даже «Гермес» Гарнца.
Я полагаю только, что философы, отдающиеся ис-
следованиям о возникновении религий и о психоло-
гических условиях веры, будут писать в будущем с
большей осмотрительностью и будут остерегаться той
догматической уверенности, которой отличались до
сих пор философские умозрения в области религий, не
исключая ни Шелинга, ни Гегеля. До возникновения
науки геологии было легко составлять тысячи теорий о
начале Земли; равно как создавались тысячи теорий о
начале языка до возникновения науки глоссологии.
Теперь место прежних теорий занимают факты, а те, ко-
торые посвятили наибольший труд на изучение миро-
вых памятников и слоев языка, те, говорю я, с большим
опасением и осмотрительностью принимаются за разре-
шение великой загадки о его начале.
Я достаточно сказал для объяснения, отчего в этих
вступительных лекциях я заперся в тесные пределы, из
МАКС МЮЛЛЕР
102
которых мои слушатели, быть может, с удовольствием,
видели бы меня выходящим. Теперь мне предстоит по-
следняя лекция, которую я посвящу изложению затро-
нутого нами предмета: я буду говорить о духе изучения
и изложения древних религий.
Ни один судья ие мог бы оказаться более строгим
для преступника, чем оказались историки и теологи по
отношению к религиям человечества. Всякий факт из
жизни основателя религий разбирается обыкновенно с
известного рода желчью, и даже с гневом, не знающим
прощения; всякий поступок, рисующий нам основате-
ля религии обыкновенным человеком, всякое учение,
всякий культ, противный нашему способу почитания
Бога, считаются смешными и достойными презрения.
И это вовсе не особенный какой-нибудь случай, это
есть последствие системы, даже более, последствие
того пристрастного сознания долга, которое приводит
адвоката к тому, что он видит ангела в своем клиенте и
дьявола в противнике. Такая система должна была
вызвать неизбежно крайнюю несправедливость, со-
здать громадную ошибочность взгляда на настоящий
характер и истинную цель древних религий мира; от-
сюда различали ошибочно и характерные черты
христианства при сравнений с другими человеческими
религиями.
Лишая подобающего значения все религии, мы по-
местили нашу в таком освещении и положении, какое
едва ли было желательно ее основателю; мы или не
знали, или не желали знать о различных способах, ка-
кими Бог говорил к нам через уста пророков, и вместо
того, чтобы признать в христианстве религию, совер-
шившуюся во времени как венец желаний и надежд
целого мира, мы дошли до признания ее фактом, не на-
ходящимся в связи с другими, явлением, изоли-
рованным в мире, звеном, не соединенным никакой
103
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
связью с этой беспрерывной, правильной цепью, ко-
торую по справедливости можно было бы назвать гос-
подством Бога в этом мире. Это распространилось еще
дальше; есть люди, которые, благодаря простому не-
знанию древних религий, приняли за основание
доктрину, основывающуюся на предположении, что
все земные народы до христианства были решительно
осуждены и оставлены небесным Отцом, что они не
имели вовсе познания о Боге и никакой надежды на
спасение.
Если бы сравнительное изучение религий мира
привело только к тому единственному результату, что
указало бы, как через всю историю человечества
пробивается предвечная мудрость и божеская любовь
ко всем созданиям, то уже этот один результат был бы
весьма спасительным. Мы научились отдавать
справедливость древией поэзии, политическим учреж-
дениям, законодательству, философским системам,
произведениям искусства у народов, отличающихся от
нас во многих отношениях; мы научились оценивать,
если можно так сказать, момент рождения фактов во
всех сферах интеллектуальной деятельности, и я ду-
маю, что древняя история, надлежащим образом истол-
кованная, дала нам науку, какой бы мы не нашли в
другом месте. Мы удивляемся древним храмам в Егип-
те, Вавилонии, Греции, мы восхищаемся изяществом
памятников Фидия, но лишь только нам приходится су-
дить о религиозных понятиях, находящих свое выра-
жение в этом храме Минервы или в этой статуе
Юпитера, нами тотчас овладевает или сострадание, или
гиев; мы обращаемся с этими божествами как с настоя-
щими истуканами, пустыми изображениями, и их почи-
тателей — этих Периклов, Фидиев, Сократов и Плато-
нов — мы относим к числу идолопоклонников. Я не
отрицаю, что религии вавилонян, египтян, греков и
МАКС МЮЛЛЕР
104
римлян были несовершенны и полны ошибок именно в
их последнем периоде; но я утверждаю смело, что один
факт существования религии, какова бы она ни была,
возвышает эти народы и приближает их к нам более,
чем все произведения их искусства, вся их поэзия и фи-
лософия. Да, это так, потому что ни это искусство, ии
эта поэзия и философия не возникли бы без религии.
Постараемся же только освободиться от наших пред-
рассудков, постараемся составить мнение, какое мы со-
ставляем при оценке других вещей, будем иметь лю-
бовь к истине и любовь к людям, и нас приятно изумит
этот новый мир красоты и правды, который, будучи по-
хож на весеннюю лазурь неба, покажется нам из-за об-
лаков, прикрывающих еще до сих пор древние мифо-
логии.
Мы можем теперь провозгласить наши мнения сво-
бодно и без опасения, мы можем отважиться на чувство
любви к ближнему. Было время, когда люди вооб-
ражали себе, что истина, а именно истина наивысшая,
религиозная, приобреталась единственно слепым усер-
дием, железом и огнем. В то время нужно было свер-
гать всех идолов, истреблять все алтари и почитателей
их обрекать на смерть. Однако наступило уже иное
время, и нужно вложить меч в ножны. Если бы еще и
оставалось исполнить какое-нибудь дело, дать сраже-
ние, которое бы требовало апостольского рвения и му-
ченичества, то время для этого миновало в настоящую
минуту; завоевания окончены, и мы имеем свободное
время для спокойного размышления о прошедшем, рав-
но как и о том, что осталось еще исполнить. Мы не
боимся уже ни Юпитера, ни Ваала. Теперешние опас-
ности и трудности совершенно другого характера.
Я знаю, что этого рода взгляду делали много
упреков, но я стою за него теперь еще сильнее, чем ко-
гда-нибудь. Если бы в истории всего человеческого
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
K)S
рода невозможно было бы прочесть непрерывных уче-
ний божественного учителя и наставника, если бы там
нельзя было отыскать плана и постепенного возвы-
шения религий мира, то пришлось бы разве только раз-
бросать исторические страницы, а людей считать за со-
ломинки, которые сегодня растут в поле, а завтра будут
обращены в иавоз. Люди имели бы тогда меньше значе-
ния, чем воробьи, потому что нет птички, которую бы
оставил Бог. Однако те, которые воображают себе, что
для того, чтобы достигнуть спасения, нужно вырыть
пропасть между собою и другими народами, между соб-
ственной религией и религиями Зороастра, Будды, Кон-
фуция, наверное не знают, что на основании положе-
ния, считающего религии факторами, воспитывающи-
ми человечество, можно было бы смело сослаться на
авторитеты, перед которыми они покорно бьют челом.
Я не считаю нужным упоминать здесь одного из совре-
менных епископов и некоего немецкого философа, что-
бы доказать глубину и истинность этой теории. Если бы
дело шло об авторитетах, то мы сослались бы на пап,
отцов церкви и на самих апостолов, потому что все они
энергически и открыто покровительствовали этому
учению.
Я указал в другом месте, что изучение святых
религиозных книг и одновременное изучение греческой
и римской философии доставили христианским теоло-
гам ценные указания для более обширного сравнения
религий мира. При разборе Ветхого Завета заметили
отсутствие нескольких главных христианских истин и
спрашивали с удивлением, отчего предел между паде-
нием человека и его искуплением столь значителен, от-
чего люди блуждали так долго во мраке и в самом ли
деле язычники изъяты из попечения Бога. Вот какой от-
вет дал касательно этого папа Лев Великий: «Пусть
перестанут жаловаться те, которые нечестивым
МАКС МЮЛЛЕР
106
ропотом обвиняют Бога и жалуются на позднее
пришествие в мир нашего Спасителя; пусть знают, что
то, что совершилось в относительно недавнее время,
подготовлялось в продолжение всего прошедшего. Не
следует говорить, что слишком поздно совершилось то,
что апостолы провозглашали прежде и после и во что
всегда существовала вера. Любовь и мудрость Создате-
ля через замедление дела спасения сделали нас более
способными для своих планов. Провозглашая свои ис-
тины в продолжение стольких веков, столькими знака-
ми и тайнами, Бог хотел, чтобы они наверное были
приняты в данную минуту. Бог не помог счастью и
потребностям людей ни внезапным постановлением, ни
слишком поздним состраданием, но он с самого начала
наметил для всех людей один-единственный путь спа-
сения».
Таков язык папы Льва Великого. Послушаем те-
перь, что говорит святой Ириней и каким образом он
объясняет самому себе неизбежное несовершенство
религий человечества. Мать, говорит он, может дать
ребенку полную пищу, но дитя не может принимать
пищи, которую ел бы взрослый человек. Совершенно то
же самое относится к Богу и человеку: Бог мог бы иско-
ни дать человеку истину во всей полноте, но человек
был неспособен к ее принятию, потому что был
ребенком.
Если бы кто-нибудь не удовольствовался этим, мы
могли бы сослаться в последней инстанции на слова св.
Павла, что «право было воспитанием евреев», и на ту
его мысль, что «во всяком народе человек, боящийся
Бога и живущий правдой, достигнет спасения».
Но я повторяю, что нет нужды ссылаться на какие
бы то ни было авторитеты: для нас будет вполне доста-
точно посоветоваться с древними памятниками ре-
лигий, приступив к их изучению с сердцем, открытым
Ю7
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
для любви, с умом, жаждущим правды, где бы она ни
пребывала. Я знаю, что весьма многие из вас в какую-
нибудь известную минуту жизни чувствовали, как весь
мир, этот так называемый мир юдоли, изменялся, будто
вследствие какой-то магической метаморфозы; это был
день, в который вами овладело какое-то упование на че-
ловечество, вы перестали быть подозрительны, искать
везде зла, считать себя лучшими, чем ваши ближние;
потому что ближний добр и искренен, а если бы и не
был таковым, то ваше доброе мнение сделает его таким.
Совершенно то же самое происходит с религиями чело-
вечества. Пусть только наш ум потрудится отыскать в
них правду и добро, и мы едва будем в состоянии узнать
эти недавно презренные религии. Если оно — дело са-
таны, как охотно полагали многие из нас, то нужно
признать, что такое дело не соответствует духу своего
основателя. Потому что иет религии — или если есть,
то я не знаю ее, — которая бы не гласила: «Поступай
хорошо и избегай зла». Нет ни одной, которая бы не
заключала в себе того, что Раби Гиллель называл квин-
тэссенцией всех религий, простого, и однако же обяза-
тельного совета: «Будь добрым, дитя мое». «Будь
добрым, дитя мое» — это точный и понятный катехи-
зис, но прибавьте еще: «Будь добрым из любви к Богу»,
и вы получите содержание предписаний и учений
пророков. Мне хотелось бы прочесть вам отрывки, взя-
тые из священных книг древнего мира; в моих глазах
оии являются истинами более ценными, нежели копи
золота, молитвами столь простыми, столь искренними,
что мы все могли бы повторить их единогласно и едино-
мышленно, если бы возможно было привыкнуть к
странным звукам санскритского или, например,
китайского языка. Сегодня я приведу вам несколько та-
ких примеров, Вот молитва Vasishta ведического
пророка, обращенная к Варуне, греческому Обрсо/б?,
МАКС МЮЛЛЕР
10S
составляющему одно из названий неба, а затем и Бога,
который там обитает.
Я прочту вам одну строфу оригинала — 86 гимна
VII книги Ригведы, чтобы вы, распознавая пер-
вобытный характер, услышали слова, которые за
3000 лет были провозглашены в первый раз в
деревне, у берегов реки, называвшейся тогда Satad-
ru D, человеком, оживленным чувствами, которые не
чужды и нам, говорящим так, как говорим и мы,
верующим во многих отношениях подобно нам, инду-
сом, имевшим черный цвет лица, в одно и то же
время пастырем, поэтом, жрецом и патриархом, чело-
веком, который в благородном семействе пророков
достоин занять место возле Давида. Скажите, разве
не представляется удивительным доказательством
вечной жизненности и не подвергающейся истреб-
лению силы духа такая волна, несомая вдохновением
одного человека в великий океан человеческой мыс-
ли; она стремилась, расширяясь, разрастаясь до та-
кой степени, что по истечении многих веков говорит
к нам голосом, который не обманывает нас ничуть;
она говорит о том, что происходило в душе этого
древнего арийского поэта, когда он почувствовал в
себе присутствие всемогущего Бога, создателя неба и
земли, когда одновременно почувствовал тяжесть сво-
их ошибок и умолял Господа, чтобы он простил ему
грехи. Прислушиваясь к странным звукам этого веди-
ческого гимна, наш слух напрягается, и, быть может,
среди этого просвещенного, избранного общества на-
ходятся такие, у которых явится желание уверовать в
спиритизм. Vasishta действительно возвратился к
нам, и, если вам угодно будет принять меня за его пе-
реводчика, вы увидите, что легко понять все, что же-
лал высказать древний поэт:
109
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
Dhira tv asya mahin^ganumsh,
Vi yas tastamdha rodasi kid urvi
Pra nakam rishvam nunude brihantam,
Dvita nakshatram paprathak ka bhuma...
«Мудры и могущественны дела того, который отде-
лил обширные небосклоны (небо и землю). Он помес-
тил вверху светящееся и славное небо и разъединил
свод звезд и земли.
Разве это я сам говорю? Каким образом могу я
приблизиться к Варуне? Примет ли он мою жертву с
удовольствием? Когда увижу его, духа в отдохновении,
благосклонного к моим молитвам? Я призываю тебя, о
Варуна, желая узнать грехи мои; я отправился
спросить мудрецов. Мудрецы все говорили одно:
Варуна сердит на тебя. Был ли это какой-нибудь давний
грех, за который ты угнетаешь твоего друга, всегда сла-
вящего тебя похвалами? Скажи мне это, о господи,
которого ничто не могло побороть, а я, лишенный с это-
го времени грехов, поспешу стать пред тобой, неся тебе
дань почитания. Дай нам свое прощение за грехи отцов
и за те, которые мы совершили сами в наших телах. Ос-
вободи Васишту, освободи его, о господи, сделай его по-
хожим на вора, радующегося украденной кошке, на те-
ленка, освободившегося от придерживающей его
веревки. Не наша в том вина, о Варуна, что мы споткну-
лись: мы были под ярмом упоения, страсти, изменчиво-
го настроения. Старик ведет юношу на распутство, и даже
сон не может спасти от греха. Я желаю исправить мою
жизнь от ошибок и дать удовлетворение обиженному
Богу, подобно, тому как невольник дает удовлетворение
своему господину, одаряющему его милостью. Милости-
вый Бог открыл глаза неблагоразумному и осветил своею
мудростью тех, которые почитают его добродетелью.
МАКС МЮЛЛЕР ,
110
О господи, о Варуна, если бы песнь эта была хорошо
принята твоим сердцем! О, если бы я мог быть счастли-
вым, сохраняя то, что имею, и приобретая новые блага.
Осыпайте нас, боги, всегда вашими благодеяниями».
Я ничуть не ослепляю себя касательно несо-
вершенства этой древней молитвы, но я понимаю кра-
соты, заключающиеся в ней, и думаю, вы согласитесь,
что открытие такой одной поэмы между гимнами Риг-
веды и уверенность, что эта поэма возникла в Индии по
крайней мере за три тысячи лет, без всякого иного вну-
шения, как то, к которому способен каждый человек;
вы согласитесь, говорю я, что такое открытие стоит
труда жизни. Потому что мы находим тут доказатель-
ство, что человек никогда не был покинут Богом, а эта
уверенность имеет для историка больше значения, чем
все династии Вавилона и Египта, чем все свайные
постройки, все черепа и челюсти из Neanderthal и
Abbeville, Я прочту вам еще извлечение из Зенд-Авес-
ты, святой книги учеников Зороастра, религиозной кни-
ги, более древней относительно языка, нежели клино-
образные надписи Кира, Дария, Ксеркса; эта книга яв-
ляется еще предметом веры у незначительной горсти
населения, поселившейся теперь в Бомбее и известной
миру под названием Parsi.
«Я заклинаю Тебя, скажи мне правду, о Ахура! Кто
был вначале отцом чистых созданий? Кто указал пути,
по которым бегут солнце и луна? кто, если не Ты,
производит увеличение и уменьшение луиы? Это, о
Мазда, и тысячу других вещей я желал бы знать. Я за-
клинаю Тебя, скажи мне правду, о Ахура! кто
удерживает привешенную землю и облака так, что они
не падают? кто дал быстроту ветрам и тучам? кто
творец доброго духа? Заклинаю Тебя, скажи мне
правду, о Ахура! Кто создал благодетельный сон и
бодрствование? Чьим делом является утро, месяцы и
m
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ночи? кто создал того, который взвешивает и измеряет
права?»
Нельзя сказать, что мы схватили истинный смысл
Зенд-Авесты, потому что язык ее полон трудностей; од-
нако верно то, что в библии Зороастра каждый человек
призван принимать участие в великой борьбе, ведомой
Злом и Добром, борьбе неустанной, вечной, из которой
видно, что добро будет всегда торжествовать. Среди
правил и притч, какими изобилует эта книга, трудно
сделать выбор, между тем мне хотелось бы привести
некоторые отрывки. Собрание этих правил, написан-
ное на языке пали, недавно издано мной в переводе; мы
читаем там: «Все, чем мы являемся, есть следствие
того, что мы думали; мысли наши суть фундамент, мыс-
ли являются и содержанием. Действует ли человек или
говорит со злой мыслью, его преследует наказание по-
добно тому, как колесо преследует шаги того, кто тянет
воз. Пусть мудрец в этой земной жизни уподобится
пчеле, собирающей соки цветов, чтобы сделать из них
мед, не причинив вреда цветам. Эти сыновья принад-
лежат мне и это имение мое; вот мысли, тревожащие
мудреца. Л разве он не принадлежит сам себе; и во
сколько больше, чем его сыновья и его имущество!
Пусть иикто не думает с легкомыслием о зле, говоря в
своем сердце: зло не приблизится ко мне. Пусть никто
не думает с легкомыслием о добре, говоря в душе:
добро не снищет меня. Капли воды, падая одна за
другой, и наполняют сосуд. Тот, которого злые поступ-
ки покрываются добрыми, разливает свой свет на мир,
подобно луне, когда она выйдет из-за облаков. Пусть
человек отвечает на ненависть любовью, на зло
добром, на скупость щедростью, на ложь искрен-
ностью. Платье не преобразовывает неуча в святого;
разве может быть святым человек, охваченный своими
страстями или жадностью. Зачем эти блестящие волоса,
МАКС МЮЛЛЕР
112
о неразумные! зачем эти одеяния из козьей шкуры?
Внутри тебя все шероховато, а внешняя сторона так
гладка!»
Нет религии, которая бы сильнее призывала своих
прозелитов к исполнению человеческих обязанностей,
чем это делает буддизм, и, смотря на вещь с другой
стороны, нет религии, которая бы более смущала чело-
века и отклоняла от истины. Относительно основных
пунктов, свойственных религиям вообще, буддизм и
христианство два прямо противоположные полюса, по-
тому что буддизм не знает чувства зависимости от мо-
гущества Бога и отрицает бытие наивысшего божества;
христианство же опирается целиком иа веру в Бога
Отца, на веру в Христа, Сына человеческого и Сына
Бога, Христианство благодаря этой вере в божеского
сына делает всех людей детьми Бога, Несмотря иа это,
сравнивая язык Будды и его учеников с языком Христа
и апостолов, мы встречаемся с удивительным сход-
ством. Относительно многих буддийских легенд и
притч можно бы сказать, что они позаимствованы нз
Нового Завета, хотя мы и знаем, что значительное чис-
ло их существовало до начала христианской эры. Так,
однажды Лнанда, ученик Будды, после продолжитель-
ной прогулки в поле встречает Матангч, женщину,
принадлежащую к низко поставленному классу канда-
лов; Матанги стоит возле колодезя, Лнанда просит, что-
бы она подала ему воды. Тогда женщина говорит, кто
она такая, и просит, чтобы он не приближался к ней;
апостол отвечает: «Сестра моя, я не спрашиваю тебя, к
какой касте или семейству ты принадлежишь, я только
прошу у тебя немного воды». Эта женщина сделалась
потом последовательницей буддизма.
В Новом Завете мы читаем: «Если тебя соблазняет
твой правый глаз, то вырви его и брось далеко от себя».
Нечто подобное находим и в буддизме. Молодой жрец
113
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
был очарован красивыми глазами женщины, которая
произвела на него большое впечатление своими
прелестями. И вот этот жрец вырвал себе правый глаз и
явился перед женщиной, чтобы возбудить в ней
разочарование.
По учению Будды, фактором всех наших деяний
должно быть сострадание или любовь к ближнему.
Подобно тому как в буддизме, мы находим в сочине-
ниях Конфуция правила и предписания, которые мы вы-
соко ценим и в нашей религии. Я приведу вам здесь
одно из таких правил китайского мудреца: «Что непри-
ятно тебе, не делай этого твоему ближнему».
Я приведу вам также отрывок из основателя другой
китайской религии Лао: «Есть бесконечное существо,
имевшее бытие раньше неба и земли, как оно спокойно
и свободно! Это существо живет одно и не изменяется
вовсе. Оно находится всегда и повсюду и свободно от
страданий. Мы можем его считать матерью всего мира.
Что касается меня, то я не знаю его имени. Если бы ему
нужно было дать имя, я назвал бы его Тао (путь), если
я стараюсь дать ему более соответственное название, я
называю его Великим. Назвав это существо Великим, я
называю его еще Неуловимым. Назвав его Неулови-
мым, я называю его еще Отдаленным. Назвав его Отда-
ленным, я говорю, что оно возвращается ко мне».
Я не вижу нужды доказывать, что греческие и
римские писатели выражают повсюду самые возвышен-
ные религиозные и нравственные чувства наперекор
своей мифологии, наперекор господствующему идо-
лопоклонству. Если Платон говорит, что человек дол-
жен стремиться угодить Богу, верьте мне, что это не
значит, что человек сделался похожим на Марса или
Меркурия. Если какой-нибудь поэт говорит, что со-
весть должна быть божеством всех людей, то поистине
этот поэт был недалек от познания истинного Бога.
МАКС МЮЛЛЕР
114
Я желал бы, чтобы мы сообща начали изучение религий
в этом духе, потому что я глубоко убежден, что чем луч-
ше мы их узнаем, тем яснее заметим, что между ними
нет ни одной вполне ошибочной; сверх этого мы уви-
дим, как каждая религия в известном отношении была
религией правды; насколько она в известную истори-
ческую эпоху соответствовала языку и представлениям
той генерации, которую она произвела. Я знаю упреки,
какие встретят здесь меня. Разве и почитание Молоха
было тоже религией правды? Это какая-то особенная
религия правды, заставляющая отцов убивать своих де-
тей, чтобы оказать честь Богу! Разве также религией
правды был культ Милиссы или Кали, в храмах
которых, под видом священных обрядов, совершались
неслыханные бесчинства? Разве будет также религией
правды учение Будды, который провозглашал, что выс-
шую награду добродетели и размышлений составляет
полное уничтожение души? Аргументы этого рода отча-
сти справедливы, однако они вызывали некогда жесто-
кую борьбу. Неужели, отвечали, та религия должна
быть религией правды, которая отправляла на костер
людей самых невинных, потому что они полагали, что
Сын подобен Отцу, но не составляет с ним одного лица;
или потому, что они не хотели воздавать честь Деве
Марии и святым? Может ли называться религией
правды та религия, которая позволяет скрывать много-
численные преступления за стенами монастырей? Не-
ужели это религия правды учит о вечной каре без на-
дежды прощения, без спасения для грешника, даже по-
каявшегося? Люди, приступающие к обсуждению
религий в таком настроении, никогда не поймут их це-
лей, никогда не достигнут святых источников, из ко-
торых эти религии берут свое начало. Это наросты, и
наросты неизбежные в религиях. Кто стал бы судить о
здоровье народа по числу его госпиталей, о нрав-
115
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
ственности по числу тюрем? Чтобы быть в состоянии
судить о религии с полным беспристрастием, нужно ее
изучать, насколько возможно, в духе ее основателя; а
если это невозможно, как случается очень часто, тогда
нужно стараться подслушать дух религии, может быть,
в каком-нибудь уединенном уголке, может быть, скорее
у ложа больного, чем в коллегиях авгуров или в соб-
раниях жрецов.
Сообразуясь с этим правилом и не теряя из глаз
факта, что религия должна быть приноровлена к ум-
ственным способностям людей, для которых она назна-
чена, мы часто сильно удивляемся открытию великих
истин там, где надеялись встретить единственно грубые
предрассудки и неприличное идолопоклонство. Цель
религии всегда свята. Хотя бы известная религия была
несовершенной, детской, все-таки она всегда ставит че-
ловеческую душу возле Бога; а понятие божества, хотя
бы оно было равным образом несовершенным, детским,
представляет всегда идеал совершенства, какой только
в состоянии создать себе человеческий дух в ту или
другую эпоху развития. Да, это так — религия ставит
человеческую душу рядом с самым возвышенным идеа-
лом, она переносит ее выше уровня обыкновенных
добродетелей и зарождает стремление к лучшей жизни,
освященной божескими лучами. Характер, облекаю-
щий эти первобытные проявления религиозного чув-
ства, бывает, без сомнения, часто детским, иногда даже
отвратительным, но подумайте, что и каждый отец на-
учает своих детей в духе любви к вещам, относящимся
к религии, и это учение он начинает всегда от таких
первых детских религиозных рудиментов.
Почему же мы должны считать для себя трудным
применение той же самой любви и того же снисхожде-
ния к древней истории человечества; и отчего, спра-
шиваю я, мы судим с такой строгостью первые детские
МАКС МЮЛЛЕР
П6
шаги человеческого рода в области религиозной дея-
тельности?
Кто же не вспомнит себе странных вопросов, как
будто оскорбляющих Бога, какие обыкновенно пред-
лагают дети в делах религии; и однако, кто стал бы
подозревать ребенка в желании оскорбить Бога? Нам
приходится повторять встречающиеся часто наивности
этой религии детского возраста. Я приведу здесь по
крайней мере один пример. Однажды в моем присут-
ствии произвело большое смущение следующее дет-
ское восклицание: «О! если бы в целом доме нашлась
хотя одна, по крайней мере, комната, где бы я мог за-
бавляться один и Бог меня не видел бы!» Свидетели
этой сцены сильно смутились; что касается меня, то я
нашел ее достойной большего удивления, чем псалом
Давида: «Куда же я удалюсь от тебя, о Божий дух? Где
смогу я скрыться от твоего присутствия?»
То же самое происходит с детским языком древних
религий, Мы говорим теперь, что Бог всезнающ и везде-
сущ. Но и Гесиод говорит о солнце, что оно есть взгляд
Зевса, взгляд, перед которым ничто не скроется в этом
мире. Лрат писал: «Все пути, все места полны Зевсом,
море и поля полны им... и мы все его дети». Ведический
поэт, более ранний, чем вышеупомянутый, говоря о том
же самом Варуне, к которому взывал Vasishta, говорит:
«Господь, владыка этого мира, видит так, будто он нахо-
дится близко. Если человек воображает себе, что он
действует скрытно, он ошибается, боги все видят. Они
зидят, когда человек стоит, ходит, едет верхом, ложит-
ся спать или встает. Когда двое людей ведут тихий
эазговор, бог Варуна знает об этом: он находится там
<ак третье лицо. Эта земля принадлежит также богу
Заруне, равно как и широкое небо, далеко прости-
рающееся. Два моря (небо и океан) суть плечи Варуны,
з малая капля воды заключает его в себе также. Если
117
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
бы кто-нибудь был в состоянии убежать далеко за небо,
то он и тогда не скрылся бы пред взглядом Варуны,
бога. Посланники его нисходят с неба в этот мир и ты-
сячами своих глаз пробегают землю. Бог Варуна видит
все, что совершается между иебом и землей, видит все,
что находится позади них. Он сосчитал движения на-
ших глаз».
Первобытный язык является орудием, которым
трудно владеть, именно в предметах религии. Для чело-
веческой речи представляется невозможным выражать
абстрактные понятия иначе, как только при помощи
метафор и гипербол, если принять во внимание, что
словарь древних религий составлен из одних метафор.
В новом мире метафоры эти были забыты. Мы говорим
о духе, не думая о дыхании, о небе без мысли о небес-
ном своде, о прощении, не связывая с ним понятия от-
пущения, мы говорим об откровении, и в то же время
нам чужда идея тайны. Между тем в первобытном язы-
ке каждое из этих выражений, о которых я говорю, все
выражения, не означающие материального предмета,
находятся в периоде куколки, наполовину материаль-
ном, наполовину умственном; они изменяют характер
сообразно различным способностям тех, которые ими
пользуются, и сообразно свойствам означенных пред-
метов. Здесь существует обильный источник постоян-
ных разногласий, большая часть которых находит свое
объяснение в мифологиях и религиях древности. Сле-
дует различать два выдающихся направления в раз-
витии древних религий. С одной стороны, мы находим
то, что я назвал бы борьбой духа с материальным
характером языка, беспрестанное усилие оторвать
выражения от их чувственного значения, с тем чтобы
пригнуть их к нуждам и требованиям абстрактной мыс-
ли. С другой стороны — постоянный переход понятий
духа в материализм, и что еще достойно внимания, это
МАКС МЮЛЛЕР
118
какая-то излюбленная склонность к понятиям
материальным. Эта деятельность и это взаимодействие,
начиная с древнейших времен, имеет место и в наше
время в области религий.
Казалось бы на первый взгляд, что религия находит-
ся в печальном положении, коль скоро не может избе-
гать этого прилива и отлива человеческой мысли, этого
движения, случающегося по крайней мере один раз с
каждым поколением; но, удвоив внимание, мы откроем;
что этот прилив и отлив именно и составляет сущность
и жизненность всякой религии.
Поставьте себя приблизительно в положение тех,
которые считаются первыми поклонниками неба или
для которых небо было богом. Не будем забывать о том,
что употреблять слово «бог* в теперешнем значении и
сказать: «небо было их богом* — это значило бы
выразить чистое несходство. Мы могли бы с равной
справедливостью сказать, что дух означал воздух.
Слово «бог* в своем действительном значении, и
даже римское слово Deus или греческое 0е6$, заключа-
ющее в себе силу известного свойства, не существова-
ло и не могло существовать в этих первобытных эпохах
истории языка и мысли. Чтобы понять религии
ним, ч'ю первоначально язык доставлял слова для озна-
чения впечатлений, полученных при помощи чувств.
У нас рождается невольно вопрос: по какому пути шел
дух человеческий, прежде чем слово «небо* потеряло
свое первоначальное, чисто материальное значение и
облеклось в совершенно иное? Первоначально в сердце
человека существовало какое-то чувство несовер-
шенства, слабости или зависимости, как нам приятно
было бы назвать его на нашем абстрактном языке. Нам
так же трудно объяснить это чувство, как трудно объяс-
нить, почему новорожденное дитя чувствует голод и
П9
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
жажду. Однако так было вначале, между тем то же'
происходит и теперь. Человек не знает, откуда
приходит и куда идет. Он желает иайти проводника,
друга, ищет опоры, которая бы его поддерживала, он
жаждет небесного Отца. Кроме всех впечатлений, ка-
кие человек получал от внешнего мира, в его сердце су-
ществовало еще особенно сильное стремление, идущее
изнутри, стремление к чему-то прочному и вечному,
удерживающему правление всем миром, и это именно
позволяло человеку чувствовать себя свободным, как
бы в своем доме, в этом чуждом ему мире, Это нетвер-
дое и колеблющееся стремление должно было облечься
в тело и точно определиться, оно непременно нужда-
лось в названии, чтобы достичь определенности. Но как
же найти здесь такое необходимое название? Без со-
мнения, существовали амбары языка, но каждое назва-
ние, которое приходило на мысль, ум человека отодви-
гал как несоответствующее, как связывающее мысль,
которая у него запечатлелась и вздыхала к свету, к сво-
боде, требовала полета.
Когда наконец выбор названия, или даже несколь-
ких названий, был окончательно решен, посмотрим, ка-
кие перемены произошли в области человеческого
с&мя&жя, Убудем жмнтятая мз&гет-д&е удя-
вольствие, когда почувствовал себя обладателем тех
названий, которых он искал, хотя они и были недоста-
точны; эти названия, как и все вообще другие назва-
ния, были обозначения недостаточные; это были свой-
ства чрезмерно частичные, могущие выразить едва ма-
лую часть чего-то неточного и вместе с тем великого,
что дремало в душе человека. Когда название блестя-
щего неба было выбрано всеми народами земли в ту или
другую минуту их жизни, то разве это название было
полным и равнозначащим означением понятия, кото-
рое желал выразить человек? Неужели душа испытала
МАКС МЮЛЛЕР
120
удовольствие и действительно признала небо за Бога?
Наверное нет! Люди знали очень хорошо, что им следо-
вало разуметь под материальным и видимым небом:
первобытный человек, обозрев все, утомился розыс-
ками, на какие он был тогда способен, и пришел к
тому, что сделался владельцем слова «небо»; это было
уже лучше, чем ничего, но вместе с тем он чувствовал,
что ему не слишком-то удалось. Идея бесконечного
беспокоила человеческий дух, она зародилась в нем
первой, и вместе с тем ничто не поражало так чувств,
как гармонирующее с этой идеей бесконечное небо,
блистательное и ненарушимое. Однако нам следует
признать, что, выбирая себе это название, человек не
только не знал, но даже не был в состоянии знать, что
это видимое небо, этот лазурный свод станет пред-
метом его веры, станет его богом.
Посмотрим, что произошло, как скоро такое назва-
ние было принято повсеместно. Акт подыскивания и на-
хождения названия — несмотря на то что оно было
несовершенным — был актом духа мужественного, по-
этического, пророческого н патриархального, который,
как другой Иаков, умел бороться с идеей Бога, находя-
щейся в нем, победить его, побороть до такой степени,
что нашел для него название. Однако приходилось
употреблять название неба в присутствии молодежи,
стариков и детей, разум которых или еще не развился,
или угас с летами; здесь нужно было подвергнуться
презрению и недоразумениям. Мы видим первый шаг
назад: небо означает местопребывание существа,
которое носило то же самое имя; второй шаг есть забве-
ние обо всем, что было под этим названием; начинается
призывание неба, господствующего над головой види-
мого свода, с целью исходатайствовать дождь, погоду,
покровительство для наших полей и жатв, просьба о
хлебе нашем насущном. Вскоре явились такие, которые
121
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
заявили миру, что здесь дело идет не о небе, что здесь
речь идет о чем-то другом, не о голубом небосклоне; ес-
тественно, их назвали мечтателями, потому что никто
не сумел их понять; их приняли за смелых скептиков,
богохульствующих против неба, великого благодетеля
людей. Наконец многое, что было истинно, потому что
относилось к небу, применили к его божескому омони-
му; появились вдруг легенды, уничтожившие всякий
след божества, для названия которого употреблялось
еще недавно это двусмысленное имя.
Такое разнообразие понимания, эти недоразумения
касательно названий, неизбежные как в древних, так и
новых религиях, я назвал бы диалектическим ростом и
падением или, если кому угодно, диалектической жиз-
нью религии; мы будем иметь возможность видеть
неоднократно, какую помощь мы находим здесь при
формировании точного понятия о религиозном языке и
религиозной мысли. Диалектические оттенки, находи-
мые в языке религии, почти бесконечны; они объясня-
ют нам упадок религии и указывают также на ее силу и
жизненность. Может быть, вы припоминаете себе, как
прекрасно объяснил Якоб Гримм начало верхне- и ниж-
ненемецкого языка, санскритского и практита, дорий-
ского и ионического, доказывая, что первоначально
верхними диалектами говорили мужчины, ннжними —
женщины и дети. По моему мнению, эти же самые
параллельно бегущие потоки можно заметить и в языке
религий. Там существует также верхний и нижний диа-
лект, существует диалект более возвышенный, бла-
городный и одновременно общий всем; существует диа-
лект для мужчин и для детей; для духовенства и людей
светских, есть диалекты для шумных улиц и тихих,
уединенных уголков. И мужчина, подобно тому как
бросает свой детский язык достигший зрелого
возраста, точно так же должен перевести свою религию
МАКС МЮЛЛЕР
122
с женского диалекта, на котором она выражалась до
сих пор, на язык мужской. Такой переход не совер-
шается без борьбы, и эта вечно возрождающаяся
борьба, это стремление поставить себя на интеллигент-
ном уровне охраняет религию от застоя. От иачала и до
конца веков религия колеблется и будет всегда коле-
баться между двумя противоположными полюсами, и
только в том случае, если притягательная сила одного
из этих полюсов становится слишком сильной, это спа-
сительное движение останавливается и начинается за-
стой, падение. Если религия не в состоянии приме-
ниться, с одной стороны, к умственным способностям
детей, или если, с другой стороны, будет не в состоянии
ответить требованиям зрелого человека, тогда она теря-
ет свою жизненность, становится чистым предрас-
судком или чистой философией.
Если я сумел выразиться ясно, то надеюсь, что вы
теперь поймете, в каком смысле нам можно сказать, что
во всех религиях, даже в самых низших, находится час-
тица правды. Желание, которое заставило человека
пользоваться названием неба уже не в значении мате-
риальном, но более возвышенном, было желанием
благородным и достойным похвалы. Но если это жела-
ние было хорошо, то ему изменило выражение. Дело,
совершенное духом, не основывалось, как вообще пола-
гают, на отождествлении с небом известной, опреде-
ленной идеи божества; напротив, это была первая по-
пытка определить себе неточное и неопределенное по-
нятие божества при помощи названия, передающего
одну из его главных черт способом приблизительным
или метафорическим. Я повторяю еще раз, что человек,
решившийся в первый раз дать божеству это имя, ду-
мал так же мало о материальном небе, как и мы, когда
говорим о царствии небесном.
123
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
Присмотримся теперь к другому характеру древних
религий, приводившему часто в удивление и смущение
критику, но который становится вполне понятным, ко-
гда мы вспомним природу первобытных языков и дадим
себе в ней обстоятельный отчет. Всякий знает, что
древние языки отличаются богатством синонимов, или,
говоря точнее, что один и тот же предмет означается в
них несколькими названиями. И в то время, когда в но-
вых языках большая часть предметов именуется только
одним названием, мы находим в первобытном санскрит-
ском, греческом и древнеарабском языках огромное
число слов, относящихся к одному и тому же предмету.
Это вполне естественно. Каждое выражение представ-
ляло одну только сторону предмета, который должен
быть означен; потому-то первые авторы языка не до-
вольствовались этими частичными названиями,
принимали новое выражение, затем другое и под конец
известного времени сохраняли только те названия,
которые, казалось, отвечали лучше всего их потреб-
ностям. Небо, следовательно, могло быть названо не
только блестящим, но также темным, широким,
гремящим, дождливым. Вот на этом-то и основывается
полиномия языка. И, если это имеет место в религии,
мы называем ее тогда политеизмом. Аристотель гово-
рил: «Бог, хотя и один, имеет несколько названий, пото-
му что означается сообразно различным и поочередным
проявлениям, при помощи которых его можно познать».
То же самое стремление духа, находящее свое первое
удовлетворение в употреблении выражения «блестя-
щий» для определения божества, вскоре начало подыс-
кивать новые эпитеты, которые не выражали уже блес-
ка, а тем самым были более уместными для религиозной
системы, понимающей божество как силу мрачную, та-
инственную, всемогущую. Поэтому мы находим в
МАКС МЮЛЛЕР
124
санскритском языке возле Dyaus другое название неба,
считавшегося сводом; Varuna; название, которое пер-
воначально было только новым способом названия
Бога, а вскоре приобрело себе независимое и отдельное
«существование.
Но здесь еще не конец. Полное несовершенство
всех выбранных названий, их недостаточность в
представлении полноты и характера бесконечного бо-
жества сделали то, что не переставали искать новых на-
званий, пока наконец все части природы, где только
чувствовали дыхание или соседство Бога, не были
приняты как названия для Вездесущего. Если бытие
Бога познавали в ветрах, то название ветра делалось
одним из имен Бога; если присутствие божества чув-
ствовали в землетрясении или в огне, то немедленно
названия таковых переносили на божество. Неужели
вы еще будете удивляться пантеизму и мифологии?
Нисколько; не правда ли, это вещи неизбежные?
потому что там существует известный род детского
способа выражения религии. Мир имел свой детский
возраст и, когда был ребенком, говорил, понимал и ду-
мал, как дитя; я повторяю, что этот детский характер
языка составляет признак правды; эта вера, эта детс-
кая религия была ровна и искренна. Наша вина, если
мы упорно принимаем язык детей за язык людей
зрелых, если древнюю речь переводим буквально на
новый язык, язык Востока на язык Запада, поэзию на
прозу.
Неоспоримо то, что теперь мы встретили бы немно-
го переводчиков, предположив, что их только можно
встретить, которые бы принимали в буквальном значе-
нии такие выражения, как; «голова, лицо, рот, губы, ды-
хание Иеговы». Язык древности есть язык детства; ведь
и мы сами, если стараемся выразить идею бесконечного
божества при помощи абстрактных терминов, являемся
125
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ
также детьми, пытающимися приставить лестницу, что-
бы взобраться иа небо.
То, что я назвал детским языком религии, еще су-
ществует и будет существовать всегда. Не только в не-
скольких стародавних, наивных и детских религиях, до-
живших нетронутыми до настоящего времени и являю-
щихся как бы допотопным мегатерионом, прохажи-
вающимся при полном свете XIX века; но также и в
языке Нового Завета существует много таких вещей,
истинное значение которых понимают только люди,
знающие составные части каждого языка и имеющие не
только уши, чтобы слышать, но также и сердце, чтобы
вникнуть в тайны и действительное значение притч.
Согласно с тем, что я сказал, нам следует при-
ступить к объяснению этих кажущихся несообраз-
ностей, причуд, ошибок и даже ужасов древних ре-
лигий с тем же самым духом любви, с каким мы объ-
ясняем себе проявления детской души. Следователь-
но, когда история рассказывает, что Ваал разбил себе
голову, чтобы бьющую из нее кровь смешать с прахом,
из которого был создан человек, нами овладевает
отвращение и ужас; но загляните в глубину этой
мистерии, и вы убедитесь, что просто-напросто жела-
ли. объяснить божеское происхождение человека, ска-
зать, что мы создания Бога. Подобное же понятие мы
встречаем в древией религии Египта; в 17-м разделе
их требника мы читаем, что солнце само себя
поранило, из потоков же пролитой крови произошли
все существа, И сам автор Книги Бытия, когда желает
выразить подобное понятие, употребляет также язык
человеческий и символический. Вот что он говорит:
«Бог создал человека из праха земного и оживил его
ноздри дыханием жизни».
Научившись быть снисходительными при объясне-
нии языка чужих религий, нам удастся без труда быть
МАКС МЮЛЛЕР 125
такими же при объяснении языка собственной религии;
мы вылечимся от тех странностей, которыми всегда
больны и которые имеют свой источник в требовании
буквального перевода священных книг, тех сочинений,
которые, будучи переведены рабски, теряют свой ори-
гинальный характер и свою нравственную правду. На-
деюсь, что сравнительное изучение религий мира дос-
тавит нам обильные объяснения, что оно приведет нас к
лучшему познанию и пониманию нашей собственной
религии, что при помощи его мы научимся быть снисхо-
дительными вокруг себя и в глубине нас самих.
ЭДВАРД СЕПИР
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ
КАК НАУКИ
Можно считать, что подлинно научный пери^
од в истории лингвистики начинается со срав-
нительного изучения и реконструкции ин-
ДПОВрОТТОЙС1 <’• языков, В ходе своих обстоя-
тельных ис юнаний индоевропеисты посте-
пенно вир зли методику, пожалуй, более
concpiih'iiH нежели методы других наук,
имеющих с человеческими институтами.
Многие формулировки, предложенные компа-
ративистами, занимавшимися индоевропей-
скими языками, по своей четкости и регуляр-
ности близки к формулам, или так называе-
мым «законам», естественных наук. В основе
сравнительно-исторического языкознания ле-
жит гипотеза о регулярном характере звуко-
вых изменений, а большая часть морфологи-
ческих преабразаваняи ((снимается в камка-
ративистике как побочный продукт регуляр-
ного фонетического развития. Многие были
склонны отрицать, но в свете опыта, накоп-
ленного лингвистикой на сегодияшний день,
нельзя не признать, что именно этот подход
позволил достичь наибольших успехов в обла-
сти проблематики истории языка. Почему
следует исходить из регулярности фонетичес-
ких изменений и почему такие регулярности
Перевод с английского Н.В, Перцова.
ЭДВАРД СЕПИР
12В
должны иметь место — на эти вопросы рядовой линг-
вист вряд ли в состоянии дать удовлетворительные от-
веты, Однако из этого вовсе не следует, что можно
было бы значительно усовершенствовать методы линг-
вистического исследования, если отказаться от хорошо
проверенной гипотезы и открыть путь для разного рода
психологических и социологических объяснений, не
связанных непосредственно с тем, что мы сейчас уже
знаем об историческом развитии языков. Психологи-
ческие и социологические объяснения той регулярнос-
ти лингвистических изменений, которая давно уже из-
вестна всем изучающим язык, конечно, желательны и
даже необходимы. Но ни психология, ии социология не
в состоянии предписывать лингвисту, какие именно за-
коны истории языка он должен формулировать, В луч-
шем случае данные дисциплины могут побудить линг-
виста энергичнее, чем раньше, стараться понять исто-
рию языка в более широком контексте человеческого
поведения вообще — как индивидуального, так и обще-
ственного.
Разработанные индоевропеистами методы были с яв-
ным успехом использованы и в исследованиях языков
других семей. Совершенно очевидно, что методы эти
столь же безотказно действуют применительно к «при-
митивным» бесписьменным языкам Азии и Африки, как
и применительно к значительно лучше известным фор-
мам речи более развитых народов. Возможно, что как
раз в языках этих более цивилизованных народов фунда-
ментальная регулярность языковых процессов значи-
тельно чаще нарушалась такими противоречащими ей
тенденциями, как заимствования из других языков, сме-
шение диалектов, социальная дифференциация речи.
Чем больше мы занимаемся сравнительными исследова-
ниями родственных «примитивных» языков, тем очевид-
нее становится тот факт, что фонетические законы и вы-
129
CTATVC ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
равнивание по аналогии — это основные ключи к пони-
манию процесса развития различных языков и диалек-
тов из одного общего праязыка. Это положение хорошо
подтверждают исследования профессора Леонарда
Блумфилда в области центральных алгонкинских языков
и мои — на материале атабаскских языков: они являют-
ся убедительным ответом тем, кто отказывается верить в
почти всеобщую регулярность действия всех этих нео-
сознаваемых языковых сил, взаимодействие которых
приводит к регулярным фонетическим изменениям и
связанным с ними морфологическим преобразованиям,
Возможность предсказать правильность специфических
форм в том или ином бесписьменном языке на основании
сформулированных для него фонетических законов су-
ществует не только чисто теоретически — сейчас уже
можно привести немало реальных примеров таких под-
твердившихся предсказаний. Не может быть никаких со-
мнений в том, что методам, первоначально разработан-
ным в индоевропеистике, предназначено сыграть суще-
ственную роль и в исследованиях всех других языков;
кроме того, при помощи этих методов, в результате по-
степенного их совершенствования, мы, возможно, полу-
чим и подтверждение гипотезы об отдаленном родстве
языков разных групп, в пользу чего сейчас говорят лишь
единичные поверхностные факты.
Однако основная цель даииой статьи — ие демонст-
рация достигнутых лингвистических результатов, ско-
рее привлечение внимания к некоторым точкам сопри-
косновения между лингвистикой и другими научными
дисциплинами и, кроме того, обсуждение вопроса о
том, в каком смысле о лингвистике можно говорить как
о науке.
Значимость лингвистических данных для антропо-
логии и истории культуры давно уже стала общеприз-
нанным фактом. В процессе развития лингвистических
5 Языки как образ мира
ЭДВАРД СЕПИР
130
исследований язык доказывает свою полезность как
инструмент познания в науках о человеке и в свою
очередь нуждается в этих науках, позволяющих про-
лить свет на его суть. Современному лингвисту стано-
вится трудно ограничиваться лишь своим традицион-
ным предметом. Если он не вовсе лишен воображения,
то он не сможет не разделять взаимных интересов, ко-
торые связывают лингвистику с антропологией и исто-
рией культуры, с социологией, психологией, филосо-
фией и — в более отдаленной перспективе — с физио-
логией и физикой.
Язык приобретает все большую значимость в каче-
стве руководящего начала в научном изучении культу-
ры. В некотором смысле система культурных стереоти-
пов всякой цивилизации упорядочивается с помощью
языка, выражающего данную цивилизацию. Наивно ду-
мать, что можно понять основные принципы некоторой
культуры на основе чистого наблюдения без того ори-
ентира, каковым является языковой символизм, только
и делающий эти принципы значимыми для общества и
понятными ему. Когда-нибудь попытка исследования
примитивной культуры без привлечения данных языка
соответствующего общества будет выглядеть столь же
хак труд историка, который не
может воспользоваться в своем исследовании подлин-
ными документами той цивилизации, которую он опи-
сывает.
Язык — это путеводитель в «социальной действи-
тельности». Хотя язык обычно не считается предметом
особого интереса для обществоведения, он существен-
но влияет на наше представление о социальных процес-
сах и проблемах. Люди Живут не только в материаль-
ном мире и не только в мире социальном, как это приня-
то думать: в значительной степени они все находятся и
во власти того конкретного языка, который стал сред-
131
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
ством выражения в данном обществе. Представление о
юм, что человек ориентируется во внешнем мире, по
существу, без помощи языка и что язык является всего
лишь случайным средством решения специфических
ладач мышления и коммуникации, — это всего лишь
иллюзия. В действительности же «реальный мир» в зна-
чительной мере неосознанно строится на основе языко-
вых привычек той или иной социальной группы. Два
разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы
их можно было считать средством выражения одной и
той же социальной действительности. Миры, в которых
живут различные общества, — это разные миры, а вов-
се не один и тот же мир с различными навешанными на
него ярлыками.
Понимание, например, простого стихотворения
предполагает не только понимание каждого из состав-
ляющих его слов в его обычном значении: необходимо
понимание всего образа жизни данного общества, отра-
жающегося в словах и раскрывающегося в оттенках их
значения. Даже сравнительно простой акт восприятия
в значительно большей степени, чем мы привыкли ду-
мать, зависит от наличия определенных социальных
шаблонов, называемых словами. Так, например, если
'игфииинааъ тщцкъинкъ деиитйиъ ишк
формы, то одни из них будут восприниматься как «пря-
мые» (straight), другие — как «кривые» (crooked),
«изогнутые» (curved) или «ломаные» (zigzag) потому
только, что сам язык предполагает такое разбиение в
силу наличия в нем этих слов. Мы видим, слышим и во-
обще воспринимаем окружающий мир именно так, а не
иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор
при его интерпретации предопределяется языковыми
привычками нашего общества.
Итак, для решения наиболее фундаментальных проб-
лем человеческой культуры знание языковых механизмов
5*
ЭДВАРД СЕПИР
132
и понимание процесса исторического развития языка,
несомненно, становятся более важными, чем более
изощренными становятся наши исследования в области
социального поведения человека. Именно поэтому мы
можем считать язык символическим руководством к по-
ниманию культуры. Но значение лингвистики для изуче-
ния культуры этим не исчерпывается. Многие объекты и
явления культуры настолько взаимосвязаны с их терми-
нологией, что изучение распределения культурно значи-
мых терминов часто позволяет увидеть историю откры-
тий и идей в новом свете. Эти исследования, уже принес-
шие плоды в изучении истории некоторых европейских
и азиатских культур, должны принести пользу и в деле
реконструкции культур примитивных.
Для социологии в узком смысле слова данные линг-
вистики имеют не меньшее значение, чем для теорети-
ческой антропологии. Социолога не могут не интересо-
вать способы человеческого общения. Поэтому крайне
важным для него является вопрос о том, как язык во
взаимодействии с другими факторами облегчает иЛи
затрудняет процесс передачи мыслей и моделей поведе-
ния от человека к человеку. Далее, социолог не может
оставить без внимания и вопрос о символической зна-
чимости, в социальном смысле, языковых расхожде-
ний, возникающих во всяком достаточно большом об-
ществе. Правильность речи, то есть то явление, кото-
рое может быть названо «социальным стилем» речи,
имеет к социологии значительно большее отношение,
чем к эстетике или грамматике. Специфические осо-
бенности произношения, характерные обороты, нели-
тературные формы речи, разного рода профессионализ-
мы — все это символы разнообразных способов само-
организации общества, которые имеют решающее зна-
чение для понимания развития индивидуальных и
социальных свойств. Но ученый-социолог не в состоя-
133
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
нии оценить важность этих явлений до тех пор, пока у
него иет вполне ясного представления о той языковой
основе, с помощью которой только и можно оценить
этот социальный символизм языкового характера.
Обнадеживающим представляется тот факт, что
языковым данным все большее внимание уделяется со
стороны психологов. До сих пор еще иет уверенности в
том, что психология может внести что-либо новое в по-
нимание речевого поведения человека по сравнению с
тем, что лингвисту известно на основании его собствен-
ных данных. Однако все большее признание получает
справедливое представление о том, что психологичес-
кие объяснения языковых фактов, сделанные лингвис-
тами, должны быть переформулированы в более общих
терминах; в таком случае чисто языковые факты могут
быть рассмотрены как специфические формы символи-
ческого поведения. Ученые-психологи, на мой взгляд,
ограничивают себя слишком узкими рамками психофи-
зических основ речи, не углубляясь в изучение ее сим-
волической природы. Это, по-видимому, связано с тем,
что фундаментальная значимость символизма для чело-
веческого поведения еще не осознана ими в достаточ-
ной степени. Однако представляется вполне вероят-
ным, что именно изучение символической природы язы-
ковых форм и процессов могло бы в наибольшей степе-
ни обогатить психологическую науку.
Любое действие может быть рассмотрено либо как
чисто функциональное в прямом смысле слова, либо
как символическое, либо как совмещающее в себе оба
эти плана. Так, если я толкаю дверь, намереваясь войти
в дом, смысл данного действия заключается непосред-
ственно в том, чтобы обеспечить себе свободный вход.
Но если же я «стучусь в дверь», то достаточно лишь слег-
ка поразмыслить, чтобы понять: стук сам по себе еще не
открывает передо мной дверей. Он служит всего-навсего
ЭДВАРД СЕПИР
134
знаком того, что кто-то должен прийти и открыть мне
дверь. Стук в дверь — это замена самого по себе более
примитивного акта открывания двери. Здесь мы имеем
дело с рудиментом того, что можно назвать языком.
Громадное количество всяческих действий является в
этом грубом смысле языковыми актами. Иначе говоря,
эти действия важны для нас не потому, что сами они не-
посредственно приводят к какому-либо результату, а
потому, что они служат опосредующими знаками для
более важных действий. Примитивный знак имеет не-
которое объективное сходство с тем, что он замещает
или на что указывает. Так, стук в дверь непосредствен-
но соотносится с подразумеваемым намерением эту
дверь открыть. Некоторые знаки становятся редуциро-
ванными формами тех функциональных действий, кото-
рые они обозначают. Например, показать человеку ку-
лак — это редуцированный и относительно безвредный
способ обозначить реальное избиение, и если такой
жест начинает восприниматься в обществе как доста-
точно выразительный метод замещения угроз или бра-
ни, то его можно считать символом в прямом смысле
слова.
Символы этого типа — первичны, поскольку сход-
ство такого символа с тем, что он замещает, остается
вполне очевидным. Однако со временем форма символа
изменяется до такой степени, что всякая внешняя связь
с замещаемым им понятием утрачивается. Так, нельзя
усмотреть никакой внешней связи между окрашенной в
красно-бело-синий цвет материей и Соединенными
Штатами Америки — сложным понятием, которое и
само по себе не так легко определить. Поэтому можно
считать, что флаг— это вторичный, или отсылочный
(referential), символ. Как мне кажется, понять язык с
точки зрения психологии — это значит рассмотреть его
как чрезвычайно сложный набор таких вторичных, или
13S
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
отсылочных, символов, созданных обществом. Не ис-
ключено, что и примитивные выкрики, и другие типы
символов, выработанные людьми в процессе эволюции,
первоначально соотносились с определенными эмоция-
ми, отношениями и понятиями. Но связь эта между сло-
вами и их комбинациями и тем, что они обозначают,
сейчас уже непосредственно не прослеживается.
Языкознание одновременно одна из самых сложных
и одна из самых фундаментальных наук. Возможно,
подлинно плодотворное соединение лингвистики и пси-
хологии все еще дело будущего. Можно полагать, что
лингвистике суждено сыграть очень важную роль в кон-
фигурационной (configurative) психологии (Gestalt psy-
chology), поскольку представляется, что из всех форм
культуры именно язык совершенствует свою структуру
сравнительно независимо от прочих способов структу-
рирования культуры. Можно поэтому думать, что язы-
кознание станет чем-то вроде руководства к пониманию
«психологической географии* культуры в целом. В по-
вседневной жизни изначальная символика поведения
совершенно затемнена многофункциональностью сте-
реотипов, приводящих в недоумение своим разнообра-
зием, Дело в том, что каждый отдельно взятый акт че-
ловеческого поведения является точкой соприкосно-
вения такого множества различных поведенческих кон-
фигураций, что большинству из иас очень трудно
разграничить контекстные и внекоитекстные формы по-
ведения. Так что именно лингвистика имеет очень су-
щественное значение для конфигурационных исследо-
ваний, потому что языковое структурирование в весьма
значительной степени является самодостаточным и по-
чти не зависит от прочих тесно взаимодействующих
друг с другом неязыковых структур.
Примечательно, что и философия в последнее вре-
мя все в большей, нежели раньше, степени начинает
ЭДВАРД СЕПИР
136
заниматься проблемами языка. Давно прошло то вре-
мя, когда философы простодушно могли переводить
грамматические формы и процессы в метафизические
сущности. Философу необходимо понимать язык хотя
бы для того, чтобы обезопасить себя от своих собствен-
ных языковых привычек, поэтому неудивительно, что;
пытаясь освободить логику от грамматических помех и
понять символическую природу знания и значение сим-
волики, философы вынуждены изучать основы самих
языковых процессов. Лингвисты занимают престиж-
ную позицию, содействуя процессу прояснения скры-
того еще для нас смысла наших слов и языковых проце-
дур, Среди всех исследователей человеческого поведе-
ния лингвист в силу специфики предмета своей науки
должен быть наибольшим релятивистом в отношении
своих ощущений и в наименьшей степени находиться
под влиянием форм своей собственной речи.
Несколько слов о связи лингвистики с естественны-
ми науками. Языковеды многим обязаны представите-
лям естественных наук — особенно физики и физиоло-
гии — в том, что касается их технического оснащения.
Фонетика, необходимая предпосылка для точных мето-
дов исследования в лингвистике, немыслима без вне-
дрения в акустику и физиологию органов речи. Лингви-
сты, которые интересуются в первую очередь фактичес-
кими подробностями реального речевого поведения от-
дельной личности, а не социализованными языковыми
структурами, должны постоянно обращаться к помощи
естественных наук. Однако очень вероятно, что и на-
копленный в результате лингвистических исследова-
ний опыт также может в значительной мере способ-
ствовать постановке ряда собственно акустических или
физиологических задач.
В общем и целом ясно, что интерес к языку в послед-
нее время выходит за пределы собственно лингвисти*
137
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
ческнх проблем. И это неизбежно, так как понимание
языковых механизмов необходимо как для изучения ис-
тории, так и для исследования человеческого поведе-
ния. Можно только надеяться в этой связи, что лингви-
сты острее осознают значение их предмета для науки в
целом и не останутся в стороне, огораживаясь традици-
ей, которая грозит превратиться в схоластику, если не
вдохнуть в ее жизнь занятия, выходящие за пределы
изучения только формального устройства языка.
Каково же, наконец, место лингвистики в ряду дру-
гих научных дисциплин? Является ли она, как и биоло-
гия, естественной наукой или все-таки гуманитарной?
Мне представляется, что имеются два обстоятельства, в
силу которых существует явная тенденция рассматри-
вать языковые данные в контексте биологии. Во-первых,
это тот очевидный факт, что реальная техника языкового
поведения приспособлена к весьма специфическим фи-
зиологическим особенностям человека. Во-вторых, регу-
лярность и стандартность языковых процессов вызыва-
ют квазиромантическое ощущение контраста с абсолют-
но свободным и необусловленным поведением человека,
рассматриваемым с точки зрения культуры. Однако ре-
гулярность звуковых изменений лишь на поверхностном
уровне аналогична биологическому автоматизму. Как
раз потому, что язык является столь же строго социали-
зированной частью культуры, как и любая другая ее
часть, но при этом он обнаруживает в своих основах и
тенденциях такую регулярность, какую привыкли на-
блюдать и описывать лишь представители естественных
наук, он имеет стратегическое значение для методоло-
гии общественных наук. За внешней беспорядочностью
социальных явлений скрывается регулярность их конфи-
гураций и тенденций, которая столь же реальна, как и
регулярность физических процессов в мире механики,
хотя строгость ее бесконечно менее очевидна и должна
ЭДОАРА СЕПИР
138
быть понята совсем по-другому. Язык — это в первую
очередь продукт социального и культурного развития, и
воспринимать его следует именно с этой точки зрения.
Его регулярность и формальное развитие, безусловно,
основываются на биологических и психологических
предпосылках. Но эта регулярность и неосознанный ха-
рактер основных языковых форм не превращают лингви-
стику в простой придаток биологии или психологии.
Языкознание лучше всех других социальных наук демон-
стрирует своими фактами и методами, несомненно более
легко устанавливаемыми, чем факты и методы других
дисциплин, имеющих дело с социологизироваииым пове-
дением, возможность подлинно научного изучения об-
щества, не подражая при этом методам и не принимая на
веру положений естественных наук. Особенно важно
подчеркнуть, что лингвисты, которых часто и справедли-
во обвиняют в неспособности выйти за пределы милых
их сердцу моделей основного предмета их исследований,
должны осознать, какое значение их наука может иметь
для интерпретации человеческого поведения в целом.
Хотят они того или нет, им придется все больше и боль-
ше заниматься теми проблемами антропологии, социоло-
гии и физиологии, которые вторгаются в область языка.
ЭДВАРД СЕПИР
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯВЫК
Человек нормального склада ума склонен пре-
небрежительно относиться к занятиям линг-
вистикой, пребывая в убеждении, что нет ни-
чего более бесполезного. Столь малая полез-
ность, которую он усматривает в этих заняти-
ях, связана исключительно с возможностями
их применения. В самом деле, рассуждает не-
* специалист, французский язык стоит изучать
потому, что существуют французские книги,
которые заслуживают прочтения. Древнегре-
ческий язык если и стоит изучения, то пото-
му, что иа этом любопытном и ныне мертвом
языке написано некоторое количество пьес и
стихов, до сих пор обладающих могуществен-
ной властью над нашими сердцами. Что же ка-
сается прочих языков, то для них существуют
прекрасные переводы на английский.
Ныне стало общеизвестным фактом, что
лингвист вовсе необязательно испытывает глу-
бокий интерес к тем вечным ценностям, кото-
рые язык нам подарил. Он обращается с язы-
ком во многом так же, как зоолог обращается с
собакой. Зоолог тщательно Исследует собаку,
он может расчленять собаку для более скрупу-
лезного исследования этого животного; нако-
нец, обнаруживая сходства между собакой и ее
Перевод с английского Н.В. Перцова.
ЭДВАРД СЕПИР
140
близкими сородичами, волком и лисицей, и различия
между собакой и ее более далекими родственниками
типа кошки и медведя, зоолог находит для собаки место
в эволюционной схеме живой природы и тем завершает
исследование. Только как вежливый гость на светском
приеме, но отнюдь не как зоолог, он может проявить уме-
ренный интерес к милым трюкам песика Таузера, при
этом он отлично созиает, что все эти трюки были бы не-
возможны без предварительного развития собаки как
вида. Возвращаясь к филологу и дилетанту, оцениваю-
щему деятельность филолога, отметим, что и со стороны
первого проявляется аналогичное равнодушие к той кра-
соте, которая сотворена инструментом, столь раздража-
ющим ценителя-дилетанта. И все же аналогия здесь не-
полная. Когда Таузер демонстрирует свои собачьи уме-
ния или когда Порто спасает тонущего человека, они при
этом сохраняют свой статус — статус собаки, однако со-
бака даже как предмет внимания зоолога представляет
некоторый интерес для всех иас. А когда Ахиллес опла-
кивает гибель своего любимого Патрокла, а Клитемнест-
ра совершает свои злодеяния, то что нам делать с гречес-
кими аористами, которыми мы праздно владеем? Есть
традиционный ряд правил, объединяющий и организую-
щий их в схемы. Эти правила называют грамматикой.
Человека же, который владеет грамматикой и которого
называют грамматистом, остальные люди считают хо-
лодным и безликим педантом.
Нетрудно понять, почему в Америке лингвистика
имеет столь низкую общественную оценку. Чисто праг-
матическая полезность изучения языка, конечно, при-
знается, однако у нас иет и не может быть достаточно
постоянного интереса к иноязычным способам выраже-
ния мысли, который столь естествен для Европы с ее
смешением языков, сталкивающихся в повседневной
жизни. При отсутствии ощутимого практического моти-
141
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
ва для лингвистических штудий вряд ли есть серьезные
шансы для развития мотивов, теоретически более уда-
ленных от практических иужд людей, Одиако было бы
глубоко ошибочно связывать наше общее равнодушие к
филологическим предметам исключительно с тем об-
стоятельством, что английский язык сам по себе удов-
летворяет все наши практические потребности. В са-
мом языке или, скорее, в различиях между языками
есть нечто раздражающее американцев, их образ мыс-
лей. Этот образ мыслей сугубо рационалистичен. Впол-
не сознательно мы склонны относиться с неодобрением
к любому объекту, идее или положению вещей, кото-
рые не могут быть исчерпывающим образом рассмотре-
ны. Этот дух рационализма, как мы можем наблюдать,
буквально пронизывает все наше научное мировоззре-
ние. Если ныне в Америке отмечается рост популярно-
сти психологии и социологии, то это в основном связано
с господствующим в обществе представлением об этих
науках как о непосредственно преобразуемых в реаль-
ную денежную ценность в форме эффективного образо-
вания, эффективной рекламы и социального совершен-
ствования. Одиако и в этом случае американец видит
нечто аморальное в любой психологической истине, ко-
торая не в состоянии выполнить какую-либо педагоги-
ческую задачу, считает расточительным любое социо-
логическое занятие, которое не может быть ни практи-
чески использовано, ни отвергнуто. Если мы применим
такой рационалистический тест к языку, обнаружится
явная практическая неполноценность исследования на-
шего предмета. Ведь язык есть всего-навсего инстру-
мент, нечто вроде рычага, необходимого для адекват-
ной передачи наших мыслей. А наш деловой инстинкт
говорит нам, что размножение рычагов, занятых выпол-
нением одной и той же работы, — весьма неэкономич-
ное занятие. Ведь любой способ «выбалтывания* мыслей
ЭДВАРД СЕПИР
142
ничуть не хуже, чем все прочие. Если другие народы
прибегают к другим рычагам общения, то это их личное
дело. Иными словами, феномен языка не представляет
ровным счетом никакого интереса, это не та проблема,
которая должна интриговать пытливый ум.
Думается, существует два пути придания лингвис-
тике как науке необходимого достоинства. Ее можно
рассматривать либо как историческую иауку, либо — в
дескриптивном и сравнительном плайе — как формаль-
ную. Ни одна из этих точек зрения не предвещает ниче-
го хорошего для возбуждения у американцев интереса
к этой области знания. История всегда должна выхо-
дить за рамки своего объекта, прежде чем ее принимают
всерьез. Иначе ее считают сугубо «чистой» историей.
Если бы мы могли продемонстрировать, что некоторые
общие изменения языка как-то соотносятся со стадия-
ми культурной эволюции, мы, вероятно, приблизились
бы к успеху в привлечении внимания к лингвистике; од-
нако же медленные изменения, которые постепенно
преображают субстанцию и форму нашей речи и посте-
пенно придают ей совершенно другой облик, как пред-
ставляется, проходят отнюдь не параллельно какой-
либо схеме культурной эволюции из числа преддожен-
ттых к тга стоящему времени. Поскольку «биологиче-
ская», или эволюционная, история есть единственный
род истории, к которой мы испытываем подлинное ува-
жение, к истории языка сохраняется прохладное отно-
шение — такое же, как к истории, фиксирующей слу-
чайную последовательность событий, о которой столь
ревностно печется германская ученость.
Однако прежде чем укрепить нашу веру в лингвис-
тику как исследование формы, нам следует бросить
призывный взгляд в сторону психолога, ибо он может
оказаться весьма полезным союзником. Психолог и
сам обращается к языку, в котором он обнаруживает
143
ГРАММАТМСТ И ЕГО ЯЗЫК
некий вид «поведения*, некий специализированный
тип функциональной адаптации, впрочем, не настолько
специализированный, чтобы его нельзя было рассматри-
вать как ряд привычных действий речевого аппарата.
Мы можем пойти и дальше, если для поддержки выбе-
рем нужного нам психолога, и рассматривать речевое
поведение просто как «субвокальную активность горта-
ни». Если подобные психологические откровения отно-
сительно природы речи и не объясняют древнегрече-
ских аористов, завещанных нам поэтами-классиками,
они, по крайней мере, звучат очень приятно для филоло-
га. К сожалению, филолог не может долго довольство-
ваться весьма неточным понятийным аппаратом психо-
лога. Этот аппарат может в некоторой степени повлиять
иа подход к науке о языке, однако реальные насущные
проблемы филологии столь сложны, что лишь немногие
психологи сознают их сложность, хотя вовсе не исклю-
чено, что психология, обретя необходимую силу и тон-
кость, может внести много содержательного в решение
филологических проблем. Что же касается психологи-
ческой проблемы, интересующей лингвиста более дру-
гих, то это отражение внутренней структуры языка в
бессознательных психических процессах, а отнюдь не
индивидуальная адаптация к этой традиционно сохраня-
емой структуре. Само собой разумеется, однако, что эти
две проблемы тесно взаимосвязаны.
Если мы, используя пространные выражения, гово-
рим, что благороднейшая задача лингвистики состоит в
понимании языка скорее как формы, нежели как функ-
ции или исторического процесса, то этим мы вовсе не хо-
тим сказать, что язык может быть вполне понят только
как форма. Формальное строение речи в любое конкрет-
ное время и в любом конкретном месте представляет со-
бой результат длительного и сложного исторического
развития, которое, в свою очередь, остается неясным
ЭДВАРД СЕПИР
144
без постоянного обращения к функциональным факто-
рам. В то же время форма еще в большей степени подда-
ется квалификации как «чистая», нежели созидающий
ее исторический процесс. Для нашего сугубо прагмати-
ческого американского сознания форма сама по себе
представляется имеющей малую или нулевую реаль-
ность, и именно поэтому мы столь часто бываем неспо-
собны представить ее и осознать, с помощью каких но-
вых структур идеи и обычаи уравновешиваются или
стремятся к достижению равновесия. В настоящее вре-
мя мы вполне можем предположить, что то относитель-
ное равновесие и устойчивость, которые характерны
для развития культуры, в значительной степени обяза-
ны нашему привычному восприятию формальных конту-
ров и формальных хитросплетений нашего опыта. Там,
где жизнь состоит из проб и экспериментов, когда мыс-
ли и чувства постоянно выставляют свои костлявые лок-
ти из унаследованного запаса сухих, негибких образ-
цов — вместо того чтобы изящно сгибать их в соответ-
ствии с их предназначением, форма неизбежно ощуща-
ется как бремя и деспотизм, а не как нежное объятие,
каковым ей следует быть. По-видимому, мы не слишком
преувеличим, если скажем, что именно недостаток
культуры в Америке ответствен в некоторой степени за
непопулярность лингвистических исследований, ибо
эти последние требуют одновременно и тонкого воспри-
ятия данной конкретной формы выражения, и готовнос-
ти признать великое разнообразие возможных форм.
Замечательным свойством любого языка является
его формальная завершенность. Это одинаково верно в
отношении таких «примитивных» языков, как, скажем,
эскимосский или готтентотский, так и в отношении
тщательно документированных и нормализованных язы-
ков наших великих культур. Под «формальной завершен-
ностью» я понимаю некое глубоко своеобразное свой-
145
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
ство языка, которое часто упускается из виду. Каждый
язык обладает четко определенной и единственной в
своем роде фонетической системой, с помощью которой
он и выполняет свою функцию; более того, все выраже-
ния языка, от самых привычных и стандартных до чисто
потенциальных, укладываются в искусный узор гото-
вых форм, избежать которых невозможно. На основе
этих форм в сознании носителей языка складывается
определенное ощущение или понимание всех возмож-
ных смыслов, передаваемых посредством языковых вы-
ражений, и — через эти смыслы — всего возможного
содержания нашего опыта, в той мере, разумеется, в ка-
кой опыт вообще поддается выражению языковыми
средствами. Если пытаться выразить это свойство фор-
мальной заверенности речи иными словами, то можно
сказать, что язык устроен таким образом, что, какую бы
мысль говорящий ни желал сообщить, какой бы ориги-
нальной или причудливой ни была его идея или фанта-
зия, язык вполне готов выполнить любую его задачу. Го-
ворящему вовсе не нужно создавать новые формы или
навязывать своему языку новую формальную ориента-
цию — если только его, беднягу, не преследует чувство
формы другого языка и не увлекает склонность к бес-
сознательному искажению одной речевой системы по
аналогии с другой. Мир языковых форм, взятый в преде-
лах данного языка, есть завершенная система обозначе-
ния точно так же, как система чисел есть завершенная
система задания количественных отношений или как
множество геометрических осей координат есть завер-
шенная система задания всех точек данного простран-
ства. Математическая аналогия здесь вовсе не столь
случайна, как это может показаться. Переход от одного
языка к другому психологически подобен переходу от
одной геометрической системы отсчета к другой. Окру-
жающий мир, подлежащий выражению посредством
ЭДВАРД СЕПИР
146
языка, одни и тот же для любого языка; мир точек про-
странства один и тот же для любой системы отсчета.
Одиако формальные способы обозначения того или ино-
го элемента опыта, равно как и той или иной точки про-
странства, столь различны, что возникающее на их ос-
нове ощущение ориентации не может быть тождествен-
но ни для произвольной пары языков, ни для произволь-
ной пары систем отсчета. В каждом случае необходимо
производить совершенно особую или ощутимо особую
настройку, и эти различия имеют свои психологические
корреляты.
Формальная завершенность не имеет ничего обще-
го с богатством или бедностью словаря. По мере расши-
рения опыта носителям языка бывает иногда удобно
или даже — из практических соображений — необхо-
димо заимствовать слова из иностранных источников.
Они могут расширять значения слов, которыми те уже
располагают, создавать новые слова с помощью своих
собственных языковых средств по аналогии с уже су-
ществующими выражениями или брать у других наро-
дов выражения и применять их к новым, вводимым в
обиход понятиям. Любой из этих процессов влияет на
форму языка не в большей мере, чем обогащение неко-
торой части пространства в связи с введением новых
объектов влияет на геометрическую форму той облас-
ти, которая определяется принятой системой отсчета.
Было бы нелепо утверждать, что кантовскую «Критику
чистого разума» можно с ходу изложить на непривыч-
ных к этому наречиях эскимосов или готтентотов, одна-
ко абсурдность подобного утверждения весьма относи-
тельна. Существенно в данной связи то, ЧТо культура
этих первобытных народов еще не достигла такого
уровня, при котором для них представляло бы интерес
формирование абстрактных концепций философского
толка. Однако отнюдь не нелепым выглядит утвержде-
147
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
ние, что в формальных особенностях языков эскимосов
или готтентотов нет ничего такого, что затемняло бы
ясность или скрывало бы глубину кантовской мыс-
ли, — наоборот, можно предположить, что высокосин-
тетическая и риторичная структура эскимосского с
большей легкостью выдержит груз кантовской терми-
нологии, чем его родной немецкий. Более того, если за-
нять по отношению к этим языкам более выигрышную
позицию, то отнюдь не покажется нелепым утвержде-
ние, что и эскимосский, и готтентотский языки облада-
ют полным формальным аппаратом, необходимым в ка-
честве цементирующей основы для выражения кантов-
ской мысли. Если эти языки и не обладают требуемым
кантовским словарем, то за это следует осуждать не
сами языки, а эскимосов и готтентотов. Языки как тако-
вые вполне открыты для добавления философского гру-
за в их лексический запас.
У неискушенных туземцев, не имевших поводов для
размышлений о природе причинности, возможно, и нет
слова, адекватно передающего смысл нашего философ-
ского термина «причинность* (causation), но этот недо-
статок относится всего лишь к словарю и не представля-
ет никакого интереса с точки зрения языковой формы.
Ибо с этой точки зрения термин «причинность* — это
просто один из бесконечного числа примеров, иллюстри-
рующих определенный способ выражения. В лингвисти-
ческом отношении, т. е. с точки зрения ощущения фор-
мы, «причинность» — это всего лишь определенный спо-
соб выражения понятия «акт каузации» (act of cau-
sing) — идеи об определенном типе действия,
воспринимаемом как некая вещь, как некая сущность.
А ведь ощущение формы такого слова, как «причин-
ность», хорошо знакомо эскимосскому языку и сотням
других «примитивных» языков. Они не испытывают ни-
каких затруднений в выражении идеи о некотором конк-
ретном действии, например «смеяться», или «говорить»,
ЭДВАРД СЕПИР М8
или «бежать», в виде некоторой сущности— «смех»,
«речь» или «бег». Если тот или иной язык и не может лег-
ко приспособиться к данному типу выражения, то он мо-
жет свободно свести контексты, в которых такие формы
употребляются в других языках, к другим формальным
структурам, которые в конечном счете делают то же са-
мое. Так, мы имеем функционально эквивалентные выра-
жения типа «смех приятен» (laughter is pleasurable),
«смеяться приятно» (it is pleasant to laugh), «смеются c
удовольствием» (one laughs with pleasure) и так далее ad
infinitum1, но все подобные выражения, передавая одно и
то же содержание, воплощают в себе совершенно разные
ощущения формы. Все языки способны выполнять всю ту
символическую и смысловую функцию, для которой
предназначен язык вообще, — либо в реальном, либо в
потенциальном плане. Формальная техника выполнения
этой функции есть сокровенная тайна каждого языка.
Очень важно получить некоторое представление о
природе этого ощущения формы, скрытого во всех язы-
ках, сколь бы удивительным ни было разнообразие его
реальных манифестаций в разных типах речи. В данной
связи возникает масса запутанных, ускользающих от
анализа проблем, прояснение которых потребует со-
вместных^усилий со стдооны лингвистов, логикод. пси-
хологов и критически настроенных философов.
Все же имеется один великий вопрос, который иам
следует разрешить безотлагательно. Если эскимос и
готтентот не располагают никаким понятием, адекват-
ным нашему понятию причинности, следует ли из это-
го, что их языки неспособны выразить причинное отно-
шение? Конечно же, нет. В английском, немецком и
древнегреческом языках мы располагаем определенны-
ми языковыми средствами для перехода от некоторого
исходного действия или состояния к его каузативному
’До бесконечности (лат.).
149
ГРАММАТУ1СТ И ЕГО ЯЗЫК
корреляту, например: англ, to fall «падать» — to fell «кау-
зировать падать»; wide «широкий» — to widen «расши-
рять»; нем. hangen «висеть, быть подвешенным, вися-
чим» — hangen «подвешивать, каузировать быть подве-
шенным, висячим»; древнегреч. phero «нести» — pho-
гео «каузировать нести». Эта способность ощущать и
выражать причинное отношение ни в коей мере не зави-
сит от способности восприятия причинности как тако-
вой. Последняя способность относится к сфере созна-
ния и интеллекта по своей природе; она требует значи-
тельных умственных усилий как большинство созна-
тельных процессов и характеризуется поздним этапом
эволюции. Первая же способность находится вне сфе-
ры сознания и интеллекта по своей природе, развивает-
ся очень быстро и очень легко на ранних этапах жизни
племени и индивида. Тем самым мы не испытываем ни-
каких теоретических затруднений в объяснении того
факта, что те концепции и отношения, которыми перво-
бытные народы совершенно не способны владеть на
уровне сознания, выражаются вне контроля сознания в
языках этих народов — и при этом нередко чрезвычай-
но точно и изящно. По существу причинное отношение,
выражаемое лишь фрагментарно в современных евро-
пейских языках, во многих «примитивных» языках пе-
редается с удивительно строгой философской последо-
вательностью. В иутка, индейском языке острова Ван-
кувер, нет такого глагола или глагольной формы, кото-
рые не имели бы точного каузативного коррелята.
Излишне говорить, что я выбрал понятие причинно-
сти только в иллюстративных целях и вовсе не потому,
что придаю ему какую-либо особую лингвистическую
значимость. Итак, каждый язык обладает законченной
в своем роде и психологически удовлетворительной
формальной ориентацией, но эта ориентация залегает
глубоко в подсознании носителей языка — реально они
ее не осознают.
ЭДВАРД СЕПИР
ISO
Современная психология, как представляется, не
располагает адекватными средствами для объяснения
образования и передачи подобных глубинных (submer-
ged) формальных систем, какие обнаруживаются в
языках мира. Обычно говорят, что в раннем детстве
усваиваются сперва отдельные языковые реакции, а
затем, по мере их закрепления в форме устойчивых
навыков, автоматически проявляются, когда в этом
возникает необходимость, формально аналогичные ре-
акции; специфические реакции-прецеденты открывают
путь для новых реакций. Иногда говорят, что эти реак-
ции по аналогии являются в значительной степени ре-
зультатом сомнений в полезности более ранних реак-
ций, непосредственно усваиваемых из социального ок-
ружения.
Такого рода подход не усматривает в проблеме язы-
ковой формы ничего кроме того, что относится к четко-
му управлению некоторой группой мышц с целью дос-
тижения желаемого результата задачи, как, например,
при забивании гвоздя молотком. Мне остается лишь по-
лагать, что объяснения подобного типа страдают серь-
езной неполнотой и что они совершенно не учитывают
врожденного внутреннего стремления индивида к со-
в^ошенствоваиию фзомы и вцоазительности и к бес-
сознательному структурированию групп взаимосвязан-
ных элементов опыта.
Тот вид мыслительных процессов, о котором сейчас
идет речь, относится к той захватывающей и почти не
понятой области психики, которой было предложено
название «интуиция». Психология едва коснулась этой
области, но ее невозможно игнорировать до бесконеч-
ности. Психологи до сих пор не отваживались всерьез
заняться этими трудными проблемами, и именно поэто-
му они проявляют столь малый интерес к объяснению
всех тех типов мыслительной деятельности, которые
неизбежно поднимают проблему формы, такой как
151
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
язык, музыка и математика. Мы имеем все основания
предполагать, что языки являются по существу куль-
турными хранилищами обширных и самодостаточных
сетей психических процессов, которые нам еще пред-
стоит точно определить. По-видимому, большинство
лингвистов убеждено, что процесс усвоения языка, в
особенности приобретения ощущения формальной
структуры языка, в значительной степени бессознате-
лен и включает механизмы, которые по своей природе
резко отличны и от чувственной, и от рациональной
сферы. Несомненно, в нашем ощущении формы присут-
ствуют гораздо более глубинные элементы, чем все те,
которые удалось предугадать большинству теоретиков
искусства, и вполне разумным представляется предпо-
ложение, что по мере совершенствования методов пси-
хологического анализа проявится одна из величайших
ценностей лингвистического исследования, а имен-
но — тот свет, который оно прольет на психологию ин-
туиции, сама же «интуиция», возможно, окажется не
чем иным, как «предощущением» отношений.
Нет сомнения и в том, что критическое исследова-
ние языка может также оказаться весьма любопытным
и неожиданно полезным для философии. Немногие фи-
лософы снисходили до исследований морфологии «при-
митивных» языков, да и структурным особенностям
своей собственной речи они уделяли внимание лишь
бегло и поверхностно. Когда благоговейно держат в сво-
их руках разгадку тайн вселенной, подобные исследова-
ния кажутся мелкими и банальными; когда же возника-
ет подозрение, что по крайней мере некоторые решения
великой загадки зависят от мастерства иносказательно-
го использования правил латинской, греческой или анг-
лийской грамматики, банальность лингвистического ана-
лиза становится не столь несомненной. В гораздо боль-
шей степени, чем философ осознает это, он является
ЭДВАРД СЕПИР
152
жертвой обмана собственной речи; иными словами,
форма, в которую отливается его мысль (а это в сущно-
сти языковая форма), поддается прямому соотнесению
с его мировоззрением. Так, внешне бесхитростные язы-
ковые категории могут принимать внушительный облик
космических абсолютов. И если философ желает изба-
виться от философского буквоедства, для его собствен-
ной пользы ему стоит критически взглянуть на языко-
вые основания и ограничения собственного мышления.
Тогда ему не придется сделать унизительное для себя
открытие, что многие новые идеи, многие внешне блес-
тящие философские концепции суть не более чем пере-
становки известных слов в формально допустимых кон-
струкциях. В недавно опубликованной книге «Значение
значения» (The Meaning of Meaning) Огден и Ричардс
сослужили философии прекрасную службу, показав,
сколь легко самые искушенные мыслители позволяли
себе быть обманутыми формальными намеками их соб-
ственной привычной манеры выражения. Быть может,
наиболее продуктивный путь проникновения в суть на-
ших мыслительных процессов и устранения из них все-
го случайного и несущественного, что привносится их
языковым облачением, состоит в обращении к серьезно-
му исследованию экзотических способов выражения.
По крайней мере, я не знаю никакого лучшего способа
уничтожения фиктивных «сущностей».
Это приводит нас к пониманию природы языка как
символической системы, как способа отображения всех
мыслимых разновидностей нашего опыта. Естественно,
но при этом довольно наивно полагать, что, когда мы хо-
тим передать другим какую-либо мысль или впечатле-.
ние, мы составляем нечто вроде грубого и беглого пе-
речня реально существующих элементов и отношений,
заключенных в этой мысли или этом впечатлении; что
такой перечень или анализ совершенно однозначен и.
153
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК
что наша языковая задача состоит всего-навсего в отбо-
ре и группировке нужных слов, соответствующих еди-
ницам объективно проведенного анализа. Так, наблю-
дая объект, подобный тем, которые мы называем <<ха-
мень», который перемещается в пространстве по на-
правлению к земле, мы непроизвольно анализируем это
явление посредством двух конкретных понятий — по-
нятия камня и понятия акта падения, и, соотнося эти
два понятия с помощью определенных формальных
средств, свойственных английскому языку, мы говорим:
the stone falls «камень падает». Мы полагаем — впро-
чем, достаточно наивно, — что подобный анализ ситуа-
ции является едва ли не единственно возможным. Одна-
ко если обратиться к другим языкам и посмотреть, каки-
ми способами они выражают это очень простое впечат-
ление, то довольно скоро станет понятно, сколь многое
может быть добавлено к нашей форме выражения, изъя-
то из нее или перегруппировано в ней без существенно-
го изменения реального содержания нашего сообщения
об этом физическом факте.
В немецком и французском языках мы вынуждены
присвоить «камню» категорию рода — возможно, фрей-
дисты смогут объяснить нам, почему этот объект отно-
сится к мужскому роду в одном языке, а в другом — к
женскому; в языке чиппева мы не можем выразить со-
ответствующую мысль без указания того внешне несу-
щественного для нас факта, что камень является неоду-
шевленным объектом. Если мы считаем род несуще-
ственным, то русские могут удивляться тому, почему
мы полагаем необходимым каждый раз указывать, вос-
принимается камень или любой другой объект сходного
рода как определенный или неопределенный, т. е. поче-
му имеет значение различие между the stone и a stone. 1
«Stone falls» [существительное без артикля] звучит впол-.
не хорошо для [русского] Ленина, как вполне хорошо это.
ЭДВАРД СЕПИР
154
звучало для [латинского] Цицерона. А если мы считаем
варварством игнорирование различия по определеннос-
ти, то индеец квакиутль из Британской Колумбии отне-
сется к этому вполне сочувственно, ио при этом спро-
сит, почему мы не делаем следующего шага и не указы-
ваем тем или иным образом, является ли камень види-
мым или невидимым для говорящего в момент
произнесения фразы, к кому камень ближе — к говоря-
щему, адресату речи или какому-то третьемулицу. «Не-
сомненно, это звучало бы превосходно на языке кваки-
утль, мы же для этого слишком заняты!» И при этом мы
требуем непременного выражения единственности па-
дающего объекта; индеец же квакиутль — в отличие от
индейца чиппева — может обобщить ситуацию и сде-
лать утверждение, применимое равным образом и к од-
ному, и к нескольким камням. Более того, ему не нужно
определять время падения. Китаец спокойно обходится
минимумом эксплицитных формальных средств и до-
вольствуется экономным утверждением stone fall «ка-
мень падать*.
Могут возразить, что эти различия в анализе одной
и той же ситуации носят чисто формальный характер;
они не подрывают общей необходимости конкретного
разложения ситуации на два компонента — «камень» и
то, что с камнем происходит, — в данном конкретном
случае «падение». Однако эта необходимость, столь яв-
ственно нами ощущаемая, есть не что иное, как иллю-
зия. В языке нутка совокупное впечатление от падения
камня членится совершенно по-другому: специально
обозначать камень нет необходимости, но может быть
использовано отдельное слово — глагольная форма, ко-
торая практически не отличается большей неоднознач-
ностью, чем наше английское предложение. Эта гла-
гольная форма состоит из двух главных элементов, пер-
вый из них обозначает общее движение или положение
1SS ГРАММАТМСТ И ЕГО ЯЗЫК
камня или камнеподобного предмета, а второй — на-
правление вниз. Мы сможем получить некоторое пред-
ставление об ощущении, связанном с данным словом в
языке нутка, если предположим существование непере-
ходного глагола типа to stone «камнить», обозначающе-
го положение или движение камнеподобного предмета.
Тогда наше предложение the stone falls «камень падает»
может быть передано посредством чего-то вроде it
stones down «камнит вниз». При таком способе выраже-
ния предметное качество камня имплицируется обоб-
щенным глагольным элементом «to stone», тогда как
специфический вид движения, данный нам в опыте при
падении камня, воспринимается как разложимый на
обобщенное понятие движения некоторого класса
объектов и более конкретное понятие направления.
Другими словами, хотя нутка не испытывает никаких
затруднений при описании падения камня, в этом языке
отсутствует глагол, непосредственно соответствующий
нашему понятию «падать».
Можно было бы до бесконечности приводить приме-
ры несоизмеримости членения опыта в разных языках.
Это привело бы нас к общему выводу об одном виде отно-
сительности, которую скрывает от нас наше наивное
принятие жестких навыков нашей речи как ориентиров
для объективного понимания природы опыта. Здесь мы
имеем дело с относительностью понятий или, как ее
можно назвать по-другому, с относительностью формы
мышления. Эту относительность не столь трудно усво-
ить, как физическую относительность Эйнштейна; не
столь тревожна она для нашего чувства безопасности,
как психологическая относительность Юнга, которую
едва лишь начинают понимать; однако наша относитель-
ность наиболее легко ускользает от научного анализа.
Ибо для ее понимания сравнительные данные лингвисти-
ки являются условием sine qua non. Быть может, самое
ЭДВАРД СЕПИР
156
существенное следствие признания относительности
формы мышления, проистекающее именно из лингвисти-
ческих исследований, состоит в расширении нашего ин-
теллектуального кругозора. В наибольшей степени ско-
вывает разум и парализует дух упрямая приверженность
догматическим абсолютам.
Для определенного склада интеллекта лингвистика
отличается тем глубоким и прекрасным свойством, ко-
торое присуще математике и музыке и которое можно
описать как созидание из простых исходных элементов
некоторого самобытного мира форм. Лингвистика не
обладает ни размахом, ни инструментальным могуще-
ством математики, не обладает оиа и универсальным
эстетическим очарованием музыки. Однако под ее су-
ровой, скучноватой, технической внешностью скрыт
тот же классический дух, та же свобода в рамках огра-
ничений, которая одушевляет математику и музыку в
их чистейших проявлениях. Этот дух антагонистичен
романтизму, который столь буйно расцвел в современ-
ной Америке и столь глубоко растлил нашу науку с ее
исступленными желаниями.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
ОТНОШЕНИЕ НОРМ
ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ
К ЯЗЫКУ
Люди живут не только в объективном мире
вещей и ие только в мире общественной де-
ятельности, как это обычно полагают, они в
значительной мере находятся под влиянием
того конкретного языка, который является
средством общения для данного общества.
Было бы ошибочным полагать, что мы мо-
жем полностью осознать действительность,
не прибегая к помощи языка, или что язык
является побочным средством разрешения
некоторых частных проблем общения и
мышления. На самом же деле «реальный
мир» в значительной мере бессознательно
строится на основе языковых норм данной
группы... Мы видам, слышим и воспринима-
ем так или иначе те или иные явления глав-
ным образом благодаря тому, что языковые
нормы нашего общества предполагают дан-
ную форму выражения.
Эдвард Сепир
Вероятно, большинство людей согласится с
утверждением, что принятые нормы употреб-
ления слов определяют некоторые формы
мышления и поведения; однако это предполо-
жение обычно не идет дальше признания гип-
нотической силы философского и научного
языка, с одной стороны, и модных словечек и
лозунгов — с другой.
Перевод Л.Н. Натан, Е.С. Турковой.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ I5B
Ограничиться только этим — значит не понимать
сути одной из важнейших форм связи, которую Сепир
усматривал между языком, культурой и психологией и
которая кратко сформулирована в приведенной выше
цитате.
Мы должны признать влияние языка на различные
виды деятельности людей не столько в особых случаях
употребления языка, сколько в его постоянно действу-
ющих общих законах и в повседневной оценке им тех
или иных явлений.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ
Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы еще до
того, как начал изучать Сепира, в области, обычно счита-
ющейся очень отдаленной от лингвистики. Это произо-
шло во время моей работы в обществе страхования от
огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об об-
стоятельствах, приведших к возникновению пожара или
взрыва. Я фиксировал просто физические причины, та-
кие как неисправная проводка, наличие или отсутствие
воздушного пространства между дымоходами и деревян-
ными частями зданий и т. п., а результаты обследования
описывал в соответствующих терминах. При этом я не
ставил перед собой никакой другой задачи. Но с течени-
ем времени стало ясно, что не только сами по себе эти
причины, но и обозначение их было иногда тем факто-
ром, который через поведение людей являлся причиной
пожара. Фактор обозначения проявлялся ранее всего
тогда, когда мы имели дело с языковым обозначением,
исходящим из названия, или с обычным описанием по-
добных обстоятельств средствами языка.
159
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
Так, например, около склада так называемых
gasoline drums «бензиновых цистерн» люди ведут себя
соответствующим образом, т. е. с большой осторожно-
стью; в то же время рядом со складом с названием
empty gasoline drums «пустые бензиновые цистерны»
люди ведут себя иначе; недостаточно осторожно, курят
и даже бросают окурки. Однако эти empty «пустые» ци-
стерны могут быть более опасными, так как в них со-
держатся взрывчатые испарения. При наличии реально
опасной ситуации лингвистический анализ ориентиру-
ется на слово «пустой», предполагающее отсутствие
всякого риска. Возможны два различных случая упот-
ребления слова empty: в первом случае оно употребля-
ется как точный синоним слов null, void, negative, inert
(порожний, бессодержательный, бессмысленный, нич-
тожный, вялый), а во втором — в применении к обозна-
чению физической ситуации, не принимая во внимание
наличия паров, капель жидкости или любых других ос-
татков в цистерне илн в другом вместилище. Обстоя-
тельства описываются с помощью второго случая, а
люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду
первый случай. Это становится общей формулой нео-
сторожного поведения людей, обусловленного чисто
лингвистическими факторами.
На лесохимическом заводе металлические дистил-
ляторы были изолированы смесью, приготовленной из
известняка, именовавшегося на заводе «центрифугиро-
ванным известняком». Никаких мер по предохранению
этой изоляции от перегревания и соприкосновения с ог-
нем принято не было. Дистилляторы находились неко-
торое время в работе, и однажды пламя под одним из
них достигло известняка, который, ко всеобщему удив-
лению, начал сильно гореть. Поступление паров уксус-
ной кислоты из дистилляторов способствовало превра-
щению части известняка в ацетат кальция. Последний
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
160
при нагревании разлагается, образуя ацетон, который
воспламеняется. Люди, допускавшие соприкосновение
огня с изоляцией, действовали так потому, что само на-
звание limestone «известняк» связывалось в их созна-
нии с понятием stone «камень, который не горит».
Огромный железный котел для варки олифы ока-
зался перегретым до температуры, при которой он мог
воспламениться. Рабочий сдвинул его с огня и откатил
иа некоторое расстояние, но не прикрыл. Прибли-
зительно через одну минуту олифа воспламенилась.
В этом случае языковое влияние оказалось более сла-
бым благодаря переносу значения (о чем ниже будет
сказано более подробно) «причины» в виде контакта
или пространственного соприкосновения предметов на
истолкование положения on the fire «на огне» в проти-
воположность off the fire «вне огня». На самом же деле
та стадия, при которой главным фактором являлось на-
ружное пламя, закончилась, перегревание стало внут-
ренним процессом конвенции в олифе благодаря сильно
нагретому котлу и продолжалась, когда котел был уже
off the fire «вне огня».
Электрическим рефлектором, висевшим на стене,
пользовались редко, и поэтому один из рабочих приспо-
собил его в качестве удобной вешалки для пальто. Но-
чью вошел дежурный и повернул выключатель, мыслен-
но обозначая свое действие как turning on the light
«включение света». Свет не загорелся. Дежурный мыс-
ленно обозначил это как light is burned out «перегорели
пробки». Он не мог увидеть свечения рефлектора только
из-за того, что на нем висело старое пальто. Вскоре паль-
то загорелось, а затем вспыхнул пожар и во всем здании.
Кожевенный завод спускал сточную воду, содер-
жавшую органические остатки, в наружный отстойный
резервуар, наполовину закрытый деревянным насти-
лом, а наполовину открытый. Такая ситуация может
161
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
быть обозначена как pool of water «резервуар, напол-
ненный водой». Случилось, что рабочий зажигал паяль-
ную лампу и бросил спичку в воду. При разложении
органических остатков выделялся газ, скапливавшийся
под деревянным настилом, так что вся установка была
отнюдь не watery «водной». Моментальная вспышка
огня воспламенила дерево, и огонь очень быстро рас-
пространился на соседнее здание.
Сушильня для кожи была устроена с воздуходувкой
в одном конце комнаты, чтобы направить поток воздуха
вдоль комнаты и далее наружу через отверстие в другом
конце. Огонь возник в воздуходувке и благодаря дей-
ствию последней перекинулся прямо на кожи, рассыпав
искры по всей комнате и уничтожив таким образом весь
материал. Опасная ситуация создалась, следовательно,
ввиду наличия термина blower «воздуходувка», который
является языковым эквивалентом that which blows «то,
что дует», указывающим на то, что основная функция
этого прибора —• blow «дуть». Эта же функция может
быть обозначена как blowing air for drying «раздувать
воздух для просушки», причем не принимается во внима-
ние, что он может «раздувать» и другое, например искры
и языки пламени. В действительности воздуходувка про-
сто создает поток воздуха и может втягивать воздух так
же, как и выдувать его. Ее нужно было поставить на дру-
гом конце помещения, там, где было отверстие и где она
могла бы втягивать поток воздуха, проходящий над шку-
рами, а затем выдувать его наружу.
Рядом с тиглем для плавки свинца, имевшим уголь-
ную топку, была помещена груда scrap lead «свинцового
лома» — обозначение, вводящее в заблуждение, так
как на самом деле «лом» состоял из листов старых ра-
диоконденсаторов, между которыми все еще были пара-
финовые прокладки. Вскоре парафин загорелся, а за
ним вспыхнула и крыша.
6 Языки как образ мира
БЕНДЖАМЕНА УОРФ 162
Можно привести бесконечное множество подобных
примеров. Они показывают достаточно убедительно,
как рассмотрение лингвистических формул, обознача-
ющих данную ситуацию, может явиться ключом к
объяснению тех или иных поступков людей и каким об-
разом эти формулы могут анализироваться, классифи-
цироваться и соотноситься в том мире, который «в зна-
чительной степени бессознательно строится на основа-
нии языковых норм данной группы» (Э. Сепир). Мы
ведь всегда исходим из того, что язык лучше, чем это на
самом деле имеет место, отражает действительность.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ
ИСТОЛКОВАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Лингвистический материал приведенных выше приме-
ров ограничивается отдельными словами, фразеоло-
гическими оборотами и словосочетаниями определен-
ного типа. Изучая влияние этого материала на поведе-
ние людей, нельзя упускать из виду, что несравненно
более сильное влияние на их поведение могут оказы-
вать разнообразные типы грамматических категорий,
таких как категория числа, рода, классификация по
одушевленности, неодушевленности и т. п,, а также
времена, залоги и другие формы глагола, классифика-
ция по частям речи и вопрос о том, чем обозначена дан-
ная ситуация — одной ли морфемой; формой ли слова
или синтаксическим словосочетанием. Такая катего-
рия, как категория числа (единственное в противопо-
ложность множественному), является попыткой обо-
значить целый класс явлений действительности. В ней
содержится указание на то, каким образом нужно клаС-
1БЗ
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕЛЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
сифицировать различные явления и какие случаи мож-
но назвать «единичными», а какие — «множественны-
ми». Однако обнаружить такое косвенное влияние
чрезвычайно сложно, во-первых, ввиду его неясности, а
во-вторых, ввиду того, что весьма трудно взглянуть со
стороны и изучить объективно родной язык, который
является привычным средством общения и своего рода
неотъемлемой частью нашей культуры. Если же мы
приступим к изучению языка, совершенно не похожего
на наш родной, мы будем изучать его так, как изучаем
природу.При анализе чужого, непривычного языка мы
осмысливаем его средствами своего родного языка или
же обнаруживаем, что задача разъяснения чисто мор-
фологических трудностей настолько сложна, что, ка-
жется, поглощает все остальное. Однако несмотря на
сложность задачи, состоящей в выяснении того косвен-
ного влияния грамматических категорий языка на пове-
дение людей, о котором говорилось выше, она все же
выполнима, и разрешить ее легче всего при рассмотре-
нии какого-нибудь экзотического языка, так как, изу-
чая его, мы волей-неволей бываем выбиты из привыч-
ной колеи. И, кроме того, в дальнейшем обнаруживает-
ся, что такой экзотический язык является зеркалом по
отношению к родному языку.
Мысль о возможности работы над данной пробле-
мой впервые пришла мне в голову во время изучения
мною языка хопи даже раньше, чем я осознал сущ-
ность самой этой проблемы. Казавшееся бесконечным
описание морфологии языка было наконец закончено.
Но было совершенно очевидно, особенно в свете лек-
ций Сепира о языке навахо, что описание языка в це-
лом являлось далеко не полным. Я знал, например, пра-
вила образования множественного числа, но не знал,
как последнее употребляется. Было ясно, что катего-
рия множественного числа в языке хопи значительно
6*
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
164
отличается от категории множественного числа в анг-
лийском, французском и немецком языках. Некоторые
понятия, выраженные в этих языках множественным
числом, в языке хопи обозначаются единственным.
Стадия исследования, начавшаяся с этого момента, за-
няла еще два года.
Прежде всего надо было определить способ сравне-
ния языка хопи с западноевропейскими языками. Сразу
же стало очевидным, что даже грамматика хопи отра-
жала в какой-то степени культуру хопи так же, как
грамматика европейских языков отражает «западную»,
или «европейскую», культуру. Оказалось, что эта взаи-
мосвязь дает возможность выделить при помощи языка
классы представлений, подобные «европейским», —
«время», «пространство», «субстанция», «материя». По-
скольку те категории, которые будут подвергаться
сравнению в английском, немецком и французском, а
также и в других европейских языках, за исключением,
пожалуй (да и это весьма сомнительно), балто-славян-
ских и неиндосвропейских языков, имеют лишь незна-
чительные различия, я собрал все эти языки в одну
группу, названную SAE, или «Standard Average Europe-
an» («среднеевропейский стандарт»).
Ту часть исследования, которая представлена
здесь, можно кратко сформулировать в двух вопросах:
1) являются ли наши представления «времени», «про-
странства» и «материи» в действительности одинаковы-
ми для всех люден, или они до некоторой степени обус-
ловлены структурой данного языка, и 2) существуют ли
видимые связи между а) нормами культуры и поведе-
ния и б) основными лингвистическими категориями?
Я отнюдь не утверждаю, что существует прямая «кор-
реляция» между культурой и языком и тем более между
этнологическими рубриками, как, например, «сельское
хозяйство», «охота» и т. д., и такими лингвистическими
1Б5 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
рубриками, как «флективный», «синтетический» или
«изолирующий»1.
Когда я начал изучение данной проблемы, она вовсе
не была так ясно сформулирована и у меня не было ни-
какого представления о том, каковы будут ответы на по-
ставленные вопросы.
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО И СЧЕТ
В ЕЛЕЙ В ХОПИ
В наших языках, т. е. в SAE, множественное число и
количественные числительные применяются в двух
случаях: 1) когда они обозначают действительно мно-
жественное число и 2) при обозначении воображаемой
множественности, или более точно, хотя менее вырази-
тельно: при обозначении воспринимаемой нами про-
странственной совокупности и совокупности с перенос-
ным значением. Мы говорим ten men «десять человек»
и ten days «десять дней». Десять человек мы или реаль-
но представляем, или, во всяком случае, можем себе
представить эти десять как целую группу1 2, например
десять человек на углу улицы. Но ten days «десять
1 Мы располагаем множеством доказательств в подтвержде-
ние того, что это не так. Достаточно только сравнить хопи и
юте с языками, обладающими таким сходством и области
лексики и морфологии, как, скажем, английский и немец-
кий. Идея взаимосвязи между языком и культурой в обще-
принятом смысле этого слова, несомненно, ошибочна.
2 Так, говоря «десять одновременно», мы показываем этим,
что в нашем языке и мышлении мы воспроизводим факт вос-
приятия множественного числа в терминах понятия време-
ни, о языковом выражении которого будет сказано ниже.
БЕНДЖАМЕН Л.УОРФ
166
дней» мы не можем представить себе реально. Мы пред-
ставляем реально только один день, сегодня, остальные
девять (или даже все десять) — только по памяти или
мысленно. Если ten days «десять дней» и рассматрива-
ются как некая группа, то это «воображаемая», создан-
ная мысленно группа.
Каким образом создается в уме такое представле-
ние? Таким же, как и в случаях с ошибочным представ-
лением, послужившим причиной пожара ввиду того,
что наш язык часто смешивает две различные ситуа-
ции, поскольку для обеих имеется один и тот же способ
выражения. Когда мы говорим о ten steps forward «де-
сять шагов вперед», ten strokes on a bell «десять ударов
колокола» и о какой-либо подобной циклической после-
довательности, имея в виду несколько times «раз», у
нас возникает такое же представление, как и в случае
ten days «десять дней». Цикличность вызывает пред-
ставление о воображаемой множественности. Но сход-
ство цикличности с совокупностью необязательно воз-
никает в восприятии раньше, чем это выражается в
языке, иначе это сходство наблюдалось бы во всех язы-
ках, чего на самом деле нет. В нашем восприятии вре-
мени и цикличности содержится что-то непосредствен-
ное и субъективное: в основном мы ощущаем время как
что-то «становящееся все более и более поздним». Но в
нашем привычном мышлении, т. е. в мышлении людей,
говорящих на SAE, это отражается совсем иным путем,
который не может быть назван субъективным, хотя и
осуществляется в мыслительной сфере. Я бы назвал его
«объективизированным», или воображаемым, по-
скольку оно построено по моделям внешнего мира.
В нем отражаются особенности нашей языковой систе-
мы. Наш язык не проводит различия между числами,
составленными из реально существующих предметов, и
1Б7
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
числами «самоисчисляемыми». Сама форма мышления
обусловливает то, что и в последнем случае так же, как
и в первом, числа составляются из каких-то предметов.
Это и есть объективизация. Понятия времени утрачива-
ют связь с субъективным восприятием «становящегося
более поздним» и объективизируются как исчисляемые
количества, т. е. отрезки, состоящие из отдельных ве-
личин, в частности длины, так как длина может быть
реально разделена на дюймы. «Длина», «отрезок» вре-
мени мыслится в виде одинаковых единиц, подобно,
скажем, ряду бутылок.
В языке хопи положение совершенно иное. Множе-
ственное число и количественные числительные упо-
требляются только для обозначения тех предметов, ко-
торые образуют или могут образовать реальную груп-
пу. Там не существует воображаемых множественных
чисел, вместо них употребляются порядковые числи-
тельные в единственном числе. Такое выражение, как
ten days «десять дней», не употребляется. Эквивален-
том его служит выражение, указывающее на процесс
счета. Таким образом, they stayed ten days «они пробы-
ли десять дней» превращается в «они прожили до один-
надцатого дня» илн «они уехали после десятого дня».
Ten days is greater than nine days «десять дней больше,
чем девять дней» превращается в «десятый день позже
девятого». Наше понятие «продолжительность време-
ни» рассматривается не как фактическая продолжи-
тельность или протяженность, а как соотношение меж-
ду двумя событиями, одно из которых произошло рань-
ше другого. Вместо нашей лингвистически осмыслен-
ной объективизации той области сознания, которую мы
называем «время», язык хопи не дал никакого способа,
содержащего идею «становиться позднее», являющую-
ся сущностью понятия времени.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
168
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО, В SAE И ХОПИ
Имеются два вида существительных, обозначающих ре-
альные предметы: существительные, обозначающие от-
дельные предметы, и существительные, обозначающие
вещества: water «вода», milk «молоко», wood «дерево»,
granite «гранит», sand «песок», flour «мука», meat
«мясо». Существительные первой группы относятся к
предметам, имеющим определенную форму: a tree «де-
рево», a stick «палка», a man «человек», a hill «холм».
Существительные второй группы обозначают однород-
ную массу, не имеющую четких границ. Между этими
двумя категориями существует и лингвистическое от-
личие: у существительных, обозначающих вещества,
нет множественного числа’. В английском языке перед
ними опускается артикль, во французском ставится
партитивный артикль du, la, de, des. Это различие более
четко выступает в языке, чем в действительности.
Очень немногое можно представить себе не имеющим
границ: air «воздух», иногда water «вода», rain «дождь»,
1 Не является исключением из этого правила (отсутствия мно-
жественного числа) и тот случай, когда лексема существи-
тельного, обозначающего вещество, совпадает с лексемой
«отдельного» существительного, которое, конечно, имеет
форму множественного числа. Так, например, stone (не име-
ет множественного числа) совпадает с a stone (мн. ч. —
stones). Множественное число, обозначающее различные
сорта, например wines, представляет собой нечто отличное
от настоящего множественного числа. Такне существитель-
ные надо считать своеобразными соответствиями от «мате-
риальных» существительных в SAE. Они образуют особую
группу, изучение которой не входит в задачу данной работы.
1Б9 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
snow «снег», sand «песок», rock «горная порода», dirt
«грязь», grass «трава», но butter «масло», meat «мясо»,
cloth «ткань», iron «железо», glass «стекло», как и боль-
шинство подобных им веществ, встречаются не в «без-
граничном» количестве, а в виде больших или малых
тел определенной формы. Различие это в какой-то сте-
пени нам навязано потому, что оно существует в языке.
В большинстве случаев это оказывается так неудобно,
что приходится применять новые лингвистические спо-
собы, чтобы конкретизировать существительные вто-
рой группы. Отчасти это делается с помощью названий,
обозначающих ту или иную форму: stick of wood «бру-
сок дерева», piece of cloth «лоскут материала», рапе of
glass «кусок стекла», cake of soap «брусок мыла», — но
гораздо чаще — с помощью названий сосудов, в кото-
рых находятся вещества: glass of water «стакан воды»,
cup of coffee «чашка кофе», dish of food «тарелка пищи»,
bag of flour «мешок муки», bottle of beer «бутылка пива».
Эти обычные формы, в которых of имеет значение «со-
держащий», способствовали появлению менее явных
случаев употребления той же самой конструкции: stick
of wood «обрубок дерева», lump of dough «ком теста» и
т. д. В обоих случаях формулы одинаковы: существи-
тельное первой группы плюс один и тот же связывае-
мый компонент (в английском языке — предлог of).
Обычно этот компонент обозначает содержание. В более
сложных случаях он только «предполагает» содержание.
Таким образом, предполагается, что lumps «комья»,
chunks «ломти», blocks «колоды», pieces «куски» содер-
жат какие-то stuff «вещество», substance «субстанцию»,
matter «материю», которые соответствуют water «воде»,
coffee «кофе», flour «муке» в соответствующих форму-
лах. Для людей, говорящих на SAE, философские поня-
тия «субстанция» и «материя» несут в себе простей-
шую идею. Они воспринимаются непосредственно, они
БЕНДЖАМЕН А УОрф
170
общепонятны. Этим мы обязаны языку. Законы наших
языков часто заставляют нас обозначать материальный
предмет словосочетанием, которое делит представле-
ние на бесформенное вещество плюс та или иная кон-
кретизация («форма»).
В хопи опять-таки все происходит иначе. Там имеет-
ся строго ограниченный класс существительных. Но в
нем нет особого подкласса — «материальных» существи-
тельных. Все существительные обозначают отдельные
предметы и имеют и единственное, и множественное
число. Существительные, являющиеся эквивалентами
наших «материальных» существительных, тоже относят-
ся к телам с неопределенными, не имеющими четких гра-
ниц формами. Однако под последним следует понимать
неопределенность, а не отсутствие формы и размеров.
В каждом конкретном случае water «вода» обозначает
определенное количество воды, а не то, что мы называем
«субстанцией воды». Абстрактность передается глаго-
лом или предикативной формой, а не существительным.
Так как все существительные относятся к отдельным
предметам, нет необходимости уточнять их смысл назва-
ниями сосудов или различных форм, если, конечно, фор-
ма или сосуд не имеют особого значения в данном слу-
чае, Само существительное указывает на соответствую-
щую форму или сосуд. Говорят не a glass of water «стакан
воды», а ка • yi «вода», не a pool of water «лужа воды», а
ра • ha1, не a dish of cornflour «миска муки», a tjamni «коли-
1 В хопи существуют два слова для обозначения количества
воды: ka*yi и ра • ha. Разница между ними примерно та же,
что и между stone и rock в английском языке: ра * ha обозна-
чает больший размер и wildness «природность, естествен-
ность»; текущая вода, независимо от того, в помещении она
или в природе, будет ра »ha, так же как и moisture «влага».
Но, в отличие от stone и rock, разница здесь существенная,
ие зависящая от контекста, и одним словом нельзя заме-
нить другое.
171 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
чество муки*, не a piece of meat «кусок мяса*, a sikwi
«мясо*. В языке хопи нет ни необходимости, ни моделей
для построения понятия существования как соединения
бесформенного и формы. Отсутствие определенной фор-
мы обозначается не существительными, а другими линг-
вистическими символами.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В SAE И ХОПИ
Такие термины, как summer «лето», winter «зима»,
September «сентябрь», morning «утро», noon «полдень»,
sunset «заход солнца», которые у нас являются суще-
ствительными и мало чем отличаются по форме от дру-
гих существительных, могут быть подлежащими или
дополнениями; мы говорим at sunset «на заходе солнца*
или in winter «зимой* так же, как at a corner «на углу»,
in an orchard «в саду*1. Они образуют множественное
число и исчисляются подобно тем существительным,
которые обозначают предметы материального мира, о
чем говорилось выше. Наше представление о явлениях,
обозначаемых этими словами, таким образом объекти-
визируется, Без объективизации оно было бы субъек-
тивным переживанием реального времени, т. е. созна-
ния becoming later and later «становления более позд-
ним, проще говоря», — повторяющимся периодом,
подобным предыдущему периоду в становлении все бо-
лее поздней протяженности. Только в воображении мож-
но представить себе подобный период рядом с другим
1 Конечно, в английском языке существуют некоторые незна-
чительные отличия от других существительных, например в
употреблении артиклей.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
172
таким же, создавая, таким образом, пространственную
(мысленно представляемую) конфигурацию. Но сила
языковой аналогии такова, что мы устанавливаем упомя-
нутую объективизацию циклической периодизации. Это
происходит даже в случае, когда мы говорим a phase «пе-
риод» и phases «периоды» вместо, например, phasing «пе-
риодизация». Модель, охватывающая как существитель-
ные, обозначающие отдельные предметы, так и сущест-
вительные, обозначающие вещества, результатом кото-
рой является двучленное словосочетание «бесформенное
вещество плюс форма», настолько распространена, что
подходит для всех существительных. Следовательно, та-
кие общие понятия, как substance «субстанция», matter
«материя», могут заменить в данном словосочетании по-
чти любое существительное. Но даже и они недостаточ-
но обобщены, так как не могут включить в себя суще-
ствительные, выражающие протяженность во времени.
Для последних и появился термин time «время». Мы го-
ворим a time, т. е. какой-то период времени, событие, ис-
ходя из модели a mass noun (существительных, обозна-
чающих вещества), подобно тому как a summer «некое
лето» мы превращаем в summer «лето» (как общее поня-
тие) по той же модели. Итак, используя наше двучлен-
ное словосочетание, мы можем говорить или представ-
лять себе a moment of time «момент времени», a second of
time «секунда времени», a year of time «год времени».
Я считаю долгом еще раз подчеркнуть, что здесь точно
сохраняется модель a bottle of milk «бутылка молока»
или a piece of cheese «кусок сыра». И это помогает нам
представить, что a summer реально содержит такое-то и
такое-то количество «time».
В хопи, однако, все «временные» термины, подоб-
ные summer, morning и др., представляют собой не су-
ществительные, а особые формы наречий, если упот-
реблять терминологию SAE. Это — особая часть речи,
отличающаяся от существительных, глаголов и даже от
VB ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
других наречий в хопи. Они не являются формой мест-
ного или другого падежа, как des Abends «вечером» или
in the morning «утром». Они не содержат морфем, по-
добных тем, которые есть в in the house «в доме» и at the
tire «на дереве»1. Такое наречие имеет значение then
It's morning «когда утро» или while morning-phase is
occuring «когда период утра происходит». Эти
♦ temporals» «временные наречия» не употребляются ни
как подлежащие, ни как дополнения, ни в какой-либо
другой функции существительного. Нельзя сказать it’s
a hot summer «жаркое лето», или summer is hot «лето
жарко», лето нс может быть жарким, лето — это пери-
од, когда погода теплая, когда наступает жара. Нельзя
сказать this summer «это лето». Следует сказать
summer now «теперь лето» или summer recently «недав-
но лето». Здесь нет никакой объективизации (напри-
мер, указания на период, длительность, количество)
субъективного чувства протяженности во времени.
Ничто не указывает на время, кроме постоянного пред-
ставления о getting later «становлении более поздним».
Поэтому в языке хопи нет основания для создания абст-
рактного термина, подобного нашему time.
ВРЕМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ В SAE И ХОП1/
Трехвременная система глагола в SAE оказывает влия
ние иа все наши представления о времени. Эта систем;
1 Year «год» и некоторые словосочетания year с названиям!
времен года, а иногда и сами названия времен года могу
встречаться с «местной» морфемой at, но это является ис
ключением. Такие случаи могут быть или историческим]
напластованиями ранее действовавших законов языка, ил1
вызываются аналогией с английским языком.
БЕНДЖАМЕН Л, УОРФ
174
объединяется с той более широкой схемой объективи-
зации субъективного восприятия длительности, кото-
рая уже отмечалась в других случаях двучленной фор-
мулой, применимой к существительным вообще, во
«временных» (обозначающих время) существительных,
во множественности и исчисляемости. Эта объективи-
зация помогает нам мысленно «выстроить отрезки вре-
мени в ряд». Осмысление времени как ряда гармонизи-
рует с системой трех, времен, однако система двух вре-
мен — раннего и позднего — более точно соответство-
вала бы ощущению длительности в его реальном
восприятии. Если мы сделаем попытку проанализиро-
вать сознание, мы найдем не прошедшее, настоящее и
будущее, а сложный комплекс, включающий в себя все
эти понятия. Все есть в сознании, и все в сознании су-
ществует, и существует нераздельно. В нашем созна-
нии соединены чувственная и нечувствеиная стороны
восприятия. Чувственную сторону — то, что мы видим,
слышим, осязаем, — мы можем назвать the present (на-
стоящее), другую сторону — обширную, воображае-
мую область памяти — обозначить the past (прошед-
шее), а область веры, интуиции и неопределенности —
the future (будущее). Но и чувственное восприятие, и
память, и предвидение — все это существует в нашем
сознании вместе; мы не можем обозначить одно как yet
to be «еще не существующее», а другое как once but no
more «существовало, но уже нет». В действительности
реальное время отражается в нашем сознании как
getting later «становиться позднее», как необратимый
процесс изменения определенных отношений. В этом
latering «опозднении» или durating «протяженности во
времени» и есть основное противоречие между самым
недавним, позднейшим моментом, находящимся в цент-
ре нашего внимания, и остальными, предшествовавши-
175 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
ми ему. Многие языки прекрасно обходятся двумя вре-
менными формами, соответствующими этому противо-
речивому отношению между later «позже» и earlier
«раньше». Мы можем, конечно, создать и мысленно
представить себе систему прошедшего, настоящего и
будущего времени в объективизированной форме точек
на линии. Именно к этому ведет нас наша общая тен-
денция к объективизации, что подтверждается систе-
мой времен в наших языках.
В английском языке настоящее время находится в
наиболее резком противоречии с основным времен-
ным отношением. Оно как бы выполняет различные и
ие всегда вполне совпадающие друг с другом функ-
ции. Одна из них заключается в том, чтобы обозна-
чать нечто среднее между объективизированным про-
шедшим и объективизированным будущим в повество-
вании, аргументации, обсуждении, логике и филосо-
фии. Вторая его функция состоит в обозначений
чувственного восприятия: I see him «я вижу его». Тре-
тья включает в себя констатацию общеизвестных ис-
тин: we see without eyes «мы видим не глазами». Эти
различные случаи употребления вносят некоторую пу-
таницу в наше мышление, чего мы в большинстве слу-
чаев ие осознаем.
В языке хопи, как и можно было предполагать, это
происходит иначе. Глаголы здесь не имеют времен,
подобных нашим: вместо них употребляются формы
утверждения (assertions), видовые формы и формы,
связывающие предложения (наклонения), — все это
придает речи гораздо большую точность. Формы ут-
верждения обозначают, что говорящий (ие субъект)
сообщает о событии (это соответствует нашему нас-
тоящему и прошедшему), или что он предполагает,
что событие произойдет (это соответствует нашему
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
176
будущему)1, или что он утверждает объективную ис-
тину (что соответствует нашему «объективному» на-
стоящему). Виды определяют различную степень дли-
тельности и различные направления «в течение дли-
тельности». До сих пор мы не сталкивались с указани-
ями на последовательность двух событий, о которых
говорится. Необходимость такого указания возникает,
правда, только тогда, когда у нас есть два глагола,
т. е. два предложения, В этом случае наклонения оп-
ределяют отношения между предложениями, включая
предшествование, последовательность и одновремен-
ность, Кроме того, существует много отдельных слов,
которые выражают подобные же отношения, дополняя
наклонения и виды; функции нашей системы грамма-
тических времен с ее линейным, трехчленным объек-
тивизированным временем распределены среди других
глагольных форм, коренным образом отличающихся
от наших грамматических времен; таким образом, в
глаголах языка хопи нет (так же, как и в других кате-
гориях) основы для объективизации понятия времени;
но это ни в коей мере не значит, что глагольные фор-
1 «Предполагающие» и «утверждающие» суждения сопо-
ставляются друг с другом согласно «основному временному
отношению», «Предполагающие» выражают ожидание, су-
ществующее раньше, чем произошло само событие, и совпа-
дают с этим событием позже, чем об этом заявляет говоря-
щий, положение которого во времени включает в себя весь
итог прошедшего, выраженного в данном сообщении. Наше
понятие «будущее», оказывается, выражает одновременно
то, что было раньше, н то, что будет позже, как видно из
сравнения с языком хопи. Из этого порядка видно, насколь-
ко трудна для понимания тайна реального времени и каким
искусственным является ее изображение в виде линейного
отношения: прошедшее — настоящее — будущее.
177
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
мы и Другие категории не могут выражать реальные
отношения совершающихся событий.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ
И НАПРАВЛЕННОСТЬ В SAE И ХОПИ
Для описания всего многообразия действительности
любой Язык нуждается в выражении длительности,
интенсивности и направленности. Для SAE и для мно-
гих других языковых систем характерно описание
этих понятий метафорически. Метафоры, применяе-
мые при этом, — это метафоры пространственной про-
тяженности, т. е, размера, числа (множественность),
положения, формы и движения. Мы выражаем дли-
тельность словами: long «длинный», short «короткий»,
great «большой», much «многое», quick «быстрый»,
slow «медленный» н т. д., интенсивность— словами:
large «большой», much «много», heavy «тяжело», light
«легко», high «высоко», low «низко», sharp «острый»,
faint «слабый» и т. д.; направленность — словами:
more «более», increase «увеличиваться», grow «расти»,
turn «превращаться», get «становиться», approach
«приближаться», go «идти», соте «приходить», rise
«подниматься», fall «падать», stop «останавливаться»,
smooth «гладкий», even «ровный», rapid «быстрый»,
slow «медленный» и т. д. Можно составить почти бес-
конечный список метафор, которые мы едва лн осозна-
ем как таковые, так как они практически являются
единственно доступными лингвистическими средства-
ми. Неметафорические средства выражения данных
понятий, так же как early «рано», late «поздно», soon
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ Т78
«скоро», lasting «длительный», intense «напряжен-
ный», very «очень», настолько малочисленны, что ни в
коей мере не могут быть достаточными.
Ясно, каким образом создалось такое положение.
Оно является частью всей нашей системы — объекти-
визации — мысленного представления качеств и по-
тенций как пространственных, хотя они не являются на
самом деле пространственными (насколько это ощуща-
ется нашими чувствами). Значение существительных
(в SAE), отталкиваясь от названий физических тел, ве-
дет к обозначениям совершенно иного характера. А по-
скольку физические тела и их форма в видимом про-
странстве обозначаются терминами, относящимися к
форме и размеру, и исчисляются разного рода числи-
тельными, то такие способы обозначения и исчисления
переходят в символы, лишенные пространственного зна-
чения и предполагающие воображаемое пространст-
во. Физические явления: move «двигаться», stop «оста-
навливаться», rise «подниматься», sink «опускаться»,
approach «приближаться» и т. д. — в видимом про-
странстве вполне соответствуют, по нашему мнению,
их обозначениям в мысленном пространстве. Это заш-
ло так далеко, что мы постоянно обращаемся к метафо-
рам, даже когда говорим о простейших непростран-
ственных ситуациях, Я «схватываю» «пить» рассужде-
ний моего собеседника, но если их «уровень» слишком
♦высок», мое внимание может «рассеяться» и «потерять
связь» с их «течением», так что, когда он «подходит» к
конечному «пункту», мы расходимся уже «широко» и
наши «взгляды» так «отстоят» друг от друга, что
«вещи», о которых он говорит, «представляются»
«очень» условными или даже «нагромождением» чепухи.
Поран<ает полное отсутствие такого рода метафор
в хопи. Употребление слов, выражающих простран-
ственные отношения, когда таких отношений на са-
179 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
мом деле нет, просто невозможно в хопи, на них в
этом случае как бы наложен абсолютный запрет. Это
становится понятным, если принять во внимание, что
в языке хопи существуют многочисленные граммати-
ческие и лексические средства для описания длитель-
ности, интенсивности и направления как таковых, а
грамматические законы в нем не приспособлены для
проведения аналогий с мыслимым пространством.
Многочисленные виды глаголов выражают длитель-
ность и направленность тех или иных действий, в то
' мя как некоторые формы залогов выражают интен-
ность, направленность и длительность причин и
. горой, вызывающих эти действия. Далее, особая
н гь речи интенсификатор (the tensors) — многочис-
леннейший класс слов — выражает только интенсив-
ность, направленность, длительность и последователь-
ность. Основная функция этой части речи — выра-
жать степень интенсивности, «силу», а также и то, в
каком состоянии они находятся и как видоизменяют-
ся; таким образом, общее понятие интенсивности,
рассматриваемое с точки зрения постоянного измене-
ния, с одной стороны, и непрерывности — с другой,
включает в себя также и понятия направленности и
Эта оссбил spew.ev.uu.e фермы— ин-
тенсификаторы— указывают на различия в степени,
скорости, непрерывности, повторяемости, увеличении
и уменьшении интенсивности, прямой последователь-
ности, последовательности, прерванной некоторым
интервалом времени, н т. д., а также на качества на-
пряженности, что мы выразили бы метафорически по-
средством таких слов, как smooth «гладкий», even
«ровный», hard «твердый», rough «грубый». Поражает
полное отсутствие в этих формах сходства со слова-
ми, выражающими реальные отношения пространства
и движения, которые для нас значат одно и то же.
БЕНДЖАМЕН Л,МЭРФ 180
В них почти нет следов непосредственной деривации
от пространственных терминов1.
Таким образом, хотя хопн при рассмотрении форм
его существительных кажется предельно конкретным
языком, в формах интенсификаторов он достигает та-
кой абстрактности, что она почти превышает наше по-
нимание.
НОРМЫ МЫШЛЕНИЙ В SAE И ХОПИ
Сравнение, проводимое между нормами мышления лю-
дей, говорящих на языках SAE, и нормами мышления
людей, говорящих на языке хопи, не может быть, конеч-
но, исчерпывающим. Оно может лишь коснуться неко-
1 Вот пример одного из таких следов: tensor, обозначающий
long-in-duration «длинный по протяженности», хотя и не
имеет общего корня с пространственным прилагательным
long «длинный», зато имеет общий корень с пространствен-
ным прилагательным large «широкий». Другим примером
может служить то, что somewhere «где-то в пространстве»,
употребленное с этой особой частью речи (т. е. с tensor),
может означать at some indefinite time «в какое-то неопреде-
ленное время». Возможно, правда, что только присутствие
tensor придает данному случаю значение времени, так что
somewhere «где-то» относится к пространству, при данных
условиях неопределенное пространство означает просто об-
щую отнесенность, независимо от времени и пространства.
Следующим примером может служить временная форма на-
речия afternoon, здесь элемент, означающий after «после»,
происходит от глагола to separate «разделять». Есть и дру-
гие примеры этой деривации, но они очеиь малочисленны и
являются исключениями, очень мало похожими на нашу
пространственную объективизацию.
1В1 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
торых отчетливо проявляющихся особенностей, кото-
рые, по-видимому, возникают в результате языковых
различий, уже отмечавшихся выше. Под нормами мыш-
ления, или «мыслительным миром», разумеются более
широкие понятия, чем просто язык или лингвистиче-
ские категории. Сюда включаются и все связанные с
этими категориями аналогии, все, что они с собой вно-
сят (например, наше «мыслимое пространство» или то,
что под этим может подразумеваться), взаимодействие
между языком и культурой в целом, в результате кото-
рого многие факторы, хотя они и не относятся к языку,
указывают на его формирующее влияние. Иначе гово-
ря, «мыслительный мир» является тем микрокосмом,
который каждый человек несет в себе и с помощью ко-
торого он пытается измерить и понять микрокосм.
Микрокосм SAE, анализируя действительность, ис-
пользует главным образом слова, обозначающие пред-
меты (тела и им подобные) и те виды протяженного, но
бесформенного состояния, которые называются «суб-
станцией» или «материей». Он воспринимает бытие по-
средством двучленной формулы, которая выражает на-
сущное как пространственную форму плюс бесформен-
ная пространственная непрерывность, соотносящаяся с
формой так же, как содержимое соотносится с формой
содержащего; явления, не обладающие пространствен-
ными признаками, мыслятся как пространственные, не-
сущие в себе те же понятия форм и непрерывностей.
Микрокосм хопи, анализируя действительность,
использует главным образом слова, обозначающие яв-
ления (events, или, точнее, eventing), которые рас-
сматриваются двумя способами: объективно и субъек-
тивно. Объективно — и это только в отношении к не-
посредственному физическому восприятию — явления
рассматриваются главным образом с точки зрения
формы, цвета, движения и других непосредственно
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
182
воспринимаемых признаков. Субъективно как физи-
ческие, так и иефизические явления рассматриваются
как выражение невидимых факторов силы, от которой
зависят их незыблемость и постоянство или непроч-
ность или изменчивость. Это значит, что не все явле-
ния действительности одинаково ставятся «все более и
более поздними». Одни развиваются, вырастая как ра-
стения, вторые рассеиваются и исчезают, третьи под-
вергаются процессу превращения, четвертые сохраня-
ют ту же форму, пока на них не воздействуют мощные
силы. В природе каждого явления, способного высту-
пать как единое целое, заключена сила присущего ему
способа Существования: его рост, упадок, стабиль-
ность, повторяемость или продуктивность. Таким обра-
зом, все уже подготовлено ранними стадиями к тому,
как явление появится в данный момент, а чем оно ста-
нет позже — частично уже подготовлено, а частично
еще находится в процессе «подготовки». В этом взгля-
де на мир как на нечто, находящееся в процессе какой-
то подготовки, заключаются для хопи особый смысл и
значение, соответствующее, возможно, тому «свойству
действительности», которое «материя», или «веще-
ство», имеет для иас.
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В КУЛЬТ/PE ХОПИ
Поведение людей, говорящих на SAE, как и поведение
людей, говорящих на хопи, очевидно, многими путями
соотносится лингвистически обусловленным микрокос-
мом. Как можно было наблюдать при регистрации слу-
чаев пожара, в той или иной ситуации люди ведут себя
соответственно тому, как они об этом говорят. Для по-
183
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЙ И МЫШЛЕНИЯ К ЯВЫЮ/
ведения хопи характерно то, что они придают особое
значение подготовке. О событии объявляется и к нему
начинается подготовка задолго до того, как оно должно
произойти. Разрабатываются соответствующие меры
предосторожности, обеспечивающие желаемые усло-
вия, и особое значение придается доброй воле как силе,
способной подготовить нужные результаты. Возьмем
способы исчисления времени. Время исчисляется глав-
ным образом «днями» (talk-tala) или «ночами» (tok),
причем эти слова являются не существительными, а
особой частью речи (tensors). Первое слово образовано
от корня со значением «свет», «день», второе — от кор-
ня со значением «спать». Счет ведется посредством по-
рядковых числительных. Этот способ счета не может
применяться к группе различных людей или предметов,
даже если они следуют друг за другом, ибо даже и в та-
ком случае они могут объединяться в группу. Однако
он применяется по отношению к последовательному по-
явлению одного и того же человека или предмета, ие
способных объединиться в группу. «Несколько дней»
воспринимается не так, как «несколько людей», к чему
как раз склонны наши языки, а как последовательное
появление одного и того же человека. Мы не можем
сразу изменить сразу несколько человек, воздействуя
на одного, но мы можем подготовить и таким образом
изменить последующие появления одного и того же
человека, воздействуя иа его появление в данный мо-
мент. Так хопи рассматривают будущее: они действуют
в данной ситуации так или иначе, полагая, что это ока-
жет влияние как очевидное, так и скрытое на предстоя-
щее событие, которое их интересует, Можно было бы
сказать, что хопи понимают такую нашу пословицу, как:
«Well begun is half done» — «Хорошее начало — это
уже половина дела», но не понимают другой нашей
пословицы: «Tomorrow is another day» — «Завтра — это
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
184
уже новый день». Это объясняет многое в характере
хопи.
Что-то, подготавливающее поведение хопи, всегда
можно грубо разделить на объявление, внешнюю подго-
товку, внутреннюю подготовку, скрытое участие и на-
стойчивое проведение в жизнь. Объявление или пред-
варительное обнародование является важной обя-
занностью особого официального лица — Главного Гла-
шатая. Внешняя подготовка охватывает широкую,
открытую для всех деятельность, в которой не все, с на-
шей точки зрения, является непосредственно полез-
ным. Сюда входят обычная деятельность, репетиция,
подготовка, предварительные формальности, приготов-
ление особой пищи и т. п. (все это делается с такой
тщательностью, которая может показаться чрезмер-
ной), интенсивно поддерживаемая физическая деятель-
ность, например бег, состязания, танцы, которые якобы
способствуют интенсивности развития событий (ска-
жем, росту посевов), мимикрическая и прочая магня,
действия, основанные на таинствах с применением осо-
бых атрибутов (например, священных палочек, перьев,
пищи), и, наконец, танцы и церемонии, якобы подготов-
ляющие дождь и урожай. От одного из глаголов, озна-
чающих «подготовить», образовано существительное
«жатва» или «урожай»: natwani «то, что подготовлено»
или «то, что подготовляется»1.
Внутренней подготовкой являются молитва и раз-
мышление и в меньшей степени «— добрая воля и поже-
лания хороших результатов. Хопи придают особое зна-
чение силе желания и силе мысли. Это вполне есте-
1 Глаголы хопи, означающие «подготовить», ие соответствуют
точно нашему «подготовить», таким образом, па twani мо-
жет быть передано как «то, над чем трудились», «то, ради
чего старались» или что-либо подобное.
185 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
ственно для их микрокосма. Желание и мысль являют-
ся самой первой и потому важнейшей, решающей ста-
дией подготовки. Более того, с точки зрения хопи, наши
желания и мысли влияют не только на наши поступки,
но и на всю природу. Это также понятно. Мы сами осо-
знаем, ощущаем усилие и энергию, которые вкладыва-
ются в желание и мысль. Опыт более широкий, чем
опыт языка, говорит о том, что, если расходуется энер-
гия, достигаются результаты. Мы склонны думать, что
в состоянии остановить действие этой энергии, поме-
шать ей воздействовать на окружающее, пока мы не
приступили к физическим действиям. Но мы думаем
так только потому, что у нас есть лингвистическое ос-
нование для теории, согласно которой элементы окру-
жающего мира, лишенные формы, как, например, «ма-
терия», являются вещами в себе, воспринимаемыми
только посредством подобных же элементов и благода-
ря этому отделимыми от жизненных и духовных сил.
Считать, что мысль связывает все, охватывает всю все-
ленную, не менее естественно, чем думать, как все мы
это делаем, так о свете, зажженном на улице. И есте-
ственно предположить, что мысль, как и всякая другая
сила, всегда оставляет следы своего воздействия. Так,
например, когда мы думаем о каком-то кусте роз, мы ие
предполагаем, что наша мысль направляется к этому ку-
сту и освещает его подобно направленному на него про-
жектору. С чем же тогда имеет дело наше сознание, ко-
гда мы думаем о кусте роз? Может быть, мы полагаем,
что оно имеет дело с «мысленным представлением», ко-
торое является не кустом роз, а лишь его мысленным за-
менителем? Но почему представляется естественным ду-
мать, что наша мысль имеет дело с суррогатом, а ие с
подлинным розовым кустом? Возможно, потому, что в
нашем сознании всегда присутствует некое воображае-
мое пространство, наполненное мысленными суррогатами.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
1В6
Мысленные суррогаты —- знакомое нам средство. Дан-
ный, реально существующий розовый куст мы воспри-
нимаем как воображаемый наряду с образами мыслимо-
го пространства, возможно, именно потому, что для
него у нас есть удобное «место», «Мыслительный мир»
хопи ие знает воображаемого пространства. Отсюда
следует, что они не могут связать мысль о реальном
пространстве с чем-либо иным, кроме реального про-
странства, или отделить реальное пространство от воз-
действия мысли. Человек, говорящий на языке хопи,
стал бы, естественно, предполагать, что его мысль (или
он сам) путешествует вместе с розовым кустом или,
скорее, с ростком маиса, о котором он думает. Мысль
эта в таком случае должна оставить какой-то след и иа
растении в поле. Если это хорошая мысль, мысль о здо-
ровье или росте, — это хорошо для растения, если пло-
хая — плохо.
Хопи подчеркивают интенсифицирующее значение
мысли. Для того чтобы мысль была наиболее действен-
ной, она должна быть живой в сознании, определенной,
постоянной, доказанной, полной ясно ощущаемых доб-
рых намерений. По-английски это может быть выраже-
но как concentrating, holding it in your heart, putting
your mind on it, earnestly hoping «сосредоточиваться,
сохранять в своем сердце, направлять свой разум, горя-
чо надеяться». Сила мысли — это та сила, которая сто-
ит за церемониями со священными палочками, обрядо-
выми курениями и т. п. Священная трубка рассматри-
вается как средство, помогающее «сосредоточиться»
(так сообщил мне информант). Ее название па twanpi
означает «средство подготовки».
Скрытое участие у хопи есть мысленное соучастие
людей, которые фактически не действуют в даииой опе-
рации, в чем бы оиа ни заключалась: в работе, охоте, со-
стязании или церемонии; эти люди направляют свою
187 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
мысль и добрую волю к достижению успеха предприня-
того, Объявление часто дается для того, чтобы обеспе-
чить поддержку подобных мысленных помощников, так
же как и действительных участников; объявление при-
зывает людей помочь своей доброй волей1. Это напоми-
нает сочувствующую аудиторию или подбадривающих
болельщиков на футбольном матче; причем здесь иет
противоречия, так как от скрытых соучастников ожида-
ется прежде всего сила направленной мысли, а не про-
сто сочувствие или поддержка. В самом деле, ведь ос-
новная работа скрытых соучастников начинается до
игры, а не во время игры. Отсюда и сила злого умысла,
т. е. мысли, несущей зло; отсюда одна из целей скрыто-
го соучастия — добиться массовых усилий многих доб-
рожелателей, чтобы противостоять губительной мысли
недоброжелателей. Подобные действия способствуют
развитию чувства сотрудничества и солидарности. Это
не значит, что в обществе хопи нет соперничества или
столкновения интересов. Противодействие тенденций
к общественной разобщенности в такой небольшой изо-
лированной группе, как хопи, оказывает теория «подго-
товки» силой мысли, логически ведущая к усилению
объединенной, интенсивированной и организованной
мысли всего общества. Эта теория должна действовать
в значительной степени как сила сплачивающая, несмот-
ря на частные столкновения, которые наблюдаются в
1 См. пример, приведенный у Ernest Beaglehole, Notes on Hopi
Economic Life (Yale University publications’ in «Anthro-
pology», № 15,1937), особенно ссылку иа объявление о зая-
чьей охоте и на стр, 30 описание деятельности в связи с
очищением Источника Торева; выпуск объявления, органи-
зацию различных подготовительных мероприятий и нако-
нец описание мер, предпринятых для обеспечения того, что-
бы достигнутые положительные результаты сохранились и
чтобы источник продолжал действовать.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
188
селениях хопи во всех основных областях их культур-
ной деятельности,
«Подготавливающая» деятельность хопи еще раз
иллюстрирует действие лингвистической мыслитель-
ной среды, где особенно проявляется роль упорства и
неустанного постоянного повторения. Ощущение силы
всей совокупности бесчисленных единичных энергий
притупляется нашим объективизированным простран-
ственным восприятием времени, которое усиливается
мышлением, близким к субъективному восприятию
времени как непрестанному потоку событий, располо-
женных на «временной линии». Нам, для которых время
есть движение в пространстве, кажется, что неизмен-
ное повторение теряет свою силу на отдельных отрез-
ках этого пространства. С точки зрения хопи, для кото-
рых время есть не движение, а «становление более по-
здним» всего, что когда-либо было сделано, неизменное
повторение не растрачивает свою силу, а накапливает
ее. В этом процессе нарастает невидимое изменение,
которое передается более поздним событиям1. Напри-
1 Это представление о нарастающей силе, которая вытекает
из поведения хопи, имеет свою аналогию в физике: ускоре-
ние, Можно сказать, что лингвистические основы мышле-
ния хопи дают возможность признать, что сила проявляет-
ся не как движение или быстрота, а как накопление и уско-
рение. Лингвистические основы нашего мышления мешают
подобному истолкованию, ибо, признав силу как нечто вы-
зывающее изменение, мы воспринимаем это изменение по-
средством нашей языковой метафорической аналогии —
движения, — вместо того чтобы воспринимать его как не-
что абсолютно неподвижное и неизменное, т. е. накопление
и ускорение. Поэтому мы бываем так наивно поражены, ко?
гда узнаем из физических опытов, что невозможно опреде-
лить силу движения, что движение и скорость, так же как и
состояние покоя, — понятия относительные и что сила мо-
жет измеряться только ускорением.
189 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
мер, возвращение дия воспринимается здесь так же,
как возвращение какого-то лица, ставшего немного
старше, но несущего все признаки прошедшего дня.
Мы воспринимаем это лицо не как «другой день», т. е.
не как совсем другое «лицо». Этот принцип, соединен-
ный с принципом силы мысли и общим характером
культуры пуэбло, выражен как в передаче смысла цере-
мониального танца хопи, призванного вызывать дождь
и урожай, так и в его коротком дробном ритме, повторя-
емом тысячи раз в течение нескольких часов.
НЕКОТОРЫЕ СЛЕДЫ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВЫХ
НОРМ В ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Обрисовать в нескольких словах лингвистическую
обусловленность некоторых черт нашей собственной
культуры труднее, чем культуры хопи, поскольку труд-
но быть объективным, когда анализируются знакомые,
глубоко укоренившиеся в сознании явления. Я бы хо-
тел только дать приблизительный набросок того, что
свойственно нашей лингвистической двучленной фор-
муле — форма + лишенное формы вещество или «суб-
станция», нашей метафоричности, нашему мыслитель-
ному пространству и нашему объективизированному
времени. Все это, как мы уже видели, имеет отношение
к языку.
Философские взгляды, наиболее традиционные и
характерные для «западного мира», во многом основы-
ваются на двучленной формуле — форма + содержание.
Сюда относятся материализм, психофизический парал-
лелизм, физика (по крайней мере, в ее традиционной —
ньютоновской — форме) и дуалистические взгляды иа
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
190
Вселенную в целом. По существу, сюда относится почти
все, что можно назвать «твердым, практическим здра-
вым смыслом». Монизм, холизм и релятивизм во взгля-
дах на действительность близки философам и некото-
рым ученым, но они с трудом укладываются в рамки
«здравого смысла» среднего западного человека не по-
тому, что их опровергает сама природа (если бы это
было так, философы бы открыли это), а потому, что, для
того чтобы о них говорить, требуется какой-то новый
язык. «Здравый смысл» (как показывает само название)
и «практичность» (это название ни о чем не говорит) со-
ставляют содержание такой речи, в которой все легко
понимается. Иногда утверждают, что ньютоновские
пространства, время и материя ощущаются всеми интуи-
тивно, тогда как относительность проводится для дока-
зательства того, что математический анализ опроверга-
ет интуицию. Данное суждение, не говоря уже о его не-
справедливом отношении к интуиции, является непро-
думанным ответом на первый вопрос, который был
поставлен в начале этой работы и ради которого было
предпринято настоящее исследование. Изложение со-
общений и наблюдений почти исчерпано, и ответ, я ду-
маю, ясен. Импровизированный же ответ, возлагающий
вех? вину за нашу мед^итеиви&ств в постижении таких
тайн космоса, как, например, относительность, на инту-
ицию, является ошибочным. Правильно ответить на
этот вопрос следует так: ньютоновские понятия про-
странства, времени и материи не суть данные интуи-
ции. Они даны культурой и языком. Именно из этих ис-
точников и взял их Ньютон.
Наше объективизированное представление о време-
ни соответствует историчности и всему, что связано с
регистрацией фактов, тогда как представление хопи о
времени противоречит этому. Представление хопи о
времени слишком тонко, сложно и постоянно развива-
191
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
ется, оно не дает готового ответа на вопрос о том, когда
«одно» событие кончается, а «другое» начинается. Если
считать, что все, что когда-либо произошло, продолжа-
ется и теперь, ио обязательно в форме, отличной от той,
которую дает память или запись, то станет ослабевать
стремление к изучению прошлого. Настоящее же не за-
писывается, а рассматривается как «подготовка». Наше
же объективизированное время вызывает в представле-
нии что-то вроде леиты или свитка, разделенного на
равные отрезки, которые должны быть заполнены запи-
сями. Письменность, несомненно, способствовала на-
шей языковой трактовке времени, даже если эта языко-
вая трактовка направляла использование письменно-
сти. Благодаря взаимообмену между языком и всей
культурой мы получаем, например:
1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство,
математику, стимулированную счетом.
2. Интерес к точной последовательности — дати-
ровку, календари, хронологию, часы, исчисление зар-
платы по затраченному времени, измерение самого вре-
мени, время, как оно применяется в физике.
3. Летописи, хроники — историчность, интерес к
прошлому, археологию, проникновение в прошлые эпо-
хи, выраженные классицизмом и романтизмом.
Подобно тому, как мы представляем себе наше
объективизированное время простирающимся в буду-
щем так же, как оно простирается в прошлом, подобно
этому и наше представление о будущем складывается
на основании свидетельств прошлого, и по этому образ-
цу мы вырабатываем программы, расписания, бюдже-
ты. Формальное равенство якобы пространственных
единиц, с помощью которых мы измеряем и восприни-
маем время, ведет к тому, что мы рассматриваем «бес<
форменное явление» или «субстанцию» времени как не-‘
что однородное и пропорциональное по отношению к.’
БЕНДЖАМЕН Л ТОРФ
192
какому-то числу единиц. Так, стоимость мы исчисляем
пропорционально затраченному времени, что приводит
к созданию целой экономической системы, основанной
на стоимости, соотнесенной со временем: заработная
плата (количество затраченного времени постоянно вы-
тесняет количество вложенного труда), квартирная
плата, кредит, проценты, издержки по амортизации и
страховые премии. Конечно, эта некогда созданная об-
ширная система могла бы существовать при любом
лингвистическом понимании времени, но сам факт ее
создания, многообразие и особая форма, присущие ей в
западном мире, находятся в полном соответствии с ка-
тегориями европейских языков. Трудно сказать, воз-
можна была бы или нет цивилизация, подобная нашей,
с иным лингвистическим пониманием времени; во вся-
ком случае, нашей цивилизации присущи определен-
ные лингвистические категории и нормы поведения,
складывающиеся на основании данного понимания вре-
мени, и они полностью соответствуют друг другу. Ко-
нечно, мы употребляем календари и различные часовые
механизмы, мы пытаемся все более и более точно изме-
рять время, — это помогает науке, а наука, в свою оче-
редь, следуя этим хорошо разработанным путям, воз-
вращает культуре непрерывно растущий арсенал при-
способлений, навыков и ценностей, с помощью которых
культура снова направляет науку. Но что находится за
пределами такой спирали? Наука начинает находить во
Вселенной нечто не соответствующее представлениям,
которые мы выработали в пределах данной спирали.
Она пытается создать новый язык, чтобы с его помо-
щью установить связь с расширившимся миром.
Ясно, что особое значение, которое придается «эко-
номии времени», вполне понятное на основании всего
сказанного и представляющее очевидное выражение
объективизации времени, приводит к тому, что «ско-
193 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
рость» приобретает высокую ценность, и это отчетливо
проявляется в нашем поведении.
Влияние такого понимания времени на наше пове-
дение проявляется еще н в том, что однообразие и регу-
лярность, присущие нашему представлению о времени
(как о ровно вымеренной безграничной ленте), застав-
ляют нас вести себя так, как будто это однообразие
присуще и событиям. Это еще более усиливает нашу
косность. Мы склонны отбирать и предпочитать все то,
что соответствует данному взгляду, мы как будто при-
спосабливаемся к этой установившейся точке зрения
на существующий мир. Это проявляется, например, в
том, что в своем поведении мы исходим из ложного чув-
ства уверенности, верим, например, в то, что все долж-
но идти гладко, и не способны предвидеть опасности и
предотвращать их. Наше стремление подчинить себе
энергию вполне соответствует этому установившемуся
взгляду, и, развивая технику, мы идем все теми же при-
вычными путями. Так, например, мы как будто совсем
не заинтересованы в том, чтобы помешать действию
энергии, которая вызывает несчастные случаи, пожары
и взрывы, происходящие постоянно и в широких масш-
табах. Такое равнодушие к непредвиденному в жизни
было бы катастрофическим в обществе столь малочис-
ленном, изолированном и постоянно подвергающемся
опасностям, каким является, или вернее являлось, об-
щество хопи.
Таким образом, наш лингвистический детерминиро-
ванный мыслительный мир не только соотносится с на-
шими культурными идеалами и установками, но вовле-
кает даже наши собственно подсознательные действия
в сферу своего влияния и придает им некоторые типи-
ческие черты. Это проявляется, как мы видели, в не-
брежности, с какой мы, например, обычно водим ма-
шину, или в том, что мы бросаем окурки в корзину для
7 Языки как образ мира
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ 194
бумаг. Типичным проявлением этого влияния, но уже в
несколько ином плане, является наша жестикуляция во
время речи. Очень многие жесты, характерные, по
крайней мере, для людей, говорящих по-английски, а
возможно, и для всей группы SAE, служат для иллюст-
рации движения в пространстве, но, по существу, не
пространственных понятий, а каких-то внепростран-
ственных представлений, которые наш язык трактует с
помощью метафор мыслимого пространства: мы скорее
склонны сделать жест, передающий понятие «схва-
тить», когда мы говорим о желании поймать ускользаю-
щую мысль, чем когда говорим о том, чтобы взяться за
дверную ручку. Жест стремится передать метафору,
сделать более ясным туманное высказывание. Но если
язык, имея дело с непространственными понятиями,
обходится без пространственной аналогии, жест не сде-
лает непространственное понятие более ясным. Хопи
очень мало жестикулируют, а в том смысле, как пони-
маем жест мы, они не жестикулируют совсем.
Казалось бы, кинестезия, или ощущение физиче-
ского движения тела, хотя она и возникла до языка,
должна сделаться значительно более осознанной через
лингвистическое употребление воображаемого про-
странства и метафорическое значение движения. Кине-
стезия характеризует две области европейской культу-
ры — искусство и спорт. Скульптура, в которой Европа
достигла такого мастерства (так же как и живопись),
является видом искусства в высшей степени кинестети-
ческим, четко передающим ощущение движения тела.
Танец в нашей культуре выражает скорее наслаждение
движением, чем символику или церемонию, а наша му-
зыка находится под сильным влиянием формы танца.
Этот элемент «поэзии движения» в большой степени
проникает и в наш спорт. В состязаниях и спортивных
играх хопи на первый план ставится, пожалуй, вынос-
195 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫК/
ливость и сила выдержки. Танцы хопи в высшей степе?
ни символичны и исполняются с большой напряженно-
стью и серьезностью, но в иих мало движения и ритма.
Синестезия, или возможность восприятия с помо-
щью органов какого-то одного чувства явлений, относя-
щихся к области другого чувства, например восприятие
цвета или света через звуки и наоборот, и потом долж-
на была бы сделаться более осознанной благодаря линг-
вистической метафорической системе, которая переда-
ет непространственное представление с помощью про-
странственных терминов, хотя, вне всяких сомнений,
она возникает из более глубокого источника. Возмож-
но, первоначальная метафора возникает из синестезии,
а не наоборот, но, как показывает язык хопи, метафора
необязательно должна быть тесно связана с лингвисти-
ческими категориями. Непосредственному восприятию
присуще одно хорошо организованное чувство — слух,
обоняние же и вкус менее организованы.
Непространственное восприятие — это главным об-
разом сфера мысли, чувства и звука. Пространственное
восприятие — это сфера света, цвета, зрения и осяза-
ния; оно дает нам формы и заверения. Наша метафори-
ческая система, называя непространственные восприя-
тия по образцу пространственным, приписывает звукам,
запахам и звуковым ощущениям, чувствам и мыслям та-
кие качества, как цвет, свет, форму, контуры, структуру
и движение, свойственные пространственному восприя-
тию. Этот процесс в какой-то степени обратим, ибо,
если мы говорим: высокий, узкий, резкий, глухой, тя-
желый, чистый, медленный звук, — нам уже нетрудно
представлять пространственные явления как явления
звуковые. Так, мы говорим о «тонах» цвета, об «однотон-
ном» сером цвете, о «кричащем» галстуке, о «вкусе» в
одежде — все это составляет обратную сторону про-
странственных метафор. Для европейского искусства
7*
Бенджамен л торф
196
характерно нарочитое обыгрывание синестезии. Музы-
ка пытается вызвать в воображении целые сцены, цвета,
движение, геометрические узоры; живопись и скульпту-
ра часто сознательно руководствуются музыкально-рит-
мическими аналогиями; цвета ассоциируются по анало-
гии с ощущениями созвучия и диссонанса. Европейский
театр и опера стремятся к синтезу многих видов искус-
ства. Возможно, именно таким способом наш метафори-
ческий язык, который неизбежно несколько искажает
мысль, достигает с помощью искусства важного резуль-
тата — создания более глубокого эстетического чувства,
ведущего к более непосредственному восприятию един-
ства, лежащего в основе явлений, которые в разнообраз-
ных и разрозненных формах даются нам через наши
органы чувств.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Как исторически создается такое сплетение между язы-
ком, культурой и нормами поведения? Что было пер-
вичным — норма языка или норма культуры?
В основном они развивались вместе, постоянно
влияя друг на друга. Но в этом содружестве природа
языка является тем фактором, который ограничивает
его свободу и гибкость и направляет его развитие по
строго определенному пути. Это происходит потому,
что язык является системой, а не просто комплексом
норм. Структура большой системы поддается суще-
ственному изменению очень медленно, в то время как
во многих других областях культуры изменения совер-
шаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, от-
ражает массовое мышление; он реагирует на все изме-
197
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
нения и нововведения, но реагирует слабо и медленно,
тогда как в сознании производящих изменения это про-
исходит моментально.
Возникновение комплекса «язык — культура SAE»
относится к древним временам. Многое из его метафо-
рической трактовки непространственного посредством
пространственного утвердилось в древних языках, в част-
ности в латыни. Эту черту можно даже назвать отличи-
тельной особенностью латинского языка. Сравнивая
латынь, скажем, с древнееврейским языком, мы обна-
руживаем, что если для древнееврейского языка харак-
терна лишь некоторая трактовка непространственного
через посредство пространственного, то для латыни это
характерно в большей степени. Латинские термины для
иепространственных понятий, например educo, rellgio,
principia, comprehendo, — это обычно метафоризован-
иые физические понятия: выводить, связывать и т. д.
Сказанное относится не ко всем языкам, этого совсем
ие наблюдается в хопи. Тот факт, что в латыни направ-
ление развития шло от пространственного к непрост-
ранственному (отчасти вследствие столкновения ин-
теллектуально неразвитых римлян с греческой культу-
рой, давшего новый стимул к абстрактному мышлению)
и что более поздние языки стремились подражать ла-
тинскому, явился, вероятно, причиной для того убежде-
ния, что это — естественное направление семантиче-
ского изменения во всех языках (этого убеждения при-
держиваются некоторые лингвисты еще и теперь) и что
объективные восприятия первичны по отношению к
субъективным (такого мнения твердо придерживаются
в западных научных кругах, но оно не разделяется уче-
ными Востока). Некоторые философские доктрины
представляют убедительные доказательства в пользу
противоположного взгляда, и, конечно, иногда процесс
идет в обратном направлении. Так, можно, например,
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
198
доказать, что в хопи слово, обозначающее «сердце», яв-
ляется поздиим образованием, созданным от корня, оз-
начающего «думать» или «помнить». То же происходит
со словом radio «радио», если мы сравним значение сло-
ва radio «радио» в предложении he bought a new radio
«ои купил новое радио» с его первичным значением
science of wireless telephony «паука о беспроволочной
телефонии».
В средние века языковые модели, уже выработан-
ные в латыни, стали приспосабливаться ко все увеличи-
вающимся изобретениям в механике, промышленно-
сти, торговле, к схоластической и научной мысли. По-
требность в измерениях в промышленности и торговле,
склады и грузы материалов в различных контейнерах,
помещения для разных товаров, стандартизация еди-
ниц измерения, изобретение часового механизма и из-
мерение «времени», введение записей, счетов, состав-
ление хроник, летописей, развитие математики и со-
единение прикладной математики с наукой — все это
вместе взятое привело наше мышление и язык к их со-
временному состоянию.
В истории хопи, если бы мы могли прочитать ее, мы
нашли бы иной тип языка и иной характер взаимовлия-
ния культуры и окружающей среды. Здесь мы встреча-
ем мирное земледельческое общество, изолированное
географически и врагами-кочевниками, общество, оби-
тающее на земле, бедной осадками, возделывающее
культуры на сухой почве, способной принести плоды
только в результате чрезвычайного упорства (отсюда то
значение, которое придается настойчивости и повторе-
нию), общество, ощущающее необходимость сотрудни-
чества (отсюда и та роль, которую играют психология
коллектива и психологические факторы вообще), при-
нимающее зерно и дождь за исходные критерии ценнос-
ти, осознающее необходимость усиленной подготовки и
199
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
мер предосторожности для обеспечения урожая на
скудной почве при неустойчивом климате, сознающее
зависимость от угодной природе молитвы и проявляю^
щее религиозное отношение к силам природы через мо-
литву и религию, направленным к вечио необходимому
благу— дождю. Все эти условия, присущие данному
обществу, взаимодействуя с языковыми нормами хопи,
формируют их характер и мало-помалу создают опреде-
ленное мировоззрение.
Чтобы подвести итог всему вышесказанному и отве-
тить на первый вопрос, поставленный вначале, можно
сказать так: понятия «времени» и «материи» ие даны из
опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят
от природы языка или языков, благодаря употреблению
которых они развились. Они зависят не столько от ка-
кой-либо одной системы (как-то: категории времени
или существительного) в пределах грамматической
структуры языка, сколько от способов анализа и обо-
значения восприятий, которые закрепляются в языке
как отдельные «манеры речи» и накладываются иа ти-
пические грамматические категории так, что подобная
«манера» может включать в себя лексические, морфо-
логические, синтаксические и тому подобные, в других
случаях совершенно несовместимые средства языка,
соотносящиеся друг с другом в определенной последо-
вательности.
Наше собственное «время» существенно отличает-
ся от «длительности» у хопи. Оно воспринимается
нами как строго ограниченное пространство или ино-
гда — как движение в таком пространстве и соответ-
ственно используется как категория мышления. «Дли-
тельность» у хопи не может быть выражена в терминах
пространства и движения, Ибо именно в этом понятии
заключается отличие формы от содержания и сознания
в целом от отдельных пространственных элементов
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
200
сознания. Некоторые понятия, явившиеся результатом
нашего восприятия времени, как, например, понятие
абсолютной одновременности, было бы или очень труд-
но, или невозможно выразить в языке хопи или оии
были бы бессмысленны в их восприятии и заменены
какими-то иными, более приемлемыми для них поняти-
ями. Наше понятие «материи» является физическим
подтипом «субстанции», или «вещества», которое мыс-
лится как что-то бесформенное и протяженное, что
должно принять какую-то определенную форму, преж-
де чем стать формой действительного существования.
В хопи, кажется, нет ничего, что бы соответствовало
этому понятию; там нет бесформенных протяженных
элементов; существующее может иметь, а может и не
иметь формы, но зато ему должны быть свойственны
интенсивность и длительность — понятия, не связан-
ные с пространством и в своей основе однородные.
Как же все-таки следует рассматривать наше понятие
«пространства», которое также включалось в первый воп-
рос? В понимании пространства у народов хопи и SAE нет
такого отчетливого различия, как в понимании времени,
и, возможно, понимание пространства дается в основном
в той же форме через опыт, независимый от языка. Экспе-
рименты, проведенные структурной психологической
школой (Gestaltpsychologie) над зрительными восприя-
тиями, как будто уже установили это, но понятие про-
странства несколько варьируется в языке, ибо как катего-
рия мышления1 оно очень тесно связано с параллельным
использованием других категорий мышления, таких, на-
пример, как «время» и «материя», которые обусловлены
лингвистически. Наш глаз видит предметы в тех же про-
странственных формах, как видят их и хопи, но для наше-
го представления о пространстве характерно еще и то,
1 Сюда относятся «ньютоновское» н «евклидово» понятия про-
странства и т. п.
201 ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ
что оно используется для обозначения таких непростран-
ственных отношений, как время, интенсивность, направ-
ленность, и для обозначения вакуума, наполняемого во-
ображаемыми бесформенными элементами, один из ко-
торых может быть назван «пространство». Пространство
в восприятии хопи не связано психологически с подобны-
ми обозначениями, оио относительно «чисто», т. е. никак
не связано с непространственными понятиями.
Обратимся к нашему второму вопросу. Между куль-
турными нормами и языковыми моделями существуют
связи, но не корреляции или прямые соответствия. Хотя
было бы невозможно объяснить существование Главно-
го Глашатая отсутствием категории времени в языке
хопи, вместе с тем, несомненно, наличествует связь
между языком и остальной частью культуры общества,
которое этим языком пользуется. В некоторых случаях
.«манеры речи» составляют неотъемлемую часть всей
культуры, хотя это и нельзя считать общим законом, и
существуют связи между применяемыми лингвистиче-
скими категориями, их отражением в поведении людей и
теми разнообразными формами, которые принимает раз-
витие культуры. Так, например, значение Главного Гла-
шатая, несомненно, связано если не с отсутствием грам-
матической категории времени, то с той системой мыш-
ления, для которой характерны категории, отличающие-
ся от наших времен. Эти связи обнаруживаются не
столько тогда, когда мы концентрируем внимание на чис-
то лингвистических, этнографических или социологи-
ческих данных, сколько тогда, когда мы изучаем культу-
ру и язык (при этом только в тех случаях, когда культура
и язык сосуществуют исторически в течение значитель-
ного времени) как нечто целое, в котором можно предпо-
лагать взаимозависимость между отдельными областя-
ми, и если эта взаимозависимость действительно суще-
ствует, она должна быть обнаружена в результате такого
изучения.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Q ДВУХ ОШИБОЧНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ НА РЕЧЬ
И МЫШЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СИСТЕМУ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛОГИКИ, И О ТОМ, КАК СЛОВА
И ОБЫЧАИ ВЛИЯЮТ НА МЫШЛЕНИЕ
Каждый нормальный человек, вышедший из
детского возраста, обладает способностью го-
ворить и говорит. Именно поэтому каждый, не-
зависимо от образования, проносит через всю
свою жизнь некоторые хотя и наивные, но глу-
боко укоренившиеся взгляды на речь и на ее
связь с мышлением. Поскольку эти воззрения
тесно связаны с речевыми навыками, ставши-
ми бессознательными и автоматическими, они
довольно трудно поддаются изменению и от-
нюдь нс являются чем-то сугубо индивидуаль-
ным или хаотичным — в их основе лежит опре-
деленная система. Поэтому мы вправе назвать
эти воззрения системой естественной логики.
Этот термин представляется мне более удач-
ным, чем термин «здравый смысл», который ча-
сто используется с тем же значением.
Согласующийся с законами естественной
логики факт, что все люди с детства свободно
владеют речью, уже позволяет каждому счи-
тать себя авторитетом во всех вопросах, свя-
занных с процессом формирования и передачи
мыслей. Для этого, как ему представляется,
достаточно обратиться к здравому смыслу и
логике, которыми он, как и всякий другой че-
ловек, обладает. Естественная логика утверж-
203
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
дает, что речь — это лишь внешний процесс, связанный
только с сообщением мыслей, но не с их формировани-
ем. Считается, что речь, т. е. использование языка,
лишь «выражает» то, что уже в основных чертах сложи-
лось без помощи языка. Формирование мысли — это
якобы самостоятельный процесс, называемый мышле-
нием или мыслью и никак не связанный с природой от-
дельных конкретных языков, Грамматика языка — это
лишь совокупность общепринятых традиционных пра-
вил, но использование языка подчиняется якобы не
столько им, сколько правильному, рациональному, или
логическому, мышлению.
Мысль, согласно этой системе взглядов, зависит не
от грамматики, а от законов логики или мышления, буд-
то бы одинаковых для всех обитателей вселенной и от-
ражающих рациональное начало, которое может быть
обнаружено всеми разумными людьми независимо друг
от друга, безразлично, говорят ли они на китайском
языке или на языке чоктав. У нас принято считать, что
математические формулы и постулаты формальной ло-
гики имеют дело как раз с подобными явлениями, т. е.
со сферой и законами чистого мышления. Естественная
логика утверждает, что различные языки — это в ос-
новном параллельные способы выражения одного и
того же понятийного содержания и что поэтому они
различаются лишь незначительными деталями, кото-
рые только кажутся важными. По этой теории матема-
тика, символическая логика, философия и т. п. — это
не особые ответвления языка, но системы, противосто-
ящие языку и имеющие дело непосредственно с облас-
тью чистого мышления. Подобные взгляды нашли и от-
ражение в старой остроте о немецком грамматисте, по-
святившем всю свою жизнь изучению дательного паде-
жа. С точки зрения естественной логики и дательный
падеж, и грамматика в целом — вещи незначительные.
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
204
Иного мнения придерживались, по-видимому, древние
арабы: рассказывают, что два принца оспаривали друг у
друга честь надеть туфли самому ученому из Граммати-
стов королевства, а их отец, калиф, видел славу своего
королевства в том, что великие грамматисты почита-
лись здесь превыше королей.
Известное изречение, гласящее, что исключения
подтверждают правила, содержит немалую долю исти-
ны, хотя с точки зрения формальной логики оно превра-
тилось в нелепость, поскольку «подтверждать» больше
не значило «подвергнуть проверке». Поговорка приоб-
рела глубокий психологический смысл с тех пор, как
она утратила значение в логике. Сейчас она означает
то, что, если у правила совершенно нет исключений,
его не признают за правило и вообще его не осознают.
Такие явления — часть нашего повседневного опыта,
который мы обычно не осознаем. Мы не можем выде-
лить какое-либо явление или сформулировать для него
правила до тех пор, пока не найдем ему противопостав-
ления и не обогатим наш опыт настолько, что столкнем-
ся наконец с нарушением данной регулярности. Так,
мы вспоминаем о воде лишь тогда, когда высыхает коло-
дец, и осознаем, что дышим воздухом, только когда его
нам начинает не хватать.
Или, например, предположим, что какой-нибудь на-
род в силу какого-либо физиологического недостатка
способен воспринимать только синий цвет. В таком
случае вряд ли его люди смогут сформулировать мысль,
что они видят только синий цвет. Термин синий будет
лишен для них всякого значения, в их языке мы не най-
дем названий цветов, а их слова, обозначающие оттен-
ки синего цвета, будут соответствовать нашим словам
светлый, темный, белый, черный и т. д., но не нашему
слову синий. Для того чтобы осознать, что они видят
только синий цвет, они должны в какие-то отдельные
205
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
моменты воспринимать и Другие цвета. Закон тяготе-
ния не знает исключений; нет нужды доказывать, что
человек без специального образования не имеет ника-
кого понятия о законах тяготения и ему никогда бы не
пришла в голову мысль о возможности существования
планеты, на которой тела подчинялись бы законам, от-
личным от земных. Как синий цвет у нашего вымыш-
ленного народа, так и закон тяготения составляют
часть повседневного опыта необразованного человека,
нечто неотделимое от этого повседневного опыта. За-
кон тяготения нельзя было сформулировать до тех пор,
пока падающие тела не были рассмотрены с более ши-
рокой точки зрения — с учетом и других миров, в кото-
рых тела движутся по орбитам или иным образом.
Подобным же образом, когда мы поворачиваем голо-
ву, окружающие нас предметы отражаются на сетчатке
Глаза так, как если бы эти предметы двигались вокруг
нас. Это явление — часть нашего повседневного опыта,
и мы не осознаем его. Мы не думаем, что комната враща-
ется вокруг нас, но понимаем, что повернули голову в не-
подвижной комнате. Если мы попытаемся критически
осмыслить то, что происходит при быстром движении го-
ловы или глаз, то окажется, что самого движения мы не
видим; мы видим лишь нечто расплывчатое между двумя
ясными картинами. Обычно мы этого совершенно не за-
мечаем и мир предстает перед нами без этих расплывча-
тых переходов. Когда мы проходим мимо дерева или
дома, их отражение на сетчатке меняется так же, как
если бы это дерево или дом поворачивались на оси; одна-
ко, передвигаясь при обычных скоростях, мы не видим
поворачивающихся домов или деревьев. Иногда непра-
вильно подобранные очки позволяют увидеть, когда мы
оглядываемся вокруг, странные движения окружающих
предметов, но обычно мы при передвижении не замеча-
ем их относительного движения. Наша психическая
БЕНДЖАМЕН Л ТОРФ
206
организация такова, что мы игнорируем целый ряд явле-
ний, которые хотя и всеобъемлющи и широко распрост-
ранены, но не имеют значения для нашей повседневной
жизни и нужд.
Естественная логика допускает две ошибки. Во-перт
вых, она не учитывает того, что факты языка составля-
ют для говорящих на данном языке часть их повседнев-
ного опыта и поэтому эти факты не подвергаются кри-
тическому осмыслению и проверке. Таким образом,
если кто-либо, следуя естественной логике, рассуждает
о разуме, логике и законах правильного мышления, он
обычно склонен просто следовать за чисто граммати-
ческими фактами, которые в его собственном языке
или семье языков составляют часть его повседневного
опыта, но отнюдь не обязательны для всех языков и ни
в каком смысле не являются общей основой мышления.
Во-вторых, естественная логика смешивает взаимопо-
нимание говорящих, достигаемое путем использования
языка, с осмысливанием того языкового процесса, при
помощи которого достигается взаимопонимание, т. е. с
областью, являющейся компетенцией презренного и с
точки зрения естественной логики абсолютно бесполез-
ного грамматиста. Двое говорящих, например, на анг-
лийском языке быстро придут к договоренности относи-
тельно предмета речи; они без труда согласятся друг с
другом в отношении того, к чему относятся их слова.
Один из них (А) может дать указания, которые будут
выполнены к полному его удовлетворению другим гово-
рящим (В). Именно потому, что А и В так хорошо пони-
мают друг друга, они в соответствии с естественной ло-
гикой считают, что им, конечно, ясно, почему это про-
исходит. Они полагают, например, что все дело просто
в том, чтобы выбрать слова для выражения мыслей.
Если мы попросим А объяснить, как ему удалось так
легко договориться с В, он просто повторит более или
HAVKA И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
107
менее пространно то, что он и понятия не имеет о том
процессе, который здесь происходит. Сложнейшая сис-
тема языковых моделей и классификаций, которая дол-
жна быть общей для А и В, служит им для того, чтобы
они вообще могли вступить в контакт.
Эти врожденные и приобретаемые со способностью
говорить основы и есть область грамматиста, или линг-
виста, если дать этому ученому более современное на-
звание, Слово «лингвист» в разговорной и особенно в
газетной речи означает нечто совершенно иное, а имен-
но человека, который может быстро достигнуть взаимо-
понимания при общении с людьми, говорящими на раз-
личных языках. Такого человека, однако, правильнее
было бы назвать полиглотом. Ученые-языковеды уже
давно осознали, что способность бегло говорить на ка-
ком-либо языке еще совсем не означает лингвистиче-
ского знания этого языка, т. е. понимания его основных
особенностей (background phenomena), его системы и
происходящих в ней регулярных процессов. Точно так
же способность хорошо играть на бильярде не подразу-
мевает и не требует знания законов механики, действу-
ющих на бильярдном столе.
Сходным образом обстоит дело в любой другой отрас-
ли науки. Всех подлинных ученых интересует прежде
всего основа явлений, играющая как таковая небольшую
роль в нашей жизни. И тем не менее изучение основы яв-
лений позволяет обнаружить тесную связь между мно-
гими остающимися в тени областями фактов, прини-
маемыми за нечто данное, и такими занятиями, как транс-
портировка товаров, приготовление пищи, уход за боль-
ными, выращивание картофеля. Все эти виды деятель-
ности могут с течением времени подвергнуться весьма
значительным изменениям под влиянием сугубо науч-
ных теоретических изысканий, ни в коей мере не свя-
занных с самими этими банальными занятиями. Так и в
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
208
лингвистике — изучаемая ею основа языковых явле-
ний, которые как бы находятся на заднем плане, имеет
отношение ко всем видам нашей деятельности, связан-
ной с речью и достижением взаимопонимания, — во
всякого рода рассуждениях и аргументации, в юриспру-
денции, дискуссиях, при заключении мира, заключении
различных договоров, в изъявлении общественного мне-
ния, в оценке научных теорий, при изложении научных
результатов. Везде, где в делах людей достигаются дого-
воренность или согласие, независимо от того, использу-
ются ли при этом математические или какие-либо дру-
гие специальные условные знаки или нет, эта догово-
ренность достигается при помощи языковых про-
цессов или не достигается вовсе.
Как мы видели, ясное понимание лингвистических
процессов, посредством которых достигается та или
иная договоренность, совсем не обязательно для дости-
жения этой договоренности, но, разумеется, отнюдь ей
не мешает. Чем сложнее и труднее дело, тем большую
помощь может оказать такое знание. В конце концов,
можно достигнуть такого уровня — ия подозреваю, что
современный мир почти достиг его, — когда понимание
процессов речи является уже не только желательным,
но и необходимым. Здесь можно провести аналогию с
мореплаванием. Всякое плывущее по морю судно попа-
дает в сферу действия притяжения планет. Однако
даже мальчишка может провести свое суденышко во-
круг бухты, не зная ни географии, ни астрономии, ни
математики или международной политики, в то же вре-
мя для капитана океанского парохода знание всех этих
предметов весьма существенно.
Когда лингвисты смогли научно и критически ис-
следовать большое число языков, совершенно различ-
ных по своему строю, их опыт обогатился, основа для
сравнения расширилась, они столкнулись с нарушени-
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
?051
см тех закономерностей, которые до того считались
универсальными, и познакомились с совершенно новы-
ми типами явлений. Было установлено, что основа язы-
ковой системы любого языка (иными словами, грамма-
тика) не есть просто инструмент для воспроизведения
мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль,
является программой и руководством мыслительной де-
ятельности индивидуума, средством анализа его впе-
чатлений и их синтеза. Формирование мыслей — это
не независимый процесс, строго рациональный в ста-
ром смысле этого слова, но часть грамматики того или
иного языка и различается у различных народов в од-
них случаях незначительно, в других— весьма суще-
ственно, так же как грамматический строй соответству-
ющих языков. Мы расчленяем природу в направлении,
подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в
мире явлений те или иные категории и типы совсем не
потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны;
напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопи-
ческий поток впечатлений, который должен быть орга-
низован нашим сознанием, а это значит в основном —
языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы
расчленяем мир, организуем его в понятия и распреде-
ляем значения так, а не иначе в основном потому, что
мы — участники соглашения, предписывающего подоб-
ную систематизацию. Это соглашение имеет силу для
определенного речевого коллектива и закреплено в сис-
теме моделей нашего языка. Это соглашение, разумеет-
ся, никак и никем не сформулировано и лишь подразу-
мевается, и тем не менее мы — участники этого со-
глашения; мы вообще не сможем говорить, если только
не подпишемся под систематизацией и классификацией
материала, обусловленной указанным соглашением.
Это обстоятельство имеет исключительно важное
значение для современной науки, поскольку из него
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
210
следует, что никто не волен описывать природу абсо-
лютно независимо, но все мы связаны с определенными
способами интерпретации даже тогда, когда считаем
себя наиболее свободными. Человеком, более свобод-
ным в этом отношении, чем другие, оказался бы линг-
вист, знакомый со множеством самых разнообразных
языковых систем. Однако до сих пор таких лингвистов
не было. Мы сталкиваемся, таким образом, с новым
принципом относительности, который гласит, что сход-
ные физические явления позволяют создать сходную
картину вселенной только при сходстве или по крайней
мере при соотносительности языковых систем.
Этот поразительный вывод не так очевиден, если ог-
раничиться сравнением лишь наших современных евро-
пейских языков да еще, возможно, латинского и грече-
ского. Системы этих языков совпадают в своих суще-
ственных чертах, что на первый взгляд, казалось бы,
свидетельствует в пользу естественной логики. Но это
совпадение существует только потому, что все указан-
ные языки представляют собой индоевропейские диа-
лекты, построенные в основном по одному и тому же
плану и исторически развившиеся из того, что когда-то
давно было одной речевой общностью; сходство упомя-
нутых языков объясняется, кроме того, тем, что все они
в течение долгого времени участвовали в создании об-
щей культуры, а также тем, что эта культура во многом,
и особенно в интеллектуальной области, развивалась
под большим влиянием латыни и греческого. Таким об-
разом, данный случай не противоречит принципу линг-
вистической относительности, сформулированному в
конце предыдущего абзаца. Следствием этого является
сходство в описании мира у современных ученых. Нуж-
но, однако, подчеркнуть, что понятия «все современные
ученые, говорящие на индоевропейских языках» и «все
ученые» не совпадают. То, что современные китайские
2П
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
или турецкие ученые описывают мир подобно европей-
ским ученым, означает только, что они переняли цели-
ком всю западную систему мышления, но совсем не то,
что они выработали эту систему самостоятельно, с их
собственных наблюдательных постов.
Расхождения в анализе природы становятся более
очевидными при сопоставлении наших собственных
языков с языками семитскими, китайским, тибетским
или африканскими. И если мы привлечем языки корен-
ного населения Америки, где речевые коллективы в те-
чение многих тысячелетий развивались независимо
друг от друга и от Старого Света, то тот факт, что языки
расчленяют мир по-разному, становится совершенно
неопровержимым. Обнаруживается относительность
всех понятийных систем, в том числе и нашей, и их за-
висимость от языка. То, что американские индейцы,
владеющие только своими родными языками, никогда
не выступали в качестве ученых или исследователей,
не имеет отношения к делу. Игнорировать свидетель-
ство своеобразия человеческого разума, которое предо-
ставляют их языки, — это все равно, что ожидать от бо-
таников исчерпывающего описания растительного
мира, зная, что они изучили только растения, употреб-
ляемые в пищу, и оранжерейные розы.
Рассмотрим несколько примеров. В английском
языке мы распределяем большинство слов по двум
классам, обладающим различными грамматическими и
логическими особенностями. Слова первого класса мы
называем существительными (ср., например, house
«дом», man «человек»); слова второго — глаголами (на-
пример: hit «ударить», ши «бежать»). Многие слова од-
ного класса могут выступать еще и как слова другого
класса (например: a hit «удар», а ши «бег» или to man
the boat «укомплектовывать лодку людьми, личным со-
ставом»). Однако в общем граница между этими двумя
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
212
классами является абсолютной. Наш язык дает нам, та-
ким образом, деление мира на два полюса. Но сама при-
рода совсем так не делится. Если мы скажем, что strike
«ударять», turn «поворачивать», run «бежать» и т. п. —
глаголы потому, что они обозначают временные и крат-
ковременные явления, то есть действия, тогда почему же
fist «припадок» — существительное? Ведь это тоже вре-
менное явление! Почему lightning «молния», spark «ис-
кра», wave «волна», eddy «вихрь», pulsation «пульсация»,
flame «пламя», storm «буря», phase «фаза», cycle «цикл»,
spasm «спазм», noise «шум», emotion «чувство» и т. п. —
существительные? Все это временные явления. Если
man «человек» и house «дом» — существительные пото-
му, что они обозначают длительные и устойчивые явле-
ния, то есть предметы, тогда почему beer «держать»,
adhere «твердо держаться, придерживаться», extend
«простираться», project «выдаваться, выступать»,
continue «продолжаться, длиться», persist «упорство-
вать, оставаться», grow «расти», dwell «пребывать,
жить» ит.п, — глаголы? Если нам возразят, что possess
«обладать», adhere «придерживаться» — глаголы пото-
му, что они обозначают скорее устойчивые связи, чем ус-
тойчивые понятия, почему же тогда equilibrium «равно-
весие», pressure «давление», current «течение, ток», pea-
ce «мир», group «группа», nation «нация», society «обще-
ство», tribe «племя», sister «сестра» или другие термины
родства относятся к существительным? Мы обнаружи-
ваем, что «событие» (event) означает для нас «то, что
наш язык классифицирует как глагол» или нечто подоб-
ное. Мы видим, что определить явление, вещь, предмет,
отношение и т. п., исходя из природы, невозможно; их
определение всегда подразумевает обращение к грамма-
тическим категориям того или иного конкретного языка.
В языке хопи «молния», «волна», «пламя», «ме-
теор», «клуб дыма», «пульсация» — глаголы, так как
213
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
все это события краткой длительности и именно поэто-
му не могут быть ничем иным, кроме как глаголами.
«Облако» и «буря» обладают наименьшей продолжи-
тельностью, возможной для существительных. Таким
образом, как мы установили, в языке хопи существует
классификация явлений (или лингвистически изолиру-
емых единиц), исходящая из их длительности, нечто со-
вершенно чуждое нашему образу мысли. С другой сто-
роны, в языке нутка (о-в Ванкувер) все слова показа-
лись бы нам глаголами, но в действительности там нет
ни класса I, ни класса II; перед нами как бы монистиче-
ский взгляд на природу, который порождает только
один класс слов для всех видов явлений. О house «дом»
можно сказать и «а house occurs» «дом имеет место», и
«it houses» «домит» совершенно так же, как о flame
«пламя» можно сказать и «а flame occurs» «пламя имеет
место» и «it burns» «горит». Эти слова представляются
нам похожими на глаголы потому, что у них есть флек-
сии, передающие различные оттенки длительности и
времени, так что суффиксы слова, обозначающего
«дом», придают ему значения «давно существующий
дом», «временный дом», «будущий дом», «дом, который
раньше был», «то, что начало быть домом» и т. п.
В языке хопи есть существительное, которое может
относиться к любому летающему предмету или суще-
ству за исключением птиц; класс птиц обозначается
другим существительным. Можно сказать, что первое
существительное обозначает класс Л — П «летающие
минус птицы»; действительно, хопи называют одним и
тем же словом и насекомые, и самолет, и летчика и не
испытывают при этом никаких затруднений. Разумеет-
ся, ситуация помогает устранить возможное смешение
различных представителей любого широкого лингвис-
тического класса, подобного Л — П. Этот класс пред-
ставляется нам уж слишком обширным и разнородным,
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
214
но таким же показался бы, например, эскимосу наш
класс «снег». Мы называем одним и тем же словом па-
дающий снег, снег на земле, снег, плотно слежавшийся,
как лед, талый снег, снег, несомый ветром, и т. п., неза-
висимо от ситуации. Для эскимоса это всеобъемлющее
слово было бы почти немыслимым; он заявил бы, что
падающий сиег, талый снег и т. п. различны и по вос-
приятию, и по функционированию (sensuously and
operationally). Это различные вещи, и он называет их
различными словами. Напротив, ацтеки идут еще даль-
ше нас: в их языке «холод», «лед» и «снег» представле-
ны одним и тем же словом с различными окончаниями:
«лед» — это существительное, «холод» — прилагатель-
ное, а для «снега» употребляется сочетание «ледяная
изморось».
Однако удивительнее всего то, что различные ши-
рокие обобщения западной культуры, как, например,
время, скорость, материя, не являются существенными
для построения всеобъемлющей картины Вселенной.
Психические переживания, которые мы подводим под
эти категории, конечно, никуда не исчезают, но управ-
лять космологией могут и иные категории, связанные с
переживаниями другого рода, и функционируют они,
по-видимому, ничуть не хуже наших. Хопи, например,
можно назвать языком, не имеющим времени. В нем
различают психологическое время, которое очень напо-
минает бергсоновскую «длительность», но это «время»
совершенно отлично от математического времени t, ис-
пользуемого нашими физиками. Специфическими осо-
бенностями понятия времени в языке хопи является то,
что оно варьируется от человека к человеку, не допус-
кает одновременности, может иметь нулевое измере-
ние, то есть количественно не может превышать едини-
цу. Индеец хопи говорит не «я оставался пять дней», но
♦я уехал на пятый день».
215
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Слово, относящееся к этому виду времени, подобно
слову «день», не имеет множественного числа. Зага-
дочные картинки на приведенном рисунке помогут
представить, как глагол в языке хопи обходится без
времен. И действительно, в одно глагольном предложе-
нии единственная польза от наших времен заключает-
ся в различении пяти типичных ситуаций, изображен-
ных на картинках.
Обмятиенар картина Говорящий Слушающий
(Оюпрмитеяг) (Получателе)
Ям будет выражена мысль
о том, что кто-то бежит
Ситуация fa
Ситуация tS
Англ. Но Is running „Он бежит 4
Xcnw Warl „бегущий "
f Кокстатицияфмта.)
Ситуация 3
Поле наблюдения пустое
Ситуация а
Лоле на^люЗени» пустее,
без бегущего________
Ситуация 2
Англ. Не ran „Онбежал 4
Хопи Wori „бегущий **
(Констатация фанта.)
Англ, Не is running „Оя бежит"
Хопи wart „бегущий я
(Констатация факта.)
Англ. Не гоп „Он бежал ".
Копи Cro^wori „бегущиеп
( Комета тещин фанта
во памяти)
Поле наблюдения пустое
СитуацияS
Англ. Не will run „Он пережит9
Хопи НИНХш „бегущий"
(Констатация ожидаемою
факта.)
Поле наблюдения пустое
Англ. Не runs (т.г. on the
trocJt tenm)„Ono«nem”
Хопи WariAngue „бегущий"
(Констатация заявка)
Рис. I. Различие между языками, имеющими времена
(английский), и языками, не имеющими времен (хопи).
То, что в английском языке связано с различиями во времени,
в хопи связано с различиями в степени достоверности
сообщаемого.
БЕНДЖАМЕН Л МОРФ
216
В не знающем времен языке хопи глагол не разли-
чает настоящее, прошедшее или будущее события, но
всегда обязательно указывает, какую степень достовер-
ности говорящий намеревается придать высказыва-
нию: а) сообщение о событии (ситуации 1, 2 и 3 на ри-
сунке), б) ожидание события (ситуация 4), в) обобще-
ние событий или закон (ситуация 5). Ситуация 1, где
говорящий и слушающий объединены единым полем
наблюдения, подразделяется английским языком на
два возможных случая — 1 а и 1 б, которые у нас назы-
ваются соответственно настоящим и прошедшим. Это
подразделение необязательно для языка, оговариваю-
щего, что данное высказывание представляет собой
констатацию события.
Грамматика языка хопи позволяет также легко раз-
личать посредством форм, называемых видами и накло-
нениями, мгновенные, длительные и повторяющиеся
действия и указывать действительную последователь-
ность сообщаемых событий. Таким образом, Вселенную
можно описать, не прибегая к понятию измеряемого
времени. А как же будет действовать физическая тео-
рия, построенная на этих основах, без t (время) в своих
уравнениях? Превосходно, как можно себе предста-
вить, хотя, несомненно, она потребует иного мировоз-
зрения и, вероятно, иной математики. Разумеется, по-
нятие V (скорость — velocity) также должно будет ис-
чезнуть. В языке хопи нет слова, полностью эквивалент-
ного нашему слову «скорость» или «быстрый». Обычно
эти слова переводятся словом, имеющим значение
«сильный» или «очень» и сопровождающим любой гла-
гол движения. В этом ключ к пониманию сущности на-
шей новой физики. Нам, вероятно, понадобится ввести
новый термин — I — интенсивность (intensity). Каж-
дый предмет или явление будет содержать в себе I неза-
висимо от того, считаем ли мы, что этот предмет или яв-
217
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ление движется, или просто длится, или существует.
Может случиться, что I (интенсивность) электрическо-
го заряда окажется совпадающей с его напряжением
или потенциалом. Мы должны будем ввести в употреб-
ление особые «часы» для измерения некоторых интен-
сивностей или, точнее, некоторых относительных ин-
тенсивностей, поскольку абсолютная интенсивность
чего-либо будет бессмысленной. Наш старый друг уско-
рение (acceleration) также будет присутствовать при
этом, хотя, без сомнения, под новым именем. Возмож-
но, мы назовем его V, имея в виду не скорость
(velocity), а вариантность (variation). Вероятно, все
процессы роста и накопления будут рассматриваться
как V. У нас не будет понятия темпа (rate) во времен-
ном смысле, поскольку, подобно скорости (velocity),
темп предполагает математическое и лингвистическое
время. Мы, разумеется, знаем, что всякое измерение
покоится на отношении, но измерение интенсивностей
путем сравнения с интенсивностью хода часов либо
движения планеты мы не будем трактовать как отноше-
ние, точно так же как мы не трактуем расстояние на ос-
нове сравнения с ярдом.
Ученому, представляющему иную культуру —-
культуру, оперирующую понятиями времени и скорос-
ти, пришлось бы тогда приложить немало усилий, что-
бы объяснить нам эти понятия. Мы говорили бы об ин-
тенсивности химической реакции; он — о скорости ее
протекания или о ее темпе. Первоначально мы бы про-
сто думали, что его слова «скорость» и «темп» соответ-
ствуют «интенсивности» в нашем языке, а он, вероят-
но, сначала считал бы, что «интенсивность» — это про-
сто слово, передающее то же, что слово «скорость» в
его языке. Сперва мы бы соглашались, потом начались
бы разногласия. И наконец обе стороны начали бы, по-
видимому, осознавать, что все дело в использовании
БЕНДЖАМЕН Л УОРФ
218
различных систем мышления. Ему было бы очень труд-
но объяснить нам, что он разумеет под «скоростью» хи-
мической реакции. В нашем языке не оказалось бы под-
ходящих слов. Он попытался бы объяснить «скорость»,
сопоставляя химическую реакцию со скачущей лоша-
дью или указывая на различие между хорошей лоша-
дью и ленивой. Мы пытались бы с улыбкой превосход-
ства показать ему, что его аналогия также иллюстриру-
ет не что иное, как различные интенсивности, и что,
кроме этого обстоятельства, никакого другого сходства
между лошадью и химической реакцией в пробирке
нет. Мы не преминули бы отметить, что скачущая ло-
шадь движется относительно земли, в то время как ве-
щество в пробирке находится в состоянии покоя.
Важным вкладом в науку с лингвистической точки
зрения было бы более широкое развитие чувства пер-
спективы. У нас больше нет оснований считать несколь-
ко сравнительно недавно возникших диалектов индоев-
ропейской семьи и выработанные на основе их моделей
приемы мышления вершиной развития человеческого
разума. Точно так же не следует считать причиной ши-
рокого распространения этих диалектов в наше время
их большую пригодность или нечто подобное, а не исто-
рические явления, которые можно назвать счастливы-
ми только с узкой точки зрения заинтересованных сто-
рон. Нельзя считать, что все это, включая собственные
процессы мышления, исчерпывает всю полноту разума
и познания, они (эти явления и процессы) представля-
ют лишь одно созвездие в бесконечном пространстве
галактики. Поразительное многообразие языковых сис-
тем, существующих на земном шаре, убеждает нас в не-
вероятной древности человеческого духа; в том, что те
немногие тысячелетия истории, которые охватываются
нашими письменными памятниками, оставляют след не
толще карандашного штриха на шкале, какой измеряет-
219
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ся наш прошлый опыт на этой планете; в том, что собы-
тия этих последних тысячелетий не имеют никакого
значения в ходе эволюционного развития; в том, что че-
ловечество не знает внезапных взлетов и не достигло в
течение последних тысячелетий никакого внушитель-
ного прогресса в создании синтеза, но лишь забавля-
лось игрой с лингвистическими формулировками и ми-
ровоззрениями, унаследованными от бесконечного в
своей длительности прошлого. Но ни это ощущение, ни
сознание произвольной зависимости всех наших зна-
ний от языковых средств, которые еще сами в основном
не познаны, но должны обескураживать ученых, не дол-
жны, напротив, воспитать ту скромность, которая неот-
делима от духа подлинной науки и; следовательно, по-
ложит конец той надменности ума, которая мешает под-
линной научной любознательности и вдохновению.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вообще прогресс как таковой представ-
ляется куда более значительным, чем
он есть на самом деле.
Нестрой
ПРЕДИСЛОВИЕ
Публикуемые здесь мысли — конденсат фило-
софских исследований, занимавших меня пос-
ледние шестнадцать лет. Они касаются мно-
гих вопросов: понятия «значение», понима-
ния, предложения, логики, оснований матема-
тики, состояний сознания и многого другого.
Я записал все эти мысли в форме заметок, ко-
ротких абзацев. Иногда они образуют относи-
тельно длинные цепи рассуждений об одном и
том же предмете, иногда же их содержание
быстро меняется, перескакивая от одной обла-
сти к другой. Я с самого начала намеревался
объединить все эти мысли в одной книге, фор-
ма которой в разное время представлялась
мне разной. Но мне казалось существенным,
чтобы мысли в ней переходили от одного пред-
мета к другому в естественной и непрерывной
последовательности.
Перевод с немецкого Козловой М.С.
221
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
После нескольких неудачных попыток увязать мои
результаты в такую целостность я понял, что это мне ни-
когда не удастся. Что лучшее из того, что я мог бы напи-
сать, все равно осталось бы лишь философскими замет-
ками. Что как только я пытался принудить мои мысли
идти в одном направлении вопреки их естественной
склонности, они вскоре оскудевали. И это было, безус-
ловно, связано с природой самого исследования. Именно
оно принуждает нас странствовать по обширному полю
мысли, пересекая его вдоль и поперек в самых различ-
ных направлениях. Философские заметки в этой кни-
ге — это как бы множество пейзажных набросков, со-
зданных в ходе этих долгих и запутанных странствий.
Причем с приближением к тем же или почти тем же
пунктам с разных направлений, как бы заново, дела-
лись все новые зарисовки. Многие из них неправильно
нарисованы или нехарактерны, полны огрехов слабого
рисовальщика. Но после их отбраковки остается неко-
торое число довольно сносных эскизов, которые следу-
ет упорядочить, а часто и подрезать, чтобы они могли
дать зримую картину ландшафта. Итак, эта моя книга, в
сущности, только альбом.
Собственно, до недавнего времени я отказывался от
мысли опубликовать свою работу при жизни. Правда,
время от времени эта мысль во мне шевелилась.
И прежде всего потому, что мне приходилось убеждать-
ся: выводы, излагавшиеся мною в лекциях, рукописях,
обсуждениях, входили в широкое обращение в сильно
искаженном, более или менее разбавленном илн уре-
занном виде. Это задевало мое самолюбие, и мне сто-
ило больших трудов его успокоить.
Четыре года назад у меня был повод перечитать
мою первую книгу {Логико-философский, трактат) и
пояснять ее идеи. Тут мне вдруг показалось, что следо-
вало бы опубликовать те мои старые и новые мысли
вместе; что только в противопоставлении такого рода и
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
222
на фоне моего прежнего образа мыслей эти новые идеи
могли получить правильное освещение.
Ибо, вновь занявшись философией шестнадцать лет
назад, я был вынужден признать, что моя первая книга
содержит серьезные ошибки. Понять эти ошибки в той
мере, в какой я сам едва ли смог бы это сделать, мне по-
могла критика моих идей Фрэнком Рамсеем, в бесчис-
ленных беседах с которым я обсуждал их множество
раз в течение двух последних лет его жизни. В еще
большей мере, чем эта — всегда мощная и решитель-
ная — критика, на меня повлияли замечания препода-
вателя университета г-на П. Сраффа, в течение многих
лет неустанно занимавшегося анализом моих мыслей.
Этому стимулирующему воздействию я обязан наибо-
лее последовательными идеями моего сочинения.
То, что я публикую здесь, перекликается —• на то
есть не одна причина — с тем, что сегодня пишут дру-
гие. Коль скоро иа моих заметках нет штемпеля, удосто-
веряющего мое авторство, то мне в дальнейшем никак не
предъявить права на них как на свою собственность.
Я представляю их к публикации с противоречивыми
чувствами. Не исключено, что этой работе, при всем ее
несовершенстве и при том, что мы живем в мрачное
время; будет суждено внести ясность в гуилииную го-
лову; но, конечно, это не столь уж и вероятно.
Своим сочинением я не стремился избавить других
от усилий мысли. Мне хотелось иного: побудить кого-ни-
будь, если это возможно, к самостоятельному мышле-
нию. Я был бы счастлив создать хорошую книгу. Так не
случилось; но время, когда я мог бы ее улучшить, ушло.
Кембридж,
январь, 1945
223
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЫ
1. Августин в Исповеди (1/8) говорит: «Cum ipsi
(majores homines) appellabant rem aliquam, et cum
secundum earn vocem corpus ad aliquid movebant,
videbam, et tenebam hoc ab eis vocari rem Шат, quod
sonabant, cum earn vellent ostendere. Hoc autem eos velle
ex motu corporis aperiebatur: tamquam verbis naturalibus
omnium gfentium, quae Hunt vultu ct nutu oculorum,
ceterorumque membrorum actu, et sonitu vocis indicante
affectioncm animi in petendis, habendis, rejiciendis,
fugiendisque rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis
posita, et crebro audita, quarum rerum signa essent,
paulatim colligebam, measque jam voluntates, edomito in
eis signis ore, per haec enuntiabam»1.
В этих словах заключена, мне кажется, особая кар-
тина действия человеческого языка. Она такова: слова
языка именуют предметы -— предложения суть связь
таких наименований.
В этой картине языка мы усматриваем корни такого
представления: каждое слово имеет какое-то значение.
’ «Наблюдая, как взрослые, называя какой-нибудь предмет,
поворачивались в его сторону, я постигал, что предмет обо-
значается произносимыми им звуками, поскольку они ука-
зывали на него. А вывод этот я делал нз их жестов, этого ес-
тественного языка всех народов, языка, который мимикой,
движениями глаз, членов тела, звучанием голоса выражает
состояние души — когда чего-то просят, получают, отверга-
ют, чуждаются. Так постепенно я стал понимать, какие
вещи обозначаются теми словами, которые я слышал вновь
и вновь произносимыми в определенных местах различных
предложений. И когда мои уста привыкли к этим знакам, я
научился выражать ими свои желания* (лат.).
людвиг Витгенштейн
224
Это значение соотнесено с данным словом. Оно — со-
ответствующий данному слову объект.
Августин не говорит о различии типов слов. Тот,
кто описывает обучение языку таким образом, думает
прежде всего, по-вндимому, о таких существительных,
как «стол», «стул», «хлеб», и именах лиц, затем о наи-
менованиях определенных действий и свойств, прочие
же типы слов считая чем-то таким, что не требует осо-
бой заботы.
Ну а представь себе такое употребление языка: я
посылаю кого-нибудь за покупками. Я даю ему записку,
в которой написано: «Пять красных яблок». Он несет
эту записку к продавцу, тот открывает ящик с надпи-
сью «яблоки», после чего находит в таблице цветов сло-
во «красный», против которого расположен образец
этого цвета, затем он произносит ряд слов, обозначаю-
щих простые числительные до слова «пять» — я пола-
гаю, что наш продавец знает их наизусть, — и при каж-
дом слове он вынимает из ящика яблоко, цвет которого
соответствует образцу. Так или примерно так люди опе-
рируют словами. Но как он узнает, где и каким образом
положено наводить справки о слове «красный» и что
ему делать со словом «пять»? Ну, я предполагаю, что он
действует так, как я описал. Объяснениям где-то на-
ступает конец. Но каково же значение слова «пять»?
Речь здесь совсем не об этом, а только о том, как упо-
требляется слово «пять».
2. Приведенное выше философское понятие значе-
ния коренится в примитивном представлении о способе
функционирования языка. Или же, можно сказать, в
представлении о более примитивном языке, чем наш.
Представим себе язык, для которого верно описа-
ние, данное Августином. Этот язык должен обеспечить
взаимопонимание между строителем А и его помощни-
ком В. А возводит здание нз строительных камней —
225
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
блоков, колонн, плит и балок. В должен подавать камни
в том порядке, в каком они нужны А. Для этого они
пользуются языком, состоящим из слов: «блок», «ко-
лонна», «плита», «балка». А выкрикивает эти слова, В
доставляет тот камень, который его научили подавать
при соответствующей команде. Рассматривай это как
завершенный примитивный язык.
3. Можно сказать, что Августин действительно опи-
сывает некоторую систему коммуникации, но только не
все, что мы называем языком, охватывается этой систе-
мой. Причем говорить так следует в тех случаях, когда
возникает вопрос: «Годится или не годится данное
изображение?» В таком случае дается ответ: «Да, го-
дится, но только для этой, узко очерченной области, а
не для того целого, на изображение коего ты притязал».
Это похоже на то, как если бы кто-то объяснял:
«Игра состоит в передвижении фигур по некой поверх-
ности согласно определенным правилам...» — а мы бы
ответили на это: «Ты, по-видимому, думаешь об играх
на досках, но ведь имеются и другие игры. Твое опреде-
ление может стать правильным, если ты четко ограни-
чишь его играми первого рода».
4. Представь себе письменность, в которой буквы ис-
пользовались бы для обозначения не только звуков, но и
как знаки ударений и пунктуации. (Письменность мож-
но понимать как язык для описания звуковых образцов.)
Теперь представь себе, что кто-то толкует это письмо
просто как соответствие каждой буквы какому-то звуку,
как если бы у букв не было к тому же и совершенно иных
функций. Такое слишком упрощенное понимание пись-
менности напоминает понимание языка у Августина.
5. Вдумываясь в пример из § 1, видимо, можно по-
чувствовать, насколько эта общая концепция значения
слова затемняет функционирование языка, делая не-
возможным ясное видение. Туман рассеивается, если
8 Языки как образ мира
Л40ДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
226
изучать явления языка в примитивных формах его
употребления, где четко прослеживается назначение
слов и то, как они функционируют.
Такие примитивные формы языка использует ребе-
нок, когда учится говорить. Обучение языку в этом слу-
чае состоит не в объяснении, а в тренировке.
6. Можно представить себе, что язык, описанный в
§ 2, выступает для А и В как весь язык; даже как весь
Л'г.ког.го .а'.’смлч.ч. Дети воспитывались бы тогда
так, чтобы они, пользуясь этими словами, совершали
эти действия и таким образом реагировали на слова
других.
Важная часть речевой тренировки будет тогда со-
стоять в том, что обучающий указывает на предметы,
привлекая к ним внимание ребенка н произнося при
этом некоторое слово, например слово «плита», с одно-
временным указанием на эту форму. (Я не хочу назы-
вать это «указательным разъяснением» или «определе-
нием», поскольку ребенок еще не способен спраши-
вать о названии предмета, Я назову этот процесс «ука-
зательным обучением словам». Я утверждаю, что оно
является важной частью речевой тренировки, ибо
именно так обстоит дед0 у людей, а не потому, что
нельзя представить себе иную картину.) Можно ска-
зать, что это указательное обучение словам проторяет
ассоциативную связь между словом и предметом. Но
что это значит? Да, это может означать разное, но
прежде всего люди склонны считать, что в душе ребен-
ка возникает картина предмета, когда он слышит соот-
ветствующее слово. А если такое действительно проис-
ходит, то в этом ли целевое назначение слова? Да, это
может быть целью. Я могу себе представить такое упо-
требление слов (сочетаний звуков). (Произнесение сло-
ва подобно нажатию клавиши на клавиатуре представ^
лений.) Но в языке, описанном в § 2, цель слов совсем
227
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
не в том, чтобы пробуждать представления. (Хотя, ко-
нечно, при этом может оказаться, что такие представ-
ления содействуют достижению действительной цели.)
Но если указательное обучение и содействует это-
му, то надо ли утверждать, что оно способствует пони-
манию слов? Разве тот, кто по команде «плита!» дей-
ствует соответствующим образом, не понимает этой ко-
манды? Да, конечно, указательное обучение помогает
пониманию, но только в сочетании с определенной тре-
нировкой. Изменись характер тренировки, то же самое
указательное обучение привело бы к совсем иному по-
ниманию этих слов.
«Соединяя стержень с рычагом, я привожу в дей-
ствие тормоз». Да, если дан весь остальной механизм.
Лишь в связи с ним это тормозной рычаг; вне такой опо-
ры это совсем не рычаг, а все что угодно, либо ничто.
7. В практике употребления языка (2) один выкри-
кивает слова, другой действует в соответствии с ними;
при обучении же языку происходит следующее; обучае-
мый называет предметы; то есть когда учитель указы-
вает ему камень, он произносит слово. А вот и еще бо-
лее простое упражнение: учащийся произносит слово
вслед за учителем. Оба процесса похожи на язык.
К тому же весь процесс употребления слов в языке
(2) можно представить н в качестве одной из тех игр, с
помощью которых дети овладевают родным языком.
Я буду называть эти игры «языковыми играми* и гово-
рить иногда о некоем примитивном языке как о языко-
вой игре.
Процессы наименования Камней и повторения слов
за кем-то также можно назвать языковыми играми.
Вспомни о многократных употреблениях слов в приго-
ворах к играм-хороводам.
«Языковой игрой» я буду Называть также единое це-
лое: язык и действия, с которыми он переплетен.
8*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
228
8. Рассмотрим один нз расширенных вариантов язы-
ка (2). Пусть в нем наряду с четырьмя словами «блок»,
«колонна» и т. д, содержится ряд слов, употребляемых
так же, как продавец (1) употреблял числительные (это
может быть ряд букв алфавита); пусть далее в него вой-
дут два слова, означающие, скажем, «туда» и «это» (при-
мерно таково их целевое назначение), которые будут ис-
пользоваться в сочетании с указательным жестом; и на-
конец, пусть в этот язык войдет некоторое число цвето-
вых образцов. А отдает приказ типа: «rf плит— туда».
При этом он демонстрирует помощнику образец цвета и
прн слове «туда» указывает какое-то место на строитель-
ной площадке. Из запаса плит В берет по одной плите на
каждую букву алфавита вплоть до d в соответствии с
цветовым образцом и доставляет их на место, указан-
ное А. В других случаях А отдает приказ: «Это — туда».
При слове «это» он указывает на какой-то строительный
камень. И так далее.
9. Когда ребенок учится такому языку, он должен вы-
учить наизусть ряд «числительных» а, Ь, с... и научиться
нх применять. Войдет ли в.занятия такого рода и указа-
тельное обучение словам? Ну, например, люди будут
указывать на плиты и считать: «а, Ь, с плит». С ука-
зательным обучением словам «блок», «колонна» и т. д.,
пожалуй, более сходно указательное обучение числи-
тельным, которые служат не для счета, а для обозначе-
ния групп предметов, охватываемых одним взглядом.
Именно так дети учатся употреблению первых пяти-ше-
сти количественных числительных.
А слова «туда» и «этот» также осваиваются указа-
тельно? Представь себе, например, как можно было бы
научить их употреблению! Указывая при этом на места
и вещи, но ведь в данном случае этот жест включен и в
употребление этих слов, а не только в обучение их
употреблению.
229
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
10. Так что же обозначают слова этого языка? Как
выявить, что они обозначают, если не по способу их
употребления? А его мы уже описали. Следовательно,
выражение «данное слово обозначает это» должно
стать частью такого описания. Иначе говоря: такое опи-
сание следовало бы привести к форме: «Слово... обозна-
чает...»
Что же, описание употребления слова «плита», ко-
нечно, можно сократить до утверждения, что данное
слово обозначает этот предмет. Именно так и поступа-
ют, напрймер, когда требуется лишь устранить ошибоч-
ное отнесение слова «плита» к строительному камню,
который в действительности называется «блоком», но
при этом способ «отнесения», то есть употребления,
этого слова в остальном нам уже известен.
Равным образом можно сказать, что знаки «а», «Ь»
и т. д. означают числа, чтобы устранить ошибочное
представление, будто «а», «Ь», «с», играют в языке та-
кую же роль, какую действительно играют слова
«блок», «плита», «колонна». И можно также сказать,
что «с» обозначает это число, а не вот то, чтобы пояс-
нить: буквы следует употреблять в последовательности
a, b,c,dvL т. д., а не a, b, d, с. Но, уподобляя таким обра-
зом одно описание употребления слов другому, мы все-
таки не можем'сделать более сходными эти употребле-
ния! Ибо, как мы видим, они совершенно не схожи.
11. Представь себе инструменты, лежащие в специ-
альном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила,
отвертка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и
винты. Насколько различны функции этих предметов,
настолько различны и функции слов. (Но и там и здесь
имеются также сходства.)
Конечно, нас вводит в заблуждение внешнее подобие
слов, когда мы сталкиваемся с ними в произнесенном,
письменном или печатном виде. Ибо их применение не
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
230
явлено нам столь ясно. В особенности когда мы фило-
софствуем!
12. Это похоже на то, как, заглянув в кабину локо-
мотива, мы бы увидели там рукоятки, более или менее
схожие по виду. (Что вполне понятно, ибо все они пред-
назначены для того, чтобы браться за них рукой.) Но
одна из них — пусковая ручка, которую можно повора-
чивать плавно (она регулирует степень открытия кла-
пана); другая — рукоятка переключателя, имеющая
только две рабочие позиции, он либо включен, либо
выключен; третья — рукоятка тормозного рычага, чем
сильнее ее тянуть, тем резче торможение; четвертая —-
рукоятка насоса, она действует только тогда, когда ее
двигают туда-сюда.
13. Когда мы говорим: «Каждое слово в языке что-то
означает», то этим еще совсем ничего не сказано; до тех
пор пока мы точно не разъясним, какое различие при
этом хотим установить. (Ведь возможно, что мы хотим
отличить слова языка (8) от слов, «лишенных значения»,
вроде тех, какие встречаются в стихотворениях Льюнса
Кэрролла, или слов, подобных «ювиваллера» в песне).
14. Представь себе, что кто-то говорит: «Все инст-
рументы служат преобразованию чего-то. Так, молоток
меняет положение гвоздя, пила — форму доски и т. д.».
А что видоизменяют линейка, банка с клеем, гвозди?
«Нашу осведомленность о длине вещи, температуре
клея, прочности ящика». Разве подобным истолковани-
ем выражения достигался бы какой-то эффект?
15. Слово «обозначать» употребляется наиболее
прямым образом, по-видимому, тогда, когда на обозна-
чаемом предмете проставляется знак. Представь себе,
что на инструментах, применяемых А в строительстве,
проставлены определенные знаки. Когда А показывает
помощнику один из таких знаков, тот приносит ему ин-
струмент, помеченный этим знаком.
231
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Так или примерно так имя обозначает некоторую
вещь, имя дается вещи. Занимаясь философией, часто
бывает полезно напоминать себе: наименование чего-то
подобно прикреплению ярлыка к вещи.
16. А как быть с цветовыми образцами, которые А
показывает В, — принадлежат ли они языку? А это уж
как угодно. Они не относятся к словам языка; но скажи
я кому-нибудь: «Произнеси слово “это"», и он сочтет
«это» частью предложения. А между тем оно играет
роль, совершенно аналогичную той, которая отведена
образцу цвета в языковой игре (8); то есть оно — обра-
зец того, что должен сказать другой. Причисление об-
разцов к инструментам языка наиболее естественно и
ведет к наименьшей путанице.
((Замечание по поводу рефлексивного местоимения
«это предложение».))
17. Можно было бы сказать: «В языке (8) мы стал-
киваемся с различными типами слов. Ведь функции
слова «плита» и слова «блок» более близки, чем функ-
ции слов «плита» и d. Но то, как мы сгруппируем слова
по типам, будет зависеть от цели такой классификации
и от нашего предпочтения.
Подумай о различных точках зрения, исходя из ко-
торых можно сгруппировать инструменты по их типам.
Или шахматные фигуры — по типам фигур.
18. Тебя не должно смущать, что языки (2) н (8) со-
стоят только из приказов. Если ты хочешь сказать, что
именно поэтому они неполны, то спроси себя, полон ли
наш язык; был ли он полон до того, как мы ввели в него
химическую символику и обозначения для исчисления
бесконечно малых; ведь они как бы пригороды нашего
языка. (И с какого числа домов или улиц город начинает
быть городом?) Наш язык можно рассматривать как ста-
ринный город: лабиринт маленьких улочек и площадей,
старых и новых домов, домов с пристройками разных
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
232
эпох; и все это окружено множеством новых районов с
прямыми улицами регулярной планировки и стандарт-
ными домами.
19. Легко представить себе язык, состоящий только
из приказов и донесений в сражении. Или язык, состоя-
щий только из вопросов и выражений подтверждения и
отрицания. И бесчисленное множество других языков.
Представить же себе какой-нибудь язык— значит
представить некоторую форму жнзнн.
А как тогда ответить на вопрос; является ли возглас
«Плита!» в примере (2) предложением или же словом?
Если это слово, то ведь оно имеет не то же самое значе-
ние, что и аналогично звучащее слово нашего обычного
языка, ибо в § 2 оно — сигнал. Если же оно — предло-
жение, то все же это не эллиптическое предложение
«Плита!» из нашего языка. Что касается первого вопро-
са, то выражение «Плита!» можно назвать и словом, и
предложением; пожалуй, наиболее уместно здесь гово-
рить о «выродившемся предложении» (как говорят о
выродившейся гиперболе); а это как раз и есть наше
«эллиптическое» предложение. Но ведь оно есть просто
сокращенная форма предложения «Принеси мне пли-
ту!», а между тем в примере (2) такого предложения
нет. Однако почему бы мне, идя от противного, не на-
звать предложение «Принеси мне плиту!» удлинением
предложения «Плита!»? Потому что, выкрикивая слово
«Плита!», в действительности подразумевают «Прине-
си мне плиту!» Но как ты это делаешь: как ты подразу-
меваешь это, произнося слово «плита»? Разве внут-
ренне ты произносишь несокращенное предложение?
Почему же я должен переводить возглас «плита!» в дру-
гое выражение — для того чтобы сказать, что подразу-
мевал под этим некто? А если оба эти выражения озна-
чают одно и то же, то почему нельзя сказать: «Говоря
“Плита!”, он подразумевал “Плита!”»? Или: почему ты
233
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
не мог бы подразумевать «Плита!», если можешь подра-
зумевать: «Принеси мне плиту!»? Но, восклицая «пли-
та!», я хочу, чтобы он принес мне плиту\ Безусловно.
А заключается ли «это хотение» в том, что ты мыслишь
предложение, так или иначе отличное по форме от про-?
нанесенного тобой?
20. Но когда кто-то говорит: «Принеси мне плиту!»,
в тот момент действительно кажется, что он мог бы ос*,
мысливать это выражение как одно длинное слово, со-
ответствующее слову «Плита!» Что же, в одних случаях
его можно осмысливать как одно слово, а в других —
как три? А как его осмысливают обычно? Полагаю, это
склоняет к ответу: мы понимаем это предложение как
состоящее из трех слов, когда употребляем его в проти-
вопоставлении другим предложениям, таким как ^По-
дай мне плиту», «Принеси плиту ему\», «Принеси две
плиты!» и т. д., то есть в противопоставлении предло-
жениям, содержащим слова нашего приказа, взятые в
других комбинациях. Но в чем заключается использо-
вание одного предложения в противопоставлении дру-
гим? Присутствуют ли при этом в сознании говорящего
эти предложения? Все? В пго время, когда произносят
предложение, либо же до того или после? Нет! Если мы
и испытываем некий соблазн в таком объяснении, все
же достаточно хоть на миг задуматься о том, что при
этом реально происходит, чтобы понять, что мы здесь
на ложном пути. Мы говорим, что применяем данный
приказ в противопоставлении другим предложениям,
поскольку наш язык заключает в себе возможность
этих других предложений. Тот, кто не понимает нашего
языка, какой-нибудь иностранец, часто слышавший чей-
то приказ «Принеси мне плиту!», мог бы счесть весь этот
ряд звуков за одно слово, приблизительно соответствую-
щее в его языке слову, обозначающему «строительный
камень». Если бы затем он сам отдал этот приказ, он,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
234
вероятно, произнес бы его иначе, чем мы. Мы же могли
бы тогда сказать: он произносит его так странно, пото-
му что воспринимает его как одно слово. А в таком слу-
чае не происходит ли нечто иное, когда он отдает этот
приказ, и в его сознании — соответственно тому, что
он принимает предложение за одно слово? В его созна-
нии может происходить то же самое, а может и нечто
другое. Ну а что происходит в тебе, когда ты отдаешь
подобный приказ? Сознаешь ли ты в то время, как от-
даешь его, что он состоит из трех слов? Конечно, ты
владеешь этим языком — в котором имеются и те дру-
гие предложения, — но является ли это «владение»
чем-то, что «совершается», пока ты произносишь дан-
ное предложение? И я бы даже признал: «Иностранец,
понимающий предложение иначе, чем мы, вероятно, и
выскажет его иначе». Но то, что мы называем ложным
пониманием, необязательно заключается в чем-то со-
путствующем произнесению приказа.
Предложение «эллиптично» не потому, что оно
опускает нечто, о чем мы думаем, произнося его, а пото-
му, что оно сокращено по сравнению с определенным
образом нашей грамматики. Конечно, здесь можно
было бы возразить: «Ты признаешь, что сокращенное н
несокращенное предложения имеют одинаковый
смысл. Так каков же тогда этот смысл? Имеется ли то-
гда для этого смысла какое-либо словесное выраже-
ние?» Но разве одинаковый смысл предложений не за-
ключается в их одинаковом применении? (В русском
языке вместо «Камень есть красный» говорится «Ка-
мень красный»; ощущают ли говорящие на этом языке
отсутствие глагола-связки «есть» илн же мысленно до-
бавляют ее к смыслу предложения?)
21. Представь себе языковую игру, в которой В в от-
вет на вопросы А сообщает ему о количестве плит или
блоков в штабеле или же о цвете и.форме строительных
23S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
камней, лежащих там-то. Так сообщение могло бы зву-
чать: «Пять плит». В чем же разница между сообщени-
ем или утверждением «Пять плит» и приказом «Пять
плит!»? Ну, в той роли, какую играет произнесение
этих слов в языковой игре. Да, пожалуй, разным будет
и тон, каким их произносят, и выражение лица, и мно-
гое другое. Но можно было бы представить, что тон оди-
наковый — ведь приказ и сообщение могут высказы-
ваться в разной тональности, с разным выражением
лица — и что различие будет состоять только в приме-
нении. (Безусловно, слова «утверждение» и «приказ»
можно было бы использовать для обозначения грамма-
тических форм предложений и интонаций; ведь называ-
ем же мы предложение «Не правда ли, сегодня велико-
лепная погода?» вопросом, хотя употребляем его как
утверждение.) Мы могли бы представить себе язык, в
котором все утверждения имеют форму и тональность
риторических вопросов, а каждый приказ — форму
вопроса: «А не хочешь ли ты это сделать?» Тогда, воз-
можно, утверждали бы: «Сказанное им имеет форму
вопроса, но в действительности это приказ», то есть вы-
полняет функцию приказа в практике использования
языка. (Аналогичным образом «Ты сделаешь это» выс-
казывают не как предвидение, а как приказ. Что же де-
лает их тем или другим?)
22. Точка зрения Фреге, будто в каждом утвержде-
нии заложено предположение о существовании того,
что утверждается, по сути основывается на имеющейся
в нашем языке возможности записать каждое утверди-
тельное предложение в следующей форме: «Утвержда-
ется, что происходит то-то». Но выражение «Что проис-
ходит то-то» ведь не является предложением нашего
языка — оно еще не ход в языковой игре. И если вместо
«Утверждается, что...» я пишу «Утверждается: происхо-
дит то-то», то слово «утверждается» просто излишне.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 23Б
С таким же успехом можно было бы записывать
каждое утверждение в форме вопроса с последующим
подтверждением; например: «Идет дождь? Да!» Разве
этим доказывалось бы, что в каждом утверждении
скрывается вопрос?
Конечно, человек вправе пользоваться знаком ут-
верждения в отличие, например, от вопросительного
знака; или же с целью отграничить утверждение от вы-
мысла или предположения. Только неверно полагать,
будто утверждение состоит из двух актов обдумывания
мысли и ее утверждения (приписывания определенного
истинного значения и тому подобного) и что мы испол-
няем эти действия по знакам предложения, подобно
тому как поем по нотам. С пением по нотам, конечно,
можно сравнить громкое или тихое чтение написанного
предложения, но не «обдумывание» («Метеп») (ос-
мысление) прочитанного предложения,
Знак утверждения Фреге акцентирует начало пред-
ложения. Следовательно, он имеет функцию, сходную
с функцией точки. Он отличает период в целом от пред-
ложения внутри периода. Когда я слышу, что кто-то го-
ворит «идет дождь», но не знаю, услышал ли я начало
илн конец периода, то это предложение еще ни о чем
мшпгпи уведорй'лжгг’.
23. Сколько же существует типов предложения?
Скажем, утверждение, вопрос, повеление? Имеется
бесчисленное множество таких типов — бесконечно
1 Представь себе изображение боксера в особой боевой стой-
ке. Ну, это изображение можно использовать для того, что-
бы поведать кому-нибудь, как он должен стоять, как дер-
жаться; либо же как ему не следует вести себя; либо же как
некий человек стоял в таком-то месте и т, д. Это изображе-
ние можно было бы назвать (пользуясь языком химии)
предложением-радикалом. Вероятно, примерно так мысли-
лось Фреге «предположение».
237
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
разнообразны виды употребления всего того, что мы на-
зываем «знаками», «словами», «предложениями». И эта
множественность не представляет собой чего-то устой-
чивого, раз и навсегда данного, наоборот, возникают
новые типы языка или, можно сказать, новые языковые
игры, а другие устаревают и забываются. (Приблизи-
тельную картину этого процесса способны дать нам
изменения в математике.)
Термин «языковая игра» призван подчеркнуть, что
говорить на языке — компонент деятельности или фор-
ма жизни.
Представь себе многообразие языковых игр на та-
ких вот и других примерах:
Отдавать приказы или выполнять их —
Описывать внешний вид объекта или его размеры —
Изготавливать объект по его описанию (чертежу) —
Информировать о событии —
Размышлять о событии —
Выдвигать и проверять гипотезу —
Представлять результаты некоторого эксперимента
в таблицах и диаграммах —
Сочинять рассказ и читать его —
Йгратьв театре —
Распевать хороводные песни —-
Разгадывать загадки —
Острить; рассказывать забавные истории —
Решать арифметические задачи —
Переводить с одного языка на другой —
Просить, благодарить, проклинать, приветствовать,
молить.
Интересно сравнить многообразие инструментов
языка и их способов применения, многообразие типов
слов и предложений с тем, что высказано о структуре
/модвиг Витгенштейн
238
языка логиками (включая автора Логико-философско-
го трактата}.
24, Не принимая во внимание многообразие языко-
вых игр, ты, вероятно, будешь склонен задавать вопросы
типа: «Что такое вопрос?» Является ли он констатацией
моего незнания того-то или же констатацией моего же-
лания, чтобы другой человек сообщил мне о...? Или же
это описание моего душевного состояния неуверенно-
сти? А призыв «Помогите!» — тоже такое описание?
Подумай над тем, сколь различные вещи называют-
ся «описанием»: описание положения тела в простран-
ственных координатах, описание.выражения лица, опи-
сание тактильных ощущений, описание настроения.
Конечно, можно заменить обычную форму вопроса
утверждением или описанием типа «Я хочу узнать...»
или же «Я сомневаюсь, что...» — но от этого не сближа-
ются друг с другом различные языковые игры.
Значение таких возможных преобразований, ска-
жем превращения всех утвердительных предложений в
предложения, начинающиеся словами «Я думаю» или
«Я полагаю» (то есть как бы в описание моей внутрен-
ней жизни), станет яснее в другом месте. (Солипсизм.)
25. Иногда утверждают: животные не говорят пото-
му, что у шгх отсутствуют умственные способности.
Это равносильно утверждению: «Они не мыслят, поэто-
му не говорят». Но онн именно не говорят. Или, точнее,
они не употребляют языка — за исключением его са-
мых примитивных форм. Приказывать, спрашивать,
рассказывать, болтать — в той же мере часть нашей на-
туральной истории, как ходьба, еда, питье, игра.
26. Считается, что обучение языку состоит в наиме-
новании предметов. То есть: людей, форм, цветов, бо-
лезненных состояний, настроений, чисел и т. д. Как
уже было сказано, наименование в какой-то мере напо-
минает прикрепление ярлыка к вещи. Это можно на-
239
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
звать подготовкой к употреблению слова. Но к чему это
подготавливает?
27. «Мы называем вещи и затем можем о них гово-
рить, беседуя, можем ссылаться на них». Словно в акте
наименования уже было заложено то, что мы делаем в
дальнейшем. Как если бы все сводилось лишь к одному
«говорить о вещах». В то время как способы действия с
нашими предложениями многообразны. Подумай толь-
ко об одних восклицаниях с их совершенно различными
функциями.
Воды!
Прочь!
Ой!
На помощь!
Прекрасно!
Нет!
Неужели ты все еще склонен называть эти слова
♦наименованиями предметов»?
В языках (2) и (8) не вставал вопрос о наименовании
чего-то. Можно было бы сказать, что именование в соче-
тании с его коррелятом, указательным определением, и
является настоящей языковой игрой, гггощгогути,'озна-
чает: мы воспитаны, натренированы так, чтобы спраши-
вать: «Как это называется?» — после чего следует назва-
ние. Существует и такая языковая игра: изобретать имя
для чего-нибудь. А стало быть, и говорить: «Это называ-
ется...» — и затем употреблять это новое имя. (Так, на-
пример, дети дают имена своим куклам и потом говорят
о них и с ними. Подумай в этой связи, насколько своеоб-
разно употребление собственного имени человека, с по-
мощью которого мы обращаемся к нему!)
28. Ну а имена лиц, названия цветов, материалов, чи-
сел, стран света и т. д. можно определять указательно.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
240
Определение числа два «Это называется два» — с ука-
занием при этом на два ореха — совершенно точно. Но
как можно определить таким образом «два» как тако-
вое? Ведь человек, которому дают такую дефиницию,
не знает, к чему хотят отнести название «два»; он со-
чтет, что словом «два» ты называешь эту группу орехов!
Он может это предположить, но, возможно, он так не
подумает. Ведь он мог бы впасть и в противоположную
ошибку, приняв нмя, которым я бы хотел наделить эту
группу орехов, за название числа. И с тем же успехом
он мог бы понять имя человека, при его указательном
определении, как имя цвета, наименование расы, даже
название страны света. Это значит, что в каждом слу-
чае указательное определение может быть истолковано
и так и этак.
29. Может быть, скажут: «два» как таковое можно
определить указательно только таким образом: «Это
число называется “два”». Ибо слово «число» показыва-
ет в данном случае, какое место в языке, в грамматике
мы отводим этому слову. А это значит: чтобы можно
было понять указательное определение, уже требуется
объяснить слово «число». Правда, слово «число» в дан-
ном определении указывает то место, роль, которые мы
отводим данному слову. Так что можно предотвратить
непонимание, говоря: «Этот цвет называется вот как»,
«Эта длина называется так-то» и т. д. Но разве только
таким способом понимают слова «цвет» или «длина»?
Ну, их как раз требуется объяснить. То есть объяснить
их другими словами! А как быть с последним объясне-
нием в этой цепи? (Не говори «“Последнего” объясне-
ния не существует». Это равноценно тому, что ты захо-
тел бы сказать: «На этой улице нет последнего дома; к
нему всегда можно пристроить еще один».)
Необходимо ли слово «число» в указательном опре-
делении слова «два», зависит от того, понимают ли его
241
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
без этого слова не так, как я того хочу. А это зависит от
обстоятельств, при которых дается определение, и от
человека, которому я его даю.
А как он «понимает» это разъяснение, проявляется
в том, как он пользуется разъясненным словом1.
30. Итак, можно сказать: указательное определение
объясняет употребление — значение — слова, когда
роль, которую это слово призвано играть в языке, в общем
уже достаточно ясна. Так, если я знаю, что кто-то намерен
объяснить мне слово, обозначающее цвет, то указатель-
ное определение «Это называется “сепия”» поможет мне
понять данное слово. А говорить это можно, если не забы-
вать при этом, что со словами «знать», «быть понятым»
также связаны многочисленные проблемы.
Нужно уже что-то знать (или уметь), чтобы быть спо-
собным спрашивать о названии. Что же нужно знать?
31. Если кому-нибудь показывают фигуру шахмат-
ного короля и говорят: «Это король», то этим ему не
разъясняют применения данной фигуры разве что он
уже знает правила игры. Кроме вот этого последнего
момента: формы фигуры — короля. Можно предста-
вить себе, что он изучил правила игры, но ему никогда
1 Можно ли для объяснения слова «красный» указать на что-
то не красное? Это напоминало бы случай, когда человеку,
не владеющему соответствующим языком, нужно объяс-
нить, что означает в нем слово «скромный», и для этого ему
указывали на назойливого человека, говоря: «Этот не скро-
мен». Многозначность такого рода объяснения не является
аргументом против него. Любое объяснение может быть
ложно понято. Но, пожалуй, можно было бы спросить: сле-
дует ли все еще называть это «объяснением»? Ведь в работе
языка оно, конечно, играет иную роль, чем та, которую мы
обычно называем «указательным объяснением» слова
«красный», даже если его практические следствия, его воз-
действие на обучаемого те же самые.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
242
не показывали реальной игровой фигуры. В этом случае
форма шахматной фигуры соответствует звучанию или
визуальному образу некоторого слова.
Можно также представить себе, что кто-то освоил
игру, не изучая или не формулируя ее правил. Он мог
бы, например путем наблюдения, усвоить сначала со-
всем простые игры на досках и продвигаться ко все бо-
лее сложным. Ему можно было бы дать пояснение
«Это король», показывая, например, шахматную фигу-
ру непривычной для него формы. И опять-таки это
объяснение учит его пользоваться данной фигурой
лишь потому, что предназначенное ей место, можно
сказать, уже подготовлено. Иначе говоря: мы только
тогда скажем, что объяснение обучает его примене-
нию, когда почва для этого уже подготовлена. И в дан-
ном случае подготовленность состоит не в том, что че-
ловек, которому мы даем пояснение, уже знает прави-
ла игры, а в том, что ои уже овладел игрой в другом
смысле.
Рассмотрим еще и такой случай. Я поясняю кому-
нибудь шахматную игру и начинаю с того, что, показы-
вая фигуру, говорю: «Это король. Он может ходить вот
так и так и т. д.» В этом случае мы скажем: слова «Это
король» (или «Это называется королем») лишь тогда
будут дефиницией слова, когда обучаемый уже «знает,
что такое фигура в игре». То есть когда он уже играл в
другие игры или же «с пониманием» следил за играми
других — и тому подобное. И лишь в этом случае при
обучении игре может быть уместен его вопрос: «Как это
называется?» — именно эта фигура в игре.
Можно сказать: о названии осмысленно спрашива-
ет лишь тот, кто уже так или иначе знает, как к нему
подступиться.
Можно даже представить себе, что человек, кото-
рого спрашивают, отвечает: «Установи название сам»,
24Э
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
и тогда спрашивающий должен был бы до всего дойти
сам.
32. Посетив чужую страну, человек иногда осваива-
ет язык ее жителей, основываясь на указательных опре-
делениях, которые они ему дают. И ему часто приходит-
ся угадывать значение этих определений, угадывать
то верно, то неверно.
И тут, полагаю, мы можем сказать: Августин описы-
вает усвоение человеческого языка так, словно ребенок
прибыл в чужую страну и не понимал языка этой стра-
ны; то есть как если бы он уже владел каким-нибудь
языком, только не этим. Или же: словно ребенок уже
умел бы думать, но просто еще не мог говорить. А «ду-
мать» при этом означало бы нечто вроде: говорить с са-
мим собой.
33. Но допустим, кто-то возражает: «Неверно, будто
человек должен уже владеть языковой игрой, чтобы по-
нять указательное определение; ему нужно — безус-
ловно просто знать или догадываться, на что указывает
человек, дающий разъяснение! То есть указывается ли
при этом, например, на форму предмета, или на его
цвет, или же на число и т. д.». В чем же тогда заключа-
ется это «указание на форму», «указание на цвет»? Ука-
жи на лист бумаги! А теперь укажи на его форму, те-
перь на его цвет, теперь на его число (последнее звучит
странно)! Ну и как же ты это делал? Ты скажешь, что,
указывая, всякий раз «.имел в виду» разное. А спроси я,
как это делается, ты ответишь, что концентрируешь
свое внимание на цвете, форме и т. д. Ну а я снова спро-
шу, как это делается.
Представь, кто-то показывает на вазу и говорит:
«Взгляни на эту великолепную синеву! Форма здесь не
имеет значения». Или: «Взгляни на эту великолепную
форму! Здесь несуществен цвет». Вне всякого сомне-
ния, в ответ на эти призывы ты сделаешь нечто разное.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 244
Ну а всегда ли ты делаешь нечто одинаковое, обращая
внимание на цвет? Представь же себе различные слу-
чаи такого рода! Я приведу лишь несколько:
«Похожа ли эта синева на ту? Видишь ли ты какую-ни-
будь разницу?» —
Ты смешиваешь краски и говоришь: «Трудно добиться
синевы этого неба».—
«Ну, превосходно, вновь видна синева неба!» —
«Посмотри, какой разный эффект дают эти два синих
цвета!» —
«Ты видишь там синюю книгу? Принеси ее сюда».—
«Этот снний световой сигнал означает,,,» —
«Как называется вот этот сниий цвет? Это “индиго”?»
Чтобы направить внимание на цвет, иногда прикры-
вают рукой очертания формы, или же не смотрят на
контуры вещи, или же пристально вглядываются в
предмет, пытаясь вспомнить, где уже видели этот цвет.
Обращая внимание на форму, иногда очерчивают ее
контуры, иногда прищуривают глаза, чтобы ослабить
восприятие цвета, и т. д. и т. д. Я хочу сказать: так или
примерно так действуют в тех случаях, когда «направ-
ляют внимание на то или иное». Но само по себе это не
позволяет нам сказать, привлекла ли чье-либо внима-
ние форма, цвет и т. д. Так и шахматный ход состоит не
только в том или ином передвижении пешки по доске и
не только в мыслях или чувствах шахматиста, делаю-
щего ход; а в обстоятельствах, которые мы называем:
«играть шахматную партию», «решать шахматную зада-
чу» и т. п.
34, Но предположим, кто-то говорит: «Направляя
внимание на форму, я всегда делаю одно и то же — об-
вожу контуры предмета глазами и чувствую при
этом...» И допустим, указывая на круглый предмет и ис-
245
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
пытывая все эти ощущения, этот человек предлагает
кому-то другому вот такое указательное определение:
«Это называется “круг”». Разве не может другой чело-
век иначе истолковать его разъяснение, даже если он
видит, что поясняющий обводит форму глазами и даже
если он сам испытывает такие же чувства, что и тот?
Иными словами: такая «интерпретация» может состо-
ять и в том, как он теперь применяет разъясненное сло-
во; например, на что указывает по команде «Покажи
круг». Ибо ни выражение «определение подразумевает
вот это», ни выражение «определение истолковывается
вот так» не обозначают какого-то процесса, сопровож-
дающего дефиницию и ее восприятие на слух.
35. Конечно, существует то, что можно назвать «ха-
рактерными переживаниями», скажем, при указании
на форму. Например, такие, как обведение контура ука-
зываемого предмета пальцем или же взглядом. Но это
происходит далеко не во всех случаях, когда я «подра-
зумеваю форму», и далеко не во всех случаях встреча-
ется какой-нибудь иной характерный процесс. Но если
бы даже что-то в этом роде и повторялось во всех этих
случаях, то все равно мы говорили бы «Он указал на
форму, а не на цвет» в зависимости от обстоятельств —
то есть от того, что происходит до и после указания.
Дело в том, что слова «указывать на форму», «иметь
в виду форму» и т. д. употребляются не так, как слова
«указывать на эту книгу» (а не иа ту), «указывать иа
стул, а не на стол» и т. д. Подумай только, как по-разно-
му мы обучаемся, с одной стороны, употреблению слов
«указывать на эту вещь», «указывать на ту вещь», а с
другой стороны, «указывать на цвет, а не на форму»,
«иметь в виду цвет» и т. д.
Как уже было сказано, в определенных случаях, в
особенности при указании «на форму» и «на число»,
имеются характерные переживания и виды указаний —
ЛЮДВИГ ВИГТГеНЦПЕЙН
246
«характерные» потому, что они часто (но не всегда) по-
вторяются, когда «подразумевают» форму или число.
Но известно ли тебе также некое переживание, харак-
терное для указания на игровую фигуру именно как иа
фигуру в игре? А между тем можно сказать: «Я имею в
виду, что ’’королем” называется не конкретный кусок
дерева, на который я показываю, а эта игровая фигу-
ра*>1. (Узнавать, желать, вспоминать и т. д.)
36. При этом мы поступаем так же, как в тысяче по-
добных случаев: поскольку нам не удается привести ка-
кое-то одно телесное действие, которое бы называлось
указанием на форму (в отличие, скажем, от цвета), то
мы говорим, что этим словам соответствует некая ду-
ховная деятельность.
Там, где наш язык подразумевает существование
тела, между тем как его нет, там склонны говорить о су-
ществовании духа.
37. Каково же отношение между именем и именуе-
мым? Ну, так чем же оно является? Приглядись к язы-
ковой игре (2) или к любой другой! Там следует искать,
1 Каким образом слова «Это есть голубое» один раз означа-
ют высказывание о предмете, на который указывают, а дру-
гой^раз — объяснение слова «голубое»? Ну. во втором слу-
чае действительно имеют в виду «Это называется "голу-
бое”». Так, значит, слово «есть» один раз можно понимать
как «называется», а слово «голубое»—• как «голубое», в
другой же раз под «есть» действительно подразумевать
♦есть» [является]? И может статься, что кто-то извлекает
некое объяснение слов нз того, что мыслилось как сообще-
ние о действительности. [Замечание на полях: здесь кроет-
ся роковое суеверие. — Л. В.]
Могу ли я под словом «бубубу» понимать «Если ие бу-
дет дождя, я пойду гулять»? Только в языке можно подразу-
мевать что-то под чем-то. Это ясно показывает, что грамма-
тика слова «подразумевать» несходна с грамматикой выра-
жения «представлять себе что-то» и т. п.
247
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
0 чем состоит это отношение. Это отношение может со-
стоять, между прочим, и в том, что при звуке имени у
нас в душе возникает определенная картина названно-
го, и в том, что имя написано на именуемом предмете,
или же в том, что его произносят, указывая на этот
предмет.
38. А что именует, например, слово «этот» в языко-
вой игре (8) или слово «это» в указательном определе-
нии «Это называется...»? Во избежание путаницы луч-
ше вообще не считать такие слова именами чего бы то
ни было. Как ни странно, о слове «этот» некогда говори-
ли, что оно-то и есть подлинное имя. Все же остальное,
что мы называем «именем», стало быть, является тако-
вым лишь в неточном, приблизительном смысле.
Эта странная точка зрения проистекает, можно ска-
зать, из стремления сублимировать логику нашего язы-
ка. Подобающий ответ на поставленный вопрос таков:
«именем» мы называем самые разные вещи; слово
«имя» характеризует множество различных, многооб-
разно родственных между собой способов употребле-
ния слова; но среди этих видов употребления отсут-
ствует употребление слова «этот».
В самом деле, мы часто, например при указатель-
произнося его имя. И с тем же успехом в таких случаях,
указывая иа некий предмет, произносят слово «это».
И слово «это», и имя часто занимают в предложении
одинаковое положение. Но для имени характерно как
раз то, что оно определяется путем указания «Это М>
(или «Это называется N»). Но разве определишь что-
нибудь с помощью слов: «Это называется “это”» или же
«Это называется "этот”»?
Это связано с пониманием именования как некоего,
так сказать, таинственного процесса. Именование ка-
жется какой-то необычной связью слова с объектом.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 243
И такая странная связь действительно возникает, на-
пример, когда философ пытается выявить особое отно-
шение между именем и именуемым, устремляя взор иа
некий предмет перед собой и без конца повторяя его
имя или же слово «этот». Дело в том, что философские
проблемы возникают, когда язык пребывает в празд-
ности. Вот тут-то и в самом деле можно вообразить,
будто именование представляет собой какой-то удиви-
тельный душевный акт, как бы крещение объекта. И мы
также можем сказать слово «этот» по отношению к
предмету, обращаясь к предмету как к «этому» —
странное употребление данного слова, встречающееся,
пожалуй, лишь в процессе философствования.
39. Но почему приходит на ум сама мысль употреб-
лять в качестве имени как раз то слово, которое именем
очевидно не является? Вот почему. Здесь возникает ис-
кушение выдвинуть против того, что обычно называют
именем, одно возражение; его можно сформулировать
так: имя в собственном смысле (eigentlich) должно
обозначать нечто простое. А обосновать это можно
было бы примерно так: именем собственным в подлин-
ном смысле, допустим, является слово «Нотунг»1. Меч
Нотунг состоит из частей, соотносящихся определен-
ным образом. Стоит изменить их расположение, и Но-
тунг больше не существует. Но очевидно, что предло-
жение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл безот-
носительно к тому, цел ли меч или уже сломан. Будь же
Нотунг именем некоторого предмета, в случае его рас-
членения на части этого предмета уже бы не существо-
вало; в качестве же имени, которому не соответствует
никакой предмет, это слово было бы лишено значения.
Но тогда предложение «У Нотунга острое лезвие»
включало бы слово, лишенное значения, и отсюда это
1 Волшебный меч нз «Песни о нибелунгах». — Перев.
249
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
предложение не имело бы смысла. Однако оно имеет
смысл; выходит, что словам, из которых оно состоит,
должно постоянно что-то соответствовать. Следова-
тельно, слово «Нотунг» при анализе смысла должно ис-
чезать, а его место должны занимать слова, именующие
нечто простое. Эти слова по праву будут называться
именами в собственном смысле слова,
40. Обсудим прежде всего такой момент данного ар-
гумента; слово не имеет значения, если ему ничего не со-
ответствует. Важно отметить, что слово «значение»
употребляется в противоречии с нормами языка, если им
обозначают вещь, «соответствующую» данному слову.
То есть значение имени смешивают с носителем имени.
Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носи-
тель данного имени, но не его значение. Ведь говорить
так было бы бессмысленно, ибо, утрать имя свое значе-
ние, не имело бы смысла говорить «господин М умер».
41. В § 15 мы ввели в язык (8) собственные имена.
Предположим, что инструмент под именем «Л'>> сломан.
Не зная этого, А показывает В знак «Л'». Есть ли в та-
ком случае у этого знака значение или же нет? Что
должен делать В, когда ему предъявят этот знак? Мы
не пришли к решению этого вопроса. Можно было бы
спросить; что он будет делать?’Ну, скорее всего, он ра-
стеряется или же покажет А обломки. Тут можно было
бы сказать: знак «М» в такой ситуации утратил значе-
ние; н этим выражением утверждалось бы, что знак
«Дб> больше не употребляется в нашей языковой игре
(если мы не найдем ему нового употребления). «М» мог
бы потерять значение и потому, что по каким-то причи-
нам инструмент стали теперь обозначать иначе и знак
«Дб> не употребляется более в данной языковой игре.
Но можно было бы представить себе и некое согла-
шение, по которому В должен отрицательно покачать
головой, если А предъявляет ему знак сломанного
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
250
инструмента. Тогда можно было бы сказать, что команда
«Л;» принята в языковой игре, даже если этот инстру-
мент больше не существует и что знак «Лг» имеет значе-
ние, даже если его носитель перестал существовать.
42. Ну а имя, никогда не употреблявшееся для обо-
значения инструмента, также имело бы значение в этой
игре? Предположим, что «X» — такой знак и А показы-
вает этот знак В. Что ж, и такие знаки могли бы быть
приняты в данной языковой игре, и В полагалось бы от-
вечать иа них, скажем, покачиванием головы. (Можно
было бы представить себе это своего рода шуткой меж-
ду ними.)
43. Для большого класса случаев — хотя и не для
всех, — где употребляется слово «значение», можно
дать следующее его определение: значение слова — это
его употребление в языке.
А значение имени иногда объясняют, указывая на
его носителя.
44. Мы сказали: предложение «У Нотунга острое
лезвие» имеет смысл даже тогда, когда Нотунг сломан.
И это так, ибо в данной языковой игре имя употребля-
ется и в отсутствие его носителя. Но можно предста-
вить себе и языковую игру с именами (то есть со знака-
ми, которые мы, безусловно, назвали бы именами), где
имена будут употребляться лишь при наличии носите-
ля; так что здесь их всегда можно заменить указатель-
ным местоимением вкупе с указательным жестом.
45. Указательное «этот» не может остаться без но-
сителя. Можно было бы утверждать: «Коль скоро име-
ется некий этот, имеет значение и слово “этот”, рав-
но, является ли этот простым или сложным». Но это
обстоятельство само по себе не превращает данное
слово в имя. Напротив, ведь имя ие употребляется
вместе с указательным жестом, а только поясняется с
его помощью.
251
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
46. Ну а при каких же обстоятельствах имена дей-
ствительно обозначали бы только нечто простое?
Сократ (в Теэтете) говорит: «Если ие ошибаюсь, я
слышал от кого-то: праэлементы — выражусь так, —
из которых состоим и мы, и все остальное, не поддают-
ся никаким объяснениям; ибо все, что существует в
себе и для себя, можно только обозначить именами;
невозможно какое-нибудь дальнейшее определение: ни
того, что это является.,, ни что это не является... Но
что существует в себе и для себя должно... наделяться
именем беВо всяких дальнейших определений. Следова-
тельно, невозможно говорить о каком-нибудь праэле-
менте объясняющим образом, ибо ои не располагает
ничем, кроме наименования как такового, имя —• это
все, чем он обладает. Но поскольку то, что получается
при сочетании этих праэлементов — даже в неотчетли-
вой форме, — является сложным, то имена этих эле-
ментов в их комбинациях друг с другом становятся язы-
ком описания. Ибо сущность речи — сочетание имен».
Этими праэлементами были и расселовские «инди-
видуалии», а также мои «объекты» («Gegenstande»)
(Лог.-фил. тр.).
47. Опять же: состоит ли из частей мой зрительный
образ этого дерева, этого стула? И каковы его простые
составные части? Многоцветность— один из видов
сложности; другим видом можно считать, например, ло-
маный контур из прямых отрезков. Можно назвать со-
ставным и отрезок кривой с его восходящей и нисходя-
щей ветвями.
Если я говорю кому-нибудь без дальнейших поясне-
ний: «То, что я сейчас вижу перед собой, является состав-
ным», то ои вправе спросить меня: «Что ты понимаешь под
составным? Оно ведь может означать все что угодно!»
Вопрос «Является ли составным то, что ты видишь?» име-
ет смысл, если уже установлено, о сложности какого
ЛЮДВИГ В1/ПГЕН1ШЕЙН
252
рода — то есть о каком особом употреблении этого сло-
ва — должна идти речь. Если бы было установлено, что
зрительный образ дерева следует называть «состав-
ным» в тех случаях, когда виден не только его ствол, ио
и ветви, то вопрос «Прост или сложен зрительный об-
раз этого дерева?» и вопрос «Каковы его простые со-
ставные части?» имели бы ясный смысл —• ясное упот-
ребление. Причем второму вопросу, конечно, соответ-
ствует не ответ: «Ветви» (это был бы ответ на грамма-
тический вопрос «Что называют в данном случае
“простыми составными частями”?»), а, скажем, какое-
то описание отдельных ветвей.
А разве шахматная доска, например, не является
составной в очевидном и буквальном смысле? Ты, по-ви-
димому, думаешь о соединении в ней 32 белых и 32 чер-
ных квадратов. Но разве мы вместе с тем не могли бы
сказать, что она, например, составлена из черного и бе-
лого цветов и схемы — сетки квадратов? А если на этот
счет имеются совершенно разные точки зрения, то раз-
ве же ты станешь утверждать, что шахматная доска яв-
ляется просто-напросто «составной»? Спрашивать вне
конкретной игры «Является ли данный объект состав-
ным?» — это уподобиться мальчику, получившему за-
дание определить, в активной или пассивной форме
употребляются глаголы в данных ему примерах, и ло-
мавшему голову над тем, означает ли, например, глагол
«спать» нечто активное или пассивное.
Слово «составной» (а значит, и слово «простой») ис-
пользуется нами весьма многообразными, в разной сте-
пени родственными друг другу способами. (Является ли
цвет шахматного поля на доске простым или состоит из
чисто белого и чисто желтого? А является ли простым
этот белый цвет или же он состоит из цветов радуги? Яв-
ляется ли простым отрезок в 2 см или же он состоит из
двух частей по 1 см? И почему бы не считать его состав-
253
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ленным из двух отрезков: длиной в 3 см и в 1 см, отме-
ренного в направлении, противоположном первому?)
На философский вопрос: «Является ли зрительный
образ этого дерева сложным и каковы его составные ча-
сти?» правильным ответом будет: «Это зависит от того,
что ты понимаешь под “сложным”», (А это, конечно, не
ответ, а отклонение вопроса.)
48, Применим метод § 2 к отрывку из Тезтета, Рас-
смотрим языковую игру, для которой действительно
имеет силу изложенное в этом отрывке. Язык предназна-
чен здесь для того, чтобы изображать комбинации цвет-
ных квадратов на какой-то поверхности. Квадраты обра-
зуют некоторый комплекс, напоминающий шахматную
доску. Имеются красные, зеленые, белые и черные квад-
раты. Словами языка служат (соответственно): «К», «3»,
«Б» и «Ч», а предложением — ряд этих слов. Они описы-
вают набор квадратов в следующем порядке:
Так, например, предложение «ККЧЗЗЗКББ» описы-
вает вот такой набор квадратов:
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
254
Здесь предложение комплекс имен, которому соот-
ветствует комплекс элементов. Праэлементами высту-
пают цветные квадраты. «Но просты ли они?» Я бы не
знал, что естественнее всего назвать «простым» в этой
языковой игре. При других же обстоятельствах я на-
звал бы одноцветный квадрат «составленным», скажем,
из двух прямоугольников или же из элементов цвета и
формы. Но понятие составленное™ можно было бы
расширить и. 'гак, чло ианьшуиз кясшадь вддташ бы
«составленной» из большей площади и меньшей, вычи-
таемой из нее. Сравни «сложение» сил и «деление» от-
резка с помощью точки, расположенной вне его; эти вы-
ражения показывают, что при некоторых обстоятель-
ствах мы даже склонны понимать меньшее как резуль-
тат соединения большего, а большее как результат
деления меньшего.
Но я не знаю, следует ли в данном случае говорить,
что фигура, описываемая нашим предложением, состоит
из четырех элементов или же из девяти. Ну а данное
предложение состоит из четырех или девяти букв? И ка-
ковы его элементы: типы букв или же буквы? Да и не все
ли равно, что мы говорим — лишь бы при этом ие возни-
кало недоразумений в каждом конкретном случае!
49. Что же означает тот факт, что мы не в состоянии
определить (то есть описать) эти элементы, а можем
только именовать их? Это могло бы означать, напри-
мер, что описание комплекса, в предельном случае со-
стоящего лишь из одного квадрата, представляет собой
просто наименование этого цветного квадрата.
Притом можно было бы сказать — хотя это легко
порождает всевозможные философские суеверия, —
что знак «/С» или же знак и т, д. в одних случаях мо-
жет быть словом, в других — предложением. А «явля-
ется ли знак словом или предложением», зависит от си-
туации, в которой он высказывается или пишется. На-
255
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
пример, если некто А должен описать В комплексы1
цветных квадратов и пользует^ при этом одним лишь
словом «К», то можно утверждать, что это слово явля-
ется описанием — предложением. Если же он запоми-
нает слова или их значения или Же обучает кого-то дру-
гого употреблению этих слов, произнося их в ходе ука-
зательного обучения, то мы не скажем, что они при
этом являются предложениями. В этой ситуации слово
Ж», ултфуглер, ул ътакявдге', t его тлмътдъ’л именуют
элемент, но было бы странно на этом основании утвер-
ждать, что элемент может быть только назван! Ведь
именование и описание находятся не иа одном уровне:
именование — подготовка к описанию. Именование —
это еще не ход в языковой игре, как и расстановка фи-
гур на шахматной доске — еще не ход в шахматной
партии. Можно сказать: именованием вещи еще ничего
не сделано. Вне игры она не имеет и имени. Это подра-
зумевал и Фреге, говоря: слово имеет значение только
в составе предложения.
50. Что же означает утверждение; элементам
нельзя приписать ни бытия, ни небытия? Можно было
бы сказать: если все, что мы называем «бытием» и «не-
бытием», держится на существовании и несуществова-
нии связей между элементами, то нет смысла говорить
о бытии (небытии) элемента; равным образом если все,
что мы называем «разрушением», заключается в разде-
лении элементов, то не имеет смысла говорить о разру-
шении элемента.
Но хочется сказать; элементу невозможно припи-
сать бытие, ибо, не существуй он, его нельзя было бы
даже именовать, а значит, и сказать о нем что бы то ни
было. Рассмотрим же аналогичный случай! Об одном
предмете, а именно об эталоне метра в Париже, нельзя
сказать ни того, что его длина 1 метр, ии того, что его
длина не 1 метр. Но этим мы, разумеется, не приписали
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
256
ему какого-то диковинного свойства, а только признали
его специфическую роль в игре измерения в метрах.
Представим себе, что в Париже подобно эталону метра
хранится и эталон цвета. В таком случае мы определя-
ем: «сепией» называется цвет хранящегося там в вакуу-
ме сепии-образца. В этом случае не имело бы смысла
говорить ни что такой образец имеет данный цвет, ии
что он его не имеет.
Это можно выразить так: данный образец — инст-
румент языка, с помощью которого мы формулируем
высказывания о цвете. В этой игре он является не изоб-
ражаемым предметом, а средством изображения. И так
же обстоит дело с элементом в языковой игре (48), ко-
гда мы, именуя его, произносим слово «К»: этим мы
даем данной вещи некоторую роль в нашей языковой
игре; она здесь выступает как средство изображения.
Говорить же «Не будь ее, она не могла бы иметь и име-
ни» равносильно утверждению: не существуй эта вещь,
мы не могли бы использовать ее в нашей языковой игре.
То, что кажется необходимо существующим, принадле-
жит языку. В нашей игре это парадигма; нечто, с помо-
щью чего осуществляют сравнение. И установление
этого можно считать важной констатацией; но конста-
тацией, относящейся к нашей языковой игре — нашим
способом представления (Darstellungsweise).
51. При описании языковой игры (48) я говорил, что
слова «К», «Ч» и т. д. соответствуют цветам квадратов.
Но в чем состоит это соответствие, в каком смысле мож-
но говорить, что этим знакам соответствуют определен-
ные цвета квадратов? Ведь определение в (48) устанав-
ливает только связь между этими «знаками» и соответ-
ствующими словами нашего языка (названиями цветов).
И все же предполагалось, что употребление знаков в
игре усваивалось бы иначе, именно — указанием на об-
разцы. Пожалуй; но что же тогда означает утверждение:
определенные элементы соответствуют этим знакам в
ФИЛОСОФССИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
257
практике языка"? В том ли состоит смысл этого утверж-
дения, что при описании комплекса цветных квадратов
человек при виде красного квадрата всегда говорит «К»,
при виде черного — «Ч» и т. д.? Ну а что, если он спотк-
нется при описании и ошибочно скажет «К» при виде
черного квадрата — каков в данном случае критерий
того, что это ошибка? Или же обозначение знаком «К»
красного квадрата состоит в том, что люди, пользующие-
ся этим языком, употребляя знак «К», всегда мысленно
представляют себе красный квадрат?
Чтобы яснее разобраться в этом, мы должны здесь,
как и в бесчисленном множестве подобных случаев,
приглядеться к деталям процесса, вблизи рассмот-
реть происходящее.
52, Если я готов допустить, что мыши зарождаются
из грязных тряпок и пыли, то было бы нехудо поточнее
исследовать, не могли ли они когда-то спрятаться в них,
как-то туда попасть и т. д. Если же я уверен, что от этих
вещей мыши не могут появиться иа свет, то такое ис-
следование, пожалуй, будет излишним.
Но прежде мы должны научиться понимать, что
противостоит в философии такому детальному исследо-
ванию.
53. В нашей языковой игре (48) имеются разные
возможности, различные случаи, когда мы сказали бы,
что некоторый знак именует в данной игре квадрат вот
такого цвета. Мы, например, сказали бы это, если бы
знали, что люди, пользующиеся данным языком, были
обучены применять такой знак вот так. Или если бы
было установлено письменно, скажем в форме некой
таблицы, что данному знаку соответствует такой-то
элемент, причем данной таблицей пользовались бы
при обучении этому языку и прибегали бы к ней в
спорных случаях.
Но можно также представить себе, что такая табли-
ца выступает как инструмент в процессе применения
9 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
258
данного языка. Описание комплекса тогда происходило
бы так: человек, описывающий комплекс, имеет с со-
бою таблицу и отыскивает в ней каждый элемент комп-
лекса, а затем соотносит его с соответствующим ему
знаком (и тот, кому дается описание, тоже может
пользоваться таблицей, переводя слова этого описания
в образцы цветных квадратов). Можно было бы ска-
зать, что здесь таблица принимает иа себя ту роль, ко-
торую в других случаях играют память и ассоциации.
(Выполняя приказ «Принеси мие красный цветок!», мы
обычно не ищем сначала красный цвет в таблице, чтобы
затем принести цветок того цвета, что найден в табли-
це, Когда же речь идет о том, чтобы выбрать определен-
ный оттенок красного или же добиться нужного оттен-
ка, смешав краски, тогда нам случается пользоваться
образцом или таблицей.)
Если назвать такую таблицу выражением правила
языковой игры, то можно сказать: то, что мы называем
правилом игры, может играть в ней весьма разные роли.
54. Вспомним же, в каких случаях утверждают, что
игра проводится по какому-то определенному правилу!
Правило может быть инструкцией при обучении
игре. Его сообщают учащемуся и обучают его примене-
нию правила. Или же правило выступает как инстру-
мент самой игры. Или же его не применяют ни при обу-
чении игре, ни в самой игре; не входит оно и в перечень
правил игры. Игре обучаются, глядя на игру других. Но
мы говорим, что в игре соблюдаются те или иные прави-
ла, так как наблюдатель может «вычитать» эти правила
из практики самой игры — как некий закон природы,
которому подчиняются действия играющих. Но как в
этом случае наблюдатель отличает ошибку играющего
от правильного игрового действия? Признаки этого
имеются в поведении игрока. Подумай о таком харак-
терном поведении, как исправление допущенной ого-
259
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ворки. Распознать, что некто делает это, можно даже
не понимая его языка.
55. «То, что обозначают имена в языке, должно
быть неразрушимым: ведь должно быть возможно опи-
сывать состояния, в которых все разрушаемое разруше-
но. И это описание будет тоже включать в себя слова; а
то, что им соответствует, не может быть разрушаемым;
ибо иначе эти слова потеряли бы значение». Не следует
рубить сук, на котором сидишь.
На это, конечно, можно сразу же возразить, что
должно быть исключено само это описание и разруше-
ние. А то, что соответствует словам такого описания и,
выходит, должно быть неразрушимо, если это описание
^истинно, является именно тем, что придает словам их
•значение, — тем, без чего они не имели бы значения.
«Но ведь этот человек в некотором смысле и является
Шак раз тем, что соответствует его имени. Однако он
разрушим, а его имя не теряет своего значения, даже
если носитель его разрушен. Тем, что соответствует оп-
ределенному имени, без чего оно не имело бы значения,
является, например, парадигма, употребляемая в язы-
ковой игре в связи с данным именем.
56. А что, если такой образец не принадлежит язы-
ку, если, например, цвет, обозначаемый словом, мы
держим в памяти? «А если мы храним его в памяти,
то, стало быть, он предстает нашему мысленному взору
всякий раз при произнесении данного слова. Выходит,
этот цвет должен быть сам по себе неразрушимым, если
существует возможность всякий раз вспоминать его».
Но в чем же тогда усматривается критерий того, что мы
вспомним цвет правильно? Работая с образцом, а не с
памятью, мы говорим при определенных обстоятель-
ствах, что его цвет изменился, и судим об этом по памя-
ти. А разве нельзя при некоторых обстоятельствах го-
ворить и о помутнении образов нашей памяти? Разве
9*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
260
мы полагаемся на свою память не в той же мере, что и на
образец? (Ведь кто-то мог бы сказать: «Не будь у нас па-
мяти, мы бы полагались иа образец».) Или, например,
возьмем какую-нибудь химическую реакцию. Представь,
что ты должен передать определенный цвет Ц и что это
цвет, наблюдаемый при смешении химических веществ
X и Y. Предположим, что однажды эта краска показалась
тебе более светлой, чем прежде. Неужели ты при этом
не сказал бы: «Должно быть, я ошибся. Это наверняка
такой же цвет, что и вчера?» Это показывает, что мы не
всегда прибегаем к свидетельству памяти как к высшей
и окончательной инстанции.
57. «Нечто красное может быть разрушено, но крас-
ное как таковое разрушено быть не может, и потому
значение слова «красное» независимо от существова-
ния того или иного красного предмета». Конечно, не
имеет смысла говорить, что разорван или истолчен в
порошок красный цвет (цвет, а не красящее вещество).
Но разве мы не говорим «Красное исчезло»? И не цеп-
ляйся за то, что мы способны вызвать его в нашем вооб-
ражении, даже если ничего красного не осталось. Это
все равно, что ты захотел бы сказать: все еще существу-
ет химическая реакция, порождающая красное пламя.
А как быть, если ты не можешь больше вспомнить
цвет? Если мы забываем, какой цвет обозначен данным
именем, оио утрачивает для нас значение, то есть мы
уже не можем играть с ним в определенную языковую
игру, И тогда данная ситуация сопоставима с той, в ко-
торой утрачена парадигма, входившая в качестве инст-
румента в наш язык.
58. «Я буду называть именем только то, что не мо-
жет входить в словосочетание «X существует». Выхо-
дит, нельзя говорить «Красное существует», ибо, не су-
ществуй оио, о нем вообще нельзя было бы говорить».
Вернее: если предполагается, что высказывание «X су-
261
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ществует» означает всего лишь: «X» имеет значение, то
оно — не предложение, говорящее об X, а предложение
о нашем употреблении языка, то есть об употреблении
слова «X».
Нам кажется, что, заявляя: слова «Красное суще-
ствует», не имеют смысла, мы тем самым что-то утверж-
даем о природе красного. А именно что красное суще-
ствует «в себе и для себя». Аналогичная идея — что это
высказывание представляет собой некое метафизиче-
ское утверждение о красном —• находит свое выраже-
ние и в том, что мы, например, говорим о красном как о
вневременном, а возможно, и еще сильнее — как о «не-
разрушимом».
Но, по сути, мы просто хотим понять слова «крас-
ное существует» как высказывание: слово «красное»
имеет значение. Или, может быть, вернее: высказыва-
ние «Красное не существует» как утверждение; «крас-
ное» не имеет значения. Только мы хотим сказать не о
том, что данное высказывание это говорит, а что, если
оно имеет смысл, оно должно утверждать это. Что, пы-
таясь это сказать, оно приходит в противоречие с са-
мим собой именно потому, что красное существует «в
себе и для себя». Между тем единственное противоре-
чие состоит здесь лишь в том, что данное предложение
выглядит так, будто оно говорит о цвете, в то время как
оно призвано сообщить нечто об употреблении слова
«красный». В действительности же мы не колеблясь го-
ворим о существовании определенного цвета, а это рав-
нозначно утверждению, что существует нечто, имею-
щее этот цвет. Причем первое высказывание не менее
точно, чем второе; в особенности там, где «то, что имеет
цвет» не является физическим объектом.
59. «Имена обозначают лишь то, что является эле-
ментом действительности. То, что иеразрушаемо, что
сохраняется при всех изменениях». Но что это такое?
ЛЮА8ИГ ВИТГЕНШТЕЙН
262
Да ведь оно витает перед нами при произнесении пред-
ложения! Мы выражаем словами какое-то вполне сло-
жившееся представление, особую картину, которой хо-
тим воспользоваться. Ведь опыт же не показывает нам
этих элементов. Мы видим составные части чего-то
сложного (например, стула). Мы говорим: спиика явля-
ется частью стула, но и она в свою очередь составлена
из различных кусков дерева; тогда как ножка стула —
его более простая составная часть. Мы также видим це-
лое, которое изменяется (разрушается), в то время как
его составные части остаются неизменными. Все это
материалы, из которых мы конструируем такую карти-
ну реальности.
60. Когда я говорю: «Моя швабра стоит в углу», то о
чем, собственно, это высказывание — о палке и щетке?
Во всяком случае, его можно было бы заменить другим
высказыванием о положении палки и положении щет-
ки. А ведь это высказывание — более детально проана-
лизированная форма первого. Но почему я называю его
«более детально проанализированным»? Ну, если шваб-
ра находится там, то ведь это значит, что там же долж-
ны быть и составляющие ее палка и щетка, причем в оп-
ределенном положении друг к другу. И смысл первого
предложения предполагал это как бы в скрытом виде.
В проанализированном же предложении это выражено
явно. Так что же, тот, кто говорит, что швабра стоит в
углу, по сути, имеет в виду следующее: там находятся
палка и щетка и палка воткнута в щетку? Спроси мы
кого-нибудь, действительно ли он так думал, он, по всей
вероятности, ответил бы, что совсем не думал о палке и
о щетке порознь. И это был бы верный ответ, ибо он ие
собирался говорить ни о палке, ни о щетке в отдельно-
сти. Представь, что вместо «Принеси мне швабру!» ты
говоришь кому-то: «Принеси мне палку и щетку, в кото-
263
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
рую она воткнута!» Не прозвучит ли в ответ на это:
«Ты просишь швабру? Почему же ты так странно выра-
жаешься?» Будет ли точнее понято детально проанали-
зированное предложение? Можно сказать, что это
предложение достигает того же, что и обычное, но бо-
лее обстоятельным образом. Представь себе языковую
игру, в которой кому-то даются указания принести, под-
винуть и т. д. предметы, состоящие из нескольких час-
тей. И два способа игры: в одной (а) вещи, составлен-
ные из частей (швабра, стул, стол и т. д.) имеют имена,
как в (15). Во второй (б) имена даны только частям, це-
лое же описывается с их помощью. В какой мере тогда
указание во второй игре является проанализированной
формой указания в первой? Заключен ли второй приказ
в первом и выявляется ли он с помощью анализа? Ко-
нечно, швабра будет сломана, если отделять палку от
щетки; но следует ли из этого, что приказ принести
швабру тоже состоит из соответствующих частей?
61. «Но ты же не будешь отрицать, что какое-то оп-
ределенное указание в случае.(а) говорит о том же са-
мом, что и в случае (б); а как же ты назовешь тогда вто-
рое указание, как не проанализированной формой пер-
вого?» Конечно, и я бы сказал, что команда в (а) имеет
такой же смысл, что и команда в (б); или, как я ранее
выразил это: они приводят к одному н тому же. А это
значит, что, если мне покажут приказ вида (а) и спро-
сят «Какому приказу вида (б) он равнозначен?» или же
«Какому приказу вида (б) он противоречит?», я отвечу
на этот вопрос так-то. Однако этим еще не утверждает-
ся, что мы пришли к общему согласию относительно
употребления выражения «иметь тот же смысл» или
«приводить к тому же самому». Можно, скажем, спро-
сить, в каких случаях мы говорим: «Это просто два pa3v
ных вида одной и той же игры»?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
264
62. Предположим, например, что тот, кому даются
команды в форме (а) и (б), прежде чем он принесет
требуемое, должен взглянуть на таблицу, соотнося-
щую имена с изображениями. Делает ли он одно и то
же, выполняя команду в случае (а) и соответствую-
щую ей команду в случае (б)? И да и нет. Ты можешь
сказать: *Суть обоих указаний одна и та же». Я бы
сказал тут то же самое. Но не всегда ясно, что следует
называть «сутью» указания. (Так же как об определен-
ных предметах можно сказать, что они имеют такое и
такое назначение. Важно, чтобы то, что является лам-
пой, служило освещению, а то, что она украшает ком-
нату, заполняет пустое пространство и т. д., несуще-
ственно. Но не всегда четко различимо существенное
и несущественное.)
63. Однако, называя предложение типа (б) «проана-
лизированной» формой предложения типа (а), мы легко
поддаемся искушению считать, будто первое более
фундаментально; будто оно показывает, что подразуме-
вает другое, и т. д. Мы рассуждаем примерно так: рас-
полагая лишь непроанализированной формой, испыты-
ваешь нехватку анализа. Зная же аналитическую фор-
му, тем самым обладаешь всем. Но разве нельзя ска-
зать, что и в этом, и в том случае теряется из виду та
или иная сторона дела?
64. Представим себе игру (48), видоизмененную та-
ким образом, что имена в ней обозначают не одноцвет-
ные квадраты, а прямоугольники, каждый из которых со-
стоит из двух таких квадратов. Пусть прямоугольник, со-
стоящий из красного и зеленого квадратов, называется
«у», полузеленый-полубелый прямоугольник — «ф» и
т. д. Разве нельзя было бы представить себе людей, име-
ющих имена для таких комбинаций цветов и не имею-
щих их для отдельных цветов? Подумай о случаях, когда
мы говорим: «Это сочетание цветов (например, француз-
ское трехцветие) имеет совсем особый характер».
2SS
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Насколько знаки этой языковой игры нуждаются в
анализе? Да и в какой мере возможно заменить данную
языковую игру игрой (48)? Ведь это же другая языко-
вая игра, даже если и родственная игре (48).
65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос,
стоящий за всеми этими рассуждениями. Ведь мне мо-
гут возразить: «Ты ищешь легких путей! Ты говоришь о
всех возможных языковых играх, но нигде не сказал,
что существенно для языковой игры, а стало быть, и
для языка. Что является общим для всех этих видов де-
ятельности и что делает их языком или частью языка?
Ты увиливаешь именно от той части исследования, ко-
торая у тебя самого в свое время вызвала сильнейшую
головную боль, то есть от исследования общей формы
предложения и языка».
И это правда. Вместо того чтобы выявлять то об-
щее, что свойственно всему, называемому языком, я го-
ворю: во всех этих явлениях нет какой-то одной общей
черты, из-за которой мы применяли к ним всем одина-
ковое слово. Но они родственны друг другу многообраз-
ными способами. Именно в силу этого родства или же
этих родственных связей мы и называем все их «языка-
ми». Я попытаюсь это объяснить.
66. Рассмотрим, например, процессы, которые мы
называем «играми». Я имею в виду игры на доске, игры
в карты, с мячом, борьбу и т. д. Что общего у них всех?
Не говори «В них должно быть что-то общее, иначе их
не называли бы “играми”, но присмотрись, нет ли
чего-нибудь общего для них всех. Ведь, глядя на них, ты
не видишь чего-то общего, присущего им всем, но заме-
чаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких об-
щих черт. Как уже говорилось: не думай, а смотри! При-
смотрись, например, к играм на доске с многообразным
их родством. Затем перейди к играм в карты: ты нахо-
дишь здесь много соответствий с первой группой игр.
Но многие общие черты исчезают, а другие появляются.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
2Б6
Если теперь мы перейдем к играм в мяч, то много обще-
го сохранится, но многое и исчезнет. Все ли они «раз-
влекательный Сравни шахматы с игрой в крестики и
иолики. Во всех ли играх есть выигрыш и проигрыш,
всегда ли присутствует элемент соревновательности
между игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мя-
чом есть победа и поражение. Но в игре ребенка, броса-
ющего мяч в стену и ловящего его, этот признак отсут-
ствует. Посмотри, какую роль играет искусство и везе-
ние. И как различны искусность в шахматах и в тенни-
се. А подумай о хороводах! Здесь, конечно, есть
элемент развлекательности, но как много других харак-
терных черт исчезает. И так мы могли бы перебрать
многие, многие виды игр, наблюдая, как появляется и
исчезает сходство между ними».
А результат этого рассмотрения таков: мы видим
сложную сеть подобий, накладывающихся друг на дру-
га и переплетающихся друг с другом, сходств в боль-
шом и малом.
67. Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше,
чем назвав их «семейными сходствами», ибо так же на-
кладываются и переплетаются сходства, существую-
щие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз,
походка, темперамент и т. д. и т. п. И я скажу, что
«игры» образуют семью.
И так же образуют семью, например, виды чисел. По-
чему мы называем нечто «числом»? Ну, видимо, потому,
что оно обладает неким — прямым — родством со мно-
гим, что до этого уже называлось числом; и этим оно,
можно сказать, обретает косвенное родство с чем-то дру-
гим, что мы тоже называем так. И мы расширяем наше
понятие числа подобно тому, как при прядении нити
сплетаем волокно с волокном. И прочность нити создает-
ся не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через
нее по всей ее длине, а тем, что в ней переплетается друг
2Б7
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
с другом много волокон. Если же кто-то захотел бы ска-
зать: «Во всех этих конструкциях общее одно —. а именно
дизъюнкция всех этих совокупностей», я ответил бы: ты
тут просто обыгрываешь слово. Вполне можно было бы
также сказать: нечто проходит через всю нить — а имен-
но непрерывиое наложение ее волокон друг на друга.
68. «Прекрасно! Выходит, число определяется для
тебя как логическая сумма таких отдельных, родствен-
ных друг другу понятий: кардинальное число, рацио-
нальное число, действительное число и т. д.; и таким же
образом понятие игры понимается как логическая сум-
ма соответствующих более частных понятий». Это нео-
бязательно. Ведь я могу придать понятию числа строгие
границы, то есть использовать слово «число» для обо-
значения строго ограниченного понятия. Однако я могу
пользоваться им и таким образом, что объем понятия
не будет заключен в какие-то границы. Именно так мы
и употребляем слово «игра». Ибо как ограничить поня-
тие игры? Что еще остается игрой, а что перестает ею
быть? Можно ли здесь указать четкие границы? Нет.
Ты можешь провести какую-то границу, поскольку она
еще не проведена. (Но это никогда не мешало тебе
пользоваться словом «игра».)
«Но тогда использование данного слова не регули-
руется; “игра”, в которую мы с ним играем, не имеет
правил». Да, употребление этого слова не всецело опре-
деляется правилами, но ведь нет, например, и правил,
на какую высоту и с какой силой можно бросить тен-
нисный мяч, а теннис — это все-таки игра, и игра по
правилам.
69. Как же тогда объяснить кому-нибудь, что такое
игра? Я полагаю, что следует описать ему игры, доба-
вив к этому: «Вот это и подобное ему называют “игра-
ми"», h. знаем ли мы сами больше этого? Разве мы толь-
ко другим людям не можем точно сказать, что такое
ЛЮДВИГ ВИТГЕН1ШЕЙН
268
игра? Но это не неведение. Мы не знаем границ понятия
игры, потому что они не установлены. Как уже говори-
лось, мы могли бы —для каких-то специальных целей —
провести некую границу. Значило бы это, что только те-
перь можно пользоваться данным понятием? Совсем нет!
Разве что для данной особой цели. В такой же степени, в
какой дефиниция «1 шаг = 75 см» вводила бы в употреб-
ление меру длины «I шаг». Если же ты попытаешься мне
возразить: «Но ведь раньше это не было точной мерой
длины», я отвечу: ну и что, значит, она была неточной.
Хотя ты еще задолжал мне определение точности.
70. «Но если понятие “игры” столь расплывчато, то
ведь ты, собственно, и не знаешь, что понимаешь под
“игрой”». Допустим, я даю следующее описание: «Зем-
ля была сплошь покрыта растениями». Хочешь ли ты
сказать, что я не знаю, о чем говорю, до тех пор пока не
сумею дать определения растению? Что я имею в виду,
могли бы пояснить, например, рисунок и слова: «Так
приблизительно выглядела Земля». Я, может быть,
даже говорю: «Она выглядела точно так». Что же, вы-
ходит, там были именно эта трава и эти листья, при-
том точно в таком положении? Нет, не значит. В этом
смысле я не признал бы точной ни одну картину1.
71. Можно сказать, что понятие «игры» — понятие
с расплывчатыми границами. «Но является ли расплыв-
чатое понятие понятием вообще?» Является ли нечет-
кая фотография вообще изображением человека? Все-
гда ли целесообразно заменять нечеткое изображение
четким? Разве неотчетливое не является часто как раз
тем, что нам нужно?
1 Кто-то говорит мне: «Покажи детям игру!» Я обучаю их игре
в кости на деньги. Тогда ои заявляет: «Я имел в виду ие эту
игру». Разве, давая мне указание, ои не должен был осозна-
вать, что игру в кости следовало исключить?
269
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фреге сравнивает понятие с некоторой очерченной
областью и говорит, что при неясных очертаниях ее во-
обще нельзя назвать областью. Это означает, пожалуй,
что от нее мало толку. Но разве бессмысленно сказать:
«Стань приблизительно там!»? Представь, что я говорю
это кому-то, стоящему вместе со мной на городской
площади. При этом я не очерчиваю какие-то границы, а
всего лишь делаю указательное движение рукой, пока-
зывая ему на определенное место. Вот так же можно
объяснить кому-нибудь и что такое игра. Ему предлага-
ют примеры и стараются, чтобы они были поняты в оп-
ределенном смысле. Однако под сказанным я вовсе не
имею в виду: в этих примерах ему следует увидеть то
общее, что я — по каким-то причинам — не смог выра-
зить словами. Подразумевалось другое: он должен те-
перь применять эти примеры соответствующим образом.
Приведение примеров здесь — не косвенное средство
пояснения, к которому мы прибегаем за неимением луч-
шего. Ведь любое общее определение тоже может быть
неверно понято. Именно так мы играем в эту игру.
(Я имею в виду языковую игру со словом «игра».)
72. Видение общего. Представь, что я показываю
кому-нибудь разноцветные картинки и говорю: «Цвет, ко-
торой ты видишь на всех этих картинках, называется
“охра"». Это — определение, и другой человек поймет
его, отыскав и увидев то общее, что есть в этих картинках.
Тогда он может взглянуть на это общее, указать на него.
Сравни этот пример с таким: Я показываю ему фигу-
ры разной формы, но окрашенные одним цветом и гово-
рю: «То общее, что в них имеется, называется “охра"».
А сравни с этим другой случай: я показываю ему об-
разцы разных оттенков синего и говорю: «Цвет, общий
им всем, я называю “синим"».
73. Когда кто-то объясняет мне наименование цве-
тов, показывая образцы и говоря «Этот цвет называется
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
270
“синим”, этот “зеленым”...», то такой способ объясне-
ния во многих отношениях можно сравнить с тем, когда
у меня в руках таблица, где под образцами цвета стоят
соответствующие слова. Хотя и данное сравнение во
многих отношениях может вводить в заблуждение. Ну
а кто-то склонеи расширить сравнение: понять опреде-
ление — значит иметь в сознании понятие определяе-
мой вещи, то есть образец или картину. Так, если мне
показывают различные листья и говорят «Это называ-
ется “листом”», то у меня в сознании возникает пред-
ставление о форме листа, его картина. Но как выглядит
образ листа, не имеющего особой формы, образ «того,
что общо листьям любой формы»? Какой цветовой отте-
нок имеет «мыслимый образец» зеленого цвета — обра-
зец того, что присуще всем оттенкам зеленого?
«Но разве не могли бы существовать такие “всеоб-
щие” образцы? Скажем, какая-нибудь схема листа или об-
разец чисто зеленого цвета?» Конечно, могли бы! Но от
способа применения этих образцов зависит, будет ли эта
схема понята как схема, а не как форма определенного ли-
ста, а полоска чисто зеленого цвета — как образец всего
зеленого, а не как образец этого чисто зеленого цвета.
Задай себе вопрос: какую форму должен иметь об-
разец зеленого цвета? Должен ли он быть четыреху-
гольным? Или он стал бы тогда образцом зеленого че-
тырехугольника? Так что же, его форма должна быть
«неправильной»? А что помешает нам тогда считать его
образцом неправильной формы, — то есть употреблять
его таким образом?
74. К этому же относится и такая мысль: тот, кто
рассматривает данный лист как образец «формы листа
вообще», видит его иначе, чем тот, кто смотрит на него
как на образец данной определенной формы. Ну, хоть
это и не так, опыт свидетельствует: такое, конечно, воз-
можно, ибо это говорило бы лишь о том, что человек,
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
/Л
иидящий лист определенным образом, и использует его
гем или иным способом, в соответствии с тем или иным
правилом. Конечно, существуют те или иные способы
видения; существуют и случаи, когда тот, кто видит об-
разец так, как правило, и применяет его таким обра-
зом, а тот, кто видит его иначе, и обращается с ним по-
иному. Например, тот, кто видит в схематическом изоб-
ражении куба плоскую фигуру, состоящую из квадрата
и двух ромбов, пожалуй, выполнит команду «Принеси
мне такой же!» иначе, чем тот, кто воспринимает это
нзображогие объемно,
75. Что же тогда означает: знать, что такое игра?
Что значит: знать это и быть не в состоянии это ска-
зать? Не эквивалентно ли такое знание несформулиро-
ванному определению, в котором, передай я его слова-
ми, я признаю выражение моего знания? Разве мое зна-
ние, мое понятие об игре не выражается полностью в
тех объяснениях, которые я мог бы привести? То есть в
том, как я описываю примеры разного рода игр, показы-
ваю, как по аналогии с ними могут быть сконструирова-
ны всевозможные типы других игр, говорю, что то или
это вряд ли может называться игрою, и т. д.
76. Проведи здесь кто-нибудь четкие границы, я мог
бы и не признать их границами, которые мне всегда хо-
телось провести или которые я уже мысленно провел.
Ибо я вообще не хотел проводить границ. В таком слу-
чае можно было бы сказать: его понятие не тождествен-
но, но родственно моему. Таково родство двух изобра-
жений, одно из которых состоит из расплывчатых цве-
товых пятен, а другое — из пятен подобной же формы,
в таком же соотношении, но с четкими контурами.
Сходство здесь столь же бесспорно, как различие.
И если мы продолжим это сравнение еще дальше,
станет ясно, что степень возможного сходства отчет-
ливого и размытого изображений зависит от степени
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
272
неопределенности последнего. Ибо представь, что тебе
нужно расплывчатое изображение передать через «со-
ответствующее» ему отчетливое. В первом случае про-
сматривается размытый красный прямоугольник; ты за-
меняешь его четким изображением. Безусловно, можно
начертить несколько таких прямоугольников с четкими
контурами, которые соответствовали бы одному нечет-
кому. Но если в оригинале нет резких границ при пере-
ходе одного цвета в другой, то разве не становится не-
выполнимой задача передать расплывчатое изображе-
ние четким? Не должен ли ты в таком случае сказать:
«Я мог бы здесь с тем же успехом, что и прямоугольник,
изобразить круг или сердце; ведь все краски сливаются
друг с другом. Изображение соответствует всему — и
ничему». Именно в этом положении находится тот, кто
в эстетике или этике ищет определений, соответствую-
щих нашим понятиям.
Всякий раз, столкнувшись с такой трудностью, за-
дай себе вопрос: как мы усвоили значение этого слова
(например, «хорошо»)? На каких примерах, в каких
языковых играх? И тогда тебе станет легче понять, что
данное слово должно иметь целое семейство значений.
78. Сравни знание и речевое выражение:
какова высота Монблана —
как применяется слово «игра» —
как звучит кларнет.
Удивляясь, что можно знать нечто и быть не в со-
стоянии это выразить, вероятно, думают о первом слу-
чае. И уж конечно, не о таком случае, как третий.
79. Рассмотри следующий пример. Если говорят
«Моисей не существовал», это может означать разное:
у израильтян при исходе из Египта не было одного вож-
дя, или их вождя звали не Монсей, или вообще не было
человека, совершившего все, что Библия приписывает
т
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моисею, и т. д. и т. п. Вслед за Расселом мы могли бы
сказать: имя «Моисей» можно определить с помощью
разных описаний. Например, таких: «человек, провед-
ший израильтян через пустыню»; «человек, живший в
такое-то время и в таком-то месте и называвшийся то-
гда Моисеем», «человек, который в младенческом воз-
расте был вытащен из Нила дочерью фараона» и т. д. И в
зависимости от того, примем ли мы одно или другое оп-
ределение, предложение «Моисей не существовал»
приобретает разный смысл, как и любое иное предло-
жение о Моисее. И если нам говорят: «N не существо-
вал», то ведь мы спрашиваем: «Что ты имеешь в виду?
Не хочешь ли ты сказать, что... или что...?» и т. д.
Ну а всегда ли я готов, высказывая нечто о Моисее,
заменить имя «Моисей» одним из этих описаний? По-
жалуй, я скажу: под «Моисеем» я подразумеваю чело-
века, содеявшего то, что Библия приписывает Моисею,
или же многое из того. Но сколь многое? Решил ли я,
сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я при-
знал мое предложение ложным? Иными словами, имеет
ли для меня имя «Моисей» твердо установленное и од-
нозначное употребление во всех возможных случаях?
Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как
бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из
них, я готов опереться на другую, и наоборот? Рассмот-
рим еще и другой случай. Когда я говорю «X умер», то в
качестве значения имени N может быть принято следу-
ющее: я верю, что жил некий человек, которого я (1)
Лицезрел там-то, который (2) выглядел вот так (изобра-
жения), (3) совершил то-то и (4) в гражданской жизни
носил имя N. Если бы меня спросили, что я понимаю
под X, я полностью или частично перечислил бы выше-
сказанное, притом в разных случаях разное. Отсюда
мое определение имени X могло бы звучать приблизи-
тельно так: «Человек, к которому все это относится». Ну
а как быть, если что-то из сказанного окажется ложным?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 274
Буду ли я готов объявить предложение «7V умер# лож-
ным — даже если ложными окажутся лишь кое-какие, с
моей точки зрения второстепенные, детали? Где же гра-
ницы второстепенного? Уже располагай я в таком случае
дефиницией имени, я был бы теперь готов изменить ее.
Это можно выразить и так: я пользуюсь именем «№
без фиксированного значения. (Но его применению это
наносит столь же малый ущерб, как столу — то, что он
стоит на четырех, а не трех ножках и потому иногда по-
шатывается.)
- Стоит ли говорить, что, пользуясь словом, не зная
его значения, я, стало быть, говорю бессмыслицу? Гово-
ри что хочешь, до тех пор пока это не мешает тебе ви-
деть происходящее. (А если ты это видишь, то кое-чего
уже не скажешь.)
(Неустойчивость научных дефиниций: то, что сегод-
ня считается эмпирически сопутствующим признаком
феномена А, завтра может быть использовано как опре-
деление «А».)
80. Я говорю: «Там стоит стул». А что, если я подхо-
жу к нему, собираясь его взять, а он вдруг исчезает из
виду? «Значит, это был не стул, а некая иллюзия». Но
через две секунды мы снова видим его и можем потро-
гать его рукой и т. д. «Тогда все-таки это был стул, а об-
манчивым было его исчезновение». Но допустим, что
спустя какое-то время он исчезает снова — или же ка-
жется исчезнувшим. Что тут скажешь? Есть ли у тебя
готовые правила для подобных случаев, — правила, го-
ворящие, можно ли все еще называть нечто «стулом»?
Или же мы обходимся при употреблении слова «стул»
без них; и должны говорить, что, по сути, не связываем
с этим словом никакого значения, так как не располага-
ем правилами всех его возможных применений?
81. Ф.П. Рамсей в разговоре со мной однажды под-
черкнул, что логика — «нормативная наука». Не знаю
точно, что он под этим подразумевал, но это, бесспорно,
27S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
было тесно связано с тем, что позднее осенило меня: что
именно в философии мы часто сравниваем употребление
слов с играми, вычислениями по строгим правилам, но
не можем утверждать, что употребляющий данный язык
должен играть в такую игру. Если же говорить, что наше
речевое выражение только приближается к подобным
исчислениям, то это граничит с непониманием. Ведь при
этом может показаться, будто в логике идет речь о неко-
ем идеальном языке. Будто наша логика является логи-
кой как бы безвоздушного пространства. Между тем ло-
гика рассматривает язык — или мышление — не в том
плане, в каком естествознание изучает некое явление
природы, и в крайнем случае можно сказать, что мы кон-
струируем идеальные языки. Но при этом слово «иде-
альное» вводило бы в заблуждение, создавая впечатле-
ние, будто эти языки лучше, совершеннее, чем наш по-
вседневный язык; будто задача логики — показать нако-
нец людям, как выглядит правильное предложение.
Но все это может предстать в верном свете лишь
тогда, когда удастся добиться большей ясности в отно-
шении понятий понимания, осмысления и мышления.
Ибо тогда прояснится также, что может подталкивать
(и прежде подталкивало меня) к мысли, что, произнося
предложение и осмысливая или понимая его, человек
тем самым якобы проводит исчисление по определен-
ным правилам.
82. Что я называю «правилом, по которому он дей-
ствует»? Гипотезу, удовлетворительно описывающую
наблюдаемое нами его употребление слов; или прави-
ло, которым он руководствуется при употреблении зиа-
*• ков; или же то, что он говорит нам в ответ на наш вопрос
о его правиле? Но что, если наблюдение не позволяет
четко установить правило и не способствует проясне
нию вопроса? Ведь, дав мне, например, на мой вопрос
что он понимает под N ту или иную дефиницию, он тот
час же был готов взять ее обратно и как-то изменить.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
276
Ну а как же определить правило, по которому он игра-
ет? Он сам его не знает. Или вернее: что же в данном
случае должна означать фраза «Правило, по которому
он действует»?
83. А не проясняет ли здесь что-то аналогия между
языком и игрой? Легко представить себе людей, развле-
кающихся на лужайке игрой в мяч. Начиная разиые из-
вестные им игры, часть из них они не доводят до конца,
бесцельно подбрасывают мяч, гоняются в шутку друг за
другом с мячом, бросают его друг другу и т. д. И вот
кто-то говорит: все это время они играли в мяч, при
каждом броске следуя определенным правилам.
А не случается ли, что и мы иногда играем, «уста-
навливая правила по ходу игры»? И даже меняя их «по
ходу игры».
84. Я говорил об употреблении слова: оно не всеце-
ло очерчено правилами. Но как выглядит игра, полнос-
тью ограниченная правилами, не допускающими ни
тени сомнения, игра, которую всякое отклонение зак-
линивает? Разве нельзя представить себе правило, ре-
гулирующее применение данного правила? А также со-
мнения, снимающие это правило, — и так далее?
Но это не говорит о том, что мы сомневаемся, потому
представить себе, что кто-то, отворяя дверь своего дома,
всякий раз опасается, не разверзнется ли за нею пропасть
и не свалится ли он в нее, переступив порог (и может стать-
ся, что когда-нибудь он окажется прав). Но из-за этого я
ведь не стану сомневаться в подобных же случаях.
85. Правило выступает здесь как дорожный указа-
тель. Разве последний не оставляет никаких сомнений
относительно пути, который я должен избрать? Разве
он указывает, когда я прохожу мимо него, в каком на-
правлении мне идти по дороге ли, тропинкой или прямо
через поле? А где обозначено, в каком смысле нужно
следовать ему: в направлении ли его стрелки или же
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
277
(например) в противоположном? А если бы вместо од-
ного дорожного указателя имелась замкнутая цепь пу-
тевых знаков или меловых меток на земле, — разве в
этом случае проигрывалась лишь одна их интерпрета-
ция? Итак, можно говорить, что дорожный знак все-
таки не оставляет места сомнению. Или вернее: он
иногда оставляет место сомнению, а иногда нет. Ну а
это уже не философское, а эмпирическое предложение.
86. Такая языковая игра, как (2), играется с помо-
щью таблицы. Знаки, которые А дает В, в данном слу-
чае письменные. У В имеется таблица. В первом ее
столбце стоят используемые в игре письменные знаки,
во втором — изображения видов строительных камней.
А показывает В такой письменный знак; В ищет его в
таблице, смотрит на соотнесенный с ним рисунок и т. д.
Выходит, таблица и служит правилом, подчиняясь ко-
торому он выполняет приказ. Поиску рисунка в табли-
це учатся путем тренировки, причем частично такая
тренировка состоит, например, в том, что ученик обуча-
ется горизонтально водить пальцем в таблице слева на-
право; то есть как бы учится проводить ряд горизон-
тальных линий.
Представь-ка себе, что введены различные способы
чтения таблицы. Один из них описан выше и соответ-
ствует данной схеме:
' 1 w
--------------—-------------—>
----------------->
а другой осуществляется по такой схеме:
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
278
или еще по какой-то иной. Такая схема прилагается к
таблице в качестве правила ее использования.
Ну а разве нельзя представить себе и другие прави-
ла для объяснения этого правила? А с другой стороны,
разве первая таблица без схемы стрелок была не пол-
на? И разве не полны без таких схем другие таблицы?
87. Допустим, я поясняю: под «Моисеем» я пони-
маю человека, если только таковой был, который вывел
израильтян из Египта, как бы его тогда ни называли и
что бы еще, кроме этого, он, возможно, ни совершил.
Усомниться же можно не только в имени «Моисей», но
и в других словах этого пояснения (что называть «Егип-
том», кого «израильтянами», и т. д.?). Да, эти вопросы
не иссякнут и при обращении к таким словам, как
«красное», «темное», «сладкое». «А тогда как такое
объяснение способствует пониманию, если оно не яв-
ляется окончательным? Ведь в таком случае объясне-
ние никогда не завершается; и получается, что я все же
не понимаю и никогда не пойму, что имеется в виду!»
Объяснение как бы повисает в воздухе до тех пор, пока
его не подкрепит другое. Между тем объяснение, хотя
и может основываться на другом, располагай мы тако-
вым, отнюдь не требует этого другого — если мы не
нуждаемся в нем во избежание непонимания. Можно
сказать: объяснение служит устранению или предотв-
ращению непонимания — причем того непонимания,
которое возникло бы без этого объяснения; не любого
непонимания, какое только можно себе представить.
Вполне может показаться, будто каждое сомнение
просто обнаруживает некий пробел в основаниях, так
что достоверное понимание возможно лишь в том слу-
чае, если сперва усомниться во всем, в чем можно усом-
ниться, а затем устранить все эти сомнения.
Дорожный знак в порядке, — если он в нормальных
условиях выполняет свою задачу.
279
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
88. Я говорю кому-то: «Стань приблизительно
там!» — разве это разъяснение не может успешно сра-
ботать? И разве не может не сработать и любое другое?
«А не является ли это разъяснеиие неточным?» Ну
почему бы и не назвать его «неточным»! Только разбе-
ремся, что озиачает слово «неточный». Ведь оно не оз-
начает «неприменимый». И подумаем над тем, что, на-
оборот, называется «точным» разъяснением! Что-то
вроде очерченной мелом области? Тут сразу же прихо-
дит в голову, что проведенная мелом линия имеет тол-
щину. Так что точнее была бы цветовая граница. Но
сработает ли в данном случае большая точность, не бу-
дет ли это работой вхолостую? Да мы еще не определи-
ли и что считать выходом за пределы точно заданных
границ, не устаиовили, как, с помощью каких инстру-
ментов их следует фиксировать. И так далее.
Мы понимаем, что значит поставить точное время
на карманных часах или же отрегулировать их, чтобы
они шли точно. Ну а если бы нас спросили: идеальна ли
эта точность или насколько она приближается к иде-
альной? Конечно, можно говорить об измерении време-
ни с иной, скажем, большей точностью, чем его измере-
ние с помощью карманных часов. Тогда слова «Поставь
часы на точное время» имели бы другое, хотя и сходное
значение, а выражение «отсчитывать время» было бы
связано с другим процессом и т. д. Ну а если я говорю
кому-нибудь: «Тебе следовало бы приходить к обеду бо-
лее пунктуально, ты знаешь, что он начинается ровно в
час», разве при этом, по сути, не идет речь о точности?
Ведь можио сказать: «Подумай об определении време-
ни в лаборатории или в обсерватории: вот там ты уви-
дишь, что означает “точность”».
«Неточный» — по сути дела упрек, а «точный» —
похвала. То есть предполагается: неточное достигает
своей цели с меньшим совершенством, чем более точное.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
280
Таким образом, здесь дело сводится к тому, что мы на-
зываем «целью». Значит ли, что я неточен, если указы-
ваю расстояние от нас до Солнца с допуском до 1 метра
или заказываю столяру стол, ширина которого имеет
допуск более 0,001 м?
Единый идеал точности не предусмотрен; мы не
знаем, что нужно понимать под ним, — пока сами не ус-
тановим, что следует называть таковым. Но найти та-
кое решение, которое бы тебя удовлетворяло, довольно
трудная задача.
89. Эти рассуждения вплотную подводят нас к по-
становке проблемы: в каком смысле логика — нечто
сублимированное?
Ведь нам кажется, что логике присуща особая глу-
бина — универсальное значение. Представляется, что
она лежит в основе всех наук. Ибо логическое исследо-
вание выявляет природу всех предметов. Оно призвано
проникать в основания вещей, а не заботиться о тех или
иных фактических событиях. Логика вырастает не из
интереса к тому, что происходит в природе, не из по-
требности постичь причинные связи, а из стремления
понять фундамент или сущность всего, что дано в опы-
те. А для этого не надо устремляться на поиски новых
фактов: напротив, для нашего исследования существен-
но то, что мы не стремимся узнать с их помощью что-то
новое. Мы хотим понять нечто такое, что уже открыто
нашему взору. Ибо нам кажется, что как раз этого мы в
каком-то смысле не понимаем.
Августин в Исповеди (XI/14) говорит: «quid est
ergo tempus? si nemo ex me quaerat scio; si quarenti
explicare velim, nescio» [«Что такое время? Если никто
меня не спрашивает, знаю; если же хочу пояснить спра-
шивающему, не знаю.»]
Этого нельзя было бы сказать о каком-нибудь вопро-
се естествознания (например, об удельном весе водоро-
281
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
да). Что человек знает, когда никто его об этом не спра-
шивает, и не знает, когда должен объяснить это кому-,
то, — и есть то, о чем нужно напоминать себе. (А это
явно то, о чем почему-то вспоминается с трудом.) ;;
90. Нам представляется, будто мы должны проник-
нуть в глубь явлений, однако наше исследование нак
правлено не на явления, а, можно сказать, на «возмож-
ности» явлений. То есть мы напоминаем себе о типе
высказывания, повествующего о явлениях. Отсюда и:
Августин припоминает различные высказывания о дли-
тельности событий, об их прошлом, настоящем, буду-
щем. (Конечно, это не философские высказывания о
времени, о прошлом, настоящем и будущем.)
Поэтому наше исследование является грамматичес-
ким. И это исследование проливает свет на нашу пробле-
му, устраняя недоразумения, связанные с употреблени-
ем слов в языке, недопонимание, порождаемое в числе
прочего и определенными аналогиями между формами
выражения в различных сферах нашего языка. Некото-
рые из них можно устранить, заменив одну форму выра-
жения другой; такую замену можно назвать «анализом»
наших форм выражения, ибо этот процесс иногда напо-
минает разложение на составные элементы.
91. При этом может создаться впечатление, будто
существует нечто подобное окончательному анализу
наших языковых форм, следовательно, единственная
полностью разобранная на элементы (zerlegte) форма
выражения. То есть впечатление таково, будто наши
общепринятые формы выражения, по сути, еще не
проанализированы, будто в них скрывается нечто та-
кое, что нам следует выявить. Кажется, сделай мы это
выражение совершенно ясным, наша задача будет ре-
шенной.
Это можно сформулировать и так: мы устраняем не-
доразумения, делая наше выражение более точным. Но:
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
282
при этом может показаться, будто мы стремимся к осо-
бому состоянию — состоянию полной точности; н буд-
то именно в этом состоит подлинная цель нашего иссле-
дования.
92. Это находит свое выражение в вопросе о сущности
языка, предложения, мышления. Что касается наших ис-
следований, в которых мы тоже пытаемся понять сущ-
ность языка — его функцию, его структуру, — то в них
под сущностью все же имеется в виду не то, что в приве-
денном вопросе. Дело в том, что вышеназванный вопрос
не предполагает, что сущность — нечто явленное открыто
и делающееся обозримым при упорядочивании. Напро-
тив, подразумевается, что сущность — нечто скрытое, не
лежащее на поверхности, нечто заложенное внутри, ви-
димое нами лишь тогда, когда мы проникаем в глубь веши,
нечто такое, до чего должен докопаться наш анализ.
«Сущность скрыта от нас* — вот форма, которую
тогда принимает наша проблема. Мы спрашиваем: «Что
такое язык?», «Что такое предложение?», И ответ на
эти вопросы нужно дать раз и навсегда; притом незави-
симо от любого будущего опыта.
93. Один может сказать: «Предложение — да ведь
это самое обычное, что есть на свете!», а другой: «Пред-
ложение — нечто весьма странное!» И этот второй про-
сто не может проследить, как функционируют предло-
жения. Потому что ему мешают формы наших высказы-
ваний о предложениях, мышлении.
Почему мы говорим, что предложение —г нечто уди-
вительное? С одной стороны, из-за той огромной роли,
какую оно играет. (И это верно.) С другой стороны, эта
его роль плюс непонимание логики языка побуждают
думать, будто предложению должны быть присущи ка-
кие-то необычайные, исключительные деяния. Впечат-
ление, будто предложение совершает нечто необычай-
ное, — следствие недопонимания.
283
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
94. «Предложение — вещь странная!»: уже в этом
кроется сублимация речевого представления (Darstel-
lung) в целом, склонность признавать наличие чистой
сущности посредника между знаком предложения и фак-
том. Или даже стремление очистить, сублимировать сам
знак предложения. Дело в том, что наши формы выраже-
ния всячески мешают видеть, что происходят обычные
вещи, отправляя нас в погоню за химерами.
95. «Мышление должно быть чем-то уникальным».
Говоря, полагая, что происходит то-то, мы с этим на-
шим полаганием не останавливаемся где-то перед фак-
том, но имеем в виду: это — происходит — так. А этот
парадокс, конечно же, имеющий форму трюизма, мож-
но выразить и так: «мыслимо и то, что не происходит».
96. К своеобразной иллюзии, о которой идет речь, с
разных сторон примыкают и другие. Мышление, язык
кажутся нам теперь единственным в своем роде корре-
лятом, картиной мира. Понятия «предложение», «язык»,
«мышление», «мир» представляются рядоположенными
и эквивалентными. (Но для чего же тогда использовать
эти слова? Недостает языковой игры, в которой их сле-
дует применять.)
97. Мышление окружено неким ореолом. Его сущ-
ность, логика, представляет (darstellt) порядок мира,
притом порядок априорный, то есть порядок возможно-
стей, который должен быть общим для мира и мышле-
ния. Но кажется, что этот порядок должен быть крайне
прост. Предваряя всякий опыт, он должен всецело
пронизывать его; сам же он не может быть подвластен
смутности или неопределенности опыта. Напротив, он
должен состоять из чистейшего кристалла. Но кристал-
ла, явленного не в абстракции, а как нечто весьма конк-
ретное, даже самое конкретное, как бы наиболее не-
зыблемое (Harteste) из всего существующего. ЩФТ,
5.5563.)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
284
Нами владеет иллюзия, будто своеобразное, глубо-
кое, существенное в нашем исследовании заключено в
стремлении постичь ни с чем не сравнимую сущность
языка, то есть понять порядок соотношения понятий:
предложение, слово, умозаключение, истина, опыт и
т. д. Этот порядок есть как бы сверхпорядок свврхпоня-
тий, А между тем, если слова «язык», «опыт», «мир» на-
ходят применение, оно должно быть столь же непритя-
зательным (niedrige), как н использование слов «стол»,
«лампа», «дверь».
98. С одной стороны, ясно, что каждое предложение
нашего языка «уже в том виде, как оно есть, — в поряд-
ке». То есть мы не стремимся к идеалу: как если бы
наши обычные, расплывчатые предложения еще не име-
ли своего вполне безупречного смысла и требовалось
конструировать совершенный язык. С другой стороны,
кажется очевидным: там, где есть смысл, должен быть
совершенный порядок. Выходит, даже в самом расплыв-
чатом предложении должен быть совершенный порядок.
99. Конечно, смысл предложения может — скажем
так — оставлять открытым то или другое, однако пред-
ложение должно иметь какой-то определенный смысл.
Неопределенный смысл, по сути, вообще не был бы
смыслом. Так же как нечеткая граница, собственно го-
воря, вовсе не граница. Ведь, заяви я, что «крепко запер
человека в комнате, оставив открытой только одну
дверь», подумали бы: выходит, он его вообще не запер.
Его закрыли в комнате лишь для виду. Мне в таком слу-
чае могли бы сказать; «Ты вообще ничего не сделал».
Ограждение с дырою — это то же самое, что и полное
отсутствие ограды. Но так ли это?
100. «Но это же не игра, если в правилах есть ка-
кая-то неопределенность». А действительно ли это со-
всем не игра? «Может быть, ты и будешь называть ее
игрой, но, во всяком случае, это же несовершенная
285
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
игра». Это значит, что такая игра не может считаться
вполне «чистой» игрой, меня же сейчас интересует дан-
ное явление в его «чистом виде». Но я хочу сказать: мы
превратно понимаем роль, какую играет идеал в наших
способах выражения. То есть мы и это назвали бы иг-
рой, только нас ослепляет идеал и поэтому мы неясно
понимаем действительное употребление слова «игра».
101. Мы хотим сказать, что в логике не может быть
неопределенности. Нами тут владеет представление:
идеал должен обнаружиться в действительности. И в то
же время мы не видим, каким образом он может там
обнаружиться, и не понимаем природы этого «должен».
Мы верим: идеал должен скрываться в реальности, ибо
полагаем, что уже усматривали его там.
102. Строгие и ясные правила логической структу-
ры предложения представляются нам чем-то скрываю-
щимся в глубине, в сфере понимания. Я их уже вижу
(хотя и через посредничество понимания): ведь я же по-
нимаю знак, мыслю нечто с его помощью.
103. Этот идеал, по нашим представлениям, непоко-
лебим. Ты не можешь выйти за его пределы. Ты всегда
должен возвращаться к нему. Нет ничего вне его; в
этом вне не хватает воздуха для дыхания. Откуда при-
шло К naift такие ПределаъЛсТГйе? Пи'Хи'Жи, они и
нас, как очки на носу, — на что бы мы ни смотрели, мы
смотрим через них. Нам никогда не приходит в голову
снять эти очки.
104. Мы делаем предикатами вещей то, что заложено
в наших способах их представления. Под впечатлением
возможности сравнения мы принимаем эти способы за
максимально всеобщее фактическое положение дел.
105. Когда мы считаем, что должны иайти вышеука-
занный порядок, идеал в действительном языке, нас пе-
рестает удовлетворять то, что в обыденной жизни назьн
вается «предложением», «словом», «знаком».
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
296
. Предложение, слово с точки зрения логики должны
быть чем-то чистым, четко очерченным. И мы тут лома-
ем голову над сущностью подлинного знака. Является
ли она представлением о знаке как таковом или же
представлением, связанным с данным моментом?
106. При этом, как бы витая в облаках, с трудом
понимаешь, что надлежит оставаться в сфере предме-
тов повседневного мышления, а не сбиваться с пути,
воображая, будто требуется описать крайне тонкие
вещи, не имея в своем распоряжении средств для та-
кого описания. Нам как бы выпадает задача восстано-
вить разорванную паутину с помощью собственных
пальцев.
107. Чем более пристально мы приглядываемся к ре-
альному языку, тем резче проявляется конфликт между
ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота
логики оказывается для нас недостижимой, она остает-
ся всего лишь требованием.) Это противостояние дела-
ется невыносимым; требованию чистоты грозит превра-
щение в нечто пустое. Оно заводит нас на гладкий лед,
где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то
смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы
не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам
лужтА? rpytfy 'Aj пичву?
108. Мы узнаем: то, что называют «предложением»,
«языком», — это не формальное единство, которое я во-
образил, а семейство более или менее родственных об-
разований. Как же тогда быть с логикой? Ведь ее стро-
гость оказывается обманчивой. А не исчезает ли вместе
с тем и сама логика? Ибо как логика может поступить-
ся своей строгостью? Ждать от нее послаблений в том,
что касается строгости, понятно, не приходится. Пред-
рассудок кристальной чистоты логики может быть уст-
ранен лишь в том случае, если развернуть все наше ис-
следование в ином направлении. (Можно сказать: ис-
287
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
следование должно быть переориентировано под углом
зрения наших реальных потребностей1.)
Философия логики трактует о предложениях и сло-
вах в том же смысле, как это делают в повседневной
жизни, когда мы говорим, например: «Вот предложе-
ние, написанное по-китайски»; «Нет, это лишь похоже!
на письмена, на самом же деле это орнамент».
Мы говорим о пространственном и временном фе-
номене языка, а не о каком-то непространственном и
невременном фантоме. [Замечание на полях рукопи-
си'. иное дело, что интересоваться неким феноменом
можно по-разному.] Мы же говорим о нем так, как гово-
рят о фигурах в шахматной игре, устанавливая правила
игры с ними, а не описывая их физические свойства.
Вопрос «Чем реально является слово?» аналогичен
вопросу «Что такое шахматная фигура?»
109. Что верно, то верно: нашим изысканиям не
обязательно быть научными. У нас не вызывает инте-
реса опытное знание о том, что «вопреки нашим преду-
беждениям нечто можно мыслить так или этак», что
бы это ни означало. (Понимание мышления как особо-
го духовного посредника.) И нам не надо развивать ка-
кую-либо теорию. В наших рассуждениях неправомер-
но что-то гипотетическое. Нам следует отказаться от
всякого объяснения и заменить его только описанием.
Причем это описание обретает свое целевое назначе-
ние — способность прояснять — в связи с философс-
кими проблемами. Таковые, конечно, не являются эм-
пирическими проблемами, они решаются путем такого
всматривания в работу нашего языка, которое позво-
ляет осознать его действия вопреки склонности истол-
ковать их превратно. Проблемы решаются не через
1 Фарадей писал в Химической истории свечи: «Вода — одна
индивидуальная вещь, она никогда не меняется».
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
288
приобретение нового опыта, а путем упорядочения уже
давно известного. Философия есть борьба против зачаро-
вывания нашего интеллекта средствами нашего языка.
110. Утверждение «Язык (или мышление) есть нечто
уникальное» оказывается неким суеверием (а не ошиб-
кой!), порождаемым грамматическими иллюзиями.
Его патетика — отсвет именно этих иллюзий, этой
проблемы.
111. Проблемы, возникающие в результате преврат-
ного толкования форм нашего языка, носят глубокий
характер. Это — глубокие беспокойства; они столь же
глубоко укоренены в нас, как и формы нашего языка, и
нх значение столь же велико, сколь велика для нас важ-
ность языка. Зададимся вопросом, почему грамматиче-
ская шутка воспринимается нами как глубокая. (А это
как раз и есть философская глубина.)
112. Обманчивое впечатление производит закре-
пившееся в формах нашего языка подобие облика вы-
ражений]; оно нас беспокоит. «Это же не так\» — гово-
рим мы. «Но это должно быть так\»
113. «Однако это так», — повторяю я себе вновь и
вновь. Мне кажется: сумей я полностью сосредото-
читься на этом факте, сфокусировать на нем все
ж^.
114. (Логика-философский трактат 4.5): «Общая
форма предложения такова: дело обстоит так». Предло-
жение такого рода люди повторяют бесчисленное мно-
жество раз, полагая при этом, будто вновь и вновь иссле-
дуют природу. На самом же деле здесь просто очерчива-
ется форма, через которую мы воспринимаем ее.
115. Нас берет в плен картина. И мы не можем
выйти за ее пределы, ибо она заключена в нашем языке
и тот как бы нещадно повторяет ее нам.
116. Когда философы употребляют слово— «зна-
ние», «бытие», «объект», «я», «предложение», «имя» —
и пытаются схватить сущность вещи, то всегда следу-
289
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ет спрашивать: так ли фактически употребляется это
слово в языке, откуда оно родом?
Мы возвращаем слова от метафизического к их по-
вседневному употреблению.
117. Мне говорят: «Ты понимаешь это выражение,
не так ли? Выходит, я использую его в том значении,
которое тебе знакомо». Как будто значение — это не-
кая аура, присущая слову и привносимая им с собой в
каждое его употребление.
Если, например, кто-то говорит, что предложение
«Это здесь» (причем показывает на предмет перед со-
бой) имеет для него смысл, то ему следует спросить
себя, при каких особых обстоятельствах фактически
пользуются этим предложением. При этих обстоятель-
ствах оно и имеет смысл.
118. В чем же значимость нашего исследования,
ведь оно, по-видимому, лишь разрушает все интерес-
ное, то есть все великое и важное. (Как если бы оно раз-
рушало все строения, оставляя лишь обломки, камни и
мусор.) Но разрушаются лишь воздушные замки и рас-
чищается почва языка, на которой они стоят.
119. Итог философии — обнаружение тех или иных яв-
ных несуразици тех шишек, которые набивает рассудок, на-
на. языка.. Ймрошо. ати. шишки. и. шь
зволяют нам оценить значимость философских открытий.
120. Говоря о языке (слове, предложении и т. д.), я
должен говорить о повседневном языке. Не слишком ли
груб, материален этот язык для выражения того, что мы
хотим сказать? Ну а как тогда построить другой
язык? И как странно в таком случае, что мы вообще мо-
жем что-то делать с этим своим языком!
В рассуждениях, касающихся языка, я уже вынуж-
ден был прибегать к полному (а не к какому-то предва-
рительному, подготовительному) языку. Само это сви-
детельствует, что я в состоянии сообщить о языке лишь
нечто внешнее [наружное] (AuBerlichess).
10 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
290
Да, но как могут удовлетворить нас подобные пояс-
нения? Так ведь н твои вопросы сформулированы на
этом же языке; и если у тебя было что спросить, то это
следовало выразить именно этим языком!
А твои сомнения — плод непонимания.
Твои вопросы относятся к словам; следовательно, я
должен говорить о словах.
Говорят; речь идет не о слове, а о его значении; и при
этом представляют себе значение как предмет того же
рода, что и слово, хоть и отличный от него. Вот слово, а вот
его значение. Деньги и корова, которую можно купить на
них. (Но, с другой стороны: деньги и их использование.)
121. Можно подумать; коли философия трактует об
употреблении слова «философия», то должна суще-
ствовать некая философия второго порядка. Но это как
раз не так; данная ситуация скорее уж соответствует
случаю с орфографией, которая должна заниматься и
правописанием слова «орфография», не превращаясь
при этом в нечто, относящееся ко второму порядку.
122. Главный источник нашего недопонимания в
том, что мы не обозреваем употребления наших слов.
Нашей грамматике недостает такой наглядности. Имен-
но наглядное действие (iibersichtiiche Darstellung) рож-
дает то понимание, которое заключается в «усмотрении
связей». Отсюда важность поисков н изобретения про-
межуточных звеньев.
Понятие наглядного взору действия (der uber-
sichtlichen Darstellung) имеет для нас принципиальное
значение. Оно характеризует тип нашего представле-
ния, способ нашего рассмотрения вещей. (Разве это не
«мировоззрение»?)
123. Философская проблема имеет форму: «Я в ту-
пике».
124. Философия никоим образом не смеет посягать
на действительное употребление языка, в конечном
счете она может только описывать его.
291
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ведь дать ему вместе с тем и какое-то обоснование
она не может.
Она оставляет все так, как оно есть.
И математику она оставляет такой, как она есть, не
может продвинуть ни одно математическое открытие.
«Ведущая проблема математической логики» остается
для нас проблемой математики, как и любая другая. >
125. Не дело философии разрешать противоречие
посредством математического, логико-математическо-
го открытия. Она призвана ясно показать то состояние
математики, которое беспокоит нас, состояние до раз-
решения противоречия. (И это не значит — уйти от
трудностей.)
Главное здесь вот что: мы устанавливаем правила и
технику игры, а затем, следуя этим правилам, сталки-
ваемся с тем, что не все идет так, как было задумано
нами. Что, следовательно, мы как бы запутались в на-
ших собственных правилах.
Именно эту «запутанность в собственных прави-
лах» мы и хотим понять, то есть ясно рассмотреть.
Это проливает свет на наше понятие полагания
(Meinens). Ибо в таких случаях дело идет иначе, чем
мы полагали, предвидели. Ведь говорим же мы, напри-
мер, столкнувшись с противоречием: «Я этого не пред-
полагал».
Гражданское положение противоречия, или его по-
ложение в гражданском обществе, — вот философская
проблема.
126. Философия просто все предъявляет нам, ниче-
го не объясняя и не делая выводов. Так как все открыто
взору, то нечего и объяснять. Ведь нас интересует не
то, что скрыто.
«Философией» можно было бы назвать и то, что
возможно до всех новых открытий и изобретений.
127. Труд философа — это [осуществляемый! с осо-
бой целью подбор припоминаний.
ю*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
292
128. Пожелай кто-нибудь сформулировать в фило-
софии тезисы, пожалуй, они никогда не смогли бы вы-
звать дискуссию, потому что все согласились бы с
ними.
129. Наиболее важные для нас аспекты вещей скры-
ты из-за своей простоты и повседневности. (Их не заме-
чают, — потому что они всегда перед глазами.) Подлин-
ные основания исследования их совсем не привлекают
внимания человека. До тех пор пока это не бросится
ему в глаза. Иначе говоря: то, чего мы [до поры] не за-
мечаем, будучи увидено однажды, оказывается самым
захватывающим и сильным.
130. Наши ясные и простые языковые игры не явля-
ются подготовительными исследованиями для будущей
регламентации языка, — как бы первыми приближени-
ями, не принимающими во внимание трение и сопро-
тивление воздуха. Скорее уже эти языковые игры выс-
тупают как некие модели, которые своими сходствами
и несходствами призваны пролить свет на возможности
нашего языка.
131. Избежать неправильности или пустоты наших
утверждений можно, лишь представляя образец тем,
что он есть, то есть в качестве модели — как бы некоего
мерила, — а не заведомо верной идеи, которой должна
соответствовать действительность. (Догматизм, в кото-
рый мы столь легко впадаем, занимаясь философией.)
132. Свои познания об употреблении языка мы стре-
мимся привести в порядок: порядок, служащий опреде-
ленной цели, один из множества возможных порядков, а
не единственно возможный порядок как. таковой. С этой
целью мы вновь и вновь подчеркиваем различия, кото-
рые легко упускаются из виду в наших обычных языко-
вых формах. При этом может сложиться впечатление,
будто бы нашей задачей является реформа языка.
Подобная реформа, служащая определенным прак-
тическим целям — усовершенствованию нашей терми-
293
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нологии во избежание недоразумений в практике слово-
употребления, — конечно, возможна. Но не такие слу-
чаи служат предметом нашего рассмотрения. Путаницы,
занимающие нас, возникают тогда, когда язык находится
на холостом ходу, а не тогда, когда он работает.
133. Мы не собираемся каким-то неслыханным об-
разом очищать или дополнять систему правил употреб-
ления наших слов.
Ибо ясность, к которой мы стремимся, — это, право
же, исчерпывающая ясность, А это просто-напросто
означает, что философские проблемы должны совер-
шенно исчезнуть.
Подлинное открытие заключается в том, что, когда
захочешь, обретаешь способность перестать философ-
ствовать. В том, что философия умиротворяется, так
что ее больше не лихорадят вопросы, ставящие под со-
мнение ее самое. Вместо этого мы на примерах пока-
жем действие того или иного метода, причем череду
этих примеров можно прерывать. Решается не одна
проблема, а проблемы (устраняются трудности).
Пожалуй, нет какого-то одного метода философии,
а есть методы наподобие различных терапий.
134. Рассмотрим предложение: «Дело обстоит так-
то». На каком основании о нем можно говорить как об
общей форме предложения? Прежде всего, оно само
является предложением, русским [в оригинале соответ-
ственно — немецким] предложением, в нем есть подле-
жащее и сказуемое. Но как применяется это предложе-
ние в нашем повседневном языке? Ведь я взял его имен-
но оттуда.
Мы говорим, например: «Он объяснил мне свою си-
туацию, сказал, что дело обстоит вот так, и поэтому он
нуждается в задатке». В таком случае выходит, можно
утверждать: вышеприведенное предложение соответ-
ствует любому высказыванию. Оно применяется как
предложен и е-схема, но только потому, что имеет
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 294
структуру немецкого предложения. Вместо него можно
просто сказать: «Случилось то-то» или же «Ситуация
такова» и т. д. И можно, как в символической логике,
просто воспользоваться какой-то буквой, некой пере-
менной. Однако букву р никто бы не назвал общей фор-
мой предложения. Как уже говорилось, предложение
«Дело обстоит так-то» было признано такой формой
лишь потому, что и оно само является тем, что называ-
ют предложением. Но, будучи предложением и само по
себе, оно при всем том используется только как пред-
ложение-переменная. Утверждать, что это предложе-
ние соответствует (или не соответствует) действитель-
ности, было бы явной бессмыслицей. Тем самым иллю-
стрируется, что одним из признаков нашего понятия о
предложении является звучание его как предло-
жения.
135. Но разве у нас нет понятия о том, что такое
предложение, что мы понимаем под «предложением»?
Ну разумеется, есть, так же как есть и понятие о том, что
понимается под «игрой». В ответ на вопрос, что такое
предложение — отвечаем ли мы другим или самим
себе, — мы приведем примеры и включим в них то, что
можно назвать индуктивным рядом предложений. Вот
таким-то вот образом мы и имеем некое понятие
предложения. (Сравни понятие предложения с поняти-
ем числа.)
136. Представить фразу: «Дело обстоит так-то» как
общую форму предложения в принципе все равно что
заявить: «Предложением является все то, что может
быть истинным или ложным». Ведь вместо «Дело обсто-
ит...» можно сказать: «То-то истинно». (А также ска-
зать*. «То-то ложно»). Но здесь имеет место следующая
зависимость:
р — истинно - р
р — ложно = не-р.
295
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А значит, фраза: предложение есть все то, что мо-
жет быть истинным или ложным, — равносильна ут-
верждению: предложением называется то, к чему в
нашем языке применяется исчисление функций ис-
тинности.
При этом может показаться, будто данная дефини-
ция — предложение есть то, что может быть либо ис?
тинным, либо ложным, — устанавливает, что такое
предложение, ибо она гласит: предложение — это то, к
чему применимо понятие «истинный* или что соответ-
ствует понятию «истинный». То есть у нас уже как бы
имеется какое-то понятие истинного и ложного, позво-
ляющее определять, что является, а что не является
предложением. Предложение — то, что сцеплено с по-
нятием «истинный» (как зубчатое колесо).
Но это неудачная картина. Она как бы равносильна
вот такому утверждению: «Король в шахматах — это
та фигура, которой можно объявить шах». А это всего
лишь означает, что в нашей шахматной игре шах можно
объявить только королю. Равным образом утвержде-
ние, что только предложение может быть истинным,
говорит нам не более того, что предикаты «истинный» и
«ложный» мы приписываем лишь тому, что называем
предложением, А что есть предложение, определяется,
с одной стороны, правилами его построения (скажем,
правилами немецкого языка), а с другой — употребле-
нием знака в языковой игре. И применение слов «ис-
тинный» или «ложный» также может быть составной
частью этой игры; и в этом случае такое употребление
характеризует для нас предложение, но отнюдь не со-
впадает с ним. Точно так же можно сказать, что объяв-
ление шаха принадлежит нашему понятию шахматно-
го короля (как бы является его составляющей). Сказать
же, что объявление шаха не соответствует нашему
понятию пешки, означало бы, что игра, где пешке
объявляют шах, где проигрывает потерявший все пешки,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
296
была бы неинтересной, примитивной или слишком ус-
ложненной и т. п.
137. А как обстоит дело, когда мы учимся опреде-
лять подлежащее в предложении с помощью вопроса:
«Кто или что...?» Ведь тут есть некое соответствие
(«Passen») подлежащего данному вопросу; иначе как с
помощью этого вопроса можно было бы узнать, что в
предложении служит подлежащим? Способ, каким мы
узнаем это, весьма схож с тем, как отыскивают букву в
алфавите, следующую за буквой «К», произнося про
себя буквы алфавита вплоть до «К». Ну а в каком смыс-
ле «Л» соответствует этому буквенному ряду? Именно
в таком смысле можно было бы сказать, что «истинное»
и «ложное» соответствуют предложению. Даже ребен-
ка можно научить отличать предложение от других вы-
ражений, подсказав ему: «Спроси себя: можешь ли ты
после фразы добавить: “Это истинно”? Если эти слова
уместны, тоты имеешь дело с предложением».
(И точно так же можно было бы рекомендовать:
«Спроси себя, можешь ли ты предпослать эту фразу
словами: “Дело обстоит именно так”».)
138. А не может ли тогда понятное мне значение
слова соответствовать понятному для меня смыслу
предложения? Или же значение одного слова — соот-
ветствовать значению другого? Конечно, если значение
слова и есть то употребление, каким мы его наделяем,
то нет смысла говорить о соответствии. Но ведь мы по-
нимаем значение слова, стоит нам его услышать или
произнести, это значение схватывается мгновенно, и
то, что мы таким образом схватываем, есть нечто иное,
нежели развертываемое во времени «употребление»!1
1 Должен ли я знать, что понимаю слово? Разве не бывает
так: мне представляется, будто я его понимаю (как может
казаться, что я понимаю какое-то исчисление), а затем
297
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
139. Так, когда мне говорят слово «куб», я знаю, что
оно означает. Но разве при этом, когда я так понимаю
слово, в моем сознании возникает его употребление во
всем объеме?
Ну а с другой стороны, разве значение слова не оп-
ределяется и этим его употреблением? Могут ли эти
способы определения значения противоречить друг
другу? Может ли «значение», схватываемое мгновен-
но, совпадать с употреблением, соответствовать или не
соответствовать ему? И как может то, что дано нам в
одно мгновение, что моментально возникает в нашем
сознании, соответствовать его употреблению?
Что же, собственно, нам представляется при пони-
мании слова? Не напоминает ли оно собою некую кар-
тину? Разве оно не может быть картиной?
Ну предположим, что ты услышал слово «куб» и в
твоем сознании возникла картина. Скажем, рисунок
^куба. Насколько это изображение соответствует или не
соответствует употреблению слова «куб»? Возможно, ты
мне возразишь: «Да это же очень просто: если у меня в'
сознании возникает эта картина, а я указываю, скажем,
на трехугольную призму и заявляю, что это куб, то такое
употребление слова не соответствует картине». А дей-
ствительно ли не соответствует? Я сознательно подо-
брал такой пример, чтобы можно было легко предста-
вить себе метод проекции, согласно которому образ
все-таки будет соответствовать реально видимому.
Образ куба, безусловно, предлагает нам определен-
ное его употребление, но я могу употреблять его и иначе1.
обнаружится, что я его не поиял? («Мне думалось: я знаю,
что называется “абсолютным” и “относительным" движе-
нием, но теперь я вижу, что этого не знаю».)
1 (а) «Я считаю, что в данном случае правильнее было бы ска-
зать...» Разве это не показывает, что значение слова есть
нечто, возникающее у нас в сознании н являющееся тон
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
29В
140. Какого же рода ошибку я в таком случае допус-
тил: ту ли, что склонен выразить так: я счел, что карти-
на навязывает мне определенное использование? Как
мог я это полагать? Что, собственно, я полагал? Если
существует некая картина или нечто подобное картине,
побуждающее к определенному употреблению, так не
связана ли моя ошибка со смешением [картин]? Ведь,
возможно, мы склонны выражаться и так: мы находим-
ся самое большее под психологическим, а не логиче-
ским воздействием. При этом у нас возникает полная
иллюзия, будто мы знали о случаях двоякого рода.
Что же дает тогда мой аргумент? Он привлек внима-
ние к тому (напомнил о том), что при некоторых обсто-
ятельствах мы вполне готовы назвать «применением об-
раза куба» и иной процесс, отличный от того, о котором
подумали первоначально. Итак, «мнение, что именно
точной картиной, которую мы хотим здесь использовать?
Представь, из слов «статный», «полный достоинства», «гор-
дый», «внушающий уважение» я выбираю то, что наиболее
уместно в данном случае. Не похоже ли это на выбор рисун-
ка в альбоме? Отнюдь нет. То, что речь здесь идет о подхо-
дящем слове, еще ие указывает на существование чего-то
такого, что... и т. д. Дело в другом: люди склонны говорить о
чем-то напоминающем картину, потому что способны по-
чувствовать уместность какого-нибудь слова, потому что
часто перебирают слова в поиске удачного наподобие того,
как перебирают сходные, ио не тождественные изображе-
ния, потому что изображения часто используются вместо
слов нли для иллюстрации слов, и т. д.
(б) Я вижу картину. Она изображает старика, поднима-
ющегося по крутому склону, в гору, опираясь иа палку.
А так лн это? Разве изображение не могло бы выглядеть так
же, если бы он в том же положении скользил вниз по круто-
му спуску дороги? Возможно, марсианин описал бы эту кар-
тину таким образом. Нет иужды объяснять, почему мы опи-
сываем ее не так.
299
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
картина побудила нас к определенному применению»
состояло в том, что мы обращали внимание лишь на
этот случай, и ни на какой иной. Высказывание «имеет-
ся и другое решение» означает: имеется также еще что-
то, что я готов назвать «решением», к чему готов приме-
нить такую-то картину, такую-то аналогию и т. д.
При этом важно понимать, что, хотя услышанное
слово может вызывать один и тот же [образ] в нашем
сознании, его применение, однако, может быть разным.
Имеет ли слово одно и то же значение в обоих этих
случаях? Я думаю, что следовало бы сказать — нет.
141. А как быть, если в нашем сознании возникает не
просто образ куба, но и метод проекции? Как можно себе
это представить? Например, так: передо мной схема дан-
ного вида проекции, скажем, изображение двух кубов,
связанных линиями проекции. Но позволяет ли такой от-
вет существенно продвинуться вперед? А нельзя ли
представить себе и различные применения такой схемы?
Да разве возможно мысленно представлять себе и при-
менение? Вполне, только нужно более отчетливо опреде-
литься с тем, как мы применяем это выражение. Допус-
тим, я разъясняю кому-нибудь различные методы проек-
ции, чтобы научить его применять их. Спрашивается, в
каком случае мы бы сказали, что ему мысленно пред-
ставляется именно тот метод, который я имел в виду.
Ну, мы узнаем об этом, пользуясь двумя разными
критериями. С одной стороны, это определенная карти-
на (любого рода), которая мысленно представляется
ему в то или иное время. С другой же стороны, это —
применение данного представления, осуществляемое
им с течением времени. (И разве не ясно, что в данном
случае совершенно безразлично, представляется ли
ему эта картина в его фантазии, а не в виде лежащего
перед ним рисунка или модели; либо даже в виде моде-
ли, им самим сконструированной?)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
BOO
Ну а могут ли образ и его применение вступать в
конфликт? Да, такой конфликт возможен, коль скоро
от образа ожидают другого применения, потому что,
как правило, люди применяют этот образ так.
Я хочу сказать: тут есть типичный случай и нети-
пичные случаи.
142. Лишь в типичных случаях нам четко предписа-
но определенное употребление слова; мы знаем, у нас
нет никаких сомнений, что сказать в том или ином слу-
чае. Чем менее типичен случай, тем более сомнительно,
что при этом следует сказать. Если бы вещн вели себя
совсем иначе, чем они ведут себя в действительности
(не существуй, напрнмер, характерных выражений для
страха, боли, радости; стань правило исключением, а
исключение правилом; стань их частота приблизитель-
но одинаковой), то наша привычная языковая игра по-
теряла бы свой смысл. Процедура взвешивания куска
сыра: укладка его на весы, отклонение стрелки, указы-
вающее его вес н, следовательно, цену, — потеряла бы
всякий смысл, если бы мы часто сталкивались с тем,
что сыр внезапно и без всякой видимой причины разбу-
хал бы или же усыхал. Это замечание станет яснее по-
том, когда речь пойдет о таких вещах, как отношение
выражения к чувству и т. п.1
143. Рассмотрим теперь следующий вид языковой
игры: Некто В по указанию А должен записывать знако-
вый ряд согласно определенному закону построения.
Пусть таким рядом прежде всего будет ряд нату-
ральных чисел в десятичной системе. Как он учится по-
нимать эту систему? Сначала ему предъявляют запись
1 Для объяснения значения (я имею в виду значимость) того
нлн иного понятия нам часто приходится признавать чрез-
вычайно общие факты природы: такие факты, которые по-
чти никогда не упоминаются — в силу их очень общего ха-
рактера.
301
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
числового ряда, а затем велят скопировать ее. (Пусть
не покажется тебе странным выражение «числовой
ряд»; в таком его применении нет ошибки!) И уже здесь
мы сталкиваемся с типичной и нетипичной реакцией
обучаемого. Сначала при копировании ряда от 0 до 9
мы, может быть, водим его рукой. А далее возмож-
ность взаимопонимания сопряжена с тем, как он бу-
дет продолжать запись самостоятельно. Причем можно
себе представить, например, что он, самостоятельно ко-
пируя цифры, располагает их не по порядку, не соблю-
дая правила: иногда записывает одну цифру, иногда же
на ее место ставит другую. И тогда взаимопонимание в
данном пункте нарушается. Или же он делает ошибки
в последовательности записи цифр. Понятно, что этот
случай отличает от предыдущего частотность [невер-
ных записей]. Обучаемый может допускать система-
тическую ошибку, всегда записывая, например, лишь
каждое второе число, или копировать ряд 0, 1,2, 3, 4,
5... так: 1, О, 3, 2, 5, 4... В этом случае мы почти навер-
няка склонны будем сказать, что он неверно нас понял.
Но заметь: не существует резкой границы между
нерегулярной н систематической ошибками, то есть
между тем, что ты склонен называть «беспорядочной»,
а что — «систематической ошибкой».
Ученика, пожалуй, можно отучить от систематичес-
кой ошибки (как от дурной привычки). Или же можно
что-то одобрить в его способе записи и попытаться на-
учить его нормальному, как определенной разновиднос-
ти, варианту его собственного. И в этом случае обучае-
мость нашего ученика может иметь предел.
144. Что я имею в виду, говоря «здесь может насту-
пить предел обучаемости ученика»? Говорю ли я это на
основании моего собственного опыта? Конечно, нет.
(Даже если у меня и был такой опыт.) Тогда чего же я
добиваюсь этим предложением? Ну допустим, что ты
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
302
сказал: «Да, верно, это можно себе представить, это мо-
жет случиться!* Но стремился ли я привлечь его внима-
ние к тому, что он в состоянии себе это представить?
Я хотел вызвать в его воображении определенную кар-
тину, признание же им этой картины заключается в его
готовности рассматривать данный случай иначе: а
именно в его сопоставлении с этим рядом картин. Я из-
менил его способ созерцания. (Индийский математик:
«Посмотри на это!*)
145. Теперь ученик записывает ряд цифр от 0 до 9
так, как положено. А это бывает лишь в том случае,
если правильная запись у него получается часто, а не
один раз из ста проб. Ну а я продолжаю развертывать
ряд и обращаю его внимание на воспроизведение перво-
го ряда в единицах, затем на его повторение в десятках.
(Что означает лишь, что я использую определенные ак-
центы, подчеркиваю цифры, таким-то образом записы-
ваю их друг над другом и т. п.) И вот с какого-то момен-
та он самостоятельно продолжает этот ряд или лее это-
го не происходит. Но зачем ты все это говоришь; ведь
это самоочевидно! Ну разумеется. Я хотел сказать все-
го лишь: эффект каждого последующего объяснения за-
висит от реакции ученика.
Допустим же, что после некоторых усилий учителя
учащийся продолжает ряд чисел правильно, то есть
так, как это делаем мы. Стало быть, теперь мы могли бы
сказать, что он овладел системой. Но как далеко ему
следует продолжать этот ряд, чтобы мы могли это ут-
верждать с полным правом? Очевидно, здесь нельзя
указать никаких пределов.
146. Ну а если я спрошу: «Понял ли он систему,
если ему удается продолжить ряд до сотого члена?*
Или (если в нашей элементарной языковой игре необя-
зательно говорить о «понимании*) спрошу иначе: «Ус-
воил ли он эту систему, если он верно доводит запись
303
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
до этого места?» На это ты, вероятно, ответишь: усвое-
ние (или же понимание) системы не может состоять в
том, чтобы продолжить ряд до того или иного числа;
это лишь применение понимания. Само же это понима-
ние — некое состояние, из которого вытекает правиль-
ное применение.
А о чем же здесь, собственно, думают? Разве не о
выведении некоторого ряда из его алгебраической фор-
мулы? Или же о чем-то подобном? Но тут мы возвраща-
емся к уже сказанному. Ведь мы в состоянии думать бо-
лее чем об одном применении алгебраической формулы;
и каждый тип применения может быть в свою очередь
выражен алгебраически. Однако, само собой разу-
меется, это нас не продвигает далее. Применение всё
еще остается критерием понимания.
147. «Но как же это возможно? Когда я говорю, что
понимаю закон образования ряда, то ведь я утверждаю
это не на основании накопленного мною к настоящему
моменту опыта именно такого применения определен-
ного алгебраического выражения! Во всяком случае, о
самом-то себе я знаю, что имею в виду такой-то ряд, бе-
зотносительно к тому, как далеко продвинулся я в его
фактическом построении».
Итак, тобою владеет мысль, что ты знаешь примене-
ние закона построения ряда совершенно независимо от
каких бы то ни было воспоминаний о его фактическом
применении к определенным числам. И ты, пожалуй,
скажешь: «Само собой разумеется! Ибо ряд бесконечен,
а отрезок ряда, который я мог бы построить, конечен».
148. Но в чем состоит это знание? Позволь спросить:
когда ты знаешь это применение? Всегда? Днем и но-
чью? Или же только тогда, когда действительно думаешь
о законе ряда? То есть знаешь ли ты его так же, как зна-
ешь алфавит и таблицу умножения? Или ты называешь
«знанием» некое состояние сознания либо процесс —
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН В04
скажем, размышление о чем-то (An-etwas-denken) или
нечто подобное?
149. Когда говорят, что знание алфавита — душев-
ное состояние, то думают при этом о состоянии нашего
ментального аппарата (скажем, мозга), посредством ко-
торого мы объясняем определенные проявления этого
знания. Такого рода состояние называется диспозицией
[предрасположением]. Но в данном случае не вполне
корректно говорить о душевном состоянии, поскольку
для этого мы должны располагать двумя критериями
такого состояния. А именно: знанием устройства мыс-
лительного аппарата, не говоря уже о его действии.
(Ничто не могло бы здесь сбить с толку больше, чем
употребление слов «сознательное» и «бессознатель-
ное» для противопоставления состояния сознания и
диспозиции. Ибо эти два слова затушевывают некое
грамматическое различие.)
150. Грамматика слова «знать» явно родственна
грамматике слов «мочь», «быть в состоянии», но она
родственна и грамматике слова «понимать». («Владеть»
техникой.)
151. Однако имеется и такое употребление слова
«знать»: мы говорим; «Теперь я знаю это!» и равным об-
разом «Теперь я могу это!» и «Теперь я понимаю это!».
Представим себе следующий пример: А записывает
ряд чисел; В смотрит на это и пытается найти в этой
последовательности чисел некий закон. Если это ему
удается, он восклицает; «Теперь я могу продолжить!»
Стало быть, эта способность, это понимание является
чем-то таким, что наступает в некий момент. Итак, при-
глядимся к тому, что же это такое, что здесь наступи-
ло? А записывал числа 1,5, И, 19, 29. И тут В сказал:
теперь он знает, что будет дальше. Что же здесь про-
изошло? Тут могли произойти самые разные вещи. На-
пример, когда А медленно записывал число за числом,
305
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В применял различные алгебраические формулы к на-
писанным числам. Когда А записал число 19, В испытал
формулу an = n2+n-l; и следующее число подтвердило
его предположение1.
Или же В не думает о формулах. Он напряженно сле-
дит за тем, как А выписывает числа; самые разные смут-
ные мысли при этом блуждают в его голове. Наконец он
спрашивает себя: чем будет последовательность разно-
стей этих же чисел? Он находит, что она такова: 4, 6, 8,
10, и говорит: теперь я могу продолжить этот ряд.
Или же он вглядывается и говорит: «Да, я знаю этот
ряд» — и продолжает его, так же как он делал бы это и
в том случае, если бы А записал ряд 1, 3, 5, 7, 9. Или же
он вообще не говорит ничего и просто продолжает запи-
сывать ряд. По-видимому, при этом он испытывает чув-
ство, которое можно охарактеризовать так: «О, это лег-
ко!» (Чувство, напоминающее внезапный вздох облег-
чения, наступающий после утихшего испуга.)
1 (а) «Понимание слова» — состояние. Но психическое ли это
состояние? Мы называем психическими состояниями угне-
тенность, возбуждение, боль. Проделаем следующее грам-
матическое исследование. Мы говорим:
«Ои был угнетен весь день»;
«Весь день ои был сильно возбужден»;
«Боли у него не прекращаются со вчерашнего дня».
Мы также говорим: «Я понимаю это слово со вчерашне-
го дня». Можно ли сказать «непрерывно»? Да, можно гово-
рить о непрерывности понимания. Но в каких случаях?
Сравни: «Когда ослабли твои боли?» и «Когда ты перестал
понимать это слово?»
(б) Представь, что тебя спрашивают: «Когда ты умеешь
играть в шахматы? Всегда? Или же тогда, когда делаешь
ход? И так во время каждого хода на протяжении всей
игры?» Как странно, однако, что умение играть в шахматы
используется в столь короткий промежуток времени, тогда
как сама партия оказывается значительно более долгой.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
306
152. Но являются ли эти описанные мною процессы
пониманием'?
«В понимает принцип образования ряда» все же не
означает буквально: «В пришла в голову формула
ап=:...». Ибо вполне можно себе представить, что ему
пришла бы в голову эта формула, а понимания все-таки
не было бы. Выражение «он понимает» должно включать
в себя нечто большее, чем то, что ему пришла в голову
соответствующая формула. Также как и нечто большее,
чем любое более или менее характерное сопровождение
или проявление понимания.
153. Мы пытаемся тут проникнуть в умственный про-
цесс понимания, который как бы скрыт за этими более
грубыми и потому легко бросающимися в глаза его сопро-
вождениями. Но это нам не удается. Или, выражаясь точ-
нее, до реального изыскания дело вовсе не доходит. Ибо
если даже удалось бы выявить, что имеет место во всех
тех случаях понимания, — то все же почему обязательно
это составляло бы искомое понимание? Да и как процесс
понимания мог бы носить скрытый характер при том, что
я ведь заявил «Теперь понимаю», потому что понял?!
Если же я утверждаю, что этот процесс скрыт, то как мне
узнать, что следует искать? Я в замешательстве.
154. Но погоди! Если слова «я теперь понимаю прин-
цип» говорят не о том же самом, что и слова «мне при-
шла в голову формула...» (или же «я произношу форму-
лу», «я записываю формулу» и т. д.), — то вытекает ли
из этого, что я употребляю предложение «я теперь пони-
маю...» или «теперь я могу продолжить» как описание
некоего процесса, следующего за произнесением форму-
лы или сопровождающего его?
Если что-то и должно стоять «за произнесением фор-
мулы», так это определенные обстоятельства, позво-
ляющие мне сказать, чТо я могу продолжить начатое дей-
ствие, — ухватив формулу.
307
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Не думай вовсе о понимании как об «умственном
процессе»! Ибо это лишь оборот речи, который тебя
сбивает с толку. А спроси себя, в каком случае, при ка-
ких обстоятельствах мы говорим: «Теперь я знаю, как
продолжить», — когда мне пришла в голову формула.
В том смысле, в каком существуют характерные для
понимания процессы (включая душевные процессы),
понимание не есть душевный процесс.
(Душевные процессы: ослабевающие или усилива-
ющиеся болевые ощущения, слуховое восприятие ме-
лодии, предложения и др.)
155. Итак, я хочу сказать: когда он вдруг сообра-
зил, как продолжить ряд, понял принцип, то, может
быть, при этом он и испытал какое-то особое пережи-
вание, — которое он, пожалуй, описал бы, спроси мы
его: «Как это было, что произошло, когда ты вдруг по-
стиг принцип?» — подобно тому как мы попытались
сделать это выше. Для нас же его слова о понимании,
о том, что он знает, как продолжить ряд, оправдывают-
ся обстоятельствами, при которых он испытал это
переживание.
156. Это станет яснее, если мы включим в сферу на^
шего рассмотрения другое слово, а именно слово «чи-
тать». Прежде всего нужно заметить, что я в данном
случае не отношу к «чтению» понимание смысла читае-
мого. Чтение здесь выступает как деятельность озвучи-
вания написанного или напечатанного; а также письма
под диктовку, переписывания напечатанного, игры по
нотам и т. п.
Конечно, нам хорошо знакомо употребление этого
слова в обычных жизненных ситуациях. Роль же, кото-
рую оно играет в жизни, а тем самым ту языковую игру,
в которой мы его используем, нелегко представить даже
в самых общих чертах. Человек, скажем немец, прошел в
школе или дома обычный курс обучения. В процессе.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
308
учебы он освоил навык чтения на своем родном языке.
Впоследствии он читает книги, письма, газеты и т. д.
Что же происходит, когда он, например, читает га-
зеты? Его глаза — как мы говорим — прослеживают
напечатанные слова, он произносит их вслух или же
выговаривает про себя. Причем определенные слова он
прочитывает, схватывая их печатные формы в целом, в
других — ему достаточно узреть первый слог, некоторые
читаются по слогам, а отдельные слова, может быть, и по
буквам. Мы бы сказали, что он прочел предложение и в
том случае, если бы по ходу чтения он не произносил
его ни вслух, ни про себя, но после был бы в состоянии
воспроизвести это предложение дословно или близко к
тексту. Он может вникать в то, что читает, или же дей-
ствовать, скажем, просто как читающая машина, то
есть читать громко и правильно, не вникая в читаемое.
Может быть, при этом его внимание будет направлено
на что-то совсем другое (так что, спроси его кто-нибудь
сразу же, он не сможет сказать, о чем читал).
Сравним теперь с этим читателем какого-нибудь но-
вичка, только усваивающего навыки чтения. Он читает
слова, с трудом складывая их по буквам. Однако неко-
торые слова он угадывает по контексту; или же, может
хйь’дг, уж? чкитачш? оньттг нниъ'уств. ^Учитлге
говорит ему тогда, что он на самом деле не читает слов
(а в определенных случаях — что он лишь притворяет-
ся читающим).
Если, имея в виду чтение такого рода, чтение начи-
нающего, задаться вопросом, в чем состоит чтение, то
мы будем склонны сказать: это особая сознательная ум-
ственная деятельность.
Мы также говорим об ученике: «Конечно, только он
знает, действительно ли он читает или просто говорит
слова наизусть». (Об этом предложении — «Только он
знает...» — нужно будет еще высказаться.)
309
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Но я хочу сказать: приходится признать, что при
произнесении какого-либо из напечатанных слов в со-
знании ученика, «притворяющегося*, будто он читает
слово, может происходить то же самое, что и в созна-
нии опытного читателя, который его «читает*. Говоря о
новичке и об опытном читателе, мы по-разному приме-
няем слово «читать*. Конечно, так и хочется сказать: не
может быть, чтобы в сознании опытного читателя и но-
вичка, когда они произносят данное слово, происходи-
ло одно и то же. И если нет различия в том, что они со-
знают, то Должно быть различие в бессознательной ра-
боте их умов, а то и мозга. Итак, нас тянет сказать, что
тут во всяком случае имеются два различных механиз-
ма! И их действие должно отличать чтение от нечтения.
Но ведь эти механизмы — всего лишь гипотезы, модели
для объяснения, обобщения того, что ты наблюдаешь.
157. Обдумай следующий случай: люди или иные
существа используются нами в качестве читающих ма-
шин. Они обучены для этого. По словам тренера, одни
из них уже могут читать, другие же еще нет. Предста-
вим себе еще не вышколенного ученика: если ему пока-
зывают написанное слово, он при этом иногда издает
какие-то звуки, и время от времени звучание «случай-
но* оказывается более или менее верным. Наблюдаю-
щий эту сцену слушает этого ученика и говорит: «Он
читает*. Но учитель отвечает: «Нет, он не читает; это
чистая случайность». А представим себе, что далее этот
ученик продолжает правильно реагировать на предла-
гаемые ему слова. Спустя какое-то время учитель гово-
рит: «Теперь он может читать!» Ну а как было дело с
тем первым словом? Должен ли теперь учитель сказать:
«Я ошибся, он все-таки прочел его» — или же: «Он
только позднее действительно начал читать»? Когда же
он начал читать? Какое первое слово он прочел? Этот
вопрос здесь не имеет смысла. Он обретает смысл разве
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
310
что при таком (или подобном ему) определении: «Первое
слово, которое некто “читает” — это первое слово пер-
вой группы из 50 слов, которые он читает правильно».
Если же мы не прочь применять слово «чтение»
для обозначения особого переживания перехода от
письменного знака к произнесенному звуку, то, конеч-
но, имеет смысл говорить о первом слове, которое он
прочел. При этом человек может, например, сказать:
«На этом слове я впервые почувствовал: “Теперь я чи-
таю”». Но и в случае, отличном от вышеприведенного,
в случае читающей машины, переводящей знаки в
звуки наподобие пианолы, можно было бы сказать:
♦Только после того, как в машине произошло то-то —
такие-то части соединились проводами, — машина на-
чала читать, и первыми знаками, прочтенными ею,
были...»
В случае же живой читающей машины слово «чи-
тать» означает: таким-то образом реагировать на пись-
менные знаки. Это понятие, следовательно, совершен-
но независимо от понятия мыслительных и иных меха-
низмов. И учитель не может здесь сказать об ученике:
«Возможно, он и прочел то слово». Ибо здесь нет ника-
кого сомнения относительно того, что было сделано.
Изменение, происшедшее, когда обучаемый стал чи-
тать, было изменением его поведения', и говорить о
♦первом слове, прочитанном им в его новом состоянии»
здесь не имеет смысла.
158. А может быть, дело в том, что мы просто очень
мало знаем о процессах, происходящих в головном моз-
ге и нервной системе? Знай мы их более основательно,
мы бы поняли, какие связи были выработаны обучени-
ем, и смогли бы тогда, заглянув в мозг учащегося, ска-
зать: «Сейчас он прочел это слово, теперь пошло связ-
ное чтение». И предполагается, что дело должно обсто-
ять таким образом, — иначе как могли бы мы быть
ЗП ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
столь уверены в существовании такой связи? Но апри-
орно или же только вероятно предположение, что это.
так? И насколько вероятно? Спроси-ка себя, что ты
знаешь об этих вещах? Если же оно априорно, то зна-
чит, это очень убедительный для нас вид представления
(Darstellungsform).
159. Но если вдуматься в это, испытываешь искуше-
ние сказать: единственным реальным критерием того,
что кто-то читает, является сознательный акт чтения,,
акт считывания звуков по буквам. «Человек ведь знает,
читает ли он или лишь притворяется, что читает!»
Предположим, А хочет заставить В поверить в то, что
он умеет читать кириллицу. Он выучил наизусть какое-
то русское предложение и затем проговаривает его,
глядя на напечатанные слова, как будто читая их. Здесь
мы определенно скажем: А знает, что он не читает, и.
внутренне чувствует именно это, притворяясь читаю-
щим. Ибо, конечно, существует уйма более или менее
характерных переживаний, возникающих при чтении
напечатанного предложения; их нетрудно припомнить:
подумай о переживаниях, связанных с неуверенностью,
более пристальным разглядыванием знаков, ошибоч^
ным прочтением, более или менее беглым чтением и
т. д. Существуют также характерные переживания вос-
произведения чего-то, выученного наизусть. В нашем
примере А не будет переживать ничего такого, что ха-
рактерно для чтения, а, по-видимому, испытает целый
ряд переживаний, присущих обману.
160. А представь себе такой случай. Человеку, уме-
ющему свободно читать, мы даем для чтения никогда не
встречавшийся ему до этого текст. Он читает его нам,
но с таким чувством, словно произносит что-то заучен-
ное наизусть (это могло бы происходить под воздей-
ствием какого-то препарата). Сказали бы мы в этом слу-
чае, что на самом деле он не читает текст? То есть сочли.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
312
бы мы его переживания критерием того, что он читает
или не читает текст?
Или еще один случай. Человеку, находящемуся под
действием какого-то лекарства, предлагается набор
письменных знаков, которые необязательно принадле-
жат какому бы то ни было из существующих алфави-
тов. И вот он, сочетая несколько таких знаков, произно-
сит слово, как если бы знаки были буквами, притом
произносит их со всеми внешними признаками и ощу-
щениями, сопровождающими чтение. (Подобное нам
случается испытать во сне. Проснувшись, человек в та-
ком случае может, например, сказать: «Мне представи-
лось, будто я читал какие-то знаки, хотя они вовсе и не
были знаками».) В этом случае некоторые будут склон-
ны утверждать, что человек читал эти знаки, другие
же будут это отрицать. Предположим, что таким обра-
зом человек прочел (или же истолковал) группу из че-
тырех знаков как О Б Е Н. Теперь мы показываем ему
эти четыре знака в обратной последовательности, и он
читает: Н Е Б О. И во всех последующих текстах он все-
гда сохраняет одну и ту же интерпретацию знаков; тог-
да мы, конечно, были бы склонны сказать, что он разра-
ботал для себя алфавит н читает в соответствии с ним.
161. Ну а вспомни также, что имеется непрерывный
ряд переходов между случаем, когда человек произносит
наизусть то, что он должен был прочесть, и случаем, ко-
гда он читает каждое слово по буквам, не опираясь ни на
догадки с помощью контекста, ни на заученный текст.
Проведи следующий эксперимент: назови ряд чисел
от 1 до 12. Затем посмотри на циферблат своих часов и
прочти этот же ряд. Что ты назвал в этом случае «чте-
нием»? То есть что ты сделал такого, чтобы это стало
«чтением»?
162. Попытаемся дать такое определение: некто чи-
тает, если он осуществляет воспроизведение оригина-
313
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ла. А «оригиналом» я называю текст, который читают
или переписывают: диктант, который пишут, партиту-
ру, по которой играют, и т. д. Ну например, если мы
обучили кого-нибудь кириллице и тому, как произно-
сится каждая буква, а затем даем ему отрывок для чте-
ния и он читает его, произнося каждую букву так, как
мы его обучили — то мы, скорее всего, скажем, что он
извлекает звучание слова из его письменного изобра-
жения по правилам, которые мы ему дали. Притом это
чистый случай чтения, (Можно было бы сказать, что
мы научили его «правилу алфавита».)
Но почему мы говорим, что он воспроизводит про-
износимое слово из напечатанного? Знаем ли мы нечто
большее, чем то, что мы его научили, как произносить
каждую букву, и что он после этого стал вслух читать
слова? На этот вопрос мы, пожалуй, ответили бы так:
ученик показывает, что он совершает переход от напе-
чатанного к произносимому по правилам, которыми мы
его вооружили. Как это можно показать, проясняется,
если видоизменить наш пример: ученик получает зада-
ние не прочесть текст, а переписать его, перевести пе-
чатный текст в рукописный. В этом случае мы смогли
бы задать ему правило в виде некой таблицы. В одной
колонке этой таблицы стояли бы печатные буквы, в
другой — рукописные. А то, что письмо ученик здесь
воссоздает на основе напечатанного, видно из его обра-
щения с таблицей.
163. Ну а если, переписывая, он всегда передавал бы
букву А через Ь, В через с, С через d и т. д. и / через д?
Ведь и этот случай мы назвали бы воспроизведением (АЬ-
leiten) по таблице. Можно было бы сказать, что он здесь
пользуется вместо первой схемы § 86 второй схемой.
И этот случай все еще был бы воспроизведением по
таблице, пусть и не с прямой, а со смещенной схемой-
правилом.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
314
А представим, что он не придерживается какого-то
единого способа транскрибирования, а меняет его по
следующему простому правилу. Записав однажды А
как и., он следующее А запишет как о» следующее —
как р и т. д. Так где же граница между этой процедурой
и случайной?
Разве же это не означает, что слово «воспроизво-
дить» тут, по сути, теряет значение, ибо оказывается,
что при его разъяснении оио расползается в ничто.
164. В случае (162) значение слова «воспроизво-
дить» было понятно для нас. Но мы тогда сказали себе,
что это всего лишь совершенно особый случай воспро-
изведения, его весьма необычное облачение; необходи-
мо это облачение снять, если мы хотим познать сущ-
ность воспроизведения. И вот мы сняли с него этот осо-
бый покров, но при этом исчезло само воспроиз-
ведение. Для того чтобы добраться до настоящего
артишока, мы ободрали с него все листья. Ибо пример
(162), безусловно, был особым случаем воспроизведе-
ния, но сущность воспроизведения не скрывалась за
внешними проявлениями данного случая, а само это
«внешнее» принадлежало к семейству случаев воспро-
изведения.
И слово «читать» мы также употребляем примени-
тельно к семейству случаев. А при различных обстоя-
тельствах употребляем различные критерии того, что
некто читает.
165. Но все-таки чтение — так и хочется сказать —
совершенно особый процесс! Прочти страницу печатно-
го текста, и ты сможешь в этом убедиться; здесь проис-
ходит что-то особенное, что-то весьма характерное. Так
что же происходит, когда я читаю? Я вижу напечатан-
ные слова и произношу слова. Но это, естественно, не
все, ибо я мог бы видеть напечатанные слова и произно-
сить слова, однако это все же не было бы чтением. Как
315
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
не было бы и в том случае, если бы я произносил имен-
но те слова, которые по правилам принятого алфавита
полагается считывать с данного печатного текста.
Если же ты говоришь, что чтение — определенное пе-
реживание, то совершенно неважно, соблюдаешь ли ты
при этом общепринятые правила алфавита или нет.
В чем же состоит тогда характерное переживание при
чтении? Напрашивается ответ: «Произносимые мною
слова явлены мне особым образом». То есть они прихо-
дят не так, как это было бы, если бы я придумывал их.
Они следуют сами собой. Но и этого недостаточно; ведь
при виде напечатанного слова мне может представлять-
ся его звучание, но это еще не значит, что я прочел его.
К этому я мог бы еще добавить, что звучания слов воз-
никают в моем сознании не так, как если бы мне что-то
напоминало о них. Я бы не сказал, например, что печат-
ное слово «ничто» всегда напоминает мне о звучании
«ничто». Происходит иное: при чтении звучание слов
как бы прокрадывается в мое сознание. В самом деле,
стоит мне увидеть немецкое печатное слово, как возни-
кает особый процесс: я внутренне слышу его звучание.
166. Я бы сказал, что при чтении произносимые сло-
ва возникают в сознании «особым образом»1.
Но каким образом? Не плод ли это нашего вообра-
жения? Приглядимся к отдельным буквам и обратим
внимание на то, каким образом на ум приходит звуча-
ние этой буквы. Прочитай букву А. Как же пришел звук?
Мы не в состоянии что-либо сказать об этом. Ну а напи-
ши строчное латинское а! Как пришло к тебе движение
руки при письме? Иначе, чем звук в первом опыте? Гля-
дя на печатную букву, я изобразил письменную букву.
1 Грамматика выражения «совершенно особое (настроение)».
Говорят «Это лицо имеет совершенно особое выражение» и,
скажем, ищут слова, чтобы охарактеризовать его.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
315
Вот и все, что я знаю. Ну а взгляни на знак и
пусть при этом тебе придет в голову какой-нибудь звук;
произнеси его. Мне пришел на ум звук «У», но я бы не
сказал, что в способе появления этого звука было ка-
кое-то существенное отличие. Отличие заключалось в
несколько иной ситуации. Я заранее сказал себе: пусть
в моем сознании возникает некий звук. Прежде чем
этот звук пришел, я испытал определенное напряже-
ние. Причем при произнесении звука «У» у меня не
было того автоматизма, как при взгляде на букву У.
Этот знак не был мне знаком, как знакомы буквы. Я раз-
глядывал его как бы с напряжением, с определенным
интересом к его форме. Я думал при этом о переверну-
той сигме. Ну а представь себе, что тебе нужно пользо-
ваться этим знаком регулярно, как буквой. И вот ты
привыкаешь при виде его произносить определенный
звук, например звук «ш». Надо ли говорить, что по ис-
течении некоторого времени этот звук будет автомати-
чески возникать в твоем сознании при виде этого зна-
ка? То есть я перестану, увидев его, спрашивать себя
«Что это за буква?»; не буду, конечно, и мысленно гово-
рить «Этот знак побуждает меня произнести звук “ш"»;
или: «Этот знак чем-то напоминает мне звук “ш’г».
(Сравни с этим представление о том, что образы па-
мяти отличаются от других мысленных образов каки-
ми-то особыми чертами.)
167. Ну а как быть с предложением, гласящим, что
чтение «вполне определенный процесс»? Вероятно, это
должно означать, что при чтении имеет место один оп-
ределенный, узнаваемый нами процесс. Но если я пер-
вый раз читаю предложение в печатном тексте, а вто-
рой раз записанным азбукой Морзе, — то действитель-
но ли при этом выявляется один и тот же умственный
процесс? С другой стороны, безусловно, существует
317
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
единообразие в опыте чтения печатной страницы. Ибо
этот процесс действительно единообразен. И его так
легко отличить, например, от такого, в котором слова
при взгляде на них представляются какими-то произ-
вольными штрихами. Ведь уже сам по себе вид печат-
ной строки столь характерен, то есть имеет совершенно
особый облик: все буквы в ней приблизительно одной
высоты и сходны по форме; они постоянно повторяют-
ся. То и дело повторяются и слова, и они нам довольно
известны, как лица хорошо знакомых людей. Вспомни о
неудобствах, испытываемых нами, когда меняется пра-
вописание слов (или о еще более сильных переживани-
ях, когда встает вопрос о способе записи слов). Безус-
ловно, не всякая знаковая форма глубоко запечатлена
в нас. Знаки, например, в алгебре логики могут быть за-
менены любыми другими, и мы не станем глубоко пере-
живать это.
Задумайся над тем, что зрительный образ слова
столь же привычен для нас, как и слуховой.
168. Печатную строку взгляд и пробегает иначе, чем
ряд произвольных крючков и завитушек. (Но я говорю
здесь не о том, что можно установить наблюдением за
движением глаз читающего.) Взгляд, можно сказать,
застревая и вместе с тем не соскальзывая с нее. При
этом происходит и непроизвольное внутреннее прогова-
ривание. Это наблюдается при чтении по-немецки или на
другом языке печатных или рукописных текстов незави-
симо от формы шрифта. Но что из всего этого существен-
но для чтения как такового? Нет ни одной черты, кото-
рая была бы общей всем видам чтения! (Сравни с процес-
сом чтения обычного печатного текста чтение слов, на-
печатанных одними заглавными буквами, как иногда
даются ответы на загадки. Как отличается этот процесс!
Или же чтение нашего письма справа налево.)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
31В
169. А разве в процессе чтения мы не испытываем
какого-то воздействия графических образов слов на то,
как мы их проговариваем? Прочти какое-нибудь пред-
ложение! А затем просмотри этот ряд:
&8§Ф §Ф?(Р% 8!”§*
и произнеси при этом какое-то предложение. Разве не
чувствуется, что в первом случае высказывание было
связано с видом знаков, во втором же оно проходило
вне такой связи, параллельно видению знаков?
Но почему ты говоришь, что мы испытываем некое
причинное воздействие? Причинность — это то, что ус-
танавливается в эксперименте, скажем, когда наблюда-
ется регулярное совпадение процессов. Как же в таком
случае можно заявлять, что чувствуешь то, что уста-
навливается опытом? (Правда, причинность устанавли-
вается не только путем наблюдения регулярных совпа-
дений.) Уж скорее можно было бы сказать: я чувствую,
что буквы служат основанием того, почему я читаю та-
ким образом. Ведь если бы меня кто-то спросил: «Поче-
му ты читаешь /пак?» — то я бы оправдал это ссылкой
на имеющиеся буквы.
Но что значит чувствовать это основание для выс-
казанного или мыслимого? Я сказал бы: при чтении я
чувствую какое-то влияние на меня букв — но не влия-
ние ряда завитушек произвольной формы на то, что я
говорю. Сравним еще раз отдельную букву с такой заго-
гулиной. Стал бы я говорить, что чувствую влияние «г»,
читая эту букву? Конечно, есть разница между тем,
произношу ли я звук г, глядя на букву «г», или же про-
изношу тот же звук, глядя на знак «§». Различие состр-
ит, например, в том, что при виде буквы в моем внут-
реннем слухе автоматически, даже вопреки моей воле
возникает ее звучание; при прочтении же этой буквы
319
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
вслух она произносится с куда меньшим усилием, чем
при взгляде на знак §. То есть так обстоит дело, когда я
провожу эксперимент, а, конечно, не тогда, когда, про-
износя какое-то слово, в котором имеется звук i, я слу-
чайно взгляну на знак «§».
170. Ведь нам никогда не пришло бы в голову думать
о том, что мы чувствовали влияние букв на нас при чте-
нии, если бы мы не сравнивали букв с произвольными
штрихами. А здесь мы в самом деле замечаем некоторое
различие. И мы интерпретируем это различие как при-
сутствие влияния или же отсутствие такового.
Причем к этой интерпретации мы особенно склон-
ны при намеренно медленном чтении — скажем, с це-
лью понять, что происходит, когда мы читаем. Когда
мы, так сказать, совершенно сознательно позволяем
буквам нас вести. Но это «позволять себя вести» состо-
ит опять-таки только в том, что я пристально вглядыва-
юсь в буквы — возможно, стараясь исключить иного
рода мысли.
Нам представляется, будто с помощью некоего чув-
ства мы воспринимаем как бы связующий механизм
между зрительным образом слова и звуком, который
мы произносим. Ибо если я говорю о переживании вли-
яния, о причинной связи, о том, что текст меня ведет,
то все это должно означать, что я как бы ощущаю дви-
жение рычага, связывающего облик буквы с ее произ-
несением.
171. То переживание, которое возникает у меня при
чтении слова, я мог бы передать словами на разные лады.
Так, я мог бы сказать, что написанное внушает мне
звук. А мог бы выразиться и так: буква и звук при чте-
нии образуют единство — как бы сплав, (Подобным
же образом сливаются, например, лица знаменитых лю-
дей и звучание их имен. Нам представляется, будто это
имя единственно верно выражает это лицо.) Чувствуя
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
320
это единство, можно сказать: я вижу или слышу звуча-
ние в написанном слове.
Ну а теперь прочти несколько печатных предложе-
ний, как ты это обычно делаешь, когда не думаешь о по-
нятии чтения, и поинтересуйся, испытал ли ты при
этом такое ощущение единства, влияния и т. д. Не гово-
ри, что ты испытал их неосознанно! И да не собьет нас с
толку образное выражение: «при ближайшем рассмот-
рении» эти явления обнаруживаются! Если я должен
описать, как предмет выглядит издалека, то это описа-
ние не станет точнее, если я расскажу о том, что в нем
можно заметить вблизи.
172. Задумаемся о том, что мы испытываем, когда
приходится «быть ведомыми»! Спросим себя, что мы пе-
реживаем, когда, например, бывает задано направление1
нашего движения. Представь себе следующие случаи:
Ты находишься на игровом поле с завязанными гла-
зами, и кто-то ведет тебя за руку то вправо, то влево; ты
всегда должен быть готов воспринять направляющее
движение его руки и быть внимательным, чтобы не
споткнуться при неожиданном повороте.
Или же; кто-то с силой тянет тебя за руку, застав-
ляя идти туда, куда ты не хочешь.
Или; в танце тебя ведет партнер; ты стараешься
стать максимально восприимчивым, чтобы угадывать
его намерения и тем самым избегать малейшего при-
нуждения.
Или; кто-то взял тебя с собой на прогулку; вы бесе-
дуете, и ты идешь туда, куда идет он.
Или: ты идешь полевой дорогой, позволяя ей себя
вести.
Все эти ситуации схожи одна с другой; ио что обще-
го во всех сопутствующих им переживаниях?
173. «Но быть ведомым — это же и есть определен-
ное переживание!» Ответ на это: ты думаешь сейчас об
особом переживании «быть ведомым».
321
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Желая воссоздать переживание человека, чьи дей-
ствия при переписывании — как в одном из ранее при-
веденных примеров — направлялись печатным тек-
стом или же таблицей, я представляю себе «добросо-
вестный» вид и т. д. При этом я придаю своему лицу
особое выражение (скажем, добросовестного бухгал-
тера). В этом образе очень существенна, например,
тщательность, в другом было бы важно полное ис-
ключение собственной воли. (Ну а представь себе, что
некий субъект с выражением внимания — а почему
бы и не с переживанием? — выполняет то, что обычно
люди делают, не выказывая признаков внимания. Но
внимателен ли он? Представь себе, скажем, лакея, с
показным усердием роняющего под ноги поднос со
всем содержимым. Если я представлю себе какое-то
особое переживание такого рода, то мне кажется, что
существует и такое переживание, как «быть ведо-
мым» (скажем, чтение). Но я тут же спрашиваю себя:
что ты делаешь? Ты смотришь на каждый знак, твое
лицо приобретает такое выражение, ты внимательно
выписываешь буквы и т. п. Так это и есть пережива-
ние «быть ведомым»? Тут напрашивается ответ: «Нет,
это не оно. То переживание — нечто более внутрен-
нее, более существенное». Кажется, будто сначала все
эти, в общем-то, незначительные процессы были как
бы окутаны особой аурой; я всмотрелся в них, и эта
аура рассеялась.
174. Поинтересуйся, каким образом ты «обдуман-
но» чертишь линию, параллельную данной, а в другой
раз, обдуманно, — под углом к ней? В чем состоит пере-
живание обдумывания? Здесь тебе сразу же приходят в
голову особое выражение лица, поза — и как бы тянет
сказать: «Это и есть особое внутреннее переживание».
(Но ведь этим ты ничего не добавил к сказанному рань-
ше.) (Здесь имеется взаимосвязь с проблемой природы
намерения, волевого акта.)
II Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
322
175. Изобрази на бумаге произвольную загогулину.
А теперь копируй ее, пусть она тебя направляет. Я бы
сказал: «Верно! Я здесь в роли ведомого. Но произошло
ли при этом нечто характерное, специфическое? Стоит
мне рассказать, что произошло, как оно уже не кажется
мне характерным».
Ну а теперь заметь вот что. Пока я являюсь ведо-
мым, все очень просто, я не замечаю ничего особенно-
го. Но после, когда я спрашиваю себя, что же произош-
ло, оно мне представляется чем-то ие поддающимся
описанию. После этого я не удовлетворяюсь никаким
описанием. Мне словно не верится, что я просто смот-
рел, с таким вот выражением лица проводил линию. Но
тогда, может быть, я вспоминаю о чем-то другом? Нет.
И все же мне кажется, что должно было быть и еще что-
то; особенно я чувствую это тогда, когда, плюс ко все-
му, подсказываю себе такие слова, как вести, влияние
и т. п. «Но я же был ведома, говорю я себе. Тут-то и воз-
никает представление о некоем эфемерном, неулови-
мом влиянии.
176. Когда я ретроспективно думаю об этом пережи-
вании, у меня возникает такое чувство, что для него су-
щественно «переживание некоего влияния», связи яв-
лений в противоположность их простой одновременно-
сти. Но при всем том мне бы не хотелось любое прояв-
ление внутреннего опыта называть «переживанием
влияния». (Здесь корни идеи: воля не есть явление.)
Так и хочется сказать: я испытывал «потому что»; и
все-таки не в состоянии назвать ни одного проявления
этого «потому-что-переживания».
177. Я бы сказал: «Я переживаю “потому что’’ (das
Weil)». Но не потому, что помню об этом переживании,
а потому, что, думая ретроспективно о пережитом в том
случае, я смотрю на это опосредованно, через понятие
♦потому что» (или «влияние», или «причина», или
123
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«связь»). Ведь правильно же утверждение, что я про-
чертил эту линию под влиянием образца: ио это заклкь
чается не просто в том, что я испытывал, чертя линию,
а в обстоятельствах, в том, например, что я чертил ее
параллельно другой. Хотя и это, в общем-то, несуще-
ственно для такого переживания, как «быть ведомым».
178. Мы говорим также: «Ты же видишь, что это на-
правляет меня», — а что видит тот, кто это видит?
Говоря самому себе: «Но ведь я управляем — я могу
жестом руки выражать это "управление’’ (das Fiihren)»,
сделай подобный жест рукой, как если бы ты вел кого-
нибудь, и полюбопытствуй, в чем состоит направляю-
щий характер этого движения. Ведь ты при этом иикого
не вел. И, несмотря на это, тебе хочется назвать это дви-
жение «направляющим». Следовательно, ни в этом дви-
жении, ни в этом переживании не заключалась сущность
«управления», и тем не менее что-то побуждает тебя ис-
пользовать данное обозначение. И тем, что навязывает
нам это выражение, служит именно впечатление от
единой формы проявления управления.
179. Вернемся к нашему случаю (151). Ясно, что мы
ие могли бы сказать, что В был вправе произнести сло-
ва «Теперь я знаю, как продолжить», поскольку ему в
голову пришла формула ряда чисел, — если бы не была
установлена эмпирическая связь между возникновени-
ем в его сознании формулы (ее проговариванием, запи-
сью) и действительным продолжением ряда. А такая
связь явно существует. Так что можно было бы считать,
что предложение «Я могу продолжить ряд» равнознач-
но предложению «Я испытываю переживание, которое,
в соответствии с опытом, ведет меня к продолжению
ряда». Но это ли имеет в виду В, говоря, что может про-
должить ряд? Возникает ли у него в сознании это пред-
ложение или же он готов произвести его для объясне-
ния того, что он имеет в виду?
I I *
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
324
Вовсе нет. Слова «Теперь я знаю, как продолжить*
были правильно употреблены, когда В пришла в голову
формула ряда; то есть при определенных обстоятель-
ствах. Например, если он изучал алгебру, то ранее уже
пользовался такими формулами. Но это не значит, что
приведенное высказывание — всего лишь сокращение
для описания совокупности обстоятельств, образую-
щих сценическую площадку нашей языковой игры. По-
думай о том, как мы учимся применять выражения «Те-
перь я знаю, как продолжить*, «Теперь я знаю, что сле-
дует делать» и т. д.; в каком семействе языковых игр мы
овладеваем их употреблением.
Мы можем также представить себе случай, когда в
сознании В вообще ничего другого не происходит, кро-
ме того, что он внезапно говорит «Теперь я знаю, как
продолжить* — возможно, с чувством облегчения; н
что он при этом действительно продолжает ряд, не
пользуясь формулой. Мы бы и в этом случае — при оп-
ределенных обстоятельствах — сказали, что он понял,
как продолжить ряд.
180. Вот как употребляются эти слова. В после-
днем случае, например, назвать слова В «описанием ду-
шевного состояния» было бы совершенно ошибочно.
Скорее уж их можно было бы назвать «сигналом», а
правильно ли он употреблен, мы судили бы по тому, что
Вделает дальше.
181. Чтобы это понять, мы должны рассмотреть так-
же следующую ситуацию: предположим, В говорит, что
он знает, как продолжить ряд, но, пытаясь продолжить,
колеблется и не в состоянии сделать это. Должны ли
мы в таком случае сказать: он был не прав, говоря, что
может продолжать ряд, или же: тогда он мог это сде-
лать, а сейчас нет? Ясно, что в различных ситуациях мы
говорим разные вещи. (Рассмотрим оба вида случаев.)
182. Грамматика слов «подходить», «мочь» и «пони-
мать». Задания: 1) Когда говорят, что цилиндр Z подхо-
325
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
дит к пустотелому цилиндру //? Только ли тогда, когда
Z входит в Я? 2) Иногда говорят, что Z в такое-то и та-
кое время перестал подходить к И. Какими критериями
пользуются в таком случае для определения того, что в
такое время это случилось? 3) Что мы будем считать
критерием того, что тело изменило свой вес за опреде-
ленное время, если оно тогда не лежало на весах?
4) Вчера я знал стихотворение наизусть; сегодня я его
уже не знаю. В каких случаях вопрос «Когда я перестал
его знать наизусть?» имеет смысл? 5) Кто-то спрашива-
ет меня: «Можешь ли ты поднять эту тяжесть?» Я отве-
чаю: «Да». А когда он говорит мне «Подними!» — я не
могу этого сделать. При каких обстоятельствах мое оп-
равдание: «Отвечая “Да”, я мог это сделать, а вот сей-
час не могу» — могло бы быть сочтено достаточным?
Критерии правильности применения слов «подхо-
дить», «мочь», «понимать» значительно сложнее, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. То есть игра с этими
словами, их употребление в языковом общении, осуще-
ствляемом с их помощью, были запутаны — роль этих
слов в нашем языке иная, чем мы склонны полагать.
(Чтобы разрешить философские парадоксы, мы дол-
жны понять именно эту роль. Дефиниции же для этого,
как правило, недостаточно; утверждения же, что слово
вообще «неопределимо», — тем паче.)
183. Ну а что означает предложение «Теперь я могу
продолжить» (151) — то же ли самое, что и предложе-
ние «Теперь мне в голову пришла формула», или же
что-то другое? Можно сказать, что при таких обстоя-
тельствах одно предложение имеет тот же смысл (дела-
ет то же самое), что и другое. Однако следовало бы до-
бавить, что вообще эти два предложения имеют неоди-
наковый смысл. Мы же говорим: «Теперь я могу про-
должить, думаю, что я знаю формулу»; так же как
говорим: «Я могу пройтись, то есть у меня есть время»;
или же: «Я могу прогуляться, то есть я уже достаточно
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
326
окреп»; или же: «Что касается моей ноги, то я в состоя-
нии прогуляться». Мы говорим так, противопоставляя
это условие моей прогулки другим условиям. Но здесь
следует остеречься представления, будто существует
некоторая совокупность условий, соответствующих
природе каждого случая (например, прогулки челове-
ка), то есть такая совокупность условий, что, будь все
они выполнены, ему как бы не останется другого вы-
бора, кроме как пойти гулять.
184. Я хочу вспомнить мелодию, а она ускользает от
меня; вдруг я говорю: «Теперь я знаю ее|» — н начинаю
напевать. Как произошло, что я вдруг вспомнил ее? Ко-
нечно, она не могла прийти мне в голову в тот момент
вся целиком) Ты, пожалуй, скажешь: «Это особое чув-
ство, как если бы она сейчас звучала тут», — но разве
она звучит в действительности? А что, если я начал ее
петь и не смог продолжить? Но разве я не мог в тот мо-
мент быть уверенным, что знаю ее? Следовательно, в ка-
ком-то смысле она все-таки была тут). Но в каком смыс-
ле? Ты бы сказал, что мелодия присутствует тут, когда
кто-то в состоянии ее пропеть от начала до конца, или же
она во всей полноте ее звучания воспринимается его
внутренним слухом. Я ведь не отрицаю, что высказыва-
нию о присутствии мелодии здесь можно придать и со-
вершенно другой смысл — например, истолковать это в
том смысле, что я располагаю листком бумаги, на кото-
ром она записана. А в чем состоит тогда «уверенность»
человека, что он ее знает? Конечно, можно сказать: если
кто-нибудь говорит убежденно, что теперь он знает ме-
лодию, то в этот момент она (каким-то образом) пребы-
вает у него в душе, — а это объяснение слов: «Мелодия
присутствует у него в душе во всей своей полноте».
185. Вернемся к нашему примеру (143). Ученик тут
же овладел — судя по обычным критериям — рядом на-
туральных чисел. Теперь мы учим его записывать дру-
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
327
гие ряды количественных числительных и доводим
наше обучение до того, что он, например, по заданию,
имеющему форму +п, записывает такого рода ряд:
О, п,2п, Зпт. д,,
а по заданию «+1» записывает натуральный ряд чисел.
Предположим, что наши упражнения и контрольные
работы проводятся в числовом интервале от 0 до 1000.
Теперь мы просим учащегося продолжить ряд за ты-
сячу (скажем, по команде «+2») — а он записывает:
1000,1004,1008,1012.
Мы говорим ему: «Посмотри, что ты делаешь!* Он
нас не понимает. Мы говорим: «Ты должен прибавлять
“два”: смотри, как ты начал ряд!* Он отвечает: «Да!
А разве это неверно? Я думал, что нужно делать так*.
Или же представь себе, что он сказал, указывая на ряд:
«Но ведь я действовал здесь точно так же». Было бы
бесполезно говорить ему: «Разве ты не видишь...?» — и
повторять при этом старые пояснения и примеры. В та-
ком случае мы могли бы сказать: этому человеку по
природе свойственно понимать наше задание и наши
пояснения так, как мы понимаем задание: «До 1000 все-
гда прибавляй 2, до 2000 — 4, до 3000 — 6 и т. д.»
Этот случай сходен с тем, когда человек естествен-
но реагирует на указующий жест руки, глядя не в на-
правлении указательного пальца, а в обратном направо
лении — от пальца к запястью руки.
186. «Тогда то, что ты говоришь, сводится к следую-
щему: для правильного выполнения задания “+п” на
каждом шагу требуется новый инсайт — интуиция».
Для правильного выполнения! А как же решить, какой
шаг является правильным в определенный момент?
«Правилен тот шаг, который соответствует заданию —
как оно было задумано*. Итак, давая задание «+2», ты
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
328
имел в виду, что ученик должен после 1000 написать
1002, — подразумевал ли ты также, что после 1866 он
должен написать 1868, после 100 034—100 036 ит. д., —
то есть мыслил бесконечное число предложений? «Нет.
Я имел в виду, что после каждого записанного числа
нужно записывать не ближайшее к нему по порядку
число натурального ряда, а следующее за этим. А отсю-
да, соответственно их месту, следуют все те [конкрет-
ные] предложения». Но вопрос как раз и заключается в
том, что следует из такого предложения в той или иной
позиции. Или же — что в той или иной позиции следует
называть «соответствием» этому предложению (и тому
значению, каким ты его наделил, — в чем бы это воз-
можное значение ни состояло). Едва ли правильнее
было бы сказать, что на каждом шагу требуется не ин-
туиция, а новое решение.
187. «Но, давая задание, я уже знал, что после 1000
должно быть записано 1002?» Конечно, и ты даже мо-
жешь сказать, что тогда подразумевал это. Не надо
лишь позволять, чтобы грамматика слов «знать» и
«предполагать» вводила тебя в заблуждение. Ведь ты
же не имеешь в виду, что думал тогда конкретно о пере-
ходе от 1000 к 1002, — а если ты и думал об этом пере-
ходе, то ведь не думал о других. Твое «Я уже тогда
знал...» означает приблизительно следующее: «Если бы
у меня тогда спросили, какое число должно следовать
за 1000, я бы ответил: 1002». И я не сомневаюсь в этом.
Данное допущение примерно того же типа, что это:
«Если бы он тогда упал в воду, я бы бросился за ним».
Так в чем же ошибочно твое представление?
188. Тут я прежде всего сказал бы: тебе представи-
лось, будто в самом акте осмысления задания уже были
каким-то образом осуществлены все шаги: что твое со-
знание при этом осмыслении как бы унеслось впереди
проделало все переходы еще до того, как ты физически
подошел к тому или другому из них.
329
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
То есть ты был склонен воспользоваться вот таким
высказыванием, как: «Переходы по сути уже были вы-
полнены еще до того, как я их совершил письменно, ус-
тно или мысленно». И казалось, будто они каким-то со-
вершенно особым образом как бы предопределены,
предвосхищены — как способен предвосхищать дей-
ствительность только акт осмысления (das Meinen).
189. «Но разве переходы от числа к числу не опре-
деляются алгебраической формулой?» В самом этом
вопросе кроется ошибка.
Мы употребляем выражение: «Переходы определя-
ются формулой...» Как. оно используется? Например,
можно говорить о том, что люди путем образования
(тренировки) приобретают умение пользоваться фор-
мулой у — х2 так, что, подставляя одинаковое число на
место х, все они всегда получают при вычислении одно
и то же число для у. Или же можно сказать: «Эти люди
обучены таким образом, что по заданию “+3” в одина-
ковой* позиции все они выполняют один и тот же пере-
ход. Это можно было бы выразить так: задание “+3”
полностью определяет для этих людей любой переход
от одного числа к другому, следующему за ним». (В от-
личие от других людей, которые, получив такое зада-
ние, не знают, что делать; или же тех, кто реагирует на
него вполне уверенно, но каждый по-своему.)
С другой стороны, можно противопоставить друг
другу различные типы формул и характерные для них
различные типы использования (прикладного примене-
ния). При этом некоторого рода формулы (и способы их
применения) мы называем «формулами, определяющи-
ми число у для данного х», а формулы другого рода —
«формулами, не определяющими число у ддя данного
х». (Формула у - х2 была бы тогда формулой первого
рода, ау Ф х2 — второго.) Предложение «Формула... опре-
деляет число у» является в таком случае высказыванием
о типе формулы —- и тогда необходимо отличать, скажем,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
330
такое предложение: «Формула, которую я записал, оп-
ределяет у» или же «Вот формула, которая определяет
у* от предложений типа: «Формула у ~ х2 определяет
число у для данного х». В таком случае вопрос «Опреде-
ляется ли у данной формулой?» равнозначен вопросу
«Принадлежит ли данная формула к формулам первого
или второго типа?» Но неясно, что делать с вопросом
«Является ли формула у - х2 формулой, определяющей
у для данного х?». Ну, скажем, этот вопрос можно за-
дать ученику, проверяя, понимает ли он употребление
слова «определять». Или же он мог бы быть математи-
ческим заданием: доказать, что в некоторой системе х
имеет только один квадрат.
190. И все же можно сказать: «То, как осмысливает-
ся формула, и определяет, какие переходы должны осу-
ществляться». Каков же критерий того, что имеет в
виду формула? Таким критерием служит, например,
способ ее постоянного употребления, способ, каким
нас обучили ею пользоваться.
Например, кому-то, использующему неизвестный
нам знак, мы говорим: если под «х!2» ты имеешь в виду
х2, то у получит это значение, если же 2х, у обретает
то значение». Теперь спроси себя: как человек это де-
лает — подразумевая под х!2 одно или другое?
Так предполагаемое значение предопределяет пере-
ходы в ряду.
191. «Представляется, будто мы можем разом схва-
тить всё употребление слова». Как что, например? Раз-
ве — в определенном смысле — его невозможно постичь
разом? А в каком смысле ты этого не можешь? В том
смысле, который как бы подразумевает возможность еще
более непосредственного «моментального понимания».
Но есть лн у тебя какой-нибудь образец этого? Нет. Свои
услуги нам предлагает самим лишь этот способ выраже-
ния. Как определенный итог взаимопересечеиия картин.
<31
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
192. У тебя нет модели для этого сверхфакта, но
нозникает искушение прибегнуть к сверхвыражению.
(Его можно было бы назвать философским супервыра-
жением.)
193. Машина как символ ее способа действия. Ма-
шина — это можно сказать о ней прежде всего — ка-
жется нам чем-то таким, что уже несет в себе свой об-
раз действия. Что это значит? Если мы знаем машину,
все остальное, то есть движение, которое она будет
производить, кажется нам уже всецело определенным.
Мы говорим так, как если бы детали могли двигать-
ся только таким образом и не могли бы делать ничего
иного. Но так ли это? Неужели мы забыли о том, что
они могут погнуться, сломаться, расплавиться и т. д.?
Да, во многих случаях мы совсем не думаем об этом.
Мы пользуемся машиной или ее чертежом как симво-
лом определенного образа действий. Так, мы даем кому-
нибудь чертеж машины и предполагаем, что из него он
выведет движение ее частей. (Так же как можно сооб-
щить кому-нибудь число, сказав, что оно является двад-
цать пятым членом ряда 1,4,9, 16,...)
«Кажется, что машина уже заключает в себе свой об-
раз действия». Эта фраза означает: мы склонны сравни-
вать будущие движения машины по их определенности с
предметами, которые уже лежат в ящике, и теперь мы
извлекаем их оттуда. Но мы ие говорим так, когда речь
идет о предсказании действительного поведения маши-
ны. Здесь, как правило, мы не забываем о возможности
деформации деталей и т. п. Говорим же мы в таком роде,
когда поражаемся тому, что машину можно использо-
вать в качестве символа определенного типа движения,
хотя она может двигаться совершенно по-другому.
Можно сказать, что машина или ее картина дают
начало целой серии картин, которые мы научились вы-
водить из дайной картины.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
332
Но когда мы размышляем о том, что машина могла
бы двигаться и иначе, то может показаться, что в маши-
не как символе виды ее движений должны быть заложе-
ны с гораздо большей определенностью, чем в действи-
тельных машинах. Как будто для движений, о которых
идет речь, недостаточно, чтобы их последовательность
определялась, предсказывалась эмпирически. В некоем
таинственном смысле эти движения действительно дол-
жны уже присутствовать. И, конечно же, верно: дви-
жение машины-символа предопределено иначе, чем
движение любой реально существующей машины.
194. Когда же возникает мысль: возможные движе-
ния машины неким таинственным образом уже заклю-
чены в ней? Ну, когда человек философствует. Что же
побуждает нас так думать? Тот способ, каким мы гово-
рим о машинах. Мы говорим, например, что машина
имеет (обладает) такие-то возможности движения; мы
говорим об идеально стабильной машине, которая мо-
жет двигаться только так. Что же это такое — возмож-
ность движения? Это не движение. Но она не пред-
ставляется нам и чисто физическим условием движе-
ния — скажем, наличием некоторого зазора между ши-
пом и гнездом, чтобы шип не слишком плотно входил в
гнездо. Да, это — эмпирическое условие движения, од-
нако предметы можно представить себе и иначе. Воз-
можность движения, скорее уж, должна быть как бы те-
нью самого движения. А известна ли тебе какая-нибудь
тень подобного рода? Но, говоря о тени, я не имею в
виду какую-то картину движения — ведь такая картина
вовсе не обязана была бы быть картиной именно дан-
ного движения. Возможность же этого движения долж-
на быть возможностью именно этого движения. (По-
смотри-ка, как бушует здесь море нашего языка!)
Волны утихают, стоит нам только спросить себя:
как мы пользуемся словами «возможность движения»,
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
говоря о какой-то машине? Но откуда приходят тогда
эти странные представления? Так ведь я же показываю
тебе возможность движения, например, с помощью ка-
кой-нибудь картины движения: «Значит, возможность
есть нечто, подобное действительности». Мы говорим:
«Это еще не движется, но уже имеет возможность дви-
гаться», «следовательно, возможность есть нечто такое,
что очень близко действительности». Хотя можно со-
мневаться в том, делают ли такие-то физические усло-
вия возможным это движение, но мы никогда не диску-
тируем о том, является ли это возможностью этого или
того движения: «Таким образом, возможность движе-
ния находится в совершенно особом отношении к само-
му движению — более тесном, чем отношение картины
к изображаемому, ибо в случае с картиной можно со-
мневаться, является ли она изображением этого или
того». Мы говорим: «Опыт покажет, дает ли это шипу
возможность движения». Но не говорим: «Опыт пока-
жет, является ли это возможностью этого движения».
«Значит, то, что эта возможность — возможность
именно этого движения, не является фактом опыта».
В связи с этим сюжетом мы вдумываемся в наш соб-
ственный способ выражения, но не понимаем, неверно
истолковываем его. Философствуя, мы уподобляемся
дикарям, примитивным людям, которые слышат выра-
жения цивилизованных людей, дают им неверное тол-
кование и затем извлекают из своего толкования про-
странные выводы из своих толкований.
195. «Но я имею в виду не то, что происходящее со
мною сейчас (в момент уяснения смысла) каузально и
эмпирически определяет будущее употребление, а что
некоторым странным образом само это употребление в
каком-то смысле уже присутствует». Но ведь «в каком-
то смысле» это так! По сути дела, в том, что ты гово-
ришь, неверно лишь выражение «странным образом».
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
334
Все остальное верно; странным же предложение кажетг
ся лишь тогда, когда его представляют себе в другой
языковой игре, не в той, где оно фактически употребля-
ется. (Кто-то рассказывал мне, что ребенком он ломал
голову иад тем, как это портной может сшить платье.
Он думал, что это подразумевает, будто платье создает-
ся только шитьем, нитка пришивается к нитке.)
196. Непонятное употребление слова превратно ис-
толковывается как выражение странного процесса.
(Так, мы думаем о времени как о странной среде, а о
душе — как о странной сущности.)
197. «Представляется, будто мы можем разом схва-
тить всё употребление словам. Да мы и говорим, что де-
лаем это. То есть иногда описываем то, что делаем,
именно этими словами. Однако в том, что происходит,
нет ничего поразительного, ничего странного. Стран-
ным это становится в том случае, когда склоняет нас к
мысли, что будущее развертывание уже каким-то обра-
зом должно присутствовать, а между тем не присут-
ствует в акте понимания. Говорим же мы, нисколько не
сомневаясь, что понимаем это слово, а между тем его
значение заключено в его употреблении.
Несомненно, что я сейчас хочу играть в шахматы;
но игра становится именно шахматной игрой благодаря
всем ее правилам (и т. д.). Так что же, выходит, я не
знаю, во что собираюсь играть, до тех пор, пока не сыг-
раю? Или же: неужели в моем акте намерения содер-
жались все правила игры? Разве о том, что за этим ин-
тенциональным актом обычно следует такого рода игра,
я узнаю лишь из опыта? Что же, выходит, можно быть
неуверенным в том, что намереваешься делать? А если
это нонсенс — то какого рода сверхсильная связь суще-
ствует между актом намерения и тем, что мы намерены
делать? Где осуществляется связь между смыслом слов
335
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Сыграем партию в шахматы!» и всеми правилами
игры? Ну, в перечне правил игры, при обучении игре в
шахматы, в ежедневной практике игры.
198. «Но как может какое-то правило подсказать
мне, что нужно делать в данный момент игры? Ведь,
что бы я ни делал, всегда можно — с помощью той или
иной интерпретации — как-то согласовать это с таким
правилом». Да речь должна идти ие об этом, а вот о чем:
все же любая интерпретация повисает в воздухе вместе
с интерпретируемым; она не в состоянии служить ему
опорой. Не интерпретации как таковые определяют
значение.
«Выходит, что бы я ни сделал, все согласуемо с та-
ким правилом?» Позволь поставить вопрос так: «Как
возможно, чтобы определенное выражение правила —
скажем, дорожный знак — влияло на мои действия?
Какая связь имеет здесь место?» Да хотя бы такая: я
приучен особым образом реагировать на этот знак и те-
перь реагирую на него именно так.
Но этим ты задал лишь причинную связь, лишь
объяснение, как получилось, что наши движения те-
перь подчинены дорожным указателям. О том же, в
чем, собственно, состоит это следование-указаниям-
зиака, ты ничего не сказал. Ну как же, я отметил еще и
то, что движение человека регулируется дорожными
указателями лишь постольку, поскольку существует
регулярное их употребление, практика.
199. Является ли то, что мы называем «следовани-
ем правилу», чем-то таким, что мог бы совершить
лишь один человек, и только раз в жизни? А это, ко-
нечно, замечание о грамматике выражения «следовать
правилу».
Невозможно, чтобы правилу следовал только один
человек, и всего лишь однажды. Не может быть, чтобы
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 336
лишь однажды делалось сообщение, давалось или пони-
малось задание и т. д. Следовать правилу, делать сооб-
щение, давать задание, играть партию в шахматы — все
это практики (применения, институты).
Понимать предложение — значит понимать язык.
Понимать язык — значит владеть некой техникой.
200. Конечно, можио представить себе, что в некоем
племени, незнакомом с играми, два человека сели бы за
шахматную доску и начали делать ходы в какой-то шах-
матной игре; причем с соответствующими проявлениями.
Увидев это, мы сказали бы, что они играют в шахматы. Ну
а представь себе шахматную партию, переведенную по оп-
ределенным правилам в ряд действий, обычно не ассоции-
руемых с игрой, — например, выкрики, топанье ногами.
И допустим, эти двое, вместо того чтобы играть в обычные
шахматы, кричат и топают ногами, причем так, что эти
действия переводимы по соответствующим правилам в
шахматную партию. Разве мы и в этом случае все еще
склонны были бы говорить, что они играют в какую-то
игру; и что давало бы нам право так говорить?
201. Наш парадокс был таким: ни один образ дей-
ствий не мог бы определяться каким-то правилом, по-
скольку любой образ действий можно привести в соот-
ветствие с этим правилом. Ответом служило: если все
можно привести в соответствие с данным правилом, то
все может быть приведено и в противоречие с этим пра-
вилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни
противоречия.
Мы здесь сталкиваемся с определенным непонима-
нием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения
выдвигались одна за другой разные интерпретации,
словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то вре-
мя, пока в голову не приходила другая, сменявшая пре-
жнюю. А это свидетельствует о том, что существует та-
кое понимание правила, которое является не интер-
претацией, а обнаруживается в том, что мы называем
337
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«следованием правилу» и «действием вопреки» правилу
в реальных случаях его применения.
Вот почему мы склонны говорить: каждое действие
по правилу— интерпретация. Но «интерпретацией»
следовало бы называть лишь замену одного выражения
правила другим.
202. Стало быть, «следование правилу» — некая
практика. Полагать же, что следуешь правилу, не зна-
чит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя следо-
вать лишь «приватно»; иначе думать, что следуешь пра-
вилу, и следовать правилу было бы одним и тем же.
203. Язык — это лабиринт путей. Ты подходишь с
одной стороны и знаешь, где выход; подойдя же к тому
самому месту с другой стороны, ты уже ие знаешь вы-
хода.
204. Так, при определенных обстоятельствах можно
изобрести игру, в которую никто никогда ие играл.
А возможно ли такое: изобрести игру, в которую никто
никогда не играл, при том, что человечество никогда не
играло ни в какие игры?
205. «В связи с намерением как психическим про-
цессом вызывает удивление именно то, что для него не
является необходимым наличие практики, техники.
Что можно представить себе ситуацию, когда в некоем
мире, где в других случаях никто никогда не играл, ска-
жем, два человека собирались бы разыграть шахмат-
ную партию, и что они уже вот-вот должны к ней при-
ступить — но тут их прерывают».
Но разве шахматная игра не определяется ее прави-
лами? А каким образом эти правила присутствуют в со-
знании того, кто намеревается играть в шахматы?
206. Между следованием правилу и подчинением
приказу существует аналогия. Мы обучены следовать
приказу и реагируем на него соответствующим обра-
зом. Ну а что, если один человек реагирует на приказ и
обучение так, а другой — иначе? Кто из них прав?
ЛОДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
358
Представь, что в качестве исследователя ты приез-
жаешь в неизвестную страну, язык которой тебе совер-
шенно незнаком. При каких обстоятельствах ты бы ска-
зал, что люди там отдают приказы, понимают их, подчи-
няются им, противятся им и т. д.?
Совместное поведение людей — вот та референт-
ная система, с помощью которой мы интерпретируем
незнакомый язык.
207. Представим себе, что люди в этой стране заняты
обычной человеческой деятельностью и пользуются при
этом, казалось бы, членораздельным языком. Присмат-
риваясь к их поведению, мы находим его разумным, оно
представляется нам «логичным*. Но, пытаясь выучить
их язык, мы обнаруживаем, что это невозможно. По-
скольку в нем нет устойчивой связи между тем, что они
говорят, произносимыми звуками и их действиями. И
вместе с тем эти звуки не излишни, ибо, если мы, на-
пример, заткнем одному из них рот, последствия будут
те же самые, что и с нами без этих звуков, я бы выразил
это так, их поведение станет хаотичным.
Надо ли говорить, что у этих людей есть язык —
приказы, сообщения и т. д.?
Назвать это «языком» не позволяет отсутствие ре-
гулярности.
208. Тогда, выходит, я объясняю то, что называю
«приказом» и «правилом», с помощью «регулярности»?
Как объясню я кому-нибудь значение слов «регуляр-
ный», «единообразный», «аналогичный»? Ну, тому, кто
говорит лишь по-французски, я объясню эти слова с по-
мощью соответствующих французских слов. Человека
же, еще не овладевшего данными понятиями, я буду
учить пользоваться этими словами с помощью приме-
ров и практики. При этом я сообщу ему не меньше,
чем знаю сам.
Так, в процессе этого обучения я покажу ему одина-
ковые цвета, одинаковые длины, одинаковые фигуры,
339
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
заставлю его находить их, делать их и т. д. Я научу его,
например, тому, как по заданию продолжать «однород-
ный» орнамент, И тому, как продолжить прогрессию.
Так что если, например, дано: . то продолжением
должно быть:..........
Я показываю ему, как это делается, он подражает
мне, а я воздействую на него, выражая согласие, отри-
цание, ожидание, поощрение. Я предоставляю ему сво-
боду действий или останавливаю его и т. д.
Представь себе, что ты наблюдаешь за таким обу-
чением. Ни одно слово в нем не объяснялось бы через
самое себя, не делалось бы ии одного логического
круга.
В ходе этого обучения объяснялись бы и такие вы-
ражения, как «и так далее», «итак далее до бесконечно-
сти». Для их объяснения могли бы использоваться в
том числе и жесты. Жест, означающий «продолжай
же!» или «и так далее», сопоставим по своей функции с
указанием на какой-нибудь предмет или же место.
Следует различать: «и т. д.» как сокращенный спо-
соб записи и «и т.д.», не являющееся аббревиатурой.
«И т. д. до бесконечности» не есть сокращенная запись.
То, что мы не можем записать всех цифр числа П, не
является человеческим несовершенством, как иногда
считают математики.
Обучение, замыкающееся на приведенных приме-
рах, отличается от обучения, указывающего на то, что
находится вне этих пределов.
209. «Но разве понимание ие простирается за гра-
ницы всех примеров?» Весьма странное изречение, и
притом совершенно естественное!
Неужели этим сказано все? Разве не существует ка-
кого-то более глубокого объяснения или разве не долж-
но понимание объяснения все же быть более глубоким?
Нет ли у меня самого более глубокого понимания? Раз-
ве я располагаю чем-то большим, чем предлагаю в
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
340
объяснении? Откуда же тогда это чувство, что я распо-
лагаю чем-то большим?
Не похоже ли это на то, когда нечто, обладающее
неограниченной длиной, я интерпретирую как выходя-
щее за пределы любой длины?
210. «Но действительно ли ты объясняешь другому
человеку то, что понимаешь сам? Разве ты не предостав-
ляешь ему самому угадывать существенное? Ты даешь
ему примеры — но он должен угадать их тенденцию, а
значит, и твой замысел». Каждое объяснение, которое я
способен дать самому себе, я даю и ему. «Он угадывает,
что я имею в виду» означало бы: ему приходят в голову
различные интерпретации моего объяснения, и он при-
нимает одну из них. Так что в этом случае он мог бы за-
дать вопрос, а я мог бы и должен был бы ответить ему.
211. «Как бы ты ни инструктировал его насчет про-
должения орнамента, откуда он может знать, как про-
должить его самостоятельно?» А откуда я это знаю?
Если ты хочешь спросить: «Есть ли у меня основа-
ния?» — то я отвечу: мои основания скоро иссякнут.
И тогда я буду действовать без оснований.
212. Если задание продолжить ряд мне дает кто-то,
кого я боюсь, то я действую быстро и с полной уверен-
ностью, и нехватка оснований не беспокоит меня.
213. «Но этот начальный отрезок ряда явно можно
было бы интерпретировать по-разному (например, с по-
мощью алгебраических выражений), так что тебе преж-
де всего следовало бы выбрать одну из таких интерпре-
таций». Вовсе нет! При некоторых обстоятельствах было
возможно сомнение. Но это не значит, что я сомневался
или же что только и мог бы сомневаться. (В этой связи
кое-что следовало бы сказать о психологической «атмо-
сфере» какого-либо процесса.)
Неужели эти сомнения могла бы снять только интуи-
ция? Если она — некий внутренний голос, то как я узнаю,
каким образом я должен следовать ей? А как мне знать,
341
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
что она не подводит меня? Ведь если она может вести
меня правильно, то она может и сбивать меня с пути.
((Интуиция — ненужная увертка.))
214. Если интуиция нужна для образования ряда
1 2 3 4 .... то она нужна и для образования ряда 2 2 2 2 ...
215. Но разве то же самое уж во всяком случае не
является тем же самым?
Кажется, будто мы располагаем безупречной пара-
дигмой тождества в виде тождества — вещи самой
себе. Так и хочется сказать: «Здесь уж не может быть
различных толкований. Видя перед собой вещь, тем са-
мым видят также и тождество».
Выходит, две вещи тождественны, если они как
одна вещь? Ну а как то, что показывает одна вещь, при-
менять к случаю с двумя вещами?
216. «Вещь тождественна самой себе». Нет лучшего
примера бесполезного предложения, которое тем не ме-
нее связано с какой-то игрою воображения. То есть мы
в своем воображении как бы вкладываем вещь в ее соб-
ственную форму и видим, что она заполняет ее.
Мы могли бы также сказать: «Каждая вещь совпада-
ет сама с собой» — или же: «Каждая вещь заполняет
свою собственную форму». При этом, глядя на вещь, мы
воображаем, будто для нее было оставлено свободное
место и теперь она точно вошла в него.
Подходит ли это пятно А к своему белому окру-
жению? Да, выглядит оно именно так, словно бы сна-
чала на его месте была дыра, а потом оно заполнило ее.
Однако выражение «это подходит» не просто описыва-
ет именно эту картину. Не просто эту ситуацию.
«Каждое цветовое пятно точно вписывается в свое
окружение» — вот несколько специализированная фор-
мулировка закона тождества.
217. «Как я могу следовать некоему правилу?» — если
это не вопрос о причинах, тогда это вопрос об основаниях
того, что я действую в согласии с ним таким образом.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
342
Исчерпав свои основания, я достигну скального
грунта, и моя лопата согнется. В таком случае я скло-
нен сказать: «Вот так я действую».
(Помни, что мы иногда требуем объяснений не ради
их содержания, а ради формы. Наше требование — ар-
хитектоническое; объяснение — не несущая конструк-
ция, а декоративный карниз.)
218. Откуда возникает представление, будто нача-
тый ряд — это зримый отрезок рельсов, уходящих в не-
видимую бесконечность? Что ж, правило можно пред-
ставить себе в виде рельса. А неограниченному упо-
треблению правила тогда соответствуют бесконечно
длинные рельсы,
219. «Все переходы уже, по сути, сделаны» означа-
ет: у меня нет свободы выбора. Правило, единожды на-
деленное определенным значением, прочерчивает ли-
нии следования через все пространство. А если бы в са-
мом деле происходило что-то в этом роде, разве это по-
могало бы мне?
Да нет же! Мое описание имело бы смысл, лишь
если его понимать символически. Я должен был бы ска-
зать: так мне представляется это.
Повинуясь правилу, я не выбираю.
Правилу я следую слепо.
220. Но для чего пригодно такое символическое
предложение? Оно призвано подчеркнуть разницу меж-
ду причинной обусловленностью и логической обуслов-
ленностью.
221. Мое символическое выражение, по сути, было
неким мифологическим описанием применения правила.
222. «Линия подсказывает, каким путем я должен
идти» — но ведь это всего лишь картина. Придя к выводу,
что она как бы безотчетно подсказывала мне то или это, я
бы не сказал, что следовал ей, как некоему правилу.
343
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
223. У нас нет такого чувства, что мы вынуждены
постоянно ожидать кивка (шепота) правила. Наоборот,
мы не ждем с напряжением, что же оно нам сейчас ска-
жет. Оно всегда говорит нам одно и то же, и мы выпол-
няем то, что оио диктует нам.
Человек, обучающий кого-то, мог бы сказать ему:
«Смотри, я делаю всегда одно и то же: я ...»
224. Слово «согласие» («Ubereinstimmung») и слово
«правило» («Regel») родственны друг другу, они двою-
родные братья. Обучая кого-нибудь употреблять одно
из этих слов, я тем самым учу его и употреблению дру-
гого.
225. Употребление слова «правило» переплетено с
употреблением слов «то же самое». (Как употребление
слова «предложение» — с употреблением слова «ис-
тинный».)
226. Предположим, кто-то записывает ряд 1, 3, 5,
7,... по формуле 2х + 1. И он задает себе вопрос: «А де-
лаю ли я всякий раз одно и то же или каждый раз нечто
иное?»
Если кто-то со дня на день обещает другому: «Завт-
ра я навещу тебя», — говорит ли он каждый день одно и
то же или же каждый деньнти-то другое?
227. Разве имеет смысл заявлять: «Если бы он вся-
кий раз делал что-то другое, мы бы не говорили: он сле-
дует какому-то правилу»? Это не имеет смысла.
228. «Ряд имеет для нас один облик». Да, но какой?
Ведь он представим алгебраически и как фрагмент воз-
можного развертывания. Или же в нем есть еще что-то?
«Да в нем уже заложено все!» Но это не констатация
зримо воспринимаемого фрагмента ряда или чего-ни-
будь в этом роде. Это — выражение того, что мы дей-
ствуем лишь на основе правила, не прибегая ни к како-
му другому руководству.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
344
229. Мне представляется, будто во фрагменте ряда
я воспринимаю какой-то очень тонкий рисунок, некое
характерное движение, к которому для достижения
бесконечности нужно добавить лишь «и т. д.».
230. «Линия подсказывает мне, каким путем я дол-
жен идти». Это всего лишь парафраз того, что она —
моя последняя инстанция, определяющая путь, каким
я должен идти.
231. «Но ты же видишь!..» Вот это и есть характер-
ное выражение человека, находящегося во власти пра-
вила.
232. Представим себе, что правило подсказывает
мне, как я должен ему следовать; например, когда мой
глаз прослеживает линию, внутренний голос во мне го-
ворит: «Проводи ее так!» В чем различие между этим
процессом следования некоторого рода внушению и про-
цессом следования правилу? Ведь они же не тождествен-
ны. В случае внушения я ожидаю наставления. Я не
смогу учить кого-то другого моей «технике» прослежива-
ния линии. Разве что я учил бы умению прислушиваться
к своему внутреннему голосу, некоторого рода воспри-
имчивости. Но в этом случае я, понятно, не мог бы от
него требовать, чтобы он следовал линии так же, как я.
Это — не мои опыты действия по вдохновению и по
правилу, а грамматические заметки.
233. В таком духе можно вообразить себе и обуче-
ние некоей арифметике. Дети в таком случае умели бы
вычислять каждый по-своему, прислушиваясь лишь к
своему внутреннему голосу и следуя только ему. Эти
вычисления напоминали бы некое сочинение.
234. А разве невозможно было бы вычислять как
обычно (когда все приходят к одинаковым результатам
и т. д.) и все же то и дело испытывать чувство, что пра-
вила действуют на нас как бы магически, может быть
удивляясь при этом тому, что получаемые результаты
34S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
совпадают? (За такое согласие можно было бы, ска-
жем, возносить благодарность божеству.)
235. Все это просто-напросто показывает тебе ха-
рактерные черты того, что называют «следованием пра-
вилу» в повседневной жизни.
236. Виртуозы вычислений приходят к правильно-
му результату, но не могут сказать, каким образом.
Надо ли говорить, что они не вычисляют? (Семейство
случаев.)
237. Представь себе, что кто-то так использует ли-
нию в качестве правила: он держит циркуль, одну нож-
ку которого ведет вдоль линии-правила. Второй нож-
кой он проводит другую линию, соответствующую пра-
вилу. И, двигая ножку циркуля по линии-правилу, он,
выказывая необычайную добросовестность, меняет ве-
личину раствора циркуля, всегда глядя при этом на ли-
нию, служащую правилом, как бы определяющим его
действия. Мы же, глядя на него, не видим в этих уве-
личениях и уменьшениях раствора циркуля никакой
закономерности. Мы не можем из этого усвоить его
способ следовать за линией. В таком случае мы, пожа-
луй, сказали бы: «Кажется, что образец (Vorlage) под-
сказывает ему, как нужно действовать. Но он не яв-
ляется правилом!»
238. Чтобы правило могло представляться мне чем-
то, заведомо выявляющим все свои следствия, оно дол-
жно быть для меня само собой разумеющимся. Так же
как само собой разумеется для меня называть этот цвет
«синим». (Критерий того, что это для меня «само собой
разумеется».)
239. Откуда человеку знать, какой выбрать цвет,
когда он слышит слово «красный»? Очень просто: он
должен взять тот цвет, образ которого всплывает в его
сознании при звуках услышанного слова. А как ему
узнать, каков тот цвет, «образ которого оживает в его
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
345
сознании»? Нужен ли ему для этого еще какой-то кри-
терий? (Разумеется, существует некая процедура: вы-
бор цвета, возникающего у кого-то в сознании, когда
он слышит слово...)
Фраза: «Слово “красный” обозначает цвет, возника-
ющий в моем сознании, когда я слышу слово “крас-
ный”» была бы дефиницией, а не объяснением сути
обозначения чего-нибудь словом.
240. Не прекращаются споры (скажем, среди мате-
матиков) о том, соблюдено правило или же нет. При
этом, положим, до драки дело не доходит. Это присуще
тому каркасу, на котором базируется работа языка (на-
пример, при описании).
241. «Итак, ты говоришь, что согласием людей ре-
шается, что верно, а что неверно?» Правильным или не-
правильным является то, что люди говорят; и согласие
людей относится к языку. Это — согласие не мнений, а
формы жизни.
242. Языковое взаимопонимание достигается не
только согласованностью определений, но (как ни
странно это звучит) и согласованностью суждений.
Это, казалось бы, устраняет логику; но ничего подобно-
го не происходит. Одно дело описывать методы измере-
ния, другое — добывать и формулировать результаты
измерений. А то, что мы называем «измерением», опре-
деляется и известным постоянством результатов изме-
рения.
243. Человек может сам себя одобрять, давать себе
задания, слушаться, осуждать, наказывать самого себя,
задавать себе вопросы и отвечать на них. Значит, мож-
но также представить себе людей лишь с монологиче-
ской речью. Они сопровождали бы свои действия разго-
ворами с самими собой. Исследователю, наблюдавше-
му их и слушавшему их речи, может быть, удалось бы
перевести их язык на наш. (Это позволило бы ему пра-
347
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
вильно предсказывать их поступки, ибо он слышал бы и
фразы об их намерениях и решениях.)
Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог
бы для собственного употребления записывать или выс-
казывать свои внутренние переживания — свои чув-
ства, настроения и т. д.? А разве мы не можем делать
это на нашем обычном языке? Но я имел в виду не это.
Слова такого языка должны относиться к тому, о чем
может знать только говорящий, — к его непосредствен-
ным, личным впечатлениям. Так что другой человек не
мог бы понять этого языка.
244. Как относятся слова к ощущениям? Кажется,
что в этом нет никакой проблемы. Разве мы не говорим
каждый день об ощущениях и не называем их? Но как
устанавливается связь имени с тем, что именуется?
Этот вопрос равнозначен другому: как человек усваива-
ет значение наименований ощущений? Например, сло-
ва «боль». Вот одна из возможностей: слова связывают-
ся с изначальным, естественным выражением ощуще-
ния и подставляются вместо него. Ребенок ушибся, он
кричит; а взрослые при этом уговаривают его и учат
восклицаниям, а затем и предложениям. Они учат ре-
бенка новому, болевому поведению.
«То есть ты говоришь, что слово “боль", по сути, оз-
начает крик». Да нет же; словесное выражение боли за-
мещает крик, а не описывает его.
245. Как же тогда я могу стремиться к тому, чтобы
втиснуть язык между болью и ее выражением?
246. Ну а насколько мои ощущения индивидуаль-
ны'? Да ведь только я могу знать, действительно ли у
меня что-то болит, другой может об этом лишь догады-
ваться. Это, с одной стороны, неверно, с другой — бес-
смысленно. Если слово «знать» употребляется как
обычно (а как еще мы должны его употреблять!), то
другие люди очень часто знают, когда я испытываю
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
348
боль. Да, но не столь достоверно, как я знаю это сам!
О себе вообще нельзя сказать (разве что в шутку): я
знаю, что мне больно. Что бы это должно было означать
помимо того, что я испытываю боль?
Нельзя сказать, что другие узнают о моих ощущени-
ях только по моему поведению, так как и обо мне
нельзя сказать, что я знаю свои ощущения. Они просто
у меня есть.
Верно вот что: о других людях имеет смысл гово-
рить, что они сомневаются, ощущаю ли я боль, гово-
рить же это о себе бессмысленно.
247. «Только ты можешь знать, было ли у тебя такое
намерение». Это можно сказать кому-то, объясняя ему
значение слова «намерение». В таком случае это оз-
начает: мы употребляем данное слово таким образом.
(А слово «знать» означает здесь, что выражение не-
уверенности лишено смысла.)
248. Предложение «Ощущения индивидуальны» со-
поставимо с предложением «В пасьянс человек играет
сам с собой».
249. Может быть, мы слишком поспешно заключа-
ем, что улыбка грудного младенца не притворство? А на
каком опыте основывается наше предположение?
СЯожь — это языковая игра, которой нужно обу-
чаться, как и всякой другой.)
250. Почему собака не может симулировать боль?
Что, она слишком честна? Мог бы человек приучить со-
баку симулировать боль? Пожалуй, ее можно было бы
научить выть при определенных обстоятельствах так,
словно у нее что-то болит, тогда как на самом деле ни-
какой боли нет. Но чтобы быть подлинной симуляцией,
этому поведению всякий раз не хватало бы подходяще-
го сопровождения.
251. Что подразумевают говоря: «Я не могу себе
представить противоположное этому» или же «Что про-
349
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
исходило бы, если бы дело обстояло иначе?» Например,
если бы кто-то заявил, что мои представления индиви-
дуальны; или что только я сам могу знать, действитель-
но ли я испытываю боль; и тому подобное.
«Я не могу представить себе противоположного»,
конечно, не означает здесь, что мне недостает силы во-
ображения. Этими словами мы защищаемся от чего-то
такого, что по форме принимает вид эмпирического
предложения, хотя в действительности является грам-
матическим предложением.
Но почему я говорю: «Я не могу представить себе
противоположное?» Почему не говорю: «Я не могу
представить себе того, что ты сказал?»
Например: «Каждый стержень имеет длину». Это
примерно означает: мы называем нечто (или это) «дли-
ной стержня» — но ничего не называем «длиной
шара». Ну а могу ли я представить себе, что «каждый
стержень имеет длину»? Нет, я просто представляю
себе какой-то стержень, и это все. Только эта картина,
возникшая в связи с вышеназванным предложением,
играет совсем иную роль, чем какая-то картина, свя-
занная с предложением «У этого стола такая же длина,
что и у того». Ибо в данном случае я понимаю, что зна-
чит сформировать картину чего-то аротлвоаалажкаго
(и ей не обязательно быть образным представлением).
Картина же к грамматическому предложению могла
бы только показать, например, что называется «длиною
стержня». А какой же тогда должна быть противопо-
ложная этому картина?
((Замечание об отрицании предложения a priori.))
252. На предложение «Это тело протяженно» мы
могли бы отреагировать: «Бессмыслица!» Однако
склонны отвечать: «Конечно!» Почему?
253. «У другого не может быть моих болей?» Каковы
же они, мои боли? Что используется здесь в качестве
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
3S0
критерия тождества? Поразмысли, что позволяет приме-
нительно к физическим предметам говорить о «двух абсо-
лютно одинаковых». Например, говорить: «Это не тот
стул, что ты видел вчера, но он точно такой же, как тот».
Поскольку высказывание о том, что у меня такая же
боль, как у него, имеет смысл, то и возможно, что мы
оба испытываем одинаковую боль. (Можно предста-
вить себе и то, что два человека испытывают боль в од-
ном и том же — а не только в соответствующем — мес-
те. Это мог бы быть, например, случай с сиамскими
близнецами.)
Я видел, как один из участников дискуссии по это-
му вопросу, ударяя себя в грудь, говорил: «Но ведь дру-
гой не может испытывать вот ЭТОЙ боли!» Ответ на
это состоит в том, что критерий тождества определяет-
ся не путем выразительного акцентирования слова
«этой». Более того, этим акцентированием мы лишь за-
темняем то, что такой критерий нам известен, но о нем
нужно напоминать.
254. Типичной уловкой в философии является и
подстановка слова «тождественный» («gleich») вместо
«одинаковый» («identisch») (например). Под видом
того, будто речь шла об оттенках значения и от нас
требовалось лишь найти слово для передачи нужного
нюанса. Но в процессе философствования это нужно
лишь тогда, когда возникает задача психологически
точного изображения нашей склонности использовать
определенную форму выражения. То, что мы в таком-
то случае «склонны говорить», — это, конечно, не фи-
лософия, а лишь материал для нее. Так, например, то,
что склонен говорить математик об объективности и
реальности математических фактов, — не философия
математики, а нечто, к чему должна обращаться фи-
лософия.
255. Философ лечит вопрос: как болезнь.
351
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
256. Ну а как обстоит дело с языком, описывающим
мои внутренние переживания и понятным лишь мне од-
ному? Как я обозначаю свои ощущения словами? Так,
как это делается обычно? То есть связывая слова, пере-
дающие мои ощущения, с естественными проявления-
ми этих ощущений? В таком случае мой язык не являет-
ся «приватным». Другой может понять его так же, как
я, А допустим, у меня нет никаких естественных прояв-
лений ощущения, а есть только само ощущение? И я
просто ассоциирую имена с ощущениями и пользуюсь
ими при описании.
257. «Что было бы, если бы люди не обнаруживали
своей боли (не стонали, у иих не искажалось бы лицо и
т. д.)? Тогда нельзя было бы научить ребенка пользо-
ваться словами “зубная боль’*». Ну а допустим, что ре-
бенок — гений и сам изобретет название этого ощуще-
ния! Но при этом он бы, конечно, не мог с помощью это-
го слова снискать понимание. Выходит, он понимал бы
это название, но не мог бы никому объяснить его значе-
ние? А что означало бы тогда, что «он дал название сво-
ей боли»? Как он осуществил это?! И что бы он при
этом ни сделал, какова была его цель? Говоря «Он дал
название ощущению», забывают, что в языке уже мно-
гое должно быть подготовлено к тому, чтобы простой
акт наименования обрел смысл, И когда мы говорим,
что кто-то дал название боли, то при этом предусматри-
вается определенная грамматика слова «боль», указы-
вается место, которое будет отведено новому слову.
258. Представим себе такой случай. Я хочу запечат-
леть в дневнике какое-то время от времени испытывае-
мое мною ощущение. Для этого я ассоциирую его со
знаком О и записываю в календаре этот знак всякий
раз, когда испытываю такое ощущение. Прежде всего
замечу, что нельзя сформулировать какую-то дефини-
цию такого знака. Но сам для себя я же могу дать ему
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
352
какое-то указательное определение! Каким образом?
Разве я в состоянии указывать на ощущение? В обыч-
ном смысле — нет. Но, произнося или записывая знак,
я сосредоточиваю свое внимание на ощущении — и та-
ким образом как бы указываю на него в своем внутрен-
нем мире. Но что толку в этой церемонии? Ведь нам
лишь представляется, что должно происходить что-то
вроде этого! Тогда как дефиниция призвана установить
значение знака. Что же, это как раз и достигается с по-
мощью концентрации внимания, ибо именно так я зак-
репляю для себя связь между знаком и ощущением.
«Я закрепляю для себя связь» может означать только
одно: этот процесс обеспечивает то, что впоследствии я
правильно вспоминаю эту связь. Но ведь в данном слу-
чае я не располагаю никаким критерием правильности.
Так и тянет сказать: правильно то, что мне всегда пред-
ставляется правильным. А это означает лишь, что здесь
не может идти речь о «правильности».
259. Разве правила индивидуального языка — это
впечатления правил? Весы, на которых взвешиваются
впечатления, — не впечатление весов.
260. «И все же я верю, что вновь переживаю ощу-
щение О». Возможно, ты полагаешь, что веришь в это!
Так что же, выходит, тот, кто вносит знаки в кален-
дарь, совсем ничего не отмечает? Не считай само собой
разумеющимся, что человек, вносящий знак, ска-
жем — в календарь, отмечает нечто. Ибо знак имеет
функцию, а это «О» пока что не имеет таковой.
(Человек может говорить сам с собой. Но означает
ли это, что каждый, кто говорит в отсутствие других,
разговаривает сам с собой?)
261. Какое у нас основание называть «О» знаком ка-
кого-то ощущения? Ведь «ощущение» — слово нашего
общепринятого, а не лишь мие одному понятного язы-
ка. Употребление этого слова нуждается в обоснова-
3S3
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нии, понятном всем. Не спасало бы положения и такое
высказывание: с человеком, записавшим «О», что-то
происходило, пусть это и не было ощущением — боль-
ше этого ведь и не скажешь. Дело в том, что слова «про-
исходить» и «что-то» тоже принадлежат общепринято-
му языку. Итак, в ходе философствования рано или по-
здно наступает момент, когда уже хочется издать лишь
некий нечленораздельный звук. Но такой звук служит
выражением только в определенной языковой игре, ко-
торую в данном случае требуется описать.
262. Можно сказать: если бы человек дал дефини-
цию слова лич ио для себя, то он должен был бы внут-
ренне настроиться (Vornehmen). А как бы он это
предрешал? Следует ли предположить, что он изобре-
тает технику такого использования; или же что он на-
ходит ее уже готовой?
263. «Я же могу (внутренне) принять решение в бу-
дущем называть ЭТО “болью”? — А достоверно ли, что
ты принял такое решение? Уверен ли ты, что для этого
достаточно сконцентрировать внимание на ощуще-
нии?» Странный вопрос.
264. «Коль скоро ты знаешь, что обозначает слово,
ты понимаешь его, вполне знаешь его применение».
265. Представим себе таблицу вроде словаря, суще-
ствующую лишь в нашем воображении. С помощью
словаря можно обосновывать перевод слова X словом
Y. Но следует ли считать таким основанием и нашу таб-
лицу, если обращаться к ней можно только в воображе-
нии? «Ну да, в таком случае это субъективное основа-
ние». Но ведь обоснование состоит в апелляции к неза-
висимой инстанции. «Однако могу же я апеллировать и
от одного воспоминания к другому. Например, я не
знаю, правильно ли я запомнил время отправления по-
езда, и для проверки вызываю в памяти образ страницы
расписания поездов. Разве вышеприведенный случай
12 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
354
не того же рода?» Нет, ибо этот процесс предполагает
действительно правильное воспоминание. Разве мыс-
ленный образ расписания мог бы подтвердить правиль-
ность первого воспоминания, если бы он сам не подле-
жал проверке на правильность? (Это было бы равноцен-
но тому, что кто-то накупил множество экземпляров се-
годняшней утренней газеты, чтобы удостовериться,
пишет ли она правду.)
Обращение к воображаемой таблице соответству-
ет получению справок из реальной таблицы не более,
чем воображаемый результат воображаемого экспери-
мента соответствует результату действительного экс-
перимента.
266. Можно посмотреть на часы, чтобы узнать, ко-
торый час. Но на циферблат часов можно смотреть и
для того, чтобы угадать, сколько сейчас времени; или
с той же целью можно переставлять стрелки часов до
тех пор, пока их положение не представится правиль-
ным. Так образ часов может служить для определения
времени более чем одним способом. (Мысленно взгля-
нуть на часы.)
‘ 267. Предположим, что, строя воображаемый мост, я
захотел бы обосновать расчет его размеров путем пред-
варительного испытания материалов на прочность в сво-
ем воображении. Конечно, это было бы мысленным пред-
ставлением о том, что называют обоснованием расчета
размеров моста. Но разве мы назвали бы это также обо-
снованием воображаемого расчета размеров моста?
268. Почему моя правая рука не может подарить
деньги моей левой руке? Моя правая рука может вло-
жить их в левую. Моя правая может написать дарствен-
ную, а левая расписку. Но по своим дальнейшим прак-
тическим последствиям это не было бы дарением. Если
левая рука приняла деньги от правой и т; д., мы спро-
сим: «Ну и что дальше?» И можно было бы задать такой
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
35S
же вопрос, если бы некто давал самому себе индивиду-
альное определение слова; я имею в виду, если бы он
произносил про себя некое слово и при этом направлял
внимание на какое-то ощущение.
269. Вспомним о том, что имеются определенные
поведенческие критерии того, что кто-то не понимает
слова: оно ему ничего не говорит, он не знает, что с ним
делать. И критерии того, что он лишь «думает, будто по-
нимает» слово, связывает с ним некоторое значение, но
неверное. И наконец, имеются критерии того, что он
правильно понимает слово. Во втором случае можно
было бы говорить о субъективном понимании. А «пер-
сональным языком» («private Sprache») можно было бы
назвать звуки, которые не понимает никто другой, но я,
мне кажется, понимаю.
270. Ну а представим себе использование для запи-
си в моем дневнике знака «О». Я обнаруживаю следую-
щее: всякий раз, когда я испытываю определенное ощу-
щение, манометр показывает, что у меня поднимается
кровяное давление. Таким образом, я смогу говорить о
повышении своего кровяного давления и без помощи
аппарата. Это полезный результат. Причем представля-
ется совершенно безразличным, правильно ли я опо-
знал ощущение или нет. Пусть я постоянно заблуждался
бы, идентифицируя ощущение. Это не имело бы ни ма-
лейшего значения. И уже это показывает, что предпо-
ложение такой ошибки — лишь видимость. (Как если
бы мы поворачивали рукоятку, полагая, что она приво-
дит в движение какую-то часть машины, тогда как на
самом деле она служила бы лишь украшением, никак
не связанным с механизмом.)
На каком же основании мы считаем здесь «О* обо-
значением некоторого ощущения? Пожалуй, на осно-
вании способа использования этого знака в данной язы-
ковой игре. Почему же говорится об «определенном»,
12*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
356
следовательно, каждый раз о таком же самом «ощуще-
нии»? Ну, мы же так условились; что раз пишем «О».
271. «Представь себе человека, не способного удер-
жать в памяти, что означает слово “боль” — и поэтому
всякий раз называющего так что-то другое, но тем не
менее использующего это слово в соответствии с обыч-
ными симптомами и предпосылками боли!» — то есть
употребляющего его, как и мы все. Здесь так и хочется
сказать: колесо, которое можно крутить, не приводя в
движение все остальное, не относится к машине.
272. В индивидуальном переживании существенно
на самом деле не то, что каждым человеком оно пере-
живается по-своему, а то, что никто не знает, это ли
переживает и другой или же нечто иное. Выходит, мож-
но было бы предположить, хотя это и нельзя проверить,
что одна часть человечества имеет одно ощущение
красного, другая же часть — другое.
273. Ну а должен ли я сказать о слове «красное»,
что оно обозначает нечто «предъявленное нам всем»,
для обозначения же своего собственного ощущения
красного каждый человек должен, кроме этого слова,
иметь еще одно? Или же дело обстоит так: слово «крас-
ное» обозначает нечто известное нам совместно; а для
каждого оно обозначает, кроме того, нечто знакомое
только ему? (Или, пожалуй, лучше было бы сказать:
оно отсылает к чему-то, знакомому только ему.)
274. Если о слове «красный» говорить вместо «оно
означает» — «оно отсылает» к чему-то личному, то
это, разумеется, не способствует пониманию его функ-
ции. Но это выражение психологически более удачно
передает то особое переживание, что сопутствует фи-
лософствованию. Произнося эти слова, я словно бы
смотрю со стороны на собственные ощущения, как бы
говоря самому себе: уж я-то знаю, что я подразумеваю
под этим.
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Г.7
275. Взгляни на синеву неба и скажи самому себе:
►Какое синее небо!» Если ты это делаешь спонтанно —
без философских намерений, — тебе не придет в голо-
ву, что это ощущение цвета принадлежит только тебе.
И ты не раздумывая адресуешь это восклицание како-
му-то другому лицу. Если же при этих словах ты на что-
нибудь указываешь, так указываешь на небо. Я имею в
виду: ты не испытаешь чувства указывания-внутрь-са-
мого-себя, которое, размышляя над «персональным
языком», часто связывают с «наименованием ощуще-
ния». И тебе не приходит в голову, что на самом деле ты
должен указывать иа цвет не рукой, а лишь направляя
на него свое внимание. (Подумай, что это значит —
«направить внимание на что-либо».)
276. «А разве, глядя на цвет и называя наше ощуще-
ние от него, мы так или иначе не имеем в виду что-то
вполне определенное? Но ведь это равнозначно тому,
что впечатление цвета как бы снималось с увиденного
предмета подобно пленке. (Это должно возбудить у нас
подозрение.)
277. Но как вообще возможно это побуждение —
считать, что один раз под словом понимается всем
известный цвет, а другой раз — «визуальное впечат-
ление», которым обладаю я в данный момент? Как
возможно здесь само существование такого побужде-
ния? В этих двух случаях я по-разному обращаю вни-
мание на цвет. Имея в виду (как я бы сказал) принад-
лежащее мне одному впечатление цвета, я погружа-
юсь в этот цвет — как бывает в том случае, когда на
какой-то цвет я «не могу наглядеться». Вот почему та-
кое переживание легче возникает тогда, когда смот-
рят на яркий цвет или же на выразительную цветовую
композицию.
278. «Я знаю, каким мне представляется зеленый
цвет» — что ж, ведь это не лишено смысла! Безусловно.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
358
А какое применение ты намерен найти этому высказы-
ванию?
279. Представь себе человека, который говорит:
«Я-то знаю, какой я рослый!» — ив доказательство
своих слов кладет руку на свою макушку.
280. Кто-то рисует картину, чтобы показать, как он
представляет себе, допустим, сцену в театре. Ну а я
говорю: «У этой картины двойная функция; она сооб-
щает что-то другим, как это делают картины и слова.
Но для самого сообщающего она выступает еще и как
изображение (или сообщение?) другого рода: для него
она картина его представления, чем она не может
быть ни для кого другого. Его личное впечатление о
картине говорит ему о том, что он себе представил, в
том смысле, в каком эта картина не может предста-
виться никому другому». По какому же праву я гово-
рю в этом втором случае об изображении или сообще-
нии, если эти слова были правильно применены в пер-
вом случае?
281. «А не следует ли из сказанного тобой, что нет,
например, боли без болевого поведения?» Отсюда сле-
дует вот что: только о живых людях и о том, что их на-
поминает (ведет себя таким же образом), можно гово-
рить: они ощущают, видят, слышат, они слепы, глухи,
находятся в сознании или без сознания.
282. «Но ведь в сказке может видеть и слышать
даже горшок!» (Верно, но он может и говорить.)
♦Но в сказке просто выдумано то, чего нет, а отнюдь
не говорится бессмыслица». Не так это просто. Разве
ложно или бессмысленно утверждение, что горшок раз-
говаривает? Можно ли составить себе четкое представ-
ление о том, при каких обстоятельствах мы бы сказали
о горшке, что он разговаривает? (Даже поэзию абсурда
мы не уподобим чему-то столь же бессмысленному, как,
например, лепет ребенка.)
159
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Да, мы говорим о неживом предмете, что он испы-
тывает боль, например, играя в куклы. Но это употреб-
ление понятия «боль» вторично. Представим же себе,
что люди приписывают боль лишь неживым предметам;
жалеют только кукол! (Когда дети играют в железную
дорогу, их игра связана с их знаниями о железной доро-
ге. Дети же какого-нибудь примитивного племени, не
знающего железных дорог, могли бы перенять эту игру
от других и играть в нее, не подозревая о том, что тем
самым они подражают чему-то реально существующе-
му. Можно было бы сказать, что игра для них не имела
бы того же смысла, что для нас.)
283. Откуда приходит к нам уже само это пред-
ставление, что существа, предметы способны что-то
чувствовать?
Разве оно не является результатом воспитания, на-
учившего меня обращать внимание на свои собствен-
ные чувства, а затем переносить это представление на
предметы вие меня? Или же я узнаю, что здесь (во мне)
есть нечто такое, что я мог бы назвать «болью», не впа-
дая в противоречие с употреблением данного слова дру-
гими людьми? Я не переношу свое представление на
камни, растения и т. д.
Разве нельзя было бы вообразить, что у меня ужас-
ные боли и, пока они длятся, я обращаюсь в камень?
Можно, а откуда мне ведомо, что, закрыв глаза, я не ста-
новлюсь камнем? А если бы это происходило, то в каком
смысле этот камень испытывал бы боль? В каком смыс-
ле это можно было бы сказать о камне? Да и почему во-
обще боль должна иметь какого-нибудь носителя?!
А можно ли сказать о камне, что у него есть душа и
она испытывает боль? Что общего у души, испытываю-
щей боль, с камнем?
Только о том, что ведет себя, как человек, можно
сказать, что оно испытывает боль.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
350
Ибо это надлежит говорить о теле или, если угодно,
о душе, которой обладает некое тело. Но как тело мо-
жет иметь душу?
284. Посмотри на камень и представь себе, что у
него есть ощущения! Человек мысленно произносит*, и
как только могло прийти в голову приписывать ощуще-
ние той или иной вещи? С тем же успехом его можно
было бы приписать и числу! А теперь посмотри на бью-
щуюся об оконное стекло муху, н тотчас же это затруд-
нение исчезнет и предположить здесь боль покажется
уместным, в то время как в первом случае это, судя по
всему, было бы явно безосновательно.
Вот так и труп кажется нам совершенно несовмести-
мым с чувством боли. Наше отношение к живому в корне
отлично от отношения к мертвому. В том и в другом слу-
чае все наши реакции различны. Заяви кто-то: «Разница
не может заключаться просто в том, что живое так или
иначе движется, а мертвое — нет», — я бы ему пояснил,
что это случай перехода «количества в качество».
285, Подумай о том, как распознаются выражения
лица. Или об описании выражений лица — оно же не
сводится к перечислению его размерностей! Подумай и
о том, как можно имитировать лицо человека, не глядя
при этом в зеркало на собственное лицо.
286. Но разве не абсурдно говорить о теле, что оно
испытывает боль? А почему в этом чувствуется абсурд-
ность? В каком смысле боль испытывает не моя рука, а
я в моей руке?
А что собой представляет дискуссионный вопрос:
тело ли испытывает боль? Как его следует решать? Что
побуждает считать, что боль испытывает не тело? Ну,
примерно вот что: когда кто-то чувствует боль в руке,
рука не говорит об этом (если она только этого не пи-
шет), и сочувствие выражают не руке, а страдающему
человеку; ему смотрят в глаза.
361
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
287. Каким образом я испытываю сострадание к
этому человеку? Как выявляется объект сострадания?
(Можно сказать, сострадание — форма уверенности,
что другой человек испытывает боль.)
288. Я превращаюсь в камень, а мои боли не прохо-
дят. А если я ошибаюсь и у меня больше нет болей?
Но уж здесь-то я не могу ошибиться, ведь не говорят
же: я сомневаюсь, есть ли у меня боли! Это означает:
скажи кто-то: «Я не знаю, является ли то, что я чув-
ствую, болью или чем-то другим», — мы бы, пожалуй,
подумали, что он не знает значения слова «боль», и
объяснили бы его ему. Как? Может быть, жестами,
или же, укалывая его иглой, приговаривали: «Понима-
ешь, вот что такое боль». Такое объяснение слова, как
и всякое другое, он мог бы понять верно, неверно или
же вообще не понять. Насколько он понял объяснение,
будет видно из его применения этого слова, как это
обычно и бывает.
Ну а заяви он, к примеру: «О, я знаю, что означает
“боль”, но не знаю, является ли болью то, что я чув-
ствую сейчас», — мы бы просто покачали головой и вы-
нуждены были считать его слова очень странной реак-
цией, с которой мы просто не знали бы, что делать. (Это
примерно то же самое, как если бы мы услышали от
кого-то вполне серьезно сказанные слова: «Я отчетливо
помню, что за некоторое время до моего рождения я ду-
мал...»)
Подобное выражение сомнения не присуще данной
языковой игре. Но если устранить проявление ощуще-
ний из человеческого поведения, то, кажется, у меня
вновь могли бы возникнуть основания для сомнений.
К высказыванию о том, что человек мог бы принимать
ощущение за что-то другое, меня подталкивает вот что:
если предположить, что нормальная языковая игра вы-
ражения ощущения отменена, то возникает потребность
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
362
в критерии тождества для ощущения; а значит, возни-
кает и возможность ошибок.
289. «Когда я говорю, что “мне больно”, то уж, во
всяком случае, это' оправданно для меня самого*. Что
это значит? Это значит: «Если бы кто-то пожелал уз-
нать, что я называю “болью”, то ему пришлось бы при-
знать, что я использую это слово правильно».
Использовать слово без обоснования ие значит ис-
пользовать его неверно.
290. Конечно, я не идентифицирую свое ощущение
с помощью критериев, а применяю одно и то же выра-
жение. Но это не конец языковой игры; это ее начало.
А разве она начинается не с ощущения, которое я
описываю? В слове «описывать» здесь для нас, пожа-
луй, кроется подвох. Я говорю «я описываю мои душев-
ные состояния» и «я описываю мою комнату». Следует
вспомнить о различии языковых игр.
291. То, что мы называем описаниями, — это инст-
рументы специального назначения. Вспомним здесь о
чертеже машины, поперечном разрезе, наметке разме-
ров, которые имеет перед собой механик. В представле-
нии об описании как о словесной картине фактов есть
нечто вводящее в заблуждение; это навевает мысли
лишь о картинах, висящих у нас на стенах; которые, ка-
залось бы, изображают всего лишь, как выглядит вещь,
каковы ее свойства. (Это как бы праздные картины.)
292. Не всегда полагай, что высказываемое тобой
ты считываешь с фактов, что ты изображаешь их слова-
ми в соответствии с правилами! Ибо применение прави-
ла в особых случаях тебе все-таки приходится осуще-
ствлять без каких бы то ни было инструкций.
293. Коли я говорю о себе самом: я знаю только по
собственному опыту, что означает слово «боль», — то раз-
ве не следует сказать это и о других? А тогда как можно
столь безответственным образом обобщать один случай?
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1БЗ
Ну а пусть каждый говорит мне о себе, что он знает,
чем является боль, только на основании собственного
опыта! Предположим, что у каждого была бы коробка, в
которой находилось бы что-то, что мы называем «жу-
ком». Ннкто не мог бы заглянуть в коробку другого; и
каждый говорил бы, что он только по внешнему виду
своего жука зиает, что такое жук. При этом, конечно,
могло бы оказаться, что в коробке у каждого находи-
лось бы что-то другое. Можно даже представить себе,
что эта вещь непрерывно изменялась бы. Ну а если при
всем том слово «жук» употреблялось бы этими людь-
ми? В таком случае оно не было бы обозначением вещи.
Вещь в коробке вообще не принадлежала бы к языко-
вой игре даже в качестве некоего нечто: ведь коробка
могла бы быть и пустой. Верно, тем самым вещь в этой
коробке могла бы быть «сокращена», снята независимо
от того, чем бы она ни оказалась.
Это значит: если грамматику выражения ощущения
трактовать по образцу «объект и его обозначение», то
объект выпадает из сферы рассмотрения как не относя-
щийся к делу.
294. Говоря о другом человеке, что он описывает не-
кую картину, явленную только ему, ты все-таки уже
сделал какое-то предположение о том, что ему видится.
А это значит, что ты мог бы описать или уже описыва-
ешь это более конкретно. Если же ты признаешься в от-
сутствии у тебя какого бы то ни было представления о
том, что могло бы видеться этому другому, что же тогда
заставляет тебя утверждать, что он что-то видит? Разве
это не равносильно тому, как если бы я говорил о ком-
то: «У него что-то есть. Но деньги ли это, долги или пу-
стая касса, я не знаю»?
295. И вообще, каким по характеру должно быть
предложение «Я знаю... лишь иа собственном опыте»?
Эмпирическим? Нет. Грамматическим?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
364
Мне представляется это так: положим, каждый го-
ворит о себе, что только по собственной боли он знает,
что такое боль. Дело не в том, чтобы люди действитель-
но так говорили или хотя бы были склонны это гово-
рить. Но если бы так говорил каждый, это могло бы
быть своего рода восклицанием. И не будучи информа-
тивным сообщением, оно все же давало бы некую кар-
тину, а почему нужно отказывать себе в желании при-
бегнуть к такой картине души? Представь себе вместо
этих слов живописное изображение-аллегорию.
В самом деле, вглядываясь в самих себя, в процессе
философствования мы часто видим перед собой именно
такую картину. Прямо-таки живописное изображение
нашей грамматики. Не факты, а как бы иллюстрирован-
ные обороты речи.
296. «Да, но есть же что-то, что сопровождает мой
крик боли! И именно из-за этого я и вскрикиваю. Имен-
но это что-то важно — и страшно!» Только с кем мы де-
лимся этим? И по какому случаю?
297. Конечно, если в горшке кипит вода, то из горш-
ка выходит пар, и над изображением горшка тоже клу-
бится нарисованный пар. А что, если бы кто-то упорно
говорил, что и в изображении горшка должно что-то ки-
петь?
298. Само то, что в отношении личного ощущения
нас так и тянет сказать: «Вот что важно», уже показы-
вает, насколько мы склонны высказывать нечто такое,
что не является сообщением.
299. Невозможность удержаться — будучи во влас-
ти философского мышления — от того, чтобы не ска-
зать того-то, и неодолимая склонность это сказать не
означает, что иас к тому принуждает некое предполо-
жение илн непосредственное рассмотрение, либо зна-
ние, какого-то положения вещей (Sachverhalt).
J65
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
300* Хочется сказать: к языковой игре со словами
•ему больно» принадлежит не только картина поведе-
ния, но и картина боли. Или же: не только парадигма
поведения, но и парадигма боли. Говорить, что «карти-
на боли входит в языковую группу со словом “боль”» —
недоразумение. Представление о боли не картина, и
это представление не заменимо в языковой игре чем-
о, что мы назвали бы картиной. Пожалуй, в определен-
ом смысле представление о боли входит в языковую
irrpy; но только не в качестве картины.
301. Представление — не картина, но картина мо-
жет ему соответствовать.
302. Пытаться представить себе чью-то боль по об-
разу и подобию своей собственной — задача не из лег-
ких: ибо на основе боли, которую чувствуешь сам,
нужно представить себе боль, которой не чувствуешь.
То есть я должен не просто перенести в своем вообра-
жении боль с одного места на другое, скажем с кисти на
руку. Ибо мне не нужно представлять, что я чувствую
боль в каком-то месте его тела (что также было бы воз-
можным).
Болевое поведение может указывать на место, где
ощущается боль, но субъект боли — это человек, обна-
руживающий боль.
303. «Я могу лишь верить, что другой испытывает
боль, но я знаю это, если сам ощущаю ее». Можно даже
принять решение вместо «Ему больно» говорить: «Я ве-
рю, что ему больно». Но не более того. То, что здесь выг-
лядит как объяснение или высказывание о мыслитель-
ном процессе, на самом деле представляет собой лишь
замену одного способа выражения другим, кажущимся
нам более удачным, когда мы философствуем.
Попробуй когда-нибудь — в реальной ситуации —
усомниться в страхе или боли другого!
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН , . ЗББ
304. «Но ведь ты признаешь, что есть разница меж-
ду болевым поведением при наличии боли и болевым
поведением в отсутствие таковой». Признаю? Да разве
возможно более разительное отличие? «И тем не менее
ты всякий раз приходишь к выводу, что ощущения сами
по себе ничто». Вовсе нет. Они не нечто, но и не ничто!
Вывод состоял бы лишь в том, что ничто выполняло бы
такую же функцию, как и нечто, о котором ничего
нельзя сказать. Мы отвергаем лишь грамматику, кото-
рая здесь всячески навязывает себя нам.
Парадокс исчезает лишь в том случае, если ради-
кально преодолеть представление, будто язык всегда
функционирует одним и тем же способом и всегда слу-
жит одной и той же цели: передавать мысли — будь это
мысли о домах, боли, добре и зле и обо всем прочем.
305. «Но ты же не можешь отрицать, что, например,
при воспоминании осуществляется какой-то внутрен-
ний процесс». А почему возникает впечатление, будто
мы хотим отрицать что бы то ни было? Заявляя: «Все
же при этом протекает какой-то внутренний процесс»,
так и хочется добавить: «Это же для тебя очевидно.
Именно этот внутренний процесс подразумевают под
словом “вспоминать"». Впечатление, будто мы намере-
вались что-то отрицать, возникает из-за отказа от кар-
тины «внутреннего процесса». Но при этом лишь отри-
цается, что картина внутреннего процесса дает нам вер-
ное представление об употреблении слова «вспоми-
нать». Утверждается же, что эта картина и навеваемые
ею представления мешают видеть употребление слова
таким, каким оно реально является.
306. Выходит, мне незачем отрицать существовав
ние душевного процесса?! Высказывание «Сейчас во
мне совершается душевный процесс воспоминаний
о...» просто означает: «Сейчас я вспоминаю о...» Отри-
цать душевный процесс значило бы отрицать воспоми-
367
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
иание, отрицать, что кто-то когда-либо вспоминает о
чем-иибудь.
307. «Так значит, ты не замаскированный бихевио-
рист? И ты не утверждаешь, что по сути все, кроме че-
ловеческого поведения, есть фикция?» Если я и говорю
о фикции, то имею в виду грамматическую фикцию.
308. Как же возникает философская проблема ду-
шевных процессов, состояний и бихевиоризма? Первый
шаг к ней совершенно незаметен. Мы говорим о процес-
сах и состояниях, оставляя нераскрытой их природу!
Предполагается, что когда-нибудь мы, пожалуй, будем
знать о них больше. Но это-то и предопределяет особый
способ нашего рассмотрения явлений. Ибо мы уже со-
ставили определенное понятие о том, что значит по-
знать процесс полнее. (Решающее движение в трюке
фокусника уже сделано, нам же оно кажется невин-
ным.) И вот рушится аналогия, призванная прояснить
наши мысли. Выходит, что нужно отрицать еще непоня-
тый процесс в еще не изученном субстрате. Так возни-
кает видимость отрицания нами душевных процессов.
А ведь мы, естественно, не собираемся их отрицать!
309. Какова твоя цель в философии? Показать мухе
выход из мухоловки.
310. Я говорю кому-нибудь, что мне больно. Его от-
ношение ко мне будет отношением веры, неверия, недо-
верия и т. д.
Предположим, он отвечает: «Это ие такая уж
страшная боль». Не являются ли его слова доказатель-
ством того, что он верит во что-то, стоящее за проявле-
ниями боли? Его отношение есть доказательство его от-
ношения. Ну а представь себе, что не только предложе-
ние «Мне больно», но и ответ «Это ие такая уж страш-
ная боль» заменены натуральными звуками и жестами!
311. «Что могло бы отличаться друг от друга в
большей мере!» В случае боли я полагаю, что могу
ЛЮДВИГ ВИГТГЕНШТЕЙН
Э6В
предъявить это различие самому себе персонально.
Разницу же между сломанным зубом и целым зубом я
бы мог продемонстрировать каждому. Однако для при-
ватной демонстрации совсем необязательно причинять
себе боль; достаточно представить ее себе — напри-
мер, немного перекосить лицо, А знаешь ли ты, что де-
монстрируешь самому себе таким образом именно
боль, а, например, не выражение лица? И откуда ты
знаешь, что нужно продемонстрировать, прежде чем
ты сделаешь это? Эта приватная демонстрация — ил-
люзия.
312, Но опять-таки, разве случаи с демонстрацией
зуба и боли не схожи? Ведь визуальное ощущение в од-
ном случае соответствует болевому ощущению в дру-
гом. Зрительное ощущение я могу продемонстрировать
самому себе в столь же малой — нли столь же боль-
шой — степени, как и болевое ощущение.
Вообразим себе следующий случай: на поверхности
окружающих нас вещей (камней, растений и т, д.) есть
пятна и участки, вызывающие боль при соприкоснове-
нии с нашей кожей. (Скажем, из-за химического соста-
ва таких поверхностей. Но нам необязательно знать
это.) В таком случае мы говорили бы о листе, покрытом
болевыми пятнами, как ныне говорим о листьях некото-
рых растений, покрытых красными пятнами. Полагаю,
что для нас было бы полезно замечать эти пятна и их
формы н что из этого можно было бы извлечь выводы о
важных свойствах вещей.
313. Я могу демонстрировать боль, как демонстри-
рую красное, прямое и кривое, дерево и камень. Имен-
но это и называется «демонстрацией».
314. Склонность рассматривать свою сиюминутную
головную боль как состояние, проливающее свет на фи-
лософскую проблему ощущения, — свидетельство прин-
ципиального непонимания.
369
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
315. Разве может понять слово «боль» тот, кто ни-
когда не испытывал болн? Разве тому или иному ответу
на этот вопрос меня должен научить опыт? Допустим,
мы утверждаем: «Человек не в состоянии представить
себе боль, ни разу не испытав ее», а откуда мы это зна-
ем? Как определить, истинно лн это?
316. Чтобы уяснить значение слова «думать», мы
наблюдаем за тем, как думаем мы сами. То, что мы
при этом наблюдаем, и будет тем, что обозначает дан-
ное слово! Но употребляется-то это понятие не, так.
(Иначе это походило бы на то, как если бы я, не зная
правил шахматной игры, пытался выяснить, что озна-
чают слова «поставить мат», путем пристального на-
блюдения за последними ходами какой-то шахматной
партии.)
317. Вводящая в заблуждение параллель: крик —
выражение боли, предложение — выражение мысли!
Как будто цель предложения — дать знать кому-то
о самочувствии другого: только связанном, скажем, не
с желудком, а с органом мысли.
318. Думая по ходу речи или письма — так, как это
делается обычно, — мы, как правило, не станем утвер-
ждать, что мыслим быстрее^ чем говорим: напротив,
мысль кажется нам здесь неотделимой от ее выраже-
ния. Но с другой стороны, говорят о стремительности
мысли, о том, что мысль пришла в голову молниеносно,
что проблемы вмиг прояснились для нас и т. д. Прн
этом возникает вопрос: не происходит ли при молние-
носной мысли то же самое — только предельно уско-
ренно, — что и в случае обдуманной, немашинальной
речи? Так что в первом случае стрелка как бы обегает
циферблат враз, во втором же, сдерживаемая словами,
движется мало-помалу.
319. Я способен мгновенно схватить, или понять,
мысль в целом, так же как могу набросать ее немногими
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН это
словами или штрихами. Что же делает данный набро-
сок суммарным выражением этой мысли?
320. Мгновенная мысль может относиться к мысли,
сформулированной словами, как алгебраическая фор-
мула к ряду чисел, в который она развертывается. Если
мне, например, дана алгебраическая функция, то я уве-
рен, что смогу рассчитать ее значение для аргументов
1, 2, 3, до 10. Эту уверенность можно назвать «вполне
обоснованной», ибо я обучен рассчитывать такие функ-
ции и т. д. В других случаях она не будет обоснованной,
но будет оправданной успешностью моих расчетов.
321. «Что происходит, когда человек что-то внезап-
но понимает?» Вопрос плохо сформулирован. Будь он
вопросом о значении выражения «внезапно понять», от-
вет на него не был бы указанием на процесс, которому
мы дали такое название. Этот вопрос мог бы означать:
каковы признаки того, что человек внезапно понял что-
то; каковы характерные психические проявления вне-
запного понимания?
(Нет основания считать, что человек чувствует, на-
пример, смену выражений своего лица или изменения
дыхания, характерные для того или иного душевного
движения. Даже если он чувствует их, обратив на них
свое внимание.) ((Позирование.))
322. Что такое описание [внешних проявлений] не
дает ответа на вопрос о значении выражения [«внезап-
но понять»], подталкивает к выводу, будто понима-
ние — особое, не поддающееся определению пережива-
ние. Но при этом забывается, что нас-то должен инте-
ресовать вопрос: как мы сравниваем эти переживания,
какой критерий тождества мы устанавливаем для та-
ких случаев?
323. «Теперь я знаю, как продолжить!» — восклица-
ние; оно сродни естественному вскрику, вспышке радо-
сти. Из моего впечатления, естественно, не следует,
37!
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
что при попытке продолжить ряд я не собьюсь, В неко-
торых случаях я бы при этом сказал: «Когда я говорил,
что знаю, как продолжить, так оно и было». Это заявят,
например, столкнувшись с непредвиденным препят-
ствием, Но непредвиденным должно быть не просто то,
что я сбиваюсь.
Можно было бы также представить себе, что чело-
век, вроде бы уяснивший что-то, всякий раз восклицал:
«Теперь до меня дошло!» — а на деле никогда не мог бы
оправдать это. Ему могло бы казаться, будто он в мгно-
вение ока снова забывает значение представившейся
ему картины.
324. Разве было бы верно утверждать, что дело
здесь заключается в индукции и что я столь же уверен в
своей способности продолжить ряд, как уверен, что эта
книга упадет на пол, стоит мне выпустить ее из рук; и
что, если бы вдруг, без всяких видимых причин я ока-
зался не в состоянии продолжить ряд, я бы удивился не
меньше, чем если бы книга не упала на пол, а повисла в
воздухе? На это я отвечу, что как раз для такой уве-
ренности мы не нуждаемся ни в каких основаниях. Раз-
ве что-нибудь способно оправдать уверенность лучше,.
чем успех?
после того, как обрел данный опыт, например усмот-
рев эту формулу, зиждется просто на индукции». Что
это значит? «Уверенность, что этот огонь меня сож-
жет, зиждется на индукции». Значит ли это, что я
умозаключаю про себя: «Меня всегда сжигало пламя,
следовательно, это случится и теперь»? Или же пре-
жний опыт — причина моей уверенности, а не ее ос-
нование? Является ли прежний опыт причиной уве-
ренности? Это зависит от того, в какой системе гипо-
тез, естественных законов рассматривается феномен
уверенности.
ЛЮДВИГ Витгенштейн
372
Оправданна ли эта уверенность? То, что люди при-
нимают за обоснование, показывает, как они мыслят и
живут.
326. Мы ожидаем этого и поражаемся тому; но
цепь оснований имеет конец.
327. «Можно ли мыслить, не говоря?» А что такое
мыслить? Ну а разве ты никогда не думаешь? Разве ты
не можешь понаблюдать за самим собой и усмотреть,
что же происходит? Ведь это должно быть совсем про-
сто. Тебе же не надо дожидаться этого, как астрономи-
ческого события, чтобы затем, может быть, в спешке
делать наблюдения.
328. Ну а что еще называют словом «мыслить»?
По отношению к чему люди приучены употреблять
данное слово? Разве, утверждая, что я мыслил, я вся-
кий раз должен быть прав? Какого рода ошибка скры-
вается здесь? Существуют ли обстоятельства, при ко-
торых человек спросил бы: «Разве то, что я тогда де-
лал, действительно было мышлением; не заблуждаюсь
ли я?» Допустим, кто-нибудь в процессе размышлений
проводит измерения; прекращает ли он мыслить, ко-
гда по ходу измерений перестает говорить с самим со-
бой?
329. Когда я мыслю вербально, «значения» не пред-
стают в моем сознании наряду с речевыми выражения-
ми; напротив, сам язык служит носителем мысли.
330. Разве мышление — род разговора? Хотелось
бы сказать: это то, что отличает осмысленную речь от
бессмысленного словоговорения. И вот уж кажется,
что мышление — аккомпанемент речи. Некий процесс,
который может сопровождать что-то другое или же про-
текать самостоятельно.
Произнеси фразу: «А перо-то, кажется, тупое. Ну
ничего, сойдет». Сначала обдуманно; затем бездумно;
наконец воспроизведи только мысль, без слов. Ну а по
373
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ходу действия я мог бы проверить кончик моего пера,
скривить лицо, а затем со смиренной миной продол-
жить письмо. И, занимаясь различными измерениями,
я бы мог вести себя так, что всякий наблюдающий за
мной сказал бы, что я — без слов — думал: если две ве-
личины равны третьей, то они равны между собой. Но
то, что здесь составляет мысль, не является процессом,
который должен сопровождать слова, коль скоро их не
следует произносить бездумно.
331. Представь себе людей, которые могли бы мыс-
лить только вслух. (Как существуют люди, которые мо-
гут читать только вслух.)
332. Хоть мы иногда называем «мышлением» пред-
ложение вместе с сопровождающим его душевным про-
цессом, но «мыслью» мы называем не это сопровожде-
ние. Произноси предложение и мысли его; произноси
его с пониманием! А теперь, не произнося его, только
делай то, что сопровождало его при осмысленном про-
изнесении! (Спой эту песню с выражением! А теперь
повтори это выражение без пения! И здесь также мож-
но что-то повторить; например, телодвижения, учащен-
ное н замедленное дыхание и т. д.)
333. «Это может сказать только тот, кто в этом
убежден». Как помогает ему убежденность, когда он
высказывает это? Сосуществует ли она с высказанным
выражением? (Или же перекрывается им, как перекры-
вается тихий тон громким, так что его уже как бы
нельзя услышать при переходе к громкой тональнос-
ти?) А что, если бы кто-то утверждал: «Чтобы суметь
пропеть мелодию по памяти, нужно мысленно слышать
и повторять ее»?
.334. «Итак, ты, собственно, хочешь сказать...» С по-
мощью этой фразы мы направляем кого-нибудь от одной
формы выражения к другой. Человек склонен исполь-
зовать такую картину: то, что он, собственно, «хотел
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
374
сказать», что он «подразумевал», уже присутствовало
в его сознании еще до того, как было высказано. Разно-
го рода обстоятельства могут побудить нас отказаться
от одной формы выражения и заменить ее другой. Что-
бы это понять, полезно рассмотреть то отношение, в ко-
тором находится решение математической проблемы к
причине и основанию ее постановки. Понятие «трисек-
ции угла с помощью лннейки и циркуля», когда люди
пытаются проделать такое деление и, с другой стороны,
когда доказано, что такового не существует.
335. Что происходит, когда мы стараемся, напри-
мер, при написании письма найти правильное выраже-
ние для наших мыслей? Данный способ выражения упо-
добляет такой процесс переводу илн описанию: мысли
уже наличествуют (возможно, уже заранее даны) и мы
просто ищем им выражение. Эта картина более или ме-
нее подходит для различных случаев. Но и происходить
при всем том может разное! Я поддаюсь настроению, и
выражение приходит. Или передо мной возникает не-
кая картина, которую я стараюсь описать. Или же: мие
приходит в голову английское выражение, а я пытаюсь
припомнить его немецкий эквивалент. Или я делаю
жест и спрашиваю себя: «Какие слова соответствуют
этому жесту?» И т. д.
Ну а каким должен быть ответ на вопрос: «Есть ли у
тебя мысль до того, как ты ищешь для нее выражение?»
Или на вопрос: «В чем состояла эта мысль, как она су-
ществовала до ее выражения?»
336. Это напоминает случай, когда человеку пред-
ставляется, что нельзя непосредственно мыслить пред-
ложениями с таким странным порядком слов, как в не-
мецком или латинском языке. На этих языках, по его
мнению, сначала нужно мыслить, а потом уже расстав-
лять слова в их необычном порядке. (Некий француз-
ский политик написал однажды, что особенность фраи-
375
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
цузского языка состоит в том» что в нем слова стоят в
том же порядке, как их мыслят.)
337. Но разве я уже с самого начала не замышлял,
скажем, целостную конструкцию, скажем, предложе-
ния? Выходит, она уже была в моем сознании еще до
того, как была высказана! Если бы она присутствовала
в моем сознании, то было бы противоестественно, что-
бы порядок слов в ней был другим. Но мы тут вновь со-
здаем вводящую в заблуждение картину «замышляемо-
го» (Beabsichtigen), а значит, и употребления этого сло-
ва. Намерение вплетено в соответствующую ситуацию,
в людские обычаи и институты. Не существуй техники
игры в шахматы, у меня не могло бы возникнуть наме-
рение сыграть шахматную партию. То, что я в общем и
целом заранее замышляю определенную конструкцию
предложения, обеспечивается тем, что я могу говорить
по-немецки.
338. Ведь сказать что-то можно, лишь научившись
говорить. Выходит, тот, кто намерен что-то сказать,
тоже должен научиться этому, овладеть языком. И все-
таки ясно, что, желая говорить, не обязательно гово-
рят, как можно хотеть танцевать не танцуя.
А раздумывая об этом, мы мысленно прибегаем к
представлению о танце, речи и т. д.
339. Мышление ие является нематериальным
(unkorperlicher) процессом, который придает жизнь и
смысл речи и который можно было бы отделить от речи,
подобно тому как дьявол удалил с Земли тень Шлеми-
ля. Но как это понимать: «не является нематериальным
процессом»? Стало быть, мне известны «нематериаль-
ные процессы», но мышление не является одним из
них? Нет, выражение «нематериальный процесс» я при-
влек иа помощь, находясь в затруднительном положе-
нии и пытаясь наиболее простым способом объяснить
значение слова «мыслить».
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
376
Однако можно было бы сказать: «Мышление — не-
материальный процесс», если бы мы таким образом хо-
тели отличить, например, грамматику слова «мыслить»
от грамматики слова «питаться». Только это слишком
слабо выявляет разницу значений. (Это все равно что
сказать: «Цифры — это действительные, а числа не-
действительные объекты.) Неудачный способ выраже-
ния — верное средство впасть в путаницу. Он как бы
преграждает выход из нее.
340. Как функционирует какое-нибудь слово,
нельзя угадать. Следует вглядеться в его употребление
и научиться на этом.
Трудность, однако, состоит в том, чтобы устранить
предрассудок, препятствующий этому обучению. Это
не глупый предрассудок.
341. Лишенную мысли и осмысленную речь следует
сравнить с механическим н осмысленным исполнением
музыкального произведения.
342. Уильям Джемс, чтобы показать возможность
мышления без речи, цитирует воспоминания одного
глухонемого, мистера Балларда, поведавшего, что он
еще в раннем возрасте, до того как научился говорить,
размышлял о Боге и мире. Что бы это могло значить!
Баллард пишет: «Именно во время этих очарователь-
ных прогулок, за два или трн года до моего приобщения
к азам письменного языка, я начал задавать себе воп-
рос, как возник мир». Уместно спросить его: а уверен
ли ты, что это — правильный перевод твоих бесслов-
ных мыслей в слова? И почему здесь приходит в голову
этот вопрос, который в других обстоятельствах, кажет-
ся, вовсе не возникает? Хочу ли я сказать, что пишуще-
го обманывает его память? Я даже не знаю, сказал ли
бы я это. Эти воспоминания — необычное явление па-
мяти, и я не знаю, какие выводы о прошлом рассказчи-
ка можно было бы извлечь из них!
377
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
343. Слова, которыми я выражаю мои воспомина-
ния, — это мои реакции на воспоминания.
344. Мыслимо лн, чтобы люди, никогда не говорив-
шие вслух, при всем том владели внутренней речью,
молчаливо обращались к самим себе?
«Если бы люди всегда беззвучно говорили лишь с
самими собой, то они бы просто делали постоянно то,
что делают время от времени и сегодня». Следователь-
но, это совсем нетрудно себе представить, достаточно
сделать несложный переход от некоторых ко всем. (По-
добно тому как: «Бесконечно длинный ряд деревьев —
это просто ряд, который не имеет конца».) Критерием
того, что человек разговаривает про себя, служит для
нас то, что он говорит нам, и все его остальное поведе-
ние. Мы утверждаем, что человек разговаривает с са-
мим собой, только в том случае, если он может гово-
рить н в обычном смысле этого слова. Мы же не гово-
рим этого о попугае или о граммофоне.
345. «Что происходит иногда, могло бы происходить
всегда». Для чего могло бы сгодиться такое предложе-
ние? Оно напоминает следующее: «Если “/'(«)” имеет
смысл, то имеет смысл и “(х). F(x)’’». «Если может слу-
читься, что кто-то в игре сделает ложный ход, то можно
допустить, что и все люди во всех играх не делают ниче-
го другого, кроме ложных ходов». Так нами овладевает
искушение искаженно понять логику наших выраже-
ний, неправильно представить употребление наших
слов.
Приказы иногда не выполняют. Но что бы вышло,
если бы приказы никогда не выполнялись? Понятие
«приказ» потеряло бы смысл.
346. А разве нельзя вообразить, что Бог вдруг дару-
ет разум попугаю и тот начинает говорить с самим со-
бой? Но здесь важно то, что для такого представления
мне потребовалось вообразить божество.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
378
347. «Но по себе-то я знаю, что значит “говорить с
самим собой". И будь я лишен органов звуковой речи, я
все же мог бы вести разговоры с самим собой».
Если я знаю это только применительно к себе, то,
выходит, я знаю лишь то, что я так называю, а не то, что
кто-то другой называет так.
348. «Этн глухонемые обучены общению лишь на
языке жестов, с самим же собой, внутренне, каждый из
них говорит на языке звуков». Ну разве тебе не понятно
это? Ну а как я могу узнать, понимаю ли я это?! Что
можно делать с этим сообщением (если оно является
таковым)? Вся идея понимания приобретает здесь со-
мнительный привкус. Не знаю, должен ли я ответить,
что мне понятно это или же — что непонятно. Я готов
ответить: «Это— немецкое предложение; на вид —
пока не пытаешься включить его в действие — оно в
полном порядке; оно взаимосвязано с другими предло-
жениями, и потому так уж сразу не скажешь, что мы,
по сути, не знаем, о чем оно говорит. Каждый, чья вос-
приимчивость не притуплена философствованием, за-
мечает, что здесь что-то не так».
349. «Но это же вполне осмысленное допущение».
Да, при обычных обстоятельствах эти слова и эта кар-
тина имеют привычное для нас применение. Если же,
допустим, такое применение отпадает, то мы как бы
впервые осознаем эти слова и эту картину в обнажен-
ном виде.
350. «Но, предполагая, что кто-то испытывает боль,
я ведь просто допускаю, что он чувствует то же самое,
что так часто ощущал я сам». Это ничего не дает. Это
все равно что я бы сказал: «Ты же знаешь, что значит
“Сейчас здесь 5 часов"; выходит, знаешь, и что значит
“сейчас на Солнце 5 часов". Это просто означает, что
там точно такое же время, как и здесь, если здесь 5 ча-
сов». Объяснение с помощью тождества (Gleichheit)
Э79
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
здесь ие действует. Хоть я и знаю, что 5 часов здесь и
5 часов там можно назвать «одинаковым временем», но
не знаю, в каких именно случаях следует говорить, что
время тут и там одинаково.
Не является объяснением и фраза: предположение,
что он испытывает боль, — просто допущение, что он
чувствует то же, что и я. Просто я вполне владею этим
элементом «грамматики», то есть мне понятно: если бы
говорили: печке больно и мне больно, тем самым утвер-
ждалось бы, что печь испытывает то же, что и я.
351. И все же мы по-прежнему склонны заявлять:
«Чувство боли есть чувство боли — испытывает ли его
он или я, и я так или иначе узнаю, больно ему или нет».
С этим я вполне мог бы согласиться. А спроси ты меня:
«В таком случае неужели ты не знаешь, что я имею в
виду, говоря, что печке больно?» — я мог бы на это от-
ветить: «Эти слова способны вызвать у меня самые раз-
нообразные представления, но от этого мало толку», Я
в состоянии что-то представить себе и в связи со слова-
ми: «На Солнце было как раз 5 часов пополудни», —-
например, настенные часы, показывающие 5. Но еще
более удачным примером было бы применение слов
«сверху», «снизу» к земному шару. В этом случае мы
имеет совершенно отчетливое представление о том,
что означает «сверху» и что «снизу». Ведь я вижу, что
я сверху, а земля — подо мной! (И не смейся над этим
примером! Да, еще в начальной школе нам втолковыва-
ли, что глупо так говорить. Но куда легче похоронить
проблему, чем решить ее.) И только размышление по-
казывает нам, что в этом случае слова «сверху» и «сни-
зу» используются необычным образом. (Так мы можем
говорить об антиподах как о людях, живущих «в низу»
нашего земного шара. Но и за ними нужно признать
право употреблять то же самое выражение по отноше-
нию к нам.)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
380
352. При этом случается, что мышление разыгрыва-
ет с нами удивительные трюки. Например, ссылаясь на
закон исключенного третьего, мы готовы заявить:
«Одно из двух: подобная картина либо представляется,
либо же нет; третьего не дано!» Этот странный аргу-
мент встречается и в других областях философии.
«При бесконечном десятичном развертывании числа П
либо встречается группа “7777”, либо же нет — тре-
тьего не дано». То есть: богу это известно, мы же этого
не знаем. Но что сие значит? Мы используем картину,
картину видимого ряда, обозримого для одного, а для
другого нет. Тут закон исключенного третьего гласит:
это должно выглядеть либо так, либо этак. Таким об-
разом, по сути, он вовсе ничего не говорит и это само-
очевидно, — но предлагает нам некую картину. И про-
блема теперь должна заключаться в том, соответствует
ли действительность этой картине или нет. Причем ка-
жется, будто эта картина определяет, что и как мы
должны делать и к чему стремиться, — но этого не про-
исходит, и как раз потому, что мы не знаем, как ее нуж-
но применять. В словах «Третьего не дано» или «Ведь
третьего же не дано!» выражается лишь то, что мы не в
состоянии отвратить взор от этой картины, — карти-
ны, которая выглядит так, словно в ней уже должны со-
держаться и проблема и ее решение, в то время как мы
чувствуем, что это не так.
Подобно этому фраза «Он либо испытывает данное
ощущение, либо же нет» прежде всего вызывает в на-
шем сознании некую картину, которая, казалось бы,
уже безошибочно определяет смысл этих высказыва-
ний. Как бы хочется сказать: «Теперь ты знаешь, о чем
идет речь». Но как раз этого нз данной фразы он еще не
узнает.
353. Вопрос о том, возможно ли, и если да, то как
верифицировать предложение, — это просто особая
381
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
форма вопроса: «Что под этим подразумевается?» От-
вет — вклад в грамматику предложения.
354. Грамматические колебания между критериями
и симптомами создают впечатление, будто вообще су-
ществуют только симптомы. Мы говорим, например:
«Опыт учит, что когда барометр падает, идет дождь; но
он учит и тому, что в случае дождя мы испытываем оп-
ределенные ощущения сырости и холода или же такие-
то зрительные впечатления». Приводится и тот довод,
что чувственные впечатления могут нас обманывать.
Но при этом упускается из виду, что этот факт, что
ощущения вводят нас в заблуждение относительно
дождя, находит свое основание в дефиниции.
355. Дело не в том, что наши чувственные впечатле-
ния могут нас обмануть, а в том, чтобы мы понимали их
язык. (Язык же этот, как и любой другой, основывается
на соглашении.)
356. Человек склонен говорить: «Дождь либо идет,
либо ие идет — иное дело, как я это узнаю, как до меня
доходит весть об этом». Ну а поставим такой вопрос:
что я называю «известием о том, что идет дождь»? (Или
же и об этом сообщении я располагаю только сообще-
нием?) Что же тогда придает этому «сообщению» ха-
пятаоп, а чем-то? Не. ;щзо£чен.тч£уе.т ди. над.
здесь форма выражения? Не внушаются лн нам оши-
бочные представления такой метафорой: «Мон глаза
извещают меня о том, что там стоит стул»?
357. Мы не говорим: собака, возможно, разговари-
вает сама с собой. Потому ли, что мы так основательно
знаем ее психику? Что ж, можно было бы сказать: на-
блюдая поведение живого существа, наблюдают и его
психику. Но разве скажешь о себе: я разговариваю сам
с собой, потому что веду себя таким-то образом? На ос-
нове наблюдений за своим поведением я этого не гово-
рю. Но это утверждение имеет смысл только потому,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
382
что я веду себя таким образом. Так не потому ли оно
имеет смысл, что я подразумеваю это?
358. Так не наше ли подразумевание придает смысл
предложению? (С этим, конечно, связано и то, что,
имея бессмысленный ряд слов, невозможно что-то под-
разумевать.) Осмысливание осуществляется в сфере
душевного, и оно также является чем-то сугубо лич-
ным! Это — неуловимое нечто, сопоставимое только с
самим сознанием.
Как можно находить это смешным! Это как бы сон
нашего языка.
359. Может ли машина думать? Может ли она ис-
пытывать боль? Что же, разве мы должны называть че-
ловеческое тело такой машиной? А ведь оно, насколько
возможно, приближается к тому, чтобы быть такой ма-
шиной.
360. Но машина же не способна думать! Разве это —
эмпирическое утверждение? Нет. Только о человеке и
ему подобных мы говорим, что они думают. Мы говорим
это и о куклах и еще, пожалуй, о привидениях. Рассмат-
ривай слово «думать» как инструмент!
361. Стул думает про себя:...
ГДЕ? В одной из своих частей? Или вне своего тела,
в окружающем его воздухе? Или же вообще нигде? Как
же тогда различить внутреннюю речь этого стула и дру-
гого, стоящего вон там? Ну а как обстоит дело с челове-
ком; где он разговаривает с самим собой? Отчего этот
вопрос кажется бессмысленным? И почему в данном
случае не требуется уточнять место, а достаточно ука-
зать, что именно этот человек говорит с самим собой?
В то же время вопрос, где происходит разговор стула с
самим собой, кажется требующим ответа. Дело в том,
что мы хотим знать, каково предполагаемое подобие
стула человеку; имеется ли в виду, например, что в верх-
ней части спинки находится голова и т. д.
383
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как, собственно, человек мысленно говорит с са-
мим собой, что при этом происходит? Каким образом я
должен объяснять это? Ну, лишь таким образом, каким
ты мог бы научить кого-то значению выражения «гово-
рить с самим собой». Ведь мы еще детьми усваиваем
значение этого выражения. Только о нашем наставнике
никак не скажешь: он учит этому, объясняя? «что здесь
происходит».
362. Напротив, нам кажется, будто наставник в
данном случае косвенно внушает обучаемому значе-
ние выражения — не говоря ему об этом прямо; что
обучаемый в конце концов будет подведен к тому, что
сам даст правильное указательное определение. Но это
наша иллюзия.
363. «Если мне что-то представляется, то что-то
же, вероятно, происходит!» Ну, что-то происходит — а
чего ради я издаю при этом некий звук? По-виднмому,
для того чтобы сообщить, что происходит. Но как вооб-
ще сообщают о чем-то? Когда говорят, что о чем-то со-
общено? Что собой представляет языковая игра сооб-
щения?
Я бы сказал: ты преувеличиваешь самоочевидность
того, что человек способен о чем-то поведать кому-то.
Иначе говоря, мы так привыкли к сообщениям, переда-
ваемым с помощью языка, речи, что иам кажется, будто
вся суть сообщения состоит в том, что другой постигает
смысл моих слов — то есть нечто духовное — как бы
впускает его в свое сознание. Если же он при этом про-
делывает с ннм и что-то еще, это не имеет отношения к
непосредственной цели языка.
Люди склонны утверждать: «Благодаря сообщению
они знают, что мне больно; оно вызывает этот духов-
ный феномен; все остальное для сообщения несуще-
ственно». Выяснение же того, чем является этот стран-
ный феномен знания, предоставляется времени. Ведь
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
384
душевные процессы необычны! (Это все равно что ска-
зать: «Часы показывают нам время. Что такое время,
еще не установлено. А зачем людям считывать показа?
ння времени — к делу не относится».)
364. Кто-то производит в уме какой-то расчет. Полу-
ченный результат он применяет, скажем, прн создании
моста или машины. Склонен лн ты сказать, что на са-
мом деле он нашел это число не с помощью расчета?
Что оно явилось ему словно во сне? Но ведь его нужно
было рассчитать, и оно было рассчитано. Он же знает,
что н как он рассчитал, и что правильный результат
был бы необъясним без вычисления. Ну а если бы я ска-
зал: «Ему лишь показалось, что он вычислил. А почему
надо объяснять правильность результата? Разве объяс-
нишь сколько-нибудь убедительно уже то, что, ни слова
не говоря, не делая никаких пометок, он вообще мог
ВЫЧИСЛЯТЬ?»
Разве вычисление в воображении в некотором
смысле менее реально, чем расчет на бумаге? Это —
реальное вычисление в уме. Похоже ли оно на вычисле-
ние на бумаге? Не знаю, называть ли их сходными. Раз-
ве лист белой бумаги с черными линиями на нем похож
на человеческое тело?
Разыгрывают ли Аделъхайд и епископ настоя-
щую шахматную партию? Конечно. Они не просто при-
кидываются играющими — что было бы вполне воз-
можно в театральном спектакле. Ну а если бы партия,
скажем, не имела начала! Да как же так! Тогда она не
была бы шахматной партией.
366. Является ли счет в уме менее реальным, чем
счет на бумаге? Пожалуй, мы склонны утверждать не-
что подобное; однако к этому вопросу можно подойти и
с противоположной точки зрения, сказав себе: бумага,
чернила и т. д. — лишь логические конструкции из на-
ших чувственных данных.
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
BBS
«Умножение... я выполнил в уме» — разве я не
верю такому высказыванию? Но действительно ли это
было умножением? Это было не просто «какое-то» ум-
ножение, а это умножение, выполняемое в уме. Вот
тут-то я и заблуждаюсь. Ибо теперь я склонен заявить:
здесь имел место некий духовный процесс, соответ-
ствующий умножению на бумаге. Так что имело бы
смысл говорить: «Этот процесс в сфере духа соответ-
ствует этому процессу на бумаге». А тогда имело бы
смысл говорить о способе отображения, согласно кото-
рому мысленный образ знака представляет сам знак.
367. Картина представления — это такая картина,
которую описывают в том случае, когда описывают
свое представление.
368. Я описываю кому-то комнату, а после велю ему
нарисовать некую импрессионистическую картину на
основе моего описания в знак того, что он его понял.
А он изображает стулья, которые в моем описании были
зелеными, темно-красной краской; там, где говорилось о
«желтом», он изображает «голубое». У него сложилось
об этой комнате такое впечатление. Я же в таком случае
говорю: «Да уж, похоже — дальше некуда».
369. Кто-то готов спросить: «Как и что происходит,
когда чадкляж. гчитает ъ уме?» 7i ъ ка'ки'м-ло ктлткрет-
ном случае возможен ответ: «Сначала я складываю 17
и 18, затем вычитаю 39...» Но это не ответ на наш воп-
рос. Таким способом не объяснить, что называется
счетом в уме.
370. Следует спрашивать не о том, что такое пред-
ставления нли же что происходит, когда человек что-то
представляет, а о том: как употребляется слово «пред-
ставление». Но это не означает, что я хочу говорить
лишь о словах. Ведь и вопрос о природе представления,
равно как и мой вопрос, обращен к слову «представлен
ние». А говорю я лишь о том, что этот вопрос не должен
13 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
386
решаться ни для человека, что-то себе представляюще-
го, нн для другого лица — путем указания или описа-
ния какого-нибудь процесса. Первый вопрос тоже воп-
рошает об истолковании слова, но склоняет нас к ожи
данию неверного типа ответа.
371. Сущность ярко выражается в грамматике.
372. Обдумаем: «В языке единственным коррелятом
природной необходимости выступает установленное
правило. Это — единственное, что в том или ином пред-
ложении можно выжать (abziehen) из этой безусловной
необходимости».
373. О том, какого рода объектом является нечто,
дает знать грамматика. (Теология как грамматика.)
374. Большая трудность заключается здесь в том,
чтобы не изображать дело так, будто есть нечто, что
человек не в состоянии сделать. Как будто имеется
предмет, нз которого я вывожу его описание, будучи
не в состоянии показать его кому бы то ни было.
И пожалуй, лучшее, что я могу здесь предложить, это
поддаться искушению использовать данную картину, а
затем исследовать, как выглядит применение этой
картины.
375. Как обучают кого-нибудь читать про себя? Как
узнают, что он это усвоил? Как он сам узнает, что дела-
ет то, что от него требуется?
376. Когда я в уме произношу алфавит, каков крите-
рий того, что я делаю то же самое, что и другой, без-
звучно повторяющий алфавит? Можно установить, что
в моей гортани при этом происходит то же самое, что н
в его. (Как и в том случае, когда мы оба думаем об од-
ном и том же, желаем одного и того же и т. д.) Но разве
употреблению слов «произносить про себя то-то» мы
учились посредством указания на процесс в гортани
илн же в мозгу? И разве нельзя допустить также, что
моему и его представлениям о звуке а соответствуют
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
307
разные физиологические процессы? Вопрос в том, /сак
(равниваются представления.
377. Логик, вероятно, подумает: тождественное
есть тождественное. А как человек убеждается в тож-
дестве — это уже психологический вопрос. (Высокое
есть высокое — а то, что человек иногда видит это, а
иногда слышит, относится к психологии.)
Что служит критерием тождества двух представле-
ний? Каков критерий того, что представляется крас-
ное? Когда речь идет о ком-то другом, для меня таким
критерием выступает то, что он говорит и делает. Если
же это касается меня самого, то у меня таких критери-
ев вообще нет. То, что справедливо для «красного»,
справедливо также и для «тождественного».
378. «Прежде чем сделать вывод, что два моих пред-
ставления тождественны, я должен их узнать как одина-
ковые». А если это произошло, как мне узнать, что слово
«тождественный» описывает то, что я узнал? Это воз-
можно лишь при том условии, если я способен выражать
это узнавание каким-то явным образом, н другой чело-
век в состоянии научить меня, что подходящим словом
для такого случая является слово «тождественный».
Ведь если я нуждаюсь в обосновании употребления
слова, то оно должно быть обоснованием и для другого.
379. Сначала я удостовериваюсь, что нечто есть
это; а затем вспоминаю, как оно называется. Пораз-
мышляй: в каких случаях можно по праву это сказать?
380. Как я узнаю, что это красное? «Я вижу, что оно
таково; ну и мне известно, что это называется так».
Это? Что именно?! Какого рода ответ на такой вопрос
имеет смысл?
(Ты все снова и снова ориентируешься на указа-
тельное определение на базе внутреннего опыта.)
К персональному переходу от увиденного к слову
нельзя было бы применить никаких правил. Правила
13*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
388
здесь и впрямь повисали бы в воздухе: из-за отсутствия
института их применения.
381. Как я узнаю, что этот цвет красный? Ответом
было бы: «Я же владею немецким языком».
382. Как можно подтвердить, что прн этих словах
у меня возникает это представление?
Разве кто-то указывал мне на представление сине-
го цвета н говорил, что оно является представлением
синего?
Что означают слова «это представление»? Как чело-
век указывает на представление? Как дважды указыва-
ют на одно н то же представление?
383. Мы анализируем не феномен (например, мыш-
ление), а понятие (например, мышления), а стало быть,
употребление слова. Поэтому может показаться, будто
мы придерживаемся номинализма. Номиналисты дела-
ют ошибку, толкуя все слова как имена, то есть реаль-
но не описывая их употребление, а как бы давая лишь
бумажные инструкции к такому описанию.
384. Понятие «боль» ты усвоил вместе с языком.
385. Спроси себя: мыслимо ли, чтобы кто-то на-
учился вычислению в уме, не вычисляя до этого пись-
менно или устно? «Научиться этому» означает здесь:
обрести умение делать это. Вопрос лишь в том, что счи-
тать критерием того, что кто-то это умеет. А разве не-
возможно, чтобы какому-то племени был бы знаком
только счет в уме, и никакой другой? В таком случае
стоит спросить: «А как бы это выглядело?» И придется
представить себе это как некий предельный случай. Но
тогда возникает вопрос, склонны ли мы при этом все
еще пользоваться понятием «вычисления в уме» или
при таких обстоятельствах оно утрачивает свое назна-
чение; поскольку явления тяготеют тут к другому об-
разцу.
389
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
386. «Но почему ты так мало доверяешь самому
себе? Ведь обычно ты все-таки знаешь, что такое “вы-
числять”. Так, заявив, что мысленно вычисляешь что-
то, ты выполняешь это. Не вычислив, ты не говоришь,
что вычислил. Так же как если ты скажешь, что пред-
ставляешь себе что-то красное, то это и будет красным.
Да и в других случаях тебе известно, что такое "крас-
ное”. К тому же: ты не всегда полагаешься на согласие
других; ибо часто сообщаешь, что видел что-то, чего не
видел никто другой». Но ведь я доверяю самому себе —
я же говорю без колебаний, что вычислил это в уме, что
мне представился этот цвет. Трудность состоит не в
том, что я-де сомневаюсь, действительно ли мне пред-
ставилось что-то красное. Дело вот в чем: мы должны
быть в состоянии сразу же показать или описать, какой
цвет представился нам, так чтобы иллюстрация пред-
ставления в действительности не составляла для нас
никакого труда. Тогда, выходит, они настолько похожи,
что нх можно спутать? Но я же способен сразу узнать
человека по его изображению. Да, но можно ли спро-
сить: «как выглядит правильное представление этого
цвета?», или же: «как его обретают?»; могу ли я на-
учиться этому?
(Я не могу принять его свидетельство, потому что
это не свидетельство. Он говорит мне лишь то, что
склонен сказать.)
387. Глубокий аспект вопроса легко ускользает от нас.
388. «Хотя я н не вижу здесь ничего фиолетового,
но, если ты мне дашь коробку с красками, я смогу пока-
зать тебе в ней этот цвет». Как человек может знать,
что он в состоянии показать его, если... то есть что уви-
дев его, можно узнать?
Каким образом, основываясь на своем представле-
нии, я знаю, как действительно выглядит цвет? :
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
390
Откуда мне известно, что я смогу нечто сделать? То
есть что мое нынешнее состояние — как раз то, в кото-
ром я способен это сделать?
389. «Представление должно походить на свой
объект больше, чем любая картина: нбо, сколь бы ни
походила создаваемая картина на то, что она должна
изображать, она всегда может быть н картиной чего-то
другого. Но в самой природе представления заложено,
что оно является представлением этого, а не чего-то
другого». Таким образом можно прийти к тому, чтобы
рассматривать представление как суперизображение.
390. Разве можно себе представить, что камень об-
ладает сознанием? Будь некто на такое способен —
разве этим просто не подтверждалось, что для нас пред-
ставляет интерес не это изощренное воображение?
391. Я еще могу, пожалуй, представить себе (хотя
это и нелегко), что каждый из людей, которых я вижу
на улице, испытывает ужасные болн, но искусно их
скрывает. При этом важно, чтобы я представлял себе,
что в данном случае означает искусное притворство. То
есть чтобы я попросту ие сказал себе: «Так у него же
болит душа, а при чем здесь его тело!» или «В конце
концов это не должно сказываться на его теле!» Ну а
если я это себе представлю — что я стану делать, что
говорить себе самому, как смотреть на людей? Я смот-
рю, например, на кого-нибудь и думаю про себя: «Долж-
но быть, тяжело смеяться, испытывая такие болн», и
много другого в том же духе. Я словно бы играю некую
роль, веду себя так, как если бы другим было больно.
Когда так поступаешь, принято, например, говорить,
что тебе представляется...
392. «Когда я представляю себе, что ему больно, со
мной, собственно, происходит лишь...» При этом кто-то
другой говорит: «Я полагаю, что могу это себе предста-
вить, и не думая при этом...» («Я полагаю, что могу ду-
191
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
мать без участия речи».) Это ни к чему не ведет. Ана-
лиз колеблется между естественнонаучным и грамма-
тическим.
393. «Представляя себе, что смеющемуся человеку
па самом деле больно, я, однако, не представляю себе
какого-то болевого поведения, ибо вижу как раз проти-
воположное. Что же тогда я представляю себе?» Я ска-
зал уже об этом. А представлять себе, будто я чувствую
боль, необязательно. «Но тогда как же это осуществля-
ется: как это себе представляют?» Ну а где (вне фило-
софии) употребляются такие слова: «Я могу себе пред-
ставить, что ему больно», или «Мне представляется,
что...», нли же «Представь, что...!»?
Человеку, которому предстоит исполнить театраль-
ную роль, говорят, например: «Ты должен здесь себе
представить, что этому человеку больно, но он это
скрывает» — и при этом ему не дают никаких указа-
ний, не говорят, что реально ему нужно делать. Вот по-
чему выполненный анализ тоже не затрагивает сути
дела. Мы здесь наблюдаем за актером, представляю-
щим себе эту ситуацию.
394. При каких обстоятельствах мы бы спросили
кого-нибудь: «Что, собственно, в тебе происходило, ко-
гда ты представлял себе это?» И какого ответа ожида-
ли бы?
395. Отсутствует ясность относительно того, какую
роль играет в нашем исследовании способность пред-
ставления. То есть в какой мере она гарантирует смысл
предложения.
396. То, что человеку в связи с предложением что-то
представлялось бы, столь же мало существенно для по-
нимания предложения, как и то, что в соответствии со
своим представлением он бы делал к нему некий эскиз.
397. Вместо «возможности представления» здесь
можно также говорить о возможности изображения
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
392
тем или иным способом. А такое изображение, конеч-
но, может указать надежный путь к дальнейшему упот-
реблению предложения. С другой стороны, картина мо-
жет стать навязчивой и оказаться совершенно беспо-
лезной.
398. «Но ведь, что-то себе представляя или же дей-
ствительно вндя предметы, я обладаю чем-то, чем не
располагает мой сосед». Я тебя понимаю, Тебе хочется
оглядеться вокруг себя и сказать: «Во всяком случае,
ЭТИМ обладаю лишь я». К чему эти слова? Они ни на
что не годятся. Верно, и разве нельзя добавить: «Здесь
и речи нет ни о каком “видении” — а потому и ни о ка-
ком “обладании” и ни о каком субъекте, а значит, и ни о
каком “я”»? Разве можно не спросить: в каком смысле
ты обладаешь тем, о чем ведешь речь и утверждаешь,
что только ты обладаешь им? Разве ты нм владеешь? Ты
его не видишь разом, Разве тебе не следовало бы ска-
зать, что этим не владеет никто? И ясно также: если ло-
гически исключить, что кто-то другой обладает чем-то,
то утверждение, что этим обладаешь ты, теряет смысл.
А о чем ты тогда говоришь? Да, я говорил, что внут-
ренне знаю, что ты имеешь в виду. А это означало: мне
известно, как мыслится восприятие, видится этот
объект, как предполагается указывать на него, скажем
взглядом н жестом. Я знаю, как в этом случае люди
смотрят перед собой, вокруг себя и прочее. Я думаю,
можно сказать: ты говоришь (например, сидя в комна-
те) о некой «визуальной комнате». «Визуальная комна-
та» — это то, что не имеет обладателя. Я в столь же ма-
лой мере могу обладать ею, как и пройтись по ней, ос-
мотреть ее нли указать на нее. Поскольку она не может
быть чьей-то еще, она не принадлежит н мне. Иначе го-
воря: она не принадлежит мне если пытаться приме-
нить к ней ту же форму выражения, что и к материаль-
ной комнате, в которой я сижу. Описание последней не
393
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нуждается в упоминании ее владельца; и она необяза-
тельно имеет владельца. Но тогда и визуальная комната
может не иметь владельца. «Ведь она не имеет — мож-
но сказать — никакого хозяина нн вне, ни внутри нее».
Представь себе, что на картине изображен вымыш-
ленный пейзаж с домом — и кто-то спрашивает: «Кому
принадлежит дом?» Между прочим, на это можно было
бы ответить: «Крестьянину, который сидит перед ним
на скамейке». Но в таком случае он не может, напри-
мер, войти в свой дом.
399. Можно было бы также сказать: ведь владелец
визуальной комнаты должен быть однотипен комнате;
одиако в ней его нет, а какого-то «вне» (Aussen) тоже не
существует.
400. Тот, кто как бы открыл «визуальную комнату»,
иа самом деле нашел только новый способ речи, новое
сравнение и, можно сказать, новое впечатление.
401. Эту новую точку зрения ты толкуешь как виде-
ние нового объекта. Предпринятый тобой же граммати-
ческий маневр ты толкуешь как квазифизическое явле-
ние, которое ты наблюдаешь. (Подумай, например, над
вопросом: «Является ли чувственно данное тем матери-
алом, из которого строится Вселенная?»)
Но небезупречно мое выражение: ты предпринял
«грамматический» маневр. Прежде всего ты открыл но-
вый взгляд на вещи. Это подобно тому, как если бы ты
изобрел новый стиль живописи, или новый стихотвор-
ный размер, или же новый вид пения.
402. «Хотя я и говорю: “Сейчас у меня вот такое
представление”, однако слова “у меня” — это лишь
знак для кого-то другого; в описании же представления
изображается весь представляемый мир». Ты имеешь в
виду: слова «у меня» подобны возгласу «Внимание!» Ты
склонен утверждать, что, по сути, все это должно выра-
жаться иначе. Например, человек просто сделает знак
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
394
рукой, а затем даст описание. Не соглашаясь, как в дан-
ном случае, с выражениями нашего повседневного язы-
ка (тем не менее несущими свою службу), мы бываем
движимы мысленной картиной, противоречащей карти-
не нашего обычного способа выражения. В таком слу-
чае мы испытываем искушение утверждать, что наш
способ выражения описывает факты не такими, каковы
они в действительности. Как если бы, например, пред-
ложение «Ему больно» могло быть ложным и иным об-
разом, не только оттого, что этому человеку не больно.
Словно бы форма выражения сообщала что-то ложное,
даже если данное предложение с необходимостью ут-
верждало бы что-то истинное.
Ведь именно так выглядят споры между идеалиста-
ми, солипсистами н реалистами. Одни так нападают на
нормальную форму выражения, словно они атакуют не-
которое утверждение; другие же так защищают ее, как
если бы они констатировали факты, признаваемые каж-
дым разумным человеком.
403, Если бы словом «боль» я обозначал лишь то,
что ранее называл «моей болью», а другие— «болью
JI.В.», я бы не нанес другим людям никакого ущерба,
коль скоро предусмотрена система обозначений, в ко-
торой выпадение слова «боль» из других сочетаний
было бы как-то восполнено. Тогда другим людям по-пре-
жнему соболезновали бы, их бы лечили врачи и т. д. Ес-
тественно, не было бы никаких возражений и против
такого вот способа выражения: «Но другие ведь испы-
тывают то же, что и ты!»
А что бы выигрывалось от этого способа изложе-
ния? Ничего. Но и солипсист, защищая свои взгляды,
ие стремится ни к каким практическим преимуще-
ствам!
404. «Говоря “мне больно”, я не указываю на персону,
испытывающую боль, так как в известном смысле вовсе
39S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
не знаю, кому больно». И это можно обосновать. Ибо
прежде всего: я же не утверждал, что то или иное лицо ис-
пытывает боль, а сказал «я испытываю...» Ну а тем самым
я ведь не называю никакого лица. Так же как никого не на-
зываю, когда от болн издаю стон. Хотя другой человек
может понять по стону, кто испытывает боль.
Что же означает тогда: знать, кому больно? Это зна-
чит, например, знать, какой человек в этой комнате ис-
пытывает боль — тот ли, кто сидит там, или тот, кто сто-
ит в этом углу, или же тот рослый блондин и т. д. Что я
хочу всем этим сказать? То, что существуют самые раз-
ные критерии «идентичности» лнчности.
Ну а какой же из них побуждает меня сказать, что
«мне» больно? Нн один.
405. «Но ведь, говоря “Мне больно”, ты же, во вся-
ком случае, хочешь привлечь внимание других к особо-
му лицу». Ответом могло бы быть: «Нет, я хочу обра-
тить их внимание только на меня».
406. «И все же словами “Я испытываю...” ты хочешь
провести различие между тобой и другими». Можно ли
это сказать во всех случаях? Даже если я просто издаю
стон? Да н желая «провести различие» между мной и
другими людьми, разве я хочу тем самым провести раз-
личие между личностями Л.В. nN.N.?
407. Человек мог бы подумать, что кто-то стонет:
«Кому-то больно — не знаю кому!» — а потом поспе-
шить этому стонавшему на помощь.
408. «Однако у тебя не возникает вопроса, испыты-
ваешь ли боль ты или же кто-то другой!» Предложение
«Я не знаю, больно лн мне или кому-то другому» было
бы логическим произведением, н одним из его сомно-
жителей было бы: «Я не знаю, больно ли мне или нет», а
это не является осмысленным предложением.
409. Представь себе, что несколько человек, среди
них и я, стали в круг. Кто-то из нас, то один, то другой,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
396
соединяется с полюсами электрической машины, но
так, что мы этого не можем видеть. Я наблюдаю за ли-
цами людей и стараюсь узнать, кто же из нас в данный
момент находится подтоком. Вдруг я говорю: «Теперь я
знаю, кто это; это как раз я». В этом смысле я бы мог
также сказать: «Теперь я знаю, кто здесь ощущает удар
тока: это я сам». Это был бы несколько необычный спо-
соб выражения. Но если предположить, что я могу чув-
ствовать удар тока и тогда, когда под тоКом находится
кто-то другой, то выражение «Теперь я знаю, кто...»
становится совершенно неуместным. Оно не принадле-
жит этой игре.
410. «Я» — не наименование какой-то персоны,
«здесь» — не название какого-нибудь места, «это» —
не имя. Но они находятся во взаимосвязи с именами.
С их помощью объясняются имена. Верно также, что
для физики не свойственно употреблять эти слова.
411. Подумай, как можно применять эти вопросы н
как разрешать:
1) «ЛТон лн это книги?»
2) «Моя ли это нога?»
3) «Мое ли это тело?»
4) «Мое лн это ощущение?»
Каждый из этих вопросов имеет практическое (не-
философское) применение.
К 2): Подумай о случаях, когда моя нога анестезиро-
вана или парализована. При определенных обстоятель-
ствах вопрос можно было бы решить, установив, чув-
ствую ли я в этой ноге боль.
К 3): При этом человек мог бы указывать на изобра-
жение в зеркале. Но при некоторых обстоятельствах
кто-то мог бы задать этот вопрос, и коснувшись тела ру-
кой. При других же он был бы равнозначен вопросу:
♦Неужели мое тело выглядит /пак?»
397
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К 4): Какое именно ощущение здесь выделено как
это? То есть: как употребляется тут указательное мес-
тоимение? Несомненно, иначе, чем, скажем, в первом
примере! При этом путаница возникает из-за того, что
человеку представляется, будто, обращая внимание на
какое-то ощущение, он тем самым указывает на него.
412. Чувство непреодолимой пропасти между со-
знанием и мозговым процессом: как получается, что на
размышлениях нашей повседневной жизни это не ска-
зывается? Мысль об этом принципиальном различии
связана с легким головокружением, наступающим тог-
да, когда мы проделываем логические трюки. (Подоб-
ные же головокружения вызывают у нас некоторые тео-
ремы теории множеств.) Когда же в данном случае нас
охватывает это чувство? Ну, например, когда я особым
образом направляю свое внимание на собственное со-
знание и, словно бы хватаясь при этом за лоб, с изумле-
нием говорю себе: предполагается, что ЭТО порождено
мозговым процессом! Но что это может означать: «на-
править свое внимание на собственное сознание»? Что
может быть более странным, чем это? То, что я бы на-
звал таким образом (ибо эти слова реально не употреб-
ляются в обыденной жизни), было неким актом созер-
цания. Я смотрел остановившимся взглядом прямо пе-
ред собой — но вовсе не иа какую-то определенную
точку илн предмет. Мои глаза были широко раскрыты,
брови не были сдвинуты (как это бывает в большинстве
случаев, когда я интересуюсь определенным объектом).
Созерцанию не предшествовал какой-то интерес подоб-
ного рода. Мой взгляд был «отсутствующим»; или же
напоминал взгляд человека, любующегося освещени-
ем неба и впитывающим его свет.
А подумай-ка над тем, что предложение, произне-
сенное мною как парадокс (это порождено мозговым
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
398
процессом!), вовсе не парадокс. Оно могло бы прозву-
чать по ходу эксперимента, призванного показать, что
наблюдаемый мною световой эффект порожден возбуж-
дением определенной части головного мозга. Но я из-
рек это предложение не в той обстановке, в которой оно
имело бы повседневный, непарадоксальный смысл.
И направленность моего внимания была совсем не той,
какая нужна для проведения эксперимента. (В случае
эксперимента мой взгляд был бы «сосредоточенным», а
ие «отсутствующим».)
413. Здесь мы сталкиваемся со случаем интроспек-
ции, напоминающей ту, с помощью которой Уильям
Джемс выявил, что понятие «я» («Selbst») состоит глав-
ным образом из «своеобразных движений в голове и
между головой и гортанью». Причем Джемсова интро-
спекция обнаружила не значение слова «я» (поскольку
оно означает примерно то же, что слова «личность»,
«человек», «я сам», «он сам»), И не анализ такого рода
реалнй (Wesens). Она выявила другое: сосредоточен-
ное внимание философа, мысленно произносящего сло-
во «я» н стремящегося проанализировать его значение.
(А из этого можно многому научиться.)
414. Ты полагаешь, что все-таки должен ткать не-
кую ткань: поскольку сидишь за ткацким станком —
хотя и пустым — и делаешь движения ткача.
415. Все, чего мы достигаем, — это, по сути, заме-
чания по естественной истории людей; притом не добы-
вание диковин, а констатация того, в чем никто не со-
мневался, что избежало нашего внимания только пото-
му, что постоянно было перед глазами.
416. «Люди единодушно заявляют: они видят, слы-
шат, чувствуют и т. д. (даже если некоторые из них сле-
пы или глухи). Тем самым они свидетельствуют о себе
самих, что они обладают сознанием». Но это так стран-
но! Кому, собственно, я делаю сообщение, говоря
199 ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
♦ У меня есть сознание»? Зачем мне говорить это само-
му себе и как может понять меня другой человек? Ну,
такие предложения, как «Я вижу», «Я слышу», «Я в со-
знании», действительно используются. Я говорю врачу:
«Теперь я снова слышу на это ухо», — а тому, кто счи-
тает, что у меня обморок, говорю: «Теперь я снова в со-
знании» и т. д.
417. Выходит, наблюдая за собой, я отдаю себе от-
чет в том, что смотрю на что-либо или же что я в созна-
1ии? А к чему вообще говорить о наблюдении! Почему
ie сказать просто «Я замечаю, что нахожусь в созна-
ши»? Но к чему здесь слова «Я замечаю», — почему бы
ie сказать «Я в сознании»? Но разве слова «Я замечаю»
•ут не показывают, что я обратил внимание на мое со-
1нанис, чего обычно не делаю? Если это так, то предло-
жение «Я замечаю, что...» говорит не о том, что я в со-
знании, а о том, что мое внимание направлено таким-то
образом.
Но разве не особое переживание побуждает меня
заявлять «Я снова в сознании»? Какое переживание?
В какой ситуации мы это говорим?
1418. Является ли то, что я обладаю сознанием, фак-
том опыта? Но разве ие говорят о человеке, что он обла-
пает сознанием, а о дереве или камне — что у них нет
сознания? А что, если бы дело обстояло иначе? Что же,
тогда все люди были бы лишены сознания? Нет, в обыч-
ном смысле слова не были бы. Но я бы, например, ие
имел сознания — как я его теперь фактически имею.
419. При каких обстоятельствах я скажу, что племя
имеет вождя? А вождь ведь должен обладать сознани-
ем. Ему же нельзя не иметь сознания!
420. Разве нельзя вообразить, что люди вокруг
меня — это автоматы, что они не имеют сознания, если
даже ведут себя так же, как обычно? Ну, если предста-
вить себе, что, сидя один в своей комнате, я вижу людей,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 400
исполняющих свои обязанности с неподвижным взгля-
дом (как бы в трансе) — то это будет, пожалуй, жутко-
ватое представление. А попробуй-ка сосредоточиться
на этом представлении в обычном людном месте, на-
пример на улице! Скажи, например, себе: «Вон те
дети — просто автоматы; вся их живость чисто механи-
ческая*. И этн слова либо вовсе ничего тебе не скажут,
либо же у тебя возникнет какое-то тревожное чувство
или что-то в этом роде.
Рассматривать живого человека как автомат — это
все равно что видеть в какой-то фигуре предельный слу-
чай нлн вариант другой фигуры, например видеть свас-
тику в переплете оконной рамы.
421. Нам представляется парадоксальным, что в
едином сообщении причудливо смешиваются телесные
состояния н состояния сознания: «Он испытывал тяж-
кие мучения и беспокойно метался*. Это совершенно
обычная ситуация; почему же тогда это кажется нам
парадоксом? Потому, готовы мы сказать, что это пред-
ложение повествует об осязаемом и неосязаемом.
А разве ты находишь нечто странное в таких словах:
«Эти три перемычки придают зданию прочность»? Раз-
ве три и прочность осязаемы? Рассматривай предложе-
ние как инструмент, а его смысл как его применение!
422. Во что я верю, если верю, что у человека есть
душа? Во что верю я, когда верю, что данное вещество
содержит два кольца атомов углерода? В обоих случаях
на авансцену вынесена картина, смысл же оттеснен на
задний план, то есть применение картины обозревать
не так легко.
423. Конечно же, все это происходит внутри тебя.
Я же при этом лишь пытаюсь понять выражение, кото-
рым мы пользуемся. Существует картина. И я не оспари-
ваю того, что она оправданна в определенных случаях.
401
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мне бы только хотелось понять еще и применение этой
картины.
424. Имеется картина, и я не оспариваю ее правиль-
ности. Но каково ее применение? Подумай о картине
слепоты как некоей темноты в душе или голове слепого.
425. В бесчисленном множестве случаев мы стре-
мимся как раз найти картину, а коль скоро она найдена,
ее применение происходит как бы само собой. В данном
же случае мы уже имеем картину, которая то и дело на-
вязывает себя нам, но она не помогает нам выйти из
затруднения, которое здесь только начинается.
Спроси я, например: «Как представить себе, что
этот механизм действует в этом корпусе?» •— отве-
том мог бы послужить, скажем, рисунок в уменьшен-
ном масштабе. Тогда мне могут сказать: «Видишь, вот
так он действует внутри»; или, может быть: «Почему
это тебя удивляет? То, что ты видишь здесь, происхо-
дит и там». Последнее, конечно, ничего не добавляет к
объяснению, а лишь приглашает меня к применению
данной мне картины.
426. Представляется, будто однозначно определять
смысл призвана некая картина. По сравнению с тем, что
показывает картина, действительное употребление ка-
жется лишенным чистоты. Здесь повторяется то же, с
чем мы сталкивались в теории множеств, — форма выра-
жения кажется предназначенной как бы для Бога, знаю-
щего то, что нам знать не дано; ему видны бесконечные
ряды в их целостности и зримо сознание людей. Для нас
же, конечно, этн формы выражения как бы папская риза,
в которую мы можем облачиться, но не совершать даль-
нейшие действия, так как у нас нет той реальной власти,
которая бы придавала этому облачению смысл н цель.
В реальном употреблении выражений мы движемся
как бы окольным путем, идем переулками; при этом,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
402
возможно, мы видим перед собой прямую улицу, однако
не можем ею воспользоваться, потому что она постоян-
но перекрыта.
427. «Беседуя с ним, я не знал, что происходило в
его голове». Говоря так, имеют в виду не мозговые, а
мыслительные процессы. Эту картину следует прини-
мать всерьез. Нам действительно хотелось бы загля-
нуть за его лоб. И все же мы имеем в виду только то, что
и обычно имели бы в виду, говоря: хотелось бы знать,
что он думает. Надо сказать: мы располагаем этой яр-
кой картиной и тем, как бы противоречащим этой кар-
тине, употреблением, посредством которого выражает-
ся психическое.
428. «Эта странная реалия (Wesen) “мысль”» — но
она не представляется нам странной, когда мы мыслим.
Мысль кажется нам чем-то таинственным не в процессе
мышления, а лишь когда мы как бы ретроспективно воп-
рошаем: «Как это было возможно?» Как возможно, что-
бы мысль имела дело с самим предметом? Нам кажется,
что посредством мысли мы как бы уловили реальность.
429. Согласие, гармония мысли и действительности
состоят в том, что в случае моего ложного утвержде-
ния: нечто является красным — оно при всем том все
же остается не красным. А чтобы объяснить кому-то
значение слова «красное» в предложении «это не крас-
ное», я указываю на что-то красное.
430. «Приложи линейку к этому телу; она не гово-
рит, что тело такой-то длины. Сама по себе она, так ска-
зать, мертва и не совершает ничего такого, что совер-
шает мысль». Это как если бы нам представилось, будто
в живом человеке существенна его внешняя форма, и,
придав куску дерева эту форму, мы смущенно смотрели
бы на эту мертвую чурку, не имеющую ничего общего с
живым существом.
403
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
431. «Между приказом и его выполнением суще-
ствует пропасть. Соединить их должно понимание».
«Лишь понимание предусматривает, что мы должны
сделать ЭТО. Приказ же [сам по себе как таковой! —
всего лишь звук, чернильный штрих».
432. Каждый знак, взятый сам по себе, кажется
мертвым. Что придает ему жизнь? Он живет в упот-
реблении. Несет ли он живое дыхание в самом себе?
Или же употребление и есть его дыхание?
433. Когда мы отдаем приказ, может показаться, что
то завершающее, чего требует приказ, должно оставаться
невыраженным, ибо всегда сохраняется разрыв между
приказом и его выполнением. Я хочу, допустим, чтобы
кто-то сделал определенное движение, например поднял
руку. Для полной ясности я показываю ему это движение.
Такое изображение [нужного движения! представляется
недвусмысленным; до тех пор пока не возникает вопрос:
каким образом он узнает, что ему следует сделать
именно это движение? Как он вообще узнает, что знаки,
которые я ему все время подаю, должны применяться
именно таким образом? Ну, я, пожалуй, попытаюсь допол-
нить приказ другими знаками, показывая ему на своем
примере, как действовать, делая поощрительные жесты,
и т. д. Причем поначалу приказ напоминал бы заикание.
Словно бы знак ненадежным средствами пытался
вызвать у нас понимание. Ну а если мы все-таки пони-
маем, с помощью какого знака мы добиваемся этого?
434. Жест пытается — скажем так — создать об-
разец, но это не удается.
435. На вопрос: «Как достигается изображение че-
го-то с помощью предложения?» — можно было бы дать
такой ответ: «А разве ты этого не знаешь? Ты же ви-
дишь это при его использовании». Здесь же иет ничего
скрытого.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
404
Как предложение это делает? А разве ты этого не
знаешь? Здесь ведь нет ничего утаенного.
Но ответ «Ты ведь знаешь, как предложение это де-
лает; здесь нет ничего скрытого» склоняет к возраже-
нию: «Да, но тут все происходит так быстро, а для меня
было очень важно увидеть это как бы более крупным
планом».
436. Если полагать, будто вся сложность задачи тут
состоит в том, что нужно описывать трудноуловимые
явления, быстро ускользающий наличный опыт или
что-то в этом роде, то легко попасть в тупик философ-
ствования. Тогда обычный язык кажется нам слишком
грубым, как будто мы должны иметь дело не с теми яв-
лениями, о которых говорят повседневно, а «с теми, что
легко ускользают и в своем возникновении и исчезно-
вении лишь в общих чертах продуцируют те первые».
(Августин: Manifestissima et usitatissima sunt, et
eadem rusus nimis latent, et nova est inventio eorum'.)
437. Желание как бы заведомо знает, что его удов-
летворит или удовлетворило бы; предложение, мысль —
что их сделает истинными, даже если на самом деле это-
го вовсе не случится! Откуда это определение того, чего
еще нет в наличии? Это деспотичное требование? («Жес-
ткость логической необходимости».)
438. «План как таковой есть нечто неудовлетворен-
ное». (Подобно желанию, ожиданию, предположению и
т. д.)
Под этим я подразумеваю: желание не удовлетворе-
но, потому что оно — желание чего-то; верование, по-
лагание, не удовлетворено, поскольку является полага-
нием, что происходит нечто, нечто действительное, не-
что, находящееся вне процесса полагания.
1 «Самое очевидное н наиболее употребимое вместе с тем
весьма скрыто, и его открытие ново» (лат.).
405
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
439. В какой мере можно назвать желание, ожида-
ние, верование и т. д. «неудовлетворенными»? Что слу-
жит для нас прообразом неудовлетворенности? Может
быть, пустое пространство? А неужели о чем-то таком
стали бы говорить, что оно не удовлетворено? Разве не
было бы это еще одной метафорой? А может быть, пер-
вообразом того, что мы называем неудовлетворенно-
стью, есть некое чувство — допустим, чувство голода?
В какой-то особой системе выражений можно опи-
сывать тот или иной объект с помощью слов «удовлет-
воренный» или «неудовлетворенный». Например, усло-
вившись называть полый цилиндр «неудовлетворенным
цилиндром», а заполняющий его сплошной цилиндр —
«его удовлетворением».
440. Фраза «Мне хочется яблока?» не означает: я
полагаю, что яблоко утолит мое чувство неудовлетво-
ренности. В этом предложении выражено не желание, а
неудовлетворенность.
441. От природы и в результате определенного обуче-
ния и воспитания мы предрасположены проявлять наши
желания при определенных обстоятельствах, (Таковым
«обстоятельством», естественно, не является само жела-
ние.) Вопрос, знаю ли я, чего хочу прежде, чем мое жела-
ние исполнится, вообще не может возникнуть в этой
игре. И то, что какое-то событие заставляет замолкнуть
мое желание, не означает, что оно его удовлетворяет.
Возможно, я был бы неудовлетворен, будь удовлетворено
мое желание. С другой стороны, слово «желать» исполь-
зуется и таким образом: «Я сам не знаю, чего хочу». («Ибо
желания скрывают желаемое от нас самих»,)
Ну а в какой ситуации мог бы прозвучать вопрос:
«Разве я знаю, за чем протягиваю руку, прежде чем по-
лучу это?» Коли я владею речью, то знаю.
442. Я вижу, как кто-то вскинул ружье, и говорю:
«Я жду звука выстрела». Раздается выстрел. Так это то,
людвиг Витгенштейн
406
чего ты ожидал; выходит, этот звук уже как-то суще-
ствовал в твоем ожидании? Или между твоим ожидани-
ем и случившимся имеется согласие другого рода; гро-
хот же выстрела не входил в твое ожидание, а явился
лишь случайным дополнением к тому, что произошло,
когда ожидание исполнилось? Да нет, если бы не после-
довало звука, мое ожидание не исполнилось бы; этот
звук и был его исполнением, он не был простым сопро-
вождением происходящего, как некий второй гость, со-
путствующий тому, кого я ожидал. Было бы случайнос-
тью, неким дополнением события то из происшедшего,
что оказалось неожиданным? Ну а что же тогда не было
дополнением? Присутствовало ли каким-то образом
что-то, связанное с выстрелом, уже в моем ожидании?
И что в таком случае было сверх того — разве я не ожи-
дал выстрела во всей его целостности?
«Звук выстрела был не так громок, как я ожидал». —
«Значит, в твоих ожиданиях он звучал громче?»
443. «Красное, которое ты себе представляешь, бе-
зусловно, не то же самое (не та же самая вещь), что
красное, которое ты видишь перед собой; как можешь
ты тогда утверждать, что это именно то, что ты себе
представлял?» Но разве мы не сталкиваемся с анало-
гичным случаем в предложениях «Здесь красное пятно»
и «Здесь нет красного пятна»? В оба предложения вхо-
дит слово «красное»; стало быть, это слово не может
указывать на наличие чего-то красного.
444. Пожалуй, можно испытывать также чувство,
что в предложении «Я ожидаю, что он придет» слова «он
придет» используются в другом значении, чем в утверж-
дении «Он придет». Но будь так — как можно было бы
говорить о том, что мои ожидания сбылись? Пожелай я
объяснить оба слова «он» и «придет», скажем, с помо-
щью указательных определений — для обоих предложе-
ний подошли бы одинаковые дефиниции этих слов.
407
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Что же, можно было бы спросить: как выглядит его
приход? Открывается дверь, кто-то входит и т. д. А как
выглядит мое ожидание его прихода? Я хожу взад и
вперед по комнате, то и дело поглядываю на часы и т. д/.
Но один процесс не имеет с другим ни малейшего сход-;
ства! Тогда как можно использовать одни и те же слова)
для их описания? Но может быть, расхаживая по ком-1
нате, я говорю: «Я ожидаю, что он войдет». Тут есть ка-
кое-то сходство. Но какого рода?
445. Ожидание и исполнение соприкасаются в
языке.
446. Странно было бы утверждать: «Процесс, когда
он происходит, выглядит иначе, чем тогда, когда он не
происходит». Или же: «Красное пятно, когда оно есть,
выглядит иначе, чем тогда, когда на самом деле его
нет, — но язык абстрагируется от этого различия, ибо
он говорит о красном пятне безотносительно к тому,
есть оно или нет».
447. Возникает такое чувство, будто отрицательное
предложение для того, чтобы отрицать некоторое пред-
ложение, должно сначала сделать его в определенном
смысле истинным.
(Утверждение отрицательного предложения содер-
жит отрицаемое предложение, но не его утверждение.)
448. «Утверждая, что сегодня ночью я не видел
снов, я все же должен знать, где искать сон; то есть
предложение “Я видел сон” применительно к этой ре-
альной ситуации может быть ложным, но не должно
быть бессмысленным». А не означает ли это, что ты все
же что-то почувствовал, как бы намек на сон, позволив-
ший тебе осознать то место, которое занимал бы сон?
Или же: если я утверждаю «Я не испытываю боли в
руке», означает ли это, что у меня есть некая тень боле-
вого ощущения, как бы указывающая место, где могла
бы возникнуть боль?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
408
В каком смысле нынешнее безболевое состояние
содержит в себе возможность боли?
Если кто-то заявляет: «Чтобы слово “боль*’ имело
значение, необходимо, чтобы боль, когда она наступа-
ет, узнавалась в качестве таковой»,-— то на это можно
ответить: «Это необходимо не в большей мере, чем уз-
навание отсутствия боли».
449. «Но разве я не должен знать, каким было бы
мое состояние, если бы я испытывал боль?» Нам никак
не отделаться от мысли, будто использование предло-
жения состоит в том, что при каждом его слове челове-
ку что-то представляется.
Люди не отдают себе отчета в том, что со словами
они осуществляют своего рода исчисление, оперируют
ими, со временем переводят их то в одну, то в другую
картину. То есть они как бы полагают, что, например,
письменное распоряжение кому-то о передаче мне ко-
ровы всегда должно — дабы оно не потеряло смысла —
сопровождаться представлением о корове.
450. Знать, как кто-то выглядит: быть в состоянии
представить это себе — но вместе с тем: уметь наглядно
имитировать это. А обязательно ли представлять себе
нечто, чтобы копировать его? Разве имитация чего-то об-
ладает не той же силой, что и представление о нем?
451. Ну а как обстоит дело, если я, допустим, даю ука-
зание кому-то «Вот тут представь себе красный круг!» —.
и при этом поясняю: понимать указание — значит знать,
что нужно делать для его выполнения, — или даже: быть
в состоянии представить себе, как выглядит...
452. Я хочу сказать: «Будь кто-то способен наблю-
дать душевный процесс ожидания, он обязательно бы
видел, что ожидается».
Реально же дело обстоит так: видя выражение
ожидания, видят и что ожидается. И как еще, в каком
другом смысле можно было бы это видеть?
409
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
453. Восприняв мое ожидание, человек должен был
бы непосредственно воспринять и что ожидается. То
есть не умозаключить об этом иа основании восприня-
того процесса! Но утверждение, будто кто-то восприни-
мает ожидание, не имеет смысла. Разве что на самом
деле это означает: он воспринимает выражение ожида-
ния. Говорить же об ожидающем человеке: он испыты-
вает ожидание, вместо он ожидает, было бы идиотским
искажением данного выражения.
454. «Все уже заключено в...» Как происходит, что
стрелка ► указывает? Разве не кажется,
будто она заведомо несет в себе нечто кроме нее самой?
«Ну нет, на это способно лишь значение как феномен
психики, но никак не мертвая линия». Это и истинно и
ложно. Стрелка указывает лишь в процессе того упо-
требления, каким ее наделяют живые существа. .
Такое указание не фокус-покус, который способна
исполнить только психика.
455. Мы хотим сказать: «Осмысление чего-то — это
не обладание мертвой картиной (безразлично, какого
рода), а как бы восхождение к чему-то». Мы восходим к
тому, что осмысливается.
456. «Предполагая что-то, человек предполагает это
сам»; так он сам себя продвигает. Человек направляет-
ся вперед и не в состоянии одновременно же и наблю-
дать эту направленность. Определенно не в состоянии..
457. В самом деле: осмысливать — это как бы уст-
ремляться к кому-то.
458. «Приказ предписывает свое исполнение». Выхо-
дит, он знает о своем исполнении еще до того, как оно со-
стоится? Но это было грамматическое предложение, и
оно утверждало: если приказ гласит: «Делай то-то!» —“
то «делать то-то» называется исполнением приказа.
459. Мы говорим: «Приказ предписывает это» — и
делаем это; но говорим и так: «Приказ предписывает
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 410
это: я должен...» Мы переводим его то в предложение,
то в демонстрацию, то в действие.
460. А не могло бы оправдание действия во испол-
нение приказа звучать так: «Ты сказал “Принеси мне
желтый цветок", и в связи с этим именно этот цветок
вызвал у меня чувство удовлетворения, вот почему я
принес его тебе»? А не мог бы на это последовать ответ:
«Я же тебе не поручал принести мне такой цветок, ко-
торый вызвал бы у тебя после моих слов такое чувство
удовлетворения!»?
461. В каком же смысле приказ предвосхищает
свое исполнение? Не в том ли, что он теперь предпи-
сывает как раз то, что выполняется позднее? На са-
мом деле это означало бы: «Что впоследствии выпол-
няется или же ие выполняется». А это ни о чем не го-
ворит.
«Пусть мое желание и не определяет того, что ре-
ально произойдет, по оно все же определяет, так ска-
зать, тему факта, независимо от того, исполнит ли он
желаемое или нет». Нас как бы удивляет не то, что кто-
то знает будущее, а то, что он вообще способен пред-
сказывать (истинно или ложно).
Словно бы само по себе предсказание, истинное
или ложное — неважно, уже несло в себе некий отсвет
будущего, тогда как об этом будущем оно ничего не зна-
ет, а меньше, чем ничего, знать невозможно.
462. Я могу искать его, если его тут нет, но не могу
его повесить в его отсутствие.
Возможно, кто-то готов отреагировать: «Но он же
должен быть где-то тут, если я его ищу». Тогда он дол-
жен быть где-то и в том случае, если я его ие нахожу и
даже если его вообще нет.
463. «Ты искал его? Да ты ведь даже не мог знать,
тут ли он!» Но такая проблема действительно возни-
кает при математическом поиске. Можно, например,
411
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
поставить вопрос: как такое было возможно .— даже
просто искать трисекцию угла?
464. Чему я хочу научить — так это переходить от
неявной бессмыслицы к бессмыслице явной.
465. «Уж так устроено ожидание: что ни случись,
оно должно либо согласовываться с ним, либо нет».
Ну а если спросить: определяется ли факт ожидани-
ем с точностью «да» или «нет» или же не определяет-
ся, — иначе говоря, определено ли, в каком смысле
благодаря некоему событию — которое постоянно мо-
жет произойти — сбывается определенное ожидание?
На этот вопрос следует ответить: «Да, коль скоро выра-
жение ожидания не является неопределенным, не со-
держит дизъюнкции различных возможностей».
466. Зачем человек мыслит? Какой от этого толк?
Для чего он рассчитывает паровой котел, а не остав-
ляет толщину.его стенок на произвол случая? Ведь то,
что котлы, рассчитанные таким-то образом, взрывают-
ся не так часто, — всего лишь факт нашего опыта! Но
так же, как человек, однажды обжегшись, сделал бы
все, чтобы снова не сунуть руку в огонь, так он будет
делать все, чтобы не пренебречь расчетом котла. Но
так как нас интересуют не причины, мы скажем: люди
мыслят и это факт; они, например, ведут себя именно
так, когда делают паровой котел. А может ли котел,
созданный таким образом, взорваться? Увы, да!
467. Выходит, человек мыслит потому, что мышле-
ние себя оправдывает? Потому, что он думает, что мыс-
лить выгодно?
(Разве он воспитывает своих детей, потому что это
оправдывает себя?)
468. Как же выяснить, почему человек мыслит?
469. И все же можно утверждать, что мышление
себя оправдывает. Котлы стали взрываться реже с тех
пор, как перестали определять толщину их стенок на
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
412
глазок и начали ее рассчитывать определенным обра-
зом. А также с тех пор, как любой расчет инженера ста-
ли перепроверять повторно.
470. Итак, иногда мыслят потому, что мышление
оправдывается на деле.
471. Часто бывает, что, только подавив в себе воп-
рос «почему», мы обнаруживаем важные факты', кото-
рые затем, в ходе нашего исследования, ведут к ответу.
472. Природа веры в единообразие событий, по-ви-
димому, яснее всего проявляется в том случае, когда
мы испытываем страх перед ожидаемым. Ничто не мог-
ло бы заставить меня сунуть руку в огонь — хотя ведь я
обжигался лишь в прошлом.
473. Вера в то, что огонь обожжет меня, такой же
природы, что и страх, что он обожжет меня.
474. То, что огонь обожжет меня, сунь я в него
руку, —достоверность.
Таким образом, здесь мы видим, что значит досто-
верность. (Не просто что означает слово «достовер-
ность», но и что заключено в ней самой.)
475. Если кого-нибудь спрашивают об основаниях
его предположения, он задумывается о них. Происхо-
дит ли здесь то же самое, что и в том случае, когда чело-
век размышляет о возможных причинах какого-нибудь
события?
476. Следует различать предмет страха и причину
страха. Так, лицо, внушающее нам страх или восхище-
ние (предмет страха, восхищения), является не его при-
чиной, а, можно сказать, его адресатом.
477. «Почему ты полагаешь, что эта горячая плита
обожжет тебя?» Есть ли у тебя основания для этого
предположения и нужны ли тебе эти основания?
478. Какие у меня основания предполагать, что мой
палец, коснувшись стола, встретит сопротивление? Ка-
кие у меня основания считать, что этот карандаш вызо-
413
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нет у меня боль, если им уколоть мою руку? Когда я за-
даю эти вопросы, мне в голову приходят сотни основа-
ний, почти мгновенно сменяя друг друга. «Да я сам мно-
жество раз испытывал это; и столь же часто слышал о
подобном опыте от других; если бы это было не так,
то... и т. д.».
479. Вопрос «На каком основании ты это полага-
ешь?» мог бы значить: «На основании чего ты делаешь
(сделал сейчас) такое умозаключение?» Но он мог бы
означать также*. «Какие основания для этого предполо-
жения ты можешь привести мне впоследствии [задним
числом]?»
480. Итак, под «основанием» некоторого мнения на
самом деле можно понимать лишь то, что человек выс-
казал самому себе, прежде чем он пришел к определен-
ному мнению. Исчисление, фактически выполненное
им. В случае же вопроса: как прежний опыт может
явиться основанием для предположения, что впослед-
ствии произойдет то-то? — отповедь такова: а каким же
общим понятием основания мы располагаем для такого
рода предположения? Основанием предположения, что
в будущем нечто произойдет, мы называем именно этот
[упомянутый выше] род утверждения о прошлом. А ес-
ли человек удивится, что мы играем в такую игру, то я
сошлюсь на влияние прошлого опыта (на то, что обжег-
шийся ребенок боится огня).
481. Если бы кто-то сказал, что опыт прошлого не
убеждает его в том, что нечто произойдет в будущем, —
то я не понял бы его. Можно было бы его спросить: а
что тогда ты хочешь услышать? Какие данные ты назы-
ваешь основанием для того, чтобы верить? А что ты на-
зываешь «быть убежденным»? Как ты надеешься убе-
диться? Если это не основания, то что же тогда основа-
ния? Если, по твоим словам, это не основания, то нуж-
но, чтобы ты все-таки мог установить, в каком случае
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
414
можно по праву заявить, что для нашего предположе-
ния есть основания.
Ибо заметь: в данном случае основания — не предло-
жения, из которых логически следует предполагаемое.
Но и не то, о чем можно сказать: для полагания тре-
буется меньше, чем для знания. Ибо речь тут идет не о
чем-то приближающемся к логическому выводу.
482. Нас сбивает с толку такой способ выражения:
«Это — достаточное основание, ибо оно делает вероят-
ным наступление данного события». Создается впечат-
ление, будто тут что-то дополнительно утверждается об
этом основании, что оправдывает его как основание;
между тем предложение «Это основание делает собы-
тие вероятным» говорит лишь о том, что данное основа-
ние соответствует определенной норме достаточного
основания, — сама же норма не обосновывается!
483. Достаточным является такое основание, кото-
рое на деле является таковым.
484. Кто-то готов изречь: «Это — достаточное осно-
вание только потому, что оно делает событие действи-
тельно вероятным». Потому что оно, так сказать, дей-
ствительно оказывает некое влияние на данное собы-
тие; словно бы оно имело опытный характер.
485. Обоснование путем опыта имеет конец. В про-
тивном случае оно не было бы обоснованием.
486. Следует ли из получаемых мною чувственных
впечатлений, что там стоит стул? Как же может предло-
жение следовать из чувственных впечатлений? Ну а сле-
дует ли оно из предложений, описывающих чувственные
впечатления? Нет. А разве не из таких впечатлений, не
из чувственных данных я делаю вывод, что там стоит
стул? Я не делаю никакого вывода! Но иногда все же де-
лаю. Например, рассматривая фотографию, я говорю:
«Выходит, что там должен стоять стул» или же: «Из того,
что здесь видно, я заключаю, что там стоит стул». Это
41S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
вывод, но не относящийся к логике. Вывод это переход к
некоторому утверждению, а значит, и к поведению, соот-
ветствующему этому утверждению. «Я вывожу след-
ствия» не только на словах, но и в поступках.
Был ли обоснованным мой вывод этих следствий?
Что здесь называется основанием? Как употребляется
слово «основание»? Опиши языковые игры! По ним и
можно будет судить о важности обоснованности.
487. «Я выхожу из комнаты, потому что ты так ве-
лишь».
«Я выхожу из комнаты, ио не потому, что ты так ве-
лишь».
Описывает ли это предложение связь моего по*
ступка с его поведением или же оно формирует эту
связь?
Можно ли спросить: «Откуда ты знаешь, что дела*
ешь это поэтому или не поэтому?» И возможен ли от-
вет: «Я это чувствую»?
488. А как мне судить, так ли это? По косвенным
приметам?
489. Спроси себя, по какому поводу, с какой целью
мы это говорим?
Какого рода действия сопровождают эти слова?
(Подумай о приветствиях^) В каких сценах они упот-
ребляются; и для чего?
490. Как я узнаю, что этот ход мыслей привел Меня
к этому поступку? Ну, вот характерная картина: скажем,
в экспериментальном исследовании приходят к дальней-
шему эксперименту путем расчета. То [о чем спрашива-
ется] похоже на это — и тут я бы мог описать пример.
491. Дело, пожалуй, не столько в том, что «без язы-
ка мы не могли бы понимать друг друга», сколько в том,
что без языка мы не могли бы влиять на поведение дру-
гих людей тем или иным образом; не могли бы строить
улицы и машины и т. д. А к тому же: без использования
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
416
устной и письменной речи люди не понимали бы друг
Друга.
492. Изобретение какого-то языка могло бы озна-
чать изобретение на основе естественных законов (или
же в соответствии с ними) некоего приспособления для
определенной цели; но об изобретении языка можно го-
ворить и в другом смысле, аналогичном тому, в каком
велась речь об изобретении игры.
Здесь я изрекаю нечто о грамматике слова «язык»,
связывая ее с грамматикой слова «изобретать».
493. Говорят: «Петух созывает кур своим кри-
ком» — а не лежит ли в основе этих слов сравнение с
нашим языком? Разве не изменяется полностью аспект
[наше видение этой картины], если представить себе,
что крик петуха приводит кур в движение путем какого-
то физического воздействия?
А если, допустим, показано, каким образом слова
«Иди ко мне!» воздействуют на человека, к которому они
обращены, так что при определенных условиях в конеч-
ном счете возбуждаются мускулы его ног и т. д. — разве
в силу этого данное предложение утратило бы для нас
характер предложения?
494. Я хочу сказать: мы называем «языком» прежде
всего аппарат нашего обычного словесного языка, а уж
по аналогии или сравнимости с ним и нечто другое.
495. Очевидно, я могу установить с помощью опыта,
что человек (или животное) реагирует на один знак
так, как мне этого хочется, а на другой нет. Что, напри-
мер, по знаку «->» человек идет направо, а по знаку
«<—» идет налево; на знак I» он реагирует не так, как
на знак и т. д.
Мне даже незачем придумывать какой-то особый
случай, достаточно понаблюдать на реальных фактах,
как удается направлять человека, владеющего только
немецким языком, используя лишь немецкий язык.
4V
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Ибо я тут рассматриваю изучение немецкого языка
как настройку механизма на определенный тип влия-
ния; при этом может быть безразлично, выучил ли
этот язык другой человек или, допустим, уже от рож-
дения устроен так, что реагирует на предложения не-
мецкого языка, как и обыкновенный человек, выучив-
ший немецкий.)
496. Грамматика не говорит нам, как должен быть
построен язык, чтобы выполнять свою задачу, воздей-
ствовать на людей тем или иным образом. Она только
описывает, но никоим образом не объясняет употребле-
ние знаков.
497. Правила грамматики можно назвать «условны-
ми», если под этим подразумевать, что цель грамматики
есть не что иное, как цель языка.
Если кто-то утверждает: «Не имей наш язык этой
грамматики, он не мог бы выражать эти факты», зада-
ешься вопросом, что здесь означают слова «мог бы».
498. Если я утверждаю, что указание «Принеси мне
сахар!» и «Принеси мне молоко!» имеет смысл, а комби-
нация слов «Молоко мне сахар!» лишена смысла, то это
не значит, что ее произнесение не вызывает никакого
эффекта. И если в ответ на эти слова человек уставится
на меня и разинет рот от изумления, то я на этом осно-
вании все-таки не назову их повелением уставиться на
меня и т. д., пусть даже я и хотел вызвать именно такой
эффект.
499. Сказать «Эта комбинация слов не имеет смыс-
ла» — значит исключить ее из сферы языка и ограни-
чить тем самым область языка. Но границы можно про-
водить по разным основаниям. Можно обнести какое-то'
место изгородью, обвести линией либо ограничить еще
каким-то способом с целью не впускать кого-то сюда
или же не выпускать его отсюда. Но это может быть и
элементом игры, в которой играющие должны, скажем,
14 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
418
перепрыгивать через такой барьер. Или же это может
отмечать, где кончаются владения одного человека и
начинаются владения другого и т. д. Таким образом,
проведение границы само по себе еще не говорит, для
чего это делается.
500. Если сказано, что предложение бессмысленно,
это не означает, будто речь идет о бессмысленности его
смысла. Дело в другом: при этом исключается нз языка,
изымается из обращения некое сочетание слов.
501. «Цель языка — выражать мысли». Итак, по-ви-
димому, цель каждого предложения — выражать ка-
кую-то мысль. Какую же мысль выражает тогда, напри-
мер, предложение «Моросит»?
502. Вопрос о смысле. Сравни:
«Это предложение имеет смысл». — «Какой?»
«Этот ряд слов является предложением». — «Каким?»
503. Если я даю команду кому-то, мне вполне дос-
таточно подать ему знак. Я бы никогда при этом не
сказал: да это всего лишь слова, а мне нужно проник-
нуть за них. Вот так, и задавая кому-то о чем-то вопрос,
я вполне довольствуюсь его ответом (то есть каким-то
знаком) — это как раз то, чего я ждал, — и я не протес-
тую: да это всего лишь ответ.
504. Допустим, кто-то заявляет: «Как я могу узнать,
что он подразумевает, ведь я вижу только подаваемые
им знаки». Моя реплика на это: «Откуда ему известно,
что он имеет в виду, если в его распоряжении тоже
тол ько его зн аки ».
505. Должен ли я понимать приказ, прежде чем смо-
гу привести его в исполнение? Конечно! Иначе бы ты не
знал, что нужно делать. Но ведь переход от знания к
действию — это опять скачок!
506. Рассеянный человек по приказу «Направо!»
поворачивается налево, а затем, хлопнув себя по лбу,
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4 HI
москлицает: «Ах да, направо!» — и поворачивается на-
право. Что его осенило {вдруг пришло в голову]? Ис-
юлкование?
507. «Я не просто это говорю, я под этим и что-то
подразумеваю». Если, осмысливая (а не просто произ-
нося) слова, мы задумываемся над тем, что в нас проис-
ходит, то нам кажется, будто с этими словами что-то*
скреплено, а иначе они двигались бы вхолостую. Как
гели бы они были с чем-то соединены в нас.
508. Я высказываю предложение: «Сегодня здесь
отличная пбгода». Да ведь слова это условные знаки;
подставим же вместо них: tab с d». Однако теперь, чи-
ыя эти знаки, я уже ие в состоянии непосредственно
связать их со смыслом моего высказывания. Я, можно
сказать, не привык употреблять в речи знак «а» вместо
«сегодня», знак «rf» — вместо «погода» и т. д. Но подра-
зумеваю я под этим не отсутствие навыка мгновенно ас-
социировать знак «я» со словом «сегодня», а непривыч-
ность употребления «а» вместо «сегодня», то есть в
значении «сегодня» (я не владею этим языком).
(Я не привык измерять температуру по шкале Фа-
ренгейта. Поэтому такое измерение температуры мне
ничего не «говорит».)
509. Ну а предположим, мы спросили кого-то: «В ка-
ком смысле эти слова являются описанием того, что ты
видишь?» — и он ответил: «Под этими словами я имею в
виду это». (Глядя, скажем, на какой-то пейзаж.) Почему
этот ответ: «Я имею в виду это...» — вовсе не ответ?
Как с помощью слов подразумевают то, что видят
перед собой?
Представь себе, что я сказал «abc d», подразумевая
под этим: сегодня здесь отличная погода. Иначе говоря,
произнося эти знаки, я испытывал те же самые пережи-
вания, которые обычно испытывал бы лишь тот, кто из
14*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
420
года в год употреблял знак «д» вместо «сегодня», знак
«d» — вместо «погода» и т. д. В таком случае говорит
ли «а b с d»: сегодня здесь отличная погода?
Каков должен быть критерий того, что я испытываю
именно данное переживание?
510. Проделай такой эксперимент: скажи «Здесь хо-
лодно», имея в виду при этом «Здесь тепло». В состоя-
нии ли ты это сделать?
А что именно ты делаешь при этом? И разве суще-
ствует только один способ делать это?
511. Что тогда означает фраза «Обнаружить, что ка-
кое-то высказывание не имеет смысла»? А что означает
такое высказывание: «Если я что-то под этим подразуме-
ваю, оно непременно должно иметь смысл»? Если я что-
то под этим подразумеваю? Если я что подразумеваю
под этим?! Хочется изречь: осмысленно то предложение,
которое можно не просто высказывать, но и мыслить.
512. Создается впечатление, будто можно сказать:
«Словесный язык допускает бессмысленные комбина-
ции слов, язык же представления не допускает бес-
смысленных представлений».
Выходит, и язык рисунков не допускает бессмыс-
ленных рисунков? Представь себе, что это были бы ри-
сунки, по которым должны моделироваться тела. Тогда
некоторые рисунки имели бы смысл, а некоторые нет. А
что, если вообразить бесмысленные комбинации слов?
513. Рассмотри такую форму выражения: «Число
страниц в моей книге равно корню уравнения х3 + 2х -
3 — 0». Или же «Число моих друзей равно п, а п3 + 2п +
2 = 0». Имеет ли смысл данное предложение? Непосред-
ственно в этом нельзя убедиться. На таком примере вид-
но, как может получиться, что нечто имеет вид предложе-
ния, которое мы понимаем, и все-таки лишено смысла.
(Это проливает свет на понятия «понимать» и «ос-
мысливать».)
421
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
514. Философ говорит, что ему понятно предложе-
ние «Я здесь», что он вкладывает в него какую-то
мысль, даже если при этом вовсе не размышляет над
тем, как, при каких обстоятельствах употребляется это
предложение. И если я говорю" «Роза и в темноте крас-
ная», то ты и в темноте прямо-таки видишь это красное
перед собою.
515. Два изображения розы в темноте. Одно совер-
шенно черное, ибо роза невидима. На другом она напи-
сана во всех деталях и окружена черным. Является ли
одно из них верным, а другое неверным? Разве мы не го-
ворим о белой розе в темноте и о красной розе в темно-
те? И разве, при всем том, мы не говорим, что в темноте
их нельзя отличить друг от друга?
516. Кажется ясным: нам понятно, что означает
вопрос «Возникает ли при десятичном разложении чис-
ла П последовательность цифр 7777?» Это русское [в
ориг. — немецкое] предложение; можно показать, что
оно означает для цифры 415, возникающей при разло-
жении числа П; и аналогичные вещи. Да лишь в преде-
лах, доступных для таких вот разъяснений, и достигает-
ся, можно сказать, понимание поставленного вопроса.
517. Спрашивается: не можем ли мы заблуждаться,
считая, что понимаем вопрос?
Ведь иное математическое доказательство как раз и
заставляет нас признать, что мы не в состоянии себе
представить то, что, казалось, мы способны представить
(например, построение семиугольника). Это ведет нас к
пересмотру того, что считать областью представимого.
518. СОКРАТ — ТЕЭТЕТУ: «А разве тот, кто пред-
ставляет, не должен себе представлять нечто?» —
ТЕЭТ.: «Обязательно». — СОК.: «А разве тот, кто пред-
ставляет нечто, не должен представлять себе нечто дей-
ствительное?»
ТЕЭТ.: «По-видимому, так».
аюдвиг Витгенштейн
422
А разве тот, кто рисует, не должен рисовать не-
что — а кто изображает нечто, разве не изображает
что-то реальное? Ну а что же тогда собой представляет
объект изображения — портрет человека (например)
или же человека, изображенного на портрете?
519. Хочется сказать: приказ— это картина дей-
ствия, которое выполняется по этому приказу; но вмес-
те с тем это картина действия, которое должно быть со-
вершено во исполнение приказа.
520. «Хотя предложение и понимают как картину
возможной ситуации и говорят, что оно показывает воз-
можность такой ситуации, все же предложение в луч-
шем случае может сделать лишь то, что делает живо-
писное или пластическое изображение или фильм; и
значит, в любом случае оно не может представить то,
чего нет. Выходит, от нашей грамматики — то есть от
того, что она дозволяет, — всецело зависит, что назы-
вать (логически) возможным, а что — иет?» Но ведь
это произвольно [установлено]! Неужели произвольно?
Не всякая конструкция, напоминающая предложение,
может идти в дело, не каждая техника находит приме-
нение в нашей жизни, н если мы в философии склонны
причислять к предложениям нечто совершенно беспо-
лезное, то это часто происходит потому, что мы недо-
статочно продумали его применение.
521. Сравни «логически возможное» с «химически
возможным». Химически возможным, пожалуй, можно
было бы назвать соединение, для которого имелась бы
структурная формула с правильными валентностями
(например, Н—О—О—О—Н). Подобное соединение,
конечно, необязательно существовало бы; но даже не-
коей формуле НО2 не может соответствовать в действи-
тельности менее чем ии одно соединение.
522. Если сравнивать предложение с картиной, то
нужно подумать, с какой — с портретом ли (исторнче-
423
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ское изображение) или же с жанровой картиной. И оба
сравнения имеют смысл.
Когда я рассматриваю жанровую картину, оиа мне
что-то «говорит», даже если я ни на одно мгновение не
думаю (не воображаю), будто люди, которых я вижу
там, действительно существовали или же что действи-
тельные люди находились в этой ситуации. А допустим,
я бы спросил: «Что же тогда она мне говорит?»
523. Возможен ответ: «Картина говорит мне о самой
себе». То есть то, что она мне говорит, заключено в ее
собственной структуре, в ее формах н красках. (Что оз-
начала бы фраза «Музыкальная тема говорит мне о
себе самой»?)
524. Не считай само собой разумеющимся, что кар-
тина или литературное повествование доставляют нам
удовольствие, трогают нашу душу. Это — удивитель-
ное явление.
(«Не считай само собой разумеющимся» означает:
изумись этому так же, как н другим волнующим тебя ве-
щам. Если ты воспримешь подобный факт также, как вос-
принимаешь другие, то |в нем] исчезнет все загадочное.)
((Переход от явной к неявной бессмыслице.))
525. «Сказав это, он покинул ее, как и накануне». По-
нимаю ли я это предложение? Понимаю ли я его точно
так же, как понимал ты, услышав его в ходе повествова-
ния? Если взять его вне контекста, то я бы сказал, что не
знаю, о чем здесь идет речь. Но все-таки я бы приблизи-
тельно знал, как могло бы применяться это предложе-
ние; я сам бы мог изобрести для него какой-то контекст.
(От этих слов во всех направлениях ведет множе-
ство хорошо известных путей.)
526. Что значит понимать картину или рисунок?
Здесь тоже имеется понимание и непонимание. И тут
этн выражения могут означать разное. Допустим, карти-
на— натюрморт. Но какую-то ее часть я не разбираю:
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
424
мне не удается увидеть там объемные предметы, вместо
ннх я вижу лишь цветные пятна на холсте. Или же я
вижу все объемно, но там есть предметы, мне незнако-
мые (они выглядят как домашняя утварь, но мне неиз-
вестно их назначение). А возможно и непонимание дру-
гого рода: мне знакомы предметы, но вызывает недо-
умение их расположение.
527. Понимание предложения в языке значительно
более родственно пониманию темы в музыке, чем мож-
но предположить. Я имею в виду вот что: понимание
языкового предложения и то, что принято называть по-
ниманием музыкальной темы, по своему характеру куда
ближе друг другу, чем думают. Почему сила звука и
темп должны развиваться именно в этом ключе? Напра-
шивается ответ: «Потому что я знаю, что означает все
это». Что же это означает? Я не знал бы, что сказать.
Для «объяснения» я мог бы сравнить это с чем-то дру-
гим, имеющим такой же ритм (я имею в виду ту же ли-
нию развития). (Говорят: «Разве ты не видишь, что
здесь как бы подводился итог» или: «Это как бы репли-
ка» н т. д. Как обосновывают такие сравнения? Для это-
го используются самые разные обоснования.)
528. Можно представить себе людей, владеющих
чем-то отдаленно напоминающим язык: игрой звуков
без словаря или грамматики. («Лепет».)
529, «Что же было бы здесь значением звука?» А ка-
ково оно в музыке? Хотя я вовсе не хочу сказать, что этот
язык звучащих жестов нужно сравнивать с музыкой.
530. Мог бы существовать и такой язык, прн ис-
пользовании которого «душа» слов не играла бы ника-
кой роли. Язык, в котором, к примеру, не возбранялось
бы произвольно заменять одно слово другим, вновь
изобретенным.
531. Мы ведем речь о понимании предложения в
том смысле, в каком оно заменяемо другим, говорящим
42S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
то же самое; но и в том смысле, в каком его не заме-
нишь каким-то другим. (Как и одну музыкальную тему
другой.)
В одном случае мысль [заключенная] в предложе-
нии есть то, что является общим для разных предложе-
ний; в другом же это — нечто, выражаемое только эти-
ми словами в данной их расстановке. (Понимание сти-
хотворения.)
532. Так, выходит, слово «понимать» имеет здесь
два различных значения? Я бы предпочел сказать, что
эти способы употребления слова «понимать» образуют
его значение, мое понятие понимания.
Ибо мне нужно (ich will) применять слово «пони-
мать» во всех этих случаях.
533. Но как можно в этом втором случае объяснить
выражение, сделать его понятным другому? Спроси
себя: как подводят кого-нибудь к пониманию стихот-
ворения или темы? Ответ на этот вопрос подсказывает,
как объясняют смысл в таком случае,
534. Слышать слово в этом значении. Как странно,
что бывает нечто подобное!
Предложение, выраженное (phrasiert) вот так, ак-
центированное, услышанное таким образом, — вот нача-
ло перехода к этим предложениям, картинам, поступ-
кам.
((Множество хорошо знакомых тропинок ведет от
этих слов во всех направлениях.))
535. Что происходит, когда мы приучаемся пере-
живать заключительную часть церковного хорала как
финал?
536. Я говорю: «Это лицо (выражающее боязнь) я
мог бы себе представить и как лицо, выражающее отва-
гу». Прн этом имеется в виду не моя способность пред-
ставить себе, как человек с таким лицом, может быть,
спасает жизнь другому (конечно, в такой ситуации
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
426
можно представить себе человека с любым выражени-
ем лица). Скорее речь ндет о каком-то аспекте самого
этого лица. Не имеется в виду и моя способность вооб-
разить, что этот человек может изменить свое лицо так,
что будет выглядеть отважным, в обычном смысле это-
го слова; хотя и мыслимо, что одно выражение лица
могло бы сменяться другим вполне определенным обра-
зом. Истолкование выражения лица можно сравнить с
истолкованием аккорда в музыке, когда он воспринима-
ется то в одной тональности, то переводится в другую
тональность.
537. Можно выразиться так: «Я читаю выражение
страха на этом лице». Но всякий раз испуганность ка-
жется не просто внешне, ассоциативно связанной с
этим лицом; напротив, страх живет в его чертах. Если
черты лица слегка меняются, можно говорить о соот-
ветствующем изменении выражения страха. Если бы
нас спросили: «В состоянии ли ты представить себе это
лицо еще и как выражение отваги?» — то мы словно бы
не знали, как вселить отвагу в эти черты. Возможно, я
ответил бы так: «Я не знаю, что бы это означало: это
лицо мужественное лицо», А что служило бы решением
вопроса? Кто-то мог бы сказать: «Да, теперь я понимаю:
это лицо как бы выказывает безразличие к внешнему
миру». Значит, мы как-то усмотрели отвагу. Отвага,
можно сказать, теперь вновь впору этому лицу. Но что
здесь подходит к чему?
538. Этому родствен случай (хотя он, возможно, не
кажется таковым), когда мы, например, удивляемся ро-
довому согласованию во французском языке предика-
тивного прилагательного с существительным и толкуем
это так: они подразумевают, что «это хороший чело-
век».
539, Я смотрю на картину, где изображено улыбаю-
щееся лицо. Что я делаю, воспринимая эту улыбку то
427 ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
как добрую, то как злобную? Разве зачастую я не пред-
ставляю себе ее в пространственном и временном кон-
тексте дружелюбия или озлобленности? Так, можно во-
образить, что улыбающийся снисходительно подшучи-
вает над играющим ребенком или же злорадствует по
поводу страданий своего врага.
И от того, что я способен толковать эту усмешку в
ином ключе, мысленно перенося ее из идиллической На
первый взгляд ситуации в другой коитекст, — ничто не
изменяется. Не изменись моя интерпретация в силу
особых обстоятельств, я буду понимать определенного
рода улыбку как дружескую, называть ее «дружеской»
и соответственно реагировать иа нее.
((Вероятность. Частота.))
540. «Разве не странно, что даже подумать “дождь
скоро пройдет” я бы не мог без института языка и всего
его окружения?» Не хочешь ли ты этим сказать: стран-
но, что ты бы не смог ни произнести эти слова, ни ос-
мыслить (meinen) нх без языкового окружения?
Представь себе, что кто-то, указывая на небо, вык-
рикивает ряд непонятных слов. На вопрос, что имеется
в виду, он отвечает: его крики означают «Слава богу,
дождь скоро кончится». К тому же он объясняет нам и
что означают отдельные его слова. Предположим, что
он как бы внезапно приходит в себя и заявляет: то пред-
ложение, которое он выкрикивал, было совершенно
бессмысленным, но при произнесении оно казалось
предложением знакомого ему языка. (Даже хорошо из-
вестной цитатой.) Что на это скажешь? Неужели он
произносил то предложение без понимания? Разве это
предложение не несло в себе всей полноты своего зна-
чения?
541. Так в чем же заключалось его понимание н
это значение? В то время когда еще шел дождь, но ста-
ло уже проясняться, он издавал радостные возгласы,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
428
указывая на небо; позднее ои установил связь своих
слов с немецкими словами.
542. «Но переживались-то им эти слова как слова
хорошо знакомого языка». Да; критерием этого служит
то, что позже он это сказал. Так не говори же: «Имен-
но слова знакомого нам языка переживаются совершен-
но по-особому». (Что же является выражением этого
чувства[слова]?)
543. Разве нельзя сказать: крик, смех полны зна-
чения?
А это приблизительно означает: по ним можно раз-
гадать многое.
544. Когда моя тоска прорывается в восклицании:
«О, только бы он пришел!» — то «значение» этим сло-
вам придает определенное чувство. А придает ли оно
значения отдельным словам?
Но здесь можно было бы также сказать: это чув-
ство придает словам истинность. И тогда ты видишь,
как понятия здесь сливаются друг с другом. (Это на-
поминает вопрос: в чем смысл математического пред-
ложения?)
545. Ну а если говорят: «Я надеюсь, он придет», —
разве не чувство придает значение слову «надеюсь»?
(А как быть с предложением «Я уже не надеюсь, что он
придет»?) Пожалуй, именно чувство придает слову «на-
деюсь» его особое звучание; то есть оно выражается в
звучании. Если чувство придает слову его значение, то
«значение» тут подразумевает: в этом-то все дело. Но
почему все сходится на чувстве?
Есть ли надежда своего рода чувство? (Характер-
ные признаки.)
546. Итак, я готов заявить, что слова «Хоть бы он
пришел!» наполнены моим желанием. И слова могут
вырываться у нас подобно крику. Бывает, слова выго-
вариваются с трудом: скажем, при отречении от
429
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
чего-то или признании в некой слабости. (Слова суть
дела.)
547. Отрицание: «некая духовная деятельность».
Отрицай что-то и наблюдай, что ты делаешь! Может
быть, ты в это время внутренне качаешь головой? А ко-
ли так — что же, тогда этот процесс заслуживает наше-
го интереса в большей мере, чем, скажем, написание
знака отрицания в предложении? Неужели ты теперь
зиаешь сущность отрицания?
548. В чем различие между двумя процессами: же-
лать, чтобы что-то произошло, — и желать, чтобы то
же самое не произошло?
Пытаясь представить себе это наглядно, соверша-
ют разные манипуляции с изображением события: его
перечеркивают, очерчивают и т. п. Однако этот метод
выражения представляется несовершенным. В сло-
весном языке данной цели служит специально приспо-
собленный для этого знак «не». Но он напоминает не-
уклюжее приспособление. Предполагается: в мышле-
нии это наверняка происходит иначе.
549. «Как может слово “не” отрицать?!» — «Знак
“не” указывает: то, что следует за ним, ты должен пони-
мать в отрицательном смысле». Мы готовы сказать:
знак отрицания — это указание сделать нечто — воз-
можно, нечто очень непростое. Знак отрицания как бы
побуждает нас к чему-то. Но к чему? Об этом не гово-
рится. Создается впечатление, будто нам это уже изве-
стно и довольно лишь намека, словно нет нужды ни в
каком объяснении, поскольку мы и так уже достаточно
осведомлены об этом.
550. Отрицание, можно сказать, представляет со-
бой исключающий, отвергающий жест. Но жестом та-
кого рода мы пользуемся в самых различных случаях!
551. «Является ли одинаковым отрицание в таких
фразах: “Железо не плавится при 100° Цельсия” и
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
430
“Дважды два не пять”?» Неужели этот вопрос должен
решаться с помощью интроспекции; путем попыток вы-
яснить, что мыслится в этих двух предложениях?
552. А что, если я задам вопрос: разве для нас оче-
видно, что, произнося два предложения: «Этот стер-
жень имеет длину 1 метр» и «Здесь стоит 1 солдат», мы
подразумеваем под «1» нечто разное, что «1» выступает
в разных значениях? Вовсе не очевидно. Ну а произне-
си такое предложение: «На каждом 1 метре стоит 1 сол-
дат, значит, на 2 метрах стоят 2 солдата». На вопрос:
«Подразумеваешь ли ты под этими двумя единицами
одно и то же?» — вероятно, последовал бы ответ: «Ко-
нечно, я имею в виду одно и то же: единицу!» (При этом
отвечающий, может быть, поднял бы палец.)
553. Ну а имеет ли «1» разные значения, если в од-
ном случае обозначает размер, а в другом — число?
Если вопрос поставлен так, то ответ на него будет ут-
вердительным.
554. Мы с легкостью можем представить себе лю-
дей с «более примитивной» логикой, в которой то, что
соответствует нашему отрицанию, применимо лишь к
определенным предложениям, например к таким, ко-
торые еще не содержат отрицания. Так, можно было
бы отрицать предложение «Он входит в дом», отрица-
ние же отрицательного предложения было бы бес-
смысленным или же считалось бы лишь повторением
отрицания. Подумай о других, отличных от наших,
способах выражать отрицание: например, высотою то-
нальности предложения. Как выглядело бы тогда
двойное отрицание?
555. Вопрос, означало ли бы для этих людей отри-
цание то же самое, что и для нас, был бы аналогичен
такому вопросу: означает ли цифра «5» для людей, чис-
ловой ряд которых кончается пятью, то же самое, что
н для нас?
431
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
556. Представь себе язык с двумя разными словами
для отрицания, одно из них — «X», другое «У». Удвоен-
ное «X» дает утверждение, а удвоенное «У» — усилен-
ное отрицание. В остальном эти два слова употребля-
ются одинаково. Ну а имеют лн «X» и «У» одинаковое
значение в тех предложениях, где оии фигурируют без
удвоения? На это можно ответить по-разному:
а) Этн два слова имеют разное применение. Стало
быть, и разное значение. Но предложения, в которых
они используются без удвоения и которые во всем ос-
тальном гласят одно и то же, имеют одинаковый смысл;
б) Оба слова имеют одинаковую функцию в языко-
вых играх, за исключением одного изначального их раз-
личия, которое не столь уж существенно. Применению
обоих слов учатся одинаковым образом, с помощью
одинаковых действий, жестов, картин и т. п. Различие
же в способах их употребления добавляется как нечто
второстепенное, как одна из причудливых черт языка,
объяснение этих слов. Потому мы будем говорить, что
«X» и «У» имеют одинаковое значение;
в) С этими двумя отрицаниями мы связываем раз-
ные представления. «Х>> как бы поворачивает смысл на
180 градусов. И потому два таких отрицания возвра-
щают смысл в его первоначальное положение. «У» же
подобен отрицающему движению головой. И как одно
покачивание головой не снимает другого, так и второй
«У» не снимает первого. Итак, если предложение с эти-
ми двумя отрицаниями практически и сводятся к тому
же, то «X» и * У» тем не менее выражают разные идеи’.
1 «Что три отрицания снова дают одно отрицание, должно
быть заложено уже в том единичном отрицании, к которому
я здесь прибегаю». (Соблазн мифологизации «значения».)
Кажется, что в силу самой природы отрицания двойное от-
рицание предстает как утверждение. (И это отчасти верно.
Что же? И то и другое связано с нашей природой.) б) Имеют
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
432
557. В чем же может заключаться то, что, высказы-
вая это двойное отрицание, я подразумеваю под этим
усиленное отрицание, а не утверждение? Не существу-
ет ответа, который гласил бы: «Это заключается в том,
что...» Вместо того чтобы заявлять «Это удвоенное от-
рицание имеет значение усиления», при определенных
обстоятельствах можно произносить его как усиление.
Вместо того чтобы говорить «Удвоение отрицания пред-
полагает его снятие», можно, например, поставить
скобки. «Да, но ведь сами эти скобки могут играть раз-
личную роль; ну кто говорит, что их следует понимать
как скобки?» Никто этого не говорит. Да и для объясне-
ния своего собственного понимания ты же опять-таки
прибегаешь к словам. Что означают скобки, заключено
в технике их применения. Вопрос в том: при каких об-
стоятельствах имеет смысл утверждать «Я имел в
виду...» и какие обстоятельства позволяют мне заяв-
лять «Он имел в виду...»?
558. Что подразумевают, говоря, что слово «есть» в
предложении «Роза есть красная» имеет иное значение,
чем в предложении «Два, помноженное на два, есть че-
тыре»? Если в ответ иа это скажут: имеется в виду, что
для этих двух слов значимы разные правила, — то на
это сдоц^от в.оз^аз.«.тъ, что чи. ччелч здесь, дет дищь с.
одним словом. А если я обращаю внимание исключи-
тельно на грамматические правила, то они как раз и
дозволяют употребление слова «есть» и в той и в другой
связи. Правило же, указывающее, что слово «есть» в
этих предложениях имеет разные значения, таково, что
разрешает заменять слово «есть» во втором предложе-
ли силу те или иные правила для слова «не» (то есть сораз-
мерны лн они его значению) — это не предмет для обсужде-
ния. Ибо без этих правил слово пока еще не имеет значе-
ния; если же мы изменяем правила, то слово приобретает
другое значение (или же теряет его вообще), а в таком слу-
чае можно с тем же успехом изменить н само слово.
433
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нии знаком равенства и запрещает это делать в первом
предложении.
559. Хотелось бы потолковать о функции слова в
данном предложении. Как если бы предложение было
неким механизмом, в котором слово выполняло опреде-
ленную функцию. Но в чем состоит эта функция? Как
она высвечивается? Тут же нет чего-то сокрытого, ведь
все предложение на виду. Функция должна выявляться
при оперировании словом. ((Тело значения.))
560. «Значение слова есть то, что объясняется
объяснением значения». То есть: если ты хочешь по-
нять употребление слова «значение», то приглядись к
тому, что называют «объяснением значения».
561. Ну а разве не странно, что я говорю: слово
«есть» употребляется в двух разных значениях (как
связка и как знак равенства), не преминув также ска-
зать, что значение данного слова — это его употребле-
ние, тЬ есть употребление в качестве связки и знака
равенства?
Кто-то готов сказать, что два этих типа употребле-
ния слова не дают нам одного значения; что скрепле-
ние их одним и тем же словом случайно, несуще-
ственно.
562. . Но как можно решить,, что является суще-
ственной, а что несущественной, случайной чертой [си-
стемы] обозначения? Опирается ли эта [система] на ка-
кую-то реальность, в соответствии с которой строится
ее грамматика?
Вспомним об аналогичном случае в игре. В шашках
дамка обозначается тем, что одну шашку ставят иа дру-
гую. Ну а неужели кто-ннбудь не заявит: что дамка со-
стоит из двух шашек — несущественно для игры?
563. Мы говорим: значение пешки (фигуры) — это
ее роль в игре. Ну а до начала каждой шахматной
партии жребий решает, кто из игроков будет играть
белыми. Для этого один из них прячет в каждом кулаке
/МОЛ8ИГ ВИТГЕНШТЕЙН 434
по шахматному королю, а другой наугад выбирает
одну из рук. Отнесем ли мы к роли короля в шахмат-
ной игре и то, что им пользуются для жеребьевки?
564. Стало быть, я склонен и в игре разграничивать
существенные и несущественные правила. У кого-то
уже готова реплика: игра имеет не только правила, но н
смысл (Witz).
565. К чему нам то же самое слово? Ведь это тожде-
ство не находит применения в исчислении [оперирова-
нии словами]! Почему одна и та же игровая фигура слу-
жит двум разным целям? А что в данном случае означа-
ет «находить применение тождеству»? Да разве не с та-
ким применением мы имеем дело, используя то же
самое слово?
566. Причем если тождество неслучайно, суще-
ственно, то кажется, что использование того же са-
мого слова, той же самой фигуры имеет некуку цель.
И что эта цель состоит в том, чтобы человек был спо-
собен узнавать фигуру и знал, как играть. Но идет ли
тут речь о физической или же о логической возможно-
сти? Если о второй, то тождественность фигур входит
в условия игры.
567. И все-таки игра должна определяться правила-
ми! Так, если правила игры предписывают, чтобы в це-
лях жеребьевки перед партией использовались короли,
то это правило, по сути, принадлежит игре. Что можно
было высказать против этого? Что смысл этого предпи-
сания непонятен. Как был бы, пожалуй, непонятен и
смысл правила, по которому каждую фигуру, прежде
чем сделать ход, полагалось бы троекратно повернуть.
Обнаружь мы подобное правило в какой-то игре на дос-
ке, мы бы удивились и задумались над его целью. («Не
призвано ли это предписание предотвращать необду-
манный ход?»)
435
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
568. Если, я верно понимаю характер игры— то
мог бы сказать, что такое правило не является ее су-
щественной принадлежностью.
. ((Значение — физиономия.))
569. Язык — это инструмент. Его понятия — инст-
рументы. Тут, пожалуй, кто-то подумает, что может не
быть большой разницы в том, какие понятия мы ис-
пользуем. Ведь в конце концов физику в футах и дюй-
мах можно построить с тем же успехом, что в метрах и
сантиметрах; разница — лишь в степени удобства. Но
даже это неверно, скажем в том случае, если в некоей
системе мер вычисления требуют больше времени и
усилий, чем мы можем им уделить.
570. Понятия ведут нас к исследованиям. Они выра-
жают наш интерес и направляют его.
571. Вводящая в заблуждение параллель: психоло-
гия имеет дело с процессами в психической сфере, так
же как физика — в физической.
Зрение, слух, мышление, чувство, воля составляют
предмет психологии не в том же смысле, в каком дви-
жения тел, электрические явления и т. д. служат пред-,
метом физики. Это ясно из того, что физнк видит, слы-
шит, обдумывает сами эти явления, сообщает нам о
них, психолог же наблюдает внешние проявления (по-,
ведение) субъекта.
572. Ожидание с грамматической точки зрения—:
состояние; так же как: полагание того или этого, на-
дежда на что-то, знание чего-то, умение что-либо де-
лать. Но чтобы понять грамматику этих состояний, сле-
дует спросить: «Каков критерии того, что кто-то нахо-
дится в этом состоянии?» (Состояние твердости, весо-.
мости, пригодности.)
573. Иметь мнение — это состояние. Состояние
чего? Души? Духа? Ну о чем же говорят, что у него есть
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
436
мнение? О господине N.N., например. И это правиль-
ный ответ.
Только от ответа на этот вопрос еще нельзя ожи-
дать разъяснения. Более глубокие вопросы таковы: что
принимаем мы за критерий того, что некто имеет опре-
деленное мнение? Когда мы говорим: он пришел к это-
му мнению тогда-то? Когда ои изменил свое мнение?
И так далее. Картина, которую дают нам ответы на этн
вопросы, показывает, что здесь грамматически тракту-
ется как состояние.
574. Предложение, а отсюда в несколько ином пла-
не и мысль могут быть «выражением» верования, на-
дежды, ожидания и т. д. Но верование — это не мышле-
ние. (Грамматическое примечание.) Понятия верова-
ния, ожидания, надежды менее чужеродны друг другу,
чем все они — понятию мышления.
575. Усаживаясь на этот стул, я, естественно, пола-
гал, что он меня выдержит. У меня и мысли не было,
что он может развалиться.
Но: «Вопреки всему, что он делал, я упорно придер-
живался мнения...» Здесь мыслится и как бы вновь и
вновь отстаивается определенная установка.
576. Я смотрю на тлеющий бикфордов шнур, с гро-
мадным напряжением слежу за движением огня, за
тем, как он приближается к взрывчатке. Вероятно, я во-
обще не думаю ни о чем или же у меня в сознании про-
носится множество бессвязных мыслей. Это, безуслов-
но, один из случаев ожидания.
577. Мы говорим: «Я его жду», полагая, что он при-
дет, но его приход не занимает наших мыслей. («Я его
жду» означает тут: «Я был бы удивлен, если бы он ие
пришел» — а это не назовешь описанием душевного со-
стояния.) Но мы говорим «Я его жду» и в том случае,
когда наши слова должны означать: я ожидаю с нетер-
пением. Мы могли бы себе представить язык, в котором
437
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
в таких случаях использовались бы разные глаголы. Бо-
лее чем один глагол применялся бы и там, где говори-
лось бы о состояниях: «верить#-, «надеяться» н т. д. По-
нятия такого языка были бы, вероятно, более пригодны
для понимания психологии, чем понятия нашего языка.
578. Спроси себя: что значит верить в теорему Голвд-
баха? В чем заключается эта вера? В некоем чувстве
уверенности, в то время как мы произносим, слышим
или мыслим эту теорему? (Это бы нас не интересова-
ло.) А каковы характерные признаки этого чувства? Ну
я даже не знаю, в какой мере это чувство может вызы-
ваться самой теоремой.
Можно ли сказать, что верование — это тональная
окрашенность мысли? Откуда это представление? Ну су-
ществует же уверенный тон, так же как и тон сомнения.
Я бы спросил: как примешивается это верование к
данной теореме? Призадумаемся над тем, каковы по-
следствия этой веры, к чему она нас ведет. «Она ведет
меня к поиску доказательства этой теоремы». Прекрас-
но! А теперь поинтересуемся, в чем, собственно, состо-
ит этот поиск! И тогда мы узнаем, что влечет за собой
вера в теорему.
579. Чувство уверенности. Как оио проявляется в
поведении?
580. «Внутренний процесс» нуждается во внешних
критериях.
581. Ожидание вплетено в ту или иную ситуацию, в
которой оно возникает. Например, ожидание взрыва
может возникнуть в ситуации, в которой следует, ожи-
дать взрыва.
582. Если кто-то вместо слов «В любой момент я
жду взрыва» шепчет: «Это вот-вот стрясется», то ведь
его слова не описывают какого-то чувства (Empfin-
dung); хотя они сами и их тон могут быть проявлением
его чувства.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
438
583. «Но ведь ты рассуждаешь так, словно бы сей-
час — вопреки собственному мнению — я на самом
деле не ожидал, не надеялся. Словно бы все, происхо-
дящее теперь, не имело глубокого значения». Что же
означает фраза: «То, что сейчас происходит, имеет зна-
чение» или «имеет глубокое значение»? Что значит
глубокое чувство? Смог ли бы кто-то за одну секунду
пережить глубокую любовь или надежду, — независи-
мо от того, что предшествовало этой секунде или что
за ней последовало? Происходящее теперь имеет значе-
ние — в данном сопровождении. Это сопровождение
придает ему значимость. И слово «надеяться» относит-
ся к феномену человеческой жизни. (Улыбающийся рот
улыбается только на человеческом лице.)
584. Ну а допустим, я сижу у себя в комнате, наде-
ясь, что придет N.N. и принесет мне деньги. И предпо-
ложим, одну минуту этого состояния удалось бы выкро-
ить из взаимосвязи, изолировать: разве в таком случае
то, что происходит в эту минуту, не было бы надеждой?
Подумай, например, о словах, которые ты, скорее всего,
произносишь в данную минуту. Они уже не суть боль-
ше часть этого языка. Вот так же и институт денег не
существует в другом окружении.
Королевская коронация — зрелище, полное велико-
лепия и величия. Выдели одну минуту этой церемонии
из целостного контекста: королю, облаченному в коро-
национную мантию, возлагается на голову корона. Но в
ином окружении золото оказывается самым дешевым
из металлов, его блеск считается вульгарным. Ман-
тия — простым изделием из недорогой ткаии. Коро-
на — пародией на высокую шляпу. И так далее.
585. Когда кто-то говорит: «Надеюсь, он при-;
дет», — являются ли эти слова сообщением о его ду-
шевном состоянии илн же проявлением его надежды?
Я мог бы сказать эти слова и самому себе. А ведь себе
439
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
я ничего не сообщаю. Может быть, это вздох, но не-
обязательно, Скажи я кому-нибудь: «Я не могу сегод-
ня сосредоточиться на работе; я все думаю о его при-
ходе», — это называлось бы описанием моего душев-
ного состояния.
586. «Я услышал, что он придет; я жду его весь
день». Это — сообщение о том, как я провел день. Из
разговора я сделал вывод, что следует ожидать опреде-
ленного события, и этот вывод отливается в слова «Вы-
ходит, я должен ждать его прихода теперь». Это можно
назвать первой мыслью, первым актом этого ожидания.
Возглас «Я так жду его!» можно считать актом ожида-
ния. Но эти же самые мои слова могут прозвучать и как
результат самонаблюдения, и тогда онн, возможно, оз-
начали бы: «И вот, после всего, что стряслось, я все же
так хочу видеть его». В завнсимостн от того, что приве-
ло к этим словам.
587. Имеет лн смысл спрашивать: «Откуда ты зна-
ешь, что ты в это веришь?» — и является ли ответом:
«Я узнаю это путем интроспекции»?
В некоторых случаях можно сказать что-то в этом
роде, но как правило — нет.
Осмыслен ли вопрос: «Действительно ли я ее люб-
лю или только лукавлю сам с собой?» Процесс интрос-
пекции в этом случае — обращение к воспоминаниям,
представление возможных ситуаций и чувств, которые
бы имели место, если бы...
588. «Я вынашиваю решение уехать завтра». (Это
можно назвать описанием душевного состояния.)
«Твои доводы не убедили меня. Все-таки я намереваюсь
завтра уехать». Тут возникает искушение назвать наме-
рение чувством — чувством определенной непреклон-
ности, неизменности решения. (Но и здесь имеется
множество различных характерных чувств н поз.)
Меня спрашивают: «Ты здесь надолго?» Я отвечаю:
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
440
«Завтра уезжаю, мои каникулы подходят к концу».
А может быть и по-другому: я заявляю после ссоры: «Ну
что ж, тогда я уезжаю завтра!» Я принимаю решение.
589. «Сердцем я уже решился на это». Говоря это,
мы даже склонны указывать себе на грудь. Психологи-
чески этот оборот речи следует принимать всерьез. По-
чему бы его нужно было принимать менее серьезно, чем
утверждение, что вера — это состояние души? (Лютер:
«Вера находится под левым соском».)
590. Может быть, кто-то научился понимать значение
выражения «Всерьез принимать сказанное кем-то» с по-
мощью жеста, указывающего на сердце. Но тогда следует
спросить: «Из чего видно, что он этому научился?»
591. Надо ли говорить, что, имея намерение, человек
испытывает какую-то устремленность? Что имеются осо-
бые переживания устремленности? Вспомни такой слу-
чай: если человеку в ходе спора не терпится сделать ка-
кое-то замечание, возразить кому-то, то часто бывает,
что он открывает рот и, набрав воздуху, как бы задержи-
вает дыхание; затем, решив воздержаться от возраже-
ния, делает выдох. Переживание этого процесса, очевид-
но, и есть переживание стремления что-то высказать.
Тот, кто наблюдает за мной, поймет, что я хотел что-то
сказать, а затем воздержался. Поймет именно в данной
ситуации. Будь она другой, он иначе истолковал бы мое
поведение, даже если бы характерные признаки того,
что мне хочется что-то сказать, наблюдались и на этот
раз. А есть ли какое-то основание предполагать, что это
же самое переживание не могло бы возникнуть в совер-
шенно иной ситуации — где оно бы не имело ничего об-
щего ни с какой устремленностью?
592. «Но, заявляя: "Я намерен уехать’', ты же имен-
но это и имеешь в виду! Здесь опять-таки жизнь предло-
жению придает духовный акт осмысления. Повторяя
же эту фразу просто вслед за кем-то, скажем передраз-
нивая его манеру говорить, ты произносишь ее без это-
441
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВА1 |ИЯ
го акта осмысления». Когда мы философствуем, дело
порой может представляться нам именно таким обра-
зом. Но все же представим себе действительно различ-
ные ситуации и разговоры и то, как произносится в них
данное предложение! «Я всегда обнаруживаю некий
приглушенный внутренний голос (geistigen Unterton),
может быть, не всегда один и тот же». А разве не было
такого голоса, когда ты повторял фразу за кем-то дру-
гим? Да и как отличить этот «внутренний голос» от ос-
тальных переживаний, сопровождающих речь?
593. Главная причина философских недомоганий —
однообразная диета: люди питают свое мышление толь-
ко одним видом примеров.
594. «Да ведь слова, произнесенные осмысленно,
имеют не только поверхность, ио и глубину!» Ведь при
их осмысленном высказывании происходит нечто иное,
чем в том случае, когда их просто произносят. Дело не в
том, как я это выражаю. Говорю ли я, что в первом слу-
чае они имеют глубину, или же что во мне при этом что-
то происходит, или же что они обладают некоей
аурон, — всякий раз дело сводится к одному и тому же.
«Ну а коли все согласны с этим, так не истина ли
это?»
(Я не могу принять чье-то свидетельство, ибо это ие
свидетельство. Оно говорит мне лишь то, что он скло-
нен сказать.)
595. Для нас естественно произносить предложе-
ние в той или иной связи; и неестественно высказывать
его в отрыве от нее. Надо ли говорить: имеется особое
чувство, сопутствующее произнесению любого предло-
жения, высказывать которое для нас естественно?
596. Чувство «знакомого» и «естественного». Легче
обнаружить чувство (или чувства) чего-то незнакомого
и неестественного. Ибо не все, что нам незнакомо, про-
изводит на нас впечатление незнакомого. Притом надо об-
думать, что мы называем «незнакомым». Валун, который
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
442
мы видим иа дороге, мы опознаем как таковой, но, воз-
можно, ие как тот, что всегда лежит здесь. Человека —
как человека, но не как знакомого. Существует чувство
давнего знакомства, порой оно выражается взглядом
или же словами «Моя старая комната!» (та, где я про-
жил много лет и теперь нашел ее неизменившейся). Су-
ществует и чувство незнакомого; я озадачен; испытую-
ще или недоверчиво смотрю на предмет или на чело-
века; говорю: «Он мне совершенно незнаком». Но су-
ществование этого чувства незнакомого не дает
оснований утверждать: каждый, казалось бы, хорошо
нам известный, не настораживающий нас предмет про-
буждает у нас чувство «близости» (Vertrautheit). Мы
полагаем, будто место, которое однажды было занято
чувством «чуждого», обязательно должно быть так
или иначе заполнено, и не присвой его одно — захва-
тит другое, Колн есть место для таких настроений, зна-
чит, не одно, так другое из них должно заполнить его.
597. Подобно тому как германизмы проникают в
речь немца, свободно говорящего по-английски, хотя он
не строит сначала немецкое выражение, чтобы затем
уже перевести его на английский; подобно тому как он
говорит по-английски, как бы «неосознанно» переводя
с немецкого, так н мы нередко полагаем, будто в основе
нашего мышления лежит некая мыслительная схема;
будто мы делаем перевод с более примитивного способа
мышления на наш.
598. Философствуя, мы бываем склонны гипостази-
ровать чувства, находя их и там, где их нет. Они служат
для объяснения наших мыслей.
«Здесь объяснение нашей мысли требует чувства!» К
этому требованию, кажется, восходит наше убеждение.
599. В философии не выводят заключений. «Но это
должно быть так!» — не предложение философии. Фи-
лософия утверждает лишь то, что признает каждый.
443
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
600. Разве все, что нас не удивляет, производит впе-
чатление чего-то неприметного? Разве обычное всегда
создает впечатление обычности?
601. Помню ли я — говоря об этом столе, — что
данный предмет называется «столом»?
602, Если бы меня спросили: «Узнал ли ты свой
письменный стол, войдя сегодня утром в свою комна-
ту?» — я бы без сомнений ответил «Конечно!» И все
же утверждение: при этом происходил процесс узнава-
ния — сбивало бы с толку. Письменный стол, есте-
ственно, не был для меня неожиданностью; увидев его,
я не удивился, как удивился бы, если бы там стоял
другой стол или же какой-то предмет незнакомого
вида.
603. Никто не скажет, что всякий раз, когда я вхо-
жу в свою комнату, попадаю в привычное окружение,
развертывается процесс узнавания всего, что я вижу и
уже видел сотни раз.
604. Мы легко создаем себе ложную картину про-
цессов, называемых «узнаванием»; согласно этой кар-
тине, узнавание якобы всегда заключается в сравнении
между собой двух впечатлений. То есть я словно бы
ношу при себе изображение предмета и с его помощью
узиаю в некоем предмете такой, какой изображен на
этой картине. Нам кажется, что наша память осуществ-
ляет такое сравнение, сохраняя образ ранее увиденного
или же позволяя (как через подзорную трубу) загля-
нуть в прошлое.
605. Причем предмет не то что как бы сравнивается
с находящейся рядом с ним картиной, он словно сов па-
дает с картиной. Так что я вижу не две вещи, а одну.
606. Мы говорим: «Его голос выражал искрен-
ность». Будь же его голос притворным, мы считали бы,
что за ним как бы скрывается какой-то другой голос:
Внешне у него было это лицо, внутренне же оно было
людвиг Витгенштейн
444
совсем другим. Но это не значит, что при искреннем вы-
ражении у него было два одинаковых лица.
((«Вполне определенное выражение».))
607. Как судят о том, Который теперь час? Я имею в
виду ие внешние ориентиры — высоту солнца иад гори-
зонтом, освещенность комнаты и т. д. Человек, допус-
тим, спрашивает себя: «Сколько сейчас может быть
времени?» Задумывается на мгновение, может быть,
лредсгаадяег себе циферблат и затем называет какую-
то цифру. Или же он взвешивает разные возможности,
сначала думает об одном времени, затем о другом и на-
конец останавливается на каком-то часе. Так— или
примерно так — это и делается. А не сопровождается
ли такое озарение чувством полной уверенности; и не
означает ли это, что человек при этом сверяется с каки-
ми-то внутренними часами? Нет, я не считываю время
ни с каких часов, по которым бы я определял время.
Чувство убежденности имеется постольку, поскольку я
называю время спокойно и уверенно, не испытывая со-
мнения. А не срабатывает ли во мне, когда я опреде-
ляю, который час, как бы некий щелчок? Ни о чем та-
ком я не знаю; разве что отключаешься от раздумий, ос-
танавливаешься на определенном числе. И я бы не го-
ворил здесь о «чувстве уверенности», а сказал бы: я на
какой-то момент задумался и вдруг понял, что сейчас
четверть шестого. Но почему я так решил? Пожалуй, я
бы ответил; «просто почувствовал»; то есть по наитию.
Но для того чтобы определить время, ты должен по
крайней мере настроиться определенным образом; ведь
не каждое же представление о том, который час, ты
признаешь правильным указанием времени! Как уже
говорилось, я спросил себя: «Интересно, который те-
перь час?» То есть я этот Вопрос не вычитал, например,
в рассказе, не процитировал как чье-то высказывание,
не упражнялся в произнесении этих слов и т. д. Я про-
445
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
изнес свои слова не при таких обстоятельствах. А при
каких же? Я думал о моем завтраке и о том, не запозда-
ет ли он сегодня. Вот и все обстоятельства. Но неужели
ты не видишь, что ты на самом деле все-таки пребывал,
хотя и безотчетно, в состоянии, характерном и для оп-
ределения времени, как бы в характерном для этого на-
строе? Да, характерным было то, что я задал себе воп-
рос: «Интересно, который час?» И коли этому высказы-
ванию присуща особая атмосфера, то как можно отде-
лить ее от него самого? Мне никогда не пришло бы в
голову, что данное предложение может обладать такой
аурой, если бы я нс подумал, что оно может быть выска-
зано иначе — в качестве цитаты, в шутку, как речевое
упражнение и т. д. А вот тут мне вдруг захотелось ска-
зать, тут-то мне и показалось, что я все-таки должен
вкладывать в эти слова какой-то особый смысл, иной,
чем в тех, других случаях. Ко мне прицепилась картина
особой атмосферы; я прямо-таки вижу ее перед со-
бою — стоит лишь отвлечься от того, что, по моим вос-
поминаниям, реально происходило.
Что же касается чувства уверенности, то я порой
говорю себе: «Я уверен, что сейчас... часов», — и гово-
рю это более или менее уверенным тоном и т. д. Если
же ты спросишь, каково основание этой уверенности,
то его у меня нет.
Если я говорю, что считываю время по внутренним
часам, — то это картина, которой соответствует лишь
то, что определить время мне удалось. Цель же этой
картины — приравнять данный случай к другому. Я от-
казываюсь признать здесь два разных случая.
608. При определении времени очень важна идея
неуловимости душевного состояния. Почему оно не-
уловимо? Не потому ли, что мы отказываемся причис-
лить к этому постулированному нами особому состоя-
нию то, что в нашем состоянии Вполне уловимо?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
445
609. Описание своеобразия (Atmosphare) — особое
применение языка для особых целей.
((Интерпретация «понимания» как ауры, как ду-
шевного акта. Всему на свете можно придать некую
ауру. «Не поддающийся описанию характер».))
610. Опиши аромат кофе! Почему это невозможно
сделать? Не хватает слов? И для чего тебе не хватает
их? Но как возникает сама мысль о том, что такое опи-
сание вообще должно быть возможно? Ощущал ли ты
когда-нибудь отсутствие такого описания? Ты пытался
описать аромат кофе и тебе это не удалось?
((Я бы сказал: «Эти звуки говорят о чем-то величе-
ственном, но я не знаю о чем». Эти звуки •— выразитель-
ный жест, но я не могу сопоставить их с чем-то, что их
объяснило бы. Полный глубокого смысла кивок головой.
Джемс: «Нам не хватает слов». Почему же тогда мы их
не вводим? А что, если это было бы в наших силах?))
611. Допустим, кто-то заявил бы: «И волевой им-
пульс (das Wollen)1 это всего-навсего опыт». (И «во-
ля» — лишь «представление».) Он приходит когда при-
ходит, и я не могу вызвать его.
Не могу вызвать? Как что? Что тогда я могу выз-
вать? С чем я сравниваю волевой импульс, высказыва-
ясь подобным образом?
612, О движении своей руки, например, я бы не ска-
зал: оно приходит когда приходит, и т. д. Это область, в
которой мы осмысленно говорим, что с нами не просто
случается что-то, но что мы делаем это. «Мие не надо
ждать, когда моя рука поднимется, я могу ее поднять».
1 У Витгенштейна — «das Wollen», имеющее в данном его ана-
лизе спектр («семейство») переходящих одно в другое зна-
чений: волеиие, желание, намерение, замысел, волевой им-
пульс, внутренняя готовность к определенному действию и
др. — Перев.
447
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Причем я противопоставляю движение моей руки, ска-
жем, тому, что сильное сердцебиение у меня утихает.
613. В том смысле, в каком я вообще могу что-то у
себя вызывать (например, переедая — боли в желуде
ке), я способен вызывать и готовность к волению (das
Wollen). В этом смысле при прыжке в воду я вызываю
у себя готовность плыть. По-видимому, я собирался
изречь: невозможно намереваться вызвать намерение;
то есть бессмысленно говорить о намерении намере-
ния (Wollen-Wollen). «Волевой импульс» — ие имя ка-
кого-то деяния, а стало быть, и не имя чего-то произ-
вольного. И мое неверное выражение — следствие на-
шей предрасположенности думать о волевом импульсе
как о непосредственном, некаузальном вызывании
(Herbeifuhren). В основе же такого представления ле-
жит сбивающая с толку аналогия; каузальную связь
представляют себе в виде некоего механизма, связыва-
ющего две части машины. При поломке механизма эта
связь может нарушиться. (При этом думают лишь о
поломках, которым подвержен механизм в нормаль-
ных условиях, а не о том, что, скажем, зубчатые коле-
са вдруг становятся мягкими или же взаимопроницае-
мыми и т. д.)
614. «Произвольно» двигая рукой, я не прибегаю ни
к каким средствам, чтобы вызвать это движение. И мое
желание — не средство такого рода.
615. «Коли не предполагается, что намерение — это
своего рода желание, то оно должно быть самим дей-
ствием. Ему ие позволено останавливаться на подсту-
пах к действию». А коли это действие, так действие в
обычном смысле слова; стало быть: разговор, письмо,
ходьба, поднимание предмета, представление чего-то.
Но вместе с тем оно есть: проба, попытка, мобилизация
усилий — дабы говорить, писать, поднимать предмет,
представлять себе что-то и т. д.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
448
616. Поднимая свою руку, я не испытывал желания:
хоть бы она поднялась. Произвольное действие исклю-
чает такое желание. Правда, можно сказать: «Надеюсь,
я начерчу этот круг без изъяна». Тем самым выражает-
ся желание, чтобы рука двигалась таким-то образом.
617. Скрестив особым образом свои пальцы, мы
иногда не в состоянии двинуть определенным пальцем
по чьему-то указанию, если он дает его нам лишь визу-
ально. Если же он прикасается к этому пальцу, то мы
можем им двигать. Этот опыт склонны описывать так:
мы не в состоянии своевольно двинуть пальцем. Слу-
чай, совершенно отличный от того, когда мы не в состо-
янии двинуть пальцем, скажем потому, что кто-то креп-
ко держит его. Тут возникает искушение описать пер-
вый случай вот так: пока к нашему пальцу не притро-
нутся, мы не можем найти для своей воли точку
приложения. Лишь ощутив прикосновение к пальцу,
мы узнаем, где должна вступить в действие наша воля.
Но такой способ выражения может сбивать с толку. На-
прашивается реплика: «Как мне узнать место приложе-
ния воли, если ощущение не указывает его?» Ну а тогда
как узнают, куда направить волю при наличии такого
ощущения?
Ъ таком случае опыт показывает, что палец, пока
мы не ощутим прикосновения к нему, как бы парализо-
ван, a priori же этого установить нельзя.
618. Субъект воли представляется здесь как нечто
не обладающее массой (лишенное инерции), как не-
кий мотор, который не должен преодолевать в себе
никакого инерционного сопротивления. Стало быть,
он выступает только как двигатель, а не как приво-
димый в движение. То есть можно сказать: «Я делаю
волевое усилие, а мое тело не слушается меня», одна-
ко ие скажешь: «Моя воля не повинуется мне» (Авгу-
стин).
449
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Но в том смысле, в каком невозможно, чтобы не по-
лучалось намереваться [желать], невозможно и пытать-
ся намереваться.
619. Можно сказать и так: «Намереваться я спосо-
бен всегда лишь постольку, поскольку никогда не бы-
ваю способен пытаться намереваться».
620. Кажется, что деяние как таковое не содержит
в себе ни грана опыта. Оно представляется как бы не-
протяженной точкой, острием иглы. Это острие и ка-
жется нам подлинным действующим лицом. А все со-
вершающееся в мире явлений — только следствием
этого деяния. Кажется, будто слова «Я действую» име-
ют определенный смысл отдельно от всего опыта.
621. Но не будем забывать и другого: когда «я под-
нимаю свою руку», поднимается моя рука. И возникает
проблема: что же останется, если тот факт, что я подни-
маю руку вверх, отделить от того, что поднимается
вверх моя рука?
((Не является ли в таком случае мой волевой им-
пульс лишь кинестетическими ощущениями?))
622. Поднимая руку, я чаще всего не пытаюсь ее
поднять.
623. «Я стремлюсь непременно дойти до этого
дома».тЛо если к тому нет никаких препятствий, разве
и тогда я могу стремиться во что бы то ни стало попасть
к этому дому?
624. В лаборатории под воздействием, например,
электрического тока кто-то с закрытыми глазами гово-
рит: «Я двигаю рукой вверх и вниз», хотя его рука не-
подвижна. «Значит, — говорим мы, — он испытывает
особое чувство такого движения». Двигай с закрытыми
глазами своей рукой туда и сюда. А теперь попытайся
внушить себе, не прекращая этого движения, что твоя
рука неподвижна и ты просто испытываешь определен-
ные странные ощущения в мускулах и суставах!
15 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
450
625. «Каким образом ты узнаешь, что поднял свою
руку?» — «Я чувствую это». Значит, то, что ты узна-
ешь, — ощущение? А уверен ли ты, что узнаешь его
правильно? Ты уверен, что поднял свою руку; разве это
не критерий, не мера узнавания?
626. «Прикасаясь к какому-то предмету палкой, я
испытываю ощущение прикосновения в кончике пал-
ки, а не в руке, которая ее держит». Если кто-то гово-
рит: «Я чувствую боль не здесь, в ладони, а в запяс-
тье», — то врач в результате исследует запястье боль-
ного. Но какая разница, скажу ли я, что чувствую
твердость предмета кончиком палки или же рукой?
Означают ли мои слова, что я утверждаю: «Такое впе-
чатление, словно мои нервные окончания находились
в кончике палки»? В каком смысле это так? Ну, во
всяком случае, я склонен говорить, что «чувствую
твердость предмета и т. д. кончиком палки». И это со-
провождается тем, что, ощупывая предмет палкой, я
смотрю не на свою руку, а на кончик палки и описы-
ваю то, что чувствую, такими словами: «Я чувствую
там что-то твердое, круглое», а не словами: «Я чув-
ствую давление на кончики большого, среднего и ука-
зательного пальцев...» Спроси, например, меня кто-ни-
будь: «Что ты сейчас чувствуешь пальцами, в которых
держишь свой щуп?» — я мог бы ему ответить: «Не
энаю — вот там я чувствую что-то твердое, шерохо-
ватое».
627. Рассмотри такое описание произвольного дей-
ствия: «Я принимаю решение дать звонок в 5 часов; ну
и, когда бьет 5, моя рука делает это движение». Разве
правильно это описание, а не вот это’, «...и когда бьет
5 часов, я поднимаю руку»? К первому описанию так и
хочется добавить: «Смотри-ка! Моя рука поднимается,
когда бьет 5 часов». Но как раз это «смотри-ка!» здесь к
делу не относится. Поднимая руку, я не говорю: «Смот-
ри, моя рука поднимается!»
451
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
628. Итак, можно сказать, что произвольное движе-
ние отмечено отсутствием удивления. И тут не предпо-
лагается вопрос: «Но почему здесь не удивляются?»
629. Говоря о возможности предвидеть будущее,
люди всегда забывают факт предсказуемости своих
собственных произвольных движений.
630. Рассмотрим две языковые игры.
а) Один велит другому выполнить определенные
движения рукой или принять какую-то позу (препода-
ватель гимнастики и ученик). А вот один из вариантов
этой языковой игры: ученик сам дает себе команду и
выполняет ее.
б) Кто-то наблюдает определенные закономерные
процессы — например, реакции различных металлов на
кислоты — и делает вслед за тем прогнозы относитель-
но реакций, которые будут иметь место в определенных
случаях.
Между этими двумя языковыми играми имеется яв-
ное сходство, но также и принципиальное различие.
В обоих случаях произнесенные слова можно назвать
«предсказаниями». Но сравни тренировку техники в пер-
вом случае с обучением во втором!
631. «Я собираюсь сейчас принять два порошка; че-
рез полчаса после этого меня вырвет». Если сказать,
что в первом случае я выступаю как действующее лицо,
а во втором — только как наблюдатель, то это ничего
не объяснит. С тем же успехом можно сказать, что -в
первом случае я вижу причинную взаимосвязь изнутри,
во втором — извне. И многое еще в том же роде.
Вряд ли стоит также говорить, что предсказание
первого рода не более безошибочно, чем предсказание
второго рода.
Я сказал, что приму сейчас два порошка, не на осно-
ве наблюдений за своим поведением. Этому предложе-
нию предшествовало нечто иное. Я имею в виду мысли,
поступки и т. д., которые и привели к нему. Если же
15*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
452
сказать: «Единственно существенной предпосылкой
твоего высказывания было твое решение», — то это
вводило бы в заблуждение.
632. Я не хочу сказать, что в случае волеизъявле-
ния «Я намерен принять порошок» предсказание было
бы причиной, а его исполнение — действием. (Это, ве-
роятно, можно было бы установить физиологическим
исследованием.) Но в значительной степени верно, что
по высказываниям о тех или иных решениях нередко
можно предсказать действия человека. Важная языко-
вая игра.
633. «Тебя только что прервали; знаешь ли ты по-
прежнему, что хотел сказать?» Ну а если я это знаю и
говорю, предполагается ли тем самым, что я уже проду-
мал свои слова и только не высказал их? Нет. Это зна-
чит лишь, что ты принимаешь уверенность, с которой я
продолжаю прерванное предложение, в качестве крите-
рия того, что данная мысль к тому времени уже сверши-
лась. Но, разумеется, и в самой ситуации, и в моих мыс-
лях уже было заложено все, что могло содействовать
продолжению моего предложения.
634. Я продолжаю прерванное предложение и заяв-
ляю, что именно так. собирался его продолжить, — это
напоминает мне развертывание собственной мысли на
основе кратких заметок.
Ну а разве я не истолковываю эти заметки? Разве
при данных обстоятельствах возможно всего лишь
одно продолжение сказанного? Конечно, нет. Но я не
выбирал свою интерпретацию среди прочих. Я в с пом и-
нал, что, собственно, я намеревался сказать.
635. «Я собирался сказать...» Ты помнишь разные
подробности. Но все они не выявляют твоего замысла.
Это похоже на то, как если бы при восприятии какой-то
сценической картины удавалось рассмотреть лишь от-
дельные разрозненные элементы: здесь рука, там часть
453
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
лица или шляпа, — все остальное тонуло бы во тьме. И
все же я как бы совершенно определенно знал, что
представляет вся картина. Словно я был бы способен
читать темноту.
636. Эти «детали» второстепенны ие в том смысле, в
каком бывают второстепенны иные обстоятельства, ко-
торые можно помнить столь же хорошо. Но если сооб-
щить кому-то: «В тот момент я хотел сказать...» он не
узнает из моих слов об этих деталях, и у него нет нуж-
ды их угадывать. Например, ему незачем знать, что то-
гда я уже открыл рот, чтобы говорить. Но таким обра-
зом он способен «воссоздать» для себя все происходив-
шее. (И эта способность причастна пониманию моего
сообщения).
637. «Я знаю точно, что я собирался сказать!» Одна-
ко же я этого не сказал. И тем не менее я не вычитываю
этого по какому-то другому протекавшему в то время и
сохранившемуся в моей памяти процессу.
И я не истолковываю я и тогдашнюю ситуацию, и
ее предысторию, ибо не обдумываю и не обсуждаю ее.
638. Как же получается, что при всем том в моих
словах «В тот момент мне хотелось его обмануть» я
склонен усматривать некое истолкование? «Как ты мо-
жешь быть уверен, что в какой-то момент собирался его
обмануть? Не были ли твои поступки и мысли слишком
незрелы?»
Разве их очевидность не может быть слишком сла-
ба? Да, если разобраться, она кажется чрезвычайно
слабой; но не потому ли, что не принимается во внима-
ние история этой очевидности? Чтобы у меня на какое-
то мгновение возник план притвориться перед кем-то,
будто мне нехорошо, для этого нужна некая предысто-
рия. Действительно ли человек описывает процесс,
длящийся всего лишь мгновение, если он говорит:
«В какой-то момент...»?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
454
Но и данная история в целом не была очевидностью,
служившей основанием моего утверждения «В какой-то
момент...»
639. Мы склонны говорить, что осмысление (Мег
nung) развивается. Но и в этом заключена ошибка.
640. «Эта мысль — продолжение мыслей, которые у
меня были раньше». Как это происходит? С помощью
чувства связи? Но каким образом чувство может ре-
ально связывать мысли? Слово «чувство» здесь весьма
дезориентирует. И все же иногда возможно с уверенно-
стью сказать «Эта мысль связана с теми прежними мыс-
лями», однако быть не в состоянии продемонстрировать
эту связь. Может быть, это удастся сделать позднее.
641. «Оттого, что я произнес бы слова “Сейчас мне
хочется его обмануть”, мое намерение не стало бы бо-
лее достоверным, чем прежде». Но коли эти слова то-
бою высказаны, надо ли тебе воспринимать их смысл
уж так серьезно? (Итак, оказывается, что самое явное
выражение намерения само по себе не является доста-
точной очевидностью этого намерения.)
642. «Я ненавидел его в тот момент»— что при
этом происходило? Не заключалось ли это в мыслях,
чувствах и поступках? Попытайся я воспроизвести
для себя этот момент, я придал бы своему лицу соот-
ветствующее выражение, думал бы об определенных
событиях, дышал особым образом, вызывал бы в себе
определенные чувства. Я мог бы оживить в памяти
разговор, целую сцену, в которой ярко проявлялась бы
ненависть. И я мог бы разыграть эту сцену с чувства-
ми, приближающимися к случаям действительного
проявления ненависти. Причем пережитое мною в
действительности, естественно, помогло бы мие в
этом.
643. Если теперь я устыжусь этого случая, я усты-
жусь всего — слов, ядовитого тона и т. д.
455
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
644. «Я устыжусь не того, что я тогда сделал, а на-
мерения (Absicht), которое у меня было». А не входила
ли также и намерение в то, что я сделал? Что оправды-
вает стыд? Вся случившаяся история,
645, «В какой-то миг я хотел...» То есть я испытывал
особое чувство, внутреннее переживание; и я помню его.
Ну а вспомни совершенно точно* Кажется, здесь
опять исчезает это «внутреннее переживание» намере-
ния (Wollen). Вместо него опять-таки вспоминаются
мысли, чувства, движения в связи с предшествовавши-
ми обстоятельствами.
Словно изменена наводка микроскопа и то, что
раньше не было видно, сейчас оказалось в фокусе.
646. «Так это показывает только, что ты неверно на-
вел свой микроскоп. Ты должен был рассмотреть опреде-
ленный слой препарата, а видишь сейчас другой».
В какой-то мере это так. Но предположим, что (при
определенной наводке линз) мне вспоминалось какое-то
ощущение; разве я бы смел утверждать, что его-то я и на-
зываю «намерением»? Могло бы статься, что каждому
моему намерению сопутствовал (например) особый зуд.
647. Что является естественным выражением наме-
рения? Посмотри на кошку, подкрадывающуюся к пти-
це, или на зверя, который хочет убежать.
((Связь с высказываниями о переживаниях.))
648. «Я уже не помню сказанных мною слов, но я
точно помню о своем намерении: этими словами я хотел
его успокоить». Что показывает мне мое воспомина-
ние; что предъявляет оно моей душе? А что, если оно не
делает ничего иного, кроме как подсказывает мне эти
слова! А может быть, и иные, еще точнее воспроизводя-
щие ситуацию. («Я уже не помню своих слов, но, конеч-
но, помню их дух».)
649. «Итак, тот, кто не владеет языком, не может
иметь определенных воспоминаний?» Конечно, он не
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
456
может иметь выраженных в языке воспоминаний, же-
ланий или опасений и т. д. А воспоминания и т. п., вы-
раженные в языке, — это не просто стертые изображе-
ния подлинных переживаний; разве то, что является
языковым, не переживание?
650. Мы говорим: собака боится, что хозяин ударит
ее, но не говорим: она боится, что хозяин завтра ударит
ее. Почему?
651. «Я помню, что тогда я охотно остался бы там
подольше...» Какая картина этого желания встает у
меня в душе? Никакой вообще. То, что я вижу в своих
воспоминаниях, не дает мне никакого ключа к моим
чувствам. И все же я совершенно отчетливо помню, что
они были.
652. «Он смерил его недружелюбным взглядом и
сказал...» Читатель рассказа понимает это; в его созна-
нии не возникает на этот счет ни малейших сомнений.
А ты заявляешь: «Ну да! Он примысливает значение, он
его угадывает». Вообще-то нет. Вообще говоря, он ниче-
го не примысливает и не угадывает. Но возможно так-
же, что позже выясняется притворство враждебного
взгляда и слов, или же у читателя остается сомнение в
их подлинности, и тогда он действительно угадывает
какую-то возможную интерпретацию. А в таком случае
он прежде всего угадывает некий контекст. Он скажет
себе, например: эти двое, которые здесь так враждебны
друг другу, на самом деле друзья и т. д.
((«Если хочешь понять предложение, нужно пред-
ставить себе его психологическую значимость, [сопут-
ствующие ему] душевные состояния».))
653. Представь себе такой случай: я говорю кому-
то, что шел определенным маршрутом, руководствуясь
заранее приготовленным планом. Я показываю ему этот
план, составленный с помощью линий на бумаге; но не
могу объяснить, в каком смысле эти динии являются
457
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
планом моего движения, не могу дать никаких правил
истолкования плана. И все-таки я следую этому черте-
жу, выказывая характерные признаки прочтения кар-
ты. Я мог бы назвать такой чертеж «приватным» пла-
ном, а явление, описанное мной, — «следованием при-
ватному плану». (Но, конечно, это выражение очень
легко приводило бы к недоразумениям.)
Ну а можно ли сказать: «Я как бы вычитываю по
карте то, что некогда уже собирался действовать так,
хотя никакой карты нет»? Но это всего-навсего означа-
ет, что в подобном случае я склонен заявить: «Опреде-
ленные душевные состояния, о которых я помню, про-
читываются мною как намерение действовать таким-то
образом».
654. Вот в чем наша ошибка: мы ищем объяснение
там, где факты следует рассматривать как «прафен о ме-
ны»1. То есть там, где требуется сказать: играется та-
кая-то языковая игра.
655. Речь идет не об объяснении некоей языковой
игры нашими переживаниями, но о ее констатации.
656. С какой целью я говорю кому-то, что раньше
испытывал определенное желание? Понимай языковую
игру как то, что первично} А чувства и т. д. — как спо-
соб рассмотрения, интерпретацию языковой игры!
Можно было бы спросить, как человек вообще ко-
гда-то пришел к словесному выражению того, что мы
называем «сообщениями о прошлых желаниях или про-
шлых намерениях».
657. Представим себе, что такое высказывание все-
гда принимает следующий вид: «Я сказал себе: “Если
бы я мог остаться подольше!"» Целью такого сообще-
ния могло бы быть оповещение других о моих реакциях.
1 Первичные или оригинальные случаи, из которых развива-
ются или по которым копируются остальные. — Перев.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
458
(Сравни грамматику глаголов «meinen» [осмысливать]
и «vouloirdire» [что-то значить].)
658. Представь, что мы всегда выражаем намерение
человека такими словами: «Он словно бы сказал само-
му себе: “я хочу...’’» Это картина. Я же сейчас пытаюсь
узнать, как употребляется выражение «словно бы ска-
зать что-то самому себе». Ведь оно означает нечто иное,
чем фраза: «Сказать что-то самому себе».
659. Почему, не ограничиваясь рассказом о том, что
я сделал, я хочу сообщить ему и свой замысел
(Intention)? Не потому, что мой замысел тоже был чем-
то совершавшимся в то время. А потому, что хочу сооб-
щить ему что-то о себе, нечто, выходящее за рамки
того, что тогда произошло.
Говоря, что я хотел сделать, я раскрываю ему свой
внутренний мир. Но не на основе самонаблюдения, а с
помощью некоторой реакции (ее можно было бы также
назвать интуицией).
660. Грамматика выражения «Я хотел тогда ска-
зать...» родственна грамматике выражения: «Я мог бы
тогда продолжить».
В одном случае припоминается намерение, в дру-
гом — понимание.
661. Я вспоминаю, что имел в виду его. Вспоминаю
ли я при этом некий процесс или состояние? Когда оно
началось, как протекало и т. д.?
662. В несколько иной ситуации вместо того, чтобы
молча поманить человека пальцем, говорили бы кому-
то: «Попроси N подойти ко мне». В таком случае можно
сказать, что слова «Я хочу, чтобы N подошел ко мне»
описывают мое душевное состояние в данный момент, а
можно этого и не сказать.
663. Когда я говорю: «Я имел в виду его», — в
моем сознании может вставать картина того, как я
смотрел на него и т. д. Но эта картина — всего лишь
иллюстрация к некоей истории. Из самой картины в
459
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
большинстве случаев невозможно вообще ни о чем за-
ключить; лишь зная эту историю, мы разбираемся в
картине.
664. В употреблении слова можно разграничить
«поверхностную грамматику» и «глубинную граммати-
ку». То, что непосредственно запечатлевается в нас при
употреблении слова, — это способ его применения в
структуре предложения, та часть его употребления,
которую мы, так сказать, в состоянии уловить на слух.
А теперь сравни глубинную грамматику, скажем, слова
«подразумевать» с тем, какие ожидания вызывает по-
верхностная грамматика этого слова. Неудивительно,
что в этом так трудно разобраться.
665. Представь, что кто-то с искаженным от боли
лицом показывает на свою щеку и говорит «абракадаб-
ра!» Мы спрашиваем: «Что ты имеешь в виду?» А он от-
вечает: «Я имею в виду зубную боль». Ты тотчас же по-
думаешь: как можно под этим словом «подразумевать
зубную боль»? Или же что означало1, под этим словом
подразумевать боль? И все же в каком-то ином кон-
тексте ты бы утверждал, что подразумевать то-то —
это как раз самая важная духовная деятельность при
употреблении языка.
А не могу ли я сказать, что под «абракадаброй» по-
нимаю зубную боль? Конечно, могу; но это — некая де-
финиция, а ие описание того, что происходит во мне
при употреблении слова.
666. Представь, что ты испытываешь боль и одно-
временно слышишь, как где-то рядом настраивают ро-
яль. Ты говоришь: «Это скоро прекратится». Совсем не
одно и то же, имеешь ли ты в виду боль или настройку
рояля! Конечно, но в чем состоит эта разница? Я при-
знаю: осмыслению во многих случаях будет соответ-
ствовать направленность внимания, так же как это час-
то делает взгляд, или жест, или закрытые глаза, что
можно назвать «взглядом в себя».
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
450
667. Представь, что кто-то симулирует боль и затем
говорит: «Это скоро пройдет». Разве нельзя сказать,
что он имел в виду боль? И все-таки он не концентриро-
вал свое внимание на какой-то боли. А что происходит,
когда я подытоживаю: «Уже прекратилось»?
668. Но разве нельзя обманывать и вот так: подразу-
мевая боль, человек говорит: «Это скоро пройдет», — на
вопрос же «Что ты имел в виду» отвечает: «Шум в сосед-
ней комнате»? В подобных случаях говорят, например: «Я
собирался ответить... но затем поразмыслил и ответил...»
669. В процессе речи можно затрагивать некий
предмет, указывая на него. Здесь указание — часть
языковой игры. И вот нам кажется, будто, говоря об
ощущении, тем самым по ходу речи направляют на него
свое внимание. Но где здесь аналогия? Она, очевидно,
состоит в том, что указывать на что-то можно посред-
ством зрения и слуха.
Но ведь даже указание на объект, о котором гово-
рят, может быть вовсе не существенным для языковой
игры, для мышления.
670. Представь, что ты звонишь кому-нибудь по те-
лефону и говоришь ему: «Этот стол слишком высок», —
причем указываешь на стол. Какую роль играет здесь
указание? Могу ли я при этом сказать: я подразуме-
ваю соответствующий стол, указывая на него? Для
чего это указание и эти слова со всем прочим, что их
может сопровождать?
671. А на что указывает моя внутренняя слуховая ак-
тивность? На звук, раздающийся у меня в ушах, и на ти-
шину, когда я ничего не слышу?
Слушание как бы ищет слуховое впечатление, и по-
тому оно способно указать не само ощущение, а лишь
место, где он его ищет.
672. Если рецептивную установку считать своего
рода «указанием» на что-то, то этим «что-то» не являет-
ся получаемое таким образом ощущение.
4Б1
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
673. Мысленная установка «сопровождаете слова
отнюдь не в том же смысле, как жест. (Подобно тому
как человек может путешествовать один и все же быть
сопутствуем моими добрыми пожеланиями; или про-
странство может быть пусто и тем не менее пронизано
лучами света.)
674. Говорят ли, например; «В данную минуту я, соб-
ственно, не имел в виду мою боль; я почти перестал обра-
щать на нее внимание»? Спрашиваю ли я, скажем, себя:
«Что я только что имел в виду под этим словом? Мое
внимание было разделено между болью и шумом...»?
675. «Скажи мне, что происходило в тебе, когда ты
произносил такие слова...?» Фраза «Я имел в виду...» не
будет ответом на этот вопрос.
676. «Под этим словом я подразумевал вот это...»
Это некое сообщение, употребляемое иначе, чем сооб-
щение о душевном состоянии говорящего.
677. С другой стороны: «Когда ты только что бранил-
ся, ты действительно имел это в виду?» Это равносильно
вопросу: «Был ли ты действительно рассержен?» Ответ
же может быть дан на основе интроспекции, и часто он
таков: «Всерьез я этого не имел в виду», «Я сказал все
это полушутя». Здесь мы имеем различия в степени.
Говорят при этом, правда, и так: «Произнося эти
слова, я отчасти имел в виду его».
678. Так в чем же все-таки состоит это полаганне
(боли или звуков рояля)? Ни один ответ не годится, ибо
ответы, которые сходу предлагаются, ничего не стоят.
«И все же я тогда имел в виду одно, а не другое». Да, ко-
нечно, — но ты лишь подчеркнуто повторил то, чему и
так никто не возражал.
679. «А можешь ли ты сомневаться, что имел в виду
именно это?» Нет. Но и быть вполне уверенным в
этом, знать это я также ие могу.
680. Если ты мне говоришь, что, выражая прокля-
тие, имел при этом в виду N, то для меня безразлично,
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
462
смотрел ли ты тогда на его изображение, представлял
ли его себе, произносил ли его имя и т. д. Интересую-
щие меня выводы из этого факта не имеют ничего обще-
го со всем перечисленным. Но, с другой стороны, мне
могли бы объяснить, что проклятие действенно только
тогда, когда проклинающий ясно представляет себе че-
ловека или же громко выкрикивает его имя. Однако
никто не скажет: «Дело в том, каким образом проклина-
ющий имеет в виду свою жертву»,
681. И конечно, не спрашивают: «А ты уверен, что
проклинал его, что была установлена связь именно с
ним?»
Тогда выходит, что эту связь очень легко устано-
вить, что в ней можно не сомневаться?! И можно быть
уверенным, что она не минует намеченной цели. А раз-
ве не может случиться, что я пишу письмо одному, а
фактически адресуюсь к другому? И как это могло бы
произойти?
682. Ты сказал; «Это скоро прекратится». Подумал
ли ты тогда о шуме или о своей боли? Если он отвечает:
«Я думал о звуках рояля», — то констатирует ли он
этим существование такой связи или же создает ее эти-
ми словами? А нельзя лн ответить: и то и другое"? Если
сказанное было истинно, то разве не существовала та-
кая связь — и разве он не устанавливал вместе с тем
связь, ранее не существовавшую?
683. Я рисую голову. Ты спрашиваешь: «Кого она
должна изображать?» Я отвечаю; «Это должен быть М>.
Ты: «Он не похож у тебя, это, скорее, Л4». Говоря, что
мой рисунок изображает N, устанавливал ли я эту связь
илн сообщал о ней? Тогда какая связь существовала?
684. Что же свидетельствует в пользу того, что мои
слова описывают уже существующую взаимосвязь? Да
хотя бы то, что они относятся к разным вещам, появив-
шимся отнюдь не вместе с этими словами. Они говорят,
например, что я должен был бы дать определенный от-
463
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
вет, если меня бы спросили. И если даже этот ответ
лишь условен, он все же что-то говорит о прошлом.
685. «Ищи Л» не означает «Ищи В»; но, следуя и
той и другой команде, можно действовать одинаково.
Утверждать, что в этих случаях должно произойти
нечто различное, все равно что считать два предложе-
ния: «Сегодня мой день рождения» и «26 апреля мой
день рождения» — относящимися к разным дням в
силу неравнозначности их смысла.
686. «Конечно, я имел в виду В и совсем не думал
об А!»
«Я хотел, чтобы ко мне пришел В, для того чтобы...»
Все это указывает на более широкий контекст.
687. Вместо «Я имел в виду его» иногда, конечно,
могут сказать «Я думал о нем», а иногда даже «Да, мы
говорили о нем». Так полюбопытствуй, в чем состоит
«разговор о нем»!
688. При некоторых обстоятельствах можно ска-
зать: «Когда я говорил, я чувствовал, что говорил это
тебе». Но я бы не сказал так, если бы в любом случае
говорил с тобой.
689. «Я думаю об Лг»; «Я говорю об №.
Как я говорю о нем? Например, говорю: «Я должен
сегодня навестить №. Но этого же недостаточно!
В конце концов под я мог бы иметь в виду разных лиц,
носящих это имя. «Следовательно, должна существо-
вать и какая-то еще, другая связь моей речи с № ибо в
противном случае я все-таки не имел бы в виду ЕГО».
Конечно, такая связь существует. Только не так,
как ты себе ее представляешь, — то есть не через не-
кий духовный механизм.
(Сравнивают «иметь в виду его» и « нацеливаться
на него».)
690. А что, если я один разделаю явно безобидное
замечание, украдкой сопровождая его вскользь бро-
шенным на кого-то взглядом; в другой же раз, потупив
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
464
взор, открыто говорю о ком-то из присутствующих, на-
зывая его по имени, — действительно ли я думаю спе-
циально о нем, когда использую его имя?
691. Делая по памяти для себя набросок лица N, я
могу, конечно, сказать, что имею в виду его в своем
рисунке. Но о каком процессе, сопровождающем рисо-
вание (предшествующем ему или следующем за ним),
можно утверждать, что это и есть «иметь в виду» его?
Ибо можно ведь сказать: имея в виду его, нацели-
ваются на него. А что делает человек, вспоминающий,
вызывающий в воображении лицо другого человека?
Я имею в виду, как он вызывает ЕГО в памяти?
Как он вызывает его?
692, Верно ли говорить: «Давая тебе это правило, я
имел в виду, что ты должен в этом случае..,»? Даже
если дающий правило совсем не думал об этом случае?
Конечно, верно. «Иметь это в виду» — вовсе не значит
думать об этом. Но вопрос тут вот в чем: как судить о
том, имел ли кто-то это в виду? Критерием такого рода
может быть то, что он, например, овладел особой техни-
кой арифметики и алгебры и учил обычному способу
продолжения числового ряда кого-то еще.
693. «Обучая кого-то построению ряда, я, конечно,
полагаю, что на сотом месте он должен написать...» Со-
вершенно верно, ты полагаешь это. И очевидно, что
тебе вовсе необязательно думать об этом, Это показы-
вает тебе, сколь различна грамматика глагола «пола-
гать» и грамматика глагола «думать». И нет ничего бо-
лее ошибочного, чем называть «полагание» (Meinen)
некоей духовной деятельностью! Если, конечно, при
этом не стремиться именно вызвать путаницу. (С тем
же успехом можно было бы говорить о деятельности
масла, когда оно поднимается в цене, и если при этом
не возникает никаких проблем, то это безвредно).
ЧАСГЫ1
Животное можно представить себе разъярен-
ным, робким, печальным, радостным, испуган-
ным. А надеющимся? Почему же нет?
Собака уверена, что ее хозяин у дверей.
Но может ли она также быть уверена, что ее
хозяин придет послезавтра? И чего она не мо-
жет делать? Как же тогда я делаю это? Что
следует ответить на это?
Надеяться может только тот, кто может
говорить? Только тот, кто овладел употреб-
лением языка. То есть проявления надеж-
ды — модификации этой усложненной жиз-
ненной формы. (Если понятие ориентирова-
но на характер человеческого почерка, то
оно неприменимо к существу, которое не пи-
шет.)
«Скорбь» описывает нам некий образец, с
различными вариациями повторяющийся в
ткани жизни. Если бы, скажем, телесные вы-
ражения человеческого горя и радости изме-
нялись с тиканьем часов, то мы здесь не гово-
рили бы о характерном очертании настроений
горя и радости.
«В течение секунды он ощущал острую
боль». Но почему звучит странно: «В течение
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
4Б6
секунды он чувствовал глубокую скорбь»? Потому
лишь, что это так редко происходит?
А нет ли у тебя сейчас чувства скорби? («А не игра-
ешь ли ты сейчас в шахматы?») Ответ может быть ут-
вердительным, однако это не делает понятие скорби по-
добным понятию некоего ощущения. Ведь вопрос, не-
сомненно, носил временной и личностный, а не логи-
ческий характер, как нам бы хотелось.
«Ты должен знать: я боюсь».
«Ты должен знать: это меня страшит».
Но это можно сказать в шутливом тоне.
И ты хочешь мне сказать, что он не чувствует это-
го?! Откуда же тогда он об этом знает? Даже если это
некоторое сообщение, то научен он этому не своими
ощущениями.
Представь-ка себе ощущения, вызванные жестами
страха: слова «это ужасно» — один из таких жестов, и
если, произнося их, я их слышу и переживаю, то это
относится и ко всем прочим ощущениям. Почему же
тогда речевые жесты должны быть основой жестов не-
речевых?
467
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II
Говоря «Когда я слышу это слово, оно обозначает для
меня...», соотносят себя с каким-то моментом времени
и с неким способом словоупотребления. (Конечно,
именно эту комбинацию нам и не удается понять.)
И выражение «Я хотел тогда сказать...» соотносит-
ся с определенным моментом и с определенным дей-
ствием.
Я говорю о существенных соотнесениях [референ-
циях] высказывания, об особенностях, отличающих его
от других форм нашего выражения. А существенны для
высказывания те соотнесения, что побуждают иас пере-
водить некий в известном смысле чуждый нам вид вы-
ражения в эту привычную для нас форму.
Если бы ты был не в состоянии сказать, что одно и
то же слово, допустим, слово «есть», может быть н гла-
голом и связкой, или не мог строить предложения, в ко-
торых это слово выступает то в одной, то в другой роли,
тебе было бы не по силам справиться с простым школь-
ным упражнением. Но школьника не просят понимать
слово тем или иным образом или сообщать о том, как он
его понял вне какого-либо контекста.
Слова «роза <есть> красная» бессмысленны, если
по своему значению «есть» приравнивается к слову
«тождественно». Значит ли это: если, высказывая это
предложение, ты мыслишь слово «есть» как знак тожде-
ства, то его смысл разрушается?
Мы берем предложение и объясняем кому-то значе-
ние каждого слова; тем самым он обучается пользовать-
ся этими словами, а значит, и данным предложением.
Выбери же мы вместо предложения словесный ряд, ли-
шенный смысла, он бы не научился им пользоваться.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 468
А если слово «есть» объяснять как знак тождества, то
он не усвоит, как пользоваться предложением «Роза
<есть> красная».
И все же в этом «расщеплении смысла» есть что-то
верное. Так, например, возможен совет: чтобы оклик-
нуть кого-то восклицанием «Эй! Эй! (Ei! Ei!)», незачем
думать при этом о яйце (Eier)1.
Переживание значения и переживание наглядного
представления. Можно сказать: ^Переживают и здесь,
и там — но нечто разное. Сознанию здесь дается — пе-
ред ним предстает — разное содержание». Каково же
это содержание при опыте наглядного представления?
Ответом служит картина или описание. А каково содер-
жание переживания значения? Я не знаю, что ответить
на это. Если в вышесказанном есть какой-то смысл, то
он может состоять только в том, что оба понятия отно-
сятся друг к другу подобно понятиям «красное» и «си-
нее». Но это не так.
Можно ли удерживать понимание значения, как
удерживают наглядное представление? То есть, если
мне вдруг приходит на ум одно из значений слова, мо-
жет ли оно и оставаться в моем сознании?
«Весь план внезапно возник в моем воображении и
оставался в нем примерно пять минут». Т1очему это
звучит странно? Можно было бы считать, что внезап-
но озаряющее и пребывающее не могут быть одним и
тем же.
Я воскликнул «Теперь он у меня есть!» Это было
внезапное озарение; затем уже я мог изложить план во'
всех деталях. Что при этом предполагается пребываю-
щим? Может быть, та или иная картина. Но слова «Те-
перь он у меня есть» не означают, что у меня есть кар-
тина.
1 Непереводимая игра слов: Ei (Эй!) и Ei (яйцо). — Перед.
469
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кому пришло в голову значение слова и он его ие
забыл, тот может теперь применять это слово таким
образом.
Кому пришло в голову значение слова, тот его те-
перь знает, и это озарение — начало знания. В чем
здесь сходство с переживанием представления?
Когда я говорю: «Г-н Швейцар не швейцар», то пер-
вое слово я мыслю как имя собственное, а второе — как
имя нарицательное. Так выходит, при произнесении
первого слова в моем сознании должно происходить не-
что иное, чем при произнесении второго? (Предполага-
ется при этом, что я не твержу это предложение «как
попугай».) Попытайся теперь первого «швейцара» мыс-
лить в качестве нарицательного имени существитель-
ного, а второго — в качестве собственного! Как это де-
лается? Когда я это делаю, то попытки придать каждо-
му из двух слов подлинное значение заставляют меня
моргать глазами от напряжения. Ну а вызываю ли я
значение слов в своем воображении при обычном упо-
треблении?
Если произносишь предложение, изменив в нем
значения слов, то чувствуешь, что смысл предложения
разрушается. Так он же разрушается для меня, а не для
тех других, кому я делаю собЬщениёГЧему же тогда это
Мешает? «Но при обычном произнесении предложения
происходит еще что-то, вполне определенное». То,
что при этом происходит, — это не «экспозиция значе-
ния» в чьем-то сознании.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
470
III
Что делает мое представление о нем представлением
именно о нем?
Отнюдь не подобие образа.
Помимо представления, тот же самый вопрос при-
меним и к высказыванию «Я вижу его сейчас перед со-
бой как живого». Что делает это высказывание выска-
зыванием именно о нем? Ничто из того, что заложено в
нем, или ему одновременном («стоит за ним»). Если ты
хочешь знать, кого он имеет в виду, спроси его!
(Но возможно также, что в моем воображении
мелькает какое-то лицо, которое я даже могу зарисо-
вать, не зная, какому человеку оно принадлежит н где я
его видел.)
А допустим, что кто-то представлял себе фигуру
или вместо этого очерчивал бы [ее], хотя бы лишь паль-
цем в воздухе. (Это можно назвать «моторным пред-
ставлением».) Тут было бы уместно спросить: «Кого это
представляет?» И его ответ был бы решающим.
В нем вроде бы давалось словесное описание, но
вместе с тем способное и просто замещать представ-
ление.
47>
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IV
«Я полагаю, что он страдает». Полагаю ли я к тому же,
что он не автомат?
Лишь с известным внутренним сопротивлением я
могу произнести это слово в таких двух контекстах.
(Или же дело обстоит так: я полагаю, что он стра-
дает; я уверен, что он не автомат? Бессмыслица!)
Предстйвь себе, что я говорю о своем друге: «Он не
автомат». Что содержало бы это сообщение и для кого
оно было бы предназначено? Для человека, который
встречает его при обычных обстоятельствах? Какую ин-
формацию оно могло бы ему дать? (Самое большее, что
тот, о ком говорится, всегда себя ведет, как человек,
как машина же — никогда.)
«Я полагаю, что он не автомат» — это Сообщение
само по себе еще не имеет никакого смысла.
Мое отношение (Einstellung) к нему — это отноше^-
ние к [его] душе. Я не придерживаюсь мнения, что он
имеет душу.
Религия учит, что душа способна существовать и
после разрушения тела. Понимаю ли я то, чему она
учит? Пожалуй, понимаю. В связи с этим я могу многое
себе представить. На эту тему можно даже писать карти-
ны. Почему же такая картина должна считаться лишь
несовершенной передачей высказанной идеи? Почему
бы ей не нести ту же службу, что и выраженное слова-
ми учение? А дело ведь именно в выполняемой функции.
Если на нас способна производить впечатление кар-
тина мысли в голове, то почему бы — тем более — не
картина мысли в душе?
Человеческое тело — лучшая картина человече-
ской души.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
472
А как быть с таким выражением: «Когда ты говорил,
я понимал это всем сердцем^? При этом указывают на
свое сердце. Взять хотя бы этот жест — разве он ниче-
го не значит^. Ведь его понимают. Или [при этом] со-
знают, что используют всего лишь картину? Опреде-
ленно нет. Это не произвольно выбранная нами карти-
на, не сравнение, и все-таки это образное [метафори-
ческое] выражение.
473
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
V
Представь, что мы наблюдаем движение точки (напри-
мер, светящейся точки на экране). Из поведения этой
точки можно извлечь важные следствия. Но сколь раз-
личные явления можно наблюдать при этом! Это и тра-
ектория точки с соответствующими ей мерами (напри-
мер, амплитуда и длина волны), или же скорость и за-
кон, согласно которому она изменяется, либо же та ве-
личина и местоположение, при которых она прерывно
изменяется, либо кривизна пути в этих местах, и не-
счетное множество других явлений. И каждая из этих
черт поведения точки могла бы стать для нас един-
ственно интересной. Скажем, кроме числа петель, ко-
торые она делает в определенное время, все прочее в ее
движении могло бы стать для нас безразличным. И если
бы нас интересовала не какая-то одна из характерис-
тик, а сочетание нескольких, то каждое из них, в связи
с его особой природой, тоже могло бы нам дать выводы,
отличные от всех других. Так же обстоит дело и с пове-
демием людей, с различными характеристиками этого
поведения, которые мы наблюдаем.
Стало быть, психология ведет речь о поведении, а
не о душе?
Что фиксирует психолог? Что он наблюдает? Разве
не поведение людей и — особенно — их высказыва-
ния? Но последние говорят не о поведении.
«Я заметил, что он был расстроен». Сообщает лн
это о поведении или же о душевном состоянии? («Небо
кажется предгрозовым» — идет ли речь о настоящем
или о будущем.) О том и о другом. Но не в их рядополо-
женности, а об одном, данном через другое.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
474
Врач спрашивает: «Как он себя чувствует?» Медсе-
стра отвечает: «Он стонет». Сообщение о его поведе-
нии. Но должен ли для них обоих вообще существовать
вопрос: настоящий ли это стон, действительно ли он
выражает то-то? Разве они не могут, например, прийти
к выводу: «Раз он стонет, ему надо дать еще одну дозу
болеутоляющего», —• замалчивая [при этом] промежу-
точное звено? Не определена лн здесь суть дела той ро-
хахую aw* описанию поведения?
«Но тогда они основываются на молчаливо прини-
маемом допущении». Тогда и весь процесс нашей язы-
ковой игры всегда основывается на молчаливо прини-
маемых предпосылках.
Я описываю психологический эксперимент: аппарат,
вопросы экспериментатора, действия и ответы испытуе-
мого, — а затем говорю, что все это сцена, разыгрывае-
мая в театре. Тогда все сразу меняется. Объяснение при-
мет такой вид: если бы этот эксперимент описывался та-
ким образом в книге по психологии, то описание поведе-
ния осмысливалось как выражение внутреннего
состояния испытуемого, так как предполагалось бы, что
испытуемый не морочит нас, не выучил заранее своих
ответов и т. п. Итак, мы делаем предположение?
Действительно нам следует так выражаться: «Я, ко-
нечно, предполагаю, что...»? Или же не следует — хотя
бы потому, что другим это и так уже хорошо известно?
А разве предположение существует не там, где име-
ется какое-то сомнение? Но сомнение может полнос-
тью отсутствовать. Сомнения имеют конец.
Тут возможна аналогия с отношением физического
объекта и чувственного впечатления. Мы здесь имеем
дело с двумя языковыми Играми, отношения между ко-
торыми носят усложненный характер. Попытки свести
эти отношения к одной простой формуле неизбежно
приводят нас к заблуждению.
475
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
VI
Представь себе, что кто-то сказал: каждое хорошо извест-
ное нам слово, например в книге, уже само по себе окру-
жено в нашем сознании некоей атмосферой, «ореолом»
нечетко определенных возможных употреблений. Так,
как если бы каждая из фигур рисунка проступала из лег-
кой дымки, из фона слабо прописанных сцен, данных как
бы в ином измерении, и мы видели бы здесь эти фигуры в
других взаимосвязях. Только сыграем в это предположе-
ние всерьез! Тогда выявляется, что оно не может объяс-
иитъотнесенность знаков к их значениям (Intention)',
Если бы действительно было так, если бы возмож-
ные употребления слова — произносимого или слыши-
мого — всплывали в нашем сознании в неких полуто-
нах, то это существовало бы только для нас. Однако мы
объясняемся с другими, не зная, испытывают ли и они
эти переживания.
Что можно возразить человеку, заявившему, что
для него понимание — внутренний процесс? Что мы
возразили бы ему, если бы он сказал, что знание, как
играть в шахматы, для него — внутренний процесс?
Мы заявили бы, что все в нем происходящее нас совер-
шенно не интересует, когда мы хотим знать только,
умеет ли он играть в шахматы, А если бы он нам на это
ответил, что фактически речь и идет как раз о том, что
нас интересует, то есть может ли он играть в шахматы,
то мы должны были бы обратить его внимание на крите-
рии, позволяющие судить о его способности играть в
шахматы, и, с другой стороны, на критерии его «внут-
ренних состояний».
1 Акта подразумевания, направленности мысли иа ее предмет.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
476
Даже если бы кто-то обладал определенной способ-
ностью лишь тогда и лишь в той мере, в какой у него
возникало определенное чувство, то само это чувство
не было бы способностью.
Значение слова — это не переживание при его вы-
слушивании или же произнесении, а смысл предложе-
ния не комплекс таких переживаний. (Как складывает-
ся смысл предложения «Я его все еще не видел* из зна-
чений его слов?) Предложение составляется из слов, и
этого достаточно.
Есть склонность утверждать, будто каждое сло-
во — хотя оно и может иметь различный характер в
разных взаимосвязях — вместе с тем всегда имеет
один характер, один облик. И оно обращено к нам. Но и
нарисованное лицо обращено к нам.
Уверен ли ты, что имеется всего лишь одно, и не бо-
лее, чувство-если (Wenn-Gefuhl)? Пытался ли ты произ-
носить слово в самых различных контекстах? Когда
оно, например, несет в предложении основную нагруз-
ку или когда это делает ближайшее к нему слово.
Представь себе, что мы встречаем человека, кото-
рый, ссылаясь на свое чувство слова, утверждает, что
слово «если» и слово «но» вызывают у него одинаковые
чувства. Вправе ли мы ему не верить? Мы, пожалуй, по-
думали бы, что это странно. Мы готовы были бы ска-
зать: «Он вообще не играет в нашу игру». Или же: «Это
другой тип человека».
Но разве мы не поверили бы, что он понимает слова
«если» и «но» так же, как мы, употребляй он их так
же, как мы?
Психологическую пользу (Interesse) чувства-если
определяют неверно, рассматривая ее как вполне оче-
видный коррелят значения. Нужно же его уяснять в со-
всем другом контексте, во взаимосвязи тех особых об-
стоятельств, при которых оно возникает.
477
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Так значит, чувство-если никогда не возникнет у че-
ловека без употребления слова «если»? Конечно, было
бы по крайней мере странным, если бы только по этой
причине формировалось подобное чувство. И так дело
обстоит вообще с «атмосферой» слова. Почему считает-
ся чем-то само собой разумеющимся, что только это
слово окружено данной атмосферой?
Чувство-если не является чувством, сопровождаю-
щим слово «если».
Его можно сравнить с особым «чувством», которое
вызывает в нас музыкальная фраза. (Подобное чувство
иногда описывают, говоря: «Здесь как бы подводится
итог», или «Я мог бы сказать “итак.,,”», или «Здесь мне
всегда хочется сделать некий жест» — и человек дела-
ет этот жест.)
Но разве можно отделить это чувство от самой фра-
зы? И вместе с тем оно не сама эта фраза, ведь ее мож-
но услышать и без подобного чувства.
А не подобно ли оно в этом «выражению», с кото-
рым играется та или иная фраза?
Мы говорим, что этот фрагмент вызывает у нас осо-
бое чувство. Мы напеваем его, делая при этом какое-то
движение, возможно, испытывая особое ощущение. Но в
другом контексте мы можем вовсе не узнать зли сопро-
вождения — это движение, это ощущение. Как только мы
не напеваем данную мелодию, они совершенно пусты.
«Я напеваю ее с вполне определенным выражени-
ем». Это выражение не является чем-то, что можно от-
делить от самого фрагмента. Это — другое понятие.
(Другая игра.)
Переживание — мелодия, сыгранная таким обра-
зом (скажем, так, как я это показываю; описание же
способно передать его лишь намеком.)
Атмосфера, неотделимая от вещи, — это не атмо-
сфера.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
478
То, что тесно взаимосвязано, что было ассоцииро-
вано, кажется чем-то пригнанным друг к другу. Но во
что это выливается? Как проявляется это кажущееся
соответствие? Может быть, так: мы не можем себе
представить, чтобы человек с этим именем, лицом, по-
черком создал не эти, а, возможно, совсем другие про-
изведения (творения другого великого человека).
Мы не можем себе это представить? А мы пытаемся?
Вот одна из таких возможностей: я слышу, что кто-
то пишет картину «Бетховен за сочинением Девятой
симфонии». Я мог бы с легкостью представить себе все,
что будет в этой картине. А что, если кто-то попытается
изобразить, как смотрелся бы Гёте за сочинением Девя-
той симфонии? Здесь я не сумел бы представить себе
ничего, что ие выглядело бы неуклюжим и смешным.
479
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
VII
Люди, пробудившись ото сна, рассказывают разные
происшествия (они были там-то и т. д.). Я обучаю их
пользоваться выражением «мне приснилось», за кото-
рым следует их рассказ. Затем я спрашиваю: «Присни-
лось ли тебе что-нибудь сегодня?» — и получаю либо
утвердительный, либо отрицательный ответ, иногда с
рассказом о сновидении, иногда нет. Это языковая
игра. (Я исхожу при этом из допущения, что сам я не
вижу снов. Ведь у меня же никогда нет чувства невиди-
мого присутствия, тогда как у других оно есть, и я могу
расспрашивать их об этом опыте.)
Должен ли я в таком случае сделать некоторое
предположение относительно того, обманывает или же
не обманывает людей их память; действительно ли они
видели эти картины во сне или же только вообразили
их себе после пробуждения? И в чем смысл этого воп-
роса? Чем вызван наш интерес к нему? Задаем ли мы
его себе тогда, когда кто-то рассказывает свой сон?
А если нет, так это в силу нашей уверенности в том, что
его память его не обманула? (А если предположить, что
рассказ ведет человек с особенно слабой памятью?..)
Значит ли это, что бессмысленно ставить вопрос,
действительно ли во время сна имеют место сновиде-
ния, или же это феномен памяти пробудившегося? Это
уже будет относиться к употреблению вопроса.
«Представляется, будто значение слову способен
придать дух» — разве это не равноценно утверждению:
«Представляется, что в бензоле атомы углерода распо-
лагаются на углах шестиугольника»? Но ведь это не ка-
жимость — это картина.
Представим себе эволюцию высших животных и
человека и пробуждение сознания на определенной
людвиг Витгенштейн дао
ступени. Картина примерно такова: мир, несмотря на
все пронизывающие его эфирные колебания, пребыва-
ет во тьме. Но однажды человек открывает свои видя-
щие глаза, и он становится светлым.
Наш язык изначально рисует какую-то картину. Что
делать с этой картиной, как ее использовать — это оста-
ется неясным. Очевидно, однако, что ее нужно исследо-
вать, если мы хотим понять смысл наших высказываний.
Но картина кажется нам чем-то таким, что снимает с нас
необходимость этой работы; она уже указывает нам опре-
деленное применение. Таким образом она берет нас в
плен.
481
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
VIII
«Мои кинестетические ощущения сообщают мне о дви-
жениях и положениях членов моего тела».
Я делаю указательным пальцем легкие колебатель-
ные движения небольшой амплитуды. Они едва ощути-
мы для меня или совсем неощутимы. Разве что чуть-
чуть, как слабое напряжение в кончике пальца. (Даже
не в суставе.) И это ощущение сообщает мне о движе-
нии? Ведь я могу точно описать это движение.
«Да ты ведь должен его чувствовать, иначе ты не
знал бы (не глядя), как движется твой палец». Но
«знать» нечто означает лишь быть в состоянии это опи-
сать. Я могу указать направление, откуда приходит
звук, только потому, что он сильнее действует на одно
ухо, чем на другое. Хотя в своих ушах я этого не ощу-
щаю, все же эффект налицо: я «знаю», откуда приходит
звук, скажем, я смотрю в этом направлении.
Так же обстоит дело и с представлением о том, что
некий признак болевого ощущения должен оповещать
нас о локализации боли в теле, а некая черта картины
чамппъ—'ъшрелаиж 'икъ'гл.’ниинтл.
Ощущение способно извещать нас о движении или
положении какой-нибудь части тела. (Кто, например,
будучи в нормальном состоянии, не знает, растянута ли
его рука, того может убедить в этом покалывающая
боль в локтевом суставе.) Таким же образом характер
боли может говорить нам о месте повреждения. (А жел-
тизна фотографии — о ее давности.)
Что является критерием того, что чувственное впе-
чатление информирует меня о форме и цвете?
Какое чувственное впечатление? Да вот это', я
описываю его словами или пытаюсь изобразить.
16 Языки как образ мира
люлеиг ВИТГЕНШТЕЙН
482
Ну а что ты чувствуешь, когда твой палец находится
в этом положении? «Как возможно объяснять то или
иное чувство? Это нечто необъяснимое, особое». Но дол-
жно же быть возможным обучать употреблению словам!
Я ищу здесь грамматическое различие.
Отвлечемся на минуту от кинестетических ощуще-
ний! Я хочу описать кому-то некое чувство и говорю ему:
«Сделай так, и тогда ты это почувствуешь», — при этом
я держу свою руку или голову в определенном положе-
нии. Является ли это описанием ощущения, и когда я
смогу сказать, что он понял, какое чувство я имел в
виду? Вслед за этим ему придется дать дальнейшее опи-
сание ощущения. А какого типа должно быть оно?
Я говорю: «Сделай так, и тогда ты это почувству-
ешь». А не возможно ли здесь сомнение? Не должно ли
оно присутствовать, коли имеют в виду некое чувство?
Эта выглядит так, это имеет такой-то вкус, это
ощущается так. «Это» и «так» должны объясняться
различным образом.
«Ощущение» представляет для нас совершенно осо-
бый интерес. Он может относиться, например, к «сте-
пени остроты ощущения», его «месту», возможному по-
глощению одного чувства другим. (Если движение
очень болезненно, так что боль заглушает взятое иное,
менее сильное, ощущение в этом месте, то не становит-
ся ли сомнительным, действительно ли ты сделал это
движение? Могло бы тебя убедить в этом то, что ты ви-
дел его [свое движение] собственными глазами?)
483
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IX
Допустим, кто-то наблюдает собственное горе; какими
органами чувств он его наблюдает? Каким-то особым
органом, тем, которым чувствуют горе? Значит ли'
это, что, наблюдая его, он переживает его иначе? И ка-
кое горе наблюдает он, — только то, которое существу-
ет в момент наблюдения?
«Наблюдение» не порождает наблюдаемого. (Это
концептуальное утверждение (Feststellung).)
Иначе говоря, я «наблюдаю» не то, что только и
возникает через наблюдение. Объект наблюдения —
нечто иное.
Прикосновение, которое еще вчера было болезнен-
но, сегодня не приносит боли.
Сегодня я еще ощущаю боль, лишь когда о ней ду-
маю. (То есть при определенных обстоятельствах.)
Мое горе уже несколько утихло; воспоминание, год
назад казавшееся непереносимым, теперь утратило
свою остроту.
Это результат наблюдения.
При каких обстоятельствах говорят, что кто-то на-
блюдает? Ну хотя бы в том случае, когда кто-то прини-
мает удобное положение для получения определенных
впечатлений, для описания (например) того, о чем они
свидетельствуют.
Если бы кто-то был обучен при виде чего-то красно-
го издавать определенный звук, при виде желтого —-
другой и т. д. для каждого цвета, то это еще не было бы
описанием предметов по их окраске, хотя и могло бы
помочь такому описанию. Описание — это изображе-
ние того или иного распределения (Verteilung) в неко-
ем «пространстве» (скажем, в определенном времени).
16*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
484
Мой взгляд блуждает по комнате, внезапно он на-
талкивается на предмет ярко-красного цвета, и я гово-
рю: «Красный!» Этим я еще не даю описания.
Являются ли слова «Я боюсь» описанием душевного
состояния?
Я говорю: «Я боюсь», другой спрашивает меня:
«Что это было? Крик испуга? Или же ты хочешь сооб-
щить мне, что у тебя на душе, или же это наблюдение
за твоим нынешним состоянием?» Всегда ли я мог бы
дать ему вполне ясный ответ? Или же мне никогда это-
го не сделать?
Представлять себе при этом можно весьма разные
случаи. Например: «Нет, нет! Я боюсь!»
«Я боюсь. К сожалению, я должен признать это».
«Я все еще немного боюсь, хотя уже не так сильно,
как раньше».
«В глубине души я все еще боюсь, хотя и не хотел
бы признаваться себе в этом».
«Я терзаю себя самого разными страшными мыс-
лями».
«Я боюсь — и это теперь, когда я должен бы быть
бесстрашным».
Каждому такому выражению присуща собственная
каждому — контекст.
Можно представить себе людей, которые думали бы
значительно определеннее, чем мы, и употребляли бы
разные слова там, где мы используем одно.
Мы задаем себе вопрос: «Что, собственно, означает
“я боюсь”, к чему относятся эти слова?» И конечно, не
находим никакого ответа или только такой, который
нас не удовлетворяет.
Вопрос должен быть таким: «В каком контексте
встречаются эти слова?»
Воспроизводя выражение страха и концентрируя
внимание на самом себе, как бы наблюдая краем глаза
485
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
свою душу, я не получу ответа на вопросы «К чему от-
носятся эти слова?», «О чем я думаю при этом?» Но в
каком-то конкретном случае можно реально задаться
вопросом: «Почему я это сказал, чего я хотел достичь
этими словами?», — а на этот вопрос я мог бы и отве-
тить, но ответить не путем наблюдения того, что сопут-
ствует речи. При этом мой ответ дополнял бы мое пре-
жнее высказывание, был бы его парафразом.
Что такое страх? Что значит «бояться»? Пожелай я
объяснить это путем лишь показа, я просто сыграл бы в
страх.
Мог бы я представить таким же образом надежду?
Едва ли. Аверу?
Описание моего душевного состояния (страха, на-
пример) — это действие, осуществляемое мною в ка-
ком-то особом контексте. (Как определенное действие
лишь в определенном контексте представляет собой не-
кий эксперимент.)
Так ли уж удивительно тогда, что я применяю одно
и то же выражение в различных играх? А иногда и как
бы между играми?
И всегда ли я при этом говорю с совершенно опреде-
ленным намерением? А если нет, то всегда ли в таких
случаях га гэгова
Когда мы, прощаясь с покойным, говорим: «Мы глу-
боко скорбим о нашем...» — то эти слова должны слу-
жить выражением скорби, а не сообщать что-то присут-
ствующим. А в заупокойной молитве те же слова были
бы своего рода сообщением.
1 Но вот проблема: крик, который никак не назо-
вешь описанием, ибо он примитивнее любого описа-
ния, служит все же как бы неким описанием душев-
ной жизни.
Крик — это не описание. Но здесь имеются перехо-
ды. И слова «я боюсь» могут быть то ближе, то дальше
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
48Б
от крика. Они могут быть совсем близки к нему и быть
от него совсем далеки.
О том, кто сообщает о своих болях, мы не всегда го-
ворим, что он жалуется. Следовательно, слова «я чув-
ствую боль» могут быть и жалобой, и чем-то другим.
Но если слова «я боюсь» не всегда, а лишь иногда
напоминают жалобу, то почему они всегда должны
быть описанием некоего душевного состояния?
487
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
X
Каким образом человек когда-то пришел к употребле-
нию выражения «Я верю...»? Обратил ли он в какой-то
момент внимание на сам феномен (веры)?
Наблюдал ли человек себя и других и таким обра-
зом обрел веру?
Парадокс Мура можно передать таким образом: вы-
ражение «Я верю, что дело обстоит именно так» упо-
требляется аналогично утверждению «Дело обстоит
именно так»; и все же предположение — я верю, что
дело обстоит именно так, — не аналогично предполо-
жению, что дело обстоит именно так.
Представляется, что утверждение «я верю» не ут-
верждает здесь того, что предполагается в допущении
«я верю»!
Таким же образом высказывание «Я верю, будет
дождь» имеет аналогичный смысл, то есть аналогичное
употребление, что и «Будет дождь», однако «Я верил
тогда, что будет дождь» не аналогично утверждению
«Тогда был дождь».
«Но ведь выражение “Я верил" в прошедшем време-
ни должно говорить как раз то же, что и выражение
“Я верю’’ в настоящем!» В самом деле, V-1 должен обо-
значать для —1 то же, что V1 обозначает для 1! А это
вообще лишено смысла.
«В принципе словами “Я верю...” я описываю свое ду-
шевное состояние, — но косвенно это описание выступа-
ет как утверждение самого факта, в который я верю». Так
же как в некоторых случаях, я описываю фотографию с
целью описать то, снимком чего она является.
Я должен был бы еще добавить, что это хорошая фо-
тография. Так н тут: «Я верю, что идет дождь, а на мою
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
488
веру можно положиться, и я полагаюсь на нее». В этом
случае моя вера была бы разновидностью чувственного
впечатления.
Можно не доверять собственным чувствам, но не
собственной вере.
Если бы существовал глагол со значением «ложно
верить», он бы не имел осмысленного употребления от
первого лица настоящего времени изъявительного на-
клонения.
Не считай самоочевидным, но принимай как нечто
весьма странное, что глаголы «верить», «желать», «стре-
миться» обнаруживают все те же самые грамматические
формы, что и глаголы «резать», «жевать», «бежать».
Языковую игру доклада можно повернуть так, что
сообщение расскажет слушателю не о своем предмете,
а о докладывающем.
Так происходит, например, когда учитель экзамену-
ет ученика. (Можно измерять для того, чтобы прове-
рить масштаб.)
Предположим, я ввожу выражение — скажем,
«Я верю» — таким образом: оно должно предварять со-
общение, призванное информировать о самом сообща-
ющем. (То есть в этом выражении не должно быть и
тени сомнении. Подумай о том, что неуверенность ут-
верждения может быть выражена безличностно: «Он
мог бы сегодня прийти».)
«Я верю... а это не так» было бы противоречием. «Я
верю...» проливает свет на мое состояние. Из этого выс-
казывания можно сделать выводы о моем поведении.
Следовательно, здесь есть аналогия с выражениями
эмоций, настроений и т. д.
Но если «Я верю, что это так» освещает мое состоя-
ние, то и утверждение «Это так» делает то же самое.
Ибо знак «Я верю» этого не в состоянии сделать, в луч-
шем случае он способен намекнуть на него.
489
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пусть имеется некий язык, в котором характер вы-
ражения «Я верю, что это так» передается только то-
нальностью утверждения «Это так». Вместо «Он верит»
там говорят: «Он склонен утверждать...»; используется
и фраза-долущение (сослагательная форма) «Предпо-
ложим, я был бы склонен и т. д.», но нет высказывания
«Я склонен утверждать».
Парадокс Мура не возник бы в таком языке. Но вме-
сто этого имелся бы некий глагол, утративший одну из
форм.
Но этому не следует удивляться. Вспомни о том,
что свои собственные будущие поступки могут быть
предсказаны выражением намерения.
Я говорю о ком-то другом: «Он, кажется, верит...», а
другие говорят это обо мне. Но почему я никогда не го-
ворю этого о себе, даже тогда, когда обо мне это по пра-
ву говорят другие? Выходит, я не вижу н не слышу себя
самого? Это можно сказать.
«Убежденность человек чувствует в самом себе, ее
не выводят из собственных слов или их тональности».
Здесь истинно вот что: на основании собственных слов
нельзя судить о своей убежденности или же о поступ-
ках, которые из нее вытекают.
«Причем даже кажется, что утверждение “Я верю*’
как бы не является утверждением того, что предполага-
ется в допущении». Выходит, я склонен искать такое
продолжение для этого глагола в индикативе 1-го лица
настоящего времени.
Я думаю так: вера — состояние души. Оно обладает
длительностью независимо, например, от процесса его
выражения в предложении. То есть это род предраспо-
ложенности верующего. Ее открывают для меня в дру-
гом человеке его поведение, его слова. В том числе и вы-
ражение «Я верю...» просто в качестве его утверждения.
А как же обстоит дело со мной самим, как я сам узнаю
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 490
свою собственную предрасположенность? Здесь я дол-
жен был бы обратить внимание на самого себя как на
другого, прислушаться к своим словам, уметь навлечь
из них выводы!
К моим собственным словам у меня совсем иное от-
ношение, чем у других.
Стоит лишь допустить, что возможно сказать: «Ка-
жется, я верю» — и я бы смог найти это [иное] продол-
жение [данной фразы].
Прислушайся я к речам, произносимым моим
ртом, я мог бы сказать, что кто-то другой говорит мои-
ми устами.
«Судя по тому, что я говорю, я верю в это». Дело
лишь за тем, чтобы измыслить обстоятельства, в кото-
рых эти слова имели бы смысл.
А тогда кто-то мог бы сказать и такое: «Идет дождь,
а я в это не верю» или же «Мне кажется, что мое Я
(Ego) верит в это, но это не так». Здесь нам потребова-
лась бы некая картина поведения, подтверждающая,
что моими устами говорят два разных существа.
Уже в самом этом предположении заключена иная
конфигурация, чем ты думаешь.
В словах «Предположим, я верю...» уже заложена
вся грамматика слова «верить», то повседневное его
употребление, которым ты владеешь. Ты не предполага-
ешь какого-то положения вещей, которое бы, так ска-
зать, однозначно, в виде некой картины представало
твоему взору; вот почему в данном случае ты можешь
присоединить к своему предположению и сколь угодно
привычное утверждение. Не будучи уже знакомым в
общих чертах с употреблением слова «верить», ты мог
бы даже и не знать, что в данном случае предполагаешь
(то есть что, например, следует из такого твоего пред-
положения).
491
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представь себе выражение типа «Я говорю...», на-
пример «Я говорю, что сегодня будет дождь», которое
просто-напросто эквивалентно утверждению «Будет
дождь». «Он говорит, что будет...» означает почти то
же, что и «Он верит, что будет;..», тогда как «Предполо-,
жим, я говорю...» вовсе не означает: «Предположим, се-
годня будет...»
Здесь соприкасаются и вместе пробегают часть
пути различные понятия. Только не надо полагать, буд-
то все пути являются кругами.
Рассмотри еще такое невнятное предложение: «Мо-
жет пойти дождь; но он не идет».
Здесь также следует поостеречься утверждать, буд-
то предложение «Может пойти дождь», по сути, означа-
ет: «Я допускаю, что будет дождь». Почему же в таком
случае одно не обязательно означает другое в обратном
порядке?
Не считай неуверенное утверждение утверждением
неуверенности.
ЛЮДВИГ ВИТГЁНИПЕЙН
492
XI
Два способа употребления слова «видеть».
Первое: «Что ты видишь там?» — «Я вижу это» (за-
тем следует описание, рисунок, копия). Второе: «Я ви-
жу сходство этих двух лиц», — причем тот, кому пред-
назначено мое сообщение, может видеть эти лица столь
ясно, каки я сам.
Здесь важно категориальное разграничение двух
«предметов» видения.
Один человек мог бы с точностью срисовать оба
этих лица; другой же может заметить в этом рисунке
сходство, не обнаруженное в первом случае.
Я смотрю на лицо, затем вдруг замечаю его сход-
ство с другим. Я вижу, что лицо не изменилось, и все
же вижу его иначе, чем прежде. Этот опыт я называю
«заметить аспект».
Причины этого феномена интересуют психологов.
Нас же интересует это понятие и его положение
среди других понятий опыта.
учебника, имеется одна и та же иллюстрация.
Однако в сопровождающем ее тексте всякий раз гово-
рится о чем-то другом: то о стеклянном кубе, то о перевер-
493
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
нутом открытом ящике, то о проволочной конструкции
данной формы либо же о трех досках, образующих пря-
мой угол. Текст всякий раз поясняет эту иллюстрацию.
На в такай иллюстрации мы мажем видеть один раз
одно, а другой раз другое. То есть мы ее интерпретиру-
ем и видим ее так, как интерпретируем.
Тут, вероятно, можно бы возразить. Описание не-
посредственного восприятия, визуального пережива-
ния путем интерпретации есть косвенное описание.
«Эта фигура мне видится как ящик» — означает, что у
меня есть определенное зрительное переживание, кото-
рое всегда сопровождает мою интерпретацию фигуры
как ящика или восприятие какого-нибудь ящика. Но
будь это так, я должен был бы знать об этом. Я должен
был бы уметь опираться на свое переживание прямо, а
не только косвенно. (О красном мне необязательно го-
ворить как о цвете крови.)
Следующую фигуру я позаимствовал у Петрова1 и в
своих заметках назвал ее З-У-головой. В ней можно ви-
деть и голову зайца, и голову утки.
При этом нужно разграничивать «устойчивое виде-
ние» того или иного аспекта и как бы «вспышку» аспек-
та. Мне могли бы показывать эту картину, а я никогда
не увидел бы в ней ничего другого, кроме зайца.
1 Jastrow. Fact and Fable in Psychology.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
494
Здесь полезно ввести понятие предмета-картины
(Bildgegenstand). Скажем, «лицо-картина» («Bildge-
sicht») изображалось бы так:
Во многих отношениях я воспринимаю его как чело-
веческое лицо. Я могу изучать его выражение, реагиро-
вать на него как на выражение человеческого лица. Ре-
бенок может разговаривать с человеком-картиной или
животным-картиной, обращаться с ними как с куклами.
З-У-голову можно сначала воспринимать просто как
зайца-картинку. Так, если бы меня спросили: «Что это
такое?», «Что ты здесь видишь?», — я бы ответил:
«Изображение зайца». Если бы меня продолжали спра-
шивать: что это такое, — то в качестве пояснения я со-
слался бы на многочисленные изображения зайцев,
аазмажка s указал бы ча налтаяадк заич^-в. , шуавеж бы
известные мне сведения о жизни этих зверей либо же
воспроизвел какого-нибудь зайца.
На вопрос «Что ты здесь видишь?» я не ответил бы:
«Сейчас вижу это как зайца-картинку».
Я просто описал бы свое восприятие; точно так же,
как если бы я сказал: «Я вижу там красный круг».
Тем не менее кто-то другой мог бы обо мне сказать:
«Эта фигура ему видится как заяц-картинка».
Сказать «Я вижу это сейчас как...» имело бы для
меня столь же мало смысла, как сказать, глядя на нож и
вилку: «Я вижу это сейчас как нож и вилку». Это выс-
казывание было бы столь же непонятно, как и такое:
495
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Это теперь для меня вилка» или же «Это может быть и
вилкой».
То, что известно как столовый прибор, человек не
«принимает» за столовый прибор, так же как за едой
не прилагает обычно особых усилий к тому, чтобы дви-
гать ртом, и не наблюдает за его движением.
Человека, заявляющего: «Теперь это для меня
лицо», можно спросить: «На какое изменение ты здесь
намекаешь?»
Я вижу две картины. На одной из них З-У-голова в
окружении зайцев, на другой — уток. Я не замечаю,
что это одна и та же картина. Следует ли из этого, что
в этих двух случаях я вижу нечто разное? Есть некото-
рое основание употребить здесь это выражение.
«Я видел это совсем иначе, я бы никогда не узнал
этого!» Ну, это всего лишь восклицание. И для него
тоже есть свое оправдание.
Мне бы никогда не пришло в голову вот так нало-
жить эти фигуры друг на друга, сравнить их таким об-
разом. Ибо они внушают нам другой способ сравнения.
Голова, увиденная так, не имеет ведь ни малей-
шего сходства с головой, увиденной этак, — хотя
они и совпадают.
Мне показывают зайца-картинку и спрашивают, что
это такое. Я говорю: «Это 3», а не «Теперь это 3». Я со-
общаю о своем восприятии. Мне показывают З-У-голову
и спрашивают, что это такое. Здесь я могу сказать: «Это
З-У-голова». Но я могу реагировать на вопрос и совсем
иначе. Ответ: это З-У-голова — опять-таки сообщение о
восприятии; ответ же «Теперь это 3» таковым не являет-
ся. Скажи я: «Это заяц», я избежал бы всякой двой-
ственности и просто сообщил бы о своем восприятии.
Изменение аспекта. «Но ты бы все же сказал, что
картина теперь совершенно иная!»
А что изменилось: мое впечатление, моя точка зре-
ния? Можно ли так сказать? Я описываю изменение
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
496
как некое восприятие, как если бы предмет изменился
у меня на глазах.
«Да, теперь я вижу это», — мог бы я сказать (пока-
зывая, например, на другое изображение). Это форма
сообщения о каком-то новом восприятии.
Выражение смены аспекта — это одновременное
выражение нового восприятия вместе с неизменным
восприятием.
Внезапно я вижу решение картины-загадки. Там,
где раньше были ветви дерева, теперь проступила чело-
веческая фигура. Мое визуальное впечатление измени-
лось, и я знаю теперь, что оно охватывает не только
цвет и форму, но и вполне определенную «организа-
цию». Изменилось мое визуальное восприятие; а каким
оно было ранее и каково оно теперь? Если я представлю
его в виде точной копии — а разве это нельзя назвать
хорошим представлением? — то я не смогу обнаружить
никаких изменений.
И все же не говори: «Мое визуальное впечатление
вовсе не рисунок,} оно есть то, что я никому не могу по-
казать». Конечно, оно не рисунок, но оно не принадле-
жит и к категории лишь того, что я ношу в себе.
Понятие «внутренней картины» вводит в заблужде-
ние, ибо моделью этого понятия является «внешняя
картина»; и все же употребления этих слов-понятий не
ближе друг другу, чем употребления слов «цифра» и
«число». (И пожелай кто-либо назвать число «идеаль-
ной цифрой», он пришел бы тем самым к аналогичному
заблуждению.)
Тот, кто ставит «организацию» зрительного впечат-
ления в один ряд с цветом и формой, движим представ-
лением о зрительном впечатлении как некоем внутрен-
нем объекте. Конечно, тем самым объект становится
просто химерой, странным, неустойчивым образовани-
ем. Ибо сходство с картиной теперь расшатано.
497
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Зная, что схема кубика имеет различные аспекты, и
желая выяснить, как видит их другой, я могу, кроме ко-
пии, заставить его сделать также модель увиденного
или же указать на некую модель; даже если он совсем
не догадывается, с какой целью я требую от него двух
объяснений.
Но иное дело — изменение аспекта. То, что прежде,
при копировании, могло казаться ненужным уточнени-
ем или даже было таковым, здесь служит единственно
возможным выражением нашего впечатления.
И уже одно это снимает вопрос о сравнении «ор-
ганизации» с цветом и очертанием в зрительном вос-
приятии.
Так, видя З-У-голову как 3, я видел эти очертания и
цвета (я с точностью воспроизвожу их), — но, кроме
того, я еще видел нечто вот такое: при этом указываю
на множество различных изображений зайцев. Это по-
казывает разницу понятий.
«Видение как...» не принадлежит восприятию. А по-
тому оно похоже и вместе с тем не похоже на видение.
Я смотрю на животное; меня спрашивают: «Что ты
видишь?» Я отвечаю: «Зайца». Я разглядываю мест-
ность; внезапно мимо пробегает заяц. Я восклицаю:
«Заяц!»
Обе фразы: и сообщение [об увиденном], и воскли-
цание — выражение восприятия и зрительного впечат-
ления (Seherlebniss). Но восклицание служит таким
выражением в ином смысле, чем сообщение. Оно как
бы вырывается у нас. Оно относится к впечатлению, по-
добно тому как крик — к боли.
Но поскольку оно служит описанием некоего вос-
приятия, его можно назвать и выражением мысли. Рас-
сматривая предмет, необязательно думать о нем; пере-
живая же зрительное впечатление, выраженное в вос-
клицании, вместе с тем и думают о том, что видится.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
498
И потому «уяснение аспекта* оказывается для нас
наполовину визуальным опытом, наполовину мыслью.
Кто-то вдруг видит неизвестное ему явление (это
может быть хорошо знакомый предмет, но в необычном
ракурсе или освещении); неузнавание предмета, воз-
можно, длится лишь секунды. Правомерно ли утверж-
дать, что у этого человека было другое зрительное пере-
живание, чем у того, кто сразу же узнал предмет?
Разве тот, перед кем внезапно возник неизвестный
ему предмет, может столь же точно описать его вид,
как и я, знакомый с ним? А разве это не ответ? Вообще,
это, конечно, не будет ответом. И его описание и зву-
чать будет совершенно иначе. (Я, например, скажу:
«У животного были длинные уши* — он: «Там было два
длинных отростка* — и затем нарисует их.)
Я встречаю кого-то, кого не видел годы; я ясно вижу
его, но не узнаю. Внезапно узнав его, я вижу в изменив-
шемся лице его прежние черты. Полагаю, умей я рисо-
вать, я сейчас сделал бы его портрет иначе, чем прежде.
Ну а если я узнаю в толпе моего знакомого, возмож-
но, после того как долго смотрел в его сторону, сталки-
ваюсь ли я здесь со случаем особого видения? Видения
и мышления? Или же со сплавом обоих, как я почти го-
тов сказать?
Вопрос в том, почему хотят сказать именно это?
То же самое выражение, которое было сообще-
нием об увиденном, становится теперь возгласом уз-
навания.
Что служит критерием зрительного переживания?
Что должно быть критерием?
Изображение того, что «увидели».
Понятие изображения увиденного, равно как ко-
пии, а вместе с ним и понятие увиденного очень растя-
жимо. Оба они внутренне связаны друг с другом. (Но
это не значит, что они аналогичны.)
499
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как замечают, что люди видят объемно? Я спраши-
ваю кого-то о характере той местности, которую он обо-
зревает. Она простирается туда? (Я показываю рукой.)
«Да» — «А откуда ты это знаешь?» — «Сейчас нет ту-
мана, я вижу ее отчетливо». Это не может служить ос-
нованием для подобного предположения. Единствен-
ное, что для нас естественно, — это пространственно
представлять себе увиденное, тогда как для двумерного
изображения, на рисунке или на словах, требуется осо-
бая тренировка, специальное обучение. (Своеобразие
детских рисунков.)
Допустим, кто-то видит улыбку, не воспринимая ее
как улыбку, принимая ее за что-то другое. Видит ли он
ее иначе, чем человек, понимающий, что это улыбка?
Например, он ее иначе копирует.
Переверни изображение лица, и ты не сможешь уз-
нать его выражение. Пожалуй, ты сможешь увидеть, что
оно улыбается, но не в состоянии будешь определить,
как оно улыбается. Ты не сможешь воспроизвести эту
улыбку или более точно описать ее характер.
И вместе с тем перевернутое изображение лица че-
ловека можно представлять себе достаточно точно.
Фигура а)
— это перевернутая фигура b)
Как и запись с)
есть перевернутая запись d) ffi'r&uxjg
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 500
Но я бы сказал, что различие моих впечатлений от с
и d имеет иной характер, чем различие впечатлений от
а и Ь. Скажем, d выглядит более упорядоченным, чем с.
(Смотри замечание Льюиса Кэрролла.) Фигуру d копи-
ровать легче, с — труднее.
Представь себе, что З-У-голова спрятана в пучке ли-
ний. Внезапно я замечаю в этом пучке изображение,
причем просто как голову зайца. Чуть позже я рассмат-
риваю то же изображение, те же линии, но вижу утку,
при этом необязательно понимать, что оба раза это были
те же самые линии. Пусть в дальнейшем я все же замечу
изменение аспекта — смогу ли я утверждать, что аспект
3 и аспект У выглядят теперь совершенно иначе, чем ко-
гда я узнавал их порознь в хаосе линий? Нет.
Но смена аспектов вызывает удивление, которое не
возникает при узнавании.
Кто в фигуре (1) ищет другую фигуру (2) и затем на-
ходит ее, тот в результате видит (1) по-новому. Он не
только может дать новый вид ее описания, но то, что он
заметил другую фигуру, было новым визуальным пере-
живанием.
Но вовсе необязательно у него возникло бы жела-
ние сказать: «Фигура (1) выглядит совершенно иначе; у
нее нет ничего общего с первой, хотя она с ней и конг-
руэнтна I»
Здесь существует бесконечное множество род-
ственных друг другу явлений и возможных понятий.
Стало быть, копия фигуры— неполное описание
моего визуального переживания? Нет. В зависимости
от обстоятельств решается, необходимы ли, и если да,
то какие именно дополнительные уточнения. Копия мо-
жет быть неполным описанием, если какой-то вопрос
оставлен без внимания.
Конечно, можно сказать: Имеются определенные
вещи, равным образом подпадающие как под понятие
501
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«изображение зайца», так и под понятие «изображение
утки». И одной из таких вещей является картинка, ри-
сунок. Впечатление же не является одновременно впе-
чатлением и от изображения утки, и от изображения
зайца.
«Но то, что я собственно вижу, должно быть тем,
что возникает во мне как результат воздействия объек-
та». Значит, то, что во мне возникает, — своего рода
отображение, нечто такое, что человек может вновь
рассматривать, может иметь перед собой; что-то едва
ли не равноценное материализации.
Причем эта материализация — нечто простран-
ственное и позволяет себя полностью описать в про-
странственных терминах. Она (если она — лицо) мо-
жет, например, улыбаться, однако понятие приветливо-
сти не принадлежит изображению лица, оно ему чуждо
(при том, что оно может ему подходить).
Если ты спросишь меня, что я увидел, то я, пожа-
луй, смогу набросать некий эскиз, который это пока-
жет; но обо всех блужданиях моего взгляда я по боль-
шей части вообще не вспомню.
Понятие «видеть» представляется смутным. Да оно
такое и есть. Я всматриваюсь в ландшафт. Мой взгляд
скользит по нему, я вижу разного рода отчетливое и не-
отчетливое движение. Это запечатлевается мною чет-
ко, то — лишь совершенно расплывчато. Сколь разроз-
ненным может казаться нам то, что мы видим! А теперь
рассмотри то, что называют «описание увиденного»! Но
это и есть то, что называют описанием увиденного. Не
существует одного подлинного, правильного случая
такого описания — так чтобы остальные были неточны-
ми, такими, что ждут прояснения или же могут быть
просто отброшены как отходы.
Здесь нас поджидает чудовищная опасность: стремле-
ние провести тонкие разграничения. Аналогично обстоит
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
502
дело, когда пытаются определить понятие физического
тела в терминах «того, что действительно увидели».
Куда предпочтительнее принять повседневную языко-
вую игру, пометив связанные с этим ложные представ-
ления как ложные. Примитивная языковая игра, кото-
рой обучены дети, не требует оправдания; следует оста-
вить все попытки ее оправдания.
Рассмотрим в качестве примера аспекты треуголь-
ника. Треугольник может рассматриваться в качестве
треугольного отверстия, как тело, как геометрическая
фигура, как стоящий на основании, как подвешенный
за вершину, как гора, илн клин, как жало, или указа-
тель, как перевернутое тело, которому (например) сле-
довало бы стоять на меньшем катете, как половина па-
раллелограмма и многими другими способами.
«Причем ты можешь думать то об этом, то о том,
рассматривать его то в качестве одного, то в качестве
другого, видеть его то так, то этак». Как именно? Ка-
кого-то дополнительного предписания не существует.
Но как возможно, что человек видит вещь сообраз-
но некоторой интерпретации? В свете данного вопро-
са это предстает как весьма странный факт; словно бы
нечто насильственно втискивали в форму, совершенно
не соответствующую ему. Однако здесь не наблюдается
никакого давления илн принуждения.
Если нам кажется, что для некоторой формы нет ме-
ста среди других форм, то это место нужно искать в
другом измерении. Коли тут для нее места нет, оно есть
в каком-то ином измерении.
S03
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(В этом смысле в ряду действительных чисел нет
места для мнимых чисел. И это означает, что примене-
ние понятия мнимого числа отличается от применения
понятия действительного числа в большей мере, чем яв-
ствует из облика исчислений. Нужно обратиться к при-
менению, н тогда данное понятие обретает, скажем так,
свое иное, неожиданное место.)
Как понимать такое разъяснение: «Нечто можно
рассматривать как то, по отношению к чему оно способ-
но быть картиной»?
Это означает следующее: некоторые из меняющих-
ся аспектов таковы, что при соответствующих обстоя-
тельствах могли бы стать постоянной принадлежнос-
тью фигуры в той или иной картине.
Треугольник действительно может стоять в одной
картине, представляться стоящим, в другой — быть
подвешенным, в третьей — откуда-то упавшим. Причем
представляться так реально, что, глядя на картину, не
скажешь: «Здесь, пожалуй, изображено что-то упав-
шее», а заявишь: «Стекло упало н разбилось вдребез-
ги». Так мы реагируем на картину.
Можно ли сказать, какой должна быть картина,
чтобы вызывать такое впечатление? Нет. Существуют,
например, стили живописи, которые мне непосред-
ственным образом ни о чем не говорят, на других же
людей оказывают прямое воздействие. Я думаю, что в
этом сказываются привычки и воспитание.
Ну что значит видеть на картине «парящий в воз-
духе* шар?
Не в том ли дело, что такое описание представляет-
ся мне самым легким, самым очевидным? Нет, здесь мо-
гут быть весьма различные основания. Например, По-
добное описание может быть просто общепринятым.
А в чем выражается то, что я, скажем, ие только оп-
ределенным образом понимаю картину (знаю, что она
должна изображать), но и вижу ее таким образом? Это
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
504
находит выражение в словах: «Сфера кажется паря-
щей», «Видно, что она парнт» — или же в их особой то-
нальности: «Она парит!»
Так и выражаются в тех случаях, когда что-то одно
принимают за другое. А не применяют само по себе как
таковое.
Мы здесь не задаемся вопросом, каковы причины
этого явления и что в данном конкретном случае поро-
дило это впечатление.
А является ли это особым впечатлением? «Но я же
действительно вижу нечто иное, когда воспринимаю
шар парящим, а не просто лежащим на земле». Это,
собственно, и означает: данное выражение оправданно!
(Ибо в буквальном смысле это только повторение ска-
занного.)
(И тем не менее мое впечатление не является впе-
чатлением от реально парящего шара. Существуют раз-
личные формы «пространственного видения». Объем-
ность фотографии и трехмерность того, что мы видим
через стереоскоп.)
«А это в самом деле иное впечатление?» Чтобы на
это ответить, я бы спросил себя, действительно ли во
мне происходит нечто другое. Но как можно убедиться
в этом? Я по-иному описываю то, что вижу.
Некоторые рисунки всегда видятся как плоские фи-
гуры, другие иногда — или же всегда — трехмерно.
Здесь можно было бы сказать: визуальное впечатле-
ние объемно увиденного изображения — объемно; ска-
жем, для схемы кубика — это кубик. (Ибо описание
впечатления — это описание кубика.)
И тогда кажется странным, что многие рисунки
производят впечатление плоскостных, многие же ка-
жутся нам трехмерными. Задаешься вопросом: «Где
этому конец?»
Разве — видя картину скачущей лошади — я про-
сто-напросто знаю, что здесь подразумевается этот вид
505 ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
движения? Не предрассудок ли считать, будто на кар-
тине я вижу лошадь скачущей? А мое визуальное впе-
чатление тоже скачет?
Что мне сообщает человек, говоря: «Я вижу это те-
перь как...»? Какие последствия имеет это сообщение?
Что мне можно с ним делать?
Люди часто ассоциируют цвета с гласными звука-
ми. Вполне возможно, что для многих гласный звук, ча-
сто повторяясь, меняет свой цвет. Так, например, ви-
дится а «то синим, то красным».
Высказывание «Я вижу это теперь как...» может оз-
начать для нас всего лишь: «Звук а — сейчас для меня
красный».
(В сочетании с физиологическими наблюдениями и
это изменение могло бы обрести для нас некоторую
значимость.)
В связи с этим мне приходит на ум, что в разговорах
на эстетические темы употребляются такие выраже-
ния: «Ты должен смотреть на это так, ибо так это было
задумано»; «Видя это таким образом, ты замечаешь, в
чем заключается ошибка»; «В этих тактах ты должен
слышать прелюдию»; «Тебе нужно вслушаться в эту то-
нальность», «Ты должен выразить это так» (и это может
относиться как к прослушиванию, так и к исполнению
произведения).
Рисунок должен изображать выпуклую ступень и
применяться для демонстрации определенных простран-
ственных явлений. С этой целью мы проводим прямую
линию а через геометрические центры обеих плоско-
стей. Ну а если бы кто-то лишь в какой-то момент видел
данную фигуру как объемную и при этом воспринимал
ее то как вогнутую, то как выпуклую ступень, ему было
бы довольно трудно следить за нашей демонстрацией.
И поскольку для него плоский аспект чередовался бы с
объемным, то как бы получалось, будто я по ходу опыта
показываю ему совершенно разные предметы.
ЛОДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
506
Рассматривая чертеж в начертательной геометрии,
я говорю: «Я знаю, что здесь опять обнаруживается эта
линия, но я не могу ее видеть таким образом». Что это
означает? Всего лишь отсутствие у меня навыков рабо-
ты с чертежами, недостаточное умение разбираться в
Них? Да, такой навык, конечно, служит одним из наших
критериев. Что убеждает нас в пространственном виде-
нии чертежей — так это известная способность к быст-
рой ориентировке. Например, определенные жесты,
указывающие на пространственные отношения: тонкие
оттенки поведения.
Я вижу, что на картине стрела пронзает животное.
Она прошла через горло и торчит из затылка. Карти-
на — силуэт. Видишь ли ты стрелу, или же ты просто
знаешь, что обе видимые части должны представлять
стрелу?
(Представь себе для сравнения рисунок Кёлера с
изображением взаимопроникающих шестиугольников.)
«Но это же вовсе не видение^ «И все-таки это не-
кое видение!» Оба высказывания должны допускать
концептуальное обоснование.
И тем не менее это — видение! Но в какой мере это
видение?
«Данное явление на первый взгляд удивительно, но,
конечно, будет найдено его физиологическое объясне-
ние».
Наша проблема не каузального, а понятийного ха-
рактера.
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
507
Если бы мне лишь на одно мгновение показали
изображение животного, пронзенного стрелой, или
проникающих друг в друга шестиугольников, и после
этого я должен был бы их описать, то это и было бы
моим описанием; если бы я должен был их нарисовать,
то, несомненно, это была бы очень плохая копия, но она
изображала бы животное, пронзенное стрелой, или два
взаимопроникающих шестиугольника. То есть некото-
рых ошибок я бы не сделал.
Первое, что в этом изображении мне бросается в
глаза: здесь два шестиугольника.
Вот я начинаю их рассматривать и спрашиваю себя:
«Действительно ли я вижу их как шестиугольники?» —
и происходит ли это в течение всего того времени, что
они находятся у меня перед глазами? (Предполагается,
что их аспект при этом не менялся.) Я был бы склонен
ответить: «Я не все это время думал о них как о шести-
угольниках».
Кто-то говорит мне: «Я тотчас же увидел в них два
шестиугольника. И это было все, что я увидел». Но
как мне понять это? Полагаю, на вопрос «Что ты ви-
дишь?» он не задумываясь дал бы это описание, не от-
носясь к нему лишь как к одному из многих возмож-
ных. И в этом его описание сходно с ответом «Лицо»,
который бы он тотчас дал мне, покажи я ему фигуру и
спроси: «Что это такое?»
Лучшее описание, которое я могу дать тому, что
мне было показано лишь на миг, таково'.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 50S
«Это впечатление было впечатлением от встав-
шего на дыбы животного». Так возникает вполне оп-
ределенное описание. Было ли оно видением или же
мыслью?
Не пытайся анализировать это переживание в себе
самом!
Конечно же, я мог бы сначала увидеть в этом рисун-
ке и нечто совсем иное, а затем сказать себе: «Да ведь
это два шестиугольника!» Так изменился бы аспект.
А доказывает ли это, что я действительно видел это как
нечто определенное?
«Является ли это настоящим зрительным пережи-
ванием?» Вопрос вот в чем: в каком смысле оно являет-
ся одним?
Здесь трудно увидеть, что проблема состоит в оп-
ределении понятия.
Понятие оказывает иа иас свое действие. (Об этом
не следует забывать.)
В каком случае я бы назвал это просто знанием, а
не видением? Пожалуй, в том случае, когда с изобра-
жением обращаются как с техническим чертежом,
читают его, как светокопию. (Тонкие оттенки пове-
дения. Почему они важны? Они имеют важные по-
«Для меня это — животное, пронзенное стрелой».
Так я это толкую; такова моя точка зрения иа эту фи-
гуру. Это одно из значений того, что мы называем «ви-
дением».
Но можно ли в том же (или пусть не в том же, а в
сходном) смысле сказать: «Это для меня два шести-
угольника»?
Ты должен думать о той роли, какую играют в на-
шей жизни изображения, носящие характер живопис-
ных полотен (в отличие от технических чертежей).
Здесь вовсе нет никакого однообразия.
S09
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнения: стены иногда украшают изречения-
ми, но не теоремами механики. (Наше отношение к тем
и к другим.)
От того, кто видит в этом рисунке [такое] животное,
я буду ожидать совсем иного, чем от того, кто просто
знает, что оно должно изображать.
Пожалуй, удачнее здесь было бы такое выражение:
мы рассматриваем фотографию, картину у нас на стене,
как сам изображенный на ней объект (человека, пей-
заж и т. д.).
Но это необязательно. Мы легко можем себе пред-
ставить людей, у которых нет такого отношения к изоб-
ражениям. Людей, например, которых фотографии от-
талкивают, так как лица, лишенные красок, да к тому
же воспроизведенные в уменьшенном масштабе, пред-
ставляются им нечеловеческими.
Говорят: «Мы воспринимаем портрет как челове-
ка», — когда и как долго мы это делаем? Всегда ли, ко-
гда мы вообще видим его (а, скажем, не видим его как
что-то другое)?
Я мог бы это подтвердить, определив тем самым по-
нятие рассматривания. В этой связи возникает вопрос
о важности для нас и другого родственного понятия, а
тимнннъ’гакгвидениъ —пгриелглемигъ ’лишв’ъо'слф'нучъ-
ях, когда в картине меня занимает предмет (на ней
изображенный).
Я мог бы сказать: картина, пока я смотрю на нее, не
все время является для меня живой.
«Ее портрет улыбается мне со стены». Но это необя-
зательно происходит всякий раз, как только мой взор
упадет на картину.
З-У-голова. Спрашивается: как получается, что
глаз, эта точка, смотрит в том или ином направлении?
Погляди, как он смотрит] (А «смотрит» при этом сам
человек.) Но человек не говорит и не делает этого все
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
510
время, пока рассматривает картину. Так что же значат
слова «Погляди, как он смотрит!» — разве это ие выра-
жение впечатления?
(Приводя эти примеры, я не стремлюсь представить
проблему во всей полноте, равно как и не пытаюсь дать
классификацию психологических понятий. Моя
цель — помочь читателю ориентироваться в концепту-
альных неясностях.)
Слова «Вот сейчас я вижу это как...» близки по
смыслу словам «Я пытаюсь это видеть как...» или «Я
еще не способен видеть это как...». Но я не могу пытать-
ся видеть привычное изображение льва как. льва, как
не могу пытаться видеть F именно как эту букву. (Хотя
вполне могу, например, увидеть ее как виселицу.)
Не спрашивай себя: «Как это происходит со лшой?»
Спрашивай: «Что я знаю о другом?»
Как же играют тогда в игру: «Это могло бы быть и
тем-то (То, чем фигура могла бы быть, кроме того — в
качестве чего еще ее можно было бы рассматривать —
это не просто другая фигура. Тот, кто говорит: «Я вижу
как ^"\^», мог бы иметь в виду при этом самые
разные вещи.)
Дети играют, к примеру, в такую игру. Они заявля-
ют, что ящик — это теперь дом; и вот они соответствен-
но толкуют все его элементы, вкладывая в это всю свою
изобретательность.
А видит ли теперь ребенок ящик как дом?
«Он совершенно забывает, что это ящик; для него
это действительно дом». (На это указывают определен-:
ные признаки.) А не вернее было бы в таком случае и
говорить, что он видит ящик как дом?
Так вот, тот, кто умел бы так играть и в определен-
ных ситуациях с особым выражением восклицал: «Те-
перь это дом!» — выражал бы этим вновь высвеченный
аспект.
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Услышь я, что кто-то рассуждет о З-У-изображении
и сейчас определенно высказался об особом выраже-
нии заячьей морды, я сказал бы, что сейчас он видит
это изображение как зайца.
Но выражение его голоса и жесты таковы, как если
бы изменялся, становясь то тем, то этим, сам объект.
Мне могут повторять одну и ту же мелодию, каж-,
дый раз проигрывая ее во все более замедленном темпе.
Наконец я говорю: «Вот теперь все верно» или «Теперь
наконец-то это марш», «Теперь наконец-то это танец».
И в самой эдгой тональности уже выражается высвечи-
вание аспекта. «Тонкие оттенки поведения».
Мое понимание музыкальной темы выражается в
том, что я насвистываю ее с правильным выражени-
ем, — вот один нз примеров таких тонких оттенков.
Аспекты треугольника: тут представление как бы
соприкоснулось с визуальным впечатлением н какое-то
время оставались в контакте с ними.
Но в этом особенность таких аспектов в отлнчие от
аспектов иного рода — скажем, выпуклого и вогнутого
аспектов ступени или же от аспектов вот такой фигуры
с1 белым крестом на черном фоне или же черным крестом
на белом фоне (я буду называть ее «двойным крестом»).
Ты должен помнить, что описание сменяющих друг
друга аспектов в каждом случае имеет разный характер.
(Возникает искушение сказать: «Я вижу это таким
образом», причем слова «это» и «таким» указывают на
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
512
одно и то же.) От идеи «приватного объекта* всегда из-
бавляются так: допусти, что он непрерывно изменяет-
ся, но ты этого не замечаешь, так как твоя память по-
стоянно обманывает тебя.
О двух аспектах двойного креста (я буду их назы-
вать аспектами А) можно было бы сообщить, например,
указывая раздельно то на белый, то на черный крест.
Вполне можно было бы представить себе это как про-
стейшую реакцию ребенка, еще даже не умеющего го-
ворить.
(То есть прн сообщении об аспектах А указывают
на часть двойного креста. Аспекты 3 и У нельзя описать
аналогичным образом.)
Ты «видишь аспекты 3 н У», если только уже осве-
домлен о формах обоих этих животных. Для видения
аспектов А подобного условия не существует.
З-У-голову можно просто принять за картинку зай-
ца, двойной крест — за изображение черного креста, но
я не способен принять просто треугольную фигуру за
картину опрокинутого предмета. Чтобы увидеть этот
аспект треугольника, нужна сила воображения (Vors-
tellugs kraft).
Аспекты А, по существу, не являются трехмерны-
ми; черный крест на белом, по сути, не является крес-
том, для которого белая поверхность служит фоном. Ты
мог бы пояснить кому-нибудь понятие черного креста
на фоне другого цвета, не показывая ему ничего иного,
кроме крестов, нарисованных иа листах бумаги. «Фон»
выступает здесь просто окружением фигуры креста.
Аспекты А связаны с возможной иллюзией иначе,
чем пространственные аспекты рисунка куба нли же
ступени.
Я могу рассматривать схему-куб как коробку; но
можно ли также рассматривать ее то как бумажную, то
513
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
как жестяную коробку? Что я должен сказать тому, кто
уверяет, что он способен на это? Я могу здесь устано-
вить некую границу понятия.
А подумай о выражении «чувствовать* в связи с
рассматриванием картины. («Чувствуется мягкость
этого материала*.) (Знание во сне. «И я знал, что ...
был в комнате*.)
Как учат ребенка (например, при счете): «Теперь
объедини вместе эти предметы* илн «Сейчас они со-
ставляют совокупность»? Очевидно, что «объединять
вместе» или «составлять совокупность» первоначально
имело для него иное значение, чем значение видеть не-
что тем нли иным образом. И это замечание о понятии,
а не о методах обучения.
Один тип аспекта можно назвать «аспектами орга-
низации». С изменением аспекта соединяются дотоле
разрозненные части картины.
В треугольнике в настоящий момент это можно ви-
деть как вершину, это — как основание, а в следующий
момент это — как основание, а то — как вершину.
Ясно, что ученику, который только что познакомился с
понятиями вершины и основания, слова «Сейчас я внжу
это как вершину» еще ничего не скажут. Однако я мыс-
лю это не в качестве эмпирического высказывания.
Лишь о том, кто способен с легкостью применять
определенную фигуру, возможно сказать, что он видит
это то так, то этак.
Основа этого опыта (Erlebnis) — освоение техники.
Как странно, однако, что это должно быть логиче-
ским условием того, что некто переживает то-то. Од-
нако ты не говоришь, что «зубы болят» лишь у того, кто
в состоянии делать то-то. Отсюда следует, что здесь мы
не можем иметь дело с самим понятием переживания.
Речь идет о другом, хотя н родственном понятии.
17 Языки как образ мира
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
514
Лишь о том, кто умеет, выучил, освоил то-то и то-
то, имеет смысл говорить, что он обладает этим пере-
живанием.
А если это звучит нелепо, ты должен вспомнить,
что понятие видения здесь модифицировано. (Подоб-
ные же соображения часто необходимы для того, что-
бы изгнать чувство головокружения в математике.)
Мы говорим, произносим слова и только позднее
получаем какую-то картину их жизни.
Ибо как бы я мог увидеть, что эта поза выражает
нерешительность, прежде чем узнал, что это именно
поза, а не анатомические особенности строения этого
существа?
А не означает ли это всего лишь, что данное поня-
тие, относящееся не только к визуальным объектам,
в данном случае неприменимо для описания видимо-
го? Разве я совсем не хочу иметь чисто визуального
понятия нерешительного поведения, испуганного
лица?
Такое понятие можно было бы сравнить с понятия-
ми «мажора» и «минора», имеющими, конечно, эмоцио-
нальную окраску, но применимыми и просто для описа-
ния воспринятой структуры.
Эпитет «печальный» применительно, скажем, к гра-
фическому изображению человеческого лица характе-
ризует группировку линий в овале. В применении к че-
ловеку он имеет другое (хотя и родственное с первым)
значение. (Но это не значит, что печальное выражение
лица подобно чувству печали!)
Обдумай и вот что: красное и зеленое я могу только
видеть, но не слышать, печаль же, в известной мере,
могу как видеть, так слышать.
Подумай-ка над выражением «Я слышал печальную
мелодию»! И над вопросом: «Слышит ли он печаль?»
S15 ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И если бы я ответил: «Нет, он ее не слышит, он
лишь чувствует ее» — что толку из того? Невозможно
даже указать орган чувств для этого «переживания». .
Кое-кто здесь был бы склонен ответить: «Конечно, я
слышал: это печаль!» Другие же: «Да нет, непосред-
ственно я этого не слышал».
Но это позволяет установить различие понятий.
Мы реагируем на выражение лица иначе, чем тот,
кто не воспринимает его как испуганное (в полном
смысле слова). Но этим я вовсе не хочу сказать, будто
мы ощущаем эту реакцию мускулами и суставами, и
что это и есть «ощущение». Нет, в данном случае мы
имеем дело с модифицированным понятием ощу-
щения.
О каком-то человеке можно было бы сказать: он
слеп к выражению лица. Но разве это означало бы не-
полноценность его зрения?
Конечно, это не просто вопрос физиологии. Физио-
логическое здесь символ логического.
А что воспринимает тот, кто чувствует серьезность
мелодии? Ничего, что можно было бы передать путем
воспроизведения услышанного.
Некий произвольный письменный знак — скажем,
такого вида — я могу представить себе как вполне
правильно написанную букву какого-то неизвестного
мне алфавита. Или же это могла быть буква, написан-
ная неверно, с тем или иным искажением: скажем, раз-
машисто, по-детски неумело или же с бюрократически-
ми завитушками. Возможны многообразные отклоне-
ния от правильного написания. Так, окружив ее тем
или иным вымыслом, я могу видеть ее в различных ас-
пектах. И тут есть тесное родство с «переживанием зна-
чения слова».
17*
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
51Б
Я бы сказал: то, что здесь высвечивается, удержи-
вается столько, сколько длится особое рассмотрение
объекта. («Погляди, как он смотрит!») «Я бы ска-
зал», — а так ли это? Задай себе вопрос: «Как долго
меня что-то удивляет?» Как долго оно ново для меня?
В аспекте появляется, а потом исчезает какая-то
физиономия; это весьма походило бы на то, как при вос-
приятии чьего-то лица его бы сперва имитировали, а
после принимали как есть, уже без имитации. И разве
по сути это не является достаточным объяснением? Од-
нако не слишком ли много оно объясняет?
«Я уловил сходство между ним и его отцом на пару
минут, не больше». Так можно было бы сказать, если
бы лицо сына изменилось и иа какое-то короткое время
стало похоже на лицо его отца. Но это может означать
и то, что через пару минут их сходство перестало зани-
мать мое внимание.
«После того как тебя поразило их сходство, как дол-
го ты его осознавал?» Как можно было бы ответить на
этот вопрос? «Я скоро перестал о нем думать», или
«Оно снова время от времени бросается мне в глаза»,
нли же «Мысль о том, как они похожи, несколько раз
приходила мне в голову», или же «Их сходство изумля-
ло меня не меньше минуты». Приблизительно так вы-
глядят ответы.
Нельзя ли поставить вопрос: «Осведомлен ли я об
объемности, глубине, предмета (например, этого шка-
фа) все то время, что внжу его?» Чувствую ли я ее,
так сказать, все время? Сформулируй-ка этот вопрос
в третьем лице. В каком случае ты сказал бы о ком-то,
что он осведомлен об этом постоянно, а в каком слу-
чае — противоположное? Конечно, можно было бы
спросить его самого, — но как он научился отвечать
иа такие вопросы? Он знает, что значит «непрерывно
ощущать боль». Но в данном случае такое знание
517
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
только запутает его (как оно вводит в заблуждение и
меня).
Ну а если он говорит, что непрерывно отдает себе
отчет о глубине, — верю ли я ему в этом? А если он го-
ворит, что осознает ее лишь время от времени (скажем,
когда он о ней говорит), — верю ли я ему и в этом?
Мне покажется, что его ответы исходят из ложных ос-
нований. Другое дело, если он скажет, что объект пред-
ставляется ему то плоским, то объемным.
Кто-то рассказывает мне: «Я смотрел иа цветок, ду-
мая о чем-то другом, и не осознавал его цвет». Понимаю
ли я его слова? Я могу придумать для них какой-то ос-
мысленный контекст; например, продолжить его выска-
зывание так: «Затем я вдруг увидел его н осознал, что
это именно тот цветок, который...»
Или же: «Если бы я в тот момент отвернулся, я не
смог бы сказать, какого он цвета».
«Он смотрел на это, не видя его». Так бывает. Но ка-
ков критерий этого? Здесь возможны различные слу-
чаи.
«Я смотрел сейчас не столько на форму, сколько на
цвет». Не позволяй только запутывать себя такими обо-
ротами речи. Прежде всего не размышляй над тем, «что
могло происходить при этом в глазах или в мозгу?»
Сходство бросается мне в глаза, н затем это впечат-
ление блекнет.
Это бросилось мне в глаза всего на несколько ми-
нут, а затем исчезло.
Что здесь произошло? Что могу я припомнить? Мне
приходит на ум мое собственное выражение лица, я мог
бы его воспроизвести. Если бы кто-то, знающий меня,
увидел в тот момент мое лицо, он сказал бы: «Тебя что-то
поразило только что в его лице». Далее ко мне приходит
то, что я говорю в таких обстоятельствах, громко либо
про себя. И все. Так это и есть [состояние] удивления?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН 51В
Нет, Это его лроявления. Но эти проявления и суть то,
«что происходит».
Видение + мышление — не из этого ли складывает-
ся удивление? Нет. Здесь пересекаются многие из на-
ших понятий.
(«Мыслить» и «говорить про себя» — я не сказал
«говорить с самим собой» — это разные понятия.)
Цвету объекта соответствует зрительное восприя-
тие цвета (эта копировальная бумага кажется мне розо-
вой, и она действительно розовая), форме объекта —
зрительное восприятие формы (это представляется мне
прямоугольником н является прямоугольником), — но
при высвечивании того или иного аспекта я восприни-
маю не некое свойство объекта, а внутреннее отноше-
ние между ним и другими объектами.
Происходит почти то же самое, что с «видением
знака в данном контексте», — видением, являющимся
как бы эхом мысли.
«Отзвуком той или иной мысли во взгляде», можно
сказать.
Представь себе какое-нибудь физиологическое
объяснение переживания. Пусть оно будет таким: ко-
гда мы рассматриваем фигуру, наш взгляд вновь и
вновь очерчивает свой объект, следуя по определенно-
му пути. Этот путь соответствует особой форме колеба-
ний глазного яблока в процессе видения. Возможен
скачкообразный переход одной формы движения в дру-
гую и попеременная их смена друг другом (аспекты А).
Некоторые формы движения физиологически невоз-
можны. Поэтому я, например, не могу видеть схему
куба как две взаимопроникающие друг в друга призмы.
И так далее. Примем это за объяснение. «Да, теперь я
знаю, что это один из видов зрения». Ты ввел сейчас но-
вый, физиологический критерии видения. Но это мо-
S19
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
жет лишь замаскировать старую проблему, а не решить
ее. Так ведь целью этих замечаний и было лишь ясно
представить взору то, что происходит, когда нам пред-
лагается некое физиологическое объяснение. Психоло-
гическое понятие оказывается недосягаемым для этого
объяснения. И тем самым природа нашей проблемы
становится более ясной.
Вижу ли я всякий раз действительно нечто другое
илн же я только интерпретирую различными способами
то, что вижу? Я склонен сказать первое. Но почему?
Интерпретация — это мышление, деяние, тогда как ви-
дение — это состояние.
Теперь легко узнать случаи, в которых мы интер-
претируем. Интерпретируя, мы выдвигаем гипотезы,
которые могут оказаться ложными. Высказывание «Эта
фигура мне видится как некий...» в столь же малой сте-
пени (или только в том же смысле) поддается верифи-
кации, что и высказывание «Я вижу сверкающий пур-
пур». Стало быть, существует некоторое сходство упот-
ребления слова Увидеть* в обоих контекстах. Только
не воображай, будто наперед знаешь, что означает
здесь выражение «состояние видения»! Усвой его зна-
чение через употребление.
В связи с видением нам представляются загадочны-
ми какие-то моменты, поскольку видение в целом не ка-
жется нам достаточно загадочным.
От того, кто рассматривает на фотографии людей,
здания, деревья, не ускользает их объемность. Ему было
бы нелегко описать их как сочетание цветных пятен на
плоскости. Но то, что мы видим, глядя в стереоскоп, выг-
лядит объемным по-иному. (Причем отнюдь не самооче-
видно, что мы видим «объемно» («raumlich») двумя гла-
зами. Сливая воедино два зрительных образа, можно
было бы рассчитывать лишь на расплывчатый итог.)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
520
Понятие аспекта родственно понятию представле-
ния. Или же: понятие «Я вижу теперь это как...» род-
ственно понятию «Теперь я представляю себе это».
Не дело ли фантазии, слушать что-то как вариацию
на определенную тему? И все же благодаря этому чело-
век что-то [действительно! воспринимает?
«Представь себе нечто столь изменившимся, что пе-
ред тобой уже как бы другая вещь». Доказательство
можно осуществлять в воображении.
Видение аспекта и представление подчиняются
воле. Это она отдает приказ «Представь себе это1» — а
также «Теперь смотри на эту фигуру так», но не «Те-
перь этот лист зеленый»!
Здесь возникает вопрос, возможно ли было бы су-
ществование людей, лишенных способности видеть
нечто как нечто — и во что бы это вылилось. Какие
бы имело последствия? Был бы такой дефект подобен
цветовой слепоте нли отсутствию абсолютного слуха?
Мы склонны назвать его «слепотой к аспекту» и затем
обдумать, какой смысл можно в это вложить. (Кон-
цептуальное исследование.) Предполагается, что сле-
пой к аспектам не способен видеть смену аспектов А.
Тогда он не должен замечать и того, что двойной
крест заключает в себе черный крест н белый? Так
значит, задача «Покажи мне среди этих фигур те, что
содержат черный крест» была бы для него неразреши-
мой? Нет. Решить такую задачу ему было бы по си-
лам, но он бы не сказал: «Теперь это черный крест на
белом фоне!»
Предполагается ли, что он слеп к сходству двух
лиц? Да и к сходству вообще нли к приблизительному
сходству? Я не хочу этого утверждать. (Он должен
быть способен выполнить приказ такого рода: «Прине-
си мне нечто, имеющее тот же вид, что и это!»)
S21
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Должно быть, он не сможет видеть схему куба как
куб? Из этого не следовало бы, что он не способен
признать в ней изображение (например, рабочий чер-
теж) куба. Но для него аспекты этого куба не меня-
лись бы скачкообразно. Вопрос в том, должен лн он
при некоторых обстоятельствах быть способен счи-
тать изображение кубом, как это делаем мы? Если
нет, то вряд ли можно назвать это слепотой. «Слепой
к аспектам» вообще будет по-иному относиться к изоб-
ражениям, чем мы.
(Аномалии этого рода можно легко себе предста-
вить.)
Слепота к аспектам родственна отсутствию «музы-
кального слуха».
Важность данного понятия заключена во взаимо-
связи понятий «видеть аспект» и «переживать значение
слова». Дело в том, что мы хотим выяснить: «Чего ли-
шен тот, кто не переживает значения слова?»
Чего был бы лишен, например, тот, кто не понимал
бы требования, произнося слово «есть», иметь в виду
глагол, — или же тот, кто не чувствовал бы, что слово,
повторенное десять раз подряд, теряет для наго свое
значение и становится просто звуком?
Вопрос о том, какое значение придавало какому-то
слову некое лицо, мог бы рассматриваться, например, в
ходе судебного разбирательства. И его можно было бы
решить на основе определенных фактов. Таков вопрос
об умысле (Absicht). Но разве мог быть столь же значи-
мым вопрос о том, как это лицо переживало какое-то
слово, скажем, слово «банк»?
Предположим, я договариваюсь с кем-то на шифро-
ванном языке. Слово «башня» означает в нем банк.
Я говорю ему «Иди к башне!» — он понимает меня и
действует соответственно, но слово «башня» в этом его
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
522
употреблении звучит для него странно, он еще не «ус-
воил» его значения,
«При чтении стихотворения или рассказа с выраже-
нием во мне происходит что-то такое, чего не бывает,
если я пробегаю строчки лишь ради содержащейся в
них информации». Какой процесс здесь имеет место?
Предложения звучат иначе. Я тщательно слежу за ин-
тонацией. Иногда произношу слово в неверной тональ-
ности, излишне подчеркивая или же нивелируя его.
Я замечаю ошибку, и это отражается на моем лице. По-
зднее я мог бы сказать о'деталях своего исполнения, на-
пример об ошибках в интонациях. Иногда в моем созна-
нии проплывает картина, своего рода иллюстрация.
Она словно помогает мне читать с правильным выраже-
нием. Здесь можно упомянуть о множестве подобных
средств, Я могу также придать слову звучание, которое
бы выделяло его значение из всего остального, почти
так, как если бы это слово давало картину вещи. (И ко-
нечно, это может быть обусловлено структурой предло-
жения.)
Когда я при выразительном чтении произношу та-
кое слово, оно до краев наполнено своим значением.
«Как такое возможно, если значение это употребление
слова?» Да это же просто образное выражение. Но при
этом я не выбирал образ, он как бы сам навязался мне.
Причем образное употребление слова не может прийти
в конфликт с его первоначальным употреблением.
Почему именно этот образ возник передо мной, по-
жалуй, не так уж сложно объяснить. (Вспомни хотя бы
о выражении «меткое слово» и его значении.)
Но представь мы себе предложение как словесную
картину, а каждое слово в нем — как отдельное изобра-
жение, не столь уж удивительным было бы, что слово,
взятое вне контекста и сказанное без определенной
523
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
цели, кажется как бы несущим в себе самом определен-
ное значение.
Подумай здесь об особом виде иллюзии, проливаю-
щей свет на это обстоятельство. Я прогуливаюсь со сво-
им знакомым в окрестностях города. В разговоре с ним
выясняется, что, по моим представлениям, город лежит
справа от нас. Для этого предположения у меня нет ни-
какого осознанного основания, более того, простое раз-
мышление могло бы убедить меня в том, что город где-то
слева от меня. На его вопрос, почему же тогда я вообра-
зил, будто город лежит в том направлении, я не мог бы
сперва дать никакого ответа. У меня не было основания
так считать, однако, не имея на то оснований, я, по-види-
мому, мог бы все же усмотреть определенные психоло-
гические причины для подобного предположения, со-
славшись на какие-то ассоциации и воспоминания. На-
пример, такие: мы ведь шли вдоль канала, а я уже однаж-
ды при подобных же обстоятельствах ходил по берегам
какого-то канала и тогда город лежал справа от нас. Я бы
мог попытаться аналогичным образом проследить при-
чины моего необоснованного убеждения как бы психо-
аналитически.
«Но что это за странное переживание?» Да ведь
оно не более странно, чем любое другое. Просто оно
иного типа, чем те переживания, которые мы считаем
наиболее фундаментальными, например, чувственные
впечатления.
«Мне кажется, что я зиаю: город лежит там».
«Мне кажется, что имя “Шуберт” подходит и к со-
чинениям Шуберта, и к его лицу».
Ты можешь произнести про себя, к примеру, слово
«гладь», имея при этом в виду один раз повелительную
форму глагола, а другой раз имя существительное.
А теперь скажи «гладь!», а затем «Не гладь кошку!» Ты
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН S24
уверен, что оба раза это слово сопровождается анало-
гичным переживанием?1
Если тонкий слух помогает мне уловить, что в дан-
ной языковой игре я переживаю данное слово то так,
то этак, — не поможет ли он мне также уловить, что в
связной речи, в потоке слов я часто совсем не пережи-
ваю его? Ведь то, что я ему придаю (или намереваюсь
придать, а впоследствии, вероятно, и объяснить) то та-
кой, то иной смысл, не имеет никакого отношения к по-
ставленному вопросу.
Но тогда остается неясным, почему при этой игре
переживания слов мы также говорим о «значении» и
«осмыслении». Это вопрос иного рода. Для этой языко-
вой игры характерно то, что данное выражение исполь-
зуется в этой ситуации: мы произносили данное слово
в таком значении и заимствуем это выражение из дру-
гой языковой игры.
Назови это сном. Это ничего не меняет.
Даны два понятия — «толстый» и «худой». Неуже-
ли ты готов утверждать, что среда толстая, а вторник
худой или же наоборот? (Я склонен выбрать первое.)
Разве «толстый» и «худой» имеют тут иное значение,
отличное от общепринятого? Они имеют иное приме-
кекие. Так что же, на самом деле мне следовало бы
употребить другие слова? Вовсе нет. Я хочу использо-
вать здесь этн слова (в привычном для меня значении).
При этом я ничего не говорю о причинах данного явле-
ния. Это могли бы быть ассоциации из дней моего дет-
ства. Но это гипотеза. Каково бы ни было объяснение,
мое желание остается в силе.
1 В оригинале: слово «weiche», означающее и повелительную
форму глагола, и прилагательное, в первом случае звучит
как «Weiche!» («Мягче!»), во втором — «Weiche nicht vom
Platz!» («Не уступай места!»). — Перев,
525
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Если бы меня спросили: «Что, собственно, ты вкла-
дываешь в слова ‘‘толстый” и “худой”?» — я бы мог ис-
толковать их значения только самым обычным образом.
Я не смог бы объяснить их на примере вторника и среды..;.
Здесь можно говорить о «первичном» и «вторич-
ном» значениях слова. Только тот, кому известно пер-
вичное значение слова, может употреблять его во вто-
ричном значении.
Лишь тому, кто научился хорошо считать — пись-
менно или устно, — можно с помощью понятия вторич-
ного значения объяснить, что такое счет в уме.
Вторичное значение — это не «переносное» значе-
ние. Говоря «Гласная е для меня желтая», я имею в
виду «желтое» не в переносном значении — ведь иначе,
чем с помощью понятия «желтое», я не мог бы выразить
то, что хотел сказать.
Кто-то говорит мне: «Подожди меня у банка». Воп-
рос: имел лн ты в виду, произнося это слово, именно
этот банк? — это вопрос того же типа, что и следую-
щий: «Намеревался ли ты, идя на встречу с ним, ска-
зать ему то-то?» Этот вопрос относится к определен-
ному времени (ко времени его ходьбы, как первый воп-
рос — ко времени произнесения слов) — но не к пере-
живанию в течение этого времени. Подразумевание в
столь же малой степени переживание, как и наме-
рение.
Что же отличает их от переживания? У них нет пе-
реживаемого содержания. Дело в том, что сопровожда-
ющие и иллюстрирующие их содержательные пережи-
вания (например, представления) не являются ни под-
разумеванием, ни намерением.
Намерение, в соответствии с которым действу-
ют, «сопровождает» действие не в большей мере, чем
мысль «сопровождает» речь. Мысль и умысел не яв-
ляются ни «элементарными», ни «составными», их
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
S26
нельзя уподобить ни отдельной ноте, звучащей во время
действия или речи, ни мелодии.
«Речь» (Reden) (громкая или молчаливая) и «мыш-
ление» (Denken)— понятия разного рода, хотя они и
связаны теснейшим образом.
Интерес к переживаниям, которые кто-то испыты-
вает, пока говорит, и к намерению не одинаков. (Пере-
живание, вероятно, могло бы информировать психоло-
га о «бес соз на тельном» намерении.)
Услышав это слово, мы оба подумали о нем. Пред-
положим, что каждый из нас при этом мысленно произ-
нес одни и те же слова, а это ведь не может означать ни-
чего БОЛЬШЕ. Но не были ли и эти слова лишь неким
зародышем? Ведь, чтобы действительно быть выраже-
нием мысли о том человеке, оии должны принадлежать
языку и контексту.
Заглянув в наши души, сам Бог не смог бы увидеть
там, о ком мы говорим.
«Почему ты посмотрел на меня при этом слове, ты
подумал о...?» Значит, существует реакция, относящая-
ся к данному моменту, и она объясняется словами
«Я подумал о...» или «Я вдруг вспомнил о...».
Говоря это, ты соотносишь себя с моментом речи.
И есть разница — соотносишь ли ты себя с одним или
другим моментом времени.
Простое объяснение слова — в момент его произне-
сения — не соотнесено с каким-то событием.
Языковая игра «Я имею (или имел) в виду это»
(последующее объяснение слов) совершенно отлична
от такой игры: «Между прочим, я думал о...» Чему род-
ственно: «Мне вспомнилось о...».
«Сегодня я уже трижды вспоминал о том, что дол-
жен ему написать». Какое имеет значение, что при
этом происходило во мне? Но, с другой стороны, какое
значение имеет, какой интерес представляет это сооб-
527
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
щение само по себе? Оно позволяет сделать опреде-
ленные выводы.
«При этих словах мне представился он». Какова та
простейшая реакция, с которой начинается языковая
игра? — та, что может быть переведена в эти слова.
Как люди приходят к применению этих слов?
Простейшей реакцией может быть взгляд, жест, но
также и слово.
«Почему ты взглянул на меня и покачал голо-
вой?» — «Я хотел дать понять тебе, что ты...» Эти слова
должны выражать не знаковое правило, а цель моего
действия.
Придание значения (das Meinen) —• это не процесс,
сопровождающий данное слово. Ибо никакой процесс
ие мог бы иметь последствием такое наделение слова
значением.
(Аналогичным образом, я думаю, можно было бы
сказать: вычисление не есть эксперимент, ибо никакой
эксперимент не мог бы дать того особого результата,
какой дает умножение.)
Есть важные явления, сопутствующие речи, — яв-
ления, которые в речи, лишенной мысли, зачастую ут-
рачиваются, и это служит ее характерной чертой. Но
они ие являются мышлением.
«Теперь я это знаю!» Что тут произошло? Что же,
раньше я этого не знал, если уверяю, что теперь я это
знаю?
Ты неверно смотришь на это.
(Чему служит этот сигнал?)
А можно ли назвать «знание» сопровождением вос-
клицания?
Привычный вид слова, ощущение, будто оно вобра-
ло в себя свое значение, как бы стало наглядным вопло-
щением. Возможно, есть люди, которым все это чуждо.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
528
(У них не было привязанности к своим словам.) А как
проявляются эти чувства у нас? Они находят свое вы-
ражение в том, как мы выбираем и оцениваем слова.
Как я нахожу «правильное» слово? Как я выбираю
его среди других слов? Иногда это может происходить
так, словно я сравниваю тончайшие оттенки запахов:
это чересчур... и это тоже слишком... а вот то, что
нужно. Но при этом не всегда нужно выносить оценки,
объяснять. Нередко можно лишь сказать: «Это просто
еще не подходит». Я неудовлетворен и продолжаю по-
иск. Наконец ко мне приходит то самое слово: «Вот
оно!» Иногда я могу сказать почему. Просто поиск
здесь выглядит вот так, находка — так.
А не «приходит» ли осенившее тебя слово каким-то
особым образом? Будь внимателен и поймешь! Дотош-
ное внимание не годится для меня. Оно способно от-
крыть лишь то, что сейчас происходит во мне.
Да как вообще можно именно сейчас прислуши-
ваться к этому? Ведь придется ждать, пока какое-то
слово опять не придет в голову. Но здесь обнаружива-
ется нечто странное: кажется, что вообще не обязатель-
но ждать особого стечения обстоятельств, что можно
продемонстрировать соответствующий случай самому
себе, не заботясь о том, имеет ли он место в действи-
тельности... И как это делается? Я разыгрываю его. Но
что можно узнать таким образом? Что я воспроизво-
жу? Характерные сопутствующие явления; главным об-
разом жесты, мимику, тональность.
Многое можно сказать о тонких эстетических раз-
личиях — и это важно. Прежде всего, конечно, можно
сказать: «Это слово подходит, а то — нет» — или же
что-то в этом роде. А затем можно обсудить и все мно-
гообразие разветвленных контекстов для каждого из
рассматриваемых слов. Тем первым суждением дело не
529
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ограничивается, ибо решающим является поле того или
иного слова.
«Слово вертится у меня на языке». Что при этом
происходит в моем сознании? Об этом нет и речи. Что
бы там ни происходило, не оно подразумевается в
моем высказывании. Куда интереснее, что происходи-
ло в моем поведении. [Фраза:] «Слово вертится у меня
на языке» говорит тебе: слово, подходящее к данному
случаю, ускользнуло от меня, я надеюсь вот-вот его
найти. В остальном же данное вербальное выражение
делает не больше, чем соответствующее бессловесное
поведение.
Джемс, собственно, хотел сказать именно об этом:
«Что за удивительное переживание! Слова еще нет, но
все же в каком-то смысле оно уже здесь, — или имеет-
ся нечто, что может вырасти лишь в данное слово».
Но все это отнюдь не переживание. Истолкованное
как переживание, оно действительно выглядит стран-
ным. Подобно намерению, толкуемому как сопровож-
дение действия, или— 1, толкуемой как число нату-
рального ряда. Слова «Это вертится у меня на языке» в
столь же малой степени являются выражении пережи-
вания, как и слова «Теперь я знаю, как продолжить!».
Мы употребляем нх в определенных ситуациях в ан-
тураже особого рода поведения и многих характерных
переживаний. Довольно часто этому сопутствует на-
хождение слова. (Задайся вопросом: «Что было бы,
если бы люди никогда не находили слова, которое вер-
тится у них на языке?»)
Молчаливая, «внутренняя» речь не является полу-
скрытым феноменом, воспринимаемым как бы сквозь
дымку. Она совсем не скрыта, но само это понятие мо-
жет с легкостью сбить нас с толку, ибо большой отре-
зок пути оно пробегает вместе [бок о бок] с понятием
«внешнего» процесса, однако не пересекается с ним.
людвиг Витгенштейн 530
(Вопрос о том, иннервируются ли мускулы гортани
при внутренней речи, и другие подобные вопросы могут
представлять большой интерес, но не для нашего иссле-
дования.)
Тесное родство «внутренней речи» с «речью» как та-
ковой проявляется в возможности высказать громко то,
что говорилось про себя, а также во внешних действи-
ях, сопровождающих внутреннюю речь. (Я могу без-
звучно петь, или читать про себя, или вычислять в уме
и при этом отбивать такт рукой.)
«Но все же внутренняя речь — это определенная
деятельность, которой я должен научиться!» Да, конеч-
но, но что значит здесь «действовать» и что такое
«учиться»?
Пусть значению слов тебя учит их употребление!
(Аналогичным образом в математике часто можно ре-
комендовать: пусть доказательство учит тебя тому,
что доказывается.)
♦Так значит, считая в уме, я в действительности
не вычисляю?» Ты же отличаешь все-таки устный счет
от зримо выполняемых вычислений! Но узнать, что та-
кое «счет в уме», можно, лишь усвоив, что такое «вы-
числение» вообще; научиться считать в уме можно,
лишь вообще научившись считать.
Можно мысленно говорить что-то очень «отчет-
ливо», передавая тональность предложения гудением (с
сомкнутыми губами). Этому помогают и движения гор-
тани. Но примечательно здесь то, что человек в этом
случае слышит речь в своем воображении, а не просто
чувствует ее каркас, скажем, гортанью. (А тогда впол-
не позволительно представить себе, что и вычисления
люди производят безмолвными движениями гортани,
подобно тому как можно считать на пальцах.)
Предположение, что при счете про себя в нашем
организме происходит то-то, интересно для нас лишь
S31
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
тем, что указывает на возможное применение выраже-
ния «Я сказал самому себе...», то есть на возможность
судить о физиологическом процессе на основе высказы-
вания.
То, что другой говорит мысленно [«про себя»!, со-
крыто от меня, входит в понятие «внутренней речи».
Правда, слово «сокрытое» следует признать ложным/
ибо то, что скрыто от меня, должно быть открыто ему
самому, он должен это знать. Но он этого не «знает»;
он просто ие испытывает того сомнения, которое суще-
ствует для-меня.
«То, что некто мысленно говорит самому себе, скры-
то от меня» — это утверждение могло бы, конечно, озна-
чать и то, что в большинстве случаев, когда так говорят,
я не могу ни угадать, ни (как это было бы возможно)
прочитать его фраз, скажем по движениям гортани.
[Утверждение]; «Я знаю, чего я хочу, желаю, во что
верю, что чувствую...» (и т. д., перечисляя все психоло-
гически значимые глаголы) — это либо бессмыслица
философов, либо же не суждение a priori.
«Я знаю...» может означать «Я не сомнева-
юсь...» — но это не означает, что слова «Я сомнева-
юсь...» бессмысленны, что сомнение логически исклю-
чено.
«Я знаю...» говорят и там, где можно было бы так-
же сказать «Я верю» или «Я предполагаю»; в тех слу-
чаях, где возможно убедиться. (Если на это возра-
зить, указав, что иногда говорят: «Уж я-то должен
знать, болит ли у меня что-то!» или «Только ты мо-
жешь знать, что ты чувствуешь» и т. п. — то следует
принять во внимание повод и цель этих выражений.
Ведь мы же не будем считать фразу «Война есть вой-
на!» примером закона тождества.) .
Можно вообразить случай, когда я мог бы убедить
себя, что у меня две руки, но обычным способом я этого
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
S32
не могу сделать. «Но тебе нужно только поднять руки пе-
ред глазами». Если я сейчас сомневаюсь, что у меня две
руки, то мие не обязательно верить и своим глазам. (С тем
же успехом я мог бы спросить об этом у своего друга.)
С этим связано то, что, например, высказывание
«Земля существует миллионы лет» имеет более ясный
смысл, чем высказывание «Земля существует в течение
последних пяти минут». Ведь человека, утверждающе-
го последнее, я бы спросил: «На каких наблюдениях ос-
новывается это положение, а какие из них ему противо-
речат?» — тогда как тот круг идей и наблюдений, на ко-
торых основывается первое положение, мне достаточно
известен.
«У новорожденного ребенка нет зубов». «У гуся нет
зубов». «У розы нет зубов». Последнее положение,
можно сказать, очевидная истина. Оно даже более не-
сомненно, чем то, что гусь не имеет зубов. И все же оно
не столь уж ясно. Ибо где должны быть у розы зубы?
У гуся их нет в его челюстях. И, естественно, их нет у
него в крыльях, но этого никто не имеет в виду, говоря,
что у гуся нет зубов. А как быть, если кто-то скажет: ко-
рова жует свою пищу и затем удобряет навозом розу,
следовательно, у розы есть зубы в пасти животного.
И это не было бы абсурдным хотя бы потому, что чело-
век не подумал бы искать зубы в розе.
((Связь с «болью в теле другого».))
Я могу знать, что думает другой, а не что думаю я.
Правильно сказать: «Я знаю, что ты думаешь» и не-
верно — «Я знаю, что я думаю».
(Целое облако философии конденсируется в каплю
грамматики.)
«Мышление человека совершается внутри его со-
знания, закрытого настолько, что по сравнению с ним
любая физическая закрытость — нечто, явленное всем
(Offen-da-liegen)».
533
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Неужели к картине полной замкнутости склонны
были прибегать и люди — коли бы такие существо-
вали, — всегда способные читать (скажем, наблюдая
за гортанью) безмолвные внутренние рассуждения
других?
Если бы я вслух рассуждал с самим собой на языке,
непонятном присутствующим, мои мысли были бы
скрыты от них.
Предположим, какой-то человек всегда правильно
угадывает то, что я мысленно говорю самому себе. (Как
это ему удается — неважно.) Но каков критерий того,
что он угадывает правильно* Ну хотя бы такой: я, чело-
век правдивый, признаю, что он угадал правильно. А не
могу ли я заблуждаться, не может ли подводить меня
моя память? И не может ли она делать это всякий раз,
когда я — не стремясь лгать — высказываю то, о чем я
думал про себя? Но тогда оказывается, что дело вовсе
не в том, что «происходило у меня внутри». (Я здесь со-
здаю вспомогательную конструкцию.)
Критерий истинности описания некоего процесса
не является критериями истинности признания: я ду-
мал то-то. И важность правдивого признания не сводит-
ся к достоверности сообщения о некоем процессе. Ско-
рее она заключается в тех конкретных следствиях, ко-
торые можно извлечь из данного признания, подлин-
ность которого подтверждается особыми критериями
правдивости (Wahrhaftigkeit).
(Предположим, что сновидения позволяют нам сде-
лать важные выводы о том, кому оно приснилось. Тог-
да то, на чем основаны эти выводы, можно считать
правдивым повествованием о сновидении. Вопрос о
том, не подвела ли человека память, когда он по про-
буждении рассказал о своем сне, может и не подни-
маться, если не вводить совершенно нового критерия
«согласованности» рассказа о сне с самим сном, —
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
S34
критерия, который бы в данном случае различал «исти-
ну» и «правдивость».)
Существует игра: «отгадывание мыслей». Одним из
вариантов игры мог бы быть следующий: я что-то сооб-
щаю А на языке, непонятном для В. В должен разгадать
смысл сообщения. Другой вариант: я записываю пред-
ложение, которое другой не может видеть. Ему нужно
отгадать звучание слов или их смысл. Еще один вари-
ант: я составляю картину-загадку из набора фрагмен-
тов. Другой не может меня видеть, но время от времени
он угадывает мои мысли и произносит их вслух. Напри-
мер, он говорит: «А куда эту деталь?», «Теперь я знаю,
куда ее приложить!», «У меня нет ни малейшего пред-
ставления, что подходит сюда», «Небо с этим всегда
труднее всего» и т. д. При этом мне нет необходимости
что-либо говорить ни вслух, ни про себя.
Все это было бы отгадыванием мыслей; если же ре-
ально этого не происходит, то мысль не делается чем-то
более сокрытым, чем не воспринимаемый нами физи-
ческий процесс,
«Внутреннее от нас скрыто». Будущее от нас скры-
то. Но думает ли так астроном, вычисляющий дату сол-
нечного затмения?
Видя кого-то, по очевидной для меня причине кор-
чащегося от боли, я не думаю при этом: то, что он чув-
ствует, скрыто от меня.
О каком-то человеке мы даже говорим: он ясен для
нас. Но для этого наблюдения важно то, что человек
может быть для другого полной загадкой.'Мы сталкива-
емся с этим, прибывая в незнакомую страну с совер-
шенно чуждыми нам традициями, даже если владеем
языком этой страны. Мы не понимаем людей. (И не по-
тому, что не знаем, о чем они говорят про себя.) Нам не
удается найти в них себя.
[Фраза:] «Я не могу знать, что в нем происходит» —
прежде всего картина. Это. полное уверенности выра-
S3S
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
жение убеждения. Оснований для убеждения оно не
дает. Таковые не лежат под рукой.
Умей лев говорить, мы не могли бы его понять.
По аналогии с отгадыванием мыслей можно пред-
ставить себе отгадывание намерений, да и того, что дей-
ствительно собирается сделать кто-то.
Говорить: «Только он может знать, каково его наме-
рение» бессмысленно. Заявлять: «Только он может
знать, что он будет делать» — ложно. Ведь предсказа-
ние, которое содержится в выраженном мной намере-
нии (например, «Как только пробьет пять часов, я пой-
ду домой»), необязательно сбудется, а что произойдет
на самом деле, может быть известно кому-то другому.
В этой связи существенны два момента. Во-первых,
другой человек зачастую не может предсказать моих
действий, тогда как я, намереваясь сделать что-то, про-
гнозирую их. Во-вторых, мой прогноз (как выражение
моего намерения) строится не на тех же основаниях,
что и его предсказание моих действий. Отсюда выводы
из этих двух прогнозов совершенно различны.
Я могу быть столь же уверен в переживании друго-
го, как в каком-нибудь факте. Но это обстоятельство не
делает предложения «Он очень удручен», «25x25 =
625» и «Мне 60 лет» однотипными инструментами.
Здесь напрашивается объяснение: та уверенность дру-
гого рода. На первый взгляд такое объяснение указыва-
ет на психологическое различие. Но данное различие
имеет логическую природу.
«А не отвергаешь ли ты все сомнения, если ты уве-
рен в чем-то?» Отвергаю.
В том, что тот человек испытывает боль, я уверен
меньше, чем в том, что 2 х 2 = 4, не так ли? И это пото-
му, что второе положение математически достоверно?
«Математическая достоверность» — это не психологи-
ческое понятие.
Вид достоверности — это вид языковой игры.
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
53Б
«Свои мотивы знает только он сам» — это выраже-
ние того факта, что о его мотивах мы спрашиваем его.
Если он искренен, он расскажет нам о них. Мне же,
чтобы догадаться о его мотивах нужно нечто большее,
чем просто его искренность. Здесь имеется родство со
случаем знания.
Изумись же тому, что существует такая вещь, как
наша языковая игра: признание в мотиве моего по-
ступка.
Поразительное разнообразие всех повседневных
языковых игр не осознается нами, потому что одежды
нашего языка все делают похожим.
Новое (спонтанное, «специфическое») — это всегда
языковая игра. В чем различие между мотивом и причи-
ной? Как обнаруживают мотив и как причину?
Существует такой вопрос: «Надежен ли этот способ
судить о мотивах людей?» Но чтобы иметь возможность
задать такой вопрос, мы уже должны знать, что значит
«судить о мотиве»; а учимся мы этому не путем опытно-
го выяснения того, что такое «мотив» и что такое «су-
дить».
Мы оцениваем длину стержня и можем искать и
найти метод более точной и надежной ее оценки. Зна^
чит, то, что здесь оценивается, скажешь ты, не зависит
от метода его оценки. С помощью метода определения
длины невозможно определить, чем является длина.
Кто так рассуждает, делает ошибку. Какую? Странно
было бы утверждать: «Высота Монблана зависит от
того, как на него восходят». А «все более точное изме-
рение длины» пытаются сравнивать со все большим
приближением к некоему объекту. Но в каких-то случа-
ях ясно, а в некоторых не ясно, что значит «все больше
приближаться к длине объекта». Что значит «опреде-
лять длину», мы узнаем без предварительного выясне-
537
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
иия того, что такое длина и что такое определять; зна-
чение слова «длина» постигается, в частности, посред-
ством усвоения того, что значит определение длины.
(Поэтому слово «методология» имеет двойное зна-
чение. «Методологическим исследованием» можно на-
звать как физическое исследование, так и концепту-
альное.)
Мы иногда склонны называть достоверность и веру
тональностями мысли; и это правильно, так как они на-
ходят свое выражение в тоне речи. Но не представляй
их себе «чувствами», сопутствующими речи или мыш-
лению! Не спрашивай: «Что происходит с нами, когда
мы уверены...?» .
Спрашивай о другом: как проявляется «уверенность,
что дело обстоит именно так» в поступках людей?
«Хотя ты и можешь быть полностью уверенным в ду-
шевном состоянии другого, но эта уверенность всегда
только субъективна, а не объективна». Два этих слова
указывают на различия между языковыми играми.
Может возникнуть спор о правильности какого-ни-
будь подсчета (например, суммы длинного ряда чисел).
Но такой спор возникает редко и длится недолго. Он,
как мы говорим, решается «с достоверностью».
Между математиками, как правило, не возникает
разногласий по поводу результатов какого-нибудь вы-
числения. (Это важный факт.) Если бы дело обстояло
иначе, если бы, например, какая-нибудь цифра непри-
метным образом изменялась или память подводила того
или другого математика и т. д., то такого понятия, как
«математическая достоверность», не существовало бы,
В этом случае вполне можно было бы сказать и та-
кое: «Хотя мы никогда не сможем узнать, что такое ре-
зультат вычисления, но все же каждое вычисление имеет
вполне определенный результат. (Его знает Бог.) Эта
ДЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
538
математика, действительно, в высшей степени досто-
верна — хотя мы обладаем лишь ее грубой копией».
Но не хочу ли я тем самым сказать, что достовер-
ность математики основывается на надежности, ска-
жем, чернил и бумаги? Нет. (Это было бы порочным
кругом.) Я же не сказал, почему математики не спорят
между собой, но только что они не спорят.
Конечно, невозможно производить расчеты, пользу-
ясь некоторыми сортами бумаги и чернил, а именно,
если последние подвержены определенным, странным
изменениям, — но и то, что они изменились, опять-таки
может быть зафиксировано лишь памятью и установле-
но путем сравнения с другими средствами вычислений.
А как в свою очередь проверяются эти последние?
То, что следует принимать как данное нам, — это,
можно сказать, формы жизни.
Имеет ли смысл утверждать, что люди, как правило,
единодушны в своих суждениях о цвете? Что было бы,
если бы дело обстояло иначе? Один утверждал бы, что
этот цветок красный, другой называл бы его синим и
т. д. и т. д. По какому же праву мы называли бы тогда
слова «красный» и «синий», употребляемые этими
людьми, нашими «наименованиями цветов»?
Как бы они научились применять эти слова? И раз-
ве усвоенная ими языковая игра была бы той же самой,
какую мы называем употреблением «названий цветов»?
Здесь имеются явные различия в степени.
Но это рассуждение должно иметь силу и для мате-
матики. Если бы в ней не существовало полного согла-
сия, то люди не овладели бы методами, которыми владе-
ем мы. Они были бы более или менее отличны от наших
вплоть до полной неузнаваемости.
«Но ведь математическая истина независима от
того, познают ли ее люди или нет!» Конечно, высказы-
539
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
вания «люди считают, что 2 + 2 = 4» и «2 х 2 = 4» не-
тождественны по смыслу. Последнее математическое
предложение, первое, если оно вообще имеет смысл,
может приблизительно означать, что люди пришли к
данному математическому предложению. Применение
обоих предложений совершенно различно. А что могло
бы означать такое высказывание: «Даже если бы все
люди полагали, что 2 + 2 = 5, то все равно 2x2 равня-
лось бы 4»? Что было бы, если бы все люди полагали,
что 2 х 2= 5? Ну, я мог бы представить себе, например,
что у них другое исчисление или же другой метод, ко-
торый мы ие назвали бы «счетом». Но был бы он не-
верным* (Является ли ошибочной коронация? Суще-
ствам, отличным от нас, она могла бы показаться в
высшей степени странной.)
Математика, безусловно, в каком-то смысле есть
область знания, но она также и деятельность. И «лож-
ные ходы» могут существовать в ней лишь в виде ис-
ключения. Ведь если бы то, что мы сейчас называем
этим именем, стало правилом, то тем самым была бы от-
менена и игра, в которой они слывут ложными.
«Мы все учим одинаковую таблицу умножения».
Это высказывание могло бы быть замечанием об уроках
арифметики в наших школах, но также и некоторым ут-
верждением о понятии таблицы умножения. («На скач-
ках лошади, как правило, бегут так быстро, как только
могут».)
Существует цветовая слепота и средства ее диагно-
стики. В определениях цвета у всех, кого считают нор-
мальными, царит обычно полное единодушие. Это ха-
рактеризует понятие суждения о цвете.
При выяснении того, подлинно или неподлинно выра-
жение чувства, такого единодушия не встречается вовсе.
Я уверен, уверен, что он не притворяется, но по-
сторонний наблюдатель не убежден в этом. Всегда ли
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
540
я могу его убедить? И если нет, то совершает ли он
здесь мыслительную ошибку или же ошибку наблю-
дения?
«Ты же ничего не понимаешь!* — так говорят, ко-
гда кто-нибудь сомневается в том, что мы признаем
явно подлинным [неподдельным], — но не можем [этот]
доказать.
Разве существует «профессиональная» оценка под-
линности выражения чувства? Даже здесь имеются
люди, умеющие давать «более верные* или «менее
верные» оценки.
На основе суждений лучших знатоков людей, как
правило, делаются и более верные прогнозы.
Можно ли научиться знанию людей? Да, некоторые
могут. Но не с помощью каких-то «учебных курсов», а
путем «о/шдш». Может ли при этом кто-ннбудь высту-
пить в качестве учителя? Конечно. Время от времени
он дает своему ученику правильную подсказку. Так
выглядит здесь «ученичество» и «учительство». Здесь
учатся не технике; учатся правильным суждениям.
И на то имеются правила, но они не образуют системы,
и верно применять их может только опытный человек.
В отличие от правил исчисления.
Самое трудное тут — правильно и неискаженно вы-
разить эту неопределенность словами.
«Подлинность выражения нельзя доказать, ее мож-
но только чувствовать». Хорошо, но что делать далее с
этим познанием подлинности? Если кто-то говорит:
«Voila се que peut dire tin coeur vraiment epris»1, — и до-
водит это до сознания другого, то каковы последствия
этого? Или же это не имеет никаких последствий и игра
* Вот что можно назвать истинно любящим сердцем (фр.). —
Перев.
541
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
кончается на том, что одни воспринимает то, чего не
воспринимает другой?
Конечно, следствия имеются, хотя они и носят
диффузный характер. Опыт, то есть многообразные на-
блюдения, может научить нас делать выводы; мы мо-
жем, не формулируя их в общем виде, но применяя
лишь к отдельным случаям, давать правильные, плодо-
творные оценки, устанавливать плодотворные связи.
Тогда как самые общие замечания в лучшем случае
дают то, что выглядит обломками некой системы.
Разумеется, с помощью такой очевидности можно
убедиться в том, что некто находится в том или ином
душевном состоянии, что он, допустим, не притворяет-
ся. Но здесь имеется и «невесомая» очевидность.
Вопрос в том: что совершает такая едва ощутимая
очевидность?
Предположим, что имеется неявная очевидность
для химической (внутренней) структуры какого-то ве-
щества. Тем не менее она должна проявить себя как
очевидность через определенные осязаемые следствия.
(«Неявные» очевидность могла бы убедить кого-ни-
будь в том, что картина— подлинник... Но правиль-
ность такого вывода может быть подтверждена и доку-
ментально.)
К едва уловимой очевидности принадлежат утон-
ченность взгляда, жеста, тона.
Пожалуй, я бы узнал подлинно влюбленный взгляд,
отличил его от притворного (и понятно, могла бы
иметься «осязаемое» подкрепление моего суждения.)
Но, возможно, я проявил бы при этом полную неспособ-
ность описать это различие. И не потому, что извест-
ные мне языки не имеют для этого слов. Почему бы в
таком случае просто не ввести новые слова? Будь я вы-
сокоодаренным художником, можно было бы допустить,
людвиг витгенипеИн
542
что я способен изобразить на картине взгляд искрен-
ний и взгляд притворный.
Полюбопытствуй: как человек осваивает «ВЗГЛЯД»,
предназначенный для чего-то такого? И как надлежит та-
кой взгляд применять?
Ведь притворство — лишь особый случай поведе-
ния, такого, например, когда выказывают внешние при-
знаки боли, не чувствуя ее. Если это в принципе воз-
можно, то почему при этом всегда должно иметь место
именно притворство — этот особый узор в жизненной
ткани?
Ребенок должен многому научиться, прежде чем он
сможет притворяться. (Собака не может лицемерить,
но она не может быть и искренней).
Здесь возможен даже такой случай, когда приходит-
ся сказать: «Он полагает, что притворялся».
543
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
XII
Если бы образование понятий можно было объяснить,
исходя из фактов природы, то вместо грамматики нам
следовало бы тогда интересоваться тем, что составляет
их природную основу, не так ли? Безусловно, нас инте-
ресует и соответствие понятий очень общим фактам
природы. (Таким фактам, которые в силу своего общего
характера в большинстве случаев не привлекают наше-
го внимания.) Но наш интерес не докапывается до этих
возможных причин образования понятий; мы не зани-
маемся ни естествознанием, ни естественной истори-
ей, — поскольку для наших целей можно изобрести и
вымышленную естественную историю.
Я не утверждаю: будь такие-то факты природы ины-
ми, у людей были бы иные понятия (в смысле гипотезы).
Я говорю другое: если кто-то верит в абсолютную пра-
вильность некоторых понятий и считает, что обладание
другими понятиями означало бы непонимание того, что
понимаем мы, — пусть он представит себе очень общие
ф&ХТ2$ ЛрХр&ДЯ ХЯЕШХ, РТЛХУЯЬШХ РУ ТЕЛ, X ХРХЯМ
выкли мы, тогда ему станет понятным и формирование
понятий, отличающихся от обычных.
Сравни понятие со стилем живописи: не является
ли тогда лишь условным и наш стиль? Разве нельзя по
своему желанию выбирать стиль живописи (например,
египетский стиль)? Не идет ли здесь речь просто о кра-
сивом и безобразном?
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
544
XIII
Когда я говорю: «Он был здесь полчаса назад» — то
есть помня об этом, — то это не описание пережива-
ний, испытываемых мною сейчас.
Переживание воспоминаний — явление, сопут-
ствующее воспоминаниям.
Припоминание не обладает никаким содержанием
переживания. А разве его нельзя установить с помо-
щью интроспекции? Разве она не показывает как раз,
что там, где я ищу содержание, ничего нет? Но она мог-
ла бы показывать это лишь в том или другом случае.
И даже так она не может показать мне, что означает
слово «вспоминать» и, следовательно, где искать некое
содержание!
Идею содержания воспоминаний я получаю только
сравнением психологических понятий. Оно аналогично
сравнению двух игр. (Футбол — игра, в которой есть
ворота, в теннисе«— нет.)
Мыслима ли такая ситуация: некто в первый раз
в своей жизни вспоминает о чем-то и говорит: «Да,
теперь я знаю, что такое «припоминание», что при
этом испытывают». Но откуда он знает, что это чув-
ство и есть «припоминание»? Сравни: «Да, теперь я
знаю, что значит “дернуло током”» (например, че-
ловек в первый раз испытал электрический удар).
Знает ли он, что это — воспоминание, потому что
оно вызвано чем-то прошлым? А откуда он знает, что
такое прошлое? Понятию прошлого человек учится
вспоминая.
Каким же образом в будущем он вновь узнает, как
переживается припоминание?
545 ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(С другой стороны, вероятно, можно говорить о чув-
стве «далекой-далекой давности», ибо определенным
повествованиям о прошлых днях свойствен тот или
иной тон, жест.)
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
S46
XIV
Запутанность и бесплодие психологии не следует
объяснять тем, что она «молодая наука»; ее состояние
несравнимо с состоянием, например, физики на ее ран-
них стадиях. (Скорее оно сопоставимо с некоторыми
областями математики. Теория множеств.) Ведь в пси-
хологии сосуществуют экспериментальные методы и
путаница понятий. (Как в другом случае [в теории
множеств]: методы доказательства и концептуальная
путаница.)
Существование экспериментального метода по-
зволяет полагать, будто мы располагаем средством
справиться с беспокоящей нас проблемой; однако про-
блема и метод лежат здесь в разных плоскостях.
В связи с математикой возможно исследование, со-
вершенно аналогичное нашему исследованию в психо-
логии. Это исследование столь же мало ма тематично,
сколь мало в нашем случае оно психологично. В таком
исследовании нет вычислений, так что оно не является,
например, логистикой. Его можно было бы назвать ис-
следованием «оснований математики».
ПРИЛОЖЕНИЯ
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
И УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПИСЬМЕННОСТЬ:
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ
Или не лелеет в себе гимнотворец
дар великого самодревнего бога?
Брахман-молитва
История западной цивилизации есть история
поисков всеобщего языка — и поисков обра-
за мира, единого для всех народов Земли. Тер-
мин «всеобщий язык» полисемантичен: он
включает в себя как создание, принятие и
распространение универсального социокуль-
турного свода правил (цивилизационного
кода), так н собственно лингвистическое кон-
струирование. Цивилизационный код в рам-
ках цивилизации Запада со временем обрел
законченную форму, его распространение
(насаждение) под ярлыками «вестернизация»
и «глобализация» продолжается и по сей
день, а вот всеобщего языка в лингвистиче-
ском понимании создать до сих пор не уда-
лось. Впрочем, не совсем так: сегодня в мире
успешно используются несколько метаязы-
ков, основанных на принципах универсаль-
ной письменности, — прежде всего, язык ма-
тематики и математической логики, языки
других прикладных символических систем
(химия, физика, картография и пр.), наконец
Кирилл королев
550
пиктографический язык (код) дорожных знаков и иных
транспортных указателей. Безусловно, универсальная
письменность — еще далеко не язык; тем не менее, как
показывает опыт тех же Китая и Японии с нх многочис-
ленными диалектами, она может оказаться действен-
ным средством против языковой (фонетической) разно-
голосицы.
Человек западный (Homo sapiens occidentals) с не-
запамятных времен искал способы преодолеть прокля-
тие вавилонского смешения языков.
Первым, почти бессознательным шагом на этом
пути было продиктованное конкретными социально-
политическими или экономическими обстоятельствами
принятие какого-либо естественного языка в качестве
«главного», то есть в качестве средства межнацио-
нального общения. Походы Александра Македонского
привели к распространению греческого языка далеко за
пределы Ойкумены: на торговом диалекте греческо-
го — койне — говорили и в Малой Азии, и в Вавилоне,
и в Индии. В средние века общим языком Европы —
правильнее сказать, образованной Европы,— стала ла-
тынь, унаследованная франками, иберами, саксами,
бриттами и германцами от недавнего властелина
мира — Римской империи. В эпоху Великих географи-
ческих открытий на периферии «цивилизованного»,
«культурного» мира сложился торговый язык лингва
франка, а в Европе отмершую с развитием и укреплени-
ем национальных языков латынь вытеснил француз-
ский язык — вытеснил с тем, чтобы с середины XIX в.
постепенно уступать место английскому, «языку импе-
рии». Современные социолингвистические исследова-
ния позволяют предположить, что в относительно близ-
ком будущем на Земле останется не более пяти миро-
вых (по аналогии с мировыми религиями) языков, каж-
дый из которых будет общим для значительного числа
551 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
людей; это английский, русский, китайский, испанский
и арабский языки. Исследователи прогнозируют отми-
рание таких «колоссов», как немецкий, французский,
хинди, португальский, урду, не говоря уже о сотнях ме-
нее распространенных естественных языков.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
+ — * =:
Арабские цифры и алгебраические операторы.
Но любой естественный язык, сколь широко он ни
распространился бы, не способен стать языком дей-
ствительно всеобщим — поскольку всякий язык есть
продукт ментальности конкретного народа, а потому на
«инородной» почве приживается с трудом — либо не
приживается вовсе (тот же английский, повсеместное
внедрение которого в обиход обусловлено «американи-
зацией» большинства национальных обществ и нарас-
тающим применением компьютеров с их англоязычным
программным обеспечением и поддержкой, — тот же
английский не смог укорениться в качестве «общего
языка» в ряде европейских стран, причем в этом случае
зачастую срабатывал принцип «лучше потерять деньги
[из-за сорвавшейся сделки, к примеру!, чем объяснять-
ся по-английски).
Проблему пытались решить поисками мифическо-
го языка Адама — того самого языка, на котором
Адам в раю давал имена животным и растениям; срц
«Господь Бог образовал из земли всех животных поле-
вых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку,
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
552
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было имя ей. И на-
рек человек имена всем скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым...» (Быт. 2:19—20). Считалось,
что этот язык — прародитель всех человеческих язы-
ков, утраченный во время Вавилонского столпотворе-
ния. Но поиски оказались тщетными, ни один из суще-
ствующих (и ни один из древних) языков не «возводил-
ся» к языку Адама.
И тогда на помощь пришла логика, ясная и непроти-
воречивая. Она породила многочисленные попытки
конструирования искусственных языков, свободных от
недостатков, нелогичностей и противоречий языков ес-
тественных.
По разработанной в конце XIX столетия и принятой
по сей день классификации искусственные языки делят-
ся на две большие группы — языки априорные, иначе
логические, или философские, представляющие собой
таксономию понятий (означаемых) и языковых единиц
(означающих), и языки апостериорные, в той или иной
степени основанные на заимствованиях лексических
единиц и синтаксических правил из языков естествен-
ных. К числу последних относятся наиболее известные
сегодня международные языки эсперанто (JI. Замен-
гоф), идо (Л. Бофрон, Л. Кутюра), новиалъ (О. Еспер-
сен), интерлингва (Дж. Пеано), волапюк (М. Шлей-
ер). Что же касается первых, в большинстве своем они
строятся на логическом исчислении, на строгих прави-
лах (утрируя — на четком различении «да» и «нет»,
«истины» и «лжи»; вот она, свобода от амбивалентнос-
ти естественных языков!) А начальным этапом в конст-
руировании философских языков стала пазиграфия —
то есть универсальная письменность, не имеющая само-
стоятельной звуковой формы.
553 УНИВЕРСМЬНЬ1ЙЯЭЬ1КИМЧИВЕРСАЛЬНАЯПИСЬМЕННОСГЬ
Если не считать полумифического грека Алексар-
ха, якобы разработавшего проект универсального
письма на рубеже IV—III вв. до н. э. (кстати, это вре-
мя Филиппа и Александра Македонских — вспомним
о койне), основоположником пазиграфии в частности
и интерлингвистики как науки об искусственных язы-
ках вообще следует признать французского философа
Рене Декарта. В своем знаменитом письме аббату
Мерсенну, датированном 20 ноября 1629 г., Декарт из-
ложил основные принципы философского лингвопро-
ектирования, на которые впоследствии опирались все
конструкторы априорных искусственных языков. Он
утверждал, что философский язык предназначен ддя
того, чтобы реформировать и упорядочить человечес-
кое мышление, а потому должен представлять собой
«нечто вроде логического ключа человеческих поня-
тий», пользуясь которым, можно было бы «по некото-
рым правилам вывода сугубо формальным путем полу-
чать новое знание, истинность которого заранее гаран-
тируется философским характером языка». По мысли
Декарта, «изобретение такого языка зависит от истин-
ной Философии, ибо иначе невозможно исчислить все
мысли людей и расположить их по порядку». Схожих
воззрений придерживался и немецкий философ
Г.В. Лейбниц, который в 1666 г. в диссертации на
латинском языке «О комбинаторном искусстве»
(«Dissertatio de arte combinatoria») изложил идею «па-
зиграфии, или Искусства понимания при помощи об-
щих письменных знаков для всех народов на земле, на
каких бы разных языках они ни говорили, если только
они знакомы с этими общими знаками». По мысли
Лейбница, слова, то есть символы, в такой пазиграфии
должны были не только выражать идеи, но и создавать
взаимосвязи (синтаксис), а именно образовывать эти
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
S54
связи посредством сходных с алгебраическими опера-
ций и заменять рассуждения формулами.
Комбинаторика Лейбница* впоследствии разви-
лась в «междисциплинарную» науку, возникшую на
стыке математики и классической логики, — символи-
ческую, или математическую логику, пионерами кото-
* Лейбниц обратился к комбинаторике далеко не первым сре-
ди европейских мыслителей. Еще каталонец Раймунд Лул-
лнй (Рамон Льюль, ХШ в.) в своем трактате «О великом ис-
кусстве» предложил конструкцию логической машины, ко-
торая перебирает понятия, записанные каббалистическим
алфавитом, и «генерирует» идеи на основе совокупности
универсальных принципов — и случайного выбора. Комби-
наторику, доведенную до абсурда, высмеял Дж. Свифт в
«Путешествиях Гулливера» (пребывание Гулливера иа ост-
рове Лапута и посещение им лапутянской Академии про-
жектеров; ср,: «После этого мы пересекли улицу и вошли в
другое отделение Академии, где, как я уже сказал, заседали
прожектеры в области спекулятивных наук.
Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался
в огромной комнате, окруженный сорока учениками. После
взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассмат-
риваю раму, занимавшую большую часть комнаты, он сказал,
что меня, быть может, удивит его работа над проектом усо-
вершенствования умозрительного знания при помощи техни-
ческих и механических операций. Но мир вскоре оценит всю
полезность этого проекта; н он льстил себя уверенностью,
что более возвышенная идея никогда еще не зарождалась ни
в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и
искусства по общепринятой методе; между тем благодаря его
изобретению самый невежественный человек с помощью
умеренных затрат и небольших физических усилий может
писать книги по философии, поэзии, политике, праву, мате-
матике и богословию при полном отсутствии эрудиции и та-
ланта. Затем ои подвел меня к раме, по бокам которой ряда-
ми стояли все его ученики. Рама эта имела двадцать квадрат-
ных футов и помещалась посредине комнаты. Поверхность
ее состояла из множества деревяииых дощечек, каждая
5Б5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
рой были Дж. Буль и Л. Кэрролл. А продолжатели
«лейбницева дела» взялись за конструирование пись-
менности, символы которой представляют не слова,
а понятия. Шотландец Дж. Дальгарно (Долгарно),
англичанин Дж. Уилкинс, французы Ж.А. де Кондор-
се, П. Мопертюи, Э. Кондильяк — вот лишь некоторые
величиною в игральную кость, одни побольше, другие по-
меньше. Все они были сцеплены между собой тонкими про-
волоками. Со всех сторон каждой дощечки приклеено было
по кусочку бумаги, и на этих бумажках были написаны все
слова их языка в различных наклонениях, временах и паде-
жах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть
внимательнее, так как ои собирался пустить в ход свою ма-
шину. По его команде каждый ученик взялся за железную
рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям
рамы, и быстро повернул ее, после чего расположение слов
совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридца-
ти шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки
в том порядке, в каком они разместились в раме; если случа-
лось, что три или четыре слова составляли часть фразы, ее
диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль
писцов. Это упражнение было повторено три илн четыре раза,
и машина была так устроена, что после каждого оборота слова
принимали все новое расположение, по мере того как квадра-
тики переворачивались с одной стороны на другую.
Ученики занимались этими упражнениями по шесть ча-
сов в день, и профессор показал мне множество фолиантов,
составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревал-
ся связать их вместе и от этого богатого материала дать
миру полный компендий всех искусств и наук; его работа
могла бы быть, однако, облегчена и значительно ускорена,
если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот та-
ких станков в Лагадо и обязать руководителей объединить
полученные ими коллекции.
Ои сообщил мне, что это изобретение с юных лет по-
глощало все его мысли, что теперь в его станок входит це-
лый словарь н что им точнейшим образом высчитано соот-
ношение числа частиц, имен, глаголов и других частей
. речи, употребляемых в наших книгах».).
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
556
наиболее известные ученые, приложившие руку к со-
зданию пазиграфий.
Как пример можно привести «Опыт пазиграфии»
испанца С. де Маса, который так определил основопо-
лагающую идею пазиграфии: «Идеография есть искус-
ство писать знаками, представляющими идеи, а не сло-
ва (звуки) обычного языка». Де Мас взял для каждой
«идеи» один знак, заимствованный из системы музы-
кальной нотации. Четвертная нота формирует базовый
символ, и по тому, на какой линейке эта нота стоит, оп-
ределяется ее использование — в качестве детермина-
тива существительного, прилагательного, глагола и т.д.
Подобным же образом выражаются все грамматиче-
ские формы.
Несложно заметить, что пазиграфия де Маса и со-
временные ей системы искусственного языка и письма
апеллируют к китайской и японской иероглифической
письменности. Знакомство с восточными письменно-
стями, состоявшееся в конце XVII — начале XVIII сто-
летия, вызвало новый всплеск интереса к пазигра-
фиям.
Другой пример — пазиграфия серба М. Паича, ко-
торый использовал цифры от 1 до 999 для всех грам-
матических флексий. Начиная с 1000 цифры рассмат-
ривались как пазиграфические символы идей. Слово-
образование и словоизменение происходили посред-
ством прибавления или вычитания с помощью знаков
+ и Скажем, 3243 означало общую идею покупки,
3243 + 1 = покупатель вообще, 3243 + 13 = конкрет-
ный покупатель, 3243 + 101 = покупатели и т. д.
Предлагались и более экзотические проекты.
К примеру, немец И. Бехер предложил пронумеровать
все слова латинского словаря и использовать эти но-
мера как общеевропейский письменный язык. Суще-
ствовали также проекты жестовых, рисуночных и
557 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И VHHBEРЕАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
(отрицание)
«не»
&
(конъюнкция)
«и»
V
(дизъюнкция)
«или»
(импликация)
«следует»
(импликация)
«следует»
(тождество)
«равно»
Операторы математической логики.
тому подобных универсальных письменностей и искус-
ственных языков.
Идея создания всеобщего языка занимала государ-
ственные академии наук и даже правительства. В Гер-
мании, Франции, Великобритании, Венгрии, России,
Дании предпринимались разнообразные шаги к практи-
ческому воплощению пазиграфический идей. В 1811 г.
Академия наук Копенгагена учредила премию за луч-
ший вариант легкой и реализуемой на практике пазиг-
рафии. В 1856—1858 гг. международным языком и
универсальной письменностью занялось Междуна-
родное лингвистическое общество, образованный при
котором специальный комитет высказался в пользу
логической системы, причем последняя должна была
представлять собой «номенклатуру, основанную на
универсальной классификации предметов и понятий».
А в 1864 г. в Мюнхене радениями немецкого филоло-
га А. Бахмайера была основана Всемирная организа-
ция пазиграфии. Собственный проект Бахмайера яв-
лялся, по сути, все тем же логическим исчислением, в
котором каждому слову-понятию соответствовала оп-
ределенная цифра:
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
S58
А (определенный артикль} 3523
Abban (в том) 630
Abbol (из того) 628
АЫак (окно) 1044
Abrandozni (мечтать) 2624
Abrazat (облик, образ) 103
Асе! (сталь) 2745
Aceltoll (стальное перо) 3568
Adakozni (жертвовать на что-либо) 360
Ados (должник) 2609
Adoma (анекдот) 75
Adomany {дар) 1159
Кроме того, словарь пазиграфии Бахмайера содер-
жал и обратный перечень, в котором каждой цифре со-
ответствовало определенное слово. Комментируя сис-
тему Бахмайера, венгерский писатель. И. Рат-Вег заме-
чает: «То есть, если у китайского пазиграфа нет денег,
то, обращаясь к новогреческому кредитору, он пишет
цифру 2609. Кредитор же, получив письмо, находит в
своем словаре значение этой цифры и без знания ки-
тайского языка понимает трудность положения своего
коллеги*. Степени сравнения имен прилагательных у
Бахмайера образовывались простановкой над цифрами
одной или двух точек:
Szep (красивый)
Szebb (красивеедругих)
Legszebb (самый красивый)
2591
2591
2591
Женский род обозначается небольшой диадемой:
Himoroszlan (лев)
Nooroszlan (львица)
1917
и/
1917
SS9 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И УНИВЕРСАЛЬНАЯЛИСЬМЕННОСТЬ
1 II III IV V
VI VII VIII IX X
L С D м X
(50) (100) (500) (1000) (10 000)
Римские цифры.
На самом деле система Бахмайера и родственные ей
конструкты представляют собой уже не пазиграфию в
чистом виде» а пазилалию — универсальное письмо с
фонетическим эквивалентом символов.
Идея пазиграфии/пазилалии продолжала занимать
умы европейских мыслителей вплоть до второй полови-
ны XIX столетия, когда окончательно стало ясно, что
по-настоящему международным способен стать только
приближенный к естественному «фонетический сло-
весный язык», на котором можно н писать и говорить;
когда конструкторы логико-лингвистических головоло-
мок были вынуждены признать, что всеобщая письмен-
ность и всеобщая номенклатура невозможны, посколь-
ку они по определению должны быть совершенными, а
добиться этого — выше человеческих сил.
В XX веке пазиграфии стали уделом художествен-
ной литературы, которая принялась изобретать всевоз-
можные тайнописи, шифры и алфавиты, дабы усилить
достоверность создаваемых воображением писателя
миров. Тут можно вспомнить и чуть более ранних «пля-
шущих человечков» А. Конан Дойла, и «гоблинский ал-
фавит» и «гоблннское письмо» Дж.Р.Р. Толкина.
На сегодняшний день существует несколько уни-
версальных кодов, которые в той или иной степени при-
ближаются к понятию универсальной письменности
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
5Б0
(но по-прежнему далеки от представлений об универ-
сальном языке). Это упоминавшийся выше символиче-
ский язык математики, понятный всякому, кто знаком с
основами математической нотации; это язык дорожных
знаков и щитов с пиктограммами; это, наконец, язык
таких символов, как голубка Пикассо или знак паци-
фистского движения. Все эти коды сделались общепо-
нятными благодаря пресловутой «вестернизации» чело-
веческих культур — процессу, внедрившему (разуме-
ется, частично) западную знаковую систему в мировос-
приятие представителей иных традиций. Но далее
«вестернизация» не продвинулась; о реальном универ-
сальном письме (а тем паче — о всеобщем языке), веро-
ятно, можно будет говорить лишь тогда, когда все без
исключения народы земного шара примут единую сис-
тему идей, или знаков, каждый из которых будет иметь
однозначное, не изменяющееся от местности к местнос-
ти, от моря к морю, от страны к стране толкование. Ко-
гда подобное произойдет — и произойдет ли когда-
нибудь — невозможно даже предположить...
ПРОЕКТЫ ОСНОВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ И ПАЗИГРАФИЙ
А) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ
Бейсик инглиш, (Basic English, 1930)
Язык, разработанный английскими лингвистами
Ч.К. Огденом и И. Ричардсом. Состоит из 850 наиболее
употребительных английских слов, которыми выража-
ются все коммуникативные потребности.
A л!
QU Л
R 'f' «
тЧЬ $ ти
Л л зняи
U о£ ШОЕНИЯ •
* Т.Е.
АЛФАВИТ
гоълиноь
Алфавит гоблинов, «изобретенный* Дж.Р.Р, Толкином.
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
562
Волапюк (Volapbk, 1890)
Первый «общепризнанный» международный язык,
предложенный немецким пастором И.М. Шлейером.
Как писал сам Шлейер, идея создания международного
языка возникла у него после беседы с неким прихожа-
нином, полуграмотным немецким крестьянином, сын
которого уехал в Америку и который не мог даже напи-
сать сыну письмо — потому что американская почта
отказывалась принимать письма с адресом, написан-
ным по-немецки. Вдохновленный гласом Провидения,
прозвучавшим в его сне, Шлейер придумал алфавит но-
вого языка и разработал на основе европейских языков
(прежде всего английского) лексику и грамматику во-
лапюка (само слово, собственно, переводится как «все-
мирный язык»).
Глоса (Glosa, Interglosa, 1943)
Международный язык, предложенный Л. Хогбе-
ном. Его описание в официальной брошюре Общества
«Глоса» следующее: «Это аналитический язык, не со-
держащий флексий (приставок, окончаний), родов или
диакритических знаков.. Небольшое количество слов
используется для обозначения грамматических отно-
шений, которые не могут быть выражены другим обра-
зом. Многие слова в “Глосе” могут выступать в каче-
стве различных частей речи, насколько позволяет их
значение и здравый смысл. Слова “Глосы” основаны
на латинских и греческих корнях, общих для основ-
ных европейских языков; через науку, технику и меди-
цину эти слова проникают во все языки. Хотя имеется
и более обширный запас слов, базовый словарь из
1000—2000 слов охватывает большинство ситуаций...
Самое главное — “Глоса” нейтральна. Поскольку она
не является языком какого-то народа, она доступна
S63 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
любому и не вызывает ревности или чувства обиды из-
за господства одного или нескольких национальных
языков».
Идо (Ido, 1907)
Международный язык, прямой потомок и соперник
эсперанто. В его создании принимали участие крупней^
шие французские лингвисты начала XX века Л. Бонфор
и Л. Кутюра, работавшие в составе Комитета по приня-
тию международного вспомогательного языка.
* *
Интерлингва (Interlingua)
1. Международный язык, разработанный итальян-
ским математиком Дж. Пеано и опубликованный в 1908 г.
Основан на латыни, упрощенной за счет устранения
флексий.
2. Международный язык на основе комбинации лек-
сики, грамматики и синтаксиса английского, француз-
ского, итальянского, португальского и испанского язы-
ков. Предложен в 1951 г. Международной ассоциацией
вспомогательных языков (IALA).
Логлан (Loglan)
Язык, разработанный Дж. Куком в конце 1950-х г.
Основан на гипотезе лингвистической относи-
тельности Сепира—Уорфа, которую упрощенно мож-
но представить следующим образом: «Структура язы-
ка воздействует на образ мыслей», и логическом ис-
числении предикатов. Наиболее «свежий» пример ап-
риорного языка, свободного от амбивалентности
языков естественных и обладающего «аудиовизуаль-
ной изморфностью» (одна строка — одно предло-
жение).
КИРИЛЛ КОРОЛЕВ
Б64
tfe?o(Neo, 1937)
Международный вспомогательный язык, предло-
женный в 1937 г. итальянцем А. Альфандари, Основан
на тех же принципах, что эсперанто и идо.
Новиалъ (Novial, 1928)
Международный язык, разработанный знаменитым
датским лингвистом О. Есперсеном. Попытка «испра-
вить» эсперанто. По замечанию американского лингви-
ста Г. Джейкоба, новиаль «попадает между схематиз-
мом эсперанто и натурализмом интерлингвы».
Окциденталь (Occidental, 1922)
Международный язык, разработанный эстонцем
Э. де Валем. Еще один соперник идо и эсперанто.
Эсперанто (Esperanto, 1887)
Наиболее известный и популярный из апостериор-
ных искусственных языков. Разработан польским вра-
чом Л. Заменгофом. Основан на грамматике и лексике
романских языков с «вкраплениями» из славянских и
германских. С 1905 г. ежегодно проводятся междуна-
родные конгрессы в рамках Всеобщей эсперантской ас-
социации (Universala Esperanto-Asocio). На эсперанто
выходят несколько десятков журналов, сборники ори-
гинальных научных работ, художественные произведе-
ния, переводы.
В) ПАЗИГРАФИИ
1. Bachmayer Anton. Pasigraphishes Worterbuch
Deutsch—English—Franzosisch. Augsburg, 1868.
2. Bachmayer Anton. Pasigraphical Dictionary and
Grammar. Augsburg, 1870.
S6S ШИВСРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ИТНИОПРСАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
3. Beck Cave. The Universal Character. London, 1657.
4. Bliss Charles K. Semantography (Blisssymbolics), a
Simple System of 100 Logical Pictorial Symbols. Sydney,
1965.
5. Dalgarno George. Ars Signorum, vulgo character
universalis et lingua philosophica. London, 1661.
6. Effel, Jean. Avant-projet pour une e'criture
universelie. Paris, 1968.
7. Kircheri Y. Poligraphia nova et universalis ex
combinatoria arte detecta. Roma, 1663.
8. Maimieux Joseph de. Pasigraphie, ou Premiers
Elements du nouvel Art-Science d’e'crire. Paris, 1797.
9. Mas Sinibaldo de. L’ideographie memoire sur la
possibilite et la facilite de former une ecriture ge'nerale.
Paris, 1863.
10. Neurath Otto. International Picture Language.
London, 1936.
11. Paic Mojsije. Pasigraphie Mittels Arabisher
Zahlenzeichen. Semlin, 1859.
12. Paic Mojsije. System Einer Universalsprache
sowohl durch Die Schrifft (Pasigraphie). Wien, 1864.
13. Paic Mojsije. Pasilalion und pasigraphion. Paris,
1864.
14. Vater Johann S. La pasigraphie. Wien, 1795.
15. Vater Johann S. Versuch einer allgemeinen
Sprachlehre... auf Pasigraphie. Halle, 1801.
16. Wilkins John. An Essay towards a Real Character
and a Philosophical Language. London, 1668.
© К. Королев, 2003
ПРИМЕЧАНИЯ
__________________________ МАКС МЮЛЛЕР.
РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
Muller Max F, Introduction to the Science of
Religion. Four Lectures Delivered at the Royal Insti-
tution. London, 1870. — Печатается по изданию;
Введение в изучение религий. Лекции профессо-
ра Макса Мюллера, прочитанные в Королевском
институте. Воронеж, 1874.
Макс Мюллер по праву считается одним из
основоположников науки о языке. Его главная
заслуга перед филологией в частности и гумани-
тарными науками в целом — применение мето-
дов сравнительного языкознания к мифологии и
фольклору. По Мюллеру, изучение древних язы-
ков дает возможность проникнуть в глубины че-
ловеческой души и обнаружить истинный смысл
религий и культов древних людей, воспроизвести
те корреляции, которыми обладали «на заре вре-
мен» нмеиа божеств и мифологические сюжеты.
ЭДВАРД СЕПИР.
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ
Sapir Edward. The status of linguistics as a
science. Language, № 5, 1929.— Печатается no
S67
ПРИМЕЧАНИЯ
изданию: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и
культурологии. М.» 1993,
грамматист И ЕГО ЯЗЫК
Sapir Edward. The grammarian and his language.//
American Mercury, № 1, 1924.— Печатается по изданию:
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культуроло-
гии. М., 1993.
___________________________БЕНДЖАМИН Л УОРФ.
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ
К ЯЗЫКУ
Whorl Benjamin L. The relation of habitual thought and
behavior to language.//Whorf B.L. Language, thought and
reality, N.Y., 1956. — Печатается по изданию: «Новое в
лингвистике». Вып. 1. М., 1960.
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Whorf Benjamin L. Science and Linguistics.//Whorl B.L.
Language, thought and reality. N.Y., 1956. Technology
Review 42 (1940): 229-31, 247-48; In: Language, Thought,
and Reality: — Печатается по изданию: «Новое в лингвисти-
ке». Вып. 1. М., 1960.
Б. Уорф, ученик Э. Сепира, является одним из авторов
теории лингвистической относительности, получившей
также название гипотезы Сепира—Уорфа. Их стараниями
в лингвистический и — шире — культурный оборот прочие
ПРИМЕЧАНИЯ
56fl
вошло понятие языковой картины мира (впервые сформу-
лированное еще немецким филологом Лео Вайсгербером в
конце 1920-х годов). Ср. высказывания Э. Сепира: «Мир
языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть за-
вершенная система обозначения... Переход от одного языка
к другому психологически подобен переходу от одной гео-
метрической системы отсчета к другой... Каждый язык об-
ладает законченной в своем роде и психологически удов-
летворительной формальной ориентацией, но эта ориента-
ция залегает глубоко в подсознании носителей языка...
Языки являются по существу культурными хранилищами
обширных и самодостаточных сетей психических про-
цессов».
___________________________ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Wittgenstein Ludwig. Philosophische Untersuchungen//
Philosophical Investigations. Oxford, 1953. — Печатается
по изданию: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1.
М., 1994.
А. Лактионов
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции
Язык мира
Кирилл Королев 5
ЯЗЫК КАК ОБРАЗ МИРА
МАКС МЮЛЛЕР
ОТ СЛОВА К ВЕРЕ;
РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 9
Лекция /.
Цель и польза сравнительного
изучения религий.
Сравнительная теология 9
Лекция II.
Классификация религий 36
Лекция III.
Классификация религий
(продолжение) 60
Лекция IV.
О способе толкования
древних религий 100
ЭДВАРД СЕПИР
СТАТУС ЛИНГВИСТИКИ
КАК НАУКИ 127
ГРАММАТИСТ И ЕГО ЯЗЫК 139
БЕНДЖАМЕН Л. УОРФ
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
И МЫШЛЕНИЯК ЯЗЫКУ 157
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ:
О двух ошибочных воззрениях
на речь и мышление,
характеризующих систему
естественной логики,
и о том, как слова и обычаи
влияют на мышление 202
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 220
Приложения
Универсальный язык
и универсальная письменность:
в погоне за мечтой
Кирилл Королев 549
Примечания 566