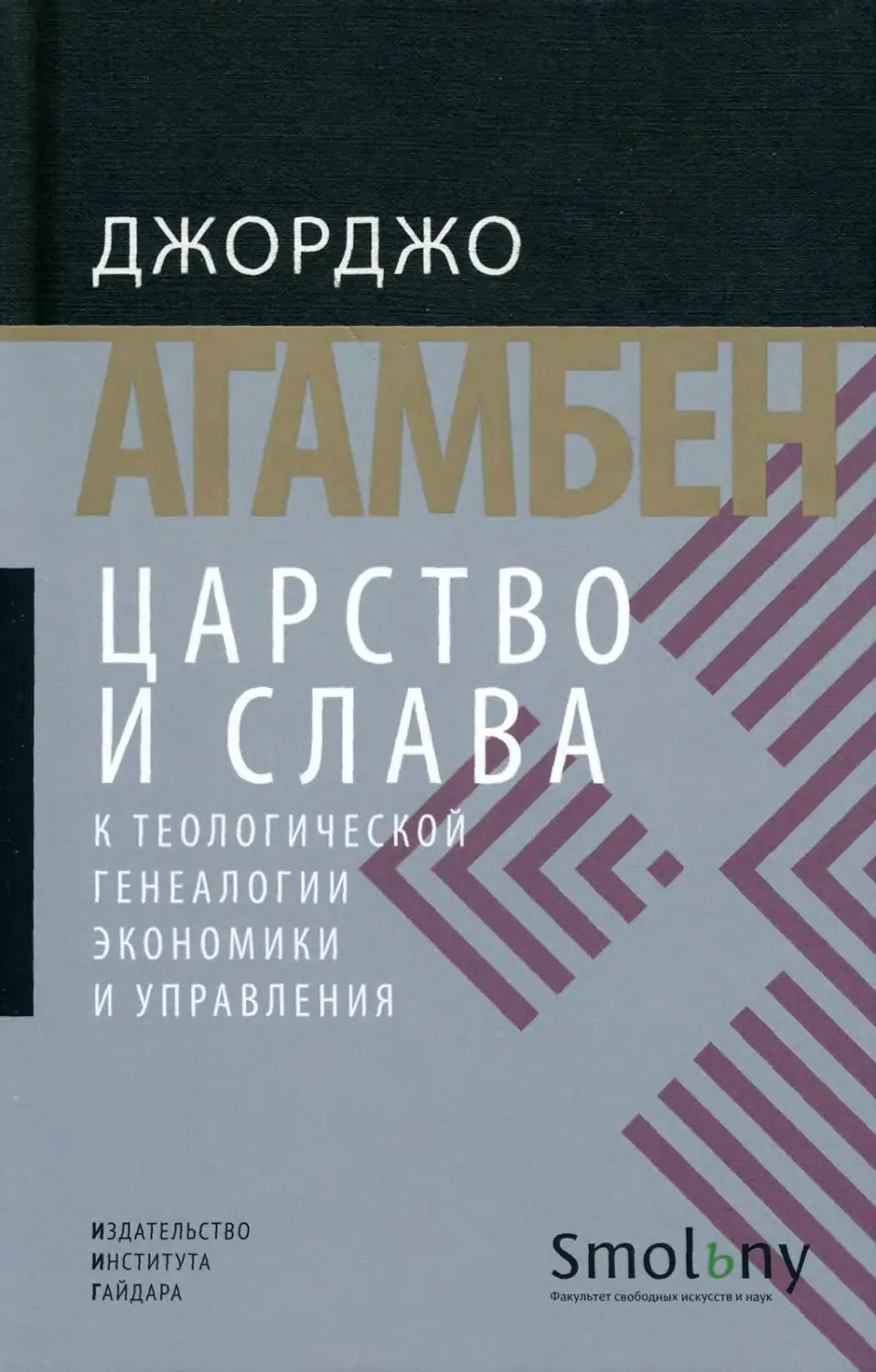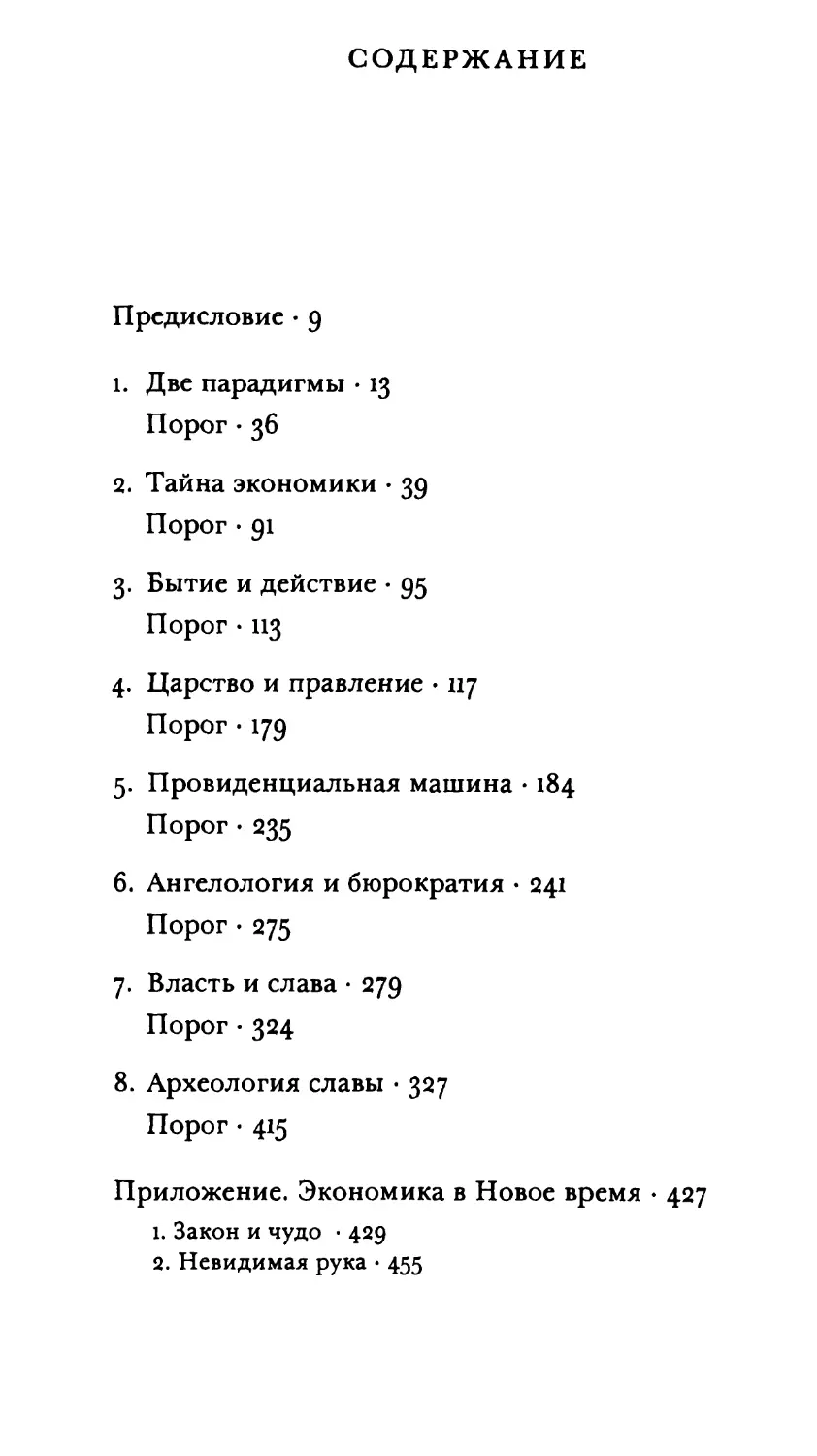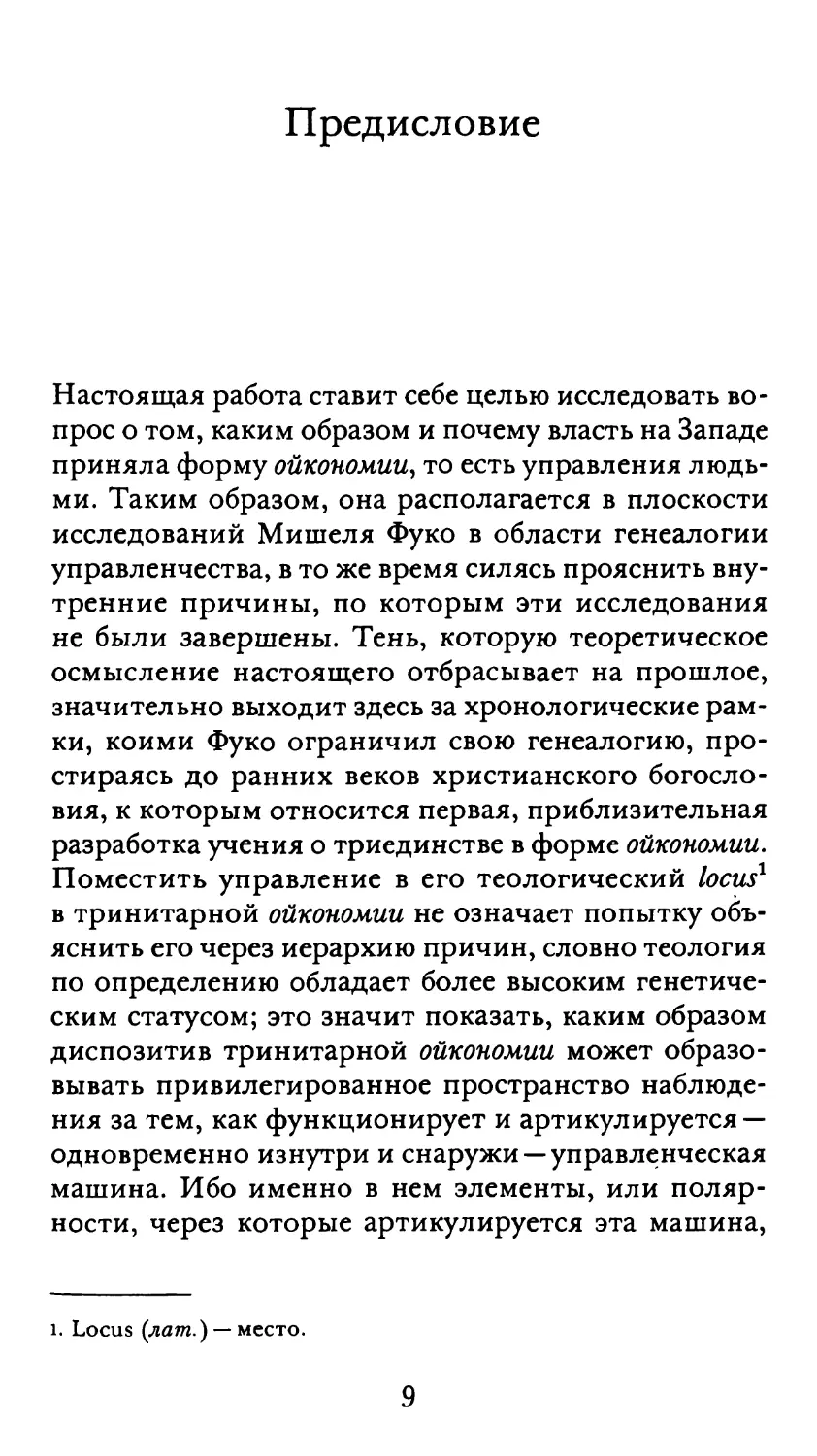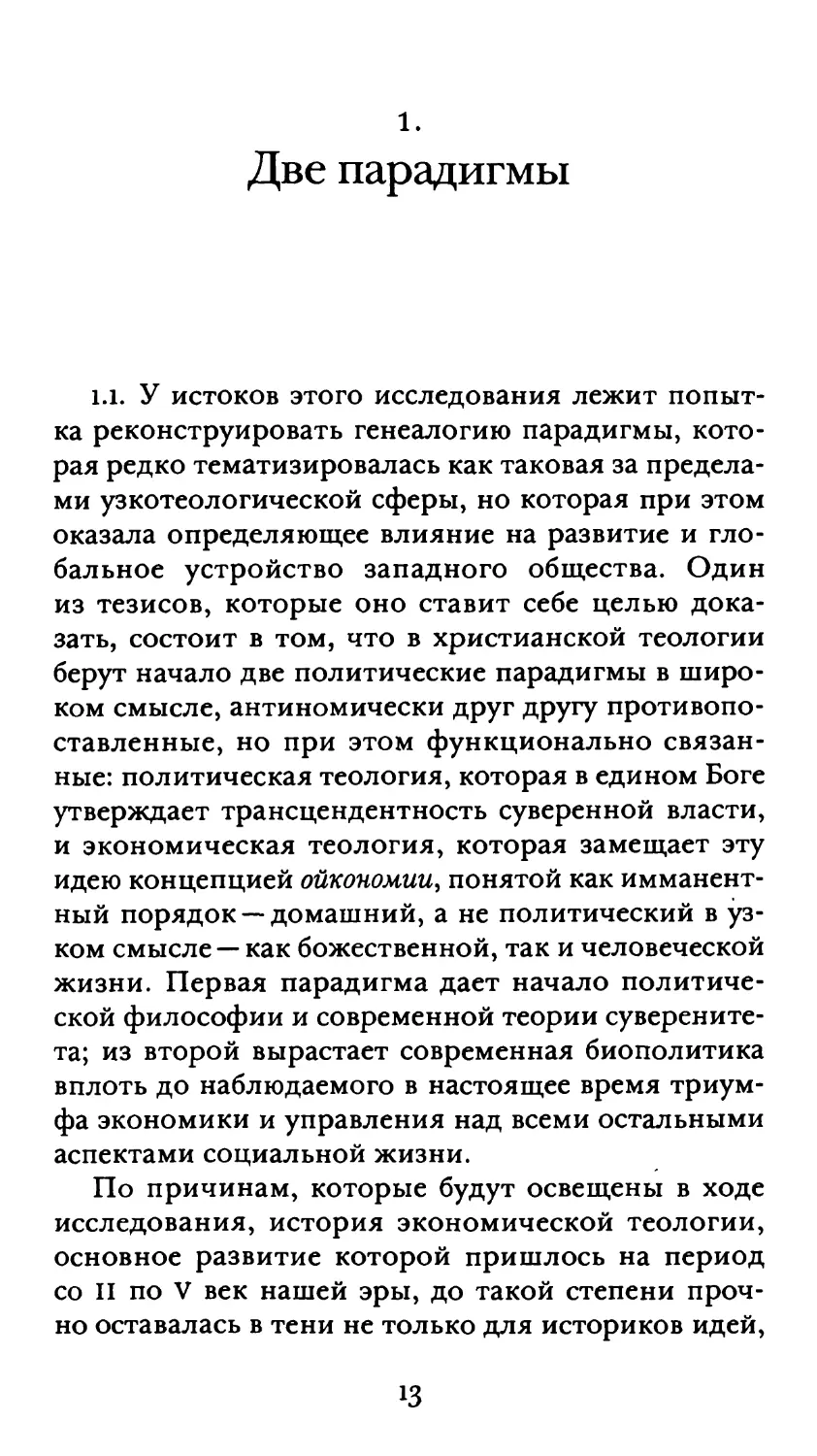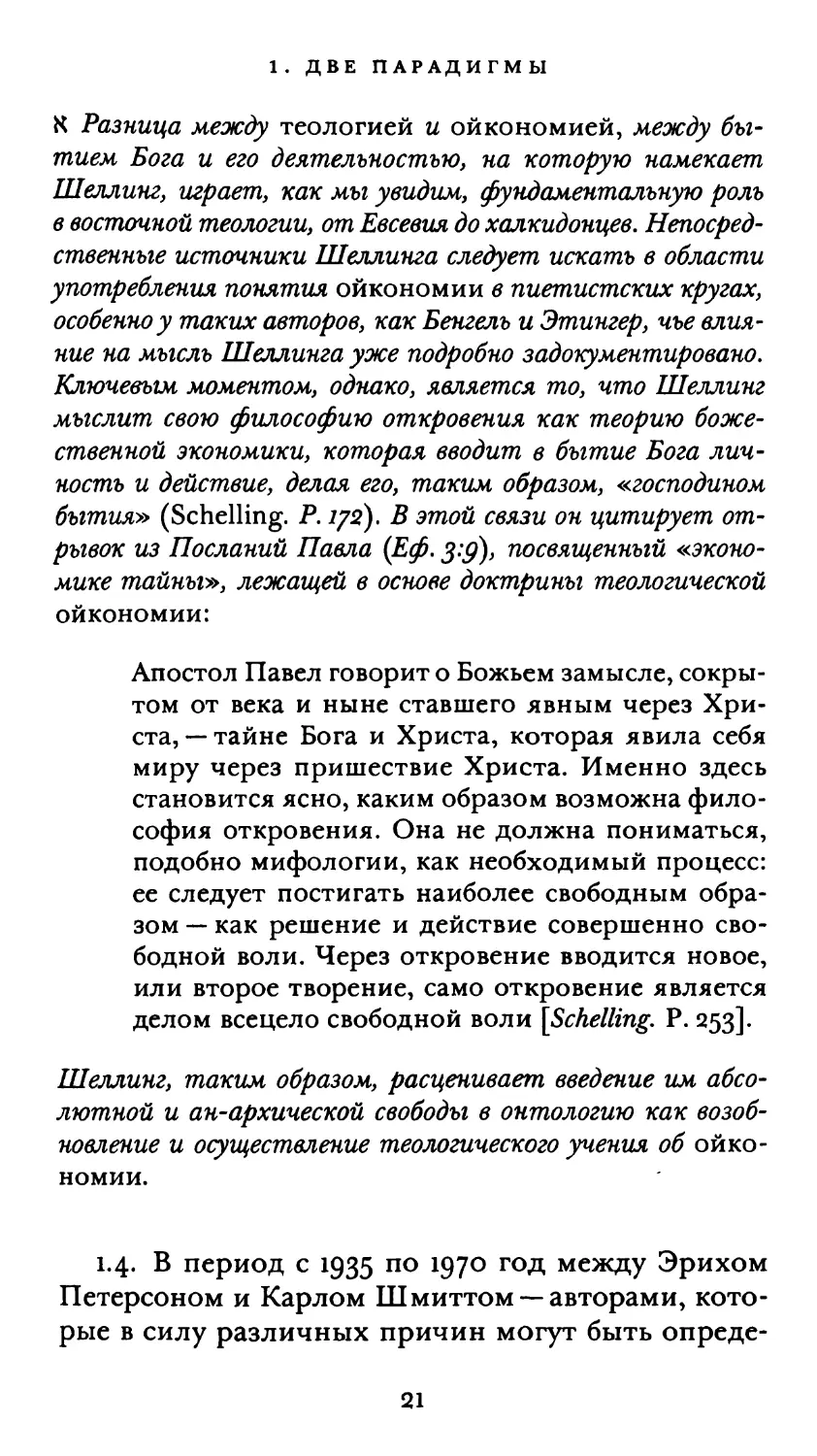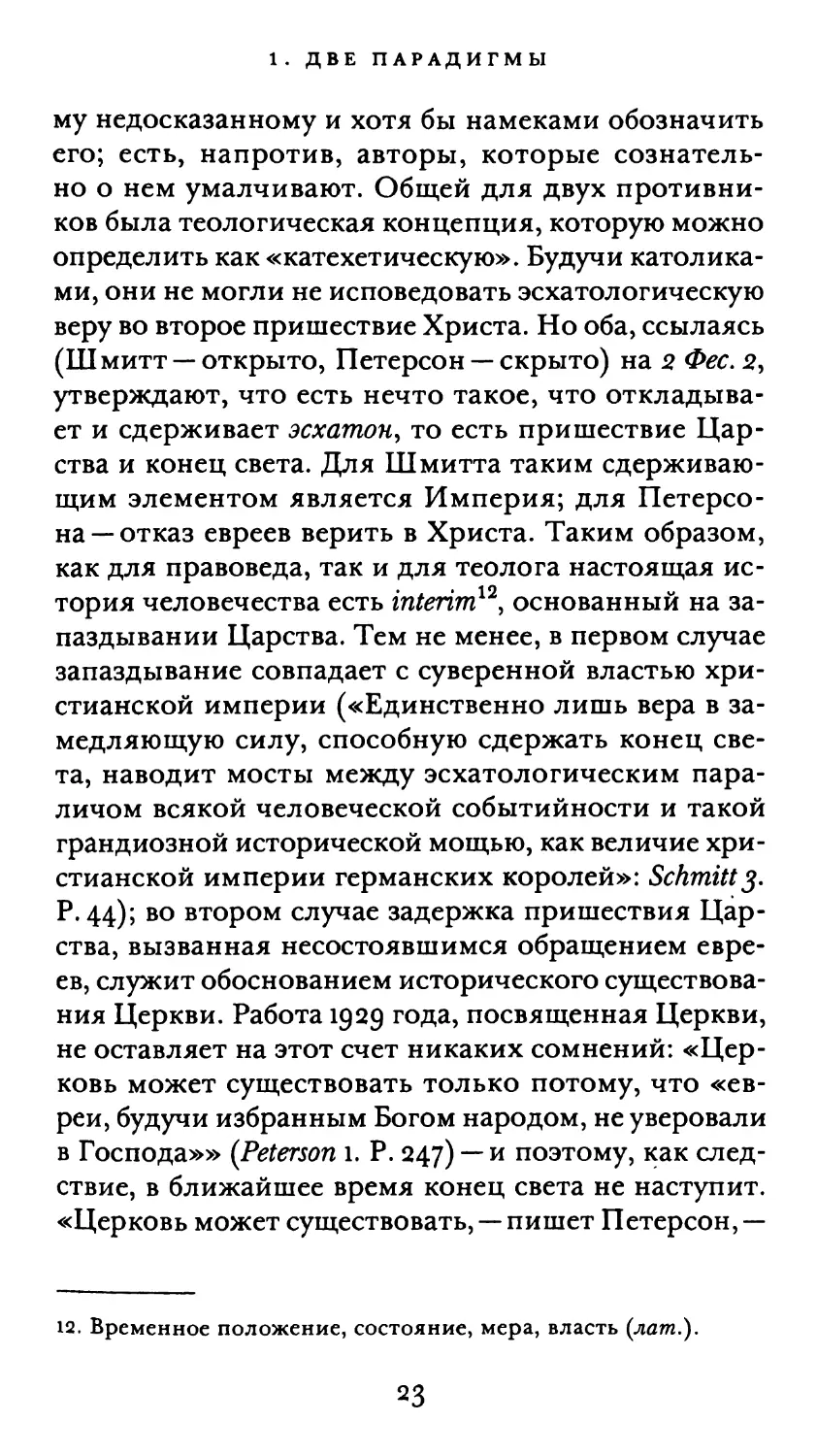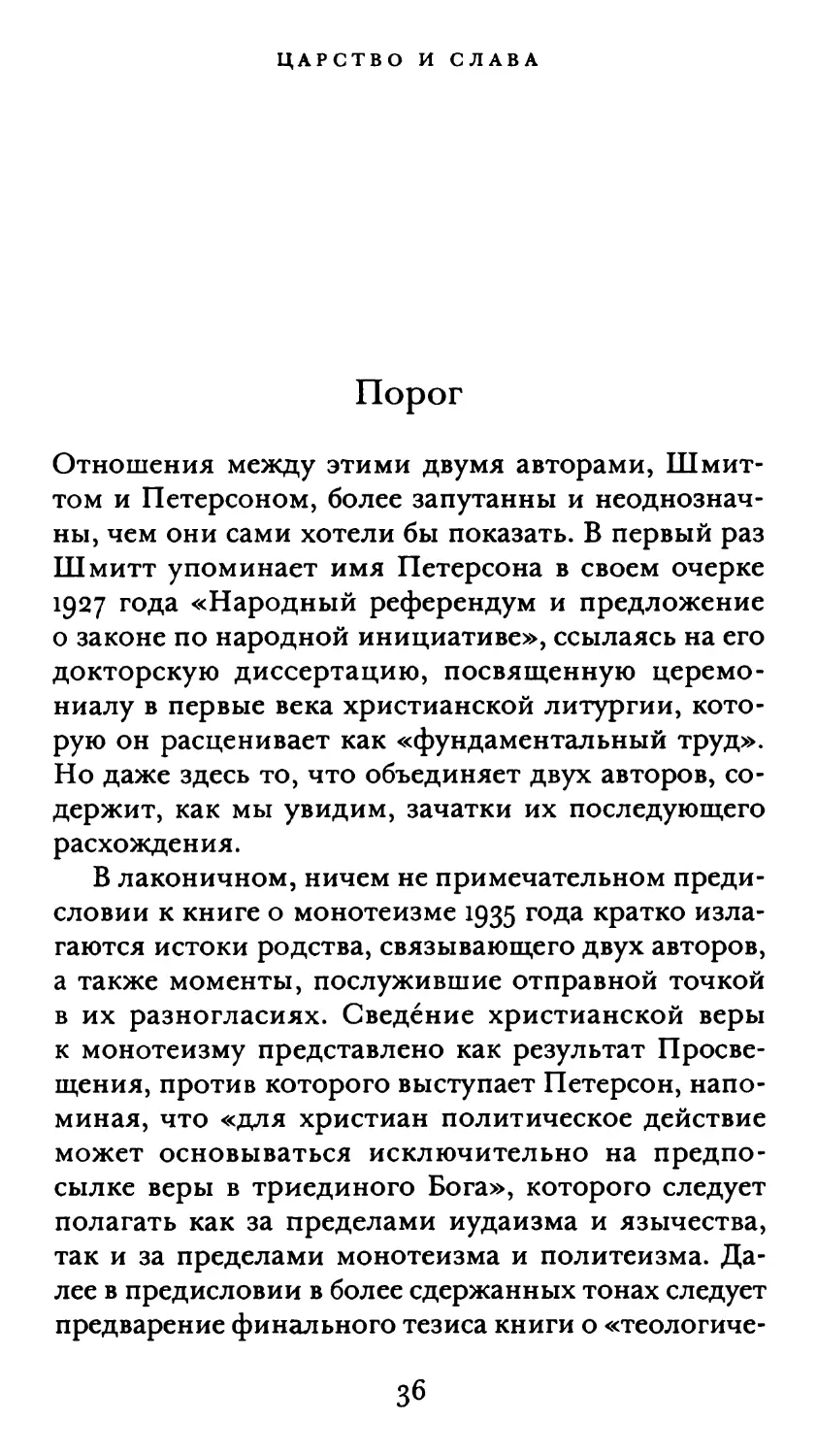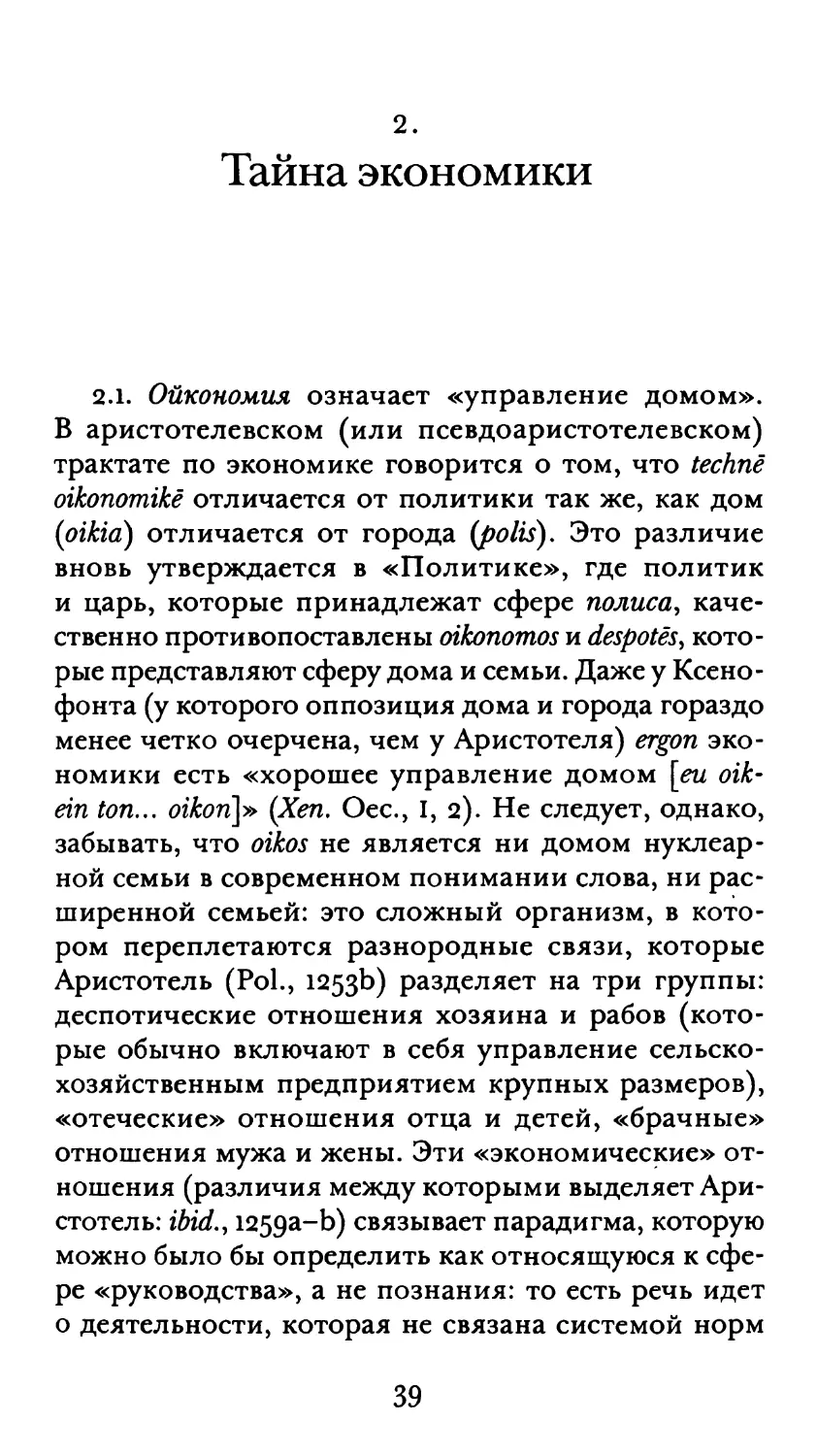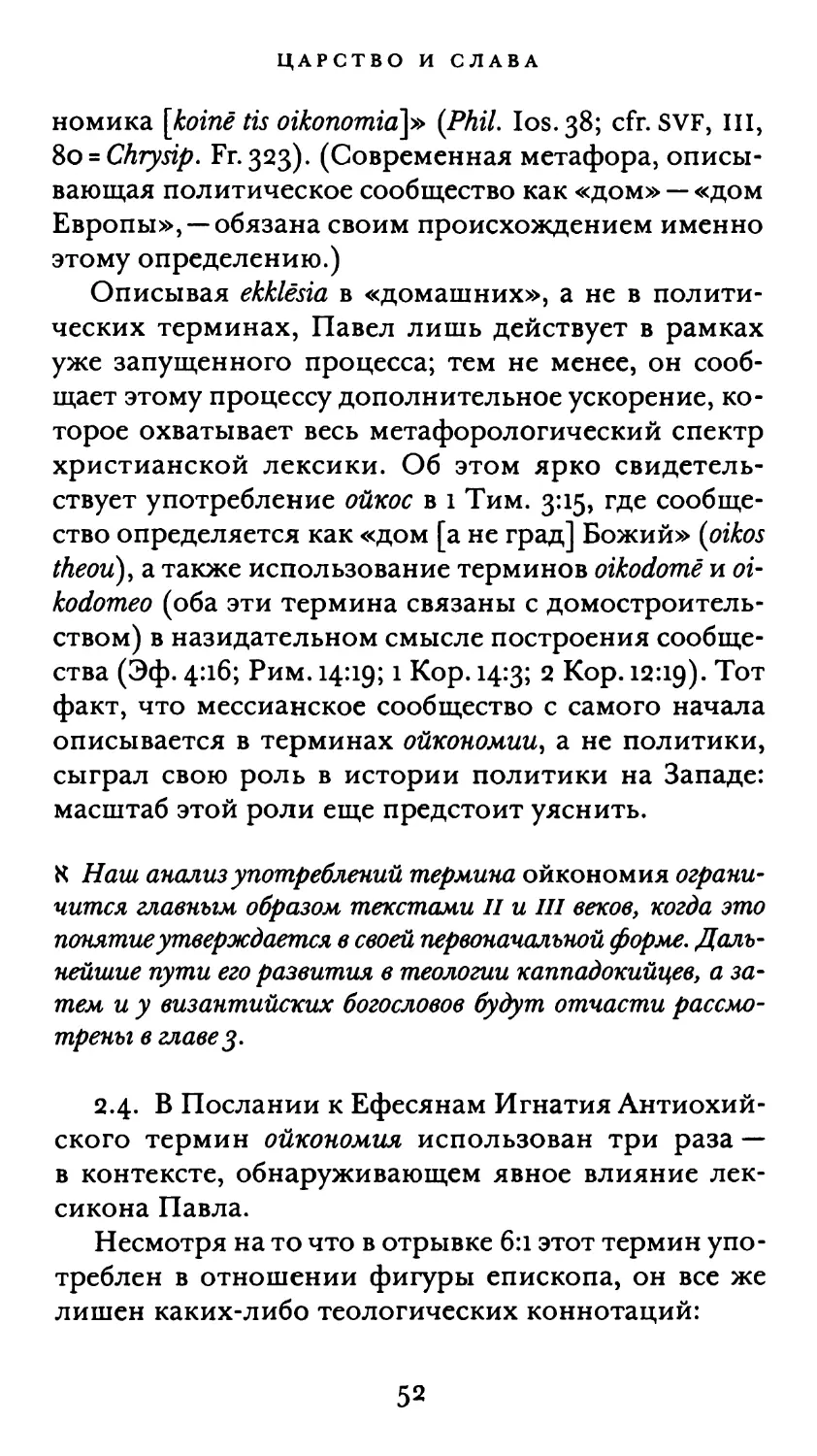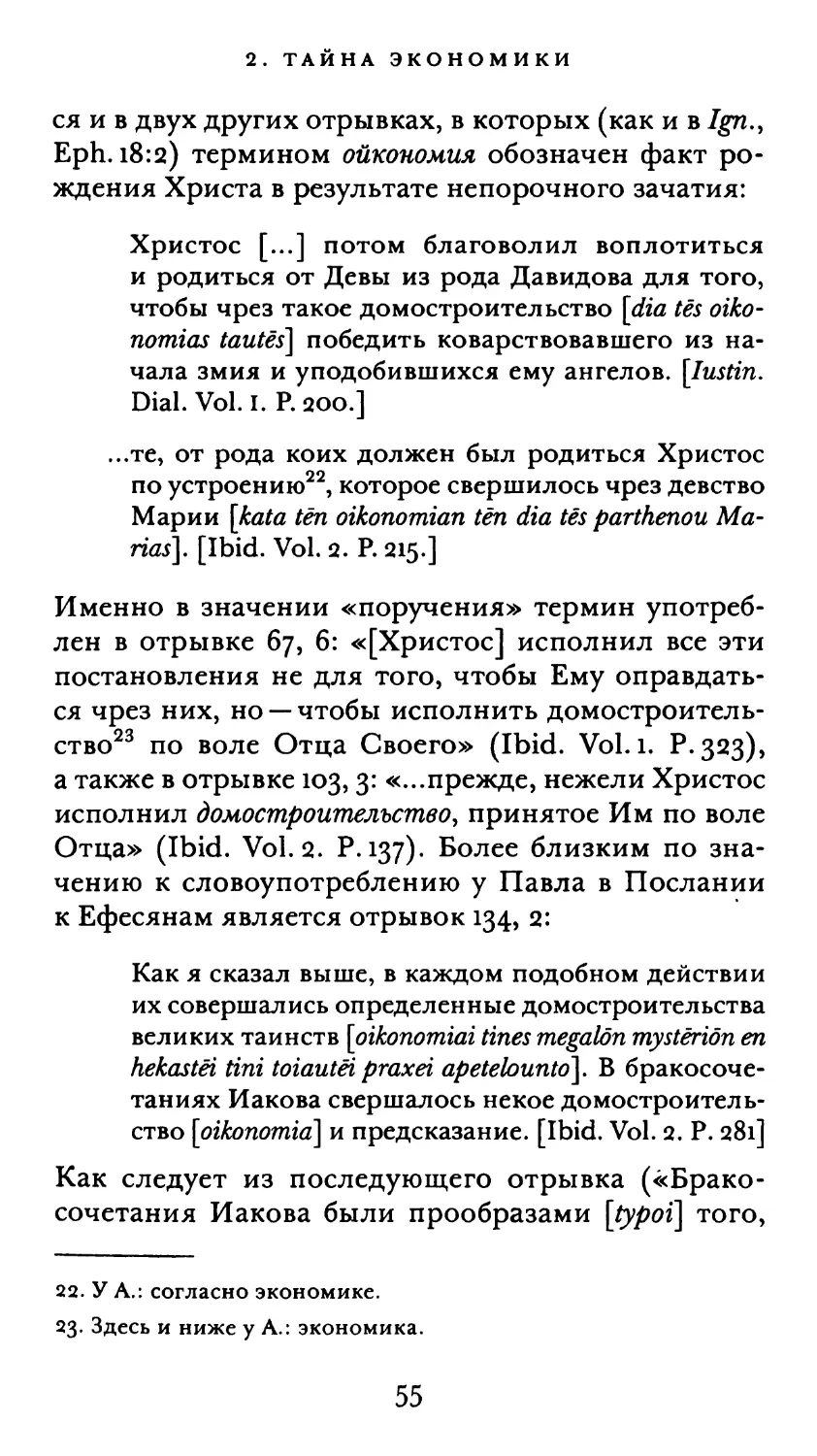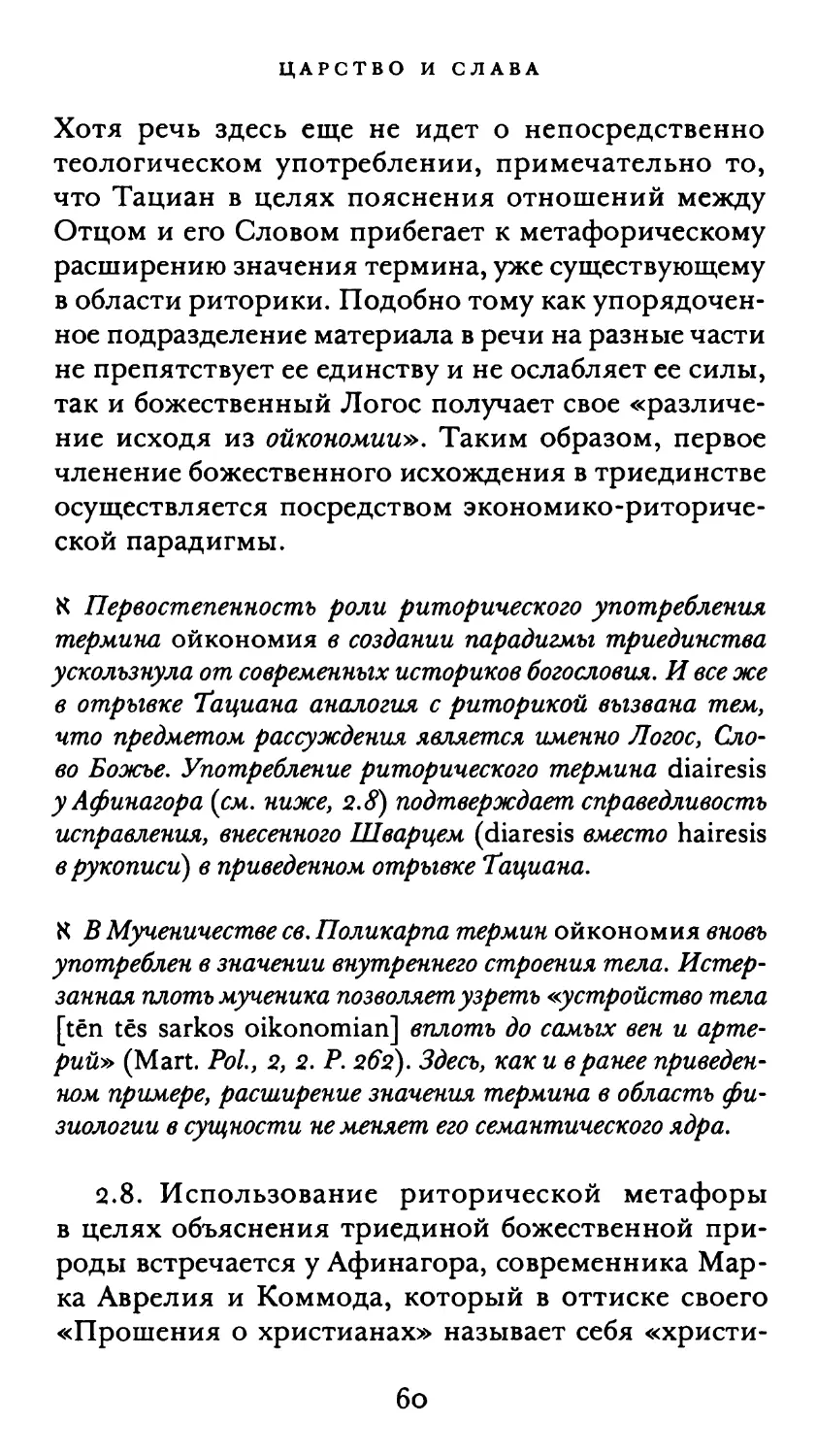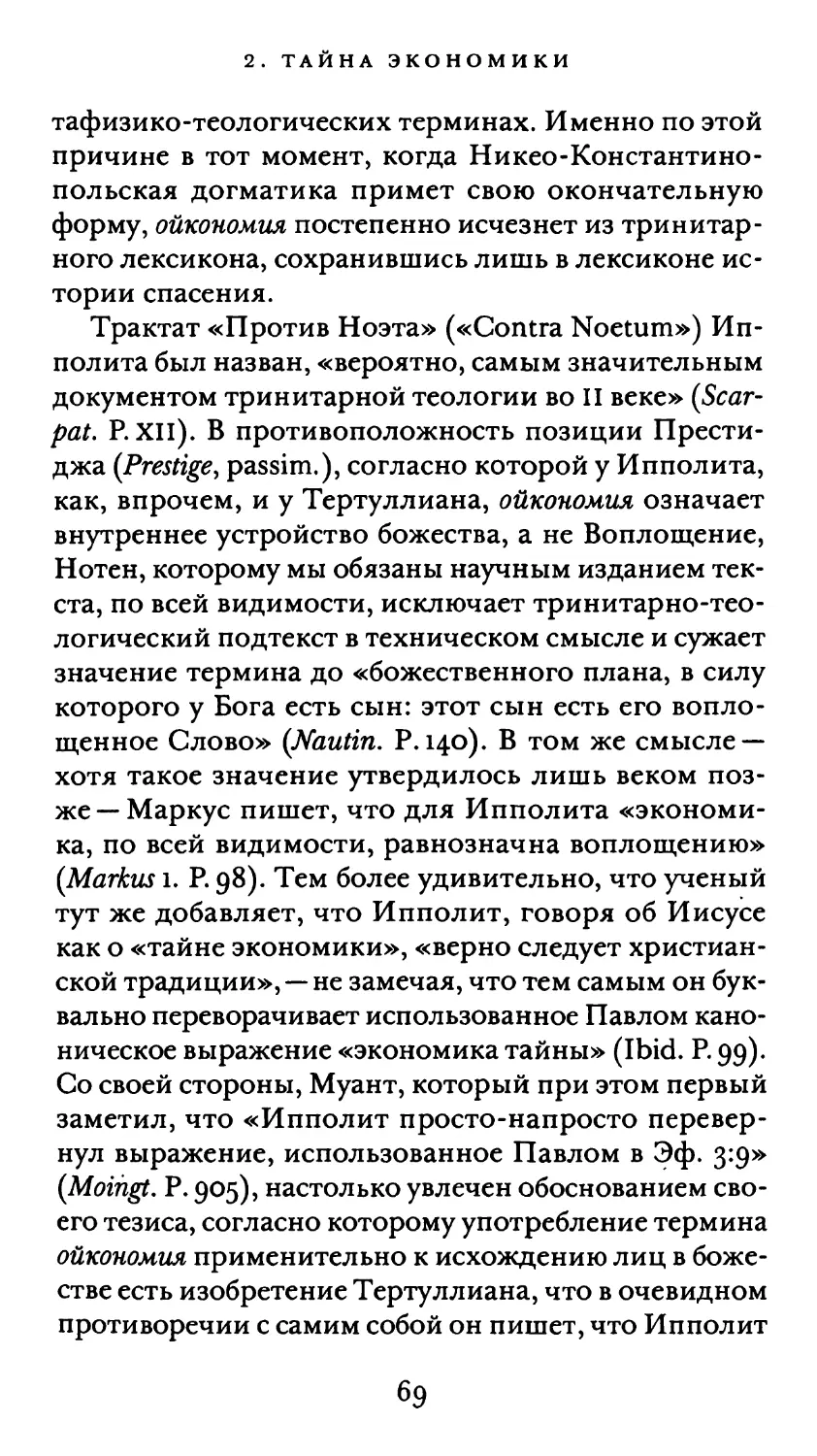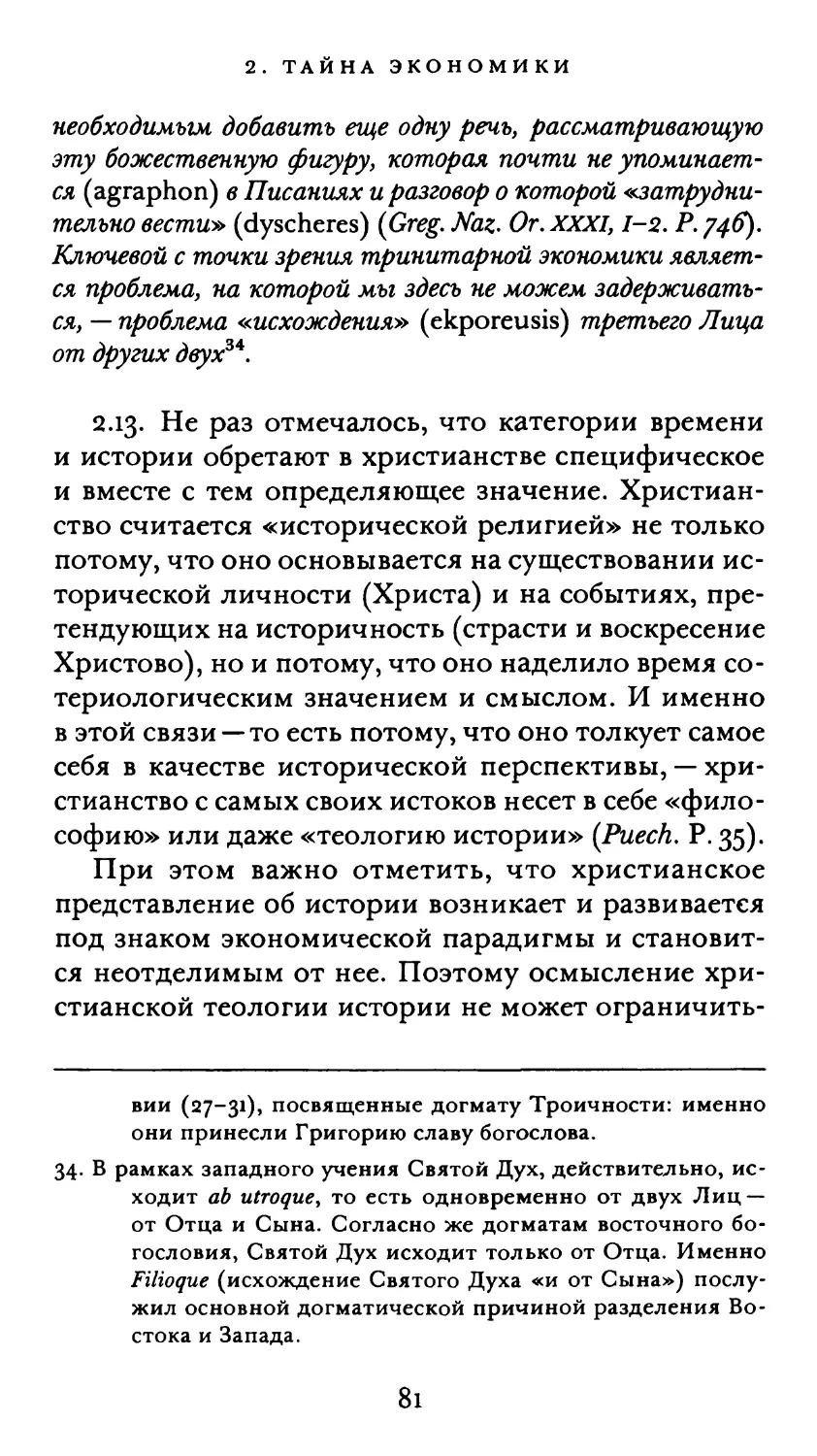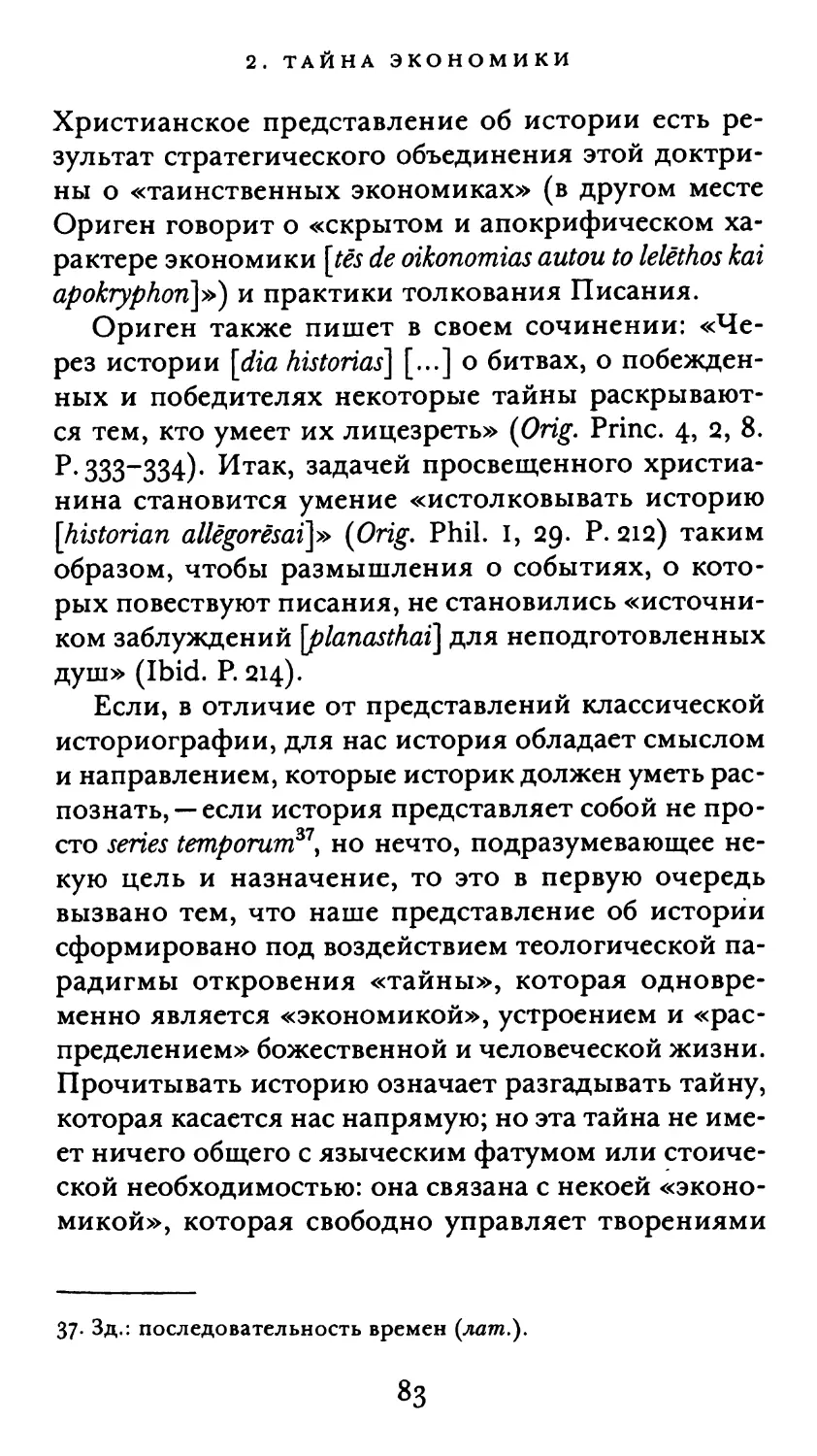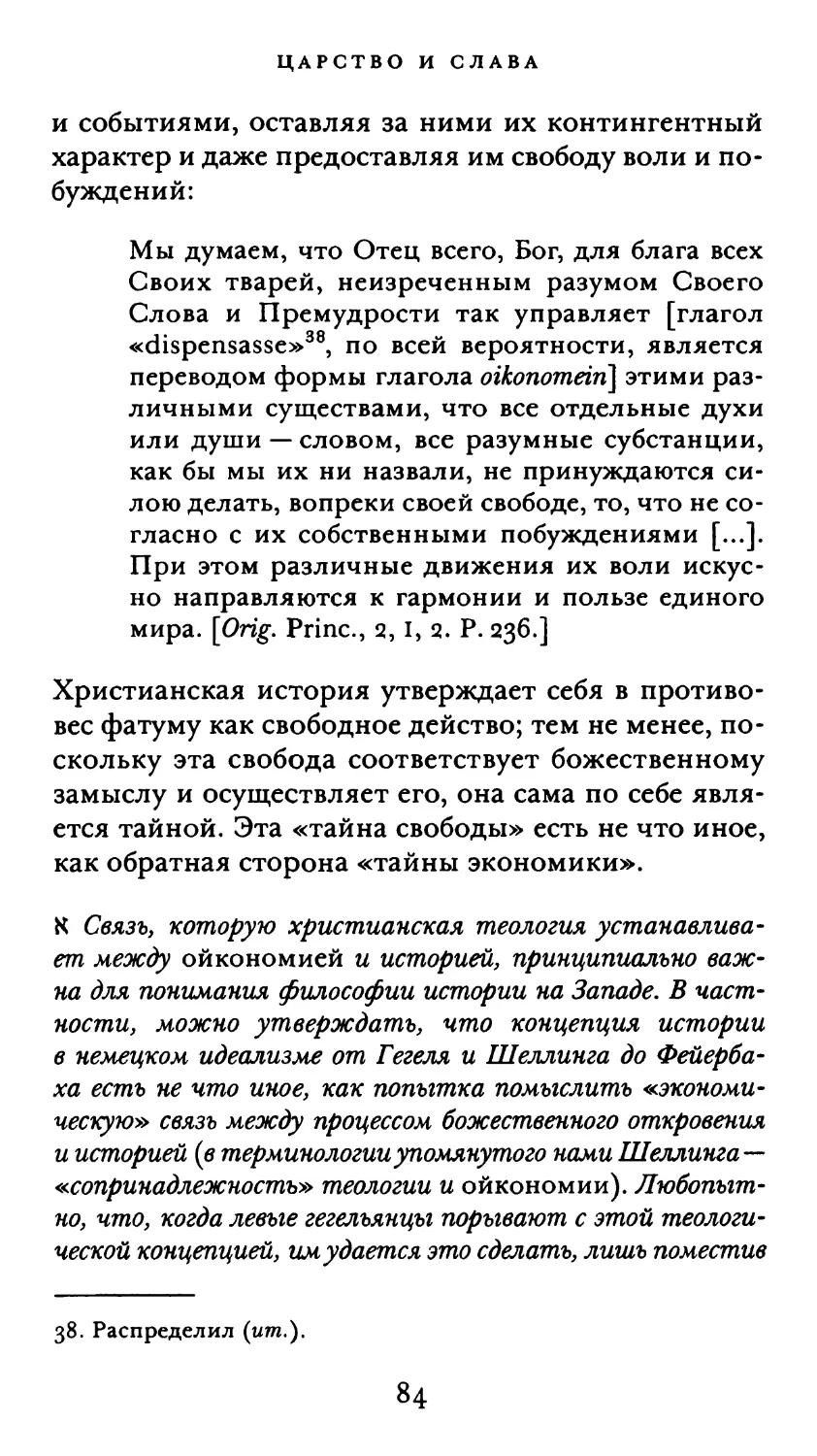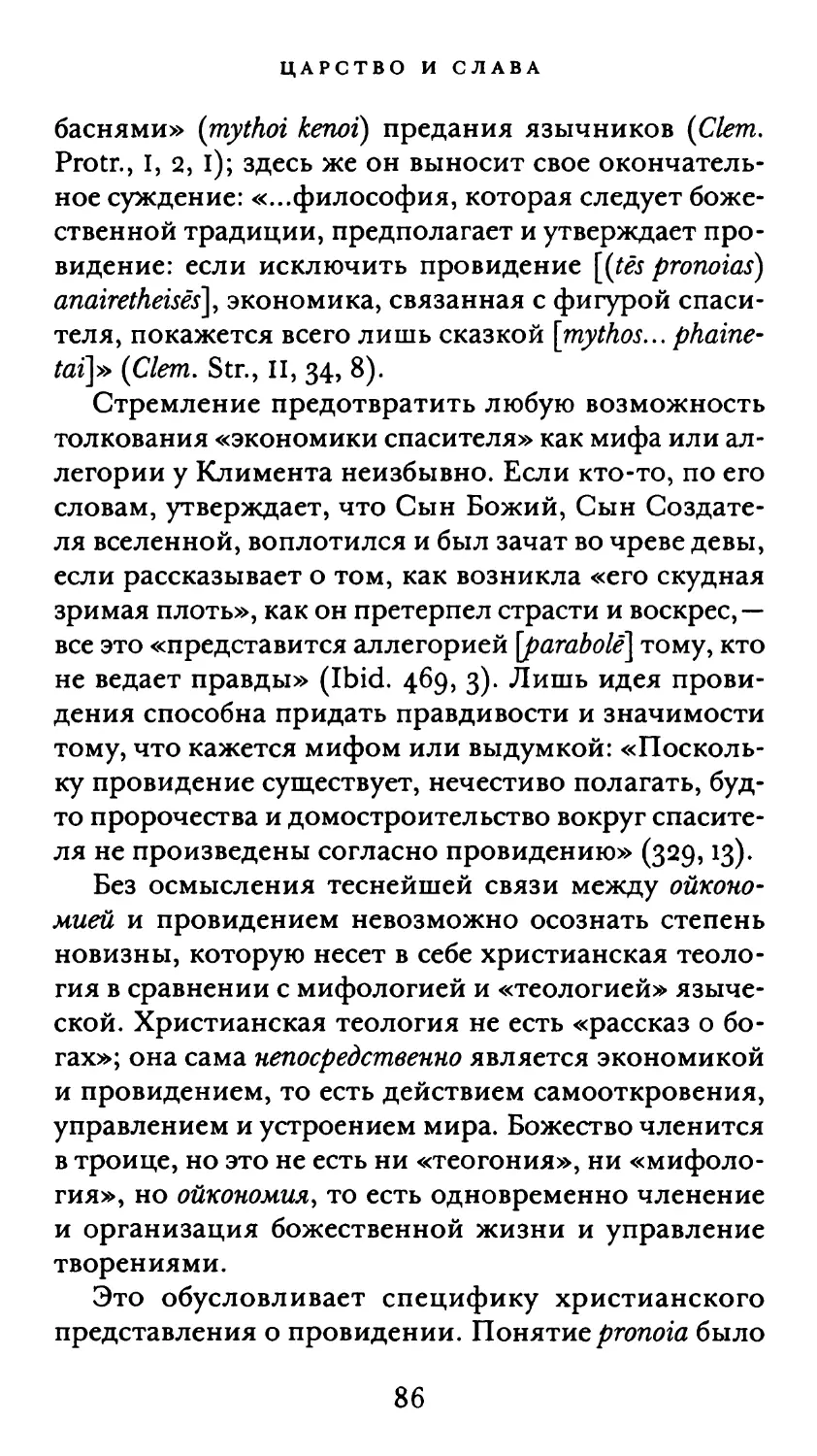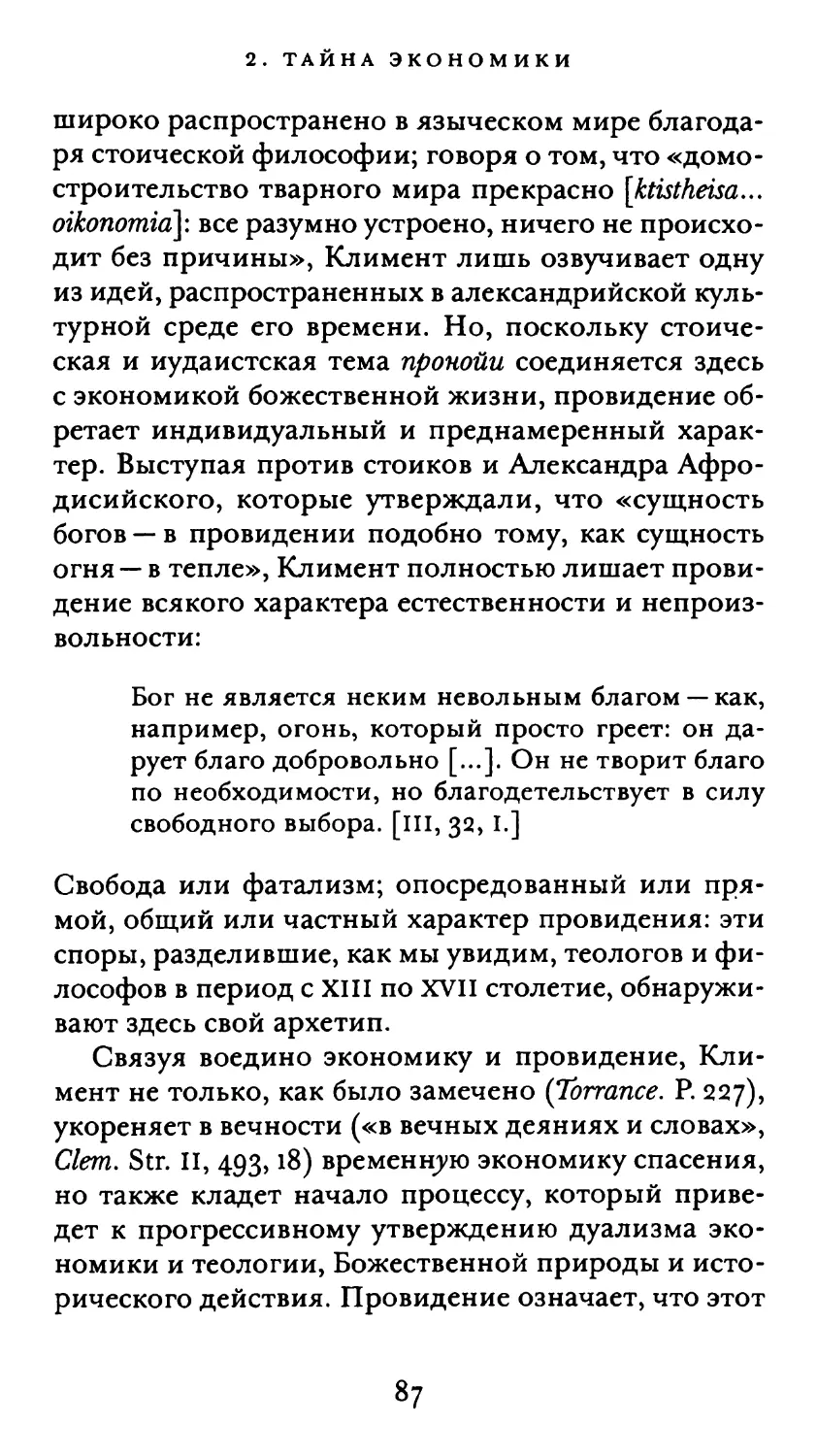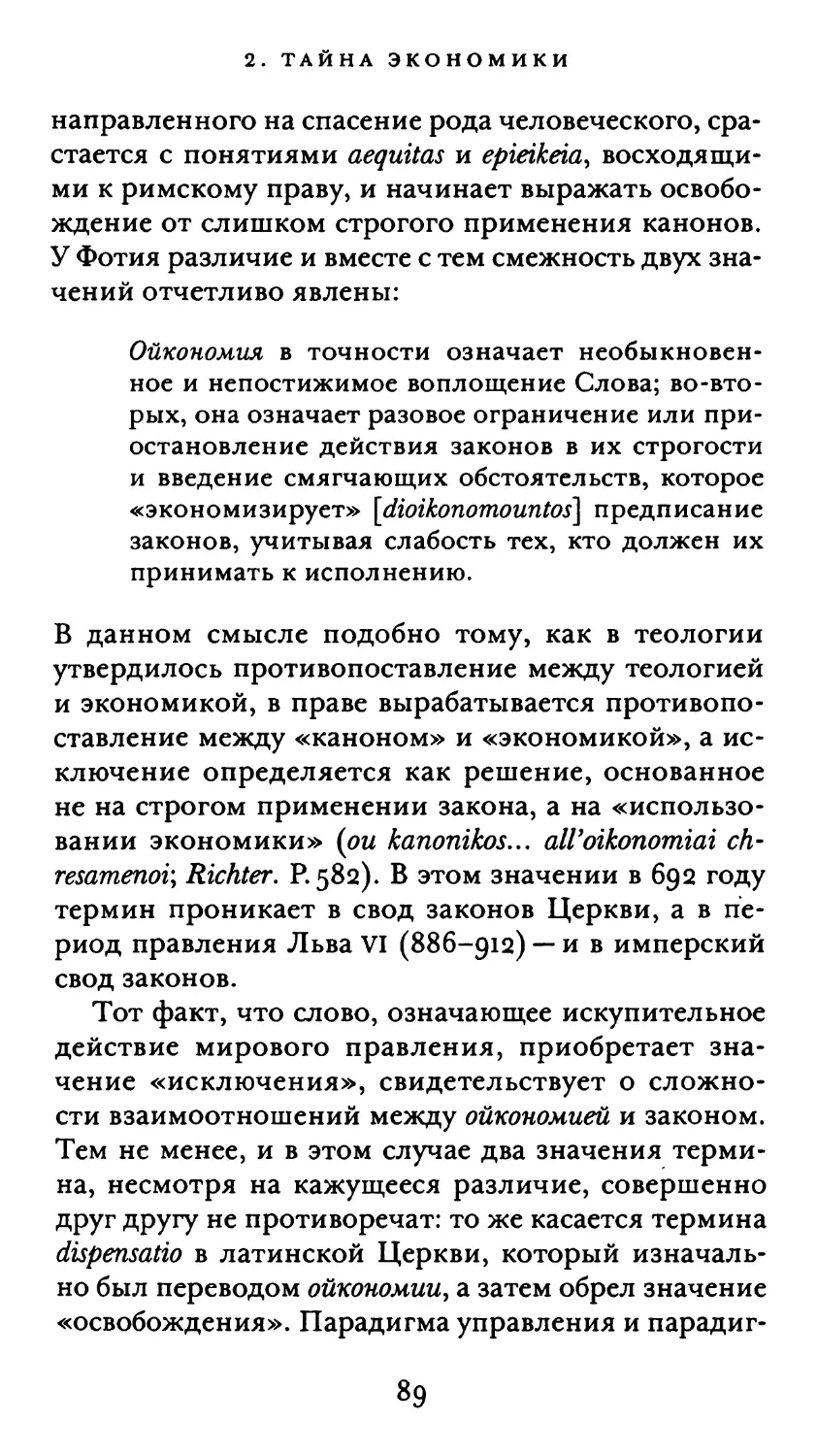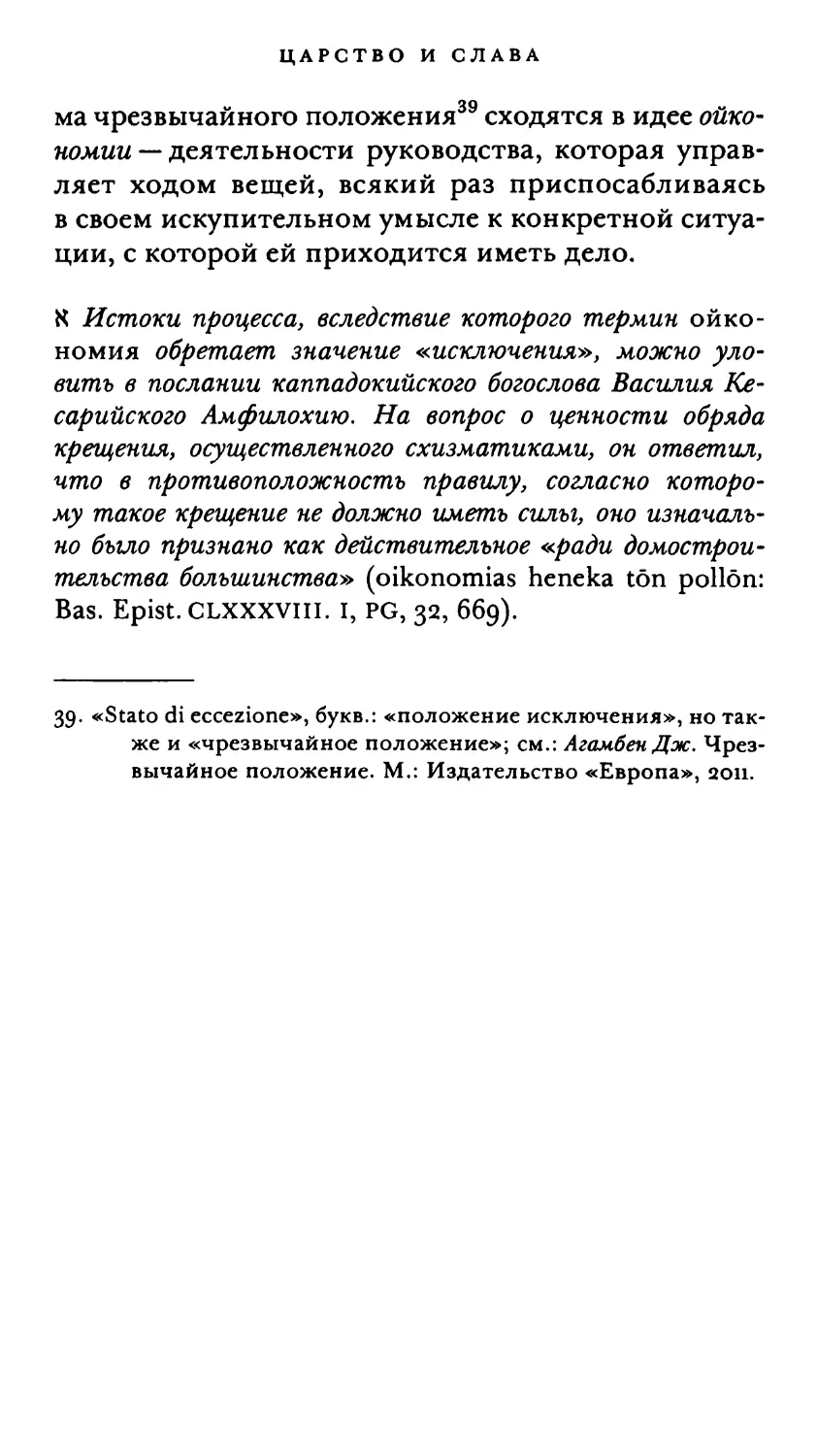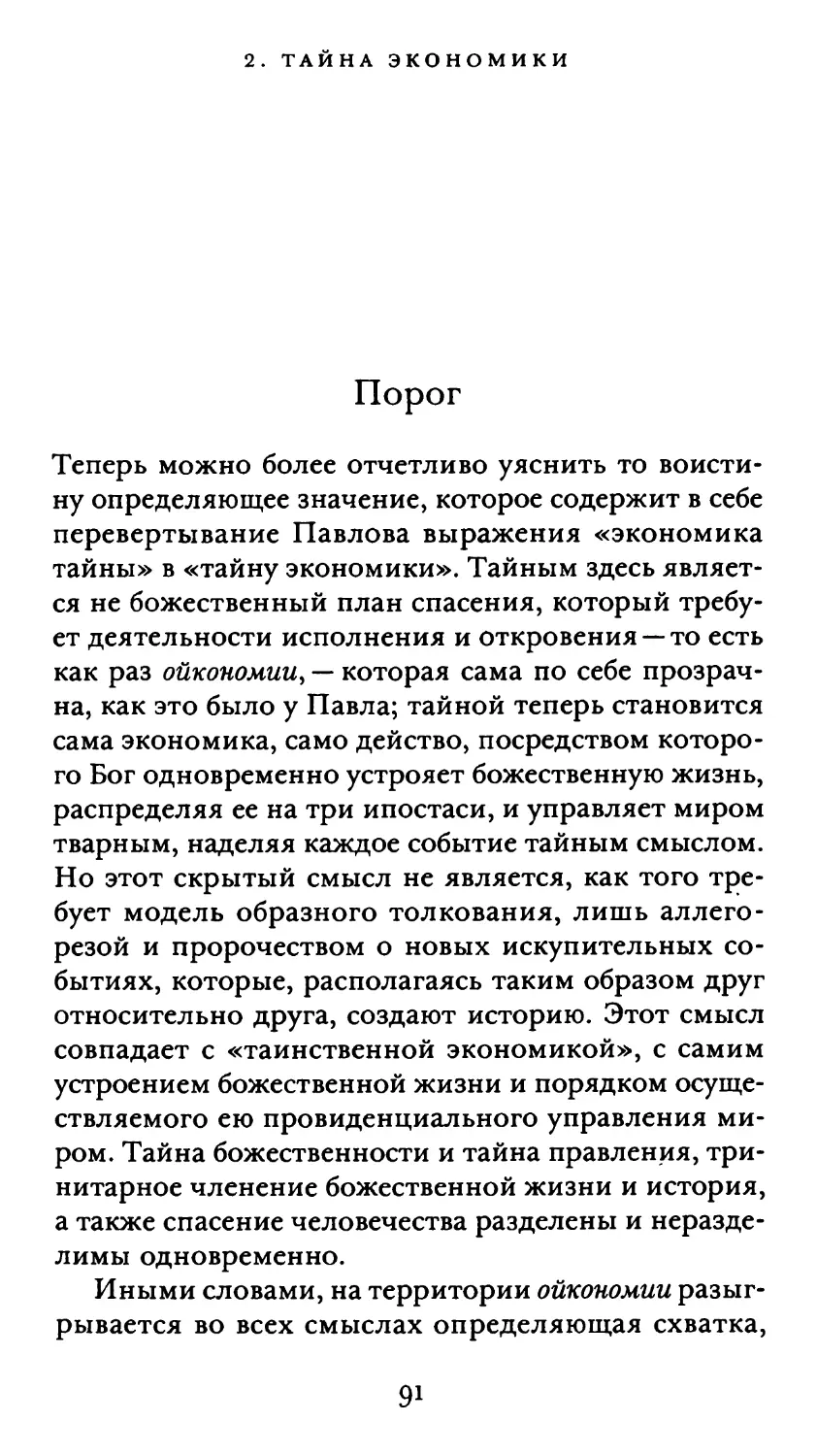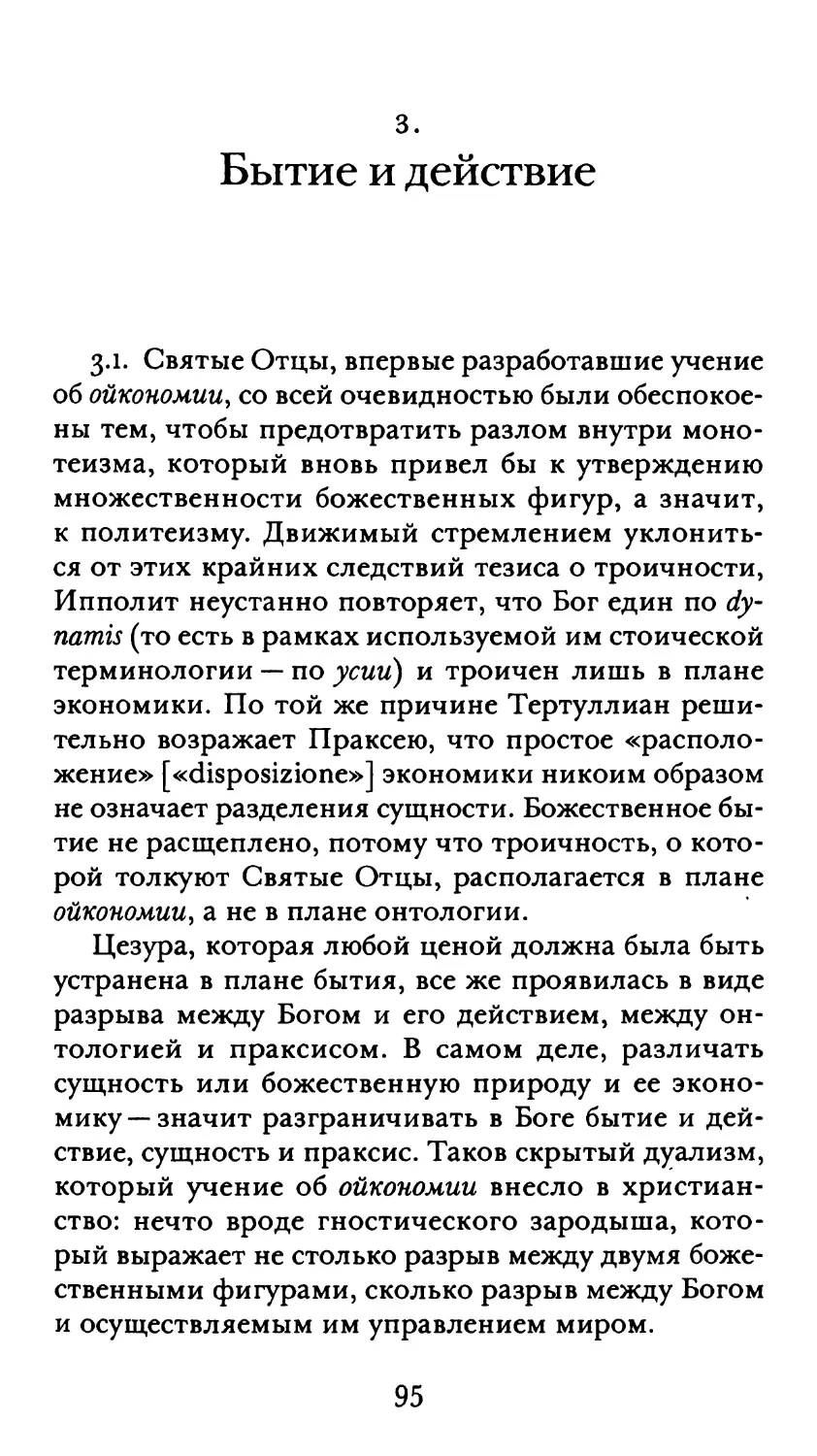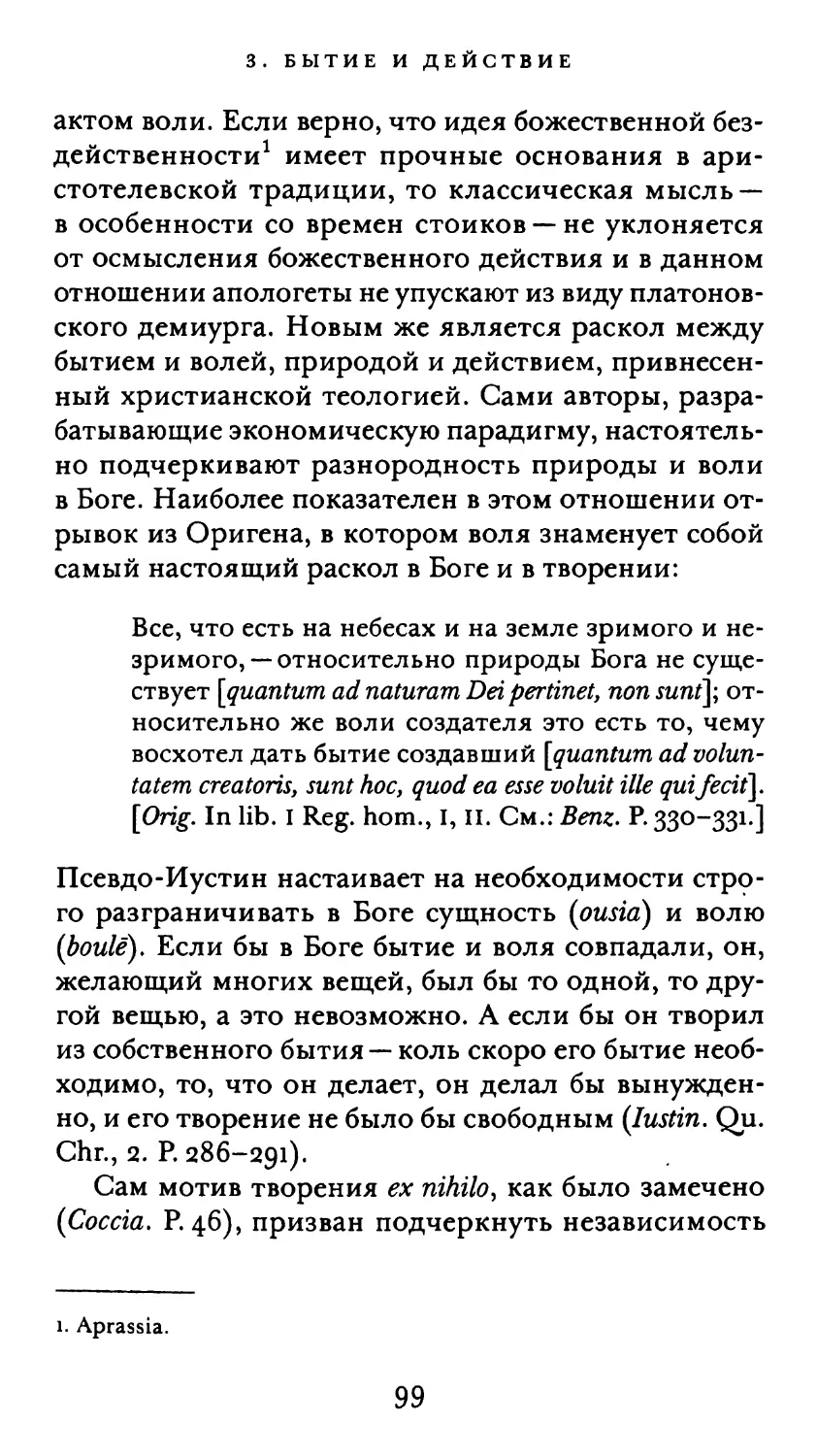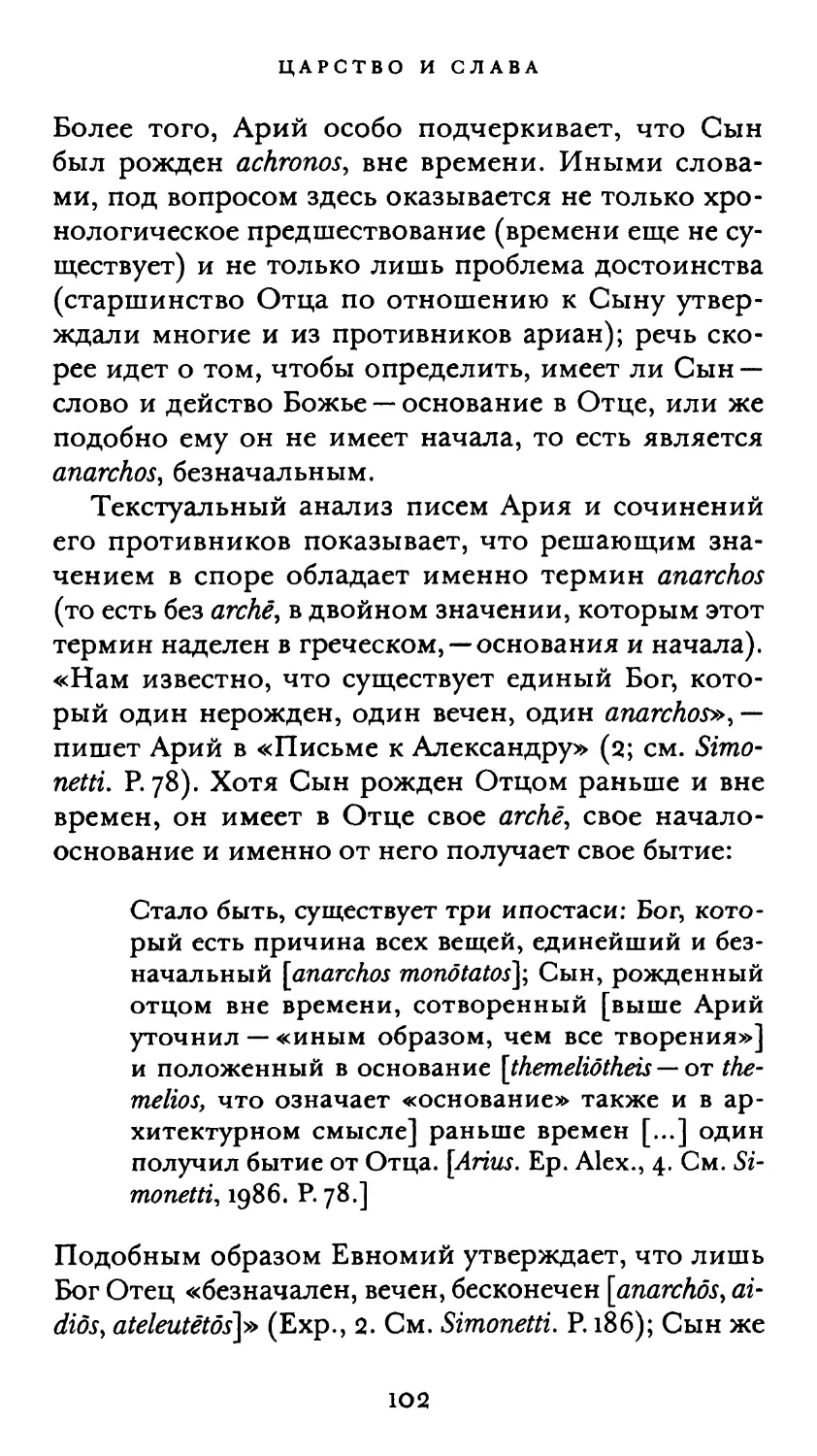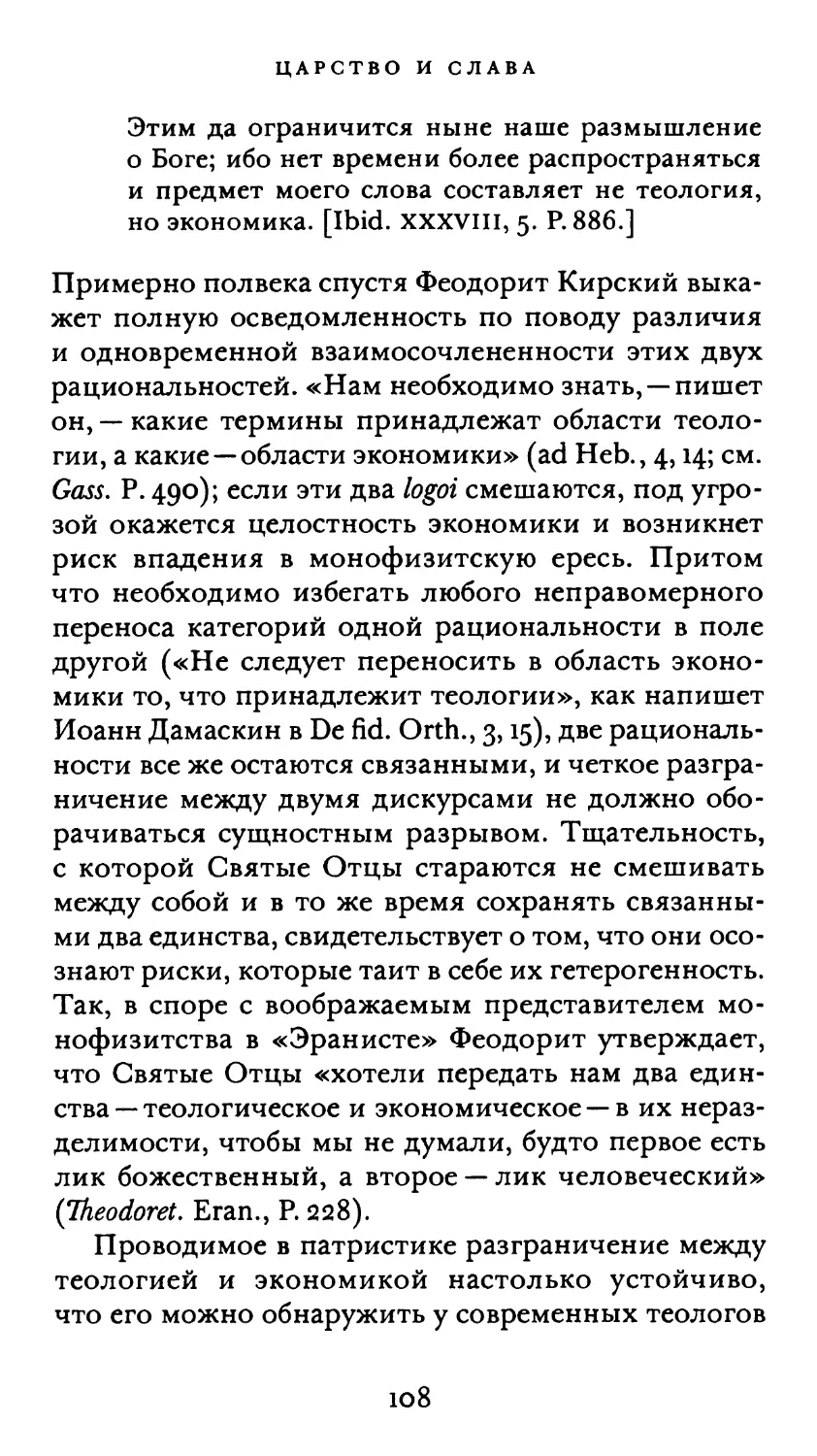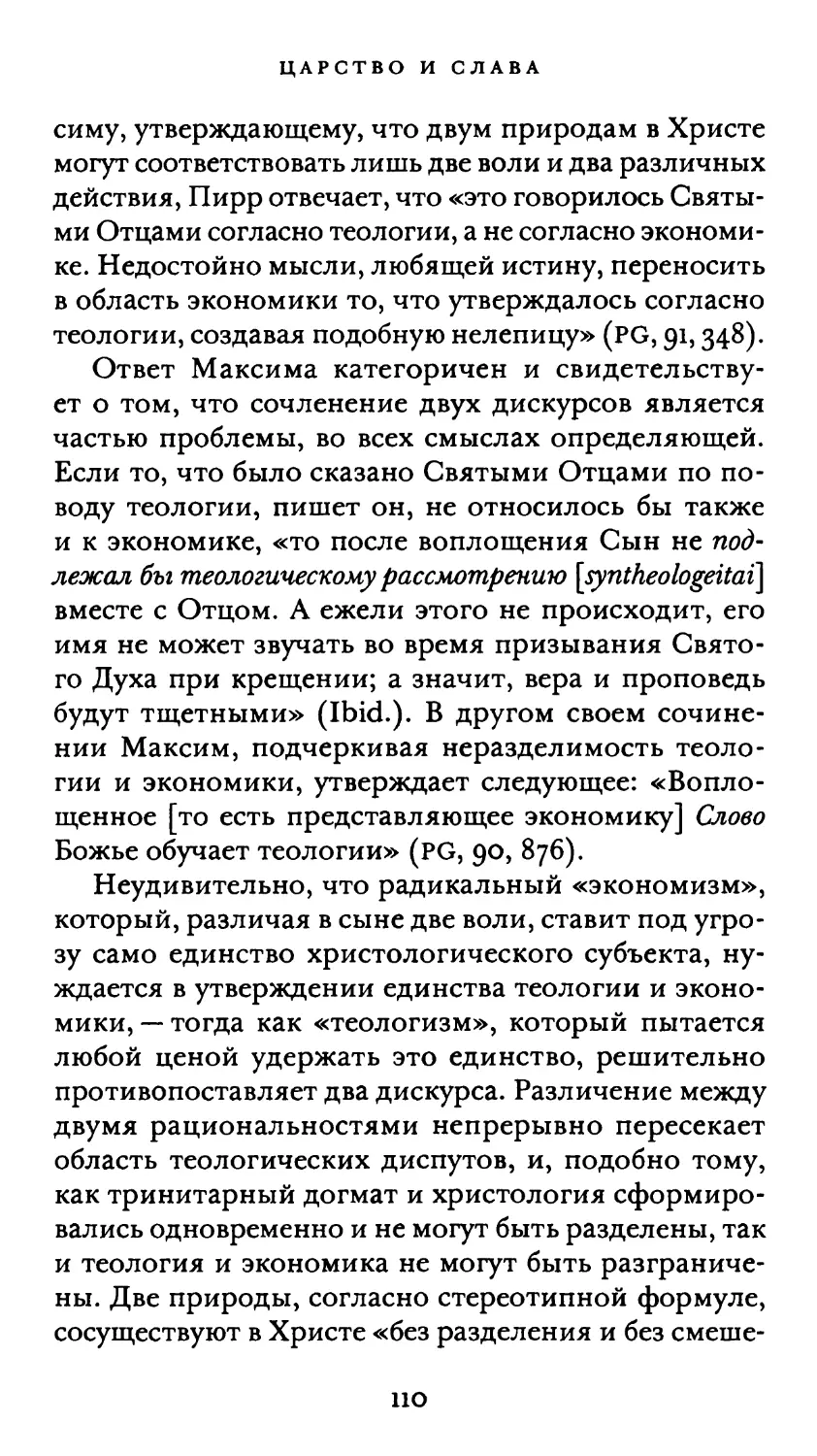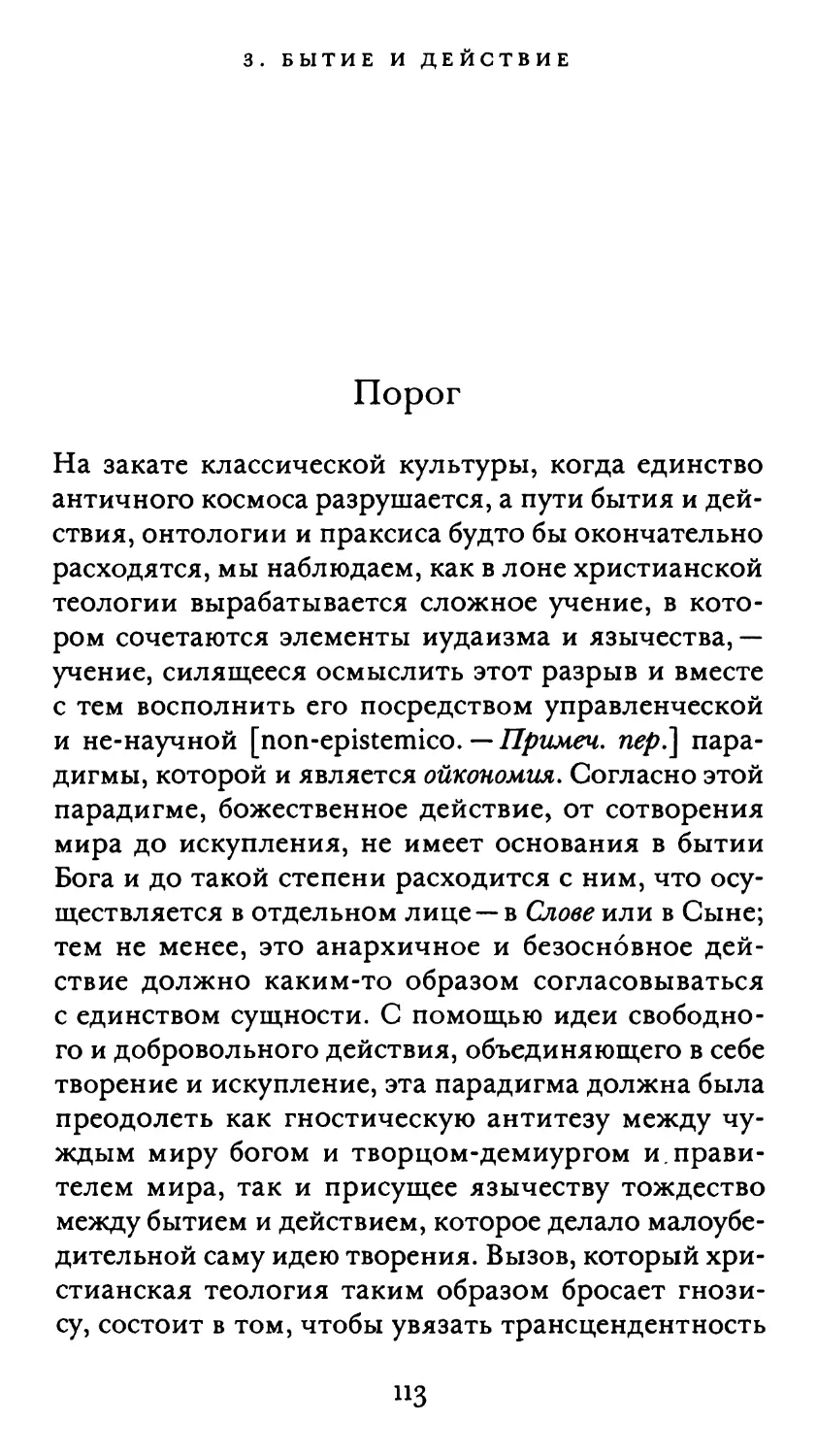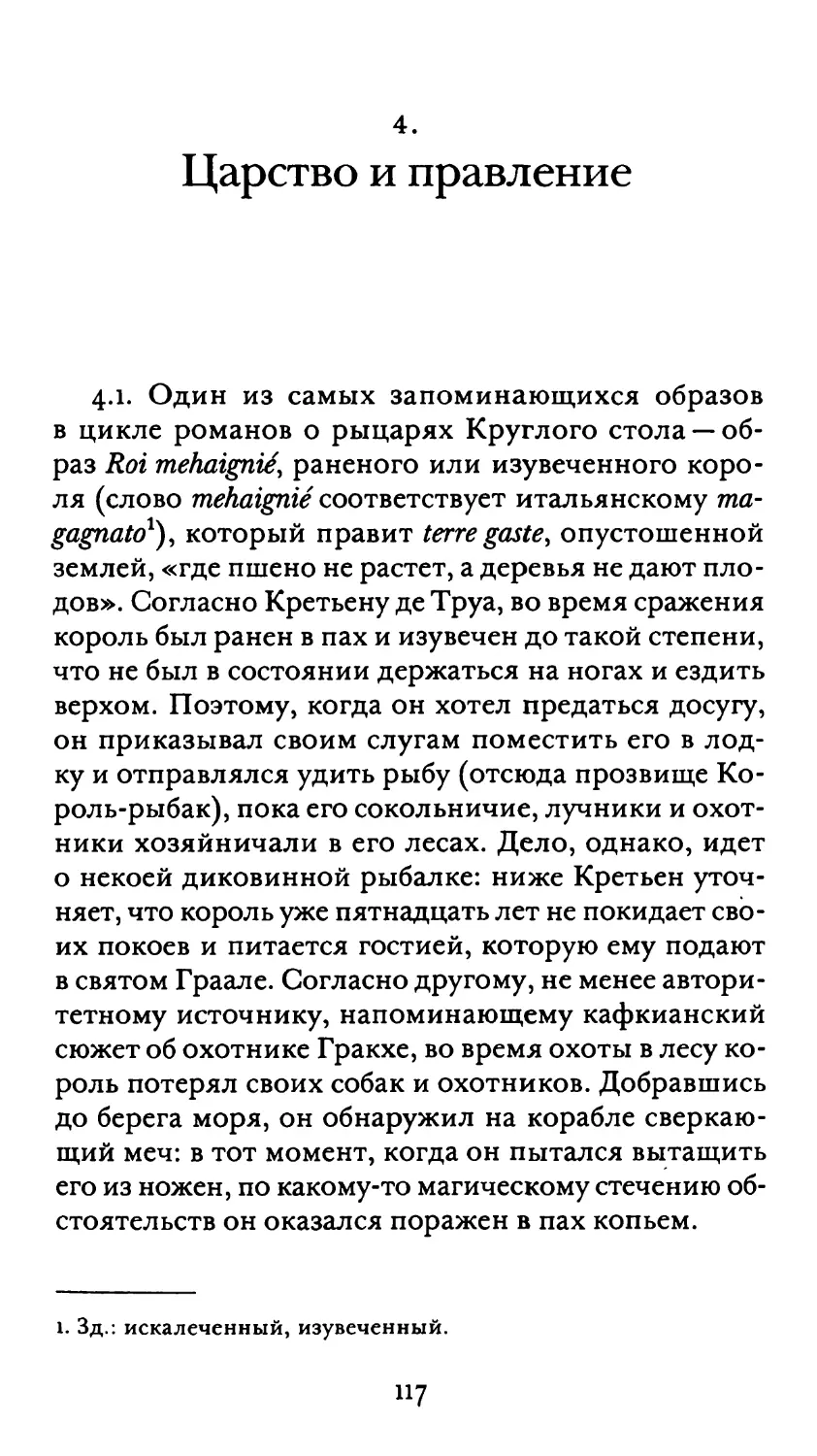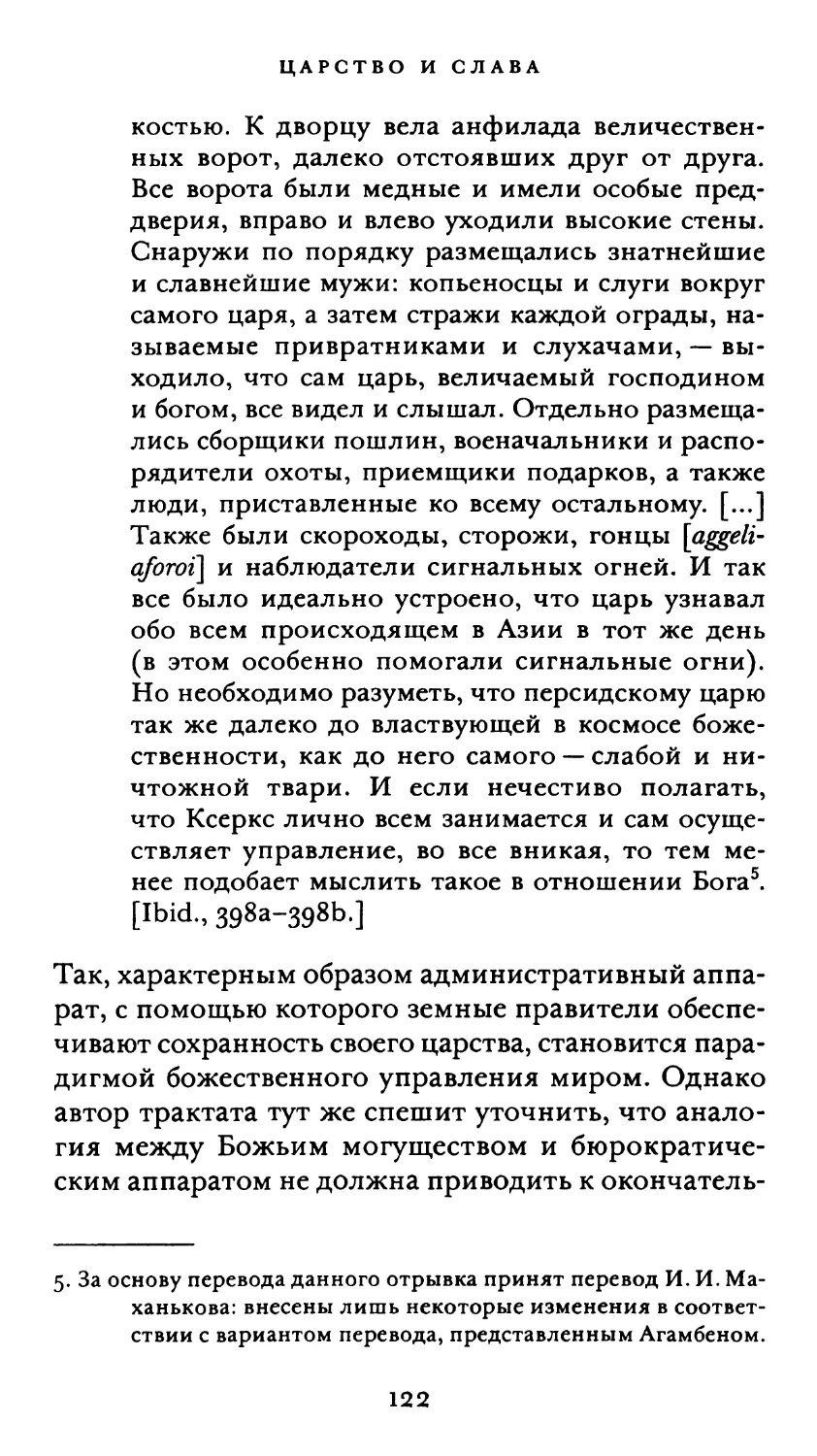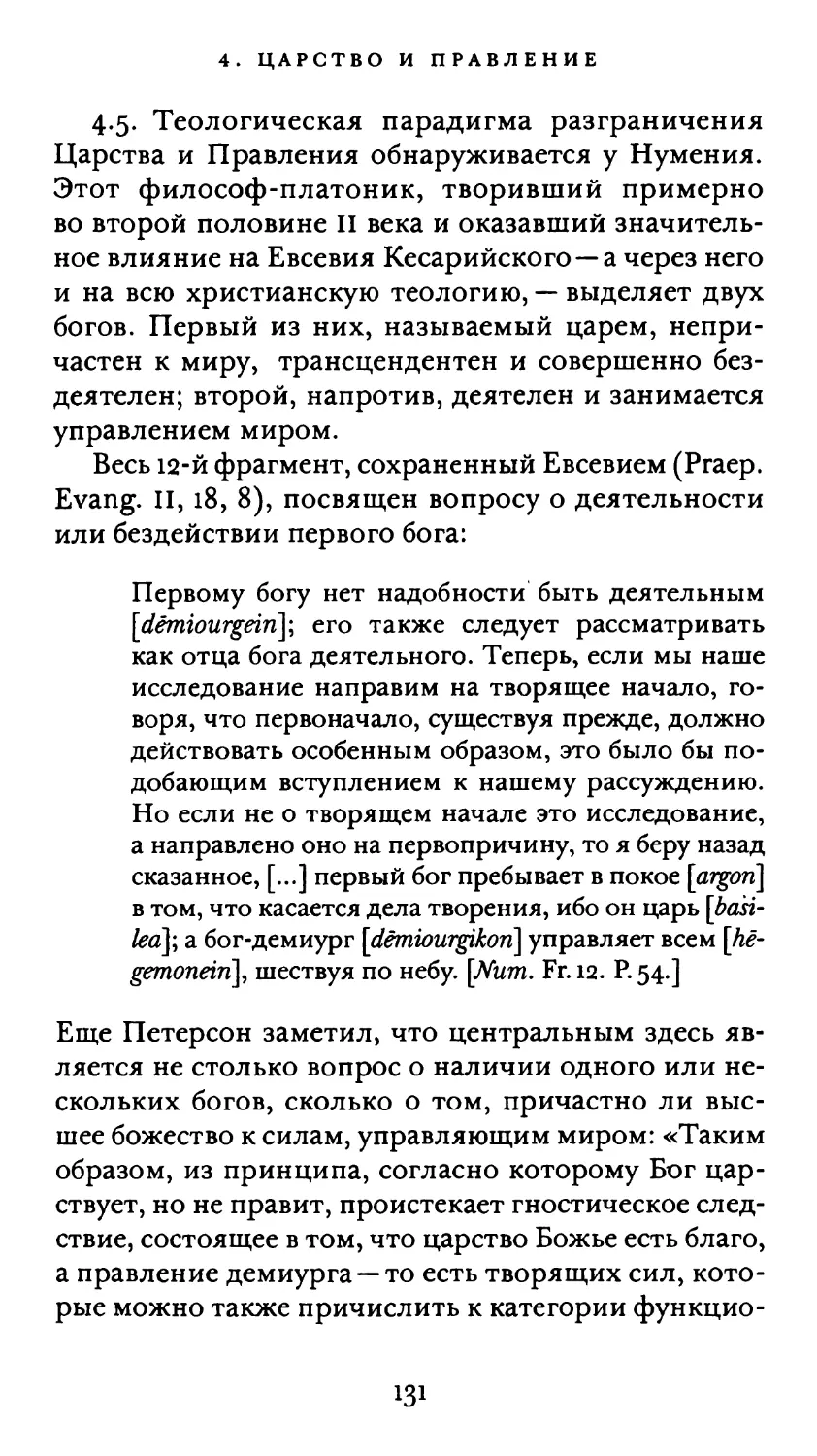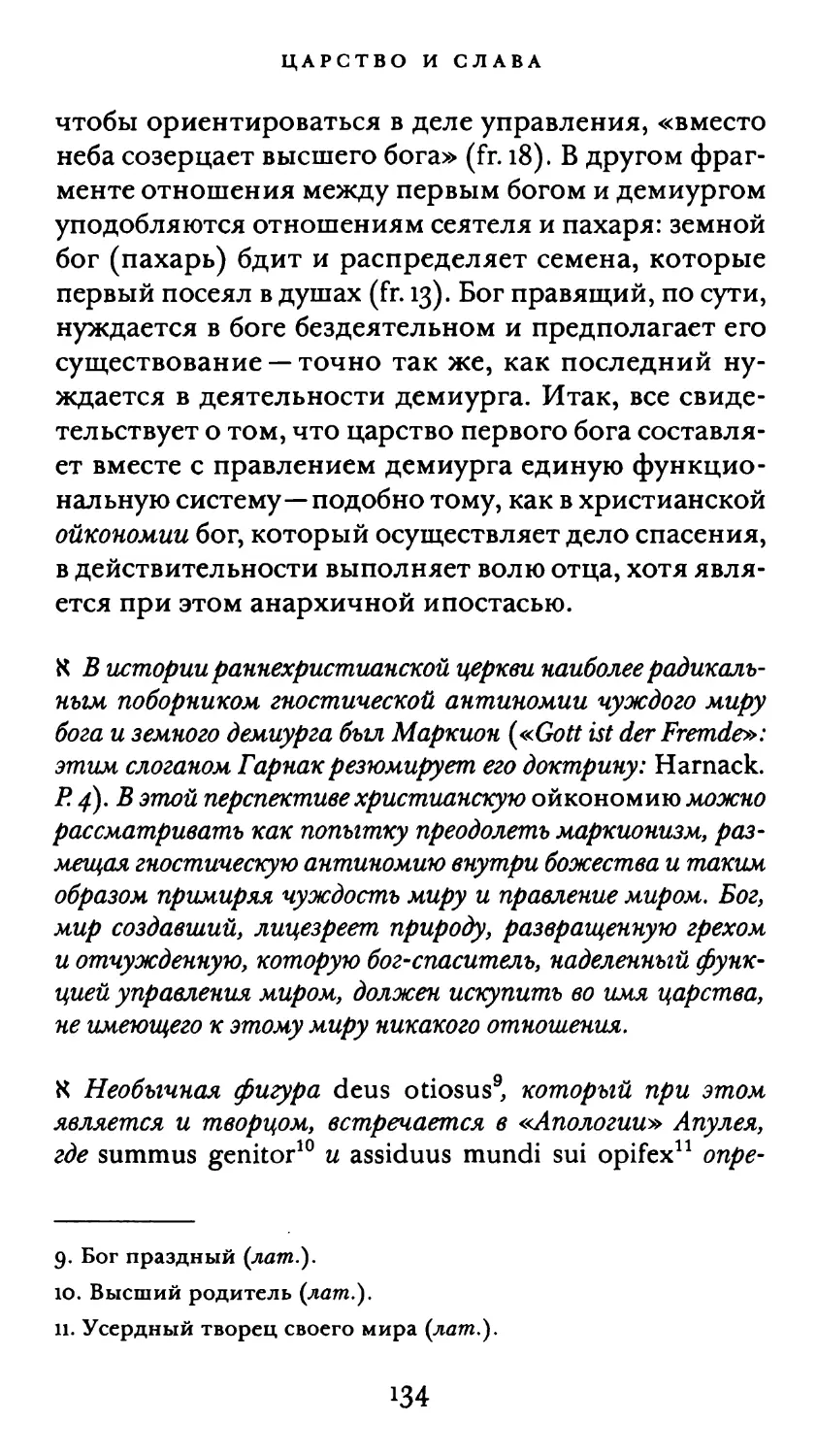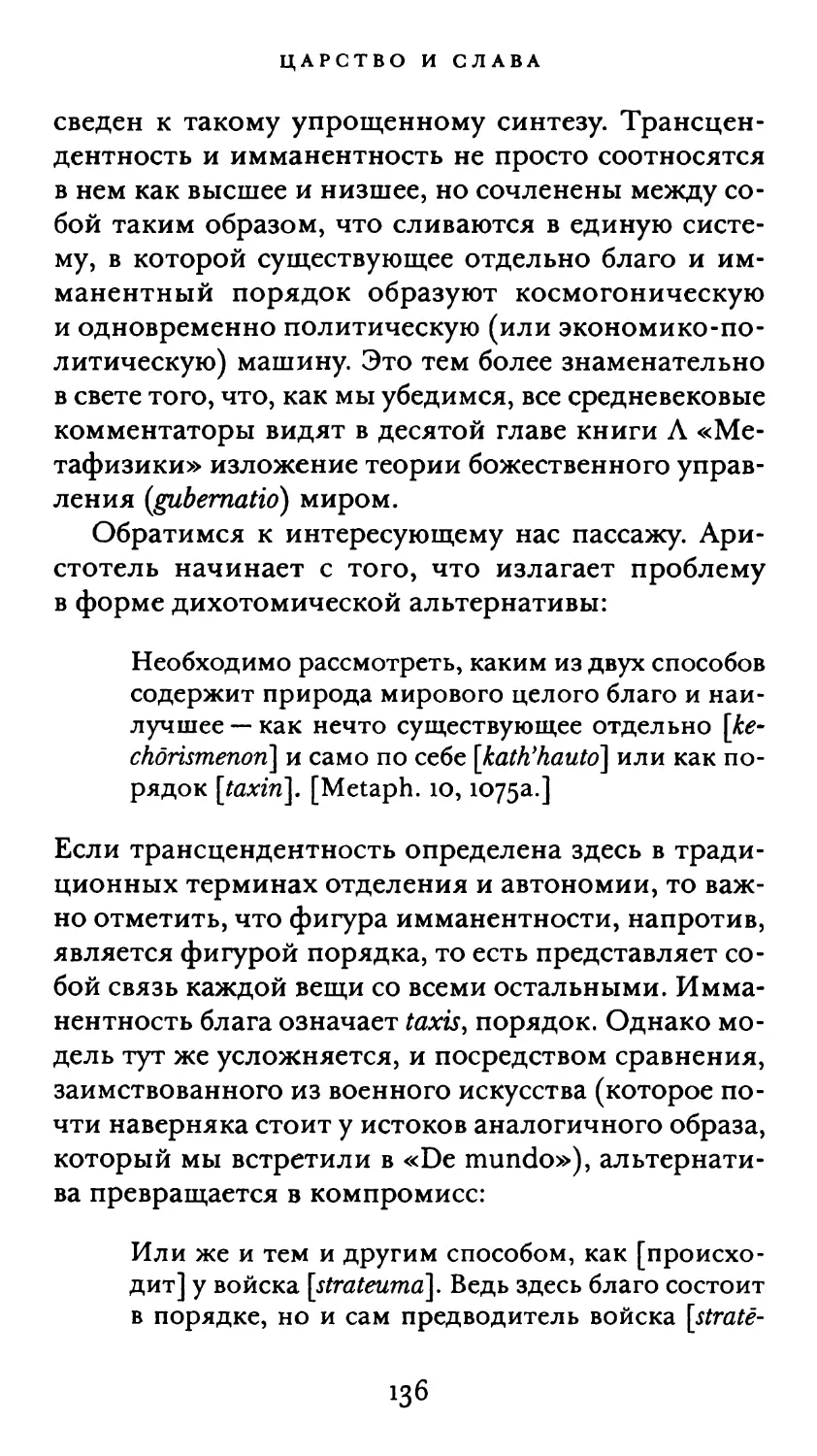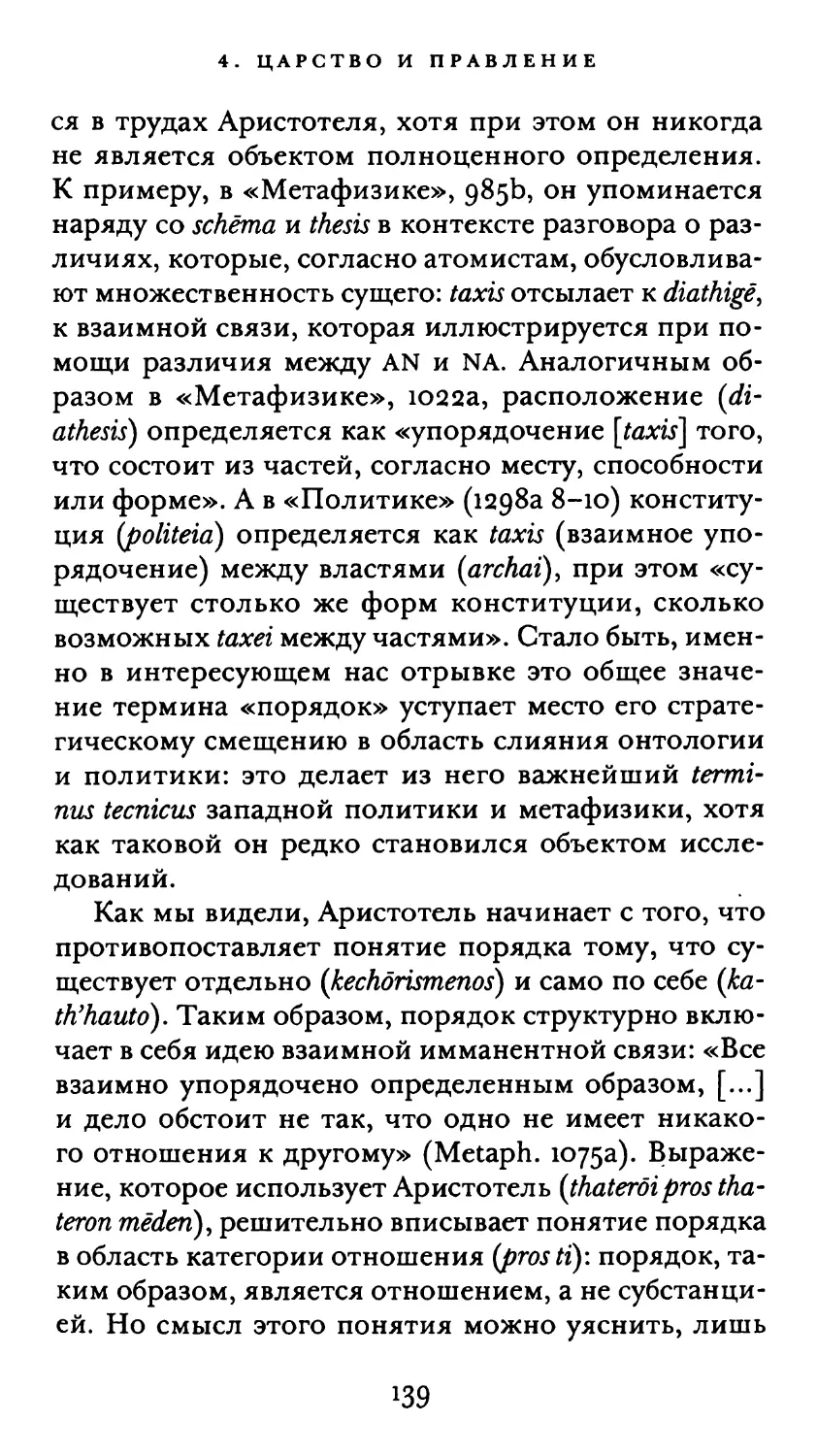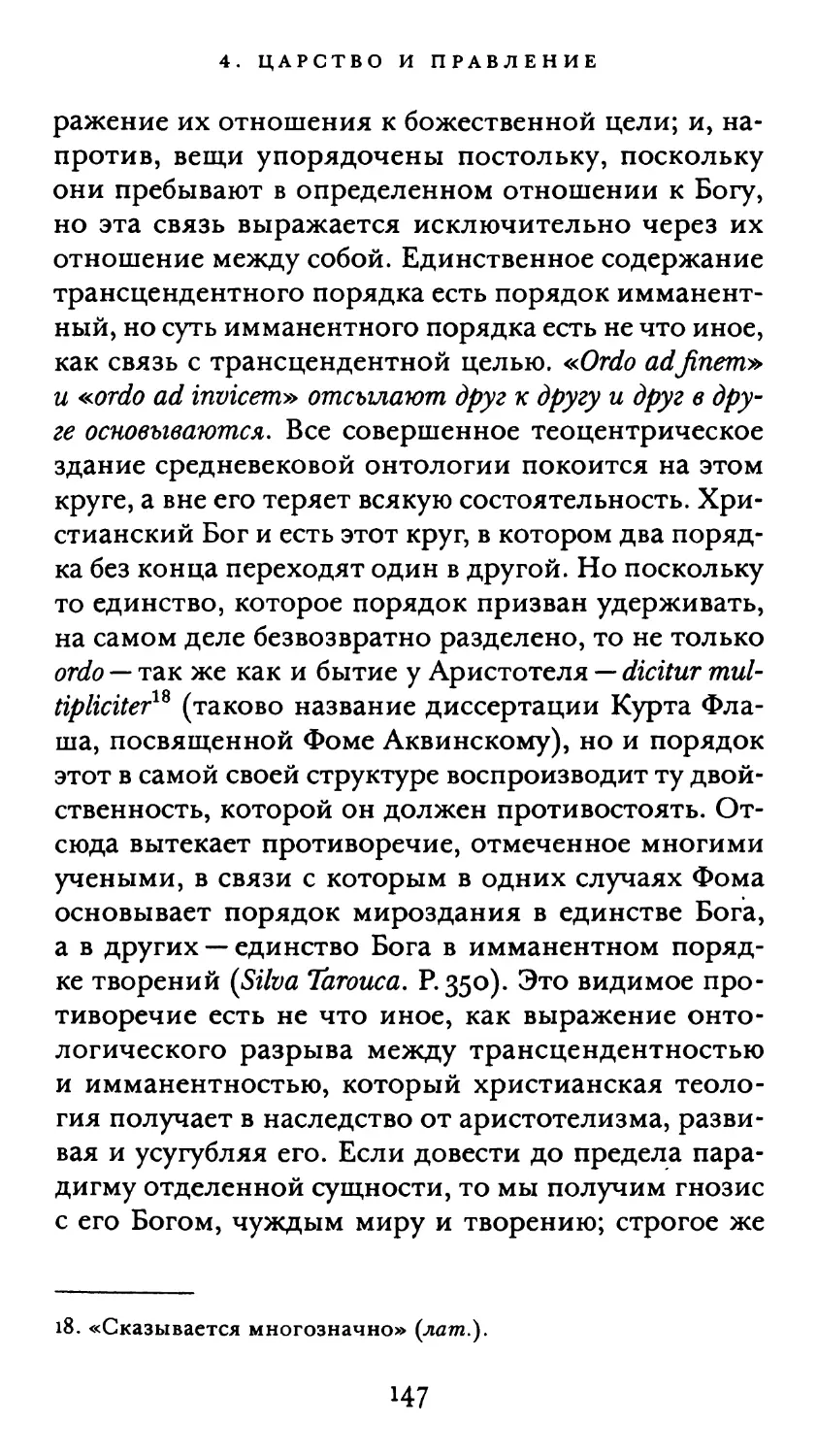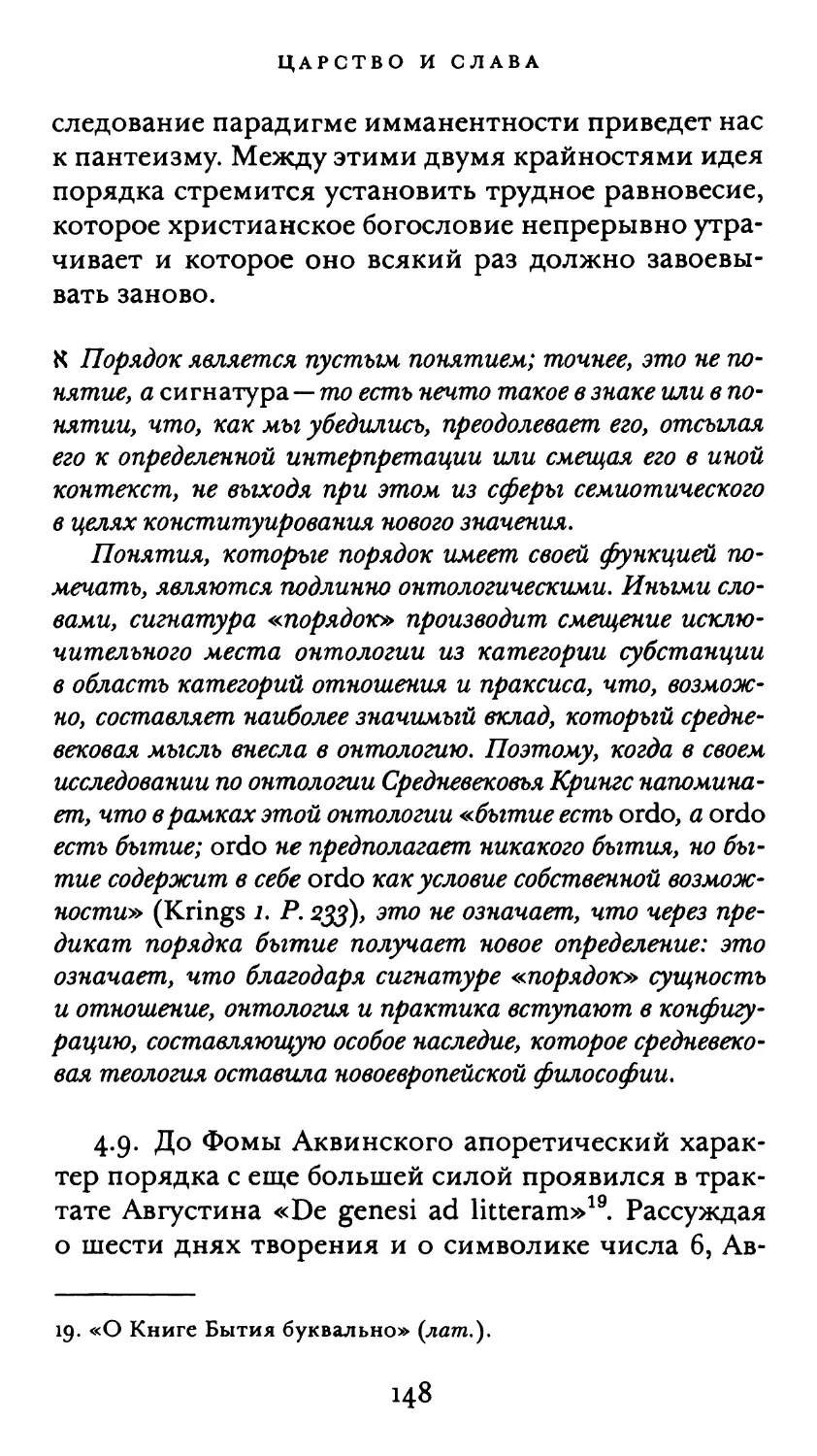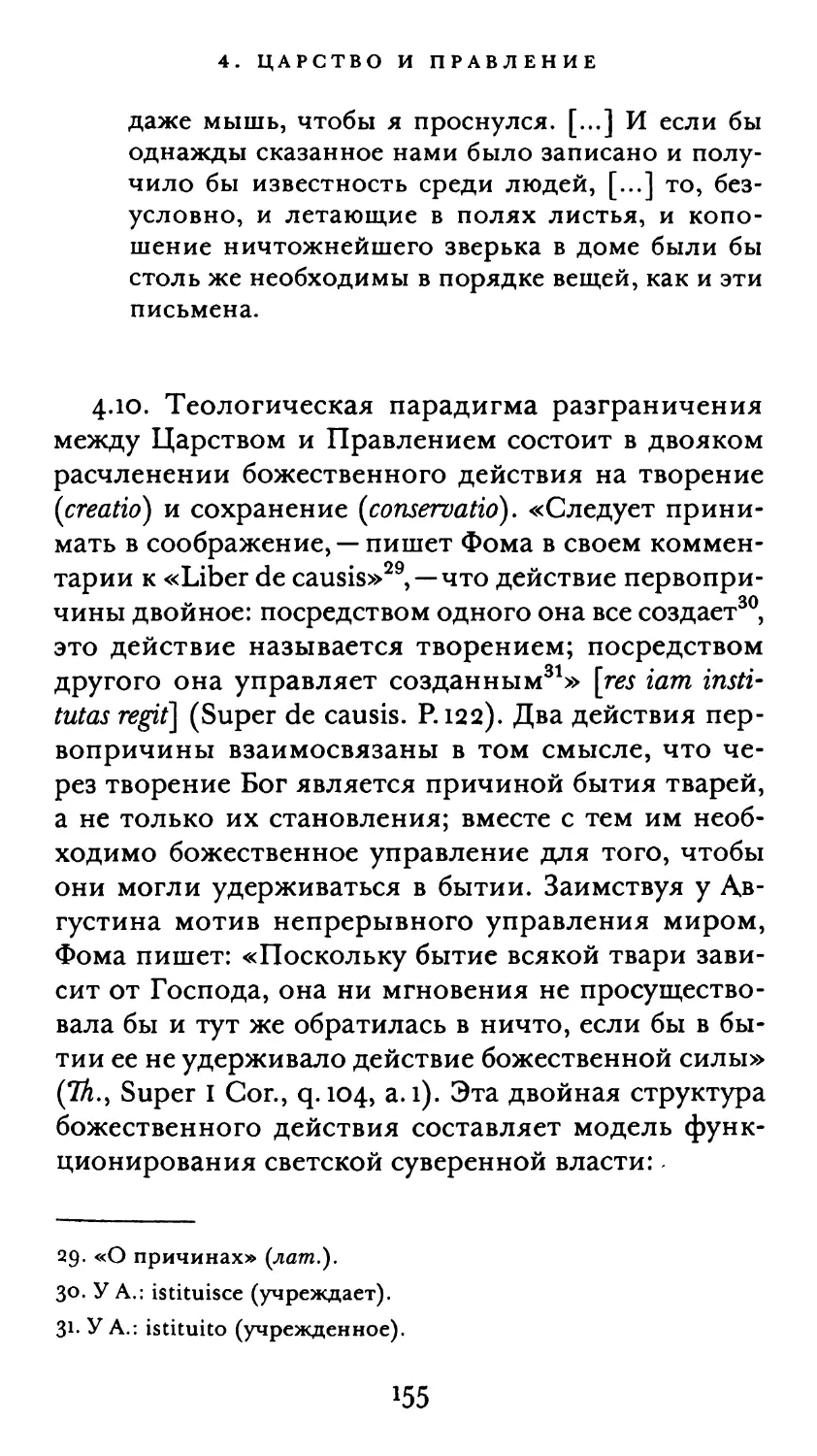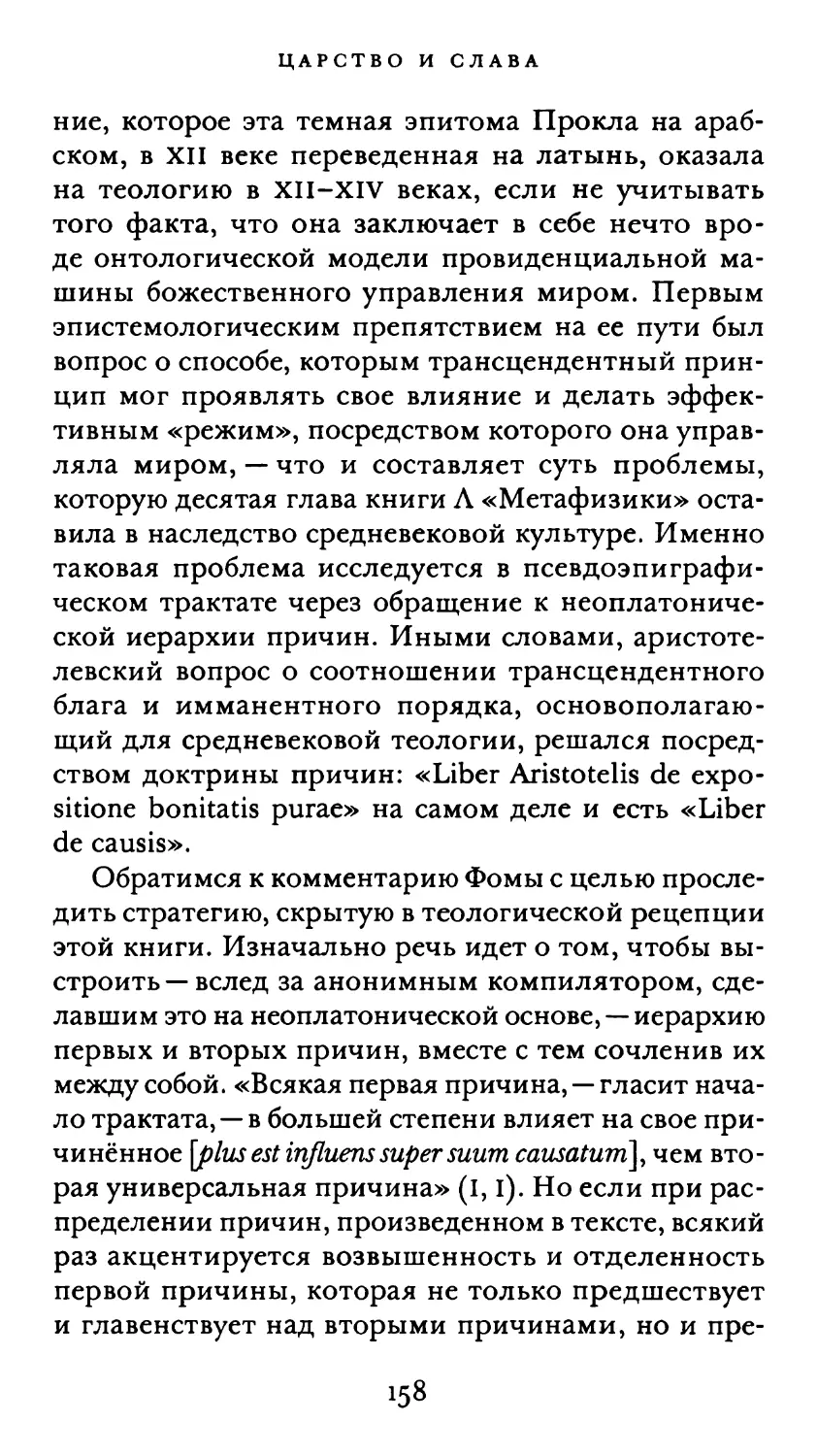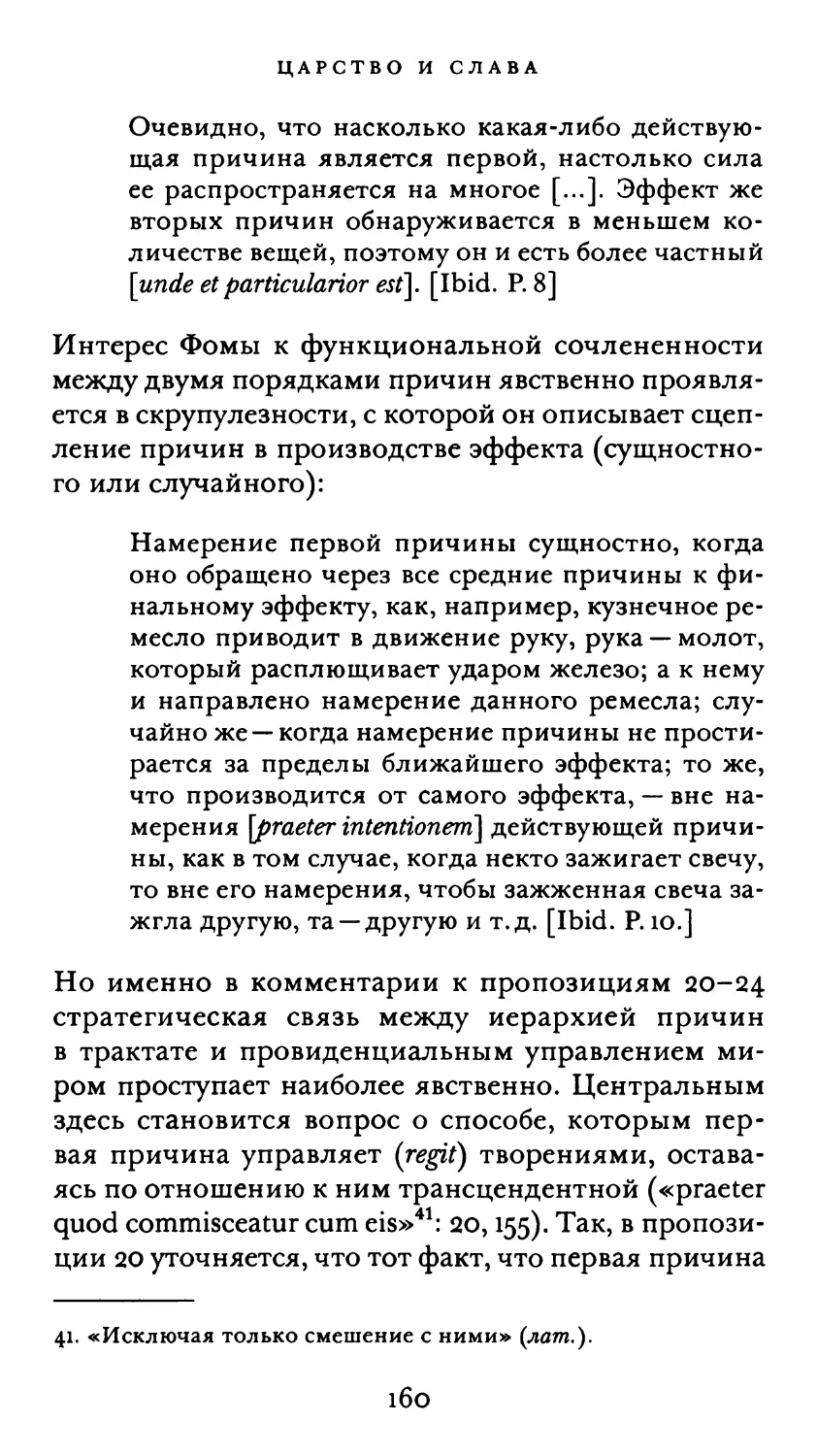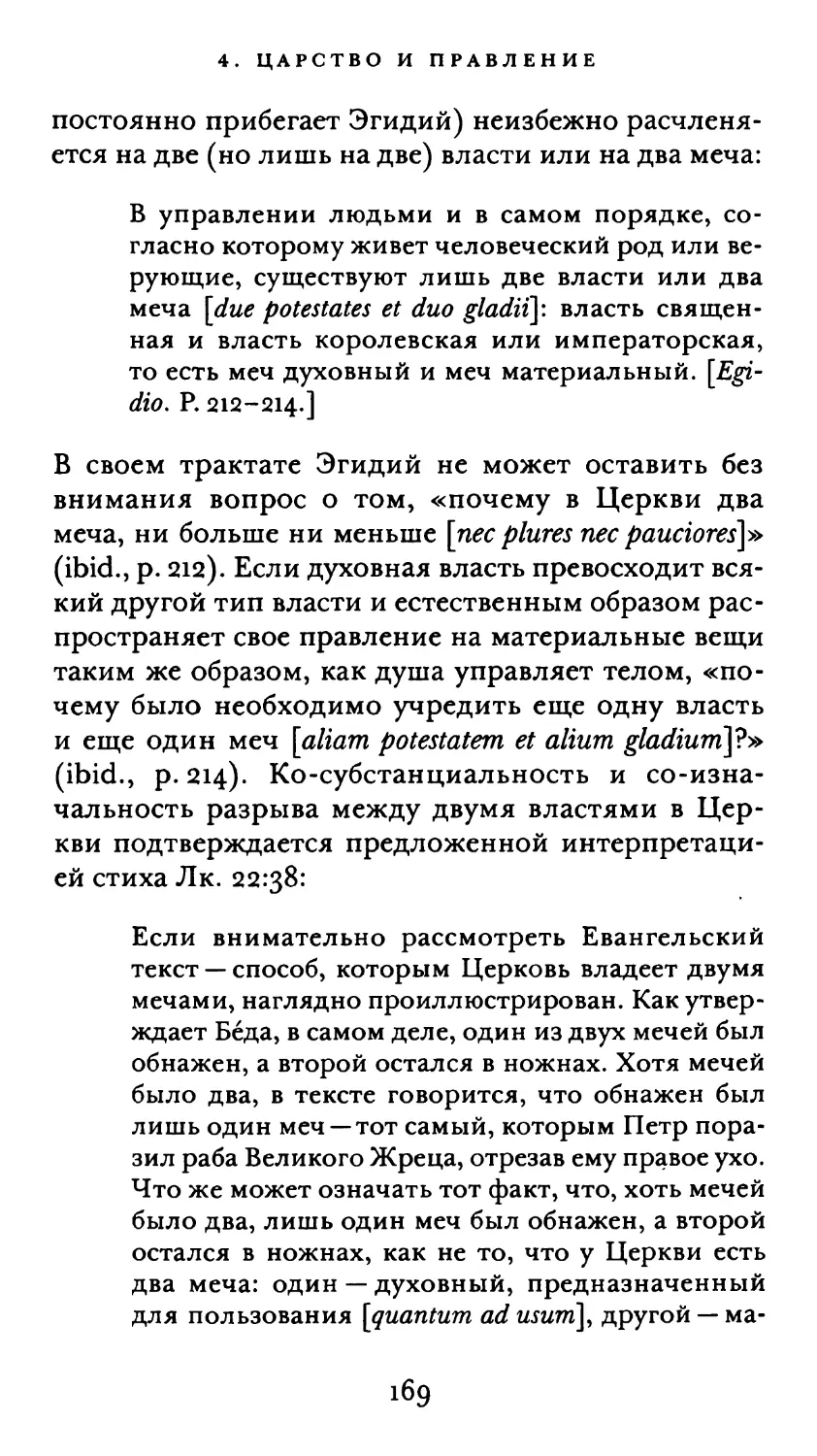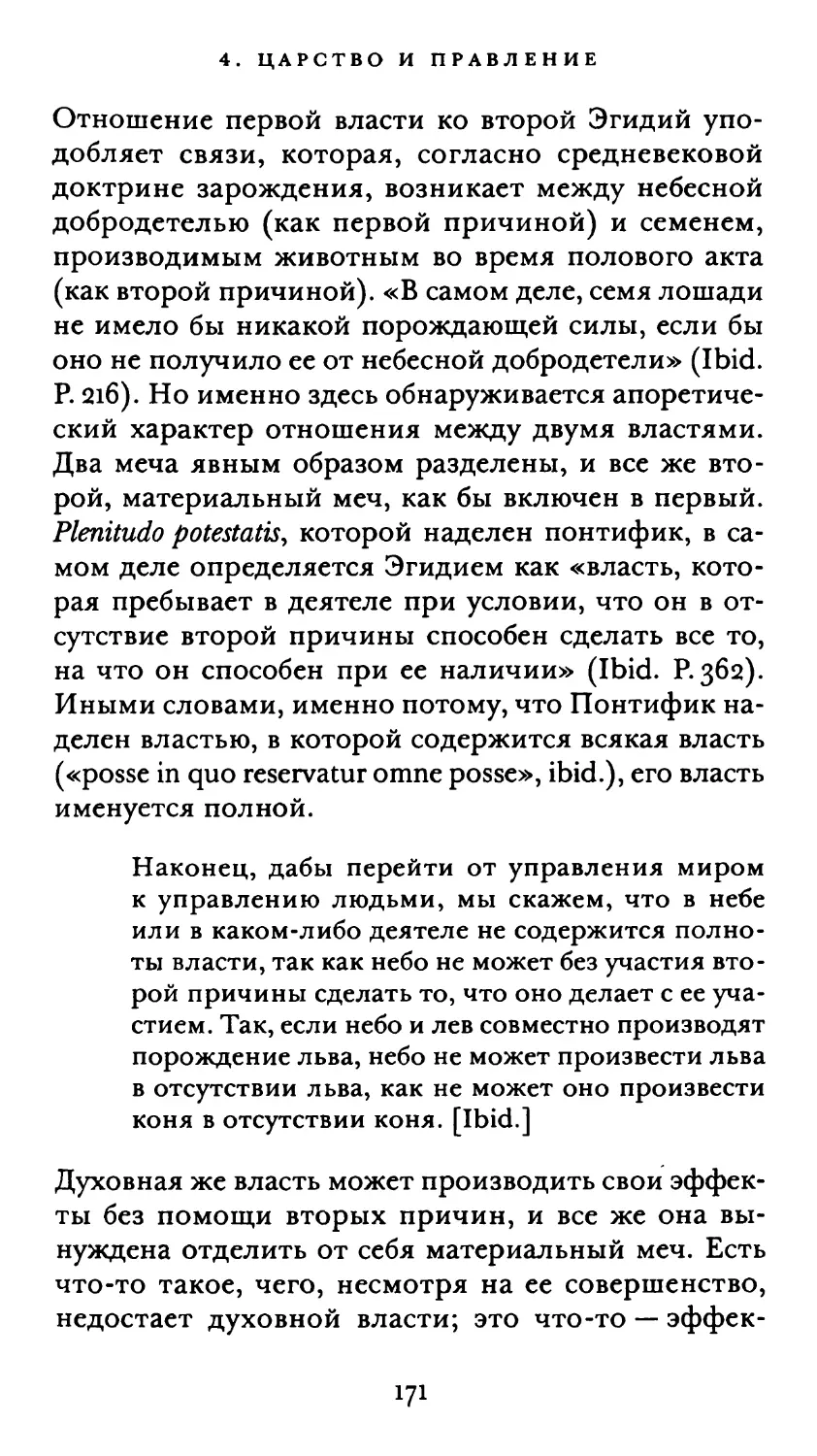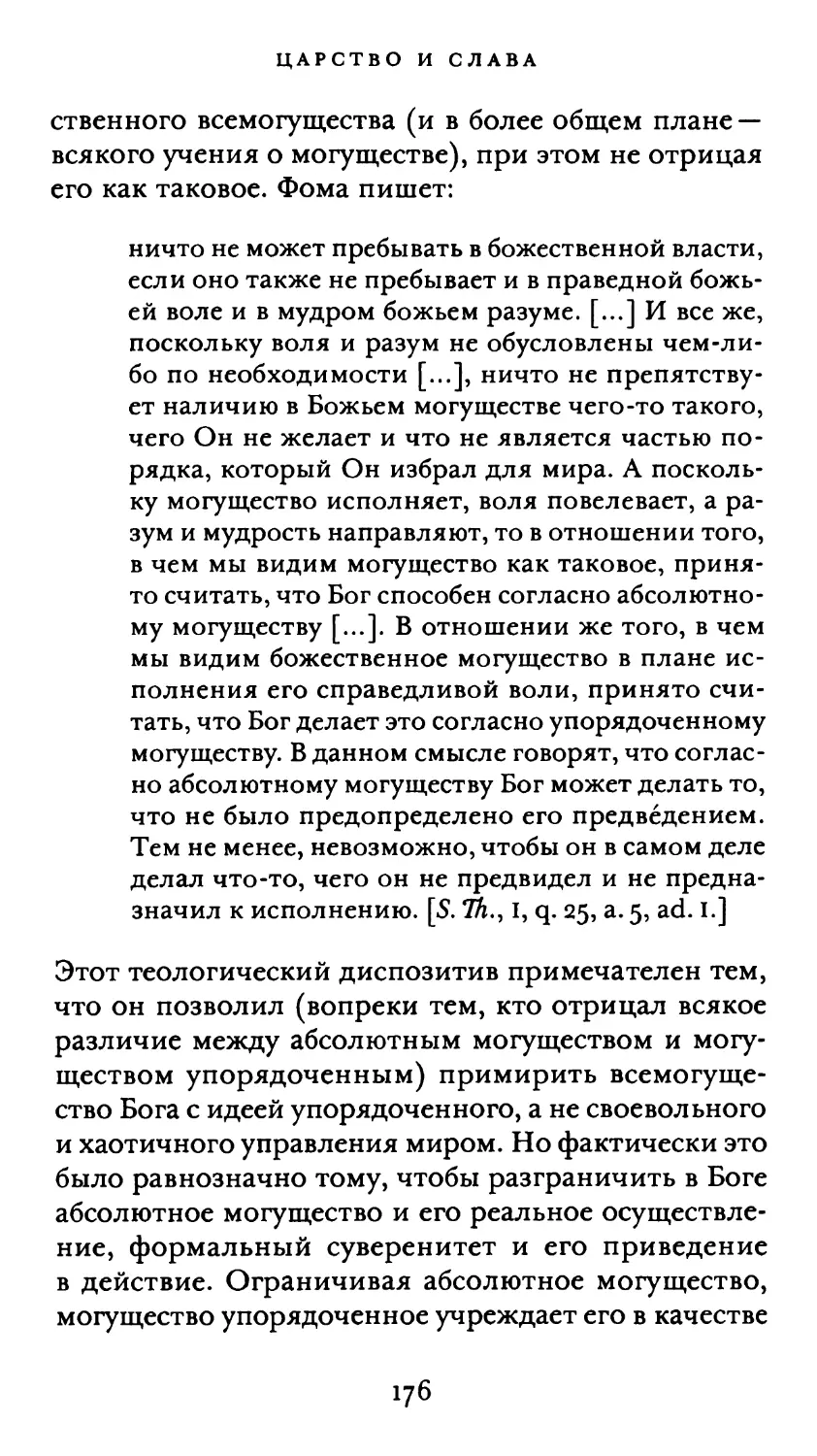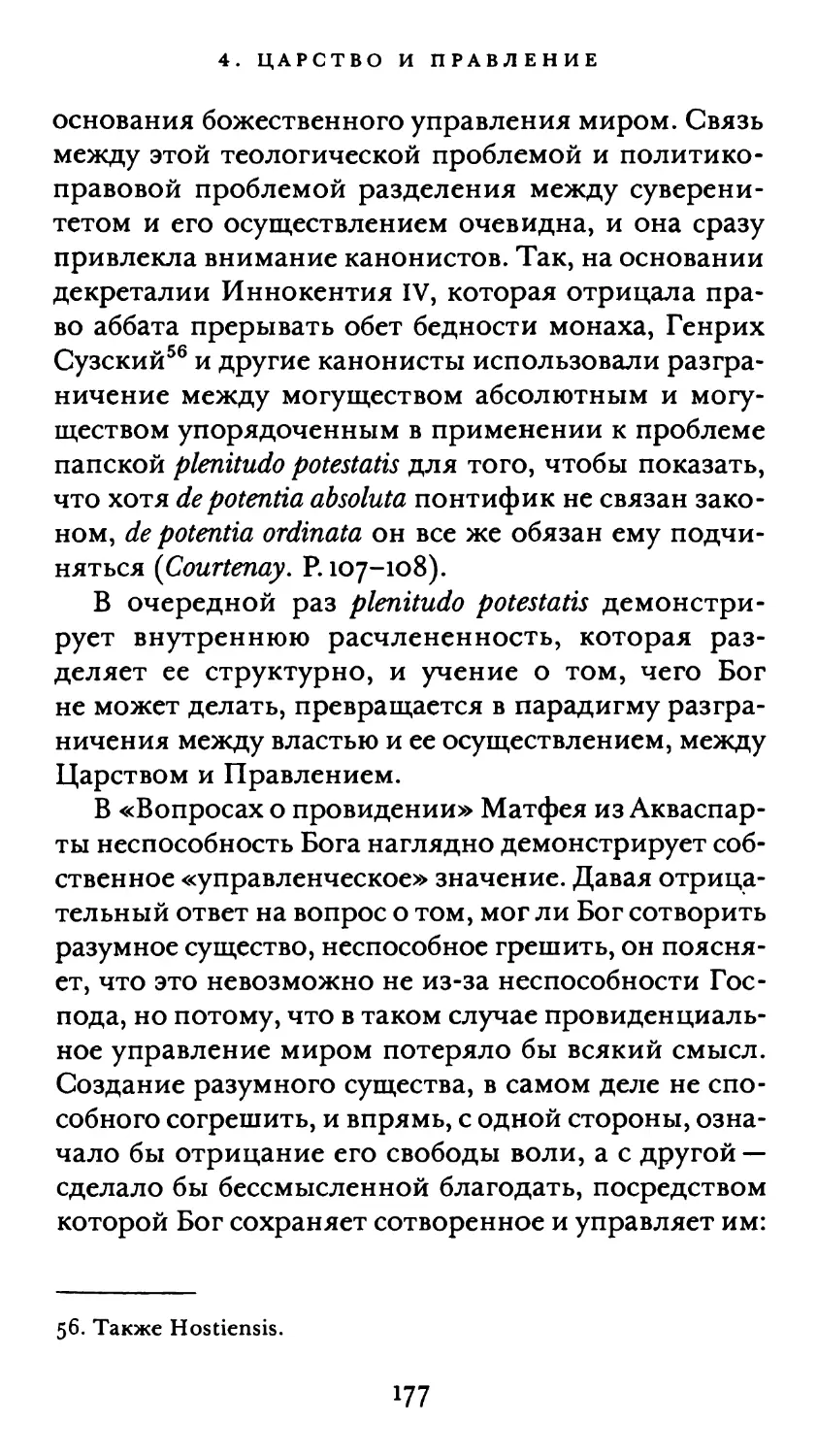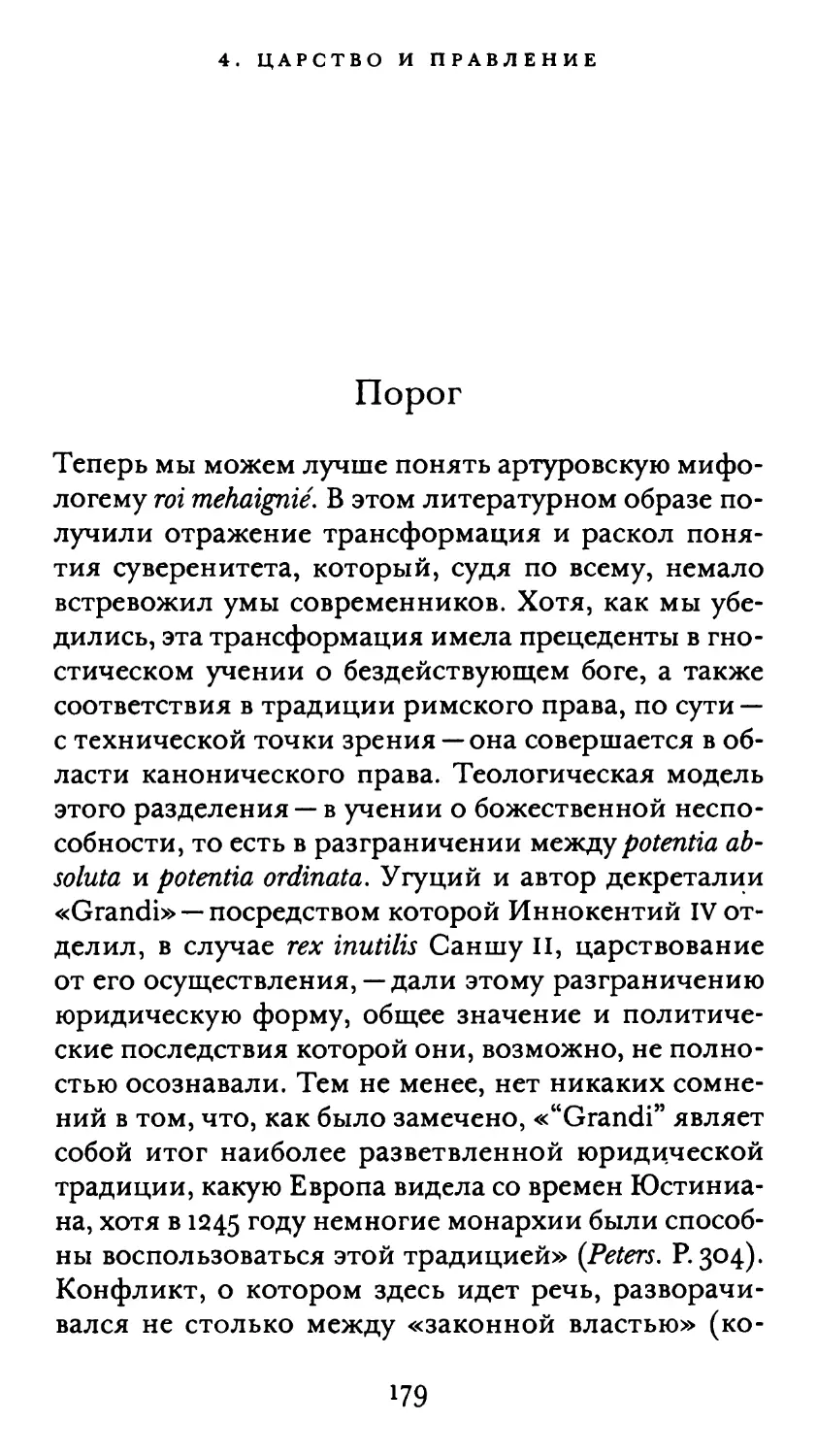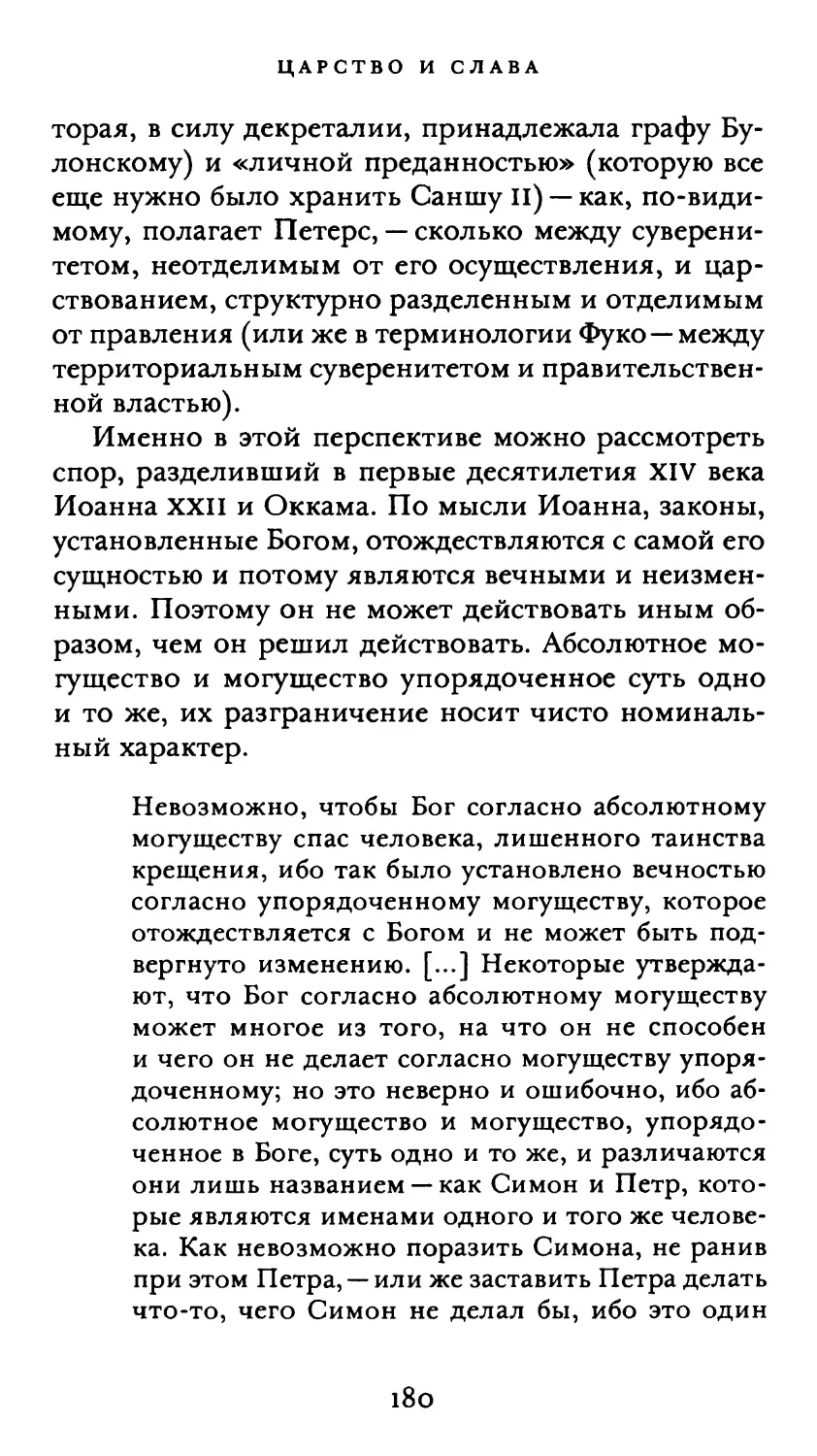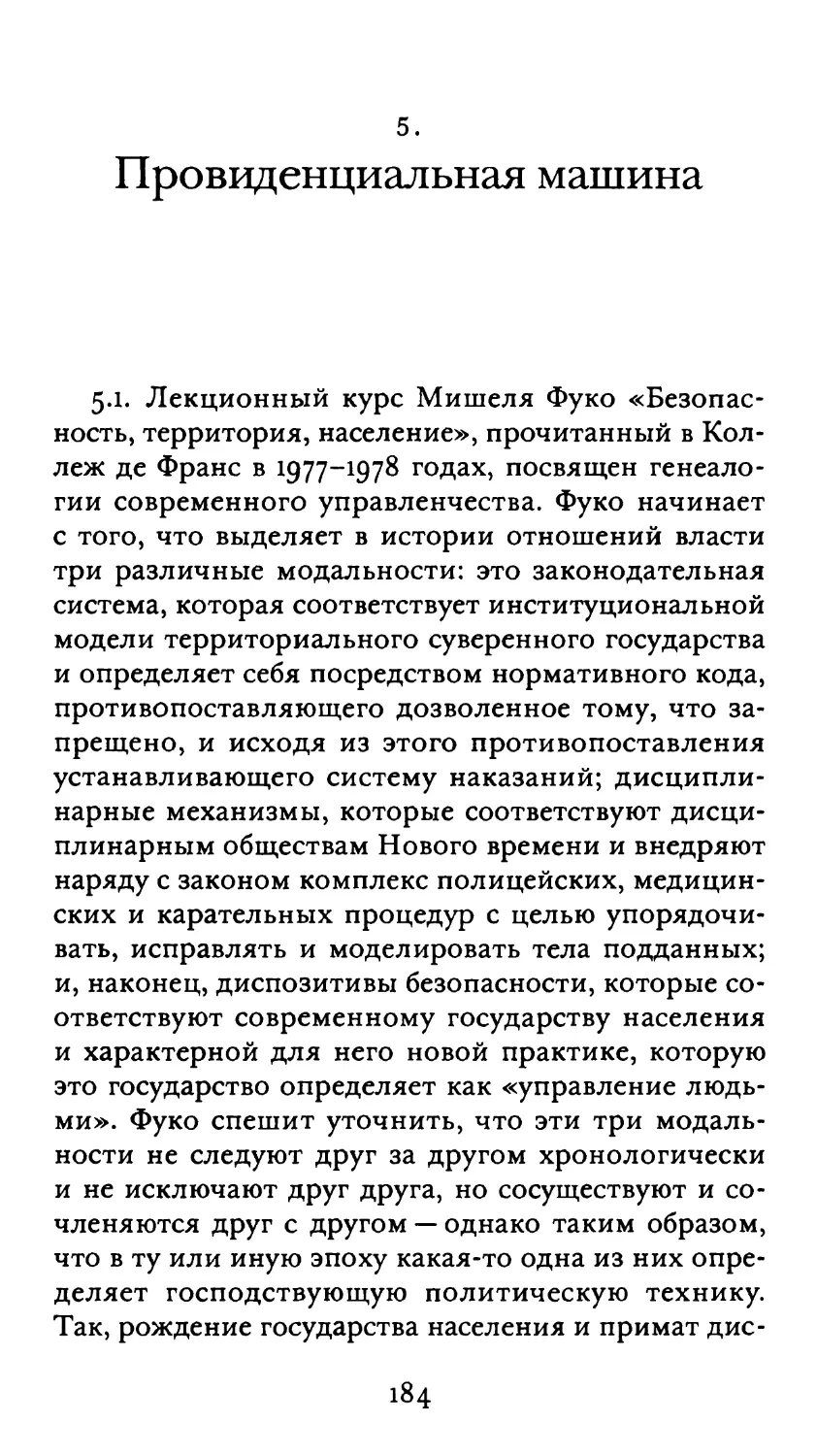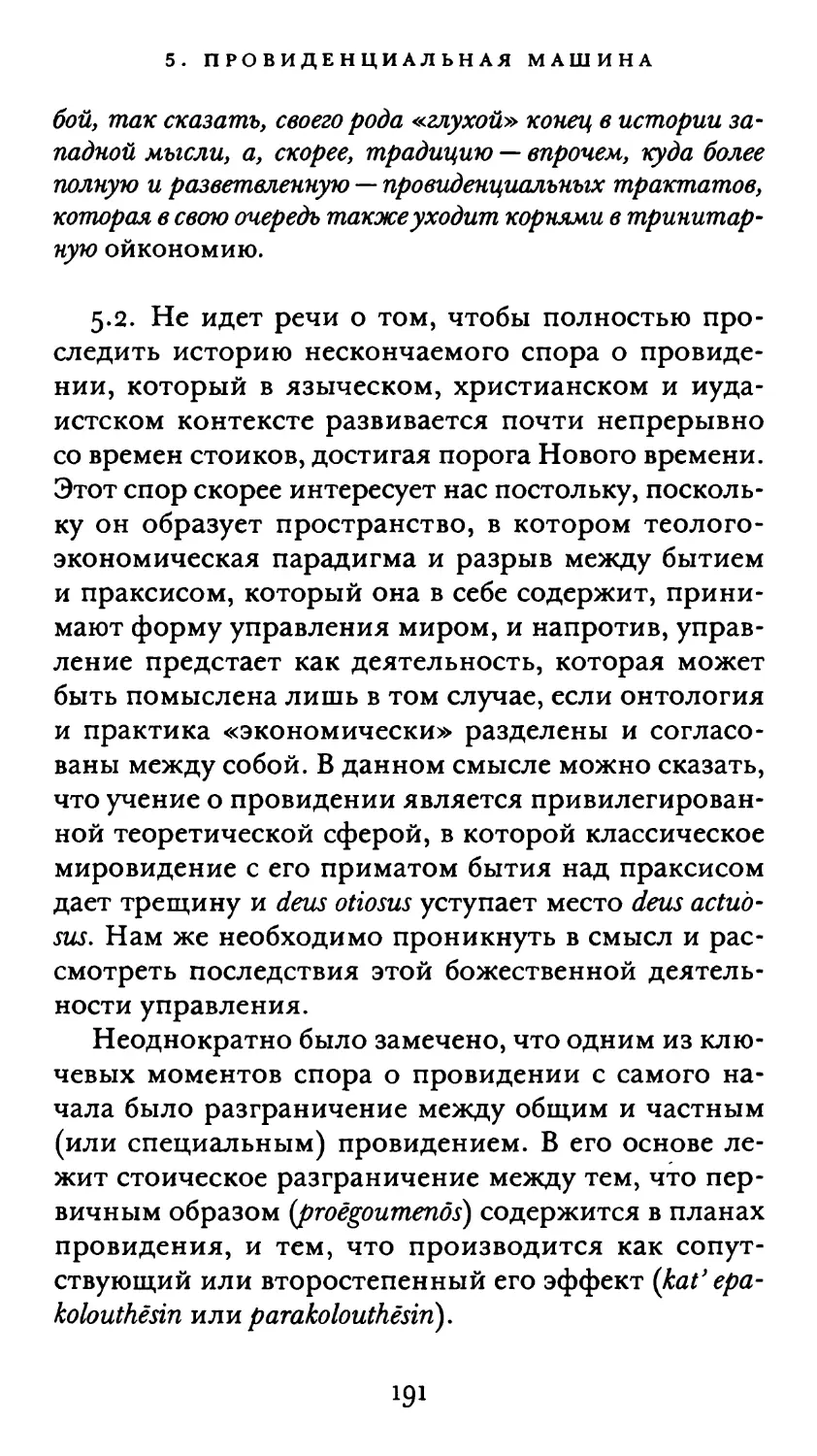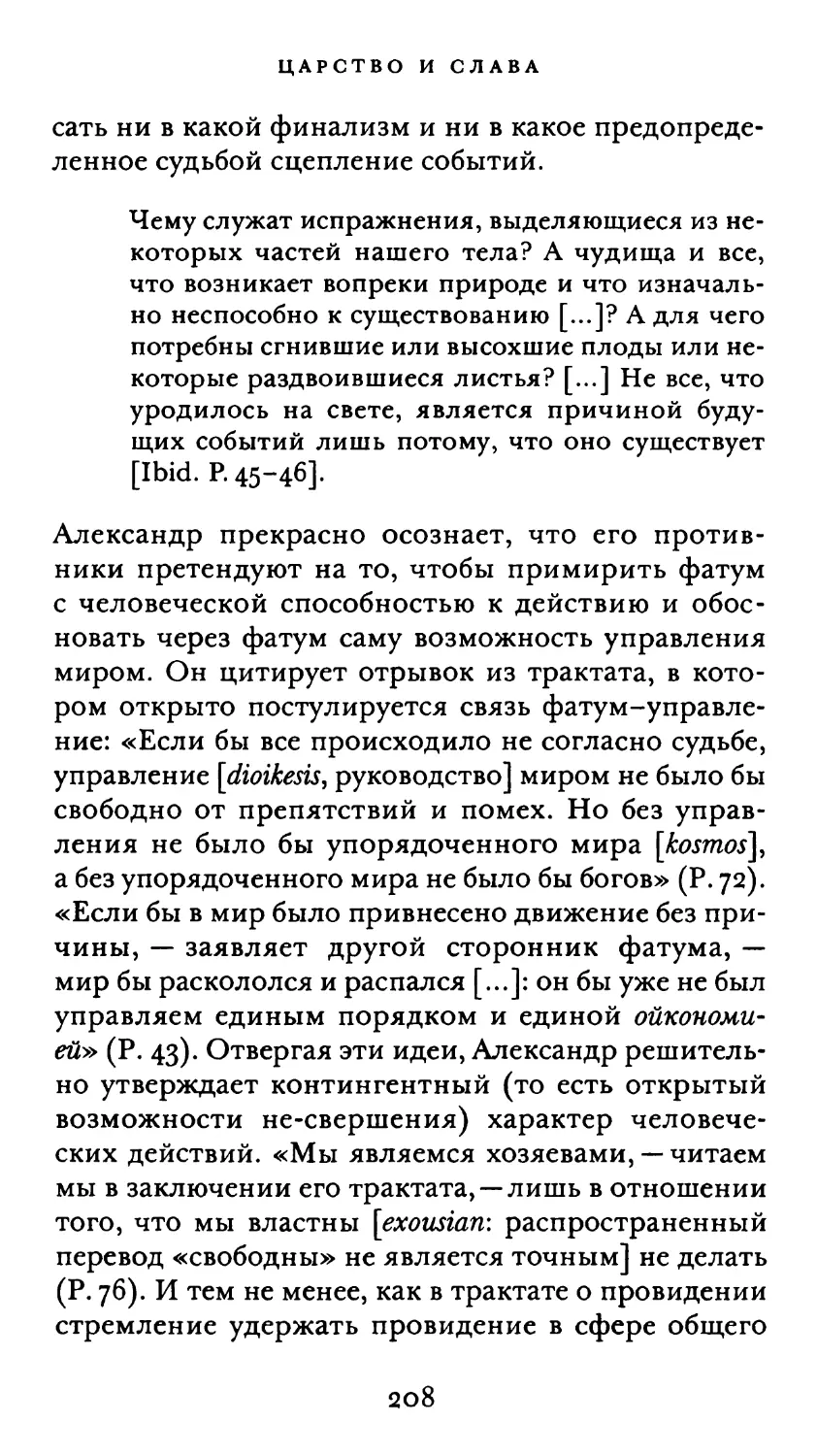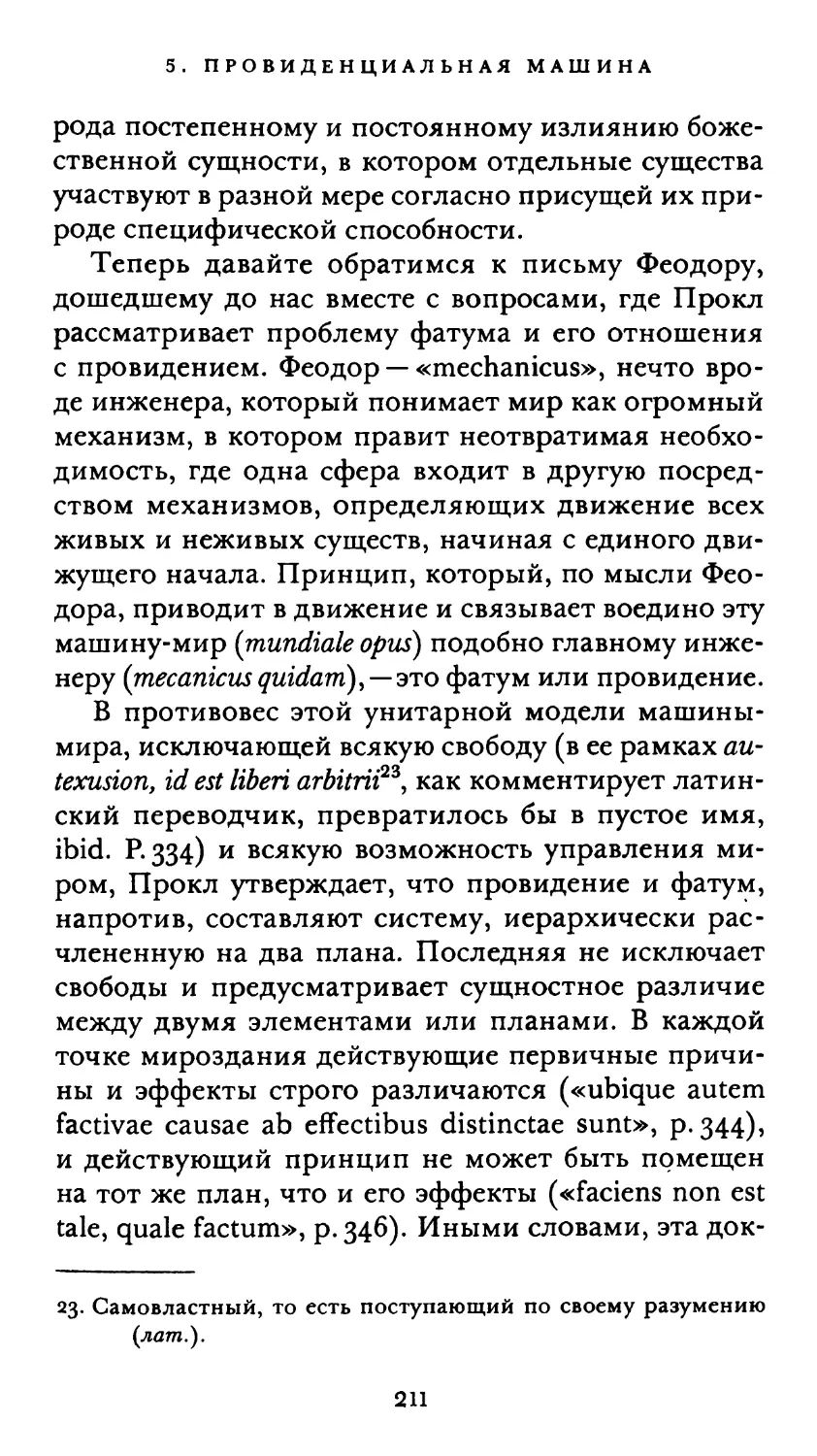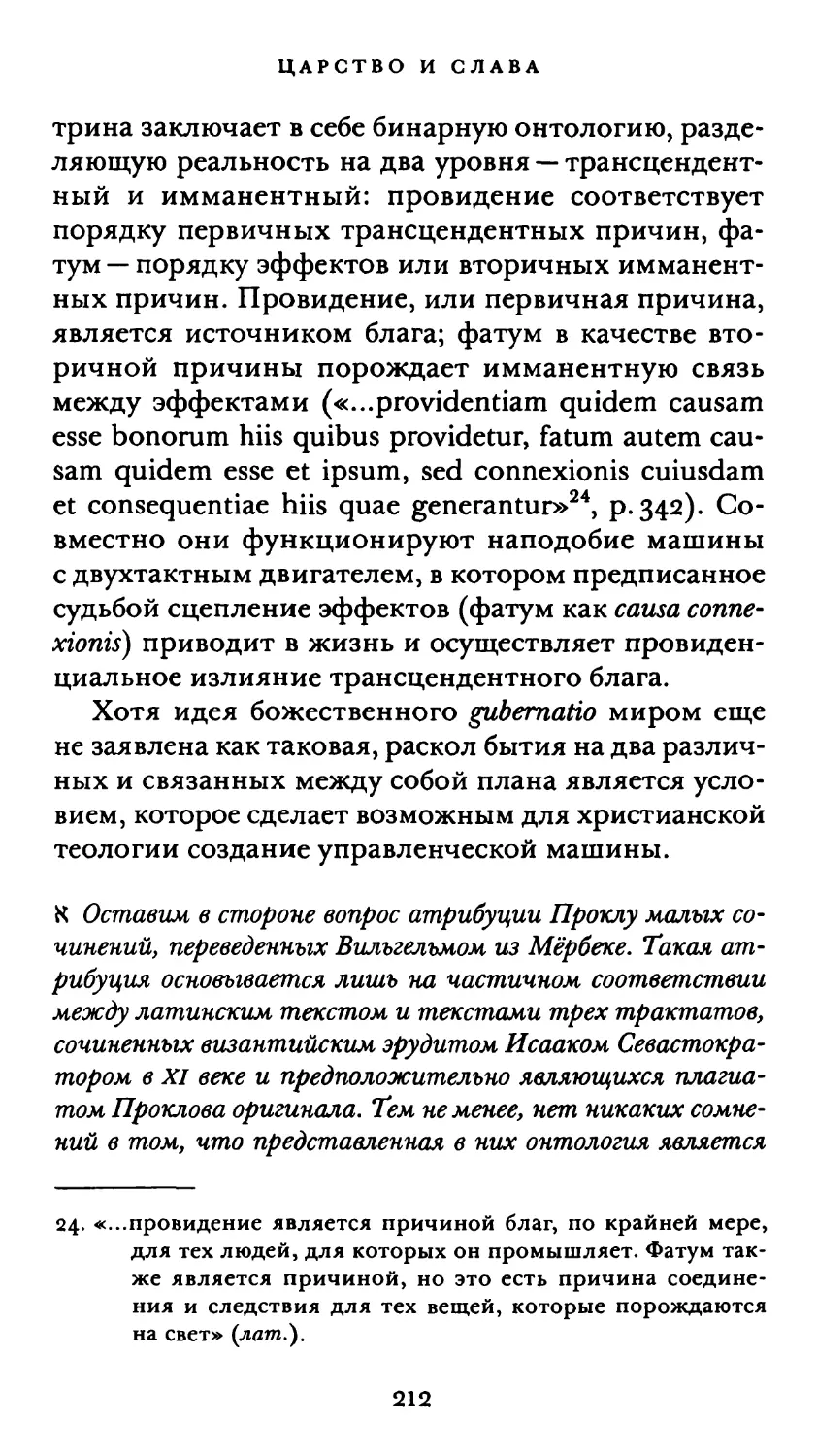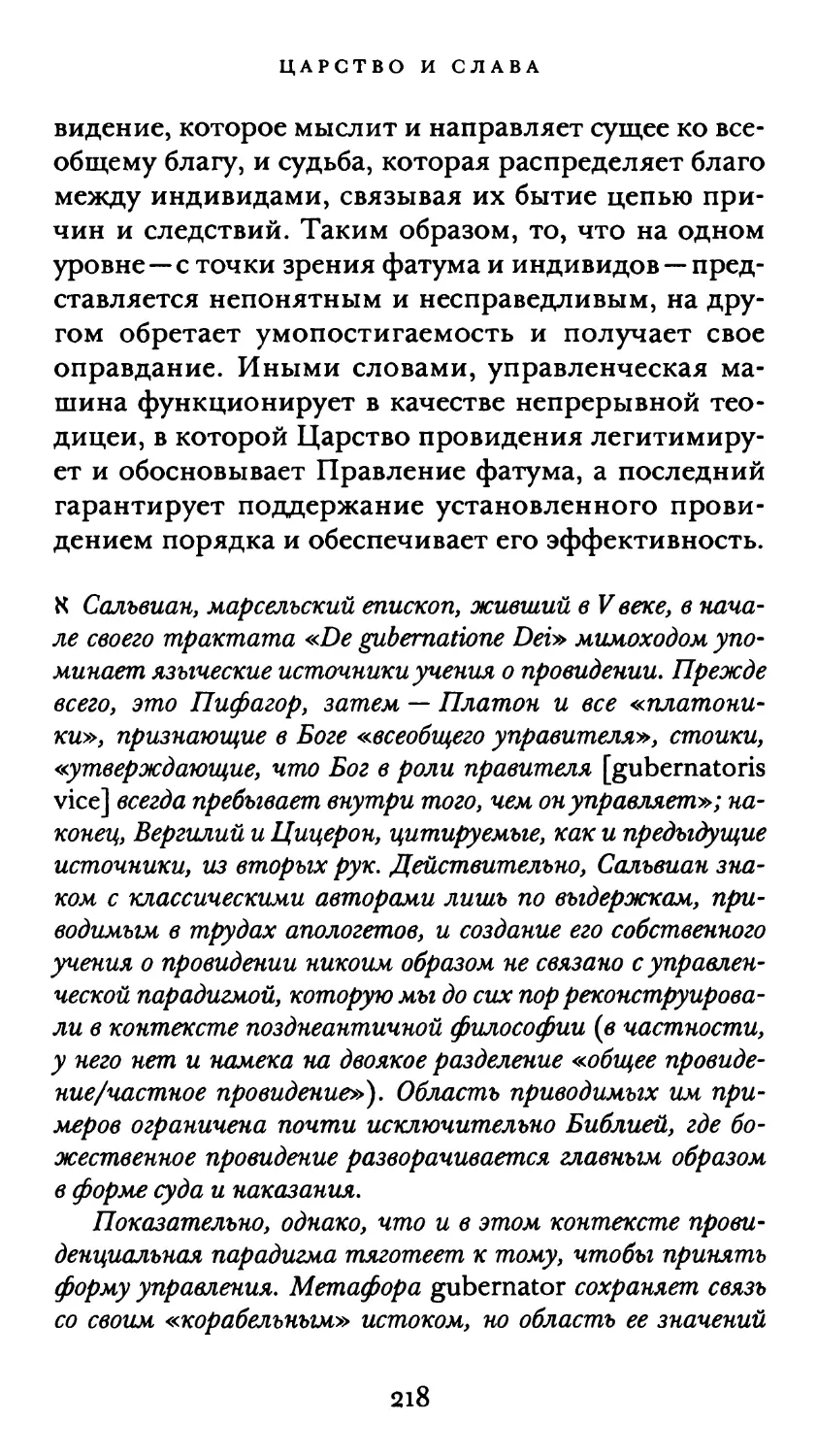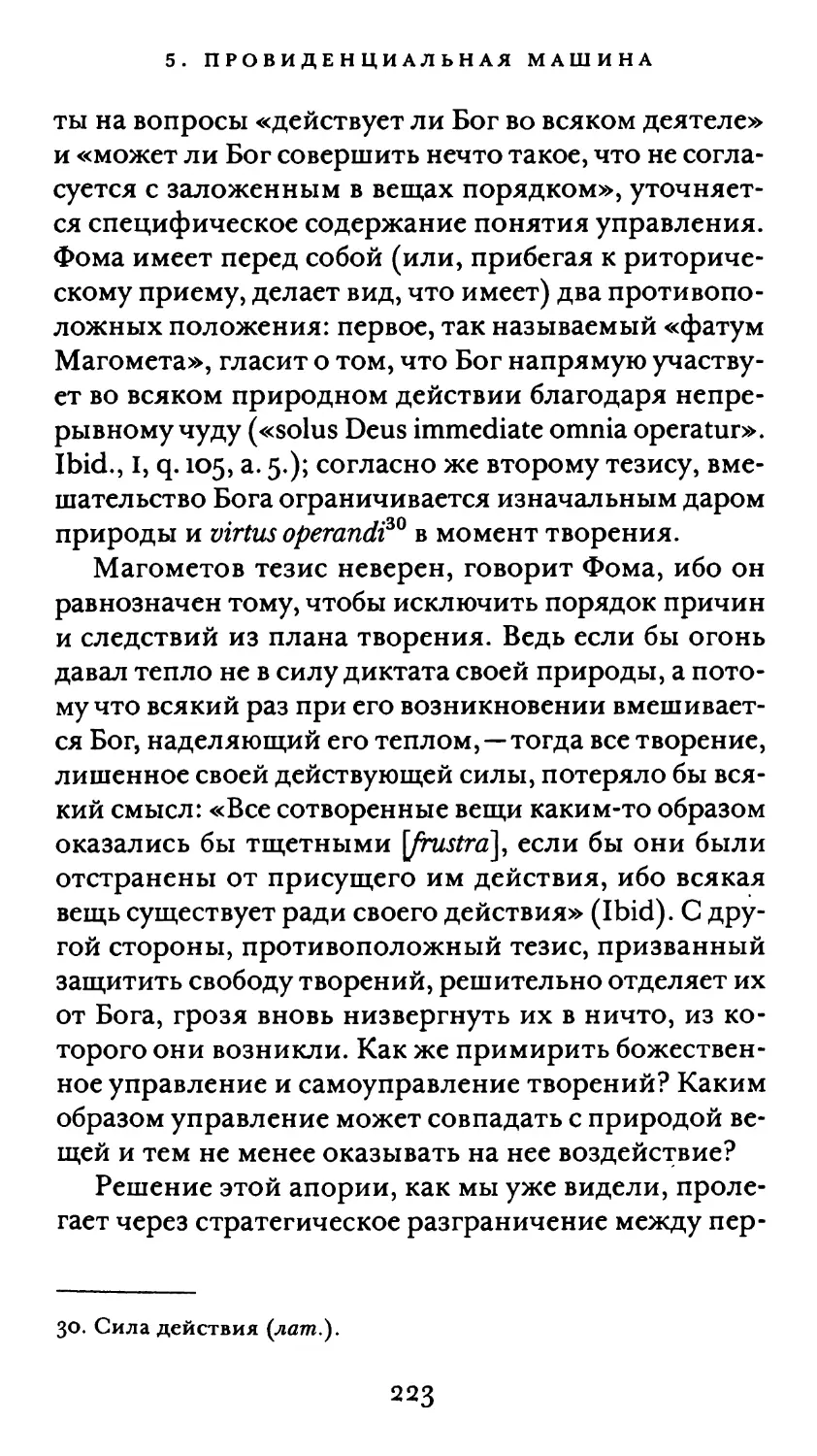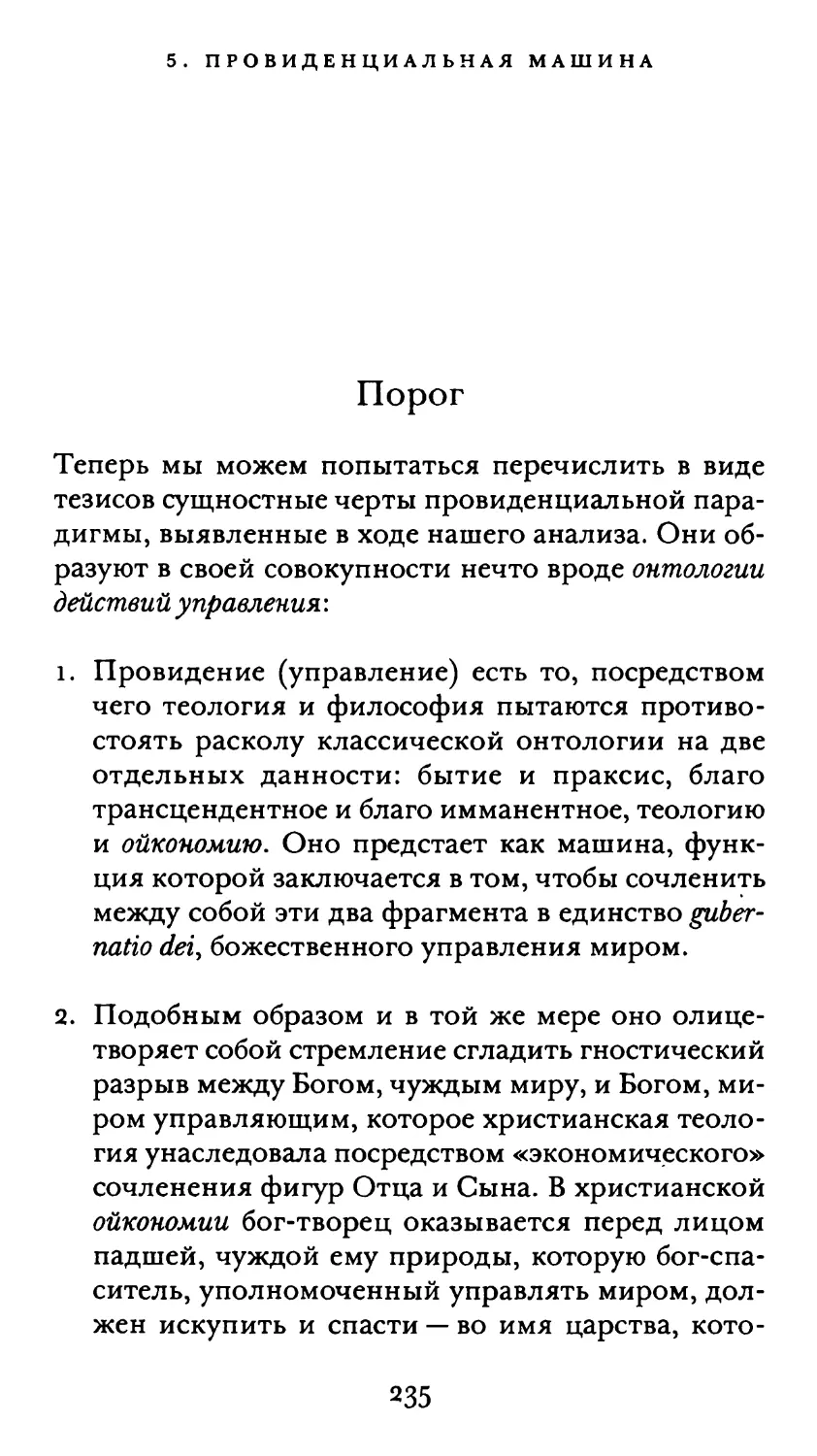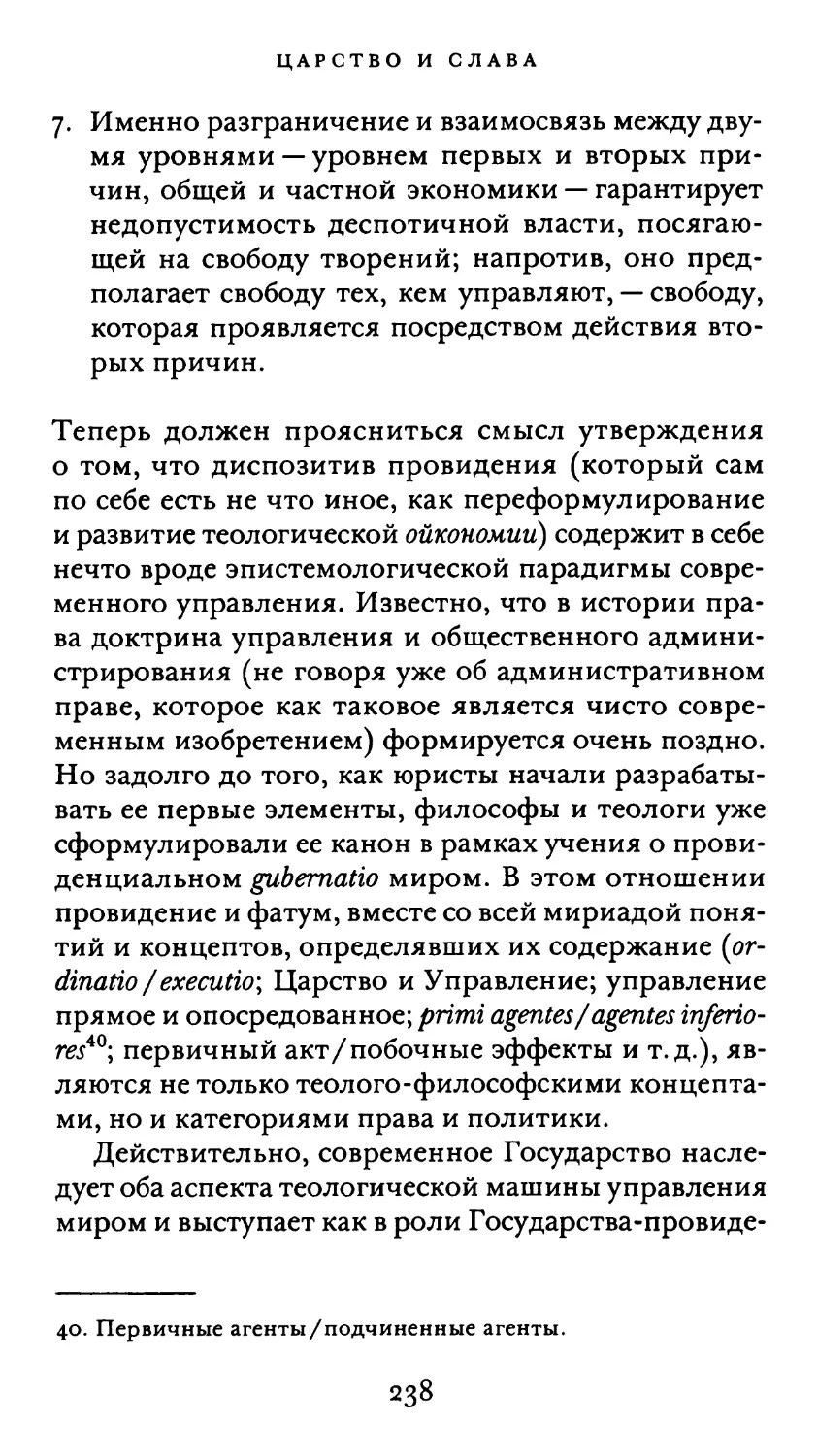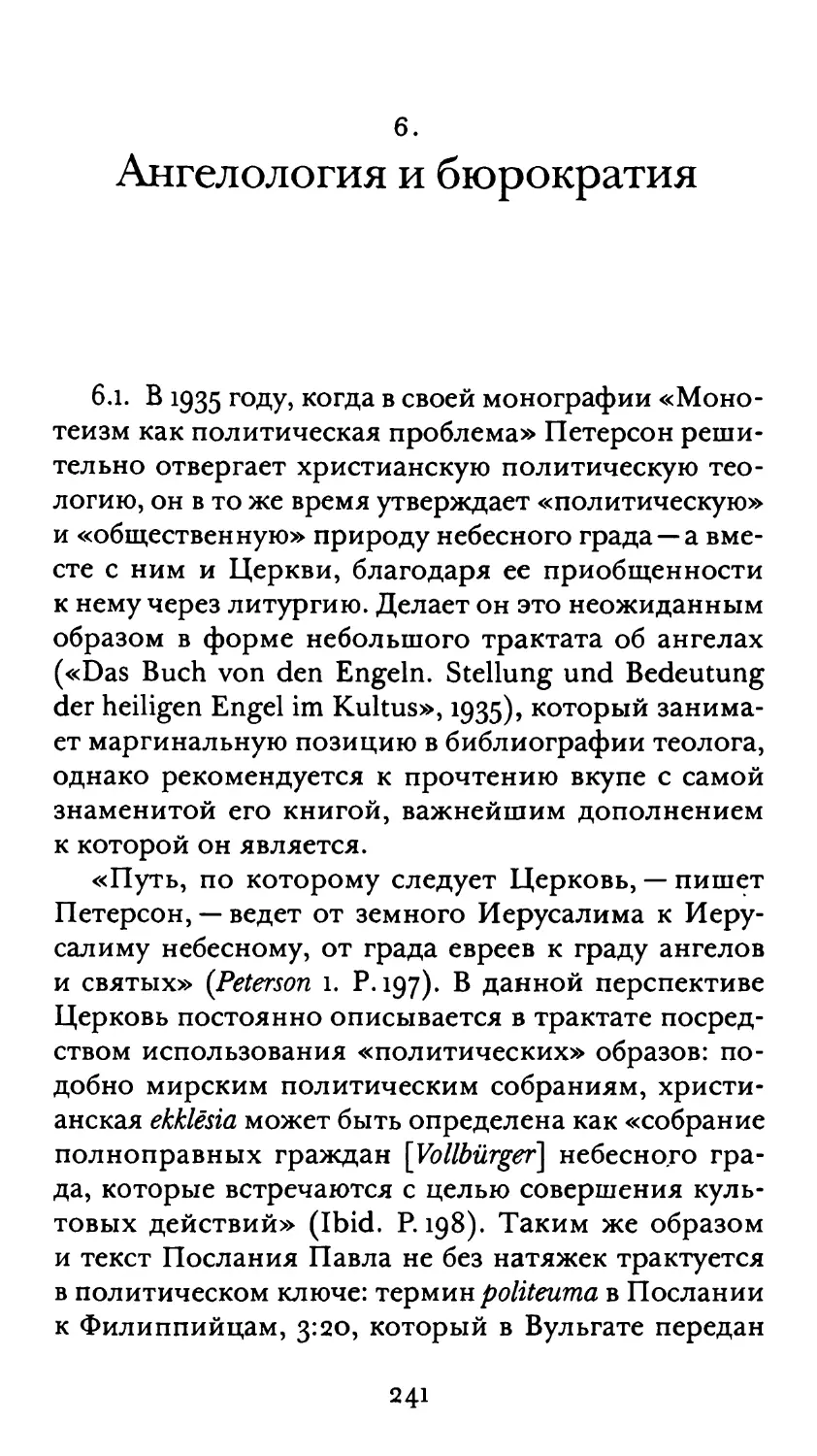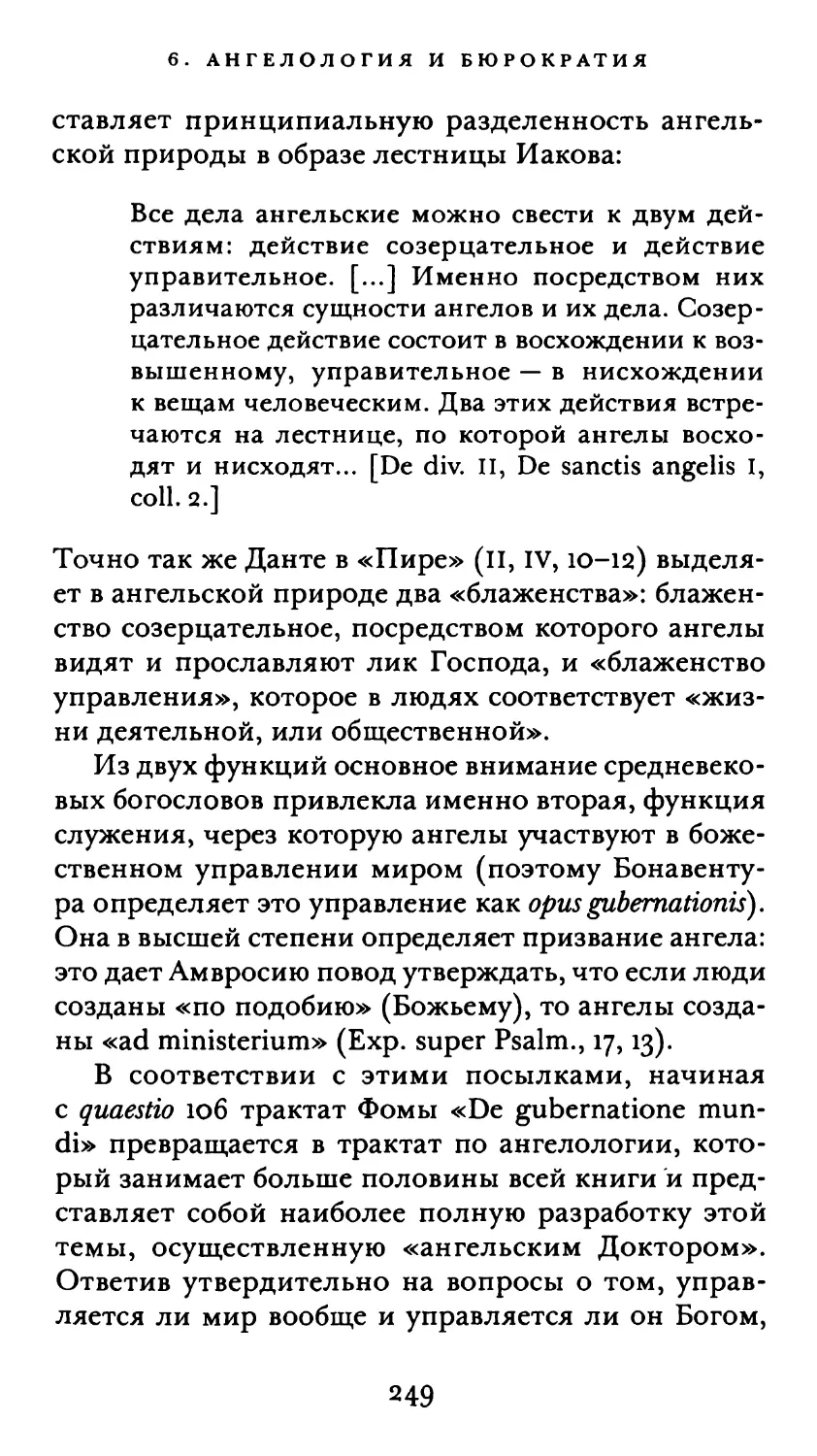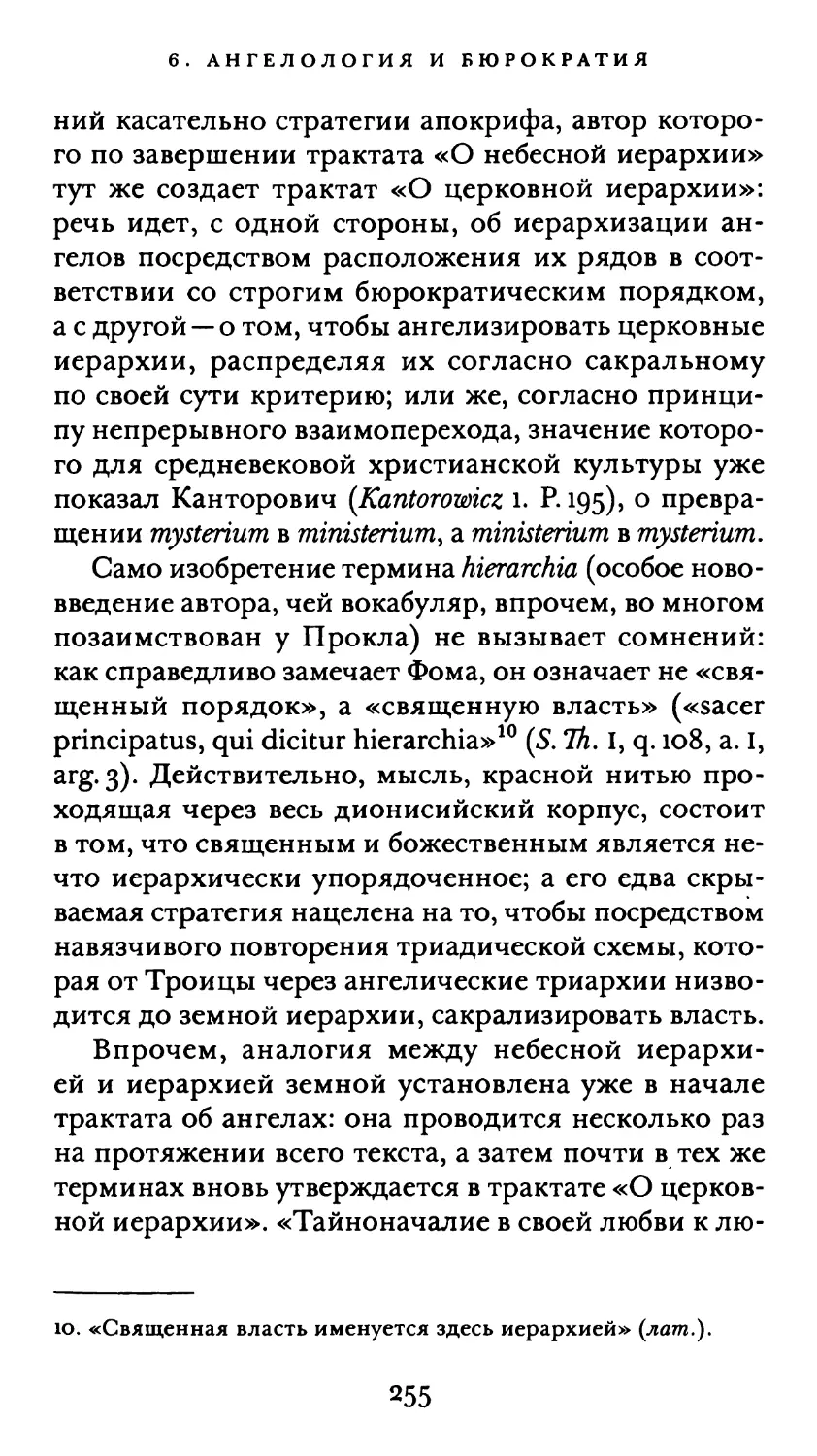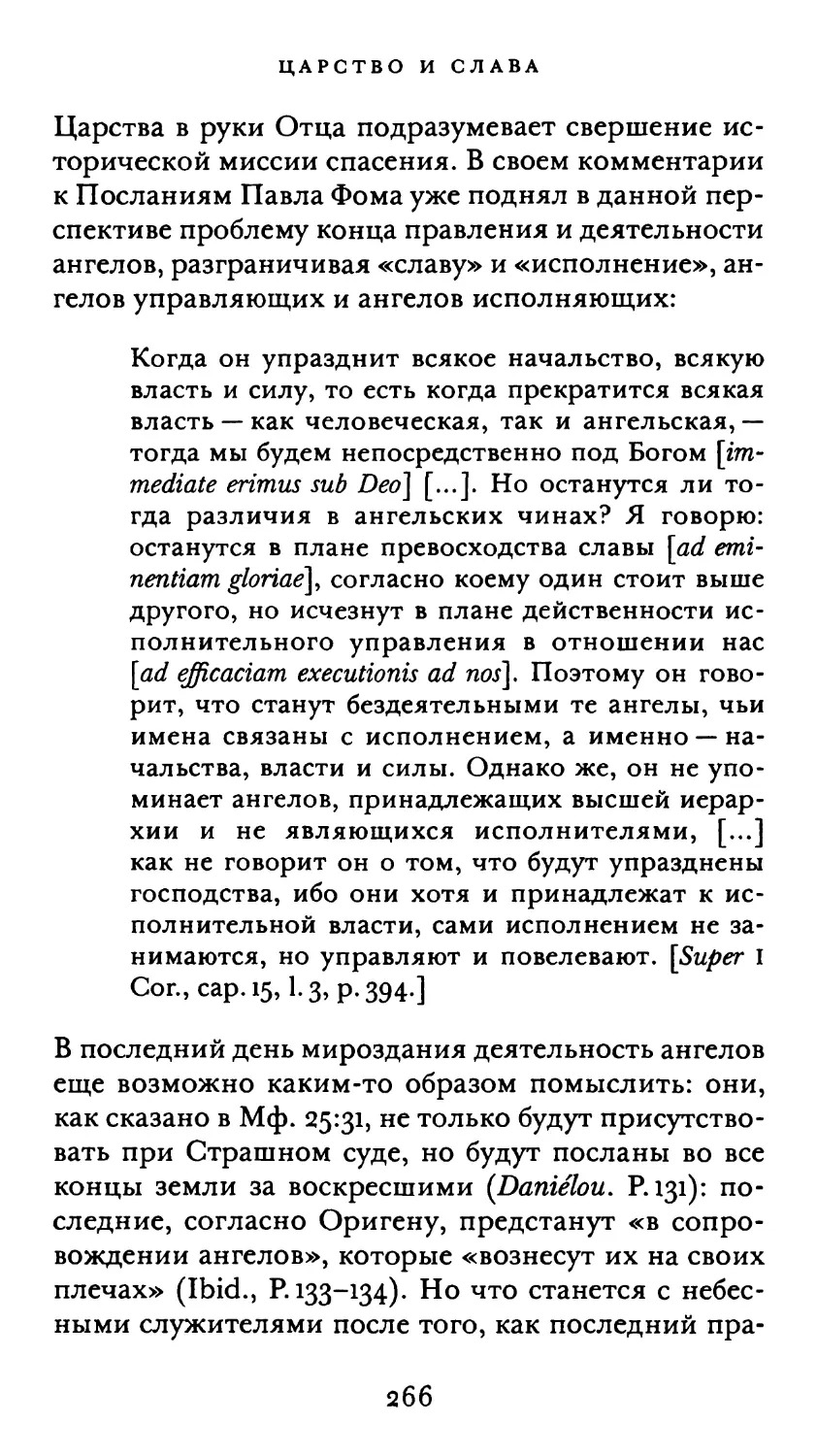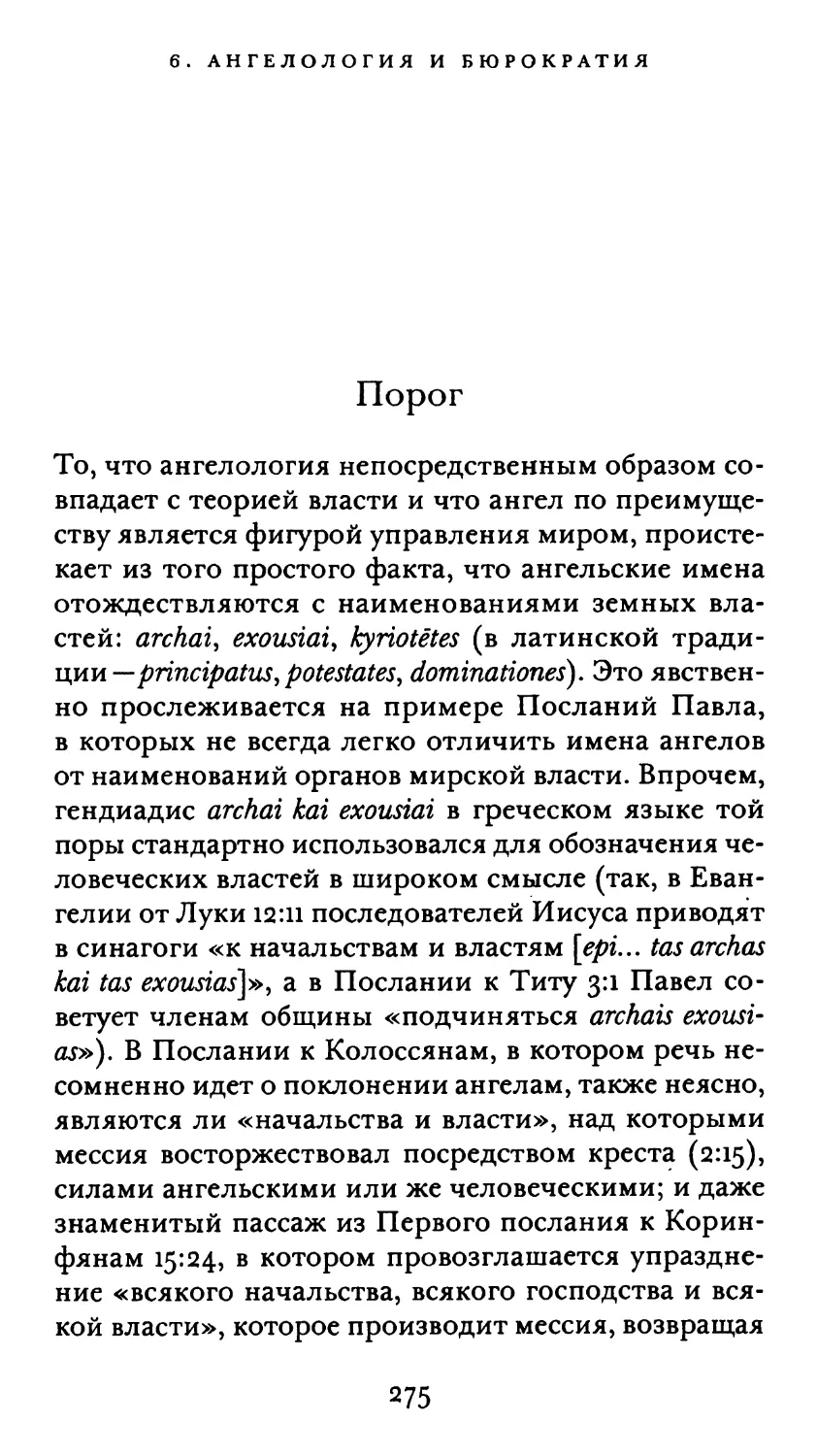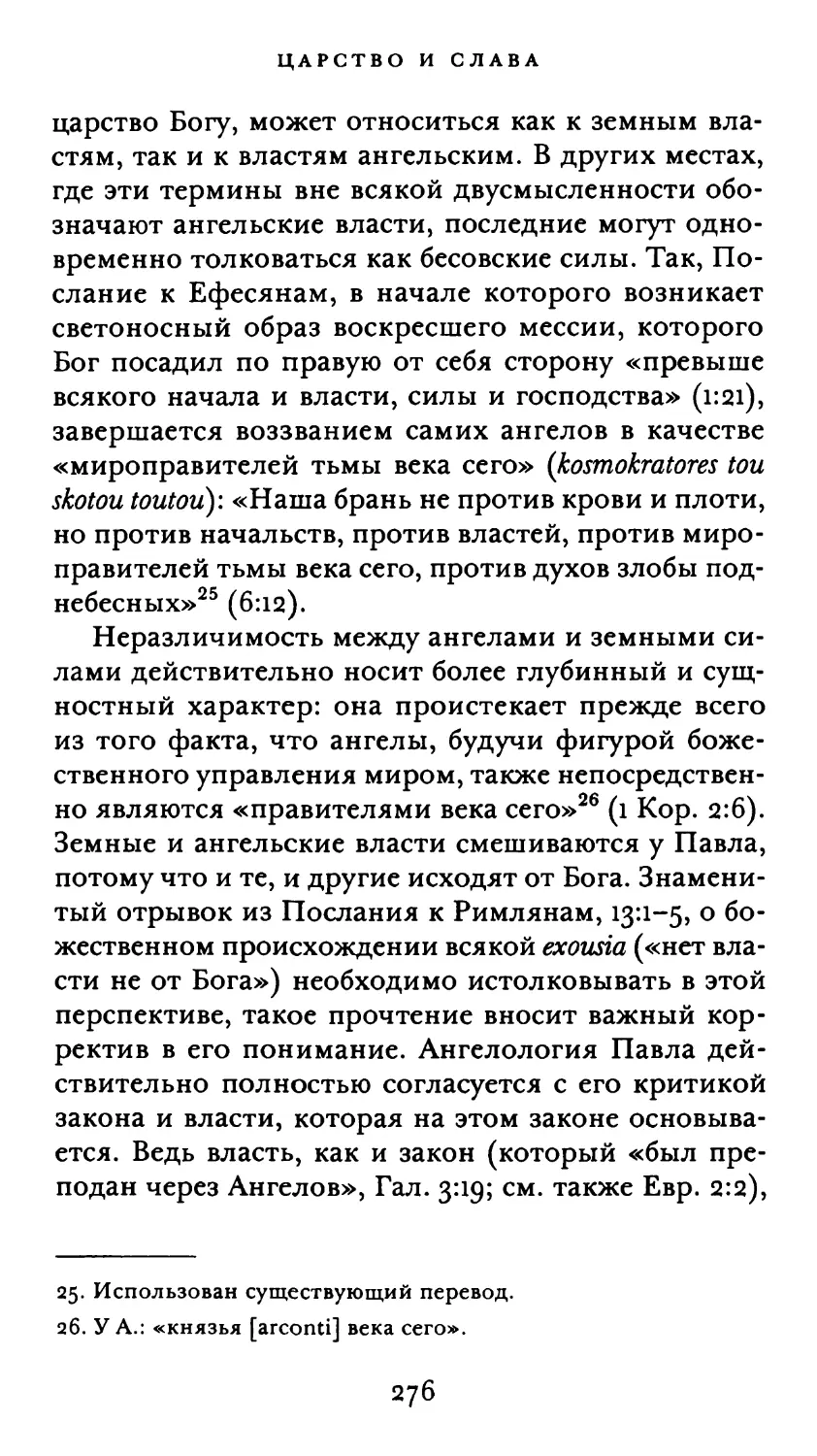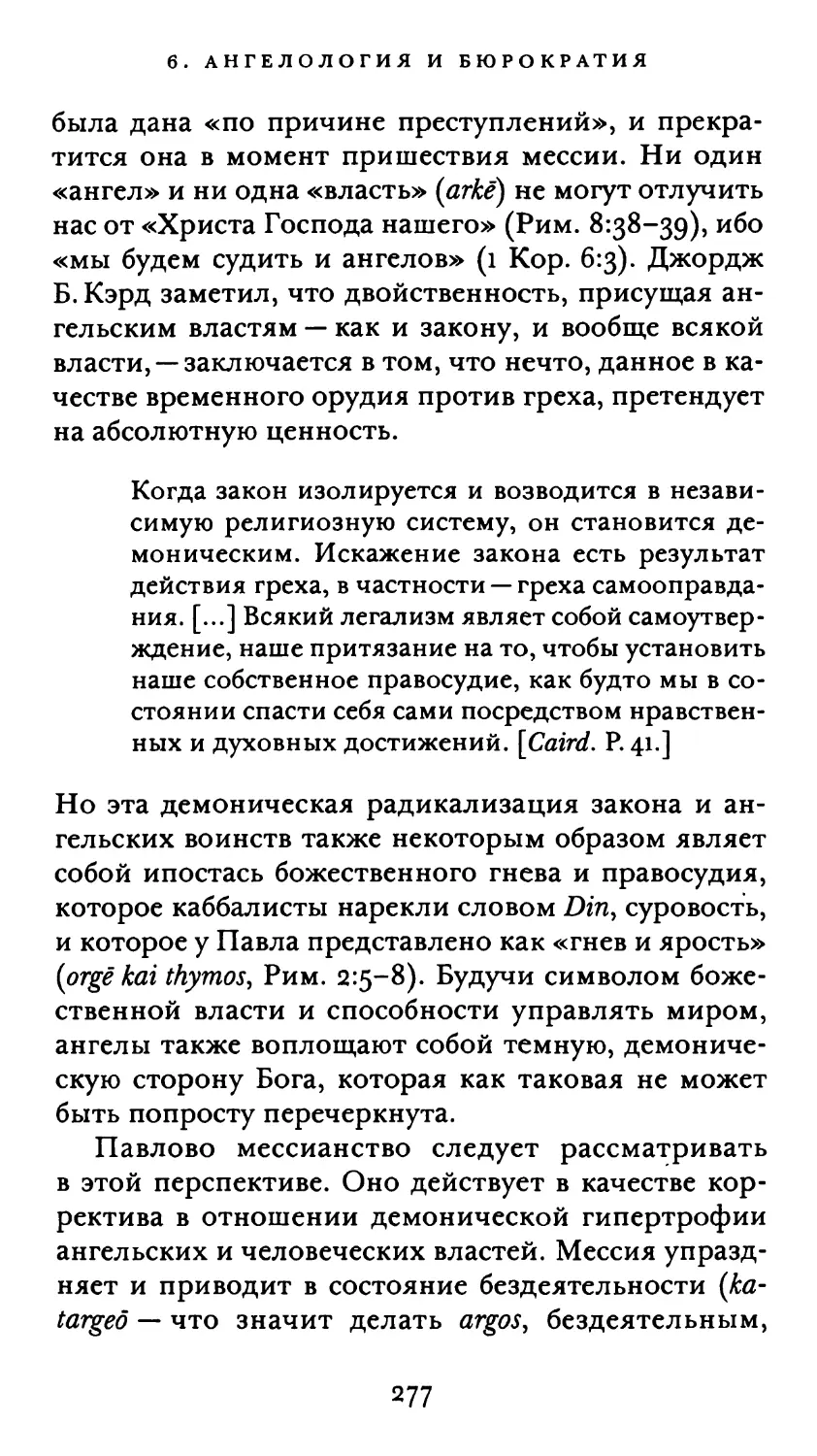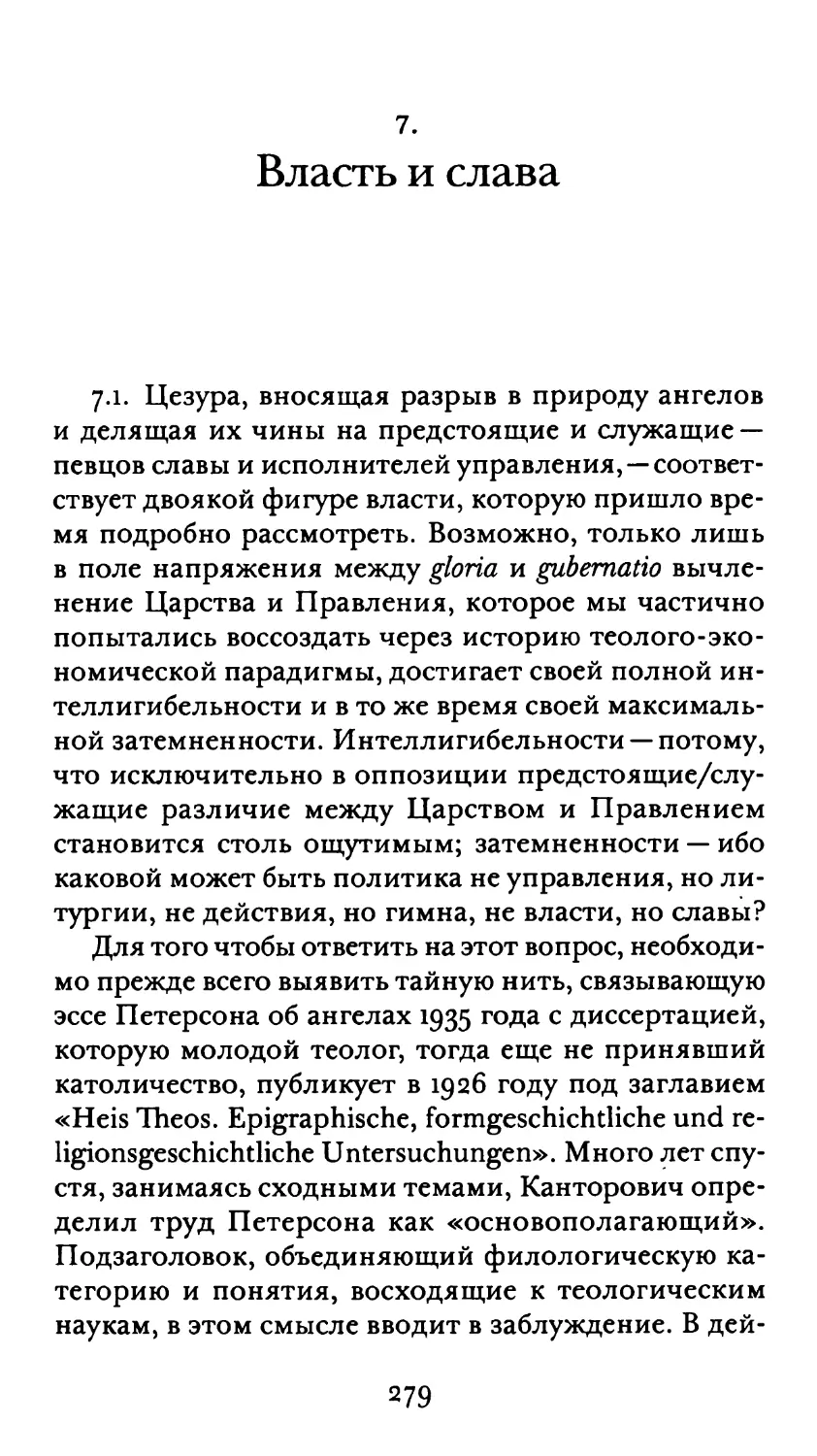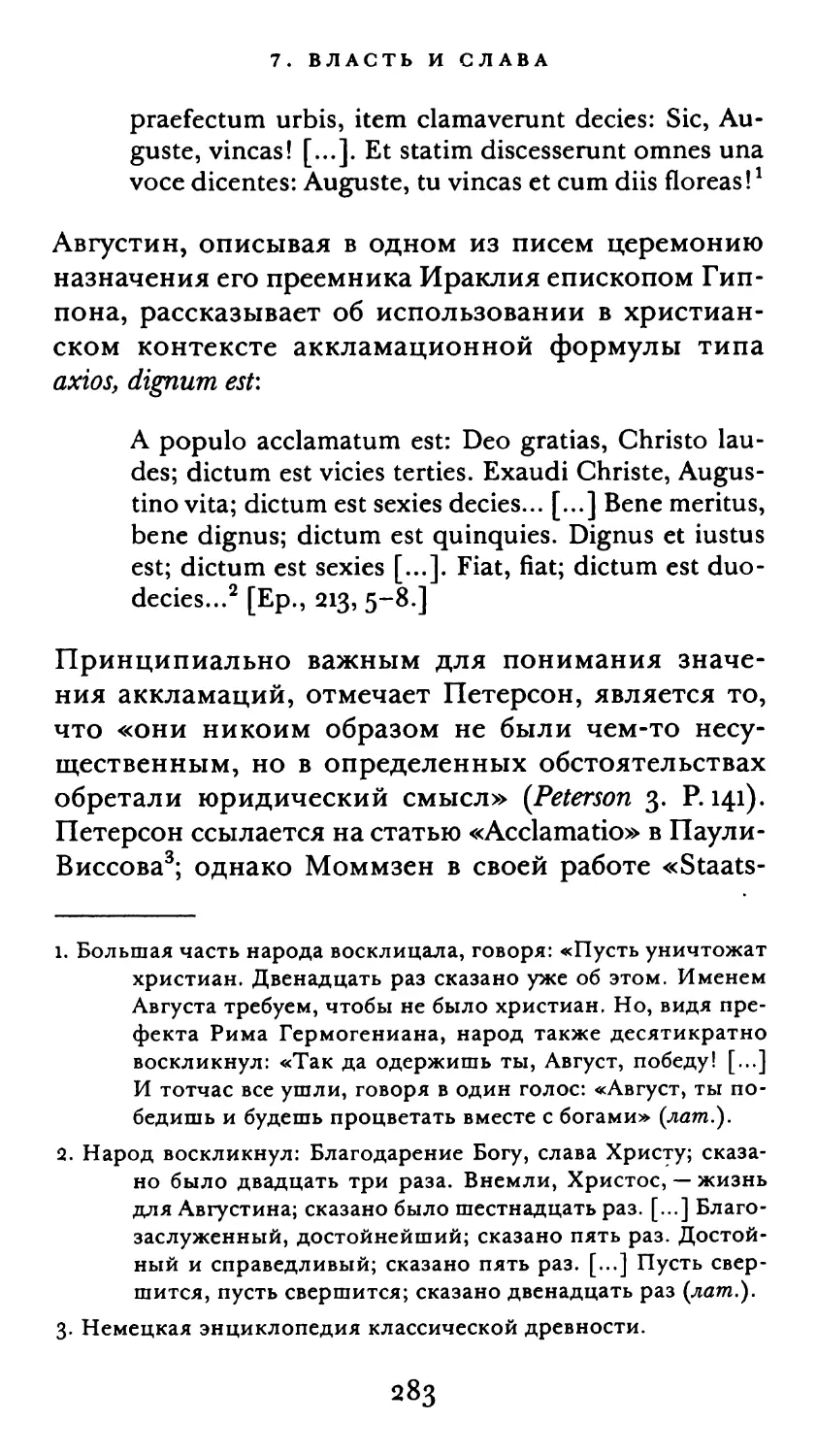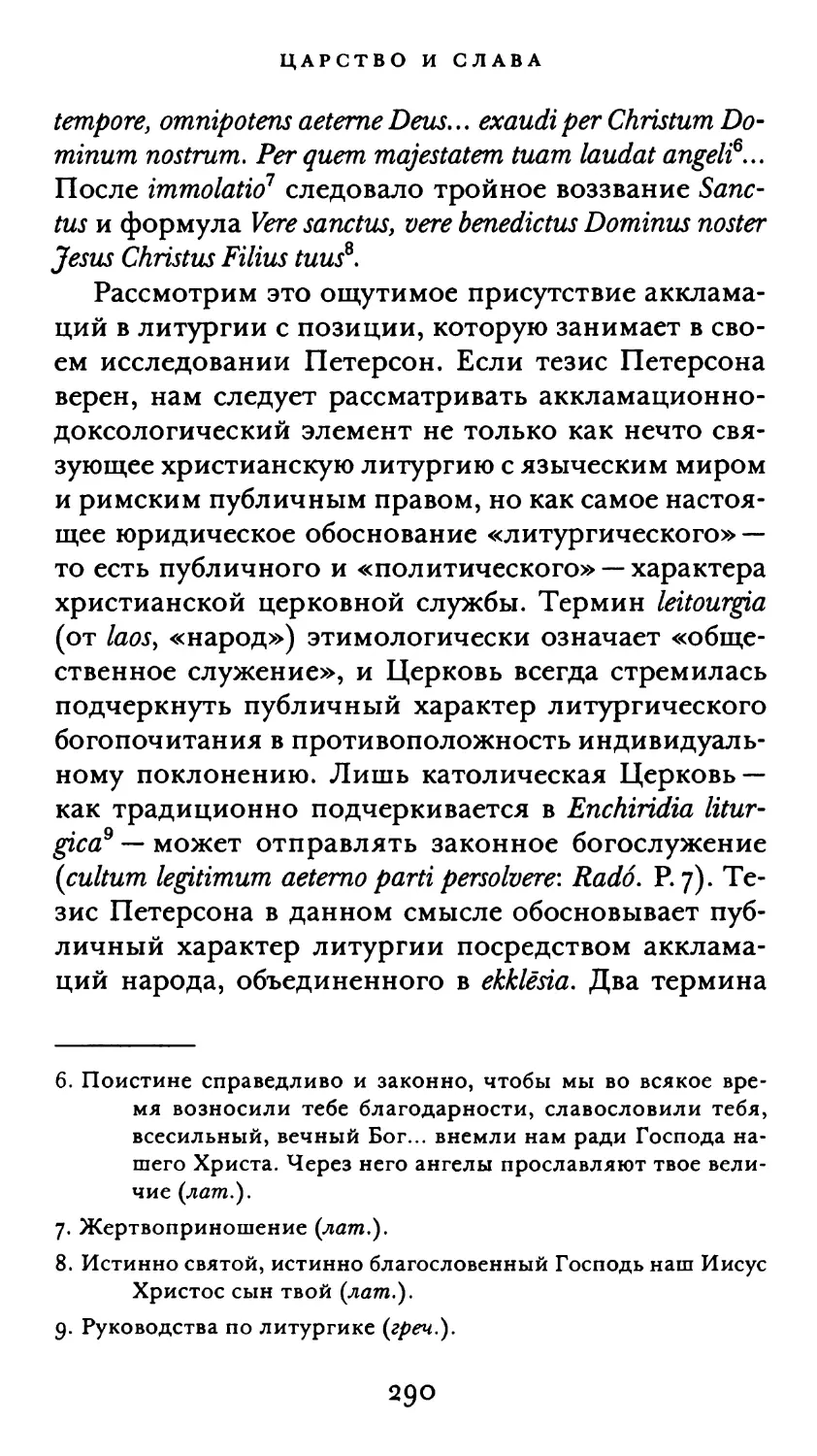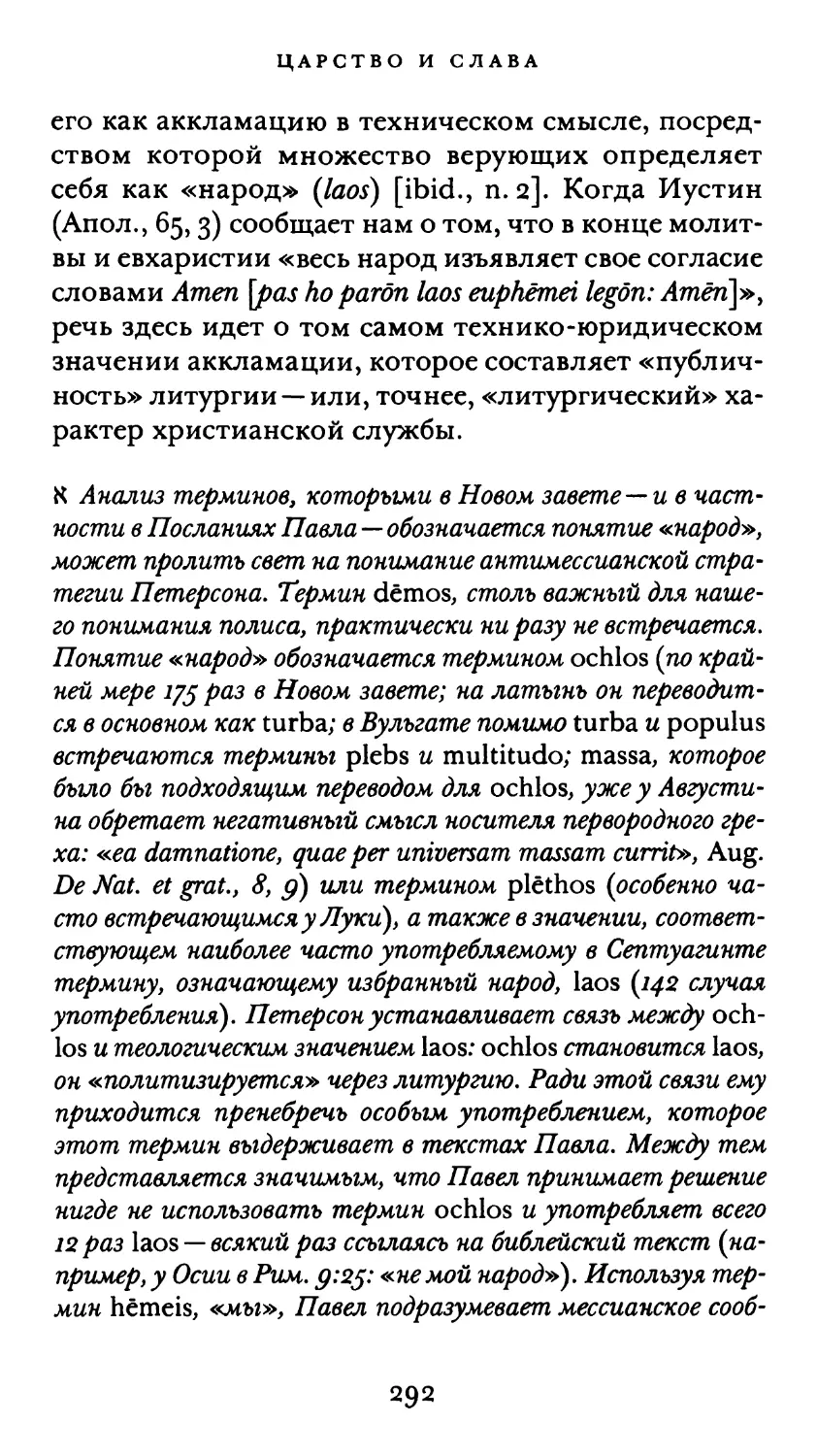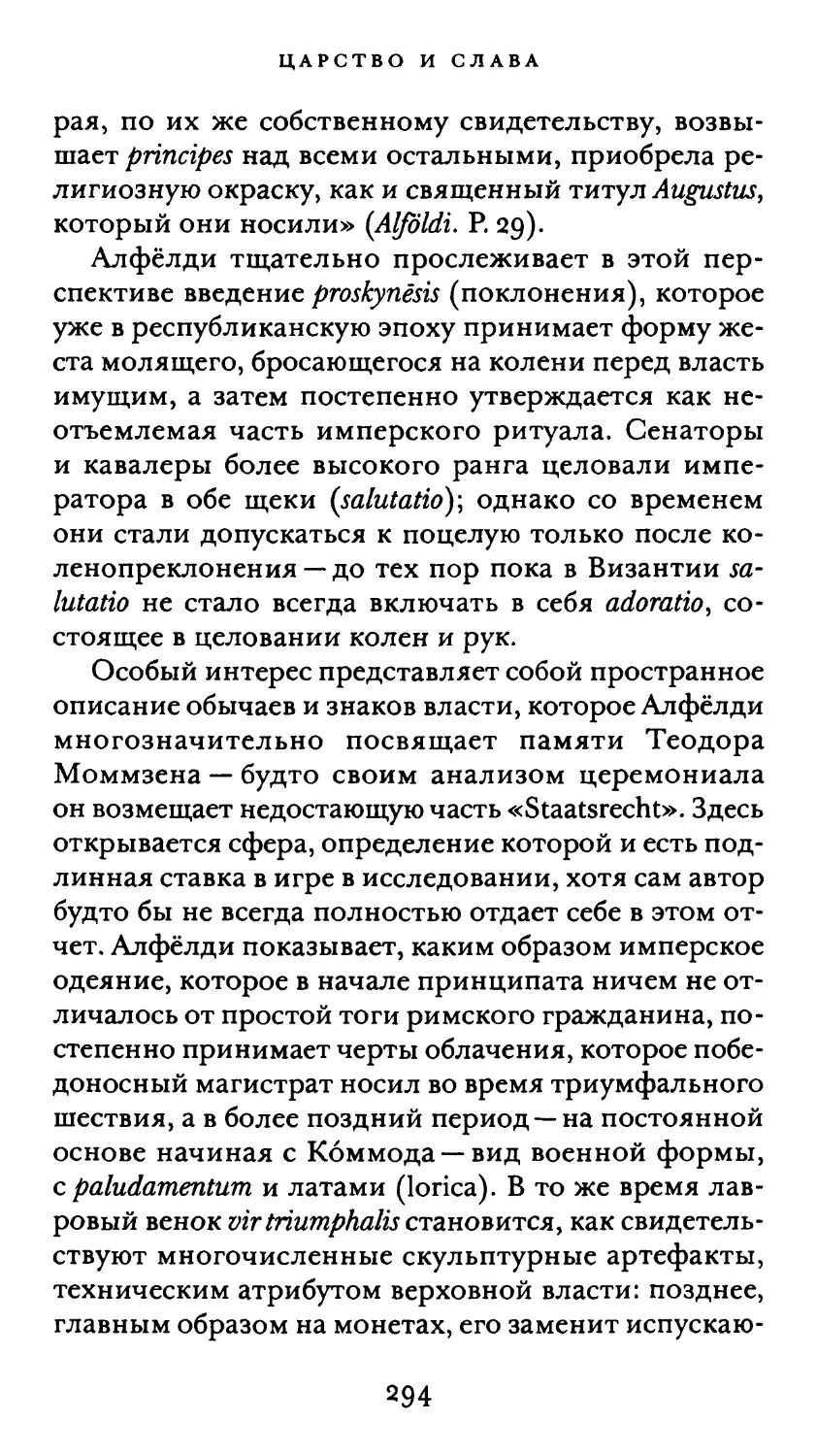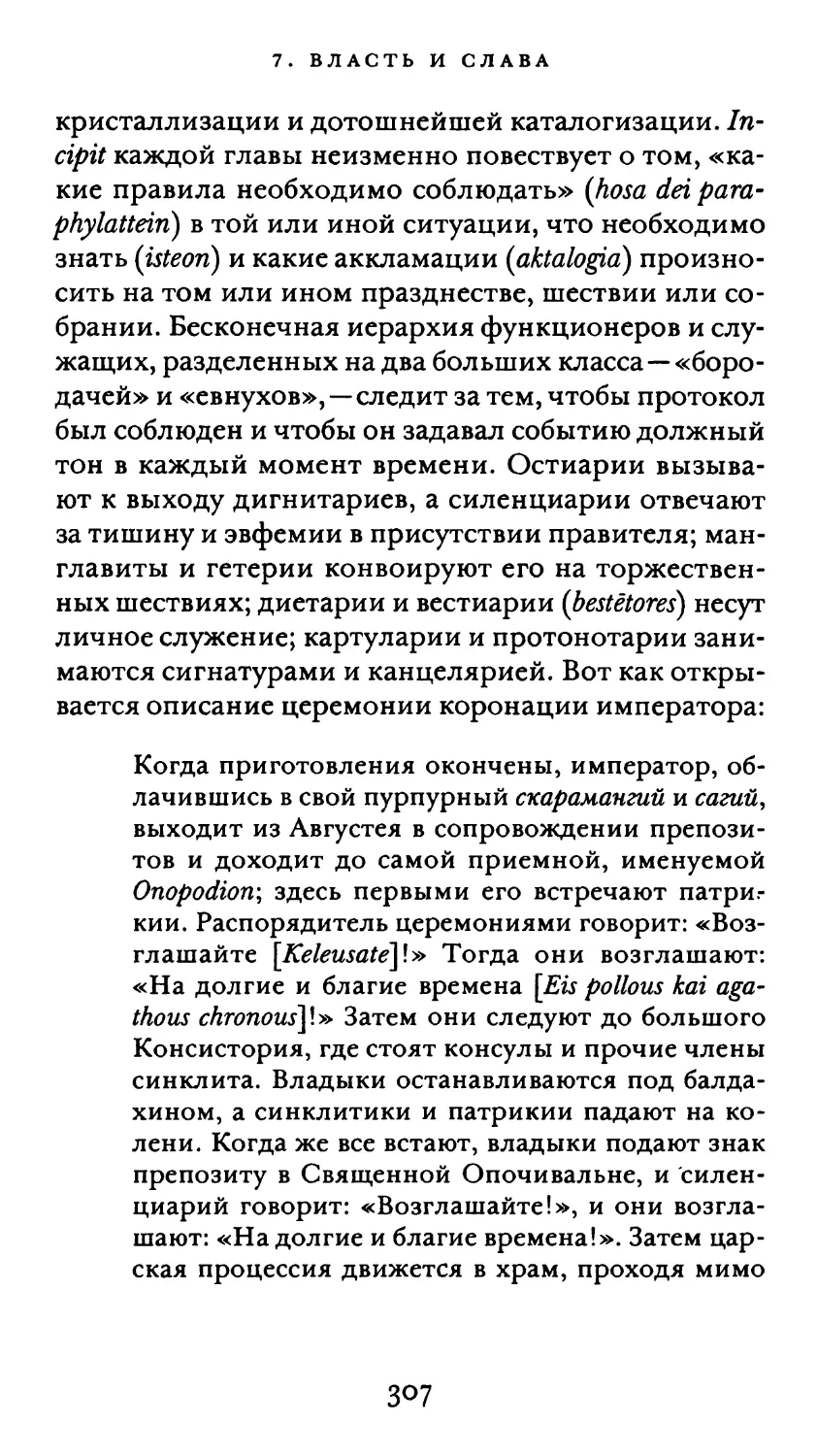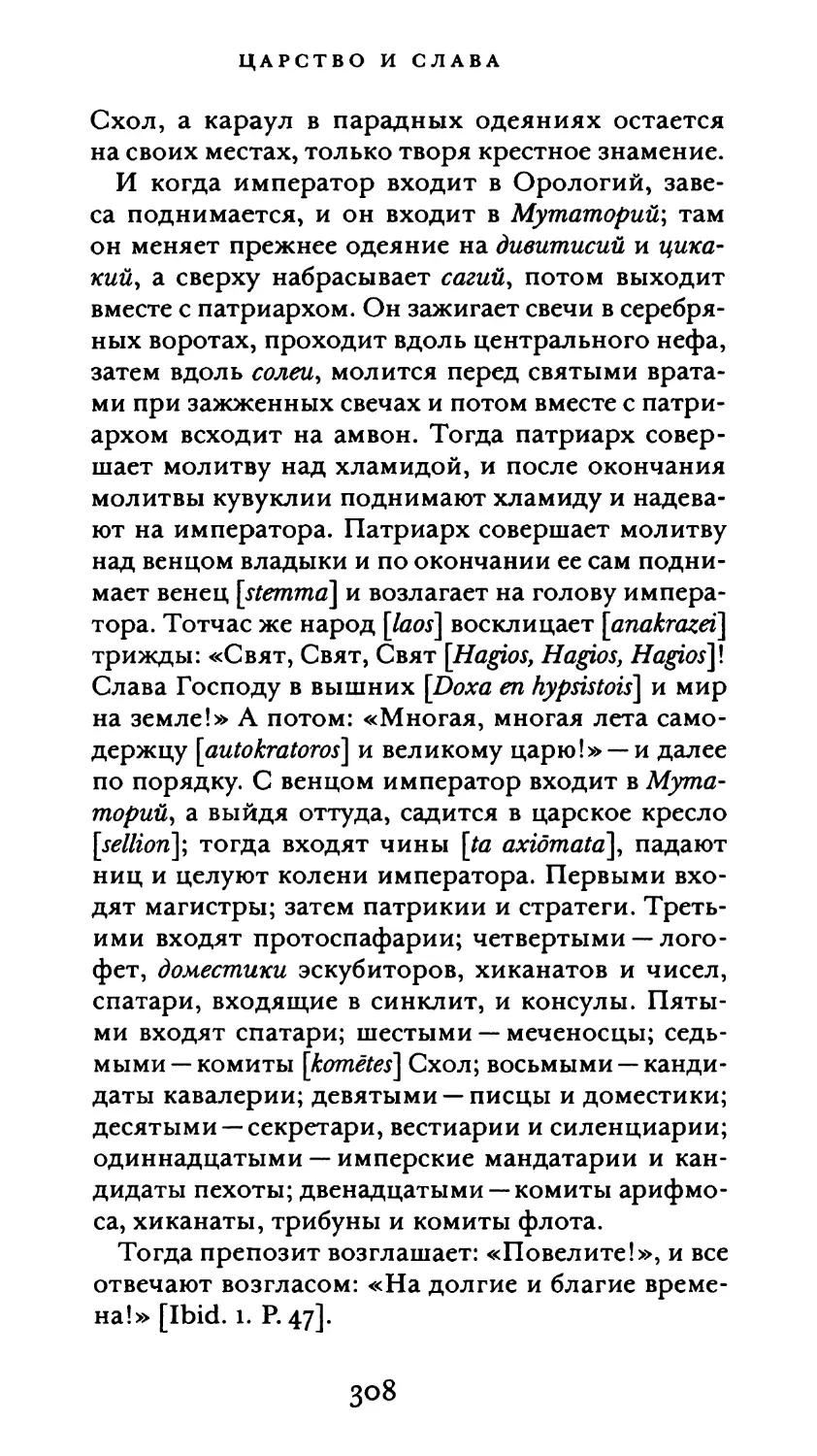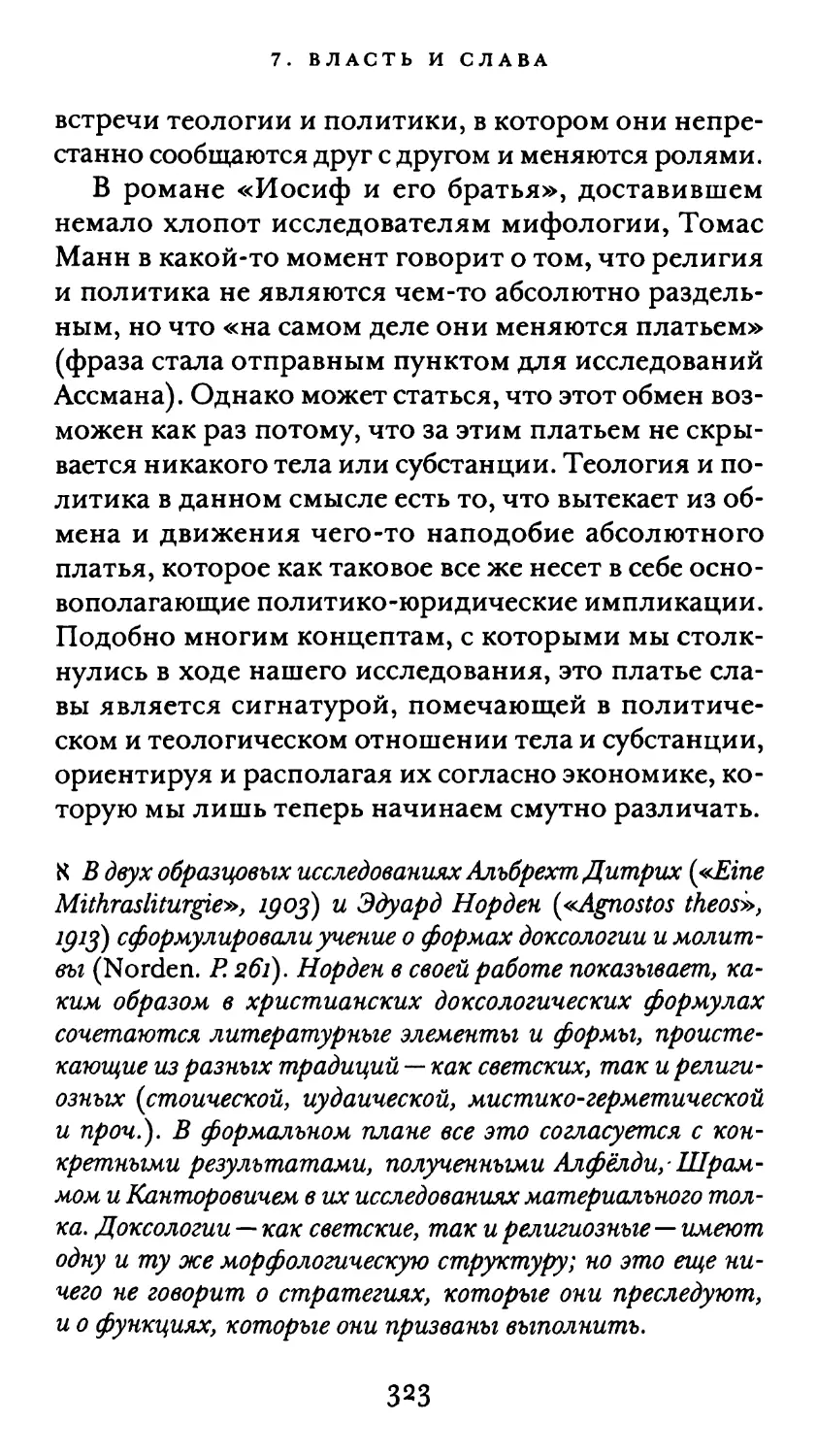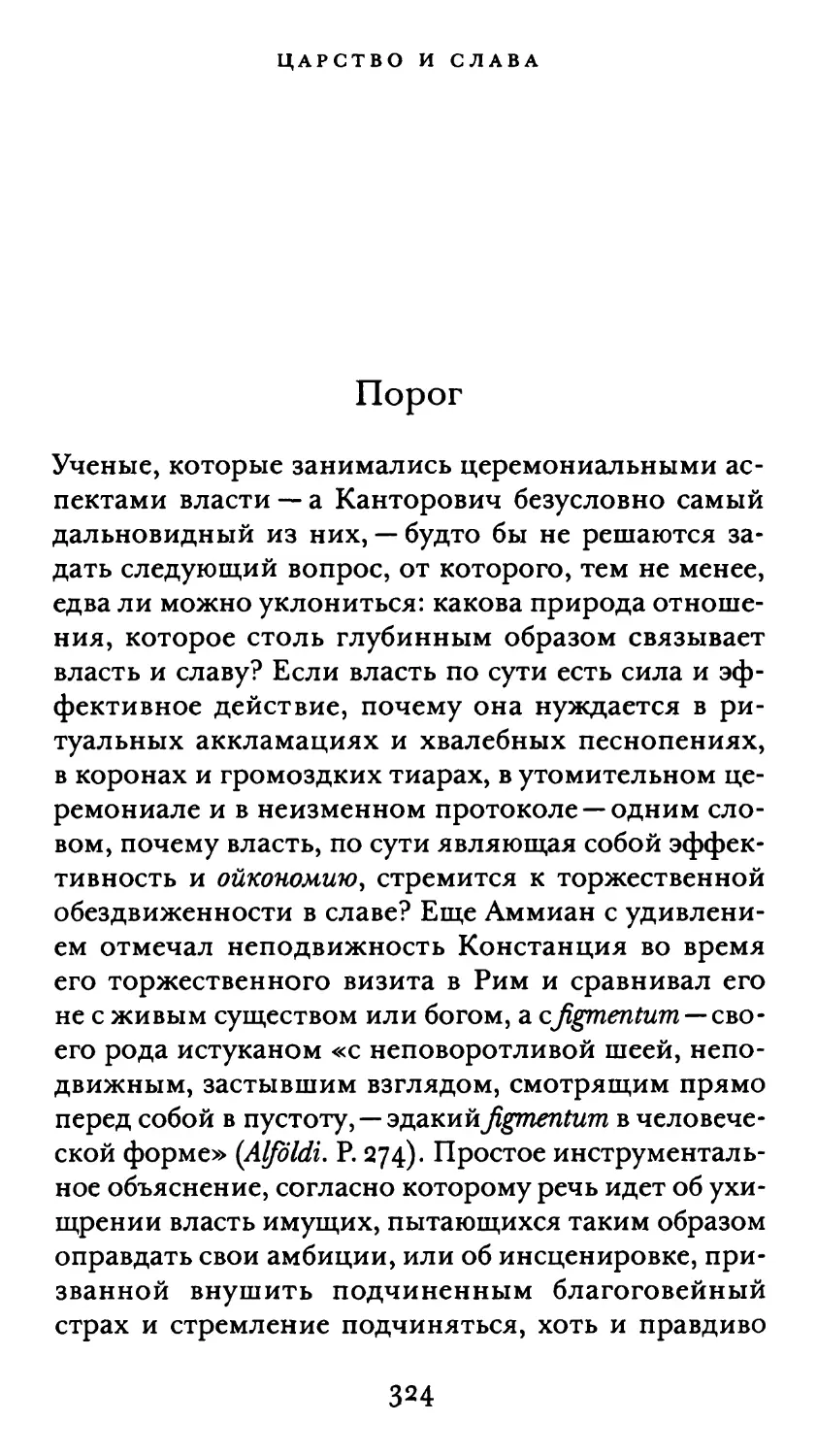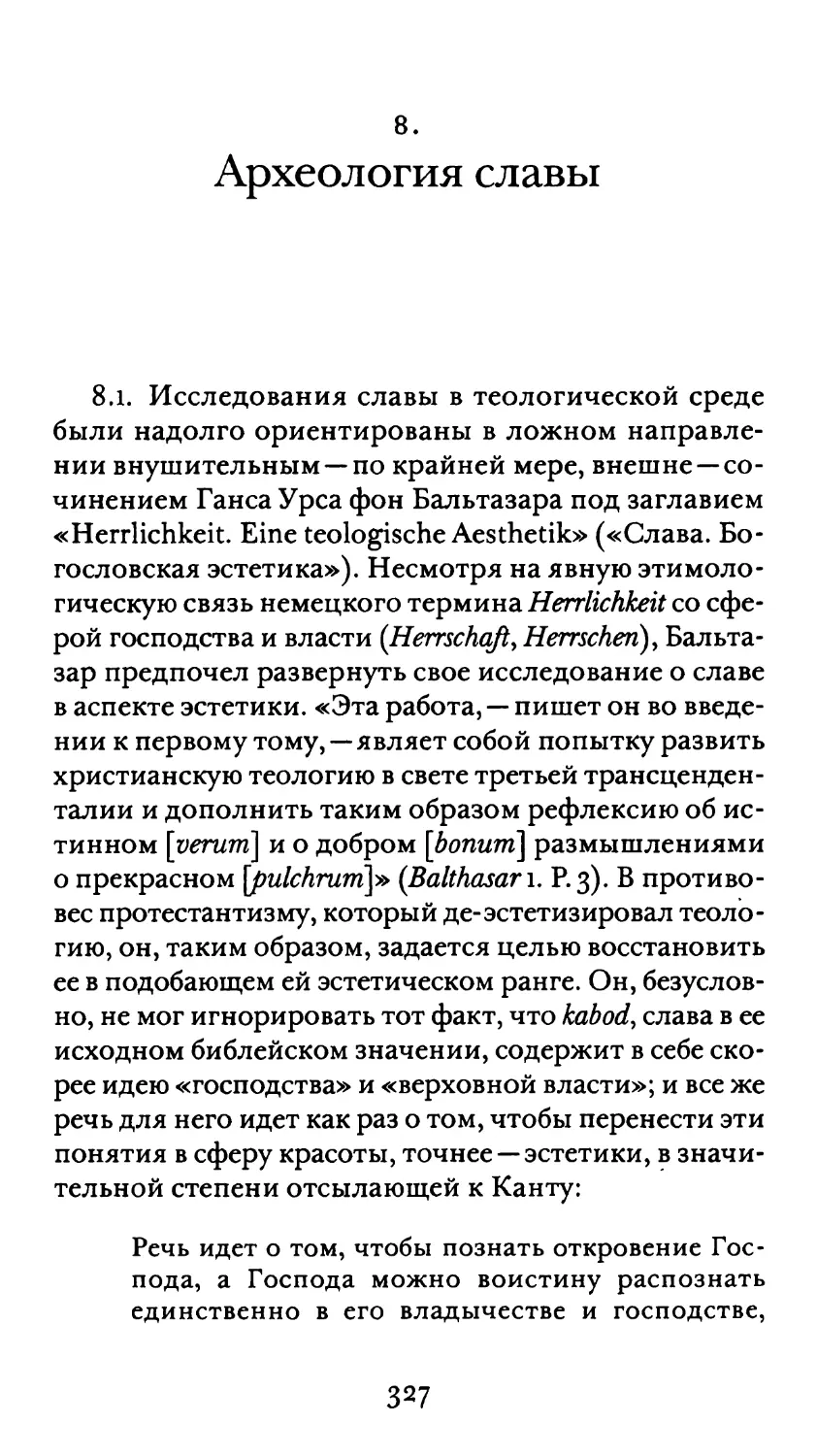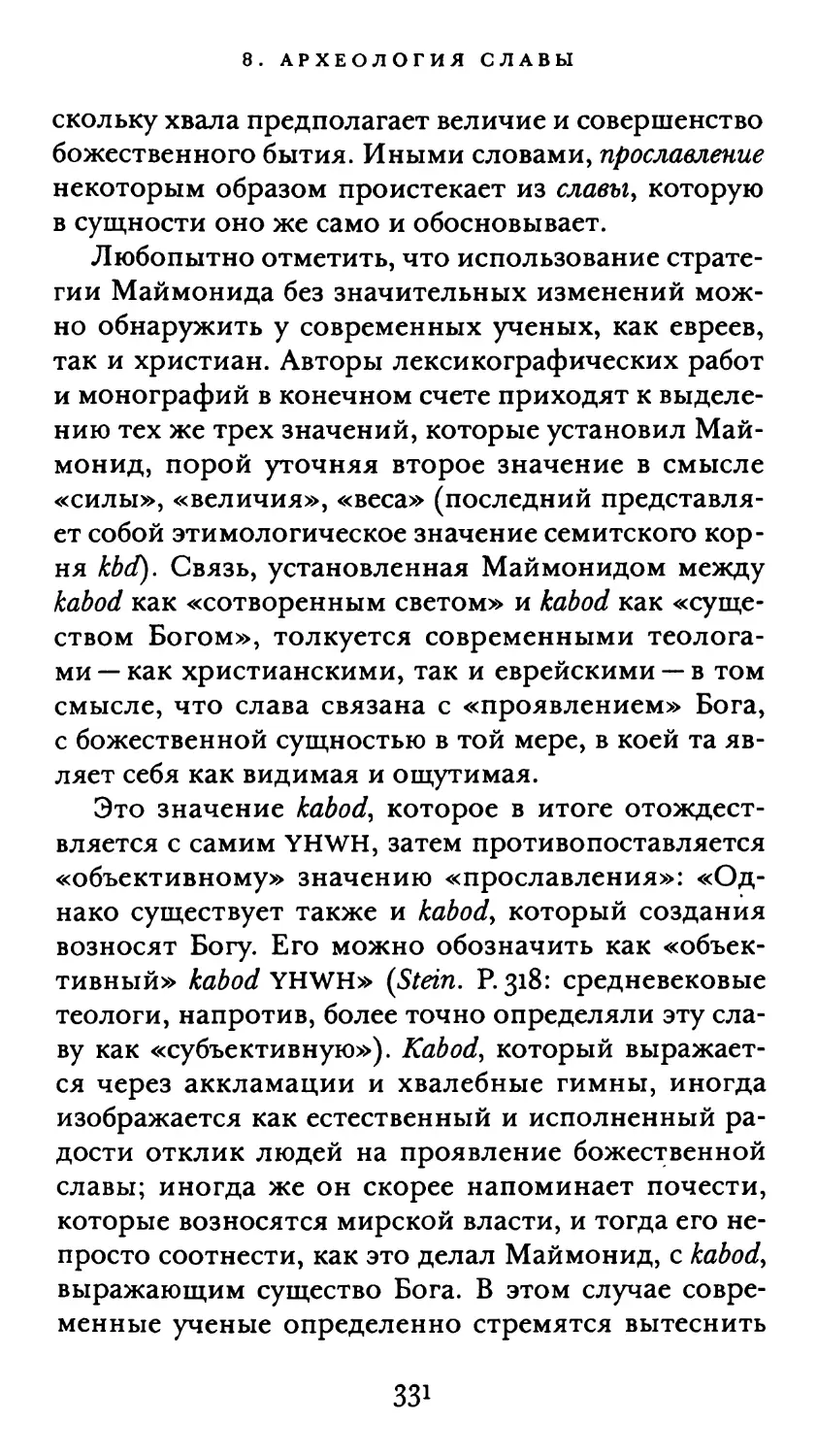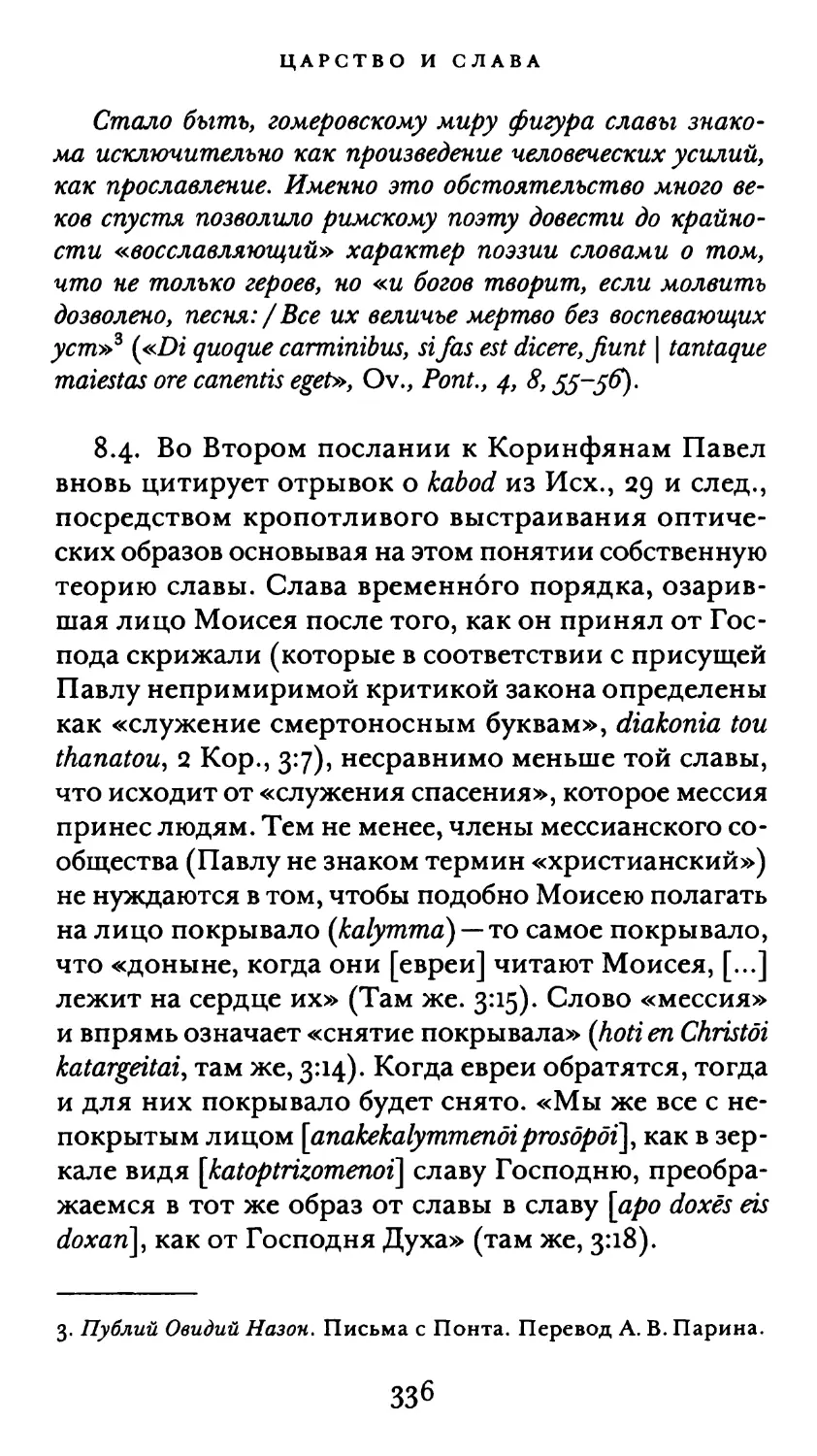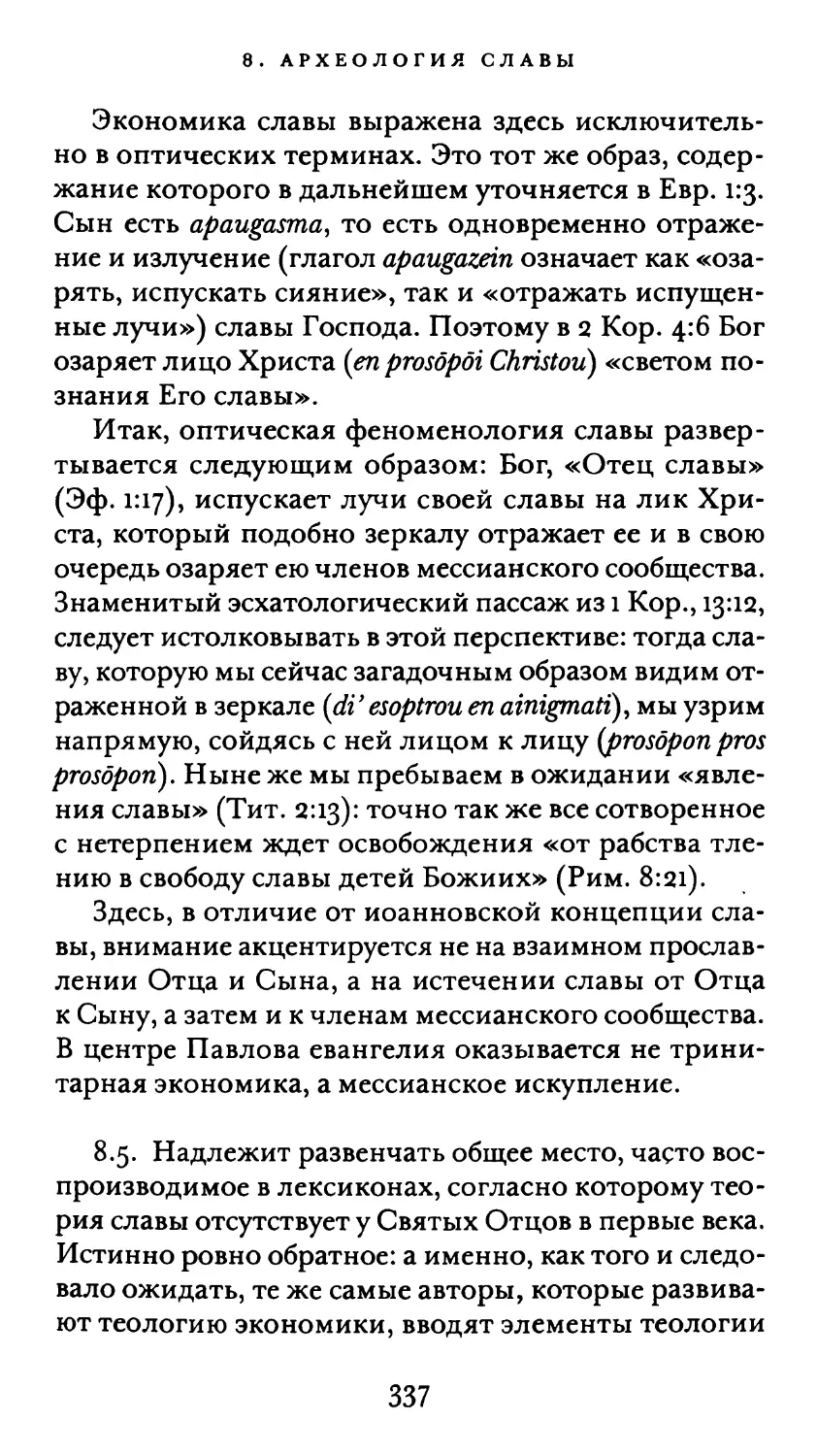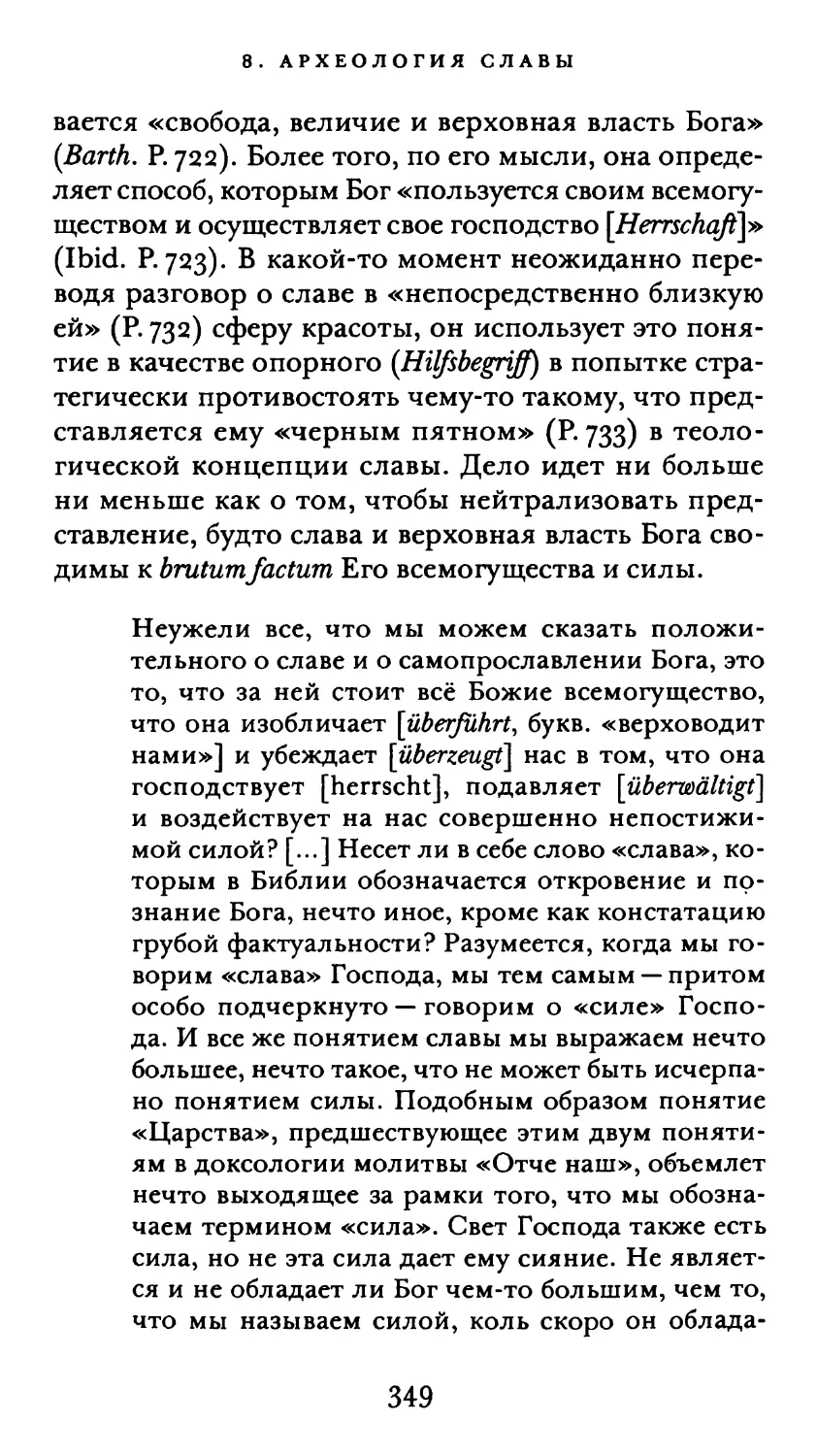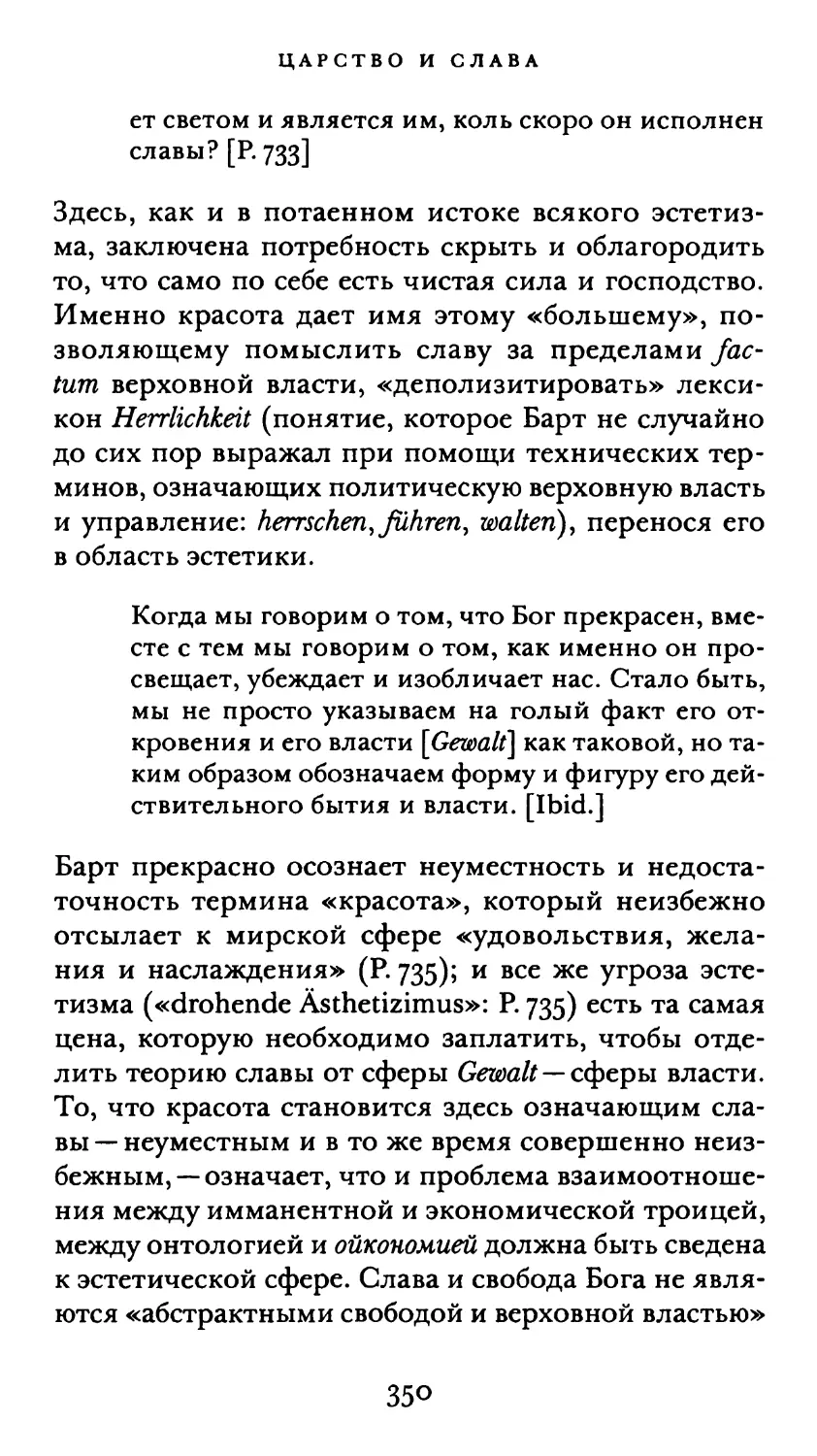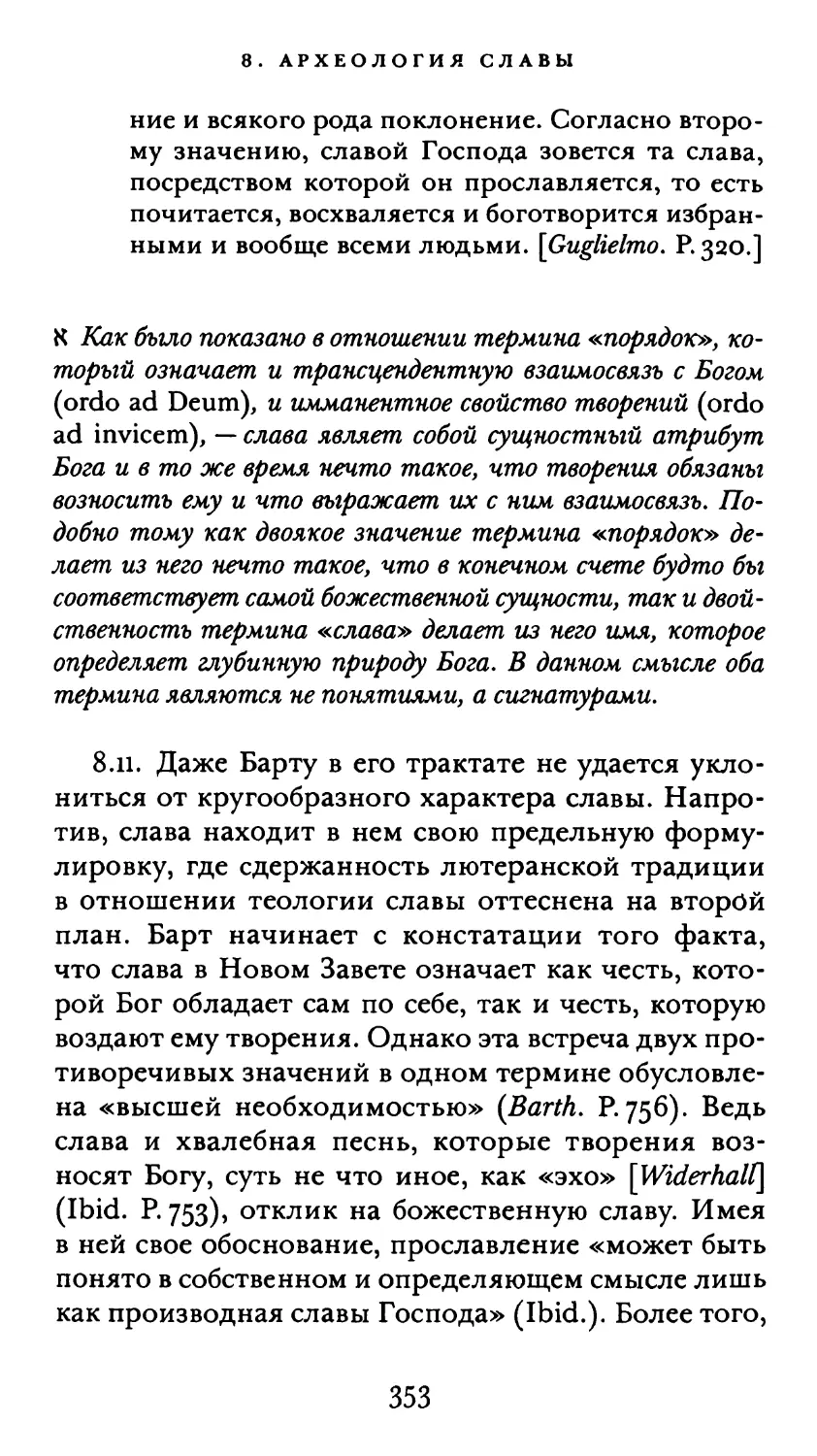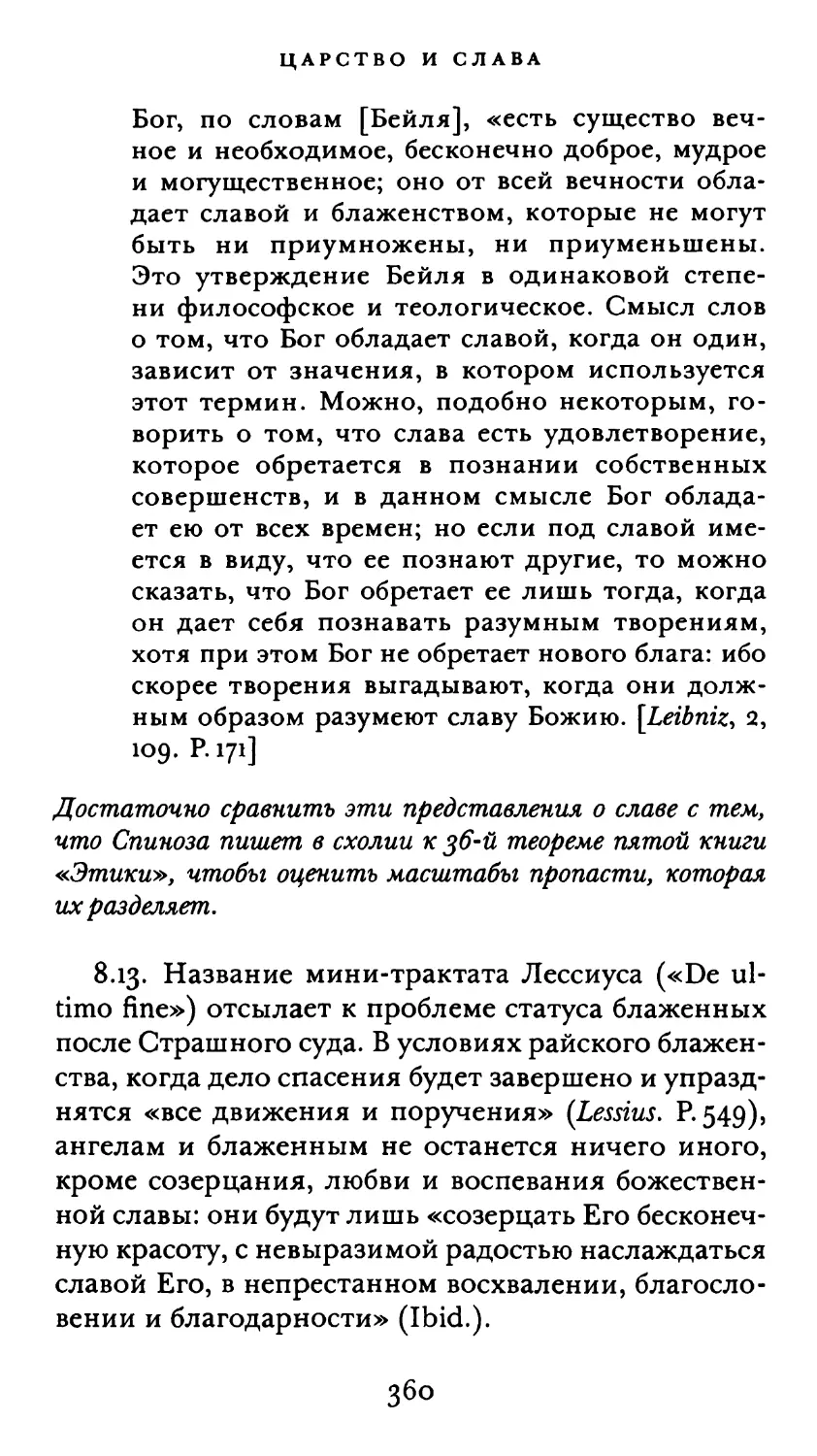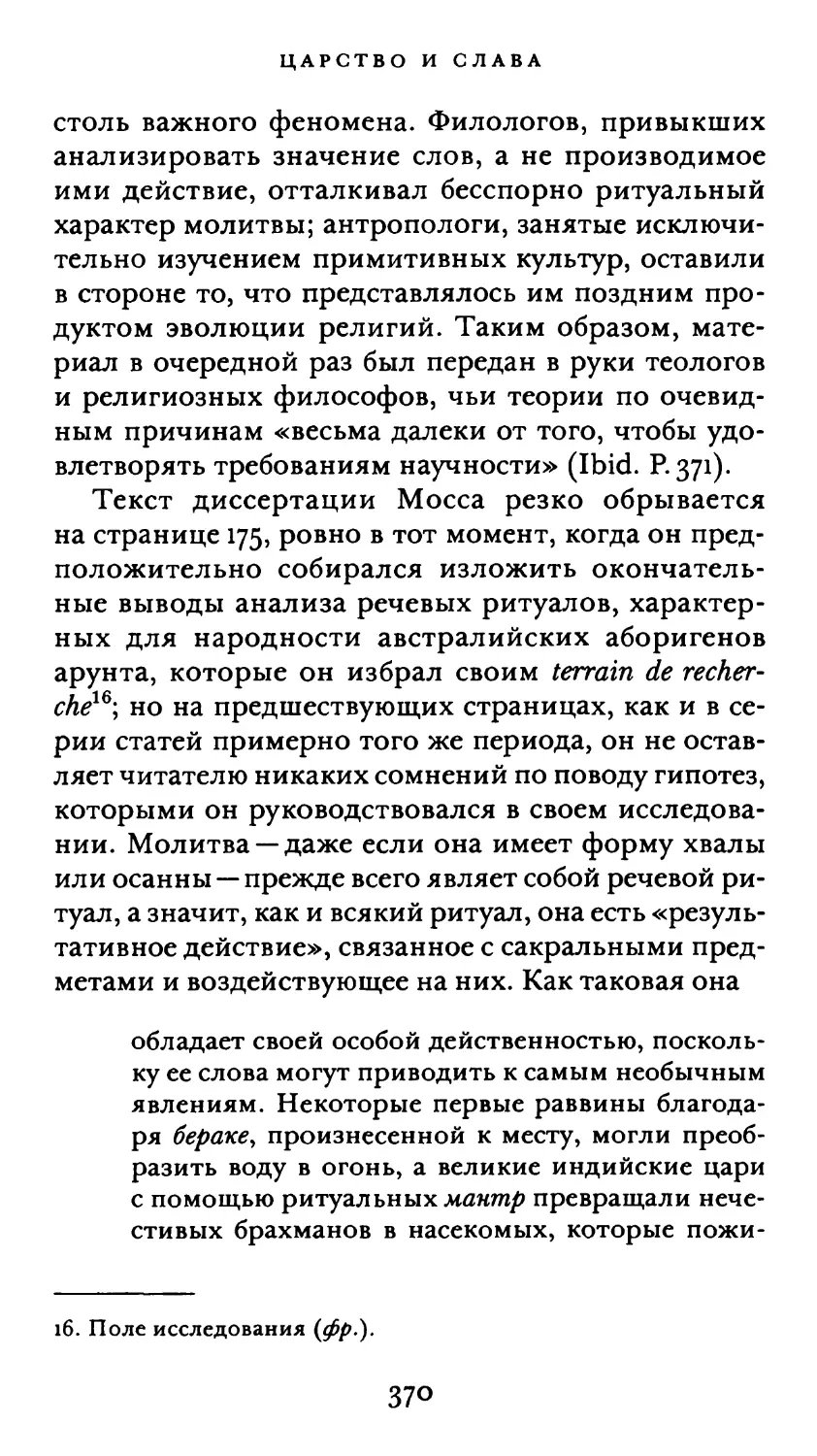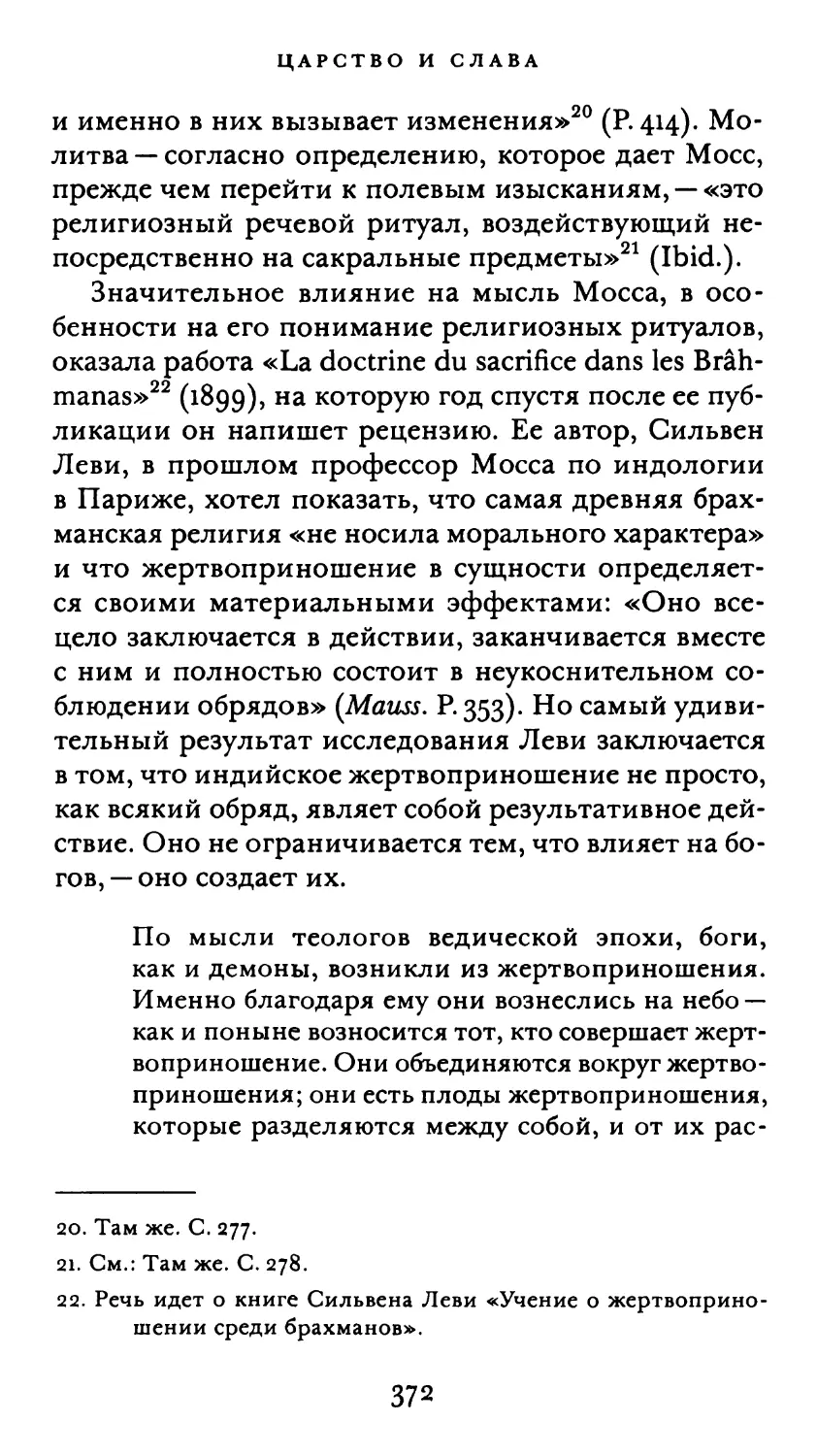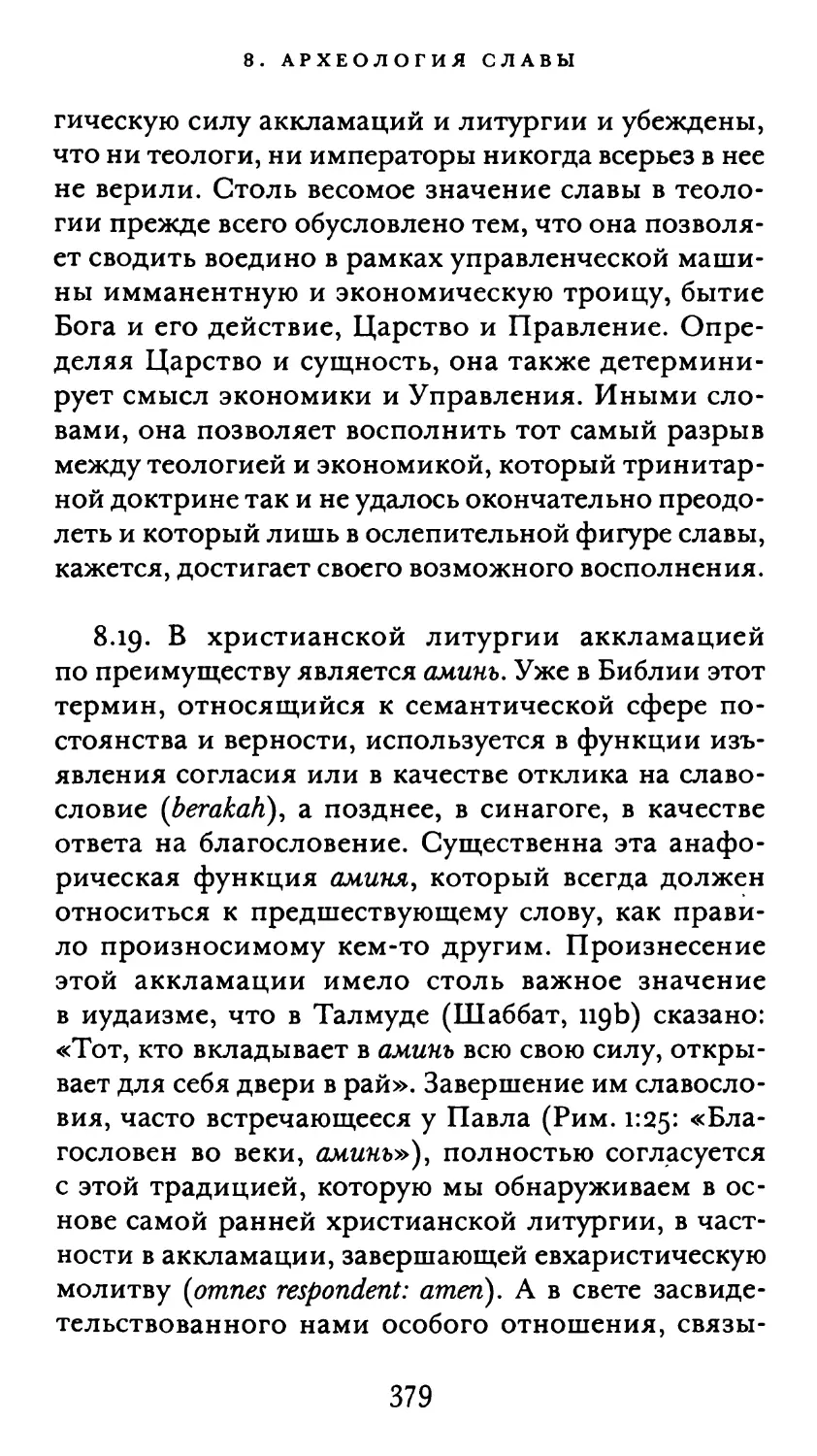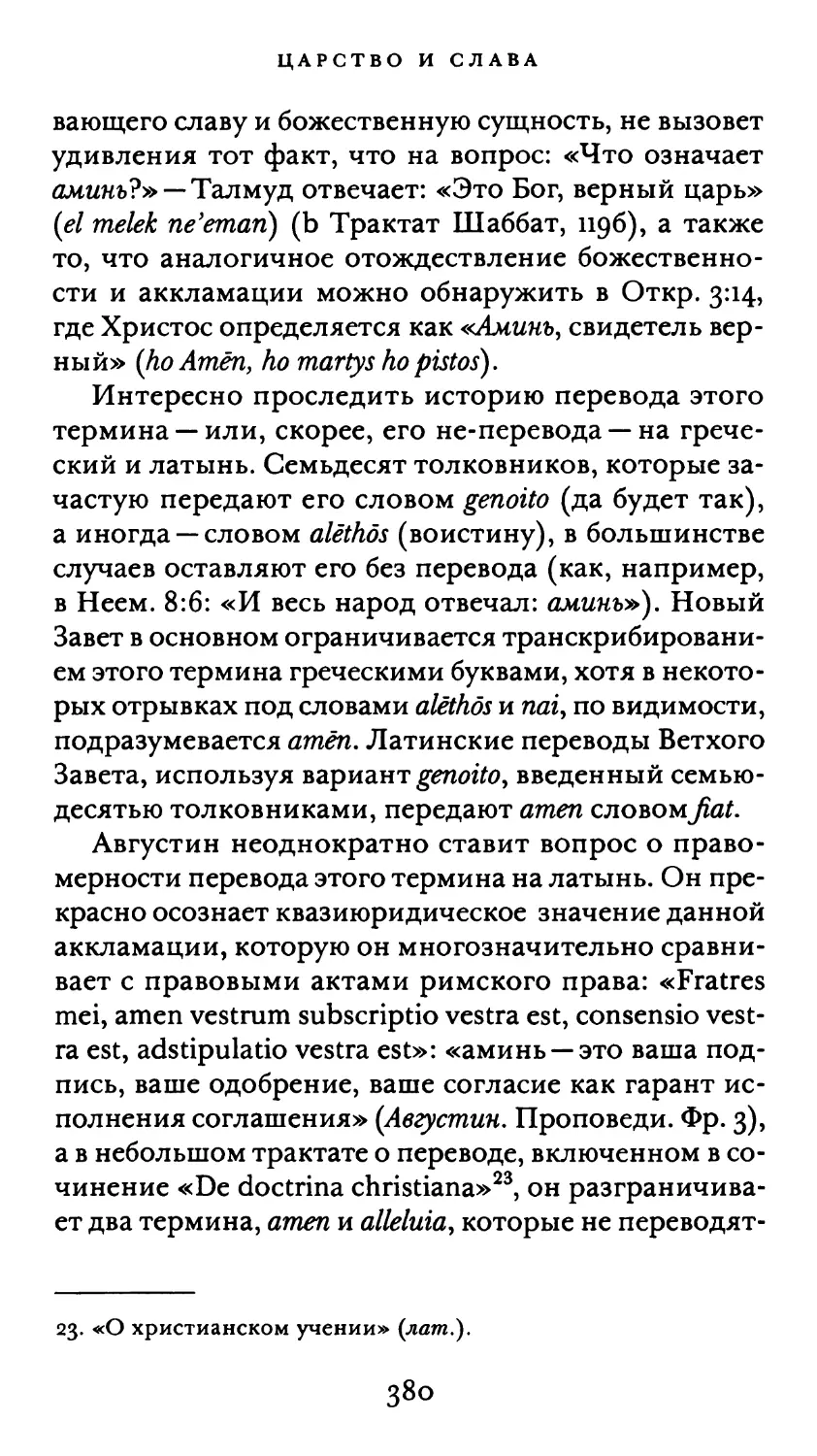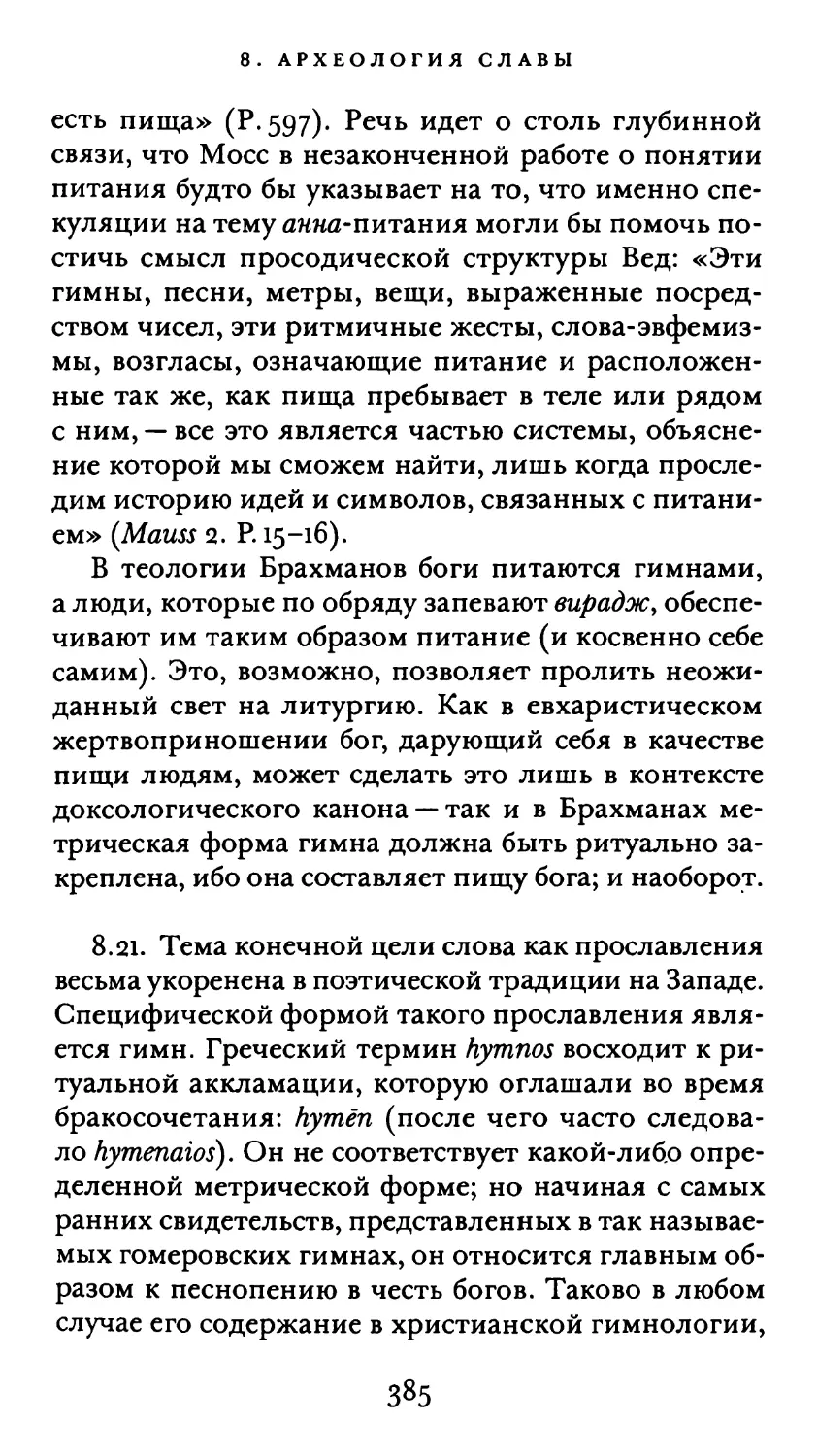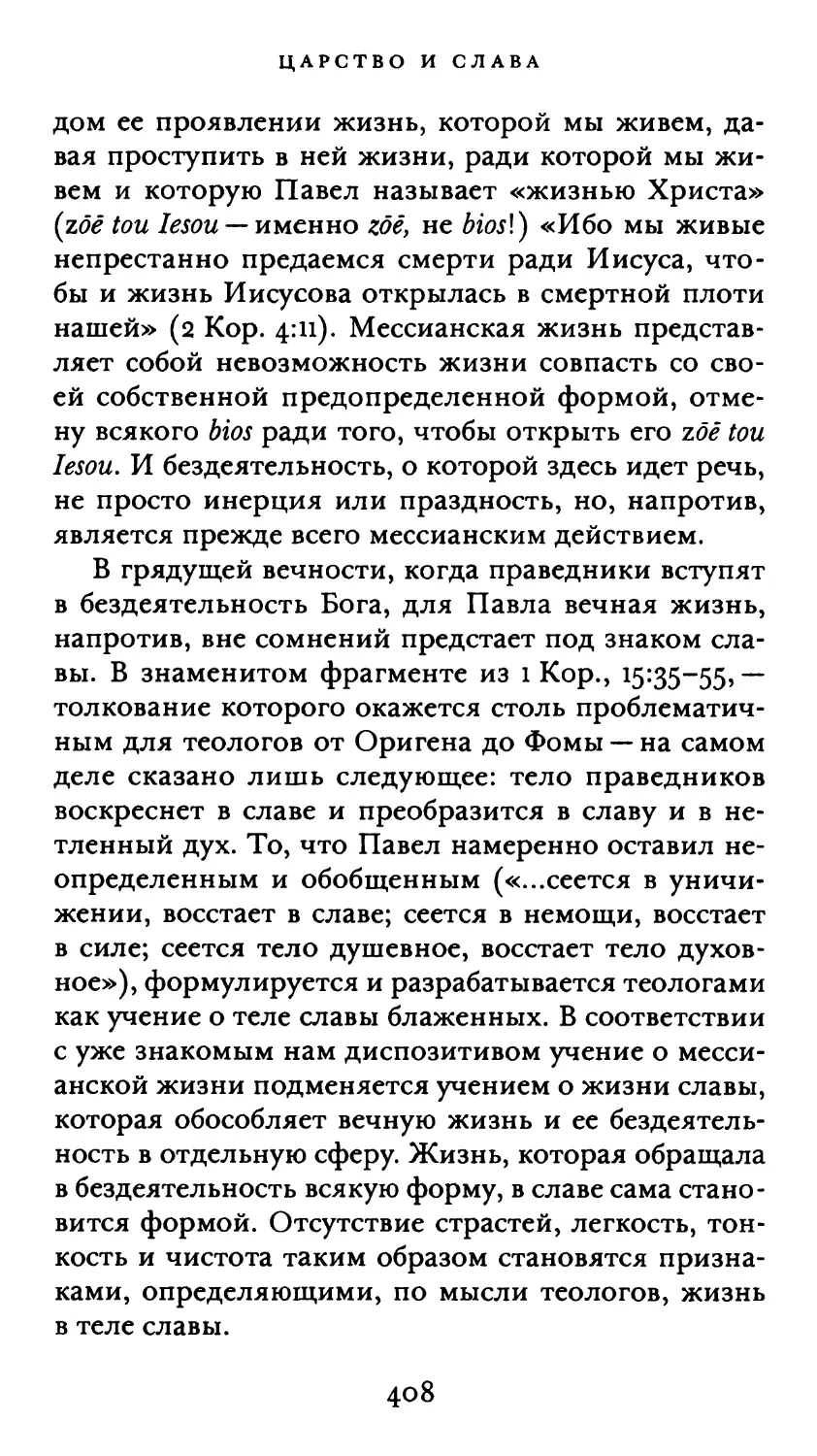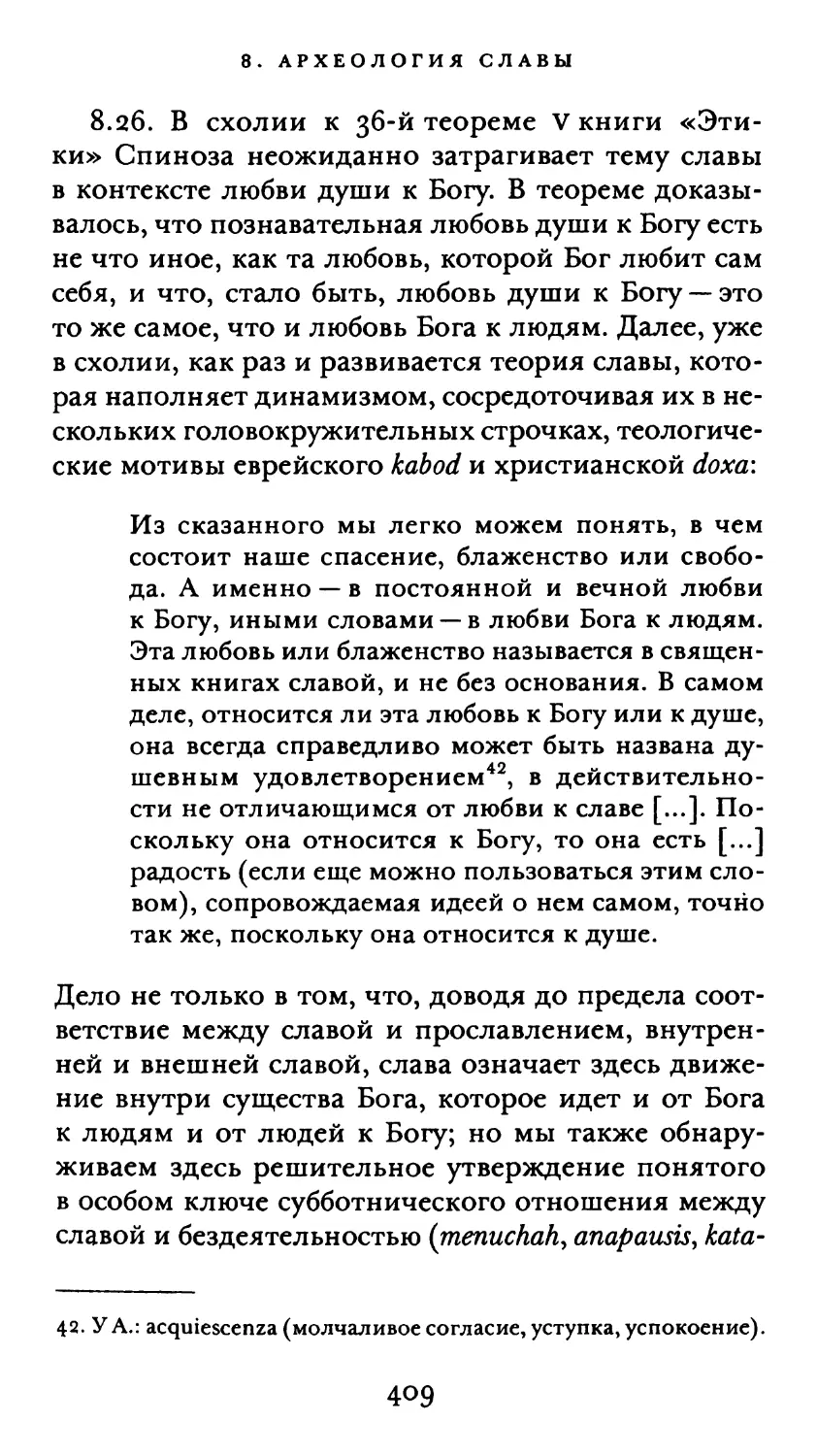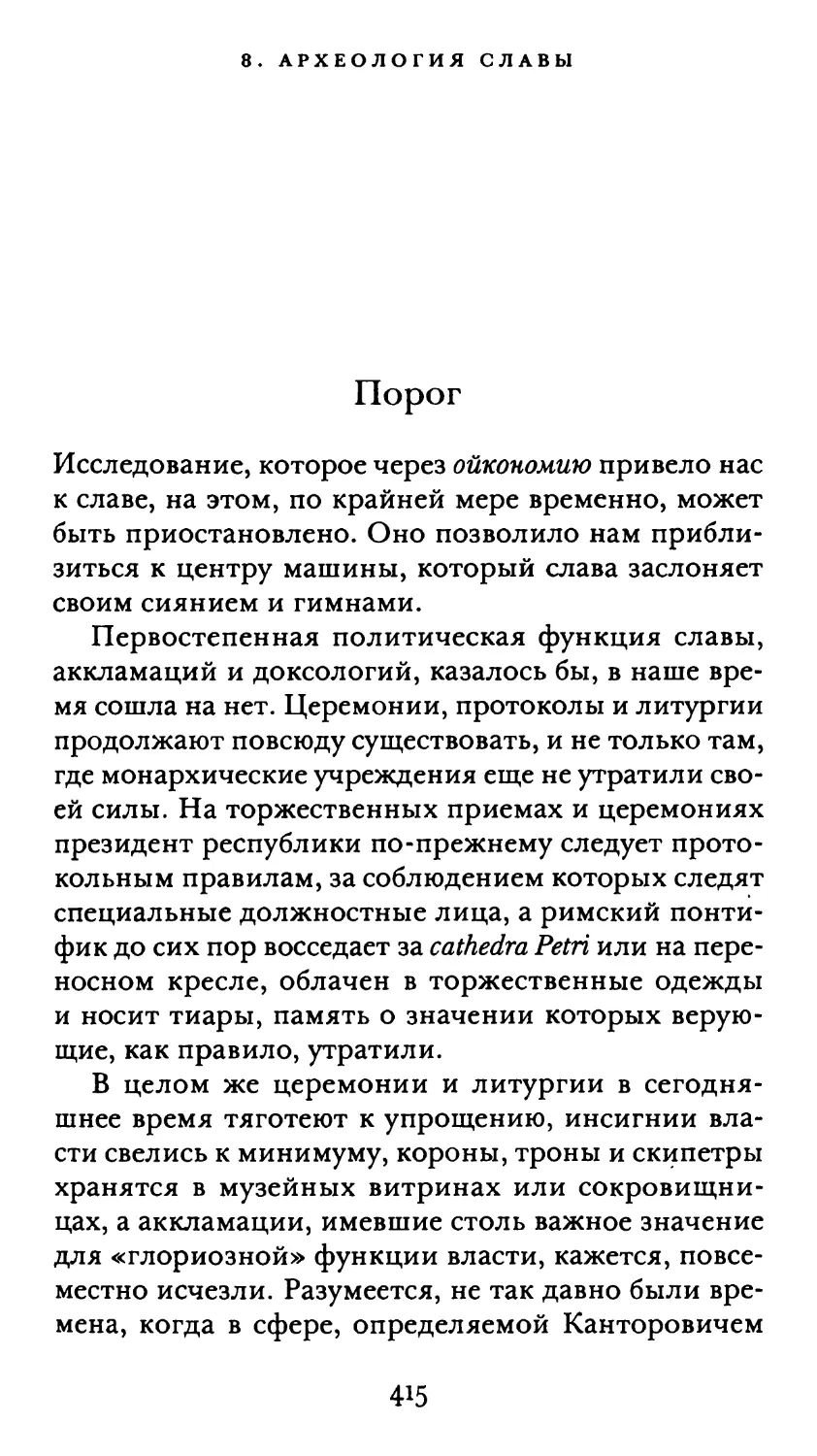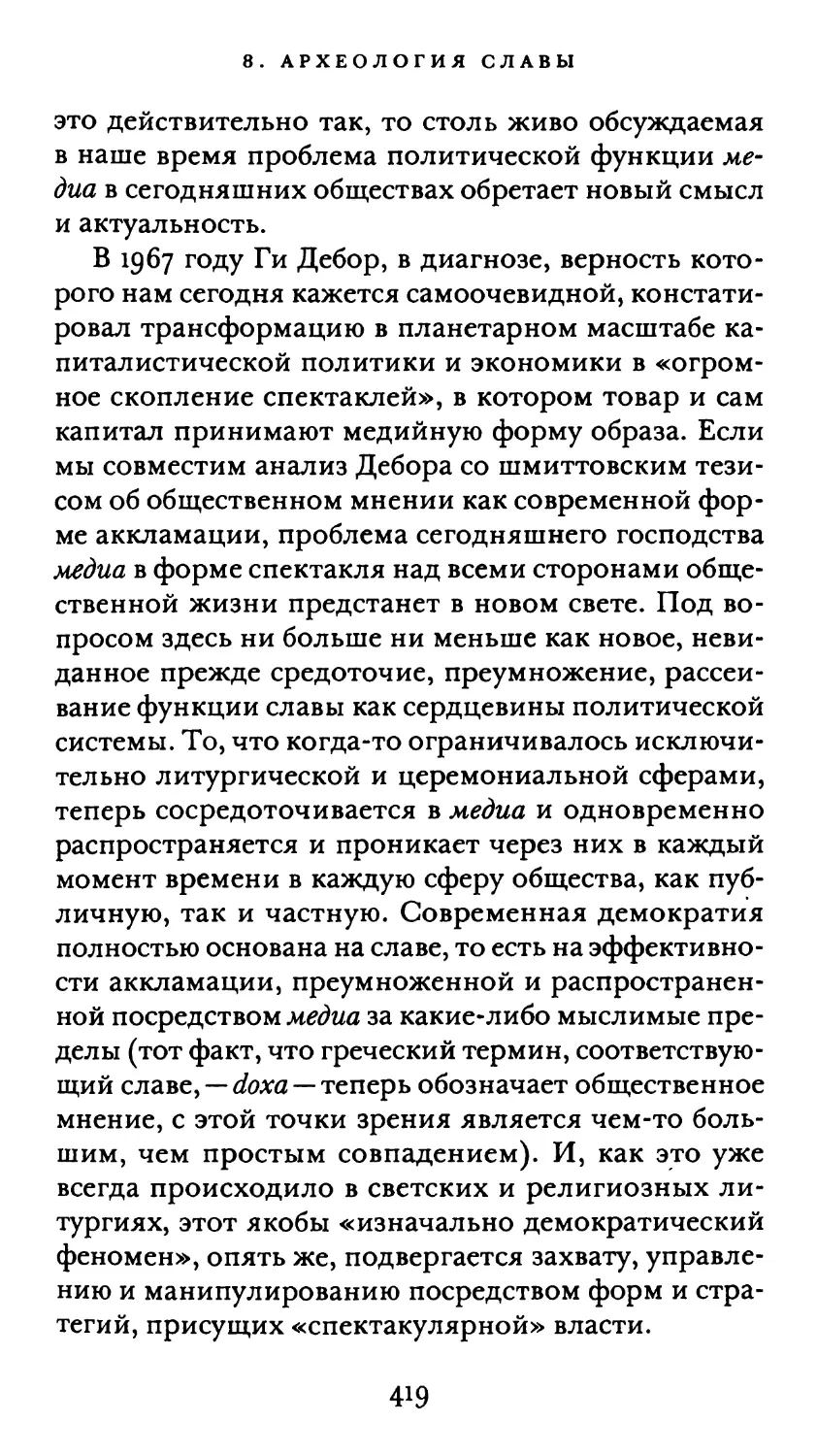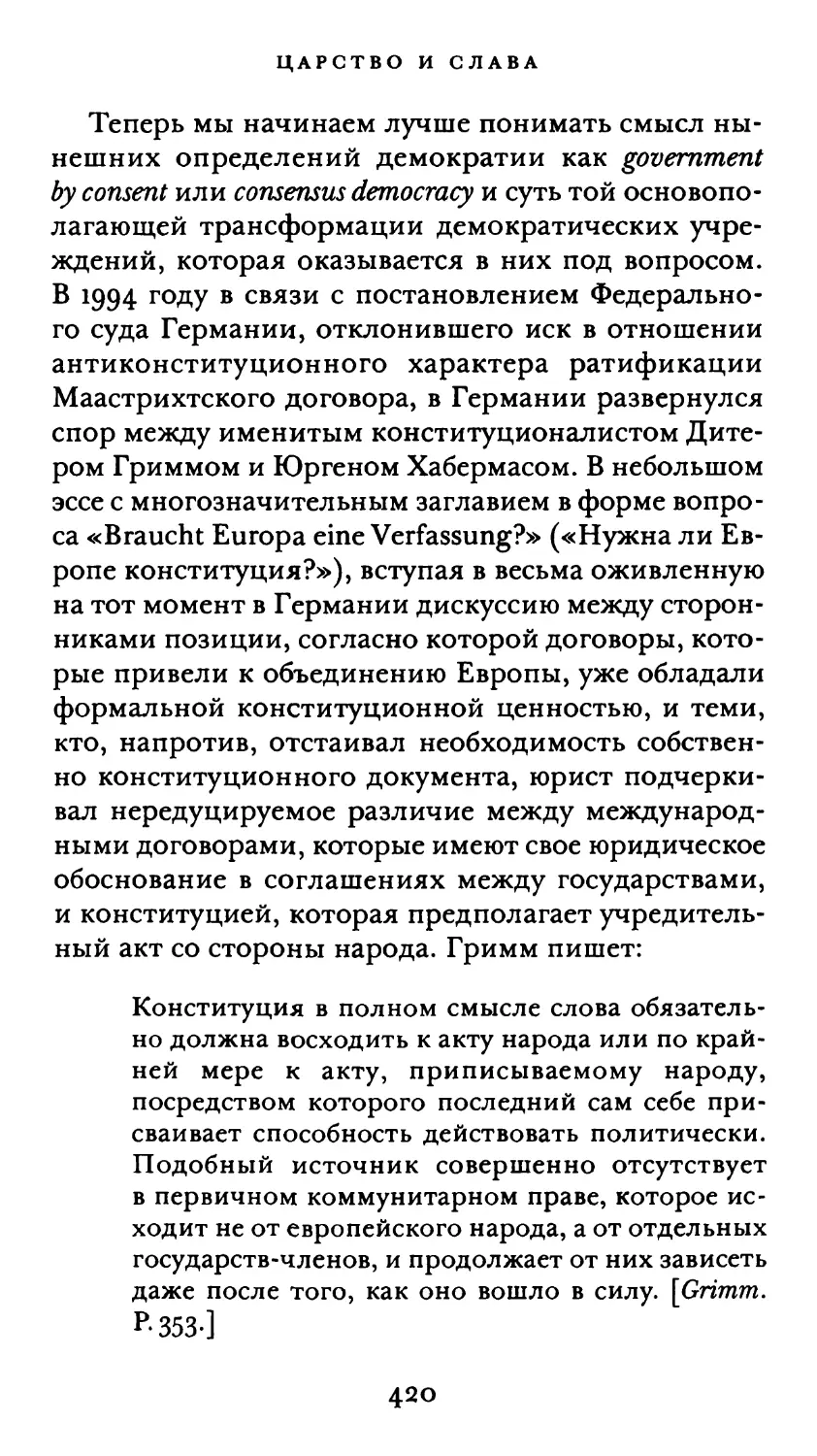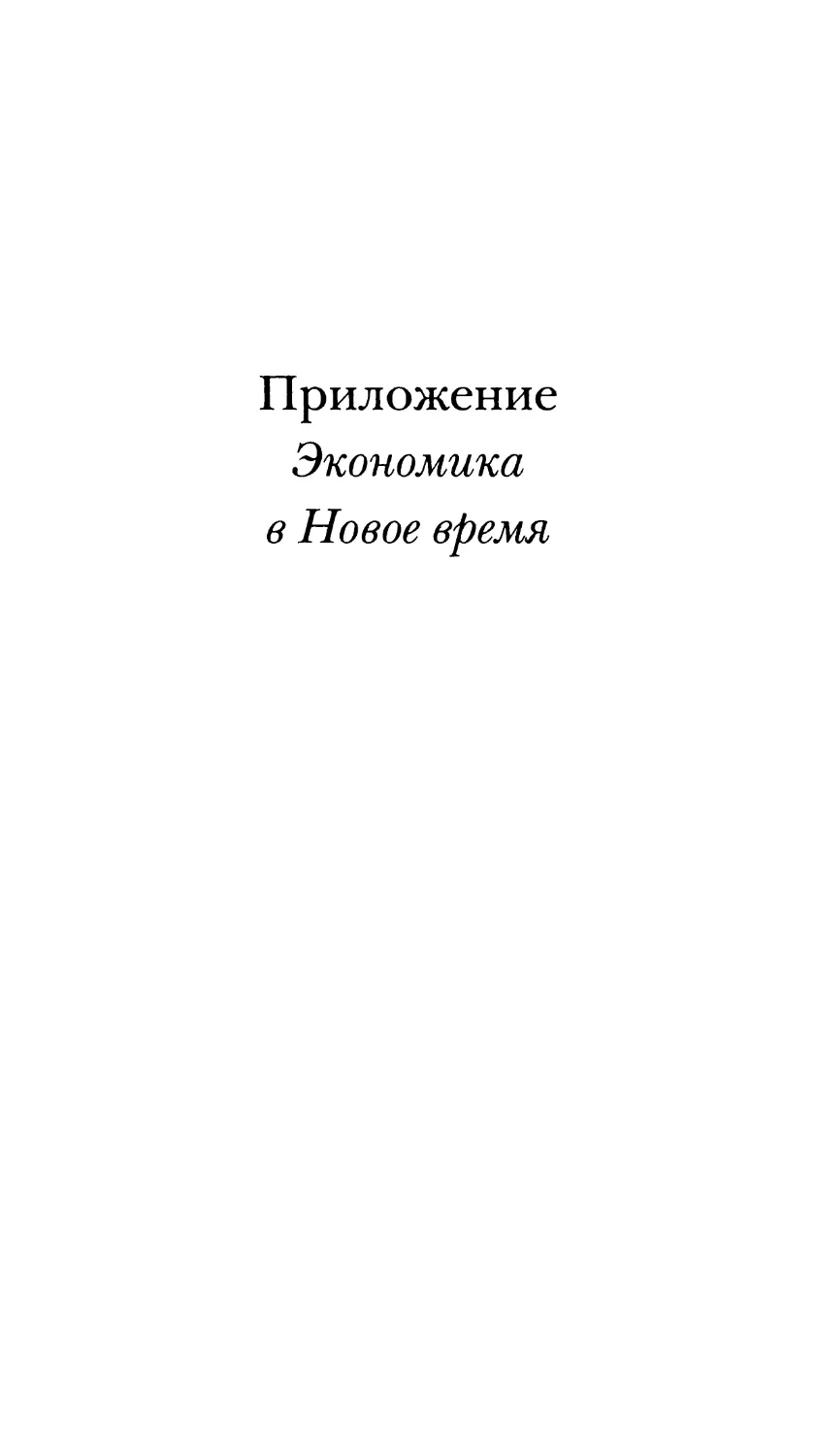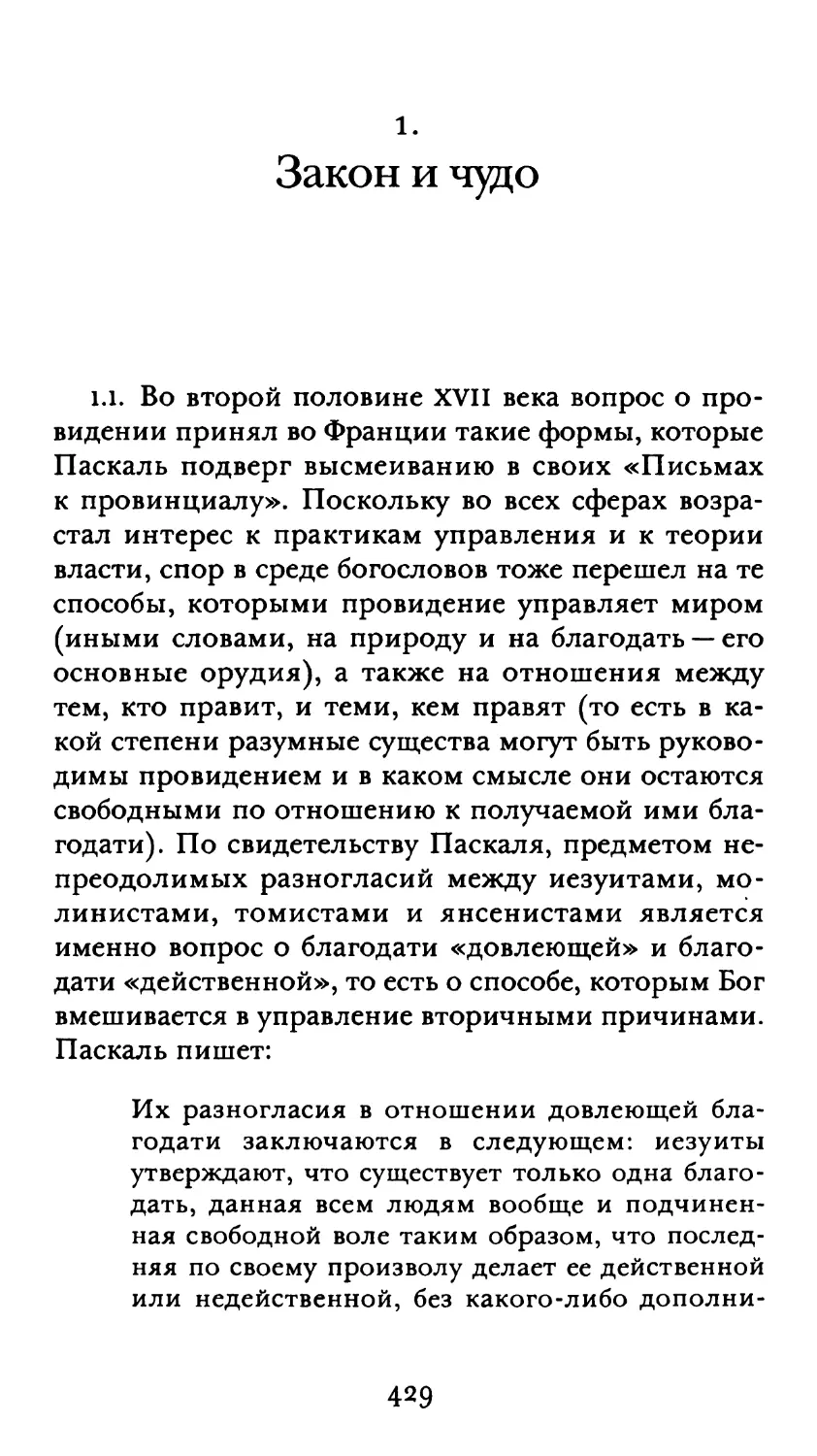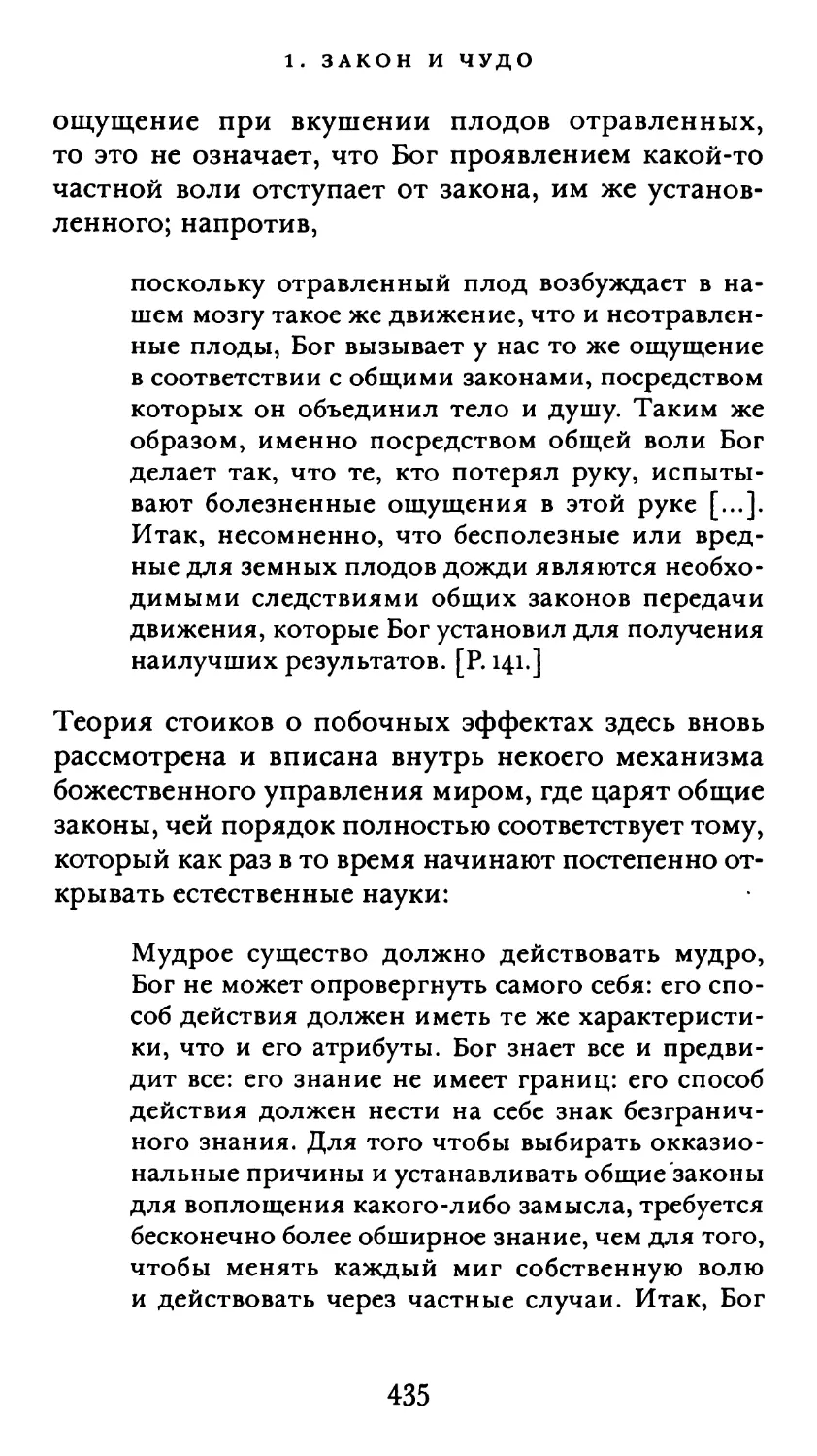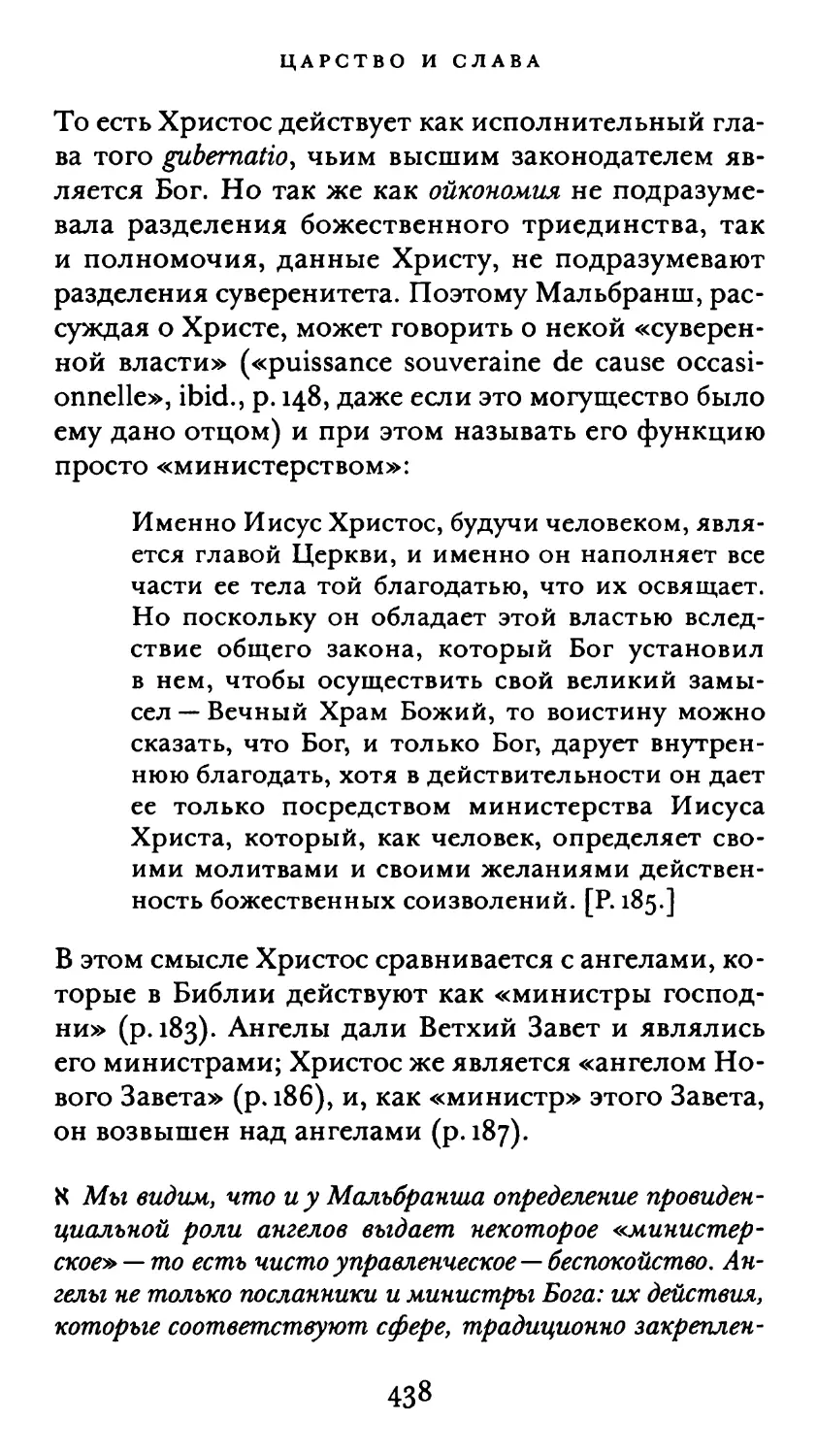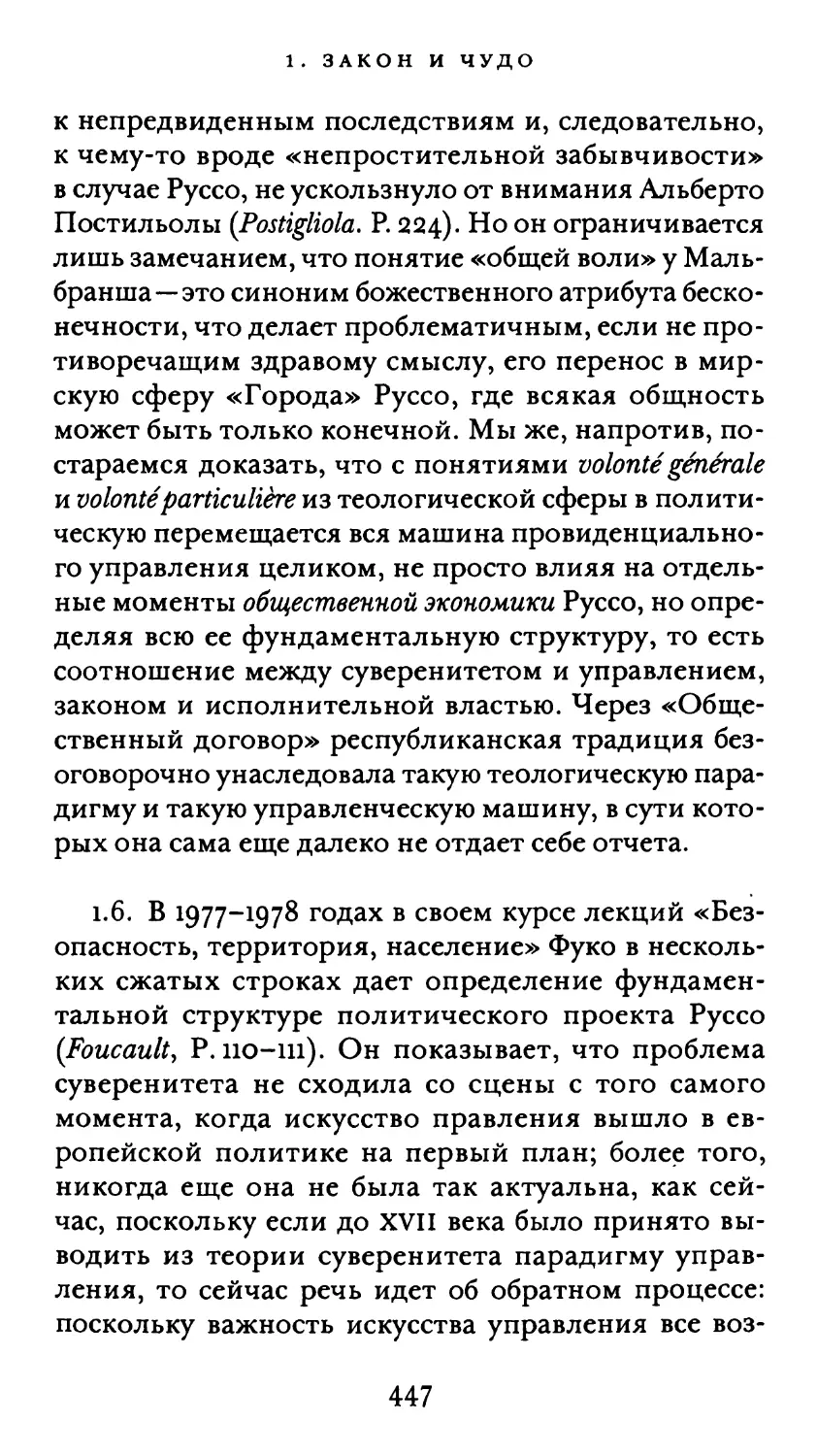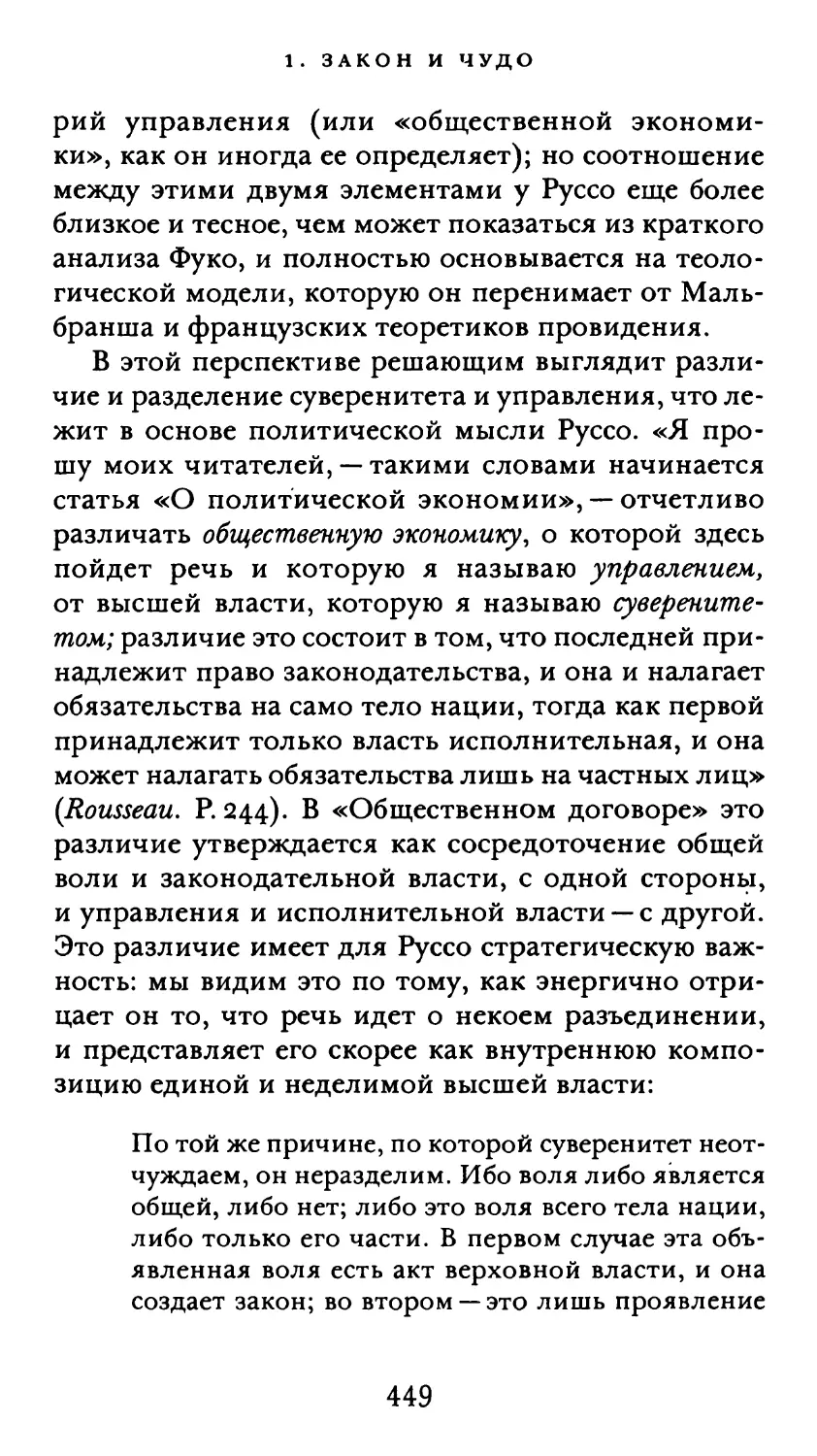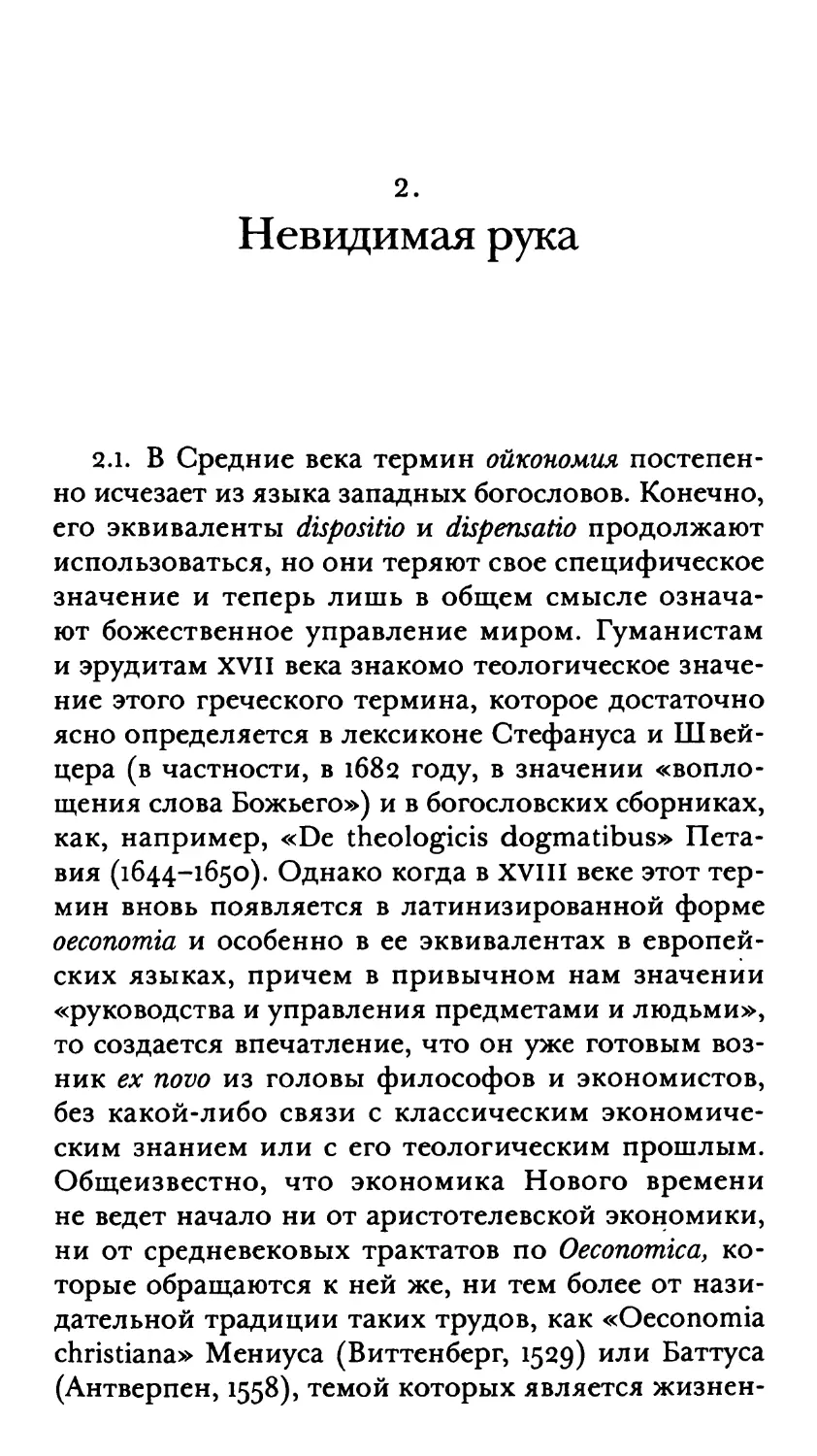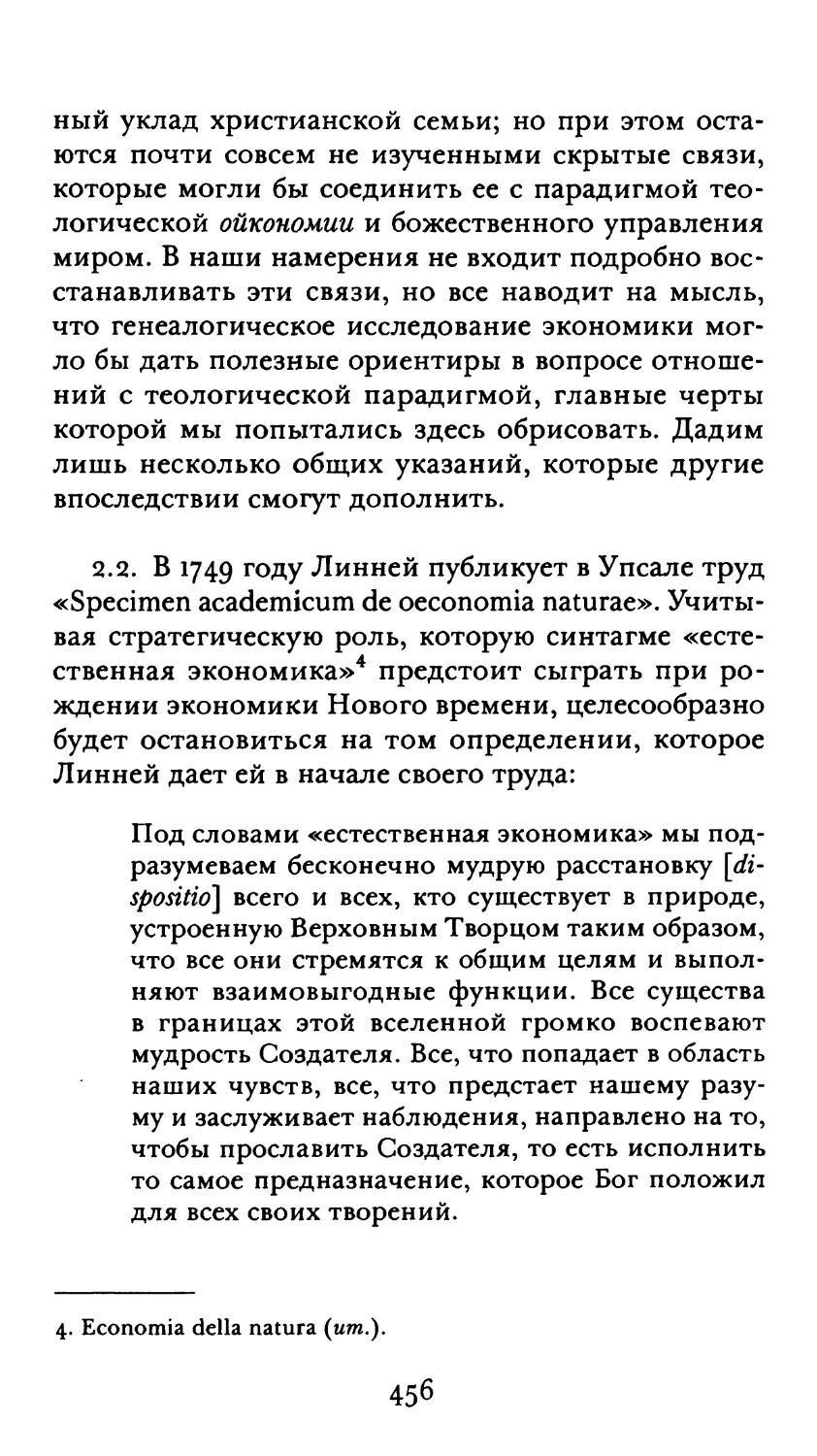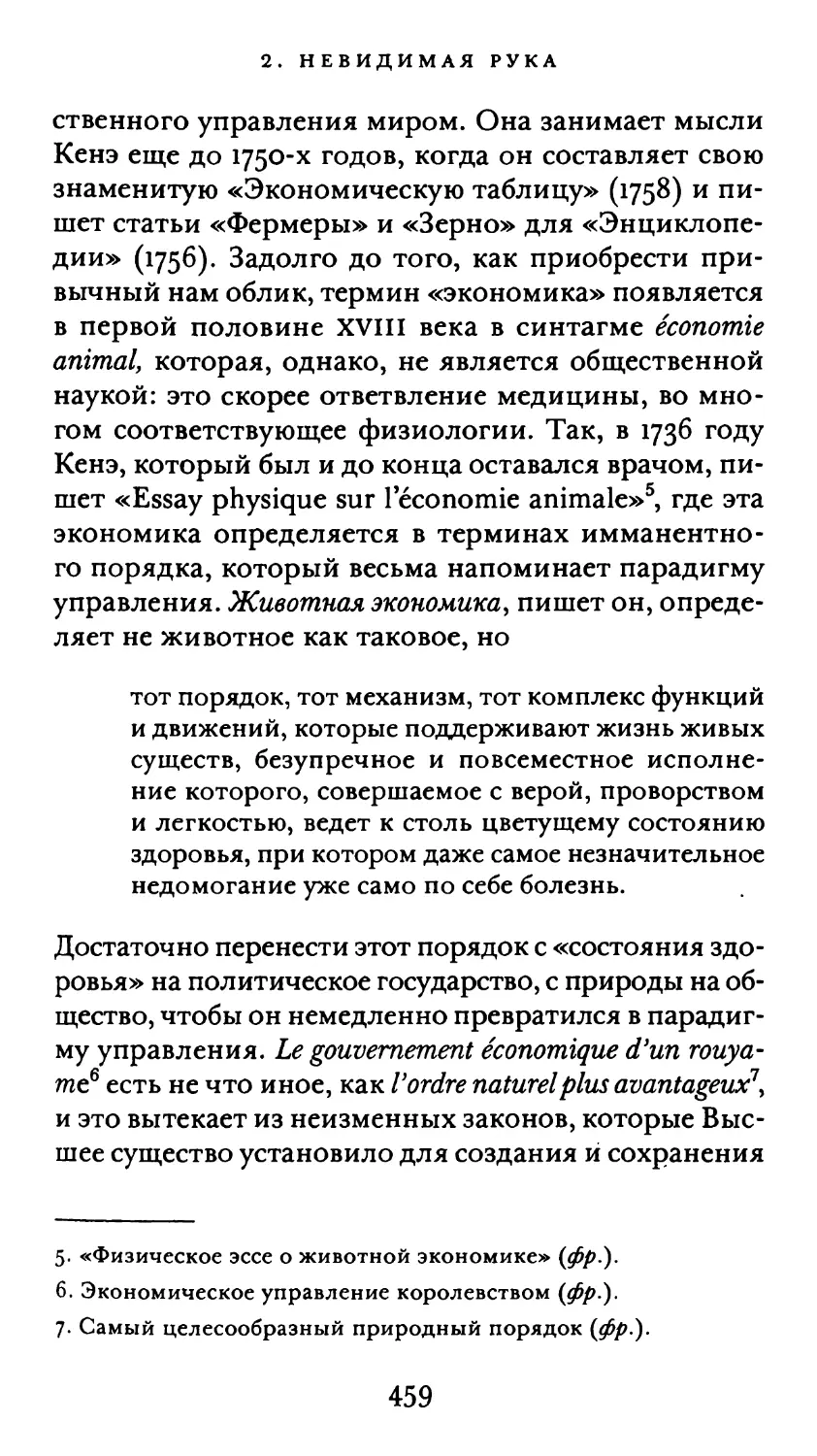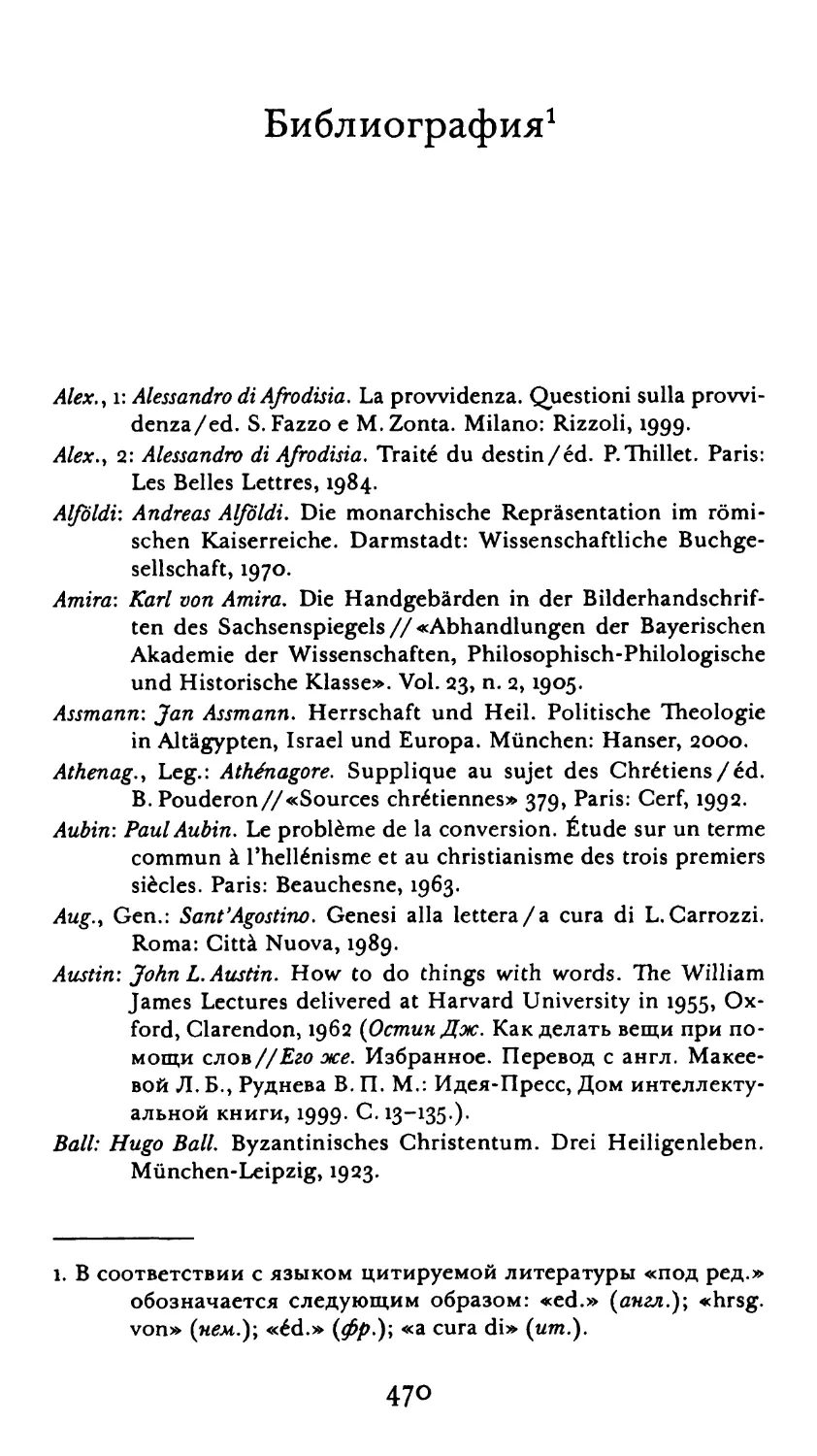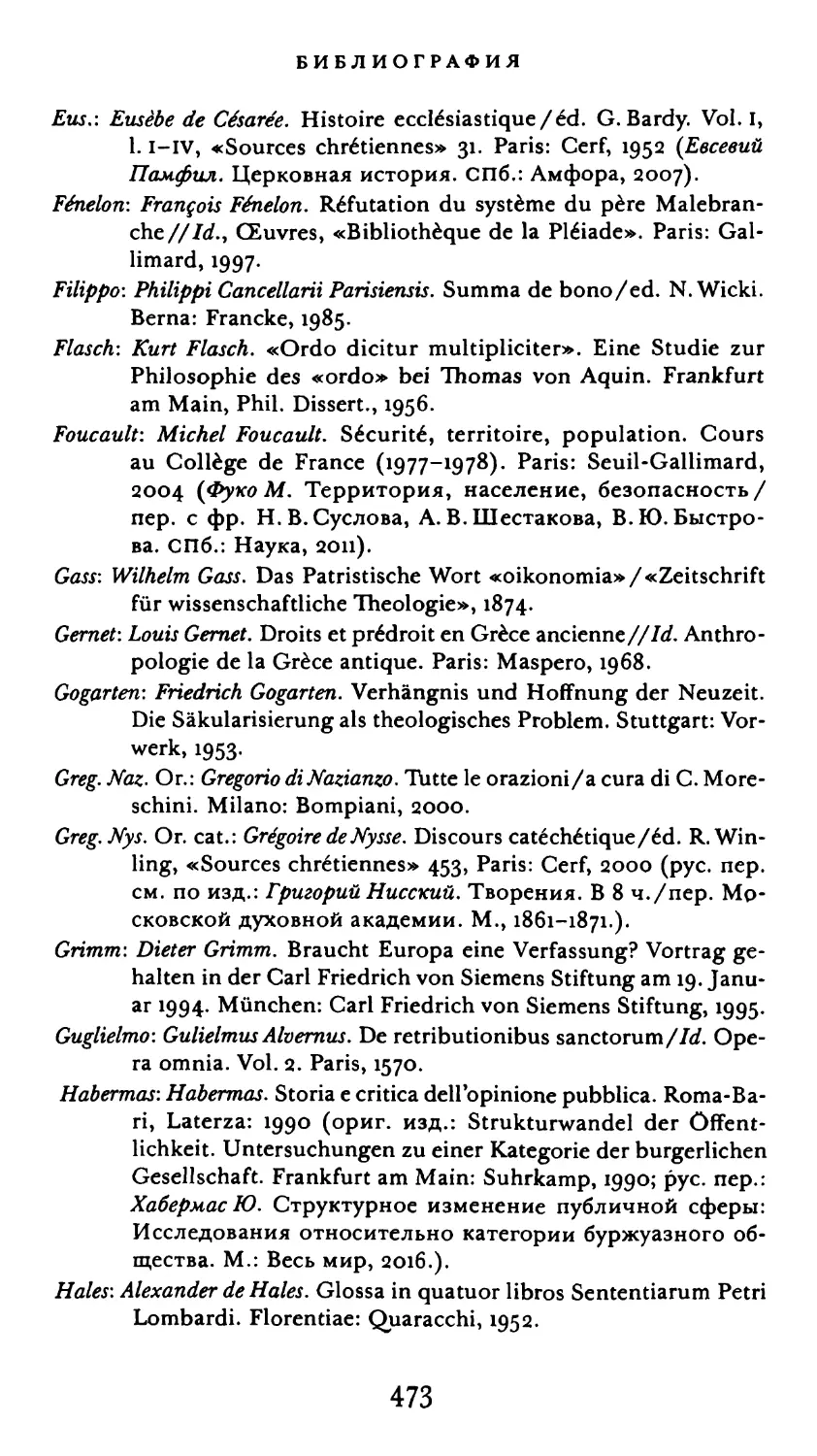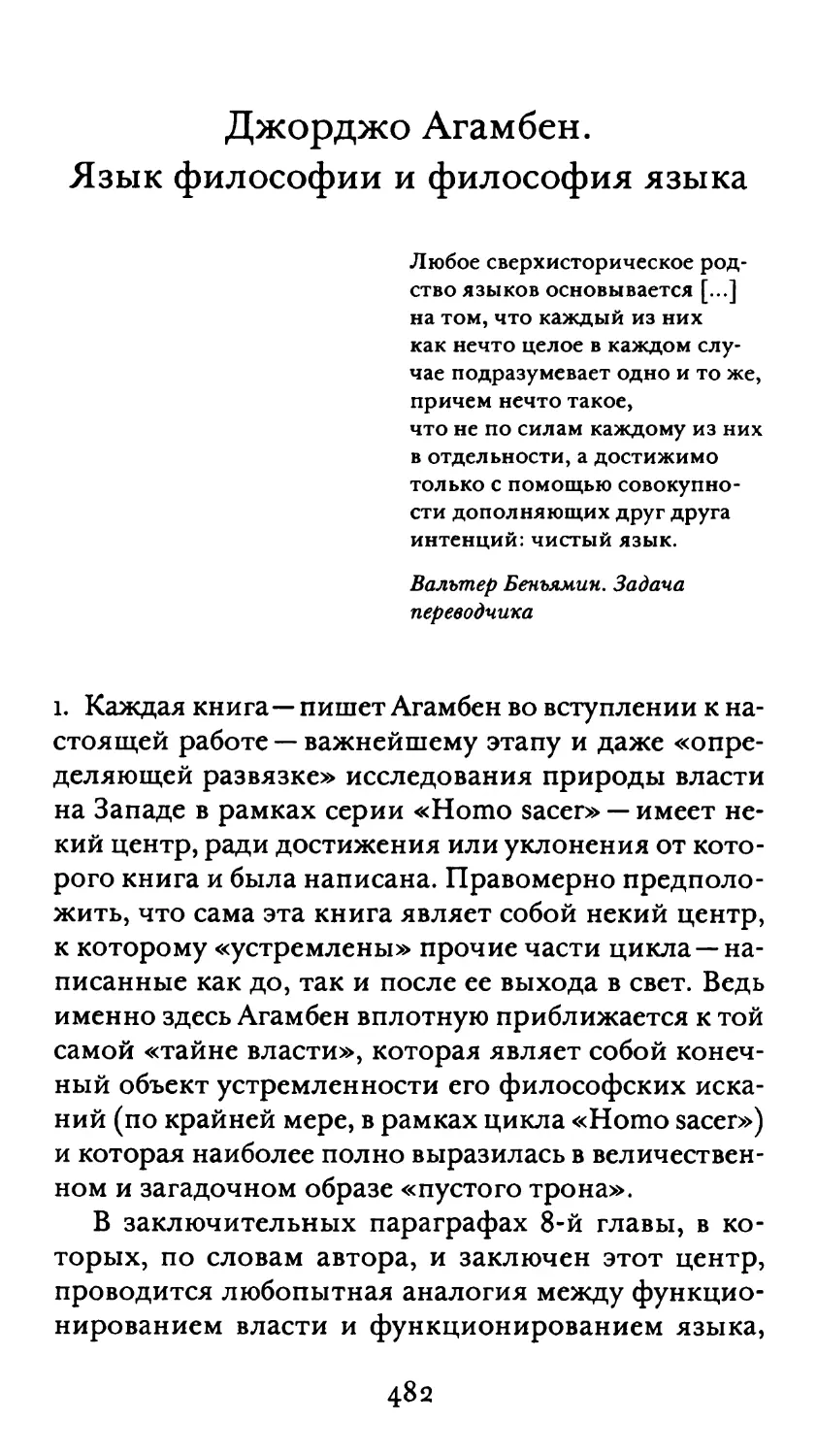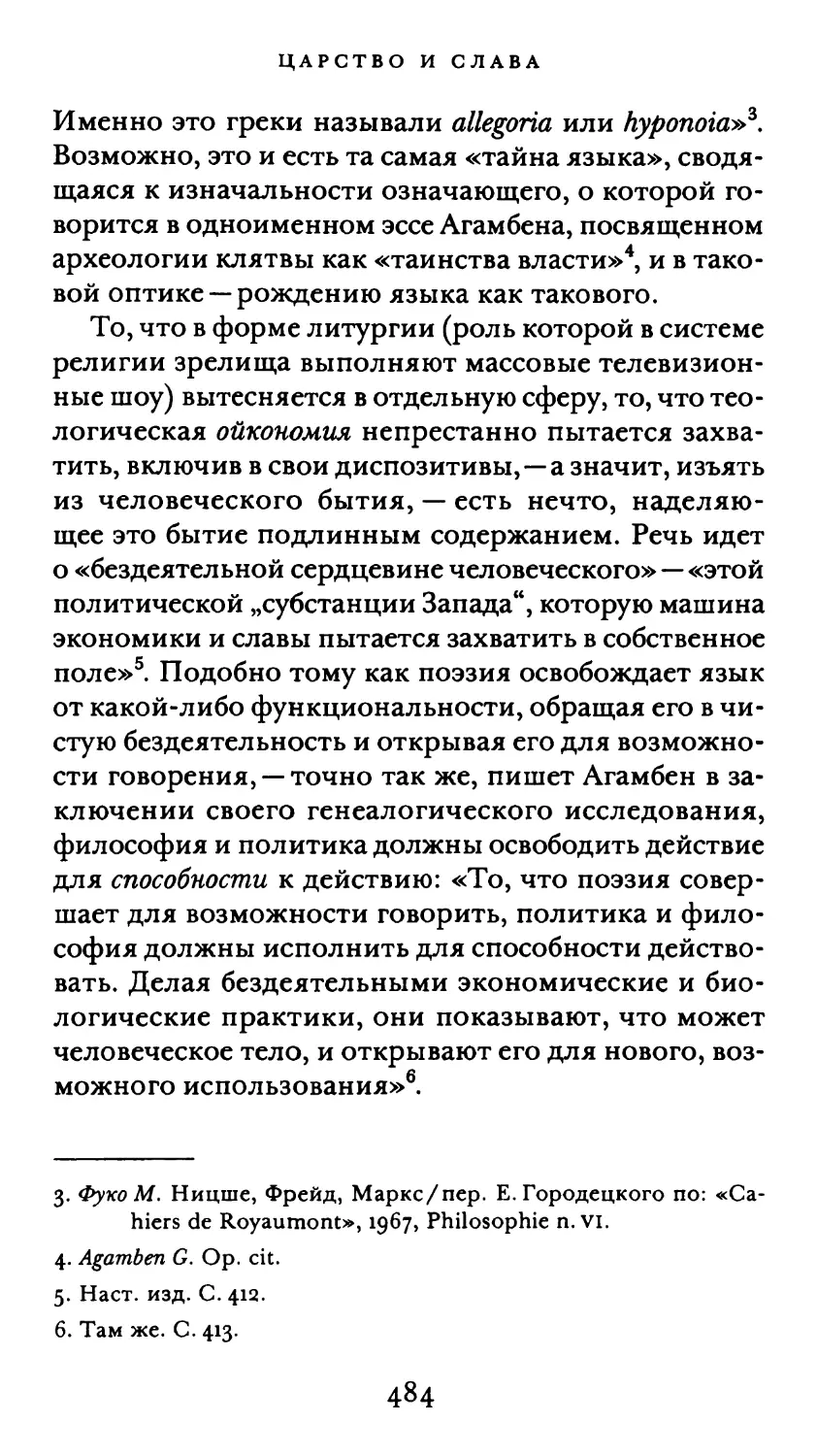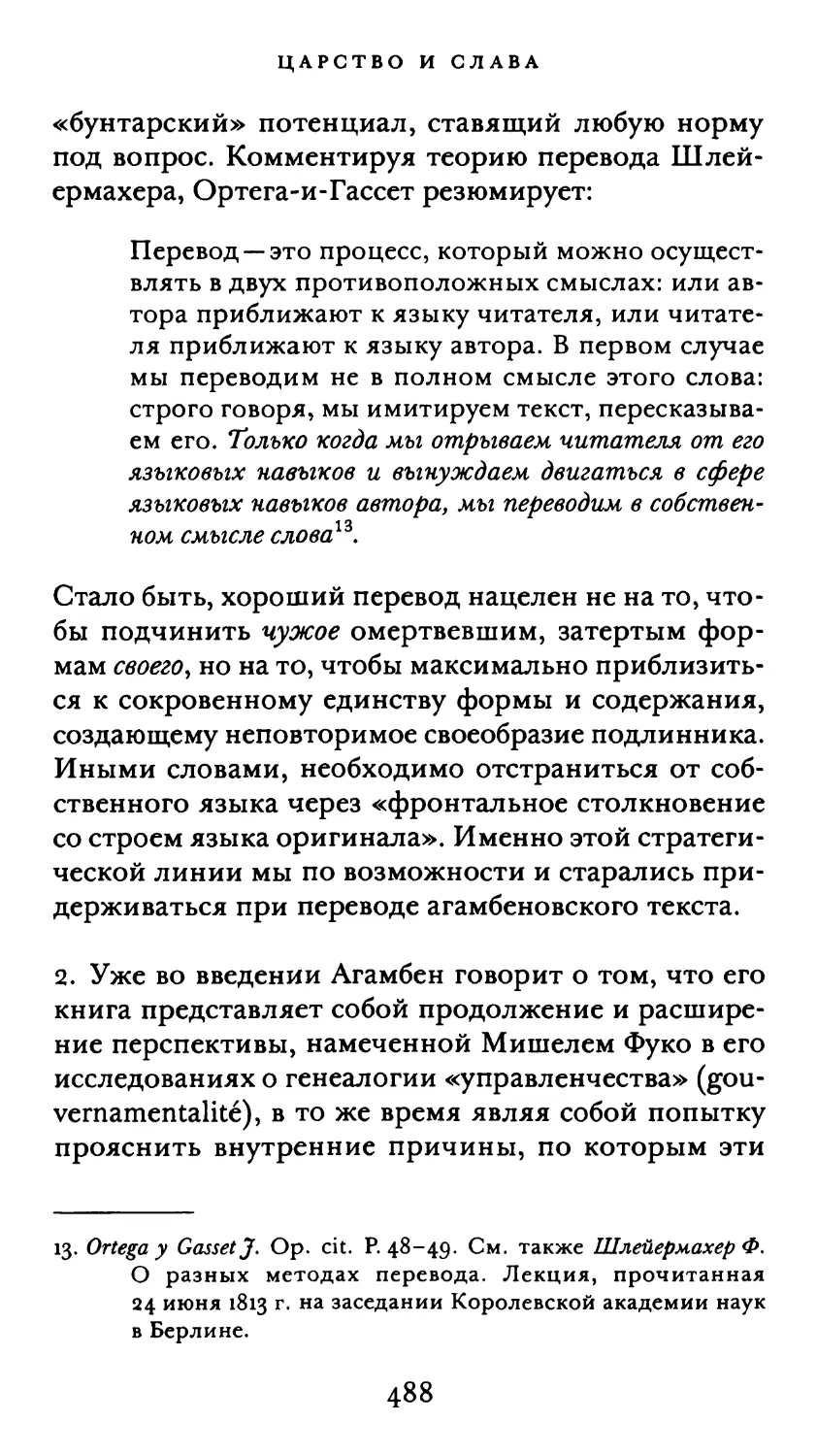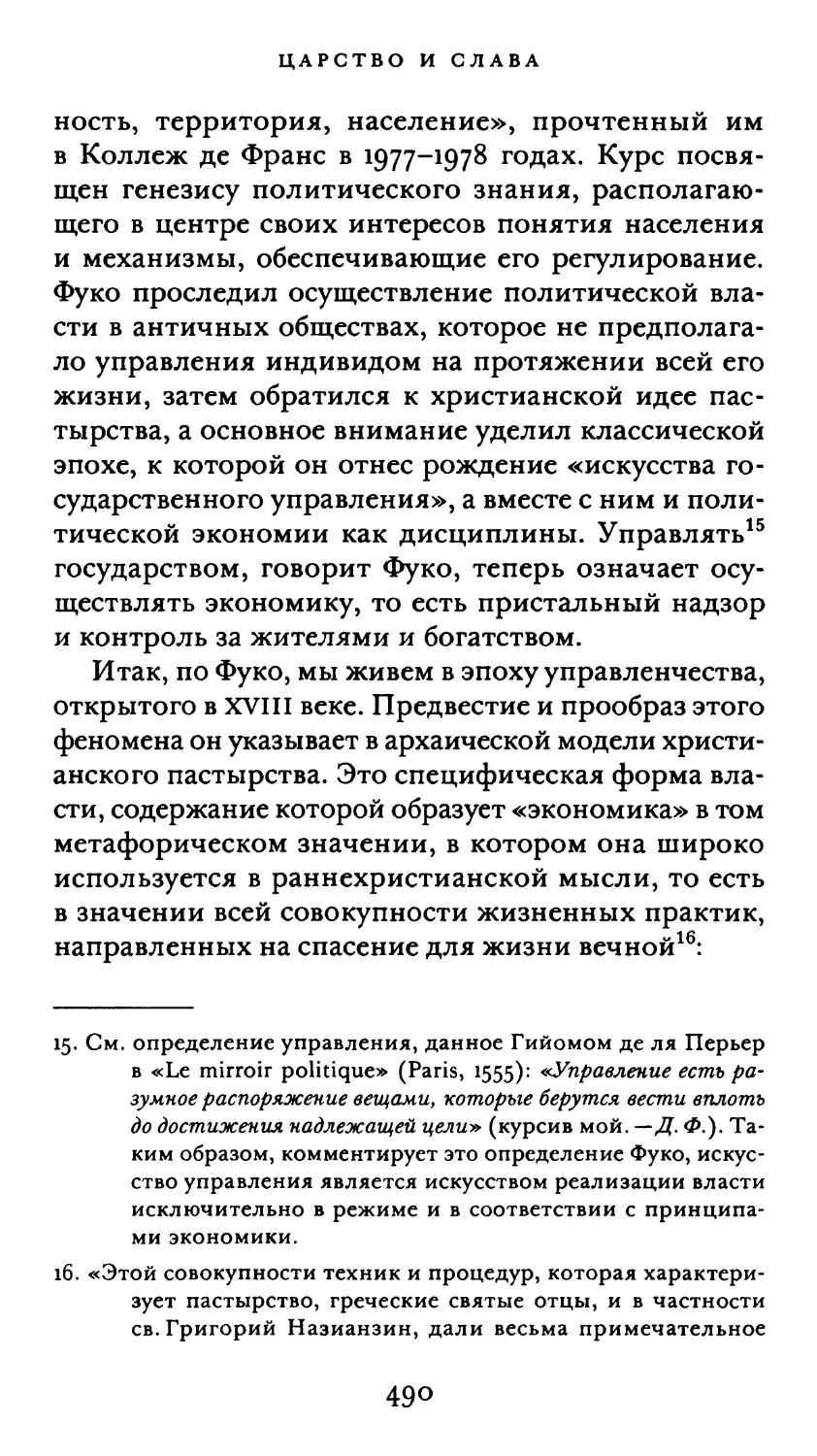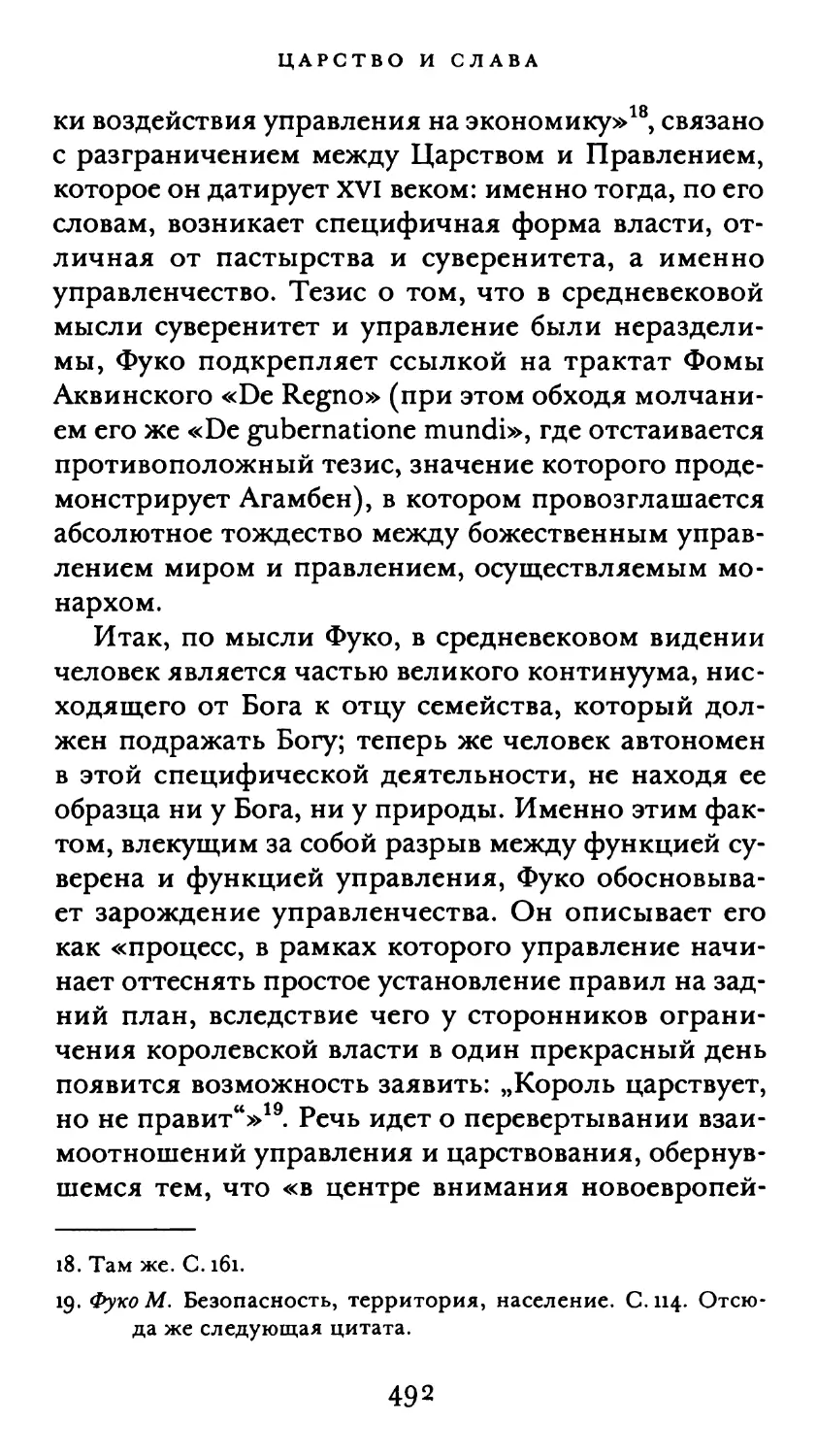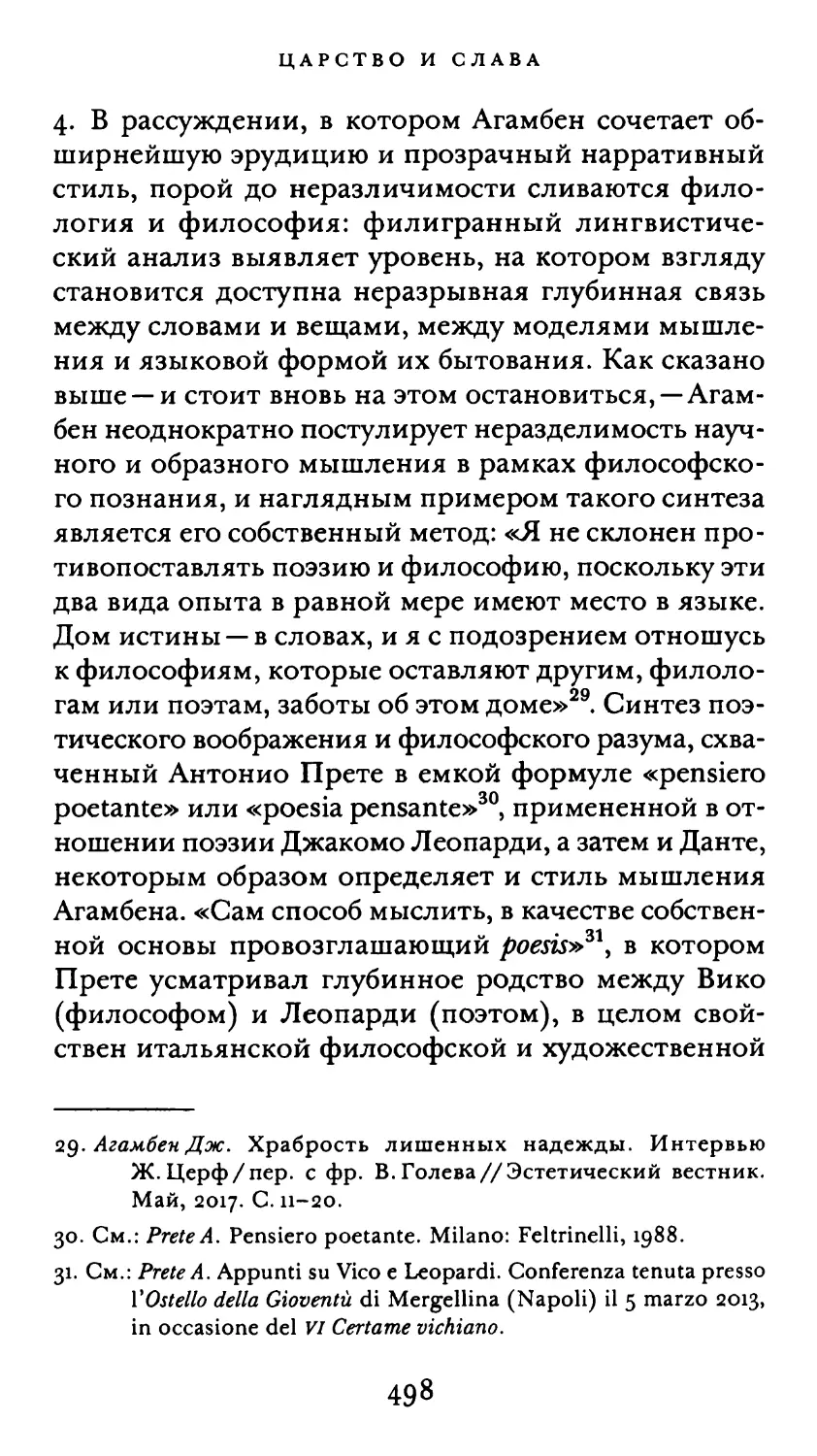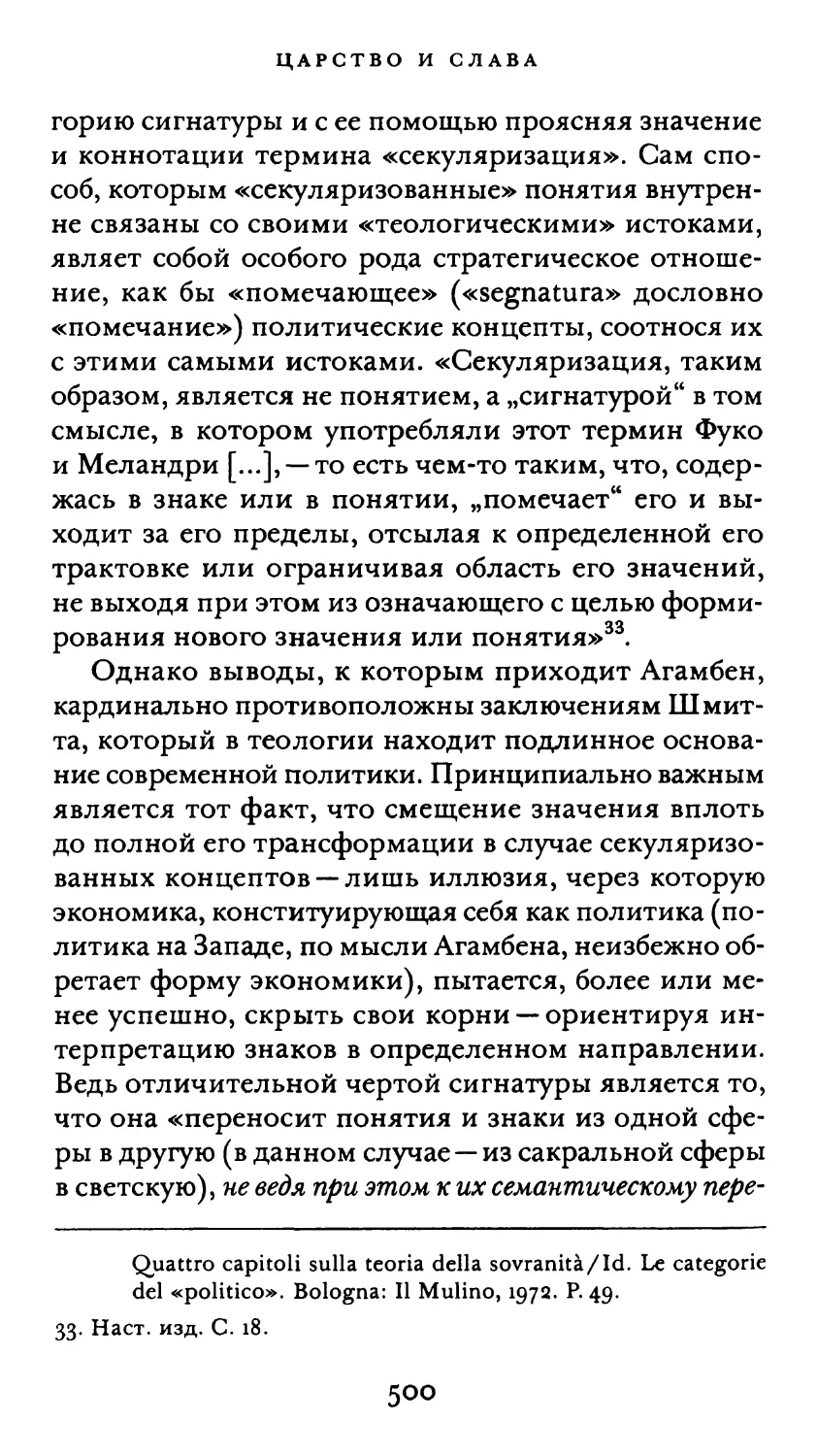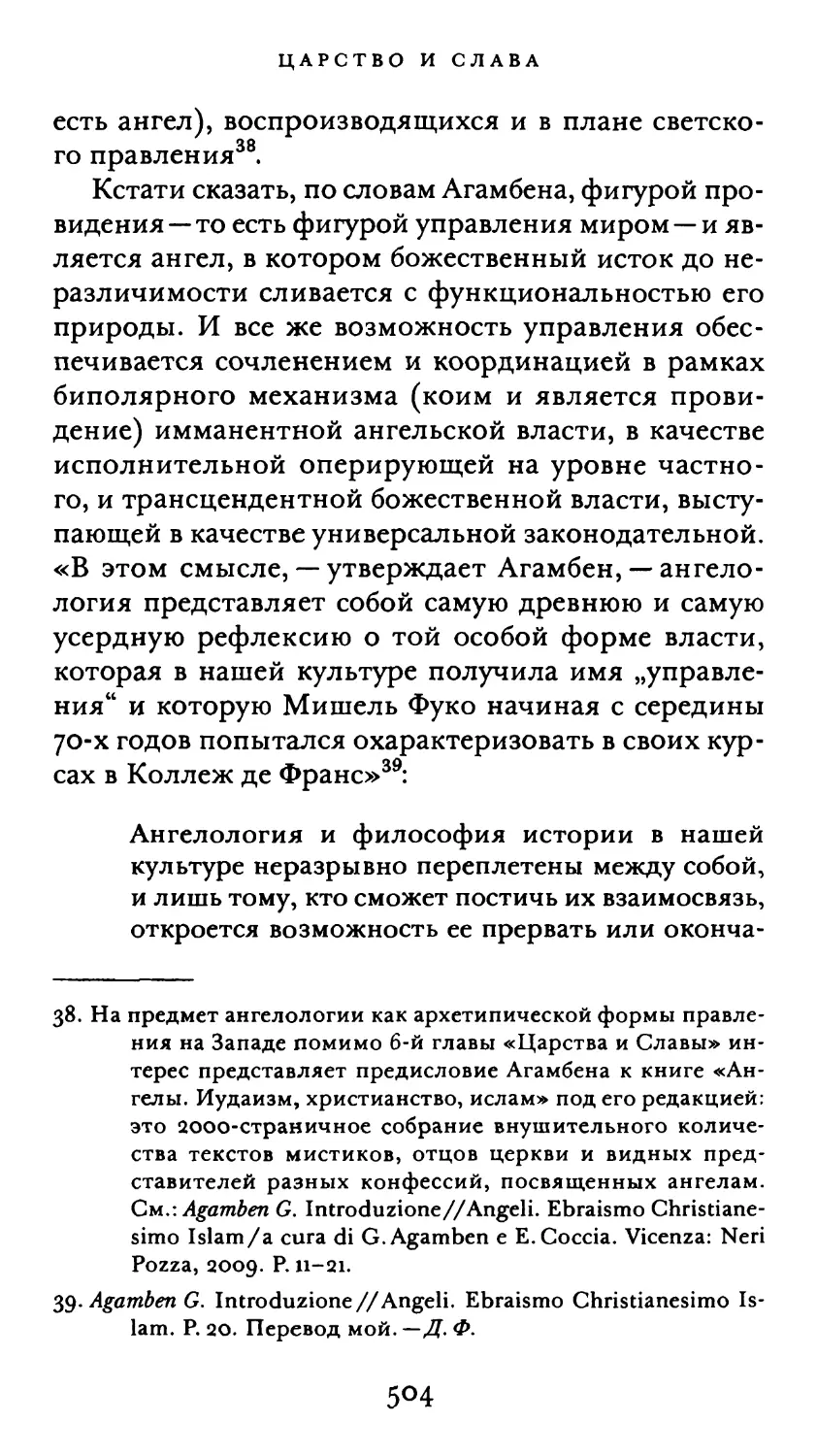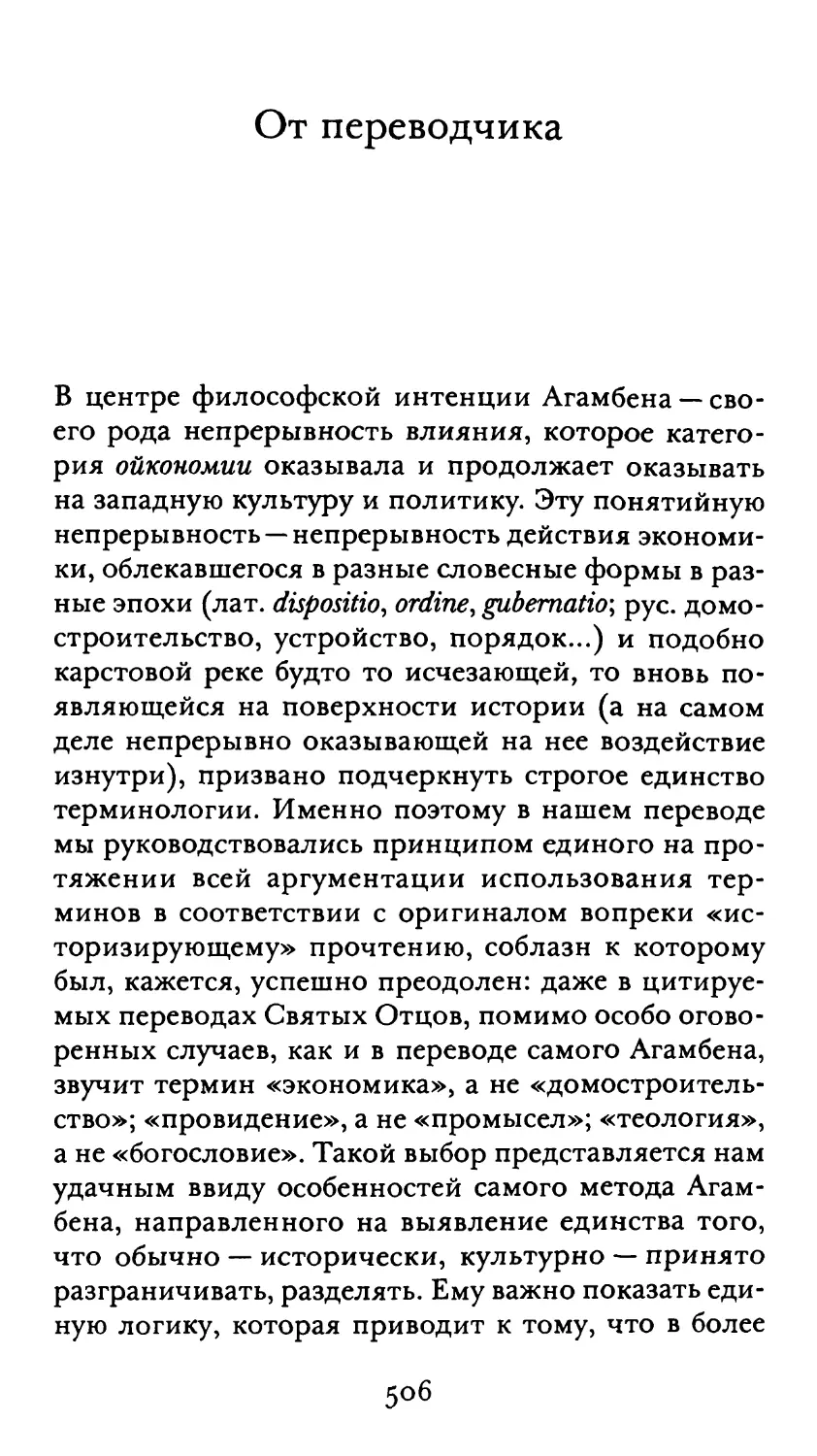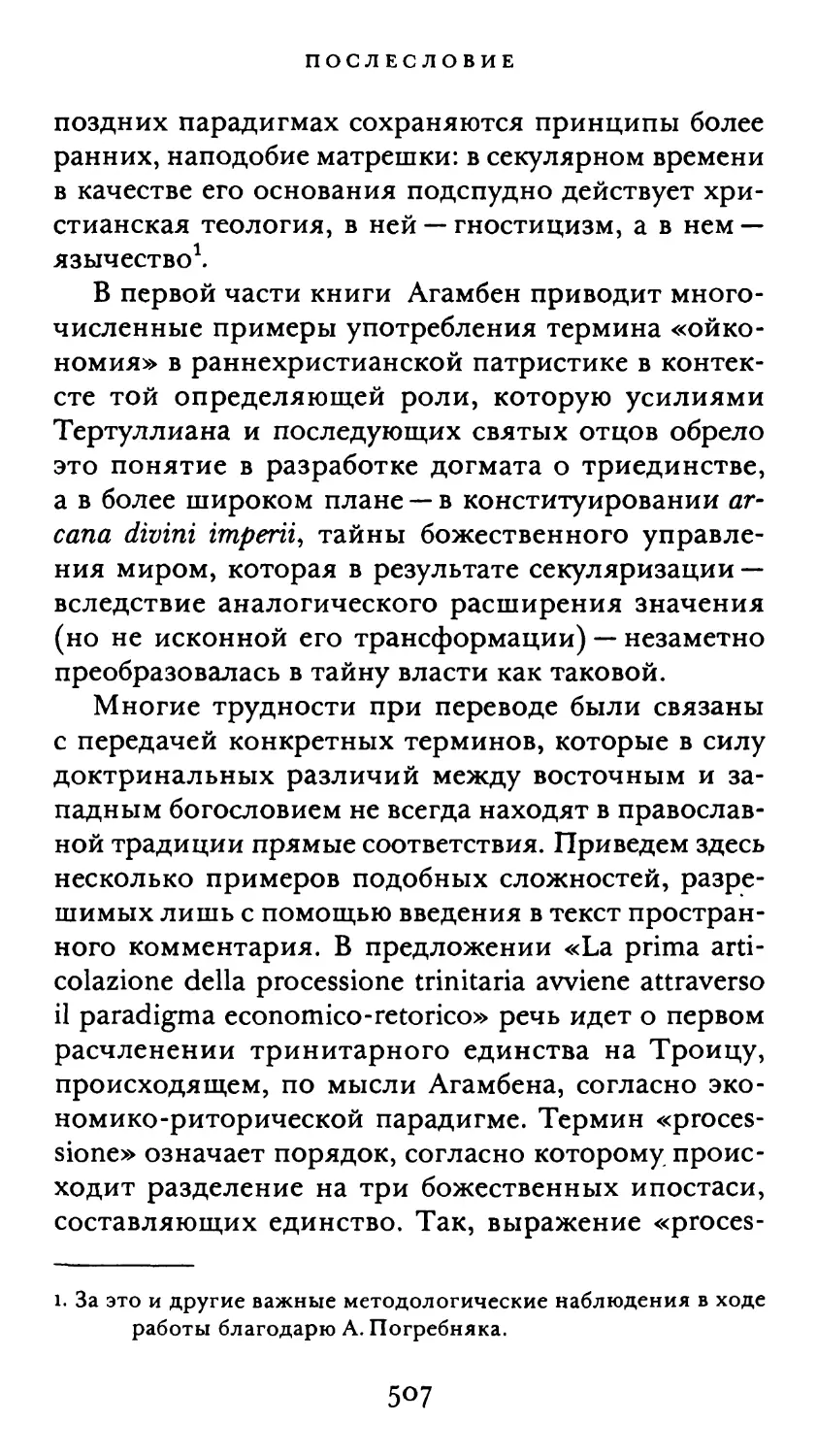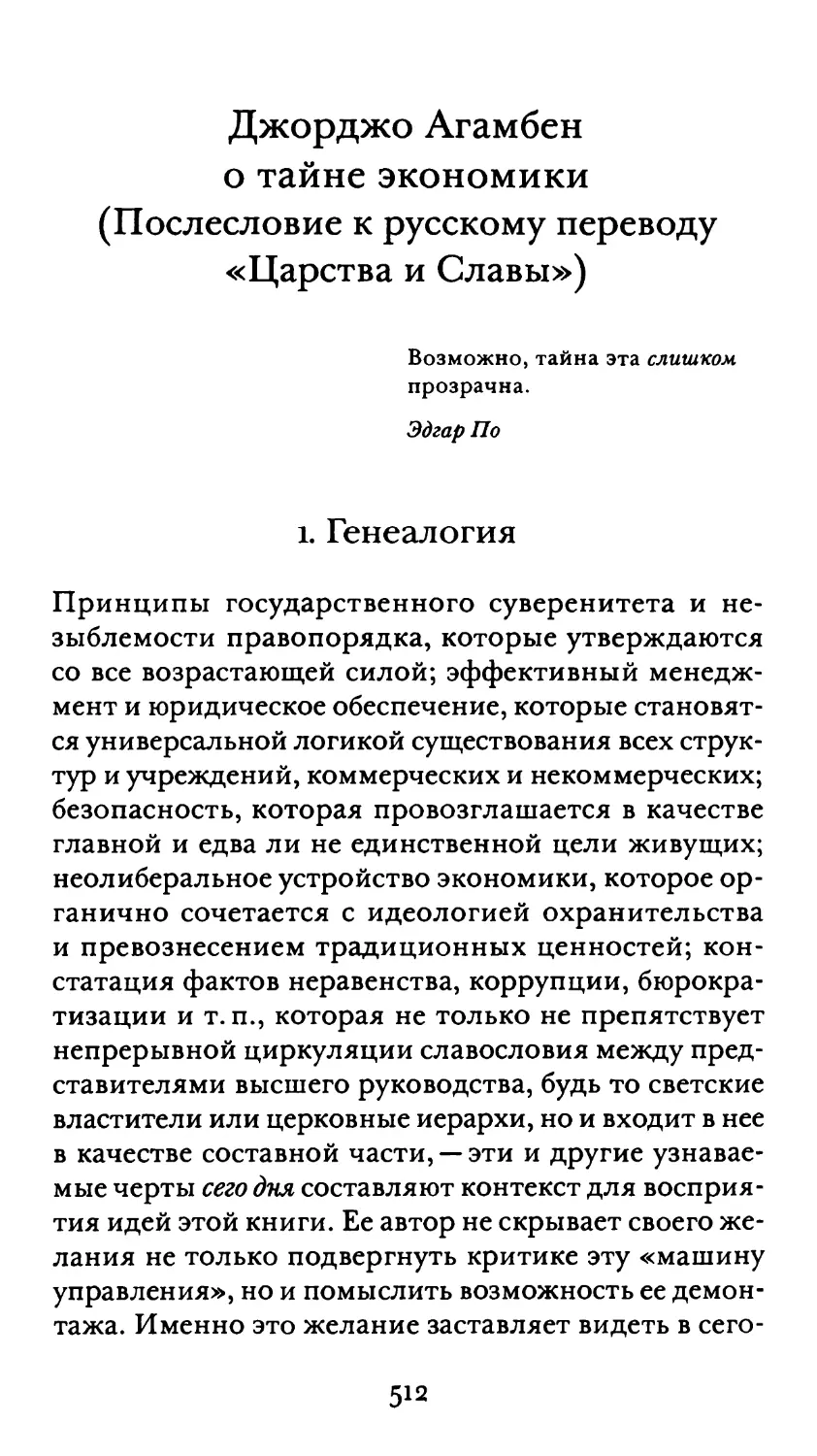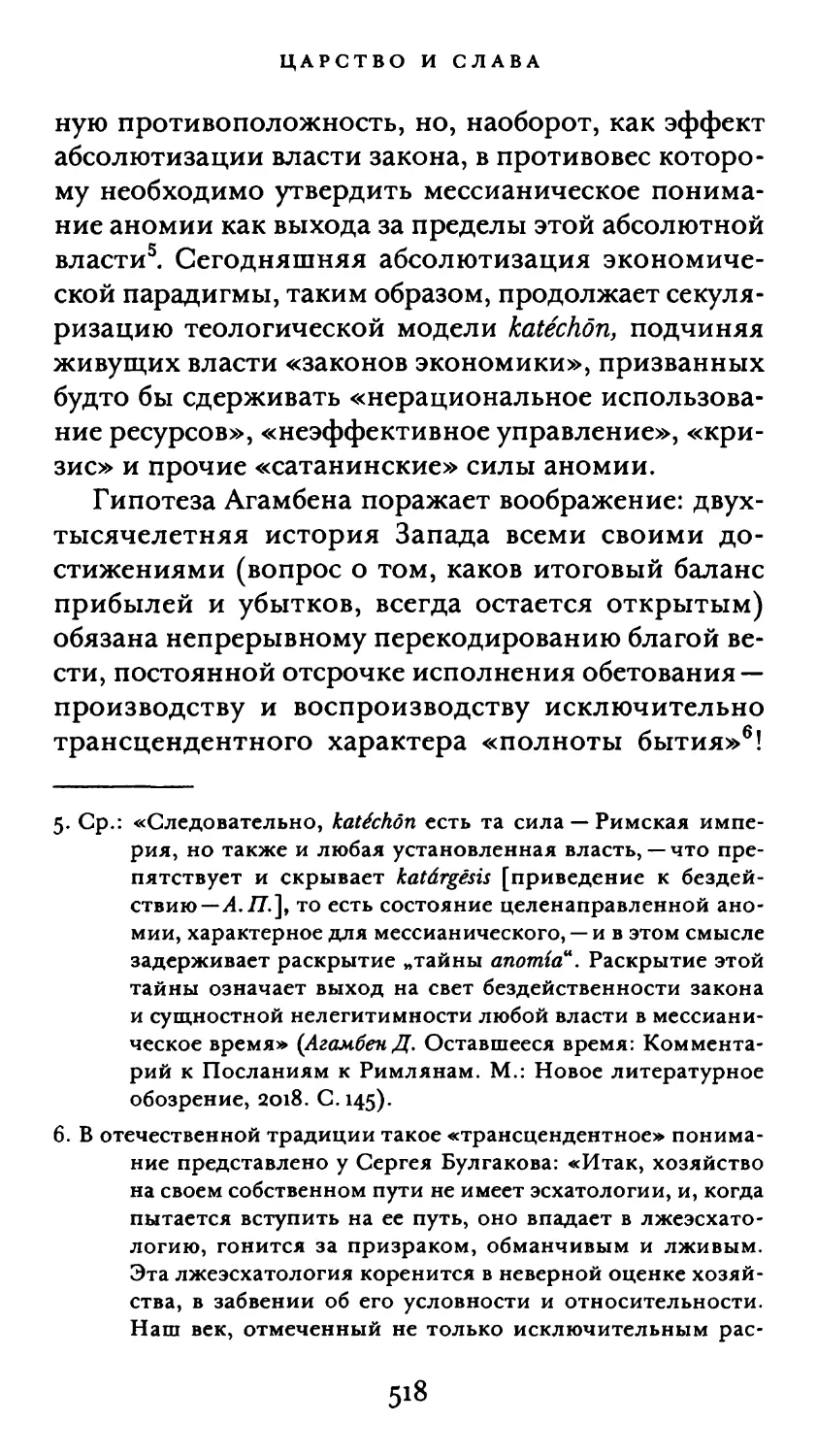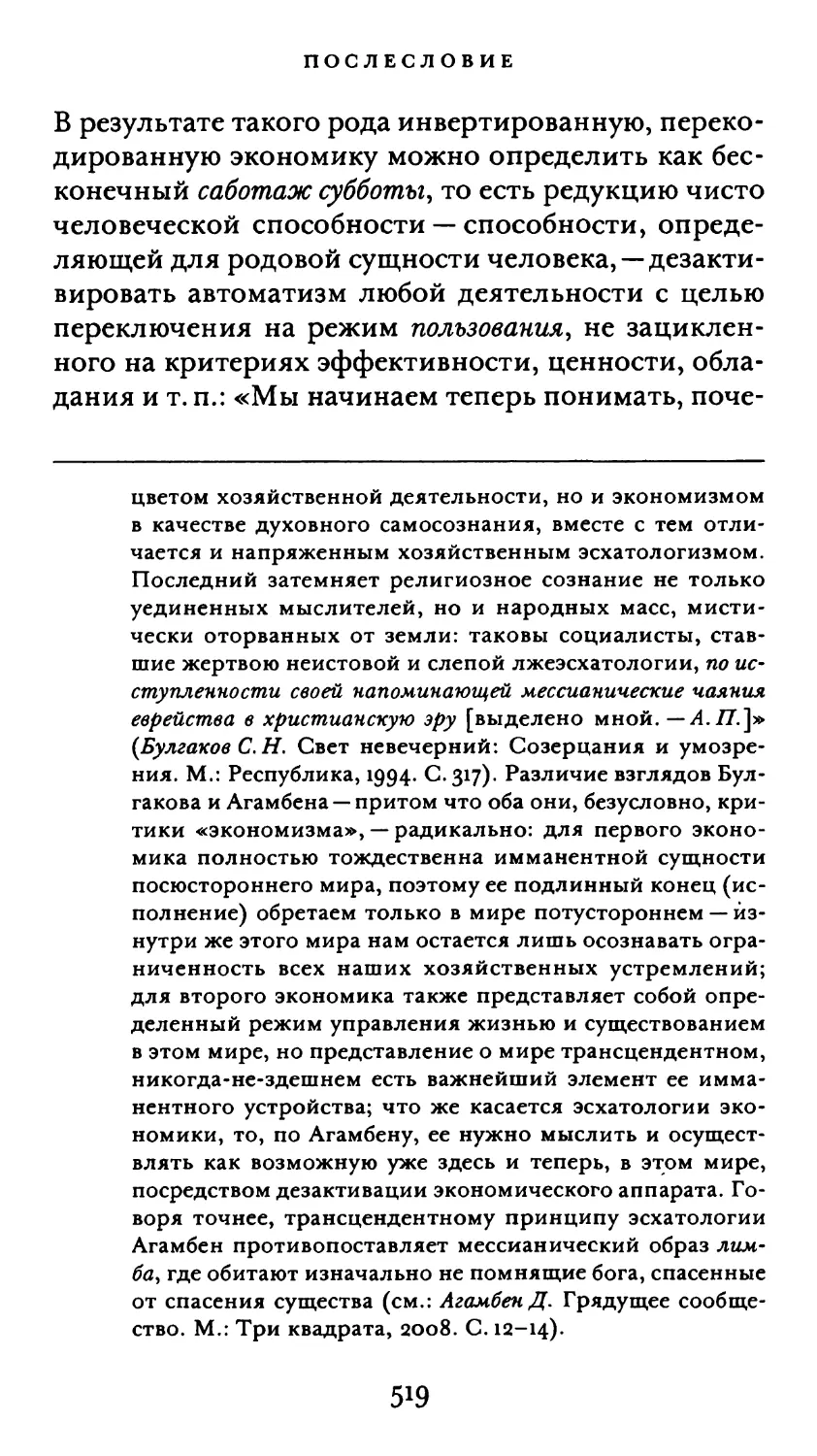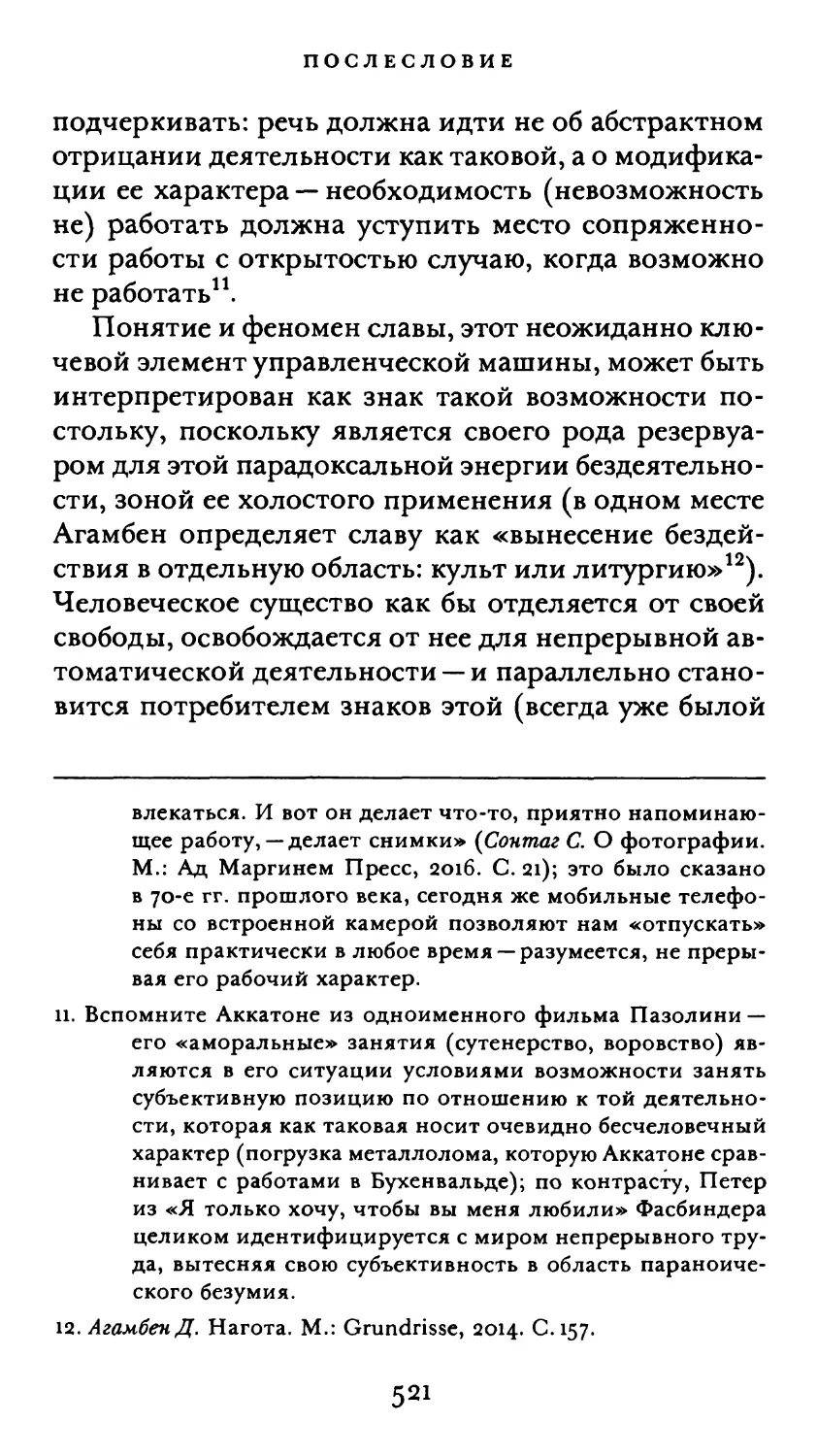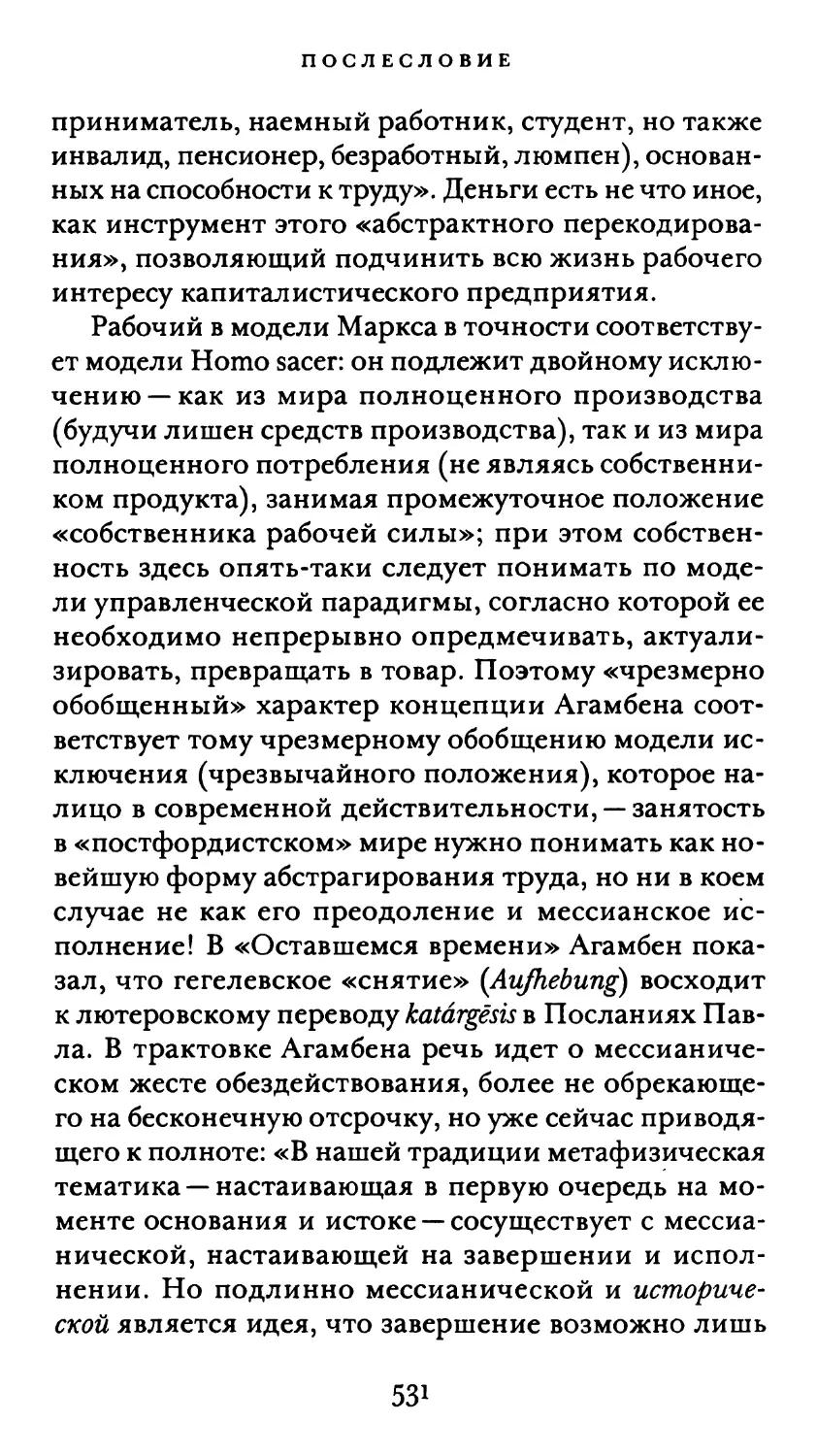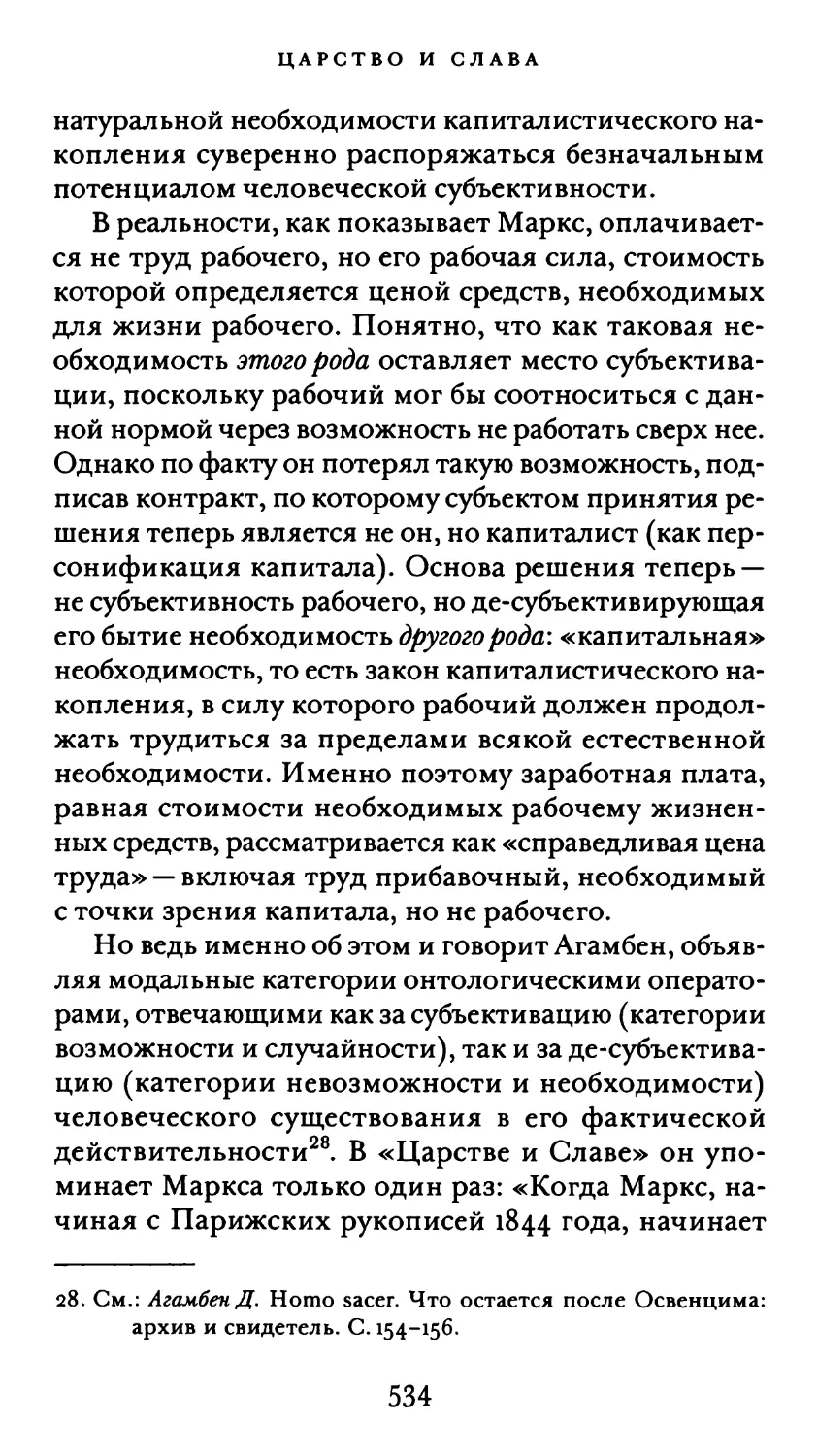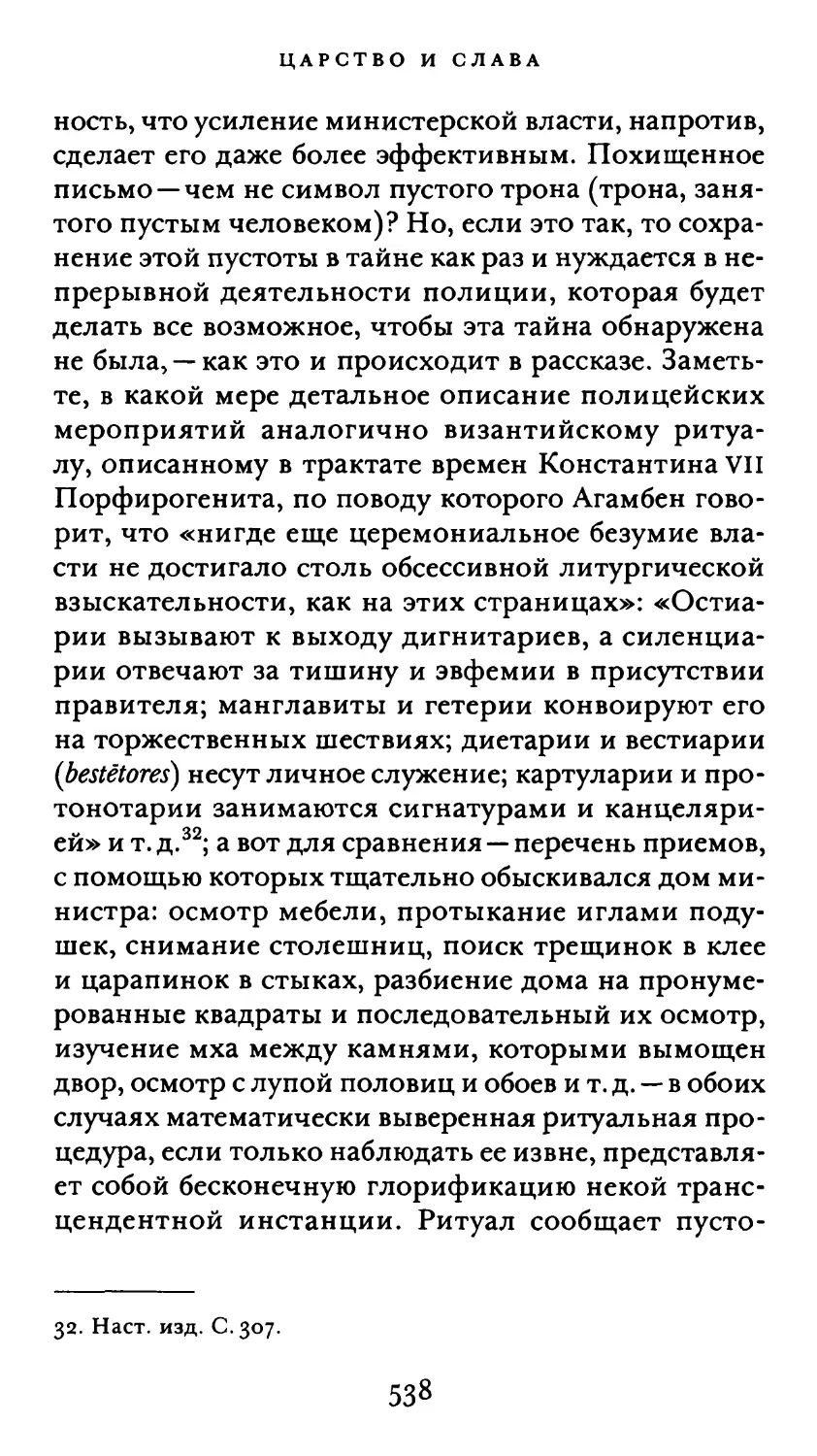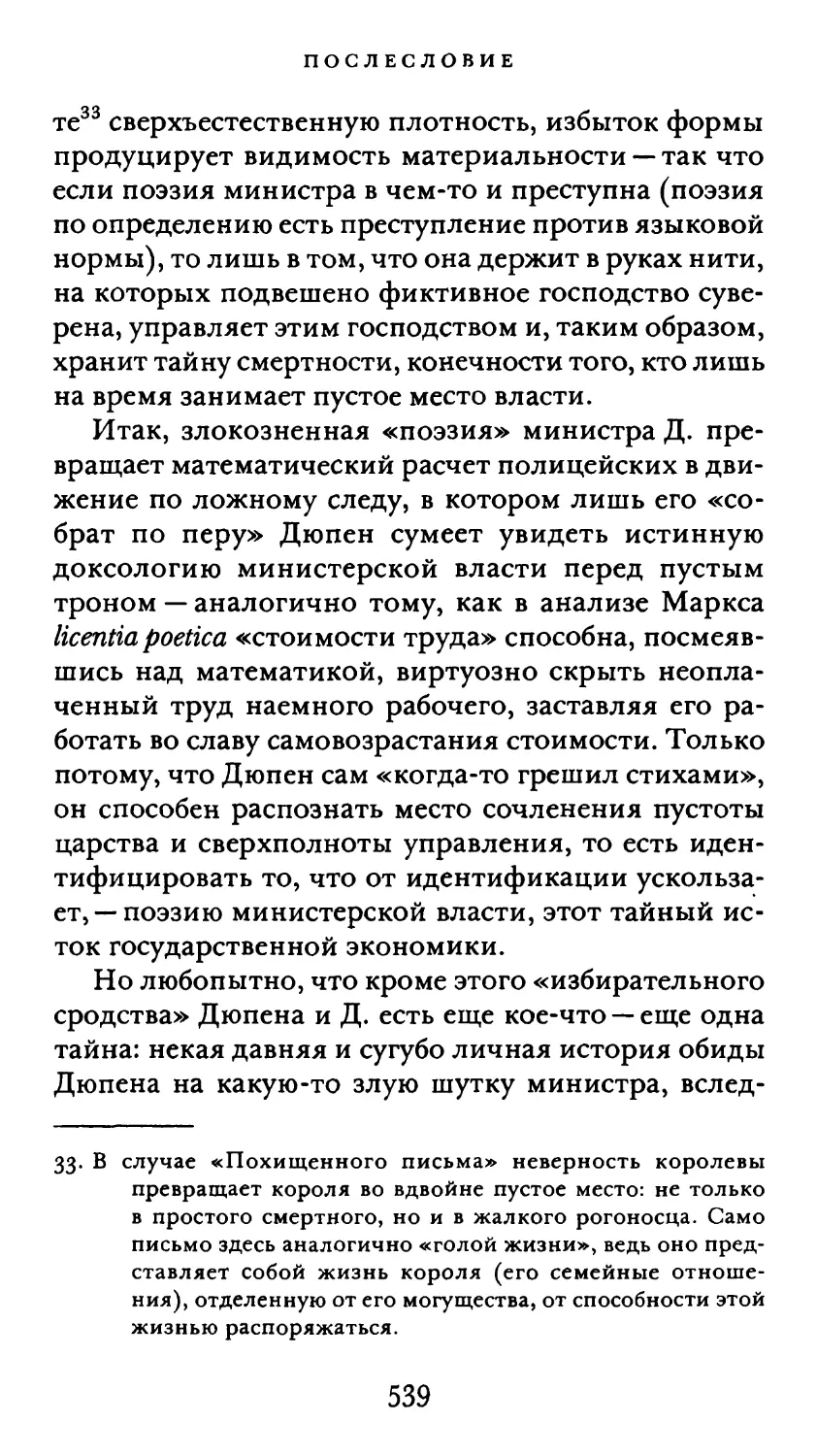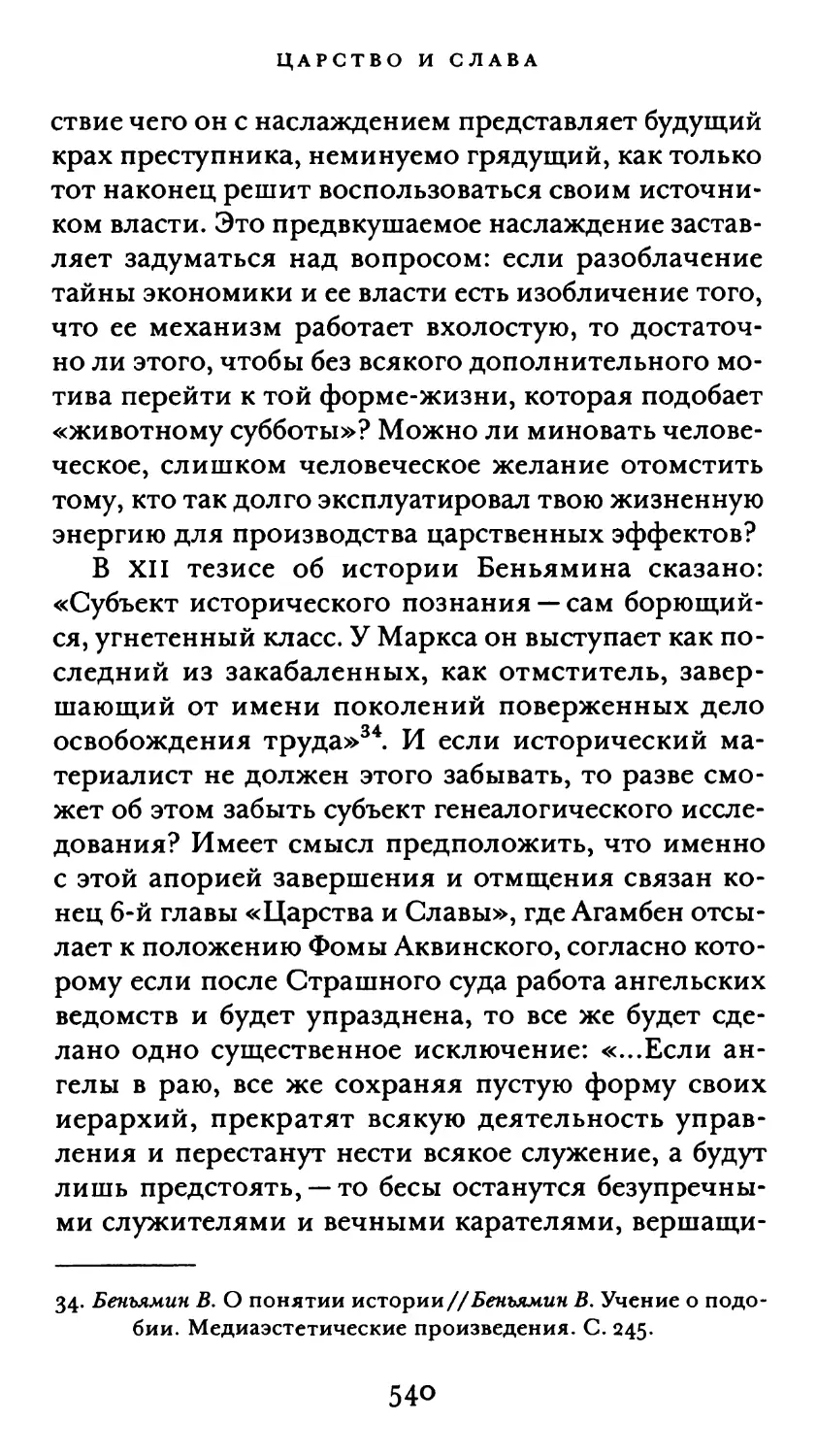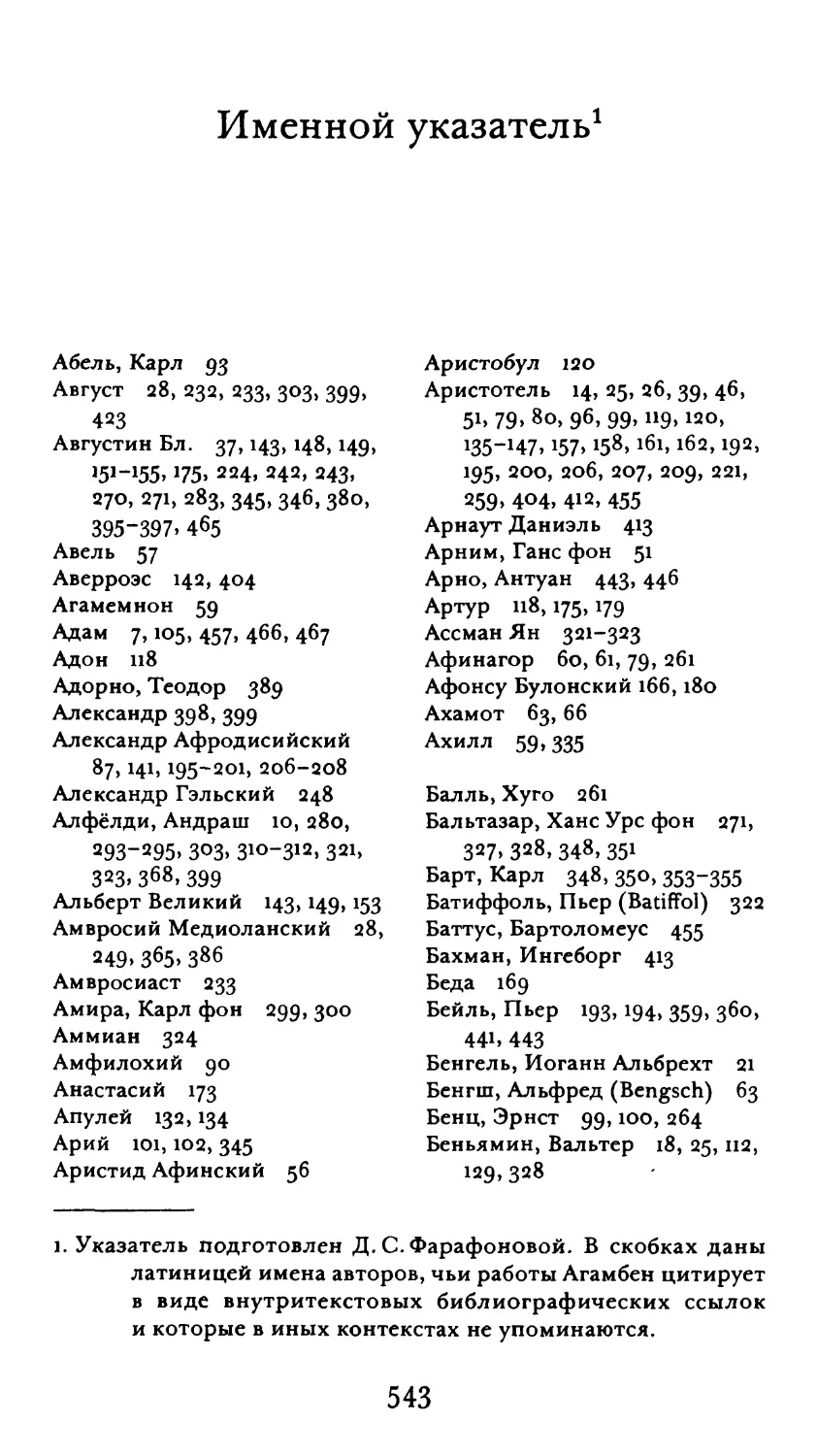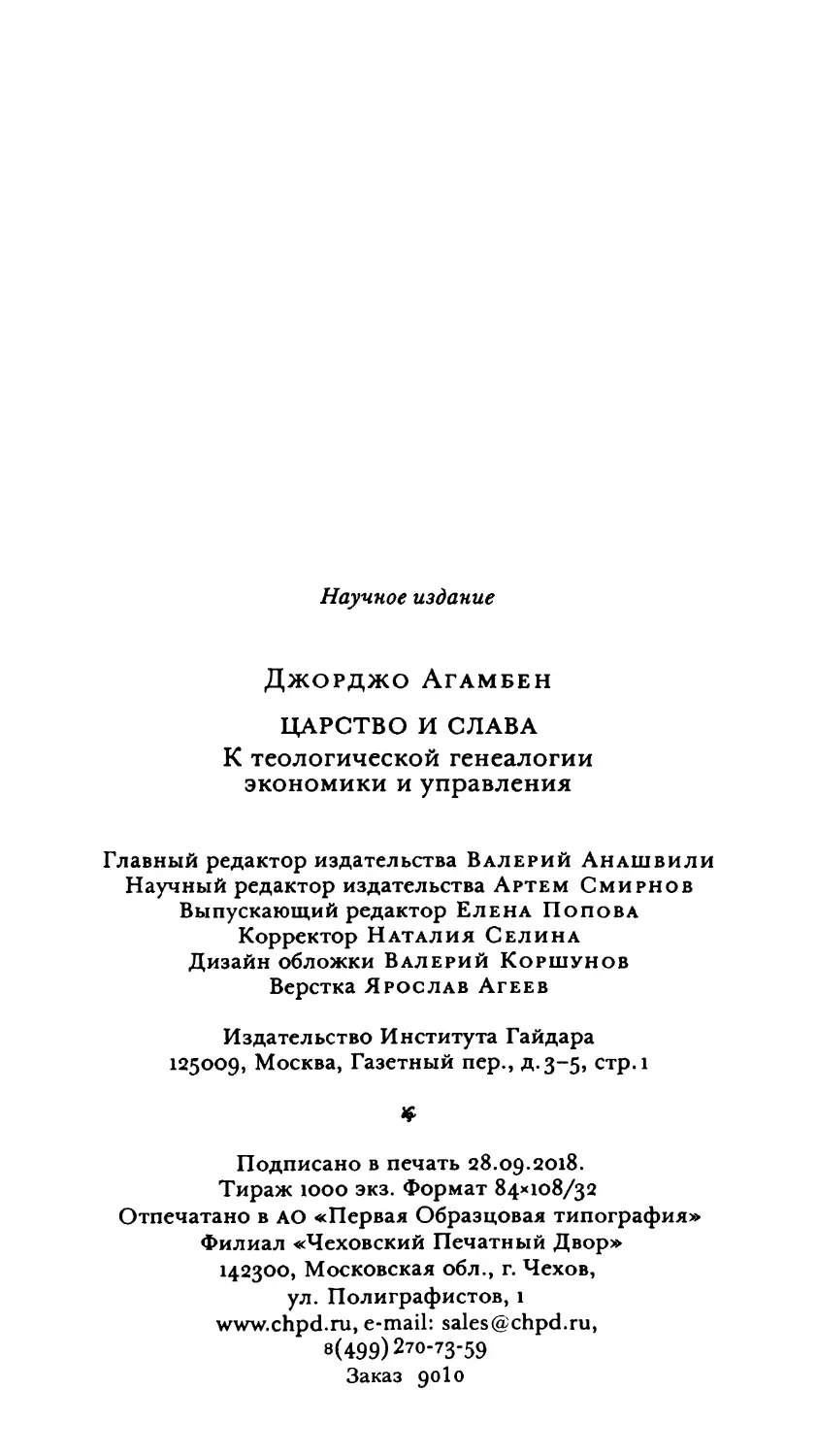Автор: Агамбен Д.
Теги: философия психология философские науки политика экономика
ISBN: 978-5-93255-521-7
Год: 2019
Текст
ДЖОРДЖО
АГАМБЕН
Giorgio Agamben
Il Regno
e la Gloria
Per una genealogia teologica
deU'economia e del governo
Homo sacer, n, 2
Джорджо Агамбен
Царство
и Слава
К теологической генеалогии
экономики и управления
Перевод с итальянского
Дарьи Фарафоновой (гл. 1-8),
Екатерины Смагиной {Приложение)
Под научной редакцией
Данилы Раскова,
Александра Погребняка,
Дарьи Фарафоновой
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2019
Araмбен, Дж.
Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики
и управления [Текст] /Джорджо Агамбен; пер. с ит. Д. С.Фа-
рафоновой (гл. 1-8), Е. В.Смагиной (приложение); под науч.
ред. Д. Е. Раскова, А. А. Погребняка, Д. С. Фарафоновой. — М.;
СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных
искусств и наук СПбГУ, 2019- —552 с-
ISBN 978-5-93255-521-7
В данной работе Джорджо Агамбена многолетнее
исследование генеалогии власти, предпринятое в рамках проекта Homo
sacer, достигает своей развязки. Автор показывает, что нынешнее
господство экономики и управления во всех сферах общественной
жизни черпает свои основания в раннехристианской парадигме
тринитарной теологии, изначально связанной с проблематикой
ойкономии, то есть способа божественного управления миром.
Неслучайно поэтому, что современная власть — это не только
«управление», но и «слава», а церемониальные, литургические
и славословные аспекты, которые мы привыкли рассматривать
как рудименты прошлого, в действительности и по сей день
составляют основу власти на Западе. Базируясь на анализе
литургических аккламаций и церемониальных символов власти —от трона
и короны до пурпура и ликторских пучков —Агамбен в новом
свете представляет функционирование консенсуса и медиа в
современных демократиях. Эта книга призвана коренным образом
обновить наши представления о связи политики и экономики.
Original title // Regno е la Gloria © 2007 and 2009
by Giorgio Agamben. All rights reserved
© Издательство Института Гайдара, 2019
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие • 9
1. Две парадигмы • 13
Порог • 36
2. Тайна экономики • 39
Порог • 91
3. Бытие и действие • 95
Порог • 113
4- Царство и правление • 117
Порог • 179
5- Провиденциальная машина • 184
Порог • 235
6. Ангелология и бюрократия • 241
Порог • 275
7- Власть и слава • 279
Порог • 324
8. Археология славы • 327
Порог • 415
Приложение. Экономика в Новое время • 427
1. Закон и чудо • 429
2. Невидимая рука • 455
Библиография • 470
ДАРЬЯ ФАРАФОНОВА
Джорджо Агамбен. Язык философии
и философия языка • 482
От переводчика • 506
АЛЕКСАНДР ПОГРЕБНЯК
Джорджо Агамбен о тайне экономики • 512
Именной указатель • 543
Oeconomia Dei vocamus illam rcrum omnium admin-
istrationem vel gubernationem, qua Deus utitur, indc
a condito mundo usque ad consummationem saeculorum,
in nominis sui Gloriam et hominum salutem*1.
J. H. Maim. Oeconomia temporum veteris
Testamenti
Chez les cabalistes hébreux, malcuth ou le règne, la
dernière des séphiroth, signifiait que Dieu gouverne tout
irrésistiblement, mais doucement et sans violence, en sorte
que l'homme croit suivre sa volonté pendant qu'il
exécute celle de Dieu. Ils disaient que le péché d'Adam avait
été truncatio malcuth a ceteris plantis; c'est-à-dire qu'Adam
avait retranché la dernière des séphires en se faisant un
empire dans l'empire2.
G. W Leibniz. Essais de théodicée3
Нужно различать право на верховную власть и ее осу-
ществлениеу ибо они могут существовать раздельно,
как, например, когда тот, кто обладает правом, не
может или не хочет сам участвовать в решении
споров или в обсуждении каких-то дел. Ведь иной раз
* Перевод с латыни выполнен В.А.Гуторовым при участии
Д. С. Фарафоновой. Постраничные примечания даны
переводчиком. Цитируемые переводы соответствуют
вариантам, представленным Агамбеном.
1. Мы называем божественной экономикой администрирование
или управление всем сущим, которое Господь применяет
с самого сотворения мира до окончательного свершения
времен во славу Своего имени и во спасение людей (лат.).
2. У еврейских каббал истов Malcuthy или царство, последняя из се-
фирот, обозначает то, что Бог управляет всем
беспрепятственно, но благостно и без насилия, так что человек
думает, будто он исполняет свою волю, между тем как он
исполняет волю Божию. Они говорили, будто грех Адама
заключался в truncatio malcuth a caeterisplantis; то есть в том,
что Адам отделил от древа последнюю из сефирот, чтобы
создать себе царство в царстве [Божием] (фр-).
3- Г.В.Лейбниц. Теодицея.
7
ЦАРСТВО И СЛАВА
4. Толкование на i Кор. 15:24 (лат.).
5. У Агамбена: due poteri (две власти).
6. На основе чего создаст он экономику мира, которым он
желает управлять? (фр.)-
7- Б. Паскаль. Мысли.
цари не могут заниматься делами по возрасту, а иной
раз, если даже могут, предпочитают осуществлять
свою власть через помощников и советников. А там,
где право на власть и ее осуществление разделены, там
государственное правление похоже на установленное
правление миром, в силу которого Бог, этот
всеобщий перводвигатель, производит через ряд
вторичных причин все, что совершается в природе. Там же,
где обладающий правом власти желает сам
участвовать во всех судах, совещаниях и общественных
действиях, такого рода администрирование можно
было бы сравнить с тем, которое осуществлял бы Бог,
пожелавший вопреки установленному порядку
непосредственно проявить себя во всяком деле.
Т. Гоббс. О гражданине
Покуда мир существует, ангелы будут начальствовать
над ангелами, люди — над людьми, бесы — над бесами;
но когда все будут собраны вместе, тогда всякое
начальство упразднится.
Glossa ordinaria (ad I Cor., 15, 24)*.
Ахер увидел, что Метатрону было даровано
позволение сидеть и записывать заслуги Израиля. Сказал
он: «Учили меня, согласно традиции, что в вышнем
мире не сидят, не соперничают, не отворачиваются
и не устают. Быть может — Боже упаси!
—существуют два божества5».
Талмуд. Хагига 15а
Sur quoi la fondera-t-il l'économie du Monde qu'il veut
gouverner?6
B.Pascal. Pensées7
Предисловие
Настоящая работа ставит себе целью исследовать
вопрос о том, каким образом и почему власть на Западе
приняла форму ойкономии, то есть управления
людьми. Таким образом, она располагается в плоскости
исследований Мишеля Фуко в области генеалогии
управленчества, в то же время силясь прояснить
внутренние причины, по которым эти исследования
не были завершены. Тень, которую теоретическое
осмысление настоящего отбрасывает на прошлое,
значительно выходит здесь за хронологические
рамки, коими Фуко ограничил свою генеалогию,
простираясь до ранних веков христианского
богословия, к которым относится первая, приблизительная
разработка учения о триединстве в форме ойкономии.
Поместить управление в его теологический locus1
в тринитарной ойкономии не означает попытку
объяснить его через иерархию причин, словно теология
по определению обладает более высоким
генетическим статусом; это значит показать, каким образом
диспозитив тринитарной ойкономии может
образовывать привилегированное пространство
наблюдения за тем, как функционирует и артикулируется —
одновременно изнутри и снаружи —управленческая
машина. Ибо именно в нем элементы, или
полярности, через которые артикулируется эта машина,
1. Locus (лат.) — место.
9
ЦАРСТВО И СЛАВА
являют себя, так сказать, в их парадигматической
форме.
Исследование генеалогии, или, как раньше было
принято говорить, природы власти, на Западе
длится уже более десяти лет, открывшись серией «Homo
sacer», и достигает таким образом своей развязки,
во всех смыслах определяющей. Двоякая структура
управленческой машины, которая в «Чрезвычайном
положении» (2003) представлена в виде
корреляции между auctoritas и potestas, обретает здесь форму
сочленения Царства и Правления и в итоге
приводит к возможности исследования самой связи
—значение которой изначально не было учтено — между
ойкономией и Славой, между властью как
эффективным правлением и менеджментом и властью в ее
церемониальном и литургическом аспекте —два
момента, любопытным образом проигнорированные
как политическими философами, так и
политологами. Даже исторические исследования, посвященные
знакам отличия и литургиям власти, от Петерсо-
на до Канторовича, от Алфёлди до Шрамма,
упустили из виду эту связь, оставляя в стороне все же
весьма очевидные вопросы: почему власть
нуждается в славе? Если она в своей сущности есть сила
и способность к действию и управлению, почему она
принимает жесткую, громоздкую, «величественную»
форму церемоний, аккламаций и протоколов?
Какова связь между экономикой и Славой?
Эти вопросы —на уровне политических и
социологических исследований, по всей видимости
обреченные лишь на банальные ответы, —будучи
рассмотренными в их теологическом аспекте, позволили
различить в отношении между ойкономией и Славой
нечто вроде предельной структуры западной
управленческой машины. Анализ литургических
возгласов и славословий, ангельских званий и песнопе-
ю
ПРЕДИСЛОВИЕ
ний оказался, таким образом, более плодотворным
для постижения структуры и функционирования
власти, чем многочисленные псевдофилософские
изыскания в области народного суверенитета,
Правового государства или коммуникативных
процедур, регулирующих формирование общественного
мнения и политической воли. Распознавать
именно в категории Славы ключевую загадку
политической власти и исследовать неразрывную связь,
соединяющую ее с правлением и ойкономией, кому-то
может показаться странной операцией. Тем не
менее, один из результатов нашего исследования
констатирует как раз то, что функция аккламаций и
самой Славы в ее современной форме общественного
мнения и согласия и по сей день находится в
центре политических диспозитивов современных
демократий. Если средства массовой информации
играют такую важную роль в современных демократиях,
то это происходит не только потому, что
посредством их осуществляются контроль и управление
общественным мнением, но и главным образом
потому, что они утверждают и распространяют
Славу—тот самый рукоплескательный и славословный
аспект власти, который, казалось бы, в эпоху
модерна себя изжил. Общество спектакля — если мы
применим этот термин к современным демократиям —
с этой точки зрения есть общество, в котором власть
в своем «самовосхвалительном» аспекте
становится неотличимой от ойкономии и от самого
управления. Более того, в полном отождествлении
Славы с ойкономией в форме бурного согласия состоит
особая задача современных демократий и их
government by consent, чья изначальная парадигма
прописана не на греческом Фукидида, а на черствой латыни
средневековых и барочных трактатов о
божественном управлении миром.
il
ЦАРСТВО И СЛАВА
Все это означает, тем не менее, что в центре
управленческой машины — пустота. Пустой трон,
hetoimasia tou thronou, который появляется на сводах
и в абсидах палеохристианских и византийских
базилик, представляет собой в этом смысле, пожалуй,
самый красноречивый символ власти. Здесь
исследование достигает своего предела и в то же время
своего временного завершения. И если, как кто-то
заметил, в каждой книге есть нечто вроде
скрытого центра, ради достижения или уклонения от
которого книга и была написана, то этот центр в
данном случае расположен в последних параграфах
8-й главы. Вопреки наивному преувеличению роли
производительности и труда, которое длительное
время препятствовало доступу модерна к
политике как к собствениейшему человека, политика здесь
представлена в свете своей изначальной,
принципиальной для нее без-деятельности —то есть действия,
состоящего в том, чтобы обратить в бездеятельность
все человеческие и божественные дела. Пустой трон,
символ Славы, есть то, что необходимо
профанировать, чтобы вне его дать место чему-то такому,
к чему мы лишь частично можем воззвать через
словосочетание zoê aiönioS) вечная жизнь. И лишь когда
четвертая часть исследования, посвященная форме-
жизни и пользованию, будет завершена, решающее
значение бездеятельности как собственно
человеческой и политической практики предстанет в своем
истинном свете.
1.
Две парадигмы
l.i. У истоков этого исследования лежит
попытка реконструировать генеалогию парадигмы,
которая редко тематизировалась как таковая за
пределами узкотеологической сферы, но которая при этом
оказала определяющее влияние на развитие и
глобальное устройство западного общества. Один
из тезисов, которые оно ставит себе целью
доказать, состоит в том, что в христианской теологии
берут начало две политические парадигмы в
широком смысле, антиномически друг другу
противопоставленные, но при этом функционально
связанные: политическая теология, которая в едином Боге
утверждает трансцендентность суверенной власти,
и экономическая теология, которая замещает эту
идею концепцией ойкономии, понятой как
имманентный порядок —домашний, а не политический в
узком смысле —как божественной, так и человеческой
жизни. Первая парадигма дает начало
политической философии и современной теории
суверенитета; из второй вырастает современная биополитика
вплоть до наблюдаемого в настоящее время
триумфа экономики и управления над всеми остальными
аспектами социальной жизни.
По причинам, которые будут освещены в ходе
исследования, история экономической теологии,
основное развитие которой пришлось на период
со II по V век нашей эры, до такой степени
прочно оставалась в тени не только для историков идей,
13
ЦАРСТВО И СЛАВА
но и для теологов, что даже точное значение этого
термина было предано забвению. Таким образом,
как ее очевидная генетическая близость
аристотелевской экономике, так и в целом представимая
связь с рождением économie animale1 и политической
экономии XVIII века до сих пор не были
исследованы. Тем более неотложной представляется
необходимость археологического исследования, которое
изучило бы причины этого вытеснения и
попыталось бы взойти к событиям, его породившим.
К Хотя проблема ойкономии присутствует в
многочисленных монографиях, посвященных отдельным Отцам
{показательна в этом отношении работа Жозефа Муанта
«Théologie trinitaire de Tertullien»2, которая содержит
относительно полную историю вопроса во II и III веках), ис-
пытывался недостаток в комплексном исследовании этой
фундаментальной теологической проблемы вплоть до
недавнего появления работы Герхарда Рихтера «Oikonomia»,
вышедшей в свет, когда историческая часть настоящего
исследования была уже завершена. Книга Мари-Жозе Мон-
дзен «Образ, икона, экономия» («Image, icône, économie»)
ограничивается анализом роли этого понятия в
иконоборческих спорах в VIII и IX веках. Даже после обширного ис-
1. Имеется в виду «животная экономика», которая также может
быть переведена как «экономика душ» (фр-),
соответствующая греческому ойкономия псюхон: это понятие,
которое одним из первых употребил Григорий Назианзин,
означает управление душами со стороны пастыря,
осуществляемое в рамках необходимости «ведения» душ к
спасению. В целом дискурс «ведения», управления в
христианской этике всегда будет прочно связан с темой
спасения как конечной его цели. Именно на этой смысловой
двойственности и играет Агамбен, упоминая «животную
экономику» в контексте утверждаемой им связи с ее
теологическими истоками.
2. «Тринитарная теология Тертуллиана» (фр-)-
ч
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
следования Рихтера, впрочем носящего, вопреки названию,
скорее теологический, чем филолого-лингвистический,
характер, существует необходимость адекватного
лексического анализа, который пришел бы на смечу добротному,
но уже устаревшему труду Вильгельма Гасса «Das
patristische Wort oikonomia»3 (1874) и трактату Отто Лилльге
«Das patristische Wort "oikonomia". Seine Geschichte und seine
Bedeutung»* (1955).
Существует вероятность — по крайней мере в том,
что касается теологов, — что это исключительное
забвение вызвано смущением перед тем, что не могло не
представать как своего рода pudenda origo5 тринитарного
догмата (тот факт, что первая формулировка теологумена,
во всех смыслах основополагающего для христианской веры,
а именно — о таинстве Троицы, изначально предстает
как «экономический» диспозитив, по сути не являет собой
ничего удивительного). О закате этого понятия — закате,
который, как мы увидим, сопутствует его
проникновению и распространению в разных областях, —
свидетельствует скудное внимание, которое ему уделено в тридент-
ских канонах: несколько строк в разделе De dispensatione
(dispensatio, как и dispositio, является латинским
переводом ойкономии) et mysterio adventus Christi. В
протестантской теологии Нового времени проблема ойкономии
вырисовывается вновь — но лишь в качестве смутного и
неопределенного предвестника темы Heilsgeschichte6; между
тем истинно скорее обратное утверждение — а именно,
что теология «истории спасения» является частичным
и в целом упрощенным возвращением гораздо более
широкой парадигмы. В итоге в ig6j году удалось опубликовать
3- «Патриотическое слово ойкономия» (нем.).
4- «Патриотическое слово „ойкономия". Его история и
значение» (нем.).
5- Pudenda origo (лат.) — постыдное происхождение.
6. Heilsgeschichte (нем.) — история искупительного подвига
Иисуса Христа.
15
ЦАРСТВО И СЛАВА
Festschrift7 no случаю шестидесятипятилетия Оскара
Кульмана, «Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der
Theologie»*, где термин ойкономия появляется лишь в одном
из тридцати шести докладов.
1.2. Теолого-политическая парадигма нашла
выражение в 1922 году в лапидарном тезисе Шмит-
та: «Все ключевые понятия современного учения
о Государстве представляют собой
секуляризированные теологические понятия» {Schmitt 1. Р. 49)- Если
наша гипотеза о двойной парадигме верна, то это
утверждение должно было быть дополнено таким
образом, чтобы его значимость выходила далеко
за пределы общественного права, вплоть до
вовлечения в ее поле основных понятий экономики и
самой концепции репродуктивной жизни
человеческих обществ. Тезис, согласно которому экономика
рассматривается как секуляризированная
теологическая парадигма, ретроспективно меняет суть
самой теологии, ибо предполагает, что божественная
жизнь и история человечества изначально
понимаются ею как ойкономия; иными словами, он
предполагает, что теология в силу своей внутренней
природы является «экономической», а не становится
таковой в результате секуляризации. То, что живое
существо, созданное по образу Божью, в конце
концов оказывается неспособным к политике, но
способным к экономике, —или, иначе говоря, то, что
история в конечном счете является не политической,
а «управленческой» и «административной»
проблемой, — в данной перспективе есть лишь логическое
следствие экономической теологии. То обстоятель-
7- Юбилейный сборник (нем.).
8. «Ойкономия. История искупительного подвига как тема тео
логии» (нем.).
i6
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
ство, что в центре евангельской вести — как
результат единственного в своем роде переворота
классического иерархического отношения — находится zoê
aiônioSy a не bios9 безусловно, представляет собой
нечто большее, чем простой лексический факт.
Вечная жизнь как конечный объект усилий
христианина в конечном итоге принадлежит парадигме ойкоса,
а не полиса; theologia vitae> согласно остроумному
каламбуру Таубеса, всегда пребывает в процессе
обращения в «теозоологию» (Taubes. Р. 41)-
К Тем более неотложной представляется необходимость
предварительно прояснить значение и коннотации
термина «секуляризация». Что это понятие играет
стратегическую роль в культуре Нового времени, что оно в этом смысле
относится к области «политики идей», то есть является
тем, что «в пространстве идей всегда находило противника
в борьбе за господство» (Lübbe. Р. 2о), — факт
общеизвестный. И это касается как секуляризации в узкоюридическом
смысле, — отсылая к изначальному значению термина sae-
cularisatio как возвращения монаха в мир, в Европе XIX века
она становится лозунгом в конфликте между Государством
и Церковью, связанным с экспроприацией церковных
владений, — так и метафорического употребления этого
понятия в области истории идей. Когда Макс Вебер
формулирует свой знаменитый тезис о капиталистической этике
труда как секуляризации пуританской аскезы,
кажущаяся нейтральность диагноза не может скрыть ее
функциональности в борьбе за «расколдовывание» мира, которую
Вебер ведет против фанатиков и ложных пророков.
Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении Трёльча.
Каков же в этом контексте смысл гимиттианского тезиса?
Стратегия Шмитта в определенном смысле обрат-
на стратегии Вебера. Если для Вебера секуляризация
являлась одним из аспектов процесса нарастающего отрезвления
и де-теологизации современного мира, то у Шмитта она,
напротив, представляет собой прямое подтверждение того,
17
ЦАРСТВО И СЛАВА
что теология продолжает существовать в современном мире
и серьезно на него воздействовать. Это не обязательно
подразумевает тождество содержания между теологией и
модерном — как не влечет за собой абсолютного смыслового
тождества между теологическими понятиями и
политическими понятиями; речь идет скорее об особого рода
стратегическом отношении, «помечающем» политические
понятия и отсылающем к их теологическим истокам.
Секуляризация, таким образом, является не понятием,
а «сигнатурой» в том смысле, в котором употребляли этот
термин Фуко и Меландри (Melandri. P.XXXli), —то есть
чем-то таким, что, содержась в знаке или в понятии,
«помечает» его и выходит за его пределы, отсылая к определенной
его трактовке или ограничивая область его значений, не
выходя при этом из семиотического измерения с целью
формирования нового значения или понятия. Сигнатуры
смещают и переносят понятия и знаки из одной сферы в другую
(в данном случае—из сакральной сферы в светскую), не ведя
при этом к их семантическому переосмыслению. Многие
понятия, очевидно принадлежащие философской традиции,
являются в этом смысле сигнатурами, которые, подобно
«тайным указателям», о которых говорил Беньямин,
выполняют определенную жизненную стратегическую функцию,
в течение длительного времени ориентируя интерпретацию
знаков в определенном направлении. Поскольку они
устанавливают связь между различными временами и
сферами, сигнатуры действуют, если можно так выразиться,
как исторические элементы в чистом виде. Археология Фуко
и генеалогия Ницше (и в несколько ином
плане—деконструкция Деррида и теория диалектических образов Беньямина)
являются науками о сигнатурах, которые существуют
параллельно истории идей и понятий и не должны с ними
смешиваться. Если отсутствует способность распознавать
сигнатуры и прослеживать переносы и смещения,
производимые ими в традиции идей, то простая история понятий
зачастую может оказаться совершенно несостоятельной.
В этом плане секуляризация действует на понятийную
систему модерна как сигнатура, отсылающая ее к теоло-
18
î. две парадигмы
гии. Подобно тому как, согласно каноническому праву,
секуляризованный священник должен был носить знак ордена,
к которому он принадлежал, секуляризированное понятие
демонстрирует свою былую принадлежность к
теологической сфере. Решающим моментом всякий раз является то,
как именно понимается отсылка, осуществляемая
теологической сигнатурой. Секуляризация таким образом может
быть понята (как, например, в случае Гогартена) как особое
проявление христианской веры, которое впервые
открывает человеку мир в его светскости и историчности.
Теологическая сигнатура выступает здесь как некий trompe-1-oeil9,
в котором именно секуляризация мира становится
отличительным признаком его принадлежности к
божественной ойкономии.
1.3. Во второй половине ig6o-x годов в
Германии развернулся спор о проблеме секуляризации,
в который в разной степени и разным образом
оказались вовлечены Ганс Блюменберг, Карл Лёвит,
Одо Марквард и Карл Шмитт. Отправной
точкой для этого спора послужил тезис, высказанный
Левитом в 1953 Г°ДУ в его тРУДе «Weltgeschichte und
Heilsgeschehen» («Мировая история и Спасение»),
согласно которому как немецко-идеалистическая
философия истории, так и просветительская идея
прогресса являются не чем иным, как
секуляризацией теологии истории и христианской
эсхатологии. Хотя Блюменберг, отстаивая «легитимность
Нового времени», решительно утверждал
нелегитимный характер самой категории секуляризации,
так что Лёвит и Шмитт вопреки своей воле
оказались по одну сторону баррикад, — как было
тонко замечено (Carchia. P. 2о), этот диспут был более
или менее сознательно инсценирован для того, что-
9- Trompe-1-œil (фр.) — обманка.
19
ЦАРСТВО И СЛАВА
бы скрыть истинный предмет спора, коим являлась
не столько секуляризация, сколько философия
истории и составлявшая ее предпосылку христианская
теология, против которых мнимые противники
выступали единым фронтом. Эсхатология спасения,
о которой говорил Лёвит и сознательным
возобновлением которой была философия немецкого
идеализма, являла собой лишь один из аспектов более
широкой теологической парадигмы, а именно
—божественной ойкономии, которую мы ставим себе
целью исследовать и на вытеснении которой
основывался данный спор. Еще Гегель прекрасно отдавал
себе в этом отчет, когда утверждал равноценность
между своим тезисом о рациональном управлении
миром и теологической доктриной о
провиденциальном проекте Бога, и представлял собственную
философию истории как теодицею («в том, что
всемирная история [...] есть действительное
становление духа [...], заключается истинная теодицея,
обоснование Бога в истории»). В еще более
недвусмысленных терминах в заключении «Философии
откровения» Шеллинг резюмировал собственную
философию, представив ее посредством
теологической фигуры ойкономии: «Древние теологи
проводили различие между akratos theologia и oikonomia.
Они сопринадлежат друг другу. Нашим
стремлением было указать именно в направлении процесса
домашней экономики {oikonomia)» {Schelling. P. 325).
Признаком упадка философской культуры является
тот факт, что подобное ее увязывание с
экономической теологией стало в наше время до такой степени
невообразимым, что смысл самих этих утверждений
от нас ускользает. Одна из задач настоящего
исследования заключается в том, чтобы вновь сделать
открытым для прочтения утверждение Шеллинга,
которое по сей день оставалось мертвым словом.
20
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
X Разница между теологией и ойкономией, между
бытием Бога и его деятельностью, на которую намекает
Шеллинг, играет, как мы увидим, фундаментальную роль
в восточной теологии, от Евсевия до халкидонцев.
Непосредственные источники Шеллинга следует искать в области
употребления понятия ойкономии в пиетистских кругах,
особенно у таких авторов, как Бенгель и Этингер, чье
влияние на мысль Шеллинга уже подробно задокументировано.
Ключевым моментом, однако, является то, что Шеллинг
мыслит свою философию откровения как теорию
божественной экономики, которая вводит в бытие Бога
личность и действие, делая его, таким образом, «господином
бытия» (Schelling. Р. 1/2). В этой связи он цитирует
отрывок из Посланий Павла (Еф. $:д), посвященный
«экономике тайны», лежащей в основе доктрины теологической
ойкономии:
Апостол Павел говорит о Божьем замысле,
сокрытом от века и ныне ставшего явным через
Христа, — тайне Бога и Христа, которая явила себя
миру через пришествие Христа. Именно здесь
становится ясно, каким образом возможна
философия откровения. Она не должна пониматься,
подобно мифологии, как необходимый процесс:
ее следует постигать наиболее свободным
образом — как решение и действие совершенно
свободной воли. Через откровение вводится новое,
или второе творение, само откровение является
делом всецело свободной воли [Schelling. P. 253]-
Шеллинг, таким образом, расценивает введение им
абсолютной и ан-архической свободы в онтологию как
возобновление и осуществление теологического учения об
ойкономии.
1.4. В период с 1935 по ^7° Г°Д между Эрихом
Петерсоном и Карлом Шмиттом —авторами,
которые в силу различных причин могут быть опреде-
21
ЦАРСТВО И СЛАВА
лены как «апокалиптики контрреволюции»
(Taubes. Р. 19), —разгорелась уникальная по своему
содержанию полемика. Уникальная не только потому,
что оба ее участника были католиками и
разделяли общие теологические предпосылки, но и
потому, — как показывает длительное молчание,
разделяющее две даты,—что ответ правоведа поступил
тогда, когда теолог, зачавший полемику, уже десять лет
как почил в могиле, и в целом отталкивался, как
свидетельствует Послесловие (Nachwort), которое его
венчает, от более позднего спора о секуляризации.
«Парфянская стрела»10 (Schmitt 2. Р. 10), брошенная
Петерсоном, по всей видимости, была еще
прочно вонзена в плоть, если, по словам самого Шмит-
та, «Politische Theologie II»11, содержавшая
запоздалый ответ, ставила себе целью «извлечь ее из раны»
(Ibid.). Центром полемики была политическая
теология, которую Петерсон решительно подвергал
сомнению; но возможно, что, как и в случае спора о
секуляризации, заявленный объект дискуссии таил
в себе другой, более опасный и эзотерический
вопрос, который мы здесь и постараемся прояснить.
В каждом произведении мысли — как,
возможно, во всяком человеческом деле — есть некая
область недосказанного. Но есть такие авторы,
которые стремятся по возможности приблизиться к это-
ю. Выражение означает тактический прием конных лучников
Древнего Востока, с которыми столкнулись римляне,
когда легкая кавалерия парфян наголову разбила римское
войско: в ходе реального или притворного отступления
парфянские конные лучники неожиданно
разворачивались в седле и на скаку стреляли в преследующего их
противника. Выражение стало крылатым и ныне означает
неожиданный и неотразимый выпад противника,
казалось бы уже побежденного в споре.
п. «Политическая теология II».
22
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
му недосказанному и хотя бы намеками обозначить
его; есть, напротив, авторы, которые
сознательно о нем умалчивают. Общей для двух
противников была теологическая концепция, которую можно
определить как «катехетическую». Будучи
католиками, они не могли не исповедовать эсхатологическую
веру во второе пришествие Христа. Но оба, ссылаясь
(Шмитт —открыто, Петерсон — скрыто) на 2 Фес. 2,
утверждают, что есть нечто такое, что
откладывает и сдерживает эсхатон, то есть пришествие
Царства и конец света. Для Шмитта таким
сдерживающим элементом является Империя; для Петерсо-
на —отказ евреев верить в Христа. Таким образом,
как для правоведа, так и для теолога настоящая
история человечества есть interim12, основанный на
запаздывании Царства. Тем не менее, в первом случае
запаздывание совпадает с суверенной властью
христианской империи («Единственно лишь вера в
замедляющую силу, способную сдержать конец
света, наводит мосты между эсхатологическим
параличом всякой человеческой событийности и такой
грандиозной исторической мощью, как величие
христианской империи германских королей»: Schmitt 3-
Р. 44); во втором случае задержка пришествия
Царства, вызванная несостоявшимся обращением
евреев, служит обоснованием исторического
существования Церкви. Работа 1929 года, посвященная Церкви,
не оставляет на этот счет никаких сомнений:
«Церковь может существовать только потому, что
«евреи, будучи избранным Богом народом, не уверовали
в Господа»» (Peterson 1. Р. 247) ~~и поэтому, как
следствие, в ближайшее время конец света не наступит.
«Церковь может существовать, — пишет Петерсон, —
12. Временное положение, состояние, мера, власть (лат.).
23
ЦАРСТВО И СЛАВА
лишь при условии, что пришествие Христа не будет
неминуемо скорым, —иными словами, лишь в том
случае, если конкретная эсхатология уничтожена,
а на ее месте высится доктрина последних вещей»
(Ibid. P. 248).
Итак, истинным предметом спора является
не столько допустимость или, напротив, немысли-
мость политической теологии, сколько природа
и суть katechon — власти, которая замедляет и
упраздняет «конкретную эсхатологию». Из этого следует,
что в конечном счете для каждой из них
принципиальное значение имеет нейтрализация
философии истории, ориентированной на спасение. В
точке, в которой божественный проект ойкономии достиг
своего завершения через пришествие Христа, произ-
велось событие (несостоявшееся обращение евреев,
христианская империя), которое наделено властью
приостановить эсхатон. Вытеснение конкретной
эсхатологии превращает историческое время во время
приостановленное, где всякая диалектика
прекращена, а Великий Инквизитор бдит, чтобы парусия13
не произвелась в истории. Постичь смысл спора
между Петерсоном и Шмиттом будет означать,
таким образом, понять теологию истории, к которой
они более или менее скрыто отсылают.
К Две предпосылки, которыми Петерсон
обосновывает существование Церкви {несостоявшееся обращение
евреев и запаздывание парусии), внутренним образом
связаны, и именно эта связь определяет специфику особого
13. Парусил — термин христианского богословия,
обозначающий явление Христа при конце времен.
Примечательно, что слово «парусия» переводится с греческого
и как «пришествие», и как «присутствие». Такая
двойственность указывает на то, что «парусия» понималась
и эсхатологически, и мистически.
24
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
католического антисемитизма, представителем
которого является Петерсон. Существование Церкви
основывается на выживании Синагоги; тем не менее, поскольку
в конце концов «весь Израиль будет спасен» {Рим. и:2б),
а Церковь должна прекратить свое существование в
Царстве {работу «Die Kirsche» открывает цитата
иронического dictum14 Луази: «Jésus annonçait le royaume, et c'est
VÉglise qui est venue»15), Израиль также должен будет
исчезнуть. Если отсутствует понимание этой скрытой
связи между двумя предпосылками, не будет ясен и
подлинный смысл прекращения работы «эсхатологического
бюро», о котором еще в i$2j году говорил Трёльч
{«эсхатологическое бюро в настоящее время практически
прекратило свою деятельность, ибо идеи, составляющие его
фундамент, утратили свои корни»: Troeltsch. Р. 36)-
Так как оно повлекло бы за собой радикальное
переосмысление связи между Церковью и Израилем, возобновление
работы эсхатологического бюро представляет собой
щекотливую проблему, и неудивительно, что такому мыслителю,
как Беньямин, который находился на уникальном в своем
роде перепутье между христианством и иудаизмом, не
понадобилось ждать Мольтмана и Додда, чтобы
безоговорочно запустить этот процесс, и что он все же предпочел
вести речь о мессианстве, а не об эсхатологии.
1.5. Петерсон открывает свое рассуждение
цитатой гомеровского стиха (Ил., 2, 204), которым
завершается Л книга «Метафизики» —«трактата, который
обычно называют теологией Аристотеля»
{Peterson 1. Р. 25): «Сущее не желает быть плохо
управляемым: «Нет в многовластии блага, да будет единый
властитель»16». По мысли Петерсона, в основе это-
14. Dictum {лат.) — высказывание.
15. «Иисус возвестил о пришествии Царства, а свершилось
пришествие Церкви» (фр-)-
16. Пер. Н. Гнедича.
25
ЦАРСТВО И СЛАВА
го высказывания лежит критика платоновского
дуализма, и в особенности — теории Спевсиппа о
множественности начал, вопреки которой Аристотель
стремится показать, что природа не состоит,
подобно дурной трагедии, из серии эпизодов, а имеет
под собой единое начало.
Несмотря на то что термин «монархия» еще
не звучит у Аристотеля в этом контексте,
необходимо все же подчеркнуть, что сама идея уже
присутствует здесь — в той самой семантической
двойственности, согласно которой в
божественной монархии единая власть (mia arche) единого
высшего начала совпадает с мощью единого
высшего носителя этой власти (archöri). [Ibid.]
Таким образом Петерсон указывает на то, что
теологическая парадигма аристотелевского неподвижного
двигателя представляет собой своего рода архетип
последующих теолого-политических обоснований
монархической власти в иудейском и христианском
ареале. Псевдоаристотелевский трактат «De
mundo», который он рассматривает после приведенного
рассуждения, составляет в этом смысле некую связку
между классической политикой и иудаистской
концепцией божественной монархии. Если у
Аристотеля Бог является трансцендентным началом
всякого движения, руководящим миром подобно тому,
как стратег ведет свою армию, — в этом трактате
монарх, запершись в покоях своего дворца, приводит
мир в движение словно кукловод, заставляющий
своих кукол двигаться посредством нитей.
Здесь образ божественной монархии
обусловлен не столько проблемой наличия единого
или нескольких начал, сколько вопросом о том,
причастен ли Бог к силам, которые действуют
2б
1 . ДВЕ ПАРАДИГМЫ
в космосе. Автор хочет сказать: Бог является
предпосылкой того, чтобы власть [...]
действовала в космосе, но именно поэтому он сам не
являет собой силу (dynamis). [Ibid. P. 27]
Цитируя излюбленный лозунг Шмитта, Петерсон
передает смысл этого образа божественной
монархии в формуле «Le roi règne, mais il ne gouverne pas»17
(Ibid.).
Лишь у Филона впервые отчетливо появляется
нечто похожее на политическую теологию в форме
теократии. Анализируя язык Филона, Петерсон
показывает, что политическая теология является
чисто иудаистским творением. Теолого-политическая
проблема стоит перед Филоном «в конкретной
реальности его положения как еврея» (Р. 30).
Израиль является теократией, его единым
народом управляет единый божественный монарх.
Единый народ, единый Бог. [...] Но так как
единый Бог является не только монархом Израиля,
но и повелителем всей вселенной, по этой
причине тот самый единый народ—-«народ, наиболее
любимый Богом» —под властью этого
вселенского монарха становится служителем и пророком
для всего человечества [Р. 28-29]-
После Филона понятие божественной монархии
перенимают христианские апологеты, которые
используют его в целях защиты христианской веры.
В кратком обзоре Петерсон прочитывает в этой
перспективе Иустина, Тациана, Феофила, Иринея,
Ипполита, Тертуллиана, Оригена. Но именно у Евсе-
вия, придворного теолога — или, согласно едкому
и остроумному определению Овербека, фрезера бо-
17. «Король царствует, но не правит» (фр-)-
27
ЦАРСТВО И СЛАВА
гословского парика императора Константина, —
христианская политическая теология обретает
свое полное выражение. Евсевий устанавливает
соответствие между пришествием Христа на землю
как спасителя всех народов и учреждением со
стороны Августа единой и повсеместной
императорской власти. До Августа люди жили в полиархии,
в условиях множественности тиранов и демократий,
но «когда явился Господь и Спаситель и в то же
время Август, первый среди римлян, стал
повелителем народов — исчезла плюралистическая полиар-
хия и на всей земле воцарился мир» (Eus. Ps. 71).
Петерсон показывает, каким образом, по мысли Ев-
севия, процесс, который имел началом воцарение
Августа, с Константином достигает своего апогея.
«После поражения, нанесенного Лицинию
Константином, была восстановлена политическая
монархия — а вместе с ней была укреплена и божественная
монархия [...], единому царю на земле соответствует
единый царь на небе и единый высший nomos и
Logos» (Peterson 1. P. 50).
Петерсон прослеживает присутствие наследия
Евсевия в писаниях Иоанна Златоуста, Пруденция,
Амвросия и Иеронима вплоть до Орозия, для
которого параллелизм между единством всемирной
империи и явлением человеку единого Бога
становится ключом к толкованию истории:
В тот же год Цезарь, Господом
предназначенный на многие таинства, повелел провести
перепись населения в отдельных провинциях
империи. Тогда и Бог явил себя в образе человека,
и он захотел стать человеком. В то время
родился Христос, который тут же был
зарегистрирован во время переписи населения Римской
империи. [...] Единого Бога, который в тот момент,
когда он пожелал явить себя миру, установил это
28
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
единство царства, все любят и страшатся:
повсюду действуют те же законы, которым следует тот,
кто подчиняется единому Богу. [Ibid. P. 55]
Далее, совершая инверсионный скачок, Петерсон
пытается показать, каким образом в период споров
об арианстве теолого-политическая парадигма
божественной монархии входит в противоречие с
развитием тринитарной теологии. Провозглашение
догмата о троице знаменует в этой перспективе закат
«монотеизма как политической проблемы». Всего
лишь на двух страницах политическая теология,
реконструкции которой была посвящена вся книга,
полностью разрушается.
Доктрина божественной монархии должна была
потерпеть крах перед лицом тринитарного
догмата, а толкование pax augusta — перед
утверждением христианской эсхатологии. Таким образом,
не только теологически упразднен монотеизм
как политическая проблема, а христианская вера
освобождена от своей связи с римской империей,
но и осуществлен разрыв со всякой
«политической теологией». Лишь на почве иудаизма и
язычества может существовать нечто вроде
«политической теологии». [Р. 5^~59*]
Примечание к этому отрывку, которым
завершается книга (но можно было бы сказать, что весь
трактат был написан в предвкушении этого
примечания), гласит:
Понятие «политическая теология» было
введено в литературу, насколько мне известно,
Карлом Шмиттом, «Politische théologie», Мюнхен,
1922 год. Его тогдашние краткие соображения
не были системно изложены. Здесь на
конкретном примере мы попытались показать теологи-
29
ЦАРСТВО И СЛАВА
чсскую невозможность «политической
теологии». [P. 8i.]
К Тезисы Евсевия, утверждающие соответствие между
установлением единой светской власти, концом полиархии
и торжеством единого истинного бога, обнаруживают ряд
сходств с тезисом Негри —Хардта, согласно которому
преодоление национальных Государств в единой глобальной
капиталистической империи открывает путь к торжеству
коммунизма. Однако если доктрина теологического
парикмахера Константина имела явное тактическое значение
и действовала не против, а в пользу заключения союза между
всеобщей властью Константина и Церковью, тезис Негри —
Хардта не может трактоваться схожим образом и
поэтому остается по меньшей мере загадочным.
1.6. В аргументации Петерсона ключевая
стратегическая роль отведена одному положению каппадо-
кийского теолога IV века Григория Назианзина.
Согласно грубому компендиуму, в котором Петерсон
передает его мысль, Григорий наделяет тринитар-
ный догмат «предельной теологической глубиной»,
противопоставляя «монархии единой личности»
«монархию триединого Бога»:
Христиане [...] признают себя в монархии Бога;
речь, безусловно, идет не о монархии единой
личности в божестве, ибо она несет в себе зерно
внутреннего раскола [Zwiespalt], но о монархии
триединого Бога. Этот принцип единства не
имеет аналога в человеческой природе. При таком
положении дел монотеизм как политическая
проблема оказывается теологически устранен.
[Р-57-58]-
Любопытно, однако, что в своем запоздалом
возражении Шмитт прибегает к тому же отрывку,
который проанализировал Петерсон, — но для того,
3°
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
чтобы сделать во многом противоположные
выводы. По мысли правоведа, Григорий Назианзин ввел
своего рода теорию гражданской войны
(«подлинную теолого-политическую стасиологию») в сердце
учения о триединстве {Schmitt 2. Р-92): таким
образом, можно сказать, что он все еще применял теоло-
го-политическую парадигму, отсылающую к
оппозиции друг/враг.
Впрочем, мысль о том, что разработка тринитар-
ной теологии сама по себе представляет собой
достаточное условие для устранения любой теолого-
политической концепции божественной монархии,
вовсе не является очевидной. Петерсон сам
вспоминает в контексте разговора о Тертуллиане попытки
христианских апологетов примирить тринитарную
теологию с образом единого императора, который
отправляет свою единую власть через наместников
и министров. Но даже отрывок из речи Григория
Назианзина, смысл которого Петерсон передает
довольно небрежно, в качестве аргумента теряет свою
убедительность, будучи представлен в своем
изначальном контексте.
Текст является частью корпуса из пяти речей,
которые обычно определяют как «теологические»,
так как в совокупности они составляют
настоящий трактат о Троице. Теология каппадокийцев,
главным представителем которых наряду с
Василием Кесарийским и Григорием Нисским
является Григорий Назианзин, направлена на устранение
остатков сопротивления ариан и сторонников
учения о единосущии18 и на разработку доктрины
единой сущности в трех различных ипостасях, которая
окончательно будет утверждена в 381 году на Кон-
i8. В оригинале: «гомоусия» —Единосущие; теологическое
учение о тождестве Христа с Богом Отцом.
З1
ЦАРСТВО И СЛАВА
стантинопольском соборе. Таким образом, речь шла
о том, чтобы рационально совместить осмысление
божества в монархическом ключе, внутренне
присущее понятию homoousia, и утверждение трех
ипостасей (Отца, Сына и Святого Духа). Трудность и
парадоксальность такого совмещения во всей своей
полноте явствует из вышеупомянутого текста
Григория, озаглавленного «Peri Yiou»> «О Сыне».
Именно в этом контексте следует толковать отрывок,
процитированный Петерсоном:
Существуют три древнейших мнения
относительно Бога: анархия, полиархия и монархия.
С первыми двумя играют дети греков — и пусть
играют себе в волю. Анархия, в самом деле, есть
отсутствие порядка; полиархия есть гражданская
война [stasiödes], в этом смысле анархичная и
беспорядочная. Обе они ведут к одному и тому же
исходу —беспорядку, влекущему за собой распад.
Беспорядок действительно предваряет распад.
Мы же почитаем монархию; но не ту монархию,
которую определяет одна-единственная
личность, — ибо даже единственная личность, если
она войдет в состояние гражданской войны [stasi-
azon pros heauto] с самой собой, порождает
множественность, — но ту монархию, которая строится
на равенстве природного достоинства, на
единении ума, на тождестве движения, на
стремлении ее элементов к единству и схождении в нем:
все это недоступно природе сотворенного. Таким
образом, даже если она различается численно,
в сущности своей она неделима. Поэтому
монада, которая изначально стремилась к диаде,
обрела покой в триаде. Это и есть для нас Отец, Сын
и Святой Дух; первый производитель [gennëtôr]
и источник [proboleus\ безусловно, свободный
от страстей, вне времени и бестелесный... [Greg.
Naz. Or., XXIX, 2. P. 694].
32
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
Очевидно, что замысел Григория состоит здесь
в том, чтобы совместить метафизическую
терминологию единства божественной сущности с более
конкретным и почти телесным лексиконом,
связанным с Троицей (особенно в том, что касается
проблемы рождения Сына в контексте постулата о не-
сотворенном характере божества, ставшей поводом
для особенно жарких споров между арианами и мо-
нархианами). С этой целью он прибегает к
метафорическому регистру, который сложно не
определить, с позволения Петерсона, как политический
(или теолого-политический): речь, в самом деле,
идет о том, чтобы помыслить триединое сочетание
ипостасей без того, чтобы вводить Бога в stasis,
состояние междоусобной войны. Поэтому он,
свободно пользуясь стоической терминологией,
рассматривает три ипостаси не как сущности, но как образы
бытия или отношения (pros ti, pôs echori) в единой
сущности (Ibid. 16. P. 712). И тем не менее он
настолько отчетливо осознает неадекватность этой своей
попытки и недостаточность любого словесного
выражения тайны, что завершает свою речь
удивительным tour deforce, представляя Сына посредством
длинного перечня антиномически
противопоставленных друг другу образов. Перед самым
заключением Григорий все же дает ключ к прочтению всей
речи: следуя сложившейся к его времени
терминологической традиции, он утверждает, что
правильно понять ее может лишь тот, кто научился
различать в Боге «рассуждение о природе и рассуждение
об экономике [tis men physeôs logos, tis de logos oikonomi-
as\» (Ibid. 18. P714). Это означает, что и отрывок,
процитированный Петерсоном, можно трактовать
лишь в свете этого различия. Тем большее
удивление вызывает то, что Петерсон никоим образом
этого не упоминает.
33
ЦАРСТВО И СЛАВА
К То есть логос «экономики» у Григория имеет особую
функцию, состоящую в избежании того, чтобы через
троицу в фигуру Бога вводился стасиологический, то есть
политический, разрыв. Поскольку монархия также может дать
повод к гражданской войне, к внутреннему stasis, лишь сдвиг
от политической рациональности к рациональности
«экономической» (в смысле, который мы постараемся
прояснить) может предотвратить эту опасность.
i.j. Изучение авторов, на которых Петерсон
ранее ссылался в своей генеалогии теолого-полити-
ческой парадигмы божественной монархии,
свидетельствует о том, что как в текстуальном, так
и в концептуальном плане «рассуждение об
экономике» настолько тесно переплетено с рассуждением
о монархии, что его отсутствие у Петерсона
заставляет сделать вывод о своего рода сознательном
вытеснении. Наглядным примером в этом отношении
является Тертуллиан (но то же самое, как мы
убедимся, можно было бы сказать об Иустине, Тациа-
не, Ипполите, Иринее и проч.). Возьмем цитату
из сочинения «Adversus Praxean», которой Петерсон
открывает свой анализ попытки апологетов
примирить традиционную доктрину божественной
монархии и Троицу:
Мы поддерживаем монархию, говорят они,
и даже латиняне произносят это слово так
звучно и назидательно, что можно было бы подумать,
будто они понимают суть монархии так же
отчетливо, как они произносят ее [Tert. Adv. Prax, з> 2].
Здесь цитата прерывается; но в тексте Тертуллиана
мысль продолжается:
Латиняне стремятся повторять слово
«монархия», но слово «экономика» не хотят понимать
34
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
даже греки [sed monarchiam sonare student Latini, oiko-
nomian intellegere nolunt etiam Graeci]. [Ibid]
А несколькими строками раньше Тертуллиан
утверждает, что
простые люди — дабы не назвать их
легкомысленными и невежественными [...] — не
разумеют, что необходимо верить в единого Бога, но
верить в него вместе с его ойкономией [unicum quidem
(deum) sed cum sua oeconomia]; и пугаются, ибо
думают, что экономика и диспозиция троицы есть
разделение единства. [Ibid. 3,1]
Понимание тринитарного догмата, на котором Пе-
терсон строит свое рассуждение, предполагает
таким образом предварительное понимание «языка
экономики». Лишь после того, как мы исследуем
этот логос во всех его связях, мы сможем определить,
какова истинная ставка в споре о политической
теологии между двумя друзьями-противниками.
ЦАРСТВО И СЛАВА
Порог
Отношения между этими двумя авторами, Шмит-
том и Петерсоном, более запутанны и
неоднозначны, чем они сами хотели бы показать. В первый раз
Шмитт упоминает имя Петерсона в своем очерке
1927 года «Народный референдум и предложение
о законе по народной инициативе», ссылаясь на его
докторскую диссертацию, посвященную
церемониалу в первые века христианской литургии,
которую он расценивает как «фундаментальный труд».
Но даже здесь то, что объединяет двух авторов,
содержит, как мы увидим, зачатки их последующего
расхождения.
В лаконичном, ничем не примечательном
предисловии к книге о монотеизме 1935 года кратко
излагаются истоки родства, связывающего двух авторов,
а также моменты, послужившие отправной точкой
в их разногласиях. Сведение христианской веры
к монотеизму представлено как результат
Просвещения, против которого выступает Петерсон,
напоминая, что «для христиан политическое действие
может основываться исключительно на
предпосылке веры в триединого Бога», которого следует
полагать как за пределами иудаизма и язычества,
так и за пределами монотеизма и политеизма.
Далее в предисловии в более сдержанных тонах следует
предварение финального тезиса книги о «теологиче-
36
1. ДВЕ ПАРАДИГМЫ
ской невозможности» христианской политической
теологии: «Здесь на историческом примере будет
показана внутренняя проблематичность политической
теологии, ориентирующейся на монотеизм»
(Peterson \. Р. 24).
Гораздо более значимым, чем критика шмитти-
анской парадигмы, здесь видится изложение тезиса,
согласно которому тринитарная доктрина
представляет собой единственно возможное основание
христианской политики. Оба автора хотят основать
политику на христианской вере; но если для Шмитта
политическая теология учреждает политику в
светском смысле, то «политическим действием»,
находящимся в центре внимания Петерсона, является,
как мы увидим, литургия (восстановленная в
своем этимологическом значении как общественная
практика).
Положение о том, что настоящая христианская
политика есть литургия, что тринитарная доктрина
лежит в основе политики, определяемой как участие
в культе прославления ангелов и святых, может
вызвать удивление. Тем не менее, именно здесь
проходит водораздел, пролегающий между шмиттианской
«политической теологией» и христианским
«политическим действием» Петерсона. По Шмитту,
политическая теология учреждает политику как
таковую, а также светскую силу христианской империи,
которая действует как катехощ напротив, политика
как литургическое действие у Петерсона
исключает (обращение к Августину, «который напоминает
о себе в момент всякого духовного или
политического перелома на Западе», служит этому
подтверждением) любую возможность отождествления с земным
градом: последний есть не что иное, как культовое
предвосхищение эсхатологической славы. Действие
светских сил в этом смысле для теолога эсхатологи-
37
ЦАРСТВО И СЛАВА
чески абсолютно нерелевантно: в качестве катехона
действует не политическая власть, а лишь отказ
евреев принять христианство. Это означает, что для Пе-
терсона (в этом его взгляды совпадают с позицией
значительной части Церкви) исторические события,
свидетелем которых он был —мировые войны,
тоталитаризм, технологическая революция, изобретение
атомной бомбы, —не являются теологически
значимыми. Все, кроме одного —истребления евреев.
Если эсхатологическое наступление Царства
станет конкретным и реальным, лишь когда евреи
примут христианство, то уничтожение евреев не может
не иметь значения для судьбы Церкви. Петерсон,
по всей вероятности, находился в Риме, когда i6
октября 1943 года с молчаливого согласия Пия XII
в концентрационные лагеря было депортировано
около тысячи римских евреев. Правомерен вопрос:
отдавал ли он себе в этот момент отчет об
ужасающей двусмысленности теологического тезиса,
который связывал как существование, так и свершение
Церкви с выживанием или исчезновением евреев?
Возможно, эта двусмысленность может быть
преодолена лишь в том случае, если катехон — власть,
которая, откладывая конец истории, открывает
пространство для светской политики, — будет
восстановлен в его изначальной связи с божественной
ойкономией и с ее Славой.
2.
Тайна экономики
2.1. Ойкономия означает «управление домом».
В аристотелевском (или псевдоаристотелевском)
трактате по экономике говорится о том, что technè
oikonomiké отличается от политики так же, как дом
(oikia) отличается от города (polis). Это различие
вновь утверждается в «Политике», где политик
и царь, которые принадлежат сфере полиса,
качественно противопоставлены oikonomos и despotes,
которые представляют сферу дома и семьи. Даже у Ксено-
фонта (у которого оппозиция дома и города гораздо
менее четко очерчена, чем у Аристотеля) ergon
экономики есть «хорошее управление домом [eu oik-
ein ton... oikon]» (Xen. Oec, I, 2). He следует, однако,
забывать, что oikos не является ни домом нуклеар-
ной семьи в современном понимании слова, ни
расширенной семьей: это сложный организм, в
котором переплетаются разнородные связи, которые
Аристотель (Pol., 1253b) разделяет на три группы:
деспотические отношения хозяина и рабов
(которые обычно включают в себя управление
сельскохозяйственным предприятием крупных размеров),
«отеческие» отношения отца и детей, «брачные»
отношения мужа и жены. Эти «экономические»
отношения (различия между которыми выделяет
Аристотель: ibid., 1259а~Ь) связывает парадигма, которую
можно было бы определить как относящуюся к
сфере «руководства», а не познания: то есть речь идет
о деятельности, которая не связана системой норм
39
ЦАРСТВО И СЛАВА
и не образует собой науки в собственном смысле
слова («Термин „глава семьи" [despotes], — пишет
Аристотель, — не указывает на знание [epistêmên], но
обозначает определенный способ бытия: ibid., 1255b).
Эта деятельность скорее предполагает принятие
решений и распоряжений, которые служат ответом
на конкретные, всякий раз разные проблемы,
касающиеся функционального порядка {taxis) различных
частей ойкоса, В одном отрывке Ксенофонта дается
точное определение этой «управленческой»1
природы ойкономии: она связана не только с потребностью
в предметах и их использованием, но прежде
всего с их упорядоченным расположением (péri,,, taxeôs
skeuön: Хеп,, Oec, 8, 23; термин skeuos означает
«орудие, инструмент, служащий для определенной
деятельности»). Дом в этой перспективе сначала
уподобляется войску, а затем кораблю:
Превосходный, в высшей степени аккуратный
порядок видел я однажды при осмотре большого
финикийского судна: масса корабельных снастей,
положенных каждая отдельно, увидел я,
находилась в очень маленьком вместилище. [...] И все
предметы, как я заметил, лежат так, что не
мешают один другому, нет надобности их
разыскивать, все они в готовом для употребления виде,
нетрудно их распаковать, так что не нужно
тратить времени, когда вещь наскоро понадобится.
А помощник [diakonon] кормчего [...], оказалось,
так знает каждое место, что даже заглазно может
сказать, где что лежит и сколько чего [...]. Я
видел также, — продолжал Исхомах, — как он в
свободное время проверял все, что бывает нужно
в пути2. [Ibid. 8, и-15]
1. У A.: «cgestionale».
2. Пер. С.И.Соболевского.
40
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
Эта практика упорядоченного руководства
определяется Ксенофонтом как «проверка»3 (episkepsis,
откуда episkopos, «заведующий», а позднее — vescovo4):
Я удивился такой проверке его и спросил, что
он делает. «Проверяю [episcopô]», — отвечал он.
[Ibid., 8,15].
Так, хорошо устроенный дом5 сравнивается у Ксе-
нофонта с танцем:
Все снасти напоминают хор вещей, да и
пространство в середине между ними кажется
красивым, потому что каждая вещь лежит вне его.
Подобным образом не только хор, в танце
образующий круг, сам представляет красивое
зрелище, но и пространство внутри его кажется
красивым и чистым. [Ibid. 8, 21]
Ойкономия выступает здесь как функциональная
организация, как управленческая деятельность,
которая подчиняется правилам, связанным
исключительно с упорядоченным функционированием дома
(или конкретного предприятия).
Именно эта «руководственная» парадигма
определяет семантическую сферу термина ойкономия
(а также глагола oikomein и существительного oikono-
mos) и обусловливает прогрессивное аналогическое
расширение этой сферы за ее изначальные пределы.
Так, уже в «Corpus Hippocraticum» (Epid., б, 2, 24)
hê peri ton noseonta oikonomiè обозначает совокупность
практик и предписаний, которые врач должен
произвести в отношении больного. В области филосо-
3- В оригинале: «controllo», «контроль».
4- Епископ (um.).
5. В оригинале: «casa ben "economizzata"».
41
ЦАРСТВО И СЛАВА
фии, когда стоикам понадобится выразить идею
силы, которая изнутри все упорядочивает и всем
управляет, они прибегнут именно к
«экономической» метафоре (tes tön holön oikonomias: Chrysip., fr. 937,
S VF, H, 269; hê physis epi tön phytön kai epi tön zöön.., oi-
konomei: Chrysip., fr. 178, SVF, III, 43). В этом
широком смысле «управления, заведования чем-либо»
глагол огкопотегп обретает значение «удовлетворять
жизненные потребности, кормить» (так, в «Деяниях
Фомы» выражение «ваш Отец небесный их кормит»
из притчи Матфея о небесных птицах (Мф. б:2б)
передано с помощью парафразы ho theos огкопотег auta>
где глагол по значению соответствует итальянскому
«governare le bestie»6).
В одном месте «Размышлений» Марка Аврелия,
написание которых совпало по времени с
деятельностью первых христианских апологетов, этот термин
обретает уже более отчетливое звучание в значении,
связанном с руководством. Рассуждая о
неуместности поспешных суждений о чужих поступках,
он пишет:
Того, погрешают ли они, ты не постиг, потому
что многое делается по некоему раскладу7 [kat'
oikonomian ginetai]. И вообще многое надо узнать,
прежде чем как-либо объявить, будто ты постиг
чужое действие [и, i8, 3].
Здесь, в соответствии с семантической
модуляцией, которая станет неотделимой от этого термина,
оикономия означает практику и знание, не имеющие
6. 3д.: «ухаживать за животными». Семантическая
двойственность этого выражения обусловлена исходным значением
глагола «governare» («руководить», «управлять»).
7- У А.: «согласно некоей экономике».
42
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
эпистемического характера : даже если эта
практика и знание сами по себе не согласуются с идеей
блага, они должны оцениваться исключительно в
отношении их целесообразности.
Особый интерес вызывает техническое
использование термина ойкономия в области риторики для
обозначения упорядоченного расположения материала
в речи или трактате («Hermagoras iudicium partitio-
nem ordinem quaeque sunt elocutionis subicit oeconomi-
ae, quae Graece appellata ex cura rerum domesticarum et
hic per abusionem posita nomine Latino caret»9: Quint ^
3, 3, 9; Цицерон переводит этот термин как disposition
то есть «rerum inventarum in ordinem distributio»10: Inv.,
1,9). И все же экономика есть нечто большее, чем
простое расположение, ибо помимо последовательного
изложения тем (taxis) она предполагает выбор (diaire-
sis) и анализ (exergasid) аргументов. В этом плане
термин ойкономия появляется у Псевдо-Лонгина
именно в противопоставлении понятию «возвышенное»:
Процессуальный аспект замысла, способ
упорядочения фактов и их ойкономия не проявляются
в одном или нескольких местах текста: мы
видим, как они постепенно проступают из всей
структуры сочинения, тогда как возвышенное,
8. В оригинале: «sapere non epistemico». В итальянском языке
слово «sapere» означает «знание», однако может
использоваться и в значении «практического знания», т.е.
«умения», «навыка», что на семантическом уровне как бы
«усиливает» тезис Агамбена.
9- «Гермагор подчинил суждение, разделение, порядок и все
прочее экономике. Эта экономика красноречия названа
по имени заботы о домашних делах. Здесь это название
используется не в собственном его смысле, поскольку
отсутствует латинское название» (лат.).
1С Распределение «найденных» вещей по порядку (лат.)
43
ЦАРСТВО И СЛАВА
прорываясь в должный момент, взрывает эту
цельность. [i, 4]
Однако, как явствует из наблюдения Квинтилиана
(«oeconomiae, quae Graece appellata ex cura rerum do-
mesticarum et hic per abusionem posita»11), при этом
прогрессивном аналогическом расширении
семантической сферы понятия ойкономии так и не было
утрачено осознание его изначального значения,
связанного с областью «домашнего». Показателен
в этом отношении отрывок из Диодора Сикульско-
го, в котором одно и то же семантическое ядро
активизируется и в риторическом смысле, и в значении
«управления домом»:
Когда историки пишут свои труды, им прежде
всего следовало бы обращать внимание на
расположение согласно частям [tes kata meros oikonomi-
as]. Это упорядочение не только служит важным
подспорьем в делах частной жизни [en tois idiôti-
koisbiois], но и является полезным при написании
исторических трудов. [5, i, 1.]
Именно на этом основании в эру христианства термин
ойкономия переносится в область теологии, где,
согласно общему мнению, он обретает значение
«божественного плана спасения» (в частности, в том, что
касается воплощения Христа). Поскольку, как мы увидели,
основательное лексическое исследование еще ждет
своего часа, гипотеза о таком теологическом
значении термина ойкономия — которая, как правило,
признается несомненной в своей достоверности — в
первую очередь должна быть подвержена проверке.
il. «Экономика, которая у греков получила свое название
по имени заботы о домашних делах и использована здесь
не в собственном смысле слова» (лат.).
44
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
К Для понимания исторической семантики термина ойко-
номия важно не упускать из виду, что с точки зрения
лингвистики то, с чем мы имеем дело, является не столько
изменением смысла (Sinn) слова, сколько прогрессивным аналогическим
расширением его значения (Bedeutung). Хотя в словарях в
подобных случаях обычно различаются и перечисляются один
за другим разные значения термина, лингвисты прекрасно
знают, что на самом деле семантическое ядро (der Sinn)
остается в определенных границах и до определенного
момента неизменнным, и именно это постоянство дает
возможность расширения в сторону новых и различных значений.
С термином ой коном ия происходит нечто подобное тому,
что произошло в наши дни с термином «предприятие»12,
который с более или менее осознанного согласия
заинтересованных сторон расширил сферу своего значения вплоть до
распространения на такие области, как университет, который
традиционно не имеет к этой сфере никакого отношения.
Когда в отношении теологического употребления
этого термина ученые (как поступает My ант, говоря об
Ипполите, — Moingt. Rдоз, — или же Маркус — Marcus I. Рдд)
ссылаются на так называемое «традиционное» значение
ойкономии в языке христианства (то есть ойкономия
как «божественный промысел»), опилишь проецируют в
область смысла то, что попросту является расширением
значения до области теологии. Даже Рихтер, все же
отрицающий существование единого теологического значения этого
термина, которое якобы легко усмотреть в разных
контекстах (Richter. Р. 2), кажется, не проводит должного
различия между смыслом и значением. На самом деле, у этого
термина не существует никакого «теологического»
смысла: есть лишь сдвиг его значения в область теологии,
который постепенно стал ошибочно истолковываться и
восприниматься как новое значение.
На последующих страницах мы будем придерживаться
принципа, согласно которому предположение о теологиче-
12. В оригинале: impresa.
45
ЦАРСТВО И СЛАВА
ском смысле этого термина не может быть принято за
некую данность, но всякий раз должно подвергаться
строгому пересмотру.
К Как известно, у Платона разграничение между oikos
и polis не обретает, как это происходит у Аристотеля,
характера оппозиции. В этом плане Аристотель может
критиковать платоновскую концепцию полиса и ставить
своему учителю в укор то, что тот излишне настаивал
на унитарном характере города, рискуя превратить его
таким образом в домашнее хозяйство:
Очевидно, что, если процесс унификации выйдет
за определенные границы, больше не будет
никакого города. Город по своей природе есть нечто
многообразное, и если он станет слишком
единообразным, то он будет скорее походить на дом
[oikia], чем на город [Pol., 1261a].
2.2. Распространено мнение (Gass. Р. 469; Moingt.
Р. 9°3)>что Павел первым наделил термин ойкономия
теологическим значением. Но внимательное
прочтение соответствующих выдержек не говорит в
пользу этого предположения. Возьмем Первое послание
к Коринфянам 9*16-17:
Если я благовествую [euangelizômai], то нечем мне
хвалиться: это необходимая обязанность моя,
и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю
это добровольно, то буду иметь награду; а если
недобровольно, то осуществляю только
вверенную мне ойкономию13 [oikonomianpepisteumai].
Смысл «ойкономии» в данном случае прозрачен,
а конструкция с использованием pisteuö не остав-
13. В Синодальном переводе: «исполняю только вверенное мне
служение».
4б
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
ляет никаких сомнений: оикономия есть поручение
(как в Септуагинте Ис. 22:2i), данное Богом Павлу,
который в этой связи действует не свободно, как в
negotiorum gestio14\ а согласно обязательству,
основанному на доверии (pistis) в качестве apostolus
(«посланника») и oikonomos («уполномоченного управляющего»).
Оикономия в этом случае есть нечто такое, что
вверяется: значит, это есть деятельность и поручение,
а не «план спасения», исходящий из божественного
разума или воли. В том же смысле следует понимать
и отрывок из Первого послания к Тимофею i:3~4:
Я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать
некоторых, чтобы они не учили иному и не баснями
и родословиями бесконечными, которые
производят больше споры, нежели Божья оикономия15
в вере [oikonomian theou ten en pistei, деятельность
управления, которая была мне вверена Богом].
Но это значение остается неизменным даже в тех
отрывках, где соседство оикономии с термином mystêrion
дало комментаторам повод усмотреть в нем
теологический смысл, в котором сам текст не выказывает
никакой необходимости. Так, в Послании к Колос-
сянам 1:24-25 говорится следующее:
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и
восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых
по домостроительству Божиему16, вверенному мне
Ц- Ведение дел (лат.).
15. Существующий русский перевод частично изменен. В нем
термин оикономия передан как «назидание».
i6. В оригинале: оикономия. В православном словоупотреблении
термин «домостроительство» буквально передает
содержание греческого оригинала (оикономия), однако в
современности он утратил всякое контекстуальное этимо-
47
ЦАРСТВО И СЛАВА
[dotheisan], чтобы исполнить слово Божие, тайну,
сокрытую от веков и родов, ныне же открытую
святым Его...
Было замечено, что хотя понятие ойкономии здесь,
как и в Первом послании к Коринфянам, несет
смысл «основанного на доверии поручения»17 («ап-
vertrauete Amt»), у апостола оно будто бы обретает
иной, более специфический смысл «божественного
решения о спасении» (Gass. P. 47°) • Но в тексте нет
ничего такого, что позволяло бы перенести на ойко-
номию значение, которое может быть присуще лишь
понятию mystêrion. И снова конструкция с didômi
не оставляет двусмысленности: Павлу было дано
поручение возвестить о пришествии Мессии, и это
благовещение явилось исполнением слова
Божьего, чей обет спасения, до сих пор сокрытый, теперь
открылся человеческому знанию. Ничто не дает
повод связывать ойкоиомию с mystêrion: последний
термин с грамматической точки зрения выступает в
качестве приложения к logon tou theou, а не к oikonomian.
Более неоднозначную ситуацию можно
наблюдать в Послании к Ефесянам i: g~10:
[Господь,] открыв нам тайну Своей воли по
Своему благоволению, которое Он прежде положил
\proetheto] в Нем, в устроении18 полноты времен,
дабы все небесное и земное соединить под
главою Христом.
логическое значение. Впоследствии при цитировании
источников мы будем употреблять его как прямой
синоним «ойкономии» в том случае, где мы пользуемся
существующей отечественной традицией.
17. В оригинале: «incarico fiduciario», более точным переводом
которого было бы «фидуциарное обязательство».
i8. У А.: ойкономии.
48
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
Павел ведет здесь речь об избрании и о спасении,
о которых Господь принял решение по своему
благоволению (eudokià); в соответствии с этим контекстом
он может утверждать, что Господь вверил Христу
ойкономию полноты времен, таким образом
приводя в исполнение обет спасения. Здесь ойкономия
также означает всего лишь деятельность («Sie bezeichnet
nur noch ein Tâtigsein»: Richter. P. 53), а не
«божественный план спасения», как ошибочно полагает
О.Мишель (Ibid. P. 67). В любом случае вовсе не
безынтересен тот факт, что Павел может говорить
об исполнении обета спасения в терминах ойконо-
мии, то есть осуществления обязательства,
связанного с домашним управлением (вполне возможно, что,
опираясь именно на этот отрывок, гностики
определяют Христа как «человека ойкономии»).
Аналогичные выводы можно сделать и в
отношении з-й главы Послания к Ефесянам (з*9):
Мне, наименьшему из всех святых, дана
благодать сия — благовествовать язычникам неиссле-
димое богатство Христово и открыть всем, в чем
состоит ойкономия тайны, сокрывавшейся от
вечности в Боге...
«Ойкономия тайны», по всей очевидности ,
представляет собой усеченную версию выражения,
использованного в Послании к Колоссянам 1:25 («по
ойкономии Божией, вверенной мне, чтобы исполнить слово
Божие, тайну, сокрытую от веков...»): но и здесь нет
ничего, что дало бы повод предположить
замещение значения, вследствие которого «исполнение,
администрирование» вдруг обретает никоим образом
не засвидетельствованный смысл «плана спасения».
Использование термина oikonomos в Первом
послании к Коринфянам 4-1 вполне согласуется с его
употреблением в двух вышеупомянутых отрывках:
49
ЦАРСТВО И СЛАВА
Итак, каждый должен разуметь нас как
служителей [hypêretas] Христовых и
домостроителей [oikonomous] тайн Божиих. От
домостроителей [oikonomoi] же требуется, чтобы каждый
оказался верным \pistos].
Характер отношения, связывающего в данном
случае ойкономию и тайну, очевиден: речь идет о том,
чтобы добросовестно исполнять поручение, которое
состоит в возвещении о тайне спасения, сокрытой
в Божьей воле и теперь достигшей своего свершения.
2-3- Хотя текстуальный анализ не позволяет
приписывать ойкономии непосредственно теологическое
значение, анализ лексики, используемой Павлом,
наводит на другое важное умозаключение.
Павел не только толкует в проясненном нами
смысле об ойкономии Бога, но он говорит о самом себе
и о членах мессианского сообщества исключительно
в терминах из области домоводства: doulos («раб»),
hypêretës, diakonos («слуга»), oikonomos
(«управляющий»). Сам Христос (хотя его имя —синоним
первосвященника) всегда описывается словом,
обозначающим хозяина ойкоса (kyrios, лат. dominus), и никогда
не определяется непосредственно политическими
терминами апах или archön (способ его
наименования отнюдь не случаен: из трактата Иринея
«Против ересей» (I, I, l) мы узнаем, что гностики
отказывались называть Спасителя kyrios; с другой стороны,
они использовали политический термин
«архонты» для обозначения божественных ликов
плеромы19). Несмотря на редкие и лишь кажущиеся
таковыми исключения (см. Послание к Филиппийцам
19- Плерома —одно из центральных понятий в гностицизме,
обозначающее божественную полноту.
50
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
i:27 и 3:2°> Послание к Ефесянам 2:ig, где politeuo-
таг и sympolitês тем не менее используются в
самом что ни на есть неполитическом смысле),
лексика Павловой ekklêsia является «экономической»,
а не политической, а христиане таким образом
предстают в роли первых поистине «экономических»
людей. Выбор лексических средств тем более значим,
что в Апокалипсисе Христос, который является в
облачении первосвященника, нарекается термином,
носящим однозначно политическое значение: archôn
(1:5; princeps в Вульгате).
Явная «домашняя» окрашенность языка
христианского сообщества, безусловно, не является
изобретением Павла: она отражает процесс семантической
трансформации, который охватывает весь
современный ему политический лексикон. Уже начиная
с эпохи эллинизма—а затем более явно в период
империи — политический и экономический лексикон
вступают в отношения взаимной контаминации,
которая ведет к устареванию аристотелевской
оппозиции ойкоса и полиса. Так, неизвестный автор второй
книги псевдоаристотелевского трактата «Об
Экономике» рядом с экономикой в строгом смысле
слова (определяемой как idiôtikè, что значит «частная»)
полагает ойкономию basilikè и даже ойкоиомию politikè
(что в аристотелевской перспективе
представляется совершенной бессмыслицей). В
александрийском койне и в Стое контаминация парадигм
представляется очевидной. У Филона в одном отрывке,
содержание которого Арним, по всей видимости,
приписывал — возможно, без особых на то
оснований—Хрисиппу, oikia определяется как
«сокращенный и уменьшенный в масштабах полис [estalmenê
kai bracheia]») a экономика как «сжатая politeia [synèg-
menè]»; и наоборот, полис представлен как «большой
дом [oikosmegas]», a политика как «общественная эко-
51
ЦАРСТВО И СЛАВА
номика [koine tis oikonomia]» (Phil. los. 38; cfr. SVF, III,
8o = Chrysip. Fr. 323). (Современная метафора,
описывающая политическое сообщество как «дом» —«дом
Европы», —обязана своим происхождением именно
этому определению.)
Описывая ekklêsia в «домашних», а не в
политических терминах, Павел лишь действует в рамках
уже запущенного процесса; тем не менее, он
сообщает этому процессу дополнительное ускорение,
которое охватывает весь метафорологический спектр
христианской лексики. Об этом ярко
свидетельствует употребление ойкос в i Тим. з*15> гДе
сообщество определяется как «дом [а не град] Божий» (oikos
theou), а также использование терминов oikodomê и ог-
kodomeo (оба эти термина связаны с
домостроительством) в назидательном смысле построения
сообщества (Эф. 4-i6; Рим. 14:19; 1 Кор. 14:3; 2 Кор. 12:19). Тот
факт, что мессианское сообщество с самого начала
описывается в терминах ойкономищ а не политики,
сыграл свою роль в истории политики на Западе:
масштаб этой роли еще предстоит уяснить.
К Наги анализ употреблений термина ойкономия
ограничится главным образом текстами II и III веков, когда это
понятие утверждается в своей первоначальной форме.
Дальнейшие пути его развития в теологии каппадокийцев, а
затем и у византийских богословов будут отчасти
рассмотрены в главе 3.
2-4- В Послании к Ефесянам Игнатия Антиохий-
ского термин ойкономия использован три раза —
в контексте, обнаруживающем явное влияние
лексикона Павла.
Несмотря на то что в отрывке 6:1 этот термин
употреблен в отношении фигуры епископа, он все же
лишен каких-либо теологических коннотаций:
52
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
И чем более кто видит епископа молчащим, тем
более должен бояться его. Ибо всякого, кого
посылает домовладыка [oikodespotés] для
управления своим домом [eis idian oikonomiari\, нам
следует принимать так же, как самого пославшего.
В отрывке i8:2 термин ойкономия звучит в
следующем контексте:
Ибо Бог наш Иисус Христос, по устроению
Божьему20, зачат был Мариею из семени Давидова,
но от Духа Святого.
Здесь, как уже было отмечено Гассом, ойкономия еще
не означает «воплощения»; однако, по словам Гасса,
ничто не склоняет к тому, чтобы усматривать в ней
громоздкий смысл «выявляющего принципа,
который, согласно высшей воле, должен был свершиться
через рождение и смерть Христа» {Gass. P. 473~"474)-
Словосочетание oikonomia theou (как и у Павла, у
которого оно заимствовано: весь отрывок послания
Игнатия изобилует цитатами из Павла), скорее всего,
попросту означает «поручение, данное Богом»,
«деятельность, осуществляемую по воле Бога».
Примечательно то, что в следующем отрывке (i9:1) Игнатий
разграничивает ойкономию и mystêrion:
«достославные тайны» (kraugës, как и у Павла, Эф. ^З1) "~ Дев"
ственность Марии, ее деторождение и смерть
Господа, совершились и открылись векам согласно некоей
экономике; то есть, как и у Павла, здесь дело идет
об «экономике тайны», а вовсе не о «тайне
экономики», о которой впоследствии будут говорить
Ипполит и Тертуллиан.
Так же и в отрывке 20:i («...я в другом
послании, которое намерен написать вам, раскрою только
20. У А.: по ойкономии Божьей.
53
ЦАРСТВО И СЛАВА
что начатое мною домостроительство21 [oikonomiai]
Божие относительно нового человека, Иисуса
Христа, по вере в Него и по любви к Нему, чрез Его
страдание и воскресение») перевод «божественный план»
неточен: если термин oikonomiai не должен здесь
пониматься в риторическом смысле (который вполне
уместен, учитывая, что речь идет о процессе
создания текста), то есть как «упорядочение материала»,—
предположение об обобщающем значении термина
как «деятельности, направленной на достижение
определенной цели» в высшей степени допустимо.
2.5. Иустин, живший в Риме около второй
половины II века, использует термин oikonomia в
«Разговоре с Трифоном иудеем», в котором он пытается
доказать евреям, что «Иисус есть Христос Божий»
(то есть мессия). Приведем эти два отрывка (30-31)-
От одного его имени трепещут демоны, и теперь
заклинаемые именем Иисуса Христа, распятого
при Понтии Пилате, бывшем правителе Иудеи;
отсюда для всех очевидно, что Отец Его дал Ему
столь великую силу [dynamiri], что и бесы
покоряются имени и экономике страстей Его [têi tougeno-
тепоиpathousoikonomiai]. [Iustin. Dial. Vol. I. P. 132].
Если же столь велико могущество Его, которым
сопровождается экономика страстей Его, то
каково оно будет во время славного пришествия
Его? [Ibid.]
Выражение «экономика страстей» отсылает к идее
страдания, мыслимого как выполнение поручения
или воли Божьей, через которое его субъект
наделяется силой (dynamis). Тот же смысл обнаруживает-
21. У А.: начатую мною экономику.
54
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
ся и в двух других отрывках, в которых (как и в Ign.y
Eph. 18:2) термином ойкоиомия обозначен факт
рождения Христа в результате непорочного зачатия:
Христос [...] потом благоволил воплотиться
и родиться от Девы из рода Давидова для того,
чтобы чрез такое домостроительство [dia tés oiko-
nomias tautés] победить коварствовавшего из
начала змия и уподобившихся ему ангелов. [lustin.
Dial. Vol. I. P. 200.]
...те, от рода коих должен был родиться Христос
22
по устроению , которое свершилось чрез девство
Марии [kata tèn oikonomian tèn dia tes parthenou
Marias]. [Ibid. Vol. 2. P. 215.]
Именно в значении «поручения» термин
употреблен в отрывке 67, б: «[Христос] исполнил все эти
постановления не для того, чтобы Ему
оправдаться чрез них, но — чтобы исполнить
домостроительство23 по воле Отца Своего» (Ibid. Vol. 1. P. 323),
а также в отрывке 103,3: «---прежде, нежели Христос
исполнил домостроительство, принятое Им по воле
Отца» (Ibid. Vol. 2. P. 137)- Более близким по
значению к словоупотреблению у Павла в Послании
к Ефесянам является отрывок 134» 2:
Как я сказал выше, в каждом подобном действии
их совершались определенные домостроительства
великих таинств [oikonomiai tines megalôn mystëriôn en
hekastëi tini toiautéi praxei apetebunto]. В
бракосочетаниях Иакова свершалось некое
домостроительство [oikonomia] и предсказание. [Ibid. Vol. 2. P. 281]
Как следует из последующего отрывка
(«Бракосочетания Иакова были прообразами [typoï] того,
22. У А.: согласно экономике.
23. Здесь и ниже у А.: экономика.
55
ЦАРСТВО И СЛАВА
что имело совершиться чрез Христа», 134» 3)>
«домостроительство тайны» — функциональный элемент
«образного» учения Павла: это словосочетание
означает деятельность, через которую свершается тайна,
образно возвещенная в Ветхом Завете. В последнем
случае (107, з) отсутствует всякая прямая
теологическая импликация:
Когда Иона сокрушался о том, что на третий
день, как он проповедовал, город не был
разрушен, то по устроению [dia tés oikonomias] Божию
выросла для него клещевина [Ibid. Vol. 2. P. 157]-
К Текст Апологии Аристида Афинского, написанной, по всей
вероятности, между 124 и цо годом, дошел до нас в
сирийском и армянском переводах—а также в греческом
варианте в «Варлааме и Иоасафе» (XI век). Расхождения между
тремя версиями не позволяют с уверенностью утверждать,
что греческий перевод, который мы приводим ниже,
соответствует оригиналу:
Совершив свое чудесное домостроительство [tele-
sas tèn thaumastën autou oikonomian], он по
собственной воле принял смерть на кресте согласно
великому домостроительству [kaf oikonomian megalén].
[Harris. P. no.]
2.6. Феофил Антиохийский, бывший епископом
около 170 года, употребляет термин ойкономия
четыре раза: ни в одном из этих случаев он не обретает
непосредственно теологического значения. В
первом случае речь идет о поручении, данном
Господом императору:
[Император] не есть Бог, но человек, которому
Бог препоручил [hypo theou tetagmenos] не
упиваться поклонением, но судить согласно правде. В не-
5б
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
котором смысле ему было вверено Богом
определенное домостроительство [para theou oikonomian
pepisteuetai]. [Theophil. Autol. I, И. Р. 82.]
В двух других случаях термин, по всей
вероятности, употреблен в риторическом смысле
«упорядочения материала» (речь идет о повествовании в
Книге Бытия):
Никто из людей, хотя бы он имел тысячу уст
и тысячу языков, не мог бы изложить и
представить упорядоченную материю24 [tên exégêsin kai
ten oikonomian pasan exeipein] достойным образом
[Ibid. 2,12. P. 130];
История, в которой они [Каин и Авель]
задействованы, гораздо полнее, чем то, как ее
представляет экономика моего изложения [ten
oikonomian tés exêgêseôs]. [Ibid. 2, 29. P. 170.]
Употребление в значении упорядоченного
расположения встречается также во фрагменте 2,15 (Р. 138):
Расположение звезд представляет экономику
[oikonomian] и порядок [taxin] праведных,
благочестивых и соблюдающих закон и заповеди
Божий. Ибо самые блестящие звезды суть образы
пророков...
2-7- Тациан, бывший, вероятно, учеником Иусти-
на в Риме, а также, согласно Иринею,
основателем ригористической секты энкратитов, в одном
из фрагментов «Речи против эллинов», по
видимости, вкладывает теологический смысл в поня-
24. В русском переводе дается вариант «изобразить
домостроительство Его».
57
ЦАРСТВО И СЛАВА
тие ойкопомия в контексте разговора об отношении
между Словом [logos] и Отцом. Но внимательное
прочтение фрагмента выявляет, что речь идет о
переносе в область теологии технических терминов
риторического арсенала.
Отделившись [chôrésas]. Слово [/tfgro] не
напрасно становится перворожденным делом Отца.
Оно, как мы знаем, есть начало [archén] мира.
Родилось же оно чрез упорядоченное
разделение, а не чрез отсечение [gegonen de kata merismon,
ou kata apokopèn]. Ибо что отсечено [apotmêthen],
то отделяется от первоначала; а что
подразделяется [meristhen] и получает свое различение
исходя из ойкономии25 [oikonomias ten diairesin],
то не уменьшает того, от кого произошло. [Tat.
Ог.,5-Р.ю.]
Терминология заимствована из риторического
обихода стоиков: merismos — это «упорядоченное
расположение [katataxis] рода согласно местам» (Diog. 7,62,
in S VF, III, 215); diairesis, сопровождаемое taxis и exer-
gasia, представляет собой один из разделов
ойкономии (сама ойкопомия, как мы наблюдали у Квинтилиа-
на, также является техническим термином риторики
Гермагора). Организация божественного бытия
мыслится согласно той же модели, по которой
происходит упорядочение материала в речи.
Нижеприведенный фрагмент подтверждает это предположение:
Вот и я говорю, а вы слушаете. Но от передачи
слова я не лишаюсь слова, когда произношу его;
напротив, произнося звуки [proballomenos de tên
phônên, по всей вероятности, отголосок Иустина:
Iustin. Dial., 61], я хочу привести в порядок ту ма-
25. У A.: distinzione deWoikonomia.
58
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
терию, которая прежде была у вас без порядка.
[7ö*. Ог.,5. Р. и.]26
Тот же смысл обнаруживается и в главе 21:
Так же и Гектор, Ахиллес, Агамемнон и все
прочие эллины и варвары вместе с Еленою и
Парисом, принадлежа к той же природе, как вы
утверждаете, введены для складности [charin oiko-
nomias\ потому что никто из них не существовал.
[Ibid. P. 44]
Во всех остальных случаях его употребления
в «Речи» этот термин означает слаженное
устройство человеческого тела:
Строение [ху^Агш] тела представляет собой один
состав [mias estin oikonomias] [...]; одно дело
—глаза, иное — уши, иное — волосяной покров,
расположение внутренностей [entosthiôn oikonomià],
определенная конфигурация костей и нервов;
но при таком различии частей тела в общем
составе его находится величайшая гармония и
созвучие, обусловливающее согласное
функционирование частей \kat} oikonomian symphönias estin
harmonia]. [Ibid., 12. P. 24.]
Или материи:
Если кто врачуется веществом, имея веру в него,
тем более он уврачуется, если прибегнет к Богу.
[...] Почему тот, кто верует в благоустроение
вещества [hylés oikonomiai], не хочет веровать Богу?
[Ibid. i8. Р. зб.]
2б. Продолжение фрагмента: «И как Слово, в начале
рожденное, в свою очередь произвело наш мир, создавши Сам
Себе вещество, так и я, по подражанию Слову, будучи
возрожден и просвещен познанием истины, благоустрояю
смешение сродной материи».
59
ЦАРСТВО И СЛАВА
Хотя речь здесь еще не идет о непосредственно
теологическом употреблении, примечательно то,
что Тациан в целях пояснения отношений между
Отцом и его Словом прибегает к метафорическому
расширению значения термина, уже существующему
в области риторики. Подобно тому как
упорядоченное подразделение материала в речи на разные части
не препятствует ее единству и не ослабляет ее силы,
так и божественный Логос получает свое
«различение исходя из ойкономии». Таким образом, первое
членение божественного исхождения в триединстве
осуществляется посредством
экономико-риторической парадигмы.
К Первостепенность роли риторического употребления
термина ойкономия в создании парадигмы триединства
ускользнула от современных историков богословия. И все же
в отрывке Тациана аналогия с риторикой вызвана тем,
что предметом рассуждения является именно Логос,
Слово Божье. Употребление риторического термина diairesis
у Афинагора (см. ниже, 2.8) подтверждает справедливость
исправления, внесенного Шварцем (diaresis вместо hairesis
в рукописи) в приведенном отрывке Тациана.
К В Мученичестве св. Поликарпа термин ойкономия вновь
употреблен в значении внутреннего строения тела.
Истерзанная плоть мученика позволяет узреть «устройство тела
[tên tes sarkos oikonomian] вплоть до самых вен и
артерий» (Mart. Pol., 2, 2. P. 262). Здесь, как и в ранее
приведенном примере, расширение значения термина в область
физиологии в сущности не меняет его семантического ядра.
2.8. Использование риторической метафоры
в целях объяснения триединой божественной
природы встречается у Афинагора, современника
Марка Аврелия и Коммода, который в оттиске своего
«Прошения о христианах» называет себя «христи-
6о
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
анским философом». Он использует термин ойко-
помия в самом обыденном значении
«деятельности, направленной на достижение определенной
цели» в контексте разговора о воплощении («даже
если бог воплотится, следуя божественной ойконо-
мииу будет ли он от этого рабом своих вожделений?»
Athenag. Leg., 21, 4- Р- 44) 5 тем не менее, в другом
месте он использует еще один технический термин
риторического обихода—diairesuy который тесно связан
с ойкономией, — как раз для того, чтобы обосновать
слияние триединства в единстве:
Кто не смутится, услышав, что называют
безбожниками тех, кто исповедует Бога Отца и Бога
Сына и Духа Святого и признают их единство
в силе и различие в порядке [tên en tèi taxer diaire-
sin]? [Ibid., 10, 5. P. 102.]
За этими словами сразу следует фрагмент, в котором
Афинагор, с уникальной прозорливостью, о которой
впоследствии вспоминал Тертуллиан,
распространяет употребление термина «экономика» и на
ангельские ранги:
Этим не ограничивается наше богословское
учение: но мы признаем и множество [pléthos]
ангелов и служителей \leitourgöri\> которых Творец
и Зиждитель \poietès kai dêmiurgos] мира Бог
поставил и распределил управлять стихиями и
небесами и миром, и всем, что в нем, и
благоустройством их. [Ibid.]
2.9- Трактат Иринея «Adversus haereses»
(«Против ересей») представляет собой опровержение
гностических систем: в нем посредством детального
сопоставления с этими системами в полемическом
ключе излагается суть католической веры. Много-
6i
ЦАРСТВО И СЛАВА
кратное употребление в трудах Иринея термина
ойкономия — который если и не является
техническим термином в узком смысле слова, то во всяком
случае Lieblingswort (Richter. P. 116) его системы —
должно быть осмыслено именно в свете этой полемики.
Но это означает, что термин ойкономия приобретает
технический характер в языке и в рассуждениях
Святых Отцов в связи с его употреблением у гностиков,
поэтому по меньшей мере странно пытаться
определить его значение, пренебрегая (подобно Рихтеру)
изучением этих авторов.
Д'Алес, рассмотревший все случаи
употребления термина и его латинских эквивалентов disposi-
tio и dispensatio в «Adversus haereses», называет
тридцать три случая, в которых Ириней использует его
в целях изложения гностической доктрины: в ее
рамках ойкономия обозначает внутренний процесс
плеромы, и в частности «смешения божественных
эонов, из которого возникает личность
Спасителя» (D'Alès. P. 6). Именно в противовес этому
гностическому пониманию, по мысли Д'Алеса, Ириней
при использовании этого термина в рамках
исповедания католической веры «пресекает всякую
возможность отсылки к внутренней экономике Троицы,
считая опасным путь, который предпринял Тациан»
(Ibid. P. 8). Еще Маркус заметил, что такое
противопоставление не соответствует истине, так как в
приведенных гностических текстах ойкономия относится
не столько к внутреннему процессу плеромы,
сколько именно к смешению эонов, которое приводит
к конституированию исторического Христа (Маг-
kus 1. Р. 92). С тем же основанием можно было бы
добавить, что и в текстах, которые касаются
католической веры (особенно отрывок из книги 4 (33> 7)> ко"
торый Д'Алес приводит в качестве доказательства),
Ириней говорит не только об «экономиках» (показа-
62
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
тельно употребление множественного числа) Сына,
но и об экономиках Отца; одним словом,
скрупулезность, с которой современные теологи пытаются
любой ценой поддерживать разграничение между
экономикой воплощения и тринитарной экономикой,
не имеет смысла, так как термин оикономия означает
божественное действие и управление вообще.
Ставкой в игре при сопоставлении текстов Иринея
и тех, кого он называет «учениками Птолемея
школы Валентина», является не столько перенос
значения понятия экономики с внутреннего процесса
плеромы на воплощение Сына или его смещение с над-
временного плана в план истории спасения (Bengsch.
Р. 175)) сколько, в более широком смысле, попытка
вырвать его из гностического контекста, чтобы сделать
из него основной стратегический диспозитив в
зарождающейся тринитарной парадигме. И лишь
внимательное изучение полемики с гностиками позволяет
понять истинное значение термина у Иринея.
Впервые этот термин появляется в форме
прилагательного oikonomikoS) относящегося к Христу, в
конце пространного изложения гностических доктрин
о плероме и о Спасителе, открывающего трактат
(Ir. Наег., I, 7» 2). Согласно схеме, которая, помимо
прочего, обнаруживается и в «Excerpta» Климента,
существо Спасителя сложено из духовного элемента,
исходящего из Ахамот27, из психического элемента
и из «экономического элемента неизреченного ис-
кусства» : притом страстям подвергается не духов-
27. В гностической системе один из эонов-ангелов, деятельность
которого, наряду с эоном Демиургом, определяет
функционирование мира.
28. В существующем переводе говорится о телесном элементе,
«сделанном по домостроительству неизреченным
искусством» (ИринейЛионский. Против ересей. I, 7, H).
63
ЦАРСТВО И СЛАВА
ный Христос, а его психическая и «экономическая»
ипостась. За этим рассуждением следует
опровержение, в ходе которого Ириней вновь использует
термин «экономика», но на этот раз в рамках того
вероучения, которое Церковь унаследовала от апостолов:
Единый всемогущий Бог Отец, создатель неба,
земли, моря и всего, что есть в них сущего;
единый Иисус Христос, сын Божий, вочеловеченный
во имя нашего спасения; Святой Дух, который
посредством пророков предсказал
«экономики», пришествие, безгрешное рождение, страсть
и воскрешение из мертвых... [Ir. Наег. I, ю, I.]
Несколькими строками ниже уточняется
полемический контрапункт: разнообразие способов,
которыми излагаются принципы этой веры, не
подразумевает того,
...чтобы измышляли иного Бога, кроме
создателя этого мира, как будто не довольствуясь им,
или иного Христа, или иного Единородного, но то,
каким образом [...] раскрывают ход дел и
домостроительство29 Божие [tèn te pragmateian kai огкопо-
mian tau Theou... ekdiêgeisthai] [Ibid. I, ю, 3 (gr. I, 4, i)].
Ставка в игре очевидна: речь идет об утверждении
почерпнутой гностиками у Павла идеи
божественной «экономики», предусматривающей воплощение
Христа, но при этом позволяющей избежать
гностического преумножения божественных фигур.
Аналогичное беспокойство проявляется и в
апологии плоти и воскресения, направленной против тех,
кто «пренебрегает всей экономикой Божьей и
отрицает спасение плоти» (Ibid., 5, 2, 2). Отрицая плоть,
29- У А.: экономика.
б4
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
гностики, согласно многозначительному
утверждению Иринея, «переворачивают всю экономику
Господа [tênpasan oikonomian... anatrepontes]» (Ibid., 5,13, 2
[gr. fr. 13]). Доведение до крайности дуализма
(истоки которого также восходят к Павлу) между духом
и плотью у гностиков подрывает смысл
божественного действия, которое не допускает подобной
антитезы. А в опровержение гностического умножения
божественных эонов, основанного на числе 30, «символе
высшей экономики» (Ibid., 1,16,1 [gr. 1,9, 2]), Ириней
пишет, что таким образом они «изничтожают [diasy-
rontes] экономики Господа посредством чисел и букв»
(Ibid., 1,16, 3 [gr. I, 9? З])- Точно так же гностическое
размножение евангелий «низвергает экономику
Божью» (Ibid., з» H, 9)- Таким образом, опять же,
Ириней видит свою задачу в том, чтобы освободить
экономику от конституирующей ее связи с гностическим
преумножением ипостасей и божественных фигур.
В этом же смысле следует рассматривать и
перевертывание Павлова выражения «экономика
плеромы» {pikonomia tou plerömatos^ Eph., 1,10) в
противоположное ему «осуществлять, свершать
экономику» {ten oikonomian anaplêroun). По мысли Маркуса
{Markus 2. Р. 213), который первым обратил
внимание на это перевертывание (к примеру, в Наег., з, 17» 4
и в 4,33» 10)> Ириней таким образом видоизменяет то,
что гностики определяли как всеобщий
естественный процесс исторического распределения (весьма
неожиданное заключение со стороны ученого,
который в предшествующем рассуждении возразил
Д'Алесу, указав на то, что эндоплероматический
процесс неотделим для гностиков от фигуры
исторического Христа). Он будто бы забывает, что, даже если
гностики каким-то образом присвоили себе это
выражение, оно, как мы убедились, изначально
принадлежит Павлу. Прочтение первого отрывка не оставляет
65
ЦАРСТВО И СЛАВА
никаких сомнений в том, что Ириней действительно
пытается высвободить неясную Павлову
формулировку из тисков гностических толкований, которые
делают из «экономики плеромы» принцип
бесконечного исхождения в ипостаси, чтобы твердо
провозгласить в конце, что экономика, о которой говорит
Павел, была раз и навсегда свершена Христом:
Слово Отца сошло в полноте времен,
воплотившись во имя любви к человеку, и вся экономика,
с человеком связанная, была свершена Иисусом
Христом, Господом нашим, который един и
неизменен, как исповедуют апостолы и возвещают
пророки. [Ibid., 3,17. 4 (gr. 3> 24> 6).]
По поводу понятия «обращения» (epistrophê) было
замечено, что Ириней умышленно вырывает его
из психомифологического контекста, связанного
со страстями Софии и Ахамот, чтобы посредством
формулы «обратиться к Церкви Божьей» (epistrephein
ein ten ekklêsian tou Theou) сделать его центральным
в католической ортодоксии {Aubin. P. 104-110).
Точно так же предметом полемики с гностиками не
является историчность фигуры спасителя (гностики
первыми установили параллель между вселенской
онтологической драмой и историческим
процессом) или противопоставление узкой экономики
воплощения и «экономики троицы», которые едва ли
могли быть разъединены, учитывая богословский
контекст эпохи. Жест Иринея скорее состоит в
намеренном прорабатывании тем, общих для
еретиков и для «католиков»: он движим стремлением
вернуть их в лоно того, что по его мысли
является ортодоксией апостольской традиции, и
пересмотреть их в рамках чистого вероисповедания. Однако,
поскольку подобный пересмотр невозможен в
отрыве от сложившейся рецепции, это означает, что —
66
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
по крайней мере в случае с ойкономией (это понятие,
возможно, впервые было стратегически
разработано именно гностиками) — общая тема стала своего
рода коридором, по которому элементы
гностицизма проникли в ортодоксальную доктрину.
К Изложение гностических доктрин об «экономике»,
которое содержится в корпусе «Изречений из Феодота»
(«Exerpta ex Theodoto»), приписываемых Клименту
Александрийскому, в основном согласуется со сведениями,
предоставленными Иринеем. В отрывке $}, з говорится о
Премудрости, называемой также Матерью, которая после
Христа произвела на свет «Архонта экономики», образ
(typos) Отца, покинувшего ее и нижестоящего по
отношению к нему (Clem. Ехс. Р. 133). В отрывке$8, i Христос,
который назван «великим Борцом» (ho megas Agônistês),
сходит на землю и вбирает в себя как «пневматический»
элемент, происходящий от матери, так и «психический»
элемент, происходящий из экономики (to de ek tés oikono-
mias to psychikon; Ibid. P.i/f)- Экономика, по видимости,
означает здесь спасительное действие, которое имеет
образного предшественника в фигуре «архонта», а свое
осуществление обретает в Христе.
Тот факт, что термин ойкономия принадлежит врав-
ной степени гностическому и католическому словарям,
подтверждается спорами ученых по поводу того, какие отрывки
«Изречений» отражают мнение самого Климента, а
какие—точку зрения Феодота. Особенно ощутимое сомнение
касается трех отрывков, содержащих термин ойкономия
(j, 4> 2> 4> %7>6)> которые редактор относит на счет
Климента, но которые вполне могли бы быть приписаны Феодоту.
К С лексической точки зрения примечательно то, что Ири-
ней несколько раз использует термин прагматейа в
качестве синонима ойкономии. Это подтверждает, что
ойкономия сохраняет за собой свое общее значение «практики,
деятельности управления и исполнения».
67
ЦАРСТВО И СЛАВА
2.Ю. Согласно устоявшемуся мнению, именно
в трудах Ипполита и Тертуллиана термин ойконо-
мия перестает иметь характер лишь
аналогического расширения значения, связанного с управлением
домом, до религиозной сферы, и начинает
использоваться в техническом значении тринитарного
членения божественной жизни. Однако и в этом
случае авторская стратегия не подразумевает четкого
определения нового значения. Скорее, намерение
превратить ойкономию в terminus tecnicus косвенным
образом выдает себя через два недвусмысленных
диспозитива: металингвистический способ
отсылки к термину, равнозначный заключению в кавычки
(так, у Тертуллиана мы встречаем «это
распределение, которое мы называем ойкономией», где
греческий термин не переведен, а транслитерирован
латиницей), и перевертывание используемого Павлом
выражения «экономика тайны» в «тайну
экономики», которое без уточнения значения термина
наделяет его новым содержанием.
В отличие от употребления термина у Иринея,
подобная его технизация связана с контекстом
первых споров о круге проблем, которые позже лягут
в основу тринитарного догмата. И Ипполит, и Тер-
туллиан должны отстоять свои тезисы перед лицом
противников-монархиан (Ноэт, Праксей): как о том
свидетельствует их наименование, они
придерживаются строгого монотеизма и видят в разграничении
между Господом и Словом риск возвращения к
политеизму. Концепт ойкономии является
стратегическим приемом, который еще до разработки
соответствующего философского вокабуляра, свершившейся
лишь в IV-V веках, позволил временно примирить
тринитарную проблему с идеей божественного
единства. Таким образом, тринитарная проблема
впервые формулируется в «экономических», а не в ме-
68
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
тафизико-теологических терминах. Именно по этой
причине в тот момент, когда Никео-Константино-
польская догматика примет свою окончательную
форму, ойкономия постепенно исчезнет из тринитар-
ного лексикона, сохранившись лишь в лексиконе
истории спасения.
Трактат «Против Ноэта» («Contra Noetum»)
Ипполита был назван, «вероятно, самым значительным
документом тринитарной теологии во II веке» (Scar-
pat. Р. XII). В противоположность позиции Прести-
джа (Prestige, passim.), согласно которой у Ипполита,
как, впрочем, и у Тертуллиана, ойкономия означает
внутреннее устройство божества, а не Воплощение,
Нотен, которому мы обязаны научным изданием
текста, по всей видимости, исключает тринитарно-тео-
логический подтекст в техническом смысле и сужает
значение термина до «божественного плана, в силу
которого у Бога есть сын: этот сын есть его
воплощенное Слово» (Nautin. P. 140). В том же смысле —
хотя такое значение утвердилось лишь веком
позже—Маркус пишет, что для Ипполита
«экономика, по всей видимости, равнозначна воплощению»
(Markus 1. Р. 98). Тем более удивительно, что ученый
тут же добавляет, что Ипполит, говоря об Иисусе
как о «тайне экономики», «верно следует
христианской традиции», — не замечая, что тем самым он
буквально переворачивает использованное Павлом
каноническое выражение «экономика тайны» (Ibid. P. 99)-
Со своей стороны, Муант, который при этом первый
заметил, что «Ипполит просто-напросто
перевернул выражение, использованное Павлом в Эф. $:§»
(Moingt. P. 9°5)> настолько увлечен обоснованием
своего тезиса, согласно которому употребление термина
ойкономия применительно к исхождению лиц в
божестве есть изобретение Тертуллиана, что в очевидном
противоречии с самим собой он пишет, что Ипполит
69
ЦАРСТВО И СЛАВА
употребляет этот термин «в значении, закрепленном
Павлом и предшествующей традицией» (Ibid. P. 907;
то есть именно в том смысле, формулировка
которого была им радикально перевернута).
Суть полемики в данном случае искажена
предположением, что существуют два значения
термина ойкономия, совершенно различных и
несовместимых между собой: первое заключается в воплощении
и проявлении Бога во времени; второе связано с ис-
хождением лиц внутри божества. Мы уже показали
(правомерность этого заключения подтверждается
исследованием Рихтера), что речь идет о
перенесении последующего теоретического осмысления
на семантику термина, который во II веке
означал лишь «божественную деятельность
руководства и управления». Два мнимых значения есть
не что иное, как два аспекта единой деятельности
«экономического» управления, характеризующей
божественную жизнь и распространяющейся от
небес к своему земному проявлению.
Обратимся к тексту Ипполита. С самого начала
«экономическая» парадигма выполняет здесь
конкретную стратегическую функцию. В стремлении
сохранить божественное единство Ноэт
утверждает, что сын есть не кто иной, как Отец, отрицая
таким образом реальность Христа, провозглашенную
в писаниях.
Неужели лишь потому, что Ноэт не разумеет,
необходимо отступиться от писаний? Кто говорит,
что Бог не един? Однако нельзя отрицать
экономику [all'ou tën oikonomian anairêsei]. [PG, 10, 807.]
Термин ойкономия не наделен здесь особым
значением и может быть переведен как «практика,
божественная деятельность, направленная на опреде-
70
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
ленную цель». Но абсолютизация термина (которая
обычно происходила в таких синтагматических
группах, как «экономика Бога», «экономика тайны»,
«экономика спасения» и проч.) в контексте мнимой
оппозиции единство-троичность безусловно
придает ему особый смысл. Той же стратегии отвечает
различение в Боге единой силы (dynamis) и
тройственной ойкономии:
Таким образом, необходимо, чтобы он
вопреки своей воле признал всемогущего Бога Отца
и Иисуса Христа сына Божьего — Бога вочелове-
ченного, которому Отец вверил все, кроме
Самого Себя, и Святого Духа, а также тот факт, что их
действительно трое. Если он хочет знать, как
доказать, что Бог един, пусть признает, что от него
исходит одна сила [dynamis], В том, что
касается силы, Бог един; в том, что касается ойкономии,
проявление Его тройственно. [Ibid., 815.]
Это различение очень важно, поскольку оно, по всей
вероятности, не только стоит у истоков
противоположения status и gradus y Тертуллиана (Adv. Ргах., ig, 8),
но и предвосхитило разграничение, вошедшее в
обиход через писания Евсевия, между теологией и
экономикой. Что речь идет не о чистой оппозиции,
но о различении, позволяющем примирить
единство с троичностью, становится понятным, если
учесть, что эта терминология является всецело
стоической. В знаменитом отрывке Хрисипп выделяет
в душе единство dynamis и множественность
способов быть (или, скорее, способов «иметь» —
«обычаев», pösechon):
Потенция души едина, так что она — согласно
своей манере быть или вести себя \pös echousari] —
то мыслит, то гневается, то испытывает желание
[Chrysip., fr. 823, SVF, II, 823; cfr. Pohlenz. Vol. I. P. 179].
71
ЦАРСТВО И СЛАВА
Ойкономия соответствует стоической доктрине о
способах быть, в этом смысле она является прагматикой.
Однако же центральный стратегический диспо-
зитив, посредством которого Ипполит закрепляет
за ойкономией новой смысл, —это перевертывание
используемой Павлом синтагмы «экономика тайны»
в «тайну экономики». Это перевертывание
совершается в двух местах, в каждом из которых говорится
об отношении между Отцом и его Словом:
В ком Бог, если не во Иисусе Христе, Слове Отца
и тайне экономики [toi mystériôi tés oikonomias]?
[Pg, 10, 808.]
Слова «в тебе Бог» выражают тайну экономики —
а именно, что Слово воплотилось и вочеловечи-
лось, что Отец пребывал в Сыне, а Сын пребывал
в Отце и что сын разделил с людьми град
человеческий. Вот что необходимо понять, братья мои:
что воистину это Слово было тайной
экономики от Святого Духа и Девы Марии —тайной,
которую Сын привел к свершению [apergasamenos]
во имя Отца [Ibid. 810].
Если у Павла экономика означала деятельность,
призванную раскрыть или исполнить тайну воли
или слова Божьего (Кол. 1:24-25; Эф. 3-9)> то теперь
сама эта деятельность, воплощенная в фигуре
Сына-Слова, становится тайной. Здесь также основное
значение ойкономии, как явствует из последнего
предложения второго отрывка (сын исполняет, приводит
к свершению экономику отца), остается
неизменным; но значение «плана, сокрытого в Боге»,
который был возможной, хотя и неточной парафразой
термина mystêrion, тяготеет здесь к тому, чтобы
сместиться в сторону самого термина огкопотга^
придав ему новую глубину. Здесь больше нет экономики
тайны, то есть деятельности, направленной на испол-
72
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
нение и откровение божественной тайны; но
таинственна сама «pragmateia», божественный праксис сам по себе.
Таким образом, упомянутая в последнем
отрывке ойкономия, буквально воспроизводя стилему Та-
циана, стремится отождествиться с гармоничным
слиянием тройного божественного действия в
единую «симфонию»:
Эту экономику нам передал преподобный Иоанн,
освидетельствовав ее в своем евангелие; он
утверждает, что это слово есть Бог, в следующих
выражениях: «В начале было Слово, и Слово было
у Бога». Если Слово было у Бога, и Слово было Бог,
что же из этого? Неужели Иоанн утверждает
существование двух богов? Я не говорю, что богов двое:
я говорю, что бог один, но лиц двое, а третий —
святой дух. Отец распоряжается, Слово
исполняет и проявляется в сыне, с помощью которого отец
получает веру. Экономика гармонии [oikonomiai
symphönias] приводит к единому Богу. [PG, ю, 822]
Вследствие дальнейшего развития изначально
риторического значения термина как
«упорядоченного расположения» экономика теперь
представляет собой деятельность — и как таковая она в самом
деле таинственна, —которая разветвляет
божественное бытие на три ипостаси и в то же время сохраняет
и «гармонично преобразует» его в некое единство.
К Значение, которое имело в создании экономико-трини-
тарной парадигмы перевертывание Павлова выражения
«экономика тайны» в «тайну экономики»,
подтверждается упорством, с которым последнее навязывает себя в
качестве канонического толкования текста Павла. Так, уже
у Феодорита Карского {первая половина V века) мы
встречаем утверждение, будто Павел в своем Послании к Римлянам
раскрыл «тайну экономики и обосновал причину
воплощения» (Theodoret. Paul. Ер. Rom., 5, II, PG, 82, gf).
1Ъ
ЦАРСТВО И СЛАВА
2.11. Именно в писаниях Тертуллиана принято
видеть поворотный момент, когда ойкономия
начинает однозначно толковаться как исхождение лиц
в божестве; однако от Тертуллиана — манеру
которого Жильсон назвал «антифилософской» и даже
«упрощенческой» — не приходится ждать ни
строгости аргументации, ни терминологической точности.
Ойкономия—как и ее латинские эквиваленты dispen-
satio и dispositio — скорее диспозитив, посредством
которого в своей полемике с «беспокойным» и «крайне
развращенным» Праксеем он пытается
противостоять невозможности философской аргументации в
обосновании тринитарного учения. Так, он начинает
с того, что инструментализирует термин и в то же
время наделяет его некоей таинственностью,
оставляя в тексте его греческий вариант:
Мы же всегда, а теперь особенно [...] верим
в Единого Бога, при сохранении того
распределения, которое мы называем ойкономией [sub Нас
tarnen dispensatione quam «oikonomian» dicimus]: в
соответствии с ним у Единого Бога есть Сын, Его
Слово, которое произошло от него... [Tert. Adv.
Prax., 2, l. P. 17].
В последующем рассуждении придание термину
технического характера направлено на нейтрализацию
«монархической» аргументации противника:
Латиняне непрестанно повторяют слово
«монархия», но ойкономию не хотят понять даже сами
греки [«oikonomian» intellegere nolunt etiam Graeci].
[Ibid.,3, 2. P. 21.]
Но ключевым жестом, как и в случае Ипполита,
является инверсия использованного Павлом выражения
«тайна экономики» в oikonomiassacramentum: в резуль-
74
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
тате этой инверсии «экономика» наделяется всем
тем семантическим богатством и двойственностью,
которые могут быть присущи термину,
одновременно означающему клятву, священнодействие и тайну:
Как будто невозможно, чтобы Бог, будучи
единым, был во всем, ибо все происходит от
Одного через единство сущности, и чтобы при этом
сохранялось таинство домостроительства ,
которое располагает Единицу в Троицу [oikono-
mias sacramentum quae unitatem in trinitatem dispo-
nit], производя триаду из Отца, Сына и Святого
Духа — и трех не по положению [rfafu], но по
степени [gradu], не по сущности [substantia],
но по форме [forma], не по могуществу [potestate],
но по виду [specie]... [Ibid., 2, 4- Р- *9-]
Колпинг показал, что Тертуллиан не выдумал
новое, «христианское» значение слова sacramentum:
судя по всему, он обнаружил этот термин в
латинских переводах Нового Завета, которые были
распространены в его время (в особенности Послания
к Ефесянам; Kolping. P. 97)- Тем более значимыми
представляются преобразование Павлова
выражения в загадочную формулу огкопотгае
sacramentum и сопутствующая ему попытка прояснить эту
формулу через серию оппозиций
«положение/степень», «сущность/форма», «могущество/вид»
(точно так же Ипполит прибегал к оппозиции dynamis/
oikonomia). Антифилософ Тертуллиан не без
опаски заимствует терминологию из философского
лексикона своего времени: учение о единой природе,
которая членится и разветвляется на разные
уровни, есть учение стоическое (см. Pohlenz 1. Р. 457)>
как стоической является идея различения, которое
ЗО. У А.: таинство экономики.
75
ЦАРСТВО И СЛАВА
не разделяет на «части», но различает силы и
энергии (Тертуллиан открыто обращается к ней в
трактате «De anima»; ср. Pohlenz, I. P. 458).
Разница между сущностным разделением и
экономическим различением вновь оговаривается в ig, 8
(Р-99):
Отец и Сын —это два Лица; но их двое не
вследствие разделения сущности, а благодаря
экономическому расположению [non ex separatione subs-
tantiae sed ex dispositionell когда мы провозглашаем
Сына неразделенным и неотделимым от Отца —
не по положению, но по степени [пес statu sedgra-
dualium].
Здесь «сущность» (substantia) следует понимать
в том смысле, в котором употребляет этот термин
Марк Аврелий (i2, 30, 1): есть единая общая усия,
которая уникальным образом разветвляется на
бесчисленные индивидуальности, каждая из которых
обладает своими особыми качественными
характеристиками. Так или иначе, наиболее значимо то,
что у Тертуллиана экономика толкуется не как
сущностная разнородность, но как членение единой
реальности, будь то в
руководственно-управленческом аспекте или же в риторико-прагматическом
плане. Таким образом, разнородность относится
не к бытию или к онтологии, а к действию и прак-
сису. Согласно парадигме, которая ключевым
образом повлияла на все христианское богословие,
Троица представляет собой разделенность не бытия Бога,
а Его действия.
2.12. Стратегический смысл ойкоиомической
парадигмы проясняется в пространном отрывке главы з>
где экономике возвращается ее исконное значение
«управление домом». Политико-правовое опреде-
7б
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
ление понятия «администрирование» всегда было
проблематичным для историков права и
политической мысли, обнаруживших его истоки в
каноническом праве XII-XIV веков, когда термин administratio
приближается к iurisdictio в терминологии
канонистов (Napoli. P. 145-Цб). Отрывок Тертуллиана
представляет интерес в этом отношении, поскольку
он содержит своего рода теологическую парадигму
управления, которая обретает свой идеальный ех-
emplum в ангельских иерархиях:
Эти простецы, чтобы не сказать невежды и
глупцы, которые всегда составляют большую часть
верующих, исходя из того, что само правило веры
[ipsa régulaßdei] привело нас от множества
мировых богов к Единому и Истинному Богу, не
понимают того, что следует верить в Единого Бога —
но вместе с Его домостроительством, и боятся
этого домостроительства, ибо полагают, что оно
означает множество, а расположение [dispositio]
Троицы считают разделением Единства, тогда
как на самом деле Единство, производя из
Самого Себя Троицу, не разрушается ею, но
сохраняется31 [поп destruatur ab ilia sed administretur]. [Tert.
Adv. Prax., 3,1. P. 19-21.]
Так вот, соединение экономики и монархии в
фигуре управления оказывается главной ставкой в
проводимой Тертуллианом аргументации:
Латиняне непрестанно повторяют слово
«монархия», но ойкономию не хотят понять даже
сами греки. Я же, имея кое-какое представление
об обоих языках, знаю, что монархия означает
31- Вариант перевода Агамбена буквально соответствует
латинскому оригиналу: è amministrato — управляется,
регулируется, ведается.
77
ЦАРСТВО И СЛАВА
не что иное, как единственную и единую власть
[singulareet unicum imperium]. Но таковая монархия,
как принадлежащая кому-то одному, не
препятствует тому, кому она принадлежит, иметь сына
или самого себя себе сделать сыном, или вершить
свою монархическую власть через тех, кого он
хочет. И я скажу, что нет такого господства,
которое до такой степени принадлежало бы одному
и было бы до такой степени единственно
—словом, было бы такой монархией, что не могло бы
управляться также и через других, ближайших
к монарху лиц, которых он сам избрал своими
функционерами [officiates]. И если бы у того, кому
принадлежит монархия, был сын, то от этого она
не разделилась бы и не перестала быть
монархией лишь на том основании, что ее участником
сделался также сын. В самом деле, она все
равно по преимуществу принадлежит тому, от кого
сообщается сыну. И поскольку она
принадлежит ему, постольку и является монархией,
которая содержится двумя связанными друг с
другом лицами. Следовательно, и Божественная
Монархия, даже если она управляется
посредством Ангельских легионов и воинств, — как
написано: Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним (Дан. 7:10), —не
перестает принадлежать Одному и не перестает быть
Монархией, хотя и управляется через столь
великое множество Сил. Как же так может
статься, что Бог в Сыне и в Святом Духе, получивших
второе и третье место как соучастники сущности
Отца, претерпевает разделение и рассеяние,
которых Он не испытывает в столь великом числе
Ангелов, настолько чуждых сущности Отца?
Неужели ты полагаешь, что те, кто суть члены,
залоги, органы, сама сила и все богатство монархии,
искажают ее [membra et pignora et instrumenta et ip-
sam vim ас totum censum monarchiae eversionem députas
eius]? [Ibid., 3, 2-5. P. 21-23.]
78
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
Остановимся подробнее на этом удивительном
фрагменте. Прежде всего, ангелология привлечена здесь
в качестве теологической парадигмы управления:
тем самым почти кафкианским жестом здесь
устанавливается соответствие между ангелами и
функционерами. Тертуллиан заимствовал этот образ
у Афинагора (по своему обыкновению, не указывая
источника); но если у афинского апологета и
философа на первый план выдвигались порядок и
экономика вселенной, то Тертуллиан использует эту
фигуру для того, чтобы показать необходимость
соединения монархии и экономики. Не менее важным
представляется то, что, утверждая единосущность
монархии и экономики, он, не уточняя источника,
использует аристотелевский мотив. В начале
трактата об экономике, приписываемого Аристотелю,
действительно утверждается тождество между
экономикой и монархией: «Политика есть полиархия,
экономика — монархия» [hê oikonomikê de monarchia]
{Aristot. Oec. I, 1343a). Антифилософ Тертуллиан
совершает характерный для него жест, заимствуя у
философской традиции установленную ею связь между
экономикой и монархией: он переворачивает эту
связь, развивая ее до идеи божественной монархий,
которая включает в себя как составляющую ее часть
экономику — аппарат управления, посредством
которого формулируется и в то же время
раскрывается ее тайна.
Аристотелевское отождествление монархии
и экономики, широко проникшее также и в Стою,
является, безусловно, одним из более или менее
осознанных мотивов, побудивших Святых Отцов
разработать тринитарную парадигму в
экономических, а не политических терминах. Это
позволяет Тертуллиану говорить о том, что экономика
ни в коем случае не может повлечь за собой ever-
79
ЦАРСТВО И СЛАВА
• 42
sîo : прежде всего потому, что, согласно
аристотелевской парадигме, oikos так или иначе по своей
сути остается «монархической» структурой.
Однако определяющим является то, что тринитар-
ное членение понимается здесь как функция
деятельности домашнего управления, через которую
оно всецело осуществляется, не приводя к расколу
на уровне бытия. В данном отношении Святой Дух
может быть определен как «проповедник единой
монархии» и в то же время как «толкователь
экономики», то есть «выразитель всякой истины [...]
согласно христианской тайне [oekonomiae interpre-
tatorem... et deductorem omnis veritatis... secundum Chris-
Напит sacramentum]» (Tert. Adv. Prax., 30, 5. P. 157).
Опять же, «тайна экономики», толкуемая теми, кто
ее олицетворяет и является ее исполнителем, имеет
практическую, а не онтологическую природу.
К Если до сих пор мы в основном делали упор на христологи-
ческом аспекте экономики, то это связано с тем, что
проблема третьего Лица Троицы и его отношений с другими
двумя Лицами обрела полноправное звучание лишь в IV веке.
Показателен в этом плане тот факт, что Григорий На-
зианзин, посвятив 2д-ю и 30-ю речи33 проблеме Сына, счел
32. Зд.: Разорение, разрушение (греч.). У Аристотеля речь идет
о том, что «монархический» режим управления
домашним хозяйством должен препятствовать подобной
возможности. Понятно, что в случае превращения ойко-
номии в парадигму политики —а этому, собственно,
посвящена книга Агамбена — данный термин приобретает
значение политического переворота, возможность
которого также должна быть исключена (это
предвосхищает концепцию «чрезвычайного положения», о которой
Агамбен упоминает в конце данной главы).
33- Речь идет о собрании 45 бесед, или Слов, представляющих
образцы различных видов проповеди. Важнейшее
место в наследии Григория занимают Слова о Богосло-
8о
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
необходимым добавить еще одну речь, рассматривающую
эту божественную фигуру, которая почти не
упоминается (agraphon) в Писаниях и разговор о которой
«затруднительно вести» (dyscheres) {Greg. Naz. Or. XXXI, 1-2. P. 746).
Ключевой с точки зрения тринитарной экономики
является проблема, на которой мы здесь не можем
задерживаться, — проблема «исхождения» (ekporeusis) третьего Лица
от других двух34.
2.13. Не раз отмечалось, что категории времени
и истории обретают в христианстве специфическое
и вместе с тем определяющее значение.
Христианство считается «исторической религией» не только
потому, что оно основывается на существовании
исторической личности (Христа) и на событиях,
претендующих на историчность (страсти и воскресение
Христово), но и потому, что оно наделило время со-
териологическим значением и смыслом. И именно
в этой связи — то есть потому, что оно толкует самое
себя в качестве исторической перспективы, —
христианство с самых своих истоков несет в себе
«философию» или даже «теологию истории» (Puech. P. 35)•
При этом важно отметить, что христианское
представление об истории возникает и развивается
под знаком экономической парадигмы и
становится неотделимым от нее. Поэтому осмысление
христианской теологии истории не может ограничить-
вии (27-31)» посвященные догмату Троичности: именно
они принесли Григорию славу богослова.
34- В рамках западного учения Святой Дух, действительно,
исходит ab utroquey то есть одновременно от двух Лиц —
от Отца и Сына. Согласно же догматам восточного
богословия, Святой Дух исходит только от Отца. Именно
Filioque (исхождение Святого Духа «и от Сына»)
послужил основной догматической причиной разделения
Востока и Запада.
8i
ЦАРСТВО И СЛАВА
ся, как это обыкновенно бывает, общим
упоминанием идеи оикономии как синонима провиденциального
развития истории согласно эсхатологическому
замыслу; оно скорее должно основываться на
рассмотрении конкретных способов, посредством которых
«тайна экономики» в буквальном смысле
сформировала и всецело предопределила исторический опыт,
в поле которого мы еще по большей части пребываем.
Особенно отчетливо эта фундаментальная связь
между ойкономией и историей прослеживается
у Оригена — автора, который в своих трудах
широко разрабатывает термин ойкономия. Когда история
в современном смысле слова — то есть
понимаемая как процесс, наделенный определенным, хоть
и скрытым смыслом, — впервые являет себя, это
как раз происходит в форме «таинственной
экономики», которая как таковая требует истолкования
и осмысления. В сочинении «De principiis»35 по
поводу таких загадочных эпизодов еврейской истории,
как кровосмесительная связь между Лотом и его
дочерьми или двоеженство Иакова, Ориген пишет:
Все, даже самые простые из последователей
Слова, веруют, что божественное Писание
указывает какие-то таинственные распоряжения36
[oikonomiai tines... mystikai]; но что это за
распоряжения, благоразумные и скромные люди
сознаются, что не знают этого. Так, если кто-нибудь
выразит недоумение касательно кровосмешения
Лота с дочерьми, или двух сестер, вышедших
замуж за Иакова, и двух рабынь, родивших от него
детей, то они скажут, что это —тайны, которых
мы не можем ведать [Orig. Princ. 4? 2, 2. Р.3°3]-
35- «О началах» (лат.).
Зб. У А.: таинственные экономики.
82
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
Христианское представление об истории есть
результат стратегического объединения этой
доктрины о «таинственных экономиках» (в другом месте
Ориген говорит о «скрытом и апокрифическом
характере экономики [tes de oikonomias autou to lelèthos каг
apokryphon]») и практики толкования Писания.
Ориген также пишет в своем сочинении:
«Через истории [dia historias] [...] о битвах, о
побежденных и победителях некоторые тайны
раскрываются тем, кто умеет их лицезреть» (Orig. Princ. 4> 2> 8.
Р. 333~334)- Итак, задачей просвещенного
христианина становится умение «истолковывать историю
[historian allêgorësai]» (Orig. Phil. I, 29. P. 212) таким
образом, чтобы размышления о событиях, о
которых повествуют писания, не становились
«источником заблуждений [planasthaï] для неподготовленных
душ» (Ibid. P. 2ц).
Если, в отличие от представлений классической
историографии, для нас история обладает смыслом
и направлением, которые историк должен уметь
распознать,—если история представляет собой не про-
сто series temporum , но нечто, подразумевающее
некую цель и назначение, то это в первую очередь
вызвано тем, что наше представление об истории
сформировано под воздействием теологической
парадигмы откровения «тайны», которая
одновременно является «экономикой», устроением и
«распределением» божественной и человеческой жизни.
Прочитывать историю означает разгадывать тайну,
которая касается нас напрямую; но эта тайна не
имеет ничего общего с языческим фатумом или
стоической необходимостью: она связана с некоей
«экономикой», которая свободно управляет творениями
37- Зд.: последовательность времен (лат.).
»3
ЦАРСТВО И СЛАВА
и событиями, оставляя за ними их контингентный
характер и даже предоставляя им свободу воли и
побуждений:
Мы думаем, что Отец всего, Бог, для блага всех
Своих тварей, неизреченным разумом Своего
Слова и Премудрости так управляет [глагол
«dispensasse»38, по всей вероятности, является
переводом формы глагола oikonomein] этими
различными существами, что все отдельные духи
или души — словом, все разумные субстанции,
как бы мы их ни назвали, не принуждаются
силою делать, вопреки своей свободе, то, что не
согласно с их собственными побуждениями [...].
При этом различные движения их воли
искусно направляются к гармонии и пользе единого
мира. [Orig. Princ, 2, I, 2. P. 236.]
Христианская история утверждает себя в
противовес фатуму как свободное действо; тем не менее,
поскольку эта свобода соответствует божественному
замыслу и осуществляет его, она сама по себе
является тайной. Эта «тайна свободы» есть не что иное,
как обратная сторона «тайны экономики».
К Связь, которую христианская теология
устанавливает между ойкономией и историей, принципиально
важна для понимания философии истории на Западе. В
частности, можно утверждать, что концепция истории
в немецком идеализме от Гегеля и Шеллинга до
Фейербаха есть не что иное, как попытка помыслить
«экономическую» связь между процессом божественного откровения
и историей (в терминологии упомянутого нами Шеллинга—
«сопринадлежность» теологии и ойкономии).
Любопытно, что, когда левые гегельянцы порывают с этой
теологической концепцией, им удается это сделать, лишь поместив
38. Распределил (um.).
84
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
в центр исторического процесса экономику в современном
значении, то есть как историческое самовоспроизведение
человека. В этом смысле они подменили божественную
экономику экономикой чисто человеческой.
2.14- Становление понятия ойкономии,
последствия которого кардинальным образом скажутся
на культуре Средневековья и Нового времени,
происходит в плоскости его сближения с темой
провидения. В этом направлении его разрабатывает
Климент Александрийский, чье творчество, возможно,
является самым оригинальным вкладом в
становление теолого-экономической парадигмы. В
«Изречениях из Феодота» Климент, как мы видели,
несколько раз употребляет термин ойкономия в отношении
последователей Валентина; но и в центральном
его сочинении «Строматы» этот термин
появляется очень часто, притом во всем разнообразии своих
возможных значений (всего около шестидесяти раз,
согласно указателю Штелина). Климент особенно
подчеркивает, что ойкономия относится не только
к управлению домом, но и к управлению самой души
(Clem. Str., П, 22,17), и что не только душа, но и весь
мир зиждется на «экономике» (ibid., II, 225, 7)-
Существует даже «экономика молока» (oikonomia touga-
laktos), в силу которой грудь роженицы наполняется
молоком (i62, 21). Но самое главное —есть
«экономика спасителя» (такое сочетание вполне характерно
для Климента: hêperi ton sôtêra oikonomia: 34, 8;
oikonomia söteriou: 455, 18; 398, 2), которая была
провозвещена и которая исполнилась через страсти Сына.
Именно в перспективе этой «экономики
спасителя» (спасителя, а не спасения: исконное значение
«действия, поручения» здесь еще сохраняется)
Климент связывает воедино экономику и провидение
(pronoia). В «Протрептике» он называл «пустыми
«5
ЦАРСТВО И СЛАВА
баснями» (mythoi кепог) предания язычников (Clem.
Protr., I, 2, i); здесь же он выносит свое
окончательное суждение: «...философия, которая следует
божественной традиции, предполагает и утверждает
провидение: если исключить провидение [(tes pronoias)
anairetheisês], экономика, связанная с фигурой
спасителя, покажется всего лишь сказкой [mythos... phaine-
tai]» (Clem. Str., II, 34, 8).
Стремление предотвратить любую возможность
толкования «экономики спасителя» как мифа или
аллегории у Климента неизбывно. Если кто-то, по его
словам, утверждает, что Сын Божий, Сын
Создателя вселенной, воплотился и был зачат во чреве девы,
если рассказывает о том, как возникла «его скудная
зримая плоть», как он претерпел страсти и воскрес,—
все это «представится аллегорией [parabole] тому, кто
не ведает правды» (Ibid. 469? 3)- Лишь идея
провидения способна придать правдивости и значимости
тому, что кажется мифом или выдумкой:
«Поскольку провидение существует, нечестиво полагать,
будто пророчества и домостроительство вокруг
спасителя не произведены согласно провидению» (3^9» 13)-
Без осмысления теснейшей связи между ойконо-
мией и провидением невозможно осознать степень
новизны, которую несет в себе христианская
теология в сравнении с мифологией и «теологией»
языческой. Христианская теология не есть «рассказ о
богах»; она сама непосредственно является экономикой
и провидением, то есть действием самооткровения,
управлением и устроением мира. Божество членится
в троице, но это не есть ни «теогония», ни
«мифология», но ойкономия, то есть одновременно членение
и организация божественной жизни и управление
творениями.
Это обусловливает специфику христианского
представления о провидении. Понятиергопога было
86
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
широко распространено в языческом мире
благодаря стоической философии; говоря о том, что
«домостроительство тварного мира прекрасно [ktistheisa...
oikonomia]: все разумно устроено, ничего не
происходит без причины», Климент лишь озвучивает одну
из идей, распространенных в александрийской
культурной среде его времени. Но, поскольку
стоическая и иудаистская тема пронойи соединяется здесь
с экономикой божественной жизни, провидение
обретает индивидуальный и преднамеренный
характер. Выступая против стоиков и Александра Афро-
дисийского, которые утверждали, что «сущность
богов — в провидении подобно тому, как сущность
огня —в тепле», Климент полностью лишает
провидение всякого характера естественности и
непроизвольности:
Бог не является неким невольным благом —как,
например, огонь, который просто греет: он
дарует благо добровольно [...]. Он не творит благо
по необходимости, но благодетельствует в силу
свободного выбора, [ill, 32, I.]
Свобода или фатализм; опосредованный или
прямой, общий или частный характер провидения: эти
споры, разделившие, как мы увидим, теологов и
философов в период с XIII по XVII столетие,
обнаруживают здесь свой архетип.
Связуя воедино экономику и провидение,
Климент не только, как было замечено (Torrance. P. 227),
укореняет в вечности («в вечных деяниях и словах»,
Clem. Str. II, 493' 1%) временную экономику спасения,
но также кладет начало процессу, который
приведет к прогрессивному утверждению дуализма
экономики и теологии, Божественной природы и
исторического действия. Провидение означает, что этот
«7
ЦАРСТВО И СЛАВА
разрыв, который в христианской теологии
соответствует гностическому дуализму праздного Бога
и деятельного демиурга, является — или же, по
крайней мере, провозглашается — мнимым.
Экономико-управленческая парадигма и парадигма
провиденциальная обнаруживают здесь свою сущностную
сопринадлежность друг другу.
К Именно это стратегическое сплавление экономики и
провидения служит явным доказательством тому, что у
Климента термин ойкономия все же не может означать —
как того требует общепринятый перевод, который
превратил бы это сочетание в тавтологию, —
«божественный план». Лишь начиная с того момента, когда Ипполит
и Тертуллиан перевертывают Павлово выражение
«экономика тайны» и Климент связывает воедино ой коном ию
и пронойю, значения обоих терминов начинают
размываться.
Веком позже у Иоанна Златоуста связь между
экономикой и провидением уже окончательно утверждена, но это
не ослабляет ее характера «тайны». Экономика теперь
определяется эпитетом «неизреченная», а ее связь с
«бездной» провидения становится объектом «изумления»:
Узрев, как разверзлось бескрайнее море, и в этой
части и в этом месте возжелав измерить бездну
его провидения, объятый головокружением
перед невыразимостью этого домостроительства
и изумлением перед неизреченным... [Io. Chr. Sur
le providence de Dieu. P. 62.].
2.15. В плане семантической истории термина
ойкономия особый интерес представляет собой
значение «исключения», которое этот термин
обретает в VI-VII веках, особенно в области
канонического права византийской Церкви. Здесь теологическое
значение таинственного божественного действия,
88
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
направленного на спасение рода человеческого,
срастается с понятиями aequitas и epieikeia,
восходящими к римскому праву, и начинает выражать
освобождение от слишком строгого применения канонов.
У Фотия различие и вместе с тем смежность двух
значений отчетливо явлены:
Ойкономия в точности означает
необыкновенное и непостижимое воплощение Слова;
во-вторых, она означает разовое ограничение или
приостановление действия законов в их строгости
и введение смягчающих обстоятельств, которое
«экономизирует» [dioikonomountos] предписание
законов, учитывая слабость тех, кто должен их
принимать к исполнению.
В данном смысле подобно тому, как в теологии
утвердилось противопоставление между теологией
и экономикой, в праве вырабатывается
противопоставление между «каноном» и «экономикой», а
исключение определяется как решение, основанное
не на строгом применении закона, а на
«использовании экономики» (ou kanonikos... aWoikonomiai ch-
resamenoi; Richter. P. 582). В этом значении в 692 году
термин проникает в свод законов Церкви, а в
период правления Льва VI (ввб-д^) — и в имперский
свод законов.
Тот факт, что слово, означающее искупительное
действие мирового правления, приобретает
значение «исключения», свидетельствует о
сложности взаимоотношений между ойкономией и законом.
Тем не менее, и в этом случае два значения
термина, несмотря на кажущееся различие, совершенно
друг другу не противоречат: то же касается термина
dispensatio в латинской Церкви, который
изначально был переводом ойкономищ а затем обрел значение
«освобождения». Парадигма управления и парадиг-
89
ЦАРСТВО И СЛАВА
ма чрезвычайного положения сходятся в идее оико-
номии — деятельности руководства, которая
управляет ходом вещей, всякий раз приспосабливаясь
в своем искупительном умысле к конкретной
ситуации, с которой ей приходится иметь дело.
N Истоки процесса, вследствие которого термин ойко-
номия обретает значение «исключения», можно
уловить в послании каппадокийского богослова Василия Ке-
сарийского Амфилохию. На вопрос о ценности обряда
крещения, осуществленного схизматиками, он ответил,
что в противоположность правилу, согласно
которому такое крещение не должно иметь силы, оно
изначально было признано как действительное «ради
домостроительства большинства» (oikonomias heneka tön pollön:
Bas. Epist. CLXXXVIII. I, PG, 32, 669).
39. «Stato di eccezione», букв.: «положение исключения», но
также и «чрезвычайное положение»; см.: АгамбенДж.
Чрезвычайное положение. М.: Издательство «Европа», 20П.
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
Порог
Теперь можно более отчетливо уяснить то
воистину определяющее значение, которое содержит в себе
перевертывание Павлова выражения «экономика
тайны» в «тайну экономики». Тайным здесь
является не божественный план спасения, который
требует деятельности исполнения и откровения — то есть
как раз ойкономищ — которая сама по себе
прозрачна, как это было у Павла; тайной теперь становится
сама экономика, само действо, посредством
которого Бог одновременно устрояет божественную жизнь,
распределяя ее на три ипостаси, и управляет миром
тварным, наделяя каждое событие тайным смыслом.
Но этот скрытый смысл не является, как того
требует модель образного толкования, лишь аллего-
резой и пророчеством о новых искупительных
событиях, которые, располагаясь таким образом друг
относительно друга, создают историю. Этот смысл
совпадает с «таинственной экономикой», с самим
устроением божественной жизни и порядком
осуществляемого ею провиденциального управления
миром. Тайна божественности и тайна правления, три-
нитарное членение божественной жизни и история,
а также спасение человечества разделены и
неразделимы одновременно.
Иными словами, на территории ойкономии
разыгрывается во всех смыслах определяющая схватка,
91
ЦАРСТВО И СЛАВА
в которой под вопросом оказывается само
представление о божественном и о его отношениях с
сотворенным, постепенно сформировавшееся в период
поздней античности. Между невнятным унитаризмом мо-
нархиан и иудаистов и гностической пролиферацией
божественных ипостасей, между непричастностью
миру Бога гностиков и эпикурейцев и стоической
идеей deus actuosus—Bora, о мире пекущегося, — ойкономия
делает возможным компромисс, согласно которому
трансцендентный, одновременно единый и
триединый Бог может, оставаясь при этом
трансцендентным, взять на себя заботу о мире и заложить основы
имманентной практики управления, надмирная
тайна которой совпадает с историей человечества.
Лишь переосмысление экономической
парадигмы в ее подлинной значимости позволит
преодолеть противоречия в толкованиях и разногласия,
которые помешали современным ученым и
теологам поместить эту парадигму в ее истинный
проблематический контекст. Как мы убедились, в основе
полемики, которая неизменно разделяла
комментаторов на два непримиримых лагеря, лежит
предполагаемый разрыв между двумя четко различимыми
значениями термина ойкономия, первое из которых
касается истечения единого божественного
существа в трех лицах, а второе — промысла о спасении,
являющего себя в истории (см. Prestige, P. III; а
также Marcus, цит. по: Richter, Р. 79)* Так, по мысли Вер-
ховена, Эванса и Маркуса, экономика у Тертуллиа-
на никоим образом не связана с временным планом,
а относится исключительно к «внутреннему
развертыванию божественной субстанции в трех лицах»
(Verhoeven. P. no). Напротив, по мнению Муанта,
экономика означает не «отношение внутри бытия»
(Moingt. P. 922), a лишь историческое проявление
божественности через план спасения. Иными слова-
92
2. ТАЙНА ЭКОНОМИКИ
ми, полемика между комментаторами основывается
на ложной предпосылке, согласно которой термин
ойкономия, подобно Urworte Абеля, имеет два
противоположных значения, между которыми Отцы,
его использующие, более или менее сознательно
колеблются. Более пристальный анализ показывает,
что речь идет не о двух значениях одного термина,
но о попытке соединить в одну семантическую
сферу — сферу термина ойкономия — несколько планов,
увязывание которых между собой представлялось
проблематичным, а именно: непричастность миру
и управление миром; единство бытия и
множественность действий; онтология и история.
Два мнимых значения термина, первое из которых
относится к внутренней организации божественной
жизни, а второе касается истории спасения, не
только не противоречат друг другу, но связаны между
собой и полностью проясняются лишь в этой своей
функциональной связи. Иначе говоря, они
представляют собой две стороны единой божественной ойко-
номии, в которой онтология и прагматика, трини-
тарное членение и управление миром предполагают
разрешение собственных апорий через непрерывную
отсылку друг к другу. Так или иначе,
принципиально важно, что первое определение того, что
впоследствии станет тринитарным догматом, изначально
происходит не в онтологических и метафизических
терминах, а принимает форму «экономического»
диспозитива и предстает как деятельность
одновременно «домашнего» и мирского правления
божественной монархии («unitas ex semetipsa derivans
trinitatem non destruatur ab ilia sed administratur»40:
40. «Единство, производя из Самого Себя Троицу, не
разрушается Ею, но сохраняется» (лат.) (Тертуллиан. Против
Праксея. з> 0- ^ переводе глагола «administratur» —«со-
93
ЦАРСТВО И СЛАВА
Tert^ Adv. Ргах., з» I)- Лишь в последующую эпоху,
когда эти проблемы будут более или менее
обоснованно считаться решенными постникейской
догматикой, теология и экономика разделятся и значение
этого термина перестанет быть связанным с
организацией божественной жизни и сосредоточится на
истории спасения; но даже на данном этапе они не
разделятся окончательно и продолжат
взаимодействовать в качестве функционального целого.
хранястся» —на первый план выходит то из его значений,
которое утверждает цель управления в сохранении
определенного порядка.
3.
Бытие и действие
3.1. Святые Отцы, впервые разработавшие учение
об ойкономии, со всей очевидностью были
обеспокоены тем, чтобы предотвратить разлом внутри
монотеизма, который вновь привел бы к утверждению
множественности божественных фигур, а значит,
к политеизму. Движимый стремлением
уклониться от этих крайних следствий тезиса о троичности,
Ипполит неустанно повторяет, что Бог един по dy~
namis (то есть в рамках используемой им стоической
терминологии — по усии) и троичен лишь в плане
экономики. По той же причине Тертуллиан
решительно возражает Праксею, что простое
«расположение» [«disposizione»] экономики никоим образом
не означает разделения сущности. Божественное
бытие не расщеплено, потому что троичность, о
которой толкуют Святые Отцы, располагается в плане
ойкономии, а не в плане онтологии.
Цезура, которая любой ценой должна была быть
устранена в плане бытия, все же проявилась в виде
разрыва между Богом и его действием, между
онтологией и праксисом. В самом деле, различать
сущность или божественную природу и ее
экономику—значит разграничивать в Боге бытие и
действие, сущность и праксис. Таков скрытый дуализм,
который учение об ойкономии внесло в
христианство: нечто вроде гностического зародыша,
который выражает не столько разрыв между двумя
божественными фигурами, сколько разрыв между Богом
и осуществляемым им управлением миром.
95
ЦАРСТВО И СЛАВА
Обратимся к теологии, которую Аристотель
разрабатывает в конце Л книги «Метафизики».
Было бы совершенно немыслимо разграничивать
бытие и действие в Боге, который здесь описан. Если
аристотелевский Бог, подобно неподвижному
двигателю, приводит в движение небесные сферы, это
происходит потому, что такова его природа, и нет
никакой необходимости предполагать
существование особой воли или определенной деятельности,
направленной на заботу о себе или о мире.
Классический космос с его «фатумом» покоится на
абсолютном единении бытия и действия.
Учение об ойкономии радикальным образом
упраздняет это единство. Экономика, посредством которой
Бог управляет миром, действительно абсолютно
отделена от Его бытия и не может быть логически
выведена из него. Можно на онтологическом уровне
анализировать понятие Бога, перечислять его
атрибуты, или — как это происходит в апофатическом
богословии—отрицать один за одним все его
предикаты, чтобы прийти к идее чистого бытия, сущность
которого совпадает с его существованием. Однако
все это ровным счетом ничего не скажет ни о его
отношении с миром, ни о том, каким образом им было
принято решение управлять ходом человеческой
истории. Как много веков спустя по поводу светского
[profano. —Примеч. пер.] правительства
проницательно заметит Паскаль, экономика не имеет никакого
основания в онтологии, и единственный способ
обосновать и утвердить ее состоит в том, чтобы скрыть
ее истоки (Pascal i. P. 51). Поэтому теперь свободное
решение Бога управлять миром становится не менее,
а, возможно, даже более таинственным, чем
собственно его природа. Настоящая тайна, которая
«сокрывалась от вечности в Боге» и которая была явлена
людям в Христе, не касается его бытия, но связана с его
9б
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
спасительным действием: а это не иначе как
«тайна ойкономии», согласно основополагающей в
стратегическом отношении инверсии Павловой
синтагмы. Тайна, которая с этого момента будет
непрестанно будоражить умы и возбуждать исследовательский
интерес теологов и философов, имеет не
онтологическую, а практическую природу.
Экономическая и онтологическая парадигмы
абсолютно различны в их теологическом генезисе:
лишь понемногу учение о провидении и морально-
нравственная рефлексия будут делать попытки
перебросить между ними мост, но так и не преуспеют
в этом окончательно. Прежде чем они приняли
спекулятивно-догматическую форму, тринитаризм
и христология замышлялись и разрабатывались
в «экономических» терминах, что оставит глубокий
отпечаток на всем их последующем развитии.
Этика в ее современном смысле, со всем ее шлейфом
неразрешимых апорий, рождается в данном смысле
из разрыва между бытием и действием — разрыва,
который производится в период поздней
античности, а в христианской теологии получает
определяющее положение.
Если понятие свободной воли, в общем и
целом занимающее в классической мысли
маргинальное положение, становится центральной
категорией раньше возникновения христианской теологии,
а впоследствии и этики и онтологии Нового
времени, то это связано с тем, что последние имеют
в этом разрыве свой исток и потому вынуждены
непрестанно себя с ним соизмерять. Если порядок
античного космоса «не столько являл собой волю
богов, сколько был самой их природой, безучастной
и неминуемой, носительницей всякого блага и
всякого зла, недоступной молитве [...] и крайне скупой
на милосердие» (Santillana. P. и), то идея воли Бога,
97
ЦАРСТВО И СЛАВА
который, напротив, свободно и прозорливо
избирает собственные действия и сам в себе превосходит
собственное могущество, есть неоспоримое
доказательство краха древнего фатума и в то же время
отчаянная попытка дать основание анархической
сфере божественного праксиса. Отчаянной она является
потому, что воля может означать лишь одно:
необоснованность праксиса, иными словами, тот факт,
что бытие не содержит в себе никакого основания
для действия.
К В гнозисе противопоставление бога, чуждого миру, и
демиурга, миром управляющего, более существенно, чем
оппозиция благого и злого бога. ИИриней, и Тертуллиан отчетливо
видят «праздный» и «эпикурейский» характер благого Бога
у Маркиона и у Кердона, которому они противопоставляют
бога благого и вместе с тем деятельного в отношении
творения: «Они, — пишет Ириней, — в конечном счете нашли Бога
Эпикурова, который ничего не делает ни для себя, ни для
других» (Ir. Наег., з, 24, 2); а помысли Тертуллиана, Марки-
он «пожелал назвать Христовым именем какого-нибудь бога
из эпикурейского учения» (Tert. Adv. Marc, I, 25,3. P. 223).
Попытка совместить праздного и чуждого миру бога
и бога деятельного, который творит мир и управляет им,
безусловно, является одной из самых важных ставок в игре
тринитарной экономики; именно она определяет как
содержание самого понятия ойкономия, так и апории, которые
делают его определение столь затрудненным.
3-2. Проблема, вследствие которой картина мира
в классической традиции рушится в столкновении
с христианским мировоззрением, — это проблема
творения. Несовместимой с классическим
мировоззрением здесь оказывается не столько идея
божественного действия, сколько тот факт, что это
действие не обязательно обусловлено бытием или
укоренено в нем, но является свободным и бескорыстным
9«
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
актом воли. Если верно, что идея божественной
бездейственности1 имеет прочные основания в
аристотелевской традиции, то классическая мысль —
в особенности со времен стоиков —не уклоняется
от осмысления божественного действия и в данном
отношении апологеты не упускают из виду
платоновского демиурга. Новым же является раскол между
бытием и волей, природой и действием,
привнесенный христианской теологией. Сами авторы,
разрабатывающие экономическую парадигму,
настоятельно подчеркивают разнородность природы и воли
в Боге. Наиболее показателен в этом отношении
отрывок из Оригена, в котором воля знаменует собой
самый настоящий раскол в Боге и в творении:
Все, что есть на небесах и на земле зримого и
незримого,—относительно природы Бога не
существует [quantum ad naturam Dei pertinet, non sunt];
относительно же воли создателя это есть то, чему
восхотел дать бытие создавший [quantum advolun-
tatem creatoris, sunt hoc, quod ea esse voluit ille qui fecit].
[Orig. In lib. I Reg. horn., I, H. См.: Benz. P. 330-331.]
Псевдо-Иустин настаивает на необходимости
строго разграничивать в Боге сущность (ousid) и волю
{boulé). Если бы в Боге бытие и воля совпадали, он,
желающий многих вещей, был бы то одной, то
другой вещью, а это невозможно. А если бы он творил
из собственного бытия — коль скоро его бытие
необходимо, то, что он делает, он делал бы
вынужденно, и его творение не было бы свободным (Justin. Qu.
Chr., 2. P. 286-291).
Сам мотив творения ex nihilo, как было замечено
(Coccia. P. 46), призван подчеркнуть независимость
1. Aprassia.
99
ЦАРСТВО И СЛАВА
и свободу божественного действия. Бог сотворил
мир не по своей природной или бытийной
необходимости—но потому, что захотел. На вопрос:
«Почему Бог сотворил небо и землю?» —Августин
отвечает: «quia voluit», «потому что он так захотел» (Aug.
Gen. Man. I, 2, 4). А несколько веков спустя, в
период расцвета схоластики, необоснованность творения
в бытии была вновь решительно утверждена Фомой
Аквинским в трактате «Против язычников»: «Бог
действует не necessitatem naturae1, но per arbitrium
voluntatis» (Contra Gentiles, lib. 2, cap. 23, n. 1). Иными
словами, воля представляет собой некий диспози-
тив, призванный связать воедино бытие и действие,
которые были разделены в Боге. Примат воли,
который, согласно Хайдеггеру, господствует в истории
западной метафизики и с Шеллингом и Ницше
достигает своего апогея, имеет своим истоком разрыв
между бытием и действием в Боге и поэтому с
самого начала разворачивается в согласии с
теологической ойкономией.
К Воссозданию теологического диспозитива, в основе
которого лежит понятие воли, посвящена книга Бенца «Mari-
us Victorinus und die Entwicklung der abendländischen
Willenmetaphysik»4 (1932) — труд, из которого следует исходить
в любом генеалогическом исследовании примата воли в
новой философии. Бенц показывает, каким образом в
создании «метафизики воли» в западной философии сочетаются
неоплатонические мотивы (концепт воли, который у
Плотина тождествен силе (potenza) и благу, которое
«желает самое себя») и гностические темы (воля у Валентина
2. По естественной необходимости (лат).
3- По волевому решению (лат.).
4- «Марий Викторин и развитие метафизики воли на Западе»
(нем.).
100
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
и Марка как autobouletos boulé, воля, которая желает
самое себя). Через опосредование Викторина эти
неоплатонические и позднеантичные мотивы проникают в мысль
Августина, предопределяя его концепцию Троицы.
Когда Фома Лквинскийустанавливает тождество между
бытием и волей в Боге («Est igitur voluntas Dei ipsa eius
essentia»: Contra Gentiles, lib. I, cap. 73, n. 2), он, в сущности, лишь
доводит до предела этот примат воли. Поскольку то, чего
хочет воля Божья, и есть сама ее сущность («principale divi-
пае voluntatis volitum est eius essentia», ibid., lib. I, cap. 74, n. 1),
из этого следует, что воля Божья всегда хочет самой себя,
она всегда является волей к воле.
Вслед за своим учителем Иньясом Мейерсоном Жан-Пьер
Вернан неоднократно озвучил в своем значительном
труде положение о том, что понятие воли в Новое время —
концепт, в сущности чуждый греческой традиции, и что
медленный процесс его формирования совпадает с процессом,
который привел к рождению «Я» (Vernant. Passim).
3-3- Лишь в свете этого разрыва между бытием
и праксисом полностью проясняется суть
полемики с арианством, которая так глубоко расколола
Церковь в IV-VI веках христианской эры. На
первый взгляд, спор касается столь незначительных
и тонких различий, что в наше время сложно
уловить, какова истинная ставка в ожесточенном
конфликте, охватившем почти все восточное
христианство вместе с императором. Центральной
проблемой в этих спорах, как известно, является
arche Христа; однако arche здесь не сводится к
своему хронологическому значению, оно не означает
лишь «начало». Действительно, и Арий, и его
противники сходятся в убеждении, что Сын был
рожден Отцом и что это рождение свершилось
«прежде всех век» (pro cronön aiôniôn: Arius. Ep. Alex., 2.
См. Simonetti. P. 76; pro pantön tön aiôniôn: Евсевий Ке-
сарийский. Письмо к Цезарю, 4- См. Simonetti. P. 104).
loi
ЦАРСТВО И СЛАВА
Более того, Арий особо подчеркивает, что Сын
был рожден achronos, вне времени. Иными
словами, под вопросом здесь оказывается не только
хронологическое предшествование (времени еще не
существует) и не только лишь проблема достоинства
(старшинство Отца по отношению к Сыну
утверждали многие и из противников ариан); речь
скорее идет о том, чтобы определить, имеет ли Сын —
слово и действо Божье — основание в Отце, или же
подобно ему он не имеет начала, то есть является
anarchos, безначальным.
Текстуальный анализ писем Ария и сочинений
его противников показывает, что решающим
значением в споре обладает именно термин anarchos
(то есть без arche, в двойном значении, которым этот
термин наделен в греческом, —основания и начала).
«Нам известно, что существует единый Бог,
который один нерожден, один вечен, один anarchos», —
пишет Арий в «Письме к Александру» (з; см.
Simonetti. Р. 78). Хотя Сын рожден Отцом раньше и вне
времен, он имеет в Отце свое arche, свое начало-
основание и именно от него получает свое бытие:
Стало быть, существует три ипостаси: Бог,
который есть причина всех вещей, единейший и
безначальный [anarchos monôtatos]; Сын, рожденный
отцом вне времени, сотворенный [выше Арий
уточнил — «иным образом, чем все творения»]
и положенный в основание [themeliôtheis — от the-
melios, что означает «основание» также и в
архитектурном смысле] раньше времен [...] один
получил бытие от Отца. [Arius. Ер. Alex., 4. См.
Simonetti, 1986. Р. 78.]
Подобным образом Евномий утверждает, что лишь
Бог Отец «безначален, вечен, бесконечен [anarchos, ai-
diös, ateleutêtôs]» (Exp., 2. См. Simonetti. P. 186); Сын же
102
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
пребывает «в начале-основании, но не без начала-
основания [en archêi onta, ouk' anarchon]» (Exp., 3. См.
Simonetti. P. 188).
Против этого тезиса, дающего Слову прочное
основание в Отце, выступил собор епископов,
созванный императором Констанцием в 343 Г°ДУ в Сардике.
Они прямо утверждают, что предметом разногласий
является не рожденность или нерожденность
Христа («ни один из нас не отрицает, что Сын рожден,
но рожден прежде всех вещей»), а только его arche:
«Если бы у него было arche, он не смог бы
существовать безусловно [pantote], ведь Слово, существующее
безусловно, не имеет arche» (Ibid. P. 134)- Сын
царствует с Отцом «безусловно, безначально и
бесконечно [pantote, anarchöskai ateleutetös]» (Ibid. P. 136).
Никейский постулат, который в конечном
итоге возобладал, вполне согласуется здесь с учением
об ойкономии. Как последняя не основана в
божественной природе и бытии, но сама по себе
является «тайной», так и Сын — то есть тот, кто принял
на себя экономику спасения, — не имеет основания
в Отце: подобно Отцу он есть anarchos, не имеющий
ни начала, ни основания. Ойкономия и христология —
не только исторически, но и генетически—
взаимосвязаны и неразделимы: как праксис в экономике,
так и Логос — слово Божье —в христологии
изымается из бытия и делается анархичным (отсюда
устойчивое неприятие со стороны многих приверженцев
антиарианского правоверия в отношении термина
homousioSy введенного Константином). Без учета
этого исконного «анархического» призвания
христологии невозможно понять ни последующее
историческое развитие христианской теологии с ее скрытой
атеологической тенденцией, ни историю западной
философии с ее этической цезурой между
онтологией и праксисом. Тот факт, что Христос «анархи-
103
ЦАРСТВО И СЛАВА
чен», по сути означает, что язык и праксис не имеют
основания в бытии. «Гигантомахия» вокруг бытия
также и прежде всего являет собой конфликт между
бытием и действием, между онтологией и
экономикой, между бытием-в-себе, не способным к действию,
и действием без бытия: между ними главной ставкой
в игре оказывается идея свободы.
К Попытка помыслить в Боге проблему совершенно
необоснованного основания отчетливо просматривается в
следующем отрывке Григория Назианзина:
Anarchon [безначальное], arche и сущее с arche —
единый Бог. Безначальное бытие не есть природа
того, что безначально, нерожденность же таковой
является (но быть безначальным означает быть
нерожденным). Ибо всякая природа есть не то,
чем она не является, но то, чем она является. Это
полагание [thesis] того, что есть, а не отрицание
[anairesis] того, чего нет. И arche тем, что оно arche,
не отделяется от безначального: arche не является
его природой, как не является природой
последнего безначальное бытие. Это относится к
природе, но не есть сама природа. И сущее с
безначальным и с началом есть не что иное, как то же,
что и они. Имя безначальному —Отец, началу —
Сын, сущему вместе с началом — Дух Святой.
[Greg. Naz. Or., XLH, 15. P. 1014.]
Гегелевская диалектика обнаруживает в этом отрывке
свою теологическую парадигму: достаточно поместить
в центр этого триадического движения силу отрицания
(«то, что не есть»), чтобы получить гегелевское
положение об основании.
Парадокс тринитарной экономики, которая должна
сохранять единство того, что она разделила, находит
очевидное выражение и у другого каппадокийского богослова,
Григория Нисского. В своем «Большом катехизисе» он утверждает,
Ю4
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
что и греки, и евреи могут признать существование
Божьего логоса и пневмы; но «и те, и другие одинаковым
образом отвергнут как нечто неправдоподобное и неподобающее
рассуждению о Боге» именно «домостроительство5 по
человеку Слова Божьего» [tên de kata anthröpon oikonomian tou
theu logou]». Ибо оно означает, тут же добавляет Григорий,
что под вопросом оказывается не просто какая-либо
способность (hexis), как то слово или знание Божье, но «сила,
пребывающая по существу и по сущности [kat* ousian... yphestö-
sa dynamis]» (Greg. Nys., Or. cat., 5. P. 161). Таким образом,
функция тринитарной экономики заключается в том,
чтобы гипостазировать Божий логос и праксис, дав им
реальное существование — и одновременно установить, что это
гипостазирование не разделяет целого, но «устрояет»6 его
(каппадокийцы одними из первых стратегически
используют в этом значении неоплатонический термин
hypostasis — в данном случае в его глагольной форме hyphistamai).
УМаркелла Анкирского, автора IV века, чья
«экономическая теология» привлекла особое внимание современных
исследователей, отчетливо видно, что связь между экономикой
и сущностью понималась как противопоставление между
действием (energeia) и природой (physis). Если
божественная природа остается монадической и неразделимой, то это
связано с тем, что Логос разделяется лишь в действии
(energeia monê). Поэтому экономика по плоти (или, как он
выразился, вторая экономика) носит, так сказать, временный
характер: она завершится Парусией, когда Христос
низложит всех врагов под ноги Свои (i Кор. 15:25). Подобным же
образом Маркелл может говорить о том, что Слово через
воплощение стало сыном Адамовым kat' oikonomian, а мы
являемся таковыми kata physin (Seibt. 1QQ4- P-3*6)-
К Теологический раскол между бытием и праксисом
продолжает вызывать споры в византийском богословии
и в XIV веке: эти споры разделили Григория Полому и Вар-
5- У A.: economia.
6. У A.: economizza.
105
ЦАРСТВО И СЛАВА
лаама с Прохором. Так, афониты в своем вероисповедании
исходят из открытого противопоставления между
бытием Бога (усией) и его действием (energeia): «Мы
подвергаем анафеме тех, кто утверждает, будто
божественная сущность и действие Божье суть одно и то же,
что они едины и неразделимы. Кроме того, я полагаю,
что действие и сущность Божьи несотворены [aktiston]»
(Riga Я;**).
3-4- Разрыв между бытием и праксисом в языке
Святых Отцов принимает форму
терминологической оппозиции между теологией и ойкономией. Это
противопоставление как таковое еще отсутствует
у Ипполита, у Тертуллиана и у Климента
Александрийского: тем не менее, как мы видели, оно
предвосхищено у них в разграничении между dynamis и
ойкономией (так, в «Exerpta» Климента каждый ангел
наделен своим dynamis и своей ойкономией»: I, II, 4-)-
У Евсевия Кесарийского эта антитеза уже полностью
выработана, хотя речь не идет о полноценном
противопоставлении, что позволяет ему заявить во
вступлении к своей «Церковной истории» о двух топосах,
на которых строится единое рассуждение:
Изложение мое начнется с экономики и
богословия Христова: по глубине и силе они выше
человеческих. Собирающийся писать историю
наставлений церковных обязан начать с первого
домостроительства [oikonomia] согласно самому
Христу, ведь от него удостоились мы получить
и свое имя — домостроительства более
божественного, чем кажется многим. [Eus. H.E., I, i, 7-8.]
Терминологическое разграничение соответствует
у Евсевия различию между божественной и
человеческой природой Христа, которое он уподобляет
разнице между головой {kephale) и ногами:
юб
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Природа Христа двойная: одна похожа на
голову тела—в ней признаём мы Бога; другую можно
сравнить с ногами —Он облекся в нее ради
нашего спасения, дабы стать человеком столь же
подверженным страстям, как мы... [Ibid. I, 2, i.]
Начиная с каппадокийцев — в частности с Григория
Назианзина—оппозиция тсолотия/ойкономия
обретает технический характер, обозначая теперь не только
две различных сферы (природа и сущность Бога с
одной стороны, и его искупительное дело с другой:
бытие и праксис), но и два различных дискурса, два типа
рациональности, каждый из которых наделен своей
собственной понятийностью и своей особой
спецификой. Иными словами, вокруг Христа разворачиваются
два logen, первый из которых касается его
божественной природы, а второй — экономики воплощения
и спасения. Каждый дискурс, каждая рациональность
имеет свою собственную терминологию, и, чтобы
верно их истолковывать, их не следует смешивать:
Вообще же выражения более возвышенные
относи к Божественности и к природе, которая
выше страданий и тела; а выражения более
унизительные — к Тому, Кто Сложен, за тебя
истощил Себя и воплотился, чтоб хуже не сказать —
очеловечился, потом же превознесен, чтоб ты,
истребив в догматах своих все плотское и земное,
научился восходить умом к Божеству и, не
останавливаясь на видимом, возносился посредством
мысленного и знал, где речь о природе Божией
и где об Его домостроительстве. [Greg. Naz> Or.,
XXIX, 18. P. 714].
Различие между двумя рациональностями вновь
заявлено в Слове, посвященном празднику Рождества;
сославшись на непознаваемость и бесконечность
Бога, Григорий пишет:
107
ЦАРСТВО И СЛАВА
Этим да ограничится ныне наше размышление
о Боге; ибо нет времени более распространяться
и предмет моего слова составляет не теология,
но экономика. [Ibid. XXXVIII, 5- Р. 886.]
Примерно полвека спустя Феодорит Кирский
выкажет полную осведомленность по поводу различия
и одновременной взаимосочлененности этих двух
рациональностей. «Нам необходимо знать, —пишет
он, — какие термины принадлежат области
теологии, а какие —области экономики» (ad Heb., 4,14; см-
Gass. P. 49°)î если эти Два l°g°i смешаются, под
угрозой окажется целостность экономики и возникнет
риск впадения в монофизитскую ересь. Притом
что необходимо избегать любого неправомерного
переноса категорий одной рациональности в поле
другой («Не следует переносить в область
экономики то, что принадлежит теологии», как напишет
Иоанн Дамаскин в De fid. Orth., 3,15)5 Две
рациональности все же остаются связанными, и четкое
разграничение между двумя дискурсами не должно
оборачиваться сущностным разрывом. Тщательность,
с которой Святые Отцы стараются не смешивать
между собой и в то же время сохранять
связанными два единства, свидетельствует о том, что они
осознают риски, которые таит в себе их гетерогенность.
Так, в споре с воображаемым представителем мо-
нофизитства в «Эранисте» Феодорит утверждает,
что Святые Отцы «хотели передать нам два
единства—теологическое и экономическое —в их
неразделимости, чтобы мы не думали, будто первое есть
лик божественный, а второе —лик человеческий»
(Theodoret. Eran., Р. 228).
Проводимое в патристике разграничение между
теологией и экономикой настолько устойчиво,
что его можно обнаружить у современных теологов
ю8
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
в виде оппозиции имманентной Троицы и Троицы
экономической. Первая отсылает к Богу в его бытии-
в-себе и потому также называется «сущностной»;
вторая же означает Бога в его отношении к делу
искупления, через которое он открывается людям
(поэтому ее также называют «Троицей откровения»).
Сочленение этих двух троиц, различных и в то же
время неразделимых, составляет апоретическую
задачу, которую тринитарная экономика оставляет
в наследие христианской теологии, в особенности —
учению о провиденциальном управлении миром,
предстающему в этой связи как биполярная
машина, единство которой постоянно рискует распасться
и каждый раз должно быть завоевано заново.
3-5- Радикальное разделение и вместе с тем
необходимое единение теологии и экономики,
возможно, нигде так ярко не проявилось, как в спорах
вокруг монофелитства, разделивших Святых Отцов
в VII веке. Существует текст, в котором полностью
проясняется стратегический смысл этого сложного
сочленения: речь идет о «Диспуте с Пирром»
Максима Исповедника. Согласно монофелитам,
манифестом которых является «Эктезис» Ираклия (638),
предстающего в диалоге в роли Пирра, у Христа две
природы, но единая воля (thelêsis) и единая
деятельность (energeia), «которая направлена на выполнение
как божественных дел, так и дел человеческих» (5г-
monetti, Р. 516). Монофелиты опасаются того, что
доведенный до крайности диофизитизм приведет в
конечном итоге к расколу в экономике —то есть в
божественном праксисе, полагая в Христе «две воли,
которые противоположены друг другу, будто
божественное Слово желает привести в жизнь
искупительное страдание, а человеческая его часть препятствует
и противостоит его воле» (Ibid. P. 518). Поэтому Мак-
109
ЦАРСТВО И СЛАВА
симу, утверждающему, что двум природам в Христе
могут соответствовать лишь две воли и два различных
действия, Пирр отвечает, что «это говорилось
Святыми Отцами согласно теологии, а не согласно
экономике. Недостойно мысли, любящей истину, переносить
в область экономики то, что утверждалось согласно
теологии, создавая подобную нелепицу» (PG, 91,34*0•
Ответ Максима категоричен и
свидетельствует о том, что сочленение двух дискурсов является
частью проблемы, во всех смыслах определяющей.
Если то, что было сказано Святыми Отцами по
поводу теологии, пишет он, не относилось бы также
и к экономике, «то после воплощения Сын не
подлежал бы теологическому рассмотрению [syntheologeitai]
вместе с Отцом. А ежели этого не происходит, его
имя не может звучать во время призывания
Святого Духа при крещении; а значит, вера и проповедь
будут тщетными» (Ibid.). В другом своем
сочинении Максим, подчеркивая неразделимость
теологии и экономики, утверждает следующее:
«Воплощенное [то есть представляющее экономику] Слово
Божье обучает теологии» (PG, 90, 876).
Неудивительно, что радикальный «экономизм»,
который, различая в сыне две воли, ставит под
угрозу само единство христологического субъекта,
нуждается в утверждении единства теологии и
экономики, — тогда как «теологизм», который пытается
любой ценой удержать это единство, решительно
противопоставляет два дискурса. Различение между
двумя рациональностями непрерывно пересекает
область теологических диспутов, и, подобно тому,
как тринитарный догмат и христология
сформировались одновременно и не могут быть разделены, так
и теология и экономика не могут быть
разграничены. Две природы, согласно стереотипной формуле,
сосуществуют в Христе «без разделения и без
смешено
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
ния» (adiairetos kai asynchytos): точно так же два
дискурса должны совпадать не смешиваясь —и
различаться не разделяясь. Ведь на кону в их отношениях
не только цезура между человечностью и
божественностью в Сыне, но и в более широком плане —разрыв
между бытием и праксисом. Экономическая
рациональность и рациональность теологическая должны
действовать, если можно так выразиться, «в
разделяющем согласии» так, чтобы не отрицалась
экономика Сына и чтобы при этом не был допущен
сущностный раскол в Боге.
И все же экономическая рациональность,
через которую христология получила свою первую,
неточную формулировку, будет непрестанно
отбрасывать свою тень на теологию. После того как во-
кабуляр гомоусии и гомоиусии7, ипостаси и природы
почти окончательно подменит собой первую
формулировку догмата о Троице, экономическая
рациональность со своей прагматико-управленческой,
а не научно-онтологической парадигмой будет
продолжать скрыто действовать в качестве силы,
стремящейся подорвать и разрушить единство
онтологии и праксиса, божественности и человечности.
К Разрыв между бытием и действием и анархический
характер божественной ойкономии являют собой
логическое место, в котором проясняется сущностное
отношение, связывающее в нашей культуре управление и анархию.
Не только нечто вроде провиденциального управления
миром возможно лишь потому, что действие не имеет
никакого основания в бытии; но и само это управление,
которое, как мы увидим, имеет свою парадигму в Сыне и в его
ойкономии, глубоко анархично. Анархия есть нечто такое,
что управление должно пред-положить и присвоить в каче-
7- У A.: homoousia и homoiousia.
Ill
ЦАРСТВО И СЛАВА
стве собственного истока — ивтоже время в качестве цели,
к которой направлено движение. (Беньямин в данном
смысле был прав, когда писал о том, что нет ничего более
анархичного, чем буржуазный порядок; а реплика, которую
Пазолини вкладывает в уста одного из сановников в фильме
«Сало, — «Единственная подлинная анархия—это анархия
власти», — не несет в себе и тени иронии.)
Отсюда несостоятельность попытки Райнера Шюр-
мана, предпринятой в его все же знаковой книге «Принцип
анархии», помыслить «экономику анархическую», то есть
безоснбвную, в перспективе преодоления метафизики и
истории бытия. Среди постхайдеггерианских философов
Шюрман единственный, кто понял связь, объединяющую
теологический концепт ойкономии {который он,
однако, оставил без внимания), проблему онтологии, и в
особенности хайдеггерианское прочтение онтологического
различия и «эпохальной» структуры истории бытия. Именно
в этой перспективе он пытается помыслить праксис и
историю без какого-либо основания в бытии (то есть
совершенно ан-архическим образом). Но онтотеология всегда уже
мыслит божественное действие как необоснованное в бытии
и, по сути дела, задается целью выявить сочленение между
тем, что она всегда разделяла. Иначе говоря, ойкономия
всегда уже анархична, лишена основания, а переосмысление
проблемы анархии в нашей политической традиции
становится возможным лишь исходя из осознания скрытой
теологической связи, объединяющей ее с управлением и с
провидением. Управленческая парадигма, генеалогию которой
мы здесь выстраиваем, в действительности изначально
является «анархо-управленческой».
Это не означает, что за пределами управления и
анархии невозможно помыслить Неуправляемое—то есть нечто
такое, что никогда не сможет принять форму той или иной
ойкономии.
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
Порог
На закате классической культуры, когда единство
античного космоса разрушается, а пути бытия и
действия, онтологии и праксиса будто бы окончательно
расходятся, мы наблюдаем, как в лоне христианской
теологии вырабатывается сложное учение, в
котором сочетаются элементы иудаизма и язычества, —
учение, силящееся осмыслить этот разрыв и вместе
с тем восполнить его посредством управленческой
и не-научной [non-epistemico. — Примеч. пер.]
парадигмы, которой и является ойкономия. Согласно этой
парадигме, божественное действие, от сотворения
мира до искупления, не имеет основания в бытии
Бога и до такой степени расходится с ним, что
осуществляется в отдельном лице —в Слове или в Сыне;
тем не менее, это анархичное и безосновное
действие должно каким-то образом согласовываться
с единством сущности. С помощью идеи
свободного и добровольного действия, объединяющего в себе
творение и искупление, эта парадигма должна была
преодолеть как гностическую антитезу между
чуждым миру богом и творцом-демиургом
и.правителем мира, так и присущее язычеству тождество
между бытием и действием, которое делало
малоубедительной саму идею творения. Вызов, который
христианская теология таким образом бросает гнози-
су, состоит в том, чтобы увязать трансцендентность
ИЗ
ЦАРСТВО И СЛАВА
Бога и сотворение мира, а также непричастность
Бога к миру и стоическое и иудаистское
представление о Боге, который заботится о мире и
осуществляет над ним провиденциальное управление.
Перед лицом этой апоретическои задачи оикономия в ее
управленческом и административном истоке
предлагала гибкий инструмент, который представал
одновременно как логос', рациональность, избавленная
от каких бы то ни было внешних уз, и как действие,
не обусловленное какой бы то ни было
онтологической необходимостью или предзаданной нормой.
Являясь одновременно дискурсом и реальностью,
не-научным знанием и анархичным действием,
оикономия на протяжении многих веков позволяла
теологам определять то принципиально новое, что несла
в себе христианская вера, и в то же время сочетать
в ней плоды позднеантичной, стоической и неопи-
фагорийской мысли, уже ориентированной в
«экономическом» направлении. Именно в лоне этой
парадигмы сформировались узловые моменты три-
нитарной догматики и христологии: от этого
своего истока они так и не освободились
окончательно, продолжая отдавать дань как его апориям, так
и его преимуществам.
Таким образом, становится понятно, в каком
смысле возможно говорить о том, что христианская
теология с самых своих истоков является
экономико-управленческой, а не политико-государственной:
именно таков тезис, от которого мы отталкиваемся
в полемике со Шмиттом. Что христианская
теология содержит в себе экономику, а не только
политику, все же не означает, что ее значение для истории
идей и политических практик на Западе маловажно;
напротив, теолого-экономическая парадигма
обязывает заново переосмыслить таковую историю в
новой перспективе с учетом ключевых моментов пере-
114
3. БЫТИЕ И ДЕЙСТВИЕ
сечения политической традиции в узком смысле
с традицией «экономико-управленческой»,
которая, ко всему прочему, как мы увидим, обретает
наиболее полное выражение в средневековых
трактатах de gubernatione mundi*. Две парадигмы существуют
бок о бок и пересекаются друг с другом таким
образом, что формируют собой биполярную систему,
понимание которой оказывается предпосылкой к
любой попытке истолкования политической истории
Запада.
В своей объемной монографии о Тертуллиане
Муант в одном месте справедливо указывает на то,
что наиболее точным переводом выражения unicus
dem cum sua oikonomia — и, возможно, единственным,
способным обнять разные значения термина
«экономика»,—является «единый Бог со своим
правительством9, в том смысле, в котором „правительство"
означает министров короля, чья власть которых
в распространении королевского могущества, не
являясь ему равноценной, хотя при этом она
необходима для его проявления»; понятая таким образом,
«экономика означает способ управления
посредством множественности проявлений божественного
могущества» {Moingt. P. 923)- В этом своем
изначальном «управленческом» значении аполитическая
парадигма экономики обнаруживает, помимо
прочего, и свои политические импликации. Разрыв между
теологией и ойкономией, между бытием и действием,
делая свободным и «анархичным» праксис, по сути,
одновременно утверждает возможность и
необходимость управления этим праксисом.
8. Об управлении миром (лат.).
9- Слово «governo», использованное Агамбеном, наделено
семантической двойственностью, так как означает
«управление», но также и «правительство».
115
ЦАРСТВО И СЛАВА
В исторический момент, когда имел место кризис
классической системы представлений — как в
политическом, так и в онтологическом плане,—гармония
трансцендентного вечного начала и имманентного
миропорядка разрушается и проблема «управления»
миром и его легитимации становится во всех
смыслах основополагающей политической проблемой.
4.
Царство и правление
4.1. Один из самых запоминающихся образов
в цикле романов о рыцарях Круглого стола —
образ Roi mehaignié, раненого или изувеченного
короля (слово mehaignié соответствует итальянскому та-
gagnato1), который правит terre gaste у опустошенной
землей, «где пшено не растет, а деревья не дают
плодов». Согласно Кретьену де Труа, во время сражения
король был ранен в пах и изувечен до такой степени,
что не был в состоянии держаться на ногах и ездить
верхом. Поэтому, когда он хотел предаться досугу,
он приказывал своим слугам поместить его в
лодку и отправлялся удить рыбу (отсюда прозвище
Король-рыбак), пока его сокольничие, лучники и
охотники хозяйничали в его лесах. Дело, однако, идет
о некоей диковинной рыбалке: ниже Кретьен
уточняет, что король уже пятнадцать лет не покидает
своих покоев и питается гостией, которую ему подают
в святом Граале. Согласно другому, не менее
авторитетному источнику, напоминающему кафкианский
сюжет об охотнике Гракхе, во время охоты в лесу
король потерял своих собак и охотников. Добравшись
до берега моря, он обнаружил на корабле
сверкающий меч: в тот момент, когда он пытался вытащить
его из ножен, по какому-то магическому стечению
обстоятельств он оказался поражен в пах копьем.
1. Зд.: искалеченный, изувеченный.
117
ЦАРСТВО И СЛАВА
Как бы то ни было, изувеченный король
исцелится лишь тогда, когда Галахэд в конце quête2 смажет
его рану кровью с копья, пронзившего бок Христа.
Образ изувеченного и немощного короля
получил самые разнообразные толкования. В своей
книге, оказавшей значительное влияние не
только на артурианские исследования, но и на поэзию
XX века, Джесси Уэстон связывает образ
Короля-рыбака с «божественным началом жизни и
плодородия», с тем самым «Духом Растительности»,
который автор, вслед за Фрезером и англосаксонскими
фольклористами, с немалой долей эклектизма
обнаруживает в ритуалах и мифологических образах,
восходящих к самым разнообразным культурным
традициям, — от вавилонского Таммуза до
греко-финикийского Адона.
Во всех этих толкованиях в тени остается тот
факт, что легенда, помимо всего прочего,
несомненно содержит в себе подлинно политическую
мифологему, которая без особых натяжек может быть
истолкована как парадигма разделенной и бессильной
верховной власти. Ничуть не утратив своей
легитимности и сакральности, король действительно по
какой-то причине оказался отделен от своих
полномочий и дел, доведенный до бессилия. Он не только
не может охотиться или ездить верхом (занятия,
которые, по всей видимости, символизируют здесь
светскую власть), но вынужден оставаться
взаперти в своих покоях, пока его министры
(сокольничие, лучники и охотники) осуществляют управление
от его имени и вместо него. В этом смысле раскол
верховной власти, воплощенный в образе короля-
рыбака, будто бы отсылает к дуальности, которую
2. Поиски, розыски, искания (фр.).
п8
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Бенвенист усматривает в индоевропейском
институте царской власти, между функцией
преимущественно религиозно-магической и функцией
непосредственно политической. Однако в легендах
о Граале акцент скорее делается на бездеятельном
и отделенном характере изувеченного короля,
который—по крайней мере до тех пор, пока его не
исцелит прикосновение магического копья, —
исключен из всякой конкретной деятельности, связанной
с правлением. Roi mehaignié, стало быть, являет собой
своего рода прообраз современного правителя,
который «царствует, но не правит»; и в этом плане
легенда, возможно, заключает в себе смысл, который
касается нас более непосредственным образом.
4-2. Прежде чем обратиться к проблеме
божественной монархии в начале своей книги
«Монотеизм как политическая проблема», Петерсон дает
краткий анализ псевдоаристотелевского трактата
«О мире», в котором он видит нечто вроде
переходного звена между аристотелевской политикой и иуда-
истской концепцией божественной монархии. Если
у Аристотеля Бог представлен как трансцендентное
начало всякого движения, которое правит миром
подобно тому, как стратег ведет свою армию, —то здесь,
по наблюдению Петерсона, Бог уподобляется
кукловоду, который, оставаясь невидимым и дергая за
нитки, приводит в движение свою куклу,— или же
великому царю персов, который, скрываясь в своем
дворце, правит миром посредством бесчисленных
иерархий министров и чиновников.
Первостепенным в отношении образа
божественной монархии здесь является не вопрос о том,
наделена ли она одной или несколькими властями
(Gewalten), но вопрос о том, причастен ли Гос-
"9
ЦАРСТВО И СЛАВА
подь силам [Mächten], которые действуют в
космосе. Автор хочет сказать следующее: Бог есть
предпосылка к тому, чтобы сила (он
пользуется термином из стоической терминологии dyna-
mis, но имеет в виду аристотелевское kynesis)
действовала в космосе, но именно по этой причине
он сам не является силой: le roi regne, mais il ne
gouverne pas3. [Peterson 1. P. 27.]
По мысли Петерсона, в псевдоаристотелевском
трактате метафизико-теологические и
политические парадигмы тесно переплетены между собой.
Окончательное оформление метафизического
образа мира, —пишет он, почти буквально воспроизводя
тезис Шмитта, — всегда обусловлено политическим
решением. В этом смысле «различие между Macht
(potestas, dynamis) и Gewalt {arche), которое автор
трактата постулирует в отношении Бога, представляет
собой метафизико-политическую проблему»,
которая может принимать различные формы и
значения и быть развернута как в направлении
разграничения между auctoritas и potestas, так и в направлении
гностического противопоставления бога и демиурга.
Прежде чем рассмотреть стратегические
причины этого необычного экскурса в область
теологического значения, заключенного в
противопоставлении царства и правления, — для подтверждения
обоснованности такого обращения будет весьма
кстати более подробно изучить текст, послуживший
его основой. Неизвестный автор трактата —по
мнению большинства ученых, он мог принадлежать
к тому же кругу эллинистических иудеев-стоиков,
из которого вышли Филон и Аристобул, —в
действительности не столько проводит различие между аг-
3- «Король царствует, но не правит» (фр>).
120
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
che и dynamis в Боге, сколько (совершая таким
образом жест, который сближает его со Святыми
Отцами, разрабатывающими христианскую
парадигму ойкономии) вводит разграничение между
сущностью (ousia) и могуществом (dynamis). Древние
философы, — пишет он,— утверждавшие, что весь
чувственный мир полон богов, выражали
суждение, применимое не к бытию Бога, а к его
могуществу4 (Aristot. Mund., 397b)- В самом деле, если Бог
пребывает в высшей из небесных сфер, то его
могущество «пронизывает весь космос, являясь
причиной сохранения [sôtérias, «спасения»] всех вещей,
что ни есть на земле» (ibid., 39^Ь). Он является
одновременно спасителем (sôtêr) и породителем
(generator) всего, что ни происходит во вселенной.
И все же он «не трудится единолично и
самостоятельно [autourgou], но пользуется неисчерпаемой
мощью, посредством которой господствует также в
далеких от него областях» (ibid., 397^)- Стало быть,
могущество Бога, которое становится будто бы
независимым по отношению к его сущности, можно
уподобить — и здесь очевидна отсылка к десятой
главе книги Л «Метафизики» — главе армии на поле
боя («все приводится в движение по единому знаку
главнокомандующего, наделенного высшими
полномочиями», Mund., 399b) или же
внушительному административному аппарату персидского царя:
Сам царь, как сказывают, жил в Сузах или Эк-
табанах, скрытый от посторонних глаз за
оградой великолепного царского дворца [basileion oi-
kon], сверкающей золотом, янтарем и слоновой
4- В существующем русском переводе: «Тем самым древние
смогли дать надлежащее понятие о силе Бога, но не о его
сущности».
121
ЦАРСТВО И СЛАВА
костью. К дворцу вела анфилада
величественных ворот, далеко отстоявших друг от друга.
Все ворота были медные и имели особые
преддверия, вправо и влево уходили высокие стены.
Снаружи по порядку размещались знатнейшие
и славнейшие мужи: копьеносцы и слуги вокруг
самого царя, а затем стражи каждой ограды,
называемые привратниками и слухачами, —
выходило, что сам царь, величаемый господином
и богом, все видел и слышал. Отдельно
размещались сборщики пошлин, военачальники и
распорядители охоты, приемщики подарков, а также
люди, приставленные ко всему остальному. [...]
Также были скороходы, сторожи, гонцы [aggeli-
qforoi] и наблюдатели сигнальных огней. И так
все было идеально устроено, что царь узнавал
обо всем происходящем в Азии в тот же день
(в этом особенно помогали сигнальные огни).
Но необходимо разуметь, что персидскому царю
так же далеко до властвующей в космосе
божественности, как до него самого — слабой и
ничтожной твари. И если нечестиво полагать,
что Ксеркс лично всем занимается и сам
осуществляет управление, во все вникая, то тем
менее подобает мыслить такое в отношении Бога5.
[Ibid., 398а-398Ь.]
Так, характерным образом административный
аппарат, с помощью которого земные правители
обеспечивают сохранность своего царства, становится
парадигмой божественного управления миром. Однако
автор трактата тут же спешит уточнить, что
аналогия между Божьим могуществом и
бюрократическим аппаратом не должна приводить к окончатель-
5- За основу перевода данного отрывка принят перевод И. И. Ма-
ханькова: внесены лишь некоторые изменения в
соответствии с вариантом перевода, представленным Агамбеном.
122
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
ному разделению между Богом и его могуществом
(точно так же, по мысли Святых Отцов, ойкономия
не должна предполагать расщепления
божественной сущности). В отличие от земных правителей,
Бог не нуждается во «множестве чужих рук» (poly-
cheirias), но «через простое движение первой
небесной сферы он передает свою мощь вещам за ней
следующим, а от них постепенно доводит ее и до вещей
самых отдаленных». Если истинно то, что король
царствует, но не правит, в таком случае его
правление—то есть его могущество —не может быть
полностью от него отделено (ibid., 39^b). В данном смысле
налицо почти полное соответствие между стоико-
иудаистской концепцией божественного
управления миром и христианской идеей
провиденциальной экономики, что подтверждается пространным
отрывком из шестой главы, в котором это правление
описывается в терминах самого настоящего
провиденциального устроения вселенной:
Из этих движений, согласно звучащих и
кружащихся по небу словно в танце, возникает
единая гармония, происходящая из единого
источника и разрешающаяся также в едином, поэтому
воистину мироздание называется «космосом»
[устроением], а не «акосмией» [безобразием].
Как вслед за корифеем, запевающим песню, ее
подхватывает мужской или также женский хор,
из разных высоких и низких голосов
составляющий стройную гармонию, то же происходит
и с устраивающим мироздание Богом: по
знаку этого нарицаемого корифеем божества
вечно движутся звезды и небо. Движется двойным
обращением и яркое Солнце: своими
восходами и заходами оно разделяет день и ночь, а
смещаясь то севернее, то южнее, —устанавливает
четыре времени года. В определенное время идет
123
ЦАРСТВО И СЛАВА
дождь, дует ветер, выпадает роса, происходят все
явления — все вследствие первой и изначальной
причины6. [Ibid., 399a]
Аналогия, связывающая образы трактата «О мире»
и образы, использованные теоретиками ойкономищ
такова, что применение термина oikonomeô в
отношении божественного управления миром,
которое сравнивается с действием закона в городе
(«закон, оставаясь неподвижным, устрояет все вещи,
panta oikonomei», ibid., 400b), не представляется
неожиданным. Тем большее удивление вызывает тот
факт, что и в этом случае Петерсон воздерживается
от малейшего намека на экономическую теологию,
что тем не менее позволило бы рассматривать этот
текст в его связи с иудейско-христианской
политической теологией.
4-3- В своем запоздалом, полном негодования
ответе Петерсону Карл Шмитт с особой
тщательностью анализирует контекст, в котором теолог
использовал «пресловутую формулу» le roi règne, mais
il ne gouverne pas в своем трактате 1935 года. «Я
полагаю, — не без иронии пишет он, — что
включение этой формулы в данный контекст
представляет собой наиболее примечательный вклад, который
Петерсон — возможно, неосознанно — внес в
политическую теологию» (Schmitt 4. Р-42). Шмитт
прослеживает истоки этой формулы, обнаруживая ее
у Адольфа Тьера, который использует ее в качестве
лозунга парламентарной монархии, а еще раньше —
в ее латинском варианте (rex régnât, sed non gubernai) —
в полемике, разгоревшейся в XVIII веке вокруг
фигуры польского короля Сигизмунда III. Тем большее
6. Перевод на русский язык И. И. Маханькова.
124
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
удивление вызывает у Шмитта то, насколько
решительным жестом Петерсон смещает происхождение
формулы в прошлое, возводя ее к самым истокам
христианской теологии. «Это доказывает, сколько
раздумий и какая работа мысли могут быть
вложены в формулирование приемлемой теолого-полити-
ческой или метафизико-политической доктрины...»
(Ibid. P. 43)* Таким образом, подлинный вклад Пе-
терсона в политическую теологию состоит не в том,
что ему удалось доказать невозможность
христианской политической теологии, но в том, что он сумел
усмотреть аналогию между либеральной
политической парадигмой, которая разделяет царствование
и правление, и парадигмой теологической,
разграничивающей в Боге arche и dynamis.
Однако даже здесь кажущееся разногласие между
двумя противниками скрывает под собой более
сущностное единодушие. Как Петерсон, так и Шмитт
по сути являются убежденными противниками
этой формулы: Петерсон — потому, что она
определяет иудеиско-эллинистическую теологическую
модель, лежащую в основе политической
теологии, которую он намеревается подвергнуть
критике; Шмитт —поскольку она служит эмблемой и
лозунгом либеральной демократии, против которой
он ведет свою борьбу. Для того чтобы понять
стратегические импликации проводимой Петерсоном
аргументации, принципиально важно прояснить
не только то, что в ней озвучено, но и то, что в ней
замалчивается. Как мы уже имели возможность
убедиться, разграничение между царствованием,и
правлением действительно имеет свою теологическую
парадигму не только в иудаизме
эллинистического толка, как полагает Петерсон, казалось бы,
принимая это за некую данность, — но также и в трудах
христианских теологов, которые между III и V ве-
125
ЦАРСТВО И СЛАВА
ком обосновывают разграничение между бытием
и ойкономией, между теологической
рациональностью и рациональностью экономической. Иными
словами, причины, по которым Петерсон
стремится удержать парадигму Царствование/Правление
в пределах иудаистской и языческой политической
теологии, суть те же, в силу которых он обходит
молчанием изначальную «экономическую»
формулировку тринитарной доктрины. Иначе говоря,
речь шла о том, чтобы, отринув, вопреки Шмитту,
теолого-политическую парадигму, всячески
воспрепятствовать (и здесь Петерсон действует созвучно
Шмитту) тому, чтобы ей на смену пришла теолого-
экономическая парадигма. Тем более
безотлагательным в этом свете представляется новое, углубленное
генеалогическое исследование предпосылок и
теологических импликаций разграничения Царство/
Правление.
К По мысли Петерсона, «экономическая» парадигма в
узком смысле является неотъемлемой частью иудаистского
наследия Нового времени, в котором банк стремится занять
место храма. Лишь голгофская жертва Христа
ознаменует собой конец жертвоприношений в еврейском храме.
Действительно, по Петерсону, изгнание торговцев из храма
свидетельствует о том, что за голгофской жертвой
Христа стоит «диалектика денег и жертвоприношения».
После разрушения храма евреи попытались подменить
жертвоприношение милостыней.
Жертвуемые Богу и накапливаемые в храме
деньги превращают храм в банк [...]. Евреи, которые
отвергли политический порядок, когда заявили,
что над ними нет никакого царя [...], осуждая
Христа за его высказывания против храма,
стремились спасти экономический порядок.
Peterson 2. P. 145-]
12б
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Именно эта подмена политики экономикой в результате
жертвы Христа стала невозможной.
Наши банки превратились в храмы, но именно
они делают очевидным в так называемом
экономическом порядке превосходство кровавой голгоф-
ской жертвы и доказывают невозможность спасти
то, что исторично [...]. Подобно тому как в
политическом порядке светские царства народов
земли после эсхатологической жертвы не могут быть
«спасены», «экономический порядок» евреев
не может быть сохранен в форме связующего
отношения между храмом и деньгами [Ibid.].
Таким образом, как политическая, так и экономическая
теология исключаются из христианства как чисто иуда-
истское наследие.
4-4- Враждебность Шмитта в отношении
любых попыток разграничить Царство и Правление,
и в частности его неприятие
либерально-демократической доктрины разделения властей, которая
тесно связана с этим разграничением, часто
проступает в его работах. Уже в «Verfassungslehre»7 1927 года
он употребляет эту формулу в отношении
«парламентской монархии в бельгийском стиле», в
которой управление делами находится в руках
министров, тогда как король представляет своего рода
«нейтральную власть». Единственное
положительное значение, которое Шмитт, по видимости,
признает за разделением Царства и Правления,
—восходит к разграничению между auctoritas и potestas:
Вопрос, который задал великий знаток
общественного права, Макс фон Зайдель: «Что остает-
7- «Теория конституции» (нем.).
127
ЦАРСТВО И СЛАВА
ся от régner, если убрать gouverner?» — может быть
разрешен лишь в рамках разграничения между
potestas и auctoritas: тогда проясняется и особый
смысл авторитета перед лицом политической
власти [Schmitt 4- Р. 382-383]-
Этот смысл раскрывается в эссе 1933 г°да
«Государство, движение, народ», в котором Шмитт, пытаясь
сделать набросок новой конституции
националистического рейха, по-новому переосмысляет
разграничение между Царством и Правлением. Хотя
во время обостренных социально-политических
конфликтов в Веймарской республике он
энергично выступал за расширение полномочий рейхспре-
зидента как «гаранта конституции», Шмитт теперь
утверждает, что президент «вновь занял своего рода
«конституционную» позицию авторитарного
главы Государства, qui règne et ne gouverne pas» (Schmitt, 5.
P. 10). Теперь перед этим неправящим, сувереном
предстает, в лице Адольфа Гитлера, не просто функция
управления [Regierung), но новая фигура
политической власти, которую Шмитт называет Führung и
которую как раз-таки следует отличать от
традиционного правления. В этом контексте он намечает
генеалогию «управления людьми», которая,
кажется, в головокружительной перспективе
предвосхищает генеалогию, которая в середине i97°"x
составит предмет занятий Мишеля Фуко в рамках его
лекционных курсов в Коллеж де Франс. Как и Фуко,
Шмитт видит в пастырстве католической церкви
парадигму современной концепции управления:
Вести [führen] не означает повелевать. [...] Во имя
укрепления своей власти над верующими
римско-католическая церковь превратила образ
пастуха и стада в догматико-теологическую идею.
[Ibid. P. 4i]
128
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Точно так же в знаменитом пассаже из диалога
«Политик» Платон
говорит о различных метафорах, применяемых
в отношении правителя: последний
сравнивается с врачом, пастухом и кормчим; в итоге в
качестве наиболее удачного утверждается сравнение
с кормчим. Через слово gubernator оно проникло
во все романские и англосаксонские языки,
формировавшиеся под влиянием латыни, и в итоге
стало означать управление [Regierung]:
gouvernement, governo, government, или же gubernium старой
Габсбургской монархии. История слова gubernator
являет собой замечательный пример того, каким
образом причудливое сравнение может лечь в
основу узкоюридического понятия. [Ibid. P. 41-42-]
К Именно на фоне этих размышлений об управлении
Шмитт пытается подчеркнуть «исконно немецкий
смысл» (Ibid. P. 42) националистического концепта
Führung, который «берет свое начало не в барочных
аллегориях и представлениях [аллюзия на теорию
суверенитета, которую Беньямин развивает в работе «Происхождение
немецкой барочной драмы»] или «в общей картезианской
идее», а «непосредственно в настоящем, и связан он с
реальным присутствием» (Ibid.). Однако такое обособление
не очень убедительно, поскольку «исконно немецкого
смысла» термина попросту не существует, а слово Führung,
как и глагол führen и существительное Führer (в отличие
от итальянского «дуче», которое в истории уже
претерпело сужение значения до военно-политической области —
например, в случае венецианского «дож»), отсылает к
чрезвычайно обширной семантической сфере, включающей в себя
любую ситуацию, в которой некто направляет и
ориентирует движение живого существа, транспортного средства
или объекта (включая, разумеется, случай губернатора,
то есть кормчего). Впрочем, чуть ранее анализируя троич-
129
ЦАРСТВО И СЛАВА
ное расчленение национал-социалистической
материальной конституции на «Государство», «движение» и
«народ», Шмитт определил народ как «аполитичную сторону»
[unpolitische Seite], которая формируется под защитой
и в тени политических решений» (Ibid. Р. ist), тем самым
недвусмысленно закрепляя за партией и за Фюрером
характерную пастырскую и управленческую функцию. Специфику же
Führung в отношении пастырско-управленческой
парадигмы, по мысли Шмитта, составляет то, что если в рамках
последней «пастырь остается абсолютно
трансцендентным по отношению к стаду» {Ibid. Р. 41), то первая,
напротив, определяется исключительно «исходя из абсолютного
видового равенства [Artgleichheit] между Фюрером и его
последователями» (Ibid. P. 42). Концепт Führung
выступает здесь в качестве секуляризации пастырской парадигмы,
в рамках которой упраздняется трансцендентный
характер последней. Однако для того, чтобы высвободить
Führung из тисков управленческой модели, Шмитт вынужден
придать конституционный статус понятию расы,
благодаря которому аполитичный элемент —
народ—политизируется единственно возможным, согласно Шмитту, образом,
то есть благодаря превращению племенного равенства в
критерий, который, отделяя чужое от тождественного, всякий
раз служит основой для принятия решения о том, кто есть
друг, а кто есть враг. Не без аналогии с анализом, который
разовьет Фуко в «Il faut défendre la société»*, расизм таким
образом становится диспозитивом, посредством которого
суверенная власть (которая для Фуко совпадает с властью
над жизнью и смертью, а у Шмитта—с решением о
чрезвычайном положении) вновь включается в биовласть. Таким
образом экономико-управленческая парадигма возвращается
в подлинно политическую сферу, в которой разделение
властей теряет свой смысл, а акт управления (Regierungakt)
уступает место уникальной деятельности, посредством
которой «Фюрерутверждает свое высшее Führertum».
8. Речь идет о работе Фуко «Нужно защищать общество».
130
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
4-5- Теологическая парадигма разграничения
Царства и Правления обнаруживается у Нумения.
Этот философ-платоник, творивший примерно
во второй половине И века и оказавший
значительное влияние на Евсевия Кесарийского —а через него
и на всю христианскую теологию, — выделяет двух
богов. Первый из них, называемый царем,
непричастен к миру, трансцендентен и совершенно
бездеятелен; второй, напротив, деятелен и занимается
управлением миром.
Весь 12-й фрагмент, сохраненный Евсевием (Ргаер.
Evang. II, i8, 8), посвящен вопросу о деятельности
или бездействии первого бога:
Первому богу нет надобности быть деятельным
[dêmiourgein]; его также следует рассматривать
как отца бога деятельного. Теперь, если мы наше
исследование направим на творящее начало,
говоря, что первоначало, существуя прежде, должно
действовать особенным образом, это было бы
подобающим вступлением к нашему рассуждению.
Но если не о творящем начале это исследование,
а направлено оно на первопричину, то я беру назад
сказанное, [...] первый бог пребывает в покое [ö7göw]
в том, что касается дела творения, ибо он царь
[basiled]; а бог-демиург [dêmiourgikon] управляет всем [he-
gemonein], шествуя по небу. [Mim. Fr. 12. P.54]
Еще Петерсон заметил, что центральным здесь
является не столько вопрос о наличии одного или
нескольких богов, сколько о том, причастно ли
высшее божество к силам, управляющим миром: «Таким
образом, из принципа, согласно которому Бог
царствует, но не правит, проистекает гностическое
следствие, состоящее в том, что царство Божье есть благо,
а правление демиурга —то есть творящих сил,
которые можно также причислить к категории функцио-
131
ЦАРСТВО И СЛАВА
неров, — является злом; иными словами, что
правление всегда несправедливо» {Peterson i. P. 27-28).
В данном смысле гностическая политическая
концепция не просто противополагает благого бога
злому демиургу, но также — и главным образом —
проводит разграничение между богом праздным, никоим
образом не связанным с миром, и богом, который
активно вмешивается в дела мира с целью им
управлять. Иными словами, противопоставление Царства
и Правления составляет часть гностического
наследия новоевропейской политики.
Каков смысл этого разграничения? И почему
первый Бог называется «царем»? В одном своем
поучительном сочинении Хайнрих Дорри
восстановил платонические (а именно восходящие к периоду
Старой Академии) истоки этой метафоры царства
в применении к божеству. Она восходит к
эзотерическому отступлению во Втором платоновском
(или псевдоплатоновском) письме, в котором
проводится различие между «царем всего сущего» (pantôn
basiled), который есть причина и цель всех вещей,
и вторым и третьим богом, вокруг которого
располагаются все вторые и третьи вещи {Plat. Epist. 2, 3J2e).
Дорри прослеживает историю этого образа на
материале сочинений Апулея, Нумения, Оригена и
Клемента Александрийского вплоть до самого Плотина,
в «Эннеадах» которого этот образ возникает четыре
раза. Предполагается, что в стратегии «Эннеад»
метафора бога-царя, с ее уравниванием небесной и
земной власти, позволяет «прояснить теологию
Плотина, направленную против гностиков» (Dörrte. Р. 233):
Плотин присваивает ее себе, поскольку видит
в ней выражение центрального момента его
собственной теологии. С другой стороны, здесь
необходимо сослаться на издревле господствующее
132
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
представление о Боге, не проводящее
различия между властью земной и властью небесной:
Бог должен быть окружен иерархически
организованным придворным штатом — точь-в-точь
как земной правитель. [Ibid. P. 232.]
Таким образом, теология Нумения дает дальнейшее
развитие парадигме, не только гностической по
своим истокам, но распространенной еще в древнем
и в среднем платонизме: поскольку в ней
утверждаются две (или три) божественные фигуры, различные
и в то же время связанные между собой, она не
могла не возбудить интерес теоретиков христианской
ойкономии. Однако специфическая функция этой
теологии заключается в противопоставлении действия
и бездействия, трансцендентности и
имманентности. То есть она представляет собой крайнее
проявление тенденции, радикально разрывающей Царство
и Правление на основе отделения монарха, сущност-
но чуждого мирозданию, от имманентного
управления сущим. Примечательно в этом отношении
проводимое в 12-м фрагменте терминологическое
противопоставление между basileus (в отношении первого
бога) и hëgemonein (в отношении демиурга),
означающем особую активную функцию руководства и
начальствования: Hegemon (как и латинское dux) в
зависимости от ситуации может означать животное,
ведущее за собой стадо, возницу, военнокомандующего,
и — технически — правителя провинции. Тем не
менее, притом, что у Нумения разграничение между
Царством и Правлением четко прочерчено, два
термина все же не утрачивают взаимосвязи, и второй бог
в некотором роде представляет собой необходимое
дополнение первого. В этом смысле демиург
сравнивается с кормчим, и если последний обращает свой
взор к небу, чтобы найти дорогу, то первый для того,
133
ЦАРСТВО И СЛАВА
чтобы ориентироваться в деле управления, «вместо
неба созерцает высшего бога» (fr. 18). В другом
фрагменте отношения между первым богом и демиургом
уподобляются отношениям сеятеля и пахаря: земной
бог (пахарь) бдит и распределяет семена, которые
первый посеял в душах (fr. 13). Бог правящий, по сути,
нуждается в боге бездеятельном и предполагает его
существование —точно так же, как последний
нуждается в деятельности демиурга. Итак, все
свидетельствует о том, что царство первого бога
составляет вместе с правлением демиурга единую
функциональную систему—подобно тому, как в христианской
ойкономии бог, который осуществляет дело спасения,
в действительности выполняет волю отца, хотя
является при этом анархичной ипостасью.
X В истории раннехристианской церкви наиболее
радикальным поборником гностической антиномии чуждого миру
бога и земного демиурга был Маркион {«Gott ist der Fremde»:
этим слоганом Гарнак резюмирует его доктрину: Harnack.
Р. 4)- В этой перспективе христианскую ойкономию можно
рассматривать как попытку преодолеть маркионизм,
размещая гностическую антиномию внутри божества и таким
образом примиряя чуждость миру и правление миром. Бог,
мир создавший, лицезреет природу, развращенную грехом
и отчужденную, которую бог-спаситель, наделенный
функцией управления миром, должен искупить во имя царства,
не имеющего к этому миру никакого отношения.
К Необычная фигура deus otiosus9, который при этом
является и творцом, встречается в «Апологии» Апулея,
где summus genitor10 и assiduus mundi sui opifex11 onpe-
9. Бог праздный (лат.).
ю. Высший родитель (лат.).
п. Усердный творец своего мира (лат.).
134
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
деляются как «sine opera opifex», «творец без творения»,
и «sine propagatione genitor», «родитель без потомства»
(Apol. 64)-
4.6. Философская парадигма разграничения
между Царством и Правлением содержится в
заключительной главе книги Л «Метафизики»:
именно отсюда Петерсон заимствует цитату, которой
он открывает свой трактат, направленный против
политической теологии. Аристотель только что
завершил изложение того, что принято называть его
«теологией»: в ней Бог предстает как
неподвижный перводвигатель, который движет небесные
сферы и форма-жизни {diagöge) которого являет собой
в своей сущности мышление мышления. Следующая,
десятая глава посвящена — вне какой-либо
логической последовательности, по крайней мере, на
первый взгляд — проблеме отношения между благом
и миром (или вопросу о том, каким образом
«всеобщая природа содержит в себе благо») и
традиционно толкуется как теория превосходства парадигмы
трансцендентности над парадигмой
имманентности. Так, в своем комментарии к книге Л
«Метафизики» Фома Аквинский утверждает, что
«существующее отдельно благо, которое есть перводвигатель,
превосходит благо, заключенное в порядке
мирового целого» (Sent. Metaph. Lib. 12. L. 12, п. 5). Схожим
образом автор последнего научного издания
аристотелевского текста, Уильям Д. Росс, утверждает,
что «согласно изложенному здесь учению, благо
существует не только имманентно в мире, но и транс-
цендентно —в Боге, ведь именно Он является
источником всякого земного блага» (Ross. P. 401).
Отрывок, о котором идет речь, представляет
собой одно из самых сложных и насыщенных
смыслами мест трактата и никоим образом не может быть
135
ЦАРСТВО И СЛАВА
сведен к такому упрощенному синтезу.
Трансцендентность и имманентность не просто соотносятся
в нем как высшее и низшее, но сочленены между
собой таким образом, что сливаются в единую
систему, в которой существующее отдельно благо и
имманентный порядок образуют космогоническую
и одновременно политическую (или
экономико-политическую) машину. Это тем более знаменательно
в свете того, что, как мы убедимся, все средневековые
комментаторы видят в десятой главе книги Л
«Метафизики» изложение теории божественного
управления {gubernatio) миром.
Обратимся к интересующему нас пассажу.
Аристотель начинает с того, что излагает проблему
в форме дихотомической альтернативы:
Необходимо рассмотреть, каким из двух способов
содержит природа мирового целого благо и
наилучшее — как нечто существующее отдельно [ке-
chörisrnenon] и само по себе [kath'hautcï] или как
порядок [taxin]. [Metaph. ю, 1075а.]
Если трансцендентность определена здесь в
традиционных терминах отделения и автономии, то
важно отметить, что фигура имманентности, напротив,
является фигурой порядка, то есть представляет
собой связь каждой вещи со всеми остальными.
Имманентность блага означает taxis, порядок. Однако
модель тут же усложняется, и посредством сравнения,
заимствованного из военного искусства (которое
почти наверняка стоит у истоков аналогичного образа,
который мы встретили в «De mundo»),
альтернатива превращается в компромисс:
Или же и тем и другим способом, как
[происходит] у войска [strateuma]. Ведь здесь благо состоит
в порядке, но и сам предводитель войска [strate-
136
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
gos] — благо, и скорее даже он: ведь не он зависит
от порядка, но порядок зависит от него. [Ibid.]
Последующий отрывок проясняет, каким образом
следует понимать идею имманентного порядка,
чтобы она согласовывалась с трансцендентностью
блага. С этой целью Аристотель, оставив в стороне
военную метафору, прибегает к примерам из природного
мира—и главным образом к тем из них, которые
связаны с управлением домом:
В самом деле, все взаимно упорядочено \synte-
taktai] определенным образом — и рыбы, и
птицы, и растения, но притом неодинаковым
способом; и дело обстоит не так, что одно не имеет
никакого отношения к другому; ибо есть что-то
[что упорядоченно связывает их между собой].
Воистину все упорядочено по отношению к
единому, но так, как это бывает в доме [en oikiai],
где свободным меньше всего полагается делать
все, что придется, ибо для них все или
большая часть [дел] определены, между тем у рабов
и у животных мало что имеет отношение к
общему, а большей частью им остается действовать
согласно случаю. Начало, которое ими управляет
[arkè], для каждого является его природой.
Всякая вещь, по моему разумению, должна занимать
свое особое место, и точно так же есть и другое,
в чем участвуют все для [блага] целого. [Ibid.]
Любопытно, что примирение трансцендентности
и имманентности посредством идеи взаимной
упорядоченности вещей осуществляется через обращение
к метафоре «экономической» природы. Единство
мира сравнивается с порядком в доме (а не с
порядком в городе); и все же именно эта экономическая
парадигма (которая, согласно Аристотелю, по
определению является монархической) позволяет в кон-
137
ЦАРСТВО И СЛАВА
це концов вновь ввести метафору политического
характера: «Сущее не желает быть плохо управляемым
\politeuesthai kakös]. Нет в многовластии блага, да
будет единый властитель» [Ibid. 1076a]. Ведь в
управлении домом единое начало, которое все
упорядочивает, проявляется разными способами и в разной
мере — сообразно различной природе отдельных
существ, которые являются его частью (связывая
воедино высшее начало и природу, arche и physisy
Аристотель предлагает формулу, которая ляжет в основу
продолжительной теологической и политической
традиции). Свободные люди, будучи существами
рациональными, пребывают с ним в
непосредственной и сознательной связи и не действуют случайно,
тогда как рабы и домашние животные могут лишь
следовать своей природе, которая тем не менее
содержит (хоть и всякий раз в разной мере)
отражение единого порядка, вследствие которого они
стремятся к общей цели. Это означает, что в конечном
счете неподвижный двигатель как трансцендентное
arche и имманентный порядок (как physis)
формируют единую биполярную систему и что, несмотря
на разнообразие и различие между природами,
домом-миром управляет единое начало. Власть
—всякая власть, человеческая и божественная — должна
удерживать в себе эти два полюса, то есть быть
одновременно царством и правлением,
трансцендентной нормой и имманентным порядком.
4-7- Всякое толкование десятой главы книги Л
«Метафизики» должно исходить из анализа
понятия taxis, «порядок», которое в тексте не определено
тематически, но лишь проиллюстрировано
посредством двух парадигм, относящихся соответственно
к военному искусству и к сфере управления домом.
Впрочем, этот термин неоднократно встречает-
13«
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
ся в трудах Аристотеля, хотя при этом он никогда
не является объектом полноценного определения.
К примеру, в «Метафизике», 985b, он упоминается
наряду со schema и thesis в контексте разговора о
различиях, которые, согласно атомистам,
обусловливают множественность сущего: taxis отсылает к diathigê,
к взаимной связи, которая иллюстрируется при
помощи различия между AN и NA. Аналогичным
образом в «Метафизике», Ю22а, расположение
(diathesis) определяется как «упорядочение [taxis] того,
что состоит из частей, согласно месту, способности
или форме». А в «Политике» (1298а 8-ю)
конституция (politeia) определяется как taxis (взаимное
упорядочение) между властями (archai), при этом
«существует столько же форм конституции, сколько
возможных taxei между частями». Стало быть,
именно в интересующем нас отрывке это общее
значение термина «порядок» уступает место его
стратегическому смещению в область слияния онтологии
и политики: это делает из него важнейший
terminus tecnicus западной политики и метафизики, хотя
как таковой он редко становился объектом
исследований.
Как мы видели, Аристотель начинает с того, что
противопоставляет понятие порядка тому, что
существует отдельно (kechörismenos) и само по себе (ка-
th'hauto). Таким образом, порядок структурно
включает в себя идею взаимной имманентной связи: «Все
взаимно упорядочено определенным образом, [...]
и дело обстоит не так, что одно не имеет
никакого отношения к другому» (Metaph. 1075a).
Выражение, которое использует Аристотель {thateröipros tha-
teron mëderi), решительно вписывает понятие порядка
в область категории отношения (prosti): порядок,
таким образом, является отношением, а не
субстанцией. Но смысл этого понятия можно уяснить, лишь
139
ЦАРСТВО И СЛАВА
учитывая место, которое оно занимает в книге Л
«Метафизики».
Книга Л по сути всецело посвящена проблеме
онтологии. Всякий, кто хотя бы поверхностно знаком
с философией Аристотеля, знает, что одной из
основных проблем ее толкования, по сей день
вызывающей споры среди комментаторов, является
двоякая детерминированность объекта метафизики:
бытие отделенное или бытие как таковое. «Эта двоякая
характеристика prôtêphilosophic — пишет Хайдеггер, —
не предполагает двух принципиально различных
и независимых друг от друга путей мысли, так же
как не предполагает ослабления одного ради
другого; и уж совсем невозможно наскоро примирить эту
мнимую двойственность в некоем единстве»
[Heidegger 1. Р. 17). Книга Л как раз содержит так
называемую теологию Аристотеля, то есть учение об
отделенной сущности и о неподвижном двигателе,
который, существуя отдельно, тем не менее приводит
в движение небесные сферы. Именно для того,
чтобы воспрепятствовать расщеплению объекта
метафизики, Аристотель вводит на данном этапе
рассуждения концепцию порядка. Это теоретический дис-
позитив, позволяющий мыслить взаимосвязь между
двумя объектами, которая изначально, как
следует из процитированного выше отрывка, предстает
как вопрос о способе, которым природа универсума
обладает благом: «Необходимо рассмотреть, каким
из двух способов содержит природа мирового целого
благо и наилучшее —как нечто существующее
отдельно и само по себе или как порядок» (Metaph., 1075a).
Трансцендентность и имманентность, а также их
взаимная согласованность соответствуют в данном
случае расколу объекта метафизики и попытке удержать
связанными воедино две фигуры бытия. Апория,
однако же, состоит в том, что порядок (то есть фигура
140
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
отношения) становится способом, в котором
отделенная сущность присутствует и действует в мире.
Значимое место онтологии переносится, таким
образом, из категории сущности в категорию
отношения, притом отношения явно практического плана.
Проблема отношения между трансцендентностью
и имманентностью блага становится, таким образом,
проблемой взаимосвязи между онтологией и пракси-
сом, между бытием Бога и его действием. Тот факт,
что это смещение наталкивается на существенные
трудности, подтверждается тем, что Аристотель
не прямо затрагивает проблему, а просто
ссылается на две парадигмы —военную и чисто
экономическую. Так же как упорядоченное расположение войск
в армии соотносится с распоряжениями
предводителя войска, а в случае дома —разные населяющие его
существа, каждый следуя своей природе, в
действительности сообразуются с неким единым началом,
так и отделённое сущее сохраняет связь с
имманентным порядком вселенной (и наоборот). В любом
случае taxis, порядок, представляет собой диспозитив,
обеспечивающий возможность сочленения
отделенной сущности и бытия, Бога и мира. Taxis дает имя их
апоретической связи.
Несмотря на то что у Аристотеля идея
провидения совершенно отсутствует и он никоим образом
не мог бы помыслить отношение между
неподвижным двигателем и вселенной в терминах пронойи,
становится понятным, что именно в этом отрывке
более поздняя мысль, начиная с Александра Афро-
дисийского, нашла обоснование для теории
божественного провидения. Вовсе не задаваясь подобной
целью, Аристотель таким образом передал в
наследие западной политике парадигму божественного
режима мира как двоякую систему, образованную,
с одной стороны, трансцендентным архэ, а с дру-
Ц1
ЦАРСТВО И СЛАВА
гой — имманентной согласованностью действий
и вторичных причин.
К Одним из первых, кто связал аристотелевского бога и
парадигму Царство/Правление, был Уилл Дюрант: «Бог
Аристотеля [...] — это roi fainéant, царь-бездельник [a
do-nothing king]: он царствует, но не правит» (Durant. P. 82).
К В своем комментарии к книге А «Метафизики» Аверро-
эс тонко подметил, что крайним следствием из
аристотелевского учения о двух способах, которыми благо существует
в мире—как порядок и как начало, благодаря которому
порядок существует, —может вытекать гностический дитеизм:
Некоторые утверждают, что нет ничего такого,
на что не распространялось бы провидение Божье,
ибо Бог ничего не может оставить без своего
попечения и не может он совершать зла. Другие же
отвергают подобную аргументацию, возражая,
что в мире происходит много дурного: Бог не
может быть соучастником этого. Некоторые из
сторонников такого взгляда дошли до того, что
стали утверждать, будто существует два бога: один бог
производит зло, а другой бог производит благо.
По мысли Аверроэса, гностический дитеизм обнаруживает
свою парадигму в разрыве между трансцендентностью и
имманентностью, который аристотелевская теология
оставила в наследие Новому времени.
4-8. Превращение концепции порядка в
основополагающую метафизическую и вместе с тем
политическую парадигму есть достижение средневековой
мысли. Поскольку христианская теология переняла
у аристотелизма постулат о трансцендентном
бытии, проблема взаимоотношений между Богом и
миром неизбежно становится во всех смыслах
определяющей. Вместе с тем взаимоотношение между
Ц2
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Богом и миром неизбежно заключает в себе
онтологическую проблему, ведь речь идет не об отношении
между двумя сущностями, а об отношении,
которое касается исключительной формы самого бытия.
С этой точки зрения отрывок из книги Л
поставляет ценную и вместе с тем апоретическую модель.
Эта модель становится постоянным ориентиром,
направляющим замысел бесчисленных трактатов
«De bono»12 и «De gubernatione mundi»13.
Если в целях рассмотрения этой парадигмы
мы обратились к сочинениям Фомы Аквинского
(а не к трудам Боэция, Августина или Альберта
Великого, которые, наряду с Аристотелем,
являются основными источниками его мысли в
отношении данной проблемы), то это не только потому,
что концепция порядка становится у него
«ключевым принципом» (Silva Tarouca. Р. 342) и даже
«константой, пронизывающей всю систему его
мысли» (Krings 1. Р. 13), но потому, что несоответствия
и противоречия, которые она в себе таит,
выступают у него с особой наглядностью. В согласии с
интенцией, глубоко отпечатавшейся на всем
средневековом мировоззрении, Фома Аквинский попытался
сделать из порядка основополагающее
онтологическое понятие, которое определяет и обусловливает
саму идею бытия; тем не менее, именно по этой
причине аристотелевская апория получает у него свою
самую радикальную трактовку.
Исследователи, изучавшие концепцию
порядка в учении Фомы Аквинского, обратили
внимание на присущую ей амбивалентность (порядок,
как и бытие, может быть определен разными спосо-
12. «О благе» (лат.).
*3* «Об управлении миром» (лат.).
43
ЦАРСТВО И СЛАВА
бами). Ordo, с одной стороны, выражает связь
тварных существ относительно Бога (ordo ad unum principi-
um), а с другой — отношение тварных существ между
собой (ordo ad invicem). Аквинат неоднократно
прямо утверждает двойственность, структурно
присущую порядку: «Est autem duplex ordo considerandus
in rebus. Unus, quo aliquid creatum ordinatur ad ali-
um creatum. [...] Alius ordo, quo omnia creata ordinan-
tur in Deum»14 (S. Th., I, q. 21. a. I, ad.3; cfr. Krings 2.
R10). «Quaecunque autem sunt a Deo, ordinem habent
ad invicem et ad ipsum Deum»15 (5. Th., I, q. 47, a. 3).
Тот факт, что эта двойственность напрямую
связана с аристотелевской апорией, подтверждается
тем, что Фома обращается к парадигме войска («si-
cut in exercitu apparet»16, Contra Gent., lib. Ill, cap. 64,
n. i) и несколько раз прямо ссылается на отрывок
из книги А «Метафизики» («Finis quidem universi
est aliquod bonum in ipso existens, scilicet ordo ipsi-
us universi, hoc autem bonum non est ultimus finis, sed
ordinatur ad bonum extrinsecum ut ultimatum fine; si-
cut etiam ordo exercitus ordinatur ad ducem, ut dici-
tur in XII Metaphys.»17, S. Th., I, q. 103, a. 2, ad. 3). Од-
ц. «Но в вещах следует рассматривать двойственный порядок.
Первый — посредством коего нечто тварное
определяется к иному тварному... Иной порядок —тот,
посредством коего все тварное упорядочено [т.е. определено]
к Богу». Фома Аквинский. Сумма теологии: Т. I. Первая
часть: Вопросы 1-64. Билингва латинско-русский: пер.
с лат.//под ред. Н. Лобковица, А. В.Апполонова. Изд. 2-е,
испр. —М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. С.329-
15. «Но все, что суть от Бога, обладает порядком как между собой,
так и по отношению к Самому Богу...». Фома Аквинский.
Сумма теологии: Т. I. Первая часть: Вопросы 1-64. С. бгб.
i6. «Так, как это проявляется в войске» (лат.).
ij. «...целью универсума, конечно, является некое благо,
существующее в нем самом, т.е. порядок самого универсума.
144
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
нако именно в его комментарии к «Метафизике»
расщепленность между двумя аспектами порядка
безапелляционно возводится к двойственной
парадигме блага (и бытия) у Аристотеля. Здесь не только
duplex ordo соответствует duplex bonum в
аристотелевском тексте, но сама проблема изначально ставится
в терминах отношения между двумя видами
порядка (или между двумя образами блага). Аристотель,
по замечанию Фомы,
показывает, что мироздание содержит в себе
как отделённое благо, так и благо, заключенное
в порядке [bonum ordinis\ [...] Ибо существует
отделённое благо: оно есть перводвигатель, от
которого зависят небо и природа, поскольку это
их цель и алкаемое ими благо. [...] И коль скоро
все вещи, имеющие конец, сходятся в
определенном порядке по отношению к этому концу, в
разных частях мироздания должен быть какой-то
порядок; таким образом, мироздание содержит
в себе как отделённое благо, так и благо,
заключенное в порядке. Мы можем наблюдать такое
положение дел на примере войска... [Sent. Me-
taph., lib. 12,1.12, nn. 3-4]
Два блага и два порядка, будучи тесно связанными
между собой, все же не являются симметричными:
«Отделенное благо, которое есть перводвигатель,
является благом лучшим [melius bonum] по сравне-
Однако же это благо не есть предельная цель, но оно
упорядочено по отношению к внешнему благу как к,предель-
ной цели. Так ведь и порядок войска упорядочен по
отношению к полководцу, как сказано в XII книге
„Метафизики"». Фома Аквинский. Сумма теологии: Т. II. Первая
часть: Вопросы 65-119: пер. с лат.//под ред. Н.Лобкови-
ца, А. В. Апполонова. Изд. 2-е. М.: КРАСАНД, 2014. С. 45^.
Раздел озаглавлен «Об управлении вещами в общем».
Н5
ЦАРСТВО И СЛАВА
нию с благом, заключенным в порядке мироздания»
(Ibid., n. 5). Это несоответствие между двумя
порядками проявляется в том различии между
отношением всякого тварного существа с Богом и его
отношением с другими существами, которое Аристотель
выразил посредством экономической парадигмы
управления домом. Всякое тварное существо,
комментирует Фома, пребывает в отношении с Богом
в силу своей особой природы — в точности как это
происходит в доме:
В хорошо организованном доме или семье есть
несколько ступеней: после главы семьи
ступенью ниже располагаются дети, затем — рабы и,
наконец, животные, обслуживающие дом, —такие
как собаки и прочая живность. Эти ступени
существ по-разному соотносятся с порядком дома,
который устанавливается главой семьи,
управляющим домом. [...] И подобно тому как в
семье порядок устанавливается посредством
закона и предписаний, исходящих от главы семьи,
который для каждого члена семьи есть начало
всякого упорядочения в доме, — таким же
образом природа естественных вещей для всякого
тварного существа есть начало всякого действия,
необходимого для осуществления порядка
мироздания. В самом деле, подобно тому как тот,
кто живет в доме, склонен к чему-либо в
соответствии с предписанием главы семьи, — каждая
естественная вещь существует в соответствии
с собственной природой. [Ibid., nn. 7-8.]
Апория, вносящая едва заметный разлом в
удивительный порядок средневекового мироздания,
теперь начинает становиться более ощутимой. Вещи
упорядочены постольку, поскольку они
располагаются в определенном порядке друг относительно
друга, но это их отношение есть не что иное, как вы-
146
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
ражение их отношения к божественной цели; и,
напротив, вещи упорядочены постольку, поскольку
они пребывают в определенном отношении к Богу,
но эта связь выражается исключительно через их
отношение между собой. Единственное содержание
трансцендентного порядка есть порядок
имманентный, но суть имманентного порядка есть не что иное,
как связь с трансцендентной целью. «Ordo adßnem»
и «ordo ad invicem» отсылают друг к другу и друг в
друге основываются. Все совершенное теоцентрическое
здание средневековой онтологии покоится на этом
круге, а вне его теряет всякую состоятельность.
Христианский Бог и есть этот круг, в котором два
порядка без конца переходят один в другой. Но поскольку
то единство, которое порядок призван удерживать,
на самом деле безвозвратно разделено, то не только
ordo — так же как и бытие у Аристотеля — dicitur
multiplicité^* (таково название диссертации Курта Фла-
ша, посвященной Фоме Аквинскому), но и порядок
этот в самой своей структуре воспроизводит ту
двойственность, которой он должен противостоять.
Отсюда вытекает противоречие, отмеченное многими
учеными, в связи с которым в одних случаях Фома
основывает порядок мироздания в единстве Бога,
а в других — единство Бога в имманентном
порядке творений {Silva Tarouca. Р. 35°)* Это видимое
противоречие есть не что иное, как выражение
онтологического разрыва между трансцендентностью
и имманентностью, который христианская
теология получает в наследство от аристотелизма,
развивая и усугубляя его. Если довести до предела
парадигму отделенной сущности, то мы получим гнозис
с его Богом, чуждым миру и творению; строгое же
i8. «Сказывается многозначно» (лат.).
147
ЦАРСТВО И СЛАВА
следование парадигме имманентности приведет нас
к пантеизму. Между этими двумя крайностями идея
порядка стремится установить трудное равновесие,
которое христианское богословие непрерывно
утрачивает и которое оно всякий раз должно
завоевывать заново.
К Порядок является пустым понятием; точнее, это не
понятие, а сигнатура — то есть нечто такое в знаке или в
понятии, что, как мы убедились, преодолевает его, отсылая
его к определенной интерпретации или смещая его в иной
контекст, не выходя при этом из сферы семиотического
в целях конституирования нового значения.
Понятия, которые порядок имеет своей функцией
помечать, являются подлинна онтологическими. Иными
словами, сигнатура «порядок» производит смещение
исключительного места онтологии из категории субстанции
в область категорий отношения и праксиса, что,
возможно, составляет наиболее значимый вклад, который
средневековая мысль внесла в онтологию. Поэтому, когда в своем
исследовании по онтологии Средневековья Крингс
напоминает, что в рамках этой онтологии «бытие есть ordo, a ordo
есть бытие; ordo не предполагает никакого бытия, но
бытие содержит в себе ordo как условие собственной
возможности» (Krings 1. Р. 233), это не означает, что через
предикат порядка бытие получает новое определение: это
означает, что благодаря сигнатуре «порядок» сущность
и отношение, онтология и практика вступают в
конфигурацию, составляющую особое наследие, которое
средневековая теология оставила новоевропейской философии.
4-9- До Фомы Аквинского апоретический
характер порядка с еще большей силой проявился в
трактате Августина «De genesi ad litteram»19. Рассуждая
о шести днях творения и о символике числа б, Ав-
19. «О Книге Бытия буквально» (лат.).
148
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
густин неожиданно цитирует Книгу Премудрости
Соломона, и:2i: «Omnia mensura et numéro et
pondère disposuisti»20, принадлежащую к числу
текстов, на основании которых богословская
традиция единодушно утверждает идею особого порядка
творения (учитель Фомы Аквинского Альберт
Великий использует эти термины в качестве
синонимов ordo: «creata [...] per pondus sive ordinem»21,
5.7Ä., qu. 3, 3, art. 4, l). Цитата становится поводом
для философского отступления на тему отношения
между Богом и порядком, а также о самом месте
порядка, что несомненно является одним из
кульминационных моментов августиновской теологии.
Августин открывает свое рассуждение
решительной постановкой вопроса о том, «существовали ли
в каком-то месте до сотворения вселенной эти три
вещи — мера, число, вес, согласно которым, как
гласит Священное Писание, Господь расположил все
вещи, — или же они также были сотворены; и если
они существовали прежде, то где именно?» (Aug.,
Gen., 4> 3> 7)- Вопрос о местоположении порядка
тут же перетекал в вопрос об отношении между
Богом и порядком:
Прежде твари не было ничего, кроме
Творца. Значит, эти три вещи существовали в нем.
Но как существовали? Ведь сказано, что и все,
что сотворено, пребывает в нем же.
Означает ли это, что эти три вещи тождественны ему,
или же они пребывают в нем, который
направляет и устрояет их [а quo reguntur et gubernantur]?
Но каким образом они могут быть
тождественны ему? Ведь Господь не является ни мерой,
20. «Ты все расположил мерою, числом и весом» (лат.).
21. «Расположенная... по весу или порядку» (лат.).
49
ЦАРСТВО И СЛАВА
ни числом, ни весом — ни всеми этими
тремя вещами сразу. Можем ли мы тогда считать,
что Господь есть мера, число и вес в том
смысле, в котором мы знаем их при измерении,
исчислении и взвешивании вещей? Или же скорее
истинно то, что он изначальным, подлинным
и уникальным образом является всем этим в том
смысле, в каком мера сообщает всякой вещи ее
предел [modum praeßgit], число придает ей
особую форму [speciem praebet\ a вес влечет [trahit]
всякую вещь к покою и устойчивости, а он всему
сообщает предел и форму и все упорядочивает?
«Ты все расположил мерою, числом и весом»: это
изречение, насколько его может постичь
сердце и язык человеческий, означает в таком случае
не что иное, как «Все расположил Ты в Себе».
Немногим дано настолько возвыситься над всем
измеряемым, исчисляемым и взвешиваемым,
чтобы узреть меру без меры, число без числа, вес
без веса. [Ibid., 4, 3> 7~8. Р. 167-168.]
Следует поразмыслить над этим удивительным
фрагментом: в нем парадоксальное отношение
между Богом и порядком находит свою
радикальную формулировку, вместе с тем демонстрируя
собственную связь с проблемой ойкономии. Мера,
число и вес —то есть порядок, посредством которого
Бог расположил тварей, — в свою очередь не могут
быть сотворенными. Таким образом, хотя, они
несомненно существуют в вещах, ибо Бог
«расположил все вещи так, что каждая из них обладает мерой,
числом и весом» (ibid., 4> 5>1L Р-171)» они находятся
вне вещей; они существуют в Боге или же
совпадают с ним. Бог в самом своем бытии есть ordo>
порядок. И тем не менее он не может быть мерой,
числом и весом в том смысле, в котором эти термины
определяют порядок сотворенных вещей. Бог в са-
15°
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
мом себе есть extra ordinem : иными словами, он есть
порядок лишь в смысле упорядочения и расположения,
то есть не в плане сущности, а в плане деятельности.
«Он есть мера, число и вес не в абсолютном смысле,
но ille ista est совершенно по-новому [...] в том
смысле, что ordo больше не истолковывается как теши-
га, numerus, pondus, но как prqfigere, praebere, trahere;
как завершение, придание формы, упорядочение»
(Krings 2. Р. 245)- Божественное бытие, будучи
порядком, структурно являет собой ordinatio23, то есть
практику управления и действие, которое
располагает [dispone] все по мере, числу и весу. Именно в этом
смысле dispositio (не следует забывать, что это
латинский перевод ойкономии) вещей по порядку означает
не что иное, как dispositio вещей в самом Боге. В
очередной раз имманентный и трансцендентный
порядок отсылают друг к другу по парадоксальному
совпадению, которое может быть истолковано лишь
как непрекращающаяся ойкономия, как непрерывная
деятельность управления миром, которая заключает
в себе разрыв между бытием и действием,
одновременно являя собой попытку восполнить его.
Августин недвусмысленно говорит об этом в
последующих главках, комментируя стих Бытия 2:2
«И почил Бог в день седьмый от всех дел Своих,
которые делал». По мысли Августина, стих не следует
понимать в том смысле, что Бог в какой-то момент
прекратил свое действие.
Господь не то, что строитель, который, завершив
строение, оставляет его, ибо дело его
продолжается и тогда, когда он прекращает действие;
мир ни секунды не мог бы продолжать свое су-
22. Вне порядка (лат.).
23. Упорядочение (лат.).
!51
ЦАРСТВО И СЛАВА
ществование, если бы Господь лишил его своего
промышления24 [si ei Deus regimen sui subtraxerit].
[Gen., 4,12, 22. P. 182.]
Напротив, все твари пребывают в Боге не как части
его существа, но лишь как результат его
непрекращающегося действия:
Воистину мы существуем в нем не как его
субстанция [tamquam substantia eius] [...]; но коль
скоро мы есть нечто иное, чем он, то в нем мы
существуем лишь потому, что он своим действием
дает этому быть; это и есть его дело,
посредством которого он все содержит и благодаря
которому «его премудрость проникает мироздание
от края до края и бережно все устрояет25 [dispo-
mt\»; вот в силу этого управления мы «в нем
и живем, и движемся, и существуем».
Поэтому, если бы Господь отнял от вещей свое дело,
мы перестали бы жить, двигаться и существовать.
Итак, ясно, что Бог ни на один день не
прекращал своего промыслительного действия27 [ab
opère regendi]. [Ibid., 4,12, 23. P. 184.]
Возможно, нигде преобразование классической
онтологии, сокрытой в христианской теологии, не
являет себя с такой силой, как в этих августиновских
строках. Субстанция творений есть не что иное,
как деятельность божественного disposition так что
бытие творений всецело зависит от практики
управления — то есть в своей сущности она является действием
и управлением; но и само божественное бытие —по-
24. У A.: governo (управление).
25. У A.: governa (управляет).
26. У A.: disposizione (расположение).
27. У A.: opera di governo (деятельность управления).
152
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
скольку в узком смысле оно является мерой, числом
и весом, то есть порядком, — теперь есть не только
субстанция или мысль, но в той же мере является
disposition праксисом. Ordo дгст имя непрекращающейся
деятельности управления, которая предполагает —
в то же время непрестанно восполняя его — разрыв
между трансцендентностью и имманентностью,
между Богом и миром.
Смешение и даже своего рода «короткое
замыкание» между бытием и disposition субстанцией и ойко-
номией, которое Августин вводит в бытие Бога,
станет предметом открытого теоретического
осмысления у схоластов — в особенности у Альберта Великого
и Фомы Аквинского, притом именно в контексте
проблемы порядка в божественности (ordo in divinis).
В этой связи они разграничивают, с одной стороны,
пространственный и временной порядки, которые
не могут располагаться в Боге, —и, с другой стороны,
ordo ordinis, или ordo naturae, которые совпадают с
истечением божества в трех лицах (см. Krings i. P. 65-67).
Взаимозависимость между проблемой ordo и
проблемой ойкономии здесь отчетливо явлена. Бог есть
порядок не только потому, что он устрояет и
упорядочивает сотворенный мир, но также —и прежде
всего — потому, что это dispositio имеет свой архетип
в исхождении Сына от Отца, а Духа —от них обоих.
Божественная ойкономия и управление миром
абсолютно друг с другом совпадают. «Порядок природы
во взаимном истечении божественных лиц, —пишет
Альберт Великий, —являет собой причину истечения
творений из первого и универсального действующего
разума» (5.7Ä., I, 46). Со своей стороны, Фома пишет:
Естественный порядок есть порядок,
посредством которого кто-то существует исходя из
другого [quo aliquis est ex alio]; таким образом по-
153
ЦАРСТВО И СЛАВА
лагается различие в истоках, а не временное
превосходство, и различие по роду исключается.
Поэтому нельзя допустить, что в Господе
существует простой порядок: в Нем может быть лишь
порядок естественный. [Super Sent., lib. I, d. 20,
q.i, a.3, qc.i.]
Тринитарная ойкономия, ordo и gubernatio образуют
неделимую триаду, элементы которой переходят
друг в друга, поскольку они именуют новую фигуру
онтологии, которую христианская теология
оставляет в наследство современности.
К Когда Маркс, начиная с Парижских рукописей 1844 года,
начинает мыслить бытие человека как праксис, а прак-
сис — как самовоспроизводство человека, он по сути делает
не что иное, как секуляризирует теологическую концепцию
бытия творений как божественного действия. Если после
того, как бытие постигнуто как праксис, изъять Бога и
поставить на его место человека, следствием этого окажется
то, что бытие человека есть не более чем праксис,
посредством которого он непрерывно воспроизводит самого себя.
К В трактате «De ordine»28,1,5, 14, Августин разъясняет
этот всепроникающий характер идеи порядка, включая в его
область даже самые незначительные и случайные события.
Тот факт, что шум мышиной возни разбудил ночью одного
из участников диалога, Лиценция, благодаря чему Августин
принялся с ним беседовать, относится к тому же порядку,
что и буквы, из которых состоит книга, родившаяся из их
разговора (как раз та самая, которую пишет Августин):
оба этих факта содержатся в едином порядке
божественного управления миром:
Кто станет отрицать, о великий Боже, что ты
управляешь всем в порядке? [...] Подвернулась
28. «О порядке» (лат.).
154
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
даже мышь, чтобы я проснулся. [...] И если бы
однажды сказанное нами было записано и
получило бы известность среди людей, [...] то,
безусловно, и летающие в полях листья, и
копошение ничтожнейшего зверька в доме были бы
столь же необходимы в порядке вещей, как и эти
письмена.
4-10. Теологическая парадигма разграничения
между Царством и Правлением состоит в двояком
расчленении божественного действия на творение
{creatio) и сохранение (conservatio). «Следует
принимать в соображение, — пишет Фома в своем
комментарии к «Liber de causis»29, — что действие первопри-
чины двойное: посредством одного она все создает ,
это действие называется творением; посредством
другого она управляет созданным31» [res iarn
institutes regit] (Super de causis. P. 122). Два действия
первопричины взаимосвязаны в том смысле, что
через творение Бог является причиной бытия тварей,
а не только их становления; вместе с тем им
необходимо божественное управление для того, чтобы
они могли удерживаться в бытии. Заимствуя у
Августина мотив непрерывного управления миром,
Фома пишет: «Поскольку бытие всякой твари
зависит от Господа, она ни мгновения не
просуществовала бы и тут же обратилась в ничто, если бы в
бытии ее не удерживало действие божественной силы»
(7Ä., Super I Cor., q. 104, ал). Эта двойная структура
божественного действия составляет модель
функционирования светской суверенной власти:
29. «О причинах» (лат.).
30. У A.: istituisce (учреждает).
31. У A.: istituito (учрежденное).
155
ЦАРСТВО И СЛАВА
Вообще Бог осуществляет в мире два деяния:
первое творит32 сущее, а второе управляет [gubernat]
сотворенным миром33. Эти же деяния душа
совершает в теле: ведь сперва тело формируется
силой души, а затем посредством нее же
управляется и приводится в движение. Именно второе
действие составляет обязанности царя, ибо
всякому царю надлежит управлять [gubernatio]; более
того, само слово «царь» происходит из того
факта, что он осуществляет правление34 [a gubernati-
onis regimine regis nomen accipitur]. Первое действие
не всегда принадлежит царю, ибо не всякий
царь основал город, в котором он правит:
тогда ему вверяется забота об уже основанном
царстве или городе. Необходимо все же учитывать,
что если бы город или царство не были прежде
основаны, то невозможно было бы и правление
царством [gubernatio regni]. Поэтому в
обязанности царя входит также и основание города
или царства; воистину, многие основали
города, которыми они правили, как в случае Нина,
основавшего Ниневию, или Ромула,
основавшего Рим. Точно так же в обязанности правящего
входит сохранение того, чем он правит, и его
использование сообразно цели, ради которой оно
было основано. Поэтому невозможно познать
обязанности правящего без познаний о том,
каким образом царство было основано. А то,
каким образом оно было основано, следует
постигать на примере сотворения мира: здесь в первую
очередь имеется в виду процесс производства
вещей в бытии, а также упорядоченное
расположение частей. [De regno, lib. I, cap. 14.]
32. У A.: istituisce (учреждает).
33. У A.: mondo istituito (учрежденным миром).
34. Слово «ге», царь, происходит от «regime» — распорядок,
порядок, строй, правление.
156
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Царство и правление, сотворение и сохранение, ordo
addeum и ordo adinvicem функционально
взаимосвязаны в том смысле, что первое действие
подразумевает и определяет второе, которое, с другой стороны,
отличается от первого и —по крайней мере, в случае
мирского правления —может быть от него отделено.
К В «Номосе земли» Шмитт увязывает разграничение
между учредительной властью и властью учрежденной,
которое в «Verfassungslehre» 1Q28 года он уподобил
спинозистскому разделению между natura naturans и natura naturata,
с разделением между ordo ordinans и ordo ordinatus. Фома
Аквинский, который скорее ведет речь об ordinatio и ordinis
executio, в самом деле понимает творение как процесс
«упорядочения» («sicpatet quod Deus res in esseproduxit eas ordin-
ando»35, Contra Gentiles, lib. 2, cap. 24, п. 4)> в котором
связываются воедино две фигуры порядка {«ordo enim aliquorum ad
invicem est propter ordinem eorum adßnem»36, ibid.).
Небезынтересно было бы проследить в этой перспективе
возможные теологические источники разграничения между pouvoir
constituant и pouvoir constitué37^ Сиейса, у которого место
Бога в качестве учреждающего субъекта занимает народ.
4-11. Латинский трактат, известный под
названием «Liber de causis»38 или «Liber Aristotelis de exposi-
tione bonitatis purae»39, сыграл стратегическую роль
в создании парадигмы Царство-Правление. В
самом деле, невозможно понять то решающее значе-
35- «Таким образом, становится ясно, что Бог, приводя вещи
к определенному порядку, ведет их к бытию» (лат.).
Зб. «Взаимная иерархия некоторых вещей существует благодаря
их иерархическому отношению к пределу» (лат.).
37- Власть учредительная и власть учрежденная (фр.).
38. «Книга о причинах» (лат.).
39- «Книга Аристотеля о чистом благе» (лат.).
157
ЦАРСТВО И СЛАВА
ние, которое эта темная эпитома Прокла на
арабском, в XII веке переведенная на латынь, оказала
на теологию в XII-XIV веках, если не учитывать
того факта, что она заключает в себе нечто
вроде онтологической модели провиденциальной
машины божественного управления миром. Первым
эпистемологическим препятствием на ее пути был
вопрос о способе, которым трансцендентный
принцип мог проявлять свое влияние и делать
эффективным «режим», посредством которого она
управляла миром, — что и составляет суть проблемы,
которую десятая глава книги Л «Метафизики»
оставила в наследство средневековой культуре. Именно
таковая проблема исследуется в
псевдоэпиграфическом трактате через обращение к
неоплатонической иерархии причин. Иными словами,
аристотелевский вопрос о соотношении трансцендентного
блага и имманентного порядка,
основополагающий для средневековой теологии, решался
посредством доктрины причин: «Liber Aristotelis de expo-
sitione bonitatis purae» на самом деле и есть «Liber
de causis».
Обратимся к комментарию Фомы с целью
проследить стратегию, скрытую в теологической рецепции
этой книги. Изначально речь идет о том, чтобы
выстроить—вслед за анонимным компилятором,
сделавшим это на неоплатонической основе, — иерархию
первых и вторых причин, вместе с тем сочленив их
между собой. «Всякая первая причина, —гласит
начало трактата, — в большей степени влияет на свое
причинённое [plusest inßuenssupersuum causatum], чем
вторая универсальная причина» (I, l). Но если при
распределении причин, произведенном в тексте, всякий
раз акцентируется возвышенность и отделенность
первой причины, которая не только предшествует
и главенствует над вторыми причинами, но и пре-
i58
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
творяет в дело всё, что последние производят «per
modum alium et altiorem et sublimiorem»40 (ibid., 14),
то в своем комментарии Фома постоянно
обеспокоен тем, чтобы подчеркнуть согласованность и сочле-
ненность между двумя уровнями. Он
истолковывает утверждение, согласно которому «первая причина
поддерживает и усиливает действие второй причины,
потому что всякое действие второй причины сперва
уже было совершено первой причиной» (ibid.) в чисто
функциональном ключе, демонстрирующем, каким
образом две причины взаимопроникают друг в
друга, усиливая эффективность действия каждой из них:
Действие, которым вторая причина причиняет
эффект, причиняется первой причиной, ибо
первая причина способствует второй причине,
заставляя ее действовать; следовательно, в большей
степени причиной этих действий, которыми
производится эффект от второй причины,
является первая причина, нежели вторая; [...] вторая
причина через свою способность или
производящую силу является причиной эффекта, но то
самое, благодаря чему вторая причина есть
причина эффекта, она получает от первой причины.
Быть причиной эффекта присуще прежде первой
причине, во вторую же очередь — второй
причине [Тот. Super De causis. P. 7].
Новым в рассуждении Фомы является также то,
что он определяет вторые причины как причины
частные, что скрытым образом несет в себе
стратегическую отсылку к разграничению между общим
провидением и провидением частным (которое,
как мы увидим, определяет структуру
божественного управления миром):
40. Другим способом, более высоким и возвышенным (лат.).
159
ЦАРСТВО И СЛАВА
Очевидно, что насколько какая-либо
действующая причина является первой, настолько сила
ее распространяется на многое [...]. Эффект же
вторых причин обнаруживается в меньшем
количестве вещей, поэтому он и есть более частный
[unde etparticularior est]. [Ibid. P. 8]
Интерес Фомы к функциональной сочлененности
между двумя порядками причин явственно
проявляется в скрупулезности, с которой он описывает
сцепление причин в производстве эффекта
(сущностного или случайного):
Намерение первой причины сущностно, когда
оно обращено через все средние причины к
финальному эффекту, как, например, кузнечное
ремесло приводит в движение руку, рука — молот,
который расплющивает ударом железо; а к нему
и направлено намерение данного ремесла;
случайно же —когда намерение причины не
простирается за пределы ближайшего эффекта; то же,
что производится от самого эффекта, — вне
намерения [praeter intentionem] действующей
причины, как в том случае, когда некто зажигает свечу,
то вне его намерения, чтобы зажженная свеча
зажгла другую, та —другую и т.д. [Ibid. P. ю.]
Но именно в комментарии к пропозициям 20-24
стратегическая связь между иерархией причин
в трактате и провиденциальным управлением
миром проступает наиболее явственно. Центральным
здесь становится вопрос о способе, которым
первая причина управляет (regit) творениями,
оставаясь по отношению к ним трансцендентной («praeter
quod commisceatur cum eis»41: 20,155). Так, в
пропозиции 20 уточняется, что тот факт, что первая причина
41. «Исключая только смешение с ними» (лат.).
i6o
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
управляет миром, не ставит под вопрос ни ее
единства, ни ее трансцендентности («regimen non débilitât
unitatem eius exaltatam super omnem rem»42: 20, 156),
как и не препятствует эффективности
осуществляемого ей управления («neque prohibet earn essentia uni-
tatis seiuncta a rebus quin regat eas»43: ibid.). Иными
словами, речь идет о своего рода неоплатоническом
решении аристотелевской апории трансцендентного
блага. С другой стороны, тот факт, что комментарий
Фомы ориентирует прочтение текста в направлении
теории провидения, подтверждается
непосредственной связью, которую он устанавливает между
формулировками текста и
экономико-провиденциальной парадигмой управления миром. Помимо того
что данная тема открыто вводится цитатой из Прок-
ла («всякое божественное существо заботится о
вторичных существах», Super De causis. P. 109), фрагмент
анонимного текста используется в качестве
аргумента против традиционных доводов тех, кто отрицал
провидение:
В области человеческого правления мы
наблюдаем, что тот, кому выпала участь управлять
множеством, в силу необходимости вынужден
пренебречь управлением самим собой, тогда как тот,
кто не отягощен заботами по управлению
другими, лучше сохраняет внутреннее единообразие;
поэтому эпикурейские философы утверждали,
что ради сохранения божественного покоя и
единообразия боги не занимают себя управлением
чем бы то ни было, но пребывают в беспечной
праздности, и оттого всегда счастливы. Вопре-
42. «Управление не ослабляет единства, овевающего своим
дыханием каждую вещь» (лат.).
43- «И не препятствует тому, чтобы сущность единства
управляла вещами, будучи полностью от них отделенной» (лат.).
i6i
ЦАРСТВО И СЛАВА
ки их мнению этот тезис гласит, что управление
сущим и высшее единство не противоречат друг
другу... [Ibid.]
Точно так же пропозиция 23, в которой
разграничиваются и согласуются между собой наука и
управление, истолковывается как утверждение «de regimine
secundae causae», то есть как тезис о двояком
способе, которым вторая причина осуществляет свое
действие в плане управления миром —то согласно
природе (такова модель ordo ad invicem), то согласно ее
причастности к первой причине (ordo addeurn).
Действие второй причины таким образом уподобляется
раскаленному ножу, который согласно своей
природе режет, а согласно своей причастности огню
обжигает («sicut cultellus ignitus, secundum propria formam
incidit, in quantum vero est ignitus urit», ibid., p. 118).
И вновь аристотелевская апория трансцендентного
блага решается через сочленение
трансцендентности и имманентности:
Таким образом, всякий высший разум,
именуемый божественным, совершает двойное действие:
первое исходит из его причастности
божественному благу, второе — из его собственной
природы. [Ibid.]
Но это также означает, что в соответствии с
разделением между общим и частным, согласно которому
членится провиденциальное действие, управление
миром раздваивается на regimen Dei или causae primae,
которое распространяется на все творения, и на
regimen intelligence или causae secundae, которое касается
лишь некоторых из них:
Поэтому управление, осуществляемое первой
причиной согласно сущности блага, распростра-
1б2
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
няется на все вещи. [...] Управление же,
осуществляемое разумом и ему присущее, не
распространяется на все вещи... [Ibid.]
Если мы теперь обратимся к трактату «De gubernati-
one mundi» (5. Th. I, qq. 103-113), мы увидим, что
именно иерархическая связь между первыми и вторыми
причинами поставляет модель сочленения между
провидением общим и провидением частным,
посредством которого осуществляется божественное
управление миром.
Бог управляет миром в качестве первой
причины («ad modum primi agentis»44, ibid., I, q. 105, a. 5,
ad. I), сообщая сотворенным вещам форму и их
особую природу, а также поддерживая их в бытии.
Однако это не мешает тому, чтобы его действие
включало в себя также действие вторых причин («nihil
prohibet quin una et eadem actio procedat a primo et
secundo agente»45, ibid., I, q. 105, a. 5, ad. 2). Управление
миром, таким образом, оказывается результатом
сочленения иерархии причин и порядков, Управления
и частных управлений:
Из всякой причины производится некий
порядок с его собственными эффектами, ибо всякая
причина составляет начало. Следовательно,
приумножение причин влечет за собой
приумножение порядков, притом каждый из них подчинен
другому порядку —точно так же, как одна
причина подчинена другой. Высшая причина не
подчиняется порядку низшей, но низшая подчиняется
порядку высшей. Это можно проследить на при-
44- «На манер первого действующего начала» (лат.).
45- «Ничто не препятствует тому, чтобы одно и то же действие
происходило от первого и второго действующего
начала» (лат.).
1бз
ЦАРСТВО И СЛАВА
мере человеческих дел: от главы семьи зависит
порядок в доме \ordo domus], который в свою
очередь подчиняется порядку в городе [sub ordine
civitatis]; последний исходит от правителя города,
который в свою очередь подчиняется порядку,
установленному царем; а царь есть источник
порядка во всем царстве. [Ibid., I, q. 105, а. 6.]
Будучи рассмотренным в его связи с первой
причиной, мировой порядок предстает неизменным и
совпадает с божественным предведением [prescienza. —
Примеч. пер.] и благом. С другой стороны, постольку,
поскольку он включает в себя сочленение вторых
причин, он уступает место божественному
вмешательству «praeter ordinem rerum».
«Книга о причинах» имеет такое серьезное
значение для средневековой теологии потому, что
через разграничение между первыми и вторыми
причинами в ней обнаруживается сочлененность между
трансцендентностью и имманентностью, между
общим и частным: именно на этой сочлененности
стало возможным основать машину божественного
управления миром.
4-12. Впервые в области права разграничение
между Царством и Правлением находит свою
техническую формулировку в спорах, приведших к
разработке канонистами на рубеже XII—XIII веков
«политического типа» rexinutilis46. В основе этих споров
лежит учение о праве понтифика отстранять от
власти временных правителей, которое было изложено
Григорием VII в письме Герману из Меца. Григорий
ссылается здесь на эпизод низложения последнего
46. Букв.: «бесполезный король» (лет.), т.е. король
неэффективный, неспособный к управлению.
164
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
меровингского короля Хильдерика III из-за его
несостоятельности, инициированного папой Захари-
ем, который назначил на его место Пипина, отца
Карла Великого. Текст представляет собой немалую
ценность, так как он был включен Грацианом в его
Декрет и послужил исходной точкой для разработок
последующего поколения канонистов. «Другой
римский понтифик,— пишет Григорий, отстаивая
примат sacerdotium над Imperium, — отстранил от
управления короля франков, и не столько из-за его
бесчинств, сколько из-за того, что он не был годен
для столь высокой власти [tantae potestati non erat
utilise и назначил на его место Пипина, родителя
императора Карла Великого, освободив франков от
клятвы верности, которую они ему принесли» (Decretum,
с. 15, q. 6, с.3; cfr. Peters, p. 281). Еще в XII веке
хронисты превратили Хильдерика в прототип rex ig-
navus et inutilis, воплощающего собой разрыв между
номинальным царствованием и реальным его
отправлением («Stabat enim in rege sola nominis
umbra; in Pippino vero potestas et dignitas efficaciter appa-
rebat. Erat tunc Hildericus rex ignavus et inutilis...»47,
Gqffredo da Viterbo, Pantheon. PL, 198, 9240-9253).
Однако именно канонистам, и в особенности Угуцию
Пизанскому, принадлежит заслуга преобразования
rex inutilis в парадигму разграничения между
dignitas** и administrate49—между функцией и
подразумеваемой ею деятельностью. Согласно этой доктрине,
болезнь, старость, безумие или праздность госуда-
47- Он [Хильдерик] представлял собой только тень царского
имени. Напротив, в лице Пипина заметным образом
проявлялись могущество и достоинство. Хильдерик был в ту
пору правителем вялым и бесполезным» (лат.).
48. Достоинство (лат.).
49- Руководство, управление (лат.).
165
ЦАРСТВО И СЛАВА
ря или прелата не обязательным образом влекут
за собой его низложение, ибо подразумевают
разграничение между dignitas, которое остается
неотъемлемым от его личности, и деятельностью,
которая вверяется такой фигуре, как coadiutor или curator.
Итак, на кону была не просто проблема
практического плана, но нечто заключавшее в себе
подлинное учение о внутренней разделимости суверенной
власти. Это подтверждается той щепетильной
настойчивостью, с которой «Glossa ordinaria» к
отрывку из Декрета о двух римских императорах,
правивших одновременно, приписывает одному из них
dignitas, a другому—administration тем самым
одновременно утверждая единство и разделяемость власти
(«Die quod erant duae personae, sed tamen erant loco
unius. [...] Sed forte unus habuit dignitatem, alter
administrate nem»50, цит. no: Peters, P. 295).
Именно на основе этих канонистических
разработок в 1245 Г°ДУ по просьбе клира и португальской
знати Иннокентий IV издал декреталию «Grandi»,
которой он препоручил Афонсу Булонскому,
брату короля Саншу II, проявившего себя неспособным
к управлению, cura et administrate generalis et libera51
королевством, оставляя при этом за государем его
королевское dignitas.
Таким образом, предельный случай rex inutilis
обнажает двоякую структуру, определяющую
функционирование управленческой машины на Западе.
Суверенная власть структурно артикулируется на двух
уровнях, согласно двум аспектам или полярностям:
она одновременно является dignitas и administrate,
50. «Скажи, что были два человека, но при этом один был
вместо другого. [...] Но один из них имел достоинство, а
другой обладал властью».
51. Заботу и общее и свободное управление (лат.).
1бб
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Царством и Правлением. Фигура правителя в самой
своей сущности является mehaignié [изувеченной. —
Примеч. пер.] — в том смысле, что его достоинство
соизмеряется с возможностью его бесполезности и
неэффективности в соотношении, в котором rex inutilis
легитимирует эффективное управление, которое
он всегда уже отделял от себя и которое, тем не
менее, формально продолжает ему принадлежать.
Стало быть, ответ на вопрос Макса фон Зайделя:
«Что останется от царствования, если отнять
правление?»—звучит следующим образом: Царство
является остатком, выдающим себя за целое, которое
бесконечно изымает себя у себя самого. Подобно тому
как в божественной gubernatio миром
трансцендентность и имманентность, ordo addeurn и ordo ad invicem
должны непрерывно разделяться для того, чтобы
провиденциальное действие могло столь же
непрерывным образом их воссоединять, — Царство и
Правление образуют двойной механизм, место
непрерывного разделения и сочленения. Potestas является plena
лишь в той мере, в какой она может быть разделена.
К Средневековые правоведы, хоть и не без серьезных
колебаний, провели различие между merum imperium и mistüm
imperium. В соответствии с одной из глосс Ирнерия, они
называли imperium то, без чего не может быть юрисдикции
(sine quo nulla esset iurisdictio), но при этом imperium
в собственном смысле определяли как «чистое», a
imperium, которому присуща реальная iurisdictio, как
«смешанное» (Costa. P. 112-113). В «Сумме» Стефана из Турне
это разграничение преобразуется в идею четкого
разделения между iurisdictio и administrate, между potestas и ее
осуществлением:
Если император предоставит кому-либо
юрисдикцию или судебную власть [potestas iudicandi],
но при этом не выделит ему под эту власть провин-
167
ЦАРСТВО И СЛАВА
цию или народ—-этот кто-то будет обладать
титулом, то есть именем, но не возможностью
отправлять свою власть [habet quidem titulum, idest nomen,
sednon administrationern]. [Stefano di Tournai. P. 222]
4.13. Анализ канонического понятия plenitudo po~
testatis может дать почву для некоторых полезных
соображений. Согласно теории превосходства
духовной власти понтифика над временной властью
государя, которая в булле «Unam sanctam»
Бонифация VIII нашла свое полемическое выражение,
а в «De ecclesiastica potestate»53 Эгидия Римского
была изложена в форме доктрины, полнотой власти
обладает Великий Понтифик, которому
принадлежат оба меча, о которых говорится в Лк. 22:28
(«Domine, ессе duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est»54)
и которые принято толковать как символ власти
духовной и власти материальной. Споры о
превосходстве одной власти над другой были столь
ожесточенными, а столкновения между сторонниками
империи и приверженцами духовной власти
носили столь упорный и неистовый характер, что
историки и ученые в конечном итоге упустили из виду
вопрос, который по сути первичен по отношению
к этим разногласиям, а именно: почему власть
изначально разделена? Почему она предстает уже всегда
расчлененной «на два меча»? Даже сторонники
plenitudo potestatis папы признают, что власть в своей
структуре разделена и что управление людьми (gu-
bernacio hominum — технический термин, к которому
52. Полнота власти (лат.).
53- «О церковной власти» (лат.).
54- «Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно»
(лат.).
168
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
постоянно прибегает Эгидий) неизбежно
расчленяется на две (но лишь на две) власти или на два меча:
В управлении людьми и в самом порядке,
согласно которому живет человеческий род или
верующие, существуют лишь две власти или два
меча [due potestates et duo gladii]: власть
священная и власть королевская или императорская,
то есть меч духовный и меч материальный. [Egi-
dio. P. 212-214.]
В своем трактате Эгидий не может оставить без
внимания вопрос о том, «почему в Церкви два
меча, ни больше ни меньше [пес plures пес pauciores]»
(ibid., p. 212). Если духовная власть превосходит
всякий другой тип власти и естественным образом
распространяет свое правление на материальные вещи
таким же образом, как душа управляет телом,
«почему было необходимо учредить еще одну власть
и еще один меч [aliam potestatem et alium gladium]?»
(ibid., p. 214). Ко-субстанциальность и со-изна-
чальность разрыва между двумя властями в
Церкви подтверждается предложенной
интерпретацией стиха Лк. 22:38:
Если внимательно рассмотреть Евангельский
текст — способ, которым Церковь владеет двумя
мечами, наглядно проиллюстрирован. Как
утверждает Беда, в самом деле, один из двух мечей был
обнажен, а второй остался в ножнах. Хотя мечей
было два, в тексте говорится, что обнажен был
лишь один меч —тот самый, которым Петр
поразил раба Великого Жреца, отрезав ему правое ухо.
Что же может означать тот факт, что, хоть мечей
было два, лишь один меч был обнажен, а второй
остался в ножнах, как не то, что у Церкви есть
два меча: один — духовный, предназначенный
для пользования [quantum ad usum], другой — ма-
169
ЦАРСТВО И СЛАВА
термальный, но предназначенный не для
пользования, а для того, чтобы повелевать [quantum
adnutum]? [Egidio. P. 104.]
Впрочем, два меча
...существуют ныне по закону благодати,
существовали ранее по писаному закону и всегда
существовали по закону природы, [...] они были
и ныне являются совершенно различными, один
не есть другой [hi duo gladii semper fuerunt et sunt
res différentes, ita quod unus non est alius]. [Ibid. P. 42.]
Если разделение власти в такой степени
конститутивно, в чем его целесообразность?
Многообразие ответов, которые предлагает Эгидий, зачастую
соответствует их явной неудовлетворительности,
и не исключено, что окончательный ответ
необходимо искать между строк приведенных вариантов.
Первая причина этой дуальности состоит в самом
«избыточном превосходстве и совершенстве [nimia
excellencia et nimia perfectio] духовных вещей» (Ibid.
P. 214). Благородство духовных вещей
действительно таково, что во избежание каких-либо нехваток
и небрежностей в их отношении возникла
необходимость учредить вторую власть, которая
занималась бы в особенности вещами телесными, а
духовная власть могла бы полностью посвятить себя
вещам духовным. Но причина их разграничения
является в то же время основанием их крепкой сочле-
ненности:
Если две власти связаны таким образом, что одна
из них —общая и обширная [gereralis et externa],
а другая — частная и сжатая [particularis et
contracta], то необходимо, чтобы первая власть
подчинялась второй, чтобы она учреждалась и
действовала по поручению последней. [Ibid.]
170
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Отношение первой власти ко второй Эгидий
уподобляет связи, которая, согласно средневековой
доктрине зарождения, возникает между небесной
добродетелью (как первой причиной) и семенем,
производимым животным во время полового акта
(как второй причиной). «В самом деле, семя лошади
не имело бы никакой порождающей силы, если бы
оно не получило ее от небесной добродетели» (Ibid.
P. 2i6). Но именно здесь обнаруживается апоретиче-
ский характер отношения между двумя властями.
Два меча явным образом разделены, и все же
второй, материальный меч, как бы включен в первый.
Plenitudo potestatis, которой наделен понтифик, в
самом деле определяется Эгидием как «власть,
которая пребывает в деятеле при условии, что он в
отсутствие второй причины способен сделать все то,
на что он способен при ее наличии» (Ibid. P. 362).
Иными словами, именно потому, что Понтифик
наделен властью, в которой содержится всякая власть
(«posse in quo reservatur omne posse», ibid.), его власть
именуется полной.
Наконец, дабы перейти от управления миром
к управлению людьми, мы скажем, что в небе
или в каком-либо деятеле не содержится
полноты власти, так как небо не может без участия
второй причины сделать то, что оно делает с ее
участием. Так, если небо и лев совместно производят
порождение льва, небо не может произвести льва
в отсутствии льва, как не может оно произвести
коня в отсутствии коня. [Ibid.]
Духовная же власть может производить свои
эффекты без помощи вторых причин, и все же она
вынуждена отделить от себя материальный меч. Есть
что-то такое, чего, несмотря на ее совершенство,
недостает духовной власти; это что-то — эффек-
171
ЦАРСТВО И СЛАВА
тивность исполнения. Обращаясь к доктрине
разграничения между обладанием обязанностью и ее
исполнением, Эгидий утверждает, что
Церковь как таковая, в силу своей власти и
господства, во временных вещах имеет высшую
и первичную власть и господство; однако она
не располагает непосредственной юрисдикцией
и правом исполнения. [...] Цезарь же, как и
временный правитель, наделен этой
юрисдикцией и правом исполнения. Поэтому мы
получаем две различные власти, два различных права,
два меча. Однако это разграничение не означает,
что одна власть не стоит ниже другой, одно
право — ниже другого права, а один меч — ниже
другого меча [Ibid. Р. 384].
Истинная причина разграничения между
первичной и вторичной властью, между обладателем и
исполнителем, состоит в том, что таковое
разграничение является необходимым условием нормального
функционирования управленческой машины:
Если бы у Церкви был лишь один меч —а именно
меч духовный, — тогда бы задачи,
первостепенные для управления людьми, не выполнялись бы
столь успешно; ведь духовный меч в таком
случае пренебрег бы своими задачами в духовной
сфере ради того, чтобы заниматься вещами
материальными [...]. Поэтому второй меч был
учрежден не по причине бессилия духовного меча,
но ради хорошего порядка и целесообразности
[ex bona ordinacione et ex decencia\ [...] Учреждение
второго меча свершилось не из-за бессилия
первого, но ради исправного приведения в
исполнение [propter beneficium executionis], ибо духовный
меч не мог бы столь хорошо и успешно
выполнять свои задачи без помощи меча
материального... [Ibid. P. 220].
172
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Если абстрагироваться от спора о превосходстве
одного меча над другим, исключительным образом
занимавшего ученых, оказывается, что ставка в игре
разделения между двумя властями —это прежде
всего обеспечение возможности управления людьми.
Эта возможность требует допущения о plenitudo potes-
tatiS) которая, однако, тут же должна отделить себя
от собственного фактического исполнения (ехеси-
Но)> которое предстанет в виде «светского» меча.
С теоретической точки зрения спор
разворачивается не столько между сторонниками примата
священства или светской власти, сколько между «гуверна-
менталистами» [«governamentalisti». — Примеч. пер.]
(которые понимают власть как всегда уже
расчлененную соответственно двоякой структуре:
авторитет и исполнение, Царство и Правление) и
поборниками такого суверенитета, в котором невозможно
разделить способность и действие, ordinatio и ехеси-
Но. Знаменитое изречение Геласия I, адресованное
императору Анастасию в 494 Г°ДУ (то есть задолго
до возникновения конфликта между двумя
мечами), согласно которому «duo quippe sunt [...] quibus
principaliter mundus hie regitur: auctoritas sacra pon-
tificum, et regalis potestas» (Ep., 8, PL, 59, 42a),
—следует переводить следующим (впрочем, совершенно
буквальным) образом: мир управляется посредством
координирования двух принципов: auctoritas (то есть
власть без фактического исполнения) и potestas
(то есть власть исполнительная) — иными словами,
Царства и Правления.
X В этой перспективе проясняется позиция тех, кто,
подобно Иоанну Кидору, отрицает теорию plenitudo potestatis
понтифика, так как она подразумевает
противоестественное разделение способности и действия, власти и
исполнения. «Некоторые утверждают, — пишет Иоанн в своем
m
ЦАРСТВО И СЛАВА
трактате «De potestate regia et papali», по всей
вероятности имея в виду Эгидия, —
что светская власть принадлежит папе
непосредственно и согласно первичному авторитету,
но что папа не обладает возможностью
непосредственного исполнения, которое он
препоручает государю. [...] Может, конечно, случиться так,
что некто обладает способностью что-то делать,
но не может совершить конкретное действие из-за
некоего препятствия — например, когда некто
обладает способностью изготовлять, но не может
перейти к действию либо из-за нехватки материала,
либо из-за какого-то телесного недуга — как в
случае с глухим, который не может говорить. Таковы
препятствия, возникающие на пути присвоения
власти. Но лишь глупец присвоил бы
священничество тому, кто, как ему известно, отягощен
подобными препятствиями. Значит, не имеет
никакого смысла вести речь о том, что папа получает
непосредственно от Бога власть «светского» меча,
но при этом он сам традиционно не может
осуществлять эту власть. Если бы дела обстояли
подобным образом, Бог действовал бы супротив
природы, которая никому не дает добродетели,
отделенной от действия, ибо кто наделен
способностью — наделен также и действием [cuius poten-
tia, eius est actus]. [Quidort. P. 120.]
Конфликт в данном случае касается не только и не столько
превосходства одной власти над другой, сколько разделения
обладания и исполнения, Царства и Правления.
К Петере проследил трансформацию фигуры гех inutilis
в понятие roi fainéant между XVI и XVII веками. Сам термин
впервые появился в XIV веке в «Больших французских
хрониках» в качестве перевода гех nihil faciens из средневековых
хроник и впоследствии применялся в отношении поздних
каролингских монархов в значении праздного {«qui fit nulle
174
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
chose»), a также в значении распутного («adonné à la
paillardise, oisiveté et vices»). Мезере в своем сочинении «Histoire de
France» (1643)c негодованием применяет этот термин в
отношении последних меровингских королей: «tousfainéants, hé-
betez, et plongés dans les ordures du vice» (Peters. P-S43)- Затем
его можно встретить применительно к Людовику VI,
Карлу VI и Генриху III во Франции; а в Англии, среди прочих,
к Генриху III, к Генриху VI, и даже в некоторых рыцарских
романах применительно к королю Артуру (Peters. Р-547)-
4.14. Теологическая модель разделения между
властью и ее осуществлением состоит в
разграничении между абсолютным могуществом и
могуществом упорядоченным в Боге — иными словами,
в учении о божественной неспособности, то есть
о том, чего Бог, при всем его всемогуществе, не
может делать (или не может не делать). Согласно
этому доктринальному комплексу (который
основывался, помимо всего прочего, на рассуждении
из «De natura et gratia»55 —1, 7, 8, где на вопрос о том,
мог ли Христос предотвратить предательство Иуды,
Августин отвечает, что безусловно мог бы, но не
захотел: «Potuit ergo, sed noluit»), в том, что касается
его могущества как такового (depotentia absoluta), Бог
мог бы сделать все, что не несет в себе
противоречия (например, воплотиться ради спасения
человечества не в Иисусе, а в женщине, или же осудить
Петра и спасти Иуду; или же просто уничтожить все
им сотворенное); но в том, что касается depotentia or-
dinatay то есть его воли и мудрости, он может делать
лишь то, о чем он принял решение. Иными
словами, воля образует диспозитив, который, разделяя
могущество на абсолютное и упорядоченное,
позволяет сдерживать недопустимые последствия боже-
55- «О природе и благодати» (лат.).
175
ЦАРСТВО И СЛАВА
ственного всемогущества (и в более общем плане —
всякого учения о могуществе), при этом не отрицая
его как таковое. Фома пишет:
ничто не может пребывать в божественной власти,
если оно также не пребывает и в праведной
божьей воле и в мудром божьем разуме. [...] И все же,
поскольку воля и разум не обусловлены
чем-либо по необходимости [...], ничто не
препятствует наличию в Божьем могуществе чего-то такого,
чего Он не желает и что не является частью
порядка, который Он избрал для мира. А
поскольку могущество исполняет, воля повелевает, а
разум и мудрость направляют, то в отношении того,
в чем мы видим могущество как таковое,
принято считать, что Бог способен согласно
абсолютному могуществу [...]. В отношении же того, в чем
мы видим божественное могущество в плане
исполнения его справедливой воли, принято
считать, что Бог делает это согласно упорядоченному
могуществу. В данном смысле говорят, что
согласно абсолютному могуществу Бог может делать то,
что не было предопределено его предведением.
Тем не менее, невозможно, чтобы он в самом деле
делал что-то, чего он не предвидел и не
предназначил к исполнению. [5.7Ä., I, q. 25, а. 5> ad. I.]
Этот теологический диспозитив примечателен тем,
что он позволил (вопреки тем, кто отрицал всякое
различие между абсолютным могуществом и
могуществом упорядоченным) примирить
всемогущество Бога с идеей упорядоченного, а не своевольного
и хаотичного управления миром. Но фактически это
было равнозначно тому, чтобы разграничить в Боге
абсолютное могущество и его реальное
осуществление, формальный суверенитет и его приведение
в действие. Ограничивая абсолютное могущество,
могущество упорядоченное учреждает его в качестве
i76
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
основания божественного управления миром. Связь
между этой теологической проблемой и политико-
правовой проблемой разделения между
суверенитетом и его осуществлением очевидна, и она сразу
привлекла внимание канонистов. Так, на основании
декреталии Иннокентия IV, которая отрицала
право аббата прерывать обет бедности монаха, Генрих
Сузский56 и другие канонисты использовали
разграничение между могуществом абсолютным и
могуществом упорядоченным в применении к проблеме
папской plenitudo potestatis для того, чтобы показать,
что хотя depotentia absoluta понтифик не связан
законом, de potentia ordinata он все же обязан ему
подчиняться (Courtenay. P. 107-108).
В очередной раз plenitudo potestatis
демонстрирует внутреннюю расчлененность, которая
разделяет ее структурно, и учение о том, чего Бог
не может делать, превращается в парадигму
разграничения между властью и ее осуществлением, между
Царством и Правлением.
В «Вопросах о провидении» Матфея из Акваспар-
ты неспособность Бога наглядно демонстрирует
собственное «управленческое» значение. Давая
отрицательный ответ на вопрос о том, мог ли Бог сотворить
разумное существо, неспособное грешить, он
поясняет, что это невозможно не из-за неспособности
Господа, но потому, что в таком случае
провиденциальное управление миром потеряло бы всякий смысл.
Создание разумного существа, в самом деле не
способного согрешить, и впрямь, с одной стороны,
означало бы отрицание его свободы воли, а с другой —
сделало бы бессмысленной благодать, посредством
которой Бог сохраняет сотворенное и управляет им:
56. Также Hostiensis.
177
ЦАРСТВО И СЛАВА
Всякое разумное существо, коль скоро оно
сотворено, должно сохраняться Богом в бытии; оно
также нуждается в постоянной поддержке [та-
nutenentia] создателя, ведь если бы он перестал
управлять вещами, которые он создал, они бы все
подверглись разрушению. [...] Но для
сохранения нравственного блага творений недостаточно
общего воздействия божественной поддержки,
ибо также необходимо воздействие благодати.
Поэтому Бог не может сделать так, чтобы
сотворенное само себя сохраняло, — как не может
он сделать так, чтобы оно согласно природе
или само по себе не могло грешить. [Matteo diAc-
quasparta. P. 292].
Неспособность Бога обеспечивает возможность
справедливого управления миром.
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
Порог
Теперь мы можем лучше понять артуровскую
мифологему roi mehaignié. В этом литературном образе
получили отражение трансформация и раскол
понятия суверенитета, который, судя по всему, немало
встревожил умы современников. Хотя, как мы
убедились, эта трансформация имела прецеденты в
гностическом учении о бездействующем боге, а также
соответствия в традиции римского права, по сути —
с технической точки зрения —она совершается в
области канонического права. Теологическая модель
этого разделения — в учении о божественной
неспособности, то есть в разграничении между potentia
absoluta и potentia ordinata. Угуций и автор декреталии
«Grandi» — посредством которой Иннокентий IV
отделил, в случае rex inutilis Саншу II, царствование
от его осуществления, —дали этому разграничению
юридическую форму, общее значение и
политические последствия которой они, возможно, не
полностью осознавали. Тем не менее, нет никаких
сомнений в том, что, как было замечено, «"Grandi" являет
собой итог наиболее разветвленной юридической
традиции, какую Европа видела со времен
Юстиниана, хотя в 1245 Г°ДУ немногие монархии были
способны воспользоваться этой традицией» (Peters. P. 304).
Конфликт, о котором здесь идет речь,
разворачивался не столько между «законной властью» (ко-
179
ЦАРСТВО И СЛАВА
торая, в силу декреталии, принадлежала графу Бу-
лонскому) и «личной преданностью» (которую все
еще нужно было хранить Саншу и) — как,
по-видимому, полагает Петере, — сколько между
суверенитетом, неотделимым от его осуществления, и
царствованием, структурно разделенным и отделимым
от правления (или же в терминологии Фуко—между
территориальным суверенитетом и
правительственной властью).
Именно в этой перспективе можно рассмотреть
спор, разделивший в первые десятилетия XIV века
Иоанна XXII и Оккама. По мысли Иоанна, законы,
установленные Богом, отождествляются с самой его
сущностью и потому являются вечными и
неизменными. Поэтому он не может действовать иным
образом, чем он решил действовать. Абсолютное
могущество и могущество упорядоченное суть одно
и то же, их разграничение носит чисто
номинальный характер.
Невозможно, чтобы Бог согласно абсолютному
могуществу спас человека, лишенного таинства
крещения, ибо так было установлено вечностью
согласно упорядоченному могуществу, которое
отождествляется с Богом и не может быть
подвергнуто изменению. [...] Некоторые
утверждают, что Бог согласно абсолютному могуществу
может многое из того, на что он не способен
и чего он не делает согласно могуществу
упорядоченному; но это неверно и ошибочно, ибо
абсолютное могущество и могущество,
упорядоченное в Боге, суть одно и то же, и различаются
они лишь названием —как Симон и Петр,
которые являются именами одного и того же
человека. Как невозможно поразить Симона, не ранив
при этом Петра, — или же заставить Петра делать
что-то, чего Симон не делал бы, ибо это один
i8o
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
и тот же человек, — так невозможно, чтобы Бог
мог делать согласно абсолютному могуществу
нечто иное в сравнении с тем, что он делает
согласно упорядоченному могуществу, так как эти два
могущества суть едины, и различаются и
разграничиваются они лишь по имени. [Cit. Courtenay.
P. 162.]
Этому тезису Оккам противопоставляет
несводимость абсолютного могущества к могуществу
упорядоченному: это не два могущества, а два разных
способа, которыми Бог сообщает нам, что он что-то
может или чего-то не может, или два внутренних
разветвления единого божественного могущества
по отношению к действию.
Строго говоря, утверждать, что Бог может
согласно абсолютному могуществу то, чего
он не может согласно могуществу
упорядоченному, — значит утверждать, что Бог может
делать то, чего он не решал [quae tarnen minime ordi-
naret sefacturum]; но если бы он делал подобное,
то это свершалось бы согласно упорядоченному
могуществу, ибо если бы он делал —это бы
означало, что он принял об этом решение. [Cit.
Courtenay. P. 164.]
Как для более передового мыслителя, для Оккама
принципиально важно предохранить случайный
характер решения от влияния концепции действия,
проводимой магометанами и «старушками» (vêtu-
laè)^ которая сводит его к чистой необходимости
(«Из этого следовало бы, что ни одна тварь не может
делать то, чего она не делает фактически, так что
все происходило бы по необходимости и ничего —
по случайности, как утверждают неверные, древние
еретики, а также еретеки тайные, миряне и
старушки». Ibid.).
181
ЦАРСТВО И СЛАВА
В конечном итоге на кону в этом конфликте
функционирование правительственного диспозитива.
Если для понтифика различие между двумя
уровнями или двумя аспектами диспозитива носит чисто
номинальный характер —так что действие
фактического управления уже всегда определяет могущество
и Царство полностью отождествляется с
Правлением,—то для Оккама Царство (абсолютное
могущество) всегда каким-то образом превосходит и
предваряет Правление (упорядоченное могущество),
которое достигает и определяет его лишь в момент
executio, при этом никогда полностью его не
исчерпывая. Иными словами, друг другу противостоят
две различные концепции управления людьми:
первая, над которой еще довлеет старая модель
территориального суверенитета, сводит двоякую
расчлененность аппарата управления к чисто формальному
моменту; вторая приближается к новой экономико-
провиденциальной парадигме, в которой два
элемента сохраняют, несмотря на их взаимосвязь, каждый
свою идентичность, а случайности действий
управления соответствует свобода суверенного решения.
Но в результате своеобразного перевертывания
именно эта, так сказать, более «демократическая»
парадигма приближается к позиции тех канонистов и
теологов (таких как Дуне Скот), которые в те же годы
разрабатывают доктрину potentia absoluta как модель
исключительных полномочий. В той мере, в какой
оно структурно превосходит упорядоченное
могущество, могущество абсолютное представляет собой —
не только в Боге, но в любом деятеле (и в особенности
в понтифике) — то, что позволяет законно
действовать «за пределами закона и вопреки ему»:
Potest agere conformiter illi legi reetae, et tunc
secundum potentiam ordinatam (ordinata enim est
182
4. ЦАРСТВО И ПРАВЛЕНИЕ
in quantum est principium cxsequendi aliqua con-
formitcr legi rectae) et potest agere praeter illam
legem vel contra earn, et in hoc est potentia absoluta,
excedens potentiam ordinatam57. [Duns Scoto. Cit. Co-
urtenay. P. 112.]
57. «Может действовать в соответствии с правильным законом
и в соответствии с приведенной в надлежащий порядок
внутренней возможностью. Эта возможность является
упорядоченной настолько, насколько упорядочено
начало, способное исполнять нечто в соответствии с
правильным законом. Может действовать также, не
принимая во внимание правильный закон или даже вопреки
ему. Это является абсолютной возможностью, выходящей
за пределы упорядоченной возможности» (лат.).
5.
Провиденциальная машина
5«i. Лекционный курс Мишеля Фуко
«Безопасность, территория, население», прочитанный в
Коллеж де Франс в 1977""1978 годах, посвящен
генеалогии современного управленчества. Фуко начинает
с того, что выделяет в истории отношений власти
три различные модальности: это законодательная
система, которая соответствует институциональной
модели территориального суверенного государства
и определяет себя посредством нормативного кода,
противопоставляющего дозволенное тому, что
запрещено, и исходя из этого противопоставления
устанавливающего систему наказаний;
дисциплинарные механизмы, которые соответствуют
дисциплинарным обществам Нового времени и внедряют
наряду с законом комплекс полицейских,
медицинских и карательных процедур с целью
упорядочивать, исправлять и моделировать тела подданных;
и, наконец, диспозитивы безопасности, которые
соответствуют современному государству населения
и характерной для него новой практике, которую
это государство определяет как «управление
людьми». Фуко спешит уточнить, что эти три
модальности не следуют друг за другом хронологически
и не исключают друг друга, но сосуществуют и
сочленяются друг с другом — однако таким образом,
что в ту или иную эпоху какая-то одна из них
определяет господствующую политическую технику.
Так, рождение государства населения и примат дис-
184
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
позитивов безопасности совпадают с
относительным ослаблением функции суверена и выходом
на первый план того самого управленчества,
которое составляет важнейшую политическую
проблему нашего времени. Характеризуя ее, Фуко
использует формулу, которую мы уже встречали у Шмитта
и у Петерсона:
Ведя речь о населении, я постоянно
использовал один термин, а именно термин
«управление». И чем дальше мы продвигались в анализе
населения, тем реже я обращался к слову
«суверен». Передо мной встала необходимость
выделить и обозначить еще один, на мой взгляд,
относительно новый феномен —но уже не из
области понятий или уровней реальности, а из
разряда техник власти. Точнее говоря, мне
нужно было указать на процесс, в рамках которого
управление начинает оттеснять простое
установление правил на задний план, вследствие чего
у сторонников ограничения королевской власти
в один прекрасный день появится возможность
заявить: «Король царствует, но не правит». Речь
идет об инверсии во взаимоотношениях
управления и царствования, ставшей причиной того,
что, по существу, в центре внимания
новоевропейской политики оказалась не проблема
верховной власти, царствования, Imperium, а проблема
управленческих решений1.
1. Здесь и далее, за исключением отдельно оговоренных
случаев, использован перевод: Фуко М. Безопасность,
территория, население//пер. с фр. Н.В.Суслова, А. В.Шеста-
кова, В.Ю.Быстрова. Спб.: Наука, 20п. С. 114. Агамбеном
использован перевод на итальянский язык,
осуществленный по изд.: Foucault M'. Sécurité, territoire,
population. Cours au Collège de France (1977-1978). Paris:
Seuil-Gallimard, 2004; ит. пер.: Sicurezza, territorio, popolazione.
Corso al Collège de France (1977-1978). Milano: Feltrinelli, 2005.
185
ЦАРСТВО И СЛАВА
Фуко усматривает истоки управленческих техник
в христианском пастырстве — в том самом
«управлении душами» {regimen animarum), которое,
будучи «техникой техник», определяет деятельность
Церкви вплоть до XVIII века, когда оно
становится «моделью» и «матрицей» (Там же. С. 2о8)
политического управления. Одна из сущностных черт
пастырства состоит в том, что оно равным образом
обращено к индивидууму и к общности, что его
задачей является забота о людях omnes et singulatim2,
и именно эта двоякая сочлененность определяет
деятельность правительства современного
Государства, которая по этой причине является
одновременно индивидуализирующей и тотализирующей.
Другой сущностной чертой, которая роднит
пастырство и управление людьми, является, по мысли
Фуко, идея «экономики», то есть руководства
индивидами, вещами и богатством, устроенного по
образцу семьи. Если пастырство выступает как oikonomia
psychön, «экономика душ», то «включение
экономики в пространство политической практики будет [...]
основной целью управления»3. Более того,
управление есть не что иное, как «искусство отправлять
власть в форме экономики»4, притом что и
церковное пастырство, и политическое управление
относятся к сущностно экономической парадигме.
2. Зд.: в совокупности и по отдельности (лат.).
3- Foucault M. Sicurezza, territorio, popolazione. P. 98. В русском
переводе: «введение экономики в пространство
отправления политики будет, на мой взгляд, ключевой проблемой
не только в XVI и XVII, но и в XVIII веке» (Фуко М.
Безопасность, территория, население. С. 143)-
4- Foucault M'. Sicurezza, territorio, popolazione. P. 99. В русском
переводе: «...искусство управления [...] является
искусством реализации власти исключительно в режиме и в
соответствии с принципами экономики» (Там же. С. 144)-
186
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
Несмотря на то что Фуко, давая «экономическое»
определение пастырству, цитирует именно
Григория Назианзина —автора, который, как мы имели
возможность убедиться, сыграл важную роль в
разработке тринитарной парадигмы, — он будто бы
полностью игнорирует теологические импликации
термина ойкономия, которым и посвящено
настоящее исследование. Но тот факт, что выстраиваемая
Фуко генеалогия управленчества в этой
перспективе может быть расширена и продолжена во
времени вплоть до того, что через историю становления
тринитарной парадигмы становится возможным
выявить в самом Боге истоки концепции
экономического управления людьми и миром, — не умаляет
ценности его предположений, но скорее укрепляет их
теоретическое ядро в той мере, в коей оно уточняет
и корректирует их историко-хронологическое
содержание. Так, лекция, прочитанная 8 марта 1978 года,
помимо прочего, посвящена анализу «De regno»5
Фомы Аквинского: она ставит себе целью показать,
что в средневековой мысли —и особенно в
схоластике — еще присутствует сущностная непрерывность
между суверенитетом и управлением. «Если в самой
непрерывной преемственности отправления
своей верховной власти суверен может и должен
править, то только в той мере, в какой он образует часть
того великого континуума, который нисходит от Бога
к отцу семейства, проходя через природу и
пастырей. Этот великий континуум суверенитета в
правлении есть не что иное, как „политическое" выражение
преемственности между Богом и людьми»6. Имен-
5- «О царстве» (лат.).
6. Foucault M. Sicurezza, territorio, popolazione. P. 239-240.
Частично использован русский перевод: Фуко M. Безопасность,
территория, население. С. 3°9-3Ю-
187
ЦАРСТВО И СЛАВА
но эта преемственность, по мысли Фуко, нарушается
начиная с XVI века, когда череда новых парадигм —
от астрономии Коперника и Кеплера до физики
Галилея, от естественной истории Джона Рея до
Грамматики Пор-Рояля —показывает, что Бог
«управляет миром лишь посредством общих, универсальных,
простых и понятных законов. Иными словами, Бог
не управляет миром как пастырь, но безраздельно
царствует посредством принципов»7.
Мы же, напротив, показали, что первый зародыш
разграничения между Царством и Правлением
содержится в тринитарной ойкономии, которая
вводит разрыв между бытием и праксисом внутри
самой божественности. Понятие ordo в средневековой
мысли — и в особенности у Фомы — способно
восполнить этот раскол, лишь воспроизводя его в
самом себе в виде разрыва между трансцендентным
и имманентным порядком (а также между ordinatio
и executio). Но еще большее удивление вызывает тот
факт, что в своей генеалогии управленчества Фуко
упоминает небольшое сочинение Фомы «De
regno», обходя при этом вниманием трактат «De gu-
bernatione mundi»8, в котором он мог бы
обнаружить основные элементы теории управления в его
противопоставленности царству. С другой
стороны, с определенного момента — и в частности уже
в книге Сальвиана «De gubernatione Dei» — термин
«gubernatio» является синонимом провидения,
а трактаты о божественном управлении миром есть
не что иное, как трактаты о способе, которым Бог
продумывает и осуществляет свое провиденциаль-
7- Foucault M. Sicurezza, territorio, popolazione. P. 240. Частично
использован русский перевод: Фуко M. Безопасность,
территория, население. С. 310.
8. «Об управлении миром» (лат.).
188
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
ное действие. Провидение есть имя «ойкономии» в той
мере, в коей последняя выступает в качестве
управления миром. Если учение об ойкономии — а также
проистекающее из него учение о провидении — можно
рассматривать в данном смысле как механизмы,
служащие обоснованию и объяснению управления
миром, и только таким образом они становятся
полностью интеллигибельными, то истинно и обратное,
а именно, что рождение управленческой
парадигмы становится понятным, лишь если наложить его
на «экономико-теологический» фон провидения,
с которым оно полностью согласуется.
Тем более удивительно, что в курсе лекций
1977~"1978 годов отсутствует какое-либо упоминание
понятия провидения. При этом теории Кеплера,
Галилея, Рея, ученых Пор-Рояля, на которые
ссылается Фуко, лишь радикализируют это различие между
общим и частным провидением, в котором теологи
по-своему воплотили противопоставление между
Царством и Правлением. А суть перехода от
церковного пастырства к политическому управлению,
которую Фуко пытается объяснить — по правде
сказать, не слишком убедительно — посредством
возникновения целого ряда антипредводительских
движений9, становится куда более понятной, если
рассматривать этот переход как секуляризацию той
подробнейшей феноменологии первичных и
вторичных, ближайших и отдаленных, случайных
и продуктивных причин, общих и частных
интересов, опосредованных или прямых столкновений,
9- В оригинале использован термин «controcondotte»: это
буквальный перевод французского «contre conduite»,
который в цитируемом нами издании книги Фуко
переведен — на наш взгляд, не совсем точно — как «антипово-
дырские движения».
i89
ЦАРСТВО И СЛАВА
ordinatio и executio, при помощи которых
теоретики провидения пытались объяснить божественное
управление миром.
К При проведении археологического исследования
необходимо учитывать, что генеалогия понятия или
политического института может располагаться в области,
отличной от той, которую заранее по умолчанию приняли
за исходную (к примеру, не в области политической науки,
а в области теологии). Если мы ограничимся строго
«политическим» анализом средневековых трактатов—таких
как «De regno» Фомы или «De regimine civitatum»10 Джован-
ни да Витербо, — то перед нами предстанет нечто такое,
что современный взгляд видит как непоследовательность
и терминологическую путаницу, в силу которой порой
невозможно убедительным образом установить связь между
современными политическими категориями и
средневековой системой понятий. Если же принять во внимание
выдвигаемое нами предположение о том, что генеалогию
современных политических понятий скорее следует возводить
к трактатам «De gubernatione Dei»11 и к сочинениям,
посвященным провидению, то эта связь проясняется. Опять
же, археология — это наука о сигнатурах, поэтому
необходимо уметь прослеживать сигнатуры, которые
производят смещение понятий или ориентируют их
интерпретацию в другие сферы.
Невнимание к этому методологическому
предостережению не только помешало Фуко исчерпывающе и
убедительно очертить его генеалогию управленчества, но также
поставило под угрозу результаты ценных изысканий Мишеля
Сенелляра, нашедших отражение в его работе «Arts de
gouverner»12. Современное понятие управления продолжает
не историю средневекового «regimen», представляющую со-
ю. «Об управлении городами» (лат.).
il. «О божественном управлении» (лат.).
12. «Об искусстве управлять» (фр-)-
igo
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
бой, так сказать, своего рода «глухой» конец в истории
западной мысли, а, скорее, традицию — впрочем, куда более
полную и разветвленную — провиденциальных трактатов,
которая в свою очередь также уходит корнями в тринитар-
ную ойкономию.
5-2. Не идет речи о том, чтобы полностью
проследить историю нескончаемого спора о
провидении, который в языческом, христианском и иуда-
истском контексте развивается почти непрерывно
со времен стоиков, достигая порога Нового времени.
Этот спор скорее интересует нас постольку,
поскольку он образует пространство, в котором теолого-
экономическая парадигма и разрыв между бытием
и праксисом, который она в себе содержит,
принимают форму управления миром, и напротив,
управление предстает как деятельность, которая может
быть помыслена лишь в том случае, если онтология
и практика «экономически» разделены и
согласованы между собой. В данном смысле можно сказать,
что учение о провидении является
привилегированной теоретической сферой, в которой классическое
мировидение с его приматом бытия над праксисом
дает трещину и dem otiosus уступает место deus actuö-
sus. Нам же необходимо проникнуть в смысл и
рассмотреть последствия этой божественной
деятельности управления.
Неоднократно было замечено, что одним из
ключевых моментов спора о провидении с самого
начала было разграничение между общим и частным
(или специальным) провидением. В его основе
лежит стоическое разграничение между тем, что
первичным образом (proêgoumenôs) содержится в планах
провидения, и тем, что производится как
сопутствующий или второстепенный его эффект (kaf ера-
kolouthêsin или parakolouthêsin).
191
ЦАРСТВО И СЛАВА
История понятия провидения совпадает с
длительной и оживленной полемикой между
сторонниками представления о том, что Бог заботится
о мире лишь посредством общих или
универсальных принципов (Providentia generalis), и теми, кто
утверждает, что божественное провидение
пронизывает все, вплоть до самых незначительных
деталей — или, согласно образному сравнению Св.
Матфея, 10:29, вплоть до самого малого воробышка13
(Providentia specialis и specialissima). Если утверждается
общее провидение и при этом частично или
полностью отрицается провидение частное, то мы имеем
дело с позицией аристотелевской и позднеантичной
философии — и в конечном счете с деизмом
(который, как выразился Вольф, «допускает
существование Бога, но при этом отрицает его вмешательство
в человеческие дела», Wolff^ Natürliche Gottesgelahrt-
heit, II, 2, p. 191). Если же одновременно
утверждаются обе формы провидения — то мы имеем дело
с позицией стоицизма, теизма и доминирующего
направления христианской теологии, в рамках
которых встает вопрос о том, каким образом
примирить частное провидение с человеческой свободой
выбора.
И все же подлинной ставкой в этом споре
является не столько свобода человека (которую
сторонники второго тезиса как раз пытаются отстоять
посредством разграничения между отдаленными
и ближайшими причинами), сколько возможность
божественного управления миром. Если Царство
и Правление разделены в Боге жесткой оппозицией,
13. В русском Синодальном переводе этот стих звучит
следующим образом: «Не две ли малые птицы продаются за ас-
сарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли
Отца вашего».
192
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
то в этом случае никакое управление миром в
действительности невозможно: с одной стороны будет
бессильная верховная власть, с другой —
бесконечная хаотичная цепочка частных (насильственных)
действий провидения. Управление возможно лишь
в том случае, если Царство и Правление
взаимосвязаны, образуя биполярный механизм: оно именно
и является тем, что возникает вследствие
согласования и сочленения общего провидения и провидения
частного —или, по словам Фуко, omnes и singulatim.
5-3- Впервые провиденциальная машина
упоминается в книге «Peri pronoias» («О провидении»)
Хрисиппа (SVF, II, 33б)> гДе она Уже предстает в
своих сущностных чертах, которые будут определять
ее функционирование вплоть до самого порога
Нового времени, — а именно как стратегическое
слияние двух проблем, различных лишь внешне:
проблемы происхождения и оправдания зла и проблемы
управления миром. Связь, которую Хрисипп
устанавливает между этими двумя проблемами,
настолько прочна, что она оказывается в центре
педантичного, спора post mortem с Бейлем, который Лейбниц
инсценирует в своей «Теодицее». Пытаясь доказать
свою теорию о том, что существующий мир — la
meilleure des républiques14, Лейбниц утверждает, что
наличествующее в нем зло не проистекает
непосредственно из божественной воли, но является неизбежным
сопутствующим следствием выбора, который Бог
совершил в отношении лучшего из возможных миров:
Отсюда следует, что зло, проявляющееся в
разумных созданиях, происходит только по
совпадению, вне предшествующей воли, но по после-
ц. Наилучший из возможных миров (фр.).
193
ЦАРСТВО И СЛАВА
дующей воле, содержась как бы в свернутом виде
в наилучшем из возможных замыслов; и
метафизическое благо, обнимающее все, служит
причиной того, что иногда надо дать место
физическому и моральному злу, как я объяснял уже не раз.
Кажется, древние стоики были не очень далеки
от этой системы15 [Leibniz, 2, 209. Р. 253-254]-
Далее в подтверждение своего тезиса, и вместе с тем
в попытке уличить противника в противоречии с
самим собой, он приводит отрывок из Хрисиппа в
версии (к слову, довольно близкой к оригиналу), в
которой он представлен у Бейля:
В книге четвертой своего сочинения «Peri рго-
noias»16 Хрисипп исследует вопрос, который
представляется ему достойным рассмотрения,
а именно: ei ai tön anthröpön nosoi kata physin gignon-
tai [случаются ли человеческие болезни согласно
природе]? Создала ли природа вещей или
провидение, сотворившее мир и род человеческий,
также и телесные недуги и болезни, каким
подвержены люди? Он полагает, что основное намерение
природы не состояло в том, чтобы сделать людей
подверженными болезням, это не подобало бы
причине всех благ. Но когда природа
произвела и подготовила множество весьма полезных
и целесообразных вещей, возникли также и
некоторые пагубные вещи, явившиеся следствием
созданного. Хрисипп говорил, что они не были
произведены природой, но явились своего рода
необходимыми следствиями, которые он
определил как происходящие kata parakolouthêsin [по
совпадению]. Так, к примеру, когда природа созда-
15. Использован существующий перевод. Лейбниц Г. В.
Сочинения: в 4 т. Т. 4- М.: Мысль, 1989- С. 276-277-
i6. «О провидении» (греч.).
194
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
вала человеческое тело, наиболее разумная идея
и сама полезность этого творения требовала,
чтобы голова была образована из костей тонких
и мягких. Но внешним следствием этой общей
полезности явилось то, что голова не в
состоянии сопротивляться ударам. Природа создала
здоровье, но вместе с тем был открыт источник
болезней и недугов17. [Ibid.]
Именно эту, вовсе не очевидную связь между
проблемой существования зла и проблемой провидения
Хрисипп оставил в наследие христианской
теологии и философии.
54- Трактат и сборник вопросов о провидении,
приписываемый Александру Афродисийскому,
комментировавшему Аристотеля во II веке н. э., являют
собой яркий пример того, каким образом в
контексте данной проблематики различные философские
школы имели тенденцию одновременно
сходиться и расходиться в разных вопросах согласно
неким общим неизменным установкам. Противниками
Александра были стоики, утверждавшие, что
«ничто в мире не происходит без вмешательства
провидения» и что боги, подобные в этом
осмотрительным хозяевам, которые безотрывно следят за всем,
что происходит в их доме, заботятся как о мире в
целом, так и об отдельных вещах (Alex i. P. 102-103).
Опровергая такое представление о провидении,
Александр неустанно повторяет, что бог,
неотрывно следящий за каждым индивидом и за всякой
отдельной вещью, предстал бы в положении низшем
относительно вещей, о которых он печется. Таким
17. Там же. С. 277-278- Существующий перевод значительно
переработан.
195
ЦАРСТВО И СЛАВА
образом Александр противопоставляет парадигму
царства парадигме пастырства (то есть, опять же,
Царство и Правление): если пастух стоит ниже
существ, о которых он заботится — ибо его
совершенство зависит от их процветания, — то в случае
провидения дело обстоит противоположным образом:
Иначе свершается промысел18, осуществляемый
царем над подвластными ему вещами: он не бдит
непрерывно за частным и общим так, что ни одна
вещь в его ведении не ускользает от его
внимания и вся его жизнь посвящена этому бдению.
Разум царя предпочитает осуществлять
промысел универсальным и всеобщим образом, его
задачи слишком благородны и возвышенны,
чтобы он занимал себя подобными безделицами19.
[Ibid. P. 117.].
Безусловно, Бог есть первый источник всякого
провидения, но это не означает, что он созерцает и
ведает о каждом из нижестоящих существ:
Человек и тот не способен распространить свой
промысел на все в доме вплоть до мышей,
муравьев и всех прочих находящихся там вещей.
Посему следует сказать, что не пристало
благородному человеку наводить порядок в доме,
раскладывая все вещи по местам и распоряжаясь
ими соответственно их назначению, ибо действие
сие его не достойно. Ведь он должен брать в
соображение наиболее значимые из вещей, а такого
рода действия и заботы должны быть ему чужды.
Если же такое поведение не достойно
благоразумного человека, то, стало быть, еще менее оно
i8. У A.: prowidenza (провидение).
ig. Здесь и далее при цитировании Александра Афродисийско-
го перевод наш.
196
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
подобает Богу: он и в самом деле слишком
высоко стоит, чтобы можно было утверждать, будто
он заботится о людях, о мышах и о муравьях [...]
и что промысел его простирается на все мирские
дела. [Р. 119.]
Мы видим, что здесь уже сформировалось то
двоякое членение провидения, которому позже в
христианском богословии будет присвоено имя Providentia
generalis vi Providentia specialis и которое здесь
представлено как провидение, свершающееся само по себе
(kaV' hauto), и провидение, свершающееся
привходящим образом (hâta symbebêkos). Но решающее
значение в случае Александра имеет то, каким способом
он пытается помыслить третью, промежуточную
модель, нейтрализующую эти оппозиции: по всей
видимости, она и составляет для него истинную
парадигму провиденциального действия.
Провидение богов в отношении вещей,
существующих в подлунном мире, пишет Александр (Р. 143)?
не может быть изначальным действием,
умышленно направленным на эти вещи, ибо то, что
свершается во имя чего бы то ни было, находится в
подчинении у последнего — а в таком случае провидение
было бы в подчинении у существ подлунного мира.
Но не менее абсурдным было бы полагать, что
провидение свершается чисто привходящим образом,
ибо это то же самое, что утверждать, будто
провидение не есть осознанное действие — тогда как Бог
безусловно является самым сознательным из существ.
Александр очерчивает здесь парадигму
божественного действия, которая уклоняется как от модели
преднамеренного действия, так и от модели
непредумышленного случая, и предстает, так сказать, в
парадоксальной форме умышленного случая или
лишенной цели сознательности. Александр называет
197
ЦАРСТВО И СЛАВА
«природой» то, что соответствует этому
провиденциальному канону, и в согласии с ним определяет
эту природу как «божественную технику» (Р. Ц9):
Божественная сила, которую мы также
называем «природой», дает бытие вещам, в которых
она присутствует, придавая им форму
согласно определенной упорядоченной
взаимосвязи — но таким образом, чтобы это происходило
без принятия какого-либо решения. Природа
не принимает решений и не использует
рациональное осмысление в отношении того, что она
совершает, потому что природа есть сила
иррациональная. [Р. 151.]
Именно это дает возможность Александру
уподоблять природные движения движениям,
производимым механическими автоматами, которые
«будто бы пляшут, борются и перемещаются, совершая
упорядоченные, ритмичные движения, поскольку
к этому их приспособил мастер» (Ibid.). Но если
ремесленники, создавая продукты промысла, ставят
перед собой определенную цель, то та божественная
техника, которая именуется природой,
осуществляется непроизвольно, но тем не менее и не
привходящим образом, «исключительно благодаря
непрерывной череде сменяющих друг друга порождаемых
существ» (Р. 153)-
5-5- Как же следует понимать эту особую
промежуточную природу провиденциального
действия —- непроизвольную, но и не привходящую?
В вопросе 2, 21 Александр подробно описывает и
обосновывает свою модель. Если можно было бы,
пишет он, найти термин, означающий нечто среднее
между «происходящим само по себе» и
«привходящим», то это бы упразднило альтернативу, которая
198
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
делает провиденциальное действие недоступным
для понимания. Таковое действие не ставит себе
целью принести пользу существу, о котором оно
заботится (провидение само по себе), но вместе с тем
оно не является чисто привходящим.
Мы говорим, что печется о чем-либо сам по себе
тот, кто задался целью принести пользу данной
вещи, и ввиду этой пользы он совершает
действия, которые, по его разумению, служат
достижению этой цели, полагая смыслом своей
деятельности принесение блага той сущности,
о которой он печется.
Мы говорим, что одно существо печется о
другом привходящим образом \kata symbebêkos] тогда,
когда «заботящийся» ничего не делает для того,
чтобы принести пользу существу, о котором
он заботится, но выходит так, что последнее
извлекает некую пользу из того, что делает
первый; однако «заботящийся» таким образом
пребывает в полном неведении относительно этого
привходящего следствия. В самом деле,
кажется, будто привходящим образом находит
сокровище тот, кто изначально копал с другой целью
и кто не предполагал его найти. Точно так же
не иначе, как привходящим образом некто
погибает от удара молнии, ибо молния не поражает
намеренно, как не является она проявлением
сознательного действия демиурга, который ее
произвел. [Р. 236.]
Провиденциальное действие по Александру —
и в этом состоит особый интерес его теории — не
является ни «происходящим само по себе», ни
«привходящим», ни первичным, ни побочным, но
представляет собой то, что можно было бы определить
как «рассчитанный побочный эффект».
199
ЦАРСТВО И СЛАВА
Знание некоторых следствий того, что
происходит ввиду какой-то иной цели, исключает
привходящий характер этих следствий, ибо
случайным является то, что происходит вопреки
ожиданиям, тогда как прогноз представляется
признаком рациональной связности фактов. [...]
Сущность, не действующая в отношении чего-
либо, но осознающая пользу, которую она ему
приносит, и желающая этого, осуществляет о нем
заботу — но при этом такое действие не
является ни свершающимся само по себе, ни
привходящим образом. [Р. 236-240.]
Теория провидения у Александра, в соответствии
с аристотелевской теологией, от которой он
отталкивается, не направлена на обоснование Управления
миром, но это Управление — то есть соотношение
между общим и частным — случайным20, но
сознательным образом проистекает из провидения
всеобщего. Бог, который царствует, но не правит, делает
таким образом возможным управление. Иначе
говоря, управление является эпифеноменом
провидения (или царства).
Определив таким образом природу
провиденциального действия, Александр передал в наследие
христианской теологии возможный канон
божественного gubernatio миром. Проявляется ли
провидение исключительно в универсальных
принципах или же он нисходит до попечения о самых
ничтожных частностях — он в любом случае
должен проникать в саму природу вещей и соблюдать
ее имманентную «экономику». Управление миром
свершается не посредством тиранического
навязывания общей внешней воли и не привходящим
образом, а через осмысленное прогнозирование по-
20. В оригинале: contingente.
200
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
бочных эффектов, которые проистекают из самой
природы вещей и в своей единичности остаются
совершенно случайными. То, что представлялось
маргинальным феноменом или второстепенным
эффектом, становится таким образом самой парадигмой
действия управления.
Стало быть, неудивительно, что арабский автор
IX века Джабир ибн Хайян мог интерпретировать
рассуждение Александра о провидении в таком духе,
что из него вытекало нечто вроде своеобразной
парадигмы либерализма. Суть ее сводилась к тому,
что хозяин, пекущийся о своих интересах и о
нуждах своего дома, приносит пользу — неважно,
насколько осознанно, — так же и живности, которая
его населяет:
Книгу Александра Афродисийского
характеризует то, что, по его мнению, девятая
сфера не осуществляет промысла об этом мире
намеренно: в этом мире нет ничего, что
уклонялось бы от промысла, но происходит это лишь
привходящим образом. Иллюстрируя это
положение, он приводит следующий пример:
хозяин дома или дворца не думает о том, чтобы
накормить мышей, ящериц, тараканов и муравьев,
живущих в нем, заботясь таким образом об их
существовании, — как, напротив, он поступает
в отношении себя самого и членов своей семьи.
И все же, заботясь о своем доме, он также
привходящим образом заботится и об этой
живности. [Р. 167.]
К Теория отрицательных побочных эффектов провидения,
берущая начало в философии стоиков, была наиболее
полно разработана Филоном. Неизбежные пагубные и
«зловредные» элементы творения (от молний и града до
ядовитых змей и скорпионов) мыслятся как сопутствующие
201
ЦАРСТВО И СЛАВА
эффекты или bavures21 провиденциального устройства
универсума:
Снег, град и все прочие подобные явления есть
побочные эффекты [epakoloutheï] охлаждения
воздуха, а столкновение и трение между облаками
производит молнии и громы. [...] Землетрясения,
эпидемии чумы, грозы и явления такого рода [...]
не есть первичные творения природы: они
проистекают из необходимых вещей как
сопутствующие эффекты. [...] Что касается змей, то их
ядовитый вид проистекает не из провиденциального
плана, а из побочного эффекта, как уже
говорилось выше: они появляются на свет всякий раз,
когда излишняя влажность встречается с
избытком тепла [Phil. Prov. P. 328-338].
Современная управленческая рациональность в точности
воспроизводит двоякую структуру провидения. Всякое
действие управления стремится к первичной цели, но именно
в силу этого оно может влечь за собой побочные эффекты
(collateral damages), предусмотренные или не
предусмотренные в деталях, по в любом случае неизбежные. Расчет
побочных эффектов, которые могут быть весьма
значительными (в случае войны они включают в себя гибель
людей и разрушение городов), является в этом смысле
неотъемлемой составляющей логики управления.
N Мысль о том, что частное провидение, доведенное до
крайности, может влечь за собой абсурдные последствия, можно
обнаружить и у христианских теологов. Показателен в этом
смысле отрывок из Иеронима (Hab. I, I; PL, 25, i286a-b):
Безумие полагать, что величие Господа
простирается вплоть до того, что он в каждый момент
времени знает, сколько появляется на свет кома-
21. Размытость, оплошность, искажение (фр-)-
202
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
ров и сколько умирает, ведет счет блохам и
несчетному множеству мух, а также ведает,
сколько рыб рождается в море, и прочее в таком духе.
Не пристало нам быть столь ничтожными льсти-
телями Господа, чтобы умалять его промысел
до ведения подобными вопросами.
5-6. В рамках стоической мысли, в которой оно
и берет свое начало, понятие провидения тесно
сопряжено с проблемой фатума. Трактат Плутарха
«О фатуме» являет собой в этом плане
показательный пример того, каким образом языческий
философ, работавший между I и II веком христианской
эры, мог внести свой вклад —притом совершенно
непреднамеренно — в разработку управленческой
парадигмы.
Плутарх начинает с того, что дает определение
понятию фатума (heimarmenê), проводя
разграничение—согласно стоической модели, ясно
показывающей, каким образом онтология раздвоилась,
превратившись в прагматику, — между фатумом как
сущностью (ousia) и фатумом как действием (energeia,
«действенность»). Как сущность фатум
соответствует мировой душе, которая в пространственном
отношении делится на три области: небо неподвижных
звезд, область «блуждающих» планет и область,
расположенная под небесами в земном мире. Как
действие—и, по всей видимости, именно этот аспект
больше всего интересует Плутарха — фатум
уподобляется закону (nomos), «по которому
развертывается все, что ни происходит» (Plut. De fat. 586 d. P. 18).
Решающим, однако, является то, каким образом
Плутарх использует парадигму закона для того,
чтобы выразить связь между фатумом общим и фатумом
частным (kata rneros о hath! ekastha, ibid. 566 d. P. 21).
203
ЦАРСТВО И СЛАВА
Подобно тому как гражданский закон (politikosnomos,
ibid.) не обращается к тому или иному индивиду,
но упорядочивает согласно универсальному
положению (hypothesis, «допущение») все, что происходит
в городе, точно так же фатум устанавливает общие
условия, согласно которым впоследствии
возникнет связь между частными фактами (ibid. P. 21-22).
Иными словами, с точки зрения фатума все
происходящее рассматривается как следствие ранее
случившегося. Плутарх таким образом отождествляет
предначертанное с тем, что действительно и об-
условленно (to ex hypotheseôs):
Следует определить природу того, что
обусловлено, и показать, что судьба носит такой
характер. Мы называем обусловленным не то, что
пребывает само по себе, а то, что определено неким
реальным условием и проистекает из него в
качестве эффекта [akolouthian.] [Ibid. 57оа- Р 22.]
Принцип, в силу которого все происходит «согласно
судьбе [panta kath'heimarmenê]» (ibid. 570 с. Р. 23),
имеет смысл, лишь если принимать во внимание, что
выражение «согласно судьбе» относится не к
антецеденту, а исключительно к порядку эффектов и
следствий. «Предопределенным или предначертанным
судьбой должно считать лишь то, что является
эффектом изначально установленного [proêgêsamenois]
в божественном раскладе» (Ibid. 57° е. Р. 24). Иными
словами, судьба делит сущее на два различных плана:
план общих антецедентов (proêgoumend) и план
частных эффектов. Первые каким-то образом
охватываются судьбой, но не происходят согласно предначертанию
судьбы; а судьба есть то, что фактическим образом
вытекает из взаимосвязи между этими двумя планами.
Именно здесь Плутарх вводит учение о
провидении, которое являет собой не что иное, как более
204
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
строгую формулировку теории фатума. Провидение,
как и фатум-сущность, имеет тройную фигуру,
которая воспроизводит схему трех божественных
порядков из Второго псевдоплатоновского письма.
Первым и высшим провидением является мышление
или воля первого бога —«благодетельница в
отношении всего», в соответствии с которой всякое
существо было расположено наилучшим и самым
прекрасным образом (Ibid. 572 f- Р-3°)- Это провидение
«сотворило судьбу и некоторым образом ее объем-
лет» (Ibid. 574 Ь. Р. ЗЗ)- Провидение второго рода,
которое было сотворено одновременно с судьбой и объ-
емлемо вместе с ней, есть провидение младших
богов, бороздящих небо; именно в соответствии с ним
располагается и поддерживается в бытии все
смертное. Провидение третьего рода, которое было
создано «после судьбы» и в ней содержится, принадлежит
демонам, которые призваны контролировать и
направлять человеческие действия. Лишь первое
провидение, по мысли Плутарха, достойно своего
имени. Он является «самой древней сущностью», и
потому он стоит выше судьбы, ибо «все, что происходит
согласно судьбе, происходит и в соответствии с
провидением, но не все, что подчиняется провидению,
охватывает судьба» (Ibid. 573 k. P-3°)- И если судьба
сравнивалась с законом, то высшее провидение
подобно «политическому законодательству, которому
подлежат человеческие души» (Ibid. 573 d- Р- З2)*
Провидение и фатум у Плутарха разделены
и в то же время тесно переплетены между собой.
Если высшее провидение соответствует плану
первичного и всеобщего, то фатум, объемлемый
провидением и отчасти ему тождественный,
соответствует плану частных эффектов, из него проистекающих.
Но верхом двусмысленности представляется
отношение «побочности», или «действительности» (ако-
205
ЦАРСТВО И СЛАВА
louthia). Важно уяснить степень новизны, которую
этот подход привнес в классическую онтологию.
Перевертывая аристотелевское определение
конечной причины и низвергая ее примат, он
превращает в «эффект» то, что у Аристотеля фигурировало
как цель. Будто бы отдавая себе в этом отчет,
Плутарх замечает, что «любители излишнего педантства
в таких вещах, возможно, скажут, что первичный
характер принадлежит частному, ибо именно ввиду
последнего существует всеобщее, а цель априорна
в отношении того, что свершается ради ее
достижения» (Ibid. 569 f- Р* 22)- Иными словами, ключевой
особенностью машины провидение-фатум является
ее функционирование наподобие двухполюсной
системы, действие которой сводится к созданию
своего рода зоны неразличимости между первичным
и вторичным, между общим и частным, между
конечной причиной и эффектами. И хотя Плутарх,
как и Александр, никоим образом не имел целью
управленческую парадигму, «эффектуальная»22
онтология, выстраиваемая в его рассуждении,
некоторым образом содержит условие возможности
управления, понимаемого как деятельность, в
конечном счете направленная не на общее и частное,
не на первичное и последующее, не на цель и
средства, но на их функциональное соотношение.
К Нередко научная картина мира Нового времени
противопоставлялась теологической концепции
провиденциального управления миром. И все же в своей концептуальной
структуре они гораздо более близки, чем принято считать.
Прежде всего, модель общего провидения покоится на
вечных законах, вполне аналогичных тем законам, на
которых зиждется современная наука. Но наиболее очевидные
22. Effettuale.
206
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
аналогии с современной научной картиной мира
обнаруживаются в отношении между первичными и вторичными
причинами» Дидье Делёль показал, что в новоевропейской
мысли — от Юма до Адама Смита —утверждается
концепция, которая абсолютно так же, как и теория провидения,
порывает с приматом конечных причин и подменяет их
порядком, произведенным случайной игрой имманентных
эффектов. Порядок мироустройства не отсылает к некоему
изначальному проекту, но вытекает из непрерывной
последовательности ближайших причин и потому
функционирует не как голова, а как живот (Deleule. P.2ßg-26f).
Невзирая на идею божественной ordinatio, двоякая
структура провиденциального порядка по факту прекрасно
согласуется с контингентностью вторичных причин и их
эффектов. Управление миром не есть результат
диктата общего нерушимого закона: оно вытекает из
соотношения между общим законом и контингентным планом
вторичных причин.
57- В этой связи не должно вызывать удивление,
что в своем трактате о судьбе Александр выступает
с резкой критикой стоического диспозитива
провидение-фатум.
В самом начале трактата он доказывает, что если
брать аристотелевскую классификацию четырех
причин (действующая, материальная,
формальная и конечная), то ни в одной из них фатум не
может найти место без противоречий, как не может
он охватить всю совокупность событий. Развивая эту
мысль, Александр приходит к тому, что обращается
к порядку бессмысленных событий, тиков и жестов,
которого человек античности будто бы не ведает, —
таких действий, как «беспричинное машинальное
переминание травинок в руках, теребление и
вытягивание волос на голове и прочие действия такого
рода» (Alex. P. 6); он также говорит о тех останках,
отбросах и отклонениях, которые невозможно впи-
207
ЦАРСТВО И СЛАВА
сать ни в какой финализм и ни в какое
предопределенное судьбой сцепление событий.
Чему служат испражнения, выделяющиеся из
некоторых частей нашего тела? А чудища и все,
что возникает вопреки природе и что
изначально неспособно к существованию [...]? А для чего
потребны сгнившие или высохшие плоды или
некоторые раздвоившиеся листья? [...] Не все, что
уродилось на свете, является причиной
будущих событий лишь потому, что оно существует
[Ibid. Р. 45-46].
Александр прекрасно осознает, что его
противники претендуют на то, чтобы примирить фатум
с человеческой способностью к действию и
обосновать через фатум саму возможность управления
миром. Он цитирует отрывок из трактата, в
котором открыто постулируется связь
фатум-управление: «Если бы все происходило не согласно судьбе,
управление [dioikesis, руководство] миром не было бы
свободно от препятствий и помех. Но без
управления не было бы упорядоченного мира [kosmos],
а без упорядоченного мира не было бы богов» (Р. 72).
«Если бы в мир было привнесено движение без
причины, — заявляет другой сторонник фатума, —
мир бы раскололся и распался [...]: он бы уже не был
управляем единым порядком и единой ойкономи-
ей» (Р. 43)- Отвергая эти идеи, Александр
решительно утверждает контингентный (то есть открытый
возможности не-свершения) характер
человеческих действий. «Мы являемся хозяевами, — читаем
мы в заключении его трактата, —лишь в отношении
того, что мы властны [exousian: распространенный
перевод «свободны» не является точным] не делать
(Р. 76). И тем не менее, как в трактате о провидении
стремление удержать провидение в сфере общего
2о8
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
привело его к разработке онтологии побочных
эффектов—уже не аристотелевской, но очевидно
предваряющей современные управленческие теории, —
так же и здесь отказ от фатума приводит его к тому,
что он во всех сферах отстаивает теорию
контингентное™, которая идеально согласуется с
современными техниками управления. Для этих техник,
в самом деле, существенной является не столько
идея предопределенного порядка, сколько
возможность управлять беспорядком; не неотвратимая
необходимость фатума, а постоянство и
калькулируемое^ беспорядка; не непрерывная цепь случайных
связей, а условия возможности поддерживать и
направлять эффекты, которые сами по себе являются
чисто контингентными.
5-8. В приписываемых Проклу «Вопросах о
провидении», сохранившихся в латинском
средневековом переводе, проблемы управления миром на
первый взгляд не стоит вообще. Провидение является
чисто онто-гносеологической проблемой, которая
совпадает с проблемой природы и объект.а
божественного познания, а вклад Прокла состоит как раз
в том, что он прочно укоренил пропойю в едином
и в бытии. Так, первый вопрос касается того,
являются ли объектом божественного знания
универсальные реальности или единичные сущности. Ответ
гласит, что провидение как высшая степень
божественного познания объемлет, согласно уже
знакомой нам парадигме, как совокупность всего, так и
отдельные существа — omnes et singulatim; но проблема
остается по сути проблемой познания, а не праксиса
и управления. В том же духе во втором вопросе
рассматривается проблема способа, которым
провидение познает случайное. Хотя сами по себе случайные
вещи неопределенны и бесчисленны, провидение
209
ЦАРСТВО И СЛАВА
познает их так, как если бы они были
необходимыми. Действительно, природа познания определяется
природой познающего, а не познаваемым объектом;
поэтому «провидение, познающее разные
познаваемые объекты, не становится делимым наподобие
этих объектов, порожденных временем, телесных
и изменчивых, но продолжает быть единым,
бестелесным, вневременным, неделимым и
превосходящим противоречия» (Proclo. P. 148).
В третьем вопросе исследуется проблема
сущностного отношения, связывающего провидение,
чья природа тождественна природе единого, и
случайное: именно в этом контексте впервые
намечается проблема управления. И впрямь, если бы
не существовало никакой связи (colligatio) между
случайными мирскими вещами и высшими
реальностями, не могло бы быть ни единства, ни
управления согласно уму (gubernatio secundum intelligentiam).
Установление этой связи Прокл поручает демонам
и богам.
С одной стороны, боги, объявшие своим
провидением все вещи, с другой —демоны, разделившие
полноту бытия божества: первые обязались
заботиться об одних существах, вторые — о других,
вплоть до мелочей разделив задачи, как говорит
Платон, таким образом, что одни
покровительствуют людям, другие — львам, третьи —
другим видам животных и растений; в частности,
одни отвечают за глаза и сердце, другие — за
печень, так, чтобы все было наполнено богами...
[Ibid. P. 178].
Но здесь —как и в следующем вопросе, который
касается способа, которым боги принимают участие
в земной жизни, провидение остается категорией
сущностно онтологической, отсылающей к своего
210
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
рода постепенному и постоянному излиянию
божественной сущности, в котором отдельные существа
участвуют в разной мере согласно присущей их
природе специфической способности.
Теперь давайте обратимся к письму Феодору,
дошедшему до нас вместе с вопросами, где Прокл
рассматривает проблему фатума и его отношения
с провидением. Феодор — «mechanicus», нечто
вроде инженера, который понимает мир как огромный
механизм, в котором правит неотвратимая
необходимость, где одна сфера входит в другую
посредством механизмов, определяющих движение всех
живых и неживых существ, начиная с единого
движущего начала. Принцип, который, по мысли Фео-
дора, приводит в движение и связывает воедино эту
машину-мир (mundiale opus) подобно главному
инженеру (mecanicus quidam), —это фатум или провидение.
В противовес этой унитарной модели машины-
мира, исключающей всякую свободу (в ее рамках au-
texusion, idestliberi arbitrii23, как комментирует
латинский переводчик, превратилось бы в пустое имя,
ibid. P. 334) и всякую возможность управления
миром, Прокл утверждает, что провидение и фатум,
напротив, составляют систему, иерархически
расчлененную на два плана. Последняя не исключает
свободы и предусматривает сущностное различие
между двумя элементами или планами. В каждой
точке мироздания действующие первичные
причины и эффекты строго различаются («ubique autem
factivae causae ab effectibus distinctae sunt», p. 344),
и действующий принцип не может быть помещен
на тот же план, что и его эффекты («faciens non est
tale, quale factum», p. 346). Иными словами, эта док-
23. Самовластный, то есть поступающий по своему разумению
(лат.).
211
ЦАРСТВО И СЛАВА
трина заключает в себе бинарную онтологию,
разделяющую реальность на два уровня —
трансцендентный и имманентный: провидение соответствует
порядку первичных трансцендентных причин,
фатум—порядку эффектов или вторичных
имманентных причин. Провидение, или первичная причина,
является источником блага; фатум в качестве
вторичной причины порождает имманентную связь
между эффектами («...providentiam quidem causam
esse bonorum hiis quibus providetur, fatum autem
causam quidem esse et ipsum, sed connexionis cuiusdam
et consequentiae hiis quae generantur»24, p. 342).
Совместно они функционируют наподобие машины
с двухтактным двигателем, в котором предписанное
судьбой сцепление эффектов (фатум как causa
connexionis) приводит в жизнь и осуществляет
провиденциальное излияние трансцендентного блага.
Хотя идея божественного gubernatio миром еще
не заявлена как таковая, раскол бытия на два
различных и связанных между собой плана является
условием, которое сделает возможным для христианской
теологии создание управленческой машины.
К Оставим в стороне вопрос атрибуции Проклу малых
сочинений, переведенных Вильгельмом из Мёрбеке. Такая
атрибуция основывается лишь на частичном соответствии
между латинским текстом и текстами трех трактатов,
сочиненных византийским эрудитом Исааком Севастокра-
тором в XI веке и предположительно являющихся
плагиатом Проклова оригинала. Тем не менее, нет никаких
сомнений в том, что представленная в них онтология является
24. «...провидение является причиной благ, по крайней мере,
для тех людей, для которых он промышляет. Фатум
также является причиной, но это есть причина
соединения и следствия для тех вещей, которые порождаются
на свет» (лат.).
212
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
не неоплатонической, а, скорее, стоической и
христианской. Идея создателя мира выдвигается здесь
неоднократно. Возможно, что автором этих сочинений был не Прокл,
а представитель того иудео-христианского {так или иначе,
не классического) мировоззрения, с которым мы уже не раз
сталкивались.
5-9- Текстом, посредством которого
христианская теология восприняла диспозитив
провидение-фатум, является «De consolatione philosophiae»25
Боэция. Весь разговор между безутешным Боэцием
и госпожой Философией, отогнавшей от него муз
поэзии — «распутных лицедеек», — вращается вокруг
вопроса о том, каким образом мир управляется
Богом («quibus... gubernaculis regatur», I, 6), а также
вокруг причин очевидного торжества зла над
добром и победы фортуны над справедливостью.
Единственное средство исцеления в состоянии смятения
и забытья, в которое впал Боэций, —это «истинное
учение об управлении миром [veram de mundi gu-
bernatione sententia]» (Ibid.). Поэтому рассеяв
первые сомнения, прелестная и строгая наставница,
некогда научившая его «применять на практике
общественного управления то, что он познал во
время уединенных занятий на досуге» (i, 4)> с улыбкой
соглашается изложить ему это сложнейшее учение
о провидении и фатуме, апории которого она сама
в своей речи уподобляет головам гидры: едва
срубишь одну голову —тут же вырастает бесчисленное
множество других (4, 6).
Провидение и фатум, трансцендентность и
имманентность, которые уже у Плутарха и Прокла
формировали двустороннюю систему, теперь отчетливо
расчленены, создавая идеальную машину управ-
25- «Утешение философией» (лат.).
213
ЦАРСТВО И СЛАВА
ления миром. Происхождение и движение
мироздания, как объясняет своему ученику Философия,
получает свои причины, порядок и форму от
божественного ума. Но последний утвердил двоякий
способ управления вещами (rebusgerendis):
Этот способ, когда рассматривается в чистом
виде в самом божественном разуме, называется
провидением; если же он сопрягается с вещами,
которые он приводит в движение, и
располагает, то, как еще ведется от древних, он называется
судьбой. Что эти два понятия различны,
становится очевидным, если вникнуть в их смысл. Ведь
провидение есть сам божественный разум,
стоящий во главе всех вещей и располагающий все
вещи; фатум же есть имманентное расположение
[dispositio: латинский аналог ойкономии]
изменяющихся вещей, посредством которого
провидение связывает всякую вещь со своими
установлениями. Провидение объемлет в равной степени
все —как отдельное, так и бесконечное; фатум же
упорядочивает движением отдельные вещи,
распределенные по разным местам, формам и
временам; так, развертывание временного порядка,
заключенное в предзнании божественного разума,
есть провидение, а тот же порядок,
расположенный и разветвленный во времени, зовется
фатумом. Провидение и фатум хотя и различаются,
однако взаимосвязаны между собой. Порядок
фатума вытекает из простоты провидения26 [Ibid.].
Двойственный характер управления миром и в то же
время связующее начало, объединяющее два
аспекта, возможно, никогда не утверждались со столь
безапелляционной ясностью, как в этом отрывке. Сила,
управляющая миром, есть результат взаимодействия
26. Частично использован существующий перевод.
214
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
трансцендентного, простого и вечного принципа
и имманентной ойкопомии («inhaerens rebus»),
развернутой во времени («explicata temporibus») и
пространстве («locis [...] distributa»). Эти два принципа
разнородны, но взаимозависимы («alterum [...] реп-
det ex altero») не только потому, что фатум
вытекает из провидения, но и потому, что, как поясняется
в песне, завершающей главу, если бы фатум не
сдерживал вещи в их движении, «все, что ныне объем-
лет непреложный порядок, распалось бы, отдаляясь
от своего истока».
Что речь идет о самой настоящей парадигме
управления, сообщается госпожой Философией
в следующем отрывке, в котором экономика
мироздания описывается посредством образов и
лексики, отсылающих к сфере многоуровневого
управления царством или империей:
Бог посредством провидения располагает
единственным и непреложным образом то, что
должно свершиться, а затем посредством
фатума устрояет [amministrat] во времени и в
многообразии форм предписанное провидением.
И неважно, приводится ли фатум в исполнение
божественными духами, обслуживающими
провидение, или же нить судьбы \fatalis series]
ткется с помощью мировой души или послушной ей
природы, посредством движения светил, или
силой ангелов, или старанием различных
демонов, с помощью кого-то одного из этого или же
посредством всего этого вместе взятого, —
несомненно и очевидно, что провидение есть
простой и неизменный образ всего того, что
подлежит управлению [gerendarum... rerum], фатум же
есть беспрестанно меняющееся сплетение и
временной порядок того, что Бог в своей простоте
препоручил в управление.
215
ЦАРСТВО И СЛАВА
Так, все, подчиненное фатуму, подвластно и
провидению, которому подчиняется и сам фатум;
но некоторые вещи, подвластные провидению,
находятся за пределами действия фатума. Речь
идет о тех вещах, которые, будучи неизменными
и находясь в непосредственной близости от
высшей божественности, превосходят порядок
движения судьбы27. [Ibid.]
Провидение и фатум предстают здесь в качестве
двух иерархически связанных между собой сил:
суверенное решение определяет общие принципы
устроения мира, препоручая управление и
исполнение подвластной ему, но при этом самостоятельной
силе (gestio — юридический термин, указывающий
на дискреционный характер действий, совершаемых
одним субъектом в отношении другого). Тот факт,
что высшее провидение решает некоторые вопросы
напрямую и оттого эти вопросы уклоняются от
ведения судьбы, не отменяет разделения сил, на котором
покоится вся система. Так, мир управляется
наилучшим образом («res optime reguntur», ibid.),
объясняет наставница своему ученику, когда пребывающая
в божественном разуме простота дает состояться
предписанному судьбой сплетению причин; иными
словами, когда верховное провидение (Царство:
Боэций открыто говорит о «regnum providentiae», ibid.)
предоставляет фатуму (Управлению) регулировать
и направлять человеческие действия («Фатум свя-
27. Симптоматично, что в существующем русском переводе,
по этой причине использованном здесь лишь частично,
почти все слова семантического поля, связанного с
управлением (лат. «administratio»), заменены куда более
абстрактными и разнородными по значению терминами,
не передающими высвечиваемой Агамбеном связи между
провидением и управлением, которая и составляет ядро
этой главы.
2l6
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
зывает действия и ход жизни людей нерушимой
цепью причин», ibid.).
Отсюда роковой и вместе с тем
сверхъестественный ореол, окружающий действия управления.
Поскольку трансцендентный вседержитель ведает и
решает то, что фатум затем заключает в имманентное
сплетение причин, тому, кто в них вовлечен,
фатум — то есть управление — представляется
величественным и непостижимым чудом («Hic iam fit illud
fatalis ordinis insigne miraculum, cum ab sciente geri-
tur quod stupeant ignorantes», ibid.). И сколь бы
несправедливым и беспорядочным ни казалось сущее,
а порочные очевидным образом ни торжествовали
в то время, как праведные бедствуют, — все
происходящее в точности вписывается в провиденциальный
порядок. По сути порочные также желают блага,
но их желание искажено заблуждением: нет
ничего такого, что происходило бы по причине зла,
а провиденциальный порядок никогда не
уклонится от своего начала («Nihil est quod mali causa ne ab
ipsis quidem improbis fiat; quos [...] bonum quaerentes
pravus error avertit, nedum ordo de summi boni
cardine proficiens a suo quoquam deflectat exordio», ibid.).
Теперь попробуем рассмотреть любопытное
отношение, которое в пределах управленческой
машины связывает провидение и фатум. Несмотря на
отчетливое различие между ними, они тем не менее
представляют собой лишь два аспекта единого
божественного действия, duplex modus единой
деятельности управления миром, которая благодаря
намеренной терминологической двусмысленности предстает
то как провидение, то как фатум, то как разум,
то как disposition то как трансцендентное, то как
имманентное, то как свернутое в божественном уме,
то как развертывающееся во времени и в
пространстве. Действие управления есть одновременно про-
217
ЦАРСТВО И СЛАВА
видение, которое мыслит и направляет сущее ко
всеобщему благу, и судьба, которая распределяет благо
между индивидами, связывая их бытие цепью
причин и следствий. Таким образом, то, что на одном
уровне—с точки зрения фатума и индивидов
—представляется непонятным и несправедливым, на
другом обретает умопостигаемость и получает свое
оправдание. Иными словами, управленческая
машина функционирует в качестве непрерывной
теодицеи, в которой Царство провидения
легитимирует и обосновывает Правление фатума, а последний
гарантирует поддержание установленного
провидением порядка и обеспечивает его эффективность.
К Сальвиан, марсельский епископ, живший в V веке, в
начале своего трактата «De gubernatione Dei» мимоходом
упоминает языческие источники учения о провидении. Прежде
всего, это Пифагор, затем — Платон и все
«платоники», признающие в Боге «всеобщего управителя», стоики,
«утверждающие, что Бог в роли правителя [gubernatoris
vice] всегда пребывает внутри того, чем он управляет»;
наконец, Вергилий и Цицерон, цитируемые, как и предыдущие
источники, из вторых рук. Действительно, Сальвиан
знаком с классическими авторами лишь по выдержкам,
приводимым в трудах апологетов, и создание его собственного
учения о провидении никоим образом не связано с
управленческой парадигмой, которую мы до сих пор
реконструировали в контексте позднеантичной философии (в частности,
у него нет и намека на двоякое разделение «общее
провидение/частное провидение»). Область приводимых им
примеров ограничена почти исключительно Библией, где
божественное провидение разворачивается главным образом
в форме суда и наказания.
Показательно, однако, что и в этом контексте
провиденциальная парадигма тяготеет к тому, чтобы принять
форму управления. Метафора gubernator сохраняет связь
со своим «корабельным» истоком, но область ее значений
218
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
расширяется, включая в себя три аспекта, которые,
помысли Сальвиана, присущи всякой деятельности управления:
Могли ли они измыслить что-то более праведное
и благочестивое, чем сравнение Господа с
кормчим [gubernatori]? Подобно тому как кормчий,
ведущий корабль, никогда не выпускает из рук
штурвала [gubernaculo], так и Господь никогда
не отвращает от мира своей заботы; и подобно
тому как кормчий вслушивается в шум ветров,
обходит рифы и следит за расположением звезд,
всецело, телом и душой, отдаваясь своему делу,
так и наш Господь никогда не отвращает от
мироздания своего обета [типш] созерцания,
управления [regimen] посредством провидения и своего
милосердного снисхождения [indulgentiam]. [Sal-
viano, I, I. P. 4.]
Вторая книга трактата посвящена определению
посредством примеров из Библии (per testimonia sacra) трех фигур
провидения, которые Сальвиан определяет как praesentia,
gubernatio et iudicium28 и которые являют собой
удивительный прообраз троичного разделения властей в новое
время, хотя в данном случае они объединены в одном лице.
Символом присутствия, соответствующего верховной власти,
является око, видящее и бдящее; символ правления — рука,
указующая и исправляющая; символ суда (судебная власть) —
слово, осуждающее и порицающее. Однако эти три силы
тесно переплетены между собой и каждая из них
подразумевает наличие других двух:
Присутствие: ведь тот, кому суждено править
и судить, непременно должен присутствовать,
чтобы править и судить. Вот почему Божье слово
гласит в своих писаниях: повсюду око Божье
созерцает праведных и порочных. Вот он, Бог вез-
28. Присутствие, правление и суд (лат.).
219
ЦАРСТВО И СЛАВА
десущий, Бог созерцающий, Бог всевидящий. [...]
Праведных он созерцает во имя спасения,
порочных же им на погибель. [...] Посмотрим же,
каким образом смотрящий правит, ибо основание
взгляда [ratio aspiciendi] содержит в себе и
причину правления [causam... gubemandi]. Ведь
смотрящий не смотрит для того, чтобы, взглянув,
пренебречь; но —уже лишь потому, что он удостоил
что-либо своего взгляда, он этим не
пренебрежет. Вот почему в Священном Писании
говорится о том, что порочных око Божье
созерцает на погибель, а праведных —во имя спасения.
Так явлена экономика божественного правления
[dispensatio divinigubernaculi], которая означает
руководство посредством справедливого
правления, а также обращение с каждым человеком
сообразно различным его заслугам... [Ibid. 1,1-2.]
5.10. Теологическая парадигма правления
содержится в трактате Фомы Аквинского «De gubernatione
mundi» (S. Th., I, qq. 103-113). Здесь правление
определяется не тематически, а посредством
формулирования ряда questiones, в которых постепенно выводятся
его специфические черты. Прежде всего,
правление противопоставляется случаю таким же образом,
как порядок — тому, что случается неожиданно:
Некоторые философы античности отрицали
управление миром, утверждая, что все
происходит случайно. Такая позиция не выдерживает
критики по двум причинам. Первая причина
заключена и явлена в самих вещах. Ибо мы видим,
что в природных существах всегда или в
большинстве случаев происходит то, что есть
для них наилучшее; этого не могло бы
происходить, если бы природные существа не
направлялись к конечной благой цели неким провиде-
220
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
нием: а это и есть управление. Сам неизменный
порядок вещей явно свидетельствует об
управлении миром. Так, входящий в чисто убранный
дом из самого этого порядка извлекает
представление о том, кто его обустроил... [Ibid. I,
q.103, a. I.]
Вторая причина будто бы в большей степени
приближается к определению правления: она
связана с самой возможностью достигать своей цели
для всего, что сотворено Богом. «Высшее
совершенство всякой вещи состоит в достижении ею своей
цели. Поэтому вести эти вещи к их цели дано
сотворившей их божественной благости — а это и
означает управлять» (Ibid.). Стало быть, общий смысл
управления заключается в том, чтобы «вести
творения к их цели». Фома уточняет, что
сотворенные вещи нуждаются в управлении, ведь если бы
они не были оберегаемы manus gubernatoris29, они бы
вновь погрузились в ничто, из которого они
возникли. Но каким образом осуществляется божественное
управление миром? Речь здесь вовсе не о том, что,
согласно распространенному представлению, некая
внешняя сила вмешивается в ход вещей и
управляет ими подобно тому, как пастух ведет своих овец.
Определяющей особенностью божественного
управления (со ссылкой на аристотелевское тождество
между arche и physis) является тот факт, что оно
всецело совпадает с самой природой управляемых
вещей. Согласно парадоксу, идеальным образом
соответствующему структуре порядка, божественное
управление творениями не имеет иного
содержания, кроме как заложенная в вещах природная
необходимость:
29. Рукой правителя (лат.).
221
ЦАРСТВО И СЛАВА
Природная необходимость, присущая вещам,
бытие которых определено некоей целью, есть
отпечаток, который им сообщает Бог, направляя их
к этой цели; точно так же необходимость, в силу
которой стрела стремится к мишени, есть импульс,
исходящий от лучника, а не от нее самой.
Однако различие состоит в том, что от Бога вещи
получают свою собственную природу, тогда как
действие, производимое над ними человеком, есть
насилие, превосходящее их природу. И подобно
тому как необходимость, которую сила задает
движению стрелы, показывает замышленное
лучником направление, так и природная необходимость,
присущая творениям, выражает правление
божественного провидения. [Ibid., q. 103, a. I, ad. 3.]
Итак, управление определяется как весьма
специфическая форма деятельности, исключающая элемент
насилия (в значении «противного природе»,
которым этот термин наделен в средневековой мысли —
в противоположность spontaneuS) qui sponteßt),
которая выражается через саму природу управляемых
вещей. Божественное управление и самоуправление
тварного совпадают, а управление может означать
лишь одно, согласно парадигме, которую
физиократам и теоретикам «науки о порядке», начиная
от Ле Троена и заканчивая Мерсье де ла Ривьером,
суждено было вновь открыть пятью веками позже,
а именно —знать природу вещей и позволять ей
беспрепятственно осуществляться.
И все же, если бы это тождество между природным
порядком и управлением было абсолютным и в то же
время не дифференцированным, управление
являло бы собой бессмысленную деятельность, которая,
повинуясь изначальному импульсу природы в
момент творения, попросту сводилась бы к
пассивности и laissez-faire. Но это не так. Именно через отве-
222
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
ты на вопросы «действует ли Бог во всяком деятеле»
и «может ли Бог совершить нечто такое, что не
согласуется с заложенным в вещах порядком»,
уточняется специфическое содержание понятия управления.
Фома имеет перед собой (или, прибегая к
риторическому приему, делает вид, что имеет) два
противоположных положения: первое, так называемый «фатум
Магомета», гласит о том, что Бог напрямую
участвует во всяком природном действии благодаря
непрерывному чуду («solus Deus immediate omnia operatur».
Ibid., I, q. 105, a. 5.); согласно же второму тезису,
вмешательство Бога ограничивается изначальным даром
природы и virtus operandi30 в момент творения.
Магометов тезис неверен, говорит Фома, ибо он
равнозначен тому, чтобы исключить порядок причин
и следствий из плана творения. Ведь если бы огонь
давал тепло не в силу диктата своей природы, а
потому что всякий раз при его возникновении
вмешивается Бог, наделяющий его теплом,—тогда все творение,
лишенное своей действующей силы, потеряло бы
всякий смысл: «Все сотворенные вещи каким-то образом
оказались бы тщетными [frustra], если бы они были
отстранены от присущего им действия, ибо всякая
вещь существует ради своего действия» (Ibid). С
другой стороны, противоположный тезис, призванный
защитить свободу творений, решительно отделяет их
от Бога, грозя вновь низвергнуть их в ничто, из
которого они возникли. Как же примирить
божественное управление и самоуправление творений? Каким
образом управление может совпадать с природой
вещей и тем не менее оказывать на нее воздействие?
Решение этой апории, как мы уже видели,
пролегает через стратегическое разграничение между пер-
ЗО. Сила действия (лат.).
223
ЦАРСТВО И СЛАВА
вичными и вторичными причинами, primum agens
et secundi agentes. Если рассматривать мир и порядок
вещей как всецело зависимые от первичной
причины, то Бог не может вмешиваться в их ход или
делать что-либо выходящее за пределы этого порядка
или противное ему, «ибо, если бы Бог поступал
таким образом, он действовал бы против собственного
предзнания и против собственной воли и благости»
(Ibid. I, q. 105, а. 6). Поэтому пространство,
характерное для действия управления миром, не
является необходимым пространством ordo adDeum и
первичных причин, но контингентным пространством
ordo ad invicem и причин вторичных.
Если рассматривать порядок вещей в плане его
зависимости от какой-либо вторичной
причины, Бог может действовать за пределами [praeter]
порядка вещей. Ведь он не подчиняется
порядку вторичных причин: напротив, сам этот
порядок подвластен ему, поскольку исходит от Бога
не по природной необходимости, но согласно
его свободной воле, ибо он мог бы установить
и иной порядок вещей. Поэтому, если он
пожелает, он может действовать за пределами
этого установленного порядка [praeter hunc ordinem
institutum] — к примеру, реализуя эффекты
вторичных причин без самих этих причин или же
производя эффекты, на которые вторичные
причины не распространяются. [Ibid.]
В своей высшей форме сфера божественного
действия praeter ordinem rerum являет собой чудо («Unde
ilia quae a Deo fiunt prater causas nobis notas, miracula
dicuntur». Ibid., I, q. 105, a. 7).
Все же это действие управления возможно (как это
утверждается в приводимых нами ранее отрывках
из Августина) лишь постольку, поскольку Бог, буду-
224
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
чи первичной причиной, придает творениям
форму и поддерживает их в бытии («dat formam creatu-
ris agentibus, et eas tenet in esse», ibid., I, q. 105, a. 5):
из этого следует, что он действует внутри всякой вещи
(«ipse Deus est proprie causa ipsius esse universalis in
rebus omnibus, quod inter omnia est magis intimum rebus;
sequitur quod Deus in omnibus intime operetur». Ibid.).
Смысл структурного раскола ordo и его связи с
раздвоенной системой Царство/Правление, онтология/
ойкоиомия начинает здесь проясняться. Царство
относится к ordo ad deum> к плану отношения
творений к их первопричине. В этой сфере Бог не
способен к действию: точнее, он может действовать лишь
постольку, поскольку его действие всегда уже
совпадает с природой вещей. С другой стороны,
Управление относится к ordo ad invicem — к случайному
отношению, связывающему вещи между собой. В эту
сферу Бог может вмешиваться, приостанавливая,
замещая или расширяя действие вторичных причин.
Тем не менее, эти два порядка функционально
связаны между собой в том смысле, что именно
онтологическое отношение Бога с творениями —в
котором абсолютная близость к ним совмещается с его
абсолютной неспособностью, — обосновывает и
легитимирует практическую связь управления с
творениями: в рамках этой связи (то есть в области
вторичных причин) его возможности неограниченны.
Разрыв между бытием и праксисом, который
ойкоиомия вводит в Бога, в действительности
функционирует в качестве машины управления.
5.11. Из этого основополагающего биполярного
членения власти Бога над миром проистекает еще
одна сущностная черта божественной деятельности
управления, а именно факт ее разделенности на две
власти — власть, рационально принимающую реше-
225
ЦАРСТВО И СЛАВА
ние, и власть исполнительную, что неизбежным
образом подразумевает наличие множества
посредников и «министров». Ответ на вопрос,
«управляет ли Бог всеми вещами непосредственно», Фома
начинает с утверждения, что «в управлении
необходимо учитывать две вещи: рациональность [ratio
gubernationis], которая есть само провидение, и
исполнение [ехесиНо]. В плане рациональности Бог
управляет непосредственно всеми вещами; в
плане же осуществления власти Бог управляет
одними вещами посредством других» (Ibid. I, q. 103, а. 6).
Управленческая рациональность действительно
является «практическим знанием, которое состоит
в том, чтобы досконально знать объект управления»
(Ibid.), и как таковая она, безусловно, подобает Богу;
но коль скоро «управление тем лучше, чем выше
совершенство, которое правящий сообщает
управляемым, [...] Бог управляет творениями таким образом,
что они в свою очередь становятся причиной
управления другими творениями» (Ibid.) то есть
исполнителями ratiogubernationis. To, что божественное
управление миром и мирское управление земными
городами, состоят между собой в тесной аналогической
взаимосвязи, подтверждается тем фактом, что Фома
иллюстрирует свой тезис посредством исконно
политической парадигмы: подобно тому,как власть rex
terrenus*1, правящего посредством министров, не
умаляется в своем достоинстве, которое, напротив,
оттого становится более блистательным («ex ordine minis-
trorum potestas regia praeclarior redditur», Ibid. I, q. 103,
a. 6, ad 3), —так же и Бог, предоставляя другим
исполнение своего управленческого ratio, тем самым
делает свое управление более совершенным.
31. Земного царя (лат.).
22б
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
В «Summa contra Gentiles»32 (lib. 3, cap. 77) различие
между двумя аспектами божественного управления
миром утверждается с новой силой. Соотношению
между ratio gubernandi и executio соответствует
соотношение между ordinatio и ordinis executio, первое из
которых осуществляется через virtus conoscitiva, а второе—
через virtus operativa. Но если на уровне теории virtus
operativa должна распространяться на мельчайшие
частности непосредственным образом, то на уровне
исполнительной практики божественное
управление вынуждено действовать посредством
нижестоящих агентов (agentes inferiores), являющихся
исполнителями божественного провидения.
«Достоинству правящего подобает наличие многочисленных
служителей и различных исполнителей его
правления, ибо его господство предстает тем более великим
и возвышенным, чем более многочисленны и
иерархически упорядочены субъекты, которые ему
подчиняются. Стало быть, исполнение божественного
провидения должно осуществляться посредством
агентов различных рангов и ступеней» (Ibid. n. 4)-
К Концептуальное различие между общей
распорядительной властью (ratio gubernandi, ordinatio) и властью
исполнительной возникает в области теологии раньше, чем в
области политики. Современное разделение властей находит
в этом расчленении провиденциальной машины свою
парадигму. Но и современное различение между легитимностью
и законностью, которое возникает в монархической
Франции периода Реставрации, имеет свой архетип в двоякой
структуре провидения. То, что Шмитт называет
«законодательным Государством — каковым является современное
правовое Государство, в котором всякая деятельность
предстает как применение и исполнение безлично действующего
32. «Сумма против язычников» (лат.).
227
ЦАРСТВО И СЛАВА
закона, —является с этой точки зрения крайним следствием
провиденциальной парадигмы, в котором Царство и
Правление, легитимность и законность совпадают.
5-12. В вопросе пб трактата об управлении миром
Фома разбирает машину провидение-фатум,
описывая ее почти в тех же терминах, что и Боэций. На
вопрос «присутствует ли фатум в сотворенных вещах»
он отвечает, что божественное провидение приводит
в исполнение свои эффекты посредством
промежуточных причин («per causas médias suos effectus exe-
quitur», S.Th. I, q. 116, a. 2). В соответствии с уже
знакомой нам двоякой структурой провидения,
порядок [ordinatio] эффектов можно
рассматривать двумя способами. Во-первых, с точки зрения
его присутствия в самом Боге: тогда порядок
эффектов будет называться провидением.
Во-вторых — относительно промежуточных причин,
вызванных к жизни Божьим велением ради
произведения определенных эффектов; тогда оно
обретает характер фатума [rationemfati]. [Ibid.]
В этом смысле фатум зависит от Бога и являет
собой не что иное, как «саму экономику [dispositio]
или последовательность: иными словами, порядок
вторичных причин» (Ibid. I, q. 116 а. 2 ad. 1).
Disposition подчеркивает Фома, не означает здесь качество
или свойство сущего: его следует понимать в
«экономическом» значении порядка, который касается
не сущности, а отношения («secundum quod dispo-
sitio désignât ordinem, qui non est substantia, sed rela-
tio». Ibid. I, q. 116, a. 2, ad.3). Поэтому этот порядок,
многообразный и изменчивый в плане вторичных
причин, в отношении своего божественного
принципа является единым и неизменным. Тем не менее,
не все существа в равной мере подчиняются управле-
228
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
нию фатума. Здесь проблема провидения
демонстрирует свою сущностную связь с проблемой благодати.
Провидение, по словам Фомы (Contra Gent. Lib. 3,
cap. 147), распоряжается разумными созданиями
иначе, чем прочими созданиями. Разумные создания
наделены интеллектом и разумом, благодаря
которым они могут познавать истину. Кроме того,
посредством языка они могут общаться друг с другом
и объединяться с себе подобными, создавая общества.
Тем не менее, конечная цель разумных созданий
превосходит их природные способности и потому
требует другого образа управления («diversus guberna-
tionis modus», ibid.), нежели низшие создания. Этот
особый, высший образ управления («altior guberna-
tionis modus», ibid.) и есть благодать. «Так как
человек был предназначен для цели, превосходящей его
природные способности, то в его отношении должна
быть применена некая божественная содействующая
сила сверхъестественного характера, благодаря
которой он может идти к своей цели» (Ibid.).
Стало быть, божественное управление людьми
имеет по преимуществу два образа: образ природы
и образ благодати. Поэтому начиная с конца XVI века
проблема управления миром все теснее
переплетается с проблемой образов благодати и ее
эффективности, а трактаты и споры о провидении принимают
форму анализа и дефиниций фигур благодати:
благодать упреждающая, благодать сопутствующая,
благодать безвозмездная, благодать обыкновенная,
благодать достаточная, благодать эффективная и т.д.
Притом если формам управления в точности
соответствуют фигуры благодати — то необходимости
божественной безвозмездной помощи, без которой
человек не может достичь своей цели,
соответствует необходимость управления, без которого
природа не сохранилась бы в бытии. В любом случае
229
ЦАРСТВО И СЛАВА
как в отношении природы, так и в отношении
благодати действует принцип, согласно которому
провиденциальное управление никоим образом не может
ограничить свободную волю людей. Поэтому
благодать, будучи фигурой правления, не может
рассматриваться как «божественное принуждение к благу»
(«coactio homini... ad bene agendum», ibid., cap. 148).
Божественную помощь человеку на совершение
благих деяний следует понимать так: она
производит в нас деяния подобно тому, как первая
причина производит действие второй причины,
а основной агент производит работу
инструмента. Поэтому сказано (Исайя, 26:12): «Господи!
Ты породил в нас все наши деяния»33. Но первая
причина причиняет действие второй причины
в соответствии с присущим последней образом.
Поэтому Господь также производит в нас наши
действия согласно нашему образу бытия,
который заключается в том, что мы действуем по
собственной воле, а не по принуждению. Поэтому
никто не может быть принужден божественной
благодатью к совершению блага. [Ibid.]
Управление миром является местом содействия
благодати и нашей свободы — так, что, как утверждает
Суарес в противовес «лютеранскому заблуждению»,
«необходимость благодати сочетается с подлинным
использованием свободы, а использование
свободы [...] не может быть отделено от действия и
содействия со стороны благодати» (Suârez. P. 384)-
Провиденциальная парадигма управления людьми носит
не тиранический, а демократический характер.
33- Русский Синодальный перевод выносит на первый план
другую составляющую смысла, заложенного в исходном
тексте: «Господи! [...] Все дела наши Ты устрояешь для нас».
230
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
5.13. Невозможно уяснить функционирование
управленческой машины без понимания того, что
отношение между ее полюсами — Царством и
Управлением — является, в сущности, наместническим.
И император, и папа определяют себя как vicarius
Christi34 или vicarius Dei35: как известно, оспаривание
исключительного права на этот титул положило
начало продолжительной серии конфликтов между
духовной и светской властью. Маккарроне и
Канторович проследили историю этой борьбы, в ходе
которой то, что изначально было (главным
образом на Западе) исключительно императорским
титулом, начиная с V века становится — по крайней
мере, на Западе — прерогативой римского
епископа. Однако в аспекте тринитарной экономики
замещение власти —любой власти в принципе
—обретает особый ореол, который делает из нее сущностную
структуру высшей власти, имманентное изменчивое
выражение arche.
Замещение папской властью власти Христа
теологически основывалось на запаздывании парусии.
Так как Церковь должна была лишиться
телесного присутствия Христа \praesentiam suam car-
nalem erat Ecclesiae subtracturus], необходимо было
назначить министров, которые отправляли бы
таинства и наставляли бы людей. Эти министры
зовутся священниками. [...] А после изъятия
телесного присутствия Христа — так как должны
были возникнуть вопросы касательно веры,
которым суждено было разделить Церковь, чье
единство требует единства веры [...], —власть
эту получил Петр: он сам и его преемники. [Qui-
dort. P. III.]
34. Наместник Христа (лат.).
35- Наместник Бога (лат.).
231
ЦАРСТВО И СЛАВА
Однако в соответствии с принципом, который
обрел свою парадигму в фигуре Павла, власть Христа
в свою очередь является наместнической в
отношении власти Отца. Действительно, в Первом
послании к Коринфянам, 24-*28, Павел прямо заявляет
о том, что в момент конца после того, как он
подчинил себе всякую власть (кроме власти Отца, из
которой проистекает его собственная власть), Христос
вернет Царство Богу, который дал ему в
подчинение все сущее. Иными словами, власть Христа
заключается в его отношении с Отцом и является по
существу властью наместнической, позволяющей ему,
так сказать, действовать и управлять от имени Отца.
В более общем плане отношения между Отцом и
Сыном внутри Троицы можно рассматривать как
теологическую парадигму всякой potestas vicaria36, в
которой любое действие наместника
рассматривается как проявление воли того, кого он представляет.
И все же, как мы убедились, принципиально важным
для тринитарнои экономики является ан-архичный
характер Сына, не имеющего онтологического
обоснования в Отце. Иными словами, трипитариая
экономика есть выражение анархичной власти и бытия,
которое циркулирует между тремя Лицами в соответствии
с сущностно наместнической парадигмой.
Неудивительно, что та же самая наместническая
структура обнаруживается в светской власти. В «De ге-
gimine principum»37 (lib. 3, cap. 13) Фома пишет о том,
что Август осуществлял наместническую власть в
отношении Христа, который был истинным монархом
и правителем мира («verus erat mundi Dominus et Mon-
archa, cuius vicesgerebat Augustus»). Весь период прин-
Зб. Наместническая власть (лат.).
37- «О правлении государей» (лат.).
232
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
ципата Августа представлен, таким образом, как
«наместничество в отношении монархии Христа» («quas
quidem vices monarchiae post Christi veri domini nativitatem
gessitAugusto», ibid.). В том же духе норманнский
Аноним пишет, что «царь есть Бог и Христос, но
согласно благодати. [...] Даже тот, кто по природе есть Бог
и Христос, действует через своего наместника,
который исполняет его обязанности [per quem vices suas exe-
quitur]». Но и Христос, который по своей природе есть
Бог, действует некоторым образом в силу благодати,
«ибо согласно своей человеческой природе он
обожествлен и освящен Отцом» (Канторович i. P. 101-102).
Помимо того, еще Амвросиаст (IV век) утверждал,
что как наместник царь обладает imperium Бога, ибо
он несет в себе Его образ (Ibid. P. 114).
Иными словами, власть имеет структуру gerere
QO u
vices % она в самой своей сущности является vices,
наместничеством. То есть термином vices
определяется исконно наместническая природа суверенной
власти — или, если угодно, ее абсолютно
несубстанциональный и «экономический» характер. Двоякая
(или троякая) структура управленческой машины
(Царство и Управление, auctoritas и potestas, ordina-
Но и executio, но также и разграничение властей в
современных демократиях) обретает в этой
перспективе свой подлинный смысл. Управление, безусловно,
действует наместнически в отношении Царства;
но это имеет смысл лишь в пределах экономики
замещений39, в которой две власти не могут обойтись
одна без другой.
Так, наместничество заключает в себе
онтологию — точнее, подмену классической онтологии
38. Исполнение обязанностей (лат.).
39- Economia délie veci (um.).
233
ЦАРСТВО И СЛАВА
«экономической» парадигмой, в которой ни одна
фигура бытия не находится в позиции arche, но
исходной является само тринитарное отношение, в
котором каждая из трех фигур gerit, то есть исполняет
обязанности другой. Тайна бытия и
божественности всецело совпадает со своей «экономической»
тайной. Нет никакой субстанции власти: есть лишь
«экономика», «управление».
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
Порог
Теперь мы можем попытаться перечислить в виде
тезисов сущностные черты провиденциальной
парадигмы, выявленные в ходе нашего анализа. Они
образуют в своей совокупности нечто вроде онтологии
действий управления :
1. Провидение (управление) есть то, посредством
чего теология и философия пытаются
противостоять расколу классической онтологии на две
отдельных данности: бытие и праксис, благо
трансцендентное и благо имманентное, теологию
и ойкономию. Оно предстает как машина,
функция которой заключается в том, чтобы сочленить
между собой эти два фрагмента в единство guber-
natio dei, божественного управления миром.
2. Подобным образом и в той же мере оно
олицетворяет собой стремление сгладить гностический
разрыв между Богом, чуждым миру, и Богом,
миром управляющим, которое христианская
теология унаследовала посредством «экономического»
сочленения фигур Отца и Сына. В христианской
ойкономии бог-творец оказывается перед лицом
падшей, чуждой ему природы, которую
бог-спаситель, уполномоченный управлять миром,
должен искупить и спасти — во имя царства, кото-
235
ЦАРСТВО И СЛАВА
рое, тем не менее, не есть царство «этого мира».
Цена тринитарного преодоления
гностического разрыва между двумя божествами — это
сущностная чуждость мира. Так, христианское
управление миром принимает парадоксальный образ
имманентного управления миром, который есть
и должен оставаться чуждым.
К Эта «гностическая» структура, которую теологическая
ойкономия завещала современному управленчеству,
достигает своей крайней отметки в парадигме управления миром,
которую в нагие время великие западные державы (в
особенности Соединенные Штаты) пытаются осуществить
и в местном, и в глобальном масштабе. Идет ли речь о
распаде изначально существовавших конституциональных форм
или о навязывании посредством военной оккупации так
называемых демократических конституциональных моделей
народам, которые не способны их практиковать, — так
или иначе, первостепенным остается тот факт, что
управление страной — или даже целым миром—подразумевает
абсолютное отчуждение от них того, кто управляет.
Турист — то есть крайнее проявление христианского ре-
regrinus in terra— являет собой планетарный образ этой не-
редуцируемой чуждости мира. В этом смысле он является
фигурой, чье «политическое» значение консубстанциональ-
но господствующей управленческой парадигме подобно тому,
как peregrinus являлся фигурой, соответствующей
провиденциальной парадигме. Иными словами, странник и
турист являются побочным эффектом самой «экономики»
(как в ее теологической, так и в секуляризованной версии).
3- Хотя провиденциальная машина унитарна,
именно по этой причине она разделяется на два
различных плана, или уровня:
трансцендентность/имманентность, общее провидение/частное провидение
(или фатум), первичные/вторичные причины,
вечность/временность, интеллектуальное познание/
236
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
праксис. Два уровня тесно взаимосвязаны друг
с другом, так, что первый обосновывает,
легитимирует и делает возможным второй, а второй
приводит в конкретное исполнение в пределах цепи
причин и следствий общие решения
божественного разума. Управление миром есть то, что вытекает
из этой функциональной взаимосвязи.
4- Следовательно, парадигма акта управления в
своей чистой форме есть побочный эффект. Не
будучи направленным к какой-либо конкретной цели,
но вытекая в качестве сопутствующего эффекта
из общего закона или экономики, действие
управления представляет собой зону неразрешимости
между общим и частным, между просчитанным
и не-желательным. Такова его «экономика».
5- В рамках провиденциальной машины
трансцендентность не существует независимо и отдельно
от мира, как в гнозисе, но пребывает в
неразрывной связи с имманентностью; последняя,
однако же, никогда таковой не является, ибо она
всегда мыслится как образ или отражение
трансцендентного порядка. Соответственно, второй
уровень являет собой исполнение (ехесиНо) того,
что было предписано и постановлено на первом
уровне. Разделение властей консубстанциональ-
но этой машине.
6. Онтология действий управления является
заместительной в том смысле, что в пределах
экономической парадигмы всякая власть имеет
заместительный характер, она является
«исполняющей обязанности» какой-то другой власти.
Это означает, что нет никакой «субстанции», есть
лишь «экономика» власти.
237
ЦАРСТВО И СЛАВА
7- Именно разграничение и взаимосвязь между
двумя уровнями — уровнем первых и вторых
причин, общей и частной экономики — гарантирует
недопустимость деспотичной власти,
посягающей на свободу творений; напротив, оно
предполагает свободу тех, кем управляют, — свободу,
которая проявляется посредством действия
вторых причин.
Теперь должен проясниться смысл утверждения
о том, что диспозитив провидения (который сам
по себе есть не что иное, как переформулирование
и развитие теологической ойкономии) содержит в себе
нечто вроде эпистемологической парадигмы
современного управления. Известно, что в истории
права доктрина управления и общественного
администрирования (не говоря уже об административном
праве, которое как таковое является чисто
современным изобретением) формируется очень поздно.
Но задолго до того, как юристы начали
разрабатывать ее первые элементы, философы и теологи уже
сформулировали ее канон в рамках учения о
провиденциальном gubernatio миром. В этом отношении
провидение и фатум, вместе со всей мириадой
понятий и концептов, определявших их содержание {ог-
dinatio/executio; Царство и Управление; управление
прямое и опосредованное; primi agentes/agentes inferio-
res40; первичный акт/побочные эффекты и т.д.),
являются не только теолого-философскими
концептами, но и категориями права и политики.
Действительно, современное Государство
наследует оба аспекта теологической машины управления
миром и выступает как в роли Государства-провиде-
40. Первичные агенты/подчиненные агенты.
238
5. ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ МАШИНА
ния, так и в роли Государства-судьбы. Посредством
разграничения между законодательной, или
суверенной, властью и исполнительной властью, или
управлением, современное Государство перенимает двоякую
структуру управленческой машины. Оно поочередно
облачается то в царские одежды провидения, которое
законодательствует трансцендентным и
универсальным образом, все же предоставляя свободу
творениям, о которых оно заботится,—то в
зловеще-невзрачное министерское одеяние фатума, который в
точности выполняет провиденциальные предписания
и низвергает непослушных индивидов в неумолимое
сцепление имманентных причин и следствий,
которые были отчасти предопределены самой их
природой. Экономико-провиденциальная парадигма в
данном смысле является парадигмой демократического
управления — точно так же, как теолого-политиче-
ская парадигма является парадигмой абсолютизма.
Поэтому неудивительно, что побочный эффект
все чаще выступает как нечто ко-субстанциальное
всякому действию управления. То, на что нацелено
управление, по самой своей природе может быть
достигнуто лишь как побочный эффект—в зоне, в
которой общее и частное, позитивное и негативное,
просчитываемое и непредсказуемое тяготеют к слиянию.
Управлять означает позволять производиться
частным сопутствующим эффектам общей «экономики»,
которая сама по себе была бы абсолютно
неэффективной, но без которой невозможно никакое управление.
Не столько эффекты (Управление) зависят от
бытия (от Царства), сколько бытие состоит по большей
части в своих эффектах: такова «наместническая»
и «эффектуальная» онтология, обусловливающая
действия управления. А когда провиденциальная
парадигма, по крайней мере в своем трансцендентном
аспекте, переживает свой закат, Государство-прови-
239
ЦАРСТВО И СЛАВА
дение и Государство-судьба постепенно начинают
отождествлять себя с образом современного
правового Государства, в котором закон регулирует
администрирование, а административный аппарат
применяет и исполняет закон. Но и в этом случае
решающим остается элемент, на который было изначально
направлено действие машины в ее комплексе: ойко-
номия, то есть управление людьми и вещами.
Экономико-управленческая направленность современных
демократий не есть результат случайного стечения
обстоятельств: она является неотъемлемой частью
теологического наследия, хранительницами
которого эти демократии выступают.
Божественный трон: монета Бар-Кохбы, II век.
Иерусалим, Музей Израиля
1
Триумфальная арка с изображением этимасии
в окружении святых Петра и Павла:
мозаика ок.432~44° гг-
Рим, Сайта-Мария Маджоре
Этимасия: мозаика, V век.
Равенна, купол Неонианского баптистерия
ЦАРСТВО И СЛАВА
Мраморный рельеф константинопольского
происхождения, V век.
Берлин, Государственные музеи
IV
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Мраморный барельеф константинопольского
происхождения, VI век.
Венеция, Собор Святого Марка, северный фасад
v
Этимасия с крестом: мозаика, VI век.
Равенна, Арианский баптистерий
vi
Трон Агнца: мозаика, VI век.
Рим, базилика Святых Косьмы и Дамиана, апсидальная арка
Первый Константинопольский собор: миниатюра
из Гомелиария Григория Назианзина, ок. 88о г.
Париж, Национальная библиотека, ms gr- 510>f-335
Этимасия Пресвятой Троицы:
греческий кодекс из Вифинии, IX-X вв.
Париж, Национальная библиотека, ms. suppl. 1085, f. îojv
Икона, изображающая этимасию, константинопольского
происхождения: стеатит с золотом,
конец X века —начало XI века.
Париж, Лувр
Этимасия Пресвятой Троицы: эмаль, начало XII века.
Венеция, Собор Святого Марка, Пала д'Оро.
Страшный суд (деталь): мозаика XI-XII вв.
Торчелло, Собор Сайта-Мария Ассунта
Этимасия: мозаика, XII век.
Рим, Сап-Паоло фуори ле Мура, апсида
Этимасия: мозаика, XII век.
Палермо, хор Палатинской капеллы
Джотто ди Бондоне, Легенда о Святом Франциске.
Видение небесных престолов. Фреска, ок. 1290-1295 гг-
Ассизи, Верхняя церковь
Этимасия: православная икона, начало XV века.
Москва, Третьяковская галерея
6.
Ангелология и бюрократия
бл. В 1935 Г°ДУ» когда в своей монографии
«Монотеизм как политическая проблема» Петерсон
решительно отвергает христианскую политическую
теологию, он в то же время утверждает «политическую»
и «общественную» природу небесного града —а
вместе с ним и Церкви, благодаря ее приобщенности
к нему через литургию. Делает он это неожиданным
образом в форме небольшого трактата об ангелах
(«Das Buch von den Engeln. Stellung und Bedeutung
der heiligen Engel im Kultus», 1935), который
занимает маргинальную позицию в библиографии теолога,
однако рекомендуется к прочтению вкупе с самой
знаменитой его книгой, важнейшим дополнением
к которой он является.
«Путь, по которому следует Церковь, — пишет
Петерсон, — ведет от земного Иерусалима к
Иерусалиму небесному, от града евреев к граду ангелов
и святых» {Peterson 1. Р. 197). В данной перспективе
Церковь постоянно описывается в трактате
посредством использования «политических» образов:
подобно мирским политическим собраниям,
христианская ekklësia может быть определена как «собрание
полноправных граждан [Vollbürger] небесного
града, которые встречаются с целью совершения
культовых действий» (Ibid. P. 198). Таким же образом
и текст Послания Павла не без натяжек трактуется
в политическом ключе: термин politeuma в Послании
к Филиппийцам, 3:20, который в Вульгате передан
241
ЦАРСТВО И СЛАВА
как conversatio (образ жизни, поведение), переведен
как «гражданство», а в примечании не без
некоторого колебания сообщается, что глагол apographest-
hai в Послании к Евреям 12:23 (обладающий, по всей
вероятности, эсхатологическим значением «быть
вписанными в книгу жизни») означает «занесение
в списки граждан небесного града» (Ibid. P. 231).
Так или иначе, тезис Петерсона состоит в том, что,
поскольку Церковь неотступно следует своему пути
к небесной цели, она «посредством богослужения
неизбежно вступает в отношения с жителями
небесного града» — то есть с ангелами, «небесными
гражданами», или блаженными (Ibid). Иными словами,
речь идет о том, чтобы доказать, что все
«культовые» проявления Церкви должны истолковываться
«либо как участие ангелов в земном богослужении,
либо, напротив, [...] как участие в прославлении,
которое ангелы обращают к Богу на небесах» (Р. 199)-
Стратегическое значение связи, которая
посредством богослужения таким образом
устанавливается между Церковью и небесным градом,
проясняется несколькими страницами ниже. Анализируя так
называемые литургические «интермедии»
Апокалипсиса, в коих фигурируют аккламации, согласно
Петерсону берущие начало в церемониале
императорского культа, он выдвигает неожиданный на
первый взгляд тезис, согласно которому «культ Церкви
небесной, а значит, безусловно, и литургия
сплоченной с ним Церкви земной имеют изначальную
соотнесенность [ursprüngliche Beziehung с политическим
миром» (Ibid. P. 202).
Старое августиновское положение, согласно
которому небесный град будут населять ангелы и
блаженные, занявшие место падших ангелов с целью
восстановить идеальное число жителей Царства,
обретает у Петерсона ярко выраженную полити-
242
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ческую окраску. Образы, которые Августин
заимствует из политического вокабуляра своего времени
при описании небесного Иерусалима («...adiunctis
etiam legionibus et exercitibus angelorum, ut fiat ilia
una civitas sub uno rege, et una quaedam provincia sub
uno imperatore, felix in perpétua pace et salute...»1, Aug.
Psalm. 36, 3, 4), истолковываются Петерсоном в
буквальном смысле как обоснование
«политико-религиозного [religiös-politische]» характера небесного
града—а следовательно, и Церкви, которая сообщается
с ним посредством богослужения: «Речь идет о
политико-религиозном понятии —или же, иными
словами, о понятии порядка [Ordnungsbegriff] небесной
иерархии, в которую перетекает церковное
священнодействие. Это служит очередным
подтверждением нашего тезиса, согласно которому христианское
богослужение изначально связано с политической
сферой» (Peterson 1. Р. 214).
Ровно в тот момент, когда в книге «Монотеизм
как политическая проблема» Петерсон в противовес
Шмитту решительным образом отрицает
правомерность теолого-политического толкования
христианской веры, он столь же решительно
утверждает политико-религиозный характер Церкви. И это
тем более удивительно, что он постоянно
прибегает к сравнениям из мирской политической сферы:
«Подобно тому как император, являясь в окружении
своей свиты, выражает публичность [Öffentlichkeit]
своей политической власти, так и Христос,
предстоящий в момент богослужения в окружении
ангелов, выражает публичный характер своего полити-
1. «Так что с присоединением войск и легионов ангелов
возникают великое государство, подвластное воле единого царя,
и некая провинция, подчиненная единому наместнику,
блаженствующая в вечном мире и благоденствии» (лат.).
243
ЦАРСТВО И СЛАВА
ко-религиозного господства» (Ibid. P. 223)- Но этот
«публичный» характер «не был присвоен Церкви
Государством: он изначально ей присущ, ибо
владыка ее — Господь, который, имея в своей власти
небесное царство, обладает также и небесной
публичностью» (Ibid.). Иными словами, политичность,
о которой говорит Петерсон, всецело заключается
в том отношении, которое посредством участия
ангелов богослужение устанавливает с этой «небесной
публичностью»: «отношение между Ekklêsia и
небесным polis [...] является политическим
отношением, и по этой причине ангелы всегда должны быть
участниками культовых действий, производимых
Церковью» (Ibid.).
Смысл исключения политической теологии
начинает здесь проясняться: если политика с
христианской точки зрения являет собой лишь культо-
во-ангелологическое отношение между Церковью
и небесным царством, любое экстраполирование
этой «политико-религиозной» природы в мирскую
сферу абсолютно нелегитимно.
В христианской эсхатологии раз и навсегда было
отринуто любое теологическое значение светской
политики: «То, что небесное прославление в
Апокалипсисе изначально связано с политическим
миром, объясняется тем, что апостолы оставили
земной Иерусалим, политический и культурный центр,
обратившись к Иерусалиму небесному, царскому
граду и дворцу, но также храму и месту
поклонения. С этим же связан и тот факт, что гимн Церкви
превосходит национальные гимны подобно тому,
как язык Церкви превосходит все прочие языки.
В заключение следует отметить, что подобное
эсхатологическое превосходство имеет своим
крайним следствием то, что все мироздание вовлекается
в хвалебное песнопение» (Р. 2о6).
244
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
6.2. Ангелы —этот тезис в сжатой форме
отражает теологическую стратегию, лежащую в основе
трактата,—суть гаранты исходной взаимосвязи между
Церковью и политической сферой —
«политической» и «политико-религиозной» природы
прославления, которое совершается как в ekklêsia, так и
в небесном граде. Но если мы зададимся вопросом,
в чем именно состоит «политичность», мы с
удивлением обнаружим, что «публичность», имеющая в
ангелах свою геральдическую эмблему и вместе с тем
свою изначальную сущность, определяется
исключительно через хвалебное песнопение. Христианское
богослужение исконным образом связано с
политической сферой лишь в той мере, в коей оно
стремится «превратить церковный культ в
священнодействие, сродное культу ангельскому; но это возможно
лишь при условии включения в богослужение
хвалебной песни [Lobgesang], напоминающей по своей
сути хвалебную песнь ангелов» (Р. 214). Поэтому,
по мысли Петерсона, литургия достигает своей
высшей точки в «Трисвятом» [«trisagio».—Примеч. пер\
то есть в гимне, который прославляет Бога в
тройном возгласе2 Sanctus, sanctus, sanctus; a так как об
ангелах сказано, что они «поют неутомимыми устами,
непрерывно вознося хвалу Всевышнему в Трисвятой
песне, то благодаря этому можно непрестанно
принимать участие в ангельской литургии в форме
дневного и ночного богослужения» (Р. 215).
То, что хвалебное и прославляющее песнопение
не является характеристикой одних ангелов в
сравнении с другими, но определяет их сущность, а значит,
и их «политичность», —с абсолютной убежденностью
утверждается Петерсоном в заключении трактата.
2. Acclamazione.
245
ЦАРСТВО И СЛАВА
В этом истечении и излиянии [Verströmen und
Ausströmen] в слове и в песне, в этом феномене
заключается сама сущность этих ангелов [...].
Речь идет не о тех ангелах, которые
изначальным и абстрактным образом являются
«ангелами вообще» и вдобавок к этому поют, а об
ангелах, которые являются таковыми постольку,
поскольку они описанным нами образом
изливают себя в славословии Свят, Свят, Свят. Этот
возглас [RuJ] составляет само их существо, и
именно в этом истечении они суть то, что они есть,
то есть Херувимы и Серафимы [Р. 226].
А если политичность и истина ekklêsia
определяются ее причастностью к ангельскому миру, то значит,
и люди могут обрести полноправное небесное
гражданство лишь через подражание ангелам, участвуя
вместе с ними в хвалебном и прославляющем
песнопении. Политическое предназначение человека
является предназначением ангельским, а ангельское
предназначение есть призвание к прославляющему
песнопению. Здесь круг замыкается:
Церковным песнопениям соответствуют
песнопения небесные, а внутренняя жизнь Церкви
артикулируется на основании ее участия в
небесном песнопении. Ангелы суть выражение
публичного характера поклонения, которое
Церковь возносит Богу; а коль скоро ангелы связаны
с небесным политико-религиозным миром, то,
следовательно, через них церковное
богослужение также неизбежным образом вступает в связь
с политической сферой. Если, наконец,
ангелы посредством песнопения различают в
Церкви «ангелоподобных» [Engel-Ähnliche] и «народ»
[И?/£], они также являются теми, кто пробуждает
в Церкви мистическую жизнь, которая
свершается в тот момент, когда человек, приобщенный
246
б. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
к ангельским хорам, начинает восхвалять Бога
из глубины своей сотворенной природы. Оттого
и мы поем в «Те Deum»:
Те deum laudamus, te Dominum confitemur,
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur,
Tibi omnes Angeli, tibi caeli et universae Potestates
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuaez.
[R 230.]
В коротком примечании к тексту «Те Deum»,
словно оттиском печати замыкающем трактат, в
очередной — и последний — раз отмечается политичность,
центральная в поклонении:
Следует отметить, что в «Те Deum» Бог
изображен как Pater immensae majestatis, а Сын как Rex
gloriae. Текст «Те Deum» также подтверждает
политико-религиозную природу языка христианского
культа. [P. 243-]
6-3- Петерсон, безусловно, не мог игнорировать
тот факт, что атрибут песнопения, посредством
которого он определяет природу ангелов, в
христианской ангелологическои традиции составляет лишь
один из аспектов их бытия. Григорий Великий —
к его «Homelia in Evangelium»4, одному из инкуна-
3- Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем
Тебя, Отца вечного, Вся земля величает,
К Тебе все ангелы, к Тебе небеса и все силы,
к Тебе Херувимы и Серафимы непрестанно взывают:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф,
Полны небеса и земля величия славы Твоей.
4- «Беседы на Евангелия» (лат.).
247
ЦАРСТВО И СЛАВА
булов христианской ангелологии, Петерсон
обращается не раз — отчетливо формулирует двоякую
функцию ангелов. Комментируя стих из Книги
пророка Даниила (7-ю) «Millia millium ministrabant
ei et decies millies centena millia assistebant ei»5, он
пишет, что «иное значит отправлять служение [minis-
trare], а иное — предстоять [assistere в значении
«находиться рядом, в присутствии кого-либо»], ибо
служат Богу те ангелы, которые отходят и к нам
для возвещения, а предстоят те, которые
наслаждаются внутренним созерцанием и посему не
посылаются для исполнения дел во внешнем мире» (Григ.
Вел. Еванг. 34> l%)- А так как исполняющие
служение более многочисленны, чем те, кто главным
образом предстоит, число предстоящих определено,
тогда как число служащих остается
неопределенным (millia millium воспринималось как выражение
неопределенного множества). Александр Гэльский
и Филипп Канцлер определяют эту двоякую
природу ангельского бытия как двойственность «свойств»
(«Духи, именуемые нами ангелами, обладают двумя
свойствами: свойством служения [virtus administrai
di] и свойством предстояния перед Богом [virtus as-
sistendiDeo\ то есть созерцания», Hales. Glossa in
quatuor libros sententiarum Petri Lombardi6, II, d. 10. P. 98)
или «сил» («Ангелы обладают двумя силами [du-
plicem vim] — силой созерцательной, Богу
предстоящей, и силой вспомогательной, к нам обращенной:
созерцательная, или предстоящая, сила более
благородна, чем сила, к нам обращенная» Filippo, Summa
de bono, pars prior, q. 2, p. 384). А Бонавентура пред-
5- Русский Синодальный перевод: «Тысячи тысяч служили Ему
и тьмы тем предстояли пред Ним».
6. Писания по четырем книгам «Сентенций» Петра
Ломбардского (лат.).
248
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ставляет принципиальную разделенность
ангельской природы в образе лестницы Иакова:
Все дела ангельские можно свести к двум
действиям: действие созерцательное и действие
управительное. [...] Именно посредством них
различаются сущности ангелов и их дела.
Созерцательное действие состоит в восхождении к
возвышенному, управительное — в нисхождении
к вещам человеческим. Два этих действия
встречаются на лестнице, по которой ангелы
восходят и нисходят... [De div. Il, De Sanctis angelis I,
coll. 2.]
Точно так же Данте в «Пире» (II, IV, ю-12)
выделяет в ангельской природе два «блаженства»:
блаженство созерцательное, посредством которого ангелы
видят и прославляют лик Господа, и «блаженство
управления», которое в людях соответствует
«жизни деятельной, или общественной».
Из двух функций основное внимание
средневековых богословов привлекла именно вторая, функция
служения, через которую ангелы участвуют в
божественном управлении миром (поэтому Бонавенту-
ра определяет это управление как opus gubernationis).
Она в высшей степени определяет призвание ангела:
это дает Амвросию повод утверждать, что если люди
созданы «по подобию» (Божьему), то ангелы
созданы «ad ministerium» (Exp. super Psalm., 17,13).
В соответствии с этими посылками, начиная
с quaestio 106 трактат Фомы «De gubernatione mun-
di» превращается в трактат по ангелологии,
который занимает больше половины всей книги и
представляет собой наиболее полную разработку этой
темы, осуществленную «ангельским Доктором».
Ответив утвердительно на вопросы о том,
управляется ли мир вообще и управляется ли он Богом,
249
ЦАРСТВО И СЛАВА
Фома переходит к проблеме, первостепенной в
контексте ангельской функции служения, а именно
«управляются ли все вещи Богом непосредственно».
В противовес тем, кто утверждает, что Бог может
управлять всеми вещами самостоятельно, без
необходимости в посредниках, и что невозможно,
чтобы он, подобно rex terrenns7, нуждался в министрах,
Фома полагает, что управление будет более
совершенным, если для его осуществления Бог прибегает
к помощи посредников.
Поскольку действие управления состоит в том,
чтобы вести управляемые существа к
совершенству, управление будет тем качественнее,
чем большее совершенство будет передано
правящими управляемым вещам. Но совершенство
будет выше, если нечто благое само по себе
является также причиной блага в других
творениях, а не только лишь в самом себе. Поэтому Бог
управляет вещами таким образом, что некоторые
из них становятся причиной в отношении
управления другими вещами. [...] Посему наличие тех,
кто приводит управление в исполнение, не есть
для царя признак несовершенства, но является
достоинством: царская власть становится более
сиятельной благодаря иерархии ее служителей8.
[S. Th. I, q. 103, а. 6 - ad. 3.]
Еще более однозначно высказывается на этот счет
Бонавентура: хотя Бог действительно, как и
всякий правитель, мог бы сделать самостоятельно то,
что он препоручает ангелам, он в сущности
нуждается в ангелах «для того, чтобы в служении и в деяни-
7- Зд.: земному царю (лат.).
8. Здесь и далее при цитировании «Суммы теологии» перевод
наш.
250
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ях сохранялся надлежащий и подобающий порядок
[ut salvetur in ministerio et actionibus decens et congru-
us ordo]» (In Sent. 2,10,1,1, ad. I).
Обосновав таким образом необходимость в
служении ангелов, Фома анализирует и подробно
описывает в последующих семи вопросах способы,
которыми они взаимно друг друга просвещают, их
сложные иерархические отношения, природу их
языка, порядок и иерархию падших ангелов,
господство ангелов над телесными существами и
способы их воздействия на людей, служение и миссию
ангелов и, наконец, природу ангелов-хранителей.
Ключевыми во всех этих рассуждениях
являются понятия иерархии, служения и порядка. Еще
до того, как он проводит тематический анализ этих
понятий в контексте полемического сопоставления
с трактатом «О небесной иерархии» Дионисия Арео-
пагита, Фома косвенно обсуждает и упоминает их
в каждом вопросе, что свидетельствует о
подлинной одержимости иерархией, объемлющей как
ангельское, так и человеческое служение. Так, в
контексте разговора о просвещении он исключает
возможность того, что нижестоящий ангел
просвещает ангела, выше стоящего в иерархии (в то время
как, за исключением общего параллелизма,
который Фома устанавливает между небесными и
земными иерархиями, в церковной иерархии
нижестоящий чин вполне может наставлять вышестоящий).
В разделе, посвященном языку ангелов (5. Th. I, q. 107,
art. 2. P. 111-113), с предельной серьезностью
рассматривается вопрос о том, может ли нижестоящий
ангел заговорить с вышестоящим (ответ
утвердительный, но не без оговорок). При разборе управления,
осуществляемого ангелами над телесными
созданиями, иерархический принцип, которому подлежат
ангельские обязанности и поручения, возводится
251
ЦАРСТВО И СЛАВА
в ранг универсального закона, который захватывает
и общественные иерархии:
Как в человеческой жизни, так и в природе
действует правило, согласно которому более
ограниченная власть подчиняется власти более
универсальной, подобно тому как власть бейлифа
подчиняется власти короля. Точно так же
высшие ангелы руководят нижестоящими... [Ibid. I,
q. no, ал.]
Общее разделение ангелов на два больших класса
или на две категории вновь утверждается Фомой
при сопоставлении рая с королевским двором,
походящим скорее на кафкианский замок, где
функционеры занимают свои позиции в определенном
порядке в зависимости от степени их
приближенности к королю:
Принято разделять ангелов на предстоящих
и служащих — как и тех, кто состоит на службе
[famulantur] y короля. Некоторые из них всегда
предстоят ему и непосредственно внимают его
велениям. Остальные же получают королевские
приказы посредством предстоящих — как в
случае тех, кто управляет отдаленными городами:
таковых называют не предстоящими, а
управляющими. [Ibid. I, q. 112, а.З-]
Тем не менее, цезура «предстоящие/управляющие»
(или же «созерцание/управление») присутствует
в каждом отдельном ангеле, разделяя его изнутри
согласно принципу биполярности, присущей
ангельской функции, которая одновременно является
служебной и мистериальной:
Следует помнить, что все ангелы видят
божественную сущность напрямую: в этом отношении
предстоящими являются также и те ангелы, ко-
252
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
торые осуществляют ведение9, как говорит
Григорий (Мог., 2): «Ангелы, посланные для
исполнения внешних дел ради нашего спасения, всегда
могут предстоять, то есть видеть лик Отца».
Не все ангелы, однако же, способны воспринять
тайны божественных мистерий во всем сиянии
божественного бытия —но лишь ангелы высших
чинов, посредством которых эти тайны
доносятся до нижестоящих ангелов. [Ibid.]
К Вопрос о том, более или менее многочисленны ангелы
служащие, чем ангелы предстоящие, и, в более широком плане,
проблема общего числа ангелов породили разночтения,
которые Фома резюмирует следующим образом:
Святой Григорий утверждает, что ангелы
служащие более многочисленны, чем ангелы
предстоящие. Он истолковывает слова Писания
«тысячи тысяч служат Ему» не в преумножительном
смысле, а в смысле разделительном, словно
они означают «несколько тысяч из числа этих
тысяч». В данном смысле число служащих
ангелов неопределенно, что призвано передать их
избыток; при этом число предстающих ангелов
определено, ибо написано: «десять тысяч раз
по сто тысяч Ему предстояли». [...] Впрочем, эта
точка зрения согласуется с распределением
ангельских чинов, ибо существует целых шесть
чинов служащих и лишь три чина предстоящих.
Дионисий же полагает (Coelesti Hierarchia, 14),
что число ангелов превосходит всякое
материальное множество таким образом, что подобно
тому, как небесные тела по величине безмерно
превосходят тела материальные, так и
бестелесные существа превосходят числом все существа
телесные [...]. А коль скоро, по мысли Диони-
9- Amministrano — руководят, управляют (um.).
253
ЦАРСТВО И СЛАВА
сия, ангелы предстоящие стоят выше, чем ангелы
служащие, они и более многочисленны. Посему
в данной перспективе формула «тысячи тысяч»
толкуется в преумножительном смысле, то есть
как «тысячи, помноженные на тысячи» [...],
а в Писании сказано «десять тысяч раз по сто
тысяч»: это означает, что ангелов предстоящих
гораздо больше, чем ангелов служащих. Таковые
числа, однако же, не следует понимать
буквально, будто ангелов какое-то ограниченное
количество; их число гораздо больше, ибо оно
превышает всякое материальное множество [Ibid. I,
q. 112, а. 4, ad. 2.]
Преобладание славословно-созерцательного аспекта
над управленческим (или наоборот) тут же переводится
здесь в количественное преимущество. Так или иначе,
примечательно то, что, когда нам впервые встречается понятие
multitudo — или бесчисленного множества живых
разумных существ, — оно относится не к людям, а к гражданам
небесного града. И все же речь идет не о бесформенной
массе, а о множестве, идеальным образом и иерархически
упорядоченном.
6.4. Введение темы иерархии в ангелологию —
и вообще изобретение самого термина «иерархия» —
дело рук автора апокрифа, чей жест являет собой
одну из самых устойчивых мистификаций в истории
христианской литературы, которая еще ждет своего
разоблачения. Двусмысленность, которой
отмечена ее рецепция начиная с IX века главным образом
на латинском Западе, привела к тому, что за
мистическую теологию было принято нечто, в
действительности являющееся сакрализацией церковной
иерархии (и, возможно, всякой иерархии). И все же
прочтение, освободившееся от ширмы
традиционно принятой интерпретации, не оставляет сомне-
254
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ний касательно стратегии апокрифа, автор
которого по завершении трактата «О небесной иерархии»
тут же создает трактат «О церковной иерархии»:
речь идет, с одной стороны, об иерархизации
ангелов посредством расположения их рядов в
соответствии со строгим бюрократическим порядком,
а с другой —о том, чтобы ангелизировать церковные
иерархии, распределяя их согласно сакральному
по своей сути критерию; или же, согласно
принципу непрерывного взаимоперехода, значение
которого для средневековой христианской культуры уже
показал Канторович {Kantorowicz i. P-i95)> °
превращении mysterium в ministerium> a ministerium в mysterium.
Само изобретение термина hierarchia (особое
нововведение автора, чей вокабуляр, впрочем, во многом
позаимствован у Прокла) не вызывает сомнений:
как справедливо замечает Фома, он означает не
«священный порядок», а «священную власть» («sacer
principalis, qui dicitur hierarchia»10 (S. Th. I, q. 108, a. I,
arg. 3). Действительно, мысль, красной нитью
проходящая через весь дионисиискии корпус, состоит
в том, что священным и божественным является
нечто иерархически упорядоченное; а его едва
скрываемая стратегия нацелена на то, чтобы посредством
навязчивого повторения триадической схемы,
которая от Троицы через ангелические триархии
низводится до земной иерархии, сакрализировать власть.
Впрочем, аналогия между небесной
иерархией и иерархией земной установлена уже в начале
трактата об ангелах: она проводится несколько раз
на протяжении всего текста, а затем почти в тех же
терминах вновь утверждается в трактате «О
церковной иерархии». «Тайноначалие в своей любви к лю-
10. «Священная власть именуется здесь иерархией» {лат.).
255
ЦАРСТВО И СЛАВА
дям11, — пишет Псевдо-Дионисий,— открывает
взору нашему небесные иерархии и нашу иерархию
уподоблением божественному их священнослужению
[sylleitourgon] представляет сослужащею чинам
небесным»12 (С.Н., 124а). «Наша иерархия, —вновь
говорится в трактате о земной иерархии, —священно
благоустроенная из богоустановленных степеней, по-
добообразна небесным иерархиям, сохраняя в себе,
насколько это возможно между людьми, их богопо-
дражательные и богообразные черты»13 (Е. H., 536d)-
Тем не менее, в обоих трактатах иерархия сама
по себе выступает началом, осуществляющим
спасение и обожение: «Божественность [...] даровала нам
иерархию во имя спасения и обожения всех
разумных и мыслящих существ» (Е. Н., 37^)- В сущности,
она является управленческой деятельностью,
которая как таковая предполагает «действие» (energeia),
«знание» (epistêmê) и «порядок» (taxis) (С. H., 164a;
cfr. E.H., 372a: иерархия как theourgikë epistêmê). A ее
истоком и архетипом является тринитарная
экономика: «Исток подобной иерархии сокрыт в
источнике жизни, в самой сущности блага, —иными словами,
в Троице, единственной причине всего сущего, от
которой истекает для всякой вещи бытие и всякое благо
[...] [в ней] зародился умысел разумного спасения
нашего» (E.H., 373е)- Именно по этой причине—то есть
постольку, поскольку она являет собой «подражание
Богу» (ibid. 164с!) и «уподобление Богу» (С. Н., 165а),
иерархия (будь то небесная или земная) в своей
сущности триадична. Она задает ритм внутренней
coli. Дословно у А.: «Власть в своей любви к людям приобщает их
к таинству...».
12. Использован существующий перевод.
13. Существующий перевод частично изменен.
256
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
члененности того божественного управления миром,
которое автор апокрифа обозначает двумя
характерными терминами (первый придуман им самим, а
второй позаимствован у Прокла): thearchia
(божественная власть или управление; по силе оно превосходит
современное понятие «теократия») и diakosmësis
(упорядоченное расположение, oikonomia).
К Иерархия {«священная власть») Псевдо-Дионисия в
данном смысле представляет собой развертывание
Проклова понятия diakosmësis (çfr. EL theol., 144, 151). Diakosmêo
означает «управлять упорядочивая» (или «упорядочивать
управляя»); подобным образом в понятии «иерархия»
невозможно разграничить «упорядоченное расположение»
и «управление».
6.5. Суть стратегии апокрифа начинает здесь
проясняться. Громоздкий мистагогический
аппарат и инициаторный вокабуляр, позаимствованный
из неоплатонизма, черпают свой смысл и свою
реальную функцию в диспозитиве, который в конечном
счете является диспозитивом управления. Иными
словами, невыразимым, не поддающимся
наименованию и надсущностным является невидимый
принцип власти, thearchia, триадическое проявление
которого и есть иерархическое управление миром.
Провиденциальная ойкономия всецело сводится к иерархии,
к «священной власти», которая пронизывает и объем-
лет как божественный мир, так и мир человеческий,
от небесных начальств до наций и народов земли:
Ангелы, как мы уже сказали, окончательно
заключают все чины небесных умов, ибо они
последние среди небесных существ имеют
ангельское свойство, — и потому тем приличнее нам
называть их пред другими чинами ангелами, чем
очевиднее их иерархия и ближе к миру. Ибо дол-
257
ЦАРСТВО И СЛАВА
жно думать, что высшая иерархия, как сказано,
будучи особенно близка к непостижимому,
непостижимо и священноначальствует над второю;
а вторая, которую составляют святые
Господства, Силы и Власти, руководствует иерархией
Начальств, Архангелов и Ангелов, и хотя она от-
крытее первой иерархии, но сокровеннее
последующей. Провозвестнический же чин Начальств,
Архангелов и Ангелов попеременно начальствует
над человеческими иерархиями, чтобы в порядке
было восхождение и обращение к Богу, общение
и единение с ним, которое и от Бога
благодетельно распространяется на все иерархии,
насаждается чрез сообщение и изливается в священнейшем
стройном порядке. Потому богословие
вверяет ангелам руководство нашей иерархией, когда
называет Михаила князем14 иудейского
народа, равно как и других ангелов князьями других
народов: ибо Высший поставил пределы наций
по числу ангелов Божиих15. [С.Н. 2боа-Ь.]
Это со всей очевидностью проявляется в теологически
более насыщенном трактате «О Божественных
именах» . В заключительной части книги, при анализе
имен, выражающих всевластие Бога (Святой святых,
Царь царей, ныне и вовеки Царствующий, Господин
господ, Бог богов), автор апокрифа определяет цар-
14- В греческом оригинале употреблен термин «архонт»
(начальник, глава, правитель), который Агамбен переводит
дословно («arconte»). Этот нюанс имеет стратегическое
значение в свете изысканий Агамбена, посвященных
археологии повеления, которым он предпосылает краткий
экскурс в этимологию греческого слова arche,
означающего «начало», «исток» — но также и «повеление»,
«приказ». В русском языке семантическая связь между
словами «начало» и «главенство», «руководство» носит еще
более проявленный характер.
15. Существующий перевод незначительно изменен.
258
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ство16 (basileià) как «распределение [dianemêsis] всяких
ограничений \horos\ постановлений [kosmos]y законов
[thesmos] и порядков [tam]>> (D. N. 969^)- Речь идет о
совершенно оригинальном определении, которое в
отличие от традиционных трактовок (будь то
аристотелевских или иудеохристианских и неопифагорий-
ских) толкует царство как сущностно иерархическое
начало. Хотя прочие имена (к примеру, «Святость»
и «Господство») выражают превосходство и
совершенство власти, все же именно царство в качестве
упорядочивающего, распределяющего и иерархизи-
рующего элемента наиболее подобающим образом
выражает «все превосходящую Причину» (Ibid. 969е):
Из нее [...] распространяется [dianenemêtai]
всякая беспримесная законченность [akribeia]
всякой безупречной чистоты, всякое учинение [di-
ataxis] и устроение [diacosmësis] сущих, которое
изгоняет всякую дисгармонию, неравенство и
несоразмерность, радуется идеально устроенному
тождеству и правильности, ведущей за собой
удостоенных причаствовать ей. [...] Святыми,
царями, господами и богами Речения называют
первых в соответствующем каждому из них чине,
через которых вторые, причащаясь Божьих
даров, умножают то, что им передается простым,
разнообразие каковых первейшие промыслитель-
но и боговидно присоединяют к собственному
единству17. [Ibid. двд-д^яЬ.]
В соответствии с уже знакомым нам постулатом
об управленческой машине, абсолютно трансцен-
i6. В оригинале использован термин «regalità», который, в
отличие от «regno», включает в себя также
институциональный аспект царства.
17- Существующий перевод незначительно изменен.
259
ЦАРСТВО И СЛАВА
дентная и превосходящая всякую причину
теократия по сути функционирует как принцип
имманентного порядка и управления. И то, что апофатическое
богословие выполняет в данном случае, если можно
так выразиться, роль прикрытия и по сути служит
обоснованию управленческой иерархии, явствует
из аккламативной и литургической
устремленности божественных имен, посредством которых
неизреченного бога — входя в явное противоречие с его
невыразимостью — необходимо беспрерывно
восхвалять и воспевать: «Мы должны возносить
хвалу [hymnein, воспевать в хвалебных гимнах] Господу,
воспевая Его неисчислимые имена: Святой святых,
Царь царей, ныне и вовеки Царствующий,
Господин господ, Бог богов [...]. Эти имена должны быть
абсолютным образом воспеты...» (Ibid. убда-дбдс).
Неизреченное верховенство являет собой гимноло-
гический и славословный аспект власти, которую,
в соответствии с парадигмой, с коей мы уже
сталкивались у Петерсона, через пение Трисвятого
прославляют Херувимы, Серафимы и Престолы:
И впрямь, некоторые ангелы внятным
человеческим чувствам образом как глас многих вод
вопиют: Благословенна слава Господня от места
его; другие же воспевают сие торжественнейшее
и священнейшее славословие: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, вся земля преисполнена славы его
[С. H.,212b.]
В плане окончательной формулировки ангелоло-
гической доктрины это позволяет автору
апокрифа сослаться здесь на им же написанный —
утраченный или никогда не существовавший — трактат
«О Божественных гимнах» («Peri tön theiön hym-
nön») (Ibid.). Так или иначе, ангел, возносящий
славословное песнопение, в соответствии со своей
2бо
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
двойственной природой — одновременно
созерцательной и исполнительной — является важнейшей
частью провиденциальной машины божественного
управления миром:
Теархия есть триипостасное единство и монада,
которая простирает свой благодетельный
промысел на все существа, от пренебесных
сущностей и до последних земли, как первое начало
и вина всякого существа, которая высочайшим
образом объемлет все своим безудержным
объятием. [С. Н., 212с]
Иерархия —это гимнология.
К Хуго Балль первым уяснил подлинный смысл ангелологии
Псевдо-Дионисия. Хотя суждение Шмитта, согласно
которому Балль видит в Дионисии «монаха, подчиняющегося
священнику и потому отдающего преимущество церковно-
иерархическому служению перед любым—даже самым
великим — подвигом монашеского аскетизма и перед всяким
мученичеством» (Schmitt 7. В S1) y не совсем справедливо, оно
отражает представление о превосходстве церковной
иерархии, которое является ключевым в книге Балля «Byzantinis-
hes Christentum» (1923), где фигура Псевдо-Дионисия
подвергается подробному анализу.
6.6. Параллель между небесной бюрократией
и бюрократией земной не является измышлением
Псевдо-Дионисия. Уже у Афинагора ангелы
описываются посредством терминов и образов,
заимствованных из языка управления (см. 2.8), а открыто данная
аналогия утверждается Тертуллианом в отрывке «Ad-
versus Praxean», рассмотренном нами выше (см. 2.12:
«Следовательно, даже если божественная монархия
управляется множеством ангельских легионов и
воинств...»), а также у Климента Александрийского:
26l
ЦАРСТВО И СЛАВА
«Также и чины земной Церкви —епископы,
пресвитеры, дьяконы — некоторым образом являют собой
отражение ангельской иерархии и той самой ойконо-
мии, которая, согласно Писанию, ожидает всех тех,
кто вслед за апостолами прожил свою жизнь в
совершенной праведности» (Clem. Str. п. P. 485-486).
Заявленное таким образом соответствие
становится после Псевдо-Дионисия общим местом, и,
как это происходит у Тертуллиана,
распространяется на светскую власть. «Священная власть,
именуемая иерархией, — пишет Фома (S. Th., q. 108, а. I,
arg. 3), — существует и у людей, и у ангелов». И
точно так же, как у ангелов, чины служителей Церкви
различаются в соответствии с тремя функциями —
очищения (purgare), просвещения (illuminare) и
совершенствования (perficere) (Ibid. q. 108, а. 2, arg. 3).
Но общественные иерархии должны также
члениться в соответствии с чинами и классами:
Поскольку само понятие иерархии
подразумевает различие в классах, основывающееся на
разграничении обязанностей и видов деятельности,
то так же дело обстоит и в городе, где различные
должности соответствуют различным
функциям: в нем выделяется класс судей, класс солдат,
класс земледельцев и т.д. Хотя общественные
классы многочисленны, их можно разделить
на три группы, ведь всякое хорошо устроенное
общество обладает началом, средством и целью.
Поэтому во всяком Государстве или городе
существует три класса людей: высший класс,
состоящий из патрициев; низший класс,
состоящий из плебеев; средний класс, образованный
почтенными людьми [populus honorabilis].
Точно так же во всякой ангельской иерархии чины
различаются в соответствии с обязанностями...
[Ibid. q. 108, а. 2.]
2б2
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
Уяснив центральность понятия иерархии, мы видим,
что ангелы и бюрократы — точно так же, как в каф-
кианском мире, — тяготеют к слиянию: не
только небесные посланники располагаются согласно
функциям и обязанностям, но и земные служащие
в свою очередь приобретают ангелоподобные
черты — и, подобно ангелам, наделяются способностью
очищать, просвещать, совершенствовать. Так, в
соответствии с двойственностью, глубинным образом
характеризующей историю отношений между
духовной и светской властью, парадигматическая
взаимосвязь между ангелологией и бюрократией
развертывается то в одном направлении, то в другом: иногда,
как в случае Тертуллиана, управление земной
монархией предстает в качестве образца для
ангельского служения; иногда же, напротив, небесная
бюрократия становится прообразом бюрократии земной.
Как бы то ни было, основополагающей
является некая очередность, согласно которой
задолго до того, как была выработана и зафиксирована
терминология общественного администрирования
и управления, таковая терминология была уже
прочно сформирована в области ангелологии. Не
только понятие иерархии, но также понятия служения
и миссии, как мы убедились, обретают свою первую
систематическую артикуляцию именно в отношении
ангельской деятельности.
К В своей короткой статье, опубликованной в ig%8 году,
не ускользнувшей от внимания Канторовича, Франц Блатт
уже обратил внимание на то, что в рукописях патристи-
ческих сочинений два термина — misterium и iriinisteri-
um —упорно стремятся слиться друг с другом. Среди
множества представленных примеров показателен отрывок
из 18-го письма Иеронима, в котором (там, где говорится
о Серафимах) некоторые кодексы предлагают lectio diffici-
263
ЦАРСТВО И СЛАВА
lior : «in diversa mysteria mittantur», тогда как другие
кодексы {при этом возможность ошибки переписчика исключена)
предлагают более очевидный вариант: «in diversa ministeria
mittantur». Блатт попадает в точку, когда говорит о том,
что эволюция смысла от «служения» к «тайне»
объясняется тем, что в случае священника, отправляющего
богослужение {которое одновременно есть таинство и обязанность),
эти два термина полностью совпадают (Blatt. P. 8Ï).
Однако это смешение имеет более древние истоки: они восходят
к Павлову выражению «экономика тайны» и его
перевернутому варианту «тайна экономики», о котором уже шла
речь в связи с Ипполитом и Тертуллианом. Поэтому
неудивительно, что первая осознанная игра двумя терминами —
одновременно аллитерационная и концептуальная —
имеет место в Вульгате в Первом послании к Коринфянам, 4-'*>
где hypêretas Christou kai oikonomous mystëriôn theou
передано как «ministros Christi et dispensatores mysteriorum
Dei». Управление {«экономика») имеет сущностное
отношение к тайне; с другой стороны, тайна может быть
развернута исключительно посредством управления и «экономики».
Именно этой, всецело конститутивной для тринитарной
экономики связью объясняется частое и намеренное смешение
терминов mysterium и ministerium, характерное для
первых Святых Отцов и имеющее место вплоть до поздней
схоластики {наглядный пример такого смешения мы
находим у Мария Викторина: Marius Victorinus, Commenta-
rium in Epistolam ad Ephesios, 2, 4, 12, in PL, 8, 1275c: «dono
Christi instituta sunt hujusmondi et mysteria et ministeria»19;
см. на этот счет замечания Бенца: Benz. P. 153).
18. «Сложное прочтение» (лат.): текстологический термин,
означающий избранный переписчиком более сложный
для понимания (но зачастую более близкий к оригиналу,
отчего ему отдается преимущество при сравнении разных
кодексов) вариант прочтения текста, данного в
нескольких переводах или вариантах.
19. «Дарованием Христа были установлены такого рода таинства
и служения» (лат.).
264
б. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
В том же письме Иеронима можно обнаружить первое
свидетельство метонимической эволюции, в результате
которой термин ministerium (означающий «службу,
поручение») обретет современное «административное» значение
«совокупности чиновников и должностей»: «Quando, —
вопрошает Иероним, — [Deus] Thronos, Dominationes, Potesta-
tes, Angelos, totumque ministerium coeleste condiderit?»20 (Ep., I,
18, 7 PL, 22,365). Как ангельская бюрократия
предвосхищает в своем иерархическом совершенстве бюрократию
человеческую, так и «небесная тайна» предшествует тайне
земной, которая наследует у своей теологической модели свою
таинственную природу.
6.J. В конце ю8-го вопроса, прежде чем перейти
к разговору о бесовских чинах, Фома делает
неожиданное отступление, задаваясь вопросом, будут ли
продолжать существовать ангельские иерархии
и чины после Страшного суда. Вопрос не
очевидный; но и уклониться от него едва ли возможно.
В самом деле, когда история мира и творений
достигнет своего конца и праведники обретут вечное
блаженство, а грешники будут преданы вечному
наказанию, какое назначение может быть у ангельских
чинов? Каким образом можно помыслить
бездеятельных ангелов?
Проблема усложнялась тем, что в Первом
послании к Коринфянам (15:24) Павел будто бы
недвусмысленно говорит об уничтожении или упразднении
ангельских чинов в момент парусии: «А затем конец,
когда [Христос] придаст Царство Богу и Отцу, когда
упразднит21 [katargësêi, лат. evacuaverit] всякое
начальство, всякую власть и силу». Передача мессианского
20. «Когда Бог учредил Троны, Владения, Могущества,
Ангелов и всю совокупность небесных дложностей?» (лат.).
21. У А.: сделает бездеятельными.
265
ЦАРСТВО И СЛАВА
Царства в руки Отца подразумевает свершение
исторической миссии спасения. В своем комментарии
к Посланиям Павла Фома уже поднял в данной
перспективе проблему конца правления и деятельности
ангелов, разграничивая «славу» и «исполнение»,
ангелов управляющих и ангелов исполняющих:
Когда он упразднит всякое начальство, всякую
власть и силу, то есть когда прекратится всякая
власть — как человеческая, так и ангельская, —
тогда мы будем непосредственно под Богом
[immediate erimus sub Deo] [...]. Но останутся ли
тогда различия в ангельских чинах? Я говорю:
останутся в плане превосходства славы [ad emi-
nentiam gloriae], согласно коему один стоит выше
другого, но исчезнут в плане действенности
исполнительного управления в отношении нас
[ad efficaciam executionis ad nos]. Поэтому он
говорит, что станут бездеятельными те ангелы, чьи
имена связаны с исполнением, а именно
—начальства, власти и силы. Однако же, он не
упоминает ангелов, принадлежащих высшей
иерархии и не являющихся исполнителями, [...]
как не говорит он о том, что будут упразднены
господства, ибо они хотя и принадлежат к
исполнительной власти, сами исполнением не
занимаются, но управляют и повелевают. [Super I
Cor., cap. 15,1.3>P«394-]
В последний день мироздания деятельность ангелов
еще возможно каким-то образом помыслить: они,
как сказано в Мф. 25:3х» не только будут
присутствовать при Страшном суде, но будут посланы во все
концы земли за воскресшими (Daniélou. P. 131):
последние, согласно Оригену, предстанут «в
сопровождении ангелов», которые «вознесут их на своих
плечах» (Ibid., P133-134)- Но что станется с
небесными служителями после того, как последний пра-
2бб
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
ведник вознесется в рай, а последний грешник будет
низвергнут в ад?
В трактате «De gubernatione mundis» эта
проблема являет себя во всей своей апоретичности. Ойконо-
мияу провиденциальное управление миром, не вечно:
приходит к своей финальной точке в день
Страшного суда. «Назначение ангельских ведомств
состоит в том, чтобы вести людей к спасению. Но в день
Страшного суда всем избранным будет даровано
спасение. Поэтому по его свершении больше не будет
ни ведомств, ни ангельских рангов» (S. Th., I, q. 108,
а. 7> arg. 3). Последующее Царство будет, так сказать,
радикальным образом лишено правления. Но как
помыслить Царство без какого-либо Правления?
С целью разрешить эту апорию Фома множит свои
distinguo. Речь, ни больше ни меньше, идет о том,
чтобы отделить иерархию от ее функции в попытке
помыслить власть, «пережившую» собственное
исполнение. Подобно тому как роль предводителя войска
в битве и в последующем торжестве различна, так же
иерархия и ее слава могут простираться за пределы
правления, на осуществление которого они были
направлены:
В устройстве ангельских рангов можно выделить
два аспекта: различие в чинах и исполнение
обязанностей. Первое основывается на различиях
в природе и в благодати, а они пребудут
вовеки. Различение в природе и в благодати у
ангелов, в самом деле, может быть упразднено, лишь
если исчезнут сами ангелы. Различия в
отношении славы также всегда пребудут с ними — в
соответствии с различиями в достоинстве.
Исполнение же обязанностей в некотором смысле
останется, а в некотором смысле прекратится
после Страшного суда. Прекратится постольку,
поскольку их служение направлено на то, чтобы
267
ЦАРСТВО И СЛАВА
вести некоторых людей к их цели; останется
постольку, поскольку оно может согласовываться
с достижением этой цели. Точно так же функции
военных различны во время боя и в момент
победы. [Ibid., I, q. 108, а. 7-]
Иерархия, будто бы тесно связанная с исполнением
функции или служения, во славе продолжает свое
существование за пределами этого исполнения.
6.8. Проблема, которую Фома пытается здесь
решить, в конечном счете есть проблема конца ойко-
номии. История спасения, к которому была
обращена машина провиденциального управления миром,
свершилась. Что теперь произойдет с этой
машиной? Что станется с миллиардами ангелов,
которые, образуя идеально устроенные девять хоров
в небесной иерархии, с первого момента творения
и до самого Судного дня несли неустанную службу?
В отношении некоторых из них вердикт Фомы
беспощаден: «По прошествии века Начальства и
Власти будут упразднены в их служении, направленном
на то, чтобы вести другие творения к их цели; ведь
как только эта цель будет достигнута, исчезнет
всякая необходимость стремиться к ней» (ibid., I, q. 108,
а. 7, ad i). Еще более категоричен приговор,
выносимый Матфеем из Акваспарты в его «Вопросах о
провидении»:
По прошествии века не допускается ни
сотрудничество между творениями, ни какое-либо
служение. Будучи непосредственным началом всякого
творения, Бог столь же непосредственным
образом является его концом, альфой и омегой. [...]
Поэтому всякое управление будет прекращено —
а вместе с ним и всякое ангельское служение, ибо
оно направлено на то, чтобы вести людей к их
268
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
цели, и как только эта цель будет достигнута,
оно должно быть прекращено. Упразднено будет
и всякое иерархическое действо, всякое
подчинение и всякое превосходство, как сказал Апостол
(i Кор. 15:24)- [Matteo di Acquasparta. Р.З1^]
Однако упразднение управленческой машины
ретроспективно воздействует на саму тринитарную
экономику. Учитывая, что последняя была
структурно связана с действием Бога и с вершимым им
провиденциальным управлением миром, как
возможно помыслить бездеятельного Бога? Если три-
нитарной экономике удалось преодолеть в едином
Боге гностический раскол между deus otiosus и deus
actuosus, упразднение всякой деятельности как
будто ставит под вопрос сам смысл экономики.
Поэтому Иероним в своем послании к Дамасию,
комментируя строки из Исайи (6:2-3)1 повествующие
о том, что Серафимы покрывали своими
крыльями лицо и ноги Господа, распознает в этом
образе символ невозможности помыслить то, что
предшествует сотворению мира или то, что будет после
его конца:
Что будет по прошествии века? Что будет после
суда над родом человеческим, какая последует
жизнь? Опять будет ли иная земля, и иные
элементы, или будет ли сотворен иной мир? [...]
Слова Исайи означают, что никто не может
высказать бывшего до мира и будущего после
мира. Мы знаем только среднее, что
открывается нам чрез чтение Писаний: когда сотворен
мир, когда образован человек, когда был потоп,
когда дан закон; что от одного человека
наполнились все земные пространства и что в
последнее время Сын Божий принял плоть для нашего
спасения. А прочее, о чем сказали, то два сера-
2бд
ЦАРСТВО И СЛАВА
фима закрывают в лице и ногах22. [Ер., I, i8, 7>
PL. 22, 365.]
Иными словами, в отношении Бога мы можем
познавать и мыслить лишь экономику и Управление,
но не Царство и бездеятельность; и все же
Управление есть лишь небольшой промежуток,
пролегающий между двумя вечными и исполненными славы
фигурами Царства.
Теперь становится ясно, почему в теологической
традиции, которая обрела в лице Петерсона свое
крайнее выражение, идеальным символом
христианской гражданственности является хвалебное
песнопение, а ставшим бездеятельными ангелам вверяется
плеромная фигура политического. Учение о Славе
как о конечной цели человека и о фигуре
божественного, которая продолжает свое существование после
того, как упразднено управление миром, и есть
данное теологами решение проблемы конца
экономики. Ангельские ведомства будут существовать после
Страшного суда лишь в качестве гимнологической
иерархии, то есть в форме созерцания и восхваления
божественной славы. В тот момент, когда свершится
всякое провиденциальное действие и будет
приостановлено всякое спасительное управление, останется
лишь песнопение. Литургия уцелеет
исключительно в форме славословия.
К То, что проблема представимости фигуры
бездеятельного Бога являет собой самый настоящий бич
христианской теологии, подтверждается затруднением, на
которое — начиная от Иринея и Августина — наталкиваются
любые попытки ответить на поистине богохульный вопрос:
22. Текст существующего перевода приведен с
незначительными изменениями.
270
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
«Что делал Бог до сотворения небес и земли? И если он
ничего не делал, то почему он не продолжил бездействовать
как раньше?» Уже Августин — который в своей «Исповеди»
(il, ю, 12) именно так формулирует этот вопрос, влагая его
в уста pleni vetustatis suae23, — дает иронический ответ,
в действительности скрывающий непреодолимое смущение:
«Он приготовлял преисподнюю для тех, кто
допытывается о высоком [alta... scrutantibus gehennas parabat]» (там
же; и, 12, 14)- Одиннадцать веков спустя, свидетельствуя
о том, что вопрос не потерял своей злободневности, Лютер
дает на него похожий ответ в следующей форме: «Он сидел
в лесу и нарезал прутья, чтобы проучить тех, кто задает
нелепые вопросы».
Вопрос, не случайно исходящий от язычников и
гностиков, для которых он не представлял ни малейшего
затруднения, для христиан был особенно щекотлив—как раз по той
причине, что христианская экономика по сути была
фигурой действия и управления. Он идеально соответствует^
a parte ante, проблеме статуса после конца света не только
Бога, но также блаженных и ангелов.
Стало быть, слава есть нечто такое, что своим
сиянием должно покрывать неизреченную фигуру
божественной бездеятельности. Хотя она может становиться
объектом многотомных изысканий (как, например, в случае
Бальтазара), theologia gloriae представляет собой в
некотором роде белую страницу в дискурсе теологов.
Поэтому наиболее присущей ей формой является мистика,
которая перед лицом исполненной славы фигуры власти может
лишь безмолвствовать. Так или иначе, прибегая к
использованной Лютером эффектной формуле, scrutator maiestatis
obtunditur a gloria24.
В иудаистской традиции, где Бог не включал в свое
бытие ойкономию, вопрос о божественной бездеятельности
носит куда менее обескураживающий характер. Так, в мид-
23. Зд.: обветшавших разумом (лат.).
24. «Созерцающий величие одурманен славой» (лат.).
271
ЦАРСТВО И СЛАВА
раше сказано (Теилим go:$gi), что за две тысячи лет до
сотворения небес и земли Бог создал семь вещей (Тору, престол,
рай, ад, небесное святилище, имя мессии и глас, вопиющий
«Возвратитесь, сыны человеческие»), В последующие две
тысячи лет — согласно тому же мидрашу, в котором
заранее дается ответ на этот вопрос, — Он изучил Тору,
сотворил другие миры и обсудил с буквами алфавита, какая из них
будет агентом творения.
6.9. Упразднение ангельских ведомств после
Страшного суда свидетельствует о том, что
божественное управление миром ограничено во времени
и что теологическая экономика по своей сути конечна.
Христианская парадигма управления, как и связанное
с ней видение истории, длится от сотворения до
скончания мира. Новоевропейское представление об
истории, которое во многих отношениях
безоговорочно восприняло теологическую модель, по этой
причине оказалось в противоречивом положении. С одной
стороны, оно отменяет эсхатологию и продлевает
до бесконечности историю и управление миром, с
другой — непрестанно получает подтверждения
конечного характера собственной парадигмы (это явствует
как из кожевского прочтения Гегеля, так и из
проблемы конца истории бытия у позднего Хайдеггера).
Принцип, согласно которому управление миром
прекратится в день Страшного суда, в христианской
теологии имеет лишь одно значительное
исключение. Оно касается ада. В 8д-м вопросе Фома, в
самом деле, озадачивается проблемой того, будут ли
бесы приводить в исполнение приговор
грешникам («Utrum daemones exequentur sententiam iudicis
in damnatos»). Вопреки мнению тех, кто полагал,
что в день Страшного суда будут прекращены всякая
деятельность управления и всякое служение, Фома
утверждает, что бесы в преисподней будут во веки
272
б. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
исполнять свою карательную функцию. Точно так
же, как ранее он предположил, что ангелы сложат
с себя свои обязанности, но навсегда сохранят свой
строй и свои иерархии, —теперь он пишет, что
«порядок наказаний будет сохранен, и людей будут
наказывать бесы, дабы не был окончательно изжит
божественный порядок, утвердивший ангелов в качестве
посредников между человеческой природой и
природой божественной, [...] бесы суть вершители
божественного правосудия в отношении нечестивцев»
(5. 7Ä., Suppl., q. 89, а. 4)- Иными словами, ад —это
то место, в котором божественное управление миром
продолжает пребывать в вечности, пусть и в чисто
пенитенциарной форме. И если ангелы в раю, все же
сохраняя пустую форму своих иерархий, прекратят
всякую деятельность управления и перестанут нести
всякое служение, а будут лишь предстоять, —то бесы
останутся безупречными служителями и вечными
карателями, вершащими божественное правосудие.
Однако это означает, что с точки зрения
христианской теологии идея вечного управления (что есть
парадигма современной политики) в своей сути
инфернальна. Любопытным образом это вечное
пенитенциарное правление, эта фигура карательной
колонии, не знающей искупления, приобретает
неожиданное театральное значение. Среди вопросов,
которые Фома ставит касательно положения
блаженных, есть вопрос о том, могут ли они созерцать муки
грешников («Utrum beati qui erunt in patria, videant
poenas damnatorum»). Он понимает, что ужас и turpi-
tudo подобного зрелища, по видимости, не подобает
святым; и все же, с некоторой психологической
простотой перед лицом садистских импликаций своего
рассуждения, которые нам как представителям
современности нелегко принять, он
безапелляционно утверждает, что «дабы блаженные могли в боль-
273
ЦАРСТВО И СЛАВА
шей степени возрадоваться своему блаженству, [...]
им позволено наблюдать муки нечестивцев» (5.7Ä.,
Suppl., q. 94> ал)- И не только. Наблюдая это
зверское зрелище, блаженные и ангелы, вместе с ними
его созерцающие, не могут испытывать
сострадания, но лишь наслаждение, ибо наказание
грешников есть выражение вечного порядка божественного
правосудия («et hoc modo sancti de poenis impiorum
gaudebunt, considerando in eis ordinem divinae justitiae,
et suam liberationem, de qua gaudebunt», ibid., a. 3).
«Блеск пыток», который, как показал Фуко, сущ-
ностно связан с властью при Ancien régime, находит
здесь свой вечный исток.
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
Порог
То, что ангелология непосредственным образом
совпадает с теорией власти и что ангел по
преимуществу является фигурой управления миром,
проистекает из того простого факта, что ангельские имена
отождествляются с наименованиями земных
властей: archaic exousiai, kyriotêtes (в латинской
традиции —principatuS) potestates, dominationes). Это
явственно прослеживается на примере Посланий Павла,
в которых не всегда легко отличить имена ангелов
от наименований органов мирской власти. Впрочем,
гендиадис archai kai exousiai в греческом языке той
поры стандартно использовался для обозначения
человеческих властей в широком смысле (так, в
Евангелии от Луки 12:и последователей Иисуса приводят
в синагоги «к начальствам и властям [epi... tasarchas
kai tas exousias]», a в Послании к Титу 3:1 Павел
советует членам общины «подчиняться archais exousi-
as»). В Послании к Колоссянам, в котором речь
несомненно идет о поклонении ангелам, также неясно,
являются ли «начальства и власти», над которыми
мессия восторжествовал посредством креста (2:15),
силами ангельскими или же человеческими; и даже
знаменитый пассаж из Первого послания к
Коринфянам 15-24) в котором провозглашается
упразднение «всякого начальства, всякого господства и
всякой власти», которое производит мессия, возвращая
275
ЦАРСТВО И СЛАВА
царство Богу, может относиться как к земным
властям, так и к властям ангельским. В других местах,
где эти термины вне всякой двусмысленности
обозначают ангельские власти, последние могут
одновременно толковаться как бесовские силы. Так,
Послание к Ефесянам, в начале которого возникает
светоносный образ воскресшего мессии, которого
Бог посадил по правую от себя сторону «превыше
всякого начала и власти, силы и господства» (i:2i),
завершается воззванием самих ангелов в качестве
«мироправителей тьмы века сего» (kosmokratores tou
skotou toutou): «Наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных»25 (6:12).
Неразличимость между ангелами и земными
силами действительно носит более глубинный и
сущностный характер: она проистекает прежде всего
из того факта, что ангелы, будучи фигурой
божественного управления миром, также
непосредственно являются «правителями века сего»26 (i Кор. 2:6).
Земные и ангельские власти смешиваются у Павла,
потому что и те, и другие исходят от Бога.
Знаменитый отрывок из Послания к Римлянам, 13:1—5> °
божественном происхождении всякой exousia («нет
власти не от Бога») необходимо истолковывать в этой
перспективе, такое прочтение вносит важный
корректив в его понимание. Ангелология Павла
действительно полностью согласуется с его критикой
закона и власти, которая на этом законе
основывается. Ведь власть, как и закон (который «был
преподан через Ангелов», Гал. 3-19> см- также Евр. 2:2),
25. Использован существующий перевод.
26. У А.: «князья [arconti] века сего».
27б
6. АНГЕЛОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ
была дана «по причине преступлений», и
прекратится она в момент пришествия мессии. Ни один
«ангел» и ни одна «власть» (агке) не могут отлучить
нас от «Христа Господа нашего» (Рим. 8:38-39)) ибо
«мы будем судить и ангелов» (i Кор. 6:3). Джордж
Б. Кэрд заметил, что двойственность, присущая
ангельским властям — как и закону, и вообще всякой
власти,— заключается в том, что нечто, данное в
качестве временного орудия против греха, претендует
на абсолютную ценность.
Когда закон изолируется и возводится в
независимую религиозную систему, он становится
демоническим. Искажение закона есть результат
действия греха, в частности — греха
самооправдания. [...] Всякий легализм являет собой
самоутверждение, наше притязание на то, чтобы установить
наше собственное правосудие, как будто мы в
состоянии спасти себя сами посредством
нравственных и духовных достижений. \Caird. Р. 41.]
Но эта демоническая радикализация закона и
ангельских воинств также некоторым образом являет
собой ипостась божественного гнева и правосудия,
которое каббалисты нарекли словом Din, суровость,
и которое у Павла представлено как «гнев и ярость»
(orge каг thymosy Рим. 2:5-8). Будучи символом
божественной власти и способности управлять миром,
ангелы также воплощают собой темную,
демоническую сторону Бога, которая как таковая не может
быть попросту перечеркнута.
Павлово мессианство следует рассматривать
в этой перспективе. Оно действует в качестве
корректива в отношении демонической гипертрофии
ангельских и человеческих властей. Мессия
упраздняет и приводит в состояние бездеятельности (ка-
targeö — что значит делать argos, бездеятельным,
277
ЦАРСТВО И СЛАВА
а не просто «уничтожать» — технический термин,
которым Павел выражает отношение между мессией
и властями ангелов и людей) как закон, так и
ангелов, и таким образом примиряет их с Богом (как
говорится в Кол,, 1:15-20, всё —«престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли» —было сотворено
посредством мессии и через него в итоге
примирится с Богом).
Проблема закона, более не применяемого, но
изучаемого, которая в романах Кафки идет рука об руку
с темой неизменно бездеятельных функционеров-
ангелов, демонстрирует здесь свою мессианскую
значимость. Высший и исполненный славы telos закона
и ангельских сил — как и telos мирских властей —
состоит в том, чтобы быть упраздненным и сделаться
бездеятельным.
7.
Власть и слава
7-1. Цезура, вносящая разрыв в природу ангелов
и делящая их чины на предстоящие и служащие —
певцов славы и исполнителей управления,
—соответствует двоякой фигуре власти, которую пришло
время подробно рассмотреть. Возможно, только лишь
в поле напряжения между gloria и gubernatio
вычленение Царства и Правления, которое мы частично
попытались воссоздать через историю теолого-эко-
номической парадигмы, достигает своей полной ин-
теллигибельности и в то же время своей
максимальной затемненности. Интеллигибельное™ — потому,
что исключительно в оппозиции
предстоящие/служащие различие между Царством и Правлением
становится столь ощутимым; затемненности — ибо
каковой может быть политика не управления, но
литургии, не действия, но гимна, не власти, но славы?
Для того чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо прежде всего выявить тайную нить, связывающую
эссе Петерсона об ангелах 1935 года с диссертацией,
которую молодой теолог, тогда еще не принявший
католичество, публикует в 1926 году под заглавием
«Heis Theos. Epigraphische, formgeschichtliche und
religionsgeschichtliche Untersuchungen». Много лет
спустя, занимаясь сходными темами, Канторович
определил труд Петерсона как «основополагающий».
Подзаголовок, объединяющий филологическую
категорию и понятия, восходящие к теологическим
наукам, в этом смысле вводит в заблуждение. В дей-
279
ЦАРСТВО И СЛАВА
ствительности, речь не идет ни о теологическом
исследовании в строгом смысле слова, ни — несмотря
на внушительный критический аппарат и
необычайную эрудицию —об исключительно
историко-филологическом изыскании. Трудно определима, прежде
всего, дисциплинарная область, к которой
относится эта диссертация; на этот счет необходимо сделать
некоторые предварительные пояснения.
В 1934 Г°ДУ во вступлении к своему эссе о
становлении римского имперского церемониала Андраш
Алфёлди сетовал на то, что если изучение
рационально-юридических аспектов Имперского
государства нашло достойное выражение в работах уровня
«Staatsrecht» Моммзена, то на долю его
церемониальных и религиозных аспектов выпали
исследования сомнительной научности — такие, как,
например, «Culte impérial» аббата Бёрлье (Alfôldi. P. 5).
По этому поводу Эрнст Канторович во введении
к своей книге «Laudes regiae» (1946) обратил
внимание на то, что изучение литургических истоков
политической истории вплоть до начала XX века
оставалось исключительной прерогативой теологов
и историков Церкви, работы которых ввиду их
заинтересованности являют собой не совсем надежные
источники (Kantorowicz 2. Р. VII).
Диссертация Петерсона, всецело посвященная
отношениям между политическим церемониалом
и церковной литургией в аспекте анализа
аккламации Heis theos, хотя и принадлежала перу теолога
(среди учителей которого, тем не менее, были Франц
Болл, Эдуард Норден и Рихард Рейценштейн),
все же порывала с этой традицией. Как утверждал
Карл Шмитт много лет спустя, «необъятный
материал, включающий в себя множество литературных
источников и эпиграфических свидетельств,
изложен с абсолютной объективностью, так что нигде
28о
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
невозможно выявить оценочную позицию,
занимаемую автором в отношении того или иного
теологического течения или догматической
предпосылки» (Schmitt 2. Р. Зб-37)- Иными словами, это был
первый шаг в направлении науки, которая все еще
ждет своего часа и которая занималась бы
историей церемониальных аспектов власти и права: своего
рода политическая археология литургии и
протокола, которую мы здесь, по крайней мере
предварительно, могли бы поместить в раздел «археологии
славы». Представляется уместным в этой связи
внимательно проследить ход рассуждений Петерсона,
выявляя результаты и стратегии его исследования.
7-2. Труд Петерсона открывается кропотливой
каталогизацией внушительного количества
материалов, в основном эпиграфического характера, в
которых появляется формула heis theos (иногда она
претерпевает бинитарное и тринитарное расширение
до Heis theos kai Christos или Heis theos kai Christos autou
kai to hagionpneuma). В свете устоявшихся трактовок,
которые утверждали связь этого материала с
литургическими формулами и в итоге призывали
рассматривать его как формы вероисповедания, стратегия
Петерсона носит двоякий характер. С одной
стороны, он решительно отвергает идею о том, что эти
формулы содержат в себе нечто подобное
вероисповеданию; с другой стороны, он с той же
решимостью включает их в сферу аккламаций: «Формула
Heis theos является аккламацией, но не
вероисповеданием» (Peterson 3. Р. 302). Но это означает возводить
происхождение этих по сути христианских
выражений к более темным основаниям, где они сливаются
с аккламациями языческих императоров и с
возгласами, приветствовавшими Дионисия в орфических
ритуалах, с изгнанием духов при помощи магиче-
281
ЦАРСТВО И СЛАВА
ских папирусов и с формулами мистических обрядов
митрианцев, гностиков и манихеев. Вместе с тем, это
означает поднять проблему происхождения и
значения аккламаций и их взаимосвязи с христианской
литургией.
Что такое аккламация? Восклицание одобрения,
ликование («Io triumphe!»), поощрение или
несогласие (acclamatio adversa), выкрикиваемое толпой
в определенных обстоятельствах. Аккламация
сопровождалась поднятием правой руки (этому есть
свидетельства как в языческом, так и в
христианском искусстве) или — если речь идет о театре
или цирке — рукоплесканиями и маханием
платком. В этом случае, как свидетельствует Цицерон
в Письмах к Аттику (i, 16), помимо атлетов и
актеров аккламация могла быть обращена к магистратам
республики, а позже и к императору. По случаю
приезда в город монарха устраивалось церемониальное
шествие (adventus), которое обычно сопровождалось
торжественными аккламациями. Аккламация
могла иметь разные формы, которые Петерсон
детально рассматривает: пожелание победы (nika, vincas),
здравия и плодородия (vivas, floreas, zês,felicissime),
долгой жизни (polla ta été, eis aiönas, de nostris annis auge-
at tibi Iuppiter annos), силы и спасения (valeas, dii te nobis
praesent, te salvo salvi et securi sumus); призыв и
молитву (kyrie, kyrie sôzôn, kyrie eleêsori), одобрение и
поощрение (axios, dignurn et iustum esti,ßat, amen). Аккламации
часто повторялись подобно ритуалу, иногда с
некоторыми вариациями. В одном христианском
свидетельстве подробно описывается acclamatio adversa
в Чирко Массимо:
Pars maior populi clamabant, dicentes: Christiani
tollantur! Dictum est duodecim. Per caput Augusti,
christiani non sint! Spectantes vero Hermogenianum,
282
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
praefectum urbis, item clamaverunt decies: Sic,
Auguste, vincas! [...]. Et statim discesserunt omnes una
voce dicentes: Auguste, tu vincas et cum diis floreas!1
Августин, описывая в одном из писем церемонию
назначения его преемника Ираклия епископом Гип-
пона, рассказывает об использовании в
христианском контексте аккламационной формулы типа
axios, dignurn est:
A populo acclamatum est: Deo gratias, Christo
laudes; dictum est vicies terties. Exaudi Christe, Augus-
tino vita; dictum est sexies decies... [...] Bene meritus,
bene dignus; dictum est quinquies. Dignus et iustus
est; dictum est sexies [...]. Fiat, fiat; dictum est duo-
decies...2[Ep., 213,5-8.]
Принципиально важным для понимания
значения аккламаций, отмечает Петерсон, является то,
что «они никоим образом не были чем-то
несущественным, но в определенных обстоятельствах
обретали юридический смысл» (Peterson 3« Р. 141).
Петерсон ссылается на статью «Acclamatio» в Паули-
Виссова3; однако Моммзен в своей работе «Staats-
1. Большая часть народа восклицала, говоря: «Пусть уничтожат
христиан. Двенадцать раз сказано уже об этом. Именем
Августа требуем, чтобы не было христиан. Но, видя
префекта Рима Гермогениана, народ также десятикратно
воскликнул: «Так да одержишь ты, Август, победу! [...]
И тотчас все ушли, говоря в один голос: «Август, ты
победишь и будешь процветать вместе с богами» (лат.).
2. Народ воскликнул: Благодарение Богу, слава Христу;
сказано было двадцать три раза. Внемли, Христос, — жизнь
для Августина; сказано было шестнадцать раз. [...] Благо-
заслуженный, достойнейший; сказано пять раз.
Достойный и справедливый; сказано пять раз. [...] Пусть
свершится, пусть свершится; сказано двенадцать раз (лат.).
3- Немецкая энциклопедия классической древности.
283
ЦАРСТВО И СЛАВА
recht» скрупулезно обосновал принципиальное
юридическое значение аккламаций в римском
публичном праве. Прежде всего, речь идет об
аккламации, посредством которой в республиканскую эпоху
войска присуждали победоносному командующему
титул imperator (Mommsen. Vol.1. P. 124), а в
имперскую эпоху —титул Цезаря (Ibid. Vol. 2. P. 841).
Кроме того, аккламация со стороны сенаторов, особенно
в имперскую эпоху, могла использоваться для того,
чтобы придать статус решения посланию
императора (Ibid. Vol. 3. Р. 949~95°)> а в избирательных коми-
циях могла быть заменена на голосование
отдельных граждан (Ibid. P. 35°) •
Таково юридическое значение аккламации,
которое в поворотном моменте своего исследования
Петерсон особенно подчеркивает, утверждая
наряду с тезисом о языческом происхождении многих
христианских аккламаций также идею сущностной
связи, соединяющей право и литургию. По поводу
формулы dignum et iustium est (которая появляется,
помимо ритуалов избрания и низложения
духовных лиц, также в начале анафоры мессы),
раскритиковав современную юридическую науку, не
способную прийти к пониманию подлинного значения
аккламаций, он выдвигает предположение о том,
что эту формулу не следует рассматривать как
своего рода сокращенную избирательную процедуру
(как это предполагалось раньше), но что, согласно
обычаю, который Церковь переняла у профанной
ecclesiciy она «скорее в форме аккламации
выражает consensus народа» {Peterson 3. Р. 177)- Это согласие,
тем не менее, имеет юридическое значение, которое
проливает новый свет на связь между правом и
литургией. Ссылаясь на работы П.Кажэна,
посвященные традиции доксологических аккламаций, в
которых ученый уже усмотрел аналогию с аккламациями
284
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
на избрание императора Гориана {Aequum est, iustum
est! Gordiane Augaste, dii te servent féliciter!*), Петерсон
пишет:
Кажэн, безусловно, прав, когда в одной
особенно яркой главе своей книги он завершает свой
анализ наблюдением о том, что первые слова
анафоры vere dignum суть лишь ответ на
аккламацию народа Dignum et iustum est. Но ни Кажэн,
ни кто-либо иной не подчеркнул в
достаточной мере то обстоятельство, что через
аккламацию ахгоп kai dikaion и литургия, и гимн {Те deum,
Gloria и т.д.) получают юридическое
обоснование. Говоря иными словами: включение
публичной церемонии («leitourgia») «Евхаристии» в
анафору или в гимн может произойти исключительно
в юридической форме аккламации со стороны народа
(«laos») и священника». [Ibid. P. 178.]
7-3- В 1927 году в статье «Референдум и
предложение о законе на основе народной инициативы»
(хотя в немецком два соответствующих
технических термина — Volksentscheid и Volksbegehren —
буквально означают «народное решение» и «народное
требование»), Шмитт ссылается на книгу Петерсона,
вышедшую всего лишь годом раньше, как раз в
контексте рассуждения о политическом значении
аккламаций. Шмитт противопоставляет здесь тайное
индивидуальное голосование, характерное для
сегодняшних демократий, прямому волеизъявлению
народа посредством собраний, характерному для
«чистой», или прямой, демократии, и вместе с тем
структурно связывает воедино народ и аккламацию.
4- Справедливо, законно! Гордиан Август, да сохранят тебя
счастливо боги! (лат.)
285
ЦАРСТВО И СЛАВА
Тайное индивидуальное голосование, не
предваряемое никаким публичным обсуждением,
регулируемым в рамках заранее установленной
процедуры, полностью сводит на нет те особые
возможности, которыми располагает народное
собрание. В самом деле, подлинное действие,
потенциал и роль народа, сердце всякого
народного волеизъявления, исконно демократический
феномен, в котором еще Руссо узрел суть
истинной демократии, — это аккламация, возглас,
выражающий принятие или отклонение со
стороны объединившихся масс. Народ провозглашает
вождя, армию (в данном случае тождественную
народу), военачальника или императора,
граждане или сельские коммуны одобряют предложение
(здесь остается открытым вопрос,
действительно ли провозглашается вождь или предложение
одобряется в своем содержании); народ кричит
«Да здравствует» или «Долой», ликует или
негодует, низвергает одних и провозглашает
правителями других, одобряет то или иное
постановление в любой форме или отклоняет его
провозглашение молчанием. Основополагающее
исследование Эрика Петерсона, научное
значение которого значительно превосходит узкие
рамки интересующего его предмета, описало ас-
clamatio и его формы в первые века христианства.
[Schmitt 6. Р. 62]
Если для Петерсона аккламации и литургические
доксологии выражают юридический и публичный
характер христианского народа (laos), то для Шмитта
аккламация есть чистое и непосредственное
выражение воли народа как учредительной демократической
власти. «Этот народ, —писал он несколькими
строками выше, —носитель учредительной власти,
субъект pouvoir constituant, и поэтому он есть нечто иное
по отношению к народу, который [...] осуществляет
286
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
некоторые полномочия в формах, предусмотренных
конституцией, то есть избирает рейхстаг,
президента рейха, или активизируется в случае референдума»
(Ibid. P. 6о). Поэтому, перенося на мирскую сферу
тезис Петерсона, он теперь доводит его до крайности,
утверждая, что «аккламация есть неизбывный
феномен всякой политической общности. Никакое
Государство не вообразимо без народа, никакой народ
не мыслим без аккламаций» (Ibid. P. 62-63).
Стратегия Шмитта ясна: заимствуя у
Петерсона понятие конститутивной функции
богослужебной аккламации, он выступает в роли теоретика
«чистой», или прямой, демократии, противопоставляя
ее веймарской либерал-демократии. Как верующие,
произносящие доксологические формулы, вместе
с ангелами присутствуют на литургии, так же и
аккламация со стороны народа в его непосредственном
присутствии есть нечто противоположное
либеральной практике секретного голосования, которая
лишает суверенного субъекта его учредительной власти.
Это научное открытие аккламации является
отправным пунктом для описания процедур
прямой, или «чистой», демократии. Нельзя
пренебрегать тем фактом, что, где бы общественное
мнение ни существовало как общественная
реальность, а не только как политический предлог,
во все решающие моменты, когда может
утвердиться политический смысл, возникают в
первую очередь аккламации одобрения или
отклонения независимо от процедуры голосования,
ибо посредством подобной процедуры они
могли бы стать объектом угрозы в их безыскусности,
поскольку непосредственность народного
собрания, определяющая эти аккламации, сводится
на нет изолированием избирателя и
избирательной тайны. [Ibid. P. 63.]
287
ЦАРСТВО И СЛАВА
7-4- Историкам литургии известно, что
раннехристианская литургия возникает из слияния
псалмических и доксологических элементов и
евхаристического прославления. Даже в наши дни
в пособиях по литургике в этом плане проводится
разграничение между liturgia epaenetica, то есть
хвалебной литургией, и литургией евхаристической.
Пристальное изучение евхаристической литургии,
тем не менее, показывает, что аккламации, доксо-
логии и евхаристическое жертвоприношение в ней
настолько тесно переплетены между собой, что
становятся практически неразличимыми. В трактате
о божественной литургии, в котором Николай Ка-
васила в сжатой форме изложил учение Восточной
церкви о «порядке божественных таинств», он
разграничивает, с одной стороны, таинство
евхаристии и, с другой, хвалебные песнопения, молитвы,
чтения Священного Писания и «все то, что
произносится и свершается до и после таинства» (Са-
basilas. Comm. P. 57)- И все же два этих аспекта
литургии в действительности формируют «единое
тело» и устремлены к одной и той же цели, то есть
к освящению верующих. «Вся мистагогия, — пишет
Кавасила, — составляет единое тело повествования
[soma hen historias], которое от начала и до конца
сохраняет свою гармонию и целостность, так что
всякий его жест и всякая формула вносит свой вклад
в целое» (Ibid. Р. 129). Литургия и oikonomia
оказываются в данном смысле тесно взаимосвязаны,
поскольку как в песнопениях и хвалебных
аккламациях, так и в действиях, совершаемых
священником, всегда и исключительно «выражается
экономика Спасителя» [oikonomia tou Sôtéros] (Ibid. P. 61).
Как приношение хлеба и вина, так и доксологии
и песнопения суть «жертва хвалы», как говорит
автор псалма: «Принеси Богу жертву хвалы, я осво-
288
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
божу тебя, а ты возвестишь хвалу мне» (Пс. 50:14-155
Cabasilas. P. 58).
Обратимся к литургии галликанской мессы
в той форме, в которой она совершалась в период
с VI по VIII век (но любая другая форма древней
литургии, от Traditio apostolica до описания анафоры
в «Catechesis» Кирилла Александрийского, могла бы
послужить нашей цели). Месса открывалась
преамбулой в виде песнопения, во время которого епископ
подходил к алтарю под звуки псалмического
антифона и доксологии Gloria Patri. Речь идет, как мы
полагаем, о серии аккламаций:
Alleluja! Benedictus qui venu, alleluja,
in nomine Domini: Alleluja! Alleluja!
Deus Dominus, et illuxit nobis.
In nomine Domini.
Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto
in saecula saeculorum. Amen.
In nomine Domini.
Затем тут же следовал Trisagion5 — торжественное
хвалебное песнопение на греческом и латыни, на
которое верующие отвечали аккламацией Amen. Далее
три ребенка исполняли в унисон Kyrie eleison, а затем
два хора принимались поочередно петь Benedictus.
Но евхаристическая литургия — как это
характерно и для сегодняшнего ритуала — была настолько
плотно насыщена доксологиями и аккламациями,
что никоим образом невозможно помыслить
разделение этого целого на различные элементы.
Формула, называемая immolatio, которой открывалось
таинство, являла собой серию возгласов: Vere aequum
et iustum est: nos tibi gratias agere, teque benedicere, in omni
5. Трисвятое, или Трисвятая песнь.
289
ЦАРСТВО И СЛАВА
tempore, omnipotens aeterne Deus... exaudi per Christum
Dominum nostrum. Per quern majestatem tuam laudat angeli6...
После immolatio7 следовало тройное воззвание
Sanctus и формула Vere sanctus, vere benedictus Dominus noster
Jesus Christus Filius tuus8.
Рассмотрим это ощутимое присутствие
аккламаций в литургии с позиции, которую занимает в
своем исследовании Петерсон. Если тезис Петерсона
верен, нам следует рассматривать аккламационно-
доксологический элемент не только как нечто
связующее христианскую литургию с языческим миром
и римским публичным правом, но как самое
настоящее юридическое обоснование «литургического» —
то есть публичного и «политического» —характера
христианской церковной службы. Термин leitourgia
(от laos, «народ») этимологически означает
«общественное служение», и Церковь всегда стремилась
подчеркнуть публичный характер литургического
богопочитания в противоположность
индивидуальному поклонению. Лишь католическая Церковь —
как традиционно подчеркивается в Enchiridia litur-
gica9 — может отправлять законное богослужение
\cultum legitimum aeterno parti persolvere: Rado. P. 7).
Тезис Петерсона в данном смысле обосновывает
публичный характер литургии посредством
аккламаций народа, объединенного в ekklêsia. Два термина
6. Поистине справедливо и законно, чтобы мы во всякое
время возносили тебе благодарности, славословили тебя,
всесильный, вечный Бог... внемли нам ради Господа
нашего Христа. Через него ангелы прославляют твое
величие (лат.).
у. Жертвоприношение (лат.).
8. Истинно святой, истинно благословенный Господь наш Иисус
Христос сын твой (лат.).
9- Руководства по литургике (греч.).
29о
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
(laos и ochlos)y которые в Септуагинте и в Новом
завете означают «народ», противопоставляются друг
другу и разделяются кг. populus и multitudo в традиции
публичного права:
Laos, принимающий участие в евхаристии, есть
laos лишь в той мере, в которой он обладает
юридической способностью. Вспомним, что
говорится в трактате Цицерона «О государстве», 1, 25:
«Populus autem non omnis hominum coetus quoquo
modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris
consensu et utilitatis communione sociatus»10. [...] Если
юридические акты laos в более поздний период
ограничивались лишь правом аккламации, это
абсолютно не меняет того факта, что можно
говорить о populus (laos) в исконном смысле слова
или об ekklèsia лишь там, где у народа есть
возможность осуществлять юридическую деятельность.
Если однажды кто-то решит написать историю
слова «миряне» [Laie] (laos), он должен будет
учесть все упомянутые здесь контексты и в то же
время уяснить, что laos и есть ochlos, поскольку
он должен произносить литургические
аккламации. Таким образом, когда laos произносит
литургические аккламации, он закрепляет за собой
статус церковного права точно так же, как в
публичном праве laos получает свой статус именно
через право произносить в мирской ekklèsia свою
(аккламацию) в отношении despotes. [Peterson 3. P. 179-]
В характерной для него манере Петерсон
помещает анализ слова amen, задающего ритм
богослужению, в примечании внизу страницы: он трактует
ю. «Народом является не всякое собрание людей, соединенных
между собой неважно, каким образом. Напротив,
народом является собрание множества людей, соединенного
согласием права и единством пользы» (лат.)
291
ЦАРСТВО И СЛАВА
его как аккламацию в техническом смысле,
посредством которой множество верующих определяет
себя как «народ» (laos) [ibid., n. 2]. Когда Иустин
(Апол., 65, з) сообщает нам о том, что в конце
молитвы и евхаристии «весь народ изъявляет свое согласие
словами Amen \pas ho pawn laos euphêmei legôn: Amen]»,
речь здесь идет о том самом технико-юридическом
значении аккламации, которое составляет
«публичность» литургии —или, точнее, «литургический»
характер христианской службы.
К Анализ терминов, которыми в Новом завете —и в
частности в Посланиях Павла — обозначается понятие «народ»,
может пролить свет на понимание антимессианской
стратегии Петерсона. Термин démos, столь важный для
нашего понимания полиса, практически ни разу не встречается.
Понятие «народ» обозначается термином ochlos (no
крайней мере 1J5 раз в Новом завете; на латынь он
переводится в основном как turba; в Вульгате помимо turba и populus
встречаются термины plebs и multitudo; massa, которое
было бы подходящим переводом для ochlos, уже у
Августина обретает негативный смысл носителя первородного
греха: «еа damnatione, quae per universam massam currit», Aug.
De Mat. et grat., 8, g) или термином plêthos {особенно
часто встречающимся у Луки), а также в значении,
соответствующем наиболее часто употребляемому в Септуагинте
термину, означающему избранный народ, laos (142 случая
употребления). Петерсонустанавливает связь между
ochlos и теологическим значением laos: ochlos становится laos,
он «политизируется» через литургию. Ради этой связи ему
приходится пренебречь особым употреблением, которое
этот термин выдерживает в текстах Павла. Между тем
представляется значимым, что Павел принимает решение
нигде не использовать термин ochlos и употребляет всего
12 раз laos — всякий раз ссылаясь на библейский текст
(например, у Осии в Рим. д:2$: «немой народ»). Используя
термин hêmeis, «мы», Павел подразумевает мессианское сооб-
292
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
щество в техническом смысле, часто в противоположность
laos (как в Рим., д:24) или иудеям и грекам (как в i Кор.,
1:22-24: <<ио*° иудеи требуют чудес и греки ищут
мудрости, а мы проповедуем Христа распятого»). В
процитированном отрывке Первого послания к Коринфянам за
местоимением «мы» тут же следует уточнение—«призванные»
(autois de tois klëtois). Мессианское сообщество как
таковое представлено у Павла как анонимное: оно будто бы
располагается на пороге неразличимости между
общественным и частным.
7-5- В 1934 и 1935 г°дах Андреас Алфёлди
публикует в «Römische Mitteilungen» результаты
своих исследований о формах и инсигниях римского
имперского церемониала. Отбрасывая стереотип,
обнаруживаемый уже в классических источниках,
согласно которому имперский церемониал,
чуждый сдержанности римской политической
традиции, был введен Диоклетианом по модели
персидских придворных ритуалов, Алфёлди показывает,
что он постепенно начал складываться еще на
закате республики и в первые годы принципата, в
соответствии с парадигмой, в которой, безусловно,
сходятся разные традиции, но которая в своей сути
является теологической. Для того чтобы уяснить
«сакрально-теологический» характер, который
постепенно приобретают в Риме отношения между
правителем и подчиненными, вовсе не обязательно
трогать модель восточной божественной монархии,
более или менее необоснованно перенося ее в
Вечный город. «Принципат поставил главу
Государства бесконечно выше сенаторов, которые молятся
и возносят жертвы за его благополучие, приносят
клятвы его именем, взывают к нему как к сыну
Божьему, празднуют его день рождения и прочие личные
праздники как публичное событие. Auctoritas, кото-
293
ЦАРСТВО И СЛАВА
рая, по их же собственному свидетельству,
возвышает principes над всеми остальными, приобрела
религиозную окраску, как и священный титул Augustus,
который они носили» {Alföldi. Р. 29)-
Алфёлди тщательно прослеживает в этой
перспективе введение proskynêsis (поклонения), которое
уже в республиканскую эпоху принимает форму
жеста молящего, бросающегося на колени перед власть
имущим, а затем постепенно утверждается как
неотъемлемая часть имперского ритуала. Сенаторы
и кавалеры более высокого ранга целовали
императора в обе щеки (salutatio); однако со временем
они стали допускаться к поцелую только после
коленопреклонения—до тех пор пока в Византии sa-
lutatio не стало всегда включать в себя adoratio,
состоящее в целовании колен и рук.
Особый интерес представляет собой пространное
описание обычаев и знаков власти, которое Алфёлди
многозначительно посвящает памяти Теодора
Моммзена — будто своим анализом церемониала
он возмещает недостающую часть «Staatsrecht». Здесь
открывается сфера, определение которой и есть
подлинная ставка в игре в исследовании, хотя сам автор
будто бы не всегда полностью отдает себе в этом
отчет. Алфёлди показывает, каким образом имперское
одеяние, которое в начале принципата ничем не
отличалось от простой тоги римского гражданина,
постепенно принимает черты облачения, которое
победоносный магистрат носил во время триумфального
шествия, а в более поздний период —на постоянной
основе начиная с Коммода — вид военной формы,
с paludamentum и латами (lorica). В то же время
лавровый венок #*г/пгш/?ЛяЯг становится, как
свидетельствуют многочисленные скульптурные артефакты,
техническим атрибутом верховной власти: позднее,
главным образом на монетах, его заменит испускаю-
294
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
щий лучи венец (который, в отличие от лаврового
венка, никогда не мог быть надет в
действительности). Аналогичным образом sella curulis, на котором
восседали консулы, становится прерогативой
властителя, и по крайней мере со времен Калигулы будучи
вознесенным на подиум, курульное кресло
постепенно превращается в трон (basileios thronos, hedra basilikê).
Между тем технико-юридическое значение этих
трансформаций имеет основополагающий
характер. Речь действительно идет не об обычной страсти
к роскоши и пышности или о банальном
стремлении выделяться среди простых граждан, но о
сфере, структурно присущей верховной власти,
которую ученые затрудняются ухватить, всякий раз
прибегая к таким неизбежно туманным
формулировкам, как «церемониал», «инсигнии или знаки
господства» (Herrschafiszeicheri) или «символы власти
или Государства» (Machtsymbole, Staatssymbolik). Так,
еще Моммзен отметил, что начиная с III века
«пурпурное военное одеяние становится символом
монархии» (Mommsen I, P. 433)- Но что здесь означает
«символ»? Техническое значение таких предметов,
как ликторские пучки в римском публичном
праве или корона в средневековом праве, известно уже
давно, однако юридическая теория, способная
точно определить их область влияния и значение, все
еще отсутствует.
Обратимся к проблеме mutatio vestis, в связи с
которой император сменяет гражданскую тогу на palu-
damentum insigne командующего войском.
Понимать этот процесс (как это делает Алфёлди) лишь
как следствие утверждающегося примата армии
над властью сената или рассуждать в контексте
разговора о церемониале о противопоставлении права
и власти —еще не значит прояснить что-либо в
отношении его особого значения. Действительно, нам
295
ЦАРСТВО И СЛАВА
известно, что уже в период республики отношение
противопоставления между тогой и paludamentum
соответствовало разграничению междуротегшт и всей
остальной территорией, а значит,
непосредственным образом сказывалось на публичном праве.
Магистрат ни при каких обстоятельствах не мог
войти в Рим в военном одеянии: он был обязан sumere
togam до того, как пересечет границу. Таким
образом, тот факт, что император носил свой пурпурный
paludamentum в городе, свидетельствует не столько
о фактическом преобладании власти армии, сколько
в первую очередь о неопределенности формального
разграничения между консульской и
проконсульской властью, ротегшт и территорией, правом мира
и правом войны. Mutatio vestis, таким образом,
оказывает непосредственное перформативное
воздействие на публичное право. Лишь в этой перспективе
становится понятно, почему в Византии
церемониал, связанный с одеянием императора, был вверен
особому ведомству, называемому mêtatôrion, где
высокопоставленные чиновники чутко следили за тем,
чтобы всякой функции или ситуации строго
соответствовал определенный наряд. И, лишь учитывая
юридическое значение пурпурного цвета как
символа верховной власти, можно понять, как
сложилось так, что начиная с IV века производство
пурпура в Риме было национализировано, а владение им
в частном порядке могло быть расценено как
преступление в оскорблении величества (Alföldi. Р. 169).
Подобные рассуждения можно развернуть
и по поводу сложного протокола,
регулирующего, помимо proskynêsis, отношение между стоячим
и сидячим положением во время публичных
появлений императора. Здесь, опять же, вместо того
чтобы усматривать в позе лишь символическое
выражение ранга, необходимо уяснить, что скорее
296
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
сама поза непосредственно устанавливает иерархию.
Как у Псевдо-Дионисия божественность не
проявляется в иерархии, но сама уже есть ousia и dynamis,
слава, сущность и сила небесных и земных иерархий
(Е. Н., 378а) — так и верховная имперская власть в
самих своих проявлениях, в своих жестах и убранстве
являет собой иерархический церемониал и эмблему.
7-6. Эмблемам и символам власти посвящено
монументальное исследование Эрнста Перси Шрам-
ма, историка, снискавшего себе известность и за
пределами узкоакадемической сферы благодаря
изданию «Tischrede» Адольфа Гитлера. В предисловии,
а также во введении к трем томам «Herrschaftszeichen
und Staatssymbolik» он настаивает на необходимости
освободить область собственных изысканий от
влияния тех «романтиков— чтобы не сказать хуже,
—которые в знаках верховной власти ищут то, что, по их
мнению, составляет „дух Средневековья"» (Schramm.
Vol. I. P. IX), и отказаться, по причине их
неоднозначности, от таких терминов, как «инсигнии» и
«символы», которым он предпочитает вовсе не обязательно
более точные «знаки господства» (Herrschqftszekheri)
и «символику Государства» {Staatssymbolik) (Ibid.).
Хотя Шрамм неоднократно останавливается
на предостережениях терминологического и
методологического толка и по аналогии с варбургиан-
скими Patosformeln11 говорит о «формулах величия»
п. Patosformeln — «формулы пафоса», или «патетические
формулы»; это понятие, введенное Аби Варбургом, означает ар-
хитипически устойчивые образы, выражающие особенно
насыщенные психологические эмоции. Они берут начало
в античности и проходят через всю историю искусств; их
можно определить как «эмоционально заряженные
визуальные тропы», которые могут менять свой
символический смысл в разных исторических контекстах.
297
ЦАРСТВО И СЛАВА
{Majestätsformeln) и об «образах-моделях» (Bildmodel),
книга по сути представляет собой огромную поэму,
посвященную знакам власти. Почти на 1200
страницах исследования ничто, или почти ничто не
уклоняется от экфрастической одержимости автора
и от скрупулезной каталогизации, проведенной его
помощниками: от триумфальной trabea римского
императора до митры и тиары понтификов и
правителей, от священного копья германских и лонго-
бардских королей до колокольчиков {tintinnabula)
на одеянии духовных лиц и царей, от бесконечно
разнообразных королевских и императорских
корон до богатой феноменологии трона во всех его
вариантах, от cathedra Petri до тронов английских,
арагонских, польских, шведских, сицилийских королей.
Особый интерес представляет раздел,
посвященный монограммам и печатям. К примеру, по поводу
печати Теодориха Шрамм делает следующее
наблюдение, которое следовало бы развернуты «Моно-
граммное потеп regium [...] представляет силу и
право так же наглядно, как это делает изображение:
монограмма не просто служит пояснением к образу,
она как бы несет в себе реальное присутствие
короля [stellt., den König dar]» (Ibid. Vol. I. P. 226). Во
втором томе особого внимания заслуживает раздел,
посвященный знаменам (bandum, vandum, banière)
и штандартам. Здесь отчетливо проявляются
характер и специфическая перформативная сила инсиг-
ний, в чем автор, увы, по всей видимости, не вполне
отдает себе отчет. Он ссылается на работы историка
права Карла Эрдмана, доказавшего, что особая сила
знамени не заключена в знаках отличия или
цветах, которые оно содержит, но проистекает из
самой вещи. Поэтому «нельзя допустить, чтобы
корона или знамя короля были потеряны; королевская
честь может быть уязвлена и через знамя, и через ко-
298
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
рону, [...] знамя может исполнять роль суверена,
оно показывает, где правит установленный им мир
и до каких пределов простирается его власть» (Ibid.
Vol. 2. Р. 653).
В начале этого исследования автор выразил
надежду, что из «трактовки знаков власти, которая
до сих пор была произвольной и
субъективистской», может родиться точная и строгая наука
—наподобие тех наук, к которым нас приобщило
историческое исследование. Заключение в конце книги,
где Шрамм пытается уточнить Grundbegriffe (Ibid.
Vol. 3- P. 1068), служившие ориентирами в его труде,
свидетельствует о том, что эта задача так и не была
выполнена. Если на титульном листе первого тома
в качестве эпиграфа к своему исследованию он
помещает гётевское определение символа («Символ есть
вещь, которая, не будучи вещью, есть все же вещь,
образ, схваченный в духовном зеркале и все же
идентичный со своим объектом»), то теперь он цитирует
отрывок из Гегеля, в котором символическое
определяется как «нечто неясное —и тем более неясное,
чем больше форм мы научаемся познавать» (Ibid.
Vol. 3- P. 1065). Шрамму так и не удается преодолеть
неясность и двусмысленность этих понятий. Наука
о знаках власти все еще ждет своего обоснования.
77- Науку, именуемую «археологией права»,
предложил Карл фон Амира, историк,
скомпрометировавший себя отношениями с нацизмом, которого
Шрамм упоминает в своем исследовании.
Наглядным примером археологического метода Амира
является эссе о ручных жестах на миниатюрах
средневекового кодекса, известного под названием Sachsenspiegel:
характерная для этих изображений избыточная
мимика сравнивалась с жестикуляцией
неаполитанского народа, описанной де Йорио. В споре между теми,
299
ЦАРСТВО И СЛАВА
кто, подобно Якобу Гримму, рассматривал фигурки
на миниатюрах исключительно в перспективе
истории искусства—-как «символику художника»
(Symbolik des Künstlers), и теми, кто, напротив, видел в них
выражение подлинно юридической мимики, Амира
уверенно избирает срединный путь, привлекая ресурсы
обеих дисциплин. Так, он разграничивает подлинные
жесты (echteHandgebärden), где рука непосредственно
является символом духовного процесса, и жесты
неподлинные, где рука есть лишь «инструмент
символа», направленный не на действительное изъявление
воли, а на то, чтобы сделать видимым то или иное
социальное свойство личности (Amira. P. 168).
Внимание ученого полностью сосредоточено на первых, с
целью выяснить, в какой мере жесты на миниатюрах
всякий раз могут быть достоверно отнесены к
юридической символике.
Разграничение между подлинными (или
чистыми) жестами и жестами неподлинными
подсказывает концептуальное направление исследования,
которое Амира, озабоченный исключительно
распознаванием случаев юридического
использования этих жестов, оставляет без внимания. Одной
из наиболее интересных мимических категорий,
выделенных в этом сочинении, является жест,
сопровождающий речь, —лингвистический жест (Redegestus).
Такой жест берет начало в ingens manus,
выражавшей особую эффективность имперской власти (рука
с раскрытой ладонью, поднятая и согнутая в локте
под более или менее прямым углом), а затем
сливается с жестами, которые, в соответствии с древней
риторикой, должны были сопровождать actio
оратора, чтобы затем закрепиться в том жесте
благословляющего Логоса, которому суждено было
обрести столь важное значение в христианской литургии
и иконографии (benedictio latina с вытянутыми боль-
Зоо
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
шим, средним и указательным пальцами и
согнутыми двумя другими, или же вариант, известный
под названием benedictio graeca, где вытянут также
и мизинец). Квинтиллиан, который в своих
«Institutions oratoriae» досконально описывает
лингвистический жест во всех его возможных вариантах,
пишет о его несомненной эффективности, ведь здесь
говорят сами руки («ipsae loquuntur», и, з, 85).
Невозможно было бы более точно определить
могущество лингвистического жеста, которое не сводится
ни к скандированию, ни к простому приданию
выразительности речи: там, где жесты становятся
словами,—слова становятся действиями. Мы оказываемся
здесь перед лицом феномена, который
соответствует, хоть и под видимостью обратного процесса, тому
нерасторжимому сплетению слов и действий,
реальности и значения, которое определяет сферу языка,
именуемую лингвистами перформативной и
обретшую философский статус благодаря книге Остина
«How to do things with words»12 (1962).
Действительно, перформативным является такое
лингвистическое высказывание, которое непосредственно
представляет собой также и реальное действие, поскольку
его значение совпадает с той реальностью, которую
оно само производит.
И все же, каким образом перформатив получает
свою особую действенную силу? Что позволяет той
или иной синтагме (например, «я клянусь»)
обрести статус действия — в противоположность
старинной максиме, согласно которой между словом и
делом пролегает пропасть? Лингвисты молчат на этот
12. Ср.: Дж. Остин. Как производить действия при помощи
слов//Его же. Избранное: пер. с англ. Л.Б.Макеевой,
В.П.Руднева. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной
книги, 1999- С. 13-135-
301
ЦАРСТВО И СЛАВА
счет, будто оказавшись перед лицом последнего,
подлинно магического слоя языка. Для того чтобы
ответить на эти вопросы, прежде всего следует
вспомнить, что перформатив всегда конституируется
посредством приостановки нормальной денотативной
функции языка. Перформативный глагол
действительно всегда образуется посредством dictum,
который сам по себе имеет чисто констативную природу
и без которого этот глагол лишен смысла и
недействителен («я клянусь» имеет смысл лишь в том
случае, если за ним следует или ему предшествует
dictum, например «...что вчера вечером я был в Риме»).
Именно эта нормальная денотативная функция
dictum приостанавливается и некоторым образом
преобразуется в тот самый момент, когда он становится
предметом перформативной синтагмы.
По сути дела, это означает, что перформативное
высказывание является не знаком, а сигнатурой,
которая помечает dictum, приостанавливая его
обычную функцию и помещая его в новую,
неденотативную сферу, которая заменяет собой первую. Именно
в этом смысле нам следует понимать жесты и знаки
власти, которыми мы здесь занимаемся. Они
являются сигнатурами, которые вступают в тесную связь
с другими знаками или объектами, сообщая им
особого рода действенность. Поэтому вовсе не
случайно, что сфера права и сфера перформатива всегда
тесно сопряжены друг с другом и что в действиях
правителя жест и слово обладают непосредственной
действенной силой.
7-8. Эмблемы власти существовали не только
в имперскую эпоху. Римская республика знала
предмет, в котором специфическая природа эмблемы
явлена с особой очевидностью. Речь идет о ликторских
пучках [фасций. — Примеч. пер.]> о которых по лю-
302
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
бопытному совпадению не упоминают ни Алфёлди,
ни Шрамм. Их история, ведущая свое начало со
времен монархии, достигает своего апогея в
республиканскую эпоху и продолжается, хоть и в тени, в
период империи. Как известно, они, подобно laudes regiae,
переживают свое временное возрождение в XX веке.
Они состояли из вязовых или березовых прутьев
длиной примерно метр тридцать, перетянутых
красным ремнем, с воткнутым сбоку топором. Право их
ношения было закреплено за представителями
особой гильдии —так называемых ликторов, бывших
одновременно писцами и палачами, носивших фасции
на левом плече. Во времена республики — период,
о котором мы наиболее полно осведомлены, —
ношение фасций было прерогативой консула и
магистрата, наделенного Imperium. Ликторы в количестве
двенадцати человек должны были сопровождать
магистрата при любых обстоятельствах, а не только
на публичные мероприятия. Когда консул
находился у себя дома, они были в его передней; когда он
выходил, отправляясь в термы или театр, они
неизменно следовали за ним.
Бытующее по сей день определение фасций
как «символа imperium» ничего не проясняет в
отношении их природы и их специфической
функции. Столь мало символичным было их значение,
что они служили материальным инструментом
смертной казни в двух ее формах —порки (прутья)
и обезглавливания (топор). Мы начнем осознавать
подлинную функцию фасций, когда подробно
рассмотрим, каким образом они были связаны с
imperium. Эта связь непосредственным образом
определяет природу и эффективность imperium. Если в силу
очередности консул не осуществлял свой imperium,
он не имел права ношения фасций. (Когда в 19 году
до н.э. Сенат предоставил Августу, лишенному
3°3
ЦАРСТВО И СЛАВА
на тот момент консульского Imperium, право
ношения фасций, это событие положило начало
инволюции, которая окончательно свершилась лишь в
имперскую эпоху.) Особенно знаменательным является
то обстоятельство, что топор должен был быть
извлечен из фасций магистрата, когда он
находился в пределах померия, ибо в этом случае ius necis13,
неотделимая от Imperium, была ограничена правом
апеллировать к народу против смертного
приговора, которым располагал всякий римский гражданин.
По этой же причине магистрат должен был опускать
фасции перед народным собранием.
Фасции не символизируют imperium: они его
осуществляют и детерминируют таким образом, что
всякой его юридической форме соответствует их
конкретная материальная конфигурация, и
наоборот. Поэтому fasces attollere означает вступить в
должность магистрата — точно так же, как распускание
фасций означает отстранение магистрата от
должности. Эта связь между фасцией и imperium была
настолько прямой и абсолютной, что между
магистратом и его ликтором никто не мог выступить
посредником (за исключением сына, не достигшего
половой зрелости, который, согласно римскому праву,
уже подчинялся ius necisque potestas14 отца). По той же
причине ликтор в некотором смысле лишен
собственного существования: кроме того, что его
одеяние полностью соответствует одеянию
сопровождаемого им магистрата (военный sagum за пределами
померия и тога внутри стен), сам термин lictor
является синонимом fasces.
13. Сокращенный вид синтагмы^/ш vitae ас necis, «право
распоряжаться жизнью и смертью»; то есть дословно «право
распоряжаться смертью».
ц. Зд.: право и власть над смертью (лат.).
3°4
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
Особенно показательно то, каким образом
фасции соотносятся с феноменом, сыгравшим
решающую роль в становлении имперской власти. Речь идет
о триумфе, который, как мы уже показали,
непосредственным образом связан с аккламациями. Запрет
на ношение фасций внутри стен Рима
действительно имеет два важных исключения: в случае
диктатора и в случае торжествующего генерала. Это
означает, что триумф заключает в себе стирание
различия domi-militae, благодаря которому с точки зрения
публичного права территория города
отграничивается от прочих земель Италии и провинций. Нам
известно, что магистрат, запросивший разрешение
на проведение триумфа, должен был ожидать
решения сената за пределами померия, в Кампо-Мар-
цио; в противном случае он безвозвратно терял право
на проведение триумфа, которым мог обладать лишь
победоносный генерал, действительно наделенный
imperium — то есть являющийся в сопровождении
фасций. Фасции и imperium в очередной раз
демонстрируют здесь свою единосущность. В то же время триумф
оказывается своего рода зачатком, из которого
разовьется имперская власть. Если технически триумф
можно определить как распространение на
территорию померия прерогатив, которыми imperator
обладает лишь за его пределами, новая имперская власть
будет определяться именно как расширение и
закрепление триумфального права в новой фигуре. И если,
согласно прозорливой формуле Моммзена,
централизация imperium в руках принцепса превращает
триумф в исключительное право императора {kaiserliches
Reservatrecht'. Mommsen. Vol. I. P. 135) — то ровно так же
и император может быть определен как некто
обладающий исключительным правом на триумф и
непреходящим образом владеющий его инсигниями
и прерогативами. Феномен jus triumph^ который обыч-
3°5
ЦАРСТВО И СЛАВА
но рассматривается как нечто касающееся
исключительно формального аппарата и церемониального
аспекта власти, оказывается подлинным
юридическим ядром сущностной трансформации римского
публичного права. То, что казалось лишь вопросом
одеяния и пышного облачения (пурпурная мантия
торжествующего генерала, лавровый венок,
покрывающий его лоб, топор как символ власти над
жизнью и смертью), становится ключом к пониманию
основополагающих изменений в конституции.
Таким образом открывается путь к более точному
уяснению значения и природы инсигний и аккламаций
и —в более общем плане —к пониманию сферы,
которую мы определили термином «слава».
7-9- В первой половине X века император
Константин VII Порфирогенит собирает и объединяет
в обширном трактате традиции и предписания,
связанные с имперским церемониалом {basileios taxis).
Во введении Константин характеризует свое
предприятие как «самое сокровенное и горячо желаемое,
ибо через хвалебный церемониал имперская власть
предстает более упорядоченной и
величественной» {Const. Porph. Сег. I, P. i). С самого начала,
однако, понятно, что цель этой гигантской
хореографии власти не является чисто эстетической. Речь,
по словам императора, идет о том, чтобы поместить
в центр царства своего рода оптический диспози-
тив, «кристально чистое зеркало, чтобы,
внимательно созерцая в нем образ имперской власти [...],
можно было направлять ее бразды с толком и
достоинством» (Ibid. I. P. 2). Нигде церемониальное безумие
власти не достигало столь обсессивной
литургической взыскательности, как на этих страницах. Нет
такого жеста, предмета одежды, украшения, слова,
паузы, места, которое уклонилось бы от ритуальной
Зоб
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
кристаллизации и дотошнейшей каталогизации. In-
cipit каждой главы неизменно повествует о том,
«какие правила необходимо соблюдать» (hosa dei para-
phylattein) в той или иной ситуации, что необходимо
знать (isteon) и какие аккламации (aktalogia)
произносить на том или ином празднестве, шествии или
собрании. Бесконечная иерархия функционеров и
служащих, разделенных на два больших
класса—«бородачей» и «евнухов», —следит за тем, чтобы протокол
был соблюден и чтобы он задавал событию должный
тон в каждый момент времени. Остиарии
вызывают к выходу дигнитариев, а силенциарии отвечают
за тишину и эвфемии в присутствии правителя; ман-
главиты и гетерии конвоируют его на
торжественных шествиях; диетарии и вестиарии (bestêtores) несут
личное служение; картуларии и протонотарии
занимаются сигнатурами и канцелярией. Вот как
открывается описание церемонии коронации императора:
Когда приготовления окончены, император,
облачившись в свой пурпурный скарамангий и сагищ
выходит из Августея в сопровождении препози-
тов и доходит до самой приемной, именуемой
Onopodion; здесь первыми его встречают патри-
кии. Распорядитель церемониями говорит:
«Возглашайте [Keleusate]\>> Тогда они возглашают:
«На долгие и благие времена [Eis pollous kai aga~
thous chronous]\» Затем они следуют до большого
Консистория, где стоят консулы и прочие члены
синклита. Владыки останавливаются под
балдахином, а синклитики и патрикии падают на
колени. Когда же все встают, владыки подают знак
препозиту в Священной Опочивальне, и
силенциарии говорит: «Возглашайте!», и они
возглашают: «На долгие и благие времена!». Затем
царская процессия движется в храм, проходя мимо
3°7
ЦАРСТВО И СЛАВА
Схол, а караул в парадных одеяниях остается
на своих местах, только творя крестное знамение.
И когда император входит в Орологий,
завеса поднимается, и он входит в Мутаторий, там
он меняет прежнее одеяние на дивитисий и цика-
кий, а сверху набрасывает сагий, потом выходит
вместе с патриархом. Он зажигает свечи в
серебряных воротах, проходит вдоль центрального нефа,
затем вдоль солеи, молится перед святыми
вратами при зажженных свечах и потом вместе с
патриархом всходит на амвон. Тогда патриарх
совершает молитву над хламидой, и после окончания
молитвы кувуклии поднимают хламиду и
надевают на императора. Патриарх совершает молитву
над венцом владыки и по окончании ее сам
поднимает венец [stemmà] и возлагает на голову
императора. Тотчас же народ [laos] восклицает [anakrazei]
трижды: «Свят, Свят, Свят [Hagios, Hagios, Hagios]\
Слава Господу в вышних [Doxa en hypsistois] и мир
на земле!» А потом: «Многая, многая лета
самодержцу [autokratoros] и великому царю!» — и далее
по порядку. С венцом император входит в
Мутаторий, а выйдя оттуда, садится в царское кресло
[sellion]; тогда входят чины [ta axiômata], падают
ниц и целуют колени императора. Первыми
входят магистры; затем патрикии и стратеги.
Третьими входят протоспафарии; четвертыми
—логофет, доместики эскубиторов, хиканатов и чисел,
спатари, входящие в синклит, и консулы.
Пятыми входят спатари; шестыми — меченосцы;
седьмыми—комиты [komêtes] Схол; восьмыми
—кандидаты кавалерии; девятыми — писцы и доместики;
десятыми —секретари, вестиарии и силенциарии;
одиннадцатыми — имперские мандатарии и
кандидаты пехоты; двенадцатыми —комиты арифмо-
са, хиканаты, трибуны и комиты флота.
Тогда препозит возглашает: «Повелите!», и все
отвечают возгласом: «На долгие и благие
времена!» [Ibid. 1. Р. 47]-
3о8
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
уло. Едва ли нужно оговаривать первостепен-
ность роли, которую аккламации играют в
имперских церемониях и в литургии. Поскольку они
составляют основную часть всякой церемонии,
в трактате Константина VII сказано, что, если ими
не занимается распорядитель церемониями или си-
ленциарий, за них отвечает особый класс служащих,
называемых kraktai (букв, «крикуны»), которые,
действуя наподобие клакёров (или, скорее, пресвитеров,
запевающих псалмодию во время богослужения),
скандируют их вместе с народом в форме респонсо-
риев15. Так, во время рождественского шествия, в тот
момент, когда правители входят в Лихны,
kraktai кричат: «Polla, polla, polla [Многая, многая,
многая (имеется в виду «лета»)]», а народ [laos]
отвечает: «Polla été, eis polla [Многая лета, на
многая лета]». И вновь kraktai возглашают: «Многая
лета вам, всемогущий Господь!»; а народ
восклицает трижды: «Многая лета вам». Тогда kraktai
возглашают: «Многая лета вам, слуги Господни»,
а народ восклицает трижды: «Многая лета вам».
Затем kraktai кричат: «Многая лета вам —такой-то
и такой-то, самодержцы римские», и народ
трижды ему вторит: «Многие лета вам». Kraktai
кричат: «Многая лета вам, такой-то и такой-то —
первейшие из римлян», а народ возглашает трижды:
«Многие лета вам»... [Ibid. I. 2. Р. 30].
Значимым, хоть и сперва озадачивающим
представляется тот факт, что подобная ритуализация
аккламаций имеет место и в случае скачек на ипподроме.
Там крикуны также скандируют: «Многая, многая,
многая», а народ отвечает, в точности как на рожде-
15- Responsorium — жанр монодического песнопения в
католической литургии (лат.).
3°9
ЦАРСТВО И СЛАВА
ственской службе, «Многие лета, и еще, и еще
многие лета», вместо имени императора скандируя имя
победителя скачек. Дело в том, что в Византии еще
со времен Юстиниана две фракции, на которые
разделяются зрители на ипподроме — Синие и
Зеленые — имеют ярко выраженный политический
характер: более того, они являют собой единственную
форму политического выражения, все еще
доступную народу. Поэтому неудивительно, что
спортивные аккламации подлежат тому же процессу ри-
туализации, который характеризует императорские
аккламации, и что, кроме того, именно в период
царствования Юстиниана девизом мятежа,
охватившего город почти на целую неделю, была
спортивная аккламация (nika, «побеждай!»; точно так же
в наши дни крупная политическая партия в Италии
избрала в качестве названия аккламацию,
выкрикиваемую на стадионах16).
Алфёлди показывает, что этим аккламациям,
звучавшим на византийских ипподромах,
соответствуют аналогичные аккламации, бывшие в ходу в еще
более ранний период в Риме, о которых у нас
осталось много подробных свидетельств. Дион Кассий
сообщает, что, хотя в них участвовали тысячи
рукоплещущих людей, они не произносились
беспорядочно: они скорее походили, согласно чуткому
наблюдателю, каковым был Дион Кассий, на
«слаженный, хорошо подготовленный хор [hôsper tis ak-
ribôs choros dedidagmenos]» (Alfôldi. P. 81). Именно
через такого рода аккламации толпа на стадионах
будет обращаться к императору и императрице,
будто подчиняясь удивительной хореографии, подобно
i6. Речь идет о партии «Forza Italia» («Вперед, Италия»),
лидером которой с момента ее основания в 1994 г« является
Сильвио Берлускони.
ЗЮ
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
разноцветной волне охватывающей и оживляющей
зрительские трибуны:
Внезапно раздается гвалт ликования: простой
люд кричит что есть мочи, желая принцеп-
сам счастливых и долгих лет. «Да
здравствует Иустин и августейшая София!» —раздается
со всех сторон. Слышны рукоплескания и
возгласы радости, ряды зрителей поочередно вторят
друг другу. Все одновременно поднимают и
опускают правую руку. На всем стадионе народ сег-
tatim micat (трепещет), и повсюду прокатываются
густые волны белоснежных рукавов (manicis alben-
tibus). Все начинают петь, и всеобщее пение
сопровождает движение... [Ibid. P. 82.]
Алфёлди, уделяющему большое внимание
политическому значению аккламаций, все же не
удается определить их специфическую природу. Вообще
в проявлении аккламативного и церемониального
аспекта власти и одновременном возвышении
правителя над общностью граждан он видел действие
элемента, некоторым образом
противоположного праву:
Наряду с юридическим оформлением власти
императора мы видим действие иного
принципа, лежащего в основе имперского
всемогущества, — принципа не объективного и
рационального, но субъективного и воображаемого. В нем
находит выражение не разум, но чувство [Ibid.
Р. 186-187].
Тем не менее, ниже он вынужден признать, что
такие феномены, как аккламации, не могут быть
правильно истолкованы до тех пор, пока их
рассматривают исключительно как субъективную форму
преклонения:
311
ЦАРСТВО И СЛАВА
Совершенно ошибочно видеть в них нечто вроде
пустого личного угодничества, ведь восхваление
всецело объективно обусловлено. Официальные
речи принцепса, как и обращенные к нему
аккламации, обнаруживают те же формальные
ограничения, которые характерны для поэзии и
искусства [Ibid. P. 188.]
В конце своей работы 1935 г°Да он будто бы
противопоставляет в рамках процесса, ведущего к
созданию имперского Государства, право (Recht) и власть
(Macht), «которые соответственным образом находят
свое воплощение в армии и в сенате, сообщающих
власти реальное могущество [Gewalt] и формально ее
утверждающих» (Р. 272). Но простое
противопоставление силы и формального утверждения оставляет
в тени тот принципиально важный факт, что здесь
мы имеем дело с двумя процедурами легитимации,
каждая из которых в конечном счете принимает
форму аккламации. Столь же необоснованно
противопоставление юридического и религиозного
элементов (P. i86), поскольку аккламация как раз и есть
то место, в котором они, по всей видимости,
полностью совпадают. Более справедливым
представляется замечание по поводу пурпурного одеяния
императора, которое Алфёлди, впрочем, не развивает:
«теперь юридическим обоснованием верховной
власти служит не auctoritas оптиматов и не consensus
народа, а этот священный символ власти
[diesesgeheiligte Machtsymbol]» (P. 169).
Иными словами, аккламация отсылает к более
архаичной сфере, напоминающей ту, которую Жерне
не самым удачным образом определил как допра-
вовую, где феномены, которые мы привыкли
рассматривать как юридические, развертываются в
религиозно-магических формах. Здесь следует вести
312
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
речь не столько о хронологически более раннем
этапе, сколько о не прекращающем действовать
пороге неразличимости, где юридическое и
религиозное полностью сливаются друг с другом. Подобным
порогом является то, что мы когда-то определили
как sacertas, где двойное исключение — и из
человеческого права, и из права божественного —
определило возникновение фигуры homo sacer, значение
которой для западной политики и права мы
попытались выявить. Если теперь мы назовем «славой»
неопределенную зону, в пределах которой
действуют аккламации, церемонии, литургия и инсигнии,
то перед нами откроется обширное и не менее
плодотворное поле для исследований, которое, по
крайней мере частично, остается пока неизученным.
7-11. Истории одной литургической
аккламации Канторович посвятил образцовое исследование
«Laudes regiae», опубликованное в 1946 году, но
написанное по большей части между 1934 и *94° годами,
когда ученый, который в двадцатилетнем возрасте
сражался против рабочих революционных советов
в Мюнхене, уже фигурировал среди displaced foreign
scholars (именно в таком качестве он получает в
Беркли специальную субсидию на завершение
исследования). В книге представлена история одной
аккламации, точнее — лауды или laetania,
открывающейся формулой «Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat»17, которая использовалась в галлофранк-
ской церкви начиная с VIII века и затем
распространилась по всей Европе в разных вариантах.
Особенность этой длинной аккламации, обращенной к
Христу Триумфатору, царю и императору, состоит в том,
17. Христос побеждает, Христос царствует, Христос владыче
ствует (лат.).
3*3
ЦАРСТВО И СЛАВА
что она связывает с божественной фигурой не
только имена святых, но также имена понтифика и
императора. После трехкратного воззвания Христа
Триумфатора следует повторяющаяся аккламативная
формула exaudi; формулой типа vita сначала
приветствуется понтифик, а затем император («Leoni sum-
mo pontifici et universali pape vita/Carolo excellentissi-
mo et a deo coronato atque magno et pacifico régi Fran-
corum et Longobardorum ac Patricio Romanorum vita
et victoria»18). После длинного списка имен ангелов
и святых (которые приветствуются формулой типа
«Sancte Gabrihel, Sancte Silvestre tu ilium adiuva»19),
в аккламации неожиданно упоминаются
функционеры и имперская армия («omnibus iudicibus vel cun-
cto exercitui Franco rum vita et victoria»20). В этот
момент трижды звучит триколон Christies vincit... régnât...
imperat, после чего следует серия христологических
аккламаций «военного» типа (Rexregum, gloria nostra,
fortitudo nostra, victoria nostra, arma nostra invictissima, mu~
rusnosterinexpugnabilis21 и т.д.), происхождение
которых Канторович возводит к языческим имперским
аккламациям, о которых свидетельствует «Historia
Augusta». Далее следует серия доксологий и
хвалебных гимнов, обращенных ко второй ипостаси
Троицы, после чего в конце звучит призвание Christe eleison
и заключительные аккламации Féliciter féliciter féliciter,
18. «Льву, Великому Понтифику, жизнь/Карлу,
превосходнейшему и Богом венчанному, великому и миролюбивому
царю Франков и Лангобардов, Патрицию Римлян жизнь
и победа» (лат.).
19. «Святой Гавриил, Святой Сильвестр, ты окажи ему помощь»
(лат.).
20. «Всем судьям и всему войску Франка жизнь и победа» (лат.).
21. «Царь царей, наша слава, наша сила, наша победа, наше самое
непобедимое оружие, крепость наша неодолимая» (лат.).
ъч
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
tempora bona habeas, multosannos, входившие, насколько
нам известно, в число аккламаций, которыми
приветствовались римские императоры.
Аккламации, беспорядочно смешивающей небеса
и землю, ангелов и чиновников, императора и
понтифика, было суждено сыграть важную роль во
взаимопроникновении власти мирской и власти
духовной, придворного протокола и литургии. Особенно
познавательно проследить вслед за Канторовичем
непрерывные переходы этой аккламации из одной
сферы в другую. Прежде всего она возникает на
основе того, что Канторович назвал «каролингской
политической теологией» {Kantorowicz 2. Р-59)>
единственно в контексте которой полностью
проясняется ее смысл. Со времен Пипина эта политическая
теология развивается как восстановление
библейской царственности {Regnum Davidicum) в противовес
римской императорской власти и достигает своей
высшей точки во введении библейского ритуала
помазания на царство. Таким образом, каролингские
правители осуществляют нечто вроде «литургиза-
ции» мирской власти, в контексте которой и следует
рассматривать возникновение Laudes regiae. Эти лау-
ды «представляют собой один из первых и наиболее
значимых проявлений новой тенденции к
иерархической теократии. В этом песнопении, являющем
собой произведение утонченной художественной
техники, порядок должностей на земле —как мирских,
так и церковных —и иерархия небесных
посредников отражают друг друга и друг в друге
растворяются» (Ibid. P. 61-62).
Рассматривая последующее развитие Laudes
в римской литургии, Канторович выявляет в них
элементы, несомненно имеющие своими
истоками языческие аккламации. Имперский церемониал
языческого Рима в самом деле был поступательно
315
ЦАРСТВО И СЛАВА
«литанизирован» и превращен в нечто вроде
божественной службы, неотъемлемой частью которой
были аккламации. В напряженном взаимообмене
между сферой религиозного и мирского
аккламации, которые вначале еще сохраняли элементы
импровизации, постепенно обретали застывшую форму
в рамках процесса, в котором церковная литургия
и светский протокол взаимно усиливали друг друга.
Сколь бы литургическая сфера ни была богата
заимствованиями из придворного лексикона, язык
имперского церемониала
выкристаллизовывался по мере того, как его терминология
пропитывалась церковным духом. Формула,
использовавшаяся при дворе для роспуска дигнитариев
(Ite missa est), звучала тем более торжественно,
что она воспроизводила слова, которыми
завершалась служба. Подобным образом и
трансформация призыва Exaudi Caesar в Exaudi Christe
соответствовала смещению hic et nunc в
трансцендентный план, за пределы времени и движения.
[Ibid. P. 66.]
Именно в этом контексте лауды становятся частью
ритуала императорской коронации на Западе. В
Византии еще в 45° Г°ДУ Маркиан организовал
церемонию собственной коронации таким образом,
что помимо провозглашения со стороны сената и
армии ключевая роль в ней была отведена Церкви.
Но на Западе коронация правителей перешла в руки
клира лишь во времена Пипина и Карла Великого.
«Таким образом, признание со стороны Церкви
приобрело такое значение и силу, что согласие со
стороны прочих учредительных властей — и прежде
всего со стороны народа, выражающего его с помощью
аккламаций, — отошло на второй план по
сравнению с ролью клира» (Ibid. P. 78-79)- На торжествен-
3i6
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
ной церемонии коронации Карла Великого в Риме
в Рождество 8оо года лауды играли определяющую
роль: технико-юридический характер этой роли,
хоть и не без некоторых колебаний, Канторович
и пытается уточнить. Безусловно,
хвалебное песнопение во время великой службы,
следовавшей за коронацией, непременно
транслировало мысль о том, что Церковь не только
провозглашала, утверждала и признавала нового
правителя, но что посредством ее заступничества
небеса выражали одобрение в отношении нового
a Deo coronatus. Песнопение выражало тот факт,
что новый царь провозглашался и хором ангелов
и святых, и самим Христом, который в своем
качестве триумфатора, царя и императора
признавал в новом christus, помазанном Церковью,
равного себе по власти. [Ibid. P. 8i-8i.]
По мнению Канторовича, речь никоим образом
не идет о простой аллегории, но —в той мере, в
какой вообще можно говорить о «реализме» в
средневековой культуре, — о совершенно
«реалистической» концепции. Миниатюра в рукописи Laudes
как нельзя лучше свидетельствует о том, каким об^
разом следует понимать удивительную действенную
силу этих песнопений: художник представил царя
в короне, со скипетром и державой, восседающим
на троне в форме большой X —первой буквы в три-
колоне «Xristus vincit». Regale carmen22, таким
образом, и есть сам трон величия.
Сколь бы ни было велико значение аккламации,
она не обладает, по мысли Канторовича,
учреждающей силой: все ее значение сводится к
официальному признанию.
22. Зд.: песнопение в честь царя (лат.).
зч
ЦАРСТВО И СЛАВА
Аккламация в хвалебных песнопениях
выражала признание легитимности царской власти.
Но речь шла об изъявлении второстепенном,
поразительном в его торжественности, но при этом
не носящем необходимый характер: с
юридической точки зрения литургическая аккламация
не несла в себе никакого элемента реальной
власти, который царь уже не получил бы через
избрание и утверждение [...]. Посредством этого
песнопения Церковь торжественно
провозглашала и утверждала государя. Однако определить
значение этого утверждения юридическими
критериями невозможно. [Ibid. P. 83.]
И — в умалчиваемой, но очевидной полемической
отсылке к Петерсону — Канторович отвергает тот
факт, что признание таковой легитимности
исходит от народа:
Нельзя смешивать воедино «народ» и «Христа».
Лауды выражают признание государя со
стороны видимой и невидимой Церкви, и потому
они не могут быть приравнены к «народной
аккламации» и тем более к «одобрению со
стороны народа». [...] Впрочем, лауды исполнялись
служителями церкви, а не народом. [Ibid. P. 82.]
В этом ограничении юридического значения laudes
существует, однако, важное исключение —
коронация Карла Великого в Риме. В описании этой
церемонии Канторович как нельзя ближе — насколько
это возможно в его случае—подходит к созданию
настоящей теории конституционально-правового
значения аккламаций.
Речь идет о событии, во всех смыслах
исключительном: то же самое можно сказать о его
церемониальной стороне. [...] Несмотря на неточ-
318
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
ность сохранившихся сведений, складывается
впечатление, что речь идет о двух различных
аккламациях: первая исходила от народа, а
вторая—от Церкви. Вопрос в том, чтобы на основе
двух основных источников установить,
возможно ли разграничить, с одной стороны,
аккламации «римских верующих», которые
возгласили, когда понтифик возложил корону на голову
Карла Великого, «Karolo piissimo Augusto a Deo
coronato magno et pacifico imperatori vita et
victoria»23, а с другой — собственно само хвалебное
песнопение, исполнением которого духовенство
утвердило аккламацию [...]
7.12. Ставкой в игре в интерпретации
Канторовичем laudes regiae выступает политическая теология.
Она объединяет книгу 1946 года и работу 1957 г°Да
«Два тела короля», согласно подзаголовку
являющую собой «очерк политической теологии
Средневековья». Если во втором случае речь шла о том,
чтобы через историю идеи мистического тела
короля проследить становление подлинного «мифа
Государства», то здесь главной задачей оказывается
попытка выявить через историю аккламации, в
которой литургические и светские элементы были
неразрывно переплетены друг с другом, истоки
имперской идеологии.
В соответствии с этими предпосылками
перевешивает анализ политико-теологического значения
laudes в ущерб анализу их собственно
юридического значения. Это особенно видно в заключительной
главе книги, посвященной «воспеванию современ-
23. «Карлу благочестивейшему Августу, Богом венчанному,
великому и миролюбивому императору жизнь и победа»
{лат.).
319
ЦАРСТВО И СЛАВА
ной эпохи». Между XIII и XVI веками
использование лауд в литургии и в церемониях коронации
начинает повсюду сходить на нет. Но они
неожиданно возрождаются в 20-х годах XX века,
реабилитированные теологами и музыковедами как раз
в тот момент, когда «в силу иронии, которую так
любит история» {Kantorowicz 2. Р. 184), европейскую
политическую сцену захлестнула волна
тоталитарных режимов. Они сыграли важную роль в момент
пересечения путей Пия XI, избранного
понтификом в феврале 1922 года, и Бенито Муссолини,
который приходит к власти в октябре того же года.
«На вызов со стороны фашизма папа, все же не
прерывая отношений, отвечает введением в 1925-м,
в конце Святого года24, нового праздника —
«Христа Царя». На торжественной мессе по случаю
этого праздника исполнялось Christi vincit... régnât,.,
imperat — песнопение, которое возродилось из
небытия в новой версии и тут же обрело
популярность. Начиная с этого момента, подчиняясь
логике непрерывного скольжения между священным
и мирским, характеризующего историю
аккламации, хвалебное песнопение перешло от верующих
к воинствующим фашистам, которые, помимо
прочего, использовали его в период гражданской
войны в Испании. Еще раньше, в 1929-м, министр
образования фашистской Италии включил laudes regiae
в официальный сборник «патриотических песен»,
в котором аккламация vita исходного текста
принимала форму «Régi nostro Victorio Dei gratia
féliciter régnante pax, vita et salus perpétua; Duci Benito
24. To же самое, что и Юбилейный год: в иудаизме наступал
один раз в 50 лет; год дарования евреям свободы. В
христианстве является прообразом времени пришествия
Мессии.
320
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
Mussolini italicae gentis gloriae pax, vita et salus
perpétua»25.
Воспроизводя эту новую, предельную версию
лауды в конце своей книги, Канторович отмечает,
что «аккламации являются необходимой
составляющей эмотивной стратегии [emotionalism], характерной
для фашистских режимов» (Ibid. R185). A в
примечании внизу страницы, посвященном нацистским
аккламациям, он делает последний иронический
выпад в сторону Петерсона, заявляя, что
аккламация Ein Reich, ein Volk, ein Führer, произнесенная в Вене
в 1938 году по случаю аннексии Австрии,
«восходит через Барбароссу [...] к аккламации Heis theos,
которую так блестяще проанализировал Петерсон»
(Ibid). Попытка исключить саму возможность
христианской «политической теологии», обосновывая
в славе единственное легитимное политическое
измерение христианства, опасным образом граничит
с тоталитарной литургией.
7.13. Как изыскания Канторовича, так и работы
Алфёлди и Шрамма показывают, что взаимосвязь
между теологией и политикой не носит
односторонний характер, но всегда действует в обоих
направлениях. Египтолог Ян Ассман, изучавший египетские
доксологии и по совету Якоба Таубеса
занявшийся исследованием политической теологии в
Египте и в иудаизме, переформулировал шмиттианскую
теорему, согласно которой «все ключевые понятия
современной политической науки [Шмитт
употребил термин Staatslehre, «теория Государства»] явля-
25. «Царю нашему Виктору, счастливо правящему по милости
Божьей, мир, жизнь и долгое здравие; Дуче Бенито
Муссолини, итальянского народа славе, мир, жизнь и
долгое здравие» (лат.).
321
ЦАРСТВО И СЛАВА
ются секуляризированными теологическими
понятиями», перевернув ее и заменив аксиомой, согласно
которой «ключевые понятия теологии являются
теологизированными политическими понятиями»
(Assmann. Р. 2о). Однако всякий перевернутый тезис
в некотором смысле сохраняет тайную связь с
исходным положением. Поэтому, вместо того чтобы
отстаивать один из двух тезисов, интереснее
попытаться понять функциональное отношение, в обоих
случаях связывающее между собой два принципа.
Слава именно и есть то место, в котором этот
двусторонний (или взаимооднозначный) характер
взаимосвязи теологии и политики проявляется с особой
очевидностью. Луи Брейе, одним их первых
обратившийся к изучению отношений между имперским
культом и церковной литургией, не без иронии
отмечает, что «когда папа в течение VI-VH веков
ездил в Константинополь, император прославлял его;
но и папа в свою очередь прославлял императора.
Точно так же в X веке император и патриарх
взаимно прославляли друг друга на встрече в соборе
Святой Софии» (Bréhier-Batiffol. Р. 59)-
Более оригинальной, или, скорее, более
значимой по своей сути, чем противопоставление
теологии и политики, духовной и мирской власти,
является слава, в которой они совпадают. То, что в аспекте
шмиттовской политической теологии (или ее
перевернутой версии, предложенной Ассманом )
представлялось четким разграничением между двумя
принципами, которые затем находили в
секуляризации (и в сакрализации) точку соприкосновения,
в перспективе славы — а также экономической
теологии, частью которой она является, — оказывается
в зоне неопределенности, в которой не всегда просто
провести границу между двумя элементами.
Теология славы в данном смысле являет собой тайное место
322
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
встречи теологии и политики, в котором они
непрестанно сообщаются друг с другом и меняются ролями.
В романе «Иосиф и его братья», доставившем
немало хлопот исследователям мифологии, Томас
Манн в какой-то момент говорит о том, что религия
и политика не являются чем-то абсолютно
раздельным, но что «на самом деле они меняются платьем»
(фраза стала отправным пунктом для исследований
Ассмана). Однако может статься, что этот обмен
возможен как раз потому, что за этим платьем не
скрывается никакого тела или субстанции. Теология и
политика в данном смысле есть то, что вытекает из
обмена и движения чего-то наподобие абсолютного
платья, которое как таковое все же несет в себе
основополагающие политико-юридические импликации.
Подобно многим концептам, с которыми мы
столкнулись в ходе нашего исследования, это платье
славы является сигнатурой, помечающей в
политическом и теологическом отношении тела и субстанции,
ориентируя и располагая их согласно экономике,
которую мы лишь теперь начинаем смутно различать.
К В двух образцовых исследованиях Альбрехт Дитрих («Eine
Mithrasliturgie», Щ03) и Эдуард Норден («Agnostos theos>>,
2923) сформулировали учение о формах доксологии и
молитвы (Norden. P. 26Ï). Норден в своей работе показывает,
каким образом в христианских доксологических формулах
сочетаются литературные элементы и формы,
проистекающие из разных традиций — как светских, так и
религиозных (стоической, иудаической, мистико-герметической
и проч.). В формальном плане все это согласуется с
конкретными результатами, полученными Алфёлди, Шрам-
мом и Канторовичем в их исследованиях материального
толка. Доксологии — как светские, так и религиозные—имеют
одну и ту же морфологическую структуру; но это еще
ничего не говорит о стратегиях, которые они преследуют,
и о функциях, которые они призваны выполнить.
323
ЦАРСТВО И СЛАВА
Порог
Ученые, которые занимались церемониальными
аспектами власти — а Канторович безусловно самый
дальновидный из них, — будто бы не решаются
задать следующий вопрос, от которого, тем не менее,
едва ли можно уклониться: какова природа
отношения, которое столь глубинным образом связывает
власть и славу? Если власть по сути есть сила и
эффективное действие, почему она нуждается в
ритуальных аккламациях и хвалебных песнопениях,
в коронах и громоздких тиарах, в утомительном
церемониале и в неизменном протоколе —одним
словом, почему власть, по сути являющая собой
эффективность и ойкономию, стремится к торжественной
обездвиженности в славе? Еще Аммиан с
удивлением отмечал неподвижность Констанция во время
его торжественного визита в Рим и сравнивал его
не с живым существом или богом, a cfigmentum —
своего рода истуканом «с неповоротливой шеей,
неподвижным, застывшим взглядом, смотрящим прямо
перед собой в пустоту, — эр&кккfigmentum в
человеческой форме» (Alßldi. Р. 274)- Простое
инструментальное объяснение, согласно которому речь идет об
ухищрении власть имущих, пытающихся таким образом
оправдать свои амбиции, или об инсценировке,
призванной внушить подчиненным благоговейный
страх и стремление подчиняться, хоть и правдиво
324
7. ВЛАСТЬ И СЛАВА
в отдельных случаях, все же, безусловно, не
способно дать обоснование столь глубинному и исконному
отношению, захватывающему не только
политическую, но и религиозную сферу. Если учитывать
многосложную хореографию, экономические затраты
и впечатляющий символический аппарат, который
было необходимо пустить в ход в Византии в IX, а
затем в Берлине в XX веке, простая демонстрация
оружия, безусловно, в большей степени отвечала бы
такой задаче. А церемониальное великолепие зачастую
воспринимается теми, к кому оно обращено, как
досадная обязанность, которой даже государь,
стоящий выше закона, вынужден подчиняться как
подлинному lex ceremoniarum, как свидетельствуют слова
понтифика, обращенные к Карлу V в тот момент,
когда он подставляет ему ноги для поцелуя: «Я
против своей воли даю целовать себе ноги, но
церемониальный закон вынуждает меня к этому (invituspas-
sus sum osculari pedes meos, sed lex ceremoniarum ita cogit)»
{Kantorowicz 2. P. 180).
Инструментальные объяснения — как и
объяснения социологические, рассматривающие
церемонии как своего рода символическую репрезентацию
общества в целом {Schenk. Р. 506-507)) —в сущности,
не далеко ушли от представлений позднебарочных
любителей древности, видевших в них следствие
первородного греха, который породил неравенство
между людьми и привел к созданию своего рода the-
atrum ceremoniale, в котором власть имущие
репрезентируют символы собственной греховности (Lü-
nig. P. 1-7°) •
На последующих страницах мы попытаемся
ухватить связь между властью и славой на примере
таких симптоматичных феноменов, как аккламации
и литургические доксологии. Реализуя на
практике наказ Лютера, согласно которому слава есть не-
325
ЦАРСТВО И СЛАВА
что ослепляющее взгляд того, кто хочет
проникнуть в сущность величия, мы не будем задаваться
целью дать ответ на вопрос «Что такое слава? Что
такое власть?», но ограничимся лишь внешне более
скромной задачей — исследовать образы их
отношений и действий. Иными словами, мы будем
исследовать не славу, а прославление, не doxa, a doxazein
и doxazestai.
8.
Археология славы
8.1. Исследования славы в теологической среде
были надолго ориентированы в ложном
направлении внушительным —по крайней мере, внешне
—сочинением Ганса Урса фон Бальтазара под заглавием
«Herrlichkeit. Eine teologische Aesthetik» («Слава.
Богословская эстетика»). Несмотря на явную
этимологическую связь немецкого термина Herrlichkeit со
сферой господства и власти {Herrschaft, Herrschen), Бальта-
зар предпочел развернуть свое исследование о славе
в аспекте эстетики. «Эта работа, — пишет он во
введении к первому тому, — являет собой попытку развить
христианскую теологию в свете третьей трансценден-
талии и дополнить таким образом рефлексию об
истинном [verum] и о добром [Ьопит] размышлениями
о прекрасном [pulchrum]» {Balthasare P. 3). В
противовес протестантизму, который де-эстетизировал
теологию, он, таким образом, задается целью восстановить
ее в подобающем ей эстетическом ранге. Он,
безусловно, не мог игнорировать тот факт, что kabod, слава в ее
исходном библейском значении, содержит в себе
скорее идею «господства» и «верховной власти»; и все же
речь для него идет как раз о том, чтобы перенести эти
понятия в сферу красоты, точнее —эстетики, в
значительной степени отсылающей к Канту:
Речь идет о том, чтобы познать откровение
Господа, а Господа можно воистину распознать
единственно в его владычестве и господстве,
327
ЦАРСТВО И СЛАВА
в том, что Израиль называет kabod, a Новый
Завет—славой, хотя оно и отделено от нас
неисчислимыми тайнами человеческой природы и
креста. Это означает: Бог изначально является нам
не как учитель («истина»), не как спаситель со
многими намерениями нам во благо («добро»),
но для того, чтобы самому показать и осветить
славу своей вечной тринитарной любви в том
самом «отсутствии интереса», которое роднит
истинную любовь с красотой. [Balthasar 2. Р. 27]
Бальтазар осознает риск, который может нести
в себе такой проект, как «эстетизация теологии»;
однако он полагает, что может в достаточной мере
предупредить его, сместив акцент с
прилагательного на существительное и разграничив таким образом
«теологическую эстетику» от «эстетической
теологии», в которой «определение неизбежным
образом воспринимается в мирском, ограничительном
смысле, а значит, в смысле уничижительном»
(Balthasar!. Р. 68).
Можно усомниться в том, что подобной
предосторожности чисто вербального характера
действительно было достаточно. В i93°"e годы Вальтер Бень-
ямин, распознавая в фашизме проект «эстетизации
политики», противопоставлял ей проект
«политизации искусства» (не эстетики). В противоположность
попытке Бальтазара «эстетизировать славу» и
перенести понятие исконно «политическое» (с точки
зрения Петерсона, оно как раз определяло
«публичный» характер литургии) в сферу красоты, мы будем
придерживаться стратегии интерпретации славы,
никогда не упускающей из виду контекст, к
которому она изначально принадлежит. Ни kabod> ни doxa
никогда не используются в Библии в эстетическом
смысле: они связаны с ужасным явлением YHWH,
с Царством, Судом, престолом —со всем тем, что мо-
328
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
жет быть определено как «прекрасное» лишь в
перспективе, которую сложно не расценивать как
эстетизирующую.
8.2. Синтагма «слава Господа» {kabod YHWH)
является основополагающим понятием в иудаизме.
В «Путеводителе растерянных» сразу после
рассмотрения божественных имен Бога Маймонид
уточняет их значение и одновременно их
проблематический контекст через тройное членение:
Под словом kabod иногда подразумевается
сотворенный свет, который Бог чудесным образом
водворяет в каком-то месте, чтобы возвеличить
оное: «И осенила Слава Господня гору Синай;
и покрывало ее облако» [Исх. 24:16]; «И
слава Господня наполнила скинию» [Исх. 40:34]-
Иногда же оно означает самость и истинность
Его, как в словах: «Дай мне увидеть славу Твою»,
на которые был дан ответ: «Человек не может
увидеть меня и остаться в живых» [Исх. 33:1^];
это указывает на то, что упоминаемая здесь
Слава—это его самость [...]. Наконец, в слове ка-
bod подразумевается хвала Богу, возносимая
всеми людьми — и, более того, всем сущим, ибо все
существует для того, чтобы возвеличивать его.
Ибо истинное восхваление Его величия
состоит в постижении этого величия, так что
всякий, кто постиг его величие и совершенство, уже
этим самым возвеличил его в соответствии с
мерой своего постижения. [...] И поскольку это
понятие обозначается словом «слава», сказано:
«Вся земля полна славы Его» [Ис. 6:3],
подобно тому как сказано: «и хвалою Его
наполнилась земля» [Abb. 3:3]' и^° хв^ла может
обозначаться словом «слава», как сказано: «Воздайте
славу Господу, Богу вашему» [Иер. 13:16]. Чтобы
уберечься от заблуждений, следует понять ука-
329
ЦАРСТВО И СЛАВА
занную многозначность этого слова и толковать
его в каждом случае в соответствии с контекстом.
[Маймонид. I, 64]г
Первый из трех моментов, посредством которых
Маймонид определяет значение kabod, относится
к эпизоду 24-i6 Исхода, в котором «слава YHWH»
предстает перед евреями в образе
всепоглощающего пламени, окруженного облаком, в которое может
войти лишь Моисей. Второй случай употребления,
в котором термин, казалось бы, означает существо
Бога, в действительности проистекает из того же
контекста. Когда YHWH обращается к Моисею, он
закрывает его лицо, чтобы помешать ему узреть его
ослепляющий kabod; несмотря на это, лицо Моисея
вбирает такое сияние, что евреи не могут смотреть
на него, и ему приходится скрывать его под
покрывалом. Характерным для него жестом Маймонид
устанавливает второе значение термина, никоим
образом не заложенное в библейском отрывке, на
основании того, что kabod в первом значении
«сотворенного света» не только делает видимым YHWH,
но ровно в той же мере его скрывает. Эта
невозможность видения дает основание для допущения
второго значения: kabod «истинного бытия Бога»,
который сокрыт под kabod «сотворенного света».
Лишь третье значение— вознесение хвалы со
стороны творений, —будучи связанным с определенной
человеческой практикой (хотя Маймонид
распространяет ее и на неодушевленные создания, которые
по-своему «возносят» kabod Богу), несет в себе
конкретный смысл. Но и здесь Маймонид использует
его для того, чтобы утвердить второе значение, по-
1. Ср.: М. бен Маймонид. Путеводитель растерянных/пер. и комм.
М. А. Шнейдера. Москва; Иерусалим, 20Ю. С.339~34°-
33°
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
скольку хвала предполагает величие и совершенство
божественного бытия. Иными словами, прославление
некоторым образом проистекает из славы, которую
в сущности оно же само и обосновывает.
Любопытно отметить, что использование
стратегии Маймонида без значительных изменений
можно обнаружить у современных ученых, как евреев,
так и христиан. Авторы лексикографических работ
и монографий в конечном счете приходят к
выделению тех же трех значений, которые установил Май-
монид, порой уточняя второе значение в смысле
«силы», «величия», «веса» (последний
представляет собой этимологическое значение семитского
корня kbd). Связь, установленная Маймонидом между
kabod как «сотворенным светом» и kabod как
«существом Богом», толкуется современными
теологами — как христианскими, так и еврейскими — в том
смысле, что слава связана с «проявлением» Бога,
с божественной сущностью в той мере, в коей та
являет себя как видимая и ощутимая.
Это значение kabod, которое в итоге
отождествляется с самим YHWH, затем противопоставляется
«объективному» значению «прославления»:
«Однако существует также и kabod, который создания
возносят Богу. Его можно обозначить как
«объективный» kabod YHWH» {Stein. P. 318: средневековые
теологи, напротив, более точно определяли эту
славу как «субъективную»). Kabod, который
выражается через аккламации и хвалебные гимны, иногда
изображается как естественный и исполненный
радости отклик людей на проявление божественной
славы; иногда же он скорее напоминает почести,
которые возносятся мирской власти, и тогда его
непросто соотнести, как это делал Маймонид, с kabod,
выражающим существо Бога. В этом случае
современные ученые определенно стремятся вытеснить
ЗЗ1
ЦАРСТВО И СЛАВА
из сферы рассмотрения это объективное значение
(Ibid. Р. 323).
Так или иначе, как для древних, так и для новых
авторов проблема заключается именно в том,
чтобы оправдать —или порой скрыть —двоякий смысл,
омонимию и двойственность термина kabod,
включающего в себя одновременно славу и
прославление, kabod субъективный и объективный,
божественное бытие и человеческий праксис.
К В раввинской традиции kebod YHWH связывается с she-
kinah (букв, «жилище», «обитель»), который выражает
присутствие Бога среди людей. Так, фраза из библейского
текста «Господь присутствует на месте сем» (Быт. 28:16)
в Таргуме переведена как «Слава shekinah присутствует
на месте сем». А в Алфавите рабби Акива сказано: «В тот
час Бог посмотрел и увидел трон свой, и kabod свой, и свою
shekinah» (цит. по: Scholem 1. £151). Маймонид также
связывает славу с глаголом shakan (проживать) и с
shekinah, которая не означает для него проявление, но лишь
«обитание Господа в определенном месте» (Маймонид. 1, 2j).
Подобным образом Саадия Гаон, а вместе с ним и Иехуда
Галеви, и другие средневековые философы отождествляют
между собой shekinah и kabod: «Лучезарное явление,
подтверждающее пророку подлинность откровения, что дано было
ему Господом, есть сотворенный свет: в Библии он называется
kabod, a в раввинской традиции—shekinah» (цит. по:
Scholem 2. Р. 20/). Shekinah не тождественна Богу, но, как и
kabod в его первичном значении по Маймониду, является его
свободным творением, предшествующим сотворению мира.
К В Ветхом Завете, как и в раввинском иудаизме, kabod
обретает особое эсхатологическое значение. Оно
соответствует полному откровению славы Бога, который является
на горе Сион в виде облака и покрова (Исх. 4:5) - ВДевтерои-
сайи она предстает не только перед евреями, но и перед
«всякой плотью» («И явится слава Господня, и узрит всякая
332
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
плоть спасение Божие». Там же. 40:5)- У Аввакума
сказано: «Как воды наполняют море, так земля наполнится
познанием славы YHWH» (Лев. 2:14). Внушающее ужас
видение Иезекииля, которое с его крылатыми «животными»
и сапфировым престолом окажет столь глубокое влияние
на христианский апокалиптизм, представлено пророком
как видение славы: «В таком виде предстал предо мной ка-
bod Господа. Как увидел его} упал лицом оземь...» (Иез. 1:28).
8-3- Семьдесят толковников переводят kabod
словом doxa, и таким образом этот греческий термин
(который в Вульгате будет означать славу)
становится техническим выражением славы в Новом
Завете. Но, как всегда бывает с переводами, в данном
переходе библейский kabod претерпевает глубинную
трансформацию. То, что изначально было внешним
по отношению к Богу элементом, означая его
присутствие, теперь, в соответствии с новым теологическим
контекстом, становится выражением внутренних
отношений тринитарной экономики. Это означает,
что между oikonomia и doxa существует структурная
связь и что невозможно постичь экономическую
теологию, не учитывая при этом данное отношение.
Точно так же, как христианская теология
динамически трансформировала библейский монотеизм,
диалектически противопоставляя внутри себя
единство сущности и онтологии (theologia)
множественности личностей и действий (oikonomia), так и doxa theou
теперь обусловливает процесс взаимного
прославления между Отцом и Сыном (и, в более общем плане,
между тремя личностями). Тринитарная экономика
в своей сущности и есть экономика славы.
Пожалуй, нигде эта экономика славы не
обнаруживает себя с такой очевидностью, как в Евангелии
от Иоанна. Ее лейтмотив прослеживается от
начала до конца всего текста — как, впрочем, хоть и в со-
333
ЦАРСТВО И СЛАВА
вершенно иной тональности, он будет звучать в
Посланиях Павла, —и достигает пика пронзительности
в молитве Иисуса перед арестом: «Отче! Пришел час,
прославь [doxason] Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит [doxasêi] Тебя. [...] Я прославил Тебя на
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого
славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира»
(17:1-5)- Незадолго до этого, в момент предсказания
предательства эта же тема звучит в словах Иисуса,
обращенных к ученикам, разделяющим с ним
трапезу: «ныне прославился [edoxasthë] Сын человеческий,
и Бог прославился в Нем [edoxasthë]. Если Бог
прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе» [фЗ^З2]-
Впечатляет сугубо циркулярный характер
разворачиваемой в этих отрывках экономики. Дело,
которое Иисус исполнил на земле —экономика
спасения,—в действительности есть прославление отца,
то есть экономика славы. Но она ровно в той же мере
является и прославлением сына со стороны отца.
Этот доксологический круг не только
характеризуется настойчивым повторением форм одного и того же
глагола, но, по всей видимости, он полностью
замыкается в представлении о том, что слава
предшествует самому сотворению мира и потому
изначально обусловливает тринитарное отношение
(«прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую
Я имел у Тебя прежде бытия мира»). В еврейском
мессианстве имя (chem, понятие, имеющее глубинную
связь с идеей славы) — одна из пяти (или семи)
вещей, сотворенных прежде мира; но Иоанн,
обращаясь к этому еврейскому мотиву, делает из него доксо-
логическое ядро внутрибожественного отношения.
И если экономика спасения, порученная сыну,
достигает своего свершения во времени, экономика
славы не имеет ни начала, ни конца.
334
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
И все же экономика славы по Иоанну включает
в себя также людей. Подразумевая тех, кому было
открыто имя (то есть слава) отца, Иисус
добавляет: «И все мое твое, и твое мое; и я прославился [de-
doxasmai] в них» (17:10), и тут же уточняет: «Я дал им
славу» (17:22). Тринитарной экономики славы в
точности соответствует взаимное прославление людей
и Бога.
К В греческом Гомера семантической сфере славы
соответствует не термин doxa, а термин kleos. Этимологически
связанный со сферой слова и «того, что воспринимается слухом»
(klyö), kleos не только не является свойством богов, но есть
результат деятельности особой категории людей —поэтов.
Они, разумеется, нуждаются в содействии божественных
существ, Муз, которые побуждают их «воспевать kleos
людей» (Гомер, Одиссея, 8, j$); но слава, которой они
наделяют и которая может «вознестись до небес» (Там же. j/j),
является их исключительной и ревностно охраняемой ими
прерогативой. Именно поэтому речь идет не столько о
знании, сколько о чем-то таком, что полностью исчерпывает
себя в сфере слова. «Мы, поэты, — говорит Гомер, — ничего
не знаем: kleos единый мы слышим» (Ил. 2, 486).
Грегори Надь показал, что и «Иллиада», и
«Одиссея» в первую очередь воспевают kleos Ахилла и Одиссея
и что именно тема славы объединяет эти две поэмы. Если
Ахилл, лучший из ахейцев, променял возвращение и жизнь
на славу («Я потерял nostos, но обрел нетленный kleos»,
Гомер. Илл., g, 413)' т0 Одиссей обрел как возвращение, так
и славу (Nagy. P. 2g). Но славу, опять же, даруют поэты.
И феакийский певец в «Одиссее» (8, J2-82), и поэт в
«Теогонии» выступают в роли носителей славы, которые
обращаются и к прошлому, и к будущему: «Чтоб воспевал
я [kleioimi] в тех песнях, что было и что еще будет»2 (Гее.
Теог.,32).
2. Перевод В. В. Вересаева.
335
ЦАРСТВО И СЛАВА
Стало быть, гомеровскому миру фигура славы
знакома исключительно как произведение человеческих усилий,
как прославление. Именно это обстоятельство много
веков спустя позволило римскому поэту довести до
крайности «восславляющий» характер поэзии словами о том,
что не только героев, но «и богов творит, если молвить
дозволено, песня: /Все их величье мертво без воспевающих
уст»3 («Di quoque carminibus, si fas est dicere,fiunt \ tantaque
maiestas ore canentis eget», Ov., Pont., 4, 8,55-56).
8.4. Во Втором послании к Коринфянам Павел
вновь цитирует отрывок о kabod из Исх., 29 и след.,
посредством кропотливого выстраивания
оптических образов основывая на этом понятии собственную
теорию славы. Слава временного порядка,
озарившая лицо Моисея после того, как он принял от
Господа скрижали (которые в соответствии с присущей
Павлу непримиримой критикой закона определены
как «служение смертоносным буквам», diakonia tou
thanatou, 2 Кор., 37)» несравнимо меньше той славы,
что исходит от «служения спасения», которое мессия
принес людям. Тем не менее, члены мессианского
сообщества (Павлу не знаком термин «христианский»)
не нуждаются в том, чтобы подобно Моисею полагать
на лицо покрывало (kalymmà) — то самое покрывало,
что «доныне, когда они [евреи] читают Моисея, [...]
лежит на сердце их» (Там же. 3:15)- Слово «мессия»
и впрямь означает «снятие покрывала» (hoti en Christöi
katargeitai, там же, 3:14)- Когда евреи обратятся, тогда
и для них покрывало будет снято. «Мы же все с
непокрытым лицом [anakekalymmenöiprosöpöi], как в
зеркале видя [katoptrizomenoi] славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу [аро doxés eis
doxari], как от Господня Духа» (там же, 3:18).
3- Публий Овидий Назон. Письма с Понта. Перевод А. В. Ларина.
ззб
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Экономика славы выражена здесь
исключительно в оптических терминах. Это тот же образ,
содержание которого в дальнейшем уточняется в Евр. 1:3.
Сын есть apaugasmdy то есть одновременно
отражение и излучение (глагол apaugazein означает как
«озарять, испускать сияние», так и «отражать
испущенные лучи») славы Господа. Поэтому в 2 Кор. 4*6 Бог
озаряет лицо Христа (enprosöpöi Christou) «светом
познания Его славы».
Итак, оптическая феноменология славы
развертывается следующим образом: Бог, «Отец славы»
(Эф. 1:17), испускает лучи своей славы на лик
Христа, который подобно зеркалу отражает ее и в свою
очередь озаряет ею членов мессианского сообщества.
Знаменитый эсхатологический пассаж из i Кор., 13:12,
следует истолковывать в этой перспективе: тогда
славу, которую мы сейчас загадочным образом видим
отраженной в зеркале (dïesoptrou en ainigmatï), мы узрим
напрямую, сойдясь с ней лицом к лицу (prosöponpros
prosöpon). Ныне же мы пребываем в ожидании
«явления славы» (Тит. 2:13): точно так же все сотворенное
с нетерпением ждет освобождения «от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:2i).
Здесь, в отличие от иоанновской концепции
славы, внимание акцентируется не на взаимном
прославлении Отца и Сына, а на истечении славы от Отца
к Сыну, а затем и к членам мессианского сообщества.
В центре Павлова евангелия оказывается не трини-
тарная экономика, а мессианское искупление.
8.5. Надлежит развенчать общее место, часто
воспроизводимое в лексиконах, согласно которому
теория славы отсутствует у Святых Отцов в первые века.
Истинно ровно обратное: а именно, как того и
следовало ожидать, те же самые авторы, которые
развивают теологию экономики, вводят элементы теологии
337
ЦАРСТВО И СЛАВА
славы. Это прежде всего справедливо в отношении
Иринея. Приводя в четвертой книге трактата
«Против ересей» каноническую цитату из Исх. 33:2°
(«Человек не может увидеть Меня и остаться в живых»),
он обращается к библейской теме непознаваемости
kabod («неизреченной славы», anexêgêtos doxa, Ириней.
Против ересей, 4> 20, 5); однако непознаваемости
библейского Бога он противопоставляет
пророческое его откровение через Духа —и главным
образом через Сына, истинного «толкователя»,
«эконома» и певца славы:
Итак, Сын Отца, изначала сущий с Отцом,
изначала открывает [exêgêtés] (Его): Он и пророческие
видения, и различные дарования (Духа), и Свое
служение, и прославление [doxologià] Отца
показывал роду человеческому последовательно и
связно в надлежащее время для пользы его. И
потому Слово сделалось раздаятелем благодати Отца
для пользы людей, ради которых Он сделал столь
великие распоряжения4, людям показывая Бога,
а человека представляя Богу, и сохраняя
невидимость Отца, дабы человек не сделался презрителем
Бога и всегда имел, к чему ему стремиться; а с
другой стороны, чрез многие распоряжения,
показывая видимо Бога людям, дабы человек не отпал
совсем от Бога и не перестал существовать. Ибо слава
Божия есть живущий человек; а жизнь человека
есть видение Бога5. [Там же. 4, 20, 7]
В этом удивительном фрагменте слава,
производимая Словом, описывается в тех же самых экономи-
4- Здесь и далее при употреблении в русском переводе
слова «распоряжения» у Агамбена используется термин
«экономики».
5- Здесь и в последующих случаях цитирования существующий
перевод приведен с незначительными изменениями.
33«
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
ческих терминах, в коих Ириней излагал экономику
спасения. Экономика спасения не только
предполагает экономику славы, но и является
«толкованием» того, что в противном случае как в
божественной жизни, так и в человеческом мире осталось бы
«неизреченным». Иначе говоря, слава есть
экономика экономик: истолковывая экономику (tas oikonomi-
as exegeito), она раскрывает то, что в kebod YHWH
оставалось непознаваемого:
Итак, если ни Моисей, ни Илия, ни Иезекииль,
имевшие много небесных видений, не видели
Бога, а что видели они, было «подобием славы
Господней» (Исх. 1:28) и пророчествами о
будущем; то очевидно, что Отец невидим, как и
Господь сказал: «Бога никто не видел никогда».
А Слово Его, как Сам Он хотел и для пользы
видящих, изъясняло Его распоряжения6, как и Господь
сказал: «Единородный Бог, сущий в недре Отца,
Он объявил». [Ириней. Против ересей. 4, 20, п.]
К Важные элементы теологии славы можно также
обнаружить в «Adversus Praxean» Тертуллиана — то есть в самой
что ни на есть инкунабуле экономической теологии. Тертул-
лиану не только прекрасно известно, что то, что в
экономике спасения (in ipsa oikonomia, 23, р- uf) было для сына
низведением и умалением, выльется в кардинально
противоположную ей экономику славы («gbria tarnen et honore coron-
aturus illum in caelos resumendo», ibid., p. ид); но, обращаясь
к стратегическому отрывку из Иоанна, он также
различает в славе неразрывную связь, соединяющую Отца и Сына,
бессменную обитель Сына в Отце: «Иисус говорит: „Бог
прославит его в самом Себе". Это означает, что, хотя отец,
который в самом себе имеет сына, и послал его на землю,
он прославит его через воскресение» (ibid., p. i2i).
6. У A.: economia.
339
ЦАРСТВО И СЛАВА
8.6. Наиболее емкое изложение теологии
славы в патристике первых веков содержится в
отступлении, образующем почти небольшой трактат peri
doxêS) которое Ориген помещает в 32-ю книгу своего
Комментария на Евангелие от Иоанна. Тема славы
видится ему столь значимой, что в конце
отступления автор чувствует необходимость вознести
благодарность Богу, ибо, несмотря на несостоятельность
его аргументации, то, что он написал, так или
иначе кажется ему «значительно превышающим его
возможности [pollöi meizosin tes hemeteras axias]» (Orig.
Io. 32, 29, 367, p. 344). С самого начала он отвергает
языческое, чисто аккламативное значение
термина (слава как «хвала, возносимая толпой7», ibid., 32*
26, 33°)' которому он противопоставляет не
только канонический фрагмент из Исхода о Господнем
kabod, открывающемся Моисею, но и прочтение,
которое Павел дает этому фрагменту во Втором
послании к Коринфянам (2 Кор. 37""11)-
Предлагаемое Оригеном толкование этих отрывков
являет собой наглядный пример его
экзегетического метода, основанного на разграничении между
буквальным смыслом и анагогическим (или
духовным) смыслом:
Если с телесной точки зрения божественное
откровение произошло под покровом, и во храме,
и озарило лицо Моисея после его разговора с
Богом, то с анагогической точки зрения
«видением славы Господней» можно было бы назвать то,
что в Боге познается и созерцается полностью
очищенным умом. Ум, очищенный и
преодолевший все материальное ради чуткого созерцания
Бога, обожествляется в том, что он созерцает.
7- У A.: multitudine (множество).
340
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
А в этом и состоит прославление лика того, кто
видел Бога8 [Orig. Io., 32, 27> 33^, Р-332-]
Таким образом, Ориген истолковывает славу в
терминах познания, тут же применяя эту экзегезу к
отрывку из Иоанна, в котором говорится, что
«прославился Сын человеческий, и Бог прославился в Нем».
Особый, оригинальный вклад Оригена состоит
в том, что этот отрывок он прочитывает ни
больше ни меньше как описание процесса
божественного самопознания:
Познавая Отца, Сын прославился через само
это познание, которое есть высшее благо,
ведущее к совершенному познанию — познанию,
коим Сын познает Отца. Однако я полагаю,
что Он прославился познанием, ибо таким
образом Он познавал Себя. [...] И вся эта слава,
которой прославился Сын человеческий, была
прославлена через дар Отца. А из всех
начатков, ведущих к полноте славы человека,
главным является Бог, ибо он прославлен не просто
потому, что он познается Сыном, но и
потому, что он прославлен в [en] Сыне. [Ibid. 32, 28,
345-349-Р-335-336-]
Процесс взаимного прославления отца и сына
совпадает с самопознанием Бога, понимаемым как au-
tosophia (ibid.); этот процесс носит настолько
глубинный характер, что нельзя сказать, что прославление
совершается сыном: оно совершается лишь в сыне.
Отсюда становится понятным, почему «экономика
страстей» (hê oikonomia tou pathos) может идеальным
образом совпадать с экономикой славы, через кото-
8. Здесь и далее «Комментарий на Евангелие от Иоанна»
цитируется в переводе Агамбена.
341
ЦАРСТВО И СЛАВА
рую сын открывает отца (ек tes oikonomias apokalyptein
ton patera ho hyios: ibid., 32, 29, 359. P. 341-342):
Поэтому, когда [Иисус] достиг экономики,
согласно которой он должен был вознестись
над миром, и, будучи узнанным, прославиться
славой тех, кто Его прославил, Он сказал:
«Теперь Сын человеческий прославился». А так
как «никто не знает Отца, кроме Сына, который
его открывает», а Сын должен был открыть Отца
посредством экономики, то «и Бог прославился
в Нем». [Ibid.]
Экономика страстей и экономика откровения
совпадают в славе, а слава (или, скорее, прославление)
определяет совокупность тринитарных отношений.
Троица есть славословие.
8.7. Современные теологи, как мы видели,
разграничивают «экономическую Троицу» (или Троицу
откровения) и «имманентную Троицу» (или
Троицу сущности). Первая характеризует Бога в его
спасительном действии, через которое он открывается
людям. Имманентная же Троица относится к Богу,
каков Он сам по себе. Здесь, в этом
противопоставлении между двумя троицами, мы вновь обнаруживаем
тот самый разрыв между онтологией и праксисом,
теологией и экономикой, который, как мы
убедились, на структурном уровне ознаменовал собой
становление экономической теологии (см. §3-4)-
Имманентной троице соответствуют онтология
и теология, а экономической — праксис и ойконо-
мия. В нашем исследовании мы попытались
проследить, каким образом из этих двух изначальных
полярностей на разных уровнях развились полярности
трансцендентного и имманентного порядков,
Царства и Правления, общего и частного провидения,
342
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
определяющие функционирование машины
божественного управления миром. Экономическая
троица (Правление) предполагает троицу имманентную
(Царство), в которой она обретает свое оправдание
и обоснование.
Поэтому не вызывает удивления тот факт,
что троица имманентная и троица экономическая,
изначально разграниченные, впоследствии вновь
воссоединяются и сочленяются теологами —и, более
того, что именно это сочленение составляет ставку
в игре теологии. «Троица экономическая есть
троица имманентная, и наоборот» (Moltmann. P. 176-177)-
именно так звучит принцип, который должен
направлять всякую попытку помыслить их
взаимосвязь. Дело жертвоприношения и спасения,
рассматриваемое экономической теологией, не может
исчезнуть в имманентной троице:
Если главным основанием познания Троицы
является крест, которому Отец посредством Духа
предает Сына ради нас, то в трансцендентном
обосновании этого события невозможно будет
помыслить сущностную Троицу, в которой не
присутствовали бы крест и жертва. [Ibid.]
Иными словами, не существует двух различных
троиц: есть лишь одна троица, которая в то же время
являет собой единую божественную историю спасения,
единую экономику. И тем не менее, эту
тождественность не следует понимать как «растворение одной
троицы в другой» (Ibid.). Согласно сложному
механизму, который, как мы показали, с самого начала
определяет отношения между теологией и
экономикой — а затем и функционирование управленческой
машины, —две троицы, будучи глубинным образом
сочленены, все же остаются разделенными. Речь же
идет главным образом об обоюдности их отношений.
343
ЦАРСТВО И СЛАВА
Тезис об этом тождестве должен в первую
очередь помочь выразить взаимодействие между
сущностью и откровением, между внутренним
и внешним единого и троичного Бога [...].
Opera trinitatis ad extra с самого сотворения мира
соответствуют passiones trinitatis ad intra. [Ibid.]
Слава есть место, в котором теология пытается
помыслить трудно представимое сочетание
троицы имманентной и троицы экономической, theolo-
gia и oikonomia^ бытия и праксиса, Бога в самом себе
и Бога для нас. Поэтому доксология, невзирая на ее
внешнюю церемониальную статичность, являет
собой наиболее диалектическую часть теологии, в
которой должно достигнуть единства то, что может
быть помыслено исключительно как разделенное.
Истинная теология, то есть познание Бога,
находит свое выражение в благодарности,
восхвалении и поклонении. То, что выражается в
славословии, и есть истинная теология. Не существует
опыта спасения, который не сопровождался бы
изъявлением благодарности, одобрения и
радости. Лишь славословие доводит опыт спасения
до полноты свершения [...]. Бог любим, почитаем
и признан не только благодаря переживаемому
нами опыту спасения, но и сам по себе. Хвала
превосходит благодарность. Бог познается не только
в своих благих делах, но и в самой своей доброте.
Наконец, преклонение стоит выше благодарности
и хвалы. [Р. 166-167.]
В славе троица экономическая и троица
имманентная, спасительное действие Бога и его бытие
сливаются воедино и разворачиваются одно посредством
другого. Отсюда неразрывное сплетение в
литургии доксологических элементов в узком смысле
и евхаристической подражательности. Хвала и по-
344
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
клонение, обращенные к имманентной троице,
предполагают экономику спасения — подобно тому
как у Иоанна Отец прославляет Сына, а Сын
прославляет Отца. Экономика прославляет бытие
точно так же, как бытие прославляет экономику. И лишь
в зеркале славы две троицы словно отражаются друг
в друге, лишь в ее блеске бытие и экономика,
Царство и Правление будто бы на мгновение
сливаются друг с другом. Поэтому Никейский собор, во
избежание риска отделения Сына от Отца, экономики
от сущности, счел необходимым ввести в символ
веры формулу phös ek phötosy «свет от света»;
поэтому Августин, рьяно силясь исключить любой риск
субординации в троице, прибегает к образу света
и славы (О Троице, 4> 20, 27).
X Слава есть пространство, в котором движение трини-
тарной экономики должно обнаружить себя в своей полноте;
но она также является местом, в котором увеличивается
риск несовпадения между бытием и действием и
возможной асимметрии в отношениях между тремя
божественными лицами. Поэтому не вызывает удивления, что именно
в своем экскурсе о славе Ориген, по всей видимости,
занимает субординалистскую позицию, позволяющую видеть в нем
предшественника Ария. Прокомментировав взаимное
прославление Отца и Сына у Иоанна, он с осторожностью
выдвигает предположение о самопрославлении Отца
независимо от Его прославления Сыном:
Любопытно знать, может ли Бог
прославляться независимо от Его прославления в Сыне, ведь
он еще более прославлен в себе самом, когда,
достигая созерцания самого себя, он наслаждается
собственным познанием и лицезрением в
невыразимом блаженстве и радости, которые
превышают всякое блаженство, обретаемое им в Сыне,
ибо он находит в себе самом радость и блажен-
345
ЦАРСТВО И СЛАВА
ство — по крайней мере настолько, насколько
подобные мысли могут быть выражены в
отношении Бога. Ибо я пользуюсь этими словами —
которые в сущности не могут быть применены
к Богу, — потому что мне не хватает невыразимых
имен... [Orig. Io. 32, 28, 350-351- R339-]
Если субординационизм с самого начала был отвергнут
как недопустимая ересь, это связано не только и не
столько лишь с тем, что в нем утверждается превосходство
Отца над Сыном (в Евангелиях Иисус часто приписывает
Отцу такое превосходство), но также — и главным
образом —с тем, что он подвергал опасности функционирование
тринитарного диспозитива, покоящегося на безупречном
межличностном круговороте славы между троицей
имманентной и троицей экономической.
Опять же ссылаясь на Иоаннов фрагмент, Августин
в трактате «О Троице» предостерегает против любой
попытки ввести асимметрию в славу через обоснование в ней
превосходства одного лица над другим:
Но да проснутся теперь те, кто считал, что
подкрепляет свою позицию в доказательстве того,
что Отец якобы больше Сына, основываясь
на том, что Сын сказал: «Прославь меня, Отче».
Но вот и Дух Святой прославляет его, так что же
и Он больше Сына? [...] Все, что имеет Отец,
относится не только к Сыну, но также и к
Святому Духу, так как Святой Дух способен
прославлять Сына, которого прославляет Отец. Если
тот, кто прославляет, больше того, кого
прославляют, то необходимо допустить, что равны те,
кто взаимно прославляет друг друга. [О
Троице. 2, 4, 6.]
Экономика славы может функционировать
исключительно в том случае, если она абсолютно симметрична и носит
характер взаимности. Вся экономика должна стать
славой, а вся слава —экономикой.
346
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
8.8. Между тем теологии никак не удается
преодолеть раскол между имманентной троицей
и троицей экономической, между theologia и огко-
nomia. Это проявляется именно в славе, которая
по идее должна знаменовать их примирение.
Слава несет на себе печать принципиальной диссимме-
трии, вследствие которой не имманентная, но лишь
экономическая троица приходит к своему
свершению в конце времен. После Страшного суда, когда
экономика спасения будет завершена и «будет Бог
всё во всем» (i Кор. 15-28), экономическая троица
вновь поглотится троицей имманентной, и
«останется лишь вечный гимн Богу, единому и
троичному во славе Его» (Moltmann. P. 173)- Райская литургия
всецело разрешается в славословии: ей не знакома
месса, ей знаком лишь хвалебный гимн. В этой
асимметрии славы явственно проступает та самая
«анархичная» — и вместе с тем сотворенная — природа
Христа, которая явилась вымученным плодом
длительного и ожесточенного арианского спора.
Экономика анархична, и как таковая она не имеет
обоснования в существе Бога; и все же Отец породил Сына
прежде времен вечных. Такова «тайна экономики»,
тень которой славе так и не удается до конца
рассеять своим сиянием. Изначальному парадоксу
сотворенной анархии в конце времен соответствует
тайна анархичной и тем не менее конечной экономики.
(Именно попытка помыслить одновременно
бесконечное бытие и его конечную историю —а значит,
и фигуру бытия, пережившего собственную
экономику, — составляет теологическое наследие
философии Нового времени, которое в работах позднего
Хайдеггера достигает своего крайнего выражения.)
Разумеется, подлинная функция славы (во всяком
случае, она на нее претендует) состоит в том,
чтобы выражать плероматическую фигуру троичности,
347
ЦАРСТВО И СЛАВА
в которой троица экономическая и троица
имманентная раз и навсегда прочно сочленены. Однако
она может выполнить эту задачу, лишь непрерывно
разделяя то, что ей надлежит соединить, и всякий
раз заново соединяя то, что должно оставаться
разделенным. Поэтому подобно тому, как в мирской
сфере слава была атрибутом не Правления, а Царства,
не министров, а государя, — так и славословие в
конечном итоге относится к существу Бога, а не к его
экономике. Однако, как мы убедились, Царство есть
лишь то, что остается за извлечением Правления,
а Правление —то, что получается в результате
самоустранения Царства, при этом управленческая
машина состоит из сочленения этих двух полярностей;
точно так же можно утверждать, что тео-доксоло-
гическая машина возникает как следствие
взаимосвязи между имманентной троицей и
экономической троицей, в которой каждый из двух аспектов
прославляет другой и из другого вытекает.
Правление прославляет Царство, а Царство
прославляет Правление. Но центр машины пуст, а слава есть
не что иное, как сияние, исходящее из этой пустоты,
неиссякаемый kabod, раскрывающий и в то же время
скрывающий пустующий центр машины.
8.9. Апории, кроющиеся в любой теологии
славы, очевидным образом проявляются у
протестантского теолога, стоящего у истоков попытки Бальта-
зара эстетизировать доксологию. В одном из самых
значимых мест своей «Церковной догматики» Карл
Барт поместил небольшой трактат о славе, к
которому затем обратится католический теолог, развивая
его в своем монументальном труде. Хотя жест обоих
авторов в стилистическом отношении различен,
заложенная в нем интенция по сути одна и та же.
Барту прекрасно известно, что под славой подразуме-
34«
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
вается «свобода, величие и верховная власть Бога»
{Barth. Р. 722). Более того, по его мысли, она
определяет способ, которым Бог «пользуется своим
всемогуществом и осуществляет свое господство [Herrschaft]»
(Ibid. P. 723). В какой-то момент неожиданно
переводя разговор о славе в «непосредственно близкую
ей» (Р. 732) сферу красоты, он использует это
понятие в качестве опорного (Hilfsbegriff) в попытке
стратегически противостоять чему-то такому, что
представляется ему «черным пятном» (Р. 733) B
теологической концепции славы. Дело идет ни больше
ни меньше как о том, чтобы нейтрализовать
представление, будто слава и верховная власть Бога
сводимы к brutumfactum Его всемогущества и силы.
Неужели все, что мы можем сказать
положительного о славе и о самопрославлении Бога, это
то, что за ней стоит всё Божие всемогущество,
что она изобличает [überführt, букв, «верховодит
нами»] и убеждает [überzeugt] нас в том, что она
господствует [herrscht], подавляет [überwältigt]
и воздействует на нас совершенно
непостижимой силой? [...] Несет ли в себе слово «слава»,
которым в Библии обозначается откровение и
познание Бога, нечто иное, кроме как констатацию
грубой фактуальности? Разумеется, когда мы
говорим «слава» Господа, мы тем самым —притом
особо подчеркнуто — говорим о «силе»
Господа. И все же понятием славы мы выражаем нечто
большее, нечто такое, что не может быть
исчерпано понятием силы. Подобным образом понятие
«Царства», предшествующее этим двум
понятиям в доксологии молитвы «Отче наш», объемлет
нечто выходящее за рамки того, что мы
обозначаем термином «сила». Свет Господа также есть
сила, но не эта сила дает ему сияние. Не
является и не обладает ли Бог чем-то большим, чем то,
что мы называем силой, коль скоро он облада-
349
ЦАРСТВО И СЛАВА
ет светом и является им, коль скоро он исполнен
славы? [Р. 733]
Здесь, как и в потаенном истоке всякого
эстетизма, заключена потребность скрыть и облагородить
то, что само по себе есть чистая сила и господство.
Именно красота дает имя этому «большему»,
позволяющему помыслить славу за пределами
factum верховной власти, «деполизитировать»
лексикон Herrlichkeit (понятие, которое Барт не случайно
до сих пор выражал при помощи технических
терминов, означающих политическую верховную власть
и управление: herrschen, führen, walten), перенося его
в область эстетики.
Когда мы говорим о том, что Бог прекрасен,
вместе с тем мы говорим о том, как именно он
просвещает, убеждает и изобличает нас. Стало быть,
мы не просто указываем на голый факт его
откровения и его власти [Gewalt] как таковой, но
таким образом обозначаем форму и фигуру его
действительного бытия и власти. [Ibid.]
Барт прекрасно осознает неуместность и
недостаточность термина «красота», который неизбежно
отсылает к мирской сфере «удовольствия,
желания и наслаждения» (Р. 735)» и все же угроза
эстетизма («drohende Ästhetizimus»: P. 735) есть та самая
цена, которую необходимо заплатить, чтобы
отделить теорию славы от сферы Gewalt—сферы власти.
То, что красота становится здесь означающим
славы — неуместным и в то же время совершенно
неизбежным,—означает, что и проблема
взаимоотношения между имманентной и экономической троицей,
между онтологией и ойкономией должна быть сведена
к эстетической сфере. Слава и свобода Бога не
являются «абстрактными свободой и верховной властью»
35°
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
(Р. 743)- Бытие Бога не есть «бытие, которое само
по себе освобождается в своей чистоте» (Р. 744);
божественным и сущим его делает не что иное, как его
существо в лицах Отца, Сына и Святого Духа. «Его
форма — это не форма сама по себе, но конкретная
форма тринитарной сущности Бога» (Ibid.).
Троичность Бога в данном смысле являет собой «тайну его
красоты» (Р. 745)- Окончательное перенесение
библейского kabod в нейтральную сферу эстетики, о
котором Бальтазар несколько лет спустя будет писать
как о состоявшемся факте, свершается именно здесь.
8.Ю. Эстетизация славы имеет также и другое
обоснование. Она позволяет по-новому подойти к
решению проблемы, которая неизменно присутствует
в истории теологии и неизменно же из нее
вытесняется. Речь идет о той славе, которую теологи
определяют как subiectiva, seuformalis (или как внешнюю):
то есть о прославлении, которое люди (а также
ангелы) обязаны возносить Богу. Являя собой доксологи-
ческую сердцевину литургии, она обладает
ослепительным престижем и самоочевидностью; и все же,
несмотря на уточнения и разъяснения теологов,
разумеется, нельзя сказать, что ее основания столь же
лучезарны.
С тех пор как существует слава, существует
прославление. И не только в мирской сфере. Kabod,
которым, будучи «царем славы» (melekha-kabod),
обладает YHWH, есть нечто такое, что должны возносить
ему люди. Возглас «Da* kabod a YHWH, вознеси Ему
благодарность», не прекращает звучать из уст детей
Израиля. Он достигает своей кульминации в три-
святом Ис. 6:3, где говорится, что «вся земля полна
славы Господа». Именно этот прославляющий
kabod формально преобразуется литургией в доксоло-
гию как таковую, в синагоге принимающую форму
351
ЦАРСТВО И СЛАВА
kaddish) который прославляет, благословляет и
восхваляет имя YHWH.
Ранние свидетельства христианских
славословий, обращенных к тому, кто как «господин»
или «отец» славы уже вполне ею наделен (или
предположительно наделен), можно обнаружить в
великом эсхатологическом славословии Откр. 4-3>
о котором мы поговорим позже, и в письмах
Павла (в форме предписания —«Прославляйте!», doxa-
sate, 1 Кор. б:20, а также в форме ритуальных
славословий типа «Ему слава во веки веков! Аминь»,
Евр. 13-21). Здесь церковь ритуально формализует
прославление как в рамках литургии, так и в
повседневной обязанности молитвы.
Как бы то ни было, теологи дают этой двоякой
фигуре славы весьма своеобразное объяснение.
Субъективная слава есть не что иное, как радостный
отклик человека на объективную славу Бога. Мы
восхваляем Бога не потому, что он в этом нуждается
(он и так уже исполнен славы); и не потому, что это
нужно нам. «Единственная причина восхвалять
Господа состоит в том, что он достоин хвалы» (MascalL
Р. 112). В этой совершенно круговой аргументации
субъективная слава обусловливается славой
объективной, так как последняя достойна славы. Иными
словами, прославление обусловлено славой, потому
что оно из нее некоторым образом вытекает.
Этот порочный круг кристаллизуется в XIII веке
в схоластическом определении, которое дает славе
Вильгельм из Альверни:
Согласно первому значению, слава Господа есть
не что иное, как его сверхвыдающееся
великолепие или благородство: такова слава Господа
самого по себе или в себе самом — слава, по причине
которой ему должно возносить хвалу, прославле-
352
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
нис и всякого рода поклонение. Согласно
второму значению, славой Господа зовется та слава,
посредством которой он прославляется, то есть
почитается, восхваляется и боготворится
избранными и вообще всеми людьми. [Guglielmo. P. 320.]
К Как было показано в отношении термина «порядок»,
который означает и трансцендентную взаимосвязь с Богом
(ordo ad Deum), и имманентное свойство творений (ordo
ad invicem), — слава являет собой сущностный атрибут
Бога и в то же время нечто такое, что творения обязаны
возносить ему и что выражает их с ним взаимосвязь.
Подобно тому как двоякое значение термина «порядок»
делает из него нечто такое, что в конечном счете будто бы
соответствует самой божественной сущности, так и
двойственность термина «слава» делает из него имя, которое
определяет глубинную природу Бога. В данном смысле оба
термина являются не понятиями, а сигнатурами.
8.11. Даже Барту в его трактате не удается
уклониться от кругообразного характера славы.
Напротив, слава находит в нем свою предельную
формулировку, где сдержанность лютеранской традиции
в отношении теологии славы оттеснена на второй
план. Барт начинает с констатации того факта,
что слава в Новом Завете означает как честь,
которой Бог обладает сам по себе, так и честь, которую
воздают ему творения. Однако эта встреча двух
противоречивых значений в одном термине
обусловлена «высшей необходимостью» {Barth. Р. 756)- Ведь
слава и хвалебная песнь, которые творения
возносят Богу, суть не что иное, как «эхо» [Widerhalf]
(Ibid. Р. 753)> отклик на божественную славу. Имея
в ней свое обоснование, прославление «может быть
понято в собственном и определяющем смысле лишь
как производная славы Господа» (Ibid.). Более того,
353
ЦАРСТВО И СЛАВА
бытие и свобода творения по сути зависят от акта
прославления и вознесения благодарности.
«Творение становится свободным во славу Господа не в том
смысле, что оно само по себе могло или желало бы
стать таковым, но в том смысле, что оно стало
свободным лишь посредством славы Господа» (Р-735)-
Она не просто благодарит: «она сама по себе есть
благодарность [Dank]» (Ibid.). Циркулярный
характер славы обретает здесь свою онтологическую
формулировку: иными словами, быть свободными ради
того, чтобы прославлять Бога, означает признавать,
что в нашем собственном бытии мы
предопределены славой, посредством которой мы восхваляем
славу, позволяющую себя восхвалять. «Способность
прославлять Бога не принадлежит существу
творения, [...] эта способность принадлежит Богу [...].
Бог дарует себя творению, [...] а творение,
которому он себя дарует, может прославлять его» (Р. 757)-
Освобождение творения от его «неспособности»
проявляется в прославлении, оно «выливается в
восхваление Бога» (Р. 75*0 •
Если творение в своей сути есть прославление
славы — то есть слава, которую божественная слава
сама себе воздает, — то становится очевидным,
почему жизнь творения достигает своей высшей
точки в послушании {Lebensgehorsam. Р. 760). «Творению
только и остается, что благодарить Господа и
служить ему. В этом служении и в этой благодарности
она может предложить ни больше ни меньше как
самое себя» (Ibid.). Местом этого служения по
преимуществу является Церковь. В исключительно
возвышенной тональности, более приличествующей
католическому теологу, в самом конце своего
трактата Барт воспевает Церковь как собственное
пространство славы. Конечно, Церковь не
отождествляется у него, как у Петерсона, с сообществом ангелов
354
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
и блаженных, которые прославляют на небесах
славу Господа (Р. 761). И все же Церковь есть форма,
в которой мы «окружены славой Господа и
участвуем в ней» (Ibid.).
Теперь должно стать ясно, в каком смысле
априорное исключение из теории славы любой отсылки
к политической сфере может вводить в заблуждение.
Ведь, как мы наблюдали у Петерсона, за
вытеснением политики из теологии следует то, что обычно
бывает после всякого вытеснения, то есть ее
возвращение в неподобающей форме славословия. Столь
абсолютное сведение творения к его
прославляющей функции не может не вызывать в памяти
поведение, которого мирские власти — как в Византии,
как и в Германии 30-х годов, что Барт намеренно
обошел вниманием, — требуют от своих
подданных. Здесь высшее достоинство и максимальная
свобода также состоят в прославлении правителя.
И опять же, здесь прославление правителя также
необходимо не потому, что он в нем нуждается, но,
как демонстрирует блеск его инсигний, трона и
короны, потому, что он сам по себе исполнен славы.
Парадигма в обоих случаях носит один и тот же
круговой характер.
8.12. Парадокс славы выражается в следующем:
слава принадлежит исключительно Богу от
вечности и в нем останется тождественной в вечности,
при этом никто не сможет приумножить или
приуменьшить ее; в то же время слава есть
прославление, то есть нечто такое, что все творения
должны непрестанно возносить Богу и чего Бог требует
от них. Отсюда следует другой парадокс, который
теология стремится выдать за решение первого:
слава, хвалебное песнопение, которое творения должны
возносить Богу, в сущности проистекает из самой
355
ЦАРСТВО И СЛАВА
славы Господа; она есть не более чем необходимый
ответ и в некотором роде эхо, пробуждаемое в них
славой Господа. Иными словами (такова третья
формулировка парадокса): все, что совершает Бог —
от дел творения до экономики искупления, —он
совершает исключительно в силу своей славы. И тем
не менее творения обязаны возносить ему за это
благодарность и славу.
Этот парадокс в троякой форме достигает своей
кульминации в посттридентской и барочной
теологии, а именно в тот момент, когда теория верховной
светской власти обретает новую форму. В своей
первой формулировке парадокс, так сказать,
прорывается в призыве Игнатия де Лойолы, ставшем
своеобразным лозунгом Общества Иисуса: «Ad maiorem
Dei gloriam»9. Было много споров по поводу
происхождения и смысла этого лозунга, идеальным
образом передающего суть намерения Игнатия в тот
момент, когда он решает оставить мирские
почести ради почитания Бога. Так или иначе, очевидно,
что он доводит до предела парадокс славы,
поскольку человеческая деятельность прославления теперь
состоит в невыполнимой миссии, то есть в
непрестанном приумножении божественной славы,
которая никоим образом не может быть приумножена.
Или же — и, возможно, это и есть истинный смысл
лозунга—невозможность приумножить внутреннюю
славу Господа выливается в безграничное
расширение деятельности внешнего прославления со
стороны людей, в особенности членов Общества Иисуса.
То, что не может быть приумножено — слава в
первом значении термина, —требует бесконечного
приумножения славы в плане внешнем и субъективном.
9- «К вящей славе Божией» (лат.).
35б
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
С одной стороны, это означает, что связь между
славой и прославлением разорвалась и что мирская
деятельность прославления зиждется на славе Господа,
которая должна ее обосновывать; с другой
стороны, это значит, что прославление начинает
реагировать на славу и что укрепляется представление
о том, будто действие людей может влиять на
божественную славу и преумножать ее. Иными словами,
четкость разграничения между славой и
прославлением начинает размываться, и акцент постепенно
смещается с первой на второе.
Примат прославления над славой в виде
манифеста наглядно сформулирован в небольшом
сочинении «De perfectionibus moribusque divinis» (1620)
Леонарда Лессиуса, теолога-иезуита,
оказавшего длительное влияние на теологию славы в XVII
и XVIII веках. В разделе, озаглавленном «De ultimo
fine», он задается простым вопросом: «Какую
пользу Бог мог извлечь из сотворения мира и управления
им?» Неожиданный на первый взгляд ответ по сути
совершенно логичен. Бог, «будучи бесконечно
совершенным и во всех планах благословенным», для себя
самого не может извлечь никакой пользы из
множественности, разнообразия и красоты творений,
которые словно «подвешены над бездной небытия
лучом божественного света» (Lessius. P. 513)- Поэтому
цель сотворения и управления миром должна быть
«чем-то внешним [quid extrinsecum] — словно
творения суть дети Божий, на него похожие, причастные
его славе и блаженству» (Ibid.).
Разумеется, Лессиусу также известно о
разграничении между внутренней славой, являющей собой
блеск и превосходство самой божественности
(объективная внутренняя слава), а также знание, любовь
и блаженство, которое Бог черпает из самого себя
(формальная внутренняя слава), и внешней славой.
357
ЦАРСТВО И СЛАВА
Но особый вклад, который он привнес своим
манифестом, как раз и состоит в опрокидывании
отношения между двумя славами. Бог не мог создать мир
и управлять им с целью обрести или приумножить
внутреннюю славу, которой он уже обладает plenis-
sime. Поэтому его целью может быть не что иное,
как обретение и приумножение славы внешней.
Слава не обязательно является имманентным
благом. Слава царей и князей, которую столь
почитают и к коей стремятся смертные,
заключена во внешнем — в блеске двора, в великолепии
дворцов, в военной мощи и тому подобное. Хотя
никакое приумножение божественной славы
изнутри невозможно, все же может иметь место
приумножение внешнее посредством
прибавления того, что, как принято считать, составляет
человеческую славу: речь идет о растущем числе
детей Божиих, ее признающих, любящих и
чтящих. В этом смысле слава Господа растет; в этом
смысле можно говорить о том, что она
приумножается. Это и есть та слава, которую Бог
намеревался обрести для себя через все свои внешние
дела. [Р. 516-517-]
Лессиус без особых раздумий приносит в жертву
логической связности этого тщеславного Бога саму
идею любви Бога к творениям. Коль скоро всякое
творение «словно ничто перед Его лицом» и коль
скоро «слава Господа превыше всякой пользы
творений», Бог в его действиях «неизбежно должен
ставить себе целью собственную славу, а не
совершенство творений» (Р. 53^). Именно эту внешнюю славу,
как свидетельствует Ис. 48:11 («Славы Моей не дам
иному»), Господь ревностно оберегает; и именно эту
славу человек должен поставить во главу всех своих
действий (Р.539)-
35«
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Без предварительного понимания этой теории
славы сложно целостно понять посттридентскую
политику Церкви, рвение миссионерских орденов
и грандиозно развернувшуюся деятельность admari-
orem Dei Gloriam Общества Христа и вместе с тем его
дурную славу. Опять же, в пространстве славы
Церковь и мирская власть надолго ступают на порог
неопределенности, в котором сложно выделить
взаимовлияния и понятийные переходы из одной сферы
в другую. В то время как суверенное территориальное
государство готовится принять форму «управления
людьми», Церковь, откладывая в сторону
эсхатологические тревоги, все больше отождествляет свою
миссию с планетарным управлением душами не столько
ради их спасения, сколько во имя «вящей славы Бо-
жией». Отсюда возмущение католического философа
XX века перед лицом этого Бога, воплощающего собой
чистый эгоизм, —своего рода «вечного Цезаря»,
который использует людей лишь «как инструмент,
чтобы доказать самому себе свою славу и могущество».
К Лишь на фоне теории славы в эпоху барокко можно
понять, каким образом столь трезвомыслящие умы, какМаль-
бранш и Лейбниц, могли помыслить божественную сливу
в терминах упоения собственным совершенством. Маль-
бранш называет славой «любовь, которую Бог испытывает
к самому себе», и, доводя до предела принцип, согласно
которому Бог действует лишь во имя собственной славы, он
отрицает, что причины воплощения следует искать лишь
в стремлении избавить человечество от греха. Посредством
воплощения в Слове Бог обретает «бесконечный блеск»
славы: «вот почему я отвергаю идею о том, что грех был
единственной причиной воплощения Сына Божьего»
(Malebranche 1, g, par. j. P. 831).
He менее малоприглядна идея славы, которую вслед
за Бейлем Лейбниц приписывает Богу в своей «Теодицее»:
359
ЦАРСТВО И СЛАВА
Бог, по словам [Бейля], «есть существо
вечное и необходимое, бесконечно доброе, мудрое
и могущественное; оно от всей вечности
обладает славой и блаженством, которые не могут
быть ни приумножены, ни приуменьшены.
Это утверждение Бейля в одинаковой
степени философское и теологическое. Смысл слов
о том, что Бог обладает славой, когда он один,
зависит от значения, в котором используется
этот термин. Можно, подобно некоторым,
говорить о том, что слава есть удовлетворение,
которое обретается в познании собственных
совершенств, и в данном смысле Бог
обладает ею от всех времен; но если под славой
имеется в виду, что ее познают другие, то можно
сказать, что Бог обретает ее лишь тогда, когда
он дает себя познавать разумным творениям,
хотя при этом Бог не обретает нового блага: ибо
скорее творения выгадывают, когда они
должным образом разумеют славу Божию. [Leibniz, 2,
109. Р. 171]
Достаточно сравнить эти представления о славе с тем,
что Спиноза пишет в схолии к 36-й теореме пятой книги
«Этики», чтобы оценить масштабы пропасти, которая
их разделяет.
8.13. Название мини-трактата Лессиуса («De
ultimo fine») отсылает к проблеме статуса блаженных
после Страшного суда. В условиях райского
блаженства, когда дело спасения будет завершено и
упразднятся «все движения и поручения» {Lessius. Р. 549)»
ангелам и блаженным не останется ничего иного,
кроме созерцания, любви и воспевания
божественной славы: они будут лишь «созерцать Его
бесконечную красоту, с невыразимой радостью наслаждаться
славой Его, в непрестанном восхвалении,
благословении и благодарности» (Ibid.).
360
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
В самом деле, одним из самых ярких
моментов спора о славе является вопрос о «славе
избранных», то есть о положении блаженных в раю. Оно
не только предполагает трансформацию тела,
которое, согласно завету Павла (Кор. 15:44)» теперь
становится «телом славы»; но все разумные творения
с их интеллектом и волей должны быть причаст-
ны к высшему благу божественной славы.
Ожесточенный спор, разделяющий теологов начиная с
первого периода схоластики, как раз касается образа
этой причастности. По мысли Фомы и
доминиканцев, определяющим компонентом райского
блаженства является разум, то есть познание или «видение
[Бога], дарующее блаженство». По мысли же Бона-
вентуры и францисканцев, блаженство обусловлено
деятельностью воли, то есть любовью.
В 1951 году молодой теолог из Оксфордского
университета Эрик Л. Маскалл публикует во
французском журнале, в котором печатались труды таких
теологов, как Жан Даниэлу, и интеллектуалов
разных мастей (среди которых были Морис де Гандий-
ак и Грэм Грин), статью, в которой тема блаженства
исследуется в перспективе, интересующей нас
непосредственным образом. По мысли Маскалла, ни
познание, ни любовь не могут удовлетворительным
образом определять высшую цель человека. Познание,
в самом деле, не только эгоистично по своей сути,
ведь оно главным образом связано с нашим
наслаждением Богом; но оно в конечном счете —по
крайней мере, по свершении Страшного суда —не несет
в себе пользы ни для людей, ни для Бога. Что же
касается любви, то она также не может быть
незаинтересованной, ибо, как напоминает святой
Бернард, любить Бога, при этом не думая о собственном
счастье, представляет собой психологическую
невозможность (MascalL P. 108).
361
ЦАРСТВО И СЛАВА
То, что единственно определяет первый и
главный элемент нашего блаженного состояния, есть
не любовь и не познание Бога, а его восхваление.
Единственная причина любить Бога
заключается в том, что он достоин хвалы. Мы
восхваляем его не оттого, что он совершает для нас благо,
хоть мы и находим в этом наше благо.
Восхваляем мы его и не потому, что это несет ему благо,
ибо по сути наша хвала не может быть ему
полезной. [Ibid. P. 112.]
Хвала, о которой идет речь, разумеется, прежде
всего есть доксология, прославление:
Хвала превыше любви и познания, хотя она
может включать в себя и преобразовывать и то,
и другое; ибо хвала не преследует никакого
интереса, но имеет своей целью одну лишь славу [...].
Даже в поклонении, которое мы воздаем
Господу на земле, главное место уделяется
восхвалению. [...] И то, что в Писании приоткрывается
нам в отношении поклонения небесного, всегда
связано с хвалой. Видение Исайи в храме, пение
ангелов в Вифлееме, небесная литургия в
четвертой главе Апокалипсиса говорят нам одно
и то же: gloria in excelsis deo10... «Господь наш Бог!
Вы достойны получать хвалу, честь и
могущество». [P. 114-]
Мы обнаруживаем здесь все элементы уже
известной нам теории славы. Особое значение славы,
конституирующее ее как конечную цель человека,
любопытным образом заключается в том, что ни Бог,
ни даже люди не нуждаются в ней и не
извлекают из нее какой-либо пользы. И все же, в отличие
от представлений Лессиуса, хвала не является здесь
10. Слава в вышних Богу (лат.).
Зб2
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
чем-то внешним по отношению к Богу. «Архетип
всякой хвалы находится внутри самой Троицы,
в вечном сыновнем ответе Слова Отцу своему
Господу» (Р. 115). Иными словами, существо Бога
буквально пронизано хвалой, и, прославляя его, люди
становятся причастными к его самому глубинному
бытию. Но если дело обстоит так, если хвала,
которую возносят ему люди, столь глубинно ему
присуща, то, стало быть, славословие некоторым образом
есть необходимая составляющая божественной
жизни. Василий использовал термин homotimos («единой
славы») как синоним слова homousios—технического
термина, который в никейском символе веры
означал единосущие, —указывая таким образом на
родство между славой и существом Бога. Возможно,
разграничение между внутренней и внешней славой
служит как раз сокрытию этой имманентности
прославления божественной сущности. А то, что являет
себя в Боге, когда разграничение размывается, есть
нечто такое, чего теология никоим образом не хочет
видеть, — нагота, которую она должна любой ценой
скрыть под лучезарным одеянием.
8.14. В католической литургии существует док-
сология, носящая примечательное имя improperia,
что означает «порицания». Впервые она
обнаруживается в литургических текстах IX века, но со всей
вероятностью ее истоки восходят к более ранним
временам. Особенность этой доксологии состоит в том,
что она предваряется антифоной, в которой Бог
обращается к народу с упреком: «Popule meus, quid feci
tibi aut in quo contrastavi te?» («Народ мой, что я тебе
сделал, чем тебе не угодил? Дай мне ответ»). В
других версиях упрек звучит из уст Христа: «Quid ultra
debui facere tibi, et non feci?» («Что еще я должен был
сделать, чего не сделал?»). Лишь после этого дьяко-
ЗбЗ
ЦАРСТВО И СЛАВА
ны отвечают с алтаря великим хвалебным
песнопением в форме трисвятого: Agios ho Theos, agios ischyros,
agios anthanatos, eleêson hêmas.
Принципиально важно в данном случае то, что
восхваления требует сам Бог. Согласно легенде
из греческого месяцеслова, он не ограничивается
произнесением нареканий, но вызывает
землетрясение, которое длится до тех пор, пока народ и
император не воспоют славословие «Sanctus Deus,
sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis». Теория
Лессиуса, согласно которой конец божественного
действия и есть чистое прославление, находит здесь
полное подтверждение. Не только, как гласит
литургия анафоры Василия, «поистине достойно и
справедливо и сообразно великолепию святости Твоей
Тебя хвалить, Тебя воспевать, Тебя благословлять,
Тебе поклоняться, Тебя благодарить, Тебя славить»,
но и сам Бог будто бы нуждается в этой хвале и
поклонении, требуя от людей «трисвятого» (trisagios
phonë) оглашения, в коем на небесах его уже
воспевают Серафимы. Если, как гласит литургия Иоанна
Златоуста, сила Господа несравненна и непредста-
вима (aneikastos), a его слава выше любого разумения
(akatalëptos), почему нужно непрерывно
провозглашать и представлять ее в славословиях? Зачем
нужно называть его «владыкой» (despotes), зачем взывать
к «сонмам и воинствам» (tagmata kai stratias) ангелов
и архангелов во имя «служения его славе» (leitourgian
tes doxês)? Ответ в форме аккламации типа axios,
состоящий в монотонном скандировании анафор hoti
prepei soi pasa doxa, «ибо Тебе предназначена всякая
слава», заставляет думать, что это prepei («conviene,
si addice» — подобает, приличествует) кроет в себе
более глубинную потребность, что аккламация и здесь
имеет смысл и значение, которые от нас ускользают
и которые, возможно, следовало бы изучить.
3^4
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
8.15. В западной Церкви хвалебной песнью по
преимуществу— doxologia maxima — является TeDeum,
авторство которого рукописная традиция
приписывала без особых на то оснований Амвросию и
Августину. Историки литургии, длительное время спорившие
о его авторе, времени и месте написания, более или
менее единогласно выделяют в нем три части, которые
в какой-то момент соединились, образуя 29 строк:
первая часть (1—13), самая древняя, являющая собой
гимн Троице и написанная, возможно, в доникейскую
эпоху; вторая часть (14-21), полностью христологи-
ческая, написанная позже всех, так как в ней, по всей
видимости, содержится свидетельство об антиариан-
ской полемике; и последняя часть (22-29),
завершающая хвалу серией цитат из Псалмов.
Исследователи, как всегда всецело
поглощенные вопросами хронологии и атрибуции,
упускают из виду все же несомненно очевидный факт —
а именно, что каким бы ни было его происхождение,
Те Deum от начала до конца состоит из серии
аккламаций, в которых тринитарные и христологиче-
ские элементы помещены в фактически однородный
доксологический и эпентетический контекст.
Строки 1-ю со всей очевидностью нацелены
единственно на то, чтобы гарантировать божеству хвалу и
славу, повсюду окружающую его на земле, как на небе,
в прошлом, как в настоящем:
Те Deum laudamus te Dominum confitemur
Te aeternum patrem omnis terra veneratur
Tibi omnes angeli Tibi caeli et universae potestates
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant
Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae
Tegloriosum apostolorum chorus
Te prophetarum laudabilis numerus
365
ЦАРСТВО И СЛАВА
Те martyrum candidatus laudat exercitus
Те per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia11.
Упоминание лиц Троицы, следующее за этим
тщательным перечислением имен и функций
прославляющих, казалось бы, направлено главным образом
на то, чтобы уточнить, к кому именно обращена
хвала, посредством ее повторного вознесения в форме
доксологических атрибутов:
Patrem immensae maiestatis
Venerandum tuum verum et unicum Filium
Sanctum quoque paraclytum Spiritim12.
Однако даже в последующих строках христологиче-
ского характера, которые безусловно содержат док-
тринальные элементы (например, формула hominem
suscipere), воззвание к Христу осуществляется прежде
всего в эсхатологических терминах, таких как «Царь
славы»: именно в таком качестве он прославляем
верующими, которые взамен просят о возможности
быть причастными к его вечной славе:
Tu rex gloriae Christe
Tu patris sempiternus esfilius
и. Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем.
Тебя, Отца вечного, Вся земля величает.
К Тебе все ангелы, к Тебе небеса и все силы,
к Тебе херувимы и серафимы непрестанно взывают:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф,
полны небеса и земля величия славы Твоей.
Тебя славный хор апостольский,
Тебя хвалебный сонм пророческий,
Тебя пресветлое мученическое воинство хвалит,
Тебя по всей вселенной Святая Церковь исповедует.
12. Отца безмерного величия,
досточтимого, единого и истинного Сына,
и Святого Духа Утешителя.
Збб
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Tu ad liberandum suscepisti hominem non horruisti
virginis uterum
Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus régna
caelorum
Tu ad dexteram Dei sedes in gloria patris
Iudex crederis esse venturus
Te ergo quaesumus tuisfamulis subveni quos pretioso
sanguine redimisti
Aeternafac cum Sanctis tuis in gloria munerari13.
В заключительных антифонах выделяются те из
библейских цитат, в которых содержится заверение
в том, что служение славе будет вечным и
непрерывным день за днем, во все века:
Per singulos dies benedictimus te
Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculi
saeculum14.
С еще большей очевидностью проявляется акклама-
тивная структура другого великого славословия,
Gloria, которое самые ранние документы, такие как
Канон Апостольских правил (380 год), относят к утренней
литургии. Его текст являет собой сплошной коллаж
13. Ты — Царь славы, Христе,
Ты —Отца присносущный Сын,
Ты, ко избавлению приемля человека,
не возгнушался лоном Девы,
Ты, одолев жало смерти,
отверз верующим Царство небесное,
Ты одесную Бога восседаешь во славе Отчей.
Веруем, что Ты придёшь судить нас.
Поэтому просим: помоги рабам Твоим,
Которых Ты драгоценной кровью искупил.
Навеки сопричисли их ко святым Твоим во славе.
14. Во все дни благословим Тебя
и восславим имя Твоё вовеки и во веки веков.
Зб7
ЦАРСТВО И СЛАВА
разнообразных аккламаций, восхвалений,
благословений, благодарности и мольбы:
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis
Laudamus te
benedicimus te
adoramus te
glorificamus te
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam
Domine Deus rex caelestis
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe
Domine Deus agnus Dei
Filius patris, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis..}s
Петерсон, Алфёлди и Канторович, как мы уже
удостоверились, показали, что литургические
аккламации часто имеют нерелигиозное происхождение
и что формулы славословной литургии берут на-
15- Слава в вышних Богу,
и на земли мир,
в человеках благоволение.
Хвалим Тя,
благословим Тя,
кланемтися,
Славословим Тя,
Благодарим Тя
великия ради славы Твоея.
Господи, Царю небесный,
Боже, Отче вседержителю,
Господи Сыне Единородный Иисусе Христе,
И Святый Душе.
Господи Боже, Агнче Божий,
Сыне Отечь, вземляй грехи мира,
помилуй нас.
368
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
чало в аккламациях имперского церемониала.
Однако существует вероятность, что подобные
переходы происходили в обоих направлениях. Нам
известно, к примеру, что и Те deum, и Gloria
исполнялись и вне литургического контекста:
первый—на поле сражения (при Лас-Навас-де-Толоса,
а также в Льеже в 1213 году), а второй — при
обнаружении тела мученика Маллоса и в момент
прибытия папы Льва III ко двору Карла Великого. Во всех
этих случаях, как это часто бывает с аккламациями,
речь шла о внезапной волне восторга и ликования.
Но, оставив в стороне отношения между светским
и религиозным церемониалом, чем можно
объяснить массивное присутствие аккламаций в
христианской литургии? Почему необходимо непрерывно
прославлять Бога, хотя теологи (по крайней мере,
до определенного момента) неустанно уверяют нас
в том, что он вовсе в этом не нуждается? В самом ли
деле разграничение между внутренней и внешней
славами, которые взаимодополняют друг друга,
в достаточной мере это объясняет? Или же оно
кроет в себе попытку объяснить необъяснимое, сокрыв
нечто такое, что было бы слишком неловко оставить
без объяснения?
8лб. Незаконченная докторская диссертация
Марселя Мосса о молитве, опубликованная лишь
в 1968 году, справедливо была определена как «один
из самых значительных трудов» {Mauss 1. Р. 35^)> ко"
торые великий французский антрополог оставил
нам в наследие. Он начинает с того, что отмечает —
и его наблюдение 1909 года любопытным образом
перекликается с аналогичными рассуждениями
Канторовича касательно ситуации в области
исследований литургии почти сорок лет спустя —
исключительную скудость научной литературы в отношении
Зб9
ЦАРСТВО И СЛАВА
столь важного феномена. Филологов, привыкших
анализировать значение слов, а не производимое
ими действие, отталкивал бесспорно ритуальный
характер молитвы; антропологи, занятые
исключительно изучением примитивных культур, оставили
в стороне то, что представлялось им поздним
продуктом эволюции религий. Таким образом,
материал в очередной раз был передан в руки теологов
и религиозных философов, чьи теории по
очевидным причинам «весьма далеки от того, чтобы
удовлетворять требованиям научности» (Ibid. P-371)-
Текст диссертации Мосса резко обрывается
на странице 175» ровно в тот момент, когда он
предположительно собирался изложить
окончательные выводы анализа речевых ритуалов,
характерных для народности австралийских аборигенов
арунта, которые он избрал своим terrain de
recherche16-, но на предшествующих страницах, как и в
серии статей примерно того же периода, он не
оставляет читателю никаких сомнений по поводу гипотез,
которыми он руководствовался в своем
исследовании. Молитва —даже если она имеет форму хвалы
или осанны —прежде всего являет собой речевой
ритуал, а значит, как и всякий ритуал, она есть
«результативное действие», связанное с сакральными
предметами и воздействующее на них. Как таковая она
обладает своей особой действенностью,
поскольку ее слова могут приводить к самым необычным
явлениям. Некоторые первые раввины
благодаря бераке, произнесенной к месту, могли
преобразить воду в огонь, а великие индийские цари
с помощью ритуальных мантр превращали
нечестивых брахманов в насекомых, которые пожи-
i6. Поле исследования (фр.).
370
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
рали города. Даже когда молитва, по видимости,
становится чистым поклонением, утратив всякую
действенность, когда ее сила, кажется, полностью
переходит к богу, как в католической, еврейской
или исламской молитве, она все равно остается
действенной, поскольку побуждает бога к
действию в том или ином направлении17. [Р. 4ю-]
В этой перспективе не всегда просто разграничить
магию и религию. «Между заклинаниями и
молитвами, как и между религиозными и магическими
обрядами, существуют разнообразные
промежуточные ступени»18 (Р. 4и)- Однако Мосс
разграничивает магические и религиозные ритуалы, поскольку,
тогда как первые, по видимости, обладают некоей
имманентной властью, вторые производят свои
эффекты лишь благодаря вмешательству
божественных сил, которые существуют за пределами обряда.
«Индеец совершает магический обряд, когда,
отправляясь на охоту, считает, что способен
остановить солнце, забросив камень на дерево
определенной высоты; а Иисус Навин совершает религиозный
ритуал, когда обращается к YHWH, чтобы опять-
таки остановить солнце»19 (Р. 4°7)- И если целью
действия в заклинаниях и магических обрядах
является не влияние на сакральные существа, а
непосредственное воздействие на реальность, то
молитва, «напротив, оказывается средством воздействия
на сакральные существа; именно на них она влияет
17- Ср.: «Молитва»: Мосс М. Социальные функции священного/
Избранные произведения. Спб: Евразия, 2000. С. 273-
Перевод здесь и далее представлен в частично
измененном виде.
i8. Текст русского перевода незначительно изменен. См.: Там же.
С. 274.
19- См.: там же. С. 271.
371
ЦАРСТВО И СЛАВА
и именно в них вызывает изменения»20 (Р. 44)-
Молитва — согласно определению, которое дает Мосс,
прежде чем перейти к полевым изысканиям, — «это
религиозный речевой ритуал, воздействующий
непосредственно на сакральные предметы»21 (Ibid.).
Значительное влияние на мысль Мосса, в
особенности на его понимание религиозных ритуалов,
оказала работа «La doctrine du sacrifice dans les Brâh-
manas»22 (1899), на которую год спустя после ее
публикации он напишет рецензию. Ее автор, Сильвен
Леви, в прошлом профессор Мосса по индологии
в Париже, хотел показать, что самая древняя
брахманская религия «не носила морального характера»
и что жертвоприношение в сущности
определяется своими материальными эффектами: «Оно
всецело заключается в действии, заканчивается вместе
с ним и полностью состоит в неукоснительном
соблюдении обрядов» (Manss. P.353)- Но самый
удивительный результат исследования Леви заключается
в том, что индийское жертвоприношение не просто,
как всякий обряд, являет собой результативное
действие. Оно не ограничивается тем, что влияет на
богов, — оно создает их.
По мысли теологов ведической эпохи, боги,
как и демоны, возникли из жертвоприношения.
Именно благодаря ему они вознеслись на небо —
как и поныне возносится тот, кто совершает
жертвоприношение. Они объединяются вокруг
жертвоприношения; они есть плоды жертвоприношения,
которые разделяются между собой, и от их рас-
20. Там же. С. 277-
21. См.: Там же. С. 278.
22. Речь идет о книге Сильвена Леви «Учение о жертвоприно
шении среди брахманов».
372
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
пределения зависит способ, которым будут
поделены сферы их влияния в мире. Более того,
жертвоприношение не просто создает богов. Оно само
есть бог, притом бог по преимуществу. Это
хозяин, неопределенный, бесконечный бог, дух,
который всему дает начало, который непрерывно
умирает и непрерывно возрождается. [Ibid.]
Жертвоприношение, как и молитва, вводит нас
таким образом в теургическое измерение, в котором
люди благодаря исполнению серии ритуалов —
невербальных в случае жертвоприношения и речевых
в случае молитвы — более или менее эффективно
воздействуют на богов. Если это так, то
предположение о примате прославления над славой следует
рассматривать в ином плане. Возможно,
прославление — не просто нечто наиболее подобающее
божественной славе; оно, подобно действенному
ритуалу, само по себе производит славу. Если же слава есть
сама сущность божественности и истинный смысл ее
экономики, то она принципиальным образом
зависит от прославления — а значит, она имеет все
основания на то, чтобы требовать этого прославления
посредством упреков и предписаний.
К Решительно отстаивая свой тезис о теургическом
характере молитвы, Мосс опирался на идею Эмиля Дюркгей-
ма — с которым его связывали как интеллектуальные, так
и родственные отношения, —сформулированную им в
«Элементарных формах религиозной жизни». Дюркгейм пишет:
Следует воздерживаться от того, чтобы,
подобно Смиту, полагать, будто культ был
основан исключительно ради пользы людей, а богам
неведомо, что с ним делать: они в нем
нуждаются не меньше, чем сами верующие. Разумеется,
без богов люди не могли бы жить. Но истинно
373
ЦАРСТВО И СЛАВА
и то, что без поклонения боги умерли бы.
Следовательно, культ не имеет своей целью лишь
соединение неосвященных субъектов с
сакральными существами; он также призван поддерживать
существование последних, непрерывно
воссоздавать и возрождать их. [Durkheim. P. 494-]
8.17. Мысль о том, что между человеческими
действиями, и в частности речевыми ритуалами, и
славой Бога существует тесная взаимосвязь,
присутствует как в раввинской литературе, так и в каббале.
Шарль Мбпсик посвятил этой теме образцовое
исследование с многозначительным подзаголовком
«Les rites qui font Dieu», «Ритуалы, которые создают
Бога» (1993)- T°> что каббала содержит в себе
теургические элементы, было фактом общеизвестным;
однако Мбпсик, посредством анализа впечатляющего
количества текстов, показывает не только, что речь
идет о самом что ни на есть ключевом для нее
мотиве, но и что аналогичные темы уже прочно
присутствуют в раввинской литературе первых веков.
Здесь, наряду с текстами, воспроизводящими
принцип, уже знакомый нам по христианской традиции,
согласно которому соблюдение культа «не приносит
пользу Богу и не вредит ему», обнаруживается
множество свидетельств, в которых утверждается
совершенно обратное. Уже в мидраше на Плач Иеремии
говорится о том, что «когда израильтяне исполняют
волю Святого, благословен будь Он, они
преумножают мощь Его свыше, как сказано: „Итак да
возвеличится сила Господня" (Числа 14:17)- Когда же
они не исполняют волю Святого, благословен будь
Он, они ослабляют силу Его свыше — и посему сами
блуждают обессиленные перед лицом того, кто их
преследует» (цит. по: Mopsik. P. 53)- Согласно другим
374
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
раввинским источникам, молитвы и хвала обладают
уникальной властью коронования YHWH царским
венцом, сплетаемым для него архангелом Сандаль-
фоном через воззвание к его имени: все это походит
на самую настоящую церемонию коронации, в
которой Бог, как говорится в мидраше, «обязуется
принять корону от своих слуг»; но Мопсику не
составляет труда показать, что сама царственность YHWH,
по видимости, некоторым образом проистекает
из молитв праведников (Ibid. P. 58).
В каббале это теургическое представление
достигает своей вершины. Прямая связь между
поклонением и славой, отождествляемой с сефирой Малькут
(Царство), составляет основной предмет
размышлений Шема-Това бен Шема-Това, как и Меира
ибн Габбаи, испанского каббалиста,
посвятившего этому отношению свой основополагающий труд
«Священнослужение» (1531)- Шем-Тов, обратившись
к тексту мидраша на Плач, истолковывает его в том
смысле, что ритуальные практики вызывают «низ-
лияние» небесного мира на мир земной:
Формы низшего мира, в самом деле, имеют
своим истоком высшие реальности, так как человек
представляет собой перевернутое дерево,
корни которого находятся наверху; когда человек
соединяется со Славой Имени, очищаясь и
сосредоточиваясь, он может вызвать низлияние
высшей славы подобно тому, как в момент
зажигания свечи или лампы свет наполняет весь дом.
Но если человек пренебрегает служением Богу
и не уповает на него, то происходит обратное
поглощение божественного света, который озарял
собой низшие существа. [Mopsik. P. 2бо.]
Со своей стороны, ибн Габбаи, перековеркивая
раввинское выражение «ради нужд храма», выдви-
375
ЦАРСТВО И СЛАВА
гает настоящую теургическую теорию в
формуле «Поклонение — это „потребность Всевышнего"»
(Ibid. P. 365). Прибегая к смелой музыкальной
метафоре, он сравнивает отношение между
поклонением и славой со взаимодействием между двумя
музыкальными инструментами, настроенными на один
и тот же диапазон, «благодаря чему затрагивая
струну одного из них, мы вызываем колебание
соответствующей струны другого» (Р. 367).
В великих текстах средневековой каббалы
утверждение теургического характера культа
основывается на особой трактовке Пс. 119:126, согласно
которой строчка, по всей видимости означающая
«время Господу действовать», истолковывается в смысле
«время создавать Бога» (P. 371)- Перед лицом крайних
следствий такой экзегезы ученые задались вопросом,
как могло случиться так, что именно в лоне религии,
неустанно изобличавшей тщетность языческих богов,
созданных людьми, мог родиться столь радикальный
тезис, по сути гласящий, что человек является
«творцом творца» —или по крайней мере тем, кто
поддерживает его существование и непрестанно его
«возрождает». И все же в тройной формулировке «создавать
Имя», «создавать шабат» и «создавать Бога»
несомненно именно этот тезис находит выражение у каб-
балистов из Жироны и в Зоаре, как и в каббале после
изгнания евреев из Испании: «Тот, кто соблюдает
заповедь на земле, тем самым утверждает и исполняет
ее на небе» (Эзра из Жироны. Цит. по: Mopsik. P. 55*0•
Создавать не обязательно означает «творить
ex novo»: речь идет скорее о том, что в отсутствии
ритуальных практик божественная плерома теряет
свою силу и приходит в упадок —иначе говоря, Бог
нуждается в постоянном восстановлении и
поддержке, которые ему обеспечивает благочестие людей;
точно так же их нечестивость ослабляет его. В свете
376
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
того, что между культом и славой существует тесная
связь, которую мы уже констатировали, каббалисты
в данном смысле говорят о «восстановлении славы»:
Исполнять заповеди на земле означает исполнять
их и на небе и пробуждать их прообраз во имя
восстановления высшей Славы. [...] Речь идет
о восстановлении Славы —тайны славного
Имени [...]. Праведник на земле пробуждает
праведника на небесах, и вместе они восстанавливают
и творят высшую Славу и преумножают и
укрепляют ее силу... [Габбаи. Цит. по: Mopsik. P. 6о2.]
Это представление столь основательно,
распространено и внутренне непротиворечиво, что, приводя
в заключении своего исследования тезис Дюркгейма
о божественной потребности в поклонении, Мопсик
в сдержанной манере высказывает предположение
о том, что ученый мог поддаться влиянию каббалы:
«Будучи сыном раввина, Дюркгейм начал свои
изыскания в раввинской школе Парижа. Оставим
историкам социологии заботу извлечь из этого выводы,
если это допустимо» (Р. 648).
8л8. В наши намерения не входило ни
выдвижение гипотез о теургическом происхождении доксо-
логий и аккламаций, ни провозглашение научных
мифологем по поводу генезиса славы. Социологи,
антропологи и историки религий, как мы
убедились, отчасти —и небезрезультатно —уже
исследовали эту проблему. Для нас же речь, скорее, идет
—таково значение археологии славы, которую мы здесь
очертили, — о том, чтобы попытаться в очередной
раз понять функционирование управленческой
машины, биполярную структуру которой мы
попытались определить в ходе нашего исследования.
Анализ теологии славы есть лишь тень, которую наше
377
ЦАРСТВО И СЛАВА
вопрошание о структуре власти отбрасывает на
прошлое. Тот факт, что доксологии и аккламации
направлены в конечном счете на то, чтобы
производить и преумножать славу, разумеется, не может
не представлять для нас интерес. Не
обязательно разделять шмиттианский тезис о
секуляризации, чтобы утверждать, что проблемы политики
становятся более умопостигаемыми и понятными
в контексте их связи с теологическими
парадигмами. Мы, напротив, попытались показать, что это
происходит потому, что доксологии и
аккламации в некоторым смысле образуют порог
неразличимости между политикой и теологией. И
подобно тому как литургические доксологии производят
и укрепляют славу Бога, аккламации вне
религиозного контекста не являются декорированием
политической власти, но фундируют и обосновывают
ее. И если имманентная и экономическая троица,
теология и ойкоиомия образуют в
провиденциальной парадигме биполярный механизм, из
разделения и взаимодействия полюсов которого
проистекает божественное управление миром, то Царство
и Правление составляют два элемента или две
стороны единой машины власти.
Но нас интересует не столько установление этих
соответствий, сколько понимание их функции.
Каким образом литургия «создает» власть? И если
управленческая машина амбивалентна (Царство
и Правление), то какую функцию выполняет в ней
слава? Социологи и антропологи всегда оставляют
за собой возможность прибегнуть к магии как к
сфере, граничащей с рациональностью и
непосредственно ей предшествующей, и потому в конечном
счете позволяющей объяснить как пережиток
магии то, что нам не удается постичь в устройстве
обществ, в которых мы существуем. Мы не верим в ма-
37«
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
гическую силу аккламаций и литургии и убеждены,
что ни теологи, ни императоры никогда всерьез в нее
не верили. Столь весомое значение славы в
теологии прежде всего обусловлено тем, что она
позволяет сводить воедино в рамках управленческой
машины имманентную и экономическую троицу, бытие
Бога и его действие, Царство и Правление.
Определяя Царство и сущность, она также
детерминирует смысл экономики и Управления. Иными
словами, она позволяет восполнить тот самый разрыв
между теологией и экономикой, который тринитар-
ной доктрине так и не удалось окончательно
преодолеть и который лишь в ослепительной фигуре славы,
кажется, достигает своего возможного восполнения.
8.ig. В христианской литургии аккламацией
по преимуществу является аминь. Уже в Библии этот
термин, относящийся к семантической сфере
постоянства и верности, используется в функции
изъявления согласия или в качестве отклика на
славословие (ЬегакаК), а позднее, в синагоге, в качестве
ответа на благословение. Существенна эта
анафорическая функция аминя, который всегда должен
относиться к предшествующему слову, как
правило произносимому кем-то другим. Произнесение
этой аккламации имело столь важное значение
в иудаизме, что в Талмуде (Шаббат, 119b) сказано:
«Тот, кто вкладывает в аминь всю свою силу,
открывает для себя двери в рай». Завершение им
славословия, часто встречающееся у Павла (Рим. 1:25:
«Благословен во веки, аминь»), полностью согласуется
с этой традицией, которую мы обнаруживаем в
основе самой ранней христианской литургии, в
частности в аккламации, завершающей евхаристическую
молитву {prunes respondent: amen). А в свете
засвидетельствованного нами особого отношения, связы-
379
ЦАРСТВО И СЛАВА
вающего славу и божественную сущность, не вызовет
удивления тот факт, что на вопрос: «Что означает
аминь?» — Талмуд отвечает: «Это Бог, верный царь»
(el melek ne'emari) (b Трактат Шаббат, идб), а также
то, что аналогичное отождествление
божественности и аккламации можно обнаружить в Откр. з:Ц>
где Христос определяется как «Аминь, свидетель
верный» (hoAmën, ho martys ho pistos).
Интересно проследить историю перевода этого
термина —или, скорее, его не-перевода — на
греческий и латынь. Семьдесят толковников, которые
зачастую передают его словом genoito (да будет так),
а иногда —словом alèthôs (воистину), в большинстве
случаев оставляют его без перевода (как, например,
в Неем. 8:6: «И весь народ отвечал: аминь»). Новый
Завет в основном ограничивается
транскрибированием этого термина греческими буквами, хотя в
некоторых отрывках под словами alêthôs и nai, по видимости,
подразумевается amên. Латинские переводы Ветхого
Завета, используя вариант genoito, введенный
семьюдесятью толковниками, передают amen cnoboußat.
Августин неоднократно ставит вопрос о
правомерности перевода этого термина на латынь. Он
прекрасно осознает квазиюридическое значение данной
аккламации, которую он многозначительно
сравнивает с правовыми актами римского права: «Fratres
mei, amen vestrum subscriptio vestra est, consensio vest-
ra est, adstipulatio vestra est»: «аминь —это ваша
подпись, ваше одобрение, ваше согласие как гарант
исполнения соглашения» {Августин. Проповеди. Фр. з)>
а в небольшом трактате о переводе, включенном в
сочинение «De doctrina Christiana»23, он
разграничивает два термина, amen и alleluia, которые не переводят-
23. «О христианском учении» {лат.).
38о
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
ся, хотя могли бы быть переведены, от междометий
типа osanna и racha, которые, обозначая скорее
душевное изменение, нежели понятие, «не могут быть
переведены в узус других языков» (2, и, i6). Однако
он отмечал, что термин amen остался непереведен-
ным «propter sanctiorem auctoritatem» (ibid.) — из-за
их священного авторитета (снова термин из
правового лексикона). А Исидор повторяет суждение
Августина в контексте разговора о славословиях,
подчеркивая, что «эти два слова—amen и alleluia —не
дозволительно ни грекам, ни латинянам, ни варварам
переносить в собственный язык» (Is. Or. 6,19, 20).
Устойчивая тенденция трансформировать
аккламации — изначально, по всей видимости, носившие
спонтанный характер —в ритуальные формулы, в
самом деле, присутствует как в светских литургиях, так
и в религиозном богослужении. Она идет вровень
с десемантизацией характерных для аккламаций
терминов, которые, как amen, зачастую намеренно
оставляются на языке оригинала. Так,
многочисленные свидетельства подтверждают, что уже в IV веке
верующие, по видимости, понимали amen лишь
как формулу, завершающую молитву, а не как
аккламацию, являющую собой ответ на доксологию.
Однако, как и в отношении любой аккламации,
ее функция и производимый ею эффект были куда
важнее понимания ее смысла. Публика, в наше
время в концертном зале Франции или Америки
восклицающая браво, может не знать точного смысла
и грамматических свойств итальянского термина
(который действительно в данном случае остается
неизменным при обращении к женщине или к
нескольким людям24), но ему прекрасно известен эф-
24. Слово «bravo», как и все прилагательные в итальянском
языке, меняет форму в зависимости от рода и числа.
381
ЦАРСТВО И СЛАВА
фект, который данная аккламация должна
произвести. Она служит наградой актеру или виртуозу
и в то же время обязывает его вновь выйти на
сцену. Кроме того, те, кто знает мир спектакля изнутри,
утверждают, что актеры нуждаются в
аплодисментах как в своего рода пище. Это означает, что в
области славословий и аккламаций семантический
аспект языка упраздняется, и на мгновение кажется,
будто язык «вращается» вхолостую; и все же
именно через это вращение вхолостую он обретает свою
особую, почти магическую эффективность,
заключающуюся в производстве славы.
X Нередко отмечалось, что в Евангелии Иисус употребляет
аминь в значении, которому нет соответствия ни в Ветхом
Завете, ни в раввинской литературе, — то есть не в конце,
а в начале своих высказываний: например в таких
выражениях, как «Amèn amèn legôymin. ..»(в Вульгате: «Amen amen
dico vobis»). В этом необычном употреблении можно
усмотреть нечто вроде сознательного мессианского
перевертывания аккламации в аффирмацию, доксологии одобряющей
и утверждающей в положение, которое — по крайней мере,
внешне—носит функцию обновления и преодоления.
8.20. Среди незавершенных рукописей,
оставленных Моссом в момент смерти, фигурирует очерк
о понятии пищи (аппа) в Брахманах,
теологической части Вед. Среди выдуманных брахманами
в ведическую эпоху понятий — «необычайно
отвлеченных и на удивление грубых» — понятие пищи,
по мысли Мосса, имеет основополагающее
значение. Уже в Ригведах одной из целей
жертвоприношения было получение питания, соков и сил,
содержащихся в пище; а у двух из богов главным
атрибутом был прием пищи: «Агни, бог огня,
питается горючим, а Индра пьет сому, насыщая себя
382
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
этой жертвенной амброзией (амритой) — эссенцией
бессмертия» (Ibid. P. 3-4)- Но именно в Брахманах
доктрина питания достигает теологической и
«почти философской» состоятельности (P. i8). Анна
теперь уже не просто пища того или иного бога, это
«питание вообще, анна как таковая, аннадъл, горючее
и обладание этим горючим» (Р. 8). Так, аннадья
становится одним из качеств, определяющих шхатру,
царскую власть. И не только царь, которому
возносят жертвы, становится «повелителем питания»:
мы наблюдаем, как в Индии постепенно
возникает самый настоящий «культ питания», имеющий
характер общественного культа, в рамках которого
питание «становится объектом своего рода
обожествления» (Р. ц). Аннаь освобождаясь от своих
материальных свойств, становится жизненным началом,
силой, поддерживающей и преумножающей жизнь:
«можно даже сказать, что питание есть дыхание
жизни, сам ее дух» (Р. 2о). Будучи живым началом
и деятельной духовной сущностью, питание может
быть присуще как людям, так и богам, а
«жертвоприношение по сути есть не что иное, как питание
богов» (Р. 24)> в котором принимают участие и из
которого извлекают пищу также и люди. Именно сквозь
призму этого понятия питания Мосс прослеживает
становление за пределами пантеона божественных
лиц представления о Праджапати — «едином,
космическом бытии Бога, перворожденного бога
мужского пола, жертвенного и подносящего» (Р. 28).
На последней странице, как раз перед тем местом,
где рукопись резко обрывается, описывая культовую
функцию Праджапати, Мосс словно намеренно —
но не называя ее прямо —упоминает христианскую
жертву: тело Праджапати есть «материя всемирной
трапезы, [...] высшая просфора, питающая весь этот
мир», бог-пища, который словами «нет иной пищи,
3«3
ЦАРСТВО И СЛАВА
кроме меня» предлагает себя в жертву ради
жизни всех созданий (Р. 29)- «Итак, божественная
сущность, — заключает Мосс, — была в этом смысле
пищей, самим питанием. Бог был пищей» (Ibid.).
Среди записей, относящихся к
незаконченному исследованию темы питания в Брахманах,
фигурирует небольшая статья, в которой теория анны
получает неожиданное развитие: Анна-вирадж.
Вирадж — это метрическая ведическая форма,
состоящая из трех стоп по десять слогов каждая (поэтому
название можно было бы передать как
«гимн-питание»). Именно этой метрической форме Брахманы
приписывают важнейшую, особую питательную
ценность. «Идеалом брахманов было создать при
помощи сборника гимнов и песнопений живое существо,
птицу, животное или человека мужского пола и
преподнести эту высшую мистическую пищу богу-едоку
и создателю мира» (Mauss 3. Р. 594)- Решающим здесь
является то, что гимн, вирадж, не просто производит
пищу, а он сам по себе есть пища. Поэтому, чтобы
любой ценой обеспечить наличие питания,
брахманы использовали в своих обрядах мантры,
написанные этим метром; в случае их недостатка в форму
вираджа просодически перелагались строфы и
формулы, которые таковыми не были.
«Произвольные паузы после каждого десятисложника,
прерывания десятикратными музыкальными возгласами,
всякого рода варварские или утонченные приемы
применяются для того, чтобы уместить на
прокрустовом ложе вираджа песнопения,
предназначенные для исполнения в других формах» (Ibid. P. 595)*
Связь между метрической формой и ее
«питательным» характером столь существенна, что
брахманские теологи безапелляционно утверждают, что если
гимн исполняется в форме вираджа, то «это
потому, что в вирадже десять слогов, потому что вирадж
384
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
есть пища» (Р. 597)- Речь идет о столь глубинной
связи, что Мосс в незаконченной работе о понятии
питания будто бы указывает на то, что именно
спекуляции на тему ашш-питания могли бы помочь
постичь смысл просодической структуры Вед: «Эти
гимны, песни, метры, вещи, выраженные
посредством чисел, эти ритмичные жесты,
слова-эвфемизмы, возгласы, означающие питание и
расположенные так же, как пища пребывает в теле или рядом
с ним, — все это является частью системы,
объяснение которой мы сможем найти, лишь когда
проследим историю идей и символов, связанных с
питанием» (Mauss 2. Р. 15-16).
В теологии Брахманов боги питаются гимнами,
а люди, которые по обряду запевают вирадж,
обеспечивают им таким образом питание (и косвенно себе
самим). Это, возможно, позволяет пролить
неожиданный свет на литургию. Как в евхаристическом
жертвоприношении бог, дарующий себя в качестве
пищи людям, может сделать это лишь в контексте
доксологического канона —так и в Брахманах
метрическая форма гимна должна быть ритуально
закреплена, ибо она составляет пищу бога; и наоборот.
8.21. Тема конечной цели слова как прославления
весьма укоренена в поэтической традиции на Западе.
Специфической формой такого прославления
является гимн. Греческий термин hymnos восходит к
ритуальной аккламации, которую оглашали во время
бракосочетания: hymen (после чего часто
следовало hymenaios). Он не соответствует какой-либо
определенной метрической форме; но начиная с самых
ранних свидетельств, представленных в так
называемых гомеровских гимнах, он относится главным
образом к песнопению в честь богов. Таково в любом
случае его содержание в христианской гимнологии,
385
ЦАРСТВО И СЛАВА
которая переживает бурный расцвет как минимум
начиная с IV века благодаря Ефрему в Сирии,
Амвросию, Иларию и Пруденцию в латинском ареале,
Григорию Назианзину и Синезию в восточной Церкви.
В данном смысле Исидор дает гимну определение
посредством троякой характеристики — как хвалы,
как объекта хвалы (Бог) и как песнопения:
Hymnus est canticus laudantium, quod de Graeco
in Latino laus interpretatur, pro eo quod sit carmen
laetitiae et laudis. Proprie autem hymni sunt
continentes laudem Dei. Si ergo sit laus et non sit Dei,
non est hymnus; si sit et laus et Dei laus, et non can-
tetur, non est hymnus. Si ergo et in laudem Dei dici-
tur et cantatur, tune est hymnus.
(«Гимн — это песнь, возносимая хвалящими,
что по-гречески значит «хвала», ибо это
стихотворение, выражающее радость и хвалу. Но
гимнами в прямом значении слова являются те
из них, которые содержат хвалу Господу. Поэтому
если в гимне есть хвала, но обращена она не к
Господу, то это не гимн; если в гимне есть хвала
Господу, но он не воспевается, то это не гимн.
Если же он восхваляет Господа и еще и
воспевается, то лишь тогда это гимн» Isidor. Os. 6,19,17-)
Начиная с конца Средневековья священная гим-
нология переживает процесс необратимого
упадка. Хотя «Гимн творений» Франциска
Ассизского не совсем принадлежит традиции гимнодии,
он все же являет собой последний ее великий
пример, вместе с тем знаменуя собой ее конец.
Новоевропейская поэзия носит скорее элегический, чем
гимнографический, характер, за несколькими
яркими исключениями, в основном в немецкой поэзии
(в итальянской поэзии такое исключение
составляют «Священные гимны» Мандзони).
386
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Особый случай в поэзии XX века представляет
собой Рильке. Он действительно облачил явно гимно-
логическую интенцию в форму элегии и стенания.
Именно этой контаминацией, этой сомнительной
попыткой схватить мертвую поэтическую форму,
вероятно, обусловлена аура почти литургической са-
кральности, извечно окружающая «Дуинские
элегии». Их гимнологический характер в техническом
смысле очевиден с первых же строк, в которых поэт
обращается к ангельским иерархиям («Кто, если бы
я закричал, меня бы услышал из ангельских
воинств?»25), то есть как раз к тем, кто должен
исполнять гимн совместно с людьми («Мы поем
славословие для того, чтобы участвовать в гимнодии [koinönoi
tes hymnôdias... genômetha] ангельских воинств»,
как пишет Кирилл Иерусалимский в своем
«Катехизисе» (Cyr. Cat. m. P. 154))- Ангелы до конца остаются
избранными собеседниками поэта, к которым он
обращает хвалебное песнопение («Воспевает наш мир
ангелу», Рильке, g, 53)> воспеваемое ими вместе с ним
(«Так воспою я [...] радость и славу согласному хору
ангелов [zustimmenden Engeln], который примкнет
к пению». Там же. ю. 1-2). А в «Сонетах к Орфею»,
которые, по замыслу Рильке, сущностно связаны
с «Элегиями» и которые он рассматривал как
своего рода их эзотерическое толкование, он
открыто заявляет о гимнологической (то есть хвалебной)
природе своей поэзии («Rühmen, das ists!» «Хвала:
да, именно!», 7> i)- Так, восьмой сонет дает ключ
к пониманию элегических заглавий его гимнов:
стенание (Klage) может существовать лишь в сфере
восхваления («Nur im Raum der Rühmung darf die
Klage | gehn...», 8,12); подобным же образом вследствие
25. Перевод Елены Иоффе.
387
ЦАРСТВО И СЛАВА
той же неизбежности в десятой элегии гимн
переходит в стенание.
В проекте предисловия к изданию «Элегий»,
так и не увидевшему свет, Фурио Йези,
посвятивший творчеству Рильке блестящие исследования,
переворачивает устоявшуюся тенденцию критиков
видеть в «Элегиях» исключительно насыщенное
доктринальное содержание: он задается вопросом,
имеет ли вообще смысл говорить в данном случае
о «содержании». Он предлагает вынести за
скобки доктринальное содержание «Элегий»
(представляющее, впрочем, своего рода компиляцию общих
мест поэзии Рильке) и прочитывать их как серию
риторических поводов, позволяющих поэту
удержаться по эту сторону тишины. Поэт хочет
говорить; но то, что именно в нем хочет говорить,
непознаваемо. Поэтому
звучащая речь не имеет никакого содержания,
она есть чистое желание говорить. Содержание
голоса тайны, который наконец звучит, — это
не что иное, как сам факт того, что «тайна
говорит». Для того чтобы это произошло,
необходимо, чтобы модальности речи очистились от
всякого содержания, притом самым тотализующим
образом — так, чтобы свести в одной точке все
былые действия, все произнесенные слова. Вот
откуда средоточие в контексте «Элегий»
множества рилькианских общих мест, включая самые
старые. Но отсюда же проистекает и
необходимость существования некоего места, в котором
сольется содержимое этих topoi, чтобы в «Элегиях»
они могли резонировать впустую... \jfesi. Р. и8].
Йезиевское определение «Элегий» как поэзии,
которой нечего сказать, как чистого «утверждения
асемантического ядра слова» (Ibid. P. 12о), в сущно-
388
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
сти справедливо и в отношении гимна вообще: оно
схватывает интенцию, наиболее присущую всякой
доксологии. В точке, где она полностью совпадает
со славой, хвала бессодержательна; она
кульминирует в amen, который ничего не сообщает, но лишь
санкционирует и завершает сказанное. И то, о чем
«Элегии» стенают и что они одновременно восхваляют
(в соответствии с принципом, согласно которому
стенание возможно лишь в сфере прославления), —это
и есть невосполнимое отсутствие содержания гимна,
вращение языка вхолостую как высшая форма
прославления. Гимн представляет собой радикальное
упразднение языка, несущего в себе значение,
—слово, ставшее абсолютно бездеятельным и все же
поддерживаемое как таковое в форме литургии.
X В последние годы своей творческой деятельности, между
i8oo и i8o$ годами, Гёльдерлин пишет серию
стихотворений—многие из них носят незаконченный и фрагментарный
характер, — которые традиционно называют «гимнами».
Гимнами они являются в техническом смысле, поскольку
их содержание по сути касается богов и полубогов
{последние в некотором смысле выступают здесь в роли ангелов).
И все же в результате решающего по своему значению
сдвига объектом восхваления этих гимнов является не
присутствие богов, а их исчезновение. Иными словами, поздние
гимны Гёльдерлина — нечто симметрично противоположное
элегиям Рильке: если последние представляют собой гимны,
облаченные в форму элегии, — то Гёльдерлин пишет элегии
в форме гимнов. Это строгое перевертывание, это
вторжение элегии в чужеродный контекст проявляется в метрике
через нарушение ритма, свойственного гимнодии.
Необычное, резкое просодическое фрагментирование, характерное
для гёльдерлиновских гимнов, не ускользнуло от внимания
критиков. В стремлении подчеркнуть этот взрыв
синтаксической структуры Адорно дал заглавие «Паратаксис»
своему анализу поздней лирики Гёльдерлина. Норберт фон Хел-
389
ЦАРСТВО И СЛАВА
линграт, в îgi^ году подготовивший первое филологически
точное посмертное издание Гёльдерлина, более
тщательно проследил этот просодический разлом. Он обращается
к александрийской филологии, заимствуя у ее
представителей — в частности, у Дионисия Галикарнасского — поэ-
тологическое разграничение между armonia austera и аг-
monia glaphyra (резкое соединение, образцом которого был
Пиндар, — и соединение изящное, букв, «пещера», от gra-
phy, «грот») и переносит его в современную терминологию
как harte и glatte Fügung, жесткое и гладкое соединение.
В своем комментарии к гёльдерлиновскому переводу отрывков
из Пиндара он пишет, что «можно передать эти греческие
термины как сочетание жесткое и сочетание гладкое,
отметив, что они осуществляются посредством
синтаксического соединения жесткого или мягкого типа между
отдельными элементами в трех параллельных пластах поэмы: ритма
слов, melos и звука» (Hellingrath. Р. 20-21). Иными
словами, жесткое сочетание определяется не столько
паратаксисом как таковым, сколько тем фактом, что в нем отдельные
слова отрываются от своего семантического контекста
таким образом, что они образуют своего рода
самостоятельное единство; тогда как в случае мягкого соединения образы
и синтаксический контекст подчиняют себе и связывают
воедино некоторое количество слов. «Жесткое соединение
всецело направлено на то, чтобы выделить само слово,
отпечатывая его в восприятии слушателя и по возможности
вырывая его из ассоциативного контекста образов и
ощущений, к которому оно принадлежало» (Ibid. Р. 23) •
Невозможно было бы дать более точную характеристику
разорванной просодии, граничащей с апросодией, гимнов
позднего Гёльдерлина. Здесь отдельные слова—как и простые
союзы, такие как aber, «но», — изолируются и столь
ревностно замыкаются сами в себе, что прочтение стиха и строфы
представляет собой не что иное, как последовательность
скандировок и цезур, где всякая связность и всякое значение,
кажется, разбивается и сжимается в своего рода
просодическом и в то же время семантическом параличе. В этом
«стаккато» ритма и мысли гимн оборачивается элегией,
39°
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
то есть стенанием об исчезновении богов, или, скорее, о
невозможности гимна — обнаруживая в нем свое единственное
содержание. Эту суровую тенденцию поэзии к изолированию
слов, которую александрийские филологи также называли
«несвязным стилем», можно определить как «гимнологи-
ческую». Она основывается на том, что всякая доксология
в конечном счете направлена на восхваление имени, то есть
на произнесение и повторение божественных имен. Иными
словами, в гимне все имена тяготеют к изоляции и десеман-
тизации вплоть до превращения в собственные
божественные имена. В данном смысле всякое стихотворение содержит
в себе гимн, сколь бы ни было велико разделяющее их
расстояние; оно возможно лишь на фоне и в пределах горизонта
божественных имен. Иными словами, стихотворение—это поле
напряжений, пересекаемое двумя потоками—armonia auste-
га и armonia glaphyra, — чьи предельные полюса
представлены, с одной стороны, гимном, воспевающим имя, а с другой —
элегией, то есть стенанием о невозможности произнесения
божественных имен. Разрывая структуру гимна, Гёльдер-
лин тем самым изничтожает божественные имена и
вместе с тем навсегда прощается с богами.
В новоевропейской поэзии присущее гимну обособление
слова нашло свое крайнее выражение у Малларме.
Малларме оставил длительный след во французской поэзии,
придав воистину гимновую направленность доведенной до
предела armonia austera. Она до такой степени расстраивает
и дробит метрическую структуру стихотворения, что оно
буквально взрывается горстью бессвязных имен,
разбросанных по странице. Изъятые из своего семантического
контекста и застывшие в «дрожащей подвешенности» слова,
восстановленные в своем статусе nomina sacra, теперь
выказывают себя, по словам Малларме, в качестве «ce qui ne
se dupas du discours» — как нечто такое, что в языке
упорно сопротивляется связности смысла. Такой гимнообразный
взрыв стихотворения представляет собой «Coup de dés»26.
26. Имеется в виду программное стихотворение Малларме «Бро
сок костей никогда не упразднит случая».
391
ЦАРСТВО И СЛАВА
В этом непроизносимом славословии поэт — жестом
инициирующим и в то же время подытоживающим —утвердил
атеологический {или, скорее, теоалогический) характер
новой лирики, относительно которой восхваляющая интен-
циональность рилькианской элегии носит решительно
запоздалый характер.
8.22. Особое отношение, связывающее славу
и бездеятельность, — одна из сквозных проблем
теологической экономики, историю которой мы
попытались проследить. Поскольку слава обозначает
конечную цель человека и состояние, наступившее
после Страшного суда, она совпадает с
прекращением всякой деятельности и всякого действия. Она
есть то, что остается после того, как машина
божественной ойкономии завершила свою работу, а
ангельские иерархии и министерства были полностью
упразднены. Если в аду нечто вроде
карательного ведомства еще функционирует, то раю неведомо
никакое управление, более того, в нем
прекращается всякое писание, толкование, всякая теология
и даже всякое богослужение — за исключением
славословия, за исключением гимна славы. Слава
занимает место бездеятельности, учреждающейся после
Суда, она есть вечный amen, в котором
разрешается всякое действие и всякое божественное и
человеческое слово.
В иудейской традиции бездеятельность как
измерение, наиболее присущее и Богу, и человеку, обрело
свой величественный образ в шаббате.
Действительно, этот характерный именно для иудаизма
праздник теологически обоснован тем, что не дело
творения, но приостановка всякого действия на седьмой
день была провозглашена священной (Быт. 2:2-3;
Исх. 2о:п). Стало быть, бездеятельность
характеризует то, что наиболее присуще Богу («одному только
392
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Богу свойственно отдохновение [anapauesthai]»,
Филон. О Херувимах, 90; «Суббота, означающая
бездеятельность [anapausis], есть суббота Бога»; там же, 87),
и в то же время объект эсхатологического
ожидания («они не войдут в покой27 мой [eis ten katapausin
mou]», Пс. 94:ii).
В Посланиях Павла — в частности, в Послании
к Евреям — эсхатологическая тема
бездеятельности вводится как раз через мидраш на Пс. 94:11-
Павел (или кем бы ни был их автор) называет «суб-
ботством» (sabbatismos, Heb. 4:928) бездеятельность
и блаженство, которые ожидают Божий народ:
Посему будем опасаться, чтобы, когда еще
остается обетование войти в покой [katapausis] Его,
не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам
оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою
слышавших. А входим в покой мы уверовавшие,
так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его
были совершены еще в начале мира. Ибо негде
сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день
седьмой от всех дел Своих. И еще здесь: «не
войдут в покой Мой». Итак, как некоторым
остается войти в него, а те, которым прежде возвещено,
не вошли в него за непокорность, то еще
определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида,
после столь долгого времени, как выше сказано:
«ныне, когда услышите глас Мой, не ожесточите
сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин
доставил им покой, Бог не сказал бы после того о
другом дне. Посему для народа Божия еще остается
27- Здесь и далее вместо слова «покой» у Агамбена «inoperosità»
(бездеятельность). Послание к Евреям цитируется по
Синодальному переводу.
28. Евр. 4:9-
393
ЦАРСТВО И СЛАВА
субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам
успокоился от дел своих, как и Бог от Своих»29.
[Евр. 4:1-ю.]
Христианское представление о Царстве глубоко
отмечено связью, которую Павел, развивая библейский
и раввинский мотив, устанавливает между
эсхатологическим ожиданием, субботой и
бездеятельностью. В своем «Толковании на Послание к Евреям»
Иоанн Златоуст радикальным образом
отождествляет бездеятельность, субботство и Царство небесное:
«Павел не сказал „бездеятельность", но „субботство",
то есть употребил имя собственное, разумея под суб-
ботством царство» (Нот. Heb. 6. з> PG-> 63); «Ведь
что есть бездеятельность [katapausis], как не царство
небесное [basileia tön ouranön], которого образ и
подобие есть суббота [eikön каг typos]?» (Ibid. 6. 1).
Субботство дает имя эсхатологической славе, которая
в своей сущности и есть бездеятельность. В «Кли-
ментинах» — тексте, испытавшем серьезное влияние
иудео-христианской традиции, —сам Бог
определяется как суббота и бездеятельность. В одном
теологически насыщенном отрывке, присвоив Богу имя
«ничто» (to ouderi) и сопоставив его с пустотой, автор
пишет: «Такова тайна субботы \hebdomados mystêrion];
ведь Он есть бездеятельность всех вещей [tön holön
anapaiisis]» (Horn., 17,10,1 PG, 2,9). И вновь у Псевдо-
Дионисия—в отрывке, который мы процитировали
в связи с гимнологией, — слава, гимнодия и
бездеятельность тесно связаны друг с другом, а гимны
ангелов определяются как «божественные места теар-
хической бездеятельности [theioi topoi tes thearchikës...
katapauseös] (С. H. 7,57» PG> 3> 211)-
29. В Синодальный перевод внесены изменения в соответствии
с переводом Агамбена.
394
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Именно у Августина эта тема обретает статус
проблемы, притом теологической проблемы
первостепенного значения, а именно проблемы вечной
субботы («sabbatum non habens vesperam», «субботы,
не имеющей вечера»), которую он освещает в
великолепном, волнующем заключительном пассаже своего
трактата о «Граде Божьем», в котором воплотилось
его самое зрелое размышление о теологии и о
политике. С самого начала проблема представлена с
абсолютной ясностью, во всей ее простоте: «Чем
будут заняты блаженные в своих бессмертных и
духовных телах [Quid acturi sint in corporibus immortalibus atque
spiritialibus sancti]?» (Civ. 22, 29). Августин понимает,
что в данном случае невозможно говорить ни о
«действии», ни об otium и что проблема конечной
бездеятельности творений превосходит понимание как
людей, так и ангелов. Здесь центральной проблемой
оказывается «покой Господа, который, как сказал
апостол, превыше всякого разумения» (Ibid.).
Возможность созерцания этого «покоя», по
Августину, столь сложно помыслить, что, с одной стороны,
он особо оговаривает, что этот покой не будет лишь
умопостигаемым, потому что мы узрим Господа
органами чувств нашего тела славы; с другой стороны,
он забывает, что под вопросом как раз и оказывается
«покой», и, по видимости, полагает, что в вечной
субботе мы будем свидетелями того, как Бог управляет
новыми небом и землей (Ibid.). Однако он тут же
возвращается к центральной проблеме, а именно—к
вопросу о непредставимом характере бездеятельности
блаженных. Речь идет о состоянии, которому не
ведомо ни уныние {desidia), ни нужда (indigentia) и чьи
движения, которые невозможно даже просто
помыслить, будут так или иначе исполнены славы и чести
(Ibid. 22,30). Чтобы обозначить эту блаженную
бездеятельность, которая не есть ни действие, ни отсутствие
395
ЦАРСТВО И СЛАВА
действия, он в конце концов не находит более
подходящего выражения, чем «превращение в субботу»
воскресших, в котором они отождествляются с Богом:
Тогда исполнятся слова «Остановитесь30 и
познайте, что Я Бог [vacate et videte quoniam ego sum
Deus]». Это будет поистине великою, не
имеющей вечера субботою. [...] Будем даже и мы сами
субботою, когда будем исполнены Его
благословением и освящением. Там, остановившись
[vacantes], увидим, что Он есть Бог [...]. Достигнув
совершенства высшей благодатью, мы будем
бездеятельны во веки [vacabimus en aeterno], видя,
что Он есть Бог, Которым и мы будем полны,
когда Он будет всё во всем. [Ibid.]
Здесь, в этой порой переходящей в лепет попытке
помыслить немыслимое, Августин определяет
конечное состояние как субботство, возведенное в
степень—отдохновение субботы в субботе, разрешение
бездеятельности в бездеятельности:
Тогда Бог почиет в седьмой день, устроив так,
что в нем почиет и сам этот день, чем будем уже
мы сами [cum eundem diem septimum, quod nos erimus,
in se ipso Deofaciet requiescere] [...]. Это будет
нашей субботой, конец которой будет не вечером,
а Господним, как бы вечным восьмым днем. [...]
Тогда мы остановимся [vacabimus] и увидим,
увидим и возлюбим, возлюбим и восхвалим. Вот
что будет в конце без конца. Ибо какая иная цель
наша, как не та, чтобы достигнуть царства,
которое не имеет конца? [Ibid.]
И лишь теперь, в полноте славы субботы, где нет
и не может быть никакого избытка и недостатка,
Зо. У A.: «Siate inoperosi», букв.: «сделайтесь бездеятельными».
396
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Августин может завершить свой труд и произнести
слово amen:
С помощью Божией считаю долг настоящего
обширного труда исполненным. Для кого он мал
и для кого он слишком велик, пусть простят
меня; для кого достаточен, пусть вместе со мною
воссылают благодарение Богу. Аминь. [Ibid.]
8.23. Если грядущее после Страшного суда
совпадает с высшей славой («vera ibi gloria erit»31, ibid.)
и если слава во веки веков имеет форму вечной
субботы, то все, что нам теперь остается подвергнуть во-
прошанию, —это смысл этой глубинной связи между
славой и субботством. У истоков и в точке
завершения власти выше всего, согласно христианской
теологии, располагается не фигура действия и управления,
а фигура бездеятельности. Неизъяснимая тайна,
которую слава своим ослепительным сиянием призвана
скрыть от глаз scrutatores maiestatis32, — это тайна
божественной бездеятельности, того, что Бог делал до
сотворения мира и после того, как провиденциальное
управление миром достигло своего свершения.
Недоступен осмыслению и зрению не kabod, a
бездеятельное величие, которое первый покрывает
завесой дымки и блеском своих инсигний. В теологии,
как и в политике, слава в точности представляет
собой нечто занимающее место той немыслимой
пустоты, которая и есть бездеятельность власти; и все же
именно эта невыразимая пустота есть то, что питает
и поддерживает власть (или, скорее, то, что машина
власти преобразует в пищу). Это означает, что центр
31. «Там будет истинная слава» {лат.).
32. Созерцатели величия (лат.).
397
ЦАРСТВО И СЛАВА
управленческого диспозитива, порог, на котором
Царство и Правление непрерывно сообщаются друг
с другом и непрерывно же отделяются друг от
друга, в сущности пустует, это лишь суббота и katapausis—
и тем не менее эта бездеятельность столь
существенна, что она должна быть усвоена и любой ценой
сохранена в центре этого диспозитива в форме славы.
В иконографии власти, как светской, так и
религиозной, эта исходная пустота славы, эта глубинная
взаимосвязь между величием и бездеятельностью
нашла свое наиболее яркое символическое выражение
в hetoimasia tou thronou — в образе пустого трона.
Поклонение пустому трону имеет древние
истоки и впервые упоминается в «Упанишадах». В
микенской Греции трон, найденный в так
называемом тронном зале Кносса, по мнению археологов,
представляет собой объект культа, он не был
предназначен для использования. Рельеф на вилле
Медичи в Риме, на котором фронтально изображен
пустой трон с водруженной на него зубчатой короной,
по видимости, свидетельствует о культе трона в
обрядах Magna Mater*3 (Picard. P. и). Культ трона в
политических целях в историческую эру, о котором
нам доподлинно известно, — это пустующий трон
Александра, учрежденный в 319~312 годах в Сиинде
Эвменом, командующим македонскими войсками
в Азии. Якобы вдохновленный самим Александром,
явившимся ему во сне, Эвмен приказал раскинуть
царский шатер, а в его центре поместить пустующий
золотой трон, на котором были возложены корона,
скипетр и меч усопшего монарха. Напротив
пустующего трона находился алтарь, на который офицеры
и солдаты возлагали мирт и фимиам прежде, чем ис-
33- Великая Мать (лат.): речь идет о Кибеле, или Великой
Матери богов, по своим функциям близкой богине Рее.
398
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
полнить обрядовый proskynësis3* так, будто Александр
при этом присутствовал.
Самый ранний след этого восточного обычая
в Риме—sella curulis, трон, предназначенный для
действующих республиканских магистратов, которым
сенат наградил Цезаря: он должен был
выставляться пустым во время игр, украшенный
инкрустированной драгоценными камнями короной. В эпоху
Августа письменные свидетельства, как и
изображения на монетах, свидетельствуют о том, что
золотое кресло divus lulius35 регулярно выставлялось
во время игр. Нам известно, что Калигула приказал
разместить на Капитолийском холме пустой трон,
перед которым сенаторы должны были исполнять
proskynêsis. Алфёлди приводит изображения монет,
из которых с очевидностью явствует, что при Тите
и Домициане пустые sellae императоров,
увенчанные короной, теперь уже превратились в pulvinaria36
и lectisternia31, на которых изображались боги. Дион
Кассий сообщает, что для Кбммода — как при нем,
так и в его отсутствии — в театрах устанавливался
золотой трон с водруженной на него львиной шкурой
и дубиной, атрибутами Геракла.
Но лишь только в пространстве христианской
культуры, в величественном эсхатологическом
образе hetoimasia tou thronou, украшающем триумфальные
арки и апсиды палеохристианских и византийских
34- Проскюнесис, букв, «богопоклонение»: обычай падать ниц
перед объектом поклонения.
35- Зд.: божественного Юлия (лат.).
36. Подушка, ложе богов (лат.).
37- Лектистерний (лат.): синоним pulvinaria; вследствие
метонимического переноса также означает пиршество богов,
состоящее в том, что изображения богов ставились на
подушках или ложах, а перед ними —столы с яствами.
399
ЦАРСТВО И СЛАВА
базилик, культовое значение пустого трона
раскрывается в полной мере. Так, мозаика арки церкви
Санта-Мария Маджоре, принадлежащая времени
Сикста III (V век), изображает пустой трон,
инкрустированный разноцветными камнями, на котором
лежат подушка и крест; рядом можно разглядеть
льва, орла, крылатую человеческую фигуру,
фрагменты других крыльев и корону. В церкви святого
Приска в Капуе на другой мозаике между крылатым
быком и орлом изображен пустой трон, на который
возложен свиток с семью печатями. В византийской
базилике Санта-Мария Ассунта на острове Торчел-
ло hetoimasia, представленная на мозаике Страшного
суда, состоит из трона с крестом, короны и
запечатанной книги; над троном парят шестикрылые
серафимы, а по обе стороны от него возвышаются
величественные фигуры двух ангелов. В Мистрасе в церкви
Святого Димитрия фреска XVIII века изображает
пустой, словно подвешенный в небе трон, покрытый
пурпурным сукном и окруженный шестью
ликующими ангелами; чуть выше, в кристально
прозрачном ромбе, видны книга, амфора, белоснежная
птица и черный бык.
Историки обычно интерпретируют образ трона
как символ царственности —и божественной, и про-
фанной. «Символическое значение трона, —
пишет Пикар, — нигде не проявляется с такой силой,
как в случае пустующего трона» (Picard. P. i).
Подобная трактовка, по своей сути бесспорно
упрощенческая, может быть развита в русле теории
Канторовича о «двух телах» короля, если предположить,
что трон, как и прочие атрибуты царственности,
относится скорее к области функции и dignitas, чем
к самой личности правителя.
Однако подобная интерпретация не способна
объяснить феномен пустого трона в христианской hetoi-
400
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
masia. Последнюю прежде всего следует
рассматривать в ее эсхатологическом контексте, восходящем
к Откр. 4:i-ii- Здесь апостол связал воедино
исходную парадигму всякой христианской литургической
доксологии и эсхатологическое видение,
вбирающее в себя мотивы пророческих видений Ис. 6:1-4
и Иез. 1:1-28. Образ трона, на котором у Исайи
восседает YHWH, а у Иезекииля — «подобие человека»,
восходит к этим двум отрывкам: у Иезекииля
заимствованы образы четырех «животных» с
лицами льва, быка, человека и орла (которые, начиная
с Иринея, отождествляются с четырьмя
евангелистами); у Исайи —воспевание Трисвятого («Свят, свят,
свят, Господь Бог всемогущий»), которое именно
здесь впервые появляется в христианской
доксологии. Однако принципиально важно следующее: если
в тексте Откровения на троне восседает
безымянное существо, «подобное камню яспису и сардису»,
то на изображениях hetoimasia tou thronou — не считая
возложенной на него книги (согласно тексту,
однако, расположенной «справа от сидящего»), короны
и, несколько позднее, символов распятия — трон
абсолютно пуст.
Понятие hetoimasia, так же как и глагол hetoimazô,
и прилагательное hetoimos, является в греческой
библейской традиции техническим термином,
который в Псалмах применяется для обозначения трона
YHWH: «Господь на небесах поставил престол свой»
(Пс. 102:19); «Правосудие и правота — hetoimasia™
престола твоего» (Пс. 88:15) «Престол твой
утвержден {hetoimos) искони» (Пс. 92:2). Hetoimasia
означает не действие, направленное на приготовление
или устроение чего-либо, но саму готовность тро-
38. 3д.: основание (греч.).
401
ЦАРСТВО И СЛАВА
на. Трон уже готов и всегда ожидает славы Господа.
В соответствии с раввинской иудейской традицией,
трон славы, как мы видели, является одной из семи
вещей, которые YHWH сотворил прежде, чем
сотворить мир. Точно так же в христианской теологии
речь идет о том, что трон извечно готов,
поскольку слава Господа совечна ему. Пустой трон, стало
быть, —это символ не царственности, но славы.
Слава предшествует сотворению мира и переживает его
конец. И трон оказывается пустым не только
потому, что слава, совпадая с божественной
сущностью, не может быть к ней приравнена, но и потому,
что она в своей глубинной сути есть бездеятельность
и субботство. Пустота — высшая форма славы.
8.24- В величии пустого трона диспозитив
власти обретает свой совершенный шифр. Его цель
состоит в том, чтобы захватить эту немыслимую
бездеятельность, являющую собой высшую
тайну божественного, поместив ее внутрь
управленческой машины и превратив в тайный двигатель
последней. И слава — это в равной мере объективная
слава, выказывающая божественную
бездеятельность, и прославление, в котором также и
человеческая бездеятельность прославляет свою вечную
субботу. Теологический диспозитив славы совпадает
с профанным, и, в соответствии с интенцией,
которой мы руководствовались в нашем исследовании,
мы можем воспользоваться им в качестве
эпистемологической парадигмы, которая поможет нам
проникнуть в последнюю тайну власти.
Мы начинаем теперь понимать, почему
литургия и церемониал столь важны для власти. В них
осуществляются захват и вписывание в
отдельную сферу той бездеятельности, которая
составляет сущность человеческой жизни. Ойкономия власти
402
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
прочно располагает в собственном центре в
форме праздника и славы то, что, с ее точки зрения,
выступает как непредставимая бездеятельность
человека и Бога. Человеческая жизнь бездеятель-
на и лишена цели, но именно эта argia и
отсутствие цели делают возможной беспримерную
человеческую деятельность. Человек посвящает себя
производству и труду, потому что в своей
сущности он абсолютно лишен дела, потому что он
прежде всего животное субботы. И если машина
теологической ойкономии может функционировать лишь
при условии, что она будет вписывать в
собственный центр доксологический порог, в поле
которого троица экономическая и троица имманентная
непрерывно литургически (то есть политически)
переходят друг в друга, то диспозитив управления
функционирует потому, что он захватил в
собственный пустующий центр бездеятельность,
составляющую сущность человека. Бездеятельность
является политической субстанцией Запада, той славой,
которая питает всякую власть. Поэтому праздник
и праздность непрестанно всплывают в
политических мечтах и утопиях Запада и все так же
непрестанно терпят крах. Они являют собой загадочные
реликтовые останки, которые
экономико-теологическая машина оставила на береговой линии
цивилизации и к которым люди всякий раз
ностальгически и бессмысленно возвращаются с вопросами.
Ностальгически — потому, что эти останки словно
несут в себе нечто глубоко укорененное в
человеческой природе и ревностно ею оберегаемое;
бессмысленно — потому, что они в действительности лишь
отходы того нематериального и исполненного сла-
39» Бездействие (греч.).
4оз
ЦАРСТВО И СЛАВА
вой топлива, которое сжигает мотор машины в
своем нескончаемом вращении.
К Сама по себе идея бездеятельности как конститутивной
для человечества в общем виде была выдвинута
Аристотелем в одном из абзацев «Никомаховой этики» (îogyb). Там,
где он приходит к определению счастья как предельной темы
политической науки, Аристотель ставит проблему того,
в чем же состоит «дело человека» (to ergon tou anthro-
pou), и высказывает мысль о том, что человеческому роду,
возможно, присуща бездеятельность:
Так же как для игрока на флейте, для
скульптора и для всякого мастера, а в целом для всех,
у кого есть некое дело [ergon] и деятельность
[praxis], благо и совершенство, похоже,
заключаются в этом деле, — точно так же должно быть
и для человека как такового, если только
допустить, что для него существует нечто
подобное его делу. Или же мы должны сделать
вывод, что для столяра и башмачника существуют
и дело, и деятельность, напротив же, для
человека как такового их нет, поскольку рождается
он без дела [argon]?40
К Эта идея сразу жегши оставлена, и дело человека
определяется Аристотелем как особая «деятельность» (energeia),
которая есть жизнь в соответствии с logos; но
политическое значение проблемы бездеятельности, принципиальной
для человека как такового, не ускользнула от Аверроэса,
который именно в потенции, а не в акте мысли
усматривает специфическую особенность человека как вида, — а так-
40. В существующий перевод внесены изменения в
соответствии с итальянским переводом, представленным Агам-
беном, призванным подчеркнуть идею
«бездеятельности» вне оценочно-этических коннотаций.
404
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
же от Данте, который в «Монархии» (1,3) располагает ее
в центре своего учения о множестве.
8.25- Теперь, пожалуй, мы можем
попытаться ответить на вопросы, которые в явном виде еще
не были поставлены, но которые сопровождали нас
на протяжении всего нашего исследования
археологии славы: почему власть нуждается в
бездеятельности и славе? Что в них такого особого, что власть
должна любой ценой вписывать их в пустующий
центр своего диспозитива управления? Чем
поддерживается власть? И еще: возможно ли мыслить
бездеятельность за пределами диспозитива славы?
Если мы, придерживаясь эпистемологической
стратегии, которая направляла наше исследование,
переформулируем первые три вопроса в
перспективе теологии — то и иудейская традиция, и Новый
Завет дают на него однозначный и единодушный
ответ: chayye 'olam, zôêaiônios^ жизнь вечная. Эти
синтагмы прежде всего обозначают то, что ждет
праведников в качестве награды в грядущей
вечности. Употребленное в этом значении выражение zôê
aiönios впервые встречается в Септуагинте как
перевод chayye (olam в Дан. 12:2, где сказано: «...многие
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление». «Вечное», как явствует и из еврейского 'olam,
означающего божественный мир и
эсхатологическую реальность, и из греческого aiön {<<aiöny ■— пишет
Иоанн Дамаскин, — был сотворен раньше небесной
тверди и прежде времени»), имеет здесь не только
временное значение: оно указывает на особое
качество жизни, а точнее —на то преобразование,
которое человеческая жизнь претерпит в грядущем мире.
Поэтому иудео-эллинистическая традиция
определяет его как «истинную жизнь» (alêthinê zôê: Phil.
405
ЦАРСТВО И СЛАВА
Leg. 1,32) или как «жизнь нетленную» (aphthartos zôê:
Phil. Gig. 15; Fug. 59), а также как «жизнь беспечную»
(zôêamerimnos). В раввинской традиции эта грядущая
жизнь описывается в терминах противопоставления
жизни нынешней и вместе с тем как нечто,
связанное с последней исключительной непрерывностью;
иными словами, она предстает как упразднение
биологических функций и низких инстинктов: «В
грядущем мире не будет ни еды, ни питья; не будет
ни размножения, ни воспроизведения. Не будет
хлопот, торга, ссор, зависти и вражды; праведники
будут восседать на тронах с короной на голове и
блаженствовать в сиянии shekinah» (Talmud, b Ben, 17a).
Прообразом короны, которую будут носить
праведники, является венец, возлагавшийся на голову
победоносного императора или атлета в качестве
символа победы и выражающий причастность к
славе в жизни вечной. Это символ того же порядка,
что и «венец славы» (stephanos tes doxês) или «венец
жизни» (stephanos tes zôês), который в Новом Завете
становится вспомогательным термином для
обозначения славы блаженных: «Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:ю); «Вы
получите неувядающий венец славы» (i Пет. 5:4); «On
получит венец жизни» (Иак. 1:12).
Павел неоднократно использует этот символ
для описания эсхатологической ситуации
праведников, сравнивая их с атлетами, бегущими на
ристалище («Те получат венец тленный, мы —нетленный»41,
1 Кор. 9:25î «Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится
41. Фрагмент стиха дается по итальянскому переводу. Полная
версия стиха в Синодальном переводе: «Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы —нетленного».
4об
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
мне венец правды, который даст мне Господь в день
оный»; 2 Тим. 47~"8). Однако тема вечной жизни
не просто связана в его представлении с неким
будущим состоянием, но подразумевает особое качество
жизни в мессианском времени (ho пуп kairos, время
часа сего), то есть жизни в Иисусе Христе («жизнь
вечная через Иисуса Христа, Господа Нашего»:
Рим. 5«2i). На нынешней жизни лежит особый
отпечаток бездеятельности, которая в настоящем
некоторым образом предвосхищает субботство Царства:
hös те, «как не». Подобно тому как мессия привел
к свершению закон, в то же время обратив его в
бездеятельность (глагол, который Павел использует
для обозначения отношения между мессией и
законом — katargein, — буквально означает «сделать argos»,
бездеятельным), так и hös те сохраняет и в то же
время упраздняет в настоящее время все юридические
условия и все социальные характеристики членов
мессианского сообщества:
Я сказываю, братия: время уже коротко, так
что имеющие жен должны быть, как не [hös те]
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и
радующиеся, как не радующиеся; и покупающие,
как не приобретающие; и пользующиеся миром
сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ
мира сего. [i Кор. 7:29-32«]
Под знаком «как не» жизнь не может совпасть
сама с собой: она претерпевает раскол, разделяясь
на жизнь, которую мы проживаем (vitam quam vivi-
mus, совокупностью фактов и событий,
определяющих нашу биографию), и на жизнь, ради которой
и в которой мы живем (vita qua vivimus, то, что
делает жизнь годной для жизни и дает ей смысл и
форму). Жить в мессии как раз и означает отменять
и делать бездеятельной в каждое мгновение и в каж-
407
ЦАРСТВО И СЛАВА
дом ее проявлении жизнь, которой мы живем,
давая проступить в ней жизни, ради которой мы
живем и которую Павел называет «жизнью Христа»
(zôë tou lesou — именно zôê, не biosl) «Ибо мы живые
непрестанно предаемся смерти ради Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти
нашей» (2 Кор. 4:11)* Мессианская жизнь
представляет собой невозможность жизни совпасть со
своей собственной предопределенной формой,
отмену всякого bios ради того, чтобы открыть его zôê tou
lesou. И бездеятельность, о которой здесь идет речь,
не просто инерция или праздность, но, напротив,
является прежде всего мессианским действием.
В грядущей вечности, когда праведники вступят
в бездеятельность Бога, для Павла вечная жизнь,
напротив, вне сомнений предстает под знаком
славы. В знаменитом фрагменте из i Кор., 15:35"~55» ~~
толкование которого окажется столь
проблематичным для теологов от Оригена до Фомы — на самом
деле сказано лишь следующее: тело праведников
воскреснет в славе и преобразится в славу и в
нетленный дух. То, что Павел намеренно оставил
неопределенным и обобщенным («...сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает
в силе; сеется тело душевное, восстает тело
духовное»), формулируется и разрабатывается теологами
как учение о теле славы блаженных. В соответствии
с уже знакомым нам диспозитивом учение о
мессианской жизни подменяется учением о жизни славы,
которая обособляет вечную жизнь и ее
бездеятельность в отдельную сферу. Жизнь, которая обращала
в бездеятельность всякую форму, в славе сама
становится формой. Отсутствие страстей, легкость,
тонкость и чистота таким образом становятся
признаками, определяющими, по мысли теологов, жизнь
в теле славы.
4о8
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
8.26. В схолии к 36-й теореме V книги
«Этики» Спиноза неожиданно затрагивает тему славы
в контексте любви души к Богу. В теореме
доказывалось, что познавательная любовь души к Богу есть
не что иное, как та любовь, которой Бог любит сам
себя, и что, стало быть, любовь души к Богу—-это
то же самое, что и любовь Бога к людям. Далее, уже
в схолии, как раз и развивается теория славы,
которая наполняет динамизмом, сосредоточивая их в
нескольких головокружительных строчках,
теологические мотивы еврейского kabod и христианской doxa:
Из сказанного мы легко можем понять, в чем
состоит наше спасение, блаженство или
свобода. А именно — в постоянной и вечной любви
к Богу, иными словами — в любви Бога к людям.
Эта любовь или блаженство называется в
священных книгах славой, и не без основания. В самом
деле, относится ли эта любовь к Богу или к душе,
она всегда справедливо может быть названа
душевным удовлетворением42, в
действительности не отличающимся от любви к славе [...].
Поскольку она относится к Богу, то она есть [...]
радость (если еще можно пользоваться этим
словом), сопровождаемая идеей о нем самом, точно
так же, поскольку она относится к душе.
Дело не только в том, что, доводя до предела
соответствие между славой и прославлением,
внутренней и внешней славой, слава означает здесь
движение внутри существа Бога, которое идет и от Бога
к людям и от людей к Богу; но мы также
обнаруживаем здесь решительное утверждение понятого
в особом ключе субботнического отношения между
славой и бездеятельностью (menuchah, anapatisis, kata-
42. У A.: acquiescenza (молчаливое согласие, уступка, успокоение).
409
ЦАРСТВО И СЛАВА
pausù—здесь переданы понятием acquiescentia,
отсутствующим в классической латыни). Более того,
бездеятельность и слава — одно и то же: «acquiescentia
[...] rêvera a gloria [...] non distinguitur».
Чтобы вполне уяснить смысл этой
радикализации темы славы и бездеятельности, следует
вернуться к определению acquiescentia, приведенному
в доказательстве 52-й теоремы IV книги.
«Удовлетворение43, найденное в нас самих, —пишет
Спиноза,—это радость, рождающаяся из созерцания
человеком самого себя и своей способности действовать».
Что же означает это «созерцание человеком
самого себя и своей способности действовать»? Что есть
бездеятельность, которая состоит в созерцании
собственной способности действовать? И как следует
понимать в этой перспективе бездеятельность,
«которая не отличается от славы»?
Еще Филон писал о том, что бездеятельность Бога
не означает праздность и апраксию, но являет собой
некую форму действия, которая не подразумевает
ни страдания, ни усталости:
Воистину один лишь Бог среди сущего
бездеятелен [апараитепоп]; но бездеятельностью он
называет не праздность, потому что по природе
созидательна Причина всего, Которая никогда
не останавливается, творя прекраснейшее, но
пребывает в беструднейшем действовании [energeian],
происходящем с величайшей легкостью [eumareias]
и без усилия [aponôtatê]. Ведь и о солнце, и о луне,
и о всем небе и космосе, поскольку они, с одной
стороны, не имеют над собой свободы, а с другой —
находятся в постоянном движении и кружении,
справедливо можно сказать, что они страждут.
А наиболее наглядным свидетельством их устало-
43- Acquiescenza (успокоение).
4Ю
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
сти служит смена времен года [...]. Бог по природе
безустален. А то, что непричастно изнеможению,
даже если оно все творит, во веки не прекратит
пребывать в бездеятельности. Следовательно,
бездеятельность в полном смысле слова свойственна
одному только Богу. [Filon. Cher. 26, 87-9°-]
Спиноза называет «созерцанием способности» такую
бездеятельность, которую можно было бы определить
как внутренне присущую самому действию, «прак-
сис» sut generis^ который состоит в том, чтобы лишить
деятельности любую конкретную способность
действовать и осуществлять. Жизнь, которая созерцает
(собственную) способность действовать, делает себя
бездеятельной во всех своих действиях, она
проживает лишь (свою) способность быть прожитой [viv-ibi-
Uta. — Примеч. пер.]. Мы заключили «собственную»
и «свою» в скобки, потому что только лишь через
созерцание способности, которая обращает в
бездеятельность всякую конкретную energeia, нечто вроде
опыта «собственного» и «себя» становится
возможным. Самость, субъективность есть то, что
раскрывается подобно бездеятельности, лежащей в
основании всякого действия, как присущая всякой жизни
способность быть прожитой. В этой бездеятельности
жизнь, которой мы живем, —это лишь жизнь,
которую мы проживаем, лишь наша способность
действовать и жить, наша дее-способностъ44 и жизнс-способ-
ноешь45. Bios без остатка совпадает здесь с zôê.
Отсюда становится понятной та первостепенная
роль, которую западная философская традиция
закрепила за созерцательной жизнью и
бездеятельностью: наиболее присущая человеку деятельность —
44- Ag-ibilità.
45- Viv-ibilità.
411
ЦАРСТВО И СЛАВА
это субботство, которое, обращая в бездеятельность
конкретные функции живущего, открывает их
для возможности. Созерцание и бездеятельность
являются в данном смысле метафизическими
операторами антропогенеза, которые, освобождая живущего
человека от его биологической и социальной
судьбы, наделяют его тем измерением, которое мы
привыкли определять как политику.
Противопоставляя созерцательную и политическую жизнь как «два
bioi» (Pol. 1324а) » Аристотель надолго сориентировал
в ложном направлении и политику, и философию
и вместе с тем очертил парадигму, на основе
которой суждено было сформироваться диспозитиву
экономики-славы. Политическое не является ни biosy
ни zö£, но тем измерением, которое бездеятельность
созерцания, приостанавливая лингвистические и
телесные, материальные и нематериальные практики,
без конца открывает живущему и которым
непрестанно наделяет его. Поэтому с точки зрения
теологической ойкономии, генеалогию которой мы здесь
очертили, нет ничего более неотложного, чем
включение бездеятельности в ее диспозитивы. Zôê aiônios,
вечная жизнь, есть имя этой бездеятельной
сердцевины человеческого, этой политической
«субстанции» Запада, которую машина экономики и славы
непрерывно пытается захватить в собственное поле.
К Моделью этого действия, состоящего в том, чтобы
обратить в бездеятельность все человеческие и божественные
дела, является поэтическое произведение. Потому что
поэзия и есть такая лингвистическая деятельность, которая
состоит в том, чтобы сделать язык бездеятельным, — или,
выражаясь словами Спинозы, точка, в которой язык,
приостановив свои коммуникативные и информативные
функции, отдыхает в самом себе, созерцает свою способность
говорить и таким образом открывает себя для нового, воз-
412
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
можного использования. Так, «Новая жизнь»46 или
«Песни»47 — это созерцание итальянского языка; секстина
Арнаута Даниэля — созерцание провансальского языка; гимны
Гёльдерлина и стихи Индеборг Бахман — это созерцание
немецкого языка; «Les illuminations»48 — созерцание
французского языка,.. Поэтическим субъектом является не индивид,
который написал эти стихи, но субъект, который
производится там, где язык сделался бездеятельным, — иными
словами, превратился в нем и для него в чистую способность
говорения.
То, что поэзия свершает для возможности говорить,
политика и философия должны исполнить для способности
действовать. Делая бездеятельными экономические и
биологические практики, они показывают, что может
человеческое тело, и открывают его для нового, возможного
использования.
К Лишь в перспективе, открывающейся нам благодаря этой
генеалогии управления и славы, решение Хайдеггера
представить в качестве предельной метафизической
проблемы вопрос о технике предстает в своем подлинном
значении и вместе с тем демонстрирует свои границы. Ge-stell,
который Хайдеггер определяет как сущность техники,
как «полную упорядочиваемость всего, что наличествует»
(Heidegger 2. Р-54)> как деятельность, которая состоит
в том, чтобы располагать и накапливать вещи и самих
людей в качестве ресурсов (Bestand), действительно, как раз
и есть то, что в горизонте нашего исследования явило себя
как ойкономия — то есть как теологический диспозитив
управления миром. Упорядочиваемость (Bestellbarkeit) есть
не что иное, как управленчество, а то, что в теологическом
плане выступает как нечто такое, что необходимо
упорядочить и привести к спасению, в плане техники
Представь. Поэма Данте Алигьери.
47- Речь идет о поэтическом сборнике Джакомо Леопарди.
48. «Озарения» (фр.): поэтический сборник Артюра Рэмбо.
413
ЦАРСТВО И СЛАВА
ет как наличный ресурс для Ge-stell. Понятие Ge-stell
идеально соответствует {не только по форме: немецкое stellen
равнозначно ропеге) латинскому термину dispositio,
который представляет собой перевод греческой ойкономии.
Gestell—это диспозитив абсолютного и всеобъемлющего
управления миром.
Здесь однако же высвечивается недостаточность хай-
деггеровской попытки разрешить проблему техники.
Поскольку техника сама по себе не представляет собой «ничего
технического» {ibid. PS7)> но является эпохальной фигурой
развертывания-свертывания бытия, она в конечном
счете покоится на онтологическом различии — подобно тому
как в плане теологии экономика-управление
основывается на тринитарной экономике. Поэтому проблема
техники не является чем-то таким, о чем решение может быть
принято людьми; а отказ от мира, свершающийся в
Gestell, есть «высшая тайна бытия» {ibid. P. iof) — точно
так же, как «тайна экономики» есть самая сокровенная
тайна Бога. Поэтому люди могут лишь соответствовать
(entsprechen) этой тайне в том измерении, в котором
философия будто бы переходит в религию и которое в самом
своем наименовании (Kehre) воспроизводит технический
термин «обращение» {по-немецки — Bekehrung). Спасение
(Rettung), возрастающее в условиях опасности, которую
несет в себе техника, означает не действие, а возвращение
к сущности, оберегание (in die Hut nehmen), сохранение
(wahren) {P. 102).
Хайдеггер не может разрешить проблему техники,
потому что ему не удалось восстановить ее в ее
политическом locus. Экономика бытия, ее эпохальное развертывание
в свертывании, как и теологическая экономика, составляет
политическую тайну, которая соответствует вступлению
власти в фигуру Управления. А политическим является
действие, которое эту тайну раскрывает, которое
упраздняет и обращает в бездеятельность технико-онтологический
диспозитив. Оно не состоит в том, чтобы оберегать
бытие и божественное; но это такое действие в бытии и в
божественном, которое упраздняет и свершает их экономику.
A4
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Порог
Исследование, которое через ойкономию привело нас
к славе, на этом, по крайней мере временно, может
быть приостановлено. Оно позволило нам
приблизиться к центру машины, который слава заслоняет
своим сиянием и гимнами.
Первостепенная политическая функция славы,
аккламаций и доксологий, казалось бы, в наше
время сошла на нет. Церемонии, протоколы и литургии
продолжают повсюду существовать, и не только там,
где монархические учреждения еще не утратили
своей силы. На торжественных приемах и церемониях
президент республики по-прежнему следует
протокольным правилам, за соблюдением которых следят
специальные должностные лица, а римский
понтифик до сих пор восседает за cathedra Petri или на
переносном кресле, облачен в торжественные одежды
и носит тиары, память о значении которых
верующие, как правило, утратили.
В целом же церемонии и литургии в
сегодняшнее время тяготеют к упрощению, инсигнии
власти свелись к минимуму, короны, троны и скипетры
хранятся в музейных витринах или
сокровищницах, а аккламации, имевшие столь важное значение
для «глориозной» функции власти, кажется,
повсеместно исчезли. Разумеется, не так давно были
времена, когда в сфере, определяемой Канторовичем
415
ЦАРСТВО И СЛАВА
как emotionalism фашистских режимов, аккламации
имели решающее значение в политической жизни
некоторых крупных европейских государств:
возможно, никогда прежде аккламация в техническом
смысле не оглашалась с такой силой и
эффективностью, как «Heil Hitler» в нацистской Германии
или «Duce duce» в фашистской Италии. И все же эти
бурные единодушные возгласы, еще вчера звучавшие
на площадях наших городов, сегодня кажутся
частью прошлого, далекого и безвозвратного.
Но действительно ли это так? Вновь обращаясь
в 1928 году в своем «Учении о конституции» к
центральной теме своей работы «Референдум и
предложение о законе по народной инициативе»,
написанной годом раньше, Шмитт уточняет учредительное
значение аккламаций в публичном праве, и делает
он это именно в главе, посвященной анализу
«учения о демократии».
Народ есть понятие, существующее лишь в сфере
общественности [Öffentlichkeit]. Народ
проявляется только в общественности, он вообще впервые
создает общественность. Народ и
общественность существуют вместе: нет народа без
общественности, как нет общественности без народа.
Причем народ создает общественность через свое
присутствие. Только присутствующий,
фактически собравшийся народ является народом и
создает общественность. На этой истине
основывается верная мысль, выраженная в тезисе Руссо
о том, что народ невозможно репрезентировать.
Он не может быть репрезентирован, поскольку
он должен присутствовать, а репрезентировать
можно только нечто отсутствующее, но не
присутствующее. В качестве присутствующего,
фактически собравшегося народа в чистой демократии
он наличествует с максимально возможной ме-
4i6
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
рой тождества: в греческой демократии — как ек~
klêsia на рыночной площади; на римском форуме;
в качестве собравшегося личного состава или
войска; в качестве швейцарской земельной
общины. [...] Лишь только фактически собравшийся
народ есть народ. И только фактически
собравшийся народ может делать то, что специфически
относится к деятельности этого народа: он может
оглашать, то есть через простой возглас выражать
согласие или несогласие, кричать «ура» или
«долой», бурным ликованием приветствовать вождя
или одобрять проект, восхвалять короля или
кого-нибудь другого или молчанием или ропотом
отказать в поддержке. [...] Как только народ
действительно собирается — неважно, с какой целью
(если только он не выступает в качестве
организованной группы интересов) — как, например,
в случае уличных демонстраций, на
общественных праздниках, в театрах, на ипподроме и
стадионе,—этот выражающий одобрение народ
присутствует и как минимум потенциально является
политической величиной. [Schmitt 4. P.3i9~32°]
Особая заслуга Шмитта не только в том, что он
неразрывно связывает между собой аккламацию,
демократию и общественную сферу, но и в том,
что он распознает формы, в которых первая может
подспудно существовать в современных
демократиях, коим «совершенно неведомы подлинные
народные собрания и какие бы то ни было аккламации».
В современных демократиях, согласно Шмитту,
аккламация продолжает существовать в сфере
общественного мнения, и, лишь отталкиваясь от
структурной связи народ—аккламация—общественное
мнение, можно восстановить в своих правах
понятие общественности, ныне «довольно затуманенное,
но сущностное для всей политической жизни и
особенно для современной демократии» (Ibid. P. 320):
417
ЦАРСТВО И СЛАВА
Общественное мнение есть современная форма
аккламации. Вероятно, это диффузный вид, и его
проблема не решена ни социологически, ни с точки
зрения публичного права. Но в том, что оно
может толковаться как аккламация, заключается его
сущность и его политическое значение. Не
существует никакой демократии и государства без
общественного мнения, как и государства без
аккламаций. [Р. 323-]
Шмитт, безусловно, осознает сущностные риски
для демократии, которые в подобной перспективе
кроет в себе манипуляция общественным мнением,
но, согласно принципу, в соответствии с которым
высший критерий политического существования
народа есть его способность различать друга и врага,
он полагает, что пока эта способность существует,
таковые риски не носят определяющего характера:
В любой демократии есть партии, ораторы и
демагоги — от prostatai афинской до bosses
американской демократии, помимо прессы,^î/raj и иных
методов психотехнической манипуляции массами.
Все это уклоняется от того, чтобы стать объектом
некоей единой дисциплины. Поэтому всегда
существует опасность того, что общественным
мнением и волей народа дирижируют невидимые
и безответственные социальные силы. [P. 342-]
Нас интересует здесь не столько беспримерное
присоединение (уже имевшее место в работе 1927 года)
к чисто демократической традиции элемента
аккламации, казалось бы, принадлежащего скорее
традиции авторитаризма, — сколько предположение
о том, что сфера славы, значение и археологию
которой мы попытались проследить, не исчезает в
современных демократиях, а просто смещается в
другую область —в область общественного мнения. Если
418
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
это действительно так, то столь живо обсуждаемая
в наше время проблема политической функции
медиа в сегодняшних обществах обретает новый смысл
и актуальность.
В 1967 году Ги Дебор, в диагнозе, верность
которого нам сегодня кажется самоочевидной,
констатировал трансформацию в планетарном масштабе
капиталистической политики и экономики в
«огромное скопление спектаклей», в котором товар и сам
капитал принимают медийную форму образа. Если
мы совместим анализ Дебора со шмиттовским
тезисом об общественном мнении как современной
форме аккламации, проблема сегодняшнего господства
медиа в форме спектакля над всеми сторонами
общественной жизни предстанет в новом свете. Под
вопросом здесь ни больше ни меньше как новое,
невиданное прежде средоточие, преумножение,
рассеивание функции славы как сердцевины политической
системы. То, что когда-то ограничивалось
исключительно литургической и церемониальной сферами,
теперь сосредоточивается в медиа и одновременно
распространяется и проникает через них в каждый
момент времени в каждую сферу общества, как
публичную, так и частную. Современная демократия
полностью основана на славе, то есть на
эффективности аккламации, преумноженной и
распространенной посредством медиа за какие-либо мыслимые
пределы (тот факт, что греческий термин,
соответствующий славе, — doxa — теперь обозначает общественное
мнение, с этой точки зрения является чем-то
большим, чем простым совпадением). И, как это уже
всегда происходило в светских и религиозных
литургиях, этот якобы «изначально демократический
феномен», опять же, подвергается захвату,
управлению и манипулированию посредством форм и
стратегий, присущих «спектакулярной» власти.
419
ЦАРСТВО И СЛАВА
Теперь мы начинаем лучше понимать смысл
нынешних определений демократии как government
by consent или consensus democracy и суть той
основополагающей трансформации демократических
учреждений, которая оказывается в них под вопросом.
В 1994 Г°ДУ в связи с постановлением
Федерального суда Германии, отклонившего иск в отношении
антиконституционного характера ратификации
Маастрихтского договора, в Германии развернулся
спор между именитым конституционалистом
Дитером Гриммом и Юргеном Хабермасом. В небольшом
эссе с многозначительным заглавием в форме
вопроса «Braucht Europa eine Verfassung?» («Нужна ли
Европе конституция?»), вступая в весьма оживленную
на тот момент в Германии дискуссию между
сторонниками позиции, согласно которой договоры,
которые привели к объединению Европы, уже обладали
формальной конституционной ценностью, и теми,
кто, напротив, отстаивал необходимость
собственно конституционного документа, юрист
подчеркивал нередуцируемое различие между
международными договорами, которые имеют свое юридическое
обоснование в соглашениях между государствами,
и конституцией, которая предполагает
учредительный акт со стороны народа. Гримм пишет:
Конституция в полном смысле слова
обязательно должна восходить к акту народа или по
крайней мере к акту, приписываемому народу,
посредством которого последний сам себе
присваивает способность действовать политически.
Подобный источник совершенно отсутствует
в первичном коммунитарном праве, которое
исходит не от европейского народа, а от отдельных
государств-членов, и продолжает от них зависеть
даже после того, как оно вошло в силу. [Grimm.
P. 353-]
420
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
Гримм не питал никакой ностальгии в отношении
модели национального государства или
национальной общности, единство которой, так или иначе,
предполагается субстанциально или на основе
«укорененности в этносе» (Ibid. P. 365); но он смог лишь
указать на то, что отсутствие европейского
общественного мнения и общего языка делают — по
крайней мере, на данный момент —невозможным
формирование чего-то хотя бы отдаленно напоминающего
общую политическую культуру.
Этот тезис, который последовательно отражал
принципы современного публичного права, в
сущности соответствовал позиции таких социологов,
как Лепсиус, которые примерно в те же годы,
признавая разграничение между ethnos (национальная
общность, основанная на преемственности и
однородности) и démos (народ как «гражданская нация»),
все же настаивали на том, что Европа еще не
располагает неким общим démos и потому она не может
конституировать политически легитимную
европейскую власть.
Этому представлению о необходимом отношении
между народом и конституцией Хабермас
противопоставляет тезис о народном суверенитете,
окончательно эмансипированном от субстанциального
субъекта-народа (состоящего из «физически
присутствующих, принимающих активное участие и
заинтересованных членов общности») и полностью
разрешившемся в лишенные субъекта
коммуникативные формы, которые, в соответствии с его
представлением об общественности, «управляют потоком
формирования политического мнения и воли»
{Habermas. Р. XXXIX). Как только народный суверенитет
распадается и рассеивается на подобные
коммуникативные процедуры, символическое пространство
власти не может быть занято новыми идентичны-
421
ЦАРСТВО И СЛАВА
ми символами; но главное — в этом случае
отпадают возражения конституционалистов по поводу
самой возможности существования чего-то похожего
на «европейский народ», понимаемого в
скорректированном, то есть коммуникативном, смысле.
Известно, что в последующие годы действительно
был сделан набросок «европейской конституции» —
с неожиданным исходом, который все же следовало
изначально предвидеть: эта конституция была
отвергнута «гражданами как народом», который
должен был ратифицировать ее, притом что она не была
выражением его учредительной власти. Дело в том,
что если Гримму и теоретикам
народно-конституциональной связи можно было поставить в укор то,
что они все еще оперировали общими
предпосылками (язык, общественное мнение) — то Хаберма-
су и теоретикам корреляции народ-коммуникация
можно было не без оснований возразить, что в
конечном счете они передают политическую власть
в руки экспертов и медиа.
Наше исследование показало, что холистическое
Государство, основанное на непосредственном
присутствии провозглашающего народа, и
нейтрализованное Государство, распавшееся на
бессубъектные коммуникативные формы, противопоставлены
только внешне. Они всего лишь являют собой две
стороны единого диспозитива славы в его двух
формах: непосредственная и субъективная слава
провозглашающего народа и медийная и объективная
слава социальной коммуникации. Как по идее должно
быть сегодня очевидно, народ-нация и
народ-коммуникация при всем различии в поведении и
образе являются двумя сторонами единой doxa, которые
как таковые непрестанно пересекаются и
разделяются в сегодняшних обществах. В этом сплетении
«демократические» и светские теоретики комму-
422
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
никативного действия рискуют оказаться плечом
к плечу с такими консервативными идеологами
аккламации, как Шмитт и Петерсон; но это как раз
и есть та дань, которую всякий раз должны платить
теоретические построения, основанные на
убеждении в том, что можно пренебречь
предостережениями археологического толка.
То, что government by consent и социальная
коммуникация, на которой в конечном счете основывается
согласие, на самом деле соотносятся со сферой
аккламаций,—способно показать даже обобщенное
генеалогическое исследование. В техническом
контексте публичного права понятие consensus впервые
появляется в «Res gestae Augusti»49, где Август
кратко обосновывает сосредоточение конституционных
полномочий в собственной персоне: «In consulta-
tu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram,
per consensum universorum potitus rerum omnium»
(«Во время моего шестого и седьмого консулата,
положив конец гражданским войнам, я со
всеобщего согласия принял на себя всякую власть».)
Историки римского права неоднократно задавались вр-
просом о публично-правовой обоснованности этого
невероятного сосредоточения власти; Моммзен
и Корнеман, к примеру, полагают, что оно более
не основывается на функции триумвира, а вызвано
своего рода чрезвычайным положением
{Notsstandkommando) (Kornemann. P. 336)- Тем не менее,
знаменательно не только то, что Август недвусмысленно
обосновывает ее согласием («per consensum.
universorum»), но и что прямо перед этим он уточняет,
каким образом было явлено это согласие: «Два раза
49- Полное название —«Res gestae divi Augusti» («Деяния боже
ственного Августа») (лат.).
423
ЦАРСТВО И СЛАВА
я был удостоен овации, три раза — триумфа на
колеснице и двадцать один раз был возглашен
императором [Bis ovans triumphavi, tris egi curulis triumphos et
appellatus sum viciens et semel imperator]». Такому
историку, как Моммзен, никогда не слыхавшему о
«коммуникативном действии», было непросто подвести
под понятие согласия какое бы то ни было
публично-правовое основание; однако если осмыслить
сущностное отношение, связывающее его с
аккламацией, согласие без труда можно определить,
парафразируя шмиттовский тезис об общественном
мнении как о «современной форме аккламации»
(не имеет значения, выражается ли аккламация
физически присутствующим множеством, как у Шмит-
та, или же потоком коммуникативных процедур,
как у Хабермаса). Так или иначе, консенсусная
демократия, которую Дебор называл «обществом
спектакля» и которая столь дорога теоретикам
коммуникативного действия, является демократией славы,
в рамках которой ойкономия всецело растворяется
в славе и в доксологической функции, освобождаясь
от литургии и от церемониала, неслыханным
образом абсолютизируется и проникает в каждую сферу
социальной жизни.
Политическая философия и политическая наука
до сих пор упускали из виду вопросы, которые
всякий раз при анализе в генеалогической или
функциональной перспективе техник и стратегий управления
и власти предстают во всех смыслах
определяющими: откуда наша культура извлекает — мифически
и искусственно — критерий политичности? Какова
субстанция — или процедура, или грань, — которая
позволяет придать чему-то непосредственно
политический характер? Ответ, вытекающий из нашего
исследования, — слава в ее двойном аспекте:
божественном и человеческом, онтологическом и эконо-
424
8. АРХЕОЛОГИЯ СЛАВЫ
мическом; слава Отца и Сына, народа-субстанции
и народа-коммуникации. Народ, реальный или
коммуникативный, с которым government by consent и ойко-
номия современных демократий должны
неизбежно соотноситься, есть в своей сущности аккламация
и doxa. И если, как мы попытались показать in limine,
слава под видом «жизни вечной» покрывает и
захватывает ту особую практику живущего человека,
которую мы определили как бездеятельность, если
возможно, как было заявлено в конце «Homo sacer I»,
помыслить политику вне экономики и славы —
отталкиваясь от бездеятельного разделения жизни
на bios и zôê, — то именно в этом и будет состоять
центральная задача грядущего исследования.
Приложение
Экономика
в Новое время
1.
Закон и чуцо
l.i. Во второй половине XVII века вопрос о
провидении принял во Франции такие формы, которые
Паскаль подверг высмеиванию в своих «Письмах
к провинциалу». Поскольку во всех сферах
возрастал интерес к практикам управления и к теории
власти, спор в среде богословов тоже перешел на те
способы, которыми провидение управляет миром
(иными словами, на природу и на благодать — его
основные орудия), а также на отношения между
тем, кто правит, и теми, кем правят (то есть в
какой степени разумные существа могут быть
руководимы провидением и в каком смысле они остаются
свободными по отношению к получаемой ими
благодати). По свидетельству Паскаля, предметом
непреодолимых разногласий между иезуитами, мо-
линистами, томистами и янсенистами является
именно вопрос о благодати «довлеющей» и
благодати «действенной», то есть о способе, которым Бог
вмешивается в управление вторичными причинами.
Паскаль пишет:
Их разногласия в отношении довлеющей
благодати заключаются в следующем: иезуиты
утверждают, что существует только одна
благодать, данная всем людям вообще и
подчиненная свободной воле таким образом, что
последняя по своему произволу делает ее действенной
или недейственной, без какого-либо дополни-
429
ЦАРСТВО И СЛАВА
тельного вмешательства Бога, но при этом с его
стороны нет никаких препятствий к какому-либо
эффективному действию; поэтому они называют
эту благодать довлеющей, ибо ее одной
достаточно, чтобы действовать. Янсенисты же, напротив,
полагают, что нет никакой благодати,
действительно довлеющей, которая не была бы и
действенной, и это означает, что все виды
благодати, которые не приводят волю к эффективному
действию, являются недостаточными, поскольку,
по их словам, без действенной благодати люди
не действуют никогда. [Pascal 2, 2. Р. 675-676.]
Хотя иезуиты и томисты единодушно осуждают ян-
сенистов, сами они тоже весьма далеки от единого
мнения в определении того исключительного
орудия провидения, каким является благодать (будь
она довлеющей или действенной). В самом деле,
томисты называют довлеющей такую благодать,
которая таковой не является, поскольку ее
недостаточно для того, чтобы приводить к действию. «Но это
означает, —рассуждает Паскаль, —что все имеют
достаточно благодати и всем ее недостаточно; то есть
что благодать эта довлеет, хотя ее недостаточно;
то есть что она довлеющая по названию и недо-
влеющая на деле» (Ibid. P. 678). «К чему же мы
пришли?»—иронически вопрошает Паскаль.
На чью же сторону мне встать? Если я отрицаю
довлеющую благодать, я — янсенист. Но если
я допускаю ее как иезуиты, так, что действенная
благодать не необходима, я, по вашим словам,
еретик. А если я допускаю ее как вы, так, что
действенная благодать необходима, я грешу против
здравого смысла, я сумасброд, по выражению
иезуитов. Как же мне поступить в этой
непреклонной необходимости быть или сумасбродом,
или еретиком, или янсенистом? [Р. 679«]
430
1 . ЗАКОН И ЧУДО
В действительности за этой с виду
терминологической проблемой скрывается не что иное, как сам
способ постижения божественного управления
миром, и теологи, более или менее сознательно,
спорят на самом деле о политике. Провиденциальное
управление миром исходит из трудного
равновесия между действием правящей силы (благодатью
в разных ее формах) и свободной волей индивидов,
которыми правят. Позиция Янсения
неприемлема для Церкви именно потому, что он утверждает,
будто благодать всегда действенна и,
следовательно, непреодолима, и этим уничтожает свободу
людей, превращая влияние провидения в некую
абсолютную и непроницаемую власть, которая, подобно
правительствам держав эпохи барокко с их
тайнами и «резонами», по собственному произволу
спасает избранных и обрекает всех остальных на
вечное проклятие.
1.2. Именно в таком контексте Мальбранш
в i68o году —то есть примерно через пятнадцать
лет после жаркой полемики, вызванной
«Письмами к провинциалу», — публикует свой «Трактат
о природе и благодати». В нем он дает новую
формулировку доктрине провидения общего и
частного, причин первичных и вторичных; и этой
формулировке предстояло оказать долгосрочное влияние
не только на теологов, но прежде всего на
философов, которым этот трактат недвусмысленно был
адресован («для которых я написал этот Трактат»,
Malebranche 2. Р. 146). Поскольку речь идет не о чем
ином, как об абсолютизации божественного
управления, которая радикально меняет смысл
вторичных причин (понимаемых теперь как
окказиональные), представляется целесообразным ознакомиться
с кратким изложением, которое Мальбранш дает
431
ЦАРСТВО И СЛАВА
своей доктрине в приложениях к трактату под
общим заглавием «Eclaircissements».
Субъект провиденциального действия — это воля
Бога. Итак, Мальбранш начинает с того, что
проводит различие между волей общей и волей частной:
Я говорю, что Бог действует через общую волю,
когда Он действует посредством общих
законов, которые сам установил. Например, я
говорю, что Бог действует во мне через общую
волю, когда Он заставляет меня чувствовать
боль от укола: ибо именно вследствие
установленных им общих и действенных законов,
связывающих тело и душу, он заставляет меня
испытывать боль всякий раз, когда мое тело терпит
неудобство. Точно так же, когда один шар
толкает другой, я говорю, что Бог приводит в
движение второй шар через некую общую волю, ибо
он делает это посредством общих и действенных
законов передачи движения. В самом деле,
поскольку он установил, что в тот момент, когда
сталкиваются два тела, движение распределяется
между ними в определенных пропорциях,
именно вследствие этой общей воли тела обладают
способностью приводить друг друга в движение.
[Ibid. Р. 137].
Напротив, следовало бы сказать, что Бог
действует посредством некой частной воли, если эта воля
производит эффект независимо от какого-либо
общего закона. Если Бог заставляет меня чувствовать
боль от укола, притом что на мое тело нет
никакого внешнего или внутреннего воздействия, и если
какое-либо физическое тело начинает двигаться,
не получив импульса от другого, это может быть
проявлением частной воли, то есть чудом.
Стратегия Мальбранша состоит в том, чтобы
почти полностью освободить провидение от любых
432
1 . ЗАКОН И ЧУДО
проявлений частной воли и свести вопрос
божественного управления миром к терминам
отношения между общей волей и теми причинами, которые
он называет окказиональными (иными словами,
вторичные причины он превращает в окказиональные).
Когда мы видим, что какой-либо эффект
производится сразу после воздействия окказиональной
причины, то следует считать, что эффект этот
произведен посредством действия некой общей
воли. Тело движется после того, как его
толкнули: столкновение тел — это действие
окказиональной причины: следовательно, это тело движется
вследствие общей воли. Камень падает на
голову человеку и убивает его; но этот камень
падает так же, как все остальные, то есть его
движение развивается примерно в арифметической
прогрессии: 1, з> 5' 7-> 9 и Т-Д- Тогда я говорю,
что этот камень движется под действием общей
воли, то есть согласно законам передачи
движения, что можно легко доказать. [Р. 139]
Но даже если эффект вызывается без всякой
видимой окказиональной причины (если, например,
тело приходит в движение без какого-либо
стороннего импульса), то и в этом случае нельзя уверенно
утверждать, что имеет место вмешательство некой
частной, или чудотворной, воли. В самом деле,
можно предположить, что Бог установил общий закон,
согласно которому ангелы могут собственной волей
приводить тела в движение; тогда эта частная
ангельская воля будет действовать как окказиональная
причина воли Бога и механизм провиденциального
управления в любом случае будет одним и тем же.
Поэтому часто даже не возникает сомнений
в том, что Бог действует посредством
проявления общей воли; но даже при самых оче-
433
ЦАРСТВО И СЛАВА
видных чудесах нельзя уверенно утверждать,
что он действует посредством проявления
частной воли. [Ibid.]
Дело в том, что, по мнению Мальбранша, для
божественной мудрости более сообразно действовать
путями простыми и универсальными, а не посредством
множества проявлений частной воли. Так он
приходит к формулировке своеобразной бритвы Оккама
по отношению к чудесам: чудеса, как и сущности, поп
sunt multiplicanda extra necessitatem1. Если мы видим,
как дождь проливается на поле, которое
необычайно в нем нуждалось, то не следует проверять,
пролился ли он также на соседние поля или на дороги,
которые в нем ничуть не нуждались, «ибо не
следует прибегать к чудесам без необходимости» (Р. 142).
Поскольку мудрость заключается в том,
чтобы осуществлять свои планы путями
простыми и универсальными, а не сложными и
частными [...], то нужно почтить Господа верой в то,
что его образ действия является
универсальным, однородным, постоянным и соразмерным
нашему представлению о его бесконечной
мудрости. [P. 143-]
Парадигма провиденциального управления — это
не чудо, а закон, не частная воля, а общая.
Кроме того, это единственный разумный способ
объяснить проявления зла, которые нам кажутся
несовместимыми с тем, что мы считаем
провиденциальным замыслом. Бог своим всеобщим законом
постановил, чтобы мы испытывали приятное
ощущение при вкушении плодов, подходящих для
питания нашего тела. Но если мы испытываем такое же
1. Не следует множить без необходимости (лат.).
434
1. ЗАКОН И ЧУДО
ощущение при вкушении плодов отравленных,
то это не означает, что Бог проявлением какой-то
частной воли отступает от закона, им же
установленного; напротив,
поскольку отравленный плод возбуждает в
нашем мозгу такое же движение, что и
неотравленные плоды, Бог вызывает у нас то же ощущение
в соответствии с общими законами, посредством
которых он объединил тело и душу. Таким же
образом, именно посредством общей воли Бог
делает так, что те, кто потерял руку,
испытывают болезненные ощущения в этой руке [...].
Итак, несомненно, что бесполезные или
вредные для земных плодов дожди являются
необходимыми следствиями общих законов передачи
движения, которые Бог установил для получения
наилучших результатов. [Р. 141.]
Теория стоиков о побочных эффектах здесь вновь
рассмотрена и вписана внутрь некоего механизма
божественного управления миром, где царят общие
законы, чей порядок полностью соответствует тому,
который как раз в то время начинают постепенно
открывать естественные науки:
Мудрое существо должно действовать мудро,
Бог не может опровергнуть самого себя: его
способ действия должен иметь те же
характеристики, что и его атрибуты. Бог знает все и
предвидит все: его знание не имеет границ: его способ
действия должен нести на себе знак
безграничного знания. Для того чтобы выбирать
окказиональные причины и устанавливать общие'законы
для воплощения какого-либо замысла, требуется
бесконечно более обширное знание, чем для того,
чтобы менять каждый миг собственную волю
и действовать через частные случаи. Итак, Бог
435
ЦАРСТВО И СЛАВА
осуществляет свои планы посредством общих
законов, чья действенность обусловлена
окказиональными причинами. Создать часы,
которые всегда будут идти правильно, что бы с ними
ни делали — носили с собой, вешали на стену,
роняли на землю, — несравнимо труднее, чем
изготовить часы, которые показывают
правильное время лишь тогда, когда тот, кто их сделал,
что-нибудь в них меняет в зависимости от той
или иной ситуации [...]. Устанавливать общие
законы, выбирая самые простые и
одновременно самые продуктивные из них, —это способ
действия, достойный того, чья мудрость не знает
границ; напротив, действовать посредством
проявлений частной воли —это доказательство
ограниченного ума. [P. 154-]
По мнению Мальбранша, это не означает
отрицания или преуменьшения власти провидения;
напротив, теперь оно так безупречно совпадает с
миропорядком, что больше нет необходимости проводить
границу между ним и природой; природа есть
не что иное, как «общие законы, которые Бог
установил для того, чтобы создать и сохранить свое
творение самым простым способом, посредством
действия, которое всегда равномерно и постоянно»
(Р. 138); любое другое восприятие природы,
например то, которое было у античных философов, — это
всего лишь «химера» (Ibid.). Но эта природа, в
которой Бог «совершает все во всем» (Ibid.), действуя
при этом только посредством общей воли и
законов, ничем не отличается от той природы, которую
знает наука Нового времени. Поэтому Фенелон,
читая трактат Мальбранша, проницательно замечает,
что «его бог должен совпадать с миропорядком»,
что он «не может нарушить этот порядок, не
перестав при этом быть Богом» (Fénelon. P. 342).
436
1. ЗАКОН И ЧУДО
1.3. Христологию в провиденциальном
управлении Мальбранш наделяет решающей во всех
смыслах функцией. Он интерпретирует тринитарную
ойкономию в том смысле, что Иисус Христос после
своего самопожертвования, где он выступил как
панегирическая причина искупления, был назначен
Отцом окказиональной причиной благодати; в этом
качестве он воплощает в частностях ту благодать,
которую Бог установил посредством общих законов.
«Таким образом он сам применяет и
распределяет свои дары, действуя как окказиональная причина.
Он распоряжается всем в доме Господа, как
любимый сын в доме отца» (Malebranche 2. Р. 144)- То есть
он является не только неотъемлемой частью
провиденциальной управленческой машины, но и главной
ее деталью, от которой зависит ее работа и
эффективность во всех областях и в отношении всех
людей. Именно в этом смысле, по мнению Мальбран-
ша, нужно понимать как утверждение Евангелия,
согласно которому Христу была дана «omnis potes-
tas in coelo et in terra» (Мф. 28:18), так и слова Павла
о том, что Христос—это голова Церкви, а
христиане—части ее тела (Еф. 4:6). Слова Павла
говорят не только о том, что Иисус Христос —
панегирическая причина любой благодати: они ясно
означают, что христиане — это части тела,
головой которого является Иисус Христос: именно
в нем мы вырастаем и начинаем жить новой
жизнью; именно посредством его внутренней
энергии, kaV energeian, формируется его Церковь;
в этом смысле он был назначен Богом как
единственная окказиональная причина, которая
посредством своих многочисленных желаний и
воплощений распределяет ту благодать, которую
Бог, как истинная причина, дарует людям.
[Malebranche 2. Р. 141.]
437
ЦАРСТВО И СЛАВА
То есть Христос действует как исполнительный
глава того gubernatio, чьим высшим законодателем
является Бог. Но так же как ойкономия не
подразумевала разделения божественного триединства, так
и полномочия, данные Христу, не подразумевают
разделения суверенитета. Поэтому Мальбранш,
рассуждая о Христе, может говорить о некой
«суверенной власти» («puissance souveraine de cause
occasionnelle», ibid., p. 148, даже если это могущество было
ему дано отцом) и при этом называть его функцию
просто «министерством»:
Именно Иисус Христос, будучи человеком,
является главой Церкви, и именно он наполняет все
части ее тела той благодатью, что их освящает.
Но поскольку он обладает этой властью
вследствие общего закона, который Бог установил
в нем, чтобы осуществить свой великий
замысел — Вечный Храм Божий, то воистину можно
сказать, что Бог, и только Бог, дарует
внутреннюю благодать, хотя в действительности он дает
ее только посредством министерства Иисуса
Христа, который, как человек, определяет
своими молитвами и своими желаниями
действенность божественных соизволений. [Р. 185.]
В этом смысле Христос сравнивается с ангелами,
которые в Библии действуют как «министры
господни» (р. 183). Ангелы дали Ветхий Завет и являлись
его министрами; Христос же является «ангелом
Нового Завета» (p» i86), и, как «министр» этого Завета,
он возвышен над ангелами (р. 187).
X Мы видим, что и у Малъбранша определение
провиденциальной роли ангелов выдает некоторое
«министерское» — то есть чисто управленческое — беспокойство.
Ангелы не только посланники и министры Бога: их действия,
которые соответствуют сфере, традиционно закреплен-
43«
1 . ЗАКОН И ЧУДО
ной за чудом, создают в системе всеобщих законов и
проявлений воли нечто вроде парадигмы чрезвычайного
положения, что позволяет Мальбраншу по-новому сформулировать
свою критику чуда, В самом деле, по мнению Мальбранша,
в Ветхом Завете есть множество свидетельств чудесных
событий, но события эти должны интерпретироваться
не как частное проявление воли Бога, противоречащее его
общим законам, но как последствие той высшей воли,
посредством которой он передал ангелам свое могущество: «Я
полагаю, что могу доказать, опираясь на авторитет Священного
Писания, что ангелы получили от Бога определенную власть
над этим миром; что Бог исполняет их волю и посредством
этого свои замыслы, в соответствии с некими общими
законами; таким образом, все то, что кажется нам чудом
в Ветхом Завете, вовсе не доказывает, что Бог действует
посредством проявлений частной воли» (Р. 182-183). Иными
словами, так называемые чудеса являются следствием
некоего общего закона, посредством которого Бог предоставил
своим ангельским министрам полномочия действовать,
внешне нарушая какой-то другой общий закон (например, закон
передачи движения). То есть исключение — это не чудо
{некая частная воля вне системы общих законов), но эффект
какого-то всеобщего закона, который дает ангелам особые
полномочия. Чудо не находится за пределами системы
законов, но представляет собой частный случай, в котором
отменяется один закон, чтобы позволить применение другого,
посредством которого Бог с целью наилучшего управления
делегировал ангелам свою верховную власть.
Теория Шмитта о чрезвычайном положении —
которая, хотя и приостанавливает действие некоторых норм,
все лее не выходит за рамки глобального юридического
порядка, — полностью соответствует модели ангельской власти
в «Трактате» Мальбранша.
1-4- Ключевой вопрос трактата — определение
наилучшего возможного способа управления. Здесь
возникает та же трудность, с которой столкнулся
и Янсений, а именно: как примирить два внешне
439
ЦАРСТВО И СЛАВА
противоречивых утверждения — «Бог хочет, чтобы
все люди были спасены» и «Не все люди будут
спасены». Речь идет ни больше ни меньше как о
противоречии в Боге между волей, желающей, чтобы все
люди, включая нечестивцев, были спасены, и
мудростью, которая должна выбрать для этой цели
только самые простые и общие законы. Поэтому
наилучшим правлением будет то, которое сумеет найти
самое экономное соотношение между волей и
мудростью, или, как пишет Мальбранш, между мудростью,
которая имеет целью порядок и постоянство, и
плодотворностью (которая требует, чтобы Церковь
становилась все более обширной и многочисленной):
Бог любит людей и желает, чтобы все они были
спасены, он хочет освятить их всех, хочет,
чтобы его творение было прекрасно, чтобы его
Церковь была самой обширной и самой
совершенной. Но бесконечно больше Бог любит свою
мудрость, ибо ее он любит непреодолимо,
любовью естественной и необходимой. Таким
образом, он не может освободиться от самого мудрого
и самого достойного для себя способа действия,
не может не следовать поведению, которое
наилучшим образом соответствует его атрибутам.
Но поскольку он действует самыми простыми
и самыми достойными его мудрости путями, его
творение не может быть более прекрасно и
более величественно, чем оно есть. Ибо если Бог
столь же простыми путями мог бы сделать свою
Церковь более обширной и совершенной, чем
она есть, это означало бы, что он, действуя так,
как действовал, не намеревался создать творение,
наиболее себя достойное [...]. Мудрость Господа,
не позволяя ему усложнять свои пути и
совершать чудеса каждый миг, обязывает его
действовать универсальным, постоянным и
единообразным способом: поэтому он не спасает всех людей,
440
1. ЗАКОН И ЧУДО
хотя воистину желает, чтобы они спаслись. Даже
любя свои создания, он делает для них только то,
что позволяет ему его мудрость; и, хотя он
желает, чтобы его Церковь стала более обширной
и совершенной, он не делает ее самой обширной
и самой совершенной вообще, но самой
обширной и совершенной в соотношении с путями,
которые наиболее его достойны. Ибо, повторю еще
раз, Бог строит свои планы, только
сопоставляя средства с тем делом, исполнению которого
они служат. И когда он признает, что достигнуто
наилучшее соотношение мудрости и
плодотворности между определенными средствами и
целями, тогда он, говоря человеческим языком,
принимает окончательное решение, выбирает свои
пути, устанавливает свои законы. [Р. 171.]
Уже Бейль задавался вопросом, каким образом
подобные утверждения могут сочетаться с
общепринятым мнением о природе и всемогуществе высшего
существа. В своем труде «Ответ на вопросы
провинциала», который Лейбниц упоминает в «Теодицее»,
он пишет:
Эти понятия показывают, что все вещи, не
содержащие в себе противоречия, возможны для Бога
и, следовательно, он может спасти тех людей,
которых он не спасает: ибо какое противоречие
содержалось бы в том, что число избранных
будет больше, чем оно есть? Понятия эти
показывают нам [...], что нет такой воли, которую
он не мог бы исполнить. Как тогда объяснить,
что он хочет спасти всех людей и не может этого
сделать? [Leibniz 2, 223. Р. 63.]
В действительности, чтобы до конца понять мысль
Мальбранша, нужно поместить его тезисы на их
истинную почву —управления миром. Вопрос заклю-
441
ЦАРСТВО И СЛАВА
чается не в абстрактной проблеме всемогущества
или бессилия Бога, но в возможности управления
миром, то есть в упорядоченном отношении между
общими законами и окказиональными частными
причинами. Если Бог, как обладатель верховной власти,
действовал бы от начала до конца посредством
проявлений частной воли, увеличивая до
бесконечности свои чудесные вмешательства, то не было бы
ни правления, ни порядка, но только лишь хаос и,
если можно так выразиться, светопреставление
чудес. Поэтому он, как суверен, должен царствовать,
а не править, устанавливать общие законы и волю
и предоставлять случайной игре окказиональных
причин и частной воли наиболее экономичное
исполнение этих законов:
Тот Бог, которому ведомо все, не должен
усложнять простоту своих путей. Существо, не
подверженное переменам, должно всегда вести себя
одинаково. Общая причина не должна
действовать через проявления частной воли.
Божественное управление должно иметь знак его
атрибутов, если только неизменный и необходимый
порядок не обязывает его вносить в него
изменения. Ибо, по отношению к Богу, порядок есть
нерушимый закон: его он любит непреодолимо
и всегда предпочтет его произвольным законам,
посредством которых он воплощает свои
замыслы. [Malebranche 2. P. i88.]
Но то, что вытекает из отношения между общей
волей и окказиональными причинами, между
Царством и Правлением, между Богом и Христом,— это
и есть ойкономия, в которой на кону не столько
вопрос о том, являются ли люди добрыми или
злыми, сколько проблема того, каким образом
проклятие многих согласовывается со спасением немногих,
442
1. ЗАКОН И ЧУДО
а злодейства отдельных людей являются лишь
побочным эффектом добродетели остальных.
К В полемике с Бейлем, из которой впоследствии родились
его «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе
человека и начале зла», Лейбниц неоднократно упоминает имя
Мальбранша и заявляет, что согласен с его теорией
проявлений общей воли, более того, настаивает — обоснованно
или нет — что сам является ее автором. Он пишет:
Выдающийся автор «Разысканий истины»,
перейдя от философии к теологии, издал
прекраснейший «Трактат о природе и благодати»,
где он показал на свой манер [...], что события,
которые рождаются из действия всеобщих
законов, не составляют предмета частной
божественной воли [...]. Я согласен с достопочтенным
отцом Мальбраншем, что Бог создал вещи наиболее
достойным его способом; но я иду немного
дальше его в том, что касается общей и частной воли.
Поскольку Бог ничего не может творить без
оснований, даже когда творит чудеса, то отсюда
следует, что он не желает ни одного отдельного
события, которое не было бы согласно с истиной
или с общей волей. [Leibniz 2, 204-206. Р. 249~252]-
Сходство его собственной теории предустановленной
гармонии и лучшего из миров с системой Мальбранша казалось
ему настолько очевидным, что он счел нужным напомнить
о своем праве первенства:
Будучи во Франции, я передал г-ну Арно
написанный мною на латинском языке «Диалог
о причине зла и справедливости Бога» [речь
идет о «Confessio philosophi»]. Это было не
только до его споров с достопочтенным отцом
Мальбраншем, но даже до появления книги
последнего под названием «Разыскания истины».
[Ibid. 2, 211. Р. 255-]
443
ЦАРСТВО И СЛАВА
Мысль о некой «теодицее», в самом деле, уже
присутствует у Мальбранша: «Недостаточно, — пишет он, —дать
понять, что Бог всемогущ и делает со своими созданиями все,
что пожелает. Необходимо, если это возможно, дать
оправдание его мудрости и его доброте» (Malebranche 2. Р щ)-
И Мальбранш, и Лейбниц утверждают, что Бог всегда
выбирает самые простые и универсальные пути,
которые проще всего объяснить и которые,
кроме того, помогают объяснить другие явления [...],
и если бы система предустановленной гармонии,
устраняющая излишние чудеса, не была
необходима в других отношениях, то Бог избрал бы ее
потому, что она наиболее гармонична [...].
Точно так же говорят, что дом является наилучшим,
учитывая израсходованные на него средства.
Можно даже свести два эти условия,
простоту и плодотворность, к одному-единственному
преимуществу, а именно к достижению
возможно большего совершенства; а этим путем
система достопочтенного отца Мальбранша сводится
к моей. [Leibniz 2, 208. P. 253-]
Известны выводы, которые Лейбниц сделал из своей
системы в отношении проблемы происхождения и
необходимости зла. Божественная мудрость охватывает все
возможные миры, сопоставляет и взвешивает их, чтобы постичь
большую или меньшую степень их совершенства. Эта
мудрость располагает и распределяет их в бесконечности
возможных вселенных, каждая их которых содержит
бесконечное множество созданий:
Результатом всех этих сравнений и
размышлений явился выбор наилучшей из всех этих
возможных систем, который осуществила мудрость
для удовлетворения своей благости; вот это
и есть поистине замысел нынешнего
универсума. [Ibid., 2, 225. Р. 264.]
444
1 . ЗАКОН И ЧУДО
Но выбор наилучшего из миров имеет свою цену, которой
является количество зла, страдания и проклятия,
содержащихся в нем как необходимый сопутствующий эффект.
В очередной раз Мальбранш привлекается для того, чтобы
оправдать провиденциальный выбор во имя общих законов:
Следует полагать, что и страдания, и чудовища
тоже являются частью этого порядка; хорошо
также принять в расчет не только то, что
лучше было допустить эти недостатки и уродства,
чем нарушить общие законы, как на это порой
указывает достопочтенный отец Мальбранш,
но также и то, что сами эти чудовища
являются частью нормы и сообразны общей воле, даже
если мы не в состоянии постичь эту
сообразность. Как в математике иногда бывают мнимые
неправильности, которые после глубокого их
изучения оборачиваются идеальным порядком, так
и здесь я уже заметил, что сообразно с моими
началами отдельные события все без исключения
являются следствиями проявлений общей воли.
[Ibid., з, 241. P. 273-]
Даже у самых блестящих умов порой бывают сумеречные
зоны, в которых они теряются настолько, что даже ум,
несомненно им уступающий, может выставить их на
посмешище. Именно это произошло с Лейбницем, когда
Вольтер написал на него карикатуру в своем «Кандиде». В случае
Лейбница у этого поражения есть две причины. Первая —
нравственно-юридического порядка, и связана она с
попыткой оправдания, которая выражена в самом
заглавии: «Теодицея». Миру — такому, какой он есть, — нужно
не оправдание, а спасение; и если он не нуждается в
спасении, еще менее того он нуждается в оправдании. Но желание
оправдать Бога потому, что мир таков, какой он есть, —
это наихудшее недоразумение, которое можно вообразить
в христианстве. Вторая и более важная причина имеет
политический характер и относится к слепой вере в необхо-
445
ЦАРСТВО И СЛАВА
димость закона (общей воли) как инструмента для
управления миром. Согласно этой ложной идее, если общий закон
требует, чтобы случился Освенцим, то и «чудовища входят
в норму», и норма поэтому более не считается чудовищной.
1-5- Влияние философии Мальбранша на
политические теории Руссо имеет обширное документальное
подтверждение (Брейе, Райли, Постильола). Ученые,
однако, ограничивались тем, что реконструировали
бросающиеся в глаза терминологические
подражания и сопоставляли немаловажные общие идеи этих
двух мыслителей, но не всегда исследовали те
структурные аналогии, которые сопровождали и делали
возможным перемещение мысли из
теологического контекста в политический. В частности, в
монографии Патрика Райли «The general will before
Rousseau»2 очерчена обширная генеалогия понятий о
volonté générale и volonté particulière, которая от теологии
XVIII века восходит к самому «Общественному
договору». Руссо не придумал эти понятия, но вывел их
из богословских дебатов о благодати, где, как мы
видели, они имели стратегическую функцию в
понимании провиденциального управления миром.
Райли доказывает, что общая воля у Руссо, без сомнения,
может быть определена как секуляризация
соответствующей категории у Мальбранша и что вообще
французская теологическая мысль, от Арно до
Паскаля и от Мальбранша до Фенелона, оставила
весьма заметные следы во всех трудах Руссо; но вопрос,
в какой мере последний мог повлиять на сдвиг
целой теологической парадигмы в сферу политики,
кажется, не представляет интереса для
исследователя. То, что перенос каких-либо положений из
теологической сферы в политическую может привести
2. «Всеобщая воля до Руссо» (англ.).
44б
1. ЗАКОН И ЧУДО
к непредвиденным последствиям и, следовательно,
к чему-то вроде «непростительной забывчивости»
в случае Руссо, не ускользнуло от внимания Альберто
Постильолы (Postigliola. P. 224)- Но он ограничивается
лишь замечанием, что понятие «общей воли» у Маль-
бранша — это синоним божественного атрибута
бесконечности, что делает проблематичным, если не
противоречащим здравому смыслу, его перенос в
мирскую сферу «Города» Руссо, где всякая общность
может быть только конечной. Мы же, напротив,
постараемся доказать, что с понятиями volonté générale
и volonté particulière из теологической сферы в
политическую перемещается вся машина
провиденциального управления целиком, не просто влияя на
отдельные моменты общественной экономики Руссо, но
определяя всю ее фундаментальную структуру, то есть
соотношение между суверенитетом и управлением,
законом и исполнительной властью. Через
«Общественный договор» республиканская традиция
безоговорочно унаследовала такую теологическую
парадигму и такую управленческую машину, в сути
которых она сама еще далеко не отдает себе отчета.
1.6. В 1977_197^ год^х в своем курсе лекций
«Безопасность, территория, население» Фуко в
нескольких сжатых строках дает определение
фундаментальной структуре политического проекта Руссо
{Foucault, P. ио-ш). Он показывает, что проблема
суверенитета не сходила со сцены с того самого
момента, когда искусство правления вышло в
европейской политике на первый план; более того,
никогда еще она не была так актуальна, как
сейчас, поскольку если до XVII века было принято
выводить из теории суверенитета парадигму
управления, то сейчас речь идет об обратном процессе:
поскольку важность искусства управления все воз-
447
ЦАРСТВО И СЛАВА
растает, нужно найти ту юридическую форму и ту
теорию суверенитета, которые могли бы его
подкрепить и обосновать. Именно здесь он иллюстрирует
этот тезис примерами из Руссо и, в частности,
сопоставляет статью 1755 г°Да к<® политической
экономии» в «Энциклопедии» и «Общественный
договор». По мнению Фуко, задача этой статьи —дать
определение «экономики», или искусства
управления, которое больше не берет за образец семью,
но имеет с ней общую цель — править наилучшим
образом и с наибольшей эффективностью, чтобы
сделать людей счастливыми. Когда же Руссо пишет
«Общественный договор», проблема будет
заключаться в том, чтобы
понять, каким образом с помощью таких
понятий, как «природа», «договор» и «общая воля»,
можно сформулировать некий общий принцип
управления, в равной мере совместимый с
юридическим принципом суверенитета и с теми
элементами, посредством которых можно определить
и охарактеризовать искусство управления [...].
Проблема суверенитета не решена; она,
напротив, приобретает особую остроту3. [Ibid. P. по.]
Попробуем углубить этот диагноз Фуко в свете
результатов нашего исследования. Здесь он ближе
всего подошел к интуитивному пониманию
биполярного характера управленческой машины, даже если
методологический выбор, при котором он
оставляет в стороне анализ юридических универсалий,
не позволяет ему полностью выразить это
понимание. Теория суверенитета, которую сформулировал
Руссо, — это, несомненно, функция одной из тео-
3- См.: Фуко М. Безопасность, территория, население. С. i6o.
448
1. ЗАКОН И ЧУДО
рий управления (или «общественной
экономики», как он иногда ее определяет); но соотношение
между этими двумя элементами у Руссо еще более
близкое и тесное, чем может показаться из краткого
анализа Фуко, и полностью основывается на
теологической модели, которую он перенимает от Маль-
бранша и французских теоретиков провидения.
В этой перспективе решающим выглядит
различие и разделение суверенитета и управления, что
лежит в основе политической мысли Руссо. «Я
прошу моих читателей, — такими словами начинается
статья «О политической экономии», —отчетливо
различать общественную экономику, о которой здесь
пойдет речь и которую я называю управлением,
от высшей власти, которую я называю
суверенитетом; различие это состоит в том, что последней
принадлежит право законодательства, и она и налагает
обязательства на само тело нации, тогда как первой
принадлежит только власть исполнительная, и она
может налагать обязательства лишь на частных лиц»
(Rousseau. P. 244)- В «Общественном договоре» это
различие утверждается как сосредоточение общей
воли и законодательной власти, с одной стороны,
и управления и исполнительной власти —с другой.
Это различие имеет для Руссо стратегическую
важность: мы видим это по тому, как энергично
отрицает он то, что речь идет о некоем разъединении,
и представляет его скорее как внутреннюю
композицию единой и неделимой высшей власти:
По той же причине, по которой суверенитет
неотчуждаем, он неразделим. Ибо воля либо является
общей, либо нет; либо это воля всего тела нации,
либо только его части. В первом случае эта
объявленная воля есть акт верховной власти, и она
создает закон; во втором —это лишь проявление
449
ЦАРСТВО И СЛАВА
частной воли или акт судебного ведомства, самое
большее—-указ или постановление. Но наши
политики, не умея разделить принцип
суверенитета, разделяют его объект; они делят его на силу
и волю, на власть законодательную и
исполнительную, на право налогообложения,
судопроизводства и военных действий, на внутреннее
управление и на полномочия вести дела с
иностранцами; иногда они смешивают все эти части,
а иногда разделяют их и делают из верховного
правителя некое фантастическое существо,
состоящее из множества разных частей, сложенных
вместе, как если бы они собирали человека из
кусков разных тел: у одного взяли бы глаза, у
другого—руки, у третьего — ноги, и более ничего.
Говорят, что в Японии есть шарлатаны, которые
на глазах у зрителей разрубают ребенка на
куски, потом подбрасывают эти куски в воздух один
за другим, и ребенок снова падает на землю,
целый и невредимый. Примерно так выглядят и
фокусы наших политических мыслителей:
расчленив с помощью ярмарочных трюков общественное
тело, они кое-как собирают его части обратно.
Истоки этой ошибки в том, что они не способны
правильно постичь понятие суверенной власти
и принимают за ее части то, что в
действительности всего лишь ее эманация. [Ibid. Р.3б9~37°-]
Так же, как в провиденциальной парадигме общее
и частное провидение не противоречат друг
другу и не представляют никакого разделения в
единой божественной воле и как у Мальбранша
окказиональные причины есть не что иное, как частное
воплощение общей воли Бога, так и у Руссо
управление, или исполнительная власть, притязает на то,
чтобы совпадать с суверенитетом закона, от
которого она все же отличается, будучи его эманацией
и осуществлением в частных случаях. Понятие эма-
45°
1. ЗАКОН И ЧУДО
нации, к которому прибегает Руссо, немало удивило
его комментаторов; но выбор этого термина
видится еще более значимым, если вернуть его в
первоначальный контекст — а именно рассматривать его
относительно эманативных причин
неоплатонического происхождения, встроенных в теорию
сотворения мира и провидения через Боэция, Эриугену,
«Liber de causis» и иудейское богословие. Именно
из-за этого своего происхождения данный термин
не пользовался доброй славой во времена Руссо.
В статье «Энциклопедии» под названием
«Каббала», которую написал Дидро, парадигма эманации
была определена как «ось, вокруг которой
вращается вся философская каббала и вся система
эманации, согласно которой все, что существует в мире,
проистекает из божественной сущности»; и еще
более критические суждения можно прочесть в статье
«Эманация», где, после подтверждения связи с
каббалистикой, звучало предупреждение, что «эта
теория прямиком ведет к пантеизму». Обратившись
к этому термину в одном из самых щекотливых мест
своей системы, Руссо не мог не просчитать
логические следствия такого выбора. Он отсылал не к
каббале, но к христианскому богословию, где этот
термин относился главным образом к исхождению лиц
в тринитарной экономике (более того, до XVII века
это было единственным значением французского
термина émanation) и к теории причин в парадигме
креационизма и провидения. В таком контексте
данный термин подразумевал, что божественный
принцип не умаляется и не разделяется в его триединой
композиции и в деятельности сотворения и
сохранения мира. Руссо пользуется им именно в этом
смысле, чтобы исключить — в пику тем мыслителям,
которых он иронически называет les politiques, — идею
о том, что суверенитет может быть каким-то образом
451
ЦАРСТВО И СЛАВА
разделен. Но так же как в тринитарной
экономике и в провиденциальной теории, то, что не
подлежит разделению, артикулируется с помощью
противопоставлений суверенитет/управление, обгцая воля/
частная воля, законодательная власть/исполнительная
власть, образующих цезуры, значение которых
Руссо старательно пытается минимизировать.
1-7- Путем этих противопоставлений современная
политика безоговорочно получает в наследство весь
экономико-провиденциальный аппарат (с его
противоположностями ordinatio/executio,
провидение/фатум, Царство/Правление). То, что служило для
обеспечения единства существа и деятельности Бога,
примиряя единство сущности с триединством
проявлений и правление частных лиц с
универсальностью провидения, здесь имеет стратегическую
функцию примирения суверенитета и всеобщности закона
с общественной экономикой и фактическим
управлением отдельных людей. Самое пагубное
последствие этого теологического диспозитива,
прикрытого политической легитимацией, заключается в том,
что он надолго сделал демократическую традицию
неспособной мыслить управление и его экономику
(сегодня скорее сказали бы — экономику и ее
управление, но эти два термина по сути являются
синонимами). В самом деле, с одной стороны Руссо
воспринимает управление как основную политическую
проблему, с другой же —минимизирует эту
проблему в ее природе и основании, сводя ее к
осуществлению суверенной власти. Это недоразумение, которое
снимает проблему управления, представляя его
только как исполнение некоего общего закона и общей
воли, отрицательно сказалось не только на теории,
но и на истории современной демократии. Ибо эта
история есть не что иное, как последовательное раз-
452
1 . ЗАКОН И ЧУДО
венчивание заблуждения о первенстве
законодательной власти и, как следствие, осознание
невозможности свести управление к простому исполнению.
И если сегодня мы видим подавляющее
доминирование управления и экономики над суверенитетом
народа, от которого осталась лишь пустая оболочка,
это, возможно, означает, что западные
демократические режимы имеют дело с политическими
проявлениями того теологического наследия, которое они,
сами того не осознавая, переняли через Руссо.
Недоразумение, при котором управление
понимается как исполнительная власть, является одной
из наиболее чреватых последствиями ошибок в
истории западной политической философии. Оно
привело к тому, что современная политическая мысль
теряется за абстракциями и пустыми мифологемами
вроде Закона, общей воли и народного суверенитета,
не затрагивая суть во всех смыслах определяющей
политической проблемы. При этом наше
исследование показало, что подлинная проблема, сокровенная тай-
на политики —это не суверенитет, а управление, не Бог,
а ангел, не царь, а министр, не закон, а полиция — иными
словами, та управленческая машина, которую они
образуют и работу которой поддерживают.
N Два вида суверенитета — династический и
народно-демократический — отсылают к двум абсолютно разным
генеалогиям. Династический суверенитет, основанный на
божественном праве, происходит из теолого-политической
парадигмы, народно-демократический суверенитет —из
парадигмы теолого-экономико-провиденциальной.
К Сам Руссо недвусмысленно дает нам понять, что
фундаментальная композиция его политической системы
происходит из теологической парадигмы. В статье «О
политической экономии» он замечает, что главная трудность
453
ЦАРСТВО И СЛАВА
предлагаемой им системы состоит в том, чтобы
примирить «общественную свободу с властью правительства»
(Rousseau. P. 248)- Эта трудность была устранена,
пишет Руссо, «при помощи самого возвышенного из
человеческих установлений или, скорее, небесным вдохновением,
которое научило человека подражать непреложным наказам
Божества» (Ibid.). Таким образом, суверенитет закона,
который имеет в виду Руссо, подражает провиденциальному
управлению миром и воспроизводит его структуру.
Совершенно так же, как общая воля у Мальбранша, закон у
Руссо подчиняет людей, чтобы сделать их более свободными, и,
неизменно управляя их действиями, лишь выражает их
природу. И так же как люди, подчиняясь правлению Бога,
позволяют действовать лишь своей собственной природе, так
и неделимый суверенитет Закона обеспечивает согласие
правящих и управляемых.
Солидарность с мыслью Мальбранша отчетливо
проявляется также в третьем «Письме с горы» в отношении
критики чудес. Руссо тесно связывает чудо и исключение (чудо
является «реальным и очевидным исключением из
божественных законов»: Rousseau. P737) и непреклонно
критикует необходимость чудес для веры и откровения. Речь идет
не столько о том, «может» ли Бог творить чудеса, сколько
о том (тут, возможно, он вполне сознательно возвращается
к разграничению между могуществом абсолютным и
упорядоченным), «желает» ли Бог их совершать (Ibid.).
Интересно заметить, что, хотя Руссо и отрицает необходимость
чудес, он не исключает их полностью, но рассматривает
как что-то чрезвычайное. Теория Шмитта, которая
видит в чуде теологическую парадигму чрезвычайного поло-
жентля (Schmitt 1. Р. 49)> находит здесь свое подтверждение.
2.
Невидимая рука
2.1. В Средние века термин ойкономия
постепенно исчезает из языка западных богословов. Конечно,
его эквиваленты dispositio и dispensatio продолжают
использоваться, но они теряют свое специфическое
значение и теперь лишь в общем смысле
означают божественное управление миром. Гуманистам
и эрудитам XVII века знакомо теологическое
значение этого греческого термина, которое достаточно
ясно определяется в лексиконе Стефануса и
Швейцера (в частности, в 1682 году, в значении
«воплощения слова Божьего») и в богословских сборниках,
как, например, «De theologicis dogmatibus» Пета-
вия (i644"165°)- Однако когда в XVIII веке этот
термин вновь появляется в латинизированной форме
oeconomia и особенно в ее эквивалентах в
европейских языках, причем в привычном нам значении
«руководства и управления предметами и людьми»,
то создается впечатление, что он уже готовым
возник ex novo из головы философов и экономистов,
без какой-либо связи с классическим
экономическим знанием или с его теологическим прошлым.
Общеизвестно, что экономика Нового времени
не ведет начало ни от аристотелевской экономики,
ни от средневековых трактатов по Oeconomica,
которые обращаются к ней же, ни тем более от
назидательной традиции таких трудов, как «Oeconomia
Christiana» Мениуса (Виттенберг, 1529) или Баттуса
(Антверпен, 155^)» темой которых является жизнен-
ный уклад христианской семьи; но при этом
остаются почти совсем не изученными скрытые связи,
которые могли бы соединить ее с парадигмой
теологической ойкономии и божественного управления
миром. В наши намерения не входит подробно
восстанавливать эти связи, но все наводит на мысль,
что генеалогическое исследование экономики
могло бы дать полезные ориентиры в вопросе
отношений с теологической парадигмой, главные черты
которой мы попытались здесь обрисовать. Дадим
лишь несколько общих указаний, которые другие
впоследствии смогут дополнить.
2.2. В 1749 Г°ДУ Линней публикует в Упсале труд
«Specimen academicum de oeconomia naturae».
Учитывая стратегическую роль, которую синтагме
«естественная экономика»4 предстоит сыграть при
рождении экономики Нового времени, целесообразно
будет остановиться на том определении, которое
Линней дает ей в начале своего труда:
Под словами «естественная экономика» мы
подразумеваем бесконечно мудрую расстановку
[disposition всего и всех, кто существует в природе,
устроенную Верховным Творцом таким образом,
что все они стремятся к общим целям и
выполняют взаимовыгодные функции. Все существа
в границах этой вселенной громко воспевают
мудрость Создателя. Все, что попадает в область
наших чувств, все, что предстает нашему
разуму и заслуживает наблюдения, направлено на то,
чтобы прославить Создателя, то есть исполнить
то самое предназначение, которое Бог положил
для всех своих творений.
4- Economia della natura (um.).
456
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
Хотя подобные концепции могут показаться
неожиданными у автора, которого мы привыкли считать
основателем современной научной классификации,
очевидно и несомненно то, что он выводит эту
синтагму из экономико-провиденциальной традиции.
Oeconomia naturae, по сути дела, означает — в полном
соответствии с привычной нам теологической
парадигмой — мудрое и провиденциальное dispositio,
которое творец придал своему творению и через
которое он им управляет и ведет к положенным им
целям таким образом, что даже то, что внешне
кажется злом, в действительности способствует
общему благу. Впрочем, Линней с конца 1740х годов
посвящает этой идее целую серию небольших работ.
В сочинении «Curiositas naturalis» (1748) некий
житель Луны неожиданно падает на Землю и в
изумлении видит, что на этой планете, кажется, царит
ожесточенная и беспорядочная борьба всех против всех.
Однако по мере того, как его наблюдения
становятся более детальными, житель Луны начинает
различать под внешним жестоким хаосом неизменный
порядок общих законов, в котором он признает
намерения и руку божественного Творца. К этому
эксперименту Линней возвращается в 1760 году в более
обширном и основательном труде «Dissertatio acade-
mica de politia naturae». «Естественная экономика»
здесь уступает место понятию politia naturae, но оно,
согласно уже утвержденной терминологии
современной Policeywissenschaß, означает только знание
и управление порядком и внутренним устройством
человеческого общества. В этом сочинении еще один
житель Луны оказывается сброшенным на Землю,
голый как Адам; вокруг него бушуют войны и
творятся неслыханные жестокости; однако он снова
постепенно приходит к осознанию скрытого
порядка, который управляет взаимоотношениями между
457
ЦАРСТВО И СЛАВА
земными созданиями и ведет их по совершенному
кругообороту.
Отсюда можно с полным основанием заключить,
что в царстве природы необходима некая politia.
Царство без управления, без порядка и без
контроля постепенно пришло бы к распаду. В
государстве словом politia мы называем справедливое
управление и руководство всем: и эта концепция
только подтверждается, если мы, насколько это
возможно, проследим за природной цепочкой.
Именно в познании этой «естественной полиции»
состоит подлинное призвание человека:
Со своей стороны, человек, являясь глазами и умом
земли, наблюдая за экономикой создателя и
изумляясь ей, открывает, что является единственным
существом, которое призвано поклоняться Богу
и восхищаться совершенством его творения.
2-3- Концепция «естественной экономики» у тех,
кого современники называли la secte économiste, то есть
у физиократов, вполне выдержана в духе этих
посылок. Влияние Мальбранша на Кенэ
подтверждено документальным материалом {Kubova in Quesnay.
T. 1. P. 169-196), да и вообще влияние модели
провиденциального миропорядка на мысль физиократов
не нуждается в доказательствах. Однако до сих пор
мало кто задумывался о следствиях того
любопытного обстоятельства, что наука экономики и
управления Нового времени построена на парадигме,
разработанной в сфере теологической ойкономии, чьи
понятия и сигнатуры мы без труда можем обнаружить.
Особое значение имеет в этой перспективе
концепция «порядка», которая, как мы видели, играла
весьма существенную роль в формировании боже-
458
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
ственного управления миром. Она занимает мысли
Кенэ еще до i75°"x годов, когда он составляет свою
знаменитую «Экономическую таблицу» (1758) и
пишет статьи «Фермеры» и «Зерно» для
«Энциклопедии» (1756)- Задолго до того, как приобрести
привычный нам облик, термин «экономика» появляется
в первой половине XVIII века в синтагме économie
animal, которая, однако, не является общественной
наукой: это скорее ответвление медицины, во
многом соответствующее физиологии. Так, в 1736 году
Кенэ, который был и до конца оставался врачом,
пишет «Essay physique sur l'économie animale»5, где эта
экономика определяется в терминах
имманентного порядка, который весьма напоминает парадигму
управления. Животная экономика, пишет он,
определяет не животное как таковое, но
тот порядок, тот механизм, тот комплекс функций
и движений, которые поддерживают жизнь живых
существ, безупречное и повсеместное
исполнение которого, совершаемое с верой, проворством
и легкостью, ведет к столь цветущему состоянию
здоровья, при котором даже самое незначительное
недомогание уже само по себе болезнь.
Достаточно перенести этот порядок с «состояния
здоровья» на политическое государство, с природы на
общество, чтобы он немедленно превратился в
парадигму управления. Le gouvernement économique d'un rouya-
me6 есть не что иное, как Vordre naturel plus avantageux1,
и это вытекает из неизменных законов, которые
Высшее существо установило для создания и сохранения
5- «Физическое эссе о животной экономике» (фр.).
6. Экономическое управление королевством (фр).
7- Самый целесообразный природный порядок (фр.).
459
ЦАРСТВО И СЛАВА
своего творения. Экономика для Кенэ означает
порядок, а порядок есть основа управления. Поэтому
в издании «Академического словаря» 1762 года мы
видим следующее значение термина «экономика»:
«порядок, посредством которого в основном существует
политическое тело» (издание 179^""1799 годов добавит
к этому: «в этом случае она зовется политической
экономией»). Здесь тоже, как у Фомы Аквинского, этот
порядок выступает в роли сигнатуры, которая нужна
для того, чтобы связать теологический порядок
вселенной с имманентным порядком человеческого
общества, общие законы природы и провидения с
комплексом частных феноменов. Кенэ пишет:
Людям не дано постичь планы Высшего
существа в деле устройства Вселенной, не дано
постичь назначение неизменных правил, которые
он установил для создания и сохранения своего
творения. Однако, если внимательно изучить эти
правила, можно заметить, что физические
причины физической боли являются одновременно
причинами физического блага: таким же образом
дождь, создавая неудобства путникам, несет
плодородие земле. [Quesnay. Vol. 2. P. 73-]
(Здесь не случайно упоминается дождь, который
может быть одновременно благодатным и
вредоносным: это тот же самый пример, к которому
прибегает Мальбранш, давая определение механизмам
провидения.)
Эта по сути теологическая идея о некоем
природном порядке, запечатленном во всем, что существует
в мире, так явно присутствует в философии
«экономистов», что наука, которую мы называем
«политической экономией», вполне могла бы называться
«наукой о порядке». Именно так постоянно
называет ее Ле Троен в своем трактате «De Tordre soci-
460
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
al»8 (1777)» гДе библейский эпиграф, взятый из Книги
псалмов, не оставляет никаких сомнений об истоках
этой концепции. Хотя Ле Троен первым из
«экономистов» развил теорию ценности, которая явно
выходит за пределы физиократии, его система все же
строится на однозначно теологическом фундаменте.
В самом деле, речь идет о том, чтобы через
концепцию (или, скорее, сигнатуру) «порядка» и
вытекающих из нее «экономических истин» сделать
понятной и управляемой ту политику, которая «казалось,
до сих пор изучалась только лишь для того, чтобы
доказать ее непостижимость» (Le Trosne. P. VIIl).
Наука управления предлагала только
искусственные, необоснованные и изменчивые
истины; казалось, что она переняла от оракулов их
сумрачную таинственность, чтобы внушать
уважение, поскольку внушить доверие она не
могла. [Ibid. P. IX.]
Но как только люди догадываются о существовании
«науки порядка», тайны развеиваются и на их место
приходит понимание экономики, посредством
которой человеческие сообщества были основаны в
соответствии с теми же правилами, которые управляют
миром физическим:
Существует некий природный, неизменный и
основополагающий порядок, установленный Богом
для того, чтобы управлять гражданским
обществом самым выгодным и подходящим для
государей и для подданных способом; и люди в силу
необходимости частично к нему приспособились,
в противном случае никакое объединение между
ними было бы невозможно. И если эти человече-
8. «Об общественном порядке» (фр-)-
461
ЦАРСТВО И СЛАВА
ские сообщества не так счастливы, как должны
или желают быть, то это потому, что им
приходится терпеть проявления хаоса и зла, которые,
в свою очередь, проистекают из того
обстоятельства, что люди знают об этом порядке
только несколько общих принципов, не понимая его
целостности, не делая из него практических
выводов и отходя от него в некоторых ключевых
моментах. Этот порядок, который так важно
постичь и понять, имеет физическую основу и
возникает, посредством целой цепочки необходимых
связей, из законов физического порядка: ведь только
из них может произойти прирост ресурсов,
богатства и населения —и, как следствие, процветание
державы и та мера счастья, которую способно дать
цивилизованное Государство. [Р. 3°2~3°3]
«Экономическая наука» физиократов есть не что
иное, как «приложение» и перенос природного
порядка на «управление обществом» (Р. 318); но
«физика», о которой тут идет речь, проистекает из
парадигмы божественного управления миром, то есть
из комплекса отношений между общими законами
и частными случаями, между причинами
первичными и вторичными, между целями и средствами,
расчет которых является предметом того «столь же
важного, сколь и блистательного изобретения» (Р. 320),
каковым является tableau économique. Решающим
в трактате Ле Троена является синтагма gouvernement
de Vordre, которой посвящена восьмая речь («De
l'évidence et la possibilité du gouvernement de Tordre»9).
Здесь родительный падеж является одновременно
9- «Об очевидности и возможности управления порядка» (фр)-
Агамбен подчеркивает, родительный падеж
стратегически наделен здесь субъективным и объективным
значением; на русский язык это можно передать как «управление
со стороны порядка» и «управление порядком».
462
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
субъективным и объективным: как и у Фомы Аквин-
ского, порядок не является некой схемой,
привнесенной извне: он —самая суть Бога, которая закладывает
основы управления миром и одновременно
устанавливает густую сеть имманентных отношений,
которые, связывая божьи создания друг с другом,
позволяют ими управлять.
Таким образом, политическая экономия
выступает как некая общественная рационализация
провиденциальной ойкономии. Поэтому не
случайно эпиграф на титульном листе трактата Мерсье
де ла Ривьера «Ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques»10 (1767) помещает новую науку под
покровительство мысли Мальбранша: «Порядок —это
нерушимый закон Духа, и ничто не находится в
порядке, если не соответствует ему».
2-4- Кристиан Маруби показал важность
концепции «естественной экономики»11 у Адама Смита (Ма-
rouby. P. 232-234)- Когда эта концепция впервые
появляется в «Теории нравственных чувств» (i759)>ee свя"
зи с провиденциальной парадигмой вполне очевидны.
Смит не только пользуется ею для обозначения связи,
которую «Творец природы» установил между
конечным результатом и вторичными причинами, целью
и средствами (Smith, Part II, § I, Chapter V, note 2. P. 77),
но и в более широком смысле неоднократно
подчеркивает близость своей концепции к
провиденциальной парадигме. Смит привлекает «античных
стоиков»: «Античные стоики полагали, что миром правит
всесильная воля некоего мудрого, могущественного
и доброго божества, и правит таким образом, что лю-
10. «Естественный и необходимый порядок общественных
учреждений» (фр-).
п. Смит использует словосочетание «oeconomy of nature» (англ.).
ФЪ
ЦАРСТВО И СЛАВА
бое событие должно считаться необходимой частью
всеобщего плана, способствующей порядку и счастью
всего целого; что пороки и безумства рода
человеческого суть необходимые части этого плана, так же
как мудрость и добродетель; что благодаря
непостижимому искусству, которое из зла создает добро,
порок и добродетель равным образом способствуют
процветанию и совершенству великой системы природы»
(Ibid. Part I, §11, Chapter 3. P. 36). Однако, по мнению
Перро, гораздо большее влияние на его идеи оказали
французские авторы —Мандевиль, Мальбранш, Пьер
Николь и Паскаль {Perrot. P. 348). Знаменитая фраза
о том, что «не от благожелательности мясника,
пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед,
а от соблюдения ими своих собственных интересов»
происходит, по мнению Перро, от Николя и
Паскаля; и именно в этой перспективе нужно исследовать
генеалогию знаменитого образа «невидимой руки».
Этот образ появляется в трудах Смита, как
известно, дважды: первый раз —в «Теории
нравственных чувств», второй — во второй главе четвертой
книги «Исследования о природе и причинах
богатства народов»:
Каждый индивид [...], направляя
промышленность таким образом, чтобы ее продукт
обладал максимальной стоимостью, преследует
лишь собственную выгоду, причем в этом
случае, как и во многих других, он невидимой рукой
направляется к цели, которая совсем не
входила в его намерения; при этом общество не всегда
страдает от того, что эта цель не входила в его
намерения12. [Smith. P. 477*]
12. Перевод представлен по изданию: Смит А. Исследование
о природе и причинах богатства народов. М.; Л.:
Государственное социально-экономическое изд-во, 1935- С. 32.
464
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
То, что эта метафора имеет теологические истоки,
не подлежит сомнению. Весьма вероятно, что
непосредственное ее происхождение следует искать
у авторов, хронологически более ему близких;
однако на протяжении нашего исследования
генеалогии провиденциальной экономической парадигмы
мы несколько раз случайно встречали один и тот же
образ. У Августина Бог управляет всем в мире, от
великого до малого, тайным движением руки
(«omnia, maxima et minima, occulto nutu administrante»,
Ген., з, 17, 2б); в трактате Сальвиана о
божественном управлении не только империи и провинции,
но даже самые ничтожные предметы в домах
людей управляются «quasi quadam manu et gubernacu-
lo» (Salviano. P. и); Фома Аквинский (S. Th. I, q-юз,
a. I, ad. 2) в том же смысле говорит о manus guberna-
toris — руке, которая невидимо управляет всем
сотворенным миром; у Лютера («De servo arbitrio»)
само творение есть рука {Hand) скрытого Бога;
наконец, у Боссюэ «Бог на самых высоких небесах
держит бразды всех империй; у него в руке все сердца»
(Bossuet 1. Pars HI, cap. 7. P. 1024-1025).
Но эта аналогия гораздо важнее и глубже, чем
позволяет заключить образ «невидимой руки». Дидье
Делёль блестяще проанализировал связь между
философией Смита и Юма и рождением
экономического либерализма. Он противопоставляет
«натурализм» Юма и Смита «провиденциализму»
физиократов, которые, как мы видели,
непосредственно отдали дань теологической парадигме.
Идее о первоначальном божественном плане,
который можно сравнить с проектом, разработанным
неким мозгом, Юм противопоставляет принцип
порядка абсолютно имманентного, который
функционирует скорее как «чрево», чем как мозг. «Почему, —
спрашивает он Филона, — упорядоченная система
4б5
ЦАРСТВО И СЛАВА
не может быть соткана из чрева, а не из мозга?» {De-
leule. P. 2595 Р« 3°5)- Если вероятно то, что образ
невидимой руки у Смита следует понимать в этом
смысле как действие некоего имманентного принципа,
то наша реконструкция биполярной машины
теологической ойкономии показала, что в ней нет
конфликта между «провиденциализмом» и
«натурализмом», потому что функция этой машины как раз
и заключается в том, чтобы устанавливать
соответствие между трансцендентным принципом и
имманентным порядком. Как Царство и Правление,
как триединство божественное и экономическое,
так и «мозг» и «чрево» являются всего лишь
двумя сторонами одного и того же диспозитива, одной
и той же ойкономии, внутри которой один из двух
полюсов может в том или ином конкретном случае
превалировать над другим.
Либерализм представляет собой тенденцию,
которая доводит до крайности превосходство
полюса «имманентный порядок — правление —
чрево», почти исключая полюс «трансцендентный
Бог — царство — мозг»; но, поступая таким
образом, он по сути заставляет одну половину
теологической машины играть против другой. И когда
современность уничтожит божественный полюс,
возникшая отсюда экономика не освободится из-за
этого от своей провиденциальной парадигмы.
Точно так же в современной христианской теологии
действуют силы, которые подталкивают христоло-
гию к состоянию атеологической инерции; но даже
в этом случае теологическая модель остается
непреодоленной.
2.5. Лейбниц в «Теодицее» ссылается на мнение
некоторых каббалистов, согласно которому грех
Адама состоял в том, что он отделил божественное
4бб
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
Царство от его атрибутов, учредив таким образом
некую империю внутри империи:
У еврейских каббалистов Malcuth, или царство,
последняя из сефирот, обозначает то, что Бог
управляет всем беспрепятственно, но
благостно и без насилия, так что человек думает, будто
он исполняет свою волю, между тем как он
исполняет волю Божию. Они говорили, будто грех
Адама заключался в truncatio malcuth a caeterisplan-
tis; то есть в том, что Адам отделил от древа
последнюю из сефирот, чтобы создать себе царство
в царстве Божием [...], но его падение
показало ему, что он не мог существовать сам с собой
и что люди нуждаются в том, чтобы быть
спасенными Мессией. [Leibniz % 372- Р-351-]
Согласно Лейбницу, Спиноза (который в «Бого-
словско-политическом трактате» вновь обращается
к идее Imperium in imperio, чтобы подвергнуть
критике идею свободы в Новом времени) в своей системе
просто довел до крайности тезис каббалистов.
Ойкономия мыслителей Нового времени — это
и есть truncatio Malcuth: самостоятельно обретя
суверенитет, отделенный от его божественного истока,
она в действительности поддерживает теологическую
модель управления миром. Она устанавливает некую
ойкономию внутри ойкономии, не касаясь концепции
управления, которая была неразрывно связана с этой
моделью. Поэтому нет смысла противопоставлять
теологии и ее провиденциальной парадигме
антиклерикализм и общую волю; ей противостоит скорее
археологическая операция наподобие той, что мы
попытались предпринять: дойдя до истоков раскола,
сделавшего из них неразлучных братьев-соперников,
она способна остановить и сделать бездейственным
весь экономико-теологический диспозитив.
467
ЦАРСТВО И СЛАВА
То, что два полюса этого диспозитива не
противостоят друг другу, но до конца остаются
соединенными тайной связью, очевидно в рассуждениях
еще одного теолога, который довел
провиденциальную модель до такой крайности, что она,
кажется, без остатка превращается в образ мира Нового
времени. В своем «Трактате о свободе воли» Бос-
сюэ любой ценой хочет примирить человеческую
свободу и божественное управление миром. Он
пишет: на протяжении всей вечности Бог желает,
чтобы человек был свободен, и не только
потенциально, но и в конкретном выражении и осуществлении
этой свободы.
Что может быть абсурднее утверждения, будто бы
человек не свободен, потому что Бог желает,
чтобы он был свободен? Не следует ли, наоборот,
сказать, что он свободен, потому что этого
желает Бог; и точно так же, как мы свободны в силу
наказа о том, чтобы мы были свободны, мы
свободно совершаем тот или иной поступок в силу
того же самого наказа, который
распространяется на все частные случаи? [Bossuet 2. Сар 8. Р. 64.]
Божественное управление миром является таким
абсолютным и так глубоко пронизывает все сущее,
что божественная воля растворяется в свободе
людей (и наоборот):
Богу нет необходимости давать нам что-то сверх
нашей собственной воли, чтобы мы смогли
соответствовать его наказу, и нет необходимости
делать это с помощью кого-то другого помимо нас.
Было бы абсурдно говорить, что наша воля
отнимает у нас нашу свободу, и столь же абсурдно
было бы утверждать, что Бог отнимает у нас эту
свободу своим наказом; и поскольку наша воля,
выбирая один объект вместо другого, не лишает-
468
2. НЕВИДИМАЯ РУКА
ся из-за этого возможности выбирать между
обоими объектами, то следует заключить, что и Бог
не отнимает у нас этой возможности. [Ibid. P. 65.]
На этом этапе теология может превратиться в
атеизм, а провиденциализм — в демократию, потому
что Бог создал мир таким, как будто в нем нет Бога,
и управляет им так, как если бы мир сам управлял собой:
В самом деле, можно сказать, что Бог делает нас
такими, какими мы были бы, если бы были сами
по себе; потому что он создает нас во всех
основаниях и во всех состояниях нашего существа.
Ибо в действительности состояние нашего
существа — это и есть то, чем желает сделать нас Бог.
Так он заставляет быть человеком того, кто есть
человек; и телом то, что есть тело; и мыслью то,
что есть мысль; и страстью то, что есть страсть;
и действием то, что есть действие; и
необходимым то, что есть необходимо; и свободным то,
что есть свободно; и свободным в делах и
поступках то, что свободно в делах и поступках... [Ibid.]
В этом величественном образе, где мир,
созданный Богом, идентифицируется с миром без Бога,
а случайность и необходимость, свобода и
подчинение растворяются друг в друге, облеченный
славой центр управленческой машины
выступает как никогда ярко. Убрав из мира Бога, модерн
не только не вышел за рамки теологии, но в
известном смысле лишь довел до завершения проект
провиденциальной ойкономии.
Библиография1
Alex., i: Alessandro diAfrodisia. La prowidenza. Questioni sulla prowi-
denza/ed. S. Fazzo e M.Zonta. Milano: Rizzoli, 1999.
Alex., 2: Alessandro di Afrodisia. Traité du destin/éd. P.Thillet. Paris:
Les Belles Lettres, 1984.
Alfôldi: Andreas Aljoldi. Die monarchische Repräsentation im
römischen Kaiserreiche. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1970.
Amira: Karl von Amira. Die Handgebärden in der
Bilderhandschriften des Sachsenspiegels//«Abhandlungen der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Philologische
und Historische Klasse». Vol. 23, n. 2,1905,
Assmann: Jan Assmann. Herrschaft und Heil. Politische Theologie
in Altägypten, Israel und Europa. München: Hanser, 2000.
Athenag., Leg.: Athénagore. Supplique au sujet des Chrétiens/éd.
B.Pouderon//«Sources chrétiennes» 379, Paris: Cerf, 1992.
Aubin: Paul Aubin. Le problème de la conversion. Étude sur un terme
commun à l'hellénisme et au christianisme des trois premiers
siècles. Paris: Beauchesne, 1963.
Aug., Gen.: Sant'Agostino. Genesi alla lettera/a cura di L. Carrozzi.
Roma: Città Nuova, 1989.
Austin: John L.Austin. How to do things with words. The William
James Lectures delivered at Harvard University in 1955,
Oxford, Clarendon, 1962 (Остин Дж. Как делать вещи при
помощи слов//Его же. Избранное. Перевод с англ.
Макеевой Л. Б., Руднева В. П. М.: Идея-Пресс, Дом
интеллектуальной книги, 1999- С. ^Ъ"1ЪЬ)'
Ball: Hugo Ball. Byzantinisches Christentum. Drei Heiligenleben.
München-Leipzig, 1923.
1. В соответствии с языком цитируемой литературы «под ред.»
обозначается следующим образом: «ed.» (англ.); «hrsg.
von» (нем.); «éd.» (фр.); «а сига di» (um.).
47О
БИБЛИОГРАФИЯ
Balthasar i: Hans Urs von Balthasar. Herrlichkeit. Eine theologische
Ästhetik. Vol. 1. Schau der Gestalt. Einsiedeln: Johannes
Verlag, 1961.
Balthasar 2: Hans Urs von Balthasar. Rechenschaft. Einsiedeln:
Johannes Verlag, 1965.
Barth: Karl Barth. Die Kirchliche Dogmatik, 2, 1, Zollikon, 1958
(частичн. рус. пер.: Барт К. Церковная догматика. Том II/
пер. с нем. В.Витковского, под ред. Э.Волковой. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея,
2011).
Bay le: Pierre Bayle. Réponse aux questions d'un provincial. 5 Voll.
Rotterdam, 1704-1707 (Бейль П. Ответы на вопросы
одного провинциала).
Bengsch: Alfred Bengsch. Heilsgeschichte und Heilswissen. Eine
Untersuchung zur Struktur und Entfaltung des theologischen
Denkens im Werk «Adversus haereses» des heiligen Irenäus.
Leipzig: St. Benno-Verlag, 1957.
Benz: Ernst Benz. Marius Victorinus und die Entwicklung der
abendländischen Willenmetaphysik. Stuttgart: Kohlahmmer, 1932.
Blatt: Franz Blatt. Ministerium-Mysterium //«Archivum Latinitatis
Medii Aevi», n. 4,1928. R 80-81.
Blumenberg: Hans Blumenberg. Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1966.
Bossuet 1: Jacques Bénigne Bossuet. Discours sur l'histoire universelle//
Id., Œuvres/éd. par В. Velat et Y. Champailler, «Bibliothèque
de la Pléiade». Paris: Gallimard, 1936.
Bossuet 2: Jacques Bénigne Bossuet. Traité du libre arbitre //Id., Œuvres
choisies. Paris, 1871, vol. IV.
Bréhier: Emile Bréhier. Les lectures malebranchistes de J.-J. Rousseau//
«Revue internationale de philosophie», 1938-1939.
Bréhier-Batiffoï. Louis Bréhier, Pierre Batiffol. Les survivances du
culte impérial romain. À propos des rites shintoistes. Paris,
Picard, 1920.
Cabasilas: Nicolas Cabasilas. Explication de la divine
liturgie//«Sources chrétiennes» 4bis, Paris: Cerf, 1967.
Caird: George B. Caird. Principalities and powers. A study in pauline
theology. The Chancellor's lectures for 1954 at Queen's
University. Kingston, Ontario, Oxford: Clarendon Press, 1956.
Carchia: Gianni Carchia. Elaborazione délia fine. Mito, gnosi,
modernité //«Contro tempo», n. 2,1997. P. 18-28.
Christ: Felix Christ (hrsg. von). Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema
der Theologie. Oscar Cullmann zum 65. Geburtstag gewidmet.
Hamburg-Bergstedt, Herbert Reich, 1967.
471
ЦАРСТВО И СЛАВА
Clem., Exe: Clément d'Alexandrie. Extraits de Théodote/éd. F. Sag-
nard. Paris: Cerf, 1970.
Clem., Str.: Clemens Alex andrinus. Werke /hrsg. von O. Stählin//
«Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte» 39. Leipzig, 1905-1909, voll. 1-3 (т. 4,
опубликованный в 1936 г., содержит указатели).
Coccia: Emanuele Coccia. Il bene e le sue opère in un trattato anonimo
délia fine del sec. XIII//IreneZavattero (a cura di). Etica e co-
noscenza nel XIII e XIV secolo. Arezzo: Université degli Stu-
di di Siena, 2006.
Const. Porph. Cer.: Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des
cérémonies. Vol. 1. Paris: Les Belles Lettres, 1935 (частичн. рус. пер.:
Константин Багрянородный. О церемониях).
Costa: Pietro Costa. Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pub-
blicistica médiévale. 1100-1433. Milano: Giuffrè, 1969.
Courtenay: William J. Courtenay. Capacity and volition. A history
of the distinction of absolute and ordained power. Bergamo:
P. Lubrina, 1990.
Cyr., Cat. m.: Cyrille de Jérusalem. Catéchèses mystagogiques/éd.
Auguste Piédagnel//«Sources chrétiennes» 126, Paris: Cerf, 1988
{Кирилл Иерусалимский. Мистагогические катехизисы).
D'Alès: Adhémar D'Alès. Le mot «oikonomia» dans la langue
théologique de saint Irénée//«Revue des études grecques», n.32,
1919-
Daniélou: Jean Daniélou. Gli angeli e la loro missione secondo i Pad-
ri délia Chiesa. Milano: Gribaudi, 1998 (ориг. изд.: Les
anges et leur mission d'après les Pères de l'Église, s.l., Éditions
de Chevetogne, 1990).
Deleule: Didier Deleule. Hume et la naissance du économique. Paris:
Aubier Montaigne, 1979.
Dieterich: Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie. Leipzig: Teubner,
1903-
Dörrie: Heinrich Dörrie. Der König. Ein platonische Schlüsselwort,
von Plotin mit neuem Sinn erfüllt //«Revue Internationale
de philosophie», n. 24,1970. P. 217-235.
Durant: Will Durant. The story of philosophy. The lives and opinions
of the greater philosophers. New York: Simon and
Schuster, 1926.
Durkheim: Emile Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse.
Le système totémique en Australie. Paris: Alcan, 1912.
Egidio: Robert W. Dyson (ed.). Giles of Rome's On ecclesiastical power.
A medieval theory of world government. New York:
Columbia University Press, 2004.
472
БИБЛИОГРАФИЯ
Eus.: Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique/éd. G. Bardy. Vol. I,
1.I-IV, «Sources chrétiennes» 31. Paris: Cerf, 1952 (Еесевий
Памфил. Церковная история. СПб.: Амфора, 2007).
Fénelon: François Fénelon. Réfutation du système du père Malebran-
che///rf., Œuvres, «Bibliothèque de la Pléiade». Paris:
Gallimard, 1997.
Filippo: Philippi Cancellarii Parisiensis. Summa de bono /ed. N. Wicki.
Berna: Francke, 1985.
Flasch: Kurt Flasch. «Ordo dicitur multipliciter». Eine Studie zur
Philosophie des «ordo» bei Thomas von Aquin. Frankfurt
am Main, Phil. Dissert., 1956.
Foucault: Michel Foucault. Sécurité, territoire, population. Cours
au Collège de France (1977-1978). Paris: Seuil-Gallimard,
2004 {ФукоM. Территория, население, безопасность/
пер. с фр. Н. В. Суслова, А. В. Шестакова, В. Ю. Быстро-
ва. СПб.: Наука, 20и).
Gass: Wilhelm Gass. Das Patristische Wort «oikonomia»/«Zeitschrift
für wissenschaftliche Theologie», 1874.
Gernet: Louis Gernet. Droits et prédroit en Grèce ancienne //Id.
Anthropologie de la Grèce antique. Paris: Maspero, 1968.
Gogarten: Friedrich Gogarten. Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit.
Die Säkularisierung als theologisches Problem. Stuttgart:
Vorwerk, 1953.
Greg. Naz. Or.: Gregorio diXazianzo. Tlitte le orazioni/a cura di C. More-
schini. Milano: Bompiani, 2000.
Greg.Nys. Or. cat.: Grégoire de Xysse. Discours catéchétique/éd. R.Win-
ling, «Sources chrétiennes» 453, Paris: Cerf, 2000 (рус. пер.
см. по изд.: Григорий Нисский. Творения. В 8 ч./пер.
Московской духовной академии. М., 1861-1871).
Grimm: Dieter Grimm. Braucht Europa eine Verfassung? Vortrag
gehalten in der Carl Friedrich von Siemens Stiftung am 19.
Januar 1994. München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1995.
Guglielmo: Gulielmus Alvernus. De retributionibus sanctorum /Id.
Opera omnia. Vol. 2. Paris, 1570.
Habermas: Habermas. Storia e critica dell'opinione pubblica.
Roma-Bari, Laterza: 1990 (ориг. изд.: Strukturwandel der
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen
Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990; рус. пер.:
Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы:
Исследования относительно категории буржуазного
общества. М.: Весь мир, 20i6.).
Hales: Alexander de Hales. Glossa in quatuor libros Sententiarum Petri
Lombardi. Florentiae: Quaracchi, 1952.
473
ЦАРСТВО И СЛАВА
Harnack: Adolf von Harnack. Marcion. Das Evangelium vom
fremden Gott. Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung
der katholischen Kirche. Leipzig: Hinrichs, 1924.
Harris: The Apology of Aristides on behalf of the Christians/ed.
J. R. Harris. Cambridge: The University Press, 1891.
Heidegger 1: Martin Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik.
Frankfurt am Main: Klostermann, 1951 (ХайдеггерМ. Кант
и проблема метафизики/пер. с нем. О.В.Никифорова.
М.: Логос, 1997)-
Heidegger 2: Martin Heidegger. Bremer und Freiburger Vorträge.
Frankfurt am Main: Klostermann, 1994.
Hellingrath: Norbert vonHellingrath. Hölderlin-Vermächtnis.
Forschungen und Vorträge. Ein Gedenkbuch zum 14. Dezember 1936.
München: Bruckmann, 1936.
Ign. Eph.: Ignace d'Antioche. Polycarpe de Smyrne. Lettres. Martyre
de Polycarpe//«Sources chrétiennes» 10, Paris: Cerf, 1969.
Io. Chr. Prov.: Jean Chrisostome. Sur la providence de Dieu/éd.
A.-M.Malingrey, «Sources chrétiennes» 79, Paris, Cerf, 1961.
Ir. Haer.: Irénée de Lyon. Contre les hérésies/éd. A. Rousseau. 9 voll.,
«Sources chrétiennes» 100, 152, 153, 210, 211, 263, 264, 293,
294. Paris: Cerf, 1965-2002 (Ириней Лионский. Пять книг
против ересей/пер. П.Преображенского. M., i868).
Iustin. Dial: Justin. Dialogues avec Tryphon/éd. G.Archambault.
Paris: Picard, 1909 (Святого мученика Иустина
философа Разговор с Трифоном Иудеанином о истине
христианского закона/пер. Иринея Климентьевского. СПб.,
1797)-
Iustin. Qu. Chr.: lustini philosophi et martyris opera quae feruntur
omnia/éd. J.CT.Otto. Vol. 3, Opera lustini subditicia.
Fragmenta Pseudo-Iustini. T. 2, «Corpus apologetarum Christian-
orum saeculi secundi». Jenae, 1881.
Jesi: Furiojesi. Rilke, Elegie di Duino. Scheda introduttiva/«Cultu-
ra tedesca», n. 12,1999-
Kantorowicz 1: Ernst H. Kantorowicz. I misteri dello Stato. Genova: Ma*
rietti 1820, 2005.
Kantorowicz 2: Ernst H. Kantorowicz. Laudes regiae. A study in liturgical
acclamations and mediaeval ruler worship. Berkeley-Los
Angeles: University of California Press, 1946.
Kantorowicz 3: Ernst H. Kantorowicz. The king's two bodies. A study
in mediaeval political theology. Princenton (Nj): Princenton
University Press, 1957 (Канторович Э. Два тела короля.
Исследование по средневековой политической теологии.
М.: Изд-во Института Гайдара, 2014).
474
БИБЛИОГРАФИЯ
Kolping: Adolf Kolping. Sacramentum Tertullianeum. Erster Teil:
Untersuchungen über die Anfänge des christlichen Gebrauches
der Vokabel «sacramentum». Münster: Regensberg, 1948.
Kornemann: Ernst Kornemann. Zum Streit um die Entstehung des Mo-
numentum Ancyranum//«Klio», n.5,1905. P. 317-332.
Krings 1: Hermann Krings. Ordo. Philosophisch-historische
Grundlegung einer abendländischen Idee. Halle: Niemeyer, 1941.
Krings 2: Hermann Krings. Das Sein und die Ordnung. Eine Skizze
zur Ontologie des Mittelalters/«Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», n. 18,1940.
P- 233-249-
Leibniz: Gottfried Wilhelm von Leibniz. Essais de théodicée. Paris: Aubier,
1962 (Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах.
Философское наследие. Т. 4- «Опыты теодицеи о благости Божией,
свободе человека и начале зла». М.: Мысль, 1989)-
Lessius: Leonardi Lessii. De perfectionibus moribusque divinis libri 14.
Friburgo, 1861.
Le Trosne: Guillaume François Le Trosne. De l'ordre social. Ouvrage
suivi d'un traité élémentaire sur la valeur, l'argent, la
circulation, l'industrie & le commerce intérieur Se extérieur. Paris: 1777.
Lillge: Otto Lillge. Das patristische Wort «oikonomia»: seine Geschichte
und seine Bedeutung bis auf Origenes. Erlangen, 1955.
Löwith: Karl Löwith. Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die
theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie.
Stuttgart: W. Kohlhammer, 1953.
Lübbe: Hermann Lübbe. Säkularisierung. Geschichte eines
ideenpolitischen Begriffs. Freiburg: Alber, 1965.
Lünig: Johann Christian Lünig. Theatrum ceremoniale historico-poli-
ticum. Leipzig, 1719.
Maccarrone: Michèle Maccarrone. И sovrano «Vicarius Dei» nell'Alto
Medioevo. Leiden: Brill, 1959.
Maimonide: Mose Maimonide. La guida dei perplessi/a cura di M. Zonta.
Torino: UTET, 2003 (Рабби Моше бен Маймон (Ромбам).
Путеводитель растерянных/пер. и коммент. М.А. Шнейдера.
Иерусалим, Москва: Гешарим, Мосты культуры, 200о).
Malebranche 1: Nicolas Malebranche. Entretiens sur la métaphysique,
sur la religion et sur la mort /Id. Œeuvres, «Pléiade». Paris:
Gallimard, 1979. Vol. 2.
Malebranche 2: Nicolas Malebranche. Traité de la nature et de la grâce/
Id. Œeuvres, «Pléiade». Paris: Gallimard, 1979. Vol. 2.
Mar. Vict.: Marius Victorinus. Commentarium in Epistulam ad Ephe-
sios/PL. Vol. 8 (Марий Викторин. Толкование на
послание к Ефесянам).
475
ЦАРСТВО И СЛАВА
Markus i: Robert A. Markus. Trinitarian theology and the economy/
«Journal of theological studies», n. s. 9,1958. P. 99.
Markus 2: Robert A. Markus. Pleroma and fulfilment. The significance
of history in St. Irenaeus* opposition to gnosticism/«Vigiliae
Christianae». Vol. 8, n. 4,1954.
Marouby. Christian Marouby. L'économie de la nature. Essai sur Adam
Smith et l'anthropologie de la croissance. Paris, Seuil, 2004.
Mart. Pol.: Polykarp-Martyrium/Andreas Lindemann. Henning Paulsen
(hrsg. von), Die apostolischen Vätern. Tübingen: Mohr, 1992.
Mascall: Eric L. Mascall. Primauté de la louange/«Dieu vivant», n. 19,
1951-
Matteo di Acquasparta: Mathaei di Acquasparta. Quaestiones disputatae
de productione rerum et de Providentia, «Bibliotheca Fran-
ciscana» 17. Firenze: Quaracchi, 1956.
Mauss 1: Marcel Mauss. La prière/Id., Œuvres. Vol. 1. Paris: Les
éditions de minuit, 1968. P. 357-477 (см.: МоссМ. Социальные
функции священного/Избранные произведения. СПб:
Евразия, 200о).
Mauss 2: [цитаты из транскрипции рукописи, которую Агамбену
предоставил Клаудио Ругафьори].
Mauss 3: Marcel Mauss. Anna-Viraj/Id. Œuvres. Vol. 2. Paris: Les
éditions de minuit, 1974.
Melandri: Enzo Melandri. La linea e il circolo. Macerata: Quodlibet,
2004.
Moingt: Joseph Moingt. Théologie trinitaire de Tertullien. 3 voll.
Paris: Aubier, 1966.
Moltmann: Jürgen Moltmann. Trinität und Reich Gottes. Zur
Gotteslehre. München: Kaiser, 1980.
Mommsen: Theodor Mommsen. Römisches Staatsrecht. 5 voll. Graz:
Akademische Druck, 1969 (см.: Моммзен Т. Римское
государственное право: народный трибунат/пер. нем.
А.А.Павлова и Т. Е.Бондаревой//Историческое произведение
как феномен культуры. Сыктывкар: СыктГУ, 2013. Вып. 8.
С. 211—244)-
Mondzain: Marie-JoséMondzain. Image, icône, économie. Les sources
byzantines de l'imaginaire contemporain. Paris: Seuil, 1996.
Mopsik: Charles Mopsik. Les grands textes de la cabale. Les rites qui
font Dieu, s. 1. Verdier, 1993.
Nagy: Gregory Nagy. The best of the Achaeans. Concepts of the hero
in archaic Greek poetry. Baltimore-London: The Johns
Hopkins University Press, 1979.
Napoli: Paolo Napoli. Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes,
société. Paris: La découverte, 2003.
476
БИБЛИОГРАФИЯ
Nautin: Hippolyte Nautin. Contre les hérésies. Fragment /éd. P. Nau-
tin. Paris: Cerf, 1949.
Negri-Hardt: Michael Hardt, Antonio Negri. Impero. Milano: Rizzoli,
2002 (Xapdm M., НегриА. Империя/пер. с англ., под ред.
Г.В.Каменской, М.С.Фетисова. М.: Праксис, 2004).
Norden: EduardNorden. Agnostos theos. Untersuchungen zur
Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig: Teubner, 1913.
Num.: Numenius. Fragments/éd. É.des Places. Paris: Les Belles
Lettres, 1973 (см.: Нумений. Фрагменты и свидетельства/пер.
Е.В.Афонасина и А.С.Кузнецовой по собранию
фрагментов Э.Де Пласа).
Orig.j Io.: Origène. Commentaire sur saint Jean/éd. C. Blanc//«Source
chrétiennes» 385, Paris: Cerf, 1992 (см.: Ориген. Толкование
на Евангелие от св. Иоанна/пер. А. Цуркана).
(Mg., Phil: Origène. Philocalie. 1-20 sur les écritures et la Lettre à Af-
ricanus sur l'histoire de Suzanne/éd. M. Harl et N. De Lange,
«Sources chrétiennes» 302, Paris: Cerf, 1983.
Orig., Princ: Origène. Traité des principes/éd. H. Crouzel et M. Simo-
netti. Vol. 1-2, «Source chrétiennes» 252 et 268, Paris: Cerf,
1980 (Творения Оригена. Вып. i. О началах/пер. Н.
Петрова. Казань: Казан, духов. Акад. 1899)-
Pascal 1: Blaise Pascal. Pensées/éd. Lafuma. Paris: Seuil, 1962
(Паскаль Б. Мысли/пер. с фр. Ю. Гинзбург. М., Харьков: ACT
Фолио, 2003).
Pascal 2: Blaise Pascal. Les provinciales //Id. Œuvres complètes.
«Bibliothèque de la Pléiade». Paris: Gallimard, 1954 (Паскаль Б.
Письма к провинциалу/пер. с фр.; под ред. А. И.
Попова. Киев: Port-Royal, 1997-)
Perrot: Jean-Claude Perrot. Une histoire intellectuelle de l'économie
politique. 17-18 siècle. Paris: Éditions de l'École des hautes
études en sciences sociales, 1992.
Peters: Edward Peters. Limits of thought and power in medieval
Europe. Aldershot: Ashgate, 2001.
Peterson 1: Erik Peterson. Ausgewählte Schriften. Vol. 1. Theologische
Traktate. Würzburg: Echter, 1994.
Peterson 2: Erik Peterson. Ausgewählte Schriften. Vol. 2.
Marginalien zur Theologie und andere Schriften. Würzburg: Echter,
1995-
Peterson 3: Erik Peterson. HEIS THEOS. Epigraphische,
formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen. Göttingen:
Vandenhoeck und Ruprecht, 1926.
PG: Jacques-PaulMigne (под ред.). Patrologiae cursus completus.
Series Graeca. Paris, 1857-1866.
477
ЦАРСТВО И СЛАВА
Phil., Cher.: Filone di Alessandria. I Cherubini//Commentario allego-
rico alla Bibbia/a cura R. Radice. Milano: Bompiani, 2005
(Филон Александрийский. О Херувимах/пер. Е.Д. Матусо-
вой//Толкования Ветхого Завета. М.: Греко-латинский
кабинет Ю.А. Шичалина, 200о).
Phil., Gig.: Filone di Alexandria. I Giganti//Commentario allegorico
alla Bibbia. Cit.
Phil. Prov.: Philon d'Alexandrie. De Providentia/éd. M. Hadas-Lebel.
Paris: Cerf, 1973.
Phot.: Photii Epistulae et Amphilochia/ed. L.G. Westerink. Vol. 4.
Leipzig: Teubner, 1986.
Picard: Charles Picard. Le trône vide d'Alexandre dans la cérémonie de
Cyunda et le culte du trône vide à travers le monde gérco-ro-
main/«Cahiers archéologiques », VII, 1954, P. 1-18.
PL: Jacques-PaulMigne (под ред.). Patrologiae cursus completus.
Series Latina. Paris, 1844-1855.
Plut.y De fat.: Plutarque. Œuvres morales. Vol. VIII/éd. Jean Hani.
Paris: Les Belles Lettres, 1980 (Плутарх. Моралии/пер.
С.С.Аверинцева и др. M: Бизнеском, 20ii).
Pohlenz: Max Pohlenz. La Stoa. Storia di un movimento spirituale. Fi-
renze: La Nuova Italia, 1967, 2 voll. (ориг. изд.: Die Stoa.
Geschichte einer geistigen Bewegung. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1948; рус. пер.: ПоленцМ. Стоя.
История духовного движения. СПб.: Квадриум, 2015).
Postigliola: Alberto Postigliola. La città délia ragione. Per una storia filo-
sofica del Settecento francese. Roma: Bulzoni, 1992.
Prestige: George L. Prestige. God in patristic thought. London: SPCK, 1952.
Proclo: Proclo. Tria opuscula. Prowidenza, libertà, maie/a cura
di F. D. Paparella. Milano: Bompiani, 2004.
Puech: Henri Ch. Puech. Sulle tracce délia Gnosi. Milano: Adelphi,
1985 (ориг. изд.: En quête de la gnose. Paris: Gallimard,
1978. 2 voll.).
Quesnay: AA.W2. Quesnay et la Physiocratie. 2 voll. Paris: Institut
national d'études démographiques, 1968.
Quidort: Fratris Johannis de Parisiis... de potestate regia et papal//
Melchior Goldast. Monarchiae sacri Romani imperii, sive Trac-
tatuum de iurisdictione imperiali seu regia et pontificia seu sa-
cerdotalis. Vol. 2. Francofordiae ad Moenum, 1614.
Radô: Poly carpus Radô. Enchiridion liturgicum complectens theologiae
sacramentalis et dogmata et leges. Romae-Friburgi Brisg.-Bar-
ginone: Herder, 1966.
2. AA.W — autori vari (разные авторы.— Hrn.).
478
БИБЛИОГРАФИЯ
Richter: Gerhard Richter. Oikonomia. Der Gebrauch des Wortes Oiko-
nomia im Neuen Testament, bei den Kirchenvätern und in der
teologischen Literatur bis ins 20. Jahrundert. Berlin-New
York: de Gruyter, 2005.
Rigo: Antonio Rigo (a cura di). Gregorio Palamas e oltre. Studi e do-
cumenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizanti-
no. Firenze: Olschki, 2004.
Riley: Patrick Riley. The general will before Rousseau. The
transformation of the divine into the civic. Princeton: Princeton
University Press, 1988.
Rilke: Rainer M.Rilke. Poesie/a cura di G. Baioni. 2 voll. Torino: Ein-
audi-Gallimard, 1994-1995.
Ross: William D. Ross. Aristotle's Metaphysics. Oxford: Clarendon
Press, 19533.
Rousseau: Jean-Jacques Rousseau. Œuvres complètes. Vol. Ill,
«Bibliothèque de la Pléiade». Paris: Gallimard, 1964.
Salviano: Salvianus Presbyter Massiliensis. De gubernatione dei//*/.,
Opera omnia. Vindobonae, 1883.
Santillana: Giorgio de Santillana. Fato antico e fato moderno/«Tempo
présente», VIII, n.9-10,1963.
Scarpat: Tert. Adv. Prax.
Schelling: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Philosophie der
Offenbarung. 1841/42/hrsg. von M. Frank. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1977 (Шеллинг Ф. В. Философия откровения / пер.
с нем. А.Л.Пестова. СПб.: Наука, 200о).
Schenk: Gerrit Jasper Schenk. Zeremoniell und Politik.
Herrschereinzuge im spatmittelalterlichen Reich. Köln: Böhlau, 2003.
Schmitt 1: Carl Schmitt. Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre
von der Souveränität. München-Leipzig: Duncker Sc Hum-
blot, 1922 (Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-
Пресс-Ц Кучково Поле, 200о).
Schmitt 2: Carl Schmitt. Politische Theologie II. Die Legende von
der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlin: Duncker
Sc Humblot, I995.
Schmitt 3: Carl Schmitt. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus
Publicum Europaeum. Berlin: Duncker & Humblot, 1974
(Шмитт К. Номос Земли в праве народов, пер. с нем.
К. Лощевского и Ю.Коринца. СПб: Владимир Даль, 20о8).
Schmitt 4: Carl Schmitt. Verfassungslehre. Berlin: Duncker & Humblot,
1928 (см.: Шмитт К. Государство и политическая форма/
пер. с нем. О. Кильдюшова. М.: ВШЭ, 20ю).
Schmitt 5: Carl Schmitt. Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung
der politischen Einheit. Hamburg, 1933.
479
ЦАРСТВО И СЛАВА
Schmitt 6: Carl Schmitt. Referendum e proposta di legge d'iniziativa
popolare///*/. Democrazia e liberalismo. Referendum e inizi-
ativa popolare —Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Sta-
to/a cura di M.Alessio. Milano: Giuffrè, 2001 (ориг. изд.:
Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur
Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der
unmittelbaren Demokratie. Berlin-Leipzig, 1927).
Schmitt 7: Joachim Schickel. Gespräche mit Carl Schmitt. Berlin: Mer-
ve, 1993.
Scholem 1: Gershom Scholem. Von der mystischen Gestalt der Gottheit.
Studien zu Grundbegriffen der Kabbala. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1977.
Scholem 2: Gershom Scholem. Le origini délia kabbalà. Bologna: II Mu-
lino, 1973 (ориг. изд.: Ursprung und Anfänge der Kabbala.
Berlin: de Gruyter, 1962).
Schramm: Ernst Percy Schramm. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik.
Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten bis zum sechzehnten
Jahrhundert. 3 voll. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1954-1956.
Schürmann: Reiner Schürmann. Le principe d'anarchie. Heidegger
et la question de l'agir. Paris: Seuil, 1982.
Seibt: Klaus Seibt. Die Theologie des Markell von Ankyra. Berlin — New
York: de Gruyter, 1994.
Senellart: Michel Senellart. Les arts de gouverner. Du «regimen»
médiéval au concept de gouvernement. Paris: Seuil, 1995.
Silva Tarouca: Amadeo de Silva Tarouca. L'idée d'ordre dans la
philosophie de Saint Thomas d'Aquin//«Revue néoscholastique
de philosophie», n. 40,1937. P. 341-384.
Simonetti: Manlio Simonetti (a cura di). Il Cristo. Vol. II. Testi teologi-
ci e spirituali in lingua greca dal IV al VII secolo, s. 1., Fonda-
zione Valla/Mondadori, 1986.
Smith: Adam Smith. The theory of moral sentiments. Oxford:
Clarendon Press, 1976 (Смит А. Теория нравственных чувств. —
М.: Республика, 1997)-
Stefano di Tournai: Stefan von Doomick. Die Summa über das Decretum
Gratiani/hrsg. von J. F. Schulte. Giessen, 1891.
Stein: Bernhard Stein. Der Begriff KEBOD JAHWEN und seine
Bedeutung für die alttestamentliche Gotteserkenntnis. Emsdetten:
Heim, 1939.
Suârez: Francisco Suârez. Opera omnia. Vol. 3. Parisiis, Vives, 1858.
SVF: Hans von Arnim (ed.). Stoicorum veterum fragmenta. Vol. n-ill.
Leipzig: Teubner, 1903.
Tat. Or.: Tatian. Oratio ad Graecos and fragments/ed. M. Whittaker.
Oxford: Clarendon Press, 1982.
480
БИБЛИОГРАФИЯ
Taubes: Jacob Taubes. Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung.
Berlin: Merve, 1987.
Tert. Adv. Marc: Tertullien. Contre Marcion. Vol. 1. «Sources
chrétiennes» 365. Paris: Cerf, 1990.
Tert. Adv. Prax.: Tertulliano. Adversus Praxean/ed. G.Scarpat.
Torino: Loescher, 1959.
Theodoret. Eran.: Theo dor et of Cyrus. Eranistes/ed. G. H. Ettlingen
Oxford: Clarendon Press, 1975.
Theodoret. Paul. Ep.: Theodoretus Cyrrhensis. Interpretatio in XIV epis-
tulas sancti Pauli//PG, vol. 82. P. 36-877.
Theophil. Autol.: Theophyle d'Antioche. Trois livres à
Autolycus//«Sources chrétiennes» 20, Paris: Cerf, 1948.
Tommaso. Super De causis: Thomas d'Aquin. Super librum de causis ex-
positio/éd. H.D. Saffrey. Paris: Vrin, 2002.
Tommaso. Super I Cor.: Tommaso d'Aquino. In omnes S. Pauli... epistu-
las commentaria. Torino: Marietti, 1896.
Torrance-. Thomas F. Torrance. The implications of oikonomia for
knowledge and speech of God in early christian
theology//Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie. Oscar Cull-
mann zum 65. Geburtstag gewidmet/hrsg. von Felix Christ.
Hamburg-Bergstedt: Herbert Reich, 1967.
Troeltsch: Ernst Troeltsch. Glaubenslehre. Nach Heidelberger
Vorlesungen aus den Jahren 1911 und 1912. München-Leipzig: Dun-
cker Sc Humblot, 1925.
Verhoeven: Theodoras L. Verhoeven. Studien over Tertullianus'
«Adversus Praxean». Voornamelijk betrekking hebbend op Monar-
chia, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit.
Amsterdam: NV. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1948.
Vernant: Jean Pierre Vernant. Ebauches de la volonté dans la tragédie
grecque/AA. W. Psychologie comparative et art. Hommage
à Ignace Meyerson. Paris: PUF, 1972.
Weston: Jessie L. Weston. From ritual to romance. Cambridge:
Cambridge University Press, 1920.
William of Auvergne. De Retributionibus sanctorum //Id. Opera
Omnia. Vol. 2. Paris, 1570.
Wolff: Christian Wolff. Natürliche Gottesgelahrheit nach beweisender
Lehrart abgefasset/Id., Gesammelte Werke, s. I, vol.,23.5.
Hildesheim— New York: Olms, 1995.
Xen.: Xénophon. Économique /éd. P. Chantraine. Paris: Les Belles
Lettres, 1949 (см.: Ксенофопт. Сократические сочинения,
пер. С.И.Соболевского. 2-е изд. СПб.: Комплект, 1993-)
481
Д жор джо Агам бен.
Язык философии и философия языка
Любое сверхисторическое
родство языков основывается [...]
на том, что каждый из них
как нечто целое в каждом
случае подразумевает одно и то же,
причем нечто такое,
что не по силам каждому из них
в отдельности, а достижимо
только с помощью
совокупности дополняющих друг друга
интенций: чистый язык.
Вальтер Бепьямин. Задача
переводчика
1. Каждая книга—пишет Агамбен во вступлении к
настоящей работе — важнейшему этапу и даже
«определяющей развязке» исследования природы власти
на Западе в рамках серии «Homo sacer» — имеет
некий центр, ради достижения или уклонения от
которого книга и была написана. Правомерно
предположить, что сама эта книга являет собой некий центр,
к которому «устремлены» прочие части цикла
—написанные как до, так и после ее выхода в свет. Ведь
именно здесь Агамбен вплотную приближается к той
самой «тайне власти», которая являет собой
конечный объект устремленности его философских
исканий (по крайней мере, в рамках цикла «Homo sacer»)
и которая наиболее полно выразилась в
величественном и загадочном образе «пустого трона».
В заключительных параграфах 8-й главы, в
которых, по словам автора, и заключен этот центр,
проводится любопытная аналогия между
функционированием власти и функционированием языка,
482
ПОСЛЕСЛОВИЕ
точнее — выявляется точка, в которой славословие,
питающее власть и скрывающее бездеятельность
как подлинно человеческое измерение, и «гимно-
логическая» функция языка как «чистое
утверждение асемантического ядра слова» как бы сходятся:
«вращение языка вхолостую» и оборачивается
высшей формой прославления. «Гимн представляет
собой радикальное упразднение языка, несущего в себе
значение, — слово, ставшее абсолютно
бездеятельным и все же поддерживаемое как таковое в форме
литургии»1. Здесь язык будто буквальным образом
восходит к своим религиозно-магическим
истокам: имя, единственно к которому сводится гимно-
логия, будучи квинтэссенцией всякой поэзии, есть
по сути элемент не семантический, но чисто
семиотический2. Таким образом, можно было бы сказать,
что в центре самого языка — пустота, точнее,
нечто всегда ускользающее, не подлежащее полному
«овладеванию», ведь «...язык не говорит именно то,
что он говорит. Смысл, который схватывается и
непосредственно обнаруживается, может быть, всего
лишь скрывает, связывает и, несмотря на все это,
передает другой смысл — основной, „глубинный".
1. Наст. изд. 0.389-
2. Эта изначальная семантическая «пустотность» языка
всплывает наподобие сигнатуры именно в пространстве
поэтического текста, являя собой некий пласт, извечно
присутствующий в языке: «В соответствии с двойственностью
между именами и речью, которая, согласно лингвистам,
характеризует человеческий язык, имена в их
изначальном статусе образуют не семантический, а чисто
семиотический элемент. Они являют собой реликты изначального
междометия, которое языковой поток тянет за собой в
своем историческом становлении» (Agamben G. Il
Sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento. Bari: Laterza,
2008). Здесь и далее при цитировании не переведенных
на русский язык итальянских изданий перевод мой. —Д. Ф.
483
ЦАРСТВО И СЛАВА
Именно это греки называли allegoria или hyponoia»3.
Возможно, это и есть та самая «тайна языка»,
сводящаяся к изначальности означающего, о которой
говорится в одноименном эссе Агамбена, посвященном
археологии клятвы как «таинства власти»4, и в
таковой оптике —рождению языка как такового.
То, что в форме литургии (роль которой в системе
религии зрелища выполняют массовые
телевизионные шоу) вытесняется в отдельную сферу, то, что
теологическая ойкономш непрестанно пытается
захватить, включив в свои диспозитивы,—а значит, изъять
из человеческого бытия, — есть нечто,
наделяющее это бытие подлинным содержанием. Речь идет
о «бездеятельной сердцевине человеческого» —«этой
политической „субстанции Запада", которую машина
экономики и славы пытается захватить в собственное
поле»5. Подобно тому как поэзия освобождает язык
от какой-либо функциональности, обращая его в
чистую бездеятельность и открывая его для
возможности говорения, —точно так же, пишет Агамбен в
заключении своего генеалогического исследования,
философия и политика должны освободить действие
для способности к действию: «То, что поэзия
совершает для возможности говорить, политика и
философия должны исполнить для способности
действовать. Делая бездеятельными экономические и
биологические практики, они показывают, что может
человеческое тело, и открывают его для нового,
возможного использования»6.
3- ФукоМ. Ницше, Фрейд, Маркс/пер. Е.Городецкого по: «Ca
hiers de Royaumont», 1967, Philosophie n. vi.
4. Agamben G. Op. cit.
5. Наст. изд. С. 412.
6. Там же. С. 413-
484
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Представляется, что мыслительная стратегия
самого Агамбена нацелена на свершение такого
философского — и вместе с тем поэтического и потому
по сути неизбежно политического — жеста, который,
ломая иерархии, управляющие мышлением, делает
буквально возможным (то есть наделенным
возможностью) само мышление. Мысль и язык, на
котором — и посредством которого — мысль
артикулируется, оказываются единым целым, разные уровни
аргументации образуют архитектуру
развертывания мысли, неотделимой от собственного
объекта, что отчетливо проявляется в самой композиции
«Царства и Славы», как тонко заметил Александр
Погребняк: «...сам строй агамбеновского текста,
по ходу вбирающий в себя множество сложных
и разнонаправленных движений —от риторики и
аргументации богословских диспутов до детальной
каталогизации церемониалов власти, —воспроизводит
логику движения самой экономики, заданную
притяжением этого центра, но в то же время постоянно
уклоняющуюся от того, чтобы способствовать его
достижению в настоящем времени; экономика текста
оказывается слепком с реальной экономики»7.
Подобная методология вполне отвечает общему
духу агамбеновской стратегии мышления,
основанной на единении мысли и образа, стиля: «Философ,
который не ставит перед собой проблемы формы
выражения — то есть проблемы поэтического
толка,—не настоящий философ. [...] В попытке
подчинить себе вдохновение и присвоить „музаическое
начало"8 слова с целью преодолеть слабость логоса,
7- Погребняк А. Послесловие//Наст. изд. С. 536 (последний
курсив мой.—Д. Ф.).
8. Выражение, введенное Данте, означает неразрывность формы
и содержания в поэтическом слове, внушенном Музами.
4«5
ЦАРСТВО И СЛАВА
под вопросом возможность для говорящего
человека ухватить само развертывание языка, саму его
говорящую сущность»9. Извечный спор между
философией и поэзией пролегает внутри самого языка:
«Философия и поэзия — это два полюса
напряжения, питающих единый опыт языка. [...]
Философское слово — как и слово поэтическое — структурно
включено в эту апорию: оно призвано примирять
два, на первый взгляд, противоположных
элемента, которые тем не менее должны соприсутствовать
в любом серьезном высказывании. Именно это имел
в виду Витгенштейн, когда писал:
„Философствовать следовало бы именно и исключительно в режи-
« in
ме поэзии ».
Именно поэтому в стремлении к
недостижимому воссозданию единства означающего и
означаемого в нашем переводе мы ориентировались на
буквализм в беньяминовском смысле, нацеленный на то,
чтобы «найти в языке, на который переводят, ту
интенцию, которая позволит пробудить в нем эхо
оригинала»11—даже если ценой такого «соответствия»
становится разрушение того, что Беньямин называет
«прогнившими барьерами» языка, на который
переводят, — то есть его штампов и автоматизмов, а
значит, и автоматизмов мышления. И стратегия эта
9- Цитата из текста выступления Агамбена на тему «Платон
и философское письмо» («Piatone e la scrittura filosofica»),
прочитанного в Высшей нормальной школе в Пизе 21
октября 2017 г. в рамках семинара «Oltre le righe». Текст
выступления будет опубликован в сборнике материалов
семинара, который в настоящее время готовится к печати.
ю. Ibid.
п. Беньямин В. Задача переводчика/пер. с нем. И.Алексеевой//
Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литерату-
ре/сост. А. Белобратов. Спб.: Symposium, 2004. С. 27-46-
С. 38.
486
ПОСЛЕСЛОВИЕ
оправдана вдвойне именно в случае Агамбена,
который, выражая собственную мысль на итальянском
языке, зачастую сокрушает его «барьеры»,
сокрушая вместе с тем барьеры и автоматизмы мышления.
Задачей переводчика, по мысли Беньямина,
является не коммуникация, не передача
сообщения — то есть разъятие смыслового целого
оригинала на ряд значений, которые могут быть более
или менее успешно переданы в чужом языке, —
но напряженный поиск того символического в
языке, ускользающего, невыразимого в видимых формах
(но с ними непосредственно связанного), что
невозможно «сообщить» и что в то же время составляет
ядро поэтического текста (коим, в сущности,
является и текст подлинно философский).
Передавать лишь означаемое, не беря в расчет
скрытый динамизм, существующий между смыслом
и звуком, формой, способом, которым этот смысл
воплотился в слове, — значит отсечь единственно
значимое в тексте, «предать» его тайну. Настоящий
перевод не передает оригинал, предавая его, но как бы
«распознает» его — и дает возможность читателю
также его распознать, разглядеть его уникальный
абрис, услышать его голос, соблюдая при этом
дистанцию, заданную его «инакостью», которую он
принимает, признавая его неизбывную чуждость. И если
всякое великое произведение заключает в себе
подтачивание устоявшегося строя языка, существующей
нормы, в определенной мере даже преодоление ее —
то, прибегая к выражению Ортеги-и-Гассета,
переводчик не должен заключать оригинал «в темницу
лингвистической нормы»12, но также обязан самим
актом перевода высвобождать содержащийся в нем
12. См.: Ortegay Gasset J. Miseria e splendore délia traduzione/a cura
di Claudia Razza. Genova: il melangolo, 2011. P. 31.
487
ЦАРСТВО И СЛАВА
«бунтарский» потенциал, ставящий любую норму
под вопрос. Комментируя теорию перевода Шлей-
ермахера, Ортега-и-Гассет резюмирует:
Перевод—-это процесс, который можно
осуществлять в двух противоположных смыслах: или
автора приближают к языку читателя, или
читателя приближают к языку автора. В первом случае
мы переводим не в полном смысле этого слова:
строго говоря, мы имитируем текст,
пересказываем его. Только когда мы отрываем читателя от его
языковых навыков и вынуждаем двигаться в сфере
языковых навыков автора, мы переводим в
собственном смысле слова13.
Стало быть, хороший перевод нацелен не на то,
чтобы подчинить чужое омертвевшим, затертым
формам своего, но на то, чтобы максимально
приблизиться к сокровенному единству формы и содержания,
создающему неповторимое своеобразие подлинника.
Иными словами, необходимо отстраниться от
собственного языка через «фронтальное столкновение
со строем языка оригинала». Именно этой
стратегической линии мы по возможности и старались
придерживаться при переводе агамбеновского текста.
2. Уже во введении Агамбен говорит о том, что его
книга представляет собой продолжение и
расширение перспективы, намеченной Мишелем Фуко в его
исследованиях о генеалогии «управленчества» (gou-
vernamentalité), в то же время являя собой попытку
прояснить внутренние причины, по которым эти
13. Ortegay Gasset J. Op. cit. P. 48-49. См. также Шлейермахер Ф.
О разных методах перевода. Лекция, прочитанная
24 июня 1813 г. на заседании Королевской академии наук
в Берлине.
488
ПОСЛЕСЛОВИЕ
исследования не были завершены. Не просто
рассматривая, вслед за Фуко, экономический дискурс
как часть историко-политического ансамбля, а
распознавая в нем диспозитив, определяющий
господствующую ныне форму бытия и познания, Агамбен
пытается взойти к его основаниям — к тому
самому архЭу к истокам, которые скрыто присутствуют
на всем протяжении исторического пути и
непрерывно влияют на него изнутри. Именно таким
образом, по мысли Агамбена, изначально теологические
истоки экономики как совокупности практик,
направленных на непрерывное управление
индивидами ради спасения, будут скрыто обусловливать
становление того рода власти, который достигнет своей
парадигматической формы в управленчестве.
Агамбен в свойственной ему манере строит свои
рассуждения на основе скрупулезного
лингвистического анализа: именно в языке, как он
убедительно показывает, коренится нечто определяющее
природу властных отношений, присущих конкретной
эпохе. В данном случае, в отличие от Фуко,
ограничившего истоки «управленчества» классической
эпохой, Агамбен рассматривает всю христианскую
эпоху как некий единый идеологический
континуум, в лоне которого происходит становление
власти в форме экономики, то есть управления людьми.
Маркером этого процесса становится именно язык:
«Тот факт, что мессианское сообщество изначально
описывается в терминах ойкономии, а не политики,
сыграл свою роль в развитии западной политики:
масштаб этой роли еще предстоит уяснить»14.
Одним из отправных пунктов в рассуждении
Агамбена является курс лекций Фуко «Безопас-
Ц- Наст. изд. С. 52.
489
ЦАРСТВО И СЛАВА
ность, территория, население», прочтенный им
в Коллеж де Франс в 1977_1978 годах. Курс
посвящен генезису политического знания,
располагающего в центре своих интересов понятия населения
и механизмы, обеспечивающие его регулирование.
Фуко проследил осуществление политической
власти в античных обществах, которое не
предполагало управления индивидом на протяжении всей его
жизни, затем обратился к христианской идее
пастырства, а основное внимание уделил классической
эпохе, к которой он отнес рождение «искусства
государственного управления», а вместе с ним и
политической экономии как дисциплины. Управлять15
государством, говорит Фуко, теперь означает
осуществлять экономику, то есть пристальный надзор
и контроль за жителями и богатством.
Итак, по Фуко, мы живем в эпоху управленчества,
открытого в XVIII веке. Предвестие и прообраз этого
феномена он указывает в архаической модели
христианского пастырства. Это специфическая форма
власти, содержание которой образует «экономика» в том
метафорическом значении, в котором она широко
используется в раннехристианской мысли, то есть
в значении всей совокупности жизненных практик,
направленных на спасение для жизни вечной16:
15. См. определение управления, данное Гийомом де ля Перьер
в «Le mirroir politique» (Paris, 1555): «Управление есть
разумное распоряжение вещами, которые берутся вести вплоть
до достижения надлежащей цели» (курсив мой. —Д. Ф.).
Таким образом, комментирует это определение Фуко,
искусство управления является искусством реализации власти
исключительно в режиме и в соответствии с
принципами экономики.
i6. «Этой совокупности техник и процедур, которая
характеризует пастырство, греческие святые отцы, и в частности
св. Григорий Назианзин, дали весьма примечательное
49°
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В христианстве пастырство породило целое
искусство наставления людей на путь истинный,
их сопровождения, руководства,
манипулирования людьми, искусство следования за ними шаг
за шагом, подталкивания их в нужном
направлении, искусство отвечать за людей на
коллективном и индивидуальном уровне в течение всей их
жизни и при каждом их шаге. [...] Это искусство
управлять людьми может открыть исток,
точку формирования, кристаллизации
управленчества, появление которого в политике в конце
XVI-XVIII веков обозначило выход на
политическую арену современного государства17.
Отмечая преемственный характер между
пастырством и управленчеством, Фуко все же
проводит между ними строгое разграничение, относя их
к двум различным эпистемам. По его мысли,
«вычленение экономики как специфической сферы
реальности и формирование политической экономии,
выступающей и в качестве науки, и в качестве техни-
имя: ойкономия псюхон, то есть экономика душ. Таким
образом, греческое понятие экономики, или экономики,
которое использовалось Аристотелем и обозначало в то
время ведение семейных дел, доходов, богатств, управления
рабами, женой, детьми, в некоторых случаях —
управление клиентурой, менеджмент, если угодно, — в
пастырстве принимает совершенно новый масштаб и
совершенно новый круг значений» (Фуко М. Безопасность,
территория, население//пер. с фр. Н. В. Суслова, А. В. Шестакова,
В. Ю.Быстрова. СПб.: Наука, 20П. С. 258). Агамбен
говорит о теологических импликациях термина ойкономия,
объясняя основополагающую роль экономического дис-
позитива в конституировании христианского
мировоззрения тем, что «вечная жизнь как объект усилий
христианина в конечном итоге принадлежит парадигме ойко-
са, а не полиса» (Наст. изд. С. 17).
17. Фуко M. Безопасность, территория, население. С. 227-228.
491
ЦАРСТВО И СЛАВА
ки воздействия управления на экономику» , связано
с разграничением между Царством и Правлением,
которое он датирует XVI веком: именно тогда, по его
словам, возникает специфичная форма власти,
отличная от пастырства и суверенитета, а именно
управленчество. Тезис о том, что в средневековой
мысли суверенитет и управление были
неразделимы, Фуко подкрепляет ссылкой на трактат Фомы
Аквинского «De Regno» (при этом обходя
молчанием его же «De gubernatione mundi», где отстаивается
противоположный тезис, значение которого
продемонстрирует Агамбен), в котором провозглашается
абсолютное тождество между божественным
управлением миром и правлением, осуществляемым
монархом.
Итак, по мысли Фуко, в средневековом видении
человек является частью великого континуума,
нисходящего от Бога к отцу семейства, который
должен подражать Богу; теперь же человек автономен
в этой специфической деятельности, не находя ее
образца ни у Бога, ни у природы. Именно этим
фактом, влекущим за собой разрыв между функцией
суверена и функцией управления, Фуко
обосновывает зарождение управленчества. Он описывает его
как «процесс, в рамках которого управление
начинает оттеснять простое установление правил на
задний план, вследствие чего у сторонников
ограничения королевской власти в один прекрасный день
появится возможность заявить: „Король царствует,
но не правит"»19. Речь идет о перевертывании
взаимоотношений управления и царствования,
обернувшемся тем, что «в центре внимания новоевропей-
18.Там же. С. i6i.
19. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 114. Отсю
да же следующая цитата.
492
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ской политики оказалась не проблема верховной
власти, царствования, Imperium, a проблема
управленческих решений».
В противовес этому видению20 Агамбен
утверждает, что первый зародыш разграничения между
Царством и Правлением содержится в тринитар-
ной ойкономищ которая вводит разрыв между
бытием и праксисом внутри самой божественности.
Как отмечает Агамбен, «в своей генеалогии
управленчества Фуко упоминает небольшое сочинение
Фомы «De regno», обходя при этом вниманием
трактат «De gubernatione mundi», в котором он мог бы
обнаружить основные элементы теории управления
в его противопоставленности царству»21. Впрочем,
с определенного момента термин «gubernatio»
становится синонимом провидения, а в центре
трактатов о божественном управлении миром и
оказывается способ, которым Бог продумывает и осуществляет
свое провиденциальное действие. «Провидение есть
имя „ойкономии" в той мере, в коей последняя предстает
в качестве управления миром». То есть учение об
ойкономии и проистекающее из него учение о провидении
служат обоснованию управления миром; но
истинно и обратное, а именно, что рождение
управленческой парадигмы становится понятным лишь в свете
экономико-теологического характера провидения.
20. Методологическая неточность Фуко, по словам Агамбена,
связана с тем, что он не учитывает теологических
импликаций термина ойкономия; между тем, по мысли итальянского
мыслителя, «выстраиваемая Фуко генеалогия
управленчества в этой перспективе может быть расширена и
продолжена во времени вплоть до того, что через историю
становления тринитарной парадигмы становится возможным
выявить в самом Боге истоки концепции экономического
управления людьми и миром» (Наст. изд. С. 187).
21. Наст. изд. С. i88.
493
ЦАРСТВО И СЛАВА
Итак, разрыв между Царством и Правлением
изначально характеризует христианскую доктрину,
так как является прямым следствием раскола между
бытием и праксисом, который экономическая
парадигма призвана, с одной стороны, восполнить,
а с другой — лишь крепче обосновать: так,
присущая христианству «экономическая рациональность
со своей прагматико-управленческой, а не
научно-онтологической парадигмой будет продолжать
скрыто действовать в качестве силы, которая
стремится подорвать и разрушить единство онтологии
и праксиса, божественности и человечности»22.
Переход от пастырства к политическому
управлению Фуко объясняет возникновением целого ряда
«антиповодырских движений» (contre-conduites).
По мнению Агамбена, этот переход становится куда
более понятным, если рассматривать его как
секуляризацию всего того, что в средневековых
трактатах составляло материал для теории божественного
управления миром. «Современное понятие
управления, — заключает Агамбен, — продолжает не
историю средневекового "regimen" [представляющую
собой своего рода „глухой" конец в истории западной
мысли], а скорее, традицию [...] провиденциальных
трактатов, которая в свою очередь также уходит кор-
нями в тринитарную оикономию» .
3- Согласно центральному тезису книги, в
основании власти — пустота, покрываемая литургическим
прославлением, функцию которого ныне исполняют
массмедиа. Сложность задачи по выявлению скрытых
механизмов и расчетов власти, связанных с ее литур-
22. Наст. изд. С. in.
23. Там же. С. 190-191.
494
ПОСЛЕСЛОВИЕ
гическим и церемониальным аспектом, как и в
предыдущих исследованиях Агамбена, обусловлена тем
сопротивлением, которое оказывает в данном случае
не только предмет изысканий, но и сам строй языка,
на котором критика власти пытается себя
конституировать. Власть —как и бытие, как и язык
—ускользает от исчерпывающей рационализации, имея в своем
основании нечто мистическое, ибо, так же как язык
или бытие, она «началась раньше, чем началась»24.
Поэтому любые поползновения мыслить власть
«позитивно» (теория государственного суверенитета,
современная теория Государства в целом) неизбежно
оказываются вписанными в продолжение самого
проекта власти. В понятии «голой», или священной,
жизни «политика и жизнь переплелись столь глубоко,
что сопротивляются любой традиционной форме
анализа»25. Агамбен ставит себе целью преодолеть
выдающие себя за безусловные границы, налагаемые властью
на само мышление посредством языка: в его задачи
входит создание понятийного аппарата, способного
схватить зону неразличимости между жизнью и
правом, благодаря сокрытию которой власть до сих пор
успешно облекала себя в форму изначально данного.
В своей знаменитой афинской лекции,
посвященной теории раз-учреждающей власти, Агамбен
подчеркивает необходимость рождения нового языка
для описания современного состояния общества:
«Сегодняшнее европейское общество не является
более политическим обществом: это нечто совершенно
новое, для чего у нас нет подходящей терминологии
и мы должны, следовательно, изобрести новую стра-
24. См.: Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая
жизнь. М.: Европа, 20П.
25. Там же. С. 153.
495
ЦАРСТВО И СЛАВА
тегию» . Именно в рамках изобретения новой
стратегии, стоит полагать, им и осуществляется, в ключе
деконструкции, генеалогия понятий,
основополагающих для западной политики. При этом
«развенчание мифов» само по себе не только является
освобождением мыслительного горизонта для обновления
понятийного мышления, но одновременно являет
собой сам акт такого обновления: «В философском
исследовании не только pars destruens не может быть
отделена от pars construens^ но также последняя без-
остаточно и в каждой своей точке совпадает с первой.
Теория, которая, насколько это возможно,
расчистила некую область от заблуждений, тем самым
осуществила свое предназначение и потому не может
расцениваться в отрыве от практики»27.
Чтобы взойти к истинным основаниям власти
на Западе, необходимо, по мысли Агамбена,
обратить пристальный взгляд к первым векам
христианства и в особенности исследовать историю
разработки догмата о триединстве в форме ойкономии. Это
позволяет реконструировать генеалогию
парадигмы, которая традиционно рассматривается как
относящаяся исключительно к сфере теологии, тогда
как она оказала решающее влияние на
становление и устройство западного общества. Один из
тезисов, последовательно отстаиваемых в книге,
гласит о том, что в христианской теологии берут начало
две основополагающие политические парадигмы,
антиномически друг другу противопоставленные,
но при этом функционально связанные:
26. Его же. К теории раз-учреждающей власти. Лекция
прочитана в Афинах i6 ноября 2013 г. Перевод на русский язык:
http://s357a-blogspot.it/20i4/o2/blog-post_i4.html.
27. Agamben G. L'usage des corps//Agamben G. Homo sacer.
L'intégrale. 1997-2015. Paris: Seuil, 2016. P. 1053-1340.
496
ПОСЛЕСЛОВИЕ
...политическая теология, которая в едином Боге
утверждает трансцендентность суверенной
власти, и экономическая теология, которая
замещает эту идею концепцией ойкономии, понятой
как имманентный порядок —домашний, а не
политический в узком смысле — как божественной,
так и человеческой жизни. Первая парадигма
дает начало политической философии и
современной теории суверенитета; из второй
вырастает современная биополитика вплоть до
наблюдаемого в настоящее время триумфа экономики
и управления над всеми остальными аспектами
социальной жизни28.
Однако, как явствует из этой формулировки, верх
берет именно «экономическая» доминанта,
изначально характеризующая христианское
сообщество, свидетельством чего является «домашняя»
окрашенность его лексикона. Взаимная
контаминация политического и экономического
лексикона, истоки которой восходят к эпохе эллинизма,
отражает постепенное слияние, вплоть до
неразличимости, публичного и частного, полиса и ойкоса
(а значит, неизбежное торжество последнего и
полное вытеснение первого), ставшее предпосылкой
к рождению того явления, которое Фуко, а вслед
за ним и Агамбен, определит как биополитику.
Итак, язык фиксирует фундаментальные процессы
социально-исторических изменений; но, если
посмотреть глубже, к чему подталкивает
предлагаемый Агамбеном анализ, речь будто идет о своего
рода взаимообратимости между логосом и онто-
сом, в которой язык не просто формально
отражает суть этих изменений, а сам участвует в их
санкционировании.
28. Наст. изд. С. 13.
497
ЦАРСТВО И СЛАВА
4- В рассуждении, в котором Агамбен сочетает
обширнейшую эрудицию и прозрачный нарративный
стиль, порой до неразличимости сливаются
филология и философия: филигранный
лингвистический анализ выявляет уровень, на котором взгляду
становится доступна неразрывная глубинная связь
между словами и вещами, между моделями
мышления и языковой формой их бытования. Как сказано
выше —и стоит вновь на этом остановиться,
—Агамбен неоднократно постулирует неразделимость
научного и образного мышления в рамках
философского познания, и наглядным примером такого синтеза
является его собственный метод: «Я не склонен
противопоставлять поэзию и философию, поскольку эти
два вида опыта в равной мере имеют место в языке.
Дом истины —в словах, и я с подозрением отношусь
к философиям, которые оставляют другим,
филологам или поэтам, заботы об этом доме»29. Синтез
поэтического воображения и философского разума,
схваченный Антонио Прете в емкой формуле «pensiero
30 «
poetante» или «poesia pensante» , примененной в
отношении поэзии Джакомо Леопарди, а затем и Данте,
некоторым образом определяет и стиль мышления
Агамбена. «Сам способ мыслить, в качестве
собственной основы провозглашающий poesis»31, в котором
Прете усматривал глубинное родство между Вико
(философом) и Леопарди (поэтом), в целом
свойствен итальянской философской и художественной
29- Агамбен Дж. Храбрость лишенных надежды. Интервью
Ж. Церф/пер. с фр. В. Голева//Эстетический вестник.
Май, 2017- С. П-20.
30. См.: Prête A. Pensiero poetante. Milano: Feltrinelli, 1988.
31. См.: Prête A. Appunti su Vico e Leopardi. Conferenza tenuta presso
YOstello délia Gioventù di Mergellina (Napoli) il 5 marzo 2013,
in occasione del VI Certaine vichiano.
498
ПОСЛЕСЛОВИЕ
традиции. Стиль письма становится стилем
мышления: образ сливается с понятием, фактически
формируя новую структуру, в которой содержание
обретает единственно подобающую ему форму.
Именно поэтому, как уже подчеркивалось, в
случае Агамбена особое, стратегическое значение имеет
языковой аспект: необходимо точно передать форму-
мысли (позволим себе это словосочетание в качестве
вольного аналога агамбеновского выражения
«форма-жизни», отнесенного к плану мышления), порой
с некоторым риском впадения в буквализм. С
другой стороны, и на языке оригинала мысль Агамбена
звучит крайним образом самобытно, отрезвляюще
ново, так как она взрывает привычные языковые —
а вместе с ними и понятийные — штампы: он
действительно, как выразился Беньямин, высвечивая
в уже упомянутой работе «Задача переводчика» зону
неразличимости между переводом и процессом мыс-
лепорождения, «ломает барьеры собственного
языка», чтобы дать в нем проявиться «эху языка
оригинала» — в данном случае того самого языка, поиском
которого занята истинная философия.
Значение лингвистического аспекта в анализе
Агамбена —особенно в той категории исследований,
которую он сам определяет как генеалогию
понятий,—сложно переоценить. В этом плане исходной
посылкой в работе «Царство и Слава» становится
тезис Шмитта, согласно которому «все ключевые
понятия современного учения о Государстве
представляют собой секуляризированные теологические
понятия»32. Агамбен уточняет эту мысль, вводя кате-
32. Наст. изд. C.i6. Цитата Шмитта приводится по изданию
итальянского перевода книги Schmitt С. Politische
Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität.
München-Leipzig: Duncker&Humblot, 1922: Teologia politica.
499
ЦАРСТВО И СЛАВА
горию сигнатуры и с ее помощью проясняя значение
и коннотации термина «секуляризация». Сам
способ, которым «секуляризованные» понятия
внутренне связаны со своими «теологическими» истоками,
являет собой особого рода стратегическое
отношение, как бы «помечающее» («segnatura» дословно
«помечание») политические концепты, соотнося их
с этими самыми истоками. «Секуляризация, таким
образом, является не понятием, а „сигнатурой" в том
смысле, в котором употребляли этот термин Фуко
и Меландри [...], —то есть чем-то таким, что,
содержась в знаке или в понятии, „помечает" его и
выходит за его пределы, отсылая к определенной его
трактовке или ограничивая область его значений,
не выходя при этом из означающего с целью форми-
рования нового значения или понятия» .
Однако выводы, к которым приходит Агамбен,
кардинально противоположны заключениям Шмит-
та, который в теологии находит подлинное
основание современной политики. Принципиально важным
является тот факт, что смещение значения вплоть
до полной его трансформации в случае
секуляризованных концептов —лишь иллюзия, через которую
экономика, конституирующая себя как политика
(политика на Западе, по мысли Агамбена, неизбежно
обретает форму экономики), пытается, более или
менее успешно, скрыть свои корни — ориентируя
интерпретацию знаков в определенном направлении.
Ведь отличительной чертой сигнатуры является то,
что она «переносит понятия и знаки из одной
сферы в другую (в данном случае —из сакральной сферы
в светскую), не ведя при этом к их семантическому пере-
Quattro capitoli sulla teoria délia sovranità/Id. Le catégorie
del «politico». Bologna: Il Mulino, 1972. P. 49.
33. Наст. изд. С. i8.
5OO
ПОСЛЕСЛОВИЕ
осмыслению» . Так, теологические истоки
современных политических концептов не мертвым грузом,
подобно атавизму, залегают в них, полностью утратив
свою изначально определяющую роль в их
семантическом наполнении, но действуют внутри них,
неуловимым образом ориентируя сам образ мышления,
обусловленный «свободным» оперированием этими
понятиями. Выражаясь словами самого Агамбена,
«наши современные общества, претендующие на
светскость, управляются, напротив,
секуляризированными теологическими понятиями, которые, не будучи
осознанными, оказывают оттого еще большее
влияние»35. Тем не менее, неоднократно подчеркивает
Агамбен, это вовсе не говорит о безусловно
теологическом происхождении экономики: напротив,
экономика предстает здесь как некий диспозитив, который
с первых веков христианства произвольно
наделяется трансцендентной сущностью (вспомним
совершенное Тертуллианом перевертывание Павлова
выражения «экономика тайны» в «тайну экономики»,
прочно вошедшее в христианскую догматику и оказавшее
решающее влияние на последующие ее становление).
Вторая глава книги, «Тайна экономики», как раз
посвящена выявлению истоков и семантическим
трансформациям термина ойкономия, который,
по мысли Агамбена, в сущности никогда не менял
своего изначально светского смысла (основного —
как некое «устроение», «распорядок», «управление»,
а еще —«поручение»; и риторического — как
расположение материла в речи, «dispositio») и претерпел
не кардинальное изменение значения, как
принято полагать, а лишь аналогическое его расширение
34- Там же.
35- Агамбен Дж. Храбрость лишенных надежды. С. 12.
Soi
ЦАРСТВО И СЛАВА
до сферы теологии, не меняя при этом своего
семантического ядра. Однако, как упоминалось выше,
богословы, начиная от Тертуллиана, говорят уже
не об «ойкономии тайны» (тут ойкономия еще
полностью лишена теологического подтекста и означает
нечто вроде «устройства», «организации»— и, с
другой стороны, «поручения»), а о «тайне ойкономии» —
наделяя, таким образом, власть неким ореолом
таинственности, впоследствии подспудно выявляя
«божественную» природу, имманентную всякому
земному порядку. Итак, речь идет о самой
настоящей сакрализации власти. В этом смысле
секуляризация обратна профанации, которая, напротив,
нейтрализует то, что профанируется, лишая его
сакральной ауры и возвращая в пользование:
Секуляризация есть форма вытеснения,
которая оставляет в неприкосновенности силы,
ограничиваясь их передвижением с одного места
на другое. Таким образом, политическая
секуляризация богословских понятий
(трансцендентность Бога как парадигма могущества государя)
не делает ничего другого, кроме перемещения
небесной монархии на монархию земную,
оставляя нетронутым ее могущество36.
Иными словами, активация диспозитива ойкономии
как предзаданного, изначального, «всегда уже»
бывшего и, значит, имеющего трансцендентное
основание обеспечивает неоспоримость принципиального
для конституирования власти на Западе
представления о том, что любой земной порядок (который
здесь является синонимом управления) не толь-
Зб. Агамбен Дж. Похвала профанации //Его же. Профанации/
пер. с ит. К.Токмачева; под ред. Б.Скуратова. М.: Гилея,
2014- С. 78-101.
502
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ко имеет прототипом порядок небесный, но всегда
неразрывно с ним связан, являясь прямым его
воплощением, и всегда именно в нем обретает свой
глубинный смысл. Именно поэтому незаметный,
но играющий ключевое стратегическое значение
переход от «экономики тайны» к «тайне
экономики» определяет и видение истории,
сформировавшееся в лоне христианства:
Христианское представление об истории
возникает и развивается под знаком экономической
парадигмы и становится неотделимым от нее.
Поэтому осмысление христианской теологии
истории не может ограничиться, как это
обыкновенно бывает, общим упоминанием идеи ойкопо-
мии как синонима провиденциального развития
истории согласно эсхатологическому замыслу;
оно скорее должно основываться на
рассмотрении конкретных способов, посредством которых
«тайна экономики» в буквальном смысле
сформировала и всецело предопределила
исторический опыт, в поле которого мы еще по большей
части пребываем37.
К проблеме истоков экономики как божественного
управления людьми, осуществляемого через
функцию pronoia, любопытно отметить, что и в русском
языке слово «промысел» соединяет в себе эти два,
на первый взгляд, далеких друг от друга значения:
промысел как ремесло, частный случай управления
ресурсами, и Промысел божий как божественный
план спасения, реализующийся через детально
артикулированную, разветвленную систему ангельских
иерархий (в рамках иудаизма ангел сам по себе есть
акт божьего управления, а всякий акт управления
37- Наст. изд. С. 82.
5°3
ЦАРСТВО И СЛАВА
есть ангел), воспроизводящихся и в плане светско-
го правления .
Кстати сказать, по словам Агамбена, фигурой
провидения—то есть фигурой управления миром —и
является ангел, в котором божественный исток до
неразличимости сливается с функциональностью его
природы. И все же возможность управления
обеспечивается сочленением и координацией в рамках
биполярного механизма (коим и является
провидение) имманентной ангельской власти, в качестве
исполнительной оперирующей на уровне
частного, и трансцендентной божественной власти,
выступающей в качестве универсальной законодательной.
«В этом смысле, — утверждает Агамбен, — ангело-
логия представляет собой самую древнюю и самую
усердную рефлексию о той особой форме власти,
которая в нашей культуре получила имя
„управления" и которую Мишель Фуко начиная с середины
70-х годов попытался охарактеризовать в своих
курсах в Коллеж де Франс»39:
Ангелология и философия истории в нашей
культуре неразрывно переплетены между собой,
и лишь тому, кто сможет постичь их взаимосвязь,
откроется возможность ее прервать или оконча-
38. На предмет ангелологии как архетипической формы
правления на Западе помимо 6-й главы «Царства и Славы»
интерес представляет предисловие Агамбена к книге
«Ангелы. Иудаизм, христианство, ислам» под его редакцией:
это 2000-страничное собрание внушительного
количества текстов мистиков, отцов церкви и видных
представителей разных конфессий, посвященных ангелам.
См.: Agamben G. Introduzione//Angeli. Ebraismo Christiane-
simo Islam/a cura di G. Agamben e E.Coccia. Vicenza: Neri
Pozza, 2009. P. 11-21.
39. Agamben G. Introduzione//Angeli. Ebraismo Christianesimo
Islam. P. 20. Перевод мой. —Д. Ф.
5°4
ПОСЛЕСЛОВИЕ
тельно разорвать. Но разорвать не в
направлении метаисторической запредельности — а,
напротив, в самом сердце настоящего40.
В книге «Царство и Слава» Агамбен не только
формулирует, но и — главным образом — развенчивает
миф о скрытой мистической связи божественной
экономики и земного управления, — миф, на
котором, по его мысли, покоится современная
машина управления на Западе. Он обнажает
произвольность самоопределения власти как непосредственно
воплощающей теологические категории «в миру»
и подспудно отсылающей к собственным
божественным истокам. Таким образом, он осуществляет
двойное вскрытие: сначала он выявляет истинные
скрытые претензии и истоки власти, а затем обнажает
произвольность этого конструкта, проникая в
своем анализе в некую слепую зону, ускользнувшую
и от Петерсона, и от Шмитта, и от Фуко. Именно
язык, как наглядно демонстрируют рассуждения
Агамбена, содержит в себе элементы, позволяющие
приблизиться к сути скрытых сценариев,
определивших и продолжающих определять природу власти
на Западе.
Дарья Фарафонова
40. Ibid. P. 21.
От переводчика
В центре философской интенции Агамбена —
своего рода непрерывность влияния, которое
категория ouKOHOMUU оказывала и продолжает оказывать
на западную культуру и политику. Эту понятийную
непрерывность —непрерывность действия
экономики, облекавшегося в разные словесные формы в
разные эпохи (лат. disposition ordine, gubernatio; рус.
домостроительство, устройство, порядок...) и подобно
карстовой реке будто то исчезающей, то вновь
появляющейся на поверхности истории (а на самом
деле непрерывно оказывающей на нее воздействие
изнутри), призвано подчеркнуть строгое единство
терминологии. Именно поэтому в нашем переводе
мы руководствовались принципом единого на
протяжении всей аргументации использования
терминов в соответствии с оригиналом вопреки «ис-
торизирующему» прочтению, соблазн к которому
был, кажется, успешно преодолен: даже в
цитируемых переводах Святых Отцов, помимо особо
оговоренных случаев, как и в переводе самого Агамбена,
звучит термин «экономика», а не
«домостроительство»; «провидение», а не «промысел»; «теология»,
а не «богословие». Такой выбор представляется нам
удачным ввиду особенностей самого метода
Агамбена, направленного на выявление единства того,
что обычно — исторически, культурно — принято
разграничивать, разделять. Ему важно показать
единую логику, которая приводит к тому, что в более
5об
ПОСЛЕСЛОВИЕ
поздних парадигмах сохраняются принципы более
ранних, наподобие матрешки: в секулярном времени
в качестве его основания подспудно действует
христианская теология, в ней — гностицизм, а в нем —
язычество1.
В первой части книги Агамбен приводит
многочисленные примеры употребления термина «ойко-
номия» в раннехристианской патристике в
контексте той определяющей роли, которую усилиями
Тертуллиана и последующих святых отцов обрело
это понятие в разработке догмата о триединстве,
а в более широком плане — в конституировании
arcana divini imperii^ тайны божественного
управления миром, которая в результате секуляризации —
вследствие аналогического расширения значения
(но не исконной его трансформации) — незаметно
преобразовалась в тайну власти как таковой.
Многие трудности при переводе были связаны
с передачей конкретных терминов, которые в силу
доктринальных различий между восточным и
западным богословием не всегда находят в
православной традиции прямые соответствия. Приведем здесь
несколько примеров подобных сложностей,
разрешимых лишь с помощью введения в текст
пространного комментария. В предложении «La prima arti-
colazione della processione trinitaria awiene attraverso
il paradigma economico-retorico» речь идет о первом
расчленении тринитарного единства на Троицу,
происходящем, по мысли Агамбена, согласно
экономико-риторической парадигме. Термин
«processione» означает порядок, согласно которому
происходит разделение на три божественных ипостаси,
составляющих единство. Так, выражение «proces-
1. За это и другие важные методологические наблюдения в ходе
работы благодарю А. Погребняка.
507
ЦАРСТВО И СЛАВА
sione trinitaria» имеет конкретное, узкое значение,
не связанное с процессуальностью — по крайней
мере, в ее временном аспекте. В католическом
богословии термин «processione» означает тайну
отношения, которое связывает Святого Духа с Отцом
и Сыном в Троице: Святой Дух исходит {procède dal)
от Отца и от Сына2, оставаясь равным им и едино-
вечным3. Встречается и обратное: «il Padre
procède nel Filgio...» —Отец как бы «продолжает себя»
в Сыне.
Учитывая, что существительное «processione»
образовано от «procedere» («продолжать»,
«следовать», «идти вперед»...; в наших переводах принята
формула «Дух исходит (procède) от Отца»,
которая встречается, например, у Афинагора
Афинянина и др.), —то имеется в виду нечто вроде «исхода»,
«истечения», «исхождения», хотя слово имеет
несколько иную устоявшуюся коннотацию.
«Prima articolazione» в данном контексте также
вызывает сомнения, но в целом имеется в виду
«отделение» Слова (Логоса) от Бога, не нарушающее его
целостности. Таким образом наиболее точным
представляется следующий вариант перевода: «Первое
членение божественного исхождения в Троице
осуществляется посредством экономико-риторической
парадигмы». Тем не менее, более понятным смысл
2. В рамках западного учения Святой Дух действительно
исходит ab utroque, то есть одновременно от двух Лиц —
от Отца и Сына. Согласно же догматам восточного
богословия, Святой Дух исходит только от Отца. Именно
Filioque (исхождение Святого духа «и от Сына»)
послужил основной догматической причиной разделения
Востока и Запада.
3- См.:Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной
Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ»,
1991-
5о8
ПОСЛЕСЛОВИЕ
предложения становится благодаря парафразе,
которая все же отдаляет от оригинала: «Первое
расчленение троичного единства...»4.
Трудности для перевода представляет и
следующая формулировка: «Слово [logos], отделяясь
от Господа, riceve la distinzione [diairesis] dellbikono-
mia», то есть дословно «обретает различение ойко-
номии». По всей вероятности, имеется в виду, что,
отделяясь от своего истока, Слово обретает силу
упорядочивания через разграничивание
(различение), присущее ойкономии. Принципиально важным
моментом является то, что у Тертуллиана
экономика трактуется не как сущностная разнородность,
но как членение единой реальности в
управленческом аспекте, который совпадает с риторико-праг-
матическим планом. Таким образом, разделение
единства относится не к онтологии, а к действию
и праксису5: это позволяет Агамбену прийти к
заключению, что «согласно парадигме, которая
ключевым образом повлияла на все христианское
богословие, Троица представляет собой разделение
не бытия Бога, а Его действия»6. Следует отметить,
4- Если использовать прямые аналоги итальянского «articola-
zione» —артикуляция как разделение, но и выяснение,—
то в расширительном варианте это предложение можно
трактовать как выяснение соотношения ипостасей
Святой Троицы, что и составляет суть тринитарных споров.
Многозначность, заложенная в оригинале, допускает
такую интерпретацию, и в переводе необходимо
попытаться воссоздать эту полисемию.
5- К слову, именно выявлению и преодолению диспозитива
разрыва между бытием и праксисом, силой и
действием, сущностью и существованием, на котором, по мысли
Агамбена, покоится западная онто-биополитическая
машина, посвящен последний том «Homo Sacer»
«Пользование телами» («L'uso dei corpi»).
6. Наст. изд. С. 77-
5°9
ЦАРСТВО И СЛАВА
что в рамках восточного богословия утвердилась
несколько иная трактовка троичного членения,
связанная с уходящей корнями в мистическую
традицию идеей непредставимого единства в троичности,
подразумевающего разделение божества не только
в плане праксиса —но и в плане бытия (три
ипостаси—это именно три божественные сущности, усии),
которое тем не менее немыслимым образом остается
всегда единым: эта непредставимость и составляет
определяющую черту —если не сказать
основу—православной веры, в гораздо большей степени
связанной с традицией мистического богословия, чем
католическая ветвь христианства.
Некоторые затруднения в плане перевода
вызывает термин «governo» (как, в несколько ином
плане, и ряд его синонимов «gestione», «amministrazi-
опе» и проч.): он совмещает в себе два основных
значения, весьма различных, но как бы
непрерывно друг к другу отсылающих в рамках единой
словесной формы. Этого эффекта невозможно добиться
в языках, в которых каждому из этих значений
соответствует свой термин, — как, например, в случае
русского языка, ведь здесь речь будет идти о
«правительстве» или об «управлении»; или, с другой
стороны, — об «управлении» или «правлении»,
которые могут быть синонимами, а иногда, напротив,
могут противопоставляться друг другу.
Следовательно, термин «governamentalità», введенный
Мишелем Фуко и подробно исследуемый Агамбеном,
в одинаковой мере правомерным будет переводить
как «правительственность» и «управленчество»,
ибо два термина являются взаимодополняющими
и ни один из них не передает по изложенным выше
причинам стратегическую многозначность
французского—и соответствующего ему итальянского—gou-
vernamentalité. С другой стороны, regno, однозначно
5ю
ПОСЛЕСЛОВИЕ
отсылающее в итальянском языке к идее «царства»
и «царствования» в его противопоставленности
реальной деятельности управления, в русском языке
в некоторых контекстах допускает перевод
«правление» как синоним «царствования» в
оппозиции—как сказано выше —по отношению к понятию
«управления». Все эти моменты налагают
неизбежные ограничения на возможности точного
воспроизведения мысли Агамбена на русском языке,
частично снимаемые благодаря аппарату комментариев
и примечаний.
Джорджо Агамбен
о тайне экономики
(Послесловие к русскому переводу
«Царства и Славы»)
Возможно) тайна эта слишком
прозрачна.
Эдгар По
1. Генеалогия
Принципы государственного суверенитета и
незыблемости правопорядка, которые утверждаются
со все возрастающей силой; эффективный
менеджмент и юридическое обеспечение, которые
становятся универсальной логикой существования всех
структур и учреждений, коммерческих и некоммерческих;
безопасность, которая провозглашается в качестве
главной и едва ли не единственной цели живущих;
неолиберальное устройство экономики, которое
органично сочетается с идеологией охранительства
и превознесением традиционных ценностей;
констатация фактов неравенства, коррупции,
бюрократизации и т.п., которая не только не препятствует
непрерывной циркуляции славословия между
представителями высшего руководства, будь то светские
властители или церковные иерархи, но и входит в нее
в качестве составной части, — эти и другие
узнаваемые черты сего дня составляют контекст для
восприятия идей этой книги. Ее автор не скрывает своего
желания не только подвергнуть критике эту «машину
управления», но и помыслить возможность ее
демонтажа. Именно это желание заставляет видеть в сего-
512
ПОСЛЕСЛОВИЕ
дняшней реальности шифр, ключом к которому
является одно стародавнее событие, обладающее, тем
не менее, по отношению к настоящему
учредительной силой,—а то, что было способно учреждать,
должно обладать и способностью раз-учреждения. Таким
событием, по версии Агамбена, является
формирование тринитарной доктрины, в рамках которой
экономика из искусства ведения домашнего хозяйства
превратилась однажды в практику управления миром.
Подзаголовок этой книги гласит: теологическая
генеалогия экономики и управления. Конъюнкция
принципиальна: традиционно разделяемые
аспекты — например, экономика и политика, религия
и право, теоретическое знание и практическое
действие — Агамбеном прочитываются в их
непрерывном взаимодействии, опознаются в «зоне
неразличимости», где они отсылают друг к другу, по кругу
обосновывая характер деятельности той машины,
которая производит человека и общество в их
нынешнем виде. Вот почему на первый взгляд речь идет
совсем не о той экономике, к которой привыкли
экономисты, — но это лишь на первый взгляд: по
прочтении «Царства и Славы» становится очевидным,
что Агамбен высвечивает тот контекст, внутри
которого даже стандартные экономические тексты
начинают выражать куда более фундаментальные
смыслы, чем те, что, как кажется, были заложены в них
авторами. Экономика при таком прочтении
перестает быть лишь «сферой отношений» и «отраслью
знания» и начинает постигаться как универсальная
форма нашего существования в его исторической
конкретности, становясь для мысли тем, чем она
по факту давно уже является.
Генеалогия — критическое рассмотрение
современного, актуального положения дел, нацеленное
513
ЦАРСТВО И СЛАВА
на поиск его вытесненного (и потому реально
правящего) истока. Претензия экономических
законов на объективность, на статус положений
здравого смысла однажды становится чем-то настолько
навязчивым, что возникает желание поставить
вопрос о тайне такого воцарения. Маркс, указавший
на мистический характер товарной формы,
воплощенный в феномене товарного фетишизма, по сути
занимался генеалогией экономики. «Генеалогия
морали» Ницше; «Протестантская этика и дух
капитализма» Вебера; «Капитализм как религия» Бень-
ямина; «Проклятая доля» Батая; «Время картины
мира» и «Вопрос о технике» Хайдеггера;
«Безопасность, территория, население» и «Рождение
биополитики» Фуко; «Vita activa» Арендт;
«Символический обмен и смерть» Бодрийяра; «Капитализм
и шизофрения» Делёза и Гваттари — вот, если
ограничиться лишь наиболее громкими именами,
перечень исследований, составляющих, несмотря на
подчас радикальные расхождения в позициях, единую
традицию генеалогии экономики.
Агамбен наследует этой традиции и
радикализирует ее: отсылка к теологии, неизменно
присутствующая в перечисленных изысканиях начиная с
Маркса, достигает в «Царстве и Славе» своего апогея.
Перефразируя поправку Беньямина к тезису
Вебера, согласно которой капитализм не просто связан
с религией, а он и есть религия, можно сказать, что,
по Агамбену, экономика не просто связана с
теологией, а она и есть истинная теология; а также, если
перейти на практический уровень, — она же есть
истинная литургия, о чем свидетельствует та страсть
к медийному присутствию, которая, наследуя
аккламациям и торжественным церемониалам
прошлого, парадоксальным будто бы образом
сочетается с сугубо рациональным духом современных
54
ПОСЛЕСЛОВИЕ
практик управления. Не столько политическая
теология трансцендентного суверенитета, сколько
экономическая теология имманентного порядка
является ключом к пониманию современности — так
можно сформулировать тезис Агамбена, выступающий
в свою очередь поправкой к тезису Шмитта. Кроме
того, в предельно углубленном внимании Агамбена
к святоотеческой литературе следует увидеть
стремление на историческом материале подтвердить
гениальную догадку Беньямина о том, что «в конце
концов по сути история христианства есть история его
паразита —капитализма»1: не «рост потребностей»,
«развитие производительных сил» или
«фаустовский дух», но отсрочка мессианского события и
приостановка парусии является смысловым истоком
экономической динамики, беспрецедентного подъема
практик производства и потребления.
2. Инверсия
В эссе, посвященном профанации, Агамбен
предлагает определять религию «как то, что изымает вещи,
места, животных или людей из общего пользования
и переносит их в некую обособленную сферу»2;
очевидно, что экономическая операция представляет
собой нечто аналогичное — перенос благ в
обособленную сферу частной собственности, ограниченных
ресурсов, объектов потребления и т.п. Неслучайно
поэтому, что проект теологической генеалогии эко-
1. Бенъямин В. Капитализм как религия //Бенъямин В. Учение
о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб.
статей/Составление и предисловие И.Чубаров,
И.Болдырев. М.: РГГУ, 2012. С. 102.
2. Агамбен Д. Профанации. С. 79-
54
ЦАРСТВО И СЛАВА
номики и управления является частью более
общего рассмотрения, которое носит одновременно
метафизический, антропологический и политический
характер. Речь идет о цикле «Homo sacer»,
представляющем версию того, что Фуко однажды назвал
«критической онтологией нас самих».
Homo sacer — древнеримская
религиозно-правовая формула, буквально означающая статус дважды
(а стало быть — полностью) отверженного,
исключенного как из человеческого, так и из
божественного порядка. «Religio^ — утверждает Агамбен, — это
не то, что объединяет людей и богов, но то, что
охраняет различия между ними»3; человек же по своей
сути является не тем, кто гарантированно отнесен
к одной стороне этого различия, но тем, кто
пребывает в самом этом различии в качестве остатка
деления. Человеческая ситуация — исключительна
по природе, она и есть «чрезвычайное положение»,
что отмечено во многих формулах, пытающихся
выразить человеческую сущность,— от античного
«политического животного» и средневекового
«человека-путника» до «интересного животного»
Ницше и «вот-бытия» Хайдеггера. И поскольку эта ин-
тер-зона не имеет гарантированного обеспечения
ни в посюстороннем физическом, ни в
потустороннем метафизическом мире, она требует особого
режима управления — что и есть экономика. В трех уже
переведенных на русский язык томах цикла4
исследуются многочисленные исторические формы
этого между-бытия: от римского института interregnum
3. Агамбен Д. Профанации. С. 8о.
4- Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.:
Европа, 20и; Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.:
Европа, 20и; Homo sacer. Что остается после Освенцима:
архив и свидетель. М.: Европа, 2012.
516
ПОСЛЕСЛОВИЕ
и средневековых карнавалов до новейших лагерей
смерти, коматозных состояний и zonnes d'attente
наших аэропортов; «Царство и Слава» в этом плане
образует поворотный пункт: с одной стороны,
давая обобщенную характеристику управленческой
парадигмы, с другой —обнаруживая в серии ее
обоснований своеобразную симптоматику, указывающую
на возможность иной, не- или пост-экономической
парадигмы (собственно, «царство» и «слава» и есть
такого рода указатели).
Если сформулировать гипотезу Агамбена в
предельно краткой форме, она будет такова: «другой
сценой» сегодняшнего триумфа
экономико-управленческой парадигмы является инверсия «экономики
тайны» — такова формула апостола Павла, которой
он выражает поручение мессианского исполнения
закона, — в «тайну экономики», что, начиная с
Ипполита и Тертуллиана, будет обозначать
сакрализацию (oikonomias sacramentum), то есть суверенное
изъятие из человеческой практики мессианского
измерения. Результатом этой, как кажется, чисто
риторической операции будет потенциально
бесконечное откладывание (katéchôri) спасения — вплоть
до того, что само откладывание (сбережение)
станет единственно представимой его формой.
Поэтому в другом аспекте агамбеновского анализа вопросу
о тайне экономики соответствует вопрос о тайне
аномии. И здесь —вновь полемика со Шмиттом, в
связи с истолкованием смысла этого katéchôn: если автор
проекта политической теологии в своем
толковании учения Павла (2 Фес. 2:3-9) предлагает
антимессианское обоснование имперского
правопорядка как способа предотвратить явление антихриста,
или «человека аномии», то автор идеи
теологической генеалогии экономики и управления понимает
сатанинское «аномическое» действие не как реаль-
517
ЦАРСТВО И СЛАВА
ную противоположность, но, наоборот, как эффект
абсолютизации власти закона, в противовес
которому необходимо утвердить мессианическое
понимание аномии как выхода за пределы этой абсолютной
власти5. Сегодняшняя абсолютизация
экономической парадигмы, таким образом, продолжает
секуляризацию теологической модели katéchôn, подчиняя
живущих власти «законов экономики», призванных
будто бы сдерживать «нерациональное
использование ресурсов», «неэффективное управление»,
«кризис» и прочие «сатанинские» силы аномии.
Гипотеза Агамбена поражает воображение: двух-
тысячелетняя история Запада всеми своими
достижениями (вопрос о том, каков итоговый баланс
прибылей и убытков, всегда остается открытым)
обязана непрерывному перекодированию благой
вести, постоянной отсрочке исполнения обетования —
производству и воспроизводству исключительно
трансцендентного характера «полноты бытия»6!
5- Ср.: «Следовательно, katéchôn есть та сила —Римская
империя, но также и любая установленная власть,—что
препятствует и скрывает katârgêsis [приведение к
бездействию—Л. 77.], то есть состояние целенаправленной
аномии, характерное для мессианического, —и в этом смысле
задерживает раскрытие „тайны anomia". Раскрытие этой
тайны означает выход на свет бездейственности закона
и сущностной нелегитимности любой власти в
мессианическое время» (Агамбен Д. Оставшееся время:
Комментарий к Посланиям к Римлянам. М.: Новое литературное
обозрение, 2oi8. С.145)-
6. В отечественной традиции такое «трансцендентное»
понимание представлено у Сергея Булгакова: «Итак, хозяйство
на своем собственном пути не имеет эсхатологии, и, когда
пытается вступить на ее путь, оно впадает в
лжеэсхатологию, гонится за призраком, обманчивым и лживым.
Эта лжеэсхатология коренится в неверной оценке
хозяйства, в забвении об его условности и относительности.
Наш век, отмеченный не только исключительным рас-
5i8
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В результате такого рода инвертированную,
перекодированную экономику можно определить как
бесконечный саботаж субботы, то есть редукцию чисто
человеческой способности — способности,
определяющей для родовой сущности человека,
—дезактивировать автоматизм любой деятельности с целью
переключения на режим пользования, не
зацикленного на критериях эффективности, ценности,
обладания и т. п.: «Мы начинаем теперь понимать, поче-
цветом хозяйственной деятельности, но и экономизмом
в качестве духовного самосознания, вместе с тем
отличается и напряженным хозяйственным эсхатологизмом.
Последний затемняет религиозное сознание не только
уединенных мыслителей, но и народных масс,
мистически оторванных от земли: таковы социалисты,
ставшие жертвою неистовой и слепой лжеэсхатологии, по
исступленности своей напоминающей мессианические чаяния
еврейства в христианскую эру [выделено мной. — А.П.]»
(Булгаков С. H. Свет невечерний: Созерцания и
умозрения. М.: Республика, 1994- С- З1?)- Различие взглядов
Булгакова и Агамбена —притом что оба они, безусловно,
критики «экономизма», — радикально: для первого
экономика полностью тождественна имманентной сущности
посюстороннего мира, поэтому ее подлинный конец
(исполнение) обретаем только в мире потустороннем —
изнутри же этого мира нам остается лишь осознавать
ограниченность всех наших хозяйственных устремлений;
для второго экономика также представляет собой
определенный режим управления жизнью и существованием
в этом мире, но представление о мире трансцендентном,
никогда-не-здешнем есть важнейший элемент ее
имманентного устройства; что же касается эсхатологии
экономики, то, по Агамбену, ее нужно мыслить и
осуществлять как возможную уже здесь и теперь, в этом мире,
посредством дезактивации экономического аппарата.
Говоря точнее, трансцендентному принципу эсхатологии
Агамбен противопоставляет мессианический образ
лимба, где обитают изначально не помнящие бога, спасенные
от спасения существа (см.: Агамбен Д. Грядущее
сообщество. М.: Три квадрата, 20о8. С. 12-14)-
519
ЦАРСТВО И СЛАВА
му литургия и церемониал столь важны для власти.
В них осуществляются захват и вписывание в
отдельную сферу той бездеятельности, которая
составляет сущность человеческой жизни. Ойкопомия власти
прочно располагает в собственном центре в форме
праздника и славы то, что с ее точки зрения
выступает как непредставимая бездеятельность человека
и Бога. Человеческая жизнь бездеятельна и
лишена цели, но именно эта argia7 и отсутствие цели
делают возможной беспримерную человеческую
деятельность. Человек посвящает себя производству
и труду, потому что в своей сущности он
абсолютно лишен дела, потому что он прежде всего
животное субботы»8.
Именно поэтому, продолжает Агамбен,
«праздник и праздность непрестанно всплывают в
политических мечтах и утопиях Запада и все так же
непрестанно терпят крах»9. Тщетность этих попыток
объясняется тем, что в рамках господства
существующей парадигмы экономики свободное время
мыслится исключительно как остаток, пустая форма
рабочего времени10. Вот почему Агамбен не устает
7- Бездействие (греч.).
8. Наст. изд. С. 402~4°3-
9- Там же. С. 403-
ю. На этом основании Ханна Арендт ставит под вопрос
состоятельность марксистского положения о свободном
времени как главном богатстве в коммунистическом обществе
(См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.:
Алетейя, 2000. С. 167-172). Как заметила Сьюзен Сонтаг,
привычка посвящать время отпуска производству
фотоснимков «особенно привлекательна для людей,
подчинивших себя безжалостной трудовой этике,— немцев,
японцев, американцев. Манипуляции с камерой
смягчают тревогу, которую испытывает в отпуске одержимый
работой человек оттого, что не работает и должен раз-
520
ПОСЛЕСЛОВИЕ
подчеркивать: речь должна идти не об абстрактном
отрицании деятельности как таковой, а о
модификации ее характера — необходимость (невозможность
не) работать должна уступить место
сопряженности работы с открытостью случаю, когда возможно
не работать11.
Понятие и феномен славы, этот неожиданно
ключевой элемент управленческой машины, может быть
интерпретирован как знак такой возможности
постольку, поскольку является своего рода
резервуаром для этой парадоксальной энергии
бездеятельности, зоной ее холостого применения (в одном месте
Агамбен определяет славу как «вынесение
бездействия в отдельную область: культ или литургию»12).
Человеческое существо как бы отделяется от своей
свободы, освобождается от нее для непрерывной
автоматической деятельности — и параллельно
становится потребителем знаков этой (всегда уже былой
влекаться. И вот он делает что-то, приятно
напоминающее работу, — делает снимки» (Сонтаг С. О фотографии.
М.: Ад Маргинем Пресс, 20i6. С. 21); это было сказано
в 70-е гг. прошлого века, сегодня же мобильные
телефоны со встроенной камерой позволяют нам «отпускать»
себя практически в любое время — разумеется, не
прерывая его рабочий характер.
и. Вспомните Аккатоне из одноименного фильма Пазолини —
его «аморальные» занятия (сутенерство, воровство)
являются в его ситуации условиями возможности занять
субъективную позицию по отношению к той
деятельности, которая как таковая носит очевидно бесчеловечный
характер (погрузка металлолома, которую Аккатоне
сравнивает с работами в Бухенвальде); по контрасту, Петер
из «Я только хочу, чтобы вы меня любили» Фасбиндера
целиком идентифицируется с миром непрерывного
труда, вытесняя свою субъективность в область
параноического безумия.
12. Агамбен Д. Нагота. М.: Grundrisse, 2014. С. 157«
521
ЦАРСТВО И СЛАВА
или еще только будущей) свободы, циркулирующих
в рамках чисто зрелищной формы прославления.
Вот великолепная формула «истинной свободы»,
выражающая циркулярный характер славы: «...Быть
свободными ради того, чтобы прославлять Бога,
означает признавать, что в нашем собственном
бытии мы предопределены славой, посредством
которой мы восхваляем славу, позволяющую себя
восхвалять»13. Слава —это способ уйти от многих опасных
тем, парадигмой которых является представление
о Боге, прекратившем свою деятельность, но
продолжающем тем не менее быть. Тема свободного
времени как раз такого рода, и разговор о ней нужно
переводить в безопасное (для существующей
модели управления) русло. Поэтому, заменив
несколько слов в только что процитированном положении
о славе, следует спросить: разве мы сегодня
«свободны не для того, чтобы прославлять свою
безопасность, поскольку признаем, что в своей жизни мы
зависим от сил, ее обеспечивающих, благодаря чему
мы только и можем безопасно наслаждаться нашей
жизнью, позволяющей собой наслаждаться»?
Разговоры о безопасности и необходимости все новых
и новых мероприятий и спецопераций,
циркулирующие сегодня в медийном пространстве,
—наверное, наиболее характерный для дня сегодняшнего
эквивалент славы14.
13. Наст. изд. С.354-
14- Симптоматично, что классические модели экономики —
как минимум начиная с «Экономической таблицы»
Кенэ — также имеют форму циркуляции ресурсов,
товаров, денег. Агамбен вслед за Фуко связывает рождение
режима безопасности именно с физиократами; славу и ее
деривативы можно было бы уподобить тромбу,
закупорившему выход к иной форме жизни, если бы не факт
того, что именно цикл кровообращения в организме по-
522
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Избыток славы свидетельствует о том, что
экономика — то есть аппарат управления, но также и
антропологическая машина — работает (как долго
и в какой мере?) вхолостую. Непрерывная
циркуляция славы, моделью которой явилась христианская
Троица, скрывает воплощенный в ней раскол,
поистине скандальную новость о том, что возможна иная
форма пользования потенциалом человеческой
жизни. Эта другая форма есть, по определению Агамбе-
на, именно форма-жизни — написание через дефис
означает, что жизнь не отделена от присущей ей
специфической манеры проживания. Священный
ритуал прославления здесь уступает место операции
профанирования, то есть возвращения в общее
пользование, тех видов деятельности, которые до сих пор
были подчинены режиму экономики и, стало быть,
служил моделью для представления об экономическом
кругообороте — ведь экономическая безопасность есть
не что иное, как здоровье политического тела.
Политической утопии Агамбена поэтому не подходит модель
кругооборота, на нее не должно распространяться
действие циркуляров суверенной власти; скорее, она
указывает на — опасное, едва ли не самоубийственное (с
позиций господствующей модели)— размыкание круга,
приостановку непрерывного обращения. Видимо, поэтому
Агамбен отказывается и от модели диалектического
синтеза (в духе гегелевского «круга кругов»), предпочитая ей
беньяминовскую модель «застывшей диалектики»:
«...Решающим является лишь „промежуток", интервал и
взаимодействие двух понятий, их непосредственная
констелляция при несовпадении. Антропологическая машина
уже не связывает природу и человека, чтобы через
приостановку и „изъятие" нечеловеческого произвести
человеческое. Эта машина уже, так сказать, не движется, она
„стоит", а между природой и человеком, при взаимной
приостановке обоих понятий, в спасенной ночи
гнездится нечто [...], для чего у нас нет имен и что не является
ни человеком, ни животным» (Агамбен Д. Открытое. М.:
РГГУ, 2012. С.99-100)-
523
ЦАРСТВО И СЛАВА
из такого пользования исключены. Примером
такой формы-жизни может послужить взгляд Агамбе-
на на художественную практику:
Форма-жизни — это та точка, в которой работа
над произведением и работа над собой
полностью сливаются. Художник, поэт, мыслитель —
и в целом любой, кто практикует «искусство»
и деятельность, — не являются суверенными
субъектами, обладающими правами на
творческую деятельность и на произведение; скорее,
они являются анонимными живыми
существами, которые, созерцая и каждый раз приводя
в бездействие произведения речи, видения и тел,
стремятся получить опыт самих себя и сохранить
свою связь со способностью, то есть превратить
свою жизнь в форму-жизни15.
Если это утопия, то все-таки не из тех, которые
можно свести к эстетизации политики (и экономики):
способность как способность, в отличие от
отчуждаемых в собственность произведений, есть понятие
изначально политическое, поскольку означает форму
бытия, разделяемую с другими. Способность —
режим множественности «какого угодно» (еще не
решено, какого именно!) бытия, в то время как
фиксация на произведенном продукте уже предполагает
однозначный порядок владения. «Sed non erat pa-
ternae potestatis in extrema faetura quasi effeta defecis-
se» («Но не пристало отцовской мощи отсутствовать
в последнем потомстве, как будто она истощена»),—
говорит Пико делла Мирандолла о человеке16. Со-
15- ЛгамбенД. Костёр и рассказ. М.: Grundrisse, 2015. С. 164-165.
i6. Цит. по: Джованпи Пико делла Мирапдола. Речь о достоинстве
человека//Эстетика Ренессанса: Антология. В 2 т. T. i.
M.: Искусство, 1981. С. 249-
524
ПОСЛЕСЛОВИЕ
временная же экономика как способ управления
реализует себя через вменение дефицита во все
области жизни, вследствие чего человеческая
способность должна автоматически приводиться в
рабочее состояние, непрерывно осуществляться в форме
однозначно понятой продуктивности — будто бы
для устранения дефицита, на деле с целью его
эскалации.
3- Licentia poetica
Согласно известным положениям Маркса,
мистический характер товарной формы заключается
просто в том, что при определенных исторических
условиях общественные отношения с
необходимостью представляются людям так, как если бы это
были отношения вещей; а тайна первоначального
накопления капитала — в том, что с
определенного исторического момента начинается
непрерывный и, по сути, насильственный процесс
отделения рабочего от собственности на условия его труда.
По Агамбену же тайна экономики состоит в том,
что единственно представимой формой жизни
становится управление с целью «спасения» вещей
и людей путем придания им «священного»
характера (операторами такого «освящения» могут
выступать права человека и гражданина, право
собственности, статус ценностей и т.п.); это происходит
на основе отделения от субъекта его способностей
и формирования на их основе некой исчисляемой
материи, деперсонализированной, но и
идентифицируемой реальности — «голой жизни». Стоит
напомнить в этой связи одно наблюдение Маркса:
«"Ecoçeiv" [„спасать"] — характерное выражение
греков для обозначения накопления сокровищ. Равным
525
ЦАРСТВО И СЛАВА
образом, по-английски uto save" значит и „спасать"
и „сберегать"»17.
Тем не менее, критика концепции Агамбена
ведется в том числе и с марксистских позиций, тем
более что сам он рассматривает взгляды Маркса
как все еще не преодолевшие теолого-экономиче-
скую парадигму. Примером такой критики может
послужить рецензия на «Царство и Славу»,
написанная Альберто Тоскано18. Он начинает с того,
что ставит под вопрос методологическую
состоятельность концепции Агамбена, полагая его анализ
излишне абстрактным и нацеленным скорее на
выявление некой непрерывной трансэпохальной
линии, нежели на обнаружение разрывов, без которых
история лишается подлинной событийности,
—картина, написанная Агамбеном, гораздо ближе к хай-
V]. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I.
Кн. I. Процесс производства капитала. М.: Политиздат,
1988. С. 164.
i8. См.: ToscanoA. Divine management. Critical remarks on Giorgio
Agamben*s "The Kingdom and the Glory**//Angelaki: Journal
of the theoretical humanities. Vol.16. N03 (September 2011).
P. 125-135. О полемике, возникшей во время московских
выступлений Агамбена, в ходе которых он как раз
излагал основные положения «Царства и Славы», см.: Пен-
зипА. Профанация профанаторов, или Джорджо Агам-
бен на Московской биеннале//Художественный журнал.
№65/66. Июнь 2007. С.35~42- Есть, разумеется, работы,
где признается релевантность идей Агамбена в
контексте интерпретации тех или иных положений
философии Маркса, —см. напр.: MagunA. Marx*s Theory of Time
and the Present Historical Moment//Rethinking Marxism.
Vol.22. N01 (January 2010). P.90-109. Попытка
осмысления политической истории новейшей России в
терминах философии Агамбена представлена в: Прозоров С.
Второй конец истории: политика бездеятельности от
перестройки до Путина//Неприкосновенный запас. 2012.
2(82). С. 169-191-
526
ПОСЛЕСЛОВИЕ
деггеровской Seingeschichte (Тоскано
идентифицирует его в качестве «левого хайдеггерианца»),
чем к генеалогии в духе Фуко. Как следствие —
игнорирование Агамбеном ряда важнейших
измерений и аспектов, без которых понимание экономики
оказывается как минимум обедненным. Наиболее
яркий пример — тема денег, о которых Агамбен
не говорит ни слова, и это притом что
определение экономики он возводит к Аристотелю,
указавшему на возможность хрематистики как чисто
денежной, ориентированной на богатство ради
богатства и поэтому принципиально
антиэкономической формы деятельности (как известно, Маркс
напрямую связывает современную, то есть
капиталистическую, экономику именно с этим явлением).
Анализ экономики как управления, менеджмента,
полагает Тоскано, едва ли будет состоятельным,
если без внимания будет оставлено то, чем
пытаются управлять (и что скорее само управляет
управленцами) в условиях современности, — то есть
процесс капиталистического накопления, анархичный
по сути.
При всей весомости этих аргументов нужно
задать вопрос: чем является данное абстрагирование—
упущением Агамбена, радикально искажающим
итоговый диагноз, или способом обратить внимание
на иной уровень действительного положения дел,
до сих пор остававшийся недостаточно оцененным
и исследованным?
Что касается хрематистики, то она
представляется анти-экономикой, только если мы пытаемся
полностью подчинить праксис теории, преодолеть
разрыв бытия и действия (в духе заключения шестой
книги «Никомаховой этики», подчиняющего фро-
несис софии) — иначе говоря, встать на точку
зрения «субстантивистского понимания экономики»
527
ЦАРСТВО И СЛАВА
(по выражению Карла Поланьи19). Напротив, в той
мере, в какой разрыв этот непреодолим, в
определенный момент хрематистика из чего-то анти-эко-
номического оказывается способной стать
принципом управления экономикой и в итоге полностью
совпасть с ней, вот почему для Агамбена так
важно указать на то изначально анархическое (не
укорененное в бытии и потому не составляющее эпи-
стемы), что есть в понимании природы экономики,
зафиксированном в текстах Ксенофонта20 и
Аристотеля. Исток экономики — в обнаружении
способностей как способностей, не фиксированных
в субстанциальном бытии; в этом смысле
экономика изначально политична. И лишь как реакция
на этот мотив возникает желание овладеть этими
способностями, стать их самоидентичным
субъектом—что и приводит в итоге к формированию дис-
позитива, машины управления, то есть такой
формы политико-экономического единства, которое
превращает исходную открытость в алиби управ-
19- См.: Поланьи /С. Избранные работы. М.: Территория
будущего, 20Ю. С. 138.
20. Цитируя восьмую книгу «Домостроя», Агамбен обращает
внимание на те выражения, которые в последующие века
будут связаны с обозначениями церковных чинов (dia-
konon, episkopos). При этом он почему-то не акцентирует
внимание на том, что фундаментальная оппозиция
эффективной деятельности как ответа на «чрезвычайную
ситуацию» и без-деятельности присутствует уже в тексте
Ксенофонта: «порядок на судне» как метафора
экономики мотивируется неизбежностью наказания со стороны
бога, «грозящего ленивым» — а вот «хор вещей» в
качестве другой метафоры для все той же экономики
обосновывается красотой срединного пространства, вне
которого находятся предметы (см.: Ксенофонт. Домострой//
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993-
С. 226-227).
528
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ленческих «решений»: «Аристотелевское
отождествление монархии и экономики, широко
проникшее также и в Стою, является, безусловно, одним
из более или менее осознанных мотивов,
побудивших Святых Отцов разработать тринитарную
парадигму в экономических, а не политических
терминах. Это позволяет Тертуллиану говорить о том,
что экономика ни в коем случае не может повлечь
за собой eversio21: прежде всего потому, что,
согласно аристотелевской парадигме, oikos так или иначе
по своей сути остается „монархической" структурой.
Однако определяющим является то, что тринитар-
ное членение понимается здесь как функция
деятельности домашнего управления, через которую
оно всецело осуществляется, не приводя к расколу
на уровне бытия»22. Из этого может следовать лишь
одно: всякое историческое событие в дальнейшем
должно обладать только видимостью
политического характера, на деле же — служить точкой опоры
для сохранения существующего положения,
овладения и управления динамикой существования:
никакие «перевороты» не приводят к разрыву на уровне
бытия, поскольку парадигма управления остается
по сути прежней — смена «суверена» имеет под
собой непрерывное воспроизводство полицейского
порядка, стандартным образом реагирующего на
создавшуюся ситуацию. Таким образом, «парадигма
управления и парадигма чрезвычайного
положения сходятся в идее ойкономии — деятельности
руководства, которая управляет ходом вещей, всякий
раз приспосабливаясь в своем искупительном
умысле к конкретной ситуации, с которой ей приходит-
21. 3д.: Разорение, разрушение (греч.).
22. Наст. изд. С. 79~8°'
529
ЦАРСТВО И СЛАВА
ся иметь дело» . Можно дополнить: непрерывность
бытия производится управленческой машиной,
которая моделирует каждую конкретную ситуацию так,
как если бы она была «чрезвычайным положением».
Возвращаясь к критике со стороны Тоскано,
нужно сказать: конечно, деньги лишают природные вещи
их естественных мест, заставляют столы вертеться
и вставать на голову, но лишь для того, чтобы как
можно более надежно соотнести их с местом идеальным,
с их стоимостью (и, соответственно, все
человеческие дела—редуцировать к источнику стоимости,
абстрактному труду). В этом смысле деньги в
экономике играют во многом ту же роль, что и правовой
порядок суверенитета—в политике: «В различии, которое
Маркс проводил между человеком и гражданином
[в статье «К еврейскому вопросу». —Л. /7.], таким
образом, присутствует также различие между голой
жизнью, последней и неявной носительницей
суверенитета, и многочисленными формами жизни, абстрактно
перекодированными в социально-юридических
ролях (избиратель, наемный работник, журналист,
студент, но также ВИЧ-инфицированный, трансвестит,
порнозвезда, пожилой человек, родитель, женщина),
основанных на голой жизни»24. Переведите это
политическое описание в план экономики —и
получите: «В различии, которое Маркс проводил между
потребительной и меновой стоимостью, таким образом,
присутствует также различие между способностью
к труду как таковой, последним и неявным
источником капиталистического накопления, и
многочисленными формами труда, абстрактно
перекодированными в экономико-производственных ролях (пред-
23. Наст. изд. С. 89-90.
24- ЛгамбенД. Средства без цели. М.: Гилея, 2015. С. 17.
53о
ПОСЛЕСЛОВИЕ
приниматель, наемный работник, студент, но также
инвалид, пенсионер, безработный, люмпен),
основанных на способности к труду». Деньги есть не что иное,
как инструмент этого «абстрактного
перекодирования», позволяющий подчинить всю жизнь рабочего
интересу капиталистического предприятия.
Рабочий в модели Маркса в точности
соответствует модели Homo sacer: он подлежит двойному
исключению — как из мира полноценного производства
(будучи лишен средств производства), так и из мира
полноценного потребления (не являясь
собственником продукта), занимая промежуточное положение
«собственника рабочей силы»; при этом
собственность здесь опять-таки следует понимать по
модели управленческой парадигмы, согласно которой ее
необходимо непрерывно опредмечивать,
актуализировать, превращать в товар. Поэтому «чрезмерно
обобщенный» характер концепции Агамбена
соответствует тому чрезмерному обобщению модели
исключения (чрезвычайного положения), которое
налицо в современной действительности, — занятость
в «постфордистском» мире нужно понимать как
новейшую форму абстрагирования труда, но ни в коем
случае не как его преодоление и мессианское
исполнение! В «Оставшемся времени» Агамбен
показал, что гегелевское «снятие» (Aufhebung) восходит
к лютеровскому переводу katârgêsis в Посланиях
Павла. В трактовке Агамбена речь идет о мессианиче-
ском жесте обездействования, более не
обрекающего на бесконечную отсрочку, но уже сейчас
приводящего к полноте: «В нашей традиции метафизическая
тематика — настаивающая в первую очередь на
моменте основания и истоке — сосуществует с мессиа-
нической, настаивающей на завершении и
исполнении. Но подлинно мессианической и
исторической является идея, что завершение возможно лишь
531
ЦАРСТВО И СЛАВА
как возобновление и отозвание основания, как
окончательный расчет с ним»25. Павловское katargéô
образовано от arges, что позволяет Агамбену увязать
в единую парадигму библейское и аристотелевское
понимание родовой сущности человека как
существа бездеятельного. Вот почему неверно полагать,
что Агамбен игнорирует сюжет превращения
античной ойкономии в капиталистическую хрематистику,
напротив: мессианическое «обездействование»
направлено в том числе на закон капиталистического
накопления, непрерывного производства
прибавочной стоимости ради нее самой. Результатом такого
обездействования должно быть преодоление как раз
хрематистики, которую можно было бы определить
как накопление полезных вещей, исключающее
(бесконечно отсрочивающее) пользование ими;
наоборот, форма-жизни мессианского сообщества есть
пользование как пользование, katargein и chresthai —
это акты, предполагающие друг друга.
В семнадцатой (стратегически важной, как
сказал бы Агамбен) главе первого тома «Капитала»
Маркс приводит цитату из своей «Нищеты
философии», в которой отвечает на интерпретацию Пру-
доном понятия «стоимости труда» как всего лишь
«фигурального выражения»: «Значит, все
современное общество, основанное на труде-товаре,
отныне оказывается основанным лишь на некоторого
рода поэтической вольности [sur une licence
poétique], на фигуральном выражении»26. По Марксу,
здесь перед нами, напротив, произведение
исключительно непроизвольного поэзиса—так сказать, продукт
нелицензионного производства, без которого вся
25. См.: Агамбен Д. Оставшееся время: Комментарий к Посланию
к Римлянам. С. 136-137«
26. Маркс К. Указ. соч. С. 547-
532
ПОСЛЕСЛОВИЕ
модель обнаружила бы свою несостоятельность, —
где место автора занимает историческая
констелляция условий, делающих возможным куплю и
продажу рабочей силы: «стоимость труда» есть мнимое,
иррациональное выражение для стоимости именно
рабочей силы, которая «существует в личности
рабочего и столь же отлична от своей функции, труда,
как машина отлична от своих операций»27.
В силу того что рабочий отключен от
возможности самостоятельного пользования «своей» рабочей
силой — она, по сути, является практически
полностью де-субъективированным потенциалом,
наподобие «голой жизни», —он передает ее в суверенное
распоряжение капитала. (Пресловутый
«потребительский суверенитет» построен по этой же модели:
«вкусы и предпочтения» не исходят здесь из самой
формы-жизни, но выступают предписаниями,
которыми человек должен руководствоваться при
принятии решений. Потребительная стоимость
построена на абстракции потребления так же, как
меновая—на абстракции труда.) Категории буржуазного
мышления представляют собой «мнимые формы»,
придающие такому положению вещей вид
«справедливого обмена», и подводят его под категории
права: «стоимость труда» (которая якобы лежит в
основе зарплаты) маскирует тот факт, что реально
затраченный труд, в сравнении со стоимостью рабочей
силы, включает неоплаченную часть—часть, которая
производится благодаря преобразованию возможно-
сти не трудиться сверх необходимости в необходимость
продолжать трудиться сверх этого предела. Такого рода
мнимые формы «поэтичны» в той мере, в какой
заново сочленяют бытие и праксис, — позволяя квази-
27. Там же. С. 548-
533
ЦАРСТВО И СЛАВА
натуральной необходимости капиталистического
накопления суверенно распоряжаться безначальным
потенциалом человеческой субъективности.
В реальности, как показывает Маркс,
оплачивается не труд рабочего, но его рабочая сила, стоимость
которой определяется ценой средств, необходимых
для жизни рабочего. Понятно, что как таковая
необходимость этого рода оставляет место субъектива-
ции, поскольку рабочий мог бы соотноситься с
данной нормой через возможность не работать сверх нее.
Однако по факту он потерял такую возможность,
подписав контракт, по которому субъектом принятия
решения теперь является не он, но капиталист (как
персонификация капитала). Основа решения теперь —
не субъективность рабочего, но де-субъективирующая
его бытие необходимость другого рода: «капитальная»
необходимость, то есть закон капиталистического
накопления, в силу которого рабочий должен
продолжать трудиться за пределами всякой естественной
необходимости. Именно поэтому заработная плата,
равная стоимости необходимых рабочему
жизненных средств, рассматривается как «справедливая цена
труда» — включая труд прибавочный, необходимый
с точки зрения капитала, но не рабочего.
Но ведь именно об этом и говорит Агамбен,
объявляя модальные категории онтологическими
операторами, отвечающими как за субъективацию (категории
возможности и случайности), так и за де-субъектива-
цию (категории невозможности и необходимости)
человеческого существования в его фактической
действительности28. В «Царстве и Славе» он
упоминает Маркса только один раз: «Когда Маркс,
начиная с Парижских рукописей 1844 года, начинает
28. См.: Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима:
архив и свидетель. С. 154-156-
534
ПОСЛЕСЛОВИЕ
мыслить бытие человека как праксис, а праксис —
как самовоспроизводство человека, он по сути
делает не что иное, как секуляризирует
теологическую концепцию бытия творений как
божественного действия. Если после того, как бытие постигнуто
как праксис, изъять Бога и поставить на его место
человека, следствием этого окажется то, что бытие
человека есть не более чем праксис, посредством
которого он непрерывно воспроизводит самого себя»29.
Представляется все же, что Маркс куда ближе к
мысли самого Агамбена, чем следует из этих слов,—тезис
о том, что труд сам не имеет стоимости, поскольку
производит ее, конечно, прочитываем как секуляр-
ный аналог божественного анархического творения,
но важно, что управление («экономика») этим прак-
сисом может иметь, как было показано, двоякий вид:
или оно осуществляется со стороны субъекта
рабочей силы, способного также и не трудиться, или —
со стороны капитала, необходимо
эксплуатирующего рабочую силу и допускающего «шаббат» только
как вынужденную, то есть опять-таки необходимую,
реакцию на «объективные обстоятельства»
кризиса. Первый вид, исходя из логики капитала, иначе
как профанацией не назовешь; второй есть ставшее
правилом чрезвычайное положение, сакрализация
жизни как занятого, так и безработного.
4- Отмщение
Генеалогия — это расследование, и ученый здесь
действует как детектив. В предисловии Агамбен пишет,
что, «как кто-то заметил, в каждой книге есть нечто
29. Наст. изд. С. 154-
535
ЦАРСТВО И СЛАВА
вроде скрытого центра, ради достижения или
уклонения от которого книга и была написана»; в случае
«Царства и Славы» таким центром является образ
«пустого трона», который служит символом
без-деятельности — как родовой сущности человека и
основания любой настоящей политики30. Похоже
поэтому, что сам строй агамбеновского текста, по ходу
вбирающий в себя множество сложных и
разнонаправленных движений — от риторики и
аргументации богословских диспутов до детальной
каталогизации церемониалов власти, — воспроизводит
логику движения самой экономики, заданную
притяжением этого центра, но в то же время постоянно
уклоняющуюся от того, чтобы способствовать его
достижению в настоящем времени; экономика текста
оказывается слепком с реальной экономики.
Неудивительно поэтому, что шаг за шагом
приоткрываемая Агамбеном тайна, своего рода
«первичная сцена» экономики обнаруживает черты сходства
с картиной преступления, описанной в
«Похищенном письме» Эдгара По (самый известный рассказ
из цикла о сыщике-любителе Дюпене, послужившего
парадигмой для всех последующих классических
детективов). В этом рассказе нам явлена полная
структура власти, вся ее экономика: бездействующий
суверен—король; на все способный интриган —министр,
похитивший компрометирующее королевскую
фамилию письмо; полиция, неспособная это письмо
найти. Важно, однако, что увидеть эту
экономику в целом и тем самым объяснить ее устройство
способен лишь Дюпен, исходящий из
парадоксальной гипотезы, что тайна слишком очевидна, оттого
и остается тайной, несмотря на удивительное рве-
ЗО. Наст. изд. С. 12.
536
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ние и совершенные методы полицейских. Эта
гипотеза обосновывается тем, что человек являет
собой не только «умное» математическое существо,
но и «глупое» поэтическое (разделение, аналогичное
разделению бытия и не укорененного в нем пракси-
са); поэтому есть также своего рода глупость ума,
связанная с тем, что он игнорирует, не принимает
в расчет возможность радикального исключения,
некой иной манеры бытия, на чем как раз всякий
настоящий поэзис базируется. Дюпен четко различает
преступный ум министра и законную тупость
полиции, но разве нет между ними той самой «зоны
неразличимости», которая «связывает, одновременно
разделяя» суверена и бюрократию (а также
«законные» и «незаконные» формы бизнеса в
современной экономике, или, например, государство и
терроризм) — в той мере, в какой между ними сохраняется
единство на уровне бытия, притом что на уровне
праксиса имеет место ручное управление перед
лицом ставшего правилом чрезвычайного положения?
Царствует —то и дело просчитывающийся
математик, правит —время от времени выигрывающий
поэт. Как известно, полиция не находит письмо
именно потому, что министр держит его на самом
видном месте; при этом, подобно Павловой
экономике тайны, превращенной последующими
«министрами» в тайну экономики, его «вывернули,
словно перчатку, наизнанку, написав на нем новый адрес
и заново запечатав»31. Любопытно, однако, что в
рассказе не говорится о том, что шантаж в отношении
королевской фамилии может привести к каким-то
негативным последствиям для управления
государством,—поэтому мы не должны исключать возмож-
31. Цит. по: Э. По. Собрание сочинений. Т. II. СПб.:
«Санкт-Петербург оркестр», 1995- С. 185.
537
ЦАРСТВО И СЛАВА
ность, что усиление министерской власти, напротив,
сделает его даже более эффективным. Похищенное
письмо —чем не символ пустого трона (трона,
занятого пустым человеком)? Но, если это так, то
сохранение этой пустоты в тайне как раз и нуждается в
непрерывной деятельности полиции, которая будет
делать все возможное, чтобы эта тайна обнаружена
не была, — как это и происходит в рассказе.
Заметьте, в какой мере детальное описание полицейских
мероприятий аналогично византийскому
ритуалу, описанному в трактате времен Константина VII
Порфирогенита, по поводу которого Агамбен
говорит, что «нигде еще церемониальное безумие
власти не достигало столь обсессивной литургической
взыскательности, как на этих страницах»: «Остиа-
рии вызывают к выходу дигнитариев, а силенциа-
рии отвечают за тишину и эвфемии в присутствии
правителя; манглавиты и гетерии конвоируют его
на торжественных шествиях; диетарии и вестиарии
(bestêtores) несут личное служение; картуларии и про-
тонотарии занимаются сигнатурами и канцеляри-
ей» и т.д. ; а вот для сравнения —перечень приемов,
с помощью которых тщательно обыскивался дом
министра: осмотр мебели, протыкание иглами
подушек, снимание столешниц, поиск трещинок в клее
и царапинок в стыках, разбиение дома на
пронумерованные квадраты и последовательный их осмотр,
изучение мха между камнями, которыми вымощен
двор, осмотр с лупой половиц и обоев и т. д. — в обоих
случаях математически выверенная ритуальная
процедура, если только наблюдать ее извне,
представляет собой бесконечную глорификацию некой
трансцендентной инстанции. Ритуал сообщает пусто-
32. Наст. изд. С. 307.
538
ПОСЛЕСЛОВИЕ
те33 сверхъестественную плотность, избыток формы
продуцирует видимость материальности — так что
если поэзия министра в чем-то и преступна (поэзия
по определению есть преступление против языковой
нормы), то лишь в том, что она держит в руках нити,
на которых подвешено фиктивное господство
суверена, управляет этим господством и, таким образом,
хранит тайну смертности, конечности того, кто лишь
на время занимает пустое место власти.
Итак, злокозненная «поэзия» министра Д.
превращает математический расчет полицейских в
движение по ложному следу, в котором лишь его
«собрат по перу» Дюпен сумеет увидеть истинную
доксологию министерской власти перед пустым
троном — аналогично тому, как в анализе Маркса
licentia poetica «стоимости труда» способна,
посмеявшись над математикой, виртуозно скрыть
неоплаченный труд наемного рабочего, заставляя его
работать во славу самовозрастания стоимости. Только
потому, что Дюпен сам «когда-то грешил стихами»,
он способен распознать место сочленения пустоты
царства и сверхполноты управления, то есть
идентифицировать то, что от идентификации
ускользает,—поэзию министерской власти, этот тайный
исток государственной экономики.
Но любопытно, что кроме этого «избирательного
сродства» Дюпена и Д. есть еще кое-что — еще одна
тайна: некая давняя и сугубо личная история обиды
Дюпена на какую-то злую шутку министра, вслед-
33- В случае «Похищенного письма» неверность королевы
превращает короля во вдвойне пустое место: не только
в простого смертного, но и в жалкого рогоносца. Само
письмо здесь аналогично «голой жизни», ведь оно
представляет собой жизнь короля (его семейные
отношения), отделенную от его могущества, от способности этой
жизнью распоряжаться.
539
ЦАРСТВО И СЛАВА
ствие чего он с наслаждением представляет будущий
крах преступника, неминуемо грядущий, как только
тот наконец решит воспользоваться своим
источником власти. Это предвкушаемое наслаждение
заставляет задуматься над вопросом: если разоблачение
тайны экономики и ее власти есть изобличение того,
что ее механизм работает вхолостую, то
достаточно ли этого, чтобы без всякого дополнительного
мотива перейти к той форме-жизни, которая подобает
«животному субботы»? Можно ли миновать
человеческое, слишком человеческое желание отомстить
тому, кто так долго эксплуатировал твою жизненную
энергию для производства царственных эффектов?
В XII тезисе об истории Беньямина сказано:
«Субъект исторического познания — сам
борющийся, угнетенный класс. У Маркса он выступает как
последний из закабаленных, как отмститель,
завершающий от имени поколений поверженных дело
освобождения труда»34. И если исторический
материалист не должен этого забывать, то разве
сможет об этом забыть субъект генеалогического
исследования? Имеет смысл предположить, что именно
с этой апорией завершения и отмщения связан
конец б-й главы «Царства и Славы», где Агамбен
отсылает к положению Фомы Аквинского, согласно
которому если после Страшного суда работа ангельских
ведомств и будет упразднена, то все же будет
сделано одно существенное исключение: «...Если
ангелы в раю, все же сохраняя пустую форму своих
иерархий, прекратят всякую деятельность
управления и перестанут нести всякое служение, а будут
лишь предстоять, — то бесы останутся
безупречными служителями и вечными карателями, вершащи-
34- Беньямин В. О понятии истории//Беньямин В. Учение о
подобии. Медиаэстетические произведения. С. 245-
54о
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ми божественное правосудие»35 (к этой же мысли
«кроткого, точно агнец, великого учителя и
святого» в контексте генеалогии экономики ressentiment
обращается и Ницше36). Более того, продолжает Агам-
бен, эта «фигура карательной колонии, не знающей
искупления, приобретает неожиданное театральное
значение. Среди вопросов, которые Фома ставит
касательно положения блаженных, есть вопрос о том,
могут ли они созерцать муки грешников ("Utrum
beati qui erunt in patria, videant poenas damnatorum").
Он понимает, что ужас и turpitudo подобного
зрелища, по видимости, не подобает святым; и все же,
с некоторой психологической простотой перед
лицом садистских импликаций своего рассуждения,
которые нам как представителям современности
нелегко принять, он безапелляционно утверждает,
что „дабы блаженные могли в большей степени
возрадоваться своему блаженству, [...] им позволено
наблюдать муки нечестивцев" (5.7й., Suppl., q. 94> а-*)•
И не только. Наблюдая это зверское зрелище,
блаженные и ангелы, вместе с ними его созерцающие,
не могут испытывать сострадания, но лишь
наслаждение, ибо наказание грешников есть выражение
вечного порядка божественного правосудия (aet hoc
modo sancti de poenis impiorum gaudebunt, consideran-
do in eis ordinem divinae justitiae, et suam liberationem,
de qua gaudebunt", ibid., a. 3)»37.
Вывод очевиден: политика, экономика которой
будет построена на энергии мести, является
инфернальной по своей сути. Поэтому или мы исхо-
35» Наст. изд. С. 273-
Зб. См.: Ницше Ф. К генеалогии морали //Ницше Ф. Сочинения
в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 199°- С. 434-
37- Наст. изд. С. 273-274-
541
ЦАРСТВО И СЛАВА
дим из неизбежности нового инфернального
цикла, продолжения работы управленческой машины,
или — ориентируемся на возможность пользования
без присвоения, радости без садо-мазохистского
наслаждения, средств без целей. Иначе говоря,
превращаем мщение в от-мщение, то есть отказываем
в верховенстве устройству, деятельность которого
заключает нас в порочный круг производства
(мучений) и потребления (наслаждения).
Согласно книге Беньямина о Кафке, врата
справедливости—это полная остановка применения
права, которое сохраняется в дальнейшем лишь в
качестве предмета изучения38. По этому поводу можно
теперь задаться вопросом: если за этими вратами
находится лимб, то что в этом пространстве
останется делать бесчисленному сонму в один миг
лишившихся работы «эффективных менеджеров» (похоже,
именно такое название будет наиболее подходящим
для той постчеловеческой породы, на выведение
которой нацелено сегодняшнее образование)?
Нетрудно догадаться: изучать науку без-действия — по
учебнику, который вы уже сегодня держите в руках.
Александр Погребняк
38. См.: Беньямин В. Франц Кафка. M.: Ad Marginem, 2000. С. 94-
Именной указатель1
Абель, Карл дз
Август 28, 232, 233, 3°3» 399»
423
Августин Бл. 37> 43» *48> HS*
^-та» 275> 224, 242, 243,
270, 271, 283, 345» З46, 380,
395-397» 465
Авель 57
Аверроэс 142, 404
Агамемнон 59
Адам 7, ю5» 457> 4^6, 467
Адон п8
Адорно, Теодор з&9
Александр 398, 399
Александр Афродисийский
87, Hi, i95~20i, 2об-2о8
Александр Гэльский 248
Алфёлди, Андраш ю, 28о,
293-295, 303, ЗЮ-З«. 321,
323, 368, 399
Альберт Великий 143, Ц9» х53
Амвросий Медиоланский 28,
249» 365, 3^6
Амвросиаст 233
Амира, Карл фон 299, 3°°
Аммиан з24
Амфилохий 9°
Анастасий 173
Апулей 132,134
Арий loi, 102, 345
Аристид Афинский 56
Аристобул 120
Аристотель 14, 25, 26, 39, 4б»
51, 79, 8о, 96, 99, "9,12о,
135-147,157,158' 161,162,192,
195, 200, 206, 207, 209, 221,
259» 404, 412, 455
Арнаут Даниэль 413
Арним, Ганс фон 51
Арно, Антуан 443» 44^
Артур п8,175,179
Ассман Ян 321-323
Афинагор бо, 6i, 79, 261
Афонсу Булонский i66,180
Ахамот 63, 66
Ахилл 59» 335
Балль, Хуго 261
Бальтазар, Ханс Урс фон 271,
327, 328, 348, 351
Барт, Карл 34^, 35°, 353~355
Батиффоль, Пьер (Batiffol) 322
Баттус, Бартоломеус 455
Бахман, Ингеборг 413
Беда 169
Бейль, Пьер 193,194, 359, 36о>
441, 443
Бенгель, Иоганн Альбрехт 21
Бенгш, Альфред (Bengsch) 63
Бенц, Эрнст 99» юо» 264
Беньямин, Вальтер i8, 25,112,
129,328
1. Указатель подготовлен Д. С.Фарафоновой. В скобках даны
латиницей имена авторов, чьи работы Агамбен цитирует
в виде внутритекстовых библиографических ссылок
и которые в иных контекстах не упоминаются.
543
ЦАРСТВО И СЛАВА
Бёрлье, Э. 28о
Блатт, Франц 263, 264
Блюменберг, Ханс 19
Бол л, Франц 28о
Бонавентура 248-250;361
Бонифаций VIII i68
Боссюэ, Жак-Бенинь 465» 4^8
Боэций, Северин 143» 213» 21^>
228, 451
Брейе, Луи з22
Брейе, Эмиль 446
Валентин 63, 85, юо
Варлаам $6
Василий Кесарийский з1» 9°>
3% 3^4
Вебер, Макс 17
Вергилий 2i8
Вернан, Жан-Пьер loi
Верховен, Теодорус Л. 92
Вильгельм из Альверни 352>
353
Вильгельм из Мёрбеке 212
Вольтер 445
Вольф, Христиан 192
Галахэд п8
Галилей, Галилео i88,189
Гандийак, Морис де З^1
Гасс, Вильгельм 15, 4^> 4^>
53» ю8
Гарнак, Адольф фон 134
Гегель, Георг Вильгельм
Фридрих 20, 84, Ю4, 272,
299
Гектор 59
Геласий I 173
Генрих III (король
Англии) 175
Генрих III (король
Франции) 175
Генрих IV 175
Генрих Сузский,
также Hostiensis 177
Геракл 399
Гермагор 43» 5^
Герман из Меца 164
Гёльдерлин, Фридрих
389-391» 413
Гитлер, Адольф 128, 297
Гоббс, Томас 8
Гогартен, Фридрих 19
Гомер 25, 335» ЗЗ6» 3^5
Гордиан 285
Готфрид Витербский
(Goffredo da Viterbo) 165
Гракх 117
Грациан 165
Григорий Богослов:
см. Григорий Назианзин
Григорий Великий 247» 24$>
253
Григорий Назианзин 14,3°~34»
8о, 8i, 104,105,107,187,386
Григорий Нисский 31» i°4> ю5
Григорий Палама 105
Григорий VII 164,165
Гримм, Дитер 42о~422
Гримм, Якоб з°°
Грин, Грэм з^1
Д'Алес А. 62, 66
Давид 53» 55» 393
Дамасий 269
Даниил 248
Даниэлу, Жан 266, 361
Данте Алигьери 249» 4°5» 413
Дебор, Ги 419» 424
Делёль, Дидье 207, 4^5
Деррида, Жак i8
Джабир ибн Хайян 201
Джованни да Витербо 190
Дидро, Дени 451
Диоген Лаэртский (Diog.) 58
Диодор Сикульский 44
Дион Кассий зю> 399
Дионисий 28i
Дионисий Ареопагит 25Ь 253»
255~2б2, 297» 394
Дионисий Галикарнасский
390
Дитрих, Альбрехт з23
544
Домициан 399
Дорри, Хайнрих 132
Дуне Скот i82,183
Дюрант, Уильям Джеймс 142
Дюркгейм, Эмиль 373> 374, 377
Евсевий Кесарийский 21, 27,
28, зо, 71, loi, юб, 131
Елена 59
Ефрем Сирин з^б
Жерне, Луи з12
Жильсон, Этьен 74
Зайбт, Клаус (Seibt) 105
Зайдель, Макс фон 127,167
Захарий (папа римский) 165
Иаков 55, 82, 249
Игнатий Антиохийский 53, 54
Игнатий де Лойола 35^
Иезекииль 333» 339, 4<>1
Иероним 28, 202, 263, 265, 269
Иехуда Галеви ЗЗ2
Иисус Навин 371» 393
Иисус Христос 15, 21, 23-25, 28,
31,44, 49-51» 53-56, б3~б7,
70-72, 82, loi, юз, 105-107,
log, и8,12б, 127,175, 231-233»
243, 264, 265, 275, 277, 283,
290, 293,313,34,3!7,3i8» 334,
335,337,339,342,346,347,
356» 359,363,366,З68, 38о,
382, 407, 4о8, 437, 438, 442
Иларий 386
Илия 339
Иннокентий IV 1бб, 177, 179
Иоанн 73, 333-335, 337,
339-341, 345, 34б
Иоанн Дамаскин ю8, 405
Иоанн Златоуст 28, 88, 364, 394
Иоанн Парижский, также
Иоанн Кидор
(Quidort) 173
Иоанн XXII i8o
Иона 56
Ипполит 27, 34, 68-72, 74, 75»
88, 95, юб, 2б4
Ираклий 109, 283
Ириней 27, 34, 5°> 57, 6i-68,
98, 270, ЗЗ8» 339, 401
Ирнерий 167
Исаак Севастократор 212
Исайя 230, 269, 4°i
Исидор 38l> З8^
Иуда 175
Иустин 27, 34, 54,57, 58» 99,
292, зп
Йези, Фурио з88
Йорио, Андреа де 299
Кавасила, Николай 288
Кажэн, П. 284, 285
Каин 57
Калигула 295,399
Канторович, Эрнст ю, 231,
233, 255, 2б3, 279» 28°»
313-315» 317-321, 323-325,
Збв, 369, 400, 415
Каркья, Джанни (Carchia) 19
Карл Великий 165, 314,
3i6"3i9> 369
КарлУ 325
Карл VI 175
Кафка, Франц 79, п7> 252» 2-78
Квинтилиан 44, 58» З01
Кенэ, Франсуа 458"4б°
Кеплер, Иоганн i88,189
Кердон 98
Кидор: см. Иоанн Парижский
Кирилл Александрийский 289
Кирилл Иерусалимский з87
Климент Александрийский
63, 67, 85"88» юб> 2б1
Кожев, Александр 272
Колпинг, Адольф 75
Коммод 6о, 294, 399
Константин 28, 30,103
Константин VII
Порфирогенит з°6» 3°9
Констанций II юз, 324
545
ЦАРСТВО И СЛАВА
Коперник, Николай i88
Корнеман, Эрнст 423
Коста, Пьетро (Costa) 167
Кочча, Эмануэле (Coccia) 99
Кретьен де Труа 117
Крингс, Герман 143» 44» 48,
151» 153
Ксенофонт 39~42
Кубова A. (Kubova) 458
Кульман, Оскар i6
Куртене, Уильям
(Courtenay) 177» 181,183
Кэрд, Джордж Б. 277
Ле Троен, Гийом Франсуа
222, 460-462
Лев III 3^9
Лев VI 89
Леви, Сильвен 372
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
7, 193» 194, 359» 441, 443"445>
466, 467
Лепсиус, Мартин Райнер 421
Лессиус, Леонард 357> 358,
360, 362, 364
Лёвит, Карл 19, 20
Линней, Карл 456» 457
Лиценций 154
Лициний 28
Лот 82
Луази, Альфред Фирмэн 25
Лука 275, 292
Люббе, Герман (Lübbe) 17
Людовик VI 175
Люниг, Иоганн Кристиан
(Lünig) 325
Лютер, Мартин 230, 271, 325»
4^5
Маймонид, Моисей 329~332
Майус (Maius J.H.) 7
Маккарроне, Микеле 231
Максим Исповедник 109, по
Малларме, Стефан 391
Мальбранш, Николя 359, 431»
432, 434, 43б-441, 443"447,
449, 450, 454, 458> 4бо, 463,
464
Мандевиль, Бернард де 464
Мандзони, Алессандро 386
Манн, Томас з23
Мария 53-55» 72
Марий Викторин юо, ioi, 264
Марк ioi
Марк Аврелий 42, бо, j6
Марквард, Одо 19
Маркелл Анкирский 105
Маркиан 316
Маркион 98» *34
Маркс, Карл 154
Маркус, Роберт А. 45» 62, 65,
69,92
Маруби, Кристиан 463
Маскалл, Эрик Л. 352» Зб1
Матфей из Акваспарты 177,
178, 268, 269
Мезере, Франсуа Эд де 175
Меир ибн Габбай 375, 377
Мейерсон, Иньяс ioi
Меландри, Энцо i8
Мениус 455
Мерсье де ла Ривьер 222, 463
Михаил 258
Мишель, О. 49
Моисей 33°, ЗЗ6» 339, 34<>
Мольтман, Юрген 25, 343, 347
Моммзен, Теодор 28о, 283,
294, 295, 3<>5, 423, 424
Мондзен, Мари-Жозе 14
Мопсик, Чарлз 374~377
Мосс, Марсель Зб9~373»
382-385
Муант, Жозеф 14, 45» 46, 69,
92, И5
Муссолини, Бенито 320
Надь, Грегори 335
Наполи, Паоло (Napoli) 77
Негри, Антонио з°
Николь, Пьер 464
Нин 156
Ницше, Фридрих i8,100
546
Норден, Эдуард 28о, 323
Норманнский Аноним 233
Нотен, Пьер (Nautin) 69
Ноэт 68-71
Нумений 131-13З
Обин, Поль (Aubin) 66
Овербек, Франц Камиль 27
Овидий 336
Одиссей 335
Оккам, Уильям 180-182, 434
Ориген 27, 82, 83, 99» *32, 266,
340, 341, 345» 408
Орозий 28
Осия 292
Остин, Джон Л. з01
Павел 21, 46, 48-54» 5^, 65, 66,
68, 7о, 72-76, 88, gl, 97» 232,
241, 264-266, 275-278, 292,
293, 334, 33б, 337, 340, 361,
379, 393, 394, 406-408, 437
Пазолини, Пьер Паоло И2
Парис 59
Паскаль, Блез 8, 96, 429, 43°,
44б, 4б4
Перро, Жан-Клод 464
Петавий, также Петавиус,
Дионисий 455
Петере, Эдуард 165, i66,175,
179
Петерсон, Эрик ю, 21-38,119,
120, 124-126, 131, 135, 1^5,
241-248, 2бо, 270, 279-287,
290-292, 3i8, 321, 328, 354,
355, 368, 423
Петр 169,175, J8o, 231
Пий XI 320
Пий XII з8
Пикар, Шарль (Picard) 398, 400
Пиндар 39°
Пипин 165, 315, 3l6
Пирр log, но
Пифагор 2i8
Платон 26, 46, 99» 129, *32>
210, 218
Плотин loo, 132
Плутарх 203-206, 213
Поленц, Макс (Pohlenz) 71,
75,76
Понтий Пилат 54
Постильола, Альберто 44^, 447
Праджапати 383
Праксей 68, 73, 93, 95
Престидж, Джордж Л.
(Prestige) 69,92
Прокл 158, i6i, 209-213, 255, 257
Прохор юб
Пруденций 28,386
Псевдо-Дионисий Ареопагит:
см. Дионисий Ареопагит
Птолемей 63
Пюэш, Анри Ш. (Puech) 81
Радо, Поликарпус (Radö) 290
Райли, Патрик 44^
Рей, Джон 188,189
Рей цен штейн, Рихард 28о
Риго, Антон ио (Rigo) 106
Рильке, Райнер Мария
387-389, 392
Рихтер, Герард 14,15, 45» 49,
62, 70, 89, 92
Ромул 156
Росс, Уильям Дэвид 135
Руссо, Жан-Жак 286, 416, •
446-454
Саадия Гаон ЗЗ2
Сальвиан i88, 218, 219, 465
Сандальфон 375
Сантиллана, Джорджо де
(Santillana) 97
СаншуП 166,179,180
Сенелляр, Мишель 190
Сигизмунд III 124 '
Сикст III 4°°
Силва Тарука, Амадео де
(Silva Tarouca) 143, 47
Симон i8o
Симонетти, Манлио
(Simonetti) 101-103,109
547
ЦАРСТВО И СЛАВА
Синезий 386
Скарпат, Джузеппе (Scarpat)
69
Смит, Адам 207, 373» 463-466
Спевсипп 26
Спиноза, Бенедикт 157, Збо,
409-412, 467
Стефан из Турне 167
Стефанус 455
Суарес, Франсиско 230
Там муз п8
Таубес, Якоб 17, 22, 321
Тациан 27, 34» 57» 6о, 62, 73
Теодорих 298
Тертуллиан 14, 27, 31» 34» 35»
53, 6i, 68-71, 74-80, 88, 92,
93» 95. 98, юб, 115, 261-264,
339
Тит 275, 399
Торранс, Томас Ф. (Torrance)
87
Трёльч, Эрнст 17, 25
Тьер, Адольф 124
Угуций Пизанский 165,179
Уэстон, Джесси Л. и8
Фенелон, Франсуа 436, 446
Феодор 211
Феод от 67, 85
Феодорит Кирский 73» 108
Феофил Антиохийский 27, 56
Филипп Канцлер 248
Филон 27, 51» !20, 201, 410,
4б5> 393
Флаш, Курт 147
Фома Аквинский юо, loi, 135,
i43-!49> i53> i55> i57~i6i, 176»
187,188,190, 220-229, 232,
249-255> 262, 265-268, 272,
27З» 361, 408, 460, 463, 465,
480, 481, 528, 529
Фотий 89
Фрезер, Джеймс Дж. и8
Фукидид il
Фуко, Мишель 9> i8»128,130,
i8o, 184-190,193» 274» 447-449
Хабермас, Юрген 420-422, 424
Хайдеггер, Мартин юо, 112,
140, 272, 347» 413» 414
Хардт, Майкл з°
Хеллинграт, Норберт
фон з89» 39°
Хильдерик III 165
Хрисипп 51» 71» 193-195
Цезарь 28,172, 399
Цицерон 43» 2i8, 282, 291
Шварц, Эдуард 6о
Швейцер 455
Шеллинг, Фридрих Вильгельм
Йозеф фон 20, 21, 84, юо
Шенк, Геррит Яспер
(Schenk) 325
Шем-Тов бен Шем-Тов 375
Шмитт, Карл 16-19, 21-24,
27» 29» ЗО» З6» 37» 114» 120,
124-130,157» l85» 227, 243, 261,
280, 285-287,321,322,378,
416-419, 423» 424» 439» 454
Шолем, Гершом ЗЗ2
Шрамм, Перси Эрнст ю, 297»
298» 299» 3°3» 321, 323
Штайн, Бернхард (Stein) 3З1
Штелин, О. 85
Шюрман, Райнер П2
Эванс Э. 92
Эвмен 398
Эгидий Римский 168-172,174
Эзра из Жироны 376
Эпикур 92» 98» i6i
Эрдман, Карл 298
Эриугена, Иоанн Скот 451
Этингер, Фридрих Кристоф 21
Юм, Дэвид 207, 4^5
Юстиниан 179,31°
Янсений 429-431» 439
Научное издание
ДЖОРДЖО АГАМБЕН
ЦАРСТВО И СЛАВА
К теологической генеалогии
экономики и управления
Джорджо Агамбен — итальянский
философ,автор многочисленных трудов
по эстетике, теории литературы,
философии права. Осуществил наиболее
полное издание работ Вальтера Беньямина.
Преподавал эстетику и теорию
философии в университетах Мачераты, Вероны,
Парижа, Фрибурга, Венеции и др.
Начиная с 1990-х гг. Агамбен
обращается к политической философии и
разрабатывает оригинальную теорию
отношений между правом и жизнью,
проводя последовательную критику понятия
суверенитета (серия «Homo sacer»).
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА