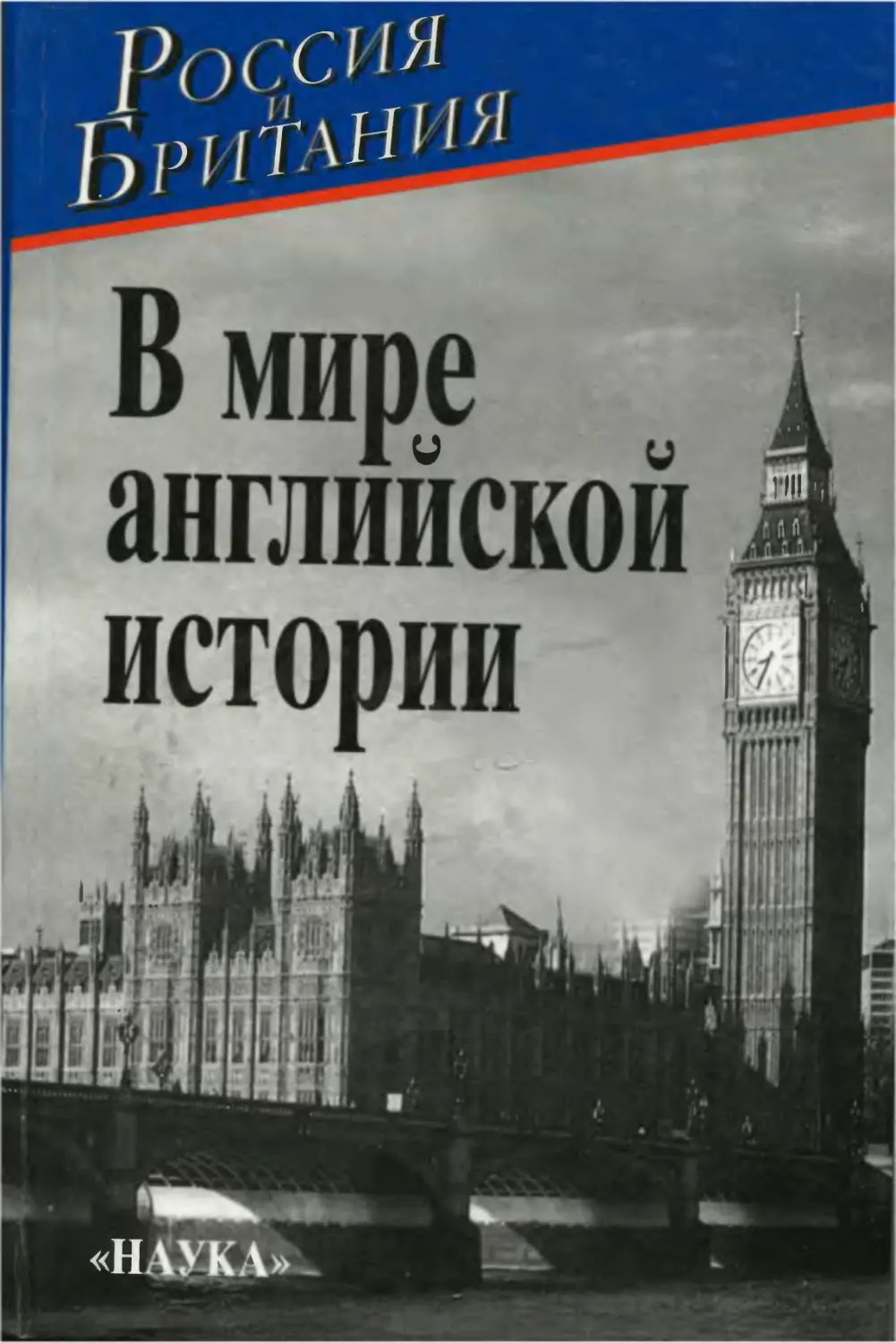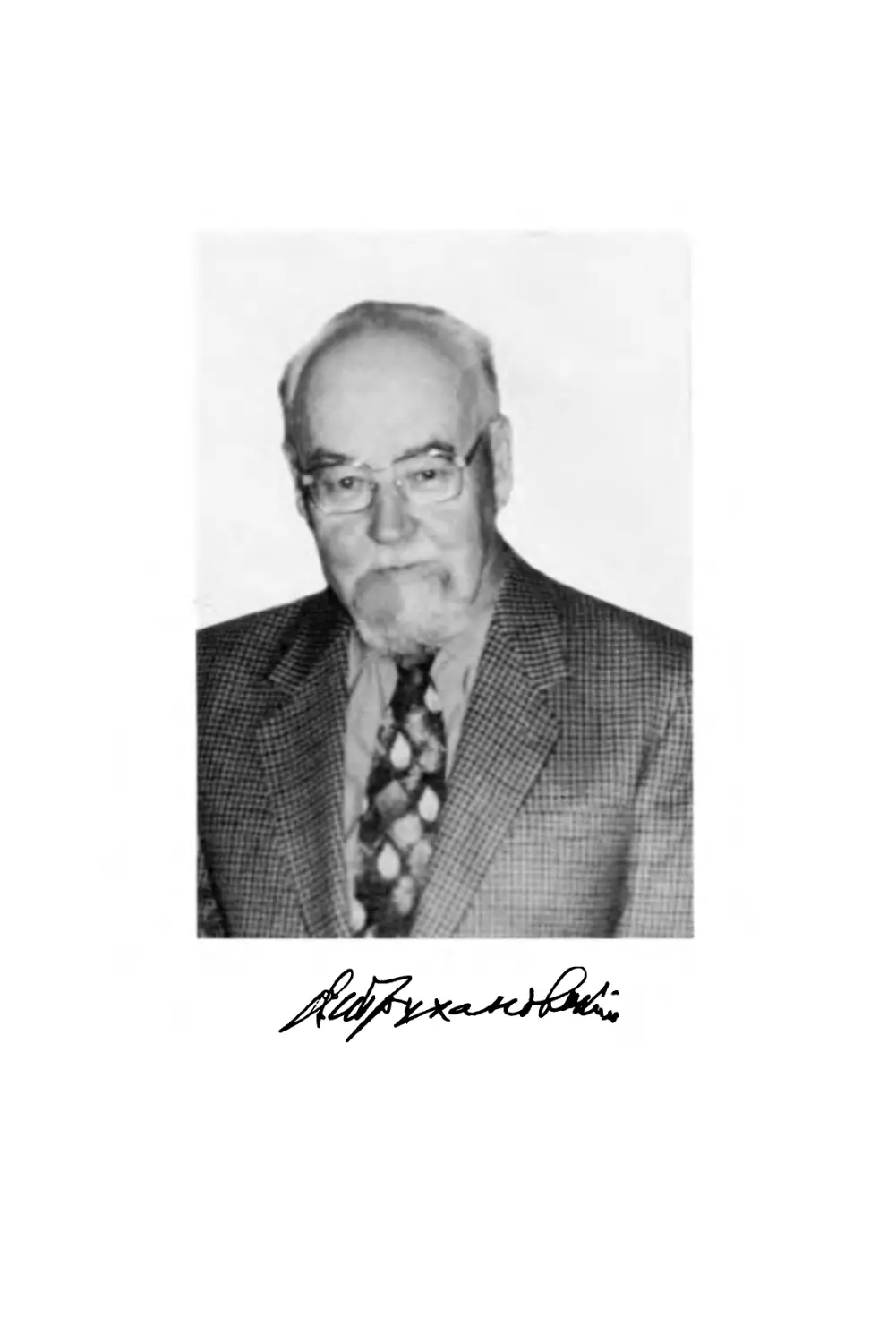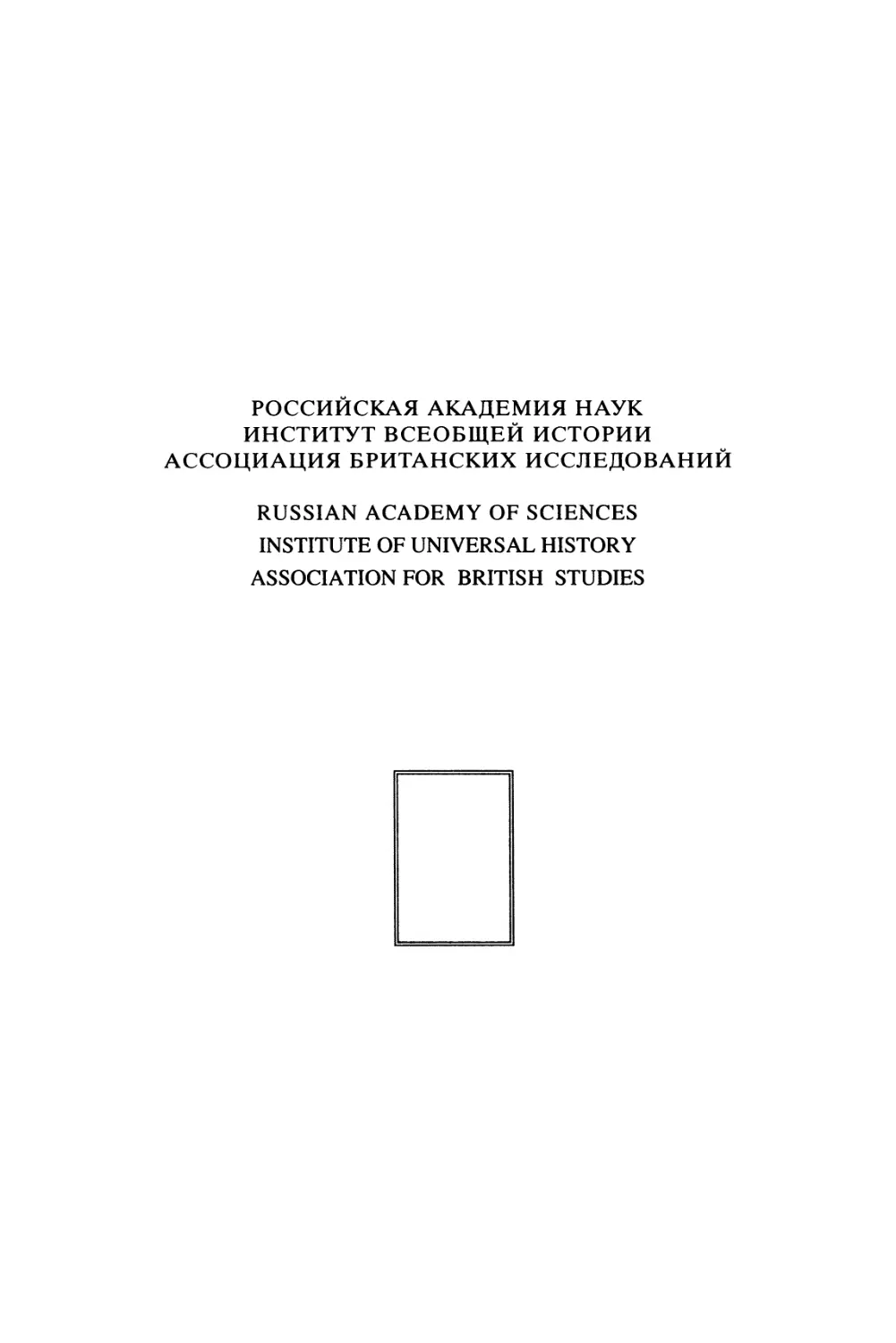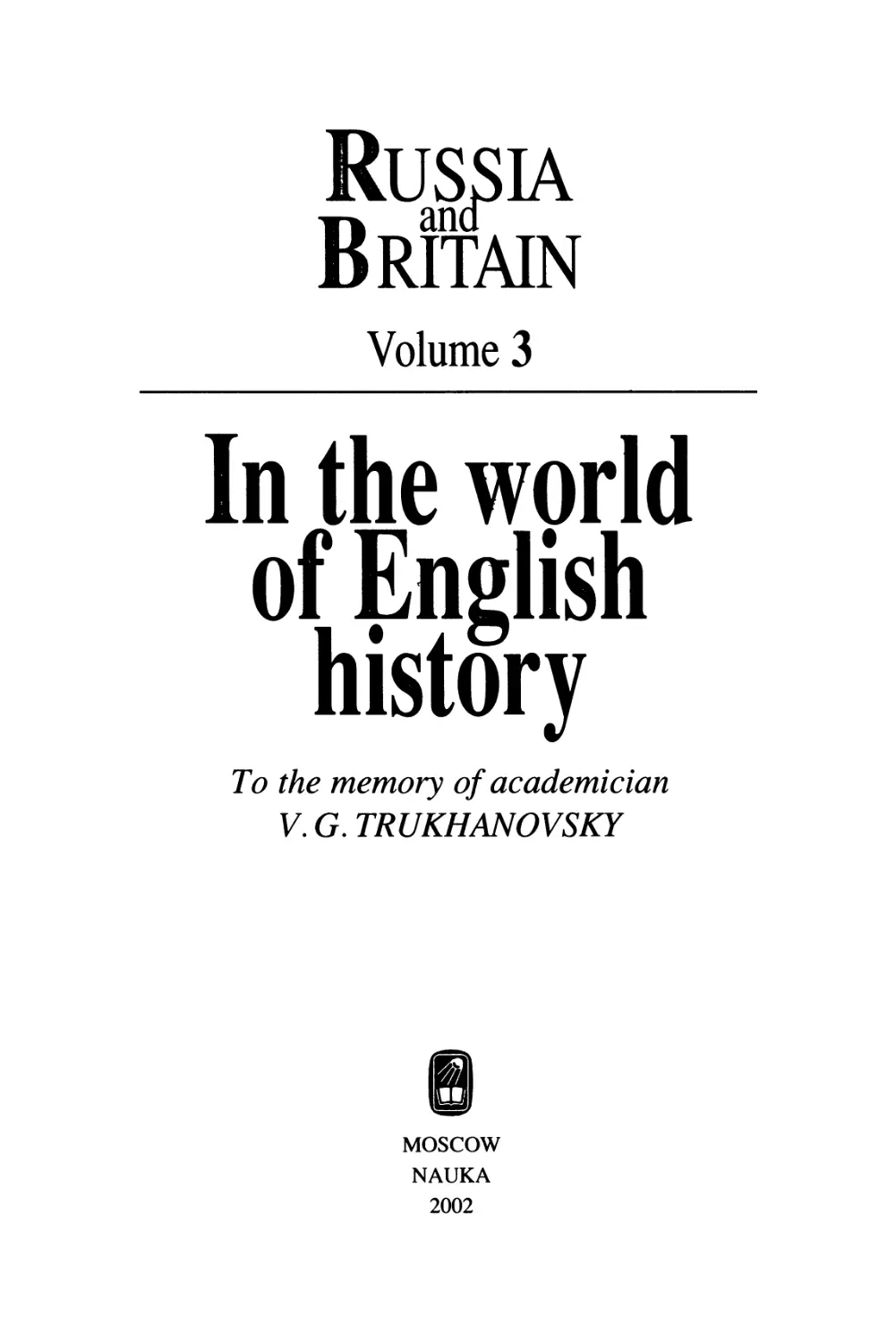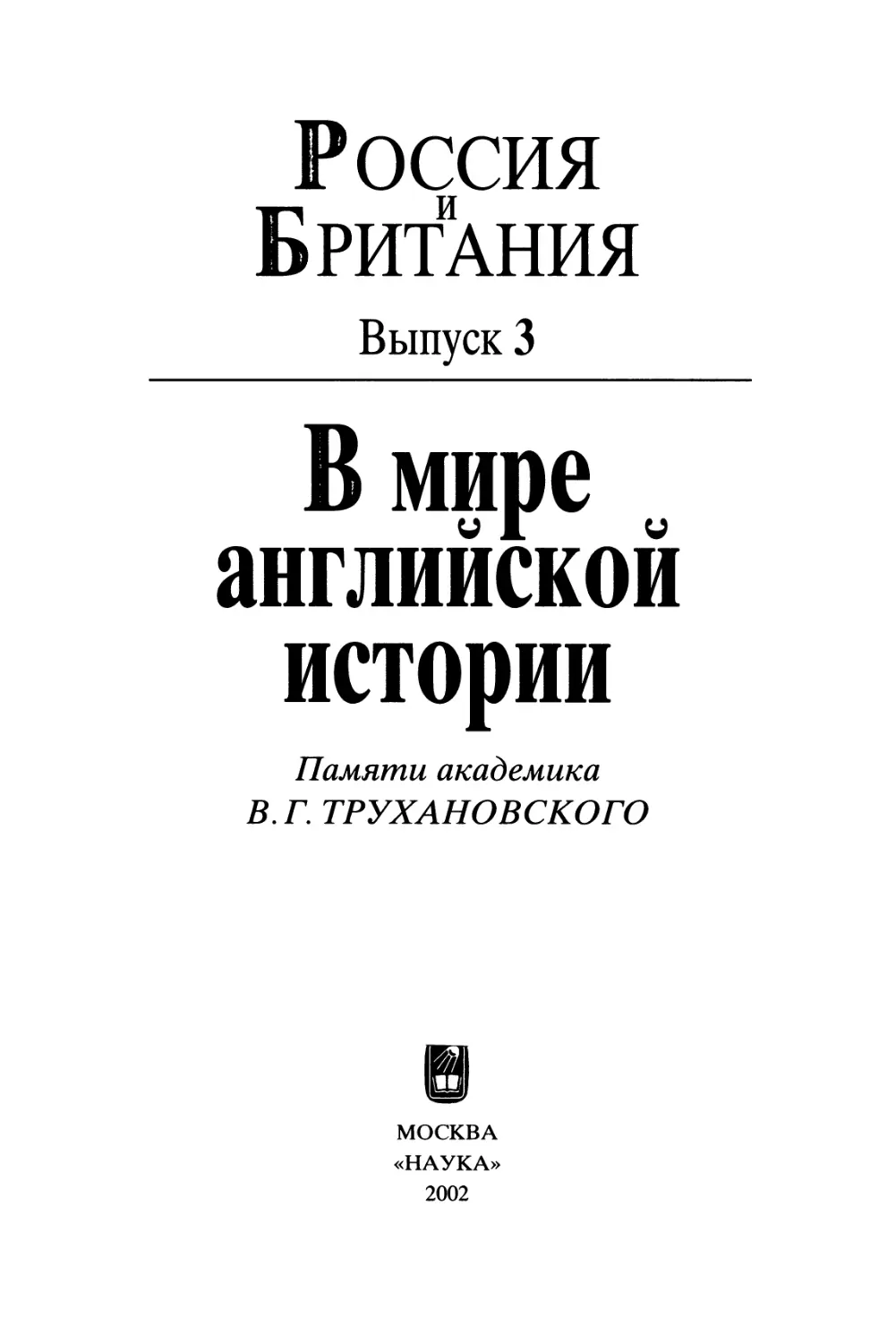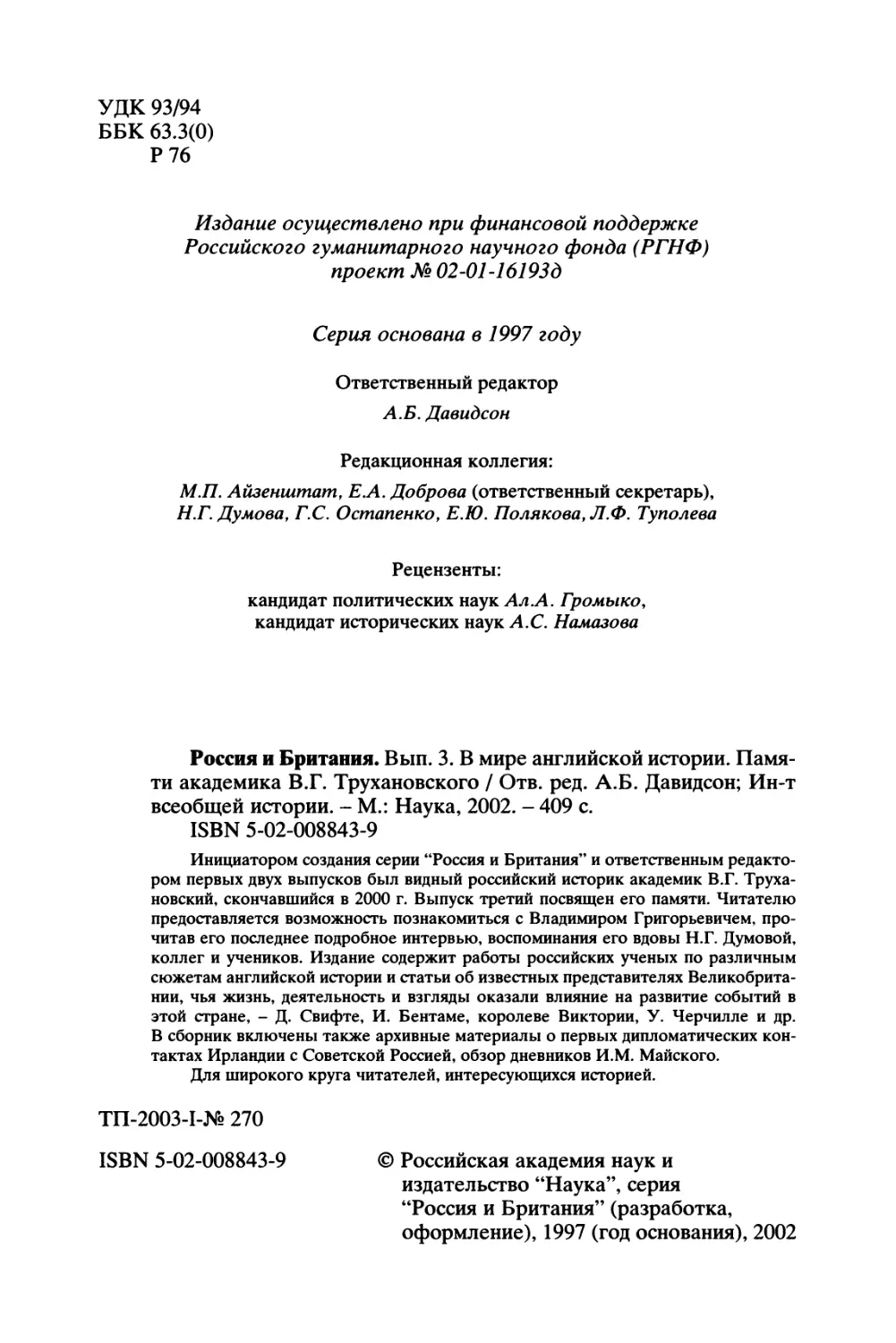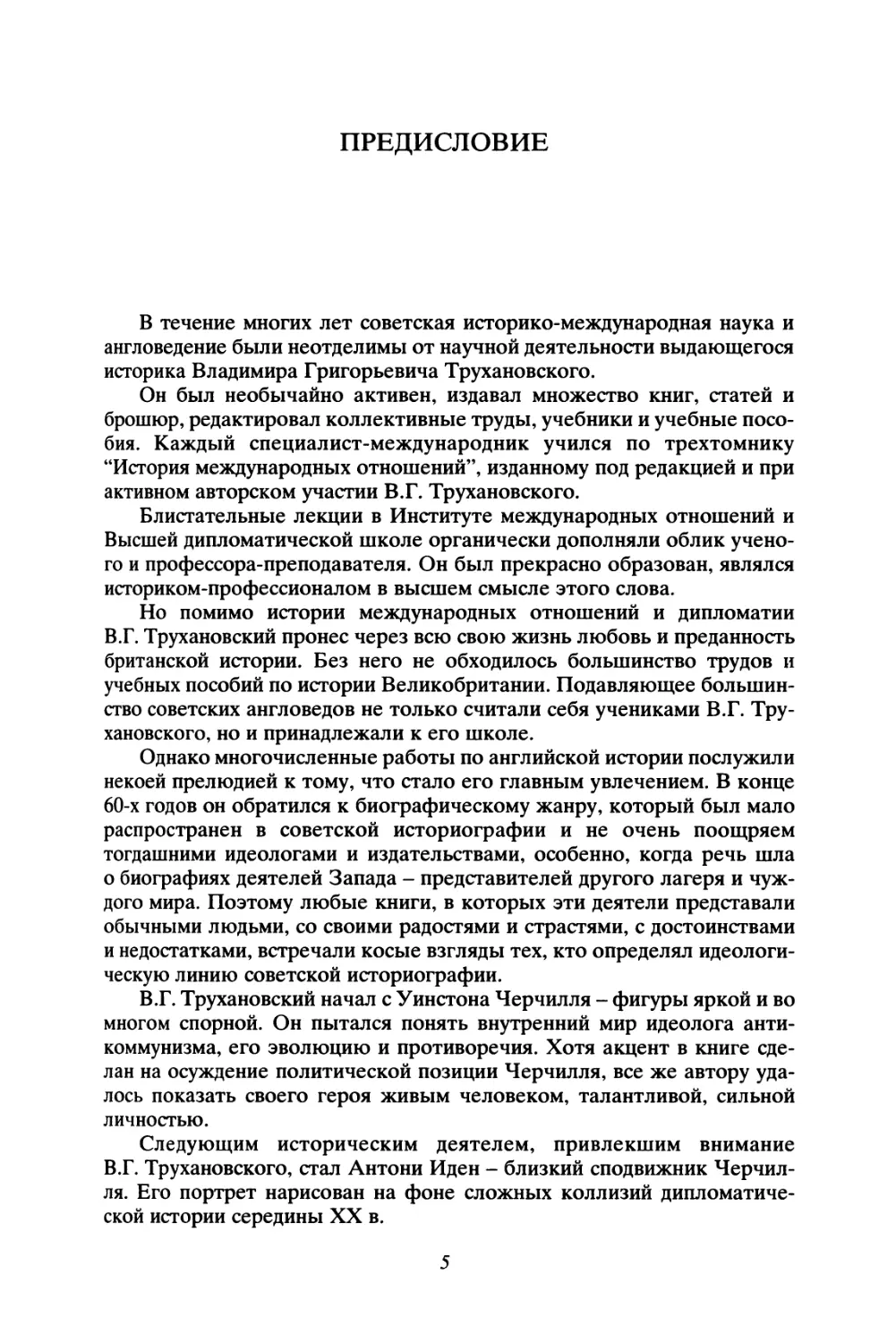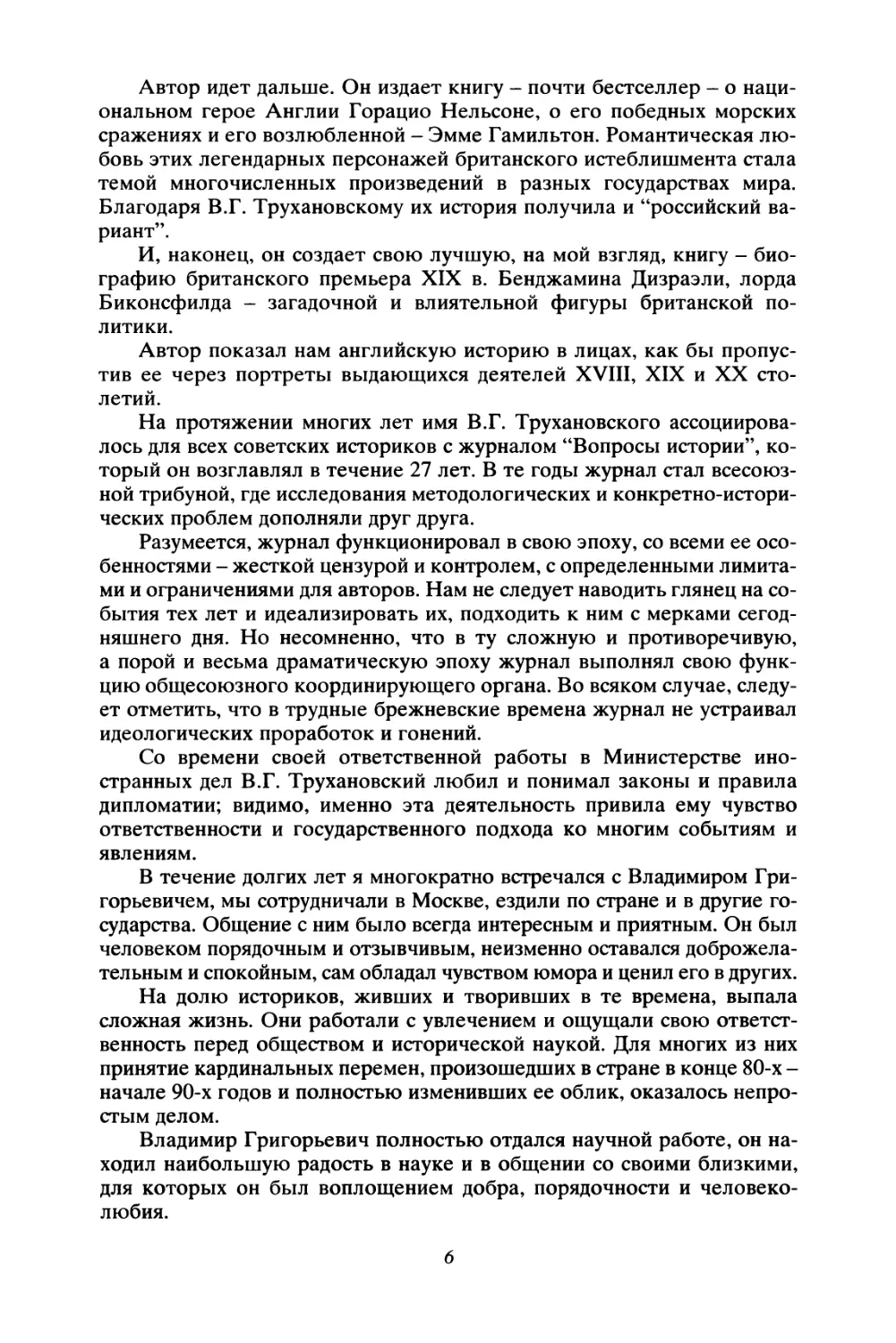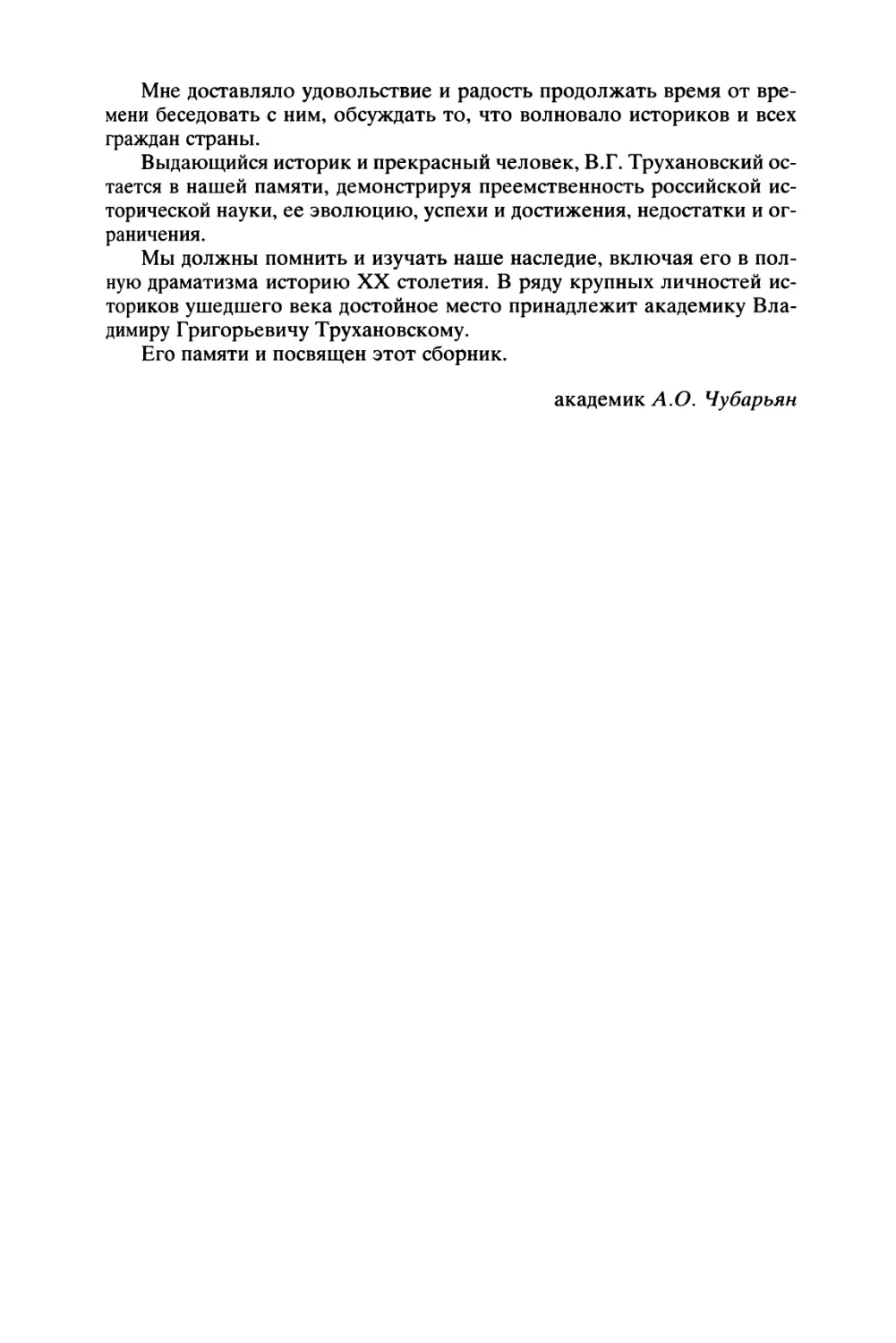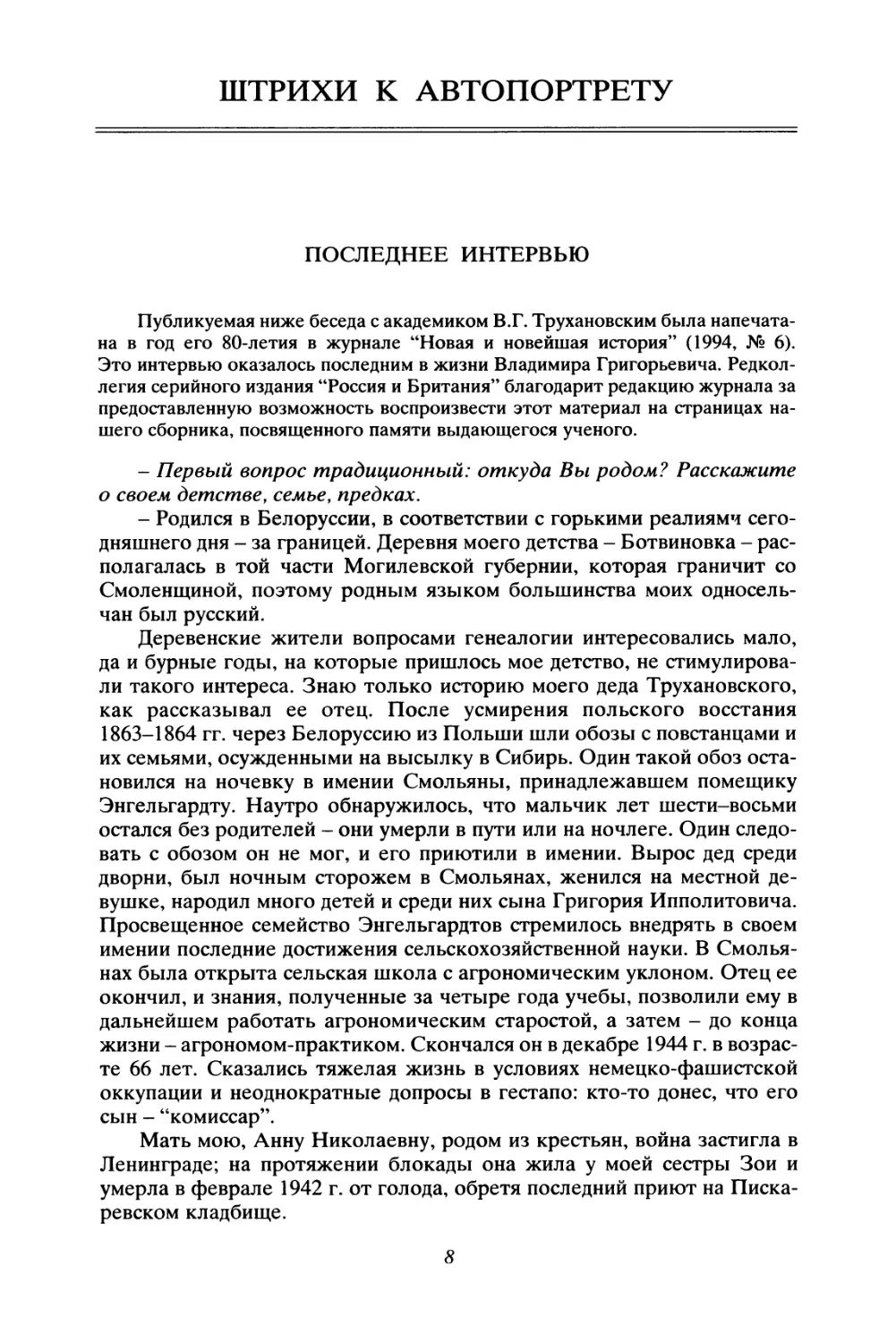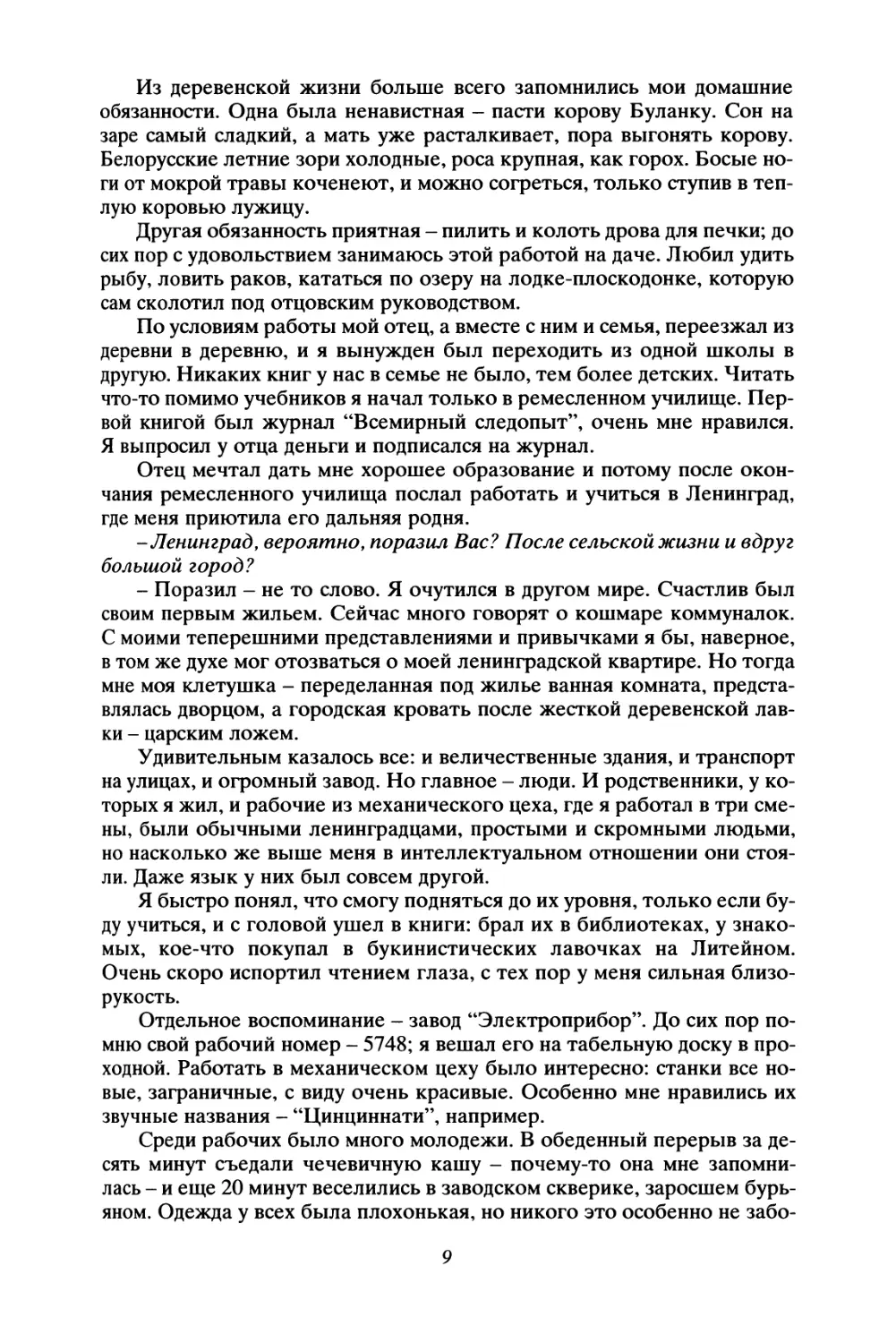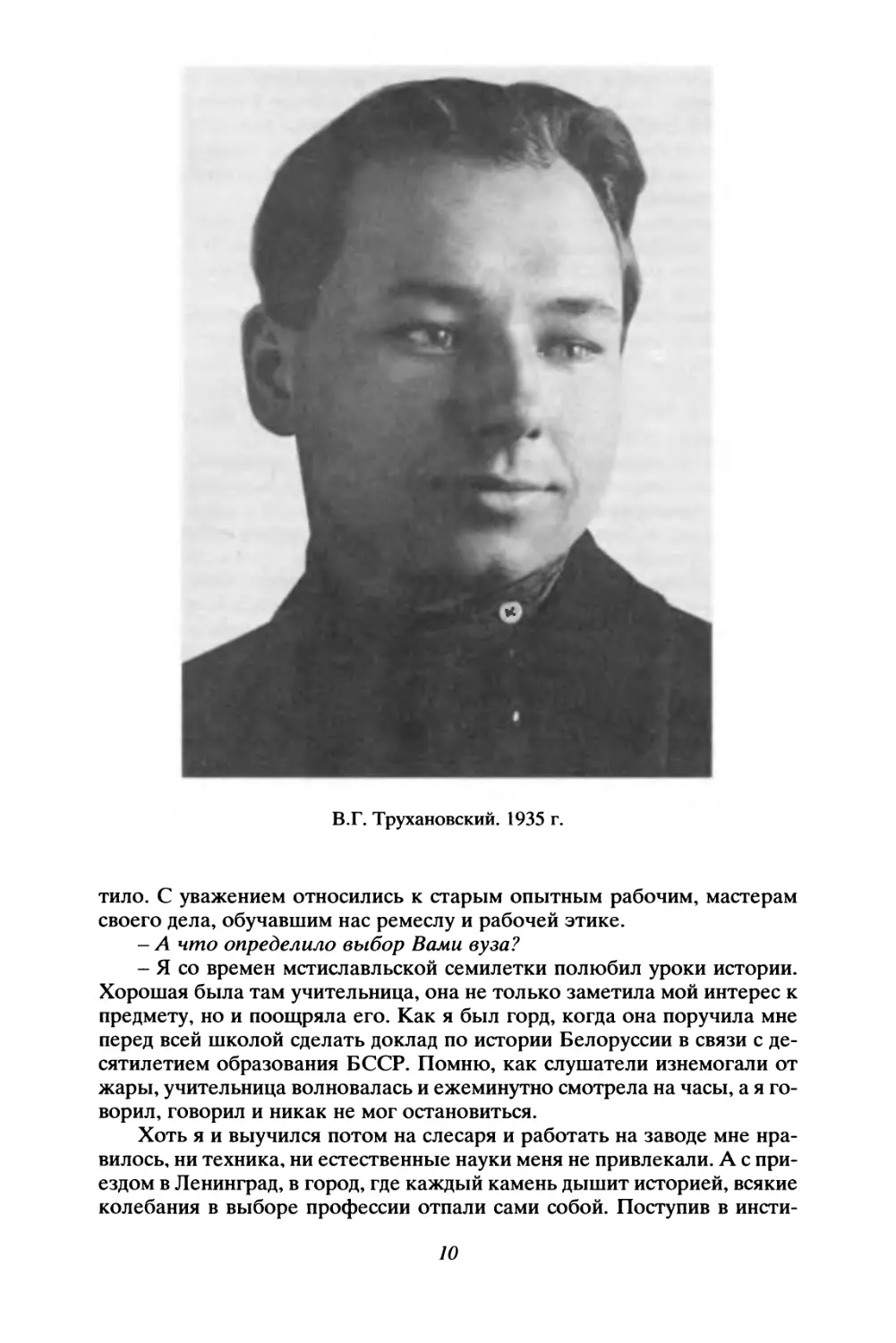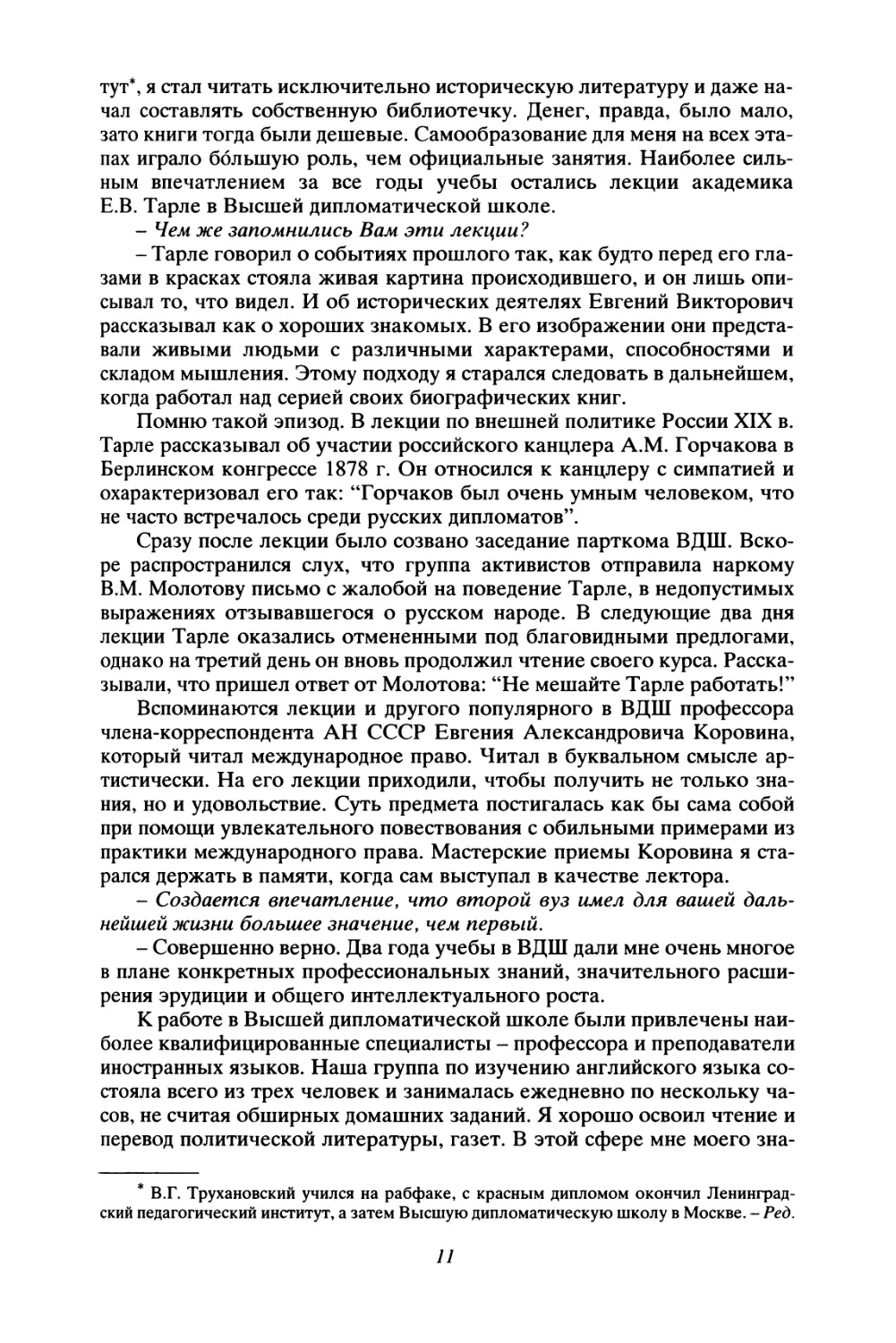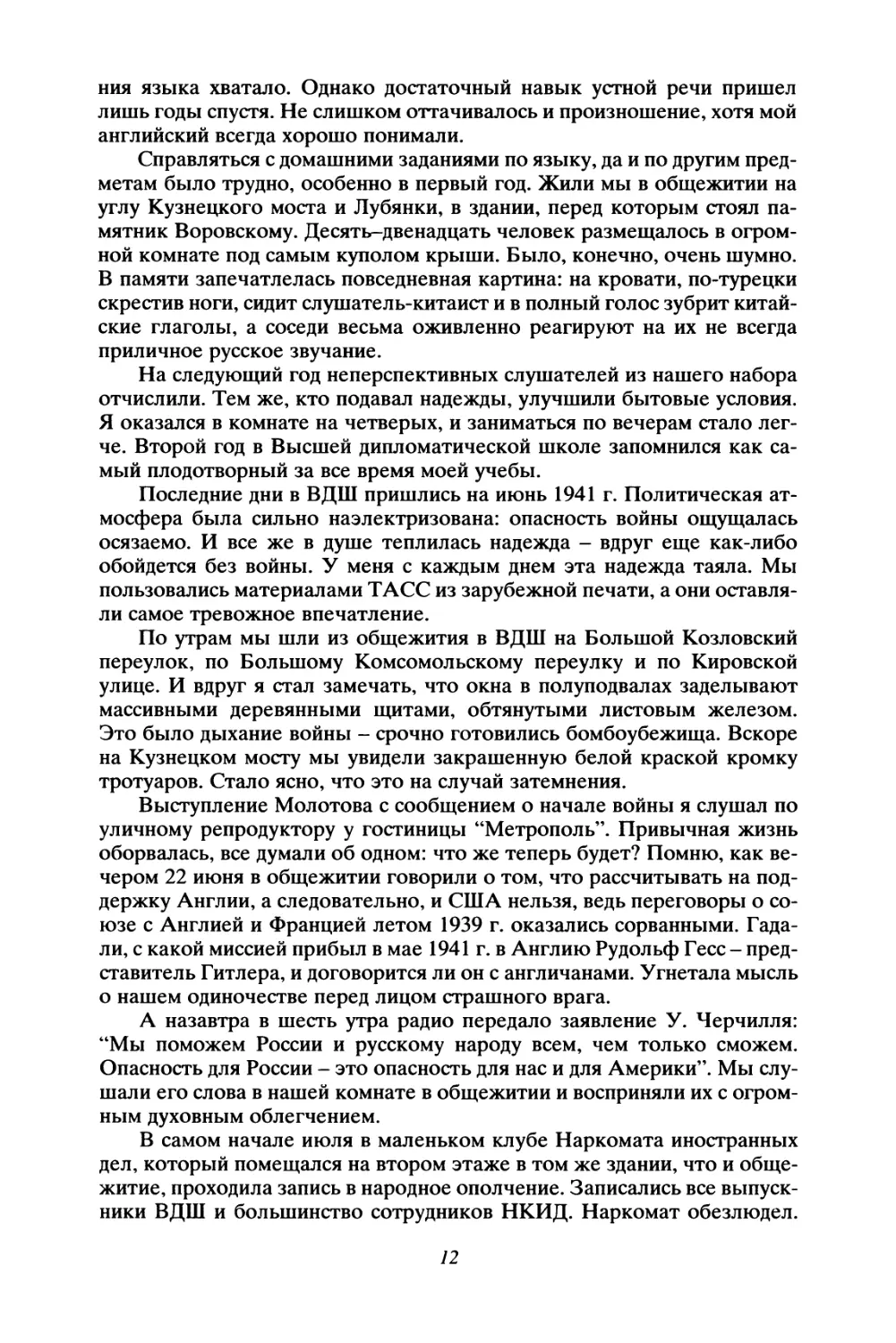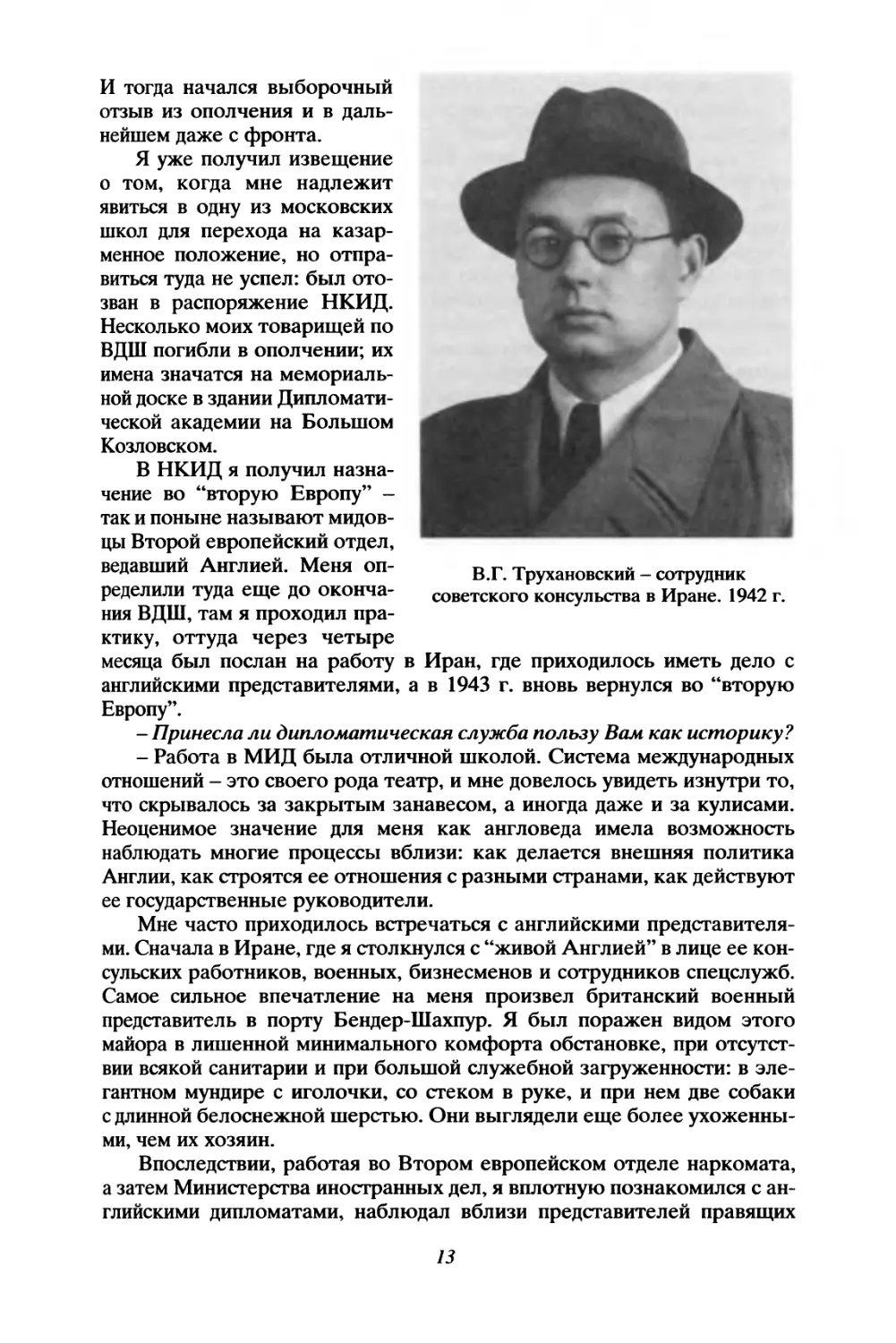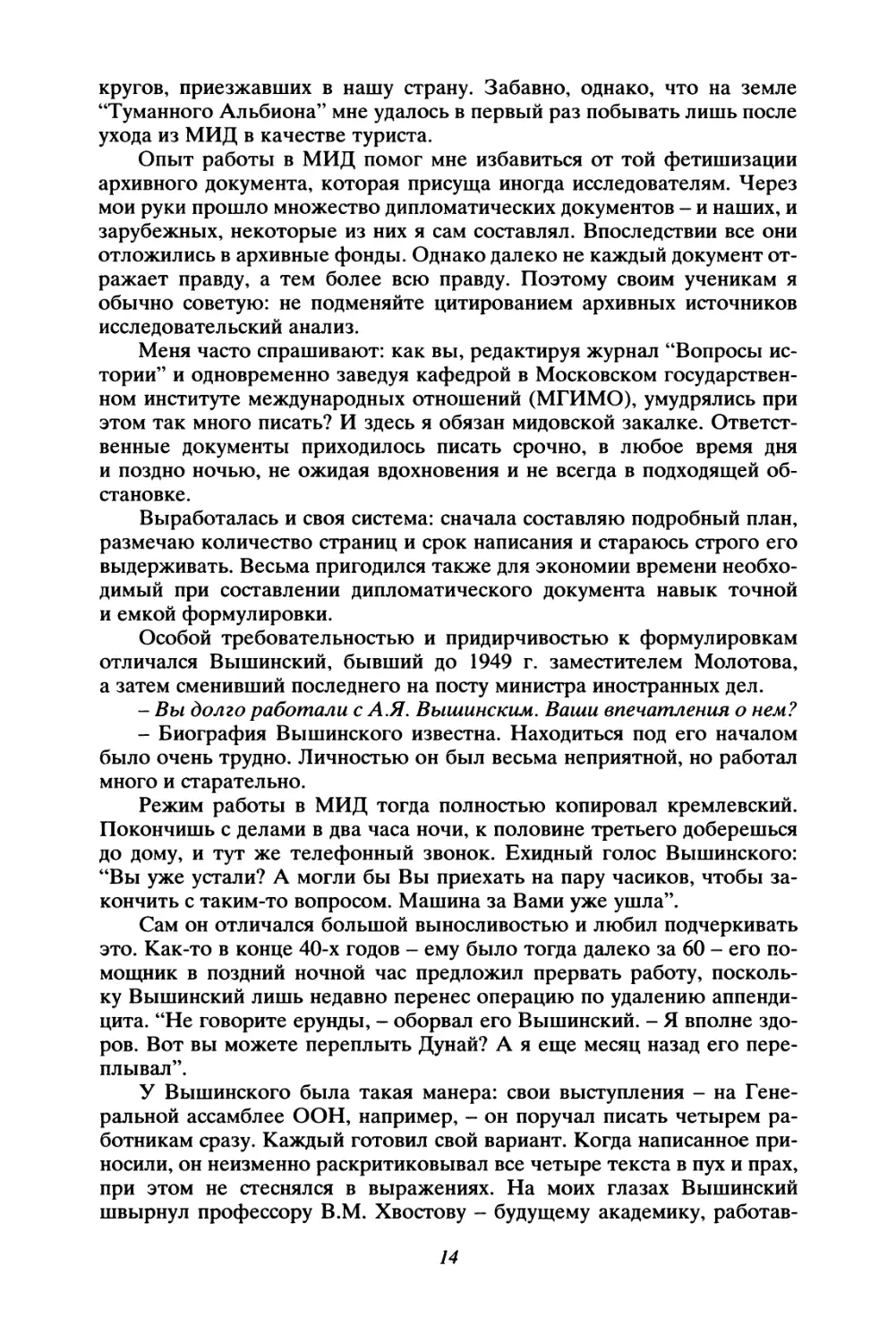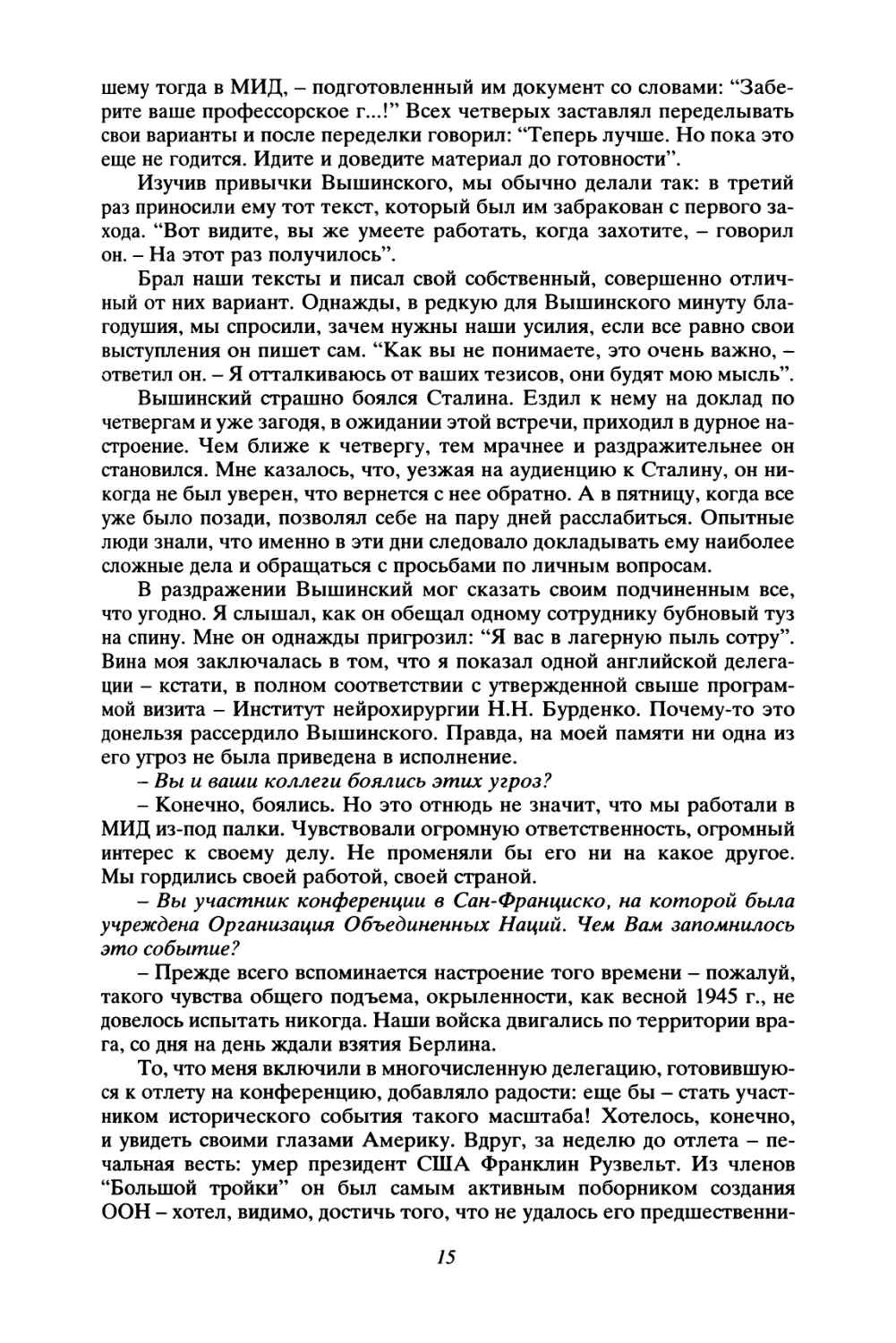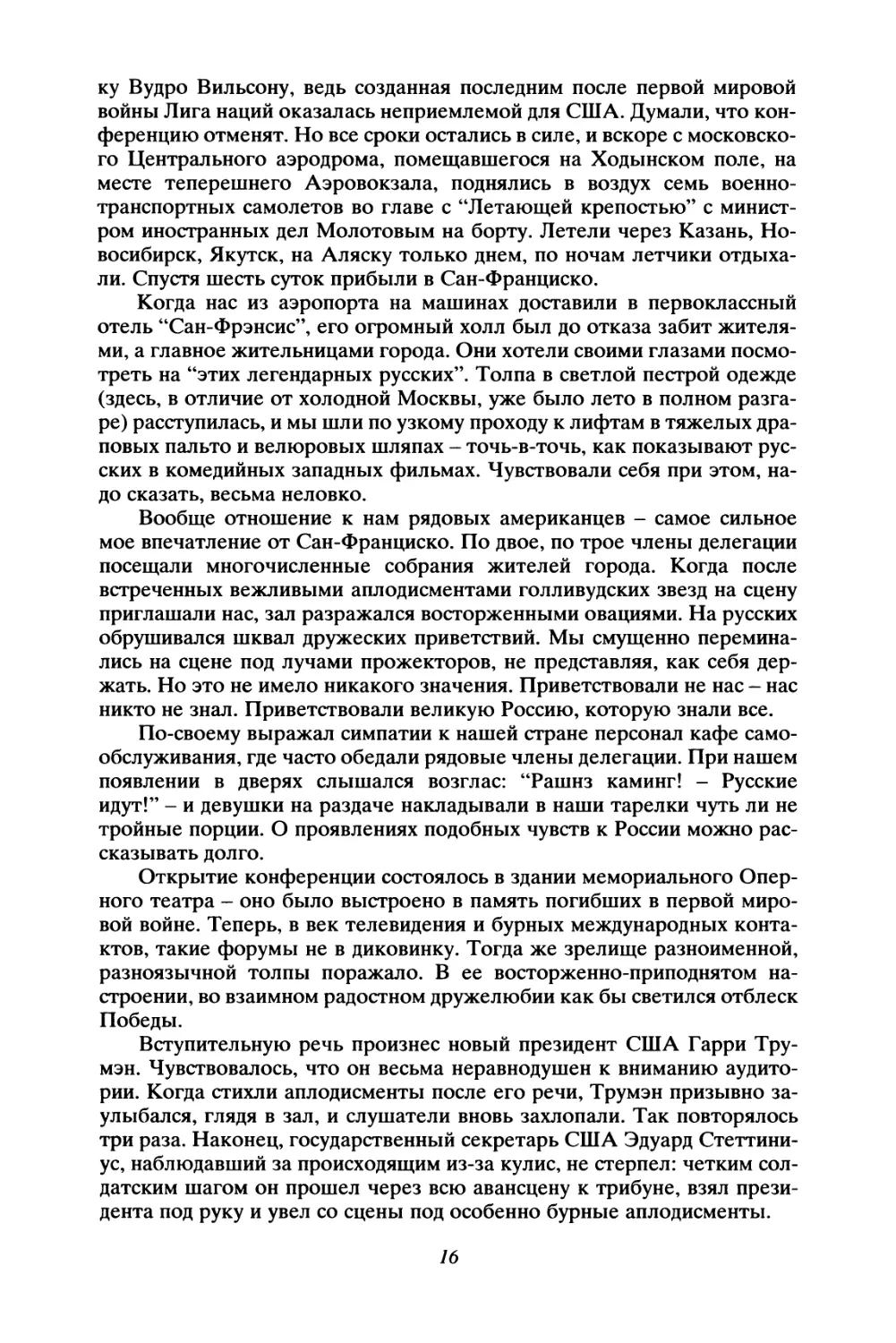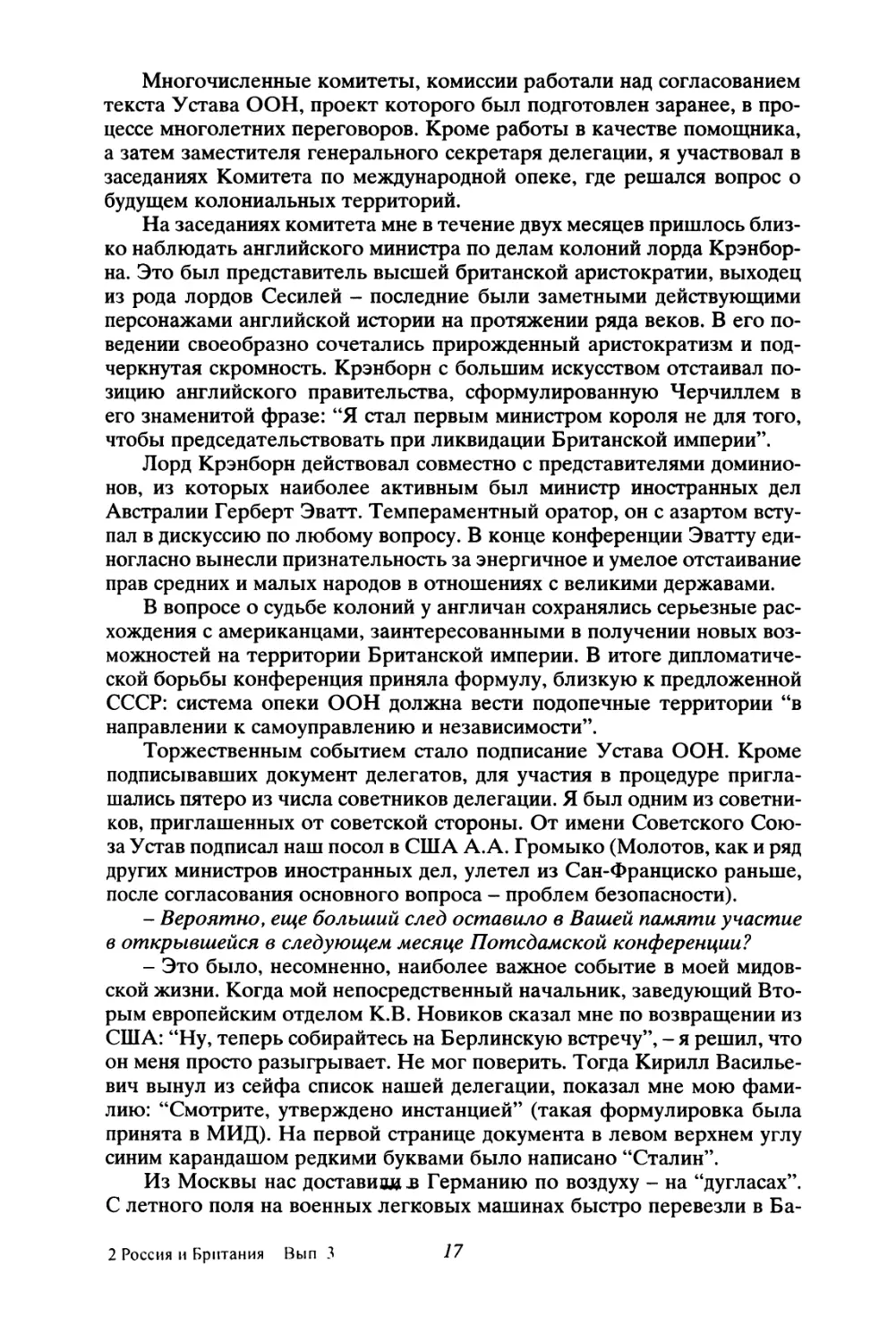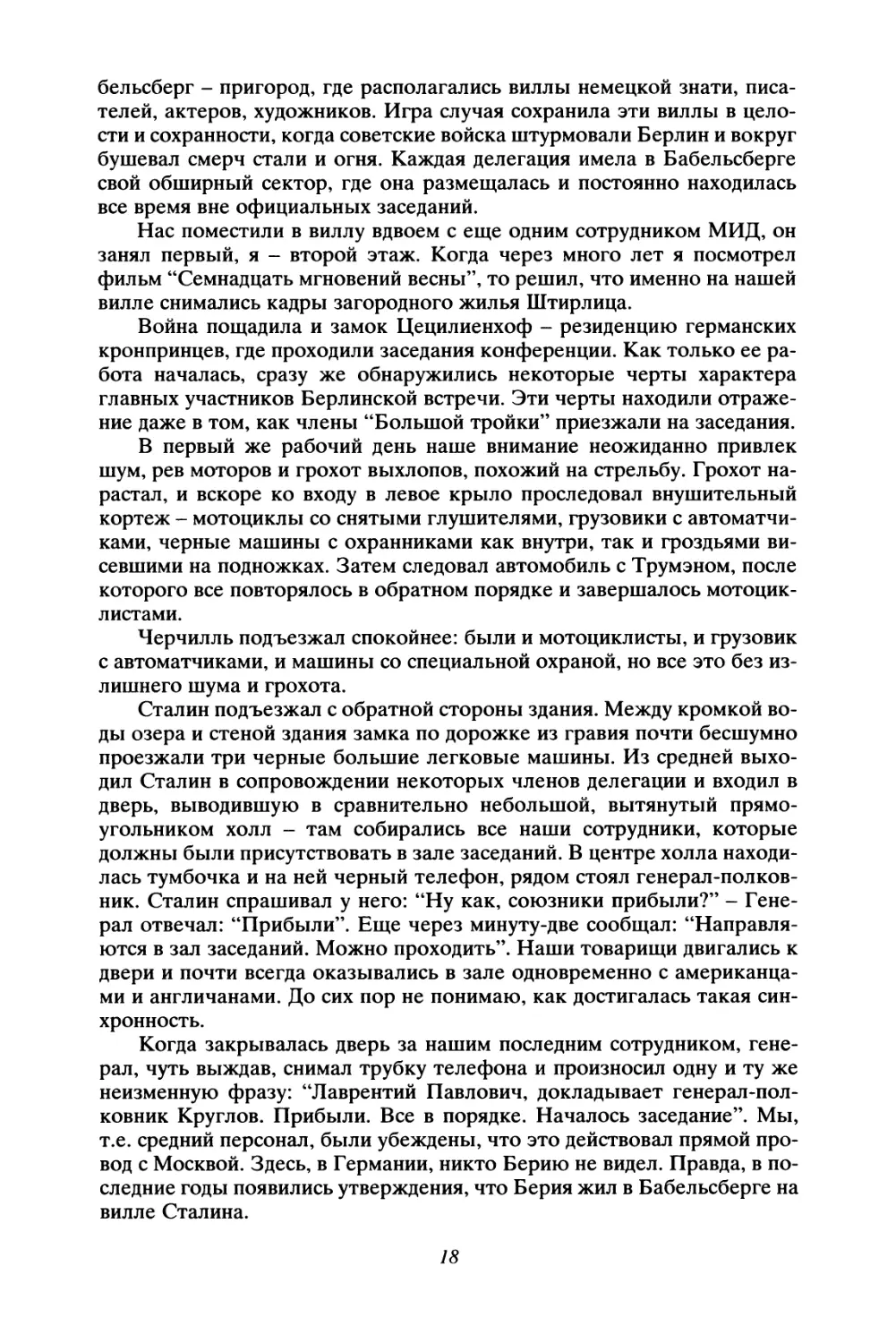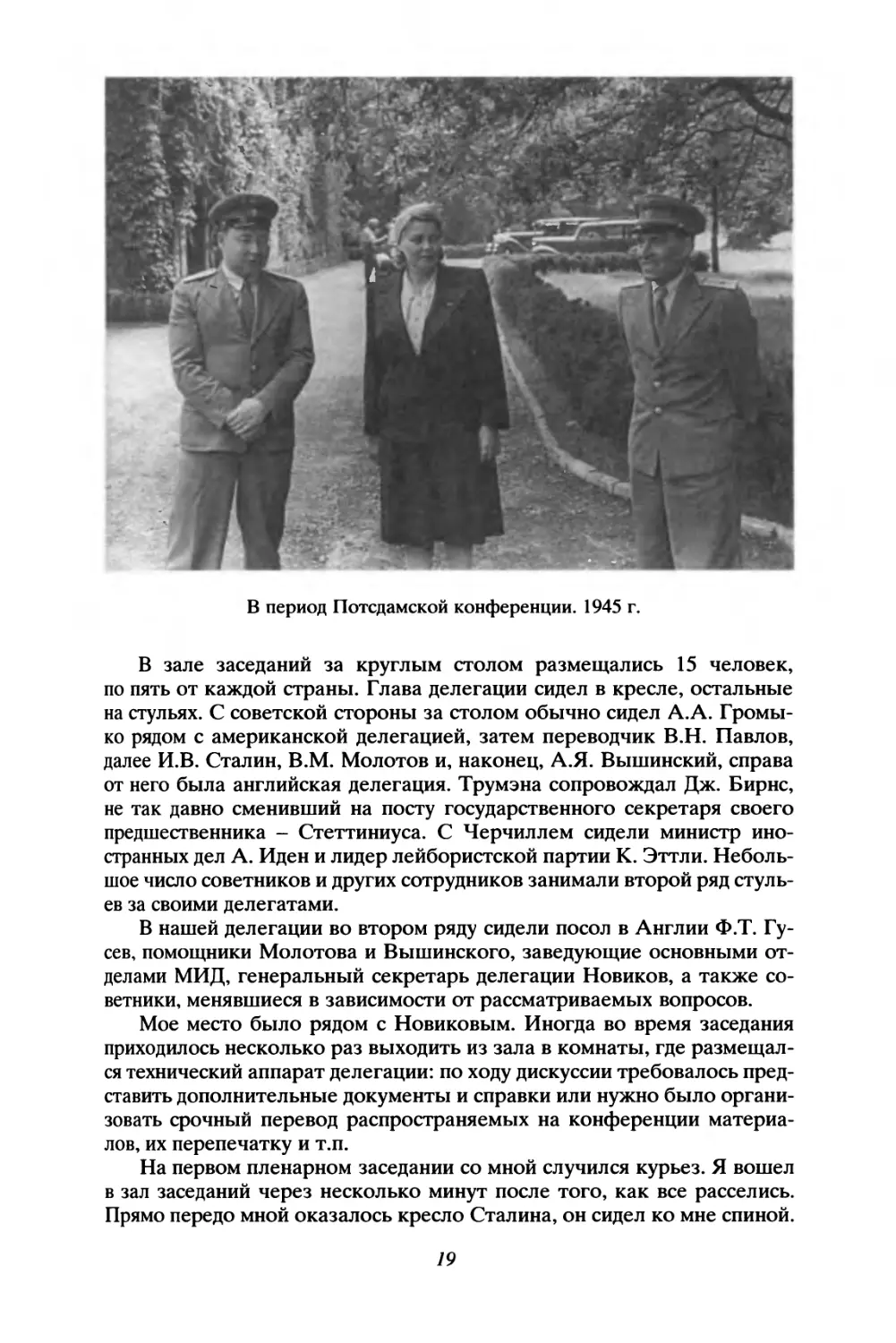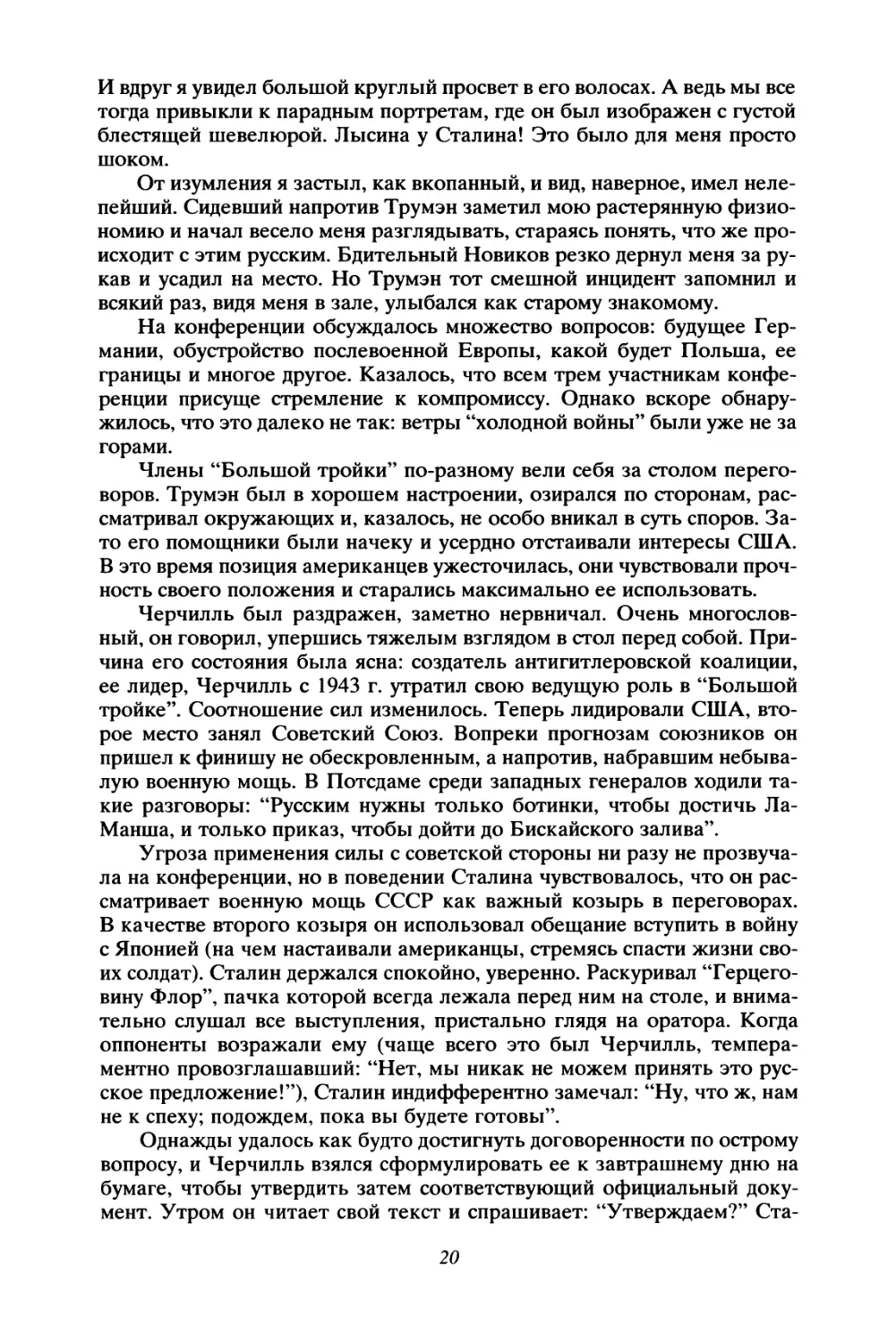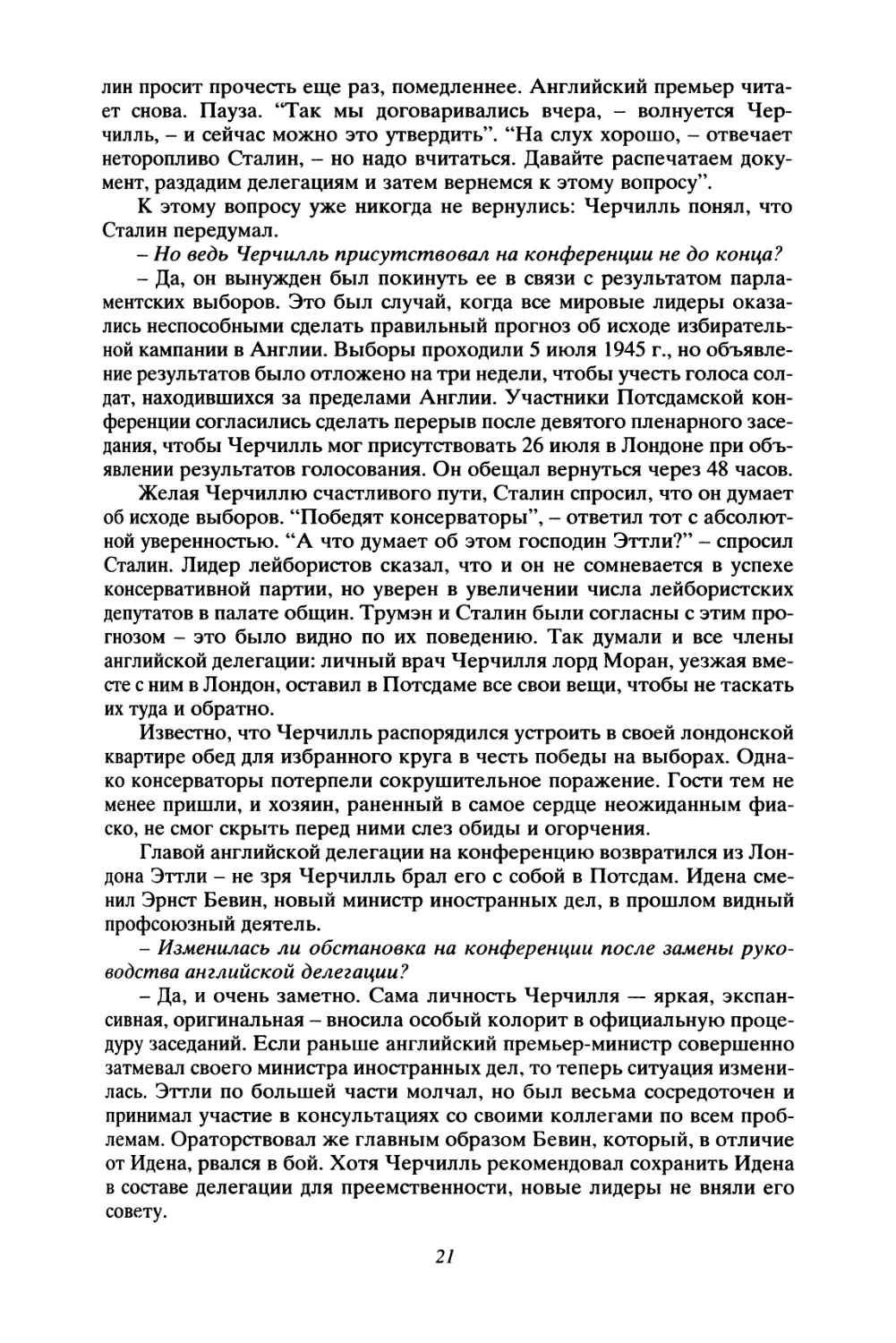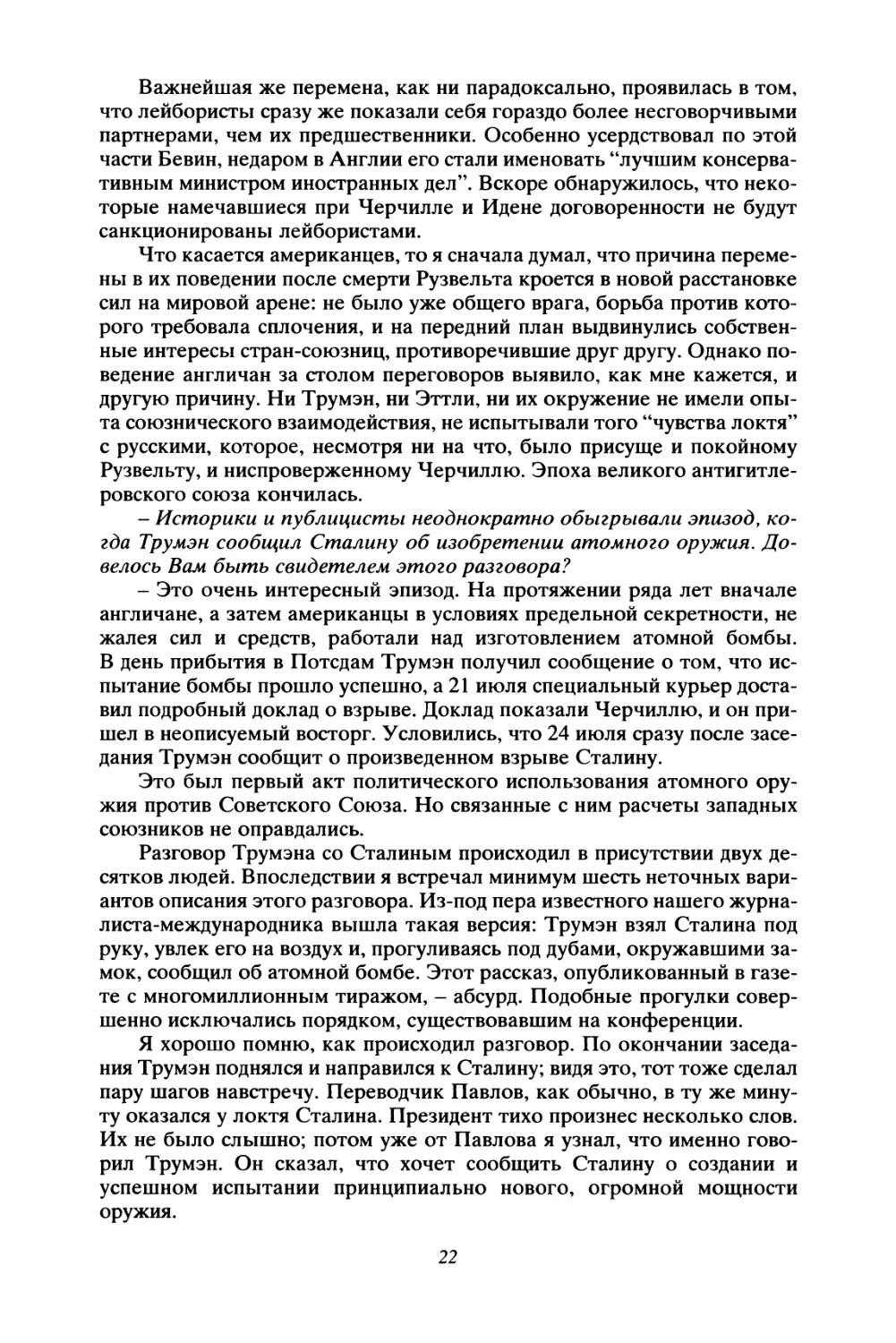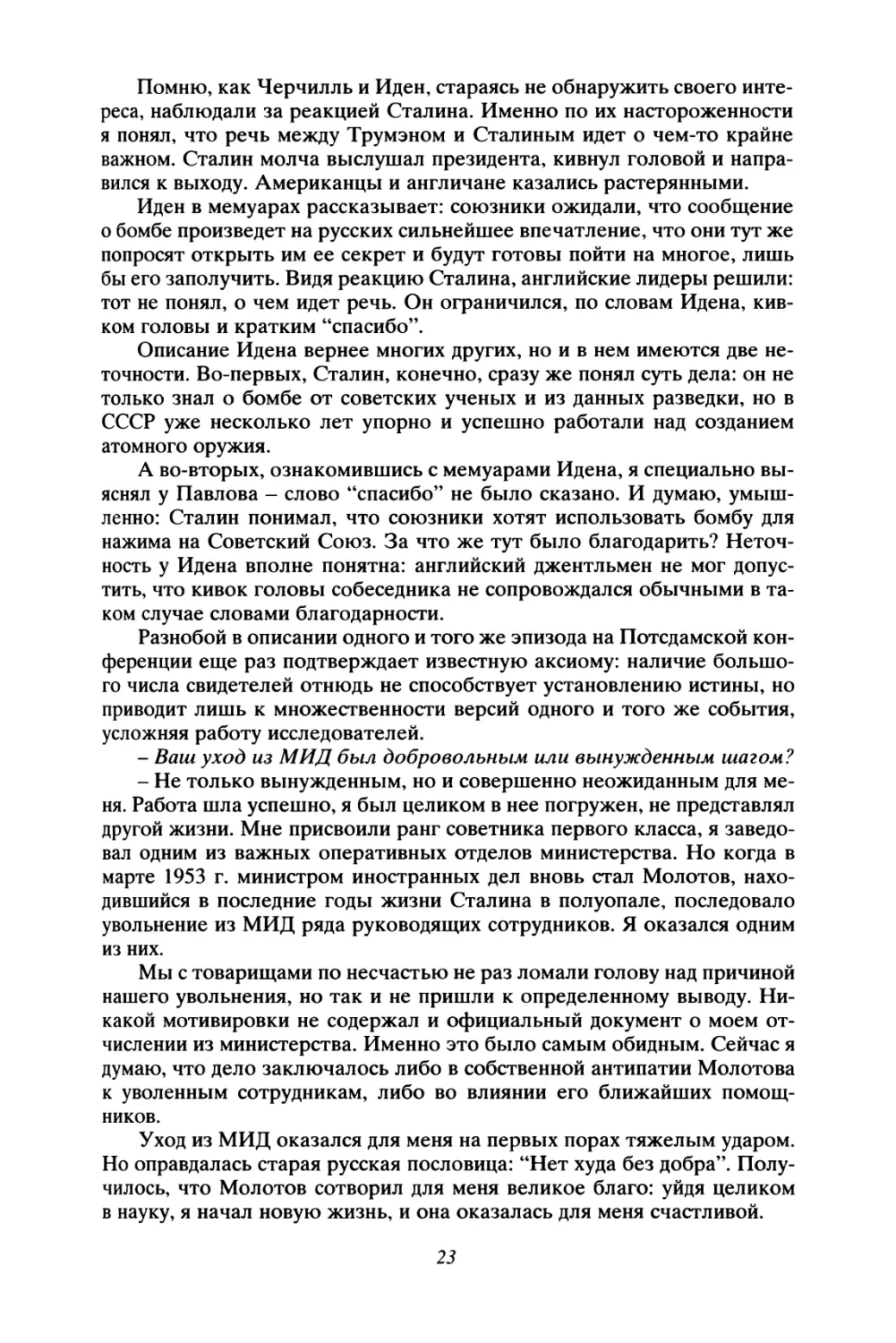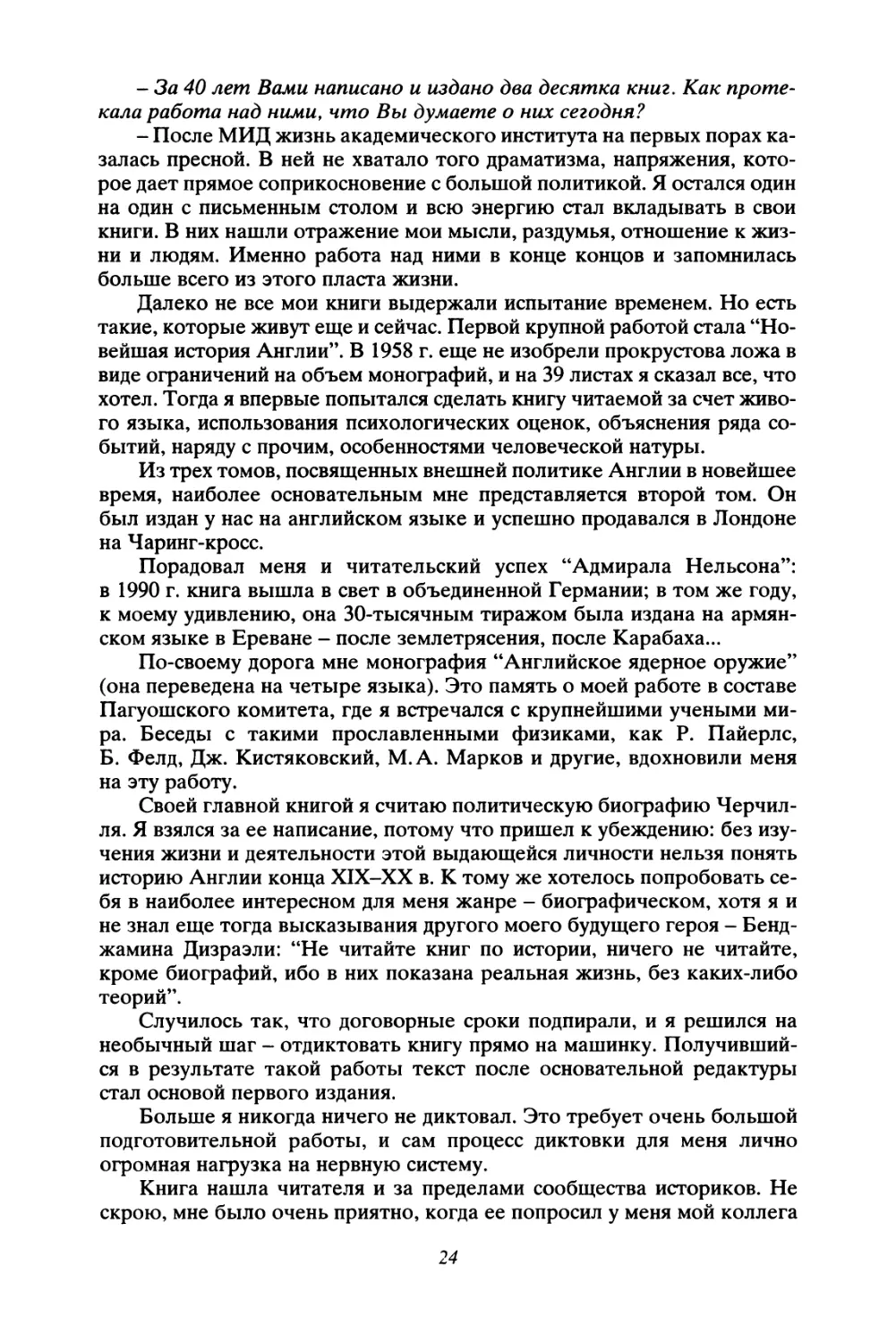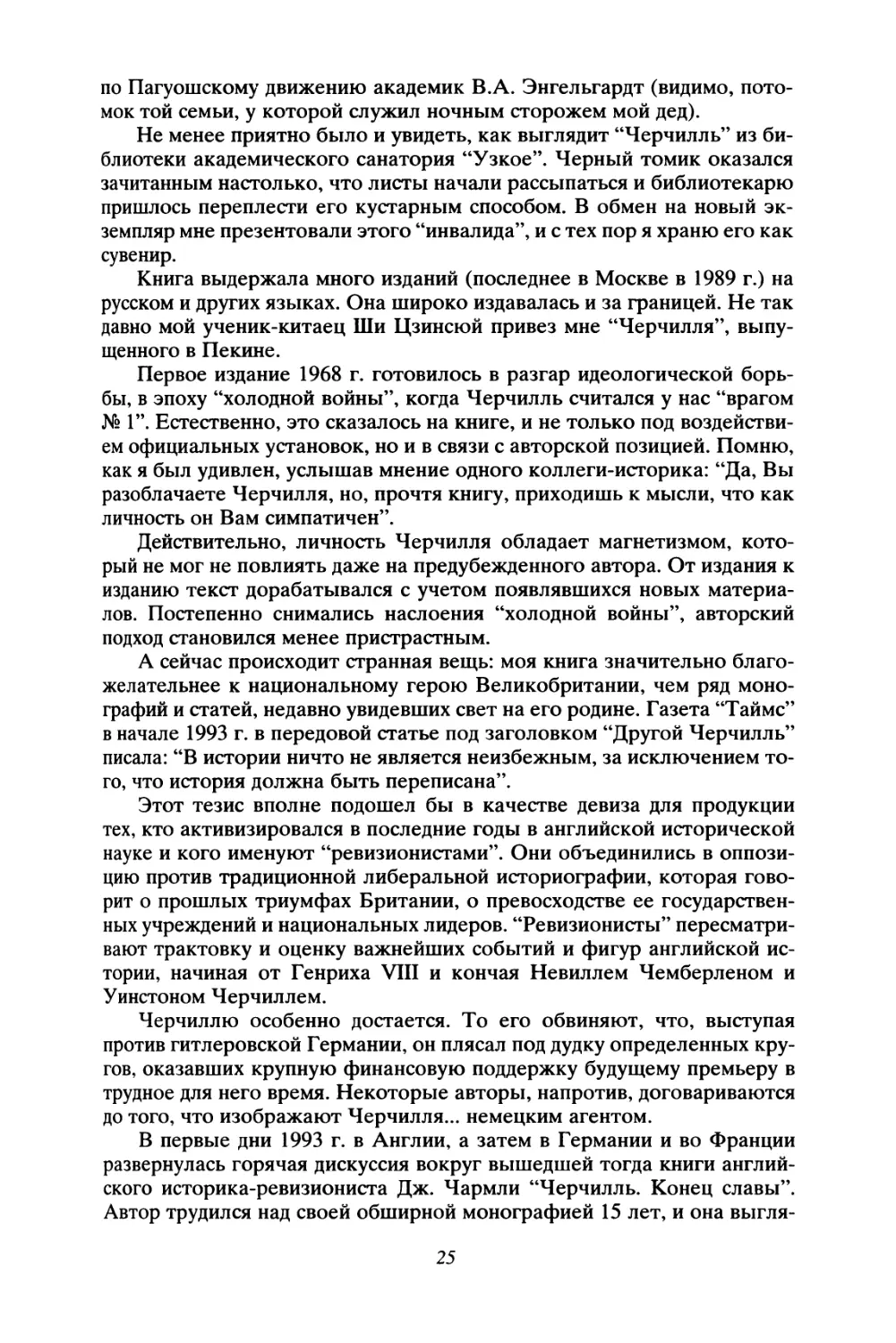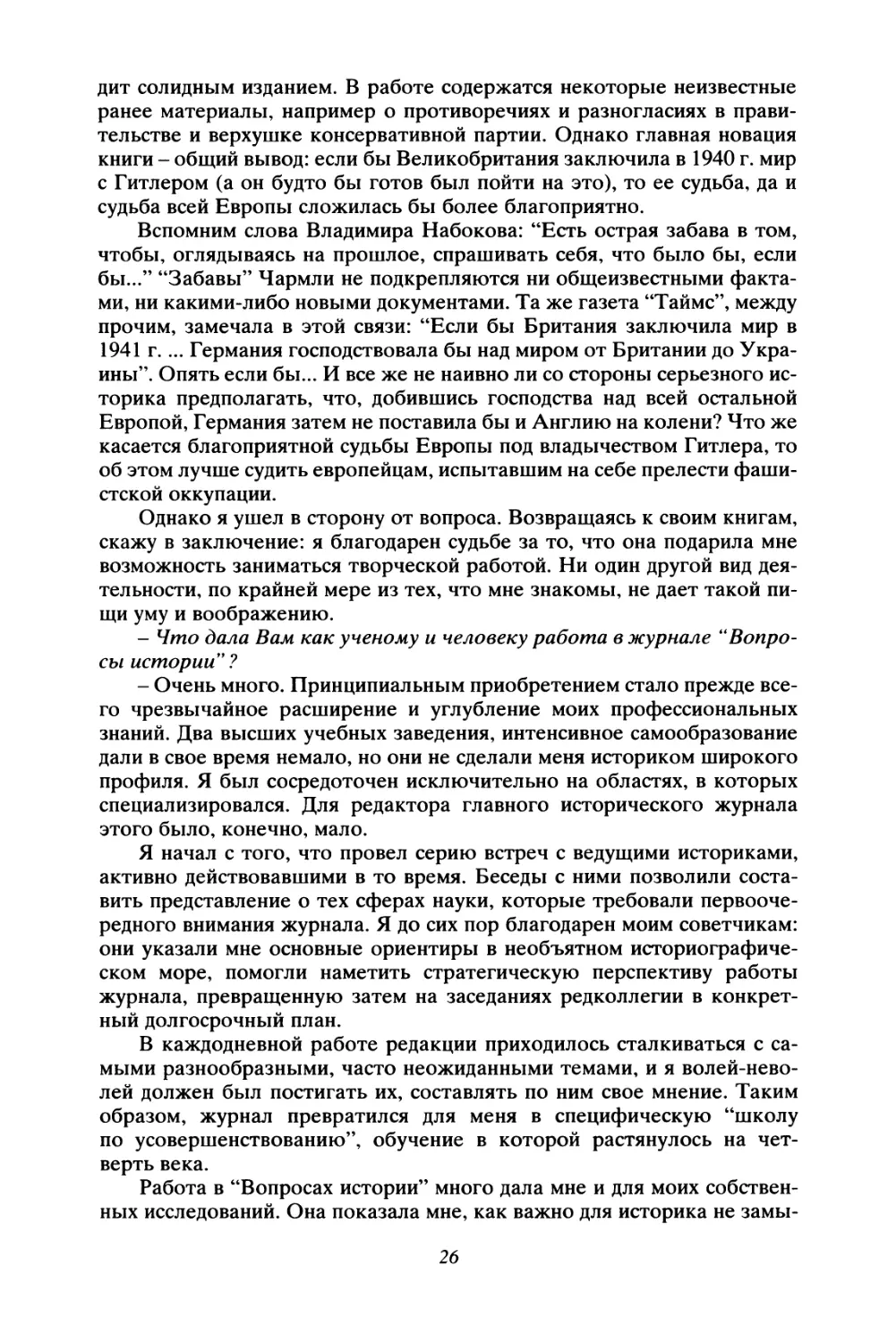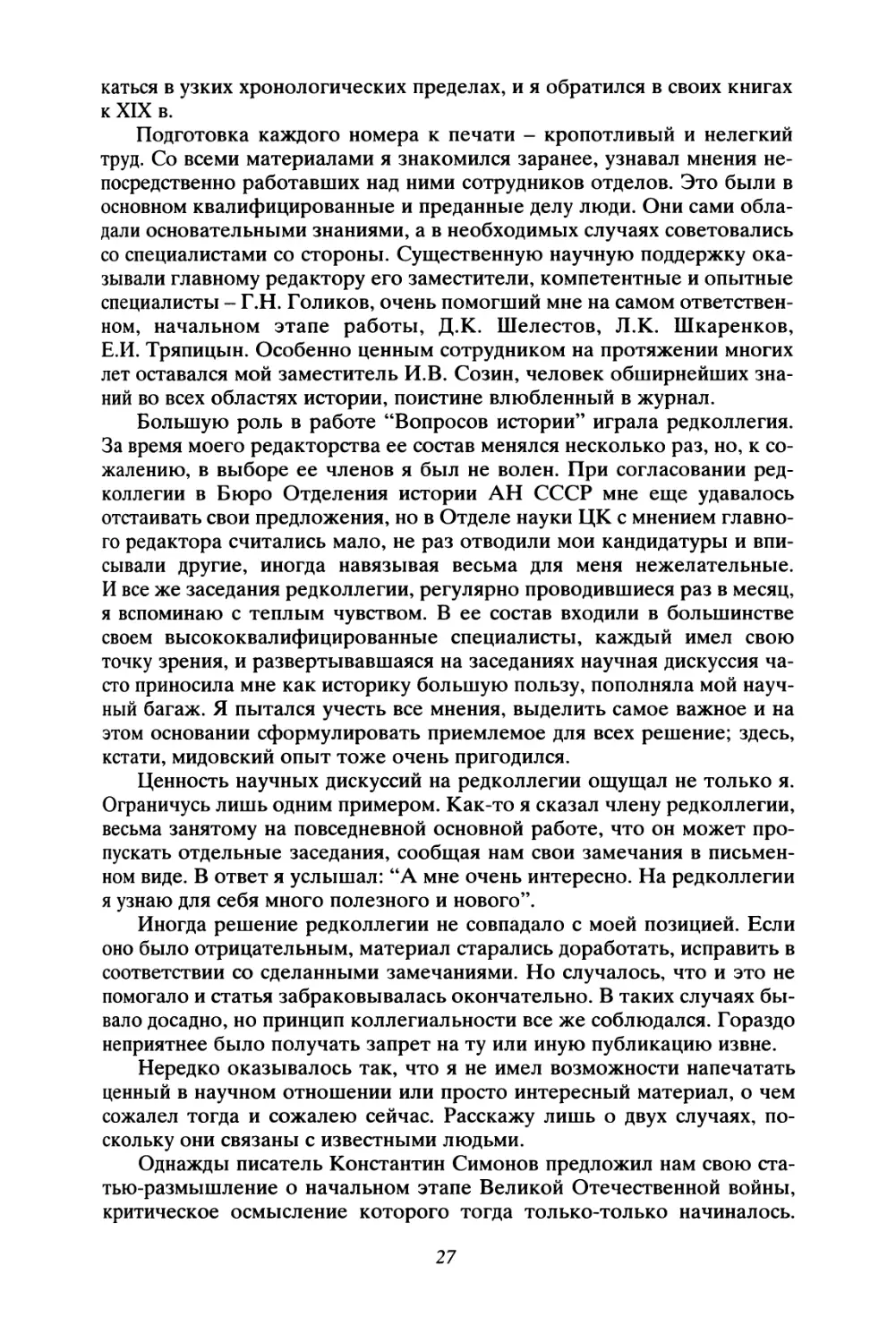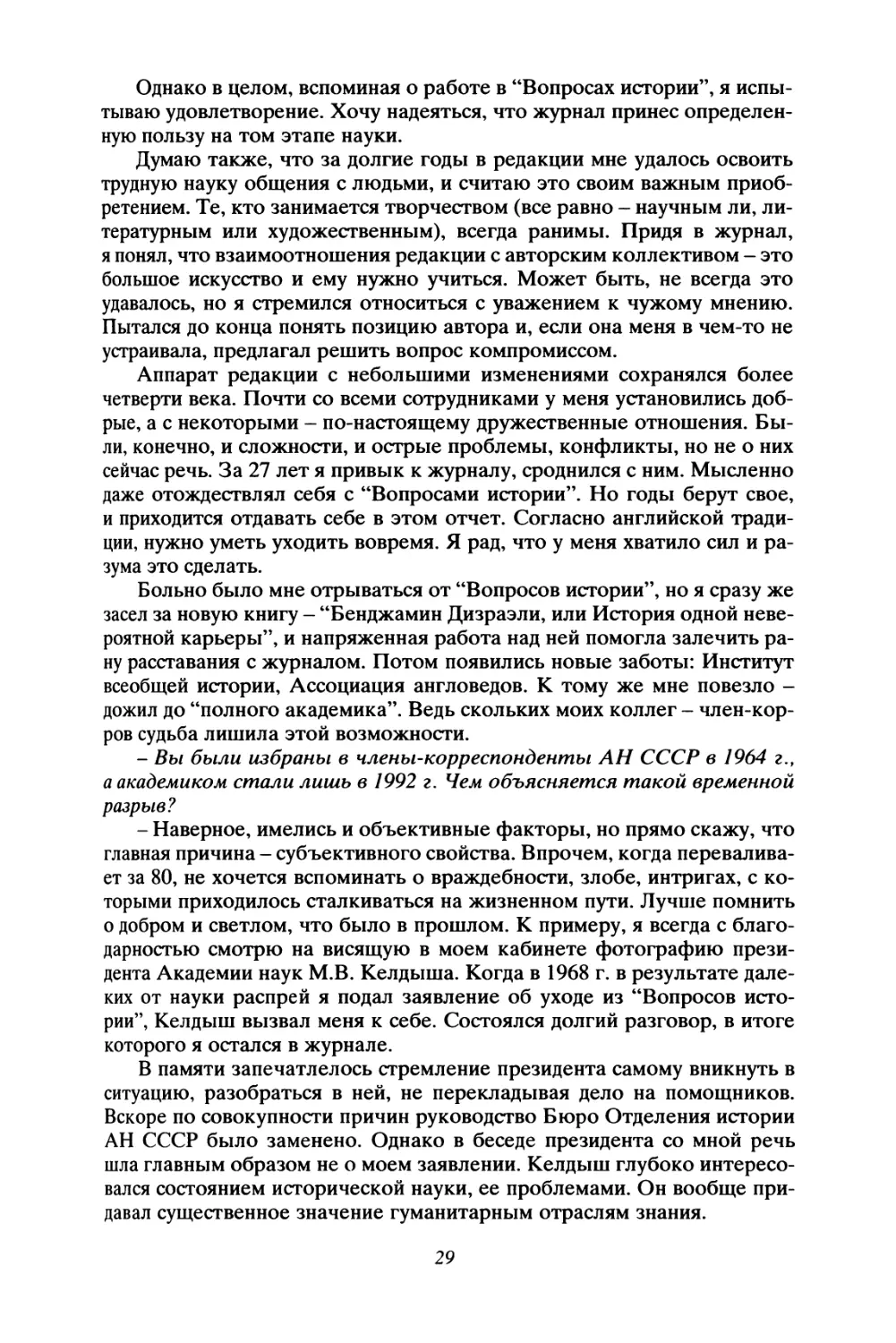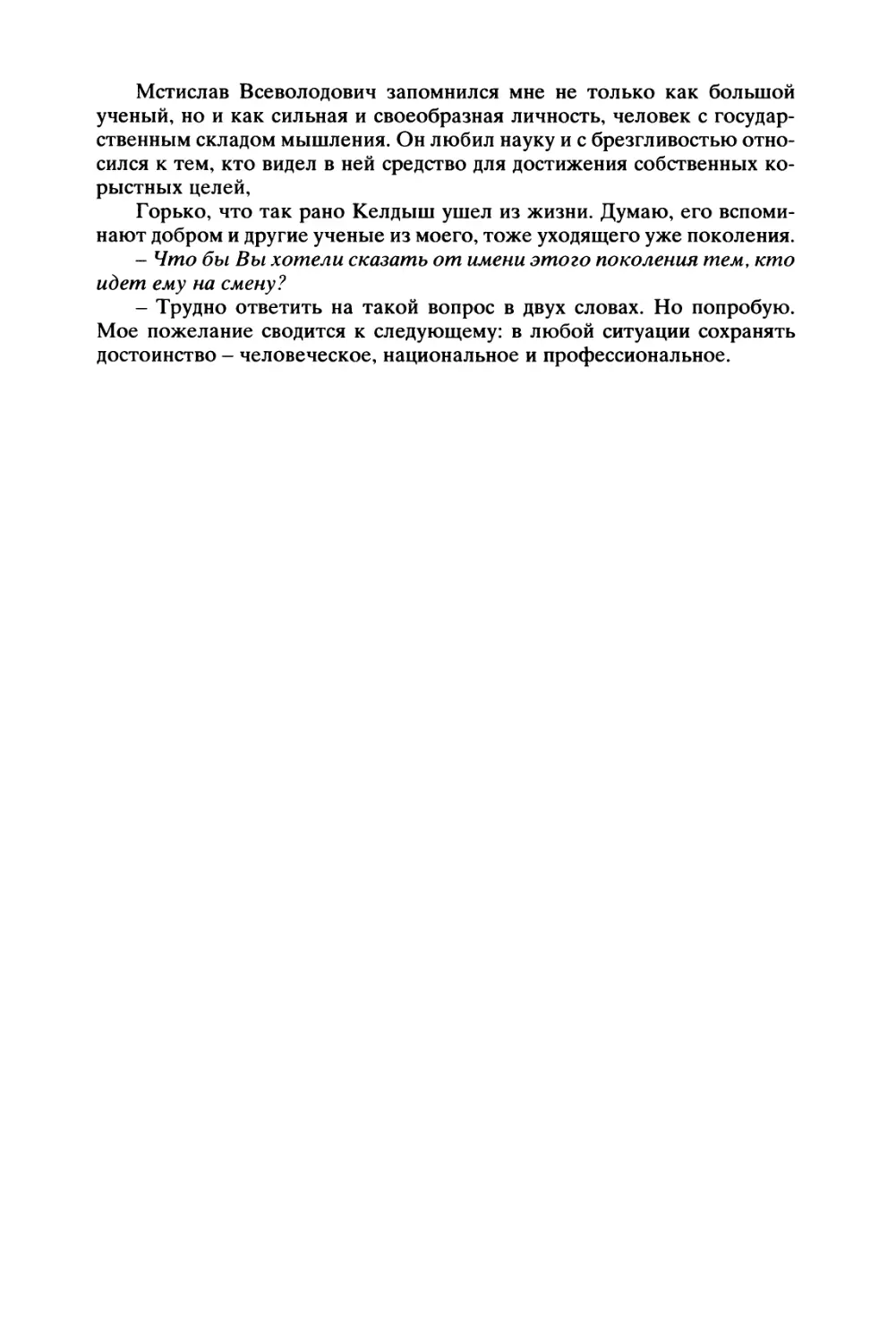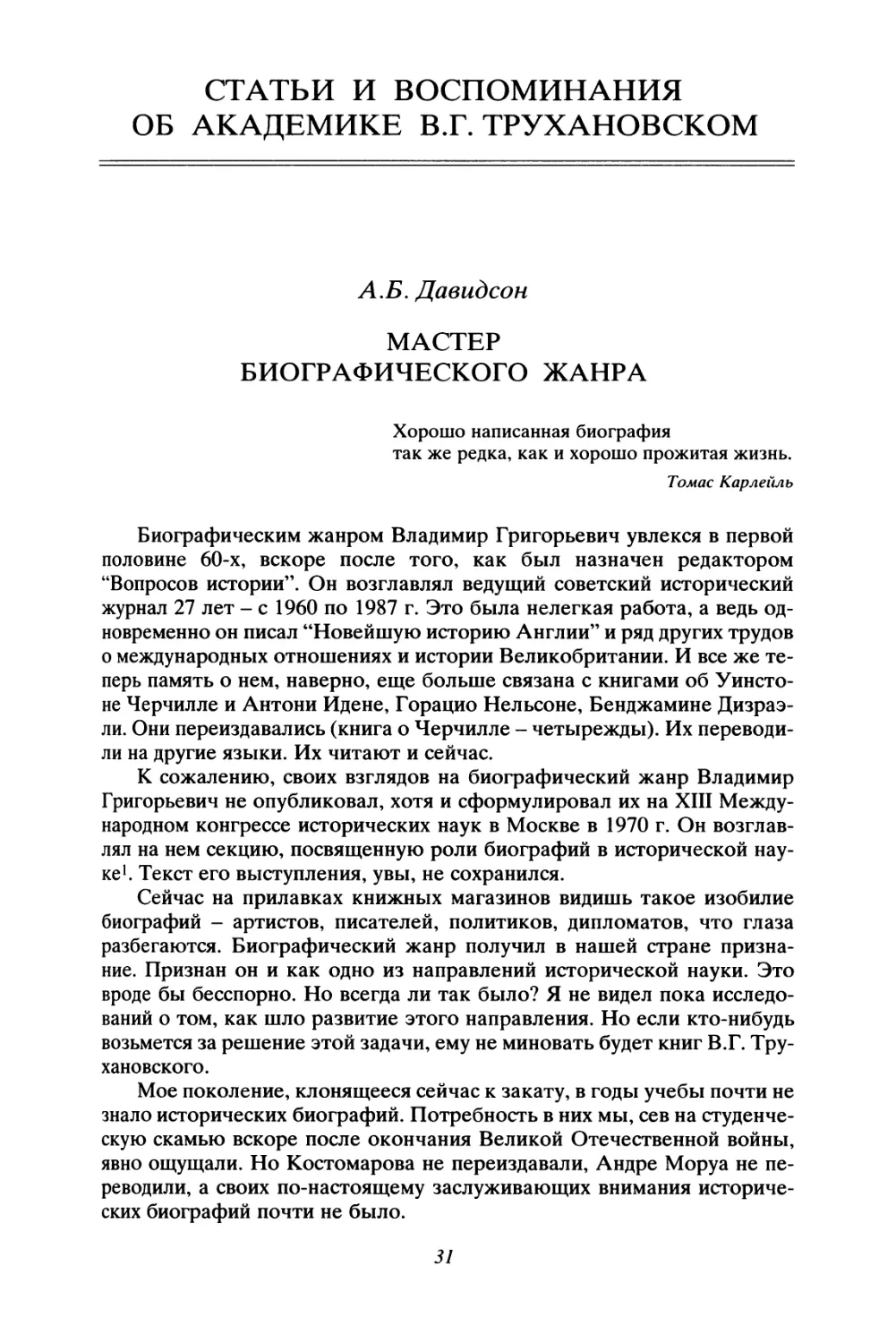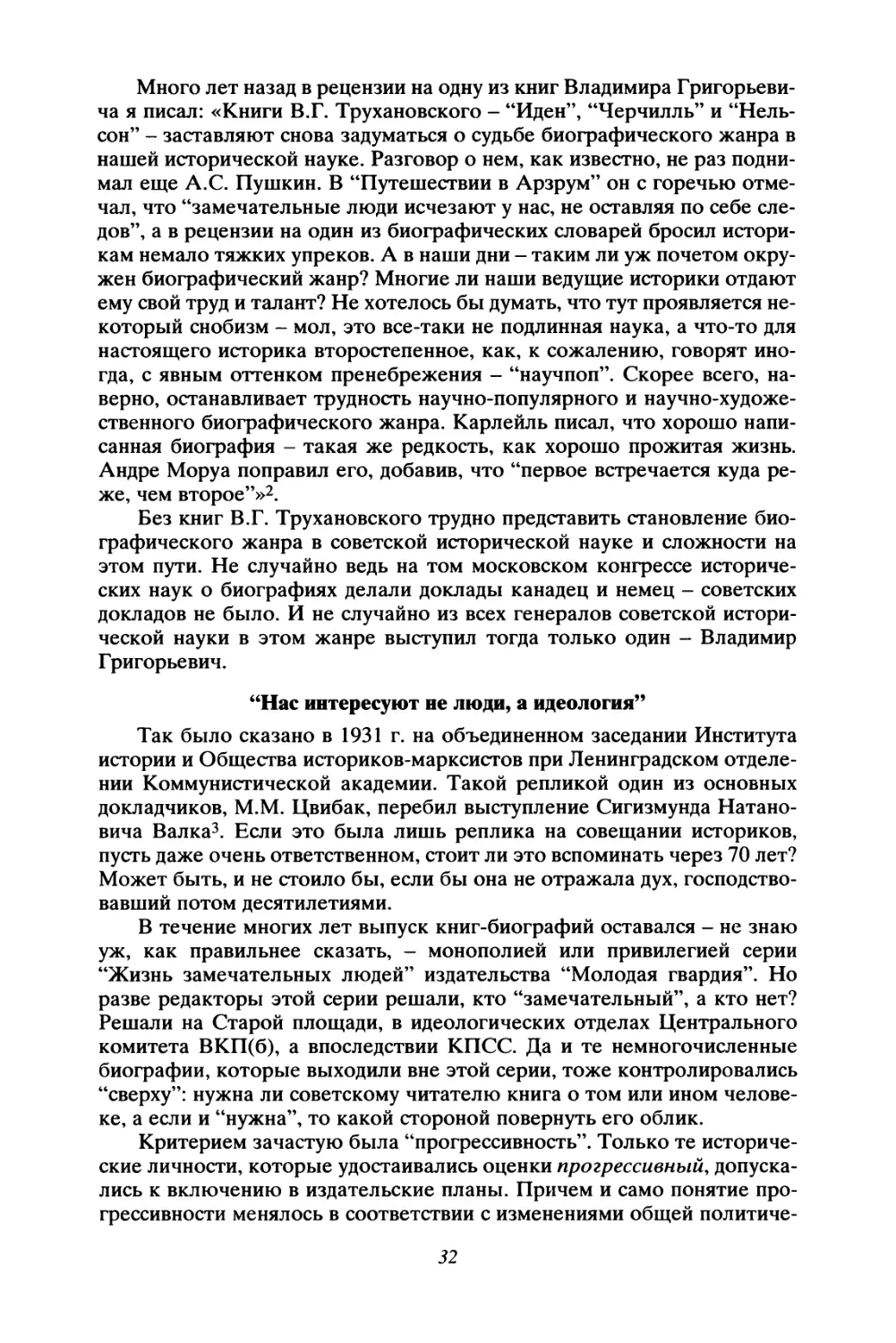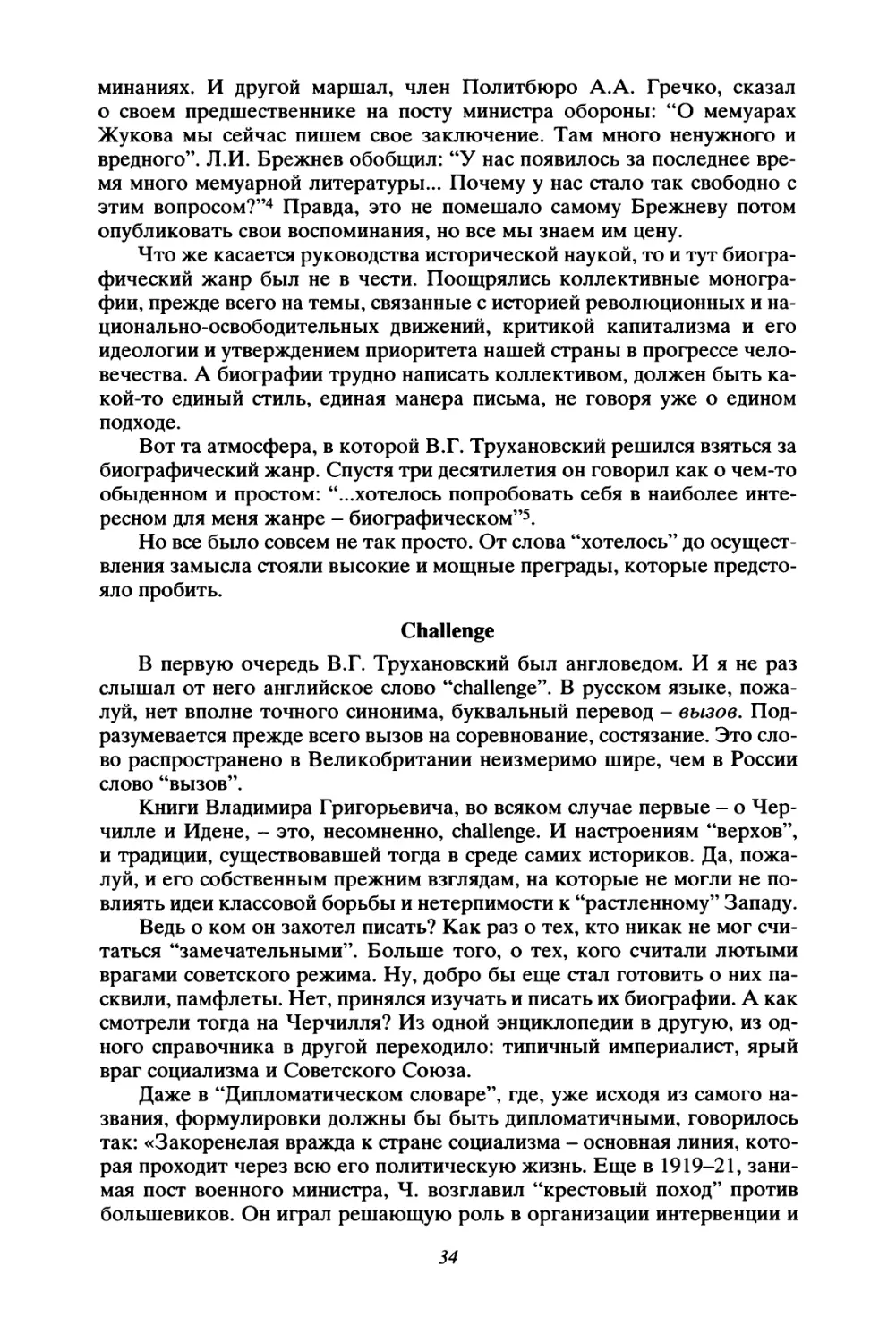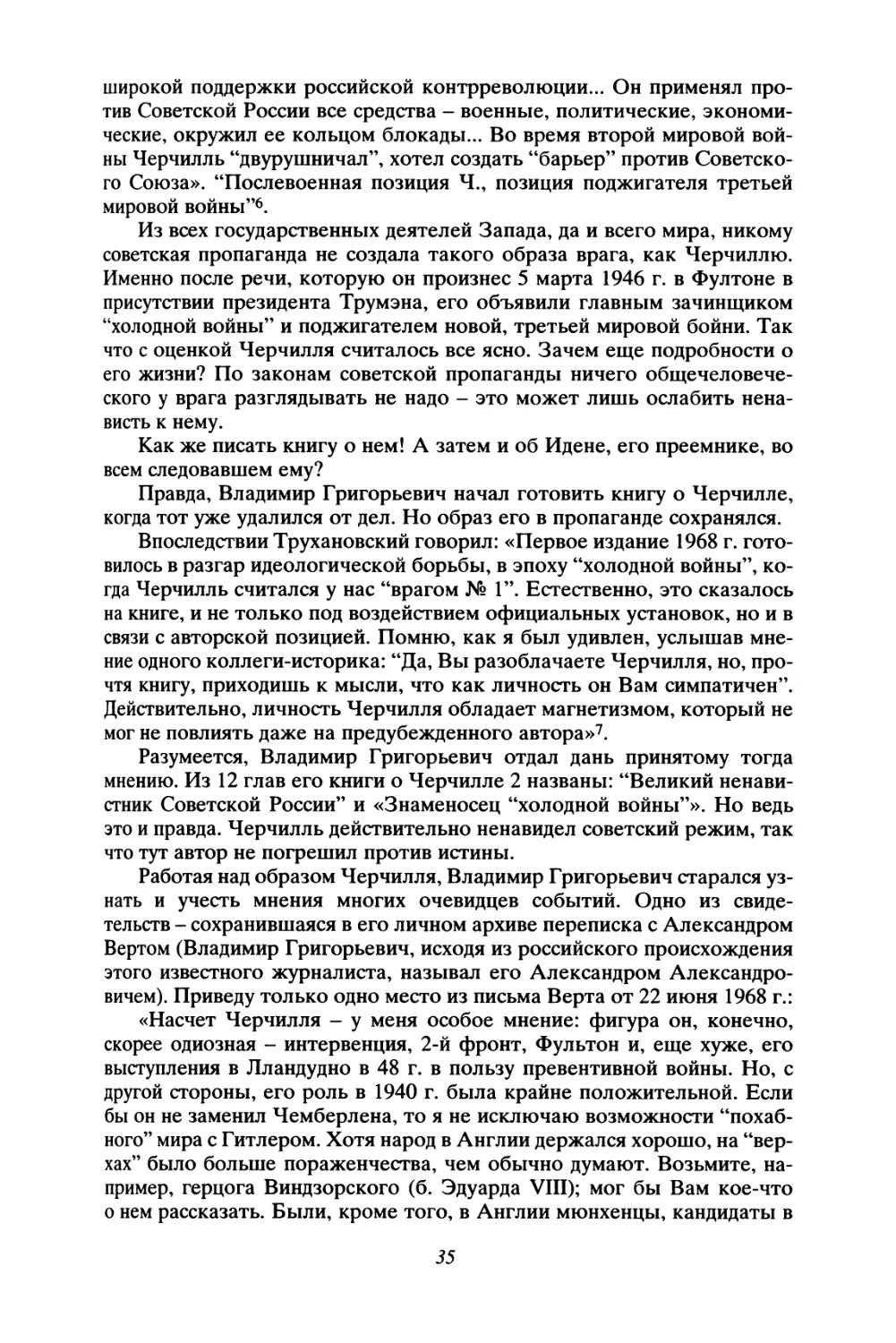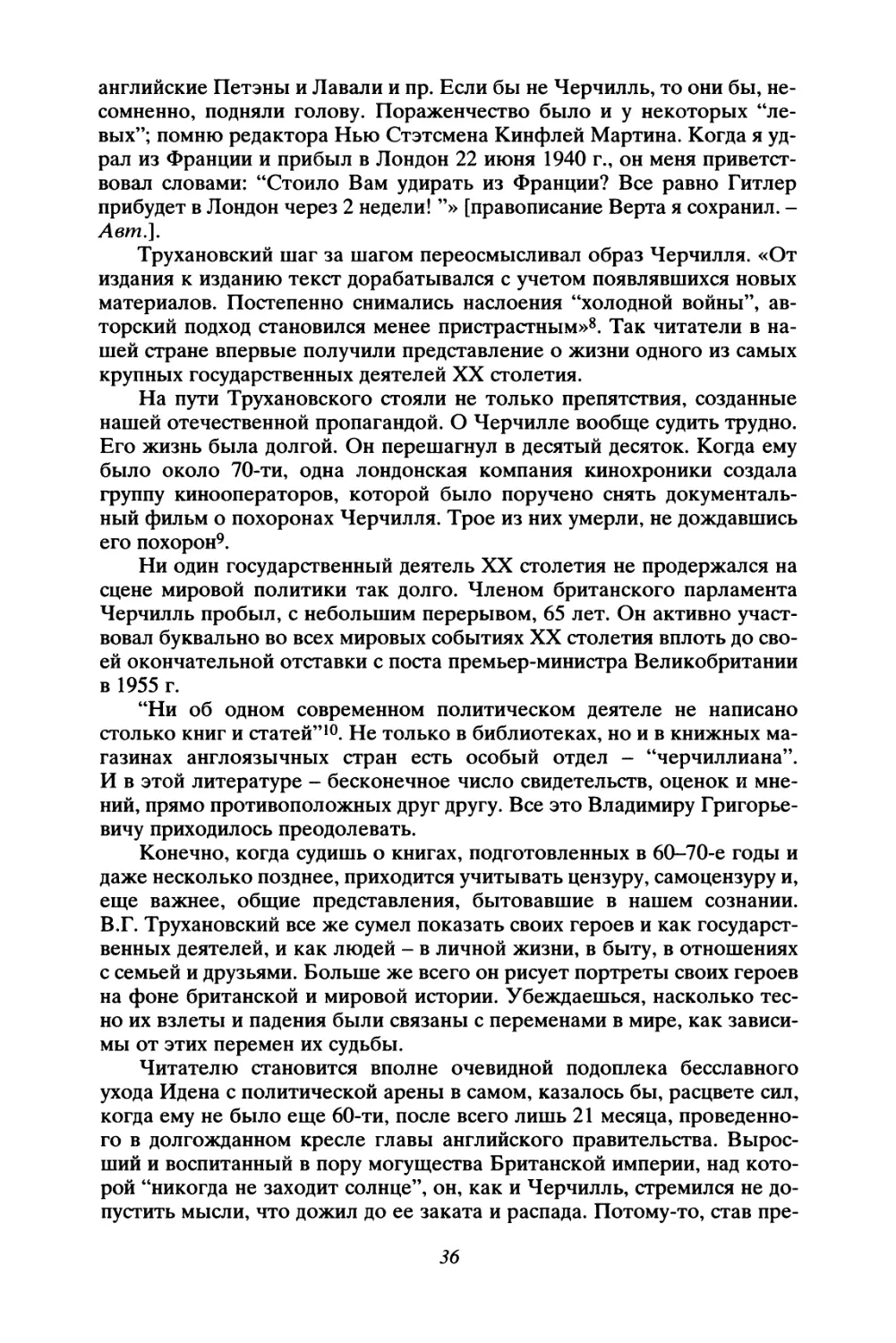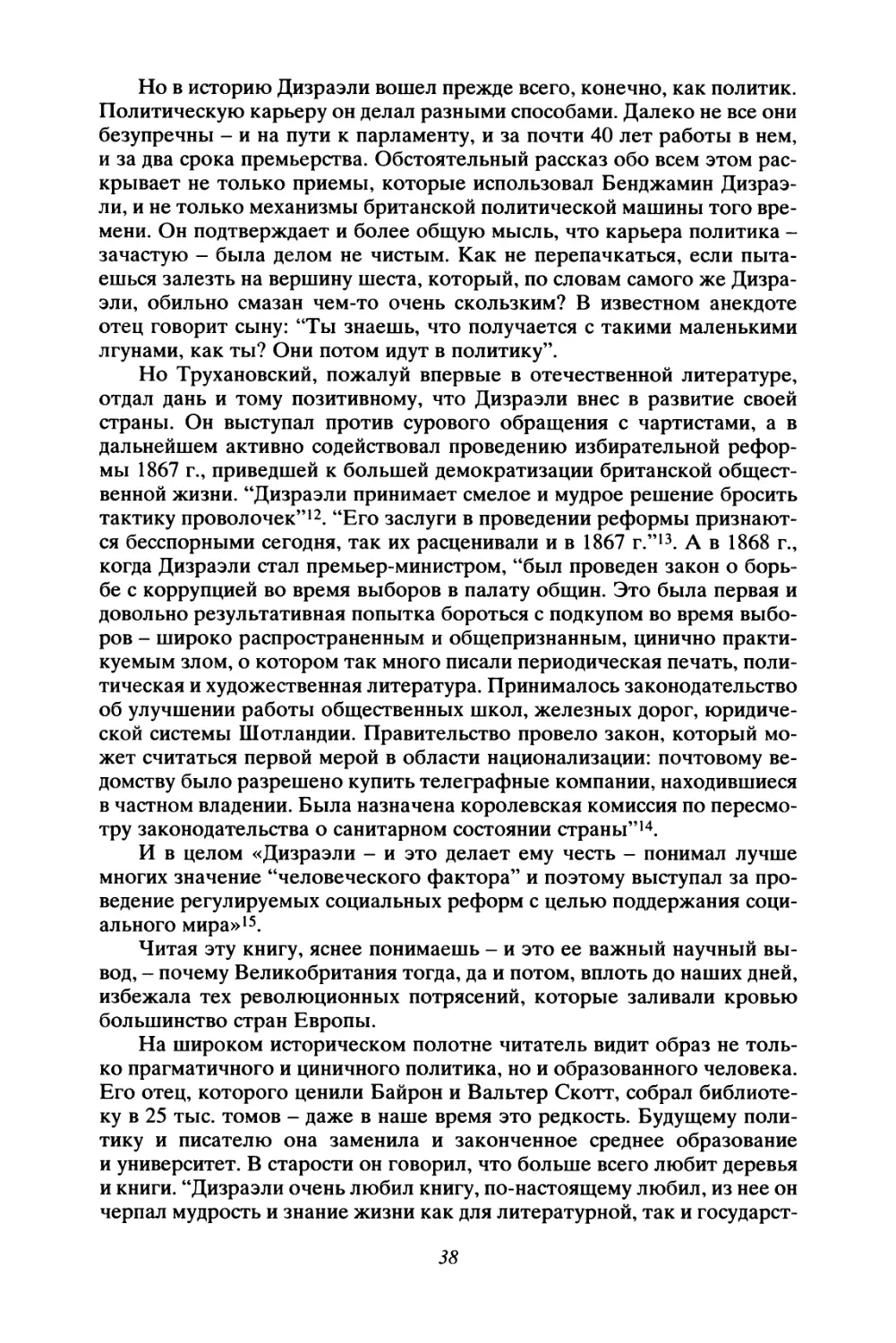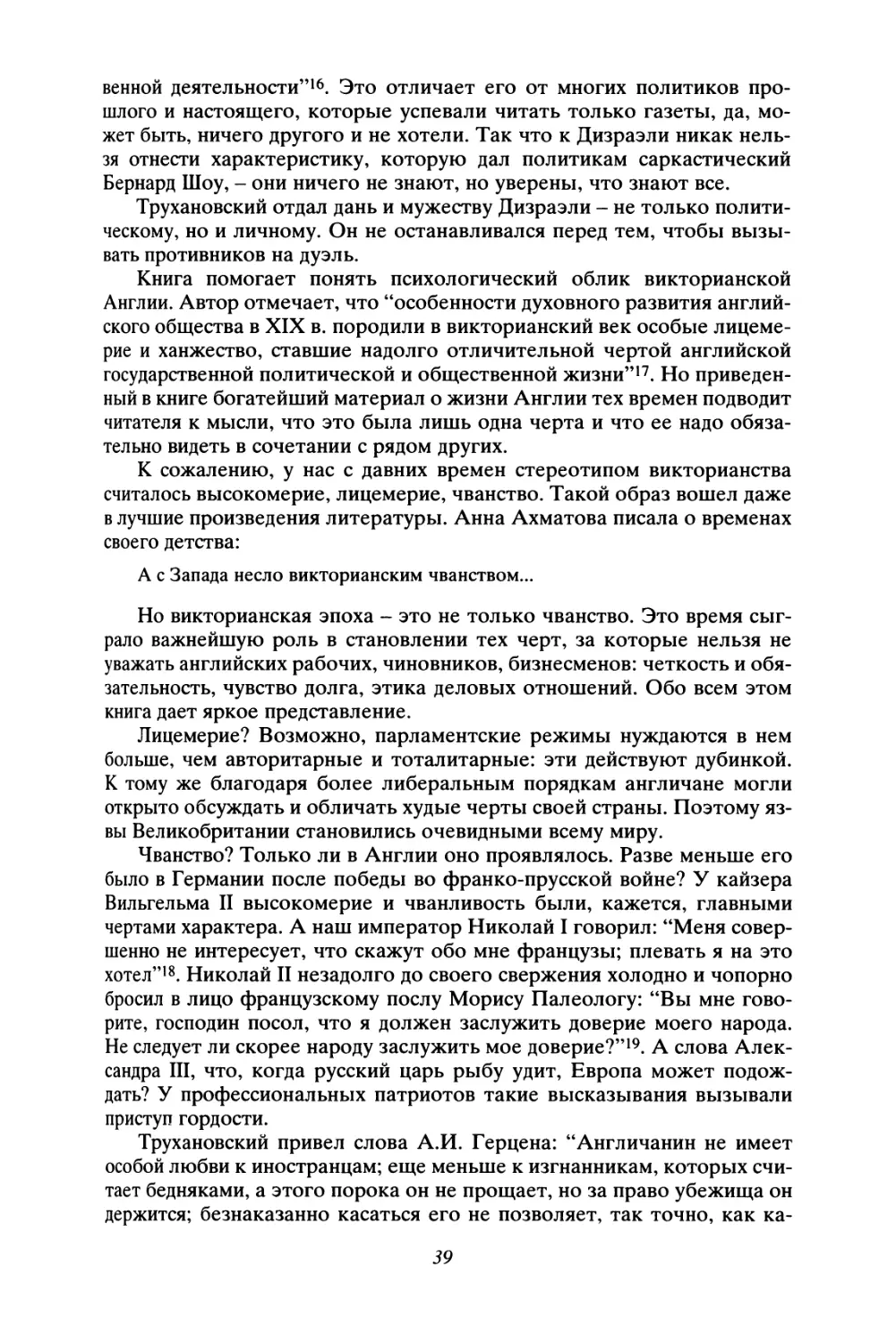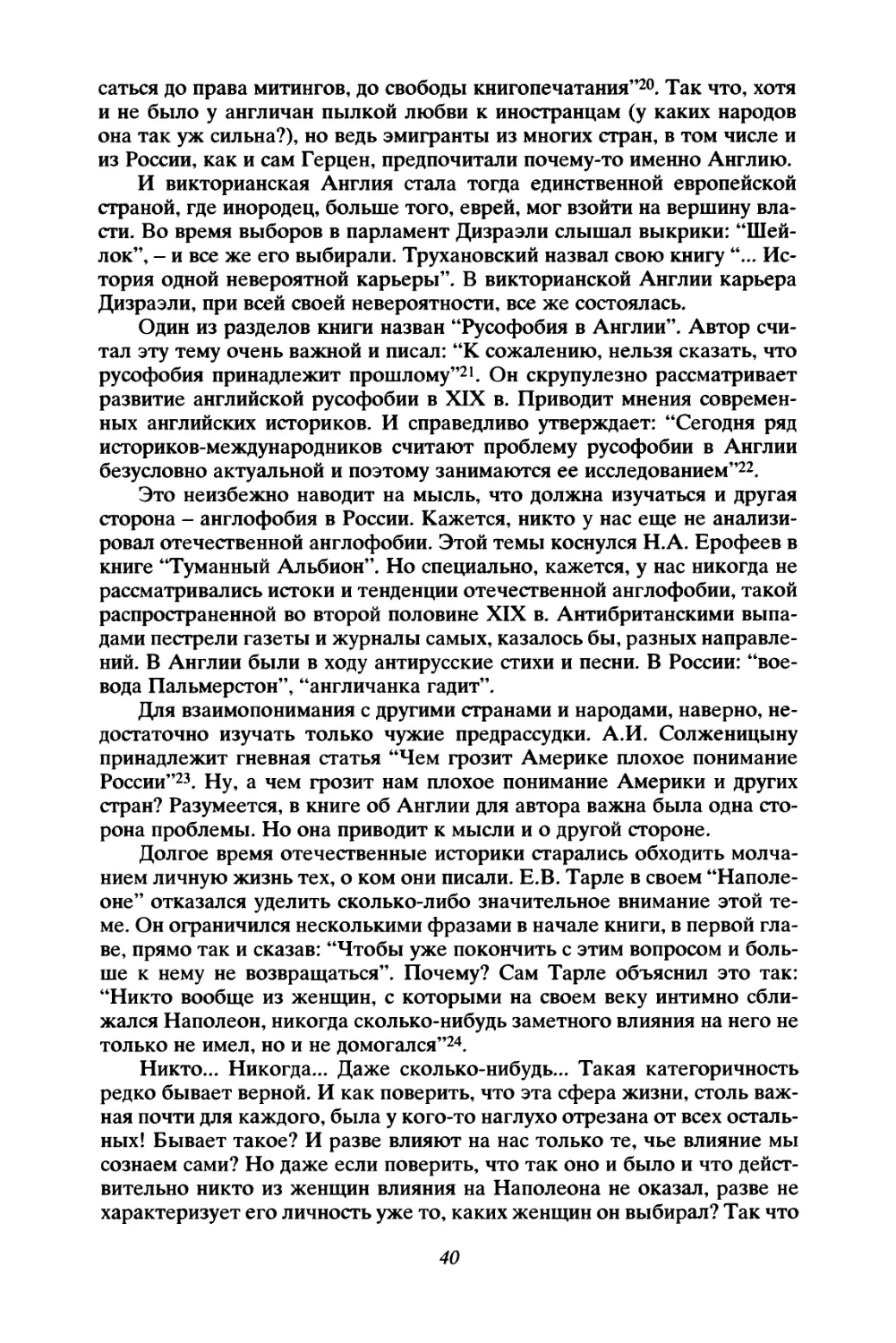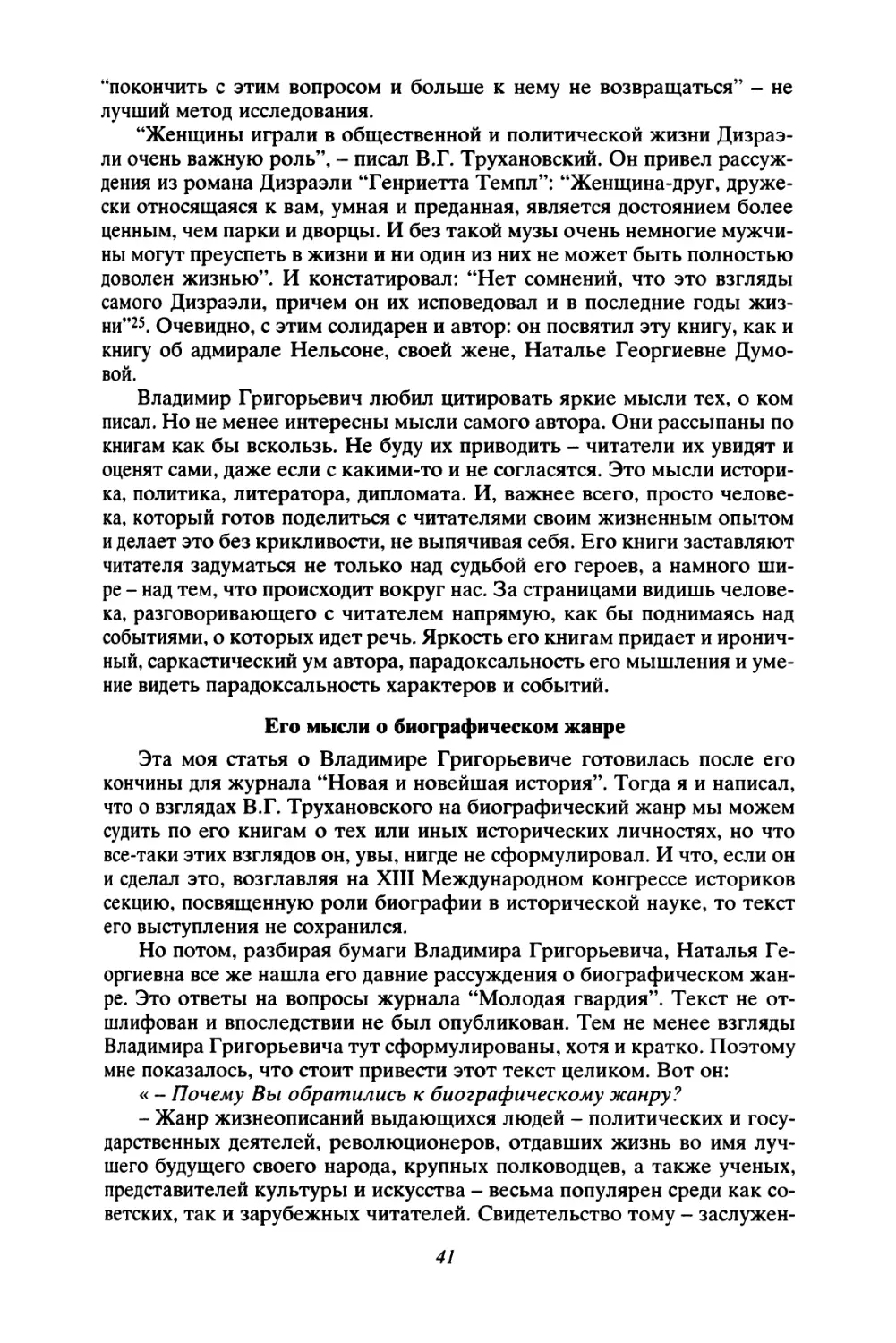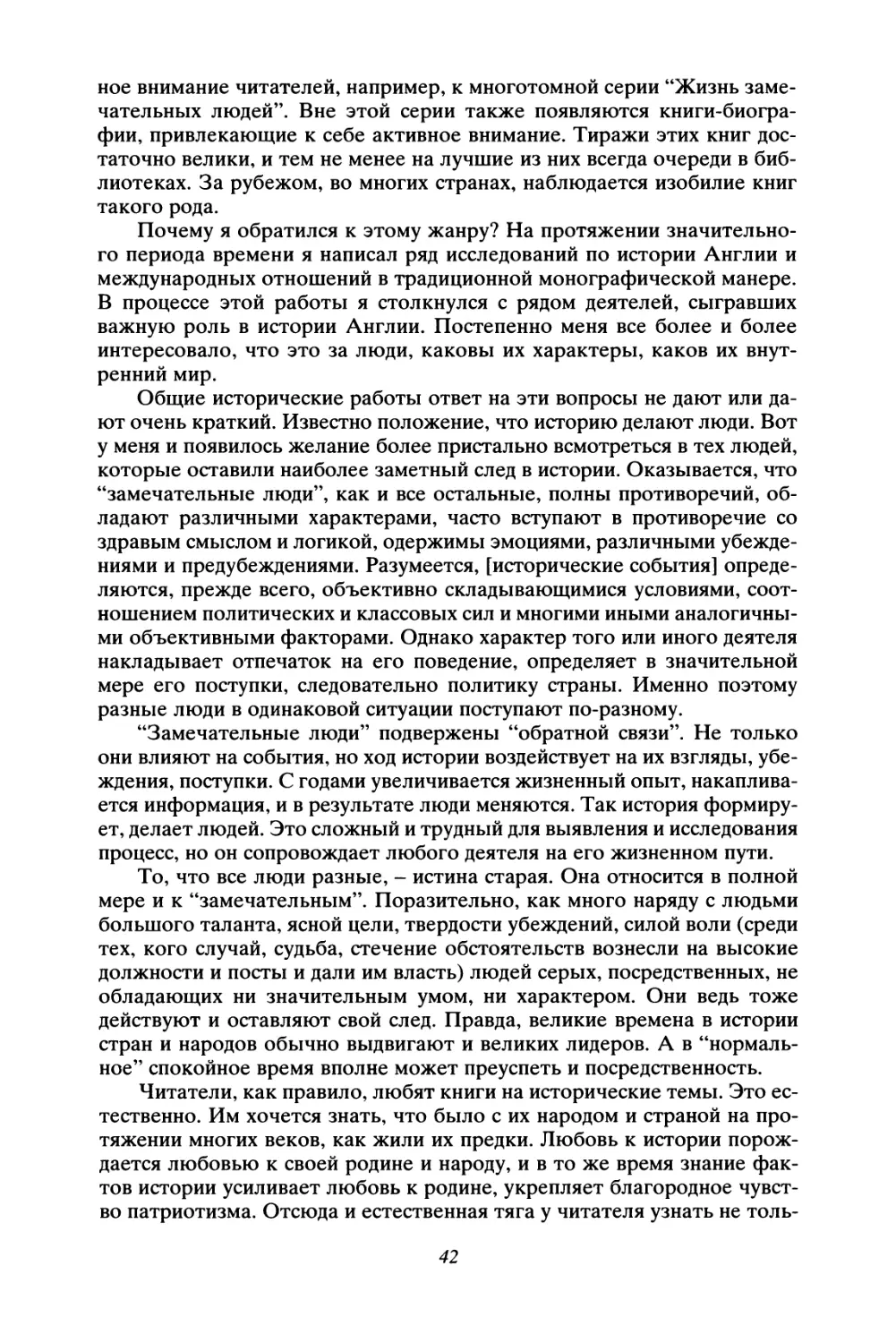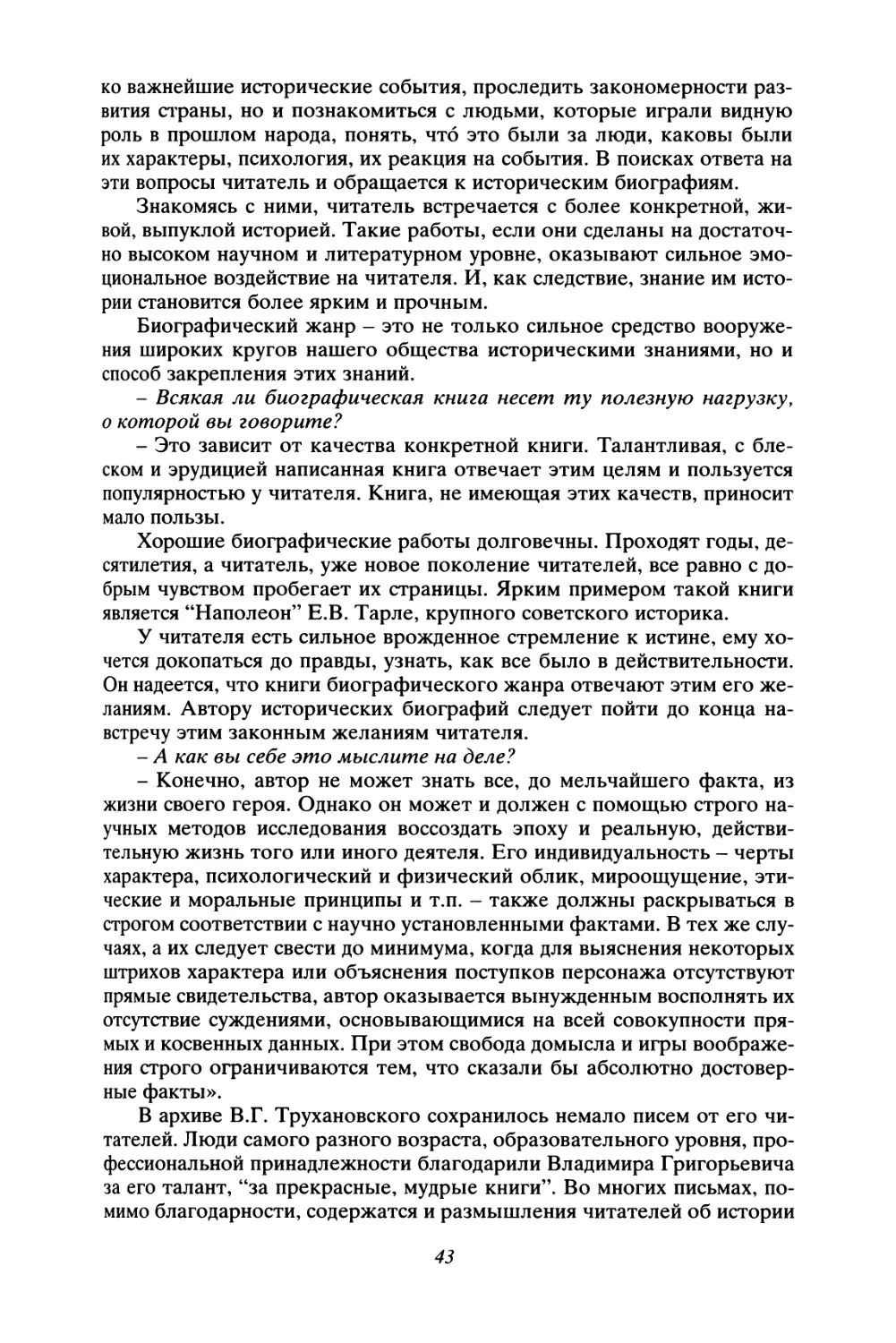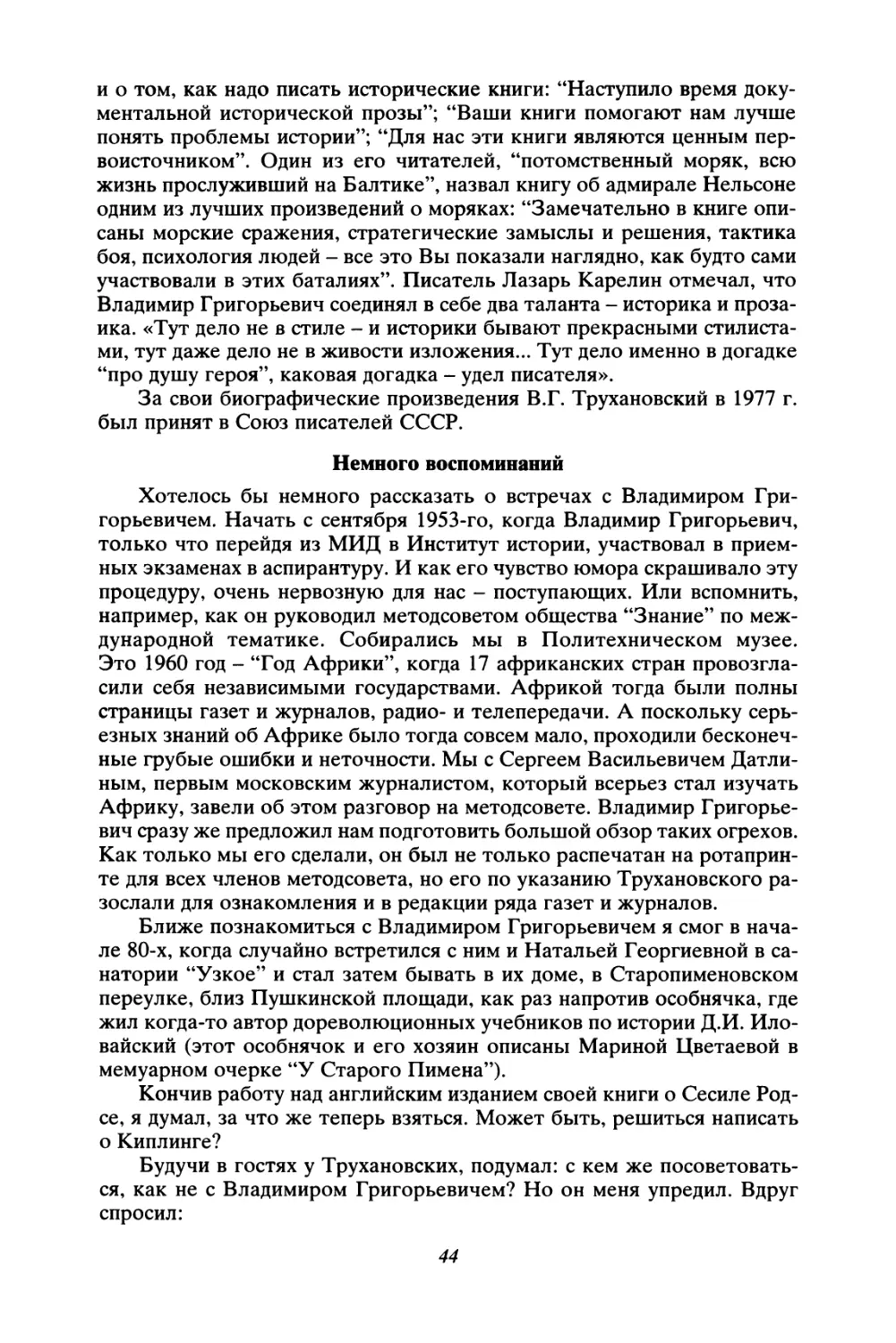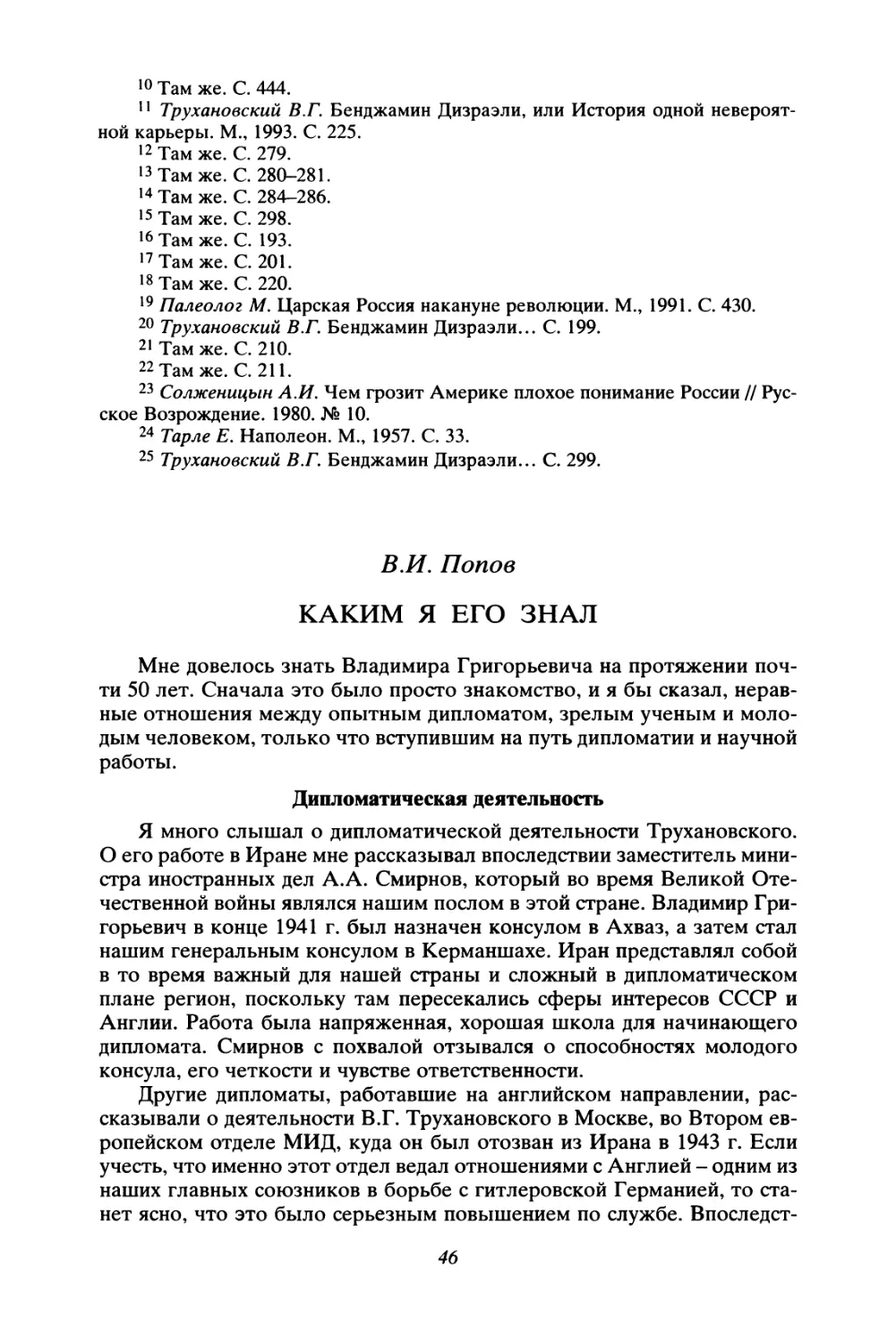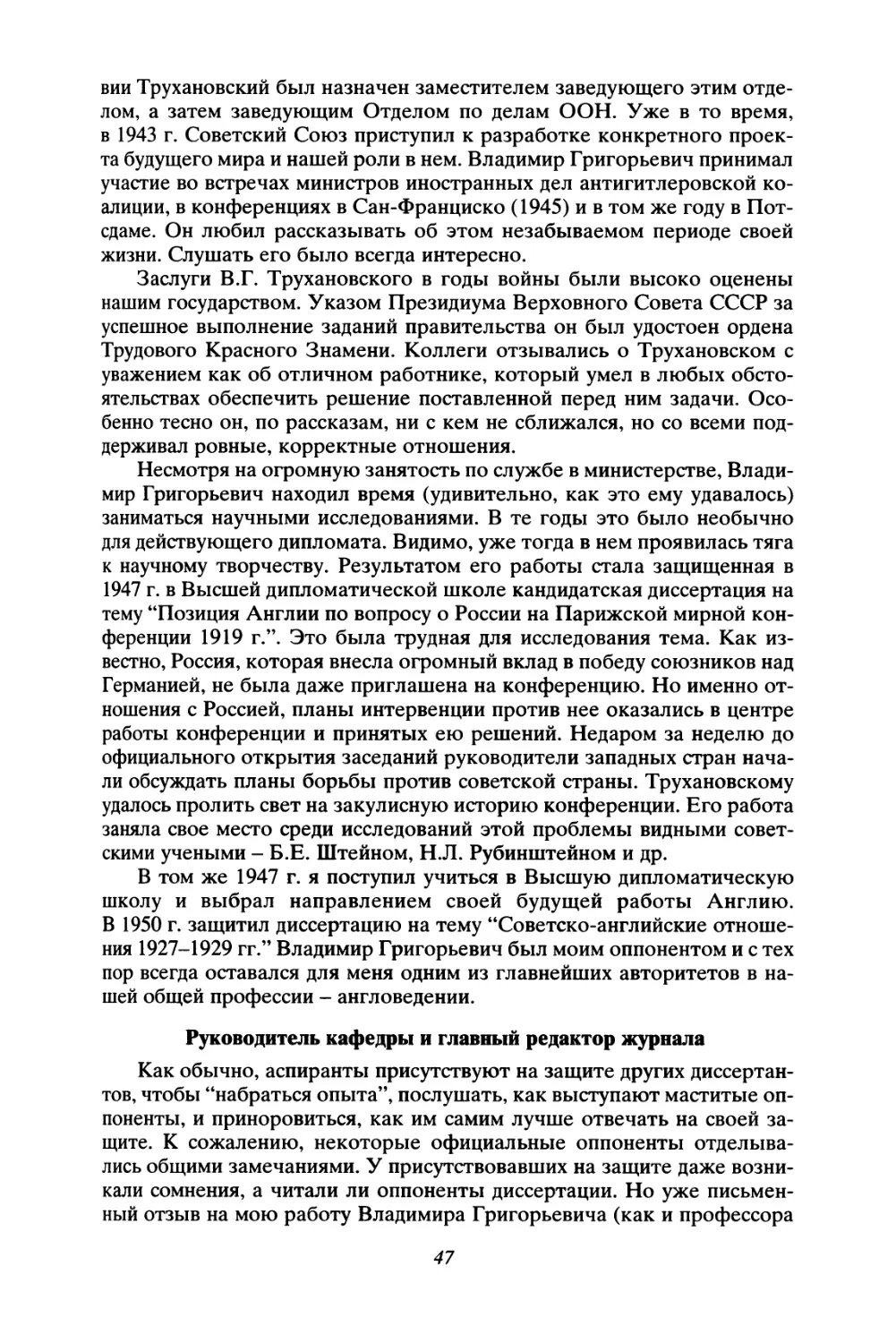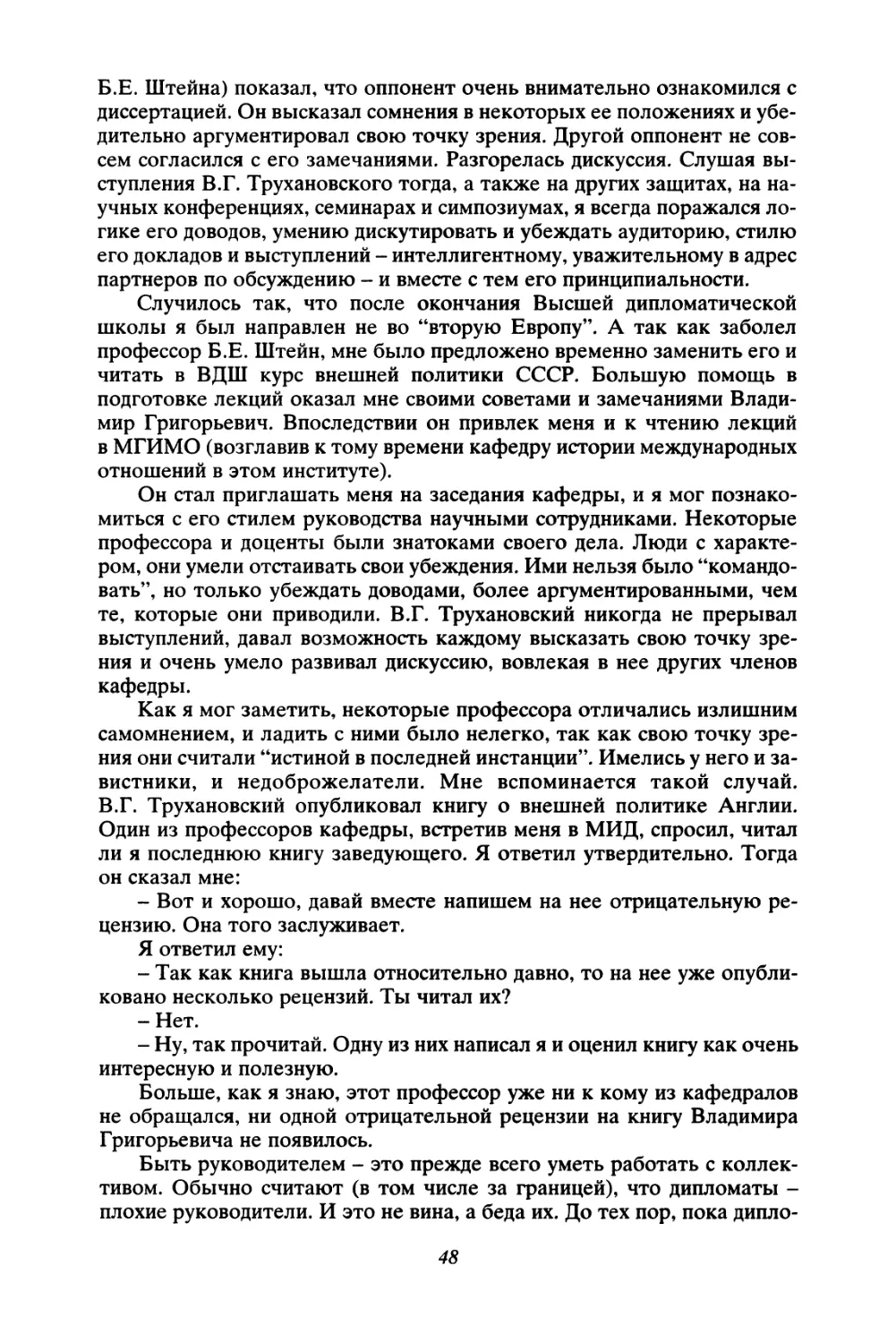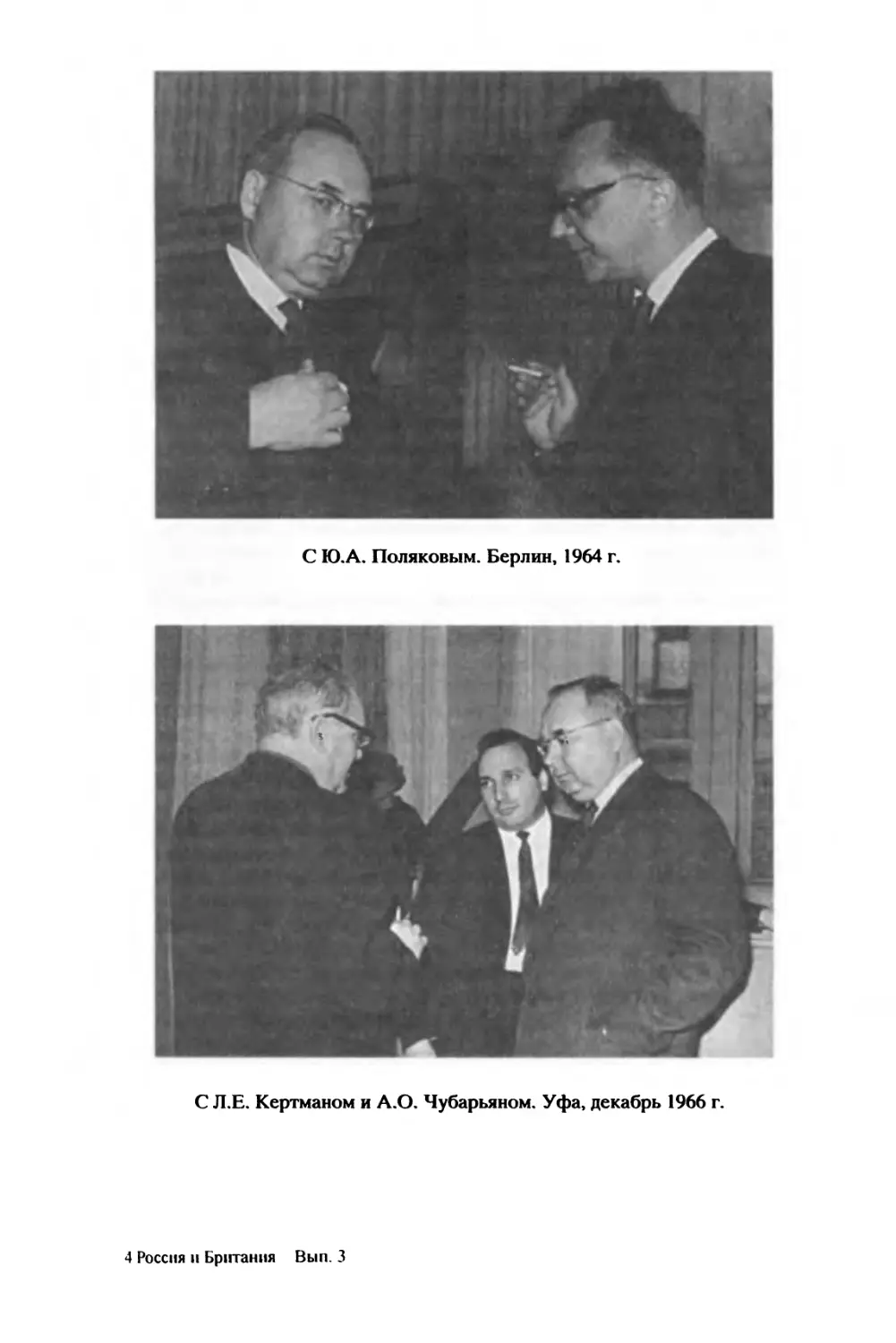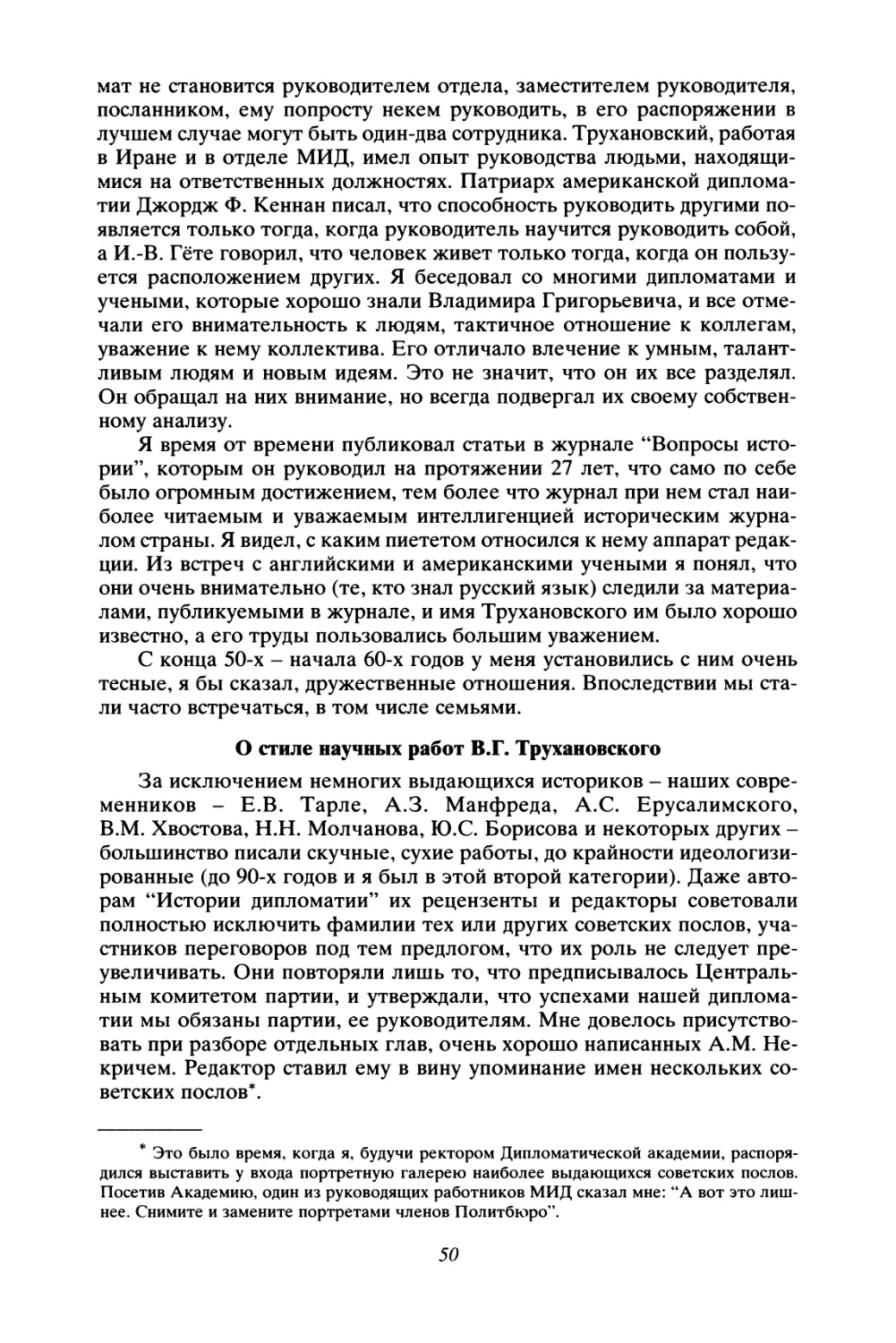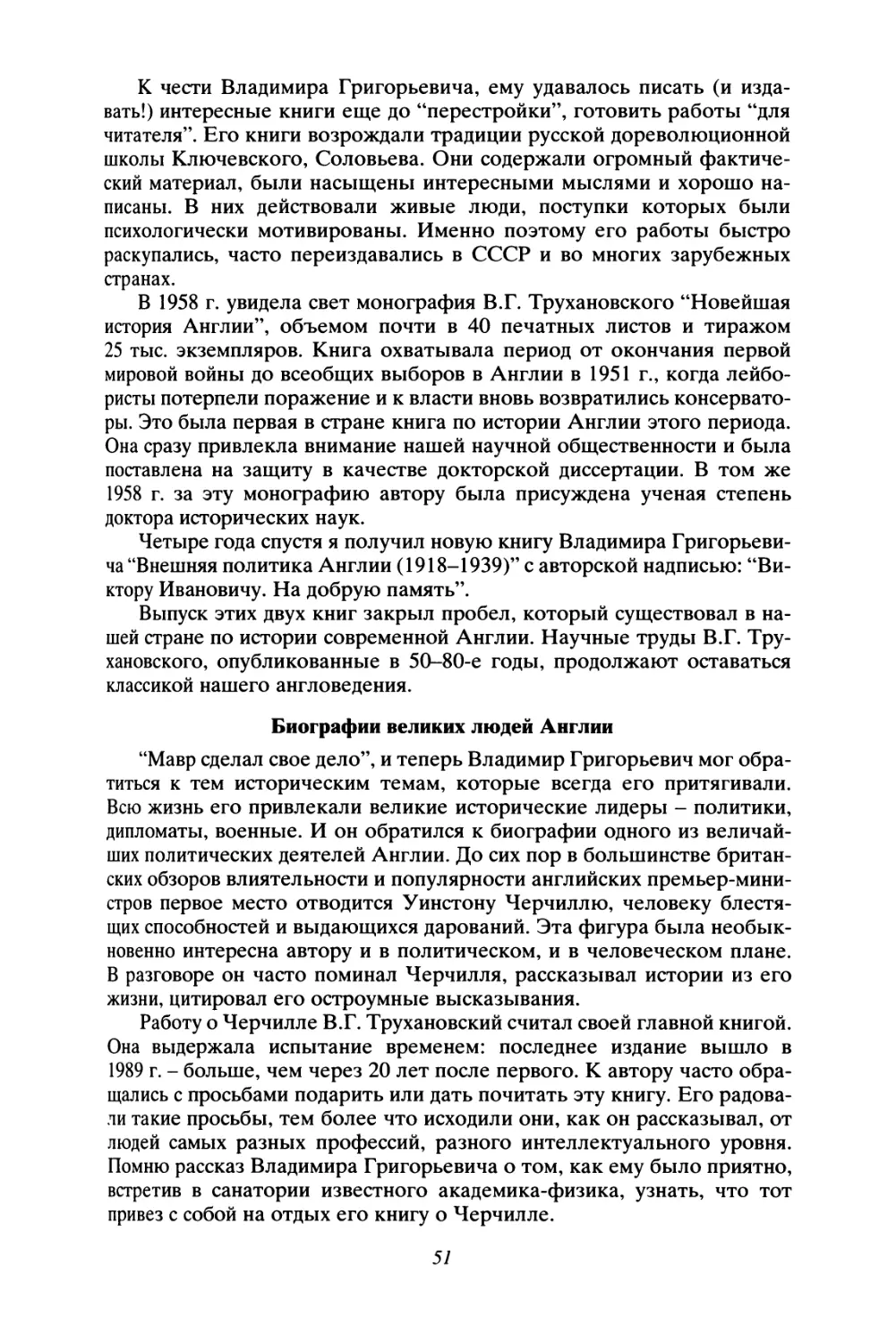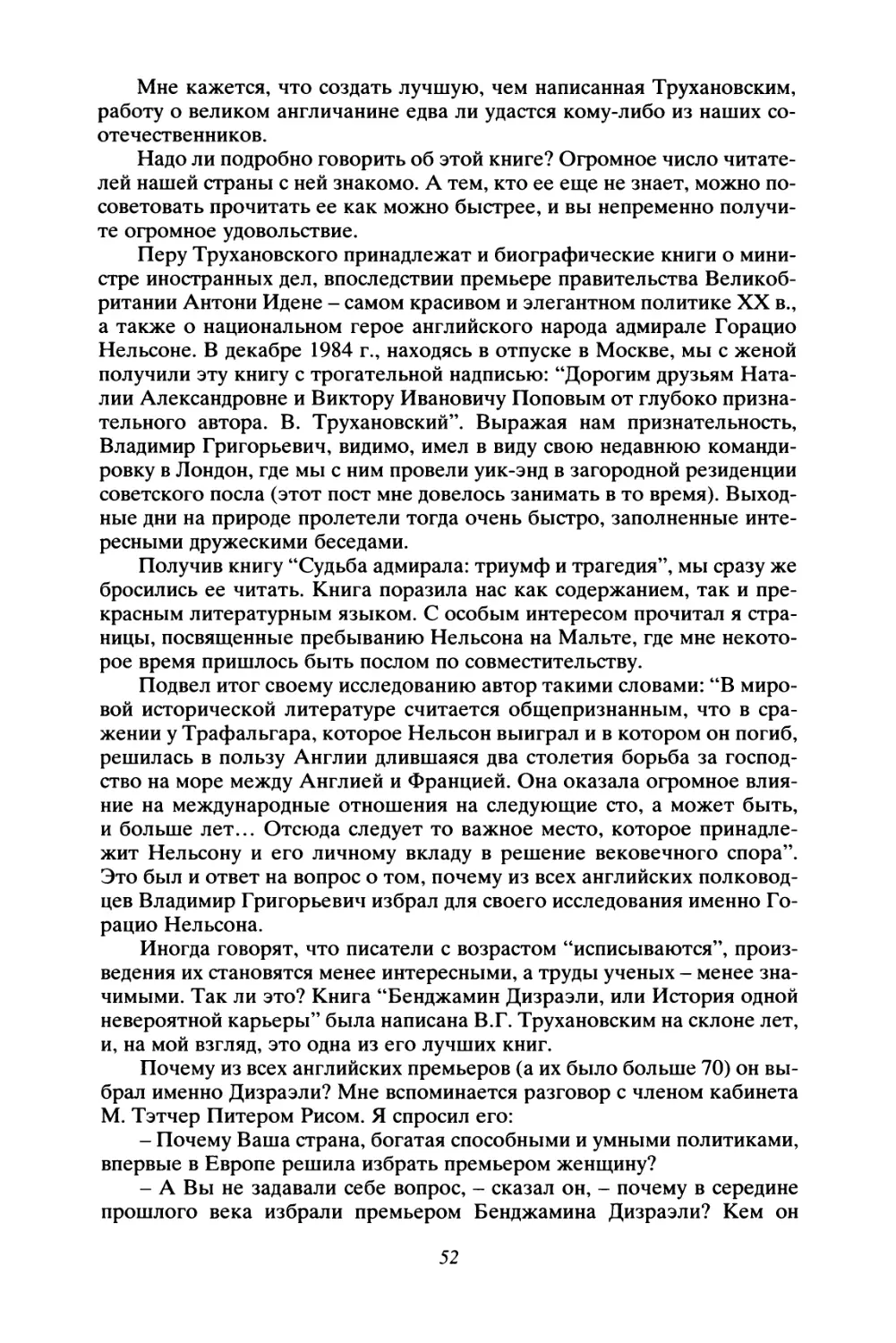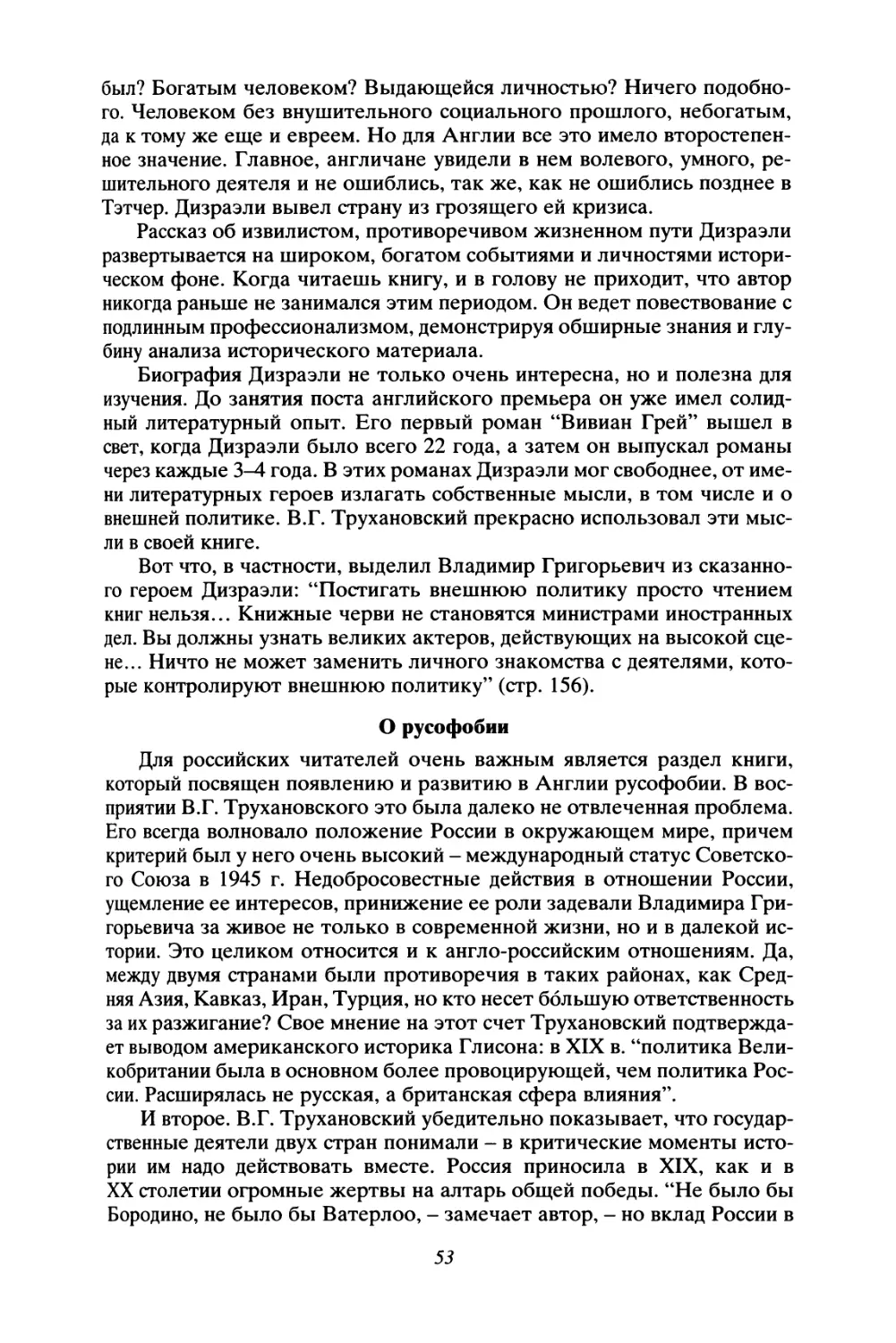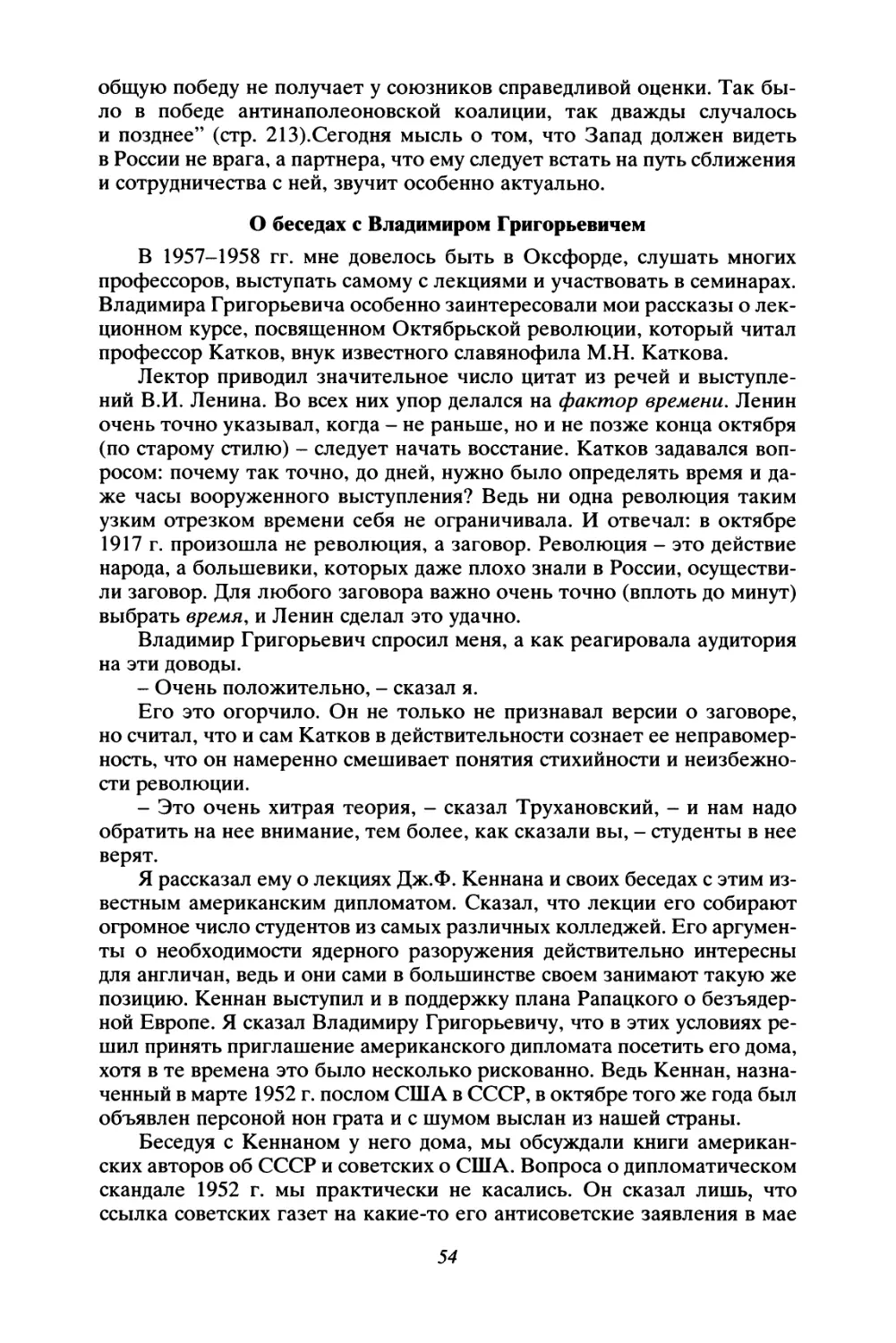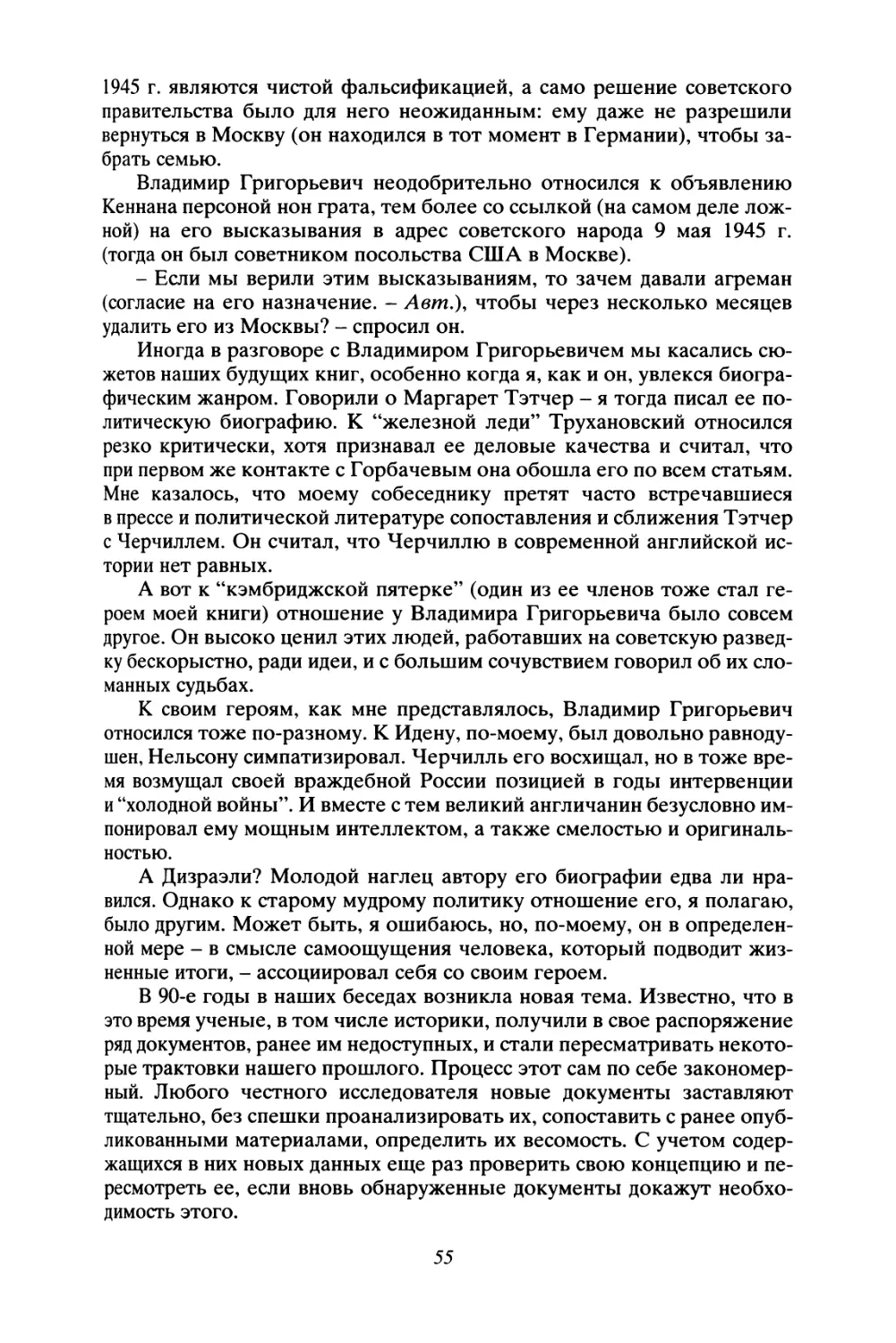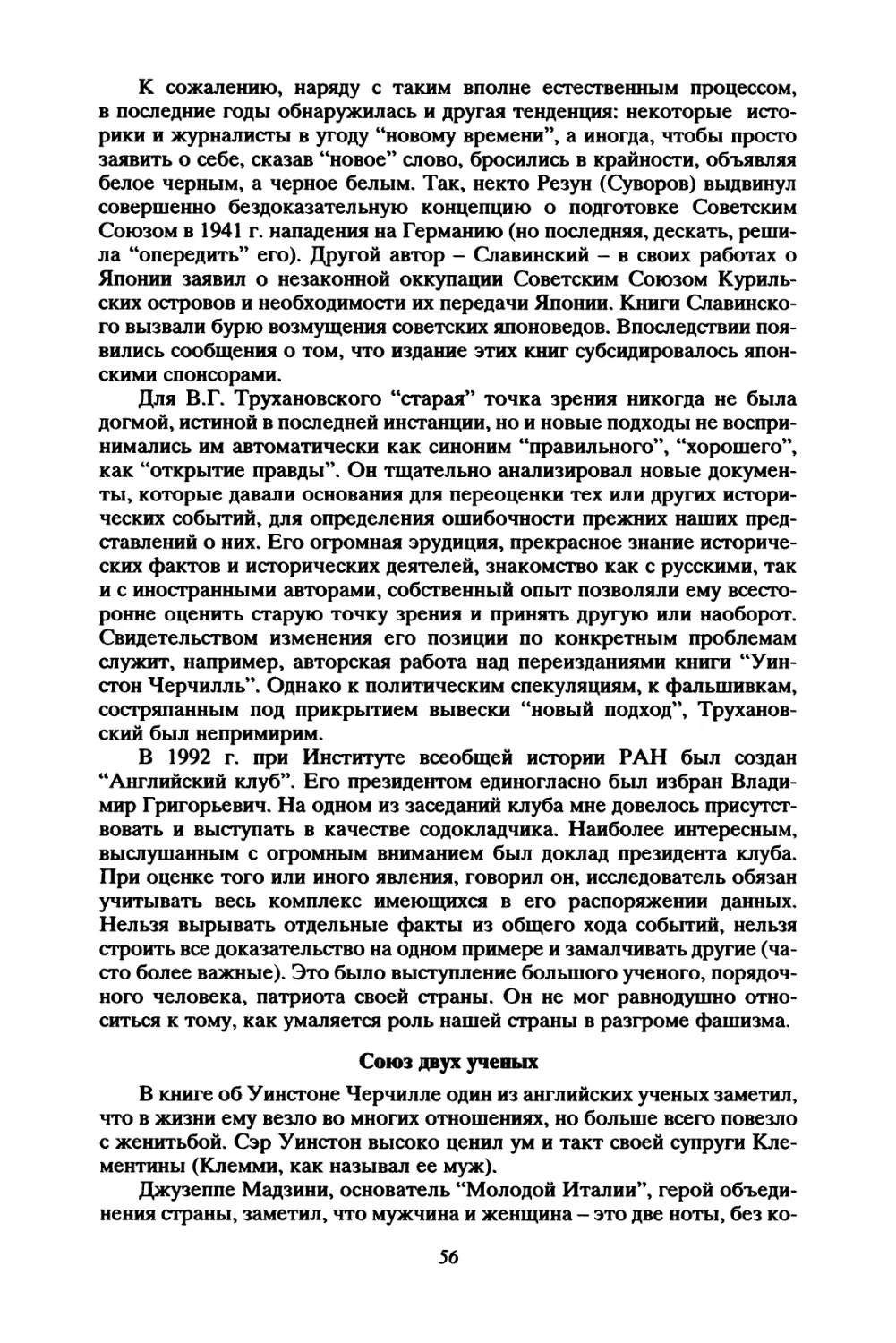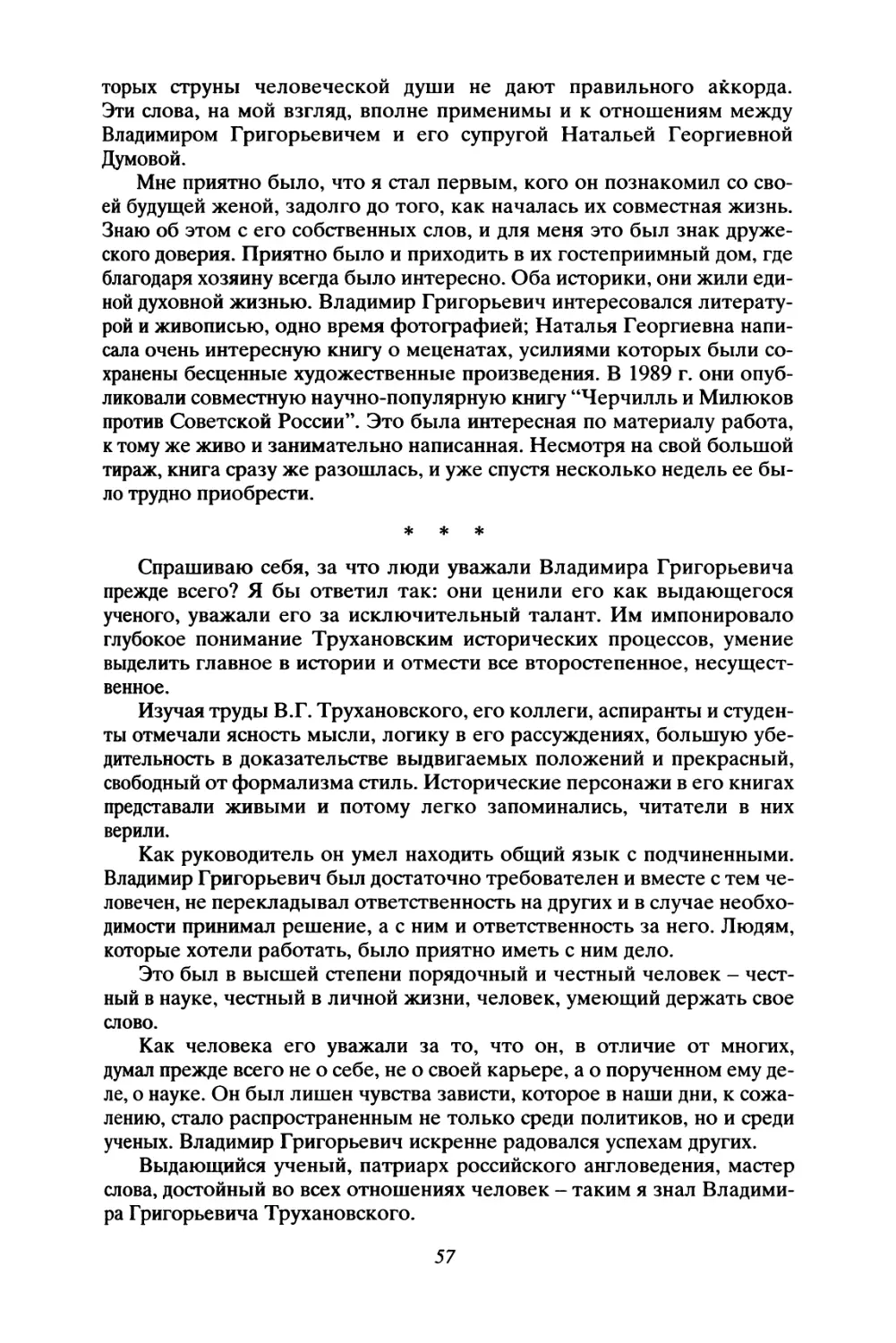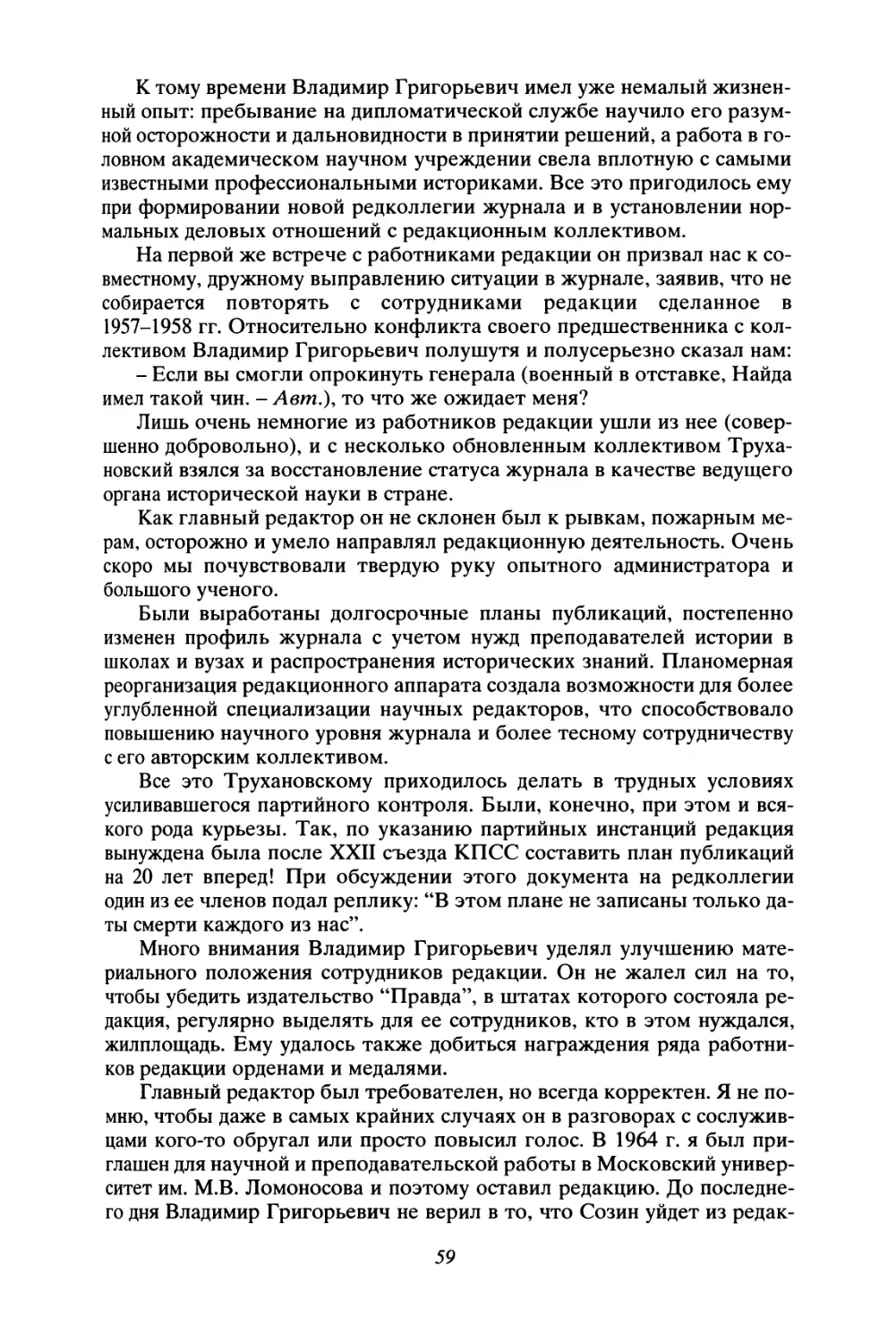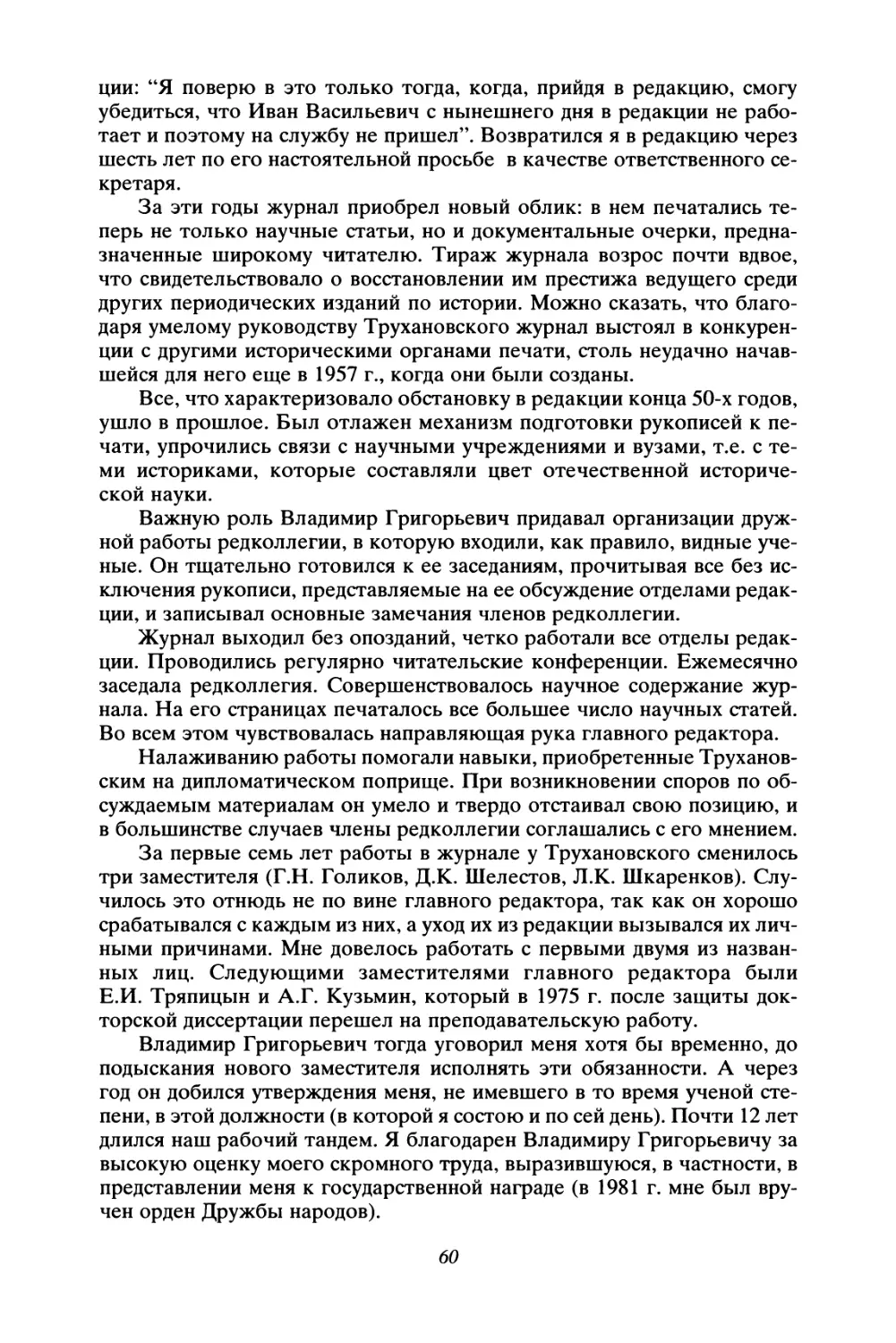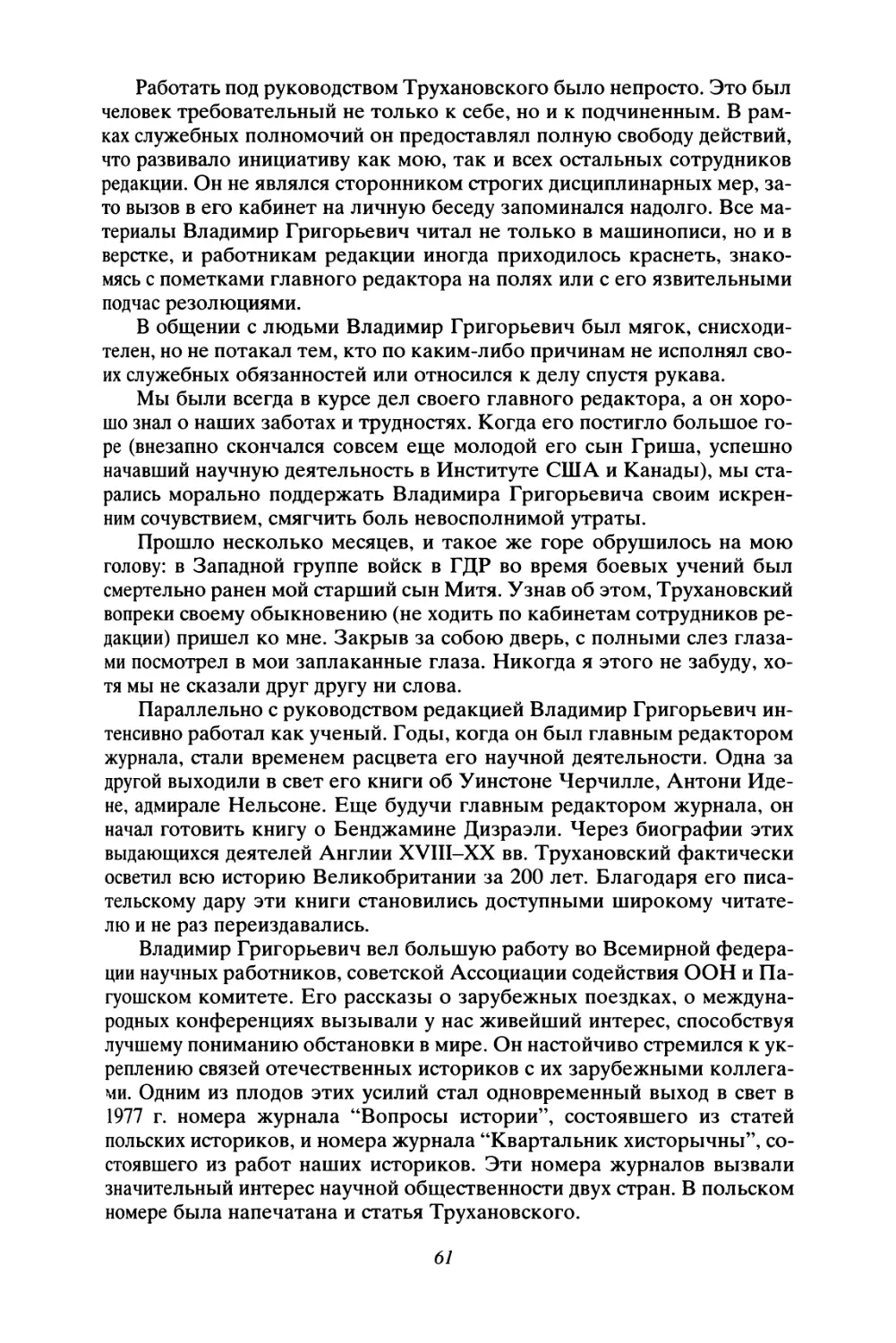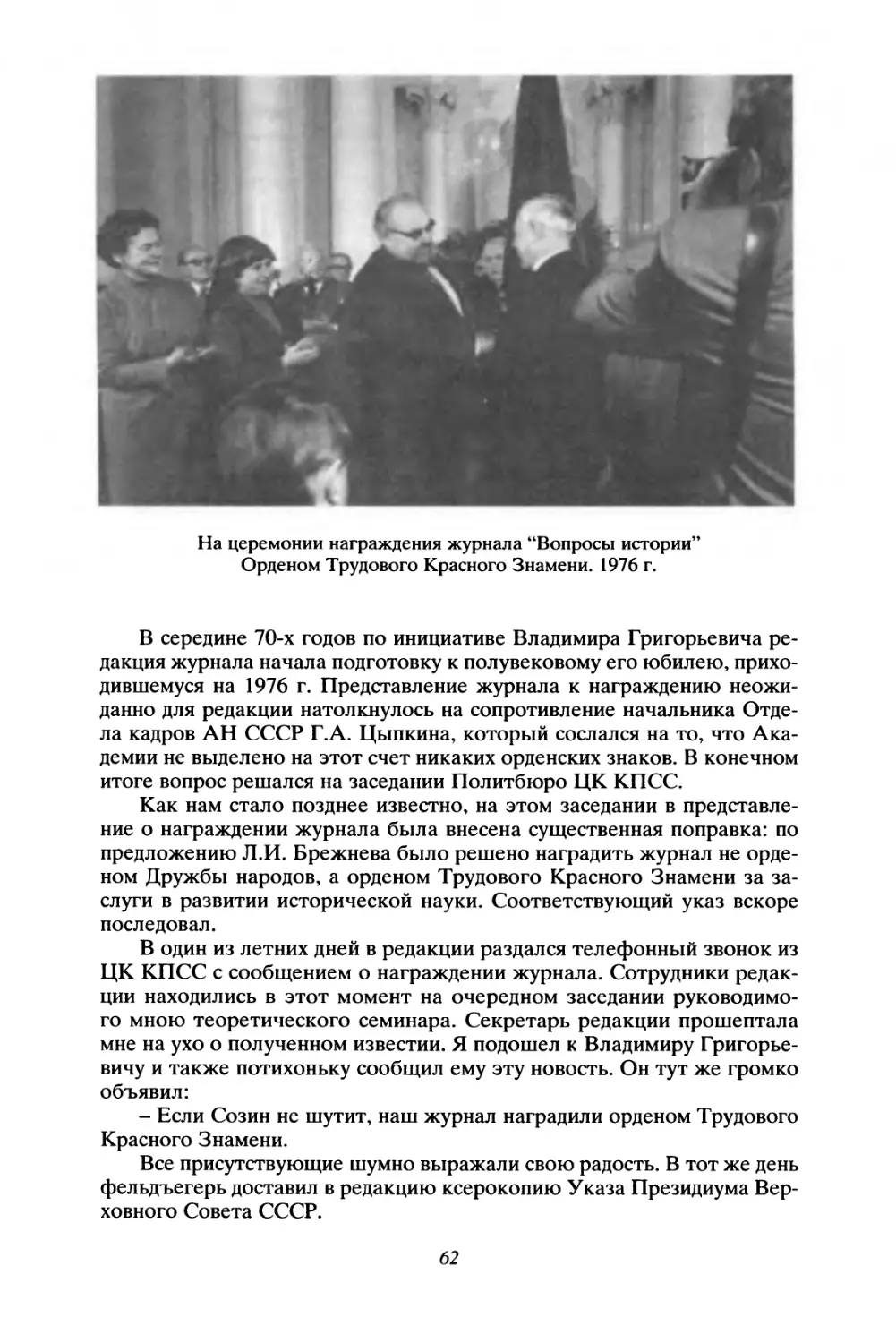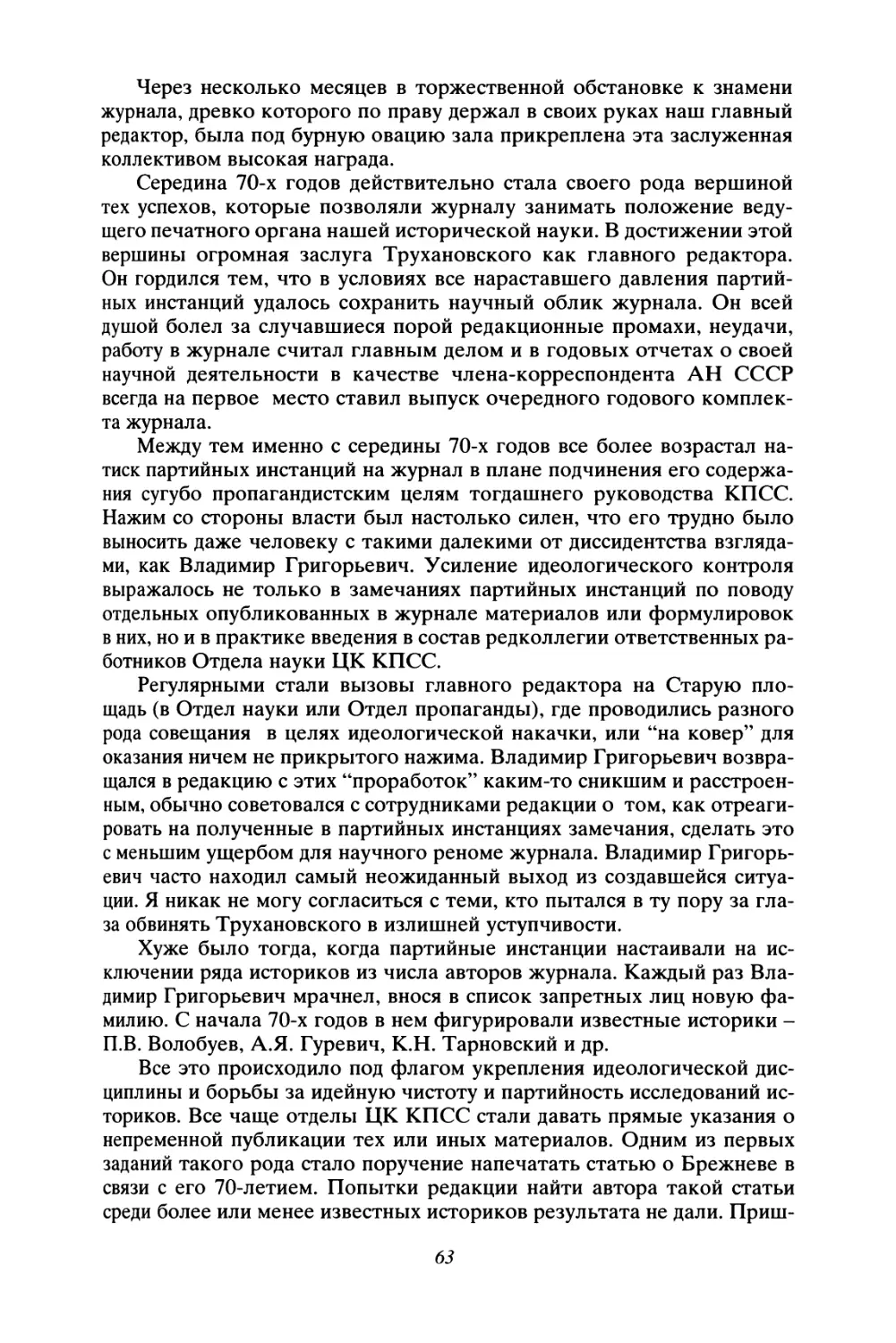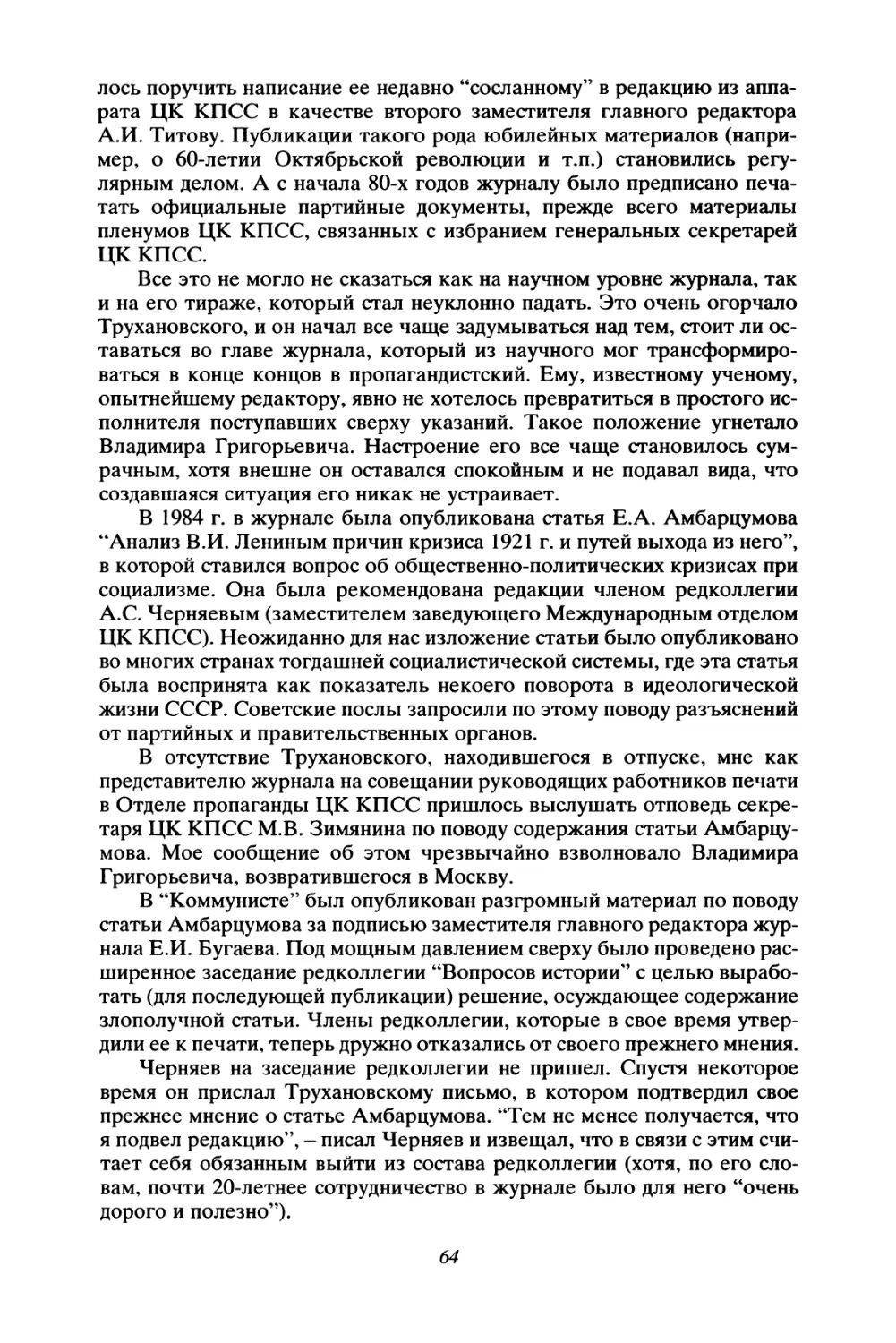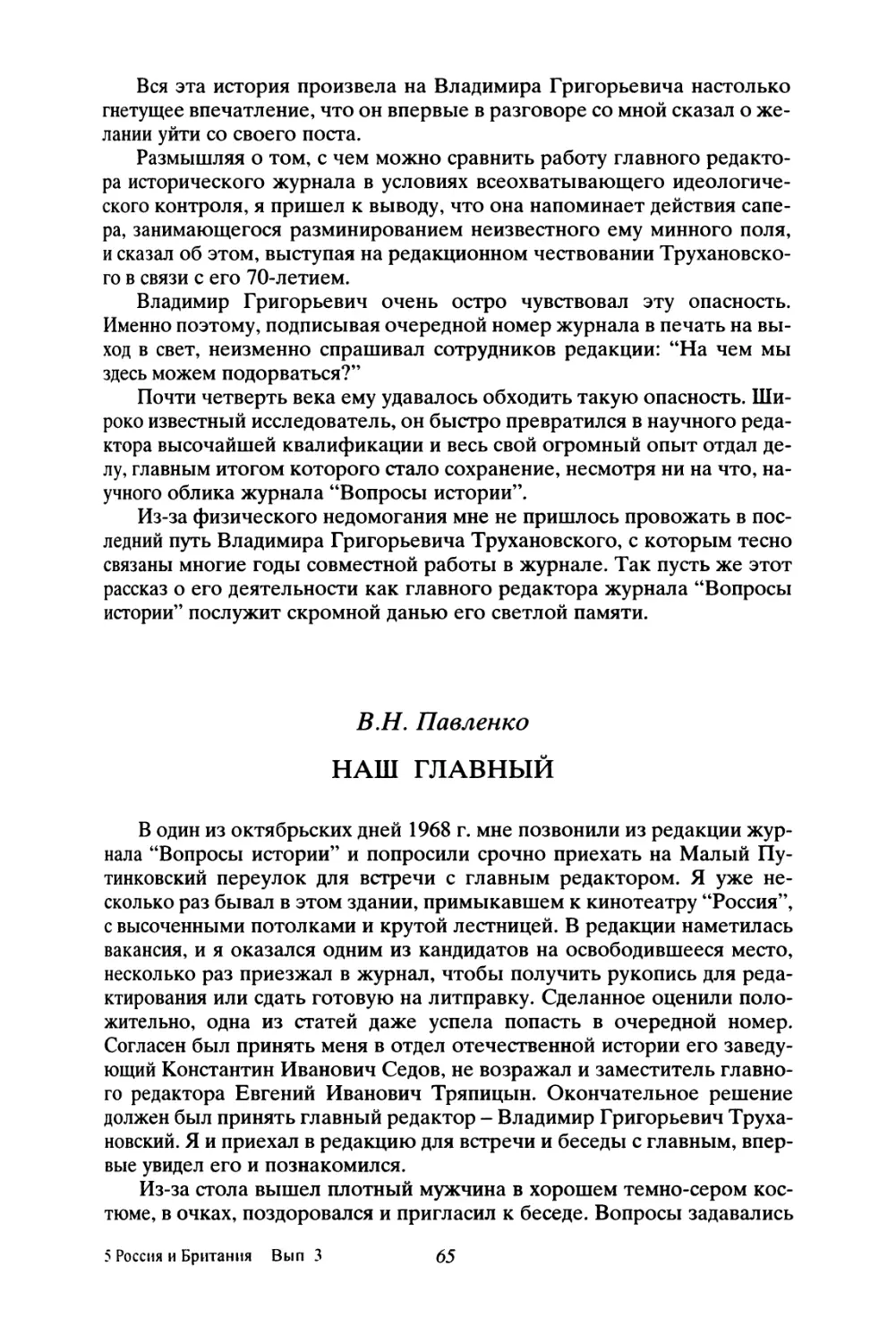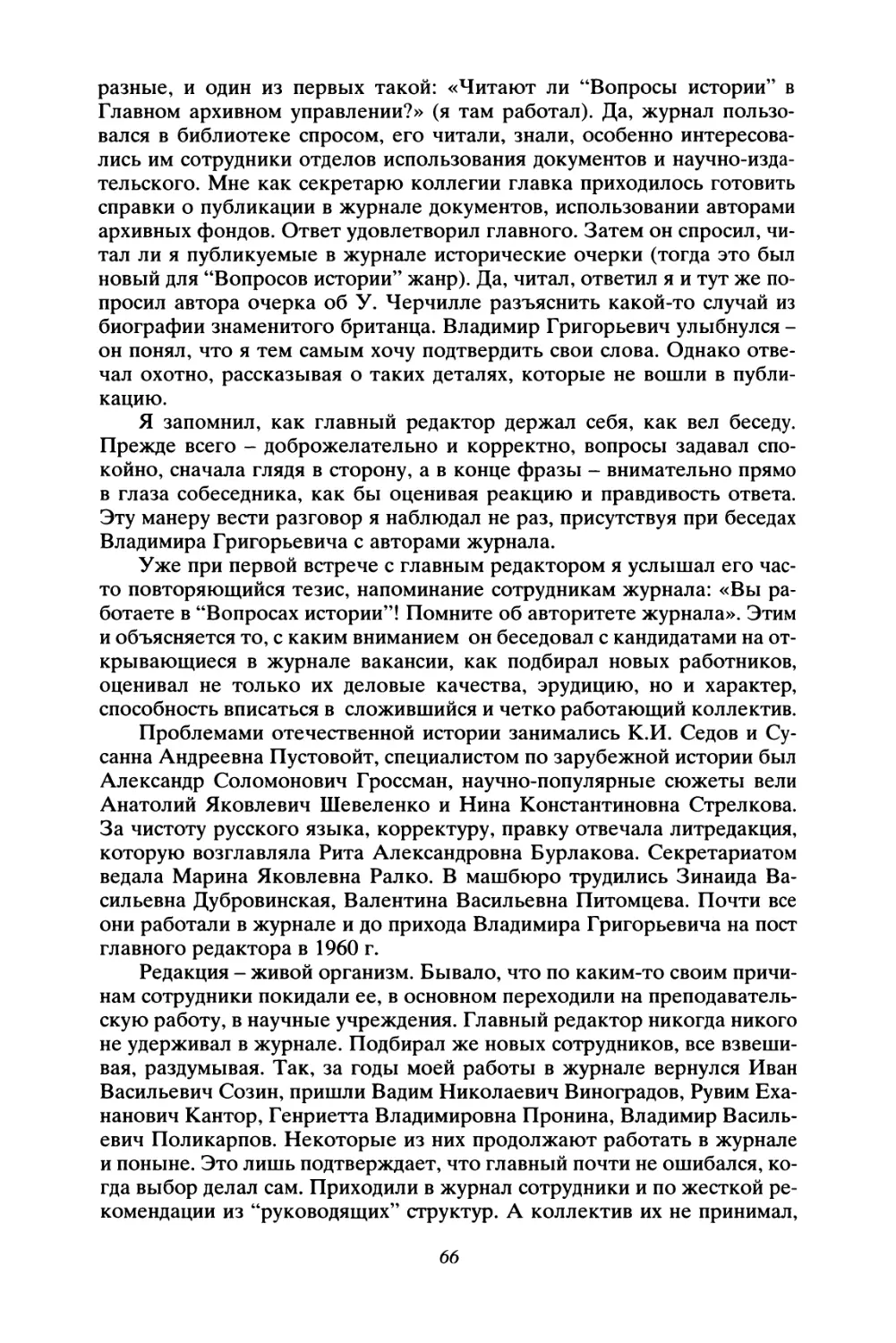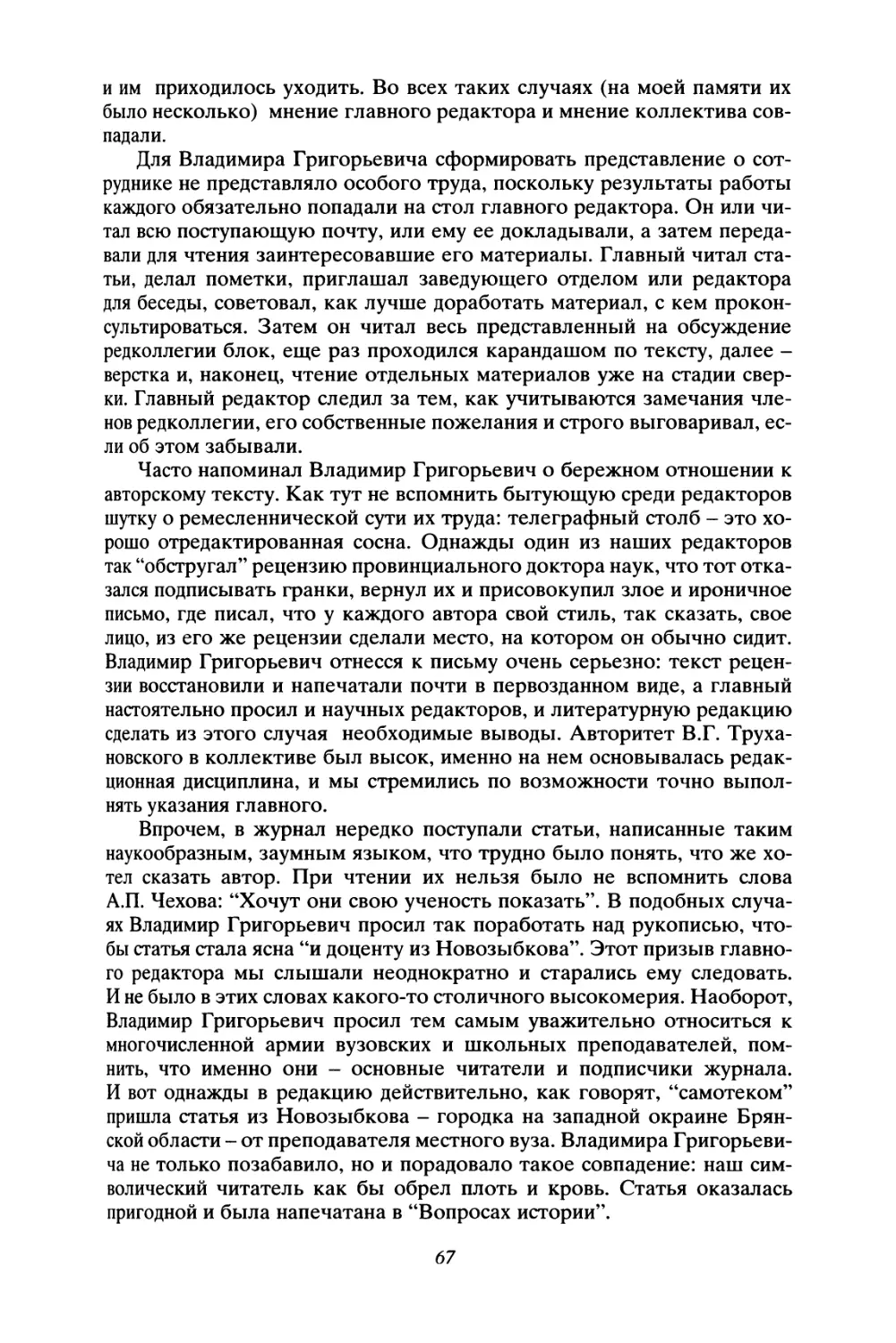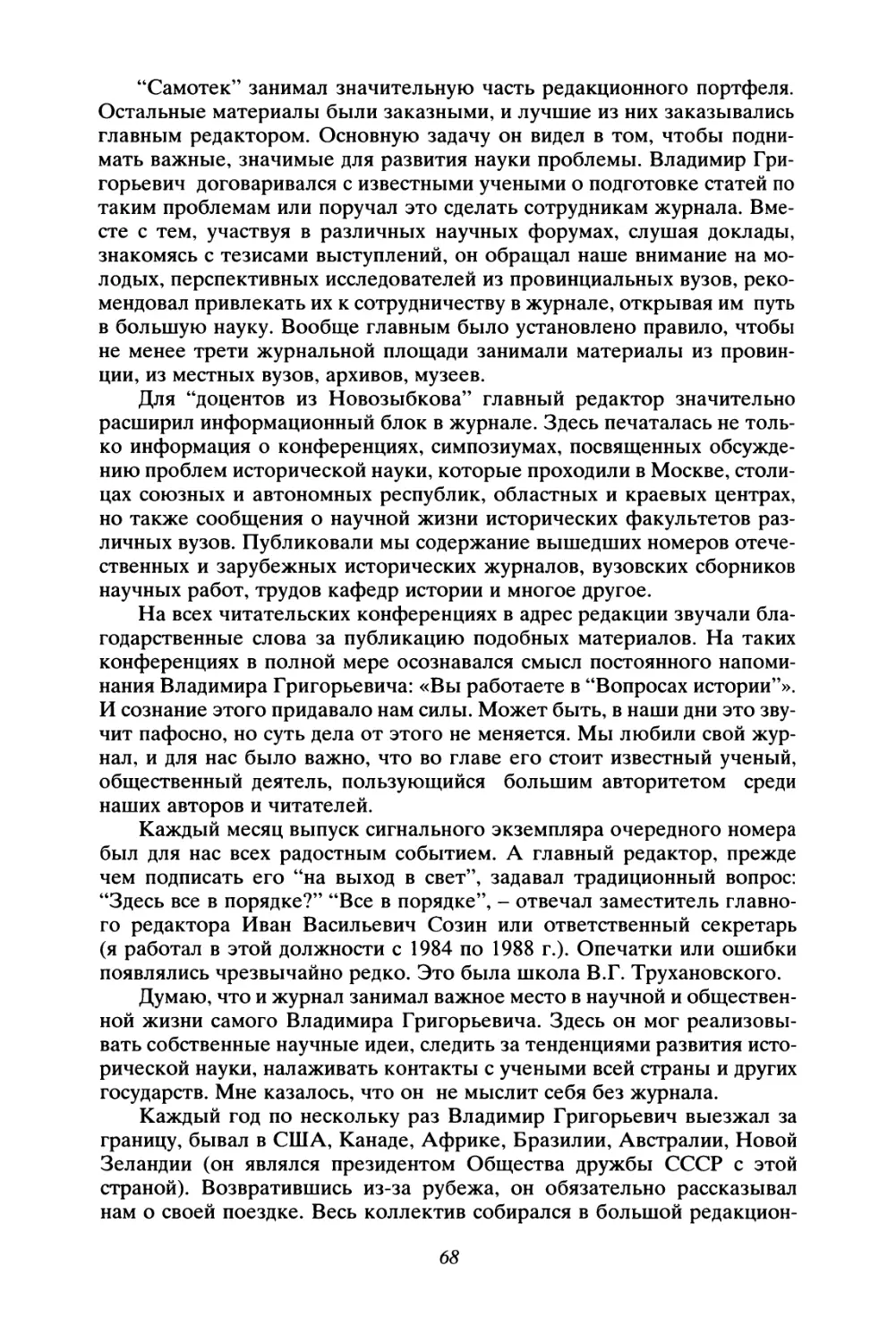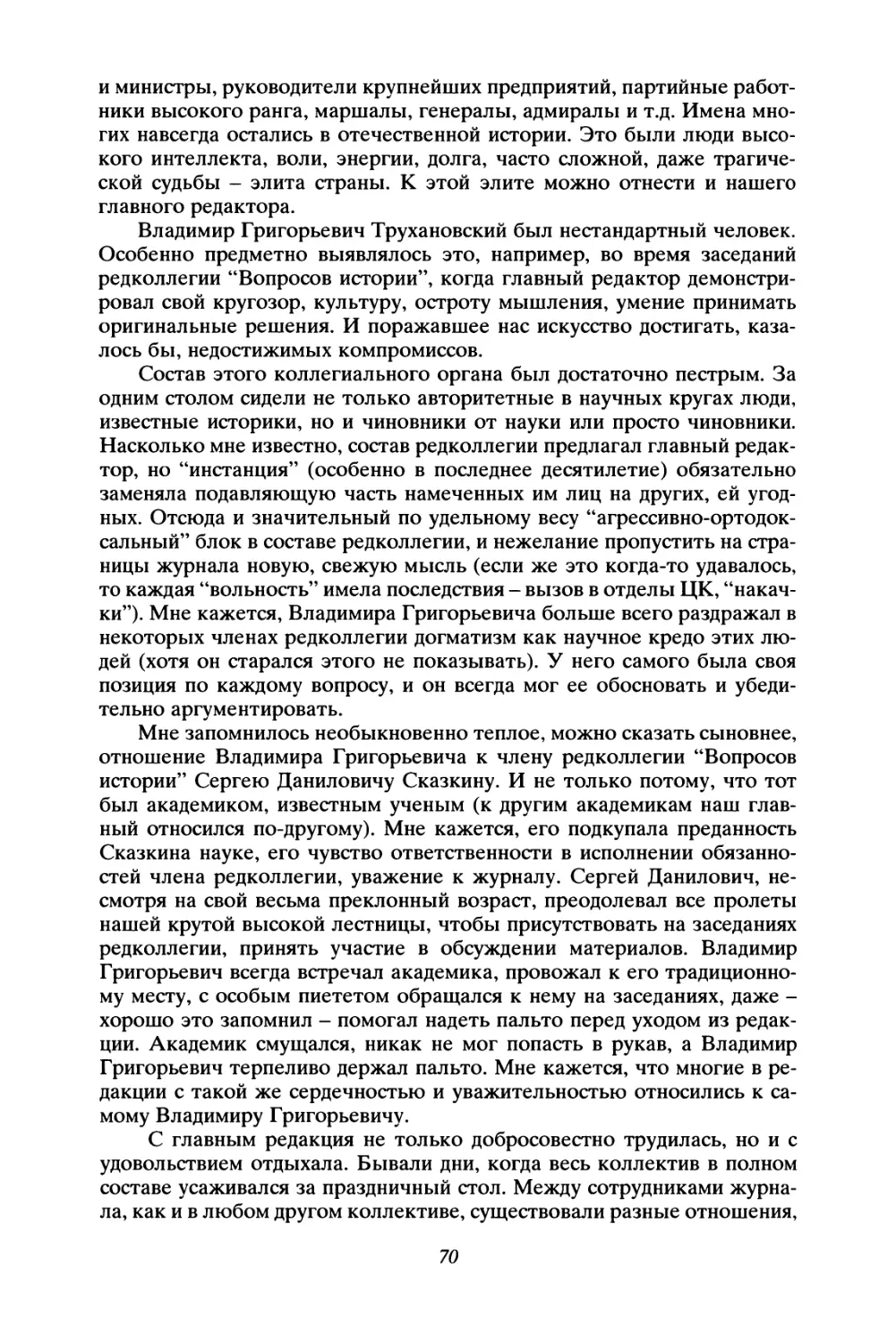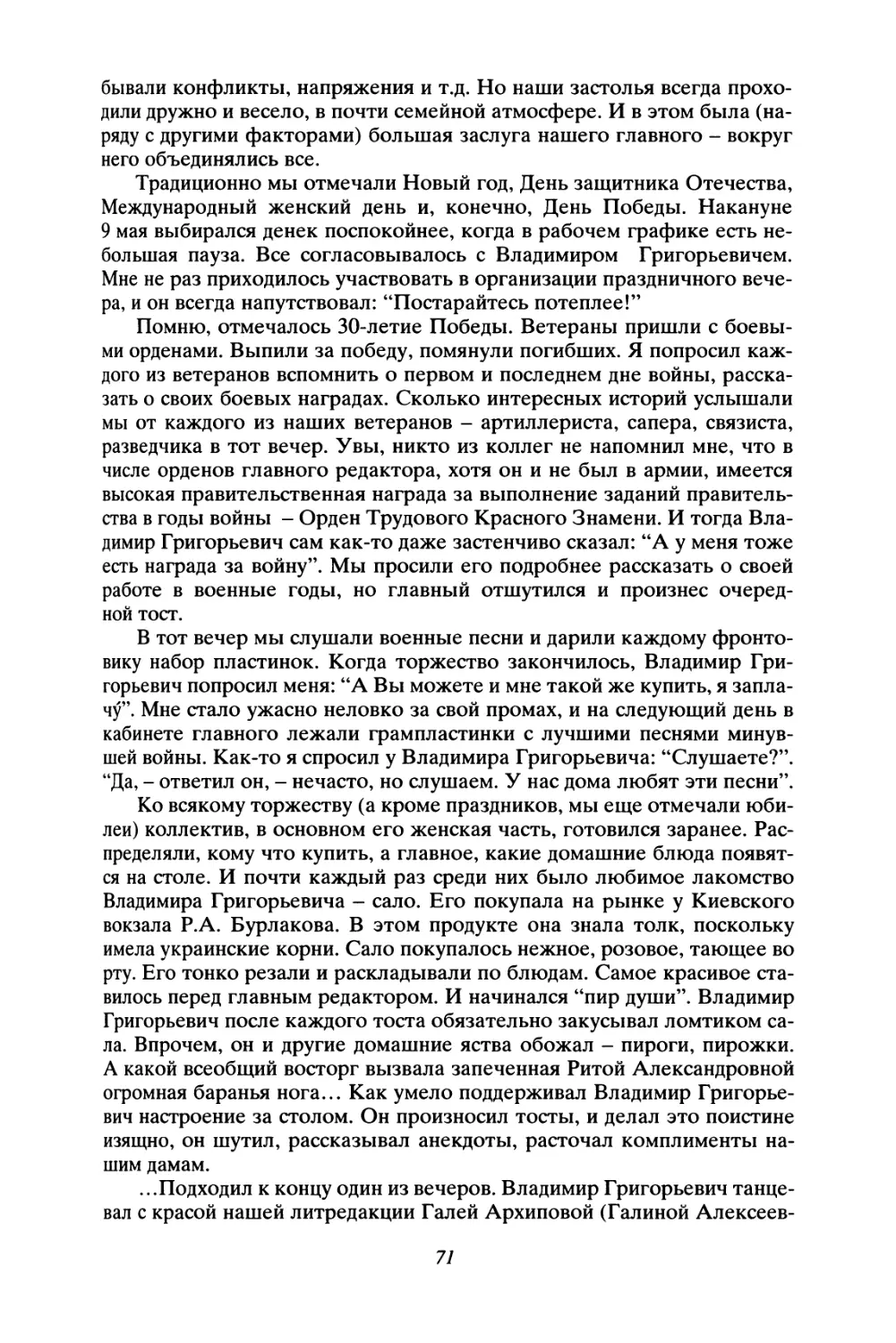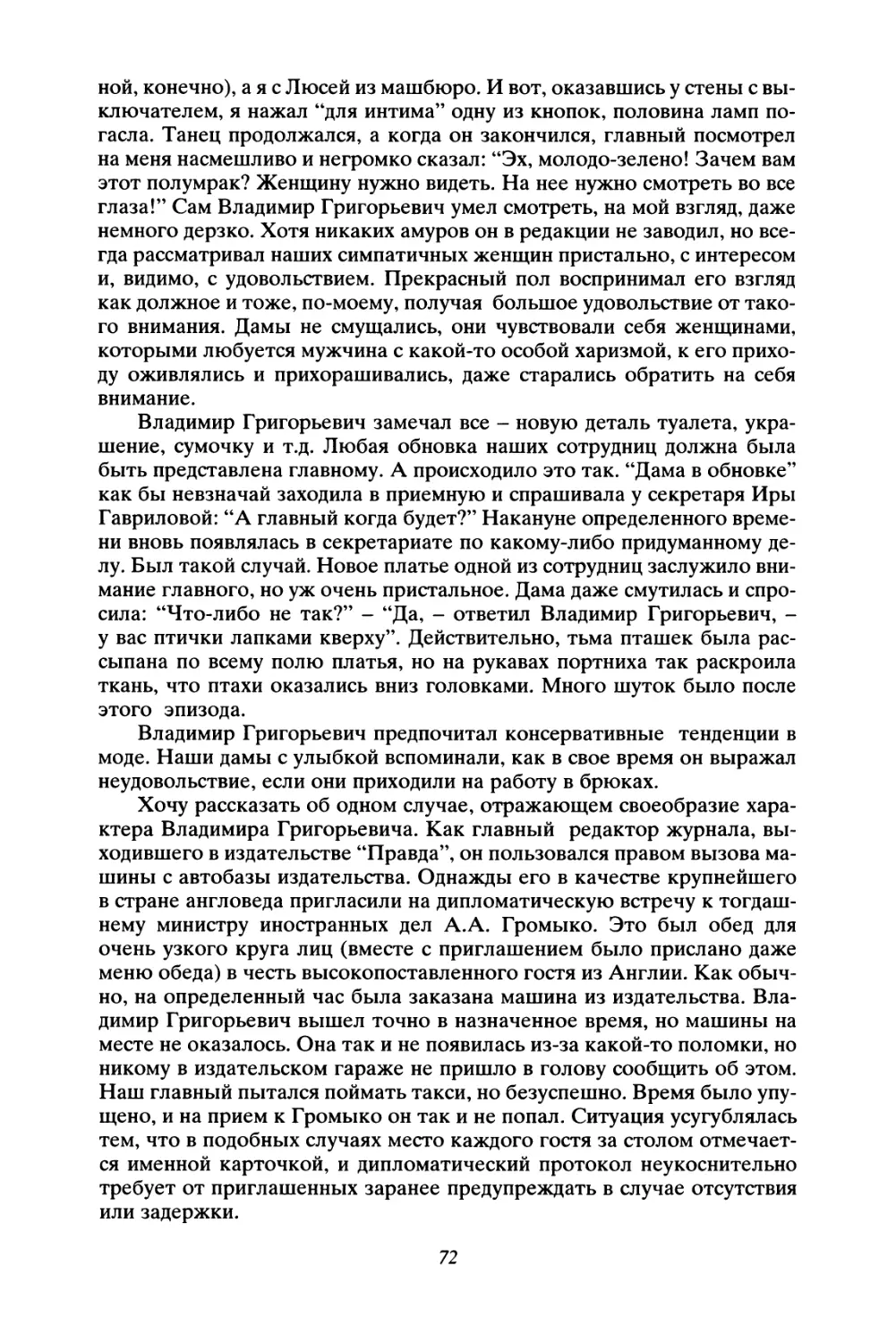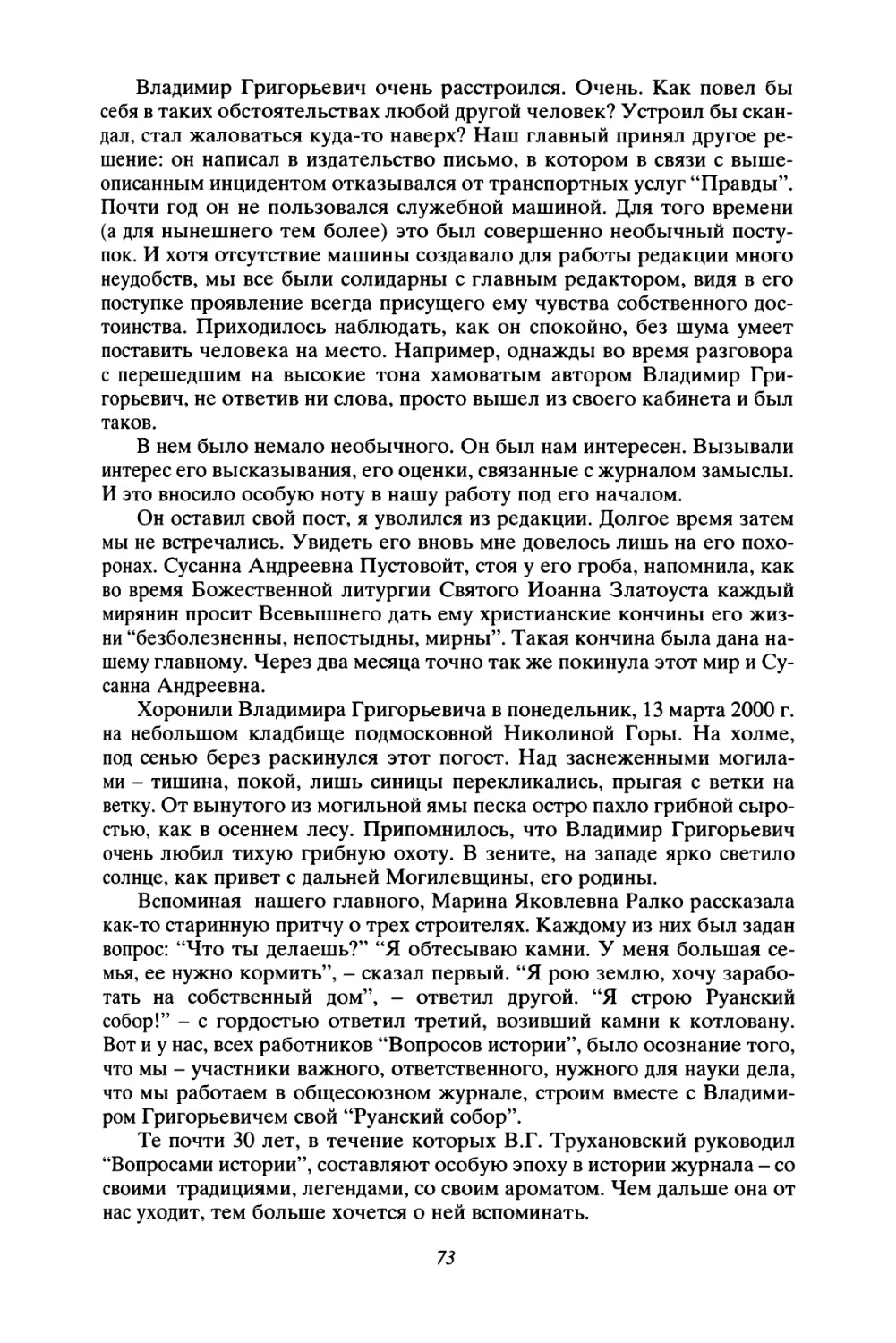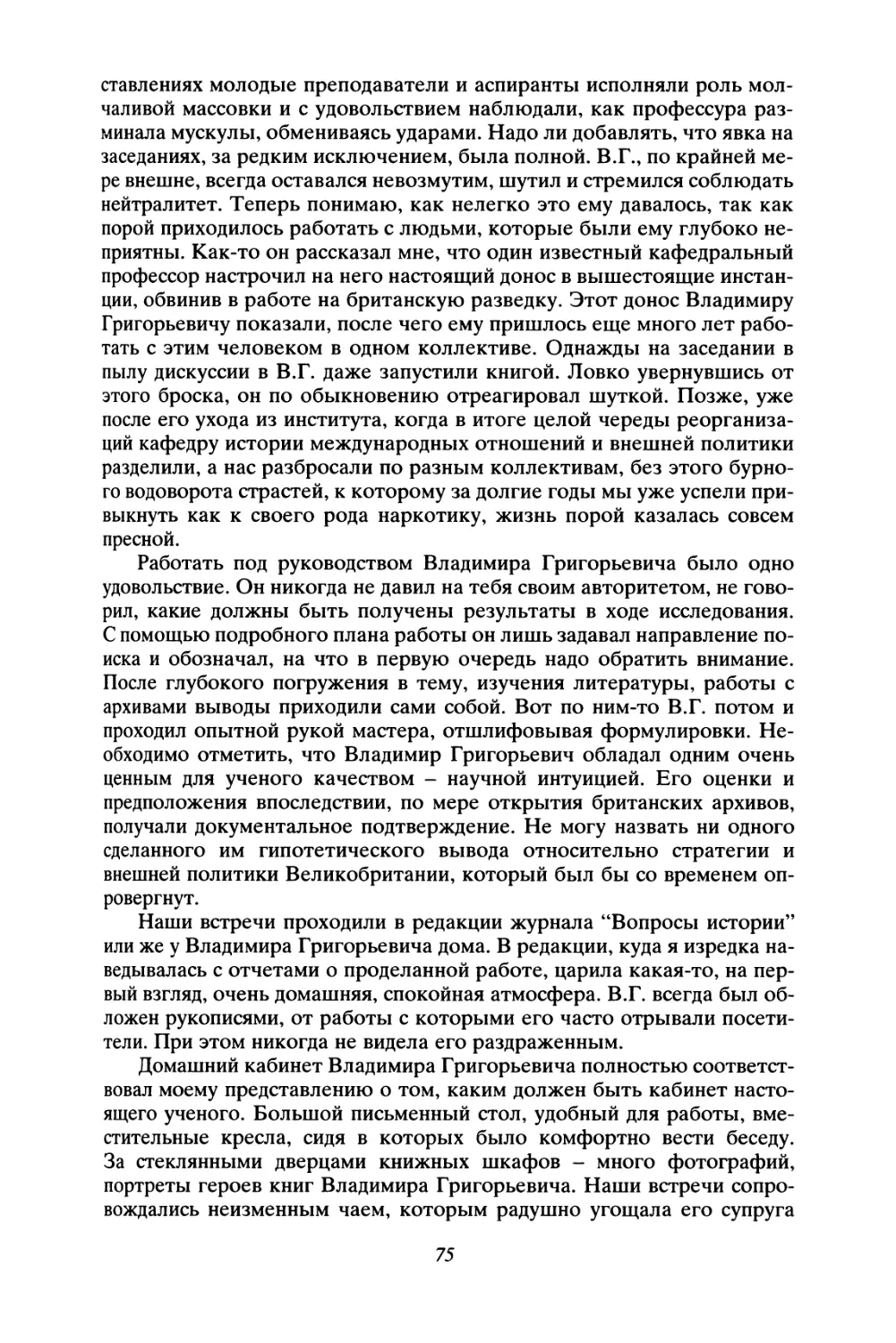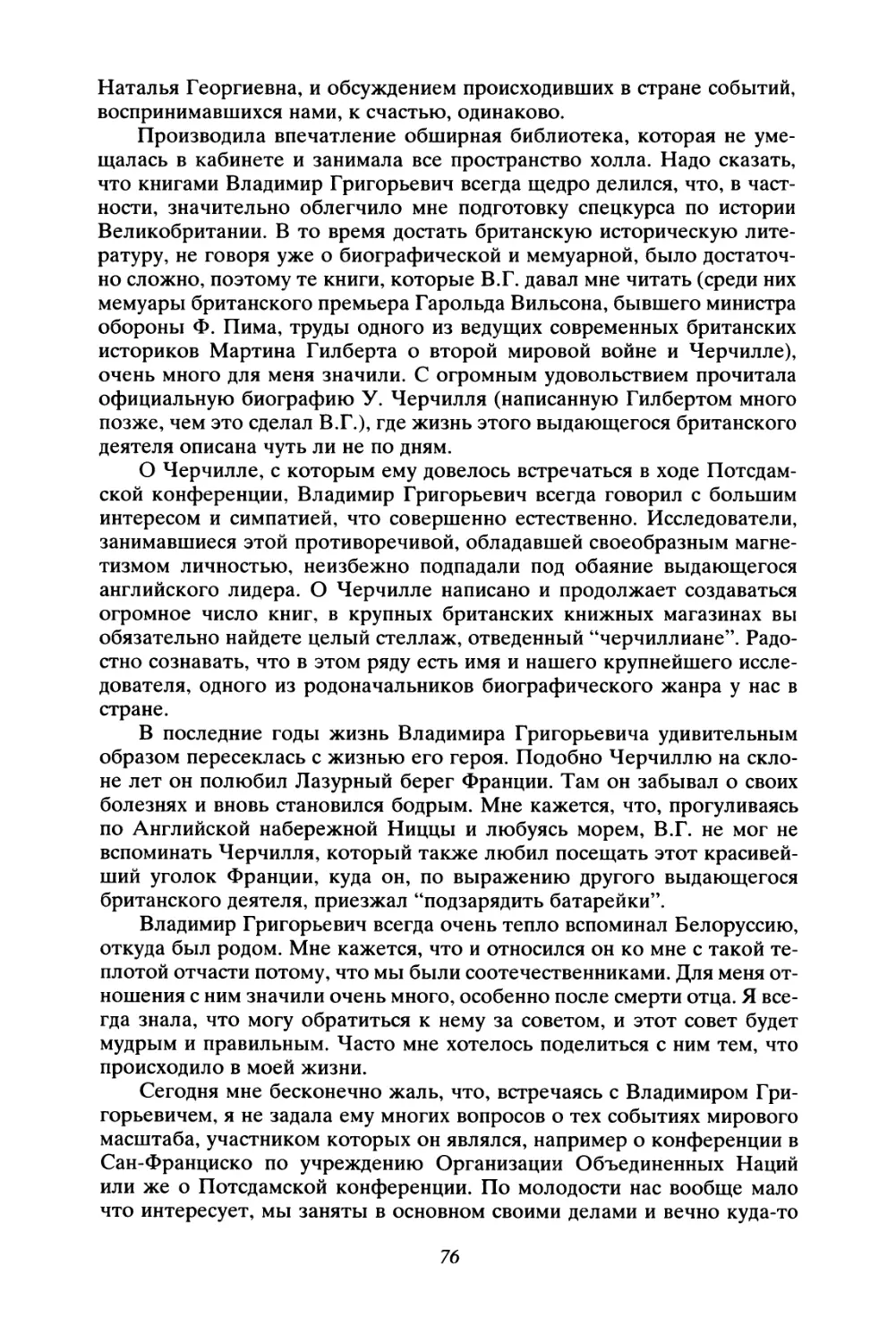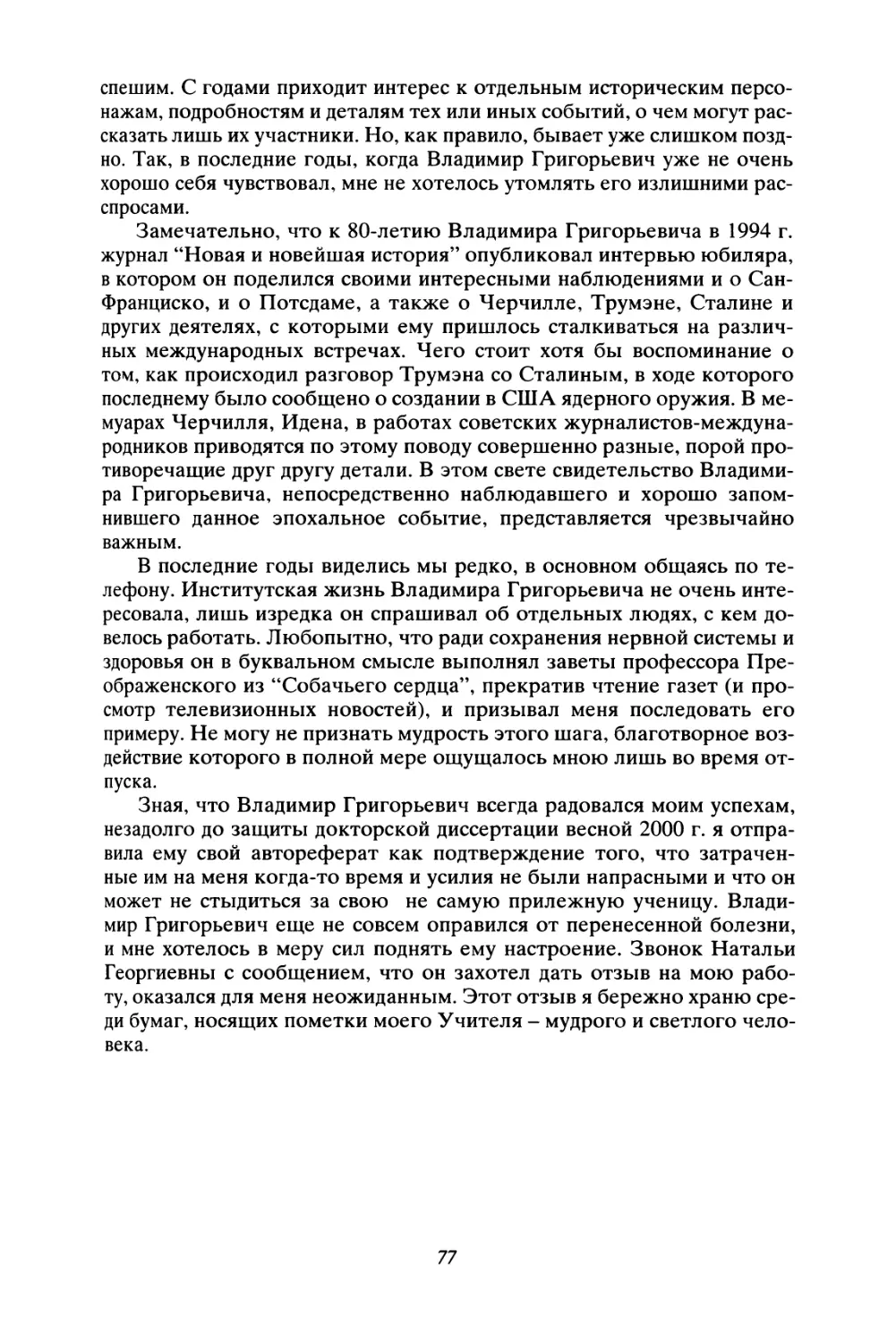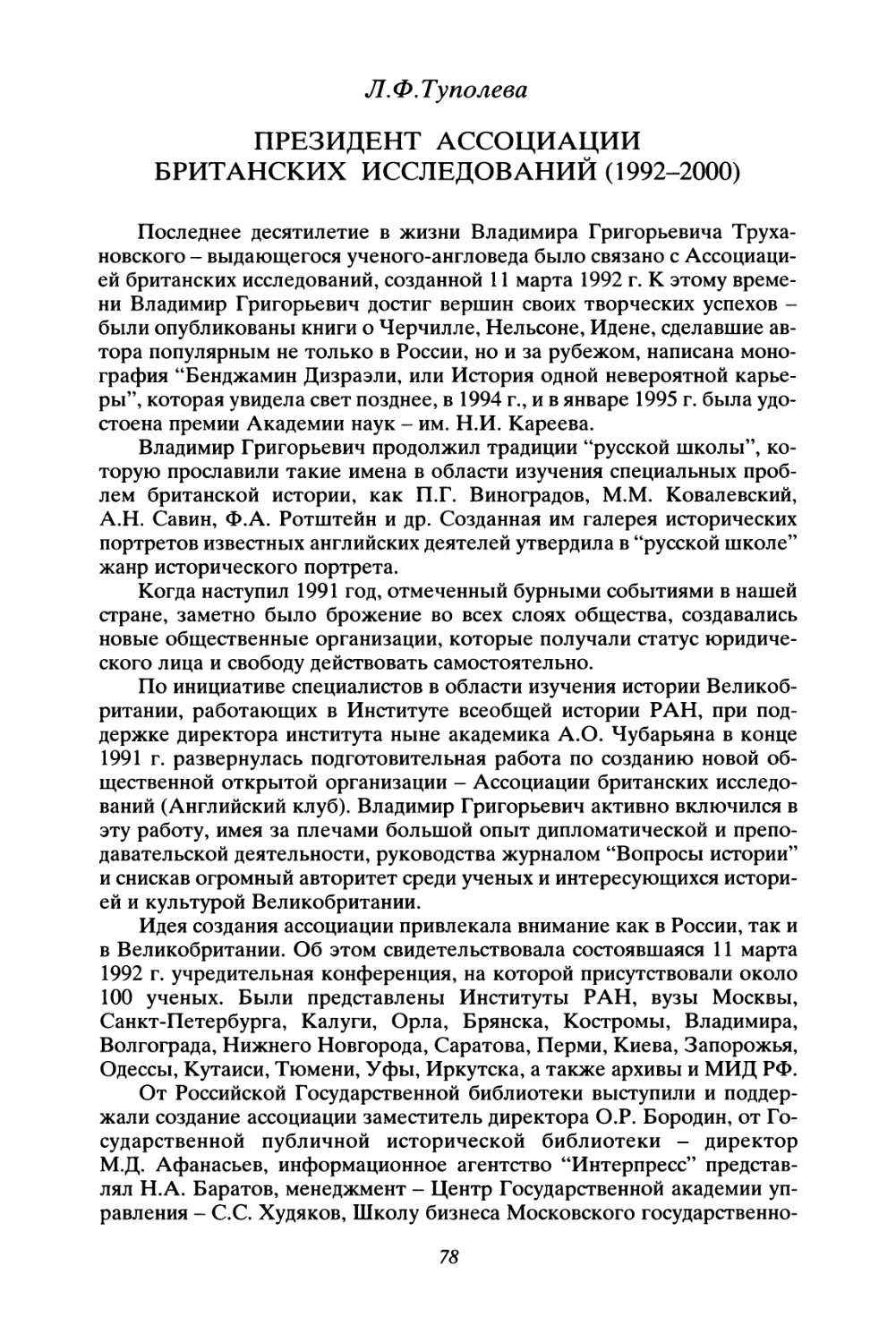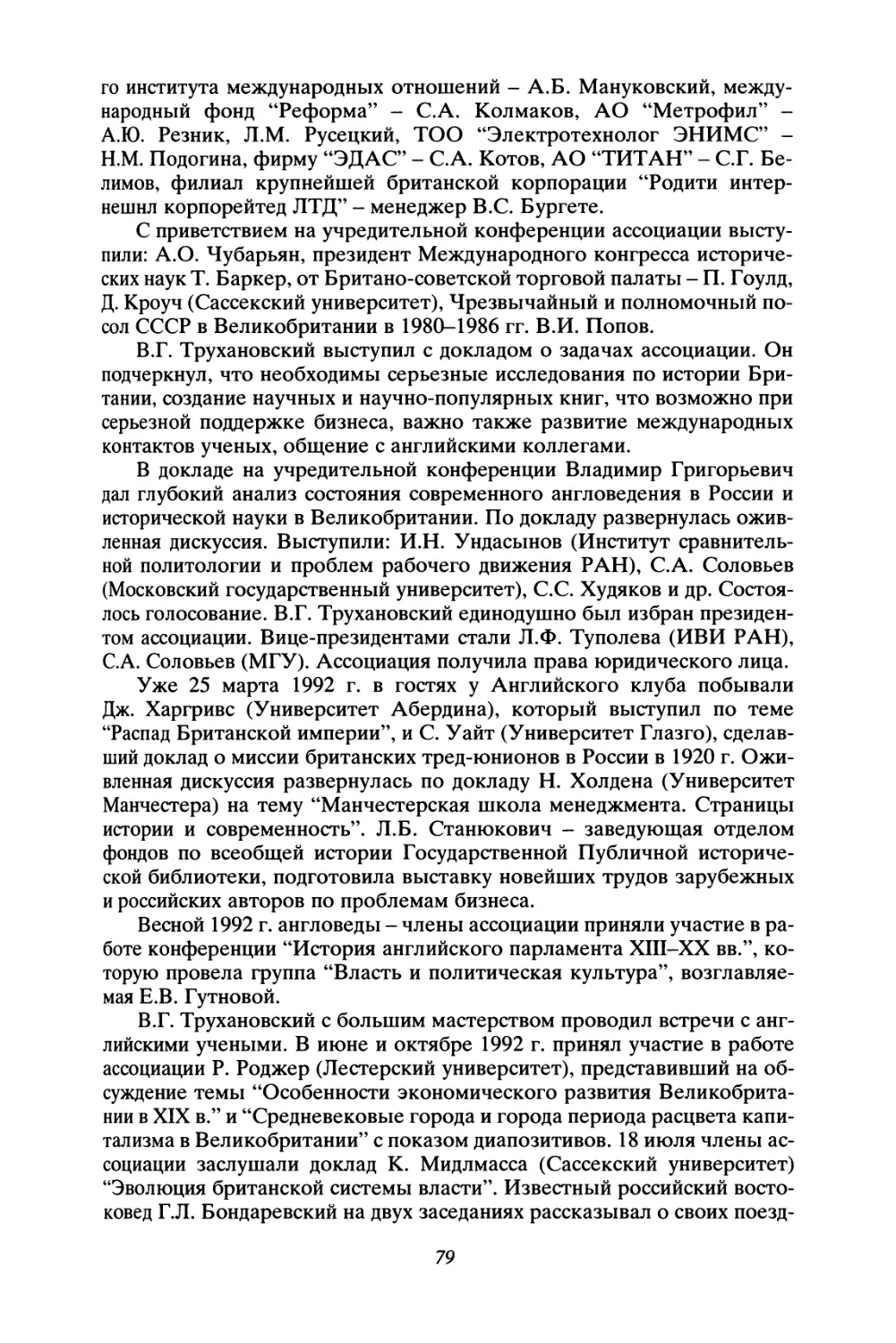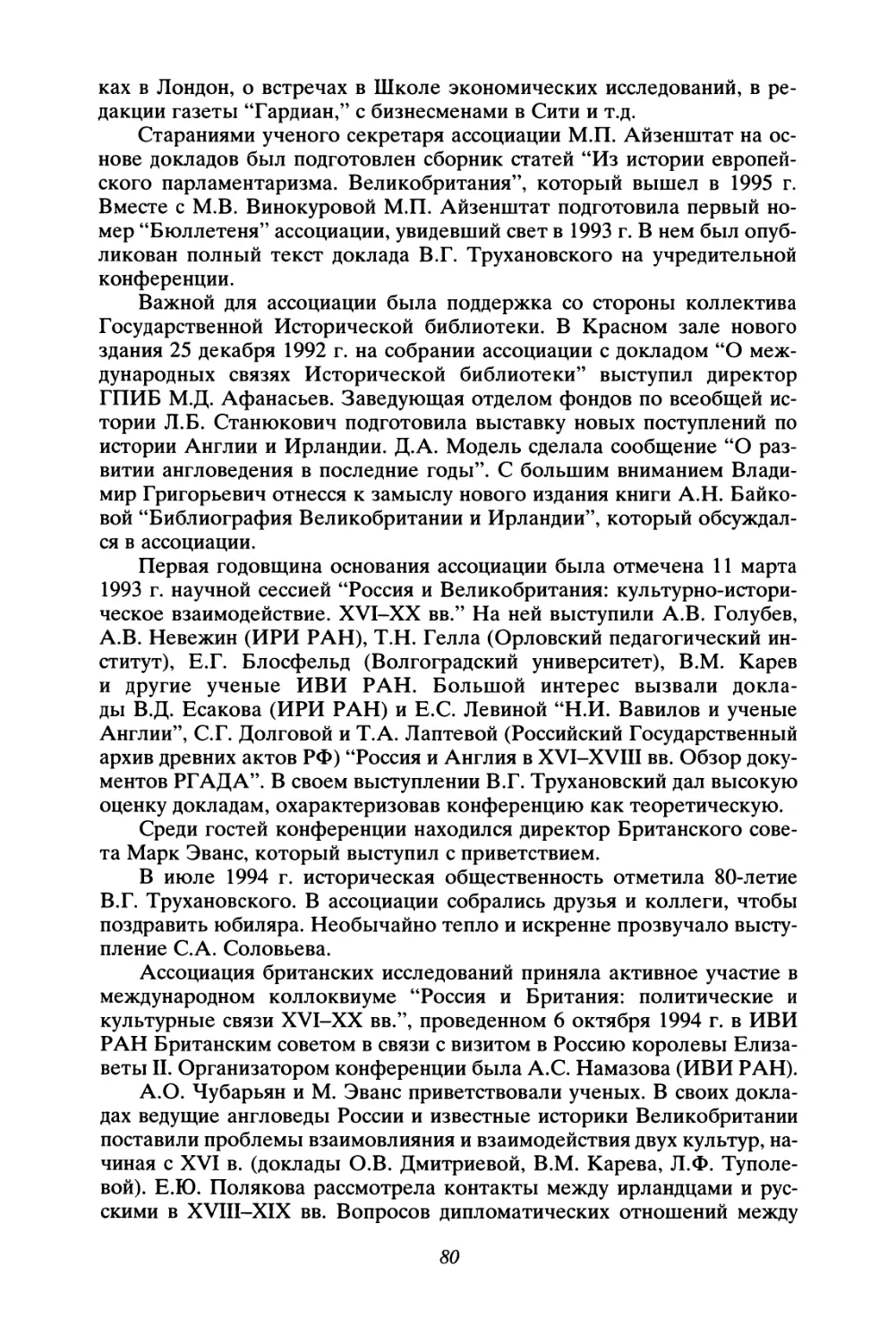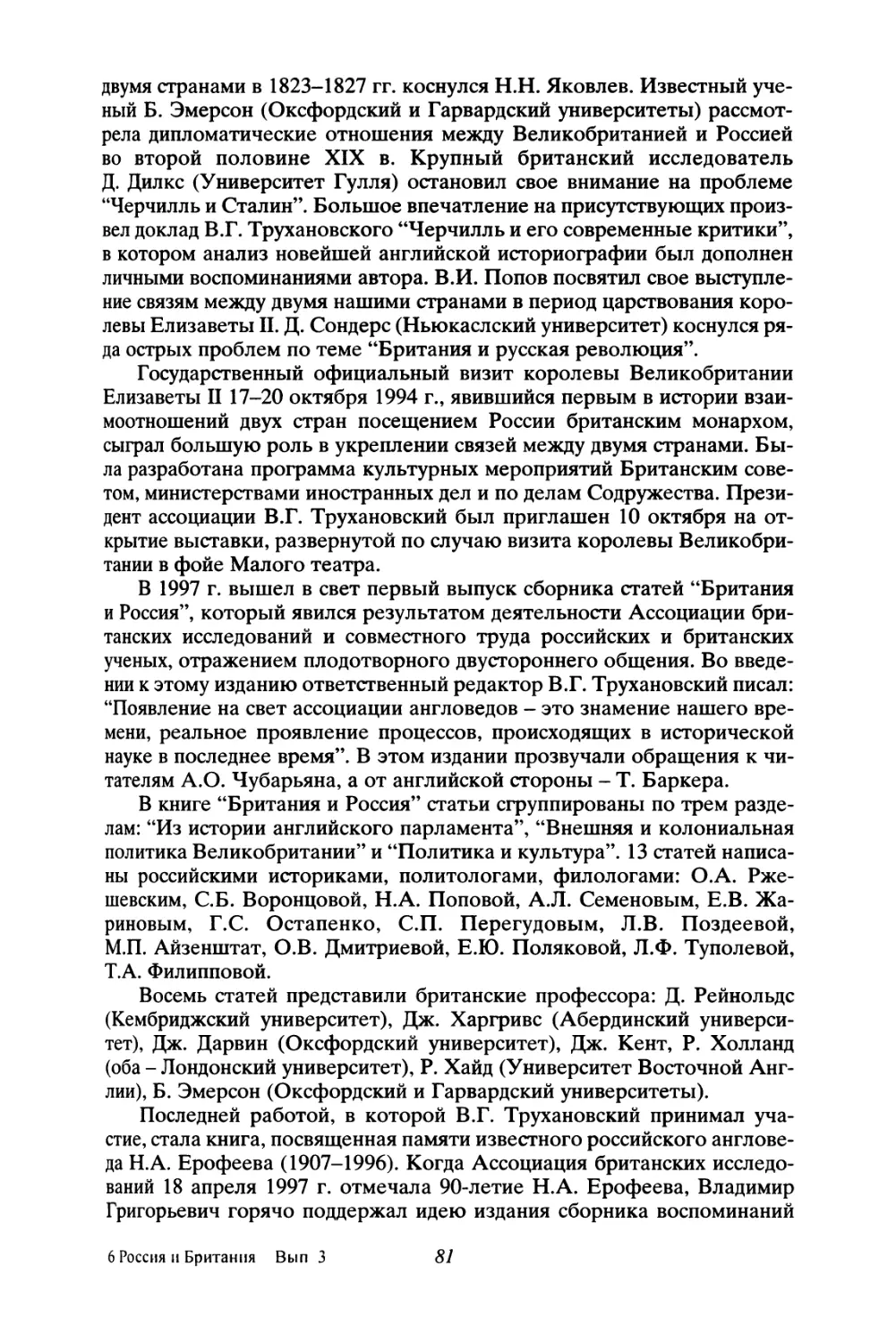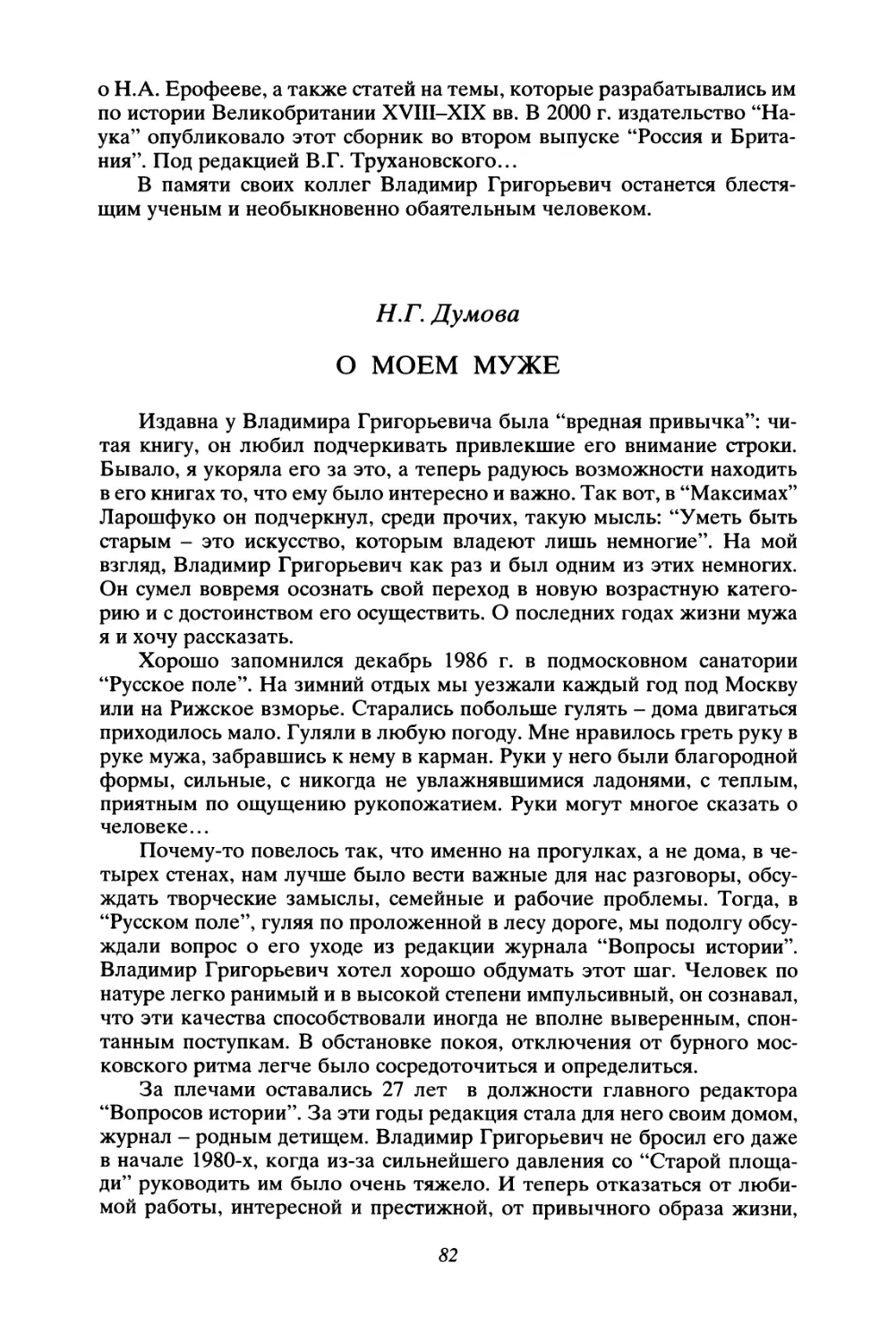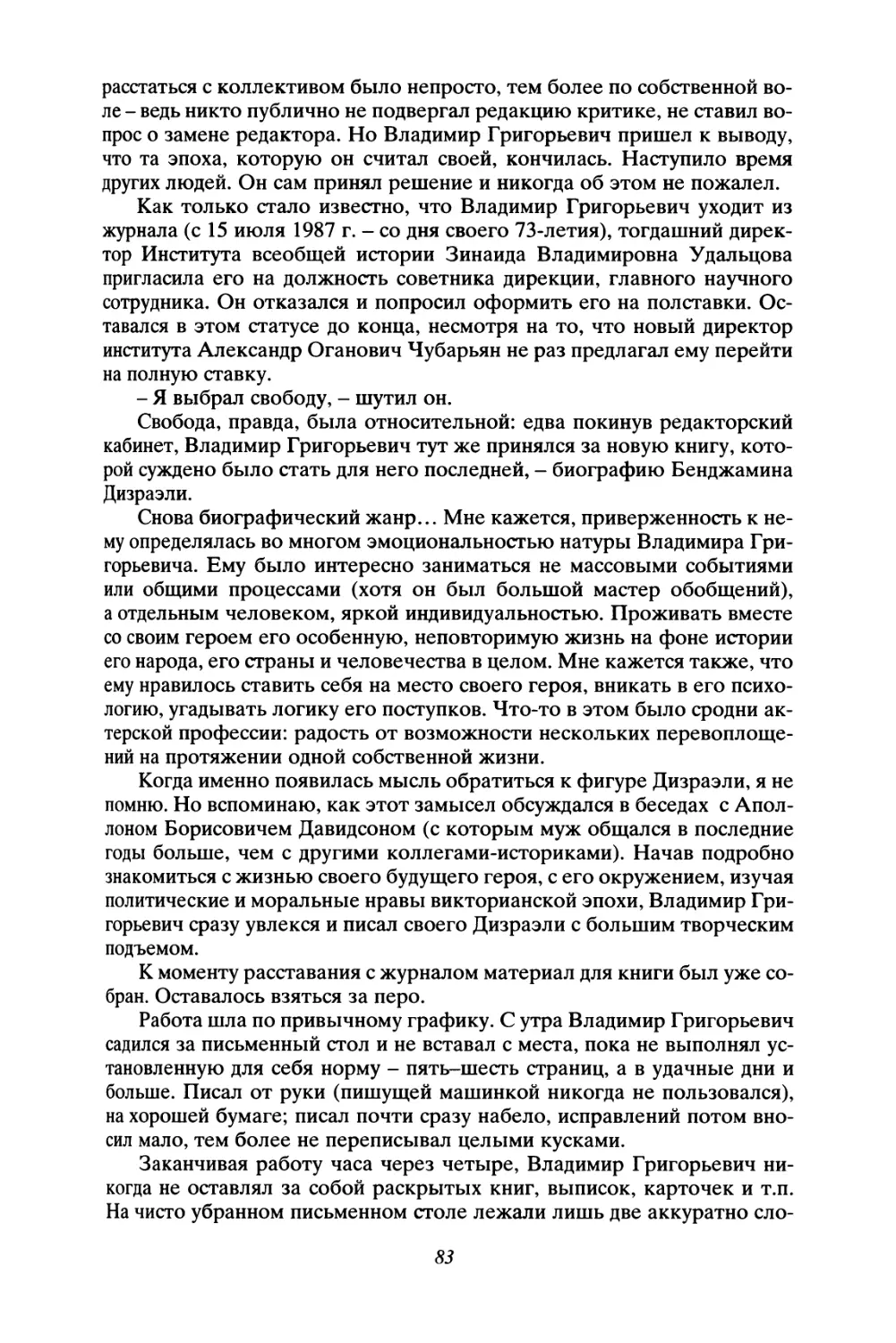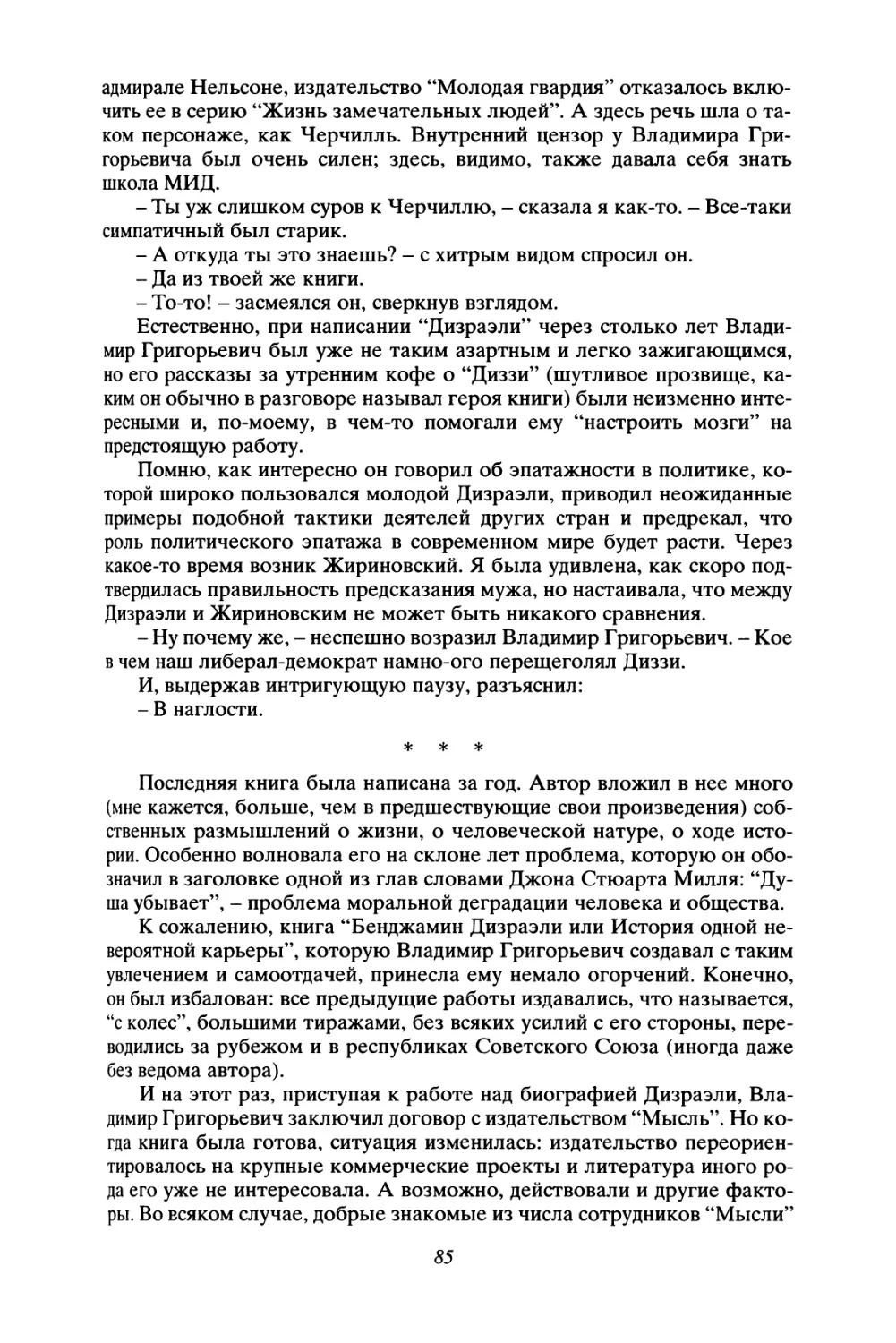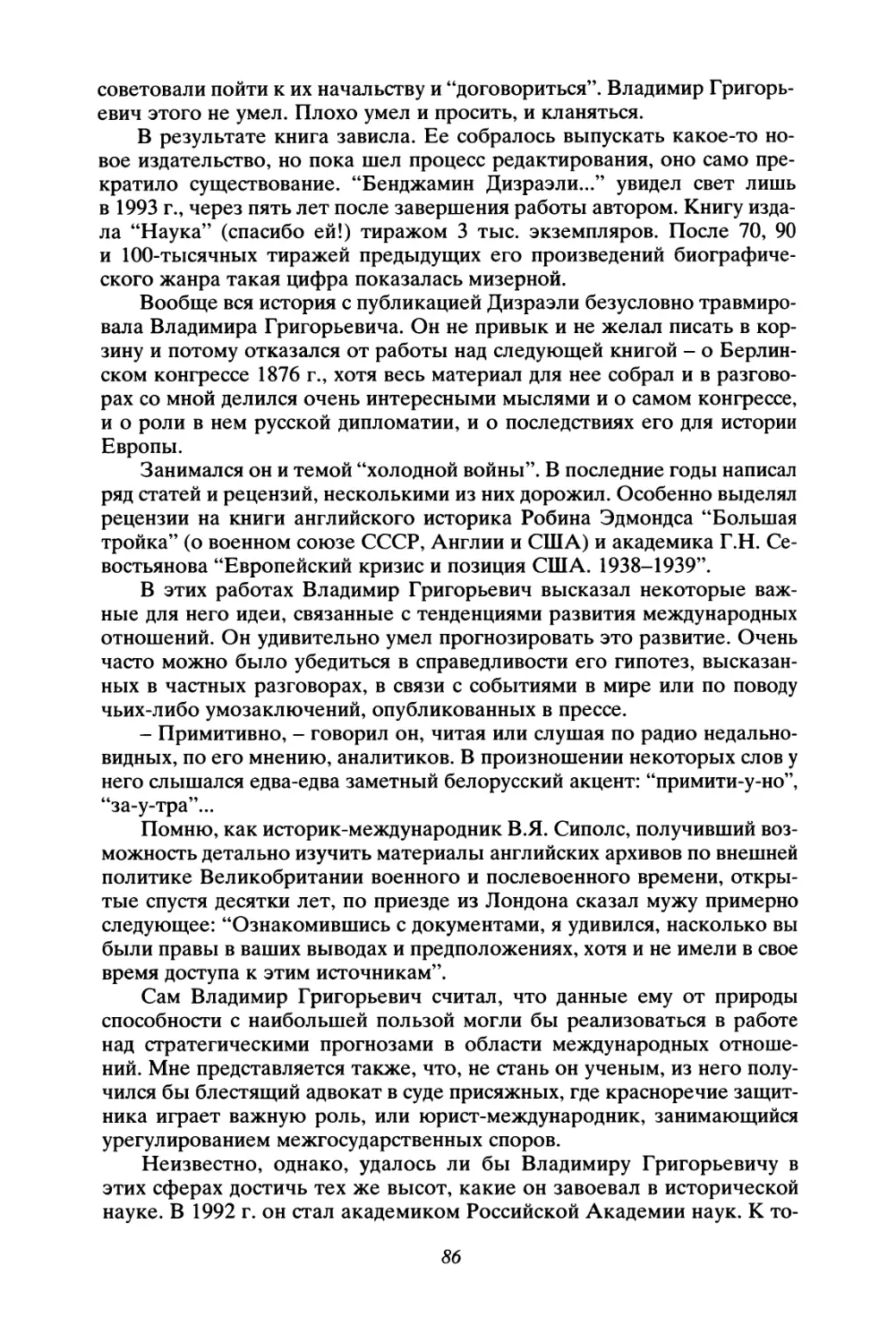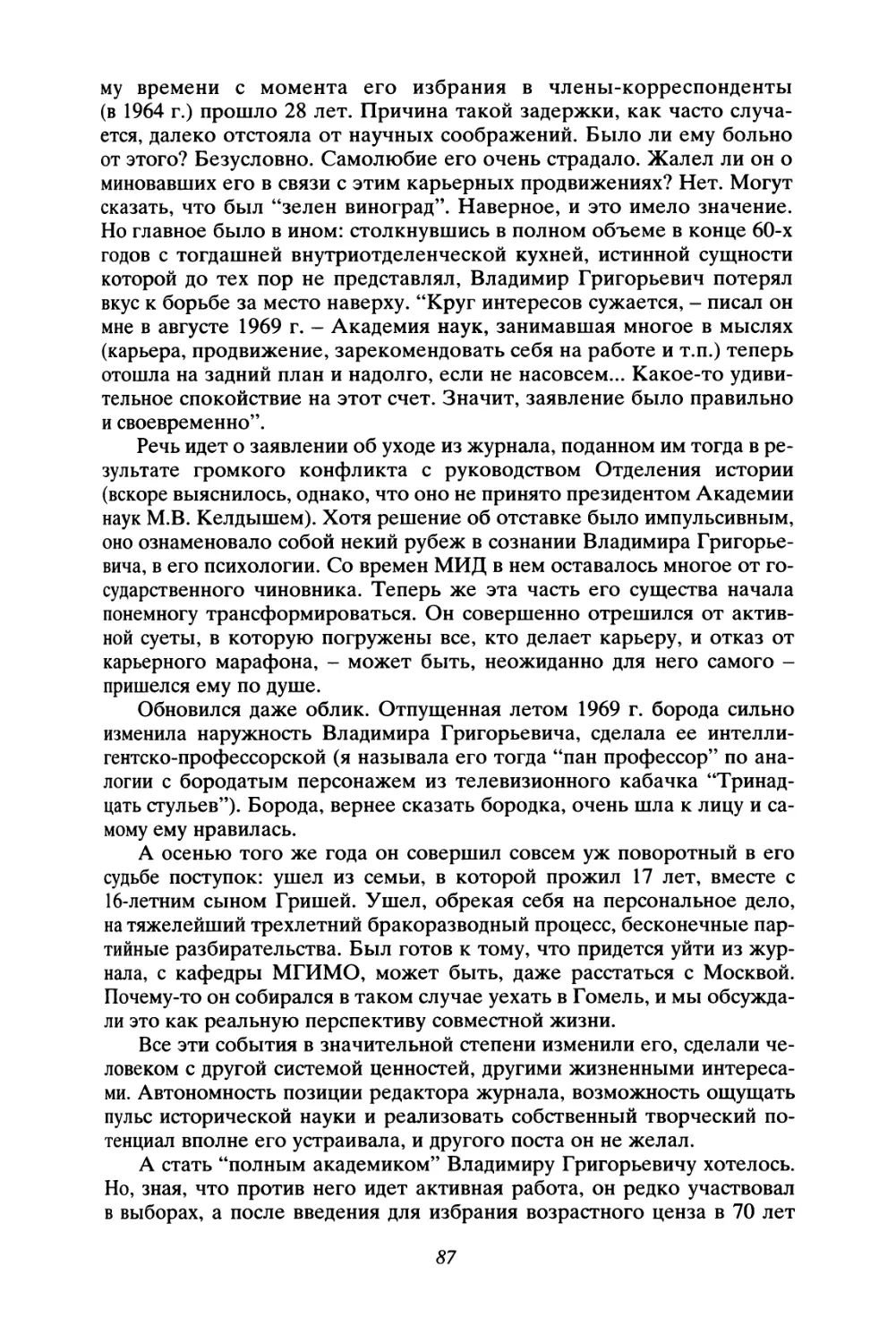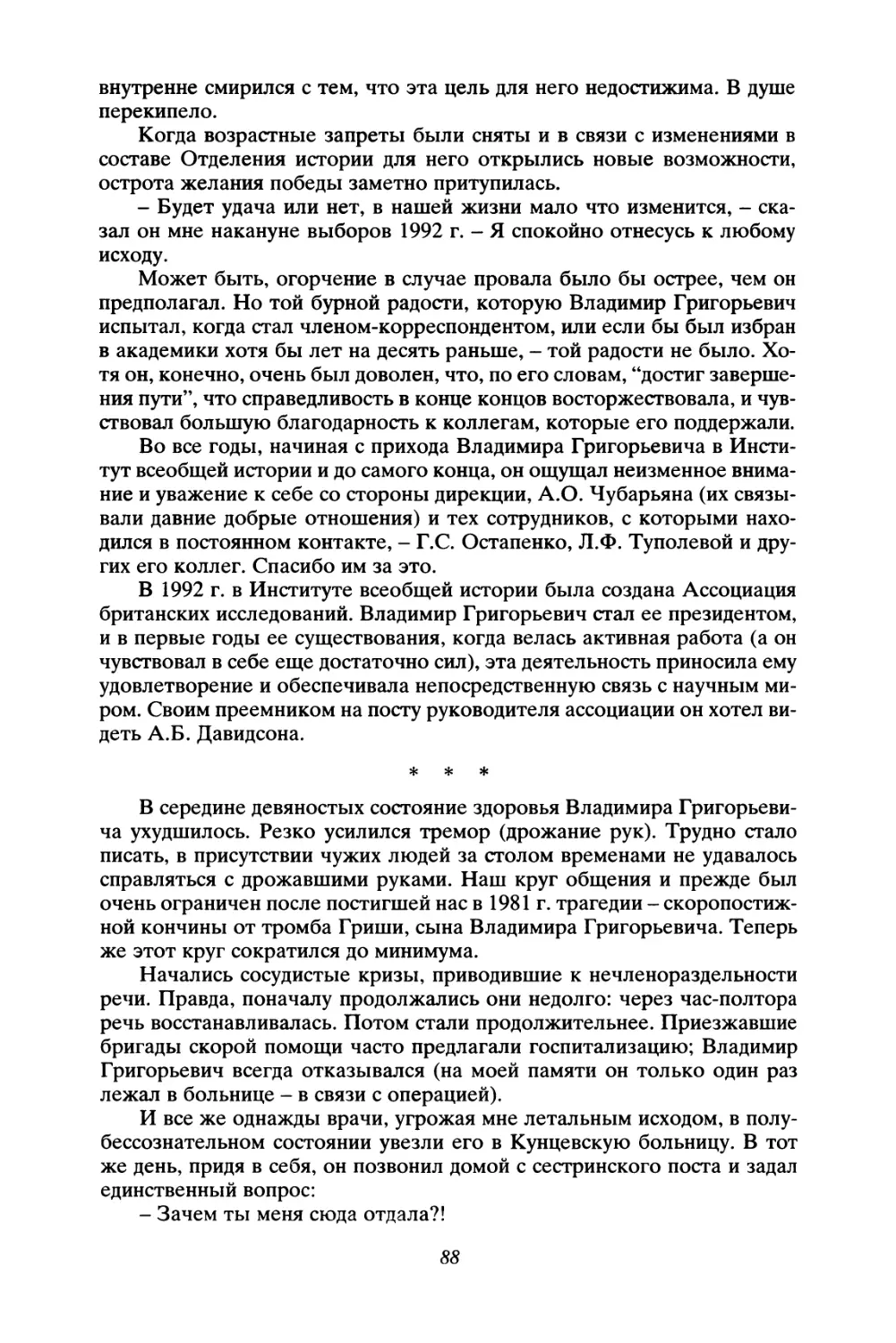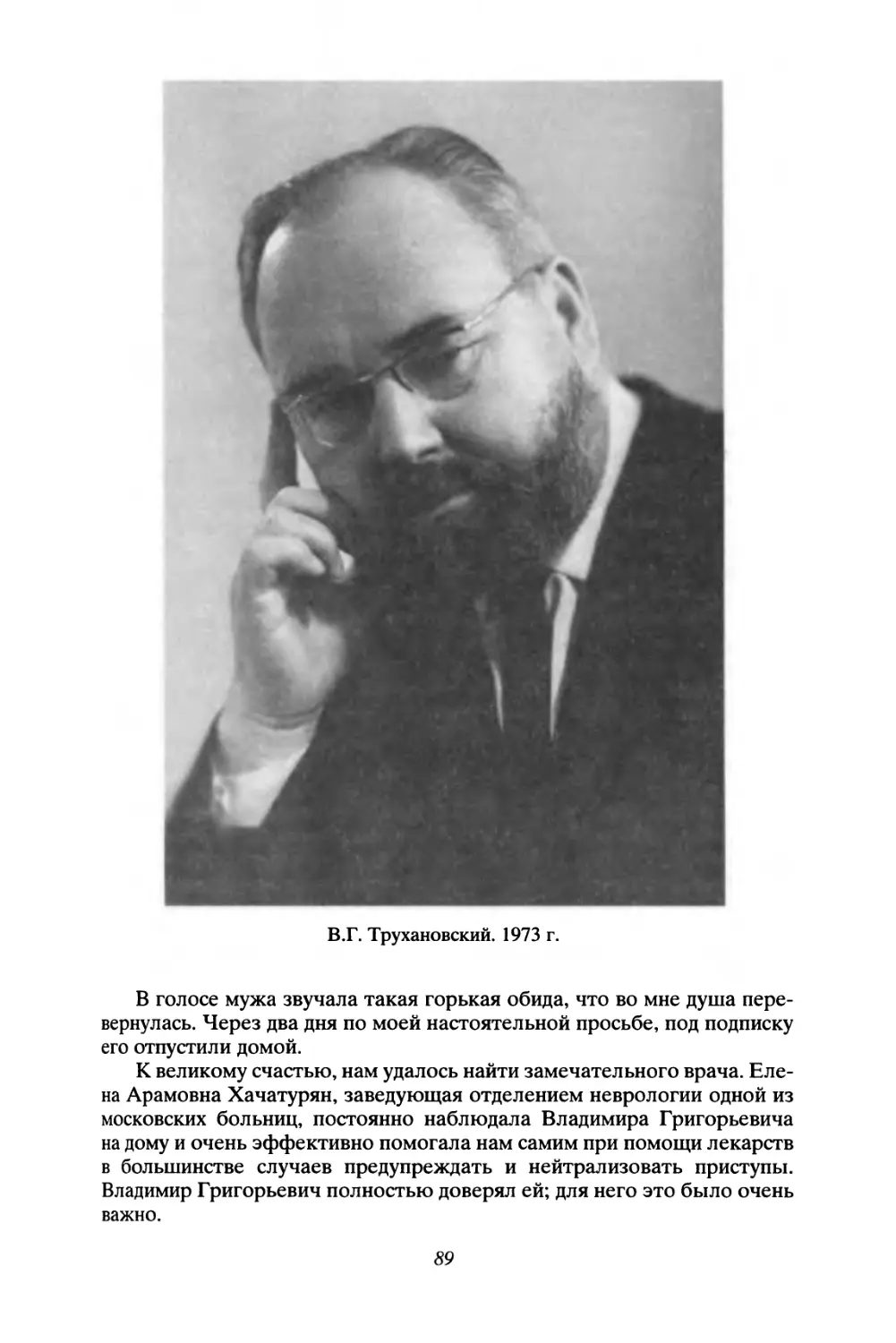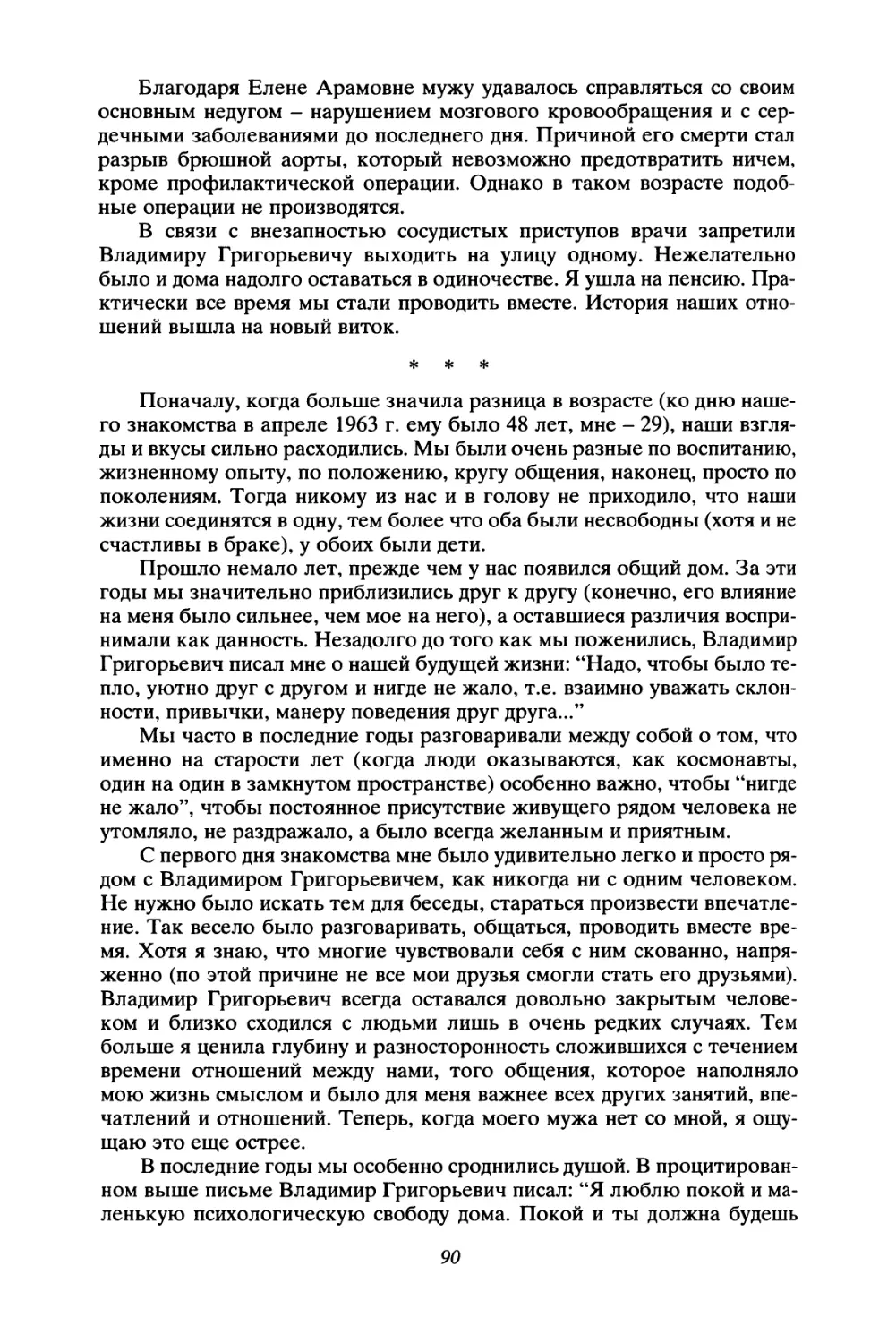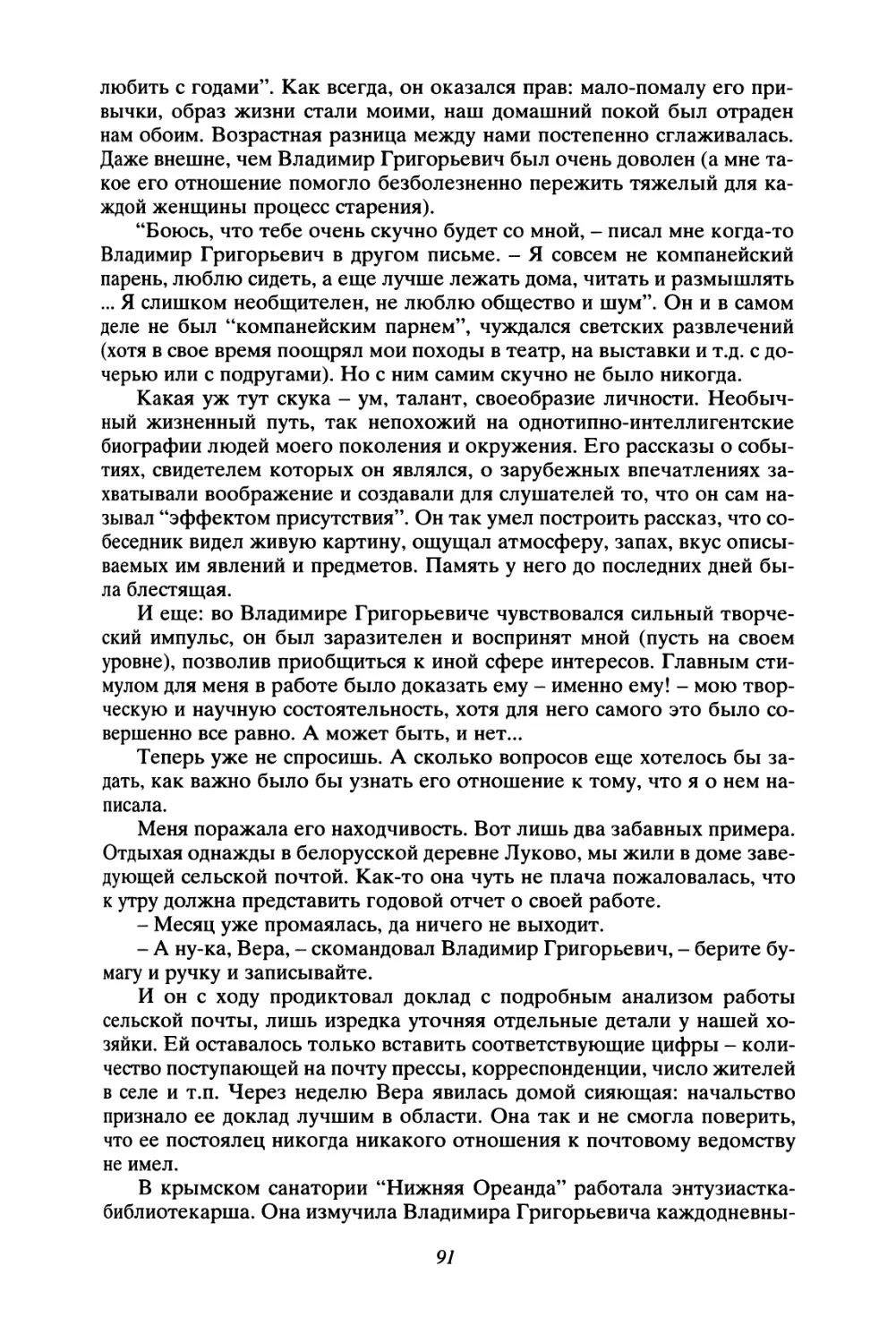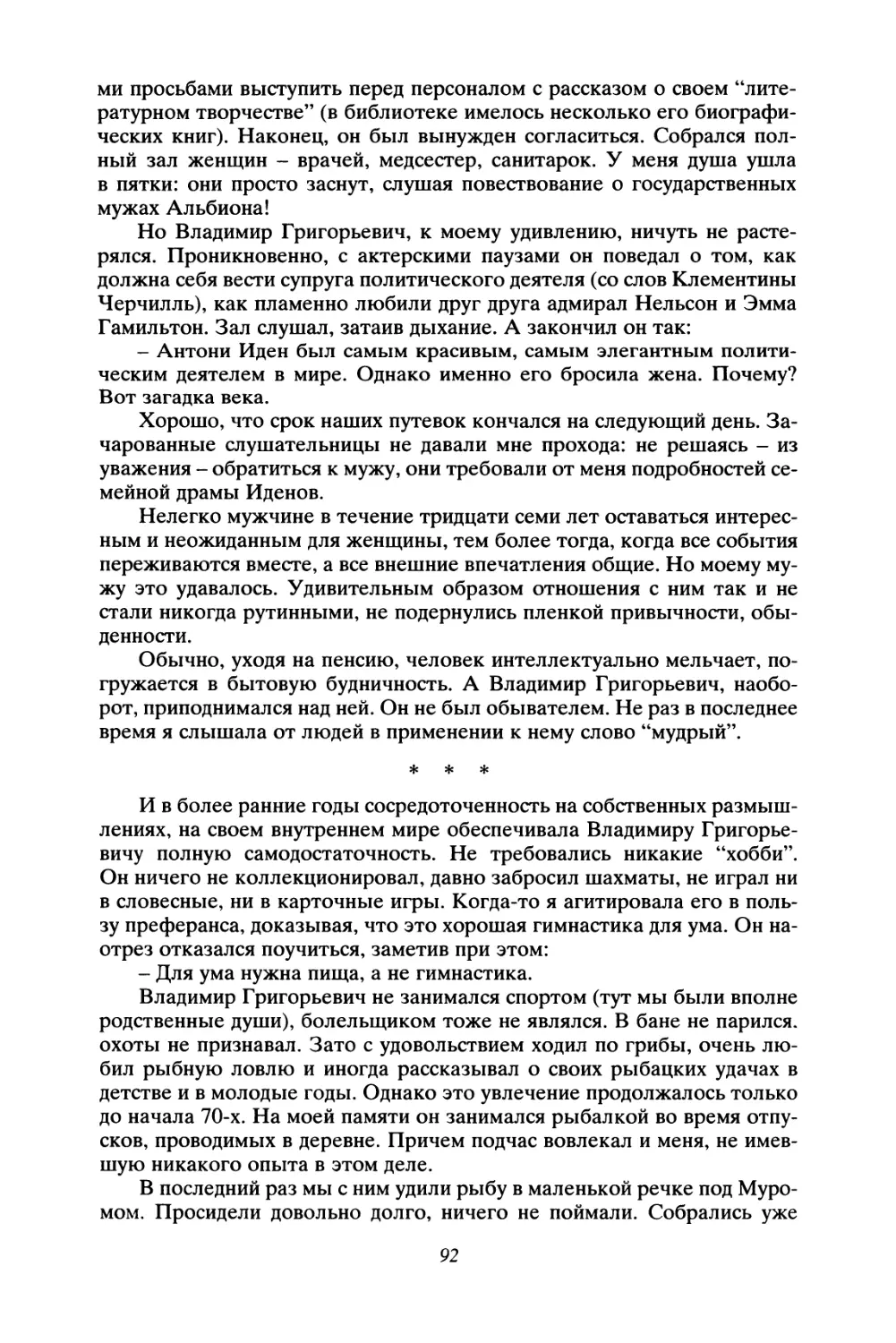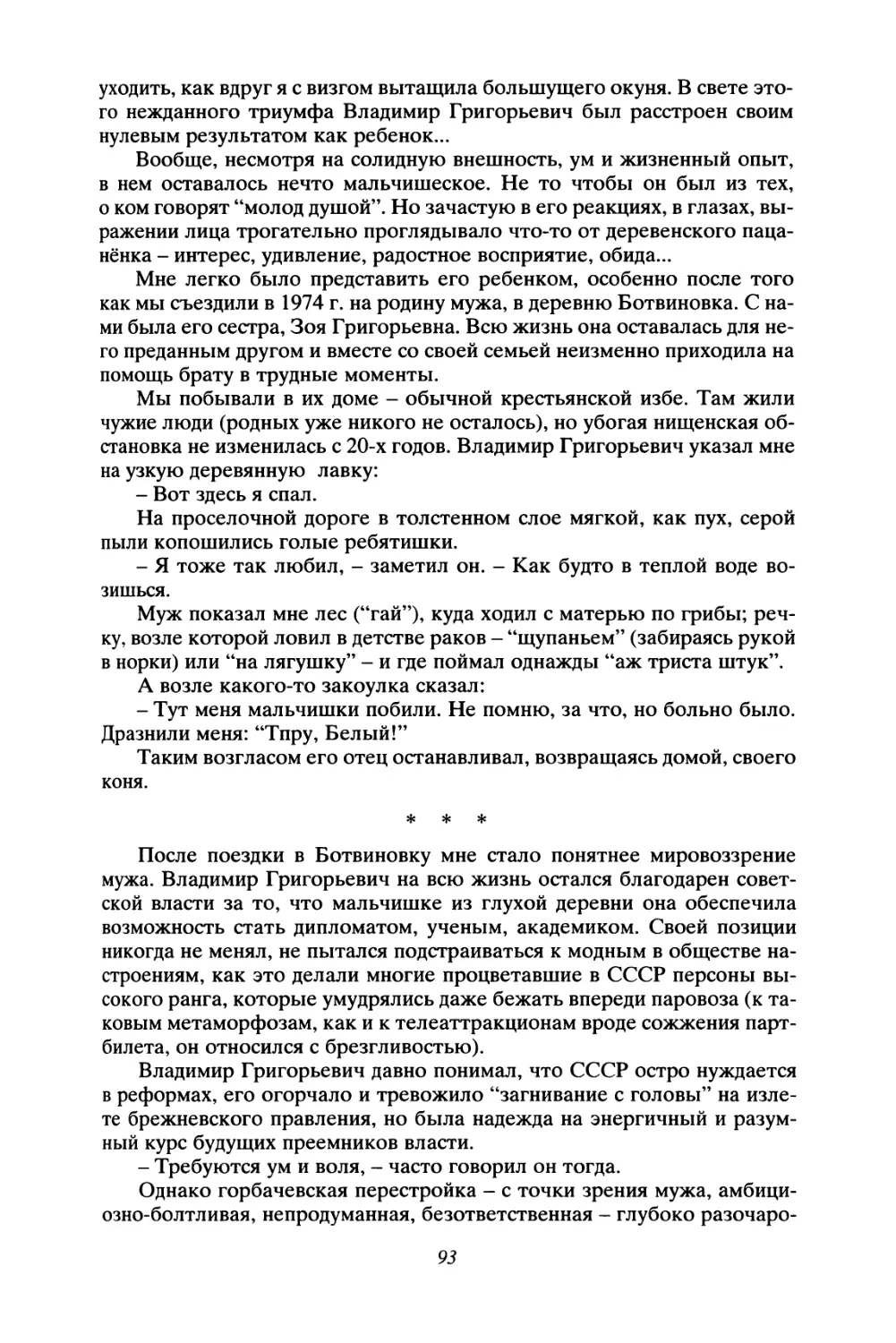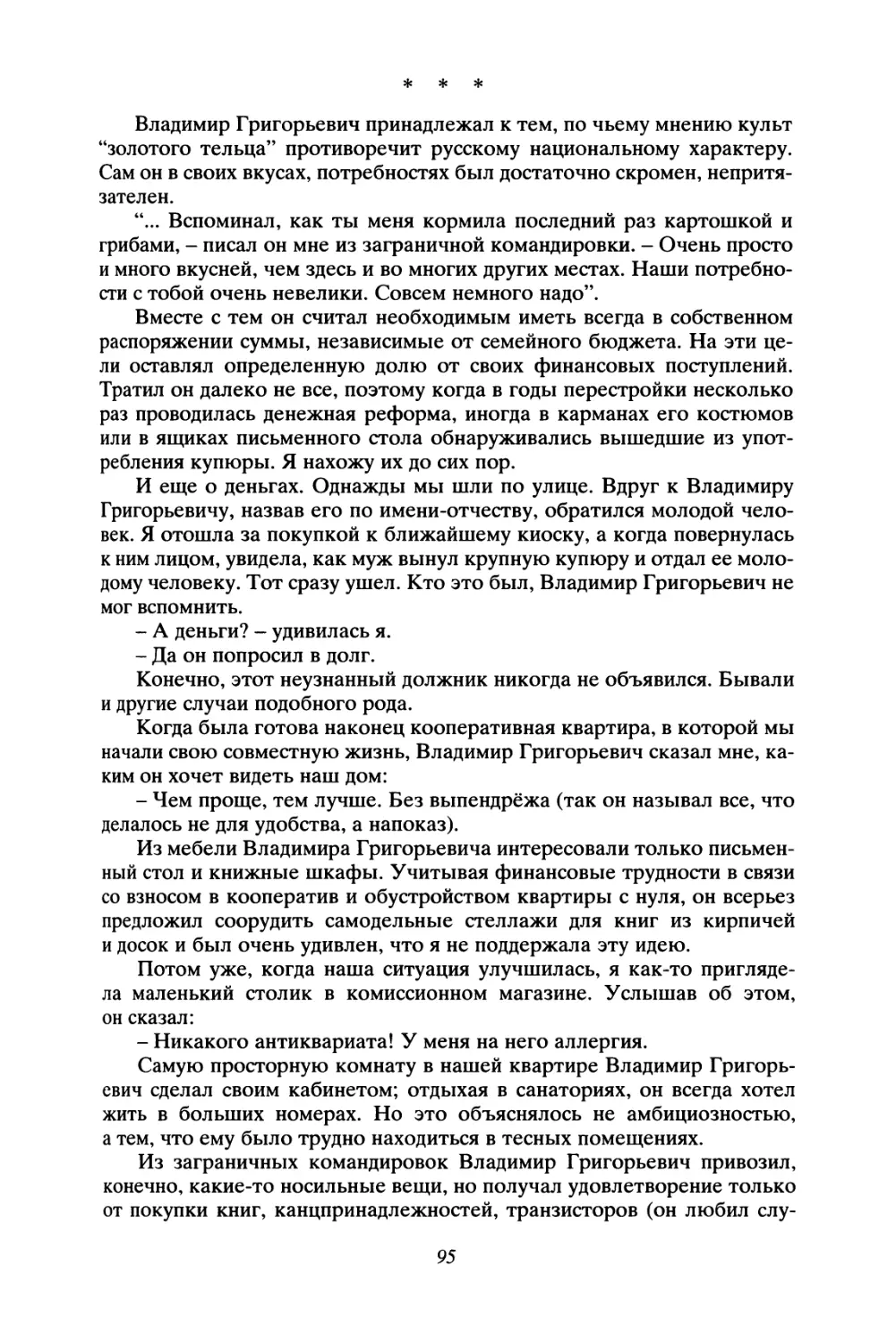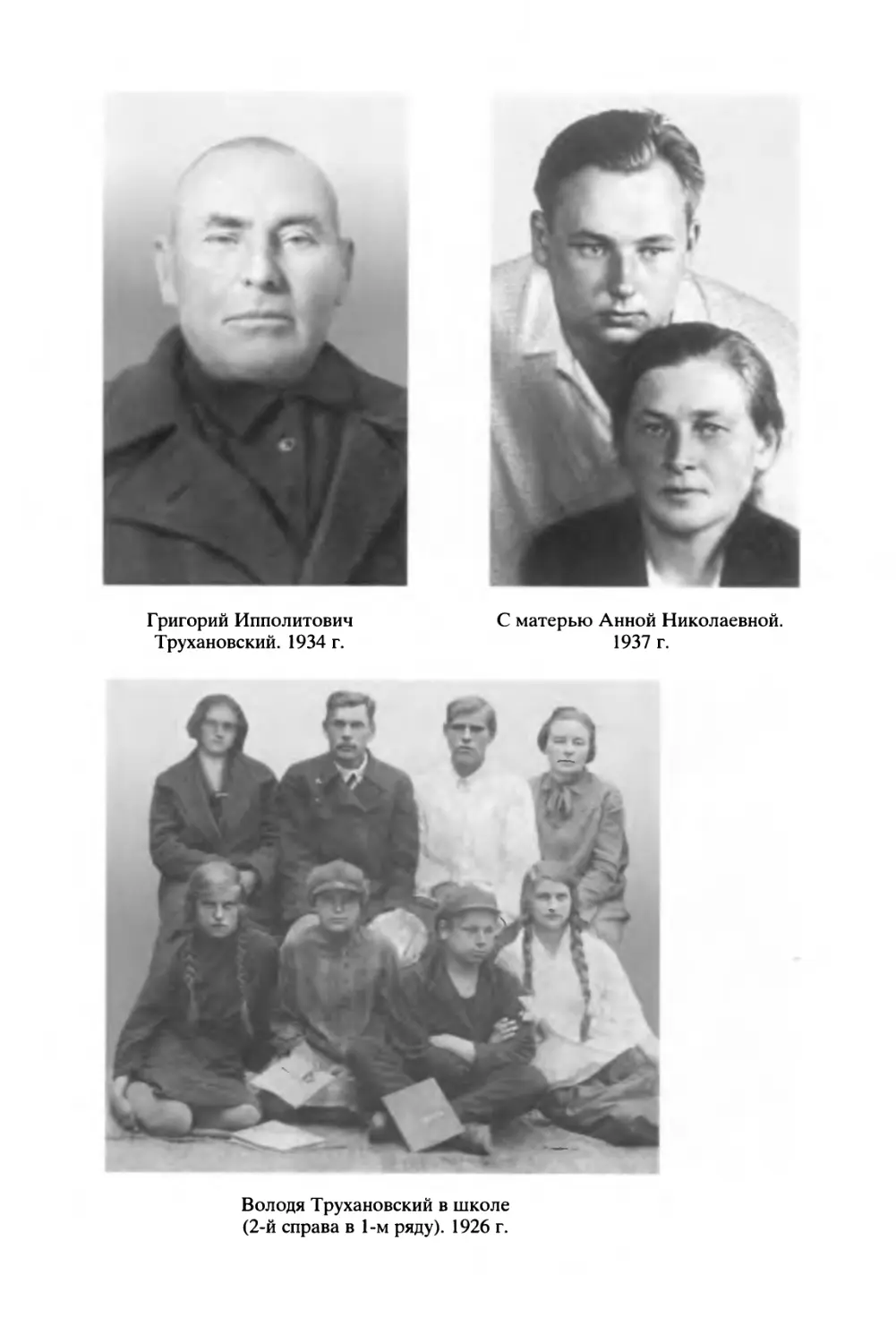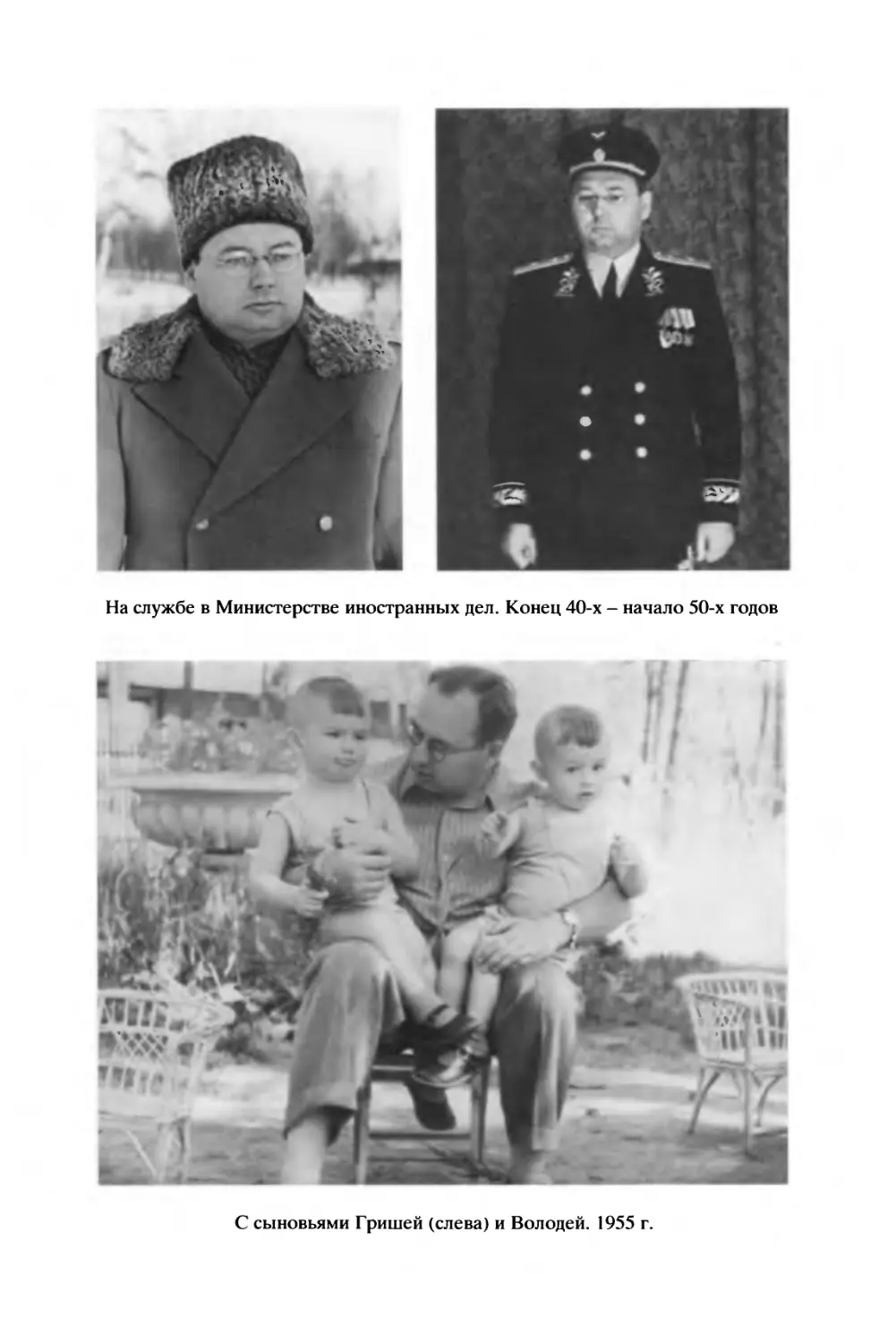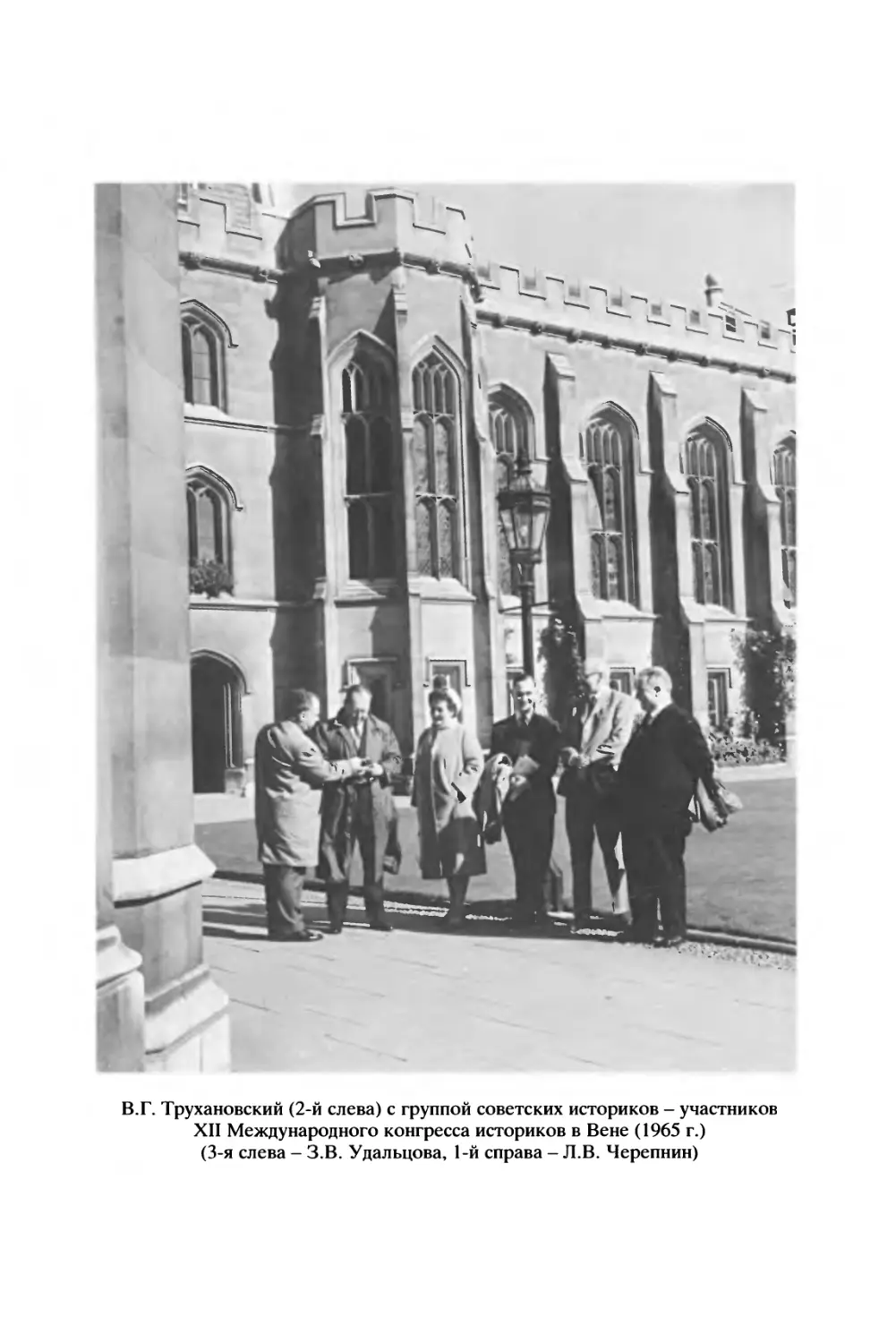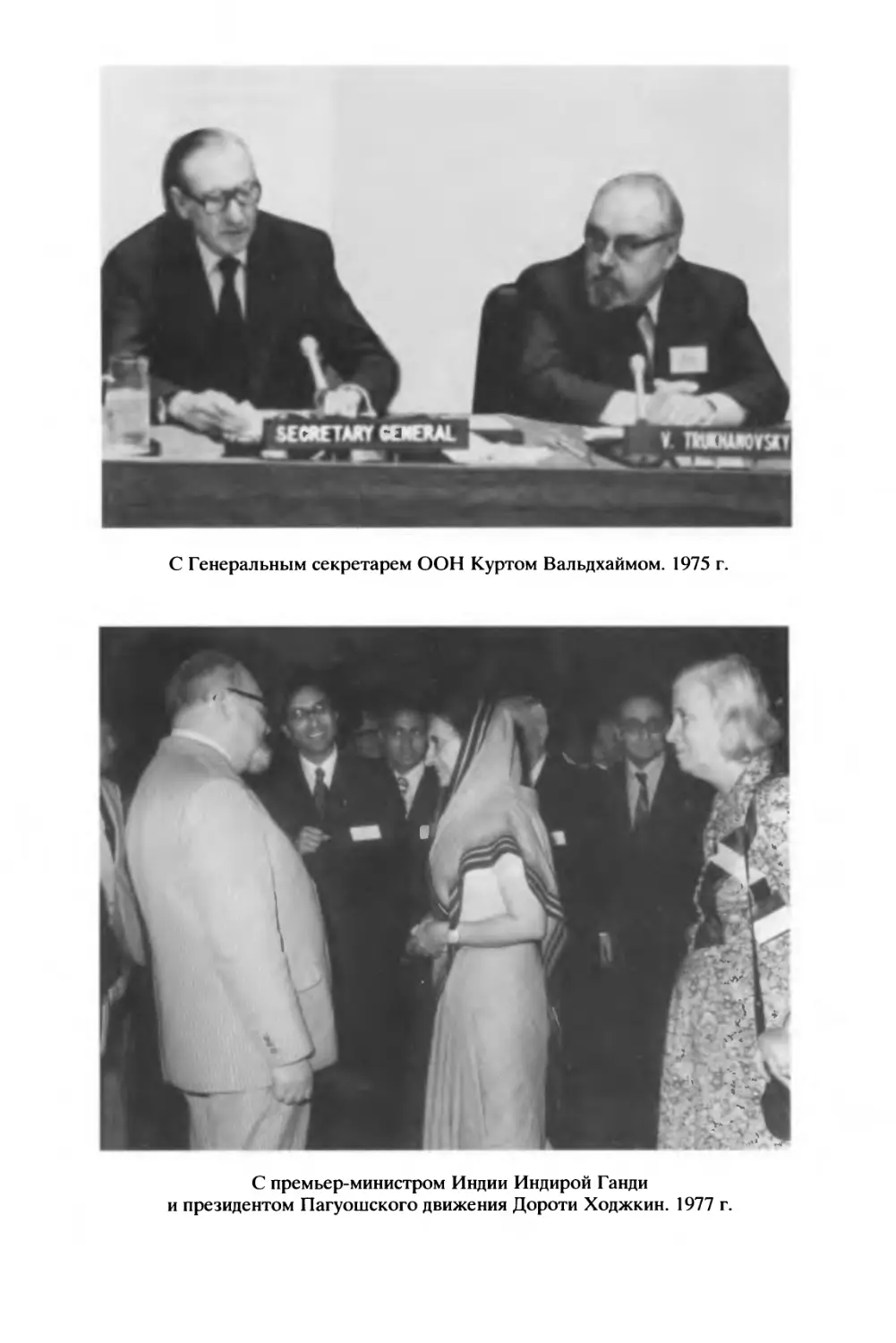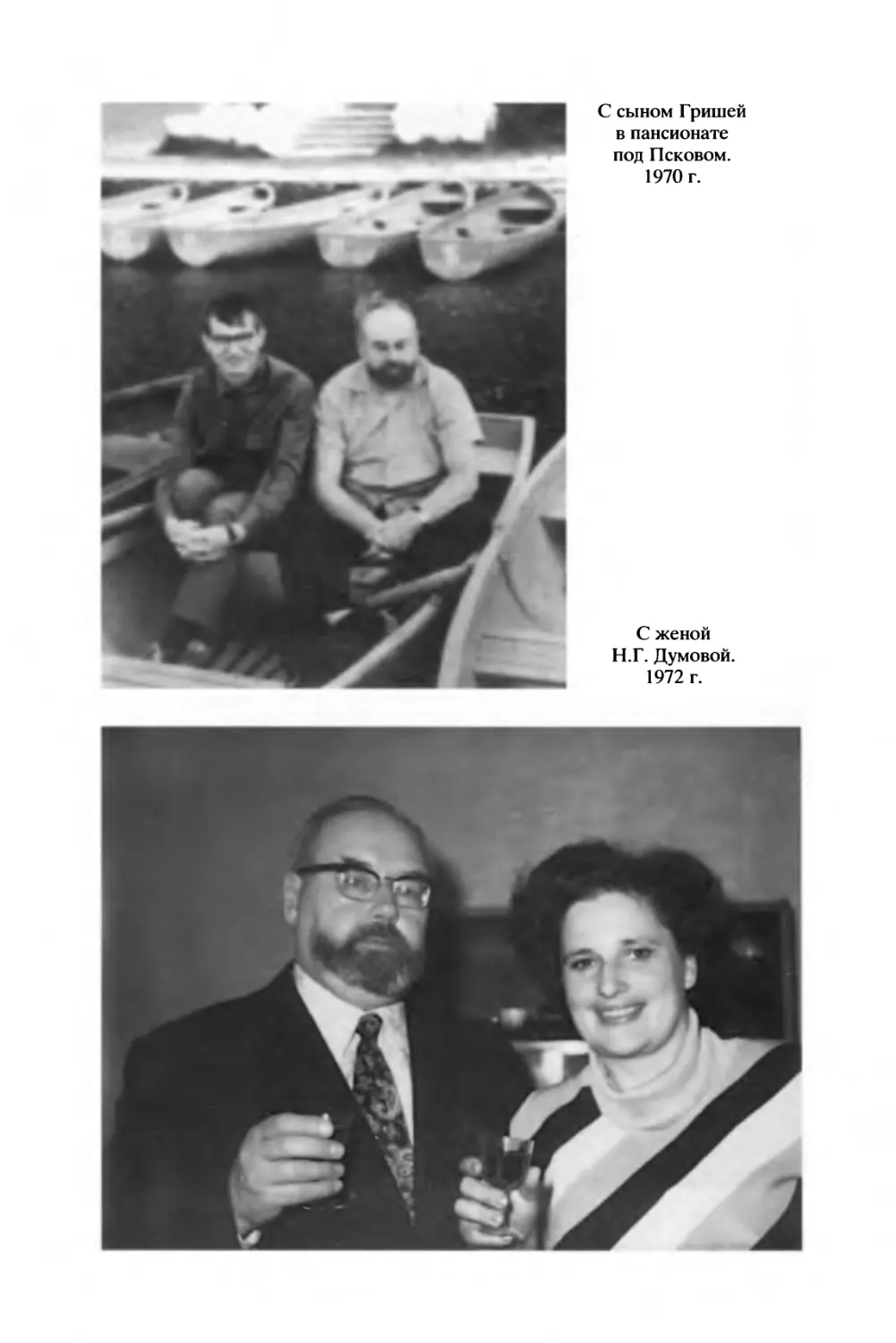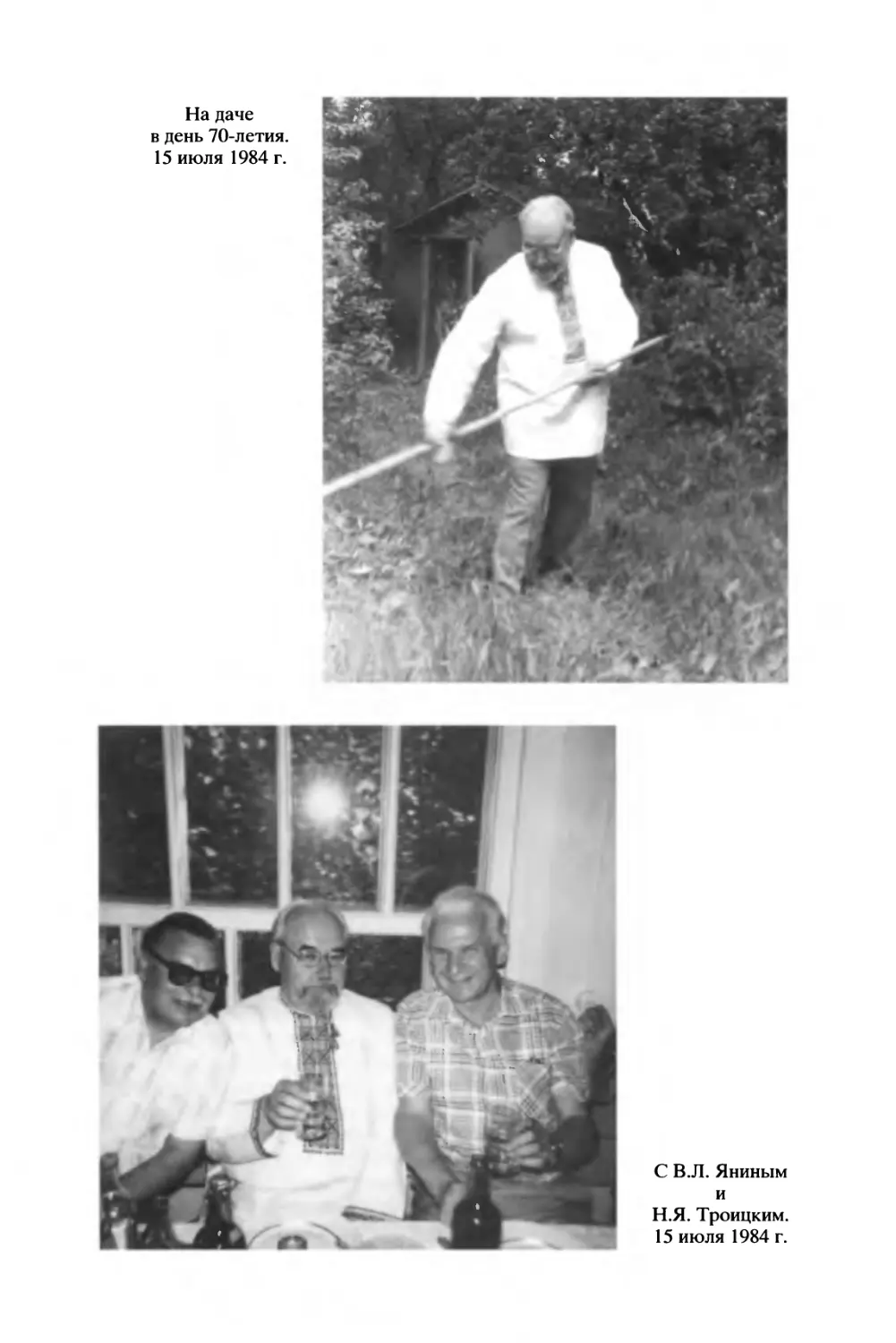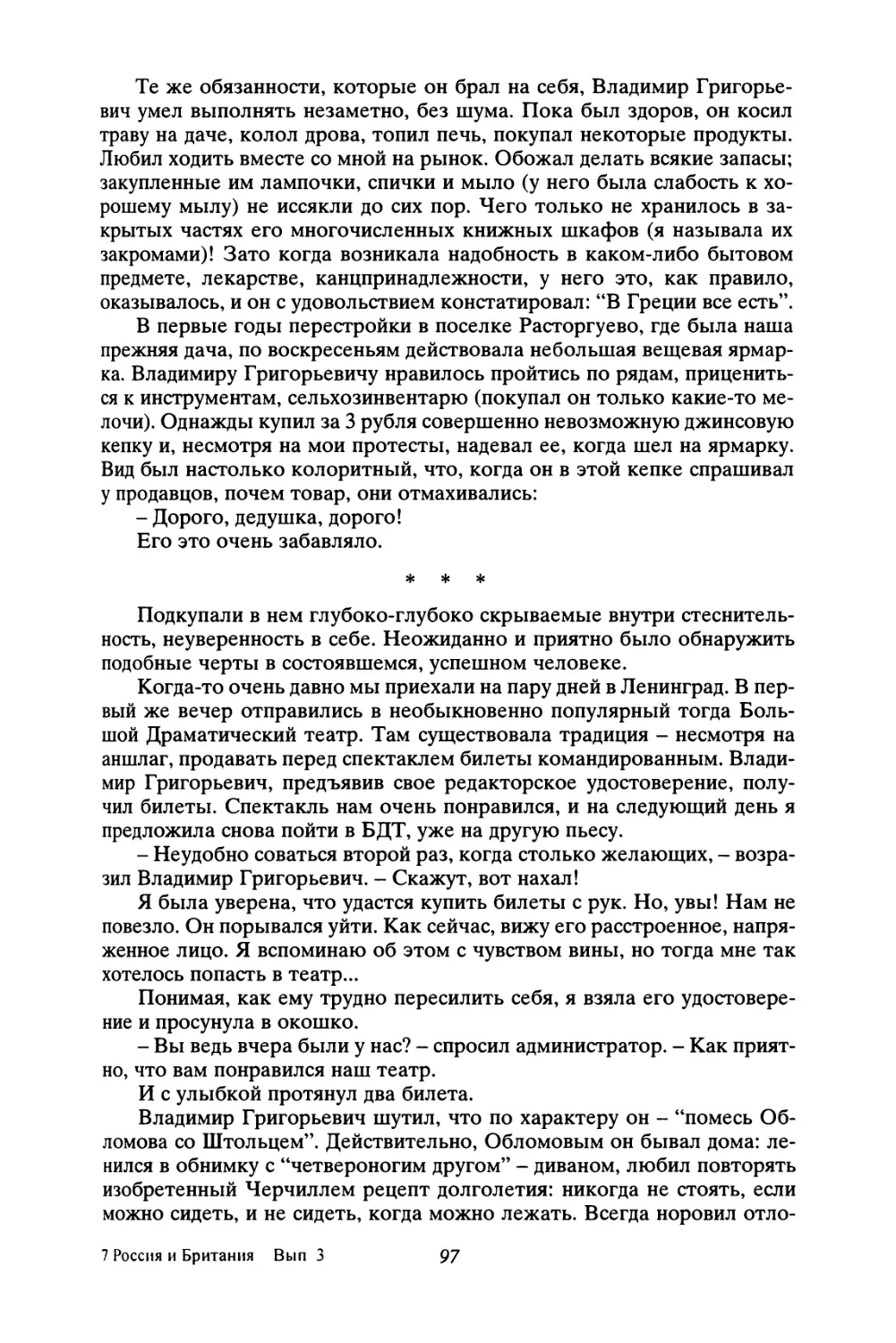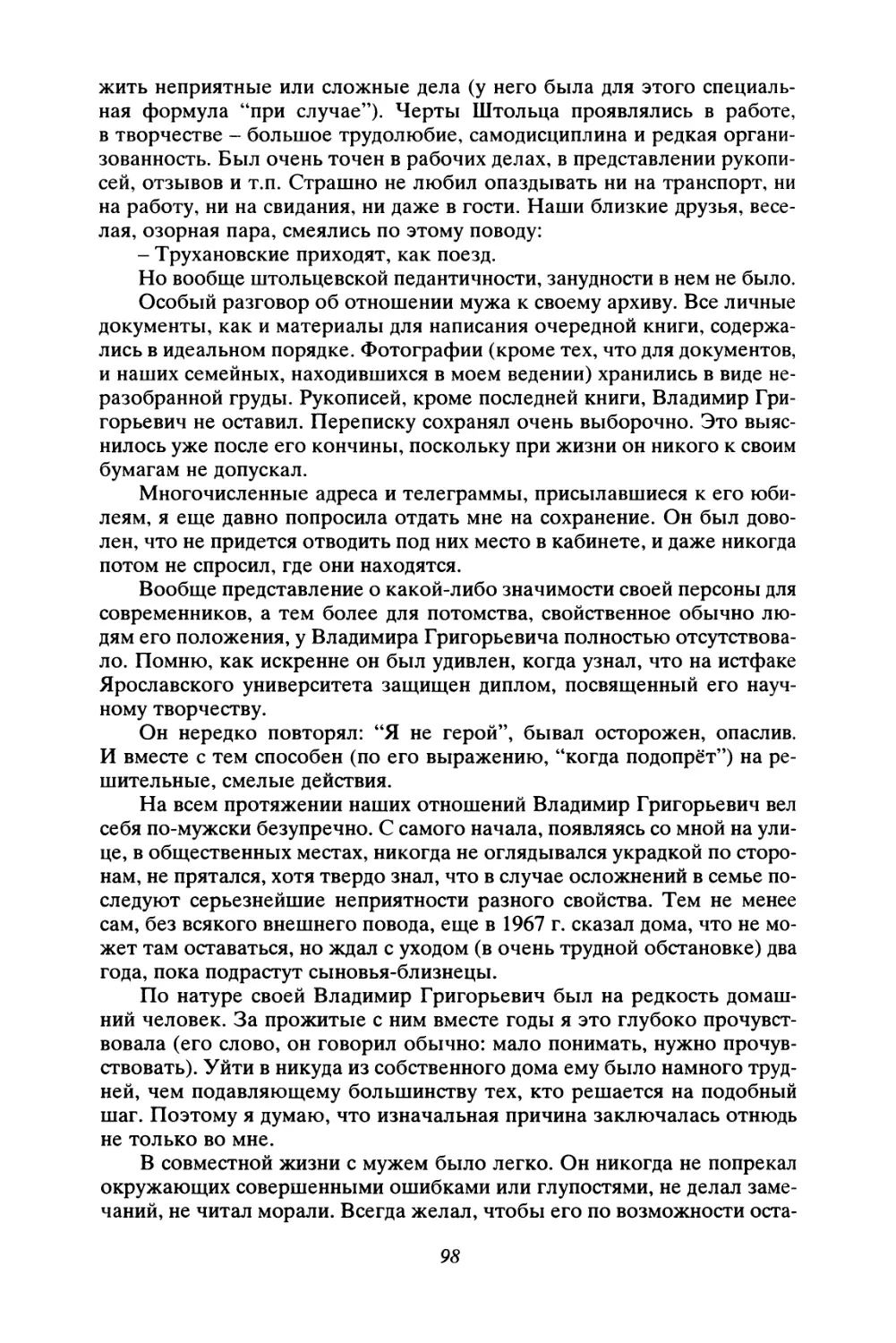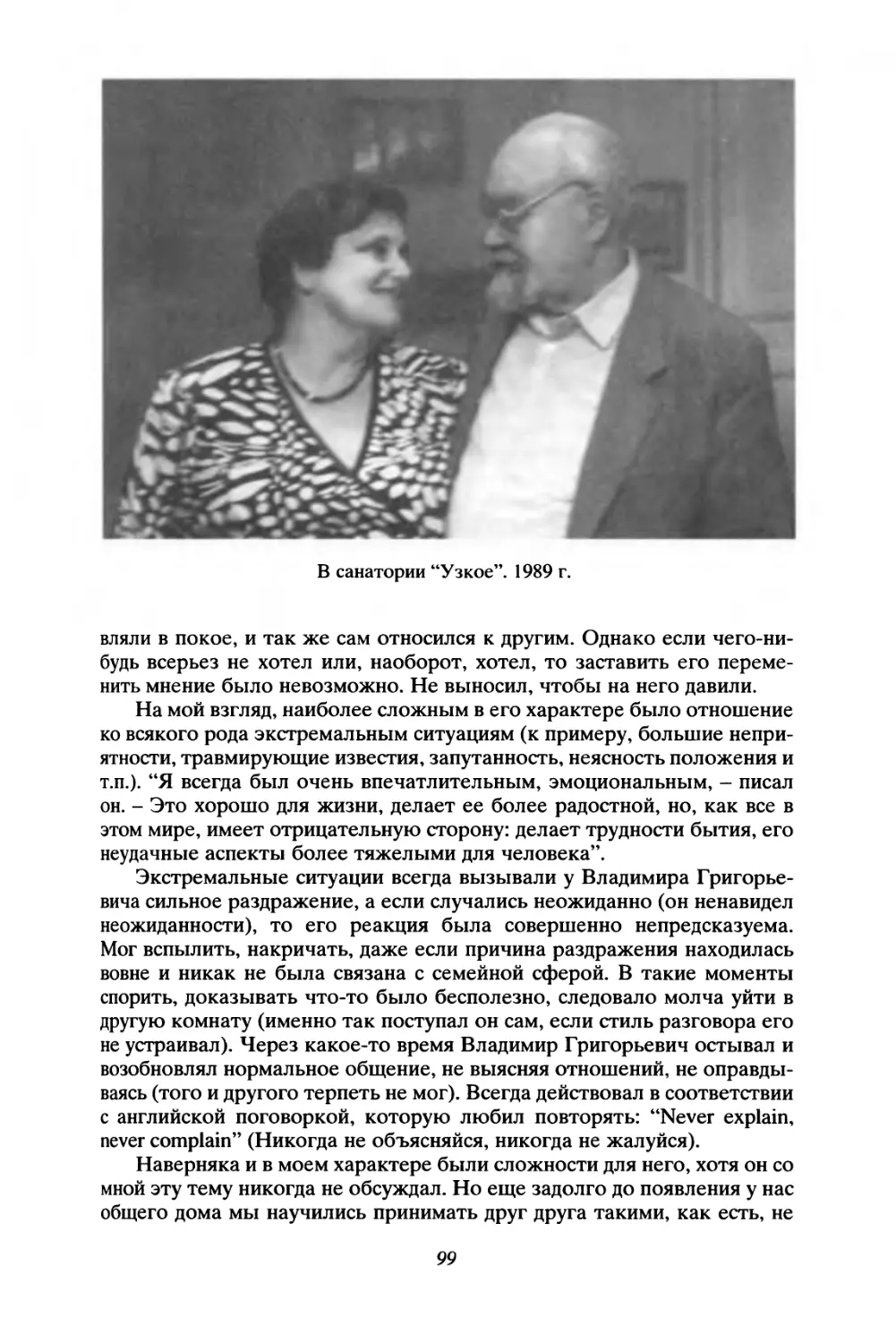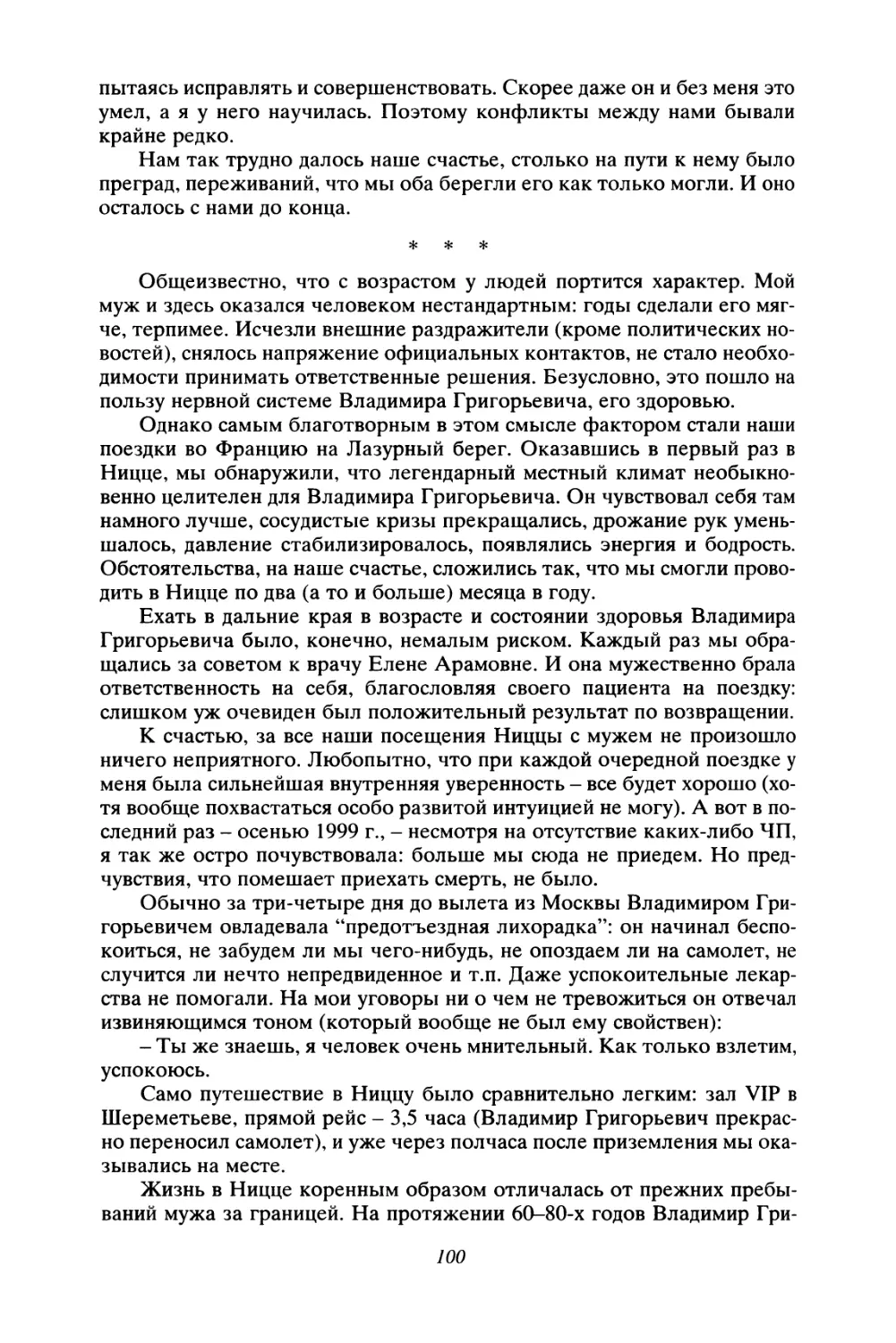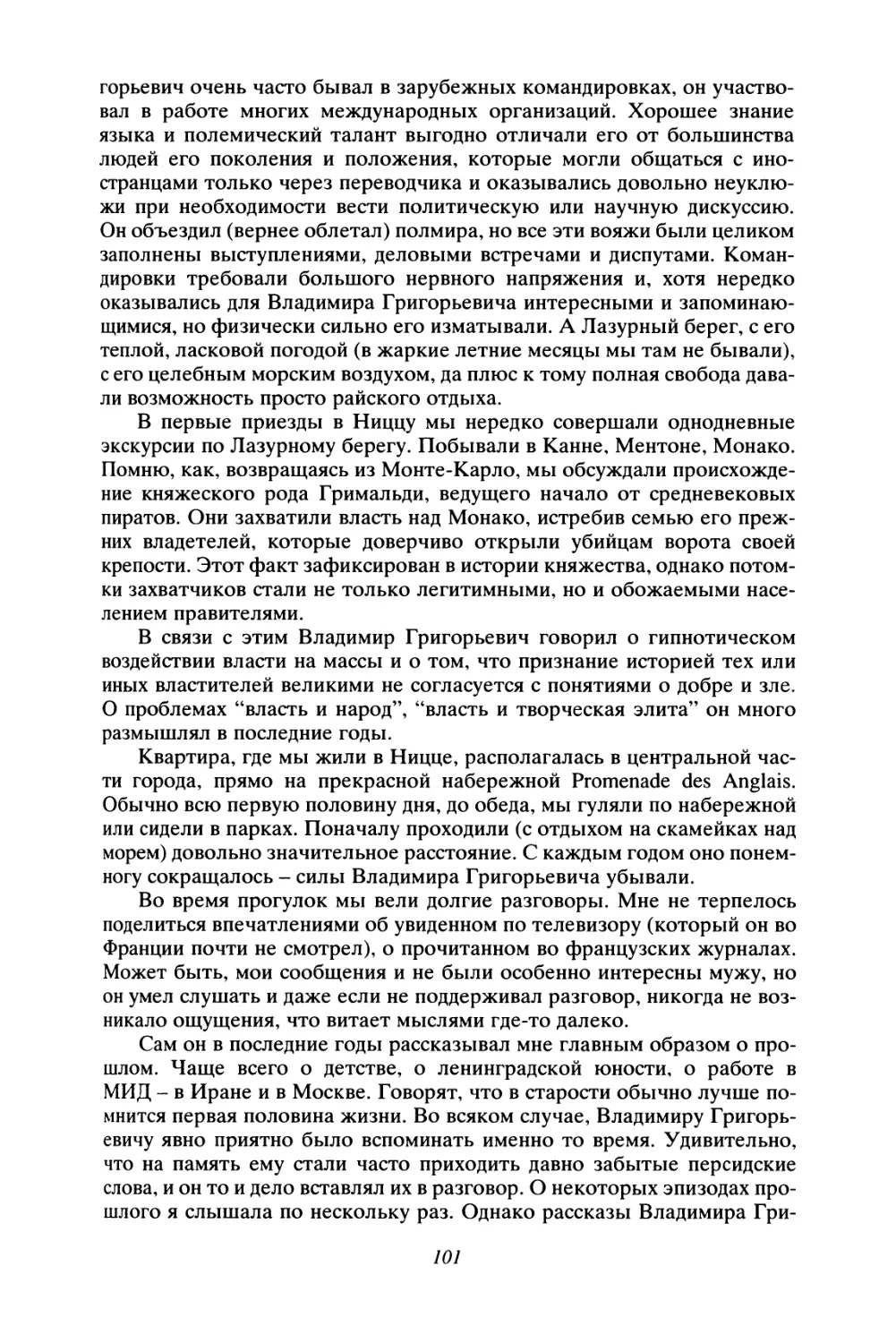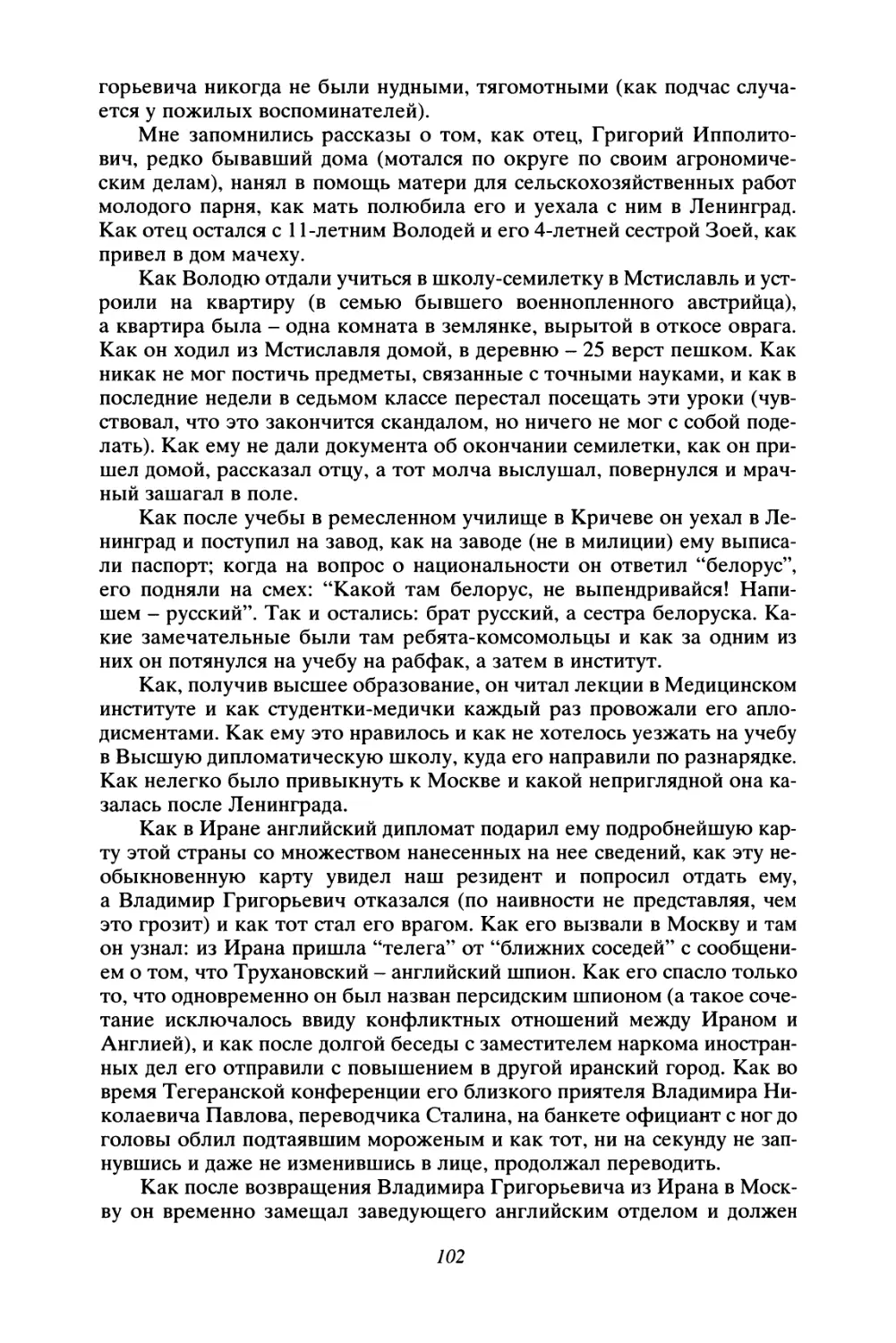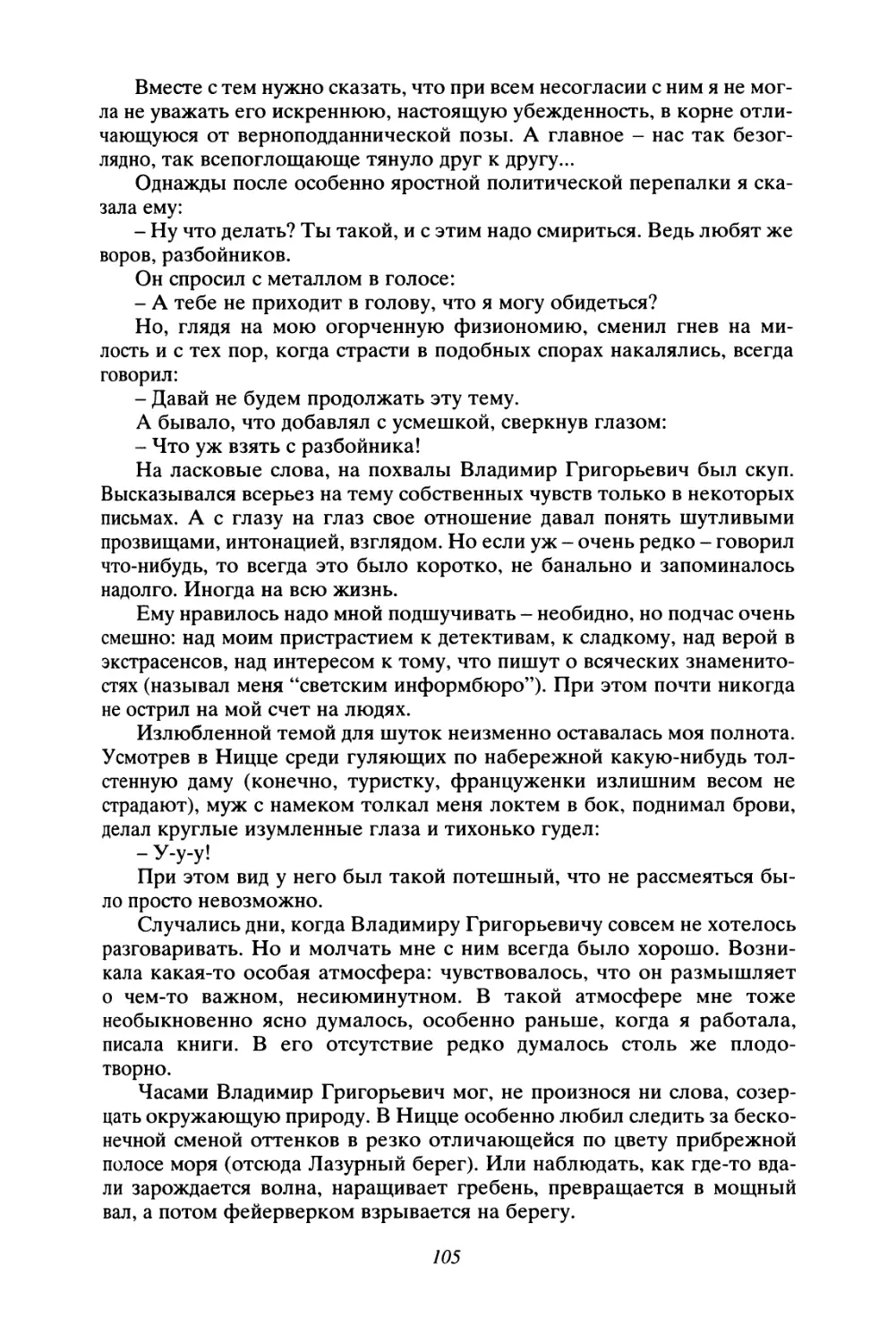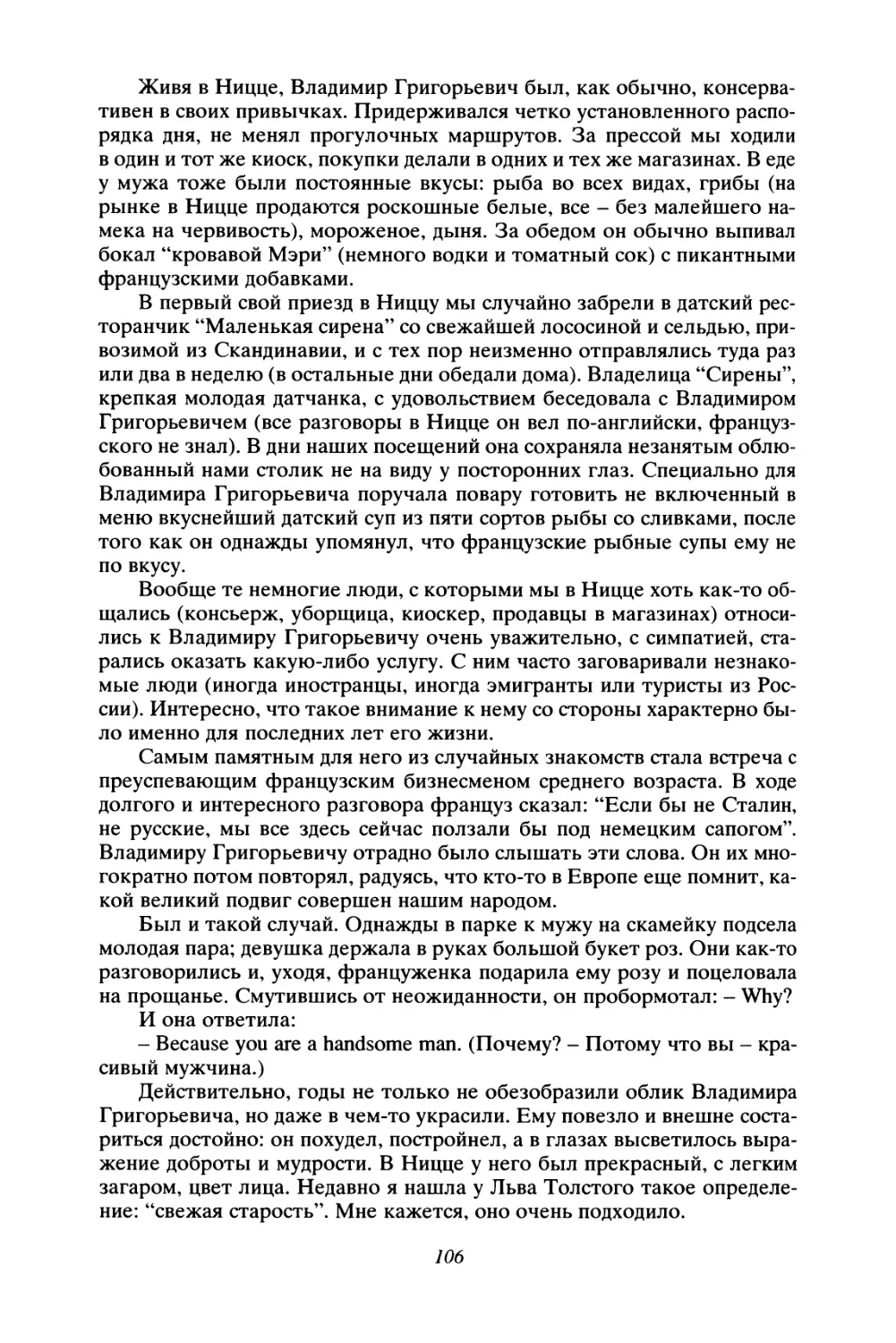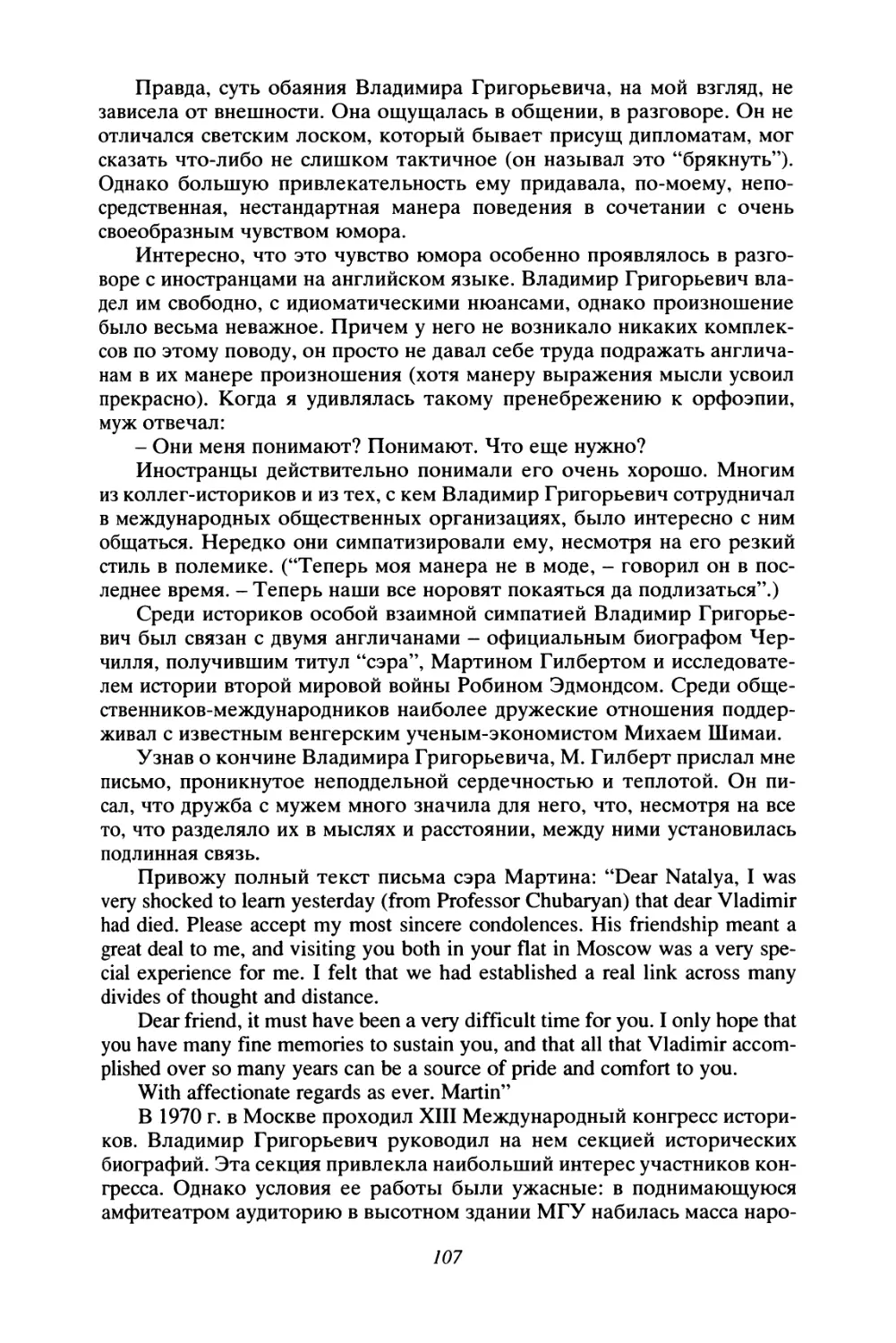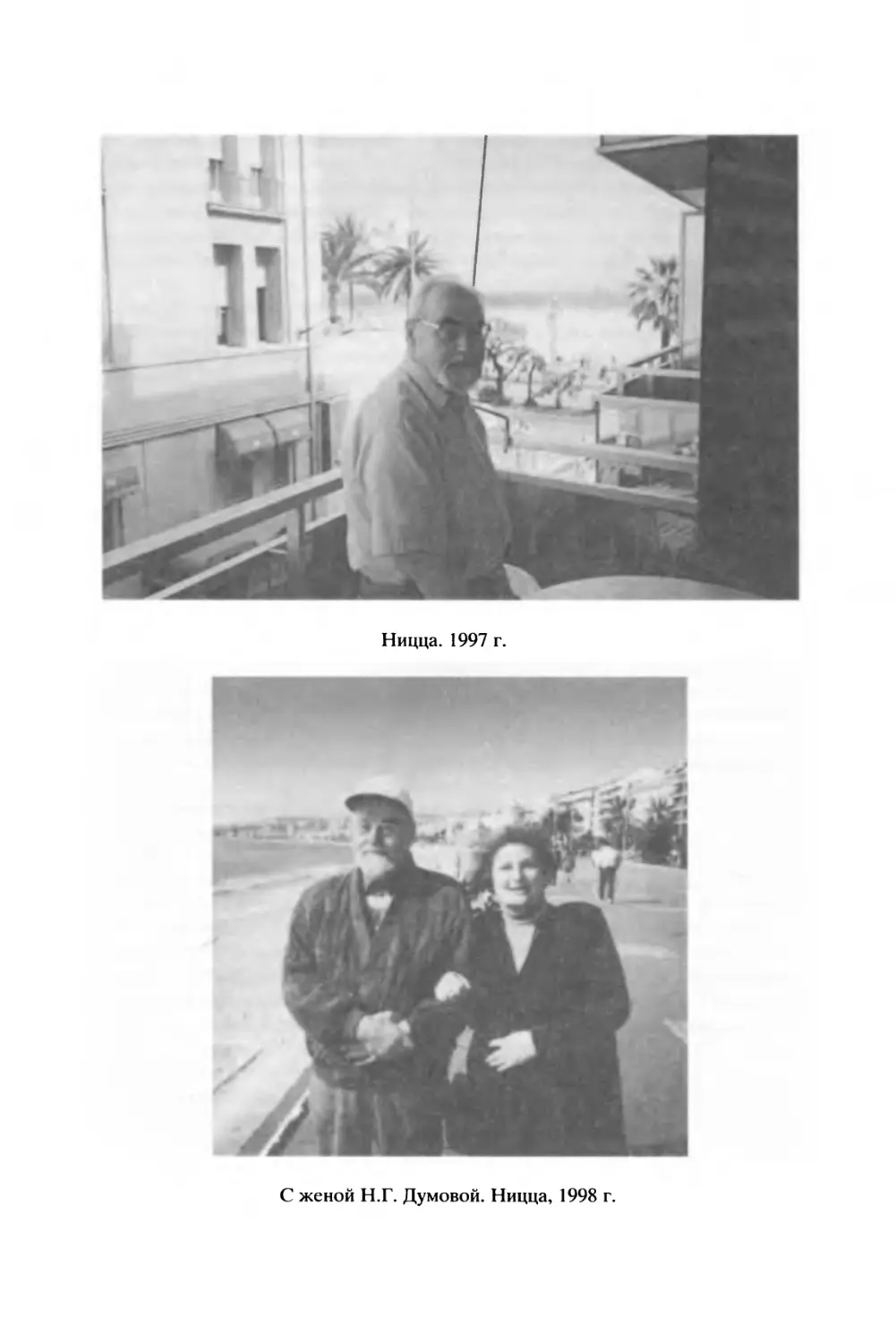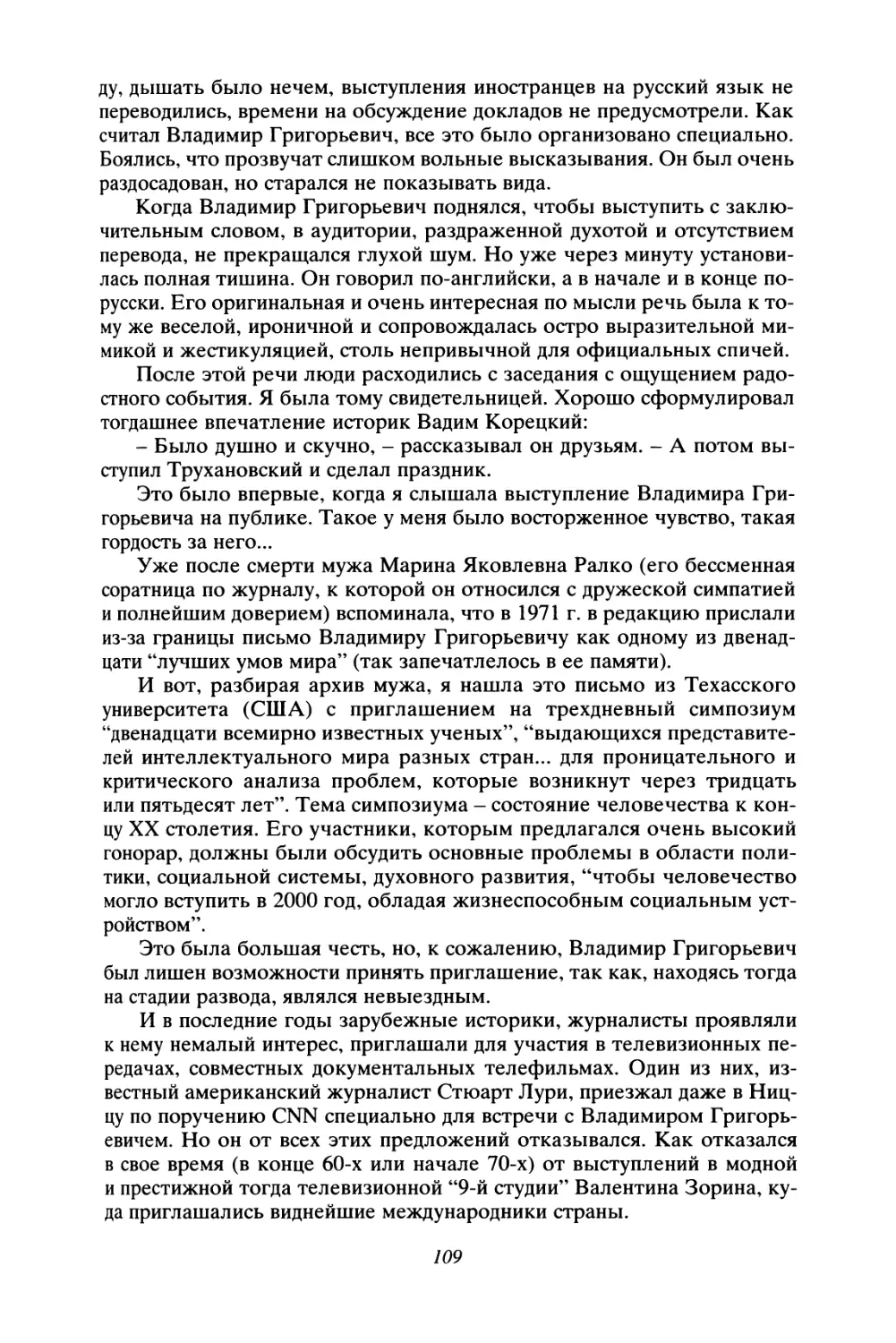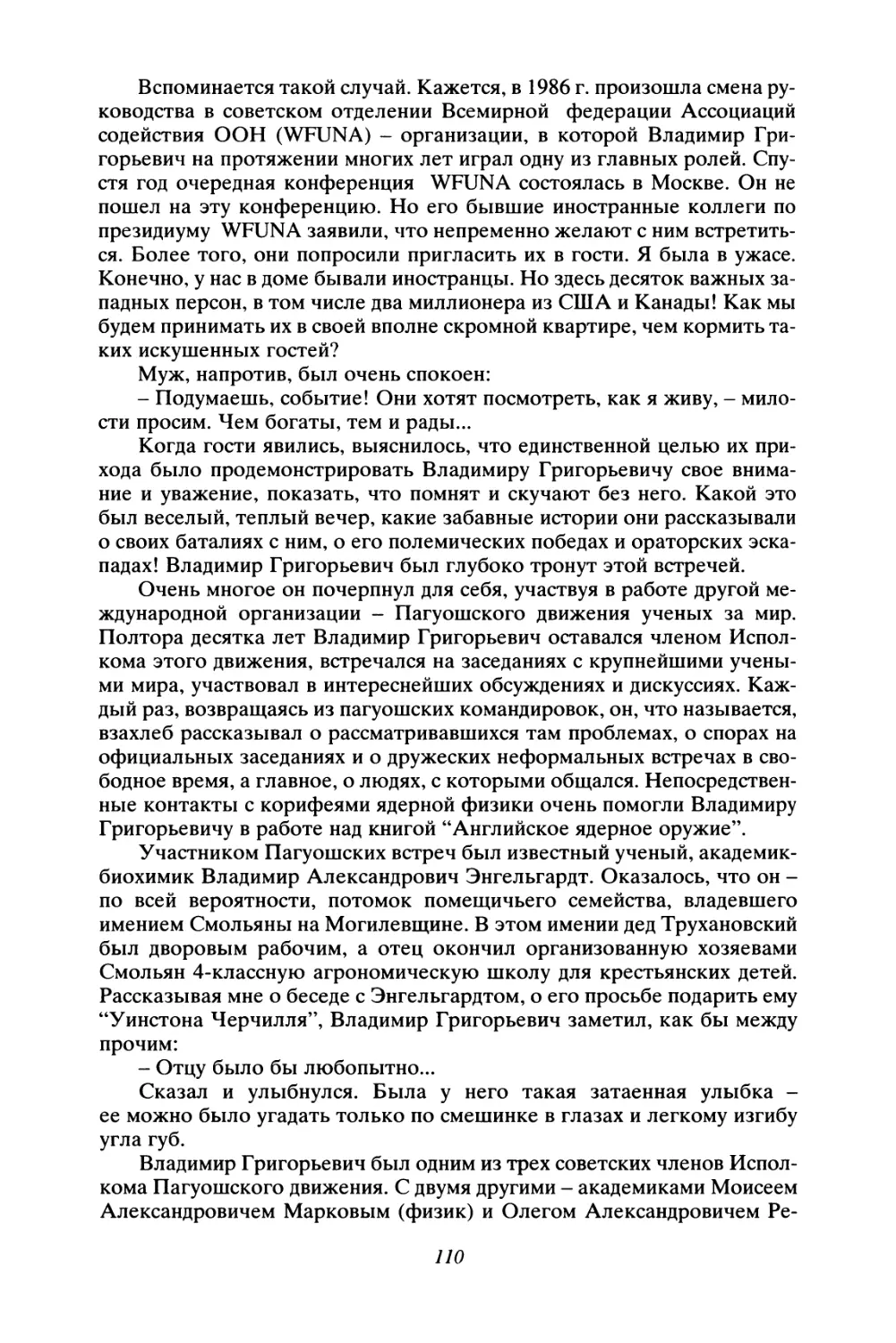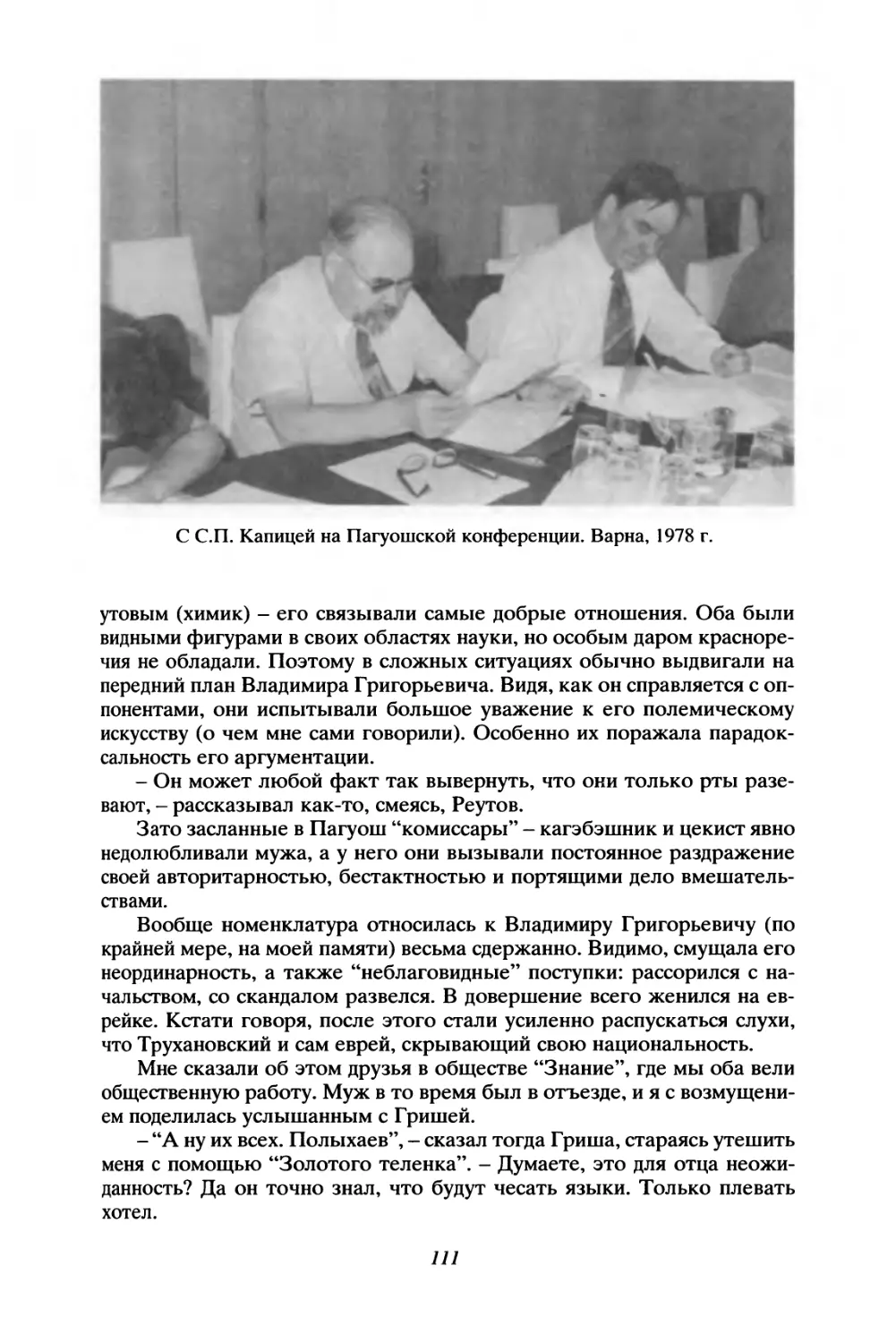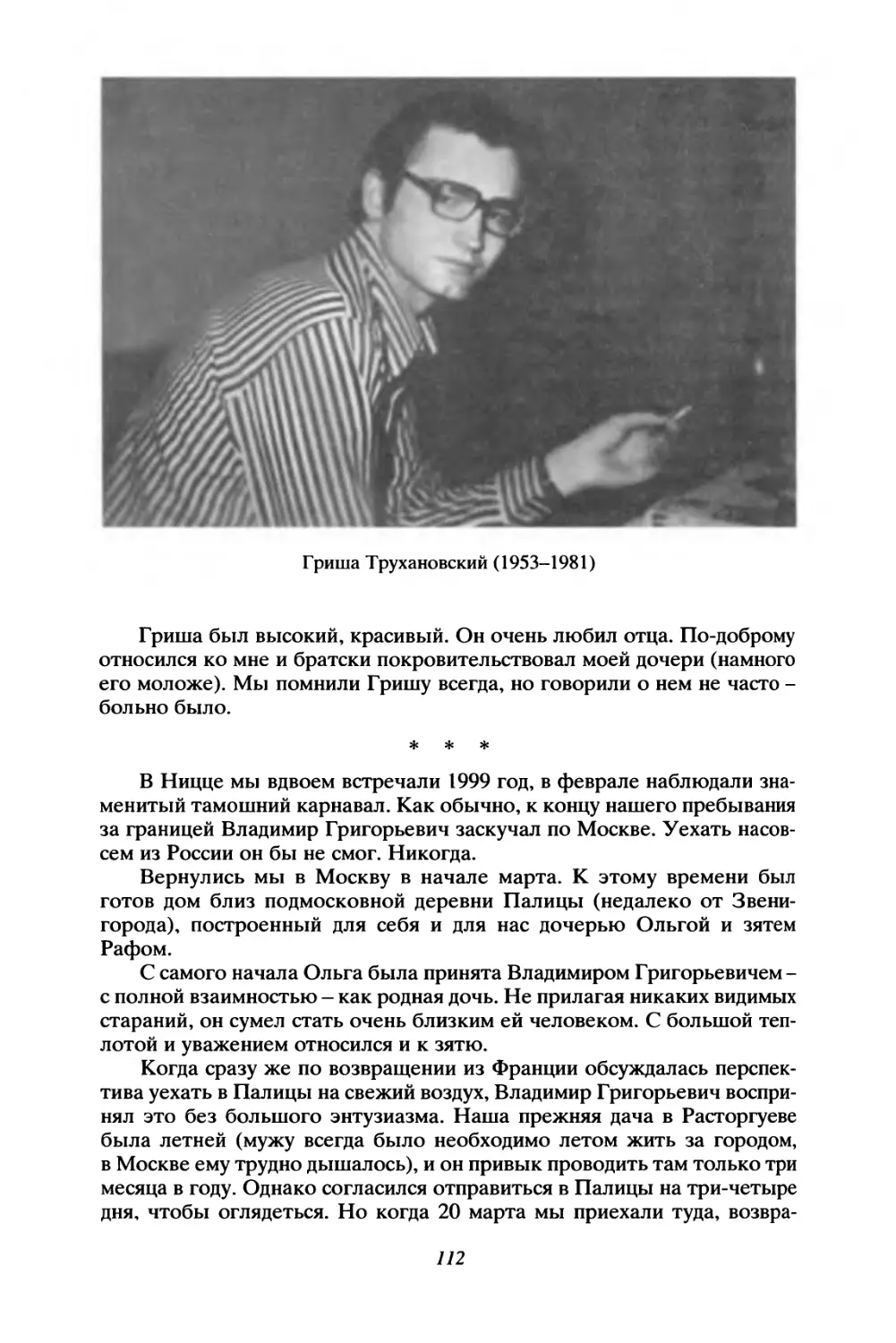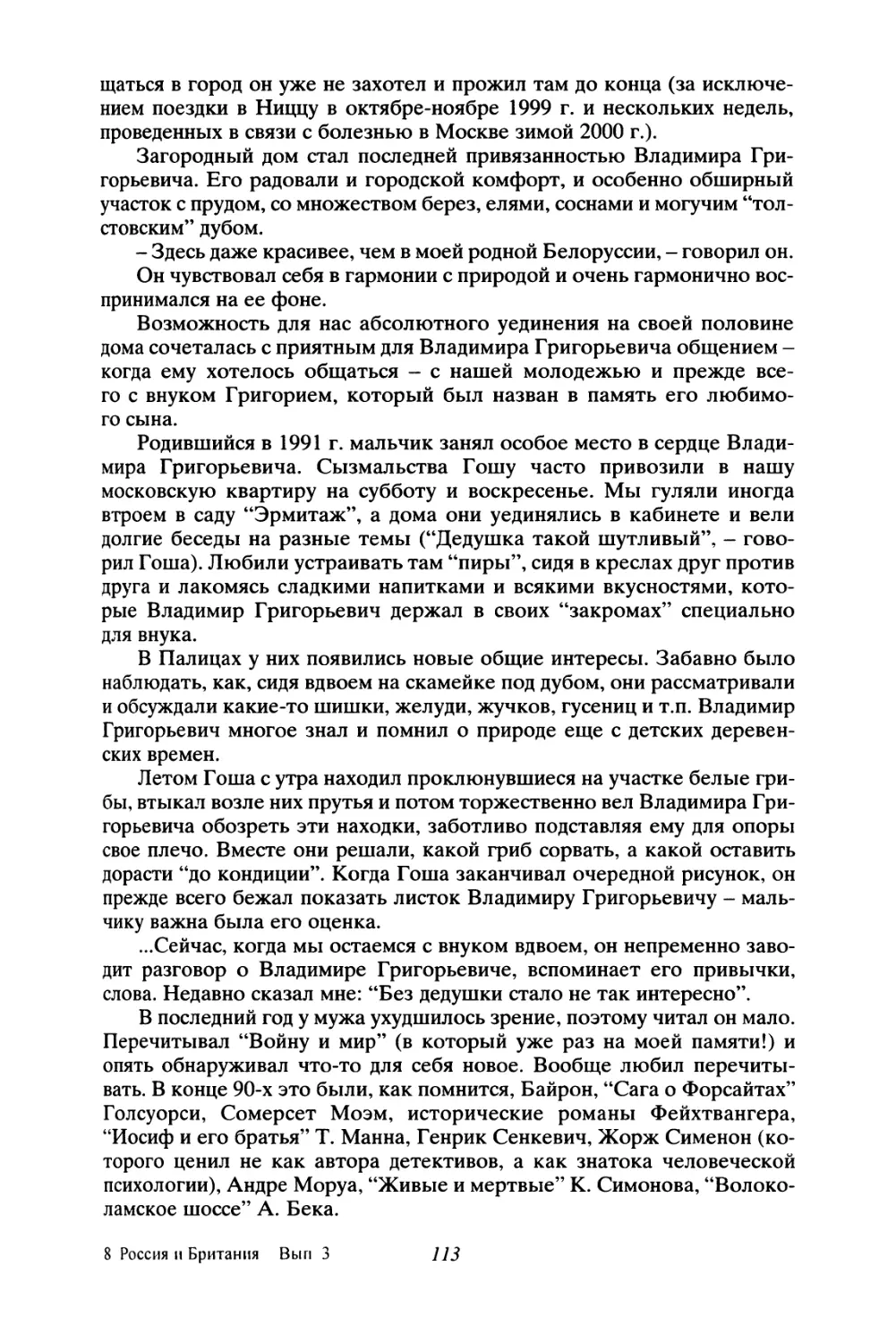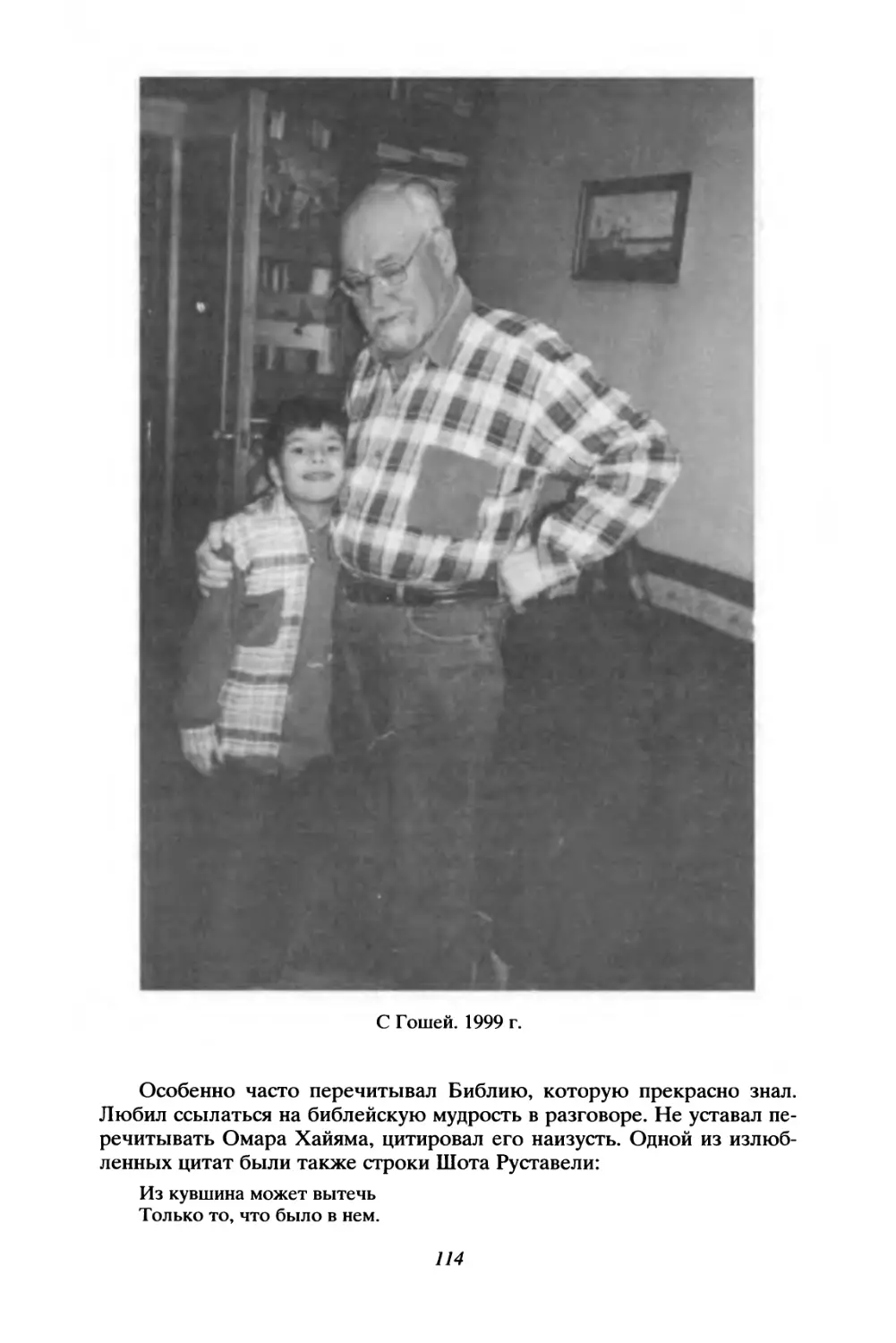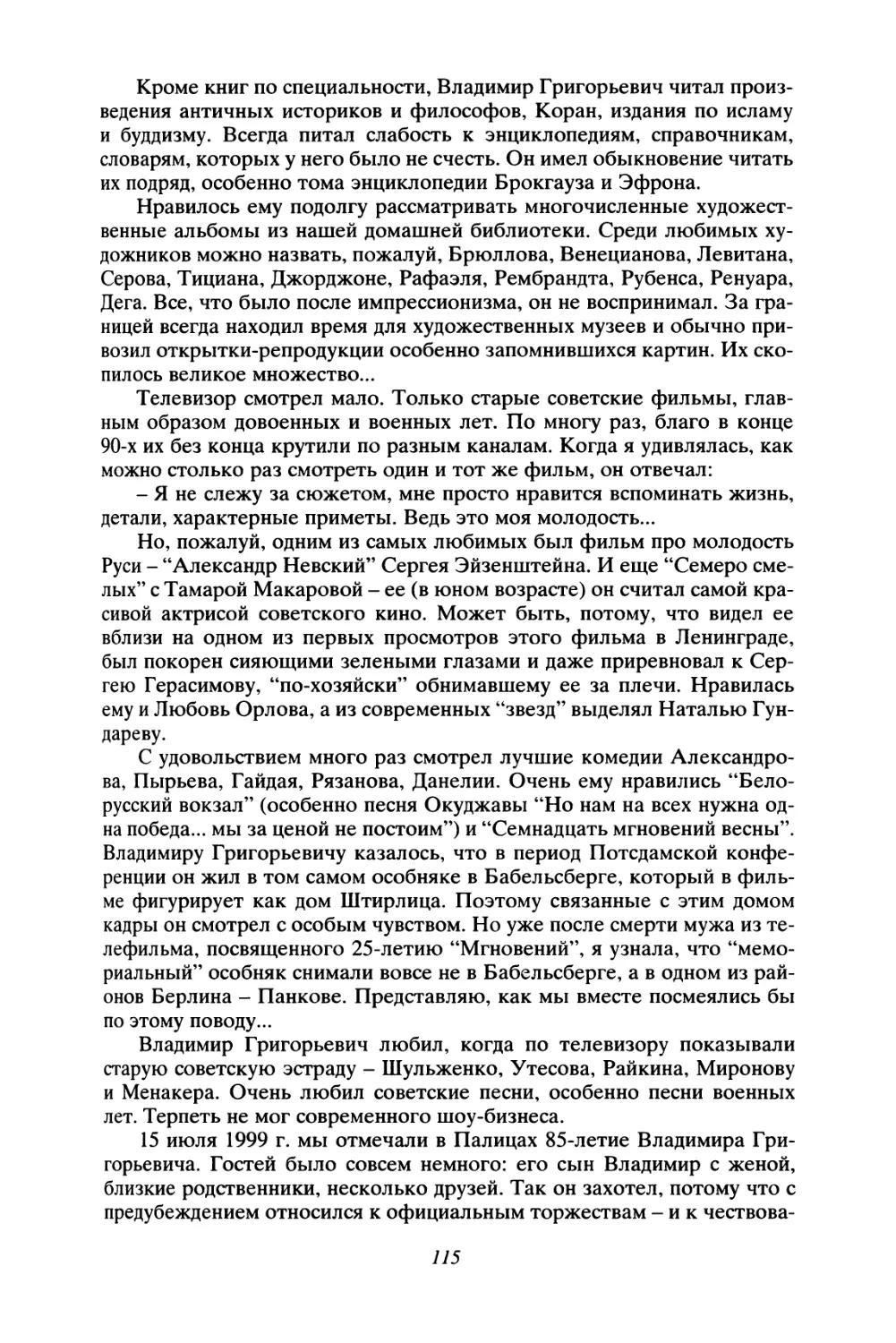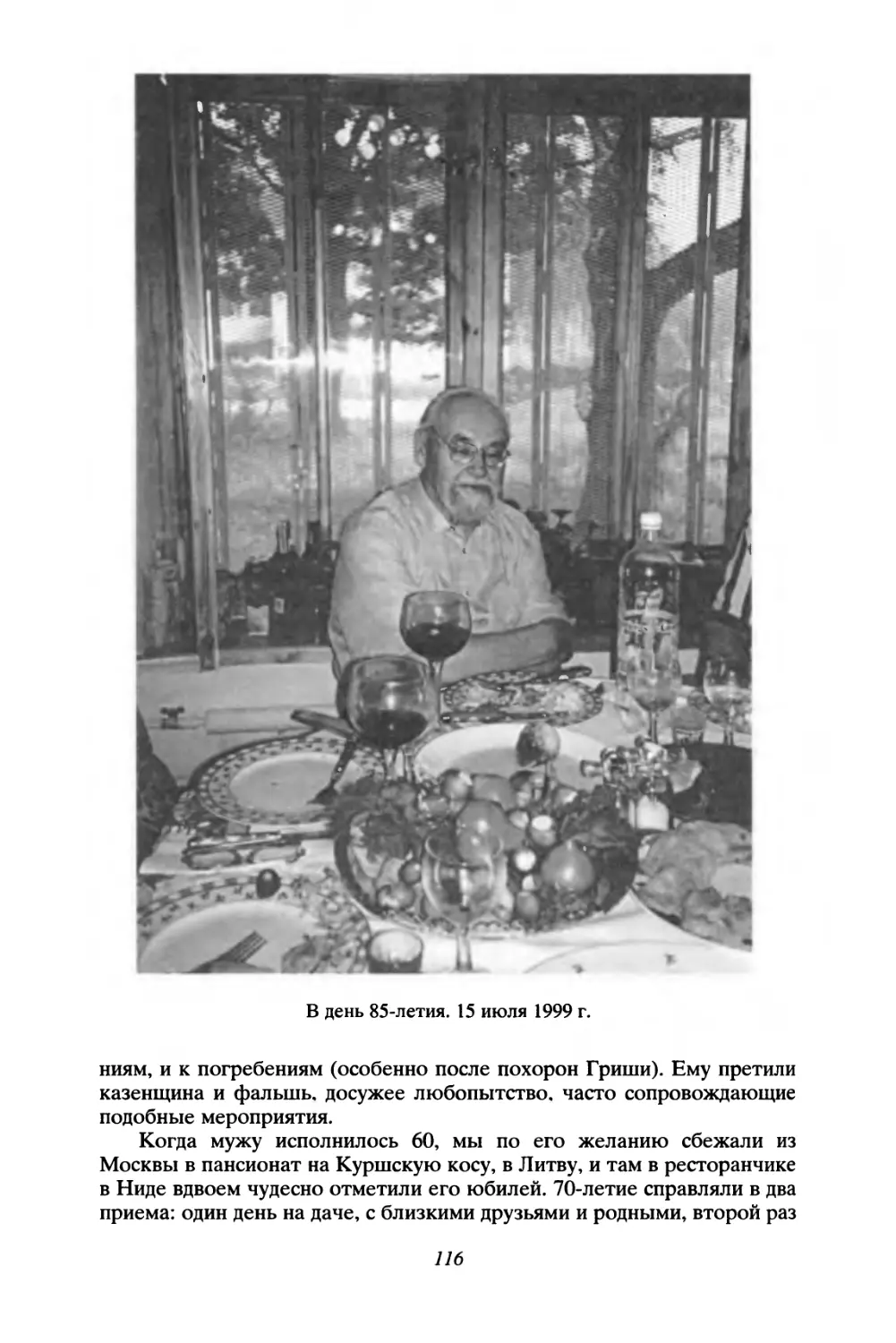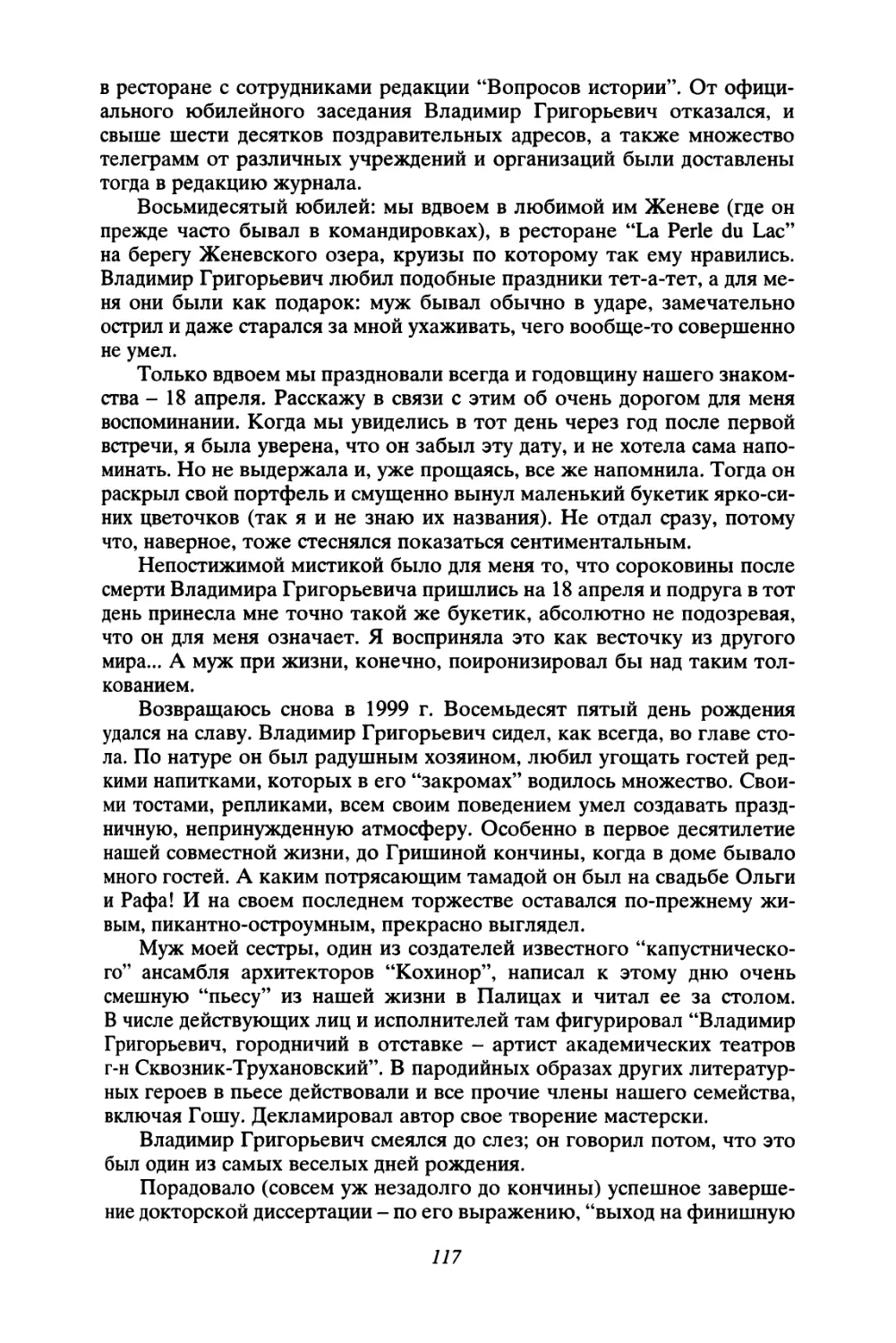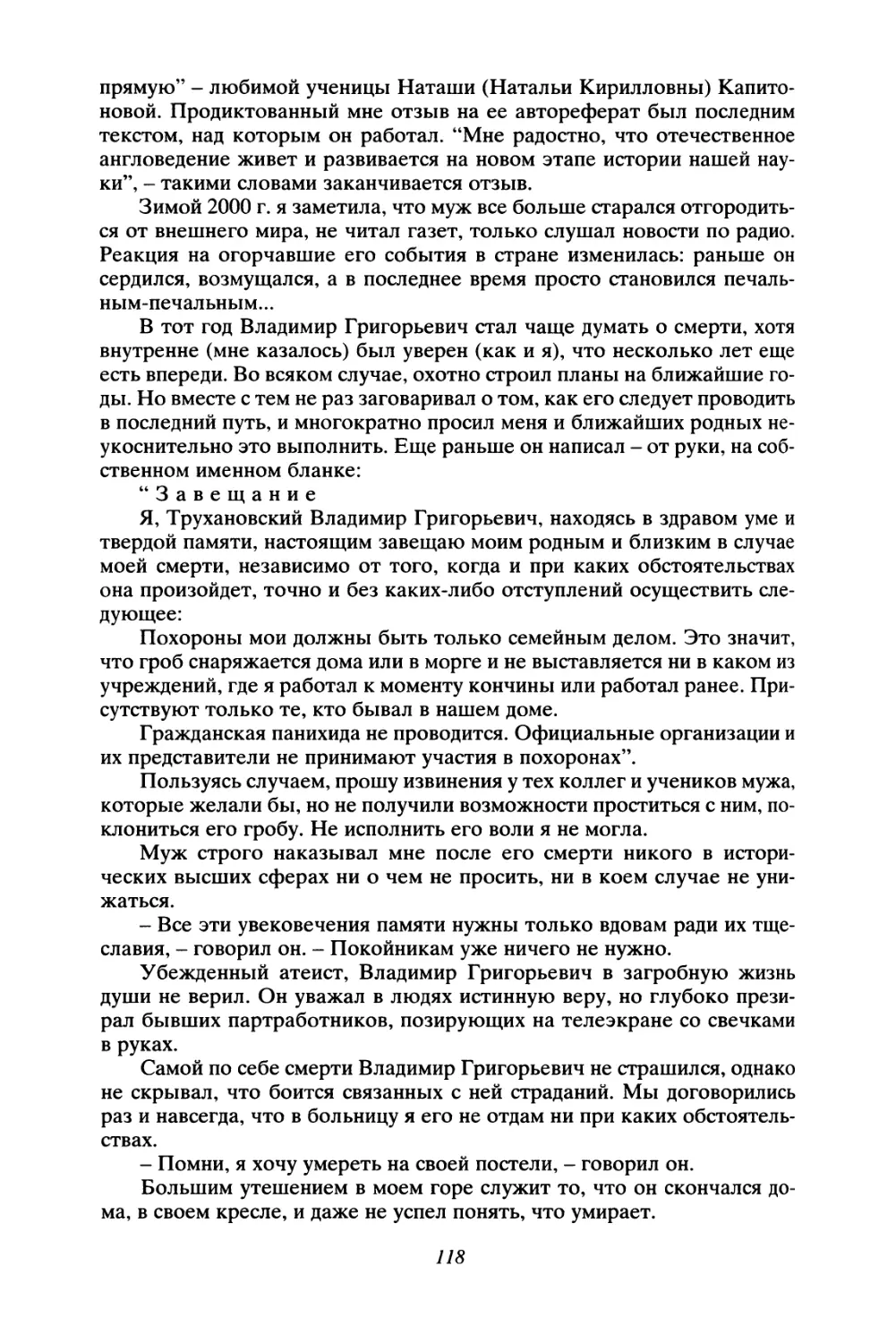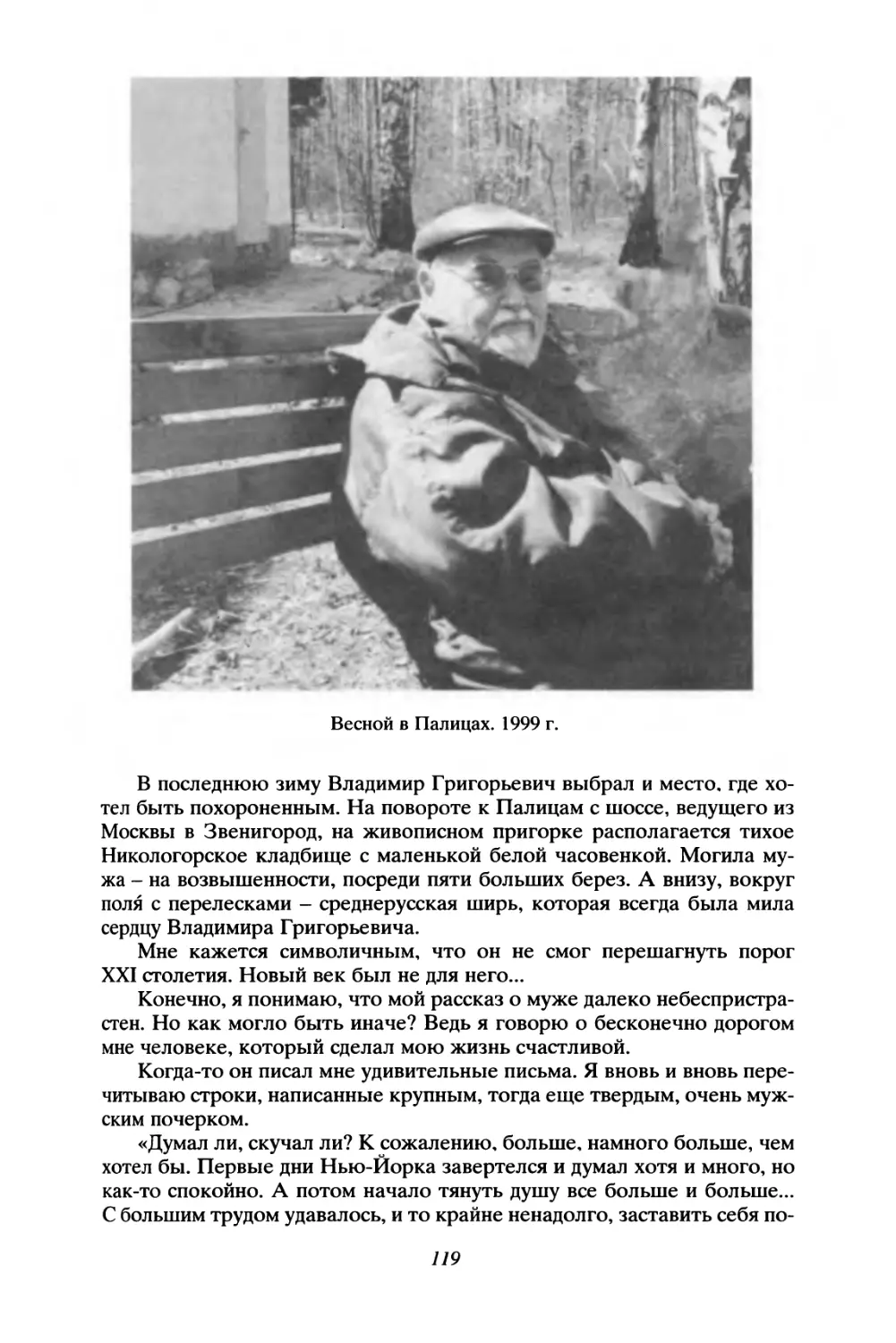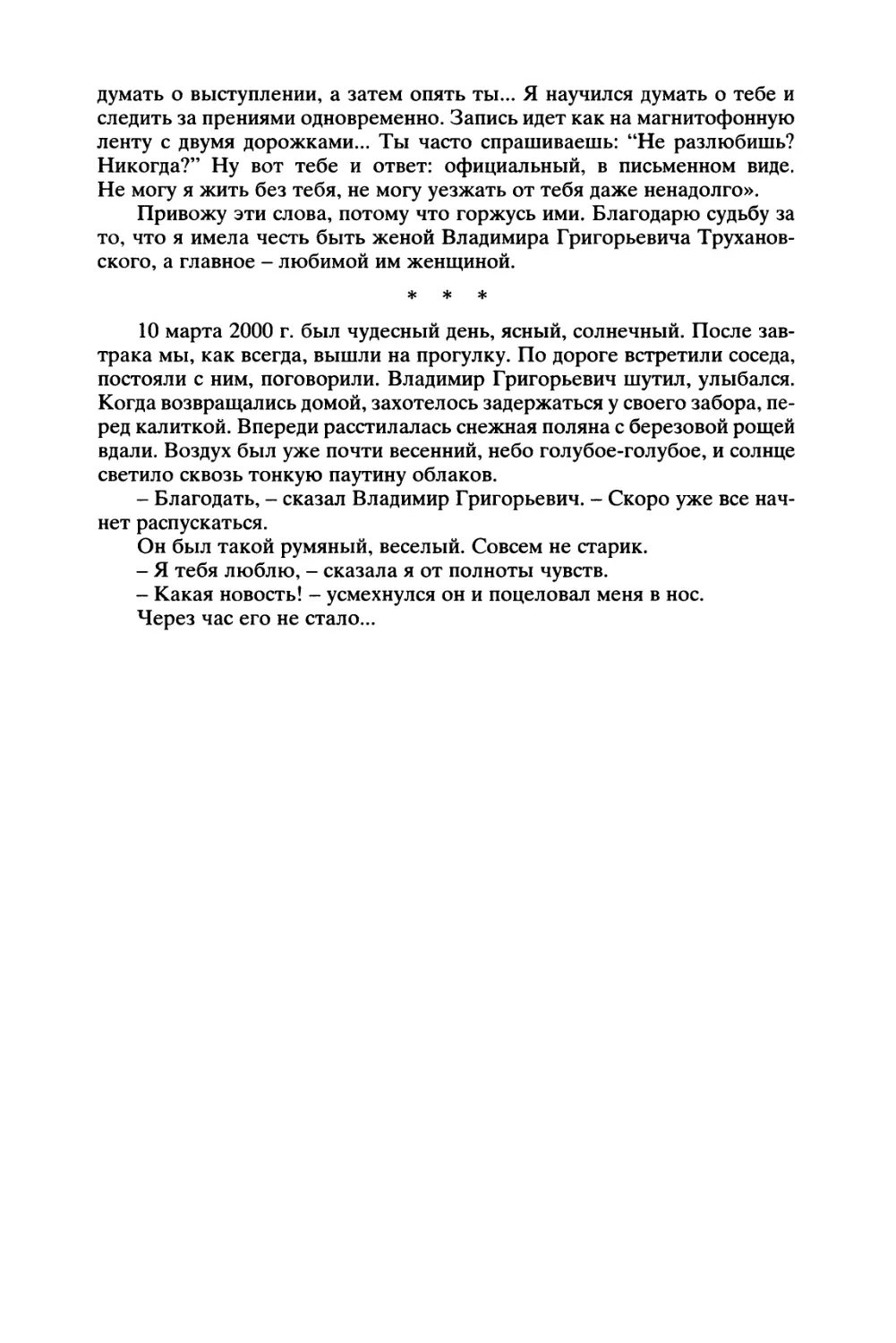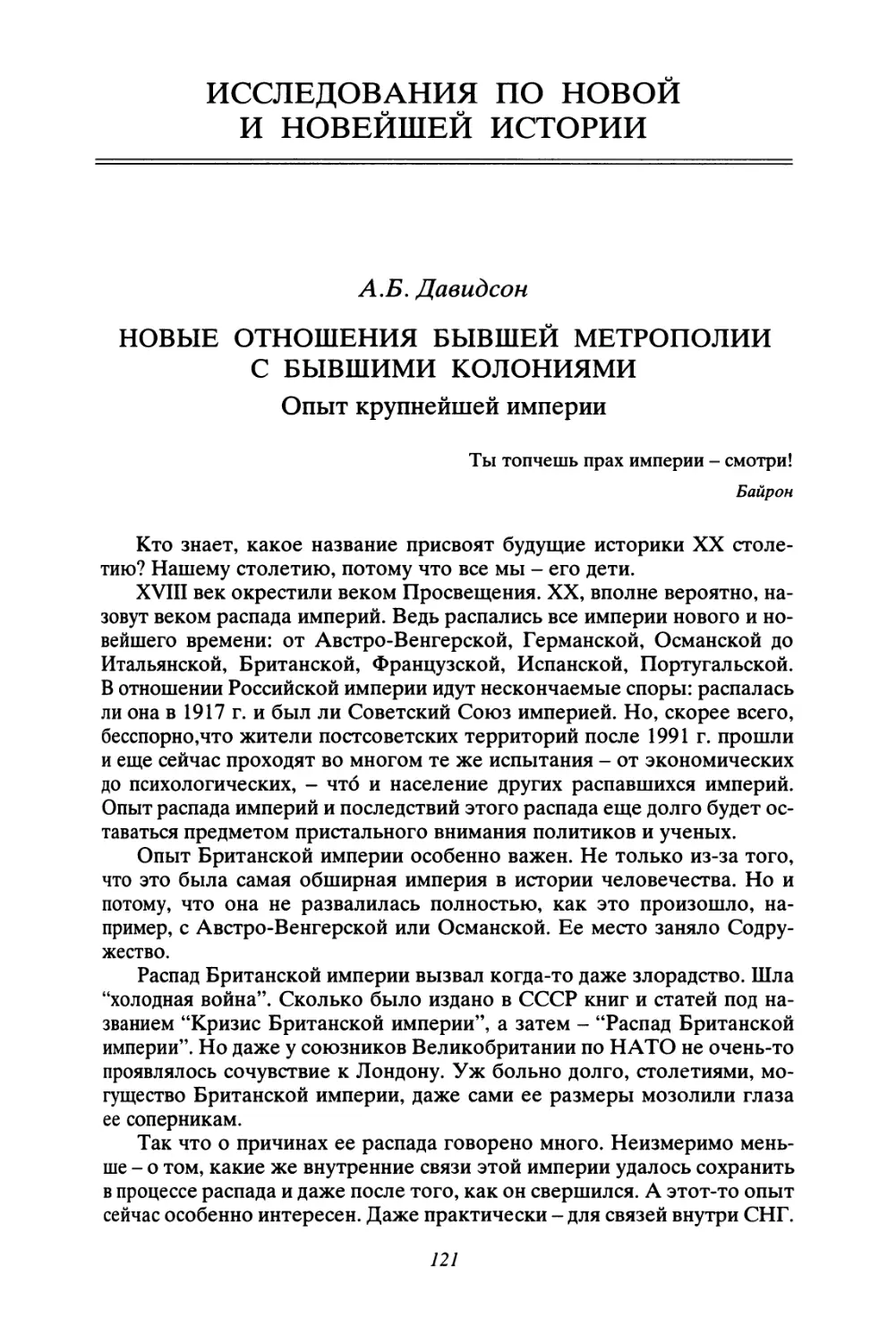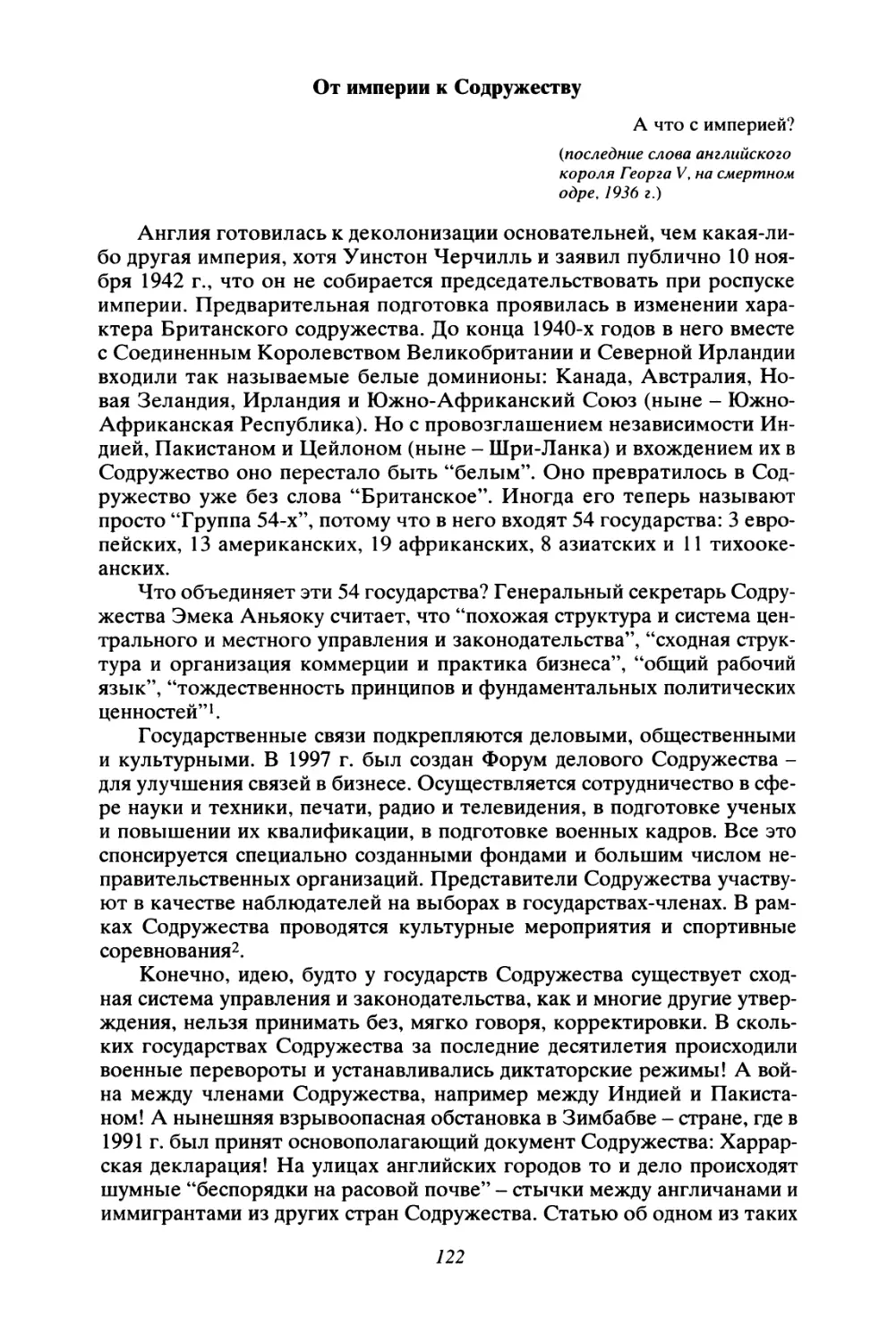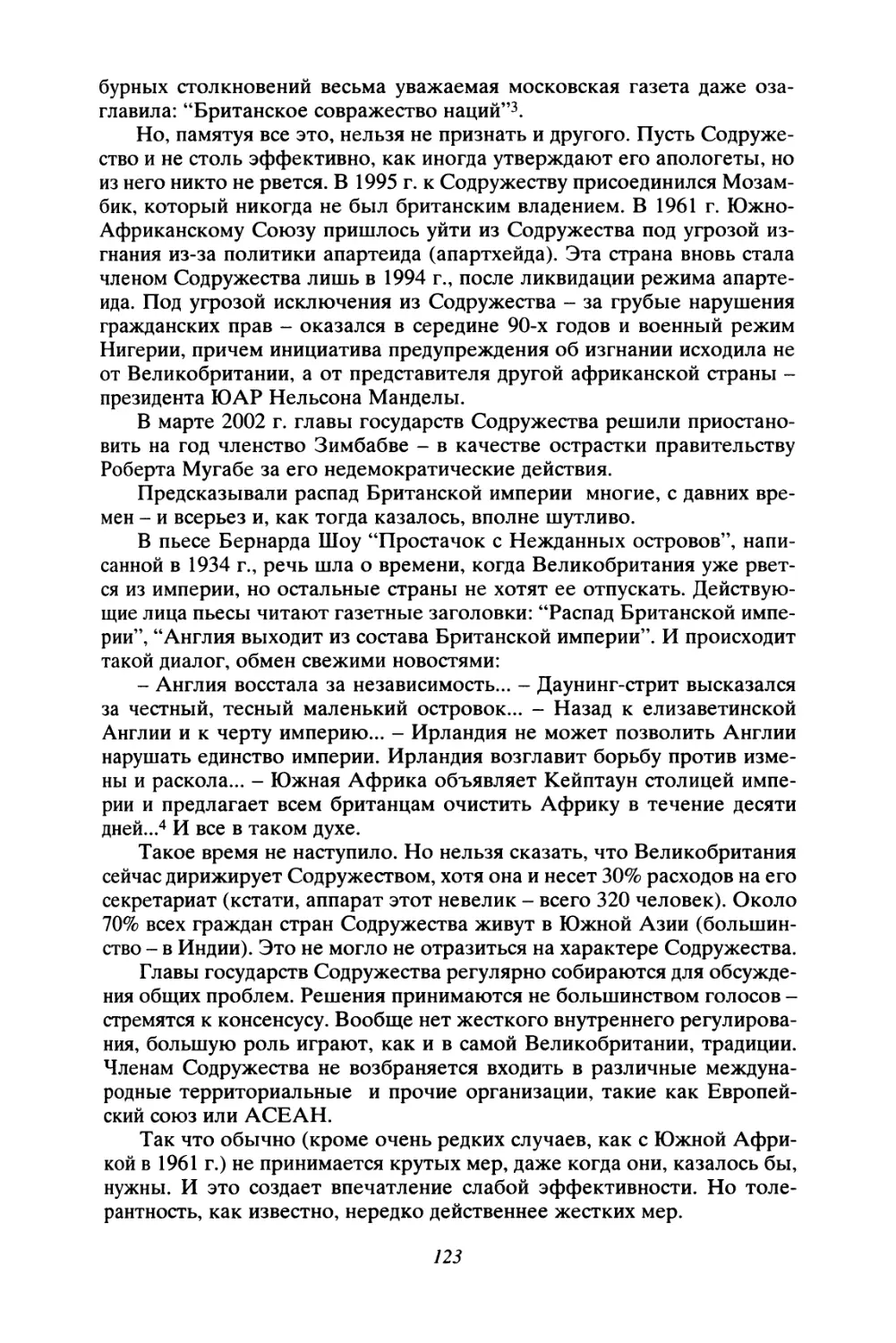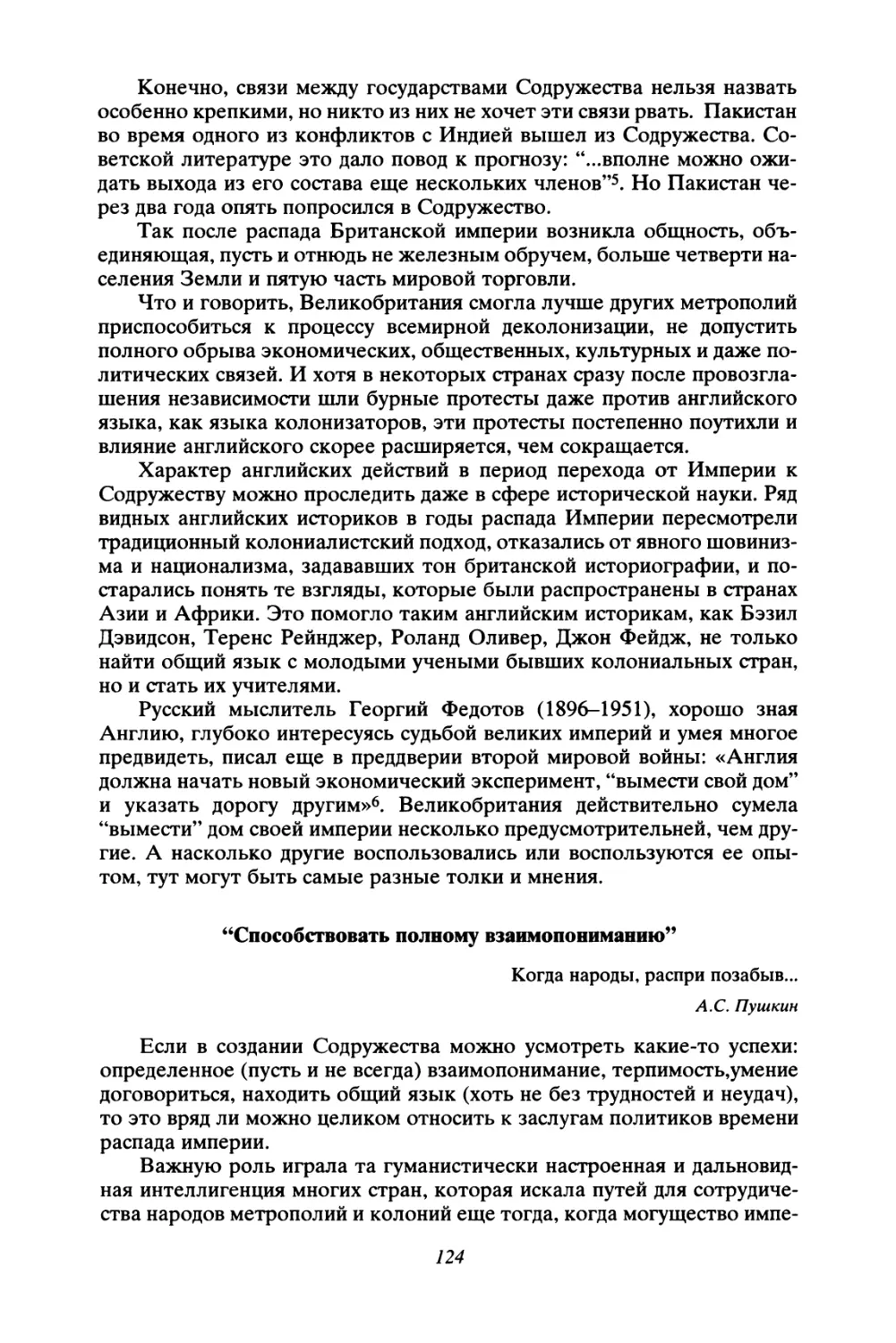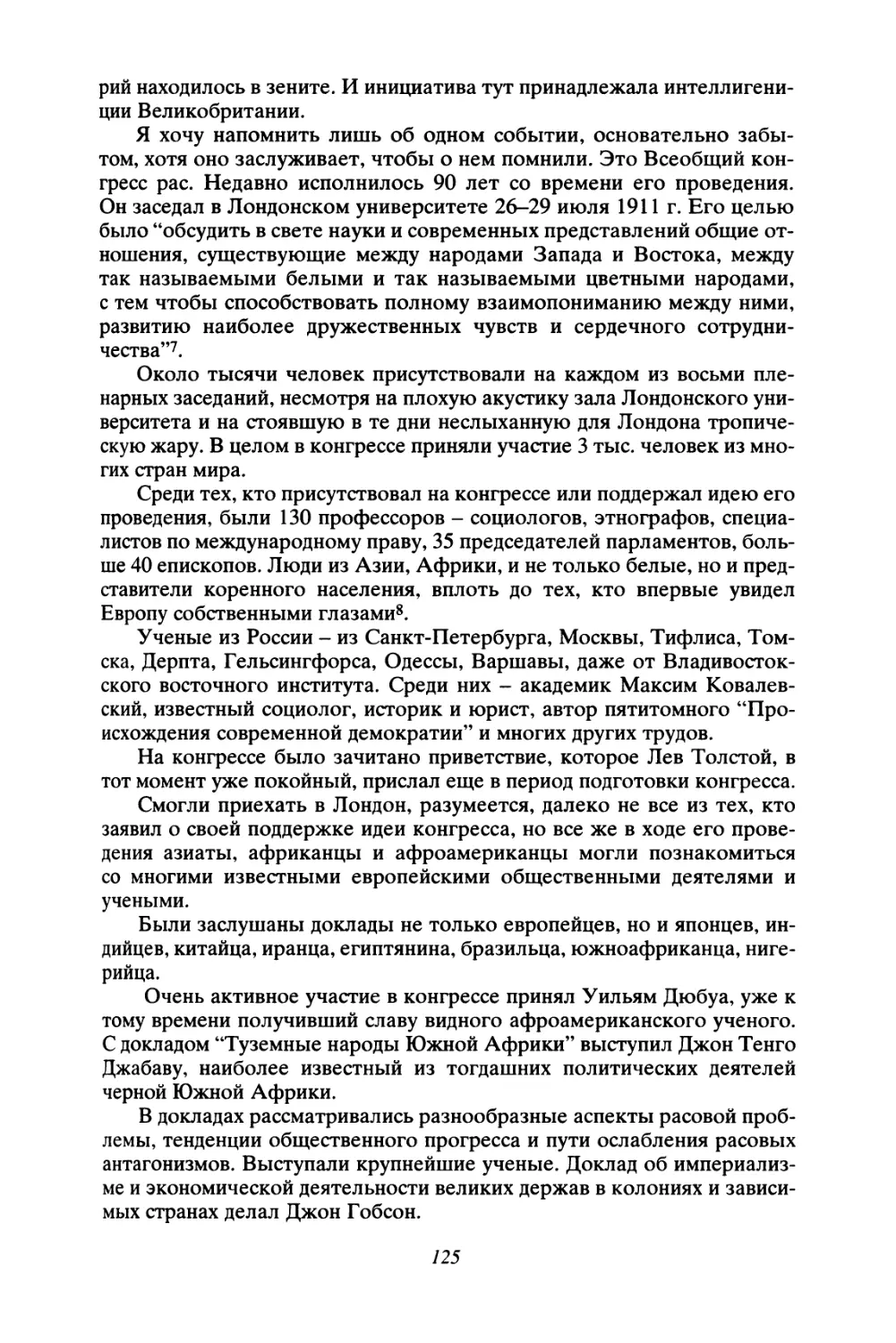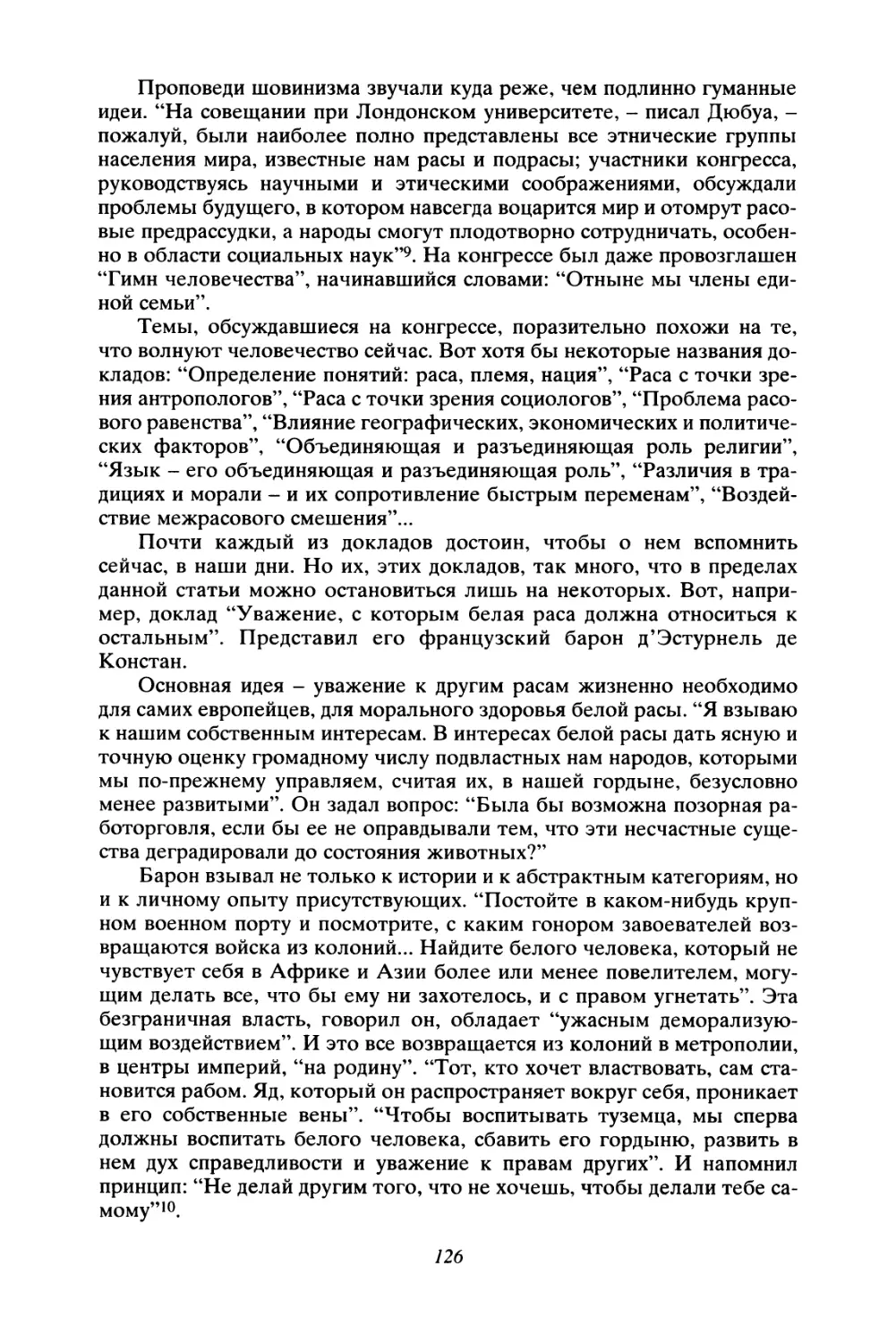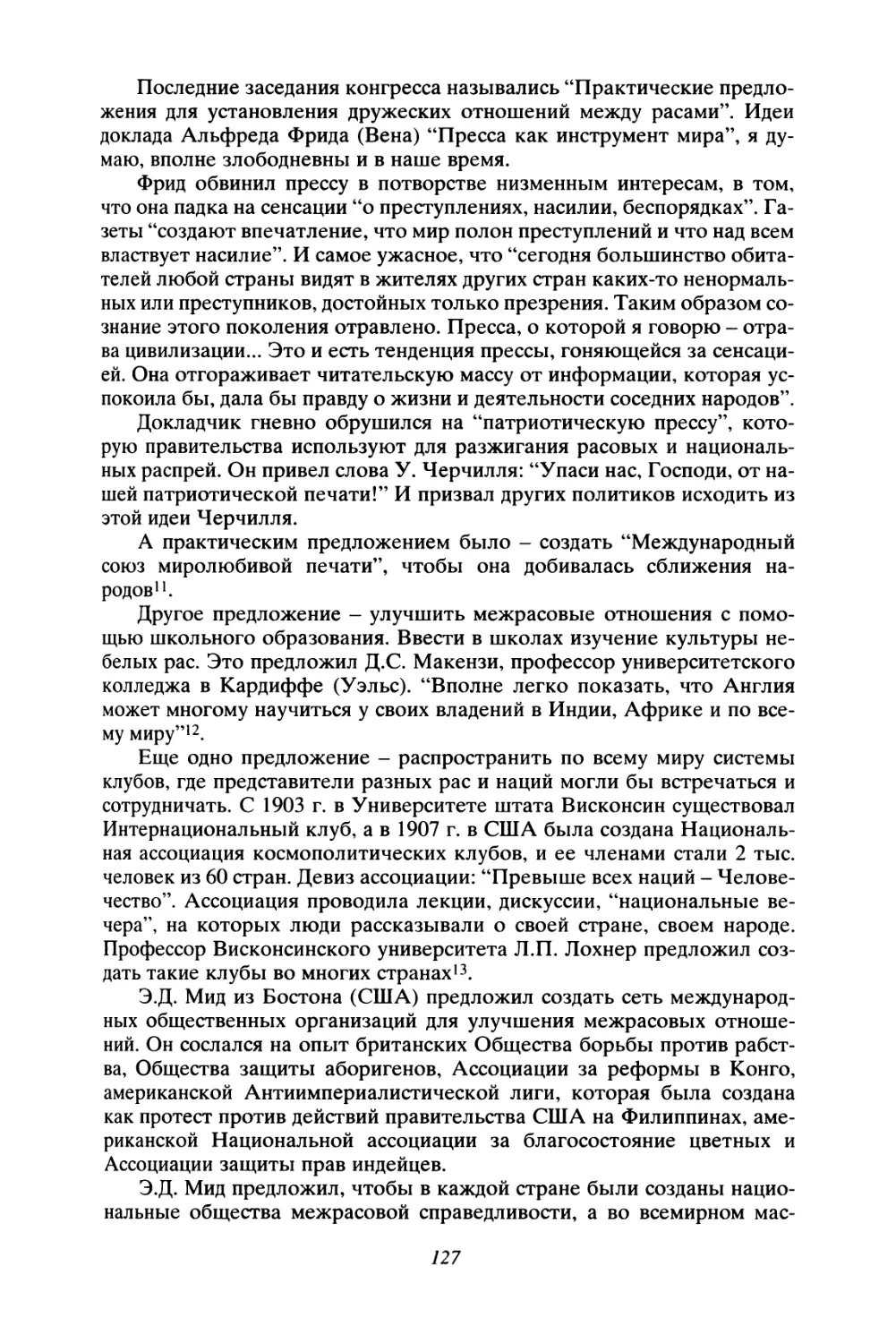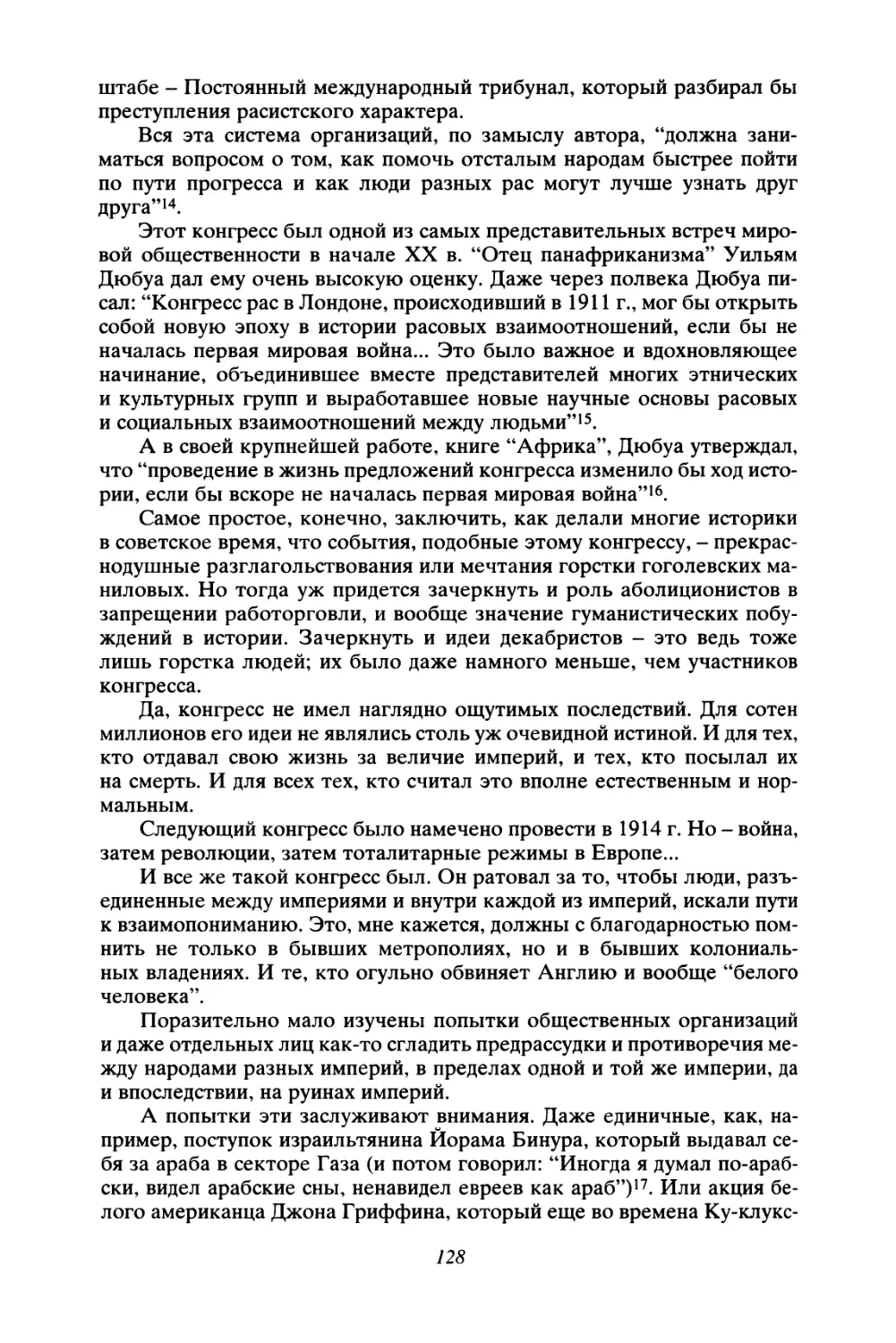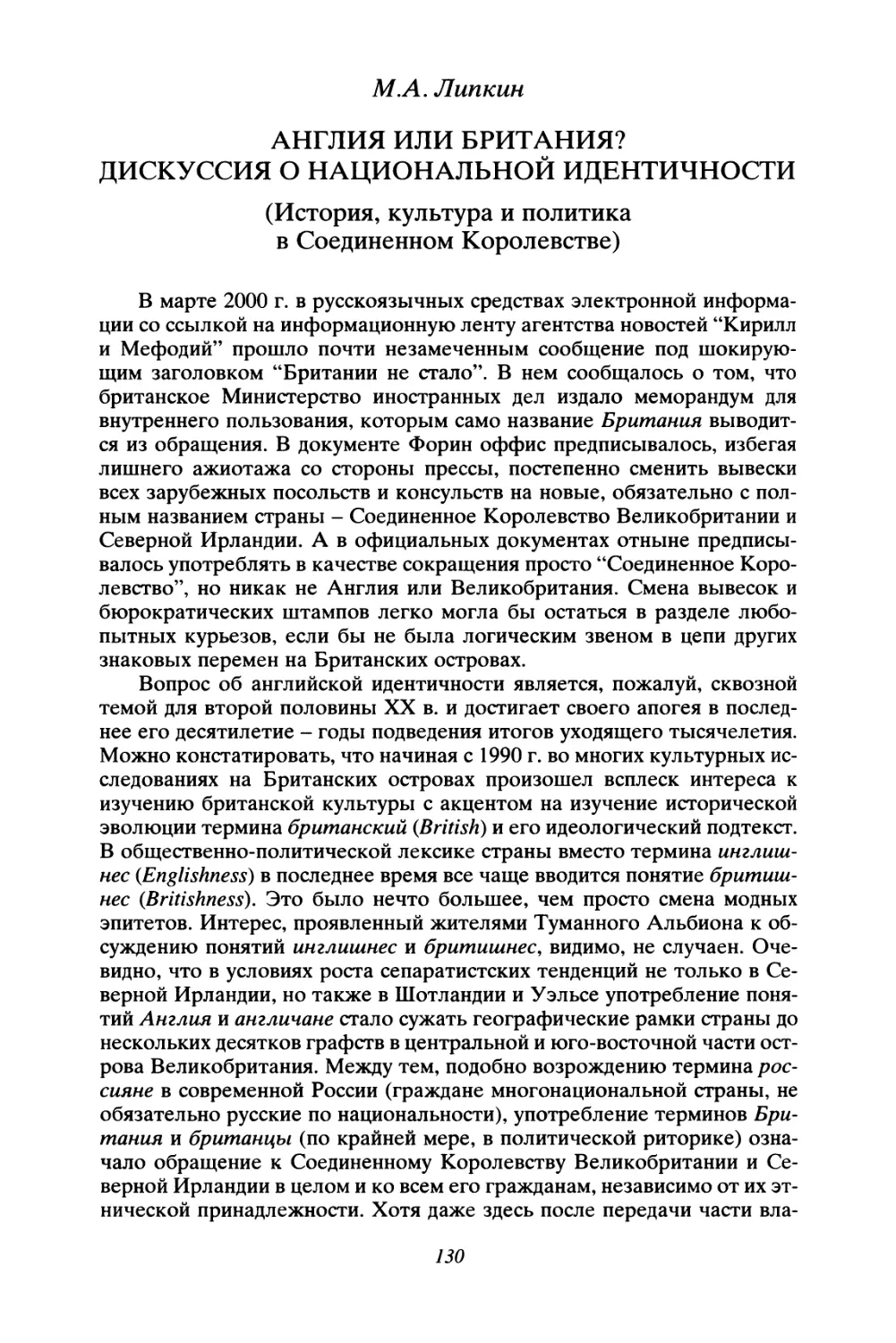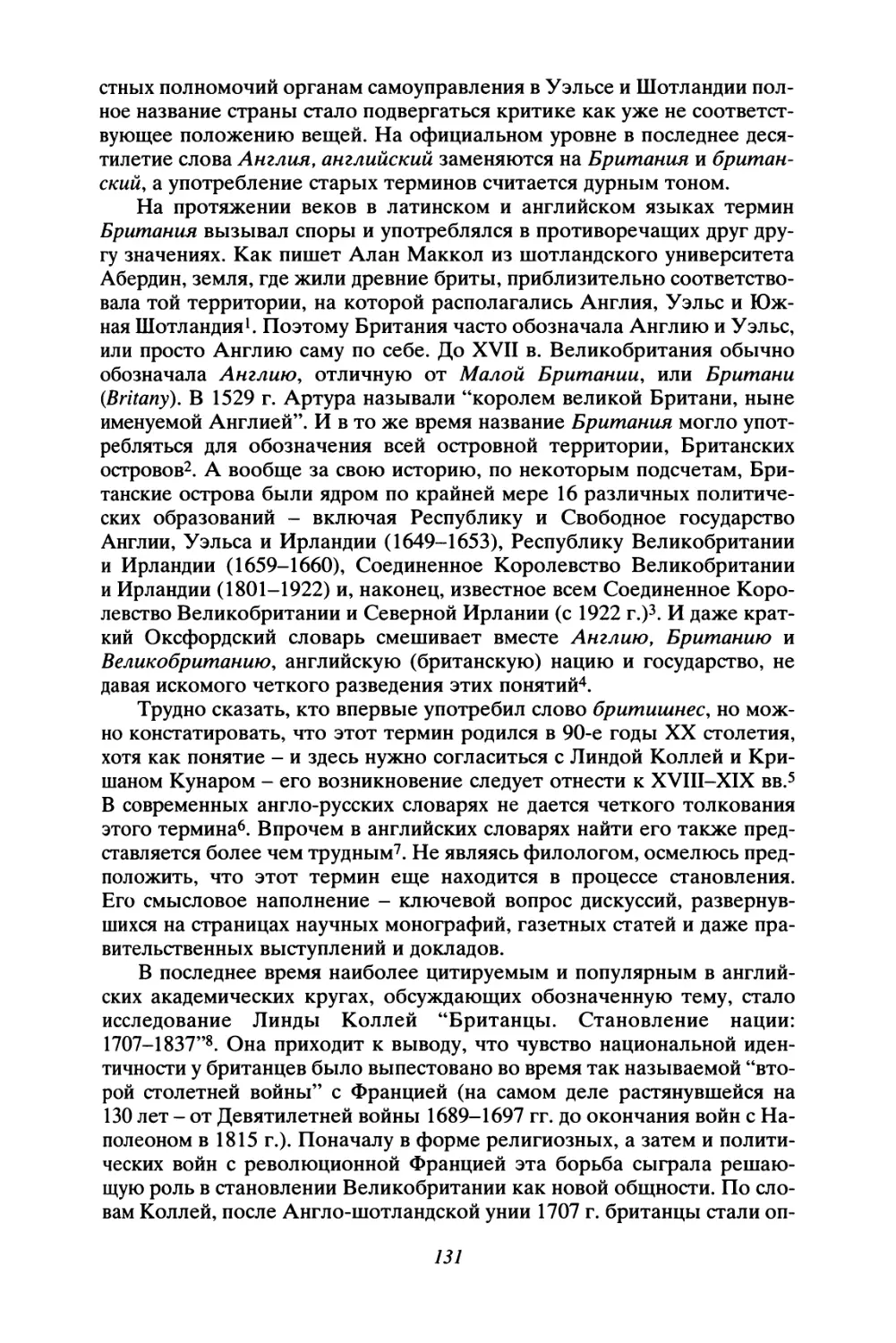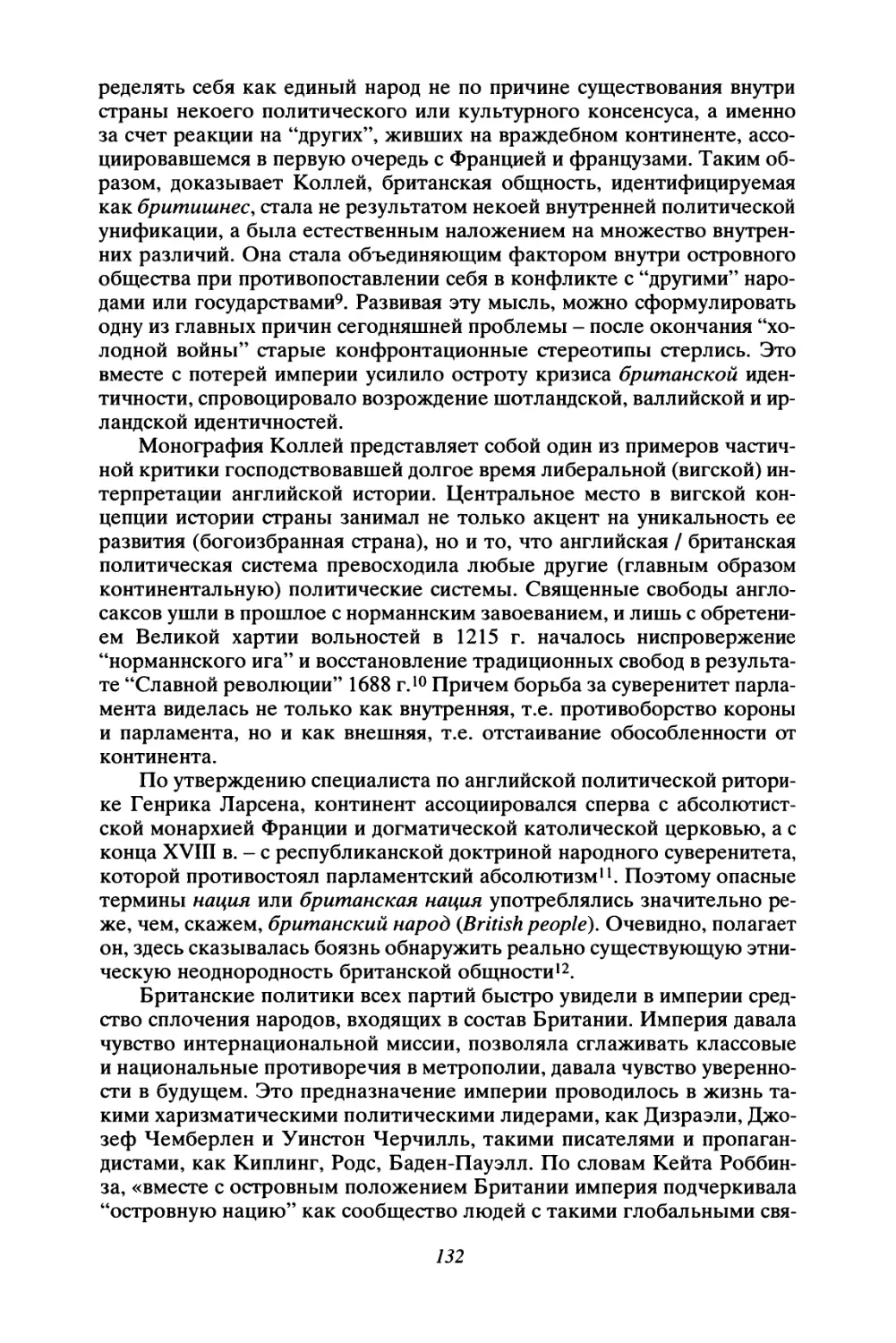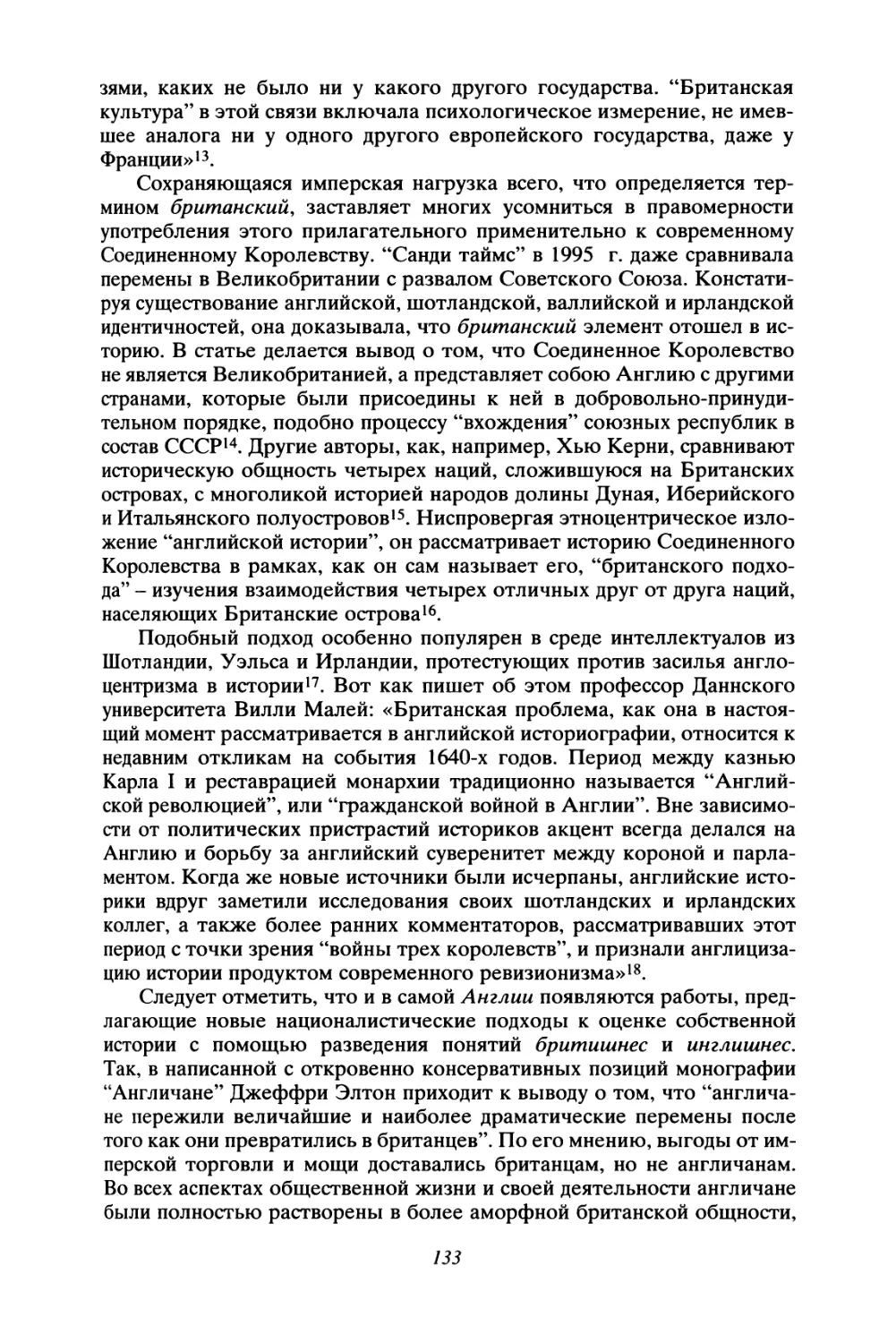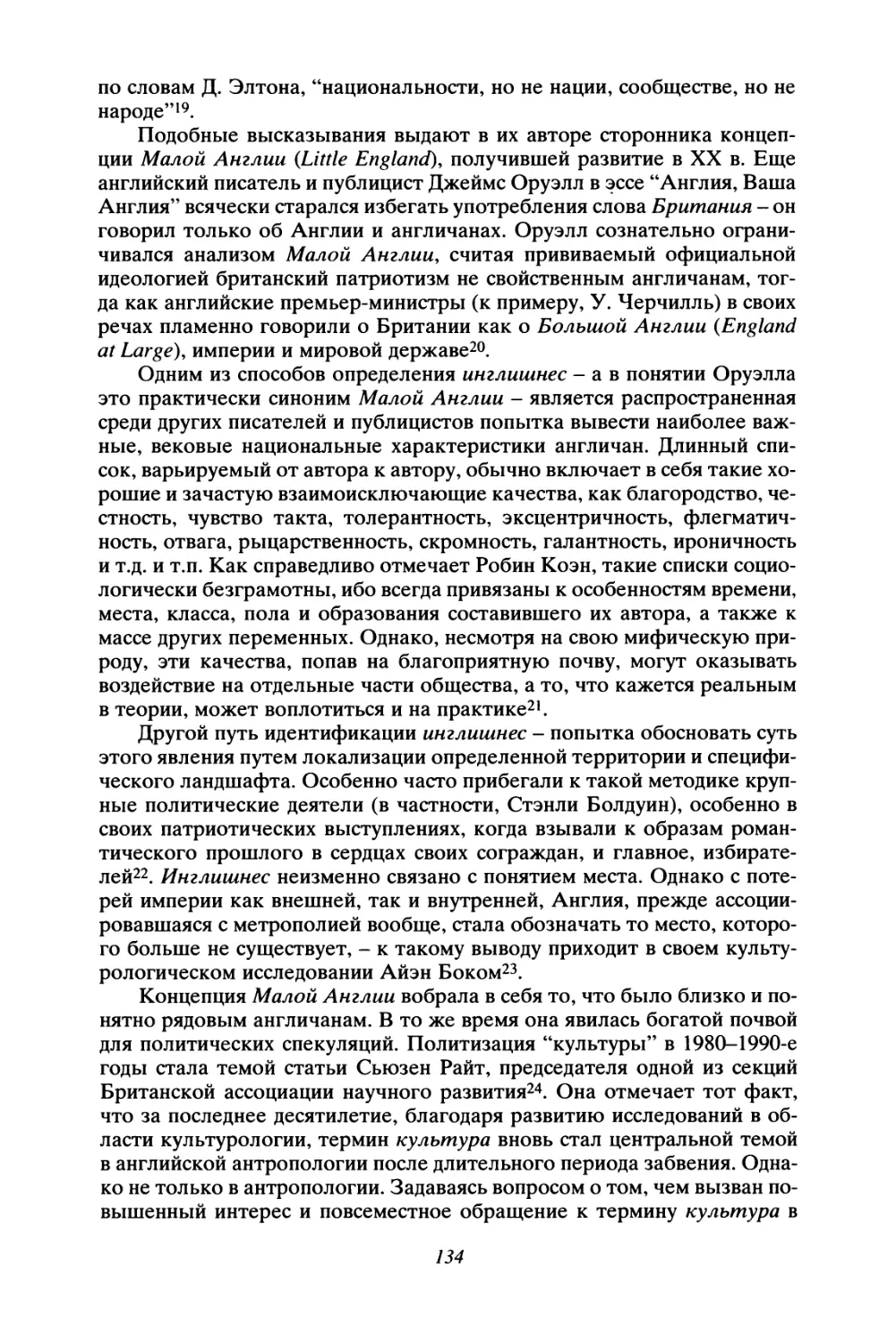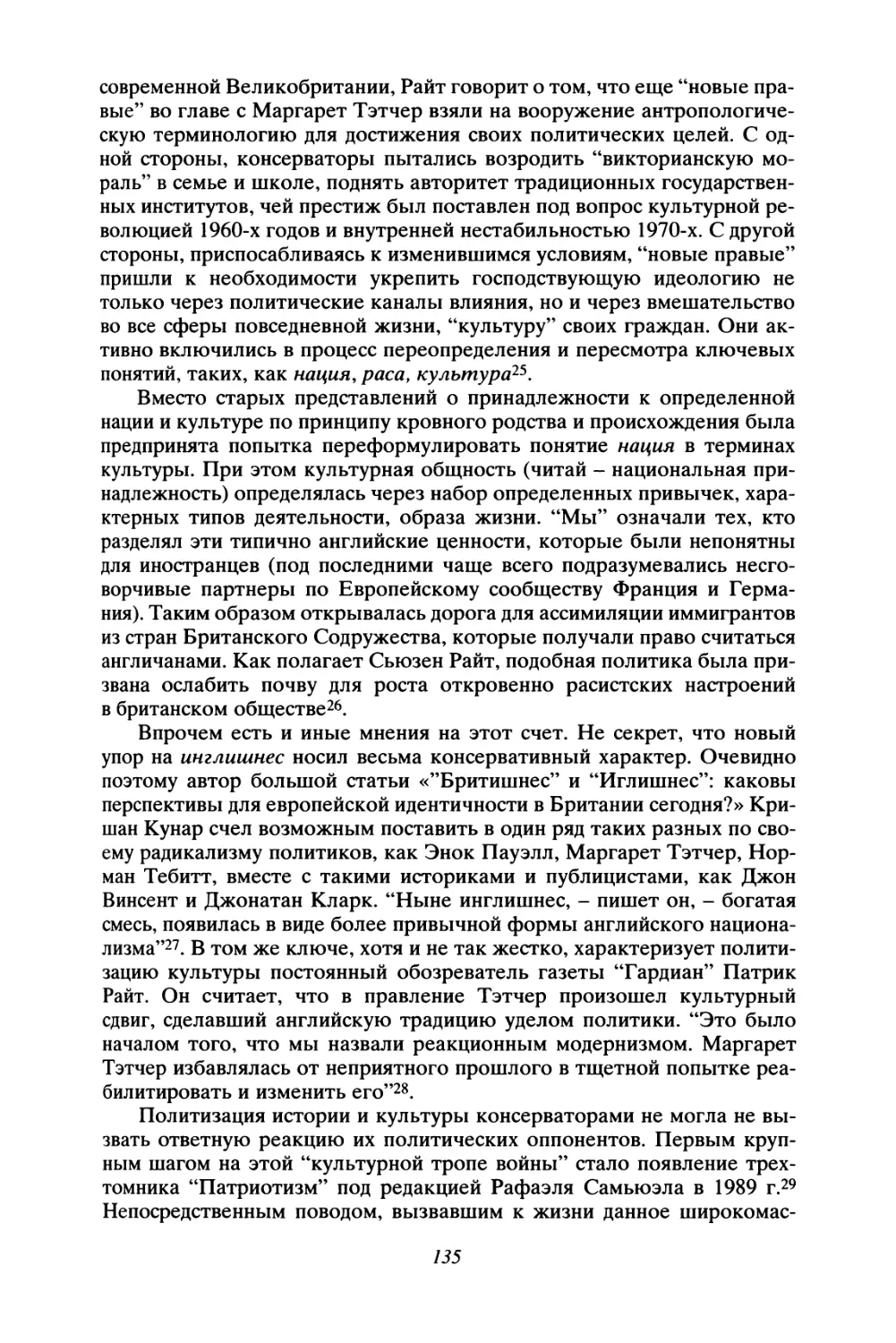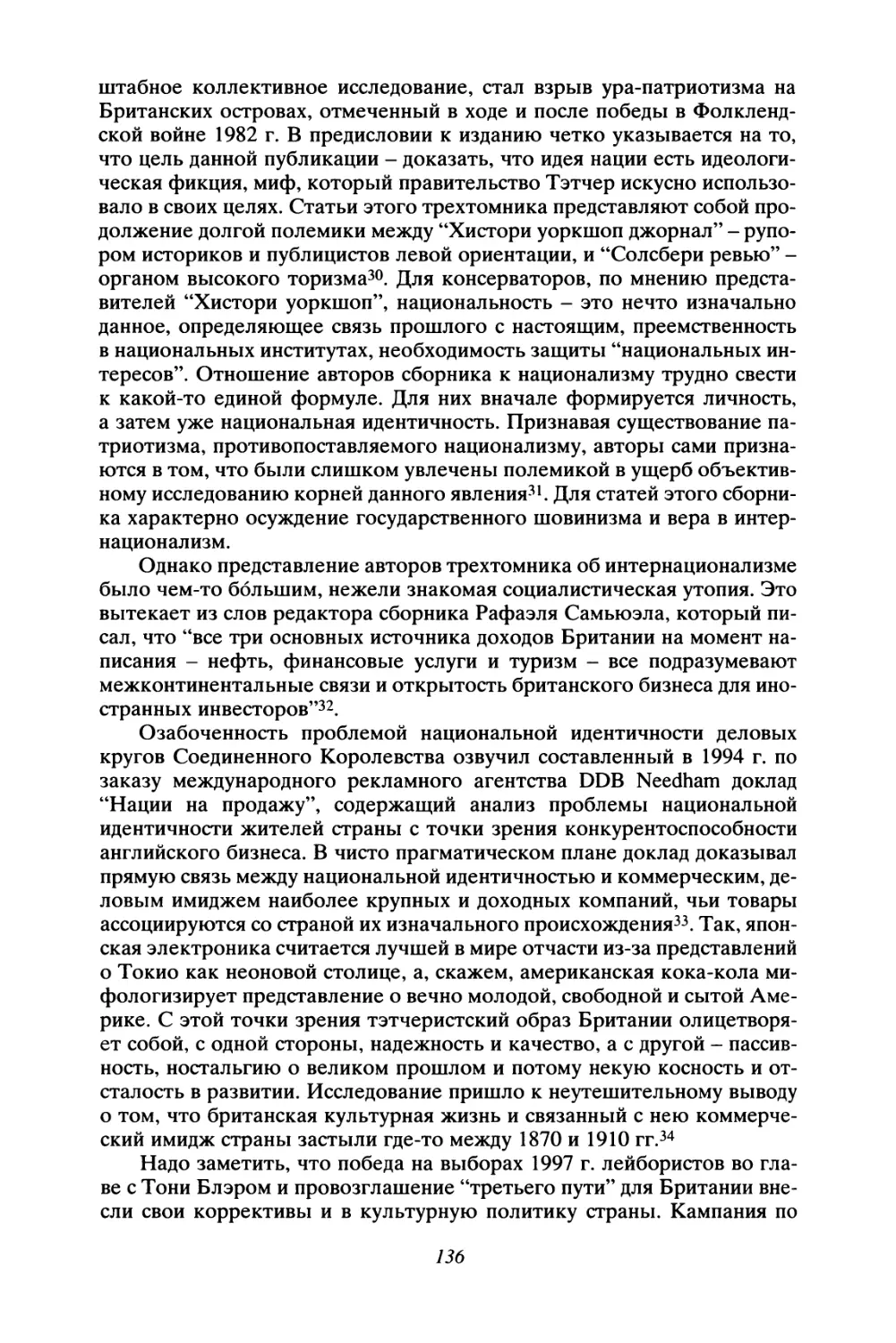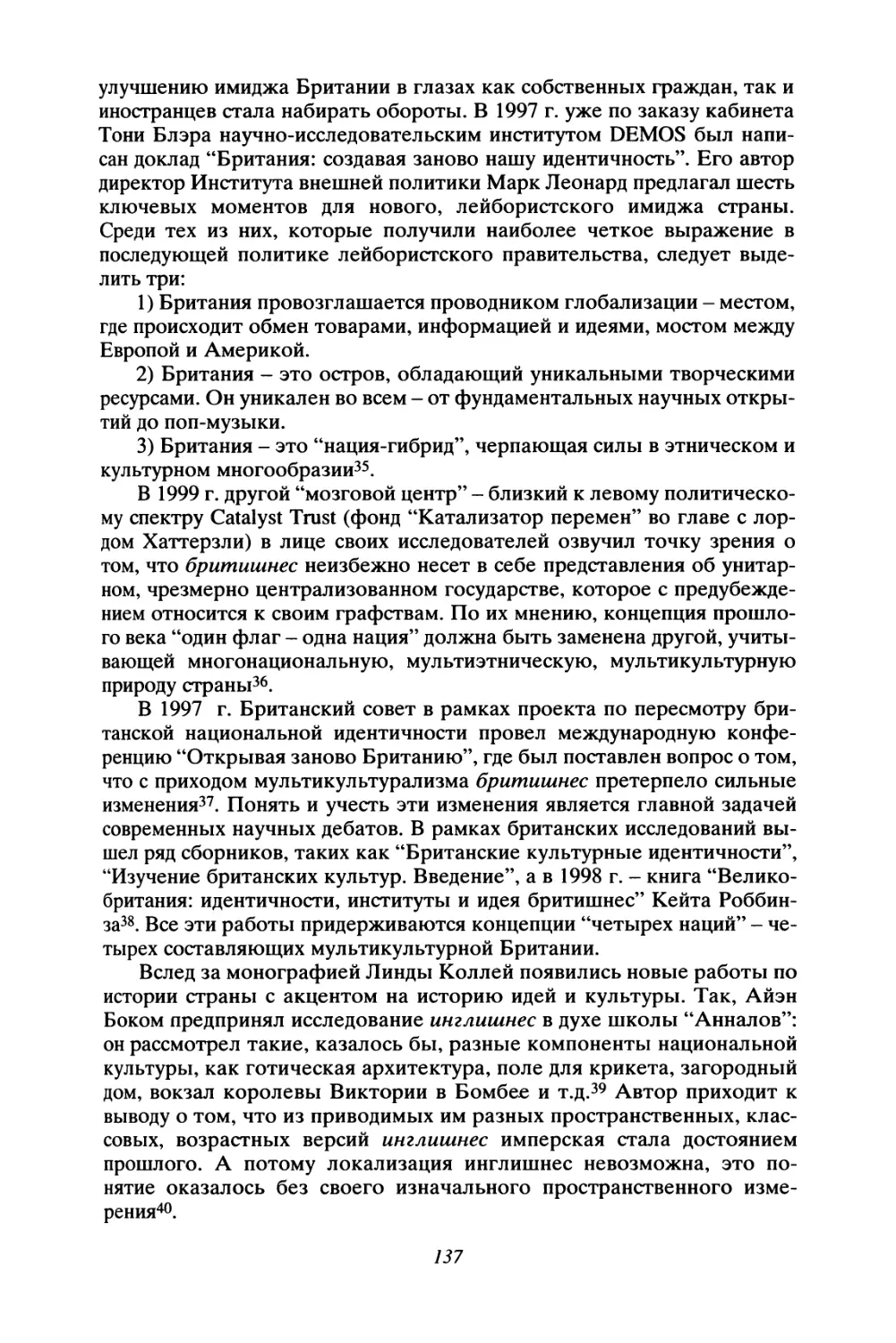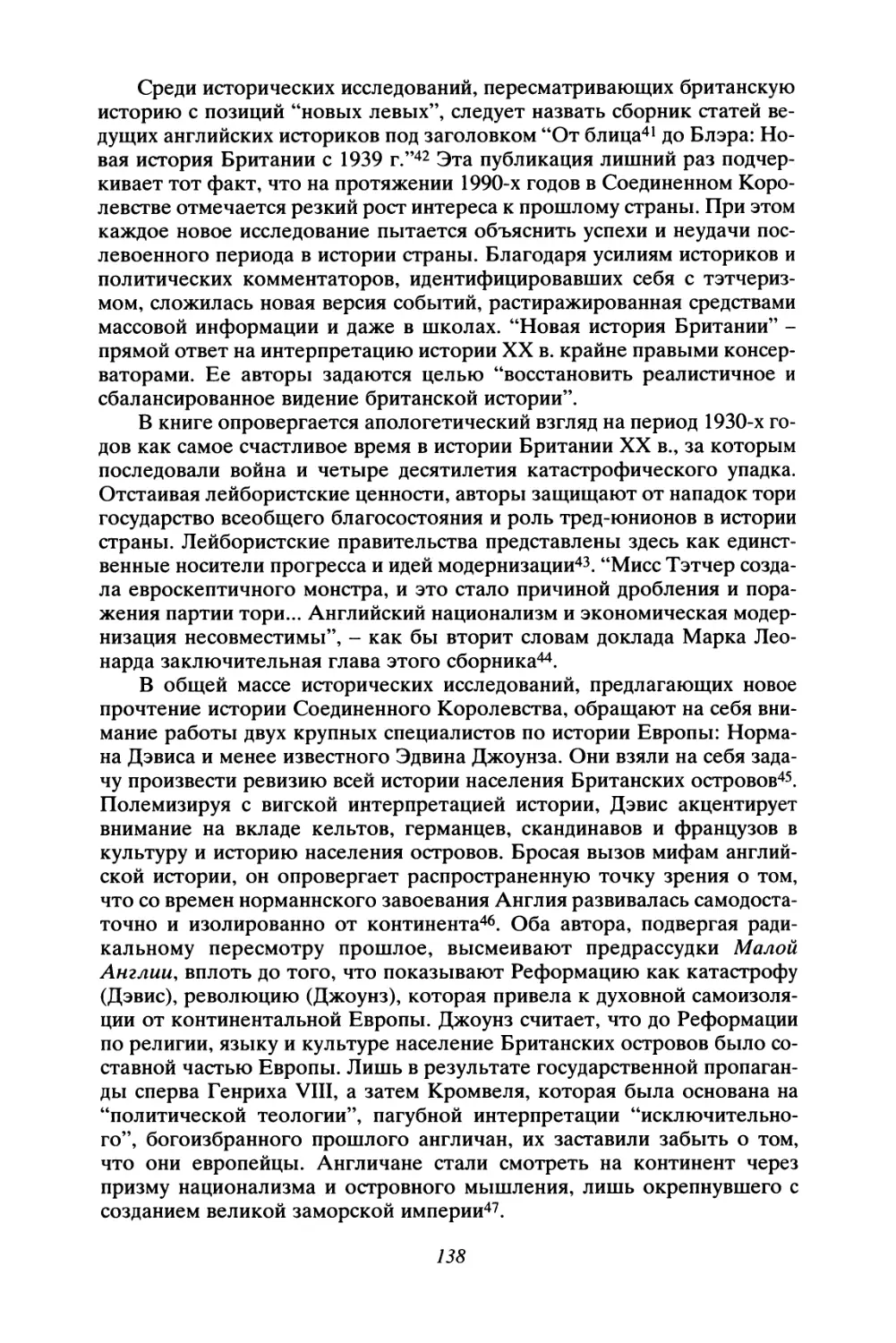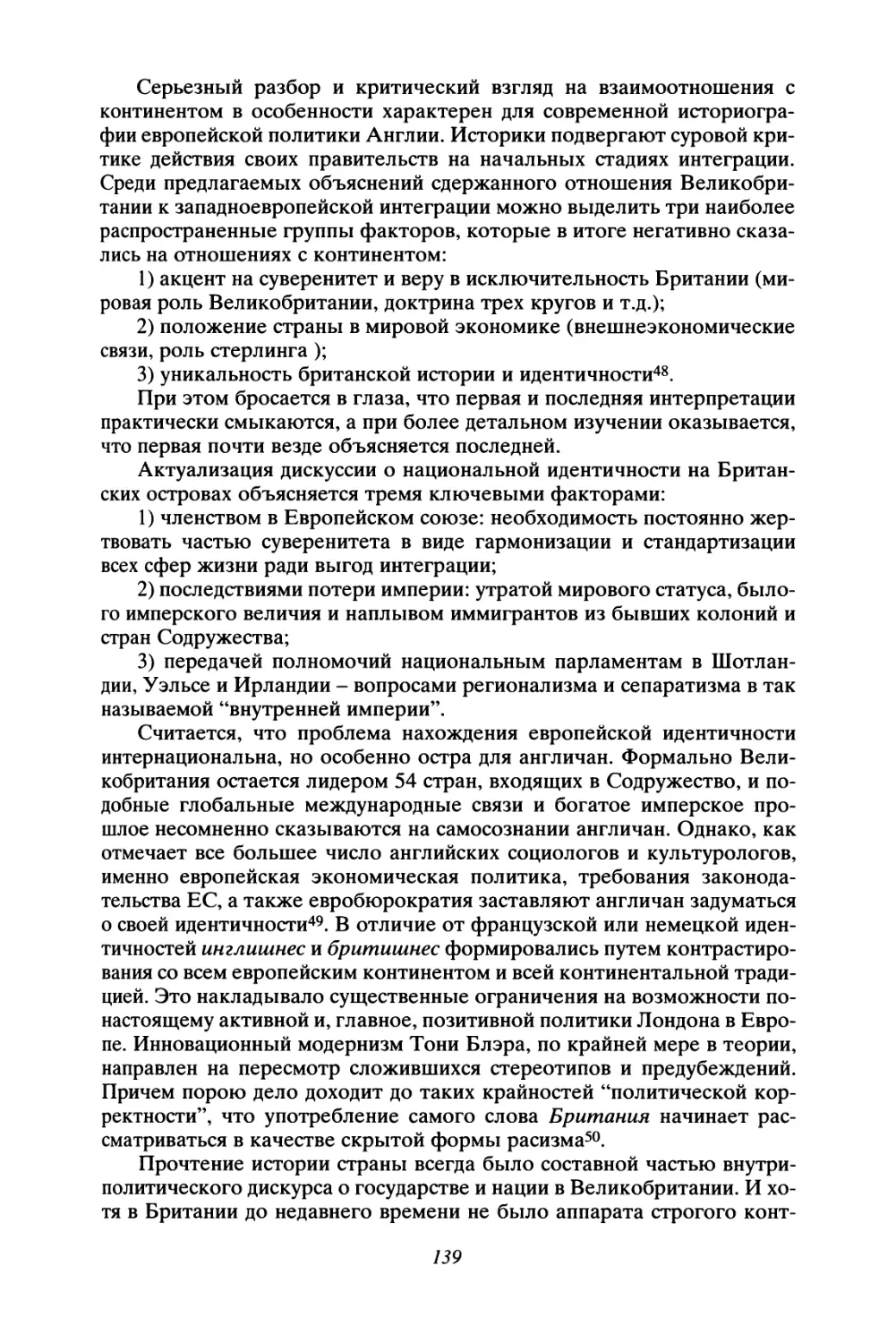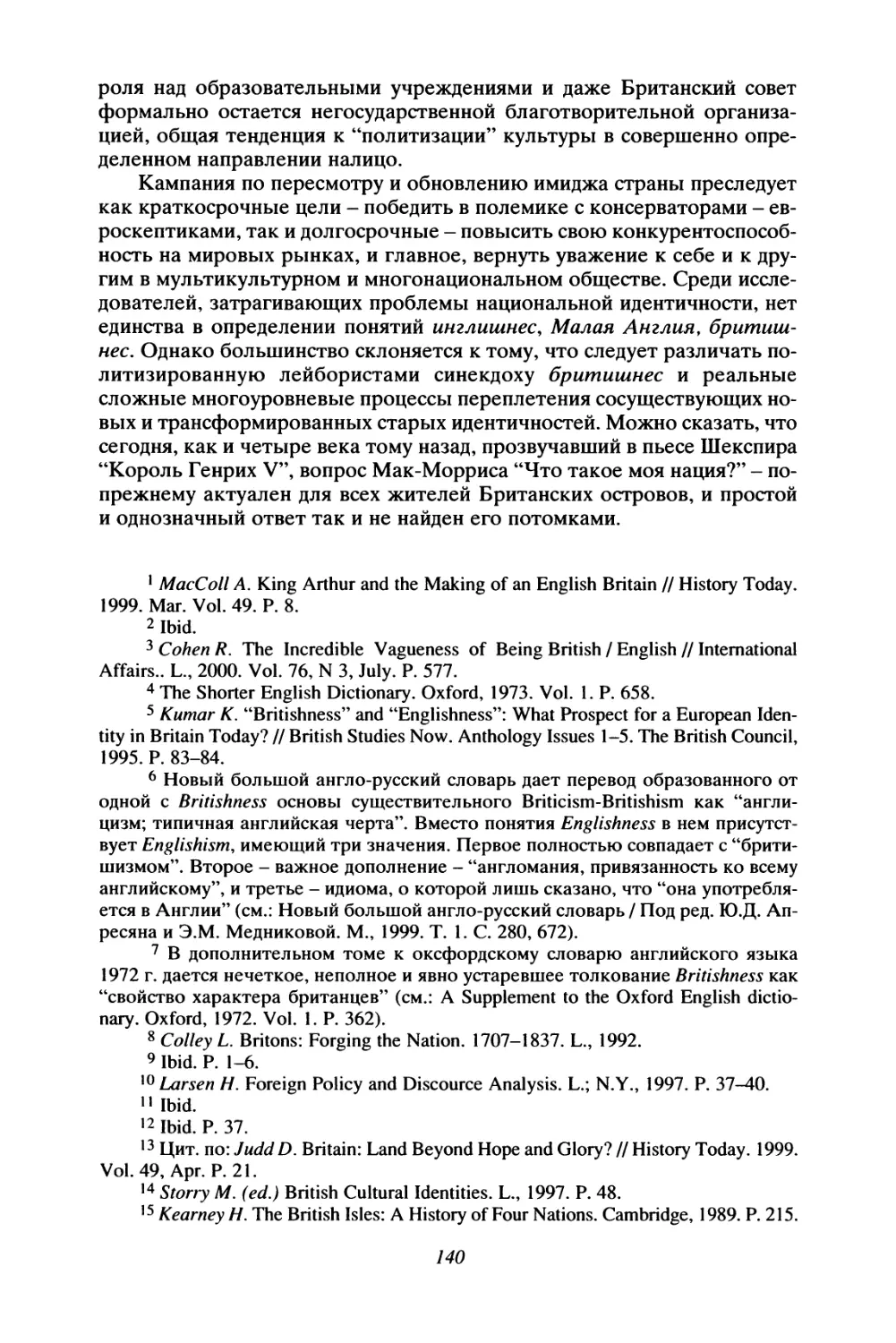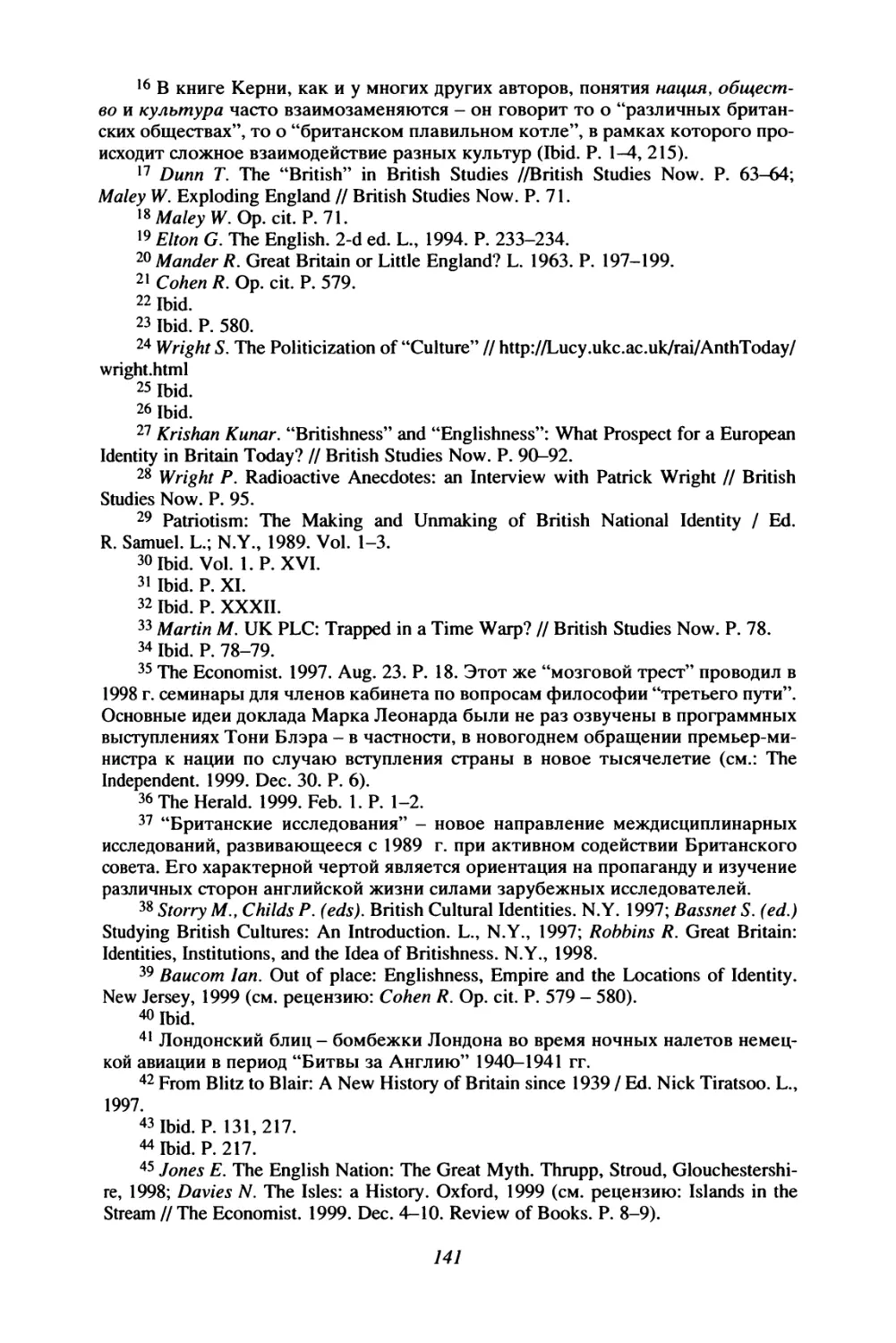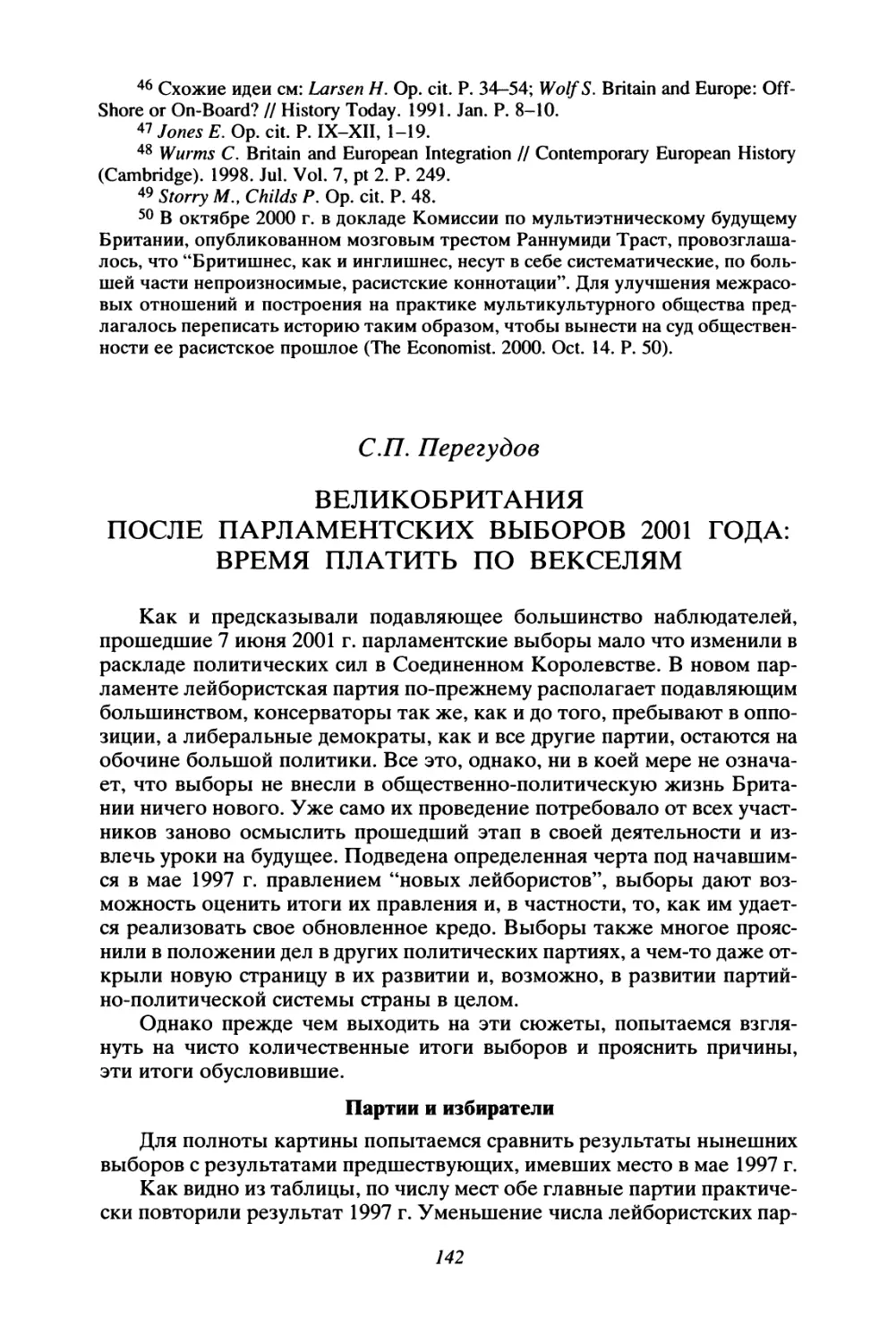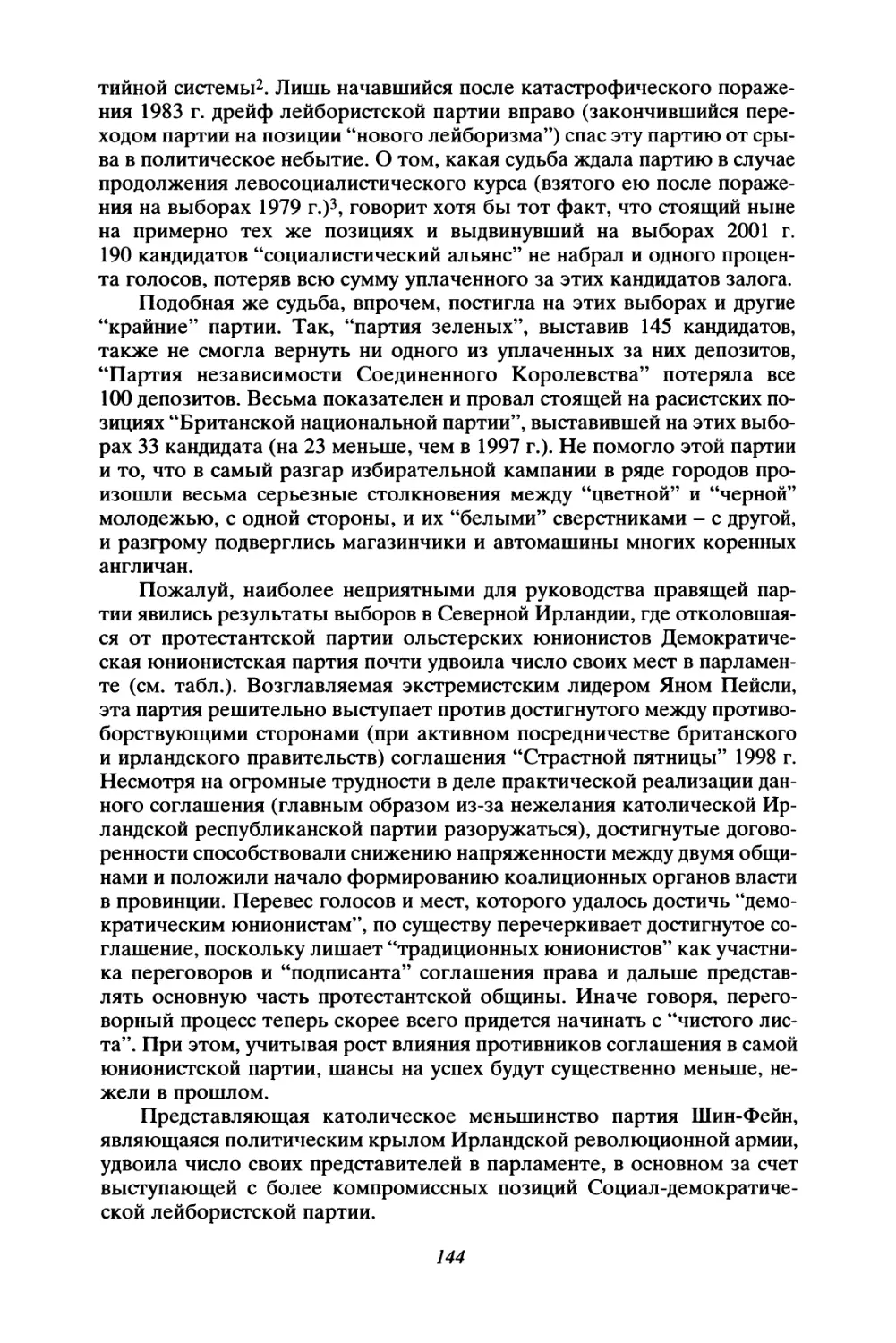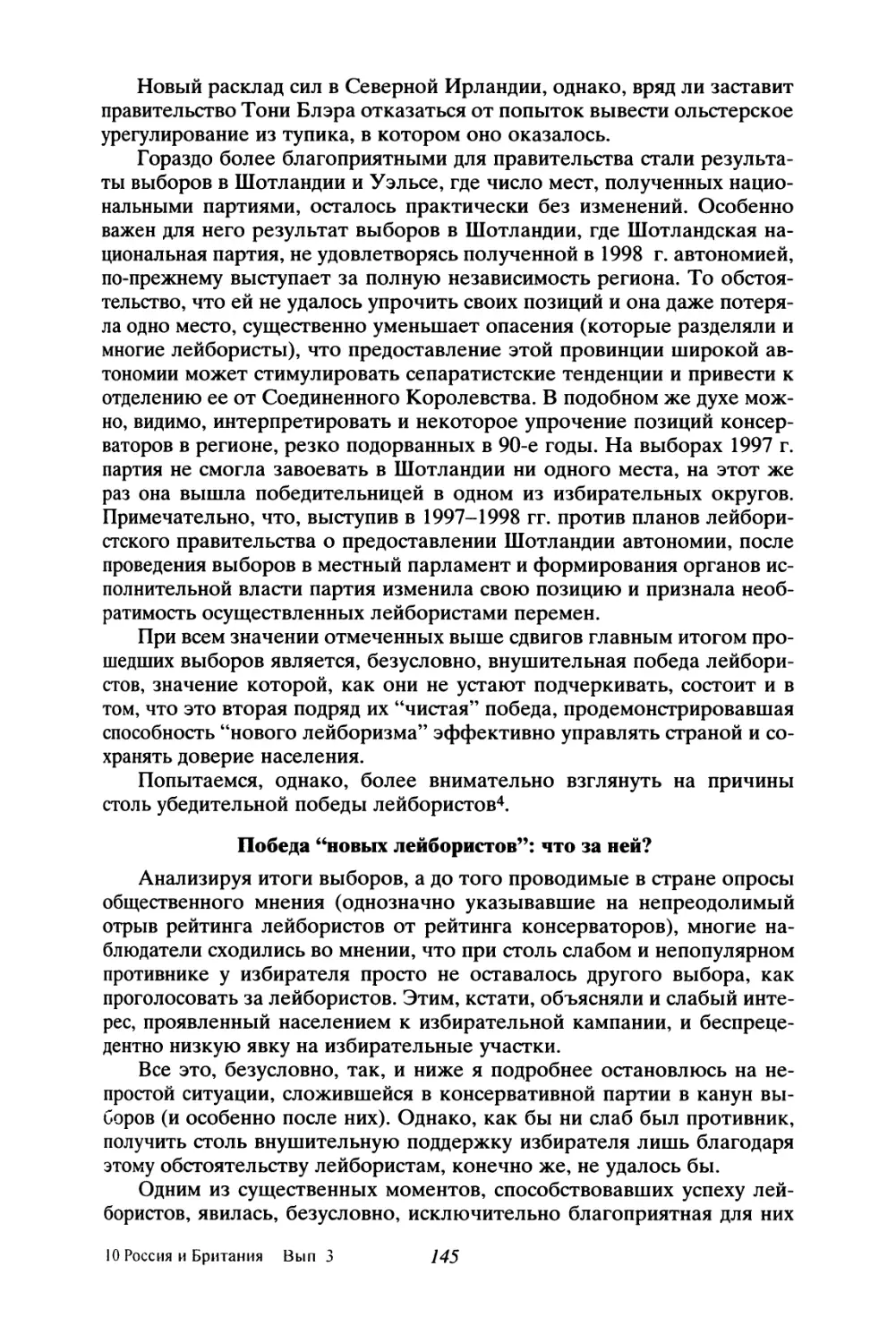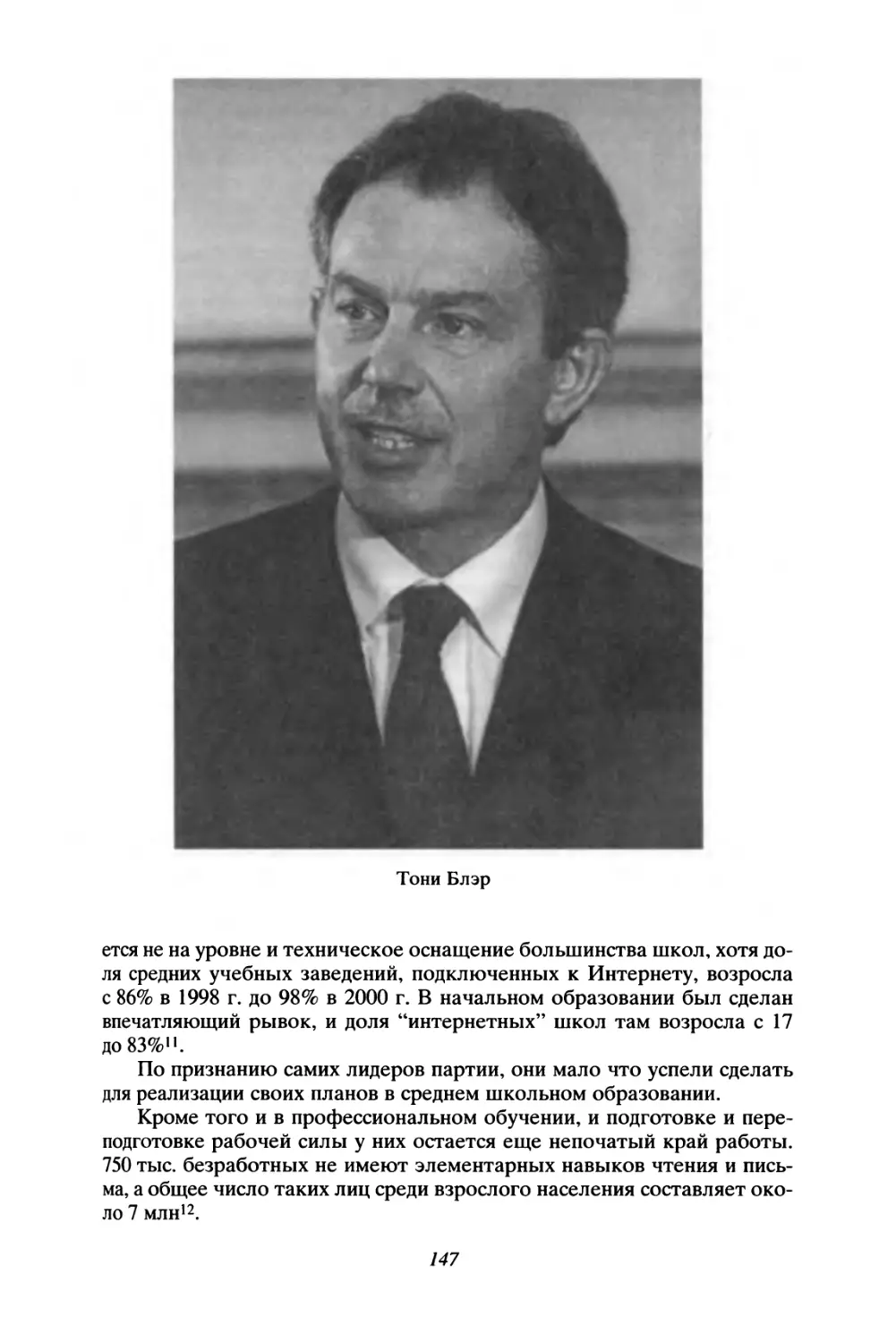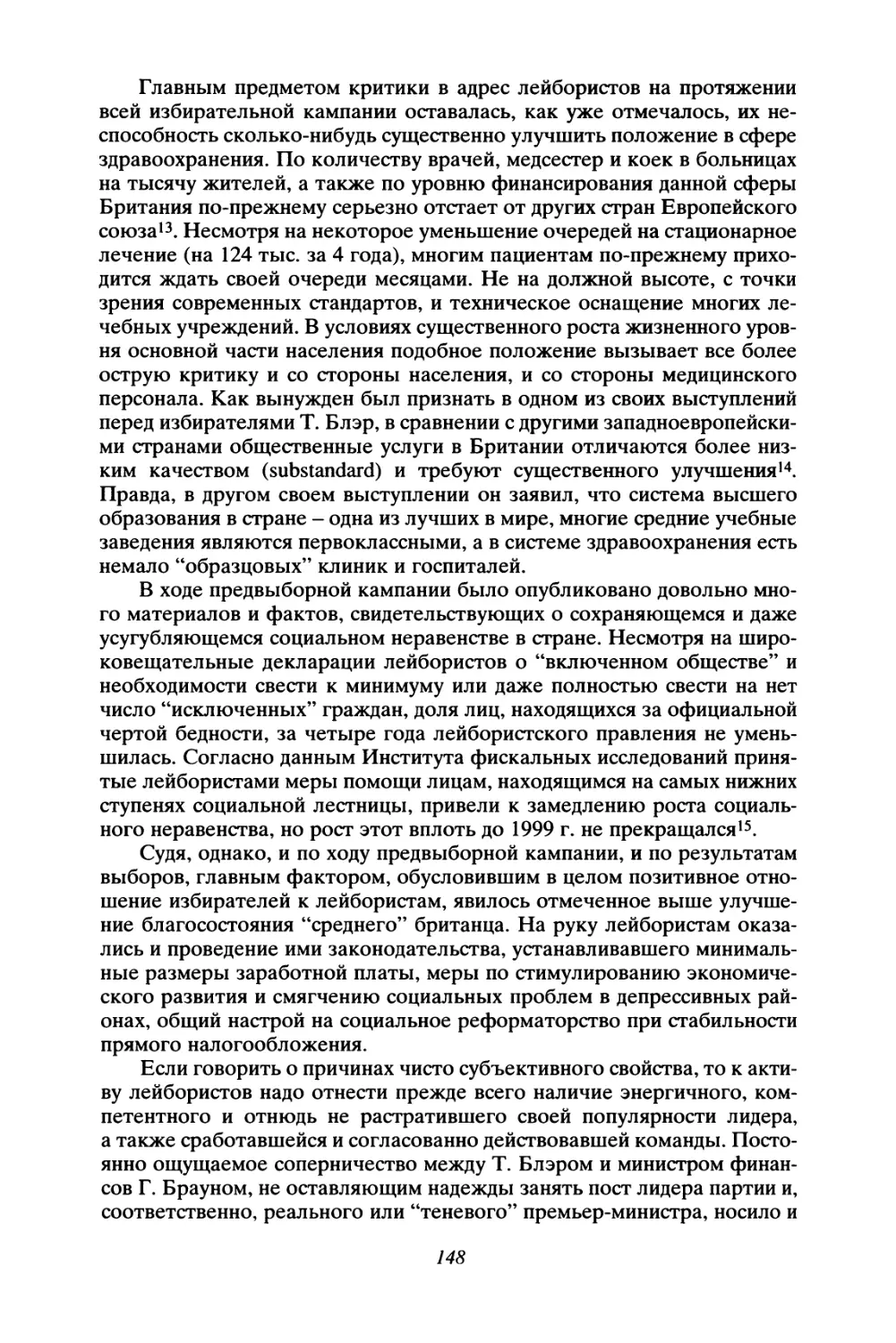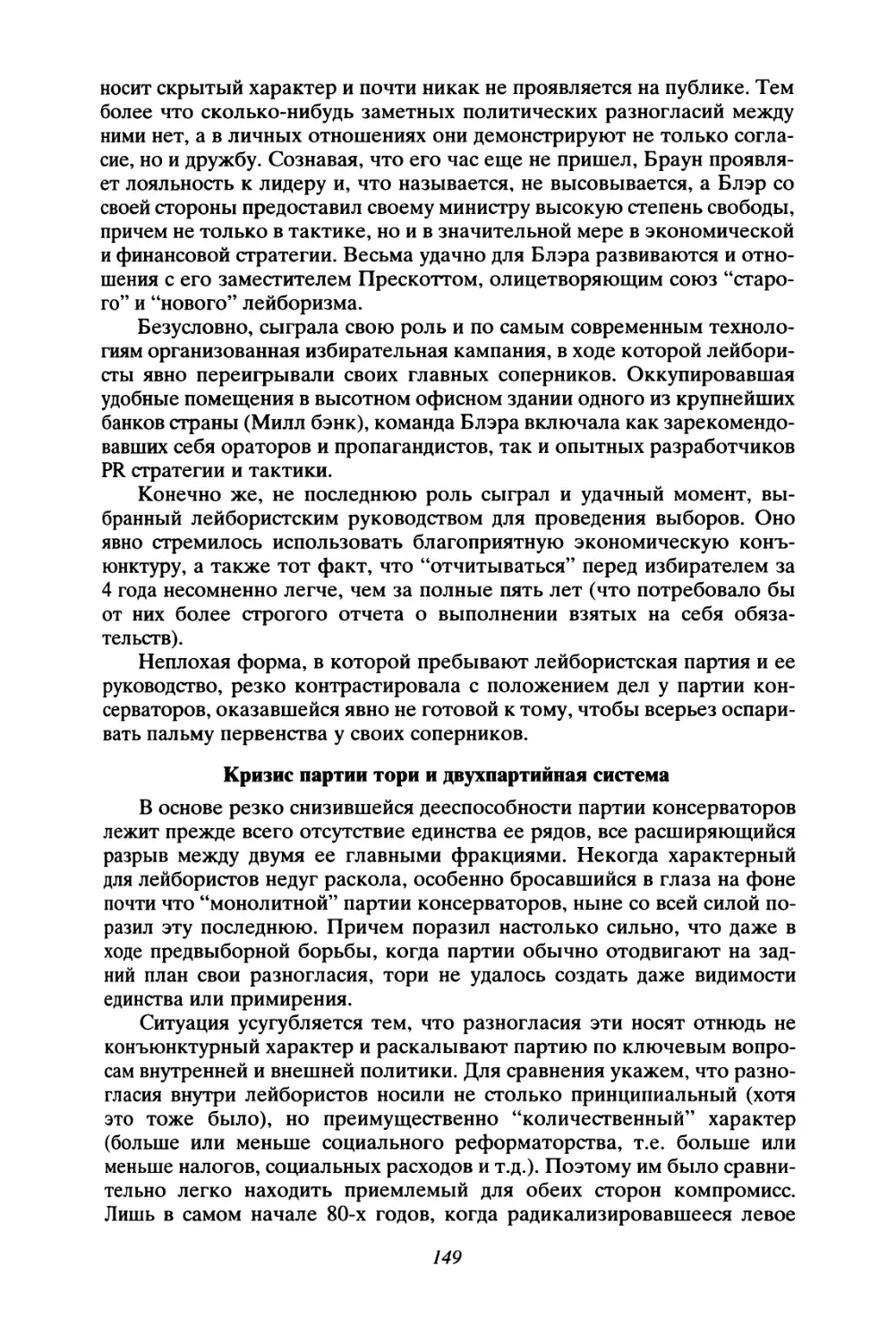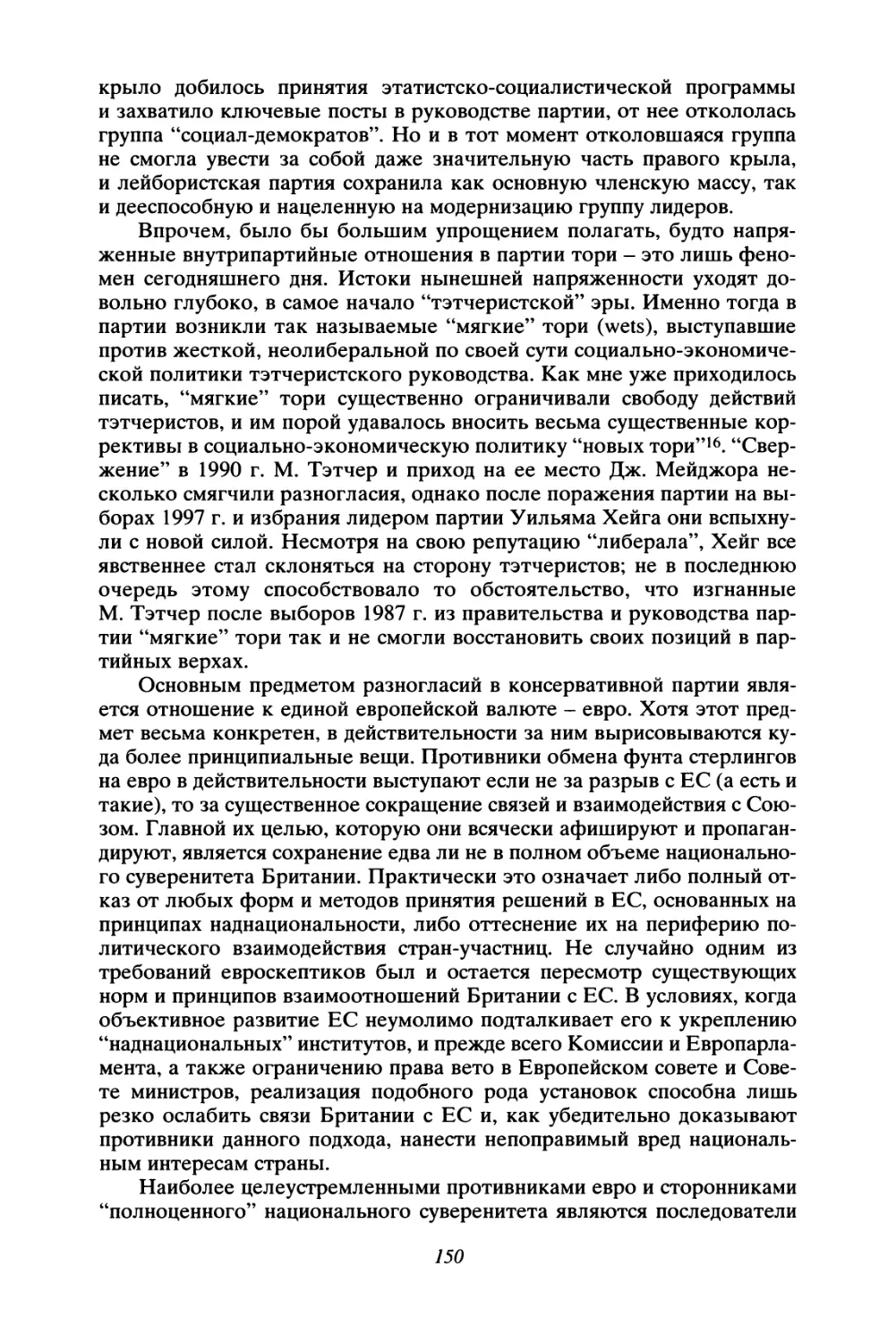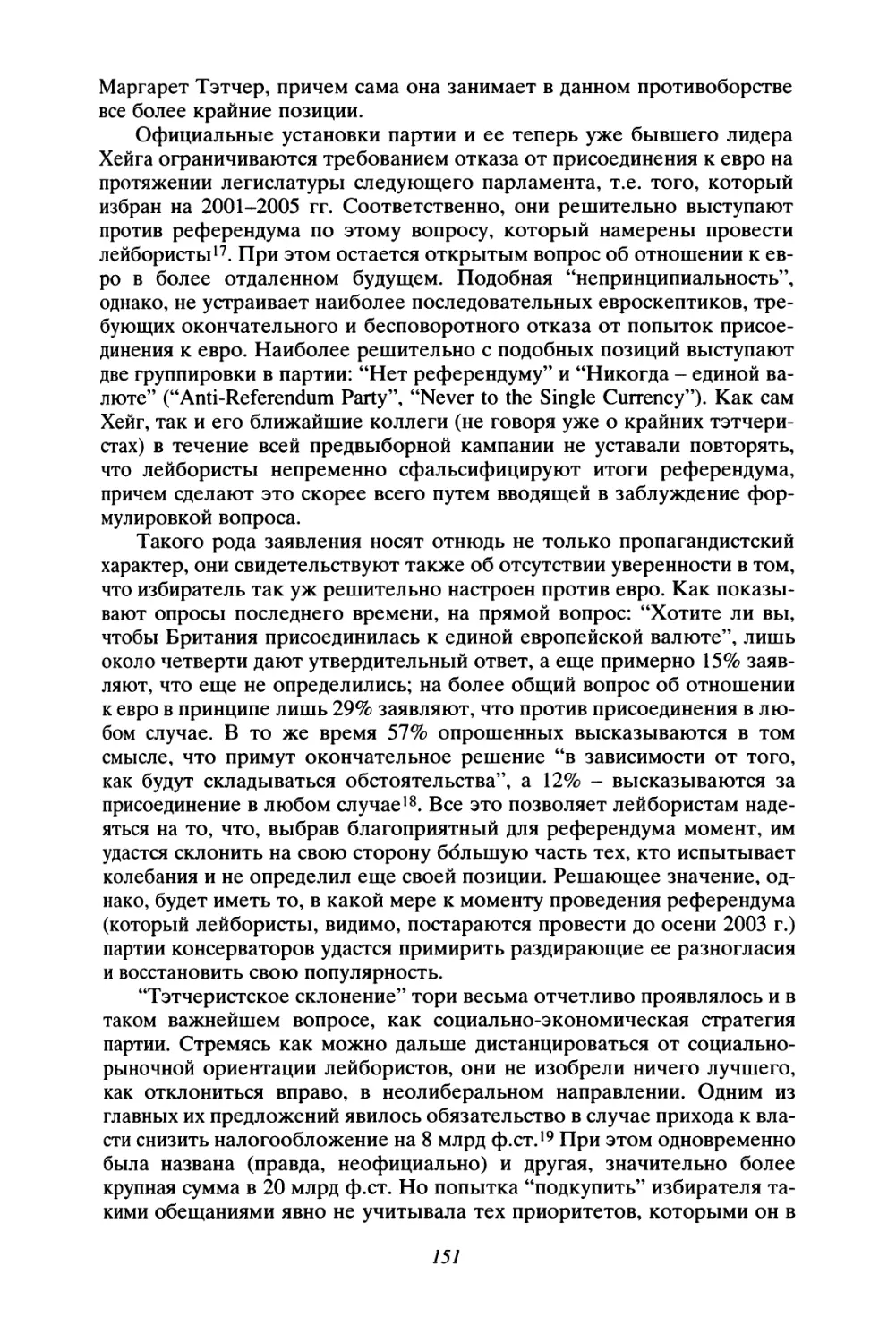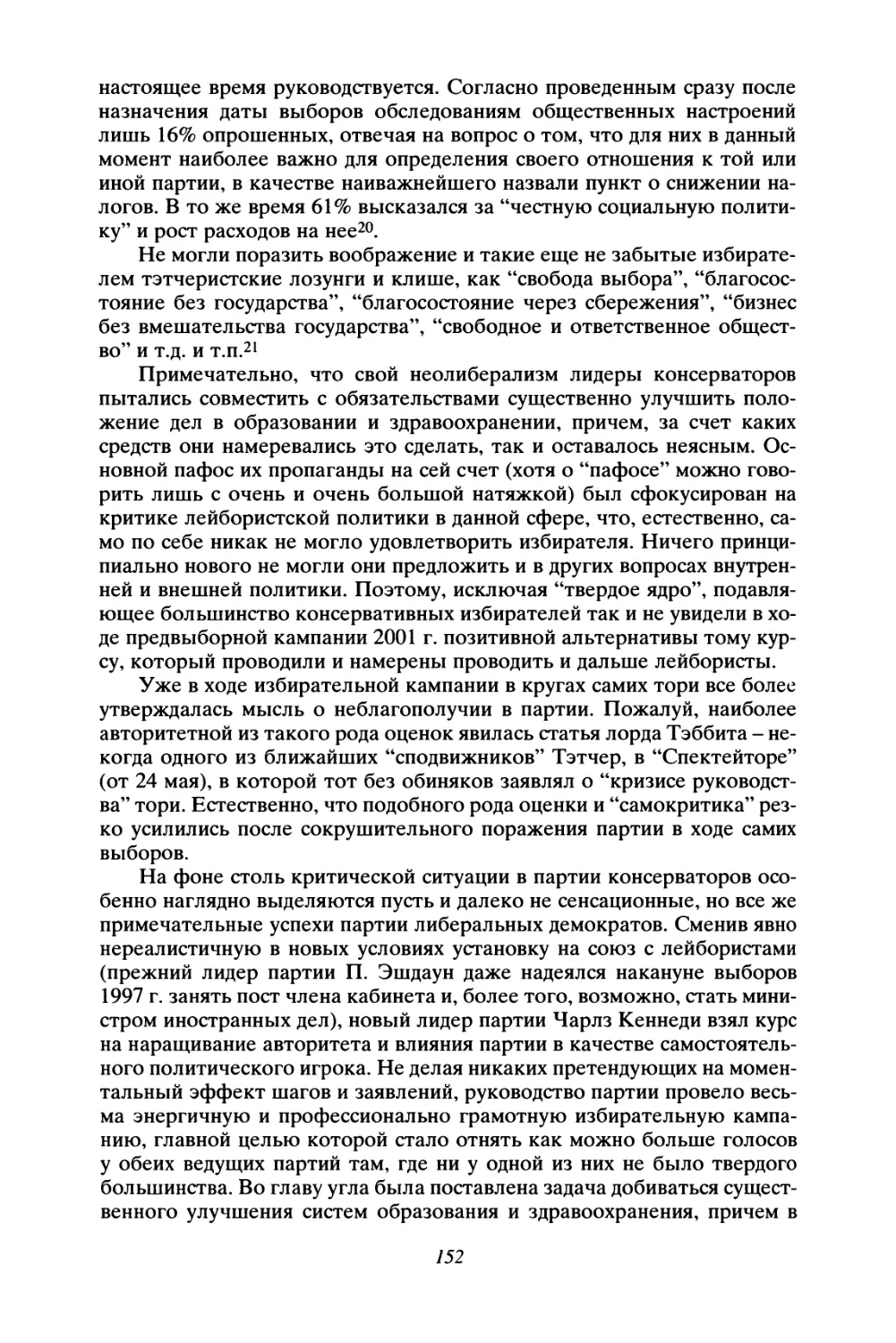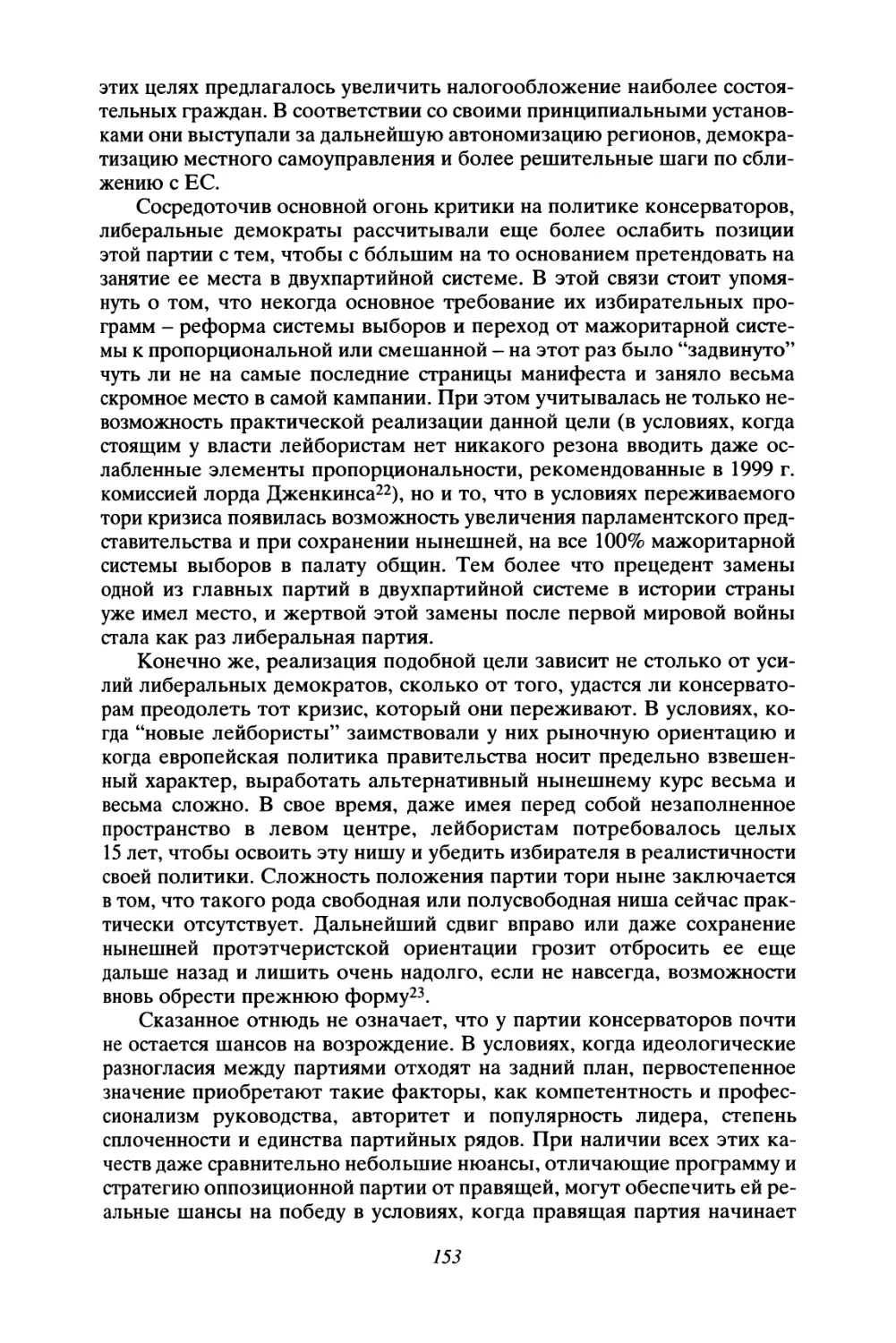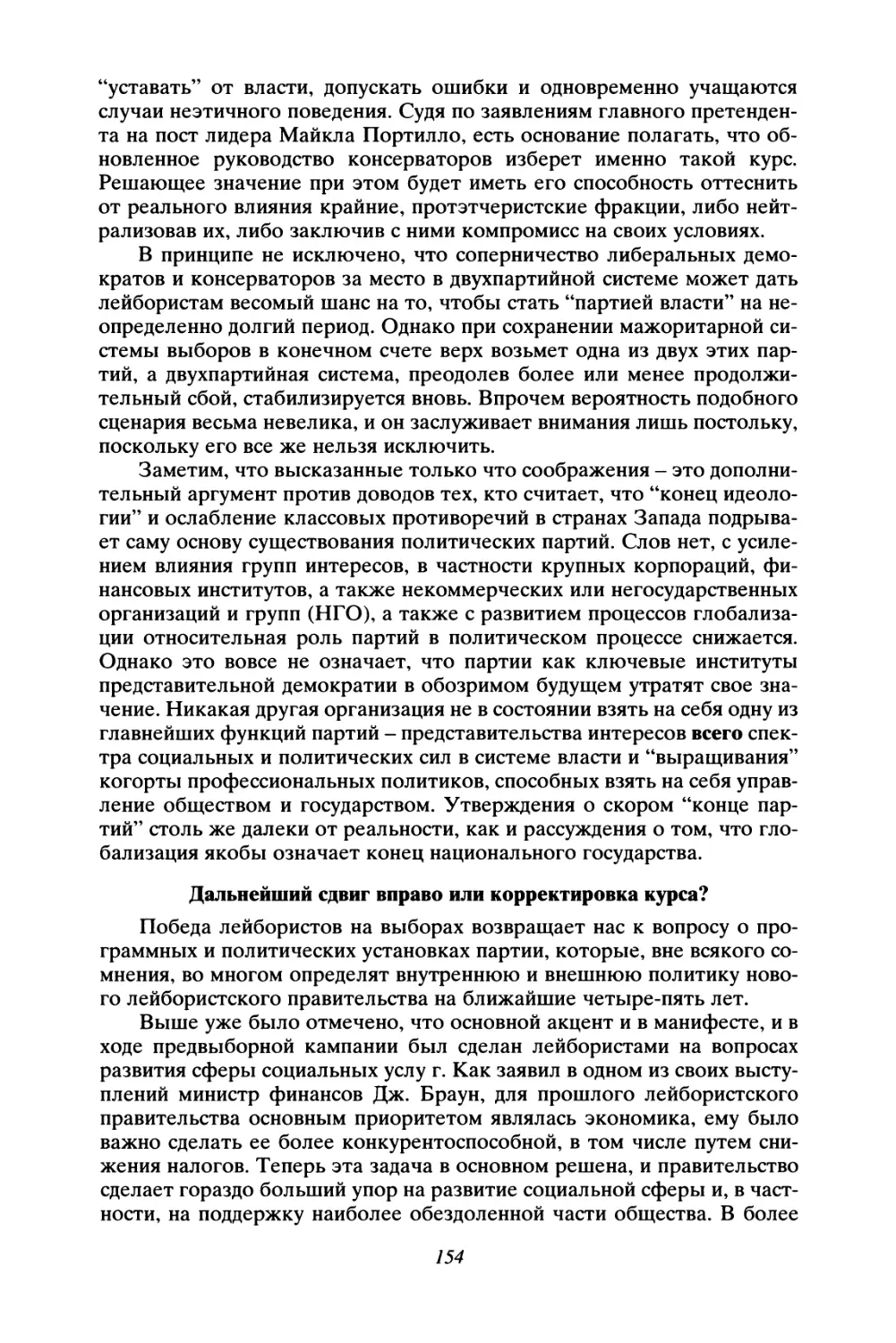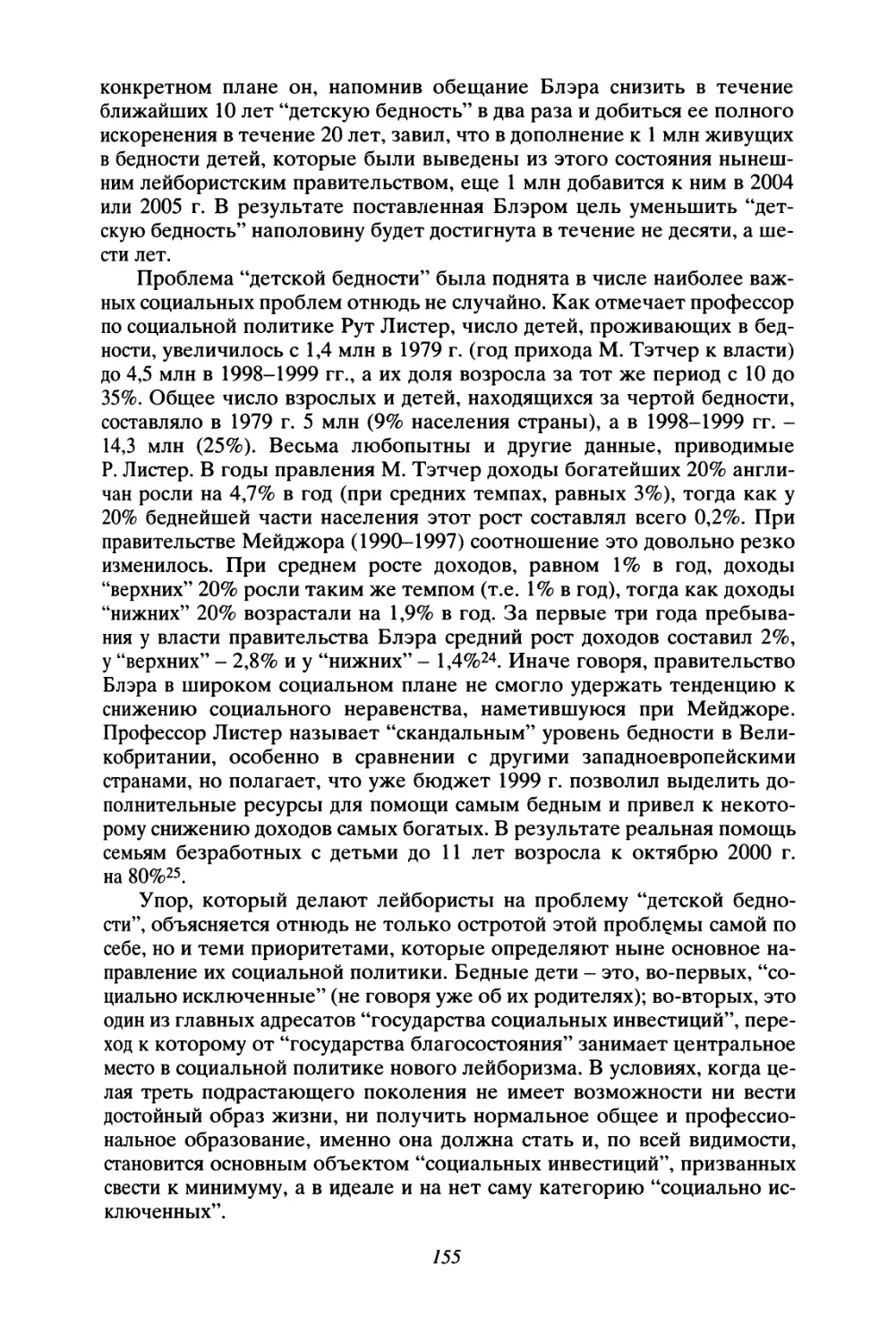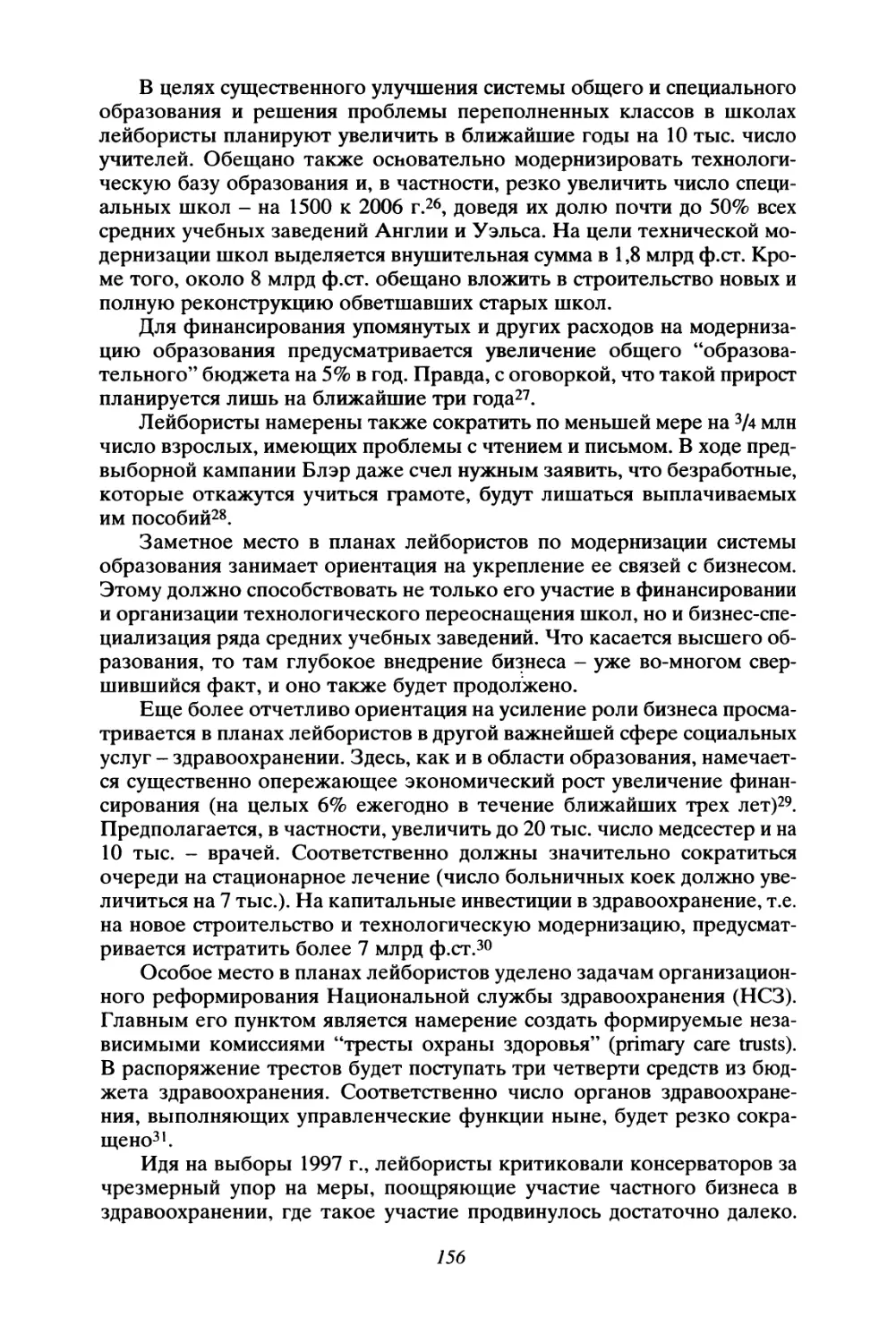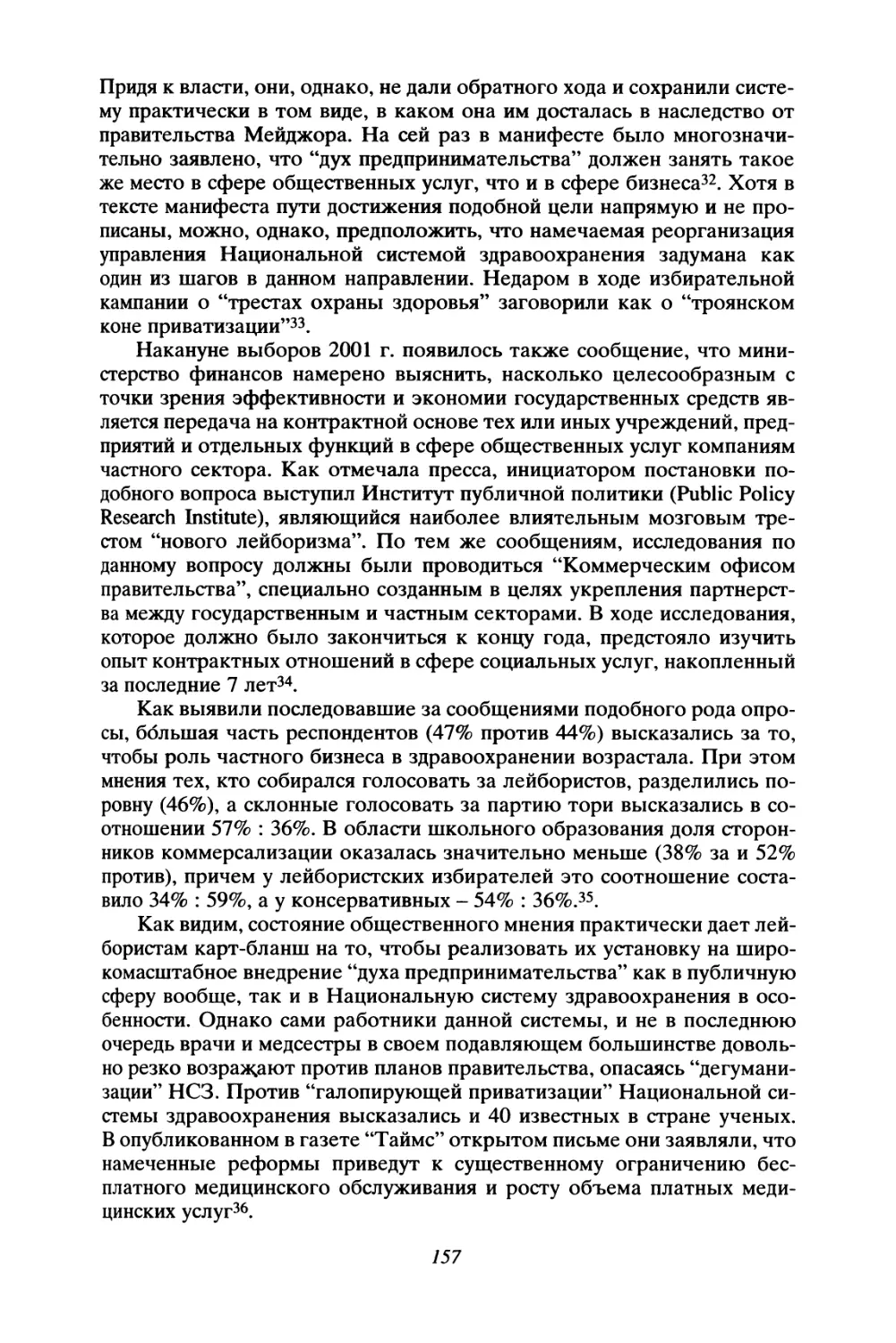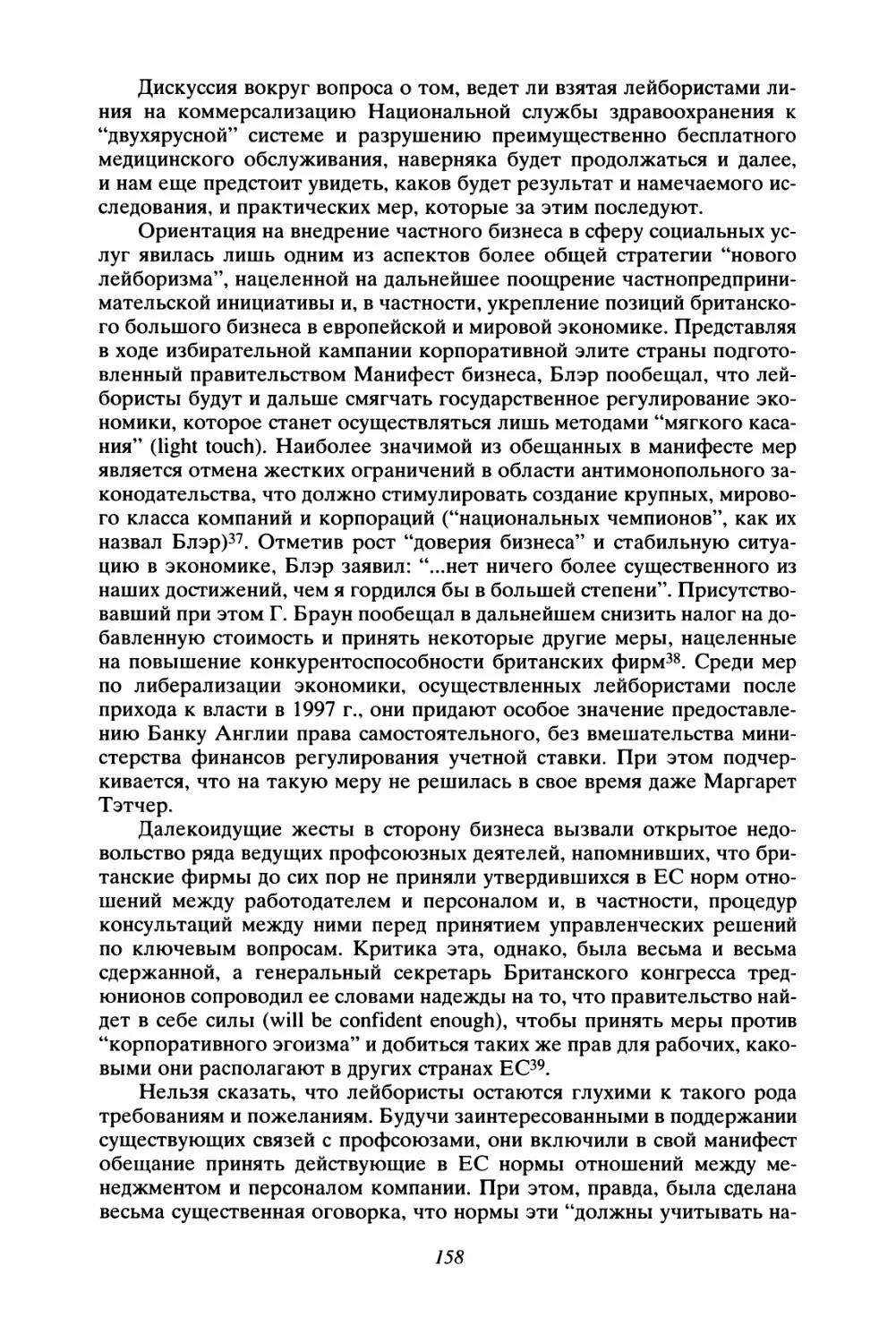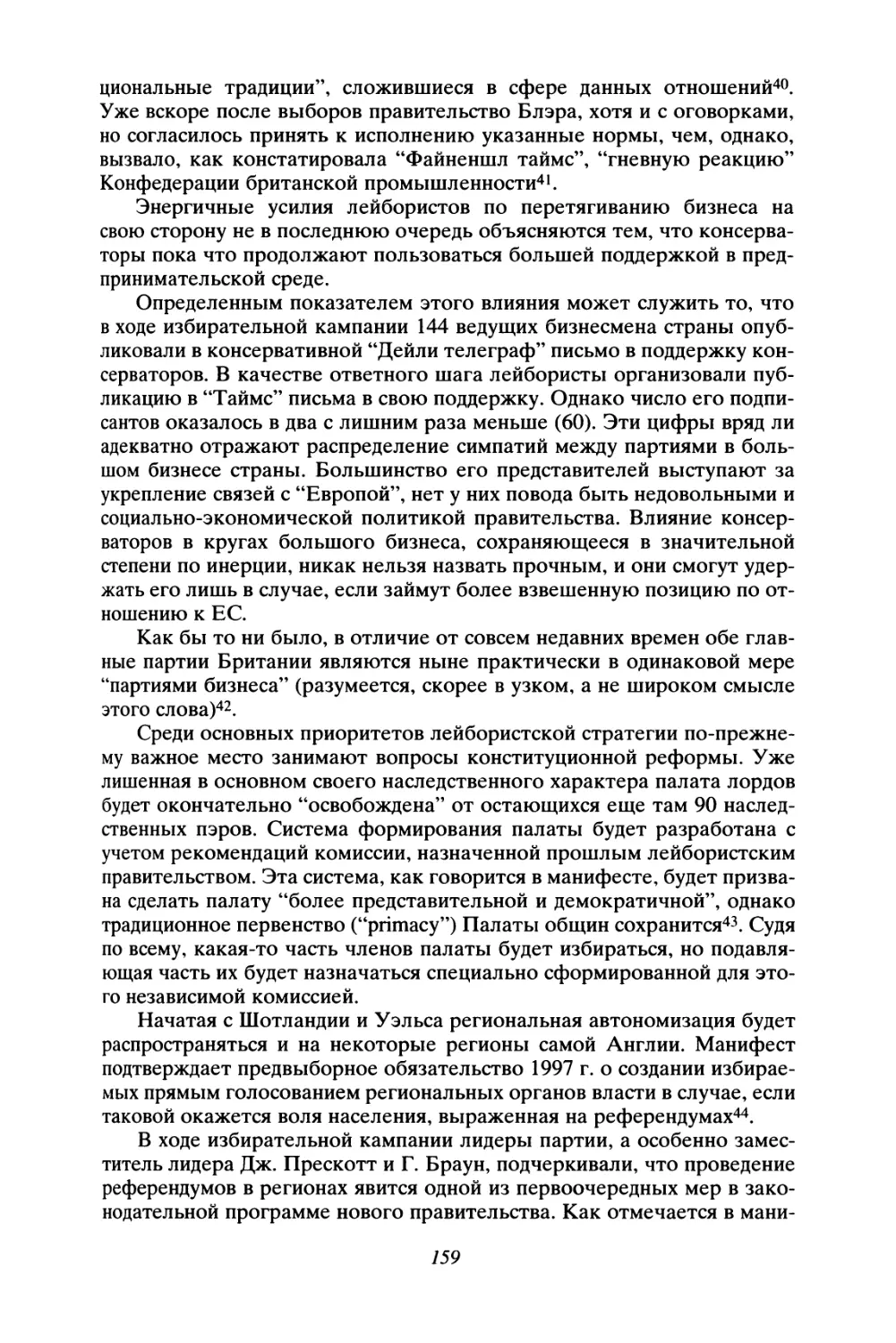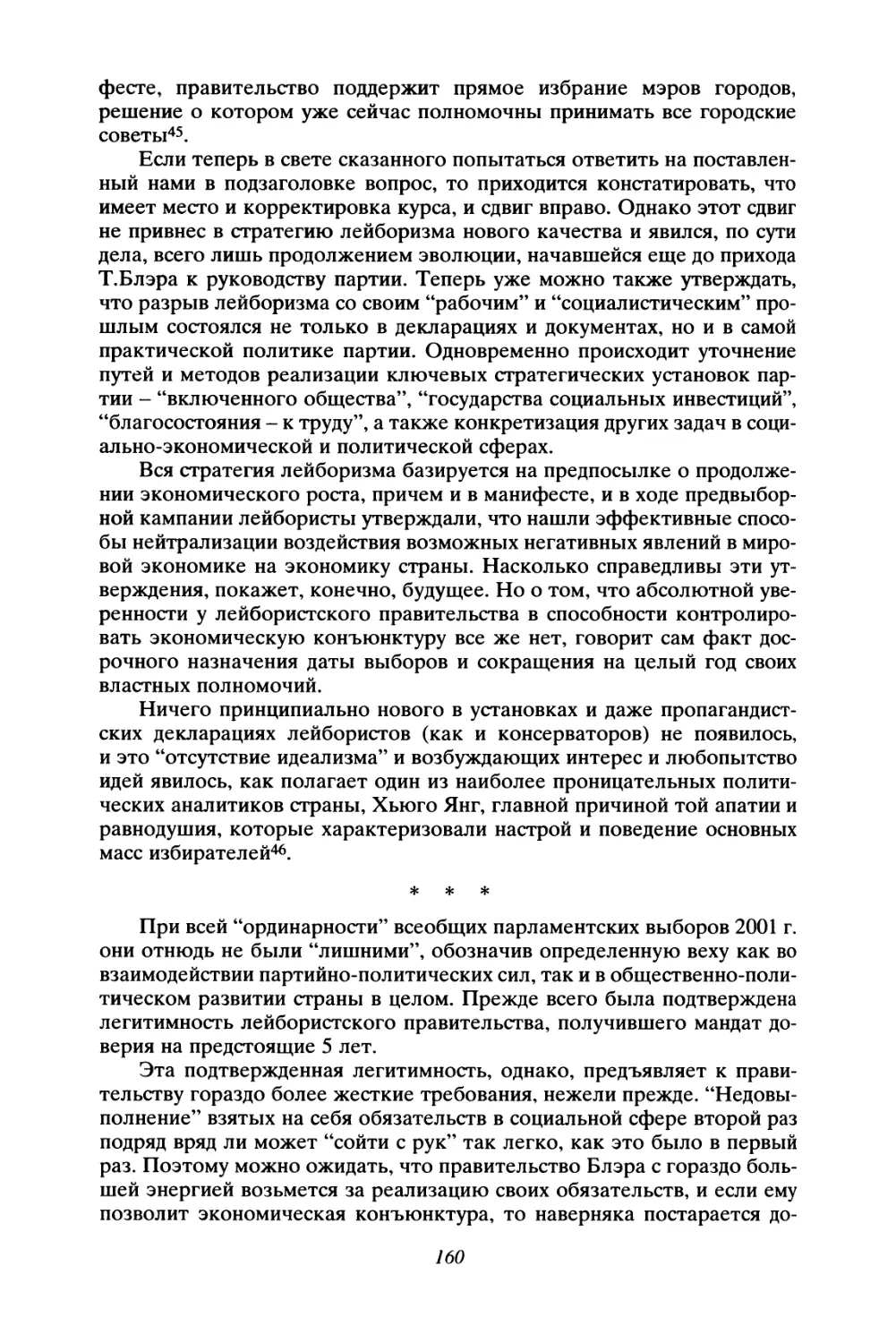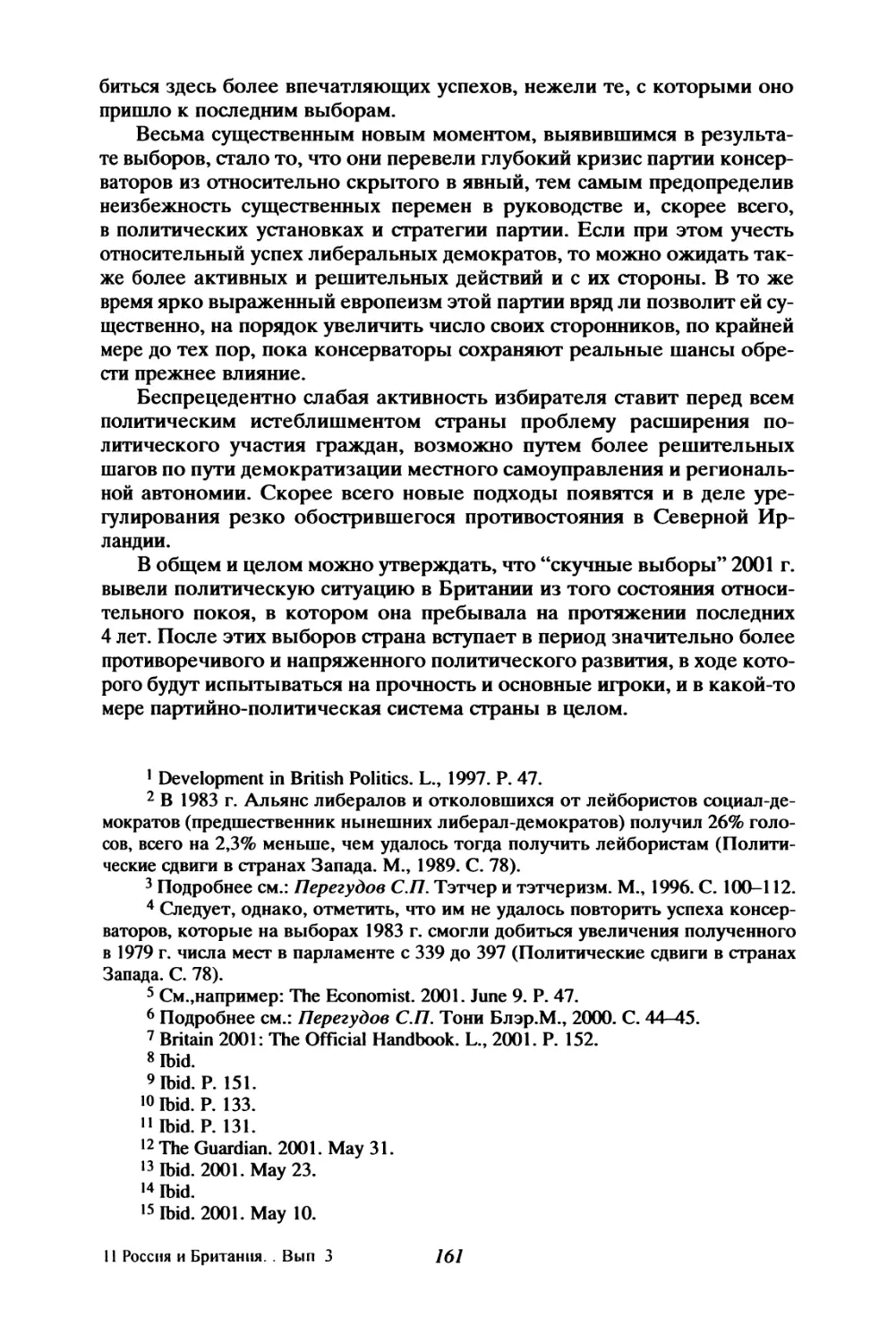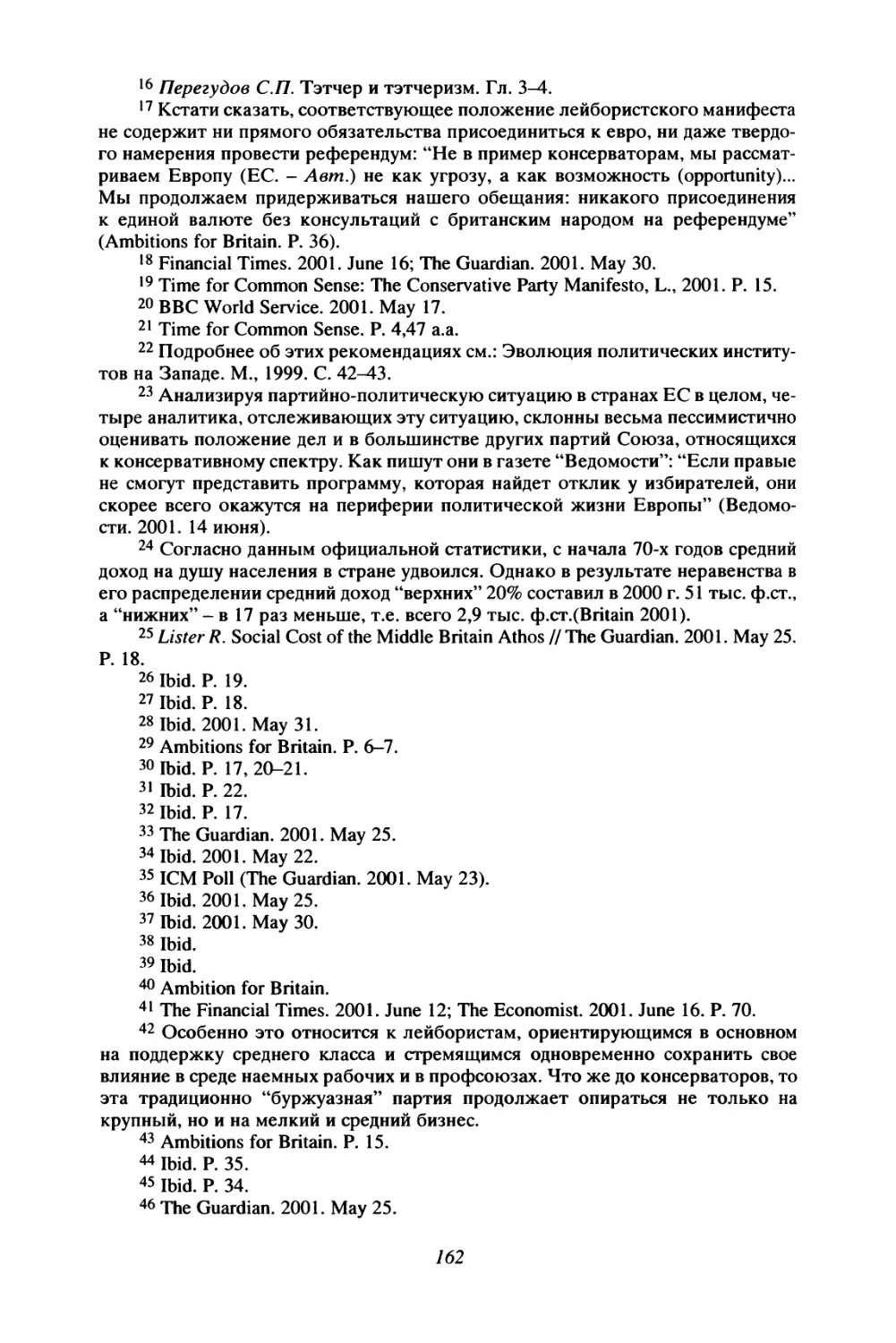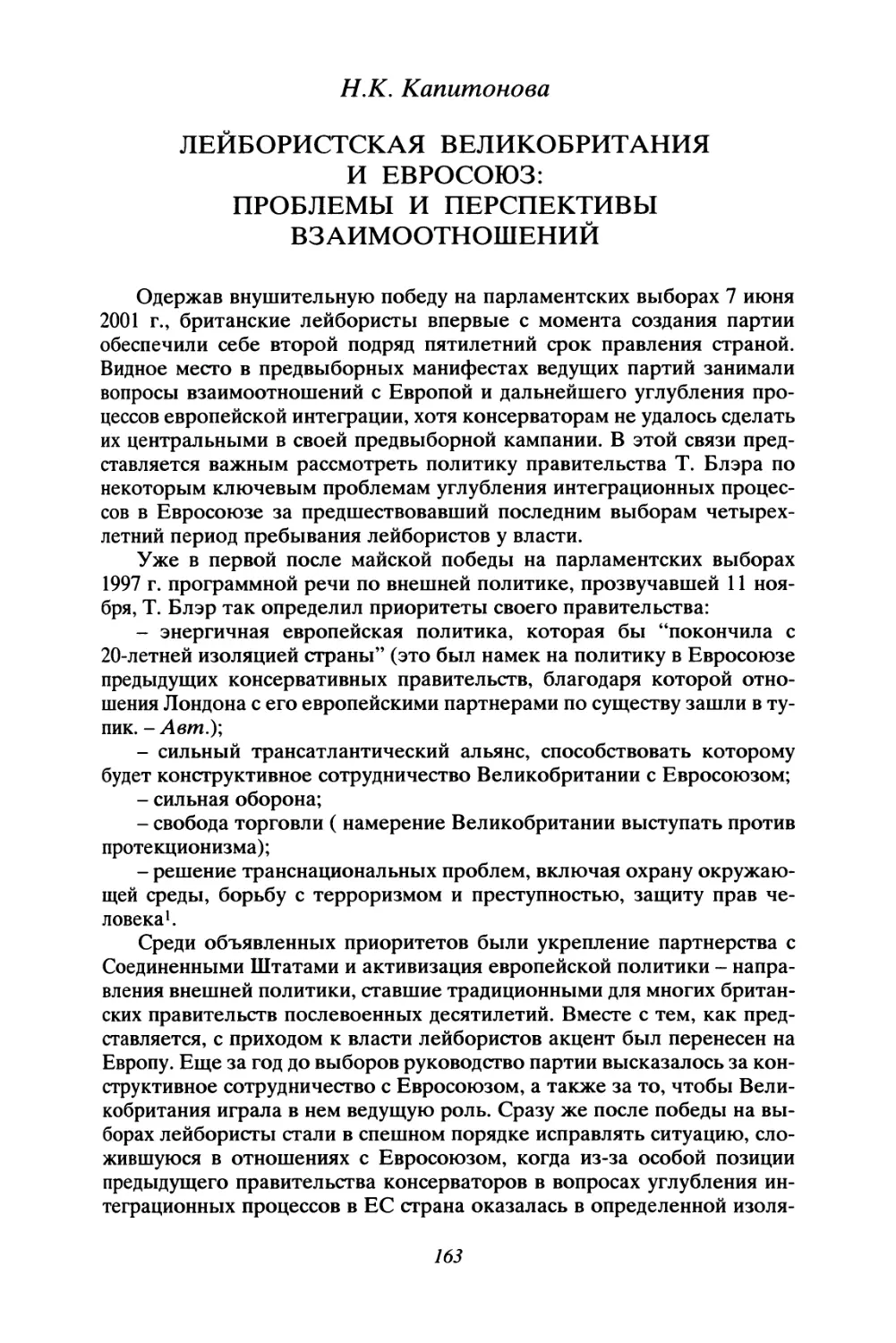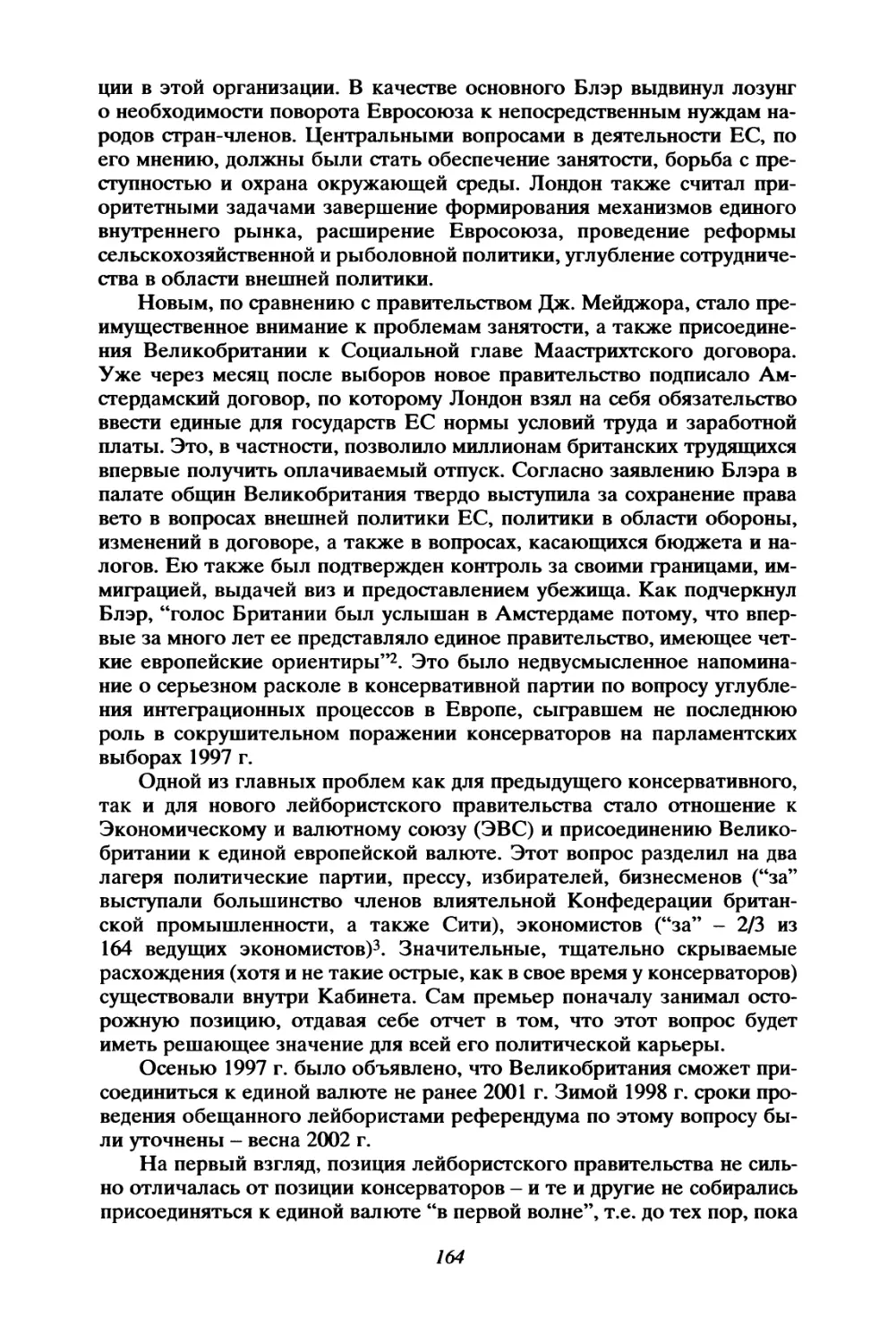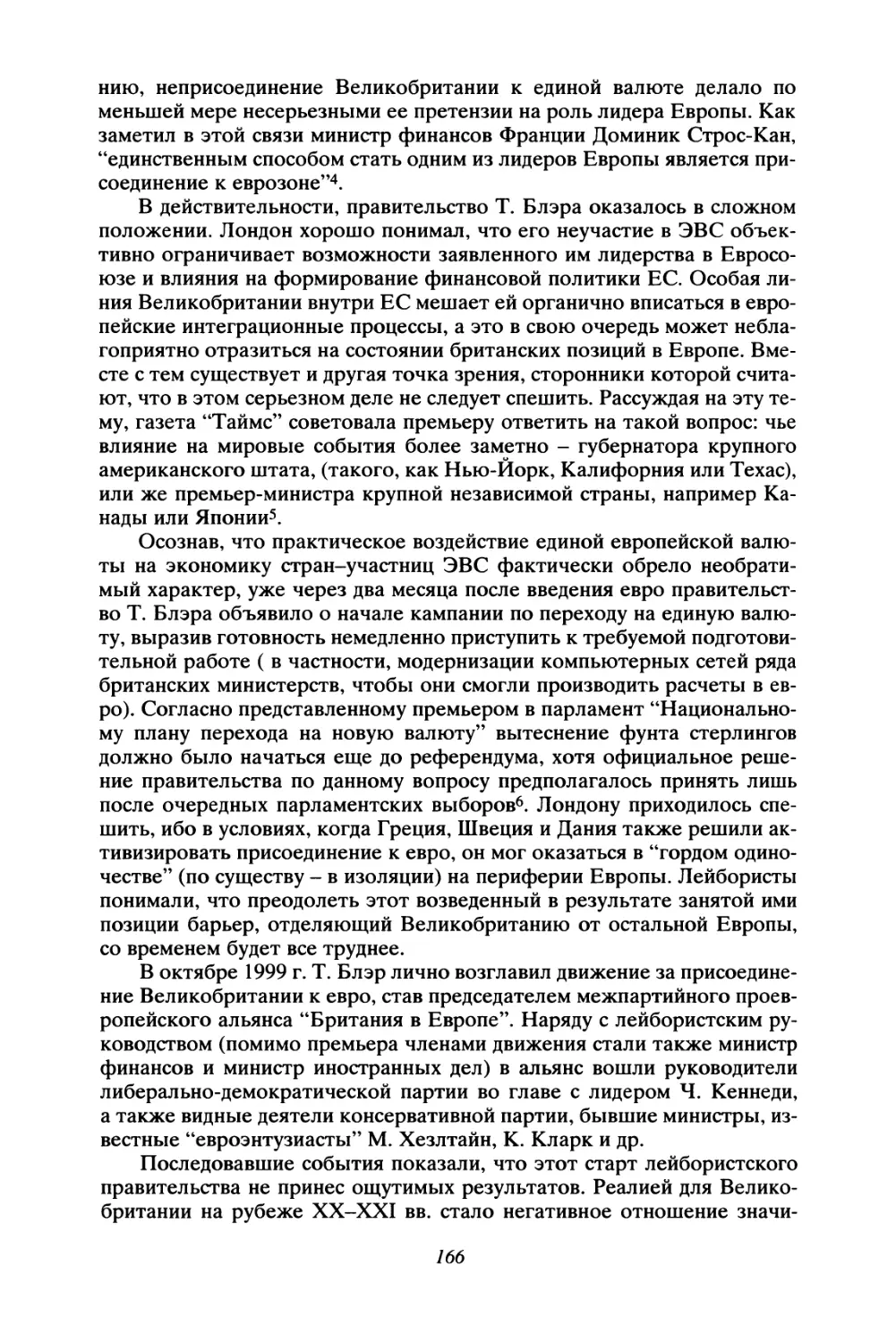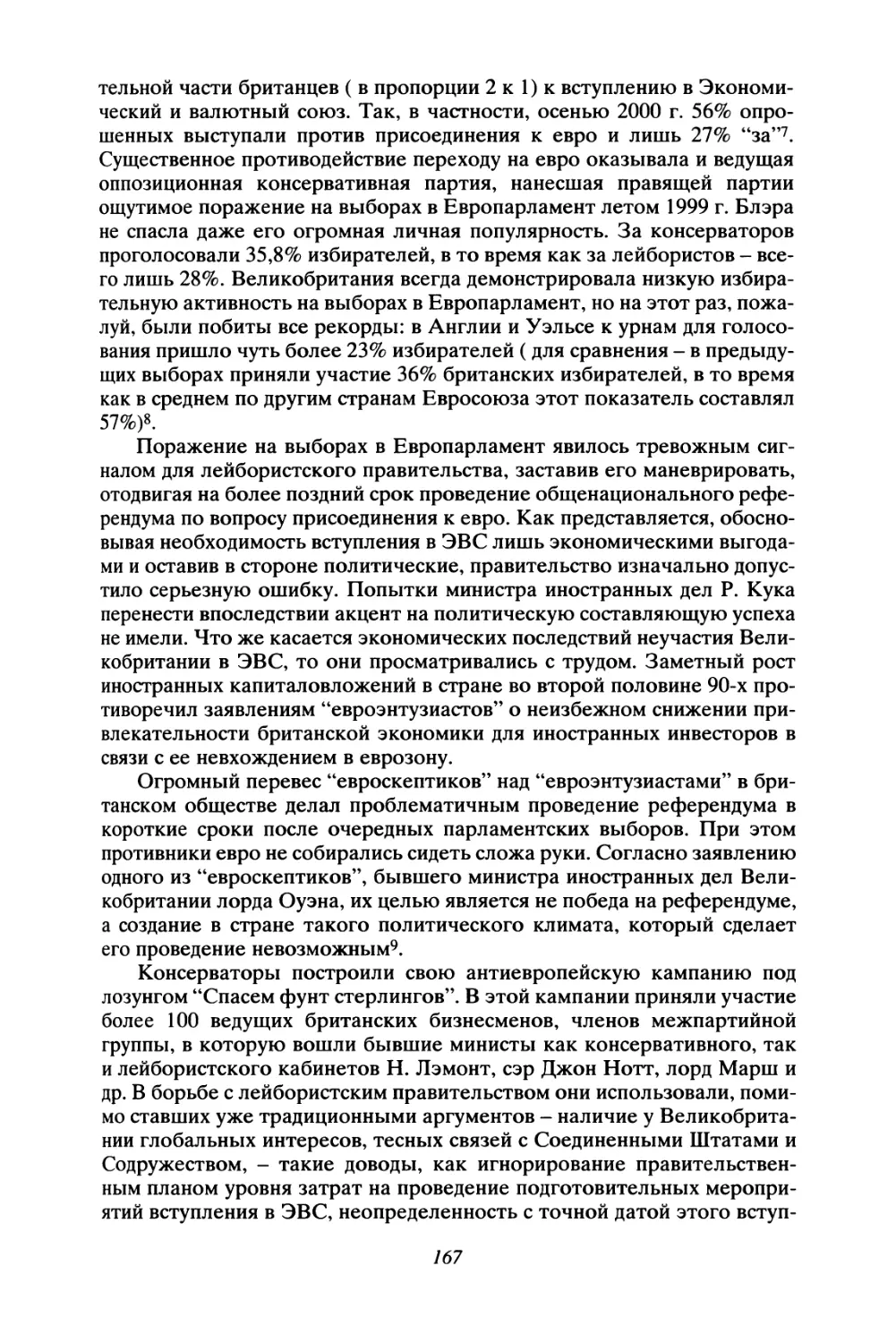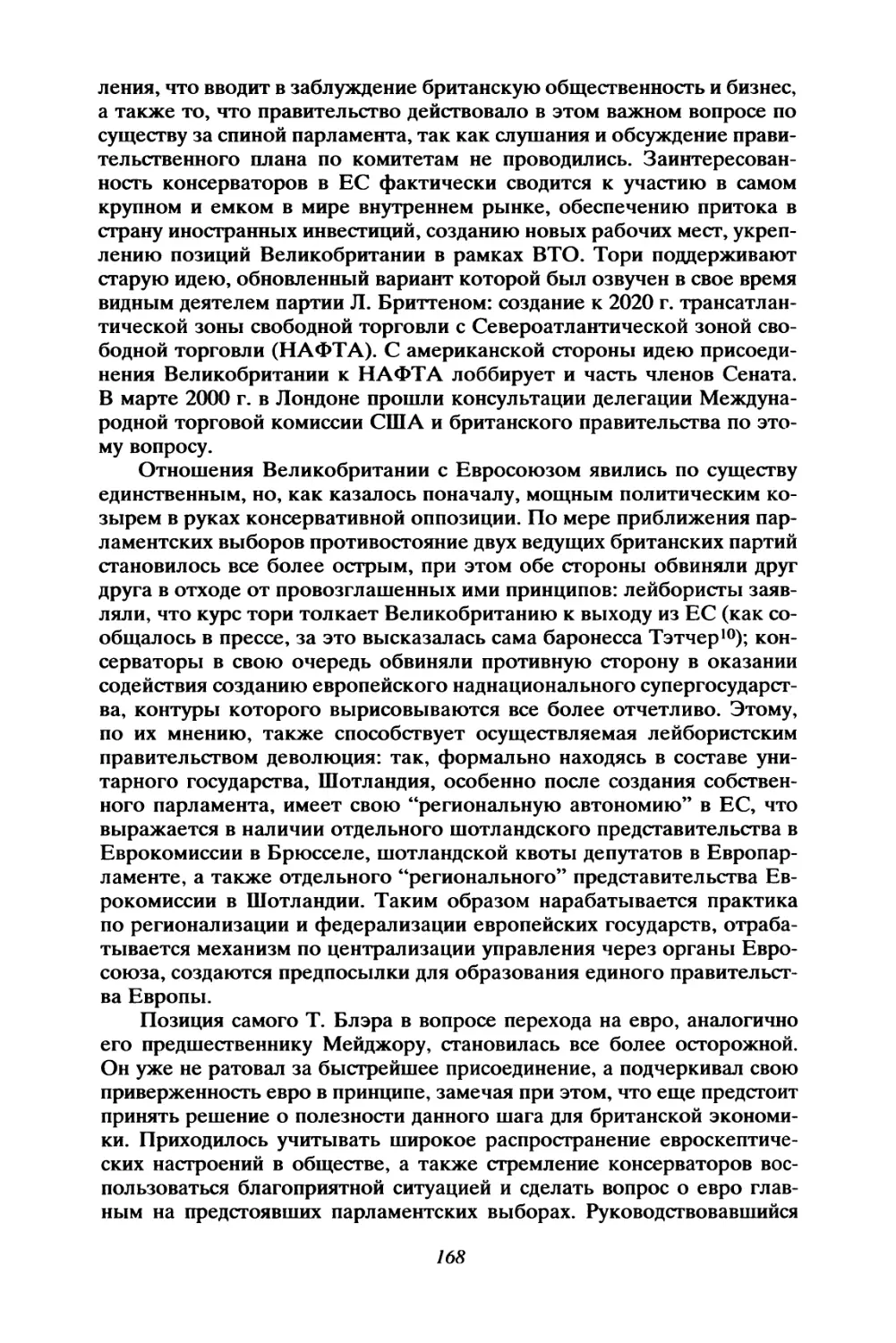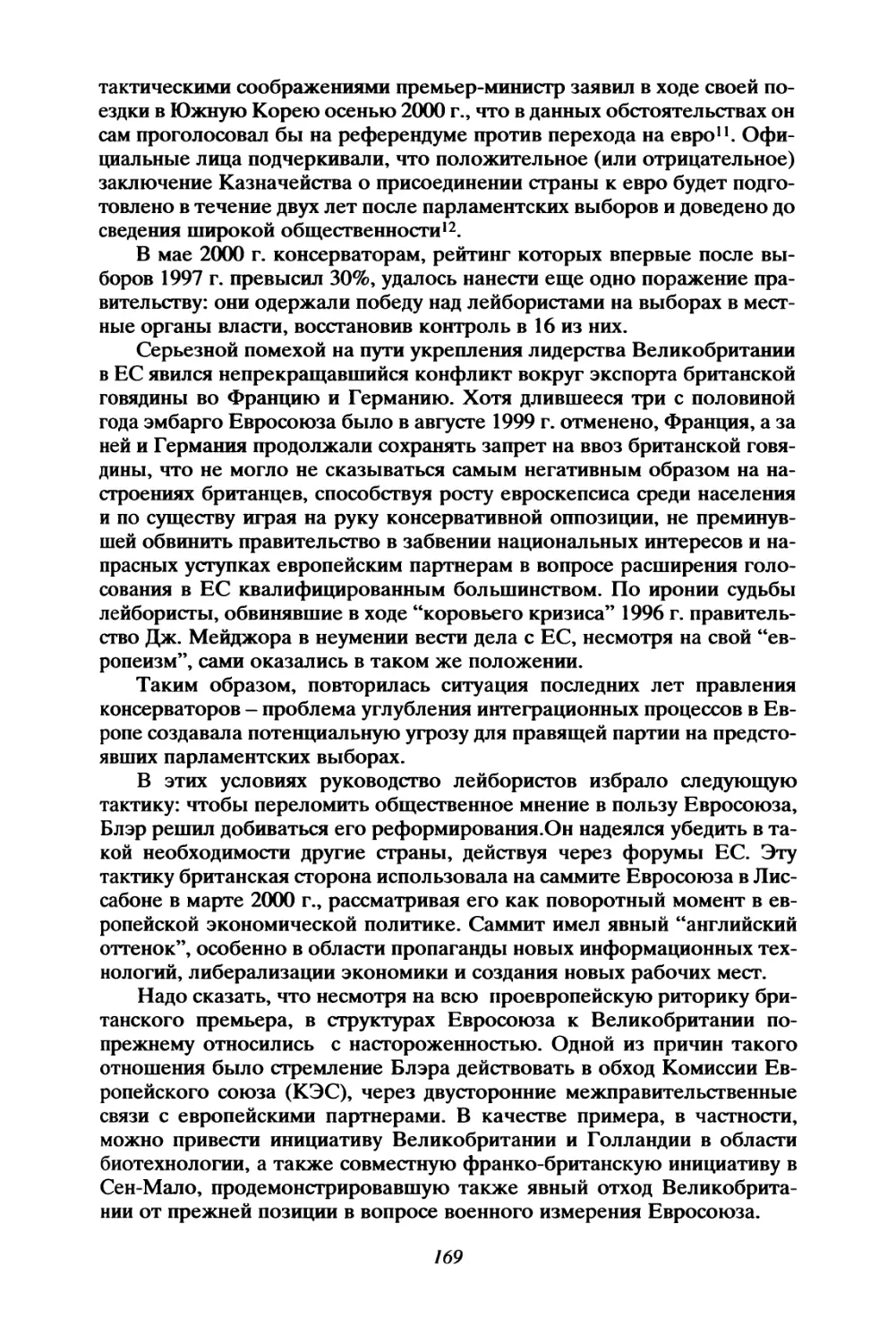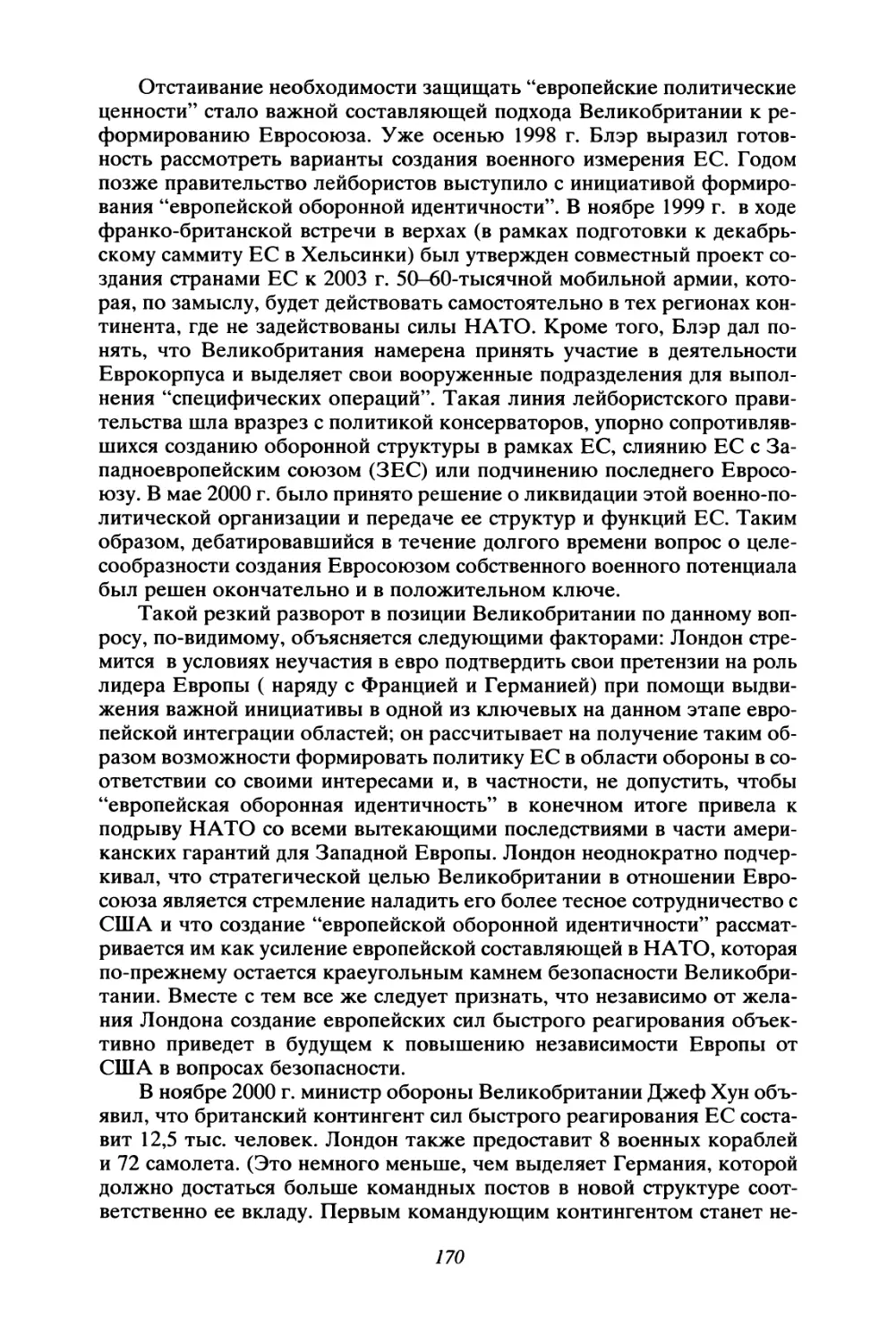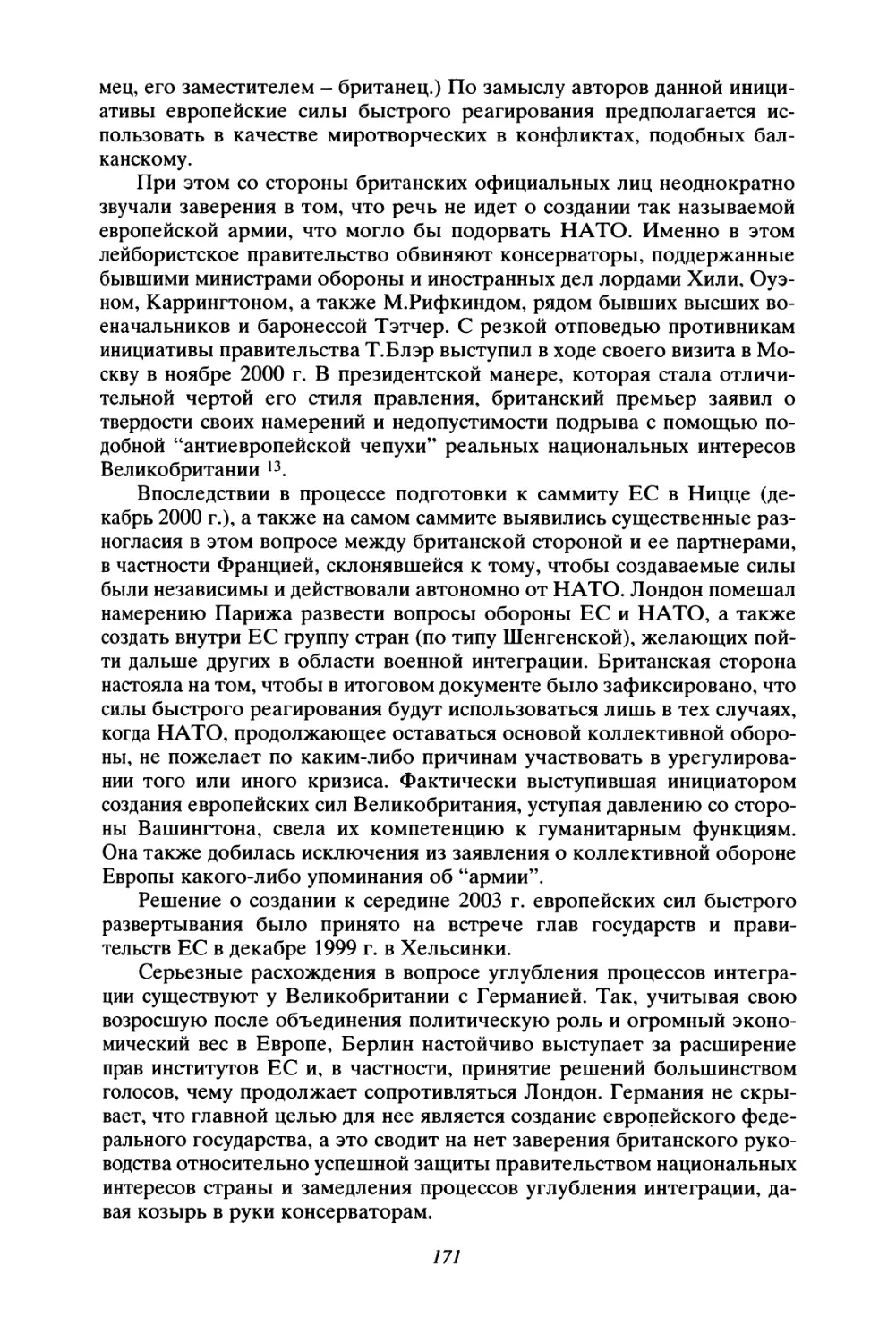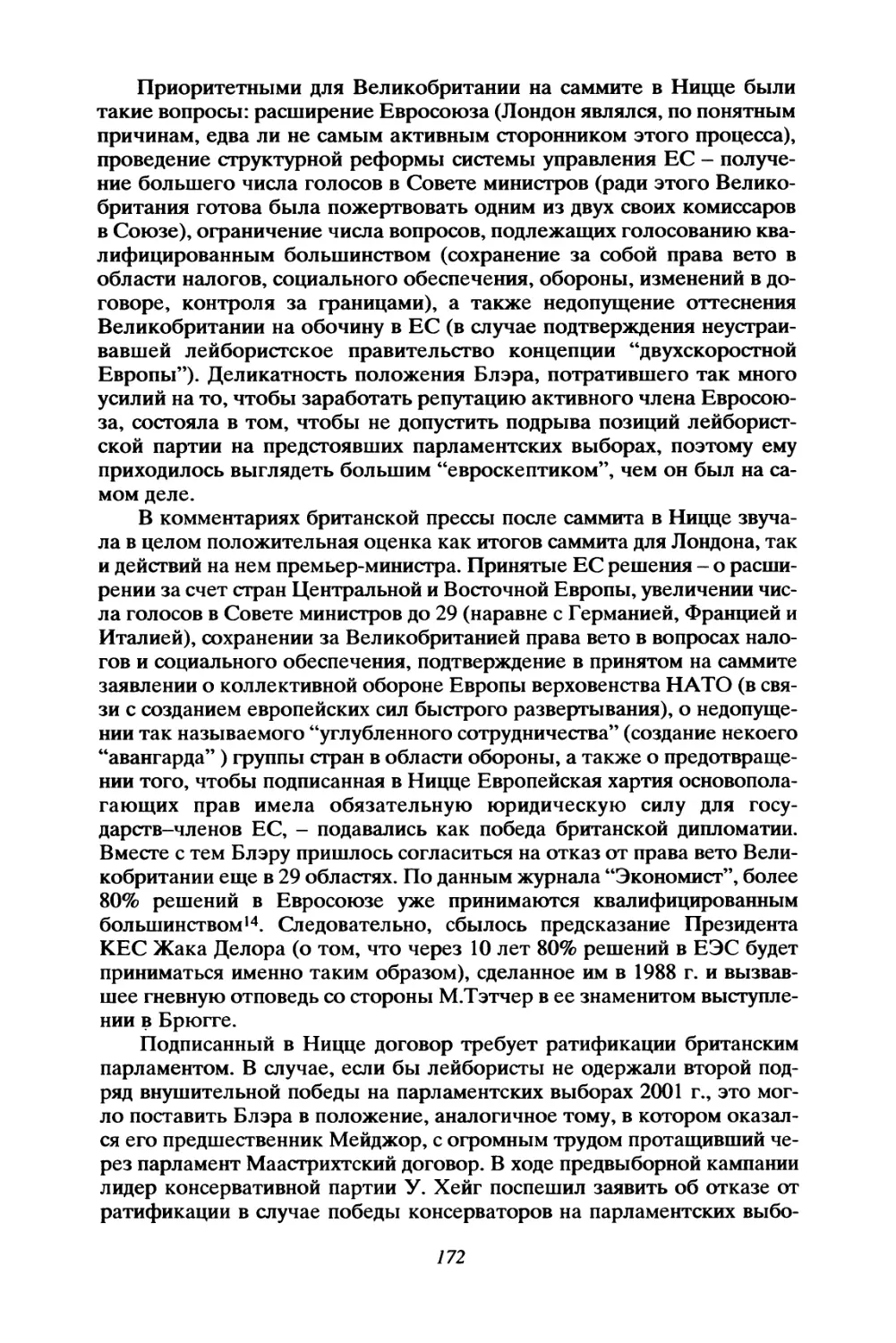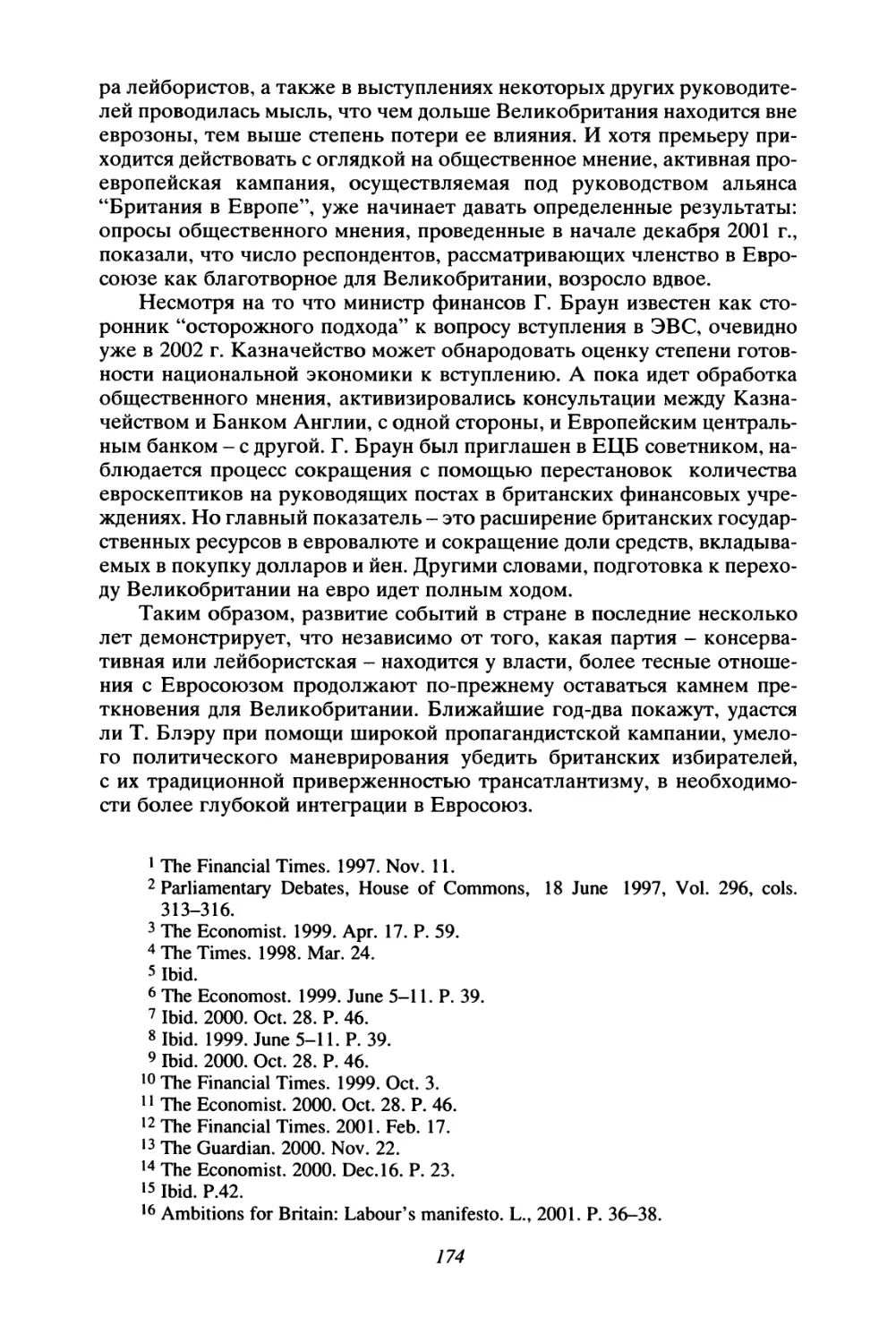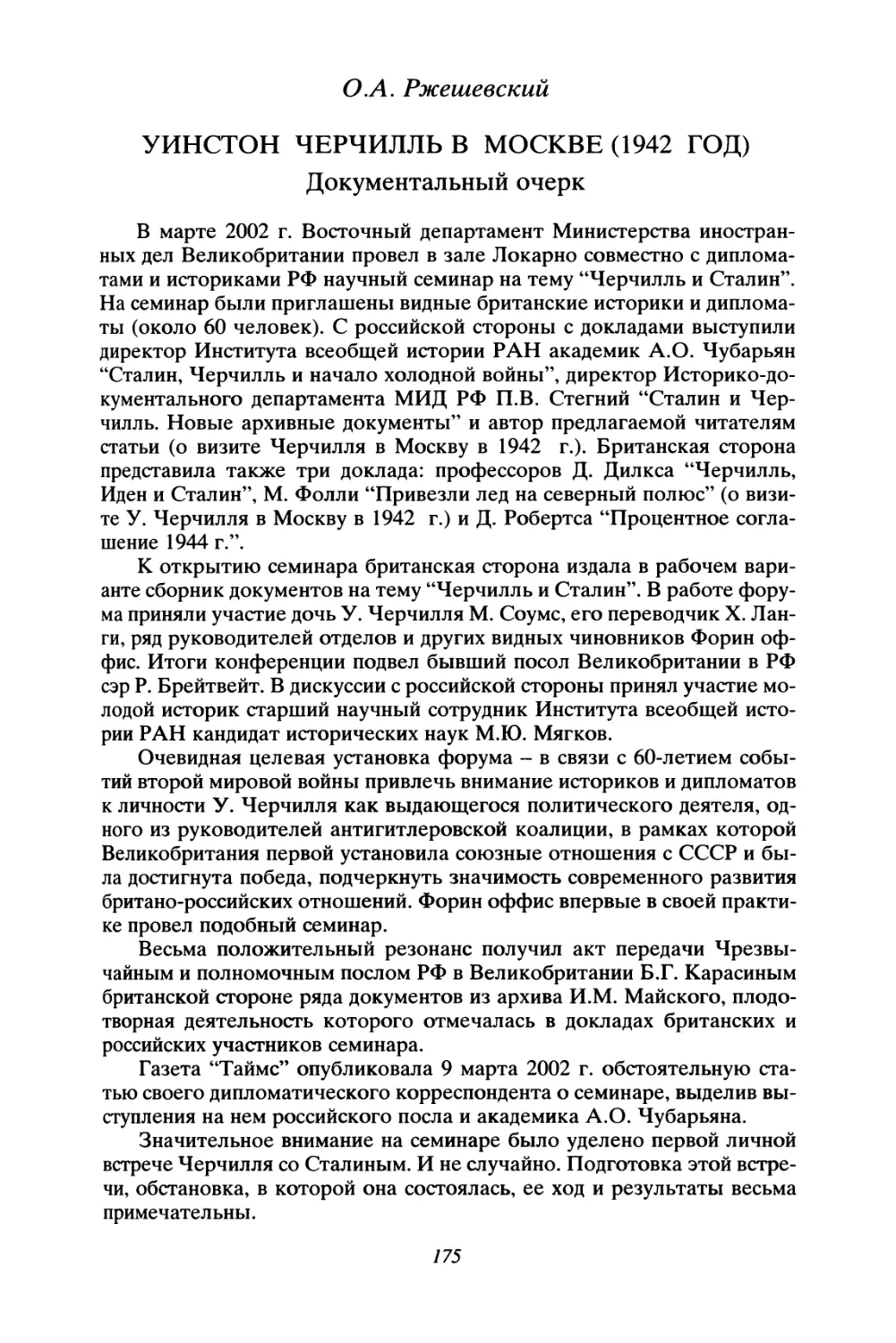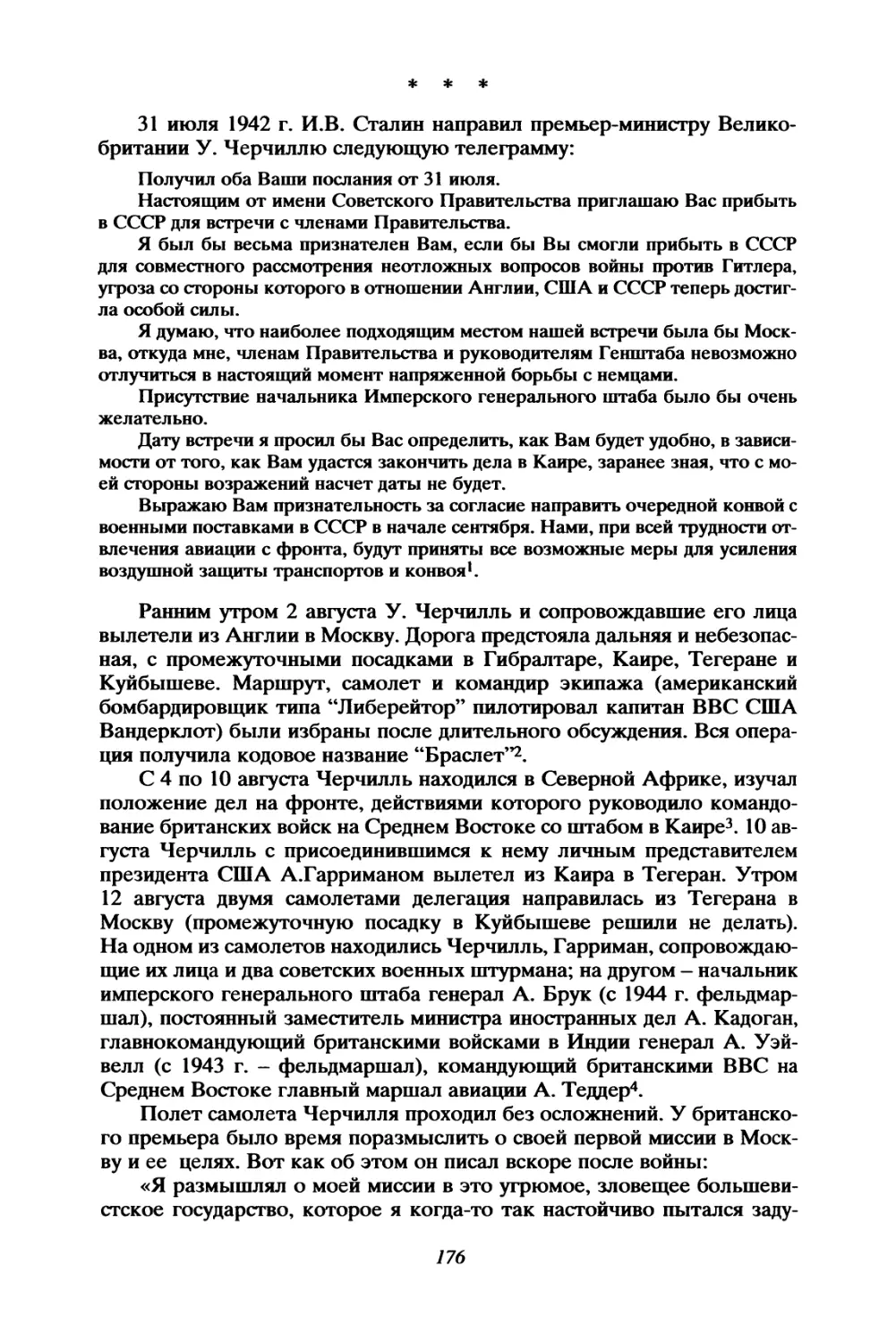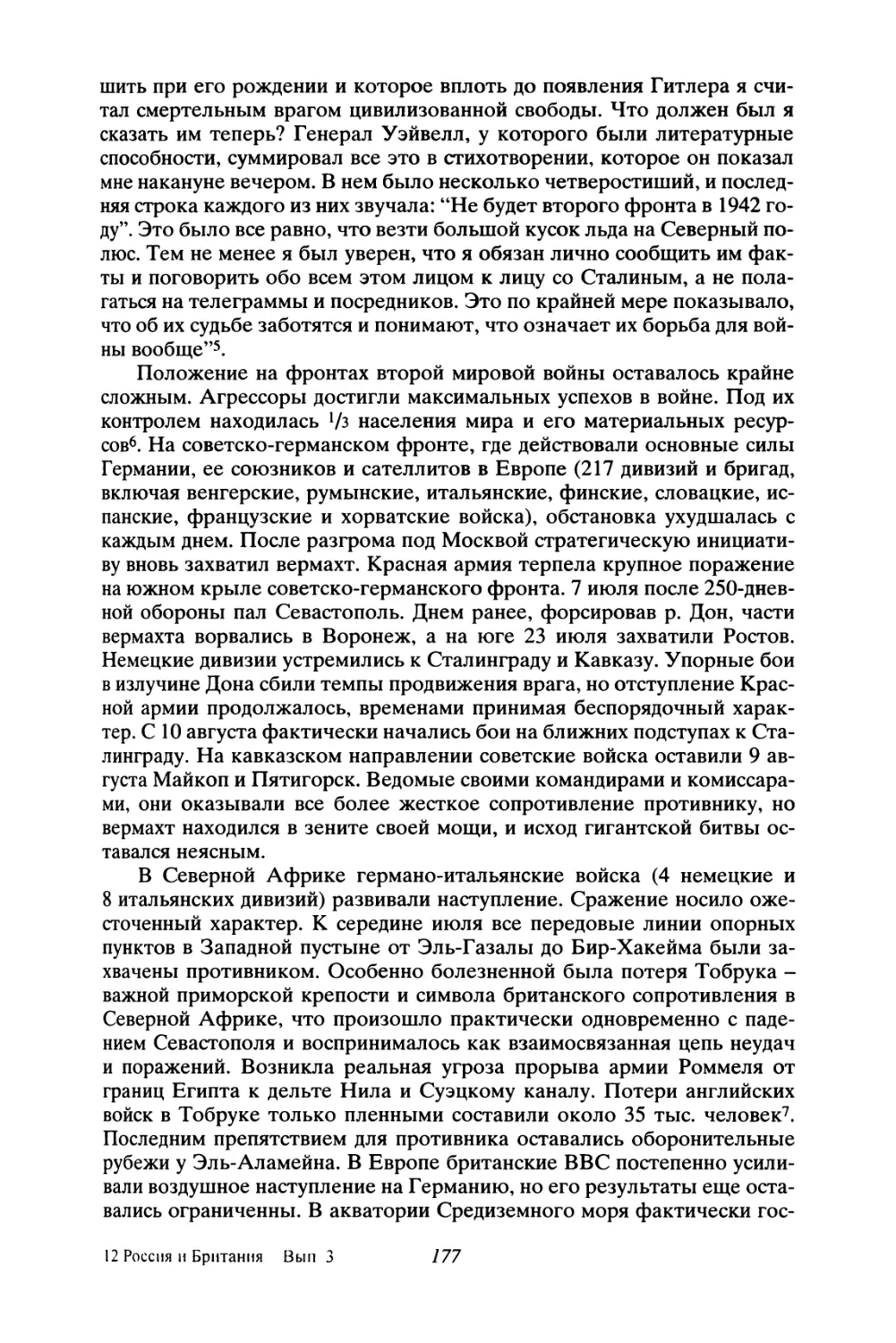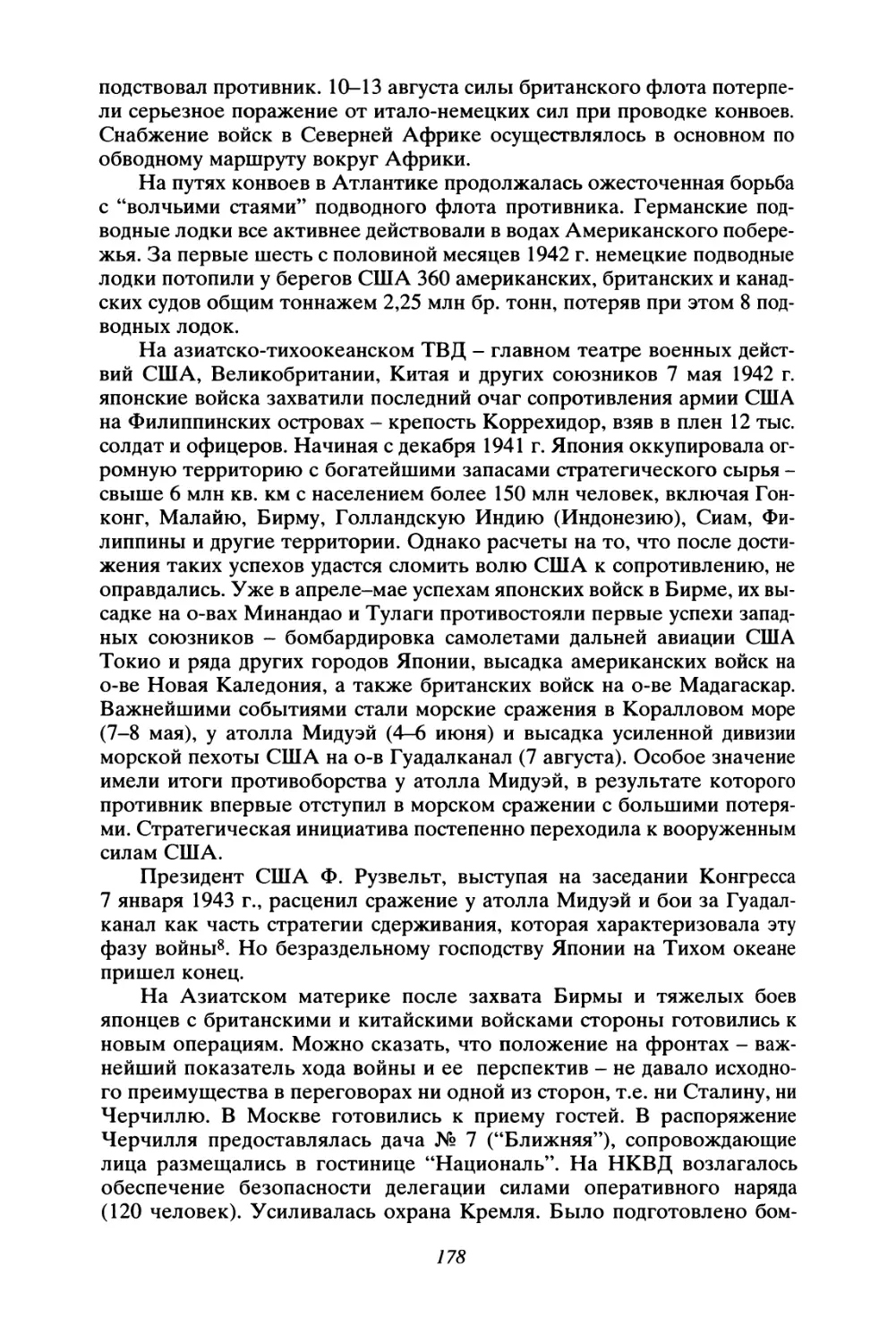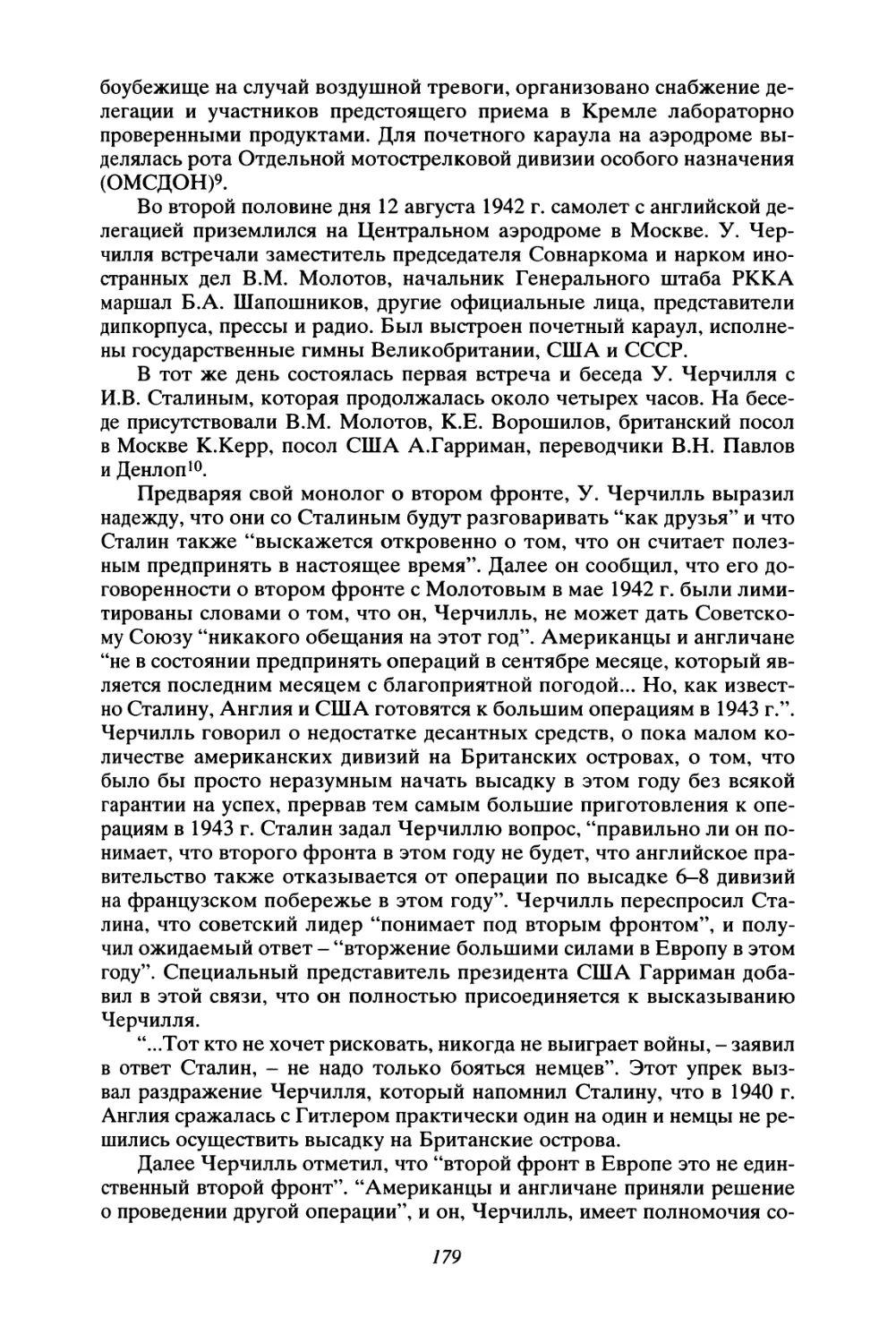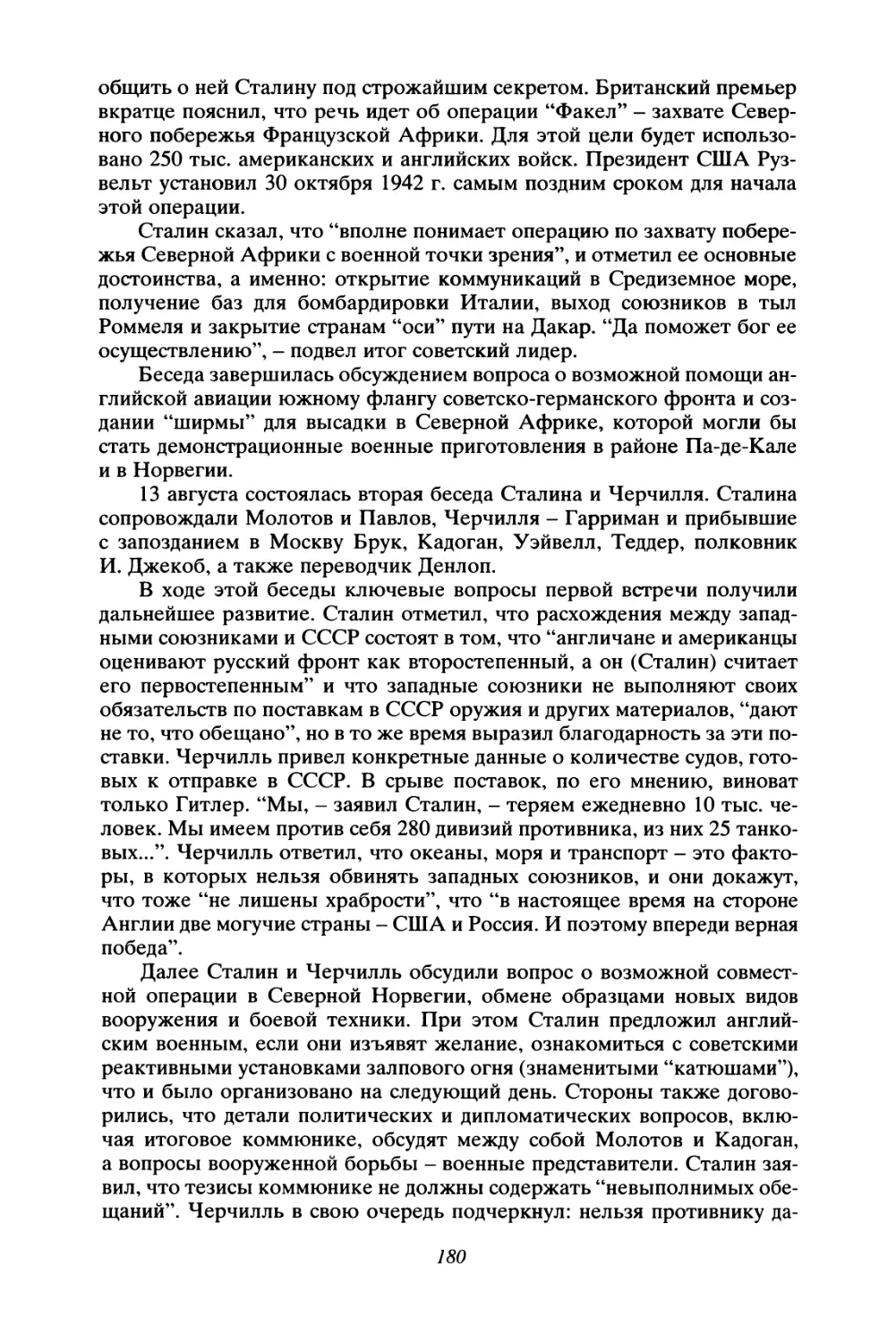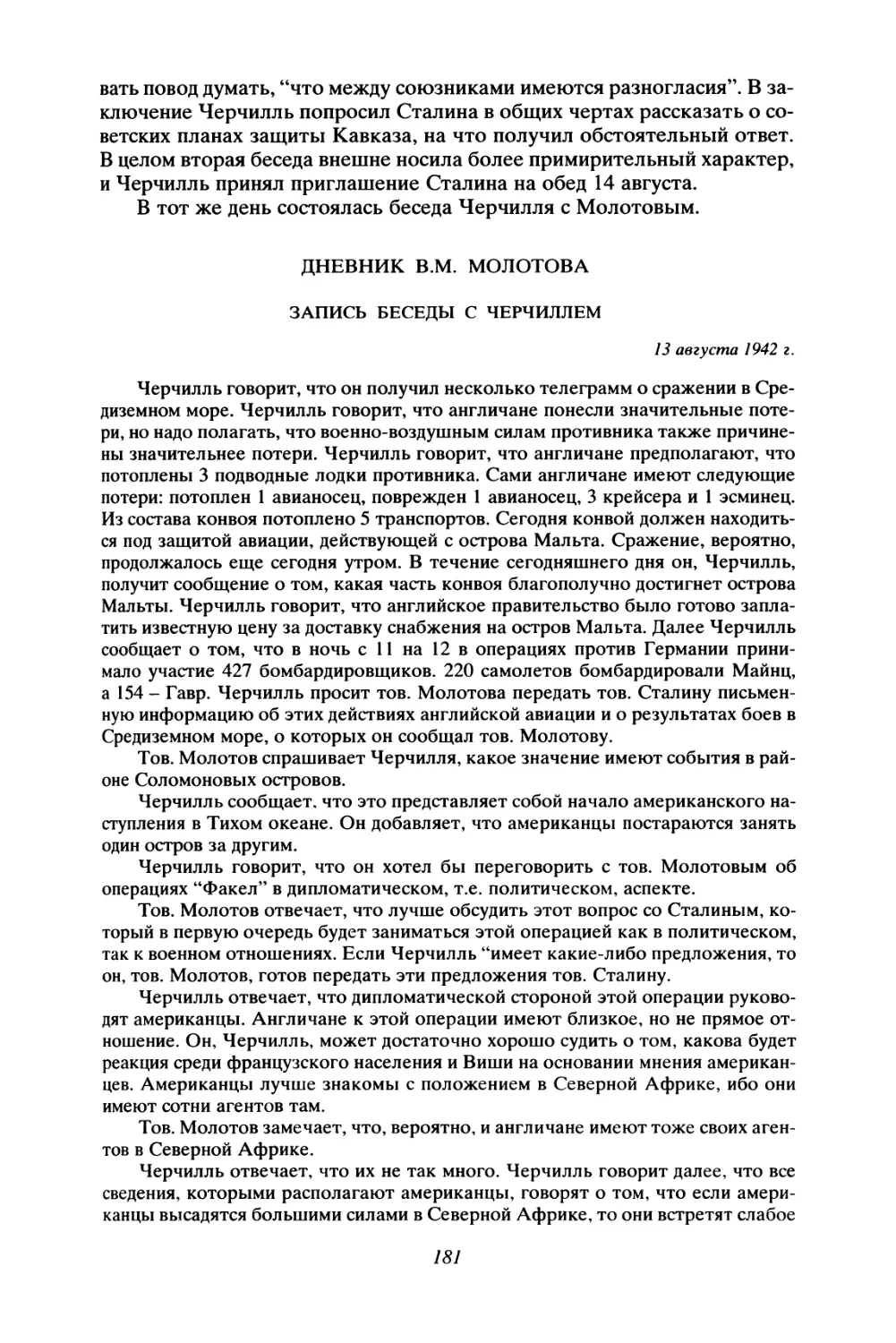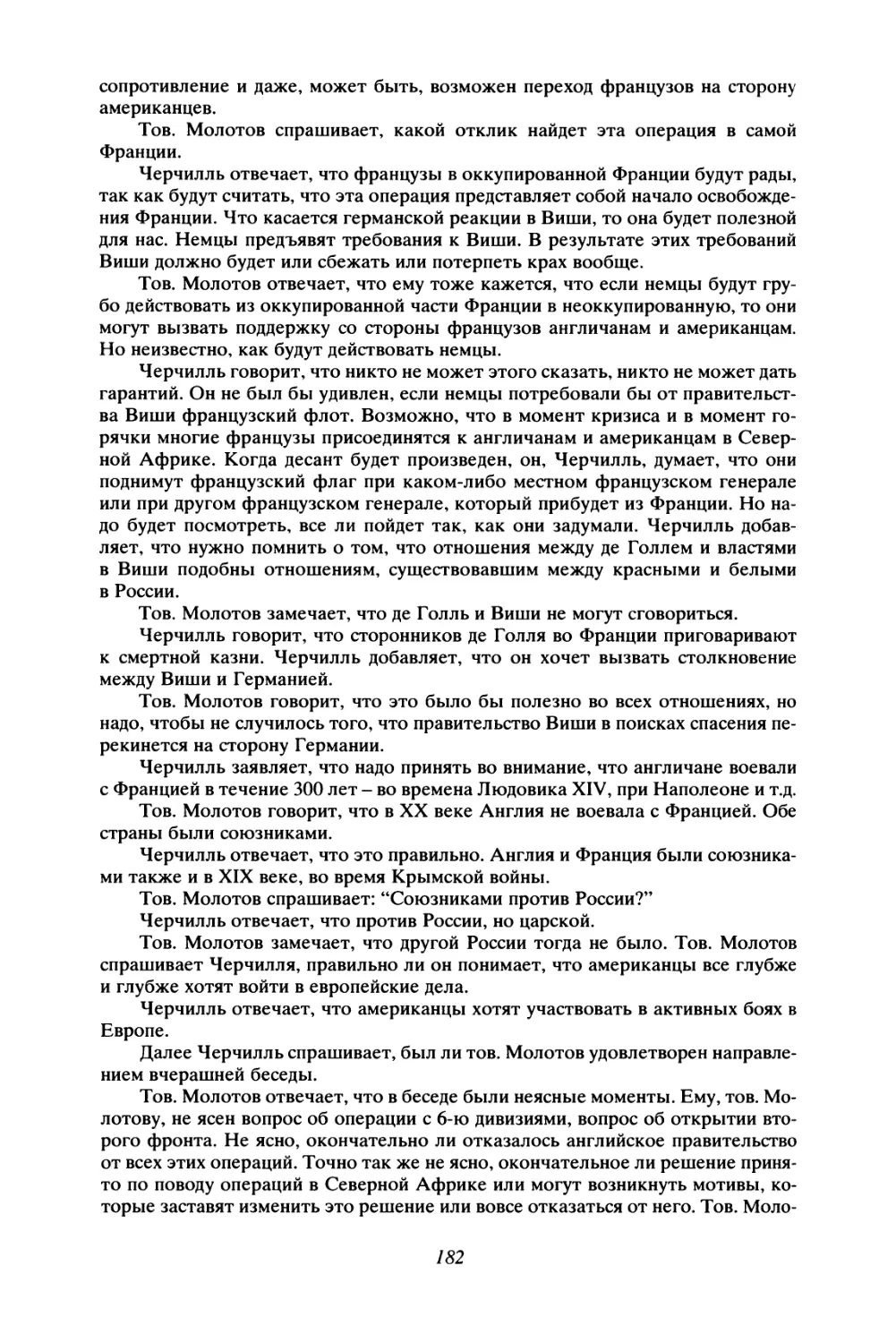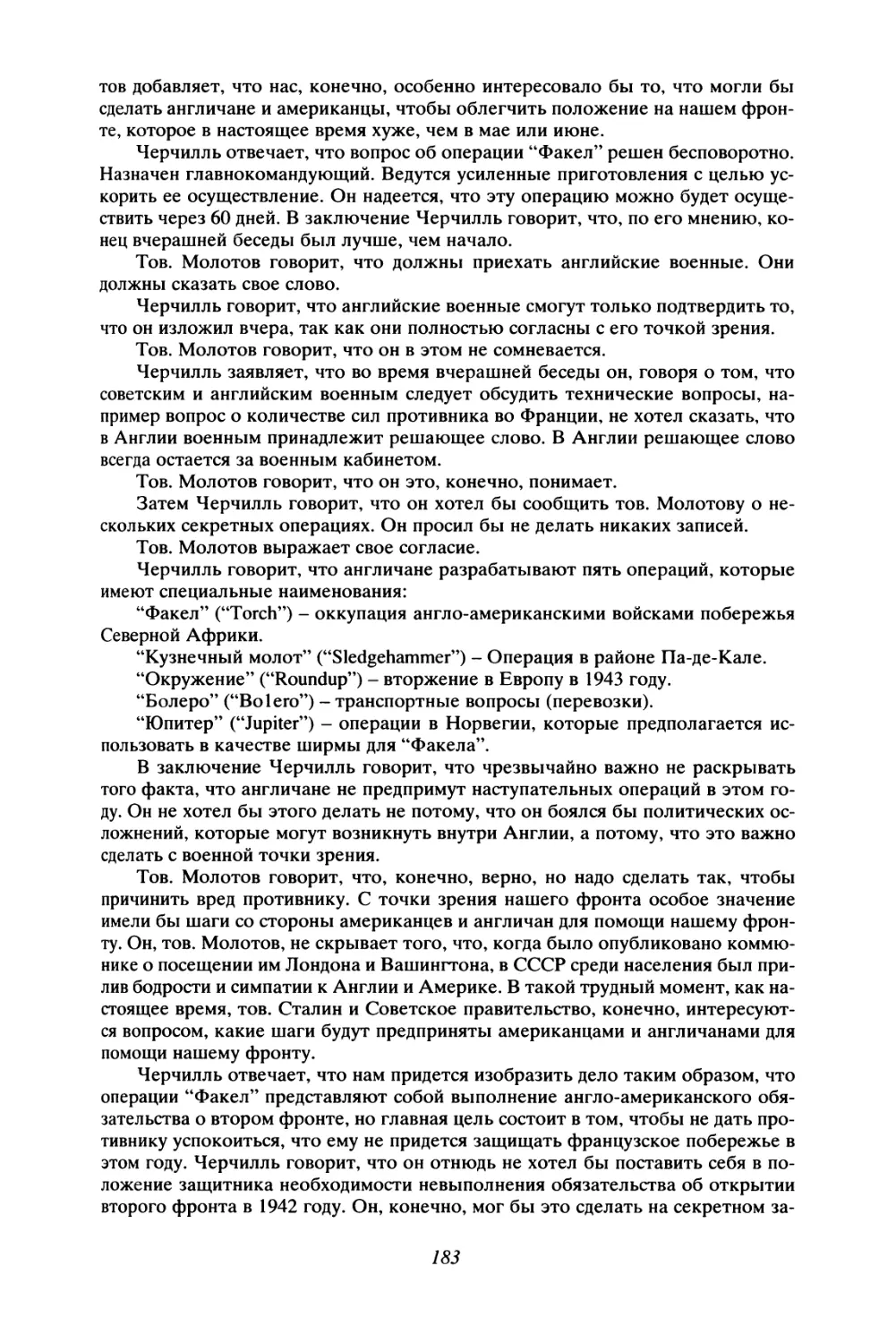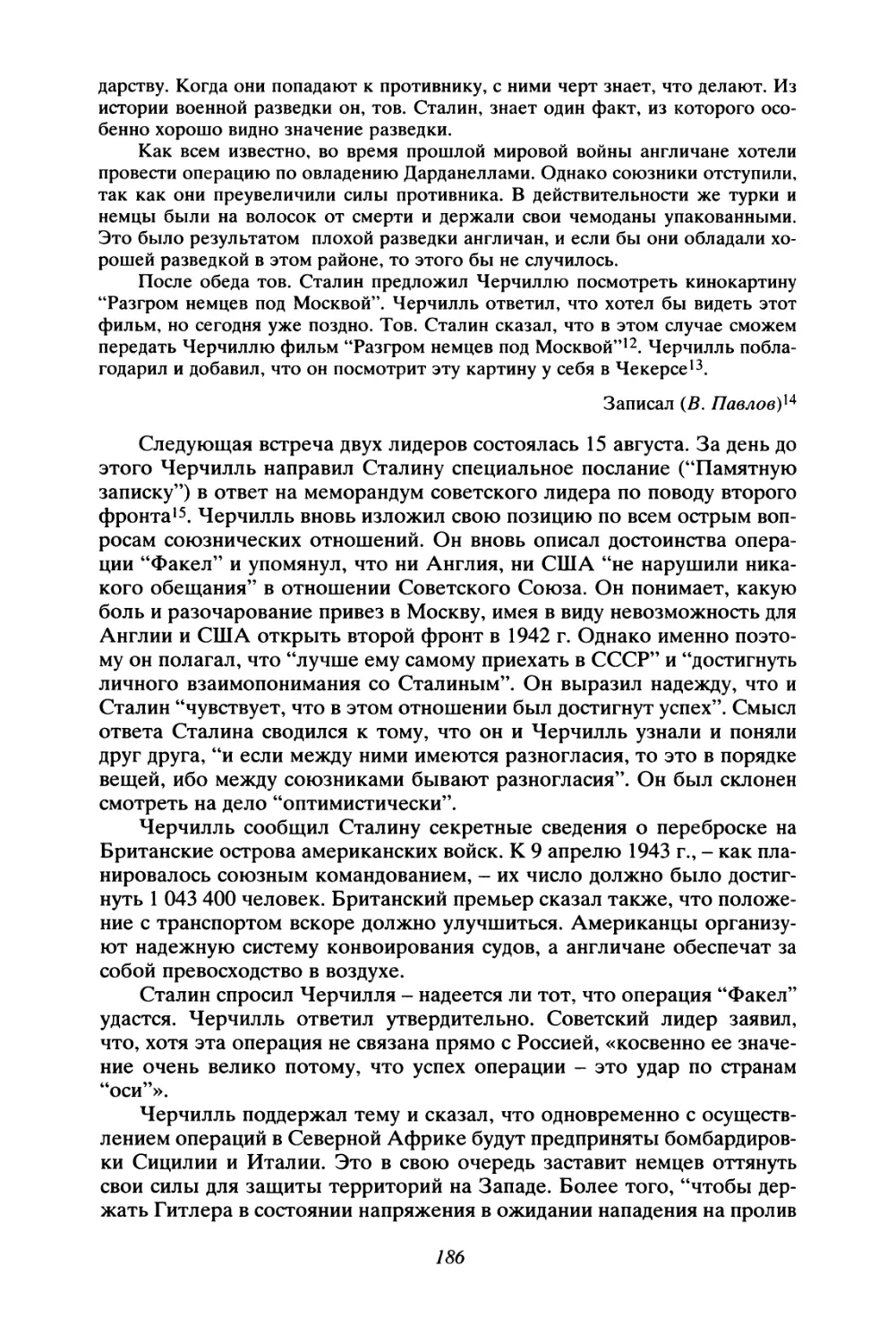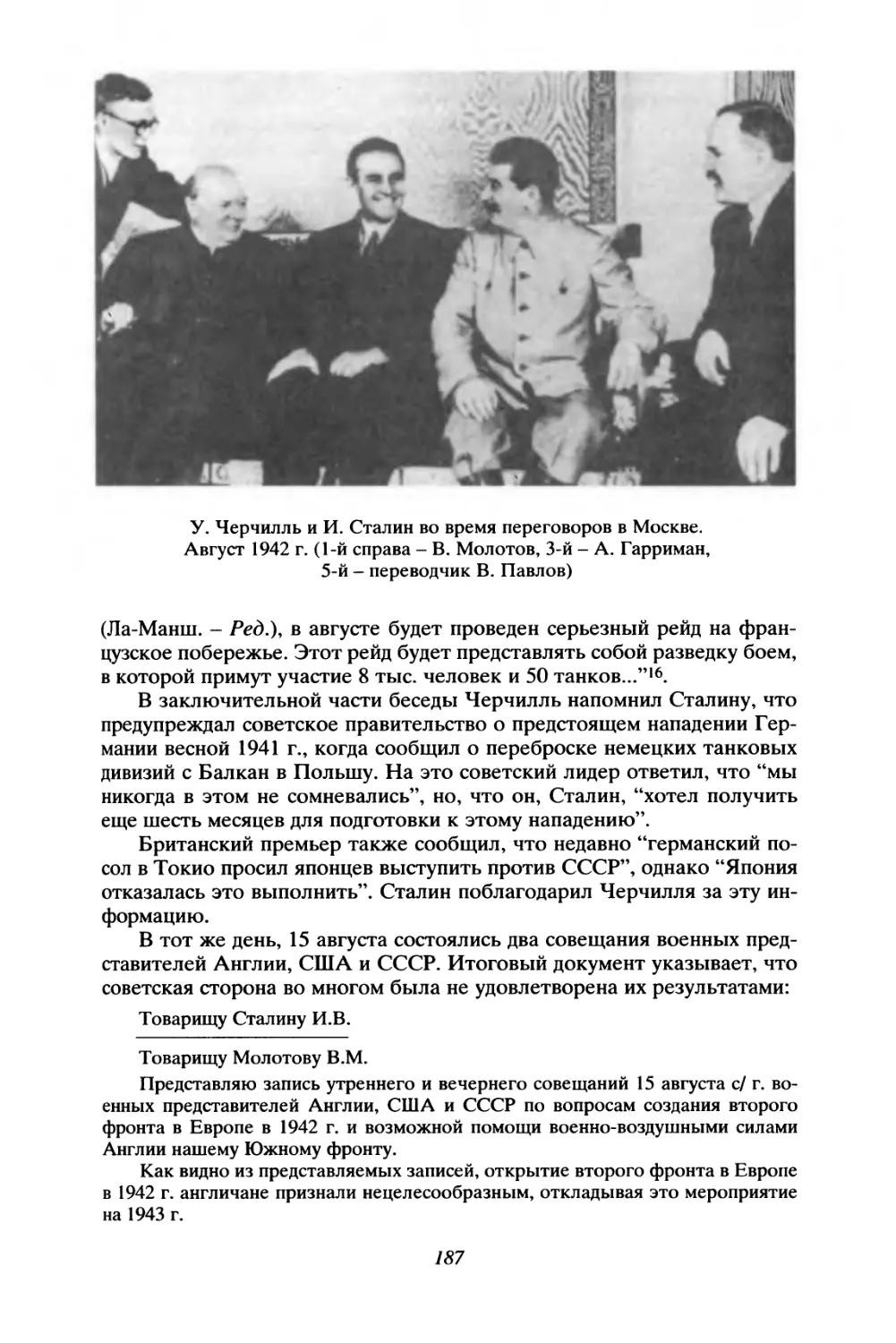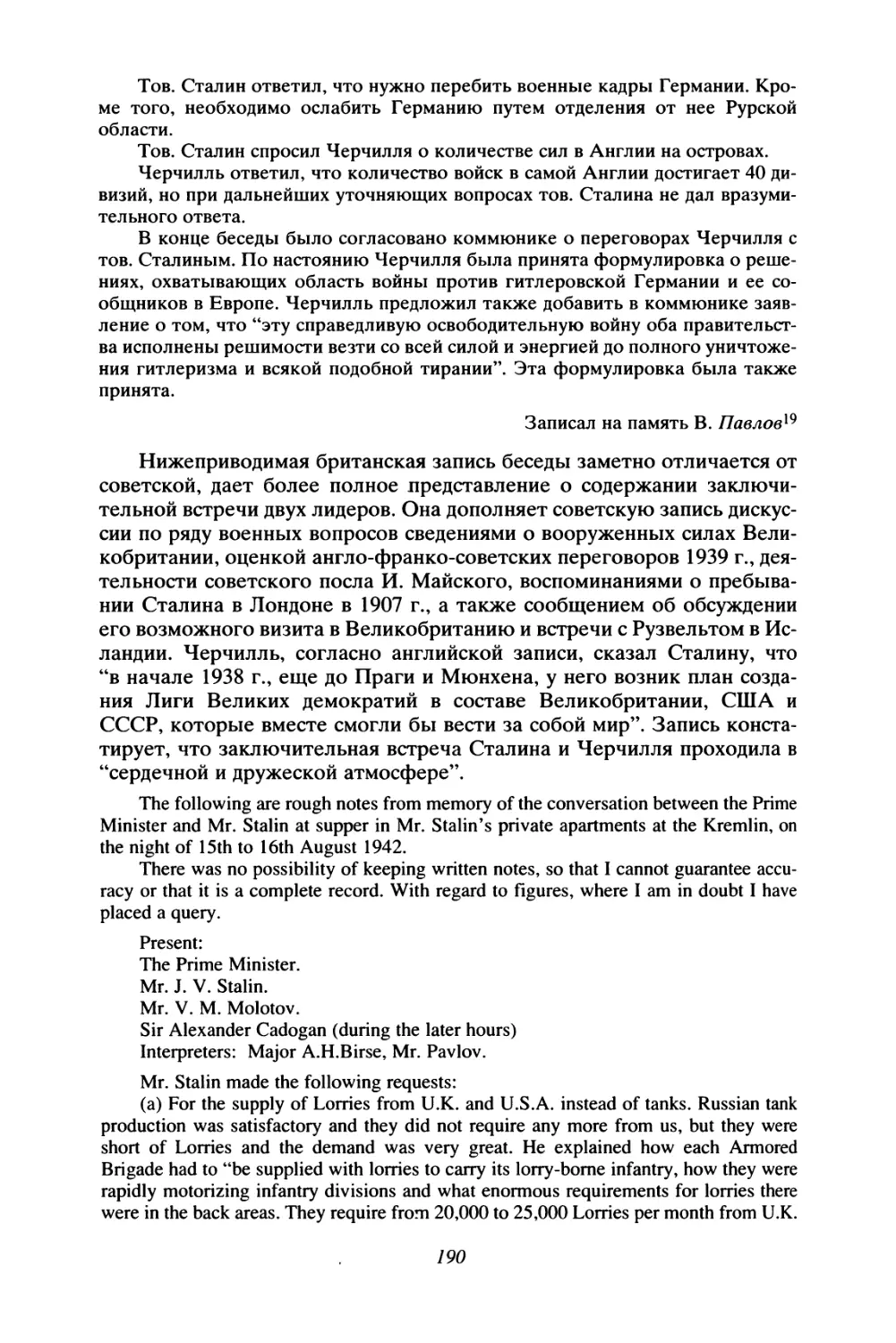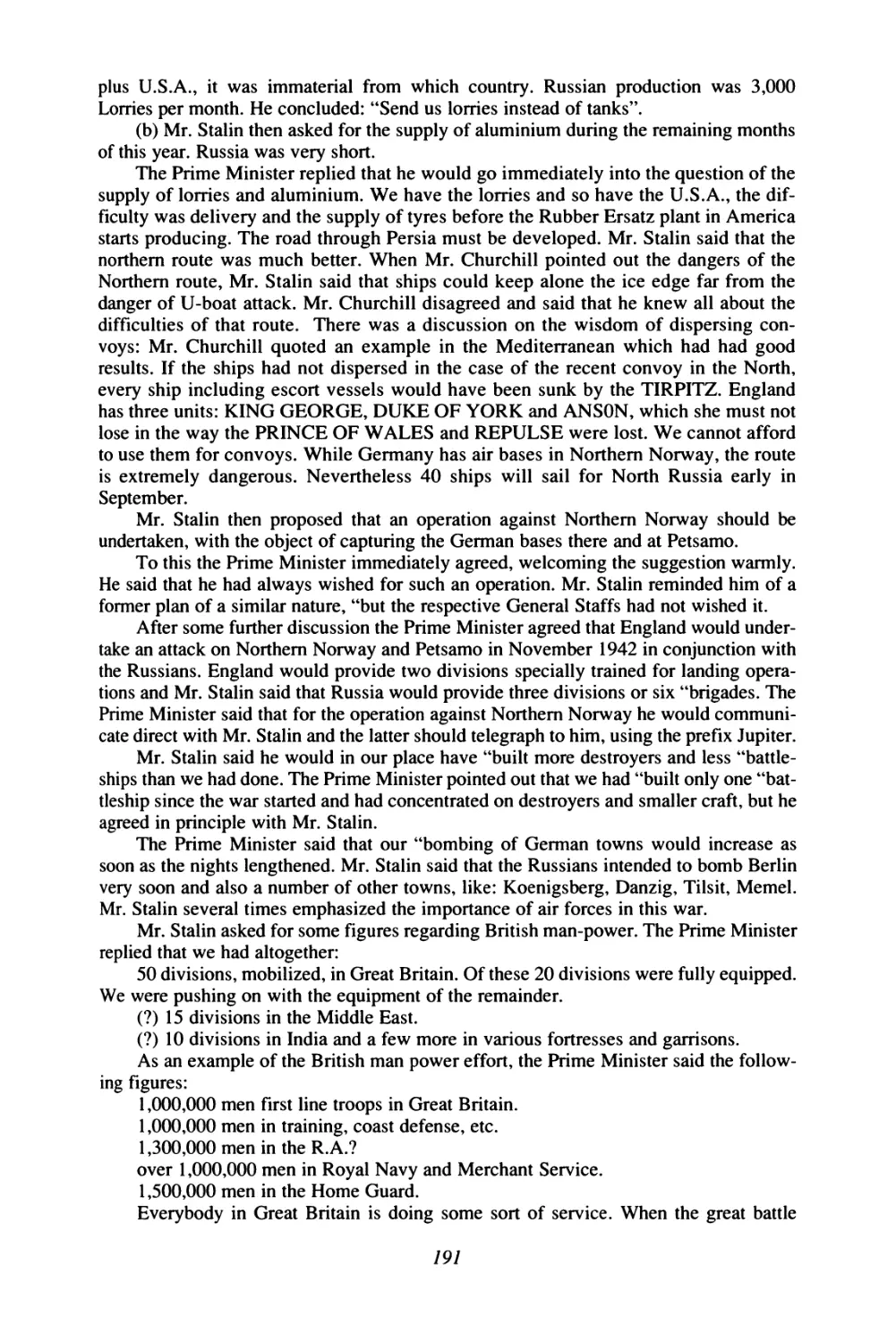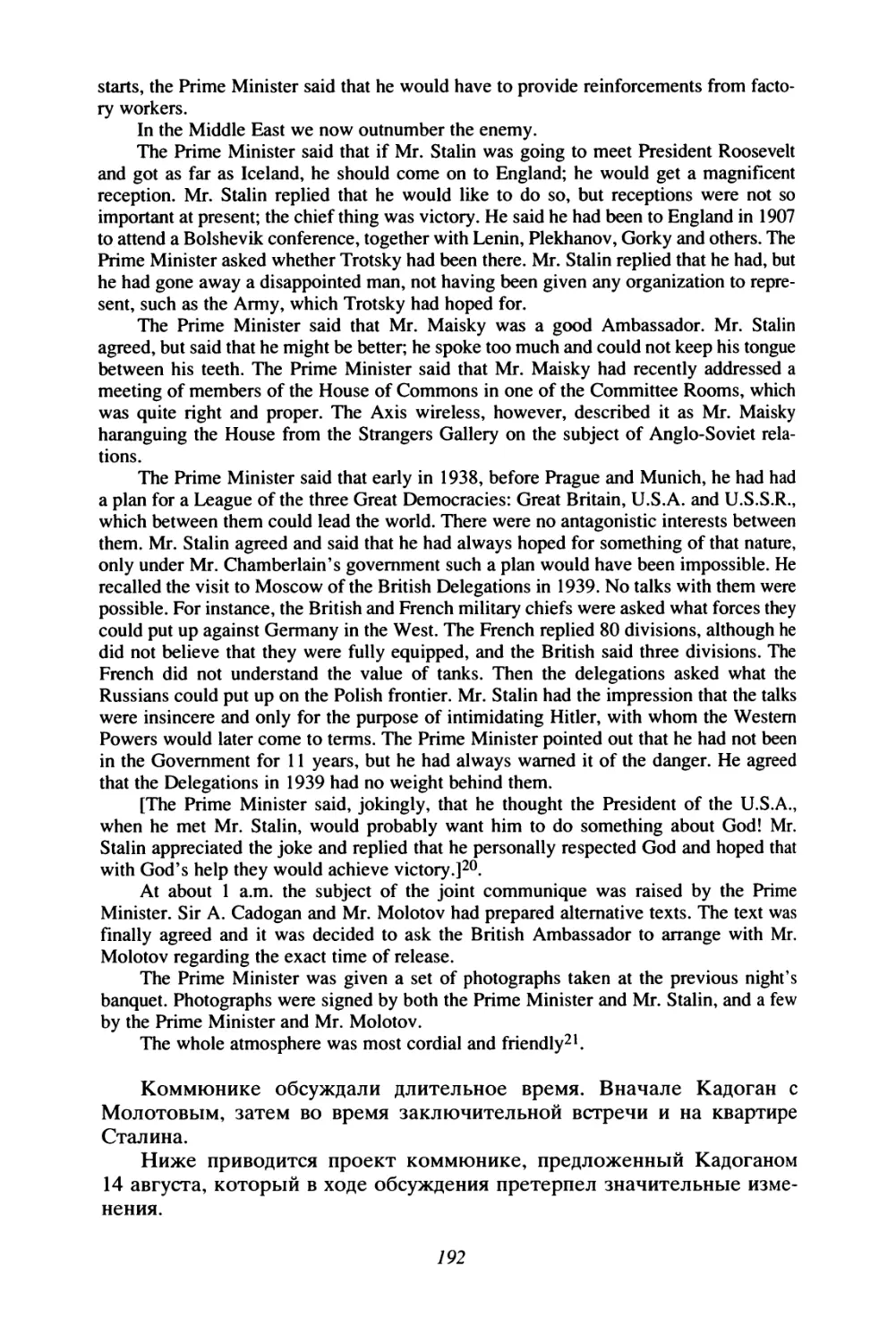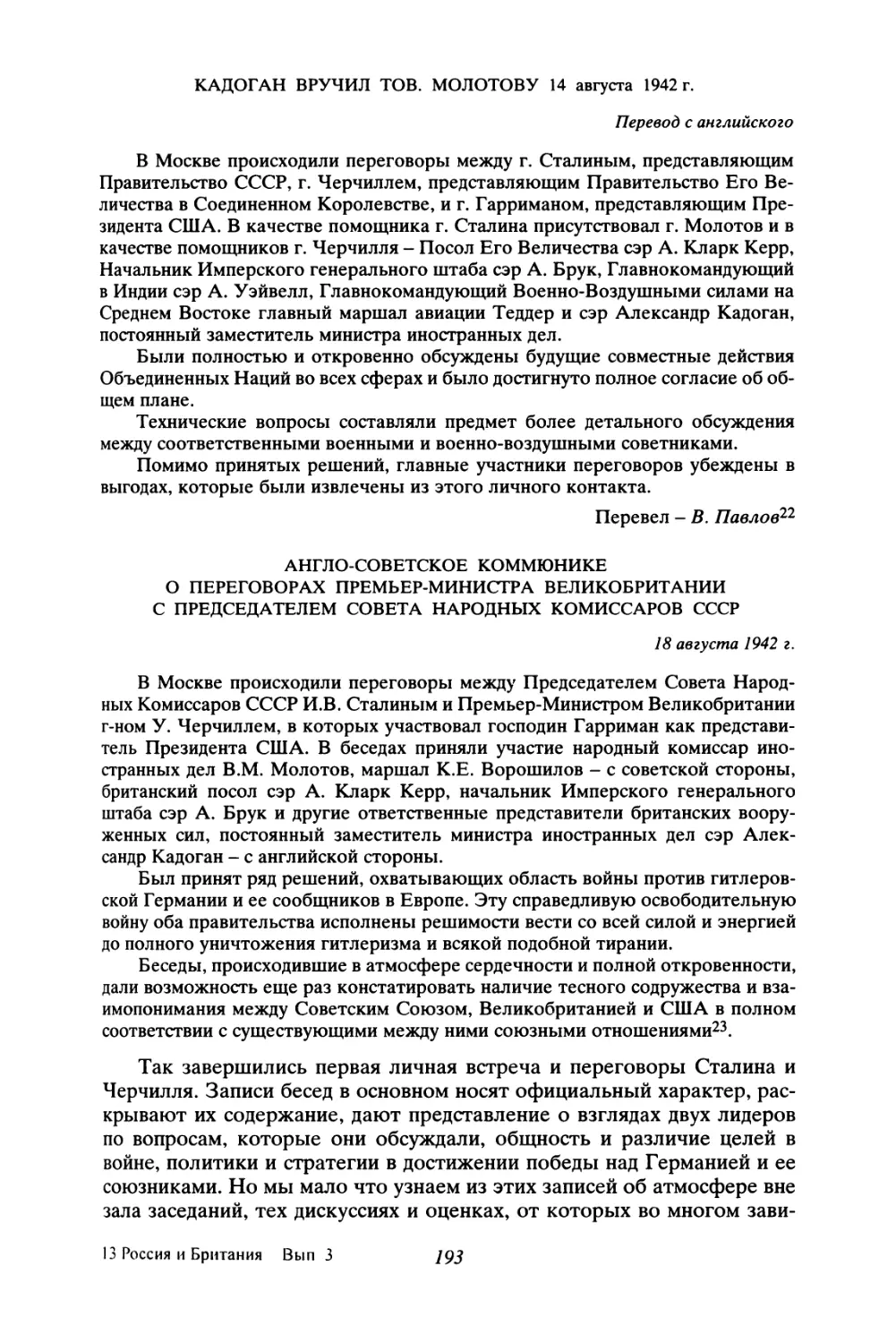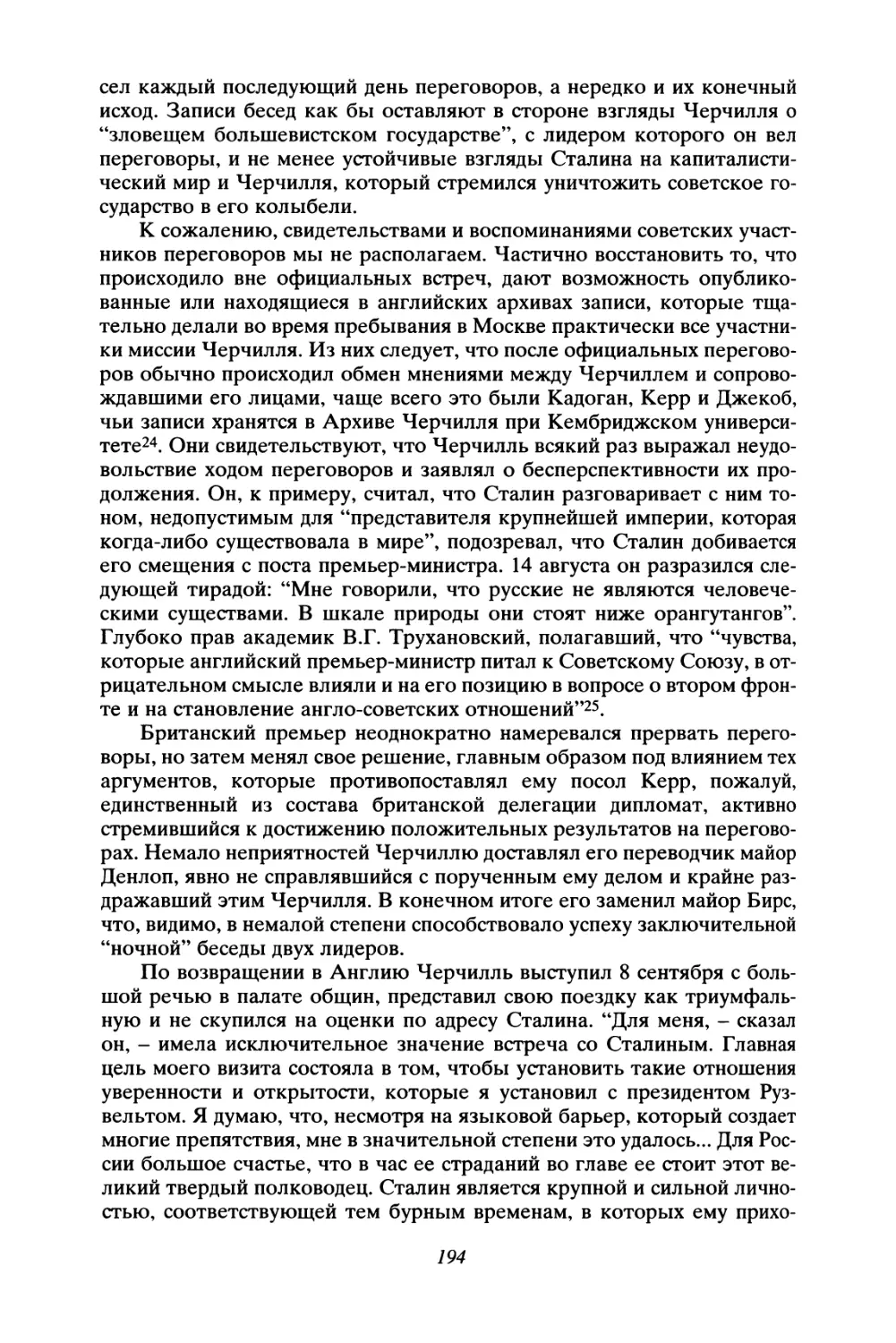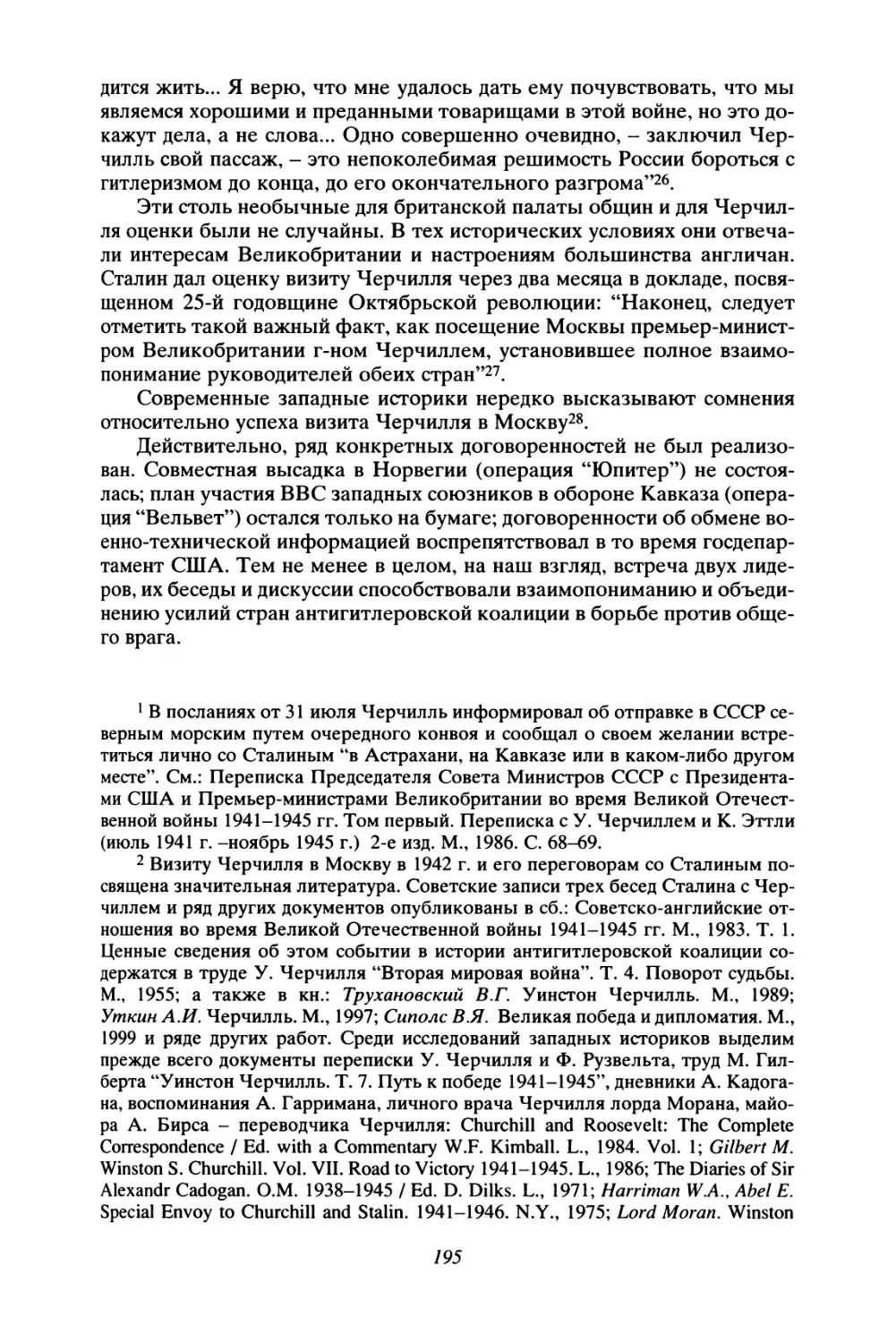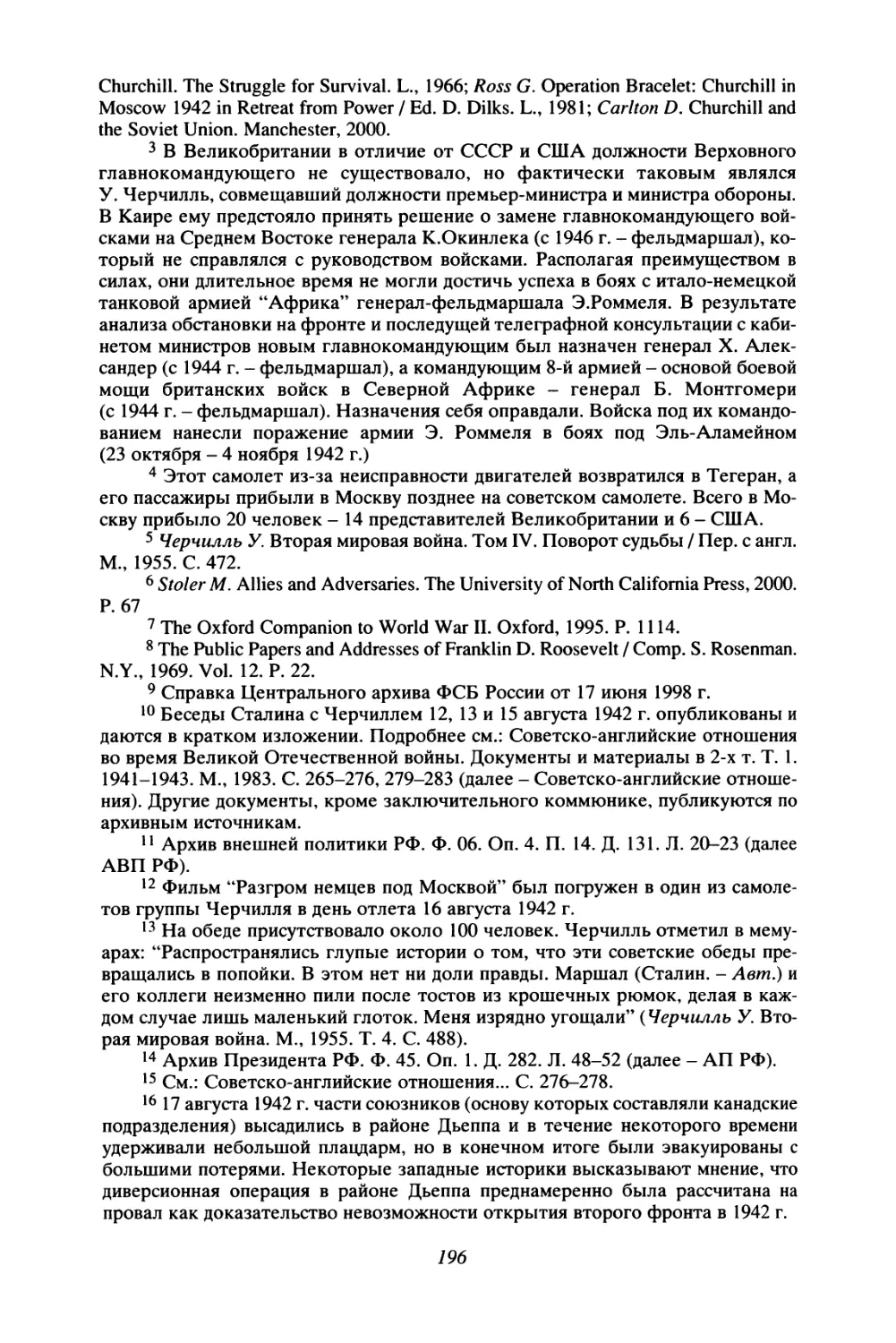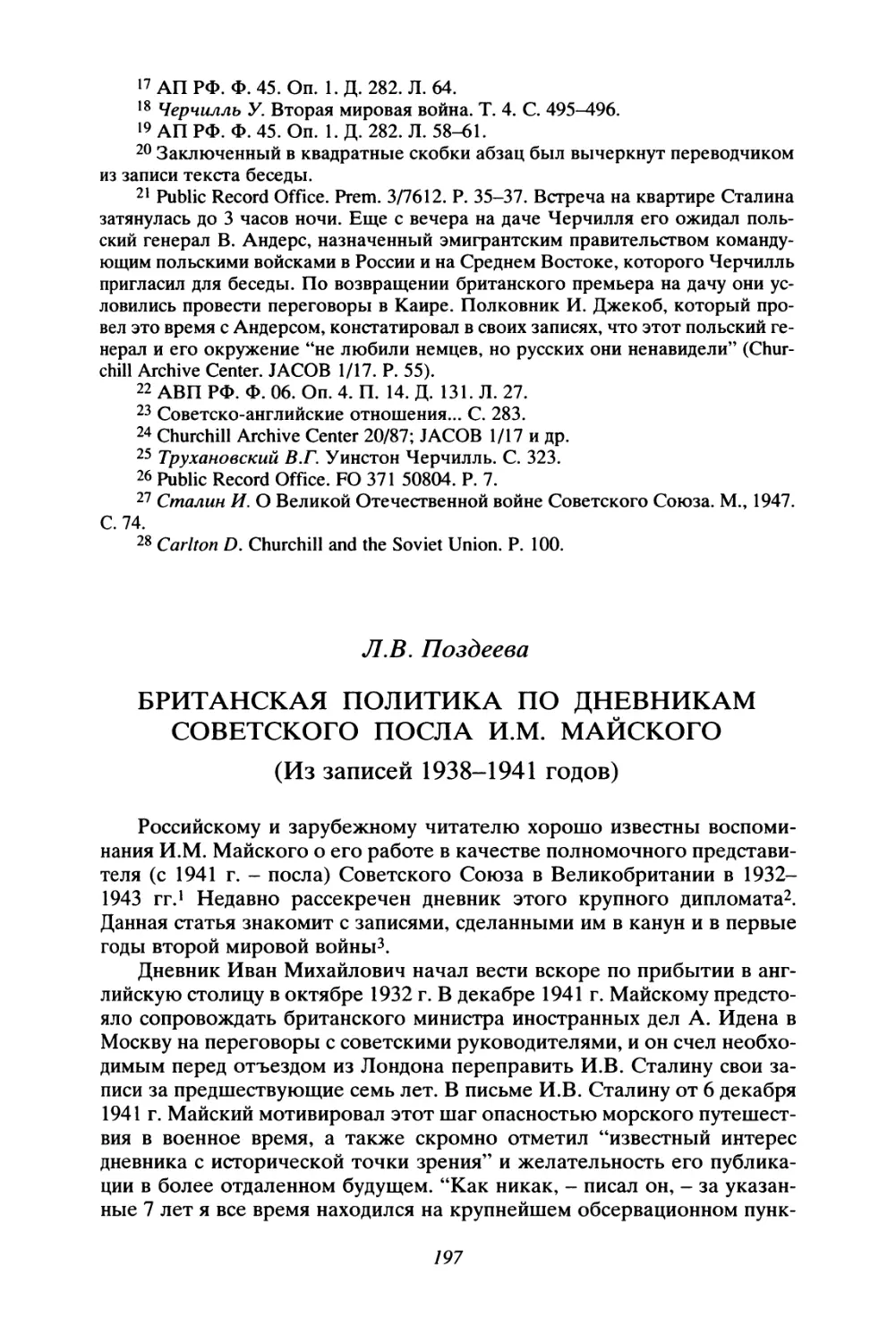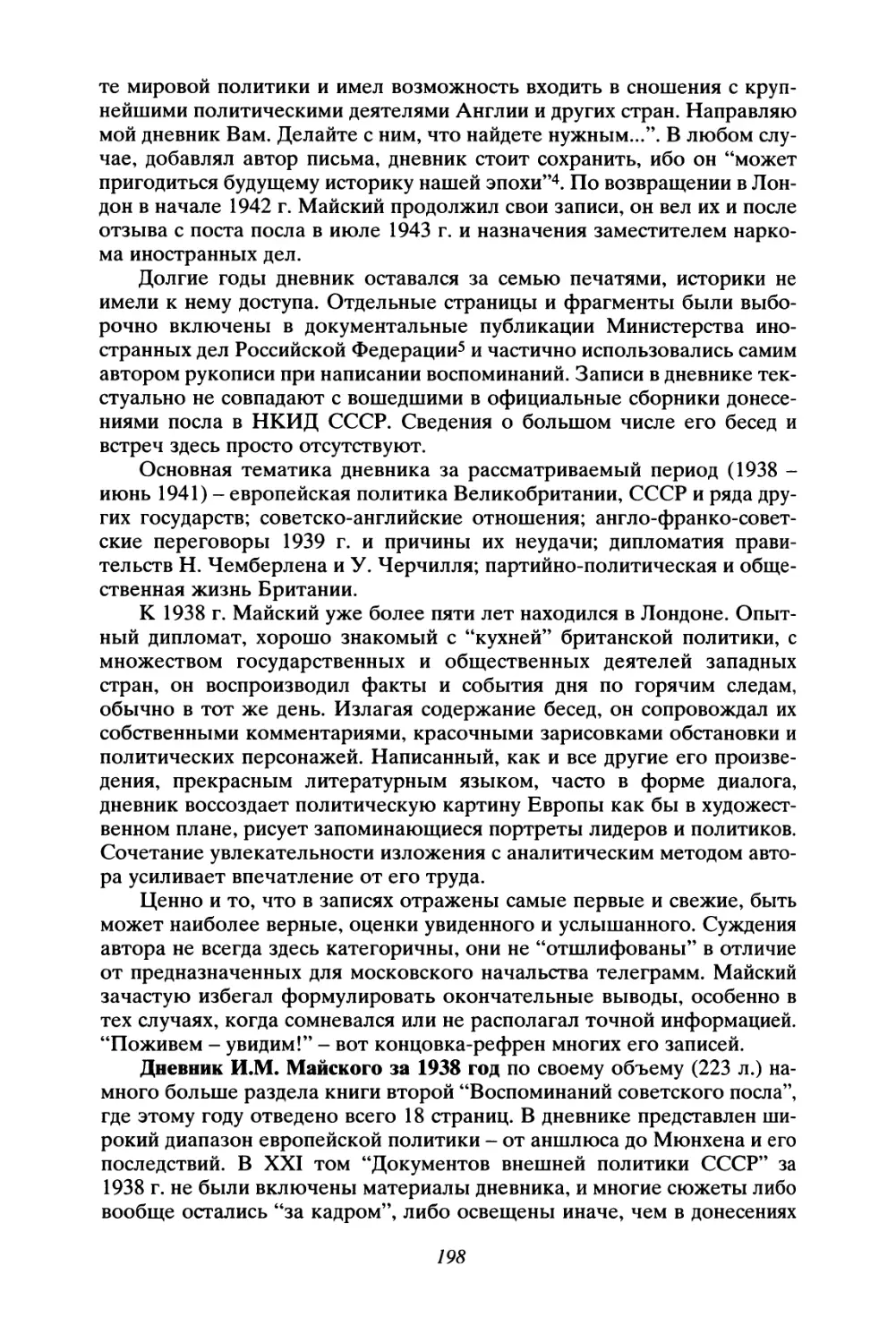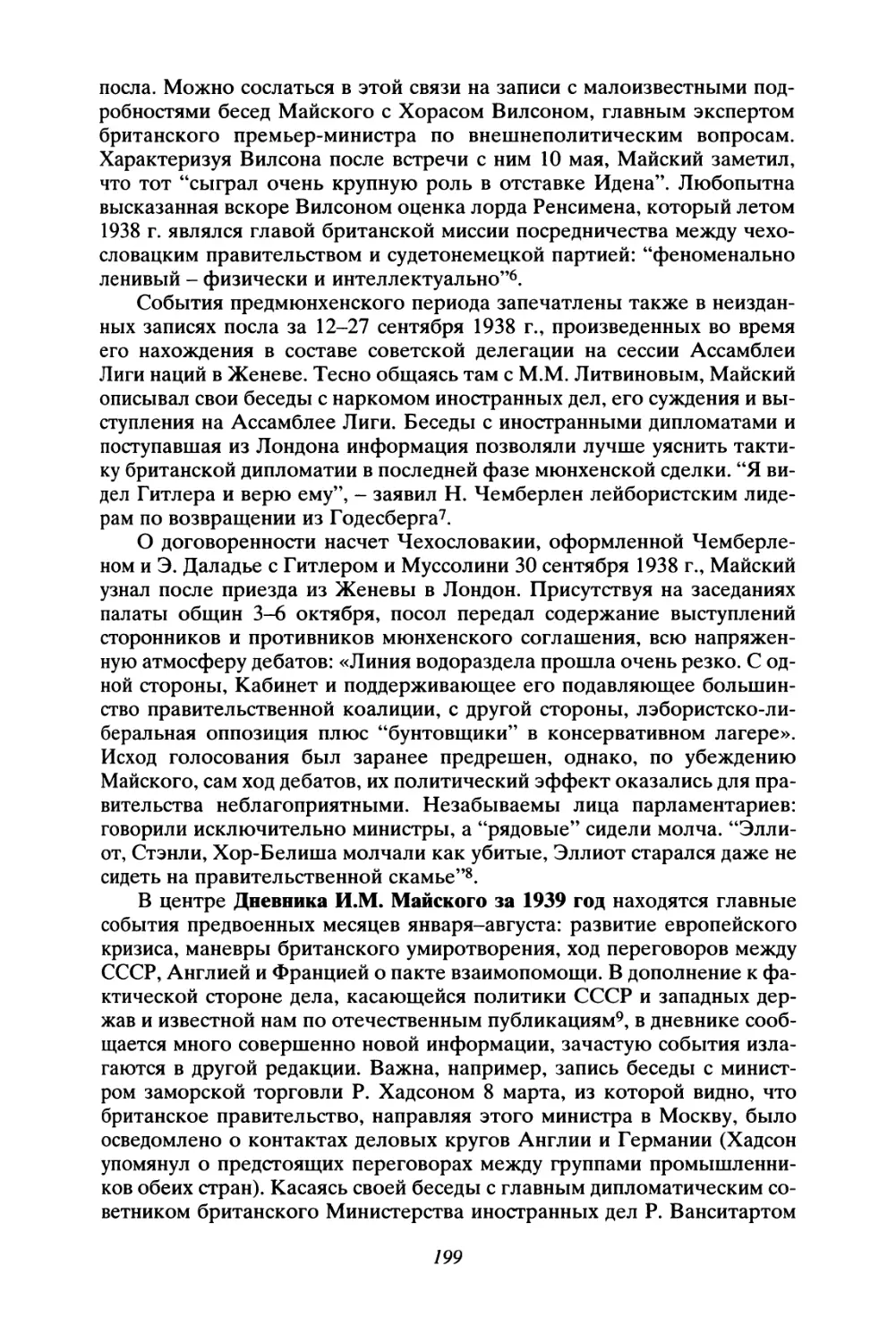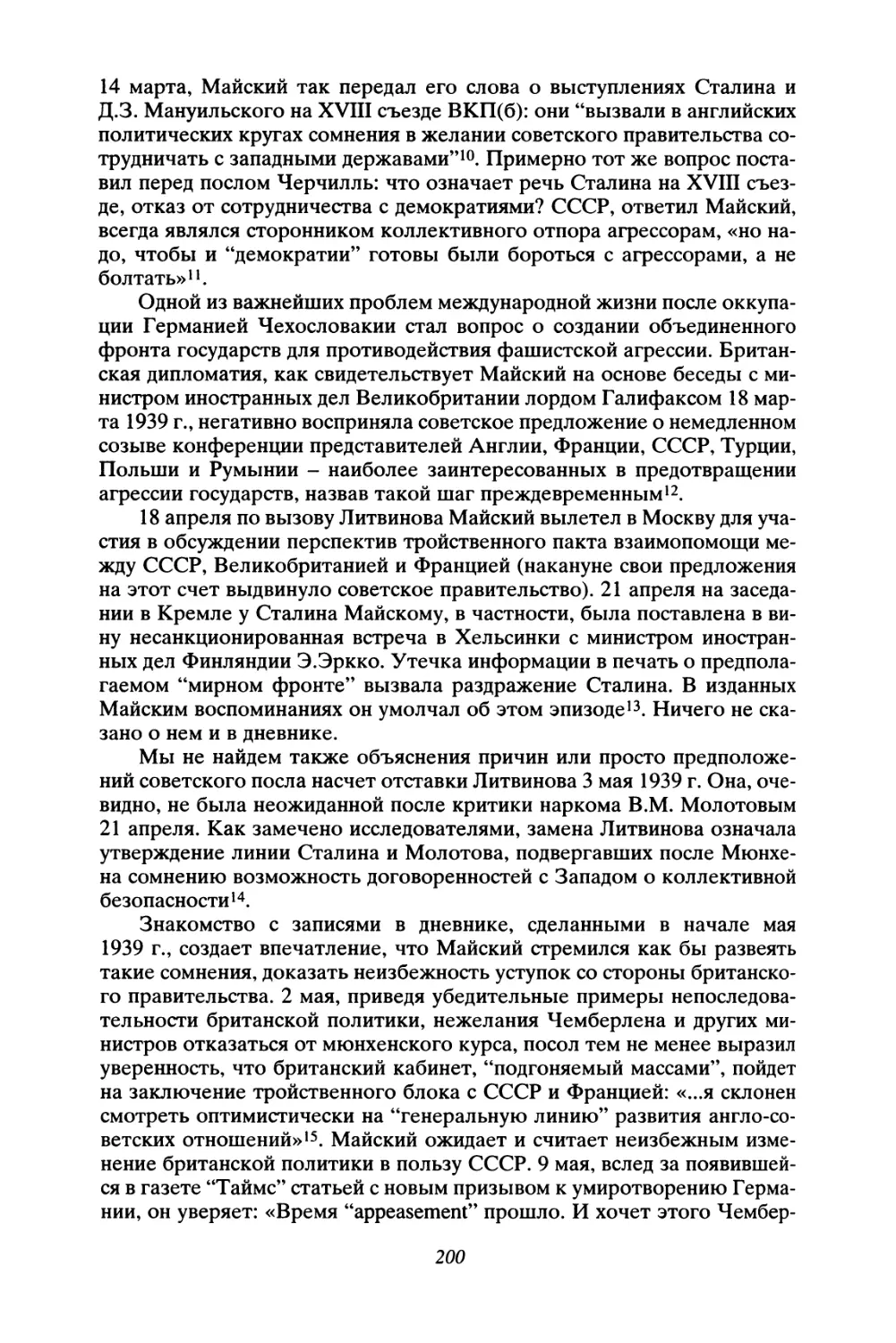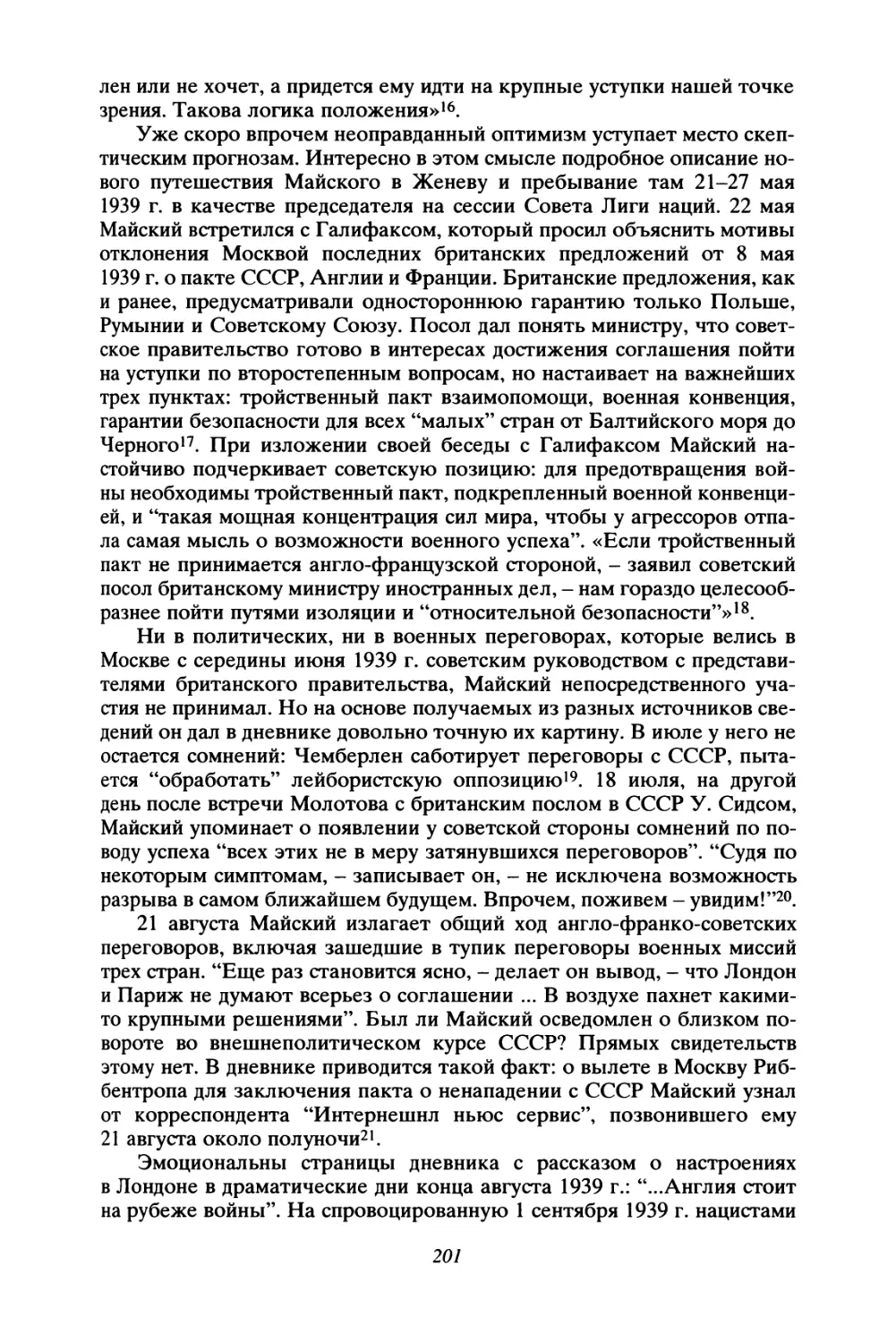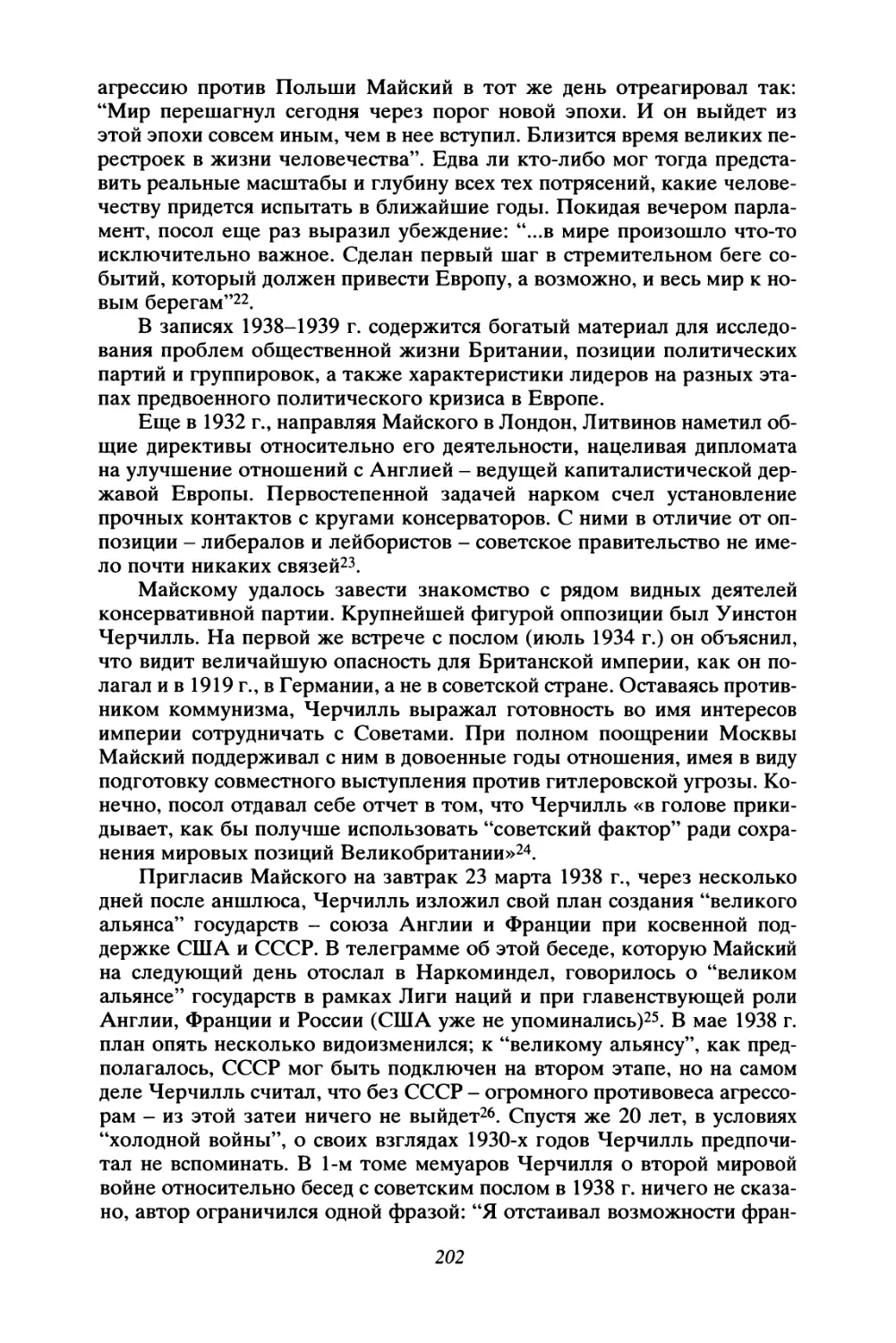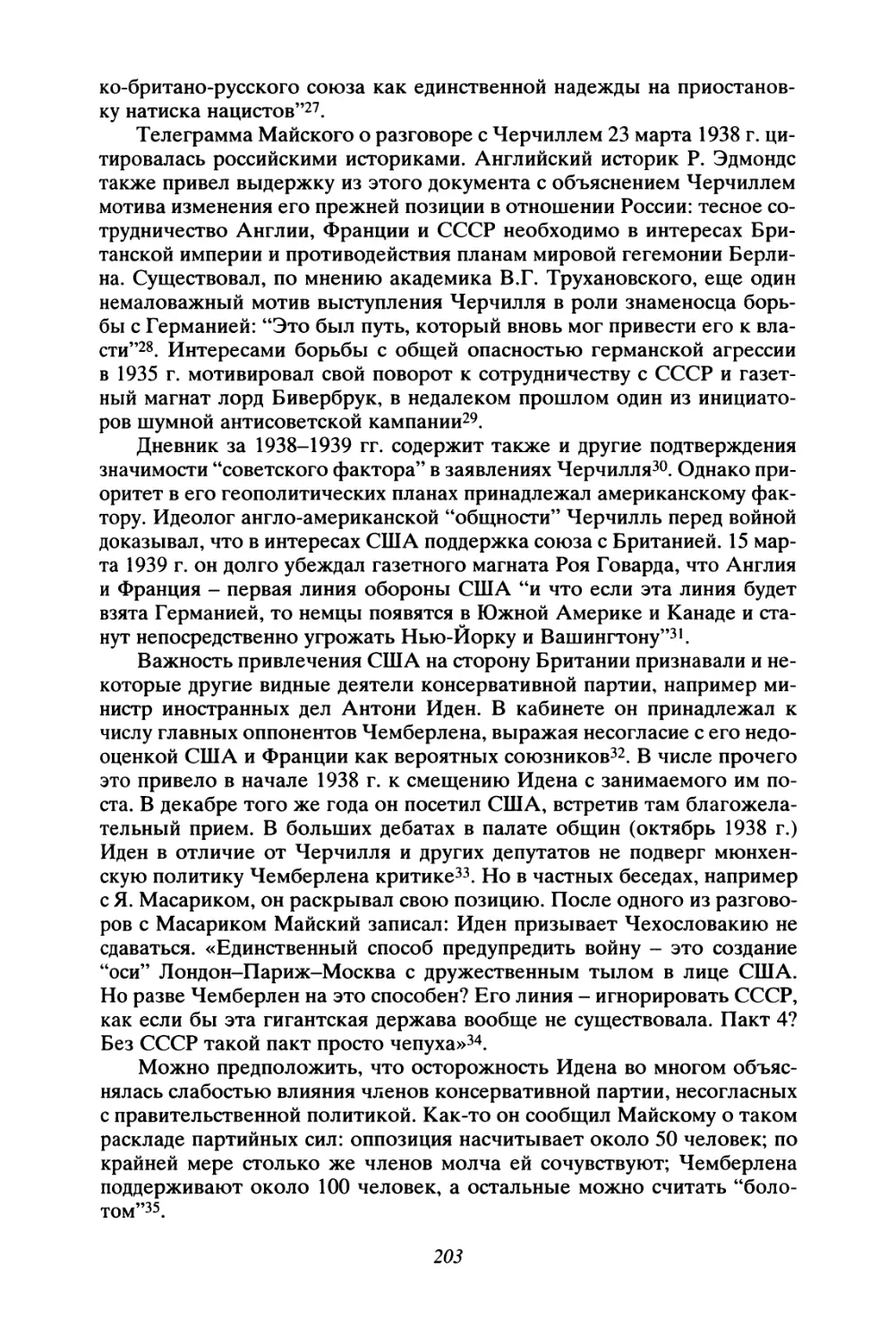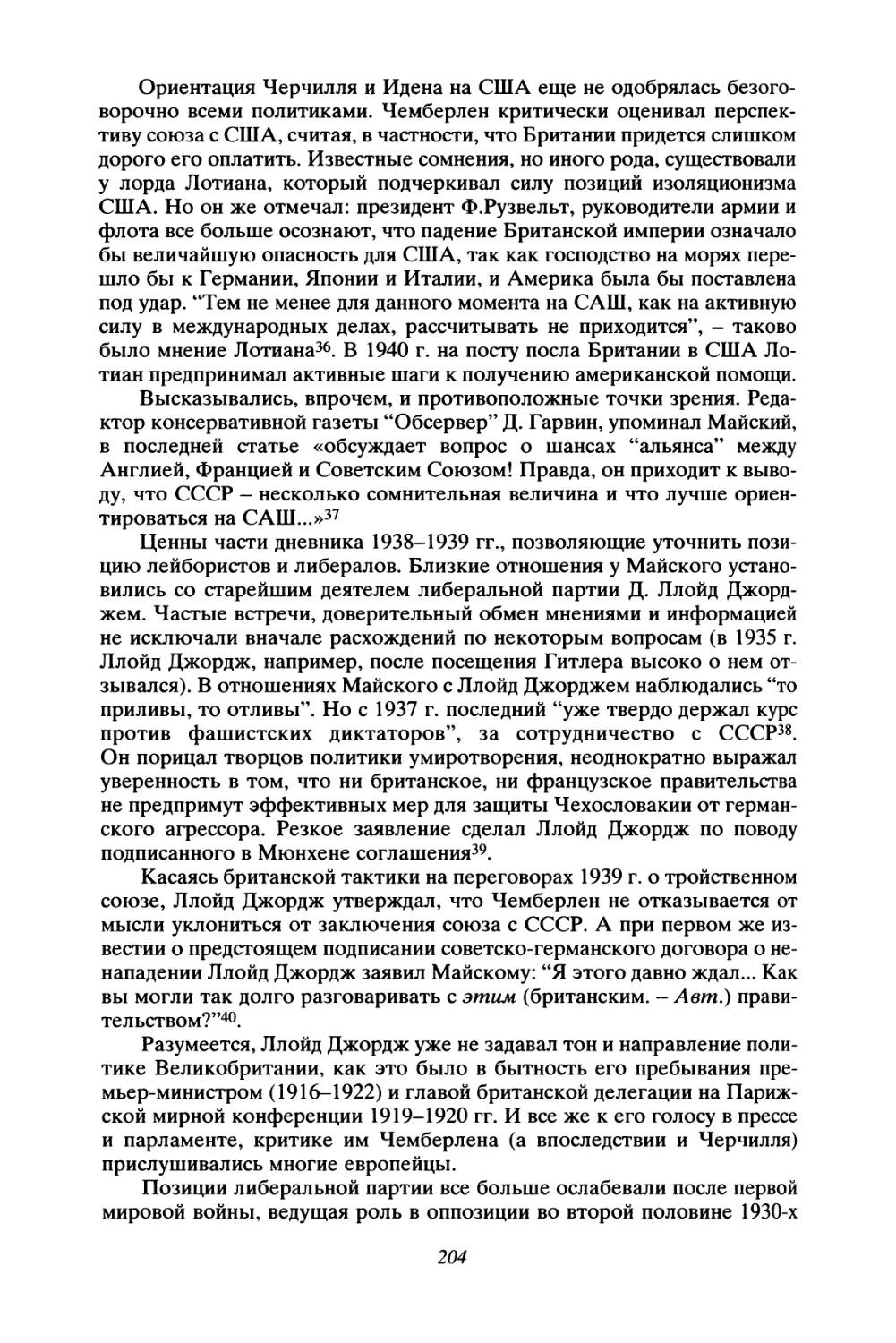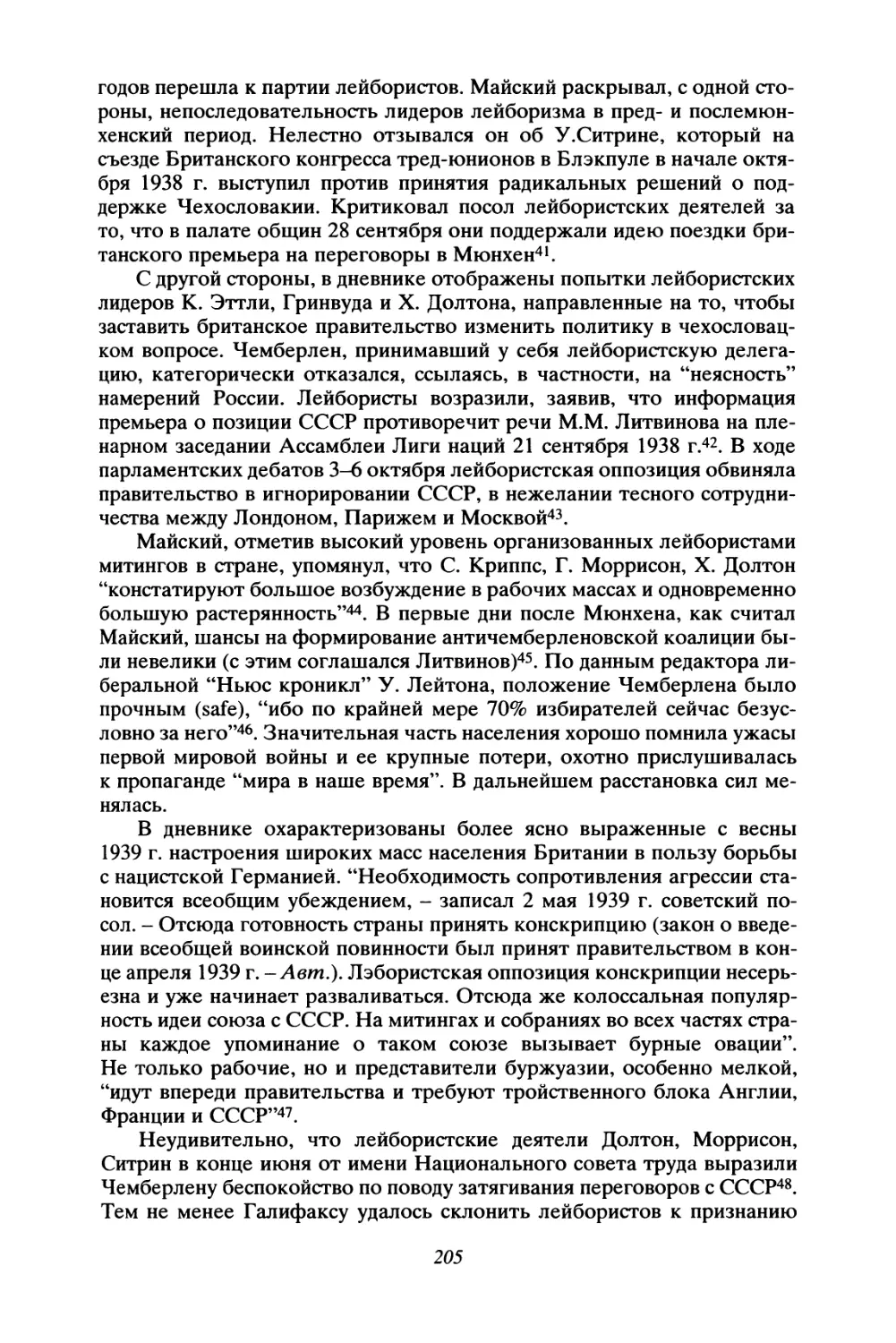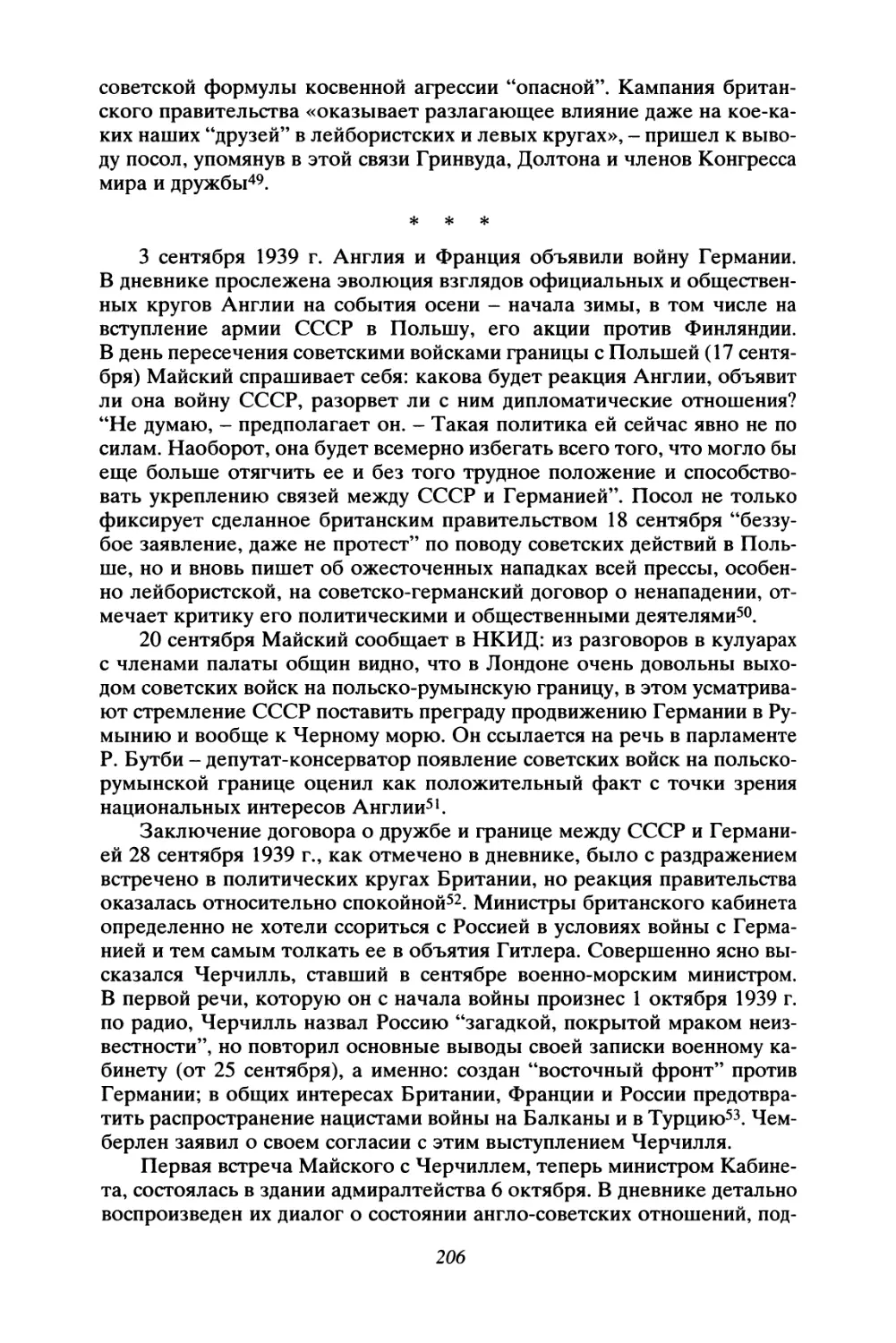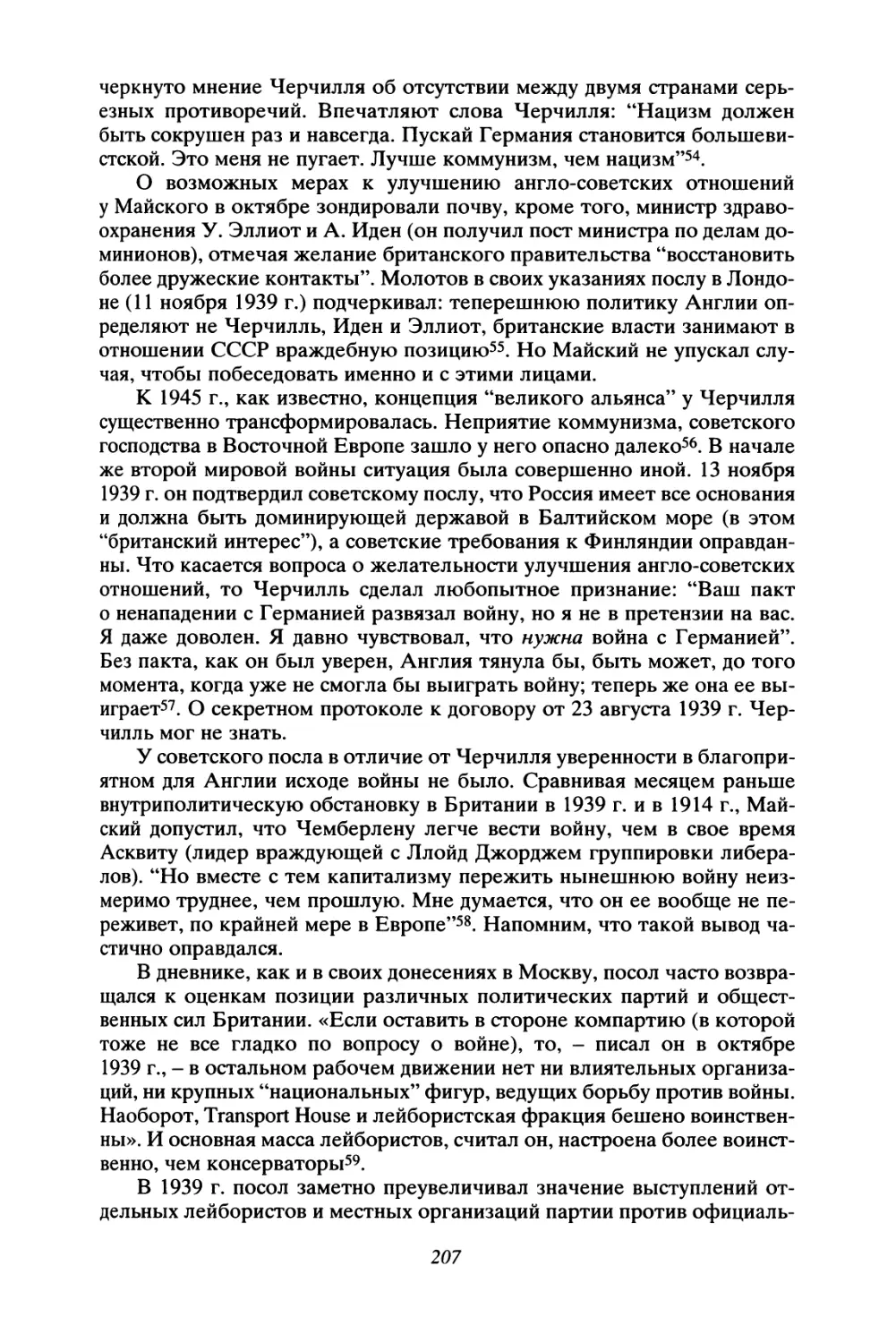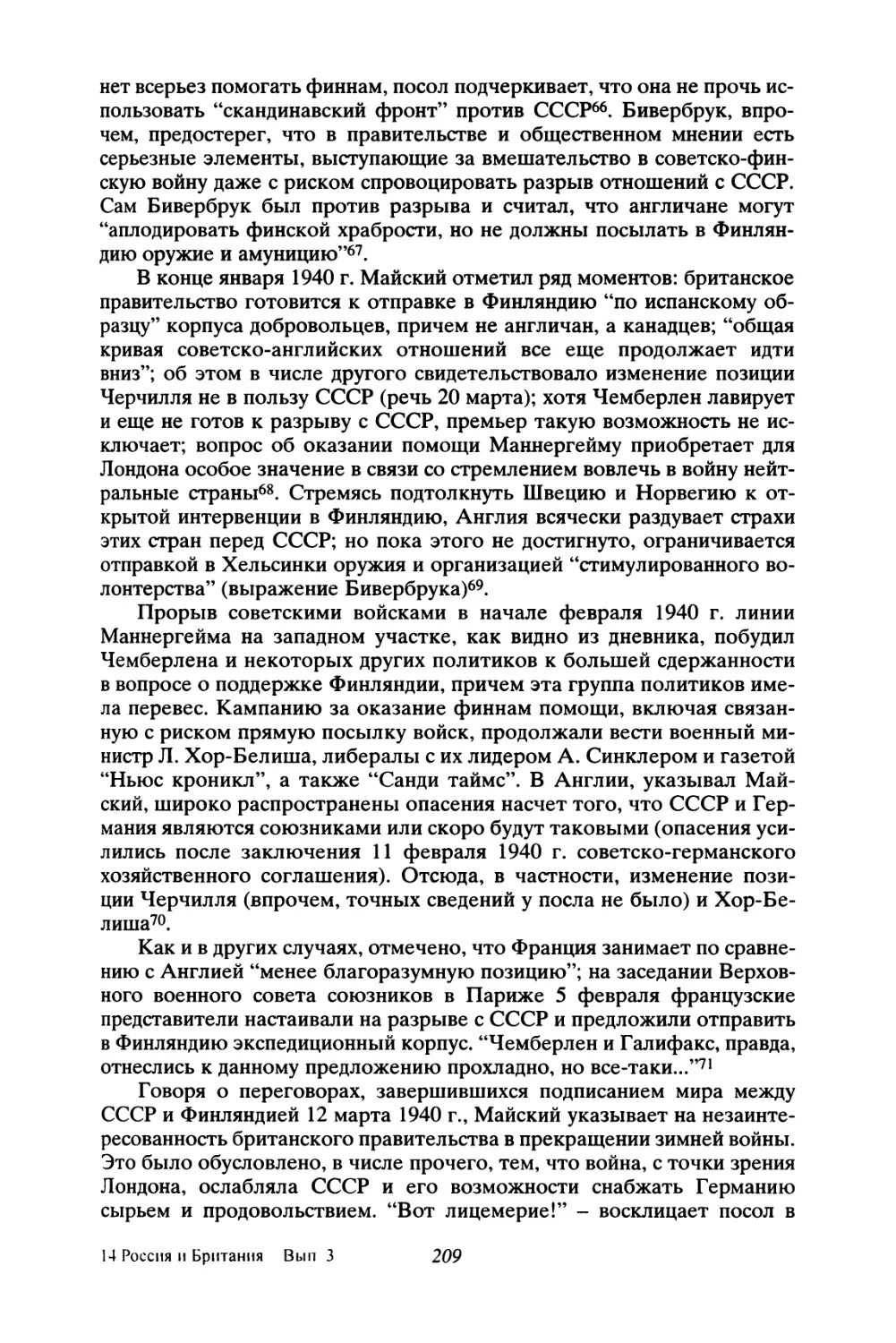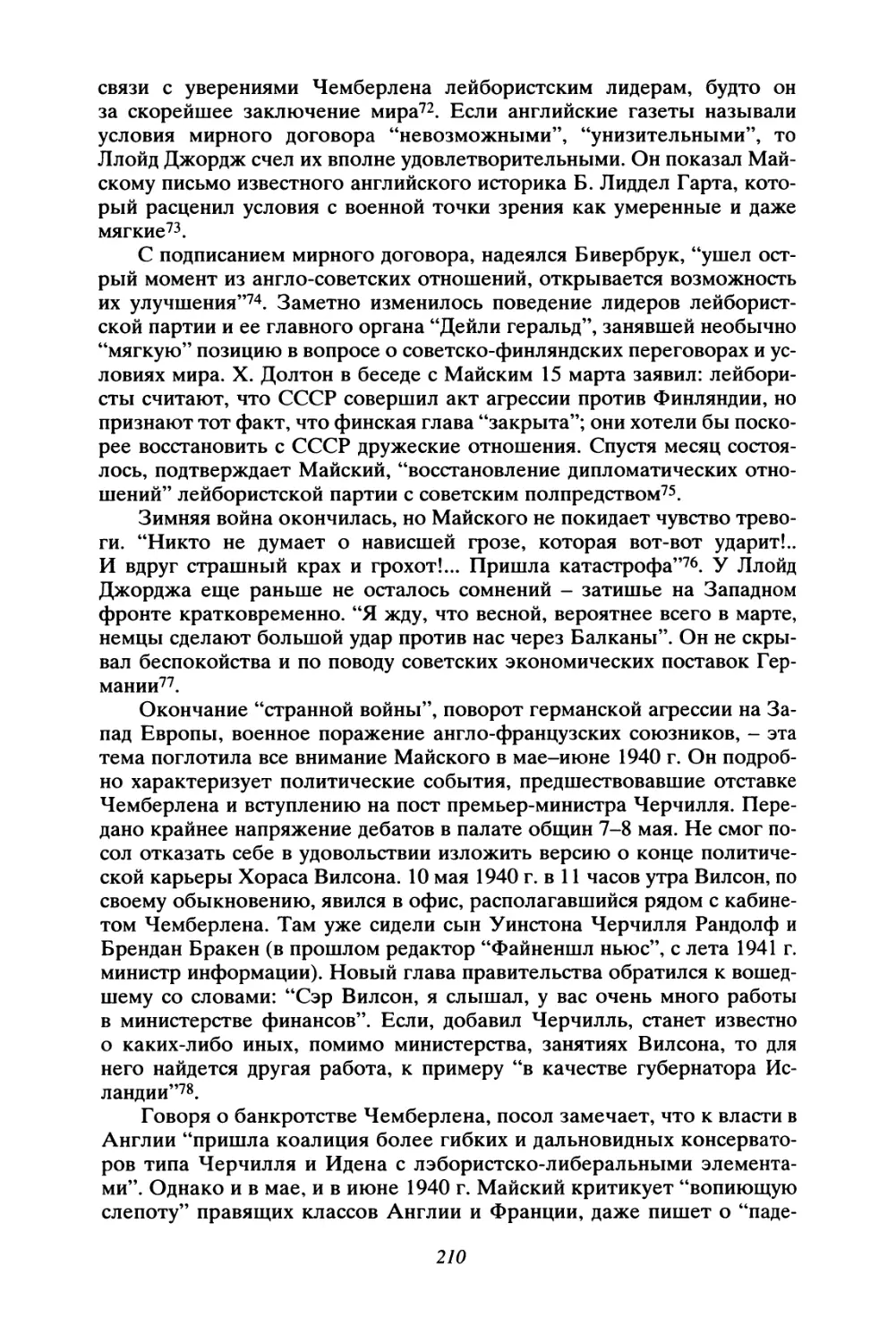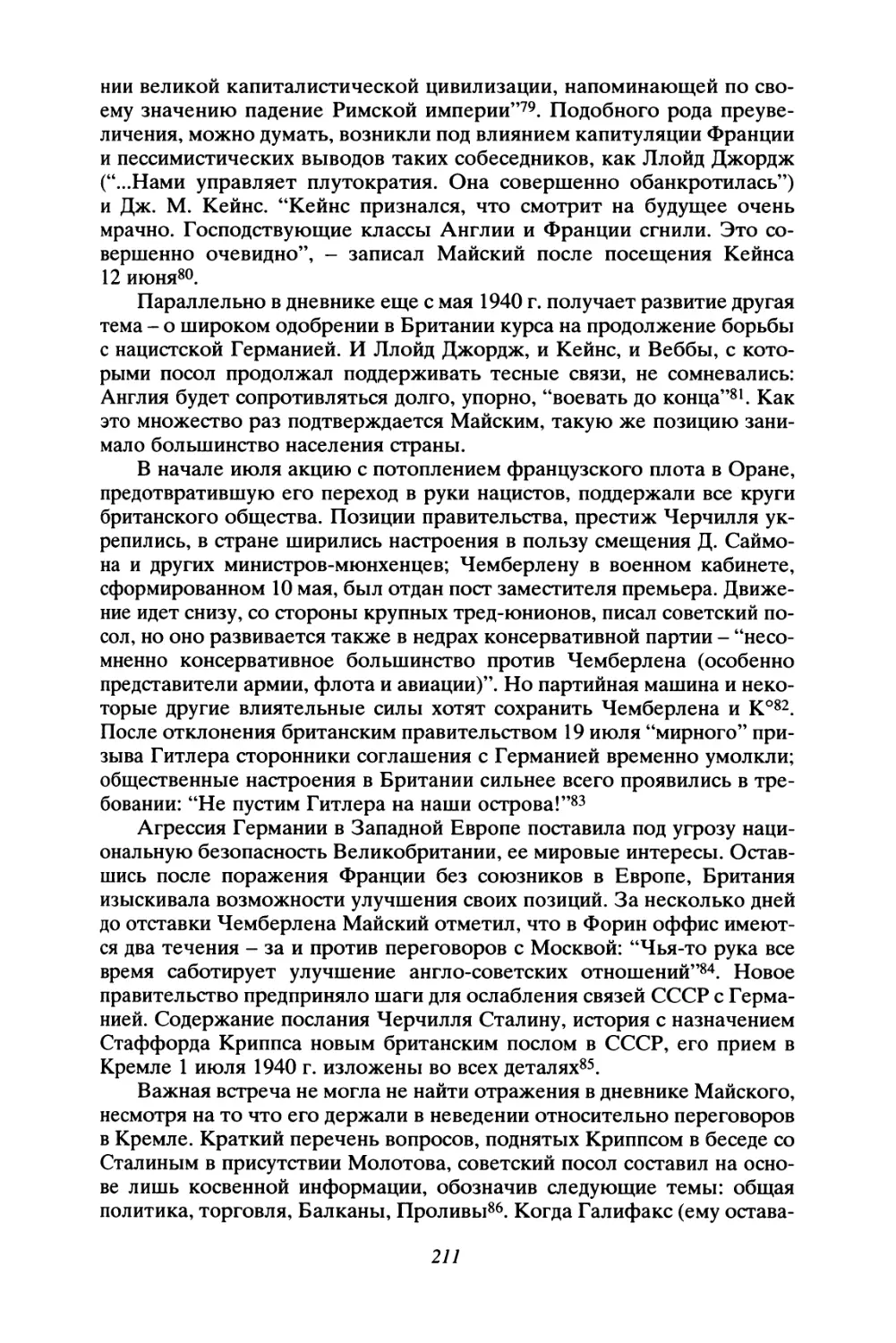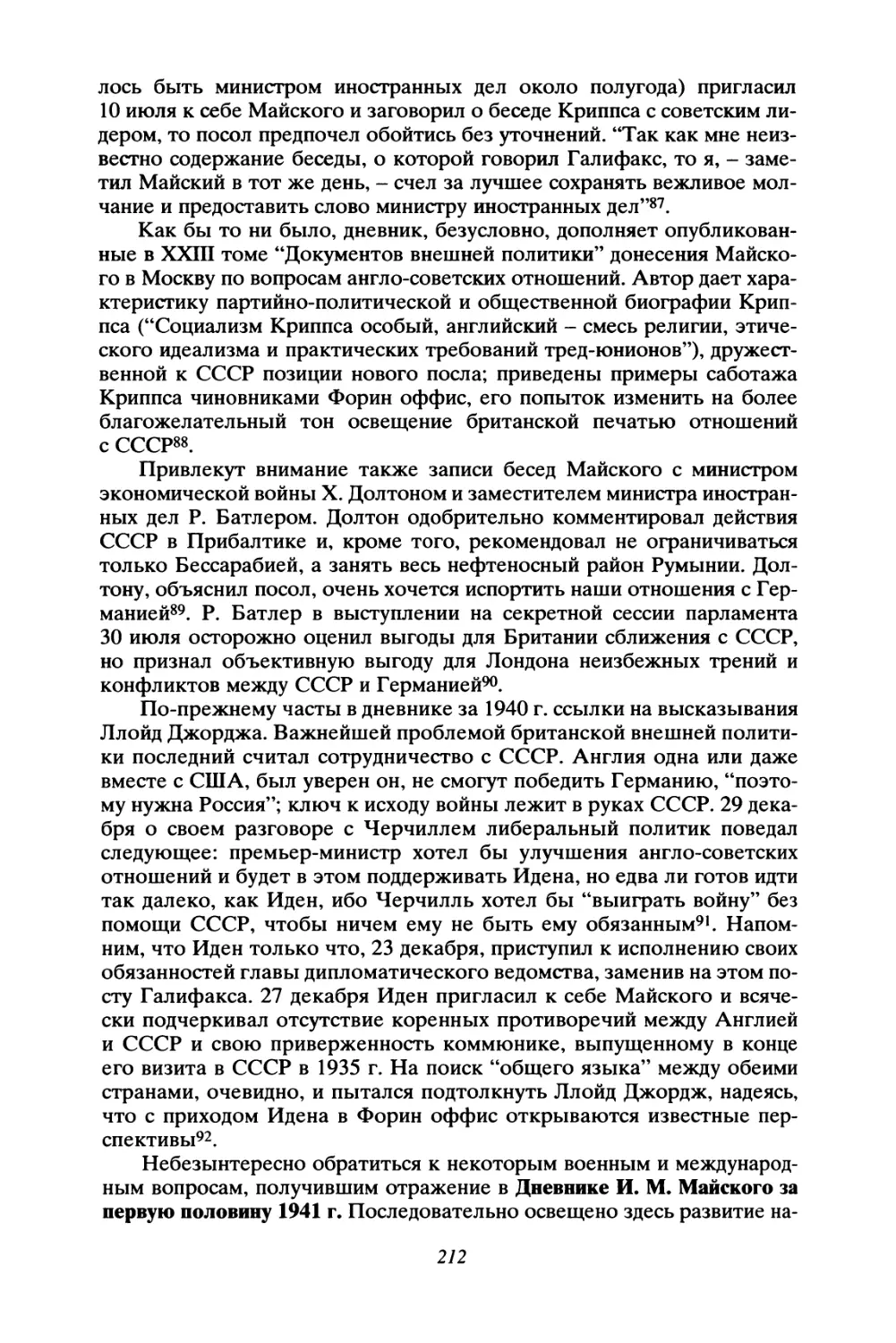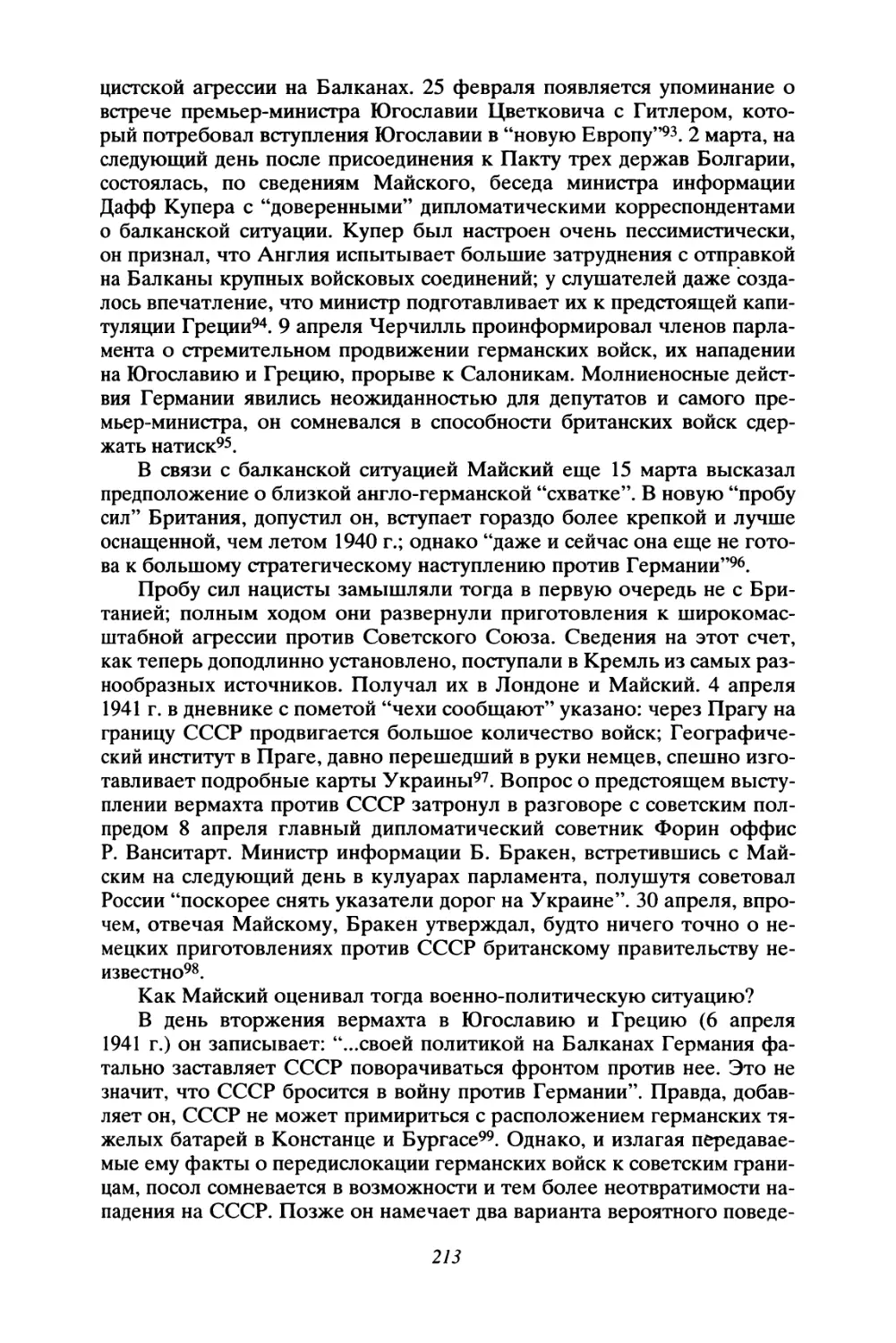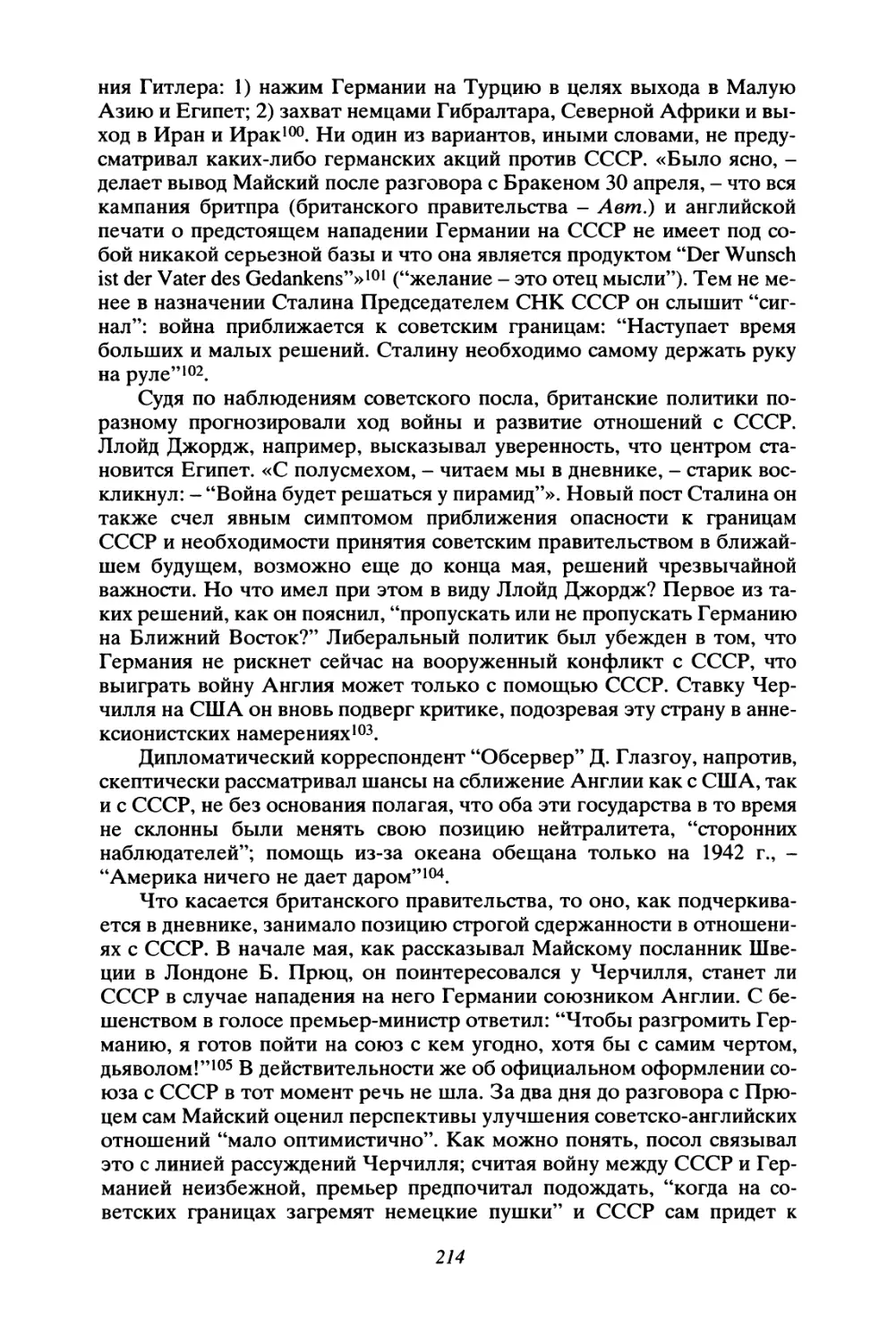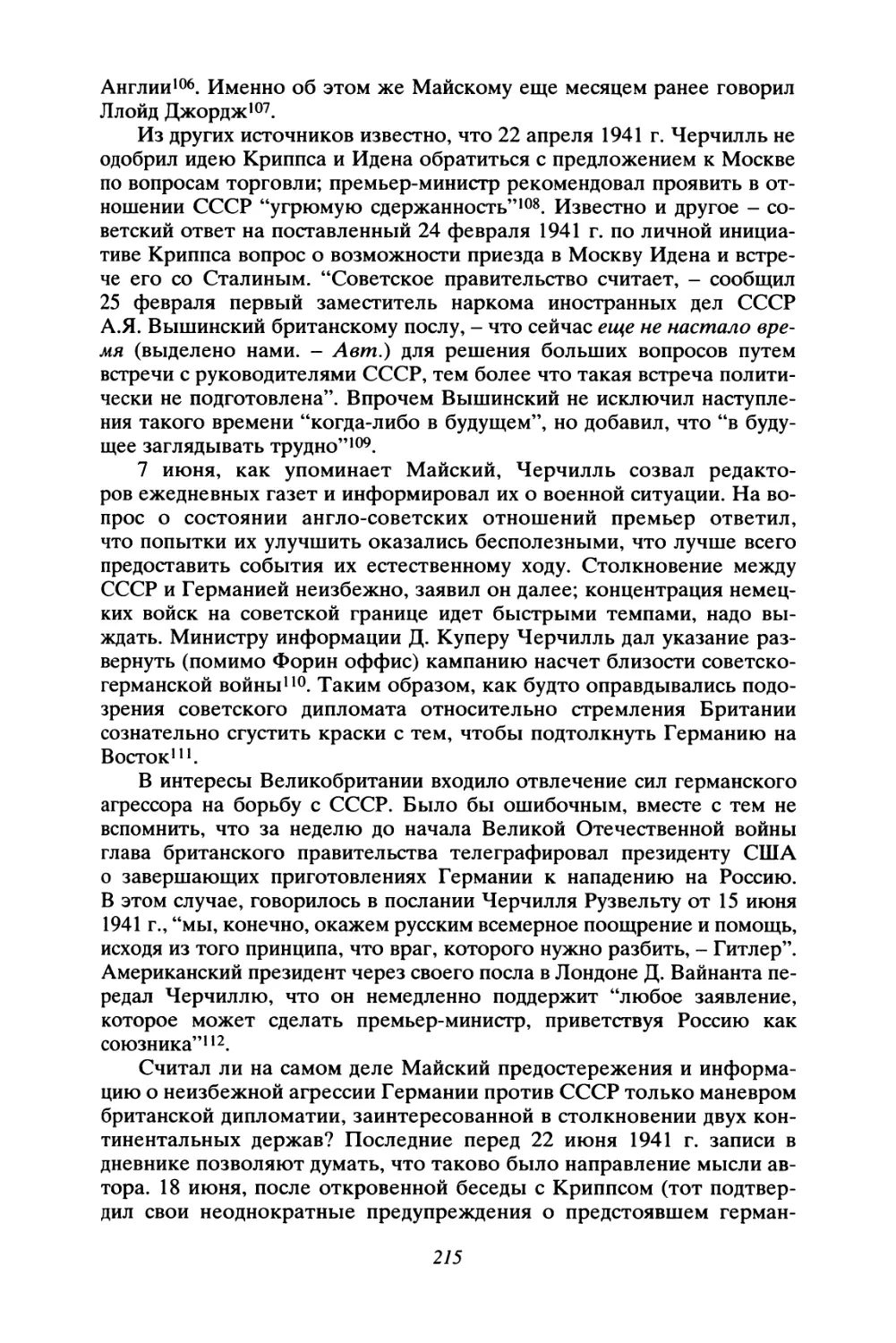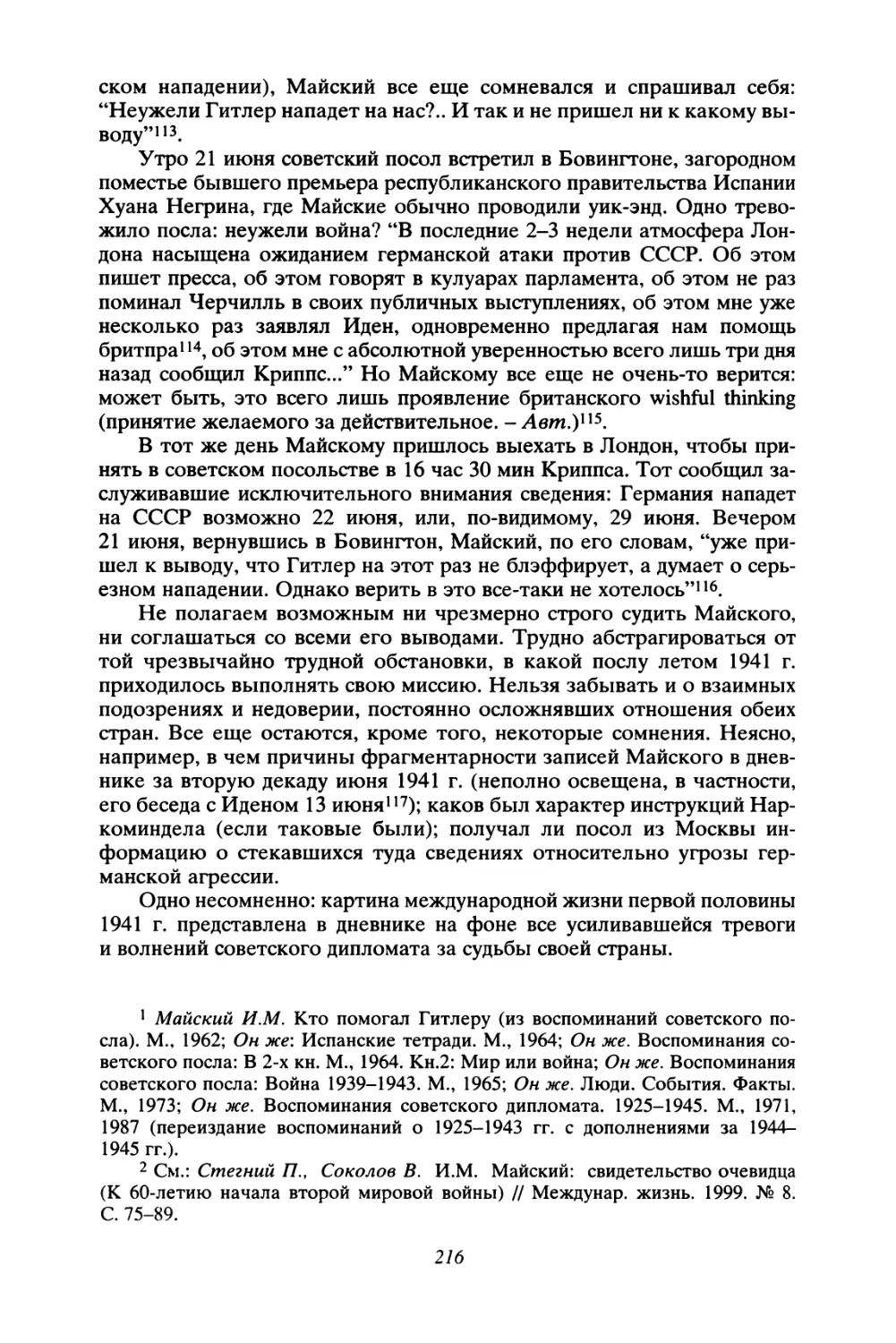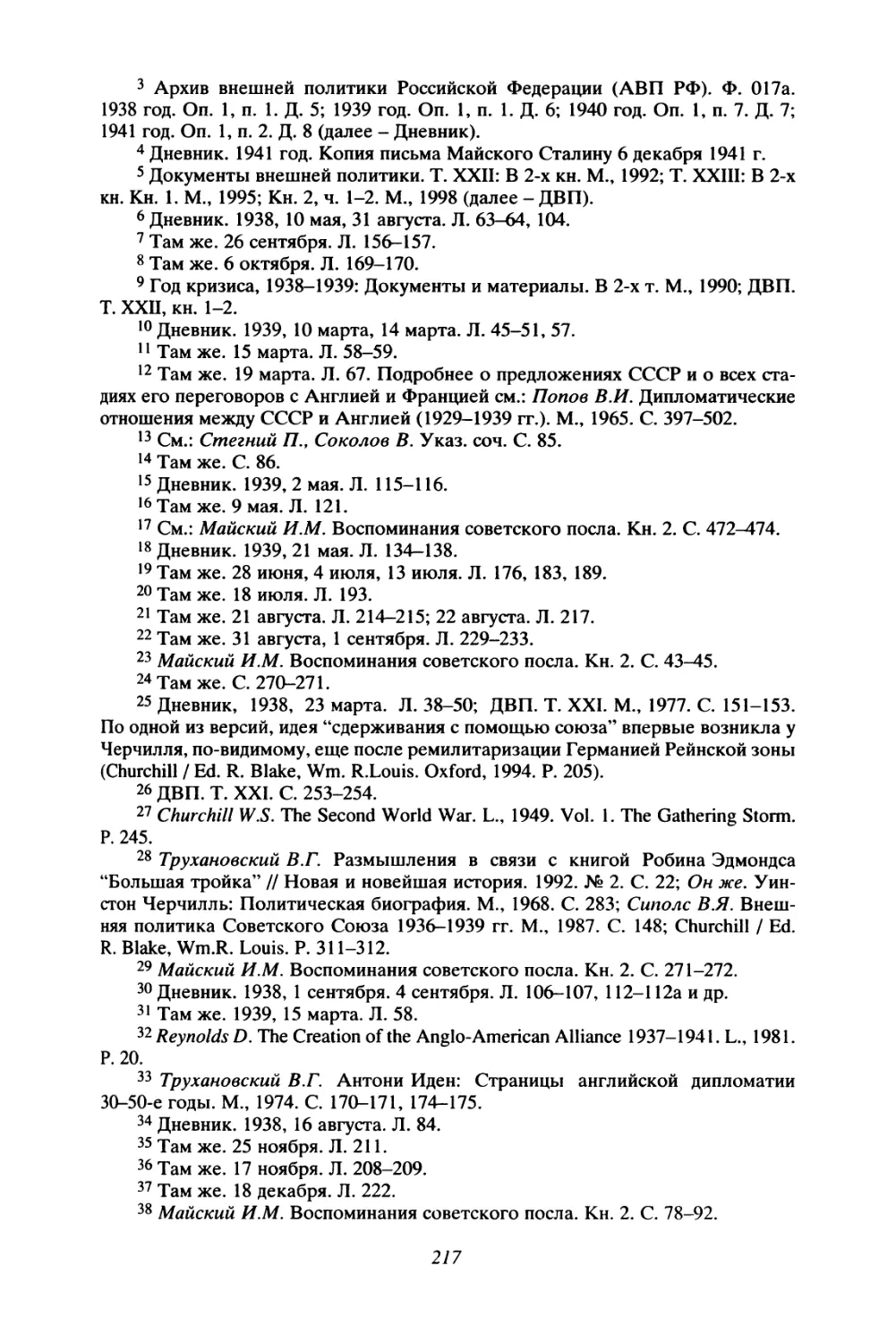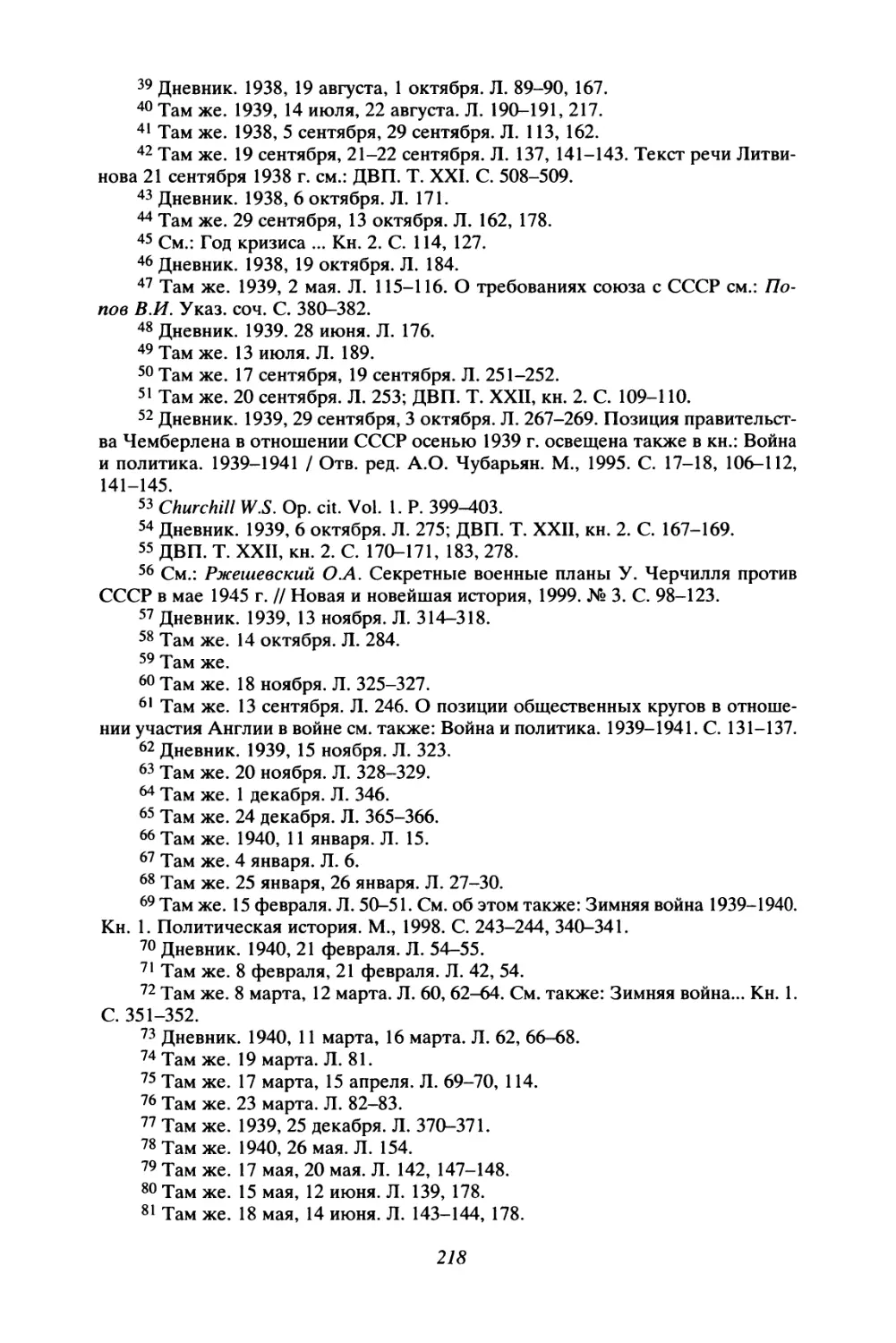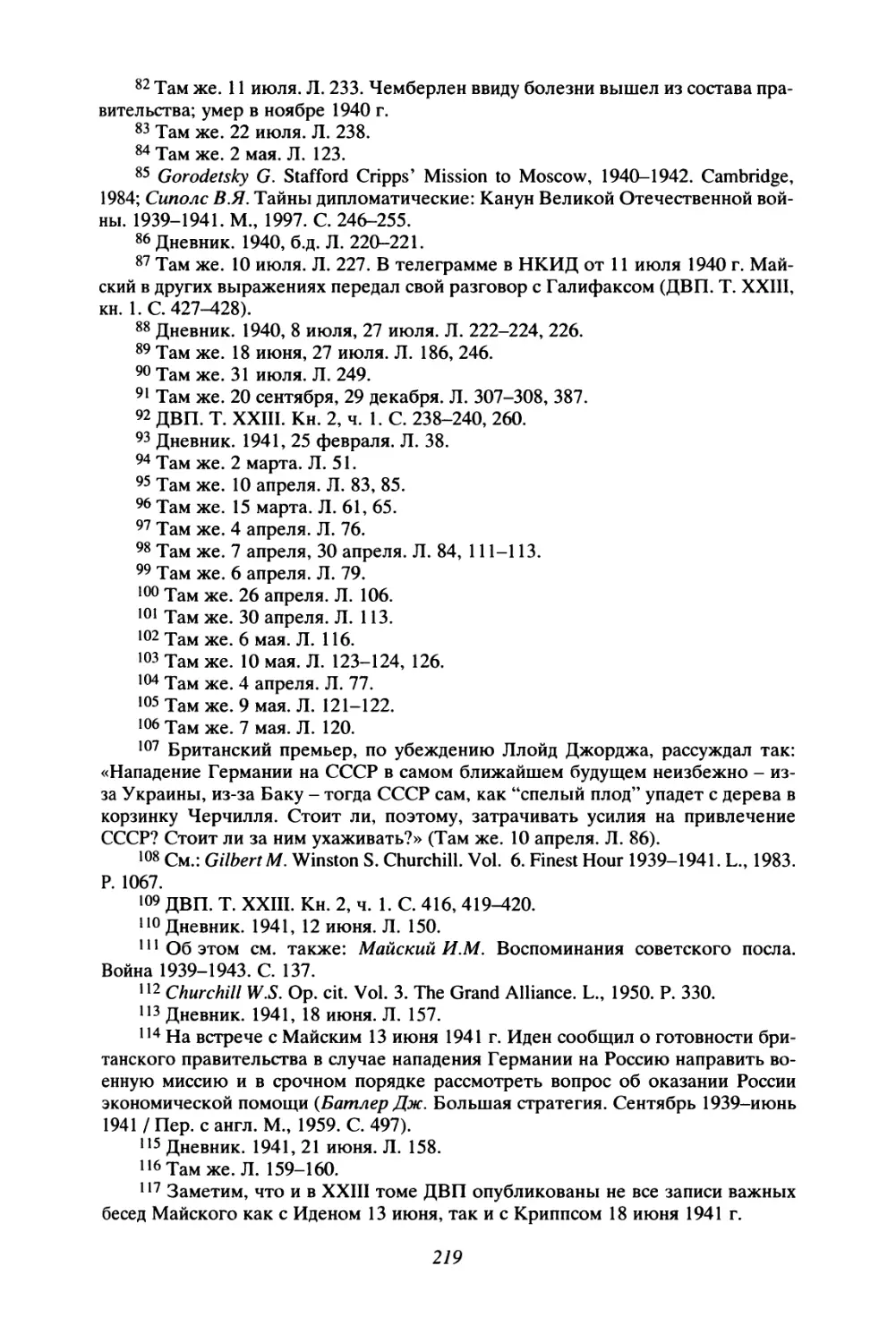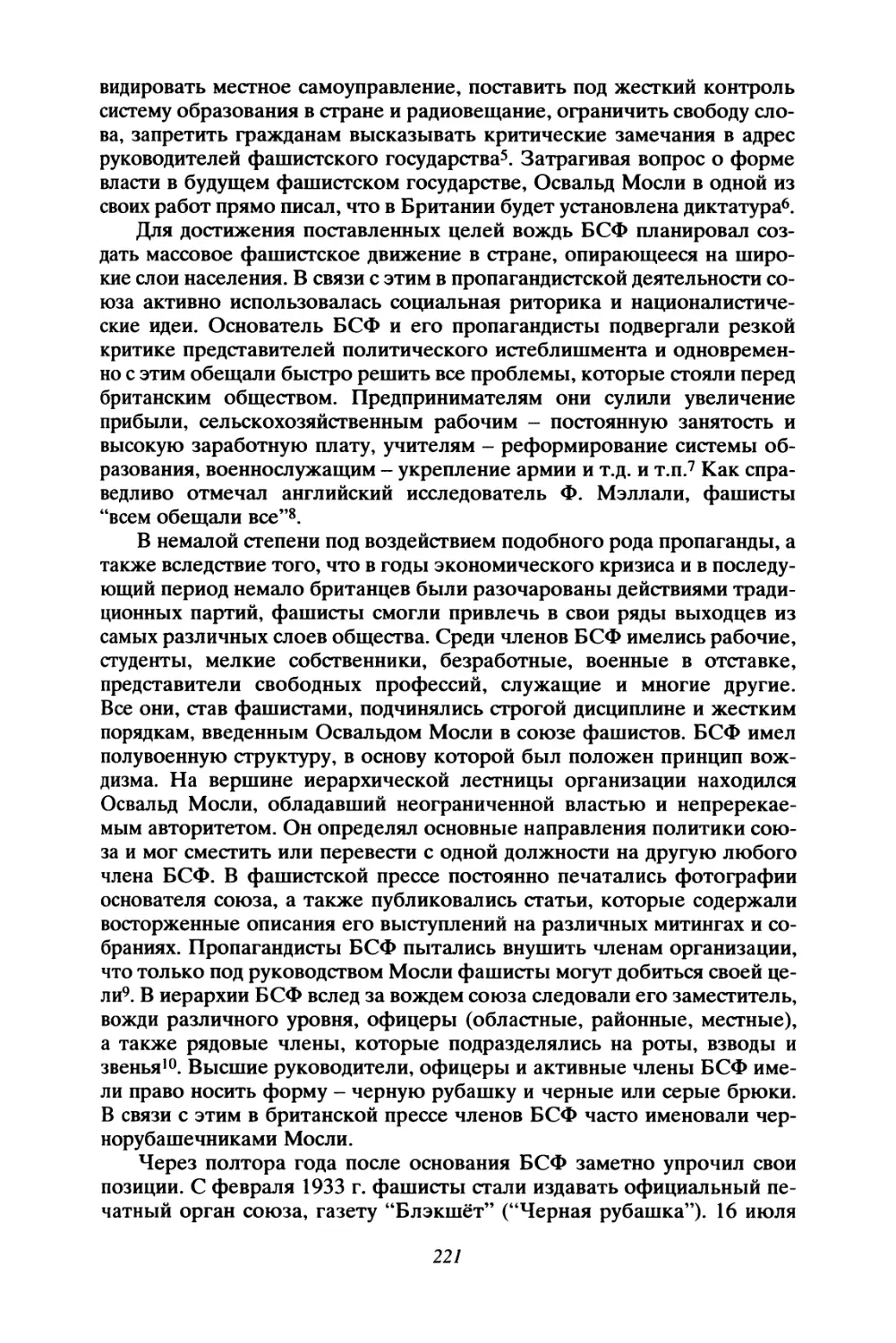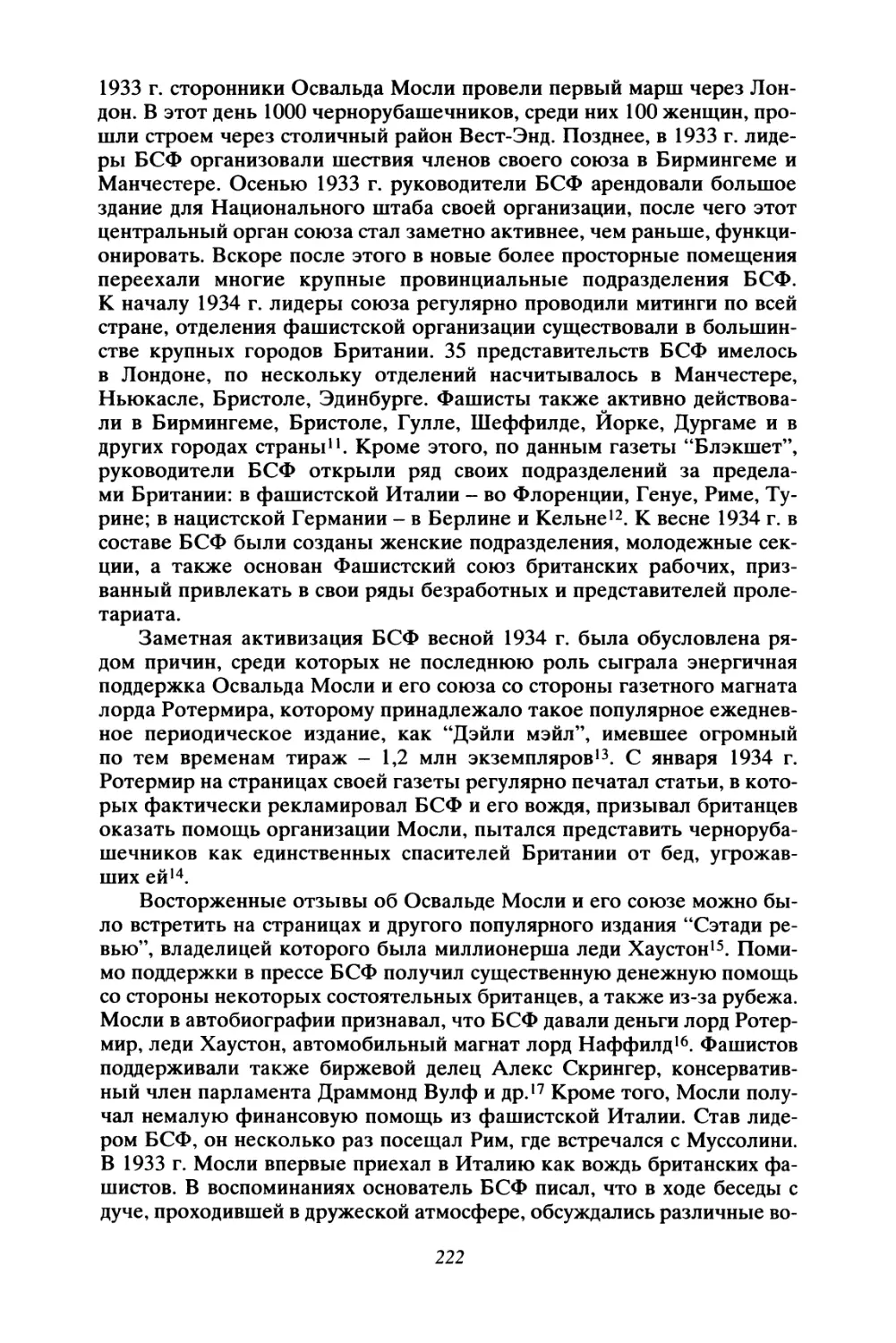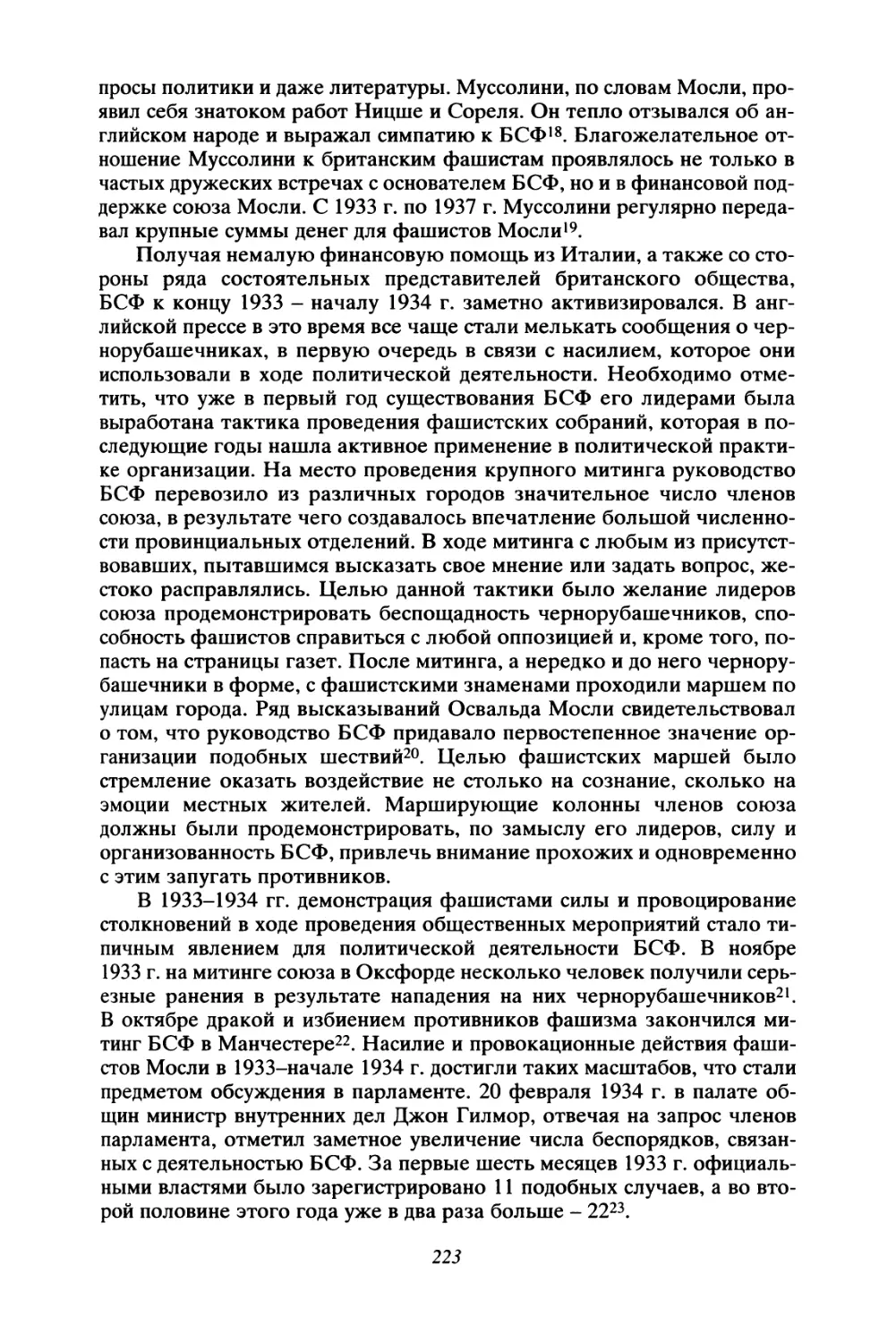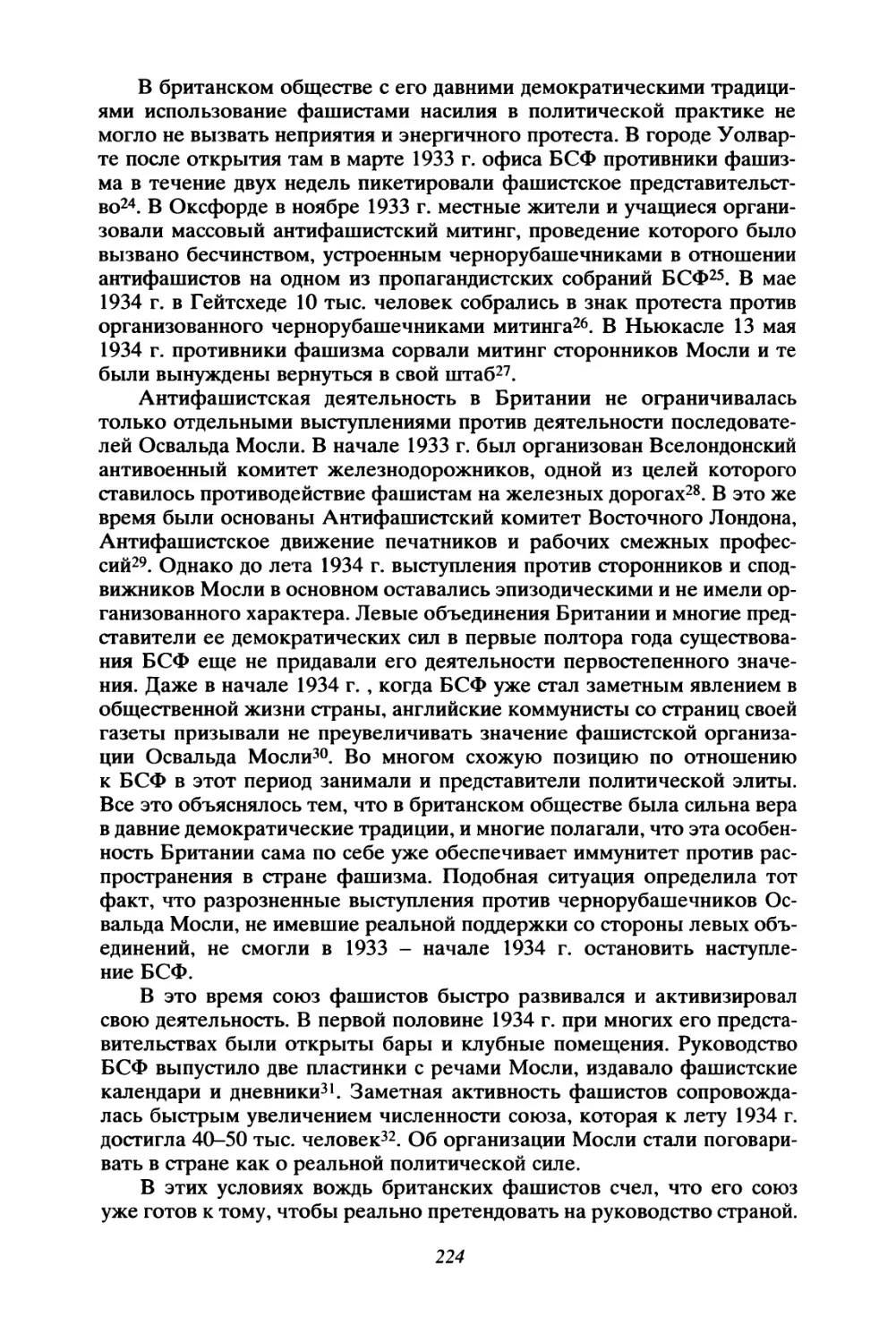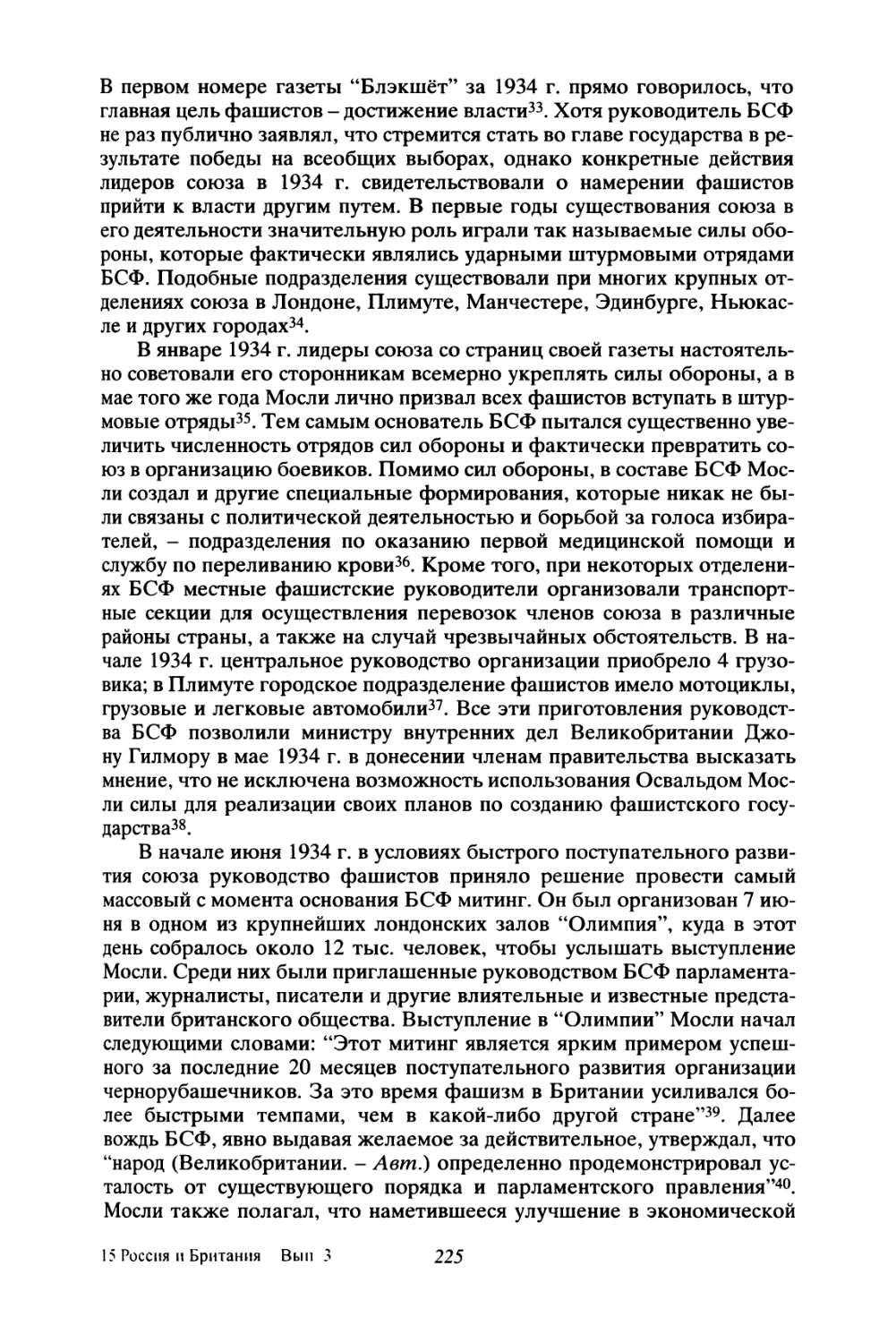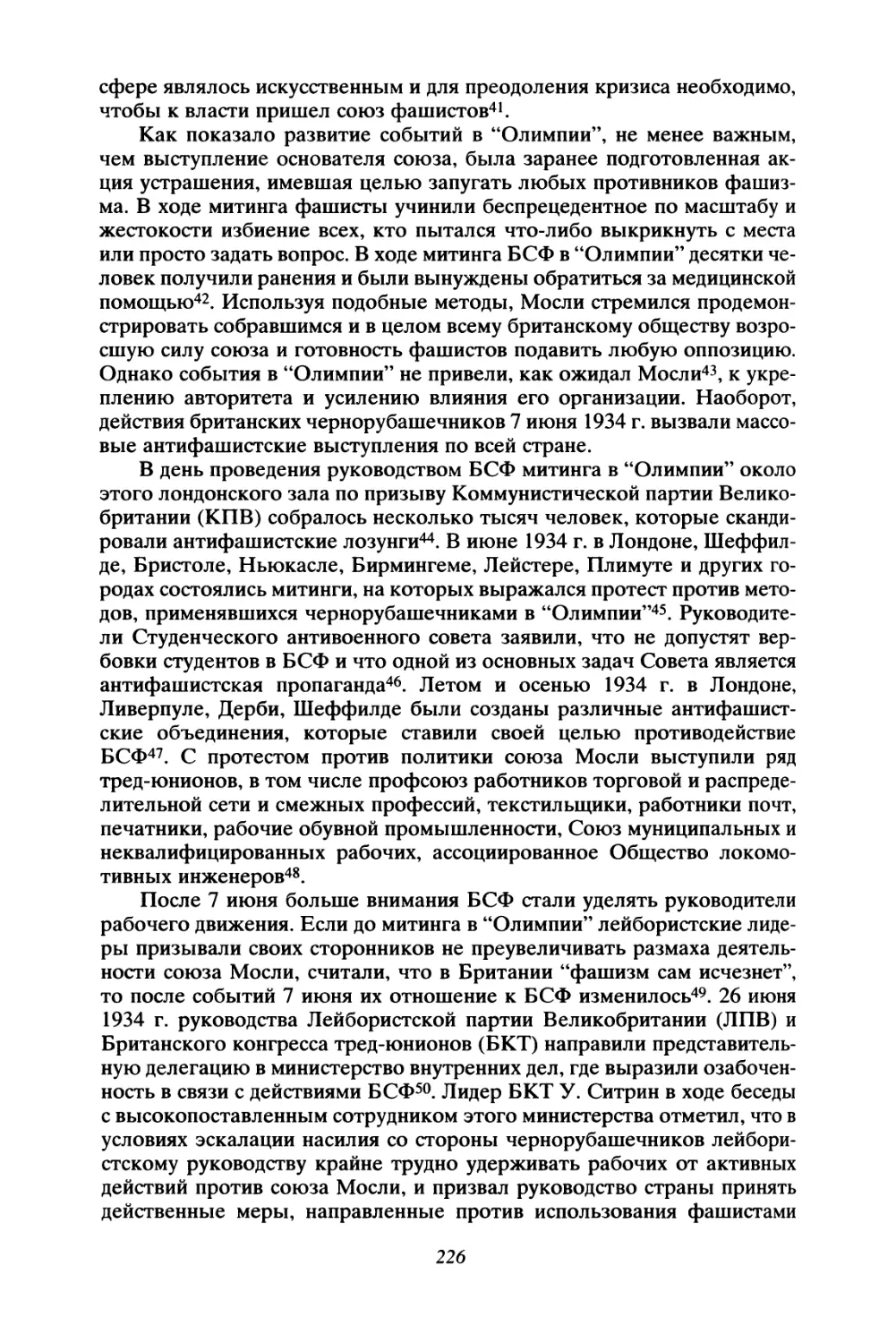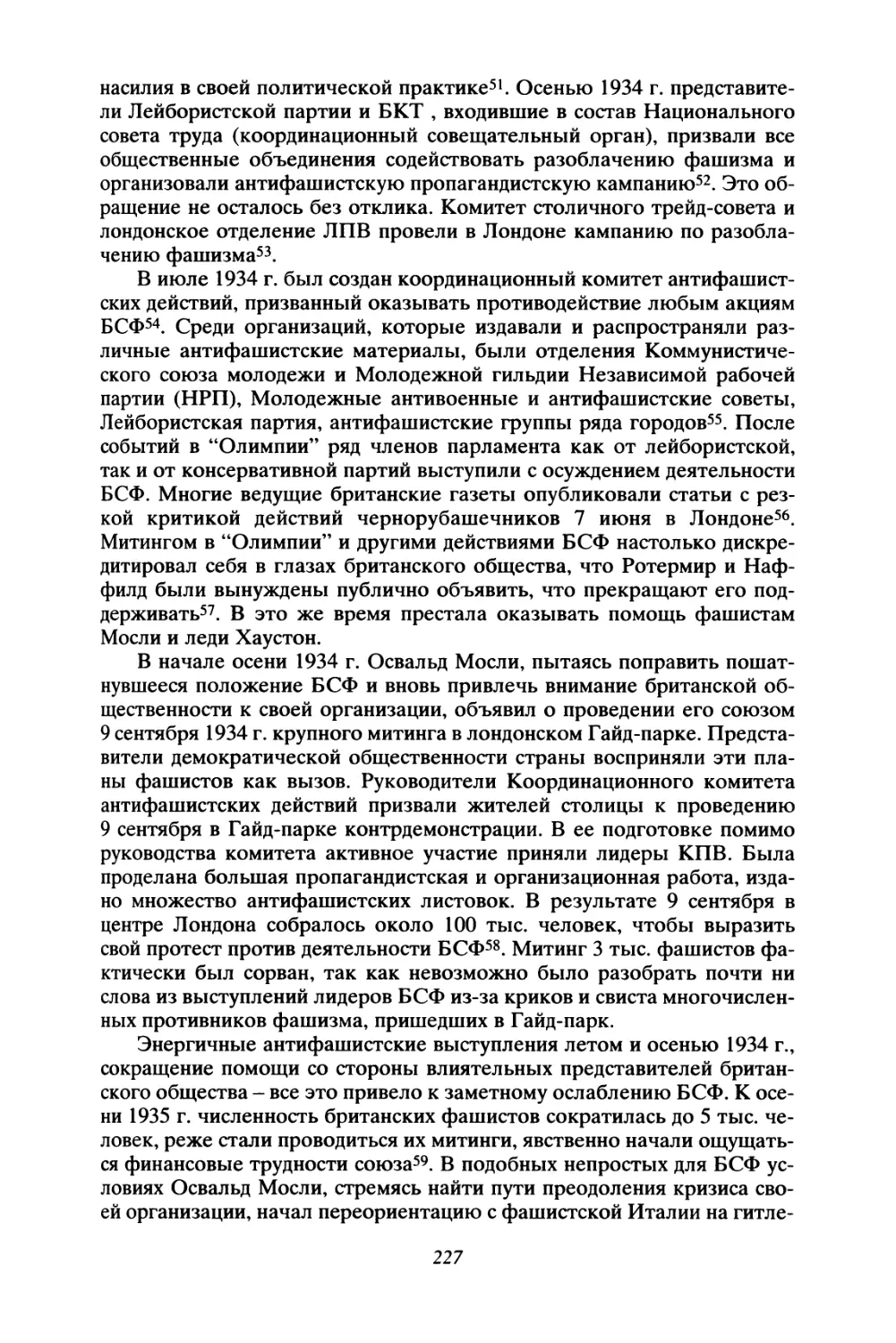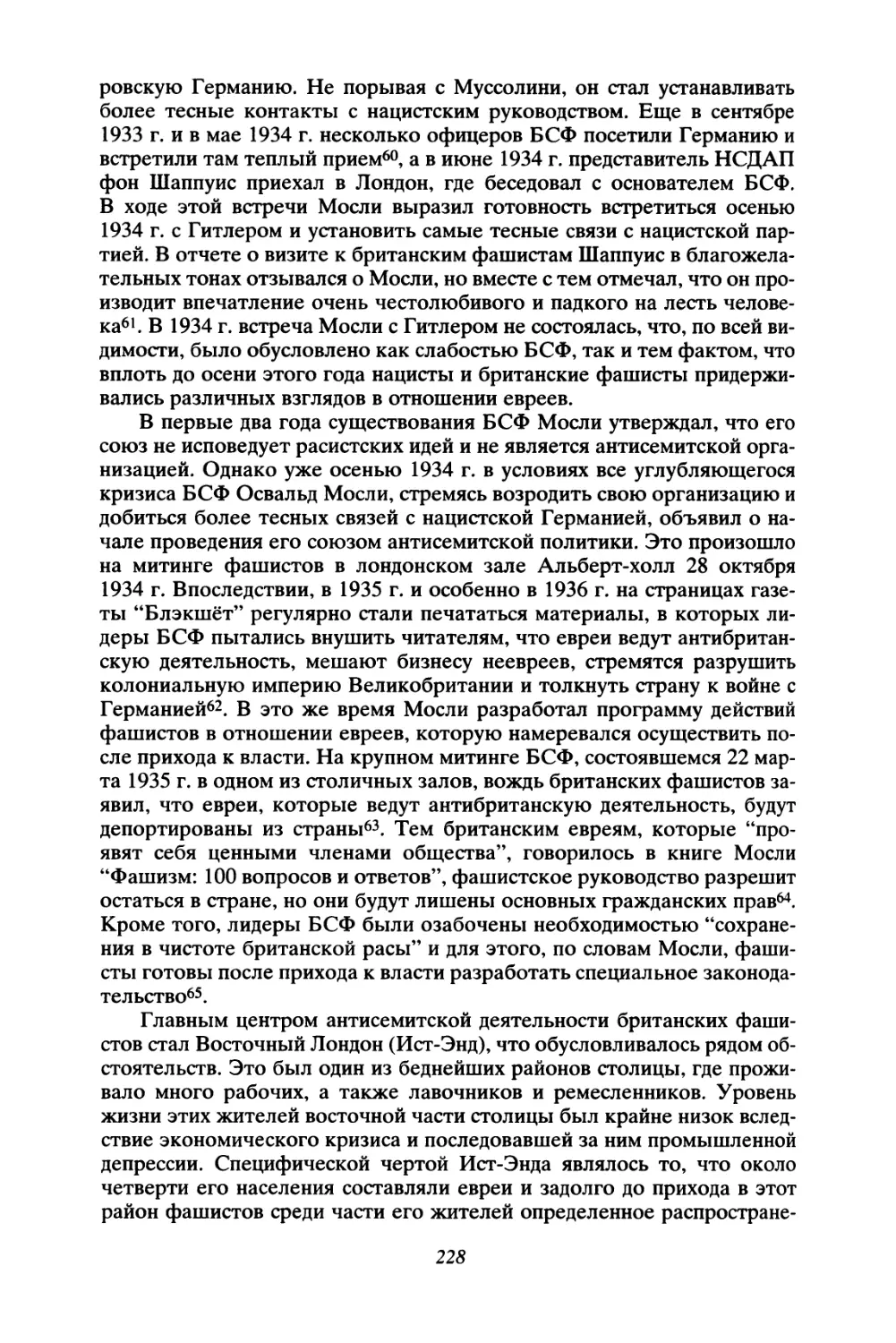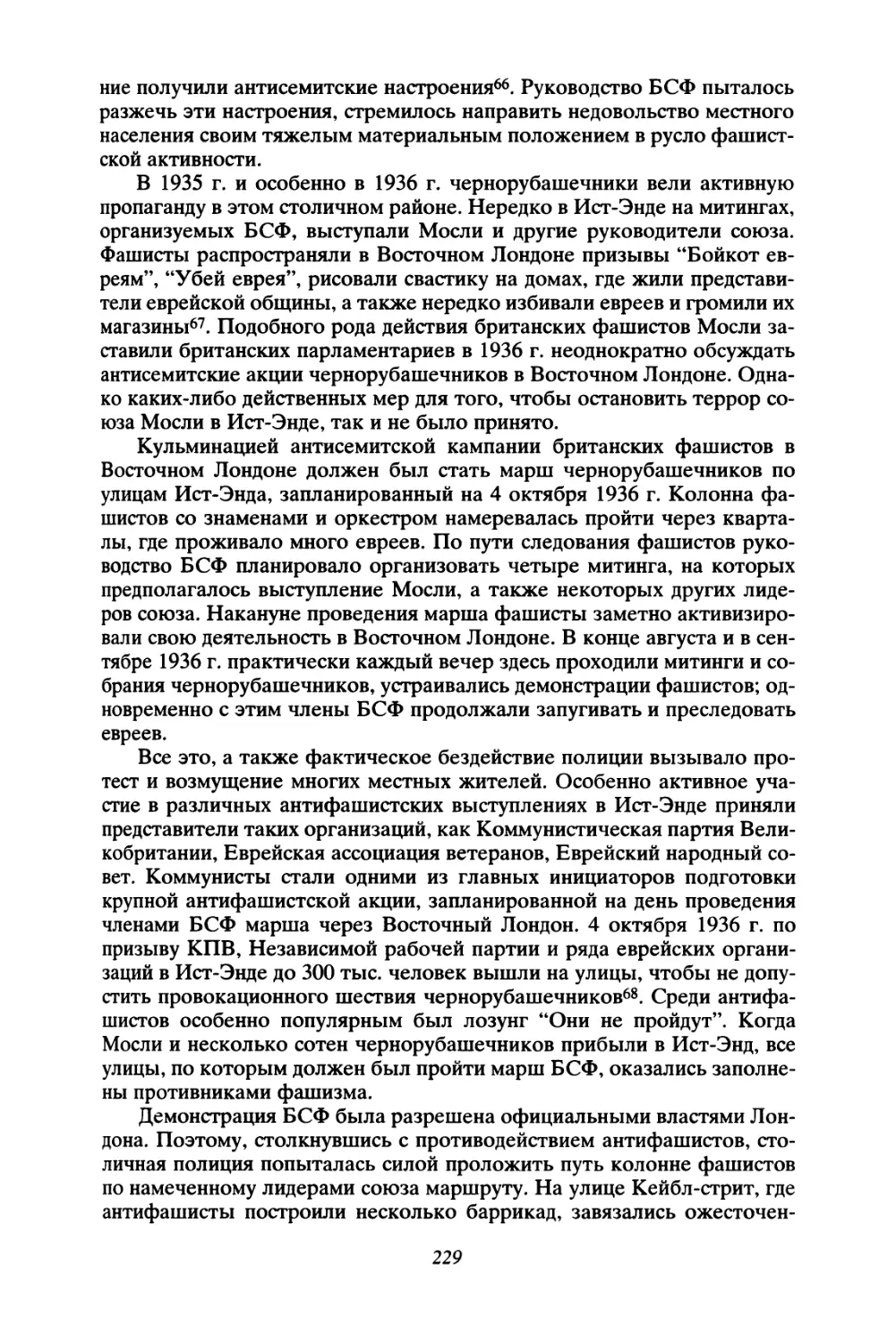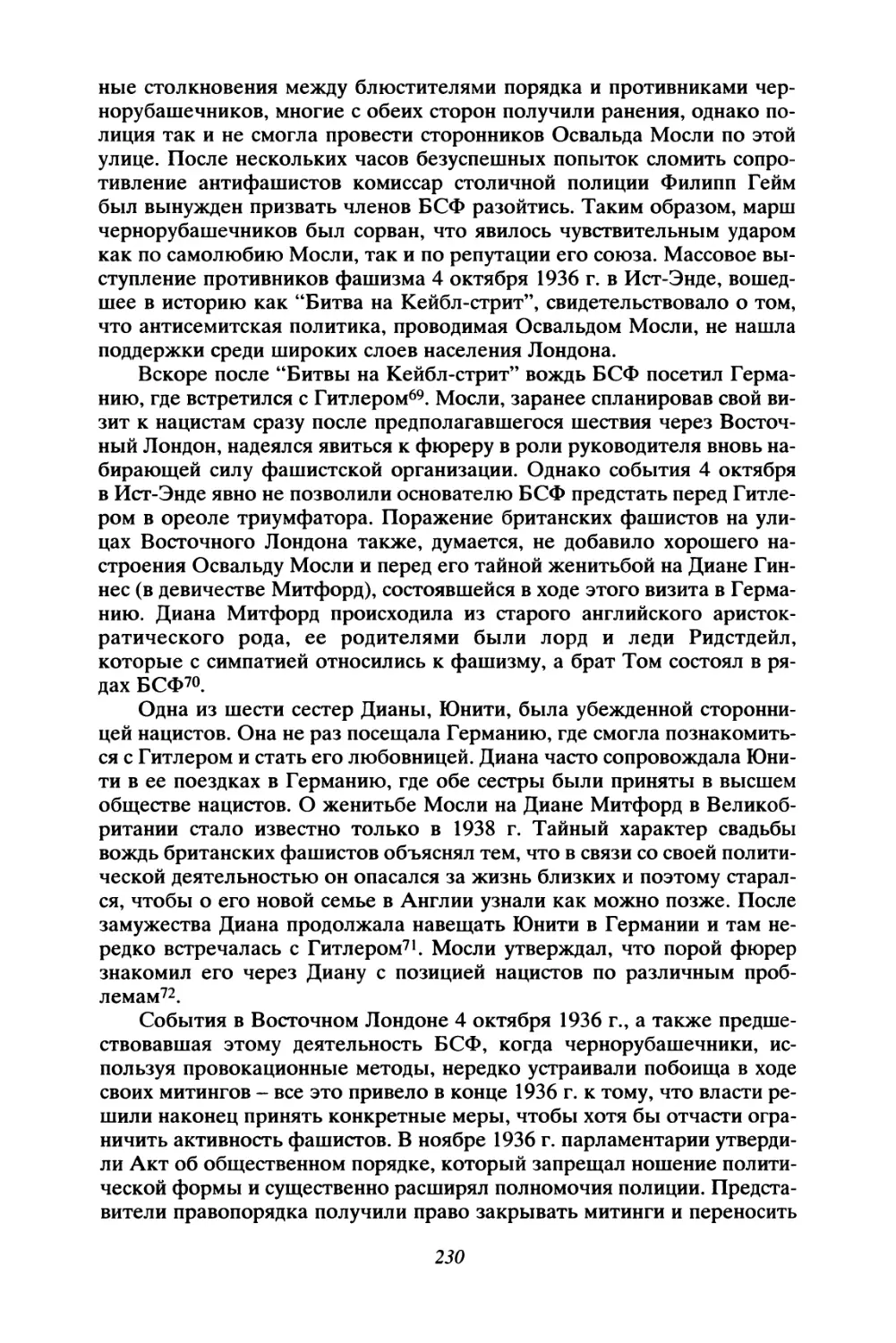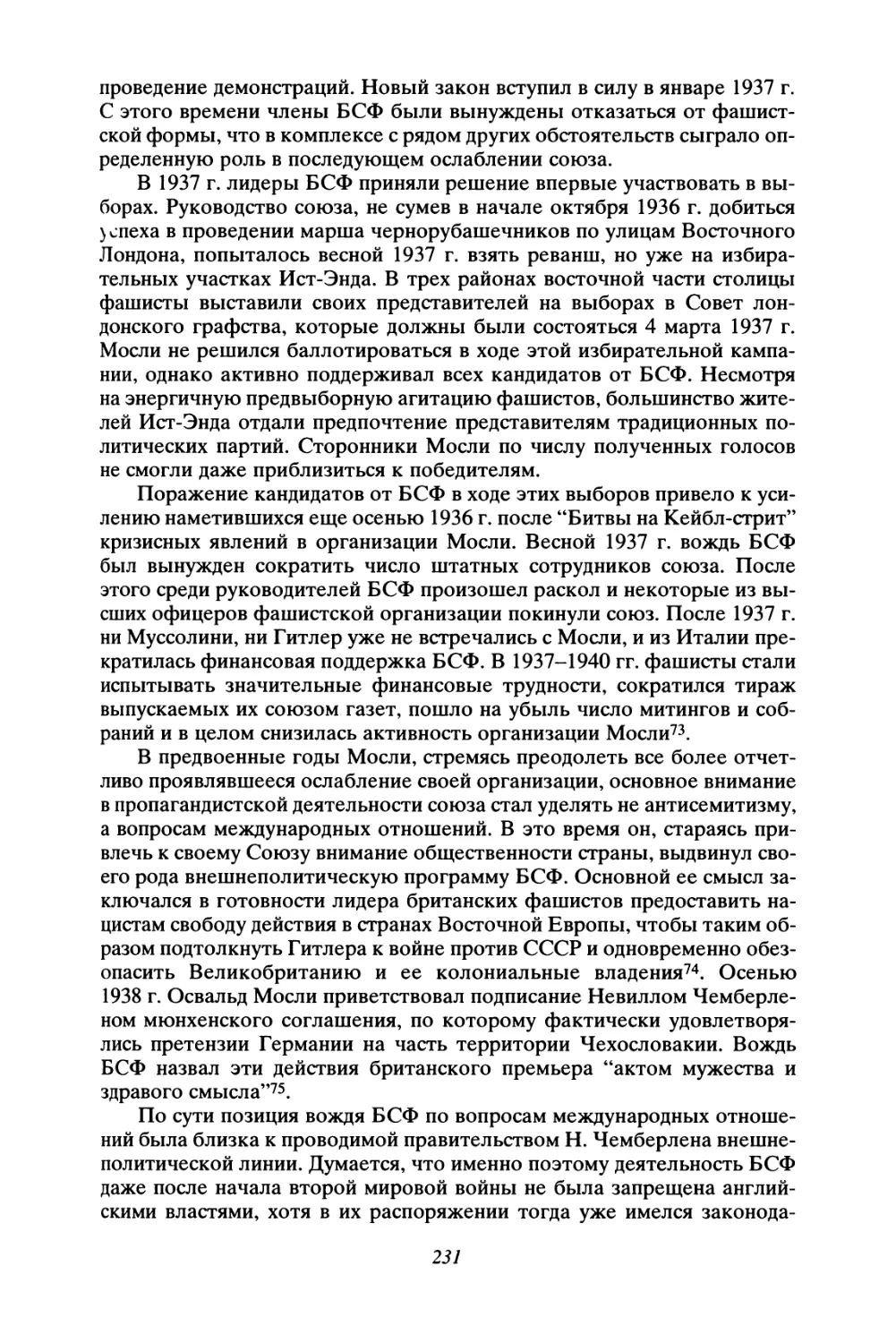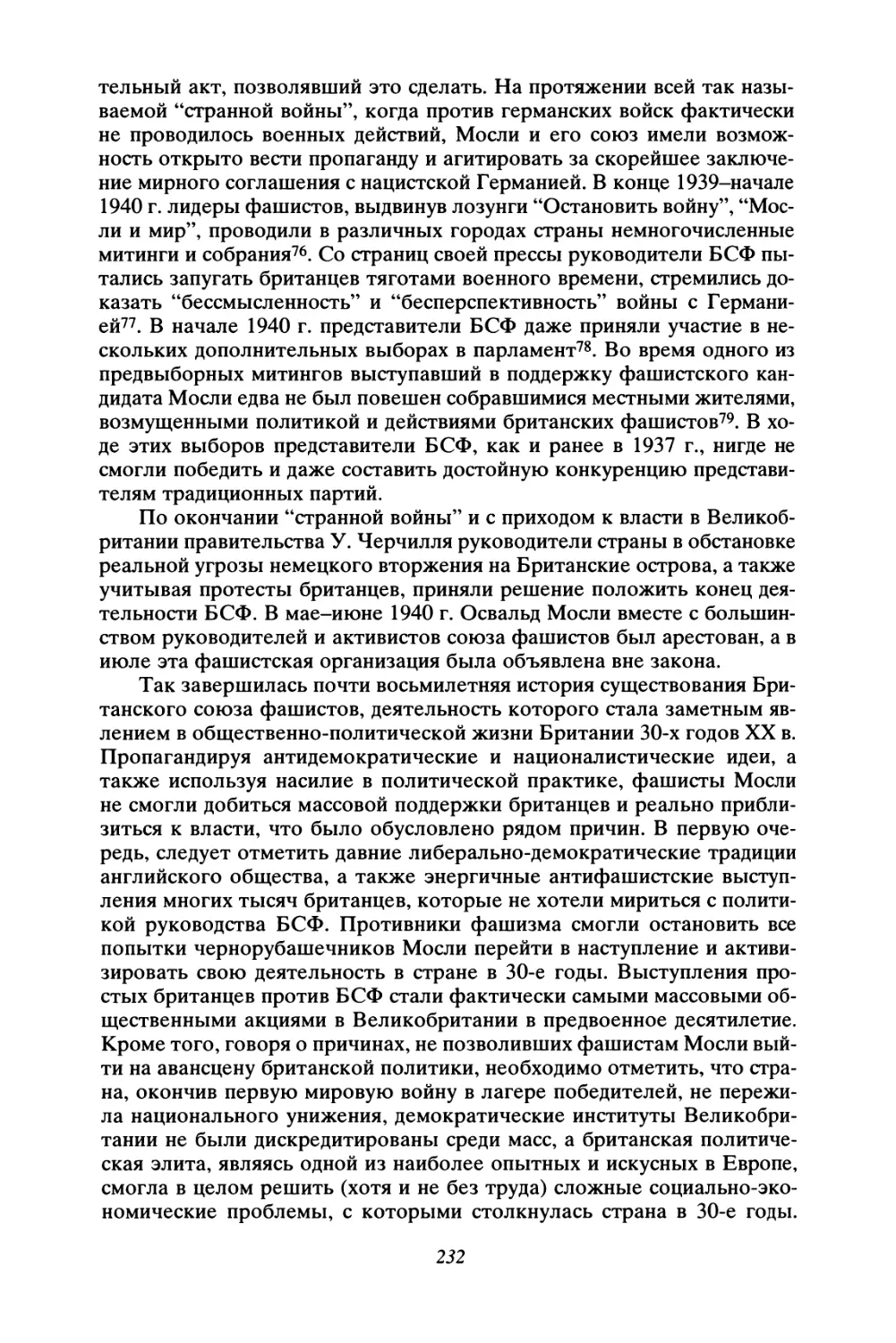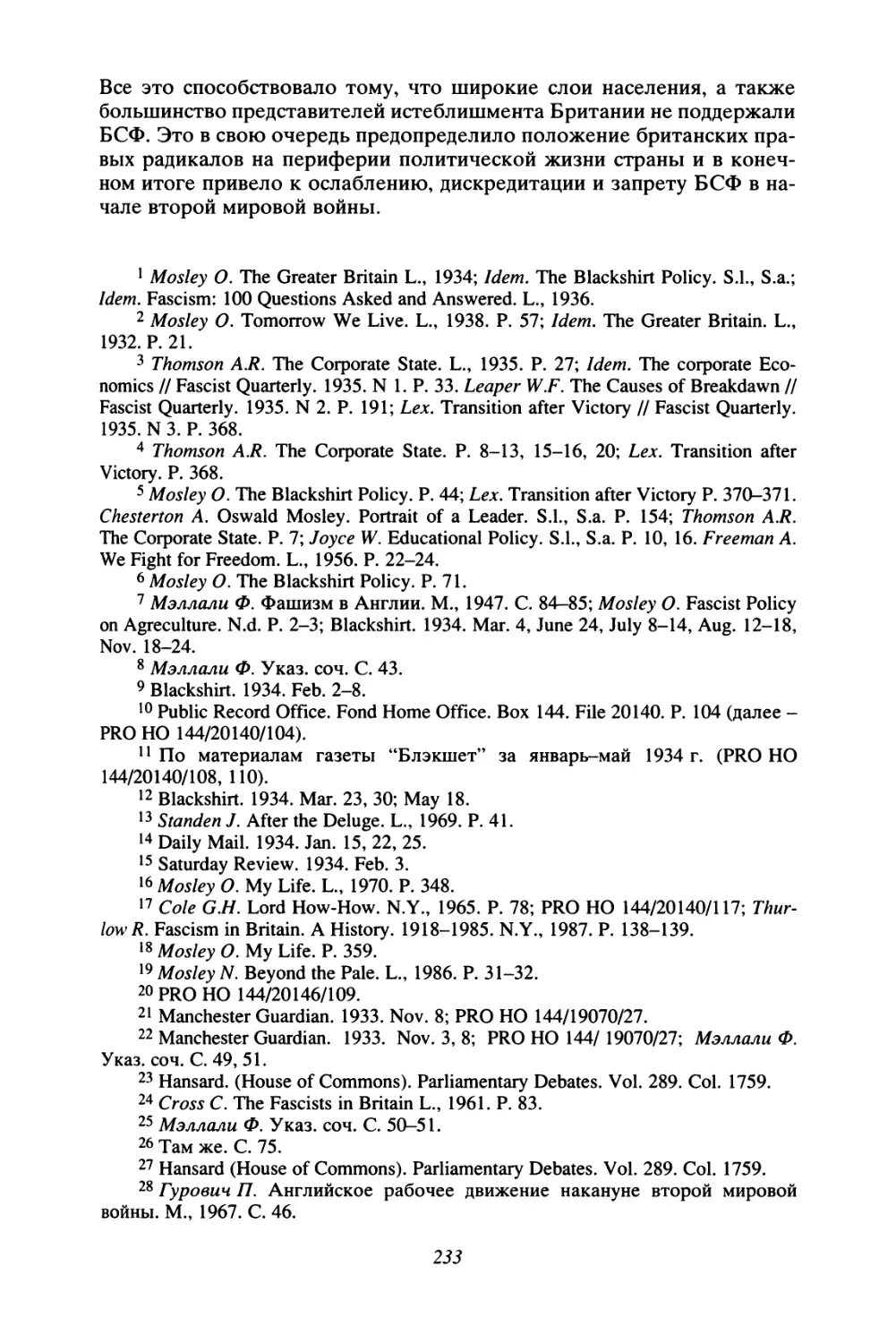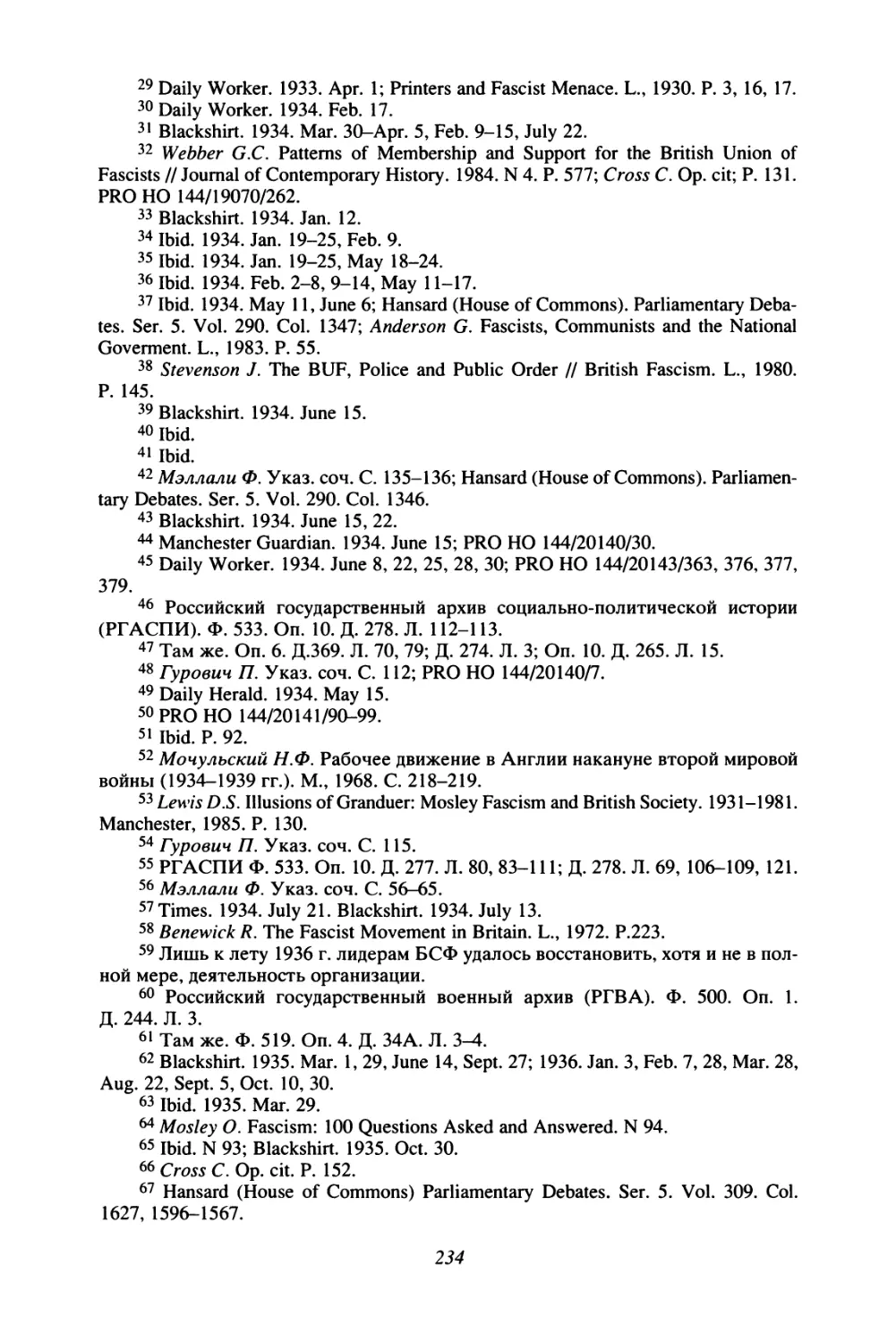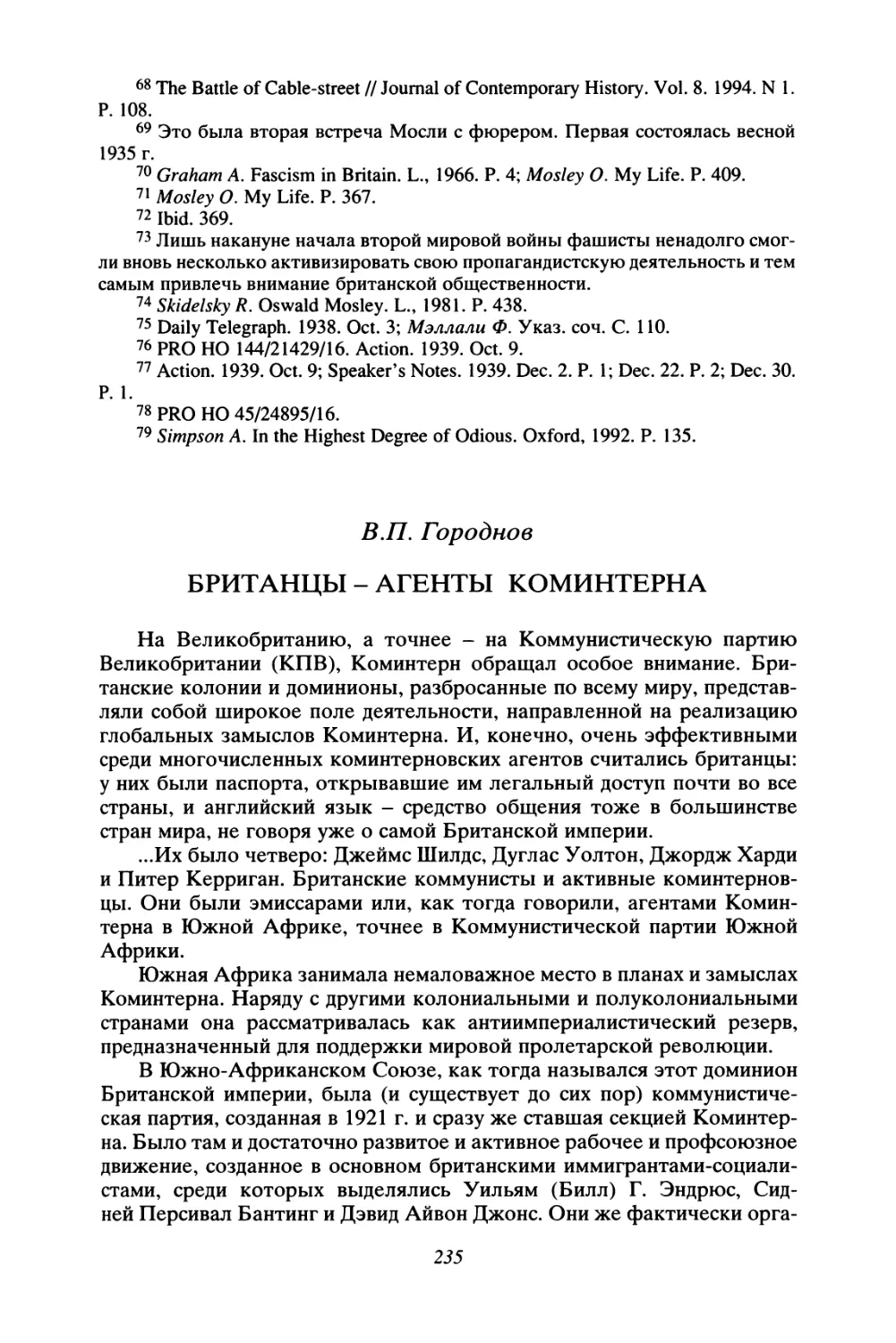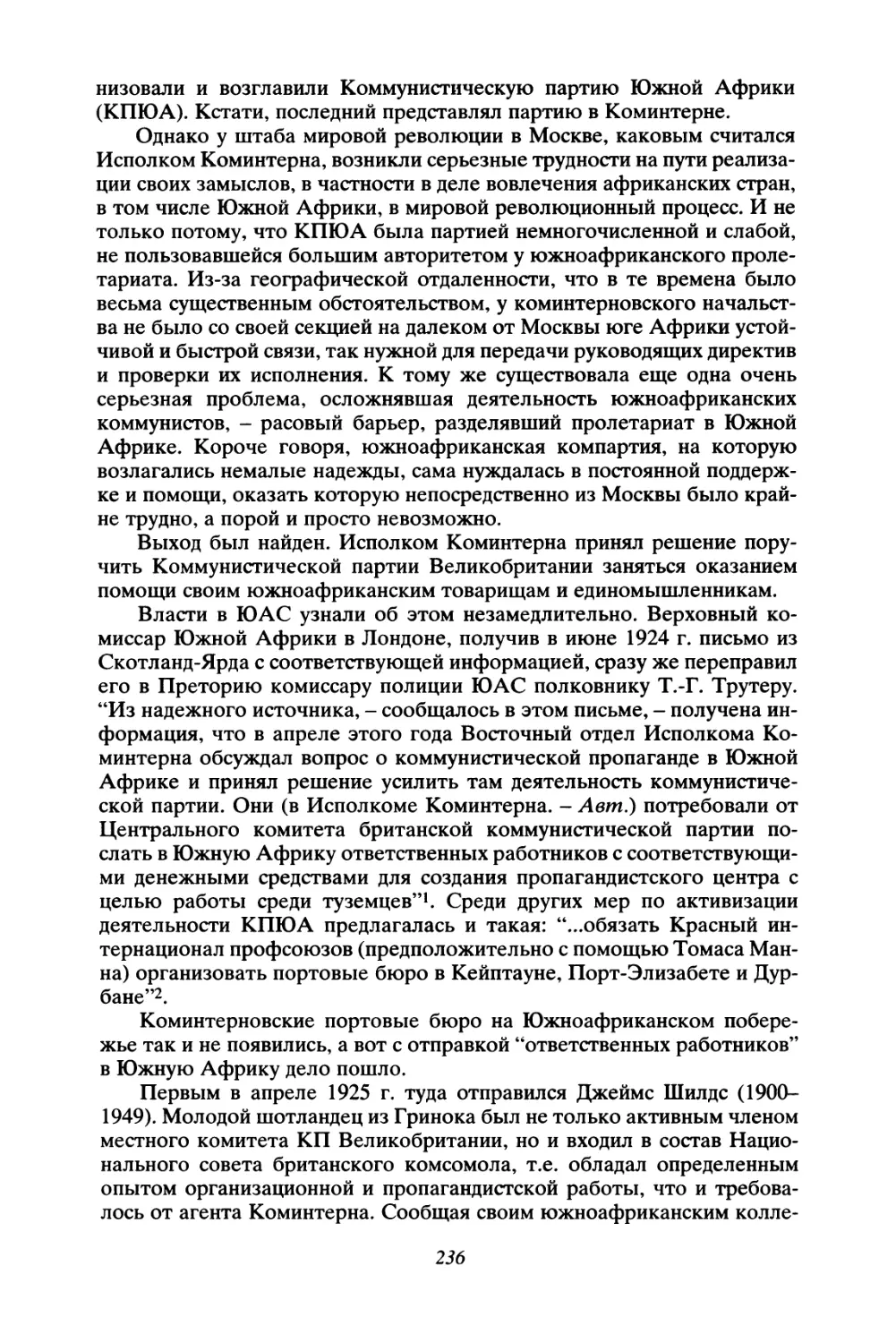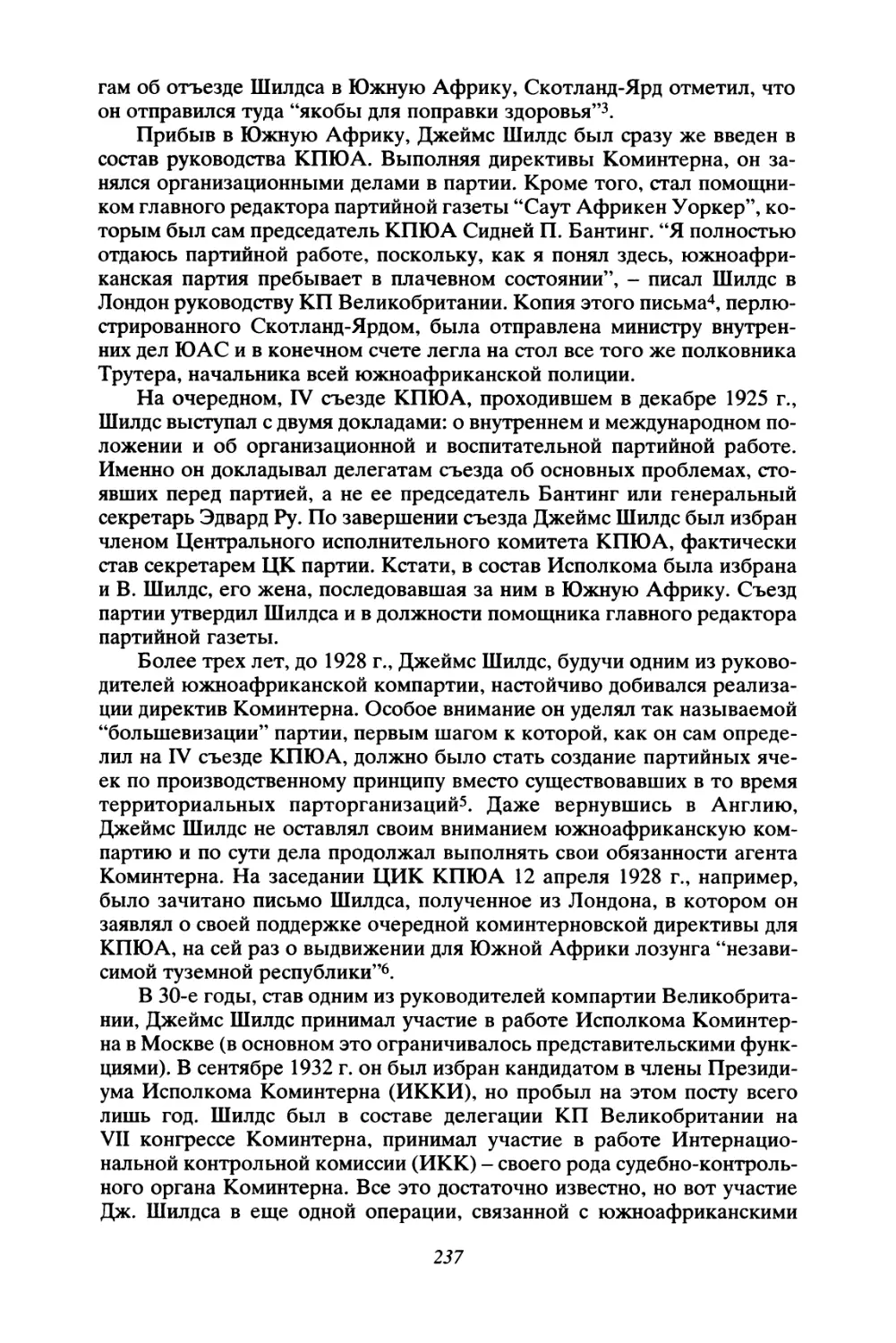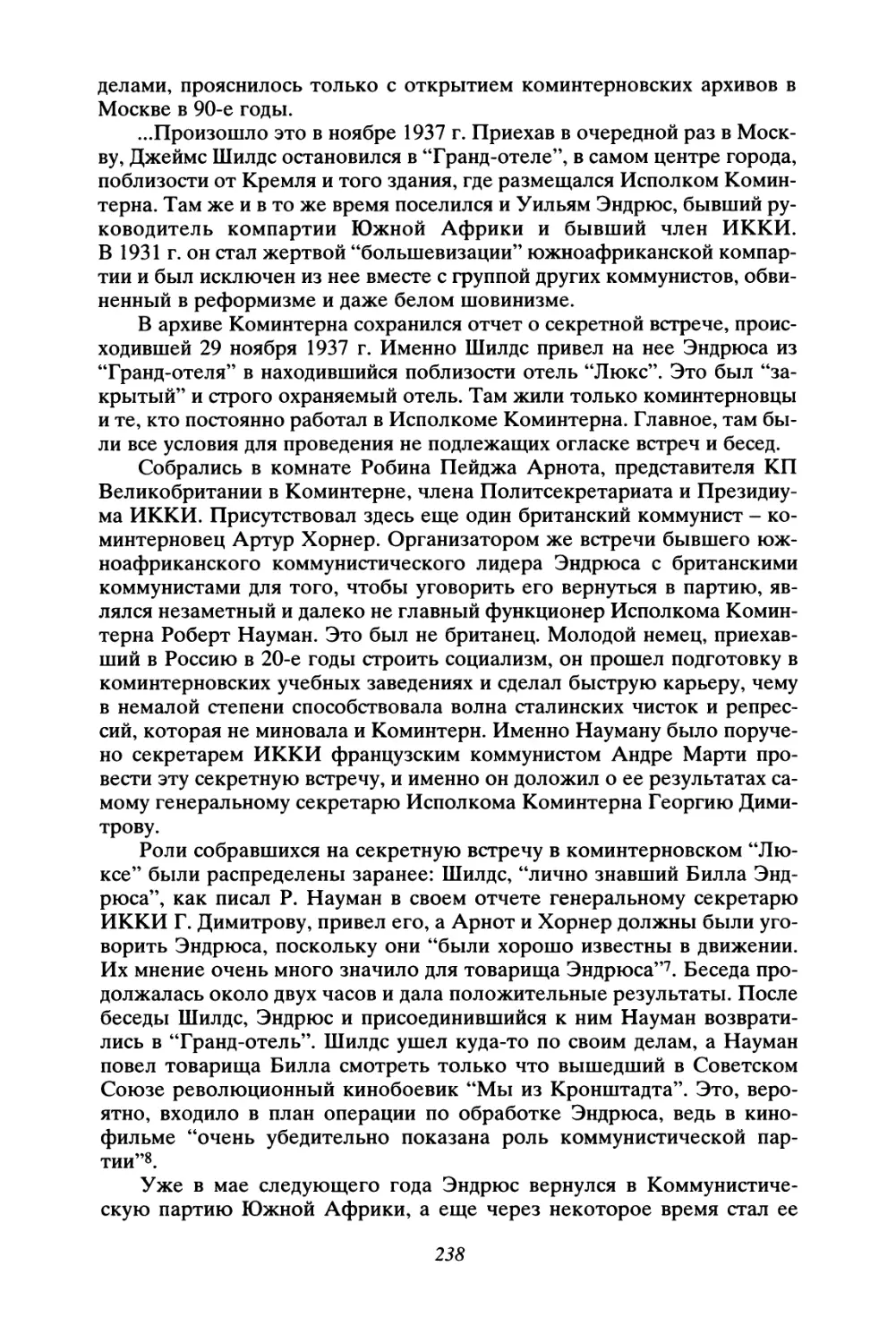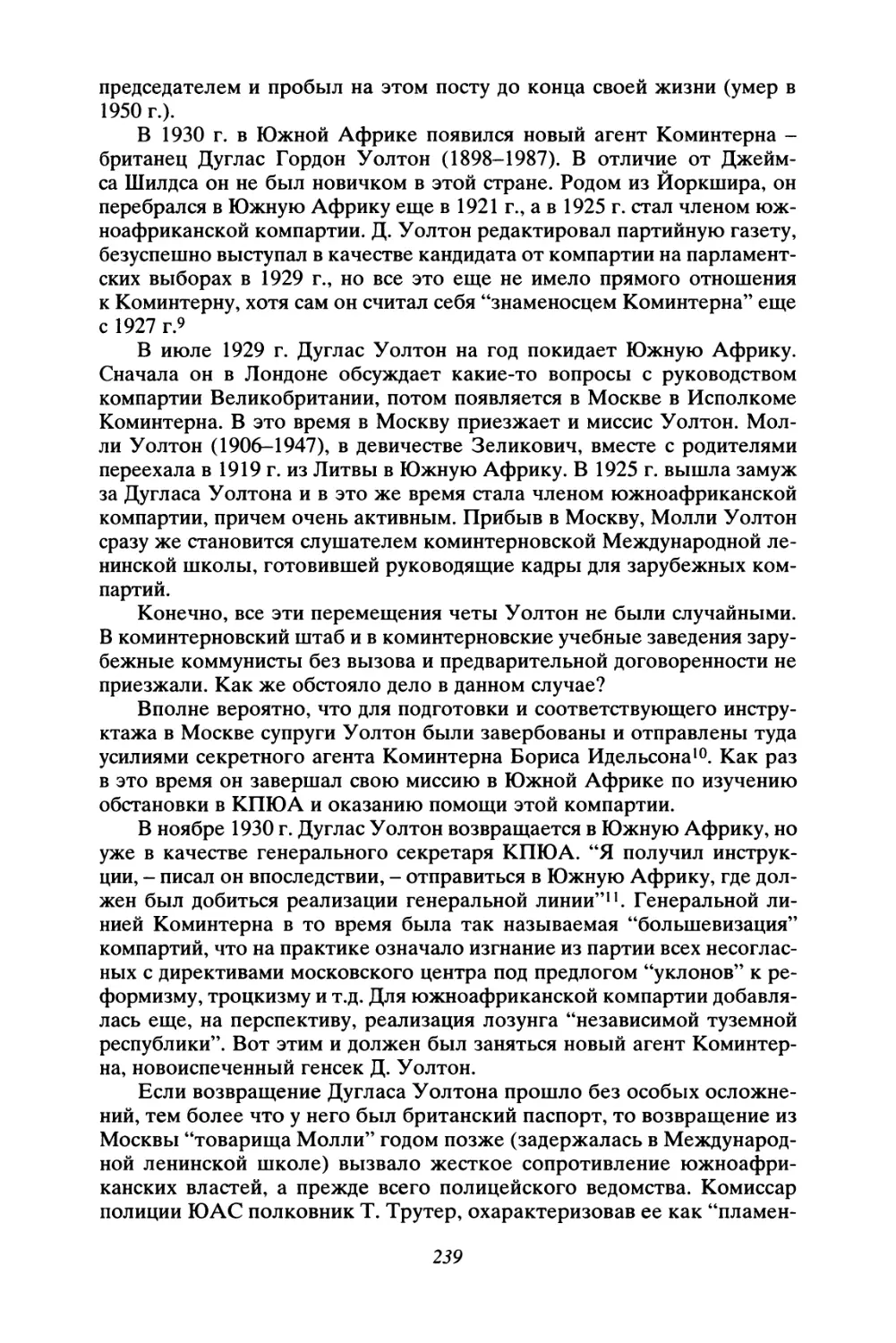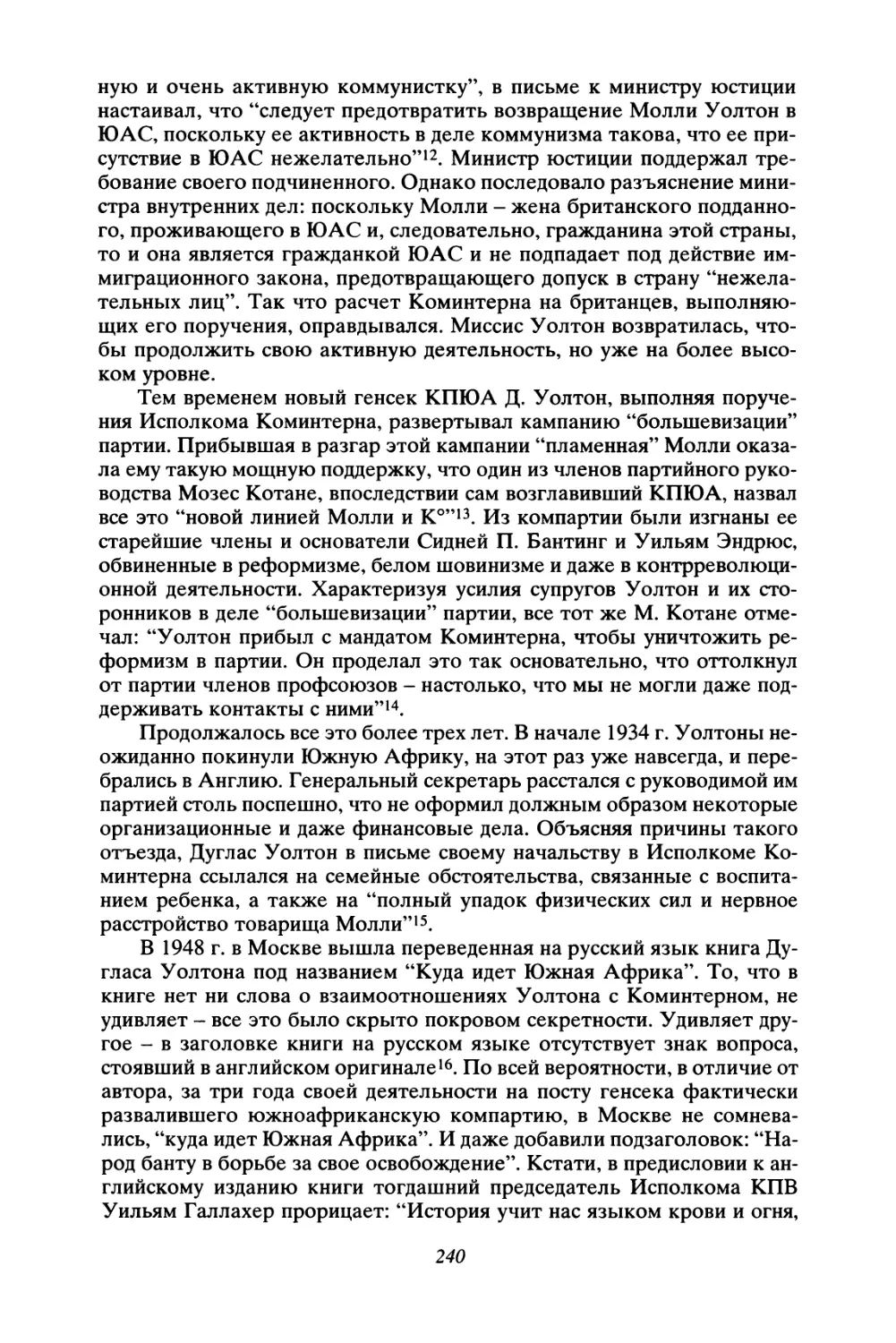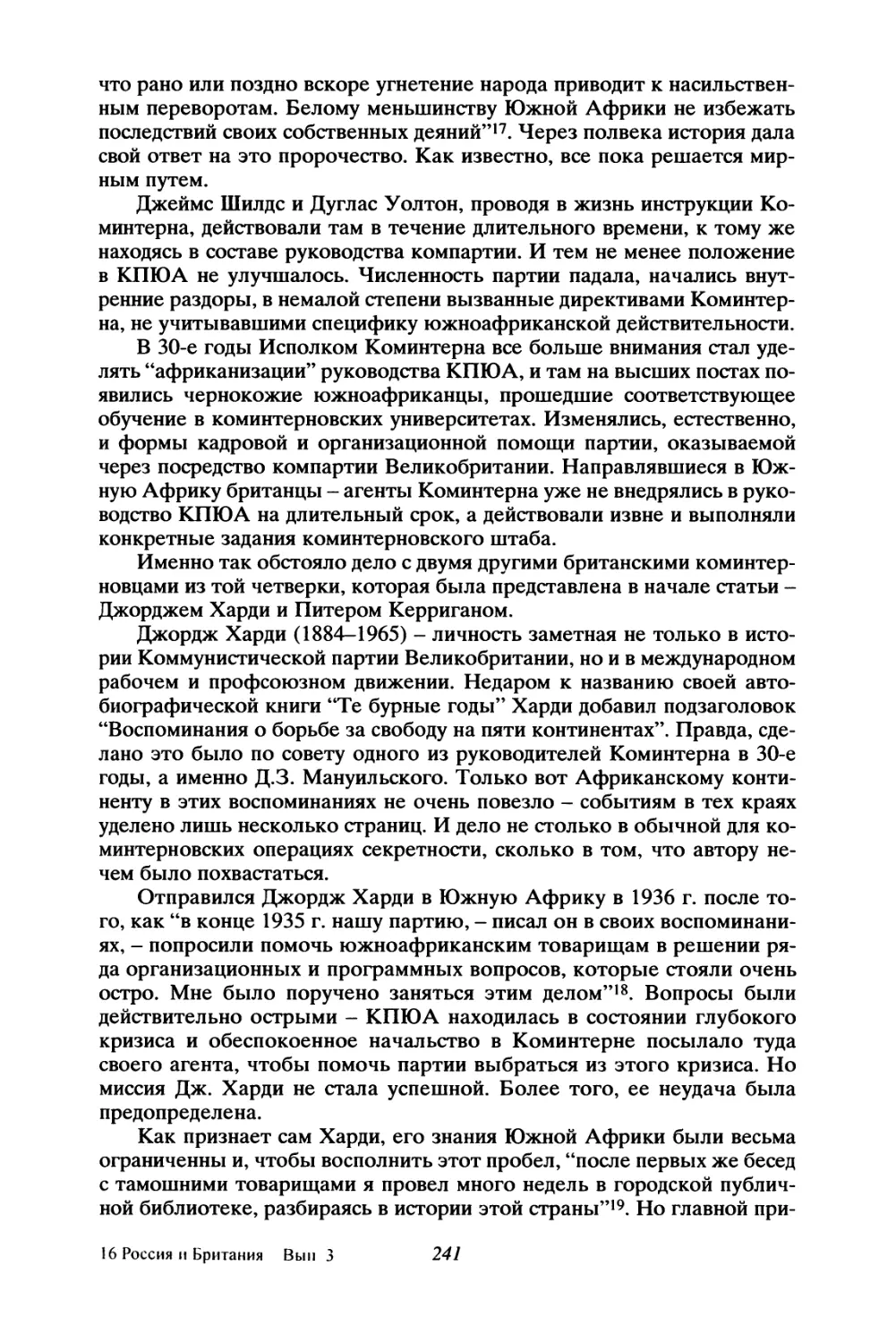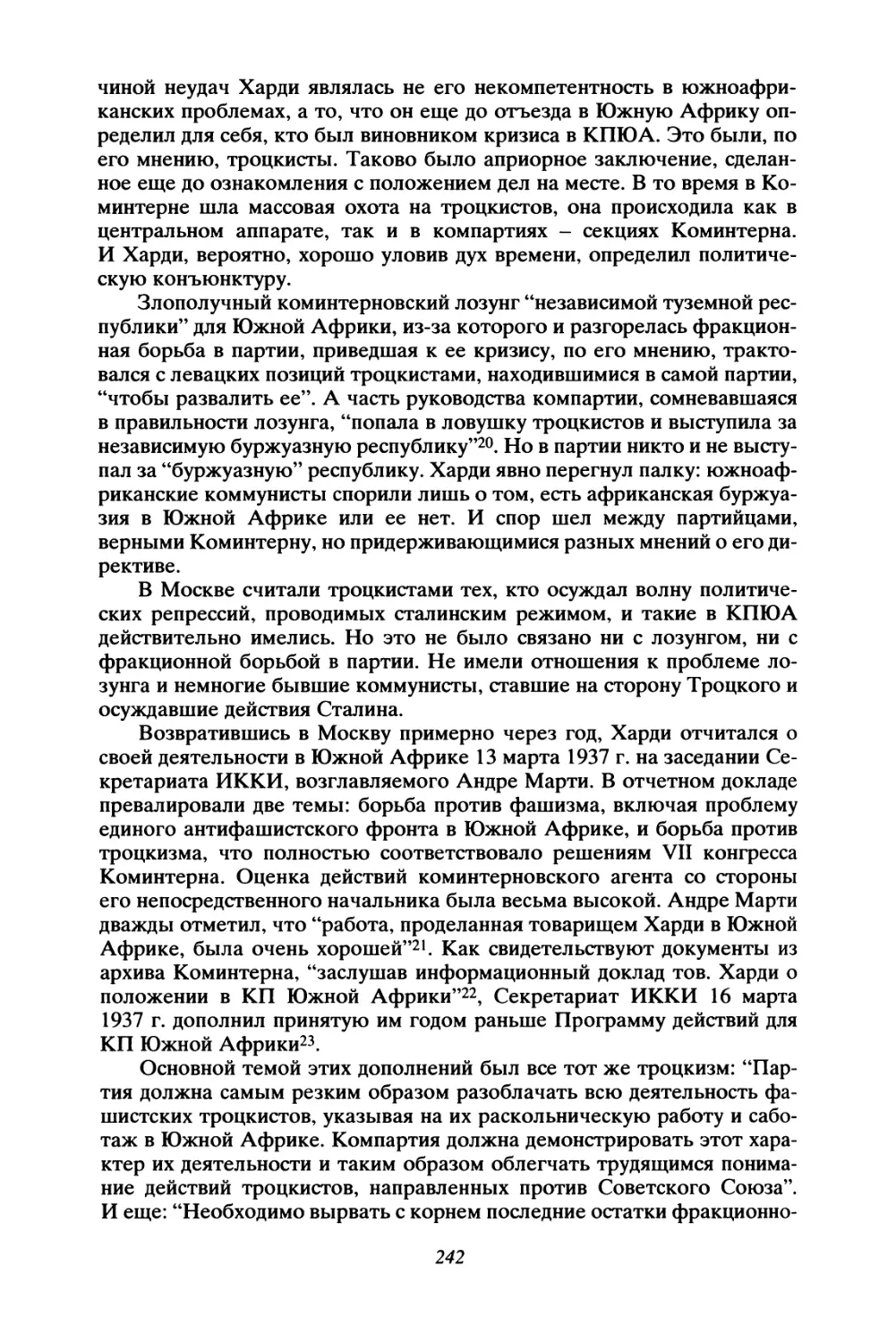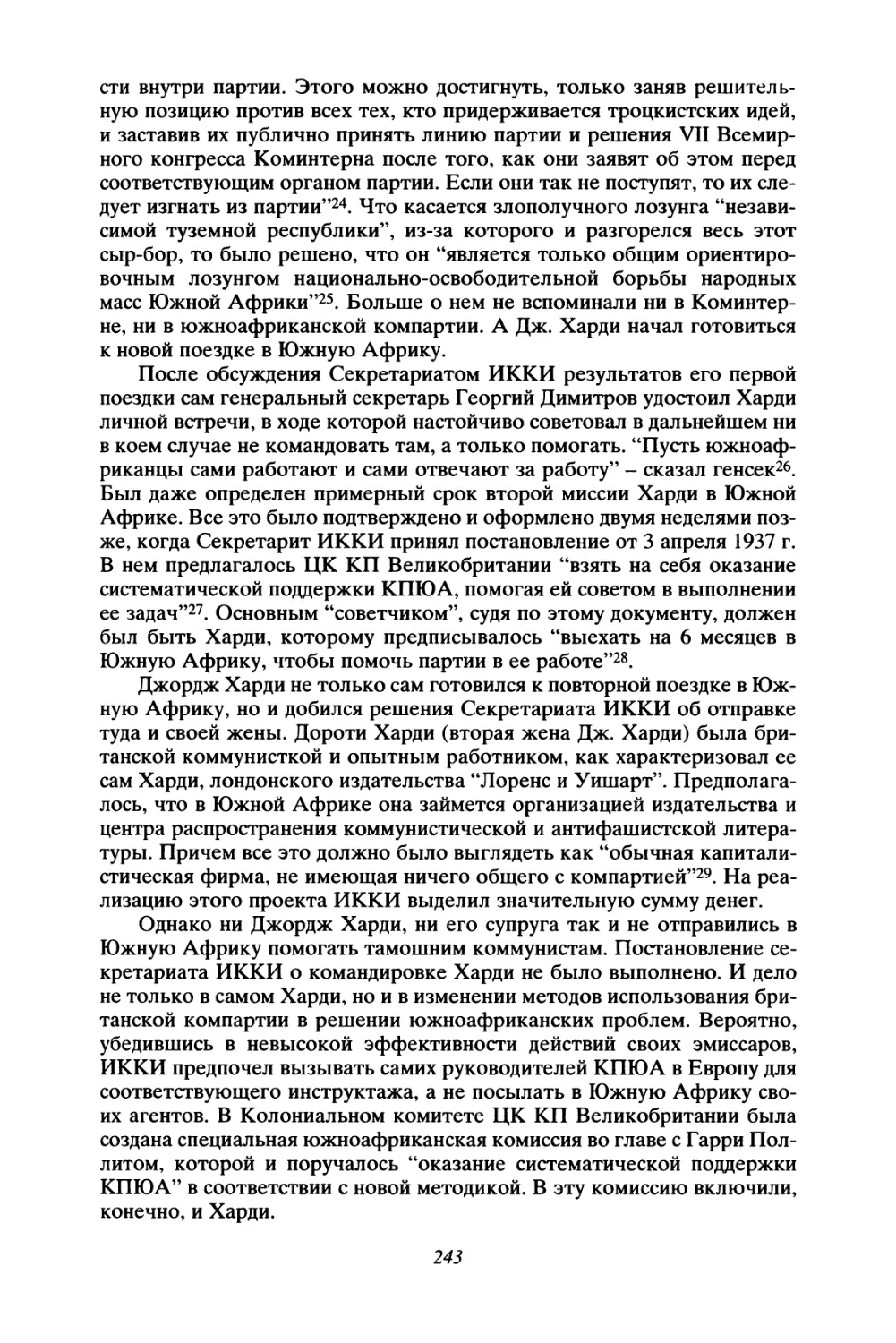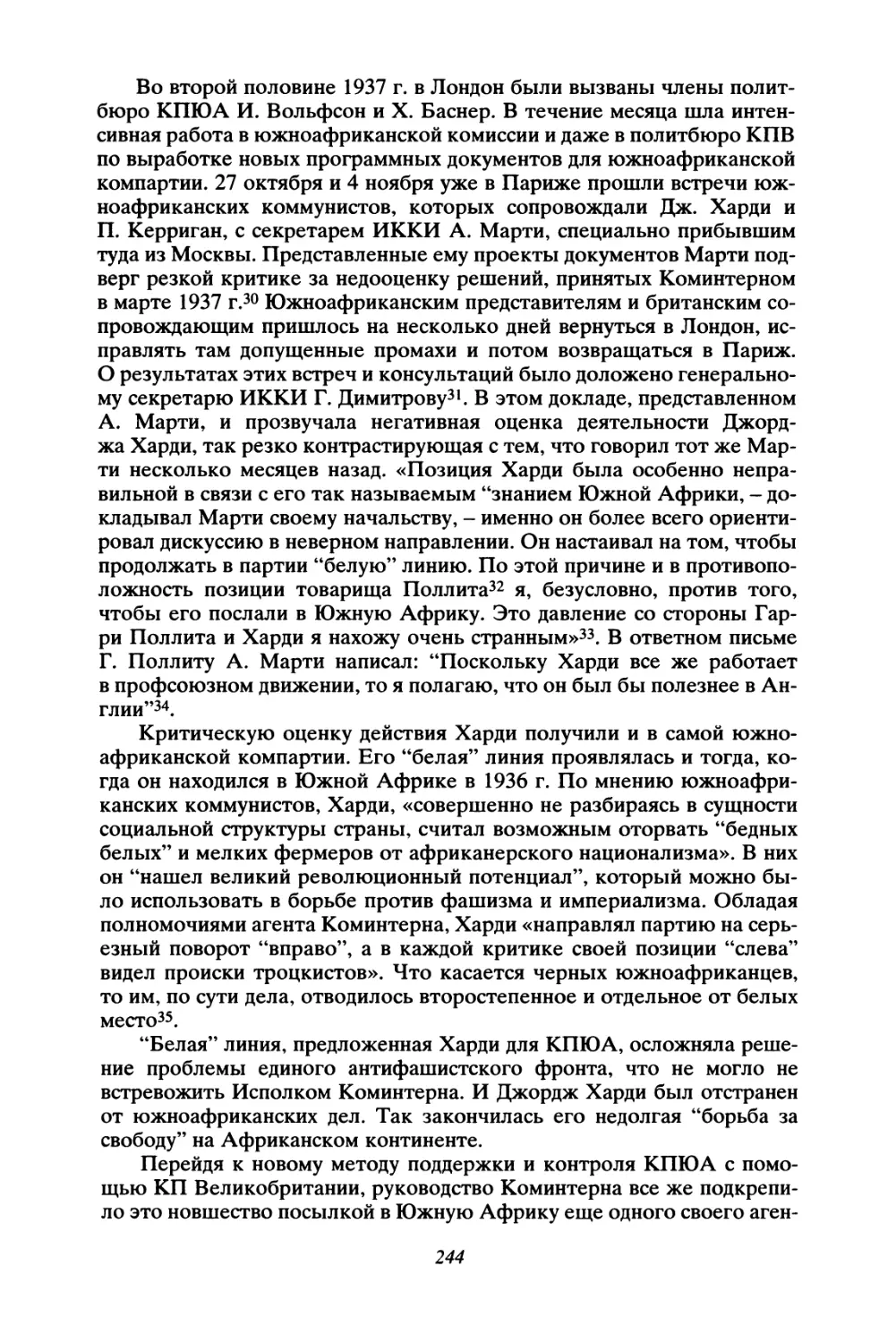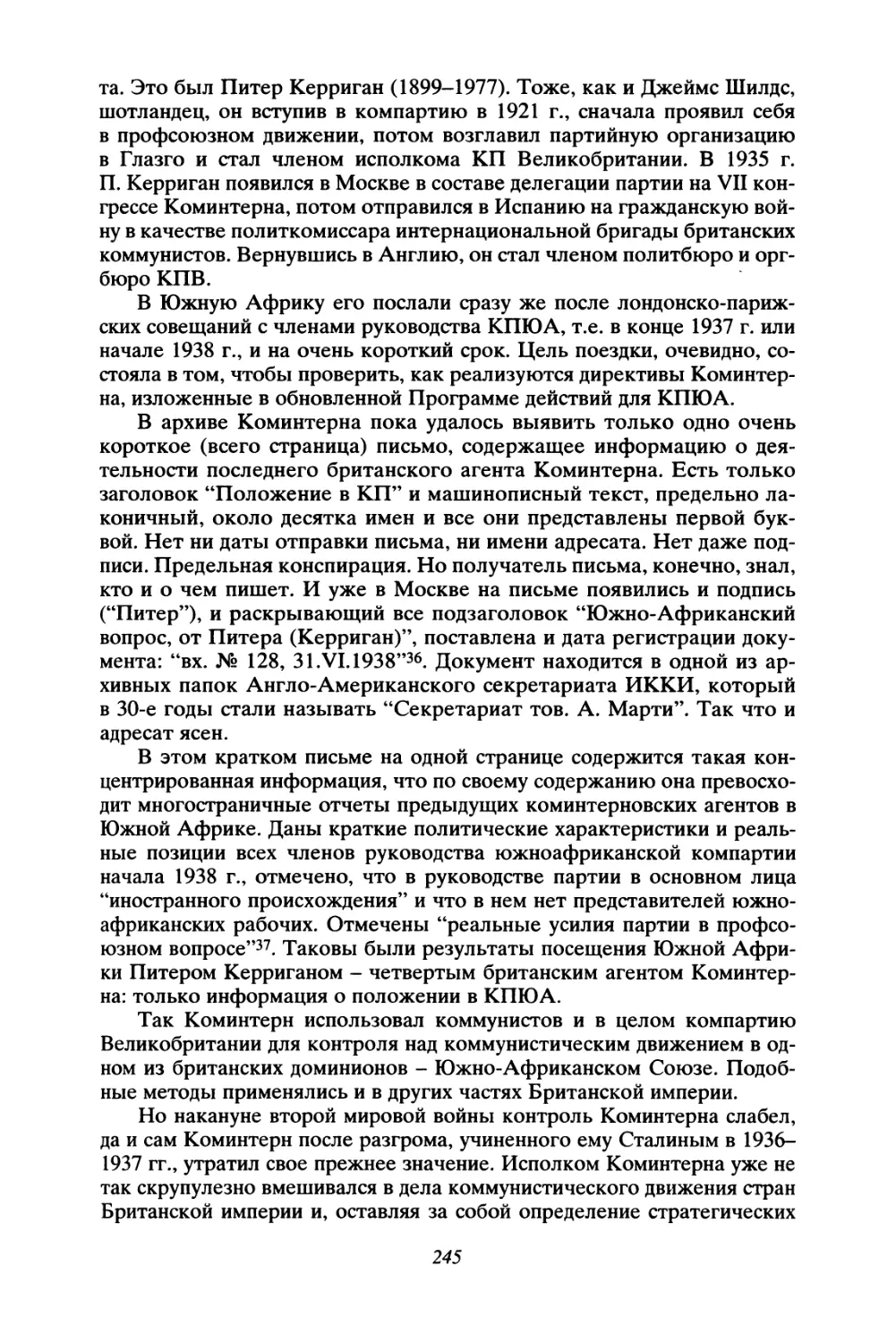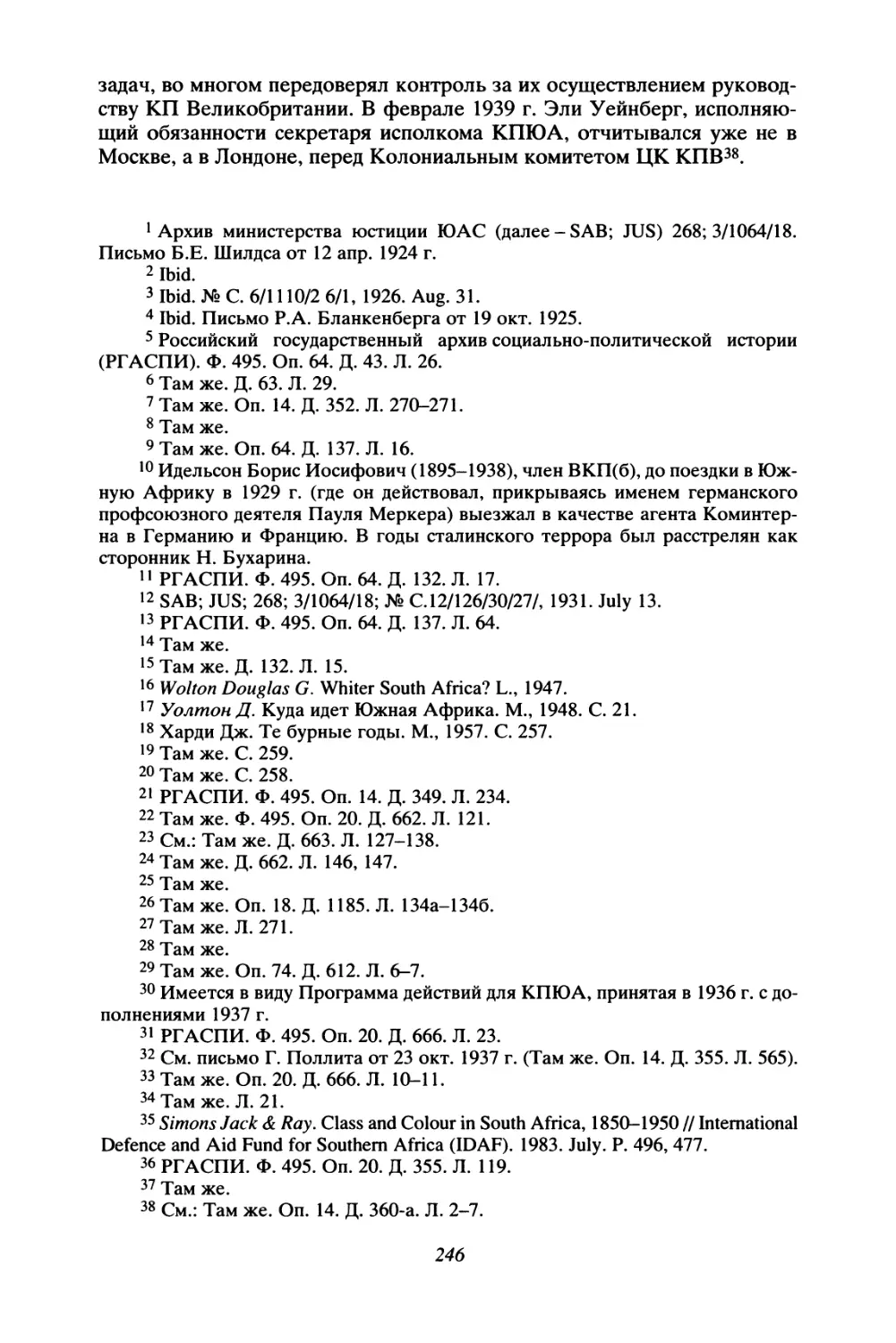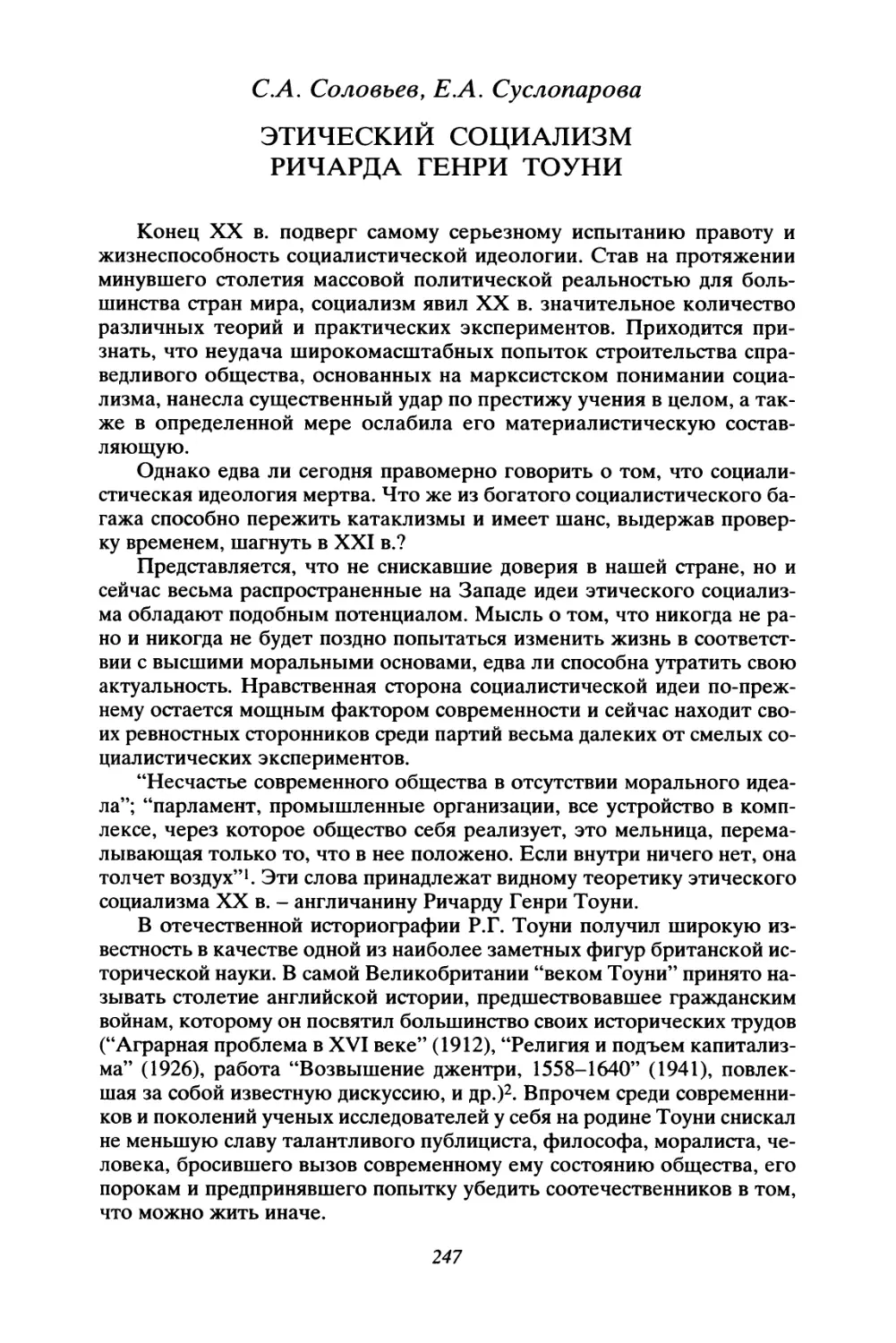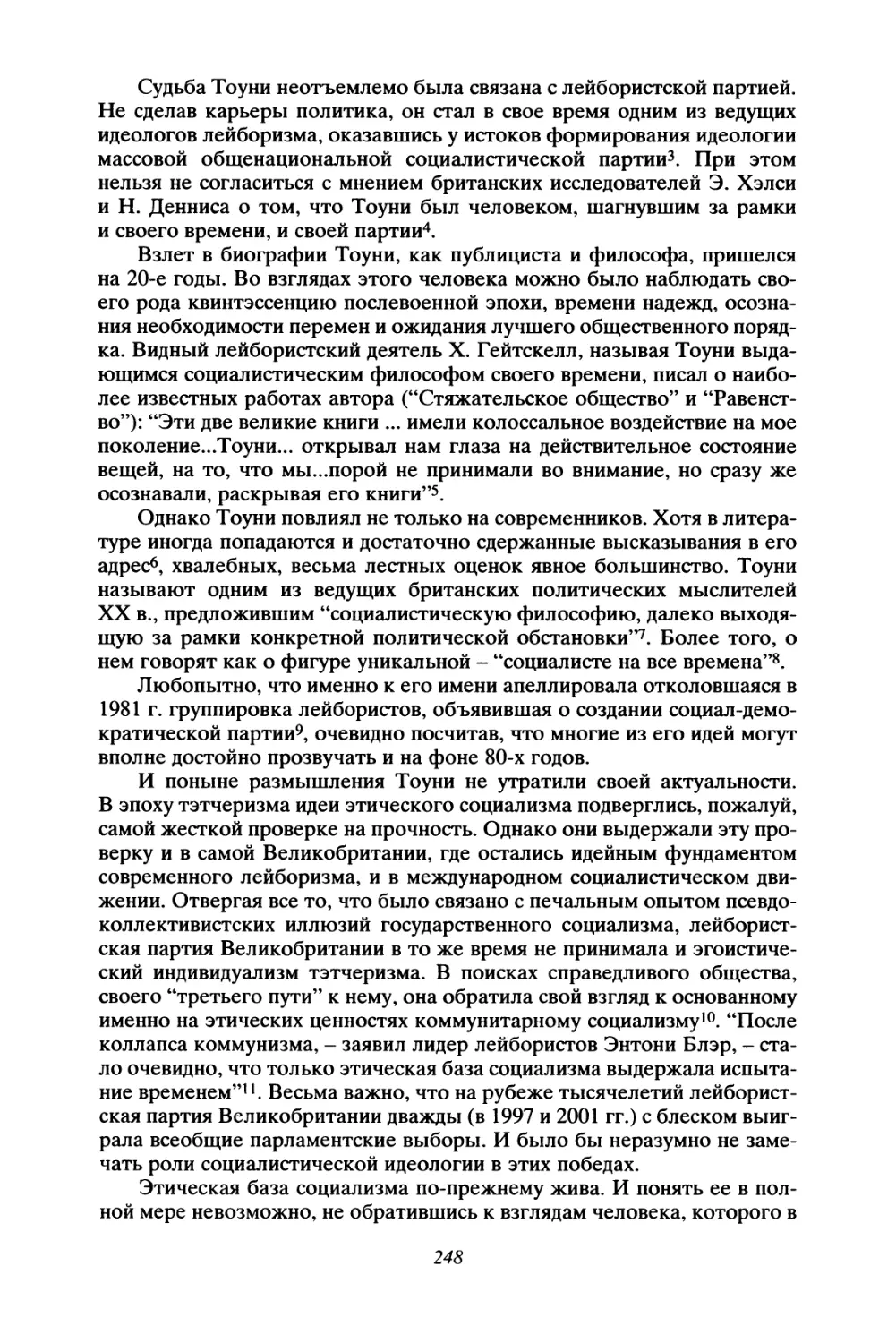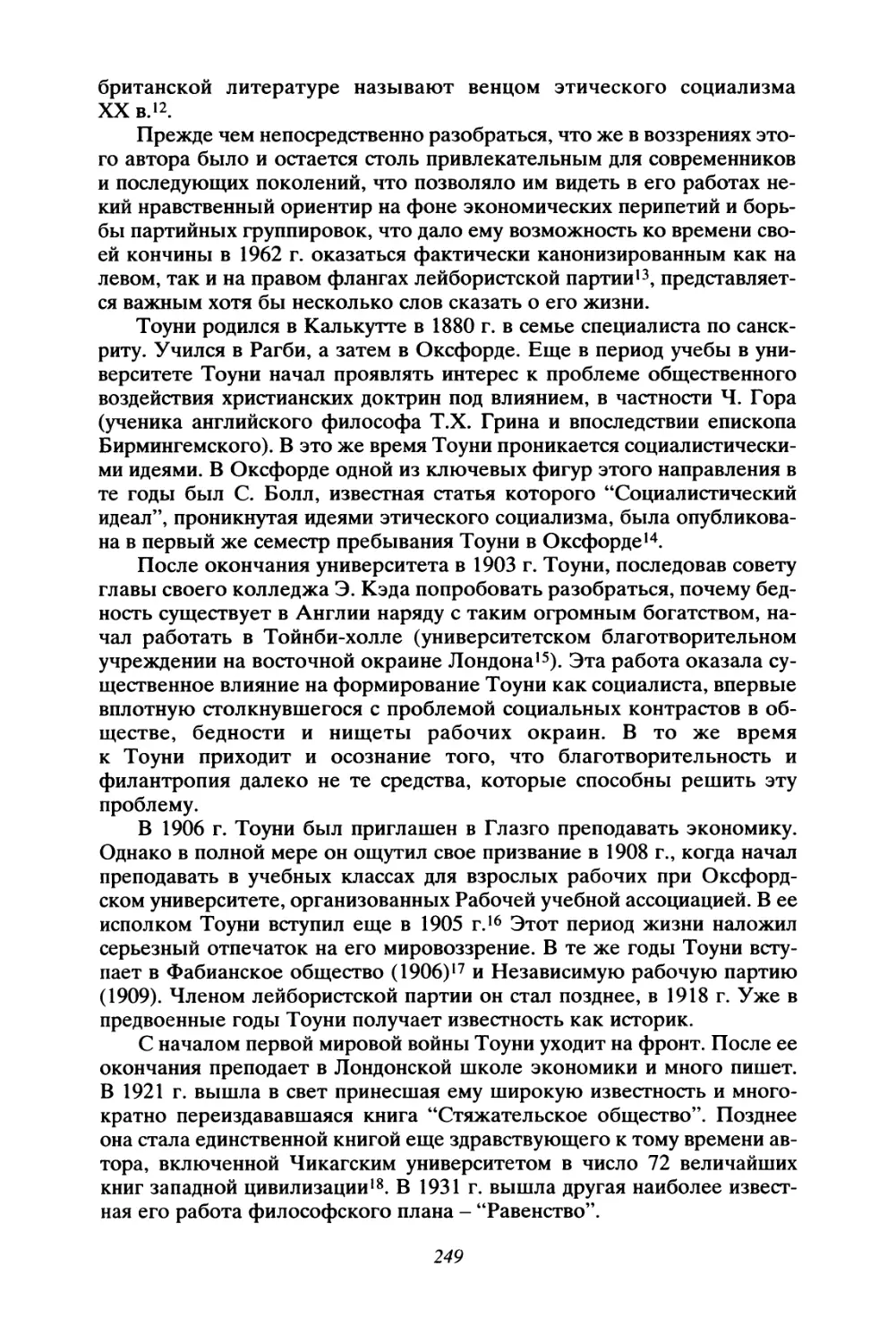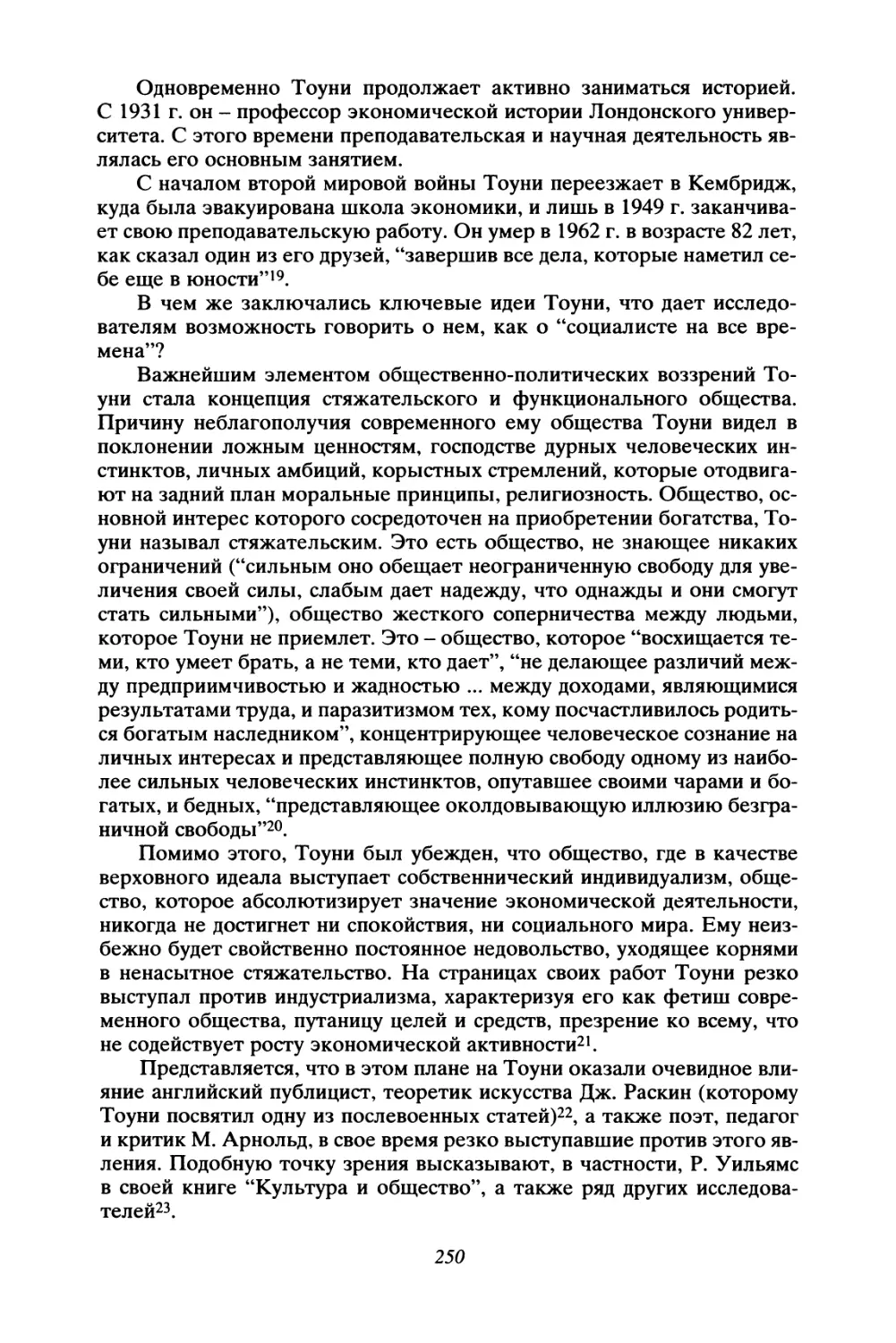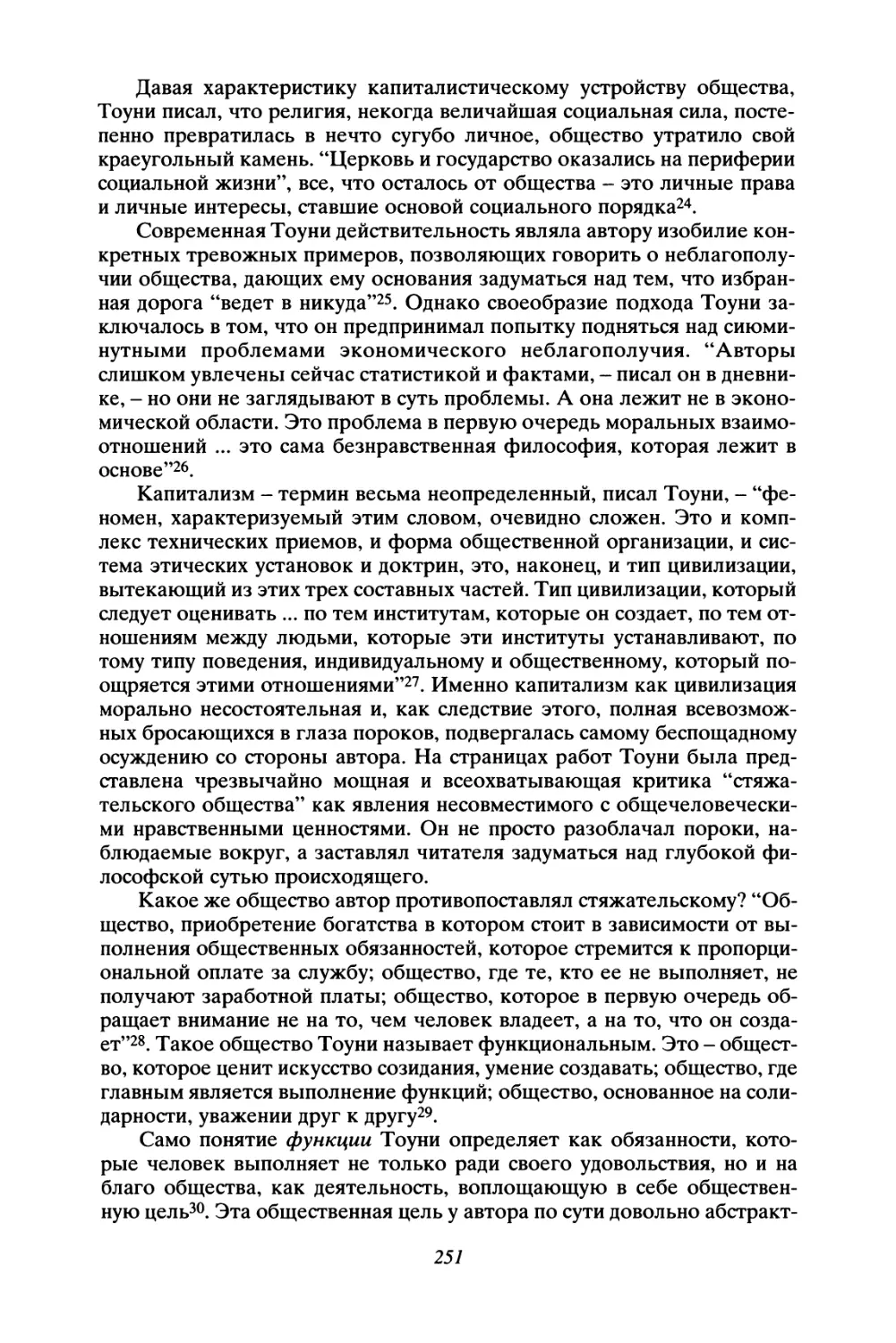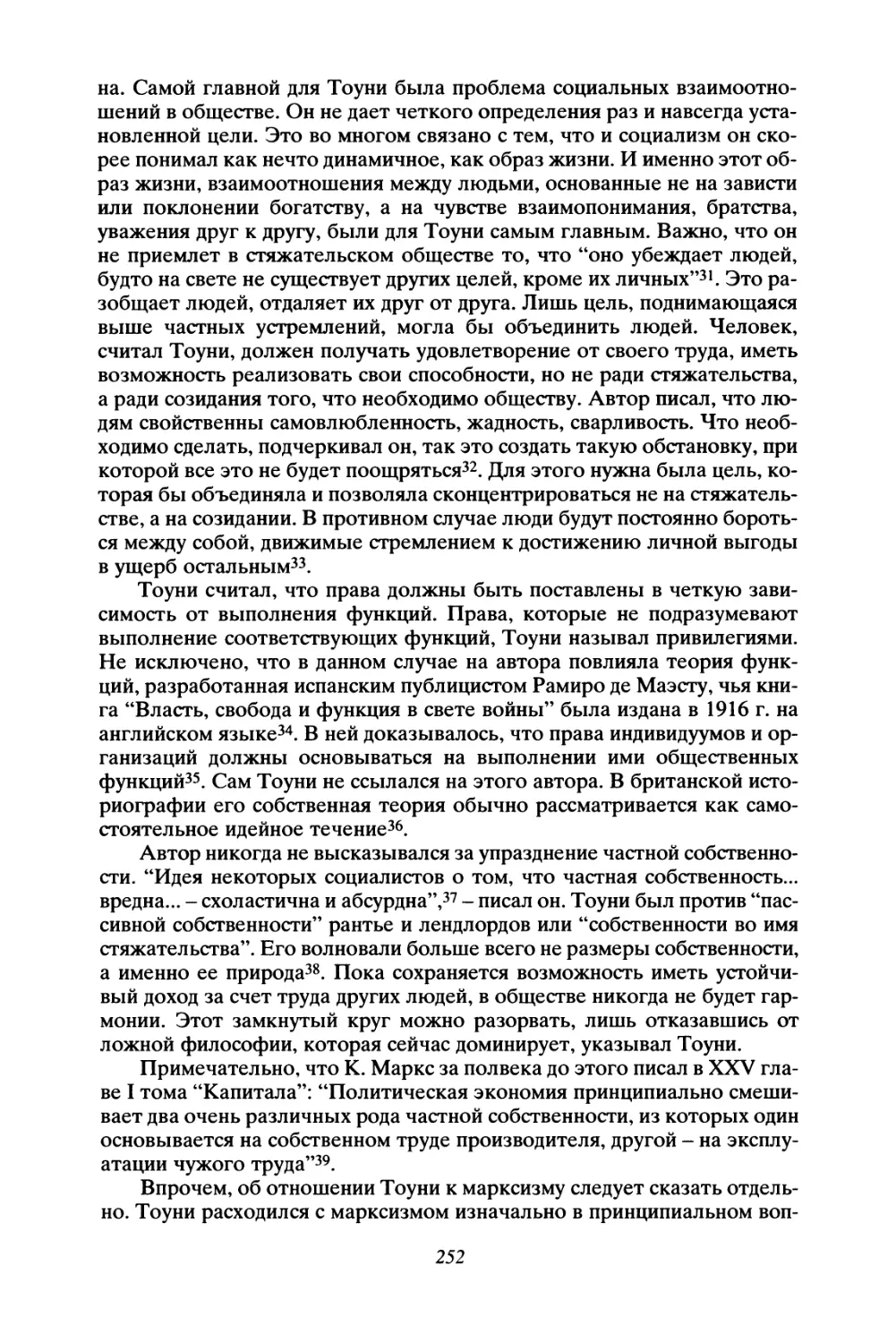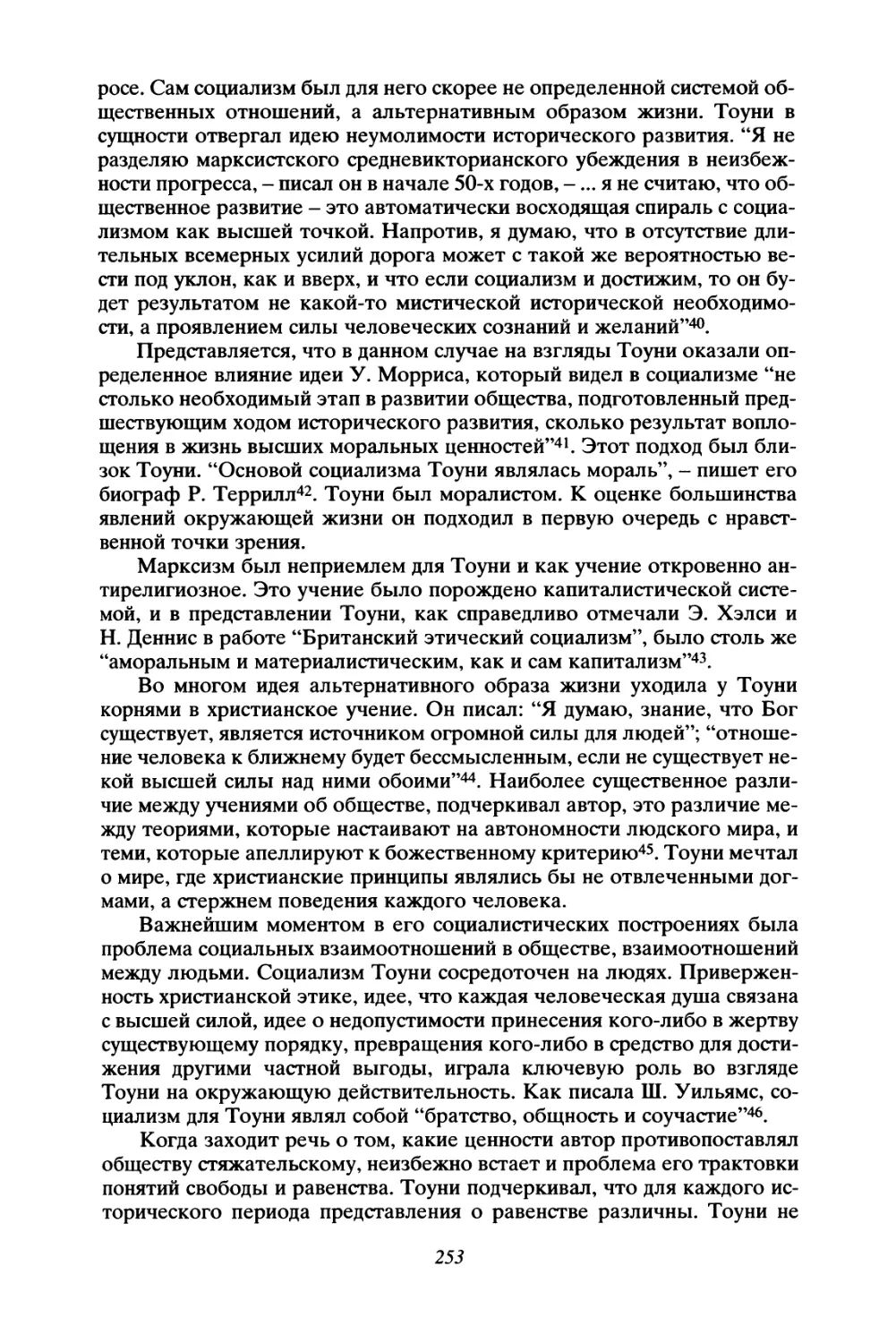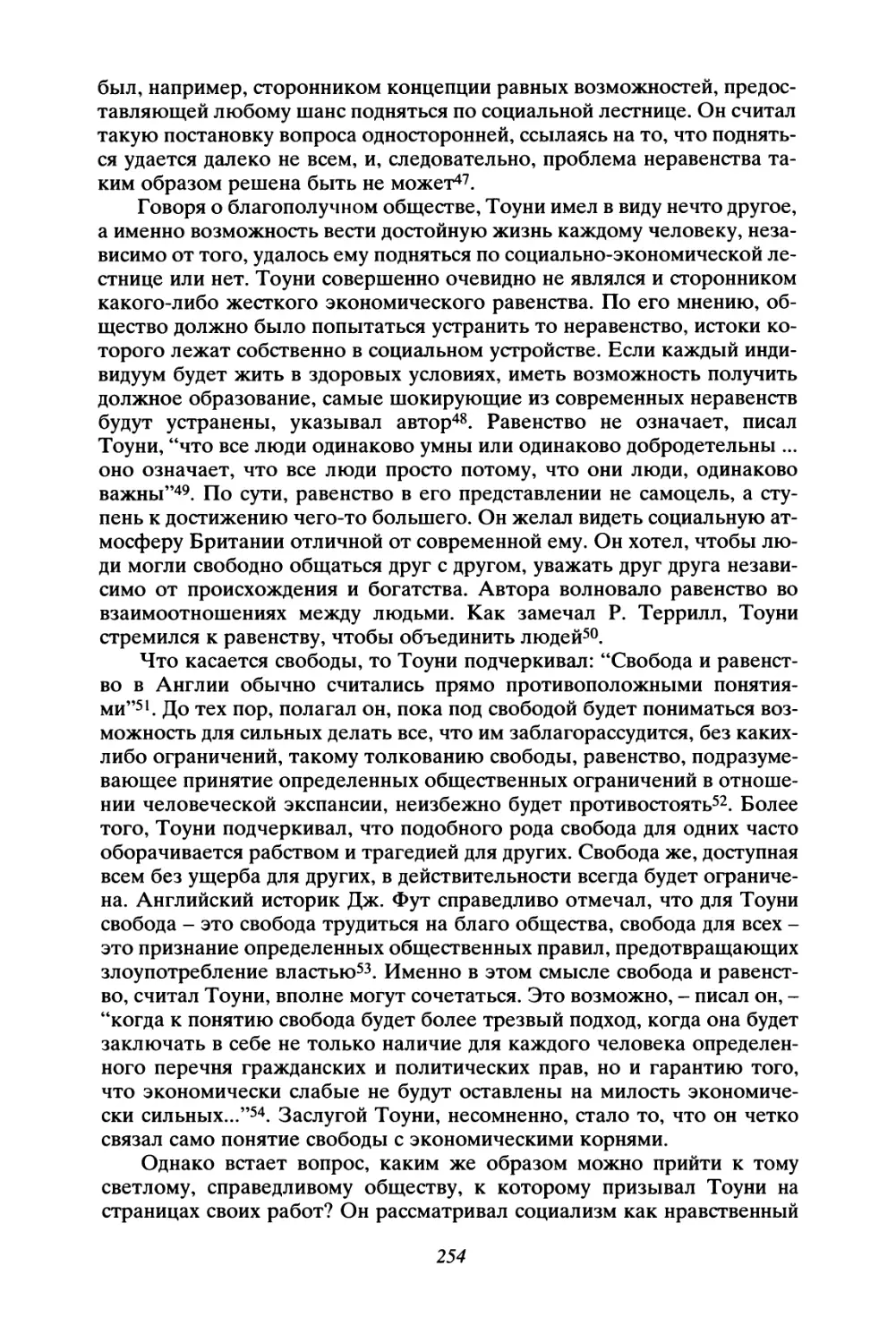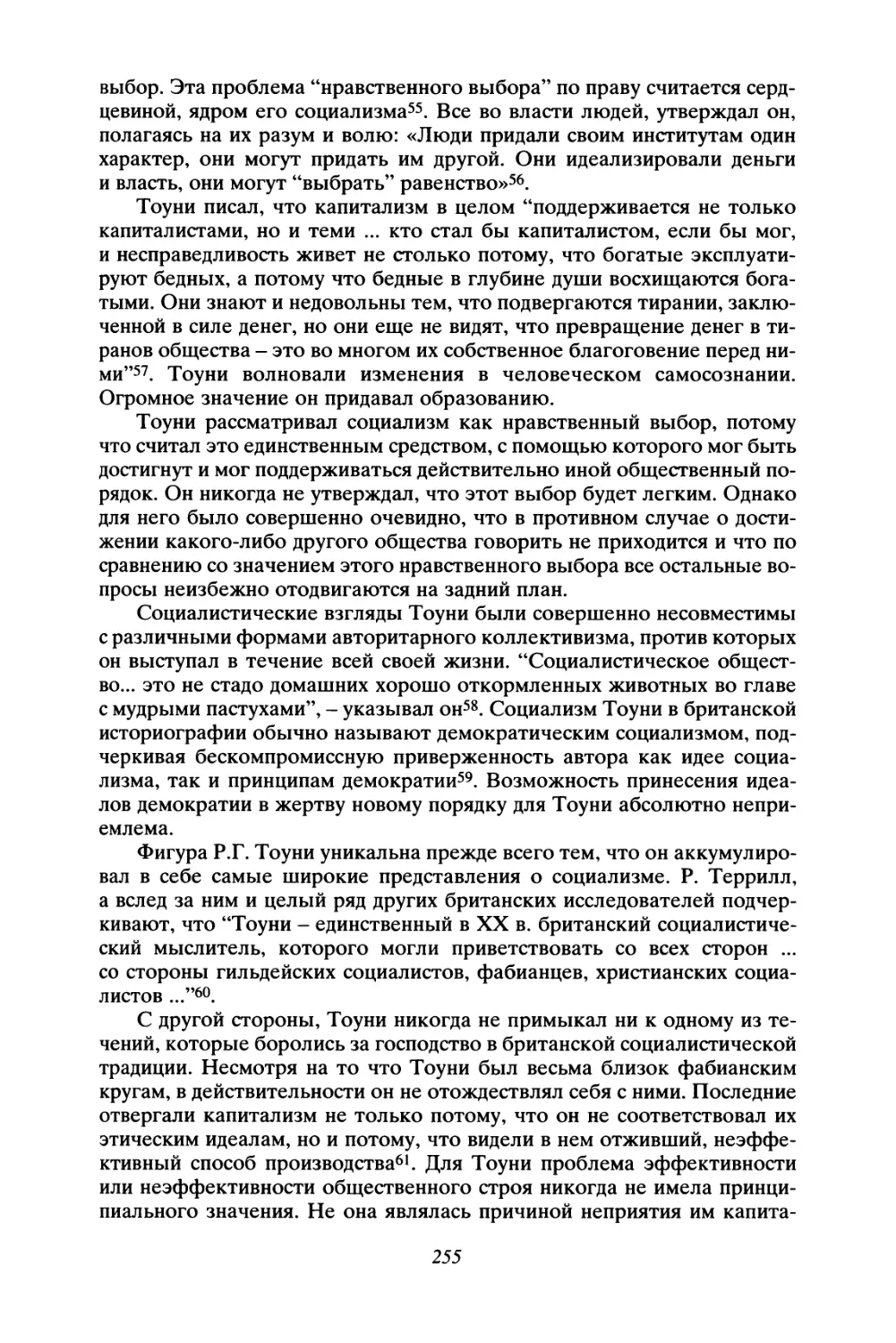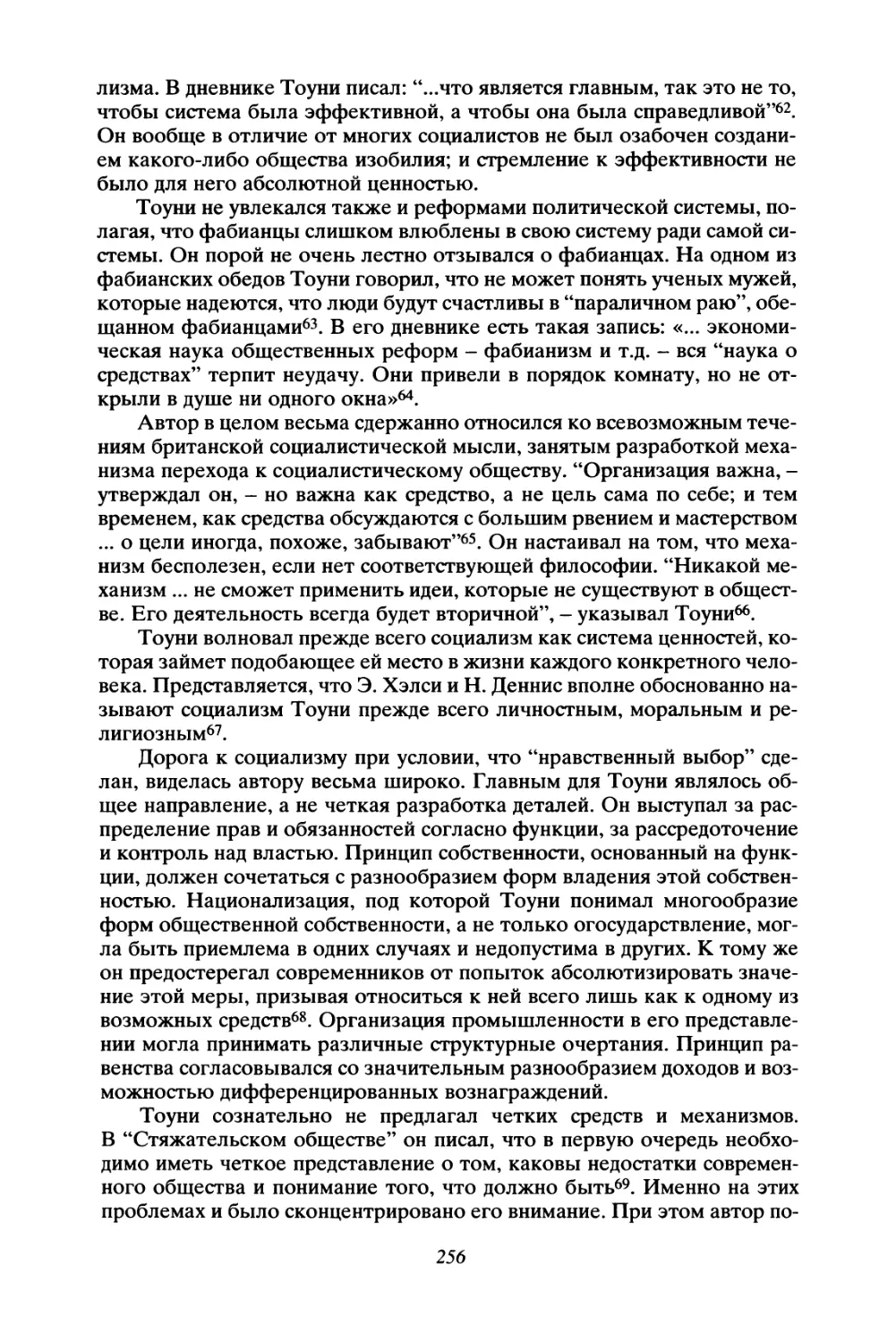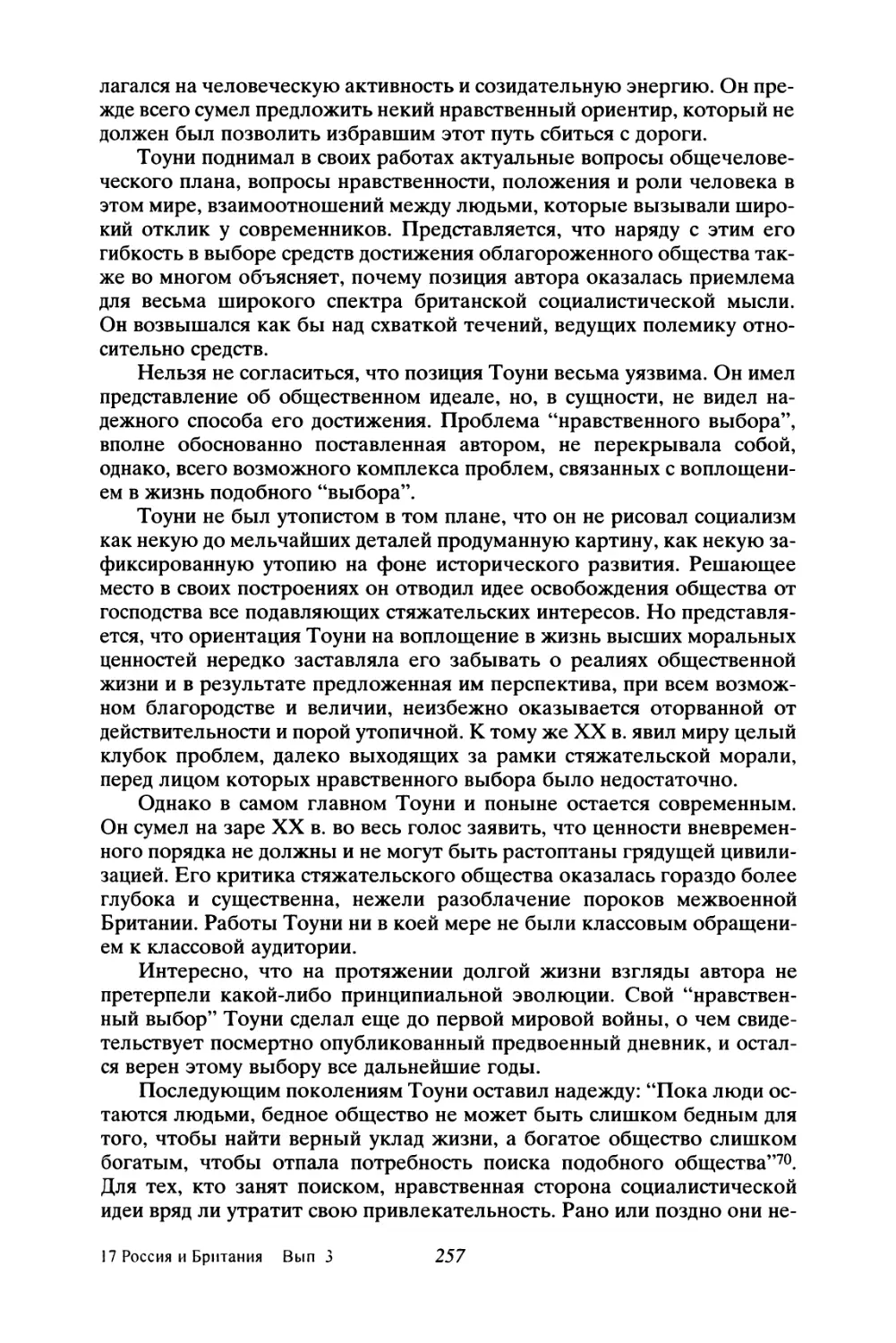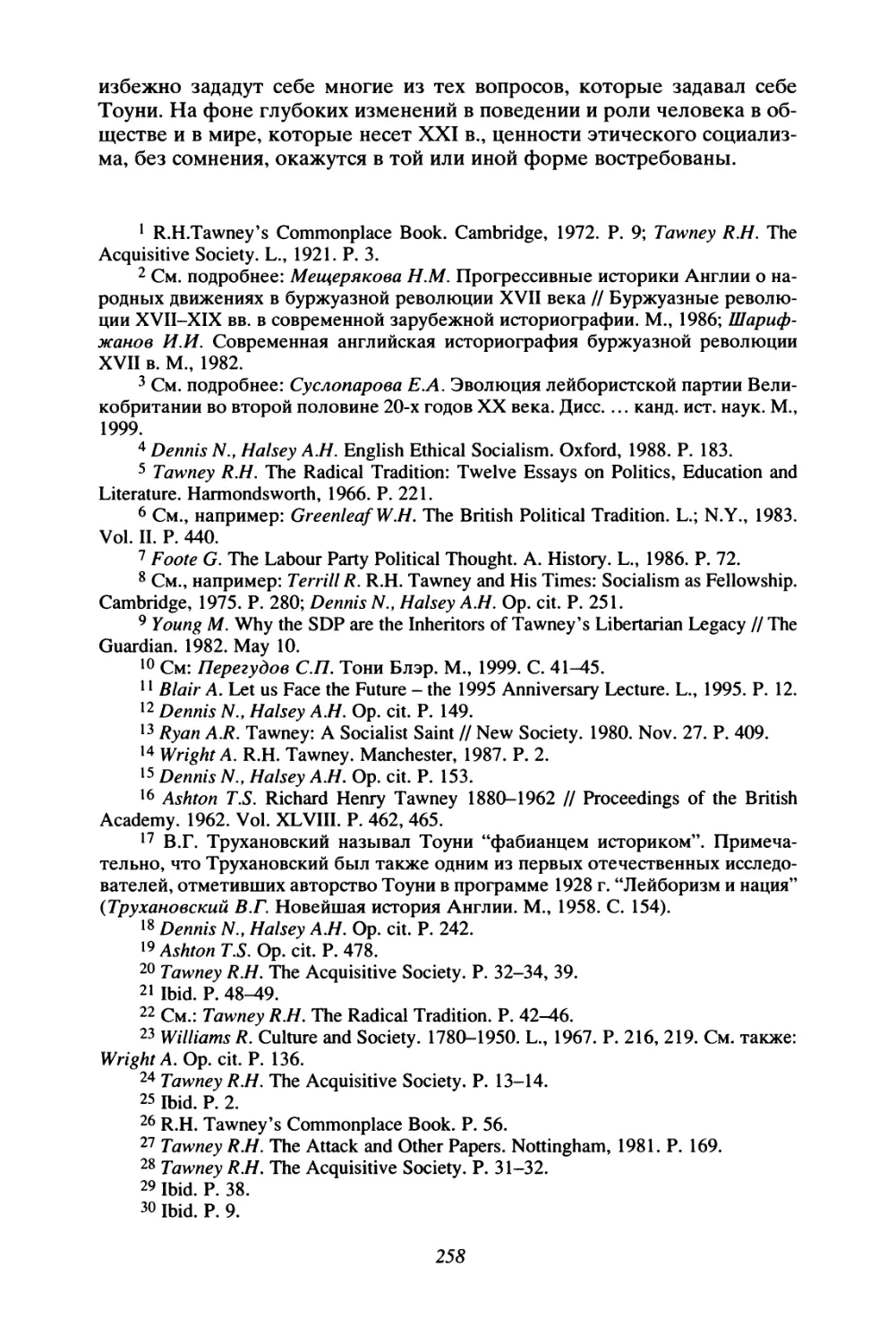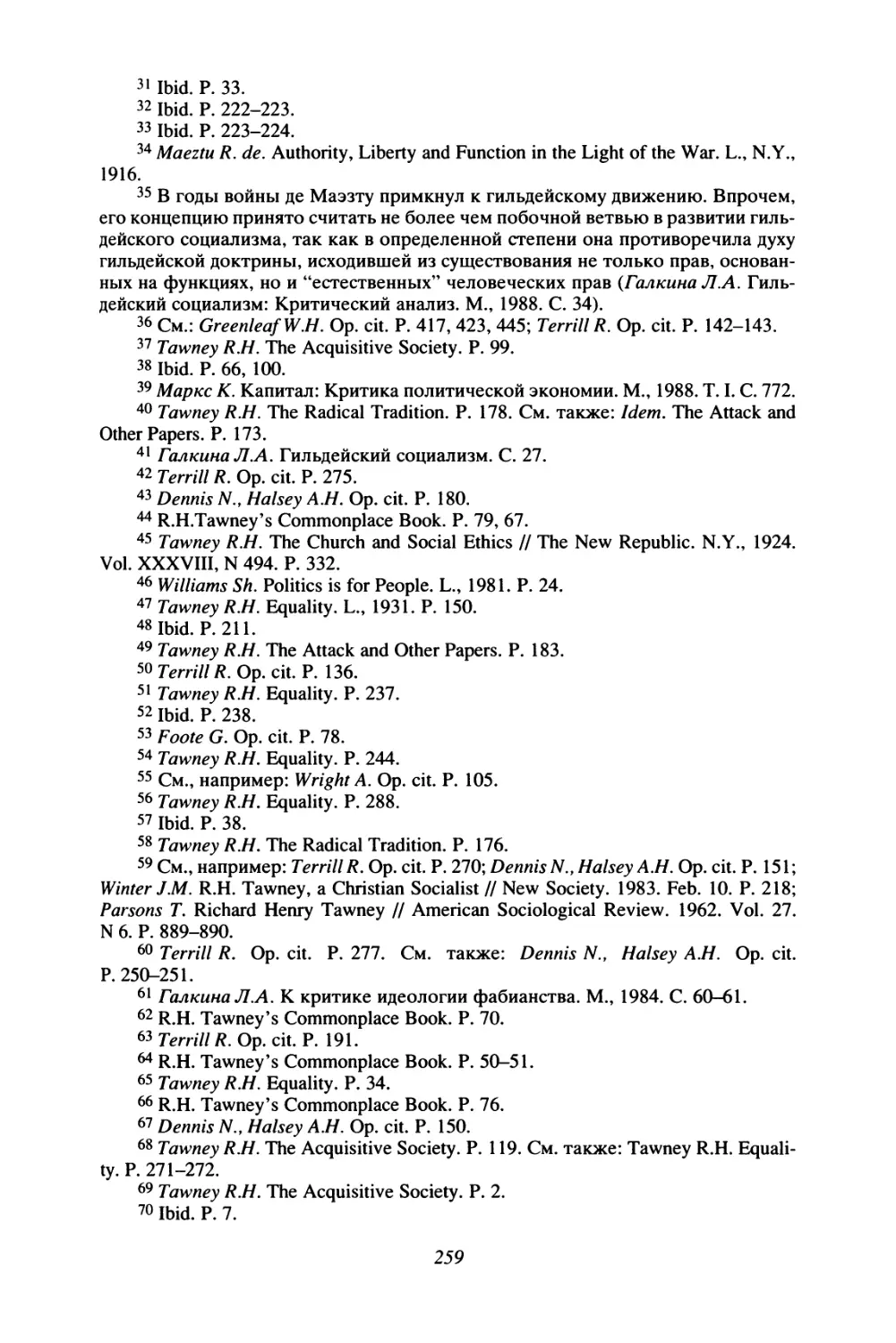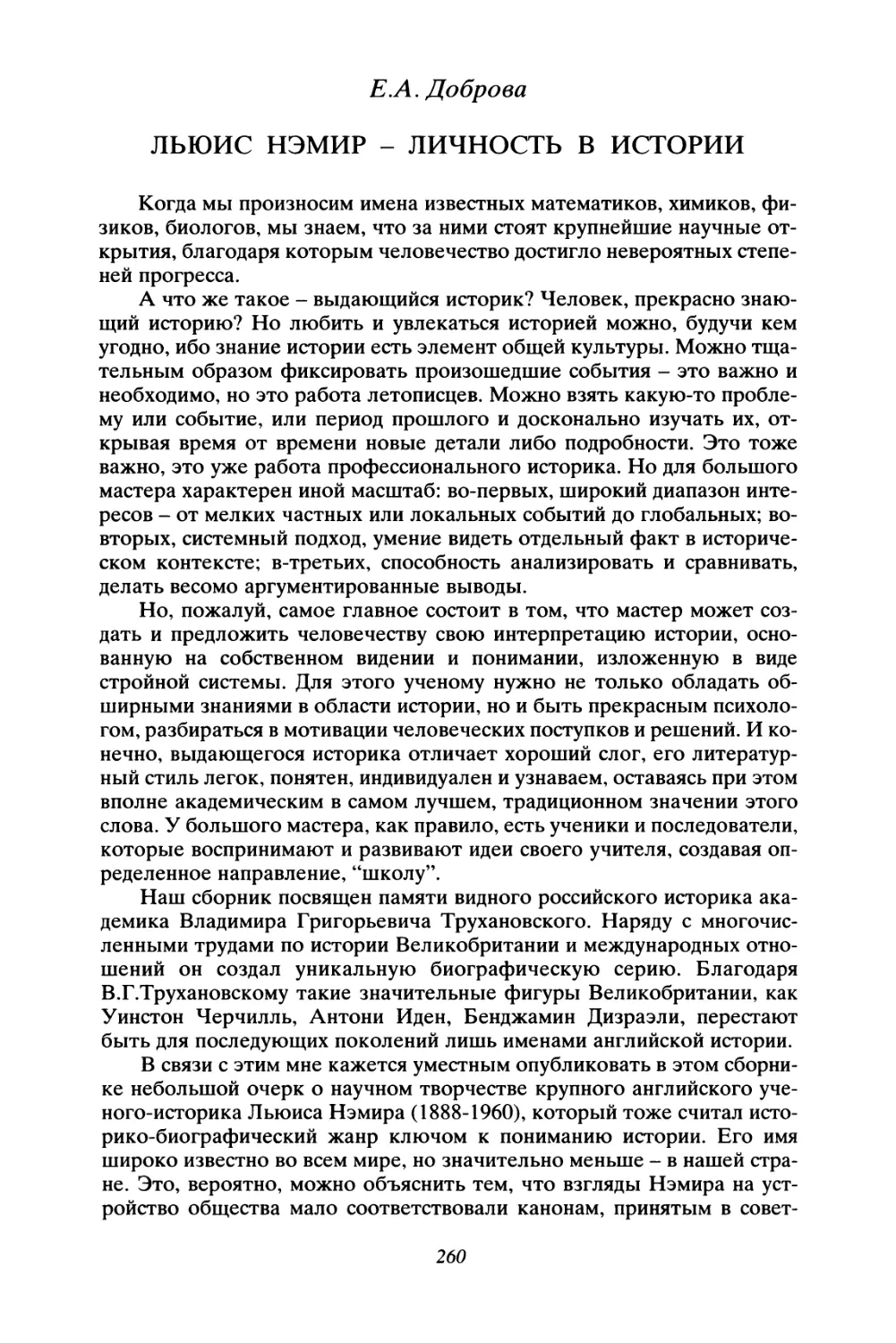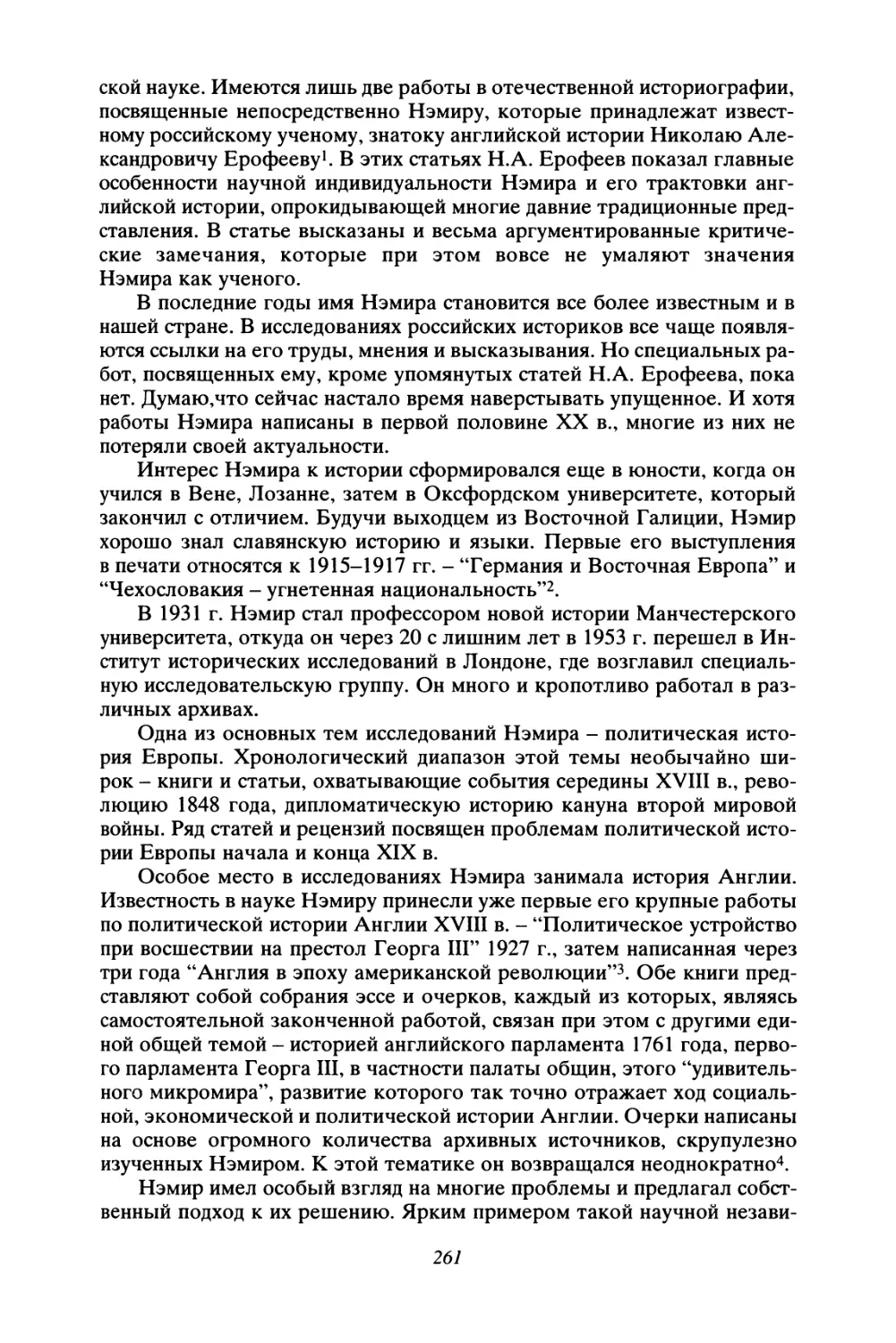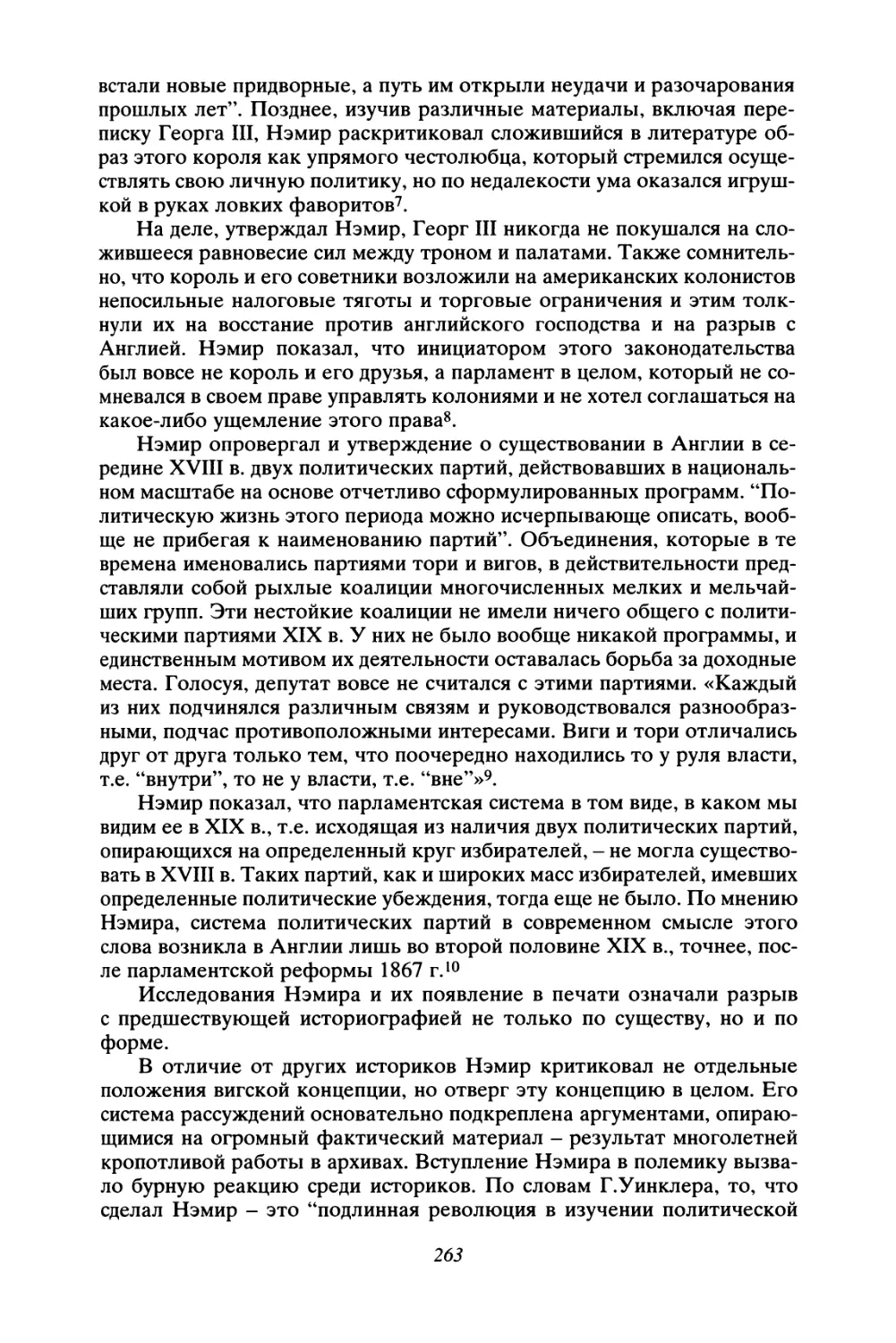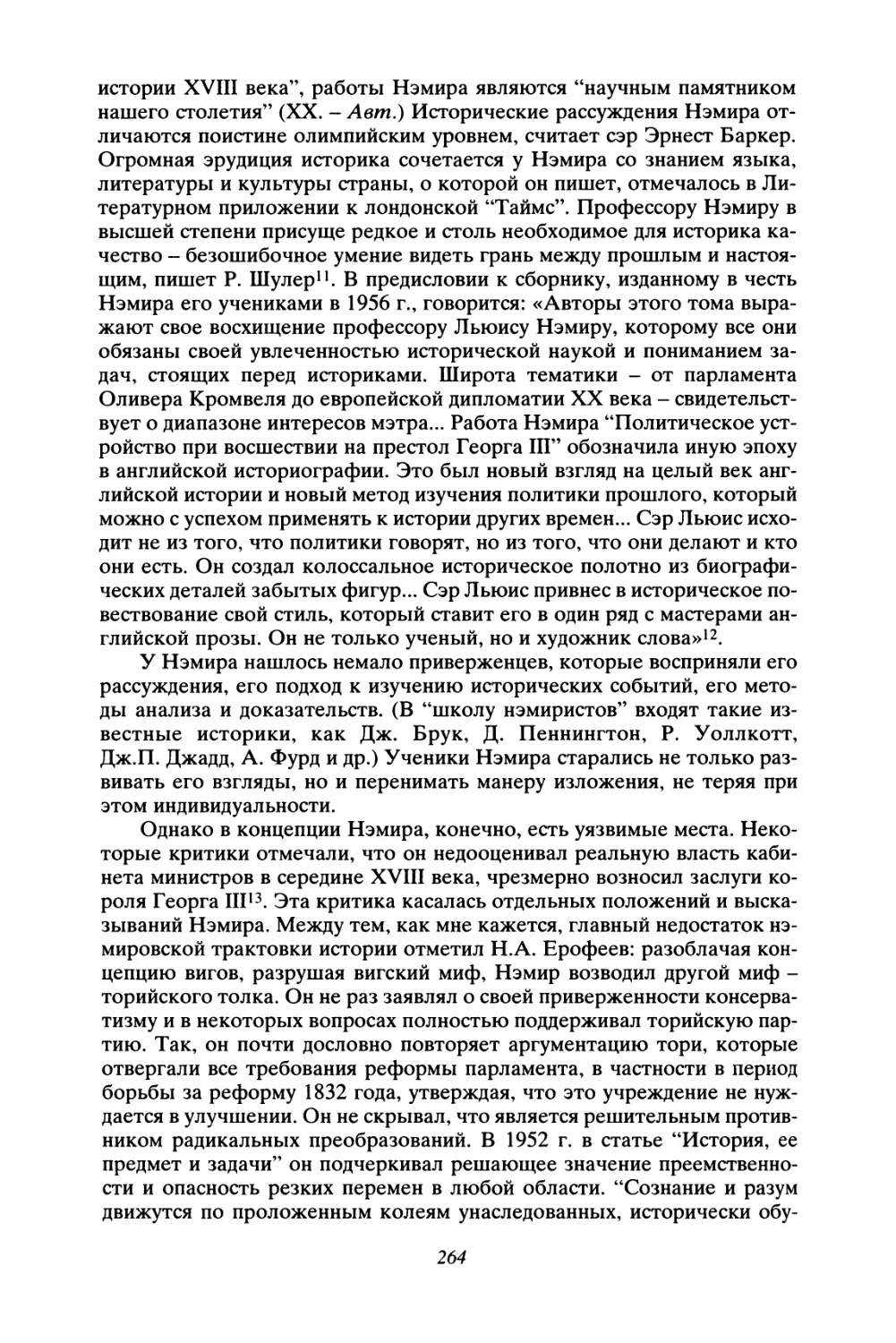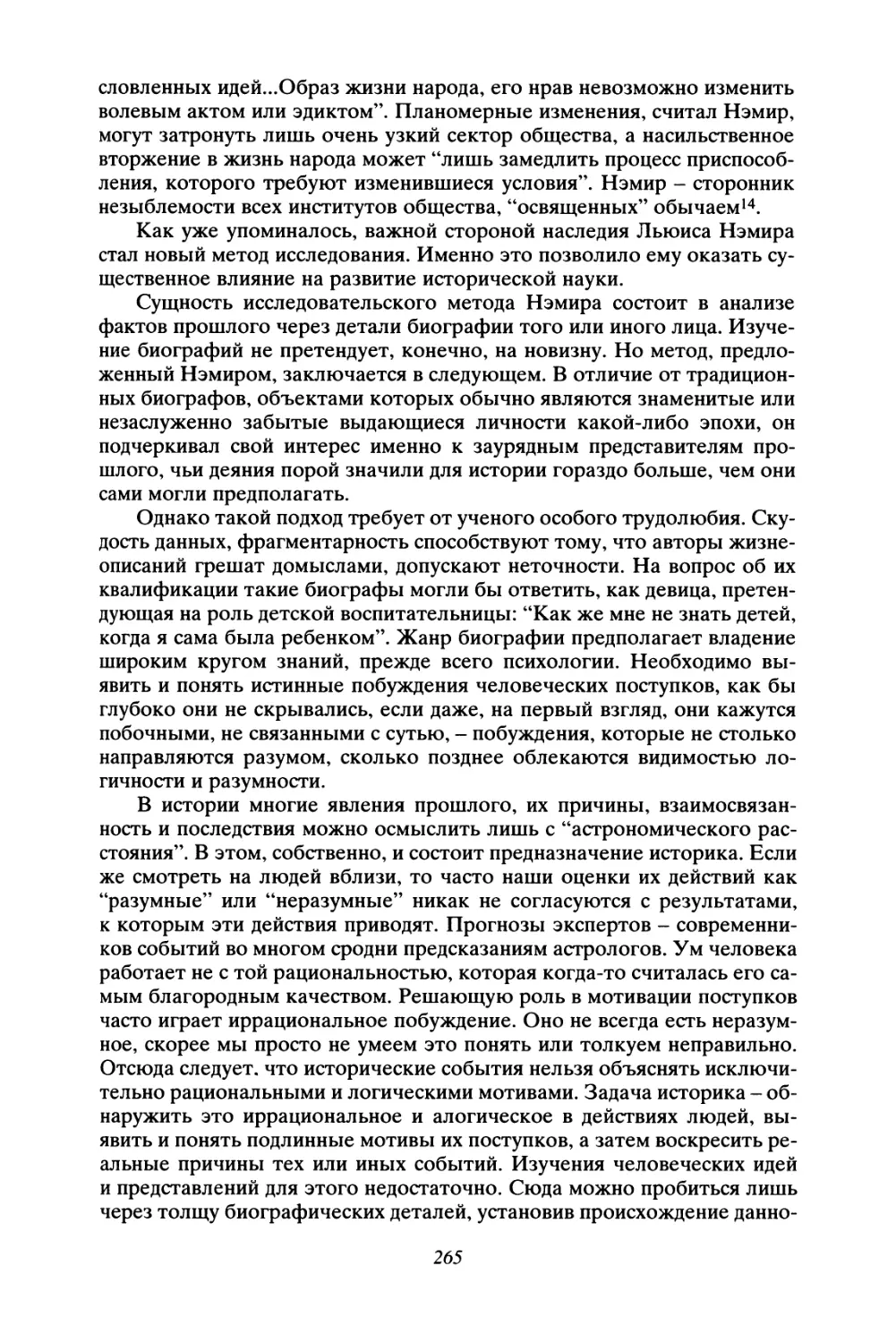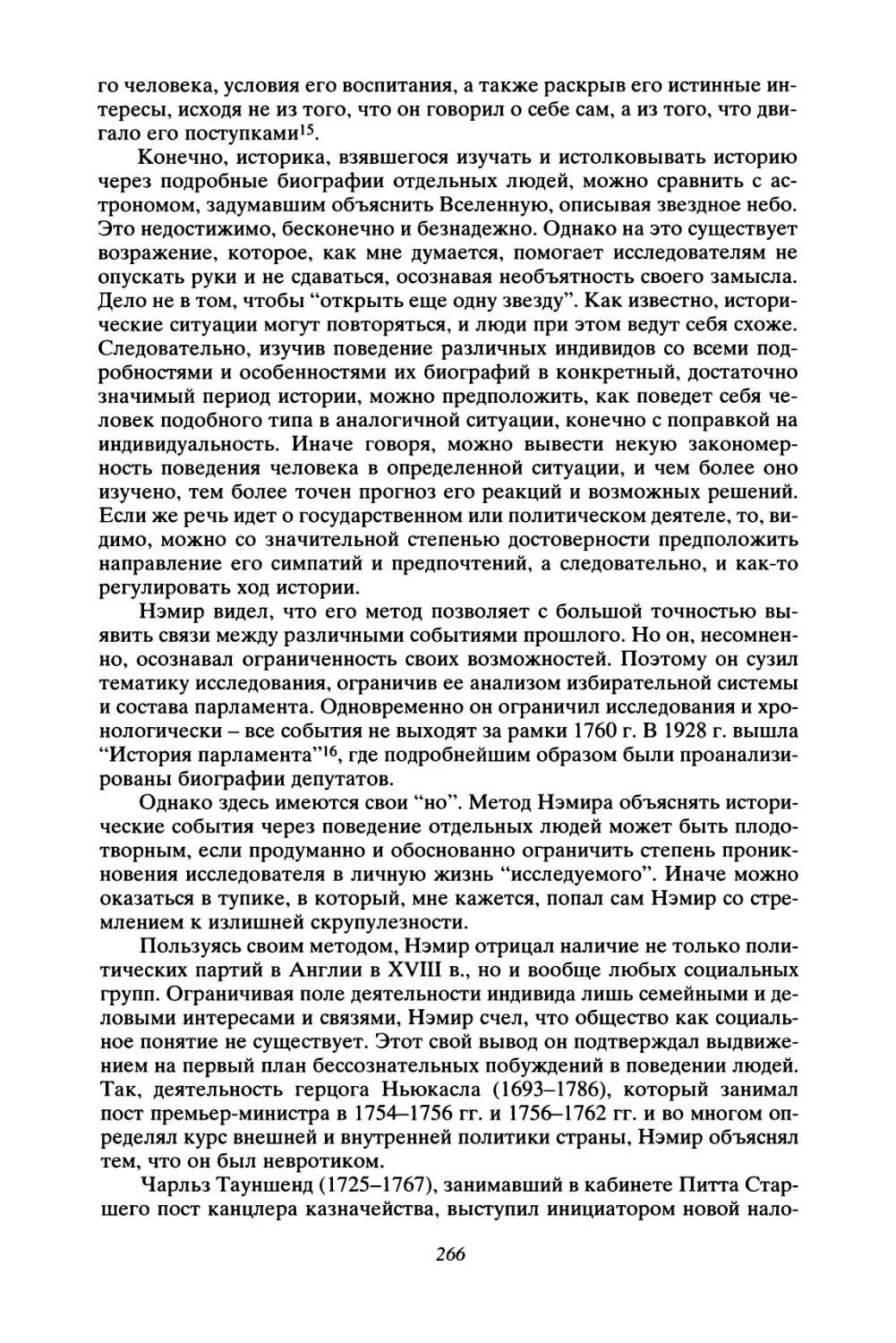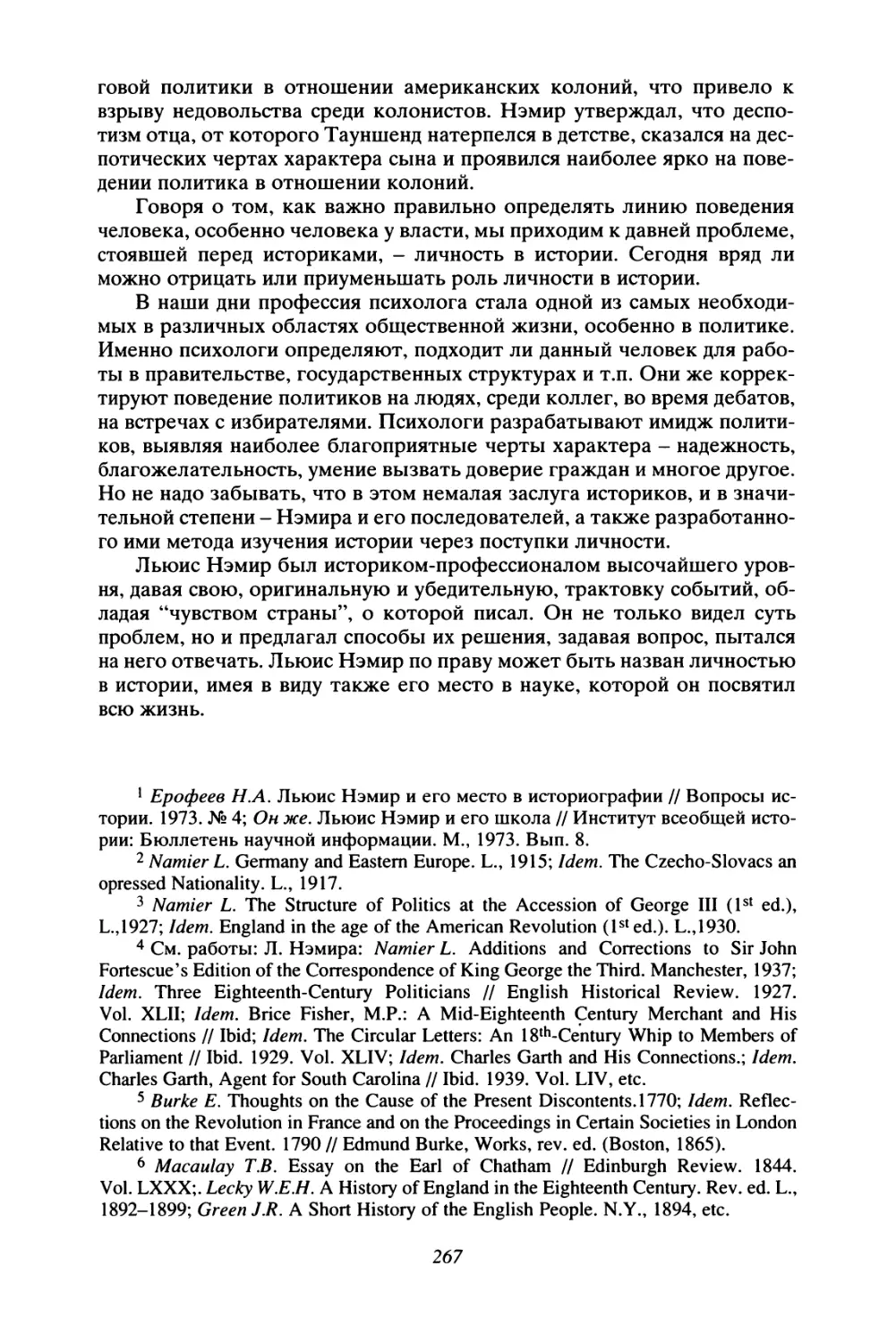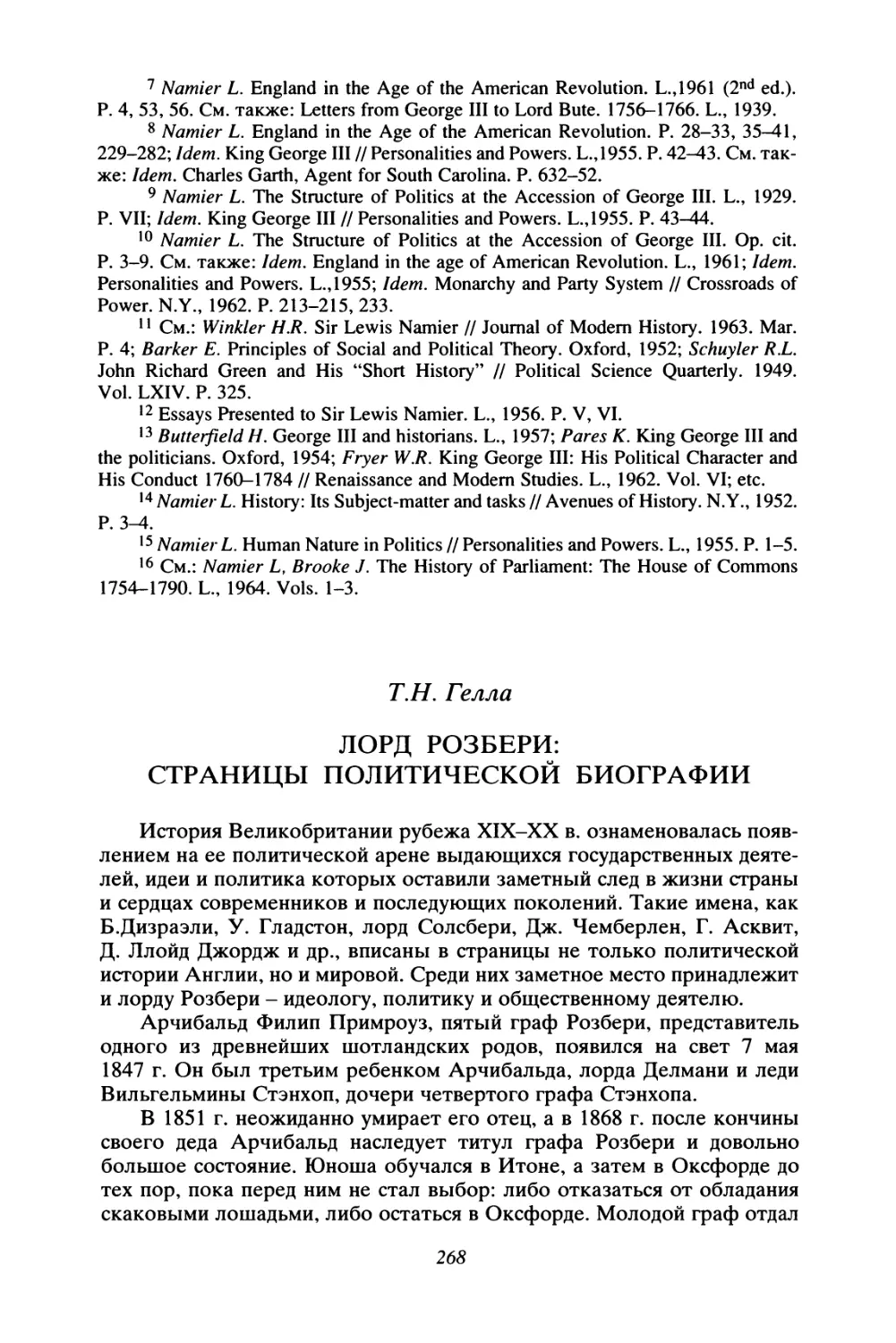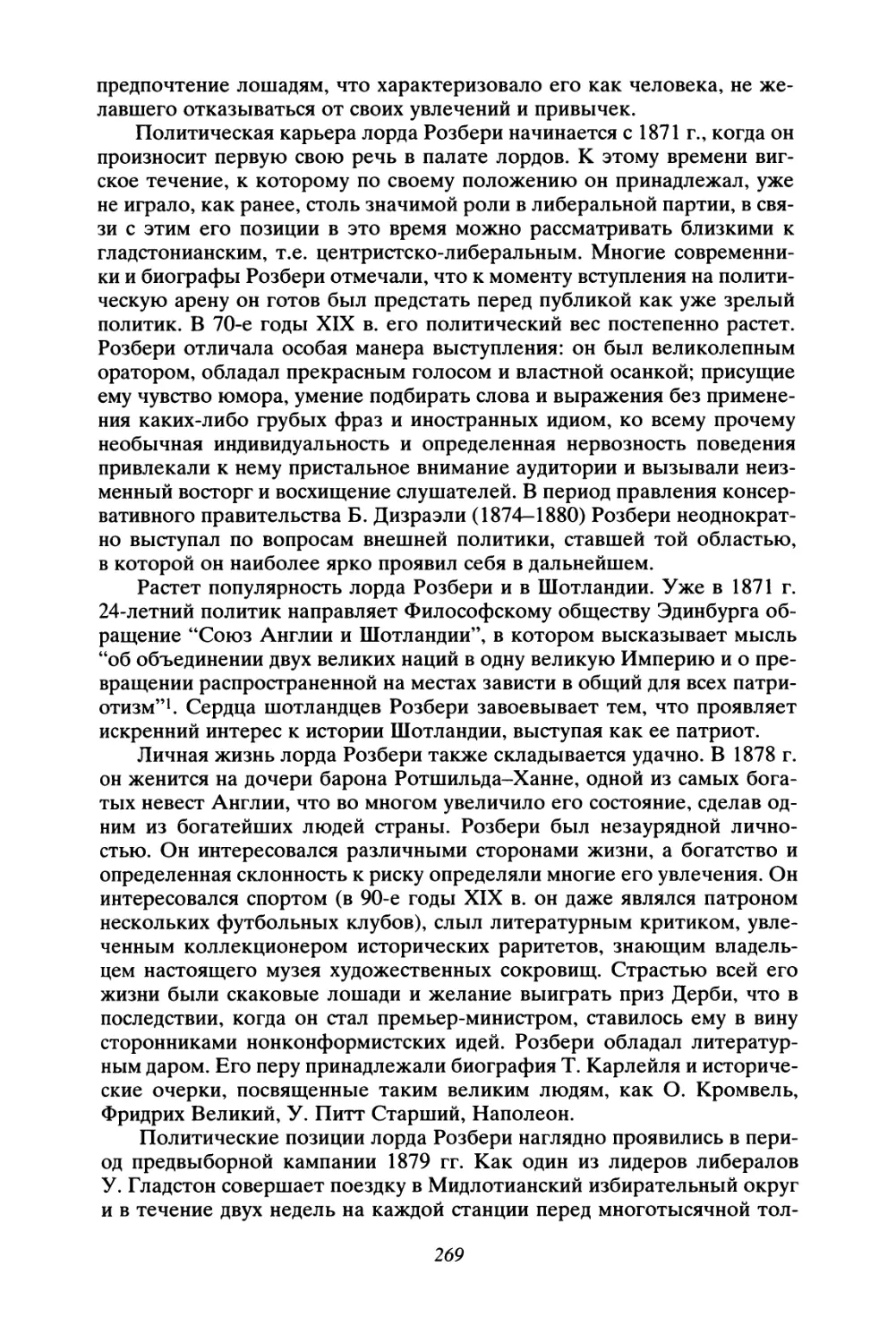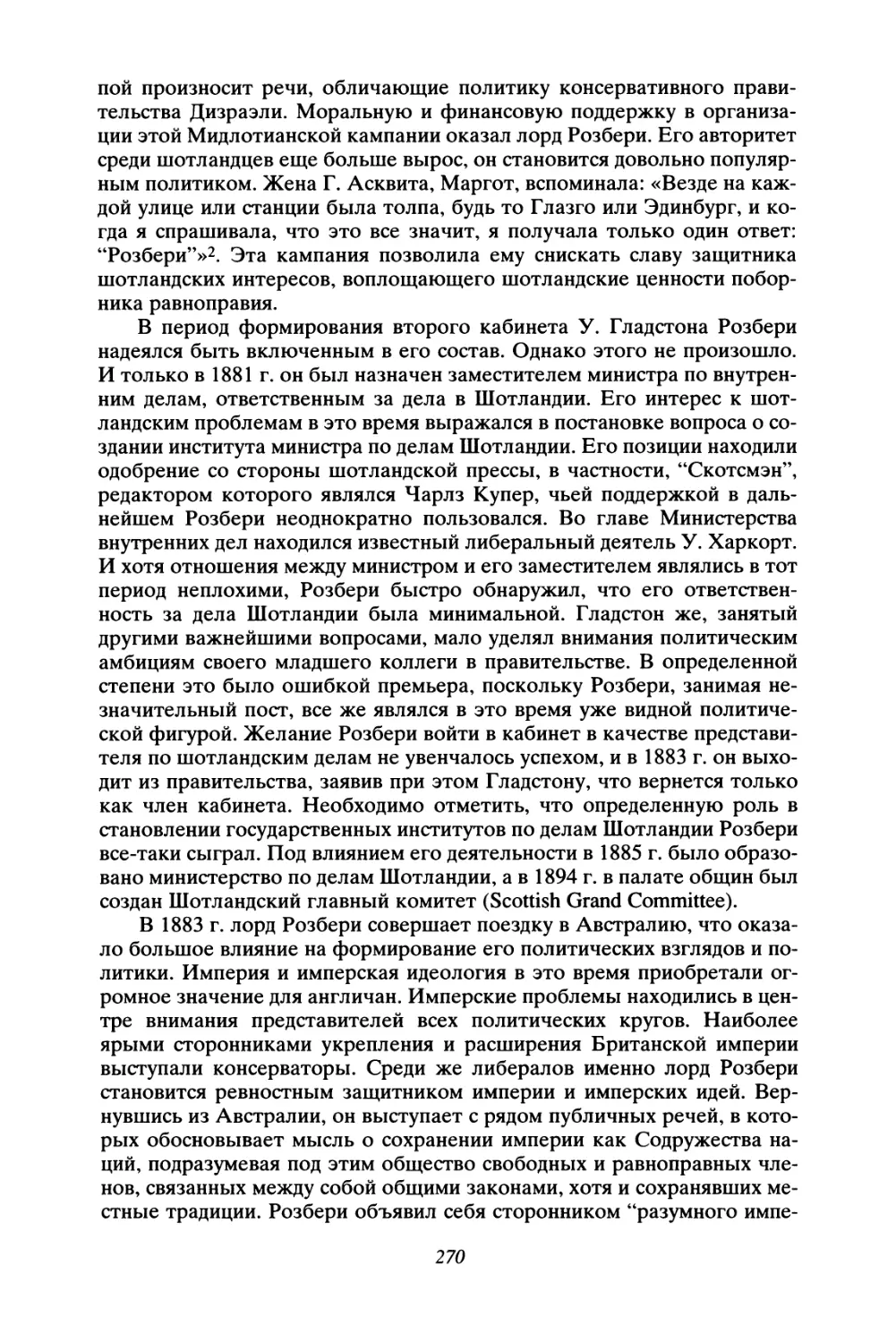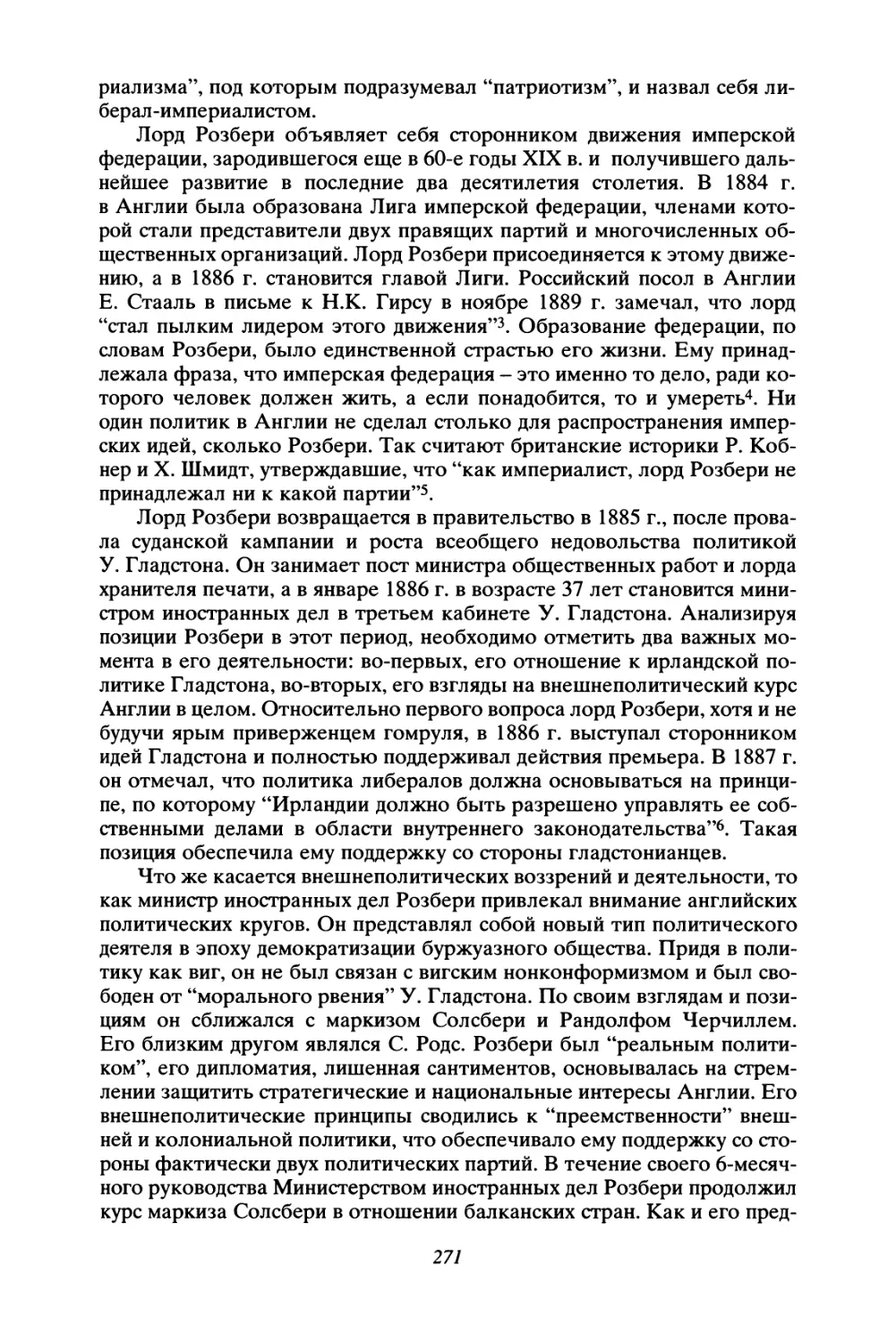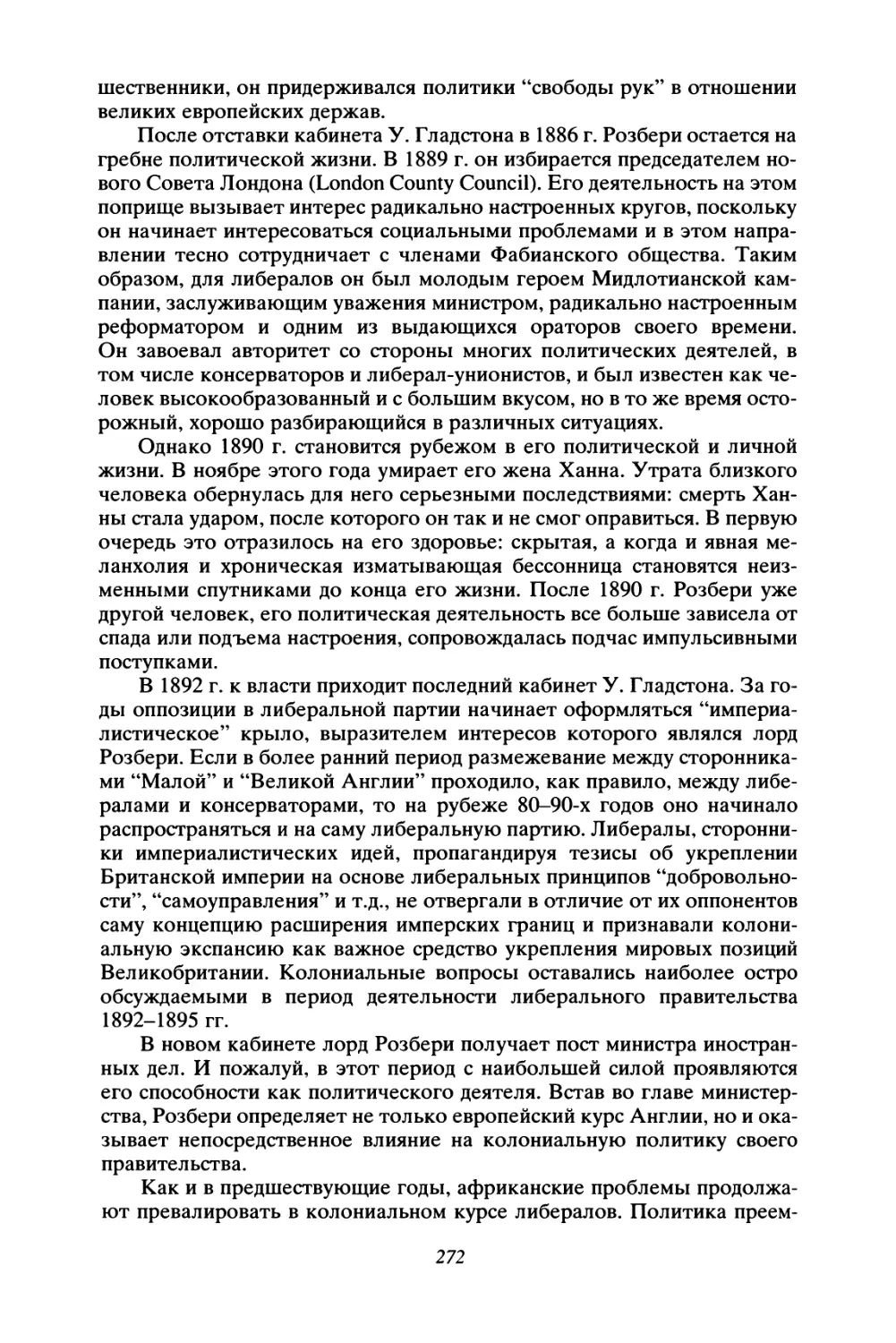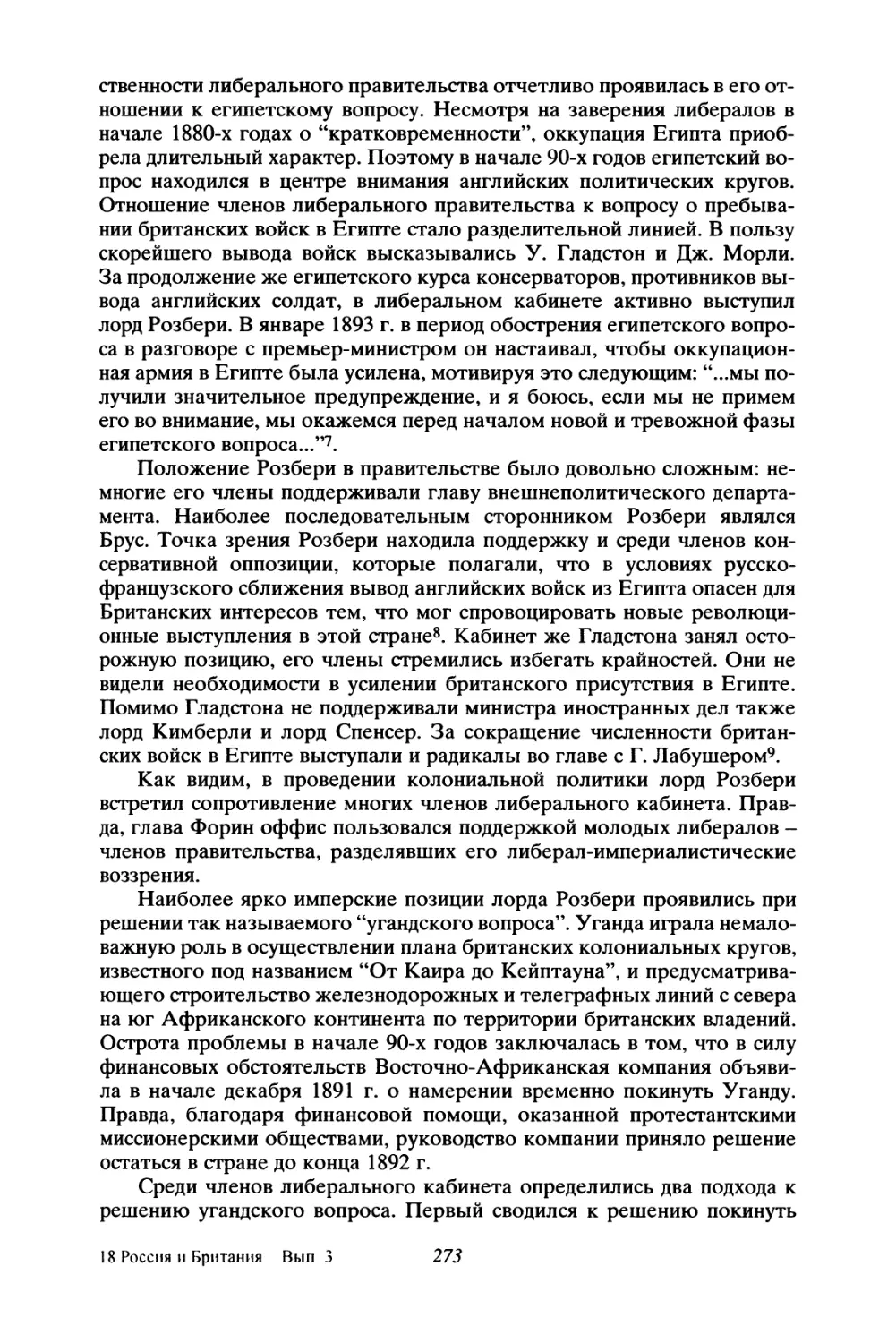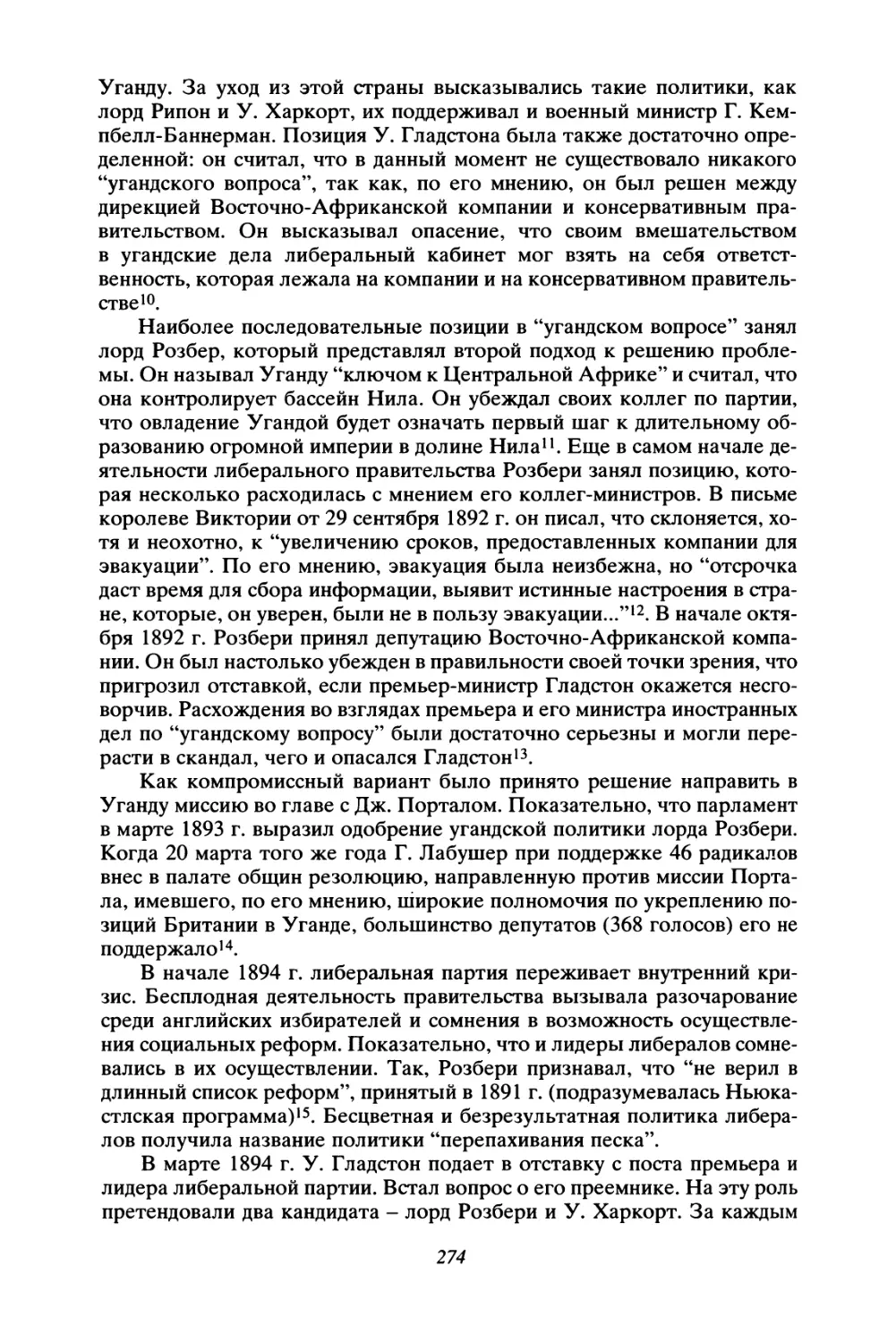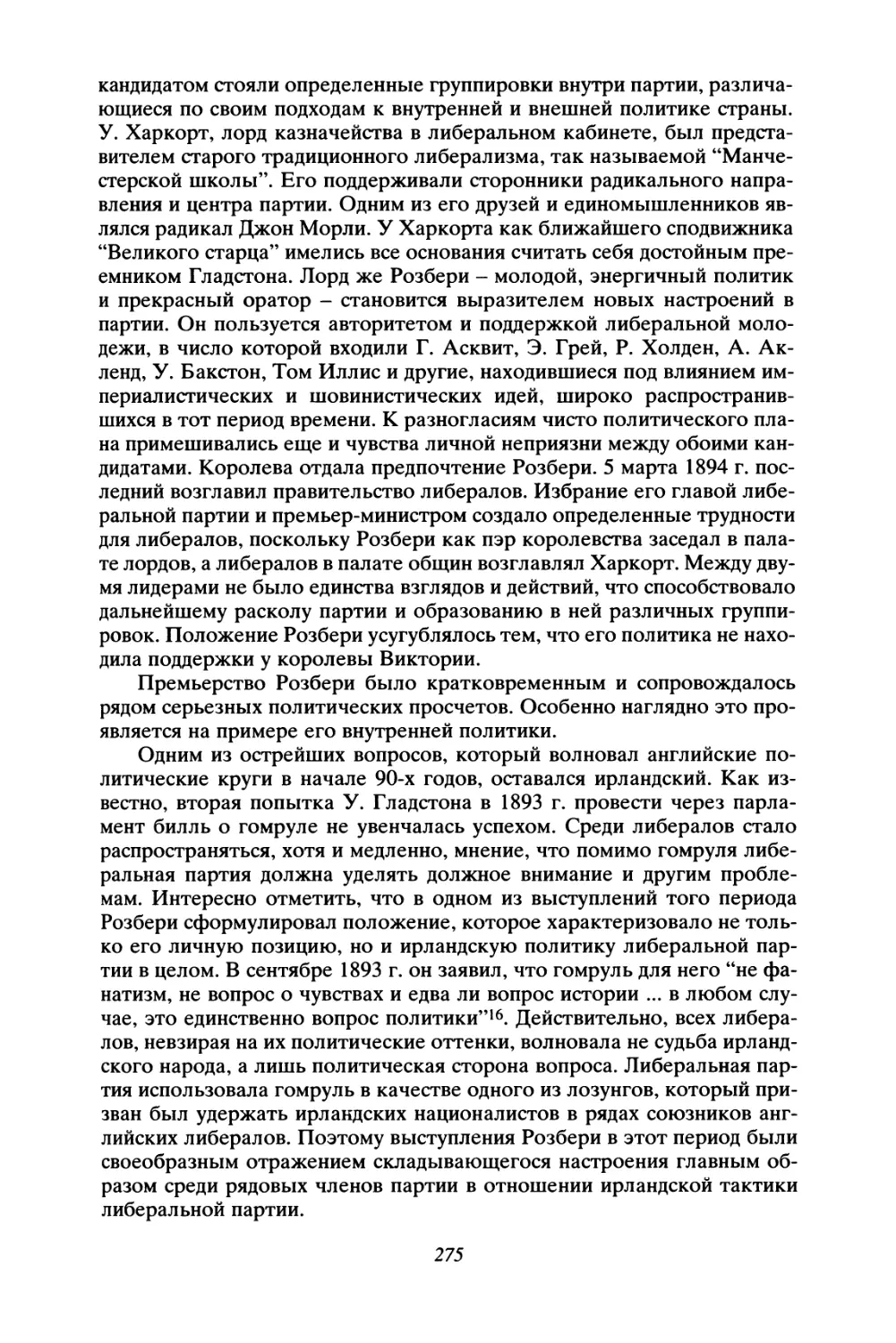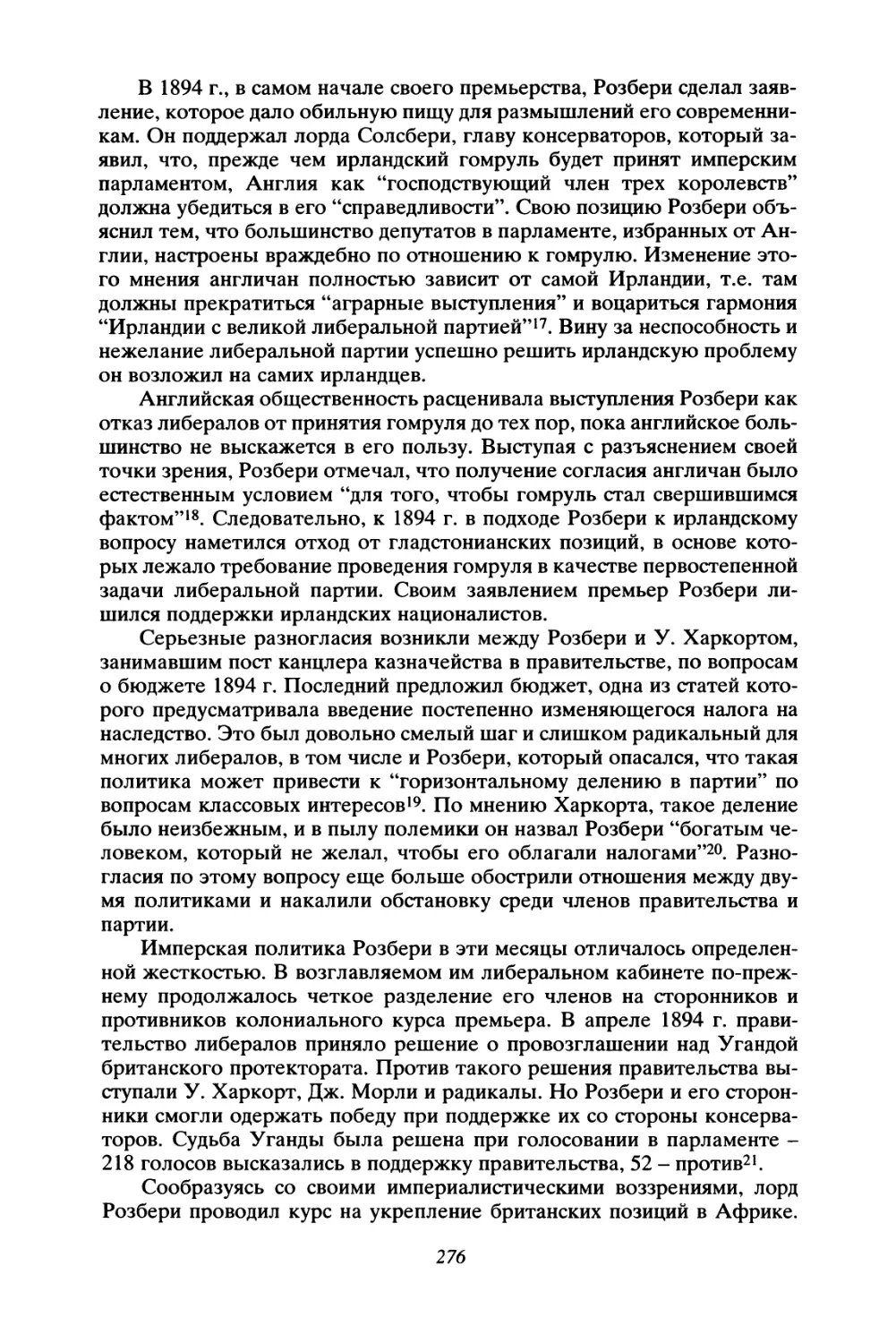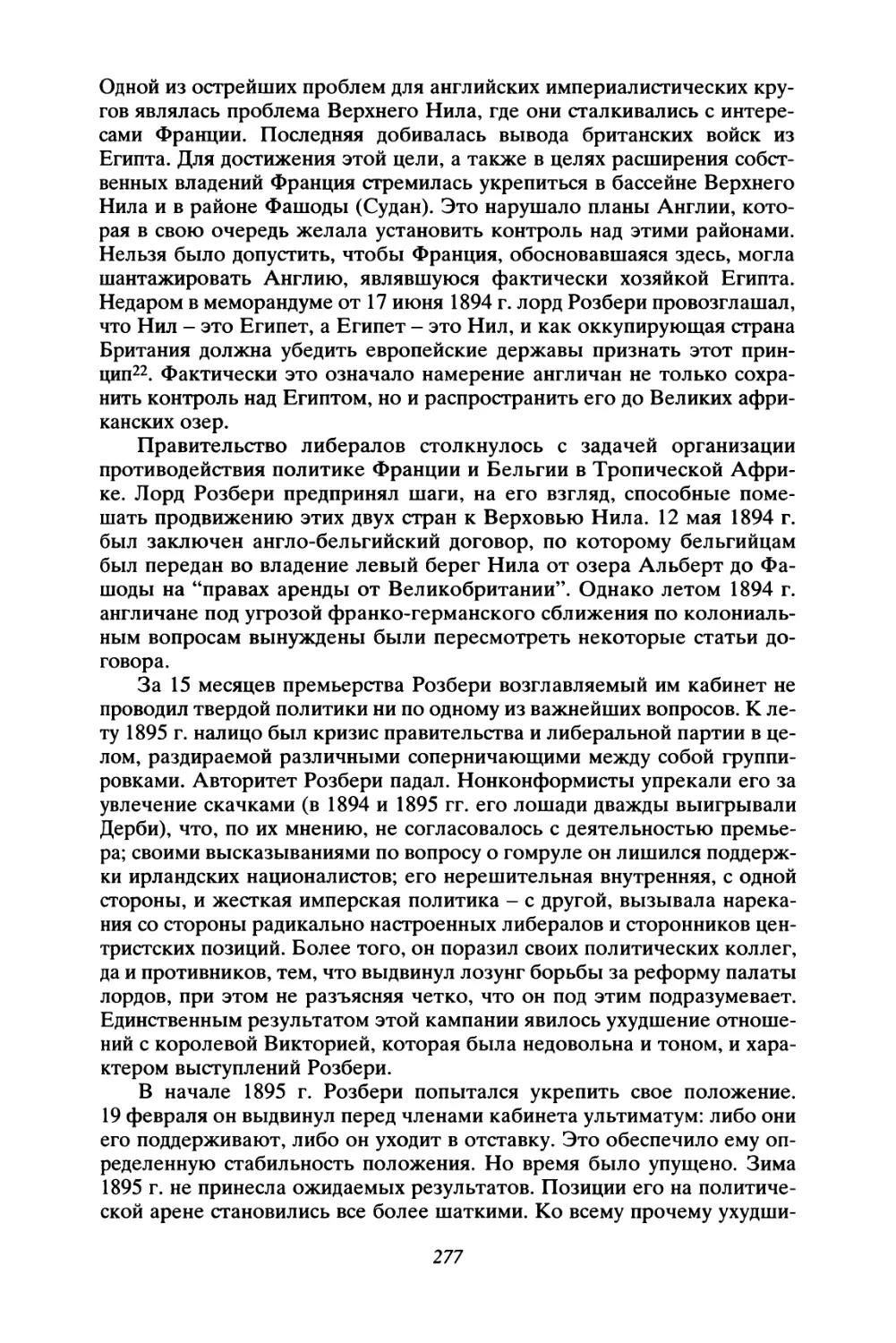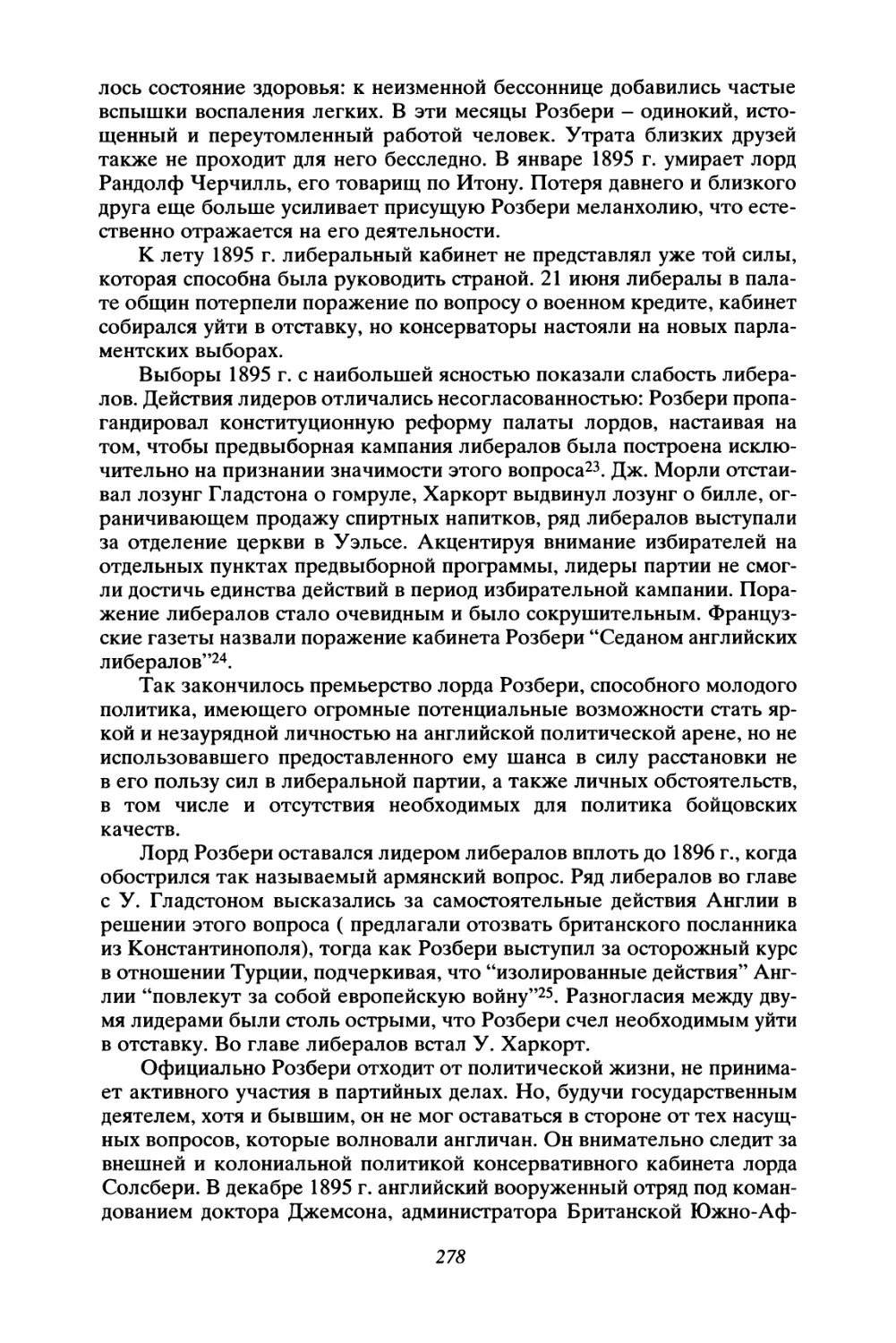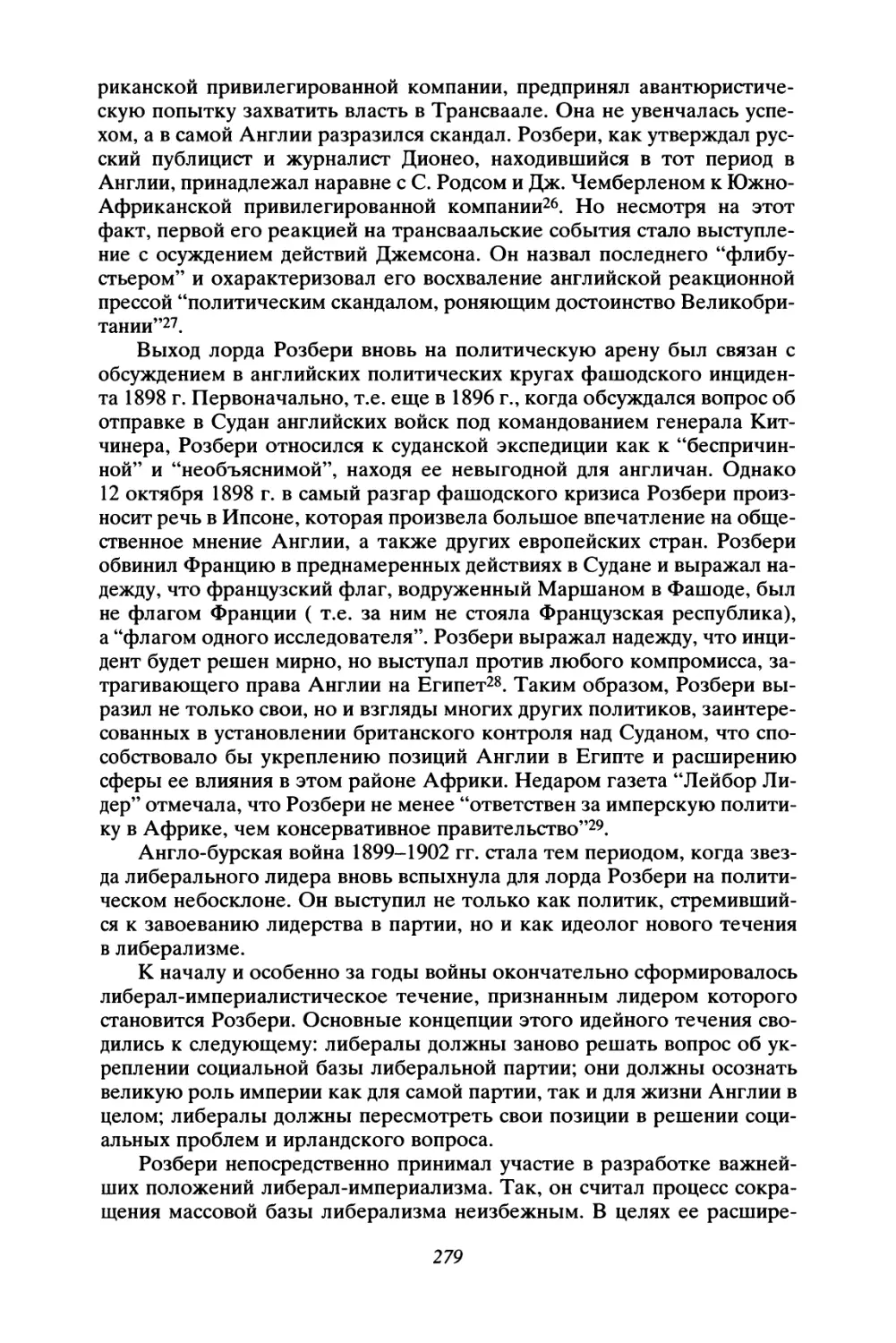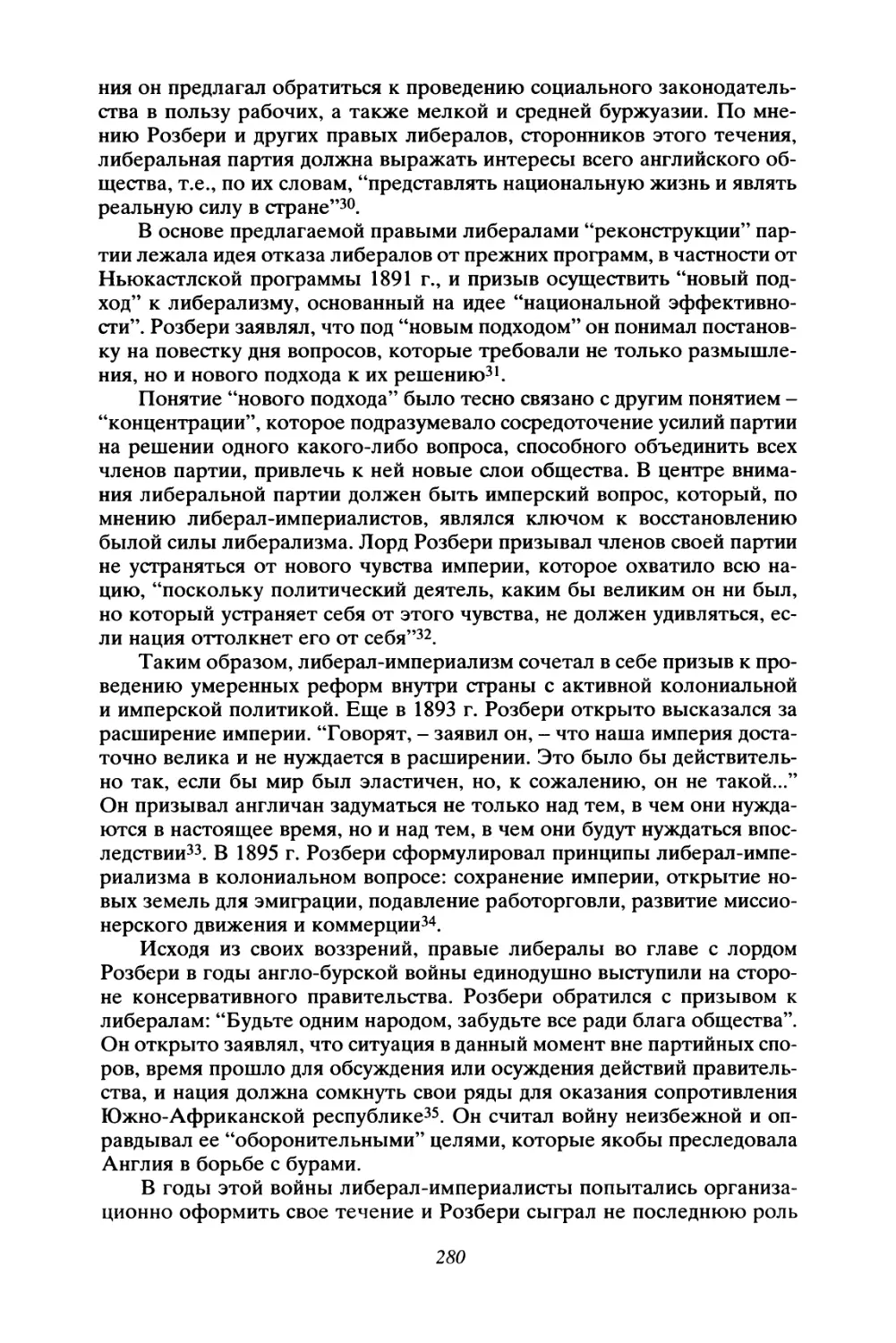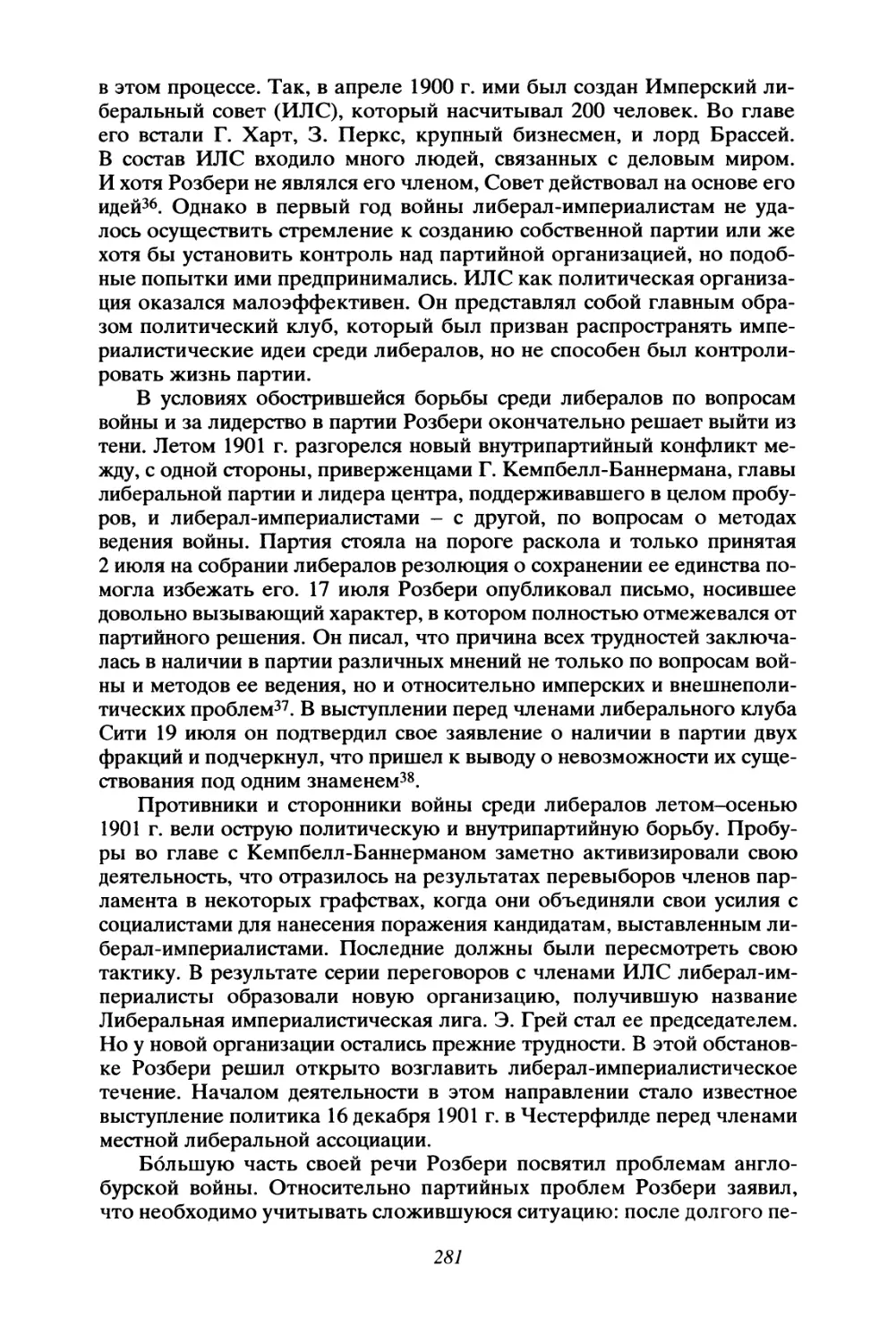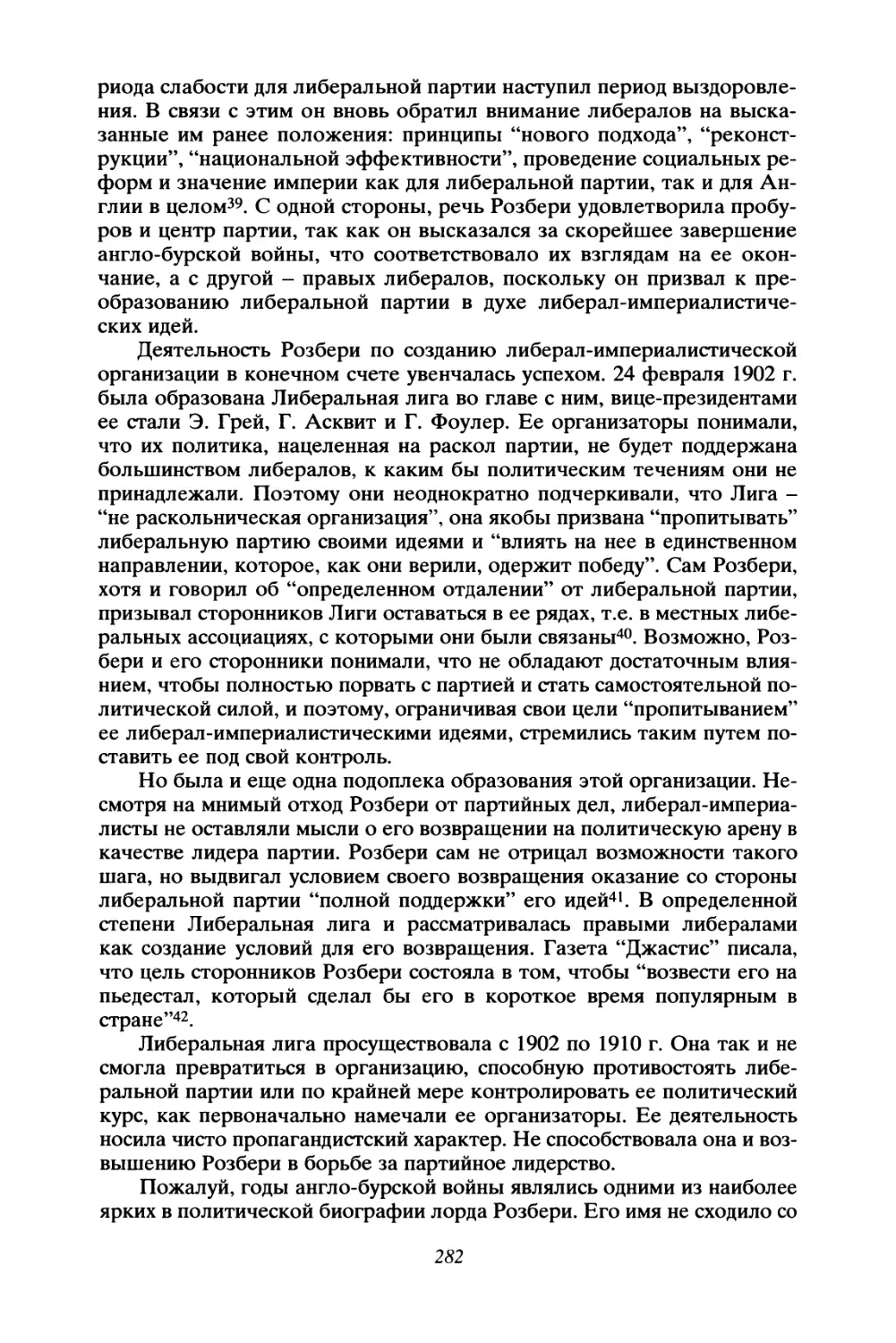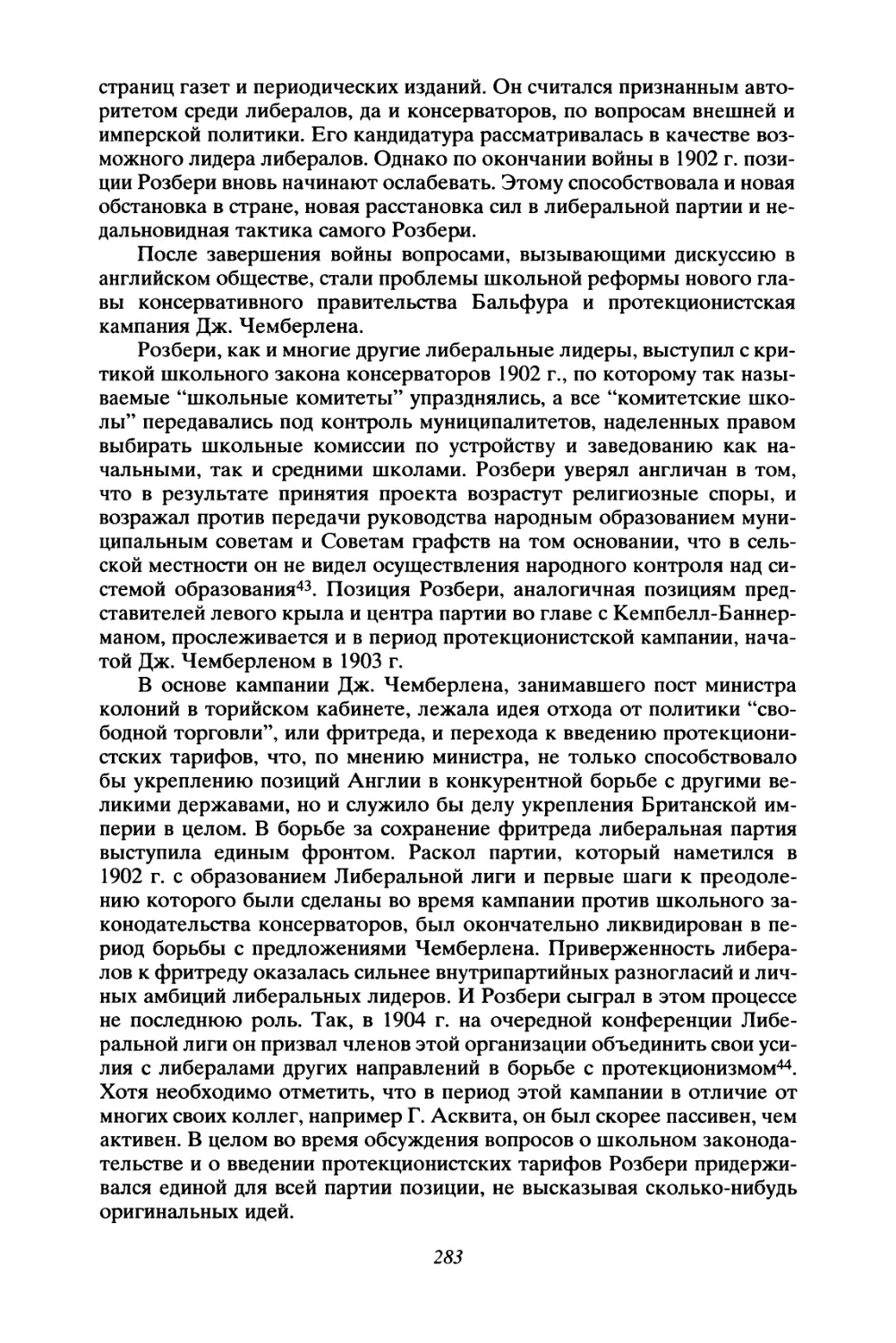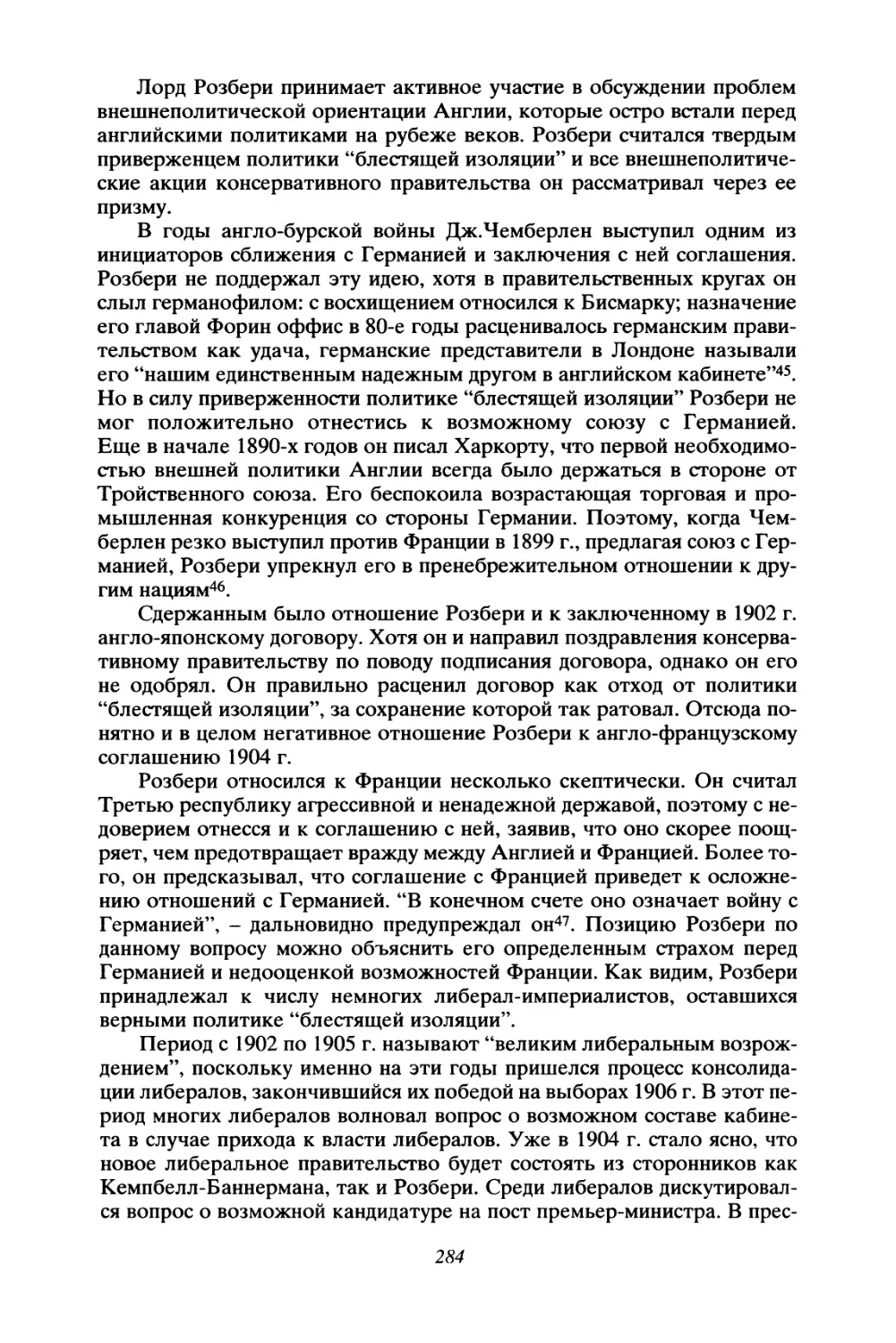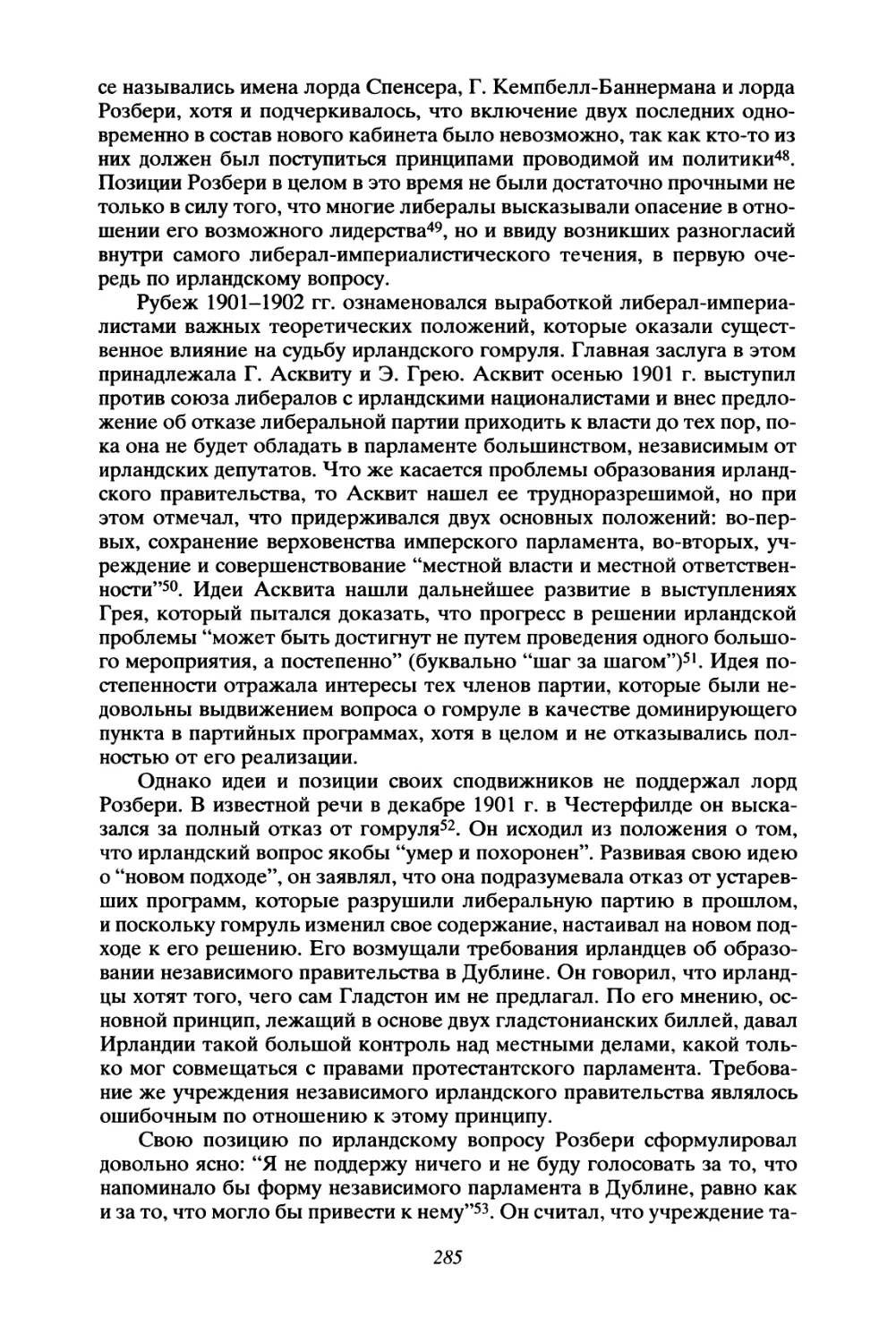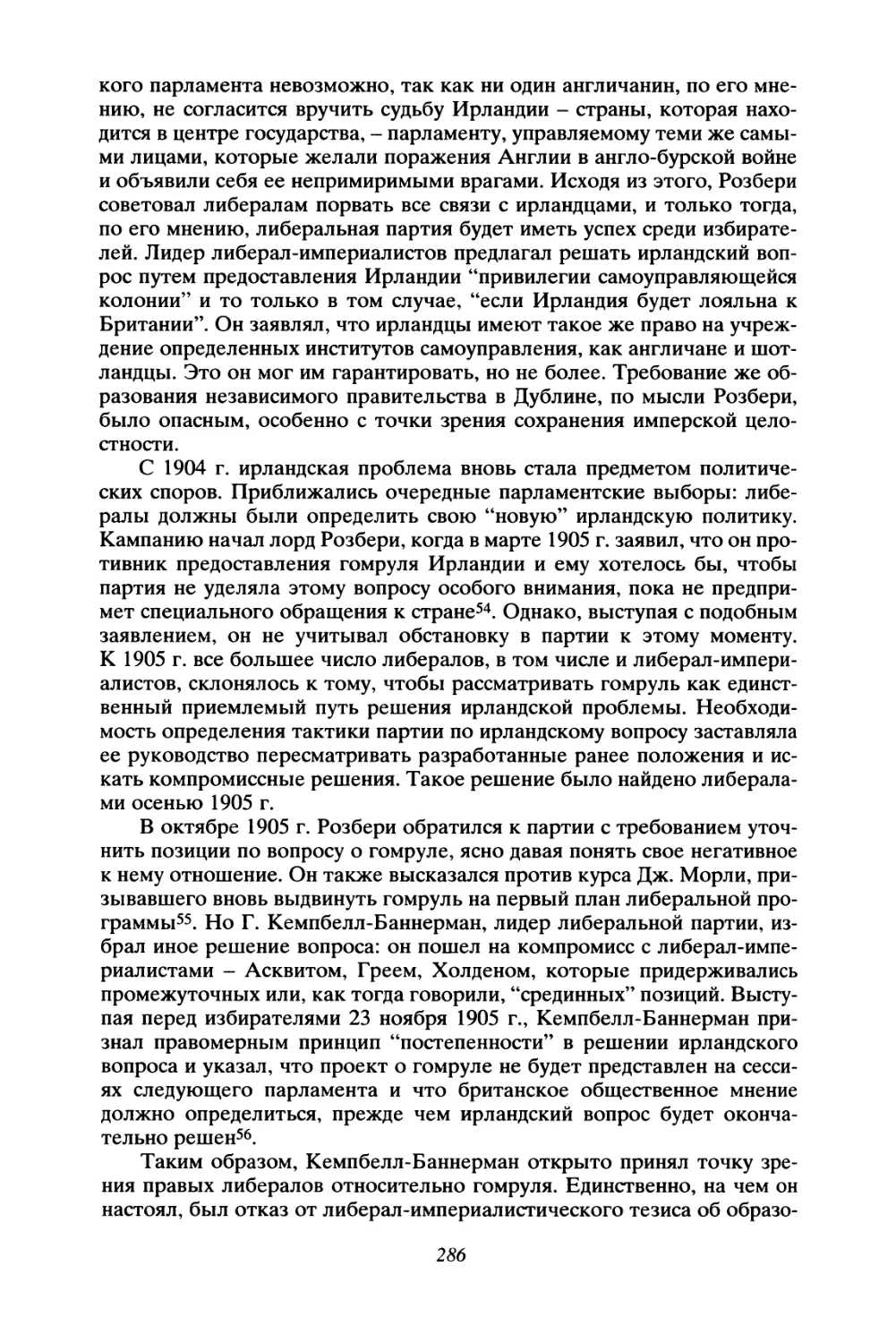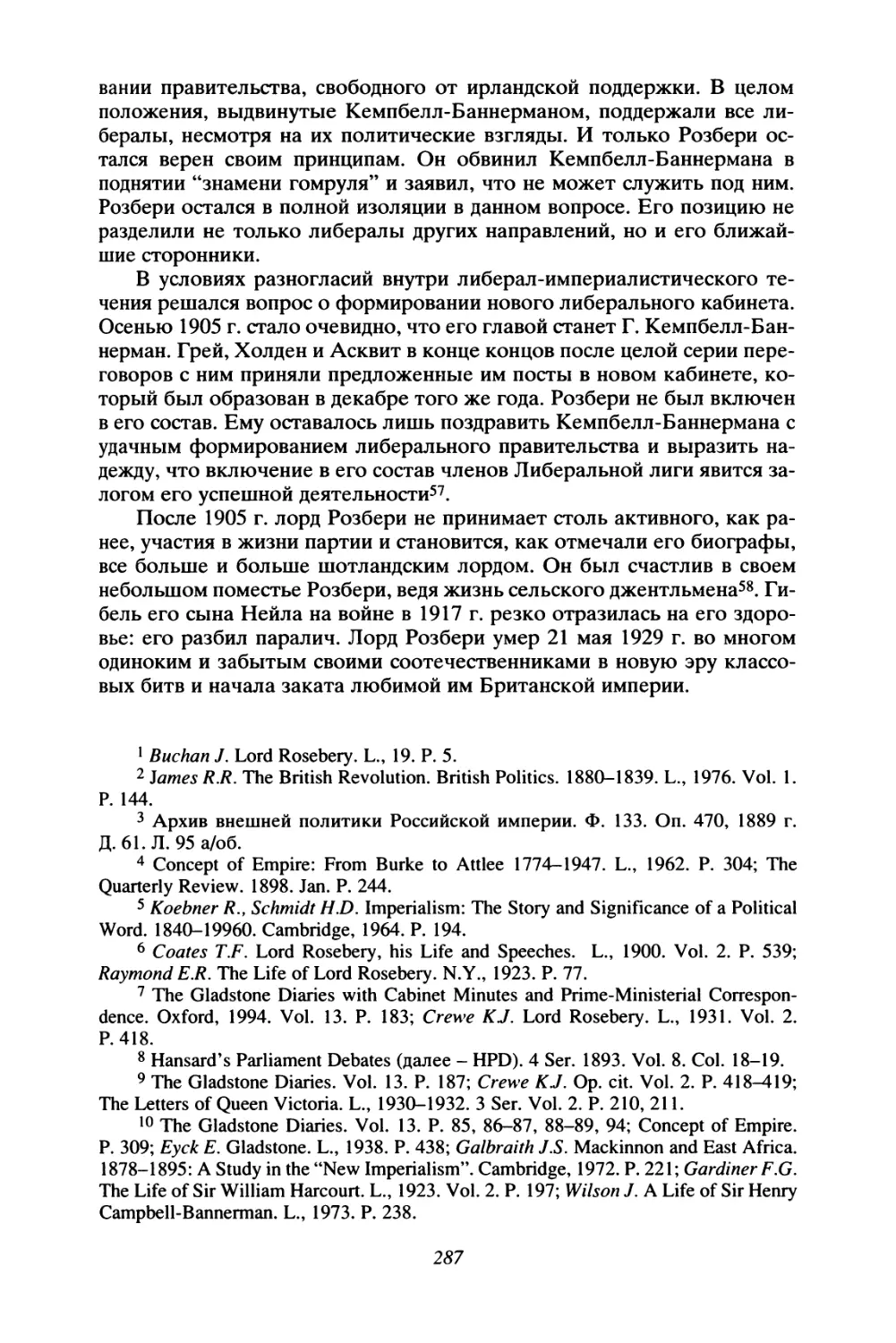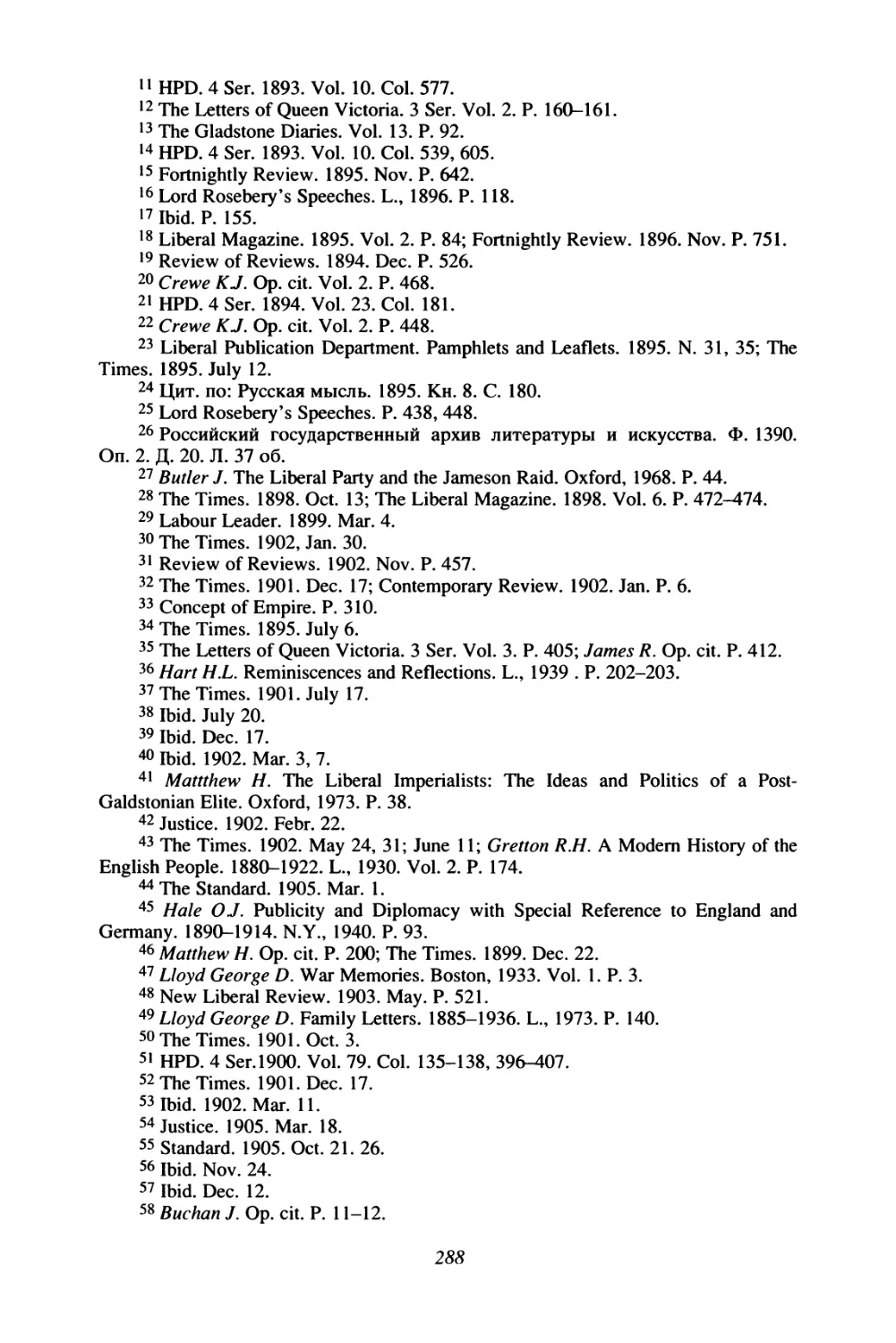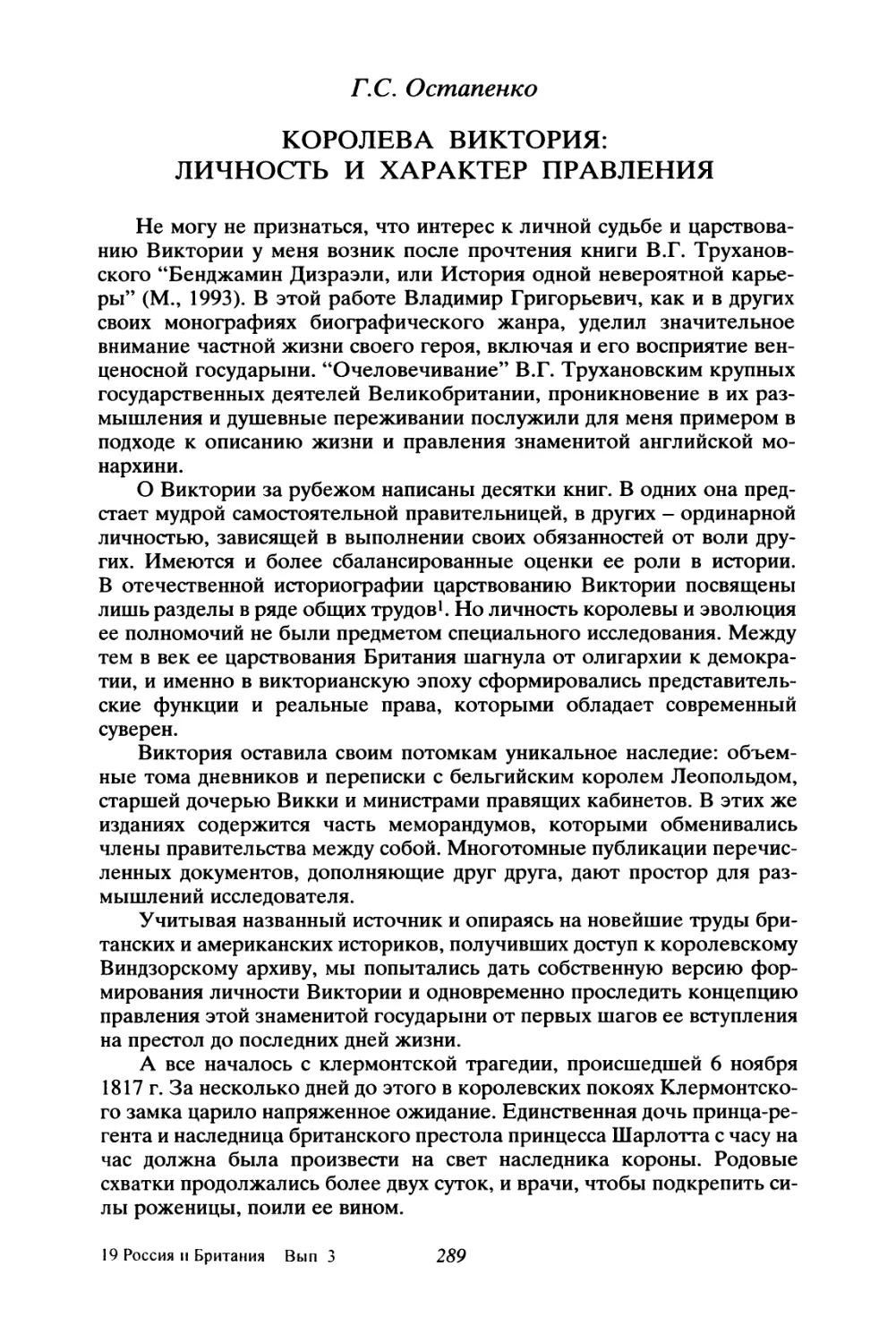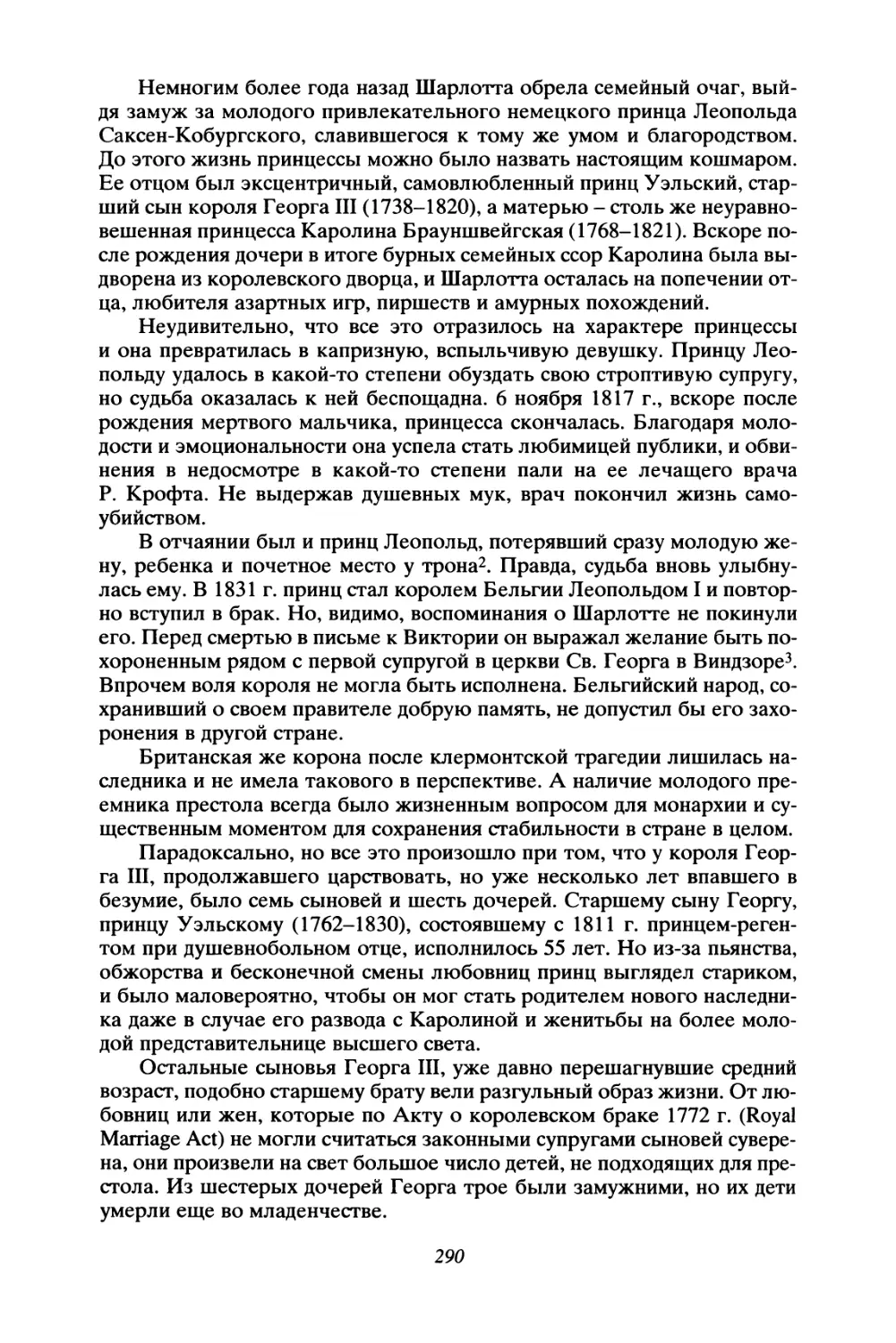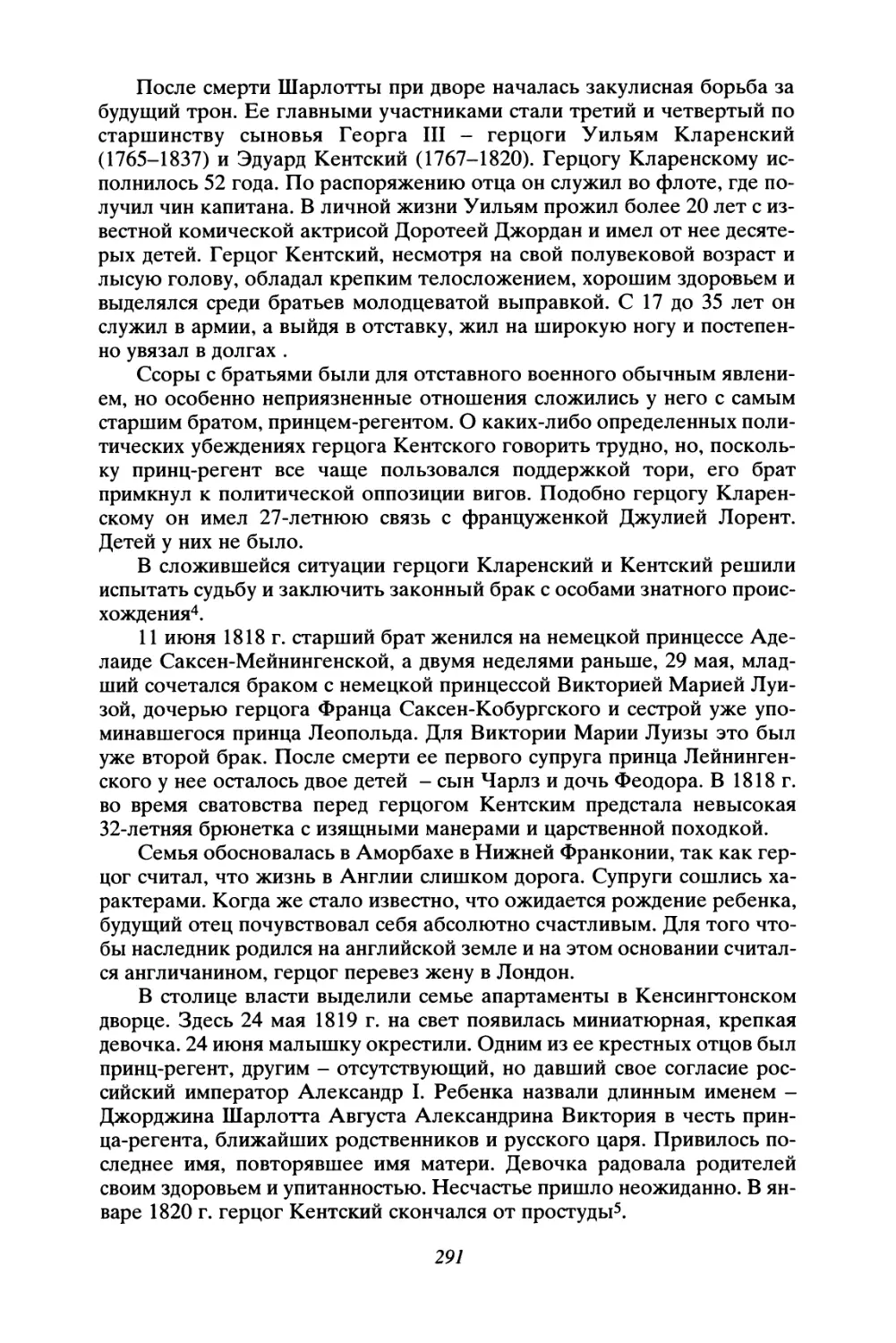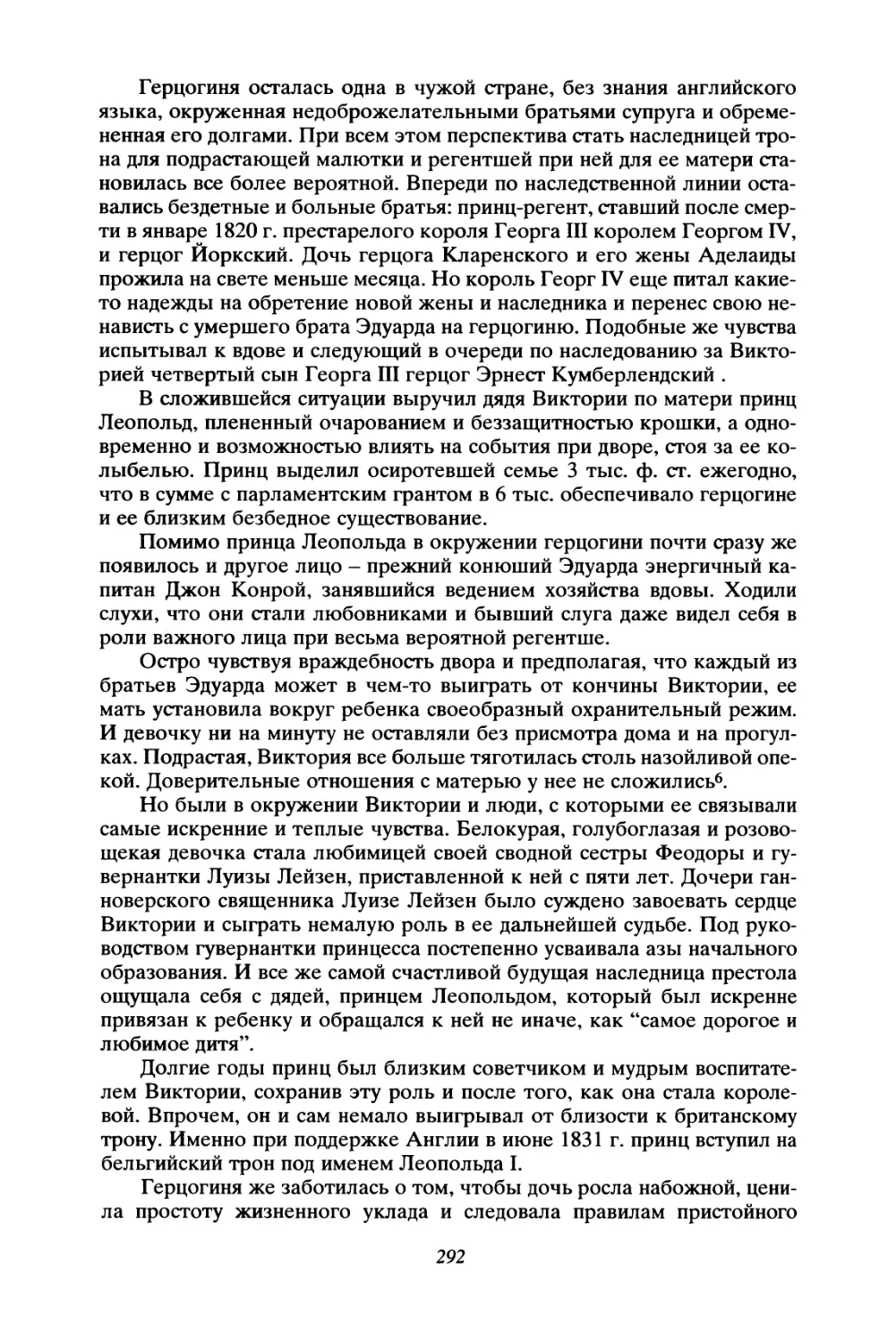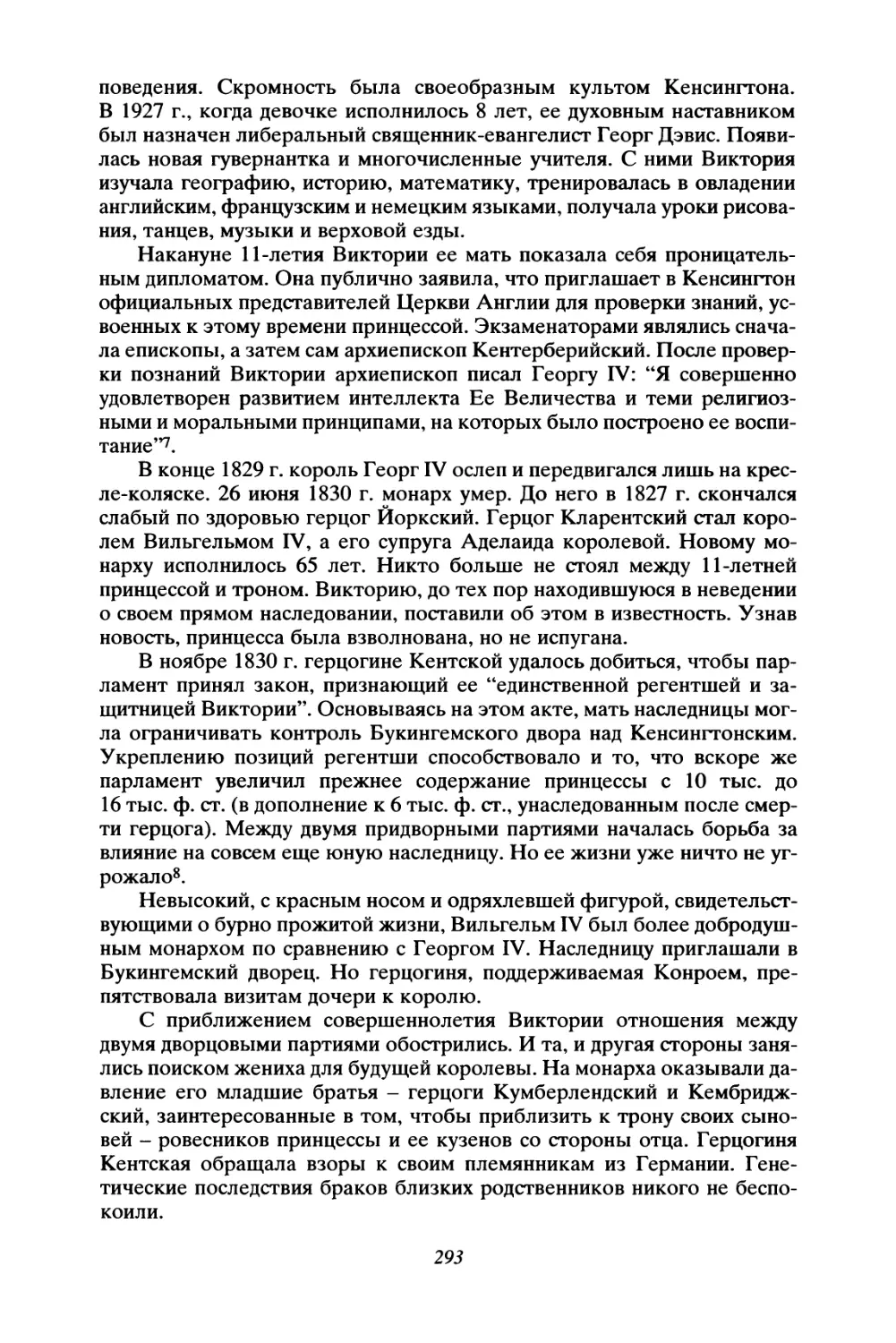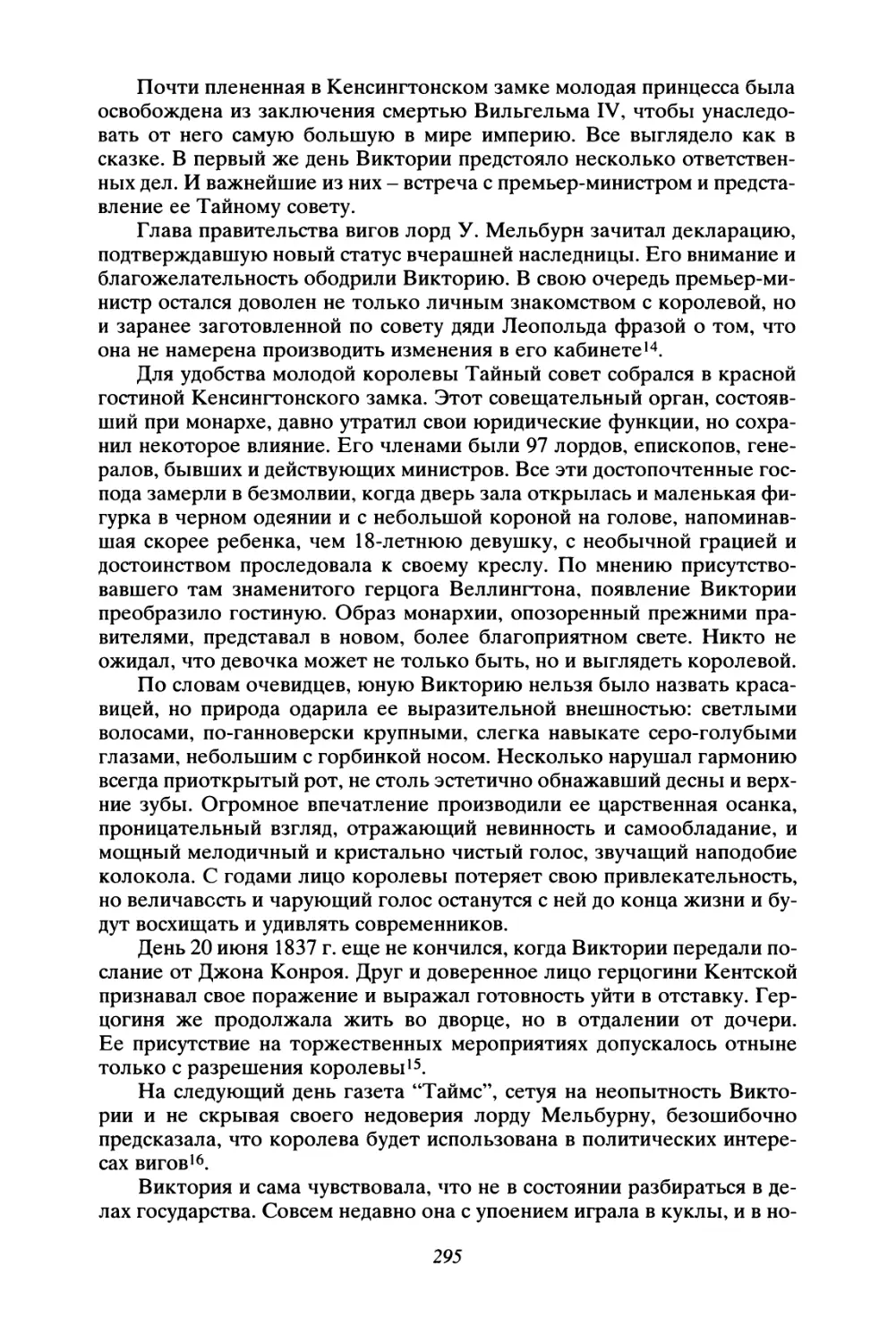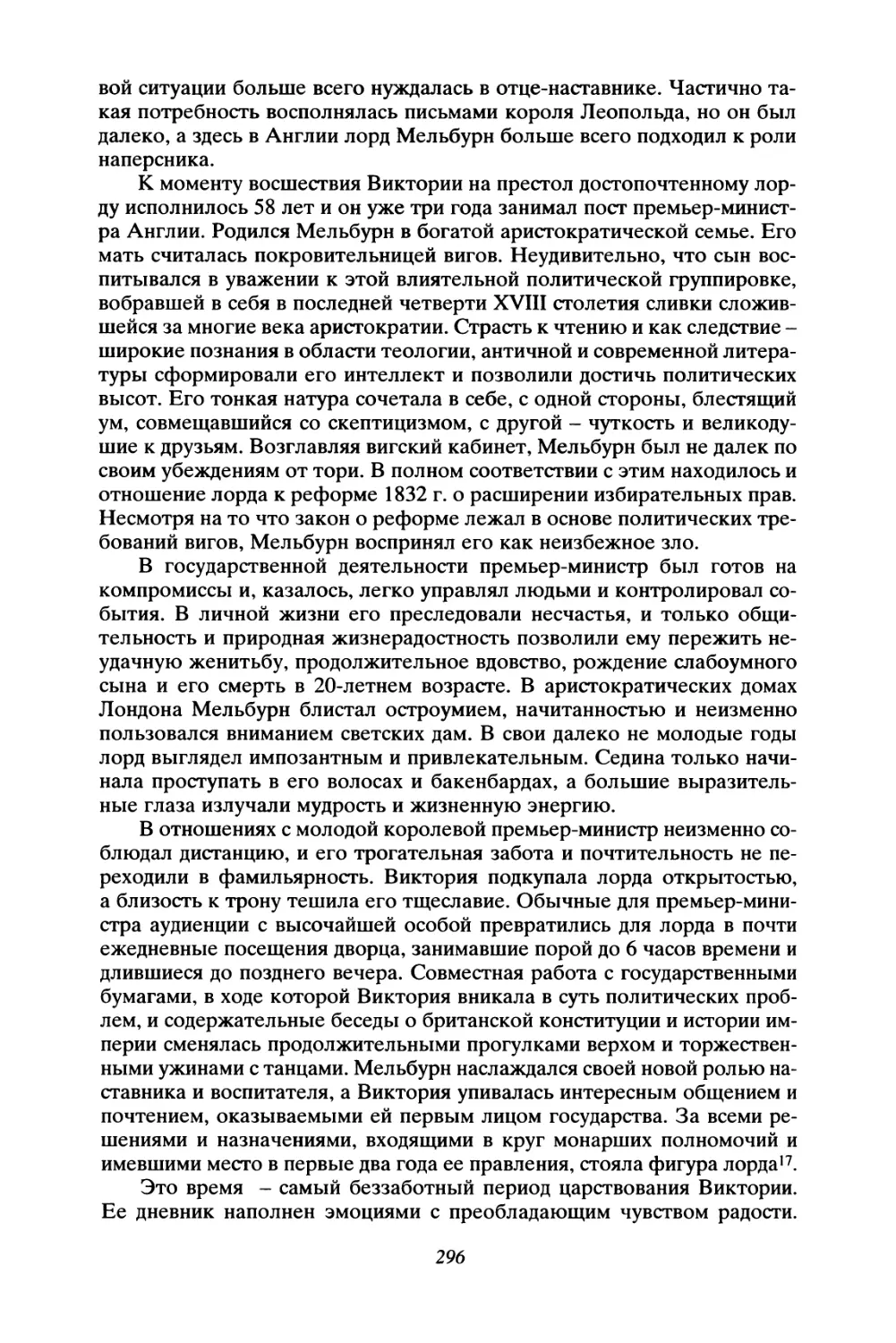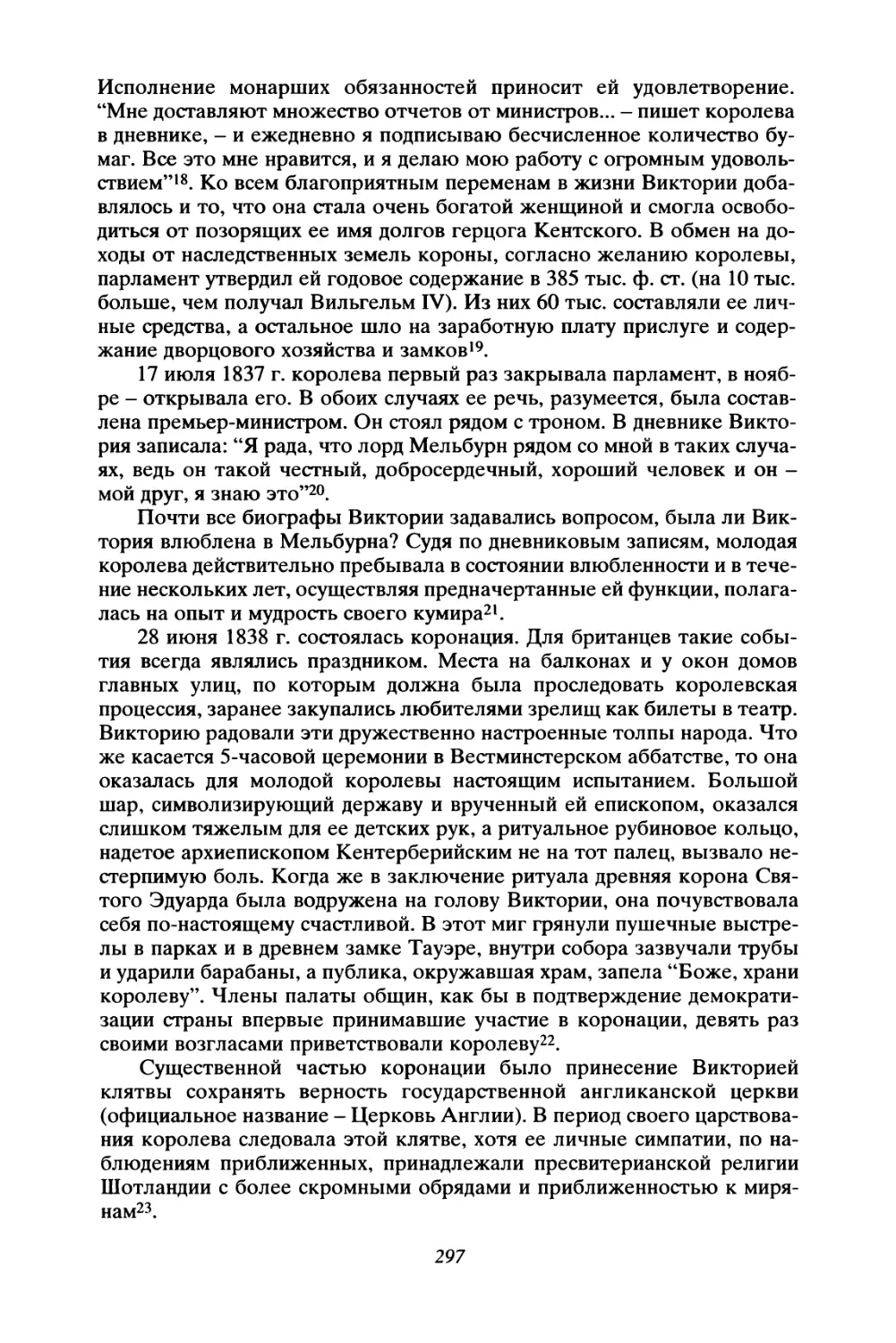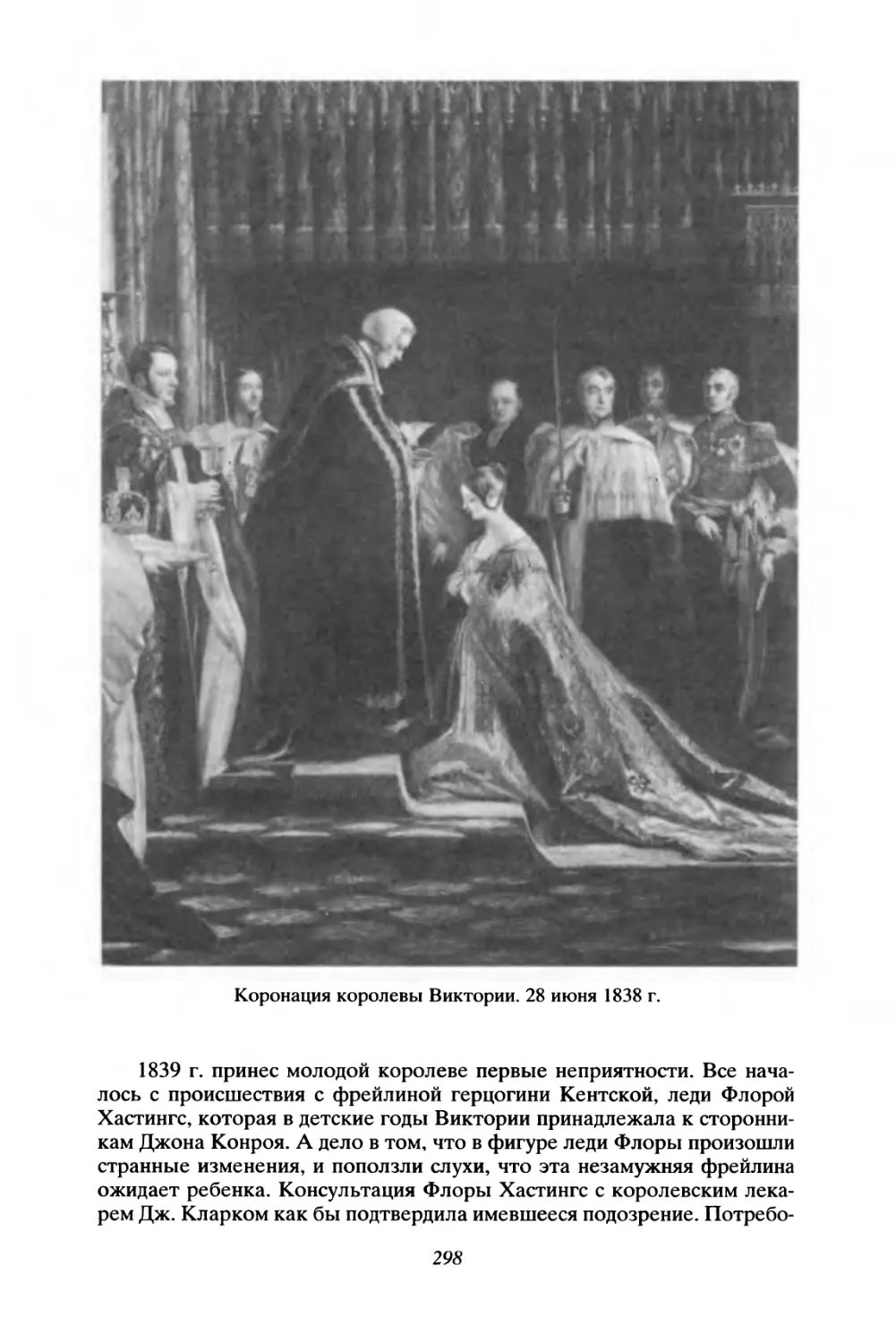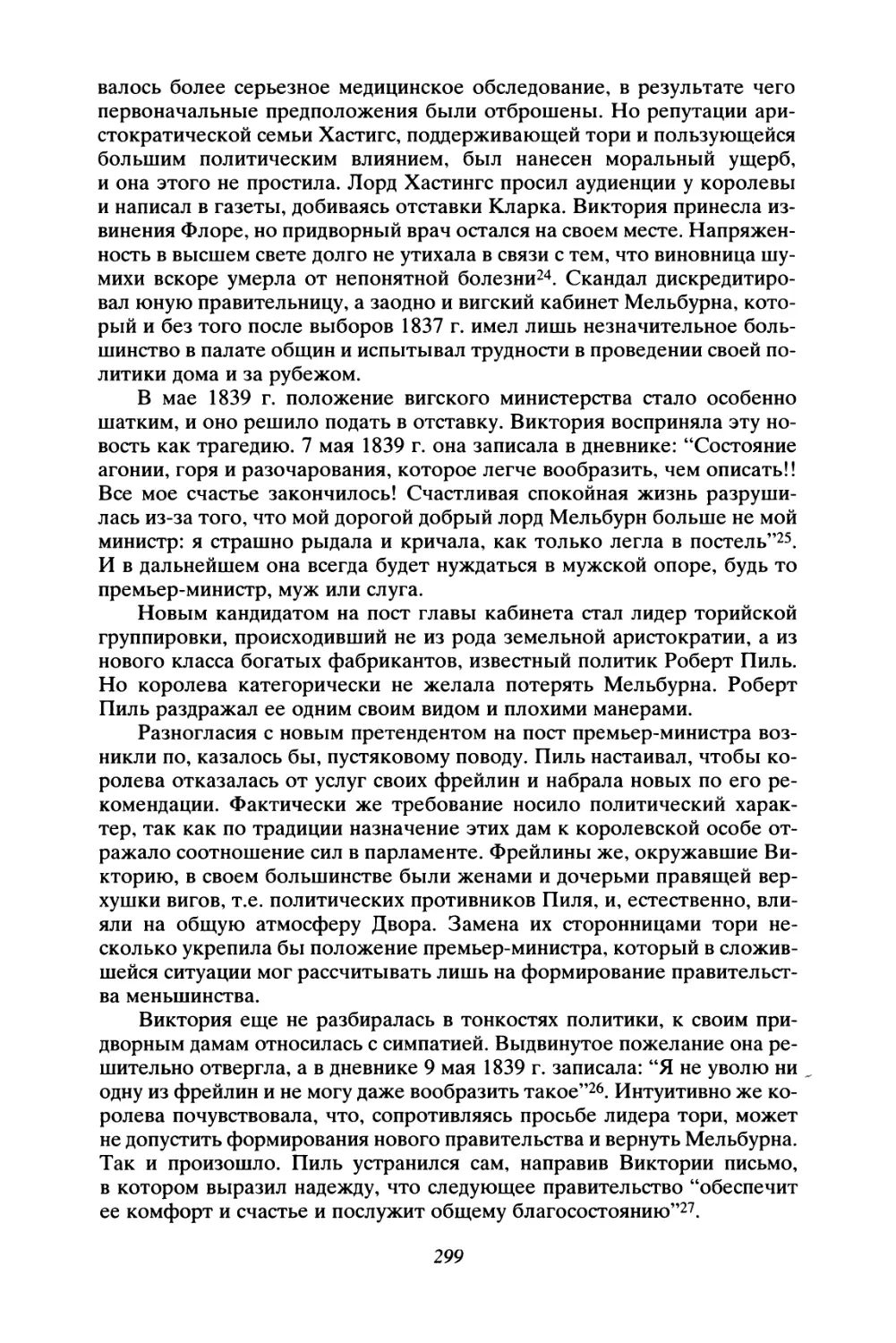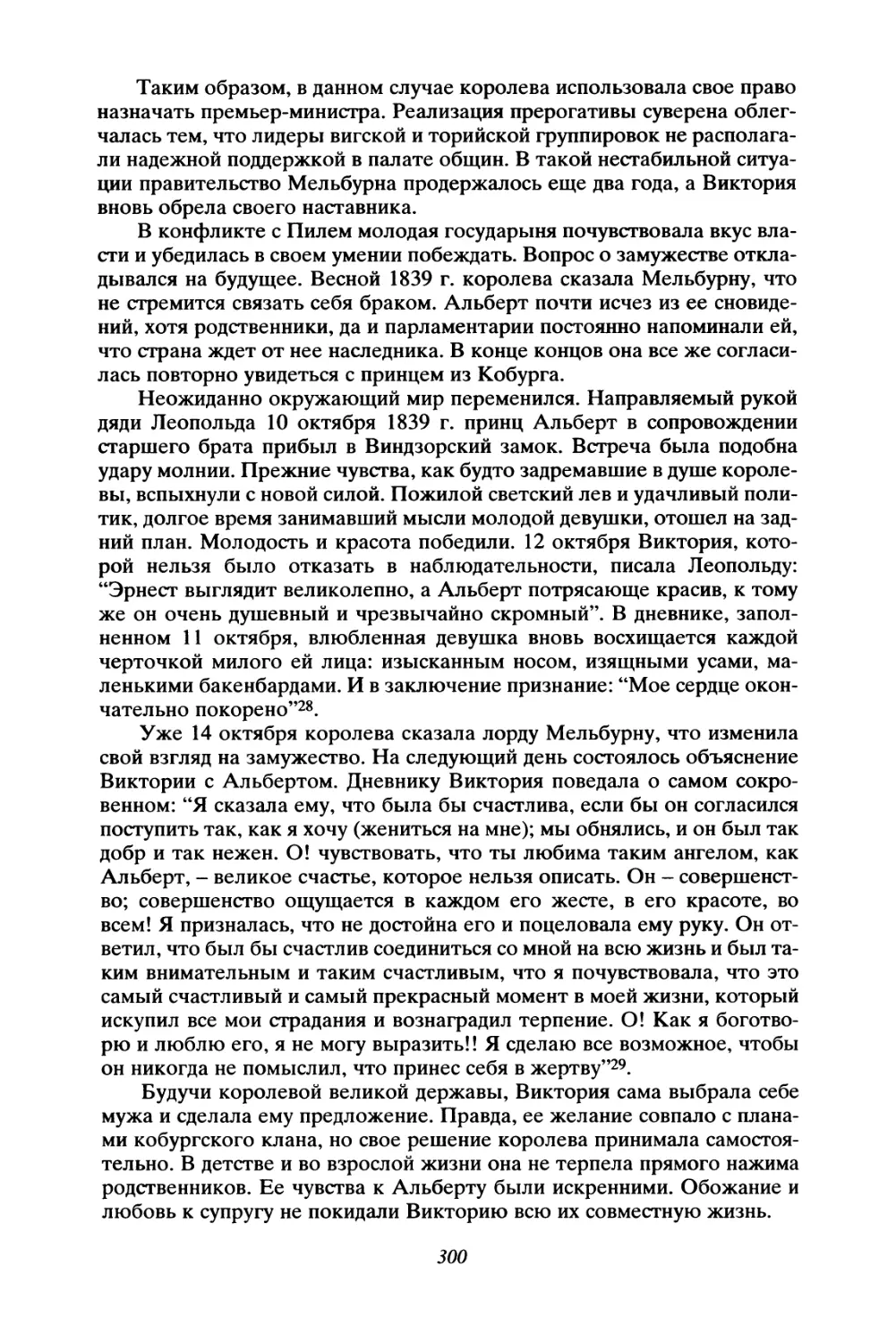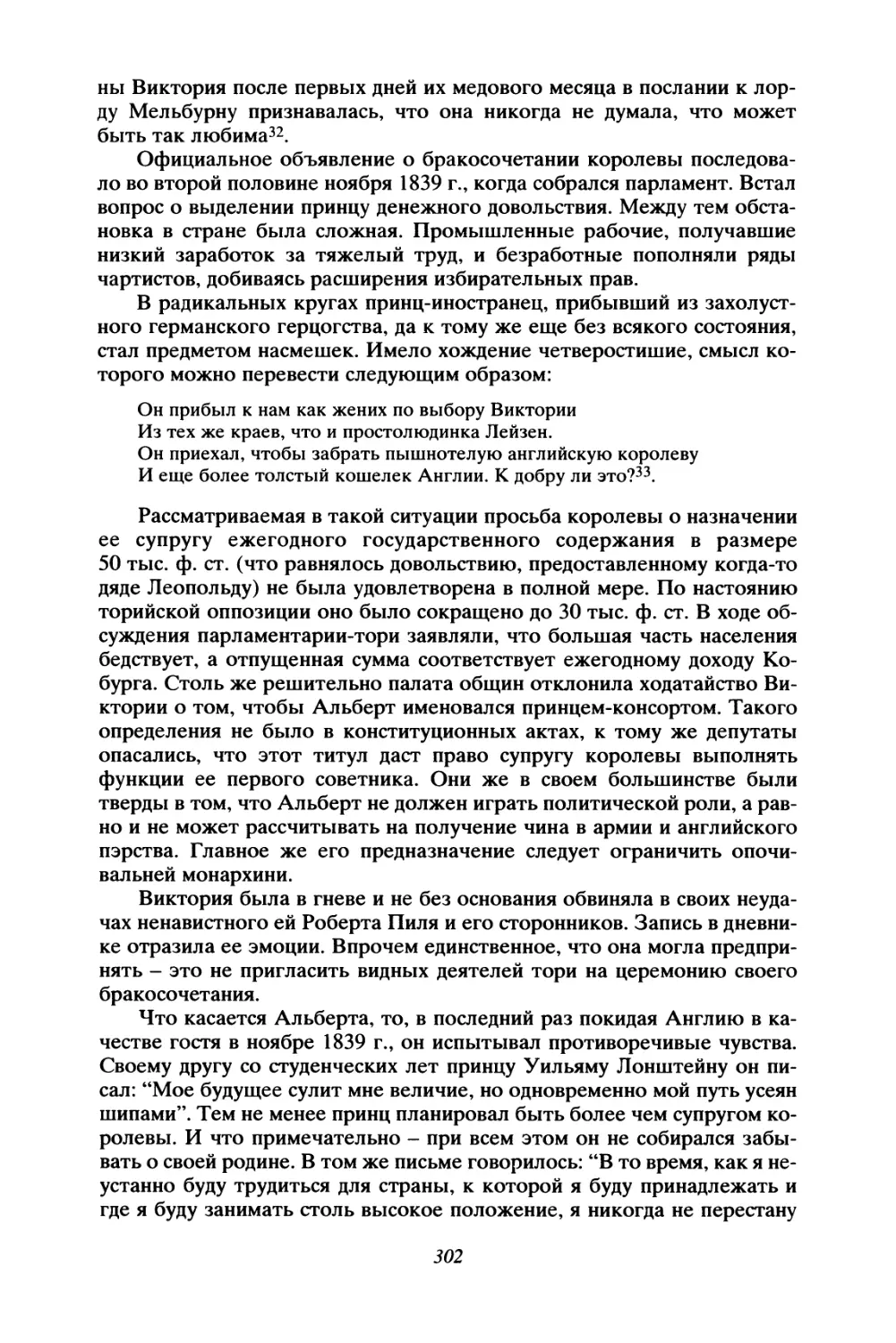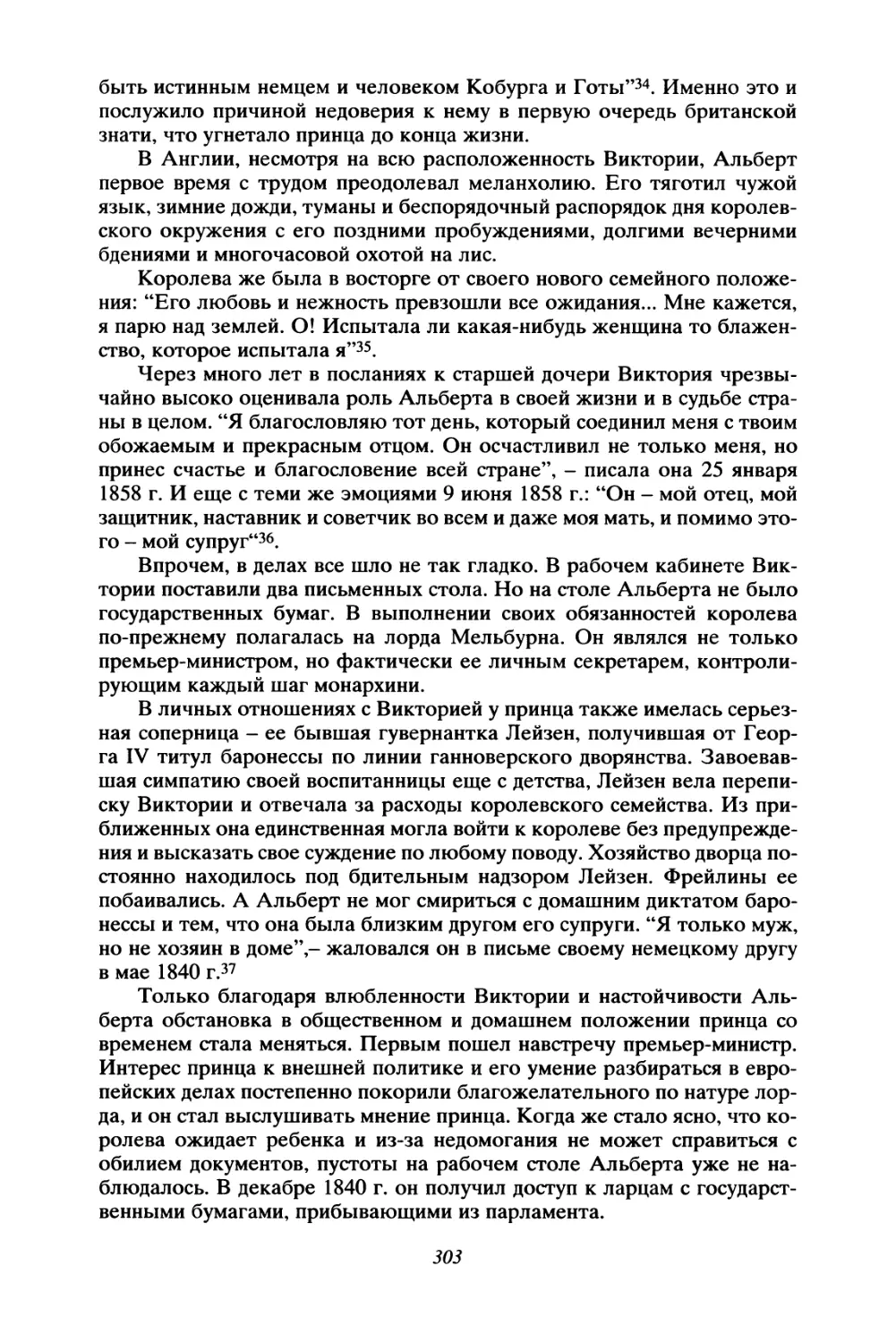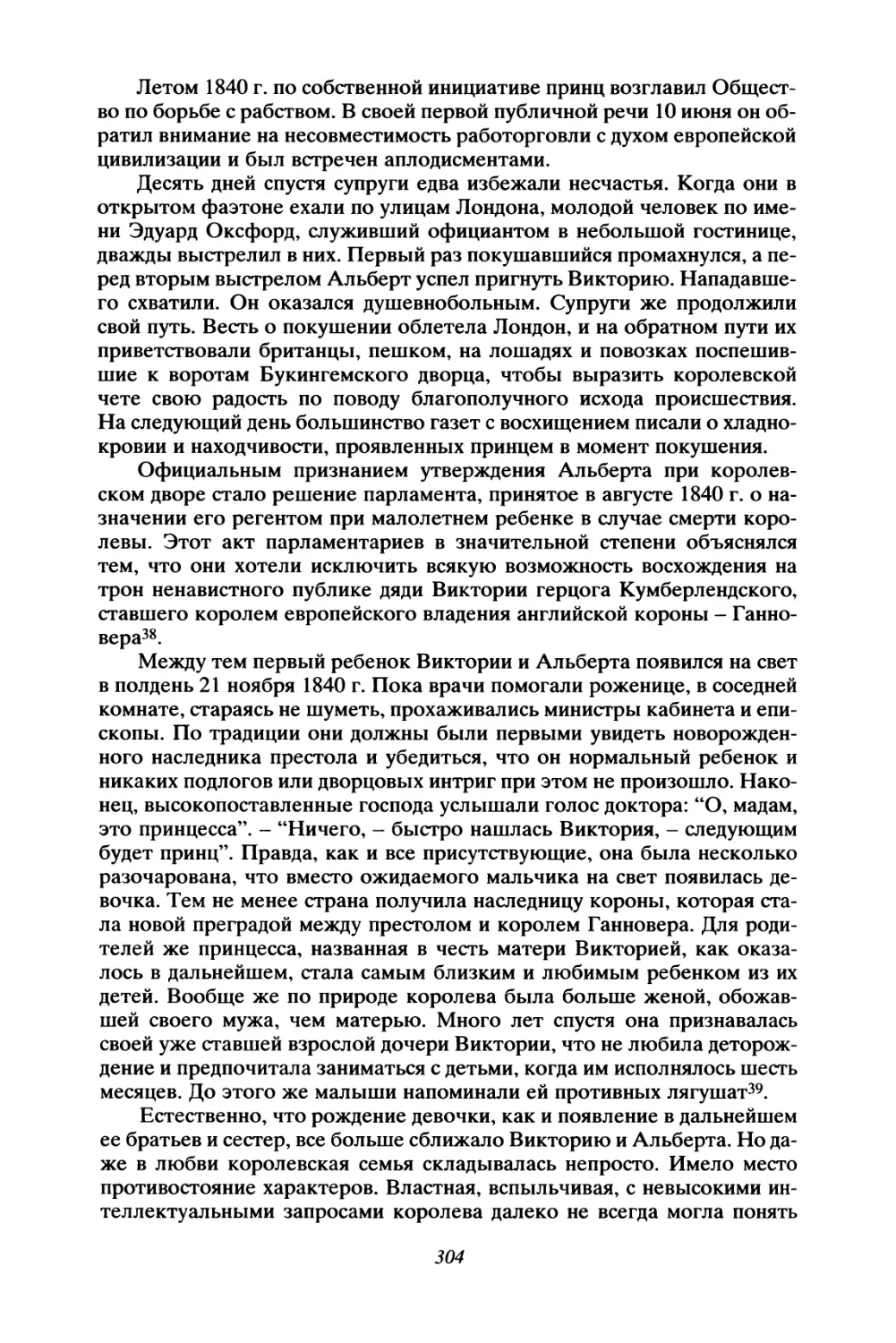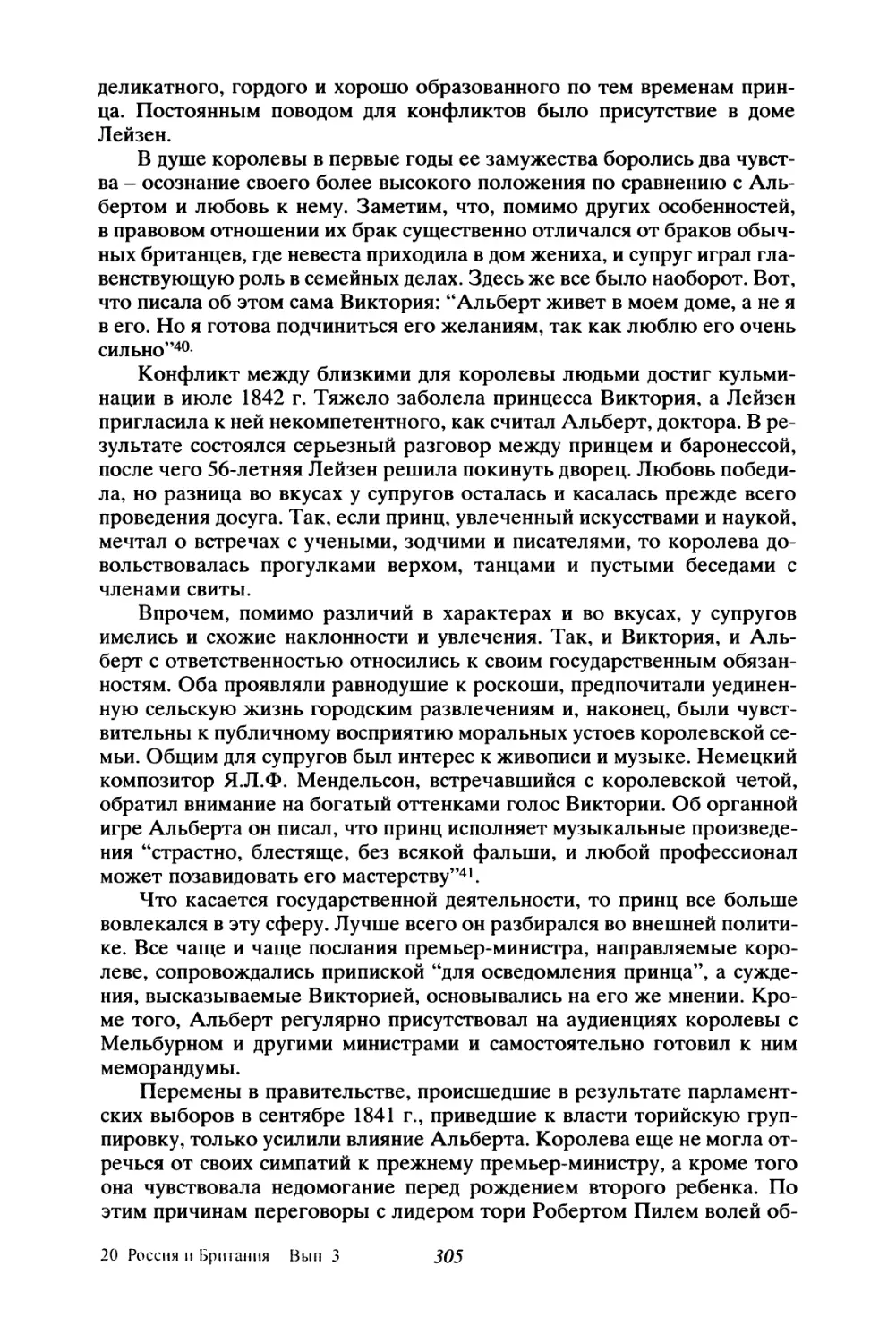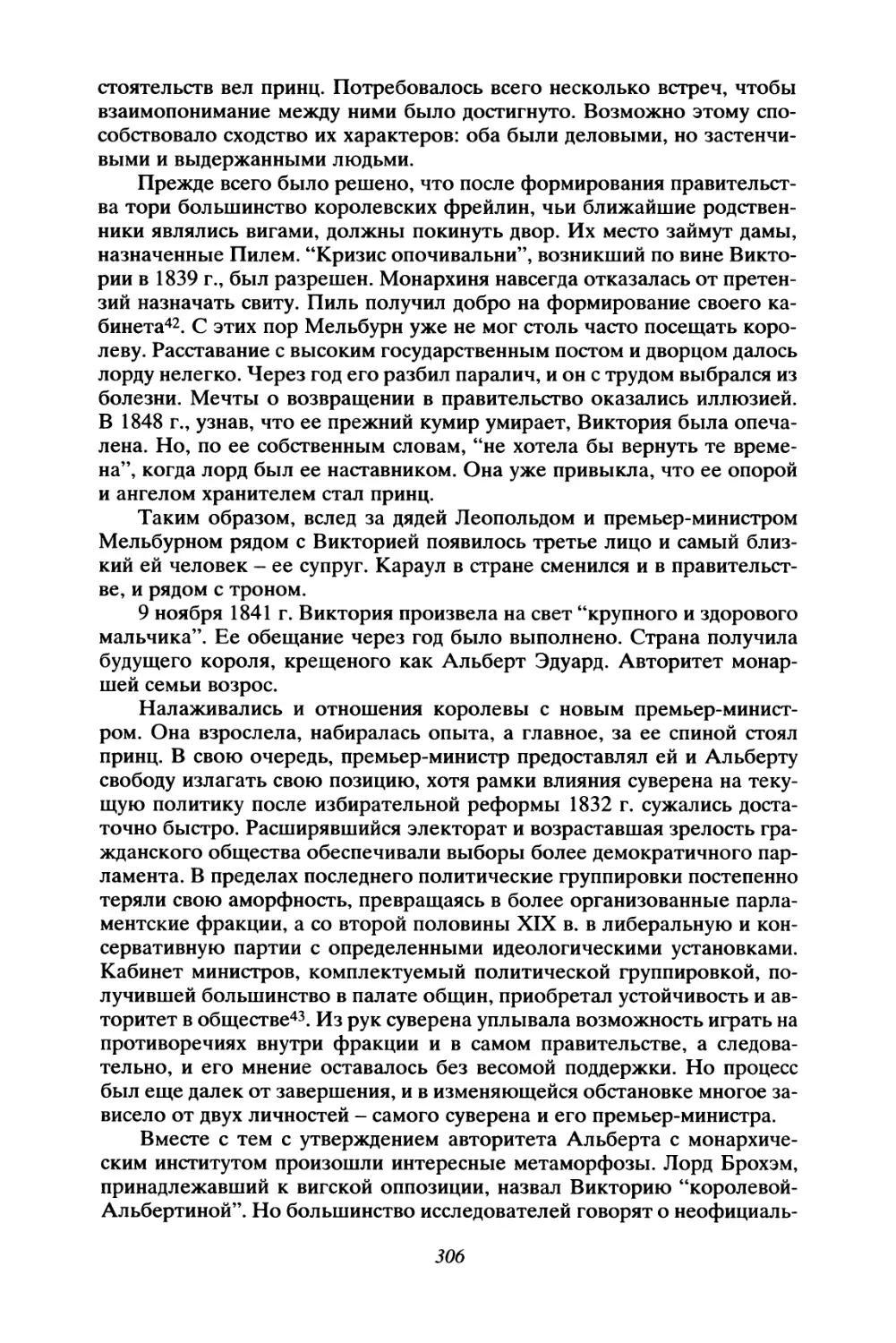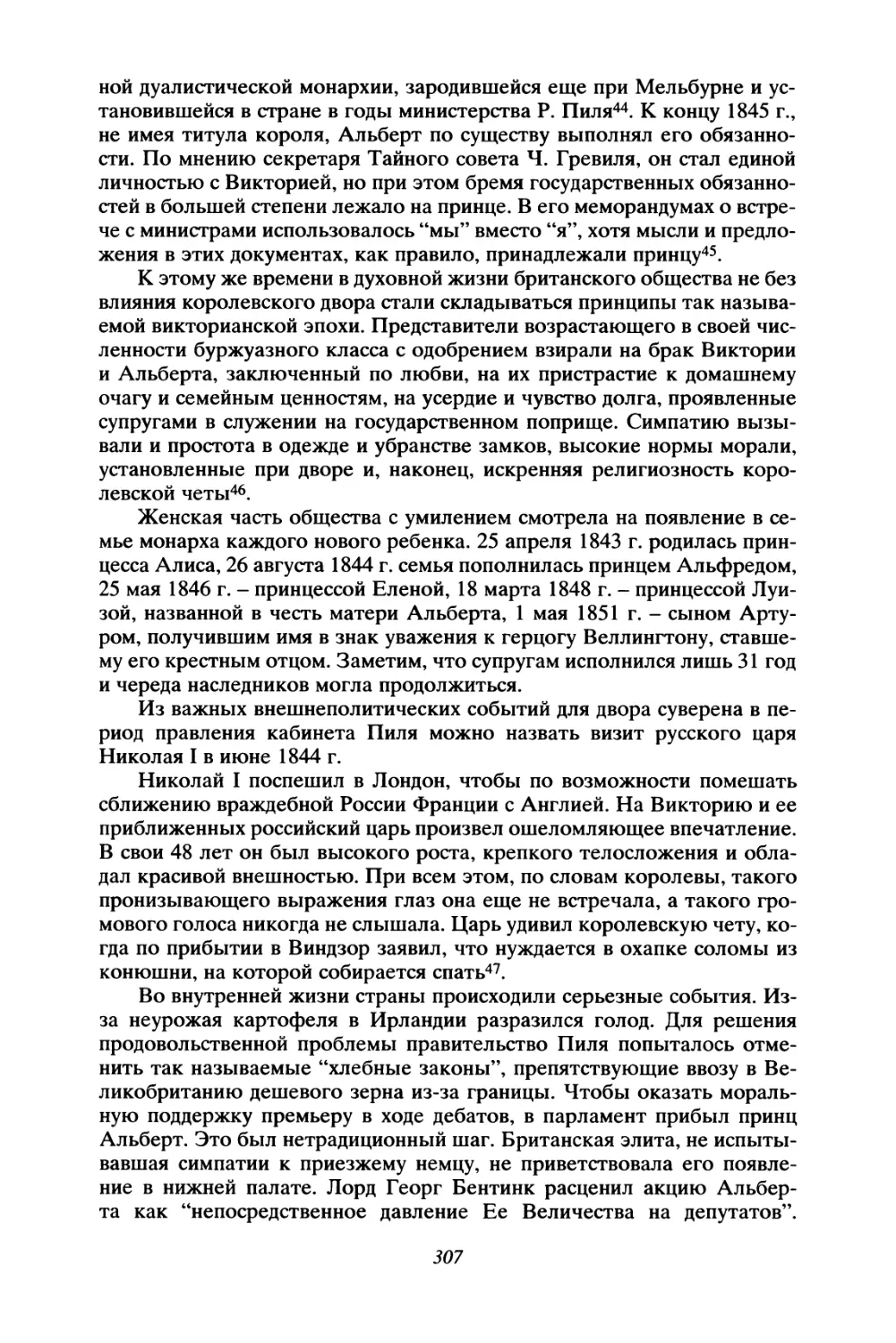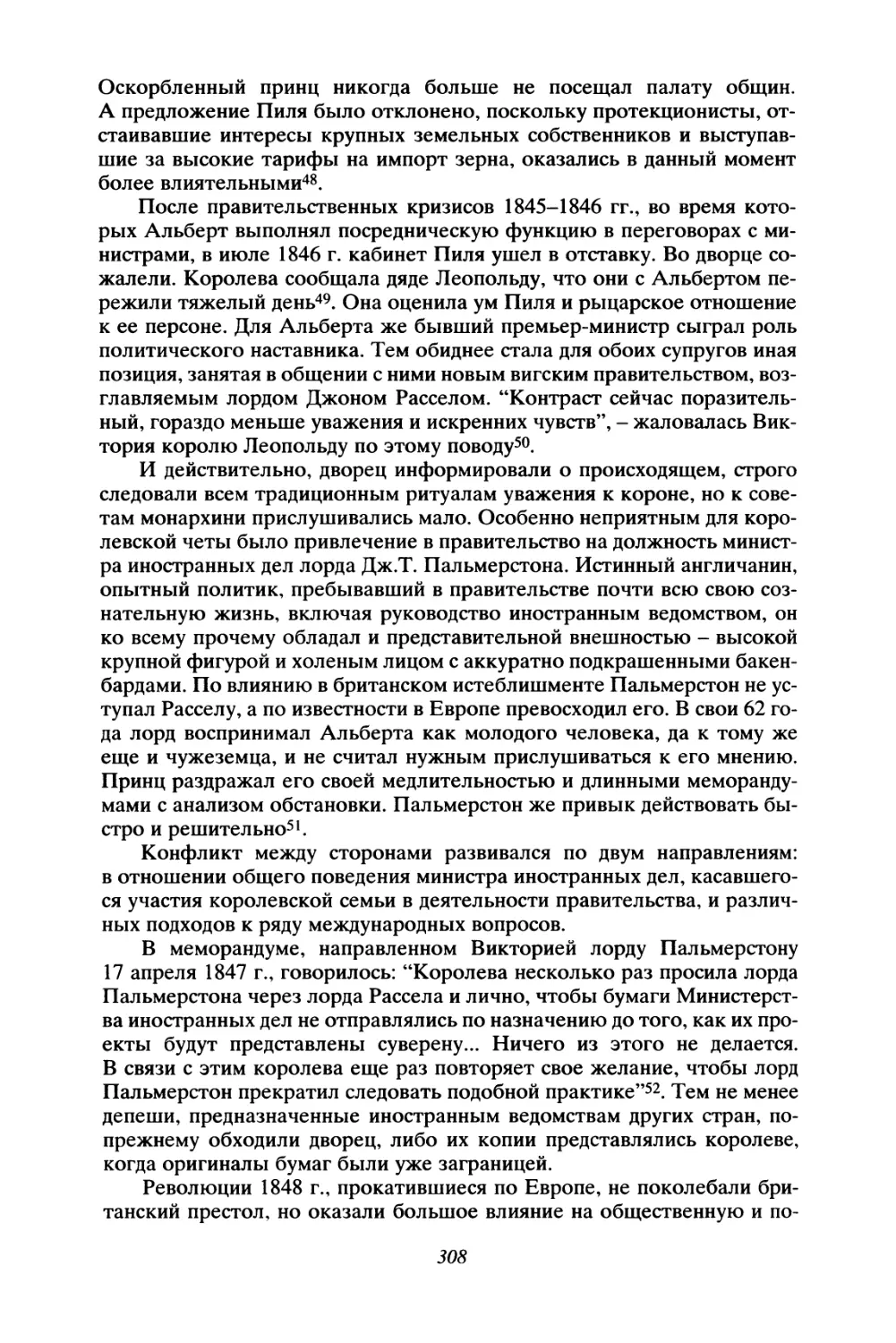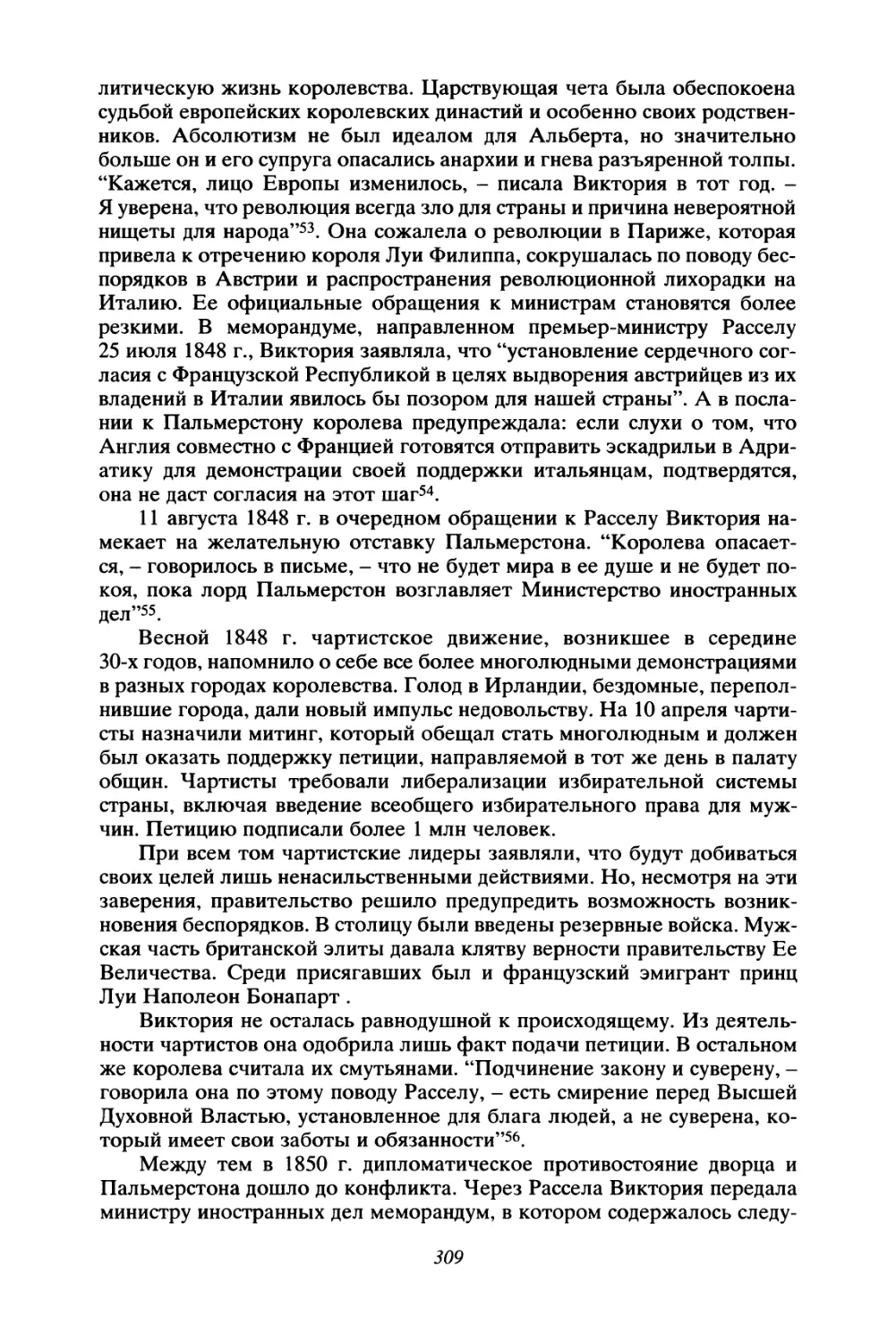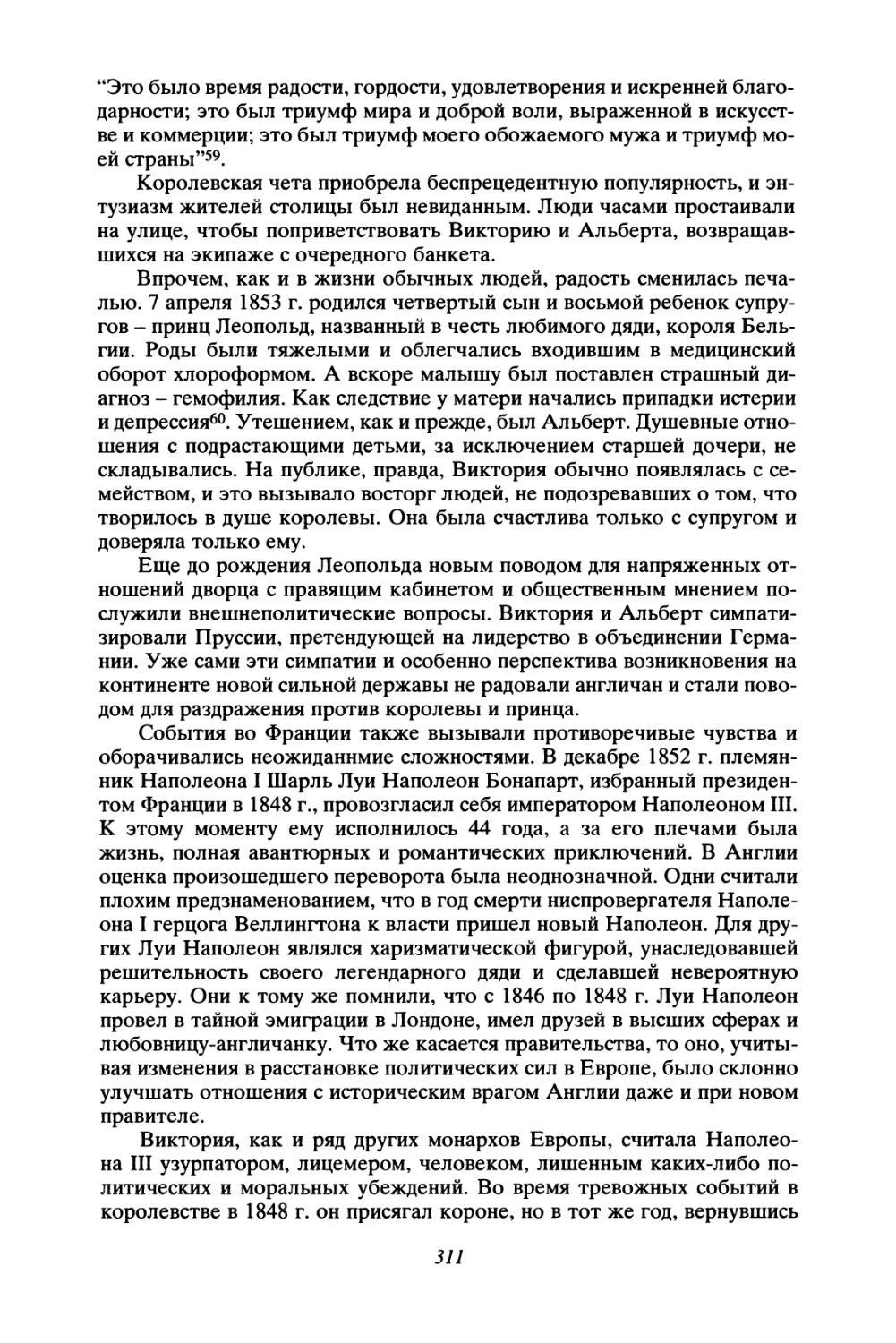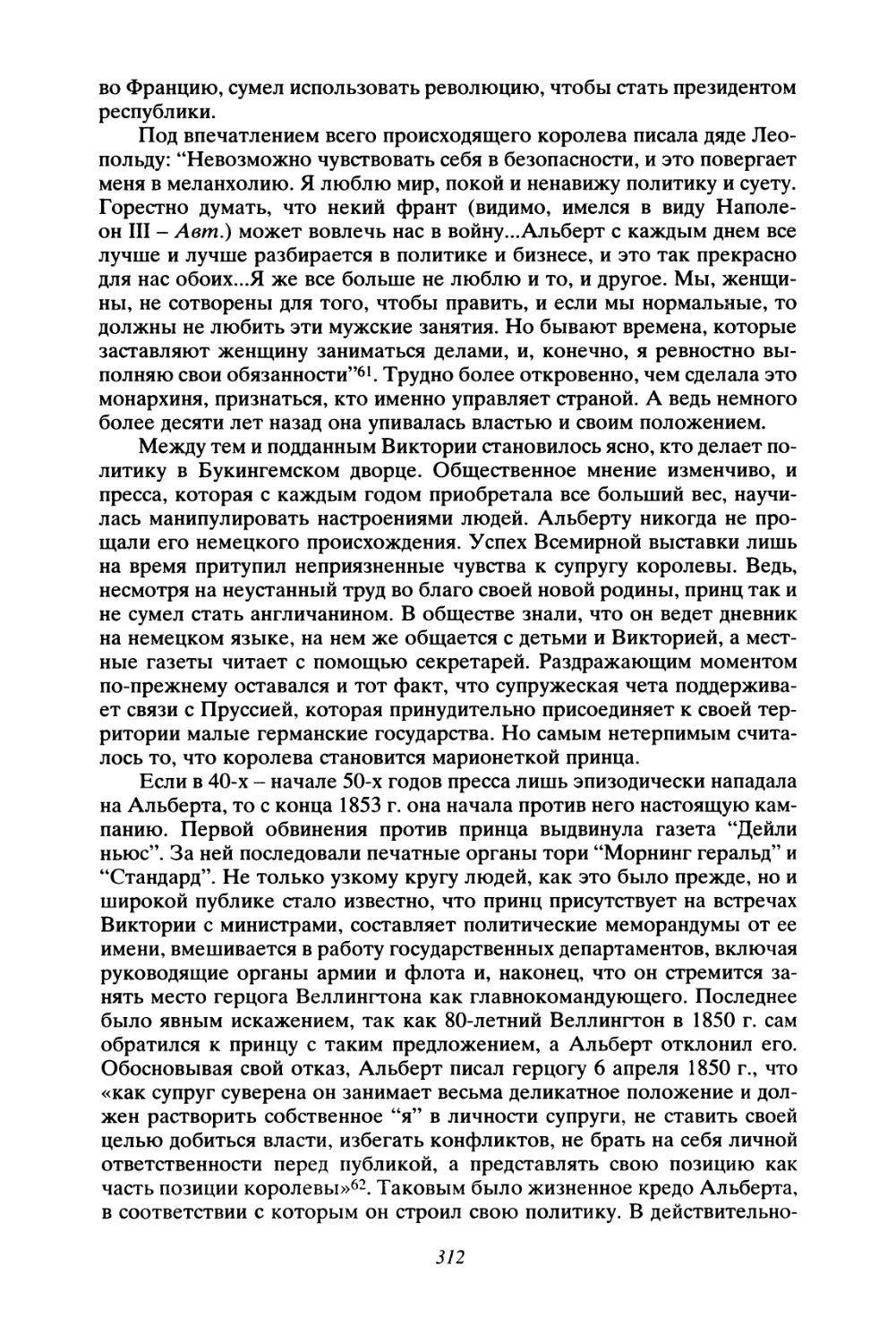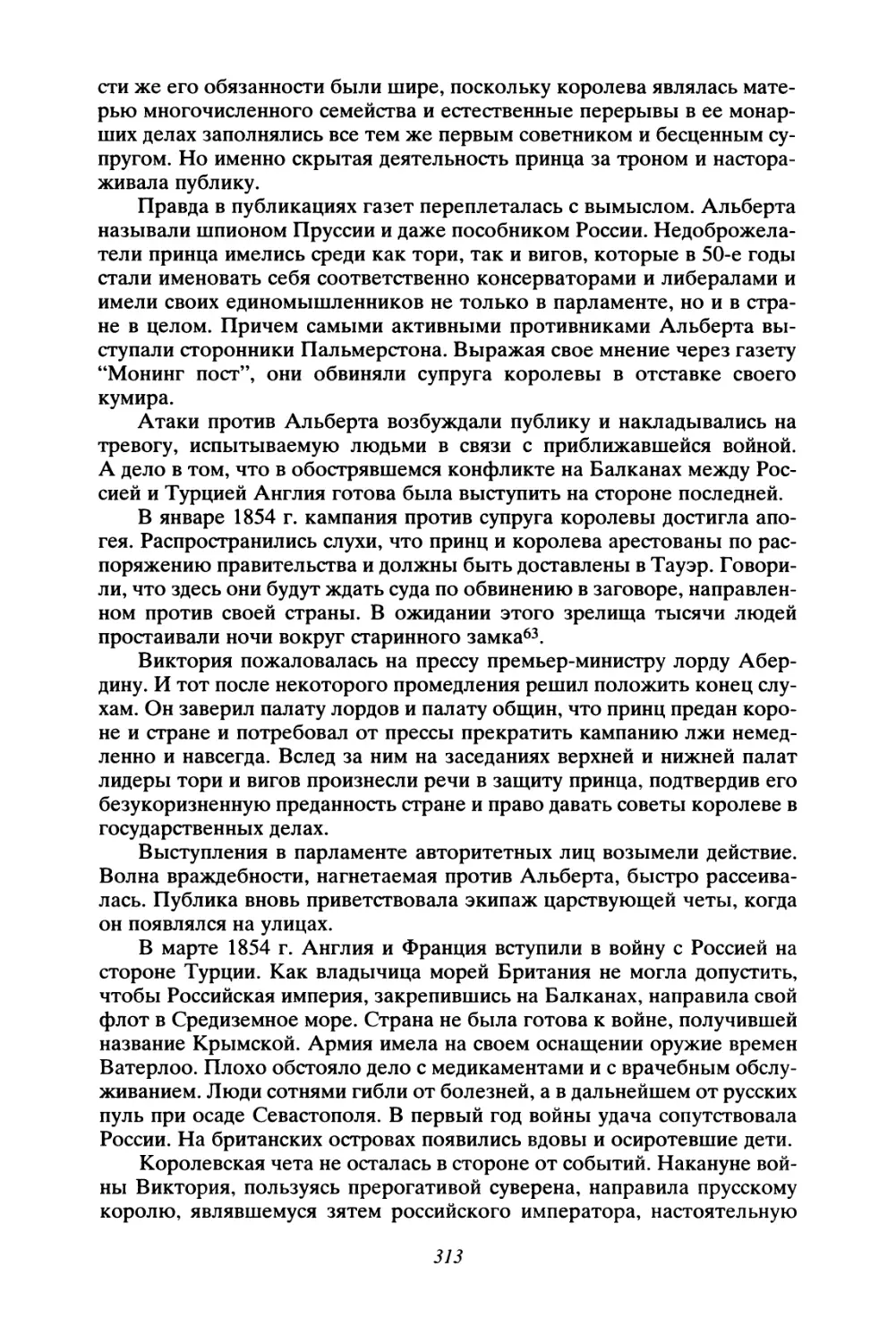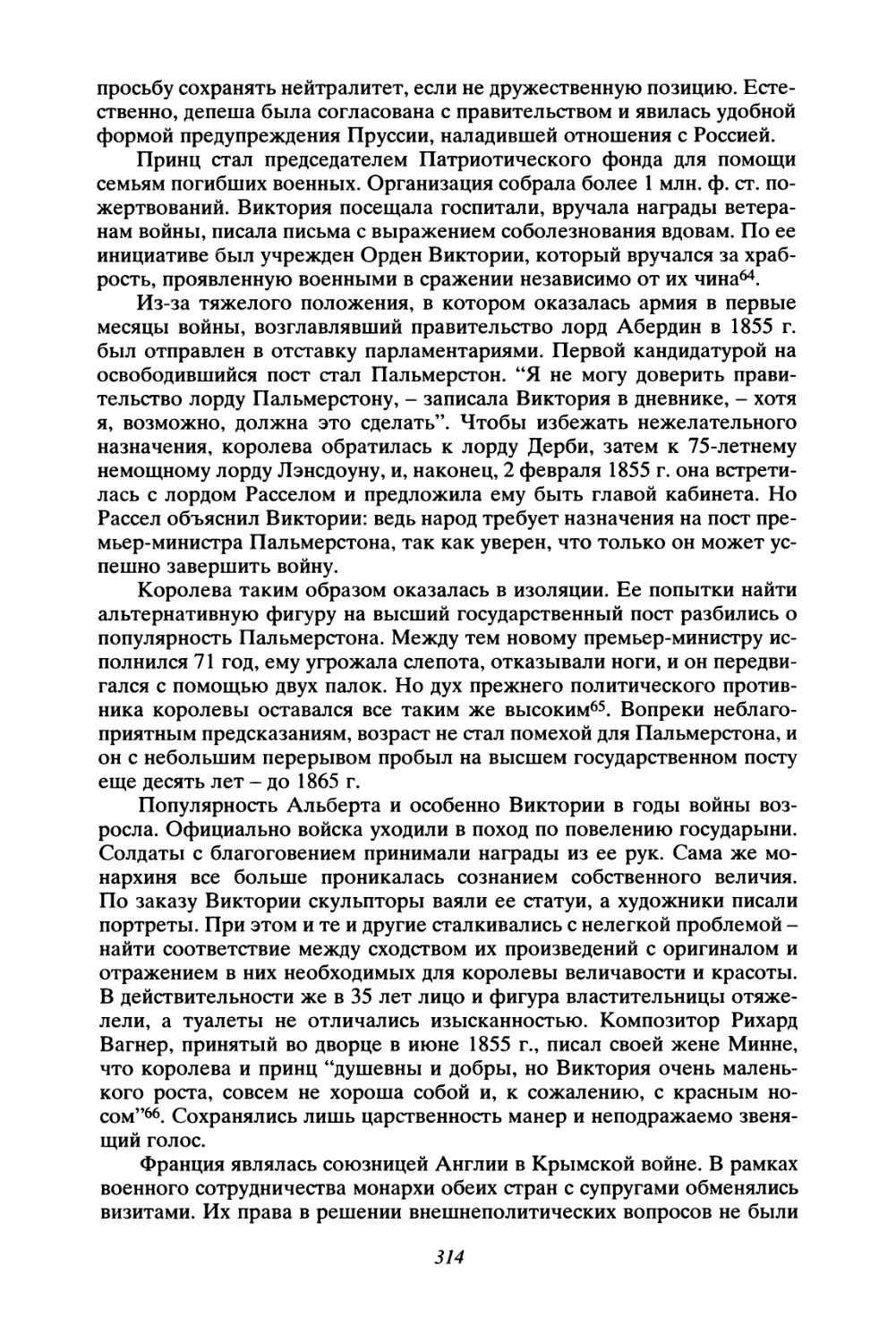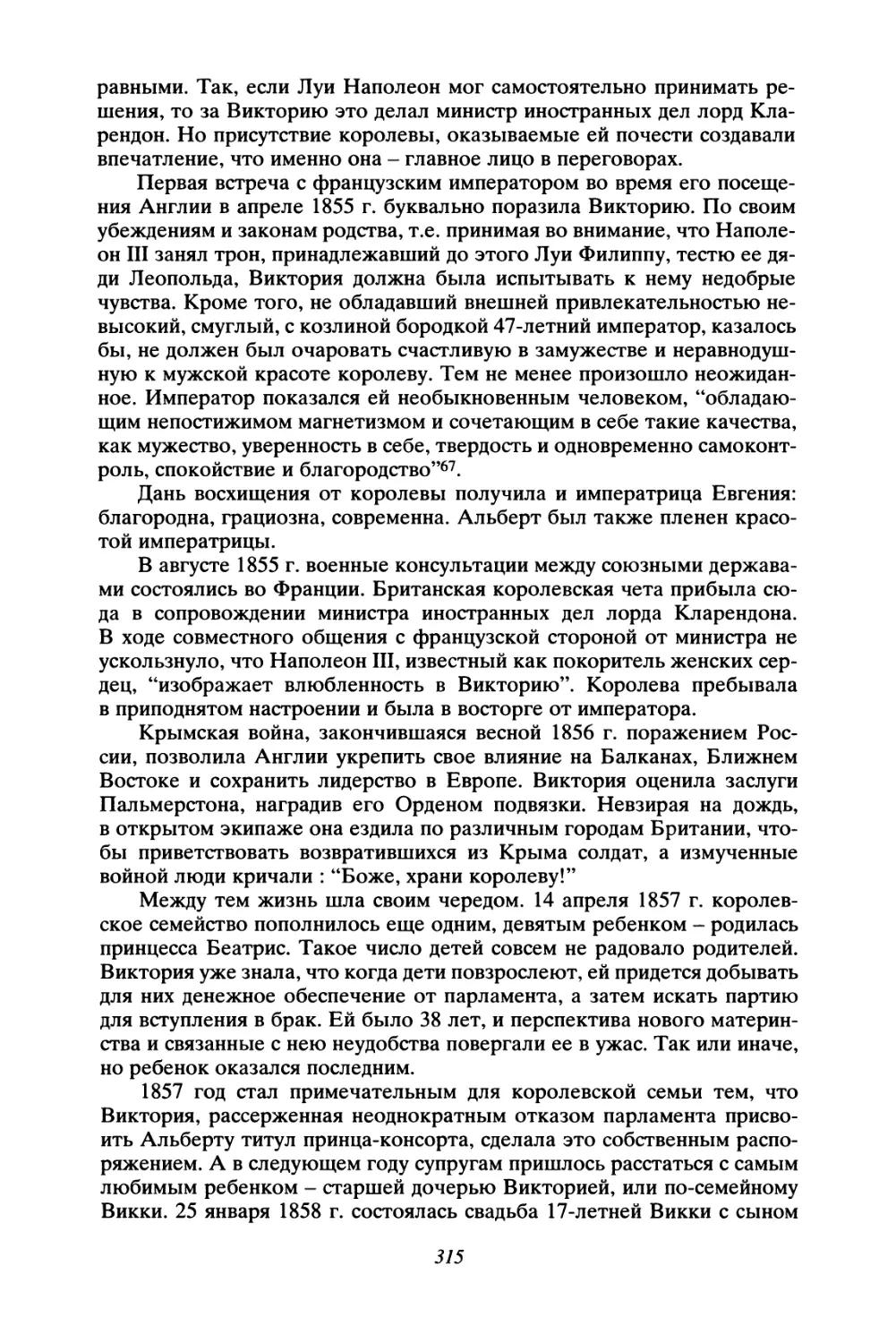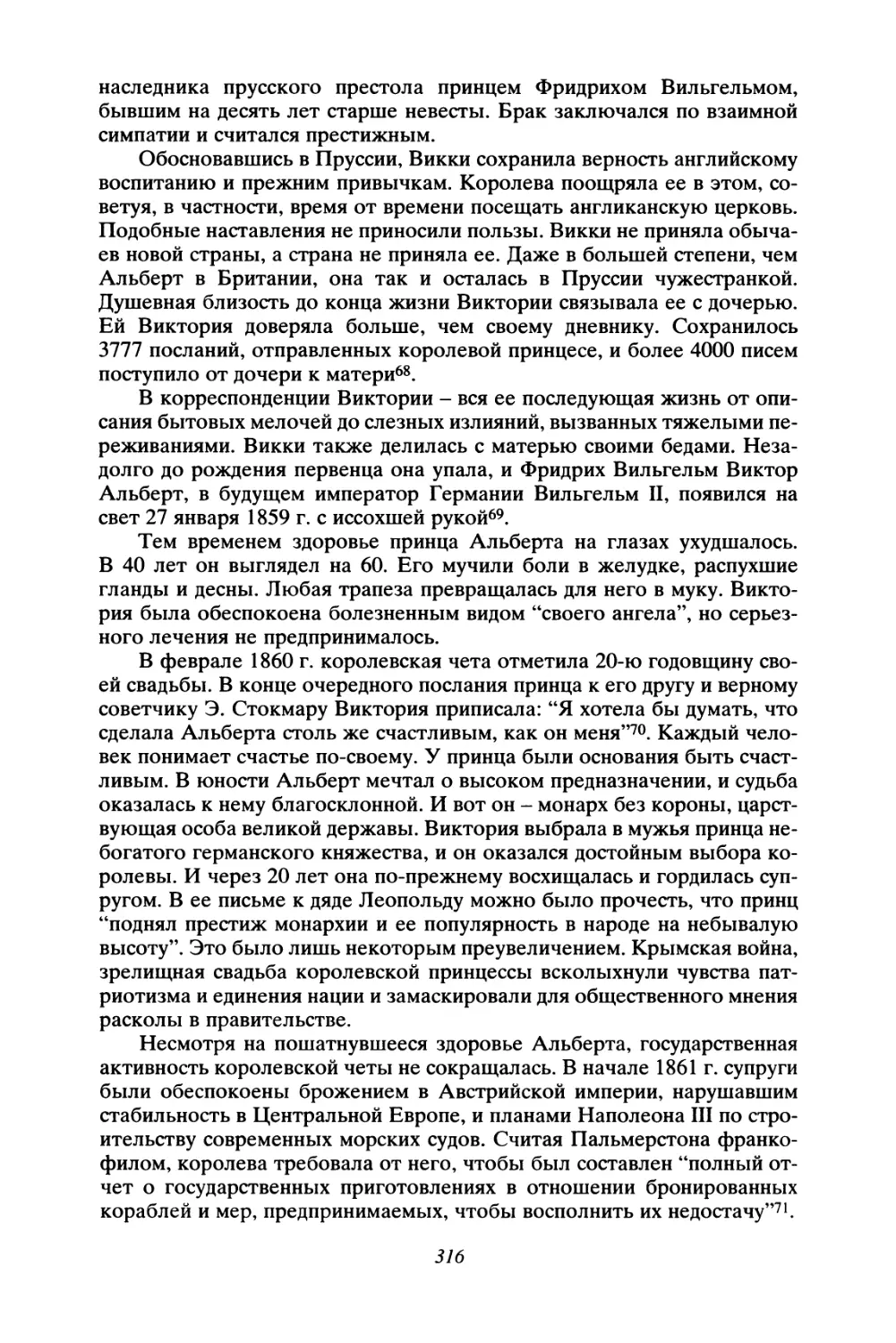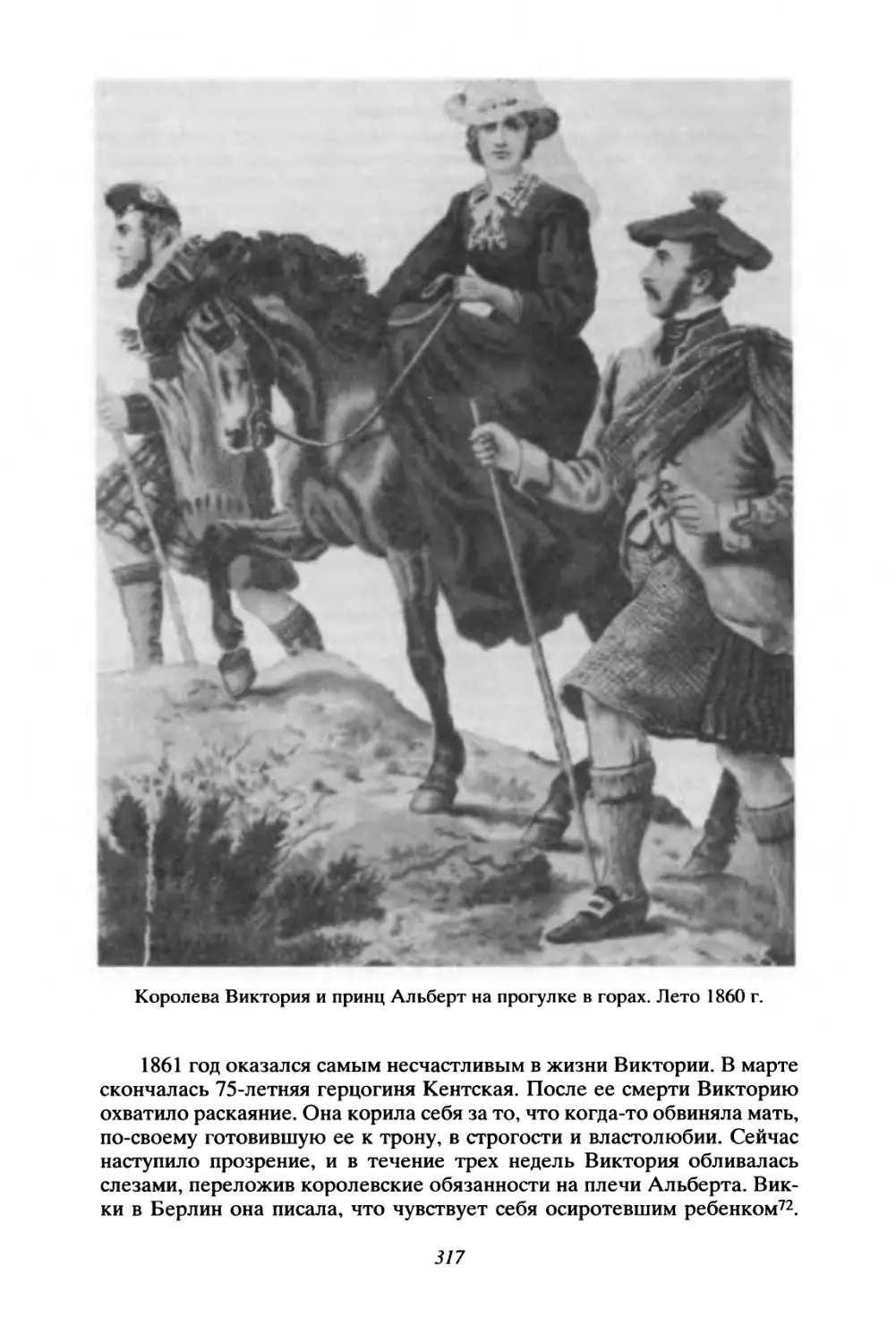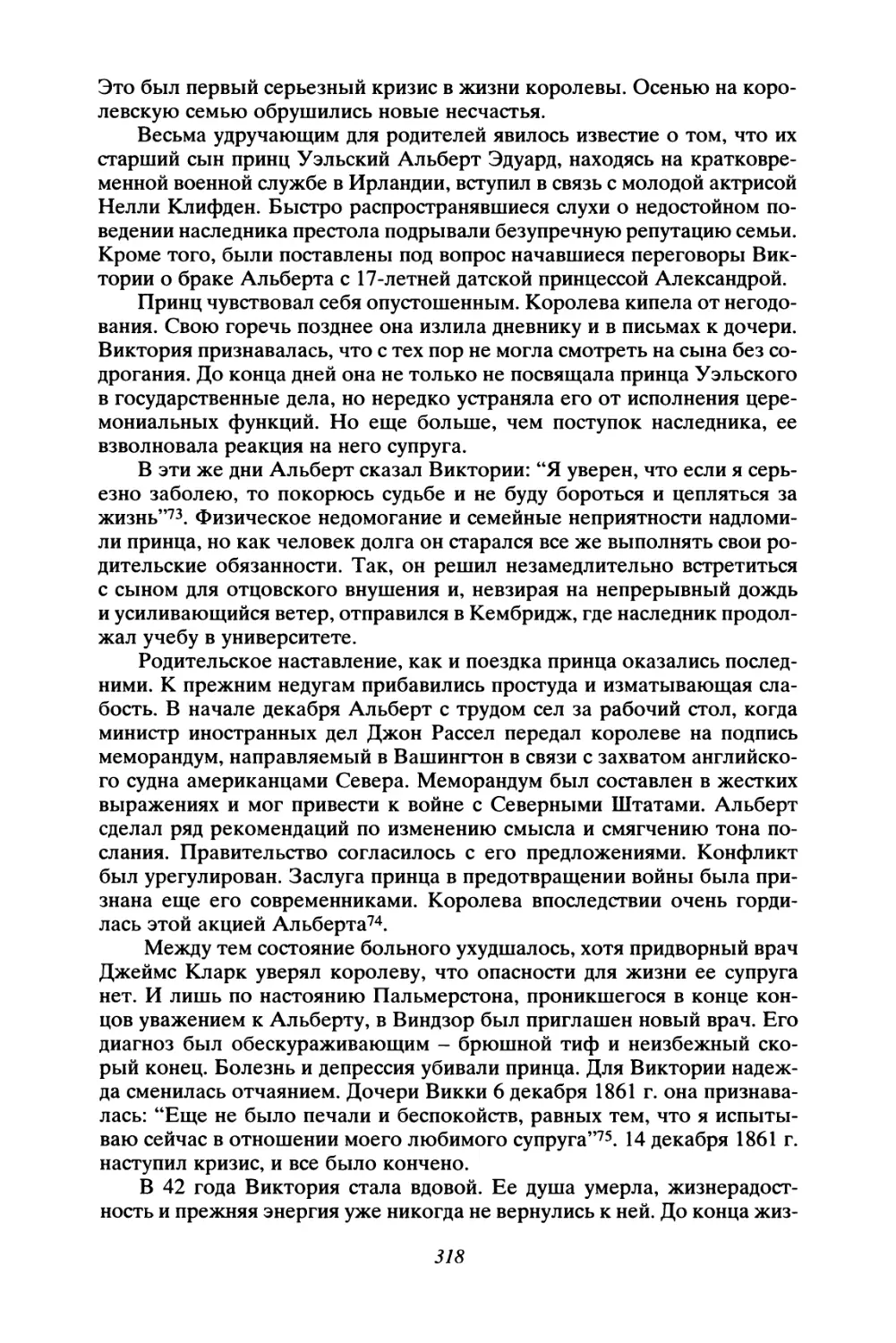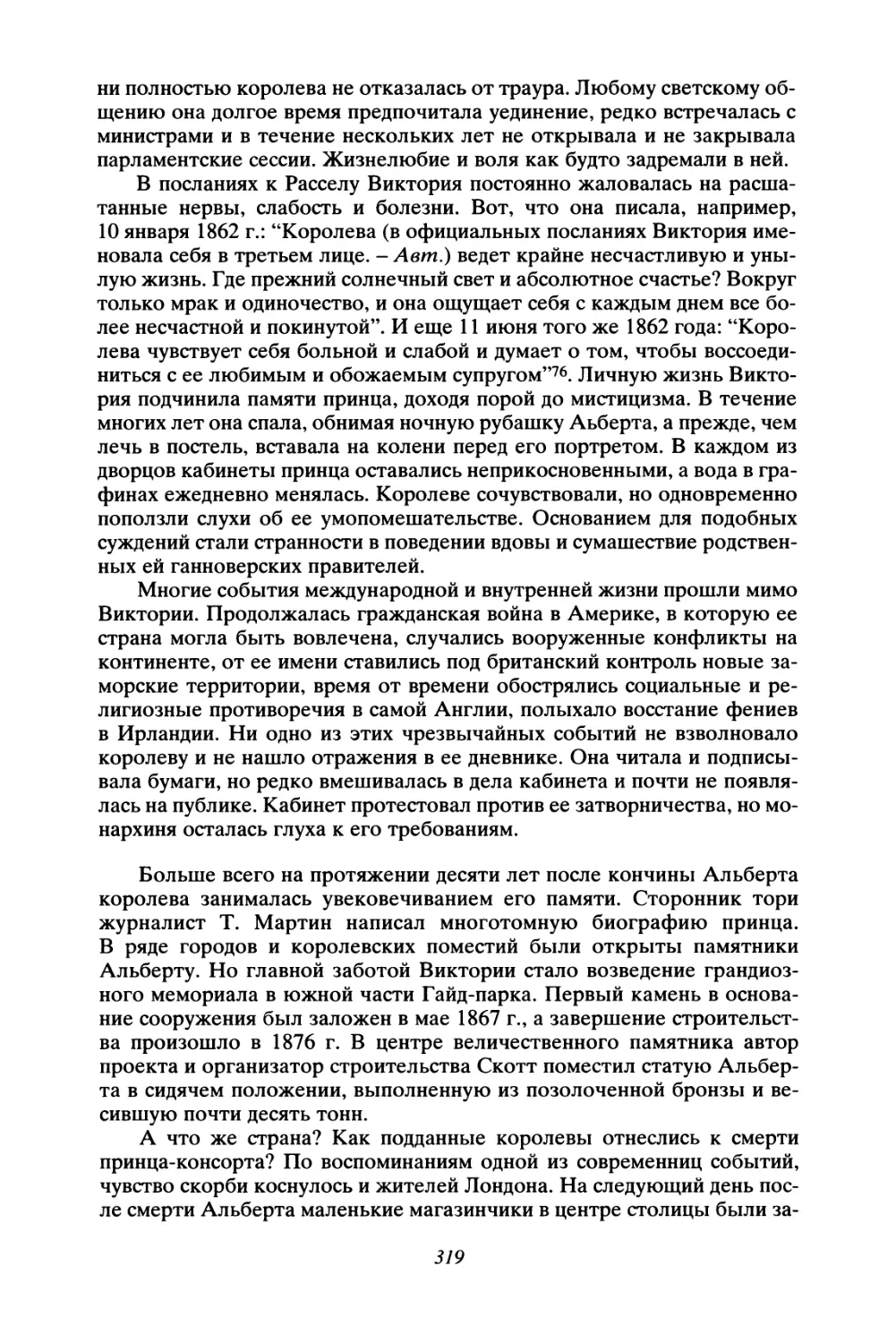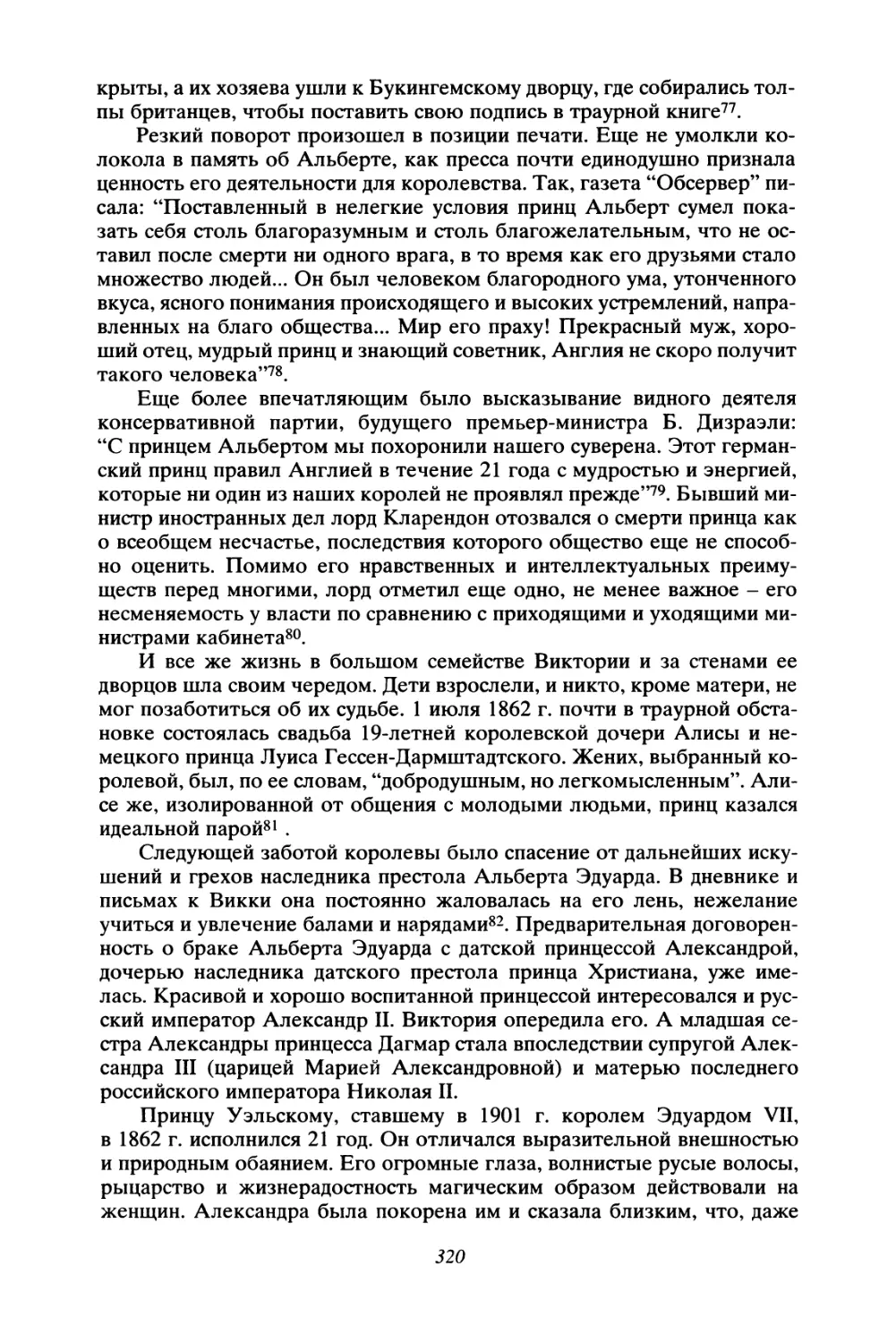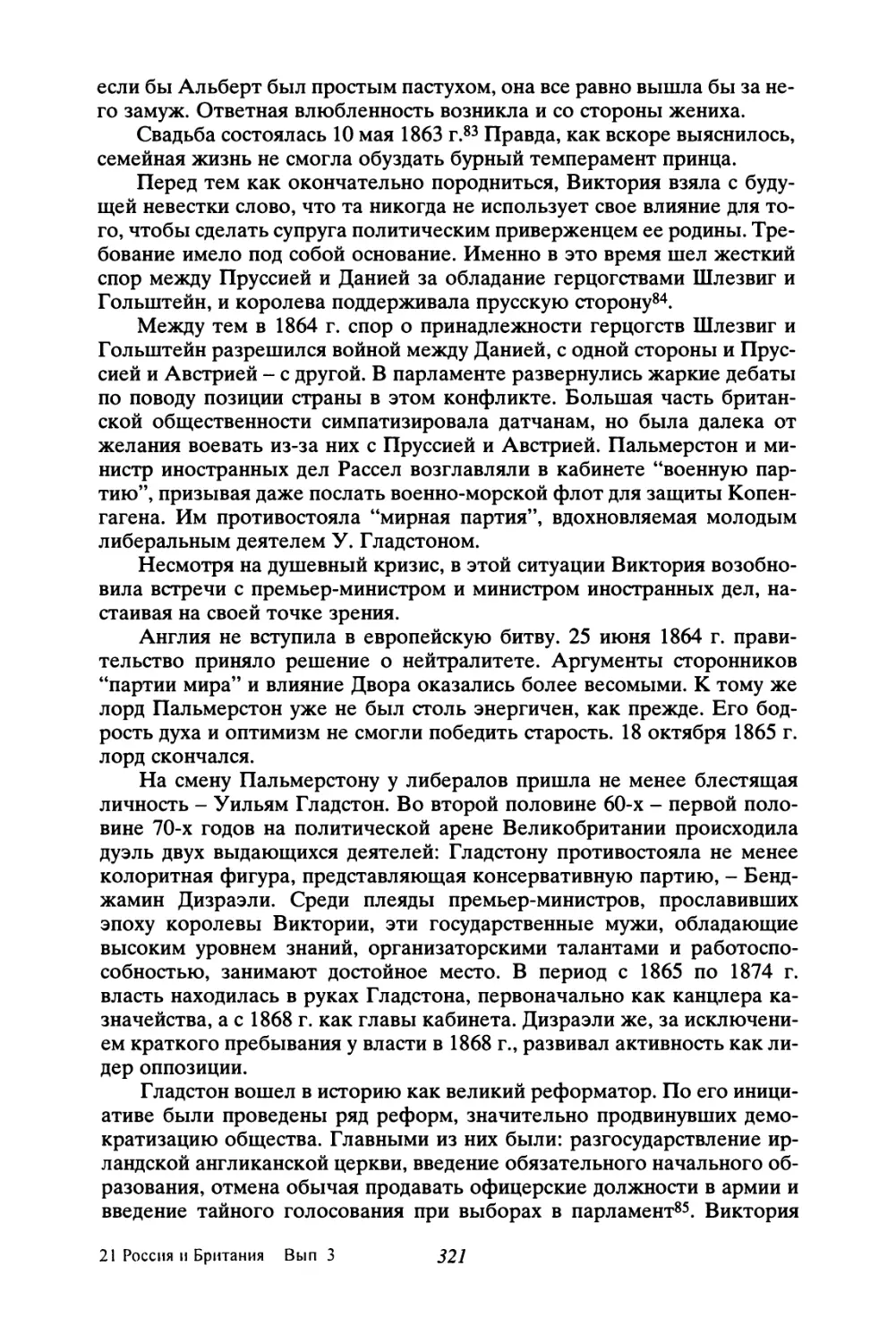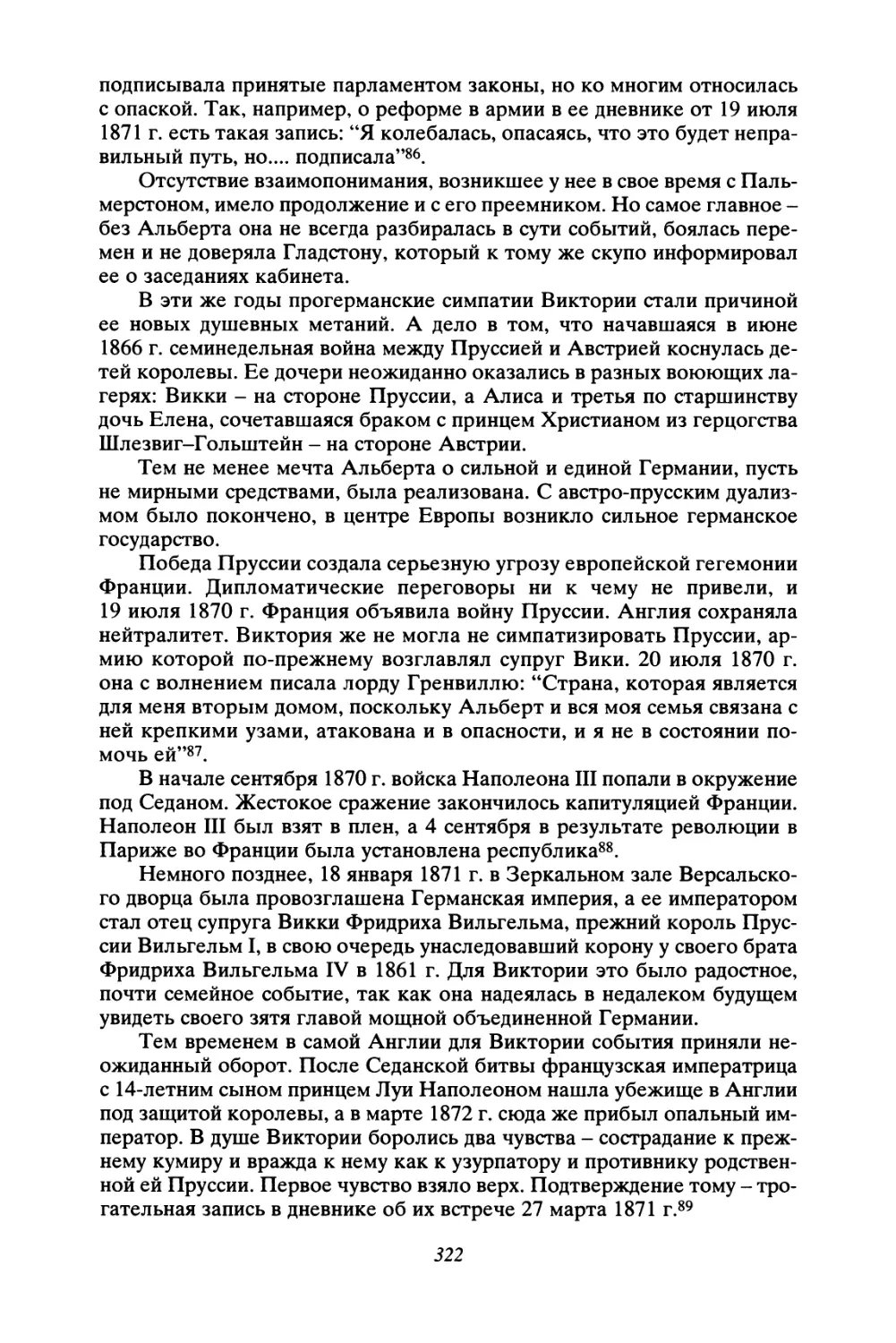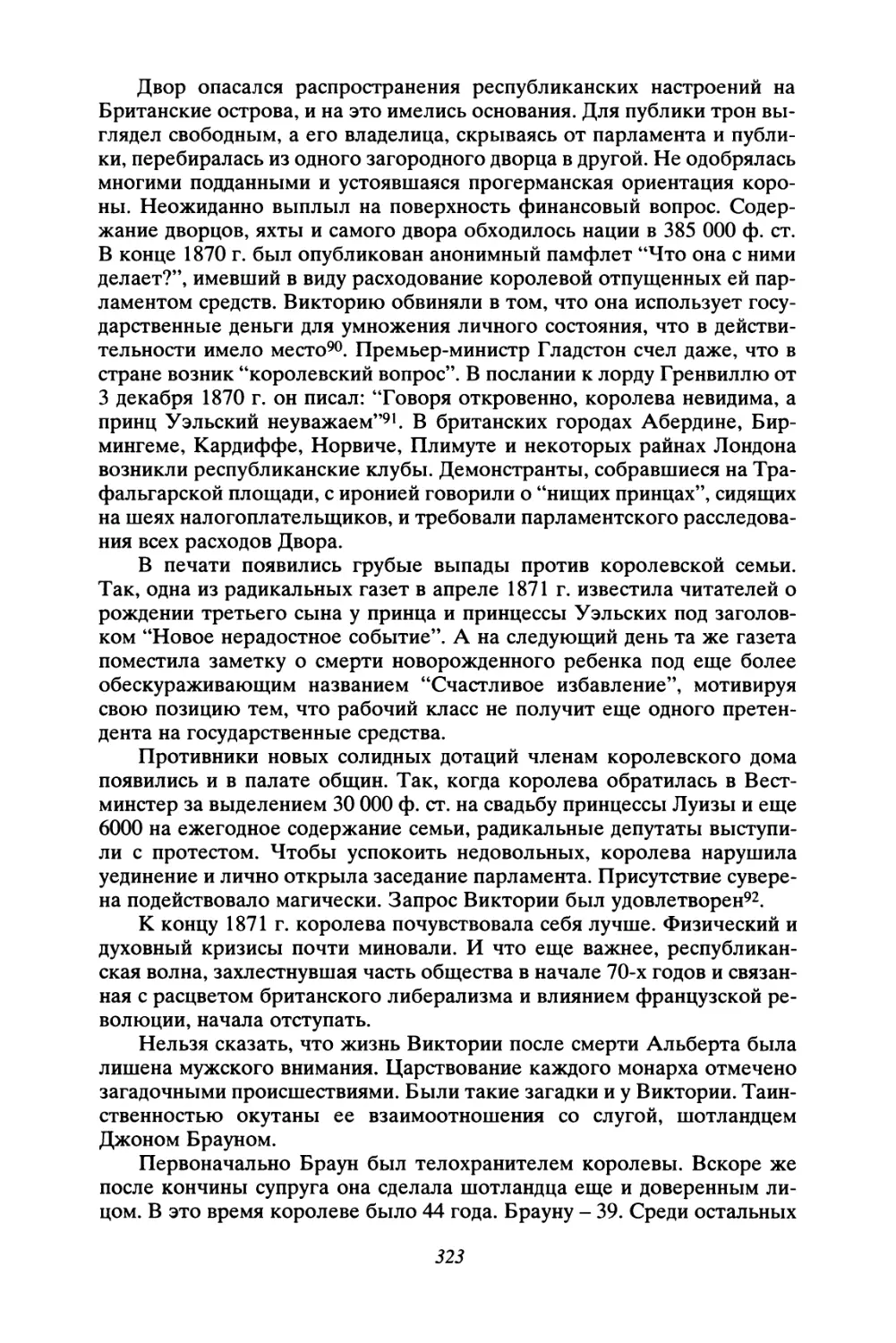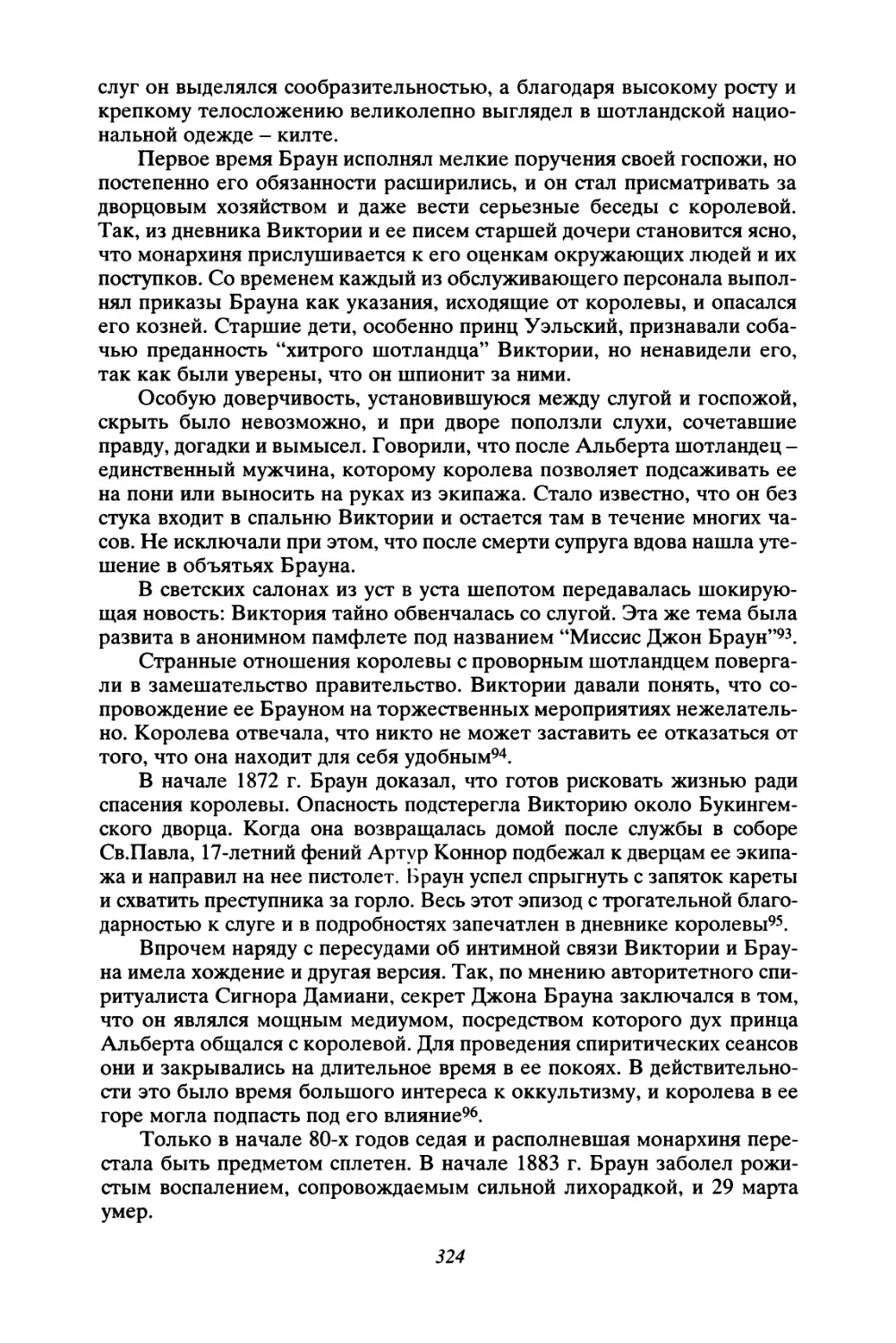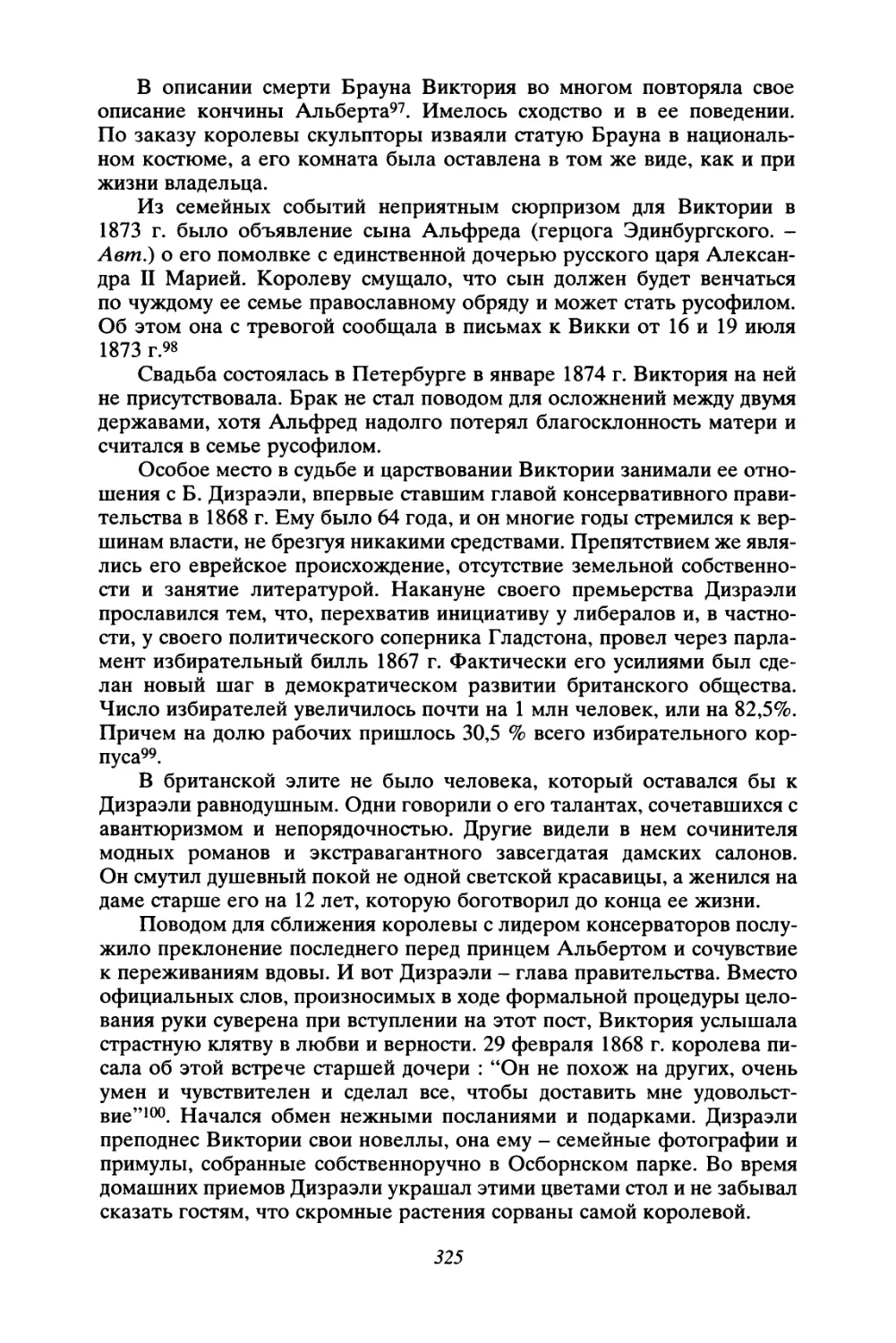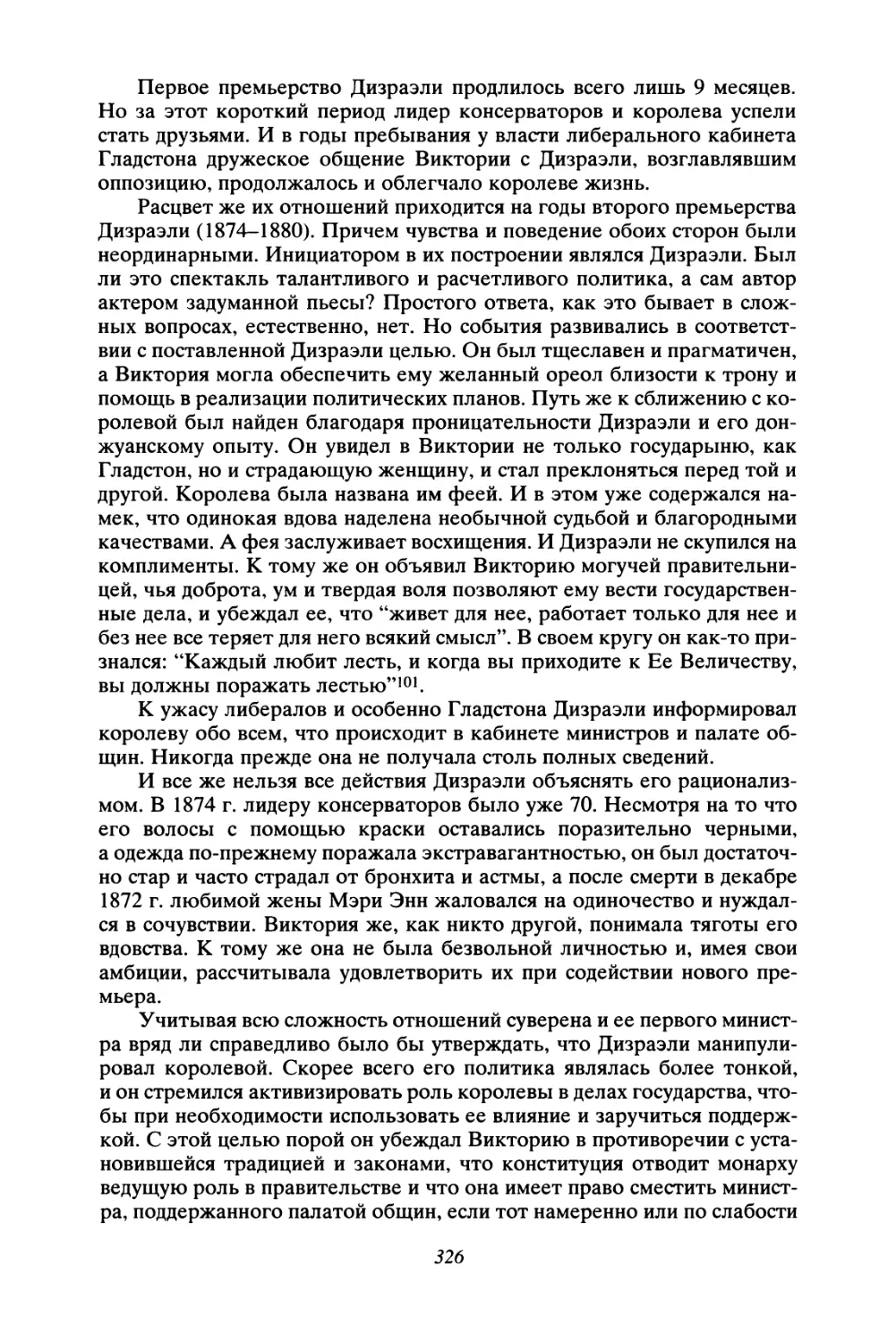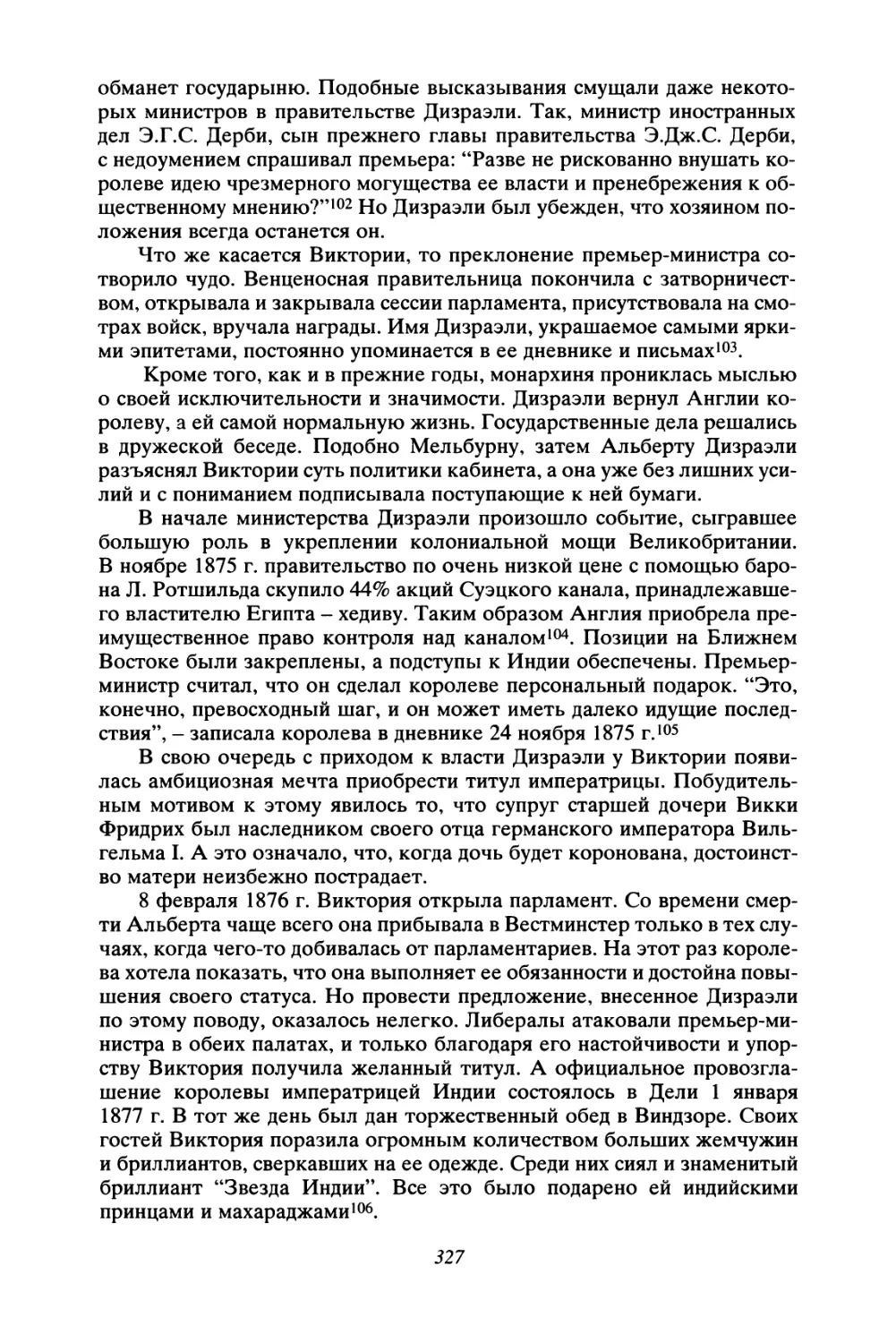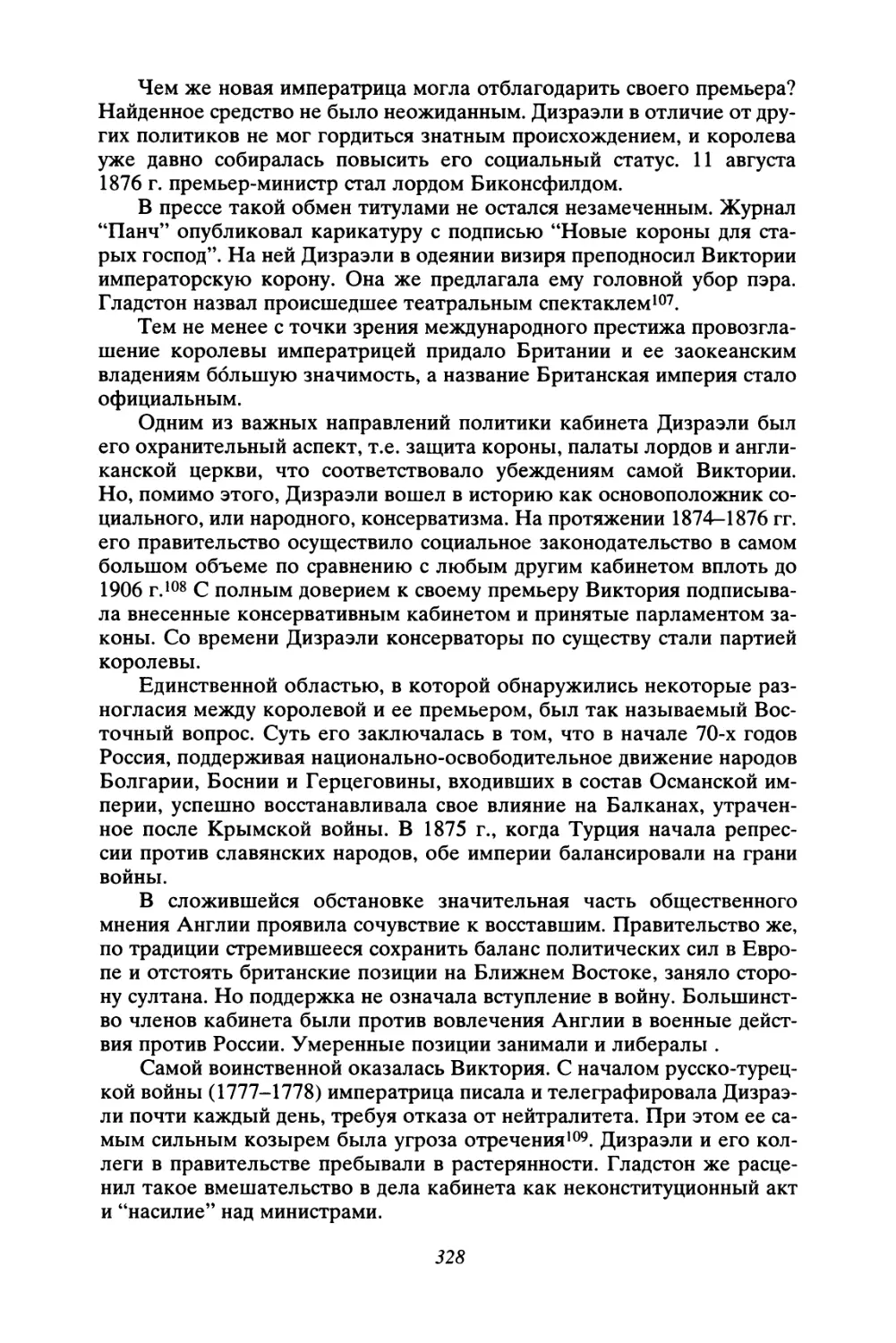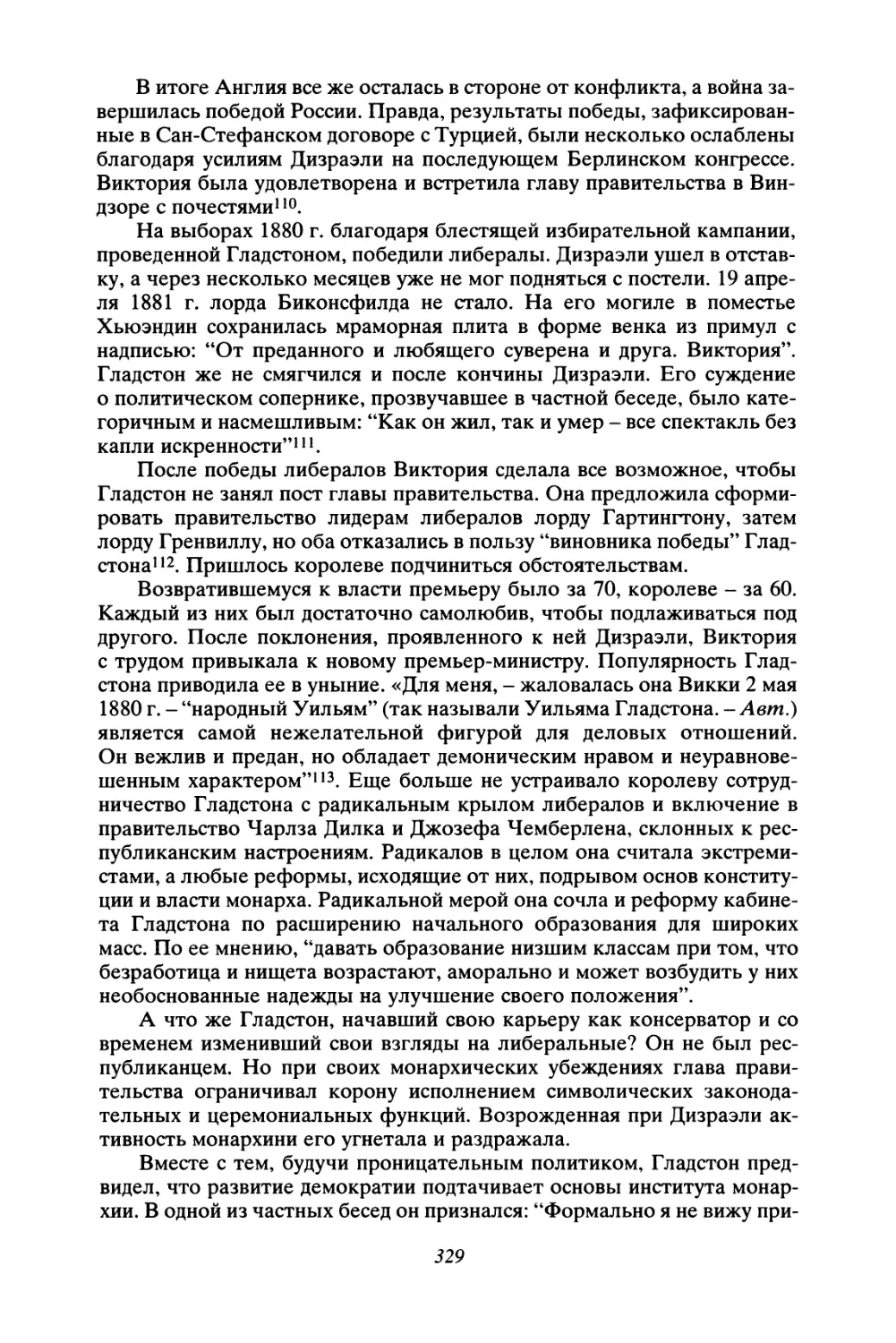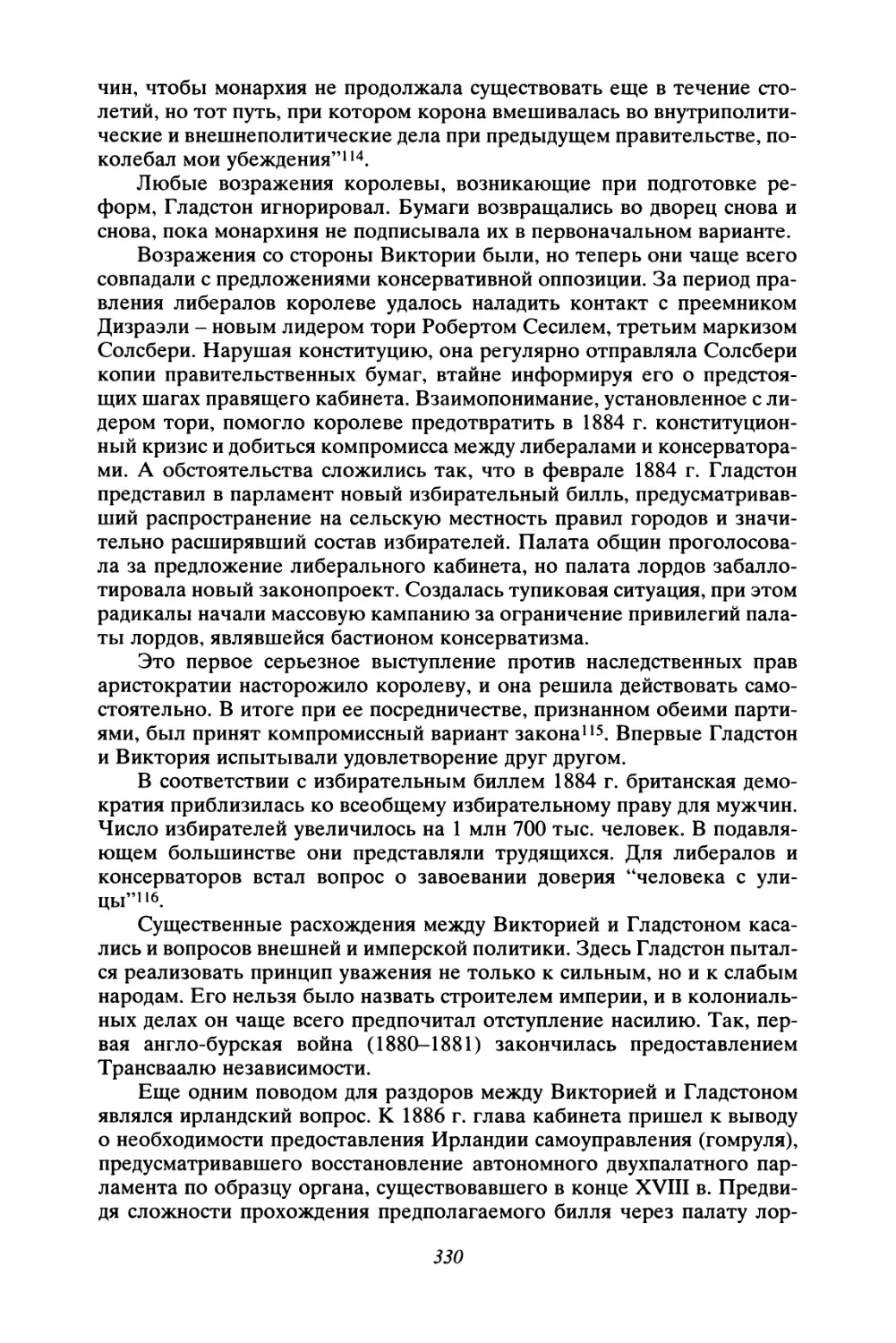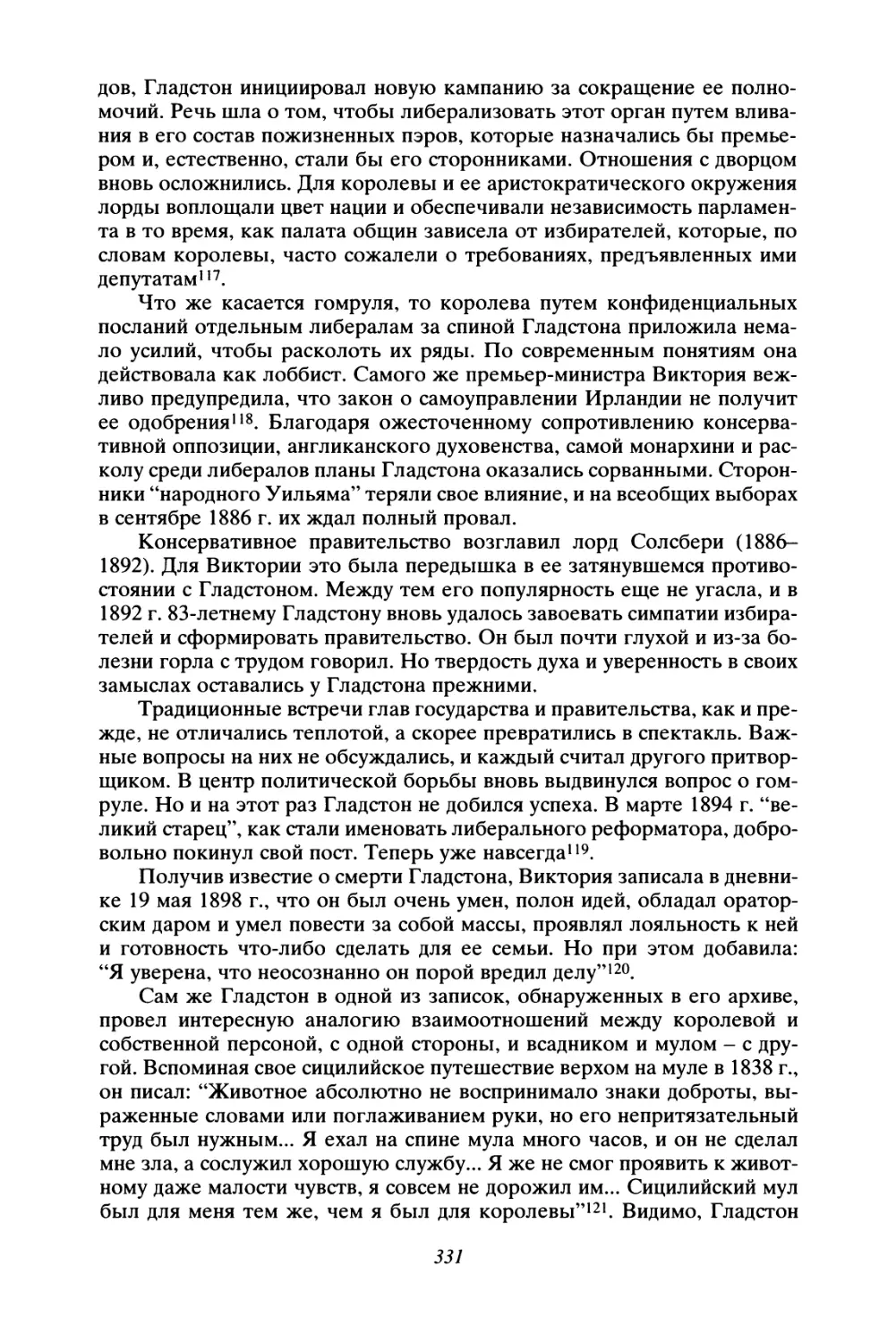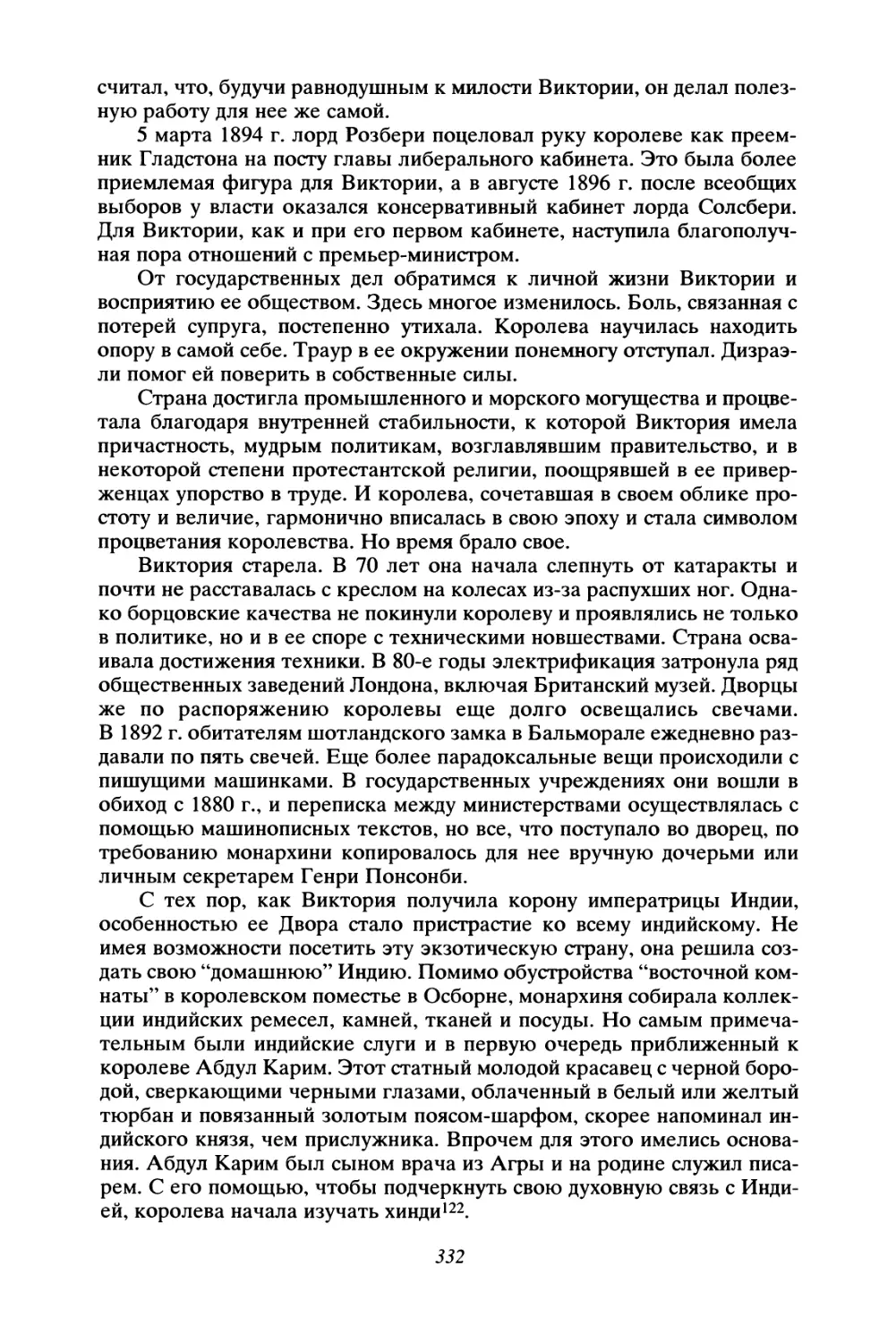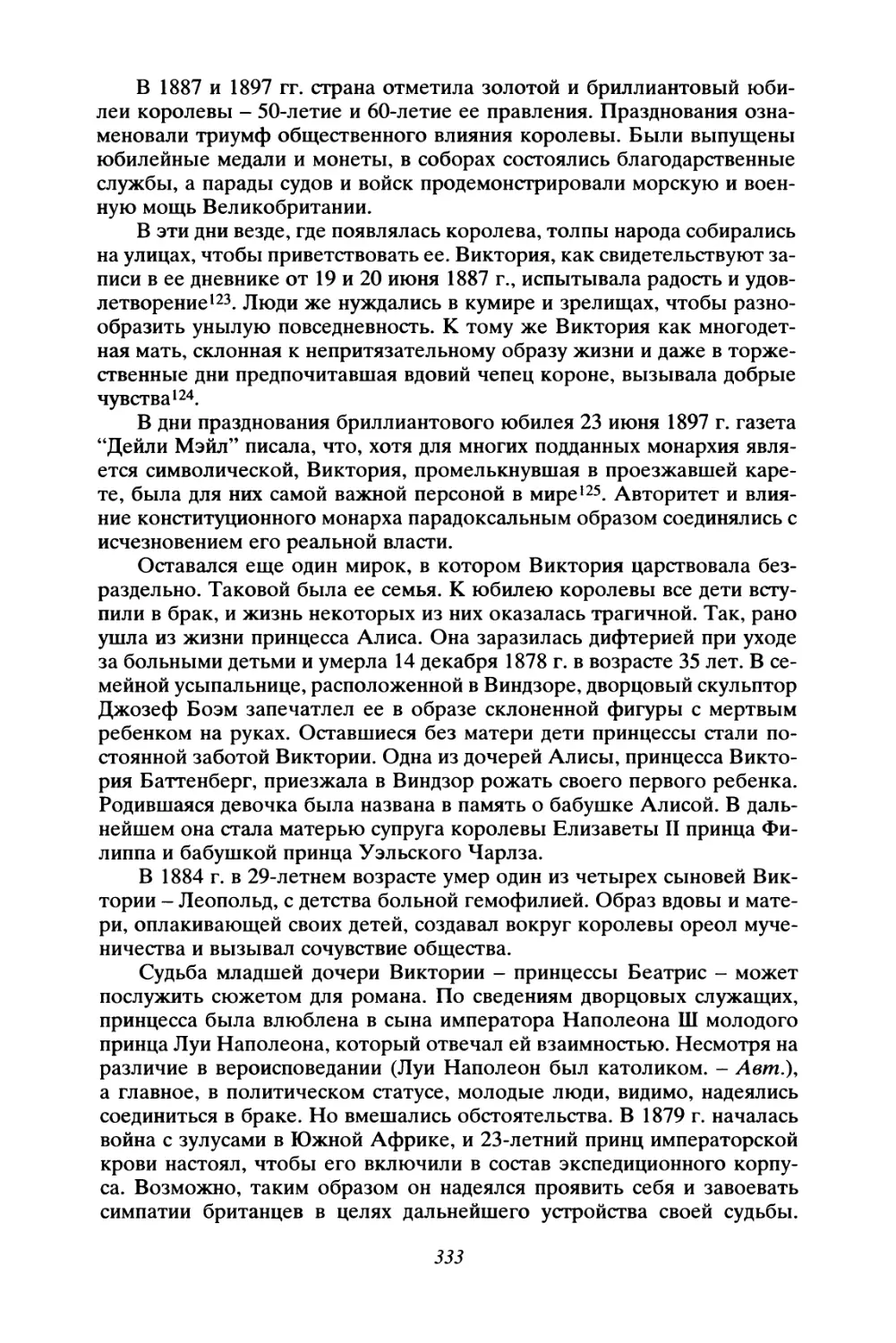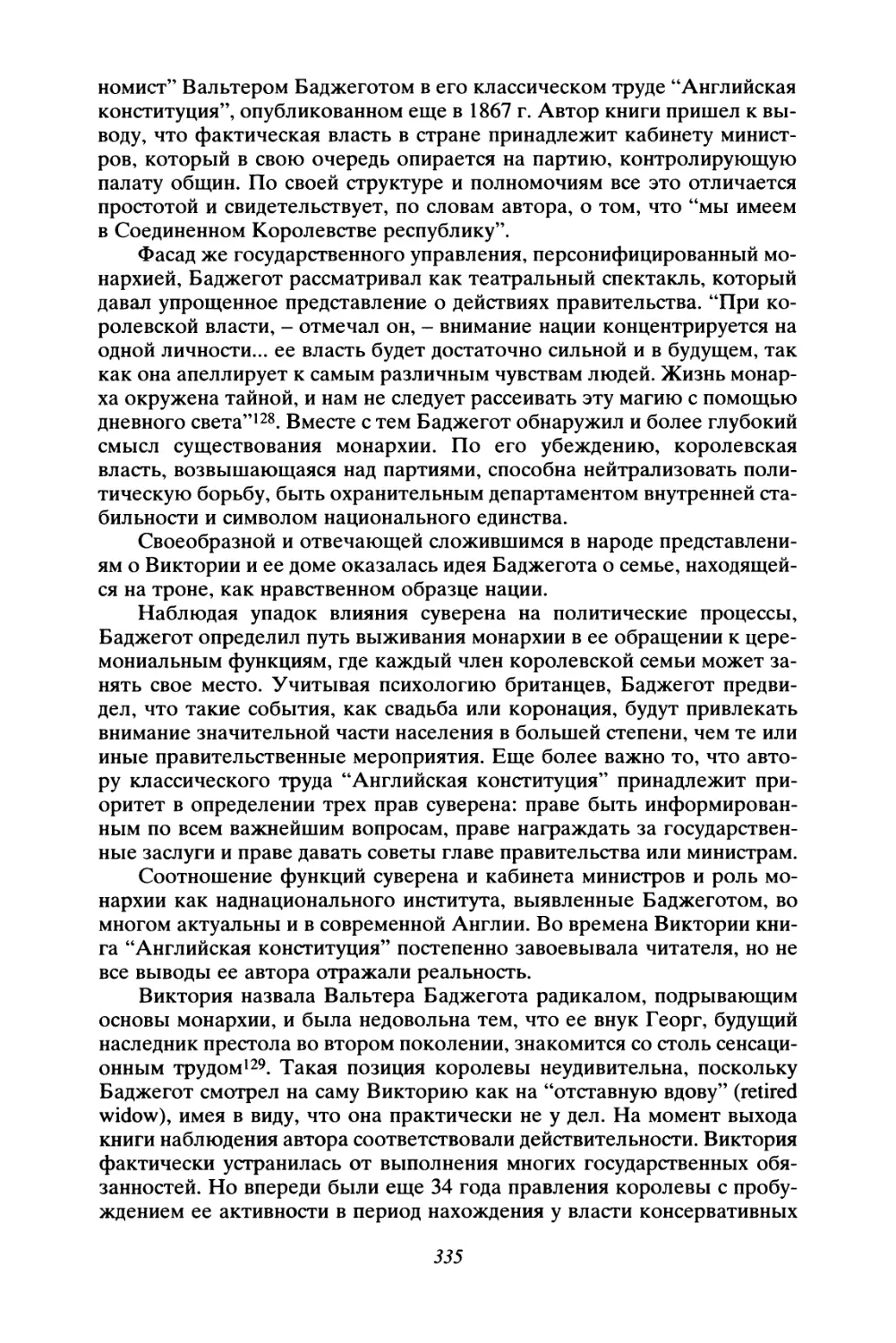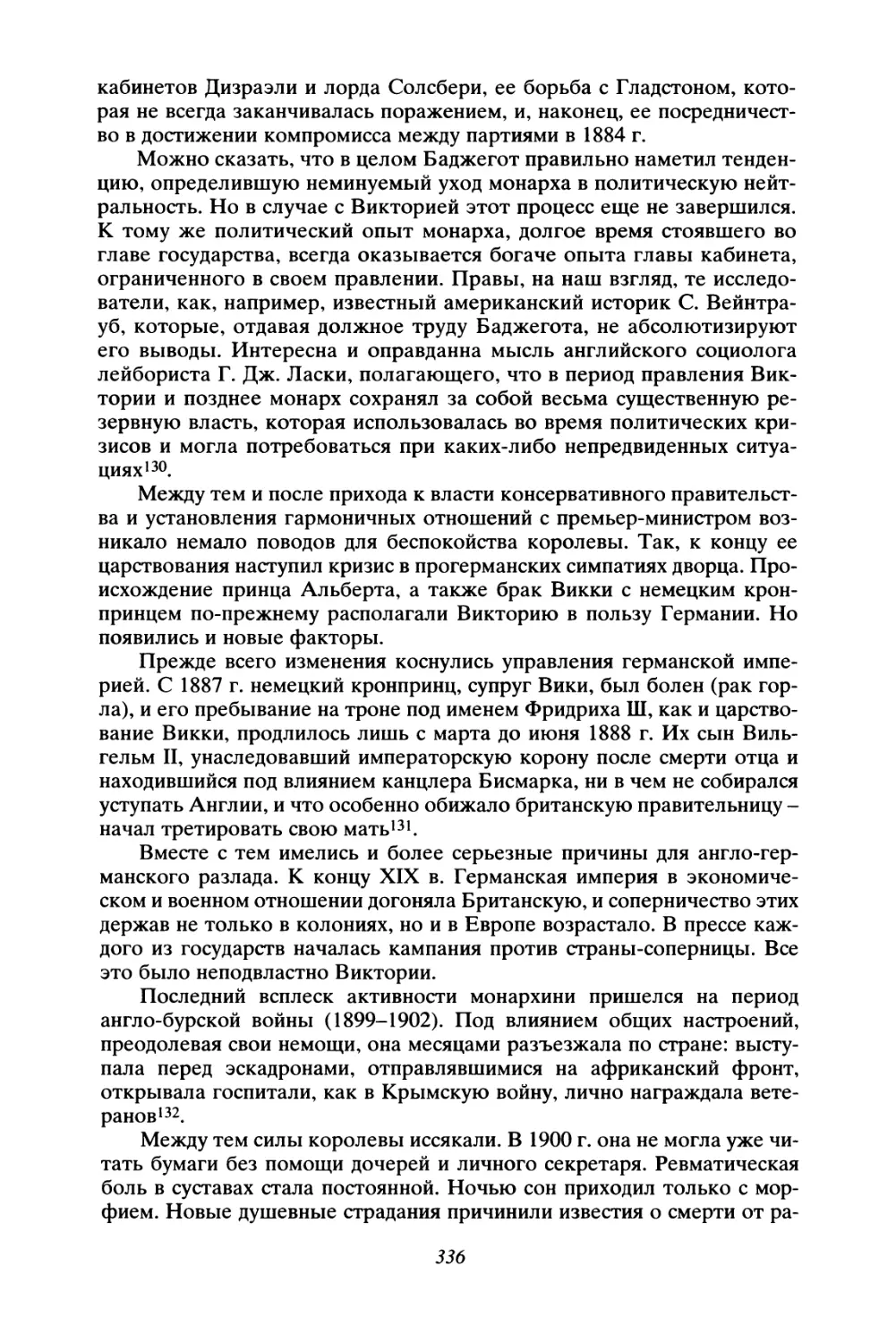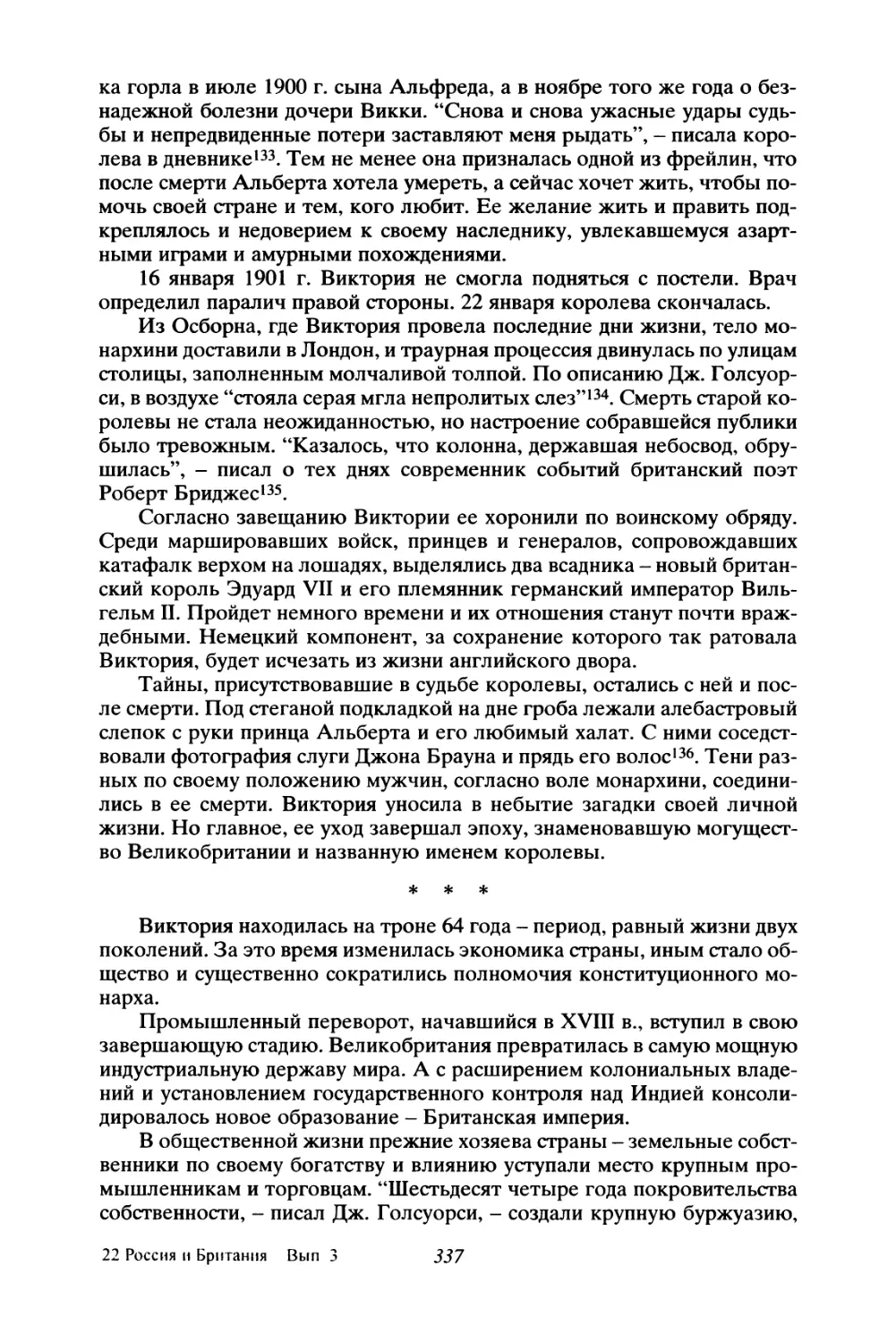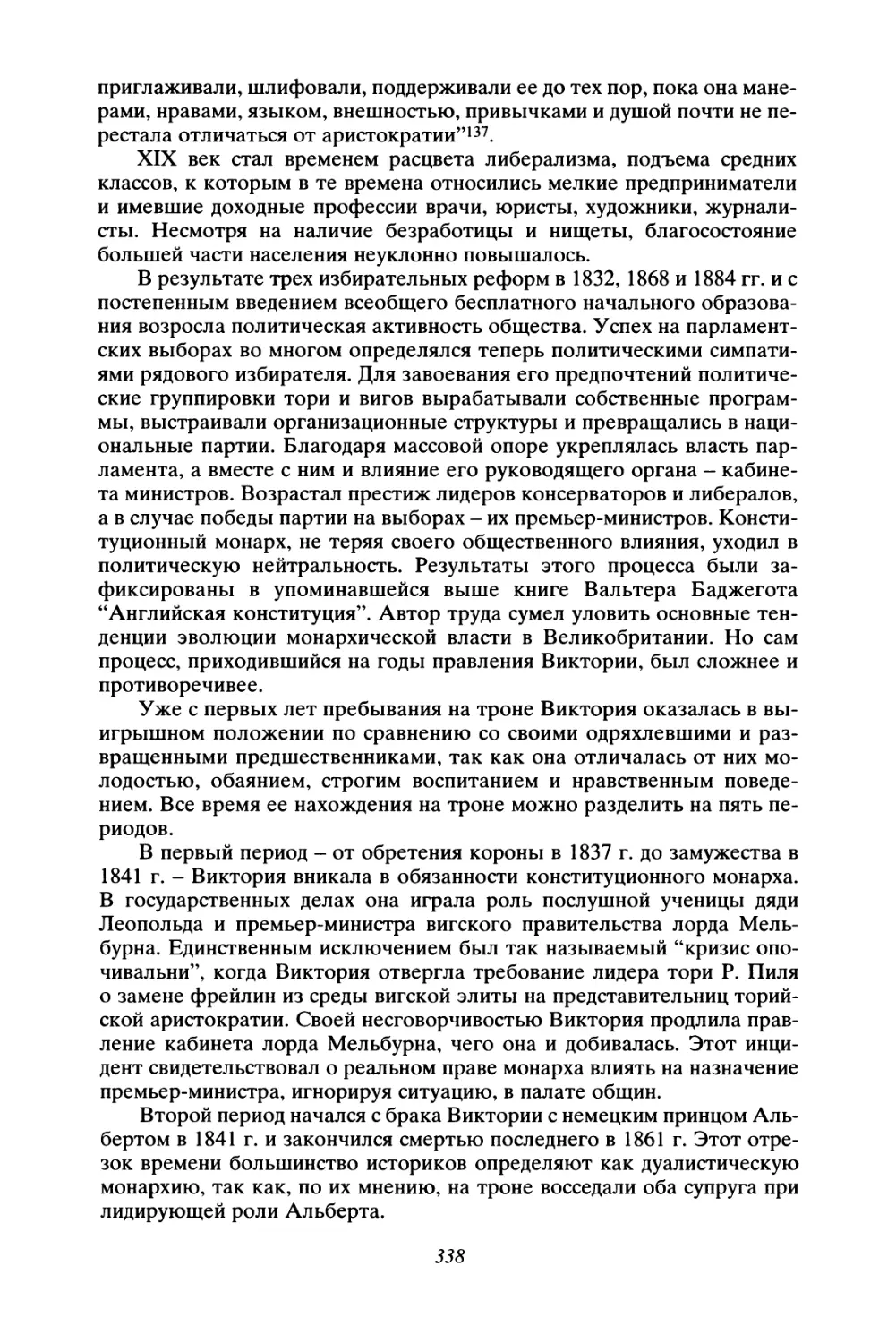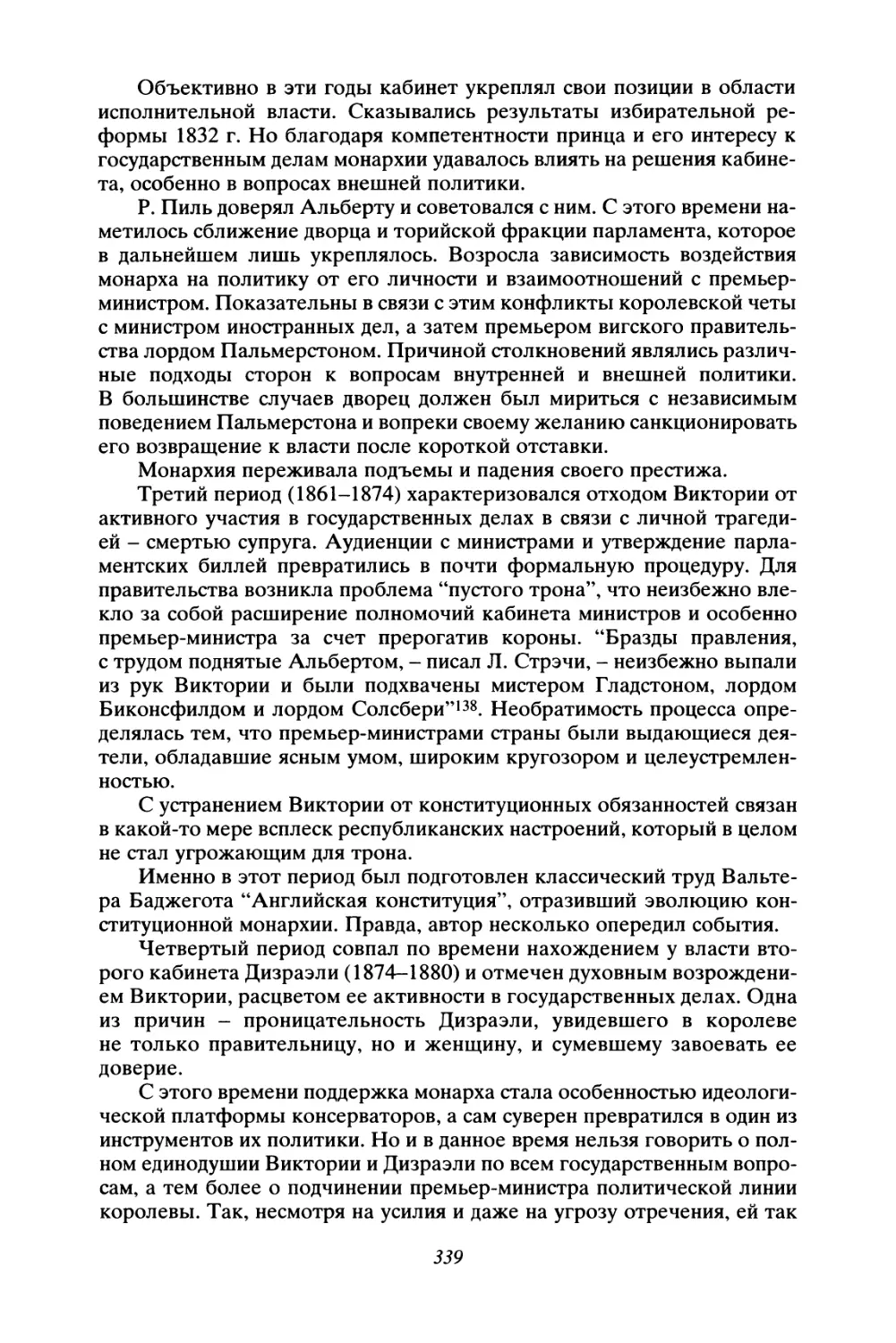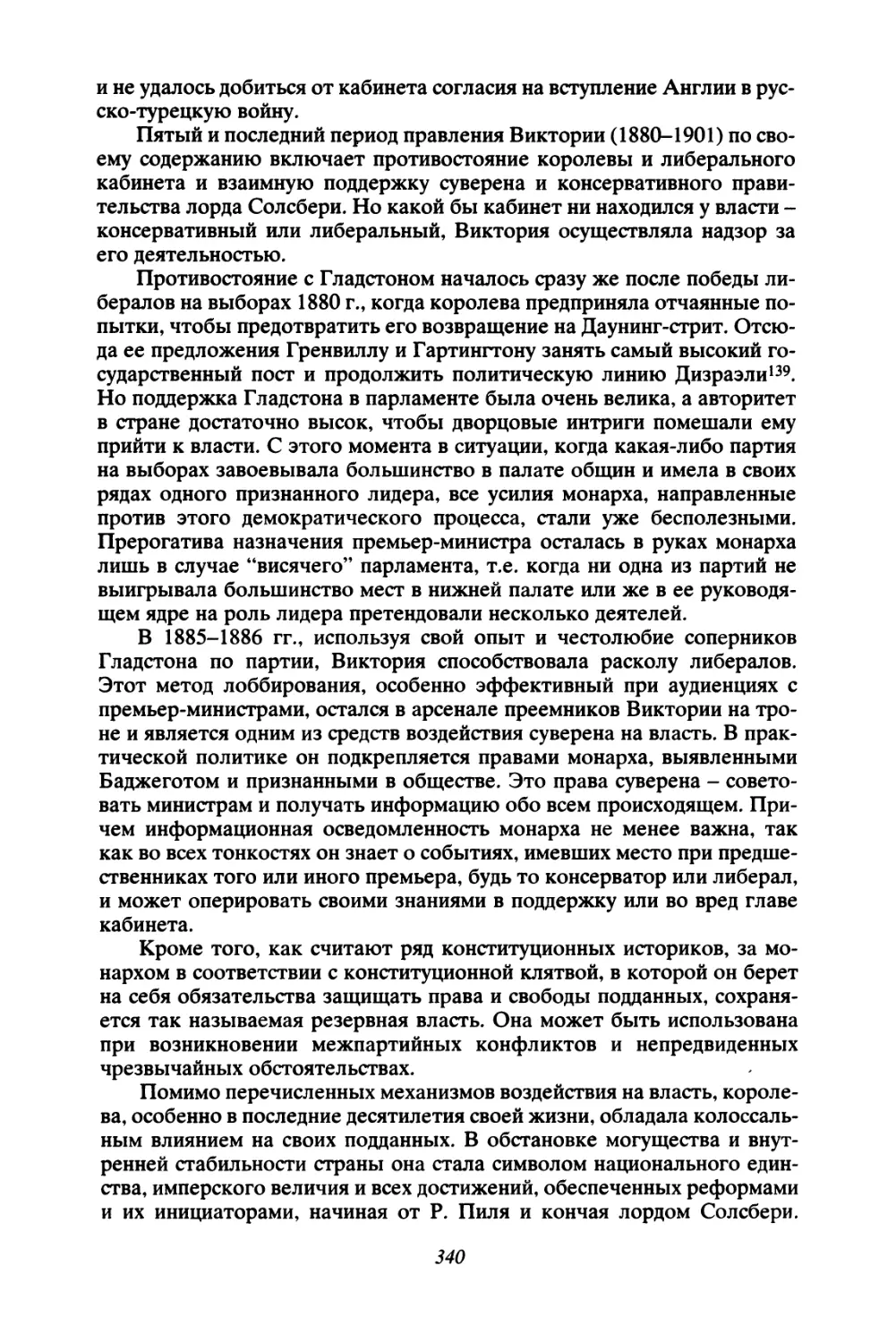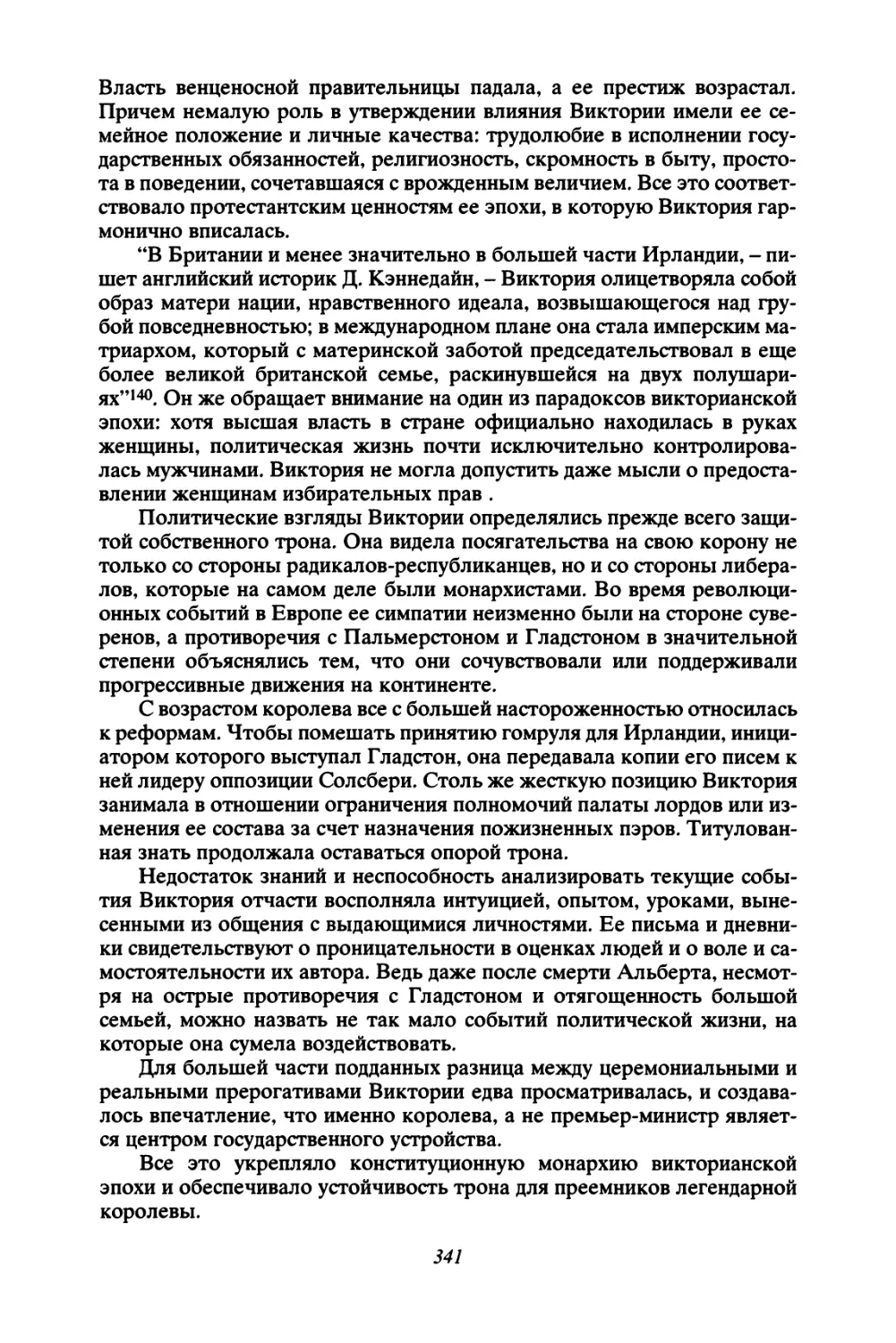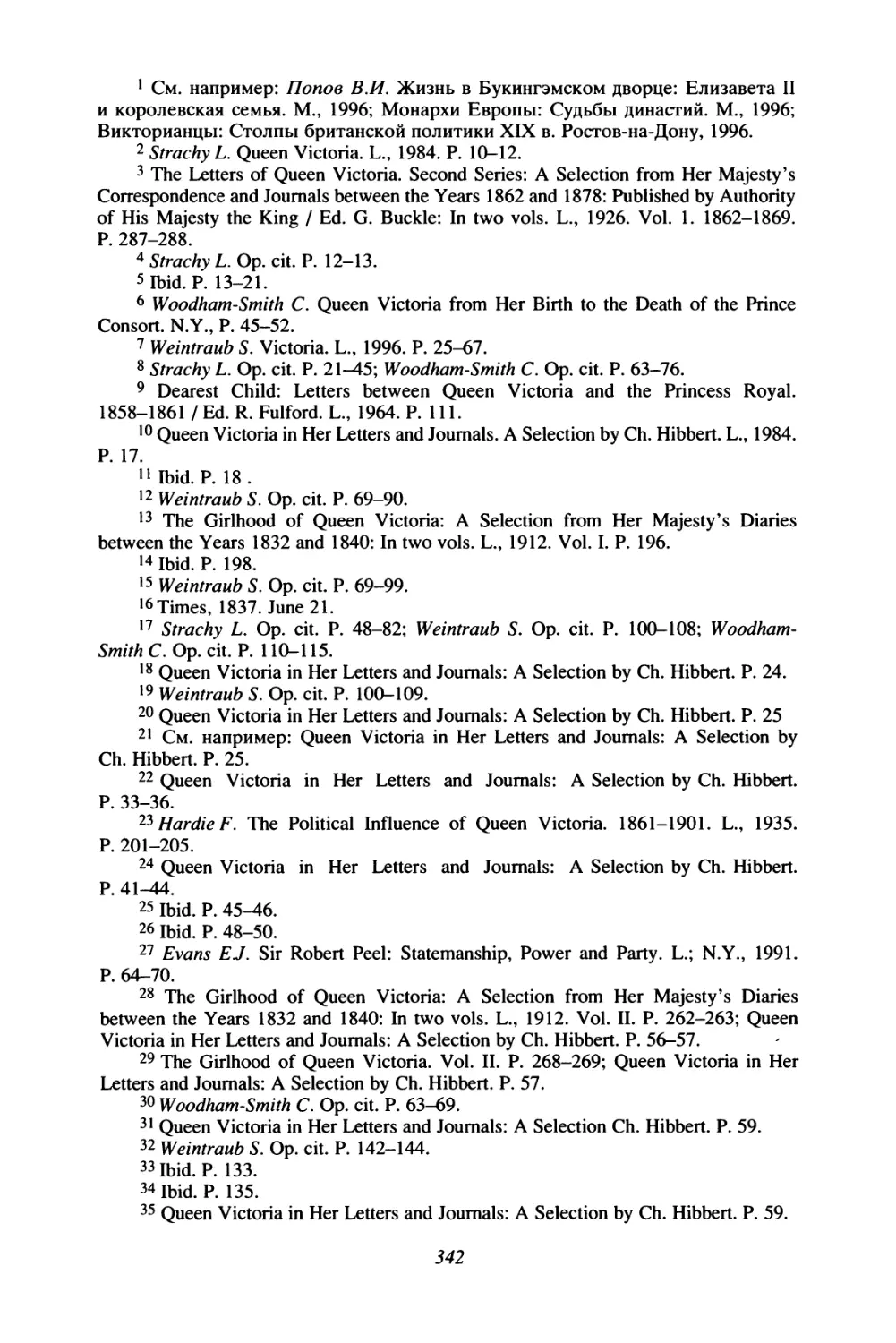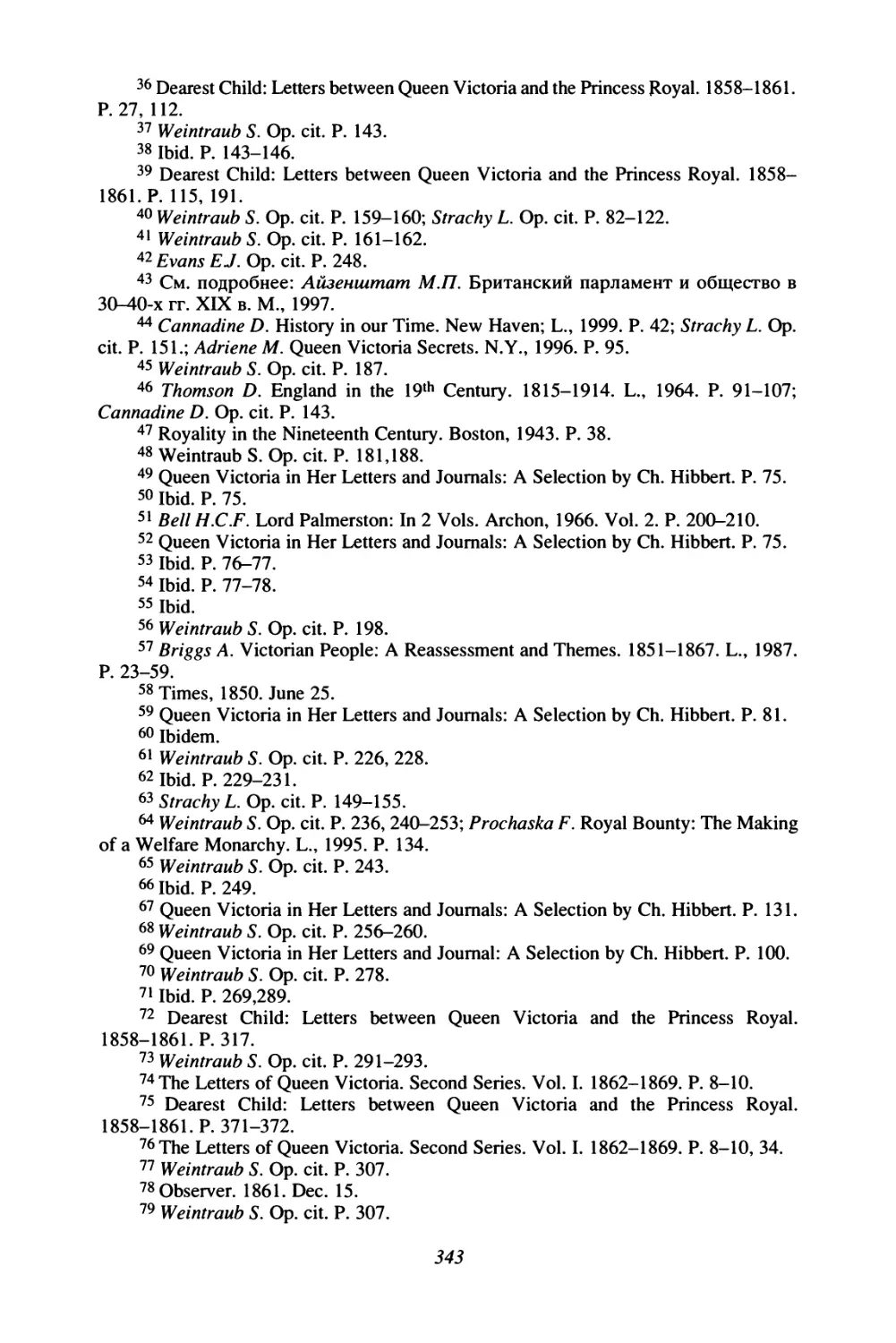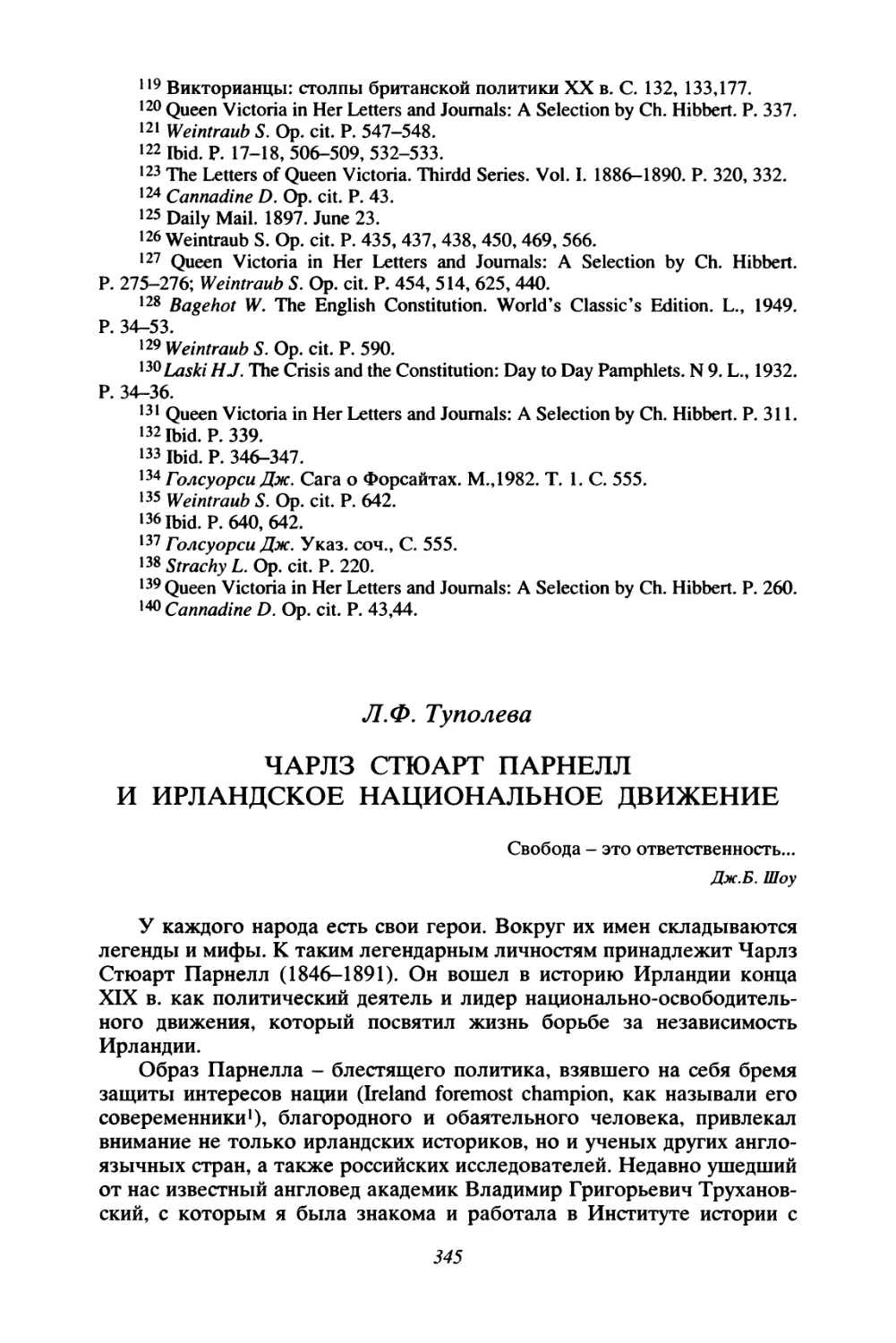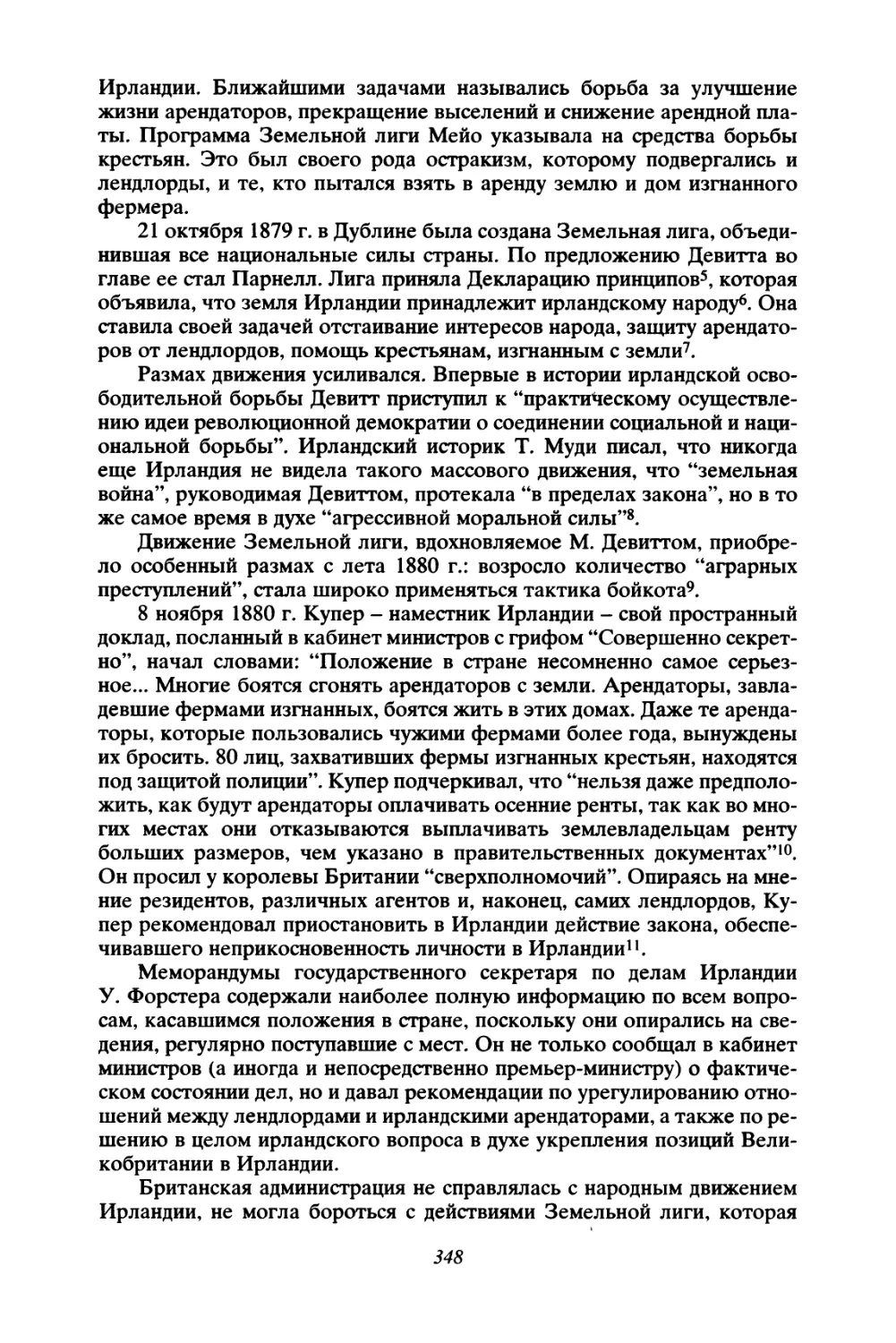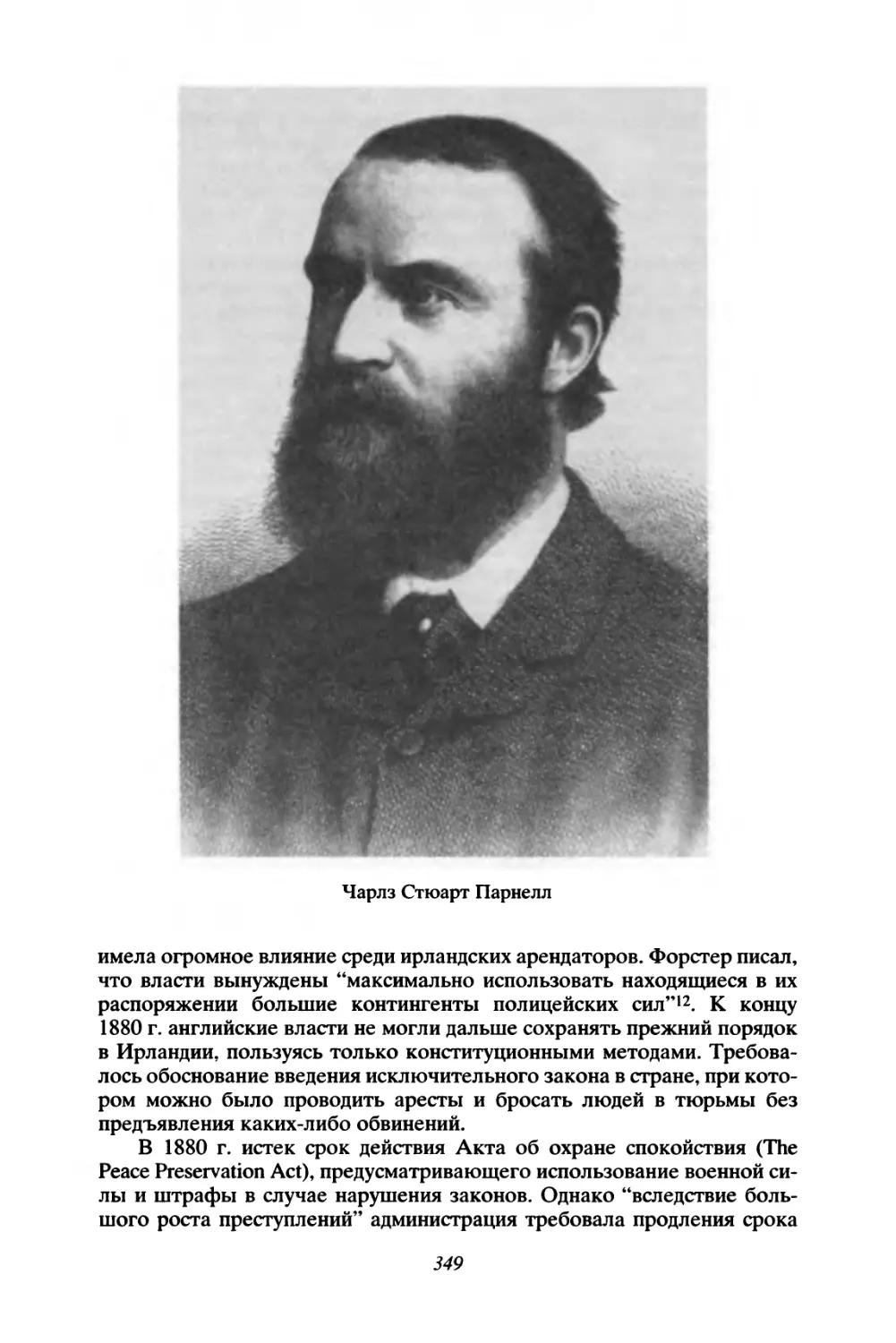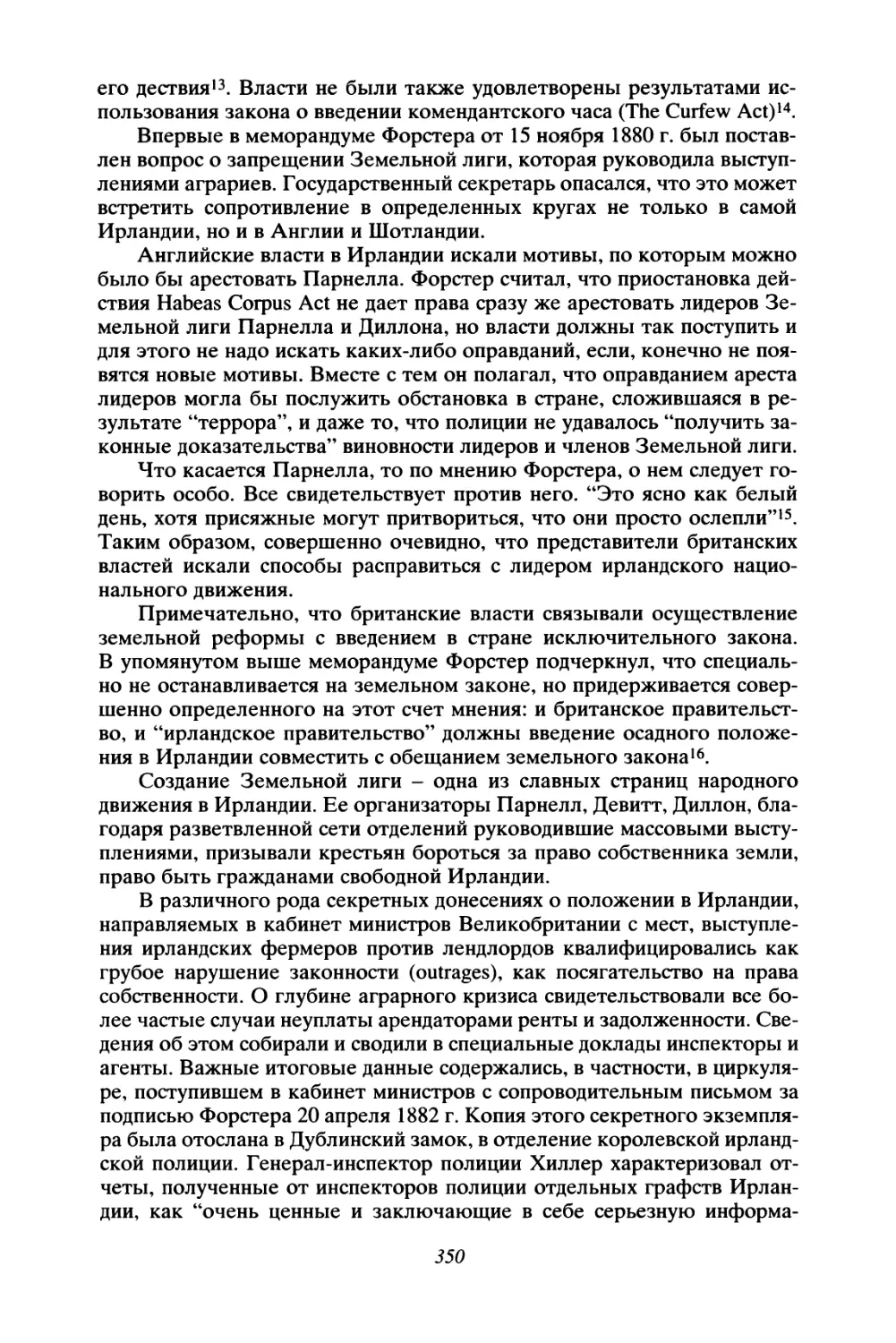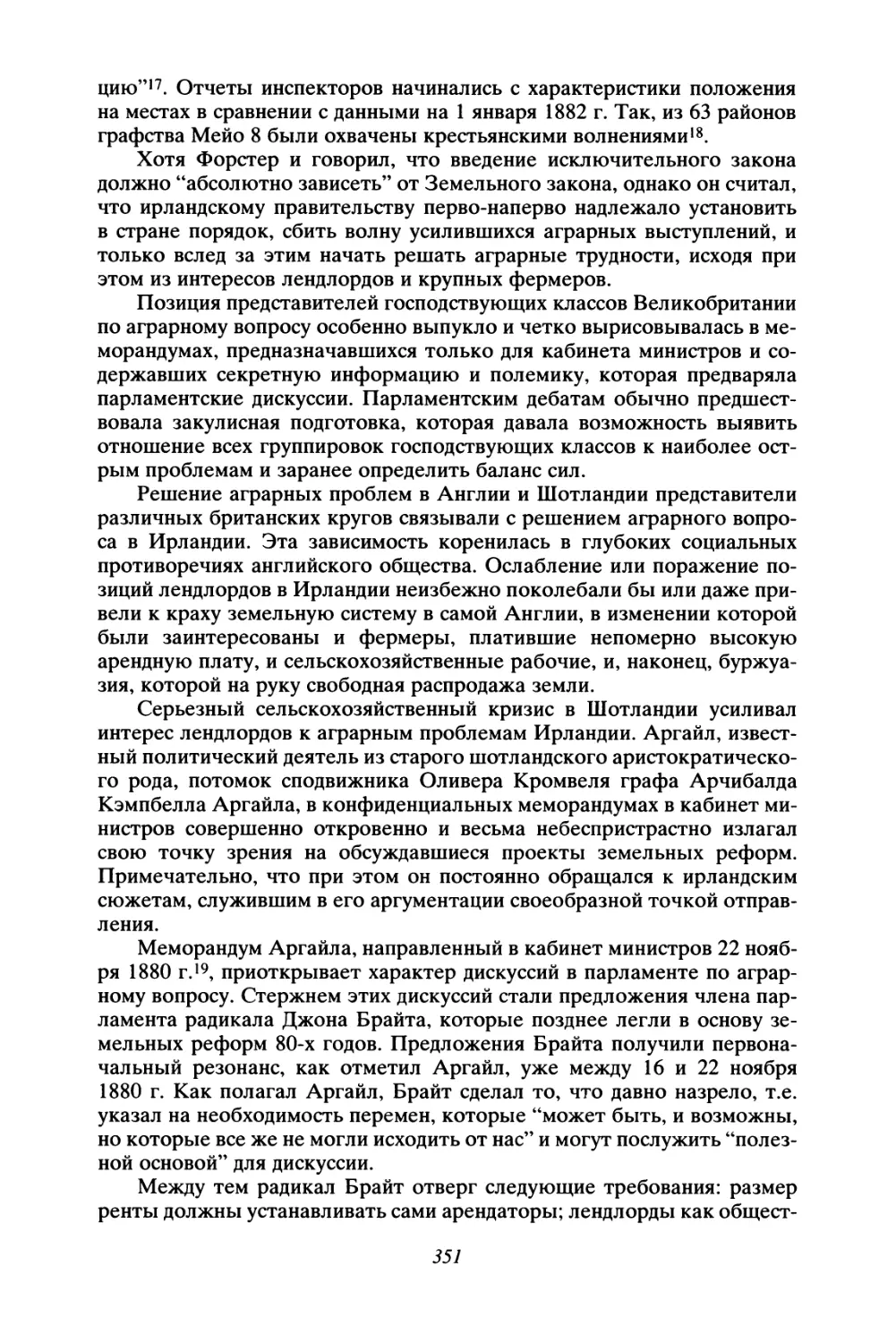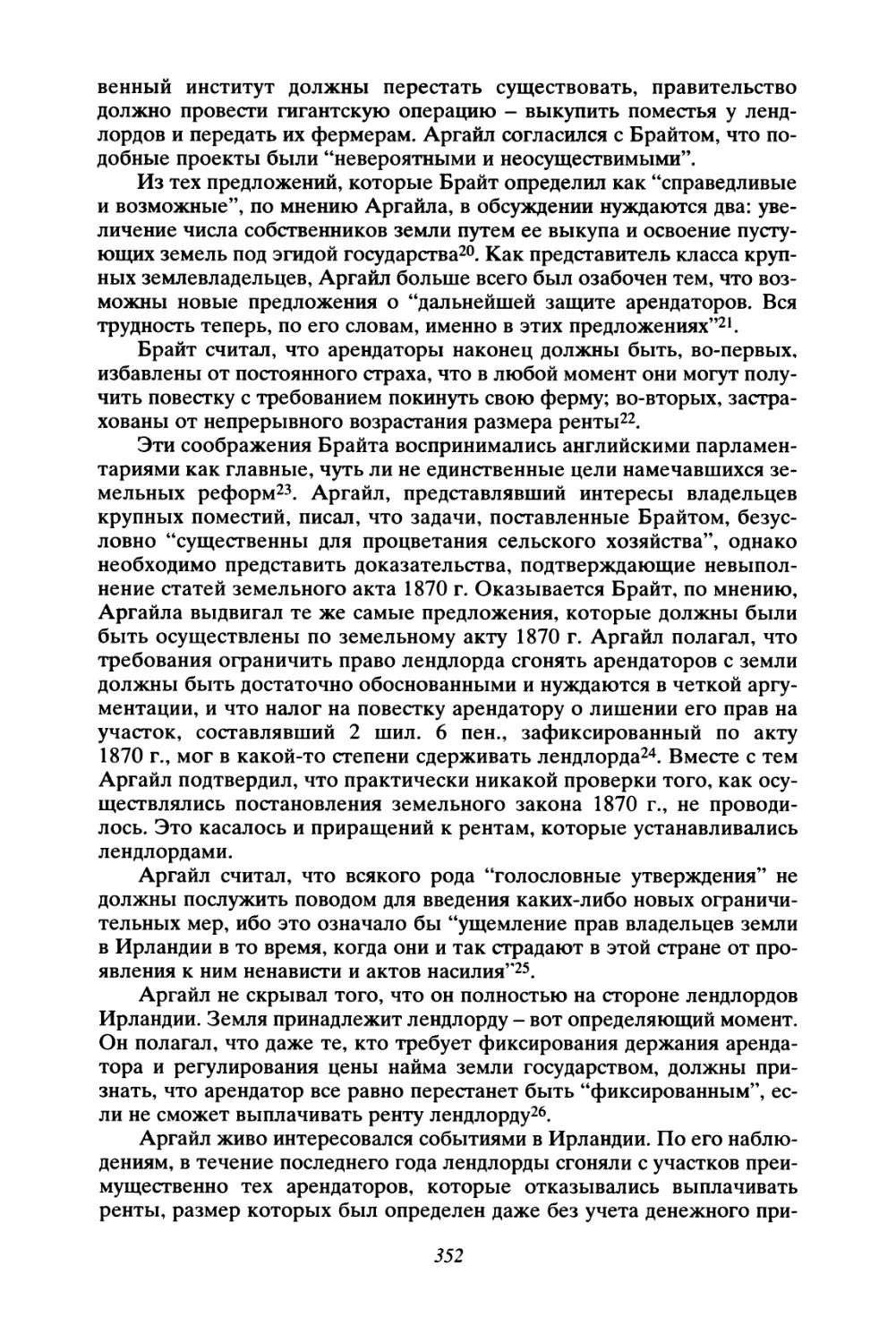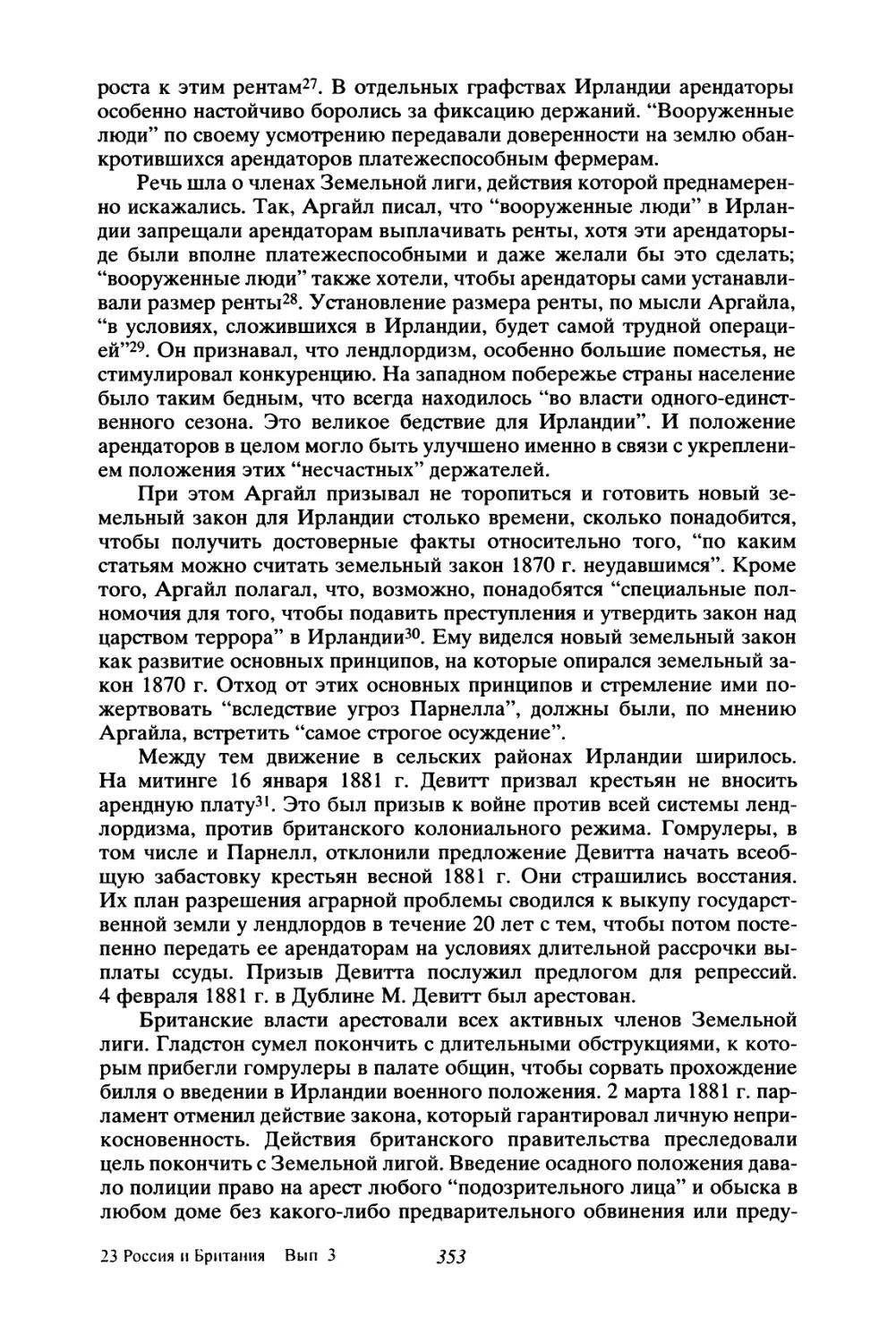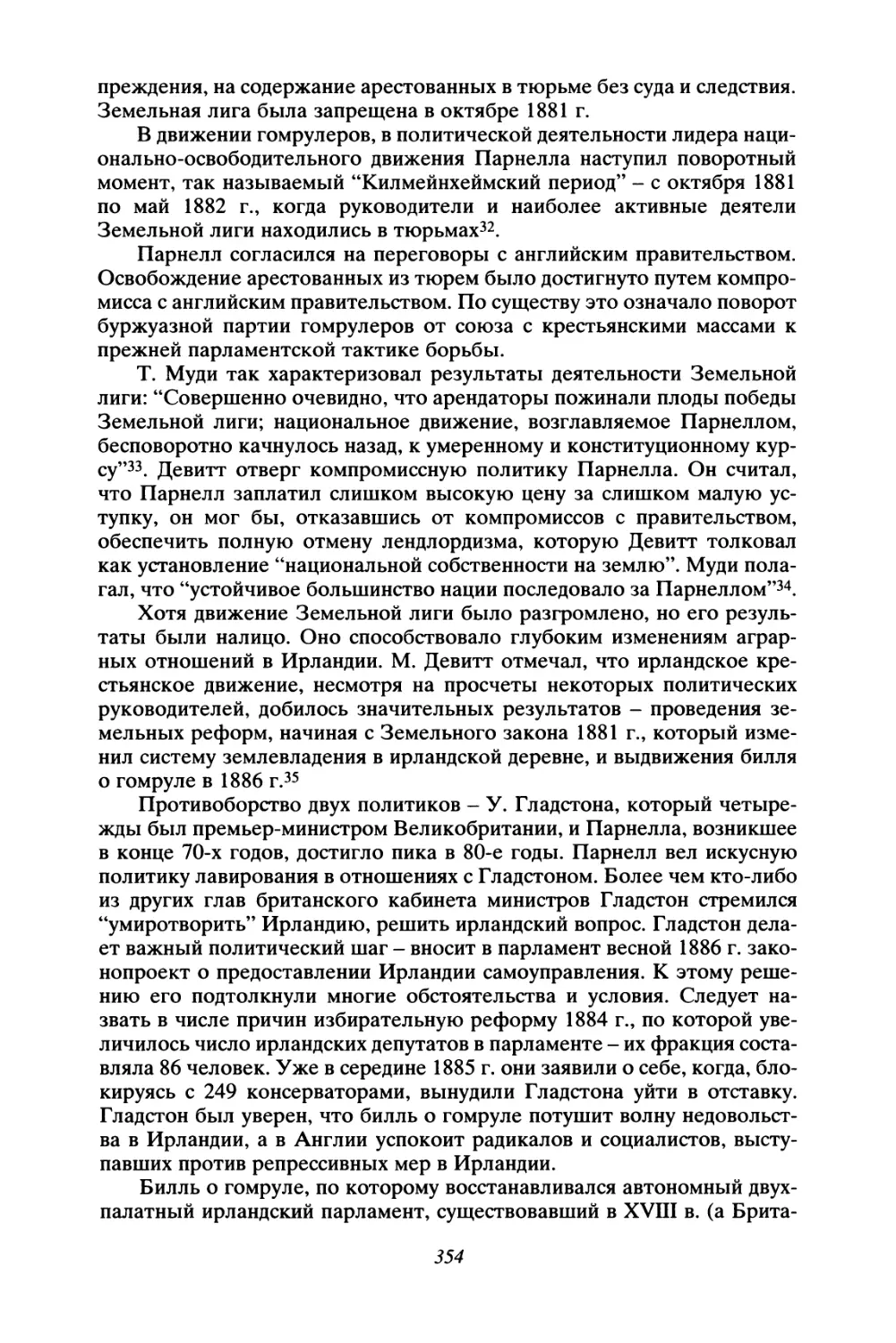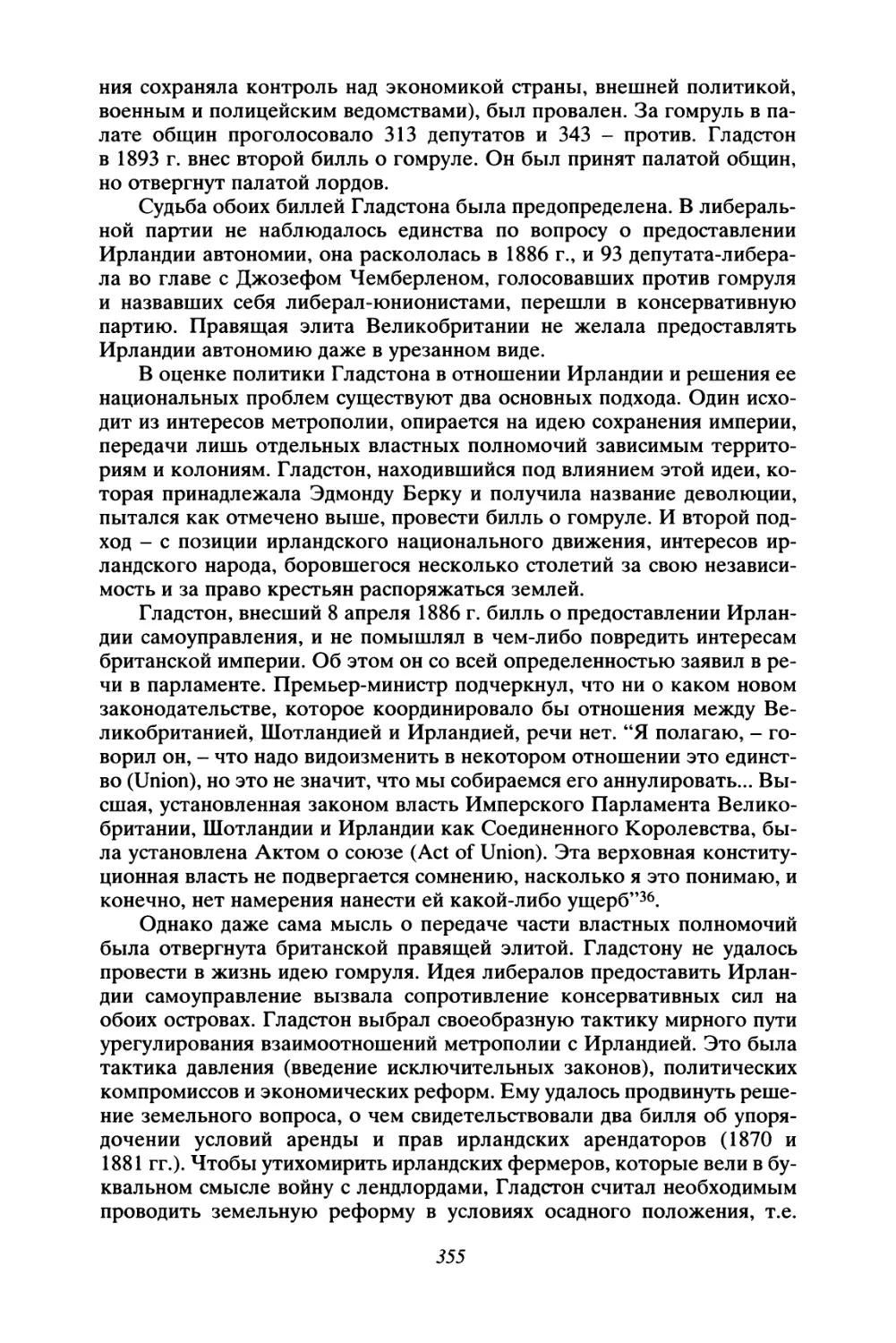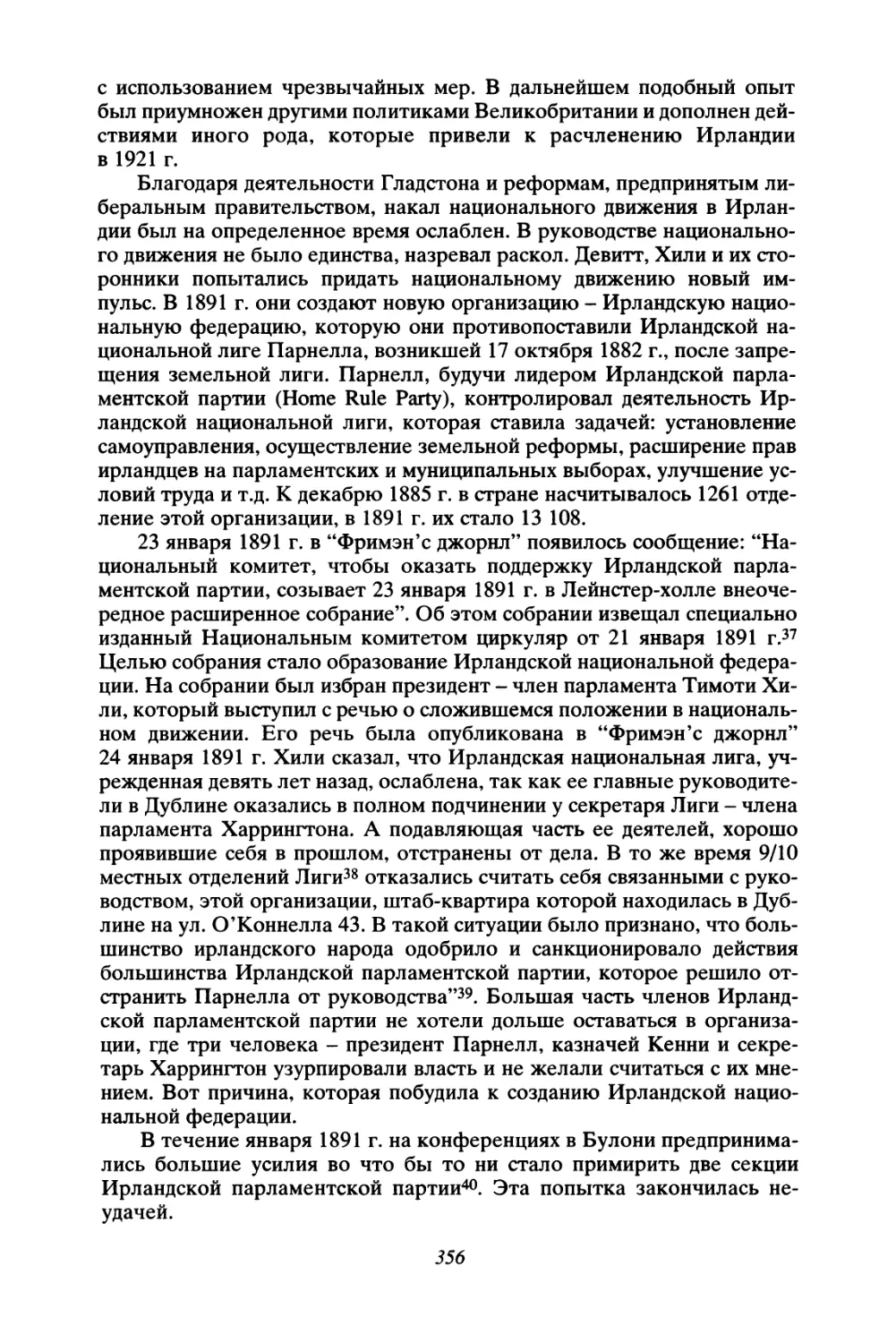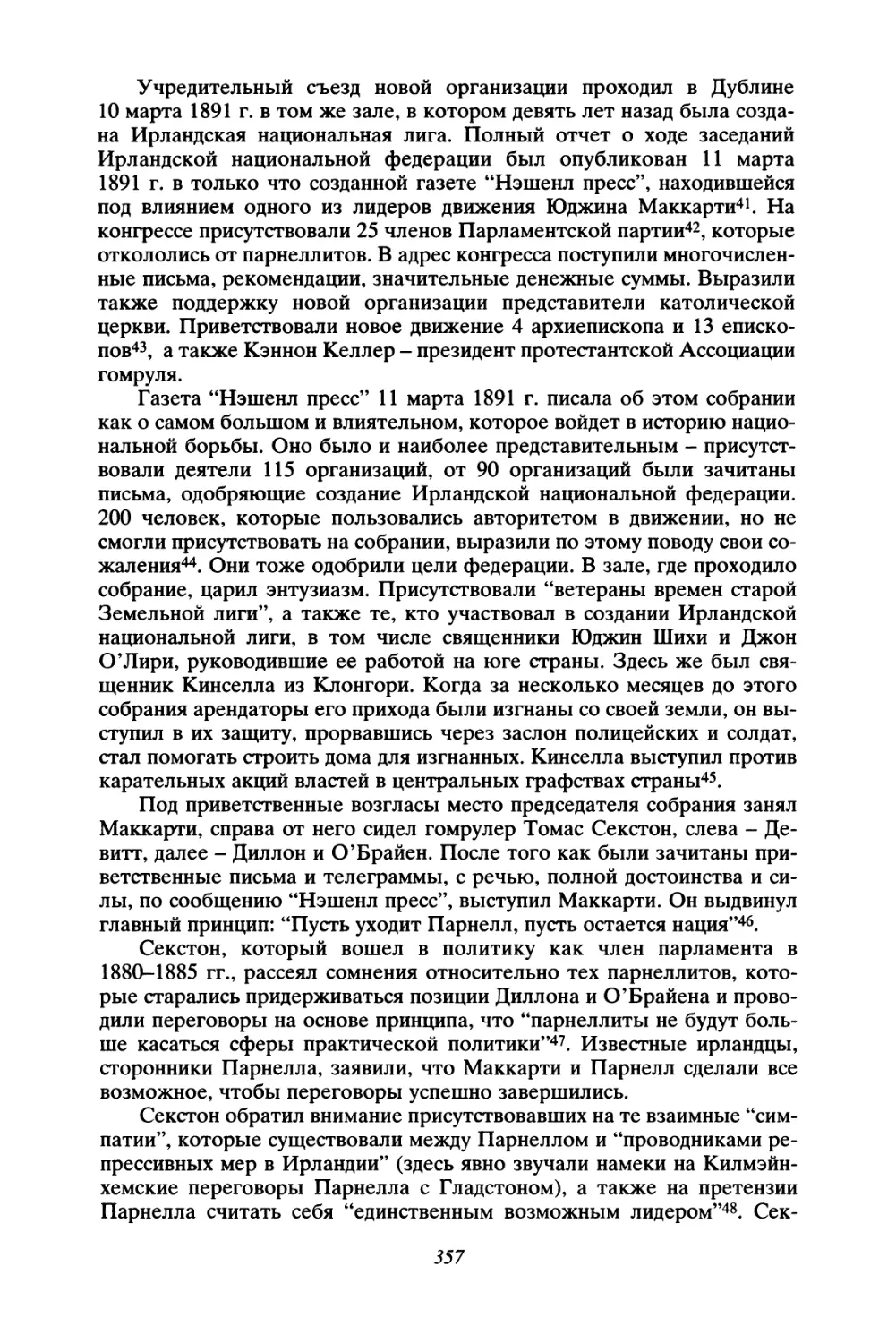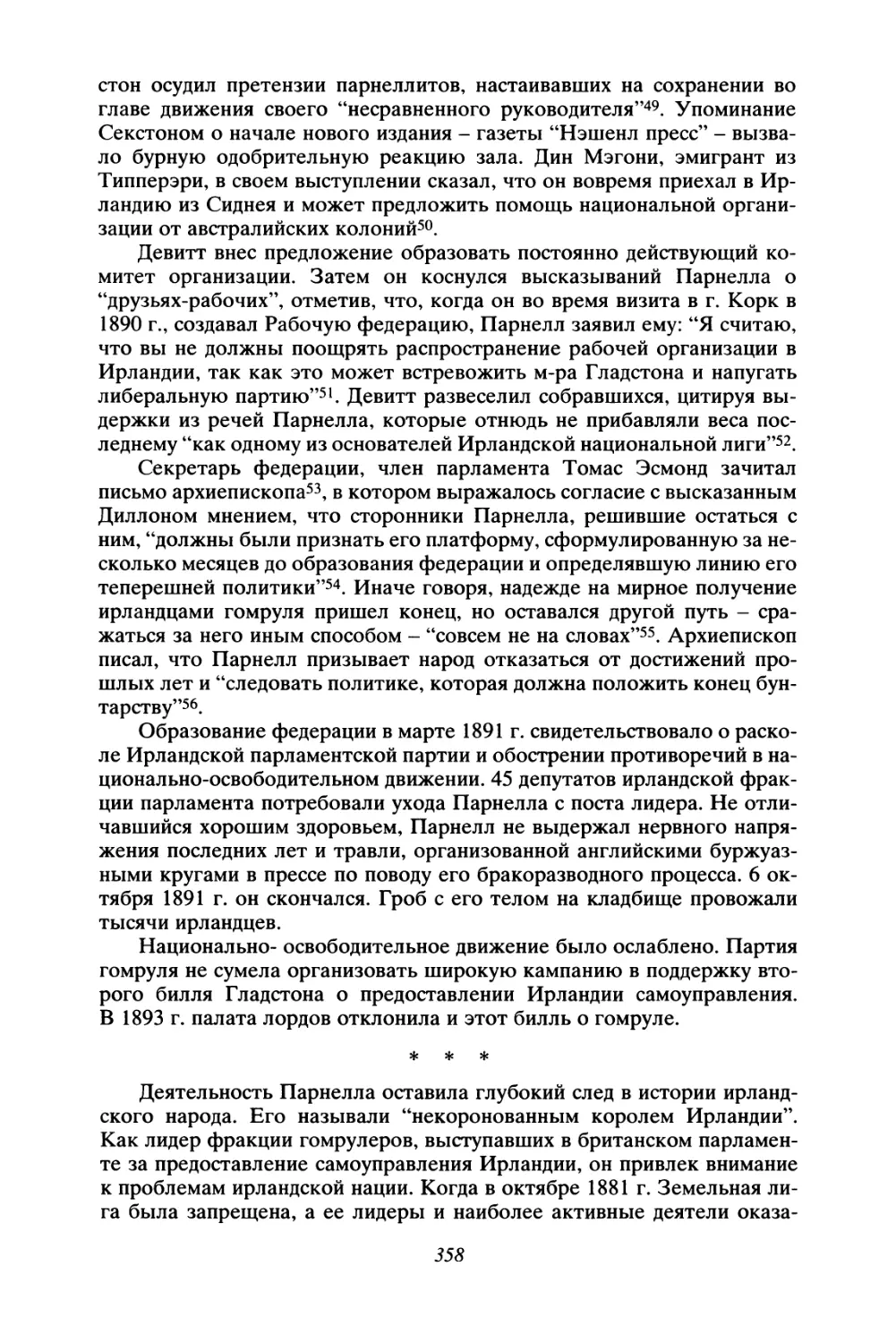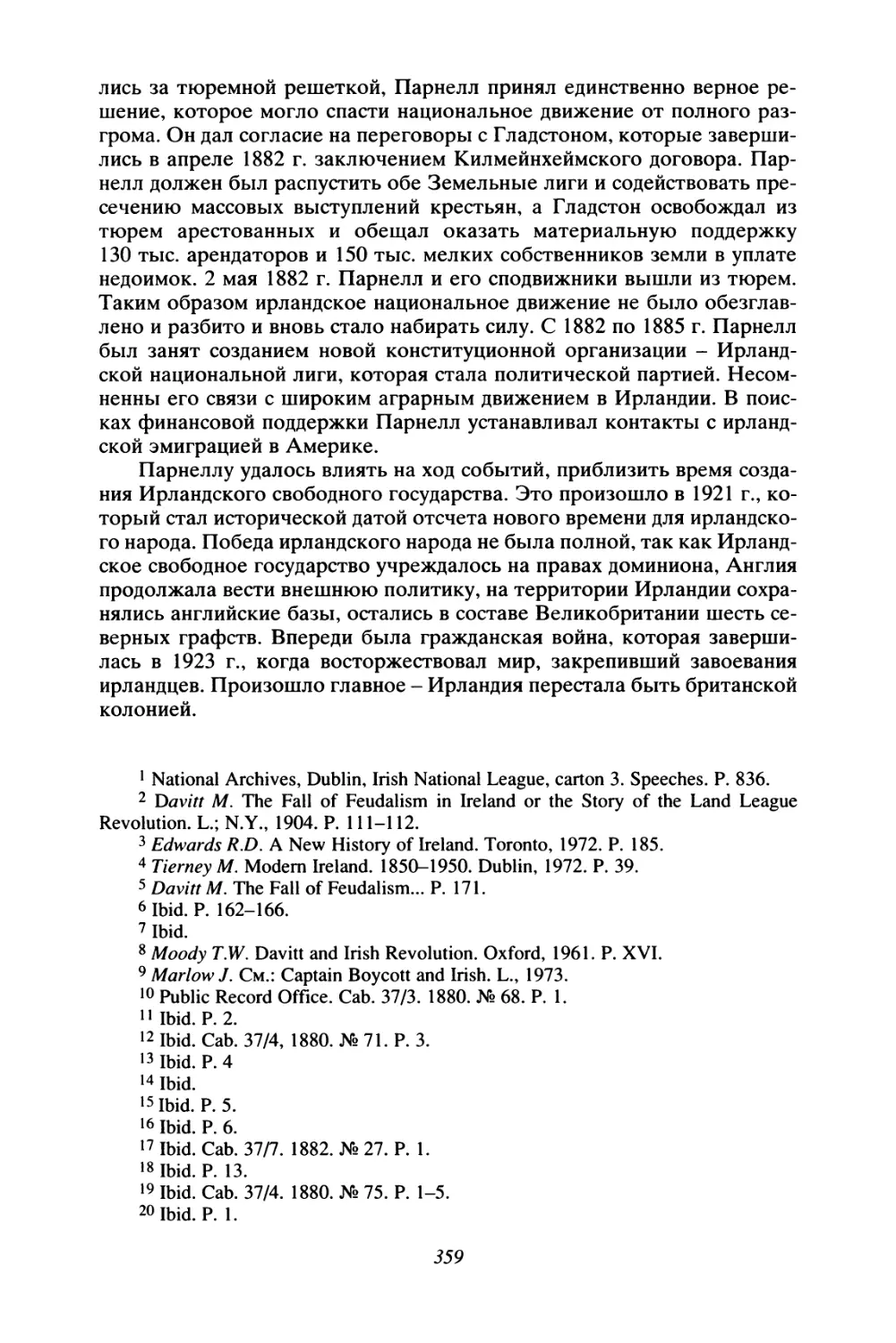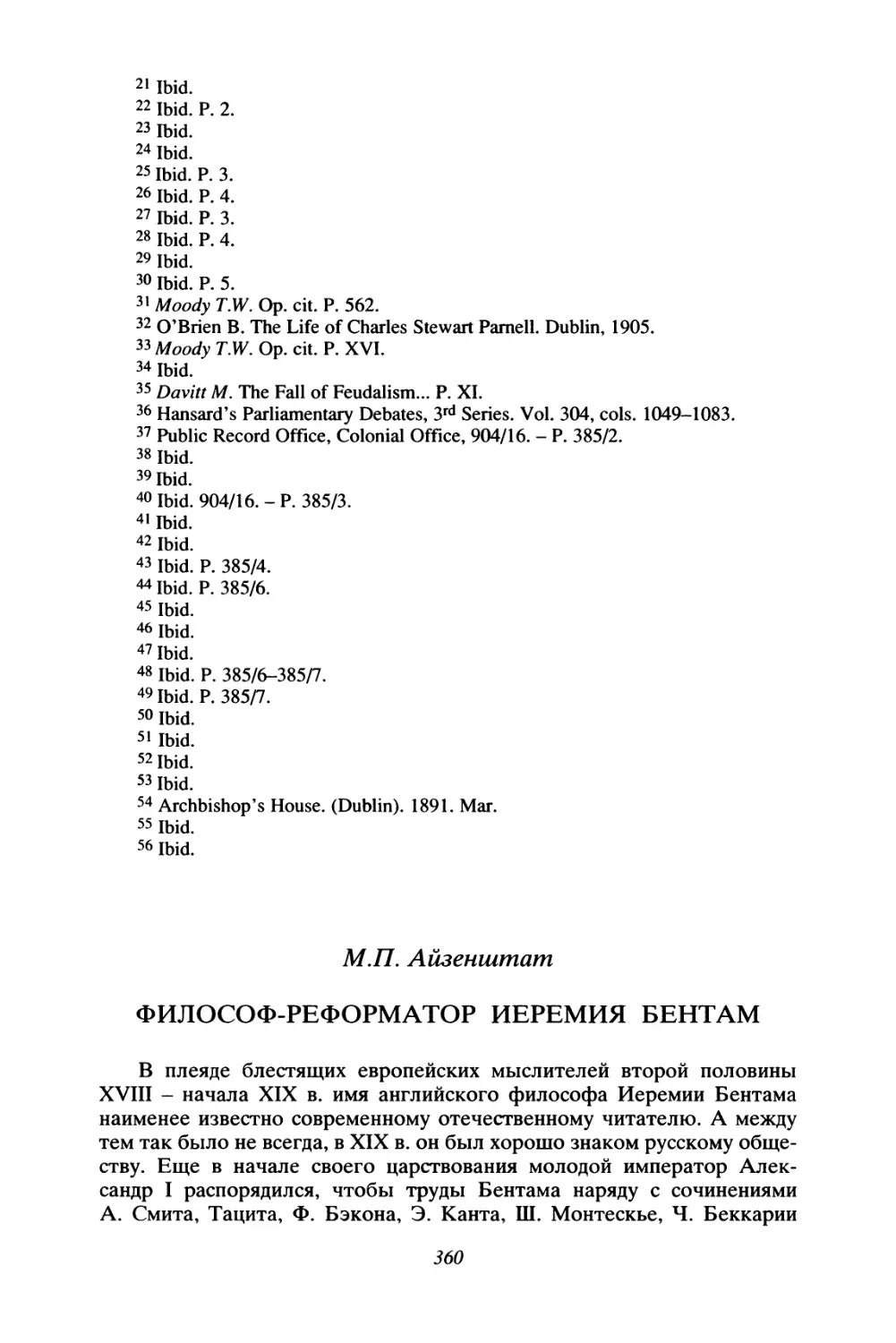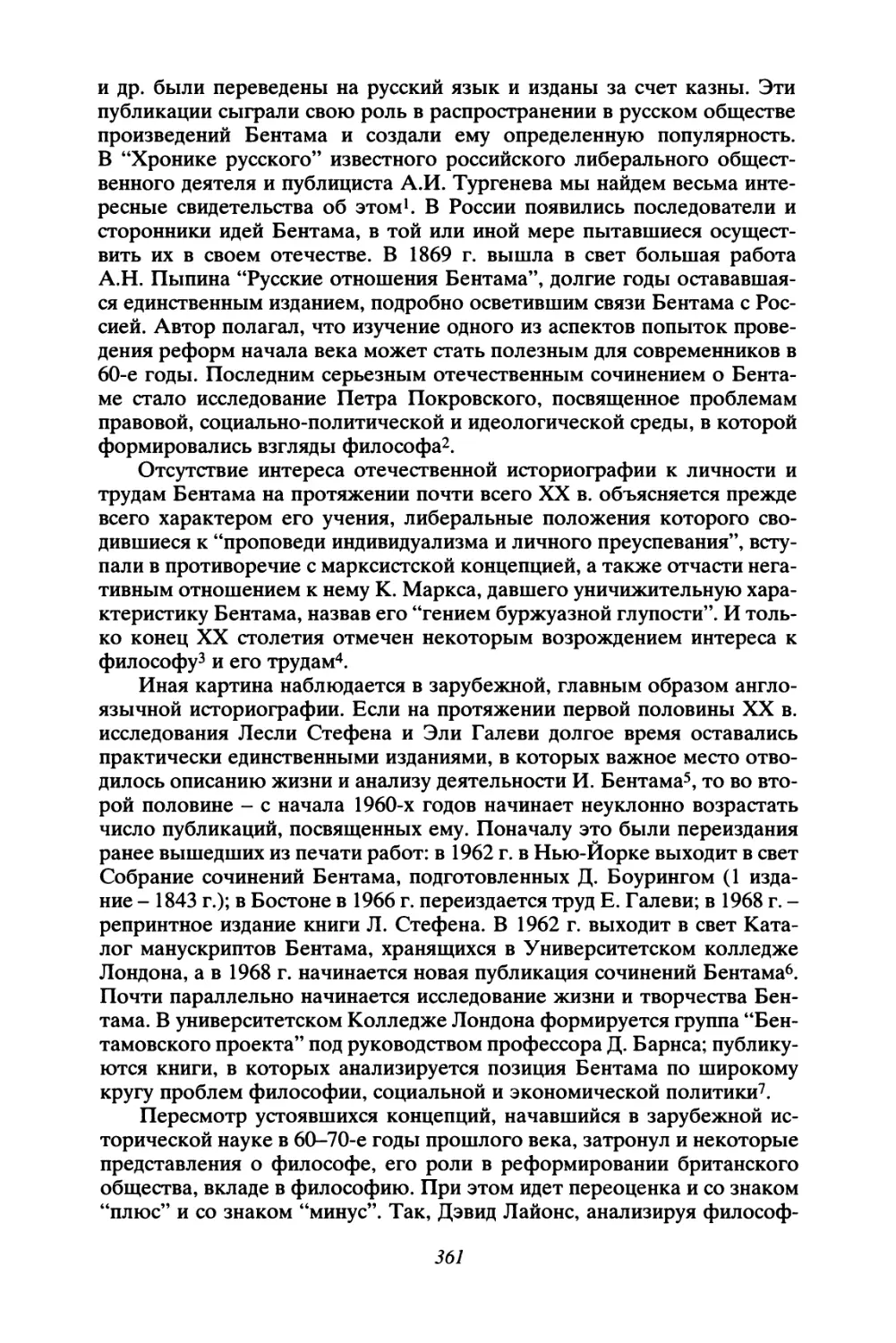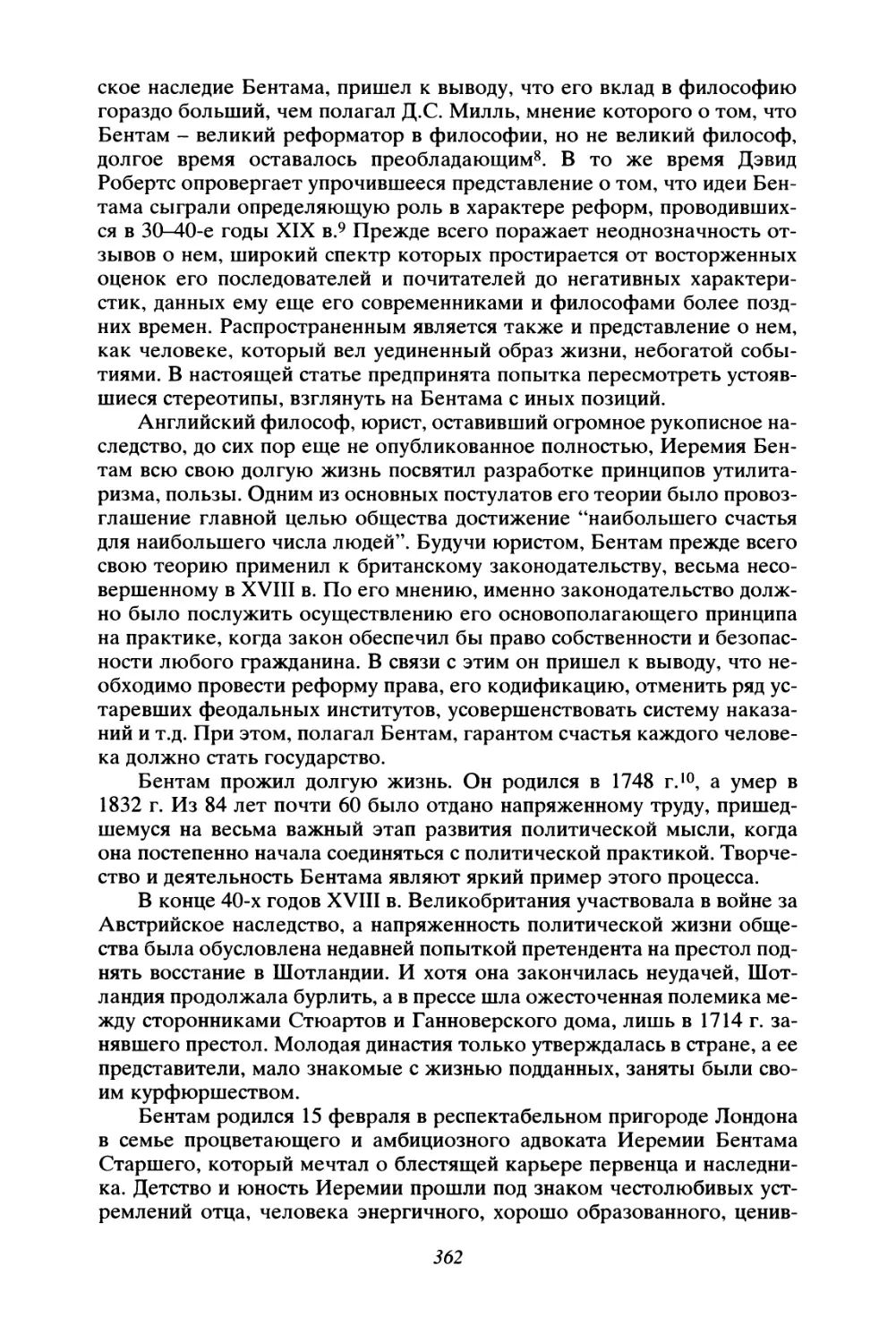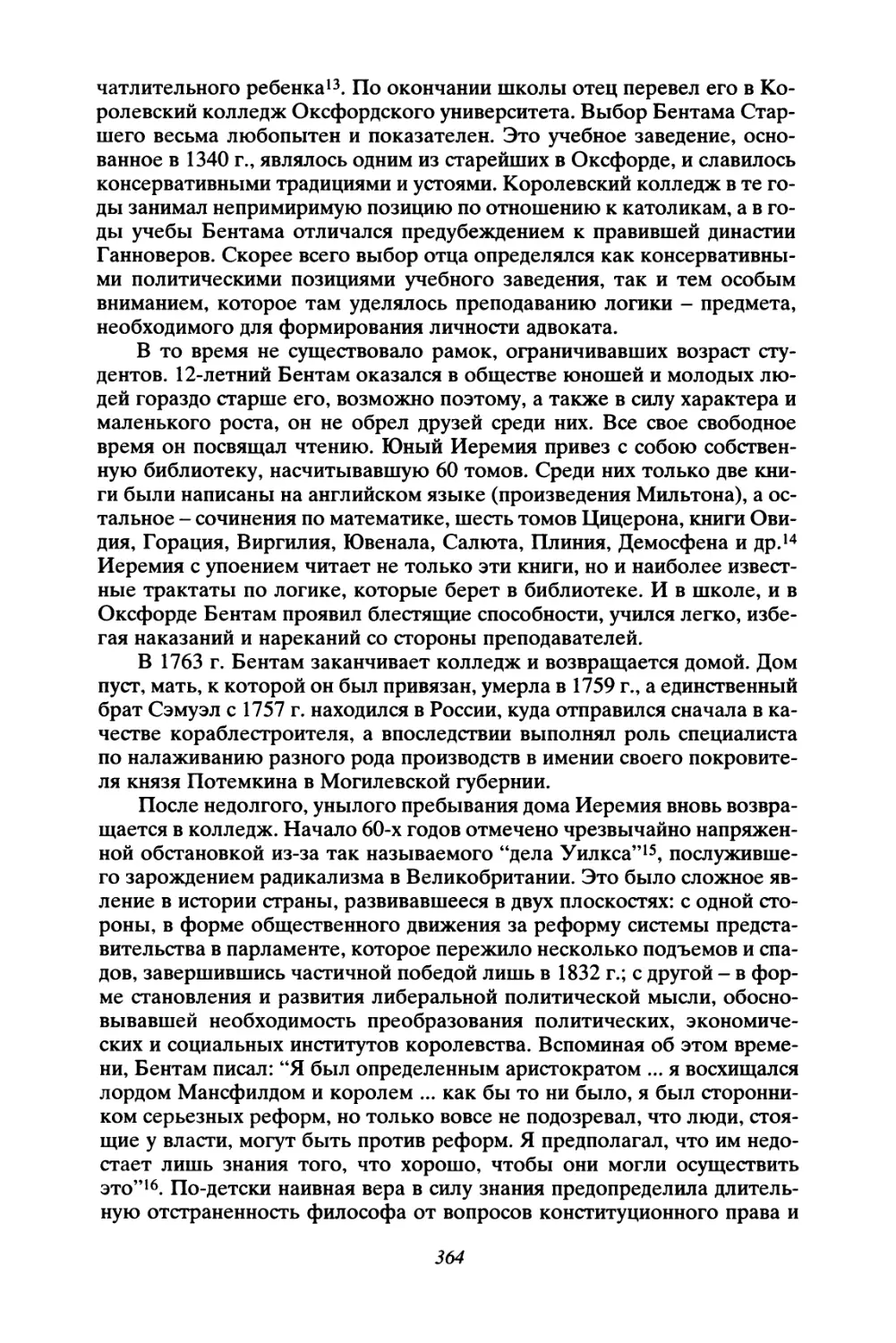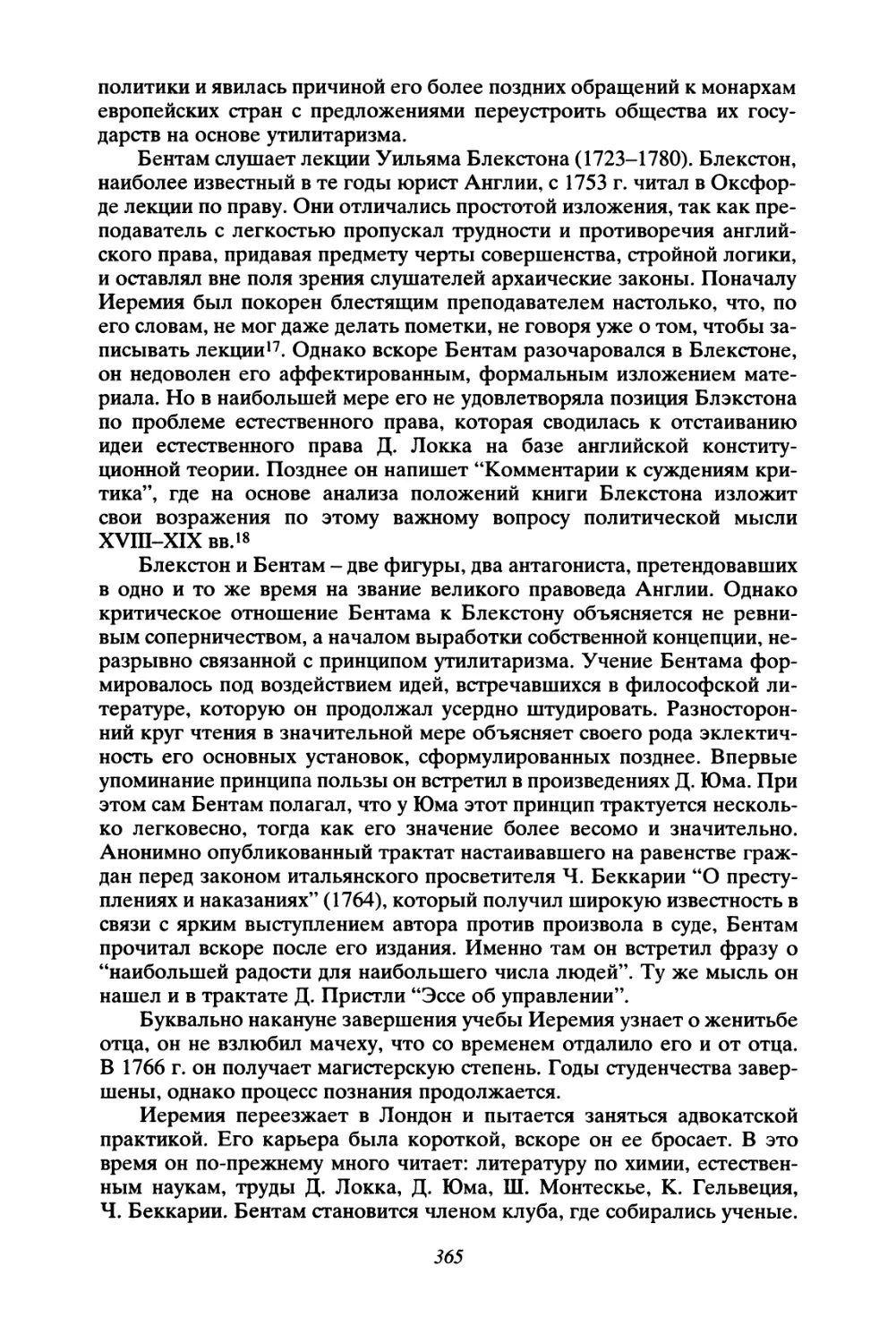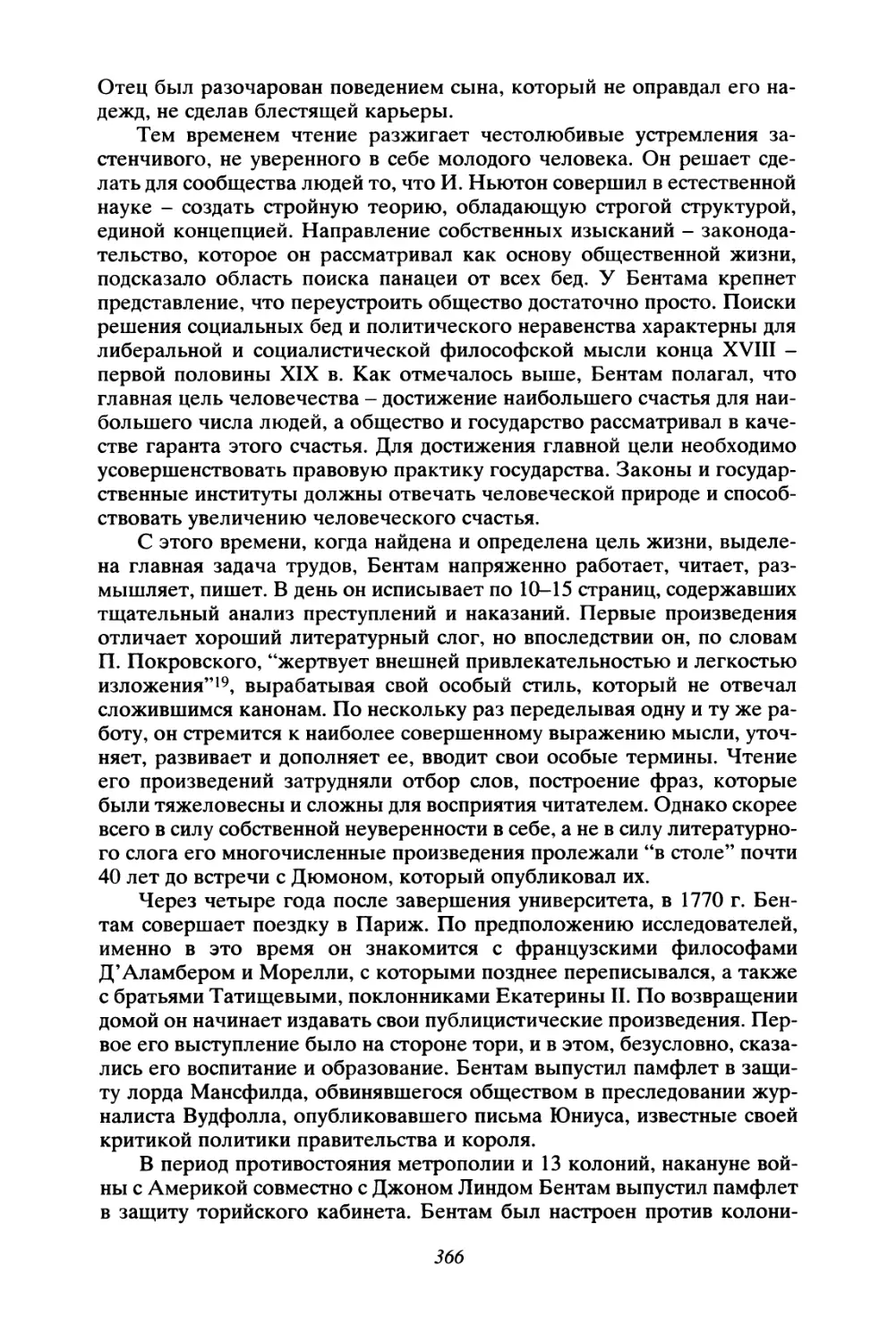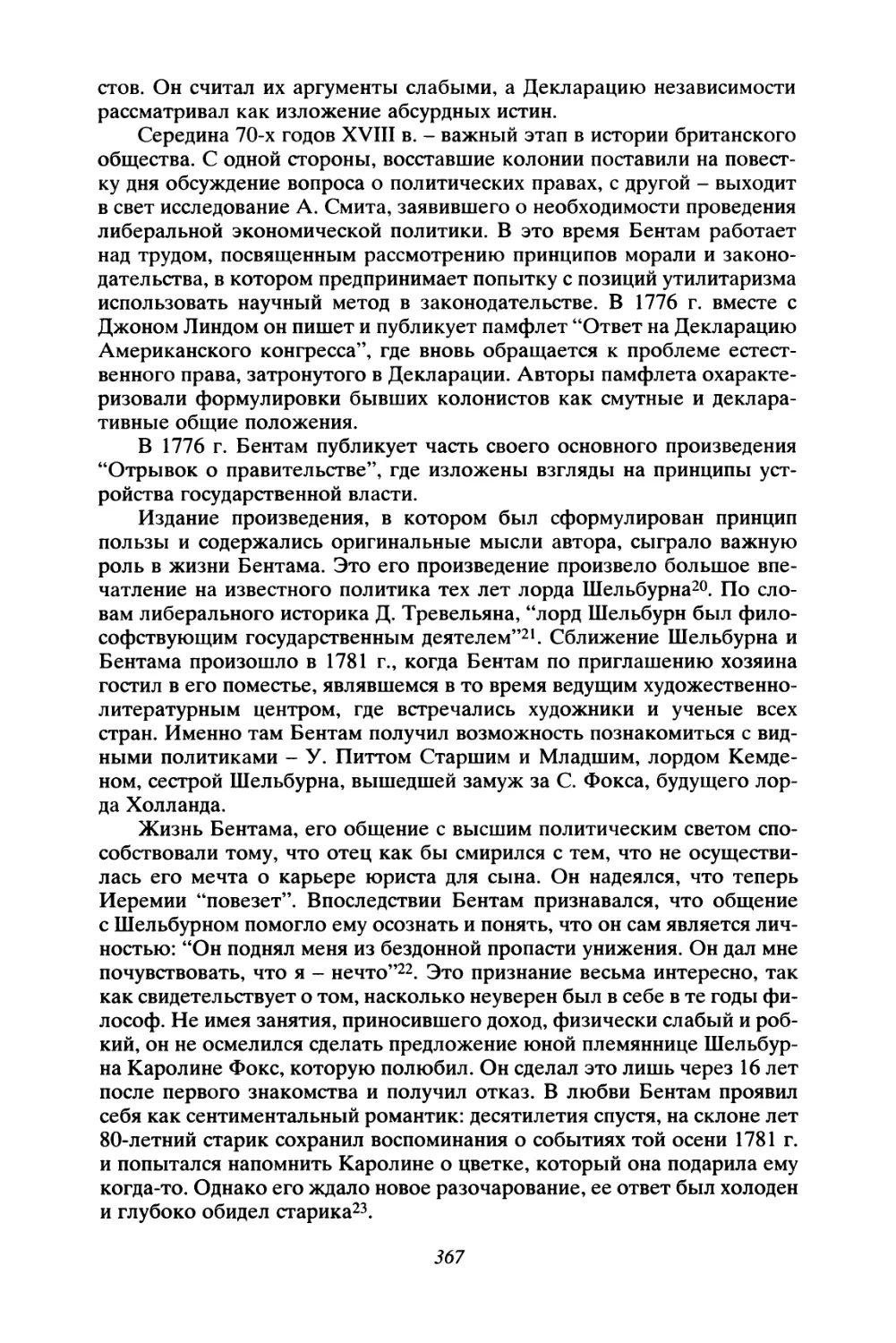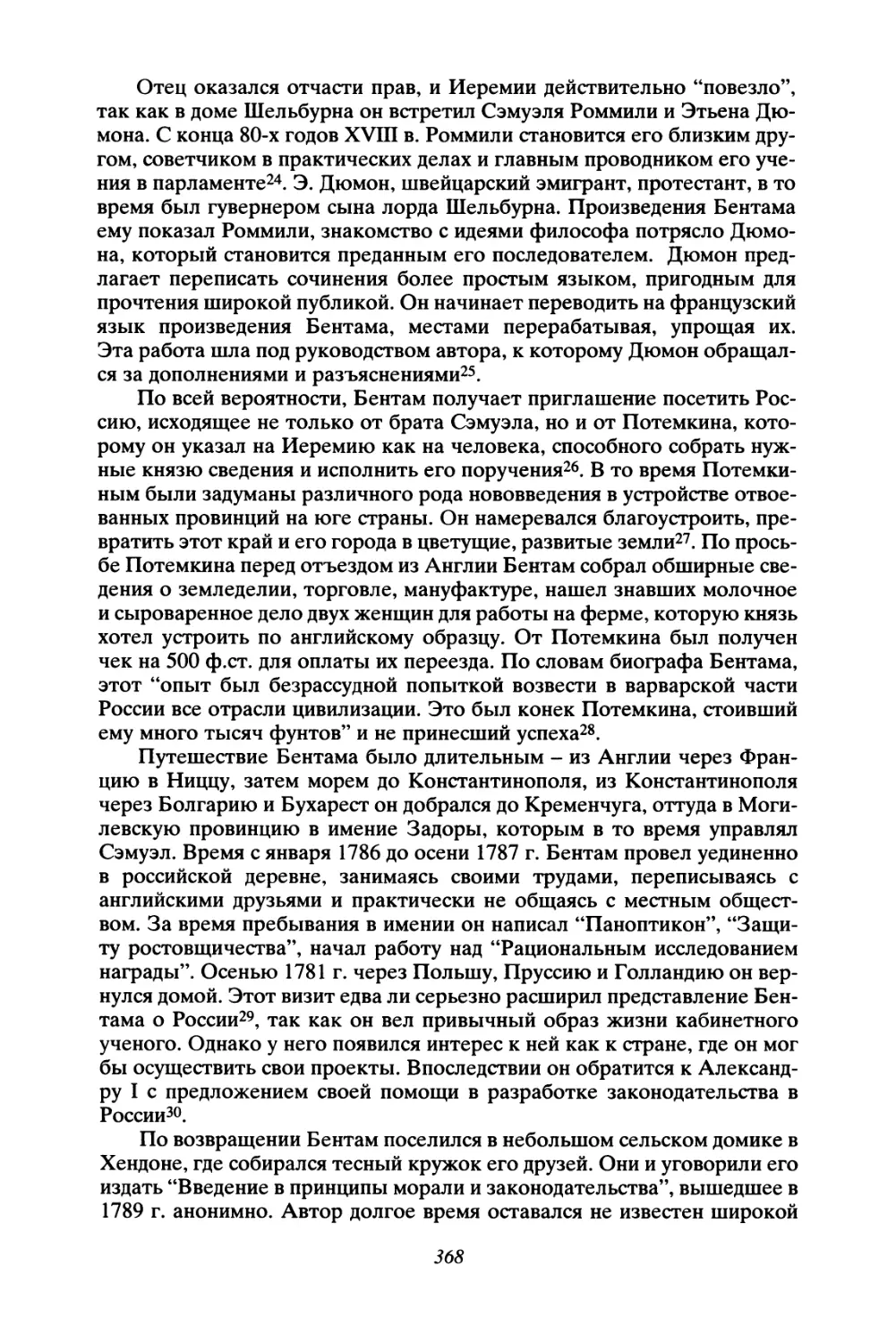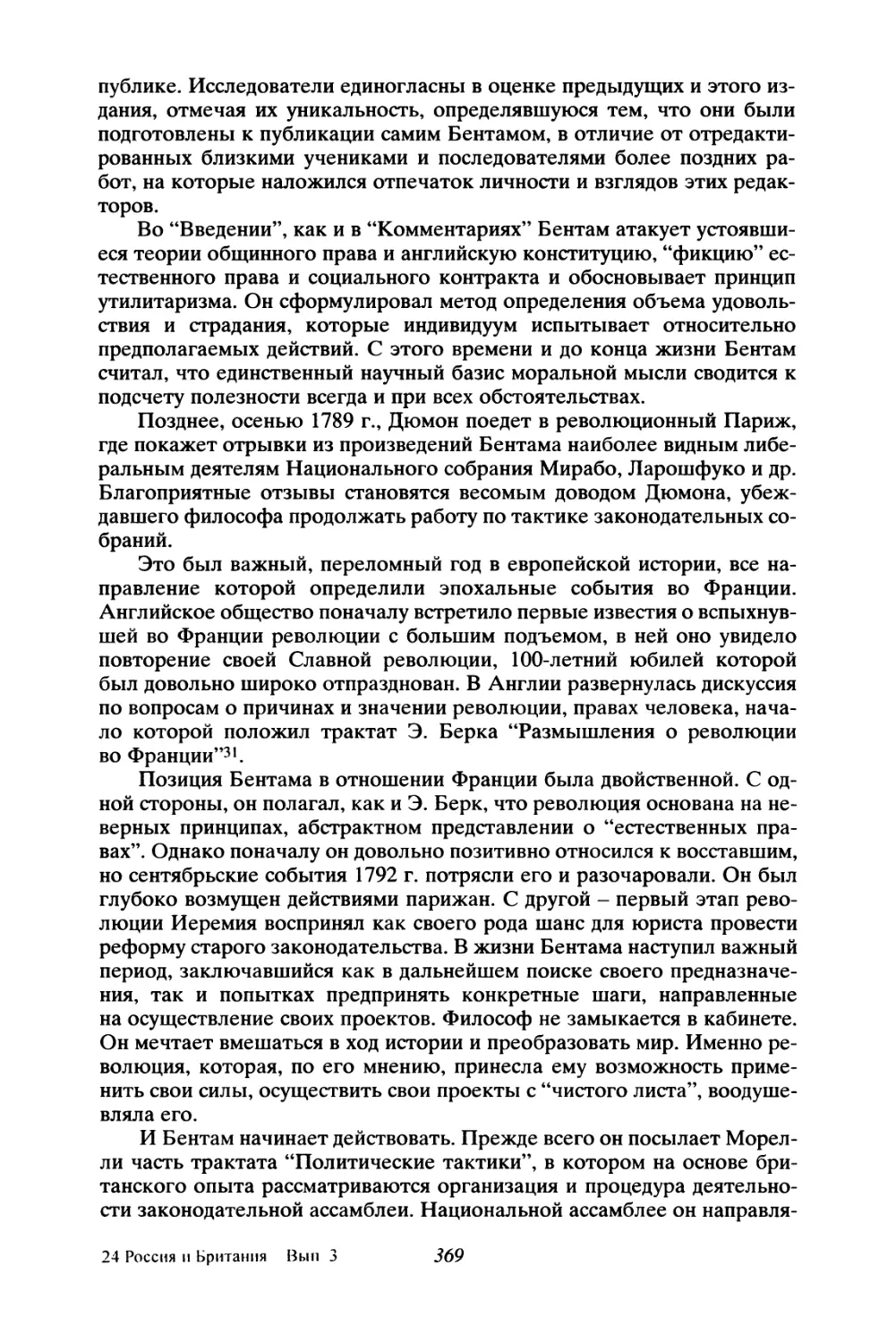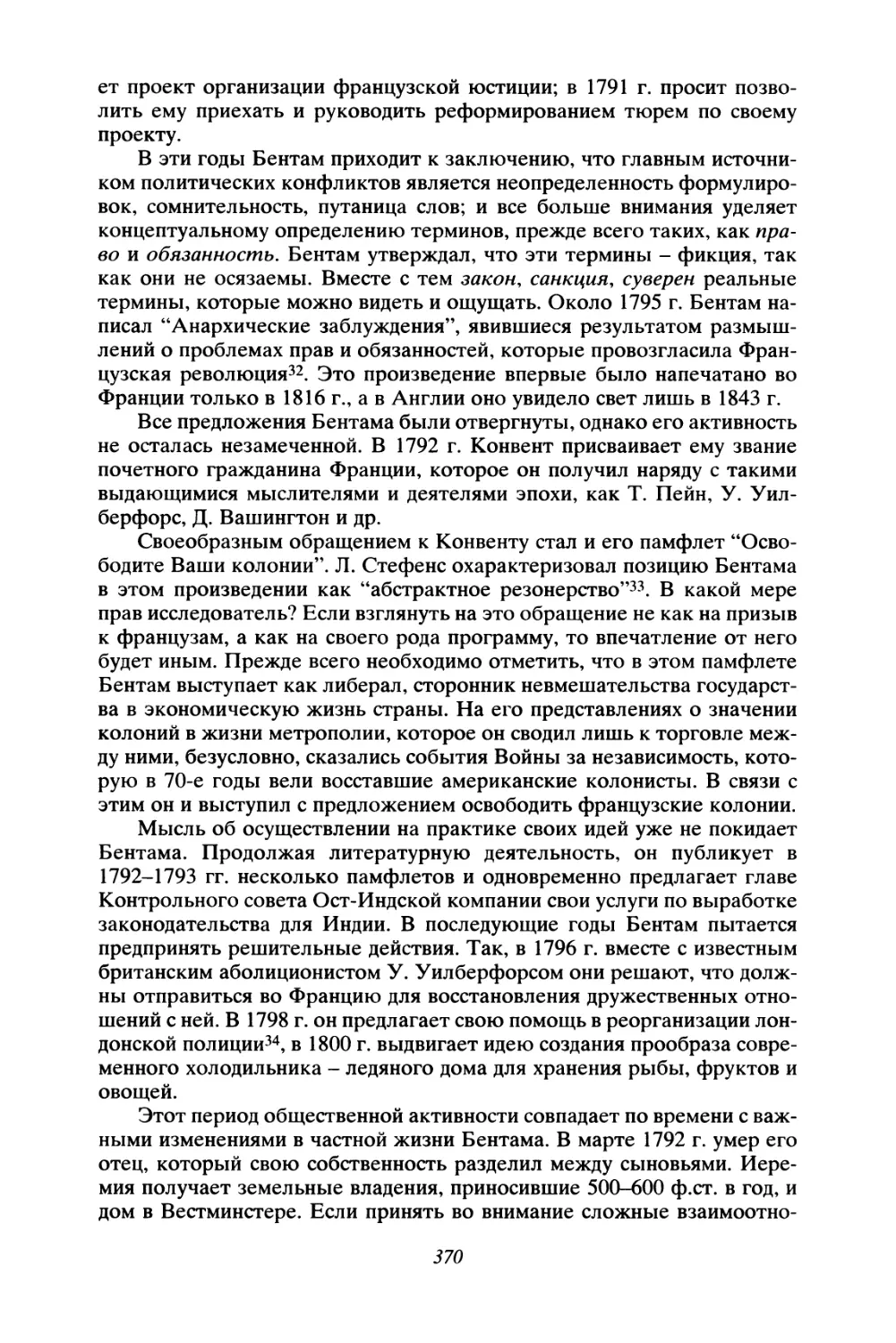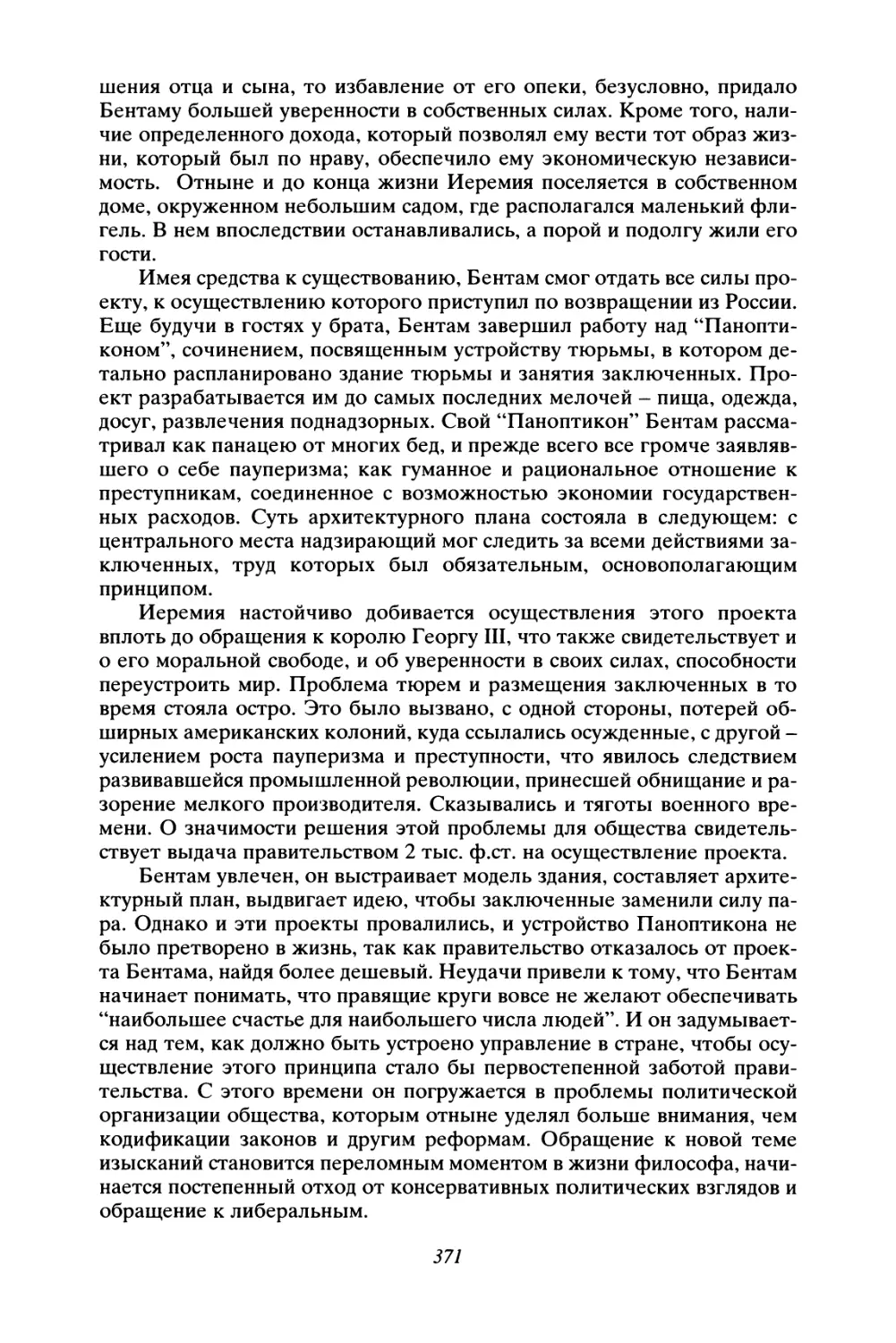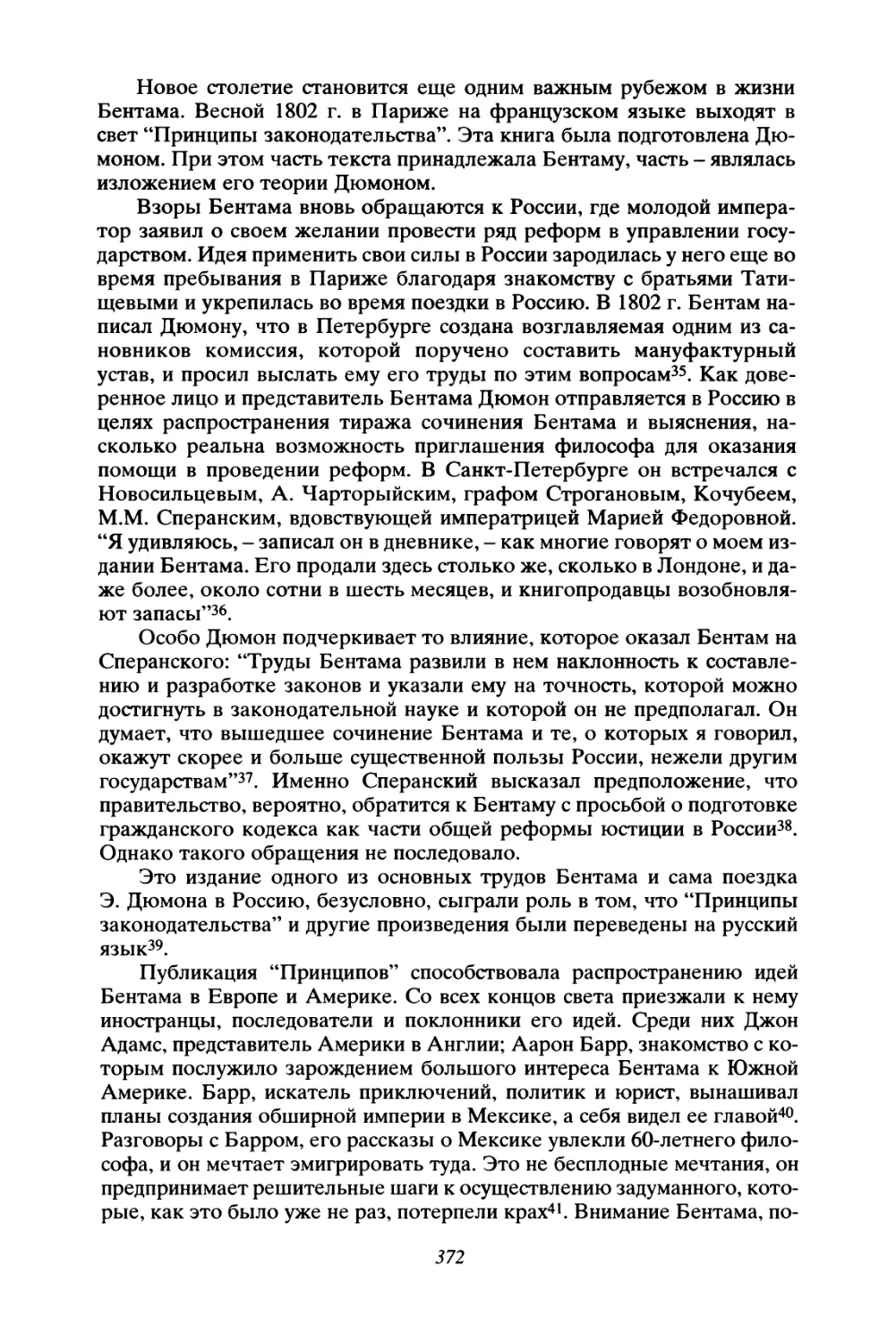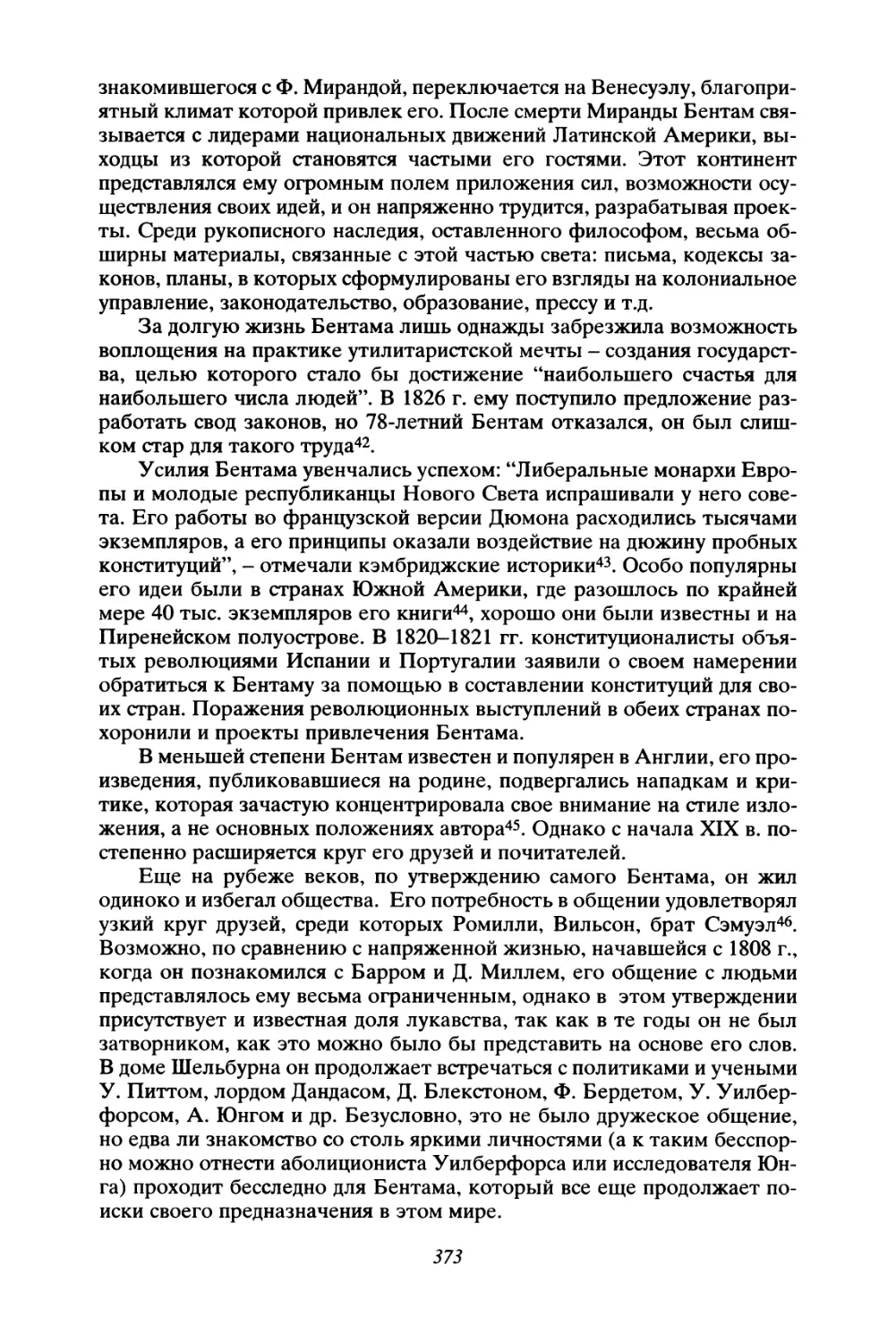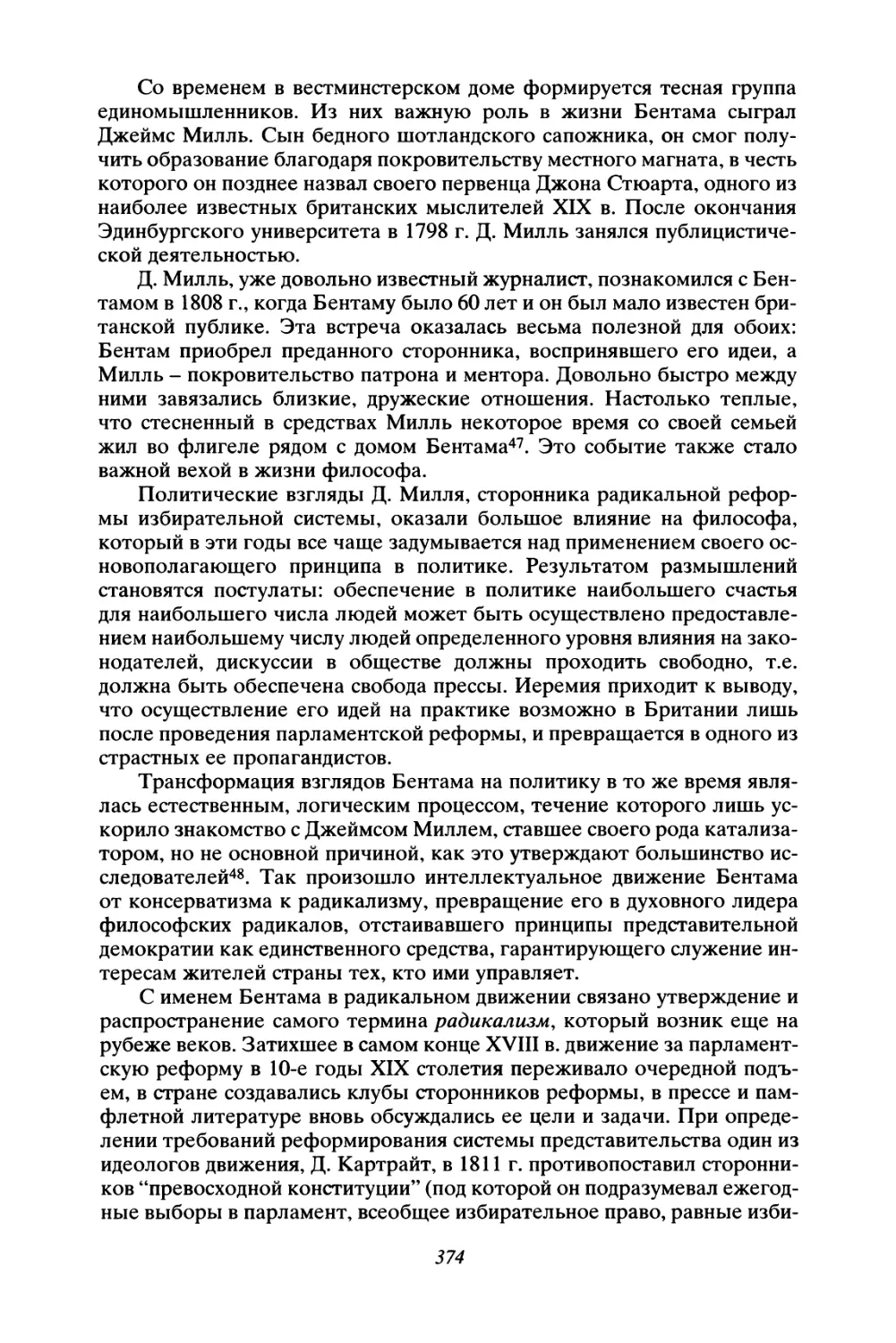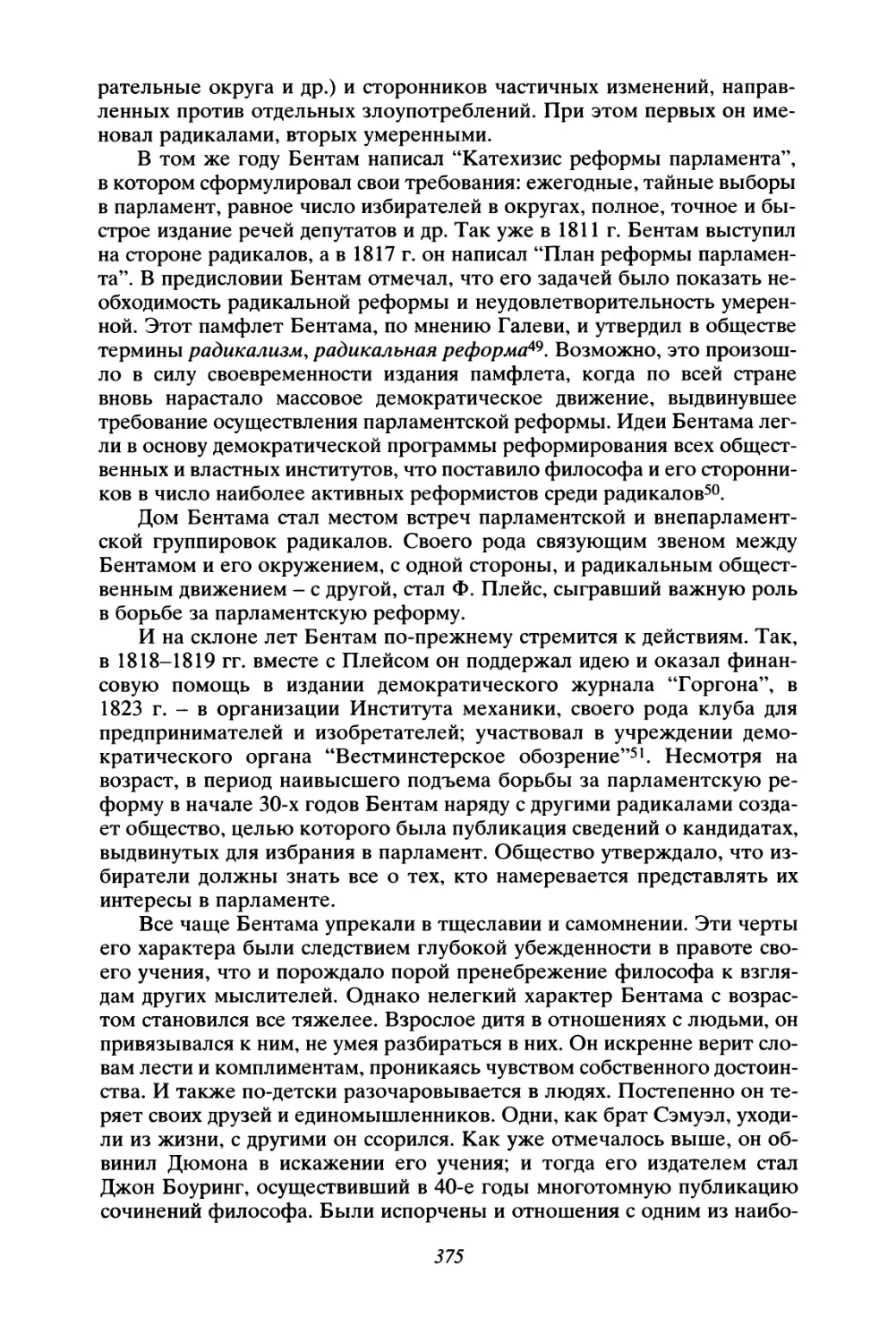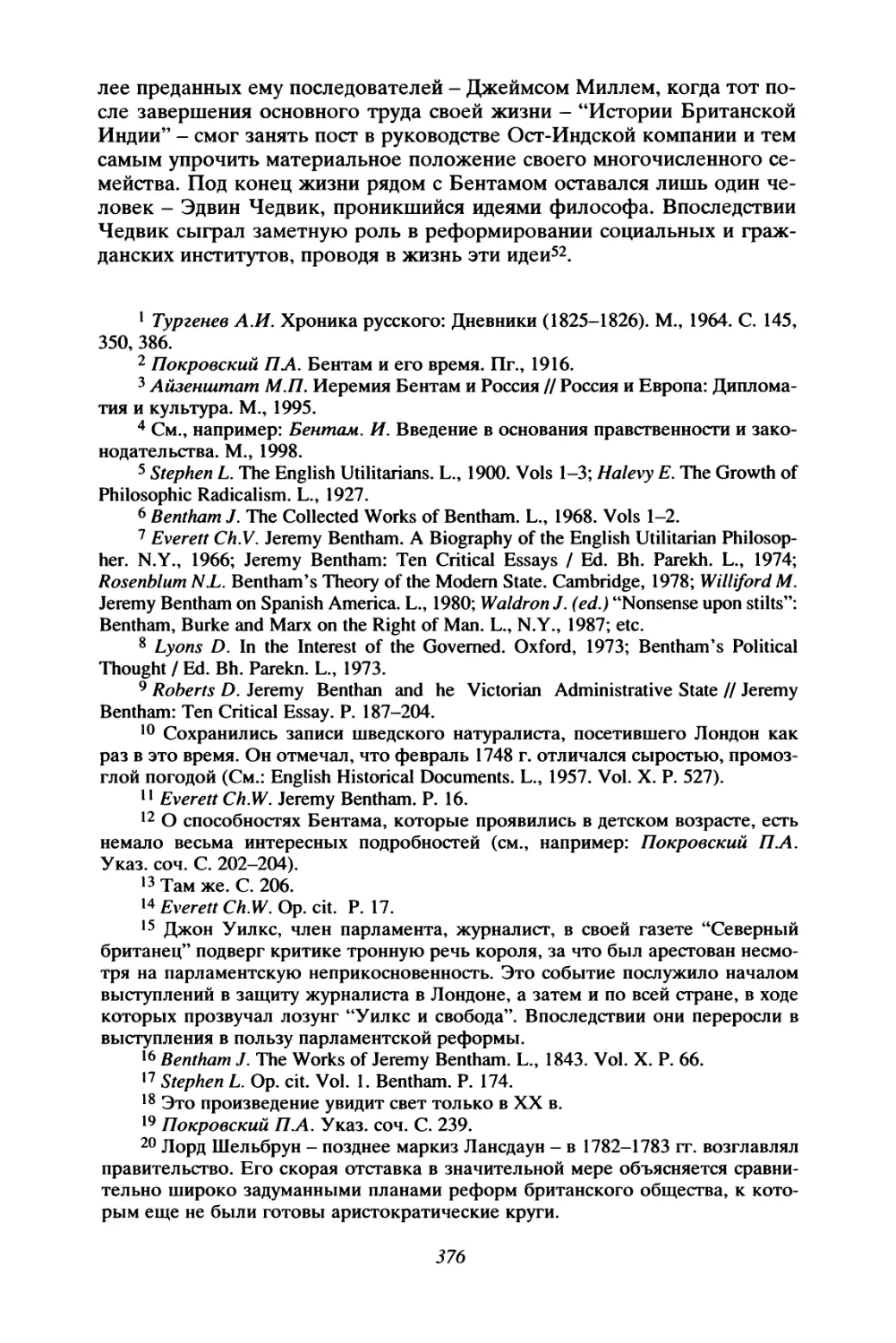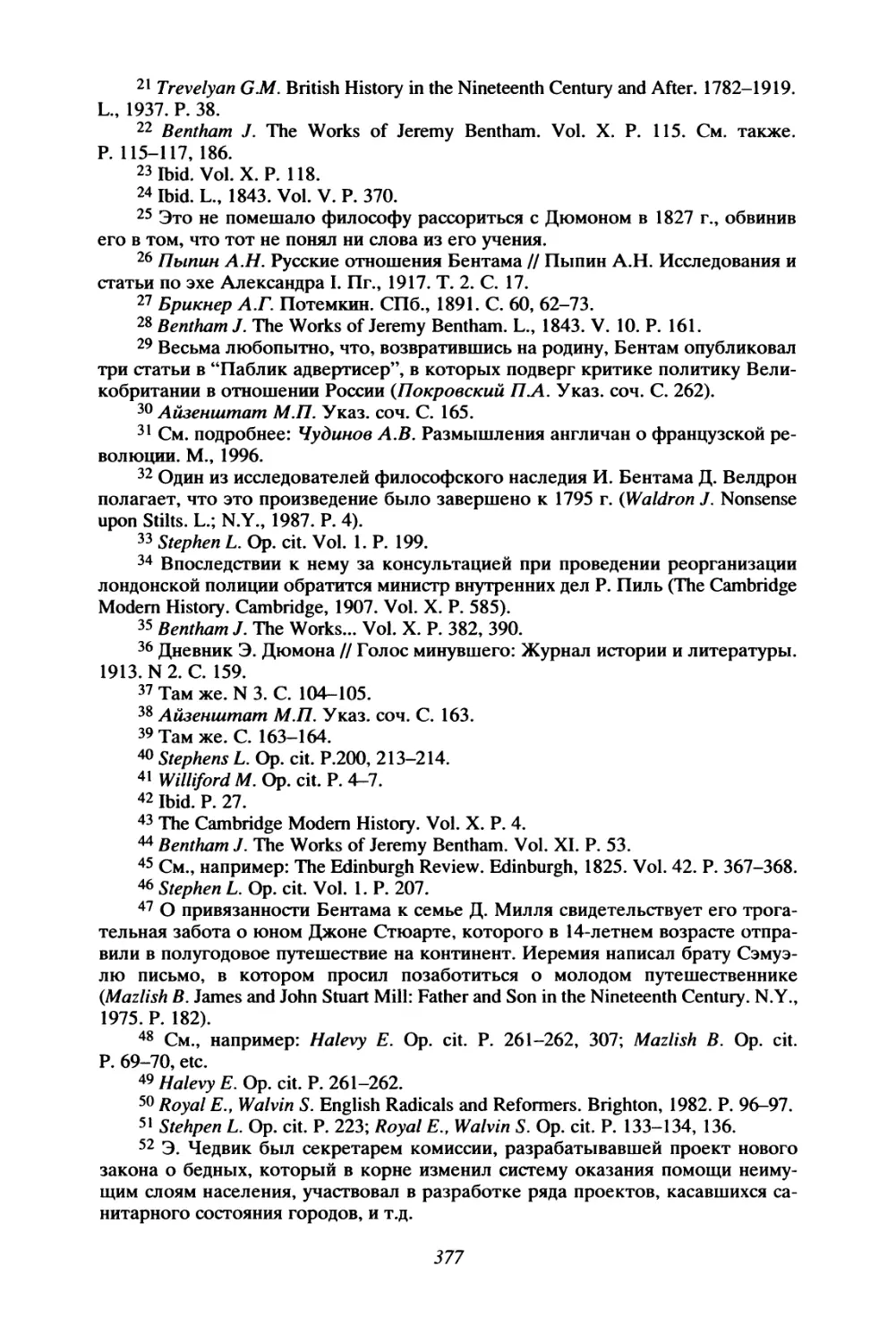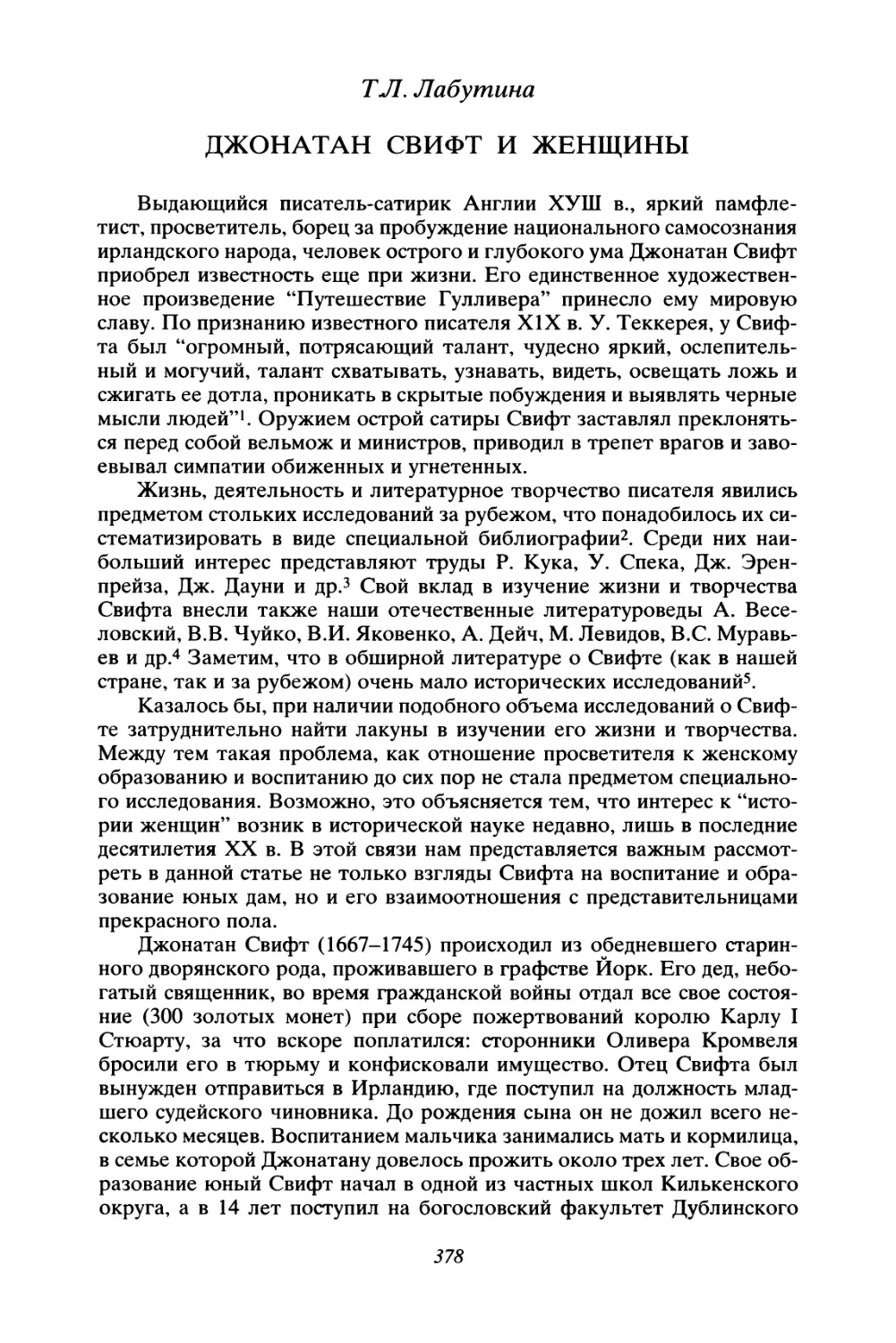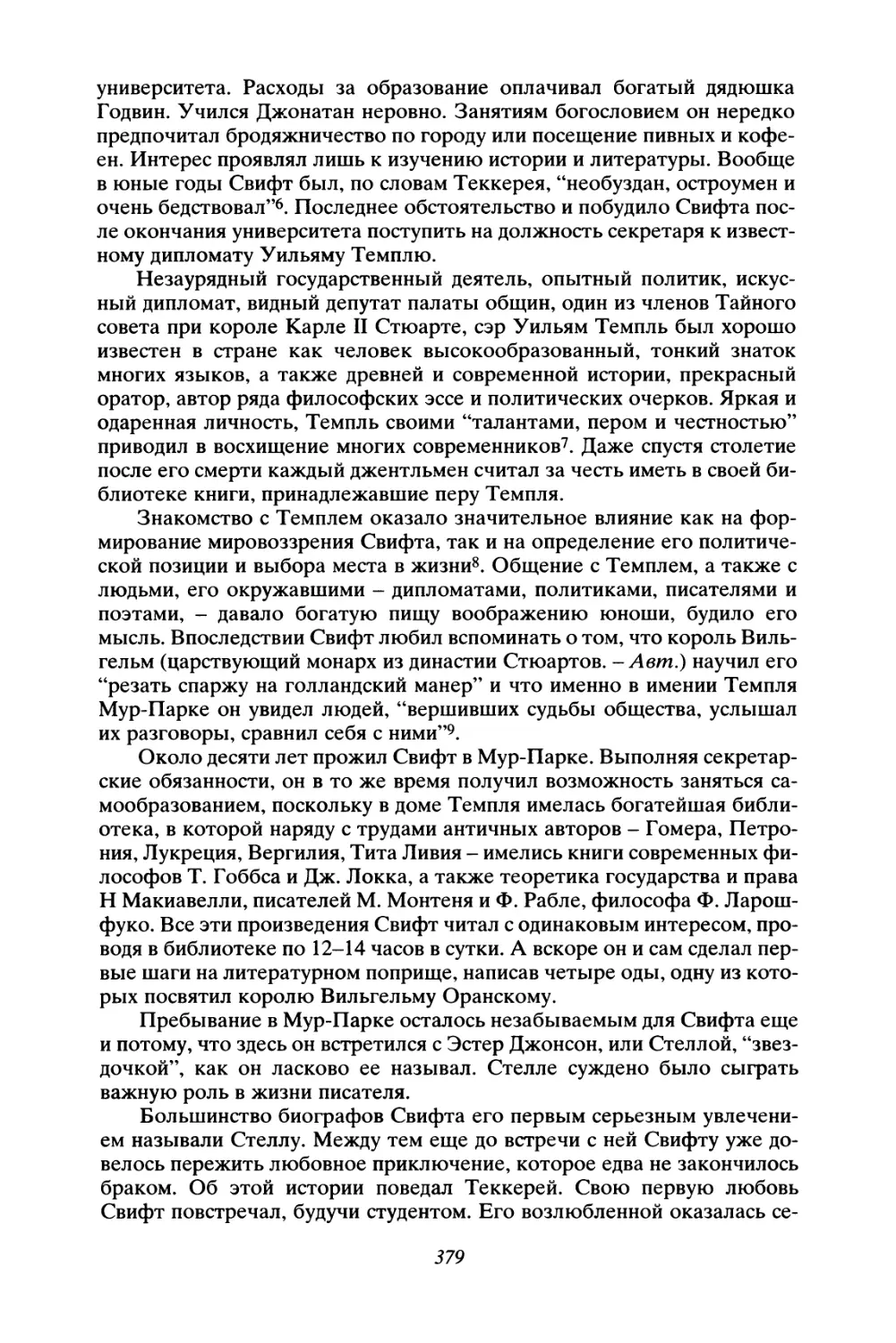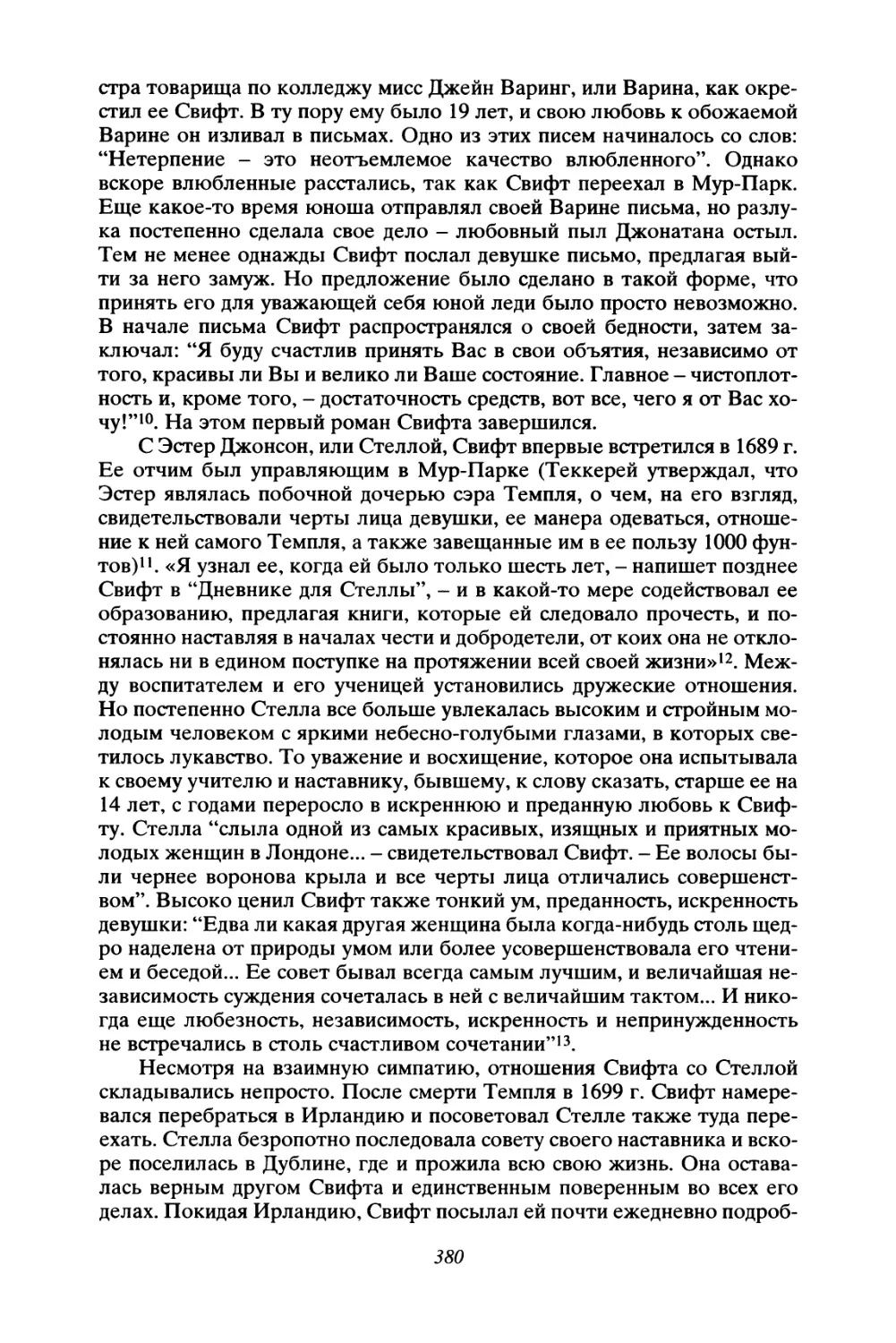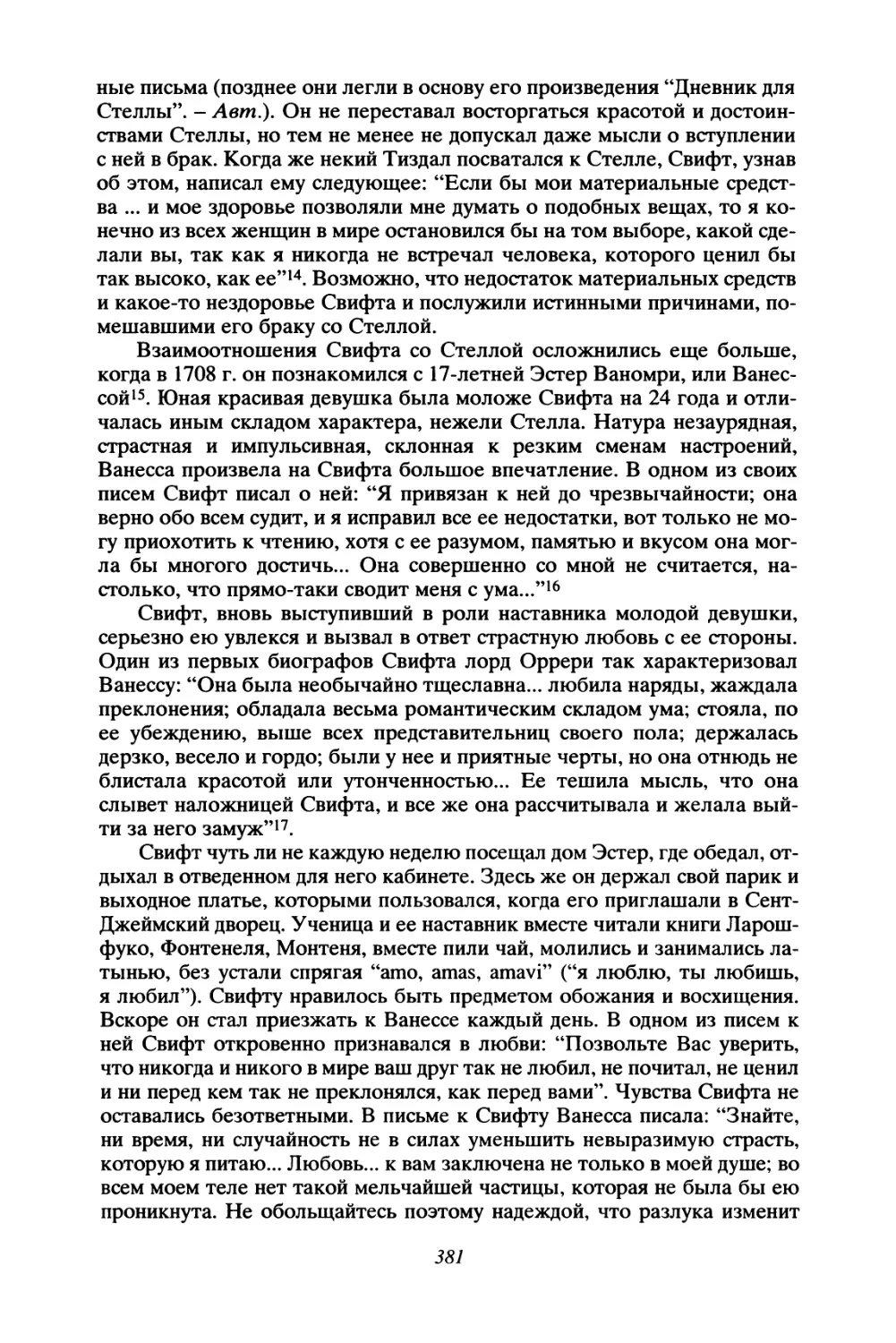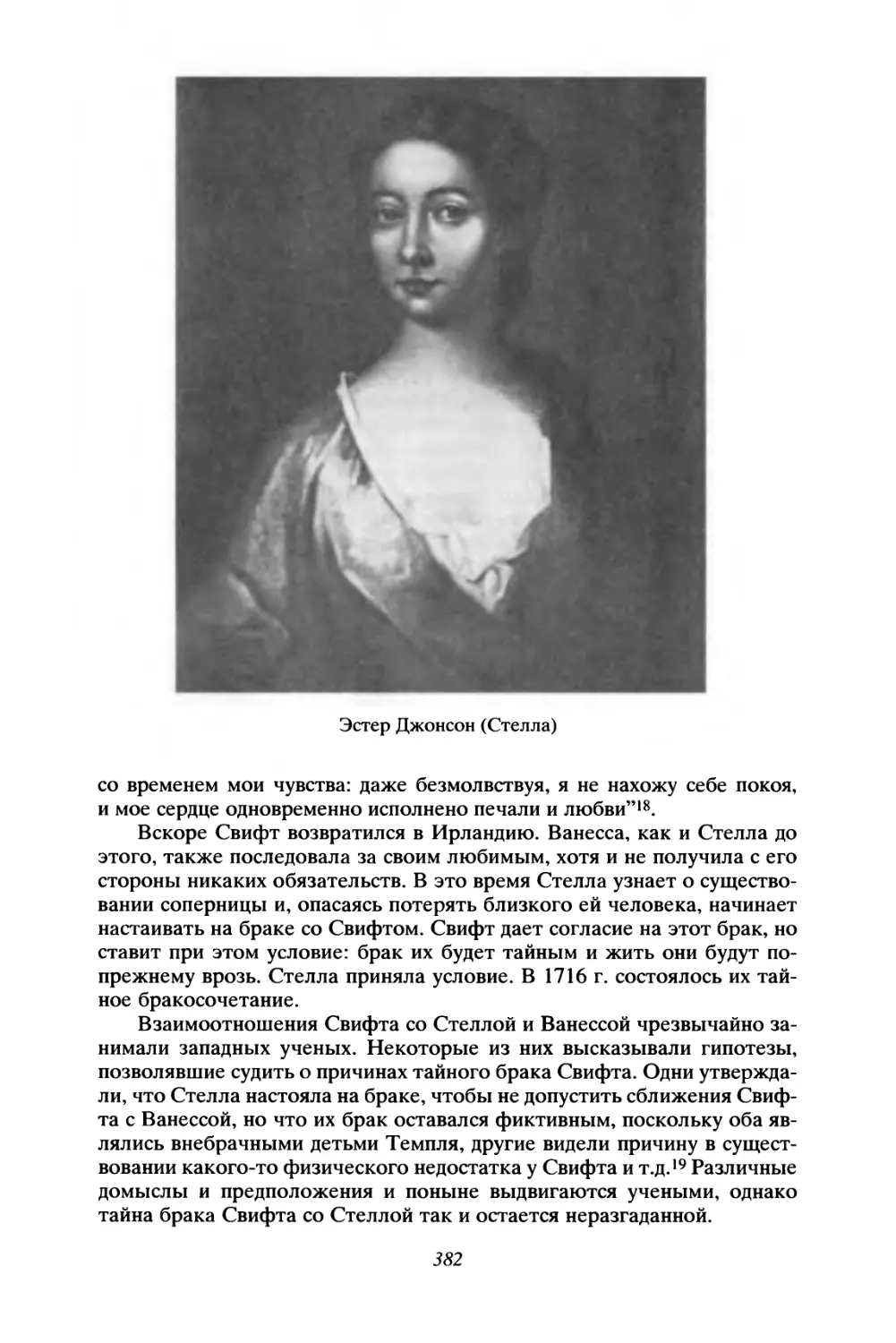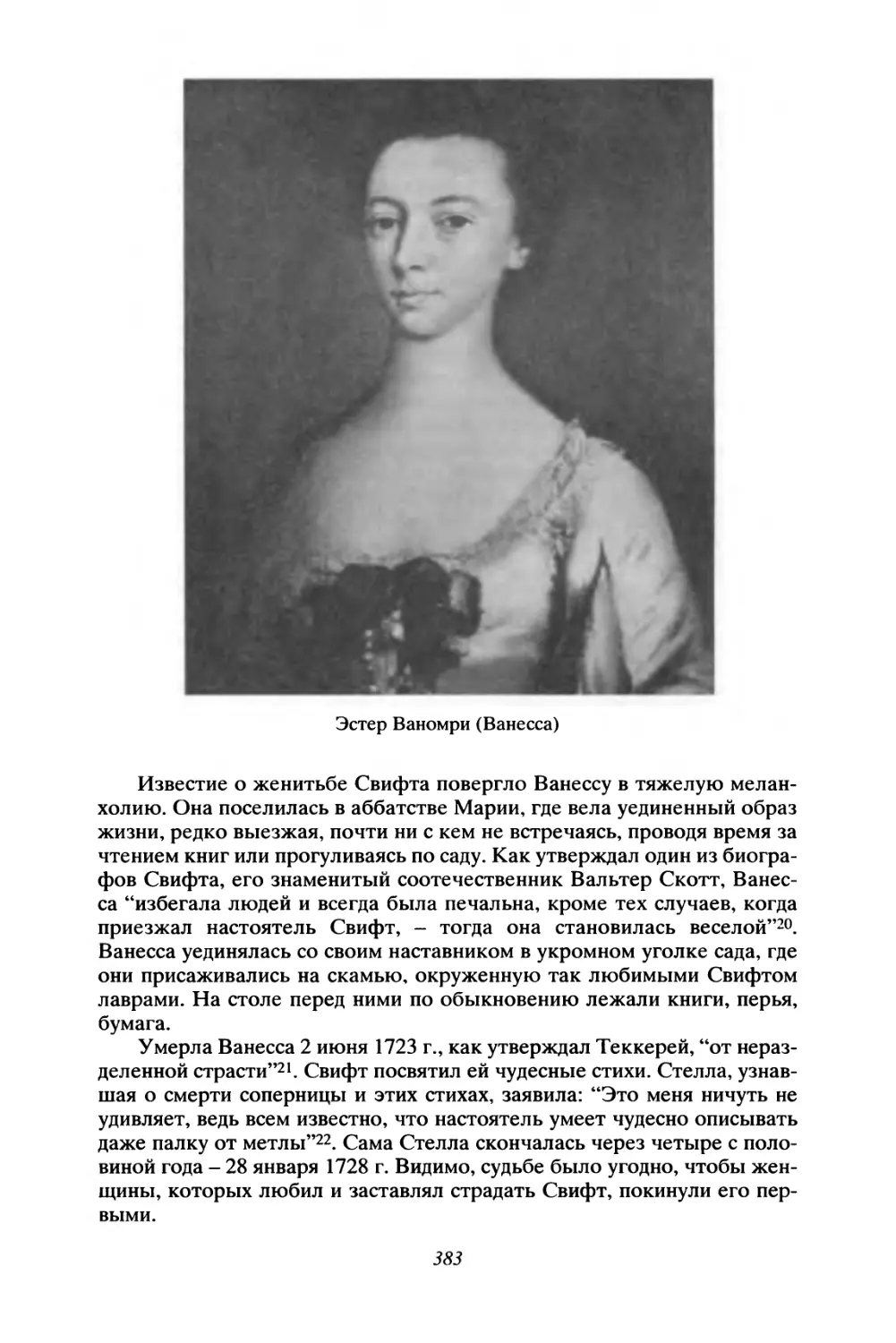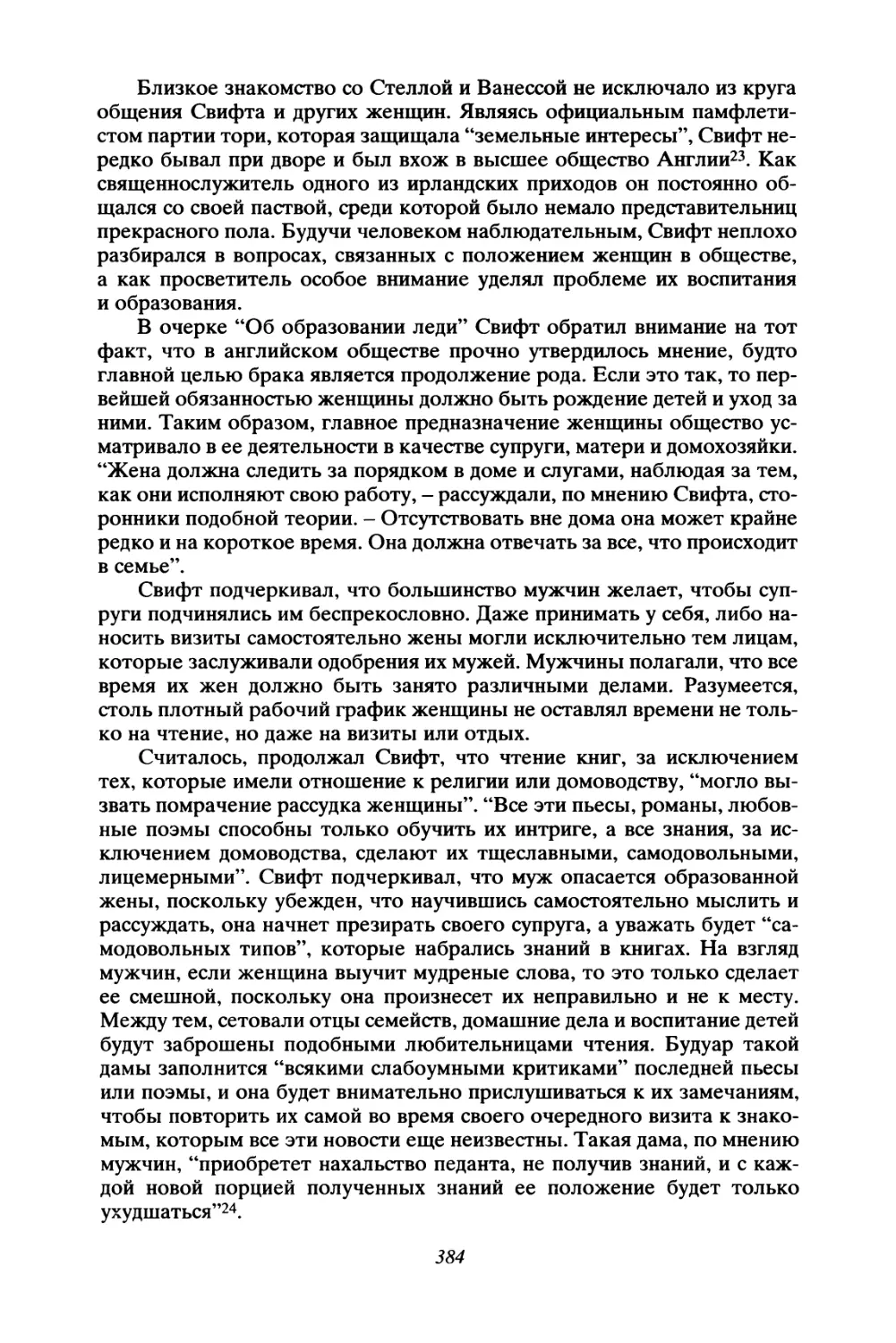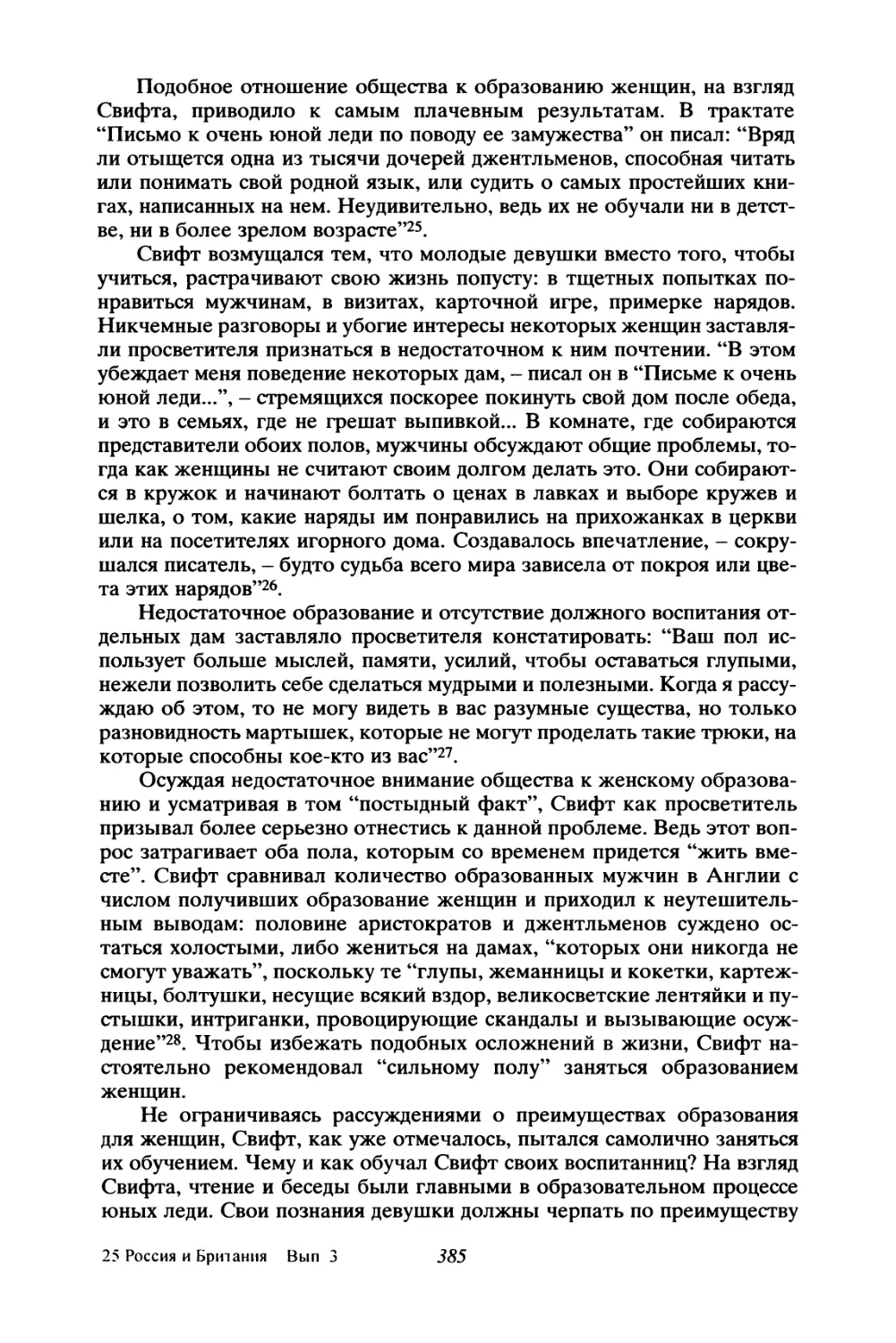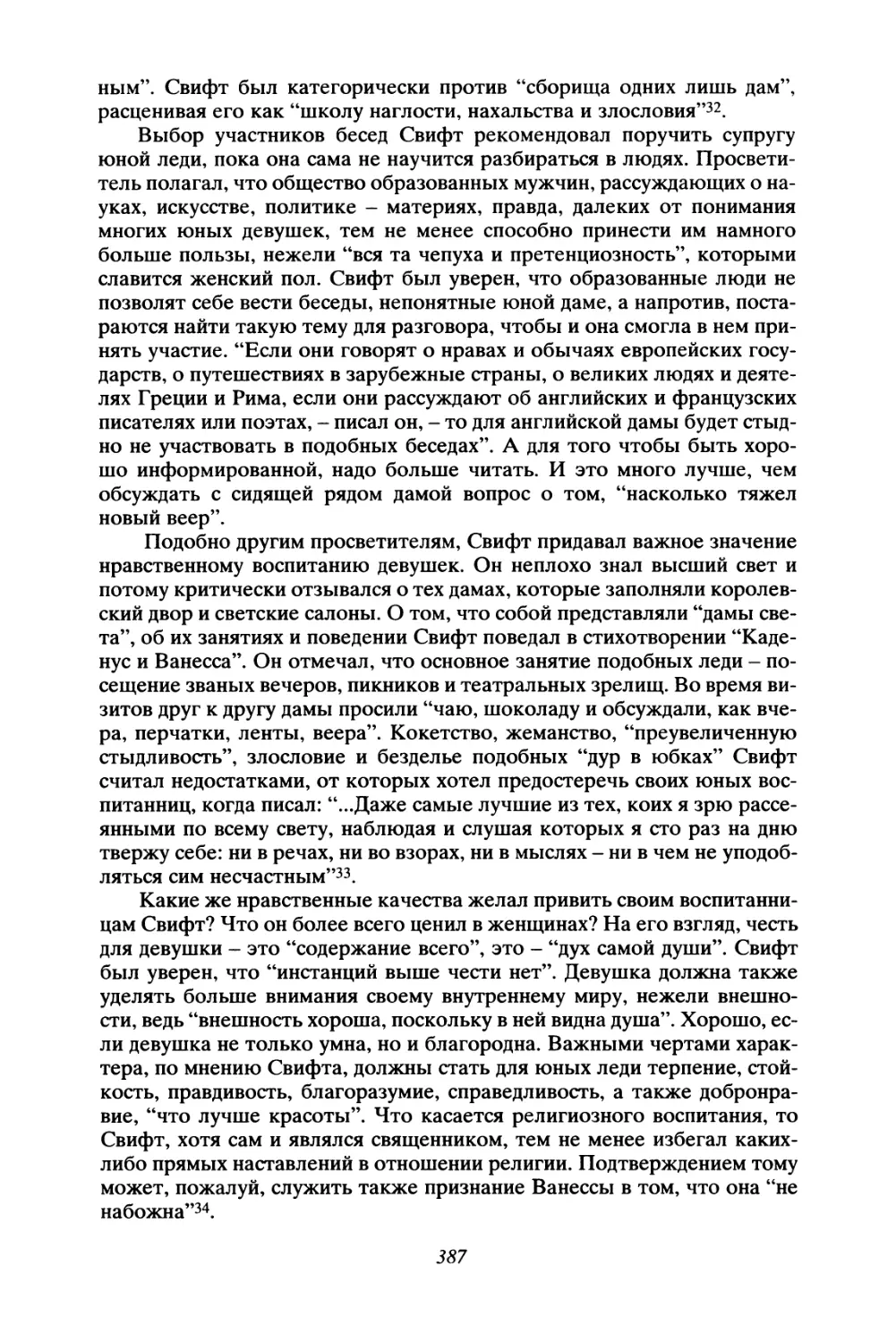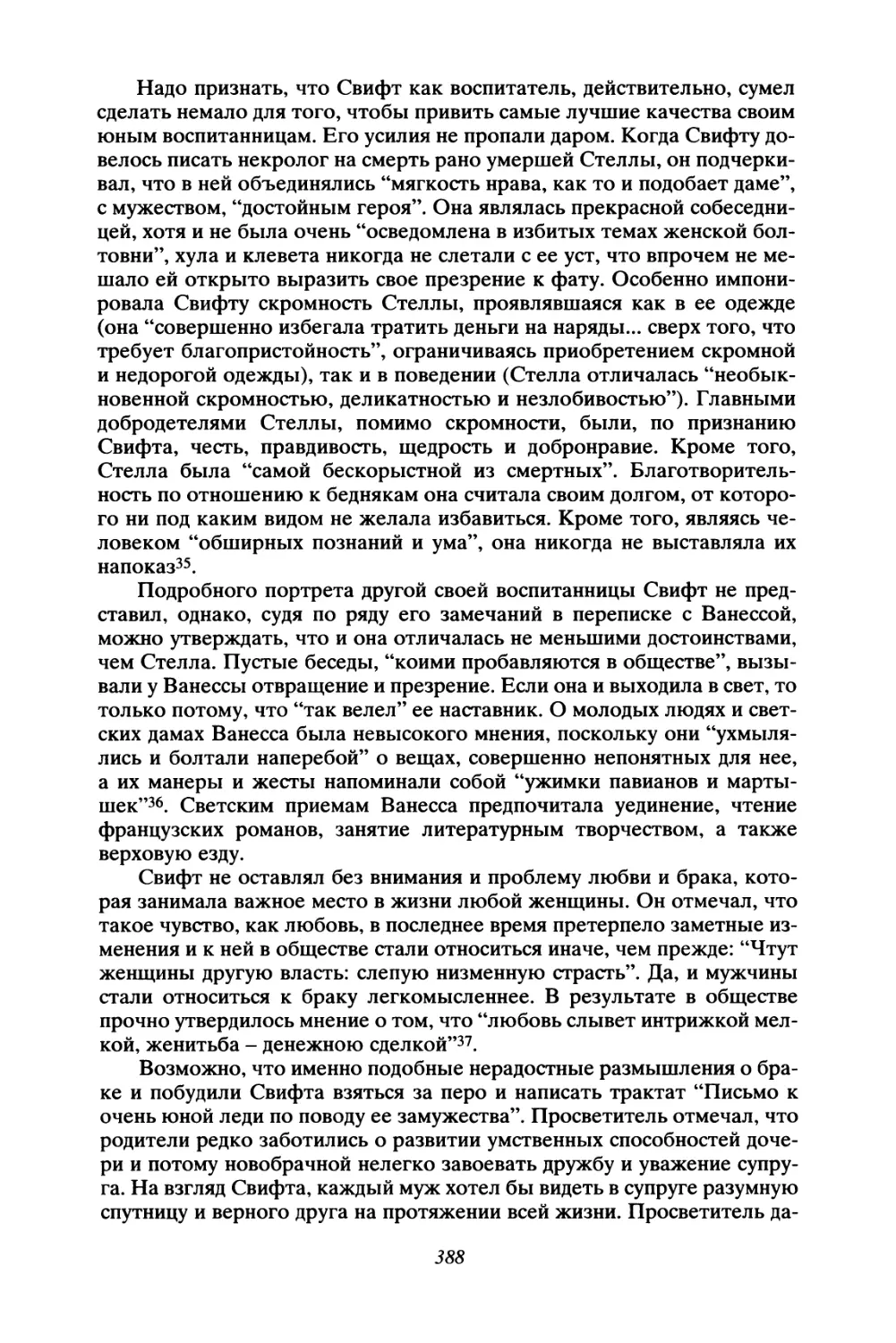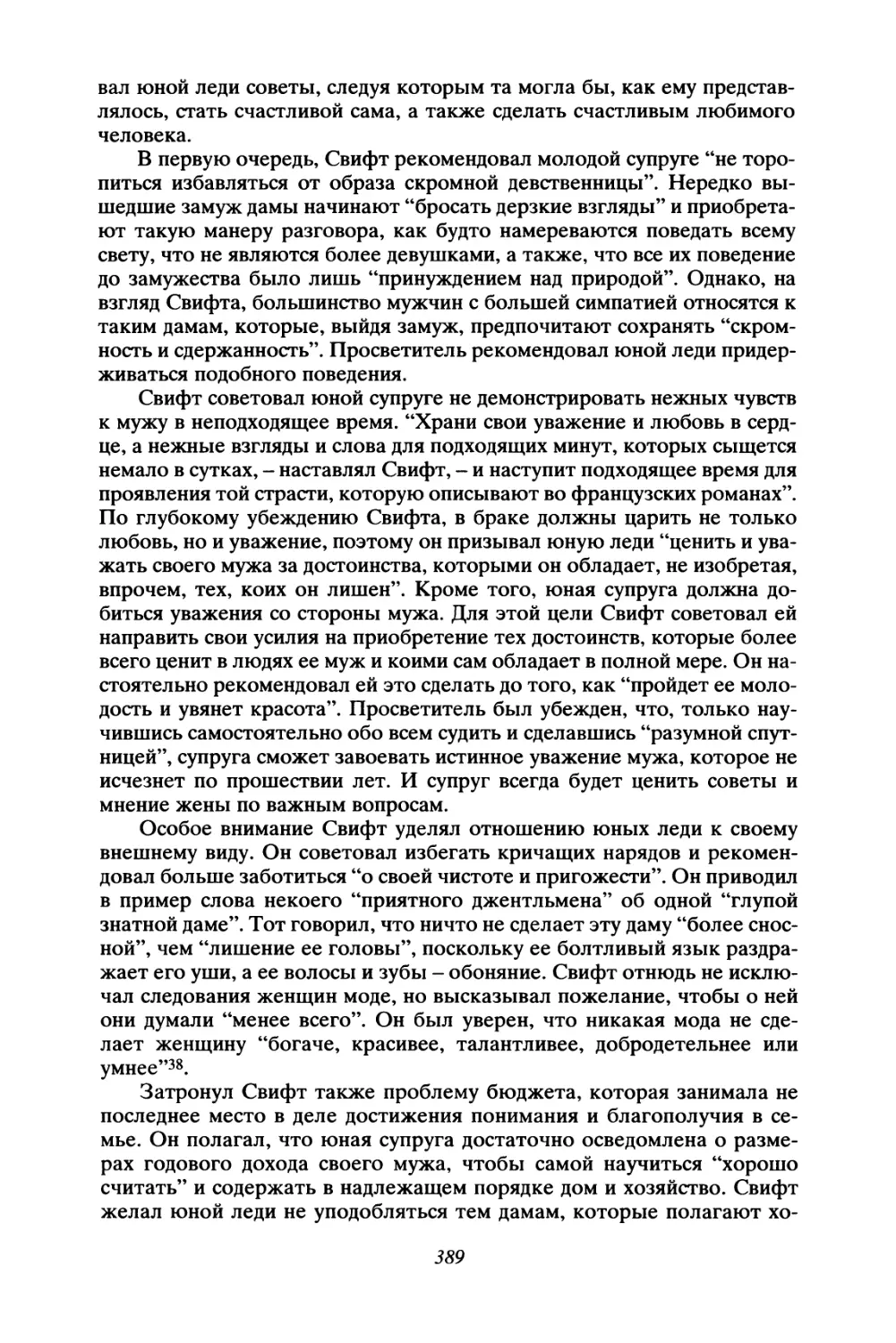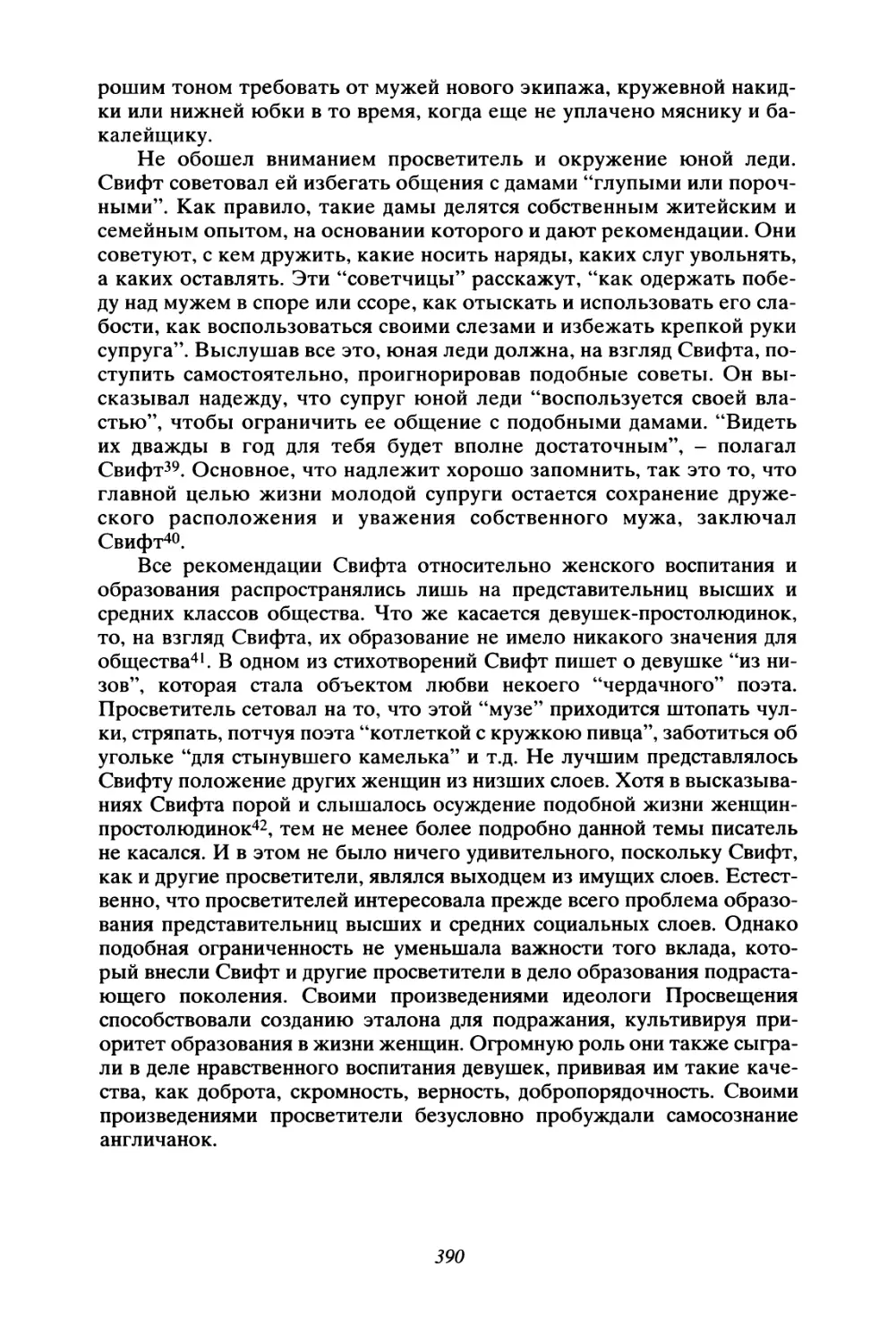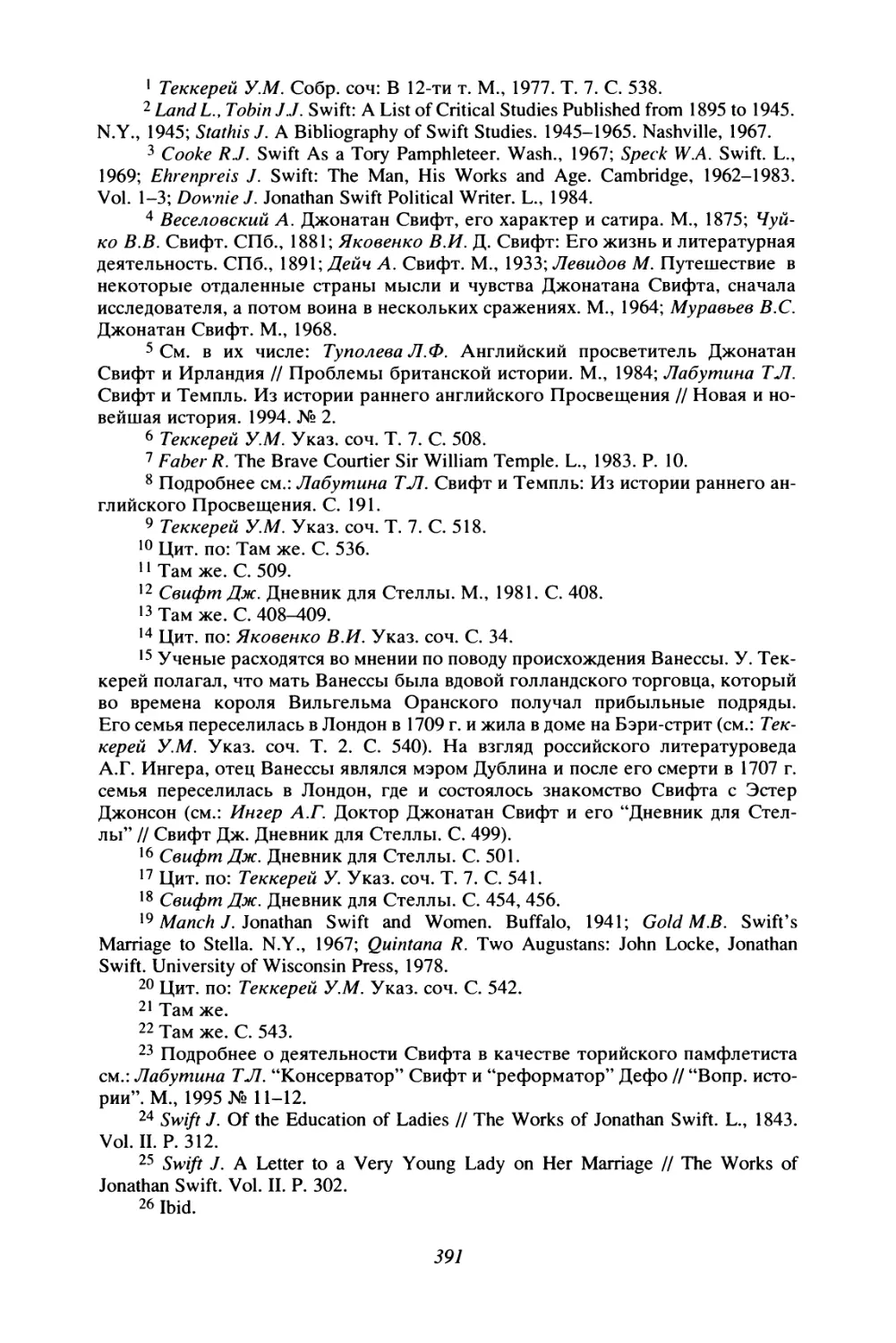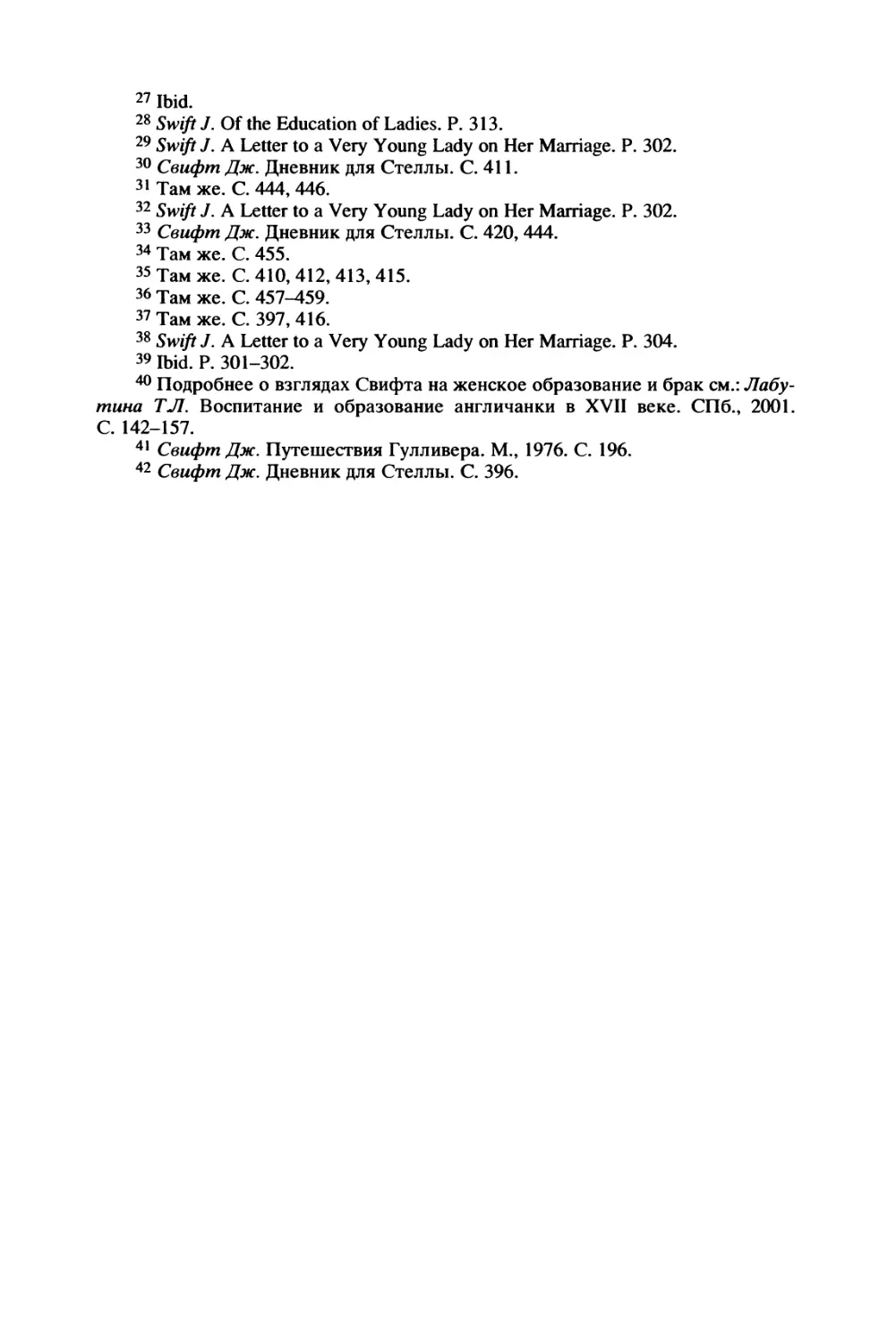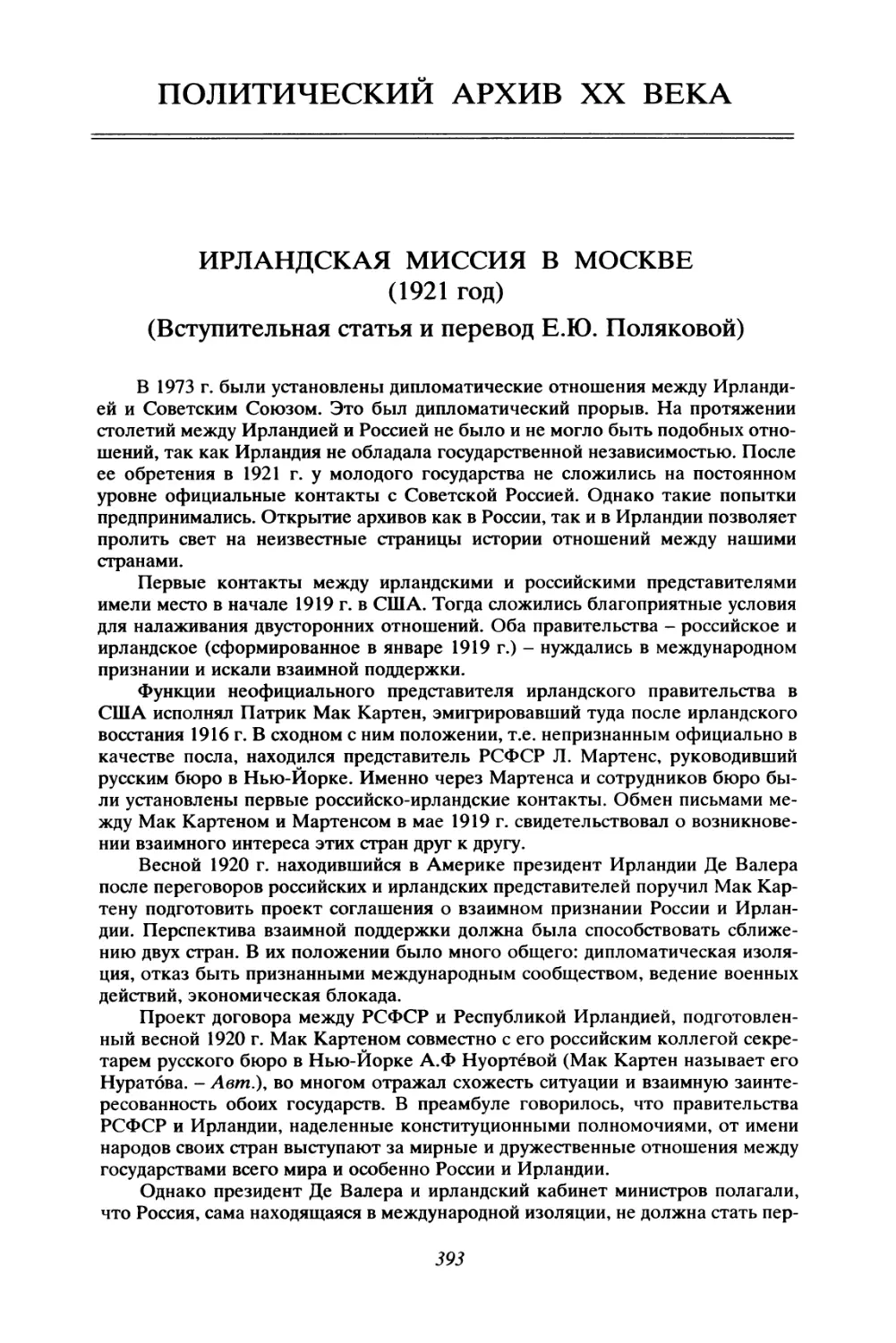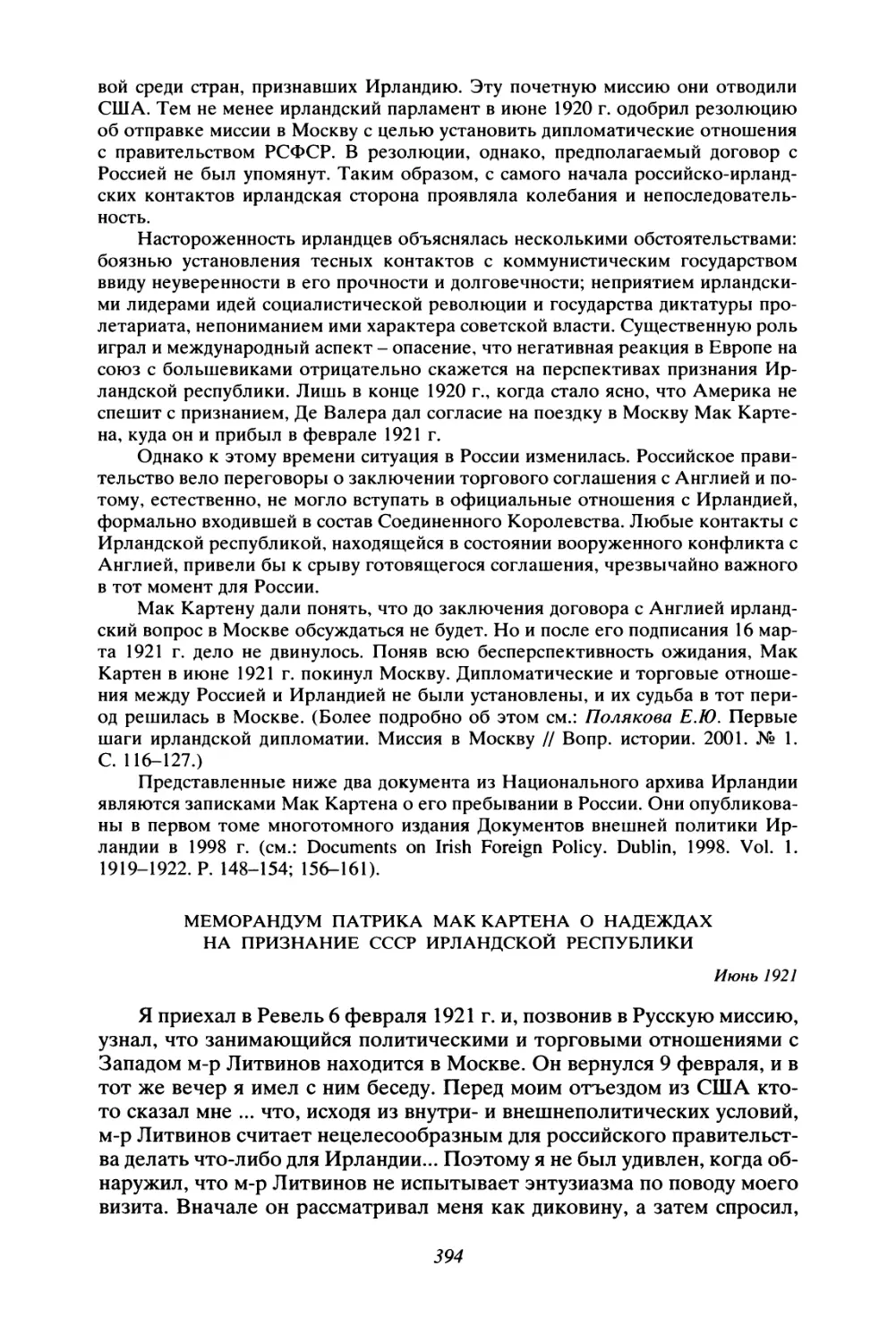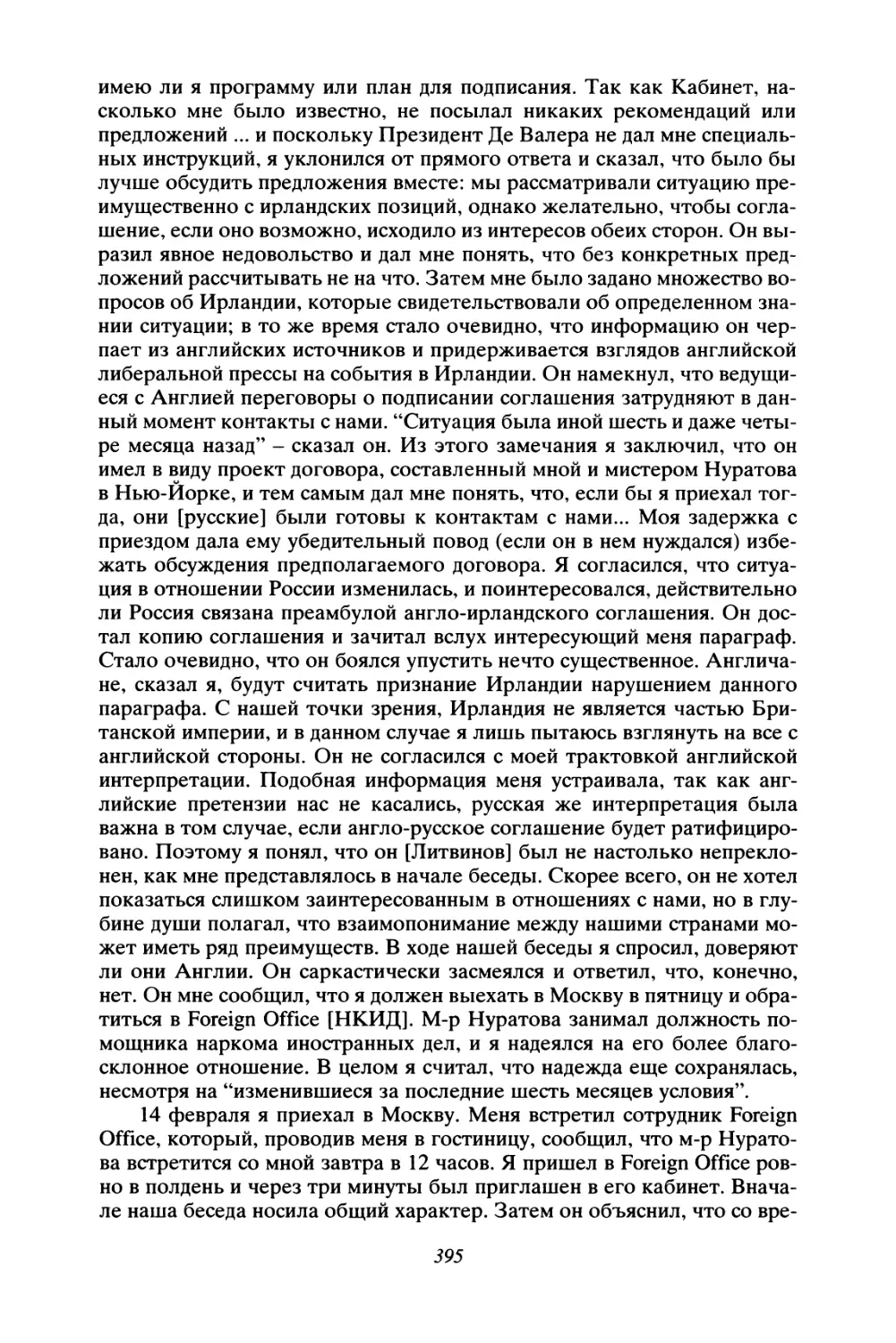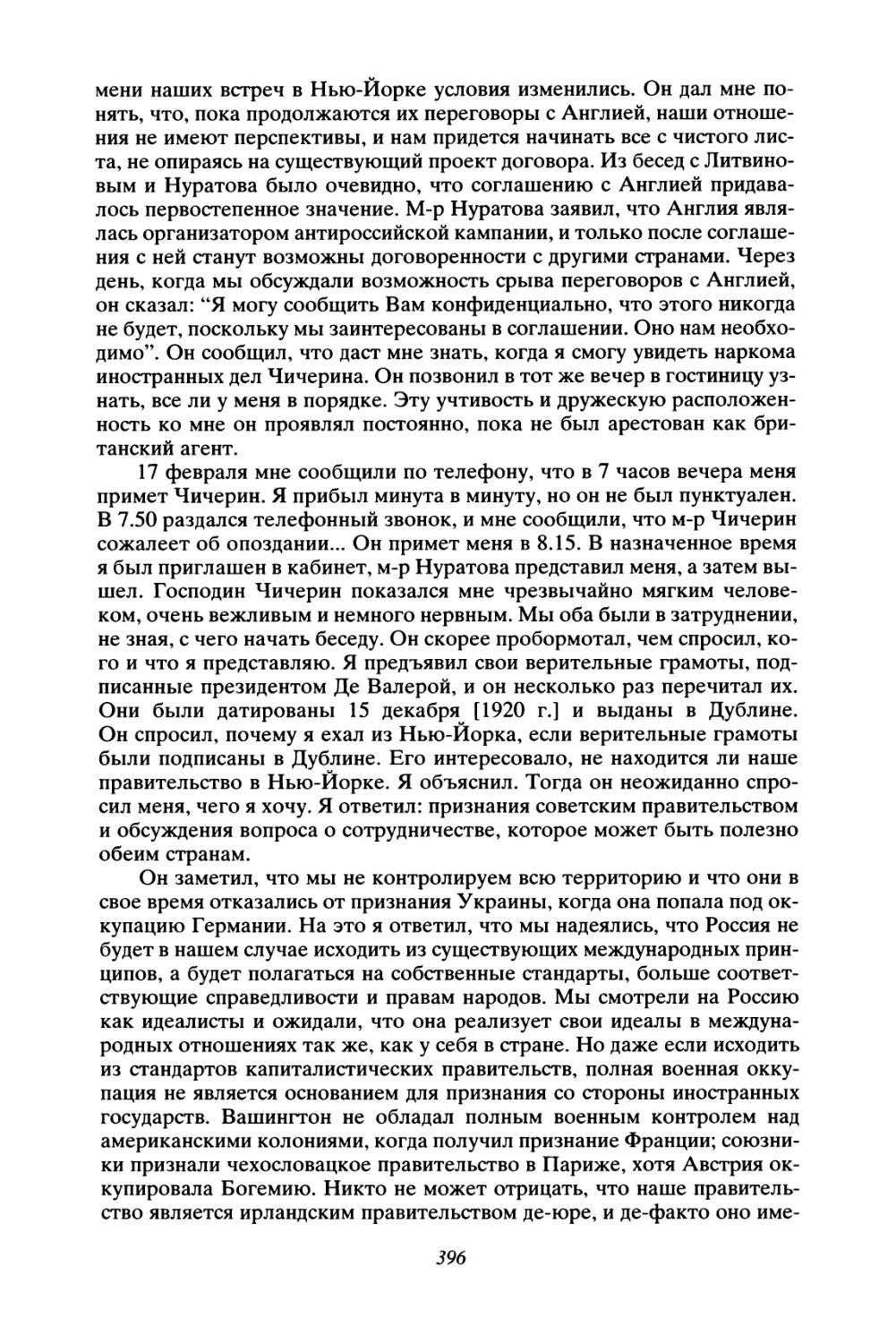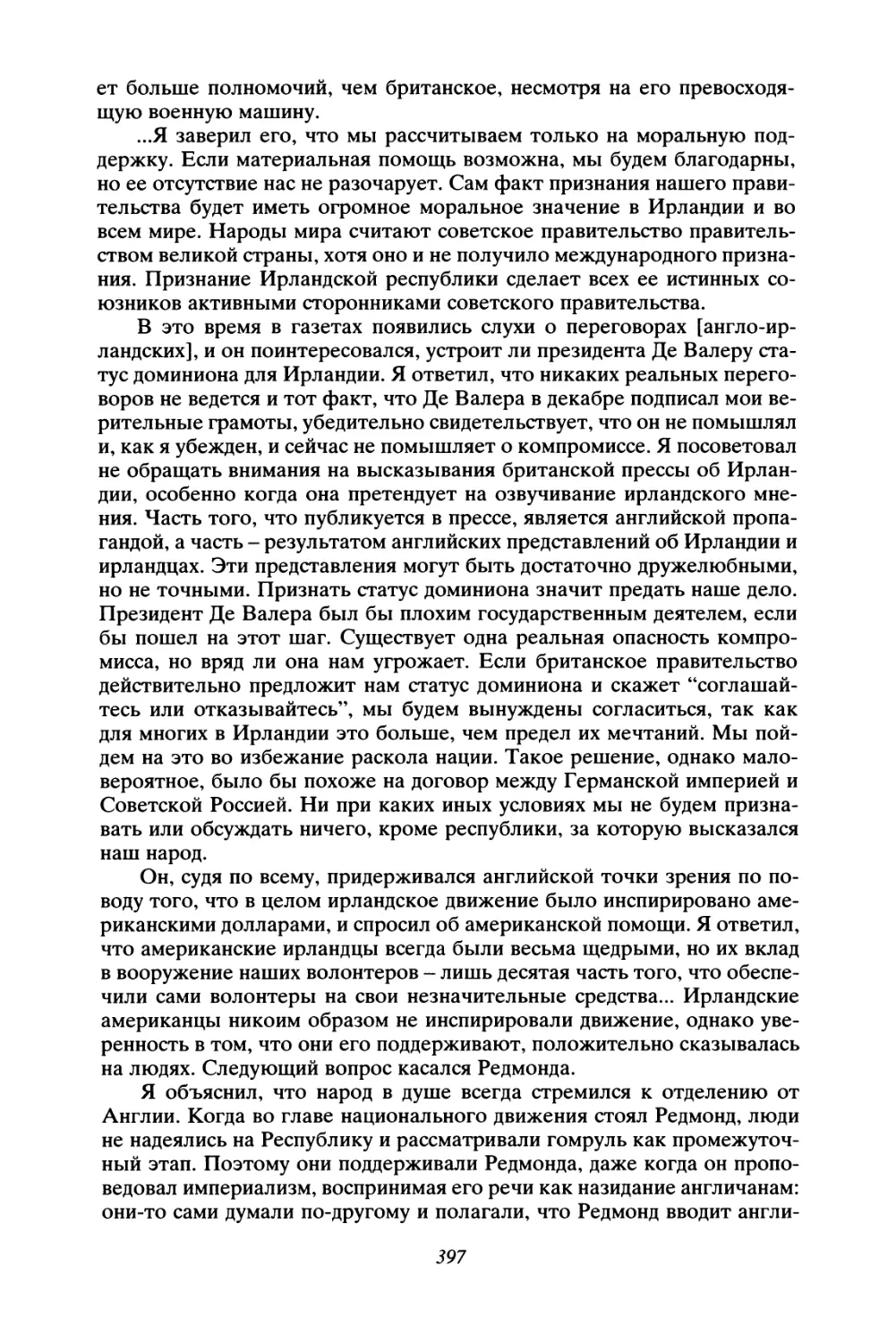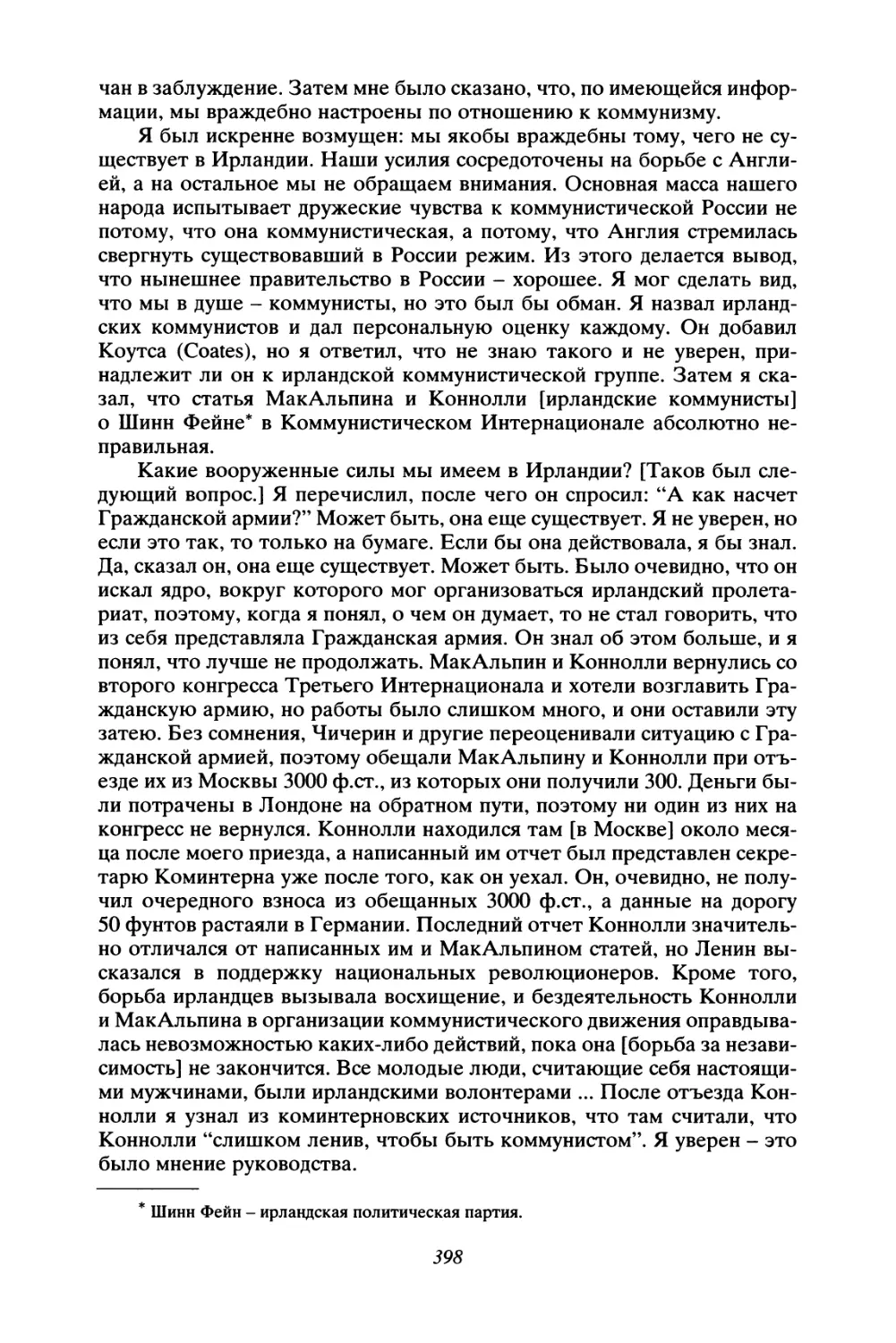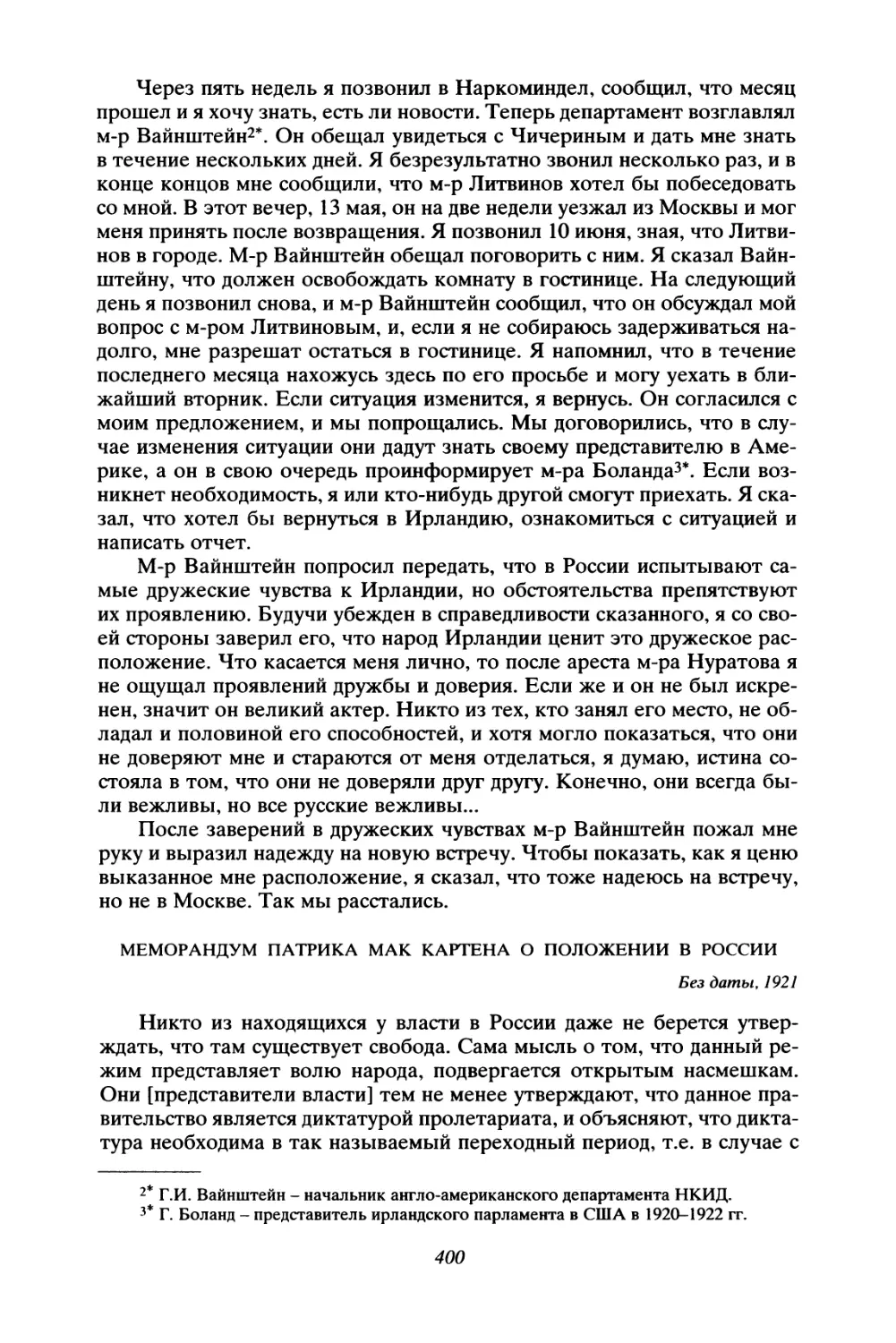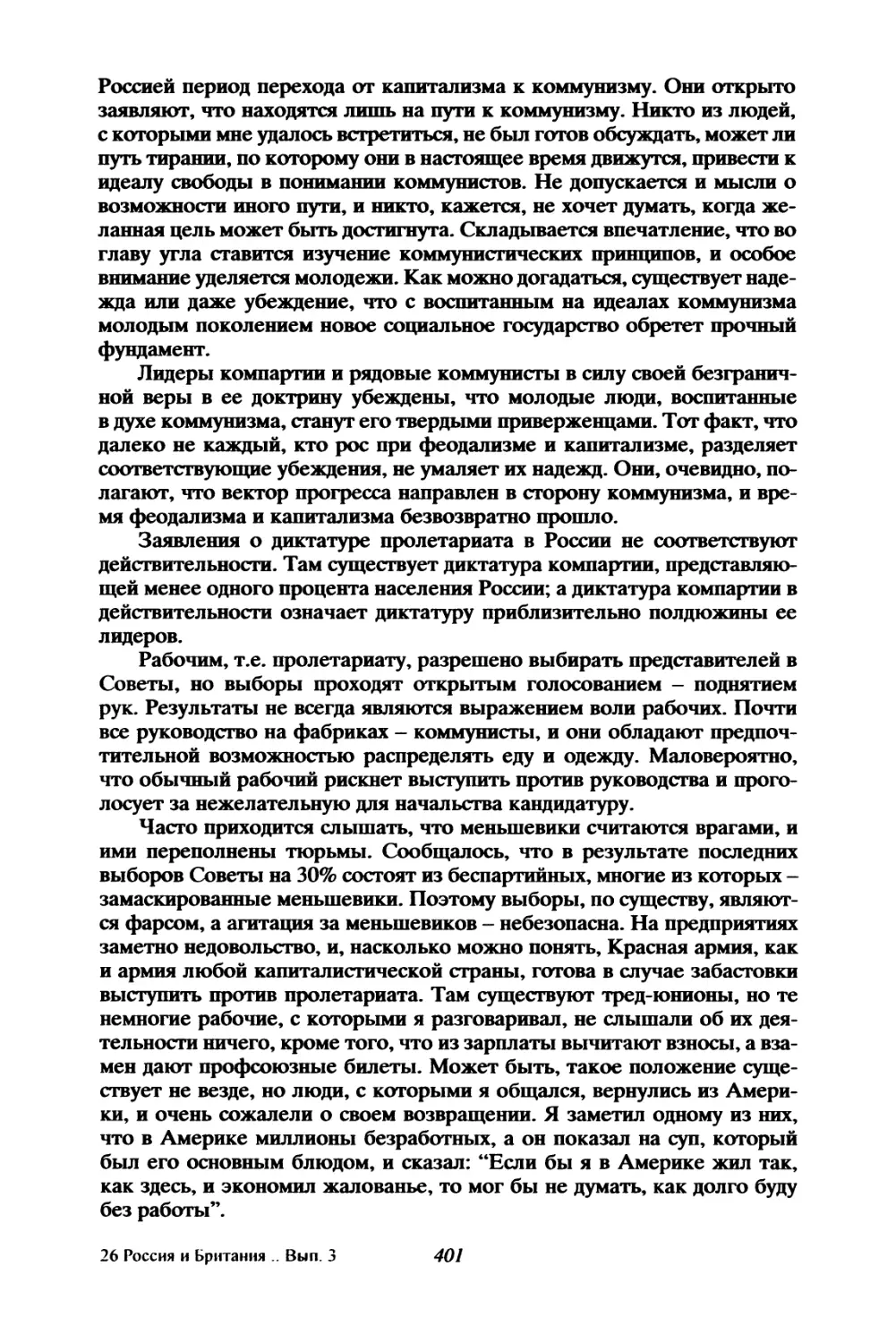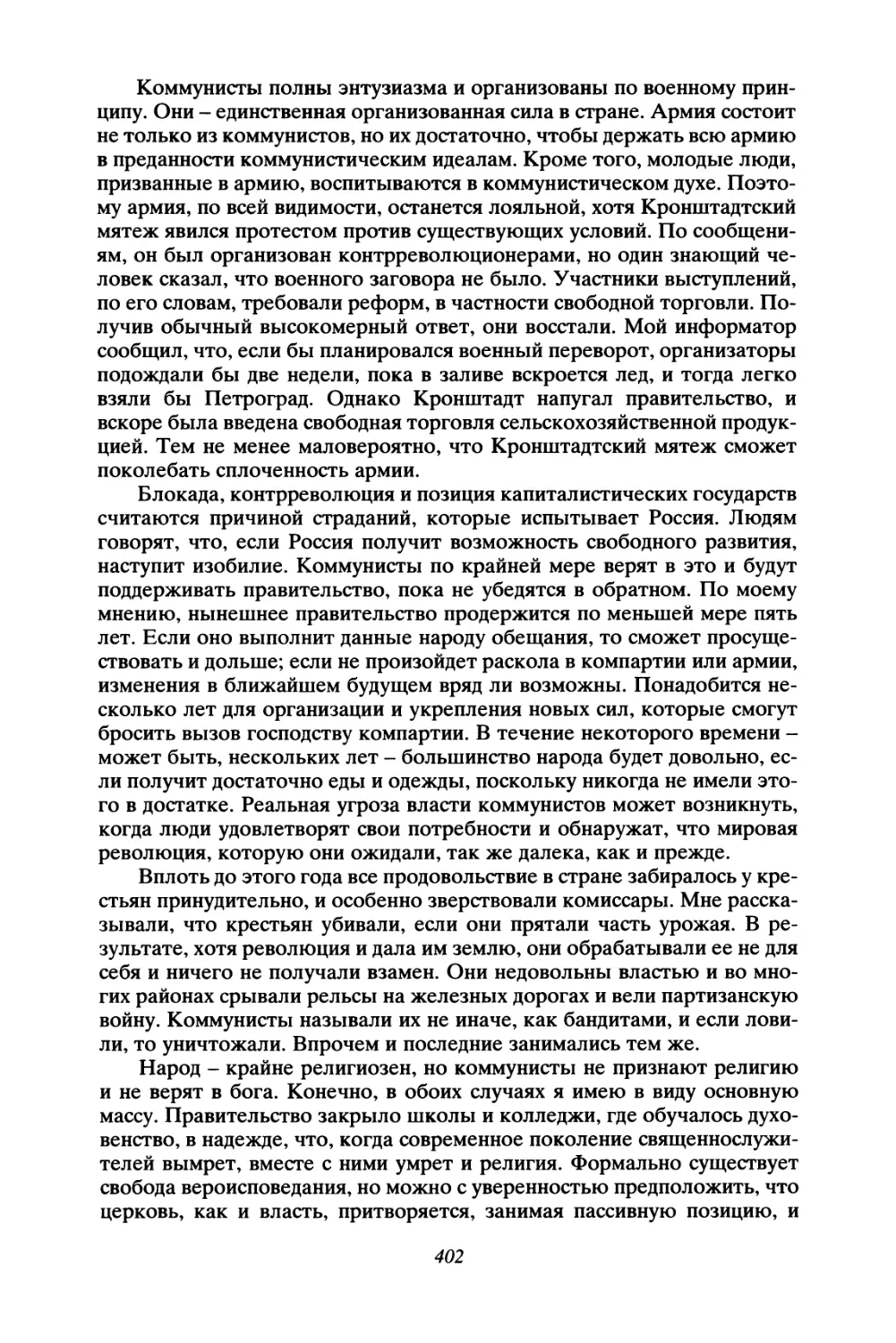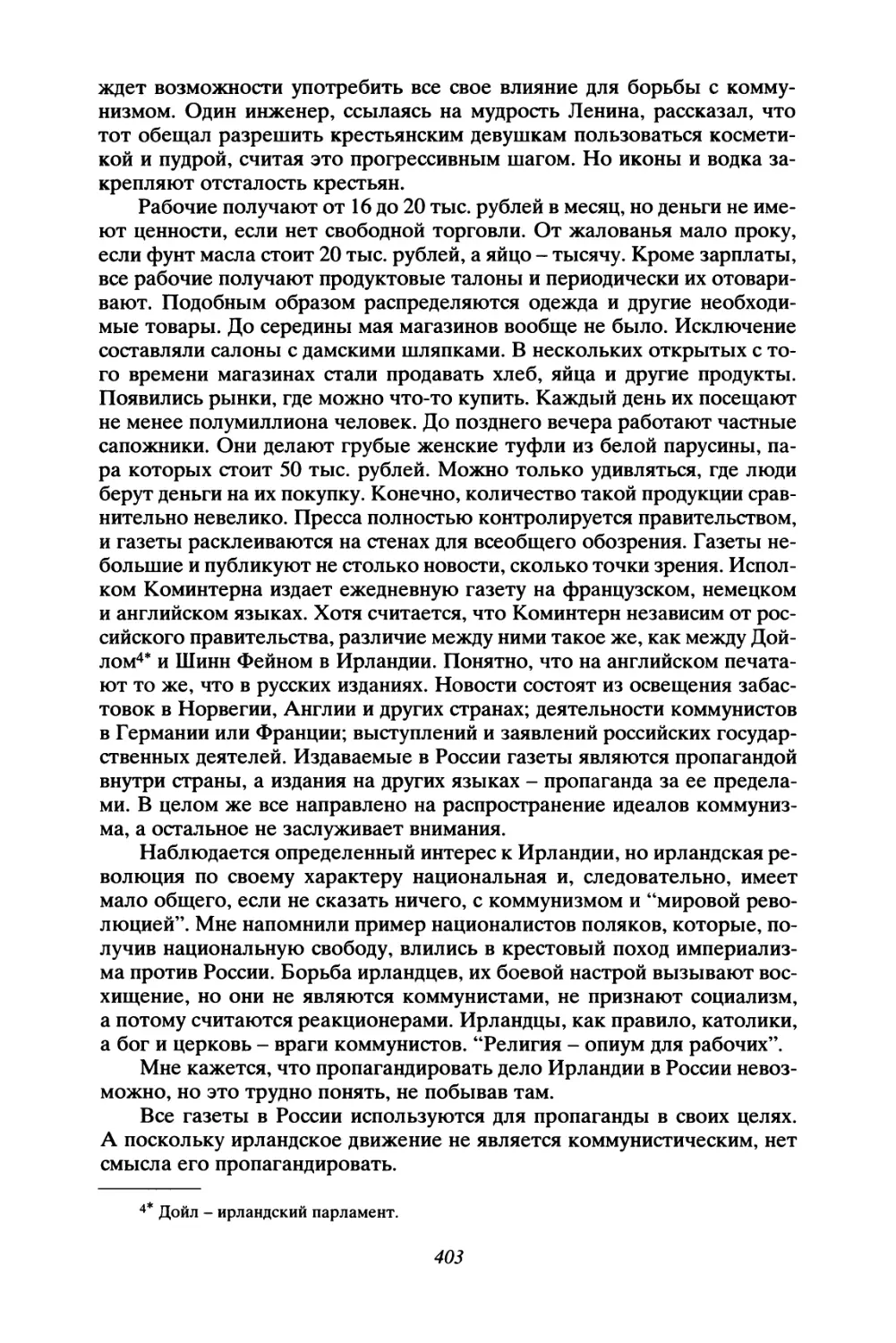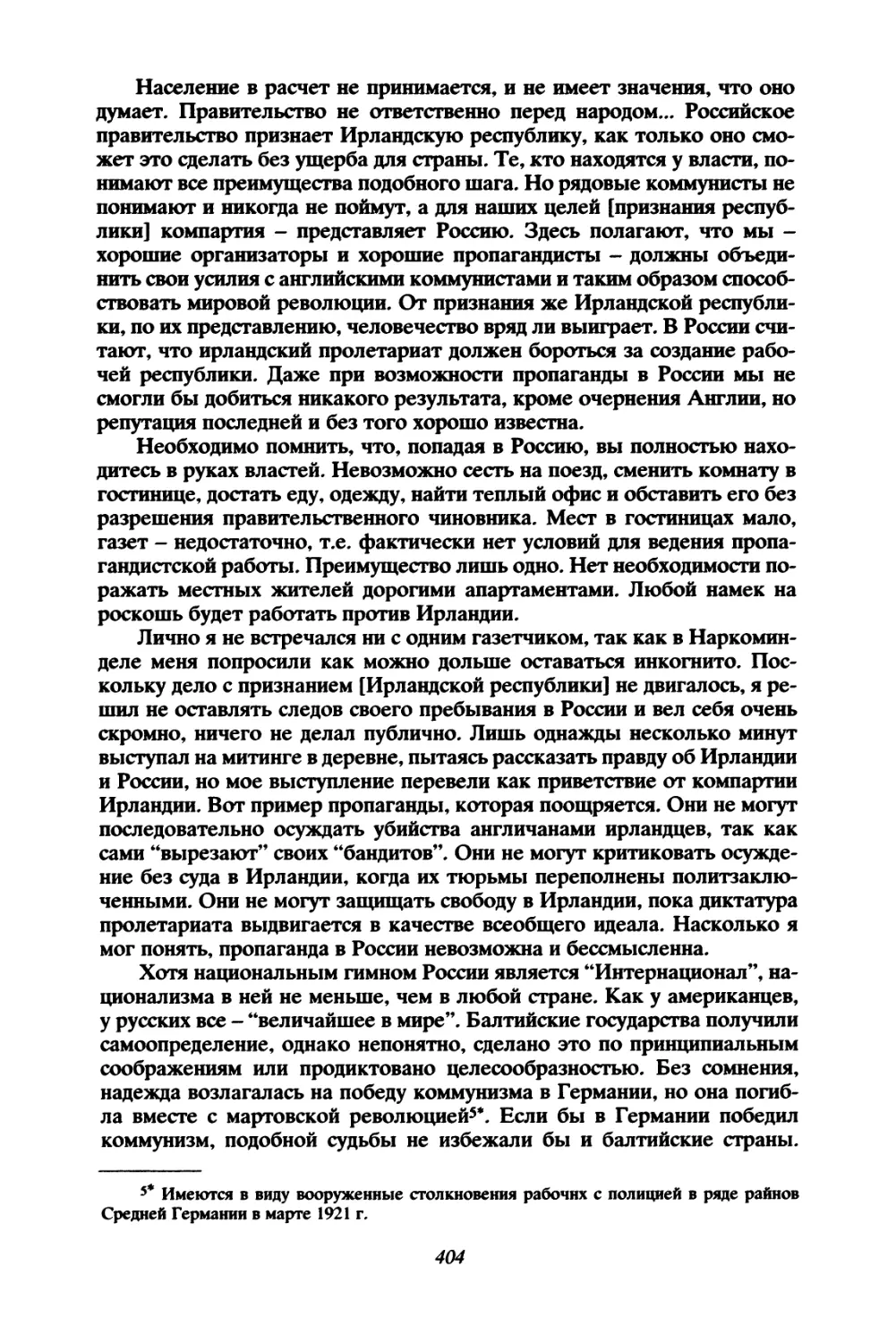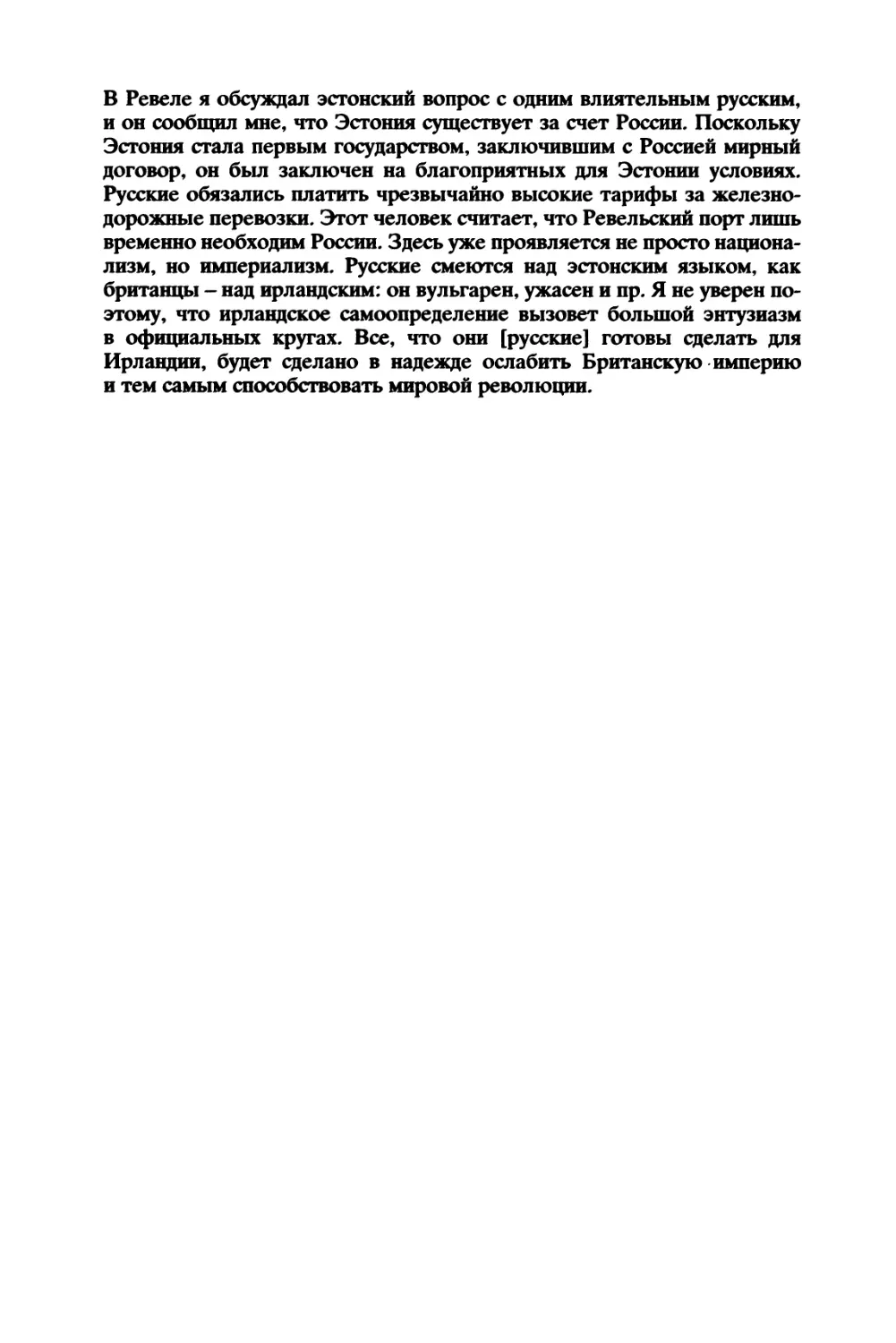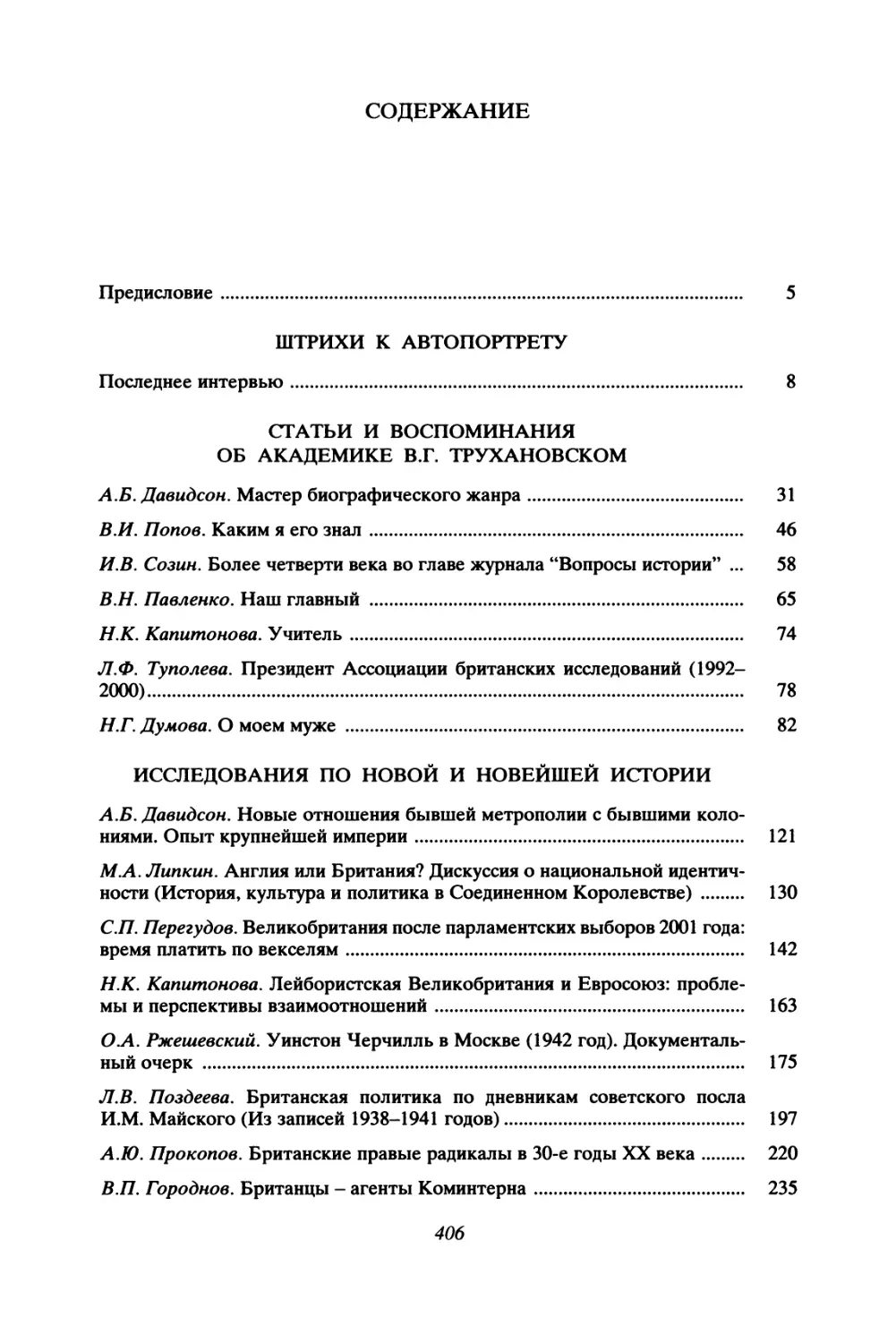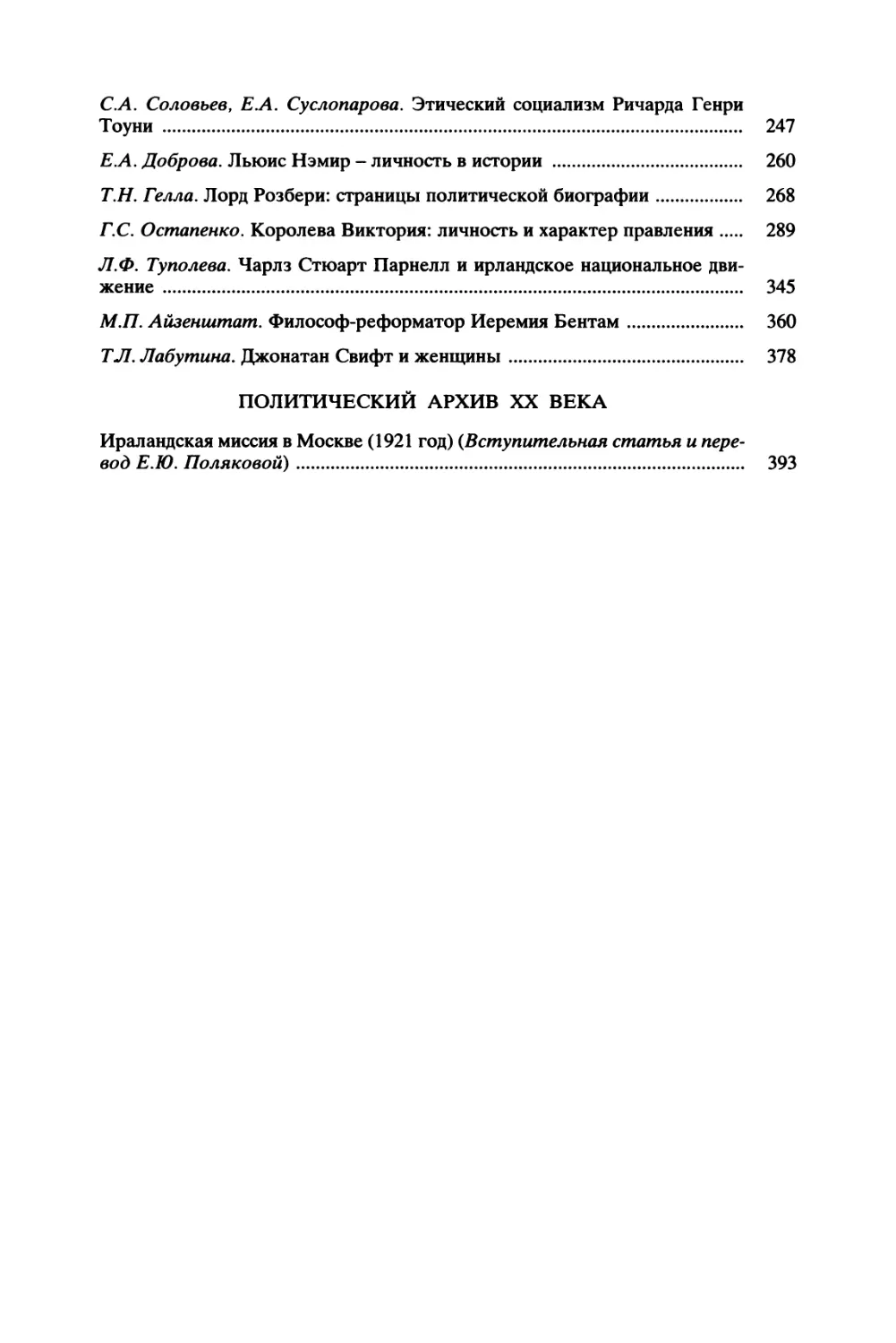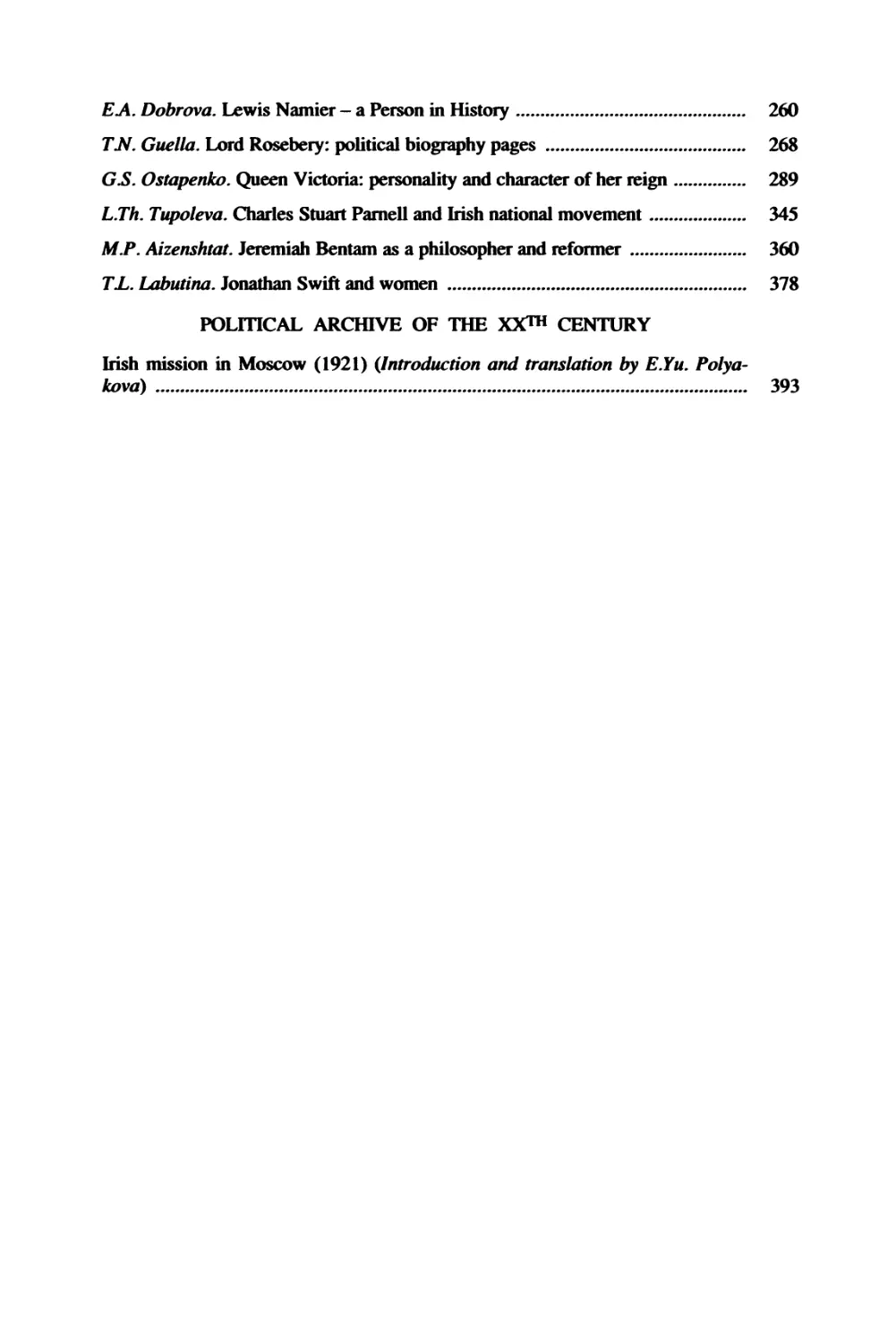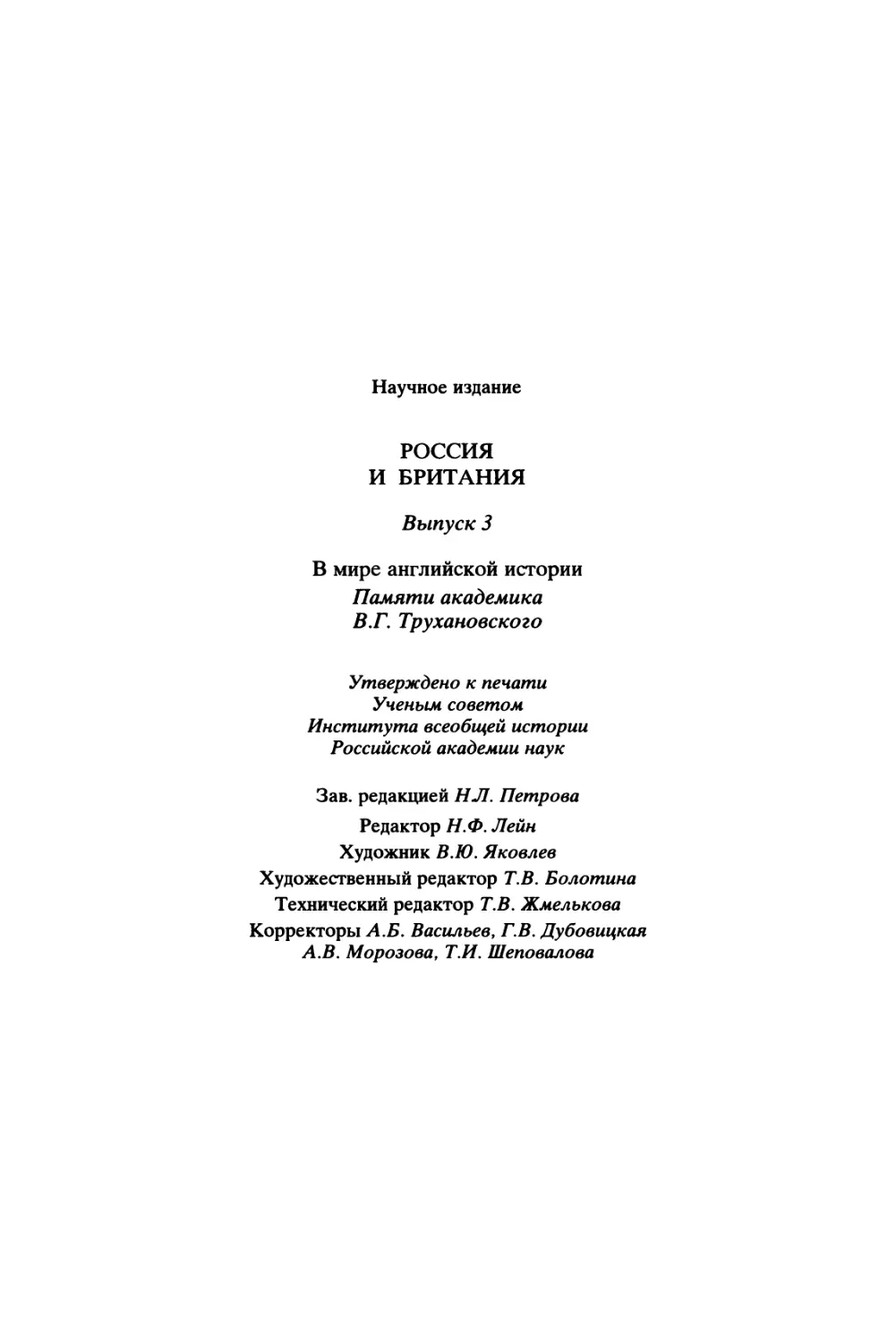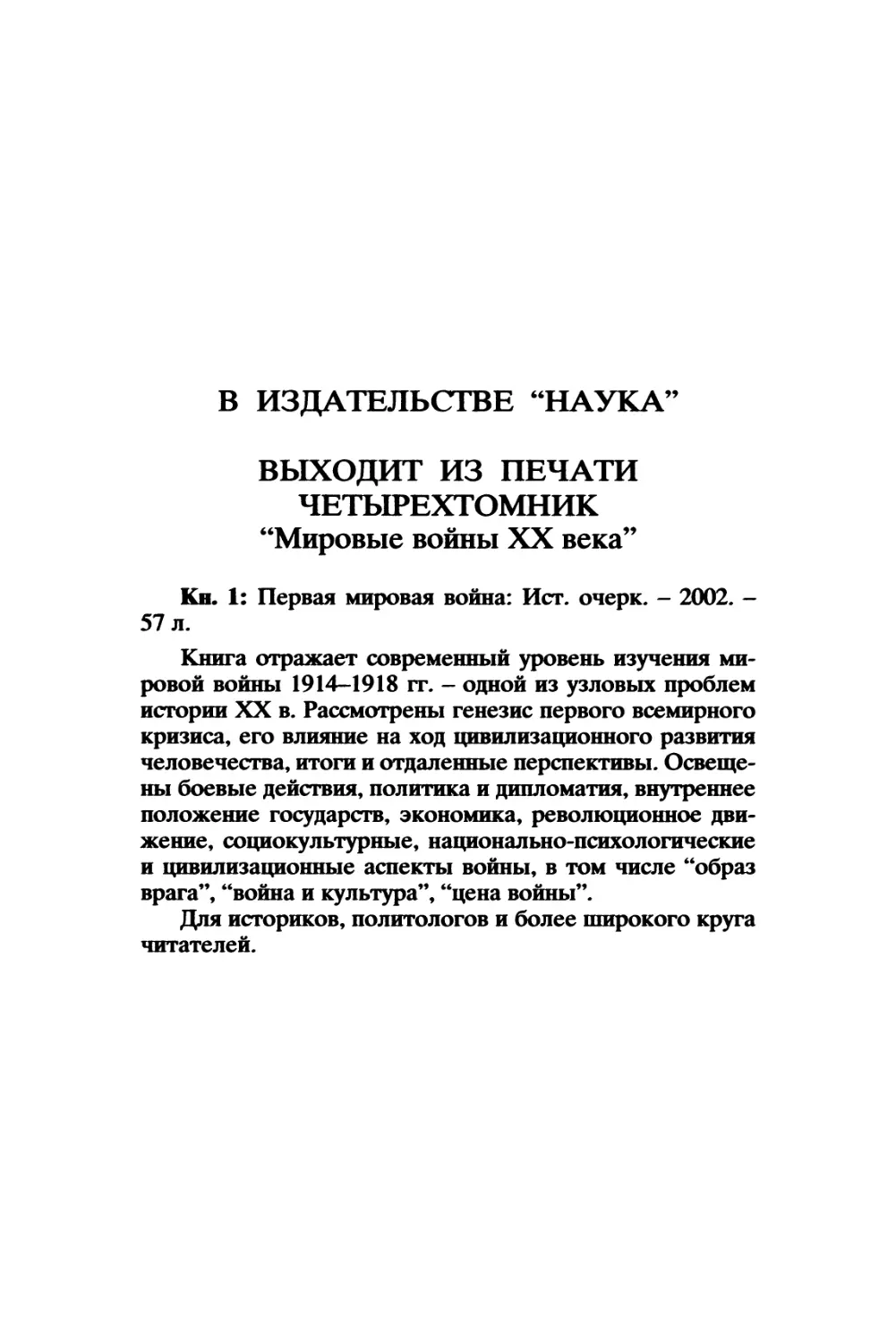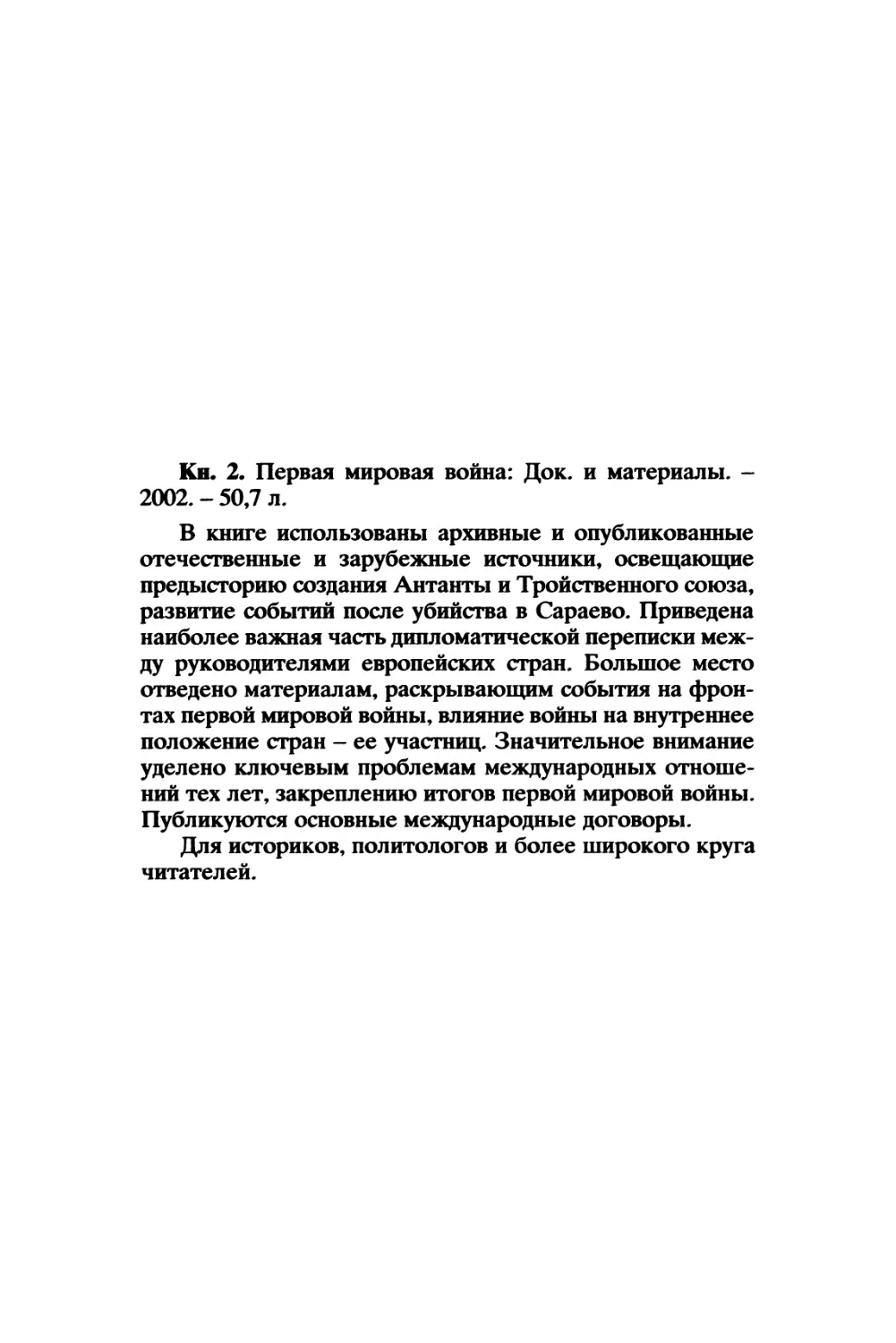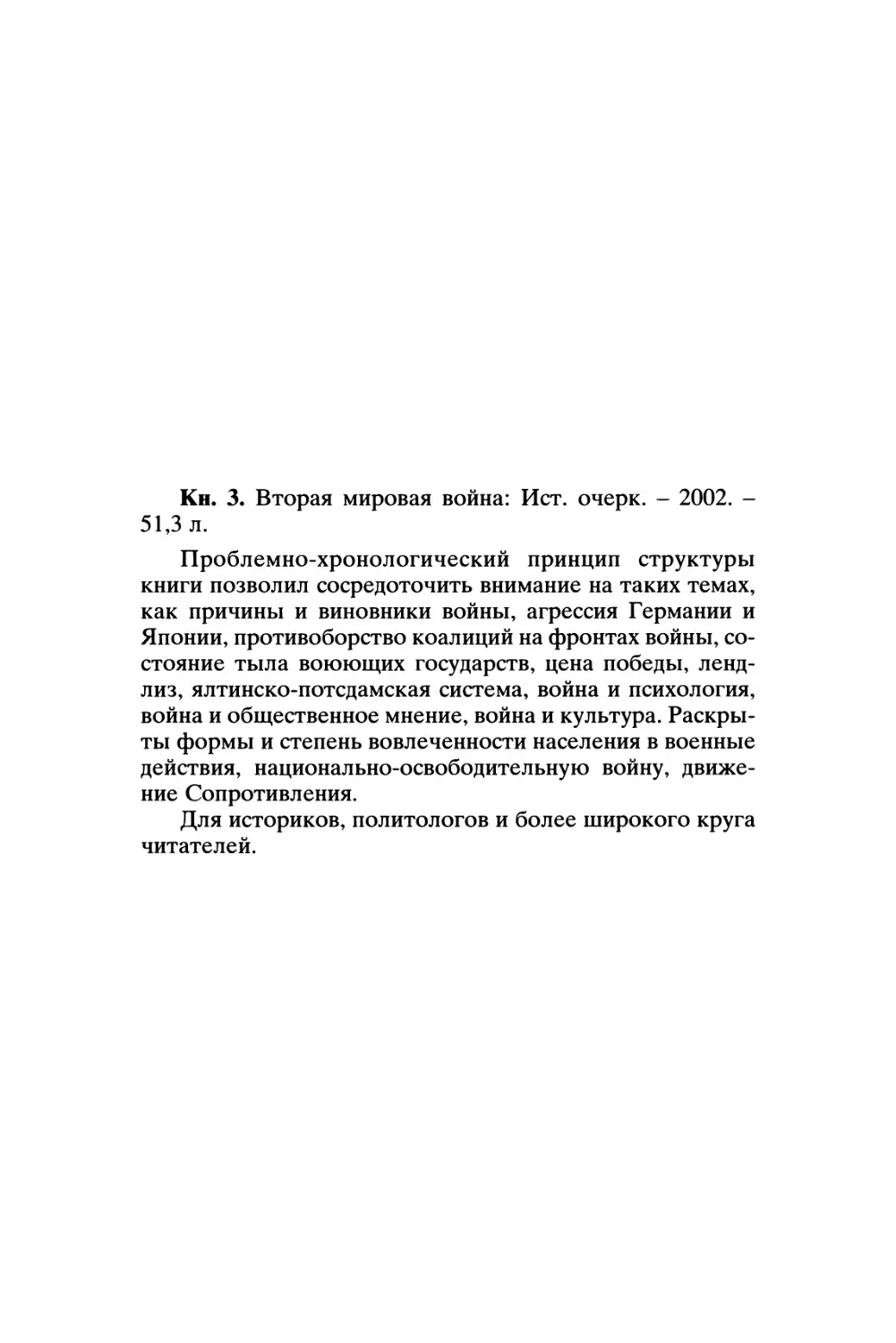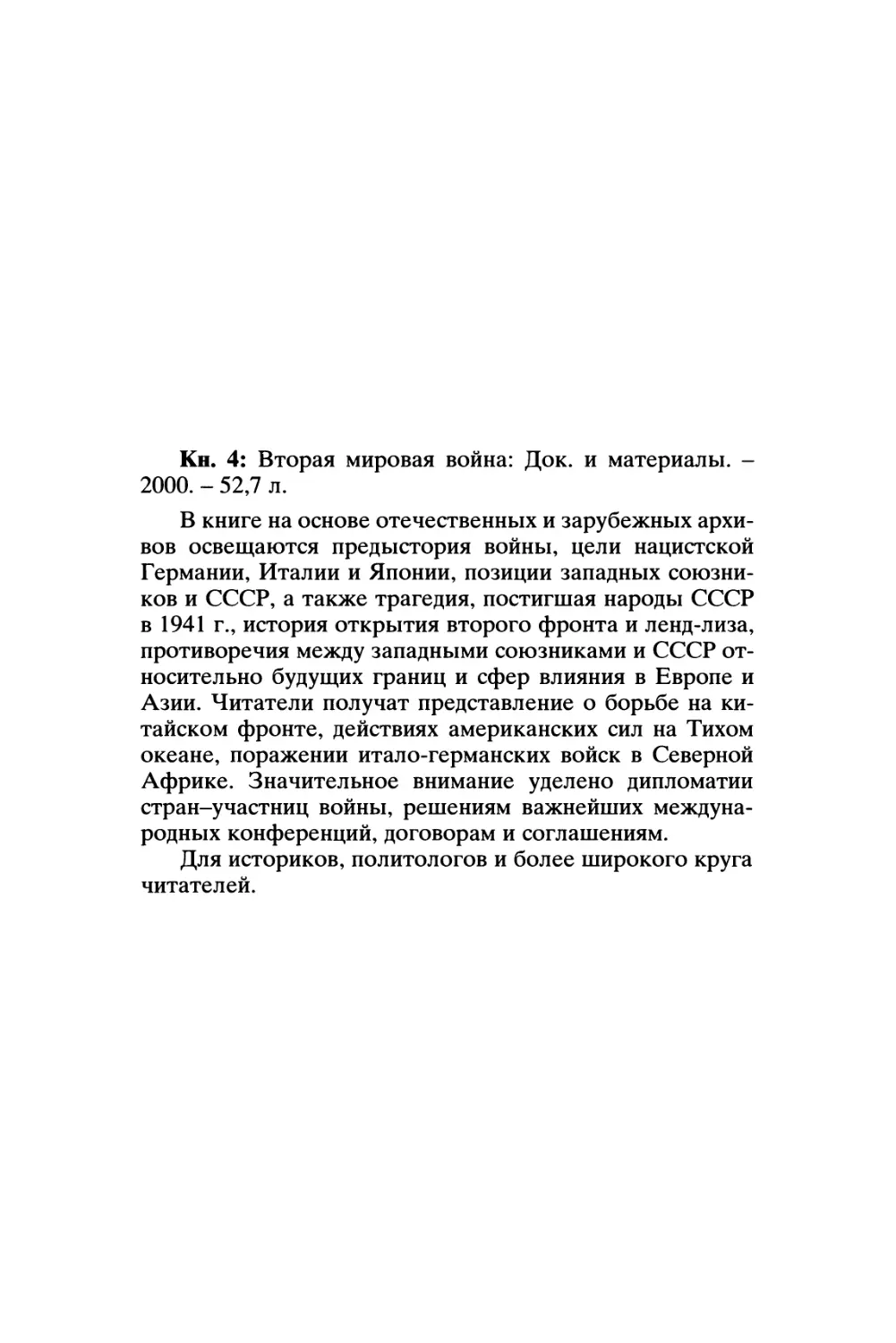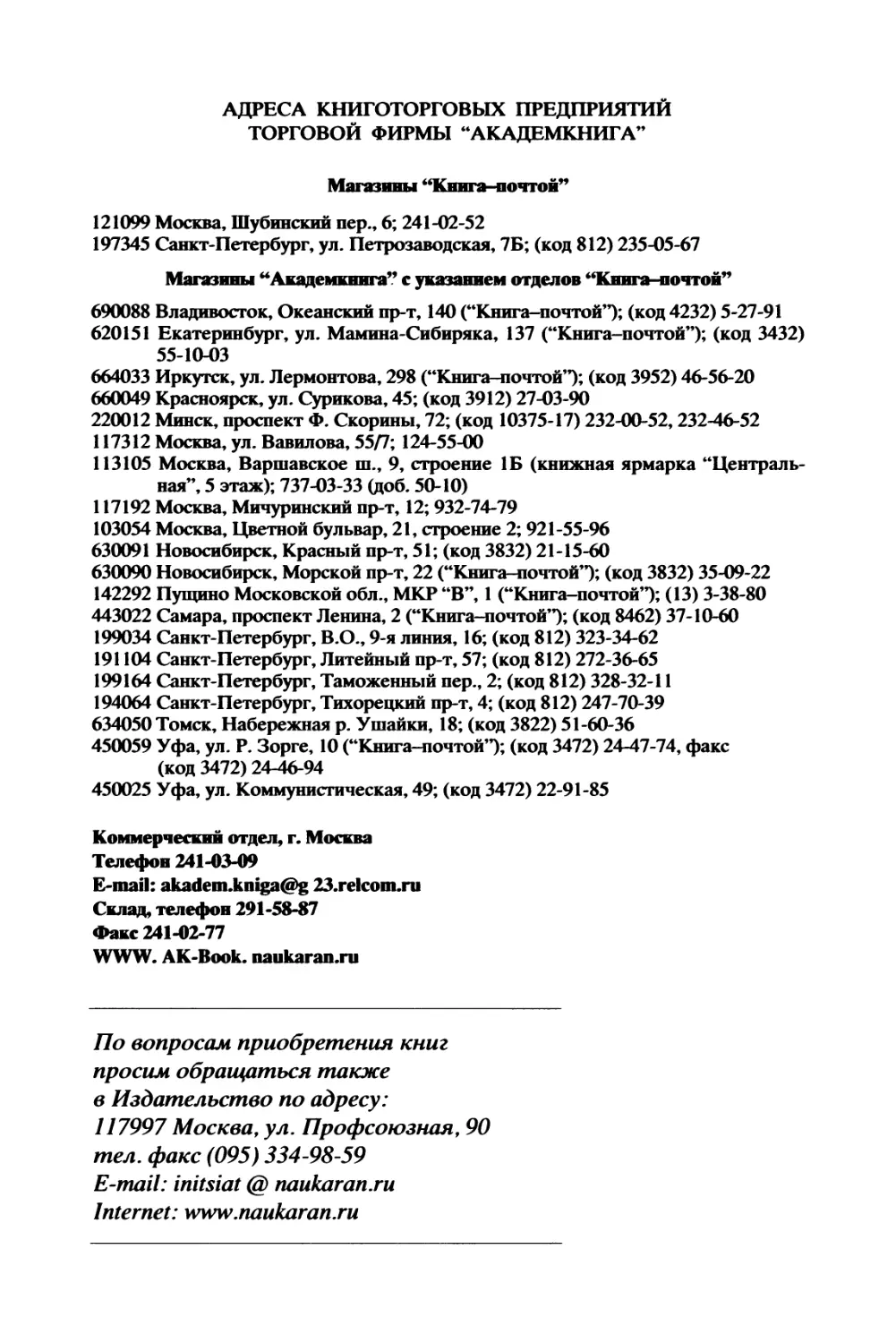Автор: Давидсон А.Б.
Теги: история всемирная история воспоминания событий интервью жизнеописание трухановский английская история правители
ISBN: 5-02-008843-9
Год: 2002
Текст
В мире j
английской J
истории Г
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
АССОЦИАЦИЯ БРИТАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY
ASSOCIATION FOR BRITISH STUDIES
Russia
тш ana
Britain
Volume 3
In the world
of English
history
To the memory of academician
V. G. TRUKHANOVSKY
8
MOSCOW
NAUKA
2002
Россия
Британия
Выпуск 3
В мире
английской
истории
Памяти академика
В. Г. ТРУХАНОВСКОГО
в
МОСКВА
«НАУКА»
2002
УДК 93/94
ББК 63.3(0)
Р76
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 02-01-16193д
Серия основана в 1997 году
Ответственный редактор
А.Б. Давидсон
Редакционная коллегия:
МЛ. Айзенштат, Е.А. Доброва (ответственный секретарь),
Н.Г. Думова, Г.С. Остапенко, Е.Ю. Полякова, Л.Ф. Туполева
Рецензенты:
кандидат политических наук Ал.А. Громыко,
кандидат исторических наук А.С. Намазова
Россия и Британия. Вып. 3. В мире английской истории. Памя-
ти академика В.Г. Трухановского / Отв. ред. А.Б. Давидсон; Ин-т
всеобщей истории. - М.: Наука, 2002. - 409 с.
ISBN 5-02-008843-9
Инициатором создания серии “Россия и Британия” и ответственным редакто-
ром первых двух выпусков был видный российский историк академик В.Г. Труха-
новский, скончавшийся в 2000 г. Выпуск третий посвящен его памяти. Читателю
предоставляется возможность познакомиться с Владимиром Григорьевичем, про-
читав его последнее подробное интервью, воспоминания его вдовы Н.Г. Думовой,
коллег и учеников. Издание содержит работы российских ученых по различным
сюжетам английской истории и статьи об известных представителях Великобрита-
нии, чья жизнь, деятельность и взгляды оказали влияние на развитие событий в
этой стране, - Д. Свифте, И. Бентаме, королеве Виктории, У. Черчилле и др.
В сборник включены также архивные материалы о первых дипломатических кон-
тактах Ирландии с Советской Россией, обзор дневников И.М. Майского.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей.
ТП-2003-1-М 270
ISBN 5-02-008843-9 © Российская академия наук и
издательство “Наука”, серия
“Россия и Британия” (разработка,
оформление), 1997 (год основания), 2002
ПРЕДИСЛОВИЕ
В течение многих лет советская историко-международная наука и
англоведение были неотделимы от научной деятельности выдающегося
историка Владимира Григорьевича Трухановского.
Он был необычайно активен, издавал множество книг, статей и
брошюр, редактировал коллективные труды, учебники и учебные посо-
бия. Каждый специалист-международник учился по трехтомнику
“История международных отношений”, изданному под редакцией и при
активном авторском участии В.Г. Трухановского.
Блистательные лекции в Институте международных отношений и
Высшей дипломатической школе органически дополняли облик учено-
го и профессора-преподавателя. Он был прекрасно образован, являлся
историком-профессионалом в высшем смысле этого слова.
Но помимо истории международных отношений и дипломатии
В.Г. Трухановский пронес через всю свою жизнь любовь и преданность
британской истории. Без него не обходилось большинство трудов и
учебных пособий по истории Великобритании. Подавляющее большин-
ство советских англоведов не только считали себя учениками В.Г. Тру-
хановского, но и принадлежали к его школе.
Однако многочисленные работы по английской истории послужили
некоей прелюдией к тому, что стало его главным увлечением. В конце
60-х годов он обратился к биографическому жанру, который был мало
распространен в советской историографии и не очень поощряем
тогдашними идеологами и издательствами, особенно, когда речь шла
о биографиях деятелей Запада - представителей другого лагеря и чуж-
дого мира. Поэтому любые книги, в которых эти деятели представали
обычными людьми, со своими радостями и страстями, с достоинствами
и недостатками, встречали косые взгляды тех, кто определял идеологи-
ческую линию советской историографии.
В.Г. Трухановский начал с Уинстона Черчилля - фигуры яркой и во
многом спорной. Он пытался понять внутренний мир идеолога анти-
коммунизма, его эволюцию и противоречия. Хотя акцент в книге сде-
лан на осуждение политической позиции Черчилля, все же автору уда-
лось показать своего героя живым человеком, талантливой, сильной
личностью.
Следующим историческим деятелем, привлекшим внимание
В.Г. Трухановского, стал Антони Иден - близкий сподвижник Черчил-
ля. Его портрет нарисован на фоне сложных коллизий дипломатиче-
ской истории середины XX в.
5
Автор идет дальше. Он издает книгу - почти бестселлер - о наци-
ональном герое Англии Горацио Нельсоне, о его победных морских
сражениях и его возлюбленной - Эмме Гамильтон. Романтическая лю-
бовь этих легендарных персонажей британского истеблишмента стала
темой многочисленных произведений в разных государствах мира.
Благодаря В.Г. Трухановскому их история получила и “российский ва-
риант”.
И, наконец, он создает свою лучшую, на мой взгляд, книгу - био-
графию британского премьера XIX в. Бенджамина Дизраэли, лорда
Биконсфилда - загадочной и влиятельной фигуры британской по-
литики.
Автор показал нам английскую историю в лицах, как бы пропус-
тив ее через портреты выдающихся деятелей XVIII, XIX и XX сто-
летий.
На протяжении многих лет имя В.Г. Трухановского ассоциирова-
лось для всех советских историков с журналом “Вопросы истории”, ко-
торый он возглавлял в течение 27 лет. В те годы журнал стал всесоюз-
ной трибуной, где исследования методологических и конкретно-истори-
ческих проблем дополняли друг друга.
Разумеется, журнал функционировал в свою эпоху, со всеми ее осо-
бенностями - жесткой цензурой и контролем, с определенными лимита-
ми и ограничениями для авторов. Нам не следует наводить глянец на со-
бытия тех лет и идеализировать их, подходить к ним с мерками сегод-
няшнего дня. Но несомненно, что в ту сложную и противоречивую,
а порой и весьма драматическую эпоху журнал выполнял свою функ-
цию общесоюзного координирующего органа. Во всяком случае, следу-
ет отметить, что в трудные брежневские времена журнал не устраивал
идеологических проработок и гонений.
Со времени своей ответственной работы в Министерстве ино-
странных дел В.Г. Трухановский любил и понимал законы и правила
дипломатии; видимо, именно эта деятельность привила ему чувство
ответственности и государственного подхода ко многим событиям и
явлениям.
В течение долгих лет я многократно встречался с Владимиром Гри-
горьевичем, мы сотрудничали в Москве, ездили по стране и в другие го-
сударства. Общение с ним было всегда интересным и приятным. Он был
человеком порядочным и отзывчивым, неизменно оставался доброжела-
тельным и спокойным, сам обладал чувством юмора и ценил его в других.
На долю историков, живших и творивших в те времена, выпала
сложная жизнь. Они работали с увлечением и ощущали свою ответст-
венность перед обществом и исторической наукой. Для многих из них
принятие кардинальных перемен, произошедших в стране в конце 80-х -
начале 90-х годов и полностью изменивших ее облик, оказалось непро-
стым делом.
Владимир Григорьевич полностью отдался научной работе, он на-
ходил наибольшую радость в науке и в общении со своими близкими,
для которых он был воплощением добра, порядочности и человеко-
любия.
6
Мне доставляло удовольствие и радость продолжать время от вре-
мени беседовать с ним, обсуждать то, что волновало историков и всех
граждан страны.
Выдающийся историк и прекрасный человек, В.Г. Трухановский ос-
тается в нашей памяти, демонстрируя преемственность российской ис-
торической науки, ее эволюцию, успехи и достижения, недостатки и ог-
раничения.
Мы должны помнить и изучать наше наследие, включая его в пол-
ную драматизма историю XX столетия. В ряду крупных личностей ис-
ториков ушедшего века достойное место принадлежит академику Вла-
димиру Григорьевичу Трухановскому.
Его памяти и посвящен этот сборник.
академик Л.О. Чубаръян
ШТРИХИ К АВТОПОРТРЕТУ
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Публикуемая ниже беседа с академиком В.Г. Трухановским была напечата-
на в год его 80-летия в журнале “Новая и новейшая история” (1994, № 6).
Это интервью оказалось последним в жизни Владимира Григорьевича. Редкол-
легия серийного издания “Россия и Британия” благодарит редакцию журнала за
предоставленную возможность воспроизвести этот материал на страницах на-
шего сборника, посвященного памяти выдающегося ученого.
- Первый вопрос традиционный: откуда Вы родом? Расскажите
о своем детстве, семье, предках.
- Родился в Белоруссии, в соответствии с горькими реалиями сего-
дняшнего дня - за границей. Деревня моего детства - Ботвиновка - рас-
полагалась в той части Могилевской губернии, которая граничит со
Смоленщиной, поэтому родным языком большинства моих односель-
чан был русский.
Деревенские жители вопросами генеалогии интересовались мало,
да и бурные годы, на которые пришлось мое детство, не стимулирова-
ли такого интереса. Знаю только историю моего деда Трухановского,
как рассказывал ее отец. После усмирения польского восстания
1863-1864 гг. через Белоруссию из Польши шли обозы с повстанцами и
их семьями, осужденными на высылку в Сибирь. Один такой обоз оста-
новился на ночевку в имении Смольяны, принадлежавшем помещику
Энгельгардту. Наутро обнаружилось, что мальчик лет шести-восьми
остался без родителей - они умерли в пути или на ночлеге. Один следо-
вать с обозом он не мог, и его приютили в имении. Вырос дед среди
дворни, был ночным сторожем в Смольянах, женился на местной де-
вушке, народил много детей и среди них сына Григория Ипполитовича.
Просвещенное семейство Энгельгардтов стремилось внедрять в своем
имении последние достижения сельскохозяйственной науки. В Смолья-
нах была открыта сельская школа с агрономическим уклоном. Отец ее
окончил, и знания, полученные за четыре года учебы, позволили ему в
дальнейшем работать агрономическим старостой, а затем - до конца
жизни - агрономом-практиком. Скончался он в декабре 1944 г. в возрас-
те 66 лет. Сказались тяжелая жизнь в условиях немецко-фашистской
оккупации и неоднократные допросы в гестапо: кто-то донес, что его
сын - “комиссар”.
Мать мою, Анну Николаевну, родом из крестьян, война застигла в
Ленинграде; на протяжении блокады она жила у моей сестры Зои и
умерла в феврале 1942 г. от голода, обретя последний приют на Писка-
ревском кладбище.
8
Из деревенской жизни больше всего запомнились мои домашние
обязанности. Одна была ненавистная - пасти корову Буланку. Сон на
заре самый сладкий, а мать уже расталкивает, пора выгонять корову.
Белорусские летние зори холодные, роса крупная, как горох. Босые но-
ги от мокрой травы коченеют, и можно согреться, только ступив в теп-
лую коровью лужицу.
Другая обязанность приятная - пилить и колоть дрова для печки; до
сих пор с удовольствием занимаюсь этой работой на даче. Любил удить
рыбу, ловить раков, кататься по озеру на лодке-плоскодонке, которую
сам сколотил под отцовским руководством.
По условиям работы мой отец, а вместе с ним и семья, переезжал из
деревни в деревню, и я вынужден был переходить из одной школы в
другую. Никаких книг у нас в семье не было, тем более детских. Читать
что-то помимо учебников я начал только в ремесленном училище. Пер-
вой книгой был журнал “Всемирный следопыт”, очень мне нравился.
Я выпросил у отца деньги и подписался на журнал.
Отец мечтал дать мне хорошее образование и потому после окон-
чания ремесленного училища послал работать и учиться в Ленинград,
где меня приютила его дальняя родня.
-Ленинград, вероятно, поразил Вас? После сельской жизни и вдруг
большой город?
- Поразил - не то слово. Я очутился в другом мире. Счастлив был
своим первым жильем. Сейчас много говорят о кошмаре коммуналок.
С моими теперешними представлениями и привычками я бы, наверное,
в том же духе мог отозваться о моей ленинградской квартире. Но тогда
мне моя клетушка - переделанная под жилье ванная комната, предста-
влялась дворцом, а городская кровать после жесткой деревенской лав-
ки - царским ложем.
Удивительным казалось все: и величественные здания, и транспорт
на улицах, и огромный завод. Но главное - люди. И родственники, у ко-
торых я жил, и рабочие из механического цеха, где я работал в три сме-
ны, были обычными ленинградцами, простыми и скромными людьми,
но насколько же выше меня в интеллектуальном отношении они стоя-
ли. Даже язык у них был совсем другой.
Я быстро понял, что смогу подняться до их уровня, только если бу-
ду учиться, и с головой ушел в книги: брал их в библиотеках, у знако-
мых, кое-что покупал в букинистических лавочках на Литейном.
Очень скоро испортил чтением глаза, с тех пор у меня сильная близо-
рукость.
Отдельное воспоминание - завод “Электроприбор”. До сих пор по-
мню свой рабочий номер - 5748; я вешал его на табельную доску в про-
ходной. Работать в механическом цеху было интересно: станки все но-
вые, заграничные, с виду очень красивые. Особенно мне нравились их
звучные названия - “Цинциннати”, например.
Среди рабочих было много молодежи. В обеденный перерыв за де-
сять минут съедали чечевичную кашу - почему-то она мне запомни-
лась - и еще 20 минут веселились в заводском скверике, заросшем бурь-
яном. Одежда у всех была плохонькая, но никого это особенно не забо-
9
В.Г. Трухановский. 1935 г.
тило. С уважением относились к старым опытным рабочим, мастерам
своего дела, обучавшим нас ремеслу и рабочей этике.
-А что определило выбор Вами вуза?
- Я со времен мстиславльской семилетки полюбил уроки истории.
Хорошая была там учительница, она не только заметила мой интерес к
предмету, но и поощряла его. Как я был горд, когда она поручила мне
перед всей школой сделать доклад по истории Белоруссии в связи с де-
сятилетием образования БССР. Помню, как слушатели изнемогали от
жары, учительница волновалась и ежеминутно смотрела на часы, а я го-
ворил, говорил и никак не мог остановиться.
Хоть я и выучился потом на слесаря и работать на заводе мне нра-
вилось, ни техника, ни естественные науки меня не привлекали. А с при-
ездом в Ленинград, в город, где каждый камень дышит историей, всякие
колебания в выборе профессии отпали сами собой. Поступив в инсти-
10
тут*, я стал читать исключительно историческую литературу и даже на-
чал составлять собственную библиотечку. Денег, правда, было мало,
зато книги тогда были дешевые. Самообразование для меня на всех эта-
пах играло большую роль, чем официальные занятия. Наиболее силь-
ным впечатлением за все годы учебы остались лекции академика
Е.В. Тарле в Высшей дипломатической школе.
- Чем же запомнились Вам эти лекции?
- Тарле говорил о событиях прошлого так, как будто перед его гла-
зами в красках стояла живая картина происходившего, и он лишь опи-
сывал то, что видел. И об исторических деятелях Евгений Викторович
рассказывал как о хороших знакомых. В его изображении они предста-
вали живыми людьми с различными характерами, способностями и
складом мышления. Этому подходу я старался следовать в дальнейшем,
когда работал над серией своих биографических книг.
Помню такой эпизод. В лекции по внешней политике России XIX в.
Тарле рассказывал об участии российского канцлера А.М. Горчакова в
Берлинском конгрессе 1878 г. Он относился к канцлеру с симпатией и
охарактеризовал его так: “Горчаков был очень умным человеком, что
не часто встречалось среди русских дипломатов”.
Сразу после лекции было созвано заседание парткома ВДШ. Вско-
ре распространился слух, что группа активистов отправила наркому
В.М. Молотову письмо с жалобой на поведение Тарле, в недопустимых
выражениях отзывавшегося о русском народе. В следующие два дня
лекции Тарле оказались отмененными под благовидными предлогами,
однако на третий день он вновь продолжил чтение своего курса. Расска-
зывали, что пришел ответ от Молотова: “Не мешайте Тарле работать!”
Вспоминаются лекции и другого популярного в ВДШ профессора
члена-корреспондента АН СССР Евгения Александровича Коровина,
который читал международное право. Читал в буквальном смысле ар-
тистически. На его лекции приходили, чтобы получить не только зна-
ния, но и удовольствие. Суть предмета постигалась как бы сама собой
при помощи увлекательного повествования с обильными примерами из
практики международного права. Мастерские приемы Коровина я ста-
рался держать в памяти, когда сам выступал в качестве лектора.
- Создается впечатление, что второй вуз имел для вашей даль-
нейшей жизни большее значение, чем первый.
- Совершенно верно. Два года учебы в ВДШ дали мне очень многое
в плане конкретных профессиональных знаний, значительного расши-
рения эрудиции и общего интеллектуального роста.
К работе в Высшей дипломатической школе были привлечены наи-
более квалифицированные специалисты - профессора и преподаватели
иностранных языков. Наша группа по изучению английского языка со-
стояла всего из трех человек и занималась ежедневно по нескольку ча-
сов, не считая обширных домашних заданий. Я хорошо освоил чтение и
перевод политической литературы, газет. В этой сфере мне моего зна-
* В.Г. Трухановский учился на рабфаке, с красным дипломом окончил Ленинград-
ский педагогический институт, а затем Высшую дипломатическую школу в Москве. - Ред.
11
ния языка хватало. Однако достаточный навык устной речи пришел
лишь годы спустя. Не слишком оттачивалось и произношение, хотя мой
английский всегда хорошо понимали.
Справляться с домашними заданиями по языку, да и по другим пред-
метам было трудно, особенно в первый год. Жили мы в общежитии на
углу Кузнецкого моста и Лубянки, в здании, перед которым стоял па-
мятник Воровскому. Десять-двенадцать человек размещалось в огром-
ной комнате под самым куполом крыши. Было, конечно, очень шумно.
В памяти запечатлелась повседневная картина: на кровати, по-турецки
скрестив ноги, сидит слушатель-китаист и в полный голос зубрит китай-
ские глаголы, а соседи весьма оживленно реагируют на их не всегда
приличное русское звучание.
На следующий год неперспективных слушателей из нашего набора
отчислили. Тем же, кто подавал надежды, улучшили бытовые условия.
Я оказался в комнате на четверых, и заниматься по вечерам стало лег-
че. Второй год в Высшей дипломатической школе запомнился как са-
мый плодотворный за все время моей учебы.
Последние дни в ВДШ пришлись на июнь 1941 г. Политическая ат-
мосфера была сильно наэлектризована: опасность войны ощущалась
осязаемо. И все же в душе теплилась надежда - вдруг еще как-либо
обойдется без войны. У меня с каждым днем эта надежда таяла. Мы
пользовались материалами ТАСС из зарубежной печати, а они оставля-
ли самое тревожное впечатление.
По утрам мы шли из общежития в ВДШ на Большой Козловский
переулок, по Большому Комсомольскому переулку и по Кировской
улице. И вдруг я стал замечать, что окна в полуподвалах заделывают
массивными деревянными щитами, обтянутыми листовым железом.
Это было дыхание войны - срочно готовились бомбоубежища. Вскоре
на Кузнецком мосту мы увидели закрашенную белой краской кромку
тротуаров. Стало ясно, что это на случай затемнения.
Выступление Молотова с сообщением о начале войны я слушал по
уличному репродуктору у гостиницы “Метрополь”. Привычная жизнь
оборвалась, все думали об одном: что же теперь будет? Помню, как ве-
чером 22 июня в общежитии говорили о том, что рассчитывать на под-
держку Англии, а следовательно, и США нельзя, ведь переговоры о со-
юзе с Англией и Францией летом 1939 г. оказались сорванными. Гада-
ли, с какой миссией прибыл в мае 1941 г. в Англию Рудольф Гесс - пред-
ставитель Гитлера, и договорится ли он с англичанами. Угнетала мысль
о нашем одиночестве перед лицом страшного врага.
А назавтра в шесть утра радио передало заявление У. Черчилля:
“Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем.
Опасность для России - это опасность для нас и для Америки”. Мы слу-
шали его слова в нашей комнате в общежитии и восприняли их с огром-
ным духовным облегчением.
В самом начале июля в маленьком клубе Наркомата иностранных
дел, который помещался на втором этаже в том же здании, что и обще-
житие, проходила запись в народное ополчение. Записались все выпуск-
ники ВДШ и большинство сотрудников НКИД. Наркомат обезлюдел.
12
И тогда начался выборочный
отзыв из ополчения и в даль-
нейшем даже с фронта.
Я уже получил извещение
о том, когда мне надлежит
явиться в одну из московских
школ для перехода на казар-
менное положение, но отпра-
виться туда не успел: был ото-
зван в распоряжение НКИД.
Несколько моих товарищей по
ВДШ погибли в ополчении; их
имена значатся на мемориаль-
ной доске в здании Дипломати-
ческой академии на Большом
Козловском.
В НКИД я получил назна-
чение во “вторую Европу” -
так и поныне называют мидов-
цы Второй европейский отдел,
ведавший Англией. Меня оп- В.Г. Трухановский - сотрудник
ределили туда еще до оконча- советского консульства в Иране. 1942 г.
ния ВДШ, там я проходил пра-
ктику, оттуда через четыре
месяца был послан на работу в Иран, где приходилось иметь дело с
английскими представителями, а в 1943 г. вновь вернулся во “вторую
Европу”.
- Принесла ли дипломатическая служба пользу Вам как историку?
- Работа в МИД была отличной школой. Система международных
отношений - это своего рода театр, и мне довелось увидеть изнутри то,
что скрывалось за закрытым занавесом, а иногда даже и за кулисами.
Неоценимое значение для меня как англоведа имела возможность
наблюдать многие процессы вблизи: как делается внешняя политика
Англии, как строятся ее отношения с разными странами, как действуют
ее государственные руководители.
Мне часто приходилось встречаться с английскими представителя-
ми. Сначала в Иране, где я столкнулся с “живой Англией” в лице ее кон-
сульских работников, военных, бизнесменов и сотрудников спецслужб.
Самое сильное впечатление на меня произвел британский военный
представитель в порту Бендер-Шахпур. Я был поражен видом этого
майора в лишенной минимального комфорта обстановке, при отсутст-
вии всякой санитарии и при большой служебной загруженности: в эле-
гантном мундире с иголочки, со стеком в руке, и при нем две собаки
с длинной белоснежной шерстью. Они выглядели еще более ухоженны-
ми, чем их хозяин.
Впоследствии, работая во Втором европейском отделе наркомата,
а затем Министерства иностранных дел, я вплотную познакомился с ан-
глийскими дипломатами, наблюдал вблизи представителей правящих
13
кругов, приезжавших в нашу страну. Забавно, однако, что на земле
“Туманного Альбиона” мне удалось в первый раз побывать лишь после
ухода из МИД в качестве туриста.
Опыт работы в МИД помог мне избавиться от той фетишизации
архивного документа, которая присуща иногда исследователям. Через
мои руки прошло множество дипломатических документов - и наших, и
зарубежных, некоторые из них я сам составлял. Впоследствии все они
отложились в архивные фонды. Однако далеко не каждый документ от-
ражает правду, а тем более всю правду. Поэтому своим ученикам я
обычно советую: не подменяйте цитированием архивных источников
исследовательский анализ.
Меня часто спрашивают: как вы, редактируя журнал “Вопросы ис-
тории” и одновременно заведуя кафедрой в Московском государствен-
ном институте международных отношений (МГИМО), умудрялись при
этом так много писать? И здесь я обязан мидовской закалке. Ответст-
венные документы приходилось писать срочно, в любое время дня
и поздно ночью, не ожидая вдохновения и не всегда в подходящей об-
становке.
Выработалась и своя система: сначала составляю подробный план,
размечаю количество страниц и срок написания и стараюсь строго его
выдерживать. Весьма пригодился также для экономии времени необхо-
димый при составлении дипломатического документа навык точной
и емкой формулировки.
Особой требовательностью и придирчивостью к формулировкам
отличался Вышинский, бывший до 1949 г. заместителем Молотова,
а затем сменивший последнего на посту министра иностранных дел.
- Вы долго работали с А.Я. Вышинским. Ваши впечатления о нем?
- Биография Вышинского известна. Находиться под его началом
было очень трудно. Личностью он был весьма неприятной, но работал
много и старательно.
Режим работы в МИД тогда полностью копировал кремлевский.
Покончишь с делами в два часа ночи, к половине третьего доберешься
до дому, и тут же телефонный звонок. Ехидный голос Вышинского:
“Вы уже устали? А могли бы Вы приехать на пару часиков, чтобы за-
кончить с таким-то вопросом. Машина за Вами уже ушла”.
Сам он отличался большой выносливостью и любил подчеркивать
это. Как-то в конце 40-х годов - ему было тогда далеко за 60 - его по-
мощник в поздний ночной час предложил прервать работу, посколь-
ку Вышинский лишь недавно перенес операцию по удалению аппенди-
цита. “Не говорите ерунды, - оборвал его Вышинский. - Я вполне здо-
ров. Вот вы можете переплыть Дунай? А я еще месяц назад его пере-
плывал”.
У Вышинского была такая манера: свои выступления - на Гене-
ральной ассамблее ООН, например, - он поручал писать четырем ра-
ботникам сразу. Каждый готовил свой вариант. Когда написанное при-
носили, он неизменно раскритиковывал все четыре текста в пух и прах,
при этом не стеснялся в выражениях. На моих глазах Вышинский
швырнул профессору В.М. Хвостову - будущему академику, работав-
14
шему тогда в МИД, - подготовленный им документ со словами: “Забе-
рите ваше профессорское г...!” Всех четверых заставлял переделывать
свои варианты и после переделки говорил: “Теперь лучше. Но пока это
еще не годится. Идите и доведите материал до готовности”.
Изучив привычки Вышинского, мы обычно делали так: в третий
раз приносили ему тот текст, который был им забракован с первого за-
хода. “Вот видите, вы же умеете работать, когда захотите, - говорил
он. - На этот раз получилось”.
Брал наши тексты и писал свой собственный, совершенно отлич-
ный от них вариант. Однажды, в редкую для Вышинского минуту бла-
годушия, мы спросили, зачем нужны наши усилия, если все равно свои
выступления он пишет сам. “Как вы не понимаете, это очень важно, -
ответил он. - Я отталкиваюсь от ваших тезисов, они будят мою мысль”.
Вышинский страшно боялся Сталина. Ездил к нему на доклад по
четвергам и уже загодя, в ожидании этой встречи, приходил в дурное на-
строение. Чем ближе к четвергу, тем мрачнее и раздражительнее он
становился. Мне казалось, что, уезжая на аудиенцию к Сталину, он ни-
когда не был уверен, что вернется с нее обратно. А в пятницу, когда все
уже было позади, позволял себе на пару дней расслабиться. Опытные
люди знали, что именно в эти дни следовало докладывать ему наиболее
сложные дела и обращаться с просьбами по личным вопросам.
В раздражении Вышинский мог сказать своим подчиненным все,
что угодно. Я слышал, как он обещал одному сотруднику бубновый туз
на спину. Мне он однажды пригрозил: “Я вас в лагерную пыль сотру”.
Вина моя заключалась в том, что я показал одной английской делега-
ции - кстати, в полном соответствии с утвержденной свыше програм-
мой визита - Институт нейрохирургии Н.Н. Бурденко. Почему-то это
донельзя рассердило Вышинского. Правда, на моей памяти ни одна из
его угроз не была приведена в исполнение.
- Вы и ваши коллеги боялись этих угроз?
- Конечно, боялись. Но это отнюдь не значит, что мы работали в
МИД из-под палки. Чувствовали огромную ответственность, огромный
интерес к своему делу. Не променяли бы его ни на какое другое.
Мы гордились своей работой, своей страной.
- Вы участник конференции в Сан-Франциско, на которой была
учреждена Организация Объединенных Наций. Чем Вам запомнилось
это событие?
- Прежде всего вспоминается настроение того времени - пожалуй,
такого чувства общего подъема, окрыленности, как весной 1945 г., не
довелось испытать никогда. Наши войска двигались по территории вра-
га, со дня на день ждали взятия Берлина.
То, что меня включили в многочисленную делегацию, готовившую-
ся к отлету на конференцию, добавляло радости: еще бы - стать участ-
ником исторического события такого масштаба! Хотелось, конечно,
и увидеть своими глазами Америку. Вдруг, за неделю до отлета - пе-
чальная весть: умер президент США Франклин Рузвельт. Из членов
“Большой тройки” он был самым активным поборником создания
ООН - хотел, видимо, достичь того, что не удалось его предшественни-
75
ку Вудро Вильсону, ведь созданная последним после первой мировой
войны Лига наций оказалась неприемлемой для США. Думали, что кон-
ференцию отменят. Но все сроки остались в силе, и вскоре с московско-
го Центрального аэродрома, помещавшегося на Ходынском поле, на
месте теперешнего Аэровокзала, поднялись в воздух семь военно-
транспортных самолетов во главе с “Летающей крепостью” с минист-
ром иностранных дел Молотовым на борту. Летели через Казань, Но-
восибирск, Якутск, на Аляску только днем, по ночам летчики отдыха-
ли. Спустя шесть суток прибыли в Сан-Франциско.
Когда нас из аэропорта на машинах доставили в первоклассный
отель “Сан-Фрэнсис”, его огромный холл был до отказа забит жителя-
ми, а главное жительницами города. Они хотели своими глазами посмо-
треть на “этих легендарных русских”. Толпа в светлой пестрой одежде
(здесь, в отличие от холодной Москвы, уже было лето в полном разга-
ре) расступилась, и мы шли по узкому проходу к лифтам в тяжелых дра-
повых пальто и велюровых шляпах - точь-в-точь, как показывают рус-
ских в комедийных западных фильмах. Чувствовали себя при этом, на-
до сказать, весьма неловко.
Вообще отношение к нам рядовых американцев - самое сильное
мое впечатление от Сан-Франциско. По двое, по трое члены делегации
посещали многочисленные собрания жителей города. Когда после
встреченных вежливыми аплодисментами голливудских звезд на сцену
приглашали нас, зал разражался восторженными овациями. На русских
обрушивался шквал дружеских приветствий. Мы смущенно перемина-
лись на сцене под лучами прожекторов, не представляя, как себя дер-
жать. Но это не имело никакого значения. Приветствовали не нас - нас
никто не знал. Приветствовали великую Россию, которую знали все.
По-своему выражал симпатии к нашей стране персонал кафе само-
обслуживания, где часто обедали рядовые члены делегации. При нашем
появлении в дверях слышался возглас: “Рашнз каминг! - Русские
идут!” - и девушки на раздаче накладывали в наши тарелки чуть ли не
тройные порции. О проявлениях подобных чувств к России можно рас-
сказывать долго.
Открытие конференции состоялось в здании мемориального Опер-
ного театра - оно было выстроено в память погибших в первой миро-
вой войне. Теперь, в век телевидения и бурных международных конта-
ктов, такие форумы не в диковинку. Тогда же зрелище разноименной,
разноязычной толпы поражало. В ее восторженно-приподнятом на-
строении, во взаимном радостном дружелюбии как бы светился отблеск
Победы.
Вступительную речь произнес новый президент США Гарри Тру-
мэн. Чувствовалось, что он весьма неравнодушен к вниманию аудито-
рии. Когда стихли аплодисменты после его речи, Трумэн призывно за-
улыбался, глядя в зал, и слушатели вновь захлопали. Так повторялось
три раза. Наконец, государственный секретарь США Эдуард Стеттини-
ус, наблюдавший за происходящим из-за кулис, не стерпел: четким сол-
датским шагом он прошел через всю авансцену к трибуне, взял прези-
дента под руку и увел со сцены под особенно бурные аплодисменты.
16
Многочисленные комитеты, комиссии работали над согласованием
текста Устава ООН, проект которого был подготовлен заранее, в про-
цессе многолетних переговоров. Кроме работы в качестве помощника,
а затем заместителя генерального секретаря делегации, я участвовал в
заседаниях Комитета по международной опеке, где решался вопрос о
будущем колониальных территорий.
На заседаниях комитета мне в течение двух месяцев пришлось близ-
ко наблюдать английского министра по делам колоний лорда Крэнбор-
на. Это был представитель высшей британской аристократии, выходец
из рода лордов Сесилей - последние были заметными действующими
персонажами английской истории на протяжении ряда веков. В его по-
ведении своеобразно сочетались прирожденный аристократизм и под-
черкнутая скромность. Крэнборн с большим искусством отстаивал по-
зицию английского правительства, сформулированную Черчиллем в
его знаменитой фразе: “Я стал первым министром короля не для того,
чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи”.
Лорд Крэнборн действовал совместно с представителями доминио-
нов, из которых наиболее активным был министр иностранных дел
Австралии Герберт Эватт. Темпераментный оратор, он с азартом всту-
пал в дискуссию по любому вопросу. В конце конференции Эватту еди-
ногласно вынесли признательность за энергичное и умелое отстаивание
прав средних и малых народов в отношениях с великими державами.
В вопросе о судьбе колоний у англичан сохранялись серьезные рас-
хождения с американцами, заинтересованными в получении новых воз-
можностей на территории Британской империи. В итоге дипломатиче-
ской борьбы конференция приняла формулу, близкую к предложенной
СССР: система опеки ООН должна вести подопечные территории “в
направлении к самоуправлению и независимости”.
Торжественным событием стало подписание Устава ООН. Кроме
подписывавших документ делегатов, для участия в процедуре пригла-
шались пятеро из числа советников делегации. Я был одним из советни-
ков, приглашенных от советской стороны. От имени Советского Сою-
за Устав подписал наш посол в США А.А. Громыко (Молотов, как и ряд
других министров иностранных дел, улетел из Сан-Франциско раньше,
после согласования основного вопроса - проблем безопасности).
- Вероятно, еще больший след оставило в Вашей памяти участие
в открывшейся в следующем месяце Потсдамской конференции?
- Это было, несомненно, наиболее важное событие в моей мидов-
ской жизни. Когда мой непосредственный начальник, заведующий Вто-
рым европейским отделом К.В. Новиков сказал мне по возвращении из
США: “Ну, теперь собирайтесь на Берлинскую встречу”, - я решил, что
он меня просто разыгрывает. Не мог поверить. Тогда Кирилл Василье-
вич вынул из сейфа список нашей делегации, показал мне мою фами-
лию: “Смотрите, утверждено инстанцией” (такая формулировка была
принята в МИД). На первой странице документа в левом верхнем углу
синим карандашом редкими буквами было написано “Сталин”.
Из Москвы нас доставите ~в Германию по воздуху - на “дугласах”.
С летного поля на военных легковых машинах быстро перевезли в Ба-
2 Россия и Британия Вып 3
17
бельсберг - пригород, где располагались виллы немецкой знати, писа-
телей, актеров, художников. Игра случая сохранила эти виллы в цело-
сти и сохранности, когда советские войска штурмовали Берлин и вокруг
бушевал смерч стали и огня. Каждая делегация имела в Бабельсберге
свой обширный сектор, где она размещалась и постоянно находилась
все время вне официальных заседаний.
Нас поместили в виллу вдвоем с еще одним сотрудником МИД, он
занял первый, я - второй этаж. Когда через много лет я посмотрел
фильм “Семнадцать мгновений весны”, то решил, что именно на нашей
вилле снимались кадры загородного жилья Штирлица.
Война пощадила и замок Цецилиенхоф - резиденцию германских
кронпринцев, где проходили заседания конференции. Как только ее ра-
бота началась, сразу же обнаружились некоторые черты характера
главных участников Берлинской встречи. Эти черты находили отраже-
ние даже в том, как члены “Большой тройки” приезжали на заседания.
В первый же рабочий день наше внимание неожиданно привлек
шум, рев моторов и грохот выхлопов, похожий на стрельбу. Грохот на-
растал, и вскоре ко входу в левое крыло проследовал внушительный
кортеж - мотоциклы со снятыми глушителями, грузовики с автоматчи-
ками, черные машины с охранниками как внутри, так и гроздьями ви-
севшими на подножках. Затем следовал автомобиль с Трумэном, после
которого все повторялось в обратном порядке и завершалось мотоцик-
листами.
Черчилль подъезжал спокойнее: были и мотоциклисты, и грузовик
с автоматчиками, и машины со специальной охраной, но все это без из-
лишнего шума и грохота.
Сталин подъезжал с обратной стороны здания. Между кромкой во-
ды озера и стеной здания замка по дорожке из гравия почти бесшумно
проезжали три черные большие легковые машины. Из средней выхо-
дил Сталин в сопровождении некоторых членов делегации и входил в
дверь, выводившую в сравнительно небольшой, вытянутый прямо-
угольником холл - там собирались все наши сотрудники, которые
должны были присутствовать в зале заседаний. В центре холла находи-
лась тумбочка и на ней черный телефон, рядом стоял генерал-полков-
ник. Сталин спрашивал у него: “Ну как, союзники прибыли?” - Гене-
рал отвечал: “Прибыли”. Еще через минуту-две сообщал: “Направля-
ются в зал заседаний. Можно проходить”. Наши товарищи двигались к
двери и почти всегда оказывались в зале одновременно с американца-
ми и англичанами. До сих пор не понимаю, как достигалась такая син-
хронность.
Когда закрывалась дверь за нашим последним сотрудником, гене-
рал, чуть выждав, снимал трубку телефона и произносил одну и ту же
неизменную фразу: “Лаврентий Павлович, докладывает генерал-пол-
ковник Круглов. Прибыли. Все в порядке. Началось заседание”. Мы,
т.е. средний персонал, были убеждены, что это действовал прямой про-
вод с Москвой. Здесь, в Германии, никто Берию не видел. Правда, в по-
следние годы появились утверждения, что Берия жил в Бабельсберге на
вилле Сталина.
18
В период Потсдамской конференции. 1945 г.
В зале заседаний за круглым столом размещались 15 человек,
по пять от каждой страны. Глава делегации сидел в кресле, остальные
на стульях. С советской стороны за столом обычно сидел А.А. Громы-
ко рядом с американской делегацией, затем переводчик В.Н. Павлов,
далее И.В. Сталин, В.М. Молотов и, наконец, А.Я. Вышинский, справа
от него была английская делегация. Трумэна сопровождал Дж. Бирнс,
не так давно сменивший на посту государственного секретаря своего
предшественника - Стеттиниуса. С Черчиллем сидели министр ино-
странных дел А. Иден и лидер лейбористской партии К. Эттли. Неболь-
шое число советников и других сотрудников занимали второй ряд стуль-
ев за своими делегатами.
В нашей делегации во втором ряду сидели посол в Англии Ф.Т. Гу-
сев, помощники Молотова и Вышинского, заведующие основными от-
делами МИД, генеральный секретарь делегации Новиков, а также со-
ветники, менявшиеся в зависимости от рассматриваемых вопросов.
Мое место было рядом с Новиковым. Иногда во время заседания
приходилось несколько раз выходить из зала в комнаты, где размещал-
ся технический аппарат делегации: по ходу дискуссии требовалось пред-
ставить дополнительные документы и справки или нужно было органи-
зовать срочный перевод распространяемых на конференции материа-
лов, их перепечатку и т.п.
На первом пленарном заседании со мной случился курьез. Я вошел
в зал заседаний через несколько минут после того, как все расселись.
Прямо передо мной оказалось кресло Сталина, он сидел ко мне спиной.
19
И вдруг я увидел большой круглый просвет в его волосах. А ведь мы все
тогда привыкли к парадным портретам, где он был изображен с густой
блестящей шевелюрой. Лысина у Сталина! Это было для меня просто
шоком.
От изумления я застыл, как вкопанный, и вид, наверное, имел неле-
пейший. Сидевший напротив Трумэн заметил мою растерянную физио-
номию и начал весело меня разглядывать, стараясь понять, что же про-
исходит с этим русским. Бдительный Новиков резко дернул меня за ру-
кав и усадил на место. Но Трумэн тот смешной инцидент запомнил и
всякий раз, видя меня в зале, улыбался как старому знакомому.
На конференции обсуждалось множество вопросов: будущее Гер-
мании, обустройство послевоенной Европы, какой будет Польша, ее
границы и многое другое. Казалось, что всем трем участникам конфе-
ренции присуще стремление к компромиссу. Однако вскоре обнару-
жилось, что это далеко не так: ветры “холодной войны” были уже не за
горами.
Члены “Большой тройки” по-разному вели себя за столом перего-
воров. Трумэн был в хорошем настроении, озирался по сторонам, рас-
сматривал окружающих и, казалось, не особо вникал в суть споров. За-
то его помощники были начеку и усердно отстаивали интересы США.
В это время позиция американцев ужесточилась, они чувствовали проч-
ность своего положения и старались максимально ее использовать.
Черчилль был раздражен, заметно нервничал. Очень многослов-
ный, он говорил, упершись тяжелым взглядом в стол перед собой. При-
чина его состояния была ясна: создатель антигитлеровской коалиции,
ее лидер, Черчилль с 1943 г. утратил свою ведущую роль в “Большой
тройке”. Соотношение сил изменилось. Теперь лидировали США, вто-
рое место занял Советский Союз. Вопреки прогнозам союзников он
пришел к финишу не обескровленным, а напротив, набравшим небыва-
лую военную мощь. В Потсдаме среди западных генералов ходили та-
кие разговоры: “Русским нужны только ботинки, чтобы достичь Ла-
Манша, и только приказ, чтобы дойти до Бискайского залива”.
Угроза применения силы с советской стороны ни разу не прозвуча-
ла на конференции, но в поведении Сталина чувствовалось, что он рас-
сматривает военную мощь СССР как важный козырь в переговорах.
В качестве второго козыря он использовал обещание вступить в войну
с Японией (на чем настаивали американцы, стремясь спасти жизни сво-
их солдат). Сталин держался спокойно, уверенно. Раскуривал “Герцего-
вину Флор”, пачка которой всегда лежала перед ним на столе, и внима-
тельно слушал все выступления, пристально глядя на оратора. Когда
оппоненты возражали ему (чаще всего это был Черчилль, темпера-
ментно провозглашавший: “Нет, мы никак не можем принять это рус-
ское предложение!”), Сталин индифферентно замечал: “Ну, что ж, нам
не к спеху; подождем, пока вы будете готовы”.
Однажды удалось как будто достигнуть договоренности по острому
вопросу, и Черчилль взялся сформулировать ее к завтрашнему дню на
бумаге, чтобы утвердить затем соответствующий официальный доку-
мент. Утром он читает свой текст и спрашивает: “Утверждаем?” Ста-
20
лин просит прочесть еще раз, помедленнее. Английский премьер чита-
ет снова. Пауза. “Так мы договаривались вчера, - волнуется Чер-
чилль, - и сейчас можно это утвердить”. “На слух хорошо, - отвечает
неторопливо Сталин, - но надо вчитаться. Давайте распечатаем доку-
мент, раздадим делегациям и затем вернемся к этому вопросу”.
К этому вопросу уже никогда не вернулись: Черчилль понял, что
Сталин передумал.
- Но ведь Черчилль присутствовал на конференции не до конца?
- Да, он вынужден был покинуть ее в связи с результатом парла-
ментских выборов. Это был случай, когда все мировые лидеры оказа-
лись неспособными сделать правильный прогноз об исходе избиратель-
ной кампании в Англии. Выборы проходили 5 июля 1945 г., но объявле-
ние результатов было отложено на три недели, чтобы учесть голоса сол-
дат, находившихся за пределами Англии. Участники Потсдамской кон-
ференции согласились сделать перерыв после девятого пленарного засе-
дания, чтобы Черчилль мог присутствовать 26 июля в Лондоне при объ-
явлении результатов голосования. Он обещал вернуться через 48 часов.
Желая Черчиллю счастливого пути, Сталин спросил, что он думает
об исходе выборов. “Победят консерваторы”, - ответил тот с абсолют-
ной уверенностью. “А что думает об этом господин Эттли?” - спросил
Сталин. Лидер лейбористов сказал, что и он не сомневается в успехе
консервативной партии, но уверен в увеличении числа лейбористских
депутатов в палате общин. Трумэн и Сталин были согласны с этим про-
гнозом - это было видно по их поведению. Так думали и все члены
английской делегации: личный врач Черчилля лорд Моран, уезжая вме-
сте с ним в Лондон, оставил в Потсдаме все свои вещи, чтобы не таскать
их туда и обратно.
Известно, что Черчилль распорядился устроить в своей лондонской
квартире обед для избранного круга в честь победы на выборах. Одна-
ко консерваторы потерпели сокрушительное поражение. Гости тем не
менее пришли, и хозяин, раненный в самое сердце неожиданным фиа-
ско, не смог скрыть перед ними слез обиды и огорчения.
Главой английской делегации на конференцию возвратился из Лон-
дона Эттли - не зря Черчилль брал его с собой в Потсдам. Идена сме-
нил Эрнст Бевин, новый министр иностранных дел, в прошлом видный
профсоюзный деятель.
- Изменилась ли обстановка на конференции после замены руко-
водства английской делегации?
- Да, и очень заметно. Сама личность Черчилля — яркая, экспан-
сивная, оригинальная - вносила особый колорит в официальную проце-
дуру заседаний. Если раньше английский премьер-министр совершенно
затмевал своего министра иностранных дел, то теперь ситуация измени-
лась. Эттли по большей части молчал, но был весьма сосредоточен и
принимал участие в консультациях со своими коллегами по всем проб-
лемам. Ораторствовал же главным образом Бевин, который, в отличие
от Идена, рвался в бой. Хотя Черчилль рекомендовал сохранить Идена
в составе делегации для преемственности, новые лидеры не вняли его
совету.
21
Важнейшая же перемена, как ни парадоксально, проявилась в том,
что лейбористы сразу же показали себя гораздо более несговорчивыми
партнерами, чем их предшественники. Особенно усердствовал по этой
части Бевин, недаром в Англии его стали именовать “лучшим консерва-
тивным министром иностранных дел”. Вскоре обнаружилось, что неко-
торые намечавшиеся при Черчилле и Идене договоренности не будут
санкционированы лейбористами.
Что касается американцев, то я сначала думал, что причина переме-
ны в их поведении после смерти Рузвельта кроется в новой расстановке
сил на мировой арене: не было уже общего врага, борьба против кото-
рого требовала сплочения, и на передний план выдвинулись собствен-
ные интересы стран-союзниц, противоречившие друг другу. Однако по-
ведение англичан за столом переговоров выявило, как мне кажется, и
другую причину. Ни Трумэн, ни Эттли, ни их окружение не имели опы-
та союзнического взаимодействия, не испытывали того “чувства локтя”
с русскими, которое, несмотря ни на что, было присуще и покойному
Рузвельту, и ниспроверженному Черчиллю. Эпоха великого антигитле-
ровского союза кончилась.
- Историки и публицисты неоднократно обыгрывали эпизод, ко-
гда Трумэн сообщил Сталину об изобретении атомного оружия. До-
велось Вам быть свидетелем этого разговора?
- Это очень интересный эпизод. На протяжении ряда лет вначале
англичане, а затем американцы в условиях предельной секретности, не
жалея сил и средств, работали над изготовлением атомной бомбы.
В день прибытия в Потсдам Трумэн получил сообщение о том, что ис-
пытание бомбы прошло успешно, а 21 июля специальный курьер доста-
вил подробный доклад о взрыве. Доклад показали Черчиллю, и он при-
шел в неописуемый восторг. Условились, что 24 июля сразу после засе-
дания Трумэн сообщит о произведенном взрыве Сталину.
Это был первый акт политического использования атомного ору-
жия против Советского Союза. Но связанные с ним расчеты западных
союзников не оправдались.
Разговор Трумэна со Сталиным происходил в присутствии двух де-
сятков людей. Впоследствии я встречал минимум шесть неточных вари-
антов описания этого разговора. Из-под пера известного нашего журна-
листа-международника вышла такая версия: Трумэн взял Сталина под
руку, увлек его на воздух и, прогуливаясь под дубами, окружавшими за-
мок, сообщил об атомной бомбе. Этот рассказ, опубликованный в газе-
те с многомиллионным тиражом, - абсурд. Подобные прогулки совер-
шенно исключались порядком, существовавшим на конференции.
Я хорошо помню, как происходил разговор. По окончании заседа-
ния Трумэн поднялся и направился к Сталину; видя это, тот тоже сделал
пару шагов навстречу. Переводчик Павлов, как обычно, в ту же мину-
ту оказался у локтя Сталина. Президент тихо произнес несколько слов.
Их не было слышно; потом уже от Павлова я узнал, что именно гово-
рил Трумэн. Он сказал, что хочет сообщить Сталину о создании и
успешном испытании принципиально нового, огромной мощности
оружия.
22
Помню, как Черчилль и Иден, стараясь не обнаружить своего инте-
реса, наблюдали за реакцией Сталина. Именно по их настороженности
я понял, что речь между Трумэном и Сталиным идет о чем-то крайне
важном. Сталин молча выслушал президента, кивнул головой и напра-
вился к выходу. Американцы и англичане казались растерянными.
Иден в мемуарах рассказывает: союзники ожидали, что сообщение
о бомбе произведет на русских сильнейшее впечатление, что они тут же
попросят открыть им ее секрет и будут готовы пойти на многое, лишь
бы его заполучить. Видя реакцию Сталина, английские лидеры решили:
тот не понял, о чем идет речь. Он ограничился, по словам Идена, кив-
ком головы и кратким “спасибо”.
Описание Идена вернее многих других, но и в нем имеются две не-
точности. Во-первых, Сталин, конечно, сразу же понял суть дела: он не
только знал о бомбе от советских ученых и из данных разведки, но в
СССР уже несколько лет упорно и успешно работали над созданием
атомного оружия.
А во-вторых, ознакомившись с мемуарами Идена, я специально вы-
яснял у Павлова - слово “спасибо” не было сказано. И думаю, умыш-
ленно: Сталин понимал, что союзники хотят использовать бомбу для
нажима на Советский Союз. За что же тут было благодарить? Неточ-
ность у Идена вполне понятна: английский джентльмен не мог допус-
тить, что кивок головы собеседника не сопровождался обычными в та-
ком случае словами благодарности.
Разнобой в описании одного и того же эпизода на Потсдамской кон-
ференции еще раз подтверждает известную аксиому: наличие большо-
го числа свидетелей отнюдь не способствует установлению истины, но
приводит лишь к множественности версий одного и того же события,
усложняя работу исследователей.
- Ваш уход из МИД был добровольным или вынужденным шагом?
- Не только вынужденным, но и совершенно неожиданным для ме-
ня. Работа шла успешно, я был целиком в нее погружен, не представлял
другой жизни. Мне присвоили ранг советника первого класса, я заведо-
вал одним из важных оперативных отделов министерства. Но когда в
марте 1953 г. министром иностранных дел вновь стал Молотов, нахо-
дившийся в последние годы жизни Сталина в полуопале, последовало
увольнение из МИД ряда руководящих сотрудников. Я оказался одним
из них.
Мы с товарищами по несчастью не раз ломали голову над причиной
нашего увольнения, но так и не пришли к определенному выводу. Ни-
какой мотивировки не содержал и официальный документ о моем от-
числении из министерства. Именно это было самым обидным. Сейчас я
думаю, что дело заключалось либо в собственной антипатии Молотова
к уволенным сотрудникам, либо во влиянии его ближайших помощ-
ников.
Уход из МИД оказался для меня на первых порах тяжелым ударом.
Но оправдалась старая русская пословица: “Нет худа без добра”. Полу-
чилось, что Молотов сотворил для меня великое благо: уйдя целиком
в науку, я начал новую жизнь, и она оказалась для меня счастливой.
23
- За 40 лет Вами написано и издано два десятка книг. Как проте-
кала работа над ними, что Вы думаете о них сегодня?
- После МИД жизнь академического института на первых порах ка-
залась пресной. В ней не хватало того драматизма, напряжения, кото-
рое дает прямое соприкосновение с большой политикой. Я остался один
на один с письменным столом и всю энергию стал вкладывать в свои
книги. В них нашли отражение мои мысли, раздумья, отношение к жиз-
ни и людям. Именно работа над ними в конце концов и запомнилась
больше всего из этого пласта жизни.
Далеко не все мои книги выдержали испытание временем. Но есть
такие, которые живут еще и сейчас. Первой крупной работой стала “Но-
вейшая история Англии”. В 1958 г. еще не изобрели прокрустова ложа в
виде ограничений на объем монографий, и на 39 листах я сказал все, что
хотел. Тогда я впервые попытался сделать книгу читаемой за счет живо-
го языка, использования психологических оценок, объяснения ряда со-
бытий, наряду с прочим, особенностями человеческой натуры.
Из трех томов, посвященных внешней политике Англии в новейшее
время, наиболее основательным мне представляется второй том. Он
был издан у нас на английском языке и успешно продавался в Лондоне
на Чаринг-кросс.
Порадовал меня и читательский успех “Адмирала Нельсона”:
в 1990 г. книга вышла в свет в объединенной Германии; в том же году,
к моему удивлению, она 30-тысячным тиражом была издана на армян-
ском языке в Ереване - после землетрясения, после Карабаха...
По-своему дорога мне монография “Английское ядерное оружие”
(она переведена на четыре языка). Это память о моей работе в составе
Пагуошского комитета, где я встречался с крупнейшими учеными ми-
ра. Беседы с такими прославленными физиками, как Р. Пайерлс,
Б. Фелд, Дж. Кистяковский, М.А. Марков и другие, вдохновили меня
на эту работу.
Своей главной книгой я считаю политическую биографию Черчил-
ля. Я взялся за ее написание, потому что пришел к убеждению: без изу-
чения жизни и деятельности этой выдающейся личности нельзя понять
историю Англии конца XIX-XX в. К тому же хотелось попробовать се-
бя в наиболее интересном для меня жанре - биографическом, хотя я и
не знал еще тогда высказывания другого моего будущего героя - Бенд-
жамина Дизраэли: “Не читайте книг по истории, ничего не читайте,
кроме биографий, ибо в них показана реальная жизнь, без каких-либо
теорий”.
Случилось так, что договорные сроки подпирали, и я решился на
необычный шаг - отдиктовать книгу прямо на машинку. Получивший-
ся в результате такой работы текст после основательной редактуры
стал основой первого издания.
Больше я никогда ничего не диктовал. Это требует очень большой
подготовительной работы, и сам процесс диктовки для меня лично
огромная нагрузка на нервную систему.
Книга нашла читателя и за пределами сообщества историков. Не
скрою, мне было очень приятно, когда ее попросил у меня мой коллега
24
по Пагуошскому движению академик В.А. Энгельгардт (видимо, пото-
мок той семьи, у которой служил ночным сторожем мой дед).
Не менее приятно было и увидеть, как выглядит “Черчилль” из би-
блиотеки академического санатория “Узкое”. Черный томик оказался
зачитанным настолько, что листы начали рассыпаться и библиотекарю
пришлось переплести его кустарным способом. В обмен на новый эк-
земпляр мне презентовали этого “инвалида”, и с тех пор я храню его как
сувенир.
Книга выдержала много изданий (последнее в Москве в 1989 г.) на
русском и других языках. Она широко издавалась и за границей. Не так
давно мой ученик-китаец Ши Цзинсюй привез мне “Черчилля”, выпу-
щенного в Пекине.
Первое издание 1968 г. готовилось в разгар идеологической борь-
бы, в эпоху “холодной войны”, когда Черчилль считался у нас “врагом
№ 1”. Естественно, это сказалось на книге, и не только под воздействи-
ем официальных установок, но и в связи с авторской позицией. Помню,
как я был удивлен, услышав мнение одного коллеги-историка: “Да, Вы
разоблачаете Черчилля, но, прочтя книгу, приходишь к мысли, что как
личность он Вам симпатичен”.
Действительно, личность Черчилля обладает магнетизмом, кото-
рый не мог не повлиять даже на предубежденного автора. От издания к
изданию текст дорабатывался с учетом появлявшихся новых материа-
лов. Постепенно снимались наслоения “холодной войны”, авторский
подход становился менее пристрастным.
А сейчас происходит странная вещь: моя книга значительно благо-
желательнее к национальному герою Великобритании, чем ряд моно-
графий и статей, недавно увидевших свет на его родине. Газета “Таймс”
в начале 1993 г. в передовой статье под заголовком “Другой Черчилль”
писала: “В истории ничто не является неизбежным, за исключением то-
го, что история должна быть переписана”.
Этот тезис вполне подошел бы в качестве девиза для продукции
тех, кто активизировался в последние годы в английской исторической
науке и кого именуют “ревизионистами”. Они объединились в оппози-
цию против традиционной либеральной историографии, которая гово-
рит о прошлых триумфах Британии, о превосходстве ее государствен-
ных учреждений и национальных лидеров. “Ревизионисты” пересматри-
вают трактовку и оценку важнейших событий и фигур английской ис-
тории, начиная от Генриха VIII и кончая Невиллем Чемберленом и
Уинстоном Черчиллем.
Черчиллю особенно достается. То его обвиняют, что, выступая
против гитлеровской Германии, он плясал под дудку определенных кру-
гов, оказавших крупную финансовую поддержку будущему премьеру в
трудное для него время. Некоторые авторы, напротив, договариваются
до того, что изображают Черчилля... немецким агентом.
В первые дни 1993 г. в Англии, а затем в Германии и во Франции
развернулась горячая дискуссия вокруг вышедшей тогда книги англий-
ского историка-ревизиониста Дж. Чармли “Черчилль. Конец славы”.
Автор трудился над своей обширной монографией 15 лет, и она выгля-
25
дит солидным изданием. В работе содержатся некоторые неизвестные
ранее материалы, например о противоречиях и разногласиях в прави-
тельстве и верхушке консервативной партии. Однако главная новация
книги - общий вывод: если бы Великобритания заключила в 1940 г. мир
с Гитлером (а он будто бы готов был пойти на это), то ее судьба, да и
судьба всей Европы сложилась бы более благоприятно.
Вспомним слова Владимира Набокова: “Есть острая забава в том,
чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если
бы...” “Забавы” Чармли не подкрепляются ни общеизвестными факта-
ми, ни какими-либо новыми документами. Та же газета “Таймс”, между
прочим, замечала в этой связи: “Если бы Британия заключила мир в
1941 г.... Германия господствовала бы над миром от Британии до Укра-
ины”. Опять если бы... И все же не наивно ли со стороны серьезного ис-
торика предполагать, что, добившись господства над всей остальной
Европой, Германия затем не поставила бы и Англию на колени? Что же
касается благоприятной судьбы Европы под владычеством Гитлера, то
об этом лучше судить европейцам, испытавшим на себе прелести фаши-
стской оккупации.
Однако я ушел в сторону от вопроса. Возвращаясь к своим книгам,
скажу в заключение: я благодарен судьбе за то, что она подарила мне
возможность заниматься творческой работой. Ни один другой вид дея-
тельности, по крайней мере из тех, что мне знакомы, не дает такой пи-
щи уму и воображению.
- Что дала Вам как ученому и человеку работа в журнале “Вопро-
сы истории”?
- Очень много. Принципиальным приобретением стало прежде все-
го чрезвычайное расширение и углубление моих профессиональных
знаний. Два высших учебных заведения, интенсивное самообразование
дали в свое время немало, но они не сделали меня историком широкого
профиля. Я был сосредоточен исключительно на областях, в которых
специализировался. Для редактора главного исторического журнала
этого было, конечно, мало.
Я начал с того, что провел серию встреч с ведущими историками,
активно действовавшими в то время. Беседы с ними позволили соста-
вить представление о тех сферах науки, которые требовали первооче-
редного внимания журнала. Я до сих пор благодарен моим советчикам:
они указали мне основные ориентиры в необъятном историографиче-
ском море, помогли наметить стратегическую перспективу работы
журнала, превращенную затем на заседаниях редколлегии в конкрет-
ный долгосрочный план.
В каждодневной работе редакции приходилось сталкиваться с са-
мыми разнообразными, часто неожиданными темами, и я волей-нево-
лей должен был постигать их, составлять по ним свое мнение. Таким
образом, журнал превратился для меня в специфическую “школу
по усовершенствованию”, обучение в которой растянулось на чет-
верть века.
Работа в “Вопросах истории” много дала мне и для моих собствен-
ных исследований. Она показала мне, как важно для историка не замы-
26
каться в узких хронологических пределах, и я обратился в своих книгах
к XIX в.
Подготовка каждого номера к печати - кропотливый и нелегкий
труд. Со всеми материалами я знакомился заранее, узнавал мнения не-
посредственно работавших над ними сотрудников отделов. Это были в
основном квалифицированные и преданные делу люди. Они сами обла-
дали основательными знаниями, а в необходимых случаях советовались
со специалистами со стороны. Существенную научную поддержку ока-
зывали главному редактору его заместители, компетентные и опытные
специалисты - Г.Н. Голиков, очень помогший мне на самом ответствен-
ном, начальном этапе работы, Д.К. Шелестов, Л.К. Шкаренков,
Е.И. Тряпицын. Особенно ценным сотрудником на протяжении многих
лет оставался мой заместитель И.В. Созин, человек обширнейших зна-
ний во всех областях истории, поистине влюбленный в журнал.
Большую роль в работе “Вопросов истории” играла редколлегия.
За время моего редакторства ее состав менялся несколько раз, но, к со-
жалению, в выборе ее членов я был не волен. При согласовании ред-
коллегии в Бюро Отделения истории АН СССР мне еще удавалось
отстаивать свои предложения, но в Отделе науки ЦК с мнением главно-
го редактора считались мало, не раз отводили мои кандидатуры и впи-
сывали другие, иногда навязывая весьма для меня нежелательные.
И все же заседания редколлегии, регулярно проводившиеся раз в месяц,
я вспоминаю с теплым чувством. В ее состав входили в большинстве
своем высококвалифицированные специалисты, каждый имел свою
точку зрения, и развертывавшаяся на заседаниях научная дискуссия ча-
сто приносила мне как историку большую пользу, пополняла мой науч-
ный багаж. Я пытался учесть все мнения, выделить самое важное и на
этом основании сформулировать приемлемое для всех решение; здесь,
кстати, мидовский опыт тоже очень пригодился.
Ценность научных дискуссий на редколлегии ощущал не только я.
Ограничусь лишь одним примером. Как-то я сказал члену редколлегии,
весьма занятому на повседневной основной работе, что он может про-
пускать отдельные заседания, сообщая нам свои замечания в письмен-
ном виде. В ответ я услышал: “А мне очень интересно. На редколлегии
я узнаю для себя много полезного и нового”.
Иногда решение редколлегии не совпадало с моей позицией. Если
оно было отрицательным, материал старались доработать, исправить в
соответствии со сделанными замечаниями. Но случалось, что и это не
помогало и статья забраковывалась окончательно. В таких случаях бы-
вало досадно, но принцип коллегиальности все же соблюдался. Гораздо
неприятнее было получать запрет на ту или иную публикацию извне.
Нередко оказывалось так, что я не имел возможности напечатать
ценный в научном отношении или просто интересный материал, о чем
сожалел тогда и сожалею сейчас. Расскажу лишь о двух случаях, по-
скольку они связаны с известными людьми.
Однажды писатель Константин Симонов предложил нам свою ста-
тью-размышление о начальном этапе Великой Отечественной войны,
критическое осмысление которого тогда только-только начиналось.
27
На заседание редколлегии Симонов пришел с собственной стенографи-
сткой, тщательно записывавшей все суждения. Члены редколлегии вы-
сказали много различных соображений, и хотя часть их представлялась
мне справедливой, все же количество перешло в качество. Симонов ни
с кем не спорил, держался очень спокойно. После обсуждения он встал,
отошел от стола заседаний и несколько минут молчал, глядя в окно. По-
том сказал: “Спасибо. Я буду думать”.
Этот интересный материал в редакцию уже не вернулся.
Второй случай связан с талантливым, оригинально мыслящим исто-
риком Львом Николаевичем Гумилевым, работавшим над теорией эт-
носов. Неоднократно предлагавшиеся им статьи для нашего журнала
несколько раз после обсуждения одобрялись редколлегией, но так и не
были тогда напечатаны. И вновь не по научным соображениям. Доступ
работ Гумилева к читателю - кстати, не только нашего журнала - бло-
кировали влиятельные в академических кругах лица, видевшие в нем
конкурента по исследовательской проблематике.
Лев Николаевич не раз бывал в редакции, мы с ним много и инте-
ресно беседовали, я прочел, по-видимому, все его книги. Однако опуб-
ликовать хотя бы одну работу Гумилева в журнале не смог, так как по-
лучил строгий запрет со стороны академического и цековского руко-
водства. Преодолеть это препятствие мне оказалось не под силу.
Опубликовать свою работу стремится каждый историк, поэтому
портфель редакции всегда оставался туго набитым. Но вот такие мате-
риалы, которые представляли бы собой новый шаг в науке, были ред-
костью. Ощущался дефицит и в статьях, где ставились острые пробле-
мы, выдвигались оригинальные, пусть и спорные, идеи. Нужно иметь в
виду, что журнал читали от корки до корки специально назначенные
для такой работы сотрудники трех отделов ЦК - науки, агитации и
пропаганды, а также международного отдела по их профилю. Не все-
гда эти “читчики” были достаточно грамотны и доброжелательны.
Они усиленно стремились найти какие-либо огрехи политического или
методологического характера - ведь в этом и состояла их работа. Если
они что-нибудь находили, то связывались с Отделением истории АН
СССР и поручали последнему заняться этим вопросом. В наиболее вы-
игрышных, по их мнению, случаях отдел готовил записку на имя секре-
тарей ЦК, сигнализируя об обнаруженном в журнале “ЧП”. Наверху
принималось решение: провести беседу с редактором и предупредить.
Само собой подразумевалось, что в случае повторения подобных ве-
щей последует более радикальное решение. Недавно в журнале “Исто-
рический архив” были опубликованы документы, из которых видно,
что именно по такому сигналу двух сотрудников ЦК был осуществ-
лен разгром “Вопросов истории” при А.М. Панкратовой и Э.Н. Бурд-
жалове.
Эти административные методы обеспечения идеологической дисци-
плины резко отрицательно сказывались на инициативе и творческой де-
ятельности редакции. Журнал делали живые люди; иной раз, бывало,
что, обжегшись на молоке, мы дули на воду. Теперь, задним числом, все
это видится яснее, чем раньше.
28
Однако в целом, вспоминая о работе в “Вопросах истории”, я испы-
тываю удовлетворение. Хочу надеяться, что журнал принес определен-
ную пользу на том этапе науки.
Думаю также, что за долгие годы в редакции мне удалось освоить
трудную науку общения с людьми, и считаю это своим важным приоб-
ретением. Те, кто занимается творчеством (все равно - научным ли, ли-
тературным или художественным), всегда ранимы. Придя в журнал,
я понял, что взаимоотношения редакции с авторским коллективом - это
большое искусство и ему нужно учиться. Может быть, не всегда это
удавалось, но я стремился относиться с уважением к чужому мнению.
Пытался до конца понять позицию автора и, если она меня в чем-то не
устраивала, предлагал решить вопрос компромиссом.
Аппарат редакции с небольшими изменениями сохранялся более
четверти века. Почти со всеми сотрудниками у меня установились доб-
рые, а с некоторыми - по-настоящему дружественные отношения. Бы-
ли, конечно, и сложности, и острые проблемы, конфликты, но не о них
сейчас речь. За 27 лет я привык к журналу, сроднился с ним. Мысленно
даже отождествлял себя с “Вопросами истории”. Но годы берут свое,
и приходится отдавать себе в этом отчет. Согласно английской тради-
ции, нужно уметь уходить вовремя. Я рад, что у меня хватило сил и ра-
зума это сделать.
Больно было мне отрываться от “Вопросов истории”, но я сразу же
засел за новую книгу - “Бенджамин Дизраэли, или История одной неве-
роятной карьеры”, и напряженная работа над ней помогла залечить ра-
ну расставания с журналом. Потом появились новые заботы: Институт
всеобщей истории, Ассоциация англоведов. К тому же мне повезло -
дожил до “полного академика”. Ведь скольких моих коллег - член-кор-
ров судьба лишила этой возможности.
- Вы были избраны в члены-корреспонденты АН СССР в 1964 г.,
а академиком стали лишь в 1992 г. Чем объясняется такой временной
разрыв?
- Наверное, имелись и объективные факторы, но прямо скажу, что
главная причина - субъективного свойства. Впрочем, когда перевалива-
ет за 80, не хочется вспоминать о враждебности, злобе, интригах, с ко-
торыми приходилось сталкиваться на жизненном пути. Лучше помнить
о добром и светлом, что было в прошлом. К примеру, я всегда с благо-
дарностью смотрю на висящую в моем кабинете фотографию прези-
дента Академии наук М.В. Келдыша. Когда в 1968 г. в результате дале-
ких от науки распрей я подал заявление об уходе из “Вопросов исто-
рии”, Келдыш вызвал меня к себе. Состоялся долгий разговор, в итоге
которого я остался в журнале.
В памяти запечатлелось стремление президента самому вникнуть в
ситуацию, разобраться в ней, не перекладывая дело на помощников.
Вскоре по совокупности причин руководство Бюро Отделения истории
АН СССР было заменено. Однако в беседе президента со мной речь
шла главным образом не о моем заявлении. Келдыш глубоко интересо-
вался состоянием исторической науки, ее проблемами. Он вообще при-
давал существенное значение гуманитарным отраслям знания.
29
Мстислав Всеволодович запомнился мне не только как большой
ученый, но и как сильная и своеобразная личность, человек с государ-
ственным складом мышления. Он любил науку и с брезгливостью отно-
сился к тем, кто видел в ней средство для достижения собственных ко-
рыстных целей,
Горько, что так рано Келдыш ушел из жизни. Думаю, его вспоми-
нают добром и другие ученые из моего, тоже уходящего уже поколения.
- Что бы Вы хотели сказать от имени этого поколения тем, кто
идет ему на смену?
- Трудно ответить на такой вопрос в двух словах. Но попробую.
Мое пожелание сводится к следующему: в любой ситуации сохранять
достоинство - человеческое, национальное и профессиональное.
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АКАДЕМИКЕ В.Г. ТРУХАНОВСКОМ
А.Б. Давидсон
МАСТЕР
БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА
Хорошо написанная биография
так же редка, как и хорошо прожитая жизнь.
Томас Карлейль
Биографическим жанром Владимир Григорьевич увлекся в первой
половине 60-х, вскоре после того, как был назначен редактором
“Вопросов истории”. Он возглавлял ведущий советский исторический
журнал 27 лет - с 1960 по 1987 г. Это была нелегкая работа, а ведь од-
новременно он писал “Новейшую историю Англии” и ряд других трудов
о международных отношениях и истории Великобритании. И все же те-
перь память о нем, наверно, еще больше связана с книгами об Уинсто-
не Черчилле и Антони Идене, Горацио Нельсоне, Бенджамине Дизраэ-
ли. Они переиздавались (книга о Черчилле - четырежды). Их переводи-
ли на другие языки. Их читают и сейчас.
К сожалению, своих взглядов на биографический жанр Владимир
Григорьевич не опубликовал, хотя и сформулировал их на XIII Между-
народном конгрессе исторических наук в Москве в 1970 г. Он возглав-
лял на нем секцию, посвященную роли биографий в исторической нау-
ке1. Текст его выступления, увы, не сохранился.
Сейчас на прилавках книжных магазинов видишь такое изобилие
биографий - артистов, писателей, политиков, дипломатов, что глаза
разбегаются. Биографический жанр получил в нашей стране призна-
ние. Признан он и как одно из направлений исторической науки. Это
вроде бы бесспорно. Но всегда ли так было? Я не видел пока исследо-
ваний о том, как шло развитие этого направления. Но если кто-нибудь
возьмется за решение этой задачи, ему не миновать будет книг В.Г. Тру-
хановского.
Мое поколение, клонящееся сейчас к закату, в годы учебы почти не
знало исторических биографий. Потребность в них мы, сев на студенче-
скую скамью вскоре после окончания Великой Отечественной войны,
явно ощущали. Но Костомарова не переиздавали, Андре Моруа не пе-
реводили, а своих по-настоящему заслуживающих внимания историче-
ских биографий почти не было.
31
Много лет назад в рецензии на одну из книг Владимира Григорьеви-
ча я писал: «Книги В.Г. Трухановского - “Иден”, “Черчилль” и “Нель-
сон” - заставляют снова задуматься о судьбе биографического жанра в
нашей исторической науке. Разговор о нем, как известно, не раз подни-
мал еще А.С. Пушкин. В “Путешествии в Арзрум” он с горечью отме-
чал, что “замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе сле-
дов”, а в рецензии на один из биографических словарей бросил истори-
кам немало тяжких упреков. А в наши дни - таким ли уж почетом окру-
жен биографический жанр? Многие ли наши ведущие историки отдают
ему свой труд и талант? Не хотелось бы думать, что тут проявляется не-
который снобизм - мол, это все-таки не подлинная наука, а что-то для
настоящего историка второстепенное, как, к сожалению, говорят ино-
гда, с явным оттенком пренебрежения - “научпоп”. Скорее всего, на-
верно, останавливает трудность научно-популярного и научно-художе-
ственного биографического жанра. Карлейль писал, что хорошо напи-
санная биография - такая же редкость, как хорошо прожитая жизнь.
Андре Моруа поправил его, добавив, что “первое встречается куда ре-
же, чем второе”»2.
Без книг В.Г. Трухановского трудно представить становление био-
графического жанра в советской исторической науке и сложности на
этом пути. Не случайно ведь на том московском конгрессе историче-
ских наук о биографиях делали доклады канадец и немец - советских
докладов не было. И не случайно из всех генералов советской истори-
ческой науки в этом жанре выступил тогда только один - Владимир
Григорьевич.
“Нас интересуют не люди, а идеология”
Так было сказано в 1931 г. на объединенном заседании Института
истории и Общества историков-марксистов при Ленинградском отделе-
нии Коммунистической академии. Такой репликой один из основных
докладчиков, М.М. Цвибак, перебил выступление Сигизмунда Натано-
вича Валка3. Если это была лишь реплика на совещании историков,
пусть даже очень ответственном, стоит ли это вспоминать через 70 лет?
Может быть, и не стоило бы, если бы она не отражала дух, господство-
вавший потом десятилетиями.
В течение многих лет выпуск книг-биографий оставался - не знаю
уж, как правильнее сказать, - монополией или привилегией серии
“Жизнь замечательных людей” издательства “Молодая гвардия”. Но
разве редакторы этой серии решали, кто “замечательный”, а кто нет?
Решали на Старой площади, в идеологических отделах Центрального
комитета ВКП(б), а впоследствии КПСС. Да и те немногочисленные
биографии, которые выходили вне этой серии, тоже контролировались
“сверху”: нужна ли советскому читателю книга о том или ином челове-
ке, а если и “нужна”, то какой стороной повернуть его облик.
Критерием зачастую была “прогрессивность”. Только те историче-
ские личности, которые удостаивались оценки прогрессивный, допуска-
лись к включению в издательские планы. Причем и само понятие про-
грессивности менялось в соответствии с изменениями общей политиче-
32
ской и идеологической конъюнктуры. Так, вплоть до середины 50-х го-
дов Мохандаса Ганди, Джавахарлала Неру, Кваме Нкруму следовало
считать буржуазными националистами и издание их биографий пред-
ставлялось делом сомнительным. А с середины 50-х их стали называть
вождями национально-освободительного движения, тут уж они бес-
спорно причислялись к “замечательным”.
Судить о биографическом жанре самые широкие слои населения
Советского Союза могли по “Краткой биографии И.В. Сталина”.
Ее приходилось читать в принудительном порядке, она была обязатель-
на для изучения в сети партийно-политического образования, которая
охватывала все организации и учреждения нашего бескрайнего госу-
дарства.
Что же до тех исторических личностей, которые не укладывались в
понятие прогрессивные, то путь к изданию их биографий был, как прави-
ло, закрыт. Исключения из этого правила крайне редки. Самое запоми-
нающееся исключение - “Наполеон” Е.В. Тарле. Но у этой книги судьба
особая. Существует версия, что Сталин, утвердившись у власти, поощрял
идею о роли великой личности в политике и что это помогло Алексею
Толстому в издании большими тиражами его “Петра Первого”, а Сергею
Эйзенштейну - в выпуске первой серии фильма об Иване Грозном.
А о появлении “Наполеона” историк-англовед Николай Александ-
рович Ерофеев рассказывал мне, что идея принадлежала Карлу Радеку.
Это он подсказал вернувшемуся из ссылки Тарле, что такая книга не
только не вызовет гнева у “хозяина”, а, наоборот, будет приветство-
ваться. Ерофеев в 30-е годы работал вместе с Радеком в “Известиях”,
там он и слышал об этом.
Все ограничения касались не только биографий “буржуазных” по-
литиков и государственных деятелей. И даже не только биографиче-
ского жанра в целом. Они распространялись на все, что на Западе име-
нуют “человеческим фактором”. Не поощрялось ведь и издание мемуа-
ров. До ликвидации издательства “Academia” выходили воспоминания
артистов, потом, с конца 30-х годов, и они почти исчезли. Изданными
вскоре после войны мемуарами кораблестроителя академика
А.Н. Крылова зачитывались не только из-за того, что они прекрасно
написаны, но и потому, что мемуары вообще были редкостью, особен-
но мемуары наших современников.
Сталинская политика запретов продолжалась и при Н.С. Хрущеве,
а потом - что вполне закономерно - ударила и по нему самому. Вопрос
о мемуарах Хрущева обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПСС.
Докладывал Ю.В. Андропов, глава КГБ. И 3 марта 1968 г. было приня-
то решение: “Андропову усилить наблюдение за этой работой и при-
нять меры к изъятию материалов. А через некоторое время, может
быть, следует вызвать т. Хрущева в ЦК КПСС и предложить ему пре-
кратить эту работу”. Как известно, воспоминания Хрущева появились
сперва за рубежом, а в нашей стране - лишь в конце 80-х годов, когда
приоткрылись те архивы, что были прежде за семью печатями.
Досталось и полководцу Великой Отечественной войны маршалу
Г.К. Жукову. На том же заседании Политбюро речь шла и о его воспо-
3 Россия и Британия Вып 3
33
минаниях. И другой маршал, член Политбюро А.А. Гречко, сказал
о своем предшественнике на посту министра обороны: “О мемуарах
Жукова мы сейчас пишем свое заключение. Там много ненужного и
вредного”. Л.И. Брежнев обобщил: “У нас появилось за последнее вре-
мя много мемуарной литературы... Почему у нас стало так свободно с
этим вопросом?”4 Правда, это не помешало самому Брежневу потом
опубликовать свои воспоминания, но все мы знаем им цену.
Что же касается руководства исторической наукой, то и тут биогра-
фический жанр был не в чести. Поощрялись коллективные моногра-
фии, прежде всего на темы, связанные с историей революционных и на-
ционально-освободительных движений, критикой капитализма и его
идеологии и утверждением приоритета нашей страны в прогрессе чело-
вечества. А биографии трудно написать коллективом, должен быть ка-
кой-то единый стиль, единая манера письма, не говоря уже о едином
подходе.
Вот та атмосфера, в которой В.Г. Трухановский решился взяться за
биографический жанр. Спустя три десятилетия он говорил как о чем-то
обыденном и простом: “...хотелось попробовать себя в наиболее инте-
ресном для меня жанре - биографическом”5.
Но все было совсем не так просто. От слова “хотелось” до осущест-
вления замысла стояли высокие и мощные преграды, которые предсто-
яло пробить.
Challenge
В первую очередь В.Г. Трухановский был англоведом. И я не раз
слышал от него английское слово “challenge”. В русском языке, пожа-
луй, нет вполне точного синонима, буквальный перевод - вызов. Под-
разумевается прежде всего вызов на соревнование, состязание. Это сло-
во распространено в Великобритании неизмеримо шире, чем в России
слово “вызов”.
Книги Владимира Григорьевича, во всяком случае первые - о Чер-
чилле и Идене, - это, несомненно, challenge. И настроениям “верхов”,
и традиции, существовавшей тогда в среде самих историков. Да, пожа-
луй, и его собственным прежним взглядам, на которые не могли не по-
влиять идеи классовой борьбы и нетерпимости к “растленному” Западу.
Ведь о ком он захотел писать? Как раз о тех, кто никак не мог счи-
таться “замечательными”. Больше того, о тех, кого считали лютыми
врагами советского режима. Ну, добро бы еще стал готовить о них па-
сквили, памфлеты. Нет, принялся изучать и писать их биографии. А как
смотрели тогда на Черчилля? Из одной энциклопедии в другую, из од-
ного справочника в другой переходило: типичный империалист, ярый
враг социализма и Советского Союза.
Даже в “Дипломатическом словаре”, где, уже исходя из самого на-
звания, формулировки должны бы быть дипломатичными, говорилось
так: «Закоренелая вражда к стране социализма - основная линия, кото-
рая проходит через всю его политическую жизнь. Еще в 1919-21, зани-
мая пост военного министра, Ч. возглавил “крестовый поход” против
большевиков. Он играл решающую роль в организации интервенции и
34
широкой поддержки российской контрреволюции... Он применял про-
тив Советской России все средства - военные, политические, экономи-
ческие, окружил ее кольцом блокады... Во время второй мировой вой-
ны Черчилль “двурушничал”, хотел создать “барьер” против Советско-
го Союза». “Послевоенная позиция Ч., позиция поджигателя третьей
мировой войны”6.
Из всех государственных деятелей Запада, да и всего мира, никому
советская пропаганда не создала такого образа врага, как Черчиллю.
Именно после речи, которую он произнес 5 марта 1946 г. в Фултоне в
присутствии президента Трумэна, его объявили главным зачинщиком
“холодной войны” и поджигателем новой, третьей мировой бойни. Так
что с оценкой Черчилля считалось все ясно. Зачем еще подробности о
его жизни? По законам советской пропаганды ничего общечеловече-
ского у врага разглядывать не надо - это может лишь ослабить нена-
висть к нему.
Как же писать книгу о нем! А затем и об Идене, его преемнике, во
всем следовавшем ему?
Правда, Владимир Григорьевич начал готовить книгу о Черчилле,
когда тот уже удалился от дел. Но образ его в пропаганде сохранялся.
Впоследствии Трухановский говорил: «Первое издание 1968 г. гото-
вилось в разгар идеологической борьбы, в эпоху “холодной войны”, ко-
гда Черчилль считался у нас “врагом № 1”. Естественно, это сказалось
на книге, и не только под воздействием официальных установок, но и в
связи с авторской позицией. Помню, как я был удивлен, услышав мне-
ние одного коллеги-историка: “Да, Вы разоблачаете Черчилля, но, про-
чтя книгу, приходишь к мысли, что как личность он Вам симпатичен”.
Действительно, личность Черчилля обладает магнетизмом, который не
мог не повлиять даже на предубежденного автора»7.
Разумеется, Владимир Григорьевич отдал дань принятому тогда
мнению. Из 12 глав его книги о Черчилле 2 названы: “Великий ненави-
стник Советской России” и «Знаменосец “холодной войны”». Но ведь
это и правда. Черчилль действительно ненавидел советский режим, так
что тут автор не погрешил против истины.
Работая над образом Черчилля, Владимир Григорьевич старался уз-
нать и учесть мнения многих очевидцев событий. Одно из свиде-
тельств - сохранившаяся в его личном архиве переписка с Александром
Вертом (Владимир Григорьевич, исходя из российского происхождения
этого известного журналиста, называл его Александром Александро-
вичем). Приведу только одно место из письма Верта от 22 июня 1968 г.:
«Насчет Черчилля - у меня особое мнение: фигура он, конечно,
скорее одиозная - интервенция, 2-й фронт, Фультон и, еще хуже, его
выступления в Лландудно в 48 г. в пользу превентивной войны. Но, с
другой стороны, его роль в 1940 г. была крайне положительной. Если
бы он не заменил Чемберлена, то я не исключаю возможности “похаб-
ного” мира с Гитлером. Хотя народ в Англии держался хорошо, на “вер-
хах” было больше пораженчества, чем обычно думают. Возьмите, на-
пример, герцога Виндзорского (б. Эдуарда VIII); мог бы Вам кое-что
о нем рассказать. Были, кроме того, в Англии мюнхенцы, кандидаты в
35
английские Петэны и Давали и пр. Если бы не Черчилль, то они бы, не-
сомненно, подняли голову. Пораженчество было и у некоторых “ле-
вых”; помню редактора Нью Стэтсмена Кинфлей Мартина. Когда я уд-
рал из Франции и прибыл в Лондон 22 июня 1940 г., он меня приветст-
вовал словами: “Стоило Вам удирать из Франции? Все равно Гитлер
прибудет в Лондон через 2 недели! ”» [правописание Верта я сохранил. -
Авт.],
Трухановский шаг за шагом переосмысливал образ Черчилля. «От
издания к изданию текст дорабатывался с учетом появлявшихся новых
материалов. Постепенно снимались наслоения “холодной войны”, ав-
торский подход становился менее пристрастным»8. Так читатели в на-
шей стране впервые получили представление о жизни одного из самых
крупных государственных деятелей XX столетия.
На пути Трухановского стояли не только препятствия, созданные
нашей отечественной пропагандой. О Черчилле вообще судить трудно.
Его жизнь была долгой. Он перешагнул в десятый десяток. Когда ему
было около 70-ти, одна лондонская компания кинохроники создала
группу кинооператоров, которой было поручено снять документаль-
ный фильм о похоронах Черчилля. Трое из них умерли, не дождавшись
его похорон9.
Ни один государственный деятель XX столетия не продержался на
сцене мировой политики так долго. Членом британского парламента
Черчилль пробыл, с небольшим перерывом, 65 лет. Он активно участ-
вовал буквально во всех мировых событиях XX столетия вплоть до сво-
ей окончательной отставки с поста премьер-министра Великобритании
в 1955 г.
“Ни об одном современном политическом деятеле не написано
столько книг и статей”10. Не только в библиотеках, но и в книжных ма-
газинах англоязычных стран есть особый отдел - “черчиллиана”.
И в этой литературе - бесконечное число свидетельств, оценок и мне-
ний, прямо противоположных друг другу. Все это Владимиру Григорье-
вичу приходилось преодолевать.
Конечно, когда судишь о книгах, подготовленных в 60-70-е годы и
даже несколько позднее, приходится учитывать цензуру, самоцензуру и,
еще важнее, общие представления, бытовавшие в нашем сознании.
В.Г. Трухановский все же сумел показать своих героев и как государст-
венных деятелей, и как людей - в личной жизни, в быту, в отношениях
с семьей и друзьями. Больше же всего он рисует портреты своих героев
на фоне британской и мировой истории. Убеждаешься, насколько тес-
но их взлеты и падения были связаны с переменами в мире, как зависи-
мы от этих перемен их судьбы.
Читателю становится вполне очевидной подоплека бесславного
ухода Идена с политической арены в самом, казалось бы, расцвете сил,
когда ему не было еще 60-ти, после всего лишь 21 месяца, проведенно-
го в долгожданном кресле главы английского правительства. Вырос-
ший и воспитанный в пору могущества Британской империи, над кото-
рой “никогда не заходит солнце”, он, как и Черчилль, стремился не до-
пустить мысли, что дожил до ее заката и распада. Потому-то, став пре-
36
мьером, он действовал, сообразуясь с уже уходящей реальностью, а не с
новой, неотвратимо надвигавшейся, и в результате привел страну к од-
ному из позорных унижений в 1956 г., во время Суэцкого кризиса.
Да и сам Черчилль. Ему, громогласно заявившему: “Я не для того
стал первым министром Его Величества, чтобы председательствовать
при роспуске Британской империи”, - все-таки пришлось выступить
в этой самой роли.
И тайное и явное в сплетении судеб этих людей с мировыми собы-
тиями становится очевидней, когда читаешь книги Владимира Григорь-
евича.
Последняя книга
Две последние книги Трухановский писал в обстановке, которая
уже не противодействовала биографическому жанру. Плотина была
прорвана. Но все же исчезли далеко не все табу. К тому же в кругу про-
фессиональных историков не до конца выветрилось высокомерное от-
ношение к этому жанру, как более подходящему для публициста и писа-
теля, а не для уважаемого ученого.
Главное же, на смену одним помехам нередко приходили другие.
В начале 90-х годов тиражи книг падали. Издавать их становилось все
труднее уже по финансовым причинам. И если первые книги Труханов-
ского печатались десятками тысяч экземпляров, переиздавались, пере-
водились на другие языки, то издание последней встретилось с больши-
ми трудностями. Когда же она все-таки вышла, то тираж составил все-
го 3 тыс. экземпляров. А она-то, мне кажется, как раз лучшая. Лебеди-
ная песнь автора. Об этой работе Владимира Григорьевича хотелось бы
поговорить подробнее.
Черчилль и Иден и до книг Трухановского были уже широко из-
вестны в нашей стране. Адмирал Нельсон тоже - хотя бы по фильму
“Леди Гамильтон”. Бенджамин Дизраэли куда менее знаком. Для боль-
шинства читателей знания о нем - это лишь несколько фраз в учебни-
ках по истории: что был такой империалист, объявивший английскую
королеву императрицей Индии.
А человек он интересный. Поражает разносторонность его способ-
ностей. Политик, чрезвычайно практичный в своих действиях (именно
он ввел в английский язык выражение “практическая политика”).
Блестящий оратор. Автор многих романов, которые вошли в историю
английской литературы. Некоторые из них переводились и в России.
Дизраэли, считал В.Г. Трухановский, открыл для Англии жанр полити-
ческого романа: писал романы даже тогда, когда, уходя с поста пре-
мьер-министра, ожидал нового прихода к власти. Незадолго до смерти
он окончил роман “Эндемион” и сразу же принялся за следующий, на-
звав его “Фальконет”.
Своей работой о лорде Бентинке “Дизраэли продемонстрировал
значение биографий для понимания исторического процесса. Если он и
не был основоположником жанра политической биографии (этот воп-
рос требует дополнительного изучения), то, бесспорно, внес заметный
вклад в литературу этого жанра”11.
37
Но в историю Дизраэли вошел прежде всего, конечно, как политик.
Политическую карьеру он делал разными способами. Далеко не все они
безупречны - и на пути к парламенту, и за почти 40 лет работы в нем,
и за два срока премьерства. Обстоятельный рассказ обо всем этом рас-
крывает не только приемы, которые использовал Бенджамин Дизраэ-
ли, и не только механизмы британской политической машины того вре-
мени. Он подтверждает и более общую мысль, что карьера политика -
зачастую - была делом не чистым. Как не перепачкаться, если пыта-
ешься залезть на вершину шеста, который, по словам самого же Дизра-
эли, обильно смазан чем-то очень скользким? В известном анекдоте
отец говорит сыну: “Ты знаешь, что получается с такими маленькими
лгунами, как ты? Они потом идут в политику”.
Но Трухановский, пожалуй впервые в отечественной литературе,
отдал дань и тому позитивному, что Дизраэли внес в развитие своей
страны. Он выступал против сурового обращения с чартистами, а в
дальнейшем активно содействовал проведению избирательной рефор-
мы 1867 г., приведшей к большей демократизации британской общест-
венной жизни. “Дизраэли принимает смелое и мудрое решение бросить
тактику проволочек”12. “Его заслуги в проведении реформы признают-
ся бесспорными сегодня, так их расценивали и в 1867 г.”13. А в 1868 г.,
когда Дизраэли стал премьер-министром, “был проведен закон о борь-
бе с коррупцией во время выборов в палату общин. Это была первая и
довольно результативная попытка бороться с подкупом во время выбо-
ров - широко распространенным и общепризнанным, цинично практи-
куемым злом, о котором так много писали периодическая печать, поли-
тическая и художественная литература. Принималось законодательство
об улучшении работы общественных школ, железных дорог, юридиче-
ской системы Шотландии. Правительство провело закон, который мо-
жет считаться первой мерой в области национализации: почтовому ве-
домству было разрешено купить телеграфные компании, находившиеся
в частном владении. Была назначена королевская комиссия по пересмо-
тру законодательства о санитарном состоянии страны”14.
И в целом «Дизраэли - и это делает ему честь - понимал лучше
многих значение “человеческого фактора” и поэтому выступал за про-
ведение регулируемых социальных реформ с целью поддержания соци-
ального мира»15.
Читая эту книгу, яснее понимаешь - и это ее важный научный вы-
вод, - почему Великобритания тогда, да и потом, вплоть до наших дней,
избежала тех революционных потрясений, которые заливали кровью
большинство стран Европы.
На широком историческом полотне читатель видит образ не толь-
ко прагматичного и циничного политика, но и образованного человека.
Его отец, которого ценили Байрон и Вальтер Скотт, собрал библиоте-
ку в 25 тыс. томов - даже в наше время это редкость. Будущему поли-
тику и писателю она заменила и законченное среднее образование
и университет. В старости он говорил, что больше всего любит деревья
и книги. “Дизраэли очень любил книгу, по-настоящему любил, из нее он
черпал мудрость и знание жизни как для литературной, так и государст-
38
венной деятельности”16. Это отличает его от многих политиков про-
шлого и настоящего, которые успевали читать только газеты, да, мо-
жет быть, ничего другого и не хотели. Так что к Дизраэли никак нель-
зя отнести характеристику, которую дал политикам саркастический
Бернард Шоу, - они ничего не знают, но уверены, что знают все.
Трухановский отдал дань и мужеству Дизраэли - не только полити-
ческому, но и личному. Он не останавливался перед тем, чтобы вызы-
вать противников на дуэль.
Книга помогает понять психологический облик викторианской
Англии. Автор отмечает, что “особенности духовного развития англий-
ского общества в XIX в. породили в викторианский век особые лицеме-
рие и ханжество, ставшие надолго отличительной чертой английской
государственной политической и общественной жизни”17. Но приведен-
ный в книге богатейший материал о жизни Англии тех времен подводит
читателя к мысли, что это была лишь одна черта и что ее надо обяза-
тельно видеть в сочетании с рядом других.
К сожалению, у нас с давних времен стереотипом викторианства
считалось высокомерие, лицемерие, чванство. Такой образ вошел даже
в лучшие произведения литературы. Анна Ахматова писала о временах
своего детства:
А с Запада несло викторианским чванством...
Но викторианская эпоха - это не только чванство. Это время сыг-
рало важнейшую роль в становлении тех черт, за которые нельзя не
уважать английских рабочих, чиновников, бизнесменов: четкость и обя-
зательность, чувство долга, этика деловых отношений. Обо всем этом
книга дает яркое представление.
Лицемерие? Возможно, парламентские режимы нуждаются в нем
больше, чем авторитарные и тоталитарные: эти действуют дубинкой.
К тому же благодаря более либеральным порядкам англичане могли
открыто обсуждать и обличать худые черты своей страны. Поэтому яз-
вы Великобритании становились очевидными всему миру.
Чванство? Только ли в Англии оно проявлялось. Разве меньше его
было в Германии после победы во франко-прусской войне? У кайзера
Вильгельма II высокомерие и чванливость были, кажется, главными
чертами характера. А наш император Николай I говорил: “Меня совер-
шенно не интересует, что скажут обо мне французы; плевать я на это
хотел”18. Николай II незадолго до своего свержения холодно и чопорно
бросил в лицо французскому послу Морису Палеологу: “Вы мне гово-
рите, господин посол, что я должен заслужить доверие моего народа.
Не следует ли скорее народу заслужить мое доверие?”19. А слова Алек-
сандра III, что, когда русский царь рыбу удит, Европа может подож-
дать? У профессиональных патриотов такие высказывания вызывали
приступ гордости.
Трухановский привел слова А.И. Герцена: “Англичанин не имеет
особой любви к иностранцам; еще меньше к изгнанникам, которых счи-
тает бедняками, а этого порока он не прощает, но за право убежища он
держится; безнаказанно касаться его не позволяет, так точно, как ка-
39
саться до права митингов, до свободы книгопечатания”20. Так что, хотя
и не было у англичан пылкой любви к иностранцам (у каких народов
она так уж сильна?), но ведь эмигранты из многих стран, в том числе и
из России, как и сам Герцен, предпочитали почему-то именно Англию.
И викторианская Англия стала тогда единственной европейской
страной, где инородец, больше того, еврей, мог взойти на вершину вла-
сти. Во время выборов в парламент Дизраэли слышал выкрики: “Шей-
лок”, - и все же его выбирали. Трухановский назвал свою книгу “... Ис-
тория одной невероятной карьеры”. В викторианской Англии карьера
Дизраэли, при всей своей невероятности, все же состоялась.
Один из разделов книги назван “Русофобия в Англии”. Автор счи-
тал эту тему очень важной и писал: “К сожалению, нельзя сказать, что
русофобия принадлежит прошлому”21. Он скрупулезно рассматривает
развитие английской русофобии в XIX в. Приводит мнения современ-
ных английских историков. И справедливо утверждает: “Сегодня ряд
историков-международников считают проблему русофобии в Англии
безусловно актуальной и поэтому занимаются ее исследованием”22.
Это неизбежно наводит на мысль, что должна изучаться и другая
сторона - англофобия в России. Кажется, никто у нас еще не анализи-
ровал отечественной англофобии. Этой темы коснулся Н.А. Ерофеев в
книге “Туманный Альбион”. Но специально, кажется, у нас никогда не
рассматривались истоки и тенденции отечественной англофобии, такой
распространенной во второй половине XIX в. Антибританскими выпа-
дами пестрели газеты и журналы самых, казалось бы, разных направле-
ний. В Англии были в ходу антирусские стихи и песни. В России: “вое-
вода Пальмерстон”, “англичанка гадит”.
Для взаимопонимания с другими странами и народами, наверно, не-
достаточно изучать только чужие предрассудки. А.И. Солженицыну
принадлежит гневная статья “Чем грозит Америке плохое понимание
России”23. Ну, а чем грозит нам плохое понимание Америки и других
стран? Разумеется, в книге об Англии для автора важна была одна сто-
рона проблемы. Но она приводит к мысли и о другой стороне.
Долгое время отечественные историки старались обходить молча-
нием личную жизнь тех, о ком они писали. Е.В. Тарле в своем “Наполе-
оне” отказался уделить сколько-либо значительное внимание этой те-
ме. Он ограничился несколькими фразами в начале книги, в первой гла-
ве, прямо так и сказав: “Чтобы уже покончить с этим вопросом и боль-
ше к нему не возвращаться”. Почему? Сам Тарле объяснил это так:
“Никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сбли-
жался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не
только не имел, но и не домогался”24.
Никто... Никогда... Даже сколько-нибудь... Такая категоричность
редко бывает верной. И как поверить, что эта сфера жизни, столь важ-
ная почти для каждого, была у кого-то наглухо отрезана от всех осталь-
ных! Бывает такое? И разве влияют на нас только те, чье влияние мы
сознаем сами? Но даже если поверить, что так оно и было и что дейст-
вительно никто из женщин влияния на Наполеона не оказал, разве не
характеризует его личность уже то, каких женщин он выбирал? Так что
40
“покончить с этим вопросом и больше к нему не возвращаться” - не
лучший метод исследования.
“Женщины играли в общественной и политической жизни Дизраэ-
ли очень важную роль”, - писал В.Г. Трухановский. Он привел рассуж-
дения из романа Дизраэли “Генриетта Темпл”: “Женщина-друг, друже-
ски относящаяся к вам, умная и преданная, является достоянием более
ценным, чем парки и дворцы. И без такой музы очень немногие мужчи-
ны могут преуспеть в жизни и ни один из них не может быть полностью
доволен жизнью”. И констатировал: “Нет сомнений, что это взгляды
самого Дизраэли, причем он их исповедовал и в последние годы жиз-
ни”25. Очевидно, с этим солидарен и автор: он посвятил эту книгу, как и
книгу об адмирале Нельсоне, своей жене, Наталье Георгиевне Думо-
вой.
Владимир Григорьевич любил цитировать яркие мысли тех, о ком
писал. Но не менее интересны мысли самого автора. Они рассыпаны по
книгам как бы вскользь. Не буду их приводить - читатели их увидят и
оценят сами, даже если с какими-то и не согласятся. Это мысли истори-
ка, политика, литератора, дипломата. И, важнее всего, просто челове-
ка, который готов поделиться с читателями своим жизненным опытом
и делает это без крикливости, не выпячивая себя. Его книги заставляют
читателя задуматься не только над судьбой его героев, а намного ши-
ре - над тем, что происходит вокруг нас. За страницами видишь челове-
ка, разговоривающего с читателем напрямую, как бы поднимаясь над
событиями, о которых идет речь. Яркость его книгам придает и иронич-
ный, саркастический ум автора, парадоксальность его мышления и уме-
ние видеть парадоксальность характеров и событий.
Его мысли о биографическом жанре
Эта моя статья о Владимире Григорьевиче готовилась после его
кончины для журнала “Новая и новейшая история”. Тогда я и написал,
что о взглядах В.Г. Трухановского на биографический жанр мы можем
судить по его книгам о тех или иных исторических личностях, но что
все-таки этих взглядов он, увы, нигде не сформулировал. И что, если он
и сделал это, возглавляя на XIII Международном конгрессе историков
секцию, посвященную роли биографии в исторической науке, то текст
его выступления не сохранился.
Но потом, разбирая бумаги Владимира Григорьевича, Наталья Ге-
оргиевна все же нашла его давние рассуждения о биографическом жан-
ре. Это ответы на вопросы журнала “Молодая гвардия”. Текст не от-
шлифован и впоследствии не был опубликован. Тем не менее взгляды
Владимира Григорьевича тут сформулированы, хотя и кратко. Поэтому
мне показалось, что стоит привести этот текст целиком. Вот он:
« - Почему Вы обратились к биографическому жанру?
- Жанр жизнеописаний выдающихся людей - политических и госу-
дарственных деятелей, революционеров, отдавших жизнь во имя луч-
шего будущего своего народа, крупных полководцев, а также ученых,
представителей культуры и искусства - весьма популярен среди как со-
ветских, так и зарубежных читателей. Свидетельство тому - заслужен-
41
ное внимание читателей, например, к многотомной серии “Жизнь заме-
чательных людей”. Вне этой серии также появляются книги-биогра-
фии, привлекающие к себе активное внимание. Тиражи этих книг дос-
таточно велики, и тем не менее на лучшие из них всегда очереди в биб-
лиотеках. За рубежом, во многих странах, наблюдается изобилие книг
такого рода.
Почему я обратился к этому жанру? На протяжении значительно-
го периода времени я написал ряд исследований по истории Англии и
международных отношений в традиционной монографической манере.
В процессе этой работы я столкнулся с рядом деятелей, сыгравших
важную роль в истории Англии. Постепенно меня все более и более
интересовало, что это за люди, каковы их характеры, каков их внут-
ренний мир.
Общие исторические работы ответ на эти вопросы не дают или да-
ют очень краткий. Известно положение, что историю делают люди. Вот
у меня и появилось желание более пристально всмотреться в тех людей,
которые оставили наиболее заметный след в истории. Оказывается, что
“замечательные люди”, как и все остальные, полны противоречий, об-
ладают различными характерами, часто вступают в противоречие со
здравым смыслом и логикой, одержимы эмоциями, различными убежде-
ниями и предубеждениями. Разумеется, [исторические события] опреде-
ляются, прежде всего, объективно складывающимися условиями, соот-
ношением политических и классовых сил и многими иными аналогичны-
ми объективными факторами. Однако характер того или иного деятеля
накладывает отпечаток на его поведение, определяет в значительной
мере его поступки, следовательно политику страны. Именно поэтому
разные люди в одинаковой ситуации поступают по-разному.
“Замечательные люди” подвержены “обратной связи”. Не только
они влияют на события, но ход истории воздействует на их взгляды, убе-
ждения, поступки. С годами увеличивается жизненный опыт, накаплива-
ется информация, и в результате люди меняются. Так история формиру-
ет, делает людей. Это сложный и трудный для выявления и исследования
процесс, но он сопровождает любого деятеля на его жизненном пути.
То, что все люди разные, - истина старая. Она относится в полной
мере и к “замечательным”. Поразительно, как много наряду с людьми
большого таланта, ясной цели, твердости убеждений, силой воли (среди
тех, кого случай, судьба, стечение обстоятельств вознесли на высокие
должности и посты и дали им власть) людей серых, посредственных, не
обладающих ни значительным умом, ни характером. Они ведь тоже
действуют и оставляют свой след. Правда, великие времена в истории
стран и народов обычно выдвигают и великих лидеров. А в “нормаль-
ное” спокойное время вполне может преуспеть и посредственность.
Читатели, как правило, любят книги на исторические темы. Это ес-
тественно. Им хочется знать, что было с их народом и страной на про-
тяжении многих веков, как жили их предки. Любовь к истории порож-
дается любовью к своей родине и народу, и в то же время знание фак-
тов истории усиливает любовь к родине, укрепляет благородное чувст-
во патриотизма. Отсюда и естественная тяга у читателя узнать не толь-
42
ко важнейшие исторические события, проследить закономерности раз-
вития страны, но и познакомиться с людьми, которые играли видную
роль в прошлом народа, понять, что это были за люди, каковы были
их характеры, психология, их реакция на события. В поисках ответа на
эти вопросы читатель и обращается к историческим биографиям.
Знакомясь с ними, читатель встречается с более конкретной, жи-
вой, выпуклой историей. Такие работы, если они сделаны на достаточ-
но высоком научном и литературном уровне, оказывают сильное эмо-
циональное воздействие на читателя. И, как следствие, знание им исто-
рии становится более ярким и прочным.
Биографический жанр - это не только сильное средство вооруже-
ния широких кругов нашего общества историческими знаниями, но и
способ закрепления этих знаний.
- Всякая ли биографическая книга несет ту полезную нагрузку,
о которой вы говорите?
- Это зависит от качества конкретной книги. Талантливая, с бле-
ском и эрудицией написанная книга отвечает этим целям и пользуется
популярностью у читателя. Книга, не имеющая этих качеств, приносит
мало пользы.
Хорошие биографические работы долговечны. Проходят годы, де-
сятилетия, а читатель, уже новое поколение читателей, все равно с до-
брым чувством пробегает их страницы. Ярким примером такой книги
является “Наполеон” Е.В. Тарле, крупного советского историка.
У читателя есть сильное врожденное стремление к истине, ему хо-
чется докопаться до правды, узнать, как все было в действительности.
Он надеется, что книги биографического жанра отвечают этим его же-
ланиям. Автору исторических биографий следует пойти до конца на-
встречу этим законным желаниям читателя.
- А как вы себе это мыслите на деле?
- Конечно, автор не может знать все, до мельчайшего факта, из
жизни своего героя. Однако он может и должен с помощью строго на-
учных методов исследования воссоздать эпоху и реальную, действи-
тельную жизнь того или иного деятеля. Его индивидуальность - черты
характера, психологический и физический облик, мироощущение, эти-
ческие и моральные принципы и т.п. - также должны раскрываться в
строгом соответствии с научно установленными фактами. В тех же слу-
чаях, а их следует свести до минимума, когда для выяснения некоторых
штрихов характера или объяснения поступков персонажа отсутствуют
прямые свидетельства, автор оказывается вынужденным восполнять их
отсутствие суждениями, основывающимися на всей совокупности пря-
мых и косвенных данных. При этом свобода домысла и игры воображе-
ния строго ограничиваются тем, что сказали бы абсолютно достовер-
ные факты».
В архиве В.Г. Трухановского сохранилось немало писем от его чи-
тателей. Люди самого разного возраста, образовательного уровня, про-
фессиональной принадлежности благодарили Владимира Григорьевича
за его талант, “за прекрасные, мудрые книги”. Во многих письмах, по-
мимо благодарности, содержатся и размышления читателей об истории
43
и о том, как надо писать исторические книги: “Наступило время доку-
ментальной исторической прозы”; “Ваши книги помогают нам лучше
понять проблемы истории”; “Для нас эти книги являются ценным пер-
воисточником”. Один из его читателей, “потомственный моряк, всю
жизнь прослуживший на Балтике”, назвал книгу об адмирале Нельсоне
одним из лучших произведений о моряках: “Замечательно в книге опи-
саны морские сражения, стратегические замыслы и решения, тактика
боя, психология людей - все это Вы показали наглядно, как будто сами
участвовали в этих баталиях”. Писатель Лазарь Карелин отмечал, что
Владимир Григорьевич соединял в себе два таланта - историка и проза-
ика. «Тут дело не в стиле - и историки бывают прекрасными стилиста-
ми, тут даже дело не в живости изложения... Тут дело именно в догадке
“про душу героя”, каковая догадка - удел писателя».
За свои биографические произведения В.Г. Трухановский в 1977 г.
был принят в Союз писателей СССР.
Немного воспоминаний
Хотелось бы немного рассказать о встречах с Владимиром Гри-
горьевичем. Начать с сентября 1953-го, когда Владимир Григорьевич,
только что перейдя из МИД в Институт истории, участвовал в прием-
ных экзаменах в аспирантуру. И как его чувство юмора скрашивало эту
процедуру, очень нервозную для нас - поступающих. Или вспомнить,
например, как он руководил методсоветом общества “Знание” по меж-
дународной тематике. Собирались мы в Политехническом музее.
Это 1960 год - “Год Африки”, когда 17 африканских стран провозгла-
сили себя независимыми государствами. Африкой тогда были полны
страницы газет и журналов, радио- и телепередачи. А поскольку серь-
езных знаний об Африке было тогда совсем мало, проходили бесконеч-
ные грубые ошибки и неточности. Мы с Сергеем Васильевичем Датли-
ным, первым московским журналистом, который всерьез стал изучать
Африку, завели об этом разговор на методсовете. Владимир Григорье-
вич сразу же предложил нам подготовить большой обзор таких огрехов.
Как только мы его сделали, он был не только распечатан на ротаприн-
те для всех членов методсовета, но его по указанию Трухановского ра-
зослали для ознакомления и в редакции ряда газет и журналов.
Ближе познакомиться с Владимиром Григорьевичем я смог в нача-
ле 80-х, когда случайно встретился с ним и Натальей Георгиевной в са-
натории “Узкое” и стал затем бывать в их доме, в Старопименовском
переулке, близ Пушкинской площади, как раз напротив особнячка, где
жил когда-то автор дореволюционных учебников по истории Д.И. Ило-
вайский (этот особнячок и его хозяин описаны Мариной Цветаевой в
мемуарном очерке “У Старого Пимена”).
Кончив работу над английским изданием своей книги о Сесиле Род-
се, я думал, за что же теперь взяться. Может быть, решиться написать
о Киплинге?
Будучи в гостях у Трухановских, подумал: с кем же посоветовать-
ся, как не с Владимиром Григорьевичем? Но он меня упредил. Вдруг
спросил:
44
- Вот вышла моя книга об адмирале Нельсоне. Как Вы думаете,
о ком из англичан стоило бы еще написать?
Я был уверен, что он уже сделал выбор. Но что ему все-таки любо-
пытны и мнения других. Под его испытующим взглядом, почти не заду-
мываясь, назвал Дизраэли:
- Уж очень у нашего читателя искаженное о нем представление.
Как будто хуже его никого и не было.
Владимир Григорьевич улыбнулся:
- Вот я как раз о нем и думаю.
И заговорил о том, что в этой незаурядной личности кажется ему
особенно интересным. Так что вопрос, наверно, для него уже был ре-
шен. Но у меня все же осталось чувство, будто и я как-то участвовал в
выборе темы. И потому эта книга мне особенно дорога.
Беседы с Владимиром Григорьевичем всегда были интересны, мы
обсуждали самые разные темы, но с конца 80-х все более ощутимым
для меня становилось желание моего собеседника уйти в разговоре от
современных, болезненных для него тем в воспоминания о ленинград-
ской юности, о дипломатической работе военного времени. Может
быть, потому что чувствовал: я немного по-иному, чем он, восприни-
маю происходящие в стране события. Но эти различия никак не сказы-
вались на наших добрых взаимоотношениях. Я дважды баллотировался
в члены-корреспонденты, и оба раза кандидатуру мою выдвигал он.
Владимир Григорьевич был радушным хозяином, в его доме мне
было всегда тепло, так же, кажется, как и другим людям, которых при-
ходилось встречать у него в гостях.
В последние годы ему нравилось немножко пококетничать своим
возрастом. “Вы знаете, сколько мне лет? - спрашивал он. - По сравне-
нию со мной Вы - мальчишка!” Мне было в ту пору под семьдесят...
После избрания Владимира Григорьевича в академики для меня
раскрылась новая сторона его личности. Это избрание абсолютно ни-
как не повлияло на манеру его поведения, общения с людьми. Так бы-
вает далеко не всегда.
Над его гробом я сказал: “Не стало хорошего человека...”
1 Вильсон А. Биография как источник. М., 1970; Хубач В. Биография и ав-
тобиография: проблема источника и изложения. М., 1970.
2 См.: Новая и новейшая история. 1984. № 1.
3 Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте: Докла-
ды Г. Зайделя и М. Цвибака о Тарле и Платонове и их школах и прения на объ-
единенном заседании Института истории при ЛОКА и Ленинградского отделе-
ния историков-марксистов. М.; Л., 1931. С. 159.
4 Цит. по: Пихоя Р.Г. Чехословакия, 1968 год. Взгляд из Москвы: По доку-
ментам ЦК КПСС Ц Новая и новейшая история. 1994. № 6. С. 8.
5 См.: Новая и новейшая история. 1994. № 6. С. 86.
6 Дипломатический словарь. М., 1950. Т. II. С. 935-936.
7 Новая и новейшая история. 1994. № 6. С. 86.
8 Там же.
9 Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. 4-е изд., доп. М., 1989. С. 440.
45
10 Там же. С. 444.
11 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероят-
ной карьеры. М., 1993. С. 225.
12 Там же. С. 279.
13 Там же. С. 280-281.
14 Там же. С. 284-286.
15 Там же. С. 298.
16 Там же. С. 193.
17 Там же. С. 201.
18 Там же. С. 220.
19 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 430.
20 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли... С. 199.
21 Там же. С. 210.
22 Там же. С. 211.
23 Солженицын А.И. Чем грозит Америке плохое понимание России // Рус-
ское Возрождение. 1980. № 10.
24 Тарле Е. Наполеон. М., 1957. С. 33.
25 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли... С. 299.
В.И. Попов
КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ
Мне довелось знать Владимира Григорьевича на протяжении поч-
ти 50 лет. Сначала это было просто знакомство, и я бы сказал, нерав-
ные отношения между опытным дипломатом, зрелым ученым и моло-
дым человеком, только что вступившим на путь дипломатии и научной
работы.
Дипломатическая деятельность
Я много слышал о дипломатической деятельности Трухановского.
О его работе в Иране мне рассказывал впоследствии заместитель мини-
стра иностранных дел А.А. Смирнов, который во время Великой Оте-
чественной войны являлся нашим послом в этой стране. Владимир Гри-
горьевич в конце 1941 г. был назначен консулом в Ахваз, а затем стал
нашим генеральным консулом в Керманшахе. Иран представлял собой
в то время важный для нашей страны и сложный в дипломатическом
плане регион, поскольку там пересекались сферы интересов СССР и
Англии. Работа была напряженная, хорошая школа для начинающего
дипломата. Смирнов с похвалой отзывался о способностях молодого
консула, его четкости и чувстве ответственности.
Другие дипломаты, работавшие на английском направлении, рас-
сказывали о деятельности В.Г. Трухановского в Москве, во Втором ев-
ропейском отделе МИД, куда он был отозван из Ирана в 1943 г. Если
учесть, что именно этот отдел ведал отношениями с Англией - одним из
наших главных союзников в борьбе с гитлеровской Германией, то ста-
нет ясно, что это было серьезным повышением по службе. Впоследст-
46
вии Трухановский был назначен заместителем заведующего этим отде-
лом, а затем заведующим Отделом по делам ООН. Уже в то время,
в 1943 г. Советский Союз приступил к разработке конкретного проек-
та будущего мира и нашей роли в нем. Владимир Григорьевич принимал
участие во встречах министров иностранных дел антигитлеровской ко-
алиции, в конференциях в Сан-Франциско (1945) и в том же году в Пот-
сдаме. Он любил рассказывать об этом незабываемом периоде своей
жизни. Слушать его было всегда интересно.
Заслуги В.Г. Трухановского в годы войны были высоко оценены
нашим государством. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
успешное выполнение заданий правительства он был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени. Коллеги отзывались о Трухановском с
уважением как об отличном работнике, который умел в любых обсто-
ятельствах обеспечить решение поставленной перед ним задачи. Осо-
бенно тесно он, по рассказам, ни с кем не сближался, но со всеми под-
держивал ровные, корректные отношения.
Несмотря на огромную занятость по службе в министерстве, Влади-
мир Григорьевич находил время (удивительно, как это ему удавалось)
заниматься научными исследованиями. В те годы это было необычно
для действующего дипломата. Видимо, уже тогда в нем проявилась тяга
к научному творчеству. Результатом его работы стала защищенная в
1947 г. в Высшей дипломатической школе кандидатская диссертация на
тему “Позиция Англии по вопросу о России на Парижской мирной кон-
ференции 1919 г.”. Это была трудная для исследования тема. Как из-
вестно, Россия, которая внесла огромный вклад в победу союзников над
Германией, не была даже приглашена на конференцию. Но именно от-
ношения с Россией, планы интервенции против нее оказались в центре
работы конференции и принятых ею решений. Недаром за неделю до
официального открытия заседаний руководители западных стран нача-
ли обсуждать планы борьбы против советской страны. Трухановскому
удалось пролить свет на закулисную историю конференции. Его работа
заняла свое место среди исследований этой проблемы видными совет-
скими учеными - Б.Е. Штейном, Н.Л. Рубинштейном и др.
В том же 1947 г. я поступил учиться в Высшую дипломатическую
школу и выбрал направлением своей будущей работы Англию.
В 1950 г. защитил диссертацию на тему “Советско-английские отноше-
ния 1927-1929 гг.” Владимир Григорьевич был моим оппонентом и с тех
пор всегда оставался для меня одним из главнейших авторитетов в на-
шей общей профессии - англоведении.
Руководитель кафедры и главный редактор журнала
Как обычно, аспиранты присутствуют на защите других диссертан-
тов, чтобы “набраться опыта”, послушать, как выступают маститые оп-
поненты, и приноровиться, как им самим лучше отвечать на своей за-
щите. К сожалению, некоторые официальные оппоненты отделыва-
лись общими замечаниями. У присутствовавших на защите даже возни-
кали сомнения, а читали ли оппоненты диссертации. Но уже письмен-
ный отзыв на мою работу Владимира Григорьевича (как и профессора
47
Б.Е. Штейна) показал, что оппонент очень внимательно ознакомился с
диссертацией. Он высказал сомнения в некоторых ее положениях и убе-
дительно аргументировал свою точку зрения. Другой оппонент не сов-
сем согласился с его замечаниями. Разгорелась дискуссия. Слушая вы-
ступления В.Г. Трухановского тогда, а также на других защитах, на на-
учных конференциях, семинарах и симпозиумах, я всегда поражался ло-
гике его доводов, умению дискутировать и убеждать аудиторию, стилю
его докладов и выступлений - интеллигентному, уважительному в адрес
партнеров по обсуждению - и вместе с тем его принципиальности.
Случилось так, что после окончания Высшей дипломатической
школы я был направлен не во “вторую Европу”. А так как заболел
профессор Б.Е. Штейн, мне было предложено временно заменить его и
читать в ВДШ курс внешней политики СССР. Большую помощь в
подготовке лекций оказал мне своими советами и замечаниями Влади-
мир Григорьевич. Впоследствии он привлек меня и к чтению лекций
в МГИМО (возглавив к тому времени кафедру истории международных
отношений в этом институте).
Он стал приглашать меня на заседания кафедры, и я мог познако-
миться с его стилем руководства научными сотрудниками. Некоторые
профессора и доценты были знатоками своего дела. Люди с характе-
ром, они умели отстаивать свои убеждения. Ими нельзя было “командо-
вать”, но только убеждать доводами, более аргументированными, чем
те, которые они приводили. В.Г. Трухановский никогда не прерывал
выступлений, давал возможность каждому высказать свою точку зре-
ния и очень умело развивал дискуссию, вовлекая в нее других членов
кафедры.
Как я мог заметить, некоторые профессора отличались излишним
самомнением, и ладить с ними было нелегко, так как свою точку зре-
ния они считали “истиной в последней инстанции”. Имелись у него и за-
вистники, и недоброжелатели. Мне вспоминается такой случай.
В.Г. Трухановский опубликовал книгу о внешней политике Англии.
Один из профессоров кафедры, встретив меня в МИД, спросил, читал
ли я последнюю книгу заведующего. Я ответил утвердительно. Тогда
он сказал мне:
- Вот и хорошо, давай вместе напишем на нее отрицательную ре-
цензию. Она того заслуживает.
Я ответил ему:
- Так как книга вышла относительно давно, то на нее уже опубли-
ковано несколько рецензий. Ты читал их?
- Нет.
- Ну, так прочитай. Одну из них написал я и оценил книгу как очень
интересную и полезную.
Больше, как я знаю, этот профессор уже ни к кому из кафедралов
не обращался, ни одной отрицательной рецензии на книгу Владимира
Григорьевича не появилось.
Быть руководителем - это прежде всего уметь работать с коллек-
тивом. Обычно считают (в том числе за границей), что дипломаты -
плохие руководители. И это не вина, а беда их. До тех пор, пока дипло-
48
С Ю.А. Поляковым. Берлин, 1964 г.
С Л.Е. Кертманом и А.О. Чубарьяном. Уфа, декабрь 1966 г.
4 Россия и Британия Вып. 3
мат не становится руководителем отдела, заместителем руководителя,
посланником, ему попросту некем руководить, в его распоряжении в
лучшем случае могут быть один-два сотрудника. Трухановский, работая
в Иране и в отделе МИД, имел опыт руководства людьми, находящи-
мися на ответственных должностях. Патриарх американской диплома-
тии Джордж Ф. Кеннан писал, что способность руководить другими по-
является только тогда, когда руководитель научится руководить собой,
а И.-В. Гёте говорил, что человек живет только тогда, когда он пользу-
ется расположением других. Я беседовал со многими дипломатами и
учеными, которые хорошо знали Владимира Григорьевича, и все отме-
чали его внимательность к людям, тактичное отношение к коллегам,
уважение к нему коллектива. Его отличало влечение к умным, талант-
ливым людям и новым идеям. Это не значит, что он их все разделял.
Он обращал на них внимание, но всегда подвергал их своему собствен-
ному анализу.
Я время от времени публиковал статьи в журнале “Вопросы исто-
рии”, которым он руководил на протяжении 27 лет, что само по себе
было огромным достижением, тем более что журнал при нем стал наи-
более читаемым и уважаемым интеллигенцией историческим журна-
лом страны. Я видел, с каким пиететом относился к нему аппарат редак-
ции. Из встреч с английскими и американскими учеными я понял, что
они очень внимательно (те, кто знал русский язык) следили за материа-
лами, публикуемыми в журнале, и имя Трухановского им было хорошо
известно, а его труды пользовались большим уважением.
С конца 50-х - начала 60-х годов у меня установились с ним очень
тесные, я бы сказал, дружественные отношения. Впоследствии мы ста-
ли часто встречаться, в том числе семьями.
О стиле научных работ В.Г. Трухановского
За исключением немногих выдающихся историков - наших совре-
менников - Е.В. Тарле, А.З. Манфреда, А.С. Ерусалимского,
В.М. Хвостова, Н.Н. Молчанова, Ю.С. Борисова и некоторых других -
большинство писали скучные, сухие работы, до крайности идеологизи-
рованные (до 90-х годов и я был в этой второй категории). Даже авто-
рам “Истории дипломатии” их рецензенты и редакторы советовали
полностью исключить фамилии тех или других советских послов, уча-
стников переговоров под тем предлогом, что их роль не следует пре-
увеличивать. Они повторяли лишь то, что предписывалось Централь-
ным комитетом партии, и утверждали, что успехами нашей диплома-
тии мы обязаны партии, ее руководителям. Мне довелось присутство-
вать при разборе отдельных глав, очень хорошо написанных А.М. Не-
кричем. Редактор ставил ему в вину упоминание имен нескольких со-
ветских послов*.
* Это было время, когда я, будучи ректором Дипломатической академии, распоря-
дился выставить у входа портретную галерею наиболее выдающихся советских послов.
Посетив Академию, один из руководящих работников МИД сказал мне: “А вот это лиш-
нее. Снимите и замените портретами членов Политбюро”.
50
К чести Владимира Григорьевича, ему удавалось писать (и изда-
вать!) интересные книги еще до “перестройки”, готовить работы “для
читателя”. Его книги возрождали традиции русской дореволюционной
школы Ключевского, Соловьева. Они содержали огромный фактиче-
ский материал, были насыщены интересными мыслями и хорошо на-
писаны. В них действовали живые люди, поступки которых были
психологически мотивированы. Именно поэтому его работы быстро
раскупались, часто переиздавались в СССР и во многих зарубежных
странах.
В 1958 г. увидела свет монография В.Г. Трухановского “Новейшая
история Англии”, объемом почти в 40 печатных листов и тиражом
25 тыс. экземпляров. Книга охватывала период от окончания первой
мировой войны до всеобщих выборов в Англии в 1951 г., когда лейбо-
ристы потерпели поражение и к власти вновь возвратились консервато-
ры. Это была первая в стране книга по истории Англии этого периода.
Она сразу привлекла внимание нашей научной общественности и была
поставлена на защиту в качестве докторской диссертации. В том же
1958 г. за эту монографию автору была присуждена ученая степень
доктора исторических наук.
Четыре года спустя я получил новую книгу Владимира Григорьеви-
ча “Внешняя политика Англии (1918-1939)” с авторской надписью: “Ви-
ктору Ивановичу. На добрую память”.
Выпуск этих двух книг закрыл пробел, который существовал в на-
шей стране по истории современной Англии. Научные труды В.Г. Тру-
хановского, опубликованные в 50-80-е годы, продолжают оставаться
классикой нашего англоведения.
Биографии великих людей Англии
“Мавр сделал свое дело”, и теперь Владимир Григорьевич мог обра-
титься к тем историческим темам, которые всегда его притягивали.
Всю жизнь его привлекали великие исторические лидеры - политики,
дипломаты, военные. И он обратился к биографии одного из величай-
ших политических деятелей Англии. До сих пор в большинстве британ-
ских обзоров влиятельности и популярности английских премьер-мини-
стров первое место отводится Уинстону Черчиллю, человеку блестя-
щих способностей и выдающихся дарований. Эта фигура была необык-
новенно интересна автору и в политическом, и в человеческом плане.
В разговоре он часто поминал Черчилля, рассказывал истории из его
жизни, цитировал его остроумные высказывания.
Работу о Черчилле В.Г. Трухановский считал своей главной книгой.
Она выдержала испытание временем: последнее издание вышло в
1989 г. - больше, чем через 20 лет после первого. К автору часто обра-
щались с просьбами подарить или дать почитать эту книгу. Его радова-
ли такие просьбы, тем более что исходили они, как он рассказывал, от
людей самых разных профессий, разного интеллектуального уровня.
Помню рассказ Владимира Григорьевича о том, как ему было приятно,
встретив в санатории известного академика-физика, узнать, что тот
привез с собой на отдых его книгу о Черчилле.
57
Мне кажется, что создать лучшую, чем написанная Трухановским,
работу о великом англичанине едва ли удастся кому-либо из наших со-
отечественников.
Надо ли подробно говорить об этой книге? Огромное число читате-
лей нашей страны с ней знакомо. А тем, кто ее еще не знает, можно по-
советовать прочитать ее как можно быстрее, и вы непременно получи-
те огромное удовольствие.
Перу Трухановского принадлежат и биографические книги о мини-
стре иностранных дел, впоследствии премьере правительства Великоб-
ритании Антони Идене - самом красивом и элегантном политике XX в.,
а также о национальном герое английского народа адмирале Горацио
Нельсоне. В декабре 1984 г., находясь в отпуске в Москве, мы с женой
получили эту книгу с трогательной надписью: “Дорогим друзьям Ната-
лии Александровне и Виктору Ивановичу Поповым от глубоко призна-
тельного автора. В. Трухановский”. Выражая нам признательность,
Владимир Григорьевич, видимо, имел в виду свою недавнюю команди-
ровку в Лондон, где мы с ним провели уик-энд в загородной резиденции
советского посла (этот пост мне довелось занимать в то время). Выход-
ные дни на природе пролетели тогда очень быстро, заполненные инте-
ресными дружескими беседами.
Получив книгу “Судьба адмирала: триумф и трагедия”, мы сразу же
бросились ее читать. Книга поразила нас как содержанием, так и пре-
красным литературным языком. С особым интересом прочитал я стра-
ницы, посвященные пребыванию Нельсона на Мальте, где мне некото-
рое время пришлось быть послом по совместительству.
Подвел итог своему исследованию автор такими словами: “В миро-
вой исторической литературе считается общепризнанным, что в сра-
жении у Трафальгара, которое Нельсон выиграл и в котором он погиб,
решилась в пользу Англии длившаяся два столетия борьба за господ-
ство на море между Англией и Францией. Она оказала огромное влия-
ние на международные отношения на следующие сто, а может быть,
и больше лет... Отсюда следует то важное место, которое принадле-
жит Нельсону и его личному вкладу в решение вековечного спора”.
Это был и ответ на вопрос о том, почему из всех английских полковод-
цев Владимир Григорьевич избрал для своего исследования именно Го-
рацио Нельсона.
Иногда говорят, что писатели с возрастом “исписываются”, произ-
ведения их становятся менее интересными, а труды ученых - менее зна-
чимыми. Так ли это? Книга “Бенджамин Дизраэли, или История одной
невероятной карьеры” была написана В.Г. Трухановским на склоне лет,
и, на мой взгляд, это одна из его лучших книг.
Почему из всех английских премьеров (а их было больше 70) он вы-
брал именно Дизраэли? Мне вспоминается разговор с членом кабинета
М. Тэтчер Питером Рисом. Я спросил его:
- Почему Ваша страна, богатая способными и умными политиками,
впервые в Европе решила избрать премьером женщину?
- А Вы не задавали себе вопрос, - сказал он, - почему в середине
прошлого века избрали премьером Бенджамина Дизраэли? Кем он
52
был? Богатым человеком? Выдающейся личностью? Ничего подобно-
го. Человеком без внушительного социального прошлого, небогатым,
да к тому же еще и евреем. Но для Англии все это имело второстепен-
ное значение. Главное, англичане увидели в нем волевого, умного, ре-
шительного деятеля и не ошиблись, так же, как не ошиблись позднее в
Тэтчер. Дизраэли вывел страну из грозящего ей кризиса.
Рассказ об извилистом, противоречивом жизненном пути Дизраэли
развертывается на широком, богатом событиями и личностями истори-
ческом фоне. Когда читаешь книгу, и в голову не приходит, что автор
никогда раньше не занимался этим периодом. Он ведет повествование с
подлинным профессионализмом, демонстрируя обширные знания и глу-
бину анализа исторического материала.
Биография Дизраэли не только очень интересна, но и полезна для
изучения. До занятия поста английского премьера он уже имел солид-
ный литературный опыт. Его первый роман “Вивиан Грей” вышел в
свет, когда Дизраэли было всего 22 года, а затем он выпускал романы
через каждые 3-4 года. В этих романах Дизраэли мог свободнее, от име-
ни литературных героев излагать собственные мысли, в том числе и о
внешней политике. В.Г. Трухановский прекрасно использовал эти мыс-
ли в своей книге.
Вот что, в частности, выделил Владимир Григорьевич из сказанно-
го героем Дизраэли: “Постигать внешнюю политику просто чтением
книг нельзя... Книжные черви не становятся министрами иностранных
дел. Вы должны узнать великих актеров, действующих на высокой сце-
не... Ничто не может заменить личного знакомства с деятелями, кото-
рые контролируют внешнюю политику” (стр. 156).
О русофобии
Для российских читателей очень важным является раздел книги,
который посвящен появлению и развитию в Англии русофобии. В вос-
приятии В.Г. Трухановского это была далеко не отвлеченная проблема.
Его всегда волновало положение России в окружающем мире, причем
критерий был у него очень высокий - международный статус Советско-
го Союза в 1945 г. Недобросовестные действия в отношении России,
ущемление ее интересов, принижение ее роли задевали Владимира Гри-
горьевича за живое не только в современной жизни, но и в далекой ис-
тории. Это целиком относится и к англо-российским отношениям. Да,
между двумя странами были противоречия в таких районах, как Сред-
няя Азия, Кавказ, Иран, Турция, но кто несет большую ответственность
за их разжигание? Свое мнение на этот счет Трухановский подтвержда-
ет выводом американского историка Глисона: в XIX в. “политика Вели-
кобритании была в основном более провоцирующей, чем политика Рос-
сии. Расширялась не русская, а британская сфера влияния”.
И второе. В.Г. Трухановский убедительно показывает, что государ-
ственные деятели двух стран понимали - в критические моменты исто-
рии им надо действовать вместе. Россия приносила в XIX, как и в
XX столетии огромные жертвы на алтарь общей победы. “Не было бы
Бородино, не было бы Ватерлоо, - замечает автор, - но вклад России в
53
общую победу не получает у союзников справедливой оценки. Так бы-
ло в победе антинаполеоновской коалиции, так дважды случалось
и позднее” (стр. 213).Сегодня мысль о том, что Запад должен видеть
в России не врага, а партнера, что ему следует встать на путь сближения
и сотрудничества с ней, звучит особенно актуально.
О беседах с Владимиром Григорьевичем
В 1957-1958 гг. мне довелось быть в Оксфорде, слушать многих
профессоров, выступать самому с лекциями и участвовать в семинарах.
Владимира Григорьевича особенно заинтересовали мои рассказы о лек-
ционном курсе, посвященном Октябрьской революции, который читал
профессор Катков, внук известного славянофила М.Н. Каткова.
Лектор приводил значительное число цитат из речей и выступле-
ний В.И. Ленина. Во всех них упор делался на фактор времени. Ленин
очень точно указывал, когда - не раньше, но и не позже конца октября
(по старому стилю) - следует начать восстание. Катков задавался воп-
росом: почему так точно, до дней, нужно было определять время и да-
же часы вооруженного выступления? Ведь ни одна революция таким
узким отрезком времени себя не ограничивала. И отвечал: в октябре
1917 г. произошла не революция, а заговор. Революция - это действие
народа, а большевики, которых даже плохо знали в России, осуществи-
ли заговор. Для любого заговора важно очень точно (вплоть до минут)
выбрать время, и Ленин сделал это удачно.
Владимир Григорьевич спросил меня, а как реагировала аудитория
на эти доводы.
- Очень положительно, - сказал я.
Его это огорчило. Он не только не признавал версии о заговоре,
но считал, что и сам Катков в действительности сознает ее неправомер-
ность, что он намеренно смешивает понятия стихийности и неизбежно-
сти революции.
- Это очень хитрая теория, - сказал Трухановский, - и нам надо
обратить на нее внимание, тем более, как сказали вы, - студенты в нее
верят.
Я рассказал ему о лекциях Дж.Ф. Кеннана и своих беседах с этим из-
вестным американским дипломатом. Сказал, что лекции его собирают
огромное число студентов из самых различных колледжей. Его аргумен-
ты о необходимости ядерного разоружения действительно интересны
для англичан, ведь и они сами в большинстве своем занимают такую же
позицию. Кеннан выступил и в поддержку плана Рапацкого о безъядер-
ной Европе. Я сказал Владимиру Григорьевичу, что в этих условиях ре-
шил принять приглашение американского дипломата посетить его дома,
хотя в те времена это было несколько рискованно. Ведь Кеннан, назна-
ченный в марте 1952 г. послом США в СССР, в октябре того же года был
объявлен персоной нон грата и с шумом выслан из нашей страны.
Беседуя с Кеннаном у него дома, мы обсуждали книги американ-
ских авторов об СССР и советских о США. Вопроса о дипломатическом
скандале 1952 г. мы практически не касались. Он сказал лишь, что
ссылка советских газет на какие-то его антисоветские заявления в мае
54
1945 г. являются чистой фальсификацией, а само решение советского
правительства было для него неожиданным: ему даже не разрешили
вернуться в Москву (он находился в тот момент в Германии), чтобы за-
брать семью.
Владимир Григорьевич неодобрительно относился к объявлению
Кеннана персоной нон грата, тем более со ссылкой (на самом деле лож-
ной) на его высказывания в адрес советского народа 9 мая 1945 г.
(тогда он был советником посольства США в Москве).
- Если мы верили этим высказываниям, то зачем давали агреман
(согласие на его назначение. - Авт.), чтобы через несколько месяцев
удалить его из Москвы? - спросил он.
Иногда в разговоре с Владимиром Григорьевичем мы касались сю-
жетов наших будущих книг, особенно когда я, как и он, увлекся биогра-
фическим жанром. Говорили о Маргарет Тэтчер - я тогда писал ее по-
литическую биографию. К “железной леди” Трухановский относился
резко критически, хотя признавал ее деловые качества и считал, что
при первом же контакте с Горбачевым она обошла его по всем статьям.
Мне казалось, что моему собеседнику претят часто встречавшиеся
в прессе и политической литературе сопоставления и сближения Тэтчер
с Черчиллем. Он считал, что Черчиллю в современной английской ис-
тории нет равных.
А вот к “кэмбриджской пятерке” (один из ее членов тоже стал ге-
роем моей книги) отношение у Владимира Григорьевича было совсем
другое. Он высоко ценил этих людей, работавших на советскую развед-
ку бескорыстно, ради идеи, и с большим сочувствием говорил об их сло-
манных судьбах.
К своим героям, как мне представлялось, Владимир Григорьевич
относился тоже по-разному. К Идену, по-моему, был довольно равноду-
шен, Нельсону симпатизировал. Черчилль его восхищал, но в тоже вре-
мя возмущал своей враждебной России позицией в годы интервенции
и “холодной войны”. И вместе с тем великий англичанин безусловно им-
понировал ему мощным интеллектом, а также смелостью и оригиналь-
ностью.
А Дизраэли? Молодой наглец автору его биографии едва ли нра-
вился. Однако к старому мудрому политику отношение его, я полагаю,
было другим. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, он в определен-
ной мере - в смысле самоощущения человека, который подводит жиз-
ненные итоги, - ассоциировал себя со своим героем.
В 90-е годы в наших беседах возникла новая тема. Известно, что в
это время ученые, в том числе историки, получили в свое распоряжение
ряд документов, ранее им недоступных, и стали пересматривать некото-
рые трактовки нашего прошлого. Процесс этот сам по себе закономер-
ный. Любого честного исследователя новые документы заставляют
тщательно, без спешки проанализировать их, сопоставить с ранее опуб-
ликованными материалами, определить их весомость. С учетом содер-
жащихся в них новых данных еще раз проверить свою концепцию и пе-
ресмотреть ее, если вновь обнаруженные документы докажут необхо-
димость этого.
55
К сожалению, наряду с таким вполне естественным процессом,
в последние годы обнаружилась и другая тенденция: некоторые исто-
рики и журналисты в угоду “новому времени”, а иногда, чтобы просто
заявить о себе, сказав “новое” слово, бросились в крайности, объявляя
белое черным, а черное белым. Так, некто Резун (Суворов) выдвинул
совершенно бездоказательную концепцию о подготовке Советским
Союзом в 1941 г. нападения на Германию (но последняя, дескать, реши-
ла “опередить” его). Другой автор - Славинский - в своих работах о
Японии заявил о незаконной оккупации Советским Союзом Куриль-
ских островов и необходимости их передачи Японии. Книги Славинско-
го вызвали бурю возмущения советских японоведов. Впоследствии поя-
вились сообщения о том, что издание этих книг субсидировалось япон-
скими спонсорами.
Для В.Г. Трухановского “старая” точка зрения никогда не была
догмой, истиной в последней инстанции, но и новые подходы не воспри-
нимались им автоматически как синоним “правильного”, “хорошего”,
как “открытие правды”. Он тщательно анализировал новые докумен-
ты, которые давали основания для переоценки тех или других истори-
ческих событий, для определения ошибочности прежних наших пред-
ставлений о них. Его огромная эрудиция, прекрасное знание историче-
ских фактов и исторических деятелей, знакомство как с русскими, так
и с иностранными авторами, собственный опыт позволяли ему всесто-
ронне оценить старую точку зрения и принять другую или наоборот.
Свидетельством изменения его позиции по конкретным проблемам
служит, например, авторская работа над переизданиями книги “Уин-
стон Черчилль”. Однако к политическим спекуляциям, к фальшивкам,
состряпанным под прикрытием вывески “новый подход”, Труханов-
ский был непримирим.
В 1992 г. при Институте всеобщей истории РАН был создан
“Английский клуб”. Его президентом единогласно был избран Влади-
мир Григорьевич. На одном из заседаний клуба мне довелось присутст-
вовать и выступать в качестве содокладчика. Наиболее интересным,
выслушанным с огромным вниманием был доклад президента клуба.
При оценке того или иного явления, говорил он, исследователь обязан
учитывать весь комплекс имеющихся в его распоряжении данных.
Нельзя вырывать отдельные факты из общего хода событий, нельзя
строить все доказательство на одном примере и замалчивать другие (ча-
сто более важные). Это было выступление большого ученого, порядоч-
ного человека, патриота своей страны. Он не мог равнодушно отно-
ситься к тому, как умаляется роль нашей страны в разгроме фашизма.
Союз двух ученых
В книге об Уинстоне Черчилле один из английских ученых заметил,
что в жизни ему везло во многих отношениях, но больше всего повезло
с женитьбой. Сэр Уинстон высоко ценил ум и такт своей супруги Кле-
ментины (Клемми, как называл ее муж).
Джузеппе Мадзини, основатель “Молодой Италии”, герой объеди-
нения страны, заметил, что мужчина и женщина - это две ноты, без ко-
56
торых струны человеческой души не дают правильного аккорда.
Эти слова, на мой взгляд, вполне применимы и к отношениям между
Владимиром Григорьевичем и его супругой Натальей Георгиевной
Думовой.
Мне приятно было, что я стал первым, кого он познакомил со сво-
ей будущей женой, задолго до того, как началась их совместная жизнь.
Знаю об этом с его собственных слов, и для меня это был знак друже-
ского доверия. Приятно было и приходить в их гостеприимный дом, где
благодаря хозяину всегда было интересно. Оба историки, они жили еди-
ной духовной жизнью. Владимир Григорьевич интересовался литерату-
рой и живописью, одно время фотографией; Наталья Георгиевна напи-
сала очень интересную книгу о меценатах, усилиями которых были со-
хранены бесценные художественные произведения. В 1989 г. они опуб-
ликовали совместную научно-популярную книгу “Черчилль и Милюков
против Советской России”. Это была интересная по материалу работа,
к тому же живо и занимательно написанная. Несмотря на свой большой
тираж, книга сразу же разошлась, и уже спустя несколько недель ее бы-
ло трудно приобрести.
* * *
Спрашиваю себя, за что люди уважали Владимира Григорьевича
прежде всего? Я бы ответил так: они ценили его как выдающегося
ученого, уважали его за исключительный талант. Им импонировало
глубокое понимание Трухановским исторических процессов, умение
выделить главное в истории и отмести все второстепенное, несущест-
венное.
Изучая труды В.Г. Трухановского, его коллеги, аспиранты и студен-
ты отмечали ясность мысли, логику в его рассуждениях, большую убе-
дительность в доказательстве выдвигаемых положений и прекрасный,
свободный от формализма стиль. Исторические персонажи в его книгах
представали живыми и потому легко запоминались, читатели в них
верили.
Как руководитель он умел находить общий язык с подчиненными.
Владимир Григорьевич был достаточно требователен и вместе с тем че-
ловечен, не перекладывал ответственность на других и в случае необхо-
димости принимал решение, а с ним и ответственность за него. Людям,
которые хотели работать, было приятно иметь с ним дело.
Это был в высшей степени порядочный и честный человек - чест-
ный в науке, честный в личной жизни, человек, умеющий держать свое
слово.
Как человека его уважали за то, что он, в отличие от многих,
думал прежде всего не о себе, не о своей карьере, а о порученном ему де-
ле, о науке. Он был лишен чувства зависти, которое в наши дни, к сожа-
лению, стало распространенным не только среди политиков, но и среди
ученых. Владимир Григорьевич искренне радовался успехам других.
Выдающийся ученый, патриарх российского англоведения, мастер
слова, достойный во всех отношениях человек - таким я знал Владими-
ра Григорьевича Трухановского.
57
И.В, Созин
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
ВО ГЛАВЕ ЖУРНАЛА “ВОПРОСЫ ИСТОРИИ”
Владимир Григорьевич Трухановский проработал главным редак-
тором журнала “Вопросы истории” 27 лет, побив тем самым рекорд
пребывания в этой должности всех предшествующих главных редакто-
ров в несколько раз. Мне привелось наблюдать более 20 лет, как он
трудился на столь важном в нашей исторической науке посту. За все эти
годы я не видел, чтобы он терял присутствие духа, хотя жизнь подбра-
сывала нередко весьма сложные ситуации, связанные с обстановкой в
стране в целом и в науке в частности.
Пришел Владимир Григорьевич в редакцию в 1960 г. То было вре-
мя, когда журнал переживал серьезные трудности, начавшиеся после
погрома, учиненного партийными инстанциями еще за три года до это-
го. Главной причиной этих внутриредакционных перетрясок было по-
становление ЦК КПСС о журнале “Вопросы истории” от 9 марта
1957 г. Дело в том, что тогдашнее руководство журнала (А.М. Панкра-
това и Э.Н. Бурджалов) стало активно развертывать критику многих
положений советской историографии, особенно в той ее части, которая
касалась освещения событий 1917 г. и оценки деятельности Сталина в
то время. Начавшаяся в общественной жизни СССР “оттепель” явно на-
пугала тогдашнее партийное руководство. Ведь отменить решение XX
съезда КПСС об осуждении культа личности было невозможно, и оста-
валось только всемерно усилить партийный контроль над обществен-
ными науками и прежде всего над тем, как излагается история советско-
го общества. Чтобы обозначить такой поворот в идейной жизни, ЦК
КПСС прибег к репрессивным мерам в отношении научного историче-
ского журнала. Не помогло даже то, что главный редактор Анна Ми-
хайловна Панкратова являлась членом ЦК КПСС. Этот погром стоил
ей жизни.
Длительное время партийные инстанции не могли сосватать на ос-
вободившийся пост кого-либо из авторитетных историков. Занимать
явно “провальное” кресло никто из них не соглашался. Выбор же чело-
века не из академической среды (профессор МГУ С.Ф. Найда) оказался
неудачным. Лучшие работники редакции были разогнаны уже в первые
месяцы после постановления ЦК по журналу. Новый состав редакции
очень скоро начал конфликтовать с назначенным главным редактором.
Все это не могло не отразиться на содержании журнала. В этой ситуа-
ции С.Ф. Найде не оставалось ничего иного, как оставить свой пост.
Журнал снова остался без руководителя.
Надо было обладать немалой отвагой, чтобы дать согласие перей-
ти со сравнительно спокойной должности заместителя директора Ин-
ститута истории АН СССР, которую Трухановский тогда занимал, на
весьма опасное место главного редактора все еще остававшегося опаль-
ным журнала.
58
К тому времени Владимир Григорьевич имел уже немалый жизнен-
ный опыт: пребывание на дипломатической службе научило его разум-
ной осторожности и дальновидности в принятии решений, а работа в го-
ловном академическом научном учреждении свела вплотную с самыми
известными профессиональными историками. Все это пригодилось ему
при формировании новой редколлегии журнала и в установлении нор-
мальных деловых отношений с редакционным коллективом.
На первой же встрече с работниками редакции он призвал нас к со-
вместному, дружному выправлению ситуации в журнале, заявив, что не
собирается повторять с сотрудниками редакции сделанное в
1957-1958 гг. Относительно конфликта своего предшественника с кол-
лективом Владимир Григорьевич полушутя и полусерьезно сказал нам:
- Если вы смогли опрокинуть генерала (военный в отставке, Найда
имел такой чин. - Авт.), то что же ожидает меня?
Лишь очень немногие из работников редакции ушли из нее (совер-
шенно добровольно), и с несколько обновленным коллективом Труха-
новский взялся за восстановление статуса журнала в качестве ведущего
органа исторической науки в стране.
Как главный редактор он не склонен был к рывкам, пожарным ме-
рам, осторожно и умело направлял редакционную деятельность. Очень
скоро мы почувствовали твердую руку опытного администратора и
большого ученого.
Были выработаны долгосрочные планы публикаций, постепенно
изменен профиль журнала с учетом нужд преподавателей истории в
школах и вузах и распространения исторических знаний. Планомерная
реорганизация редакционного аппарата создала возможности для более
углубленной специализации научных редакторов, что способствовало
повышению научного уровня журнала и более тесному сотрудничеству
с его авторским коллективом.
Все это Трухановскому приходилось делать в трудных условиях
усиливавшегося партийного контроля. Были, конечно, при этом и вся-
кого рода курьезы. Так, по указанию партийных инстанций редакция
вынуждена была после XXII съезда КПСС составить план публикаций
на 20 лет вперед! При обсуждении этого документа на редколлегии
один из ее членов подал реплику: “В этом плане не записаны только да-
ты смерти каждого из нас”.
Много внимания Владимир Григорьевич уделял улучшению мате-
риального положения сотрудников редакции. Он не жалел сил на то,
чтобы убедить издательство “Правда”, в штатах которого состояла ре-
дакция, регулярно выделять для ее сотрудников, кто в этом нуждался,
жилплощадь. Ему удалось также добиться награждения ряда работни-
ков редакции орденами и медалями.
Главный редактор был требователен, но всегда корректен. Я не по-
мню, чтобы даже в самых крайних случаях он в разговорах с сослужив-
цами кого-то обругал или просто повысил голос. В 1964 г. я был при-
глашен для научной и преподавательской работы в Московский универ-
ситет им. М.В. Ломоносова и поэтому оставил редакцию. До последне-
го дня Владимир Григорьевич не верил в то, что Созин уйдет из редак-
59
ции: “Я поверю в это только тогда, когда, прийдя в редакцию, смогу
убедиться, что Иван Васильевич с нынешнего дня в редакции не рабо-
тает и поэтому на службу не пришел”. Возвратился я в редакцию через
шесть лет по его настоятельной просьбе в качестве ответственного се-
кретаря.
За эти годы журнал приобрел новый облик: в нем печатались те-
перь не только научные статьи, но и документальные очерки, предна-
значенные широкому читателю. Тираж журнала возрос почти вдвое,
что свидетельствовало о восстановлении им престижа ведущего среди
других периодических изданий по истории. Можно сказать, что благо-
даря умелому руководству Трухановского журнал выстоял в конкурен-
ции с другими историческими органами печати, столь неудачно начав-
шейся для него еще в 1957 г., когда они были созданы.
Все, что характеризовало обстановку в редакции конца 50-х годов,
ушло в прошлое. Был отлажен механизм подготовки рукописей к пе-
чати, упрочились связи с научными учреждениями и вузами, т.е. с те-
ми историками, которые составляли цвет отечественной историче-
ской науки.
Важную роль Владимир Григорьевич придавал организации друж-
ной работы редколлегии, в которую входили, как правило, видные уче-
ные. Он тщательно готовился к ее заседаниям, прочитывая все без ис-
ключения рукописи, представляемые на ее обсуждение отделами редак-
ции, и записывал основные замечания членов редколлегии.
Журнал выходил без опозданий, четко работали все отделы редак-
ции. Проводились регулярно читательские конференции. Ежемесячно
заседала редколлегия. Совершенствовалось научное содержание жур-
нала. На его страницах печаталось все большее число научных статей.
Во всем этом чувствовалась направляющая рука главного редактора.
Налаживанию работы помогали навыки, приобретенные Труханов-
ским на дипломатическом поприще. При возникновении споров по об-
суждаемым материалам он умело и твердо отстаивал свою позицию, и
в большинстве случаев члены редколлегии соглашались с его мнением.
За первые семь лет работы в журнале у Трухановского сменилось
три заместителя (Г.Н. Голиков, Д.К. Шелестов, Л.К. Шкаренков). Слу-
чилось это отнюдь не по вине главного редактора, так как он хорошо
срабатывался с каждым из них, а уход их из редакции вызывался их лич-
ными причинами. Мне довелось работать с первыми двумя из назван-
ных лиц. Следующими заместителями главного редактора были
Е.И. Тряпицын и А.Г. Кузьмин, который в 1975 г. после защиты док-
торской диссертации перешел на преподавательскую работу.
Владимир Григорьевич тогда уговорил меня хотя бы временно, до
подыскания нового заместителя исполнять эти обязанности. А через
год он добился утверждения меня, не имевшего в то время ученой сте-
пени, в этой должности (в которой я состою и по сей день). Почти 12 лет
длился наш рабочий тандем. Я благодарен Владимиру Григорьевичу за
высокую оценку моего скромного труда, выразившуюся, в частности, в
представлении меня к государственной награде (в 1981 г. мне был вру-
чен орден Дружбы народов).
60
Работать под руководством Трухановского было непросто. Это был
человек требовательный не только к себе, но и к подчиненным. В рам-
ках служебных полномочий он предоставлял полную свободу действий,
что развивало инициативу как мою, так и всех остальных сотрудников
редакции. Он не являлся сторонником строгих дисциплинарных мер, за-
то вызов в его кабинет на личную беседу запоминался надолго. Все ма-
териалы Владимир Григорьевич читал не только в машинописи, но и в
верстке, и работникам редакции иногда приходилось краснеть, знако-
мясь с пометками главного редактора на полях или с его язвительными
подчас резолюциями.
В общении с людьми Владимир Григорьевич был мягок, снисходи-
телен, но не потакал тем, кто по каким-либо причинам не исполнял сво-
их служебных обязанностей или относился к делу спустя рукава.
Мы были всегда в курсе дел своего главного редактора, а он хоро-
шо знал о наших заботах и трудностях. Когда его постигло большое го-
ре (внезапно скончался совсем еще молодой его сын Гриша, успешно
начавший научную деятельность в Институте США и Канады), мы ста-
рались морально поддержать Владимира Григорьевича своим искрен-
ним сочувствием, смягчить боль невосполнимой утраты.
Прошло несколько месяцев, и такое же горе обрушилось на мою
голову: в Западной группе войск в ГДР во время боевых учений был
смертельно ранен мой старший сын Митя. Узнав об этом, Трухановский
вопреки своему обыкновению (не ходить по кабинетам сотрудников ре-
дакции) пришел ко мне. Закрыв за собою дверь, с полными слез глаза-
ми посмотрел в мои заплаканные глаза. Никогда я этого не забуду, хо-
тя мы не сказали друг другу ни слова.
Параллельно с руководством редакцией Владимир Григорьевич ин-
тенсивно работал как ученый. Годы, когда он был главным редактором
журнала, стали временем расцвета его научной деятельности. Одна за
другой выходили в свет его книги об Уинстоне Черчилле, Антони Иде-
не, адмирале Нельсоне. Еще будучи главным редактором журнала, он
начал готовить книгу о Бенджамине Дизраэли. Через биографии этих
выдающихся деятелей Англии XVIII-XX вв. Трухановский фактически
осветил всю историю Великобритании за 200 лет. Благодаря его писа-
тельскому дару эти книги становились доступными широкому читате-
лю и не раз переиздавались.
Владимир Григорьевич вел большую работу во Всемирной федера-
ции научных работников, советской Ассоциации содействия ООН и Па-
гуошском комитете. Его рассказы о зарубежных поездках, о междуна-
родных конференциях вызывали у нас живейший интерес, способствуя
лучшему пониманию обстановки в мире. Он настойчиво стремился к ук-
реплению связей отечественных историков с их зарубежными коллега-
ми. Одним из плодов этих усилий стал одновременный выход в свет в
1977 г. номера журнала “Вопросы истории”, состоявшего из статей
польских историков, и номера журнала “Кварталышк хисторычны”, со-
стоявшего из работ наших историков. Эти номера журналов вызвали
значительный интерес научной общественности двух стран. В польском
номере была напечатана и статья Трухановского.
61
На церемонии награждения журнала “Вопросы истории”
Орденом Трудового Красного Знамени. 1976 г.
В середине 70-х годов по инициативе Владимира Григорьевича ре-
дакция журнала начала подготовку к полувековому его юбилею, прихо-
дившемуся на 1976 г. Представление журнала к награждению неожи-
данно для редакции натолкнулось на сопротивление начальника Отде-
ла кадров АН СССР Г.А. Цыпкина, который сослался на то, что Ака-
демии не выделено на этот счет никаких орденских знаков. В конечном
итоге вопрос решался на заседании Политбюро ЦК КПСС.
Как нам стало позднее известно, на этом заседании в представле-
ние о награждении журнала была внесена существенная поправка: по
предложению Л.И. Брежнева было решено наградить журнал не орде-
ном Дружбы народов, а орденом Трудового Красного Знамени за за-
слуги в развитии исторической науки. Соответствующий указ вскоре
последовал.
В один из летних дней в редакции раздался телефонный звонок из
ЦК КПСС с сообщением о награждении журнала. Сотрудники редак-
ции находились в этот момент на очередном заседании руководимо-
го мною теоретического семинара. Секретарь редакции прошептала
мне на ухо о полученном известии. Я подошел к Владимиру Григорье-
вичу и также потихоньку сообщил ему эту новость. Он тут же громко
объявил:
- Если Созин не шутит, наш журнал наградили орденом Трудового
Красного Знамени.
Все присутствующие шумно выражали свою радость. В тот же день
фельдъегерь доставил в редакцию ксерокопию Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР.
62
Через несколько месяцев в торжественной обстановке к знамени
журнала, древко которого по праву держал в своих руках наш главный
редактор, была под бурную овацию зала прикреплена эта заслуженная
коллективом высокая награда.
Середина 70-х годов действительно стала своего рода вершиной
тех успехов, которые позволяли журналу занимать положение веду-
щего печатного органа нашей исторической науки. В достижении этой
вершины огромная заслуга Трухановского как главного редактора.
Он гордился тем, что в условиях все нараставшего давления партий-
ных инстанций удалось сохранить научный облик журнала. Он всей
душой болел за случавшиеся порой редакционные промахи, неудачи,
работу в журнале считал главным делом и в годовых отчетах о своей
научной деятельности в качестве члена-корреспондента АН СССР
всегда на первое место ставил выпуск очередного годового комплек-
та журнала.
Между тем именно с середины 70-х годов все более возрастал на-
тиск партийных инстанций на журнал в плане подчинения его содержа-
ния сугубо пропагандистским целям тогдашнего руководства КПСС.
Нажим со стороны власти был настолько силен, что его трудно было
выносить даже человеку с такими далекими от диссидентства взгляда-
ми, как Владимир Григорьевич. Усиление идеологического контроля
выражалось не только в замечаниях партийных инстанций по поводу
отдельных опубликованных в журнале материалов или формулировок
в них, но и в практике введения в состав редколлегии ответственных ра-
ботников Отдела науки ЦК КПСС.
Регулярными стали вызовы главного редактора на Старую пло-
щадь (в Отдел науки или Отдел пропаганды), где проводились разного
рода совещания в целях идеологической накачки, или “на ковер” для
оказания ничем не прикрытого нажима. Владимир Григорьевич возвра-
щался в редакцию с этих “проработок” каким-то сникшим и расстроен-
ным, обычно советовался с сотрудниками редакции о том, как отреаги-
ровать на полученные в партийных инстанциях замечания, сделать это
с меньшим ущербом для научного реноме журнала. Владимир Григорь-
евич часто находил самый неожиданный выход из создавшейся ситуа-
ции. Я никак не могу согласиться с теми, кто пытался в ту пору за гла-
за обвинять Трухановского в излишней уступчивости.
Хуже было тогда, когда партийные инстанции настаивали на ис-
ключении ряда историков из числа авторов журнала. Каждый раз Вла-
димир Григорьевич мрачнел, внося в список запретных лиц новую фа-
милию. С начала 70-х годов в нем фигурировали известные историки -
П.В. Волобуев, А.Я. Гуревич, К.Н. Тарновский и др.
Все это происходило под флагом укрепления идеологической дис-
циплины и борьбы за идейную чистоту и партийность исследований ис-
ториков. Все чаще отделы ЦК КПСС стали давать прямые указания о
непременной публикации тех или иных материалов. Одним из первых
заданий такого рода стало поручение напечатать статью о Брежневе в
связи с его 70-летием. Попытки редакции найти автора такой статьи
среди более или менее известных историков результата не дали. Приш-
63
лось поручить написание ее недавно “сосланному” в редакцию из аппа-
рата ЦК КПСС в качестве второго заместителя главного редактора
А.И. Титову. Публикации такого рода юбилейных материалов (напри-
мер, о 60-летии Октябрьской революции и т.п.) становились регу-
лярным делом. А с начала 80-х годов журналу было предписано печа-
тать официальные партийные документы, прежде всего материалы
пленумов ЦК КПСС, связанных с избранием генеральных секретарей
ЦК КПСС.
Все это не могло не сказаться как на научном уровне журнала, так
и на его тираже, который стал неуклонно падать. Это очень огорчало
Трухановского, и он начал все чаще задумываться над тем, стоит ли ос-
таваться во главе журнала, который из научного мог трансформиро-
ваться в конце концов в пропагандистский. Ему, известному ученому,
опытнейшему редактору, явно не хотелось превратиться в простого ис-
полнителя поступавших сверху указаний. Такое положение угнетало
Владимира Григорьевича. Настроение его все чаще становилось сум-
рачным, хотя внешне он оставался спокойным и не подавал вида, что
создавшаяся ситуация его никак не устраивает.
В 1984 г. в журнале была опубликована статья Е.А. Амбарцумова
“Анализ В.И. Лениным причин кризиса 1921 г. и путей выхода из него”,
в которой ставился вопрос об общественно-политических кризисах при
социализме. Она была рекомендована редакции членом редколлегии
А.С. Черняевым (заместителем заведующего Международным отделом
ЦК КПСС). Неожиданно для нас изложение статьи было опубликовано
во многих странах тогдашней социалистической системы, где эта статья
была воспринята как показатель некоего поворота в идеологической
жизни СССР. Советские послы запросили по этому поводу разъяснений
от партийных и правительственных органов.
В отсутствие Трухановского, находившегося в отпуске, мне как
представителю журнала на совещании руководящих работников печати
в Отделе пропаганды ЦК КПСС пришлось выслушать отповедь секре-
таря ЦК КПСС М.В. Зимянина по поводу содержания статьи Амбарцу-
мова. Мое сообщение об этом чрезвычайно взволновало Владимира
Григорьевича, возвратившегося в Москву.
В “Коммунисте” был опубликован разгромный материал по поводу
статьи Амбарцумова за подписью заместителя главного редактора жур-
нала Е.И. Бугаева. Под мощным давлением сверху было проведено рас-
ширенное заседание редколлегии “Вопросов истории” с целью вырабо-
тать (для последующей публикации) решение, осуждающее содержание
злополучной статьи. Члены редколлегии, которые в свое время утвер-
дили ее к печати, теперь дружно отказались от своего прежнего мнения.
Черняев на заседание редколлегии не пришел. Спустя некоторое
время он прислал Трухановскому письмо, в котором подтвердил свое
прежнее мнение о статье Амбарцумова. “Тем не менее получается, что
я подвел редакцию”, - писал Черняев и извещал, что в связи с этим счи-
тает себя обязанным выйти из состава редколлегии (хотя, по его сло-
вам, почти 20-летнее сотрудничество в журнале было для него “очень
дорого и полезно”).
64
Вся эта история произвела на Владимира Григорьевича настолько
гнетущее впечатление, что он впервые в разговоре со мной сказал о же-
лании уйти со своего поста.
Размышляя о том, с чем можно сравнить работу главного редакто-
ра исторического журнала в условиях всеохватывающего идеологиче-
ского контроля, я пришел к выводу, что она напоминает действия сапе-
ра, занимающегося разминированием неизвестного ему минного поля,
и сказал об этом, выступая на редакционном чествовании Трухановско-
го в связи с его 70-летием.
Владимир Григорьевич очень остро чувствовал эту опасность.
Именно поэтому, подписывая очередной номер журнала в печать на вы-
ход в свет, неизменно спрашивал сотрудников редакции: “На чем мы
здесь можем подорваться?”
Почти четверть века ему удавалось обходить такую опасность. Ши-
роко известный исследователь, он быстро превратился в научного реда-
ктора высочайшей квалификации и весь свой огромный опыт отдал де-
лу, главным итогом которого стало сохранение, несмотря ни на что, на-
учного облика журнала “Вопросы истории”.
Из-за физического недомогания мне не пришлось провожать в пос-
ледний путь Владимира Григорьевича Трухановского, с которым тесно
связаны многие годы совместной работы в журнале. Так пусть же этот
рассказ о его деятельности как главного редактора журнала “Вопросы
истории” послужит скромной данью его светлой памяти.
В.Н. Павленко
НАШ ГЛАВНЫЙ
В один из октябрьских дней 1968 г. мне позвонили из редакции жур-
нала “Вопросы истории” и попросили срочно приехать на Малый Пу-
тинковский переулок для встречи с главным редактором. Я уже не-
сколько раз бывал в этом здании, примыкавшем к кинотеатру “Россия”,
с высоченными потолками и крутой лестницей. В редакции наметилась
вакансия, и я оказался одним из кандидатов на освободившееся место,
несколько раз приезжал в журнал, чтобы получить рукопись для реда-
ктирования или сдать готовую на литправку. Сделанное оценили поло-
жительно, одна из статей даже успела попасть в очередной номер.
Согласен был принять меня в отдел отечественной истории его заведу-
ющий Константин Иванович Седов, не возражал и заместитель главно-
го редактора Евгений Иванович Тряпицын. Окончательное решение
должен был принять главный редактор - Владимир Григорьевич Труха-
новский. Я и приехал в редакцию для встречи и беседы с главным, впер-
вые увидел его и познакомился.
Из-за стола вышел плотный мужчина в хорошем темно-сером кос-
тюме, в очках, поздоровался и пригласил к беседе. Вопросы задавались
5 Россия и Британия Вып 3
65
разные, и один из первых такой: «Читают ли “Вопросы истории” в
Главном архивном управлении?» (я там работал). Да, журнал пользо-
вался в библиотеке спросом, его читали, знали, особенно интересова-
лись им сотрудники отделов использования документов и научно-изда-
тельского. Мне как секретарю коллегии главка приходилось готовить
справки о публикации в журнале документов, использовании авторами
архивных фондов. Ответ удовлетворил главного. Затем он спросил, чи-
тал ли я публикуемые в журнале исторические очерки (тогда это был
новый для “Вопросов истории” жанр). Да, читал, ответил я и тут же по-
просил автора очерка об У. Черчилле разъяснить какой-то случай из
биографии знаменитого британца. Владимир Григорьевич улыбнулся -
он понял, что я тем самым хочу подтвердить свои слова. Однако отве-
чал охотно, рассказывая о таких деталях, которые не вошли в публи-
кацию.
Я запомнил, как главный редактор держал себя, как вел беседу.
Прежде всего - доброжелательно и корректно, вопросы задавал спо-
койно, сначала глядя в сторону, а в конце фразы - внимательно прямо
в глаза собеседника, как бы оценивая реакцию и правдивость ответа.
Эту манеру вести разговор я наблюдал не раз, присутствуя при беседах
Владимира Григорьевича с авторами журнала.
Уже при первой встрече с главным редактором я услышал его час-
то повторяющийся тезис, напоминание сотрудникам журнала: «Вы ра-
ботаете в “Вопросах истории”! Помните об авторитете журнала». Этим
и объясняется то, с каким вниманием он беседовал с кандидатами на от-
крывающиеся в журнале вакансии, как подбирал новых работников,
оценивал не только их деловые качества, эрудицию, но и характер,
способность вписаться в сложившийся и четко работающий коллектив.
Проблемами отечественной истории занимались К.И. Седов и Су-
санна Андреевна Пустовойт, специалистом по зарубежной истории был
Александр Соломонович Гроссман, научно-популярные сюжеты вели
Анатолий Яковлевич Шевеленко и Нина Константиновна Стрелкова.
За чистоту русского языка, корректуру, правку отвечала литредакция,
которую возглавляла Рита Александровна Бурлакова. Секретариатом
ведала Марина Яковлевна Ралко. В машбюро трудились Зинаида Ва-
сильевна Дубровинская, Валентина Васильевна Питомцева. Почти все
они работали в журнале и до прихода Владимира Григорьевича на пост
главного редактора в 1960 г.
Редакция - живой организм. Бывало, что по каким-то своим причи-
нам сотрудники покидали ее, в основном переходили на преподаватель-
скую работу, в научные учреждения. Главный редактор никогда никого
не удерживал в журнале. Подбирал же новых сотрудников, все взвеши-
вая, раздумывая. Так, за годы моей работы в журнале вернулся Иван
Васильевич Созин, пришли Вадим Николаевич Виноградов, Рувим Еха-
нанович Кантор, Генриетта Владимировна Пронина, Владимир Василь-
евич Поликарпов. Некоторые из них продолжают работать в журнале
и поныне. Это лишь подтверждает, что главный почти не ошибался, ко-
гда выбор делал сам. Приходили в журнал сотрудники и по жесткой ре-
комендации из “руководящих” структур. А коллектив их не принимал,
66
и им приходилось уходить. Во всех таких случаях (на моей памяти их
было несколько) мнение главного редактора и мнение коллектива сов-
падали.
Для Владимира Григорьевича сформировать представление о сот-
руднике не представляло особого труда, поскольку результаты работы
каждого обязательно попадали на стол главного редактора. Он или чи-
тал всю поступающую почту, или ему ее докладывали, а затем переда-
вали для чтения заинтересовавшие его материалы. Главный читал ста-
тьи, делал пометки, приглашал заведующего отделом или редактора
для беседы, советовал, как лучше доработать материал, с кем прокон-
сультироваться. Затем он читал весь представленный на обсуждение
редколлегии блок, еще раз проходился карандашом по тексту, далее -
верстка и, наконец, чтение отдельных материалов уже на стадии свер-
ки. Главный редактор следил за тем, как учитываются замечания чле-
нов редколлегии, его собственные пожелания и строго выговаривал, ес-
ли об этом забывали.
Часто напоминал Владимир Григорьевич о бережном отношении к
авторскому тексту. Как тут не вспомнить бытующую среди редакторов
шутку о ремесленнической сути их труда: телеграфный столб - это хо-
рошо отредактированная сосна. Однажды один из наших редакторов
так “обстругал” рецензию провинциального доктора наук, что тот отка-
зался подписывать гранки, вернул их и присовокупил злое и ироничное
письмо, где писал, что у каждого автора свой стиль, так сказать, свое
лицо, из его же рецензии сделали место, на котором он обычно сидит.
Владимир Григорьевич отнесся к письму очень серьезно: текст рецен-
зии восстановили и напечатали почти в первозданном виде, а главный
настоятельно просил и научных редакторов, и литературную редакцию
сделать из этого случая необходимые выводы. Авторитет В.Г. Труха-
новского в коллективе был высок, именно на нем основывалась редак-
ционная дисциплина, и мы стремились по возможности точно выпол-
нять указания главного.
Впрочем, в журнал нередко поступали статьи, написанные таким
наукообразным, заумным языком, что трудно было понять, что же хо-
тел сказать автор. При чтении их нельзя было не вспомнить слова
А.П. Чехова: “Хочут они свою ученость показать”. В подобных случа-
ях Владимир Григорьевич просил так поработать над рукописью, что-
бы статья стала ясна “и доценту из Новозыбкова”. Этот призыв главно-
го редактора мы слышали неоднократно и старались ему следовать.
И не было в этих словах какого-то столичного высокомерия. Наоборот,
Владимир Григорьевич просил тем самым уважительно относиться к
многочисленной армии вузовских и школьных преподавателей, пом-
нить, что именно они - основные читатели и подписчики журнала.
И вот однажды в редакцию действительно, как говорят, “самотеком”
пришла статья из Новозыбкова - городка на западной окраине Брян-
ской области - от преподавателя местного вуза. Владимира Григорьеви-
ча не только позабавило, но и порадовало такое совпадение: наш сим-
волический читатель как бы обрел плоть и кровь. Статья оказалась
пригодной и была напечатана в “Вопросах истории”.
67
“Самотек” занимал значительную часть редакционного портфеля.
Остальные материалы были заказными, и лучшие из них заказывались
главным редактором. Основную задачу он видел в том, чтобы подни-
мать важные, значимые для развития науки проблемы. Владимир Гри-
горьевич договаривался с известными учеными о подготовке статей по
таким проблемам или поручал это сделать сотрудникам журнала. Вме-
сте с тем, участвуя в различных научных форумах, слушая доклады,
знакомясь с тезисами выступлений, он обращал наше внимание на мо-
лодых, перспективных исследователей из провинциальных вузов, реко-
мендовал привлекать их к сотрудничеству в журнале, открывая им путь
в большую науку. Вообще главным было установлено правило, чтобы
не менее трети журнальной площади занимали материалы из провин-
ции, из местных вузов, архивов, музеев.
Для “доцентов из Новозыбкова” главный редактор значительно
расширил информационный блок в журнале. Здесь печаталась не толь-
ко информация о конференциях, симпозиумах, посвященных обсужде-
нию проблем исторической науки, которые проходили в Москве, столи-
цах союзных и автономных республик, областных и краевых центрах,
но также сообщения о научной жизни исторических факультетов раз-
личных вузов. Публиковали мы содержание вышедших номеров отече-
ственных и зарубежных исторических журналов, вузовских сборников
научных работ, трудов кафедр истории и многое другое.
На всех читательских конференциях в адрес редакции звучали бла-
годарственные слова за публикацию подобных материалов. На таких
конференциях в полной мере осознавался смысл постоянного напоми-
нания Владимира Григорьевича: «Вы работаете в “Вопросах истории”».
И сознание этого придавало нам силы. Может быть, в наши дни это зву-
чит пафосно, но суть дела от этого не меняется. Мы любили свой жур-
нал, и для нас было важно, что во главе его стоит известный ученый,
общественный деятель, пользующийся большим авторитетом среди
наших авторов и читателей.
Каждый месяц выпуск сигнального экземпляра очередного номера
был для нас всех радостным событием. А главный редактор, прежде
чем подписать его “на выход в свет”, задавал традиционный вопрос:
“Здесь все в порядке?” “Все в порядке”, - отвечал заместитель главно-
го редактора Иван Васильевич Созин или ответственный секретарь
(я работал в этой должности с 1984 по 1988 г.). Опечатки или ошибки
появлялись чрезвычайно редко. Это была школа В.Г. Трухановского.
Думаю, что и журнал занимал важное место в научной и обществен-
ной жизни самого Владимира Григорьевича. Здесь он мог реализовы-
вать собственные научные идеи, следить за тенденциями развития исто-
рической науки, налаживать контакты с учеными всей страны и других
государств. Мне казалось, что он не мыслит себя без журнала.
Каждый год по нескольку раз Владимир Григорьевич выезжал за
границу, бывал в США, Канаде, Африке, Бразилии, Австралии, Новой
Зеландии (он являлся президентом Общества дружбы СССР с этой
страной). Возвратившись из-за рубежа, он обязательно рассказывал
нам о своей поездке. Весь коллектив собирался в большой редакцион-
68
В Австралии. 1970 г.
ной комнате и внимал рассказу главного о встречах с учеными, полити-
ческими и общественными деятелями, о культуре, обычаях страны,
природе, архитектуре, о разных забавных случаях. Помню его рассказы
о красивейшей бухте на Кипре, где, согласно мифу, из морской пены ро-
дилась Афродита, об экзотических островах Фиджи, о Либерии, где в
жуткую жару у него пропал чемодан со всеми вещами. И о многом, мно-
гом другом. Рассказывал увлеченно, образно, с шутками. Мы видели
мир глазами Владимира Григорьевича, ведь сами поехать в те годы ни-
куда не могли.
В редакции выступали и многие известные, интересные люди -
историки, экономисты, журналисты, искусствоведы, музейные работ-
ники. Чаще всего это были наши авторы, некоторых из них приглашал
главный редактор.
За почти два десятилетия работы в журнале мне, как и моим колле-
гам, приходилось встретиться в редакции, наверное, с тысячью людей,
прежде всего авторов. Среди них были не только историки, но и участ-
ники Октябрьской революции и гражданской войны, бывшие наркомы
69
и министры, руководители крупнейших предприятий, партийные работ-
ники высокого ранга, маршалы, генералы, адмиралы и т.д. Имена мно-
гих навсегда остались в отечественной истории. Это были люди высо-
кого интеллекта, воли, энергии, долга, часто сложной, даже трагиче-
ской судьбы - элита страны. К этой элите можно отнести и нашего
главного редактора.
Владимир Григорьевич Трухановский был нестандартный человек.
Особенно предметно выявлялось это, например, во время заседаний
редколлегии “Вопросов истории”, когда главный редактор демонстри-
ровал свой кругозор, культуру, остроту мышления, умение принимать
оригинальные решения. И поражавшее нас искусство достигать, каза-
лось бы, недостижимых компромиссов.
Состав этого коллегиального органа был достаточно пестрым. За
одним столом сидели не только авторитетные в научных кругах люди,
известные историки, но и чиновники от науки или просто чиновники.
Насколько мне известно, состав редколлегии предлагал главный редак-
тор, но “инстанция” (особенно в последнее десятилетие) обязательно
заменяла подавляющую часть намеченных им лиц на других, ей угод-
ных. Отсюда и значительный по удельному весу “агрессивно-ортодок-
сальный” блок в составе редколлегии, и нежелание пропустить на стра-
ницы журнала новую, свежую мысль (если же это когда-то удавалось,
то каждая “вольность” имела последствия - вызов в отделы ЦК, “накач-
ки”). Мне кажется, Владимира Григорьевича больше всего раздражал в
некоторых членах редколлегии догматизм как научное кредо этих лю-
дей (хотя он старался этого не показывать). У него самого была своя
позиция по каждому вопросу, и он всегда мог ее обосновать и убеди-
тельно аргументировать.
Мне запомнилось необыкновенно теплое, можно сказать сыновнее,
отношение Владимира Григорьевича к члену редколлегии “Вопросов
истории” Сергею Даниловичу Сказкину. И не только потому, что тот
был академиком, известным ученым (к другим академикам наш глав-
ный относился по-другому). Мне кажется, его подкупала преданность
Сказкина науке, его чувство ответственности в исполнении обязанно-
стей члена редколлегии, уважение к журналу. Сергей Данилович, не-
смотря на свой весьма преклонный возраст, преодолевал все пролеты
нашей крутой высокой лестницы, чтобы присутствовать на заседаниях
редколлегии, принять участие в обсуждении материалов. Владимир
Григорьевич всегда встречал академика, провожал к его традиционно-
му месту, с особым пиететом обращался к нему на заседаниях, даже -
хорошо это запомнил - помогал надеть пальто перед уходом из редак-
ции. Академик смущался, никак не мог попасть в рукав, а Владимир
Григорьевич терпеливо держал пальто. Мне кажется, что многие в ре-
дакции с такой же сердечностью и уважительностью относились к са-
мому Владимиру Григорьевичу.
С главным редакция не только добросовестно трудилась, но и с
удовольствием отдыхала. Бывали дни, когда весь коллектив в полном
составе усаживался за праздничный стол. Между сотрудниками журна-
ла, как и в любом другом коллективе, существовали разные отношения,
70
бывали конфликты, напряжения и т.д. Но наши застолья всегда прохо-
дили дружно и весело, в почти семейной атмосфере. И в этом была (на-
ряду с другими факторами) большая заслуга нашего главного - вокруг
него объединялись все.
Традиционно мы отмечали Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день и, конечно, День Победы. Накануне
9 мая выбирался денек поспокойнее, когда в рабочем графике есть не-
большая пауза. Все согласовывалось с Владимиром Григорьевичем.
Мне не раз приходилось участвовать в организации праздничного вече-
ра, и он всегда напутствовал: “Постарайтесь потеплее!”
Помню, отмечалось 30-летие Победы. Ветераны пришли с боевы-
ми орденами. Выпили за победу, помянули погибших. Я попросил каж-
дого из ветеранов вспомнить о первом и последнем дне войны, расска-
зать о своих боевых наградах. Сколько интересных историй услышали
мы от каждого из наших ветеранов - артиллериста, сапера, связиста,
разведчика в тот вечер. Увы, никто из коллег не напомнил мне, что в
числе орденов главного редактора, хотя он и не был в армии, имеется
высокая правительственная награда за выполнение заданий правитель-
ства в годы войны - Орден Трудового Красного Знамени. И тогда Вла-
димир Григорьевич сам как-то даже застенчиво сказал: “А у меня тоже
есть награда за войну”. Мы просили его подробнее рассказать о своей
работе в военные годы, но главный отшутился и произнес очеред-
ной тост.
В тот вечер мы слушали военные песни и дарили каждому фронто-
вику набор пластинок. Когда торжество закончилось, Владимир Гри-
горьевич попросил меня: “А Вы можете и мне такой же купить, я запла-
чу”. Мне стало ужасно неловко за свой промах, и на следующий день в
кабинете главного лежали грампластинки с лучшими песнями минув-
шей войны. Как-то я спросил у Владимира Григорьевича: “Слушаете?”.
“Да, - ответил он, - нечасто, но слушаем. У нас дома любят эти песни”.
Ко всякому торжеству (а кроме праздников, мы еще отмечали юби-
леи) коллектив, в основном его женская часть, готовился заранее. Рас-
пределяли, кому что купить, а главное, какие домашние блюда появят-
ся на столе. И почти каждый раз среди них было любимое лакомство
Владимира Григорьевича - сало. Его покупала на рынке у Киевского
вокзала Р.А. Бурлакова. В этом продукте она знала толк, поскольку
имела украинские корни. Сало покупалось нежное, розовое, тающее во
рту. Его тонко резали и раскладывали по блюдам. Самое красивое ста-
вилось перед главным редактором. И начинался “пир души”. Владимир
Григорьевич после каждого тоста обязательно закусывал ломтиком са-
ла. Впрочем, он и другие домашние яства обожал - пироги, пирожки.
А какой всеобщий восторг вызвала запеченная Ритой Александровной
огромная баранья нога... Как умело поддерживал Владимир Григорье-
вич настроение за столом. Он произносил тосты, и делал это поистине
изящно, он шутил, рассказывал анекдоты, расточал комплименты на-
шим дамам.
...Подходил к концу один из вечеров. Владимир Григорьевич танце-
вал с красой нашей литредакции Галей Архиповой (Галиной Алексеев-
77
ной, конечно), а я с Люсей из машбюро. И вот, оказавшись у стены с вы-
ключателем, я нажал “для интима” одну из кнопок, половина ламп по-
гасла. Танец продолжался, а когда он закончился, главный посмотрел
на меня насмешливо и негромко сказал: “Эх, молодо-зелено! Зачем вам
этот полумрак? Женщину нужно видеть. На нее нужно смотреть во все
глаза!” Сам Владимир Григорьевич умел смотреть, на мой взгляд, даже
немного дерзко. Хотя никаких амуров он в редакции не заводил, но все-
гда рассматривал наших симпатичных женщин пристально, с интересом
и, видимо, с удовольствием. Прекрасный пол воспринимал его взгляд
как должное и тоже, по-моему, получая большое удовольствие от тако-
го внимания. Дамы не смущались, они чувствовали себя женщинами,
которыми любуется мужчина с какой-то особой харизмой, к его прихо-
ду оживлялись и прихорашивались, даже старались обратить на себя
внимание.
Владимир Григорьевич замечал все - новую деталь туалета, укра-
шение, сумочку и т.д. Любая обновка наших сотрудниц должна была
быть представлена главному. А происходило это так. “Дама в обновке”
как бы невзначай заходила в приемную и спрашивала у секретаря Иры
Гавриловой: “А главный когда будет?” Накануне определенного време-
ни вновь появлялась в секретариате по какому-либо придуманному де-
лу. Был такой случай. Новое платье одной из сотрудниц заслужило вни-
мание главного, но уж очень пристальное. Дама даже смутилась и спро-
сила: “Что-либо не так?” - “Да, - ответил Владимир Григорьевич, -
у вас птички лапками кверху”. Действительно, тьма пташек была рас-
сыпана по всему полю платья, но на рукавах портниха так раскроила
ткань, что птахи оказались вниз головками. Много шуток было после
этого эпизода.
Владимир Григорьевич предпочитал консервативные тенденции в
моде. Наши дамы с улыбкой вспоминали, как в свое время он выражал
неудовольствие, если они приходили на работу в брюках.
Хочу рассказать об одном случае, отражающем своеобразие хара-
ктера Владимира Григорьевича. Как главный редактор журнала, вы-
ходившего в издательстве “Правда”, он пользовался правом вызова ма-
шины с автобазы издательства. Однажды его в качестве крупнейшего
в стране англоведа пригласили на дипломатическую встречу к тогдаш-
нему министру иностранных дел А.А. Громыко. Это был обед для
очень узкого круга лиц (вместе с приглашением было прислано даже
меню обеда) в честь высокопоставленного гостя из Англии. Как обыч-
но, на определенный час была заказана машина из издательства. Вла-
димир Григорьевич вышел точно в назначенное время, но машины на
месте не оказалось. Она так и не появилась из-за какой-то поломки, но
никому в издательском гараже не пришло в голову сообщить об этом.
Наш главный пытался поймать такси, но безуспешно. Время было упу-
щено, и на прием к Громыко он так и не попал. Ситуация усугублялась
тем, что в подобных случаях место каждого гостя за столом отмечает-
ся именной карточкой, и дипломатический протокол неукоснительно
требует от приглашенных заранее предупреждать в случае отсутствия
или задержки.
72
Владимир Григорьевич очень расстроился. Очень. Как повел бы
себя в таких обстоятельствах любой другой человек? Устроил бы скан-
дал, стал жаловаться куда-то наверх? Наш главный принял другое ре-
шение: он написал в издательство письмо, в котором в связи с выше-
описанным инцидентом отказывался от транспортных услуг “Правды”.
Почти год он не пользовался служебной машиной. Для того времени
(а для нынешнего тем более) это был совершенно необычный посту-
пок. И хотя отсутствие машины создавало для работы редакции много
неудобств, мы все были солидарны с главным редактором, видя в его
поступке проявление всегда присущего ему чувства собственного дос-
тоинства. Приходилось наблюдать, как он спокойно, без шума умеет
поставить человека на место. Например, однажды во время разговора
с перешедшим на высокие тона хамоватым автором Владимир Гри-
горьевич, не ответив ни слова, просто вышел из своего кабинета и был
таков.
В нем было немало необычного. Он был нам интересен. Вызывали
интерес его высказывания, его оценки, связанные с журналом замыслы.
И это вносило особую ноту в нашу работу под его началом.
Он оставил свой пост, я уволился из редакции. Долгое время затем
мы не встречались. Увидеть его вновь мне довелось лишь на его похо-
ронах. Сусанна Андреевна Пустовойт, стоя у его гроба, напомнила, как
во время Божественной литургии Святого Иоанна Златоуста каждый
мирянин просит Всевышнего дать ему христианские кончины его жиз-
ни “безболезненны, непостыдны, мирны”. Такая кончина была дана на-
шему главному. Через два месяца точно так же покинула этот мир и Су-
санна Андреевна.
Хоронили Владимира Григорьевича в понедельник, 13 марта 2000 г.
на небольшом кладбище подмосковной Николиной Горы. На холме,
под сенью берез раскинулся этот погост. Над заснеженными могила-
ми - тишина, покой, лишь синицы перекликались, прыгая с ветки на
ветку. От вынутого из могильной ямы песка остро пахло грибной сыро-
стью, как в осеннем лесу. Припомнилось, что Владимир Григорьевич
очень любил тихую грибную охоту. В зените, на западе ярко светило
солнце, как привет с дальней Могилевщины, его родины.
Вспоминая нашего главного, Марина Яковлевна Ралко рассказала
как-то старинную притчу о трех строителях. Каждому из них был задан
вопрос: “Что ты делаешь?” “Я обтесываю камни. У меня большая се-
мья, ее нужно кормить”, - сказал первый. “Я рою землю, хочу зарабо-
тать на собственный дом”, - ответил другой. “Я строю Руанский
собор!” - с гордостью ответил третий, возивший камни к котловану.
Вот и у нас, всех работников “Вопросов истории”, было осознание того,
что мы - участники важного, ответственного, нужного для науки дела,
что мы работаем в общесоюзном журнале, строим вместе с Владими-
ром Григорьевичем свой “Руанский собор”.
Те почти 30 лет, в течение которых В.Г. Трухановский руководил
“Вопросами истории”, составляют особую эпоху в истории журнала - со
своими традициями, легендами, со своим ароматом. Чем дальше она от
нас уходит, тем больше хочется о ней вспоминать.
73
Н.К. Капитонова
УЧИТЕЛЬ
С Владимиром Григорьевичем я познакомилась в годы учебы в
МГИМО. В то время он заведовал кафедрой истории международных
отношений и внешней политики СССР. Мы слушали его лекции по ис-
тории международных отношений, запоминавшиеся как по объему по-
даваемой информации, так и по глубине ее анализа. При этом его лек-
ции походили на увлекательное повествование, они не изобиловали
разными байками, как это порой делали другие лекторы, чтобы при-
влечь внимание аудитории, но в процессе изложения материала он по-
зволял себе шутить в своей типично английской, ироничной манере,
и это всегда было к месту и производило впечатление на нас, студен-
тов, способствуя росту его популярности. Делать на его лекциях до-
машнее задание по языку было трудно, и не потому, что лектор зорко
следил за тем, чтобы его тщательно конспектировали - на это он во-
обще не обращал внимания, - а просто потому, что было интересно,
хотелось слушать, шла ли речь о каком-то конкретном событии меж-
дународных отношений или о роли в нем Великобритании. Мы знали,
что В.Г. Трухановский - крупный ученый-международник, один из ро-
доначальников и ведущий специалист советского англоведения (по его
книгам учились и продолжают учиться студенты МГИМО), и относи-
лись к нему, даже с поправкой на студенческие возраст и невежество,
с пиететом.
К великому сожалению, читаемого Владимиром Григорьевичем
спецкурса по истории и внешней политике Великобритании я не по-
сещала, так как в студенческие годы специализировалась по США,
а Великобританией стала заниматься в аспирантуре, под руководством
В.Г. (многие так называли его за глаза, а некоторые из близкого окру-
жения - и в глаза). Лишь много позже, уже после защиты кандидатской
диссертации, когда мне поручили читать новейшую британскую исто-
рию в МГИМО, он для облегчения этой трудной задачи передал мне
свои лекции по британской историографии, прочитанные им когда-то в
Дипломатической академии. Вот тогда я в полной мере смогла оценить,
насколько интересным был его спецкурс по Великобритании, и пожа-
лела, что мне не довелось его прослушать. О ведущих британских исто-
рических деятелях он рассказывал как о живых персонажах, своих зна-
комых, с определенной долей иронии, уважением и стремлением понять
их действия, их отношение к тем историческим событиям, участниками
которых волею судьбы они оказались.
На кафедре истории международных отношений и внешней поли-
тики СССР, которой заведовал Владимир Григорьевич, всегда кипели
страсти, а заседания являлись для нас, аспирантов, настоящей школой
злословия - ведущие профессора постоянно обменивались словесными
пикировками, научные дискуссии были жаркими, в атмосфере ощуща-
лись грозовые разряды. Присутствовавшие на этих театральных пред-
74
ставлениях молодые преподаватели и аспиранты исполняли роль мол-
чаливой массовки и с удовольствием наблюдали, как профессура раз-
минала мускулы, обмениваясь ударами. Надо ли добавлять, что явка на
заседаниях, за редким исключением, была полной. В.Г., по крайней ме-
ре внешне, всегда оставался невозмутим, шутил и стремился соблюдать
нейтралитет. Теперь понимаю, как нелегко это ему давалось, так как
порой приходилось работать с людьми, которые были ему глубоко не-
приятны. Как-то он рассказал мне, что один известный кафедральный
профессор настрочил на него настоящий донос в вышестоящие инстан-
ции, обвинив в работе на британскую разведку. Этот донос Владимиру
Григорьевичу показали, после чего ему пришлось еще много лет рабо-
тать с этим человеком в одном коллективе. Однажды на заседании в
пылу дискуссии в В.Г. даже запустили книгой. Ловко увернувшись от
этого броска, он по обыкновению отреагировал шуткой. Позже, уже
после его ухода из института, когда в итоге целой череды реорганиза-
ций кафедру истории международных отношений и внешней политики
разделили, а нас разбросали по разным коллективам, без этого бурно-
го водоворота страстей, к которому за долгие годы мы уже успели при-
выкнуть как к своего рода наркотику, жизнь порой казалась совсем
пресной.
Работать под руководством Владимира Григорьевича было одно
удовольствие. Он никогда не давил на тебя своим авторитетом, не гово-
рил, какие должны быть получены результаты в ходе исследования.
С помощью подробного плана работы он лишь задавал направление по-
иска и обозначал, на что в первую очередь надо обратить внимание.
После глубокого погружения в тему, изучения литературы, работы с
архивами выводы приходили сами собой. Вот по ним-то В.Г. потом и
проходил опытной рукой мастера, отшлифовывая формулировки. Не-
обходимо отметить, что Владимир Григорьевич обладал одним очень
ценным для ученого качеством - научной интуицией. Его оценки и
предположения впоследствии, по мере открытия британских архивов,
получали документальное подтверждение. Не могу назвать ни одного
сделанного им гипотетического вывода относительно стратегии и
внешней политики Великобритании, который был бы со временем оп-
ровергнут.
Наши встречи проходили в редакции журнала “Вопросы истории”
или же у Владимира Григорьевича дома. В редакции, куда я изредка на-
ведывалась с отчетами о проделанной работе, царила какая-то, на пер-
вый взгляд, очень домашняя, спокойная атмосфера. В.Г. всегда был об-
ложен рукописями, от работы с которыми его часто отрывали посети-
тели. При этом никогда не видела его раздраженным.
Домашний кабинет Владимира Григорьевича полностью соответст-
вовал моему представлению о том, каким должен быть кабинет насто-
ящего ученого. Большой письменный стол, удобный для работы, вме-
стительные кресла, сидя в которых было комфортно вести беседу.
За стеклянными дверцами книжных шкафов - много фотографий,
портреты героев книг Владимира Григорьевича. Наши встречи сопро-
вождались неизменным чаем, которым радушно угощала его супруга
75
Наталья Георгиевна, и обсуждением происходивших в стране событий,
воспринимавшихся нами, к счастью, одинаково.
Производила впечатление обширная библиотека, которая не уме-
щалась в кабинете и занимала все пространство холла. Надо сказать,
что книгами Владимир Григорьевич всегда щедро делился, что, в част-
ности, значительно облегчило мне подготовку спецкурса по истории
Великобритании. В то время достать британскую историческую лите-
ратуру, не говоря уже о биографической и мемуарной, было достаточ-
но сложно, поэтому те книги, которые В.Г. давал мне читать (среди них
мемуары британского премьера Гарольда Вильсона, бывшего министра
обороны Ф. Пима, труды одного из ведущих современных британских
историков Мартина Гилберта о второй мировой войне и Черчилле),
очень много для меня значили. С огромным удовольствием прочитала
официальную биографию У. Черчилля (написанную Гилбертом много
позже, чем это сделал В.Г.), где жизнь этого выдающегося британского
деятеля описана чуть ли не по дням.
О Черчилле, с которым ему довелось встречаться в ходе Потсдам-
ской конференции, Владимир Григорьевич всегда говорил с большим
интересом и симпатией, что совершенно естественно. Исследователи,
занимавшиеся этой противоречивой, обладавшей своеобразным магне-
тизмом личностью, неизбежно подпадали под обаяние выдающегося
английского лидера. О Черчилле написано и продолжает создаваться
огромное число книг, в крупных британских книжных магазинах вы
обязательно найдете целый стеллаж, отведенный “черчиллиане”. Радо-
стно сознавать, что в этом ряду есть имя и нашего крупнейшего иссле-
дователя, одного из родоначальников биографического жанра у нас в
стране.
В последние годы жизнь Владимира Григорьевича удивительным
образом пересеклась с жизнью его героя. Подобно Черчиллю на скло-
не лет он полюбил Лазурный берег Франции. Там он забывал о своих
болезнях и вновь становился бодрым. Мне кажется, что, прогуливаясь
по Английской набережной Ниццы и любуясь морем, В.Г. не мог не
вспоминать Черчилля, который также любил посещать этот красивей-
ший уголок Франции, куда он, по выражению другого выдающегося
британского деятеля, приезжал “подзарядить батарейки”.
Владимир Григорьевич всегда очень тепло вспоминал Белоруссию,
откуда был родом. Мне кажется, что и относился он ко мне с такой те-
плотой отчасти потому, что мы были соотечественниками. Для меня от-
ношения с ним значили очень много, особенно после смерти отца. Я все-
гда знала, что могу обратиться к нему за советом, и этот совет будет
мудрым и правильным. Часто мне хотелось поделиться с ним тем, что
происходило в моей жизни.
Сегодня мне бесконечно жаль, что, встречаясь с Владимиром Гри-
горьевичем, я не задала ему многих вопросов о тех событиях мирового
масштаба, участником которых он являлся, например о конференции в
Сан-Франциско по учреждению Организации Объединенных Наций
или же о Потсдамской конференции. По молодости нас вообще мало
что интересует, мы заняты в основном своими делами и вечно куда-то
76
спешим. С годами приходит интерес к отдельным историческим персо-
нажам, подробностям и деталям тех или иных событий, о чем могут рас-
сказать лишь их участники. Но, как правило, бывает уже слишком позд-
но. Так, в последние годы, когда Владимир Григорьевич уже не очень
хорошо себя чувствовал, мне не хотелось утомлять его излишними рас-
спросами.
Замечательно, что к 80-летию Владимира Григорьевича в 1994 г.
журнал “Новая и новейшая история” опубликовал интервью юбиляра,
в котором он поделился своими интересными наблюдениями и о Сан-
Франциско, и о Потсдаме, а также о Черчилле, Трумэне, Сталине и
других деятелях, с которыми ему пришлось сталкиваться на различ-
ных международных встречах. Чего стоит хотя бы воспоминание о
том, как происходил разговор Трумэна со Сталиным, в ходе которого
последнему было сообщено о создании в США ядерного оружия. В ме-
муарах Черчилля, Идена, в работах советских журналистов-междуна-
родников приводятся по этому поводу совершенно разные, порой про-
тиворечащие друг другу детали. В этом свете свидетельство Владими-
ра Григорьевича, непосредственно наблюдавшего и хорошо запом-
нившего данное эпохальное событие, представляется чрезвычайно
важным.
В последние годы виделись мы редко, в основном общаясь по те-
лефону. Институтская жизнь Владимира Григорьевича не очень инте-
ресовала, лишь изредка он спрашивал об отдельных людях, с кем до-
велось работать. Любопытно, что ради сохранения нервной системы и
здоровья он в буквальном смысле выполнял заветы профессора Пре-
ображенского из “Собачьего сердца”, прекратив чтение газет (и про-
смотр телевизионных новостей), и призывал меня последовать его
примеру. Не могу не признать мудрость этого шага, благотворное воз-
действие которого в полной мере ощущалось мною лишь во время от-
пуска.
Зная, что Владимир Григорьевич всегда радовался моим успехам,
незадолго до защиты докторской диссертации весной 2000 г. я отпра-
вила ему свой автореферат как подтверждение того, что затрачен-
ные им на меня когда-то время и усилия не были напрасными и что он
может не стыдиться за свою не самую прилежную ученицу. Влади-
мир Григорьевич еще не совсем оправился от перенесенной болезни,
и мне хотелось в меру сил поднять ему настроение. Звонок Натальи
Георгиевны с сообщением, что он захотел дать отзыв на мою рабо-
ту, оказался для меня неожиданным. Этот отзыв я бережно храню сре-
ди бумаг, носящих пометки моего Учителя - мудрого и светлого чело-
века.
77
Л.Ф,Туполева
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
БРИТАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1992-2000)
Последнее десятилетие в жизни Владимира Григорьевича Труха-
новского - выдающегося ученого-англоведа было связано с Ассоциаци-
ей британских исследований, созданной 11 марта 1992 г. К этому време-
ни Владимир Григорьевич достиг вершин своих творческих успехов -
были опубликованы книги о Черчилле, Нельсоне, Идене, сделавшие ав-
тора популярным не только в России, но и за рубежом, написана моно-
графия “Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карье-
ры”, которая увидела свет позднее, в 1994 г., и в январе 1995 г. была удо-
стоена премии Академии наук - им. Н.И. Кареева.
Владимир Григорьевич продолжил традиции “русской школы”, ко-
торую прославили такие имена в области изучения специальных проб-
лем британской истории, как П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский,
А.Н. Савин, Ф.А. Ротштейн и др. Созданная им галерея исторических
портретов известных английских деятелей утвердила в “русской школе”
жанр исторического портрета.
Когда наступил 1991 год, отмеченный бурными событиями в нашей
стране, заметно было брожение во всех слоях общества, создавались
новые общественные организации, которые получали статус юридиче-
ского лица и свободу действовать самостоятельно.
По инициативе специалистов в области изучения истории Великоб-
ритании, работающих в Институте всеобщей истории РАН, при под-
держке директора института ныне академика А.О. Чубарьяна в конце
1991 г. развернулась подготовительная работа по созданию новой об-
щественной открытой организации - Ассоциации британских исследо-
ваний (Английский клуб). Владимир Григорьевич активно включился в
эту работу, имея за плечами большой опыт дипломатической и препо-
давательской деятельности, руководства журналом “Вопросы истории”
и снискав огромный авторитет среди ученых и интересующихся истори-
ей и культурой Великобритании.
Идея создания ассоциации привлекала внимание как в России, так и
в Великобритании. Об этом свидетельствовала состоявшаяся 11 марта
1992 г. учредительная конференция, на которой присутствовали около
100 ученых. Были представлены Институты РАН, вузы Москвы,
Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, Брянска, Костромы, Владимира,
Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова, Перми, Киева, Запорожья,
Одессы, Кутаиси, Тюмени, Уфы, Иркутска, а также архивы и МИД РФ.
От Российской Государственной библиотеки выступили и поддер-
жали создание ассоциации заместитель директора О.Р. Бородин, от Го-
сударственной публичной исторической библиотеки - директор
М.Д. Афанасьев, информационное агентство “Интерпресс” представ-
лял Н.А. Баратов, менеджмент - Центр Государственной академии уп-
равления - С.С. Худяков, Школу бизнеса Московского государственно-
78
го института международных отношений - А.Б. Мануковский, между-
народный фонд “Реформа” - С.А. Колмаков, АО “Метрофил” -
А.Ю. Резник, Л.М. Русецкий, ТОО “Электротехнолог ЭНИМС” -
Н.М. Подогина, фирму “ЭДАС” - С.А. Котов, АО “ТИТАН” - С.Г. Бе-
лимов, филиал крупнейшей британской корпорации “Родити Интер-
нешнл корпорейтед ЛТД” - менеджер В.С. Бургете.
С приветствием на учредительной конференции ассоциации высту-
пили: А.О. Чубарьян, президент Международного конгресса историче-
ских наук Т. Баркер, от Британо-советской торговой палаты - П. Гоулд,
Д. Кроуч (Сассекский университет), Чрезвычайный и полномочный по-
сол СССР в Великобритании в 1980-1986 гг. В.И. Попов.
В.Г. Трухановский выступил с докладом о задачах ассоциации. Он
подчеркнул, что необходимы серьезные исследования по истории Бри-
тании, создание научных и научно-популярных книг, что возможно при
серьезной поддержке бизнеса, важно также развитие международных
контактов ученых, общение с английскими коллегами.
В докладе на учредительной конференции Владимир Григорьевич
дал глубокий анализ состояния современного англоведения в России и
исторической науки в Великобритании. По докладу развернулась ожив-
ленная дискуссия. Выступили: И.Н. Ундасынов (Институт сравнитель-
ной политологии и проблем рабочего движения РАН), С.А. Соловьев
(Московский государственный университет), С.С. Худяков и др. Состоя-
лось голосование. В.Г. Трухановский единодушно был избран президен-
том ассоциации. Вице-президентами стали Л.Ф. Туполева (ИВИ РАН),
С.А. Соловьев (МГУ). Ассоциация получила права юридического лица.
Уже 25 марта 1992 г. в гостях у Английского клуба побывали
Дж. Харгривс (Университет Абердина), который выступил по теме
“Распад Британской империи”, и С. Уайт (Университет Глазго), сделав-
ший доклад о миссии британских тред-юнионов в России в 1920 г. Ожи-
вленная дискуссия развернулась по докладу Н. Холдена (Университет
Манчестера) на тему “Манчестерская школа менеджмента. Страницы
истории и современность”. Л.Б. Станюкович - заведующая отделом
фондов по всеобщей истории Государственной Публичной историче-
ской библиотеки, подготовила выставку новейших трудов зарубежных
и российских авторов по проблемам бизнеса.
Весной 1992 г. англоведы - члены ассоциации приняли участие в ра-
боте конференции “История английского парламента ХШ-ХХ вв.”, ко-
торую провела группа “Власть и политическая культура”, возглавляе-
мая Е.В. Гутновой.
В.Г. Трухановский с большим мастерством проводил встречи с анг-
лийскими учеными. В июне и октябре 1992 г. принял участие в работе
ассоциации Р. Роджер (Лестерский университет), представивший на об-
суждение темы “Особенности экономического развития Великобрита-
нии в XIX в.” и “Средневековые города и города периода расцвета капи-
тализма в Великобритании” с показом диапозитивов. 18 июля члены ас-
социации заслушали доклад К. Мидлмасса (Сассекский университет)
“Эволюция британской системы власти”. Известный российский восто-
ковед Г.Л. Бондаревский на двух заседаниях рассказывал о своих поезд-
79
ках в Лондон, о встречах в Школе экономических исследований, в ре-
дакции газеты “Гардиан,” с бизнесменами в Сити и т.д.
Стараниями ученого секретаря ассоциации М.П. Айзенштат на ос-
нове докладов был подготовлен сборник статей “Из истории европей-
ского парламентаризма. Великобритания”, который вышел в 1995 г.
Вместе с М.В. Винокуровой М.П. Айзенштат подготовила первый но-
мер “Бюллетеня” ассоциации, увидевший свет в 1993 г. В нем был опуб-
ликован полный текст доклада В.Г. Трухановского на учредительной
конференции.
Важной для ассоциации была поддержка со стороны коллектива
Государственной Исторической библиотеки. В Красном зале нового
здания 25 декабря 1992 г. на собрании ассоциации с докладом “О меж-
дународных связях Исторической библиотеки” выступил директор
ГПИБ М.Д. Афанасьев. Заведующая отделом фондов по всеобщей ис-
тории Л.Б. Станюкович подготовила выставку новых поступлений по
истории Англии и Ирландии. Д.А. Модель сделала сообщение “О раз-
витии англоведения в последние годы”. С большим вниманием Влади-
мир Григорьевич отнесся к замыслу нового издания книги А.Н. Байко-
вой “Библиография Великобритании и Ирландии”, который обсуждал-
ся в ассоциации.
Первая годовщина основания ассоциации была отмечена 11 марта
1993 г. научной сессией “Россия и Великобритания: культурно-истори-
ческое взаимодействие. XVI-XX вв.” На ней выступили А.В. Голубев,
А.В. Невежин (ИРИ РАН), Т.Н. Гелла (Орловский педагогический ин-
ститут), Е.Г. Блосфельд (Волгоградский университет), В.М. Карев
и другие ученые ИВИ РАН. Большой интерес вызвали докла-
ды В.Д. Есакова (ИРИ РАН) и Е.С. Левиной “Н.И. Вавилов и ученые
Англии”, С.Г. Долговой и Т.А. Лаптевой (Российский Государственный
архив древних актов РФ) “Россия и Англия в XVI-XVIII вв. Обзор доку-
ментов РГАДА”. В своем выступлении В.Г. Трухановский дал высокую
оценку докладам, охарактеризовав конференцию как теоретическую.
Среди гостей конференции находился директор Британского сове-
та Марк Эванс, который выступил с приветствием.
В июле 1994 г. историческая общественность отметила 80-летие
В.Г. Трухановского. В ассоциации собрались друзья и коллеги, чтобы
поздравить юбиляра. Необычайно тепло и искренне прозвучало высту-
пление С.А. Соловьева.
Ассоциация британских исследований приняла активное участие в
международном коллоквиуме “Россия и Британия: политические и
культурные связи XVI-XX вв.”, проведенном 6 октября 1994 г. в ИВИ
РАН Британским советом в связи с визитом в Россию королевы Елиза-
веты II. Организатором конференции была А.С. Намазова (ИВИ РАН).
А.О. Чубарьян и М. Эванс приветствовали ученых. В своих докла-
дах ведущие англоведы России и известные историки Великобритании
поставили проблемы взаимовлияния и взаимодействия двух культур, на-
чиная с XVI в. (доклады О.В. Дмитриевой, В.М. Карева, Л.Ф. Туполе-
вой). Е.Ю. Полякова рассмотрела контакты между ирландцами и рус-
скими в XVIII-XIX вв. Вопросов дипломатических отношений между
80
двумя странами в 1823-1827 гг. коснулся Н.Н. Яковлев. Известный уче-
ный Б. Эмерсон (Оксфордский и Гарвардский университеты) рассмот-
рела дипломатические отношения между Великобританией и Россией
во второй половине XIX в. Крупный британский исследователь
Д. Дилкс (Университет Гулля) остановил свое внимание на проблеме
“Черчилль и Сталин”. Большое впечатление на присутствующих произ-
вел доклад В.Г. Трухановского “Черчилль и его современные критики”,
в котором анализ новейшей английской историографии был дополнен
личными воспоминаниями автора. В.И. Попов посвятил свое выступле-
ние связям между двумя нашими странами в период царствования коро-
левы Елизаветы II. Д. Сондерс (Ньюкаслский университет) коснулся ря-
да острых проблем по теме “Британия и русская революция”.
Государственный официальный визит королевы Великобритании
Елизаветы II 17-20 октября 1994 г., явившийся первым в истории взаи-
моотношений двух стран посещением России британским монархом,
сыграл большую роль в укреплении связей между двумя странами. Бы-
ла разработана программа культурных мероприятий Британским сове-
том, министерствами иностранных дел и по делам Содружества. Прези-
дент ассоциации В.Г. Трухановский был приглашен 10 октября на от-
крытие выставки, развернутой по случаю визита королевы Великобри-
тании в фойе Малого театра.
В 1997 г. вышел в свет первый выпуск сборника статей “Британия
и Россия”, который явился результатом деятельности Ассоциации бри-
танских исследований и совместного труда российских и британских
ученых, отражением плодотворного двустороннего общения. Во введе-
нии к этому изданию ответственный редактор В.Г. Трухановский писал:
“Появление на свет ассоциации англоведов - это знамение нашего вре-
мени, реальное проявление процессов, происходящих в исторической
науке в последнее время”. В этом издании прозвучали обращения к чи-
тателям А.О. Чубарьяна, а от английской стороны - Т. Баркера.
В книге “Британия и Россия” статьи сгруппированы по трем разде-
лам: “Из истории английского парламента”, “Внешняя и колониальная
политика Великобритании” и “Политика и культура”. 13 статей написа-
ны российскими историками, политологами, филологами: О.А. Рже-
шевским, С.Б. Воронцовой, Н.А. Поповой, А.Л. Семеновым, Е.В. Жа-
риновым, Г.С. Остапенко, С.П. Перегудовым, Л.В. Поздеевой,
М.П. Айзенштат, О.В. Дмитриевой, Е.Ю. Поляковой, Л.Ф. Туполевой,
Т.А. Филипповой.
Восемь статей представили британские профессора: Д. Рейнольдс
(Кембриджский университет), Дж. Харгривс (Абердинский универси-
тет), Дж. Дарвин (Оксфордский университет), Дж. Кент, Р. Холланд
(оба - Лондонский университет), Р. Хайд (Университет Восточной Анг-
лии), Б. Эмерсон (Оксфордский и Гарвардский университеты).
Последней работой, в которой В.Г. Трухановский принимал уча-
стие, стала книга, посвященная памяти известного российского англове-
да Н.А. Ерофеева (1907-1996). Когда Ассоциация британских исследо-
ваний 18 апреля 1997 г. отмечала 90-летие Н.А. Ерофеева, Владимир
Григорьевич горячо поддержал идею издания сборника воспоминаний
6 Россия и Британия Вып 3
81
о Н.А. Ерофееве, а также статей на темы, которые разрабатывались им
по истории Великобритании XVIII-XIX вв. В 2000 г. издательство “На-
ука” опубликовало этот сборник во втором выпуске “Россия и Брита-
ния”. Под редакцией В.Г. Трухановского...
В памяти своих коллег Владимир Григорьевич останется блестя-
щим ученым и необыкновенно обаятельным человеком.
Н.Г. Думова
О МОЕМ МУЖЕ
Издавна у Владимира Григорьевича была “вредная привычка”: чи-
тая книгу, он любил подчеркивать привлекшие его внимание строки.
Бывало, я укоряла его за это, а теперь радуюсь возможности находить
в его книгах то, что ему было интересно и важно. Так вот, в “Максимах”
Ларошфуко он подчеркнул, среди прочих, такую мысль: “Уметь быть
старым - это искусство, которым владеют лишь немногие”. На мой
взгляд, Владимир Григорьевич как раз и был одним из этих немногих.
Он сумел вовремя осознать свой переход в новую возрастную катего-
рию и с достоинством его осуществить. О последних годах жизни мужа
я и хочу рассказать.
Хорошо запомнился декабрь 1986 г. в подмосковном санатории
“Русское поле”. На зимний отдых мы уезжали каждый год под Москву
или на Рижское взморье. Старались побольше гулять - дома двигаться
приходилось мало. Гуляли в любую погоду. Мне нравилось греть руку в
руке мужа, забравшись к нему в карман. Руки у него были благородной
формы, сильные, с никогда не увлажнявшимися ладонями, с теплым,
приятным по ощущению рукопожатием. Руки могут многое сказать о
человеке...
Почему-то повелось так, что именно на прогулках, а не дома, в че-
тырех стенах, нам лучше было вести важные для нас разговоры, обсу-
ждать творческие замыслы, семейные и рабочие проблемы. Тогда, в
“Русском поле”, гуляя по проложенной в лесу дороге, мы подолгу обсу-
ждали вопрос о его уходе из редакции журнала “Вопросы истории”.
Владимир Григорьевич хотел хорошо обдумать этот шаг. Человек по
натуре легко ранимый и в высокой степени импульсивный, он сознавал,
что эти качества способствовали иногда не вполне выверенным, спон-
танным поступкам. В обстановке покоя, отключения от бурного мос-
ковского ритма легче было сосредоточиться и определиться.
За плечами оставались 27 лет в должности главного редактора
“Вопросов истории”. За эти годы редакция стала для него своим домом,
журнал - родным детищем. Владимир Григорьевич не бросил его даже
в начале 1980-х, когда из-за сильнейшего давления со “Старой площа-
ди” руководить им было очень тяжело. И теперь отказаться от люби-
мой работы, интересной и престижной, от привычного образа жизни,
82
расстаться с коллективом было непросто, тем более по собственной во-
ле - ведь никто публично не подвергал редакцию критике, не ставил во-
прос о замене редактора. Но Владимир Григорьевич пришел к выводу,
что та эпоха, которую он считал своей, кончилась. Наступило время
других людей. Он сам принял решение и никогда об этом не пожалел.
Как только стало известно, что Владимир Григорьевич уходит из
журнала (с 15 июля 1987 г. - со дня своего 73-летия), тогдашний дирек-
тор Института всеобщей истории Зинаида Владимировна Удальцова
пригласила его на должность советника дирекции, главного научного
сотрудника. Он отказался и попросил оформить его на полставки. Ос-
тавался в этом статусе до конца, несмотря на то, что новый директор
института Александр Оганович Чубарьян не раз предлагал ему перейти
на полную ставку.
- Я выбрал свободу, - шутил он.
Свобода, правда, была относительной: едва покинув редакторский
кабинет, Владимир Григорьевич тут же принялся за новую книгу, кото-
рой суждено было стать для него последней, - биографию Бенджамина
Дизраэли.
Снова биографический жанр... Мне кажется, приверженность к не-
му определялась во многом эмоциональностью натуры Владимира Гри-
горьевича. Ему было интересно заниматься не массовыми событиями
или общими процессами (хотя он был большой мастер обобщений),
а отдельным человеком, яркой индивидуальностью. Проживать вместе
со своим героем его особенную, неповторимую жизнь на фоне истории
его народа, его страны и человечества в целом. Мне кажется также, что
ему нравилось ставить себя на место своего героя, вникать в его психо-
логию, угадывать логику его поступков. Что-то в этом было сродни ак-
терской профессии: радость от возможности нескольких перевоплоще-
ний на протяжении одной собственной жизни.
Когда именно появилась мысль обратиться к фигуре Дизраэли, я не
помню. Но вспоминаю, как этот замысел обсуждался в беседах с Апол-
лоном Борисовичем Давидсоном (с которым муж общался в последние
годы больше, чем с другими коллегами-историками). Начав подробно
знакомиться с жизнью своего будущего героя, с его окружением, изучая
политические и моральные нравы викторианской эпохи, Владимир Гри-
горьевич сразу увлекся и писал своего Дизраэли с большим творческим
подъемом.
К моменту расставания с журналом материал для книги был уже со-
бран. Оставалось взяться за перо.
Работа шла по привычному графику. С утра Владимир Григорьевич
садился за письменный стол и не вставал с места, пока не выполнял ус-
тановленную для себя норму - пять-шесть страниц, а в удачные дни и
больше. Писал от руки (пишущей машинкой никогда не пользовался),
на хорошей бумаге; писал почти сразу набело, исправлений потом вно-
сил мало, тем более не переписывал целыми кусками.
Заканчивая работу часа через четыре, Владимир Григорьевич ни-
когда не оставлял за собой раскрытых книг, выписок, карточек и т.п.
На чисто убранном письменном столе лежали лишь две аккуратно сло-
83
женные пачки бумаги (в одной исписанные страницы, в другой - чис-
тые), несколько шариковых ручек и большой белый лист картона с
подробным планом глав и их частей. Там было отмечено, сколько стра-
ниц будет в каждой части, в какие числа она должна быть начата и за-
кончена. Детальнейшим образом были размечены источники по каждо-
му разделу, с указанием соответствующих страниц в книгах, ксероксах
и выписках. Этот план выполнялся скрупулезно.
Во время работы над книгой Владимир Григорьевич всячески стре-
мился абстрагироваться от всего постороннего, почти не следил за но-
востями (к которым обычно относился с большим вниманием), не читал
прессы, вообще ничего не связанного с его темой, старался как можно
меньше разговаривать по телефону. Просил отвечать, что его нет дома,
даже очень поздним вечером.
- Но ведь неудобно, - возражала я. - Что подумают, где ты можешь
находиться в такое время?
- Да пусть думают, что хотят, - говорил он. - Друзья плохо не поду-
мают, а недруги все равно оговорят.
Он вообще не любил сам брать трубку, когда звонил телефон. А ес-
ли брал, произносил: “Аллё-о” каким-то глухим недовольным голосом.
Высокого тембра, немного скрипучий, его голос в минуты волнения,
гнева, во время публичных выступлений приобретал звучность и даже
металлические нотки. А каким оживленным, словно улыбающимся бы-
вал этот голос, когда на заре наших отношений звонил телефон и в
трубке звучало весело:
- Здрассьте, начальство!..
Работая над Дизраэли, Владимир Григорьевич по вечерам просмат-
ривал материалы к книге и делал разметку на следующий день. Пос-
кольку он, как правило, спал после обеда, то по вечерам засиживался
иногда до глубокой ночи. Как сейчас вижу его фигуру в домашнем ха-
лате (спортивных костюмов и пижам он не любил), уютно расположив-
шуюся в большом кресле и высвеченную лучом настенной лампы в су-
меречном пространстве кабинета. Он не был ни совой, ни жаворонком;
работать с полной отдачей ему удавалось и в утреннее, и в ночное вре-
мя. Может быть, сказалась мидовская закалка сталинских лет, когда
приходилось бодрствовать по ночам, готовя ответственные материалы.
За завтраком я обычно спрашивала мужа, что сегодня ожидает его
героя. Так было при написании всех его биографических книг. А нача-
лось еще с “Черчилля”. Владимир Григорьевич надиктовывал тогда бу-
дущую книгу машинистке и в перерывах между диктовкой, редакцией и
кафедрой в МГИМО (которой он в то время заведовал) умудрялся при-
езжать на свидания со мной в парк ЦДСА, чтобы подышать воздухом.
Мы гуляли там по часу-полтора, и он, озорно блестя глазами, с азартом
и огоньком рассказывал о характере Черчилля и перипетиях его судьбы.
Потом, когда я читала и по его просьбе редактировала машинопись,
текст на бумаге казался мне намного суше и бледнее устной версии,
и было досадно, что померкли юмор и обаяние живого рассказа.
Конечно, автор стремился сделать рукопись “проходимой”. В те го-
ды это было непросто. Ведь даже спустя десяток лет, выпуская книгу об
84
адмирале Нельсоне, издательство “Молодая гвардия” отказалось вклю-
чить ее в серию “Жизнь замечательных людей”. А здесь речь шла о та-
ком персонаже, как Черчилль. Внутренний цензор у Владимира Гри-
горьевича был очень силен; здесь, видимо, также давала себя знать
школа МИД.
- Ты уж слишком суров к Черчиллю, - сказала я как-то. - Все-таки
симпатичный был старик.
- А откуда ты это знаешь? - с хитрым видом спросил он.
- Да из твоей же книги.
- То-то! - засмеялся он, сверкнув взглядом.
Естественно, при написании “Дизраэли” через столько лет Влади-
мир Григорьевич был уже не таким азартным и легко зажигающимся,
но его рассказы за утренним кофе о “Диззи” (шутливое прозвище, ка-
ким он обычно в разговоре называл героя книги) были неизменно инте-
ресными и, по-моему, в чем-то помогали ему “настроить мозги” на
предстоящую работу.
Помню, как интересно он говорил об эпатажности в политике, ко-
торой широко пользовался молодой Дизраэли, приводил неожиданные
примеры подобной тактики деятелей других стран и предрекал, что
роль политического эпатажа в современном мире будет расти. Через
какое-то время возник Жириновский. Я была удивлена, как скоро под-
твердилась правильность предсказания мужа, но настаивала, что между
Дизраэли и Жириновским не может быть никакого сравнения.
- Ну почему же, - неспешно возразил Владимир Григорьевич. - Кое
в чем наш либерал-демократ намно-ого перещеголял Диззи.
И, выдержав интригующую паузу, разъяснил:
- В наглости.
* * *
Последняя книга была написана за год. Автор вложил в нее много
(мне кажется, больше, чем в предшествующие свои произведения) соб-
ственных размышлений о жизни, о человеческой натуре, о ходе исто-
рии. Особенно волновала его на склоне лет проблема, которую он обо-
значил в заголовке одной из глав словами Джона Стюарта Милля: “Ду-
ша убывает”, - проблема моральной деградации человека и общества.
К сожалению, книга “Бенджамин Дизраэли или История одной не-
вероятной карьеры”, которую Владимир Григорьевич создавал с таким
увлечением и самоотдачей, принесла ему немало огорчений. Конечно,
он был избалован: все предыдущие работы издавались, что называется,
“с колес”, большими тиражами, без всяких усилий с его стороны, пере-
водились за рубежом и в республиках Советского Союза (иногда даже
без ведома автора).
И на этот раз, приступая к работе над биографией Дизраэли, Вла-
димир Григорьевич заключил договор с издательством “Мысль”. Но ко-
гда книга была готова, ситуация изменилась: издательство переориен-
тировалось на крупные коммерческие проекты и литература иного ро-
да его уже не интересовала. А возможно, действовали и другие факто-
ры. Во всяком случае, добрые знакомые из числа сотрудников “Мысли”
85
советовали пойти к их начальству и “договориться”. Владимир Григорь-
евич этого не умел. Плохо умел и просить, и кланяться.
В результате книга зависла. Ее собралось выпускать какое-то но-
вое издательство, но пока шел процесс редактирования, оно само пре-
кратило существование. “Бенджамин Дизраэли...” увидел свет лишь
в 1993 г., через пять лет после завершения работы автором. Книгу изда-
ла “Наука” (спасибо ей!) тиражом 3 тыс. экземпляров. После 70, 90
и 100-тысячных тиражей предыдущих его произведений биографиче-
ского жанра такая цифра показалась мизерной.
Вообще вся история с публикацией Дизраэли безусловно травмиро-
вала Владимира Григорьевича. Он не привык и не желал писать в кор-
зину и потому отказался от работы над следующей книгой - о Берлин-
ском конгрессе 1876 г., хотя весь материал для нее собрал и в разгово-
рах со мной делился очень интересными мыслями и о самом конгрессе,
и о роли в нем русской дипломатии, и о последствиях его для истории
Европы.
Занимался он и темой “холодной войны”. В последние годы написал
ряд статей и рецензий, несколькими из них дорожил. Особенно выделял
рецензии на книги английского историка Робина Эдмондса “Большая
тройка” (о военном союзе СССР, Англии и США) и академика Г.Н. Се-
востьянова “Европейский кризис и позиция США. 1938-1939”.
В этих работах Владимир Григорьевич высказал некоторые важ-
ные для него идеи, связанные с тенденциями развития международных
отношений. Он удивительно умел прогнозировать это развитие. Очень
часто можно было убедиться в справедливости его гипотез, высказан-
ных в частных разговорах, в связи с событиями в мире или по поводу
чьих-либо умозаключений, опубликованных в прессе.
- Примитивно, - говорил он, читая или слушая по радио недально-
видных, по его мнению, аналитиков. В произношении некоторых слов у
него слышался едва-едва заметный белорусский акцент: “примити-у-но”,
“за-у-тра”...
Помню, как историк-международник В.Я. Сиполс, получивший воз-
можность детально изучить материалы английских архивов по внешней
политике Великобритании военного и послевоенного времени, откры-
тые спустя десятки лет, по приезде из Лондона сказал мужу примерно
следующее: “Ознакомившись с документами, я удивился, насколько вы
были правы в ваших выводах и предположениях, хотя и не имели в свое
время доступа к этим источникам”.
Сам Владимир Григорьевич считал, что данные ему от природы
способности с наибольшей пользой могли бы реализоваться в работе
над стратегическими прогнозами в области международных отноше-
ний. Мне представляется также, что, не стань он ученым, из него полу-
чился бы блестящий адвокат в суде присяжных, где красноречие защит-
ника играет важную роль, или юрист-международник, занимающийся
урегулированием межгосударственных споров.
Неизвестно, однако, удалось ли бы Владимиру Григорьевичу в
этих сферах достичь тех же высот, какие он завоевал в исторической
науке. В 1992 г. он стал академиком Российской Академии наук. К то-
56
му времени с момента его избрания в члены-корреспонденты
(в 1964 г.) прошло 28 лет. Причина такой задержки, как часто случа-
ется, далеко отстояла от научных соображений. Было ли ему больно
от этого? Безусловно. Самолюбие его очень страдало. Жалел ли он о
миновавших его в связи с этим карьерных продвижениях? Нет. Могут
сказать, что был “зелен виноград”. Наверное, и это имело значение.
Но главное было в ином: столкнувшись в полном объеме в конце 60-х
годов с тогдашней внутриотделенческой кухней, истинной сущности
которой до тех пор не представлял, Владимир Григорьевич потерял
вкус к борьбе за место наверху. “Круг интересов сужается, - писал он
мне в августе 1969 г. - Академия наук, занимавшая многое в мыслях
(карьера, продвижение, зарекомендовать себя на работе и т.п.) теперь
отошла на задний план и надолго, если не насовсем... Какое-то удиви-
тельное спокойствие на этот счет. Значит, заявление было правильно
и своевременно”.
Речь идет о заявлении об уходе из журнала, поданном им тогда в ре-
зультате громкого конфликта с руководством Отделения истории
(вскоре выяснилось, однако, что оно не принято президентом Академии
наук М.В. Келдышем). Хотя решение об отставке было импульсивным,
оно ознаменовало собой некий рубеж в сознании Владимира Григорье-
вича, в его психологии. Со времен МИД в нем оставалось многое от го-
сударственного чиновника. Теперь же эта часть его существа начала
понемногу трансформироваться. Он совершенно отрешился от актив-
ной суеты, в которую погружены все, кто делает карьеру, и отказ от
карьерного марафона, - может быть, неожиданно для него самого -
пришелся ему по душе.
Обновился даже облик. Отпущенная летом 1969 г. борода сильно
изменила наружность Владимира Григорьевича, сделала ее интелли-
гентско-профессорской (я называла его тогда “пан профессор” по ана-
логии с бородатым персонажем из телевизионного кабачка “Тринад-
цать стульев”). Борода, вернее сказать бородка, очень шла к лицу и са-
мому ему нравилась.
А осенью того же года он совершил совсем уж поворотный в его
судьбе поступок: ушел из семьи, в которой прожил 17 лет, вместе с
16-летним сыном Гришей. Ушел, обрекая себя на персональное дело,
на тяжелейший трехлетний бракоразводный процесс, б»есконечные пар-
тийные разбирательства. Был готов к тому, что придется уйти из жур-
нала, с кафедры МГИМО, может быть, даже расстаться с Москвой.
Почему-то он собирался в таком случае уехать в Гомель, и мы обсужда-
ли это как реальную перспективу совместной жизни.
Все эти события в значительной степени изменили его, сделали че-
ловеком с другой системой ценностей, другими жизненными интереса-
ми. Автономность позиции редактора журнала, возможность ощущать
пульс исторической науки и реализовать собственный творческий по-
тенциал вполне его устраивала, и другого поста он не желал.
А стать “полным академиком” Владимиру Григорьевичу хотелось.
Но, зная, что против него идет активная работа, он редко участвовал
в выборах, а после введения для избрания возрастного ценза в 70 лет
87
внутренне смирился с тем, что эта цель для него недостижима. В душе
перекипело.
Когда возрастные запреты были сняты и в связи с изменениями в
составе Отделения истории для него открылись новые возможности,
острота желания победы заметно притупилась.
- Будет удача или нет, в нашей жизни мало что изменится, - ска-
зал он мне накануне выборов 1992 г. - Я спокойно отнесусь к любому
исходу.
Может быть, огорчение в случае провала было бы острее, чем он
предполагал. Но той бурной радости, которую Владимир Григорьевич
испытал, когда стал членом-корреспондентом, или если бы был избран
в академики хотя бы лет на десять раньше, - той радости не было. Хо-
тя он, конечно, очень был доволен, что, по его словам, “достиг заверше-
ния пути”, что справедливость в конце концов восторжествовала, и чув-
ствовал большую благодарность к коллегам, которые его поддержали.
Во все годы, начиная с прихода Владимира Григорьевича в Инсти-
тут всеобщей истории и до самого конца, он ощущал неизменное внима-
ние и уважение к себе со стороны дирекции, А.О. Чубарьяна (их связы-
вали давние добрые отношения) и тех сотрудников, с которыми нахо-
дился в постоянном контакте, - Г.С. Остапенко, Л.Ф. Туполевой и дру-
гих его коллег. Спасибо им за это.
В 1992 г. в Институте всеобщей истории была создана Ассоциация
британских исследований. Владимир Григорьевич стал ее президентом,
и в первые годы ее существования, когда велась активная работа (а он
чувствовал в себе еще достаточно сил), эта деятельность приносила ему
удовлетворение и обеспечивала непосредственную связь с научным ми-
ром. Своим преемником на посту руководителя ассоциации он хотел ви-
деть А.Б. Давидсона.
* * *
В середине девяностых состояние здоровья Владимира Григорьеви-
ча ухудшилось. Резко усилился тремор (дрожание рук). Трудно стало
писать, в присутствии чужих людей за столом временами не удавалось
справляться с дрожавшими руками. Наш круг общения и прежде был
очень ограничен после постигшей нас в 1981 г. трагедии - скоропостиж-
ной кончины от тромба Гриши, сына Владимира Григорьевича. Теперь
же этот круг сократился до минимума.
Начались сосудистые кризы, приводившие к нечленораздельности
речи. Правда, поначалу продолжались они недолго: через час-полтора
речь восстанавливалась. Потом стали продолжительнее. Приезжавшие
бригады скорой помощи часто предлагали госпитализацию; Владимир
Григорьевич всегда отказывался (на моей памяти он только один раз
лежал в больнице - в связи с операцией).
И все же однажды врачи, угрожая мне летальным исходом, в полу-
бессознательном состоянии увезли его в Кунцевскую больницу. В тот
же день, придя в себя, он позвонил домой с сестринского поста и задал
единственный вопрос:
- Зачем ты меня сюда отдала?!
88
В.Г. Трухановский. 1973 г.
В голосе мужа звучала такая горькая обида, что во мне душа пере-
вернулась. Через два дня по моей настоятельной просьбе, под подписку
его отпустили домой.
К великому счастью, нам удалось найти замечательного врача. Еле-
на Арамовна Хачатурян, заведующая отделением неврологии одной из
московских больниц, постоянно наблюдала Владимира Григорьевича
на дому и очень эффективно помогала нам самим при помощи лекарств
в большинстве случаев предупреждать и нейтрализовать приступы.
Владимир Григорьевич полностью доверял ей; для него это было очень
важно.
89
Благодаря Елене Арамовне мужу удавалось справляться со своим
основным недугом - нарушением мозгового кровообращения и с сер-
дечными заболеваниями до последнего дня. Причиной его смерти стал
разрыв брюшной аорты, который невозможно предотвратить ничем,
кроме профилактической операции. Однако в таком возрасте подоб-
ные операции не производятся.
В связи с внезапностью сосудистых приступов врачи запретили
Владимиру Григорьевичу выходить на улицу одному. Нежелательно
было и дома надолго оставаться в одиночестве. Я ушла на пенсию. Пра-
ктически все время мы стали проводить вместе. История наших отно-
шений вышла на новый виток.
* * *
Поначалу, когда больше значила разница в возрасте (ко дню наше-
го знакомства в апреле 1963 г. ему было 48 лет, мне - 29), наши взгля-
ды и вкусы сильно расходились. Мы были очень разные по воспитанию,
жизненному опыту, по положению, кругу общения, наконец, просто по
поколениям. Тогда никому из нас и в голову не приходило, что наши
жизни соединятся в одну, тем более что оба были несвободны (хотя и не
счастливы в браке), у обоих были дети.
Прошло немало лет, прежде чем у нас появился общий дом. За эти
годы мы значительно приблизились друг к другу (конечно, его влияние
на меня было сильнее, чем мое на него), а оставшиеся различия воспри-
нимали как данность. Незадолго до того как мы поженились, Владимир
Григорьевич писал мне о нашей будущей жизни: “Надо, чтобы было те-
пло, уютно друг с другом и нигде не жало, т.е. взаимно уважать склон-
ности, привычки, манеру поведения друг друга...”
Мы часто в последние годы разговаривали между собой о том, что
именно на старости лет (когда люди оказываются, как космонавты,
один на один в замкнутом пространстве) особенно важно, чтобы “нигде
не жало”, чтобы постоянное присутствие живущего рядом человека не
утомляло, не раздражало, а было всегда желанным и приятным.
С первого дня знакомства мне было удивительно легко и просто ря-
дом с Владимиром Григорьевичем, как никогда ни с одним человеком.
Не нужно было искать тем для беседы, стараться произвести впечатле-
ние. Так весело было разговаривать, общаться, проводить вместе вре-
мя. Хотя я знаю, что многие чувствовали себя с ним скованно, напря-
женно (по этой причине не все мои друзья смогли стать его друзьями).
Владимир Григорьевич всегда оставался довольно закрытым челове-
ком и близко сходился с людьми лишь в очень редких случаях. Тем
больше я ценила глубину и разносторонность сложившихся с течением
времени отношений между нами, того общения, которое наполняло
мою жизнь смыслом и было для меня важнее всех других занятий, впе-
чатлений и отношений. Теперь, когда моего мужа нет со мной, я ощу-
щаю это еще острее.
В последние годы мы особенно сроднились душой. В процитирован-
ном выше письме Владимир Григорьевич писал: “Я люблю покой и ма-
ленькую психологическую свободу дома. Покой и ты должна будешь
90
любить с годами”. Как всегда, он оказался прав: мало-помалу его при-
вычки, образ жизни стали моими, наш домашний покой был отраден
нам обоим. Возрастная разница между нами постепенно сглаживалась.
Даже внешне, чем Владимир Григорьевич был очень доволен (а мне та-
кое его отношение помогло безболезненно пережить тяжелый для ка-
ждой женщины процесс старения).
“Боюсь, что тебе очень скучно будет со мной, - писал мне когда-то
Владимир Григорьевич в другом письме. - Я совсем не компанейский
парень, люблю сидеть, а еще лучше лежать дома, читать и размышлять
... Я слишком необщителен, не люблю общество и шум”. Он и в самом
деле не был “компанейским парнем”, чуждался светских развлечений
(хотя в свое время поощрял мои походы в театр, на выставки и т.д. с до-
черью или с подругами). Но с ним самим скучно не было никогда.
Какая уж тут скука - ум, талант, своеобразие личности. Необыч-
ный жизненный путь, так непохожий на однотипно-интеллигентские
биографии людей моего поколения и окружения. Его рассказы о собы-
тиях, свидетелем которых он являлся, о зарубежных впечатлениях за-
хватывали воображение и создавали для слушателей то, что он сам на-
зывал “эффектом присутствия”. Он так умел построить рассказ, что со-
беседник видел живую картину, ощущал атмосферу, запах, вкус описы-
ваемых им явлений и предметов. Память у него до последних дней бы-
ла блестящая.
И еще: во Владимире Григорьевиче чувствовался сильный творче-
ский импульс, он был заразителен и воспринят мной (пусть на своем
уровне), позволив приобщиться к иной сфере интересов. Главным сти-
мулом для меня в работе было доказать ему - именно ему! - мою твор-
ческую и научную состоятельность, хотя для него самого это было со-
вершенно все равно. А может быть, и нет...
Теперь уже не спросишь. А сколько вопросов еще хотелось бы за-
дать, как важно было бы узнать его отношение к тому, что я о нем на-
писала.
Меня поражала его находчивость. Вот лишь два забавных примера.
Отдыхая однажды в белорусской деревне Луково, мы жили в доме заве-
дующей сельской почтой. Как-то она чуть не плача пожаловалась, что
к утру должна представить годовой отчет о своей работе.
- Месяц уже промаялась, да ничего не выходит.
- А ну-ка, Вера, - скомандовал Владимир Григорьевич, - берите бу-
магу и ручку и записывайте.
И он с ходу продиктовал доклад с подробным анализом работы
сельской почты, лишь изредка уточняя отдельные детали у нашей хо-
зяйки. Ей оставалось только вставить соответствующие цифры - коли-
чество поступающей на почту прессы, корреспонденции, число жителей
в селе и т.п. Через неделю Вера явилась домой сияющая: начальство
признало ее доклад лучшим в области. Она так и не смогла поверить,
что ее постоялец никогда никакого отношения к почтовому ведомству
не имел.
В крымском санатории “Нижняя Ореанда” работала энтузиастка-
библиотекарша. Она измучила Владимира Григорьевича каждодневны-
91
ми просьбами выступить перед персоналом с рассказом о своем “лите-
ратурном творчестве” (в библиотеке имелось несколько его биографи-
ческих книг). Наконец, он был вынужден согласиться. Собрался пол-
ный зал женщин - врачей, медсестер, санитарок. У меня душа ушла
в пятки: они просто заснут, слушая повествование о государственных
мужах Альбиона!
Но Владимир Григорьевич, к моему удивлению, ничуть не расте-
рялся. Проникновенно, с актерскими паузами он поведал о том, как
должна себя вести супруга политического деятеля (со слов Клементины
Черчилль), как пламенно любили друг друга адмирал Нельсон и Эмма
Гамильтон. Зал слушал, затаив дыхание. А закончил он так:
- Антони Иден был самым красивым, самым элегантным полити-
ческим деятелем в мире. Однако именно его бросила жена. Почему?
Вот загадка века.
Хорошо, что срок наших путевок кончался на следующий день. За-
чарованные слушательницы не давали мне прохода: не решаясь - из
уважения - обратиться к мужу, они требовали от меня подробностей се-
мейной драмы Иденов.
Нелегко мужчине в течение тридцати семи лет оставаться интерес-
ным и неожиданным для женщины, тем более тогда, когда все события
переживаются вместе, а все внешние впечатления общие. Но моему му-
жу это удавалось. Удивительным образом отношения с ним так и не
стали никогда рутинными, не подернулись пленкой привычности, обы-
денности.
Обычно, уходя на пенсию, человек интеллектуально мельчает, по-
гружается в бытовую будничность. А Владимир Григорьевич, наобо-
рот, приподнимался над ней. Он не был обывателем. Не раз в последнее
время я слышала от людей в применении к нему слово “мудрый”.
* * *
И в более ранние годы сосредоточенность на собственных размыш-
лениях, на своем внутреннем мире обеспечивала Владимиру Григорье-
вичу полную самодостаточность. Не требовались никакие “хобби”.
Он ничего не коллекционировал, давно забросил шахматы, не играл ни
в словесные, ни в карточные игры. Когда-то я агитировала его в поль-
зу преферанса, доказывая, что это хорошая гимнастика для ума. Он на-
отрез отказался поучиться, заметив при этом:
- Для ума нужна пища, а не гимнастика.
Владимир Григорьевич не занимался спортом (тут мы были вполне
родственные души), болельщиком тоже не являлся. В бане не парился,
охоты не признавал. Зато с удовольствием ходил по грибы, очень лю-
бил рыбную ловлю и иногда рассказывал о своих рыбацких удачах в
детстве и в молодые годы. Однако это увлечение продолжалось только
до начала 70-х. На моей памяти он занимался рыбалкой во время отпу-
сков, проводимых в деревне. Причем подчас вовлекал и меня, не имев-
шую никакого опыта в этом деле.
В последний раз мы с ним удили рыбу в маленькой речке под Муро-
мом. Просидели довольно долго, ничего не поймали. Собрались уже
92
уходить, как вдруг я с визгом вытащила большущего окуня. В свете это-
го нежданного триумфа Владимир Григорьевич был расстроен своим
нулевым результатом как ребенок...
Вообще, несмотря на солидную внешность, ум и жизненный опыт,
в нем оставалось нечто мальчишеское. Не то чтобы он был из тех,
о ком говорят “молод душой”. Но зачастую в его реакциях, в глазах, вы-
ражении лица трогательно проглядывало что-то от деревенского паца-
нёнка - интерес, удивление, радостное восприятие, обида...
Мне легко было представить его ребенком, особенно после того
как мы съездили в 1974 г. на родину мужа, в деревню Ботвиновка. С на-
ми была его сестра, Зоя Григорьевна. Всю жизнь она оставалась для не-
го преданным другом и вместе со своей семьей неизменно приходила на
помощь брату в трудные моменты.
Мы побывали в их доме - обычной крестьянской избе. Там жили
чужие люди (родных уже никого не осталось), но убогая нищенская об-
становка не изменилась с 20-х годов. Владимир Григорьевич указал мне
на узкую деревянную лавку:
- Вот здесь я спал.
На проселочной дороге в толстенном слое мягкой, как пух, серой
пыли копошились голые ребятишки.
- Я тоже так любил, - заметил он. - Как будто в теплой воде во-
зишься.
Муж показал мне лес (“гай”), куда ходил с матерью по грибы; реч-
ку, возле которой ловил в детстве раков - “щупаньем” (забираясь рукой
в норки) или “на лягушку” - и где поймал однажды “аж триста штук”.
А возле какого-то закоулка сказал:
- Тут меня мальчишки побили. Не помню, за что, но больно было.
Дразнили меня: “Тпру, Белый!”
Таким возгласом его отец останавливал, возвращаясь домой, своего
коня.
* * *
После поездки в Ботвиновку мне стало понятнее мировоззрение
мужа. Владимир Григорьевич на всю жизнь остался благодарен совет-
ской власти за то, что мальчишке из глухой деревни она обеспечила
возможность стать дипломатом, ученым, академиком. Своей позиции
никогда не менял, не пытался подстраиваться к модным в обществе на-
строениям, как это делали многие процветавшие в СССР персоны вы-
сокого ранга, которые умудрялись даже бежать впереди паровоза (к та-
ковым метаморфозам, как и к телеаттракционам вроде сожжения парт-
билета, он относился с брезгливостью).
Владимир Григорьевич давно понимал, что СССР остро нуждается
в реформах, его огорчало и тревожило “загнивание с головы” на изле-
те брежневского правления, но была надежда на энергичный и разум-
ный курс будущих преемников власти.
- Требуются ум и воля, - часто говорил он тогда.
Однако горбачевская перестройка - с точки зрения мужа, амбици-
озно-болтливая, непродуманная, безответственная - глубоко разочаро-
93
вала его с первых шагов, с антиалкогольной кампании, ставшей, по его
мнению, символом профессионального убожества власти. Он приоста-
новил свое членство в КПСС, считая, что руководство партии ведет
страну к катастрофе.
Владимир Григорьевич был по мировоззрению государственником;
как личную трагедию он воспринял разрушение Ельциным и иже с ним
Советского Союза (очень сердился, когда говорили “распад СССР”).
В частности, никак не мог примириться с тем, что его родина - Белорус-
сия - оказалась за границей. Кстати говоря, перспективу ликвидации со-
юзного государства он предсказывал почти с первых шагов Горбачева,
так же как и превращение слова “демократия” в бранное, разгул крими-
налитета и сращивание его с властью.
Очень близко к сердцу Владимир Григорьевич принимал унижен-
ную роль России в современном мире. Неудивительно: звездным часом
в его биографии был 1945 год - год победы, когда он был свидетелем
триумфа СССР и участником международных форумов, подтвердивших
и закрепивших значение этого триумфа. В разного рода международ-
ных организациях он талантливо и эффективно (говорю это со слов
многих его коллег) отстаивал интересы своей страны.
Особенно волновала его демографическая ситуация в России.
В прессе он искал сведения по этому поводу, делал для себя какие-то
расчеты и говорил о симптомах грядущего исчезновения нации. Неред-
ко с горечью говорил и о том, что не знает в истории другого примера,
когда бы страна, ее население без войны, без стихийных и прочих ката-
клизмов подверглись такому обнищанию и унижению.
При этом современные коммунисты, высказывающие схожие кри-
тические постулаты, не вызывали у Владимира Григорьевича никакой
симпатии. Он считал их политиканами, которых по-настоящему забо-
тит исключительно собственный комфорт и принадлежность к власт-
ной элите. Впрочем, так же расценивал и других депутатов. Вообще к
результатам выборов относился с большим сомнением и еще до распро-
странения у нас черных выборных технологий часто повторял фразу из-
вестного американского сенатора (не помню фамилии): “Дайте мне
миллион долларов, и я проведу в президенты рыжего пса против апо-
стола Павла”. Сам он в голосовании почти никогда не участвовал.
Несмотря на то что Владимир Григорьевич охотно признавал поль-
зу для общества ряда произошедших в стране перемен, тем не менее со-
вокупность отрицательных факторов в его оценке перспектив развития
России как государства намного перевешивала. Прогнозы его были
мрачные. В результате мироощущение мужа в широком плане было
очень пессимистическим (как у многих людей его поколения со схожим
менталитетом и жизненным опытом).
Вместе с тем в своем узком микромире мы жили вполне благопо-
лучно во всех отношениях, и сам Владимир Григорьевич в среде родных
и близких друзей называл себя счастливым человеком. Как мне груст-
но, что на склоне жизни чувство всегда желанного для него покоя и гар-
монии было отравлено внутренним разладом со временем и болью за
будущее России.
94
* * *
Владимир Григорьевич принадлежал к тем, по чьему мнению культ
“золотого тельца” противоречит русскому национальному характеру.
Сам он в своих вкусах, потребностях был достаточно скромен, непритя-
зателен.
“... Вспоминал, как ты меня кормила последний раз картошкой и
грибами, - писал он мне из заграничной командировки. - Очень просто
и много вкусней, чем здесь и во многих других местах. Наши потребно-
сти с тобой очень невелики. Совсем немного надо”.
Вместе с тем он считал необходимым иметь всегда в собственном
распоряжении суммы, независимые от семейного бюджета. На эти це-
ли оставлял определенную долю от своих финансовых поступлений.
Тратил он далеко не все, поэтому когда в годы перестройки несколько
раз проводилась денежная реформа, иногда в карманах его костюмов
или в ящиках письменного стола обнаруживались вышедшие из упот-
ребления купюры. Я нахожу их до сих пор.
И еще о деньгах. Однажды мы шли по улице. Вдруг к Владимиру
Григорьевичу, назвав его по имени-отчеству, обратился молодой чело-
век. Я отошла за покупкой к ближайшему киоску, а когда повернулась
к ним лицом, увидела, как муж вынул крупную купюру и отдал ее моло-
дому человеку. Тот сразу ушел. Кто это был, Владимир Григорьевич не
мог вспомнить.
- А деньги? - удивилась я.
- Да он попросил в долг.
Конечно, этот неузнанный должник никогда не объявился. Бывали
и другие случаи подобного рода.
Когда была готова наконец кооперативная квартира, в которой мы
начали свою совместную жизнь, Владимир Григорьевич сказал мне, ка-
ким он хочет видеть наш дом:
- Чем проще, тем лучше. Без выпендрёжа (так он называл все, что
делалось не для удобства, а напоказ).
Из мебели Владимира Григорьевича интересовали только письмен-
ный стол и книжные шкафы. Учитывая финансовые трудности в связи
со взносом в кооператив и обустройством квартиры с нуля, он всерьез
предложил соорудить самодельные стеллажи для книг из кирпичей
и досок и был очень удивлен, что я не поддержала эту идею.
Потом уже, когда наша ситуация улучшилась, я как-то пригляде-
ла маленький столик в комиссионном магазине. Услышав об этом,
он сказал:
- Никакого антиквариата! У меня на него аллергия.
Самую просторную комнату в нашей квартире Владимир Григорь-
евич сделал своим кабинетом; отдыхая в санаториях, он всегда хотел
жить в больших номерах. Но это объяснялось не амбициозностью,
а тем, что ему было трудно находиться в тесных помещениях.
Из заграничных командировок Владимир Григорьевич привозил,
конечно, какие-то носильные вещи, но получал удовлетворение только
от покупки книг, канцпринадлежностей, транзисторов (он любил слу-
95
шать радио, особенно Би-би-си), бумажных салфеток, кукурузных
хлопьев для завтрака и всякого рода напитков. Помню, как однажды,
встречая его в Шереметьеве, увидела, что он сгибается от тяжести,
неся свой чемодан.
- Ну и накупился мужик барахла, - сказал про него кто-то рядом. -
Дотащить не может.
Оказалось, что чемодан был набит жестяными банками с кока-ко-
лой (она ему тогда нравилась).
А вот другой, очень памятный мне случай. Владимир Григорьевич
прилетел из Новой Зеландии (он немало лет был председателем Обще-
ства дружбы с этой страной) с большущей коробкой в руке, как от ог-
ромной куклы. Пока мы добирались из Шереметьева, он не раскрыл
мне тайну коробки. А дома оказалось, что в ней находятся срезанные
живые орхидеи. Там было не меньше десяти разных сортов. До того
дня я орхидей еще никогда не видела. Эти экзотические цветы разной
окраски и оттенков больше месяца оставались живыми и радовали
глаз...
Покупать себе одежду и особенно мерить ее в магазине Владимир
Григорьевич не любил, предпочитал, чтобы я делала такие покупки без
него. Собираясь выйти из дома, сам себе одежду и обувь не выбирал, да-
же плохо знал, где что висит и лежит. Любил куртки, но не обращал
внимания ни на их фасон, ни на цвет - только на количество карманов.
Равнодушен был и к моей одежде. Когда я спрашивала его мнение
о какой-либо вещи, он всегда отвечал одно и то же: “Вполне годится”.
Однако если я не предупреждала его, что на мне надето что-то новое,
он, как правило, моих обновок не замечал. Зато часто обращал внима-
ние на одежду других женщин, делал им комплименты, а иногда и весь-
ма обескураживающие замечания.
В нем полностью отсутствовала практическая жилка. На уровне
бытовых проблем Владимир Григорьевич был часто беспомощен,
а иногда и наивен, он их просто боялся (с возрастом это особенно уси-
лилось). Ненавидел, когда в его присутствии в доме производились ка-
кие-либо починки или ремонтные работы. Пока муж ездил в команди-
ровки, квартира ремонтировалась по частям, но когда мы стали поки-
дать ее только вместе, и это сделалось невозможным. На все мои насто-
яния он неизменно отвечал:
- Только после моей смерти.
Однажды произошла большая протечка сверху и пришлось все же
за четыре дня сделать ремонт мест общего пользования. Владимир Гри-
горьевич тогда разгневался не на шутку.
По другим поводам в бытовую сторону нашей жизни он предпочи-
тал не вмешиваться. Никогда не вникал в мои текущие расходы, в до-
машние мелочи (не мелочный был человек).
Раньше я совершенно не интересовалась домашним хозяйством.
Готовить научилась для него, для него же старалась стать хорошей хо-
зяйкой нашего дома. Муж снисходительно относился к моим недостат-
кам и промахам в этом качестве (как и вообще во всем) и постоянно
предлагал “упрощать” быт.
96
Григорий Ипполитович
Трухановский. 1934 г.
С матерью Анной Николаевной.
1937 г.
Володя Трухановский в школе
(2-й справа в 1-м ряду). 1926 г.
Владимир Григорьевич Трухановский (2-й слева)
с членами английской парламентской делегации.Средняя Азия, 1945 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручает
В.Г. Трухановскому его первый орден - Трудового Красного Знамени. 1946 г.
На службе в Министерстве иностранных дел. Конец 40-х - начало 50-х годов
С сыновьями Гришей (слева) и Володей. 1955 г.
В.Г. Трухановский (2-й слева) с группой советских историков - участников
XII Международного конгресса историков в Вене (1965 г.)
(3-я слева - З.В. Удальцова, 1-й справа - Л.В. Черепнин)
С Генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом. 1975 г.
С премьер-министром Индии Индирой Ганди
и президентом Пагуошского движения Дороти Ходжкин. 1977 г.
С сыном Гришей
в пансионате
под Псковом.
1970 г.
С женой
Н.Г. Думовой.
1972 г.
На даче
в день 70-летия.
15 июля 1984 г.
С В.Л. Яниным
и
Н.Я. Троицким.
15 июля 1984 г.
В.Г. Трухановский. 1997 г.
Те же обязанности, которые он брал на себя, Владимир Григорье-
вич умел выполнять незаметно, без шума. Пока был здоров, он косил
траву на даче, колол дрова, топил печь, покупал некоторые продукты.
Любил ходить вместе со мной на рынок. Обожал делать всякие запасы;
закупленные им лампочки, спички и мыло (у него была слабость к хо-
рошему мылу) не иссякли до сих пор. Чего только не хранилось в за-
крытых частях его многочисленных книжных шкафов (я называла их
закромами)! Зато когда возникала надобность в каком-либо бытовом
предмете, лекарстве, канцпринадлежности, у него это, как правило,
оказывалось, и он с удовольствием констатировал: “В Греции все есть”.
В первые годы перестройки в поселке Расторгуево, где была наша
прежняя дача, по воскресеньям действовала небольшая вещевая ярмар-
ка. Владимиру Григорьевичу нравилось пройтись по рядам, приценить-
ся к инструментам, сельхозинвентарю (покупал он только какие-то ме-
лочи). Однажды купил за 3 рубля совершенно невозможную джинсовую
кепку и, несмотря на мои протесты, надевал ее, когда шел на ярмарку.
Вид был настолько колоритный, что, когда он в этой кепке спрашивал
у продавцов, почем товар, они отмахивались:
- Дорого, дедушка, дорого!
Его это очень забавляло.
* * *
Подкупали в нем глубоко-глубоко скрываемые внутри стеснитель-
ность, неуверенность в себе. Неожиданно и приятно было обнаружить
подобные черты в состоявшемся, успешном человеке.
Когда-то очень давно мы приехали на пару дней в Ленинград. В пер-
вый же вечер отправились в необыкновенно популярный тогда Боль-
шой Драматический театр. Там существовала традиция - несмотря на
аншлаг, продавать перед спектаклем билеты командированным. Влади-
мир Григорьевич, предъявив свое редакторское удостоверение, полу-
чил билеты. Спектакль нам очень понравился, и на следующий день я
предложила снова пойти в БДТ, уже на другую пьесу.
- Неудобно соваться второй раз, когда столько желающих, - возра-
зил Владимир Григорьевич. - Скажут, вот нахал!
Я была уверена, что удастся купить билеты с рук. Но, увы! Нам не
повезло. Он порывался уйти. Как сейчас, вижу его расстроенное, напря-
женное лицо. Я вспоминаю об этом с чувством вины, но тогда мне так
хотелось попасть в театр...
Понимая, как ему трудно пересилить себя, я взяла его удостовере-
ние и просунула в окошко.
- Вы ведь вчера были у нас? - спросил администратор. - Как прият-
но, что вам понравился наш театр.
И с улыбкой протянул два билета.
Владимир Григорьевич шутил, что по характеру он - “помесь Об-
ломова со Штольцем”. Действительно, Обломовым он бывал дома: ле-
нился в обнимку с “четвероногим другом” - диваном, любил повторять
изобретенный Черчиллем рецепт долголетия: никогда не стоять, если
можно сидеть, и не сидеть, когда можно лежать. Всегда норовил отло-
7 Россия и Британия Вып 3
97
жить неприятные или сложные дела (у него была для этого специаль-
ная формула “при случае”). Черты Штольца проявлялись в работе,
в творчестве - большое трудолюбие, самодисциплина и редкая органи-
зованность. Был очень точен в рабочих делах, в представлении рукопи-
сей, отзывов и т.п. Страшно не любил опаздывать ни на транспорт, ни
на работу, ни на свидания, ни даже в гости. Наши близкие друзья, весе-
лая, озорная пара, смеялись по этому поводу:
- Трухановские приходят, как поезд.
Но вообще штольцевской педантичности, занудности в нем не было.
Особый разговор об отношении мужа к своему архиву. Все личные
документы, как и материалы для написания очередной книги, содержа-
лись в идеальном порядке. Фотографии (кроме тех, что для документов,
и наших семейных, находившихся в моем ведении) хранились в виде не-
разобранной груды. Рукописей, кроме последней книги, Владимир Гри-
горьевич не оставил. Переписку сохранял очень выборочно. Это выяс-
нилось уже после его кончины, поскольку при жизни он никого к своим
бумагам не допускал.
Многочисленные адреса и телеграммы, присылавшиеся к его юби-
леям, я еще давно попросила отдать мне на сохранение. Он был дово-
лен, что не придется отводить под них место в кабинете, и даже никогда
потом не спросил, где они находятся.
Вообще представление о какой-либо значимости своей персоны для
современников, а тем более для потомства, свойственное обычно лю-
дям его положения, у Владимира Григорьевича полностью отсутствова-
ло. Помню, как искренне он был удивлен, когда узнал, что на истфаке
Ярославского университета защищен диплом, посвященный его науч-
ному творчеству.
Он нередко повторял: “Я не герой”, бывал осторожен, опаслив.
И вместе с тем способен (по его выражению, “когда подопрёт”) на ре-
шительные, смелые действия.
На всем протяжении наших отношений Владимир Григорьевич вел
себя по-мужски безупречно. С самого начала, появляясь со мной на ули-
це, в общественных местах, никогда не оглядывался украдкой по сторо-
нам, не прятался, хотя твердо знал, что в случае осложнений в семье по-
следуют серьезнейшие неприятности разного свойства. Тем не менее
сам, без всякого внешнего повода, еще в 1967 г. сказал дома, что не мо-
жет там оставаться, но ждал с уходом (в очень трудной обстановке) два
года, пока подрастут сыновья-близнецы.
По натуре своей Владимир Григорьевич был на редкость домаш-
ний человек. За прожитые с ним вместе годы я это глубоко прочувст-
вовала (его слово, он говорил обычно: мало понимать, нужно прочув-
ствовать). Уйти в никуда из собственного дома ему было намного труд-
ней, чем подавляющему большинству тех, кто решается на подобный
шаг. Поэтому я думаю, что изначальная причина заключалась отнюдь
не только во мне.
В совместной жизни с мужем было легко. Он никогда не попрекал
окружающих совершенными ошибками или глупостями, не делал заме-
чаний, не читал морали. Всегда желал, чтобы его по возможности оста-
95
В санатории “Узкое”. 1989 г.
вляли в покое, и так же сам относился к другим. Однако если чего-ни-
будь всерьез не хотел или, наоборот, хотел, то заставить его переме-
нить мнение было невозможно. Не выносил, чтобы на него давили.
На мой взгляд, наиболее сложным в его характере было отношение
ко всякого рода экстремальным ситуациям (к примеру, большие непри-
ятности, травмирующие известия, запутанность, неясность положения и
т.п.). “Я всегда был очень впечатлительным, эмоциональным, - писал
он. - Это хорошо для жизни, делает ее более радостной, но, как все в
этом мире, имеет отрицательную сторону: делает трудности бытия, его
неудачные аспекты более тяжелыми для человека”.
Экстремальные ситуации всегда вызывали у Владимира Григорье-
вича сильное раздражение, а если случались неожиданно (он ненавидел
неожиданности), то его реакция была совершенно непредсказуема.
Мог вспылить, накричать, даже если причина раздражения находилась
вовне и никак не была связана с семейной сферой. В такие моменты
спорить, доказывать что-то было бесполезно, следовало молча уйти в
другую комнату (именно так поступал он сам, если стиль разговора его
не устраивал). Через какое-то время Владимир Григорьевич остывал и
возобновлял нормальное общение, не выясняя отношений, не оправды-
ваясь (того и другого терпеть не мог). Всегда действовал в соответствии
с английской поговоркой, которую любил повторять: “Never explain,
never complain” (Никогда не объясняйся, никогда не жалуйся).
Наверняка и в моем характере были сложности для него, хотя он со
мной эту тему никогда не обсуждал. Но еще задолго до появления у нас
общего дома мы научились принимать друг друга такими, как есть, не
99
пытаясь исправлять и совершенствовать. Скорее даже он и без меня это
умел, а я у него научилась. Поэтому конфликты между нами бывали
крайне редко.
Нам так трудно далось наше счастье, столько на пути к нему было
преград, переживаний, что мы оба берегли его как только могли. И оно
осталось с нами до конца.
* * *
Общеизвестно, что с возрастом у людей портится характер. Мой
муж и здесь оказался человеком нестандартным: годы сделали его мяг-
че, терпимее. Исчезли внешние раздражители (кроме политических но-
востей), снялось напряжение официальных контактов, не стало необхо-
димости принимать ответственные решения. Безусловно, это пошло на
пользу нервной системе Владимира Григорьевича, его здоровью.
Однако самым благотворным в этом смысле фактором стали наши
поездки во Францию на Лазурный берег. Оказавшись в первый раз в
Ницце, мы обнаружили, что легендарный местный климат необыкно-
венно целителен для Владимира Григорьевича. Он чувствовал себя там
намного лучше, сосудистые кризы прекращались, дрожание рук умень-
шалось, давление стабилизировалось, появлялись энергия и бодрость.
Обстоятельства, на наше счастье, сложились так, что мы смогли прово-
дить в Ницце по два (а то и больше) месяца в году.
Ехать в дальние края в возрасте и состоянии здоровья Владимира
Григорьевича было, конечно, немалым риском. Каждый раз мы обра-
щались за советом к врачу Елене Арамовне. И она мужественно брала
ответственность на себя, благословляя своего пациента на поездку:
слишком уж очевиден был положительный результат по возвращении.
К счастью, за все наши посещения Ниццы с мужем не произошло
ничего неприятного. Любопытно, что при каждой очередной поездке у
меня была сильнейшая внутренняя уверенность - все будет хорошо (хо-
тя вообще похвастаться особо развитой интуицией не могу). А вот в по-
следний раз - осенью 1999 г., - несмотря на отсутствие каких-либо ЧП,
я так же остро почувствовала: больше мы сюда не приедем. Но пред-
чувствия, что помешает приехать смерть, не было.
Обычно за три-четыре дня до вылета из Москвы Владимиром Гри-
горьевичем овладевала “предотъездная лихорадка”: он начинал беспо-
коиться, не забудем ли мы чего-нибудь, не опоздаем ли на самолет, не
случится ли нечто непредвиденное и т.п. Даже успокоительные лекар-
ства не помогали. На мои уговоры ни о чем не тревожиться он отвечал
извиняющимся тоном (который вообще не был ему свойствен):
- Ты же знаешь, я человек очень мнительный. Как только взлетим,
успокоюсь.
Само путешествие в Ниццу было сравнительно легким: зал VIP в
Шереметьеве, прямой рейс - 3,5 часа (Владимир Григорьевич прекрас-
но переносил самолет), и уже через полчаса после приземления мы ока-
зывались на месте.
Жизнь в Ницце коренным образом отличалась от прежних пребы-
ваний мужа за границей. На протяжении 60-80-х годов Владимир Гри-
100
горьевич очень часто бывал в зарубежных командировках, он участво-
вал в работе многих международных организаций. Хорошее знание
языка и полемический талант выгодно отличали его от большинства
людей его поколения и положения, которые могли общаться с ино-
странцами только через переводчика и оказывались довольно неуклю-
жи при необходимости вести политическую или научную дискуссию.
Он объездил (вернее облетал) полмира, но все эти вояжи были целиком
заполнены выступлениями, деловыми встречами и диспутами. Коман-
дировки требовали большого нервного напряжения и, хотя нередко
оказывались для Владимира Григорьевича интересными и запоминаю-
щимися, но физически сильно его изматывали. А Лазурный берег, с его
теплой, ласковой погодой (в жаркие летние месяцы мы там не бывали),
с его целебным морским воздухом, да плюс к тому полная свобода дава-
ли возможность просто райского отдыха.
В первые приезды в Ниццу мы нередко совершали однодневные
экскурсии по Лазурному берегу. Побывали в Канне, Ментоне, Монако.
Помню, как, возвращаясь из Монте-Карло, мы обсуждали происхожде-
ние княжеского рода Гримальди, ведущего начало от средневековых
пиратов. Они захватили власть над Монако, истребив семью его преж-
них владетелей, которые доверчиво открыли убийцам ворота своей
крепости. Этот факт зафиксирован в истории княжества, однако потом-
ки захватчиков стали не только легитимными, но и обожаемыми насе-
лением правителями.
В связи с этим Владимир Григорьевич говорил о гипнотическом
воздействии власти на массы и о том, что признание историей тех или
иных властителей великими не согласуется с понятиями о добре и зле.
О проблемах “власть и народ”, “власть и творческая элита” он много
размышлял в последние годы.
Квартира, где мы жили в Ницце, располагалась в центральной час-
ти города, прямо на прекрасной набережной Promenade des Anglais.
Обычно всю первую половину дня, до обеда, мы гуляли по набережной
или сидели в парках. Поначалу проходили (с отдыхом на скамейках над
морем) довольно значительное расстояние. С каждым годом оно понем-
ногу сокращалось - силы Владимира Григорьевича убывали.
Во время прогулок мы вели долгие разговоры. Мне не терпелось
поделиться впечатлениями об увиденном по телевизору (который он во
Франции почти не смотрел), о прочитанном во французских журналах.
Может быть, мои сообщения и не были особенно интересны мужу, но
он умел слушать и даже если не поддерживал разговор, никогда не воз-
никало ощущения, что витает мыслями где-то далеко.
Сам он в последние годы рассказывал мне главным образом о про-
шлом. Чаще всего о детстве, о ленинградской юности, о работе в
МИД - в Иране и в Москве. Говорят, что в старости обычно лучше по-
мнится первая половина жизни. Во всяком случае, Владимиру Григорь-
евичу явно приятно было вспоминать именно то время. Удивительно,
что на память ему стали часто приходить давно забытые персидские
слова, и он то и дело вставлял их в разговор. О некоторых эпизодах про-
шлого я слышала по нескольку раз. Однако рассказы Владимира Гри-
101
горьевича никогда не были нудными, тягомотными (как подчас случа-
ется у пожилых воспоминателей).
Мне запомнились рассказы о том, как отец, Григорий Ипполито-
вич, редко бывавший дома (мотался по округе по своим агрономиче-
ским делам), нанял в помощь матери для сельскохозяйственных работ
молодого парня, как мать полюбила его и уехала с ним в Ленинград.
Как отец остался с 11-летним Володей и его 4-летней сестрой Зоей, как
привел в дом мачеху.
Как Володю отдали учиться в школу-семилетку в Мстиславль и уст-
роили на квартиру (в семью бывшего военнопленного австрийца),
а квартира была - одна комната в землянке, вырытой в откосе оврага.
Как он ходил из Мстиславля домой, в деревню - 25 верст пешком. Как
никак не мог постичь предметы, связанные с точными науками, и как в
последние недели в седьмом классе перестал посещать эти уроки (чув-
ствовал, что это закончится скандалом, но ничего не мог с собой поде-
лать). Как ему не дали документа об окончании семилетки, как он при-
шел домой, рассказал отцу, а тот молча выслушал, повернулся и мрач-
ный зашагал в поле.
Как после учебы в ремесленном училище в Кричеве он уехал в Ле-
нинград и поступил на завод, как на заводе (не в милиции) ему выписа-
ли паспорт; когда на вопрос о национальности он ответил “белорус”,
его подняли на смех: “Какой там белорус, не выпендривайся! Напи-
шем - русский”. Так и остались: брат русский, а сестра белоруска. Ка-
кие замечательные были там ребята-комсомольцы и как за одним из
них он потянулся на учебу на рабфак, а затем в институт.
Как, получив высшее образование, он читал лекции в Медицинском
институте и как студентки-медички каждый раз провожали его апло-
дисментами. Как ему это нравилось и как не хотелось уезжать на учебу
в Высшую дипломатическую школу, куда его направили по разнарядке.
Как нелегко было привыкнуть к Москве и какой неприглядной она ка-
залась после Ленинграда.
Как в Иране английский дипломат подарил ему подробнейшую кар-
ту этой страны со множеством нанесенных на нее сведений, как эту не-
обыкновенную карту увидел наш резидент и попросил отдать ему,
а Владимир Григорьевич отказался (по наивности не представляя, чем
это грозит) и как тот стал его врагом. Как его вызвали в Москву и там
он узнал: из Ирана пришла “телега” от “ближних соседей” с сообщени-
ем о том, что Трухановский - английский шпион. Как его спасло только
то, что одновременно он был назван персидским шпионом (а такое соче-
тание исключалось ввиду конфликтных отношений между Ираном и
Англией), и как после долгой беседы с заместителем наркома иностран-
ных дел его отправили с повышением в другой иранский город. Как во
время Тегеранской конференции его близкого приятеля Владимира Ни-
колаевича Павлова, переводчика Сталина, на банкете официант с ног до
головы облил подтаявшим мороженым и как тот, ни на секунду не зап-
нувшись и даже не изменившись в лице, продолжал переводить.
Как после возвращения Владимира Григорьевича из Ирана в Моск-
ву он временно замещал заведующего английским отделом и должен
102
был по требованию министра Вышинского представить ему список со-
трудников на премию. В первый раз список был возвращен с резолюци-
ей Вышинского “подработать”, во второй раз министр вызвал его к се-
бе и стал кричать: “Не умеете работать! Выгоню к ...матери!” И когда
он с опрокинутым лицом вышел из кабинета, помощник министра шеп-
нул ему: “А вы включите в список такую-то”. Оказалось, что эта сот-
рудница отдела - любовница Вышинского и что все, кроме него, об
этом знают. Когда он в третий раз принес Вышинскому список с нуж-
ной фамилией, тот отреагировал своей коронной фразой: “Вот видите,
можете работать, когда захотите”.
Владимир Григорьевич рассказывал, в какие передряги он попадал,
когда возил ответственную английскую делегацию (“что ни морда, все
лорды”) по таким “аристократическим” местам, как Сибирь и Средняя
Азия. Как его хотели послать на Крымскую конференцию, но заведую-
щий и заместитель заведующего отделом разъезжались по командиров-
кам и настояли на том, чтобы оставить его “на хозяйстве”, и как было
обидно, что из-за случайного стечения обстоятельств он не стал свиде-
телем исторического события. Как трудно было в полную силу рабо-
тать по ночам, особенно писать, как, чтобы не слипались глаза, он ста-
рался жевать печенье или вафли и начал тогда толстеть.
Как он был счастлив и горд, когда в важнейшую правительствен-
ную ноту, пройдя без единой поправки все инстанции вплоть до Стали-
на, был включен целый большой кусок написанного им текста. Как
мечтал поехать послом в Лондон, как был назначен заведующим мини-
стерским отделом ООН, как носил дипломатическую форму, соответст-
вовавшую по рангу генеральской. Как тяжело было в первые годы по-
сле увольнения из МИД проходить мимо его старого здания на Кузнец-
ком мосту...
Перечитала рассказы Владимира Григорьевича в своем изложении,
и так мне стало жалко, что не осталось их в записи на кассету, что не
слышно его живого голоса, интонаций, словечек. Совсем другое впе-
чатление...
С тех пор как он ушел из журнала, коллеги и близкие не раз скло-
няли его к работе над мемуарами, но Владимир Григорьевич отвечал:
- Кому это нужно? Теперь другое время.
В связи с 80-летием его краткие воспоминания в форме интервью
были опубликованы в журнале “Новая и новейшая история”. Он остал-
ся доволен этим материалом, но продолжить и расширить его не захо-
тел. И лишь незадолго до смерти написал несколько страниц о детстве,
о школе - то, о чем в сжатом виде уже рассказал в интервью. Писать
становилось все труднее, очень дрожали руки. Собирался диктовать на
магнитофон, но уже не успел.
Свои наброски воспоминаний Владимир Григорьевич озаглавил
“Нет худа без добра”. И начал их так: «Сегодня, когда я разменял 86-й
год жизни, я не только понимаю, что это очень большой отрезок вре-
мени для существования одного человека, но и вижу, что худо и добро в
этой жизни чередовалось неизменно с некоей закономерностью. С та-
кой же регулярностью очередное “добро”, то есть положительный для
103
меня жизненный этап всегда был более “добрым”, чем предшествовав-
шее ему время. Я считаю себя self made man, то есть человеком, кото-
рый создал себя сам, без какой-либо помощи со стороны, если не иметь
в виду условия жизни, существовавшие в то время в стране. Но ведь они
существовали для всех».
Он утверждал, что огромную роль в судьбе человека играет случай.
В связи с этим часто в разговорах с молодыми собеседниками желал им
“не поскользнуться на арбузной корке”. И хотя самому Владимиру Гри-
горьевичу, по собственному признанию, избежать подобных ситуаций
не удалось, в конечном итоге это оборачивалось на пользу. В жизни
ему, как он считал, во многом везло. Говорил, что одно из таких везе-
ний - возможность на старости лет подолгу жить в Ницце.
Ницца - совершенно особенный город. Это понимаешь вполне, ко-
гда живешь там в течение более или менее продолжительного срока.
Помню однажды мы, выйдя из дома, увидели улицы в праздничном уб-
ранстве. Спросили у торговки фруктами, по какому это случаю. “Oh, -
воскликнула она весело. - Nice - c’est toujours la fete!” (Ницца - это все-
гда праздник). Владимир Григорьевич часто вспоминал эти слова.
Я глубоко убеждена, что “ниццкие каникулы” продлили ему жизнь.
* * *
Вернемся, однако, к беседам на прогулках по Promenade des Anglais.
Бывали у нас и споры на темы из области политики, истории, культуры,
а также по поводу анормальных и паранормальных явлений, к которым
Владимир Григорьевич относился крайне скептически, как и ко всяко-
го рода приметам и суевериям. Подобные споры со мной (кроме поли-
тических) он вел в снисходительной манере, отвечал на мои эмоцио-
нальные попытки его переубедить спокойно, немногословно. Но иногда
вдруг бросал такие едкие, ироничные и парадоксальные реплики, что я,
даже оставаясь при своем мнении, все же чувствовала себя в дураках.
Конечно, победить его на полемическом поле для меня было абсолют-
но невозможно, но думаю, что нелегкую задачу это представляло и для
Других.
Впрочем, споры в Ницце были вполне “джентльменскими”. Они не
шли ни в какое сравнение с теми бурными схватками, которые происхо-
дили между нами в первые годы наших отношений. Когда, например,
я рассказывала ему, что 11 раз смотрела Уланову в “Ромео и Джульет-
те”, а он говорил, что ему больше нравится хор Пятницкого.
Или я произносила строки Ахматовой, Мандельштама, а он с ехид-
цей замечал: “Это теперь такая мода”. Что не помешало ему привезти
мне из-за границы - без всякой моей просьбы - не любимого им Ман-
дельштама (это было тогда небезопасно), и я была ужасно тронута и об-
радована, а он удивлялся моему восторгу.
Основным камнем преткновения была политика. Я задиристо напа-
дала на него с шестидесятнических позиций, а он непоколебимо хранил
верность душевному настрою военных лет. Доходило до нешуточных
ссор. Признаюсь, инициатива этих в общем-то бессмысленных препира-
тельств исходила всегда от меня.
104
Вместе с тем нужно сказать, что при всем несогласии с ним я не мог-
ла не уважать его искреннюю, настоящую убежденность, в корне отли-
чающуюся от верноподданнической позы. А главное - нас так безог-
лядно, так всепоглощающе тянуло друг к другу...
Однажды после особенно яростной политической перепалки я ска-
зала ему:
- Ну что делать? Ты такой, и с этим надо смириться. Ведь любят же
воров, разбойников.
Он спросил с металлом в голосе:
- А тебе не приходит в голову, что я могу обидеться?
Но, глядя на мою огорченную физиономию, сменил гнев на ми-
лость и с тех пор, когда страсти в подобных спорах накалялись, всегда
говорил:
- Давай не будем продолжать эту тему.
А бывало, что добавлял с усмешкой, сверкнув глазом:
- Что уж взять с разбойника!
На ласковые слова, на похвалы Владимир Григорьевич был скуп.
Высказывался всерьез на тему собственных чувств только в некоторых
письмах. А с глазу на глаз свое отношение давал понять шутливыми
прозвищами, интонацией, взглядом. Но если уж - очень редко - говорил
что-нибудь, то всегда это было коротко, не банально и запоминалось
надолго. Иногда на всю жизнь.
Ему нравилось надо мной подшучивать - необидно, но подчас очень
смешно: над моим пристрастием к детективам, к сладкому, над верой в
экстрасенсов, над интересом к тому, что пишут о всяческих знаменито-
стях (называл меня “светским информбюро”). При этом почти никогда
не острил на мой счет на людях.
Излюбленной темой для шуток неизменно оставалась моя полнота.
Усмотрев в Ницце среди гуляющих по набережной какую-нибудь тол-
стенную даму (конечно, туристку, француженки излишним весом не
страдают), муж с намеком толкал меня локтем в бок, поднимал брови,
делал круглые изумленные глаза и тихонько гудел:
-У-у-у!
При этом вид у него был такой потешный, что не рассмеяться бы-
ло просто невозможно.
Случались дни, когда Владимиру Григорьевичу совсем не хотелось
разговаривать. Но и молчать мне с ним всегда было хорошо. Возни-
кала какая-то особая атмосфера: чувствовалось, что он размышляет
о чем-то важном, несиюминутном. В такой атмосфере мне тоже
необыкновенно ясно думалось, особенно раньше, когда я работала,
писала книги. В его отсутствие редко думалось столь же плодо-
творно.
Часами Владимир Григорьевич мог, не произнося ни слова, созер-
цать окружающую природу. В Ницце особенно любил следить за беско-
нечной сменой оттенков в резко отличающейся по цвету прибрежной
полосе моря (отсюда Лазурный берег). Или наблюдать, как где-то вда-
ли зарождается волна, наращивает гребень, превращается в мощный
вал, а потом фейерверком взрывается на берегу.
105
Живя в Ницце, Владимир Григорьевич был, как обычно, консерва-
тивен в своих привычках. Придерживался четко установленного распо-
рядка дня, не менял прогулочных маршрутов. За прессой мы ходили
в один и тот же киоск, покупки делали в одних и тех же магазинах. В еде
у мужа тоже были постоянные вкусы: рыба во всех видах, грибы (на
рынке в Ницце продаются роскошные белые, все - без малейшего на-
мека на червивость), мороженое, дыня. За обедом он обычно выпивал
бокал “кровавой Мэри” (немного водки и томатный сок) с пикантными
французскими добавками.
В первый свой приезд в Ниццу мы случайно забрели в датский рес-
торанчик “Маленькая сирена” со свежайшей лососиной и сельдью, при-
возимой из Скандинавии, и с тех пор неизменно отправлялись туда раз
или два в неделю (в остальные дни обедали дома). Владелица “Сирены”,
крепкая молодая датчанка, с удовольствием беседовала с Владимиром
Григорьевичем (все разговоры в Ницце он вел по-английски, француз-
ского не знал). В дни наших посещений она сохраняла незанятым облю-
бованный нами столик не на виду у посторонних глаз. Специально для
Владимира Григорьевича поручала повару готовить не включенный в
меню вкуснейший датский суп из пяти сортов рыбы со сливками, после
того как он однажды упомянул, что французские рыбные супы ему не
по вкусу.
Вообще те немногие люди, с которыми мы в Ницце хоть как-то об-
щались (консьерж, уборщица, киоскер, продавцы в магазинах) относи-
лись к Владимиру Григорьевичу очень уважительно, с симпатией, ста-
рались оказать какую-либо услугу. С ним часто заговаривали незнако-
мые люди (иногда иностранцы, иногда эмигранты или туристы из Рос-
сии). Интересно, что такое внимание к нему со стороны характерно бы-
ло именно для последних лет его жизни.
Самым памятным для него из случайных знакомств стала встреча с
преуспевающим французским бизнесменом среднего возраста. В ходе
долгого и интересного разговора француз сказал: “Если бы не Сталин,
не русские, мы все здесь сейчас ползали бы под немецким сапогом”.
Владимиру Григорьевичу отрадно было слышать эти слова. Он их мно-
гократно потом повторял, радуясь, что кто-то в Европе еще помнит, ка-
кой великий подвиг совершен нашим народом.
Был и такой случай. Однажды в парке к мужу на скамейку подсела
молодая пара; девушка держала в руках большой букет роз. Они как-то
разговорились и, уходя, француженка подарила ему розу и поцеловала
на прощанье. Смутившись от неожиданности, он пробормотал: - Why?
И она ответила:
- Because you аге a handsome man. (Почему? - Потому что вы - кра-
сивый мужчина.)
Действительно, годы не только не обезобразили облик Владимира
Григорьевича, но даже в чем-то украсили. Ему повезло и внешне соста-
риться достойно: он похудел, постройнел, а в глазах высветилось выра-
жение доброты и мудрости. В Ницце у него был прекрасный, с легким
загаром, цвет лица. Недавно я нашла у Льва Толстого такое определе-
ние: “свежая старость”. Мне кажется, оно очень подходило.
106
Правда, суть обаяния Владимира Григорьевича, на мой взгляд, не
зависела от внешности. Она ощущалась в общении, в разговоре. Он не
отличался светским лоском, который бывает присущ дипломатам, мог
сказать что-либо не слишком тактичное (он называл это “брякнуть”).
Однако большую привлекательность ему придавала, по-моему, непо-
средственная, нестандартная манера поведения в сочетании с очень
своеобразным чувством юмора.
Интересно, что это чувство юмора особенно проявлялось в разго-
воре с иностранцами на английском языке. Владимир Григорьевич вла-
дел им свободно, с идиоматическими нюансами, однако произношение
было весьма неважное. Причем у него не возникало никаких комплек-
сов по этому поводу, он просто не давал себе труда подражать англича-
нам в их манере произношения (хотя манеру выражения мысли усвоил
прекрасно). Когда я удивлялась такому пренебрежению к орфоэпии,
муж отвечал:
- Они меня понимают? Понимают. Что еще нужно?
Иностранцы действительно понимали его очень хорошо. Многим
из коллег-историков и из тех, с кем Владимир Григорьевич сотрудничал
в международных общественных организациях, было интересно с ним
общаться. Нередко они симпатизировали ему, несмотря на его резкий
стиль в полемике. (“Теперь моя манера не в моде, - говорил он в пос-
леднее время. - Теперь наши все норовят покаяться да подлизаться”.)
Среди историков особой взаимной симпатией Владимир Григорье-
вич был связан с двумя англичанами - официальным биографом Чер-
чилля, получившим титул “сэра”, Мартином Гилбертом и исследовате-
лем истории второй мировой войны Робином Эдмондсом. Среди обще-
ственников-международников наиболее дружеские отношения поддер-
живал с известным венгерским ученым-экономистом Михаем Шимаи.
Узнав о кончине Владимира Григорьевича, М. Гилберт прислал мне
письмо, проникнутое неподдельной сердечностью и теплотой. Он пи-
сал, что дружба с мужем много значила для него, что, несмотря на все
то, что разделяло их в мыслях и расстоянии, между ними установилась
подлинная связь.
Привожу полный текст письма сэра Мартина: “Dear Natalya, I was
very shocked to learn yesterday (from Professor Chubaryan) that dear Vladimir
had died. Please accept my most sincere condolences. His friendship meant a
great deal to me, and visiting you both in your flat in Moscow was a very spe-
cial experience for me. I felt that we had established a real link across many
divides of thought and distance.
Dear friend, it must have been a very difficult time for you. I only hope that
you have many fine memories to sustain you, and that all that Vladimir accom-
plished over so many years can be a source of pride and comfort to you.
With affectionate regards as ever. Martin”
В 1970 г. в Москве проходил XIII Международный конгресс истори-
ков. Владимир Григорьевич руководил на нем секцией исторических
биографий. Эта секция привлекла наибольший интерес участников кон-
гресса. Однако условия ее работы были ужасные: в поднимающуюся
амфитеатром аудиторию в высотном здании МГУ набилась масса наро-
707
Ницца. 1997 г.
С женой Н.Г. Думовой. Ницца, 1998 г.
ду, дышать было нечем, выступления иностранцев на русский язык не
переводились, времени на обсуждение докладов не предусмотрели. Как
считал Владимир Григорьевич, все это было организовано специально.
Боялись, что прозвучат слишком вольные высказывания. Он был очень
раздосадован, но старался не показывать вида.
Когда Владимир Григорьевич поднялся, чтобы выступить с заклю-
чительным словом, в аудитории, раздраженной духотой и отсутствием
перевода, не прекращался глухой шум. Но уже через минуту установи-
лась полная тишина. Он говорил по-английски, а в начале и в конце по-
русски. Его оригинальная и очень интересная по мысли речь была к то-
му же веселой, ироничной и сопровождалась остро выразительной ми-
микой и жестикуляцией, столь непривычной для официальных спичей.
После этой речи люди расходились с заседания с ощущением радо-
стного события. Я была тому свидетельницей. Хорошо сформулировал
тогдашнее впечатление историк Вадим Корецкий:
- Было душно и скучно, - рассказывал он друзьям. - А потом вы-
ступил Трухановский и сделал праздник.
Это было впервые, когда я слышала выступление Владимира Гри-
горьевича на публике. Такое у меня было восторженное чувство, такая
гордость за него...
Уже после смерти мужа Марина Яковлевна Ралко (его бессменная
соратница по журналу, к которой он относился с дружеской симпатией
и полнейшим доверием) вспоминала, что в 1971 г. в редакцию прислали
из-за границы письмо Владимиру Григорьевичу как одному из двенад-
цати “лучших умов мира” (так запечатлелось в ее памяти).
И вот, разбирая архив мужа, я нашла это письмо из Техасского
университета (США) с приглашением на трехдневный симпозиум
“двенадцати всемирно известных ученых”, “выдающихся представите-
лей интеллектуального мира разных стран... для проницательного и
критического анализа проблем, которые возникнут через тридцать
или пятьдесят лет”. Тема симпозиума - состояние человечества к кон-
цу XX столетия. Его участники, которым предлагался очень высокий
гонорар, должны были обсудить основные проблемы в области поли-
тики, социальной системы, духовного развития, “чтобы человечество
могло вступить в 2000 год, обладая жизнеспособным социальным уст-
ройством”.
Это была большая честь, но, к сожалению, Владимир Григорьевич
был лишен возможности принять приглашение, так как, находясь тогда
на стадии развода, являлся невыездным.
И в последние годы зарубежные историки, журналисты проявляли
к нему немалый интерес, приглашали для участия в телевизионных пе-
редачах, совместных документальных телефильмах. Один из них, из-
вестный американский журналист Стюарт Лури, приезжал даже в Ниц-
цу по поручению CNN специально для встречи с Владимиром Григорь-
евичем. Но он от всех этих предложений отказывался. Как отказался
в свое время (в конце 60-х или начале 70-х) от выступлений в модной
и престижной тогда телевизионной “9-й студии” Валентина Зорина, ку-
да приглашались виднейшие международники страны.
109
Вспоминается такой случай. Кажется, в 1986 г. произошла смена ру-
ководства в советском отделении Всемирной федерации Ассоциаций
содействия ООН (WFUNA) - организации, в которой Владимир Гри-
горьевич на протяжении многих лет играл одну из главных ролей. Спу-
стя год очередная конференция WFUNA состоялась в Москве. Он не
пошел на эту конференцию. Но его бывшие иностранные коллеги по
президиуму WFUNA заявили, что непременно желают с ним встретить-
ся. Более того, они попросили пригласить их в гости. Я была в ужасе.
Конечно, у нас в доме бывали иностранцы. Но здесь десяток важных за-
падных персон, в том числе два миллионера из США и Канады! Как мы
будем принимать их в своей вполне скромной квартире, чем кормить та-
ких искушенных гостей?
Муж, напротив, был очень спокоен:
- Подумаешь, событие! Они хотят посмотреть, как я живу, - мило-
сти просим. Чем богаты, тем и рады...
Когда гости явились, выяснилось, что единственной целью их при-
хода было продемонстрировать Владимиру Григорьевичу свое внима-
ние и уважение, показать, что помнят и скучают без него. Какой это
был веселый, теплый вечер, какие забавные истории они рассказывали
о своих баталиях с ним, о его полемических победах и ораторских эска-
падах! Владимир Григорьевич был глубоко тронут этой встречей.
Очень многое он почерпнул для себя, участвуя в работе другой ме-
ждународной организации - Пагуошского движения ученых за мир.
Полтора десятка лет Владимир Григорьевич оставался членом Испол-
кома этого движения, встречался на заседаниях с крупнейшими учены-
ми мира, участвовал в интереснейших обсуждениях и дискуссиях. Каж-
дый раз, возвращаясь из пагуошских командировок, он, что называется,
взахлеб рассказывал о рассматривавшихся там проблемах, о спорах на
официальных заседаниях и о дружеских неформальных встречах в сво-
бодное время, а главное, о людях, с которыми общался. Непосредствен-
ные контакты с корифеями ядерной физики очень помогли Владимиру
Григорьевичу в работе над книгой “Английское ядерное оружие”.
Участником Пагуошских встреч был известный ученый, академик-
биохимик Владимир Александрович Энгельгардт. Оказалось, что он -
по всей вероятности, потомок помещичьего семейства, владевшего
имением Смольяны на Могилевщине. В этом имении дед Трухановский
был дворовым рабочим, а отец окончил организованную хозяевами
Смольян 4-классную агрономическую школу для крестьянских детей.
Рассказывая мне о беседе с Энгельгардтом, о его просьбе подарить ему
“Уинстона Черчилля”, Владимир Григорьевич заметил, как бы между
прочим:
- Отцу было бы любопытно...
Сказал и улыбнулся. Была у него такая затаенная улыбка -
ее можно было угадать только по смешинке в глазах и легкому изгибу
угла губ.
Владимир Григорьевич был одним из трех советских членов Испол-
кома Пагуошского движения. С двумя другими - академиками Моисеем
Александровичем Марковым (физик) и Олегом Александровичем Ре-
110
С С.П. Капицей на Пагуошской конференции. Варна, 1978 г.
утовым (химик) - его связывали самые добрые отношения. Оба были
видными фигурами в своих областях науки, но особым даром красноре-
чия не обладали. Поэтому в сложных ситуациях обычно выдвигали на
передний план Владимира Григорьевича. Видя, как он справляется с оп-
понентами, они испытывали большое уважение к его полемическому
искусству (о чем мне сами говорили). Особенно их поражала парадок-
сальность его аргументации.
- Он может любой факт так вывернуть, что они только рты разе-
вают, - рассказывал как-то, смеясь, Реутов.
Зато засланные в Пагуош “комиссары” - кагэбэшник и цекист явно
недолюбливали мужа, а у него они вызывали постоянное раздражение
своей авторитарностью, бестактностью и портящими дело вмешатель-
ствами.
Вообще номенклатура относилась к Владимиру Григорьевичу (по
крайней мере, на моей памяти) весьма сдержанно. Видимо, смущала его
неординарность, а также “неблаговидные” поступки: рассорился с на-
чальством, со скандалом развелся. В довершение всего женился на ев-
рейке. Кстати говоря, после этого стали усиленно распускаться слухи,
что Трухановский и сам еврей, скрывающий свою национальность.
Мне сказали об этом друзья в обществе “Знание”, где мы оба вели
общественную работу. Муж в то время был в отъезде, и я с возмущени-
ем поделилась услышанным с Гришей.
- “А ну их всех. Полыхаев”, - сказал тогда Гриша, стараясь утешить
меня с помощью “Золотого теленка”. - Думаете, это для отца неожи-
данность? Да он точно знал, что будут чесать языки. Только плевать
хотел.
111
Гриша Трухановский (1953-1981)
Гриша был высокий, красивый. Он очень любил отца. По-доброму
относился ко мне и братски покровительствовал моей дочери (намного
его моложе). Мы помнили Гришу всегда, но говорили о нем не часто -
больно было.
* * *
В Ницце мы вдвоем встречали 1999 год, в феврале наблюдали зна-
менитый тамошний карнавал. Как обычно, к концу нашего пребывания
за границей Владимир Григорьевич заскучал по Москве. Уехать насов-
сем из России он бы не смог. Никогда.
Вернулись мы в Москву в начале марта. К этому времени был
готов дом близ подмосковной деревни Палицы (недалеко от Звени-
города), построенный для себя и для нас дочерью Ольгой и зятем
Рафом.
С самого начала Ольга была принята Владимиром Григорьевичем-
с полной взаимностью - как родная дочь. Не прилагая никаких видимых
стараний, он сумел стать очень близким ей человеком. С большой теп-
лотой и уважением относился и к зятю.
Когда сразу же по возвращении из Франции обсуждалась перспек-
тива уехать в Палицы на свежий воздух, Владимир Григорьевич воспри-
нял это без большого энтузиазма. Наша прежняя дача в Расторгуеве
была летней (мужу всегда было необходимо летом жить за городом,
в Москве ему трудно дышалось), и он привык проводить там только три
месяца в году. Однако согласился отправиться в Палицы на три-четыре
дня, чтобы оглядеться. Но когда 20 марта мы приехали туда, возвра-
112
щаться в город он уже не захотел и прожил там до конца (за исключе-
нием поездки в Ниццу в октябре-ноябре 1999 г. и нескольких недель,
проведенных в связи с болезнью в Москве зимой 2000 г.).
Загородный дом стал последней привязанностью Владимира Гри-
горьевича. Его радовали и городской комфорт, и особенно обширный
участок с прудом, со множеством берез, елями, соснами и могучим “тол-
стовским” дубом.
- Здесь даже красивее, чем в моей родной Белоруссии, - говорил он.
Он чувствовал себя в гармонии с природой и очень гармонично вос-
принимался на ее фоне.
Возможность для нас абсолютного уединения на своей половине
дома сочеталась с приятным для Владимира Григорьевича общением -
когда ему хотелось общаться - с нашей молодежью и прежде все-
го с внуком Григорием, который был назван в память его любимо-
го сына.
Родившийся в 1991 г. мальчик занял особое место в сердце Влади-
мира Григорьевича. Сызмальства Гошу часто привозили в нашу
московскую квартиру на субботу и воскресенье. Мы гуляли иногда
втроем в саду “Эрмитаж”, а дома они уединялись в кабинете и вели
долгие беседы на разные темы (“Дедушка такой шутливый”, - гово-
рил Гоша). Любили устраивать там “пиры”, сидя в креслах друг против
друга и лакомясь сладкими напитками и всякими вкусностями, кото-
рые Владимир Григорьевич держал в своих “закромах” специально
для внука.
В Палицах у них появились новые общие интересы. Забавно было
наблюдать, как, сидя вдвоем на скамейке под дубом, они рассматривали
и обсуждали какие-то шишки, желуди, жучков, гусениц и т.п. Владимир
Григорьевич многое знал и помнил о природе еще с детских деревен-
ских времен.
Летом Гоша с утра находил проклюнувшиеся на участке белые гри-
бы, втыкал возле них прутья и потом торжественно вел Владимира Гри-
горьевича обозреть эти находки, заботливо подставляя ему для опоры
свое плечо. Вместе они решали, какой гриб сорвать, а какой оставить
дорасти “до кондиции”. Когда Гоша заканчивал очередной рисунок, он
прежде всего бежал показать листок Владимиру Григорьевичу - маль-
чику важна была его оценка.
...Сейчас, когда мы остаемся с внуком вдвоем, он непременно заво-
дит разговор о Владимире Григорьевиче, вспоминает его привычки,
слова. Недавно сказал мне: “Без дедушки стало не так интересно”.
В последний год у мужа ухудшилось зрение, поэтому читал он мало.
Перечитывал “Войну и мир” (в который уже раз на моей памяти!) и
опять обнаруживал что-то для себя новое. Вообще любил перечиты-
вать. В конце 90-х это были, как помнится, Байрон, “Сага о Форсайтах”
Голсуорси, Сомерсет Моэм, исторические романы Фейхтвангера,
“Иосиф и его братья” Т. Манна, Генрик Сенкевич, Жорж Сименон (ко-
торого ценил не как автора детективов, а как знатока человеческой
психологии), Андре Моруа, “Живые и мертвые” К. Симонова, “Волоко-
ламское шоссе” А. Бека.
8 Россия и Британия Вып 3
ИЗ
С Гошей. 1999 г.
Особенно часто перечитывал Библию, которую прекрасно знал.
Любил ссылаться на библейскую мудрость в разговоре. Не уставал пе-
речитывать Омара Хайяма, цитировал его наизусть. Одной из излюб-
ленных цитат были также строки Шота Руставели:
Из кувшина может вытечь
Только то, что было в нем.
114
Кроме книг по специальности, Владимир Григорьевич читал произ-
ведения античных историков и философов, Коран, издания по исламу
и буддизму. Всегда питал слабость к энциклопедиям, справочникам,
словарям, которых у него было не счесть. Он имел обыкновение читать
их подряд, особенно тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона.
Нравилось ему подолгу рассматривать многочисленные художест-
венные альбомы из нашей домашней библиотеки. Среди любимых ху-
дожников можно назвать, пожалуй, Брюллова, Венецианова, Левитана,
Серова, Тициана, Джорджоне, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ренуара,
Дега. Все, что было после импрессионизма, он не воспринимал. За гра-
ницей всегда находил время для художественных музеев и обычно при-
возил открытки-репродукции особенно запомнившихся картин. Их ско-
пилось великое множество...
Телевизор смотрел мало. Только старые советские фильмы, глав-
ным образом довоенных и военных лет. По многу раз, благо в конце
90-х их без конца крутили по разным каналам. Когда я удивлялась, как
можно столько раз смотреть один и тот же фильм, он отвечал:
- Я не слежу за сюжетом, мне просто нравится вспоминать жизнь,
детали, характерные приметы. Ведь это моя молодость...
Но, пожалуй, одним из самых любимых был фильм про молодость
Руси - “Александр Невский” Сергея Эйзенштейна. И еще “Семеро сме-
лых” с Тамарой Макаровой - ее (в юном возрасте) он считал самой кра-
сивой актрисой советского кино. Может быть, потому, что видел ее
вблизи на одном из первых просмотров этого фильма в Ленинграде,
был покорен сияющими зелеными глазами и даже приревновал к Сер-
гею Герасимову, “по-хозяйски” обнимавшему ее за плечи. Нравилась
ему и Любовь Орлова, а из современных “звезд” выделял Наталью Гун-
дареву.
С удовольствием много раз смотрел лучшие комедии Александро-
ва, Пырьева, Гайдая, Рязанова, Данелии. Очень ему нравились “Бело-
русский вокзал” (особенно песня Окуджавы “Но нам на всех нужна од-
на победа... мы за ценой не постоим”) и “Семнадцать мгновений весны”.
Владимиру Григорьевичу казалось, что в период Потсдамской конфе-
ренции он жил в том самом особняке в Бабельсберге, который в филь-
ме фигурирует как дом Штирлица. Поэтому связанные с этим домом
кадры он смотрел с особым чувством. Но уже после смерти мужа из те-
лефильма, посвященного 25-летию “Мгновений”, я узнала, что “мемо-
риальный” особняк снимали вовсе не в Бабельсберге, а в одном из рай-
онов Берлина - Панкове. Представляю, как мы вместе посмеялись бы
по этому поводу...
Владимир Григорьевич любил, когда по телевизору показывали
старую советскую эстраду - Шульженко, Утесова, Райкина, Миронову
и Менакера. Очень любил советские песни, особенно песни военных
лет. Терпеть не мог современного шоу-бизнеса.
15 июля 1999 г. мы отмечали в Палицах 85-летие Владимира Гри-
горьевича. Гостей было совсем немного: его сын Владимир с женой,
близкие родственники, несколько друзей. Так он захотел, потому что с
предубеждением относился к официальным торжествам - и к чествова-
115
В день 85-летия. 15 июля 1999 г.
ниям, и к погребениям (особенно после похорон Гриши). Ему претили
казенщина и фальшь, досужее любопытство, часто сопровождающие
подобные мероприятия.
Когда мужу исполнилось 60, мы по его желанию сбежали из
Москвы в пансионат на Куршскую косу, в Литву, и там в ресторанчике
в Ниде вдвоем чудесно отметили его юбилей. 70-летие справляли в два
приема: один день на даче, с близкими друзьями и родными, второй раз
116
в ресторане с сотрудниками редакции “Вопросов истории”. От офици-
ального юбилейного заседания Владимир Григорьевич отказался, и
свыше шести десятков поздравительных адресов, а также множество
телеграмм от различных учреждений и организаций были доставлены
тогда в редакцию журнала.
Восьмидесятый юбилей: мы вдвоем в любимой им Женеве (где он
прежде часто бывал в командировках), в ресторане “La Perle du Lac”
на берегу Женевского озера, круизы по которому так ему нравились.
Владимир Григорьевич любил подобные праздники тет-а-тет, а для ме-
ня они были как подарок: муж бывал обычно в ударе, замечательно
острил и даже старался за мной ухаживать, чего вообще-то совершенно
не умел.
Только вдвоем мы праздновали всегда и годовщину нашего знаком-
ства - 18 апреля. Расскажу в связи с этим об очень дорогом для меня
воспоминании. Когда мы увиделись в тот день через год после первой
встречи, я была уверена, что он забыл эту дату, и не хотела сама напо-
минать. Но не выдержала и, уже прощаясь, все же напомнила. Тогда он
раскрыл свой портфель и смущенно вынул маленький букетик ярко-си-
них цветочков (так я и не знаю их названия). Не отдал сразу, потому
что, наверное, тоже стеснялся показаться сентиментальным.
Непостижимой мистикой было для меня то, что сороковины после
смерти Владимира Григорьевича пришлись на 18 апреля и подруга в тот
день принесла мне точно такой же букетик, абсолютно не подозревая,
что он для меня означает. Я восприняла это как весточку из другого
мира... А муж при жизни, конечно, поиронизировал бы над таким тол-
кованием.
Возвращаюсь снова в 1999 г. Восемьдесят пятый день рождения
удался на славу. Владимир Григорьевич сидел, как всегда, во главе сто-
ла. По натуре он был радушным хозяином, любил угощать гостей ред-
кими напитками, которых в его “закромах” водилось множество. Свои-
ми тостами, репликами, всем своим поведением умел создавать празд-
ничную, непринужденную атмосферу. Особенно в первое десятилетие
нашей совместной жизни, до Гришиной кончины, когда в доме бывало
много гостей. А каким потрясающим тамадой он был на свадьбе Ольги
и Рафа! И на своем последнем торжестве оставался по-прежнему жи-
вым, пикантно-остроумным, прекрасно выглядел.
Муж моей сестры, один из создателей известного “капустническо-
го” ансамбля архитекторов “Кохинор”, написал к этому дню очень
смешную “пьесу” из нашей жизни в Палицах и читал ее за столом.
В числе действующих лиц и исполнителей там фигурировал “Владимир
Григорьевич, городничий в отставке - артист академических театров
г-н Сквозник-Трухановский”. В пародийных образах других литератур-
ных героев в пьесе действовали и все прочие члены нашего семейства,
включая Гошу. Декламировал автор свое творение мастерски.
Владимир Григорьевич смеялся до слез; он говорил потом, что это
был один из самых веселых дней рождения.
Порадовало (совсем уж незадолго до кончины) успешное заверше-
ние докторской диссертации - по его выражению, “выход на финишную
117
прямую” - любимой ученицы Наташи (Натальи Кирилловны) Капито-
новой. Продиктованный мне отзыв на ее автореферат был последним
текстом, над которым он работал. “Мне радостно, что отечественное
англоведение живет и развивается на новом этапе истории нашей нау-
ки”, - такими словами заканчивается отзыв.
Зимой 2000 г. я заметила, что муж все больше старался отгородить-
ся от внешнего мира, не читал газет, только слушал новости по радио.
Реакция на огорчавшие его события в стране изменилась: раньше он
сердился, возмущался, а в последнее время просто становился печаль-
ным-печальным...
В тот год Владимир Григорьевич стал чаще думать о смерти, хотя
внутренне (мне казалось) был уверен (как и я), что несколько лет еще
есть впереди. Во всяком случае, охотно строил планы на ближайшие го-
ды. Но вместе с тем не раз заговаривал о том, как его следует проводить
в последний путь, и многократно просил меня и ближайших родных не-
укоснительно это выполнить. Еще раньше он написал - от руки, на соб-
ственном именном бланке:
“Завещание
Я, Трухановский Владимир Григорьевич, находясь в здравом уме и
твердой памяти, настоящим завещаю моим родным и близким в случае
моей смерти, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах
она произойдет, точно и без каких-либо отступлений осуществить сле-
дующее:
Похороны мои должны быть только семейным делом. Это значит,
что гроб снаряжается дома или в морге и не выставляется ни в каком из
учреждений, где я работал к моменту кончины или работал ранее. При-
сутствуют только те, кто бывал в нашем доме.
Гражданская панихида не проводится. Официальные организации и
их представители не принимают участия в похоронах”.
Пользуясь случаем, прошу извинения у тех коллег и учеников мужа,
которые желали бы, но не получили возможности проститься с ним, по-
клониться его гробу. Не исполнить его воли я не могла.
Муж строго наказывал мне после его смерти никого в истори-
ческих высших сферах ни о чем не просить, ни в коем случае не уни-
жаться.
- Все эти увековечения памяти нужны только вдовам ради их тще-
славия, - говорил он. - Покойникам уже ничего не нужно.
Убежденный атеист, Владимир Григорьевич в загробную жизнь
души не верил. Он уважал в людях истинную веру, но глубоко прези-
рал бывших партработников, позирующих на телеэкране со свечками
в руках.
Самой по себе смерти Владимир Григорьевич не страшился, однако
не скрывал, что боится связанных с ней страданий. Мы договорились
раз и навсегда, что в больницу я его не отдам ни при каких обстоятель-
ствах.
- Помни, я хочу умереть на своей постели, - говорил он.
Большим утешением в моем горе служит то, что он скончался до-
ма, в своем кресле, и даже не успел понять, что умирает.
118
Весной в Палицах. 1999 г.
В последнюю зиму Владимир Григорьевич выбрал и место, где хо-
тел быть похороненным. На повороте к Палицам с шоссе, ведущего из
Москвы в Звенигород, на живописном пригорке располагается тихое
Никологорское кладбище с маленькой белой часовенкой. Могила му-
жа - на возвышенности, посреди пяти больших берез. А внизу, вокруг
поля с перелесками - среднерусская ширь, которая всегда была мила
сердцу Владимира Григорьевича.
Мне кажется символичным, что он не смог перешагнуть порог
XXI столетия. Новый век был не для него...
Конечно, я понимаю, что мой рассказ о муже далеко небеспристра-
стен. Но как могло быть иначе? Ведь я говорю о бесконечно дорогом
мне человеке, который сделал мою жизнь счастливой.
Когда-то он писал мне удивительные письма. Я вновь и вновь пере-
читываю строки, написанные крупным, тогда еще твердым, очень муж-
ским почерком.
«Думал ли, скучал ли? К сожалению, больше, намного больше, чем
хотел бы. Первые дни Нью-Йорка завертелся и думал хотя и много, но
как-то спокойно. А потом начало тянуть душу все больше и больше...
С большим трудом удавалось, и то крайне ненадолго, заставить себя по-
119
думать о выступлении, а затем опять ты... Я научился думать о тебе и
следить за прениями одновременно. Запись идет как на магнитофонную
ленту с двумя дорожками... Ты часто спрашиваешь: “Не разлюбишь?
Никогда?” Ну вот тебе и ответ: официальный, в письменном виде.
Не могу я жить без тебя, не могу уезжать от тебя даже ненадолго».
Привожу эти слова, потому что горжусь ими. Благодарю судьбу за
то, что я имела честь быть женой Владимира Григорьевича Труханов-
ского, а главное - любимой им женщиной.
* * *
10 марта 2000 г. был чудесный день, ясный, солнечный. После зав-
трака мы, как всегда, вышли на прогулку. По дороге встретили соседа,
постояли с ним, поговорили. Владимир Григорьевич шутил, улыбался.
Когда возвращались домой, захотелось задержаться у своего забора, пе-
ред калиткой. Впереди расстилалась снежная поляна с березовой рощей
вдали. Воздух был уже почти весенний, небо голубое-голубое, и солнце
светило сквозь тонкую паутину облаков.
- Благодать, - сказал Владимир Григорьевич. - Скоро уже все нач-
нет распускаться.
Он был такой румяный, веселый. Совсем не старик.
- Я тебя люблю, - сказала я от полноты чувств.
- Какая новость! - усмехнулся он и поцеловал меня в нос.
Через час его не стало...
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВОЙ
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
А.Б. Давидсон
НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ
С БЫВШИМИ КОЛОНИЯМИ
Опыт крупнейшей империи
Ты топчешь прах империи - смотри!
Байрон
Кто знает, какое название присвоят будущие историки XX столе-
тию? Нашему столетию, потому что все мы - его дети.
XVIII век окрестили веком Просвещения. XX, вполне вероятно, на-
зовут веком распада империй. Ведь распались все империи нового и но-
вейшего времени: от Австро-Венгерской, Германской, Османской до
Итальянской, Британской, Французской, Испанской, Португальской.
В отношении Российской империи идут нескончаемые споры: распалась
ли она в 1917 г. и был ли Советский Союз империей. Но, скорее всего,
бесспорно,что жители постсоветских территорий после 1991 г. прошли
и еще сейчас проходят во многом те же испытания - от экономических
до психологических, - что и население других распавшихся империй.
Опыт распада империй и последствий этого распада еще долго будет ос-
таваться предметом пристального внимания политиков и ученых.
Опыт Британской империи особенно важен. Не только из-за того,
что это была самая обширная империя в истории человечества. Но и
потому, что она не развалилась полностью, как это произошло, на-
пример, с Австро-Венгерской или Османской. Ее место заняло Содру-
жество.
Распад Британской империи вызвал когда-то даже злорадство. Шла
“холодная война”. Сколько было издано в СССР книг и статей под на-
званием “Кризис Британской империи”, а затем - “Распад Британской
империи”. Но даже у союзников Великобритании по НАТО не очень-то
проявлялось сочувствие к Лондону. Уж больно долго, столетиями, мо-
гущество Британской империи, даже сами ее размеры мозолили глаза
ее соперникам.
Так что о причинах ее распада говорено много. Неизмеримо мень-
ше - о том, какие же внутренние связи этой империи удалось сохранить
в процессе распада и даже после того, как он свершился. А этот-то опыт
сейчас особенно интересен. Даже практически - для связей внутри СНГ.
121
От империи к Содружеству
А что с империей?
{последние слова английского
короля Георга V, на смертном
одре, 1936 г.)
Англия готовилась к деколонизации основательней, чем какая-ли-
бо другая империя, хотя Уинстон Черчилль и заявил публично 10 ноя-
бря 1942 г., что он не собирается председательствовать при роспуске
империи. Предварительная подготовка проявилась в изменении хара-
ктера Британского содружества. До конца 1940-х годов в него вместе
с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
входили так называемые белые доминионы: Канада, Австралия, Но-
вая Зеландия, Ирландия и Южно-Африканский Союз (ныне - Южно-
Африканская Республика). Но с провозглашением независимости Ин-
дией, Пакистаном и Цейлоном (ныне - Шри-Ланка) и вхождением их в
Содружество оно перестало быть “белым”. Оно превратилось в Сод-
ружество уже без слова “Британское”. Иногда его теперь называют
просто “Группа 54-х”, потому что в него входят 54 государства: 3 евро-
пейских, 13 американских, 19 африканских, 8 азиатских и 11 тихооке-
анских.
Что объединяет эти 54 государства? Генеральный секретарь Содру-
жества Эмека Аньяоку считает, что “похожая структура и система цен-
трального и местного управления и законодательства”, “сходная струк-
тура и организация коммерции и практика бизнеса”, “общий рабочий
язык”, “тождественность принципов и фундаментальных политических
ценностей”1.
Государственные связи подкрепляются деловыми, общественными
и культурными. В 1997 г. был создан Форум делового Содружества -
для улучшения связей в бизнесе. Осуществляется сотрудничество в сфе-
ре науки и техники, печати, радио и телевидения, в подготовке ученых
и повышении их квалификации, в подготовке военных кадров. Все это
спонсируется специально созданными фондами и большим числом не-
правительственных организаций. Представители Содружества участву-
ют в качестве наблюдателей на выборах в государствах-членах. В рам-
ках Содружества проводятся культурные мероприятия и спортивные
соревнования2.
Конечно, идею, будто у государств Содружества существует сход-
ная система управления и законодательства, как и многие другие утвер-
ждения, нельзя принимать без, мягко говоря, корректировки. В сколь-
ких государствах Содружества за последние десятилетия происходили
военные перевороты и устанавливались диктаторские режимы! А вой-
на между членами Содружества, например между Индией и Пакиста-
ном! А нынешняя взрывоопасная обстановка в Зимбабве - стране, где в
1991 г. был принят основополагающий документ Содружества: Харрар-
ская декларация! На улицах английских городов то и дело происходят
шумные “беспорядки на расовой почве” - стычки между англичанами и
иммигрантами из других стран Содружества. Статью об одном из таких
122
бурных столкновений весьма уважаемая московская газета даже оза-
главила: “Британское совражество наций”3.
Но, памятуя все это, нельзя не признать и другого. Пусть Содруже-
ство и не столь эффективно, как иногда утверждают его апологеты, но
из него никто не рвется. В 1995 г. к Содружеству присоединился Мозам-
бик, который никогда не был британским владением. В 1961 г. Южно-
Африканскому Союзу пришлось уйти из Содружества под угрозой из-
гнания из-за политики апартеида (апартхейда). Эта страна вновь стала
членом Содружества лишь в 1994 г., после ликвидации режима апарте-
ида. Под угрозой исключения из Содружества - за грубые нарушения
гражданских прав - оказался в середине 90-х годов и военный режим
Нигерии, причем инициатива предупреждения об изгнании исходила не
от Великобритании, а от представителя другой африканской страны -
президента ЮАР Нельсона Манделы.
В марте 2002 г. главы государств Содружества решили приостано-
вить на год членство Зимбабве - в качестве острастки правительству
Роберта Мугабе за его недемократические действия.
Предсказывали распад Британской империи многие, с давних вре-
мен - и всерьез и, как тогда казалось, вполне шутливо.
В пьесе Бернарда Шоу “Простачок с Нежданных островов”, напи-
санной в 1934 г., речь шла о времени, когда Великобритания уже рвет-
ся из империи, но остальные страны не хотят ее отпускать. Действую-
щие лица пьесы читают газетные заголовки: “Распад Британской импе-
рии”, “Англия выходит из состава Британской империи”. И происходит
такой диалог, обмен свежими новостями:
- Англия восстала за независимость... - Даунинг-стрит высказался
за честный, тесный маленький островок... - Назад к елизаветинской
Англии и к черту империю... - Ирландия не может позволить Англии
нарушать единство империи. Ирландия возглавит борьбу против изме-
ны и раскола... - Южная Африка объявляет Кейптаун столицей импе-
рии и предлагает всем британцам очистить Африку в течение десяти
дней...4 И все в таком духе.
Такое время не наступило. Но нельзя сказать, что Великобритания
сейчас дирижирует Содружеством, хотя она и несет 30% расходов на его
секретариат (кстати, аппарат этот невелик - всего 320 человек). Около
70% всех граждан стран Содружества живут в Южной Азии (большин-
ство - в Индии). Это не могло не отразиться на характере Содружества.
Главы государств Содружества регулярно собираются для обсужде-
ния общих проблем. Решения принимаются не большинством голосов -
стремятся к консенсусу. Вообще нет жесткого внутреннего регулирова-
ния, большую роль играют, как и в самой Великобритании, традиции.
Членам Содружества не возбраняется входить в различные междуна-
родные территориальные и прочие организации, такие как Европей-
ский союз или АСЕАН.
Так что обычно (кроме очень редких случаев, как с Южной Афри-
кой в 1961 г.) не принимается крутых мер, даже когда они, казалось бы,
нужны. И это создает впечатление слабой эффективности. Но толе-
рантность, как известно, нередко действеннее жестких мер.
123
Конечно, связи между государствами Содружества нельзя назвать
особенно крепкими, но никто из них не хочет эти связи рвать. Пакистан
во время одного из конфликтов с Индией вышел из Содружества. Со-
ветской литературе это дало повод к прогнозу: “...вполне можно ожи-
дать выхода из его состава еще нескольких членов”5. Но Пакистан че-
рез два года опять попросился в Содружество.
Так после распада Британской империи возникла общность, объ-
единяющая, пусть и отнюдь не железным обручем, больше четверти на-
селения Земли и пятую часть мировой торговли.
Что и говорить, Великобритания смогла лучше других метрополий
приспособиться к процессу всемирной деколонизации, не допустить
полного обрыва экономических, общественных, культурных и даже по-
литических связей. И хотя в некоторых странах сразу после провозгла-
шения независимости шли бурные протесты даже против английского
языка, как языка колонизаторов, эти протесты постепенно поутихли и
влияние английского скорее расширяется, чем сокращается.
Характер английских действий в период перехода от Империи к
Содружеству можно проследить даже в сфере исторической науки. Ряд
видных английских историков в годы распада Империи пересмотрели
традиционный колониалистский подход, отказались от явного шовиниз-
ма и национализма, задававших тон британской историографии, и по-
старались понять те взгляды, которые были распространены в странах
Азии и Африки. Это помогло таким английским историкам, как Бэзил
Дэвидсон, Теренс Рейнджер, Роланд Оливер, Джон Фейдж, не только
найти общий язык с молодыми учеными бывших колониальных стран,
но и стать их учителями.
Русский мыслитель Георгий Федотов (1896-1951), хорошо зная
Англию, глубоко интересуясь судьбой великих империй и умея многое
предвидеть, писал еще в преддверии второй мировой войны: «Англия
должна начать новый экономический эксперимент, “вымести свой дом”
и указать дорогу другим»6. Великобритания действительно сумела
“вымести” дом своей империи несколько предусмотрительней, чем дру-
гие. А насколько другие воспользовались или воспользуются ее опы-
том, тут могут быть самые разные толки и мнения.
“Способствовать полному взаимопониманию99
Когда народы, распри позабыв...
А.С. Пушкин
Если в создании Содружества можно усмотреть какие-то успехи:
определенное (пусть и не всегда) взаимопонимание, терпимость,умение
договориться, находить общий язык (хоть не без трудностей и неудач),
то это вряд ли можно целиком относить к заслугам политиков времени
распада империи.
Важную роль играла та гуманистически настроенная и дальновид-
ная интеллигенция многих стран, которая искала путей для сотрудиче-
ства народов метрополий и колоний еще тогда, когда могущество импе-
124
рий находилось в зените. И инициатива тут принадлежала интеллигени-
ции Великобритании.
Я хочу напомнить лишь об одном событии, основательно забы-
том, хотя оно заслуживает, чтобы о нем помнили. Это Всеобщий кон-
гресс рас. Недавно исполнилось 90 лет со времени его проведения.
Он заседал в Лондонском университете 26-29 июля 1911 г. Его целью
было “обсудить в свете науки и современных представлений общие от-
ношения, существующие между народами Запада и Востока, между
так называемыми белыми и так называемыми цветными народами,
с тем чтобы способствовать полному взаимопониманию между ними,
развитию наиболее дружественных чувств и сердечного сотрудни-
чества”7.
Около тысячи человек присутствовали на каждом из восьми пле-
нарных заседаний, несмотря на плохую акустику зала Лондонского уни-
верситета и на стоявшую в те дни неслыханную для Лондона тропиче-
скую жару. В целом в конгрессе приняли участие 3 тыс. человек из мно-
гих стран мира.
Среди тех, кто присутствовал на конгрессе или поддержал идею его
проведения, были 130 профессоров - социологов, этнографов, специа-
листов по международному праву, 35 председателей парламентов, боль-
ше 40 епископов. Люди из Азии, Африки, и не только белые, но и пред-
ставители коренного населения, вплоть до тех, кто впервые увидел
Европу собственными глазами8.
Ученые из России - из Санкт-Петербурга, Москвы, Тифлиса, Том-
ска, Дерпта, Гельсингфорса, Одессы, Варшавы, даже от Владивосток-
ского восточного института. Среди них - академик Максим Ковалев-
ский, известный социолог, историк и юрист, автор пятитомного “Про-
исхождения современной демократии” и многих других трудов.
На конгрессе было зачитано приветствие, которое Лев Толстой, в
тот момент уже покойный, прислал еще в период подготовки конгресса.
Смогли приехать в Лондон, разумеется, далеко не все из тех, кто
заявил о своей поддержке идеи конгресса, но все же в ходе его прове-
дения азиаты, африканцы и афроамериканцы могли познакомиться
со многими известными европейскими общественными деятелями и
учеными.
Были заслушаны доклады не только европейцев, но и японцев, ин-
дийцев, китайца, иранца, египтянина, бразильца, южноафриканца, ниге-
рийца.
Очень активное участие в конгрессе принял Уильям Дюбуа, уже к
тому времени получивший славу видного афроамериканского ученого.
С докладом “Туземные народы Южной Африки” выступил Джон Тенго
Джабаву, наиболее известный из тогдашних политических деятелей
черной Южной Африки.
В докладах рассматривались разнообразные аспекты расовой проб-
лемы, тенденции общественного прогресса и пути ослабления расовых
антагонизмов. Выступали крупнейшие ученые. Доклад об империализ-
ме и экономической деятельности великих держав в колониях и зависи-
мых странах делал Джон Гобсон.
125
Проповеди шовинизма звучали куда реже, чем подлинно гуманные
идеи. “На совещании при Лондонском университете, - писал Дюбуа, -
пожалуй, были наиболее полно представлены все этнические группы
населения мира, известные нам расы и подрасы; участники конгресса,
руководствуясь научными и этическими соображениями, обсуждали
проблемы будущего, в котором навсегда воцарится мир и отомрут расо-
вые предрассудки, а народы смогут плодотворно сотрудничать, особен-
но в области социальных наук”9. На конгрессе был даже провозглашен
“Гимн человечества”, начинавшийся словами: “Отныне мы члены еди-
ной семьи”.
Темы, обсуждавшиеся на конгрессе, поразительно похожи на те,
что волнуют человечество сейчас. Вот хотя бы некоторые названия до-
кладов: “Определение понятий: раса, племя, нация”, “Раса с точки зре-
ния антропологов”, “Раса с точки зрения социологов”, “Проблема расо-
вого равенства”, “Влияние географических, экономических и политиче-
ских факторов”, “Объединяющая и разъединяющая роль религии”,
“Язык - его объединяющая и разъединяющая роль”, “Различия в тра-
дициях и морали - и их сопротивление быстрым переменам”, “Воздей-
ствие межрасового смешения”...
Почти каждый из докладов достоин, чтобы о нем вспомнить
сейчас, в наши дни. Но их, этих докладов, так много, что в пределах
данной статьи можно остановиться лишь на некоторых. Вот, напри-
мер, доклад “Уважение, с которым белая раса должна относиться к
остальным”. Представил его французский барон д’Эстурнель де
Констан.
Основная идея - уважение к другим расам жизненно необходимо
для самих европейцев, для морального здоровья белой расы. “Я взываю
к нашим собственным интересам. В интересах белой расы дать ясную и
точную оценку громадному числу подвластных нам народов, которыми
мы по-прежнему управляем, считая их, в нашей гордыне, безусловно
менее развитыми”. Он задал вопрос: “Была бы возможна позорная ра-
боторговля, если бы ее не оправдывали тем, что эти несчастные суще-
ства деградировали до состояния животных?”
Барон взывал не только к истории и к абстрактным категориям, но
и к личному опыту присутствующих. “Постойте в каком-нибудь круп-
ном военном порту и посмотрите, с каким гонором завоевателей воз-
вращаются войска из колоний... Найдите белого человека, который не
чувствует себя в Африке и Азии более или менее повелителем, могу-
щим делать все, что бы ему ни захотелось, и с правом угнетать”. Эта
безграничная власть, говорил он, обладает “ужасным деморализую-
щим воздействием”. И это все возвращается из колоний в метрополии,
в центры империй, “на родину”. “Тот, кто хочет властвовать, сам ста-
новится рабом. Яд, который он распространяет вокруг себя, проникает
в его собственные вены”. “Чтобы воспитывать туземца, мы сперва
должны воспитать белого человека, сбавить его гордыню, развить в
нем дух справедливости и уважение к правам других”. И напомнил
принцип: “Не делай другим того, что не хочешь, чтобы делали тебе са-
мому”10.
126
Последние заседания конгресса назывались “Практические предло-
жения для установления дружеских отношений между расами”. Идеи
доклада Альфреда Фрида (Вена) “Пресса как инструмент мира”, я ду-
маю, вполне злободневны и в наше время.
Фрид обвинил прессу в потворстве низменным интересам, в том,
что она падка на сенсации “о преступлениях, насилии, беспорядках”. Га-
зеты “создают впечатление, что мир полон преступлений и что над всем
властвует насилие”. И самое ужасное, что “сегодня большинство обита-
телей любой страны видят в жителях других стран каких-то ненормаль-
ных или преступников, достойных только презрения. Таким образом со-
знание этого поколения отравлено. Пресса, о которой я говорю - отра-
ва цивилизации... Это и есть тенденция прессы, гоняющейся за сенсаци-
ей. Она отгораживает читательскую массу от информации, которая ус-
покоила бы, дала бы правду о жизни и деятельности соседних народов”.
Докладчик гневно обрушился на “патриотическую прессу”, кото-
рую правительства используют для разжигания расовых и националь-
ных распрей. Он привел слова У. Черчилля: “Упаси нас, Господи, от на-
шей патриотической печати!” И призвал других политиков исходить из
этой идеи Черчилля.
А практическим предложением было - создать “Международный
союз миролюбивой печати”, чтобы она добивалась сближения на-
родов11.
Другое предложение - улучшить межрасовые отношения с помо-
щью школьного образования. Ввести в школах изучение культуры не-
белых рас. Это предложил Д.С. Макензи, профессор университетского
колледжа в Кардиффе (Уэльс). “Вполне легко показать, что Англия
может многому научиться у своих владений в Индии, Африке и по все-
му миру”12.
Еще одно предложение - распространить по всему миру системы
клубов, где представители разных рас и наций могли бы встречаться и
сотрудничать. С 1903 г. в Университете штата Висконсин существовал
Интернациональный клуб, а в 1907 г. в США была создана Националь-
ная ассоциация космополитических клубов, и ее членами стали 2 тыс.
человек из 60 стран. Девиз ассоциации: “Превыше всех наций - Челове-
чество”. Ассоциация проводила лекции, дискуссии, “национальные ве-
чера”, на которых люди рассказывали о своей стране, своем народе.
Профессор Висконсинского университета Л.П. Лохнер предложил соз-
дать такие клубы во многих странах13.
Э.Д. Мид из Бостона (США) предложил создать сеть международ-
ных общественных организаций для улучшения межрасовых отноше-
ний. Он сослался на опыт британских Общества борьбы против рабст-
ва, Общества защиты аборигенов, Ассоциации за реформы в Конго,
американской Антиимпериалистической лиги, которая была создана
как протест против действий правительства США на Филиппинах, аме-
риканской Национальной ассоциации за благосостояние цветных и
Ассоциации защиты прав индейцев.
Э.Д. Мид предложил, чтобы в каждой стране были созданы нацио-
нальные общества межрасовой справедливости, а во всемирном мас-
127
штабе - Постоянный международный трибунал, который разбирал бы
преступления расистского характера.
Вся эта система организаций, по замыслу автора, “должна зани-
маться вопросом о том, как помочь отсталым народам быстрее пойти
по пути прогресса и как люди разных рас могут лучше узнать друг
друга”14.
Этот конгресс был одной из самых представительных встреч миро-
вой общественности в начале XX в. “Отец панафриканизма” Уильям
Дюбуа дал ему очень высокую оценку. Даже через полвека Дюбуа пи-
сал: “Конгресс рас в Лондоне, происходивший в 1911 г., мог бы открыть
собой новую эпоху в истории расовых взаимоотношений, если бы не
началась первая мировая война... Это было важное и вдохновляющее
начинание, объединившее вместе представителей многих этнических
и культурных групп и выработавшее новые научные основы расовых
и социальных взаимоотношений между людьми”15.
А в своей крупнейшей работе, книге “Африка”, Дюбуа утверждал,
что “проведение в жизнь предложений конгресса изменило бы ход исто-
рии, если бы вскоре не началась первая мировая война”16.
Самое простое, конечно, заключить, как делали многие историки
в советское время, что события, подобные этому конгрессу, - прекрас-
нодушные разглагольствования или мечтания горстки гоголевских Ма-
ниловых. Но тогда уж придется зачеркнуть и роль аболиционистов в
запрещении работорговли, и вообще значение гуманистических побу-
ждений в истории. Зачеркнуть и идеи декабристов - это ведь тоже
лишь горстка людей; их было даже намного меньше, чем участников
конгресса.
Да, конгресс не имел наглядно ощутимых последствий. Для сотен
миллионов его идеи не являлись столь уж очевидной истиной. И для тех,
кто отдавал свою жизнь за величие империй, и тех, кто посылал их
на смерть. И для всех тех, кто считал это вполне естественным и нор-
мальным.
Следующий конгресс было намечено провести в 1914 г. Но - война,
затем революции, затем тоталитарные режимы в Европе...
И все же такой конгресс был. Он ратовал за то, чтобы люди, разъ-
единенные между империями и внутри каждой из империй, искали пути
к взаимопониманию. Это, мне кажется, должны с благодарностью пом-
нить не только в бывших метрополиях, но и в бывших колониаль-
ных владениях. И те, кто огульно обвиняет Англию и вообще “белого
человека”.
Поразительно мало изучены попытки общественных организаций
и даже отдельных лиц как-то сгладить предрассудки и противоречия ме-
жду народами разных империй, в пределах одной и той же империи, да
и впоследствии, на руинах империй.
А попытки эти заслуживают внимания. Даже единичные, как, на-
пример, поступок израильтянина Йорама Бинура, который выдавал се-
бя за араба в секторе Газа (и потом говорил: “Иногда я думал по-араб-
ски, видел арабские сны, ненавидел евреев как араб”)17. Йли акция бе-
лого американца Джона Гриффина, который еще во времена Ку-клукс-
128
клана на несколько недель перекрасился в черный цвет, чтобы испы-
тать на себе, как чувствует себя черный в южных штатах Америки.
Он потом признавался: “Я раздвоился. Один человек во мне наблюдал,
а второй, тот, кто волновался, до глубины души чувствовал себя
негром”18.
А такие события, как Лондонский конгресс с 3 тыс. участников, за-
служивают, чтобы человечество их помнило. Именно они могут под-
держать веру людей во взаимопонимание даже в те моменты, когда, как
11 сентября 2002 г., кажется, что эта вера вот-вот рухнет. И именно они
должны поддерживать веру в гуманистическую роль интеллигенции да-
же тогда, когда (а это, увы, бывает) в интеллигенции видят средоточие
всех зол.
Этот конгресс стал ступенькой к созданию Содружества. Но роль
его еще важнее. Она выходит за рамки англоязычного мира. Она апел-
лирует ко всему человечеству.
1 См.: The Commonwealth in the 21st Century / Ed. by G. Mills and J. Stremlau.
Pretoria. 1999. Nov. P. 5.
2 Ibid. P. 5-7.
3 Общая газета. 2001. 12-18 июля.
4 Шоу Б. Избр. произв. В 2-х т. М., 1956. Т. 2. С. 630-631.
5 Великобритания. М., 1972. С. 445. Особенно странно, что этот прогноз
сделан в главе, которую написал Дональд Маклин (1913-1983). Он служил в
министерстве иностранных дел Великобритании и не мог не знать реального
положения (даже хотя писал он это под псевдонимом С.П. Мадзаевский,
уже переехав в Москву, после того как долгое время работал на советскую
разведку).
6 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 57.
7 Papers on Inter-Racial Problems Communicated to the First Universal Races
Congress, Held at the University of London, July 26-29, 1911. Edited for the Congress
Executive by G. Spiller, Hon. Organiser of the Congress. L., 1911. P. VI.
8 Record of the Proceedings of the First Universal Races Congress, Held at the
University of London, July 26-29 1911. Published for the Executive Council. L., 1911.
P. 2-7; Papers on Inter-Racial Problems... P. XVII-XLVI.
9 Дюбуа У.Э.Б. Африка: Очерк по истории Африканского континента и
его обитателей. М., 1961. С. 178.
10 Papers on Inter-Racial Problems... P. 383-386.
11 Ibid. P. 421-424.
12 Ibid. P. 437.
13 Ibid. P. 439^142.
14 Ibid. P. 443-Л49.
15 Дюбуа У. Воспоминания. M., 1962. С. 326.
Дюбуа У.Э.Б. Африка... С. 178.
17 Братья по интифаде // Литературная газета. 1989. 12 июля.
18 Черная кожа на три недели // Дружба народов. 1962. № 10. С. 151.
9 Россия и Британия Вып 3
129
М.А. Липкин
АНГЛИЯ ИЛИ БРИТАНИЯ?
ДИСКУССИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(История, культура и политика
в Соединенном Королевстве)
В марте 2000 г. в русскоязычных средствах электронной информа-
ции со ссылкой на информационную ленту агентства новостей “Кирилл
и Мефодий” прошло почти незамеченным сообщение под шокирую-
щим заголовком “Британии не стало”. В нем сообщалось о том, что
британское Министерство иностранных дел издало меморандум для
внутреннего пользования, которым само название Британия выводит-
ся из обращения. В документе Форин оффис предписывалось, избегая
лишнего ажиотажа со стороны прессы, постепенно сменить вывески
всех зарубежных посольств и консульств на новые, обязательно с пол-
ным названием страны - Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии. А в официальных документах отныне предписы-
валось употреблять в качестве сокращения просто “Соединенное Коро-
левство”, но никак не Англия или Великобритания. Смена вывесок и
бюрократических штампов легко могла бы остаться в разделе любо-
пытных курьезов, если бы не была логическим звеном в цепи других
знаковых перемен на Британских островах.
Вопрос об английской идентичности является, пожалуй, сквозной
темой для второй половины XX в. и достигает своего апогея в послед-
нее его десятилетие - годы подведения итогов уходящего тысячелетия.
Можно констатировать, что начиная с 1990 г. во многих культурных ис-
следованиях на Британских островах произошел всплеск интереса к
изучению британской культуры с акцентом на изучение исторической
эволюции термина британский (British) и его идеологический подтекст.
В общественно-политической лексике страны вместо термина инглиш-
нес (Englishness) в последнее время все чаще вводится понятие бритиш-
нес (Britishness). Это было нечто большее, чем просто смена модных
эпитетов. Интерес, проявленный жителями Туманного Альбиона к об-
суждению понятий инглишнес и бритишнес, видимо, не случаен. Оче-
видно, что в условиях роста сепаратистских тенденций не только в Се-
верной Ирландии, но также в Шотландии и Уэльсе употребление поня-
тий Англия и англичане стало сужать географические рамки страны до
нескольких десятков графств в центральной и юго-восточной части ост-
рова Великобритания. Между тем, подобно возрождению термина рос-
сияне в современной России (граждане многонациональной страны, не
обязательно русские по национальности), употребление терминов Бри-
тания и британцы (по крайней мере, в политической риторике) озна-
чало обращение к Соединенному Королевству Великобритании и Се-
верной Ирландии в целом и ко всем его гражданам, независимо от их эт-
нической принадлежности. Хотя даже здесь после передачи части вла-
130
стных полномочий органам самоуправления в Уэльсе и Шотландии пол-
ное название страны стало подвергаться критике как уже не соответст-
вующее положению вещей. На официальном уровне в последнее деся-
тилетие слова Англия, английский заменяются на Британия и британ-
ский, а употребление старых терминов считается дурным тоном.
На протяжении веков в латинском и английском языках термин
Британия вызывал споры и употреблялся в противоречащих друг дру-
гу значениях. Как пишет Алан Маккол из шотландского университета
Абердин, земля, где жили древние бриты, приблизительно соответство-
вала той территории, на которой располагались Англия, Уэльс и Юж-
ная Шотландия1. Поэтому Британия часто обозначала Англию и Уэльс,
или просто Англию саму по себе. До XVII в. Великобритания обычно
обозначала Англию, отличную от Малой Британии, или Британи
(Britany). В 1529 г. Артура называли “королем великой Британи, ныне
именуемой Англией”. И в то же время название Британия могло упот-
ребляться для обозначения всей островной территории, Британских
островов2. А вообще за свою историю, по некоторым подсчетам, Бри-
танские острова были ядром по крайней мере 16 различных политиче-
ских образований - включая Республику и Свободное государство
Англии, Уэльса и Ирландии (1649-1653), Республику Великобритании
и Ирландии (1659-1660), Соединенное Королевство Великобритании
и Ирландии (1801-1922) и, наконец, известное всем Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирлании (с 1922 г.)3. И даже крат-
кий Оксфордский словарь смешивает вместе Англию, Британию и
Великобританию, английскую (британскую) нацию и государство, не
давая искомого четкого разведения этих понятий4.
Трудно сказать, кто впервые употребил слово бритишнес, но мож-
но констатировать, что этот термин родился в 90-е годы XX столетия,
хотя как понятие - и здесь нужно согласиться с Линдой Кол л ей и Кри-
шаном Кунаром - его возникновение следует отнести к XVIII-XIX вв.5
В современных англо-русских словарях не дается четкого толкования
этого термина6. Впрочем в английских словарях найти его также пред-
ставляется более чем трудным7. Не являясь филологом, осмелюсь пред-
положить, что этот термин еще находится в процессе становления.
Его смысловое наполнение - ключевой вопрос дискуссий, развернув-
шихся на страницах научных монографий, газетных статей и даже пра-
вительственных выступлений и докладов.
В последнее время наиболее цитируемым и популярным в англий-
ских академических кругах, обсуждающих обозначенную тему, стало
исследование Линды Коллей “Британцы. Становление нации:
1707-1837”8. Она приходит к выводу, что чувство национальной иден-
тичности у британцев было выпестовано во время так называемой “вто-
рой столетней войны” с Францией (на самом деле растянувшейся на
130 лет - от Девятилетней войны 1689-1697 гг. до окончания войн с На-
полеоном в 1815 г.). Поначалу в форме религиозных, а затем и полити-
ческих войн с революционной Францией эта борьба сыграла решаю-
щую роль в становлении Великобритании как новой общности. По сло-
вам Коллей, после Англо-шотландской унии 1707 г. британцы стали оп-
131
ределять себя как единый народ не по причине существования внутри
страны некоего политического или культурного консенсуса, а именно
за счет реакции на “других”, живших на враждебном континенте, ассо-
циировавшемся в первую очередь с Францией и французами. Таким об-
разом, доказывает Коллей, британская общность, идентифицируемая
как бритишнес, стала не результатом некоей внутренней политической
унификации, а была естественным наложением на множество внутрен-
них различий. Она стала объединяющим фактором внутри островного
общества при противопоставлении себя в конфликте с “другими” наро-
дами или государствами9. Развивая эту мысль, можно сформулировать
одну из главных причин сегодняшней проблемы - после окончания “хо-
лодной войны” старые конфронтационные стереотипы стерлись. Это
вместе с потерей империи усилило остроту кризиса британской иден-
тичности, спровоцировало возрождение шотландской, валлийской и ир-
ландской идентичностей.
Монография Коллей представляет собой один из примеров частич-
ной критики господствовавшей долгое время либеральной (вигской) ин-
терпретации английской истории. Центральное место в вигской кон-
цепции истории страны занимал не только акцент на уникальность ее
развития (богоизбранная страна), но и то, что английская / британская
политическая система превосходила любые другие (главным образом
континентальную) политические системы. Священные свободы англо-
саксов ушли в прошлое с норманнским завоеванием, и лишь с обретени-
ем Великой хартии вольностей в 1215 г. началось ниспровержение
“норманнского ига” и восстановление традиционных свобод в результа-
те “Славной революции” 1688 г.10 Причем борьба за суверенитет парла-
мента виделась не только как внутренняя, т.е. противоборство короны
и парламента, но и как внешняя, т.е. отстаивание обособленности от
континента.
По утверждению специалиста по английской политической ритори-
ке Генрика Ларсена, континент ассоциировался сперва с абсолютист-
ской монархией Франции и догматической католической церковью, а с
конца XVIII в. - с республиканской доктриной народного суверенитета,
которой противостоял парламентский абсолютизм11. Поэтому опасные
термины нация или британская нация употреблялись значительно ре-
же, чем, скажем, британский народ (British people). Очевидно, полагает
он, здесь сказывалась боязнь обнаружить реально существующую этни-
ческую неоднородность британской общности12.
Британские политики всех партий быстро увидели в империи сред-
ство сплочения народов, входящих в состав Британии. Империя давала
чувство интернациональной миссии, позволяла сглаживать классовые
и национальные противоречия в метрополии, давала чувство уверенно-
сти в будущем. Это предназначение империи проводилось в жизнь та-
кими харизматическими политическими лидерами, как Дизраэли, Джо-
зеф Чемберлен и Уинстон Черчилль, такими писателями и пропаган-
дистами, как Киплинг, Родс, Баден-Пауэлл. По словам Кейта Роббин-
за, «вместе с островным положением Британии империя подчеркивала
“островную нацию” как сообщество людей с такими глобальными свя-
132
зями, каких не было ни у какого другого государства. “Британская
культура” в этой связи включала психологическое измерение, не имев-
шее аналога ни у одного другого европейского государства, даже у
Франции»13.
Сохраняющаяся имперская нагрузка всего, что определяется тер-
мином британский, заставляет многих усомниться в правомерности
употребления этого прилагательного применительно к современному
Соединенному Королевству. “Санди тайме” в 1995 г. даже сравнивала
перемены в Великобритании с развалом Советского Союза. Констати-
руя существование английской, шотландской, валлийской и ирландской
идентичностей, она доказывала, что британский элемент отошел в ис-
торию. В статье делается вывод о том, что Соединенное Королевство
не является Великобританией, а представляет собою Англию с другими
странами, которые были присоедины к ней в добровольно-принуди-
тельном порядке, подобно процессу “вхождения” союзных республик в
состав СССР14. Другие авторы, как, например, Хью Керни, сравнивают
историческую общность четырех наций, сложившуюся на Британских
островах, с многоликой историей народов долины Дуная, Иберийского
и Итальянского полуостровов15. Ниспровергая этноцентрическое изло-
жение “английской истории”, он рассматривает историю Соединенного
Королевства в рамках, как он сам называет его, “британского подхо-
да” - изучения взаимодействия четырех отличных друг от друга наций,
населяющих Британские острова16.
Подобный подход особенно популярен в среде интеллектуалов из
Шотландии, Уэльса и Ирландии, протестующих против засилья англо-
центризма в истории17. Вот как пишет об этом профессор Даннского
университета Вилли Малей: «Британская проблема, как она в настоя-
щий момент рассматривается в английской историографии, относится к
недавним откликам на события 1640-х годов. Период между казнью
Карла I и реставрацией монархии традиционно называется “Англий-
ской революцией”, или “гражданской войной в Англии”. Вне зависимо-
сти от политических пристрастий историков акцент всегда делался на
Англию и борьбу за английский суверенитет между короной и парла-
ментом. Когда же новые источники были исчерпаны, английские исто-
рики вдруг заметили исследования своих шотландских и ирландских
коллег, а также более ранних комментаторов, рассматривавших этот
период с точки зрения “войны трех королевств”, и признали англициза-
цию истории продуктом современного ревизионизма»18.
Следует отметить, что и в самой Англии появляются работы, пред-
лагающие новые националистические подходы к оценке собственной
истории с помощью разведения понятий бритишнес и инглишнес.
Так, в написанной с откровенно консервативных позиций монографии
“Англичане” Джеффри Элтон приходит к выводу о том, что “англича-
не пережили величайшие и наиболее драматические перемены после
того как они превратились в британцев”. По его мнению, выгоды от им-
перской торговли и мощи доставались британцам, но не англичанам.
Во всех аспектах общественной жизни и своей деятельности англичане
были полностью растворены в более аморфной британской общности,
133
по словам Д. Элтона, “национальности, но не нации, сообществе, но не
народе”19.
Подобные высказывания выдают в их авторе сторонника концеп-
ции Малой Англии {Little England), получившей развитие в XX в. Еще
английский писатель и публицист Джеймс Оруэлл в эссе “Англия, Ваша
Англия” всячески старался избегать употребления слова Британия - он
говорил только об Англии и англичанах. Оруэлл сознательно ограни-
чивался анализом Малой Англии, считая прививаемый официальной
идеологией британский патриотизм не свойственным англичанам, тог-
да как английские премьер-министры (к примеру, У. Черчилль) в своих
речах пламенно говорили о Британии как о Большой Англии {England
at Large), империи и мировой державе20.
Одним из способов определения инглишнес - а в понятии Оруэлла
это практически синоним Малой Англии - является распространенная
среди других писателей и публицистов попытка вывести наиболее важ-
ные, вековые национальные характеристики англичан. Длинный спи-
сок, варьируемый от автора к автору, обычно включает в себя такие хо-
рошие и зачастую взаимоисключающие качества, как благородство, че-
стность, чувство такта, толерантность, эксцентричность, флегматич-
ность, отвага, рыцарственность, скромность, галантность, ироничность
и т.д. и т.п. Как справедливо отмечает Робин Коэн, такие списки социо-
логически безграмотны, ибо всегда привязаны к особенностям времени,
места, класса, пола и образования составившего их автора, а также к
массе других переменных. Однако, несмотря на свою мифическую при-
роду, эти качества, попав на благоприятную почву, могут оказывать
воздействие на отдельные части общества, а то, что кажется реальным
в теории, может воплотиться и на практике21.
Другой путь идентификации инглишнес - попытка обосновать суть
этого явления путем локализации определенной территории и специфи-
ческого ландшафта. Особенно часто прибегали к такой методике круп-
ные политические деятели (в частности, Стэнли Болдуин), особенно в
своих патриотических выступлениях, когда взывали к образам роман-
тического прошлого в сердцах своих сограждан, и главное, избирате-
лей22. Инглишнес неизменно связано с понятием места. Однако с поте-
рей империи как внешней, так и внутренней, Англия, прежде ассоции-
ровавшаяся с метрополией вообще, стала обозначать то место, которо-
го больше не существует, - к такому выводу приходит в своем культу-
рологическом исследовании Айэн Боком23.
Концепция Малой Англии вобрала в себя то, что было близко и по-
нятно рядовым англичанам. В то же время она явилась богатой почвой
для политических спекуляций. Политизация “культуры” в 1980-1990-е
годы стала темой статьи Сьюзен Райт, председателя одной из секций
Британской ассоциации научного развития24. Она отмечает тот факт,
что за последнее десятилетие, благодаря развитию исследований в об-
ласти культурологии, термин культура вновь стал центральной темой
в английской антропологии после длительного периода забвения. Одна-
ко не только в антропологии. Задаваясь вопросом о том, чем вызван по-
вышенный интерес и повсеместное обращение к термину культура в
134
современной Великобритании, Райт говорит о том, что еще “новые пра-
вые” во главе с Маргарет Тэтчер взяли на вооружение антропологиче-
скую терминологию для достижения своих политических целей. С од-
ной стороны, консерваторы пытались возродить “викторианскую мо-
раль” в семье и школе, поднять авторитет традиционных государствен-
ных институтов, чей престиж был поставлен под вопрос культурной ре-
волюцией 1960-х годов и внутренней нестабильностью 1970-х. С другой
стороны, приспосабливаясь к изменившимся условиям, “новые правые”
пришли к необходимости укрепить господствующую идеологию не
только через политические каналы влияния, но и через вмешательство
во все сферы повседневной жизни, “культуру” своих граждан. Они ак-
тивно включились в процесс переопределения и пересмотра ключевых
понятий, таких, как нация, раса, культура25.
Вместо старых представлений о принадлежности к определенной
нации и культуре по принципу кровного родства и происхождения была
предпринята попытка переформулировать понятие нация в терминах
культуры. При этом культурная общность (читай - национальная при-
надлежность) определялась через набор определенных привычек, хара-
ктерных типов деятельности, образа жизни. “Мы” означали тех, кто
разделял эти типично английские ценности, которые были непонятны
для иностранцев (под последними чаще всего подразумевались несго-
ворчивые партнеры по Европейскому сообществу Франция и Герма-
ния). Таким образом открывалась дорога для ассимиляции иммигрантов
из стран Британского Содружества, которые получали право считаться
англичанами. Как полагает Сьюзен Райт, подобная политика была при-
звана ослабить почву для роста откровенно расистских настроений
в британском обществе26.
Впрочем есть и иные мнения на этот счет. Не секрет, что новый
упор на инглишнес носил весьма консервативный характер. Очевидно
поэтому автор большой статьи «’’Бритишнес” и “Иглишнес”: каковы
перспективы для европейской идентичности в Британии сегодня?» Кри-
шан Кунар счел возможным поставить в один ряд таких разных по сво-
ему радикализму политиков, как Энок Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Нор-
ман Тебитт, вместе с такими историками и публицистами, как Джон
Винсент и Джонатан Кларк. “Ныне инглишнес, - пишет он, - богатая
смесь, появилась в виде более привычной формы английского национа-
лизма”27. В том же ключе, хотя и не так жестко, характеризует полити-
зацию культуры постоянный обозреватель газеты “Гардиан” Патрик
Райт. Он считает, что в правление Тэтчер произошел культурный
сдвиг, сделавший английскую традицию уделом политики. “Это было
началом того, что мы назвали реакционным модернизмом. Маргарет
Тэтчер избавлялась от неприятного прошлого в тщетной попытке реа-
билитировать и изменить его”28.
Политизация истории и культуры консерваторами не могла не вы-
звать ответную реакцию их политических оппонентов. Первым круп-
ным шагом на этой “культурной тропе войны” стало появление трех-
томника “Патриотизм” под редакцией Рафаэля Самьюэла в 1989 г.29
Непосредственным поводом, вызвавшим к жизни данное широкомас-
735
штабное коллективное исследование, стал взрыв ура-патриотизма на
Британских островах, отмеченный в ходе и после победы в Фолкленд-
ской войне 1982 г. В предисловии к изданию четко указывается на то,
что цель данной публикации - доказать, что идея нации есть идеологи-
ческая фикция, миф, который правительство Тэтчер искусно использо-
вало в своих целях. Статьи этого трехтомника представляют собой про-
должение долгой полемики между “Хистори уоркшоп джорнал” - рупо-
ром историков и публицистов левой ориентации, и “Солсбери ревью” -
органом высокого торизма30. Для консерваторов, по мнению предста-
вителей “Хистори уоркшоп”, национальность - это нечто изначально
данное, определяющее связь прошлого с настоящим, преемственность
в национальных институтах, необходимость защиты “национальных ин-
тересов”. Отношение авторов сборника к национализму трудно свести
к какой-то единой формуле. Для них вначале формируется личность,
а затем уже национальная идентичность. Признавая существование па-
триотизма, противопоставляемого национализму, авторы сами призна-
ются в том, что были слишком увлечены полемикой в ущерб объектив-
ному исследованию корней данного явления31. Для статей этого сборни-
ка характерно осуждение государственного шовинизма и вера в интер-
национализм.
Однако представление авторов трехтомника об интернационализме
было чем-то большим, нежели знакомая социалистическая утопия. Это
вытекает из слов редактора сборника Рафаэля Самьюэла, который пи-
сал, что “все три основных источника доходов Британии на момент на-
писания - нефть, финансовые услуги и туризм - все подразумевают
межконтинентальные связи и открытость британского бизнеса для ино-
странных инвесторов”32.
Озабоченность проблемой национальной идентичности деловых
кругов Соединенного Королевства озвучил составленный в 1994 г. по
заказу международного рекламного агентства DDB Needham доклад
“Нации на продажу”, содержащий анализ проблемы национальной
идентичности жителей страны с точки зрения конкурентоспособности
английского бизнеса. В чисто прагматическом плане доклад доказывал
прямую связь между национальной идентичностью и коммерческим, де-
ловым имиджем наиболее крупных и доходных компаний, чьи товары
ассоциируются со страной их изначального происхождения33. Так, япон-
ская электроника считается лучшей в мире отчасти из-за представлений
о Токио как неоновой столице, а, скажем, американская кока-кола ми-
фологизирует представление о вечно молодой, свободной и сытой Аме-
рике. С этой точки зрения тэтчеристский образ Британии олицетворя-
ет собой, с одной стороны, надежность и качество, а с другой - пассив-
ность, ностальгию о великом прошлом и потому некую косность и от-
сталость в развитии. Исследование пришло к неутешительному выводу
о том, что британская культурная жизнь и связанный с нею коммерче-
ский имидж страны застыли где-то между 1870 и 1910 гг.34
Надо заметить, что победа на выборах 1997 г. лейбористов во гла-
ве с Тони Блэром и провозглашение “третьего пути” для Британии вне-
сли свои коррективы и в культурную политику страны. Кампания по
136
улучшению имиджа Британии в глазах как собственных граждан, так и
иностранцев стала набирать обороты. В 1997 г. уже по заказу кабинета
Тони Блэра научно-исследовательским институтом DEMOS был напи-
сан доклад “Британия: создавая заново нашу идентичность”. Его автор
директор Института внешней политики Марк Леонард предлагал шесть
ключевых моментов для нового, лейбористского имиджа страны.
Среди тех из них, которые получили наиболее четкое выражение в
последующей политике лейбористского правительства, следует выде-
лить три:
1) Британия провозглашается проводником глобализации - местом,
где происходит обмен товарами, информацией и идеями, мостом между
Европой и Америкой.
2) Британия - это остров, обладающий уникальными творческими
ресурсами. Он уникален во всем - от фундаментальных научных откры-
тий до поп-музыки.
3) Британия - это “нация-гибрид”, черпающая силы в этническом и
культурном многообразии35.
В 1999 г. другой “мозговой центр” - близкий к левому политическо-
му спектру Catalyst Trust (фонд “Катализатор перемен” во главе с лор-
дом Хаттерзли) в лице своих исследователей озвучил точку зрения о
том, что бритишнес неизбежно несет в себе представления об унитар-
ном, чрезмерно централизованном государстве, которое с предубежде-
нием относится к своим графствам. По их мнению, концепция прошло-
го века “один флаг - одна нация” должна быть заменена другой, учиты-
вающей многонациональную, мультиэтническую, мультикультурную
природу страны36.
В 1997 г. Британский совет в рамках проекта по пересмотру бри-
танской национальной идентичности провел международную конфе-
ренцию “Открывая заново Британию”, где был поставлен вопрос о том,
что с приходом мультикультурализма бритишнес претерпело сильные
изменения37. Понять и учесть эти изменения является главной задачей
современных научных дебатов. В рамках британских исследований вы-
шел ряд сборников, таких как “Британские культурные идентичности”,
“Изучение британских культур. Введение”, а в 1998 г. - книга “Велико-
британия: идентичности, институты и идея бритишнес” Кейта Роббин-
за38. Все эти работы придерживаются концепции “четырех наций” - че-
тырех составляющих мультикультурной Британии.
Вслед за монографией Линды Коллей появились новые работы по
истории страны с акцентом на историю идей и культуры. Так, Айэн
Боком предпринял исследование инглишнес в духе школы “Анналов”:
он рассмотрел такие, казалось бы, разные компоненты национальной
культуры, как готическая архитектура, поле для крикета, загородный
дом, вокзал королевы Виктории в Бомбее и т.д.39 Автор приходит к
выводу о том, что из приводимых им разных пространственных, клас-
совых, возрастных версий инглишнес имперская стала достоянием
прошлого. А потому локализация инглишнес невозможна, это по-
нятие оказалось без своего изначального пространственного изме-
рения40.
137
Среди исторических исследований, пересматривающих британскую
историю с позиций “новых левых”, следует назвать сборник статей ве-
дущих английских историков под заголовком “От блица41 до Блэра: Но-
вая история Британии с 1939 г.”42 Эта публикация лишний раз подчер-
кивает тот факт, что на протяжении 1990-х годов в Соединенном Коро-
левстве отмечается резкий рост интереса к прошлому страны. При этом
каждое новое исследование пытается объяснить успехи и неудачи пос-
левоенного периода в истории страны. Благодаря усилиям историков и
политических комментаторов, идентифицировавших себя с тэтчериз-
мом, сложилась новая версия событий, растиражированная средствами
массовой информации и даже в школах. “Новая история Британии” -
прямой ответ на интерпретацию истории XX в. крайне правыми консер-
ваторами. Ее авторы задаются целью “восстановить реалистичное и
сбалансированное видение британской истории”.
В книге опровергается апологетический взгляд на период 1930-х го-
дов как самое счастливое время в истории Британии XX в., за которым
последовали война и четыре десятилетия катастрофического упадка.
Отстаивая лейбористские ценности, авторы защищают от нападок тори
государство всеобщего благосостояния и роль тред-юнионов в истории
страны. Лейбористские правительства представлены здесь как единст-
венные носители прогресса и идей модернизации43. “Мисс Тэтчер созда-
ла евроскептичного монстра, и это стало причиной дробления и пора-
жения партии тори... Английский национализм и экономическая модер-
низация несовместимы”, - как бы вторит словам доклада Марка Лео-
нарда заключительная глава этого сборника44.
В общей массе исторических исследований, предлагающих новое
прочтение истории Соединенного Королевства, обращают на себя вни-
мание работы двух крупных специалистов по истории Европы: Норма-
на Дэвиса и менее известного Эдвина Джоунза. Они взяли на себя зада-
чу произвести ревизию всей истории населения Британских островов45.
Полемизируя с вигской интерпретацией истории, Дэвис акцентирует
внимание на вкладе кельтов, германцев, скандинавов и французов в
культуру и историю населения островов. Бросая вызов мифам англий-
ской истории, он опровергает распространенную точку зрения о том,
что со времен норманнского завоевания Англия развивалась самодоста-
точно и изолированно от континента46. Оба автора, подвергая ради-
кальному пересмотру прошлое, высмеивают предрассудки Малой
Англии, вплоть до того, что показывают Реформацию как катастрофу
(Дэвис), революцию (Джоунз), которая привела к духовной самоизоля-
ции от континентальной Европы. Джоунз считает, что до Реформации
по религии, языку и культуре население Британских островов было со-
ставной частью Европы. Лишь в результате государственной пропаган-
ды сперва Генриха VIII, а затем Кромвеля, которая была основана на
“политической теологии”, пагубной интерпретации “исключительно-
го”, богоизбранного прошлого англичан, их заставили забыть о том,
что они европейцы. Англичане стали смотреть на континент через
призму национализма и островного мышления, лишь окрепнувшего с
созданием великой заморской империи47.
138
Серьезный разбор и критический взгляд на взаимоотношения с
континентом в особенности характерен для современной историогра-
фии европейской политики Англии. Историки подвергают суровой кри-
тике действия своих правительств на начальных стадиях интеграции.
Среди предлагаемых объяснений сдержанного отношения Великобри-
тании к западноевропейской интеграции можно выделить три наиболее
распространенные группы факторов, которые в итоге негативно сказа-
лись на отношениях с континентом:
1) акцент на суверенитет и веру в исключительность Британии (ми-
ровая роль Великобритании, доктрина трех кругов и т.д.);
2) положение страны в мировой экономике (внешнеэкономические
связи, роль стерлинга);
3) уникальность британской истории и идентичности48.
При этом бросается в глаза, что первая и последняя интерпретации
практически смыкаются, а при более детальном изучении оказывается,
что первая почти везде объясняется последней.
Актуализация дискуссии о национальной идентичности на Британ-
ских островах объясняется тремя ключевыми факторами:
1) членством в Европейском союзе: необходимость постоянно жер-
твовать частью суверенитета в виде гармонизации и стандартизации
всех сфер жизни ради выгод интеграции;
2) последствиями потери империи: утратой мирового статуса, было-
го имперского величия и наплывом иммигрантов из бывших колоний и
стран Содружества;
3) передачей полномочий национальным парламентам в Шотлан-
дии, Уэльсе и Ирландии - вопросами регионализма и сепаратизма в так
называемой “внутренней империи”.
Считается, что проблема нахождения европейской идентичности
интернациональна, но особенно остра для англичан. Формально Вели-
кобритания остается лидером 54 стран, входящих в Содружество, и по-
добные глобальные международные связи и богатое имперское про-
шлое несомненно сказываются на самосознании англичан. Однако, как
отмечает все большее число английских социологов и культурологов,
именно европейская экономическая политика, требования законода-
тельства ЕС, а также евробюрократия заставляют англичан задуматься
о своей идентичности49. В отличие от французской или немецкой иден-
тичностей инглишнес и бритишнес формировались путем контрастиро-
вания со всем европейским континентом и всей континентальной тради-
цией. Это накладывало существенные ограничения на возможности по-
настоящему активной и, главное, позитивной политики Лондона в Евро-
пе. Инновационный модернизм Тони Блэра, по крайней мере в теории,
направлен на пересмотр сложившихся стереотипов и предубеждений.
Причем порою дело доходит до таких крайностей “политической кор-
ректности”, что употребление самого слова Британия начинает рас-
сматриваться в качестве скрытой формы расизма50.
Прочтение истории страны всегда было составной частью внутри-
политического дискурса о государстве и нации в Великобритании. И хо-
тя в Британии до недавнего времени не было аппарата строгого конт-
139
роля над образовательными учреждениями и даже Британский совет
формально остается негосударственной благотворительной организа-
цией, общая тенденция к “политизации” культуры в совершенно опре-
деленном направлении налицо.
Кампания по пересмотру и обновлению имиджа страны преследует
как краткосрочные цели - победить в полемике с консерваторами - ев-
роскептиками, так и долгосрочные - повысить свою конкурентоспособ-
ность на мировых рынках, и главное, вернуть уважение к себе и к дру-
гим в мультикультурном и многонациональном обществе. Среди иссле-
дователей, затрагивающих проблемы национальной идентичности, нет
единства в определении понятий инглишнес, Малая Англия, бритиш-
нес, Однако большинство склоняется к тому, что следует различать по-
литизированную лейбористами синекдоху бритишнес и реальные
сложные многоуровневые процессы переплетения сосуществующих но-
вых и трансформированных старых идентичностей. Можно сказать, что
сегодня, как и четыре века тому назад, прозвучавший в пьесе Шекспира
“Король Генрих V”, вопрос Мак-Морриса “Что такое моя нация?” - по-
прежнему актуален для всех жителей Британских островов, и простой
и однозначный ответ так и не найден его потомками.
1 MacColl A. King Arthur and the Making of an English Britain // History Today.
1999. Mar. Vol. 49. P. 8.
2 Ibid.
3 Cohen R. The Incredible Vagueness of Being British / English // International
Affairs.. L., 2000. Vol. 76, N 3, July. P. 577.
4 The Shorter English Dictionary. Oxford, 1973. Vol. 1. P. 658.
5 Kumar K. “Britishness” and “Englishness”: What Prospect for a European Iden-
tity in Britain Today? // British Studies Now. Anthology Issues 1-5. The British Council,
1995. P. 83-84.
6 Новый большой англо-русский словарь дает перевод образованного от
одной с Britishness основы существительного Briticism-Britishism как “англи-
цизм; типичная английская черта”. Вместо понятия Englishness в нем присутст-
вует Englishism, имеющий три значения. Первое полностью совпадает с “брити-
шизмом”. Второе - важное дополнение - “англомания, привязанность ко всему
английскому”, и третье - идиома, о которой лишь сказано, что “она употребля-
ется в Англии” (см.: Новый большой англо-русский словарь / Под ред. Ю.Д. Ап-
ресяна и Э.М. Медниковой. М., 1999. Т. 1. С. 280, 672).
7 В дополнительном томе к оксфордскому словарю английского языка
1972 г. дается нечеткое, неполное и явно устаревшее толкование Britishness как
“свойство характера британцев” (см.: A Supplement to the Oxford English dictio-
nary. Oxford, 1972. Vol. 1. P. 362).
8 Colley L. Britons: Forging the Nation. 1707-1837. L., 1992.
9 Ibid. P. 1-6.
10 Larsen H. Foreign Policy and Discource Analysis. L.; N.Y., 1997. P. 37-40.
11 Ibid.
12 Ibid. P. 37.
13 Цит. no: Judd D. Britain: Land Beyond Hope and Glory? // History Today. 1999.
Vol. 49, Apr. P. 21.
14 Starry M. (ed.) British Cultural Identities. L., 1997. P. 48.
15 Kearney H. The British Isles: A History of Four Nations. Cambridge, 1989. P. 215.
140
16 В книге Керни, как и у многих других авторов, понятия нация, общест-
во и культура часто взаимозаменяются - он говорит то о “различных британ-
ских обществах”, то о “британском плавильном котле”, в рамках которого про-
исходит сложное взаимодействие разных культур (Ibid. Р. 1-4, 215).
17 Dunn Т. The “British” in British Studies //British Studies Now. P. 63-64;
Maley W. Exploding England // British Studies Now. P. 71.
™ Maley W. Op. cit. P. 71.
19 Elton G. The English. 2-d ed. L., 1994. P. 233-234.
20 Mander R. Great Britain or Little England? L. 1963. P. 197-199.
21 Cohen R. Op. cit. P. 579.
22 Ibid.
23 Ibid. P. 580.
24 Wright S. The Politicization of “Culture” I I http://Lucy.ukc.ac.uk/rai/AnthToday/
wright.html
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Krishan Kunar. “Britishness” and “Englishness”: What Prospect for a European
Identity in Britain Today? // British Studies Now. P. 90-92.
28 Wright P. Radioactive Anecdotes: an Interview with Patrick Wright // British
Studies Now. P. 95.
29 Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity / Ed.
R. Samuel. L.; N.Y., 1989. Vol. 1-3.
30 Ibid. Vol. 1. P. XVI.
31 Ibid. P. XL
32 Ibid. P. XXXII.
33 Martin M. UK PLC: Trapped in a Time Warp? // British Studies Now. P. 78.
34 Ibid. P. 78-79.
35 The Economist. 1997. Aug. 23. P. 18. Этот же “мозговой трест” проводил в
1998 г. семинары для членов кабинета по вопросам философии “третьего пути”.
Основные идеи доклада Марка Леонарда были не раз озвучены в программных
выступлениях Тони Блэра - в частности, в новогоднем обращении премьер-ми-
нистра к нации по случаю вступления страны в новое тысячелетие (см.: The
Independent. 1999. Dec. 30. Р. 6).
36 The Herald. 1999. Feb. 1. P. 1-2.
37 “Британские исследования” - новое направление междисциплинарных
исследований, развивающееся с 1989 г. при активном содействии Британского
совета. Его характерной чертой является ориентация на пропаганду и изучение
различных сторон английской жизни силами зарубежных исследователей.
38 Storry М., Childs Р. (eds). British Cultural Identities. N.Y. 1997; Bassnet S. (ed.)
Studying British Cultures: An Introduction. L., N.Y., 1997; Robbins R. Great Britain:
Identities, Institutions, and the Idea of Britishness. N.Y., 1998.
39 Baucom Ian. Out of place: Englishness, Empire and the Locations of Identity.
New Jersey, 1999 (см. рецензию: Cohen R. Op. cit. P. 579 - 580).
40 Ibid.
41 Лондонский блиц - бомбежки Лондона во время ночных налетов немец-
кой авиации в период “Битвы за Англию” 1940-1941 гг.
42 From Blitz to Blair: A New History of Britain since 1939 / Ed. Nick Tiratsoo. L.,
1997.
43 Ibid. P. 131,217.
44 Ibid. P. 217.
45 Jones E. The English Nation: The Great Myth. Thrupp, Stroud, Glouchestershi-
re, 1998; Davies N. The Isles: a History. Oxford, 1999 (см. рецензию: Islands in the
Stream // The Economist. 1999. Dec. 4-10. Review of Books. P. 8-9).
141
46 Схожие идеи см: Larsen Н. Op. cit. Р. 34-54; Wolf S. Britain and Europe: Off-
Shore or On-Board? // History Today. 1991. Jan. P. 8-10.
47 Jones E. Op. cit. P. IX-XII, 1-19.
48 C. Britain and European Integration // Contemporary European History
(Cambridge). 1998. Jul. Vol. 7, pt 2. P. 249.
49 Storry M., Childs P. Op. cit. P. 48.
50 В октябре 2000 г. в докладе Комиссии по мультиэтническому будущему
Британии, опубликованном мозговым трестом Раннумиди Траст, провозглаша-
лось, что “Бритишнес, как и инглишнес, несут в себе систематические, по боль-
шей части непроизносимые, расистские коннотации”. Для улучшения межрасо-
вых отношений и построения на практике мультикультурного общества пред-
лагалось переписать историю таким образом, чтобы вынести на суд обществен-
ности ее расистское прошлое (The Economist. 2000. Oct. 14. Р. 50).
С.П. Перегудов
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2001 ГОДА:
ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО ВЕКСЕЛЯМ
Как и предсказывали подавляющее большинство наблюдателей,
прошедшие 7 июня 2001 г. парламентские выборы мало что изменили в
раскладе политических сил в Соединенном Королевстве. В новом пар-
ламенте лейбористская партия по-прежнему располагает подавляющим
большинством, консерваторы так же, как и до того, пребывают в оппо-
зиции, а либеральные демократы, как и все другие партии, остаются на
обочине большой политики. Все это, однако, ни в коей мере не означа-
ет, что выборы не внесли в общественно-политическую жизнь Брита-
нии ничего нового. Уже само их проведение потребовало от всех участ-
ников заново осмыслить прошедший этап в своей деятельности и из-
влечь уроки на будущее. Подведена определенная черта под начавшим-
ся в мае 1997 г. правлением “новых лейбористов”, выборы дают воз-
можность оценить итоги их правления и, в частности, то, как им удает-
ся реализовать свое обновленное кредо. Выборы также многое прояс-
нили в положении дел в других политических партиях, а чем-то даже от-
крыли новую страницу в их развитии и, возможно, в развитии партий-
но-политической системы страны в целом.
Однако прежде чем выходить на эти сюжеты, попытаемся взгля-
нуть на чисто количественные итоги выборов и прояснить причины,
эти итоги обусловившие.
Партии и избиратели
Для полноты картины попытаемся сравнить результаты нынешних
выборов с результатами предшествующих, имевших место в мае 1997 г.
Как видно из таблицы, по числу мест обе главные партии практиче-
ски повторили результат 1997 г. Уменьшение числа лейбористских пар-
742
Таблица
Результаты парламентских выборов 1997 и 2001 годов*
Партии % полученных голо- сов число мест в парла- менте
1997 г. 2001 г. 1997 г. 2001 г.
Лейбористская 43,2 41,7 Консервативная 30,7 32,4 Либерально-демократическая 16,8 18,7 Шотландская национальная Плайд Кимру Ольстерская юнионистская Демократическая юнионистская Шин-Фейн Прочие * Britain 2001: The Official Handbook. L., 2001. P. 45; 2001. June 9. 418 413 165 166 46 52 6 5 4 4 9 6 3 5 2 4 6 4 The Financial Times.
ламентариев (на пять мест) и увеличение (на одно место) числа консер-
вативных не является показателем сколько-нибудь существенных изме-
нений, тем более что в условиях мажоритарной системы выборов число
мест в парламенте не всегда корреспондируется с числом полученных
голосов.
Если учесть гораздо более низкую, можно даже сказать беспреце-
дентно низкую активность избирателей, 41% которых предпочли не
явиться на избирательные участки (в 1992 г. эта доля составила 22%,
в 1997 - 28%) то становится очевидным, что разница в распределении
мест и голосов вполне могла явиться результатом неявки многих из тех,
кто участвовал в голосовании в 1997 г.
Все это, однако, ни в коей мере не говорит о том, что почти одина-
ковый результат этих и прошлых выборов означает и одинаковые пос-
ледствия этих выборов для обеих главных партий (о чем подробнее бу-
дет сказано ниже).
Значительно более серьезные подвижки выявились в результатах
выборов у более мелких партий, и прежде всего - у либеральных демо-
кратов и “демократических юнионистов”. Дополнительные шесть мест
в парламенте и почти 20% голосов, которые завоевала либерально-де-
мократическая партия, это, конечно же, не прорыв. Однако это сущест-
венный успех, укрепляющий позиции партии на политической арене.
Можно даже предположить, что данный результат указывает на нача-
ло нового взлета популярности либералов, в чем-то сходного с тем, ко-
торый наблюдался в 1974-1983 гг. Тогда этот взлет едва не привел к от-
теснению лейбористской партии с позиций одного из столпов двухпар-
143
тийной системы2. Лишь начавшийся после катастрофического пораже-
ния 1983 г. дрейф лейбористской партии вправо (закончившийся пере-
ходом партии на позиции “нового лейборизма”) спас эту партию от сры-
ва в политическое небытие. О том, какая судьба ждала партию в случае
продолжения левосоциалистического курса (взятого ею после пораже-
ния на выборах 1979 г.)3, говорит хотя бы тот факт, что стоящий ныне
на примерно тех же позициях и выдвинувший на выборах 2001 г.
190 кандидатов “социалистический альянс” не набрал и одного процен-
та голосов, потеряв всю сумму уплаченного за этих кандидатов залога.
Подобная же судьба, впрочем, постигла на этих выборах и другие
“крайние” партии. Так, “партия зеленых”, выставив 145 кандидатов,
также не смогла вернуть ни одного из уплаченных за них депозитов,
“Партия независимости Соединенного Королевства” потеряла все
100 депозитов. Весьма показателен и провал стоящей на расистских по-
зициях “Британской национальной партии”, выставившей на этих выбо-
рах 33 кандидата (на 23 меньше, чем в 1997 г.). Не помогло этой партии
и то, что в самый разгар избирательной кампании в ряде городов про-
изошли весьма серьезные столкновения между “цветной” и “черной”
молодежью, с одной стороны, и их “белыми” сверстниками - с другой,
и разгрому подверглись магазинчики и автомашины многих коренных
англичан.
Пожалуй, наиболее неприятными для руководства правящей пар-
тии явились результаты выборов в Северной Ирландии, где отколовшая-
ся от протестантской партии ольстерских юнионистов Демократиче-
ская юнионистская партия почти удвоила число своих мест в парламен-
те (см. табл.). Возглавляемая экстремистским лидером Яном Пейсли,
эта партия решительно выступает против достигнутого между противо-
борствующими сторонами (при активном посредничестве британского
и ирландского правительств) соглашения “Страстной пятницы” 1998 г.
Несмотря на огромные трудности в деле практической реализации дан-
ного соглашения (главным образом из-за нежелания католической Ир-
ландской республиканской партии разоружаться), достигнутые догово-
ренности способствовали снижению напряженности между двумя общи-
нами и положили начало формированию коалиционных органов власти
в провинции. Перевес голосов и мест, которого удалось достичь “демо-
кратическим юнионистам”, по существу перечеркивает достигнутое со-
глашение, поскольку лишает “традиционных юнионистов” как участни-
ка переговоров и “подписанта” соглашения права и дальше представ-
лять основную часть протестантской общины. Иначе говоря, перего-
ворный процесс теперь скорее всего придется начинать с “чистого лис-
та”. При этом, учитывая рост влияния противников соглашения в самой
юнионистской партии, шансы на успех будут существенно меньше, не-
жели в прошлом.
Представляющая католическое меньшинство партия Шин-Фейн,
являющаяся политическим крылом Ирландской революционной армии,
удвоила число своих представителей в парламенте, в основном за счет
выступающей с более компромиссных позиций Социал-демократиче-
ской лейбористской партии.
144
Новый расклад сил в Северной Ирландии, однако, вряд ли заставит
правительство Тони Блэра отказаться от попыток вывести ольстерское
урегулирование из тупика, в котором оно оказалось.
Гораздо более благоприятными для правительства стали результа-
ты выборов в Шотландии и Уэльсе, где число мест, полученных нацио-
нальными партиями, осталось практически без изменений. Особенно
важен для него результат выборов в Шотландии, где Шотландская на-
циональная партия, не удовлетворись полученной в 1998 г. автономией,
по-прежнему выступает за полную независимость региона. То обстоя-
тельство, что ей не удалось упрочить своих позиций и она даже потеря-
ла одно место, существенно уменьшает опасения (которые разделяли и
многие лейбористы), что предоставление этой провинции широкой ав-
тономии может стимулировать сепаратистские тенденции и привести к
отделению ее от Соединенного Королевства. В подобном же духе мож-
но, видимо, интерпретировать и некоторое упрочение позиций консер-
ваторов в регионе, резко подорванных в 90-е годы. На выборах 1997 г.
партия не смогла завоевать в Шотландии ни одного места, на этот же
раз она вышла победительницей в одном из избирательных округов.
Примечательно, что, выступив в 1997-1998 гг. против планов лейбори-
стского правительства о предоставлении Шотландии автономии, после
проведения выборов в местный парламент и формирования органов ис-
полнительной власти партия изменила свою позицию и признала необ-
ратимость осуществленных лейбористами перемен.
При всем значении отмеченных выше сдвигов главным итогом про-
шедших выборов является, безусловно, внушительная победа лейбори-
стов, значение которой, как они не устают подчеркивать, состоит и в
том, что это вторая подряд их “чистая” победа, продемонстрировавшая
способность “нового лейборизма” эффективно управлять страной и со-
хранять доверие населения.
Попытаемся, однако, более внимательно взглянуть на причины
столь убедительной победы лейбористов4.
Победа “новых лейбористов”: что за ней?
Анализируя итоги выборов, а до того проводимые в стране опросы
общественного мнения (однозначно указывавшие на непреодолимый
отрыв рейтинга лейбористов от рейтинга консерваторов), многие на-
блюдатели сходились во мнении, что при столь слабом и непопулярном
противнике у избирателя просто не оставалось другого выбора, как
проголосовать за лейбористов. Этим, кстати, объясняли и слабый инте-
рес, проявленный населением к избирательной кампании, и беспреце-
дентно низкую явку на избирательные участки.
Все это, безусловно, так, и ниже я подробнее остановлюсь на не-
простой ситуации, сложившейся в консервативной партии в канун вы-
боров (и особенно после них). Однако, как бы ни слаб был противник,
получить столь внушительную поддержку избирателя лишь благодаря
этому обстоятельству лейбористам, конечно же, не удалось бы.
Одним из существенных моментов, способствовавших успеху лей-
бористов, явилась, безусловно, исключительно благоприятная для них
10 Россия и Британия Вып 3
145
экономическая конъюнктура, складывавшаяся во многом независимо
от действий правительства. Однако кое-что зависело и от него; как под-
черкивают компетентные наблюдатели5, проводившаяся им экономи-
ческая политика содействовала тому, что показатели и экономического
роста (2,75% в год), и уровня безработицы (самый низкий за последнее
десятилетие - где-то в пределах 5-6%), и инфляции (всего около 2%
в год) оказались у Британии лучше, чем у большинства других стран
Европейского союза. На руку лейбористам сыграли и некоторые их ус-
пехи в социальной сфере, и прежде всего существенный рост личных
доходов большинства граждан (в среднем на 10% за 4 года).
В целом, однако, достижения лейбористов в социальной сфере,
и особенно в сфере государственных социальных услуг, оказались весь-
ма и весьма скромными, и не случайно, что именно их политика в дан-
ной сфере, и прежде всего в области здравоохранения, оказалась под
наиболее сильным огнем критики.
Было бы тем не менее неправильно полагать, будто лейбористы ни-
чего или почти ничего не сделали в обеих этих областях. Придя к вла-
сти с намерением превратить государство благосостояния в “государст-
во социальных инвестиций”6, они предприняли ряд инициатив, чтобы
если не реализовать, то хотя бы положить начало реализации принци-
па “обучение на протяжении всей жизни”, а также улучшить систему
профессиональной подготовки молодежи. Уже в 1997 г. при кабинете
министров был создан специальный офис, призванный способствовать
“социальной включенности” тех, кто, будучи работоспособным, по тем
или иным причинам (в основном это отсутствие должного образования
и профессиональной подготовки) оказался не в состоянии иметь при-
личный доход и “включиться” в нормальную трудовую и общественную
жизнь.
В целях быстрейшего вовлечения безработной молодежи в произ-
водство и сферу услуг была разработана программа “Новый курс для
молодежи” (“New Deal for Youth”), создано 15 “зон занятости” в районах
с наиболее высоким уровнем безработицы7. Было также организовано
около 1000 центров занятости, призванных способствовать трудоуст-
ройству безработных. Согласно официальной статистике в результате
этих и других подобных инициатив в 1999-2000 гг. было трудоустроено
1,3 млн безработных8. Общая сумма средств, затраченных на реализа-
цию такого рода программ (под общим названием “благосостояние -
к труду” - “Welfare to work”), составила около 3 млрд ф.ст.9
В самый канун избирательной кампании (апрель 2001 г.) была созда-
на сеть “Советов профессионального и общего образования” (“Learning
and skill councils”), сферой деятельности которых должны стать более
интенсивные, нежели до того, усилия по укреплению связей между обра-
зовательными учреждениями и бизнесом10.
Гораздо скромнее, однако, оказались усилия лейбористов в области
общего и особенно среднего образования. Если в начальных школах им
удалось добиться того, чтобы число учащихся на одного учителя не пре-
вышало 30, то в средних школах проблема переполненных классов пра-
ктически осталась столь же острой, что и до их прихода к власти. Оста-
746
Тони Блэр
ется не на уровне и техническое оснащение большинства школ, хотя до-
ля средних учебных заведений, подключенных к Интернету, возросла
с 86% в 1998 г. до 98% в 2000 г. В начальном образовании был сделан
впечатляющий рывок, и доля “интернетных” школ там возросла с 17
до 83%".
По признанию самих лидеров партии, они мало что успели сделать
для реализации своих планов в среднем школьном образовании.
Кроме того и в профессиональном обучении, и подготовке и пере-
подготовке рабочей силы у них остается еще непочатый край работы.
750 тыс. безработных не имеют элементарных навыков чтения и пись-
ма, а общее число таких лиц среди взрослого населения составляет око-
ло 7 млн12.
147
Главным предметом критики в адрес лейбористов на протяжении
всей избирательной кампании оставалась, как уже отмечалось, их не-
способность сколько-нибудь существенно улучшить положение в сфере
здравоохранения. По количеству врачей, медсестер и коек в больницах
на тысячу жителей, а также по уровню финансирования данной сферы
Британия по-прежнему серьезно отстает от других стран Европейского
союза13. Несмотря на некоторое уменьшение очередей на стационарное
лечение (на 124 тыс. за 4 года), многим пациентам по-прежнему прихо-
дится ждать своей очереди месяцами. Не на должной высоте, с точки
зрения современных стандартов, и техническое оснащение многих ле-
чебных учреждений. В условиях существенного роста жизненного уров-
ня основной части населения подобное положение вызывает все более
острую критику и со стороны населения, и со стороны медицинского
персонала. Как вынужден был признать в одном из своих выступлений
перед избирателями Т. Блэр, в сравнении с другими западноевропейски-
ми странами общественные услуги в Британии отличаются более низ-
ким качеством (substandard) и требуют существенного улучшения14.
Правда, в другом своем выступлении он заявил, что система высшего
образования в стране - одна из лучших в мире, многие средние учебные
заведения являются первоклассными, а в системе здравоохранения есть
немало “образцовых” клиник и госпиталей.
В ходе предвыборной кампании было опубликовано довольно мно-
го материалов и фактов, свидетельствующих о сохраняющемся и даже
усугубляющемся социальном неравенстве в стране. Несмотря на широ-
ковещательные декларации лейбористов о “включенном обществе” и
необходимости свести к минимуму или даже полностью свести на нет
число “исключенных” граждан, доля лиц, находящихся за официальной
чертой бедности, за четыре года лейбористского правления не умень-
шилась. Согласно данным Института фискальных исследований приня-
тые лейбористами меры помощи лицам, находящимся на самых нижних
ступенях социальной лестницы, привели к замедлению роста социаль-
ного неравенства, но рост этот вплоть до 1999 г. не прекращался15.
Судя, однако, и по ходу предвыборной кампании, и по результатам
выборов, главным фактором, обусловившим в целом позитивное отно-
шение избирателей к лейбористам, явилось отмеченное выше улучше-
ние благосостояния “среднего” британца. На руку лейбористам оказа-
лись и проведение ими законодательства, устанавливавшего минималь-
ные размеры заработной платы, меры по стимулированию экономиче-
ского развития и смягчению социальных проблем в депрессивных рай-
онах, общий настрой на социальное реформаторство при стабильности
прямого налогообложения.
Если говорить о причинах чисто субъективного свойства, то к акти-
ву лейбористов надо отнести прежде всего наличие энергичного, ком-
петентного и отнюдь не растратившего своей популярности лидера,
а также сработавшейся и согласованно действовавшей команды. Посто-
янно ощущаемое соперничество между Т. Блэром и министром финан-
сов Г. Брауном, не оставляющим надежды занять пост лидера партии и,
соответственно, реального или “теневого” премьер-министра, носило и
148
носит скрытый характер и почти никак не проявляется на публике. Тем
более что сколько-нибудь заметных политических разногласий между
ними нет, а в личных отношениях они демонстрируют не только согла-
сие, но и дружбу. Сознавая, что его час еще не пришел, Браун проявля-
ет лояльность к лидеру и, что называется, не высовывается, а Блэр со
своей стороны предоставил своему министру высокую степень свободы,
причем не только в тактике, но и в значительной мере в экономической
и финансовой стратегии. Весьма удачно для Блэра развиваются и отно-
шения с его заместителем Прескоттом, олицетворяющим союз “старо-
го” и “нового” лейборизма.
Безусловно, сыграла свою роль и по самым современным техноло-
гиям организованная избирательная кампания, в ходе которой лейбори-
сты явно переигрывали своих главных соперников. Оккупировавшая
удобные помещения в высотном офисном здании одного из крупнейших
банков страны (Милл бэнк), команда Блэра включала как зарекомендо-
вавших себя ораторов и пропагандистов, так и опытных разработчиков
PR стратегии и тактики.
Конечно же, не последнюю роль сыграл и удачный момент, вы-
бранный лейбористским руководством для проведения выборов. Оно
явно стремилось использовать благоприятную экономическую конъ-
юнктуру, а также тот факт, что “отчитываться” перед избирателем за
4 года несомненно легче, чем за полные пять лет (что потребовало бы
от них более строгого отчета о выполнении взятых на себя обяза-
тельств).
Неплохая форма, в которой пребывают лейбористская партия и ее
руководство, резко контрастировала с положением дел у партии кон-
серваторов, оказавшейся явно не готовой к тому, чтобы всерьез оспари-
вать пальму первенства у своих соперников.
Кризис партии тори и двухпартийная система
В основе резко снизившейся дееспособности партии консерваторов
лежит прежде всего отсутствие единства ее рядов, все расширяющийся
разрыв между двумя ее главными фракциями. Некогда характерный
для лейбористов недуг раскола, особенно бросавшийся в глаза на фоне
почти что “монолитной” партии консерваторов, ныне со всей силой по-
разил эту последнюю. Причем поразил настолько сильно, что даже в
ходе предвыборной борьбы, когда партии обычно отодвигают на зад-
ний план свои разногласия, тори не удалось создать даже видимости
единства или примирения.
Ситуация усугубляется тем, что разногласия эти носят отнюдь не
конъюнктурный характер и раскалывают партию по ключевым вопро-
сам внутренней и внешней политики. Для сравнения укажем, что разно-
гласия внутри лейбористов носили не столько принципиальный (хотя
это тоже было), но преимущественно “количественный” характер
(больше или меньше социального реформаторства, т.е. больше или
меньше налогов, социальных расходов и т.д.). Поэтому им было сравни-
тельно легко находить приемлемый для обеих сторон компромисс.
Лишь в самом начале 80-х годов, когда радикализировавшееся левое
149
крыло добилось принятия этатистско-социалистической программы
и захватило ключевые посты в руководстве партии, от нее откололась
группа “социал-демократов”. Но и в тот момент отколовшаяся группа
не смогла увести за собой даже значительную часть правого крыла,
и лейбористская партия сохранила как основную членскую массу, так
и дееспособную и нацеленную на модернизацию группу лидеров.
Впрочем, было бы большим упрощением полагать, будто напря-
женные внутрипартийные отношения в партии тори - это лишь фено-
мен сегодняшнего дня. Истоки нынешней напряженности уходят до-
вольно глубоко, в самое начало “тэтчеристской” эры. Именно тогда в
партии возникли так называемые “мягкие” тори (wets), выступавшие
против жесткой, неолиберальной по своей сути социально-экономиче-
ской политики тэтчеристского руководства. Как мне уже приходилось
писать, “мягкие” тори существенно ограничивали свободу действий
тэтчеристов, и им порой удавалось вносить весьма существенные кор-
рективы в социально-экономическую политику “новых тори”16. “Свер-
жение” в 1990 г. М. Тэтчер и приход на ее место Дж. Мейджора не-
сколько смягчили разногласия, однако после поражения партии на вы-
борах 1997 г. и избрания лидером партии Уильяма Хейга они вспыхну-
ли с новой силой. Несмотря на свою репутацию “либерала”, Хейг все
явственнее стал склоняться на сторону тэтчеристов; не в последнюю
очередь этому способствовало то обстоятельство, что изгнанные
М. Тэтчер после выборов 1987 г. из правительства и руководства пар-
тии “мягкие” тори так и не смогли восстановить своих позиций в пар-
тийных верхах.
Основным предметом разногласий в консервативной партии явля-
ется отношение к единой европейской валюте - евро. Хотя этот пред-
мет весьма конкретен, в действительности за ним вырисовываются ку-
да более принципиальные вещи. Противники обмена фунта стерлингов
на евро в действительности выступают если не за разрыв с ЕС (а есть и
такие), то за существенное сокращение связей и взаимодействия с Сою-
зом. Главной их целью, которую они всячески афишируют и пропаган-
дируют, является сохранение едва ли не в полном объеме национально-
го суверенитета Британии. Практически это означает либо полный от-
каз от любых форм и методов принятия решений в ЕС, основанных на
принципах наднациональности, либо оттеснение их на периферию по-
литического взаимодействия стран-участниц. Не случайно одним из
требований евроскептиков был и остается пересмотр существующих
норм и принципов взаимоотношений Британии с ЕС. В условиях, когда
объективное развитие ЕС неумолимо подталкивает его к укреплению
“наднациональных” институтов, и прежде всего Комиссии и Европарла-
мента, а также ограничению права вето в Европейском совете и Сове-
те министров, реализация подобного рода установок способна лишь
резко ослабить связи Британии с ЕС и, как убедительно доказывают
противники данного подхода, нанести непоправимый вред националь-
ным интересам страны.
Наиболее целеустремленными противниками евро и сторонниками
“полноценного” национального суверенитета являются последователи
150
Маргарет Тэтчер, причем сама она занимает в данном противоборстве
все более крайние позиции.
Официальные установки партии и ее теперь уже бывшего лидера
Хейга ограничиваются требованием отказа от присоединения к евро на
протяжении легислатуры следующего парламента, т.е. того, который
избран на 2001-2005 гг. Соответственно, они решительно выступают
против референдума по этому вопросу, который намерены провести
лейбористы17. При этом остается открытым вопрос об отношении к ев-
ро в более отдаленном будущем. Подобная “непринципиалыюсть”,
однако, не устраивает наиболее последовательных евроскептиков, тре-
бующих окончательного и бесповоротного отказа от попыток присое-
динения к евро. Наиболее решительно с подобных позиций выступают
две группировки в партии: “Нет референдуму” и “Никогда - единой ва-
люте” (“Anti-Referendum Party”, “Never to the Single Currency”). Как сам
Хейг, так и его ближайшие коллеги (не говоря уже о крайних тэтчери-
стах) в течение всей предвыборной кампании не уставали повторять,
что лейбористы непременно сфальсифицируют итоги референдума,
причем сделают это скорее всего путем вводящей в заблуждение фор-
мулировкой вопроса.
Такого рода заявления носят отнюдь не только пропагандистский
характер, они свидетельствуют также об отсутствии уверенности в том,
что избиратель так уж решительно настроен против евро. Как показы-
вают опросы последнего времени, на прямой вопрос: “Хотите ли вы,
чтобы Британия присоединилась к единой европейской валюте”, лишь
около четверти дают утвердительный ответ, а еще примерно 15% заяв-
ляют, что еще не определились; на более общий вопрос об отношении
к евро в принципе лишь 29% заявляют, что против присоединения в лю-
бом случае. В то же время 57% опрошенных высказываются в том
смысле, что примут окончательное решение “в зависимости от того,
как будут складываться обстоятельства”, а 12% - высказываются за
присоединение в любом случае18. Все это позволяет лейбористам наде-
яться на то, что, выбрав благоприятный для референдума момент, им
удастся склонить на свою сторону большую часть тех, кто испытывает
колебания и не определил еще своей позиции. Решающее значение, од-
нако, будет иметь то, в какой мере к моменту проведения референдума
(который лейбористы, видимо, постараются провести до осени 2003 г.)
партии консерваторов удастся примирить раздирающие ее разногласия
и восстановить свою популярность.
“Тэтчеристское склонение” тори весьма отчетливо проявлялось и в
таком важнейшем вопросе, как социально-экономическая стратегия
партии. Стремясь как можно дальше дистанцироваться от социально-
рыночной ориентации лейбористов, они не изобрели ничего лучшего,
как отклониться вправо, в неолиберальном направлении. Одним из
главных их предложений явилось обязательство в случае прихода к вла-
сти снизить налогообложение на 8 млрд ф.ст.19 При этом одновременно
была названа (правда, неофициально) и другая, значительно более
крупная сумма в 20 млрд ф.ст. Но попытка “подкупить” избирателя та-
кими обещаниями явно не учитывала тех приоритетов, которыми он в
151
настоящее время руководствуется. Согласно проведенным сразу после
назначения даты выборов обследованиям общественных настроений
лишь 16% опрошенных, отвечая на вопрос о том, что для них в данный
момент наиболее важно для определения своего отношения к той или
иной партии, в качестве наиважнейшего назвали пункт о снижении на-
логов. В то же время 61% высказался за “честную социальную полити-
ку” и рост расходов на нее20.
Не могли поразить воображение и такие еще не забытые избирате-
лем тэтчеристские лозунги и клише, как “свобода выбора”, “благосос-
тояние без государства”, “благосостояние через сбережения”, “бизнес
без вмешательства государства”, “свободное и ответственное общест-
во” и т.д. и т.п.21
Примечательно, что свой неолиберализм лидеры консерваторов
пытались совместить с обязательствами существенно улучшить поло-
жение дел в образовании и здравоохранении, причем, за счет каких
средств они намеревались это сделать, так и оставалось неясным. Ос-
новной пафос их пропаганды на сей счет (хотя о “пафосе” можно гово-
рить лишь с очень и очень большой натяжкой) был сфокусирован на
критике лейбористской политики в данной сфере, что, естественно, са-
мо по себе никак не могло удовлетворить избирателя. Ничего принци-
пиально нового не могли они предложить и в других вопросах внутрен-
ней и внешней политики. Поэтому, исключая “твердое ядро”, подавля-
ющее большинство консервативных избирателей так и не увидели в хо-
де предвыборной кампании 2001 г. позитивной альтернативы тому кур-
су, который проводили и намерены проводить и дальше лейбористы.
Уже в ходе избирательной кампании в кругах самих тори все более
утверждалась мысль о неблагополучии в партии. Пожалуй, наиболее
авторитетной из такого рода оценок явилась статья лорда Тэббита - не-
когда одного из ближайших “сподвижников” Тэтчер, в “Спектейторе”
(от 24 мая), в которой тот без обиняков заявлял о “кризисе руководст-
ва” тори. Естественно, что подобного рода оценки и “самокритика” рез-
ко усилились после сокрушительного поражения партии в ходе самих
выборов.
На фоне столь критической ситуации в партии консерваторов осо-
бенно наглядно выделяются пусть и далеко не сенсационные, но все же
примечательные успехи партии либеральных демократов. Сменив явно
нереалистичную в новых условиях установку на союз с лейбористами
(прежний лидер партии П. Эшдаун даже надеялся накануне выборов
1997 г. занять пост члена кабинета и, более того, возможно, стать мини-
стром иностранных дел), новый лидер партии Чарлз Кеннеди взял курс
на наращивание авторитета и влияния партии в качестве самостоятель-
ного политического игрока. Не делая никаких претендующих на момен-
тальный эффект шагов и заявлений, руководство партии провело весь-
ма энергичную и профессионально грамотную избирательную кампа-
нию, главной целью которой стало отнять как можно больше голосов
у обеих ведущих партий там, где ни у одной из них не было твердого
большинства. Во главу угла была поставлена задача добиваться сущест-
венного улучшения систем образования и здравоохранения, причем в
152
этих целях предлагалось увеличить налогообложение наиболее состоя-
тельных граждан. В соответствии со своими принципиальными установ-
ками они выступали за дальнейшую автономизацию регионов, демокра-
тизацию местного самоуправления и более решительные шаги по сбли-
жению с ЕС.
Сосредоточив основной огонь критики на политике консерваторов,
либеральные демократы рассчитывали еще более ослабить позиции
этой партии с тем, чтобы с большим на то основанием претендовать на
занятие ее места в двухпартийной системе. В этой связи стоит упомя-
нуть о том, что некогда основное требование их избирательных про-
грамм - реформа системы выборов и переход от мажоритарной систе-
мы к пропорциональной или смешанной - на этот раз было “задвинуто”
чуть ли не на самые последние страницы манифеста и заняло весьма
скромное место в самой кампании. При этом учитывалась не только не-
возможность практической реализации данной цели (в условиях, когда
стоящим у власти лейбористам нет никакого резона вводить даже ос-
лабленные элементы пропорциональности, рекомендованные в 1999 г.
комиссией лорда Дженкинса22), но и то, что в условиях переживаемого
тори кризиса появилась возможность увеличения парламентского пред-
ставительства и при сохранении нынешней, на все 100% мажоритарной
системы выборов в палату общин. Тем более что прецедент замены
одной из главных партий в двухпартийной системе в истории страны
уже имел место, и жертвой этой замены после первой мировой войны
стала как раз либеральная партия.
Конечно же, реализация подобной цели зависит не столько от уси-
лий либеральных демократов, сколько от того, удастся ли консервато-
рам преодолеть тот кризис, который они переживают. В условиях, ко-
гда “новые лейбористы” заимствовали у них рыночную ориентацию и
когда европейская политика правительства носит предельно взвешен-
ный характер, выработать альтернативный нынешнему курс весьма и
весьма сложно. В свое время, даже имея перед собой незаполненное
пространство в левом центре, лейбористам потребовалось целых
15 лет, чтобы освоить эту нишу и убедить избирателя в реалистичности
своей политики. Сложность положения партии тори ныне заключается
в том, что такого рода свободная или полусвободная ниша сейчас прак-
тически отсутствует. Дальнейший сдвиг вправо или даже сохранение
нынешней протэтчеристской ориентации грозит отбросить ее еще
дальше назад и лишить очень надолго, если не навсегда, возможности
вновь обрести прежнюю форму23.
Сказанное отнюдь не означает, что у партии консерваторов почти
не остается шансов на возрождение. В условиях, когда идеологические
разногласия между партиями отходят на задний план, первостепенное
значение приобретают такие факторы, как компетентность и профес-
сионализм руководства, авторитет и популярность лидера, степень
сплоченности и единства партийных рядов. При наличии всех этих ка-
честв даже сравнительно небольшие нюансы, отличающие программу и
стратегию оппозиционной партии от правящей, могут обеспечить ей ре-
альные шансы на победу в условиях, когда правящая партия начинает
153
“уставать” от власти, допускать ошибки и одновременно учащаются
случаи неэтичного поведения. Судя по заявлениям главного претенден-
та на пост лидера Майкла Портилло, есть основание полагать, что об-
новленное руководство консерваторов изберет именно такой курс.
Решающее значение при этом будет иметь его способность оттеснить
от реального влияния крайние, протэтчеристские фракции, либо нейт-
рализовав их, либо заключив с ними компромисс на своих условиях.
В принципе не исключено, что соперничество либеральных демо-
кратов и консерваторов за место в двухпартийной системе может дать
лейбористам весомый шанс на то, чтобы стать “партией власти” на не-
определенно долгий период. Однако при сохранении мажоритарной си-
стемы выборов в конечном счете верх возьмет одна из двух этих пар-
тий, а двухпартийная система, преодолев более или менее продолжи-
тельный сбой, стабилизируется вновь. Впрочем вероятность подобного
сценария весьма невелика, и он заслуживает внимания лишь постольку,
поскольку его все же нельзя исключить.
Заметим, что высказанные только что соображения - это дополни-
тельный аргумент против доводов тех, кто считает, что “конец идеоло-
гии” и ослабление классовых противоречий в странах Запада подрыва-
ет саму основу существования политических партий. Слов нет, с усиле-
нием влияния групп интересов, в частности крупных корпораций, фи-
нансовых институтов, а также некоммерческих или негосударственных
организаций и групп (НГО), а также с развитием процессов глобализа-
ции относительная роль партий в политическом процессе снижается.
Однако это вовсе не означает, что партии как ключевые институты
представительной демократии в обозримом будущем утратят свое зна-
чение. Никакая другая организация не в состоянии взять на себя одну из
главнейших функций партий - представительства интересов всего спек-
тра социальных и политических сил в системе власти и “выращивания”
когорты профессиональных политиков, способных взять на себя управ-
ление обществом и государством. Утверждения о скором “конце пар-
тий” столь же далеки от реальности, как и рассуждения о том, что гло-
бализация якобы означает конец национального государства.
Дальнейший сдвиг вправо или корректировка курса?
Победа лейбористов на выборах возвращает нас к вопросу о про-
граммных и политических установках партии, которые, вне всякого со-
мнения, во многом определят внутреннюю и внешнюю политику ново-
го лейбористского правительства на ближайшие четыре-пять лет.
Выше уже было отмечено, что основной акцент и в манифесте, и в
ходе предвыборной кампании был сделан лейбористами на вопросах
развития сферы социальных услу г. Как заявил в одном из своих высту-
плений министр финансов Дж. Браун, для прошлого лейбористского
правительства основным приоритетом являлась экономика, ему было
важно сделать ее более конкурентоспособной, в том числе путем сни-
жения налогов. Теперь эта задача в основном решена, и правительство
сделает гораздо больший упор на развитие социальной сферы и, в част-
ности, на поддержку наиболее обездоленной части общества. В более
154
конкретном плане он, напомнив обещание Блэра снизить в течение
ближайших 10 лет “детскую бедность” в два раза и добиться ее полного
искоренения в течение 20 лет, завил, что в дополнение к 1 млн живущих
в бедности детей, которые были выведены из этого состояния нынеш-
ним лейбористским правительством, еще 1 млн добавится к ним в 2004
или 2005 г. В результате поставленная Блэром цель уменьшить “дет-
скую бедность” наполовину будет достигнута в течение не десяти, а ше-
сти лет.
Проблема “детской бедности” была поднята в числе наиболее важ-
ных социальных проблем отнюдь не случайно. Как отмечает профессор
по социальной политике Рут Листер, число детей, проживающих в бед-
ности, увеличилось с 1,4 млн в 1979 г. (год прихода М. Тэтчер к власти)
до 4,5 млн в 1998-1999 гг., а их доля возросла за тот же период с 10 до
35%. Общее число взрослых и детей, находящихся за чертой бедности,
составляло в 1979 г. 5 млн (9% населения страны), а в 1998-1999 гг. -
14,3 млн (25%). Весьма любопытны и другие данные, приводимые
Р. Листер. В годы правления М. Тэтчер доходы богатейших 20% англи-
чан росли на 4,7% в год (при средних темпах, равных 3%), тогда как у
20% беднейшей части населения этот рост составлял всего 0,2%. При
правительстве Мейджора (1990-1997) соотношение это довольно резко
изменилось. При среднем росте доходов, равном 1% в год, доходы
“верхних” 20% росли таким же темпом (т.е. 1% в год), тогда как доходы
“нижних” 20% возрастали на 1,9% в год. За первые три года пребыва-
ния у власти правительства Блэра средний рост доходов составил 2%,
у “верхних” - 2,8% и у “нижних” - 1,4%24. Иначе говоря, правительство
Блэра в широком социальном плане не смогло удержать тенденцию к
снижению социального неравенства, наметившуюся при Мейджоре.
Профессор Листер называет “скандальным” уровень бедности в Вели-
кобритании, особенно в сравнении с другими западноевропейскими
странами, но полагает, что уже бюджет 1999 г. позволил выделить до-
полнительные ресурсы для помощи самым бедным и привел к некото-
рому снижению доходов самых богатых. В результате реальная помощь
семьям безработных с детьми до 11 лет возросла к октябрю 2000 г.
на 80%25.
Упор, который делают лейбористы на проблему “детской бедно-
сти”, объясняется отнюдь не только остротой этой проблемы самой по
себе, но и теми приоритетами, которые определяют ныне основное на-
правление их социальной политики. Бедные дети - это, во-первых, “со-
циально исключенные” (не говоря уже об их родителях); во-вторых, это
один из главных адресатов “государства социальных инвестиций”, пере-
ход к которому от “государства благосостояния” занимает центральное
место в социальной политике нового лейборизма. В условиях, когда це-
лая треть подрастающего поколения не имеет возможности ни вести
достойный образ жизни, ни получить нормальное общее и профессио-
нальное образование, именно она должна стать и, по всей видимости,
становится основным объектом “социальных инвестиций”, призванных
свести к минимуму, а в идеале и на нет саму категорию “социально ис-
ключенных”.
155
В целях существенного улучшения системы общего и специального
образования и решения проблемы переполненных классов в школах
лейбористы планируют увеличить в ближайшие годы на 10 тыс. число
учителей. Обещано также основательно модернизировать технологи-
ческую базу образования и, в частности, резко увеличить число специ-
альных школ - на 1500 к 2006 г.26, доведя их долю почти до 50% всех
средних учебных заведений Англии и Уэльса. На цели технической мо-
дернизации школ выделяется внушительная сумма в 1,8 млрд ф.ст. Кро-
ме того, около 8 млрд ф.ст. обещано вложить в строительство новых и
полную реконструкцию обветшавших старых школ.
Для финансирования упомянутых и других расходов на модерниза-
цию образования предусматривается увеличение общего “образова-
тельного” бюджета на 5% в год. Правда, с оговоркой, что такой прирост
планируется лишь на ближайшие три года27.
Лейбористы намерены также сократить по меньшей мере на 3/4 млн
число взрослых, имеющих проблемы с чтением и письмом. В ходе пред-
выборной кампании Блэр даже счел нужным заявить, что безработные,
которые откажутся учиться грамоте, будут лишаться выплачиваемых
им пособий28.
Заметное место в планах лейбористов по модернизации системы
образования занимает ориентация на укрепление ее связей с бизнесом.
Этому должно способствовать не только его участие в финансировании
и организации технологического переоснащения школ, но и бизнес-спе-
циализация ряда средних учебных заведений. Что касается высшего об-
разования, то там глубокое внедрение бизнеса - уже во-многом свер-
шившийся факт, и оно также будет продолжено.
Еще более отчетливо ориентация на усиление роли бизнеса просма-
тривается в планах лейбористов в другой важнейшей сфере социальных
услуг - здравоохранении. Здесь, как и в области образования, намечает-
ся существенно опережающее экономический рост увеличение финан-
сирования (на целых 6% ежегодно в течение ближайших трех лет)29.
Предполагается, в частности, увеличить до 20 тыс. число медсестер и на
10 тыс. - врачей. Соответственно должны значительно сократиться
очереди на стационарное лечение (число больничных коек должно уве-
личиться на 7 тыс.). На капитальные инвестиции в здравоохранение, т.е.
на новое строительство и технологическую модернизацию, предусмат-
ривается истратить более 7 млрд ф.ст.30
Особое место в планах лейбористов уделено задачам организацион-
ного реформирования Национальной службы здравоохранения (НСЗ).
Главным его пунктом является намерение создать формируемые неза-
висимыми комиссиями “тресты охраны здоровья” (primary care trusts).
В распоряжение трестов будет поступать три четверти средств из бюд-
жета здравоохранения. Соответственно число органов здравоохране-
ния, выполняющих управленческие функции ныне, будет резко сокра-
щено31.
Идя на выборы 1997 г., лейбористы критиковали консерваторов за
чрезмерный упор на меры, поощряющие участие частного бизнеса в
здравоохранении, где такое участие продвинулось достаточно далеко.
156
Придя к власти, они, однако, не дали обратного хода и сохранили систе-
му практически в том виде, в каком она им досталась в наследство от
правительства Мейджора. На сей раз в манифесте было многозначи-
тельно заявлено, что “дух предпринимательства” должен занять такое
же место в сфере общественных услуг, что и в сфере бизнеса32. Хотя в
тексте манифеста пути достижения подобной цели напрямую и не про-
писаны, можно, однако, предположить, что намечаемая реорганизация
управления Национальной системой здравоохранения задумана как
один из шагов в данном направлении. Недаром в ходе избирательной
кампании о “трестах охраны здоровья” заговорили как о “троянском
коне приватизации”33.
Накануне выборов 2001 г. появилось также сообщение, что мини-
стерство финансов намерено выяснить, насколько целесообразным с
точки зрения эффективности и экономии государственных средств яв-
ляется передача на контрактной основе тех или иных учреждений, пред-
приятий и отдельных функций в сфере общественных услуг компаниям
частного сектора. Как отмечала пресса, инициатором постановки по-
добного вопроса выступил Институт публичной политики (Public Policy
Research Institute), являющийся наиболее влиятельным мозговым тре-
стом “нового лейборизма”. По тем же сообщениям, исследования по
данному вопросу должны были проводиться “Коммерческим офисом
правительства”, специально созданным в целях укрепления партнерст-
ва между государственным и частным секторами. В ходе исследования,
которое должно было закончиться к концу года, предстояло изучить
опыт контрактных отношений в сфере социальных услуг, накопленный
за последние 7 лет34.
Как выявили последовавшие за сообщениями подобного рода опро-
сы, большая часть респондентов (47% против 44%) высказались за то,
чтобы роль частного бизнеса в здравоохранении возрастала. При этом
мнения тех, кто собирался голосовать за лейбористов, разделились по-
ровну (46%), а склонные голосовать за партию тори высказались в со-
отношении 57% : 36%. В области школьного образования доля сторон-
ников коммерсализации оказалась значительно меньше (38% за и 52%
против), причем у лейбористских избирателей это соотношение соста-
вило 34% : 59%, а у консервативных - 54% : 36%.35.
Как видим, состояние общественного мнения практически дает лей-
бористам карт-бланш на то, чтобы реализовать их установку на широ-
комасштабное внедрение “духа предпринимательства” как в публичную
сферу вообще, так и в Национальную систему здравоохранения в осо-
бенности. Однако сами работники данной системы, и не в последнюю
очередь врачи и медсестры в своем подавляющем большинстве доволь-
но резко возражают против планов правительства, опасаясь “дегумани-
зации” НСЗ. Против “галопирующей приватизации” Национальной си-
стемы здравоохранения высказались и 40 известных в стране ученых.
В опубликованном в газете “Таймс” открытом письме они заявляли, что
намеченные реформы приведут к существенному ограничению бес-
платного медицинского обслуживания и росту объема платных меди-
цинских услуг36.
157
Дискуссия вокруг вопроса о том, ведет ли взятая лейбористами ли-
ния на коммерсализацию Национальной службы здравоохранения к
“двухярусной” системе и разрушению преимущественно бесплатного
медицинского обслуживания, наверняка будет продолжаться и далее,
и нам еще предстоит увидеть, каков будет результат и намечаемого ис-
следования, и практических мер, которые за этим последуют.
Ориентация на внедрение частного бизнеса в сферу социальных ус-
луг явилась лишь одним из аспектов более общей стратегии “нового
лейборизма”, нацеленной на дальнейшее поощрение частнопредприни-
мательской инициативы и, в частности, укрепление позиций британско-
го большого бизнеса в европейской и мировой экономике. Представляя
в ходе избирательной кампании корпоративной элите страны подгото-
вленный правительством Манифест бизнеса, Блэр пообещал, что лей-
бористы будут и дальше смягчать государственное регулирование эко-
номики, которое станет осуществляться лишь методами “мягкого каса-
ния” (light touch). Наиболее значимой из обещанных в манифесте мер
является отмена жестких ограничений в области антимонопольного за-
конодательства, что должно стимулировать создание крупных, мирово-
го класса компаний и корпораций (“национальных чемпионов”, как их
назвал Блэр)37. Отметив рост “доверия бизнеса” и стабильную ситуа-
цию в экономике, Блэр заявил: “...нет ничего более существенного из
наших достижений, чем я гордился бы в большей степени”. Присутство-
вавший при этом Г. Браун пообещал в дальнейшем снизить налог на до-
бавленную стоимость и принять некоторые другие меры, нацеленные
на повышение конкурентоспособности британских фирм38. Среди мер
по либерализации экономики, осуществленных лейбористами после
прихода к власти в 1997 г., они придают особое значение предоставле-
нию Банку Англии права самостоятельного, без вмешательства мини-
стерства финансов регулирования учетной ставки. При этом подчер-
кивается, что на такую меру не решилась в свое время даже Маргарет
Тэтчер.
Далекоидущие жесты в сторону бизнеса вызвали открытое недо-
вольство ряда ведущих профсоюзных деятелей, напомнивших, что бри-
танские фирмы до сих пор не приняли утвердившихся в ЕС норм отно-
шений между работодателем и персоналом и, в частности, процедур
консультаций между ними перед принятием управленческих решений
по ключевым вопросам. Критика эта, однако, была весьма и весьма
сдержанной, а генеральный секретарь Британского конгресса тред-
юнионов сопроводил ее словами надежды на то, что правительство най-
дет в себе силы (will be confident enough), чтобы принять меры против
“корпоративного эгоизма” и добиться таких же прав для рабочих, како-
выми они располагают в других странах ЕС39.
Нельзя сказать, что лейбористы остаются глухими к такого рода
требованиям и пожеланиям. Будучи заинтересованными в поддержании
существующих связей с профсоюзами, они включили в свой манифест
обещание принять действующие в ЕС нормы отношений между ме-
неджментом и персоналом компании. При этом, правда, была сделана
весьма существенная оговорка, что нормы эти “должны учитывать на-
158
циональные традиции”, сложившиеся в сфере данных отношений40.
Уже вскоре после выборов правительство Блэра, хотя и с оговорками,
но согласилось принять к исполнению указанные нормы, чем, однако,
вызвало, как констатировала “Файненшл тайме”, “гневную реакцию”
Конфедерации британской промышленности41.
Энергичные усилия лейбористов по перетягиванию бизнеса на
свою сторону не в последнюю очередь объясняются тем, что консерва-
торы пока что продолжают пользоваться большей поддержкой в пред-
принимательской среде.
Определенным показателем этого влияния может служить то, что
в ходе избирательной кампании 144 ведущих бизнесмена страны опуб-
ликовали в консервативной “Дейли телеграф” письмо в поддержку кон-
серваторов. В качестве ответного шага лейбористы организовали пуб-
ликацию в “Таймс” письма в свою поддержку. Однако число его подпи-
сантов оказалось в два с лишним раза меньше (60). Эти цифры вряд ли
адекватно отражают распределение симпатий между партиями в боль-
шом бизнесе страны. Большинство его представителей выступают за
укрепление связей с “Европой”, нет у них повода быть недовольными и
социально-экономической политикой правительства. Влияние консер-
ваторов в кругах большого бизнеса, сохраняющееся в значительной
степени по инерции, никак нельзя назвать прочным, и они смогут удер-
жать его лишь в случае, если займут более взвешенную позицию по от-
ношению к ЕС.
Как бы то ни было, в отличие от совсем недавних времен обе глав-
ные партии Британии являются ныне практически в одинаковой мере
“партиями бизнеса” (разумеется, скорее в узком, а не широком смысле
этого слова)42.
Среди основных приоритетов лейбористской стратегии по-прежне-
му важное место занимают вопросы конституционной реформы. Уже
лишенная в основном своего наследственного характера палата лордов
будет окончательно “освобождена” от остающихся еще там 90 наслед-
ственных пэров. Система формирования палаты будет разработана с
учетом рекомендаций комиссии, назначенной прошлым лейбористским
правительством. Эта система, как говорится в манифесте, будет призва-
на сделать палату “более представительной и демократичной”, однако
традиционное первенство (“primacy”) Палаты общин сохранится43. Судя
по всему, какая-то часть членов палаты будет избираться, но подавля-
ющая часть их будет назначаться специально сформированной для это-
го независимой комиссией.
Начатая с Шотландии и Уэльса региональная автономизация будет
распространяться и на некоторые регионы самой Англии. Манифест
подтверждает предвыборное обязательство 1997 г. о создании избирае-
мых прямым голосованием региональных органов власти в случае, если
таковой окажется воля населения, выраженная на референдумах44.
В ходе избирательной кампании лидеры партии, а особенно замес-
титель лидера Дж. Прескотт и Г. Браун, подчеркивали, что проведение
референдумов в регионах явится одной из первоочередных мер в зако-
нодательной программе нового правительства. Как отмечается в мани-
159
фесте, правительство поддержит прямое избрание мэров городов,
решение о котором уже сейчас полномочны принимать все городские
советы45.
Если теперь в свете сказанного попытаться ответить на поставлен-
ный нами в подзаголовке вопрос, то приходится констатировать, что
имеет место и корректировка курса, и сдвиг вправо. Однако этот сдвиг
не привнес в стратегию лейборизма нового качества и явился, по сути
дела, всего лишь продолжением эволюции, начавшейся еще до прихода
Т.Блэра к руководству партии. Теперь уже можно также утверждать,
что разрыв лейборизма со своим “рабочим” и “социалистическим” про-
шлым состоялся не только в декларациях и документах, но и в самой
практической политике партии. Одновременно происходит уточнение
путей и методов реализации ключевых стратегических установок пар-
тии - “включенного общества”, “государства социальных инвестиций”,
“благосостояния - к труду”, а также конкретизация других задач в соци-
ально-экономической и политической сферах.
Вся стратегия лейборизма базируется на предпосылке о продолже-
нии экономического роста, причем и в манифесте, и в ходе предвыбор-
ной кампании лейбористы утверждали, что нашли эффективные спосо-
бы нейтрализации воздействия возможных негативных явлений в миро-
вой экономике на экономику страны. Насколько справедливы эти ут-
верждения, покажет, конечно, будущее. Но о том, что абсолютной уве-
ренности у лейбористского правительства в способности контролиро-
вать экономическую конъюнктуру все же нет, говорит сам факт дос-
рочного назначения даты выборов и сокращения на целый год своих
властных полномочий.
Ничего принципиально нового в установках и даже пропагандист-
ских декларациях лейбористов (как и консерваторов) не появилось,
и это “отсутствие идеализма” и возбуждающих интерес и любопытство
идей явилось, как полагает один из наиболее проницательных полити-
ческих аналитиков страны, Хьюго Янг, главной причиной той апатии и
равнодушия, которые характеризовали настрой и поведение основных
масс избирателей46.
* * *
При всей “ординарности” всеобщих парламентских выборов 2001 г.
они отнюдь не были “лишними”, обозначив определенную веху как во
взаимодействии партийно-политических сил, так и в общественно-поли-
тическом развитии страны в целом. Прежде всего была подтверждена
легитимность лейбористского правительства, получившего мандат до-
верия на предстоящие 5 лет.
Эта подтвержденная легитимность, однако, предъявляет к прави-
тельству гораздо более жесткие требования, нежели прежде. “Недовы-
полнение” взятых на себя обязательств в социальной сфере второй раз
подряд вряд ли может “сойти с рук” так легко, как это было в первый
раз. Поэтому можно ожидать, что правительство Блэра с гораздо боль-
шей энергией возьмется за реализацию своих обязательств, и если ему
позволит экономическая конъюнктура, то наверняка постарается до-
760
биться здесь более впечатляющих успехов, нежели те, с которыми оно
пришло к последним выборам.
Весьма существенным новым моментом, выявившимся в результа-
те выборов, стало то, что они перевели глубокий кризис партии консер-
ваторов из относительно скрытого в явный, тем самым предопределив
неизбежность существенных перемен в руководстве и, скорее всего,
в политических установках и стратегии партии. Если при этом учесть
относительный успех либеральных демократов, то можно ожидать так-
же более активных и решительных действий и с их стороны. В то же
время ярко выраженный европеизм этой партии вряд ли позволит ей су-
щественно, на порядок увеличить число своих сторонников, по крайней
мере до тех пор, пока консерваторы сохраняют реальные шансы обре-
сти прежнее влияние.
Беспрецедентно слабая активность избирателя ставит перед всем
политическим истеблишментом страны проблему расширения по-
литического участия граждан, возможно путем более решительных
шагов по пути демократизации местного самоуправления и региональ-
ной автономии. Скорее всего новые подходы появятся и в деле уре-
гулирования резко обострившегося противостояния в Северной Ир-
ландии.
В общем и целом можно утверждать, что “скучные выборы” 2001 г.
вывели политическую ситуацию в Британии из того состояния относи-
тельного покоя, в котором она пребывала на протяжении последних
4 лет. После этих выборов страна вступает в период значительно более
противоречивого и напряженного политического развития, в ходе кото-
рого будут испытываться на прочность и основные игроки, и в какой-то
мере партийно-политическая система страны в целом.
1 Development in British Politics. L., 1997. P. 47.
2 В 1983 г. Альянс либералов и отколовшихся от лейбористов социал-де-
мократов (предшественник нынешних либерал-демократов) получил 26% голо-
сов, всего на 2,3% меньше, чем удалось тогда получить лейбористам (Полити-
ческие сдвиги в странах Запада. М., 1989. С. 78).
3 Подробнее см.: Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. С. 100-112.
4 Следует, однако, отметить, что им не удалось повторить успеха консер-
ваторов, которые на выборах 1983 г. смогли добиться увеличения полученного
в 1979 г. числа мест в парламенте с 339 до 397 (Политические сдвиги в странах
Запада. С. 78).
5 См.,например: The Economist. 2001. June 9. Р. 47.
6 Подробнее см.: Перегудов С.П. Тони Блэр.М., 2000. С. 44—15.
7 Britain 2001: The Official Handbook. L., 2001. P. 152.
8 Ibid.
9 Ibid. P. 151.
10 Ibid. P. 133.
11 Ibid. P. 131.
12 The Guardian. 2001. May 31.
13 Ibid. 2001. May 23.
14 Ibid.
15 Ibid. 2001. May 10.
11 Россия и Британия. . Вып 3
161
16 Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. Гл. 3^4.
17 Кстати сказать, соответствующее положение лейбористского манифеста
не содержит ни прямого обязательства присоединиться к евро, ни даже твердо-
го намерения провести референдум: “Не в пример консерваторам, мы рассмат-
риваем Европу (ЕС. - Авт.) не как угрозу, а как возможность (opportunity)...
Мы продолжаем придерживаться нашего обещания: никакого присоединения
к единой валюте без консультаций с британским народом на референдуме”
(Ambitions for Britain. Р. 36).
18 Financial Times. 2001. June 16; The Guardian. 2001. May 30.
19 Time for Common Sense: The Conservative Party Manifesto, L., 2001. P. 15.
20 BBC World Service. 2001. May 17.
21 Time for Common Sense. P. 4,47 a.a.
22 Подробнее об этих рекомендациях см.: Эволюция политических институ-
тов на Западе. М., 1999. С. 42^43.
23 Анализируя партийно-политическую ситуацию в странах ЕС в целом, че-
тыре аналитика, отслеживающих эту ситуацию, склонны весьма пессимистично
оценивать положение дел и в большинстве других партий Союза, относящихся
к консервативному спектру. Как пишут они в газете “Ведомости”: “Если правые
не смогут представить программу, которая найдет отклик у избирателей, они
скорее всего окажутся на периферии политической жизни Европы” (Ведомо-
сти. 2001. 14 июня).
24 Согласно данным официальной статистики, с начала 70-х годов средний
доход на душу населения в стране удвоился. Однако в результате неравенства в
его распределении средний доход “верхних” 20% составил в 2000 г. 51 тыс. ф.ст.,
а “нижних” - в 17 раз меньше, т.е. всего 2,9 тыс. ф.ст.(Вгйат 2001).
25 Lister R. Social Cost of the Middle Britain Athos I I The Guardian. 2001. May 25.
P. 18.
26 Ibid. P. 19.
27 Ibid. P. 18.
28 Ibid. 2001. May 31.
29 Ambitions for Britain. P. 6-7.
30 Ibid. P. 17, 20-21.
31 Ibid. P. 22.
32 Ibid. P. 17.
33 The Guardian. 2001. May 25.
34 Ibid. 2001. May 22.
35 ICM Poll (The Guardian. 2001. May 23).
36 Ibid. 2001. May 25.
37 Ibid. 2001. May 30.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ambition for Britain.
41 The Financial Times. 2001. June 12; The Economist. 2001. June 16. P. 70.
42 Особенно это относится к лейбористам, ориентирующимся в основном
на поддержку среднего класса и стремящимся одновременно сохранить свое
влияние в среде наемных рабочих и в профсоюзах. Что же до консерваторов, то
эта традиционно “буржуазная” партия продолжает опираться не только на
крупный, но и на мелкий и средний бизнес.
43 Ambitions for Britain. Р. 15.
44 Ibid. Р. 35.
45 Ibid. Р. 34.
46 The Guardian. 2001. May 25.
162
Н.К, Капитонова
ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
И ЕВРОСОЮЗ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Одержав внушительную победу на парламентских выборах 7 июня
2001 г., британские лейбористы впервые с момента создания партии
обеспечили себе второй подряд пятилетний срок правления страной.
Видное место в предвыборных манифестах ведущих партий занимали
вопросы взаимоотношений с Европой и дальнейшего углубления про-
цессов европейской интеграции, хотя консерваторам не удалось сделать
их центральными в своей предвыборной кампании. В этой связи пред-
ставляется важным рассмотреть политику правительства Т. Блэра по
некоторым ключевым проблемам углубления интеграционных процес-
сов в Евросоюзе за предшествовавший последним выборам четырех-
летний период пребывания лейбористов у власти.
Уже в первой после майской победы на парламентских выборах
1997 г. программной речи по внешней политике, прозвучавшей 11 ноя-
бря, Т. Блэр так определил приоритеты своего правительства:
- энергичная европейская политика, которая бы “покончила с
20-летней изоляцией страны” (это был намек на политику в Евросоюзе
предыдущих консервативных правительств, благодаря которой отно-
шения Лондона с его европейскими партнерами по существу зашли в ту-
пик. - Лет.);
- сильный трансатлантический альянс, способствовать которому
будет конструктивное сотрудничество Великобритании с Евросоюзом;
- сильная оборона;
- свобода торговли ( намерение Великобритании выступать против
протекционизма);
- решение транснациональных проблем, включая охрану окружаю-
щей среды, борьбу с терроризмом и преступностью, защиту прав че-
ловека1.
Среди объявленных приоритетов были укрепление партнерства с
Соединенными Штатами и активизация европейской политики - напра-
вления внешней политики, ставшие традиционными для многих британ-
ских правительств послевоенных десятилетий. Вместе с тем, как пред-
ставляется, с приходом к власти лейбористов акцент был перенесен на
Европу. Еще за год до выборов руководство партии высказалось за кон-
структивное сотрудничество с Евросоюзом, а также за то, чтобы Вели-
кобритания играла в нем ведущую роль. Сразу же после победы на вы-
борах лейбористы стали в спешном порядке исправлять ситуацию, сло-
жившуюся в отношениях с Евросоюзом, когда из-за особой позиции
предыдущего правительства консерваторов в вопросах углубления ин-
теграционных процессов в ЕС страна оказалась в определенной изоля-
163
ции в этой организации. В качестве основного Блэр выдвинул лозунг
о необходимости поворота Евросоюза к непосредственным нуждам на-
родов стран-членов. Центральными вопросами в деятельности ЕС, по
его мнению, должны были стать обеспечение занятости, борьба с пре-
ступностью и охрана окружающей среды. Лондон также считал при-
оритетными задачами завершение формирования механизмов единого
внутреннего рынка, расширение Евросоюза, проведение реформы
сельскохозяйственной и рыболовной политики, углубление сотрудниче-
ства в области внешней политики.
Новым, по сравнению с правительством Дж. Мейджора, стало пре-
имущественное внимание к проблемам занятости, а также присоедине-
ния Великобритании к Социальной главе Маастрихтского договора.
Уже через месяц после выборов новое правительство подписало Ам-
стердамский договор, по которому Лондон взял на себя обязательство
ввести единые для государств ЕС нормы условий труда и заработной
платы. Это, в частности, позволило миллионам британских трудящихся
впервые получить оплачиваемый отпуск. Согласно заявлению Блэра в
палате общин Великобритания твердо выступила за сохранение права
вето в вопросах внешней политики ЕС, политики в области обороны,
изменений в договоре, а также в вопросах, касающихся бюджета и на-
логов. Ею также был подтвержден контроль за своими границами, им-
миграцией, выдачей виз и предоставлением убежища. Как подчеркнул
Блэр, “голос Британии был услышан в Амстердаме потому, что впер-
вые за много лет ее представляло единое правительство, имеющее чет-
кие европейские ориентиры”2. Это было недвусмысленное напомина-
ние о серьезном расколе в консервативной партии по вопросу углубле-
ния интеграционных процессов в Европе, сыгравшем не последнюю
роль в сокрушительном поражении консерваторов на парламентских
выборах 1997 г.
Одной из главных проблем как для предыдущего консервативного,
так и для нового лейбористского правительства стало отношение к
Экономическому и валютному союзу (ЭВС) и присоединению Велико-
британии к единой европейской валюте. Этот вопрос разделил на два
лагеря политические партии, прессу, избирателей, бизнесменов (“за”
выступали большинство членов влиятельной Конфедерации британ-
ской промышленности, а также Сити), экономистов (“за” - 2/3 из
164 ведущих экономистов)3. Значительные, тщательно скрываемые
расхождения (хотя и не такие острые, как в свое время у консерваторов)
существовали внутри Кабинета. Сам премьер поначалу занимал осто-
рожную позицию, отдавая себе отчет в том, что этот вопрос будет
иметь решающее значение для всей его политической карьеры.
Осенью 1997 г. было объявлено, что Великобритания сможет при-
соединиться к единой валюте не ранее 2001 г. Зимой 1998 г. сроки про-
ведения обещанного лейбористами референдума по этому вопросу бы-
ли уточнены - весна 2002 г.
На первый взгляд, позиция лейбористского правительства не силь-
но отличалась от позиции консерваторов - и те и другие не собирались
присоединяться к единой валюте “в первой волне”, т.е. до тех пор, пока
164
не будут решены некоторые экономические проблемы, стоящие перед
странами-членами Евросоюза. Вместе с тем, консерваторы стремились
максимально (по крайней мере на восемь лет) оттянуть (а еще лучше -
сорвать) сроки присоединения, правительство же Т. Блэра исходило из
того, что переход Великобритании на евро может произойти раньше
окончания срока деятельности следующего парламента. Одним из серь-
езных препятствий присоединения Великобритании к ЭВС с утвержден-
ной ЕС даты 1 января 1999 г. стала неготовность британских банков к
переходу на евро.
В своих многочисленных выступлениях министр финансов Г. Браун
неоднократно отмечал показатели готовности Великобритании присо-
единиться к единой валюте: предварительное выравнивание британско-
го и континентального экономических циклов, способность европей-
ских рынков справляться с экономическими потрясениями, влияние
ЭВС на инвестиции в стране, подготовка национального бизнеса к рабо-
те с евровалютой и разработка законодательства для преодоления нега-
тивных социальных последствий. Лишь после того как правительство
сочтет, что экономика страны в порядке, подчеркивал канцлер казна-
чейства, оно примет решение о присоединении к евро.
В последовавшие после парламентских выборов годы эти условия,
по мнению Лондона, не были выполнены, а следовательно, не имелось
оснований для принятия положительного решения. На самом деле Ве-
ликобритания находилась на пике своего экономического цикла, в то
время как экономика ее европейских партнеров еще только начинала
набирать скорость. Присоединение в такой ситуации к единой валюте,
как посчитали специалисты, привело бы к значительному изменению
процентной ставки (устанавливаемой Европейским центральным бан-
ком), что вызвало бы рост инфляции или же (в том случае, если бы пра-
вительство начало принимать контрмеры) увеличение налогов, что в
равной степени было бы самоубийственно для лейбористов. Кроме то-
го, присоединение к евро на ранней стадии потребовало бы дополни-
тельно огромных затрат. Поэтому, несмотря на раздававшиеся с разных
сторон призывы смелее двигаться в этом направлении, верх взяла более
осторожная линия - “не танцевать этот танец”, посидеть в сторонке и
посмотреть, как будет функционировать единая валюта. Не желая по-
вторять печальный опыт предыдущего правительства - так называе-
мый “черный сентябрь” 1992 г., когда Лондон вынужден был в спешном
порядке покинуть европейский механизм обменных курсов, лейбори-
сты также заявили, что Великобритания не будет вновь вступать в эту
структуру.
Такой подход правительства подвергся критике со стороны некото-
рых видных “европеистов” в лейбористской партии, указывавших на то,
что Великобритания вновь совершает прежнюю ошибку - “пропускает
европейский автобус”, а это в свою очередь будет иметь негативные по-
следствия для ее позиций в Европе. Он также не мог не вызвать раздра-
жения и у британских партнеров по ЕС, не только перешедших на еди-
ную валюту, но и создавших своего рода евроклуб ( неформальный ко-
митет министров финансов стран, вошедших в зону евро). По их мне-
165
нию, неприсоединение Великобритании к единой валюте делало по
меньшей мере несерьезными ее претензии на роль лидера Европы. Как
заметил в этой связи министр финансов Франции Доминик Строс-Кан,
“единственным способом стать одним из лидеров Европы является при-
соединение к еврозоне”4.
В действительности, правительство Т. Блэра оказалось в сложном
положении. Лондон хорошо понимал, что его неучастие в ЭВС объек-
тивно ограничивает возможности заявленного им лидерства в Евросо-
юзе и влияния на формирование финансовой политики ЕС. Особая ли-
ния Великобритании внутри ЕС мешает ей органично вписаться в евро-
пейские интеграционные процессы, а это в свою очередь может небла-
гоприятно отразиться на состоянии британских позиций в Европе. Вме-
сте с тем существует и другая точка зрения, сторонники которой счита-
ют, что в этом серьезном деле не следует спешить. Рассуждая на эту те-
му, газета “Таймс” советовала премьеру ответить на такой вопрос: чье
влияние на мировые события более заметно - губернатора крупного
американского штата, (такого, как Нью-Йорк, Калифорния или Техас),
или же премьер-министра крупной независимой страны, например Ка-
нады или Японии5.
Осознав, что практическое воздействие единой европейской валю-
ты на экономику стран-участниц ЭВС фактически обрело необрати-
мый характер, уже через два месяца после введения евро правительст-
во Т. Блэра объявило о начале кампании по переходу на единую валю-
ту, выразив готовность немедленно приступить к требуемой подготови-
тельной работе ( в частности, модернизации компьютерных сетей ряда
британских министерств, чтобы они смогли производить расчеты в ев-
ро). Согласно представленному премьером в парламент “Национально-
му плану перехода на новую валюту” вытеснение фунта стерлингов
должно было начаться еще до референдума, хотя официальное реше-
ние правительства по данному вопросу предполагалось принять лишь
после очередных парламентских выборов6. Лондону приходилось спе-
шить, ибо в условиях, когда Греция, Швеция и Дания также решили ак-
тивизировать присоединение к евро, он мог оказаться в “гордом одино-
честве” (по существу - в изоляции) на периферии Европы. Лейбористы
понимали, что преодолеть этот возведенный в результате занятой ими
позиции барьер, отделяющий Великобританию от остальной Европы,
со временем будет все труднее.
В октябре 1999 г. Т. Блэр лично возглавил движение за присоедине-
ние Великобритании к евро, став председателем межпартийного проев-
ропейского альянса “Британия в Европе”. Наряду с лейбористским ру-
ководством (помимо премьера членами движения стали также министр
финансов и министр иностранных дел) в альянс вошли руководители
либерально-демократической партии во главе с лидером Ч. Кеннеди,
а также видные деятели консервативной партии, бывшие министры, из-
вестные “евроэнтузиасты” М. Хезлтайн, К. Кларк и др.
Последовавшие события показали, что этот старт лейбористского
правительства не принес ощутимых результатов. Реалией для Велико-
британии на рубеже XX-XXI вв. стало негативное отношение значи-
166
тельной части британцев ( в пропорции 2 к 1) к вступлению в Экономи-
ческий и валютный союз. Так, в частности, осенью 2000 г. 56% опро-
шенных выступали против присоединения к евро и лишь 27% “за”7.
Существенное противодействие переходу на евро оказывала и ведущая
оппозиционная консервативная партия, нанесшая правящей партии
ощутимое поражение на выборах в Европарламент летом 1999 г. Блэра
не спасла даже его огромная личная популярность. За консерваторов
проголосовали 35,8% избирателей, в то время как за лейбористов - все-
го лишь 28%. Великобритания всегда демонстрировала низкую избира-
тельную активность на выборах в Европарламент, но на этот раз, пожа-
луй, были побиты все рекорды: в Англии и Уэльсе к урнам для голосо-
вания пришло чуть более 23% избирателей (для сравнения - в предыду-
щих выборах приняли участие 36% британских избирателей, в то время
как в среднем по другим странам Евросоюза этот показатель составлял
57%)8.
Поражение на выборах в Европарламент явилось тревожным сиг-
налом для лейбористского правительства, заставив его маневрировать,
отодвигая на более поздний срок проведение общенационального рефе-
рендума по вопросу присоединения к евро. Как представляется, обосно-
вывая необходимость вступления в ЭВС лишь экономическими выгода-
ми и оставив в стороне политические, правительство изначально допус-
тило серьезную ошибку. Попытки министра иностранных дел Р. Кука
перенести впоследствии акцент на политическую составляющую успеха
не имели. Что же касается экономических последствий неучастия Вели-
кобритании в ЭВС, то они просматривались с трудом. Заметный рост
иностранных капиталовложений в стране во второй половине 90-х про-
тиворечил заявлениям “евроэнтузиастов” о неизбежном снижении при-
влекательности британской экономики для иностранных инвесторов в
связи с ее невхождением в еврозону.
Огромный перевес “евроскептиков” над “евроэнтузиастами” в бри-
танском обществе делал проблематичным проведение референдума в
короткие сроки после очередных парламентских выборов. При этом
противники евро не собирались сидеть сложа руки. Согласно заявлению
одного из “евроскептиков”, бывшего министра иностранных дел Вели-
кобритании лорда Оуэна, их целью является не победа на референдуме,
а создание в стране такого политического климата, который сделает
его проведение невозможным9.
Консерваторы построили свою антиевропейскую кампанию под
лозунгом “Спасем фунт стерлингов”. В этой кампании приняли участие
более 100 ведущих британских бизнесменов, членов межпартийной
группы, в которую вошли бывшие министы как консервативного, так
и лейбористского кабинетов Н. Лэмонт, сэр Джон Нотт, лорд Марш и
др. В борьбе с лейбористским правительством они использовали, поми-
мо ставших уже традиционными аргументов - наличие у Великобрита-
нии глобальных интересов, тесных связей с Соединенными Штатами и
Содружеством, - такие доводы, как игнорирование правительствен-
ным планом уровня затрат на проведение подготовительных меропри-
ятий вступления в ЭВС, неопределенность с точной датой этого вступ-
167
ления, что вводит в заблуждение британскую общественность и бизнес,
а также то, что правительство действовало в этом важном вопросе по
существу за спиной парламента, так как слушания и обсуждение прави-
тельственного плана по комитетам не проводились. Заинтересован-
ность консерваторов в ЕС фактически сводится к участию в самом
крупном и емком в мире внутреннем рынке, обеспечению притока в
страну иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест, укреп-
лению позиций Великобритании в рамках ВТО. Тори поддерживают
старую идею, обновленный вариант которой был озвучен в свое время
видным деятелем партии Л. Бриттеном: создание к 2020 г. трансатлан-
тической зоны свободной торговли с Североатлантической зоной сво-
бодной торговли (НАФТА). С американской стороны идею присоеди-
нения Великобритании к НАФТА лоббирует и часть членов Сената.
В марте 2000 г. в Лондоне прошли консультации делегации Междуна-
родной торговой комиссии США и британского правительства по это-
му вопросу.
Отношения Великобритании с Евросоюзом явились по существу
единственным, но, как казалось поначалу, мощным политическим ко-
зырем в руках консервативной оппозиции. По мере приближения пар-
ламентских выборов противостояние двух ведущих британских партий
становилось все более острым, при этом обе стороны обвиняли друг
друга в отходе от провозглашенных ими принципов: лейбористы заяв-
ляли, что курс тори толкает Великобританию к выходу из ЕС (как со-
общалось в прессе, за это высказалась сама баронесса Тэтчер10); кон-
серваторы в свою очередь обвиняли противную сторону в оказании
содействия созданию европейского наднационального супергосударст-
ва, контуры которого вырисовываются все более отчетливо. Этому,
по их мнению, также способствует осуществляемая лейбористским
правительством деволюция: так, формально находясь в составе уни-
тарного государства, Шотландия, особенно после создания собствен-
ного парламента, имеет свою “региональную автономию” в ЕС, что
выражается в наличии отдельного шотландского представительства в
Еврокомиссии в Брюсселе, шотландской квоты депутатов в Европар-
ламенте, а также отдельного “регионального” представительства Ев-
рокомиссии в Шотландии. Таким образом нарабатывается практика
по регионализации и федерализации европейских государств, отраба-
тывается механизм по централизации управления через органы Евро-
союза, создаются предпосылки для образования единого правительст-
ва Европы.
Позиция самого Т. Блэра в вопросе перехода на евро, аналогично
его предшественнику Мейджору, становилась все более осторожной.
Он уже не ратовал за быстрейшее присоединение, а подчеркивал свою
приверженность евро в принципе, замечая при этом, что еще предстоит
принять решение о полезности данного шага для британской экономи-
ки. Приходилось учитывать широкое распространение евроскептиче-
ских настроений в обществе, а также стремление консерваторов вос-
пользоваться благоприятной ситуацией и сделать вопрос о евро глав-
ным на предстоявших парламентских выборах. Руководствовавшийся
168
тактическими соображениями премьер-министр заявил в ходе своей по-
ездки в Южную Корею осенью 2000 г., что в данных обстоятельствах он
сам проголосовал бы на референдуме против перехода на евро11. Офи-
циальные лица подчеркивали, что положительное (или отрицательное)
заключение Казначейства о присоединении страны к евро будет подго-
товлено в течение двух лет после парламентских выборов и доведено до
сведения широкой общественности12.
В мае 2000 г. консерваторам, рейтинг которых впервые после вы-
боров 1997 г. превысил 30%, удалось нанести еще одно поражение пра-
вительству: они одержали победу над лейбористами на выборах в мест-
ные органы власти, восстановив контроль в 16 из них.
Серьезной помехой на пути укрепления лидерства Великобритании
в ЕС явился непрекращавшийся конфликт вокруг экспорта британской
говядины во Францию и Германию. Хотя длившееся три с половиной
года эмбарго Евросоюза было в августе 1999 г. отменено, Франция, а за
ней и Германия продолжали сохранять запрет на ввоз британской говя-
дины, что не могло не сказываться самым негативным образом на на-
строениях британцев, способствуя росту евроскепсиса среди населения
и по существу играя на руку консервативной оппозиции, не преминув-
шей обвинить правительство в забвении национальных интересов и на-
прасных уступках европейским партнерам в вопросе расширения голо-
сования в ЕС квалифицированным большинством. По иронии судьбы
лейбористы, обвинявшие в ходе “коровьего кризиса” 1996 г. правитель-
ство Дж. Мейджора в неумении вести дела с ЕС, несмотря на свой “ев-
ропеизм”, сами оказались в таком же положении.
Таким образом, повторилась ситуация последних лет правления
консерваторов - проблема углубления интеграционных процессов в Ев-
ропе создавала потенциальную угрозу для правящей партии на предсто-
явших парламентских выборах.
В этих условиях руководство лейбористов избрало следующую
тактику: чтобы переломить общественное мнение в пользу Евросоюза,
Блэр решил добиваться его реформирования.Он надеялся убедить в та-
кой необходимости другие страны, действуя через форумы ЕС. Эту
тактику британская сторона использовала на саммите Евросоюза в Лис-
сабоне в марте 2000 г., рассматривая его как поворотный момент в ев-
ропейской экономической политике. Саммит имел явный “английский
оттенок”, особенно в области пропаганды новых информационных тех-
нологий, либерализации экономики и создания новых рабочих мест.
Надо сказать, что несмотря на всю проевропейскую риторику бри-
танского премьера, в структурах Евросоюза к Великобритании по-
прежнему относились с настороженностью. Одной из причин такого
отношения было стремление Блэра действовать в обход Комиссии Ев-
ропейского союза (КЭС), через двусторонние межправительственные
связи с европейскими партнерами. В качестве примера, в частности,
можно привести инициативу Великобритании и Голландии в области
биотехнологии, а также совместную франко-британскую инициативу в
Сен-Мало, продемонстрировавшую также явный отход Великобрита-
нии от прежней позиции в вопросе военного измерения Евросоюза.
169
Отстаивание необходимости защищать “европейские политические
ценности” стало важной составляющей подхода Великобритании к ре-
формированию Евросоюза. Уже осенью 1998 г. Блэр выразил готов-
ность рассмотреть варианты создания военного измерения ЕС. Годом
позже правительство лейбористов выступило с инициативой формиро-
вания “европейской оборонной идентичности”. В ноябре 1999 г. в ходе
франко-британской встречи в верхах (в рамках подготовки к декабрь-
скому саммиту ЕС в Хельсинки) был утвержден совместный проект со-
здания странами ЕС к 2003 г. 50-60-тысячной мобильной армии, кото-
рая, по замыслу, будет действовать самостоятельно в тех регионах кон-
тинента, где не задействованы силы НАТО. Кроме того, Блэр дал по-
нять, что Великобритания намерена принять участие в деятельности
Еврокорпуса и выделяет свои вооруженные подразделения для выпол-
нения “специфических операций”. Такая линия лейбористского прави-
тельства шла вразрез с политикой консерваторов, упорно сопротивляв-
шихся созданию оборонной структуры в рамках ЕС, слиянию ЕС с За-
падноевропейским союзом (ЗЕС) или подчинению последнего Евросо-
юзу. В мае 2000 г. было принято решение о ликвидации этой военно-по-
литической организации и передаче ее структур и функций ЕС. Таким
образом, дебатировавшийся в течение долгого времени вопрос о целе-
сообразности создания Евросоюзом собственного военного потенциала
был решен окончательно и в положительном ключе.
Такой резкий разворот в позиции Великобритании по данному воп-
росу, по-видимому, объясняется следующими факторами: Лондон стре-
мится в условиях неучастия в евро подтвердить свои претензии на роль
лидера Европы ( наряду с Францией и Германией) при помощи выдви-
жения важной инициативы в одной из ключевых на данном этапе евро-
пейской интеграции областей; он рассчитывает на получение таким об-
разом возможности формировать политику ЕС в области обороны в со-
ответствии со своими интересами и, в частности, не допустить, чтобы
“европейская оборонная идентичность” в конечном итоге привела к
подрыву НАТО со всеми вытекающими последствиями в части амери-
канских гарантий для Западной Европы. Лондон неоднократно подчер-
кивал, что стратегической целью Великобритании в отношении Евро-
союза является стремление наладить его более тесное сотрудничество с
США и что создание “европейской оборонной идентичности” рассмат-
ривается им как усиление европейской составляющей в НАТО, которая
по-прежнему остается краеугольным камнем безопасности Великобри-
тании. Вместе с тем все же следует признать, что независимо от жела-
ния Лондона создание европейских сил быстрого реагирования объек-
тивно приведет в будущем к повышению независимости Европы от
США в вопросах безопасности.
В ноябре 2000 г. министр обороны Великобритании Джеф Хун объ-
явил, что британский контингент сил быстрого реагирования ЕС соста-
вит 12,5 тыс. человек. Лондон также предоставит 8 военных кораблей
и 72 самолета. (Это немного меньше, чем выделяет Германия, которой
должно достаться больше командных постов в новой структуре соот-
ветственно ее вкладу. Первым командующим контингентом станет не-
170
мец, его заместителем - британец.) По замыслу авторов данной иници-
ативы европейские силы быстрого реагирования предполагается ис-
пользовать в качестве миротворческих в конфликтах, подобных бал-
канскому.
При этом со стороны британских официальных лиц неоднократно
звучали заверения в том, что речь не идет о создании так называемой
европейской армии, что могло бы подорвать НАТО. Именно в этом
лейбористское правительство обвиняют консерваторы, поддержанные
бывшими министрами обороны и иностранных дел лордами Хили, Оуэ-
ном, Каррингтоном, а также М.Рифкиндом, рядом бывших высших во-
еначальников и баронессой Тэтчер. С резкой отповедью противникам
инициативы правительства Т.Блэр выступил в ходе своего визита в Мо-
скву в ноябре 2000 г. В президентской манере, которая стала отличи-
тельной чертой его стиля правления, британский премьер заявил о
твердости своих намерений и недопустимости подрыва с помощью по-
добной “антиевропейской чепухи” реальных национальных интересов
Великобритании 13.
Впоследствии в процессе подготовки к саммиту ЕС в Ницце (де-
кабрь 2000 г.), а также на самом саммите выявились существенные раз-
ногласия в этом вопросе между британской стороной и ее партнерами,
в частности Францией, склонявшейся к тому, чтобы создаваемые силы
были независимы и действовали автономно от НАТО. Лондон помешал
намерению Парижа развести вопросы обороны ЕС и НАТО, а также
создать внутри ЕС группу стран (по типу Шенгенской), желающих пой-
ти дальше других в области военной интеграции. Британская сторона
настояла на том, чтобы в итоговом документе было зафиксировано, что
силы быстрого реагирования будут использоваться лишь в тех случаях,
когда НАТО, продолжающее оставаться основой коллективной оборо-
ны, не пожелает по каким-либо причинам участвовать в урегулирова-
нии того или иного кризиса. Фактически выступившая инициатором
создания европейских сил Великобритания, уступая давлению со сторо-
ны Вашингтона, свела их компетенцию к гуманитарным функциям.
Она также добилась исключения из заявления о коллективной обороне
Европы какого-либо упоминания об “армии”.
Решение о создании к середине 2003 г. европейских сил быстрого
развертывания было принято на встрече глав государств и прави-
тельств ЕС в декабре 1999 г. в Хельсинки.
Серьезные расхождения в вопросе углубления процессов интегра-
ции существуют у Великобритании с Германией. Так, учитывая свою
возросшую после объединения политическую роль и огромный эконо-
мический вес в Европе, Берлин настойчиво выступает за расширение
прав институтов ЕС и, в частности, принятие решений большинством
голосов, чему продолжает сопротивляться Лондон. Германия не скры-
вает, что главной целью для нее является создание европейского феде-
рального государства, а это сводит на нет заверения британского руко-
водства относительно успешной защиты правительством национальных
интересов страны и замедления процессов углубления интеграции, да-
вая козырь в руки консерваторам.
171
Приоритетными для Великобритании на саммите в Ницце были
такие вопросы: расширение Евросоюза (Лондон являлся, по понятным
причинам, едва ли не самым активным сторонником этого процесса),
проведение структурной реформы системы управления ЕС - получе-
ние большего числа голосов в Совете министров (ради этого Велико-
британия готова была пожертвовать одним из двух своих комиссаров
в Союзе), ограничение числа вопросов, подлежащих голосованию ква-
лифицированным большинством (сохранение за собой права вето в
области налогов, социального обеспечения, обороны, изменений в до-
говоре, контроля за границами), а также недопущение оттеснения
Великобритании на обочину в ЕС (в случае подтверждения неустраи-
вавшей лейбористское правительство концепции “двухскоростной
Европы”). Деликатность положения Блэра, потратившего так много
усилий на то, чтобы заработать репутацию активного члена Евросою-
за, состояла в том, чтобы не допустить подрыва позиций лейборист-
ской партии на предстоявших парламентских выборах, поэтому ему
приходилось выглядеть большим “евроскептиком”, чем он был на са-
мом деле.
В комментариях британской прессы после саммита в Ницце звуча-
ла в целом положительная оценка как итогов саммита для Лондона, так
и действий на нем премьер-министра. Принятые ЕС решения - о расши-
рении за счет стран Центральной и Восточной Европы, увеличении чис-
ла голосов в Совете министров до 29 (наравне с Германией, Францией и
Италией), сохранении за Великобританией права вето в вопросах нало-
гов и социального обеспечения, подтверждение в принятом на саммите
заявлении о коллективной обороне Европы верховенства НАТО (в свя-
зи с созданием европейских сил быстрого развертывания), о недопуще-
нии так называемого “углубленного сотрудничества” (создание некоего
“авангарда”) группы стран в области обороны, а также о предотвраще-
нии того, чтобы подписанная в Ницце Европейская хартия основопола-
гающих прав имела обязательную юридическую силу для госу-
дарств-членов ЕС, - подавались как победа британской дипломатии.
Вместе с тем Блэру пришлось согласиться на отказ от права вето Вели-
кобритании еще в 29 областях. По данным журнала “Экономист”, более
80% решений в Евросоюзе уже принимаются квалифицированным
большинством14. Следовательно, сбылось предсказание Президента
КЕС Жака Делора (о том, что через 10 лет 80% решений в ЕЭС будет
приниматься именно таким образом), сделанное им в 1988 г. и вызвав-
шее гневную отповедь со стороны М.Тэтчер в ее знаменитом выступле-
нии в Брюгге.
Подписанный в Ницце договор требует ратификации британским
парламентом. В случае, если бы лейбористы не одержали второй под-
ряд внушительной победы на парламентских выборах 2001 г., это мог-
ло поставить Блэра в положение, аналогичное тому, в котором оказал-
ся его предшественник Мейджор, с огромным трудом протащивший че-
рез парламент Маастрихтский договор. В ходе предвыборной кампании
лидер консервативной партии У. Хейг поспешил заявить об отказе от
ратификации в случае победы консерваторов на парламентских выбо-
172
pax. Это вызвало соответствующий комментарий журнала “Эконо-
мист”, обратившего внимание на забавность подобного заявления со
стороны лидера партии, подписавшей в свое время Единый европейский
акт, а также Маастрихтский договор15.
В предвыборном манифесте лейбористской партии 2001 г. было
провозглашено намерение сделать Великобританию “ведущим игро-
ком Европы”. Лейбористы приветствовали расширение Евросоюза,
отмечая, что создание большего рынка отвечает интересам страны.
Они выступили за усиление роли национальных парламентов в евро-
пейских делах, в том числе и посредством создания из их представите-
лей второй палаты Европарламента (впервые эта идея прозвучала в
ходе визита Т. Блэра в Варшаву в октябре 2000 г.). В манифесте под-
тверждалось, что решение о присоединении к единой европейской ва-
люте не может быть принято будущим правительством без согласия
народа, выраженного на предстоящем референдуме. Полемизируя с
консерваторами, правительство которых “было слабым и неэффек-
тивным” в Евросоюзе, лейбористы указывали, что избранная ими ак-
тивная позиция в ЕС способствует его реформированию и развитию в
направлении, отвечающем интересам страны. В качестве приоритетов
британской политики в ЕС были названы: либерализация финансовых
услуг, поощрение делового развития при помощи единых патентов,
развитие общих исследований в области передовых технологий (напри-
мер, биологии), создание Европейской системы контроля за воздуш-
ным транспортом, а также эффективная политика в области рынка ра-
бочей силы. Подтверждалось намерение лейбористов сохранить за Ве-
ликобританией право вето в “жизненно важных для национального су-
веренитета вопросах, в частности в области налогов и контроля за гра-
ницами”16.
Результаты прошедших в стране 7 июня 2001 г. выборов, на кото-
рых вновь с большим отрывом победили лейбористы, продемонстри-
ровали тщетность угрозы со стороны консерваторов не допустить
дальнейшего продвижения европейских интеграционных процес-
сов (главным для них в ходе предвыборной кампании был лозунг
“В Европе, но не под управлением Европы”, что являлось перепевом
сказанного в свое время Черчиллем). Такая позиция при другом, более
благоприятном для консервативной партии раскладе политических
сил в стране могла бы привести к еще одному кризису в отношениях
Великобритании с Евросоюзом. Вопреки ожиданиям, консерваторы
не смогли сыграть на широко распространенном среди британских из-
бирателей скептицизме в отношении евро. Твердое обязательство
лейбористов руководствоваться в этом вопросе решением народа,
по всей видимости, смогло приглушить обеспокоенность обществен-
ности.
Победив на выборах во второй раз, Блэр, вероятно, не намерен от-
кладывать вопрос присоединения к ЭВС в долгий ящик. Уже осенью
2001 г. начала разворачиваться активная пропагандистская кампания по
подготовке к вступлению, старт которой был дан на конференции лей-
бористской партии. В ярком проевропейском выступлении самого лиде-
173
ра лейбористов, а также в выступлениях некоторых других руководите-
лей проводилась мысль, что чем дольше Великобритания находится вне
еврозоны, тем выше степень потери ее влияния. И хотя премьеру при-
ходится действовать с оглядкой на общественное мнение, активная про-
европейская кампания, осуществляемая под руководством альянса
“Британия в Европе”, уже начинает давать определенные результаты:
опросы общественного мнения, проведенные в начале декабря 2001 г.,
показали, что число респондентов, рассматривающих членство в Евро-
союзе как благотворное для Великобритании, возросло вдвое.
Несмотря на то что министр финансов Г. Браун известен как сто-
ронник “осторожного подхода” к вопросу вступления в ЭВС, очевидно
уже в 2002 г. Казначейство может обнародовать оценку степени готов-
ности национальной экономики к вступлению. А пока идет обработка
общественного мнения, активизировались консультации между Казна-
чейством и Банком Англии, с одной стороны, и Европейским централь-
ным банком - с другой. Г. Браун был приглашен в ЕЦБ советником, на-
блюдается процесс сокращения с помощью перестановок количества
евроскептиков на руководящих постах в британских финансовых учре-
ждениях. Но главный показатель - это расширение британских государ-
ственных ресурсов в евровалюте и сокращение доли средств, вкладыва-
емых в покупку долларов и йен. Другими словами, подготовка к перехо-
ду Великобритании на евро идет полным ходом.
Таким образом, развитие событий в стране в последние несколько
лет демонстрирует, что независимо от того, какая партия - консерва-
тивная или лейбористская - находится у власти, более тесные отноше-
ния с Евросоюзом продолжают по-прежнему оставаться камнем пре-
ткновения для Великобритании. Ближайшие год-два покажут, удастся
ли Т. Блэру при помощи широкой пропагандистской кампании, умело-
го политического маневрирования убедить британских избирателей,
с их традиционной приверженностью трансатлантизму, в необходимо-
сти более глубокой интеграции в Евросоюз.
1 The Financial Times. 1997. Nov. 11.
2 Parliamentary Debates, House of Commons, 18 June 1997, Vol. 296, cols.
313-316.
3 The Economist. 1999. Apr. 17. P. 59.
4 The Times. 1998. Mar. 24.
5 Ibid.
6 The Economost. 1999. June 5-11. P. 39.
7 Ibid. 2000. Oct. 28. P. 46.
8 Ibid. 1999. June 5-1 l.P. 39.
9 Ibid. 2000. Oct. 28. P. 46.
10 The Financial Times. 1999. Oct. 3.
11 The Economist. 2000. Oct. 28. P. 46.
12 The Financial Times. 2001. Feb. 17.
13 The Guardian. 2000. Nov. 22.
14 The Economist. 2000. Dec. 16. P. 23.
15 Ibid. P.42.
16 Ambitions for Britain: Labour’s manifesto. L., 2001. P. 36-38.
174
О.А. Ржешевский
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ В МОСКВЕ (1942 ГОД)
Документальный очерк
В марте 2002 г. Восточный департамент Министерства иностран-
ных дел Великобритании провел в зале Локарно совместно с диплома-
тами и историками РФ научный семинар на тему “Черчилль и Сталин”.
На семинар были приглашены видные британские историки и диплома-
ты (около 60 человек). С российской стороны с докладами выступили
директор Института всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян
“Сталин, Черчилль и начало холодной войны”, директор Историко-до-
кументального департамента МИД РФ П.В. Стегний “Сталин и Чер-
чилль. Новые архивные документы” и автор предлагаемой читателям
статьи (о визите Черчилля в Москву в 1942 г.). Британская сторона
представила также три доклада: профессоров Д. Дилкса “Черчилль,
Иден и Сталин”, М. Фолли “Привезли лед на северный полюс” (о визи-
те У. Черчилля в Москву в 1942 г.) и Д. Робертса “Процентное согла-
шение 1944 г.”.
К открытию семинара британская сторона издала в рабочем вари-
анте сборник документов на тему “Черчилль и Сталин”. В работе фору-
ма приняли участие дочь У. Черчилля М. Соумс, его переводчик X. Лан-
ги, ряд руководителей отделов и других видных чиновников Форин оф-
фис. Итоги конференции подвел бывший посол Великобритании в РФ
сэр Р. Брейтвейт. В дискуссии с российской стороны принял участие мо-
лодой историк старший научный сотрудник Института всеобщей исто-
рии РАН кандидат исторических наук М.Ю. Мягков.
Очевидная целевая установка форума - в связи с 60-летием собы-
тий второй мировой войны привлечь внимание историков и дипломатов
к личности У. Черчилля как выдающегося политического деятеля, од-
ного из руководителей антигитлеровской коалиции, в рамках которой
Великобритания первой установила союзные отношения с СССР и бы-
ла достигнута победа, подчеркнуть значимость современного развития
британо-российских отношений. Форин оффис впервые в своей практи-
ке провел подобный семинар.
Весьма положительный резонанс получил акт передачи Чрезвы-
чайным и полномочным послом РФ в Великобритании Б.Г. Карасиным
британской стороне ряда документов из архива И.М. Майского, плодо-
творная деятельность которого отмечалась в докладах британских и
российских участников семинара.
Газета “Таймс” опубликовала 9 марта 2002 г. обстоятельную ста-
тью своего дипломатического корреспондента о семинаре, выделив вы-
ступления на нем российского посла и академика А.О. Чубарьяна.
Значительное внимание на семинаре было уделено первой личной
встрече Черчилля со Сталиным. И не случайно. Подготовка этой встре-
чи, обстановка, в которой она состоялась, ее ход и результаты весьма
примечательны.
175
* * *
31 июля 1942 г. И.В. Сталин направил премьер-министру Велико-
британии У. Черчиллю следующую телеграмму:
Получил оба Ваши послания от 31 июля.
Настоящим от имени Советского Правительства приглашаю Вас прибыть
в СССР для встречи с членами Правительства.
Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы смогли прибыть в СССР
для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера,
угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достиг-
ла особой силы.
Я думаю, что наиболее подходящим местом нашей встречи была бы Моск-
ва, откуда мне, членам Правительства и руководителям Генштаба невозможно
отлучиться в настоящий момент напряженной борьбы с немцами.
Присутствие начальника Имперского генерального штаба было бы очень
желательно.
Дату встречи я просил бы Вас определить, как Вам будет удобно, в зависи-
мости от того, как Вам удастся закончить дела в Каире, заранее зная, что с мо-
ей стороны возражений насчет даты не будет.
Выражаю Вам признательность за согласие направить очередной конвой с
военными поставками в СССР в начале сентября. Нами, при всей трудности от-
влечения авиации с фронта, будут приняты все возможные меры для усиления
воздушной защиты транспортов и конвоя1.
Ранним утром 2 августа У. Черчилль и сопровождавшие его лица
вылетели из Англии в Москву. Дорога предстояла дальняя и небезопас-
ная, с промежуточными посадками в Гибралтаре, Каире, Тегеране и
Куйбышеве. Маршрут, самолет и командир экипажа (американский
бомбардировщик типа “Либерейтор” пилотировал капитан ВВС США
Вандерклот) были избраны после длительного обсуждения. Вся опера-
ция получила кодовое название “Браслет”2.
С 4 по 10 августа Черчилль находился в Северной Африке, изучал
положение дел на фронте, действиями которого руководило командо-
вание британских войск на Среднем Востоке со штабом в Каире3. 10 ав-
густа Черчилль с присоединившимся к нему личным представителем
президента США А.Гарриманом вылетел из Каира в Тегеран. Утром
12 августа двумя самолетами делегация направилась из Тегерана в
Москву (промежуточную посадку в Куйбышеве решили не делать).
На одном из самолетов находились Черчилль, Гарриман, сопровождаю-
щие их лица и два советских военных штурмана; на другом - начальник
имперского генерального штаба генерал А. Брук (с 1944 г. фельдмар-
шал), постоянный заместитель министра иностранных дел А. Кадоган,
главнокомандующий британскими войсками в Индии генерал А. Уэй-
велл (с 1943 г. - фельдмаршал), командующий британскими ВВС на
Среднем Востоке главный маршал авиации А. Теддер4.
Полет самолета Черчилля проходил без осложнений. У британско-
го премьера было время поразмыслить о своей первой миссии в Моск-
ву и ее целях. Вот как об этом он писал вскоре после войны:
«Я размышлял о моей миссии в это угрюмое, зловещее большеви-
стское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался заду-
176
шить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я счи-
тал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я
сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные
способности, суммировал все это в стихотворении, которое он показал
мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и послед-
няя строка каждого из них звучала: “Не будет второго фронта в 1942 го-
ду”. Это было все равно, что везти большой кусок льда на Северный по-
люс. Тем не менее я был уверен, что я обязан лично сообщить им фак-
ты и поговорить обо всем этом лицом к лицу со Сталиным, а не пола-
гаться на телеграммы и посредников. Это по крайней мере показывало,
что об их судьбе заботятся и понимают, что означает их борьба для вой-
ны вообще”5.
Положение на фронтах второй мировой войны оставалось крайне
сложным. Агрессоры достигли максимальных успехов в войне. Под их
контролем находилась Уз населения мира и его материальных ресур-
сов6. На советско-германском фронте, где действовали основные силы
Германии, ее союзников и сателлитов в Европе (217 дивизий и бригад,
включая венгерские, румынские, итальянские, финские, словацкие, ис-
панские, французские и хорватские войска), обстановка ухудшалась с
каждым днем. После разгрома под Москвой стратегическую инициати-
ву вновь захватил вермахт. Красная армия терпела крупное поражение
на южном крыле советско-германского фронта. 7 июля после 250-днев-
ной обороны пал Севастополь. Днем ранее, форсировав р. Дон, части
вермахта ворвались в Воронеж, а на юге 23 июля захватили Ростов.
Немецкие дивизии устремились к Сталинграду и Кавказу. Упорные бои
в излучине Дона сбили темпы продвижения врага, но отступление Крас-
ной армии продолжалось, временами принимая беспорядочный харак-
тер. С 10 августа фактически начались бои на ближних подступах к Ста-
линграду. На кавказском направлении советские войска оставили 9 ав-
густа Майкоп и Пятигорск. Ведомые своими командирами и комиссара-
ми, они оказывали все более жесткое сопротивление противнику, но
вермахт находился в зените своей мощи, и исход гигантской битвы ос-
тавался неясным.
В Северной Африке германо-итальянские войска (4 немецкие и
8 итальянских дивизий) развивали наступление. Сражение носило оже-
сточенный характер. К середине июля все передовые линии опорных
пунктов в Западной пустыне от Эль-Газалы до Бир-Хакейма были за-
хвачены противником. Особенно болезненной была потеря Тобрука -
важной приморской крепости и символа британского сопротивления в
Северной Африке, что произошло практически одновременно с паде-
нием Севастополя и воспринималось как взаимосвязанная цепь неудач
и поражений. Возникла реальная угроза прорыва армии Роммеля от
границ Египта к дельте Нила и Суэцкому каналу. Потери английских
войск в Тобруке только пленными составили около 35 тыс. человек7.
Последним препятствием для противника оставались оборонительные
рубежи у Эль-Аламейна. В Европе британские ВВС постепенно усили-
вали воздушное наступление на Германию, но его результаты еще оста-
вались ограниченны. В акватории Средиземного моря фактически гос-
12 Россия и Британия Вып 3
177
подствовал противник. 10-13 августа силы британского флота потерпе-
ли серьезное поражение от итало-немецких сил при проводке конвоев.
Снабжение войск в Северней Африке осуществлялось в основном по
обводному маршруту вокруг Африки.
На путях конвоев в Атлантике продолжалась ожесточенная борьба
с “волчьими стаями” подводного флота противника. Германские под-
водные лодки все активнее действовали в водах Американского побере-
жья. За первые шесть с половиной месяцев 1942 г. немецкие подводные
лодки потопили у берегов США 360 американских, британских и канад-
ских судов общим тоннажем 2,25 млн бр. тонн, потеряв при этом 8 под-
водных лодок.
На азиатско-тихоокеанском ТВД - главном театре военных дейст-
вий США, Великобритании, Китая и других союзников 7 мая 1942 г.
японские войска захватили последний очаг сопротивления армии США
на Филиппинских островах - крепость Коррехидор, взяв в плен 12 тыс.
солдат и офицеров. Начиная с декабря 1941 г. Япония оккупировала ог-
ромную территорию с богатейшими запасами стратегического сырья -
свыше 6 млн кв. км с населением более 150 млн человек, включая Гон-
конг, Малайю, Бирму, Голландскую Индию (Индонезию), Сиам, Фи-
липпины и другие территории. Однако расчеты на то, что после дости-
жения таких успехов удастся сломить волю США к сопротивлению, не
оправдались. Уже в апреле-мае успехам японских войск в Бирме, их вы-
садке на о-вах Минандао и Тулаги противостояли первые успехи запад-
ных союзников - бомбардировка самолетами дальней авиации США
Токио и ряда других городов Японии, высадка американских войск на
о-ве Новая Каледония, а также британских войск на о-ве Мадагаскар.
Важнейшими событиями стали морские сражения в Коралловом море
(7-8 мая), у атолла Мидуэй (4-6 июня) и высадка усиленной дивизии
морской пехоты США на о-в Гуадалканал (7 августа). Особое значение
имели итоги противоборства у атолла Мидуэй, в результате которого
противник впервые отступил в морском сражении с большими потеря-
ми. Стратегическая инициатива постепенно переходила к вооруженным
силам США.
Президент США Ф. Рузвельт, выступая на заседании Конгресса
7 января 1943 г., расценил сражение у атолла Мидуэй и бои за Гуадал-
канал как часть стратегии сдерживания, которая характеризовала эту
фазу войны8. Но безраздельному господству Японии на Тихом океане
пришел конец.
На Азиатском материке после захвата Бирмы и тяжелых боев
японцев с британскими и китайскими войсками стороны готовились к
новым операциям. Можно сказать, что положение на фронтах - важ-
нейший показатель хода войны и ее перспектив - не давало исходно-
го преимущества в переговорах ни одной из сторон, т.е. ни Сталину, ни
Черчиллю. В Москве готовились к приему гостей. В распоряжение
Черчилля предоставлялась дача № 7 (“Ближняя”), сопровождающие
лица размещались в гостинице “Националь”. На НКВД возлагалось
обеспечение безопасности делегации силами оперативного наряда
(120 человек). Усиливалась охрана Кремля. Было подготовлено бом-
178
боубежище на случай воздушной тревоги, организовано снабжение де-
легации и участников предстоящего приема в Кремле лабораторно
проверенными продуктами. Для почетного караула на аэродроме вы-
делялась рота Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения
(ОМСДОНЛ
Во второй половине дня 12 августа 1942 г. самолет с английской де-
легацией приземлился на Центральном аэродроме в Москве. У. Чер-
чилля встречали заместитель председателя Совнаркома и нарком ино-
странных дел В.М. Молотов, начальник Генерального штаба РККА
маршал Б.А. Шапошников, другие официальные лица, представители
дипкорпуса, прессы и радио. Был выстроен почетный караул, исполне-
ны государственные гимны Великобритании, США и СССР.
В тот же день состоялась первая встреча и беседа У. Черчилля с
И.В. Сталиным, которая продолжалась около четырех часов. На бесе-
де присутствовали В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, британский посол
в Москве К.Керр, посол США А.Гарриман, переводчики В.Н. Павлов
и Денлоп10.
Предваряя свой монолог о втором фронте, У. Черчилль выразил
надежду, что они со Сталиным будут разговаривать “как друзья” и что
Сталин также “выскажется откровенно о том, что он считает полез-
ным предпринять в настоящее время”. Далее он сообщил, что его до-
говоренности о втором фронте с Молотовым в мае 1942 г. были лими-
тированы словами о том, что он, Черчилль, не может дать Советско-
му Союзу “никакого обещания на этот год”. Американцы и англичане
“не в состоянии предпринять операций в сентябре месяце, который яв-
ляется последним месяцем с благоприятной погодой... Но, как извест-
но Сталину, Англия и США готовятся к большим операциям в 1943 г.”.
Черчилль говорил о недостатке десантных средств, о пока малом ко-
личестве американских дивизий на Британских островах, о том, что
было бы просто неразумным начать высадку в этом году без всякой
гарантии на успех, прервав тем самым большие приготовления к опе-
рациям в 1943 г. Сталин задал Черчиллю вопрос, “правильно ли он по-
нимает, что второго фронта в этом году не будет, что английское пра-
вительство также отказывается от операции по высадке 6-8 дивизий
на французском побережье в этом году”. Черчилль переспросил Ста-
лина, что советский лидер “понимает под вторым фронтом”, и полу-
чил ожидаемый ответ - “вторжение большими силами в Европу в этом
году”. Специальный представитель президента США Гарриман доба-
вил в этой связи, что он полностью присоединяется к высказыванию
Черчилля.
“...Тот кто не хочет рисковать, никогда не выиграет войны, - заявил
в ответ Сталин, - не надо только бояться немцев”. Этот упрек выз-
вал раздражение Черчилля, который напомнил Сталину, что в 1940 г.
Англия сражалась с Гитлером практически один на один и немцы не ре-
шились осуществить высадку на Британские острова.
Далее Черчилль отметил, что “второй фронт в Европе это не един-
ственный второй фронт”. “Американцы и англичане приняли решение
о проведении другой операции”, и он, Черчилль, имеет полномочия со-
179
общить о ней Сталину под строжайшим секретом. Британский премьер
вкратце пояснил, что речь идет об операции “Факел” - захвате Север-
ного побережья Французской Африки. Для этой цели будет использо-
вано 250 тыс. американских и английских войск. Президент США Руз-
вельт установил 30 октября 1942 г. самым поздним сроком для начала
этой операции.
Сталин сказал, что “вполне понимает операцию по захвату побере-
жья Северной Африки с военной точки зрения”, и отметил ее основные
достоинства, а именно: открытие коммуникаций в Средиземное море,
получение баз для бомбардировки Италии, выход союзников в тыл
Роммеля и закрытие странам “оси” пути на Дакар. “Да поможет бог ее
осуществлению”, - подвел итог советский лидер.
Беседа завершилась обсуждением вопроса о возможной помощи ан-
глийской авиации южному флангу советско-германского фронта и соз-
дании “ширмы” для высадки в Северной Африке, которой могли бы
стать демонстрационные военные приготовления в районе Па-де-Кале
и в Норвегии.
13 августа состоялась вторая беседа Сталина и Черчилля. Сталина
сопровождали Молотов и Павлов, Черчилля - Гарриман и прибывшие
с запозданием в Москву Брук, Кадоган, Уэйвелл, Теддер, полковник
И. Джекоб, а также переводчик Денлоп.
В ходе этой беседы ключевые вопросы первой встречи получили
дальнейшее развитие. Сталин отметил, что расхождения между запад-
ными союзниками и СССР состоят в том, что “англичане и американцы
оценивают русский фронт как второстепенный, а он (Сталин) считает
его первостепенным” и что западные союзники не выполняют своих
обязательств по поставкам в СССР оружия и других материалов, “дают
не то, что обещано”, но в то же время выразил благодарность за эти по-
ставки. Черчилль привел конкретные данные о количестве судов, гото-
вых к отправке в СССР. В срыве поставок, по его мнению, виноват
только Гитлер. “Мы, - заявил Сталин, - теряем ежедневно 10 тыс. че-
ловек. Мы имеем против себя 280 дивизий противника, из них 25 танко-
вых...”. Черчилль ответил, что океаны, моря и транспорт - это факто-
ры, в которых нельзя обвинять западных союзников, и они докажут,
что тоже “не лишены храбрости”, что “в настоящее время на стороне
Англии две могучие страны - США и Россия. И поэтому впереди верная
победа”.
Далее Сталин и Черчилль обсудили вопрос о возможной совмест-
ной операции в Северной Норвегии, обмене образцами новых видов
вооружения и боевой техники. При этом Сталин предложил англий-
ским военным, если они изъявят желание, ознакомиться с советскими
реактивными установками залпового огня (знаменитыми “катюшами”),
что и было организовано на следующий день. Стороны также догово-
рились, что детали политических и дипломатических вопросов, вклю-
чая итоговое коммюнике, обсудят между собой Молотов и Кадоган,
а вопросы вооруженной борьбы - военные представители. Сталин зая-
вил, что тезисы коммюнике не должны содержать “невыполнимых обе-
щаний”. Черчилль в свою очередь подчеркнул: нельзя противнику да-
180
вать повод думать, “что между союзниками имеются разногласия”. В за-
ключение Черчилль попросил Сталина в общих чертах рассказать о со-
ветских планах защиты Кавказа, на что получил обстоятельный ответ.
В целом вторая беседа внешне носила более примирительный характер,
и Черчилль принял приглашение Сталина на обед 14 августа.
В тот же день состоялась беседа Черчилля с Молотовым.
ДНЕВНИК В.М. МОЛОТОВА
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ЧЕРЧИЛЛЕМ
13 августа 1942 г.
Черчилль говорит, что он получил несколько телеграмм о сражении в Сре-
диземном море. Черчилль говорит, что англичане понесли значительные поте-
ри, но надо полагать, что военно-воздушным силам противника также причине-
ны значительнее потери. Черчилль говорит, что англичане предполагают, что
потоплены 3 подводные лодки противника. Сами англичане имеют следующие
потери: потоплен 1 авианосец, поврежден 1 авианосец, 3 крейсера и 1 эсминец.
Из состава конвоя потоплено 5 транспортов. Сегодня конвой должен находить-
ся под защитой авиации, действующей с острова Мальта. Сражение, вероятно,
продолжалось еще сегодня утром. В течение сегодняшнего дня он, Черчилль,
получит сообщение о том, какая часть конвоя благополучно достигнет острова
Мальты. Черчилль говорит, что английское правительство было готово запла-
тить известную цену за доставку снабжения на остров Мальта. Далее Черчилль
сообщает о том, что в ночь с 11 на 12 в операциях против Германии прини-
мало участие 427 бомбардировщиков. 220 самолетов бомбардировали Майнц,
а 154 - Гавр. Черчилль просит тов. Молотова передать тов. Сталину письмен-
ную информацию об этих действиях английской авиации и о результатах боев в
Средиземном море, о которых он сообщал тов. Молотову.
Тов. Молотов спрашивает Черчилля, какое значение имеют события в рай-
оне Соломоновых островов.
Черчилль сообщает, что это представляет собой начало американского на-
ступления в Тихом океане. Он добавляет, что американцы постараются занять
один остров за другим.
Черчилль говорит, что он хотел бы переговорить с тов. Молотовым об
операциях “Факел” в дипломатическом, т.е. политическом, аспекте.
Тов. Молотов отвечает, что лучше обсудить этот вопрос со Сталиным, ко-
торый в первую очередь будет заниматься этой операцией как в политическом,
так к военном отношениях. Если Черчилль “имеет какие-либо предложения, то
он, тов. Молотов, готов передать эти предложения тов. Сталину.
Черчилль отвечает, что дипломатической стороной этой операции руково-
дят американцы. Англичане к этой операции имеют близкое, но не прямое от-
ношение. Он, Черчилль, может достаточно хорошо судить о том, какова будет
реакция среди французского населения и Виши на основании мнения американ-
цев. Американцы лучше знакомы с положением в Северной Африке, ибо они
имеют сотни агентов там.
Тов. Молотов замечает, что, вероятно, и англичане имеют тоже своих аген-
тов в Северной Африке.
Черчилль отвечает, что их не так много. Черчилль говорит далее, что все
сведения, которыми располагают американцы, говорят о том, что если амери-
канцы высадятся большими силами в Северной Африке, то они встретят слабое
181
сопротивление и даже, может быть, возможен переход французов на сторону
американцев.
Тов. Молотов спрашивает, какой отклик найдет эта операция в самой
Франции.
Черчилль отвечает, что французы в оккупированной Франции будут рады,
так как будут считать, что эта операция представляет собой начало освобожде-
ния Франции. Что касается германской реакции в Виши, то она будет полезной
для нас. Немцы предъявят требования к Виши. В результате этих требований
Виши должно будет или сбежать или потерпеть крах вообще.
Тов. Молотов отвечает, что ему тоже кажется, что если немцы будут гру-
бо действовать из оккупированной части Франции в неоккупированную, то они
могут вызвать поддержку со стороны французов англичанам и американцам.
Но неизвестно, как будут действовать немцы.
Черчилль говорит, что никто не может этого сказать, никто не может дать
гарантий. Он не был бы удивлен, если немцы потребовали бы от правительст-
ва Виши французский флот. Возможно, что в момент кризиса и в момент го-
рячки многие французы присоединятся к англичанам и американцам в Север-
ной Африке. Когда десант будет произведен, он, Черчилль, думает, что они
поднимут французский флаг при каком-либо местном французском генерале
или при другом французском генерале, который прибудет из Франции. Но на-
до будет посмотреть, все ли пойдет так, как они задумали. Черчилль добав-
ляет, что нужно помнить о том, что отношения между де Голлем и властями
в Виши подобны отношениям, существовавшим между красными и белыми
в России.
Тов. Молотов замечает, что де Голль и Виши не могут сговориться.
Черчилль говорит, что сторонников де Голля во Франции приговаривают
к смертной казни. Черчилль добавляет, что он хочет вызвать столкновение
между Виши и Германией.
Тов. Молотов говорит, что это было бы полезно во всех отношениях, но
надо, чтобы не случилось того, что правительство Виши в поисках спасения пе-
рекинется на сторону Германии.
Черчилль заявляет, что надо принять во внимание, что англичане воевали
с Францией в течение 300 лет - во времена Людовика XIV, при Наполеоне и т.д.
Тов. Молотов говорит, что в XX веке Англия не воевала с Францией. Обе
страны были союзниками.
Черчилль отвечает, что это правильно. Англия и Франция были союзника-
ми также и в XIX веке, во время Крымской войны.
Тов. Молотов спрашивает: “Союзниками против России?”
Черчилль отвечает, что против России, но царской.
Тов. Молотов замечает, что другой России тогда не было. Тов. Молотов
спрашивает Черчилля, правильно ли он понимает, что американцы все глубже
и глубже хотят войти в европейские дела.
Черчилль отвечает, что американцы хотят участвовать в активных боях в
Европе.
Далее Черчилль спрашивает, был ли тов. Молотов удовлетворен направле-
нием вчерашней беседы.
Тов. Молотов отвечает, что в беседе были неясные моменты. Ему, тов. Мо-
лотову, не ясен вопрос об операции с 6-ю дивизиями, вопрос об открытии вто-
рого фронта. Не ясно, окончательно ли отказалось английское правительство
от всех этих операций. Точно так же не ясно, окончательное ли решение приня-
то по поводу операций в Северной Африке или могут возникнуть мотивы, ко-
торые заставят изменить это решение или вовсе отказаться от него. Тов. Моло-
752
тов добавляет, что нас, конечно, особенно интересовало бы то, что могли бы
сделать англичане и американцы, чтобы облегчить положение на нашем фрон-
те, которое в настоящее время хуже, чем в мае или июне.
Черчилль отвечает, что вопрос об операции “Факел” решен бесповоротно.
Назначен главнокомандующий. Ведутся усиленные приготовления с целью ус-
корить ее осуществление. Он надеется, что эту операцию можно будет осуще-
ствить через 60 дней. В заключение Черчилль говорит, что, по его мнению, ко-
нец вчерашней беседы был лучше, чем начало.
Тов. Молотов говорит, что должны приехать английские военные. Они
должны сказать свое слово.
Черчилль говорит, что английские военные смогут только подтвердить то,
что он изложил вчера, так как они полностью согласны с его точкой зрения.
Тов. Молотов говорит, что он в этом не сомневается.
Черчилль заявляет, что во время вчерашней беседы он, говоря о том, что
советским и английским военным следует обсудить технические вопросы, на-
пример вопрос о количестве сил противника во Франции, не хотел сказать, что
в Англии военным принадлежит решающее слово. В Англии решающее слово
всегда остается за военным кабинетом.
Тов. Молотов говорит, что он это, конечно, понимает.
Затем Черчилль говорит, что он хотел бы сообщить тов. Молотову о не-
скольких секретных операциях. Он просил бы не делать никаких записей.
Тов. Молотов выражает свое согласие.
Черчилль говорит, что англичане разрабатывают пять операций, которые
имеют специальные наименования:
“Факел” (“Torch”) - оккупация англо-американскими войсками побережья
Северной Африки.
“Кузнечный молот” (“Sledgehammer”) - Операция в районе Па-де-Кале.
“Окружение” (“Roundup”) - вторжение в Европу в 1943 году.
“Болеро” (“Bolero”) - транспортные вопросы (перевозки).
“Юпитер” (“Jupiter”) - операции в Норвегии, которые предполагается ис-
пользовать в качестве ширмы для “Факела”.
В заключение Черчилль говорит, что чрезвычайно важно не раскрывать
того факта, что англичане не предпримут наступательных операций в этом го-
ду. Он не хотел бы этого делать не потому, что он боялся бы политических ос-
ложнений, которые могут возникнуть внутри Англии, а потому, что это важно
сделать с военной точки зрения.
Тов. Молотов говорит, что, конечно, верно, но надо сделать так, чтобы
причинить вред противнику. С точки зрения нашего фронта особое значение
имели бы шаги со стороны американцев и англичан для помощи нашему фрон-
ту. Он, тов. Молотов, не скрывает того, что, когда было опубликовано коммю-
нике о посещении им Лондона и Вашингтона, в СССР среди населения был при-
лив бодрости и симпатии к Англии и Америке. В такой трудный момент, как на-
стоящее время, тов. Сталин и Советское правительство, конечно, интересуют-
ся вопросом, какие шаги будут предприняты американцами и англичанами для
помощи нашему фронту.
Черчилль отвечает, что нам придется изобразить дело таким образом, что
операции “Факел” представляют собой выполнение англо-американского обя-
зательства о втором фронте, но главная цель состоит в том, чтобы не дать про-
тивнику успокоиться, что ему не придется защищать французское побережье в
этом году. Черчилль говорит, что он отнюдь не хотел бы поставить себя в по-
ложение защитника необходимости невыполнения обязательства об открытии
второго фронта в 1942 году. Он, конечно, мог бы это сделать на секретном за-
183
седании парламента, и это было бы легко сделать, так как он пользуется под-
держкой большинства парламента, но надо иметь в виду, что мы должны под-
держивать объединенный фронт борьбы против Германии, несмотря на отдель-
ные обиды, поэтому чрезвычайно важно не выдать Германии то, что в 1942 го-
ду не будет второго фронта в Европе.
Тов. Молотов говорит, что, конечно, это правильно, что не следует выда-
вать своих намерений противнику, но надо сделать так, чтобы причинить вред
противнику и влить бодрость в союзников.
Черчилль соглашается с этим. Он говорит, что считает чрезвычайно важ-
ным установить дружественные, хорошие и искренние отношения с тов. Стали-
ным, какие у него установились с Рузвельтом, чтобы можно было говорить о
вещах без обиды для друг друга. Он прибыл сюда и говорил еще о некоторых
неудобствах, он хотел бы воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы ус-
тановить с тов. Сталиным дружественные отношения и позже обмениваться с
ним мнениями, как с хорошим другом.
Тов. Молотов говорит, что он не сомневается в том, что между Черчиллем
и Сталиным установятся взаимное понимание и хорошие отношения. Тов. Ста-
лин очень умный человек, он понимает, кто такой Черчилль и его возможно-
сти, но он хотел бы добавить пожелание, чтобы приезд Черчилля в Москву оз-
наменовался бы приливом бодрости в СССР и в Красной Армии и чтобы нем-
цы поскорее это почувствовали. Он, тов. Молотов, полагает, что это желание
разделяют тов. Сталин и советское правительство.
Черчилль с этим соглашается и спрашивает тов. Молотова, считает ли он
целесообразным, если он, Черчилль, еще раз встретится со Сталиным.
Тов. Молотов отвечает, что это целиком зависит от решения самого Чер-
чилля.
Черчилль говорит, что он хотел бы встретиться с тов. Сталиным сегодня
вечером в 10 часов. В это же время английские и советские военные могли бы
обсудить технические вопросы тех операций, о которых он говорил. В этом слу-
чае он, Черчилль, смог бы вылететь обратно в субботу вечером или в воскресе-
нье утром.
Тов. Молотов обещает передать пожелание Черчилля тов. Сталину, и он не
сомневается в том, что тов. Сталин отнесется к этому очень внимательно.
Тов. Молотов спрашивает Черчилля, правильно ли мы делаем, что не про-
пускаем телеграммы иностранных корреспондентов о пребывании Черчилля в
Москве.
Черчилль отвечает, что он хотел бы обсудить с тов. Молотовым вопрос о
публичности его пребывания в Москве.
Тов. Молотов отвечает, что он примет активное участие в этом обсужде-
нии, но подчинит свое решение желанию Черчилля.
Тов. Молотов говорит, что мы должны составить такое коммюнике, кото-
рое ободрило бы Красную Армию и союзников и было бы чувствительным для
противника.
Черчилль соглашается с этим и заявляет, что в коммюнике можно
было бы указать, что он прибыл в Москву, а опубликовать коммюнике, на-
пример, когда он будет в Каире.
Тов. Молотов говорит, что этот вопрос можно будет обсудить.
Тов. Молотов спрашивает, удобно ли чувствует себя Черчилль на даче и не
требуется ли его, тов. Молотова, вмешательство в дела на даче № 7.
Черчилль говорит, что он весьма удовлетворен своим пребыванием на даче.
записал (В. Павлов)11
184
ОБЕД В ЧЕСТЬ ЧЕРЧИЛЛЯ И ГАРРИМАНА
14 августа 1942 г.
Тов. Молотов провозглашает тост за Черчилля. В своем ответном тосте
Черчилль благодарит тов. Молотова и просит своих коллег, друзей и товари-
щей выпить за здоровье знаменитого воина и главу Советского правительства
тов. Сталина.
Затем тов. Молотов произносит тост за Гарримана. Гарриман благодарит
тов. Молотова. Он говорит, что в прошлом году в октябре он был в Москве в
качестве представителя страны воинствующего нейтралитета, а теперь он сча-
стлив присутствовать здесь в качестве союзника. Гарриман провозглашает тост
за великого вождя советских армий и народа - тов. Сталина. В течение обеда в
дальнейшем тов. Молотов провозгласил также тосты за Рузвельта, Брука, за
армию и флот Англии и США, за Стэндли и Керра, Кадогана, Уэйвелла, Тедде-
ра, Файмонвилла, Майлса и др. С ответными тостами выступили Керр, Стэнд-
ли, Кадоган, Уэйвелл, Теддер, Файмонвилл, Майлс.
Затем выступил тов. Сталин. Он сказал, что все присутствующие хвалят
Красную Армию. Конечно, Красная Армия имеет успехи и поражения. Но надо
не забывать, что нет непобедимых армий и Красная Армия может терпеть по-
ражения. У нее есть свои недостатки и преимущества. Красная Армия выдержа-
ла большие удары. Никогда прежде в истории на Россию не наседало такое ко-
личество сил, как в настоящее время. В мировую войну существовало два фрон-
та. Во Франции были англичане. Балканы не были захвачены немцами. Теперь
другая обстановка. В Польше мобилизовано несколько возрастов. Польские ди-
визии дерутся против нас на фронте. Против нас дерутся итальянцы, румыны,
венгры, финны, добровольцы из Испании и Словакии. Все это соединилось про-
тив России. Никогда еще не бывало, чтобы вся Европа полезла на Россию, и ес-
ли Красная Армия выдержала удар и продолжает драться, то она заслуживает
похвалы. Одним из главных организаторов Красной Армии является маршал
Ворошилов и он, тов. Сталин, провозглашает тост за маршала Ворошилова.
Затем тов. Сталин произносит тост за здоровье маршала Б.М. Шапошнико-
ва, как за одного из главных организаторов Красной Армии и ее штабных сил.
Тов. Сталин произносит тост за здоровье начальника артиллерии Красной
Армии генерал-полковника Воронова. После этого тоста тов. Сталин говорит,
что, может быть, он ведет себя фракционно, так как произносит военные тос-
ты. Но ничего не поделаешь, - говорит тов. Сталин, - и просит разрешения про-
возгласить тост за командующего авиацией генерала Новикова. Произнося сле-
дующий тост, тов. Сталин говорит, что он продолжает быть военным. Он про-
сит разрешения провозгласить тост за командующего авиацией дальнего дейст-
вия генерал-лейтенанта Голованова. После этого тоста тов. Сталин говорит,
что фракционность - опасная болезнь, но он продолжает быть фракционером и
предлагает тост за успех и здоровье советских танковых войск и за их руково-
дителя генерал-лейтенанта Федоренко. В своем следующем выступлении тов.
Сталин говорит, что ему казалось, что он исчерпал все военные тосты. Есть во-
енная профессия, о которой он еще не упоминал. Он, тов. Сталин, имеет в виду
военных разведчиков. Он, тов.Сталин, пьет за морских, сухопутных и авиацион-
ных разведчиков. Они должны быть глазами и ушами для своего государства.
О разведчиках почему-то не говорят. Это ложный стыд. За разведчиков, гово-
рит тов. Сталин, как друзей, честно и неутомимо служащих своему народу. Не-
сколько позже тов. Сталин, выступая, говорит, что он хотел бы сказать не-
сколько слов о значении разведки. Он, тов. Сталин, читал и читает историю
разведки. Разведчики - хорошие люди, самоотверженно служащие своему госу-
185
царству. Когда они попадают к противнику, с ними черт знает, что делают. Из
истории военной разведки он, тов. Сталин, знает один факт, из которого осо-
бенно хорошо видно значение разведки.
Как всем известно, во время прошлой мировой войны англичане хотели
провести операцию по овладению Дарданеллами. Однако союзники отступили,
так как они преувеличили силы противника. В действительности же турки и
немцы были на волосок от смерти и держали свои чемоданы упакованными.
Это было результатом плохой разведки англичан, и если бы они обладали хо-
рошей разведкой в этом районе, то этого бы не случилось.
После обеда тов. Сталин предложил Черчиллю посмотреть кинокартину
“Разгром немцев под Москвой”. Черчилль ответил, что хотел бы видеть этот
фильм, но сегодня уже поздно. Тов. Сталин сказал, что в этом случае сможем
передать Черчиллю фильм “Разгром немцев под Москвой”12. Черчилль побла-
годарил и добавил, что он посмотрит эту картину у себя в Чекерсе13.
Записал (В. Павлов)14
Следующая встреча двух лидеров состоялась 15 августа. За день до
этого Черчилль направил Сталину специальное послание (“Памятную
записку”) в ответ на меморандум советского лидера по поводу второго
фронта15. Черчилль вновь изложил свою позицию по всем острым воп-
росам союзнических отношений. Он вновь описал достоинства опера-
ции “Факел” и упомянул, что ни Англия, ни США “не нарушили ника-
кого обещания” в отношении Советского Союза. Он понимает, какую
боль и разочарование привез в Москву, имея в виду невозможность для
Англии и США открыть второй фронт в 1942 г. Однако именно поэто-
му он полагал, что “лучше ему самому приехать в СССР” и “достигнуть
личного взаимопонимания со Сталиным”. Он выразил надежду, что и
Сталин “чувствует, что в этом отношении был достигнут успех”. Смысл
ответа Сталина сводился к тому, что он и Черчилль узнали и поняли
друг друга, “и если между ними имеются разногласия, то это в порядке
вещей, ибо между союзниками бывают разногласия”. Он был склонен
смотреть на дело “оптимистически”.
Черчилль сообщил Сталину секретные сведения о переброске на
Британские острова американских войск. К 9 апрелю 1943 г., - как пла-
нировалось союзным командованием, - их число должно было достиг-
нуть 1 043 400 человек. Британский премьер сказал также, что положе-
ние с транспортом вскоре должно улучшиться. Американцы организу-
ют надежную систему конвоирования судов, а англичане обеспечат за
собой превосходство в воздухе.
Сталин спросил Черчилля - надеется ли тот, что операция “Факел”
удастся. Черчилль ответил утвердительно. Советский лидер заявил,
что, хотя эта операция не связана прямо с Россией, «косвенно ее значе-
ние очень велико потому, что успех операции - это удар по странам
“оси”».
Черчилль поддержал тему и сказал, что одновременно с осуществ-
лением операций в Северной Африке будут предприняты бомбардиров-
ки Сицилии и Италии. Это в свою очередь заставит немцев оттянуть
свои силы для защиты территорий на Западе. Более того, “чтобы дер-
жать Гитлера в состоянии напряжения в ожидании нападения на пролив
186
У. Черчилль и И. Сталин во время переговоров в Москве.
Август 1942 г. (1-й справа - В. Молотов, 3-й - А. Гарриман,
5-й - переводчик В. Павлов)
(Ла-Манш. - Ред.), в августе будет проведен серьезный рейд на фран-
цузское побережье. Этот рейд будет представлять собой разведку боем,
в которой примут участие 8 тыс. человек и 50 танков...”16.
В заключительной части беседы Черчилль напомнил Сталину, что
предупреждал советское правительство о предстоящем нападении Гер-
мании весной 1941 г., когда сообщил о переброске немецких танковых
дивизий с Балкан в Польшу. На это советский лидер ответил, что “мы
никогда в этом не сомневались”, но, что он, Сталин, “хотел получить
еще шесть месяцев для подготовки к этому нападению”.
Британский премьер также сообщил, что недавно “германский по-
сол в Токио просил японцев выступить против СССР”, однако “Япония
отказалась это выполнить”. Сталин поблагодарил Черчилля за эту ин-
формацию.
В тот же день, 15 августа состоялись два совещания военных пред-
ставителей Англии, США и СССР. Итоговый документ указывает, что
советская сторона во многом была не удовлетворена их результатами:
Товарищу Сталину И.В.
Товарищу Молотову В.М.
Представляю запись утреннего и вечернего совещаний 15 августа с/ г. во-
енных представителей Англии, США и СССР по вопросам создания второго
фронта в Европе в 1942 г. и возможной помощи военно-воздушными силами
Англии нашему Южному фронту.
Как видно из представляемых записей, открытие второго фронта в Европе
в 1942 г. англичане признали нецелесообразным, откладывая это мероприятие
на 1943 г.
187
В отношении помощи английскими ВВС Северо-Кавказскому фронту сове-
щание также не дало конкретных результатов.
Английская сторона, не делая никаких практических на этот счет предло-
жений, больше пыталась выяснить положение Красной Армии на юге и степень
обороноспособности Кавказа.
Что касается непосредственной помощи английскими ВВС, то англичане
предложили создать объединенную военную группу из представителей СССР и
Англии с включением в нее представителя США - генерала авиации Брэдли, для
работы, связанной с подготовкой к приему военно-воздушных сил на Кавказе.
Лично считаю создание такой группы целесообразным, так как деятель-
ность ее будет до некоторой степени обязывать Англию к проведению практиче-
ских мероприятий в оказании нам помощи своими военно-воздушными силами.
Ворошилов
17 августа 1942 г.17
Особое место в истории операции “Браслет” заняла незапланиро-
ванная встреча и беседа двух лидеров в ночь с 15 на 16 августа. Вот как
сообщал о ней британский премьер в отчете военному кабинету и пре-
зиденту Рузвельту:
Я отправился попрощаться с г-ном Сталиным вчера в 7 часов вечера, и мы
имели приятную беседу, в ходе которой он дал мне полный отчет о положении
русских, которое казалось весьма отрадным. Он, безусловно, весьма уверенно
говорит о том, что удержится до зимы. В 8 ч. 30 м. вечера, когда я собирался
уходить, он спросил, когда он увидит меня в следующий раз. Я ответил, что уез-
жаю на рассвете. Тогда он сказал: “Почему бы Вам не зайти ко мне на кварти-
ру в Кремле и не выпить немного?” Я отправился к нему и остался на обед, на
который был приглашен также г-н Молотов. Г-н Сталин представил меня сво-
ей дочери, славной девушке, которая робко поцеловала его, но которой не бы-
ло разрешено остаться на обед. Обед и редактирование коммюнике продолжа-
лось до трех часов утра. У меня был очень хороший переводчик, и я имел воз-
можность говорить более свободно. Преобладала атмосфера особой доброже-
лательности, и мы впервые установили непринужденные и дружелюбные отно-
шения. Мне кажется, я установил личные взаимоотношения, которые будут по-
лезны. Мы много говорили о “Юпитере”, который, по его мнению, будет необ-
ходим в ноябре или в декабре. Без него я не представляю себе, как мы сможем
доставлять материалы, которые будут необходимы для дальнейшего оснащения
этой колоссальной сражающейся армии. Трансперсидская дорога пропускает
лишь половину того, на что мы надеялись. Больше всего ему необходимы гру-
зовики. Он предпочел бы иметь грузовики, а не танки, которых он выпускает
2 тысячи в месяц. Он также хочет получить алюминий.
«В целом, - закончил я, - я определенно удовлетворен своей поездкой
в Москву. Я убежден в том, что разочаровывающие сведения, которые я привез
с собой, мог передать только я лично, не вызвав действительно серьезного рас-
хождения. Эта поездка была моим долгом. Теперь им известно самое худшее,
и, выразив свой протест, они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это
несмотря на то, что сейчас они переживают самое тревожное и тяжелое время.
Кроме того, г-н Сталин абсолютно убежден в больших преимуществах опера-
ции “Торч”, и я надеюсь, что “Торч” продвигается вперед с нечеловеческой
энергией по обе стороны океана»18.
Ниже приводятся советская и английская записи бесед встречи Ста-
лина с Черчиллем в ночь с 15 на 16 августа 1942 г.
188
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЧЕРЧИЛЛЯ С тов. СТАЛИНЫМ
НА КВАРТИРЕ в ночь с 15 на 16 августа 1942 г.
На беседе присутствовали: тов. Сталин, Черчилль,
переводчики - т. Павлов и майор Бирс, и позже тов. Молотов.
Во время беседы имел место обмен мнениями по общим вопросам военной
стратегии, в частности по военно-морской стратегии. Черчилль коснулся вопро-
са о нападении на Северную Норвегию и заявил, что он имеет желание и наме-
рение осуществить эту операцию совместно с советскими силами зимой этого
года. Он обещал позже снестись по этому плану лично с тов. Сталиным.
Тов. Сталин ответил, что было бы хорошо осуществить эту операцию, и за-
явил, что он готов выделить для участия в операции 2-3 наших дивизии;
тов. Сталин сказал, что мы испытываем острую нужду в грузовых автомашинах
для нашего фронта. Он заявил, что был бы благодарен, если Англия могла по-
ставлять нам 20-25 тыс. грузовиков даже вместо танков. При этом мы готовы
принимать только шасси, так как кузова мы можем изготовить сами.
Черчилль ответил, что он постарается удовлетворить эту просьбу, но одно-
временно указал, что недостаток тоннажа затрудняет переброску в СССР гру-
зовиков, которые производятся в Англии в достаточно большом количестве.
Затем тов. Сталин просил помочь нам поставкой алюминия, в котором мы
будем испытывать недостаток до будущего года.
Черчилль ответил, что он изучит возможность удовлетворить эту просьбу,
хотя Англия также испытывает недостаток в алюминии.
В дальнейшей беседе Черчилль поинтересовался колхозами и судьбой ку-
лаков.
Тов. Сталин ответил, что коллективизация ликвидировала нищенство, по-
скольку каждый член крестьянской семьи получил возможность самостоятель-
но зарабатывать и независимо жить. Тов. Сталин рассказал о том, что коллек-
тивизация была вызвана желанием внедрить в сельское хозяйство крупные ма-
шины, поднять его производительность. Это было возможно осуществить толь-
ко в крупном хозяйстве. В результате коллективизации в СССР сильно возрос-
ла урожайность, особенно благодаря внедрению высококачественных семян.
Что касается кулаков, то некоторое количество их было выселено в север-
ные области СССР, где они получили участки земли. Остальные кулаки были
перебиты самими крестьянами - настолько была ненависть к ним со стороны
крестьян.
Черчилль, внимательно выслушав тов. Сталина, заметил, что коллективи-
зация была, вероятно, весьма трудной работой.
Тов. Сталин ответил, что действительно коллективизация была очень
трудной работой, на которую было затрачено несколько лет.
Тов. Сталин сообщил Черчиллю, что в ближайшее время мы предпримем
налет на Берлин. Конечно, мы, ввиду дальности, можем послать только около
150 бомбардировщиков. Англичане находятся в лучшем положении, но у нас хо-
дят слухи, что англичане с немцами заключили соглашение о том, чтобы воз-
держиваться от взаимных бомбардировок Лондона и Берлина.
Черчилль с некоторым раздражением ответил, что никакого соглашения
по этому поводу нет и что они начнут бомбить Берлин, как только позволят ме-
теорологические условия и ночи станут достаточно продолжительными. Нам
нужно согласовать, сказал он, налеты английских и советских самолетов на
Берлин, во избежание столкновений между ними.
Тов. Сталин ответил, что это, конечно, нужно сделать.
Касаясь Германии, Черчилль заявил, что в Германии нужно уничтожить
прусский милитаризм и нацизм и разоружить Германию после войны.
189
Тов. Сталин ответил, что нужно перебить военные кадры Германии. Кро-
ме того, необходимо ослабить Германию путем отделения от нее Рурской
области.
Тов. Сталин спросил Черчилля о количестве сил в Англии на островах.
Черчилль ответил, что количество войск в самой Англии достигает 40 ди-
визий, но при дальнейших уточняющих вопросах тов. Сталина не дал вразуми-
тельного ответа.
В конце беседы было согласовано коммюнике о переговорах Черчилля с
тов. Сталиным. По настоянию Черчилля была принята формулировка о реше-
ниях, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее со-
общников в Европе. Черчилль предложил также добавить в коммюнике заяв-
ление о том, что “эту справедливую освободительную войну оба правительст-
ва исполнены решимости везти со всей силой и энергией до полного уничтоже-
ния гитлеризма и всякой подобной тирании”. Эта формулировка была также
принята.
Записал на память В. Павлов^
Нижеприводимая британская запись беседы заметно отличается от
советской, дает более полное представление о содержании заключи-
тельной встречи двух лидеров. Она дополняет советскую запись дискус-
сии по ряду военных вопросов сведениями о вооруженных силах Вели-
кобритании, оценкой англо-франко-советских переговоров 1939 г., дея-
тельности советского посла И. Майского, воспоминаниями о пребыва-
нии Сталина в Лондоне в 1907 г., а также сообщением об обсуждении
его возможного визита в Великобританию и встречи с Рузвельтом в Ис-
ландии. Черчилль, согласно английской записи, сказал Сталину, что
“в начале 1938 г., еще до Праги и Мюнхена, у него возник план созда-
ния Лиги Великих демократий в составе Великобритании, США и
СССР, которые вместе смогли бы вести за собой мир”. Запись конста-
тирует, что заключительная встреча Сталина и Черчилля проходила в
“сердечной и дружеской атмосфере”.
The following аге rough notes from memory of the conversation between the Prime
Minister and Mr. Stalin at supper in Mr. Stalin’s private apartments at the Kremlin, on
the night of 15th to 16th August 1942.
There was no possibility of keeping written notes, so that I cannot guarantee accu-
racy or that it is a complete record. With regard to figures, where I am in doubt I have
placed a query.
Present:
The Prime Minister.
Mr. J. V. Stalin.
Mr. V. M. Molotov.
Sir Alexander Cadogan (during the later hours)
Interpreters: Major A.H.Birse, Mr. Pavlov.
Mr. Stalin made the following requests:
(a) For the supply of Lorries from U.K. and U.S.A, instead of tanks. Russian tank
production was satisfactory and they did not require any more from us, but they were
short of Lorries and the demand was very great. He explained how each Armored
Brigade had to “be supplied with lorries to carry its lorry-borne infantry, how they were
rapidly motorizing infantry divisions and what enormous requirements for lorries there
were in the back areas. They require from 20,000 to 25,000 Lorries per month from U.K.
190
plus U.S.A., it was immaterial from which country. Russian production was 3,000
Lorries per month. He concluded: “Send us lorries instead of tanks”.
(b) Mr. Stalin then asked for the supply of aluminium during the remaining months
of this year. Russia was very short.
The Prime Minister replied that he would go immediately into the question of the
supply of lorries and aluminium. We have the lorries and so have the U.S.A., the dif-
ficulty was delivery and the supply of tyres before the Rubber Ersatz plant in America
starts producing. The road through Persia must be developed. Mr. Stalin said that the
northern route was much better. When Mr. Churchill pointed out the dangers of the
Northern route, Mr. Stalin said that ships could keep alone the ice edge far from the
danger of U-boat attack. Mr. Churchill disagreed and said that he knew all about the
difficulties of that route. There was a discussion on the wisdom of dispersing con-
voys: Mr. Churchill quoted an example in the Mediterranean which had had good
results. If the ships had not dispersed in the case of the recent convoy in the North,
every ship including escort vessels would have been sunk by the TIRPITZ. England
has three units: KING GEORGE, DUKE OF YORK and ANSON, which she must not
lose in the way the PRINCE OF WALES and REPULSE were lost. We cannot afford
to use them for convoys. While Germany has air bases in Northern Norway, the route
is extremely dangerous. Nevertheless 40 ships will sail for North Russia early in
September.
Mr. Stalin then proposed that an operation against Northern Norway should be
undertaken, with the object of capturing the German bases there and at Petsamo.
To this the Prime Minister immediately agreed, welcoming the suggestion warmly.
He said that he had always wished for such an operation. Mr. Stalin reminded him of a
former plan of a similar nature, “but the respective General Staffs had not wished it.
After some further discussion the Prime Minister agreed that England would under-
take an attack on Northern Norway and Petsamo in November 1942 in conjunction with
the Russians. England would provide two divisions specially trained for landing opera-
tions and Mr. Stalin said that Russia would provide three divisions or six “brigades. The
Prime Minister said that for the operation against Northern Norway he would communi-
cate direct with Mr. Stalin and the latter should telegraph to him, using the prefix Jupiter.
Mr. Stalin said he would in our place have “built more destroyers and less “battle-
ships than we had done. The Prime Minister pointed out that we had “built only one “bat-
tleship since the war started and had concentrated on destroyers and smaller craft, but he
agreed in principle with Mr. Stalin.
The Prime Minister said that our “bombing of German towns would increase as
soon as the nights lengthened. Mr. Stalin said that the Russians intended to bomb Berlin
very soon and also a number of other towns, like: Koenigsberg, Danzig, Tilsit, Memel.
Mr. Stalin several times emphasized the importance of air forces in this war.
Mr. Stalin asked for some figures regarding British man-power. The Prime Minister
replied that we had altogether:
50 divisions, mobilized, in Great Britain. Of these 20 divisions were fully equipped.
We were pushing on with the equipment of the remainder.
(?) 15 divisions in the Middle East.
(?) 10 divisions in India and a few more in various fortresses and garrisons.
As an example of the British man power effort, the Prime Minister said the follow-
ing figures:
1,000,000 men first line troops in Great Britain.
1,000,000 men in training, coast defense, etc.
1,300,000 men in the R.A.?
over 1,000,000 men in Royal Navy and Merchant Service.
1,500,000 men in the Home Guard.
Everybody in Great Britain is doing some sort of service. When the great battle
191
starts, the Prime Minister said that he would have to provide reinforcements from facto-
ry workers.
In the Middle East we now outnumber the enemy.
The Prime Minister said that if Mr. Stalin was going to meet President Roosevelt
and got as far as Iceland, he should come on to England; he would get a magnificent
reception. Mr. Stalin replied that he would like to do so, but receptions were not so
important at present; the chief thing was victory. He said he had been to England in 1907
to attend a Bolshevik conference, together with Lenin, Plekhanov, Gorky and others. The
Prime Minister asked whether Trotsky had been there. Mr. Stalin replied that he had, but
he had gone away a disappointed man, not having been given any organization to repre-
sent, such as the Army, which Trotsky had hoped for.
The Prime Minister said that Mr. Maisky was a good Ambassador. Mr. Stalin
agreed, but said that he might be better; he spoke too much and could not keep his tongue
between his teeth. The Prime Minister said that Mr. Maisky had recently addressed a
meeting of members of the House of Commons in one of the Committee Rooms, which
was quite right and proper. The Axis wireless, however, described it as Mr. Maisky
haranguing the House from the Strangers Gallery on the subject of Anglo-Soviet rela-
tions.
The Prime Minister said that early in 1938, before Prague and Munich, he had had
a plan for a League of the three Great Democracies: Great Britain, U.S.A, and U.S.S.R.,
which between them could lead the world. There were no antagonistic interests between
them. Mr. Stalin agreed and said that he had always hoped for something of that nature,
only under Mr. Chamberlain’s government such a plan would have been impossible. He
recalled the visit to Moscow of the British Delegations in 1939. No talks with them were
possible. For instance, the British and French military chiefs were asked what forces they
could put up against Germany in the West. The French replied 80 divisions, although he
did not believe that they were fully equipped, and the British said three divisions. The
French did not understand the value of tanks. Then the delegations asked what the
Russians could put up on the Polish frontier. Mr. Stalin had the impression that the talks
were insincere and only for the purpose of intimidating Hitler, with whom the Western
Powers would later come to terms. The Prime Minister pointed out that he had not been
in the Government for 11 years, but he had always warned it of the danger. He agreed
that the Delegations in 1939 had no weight behind them.
[The Prime Minister said, jokingly, that he thought the President of the U.S.A.,
when he met Mr. Stalin, would probably want him to do something about God! Mr.
Stalin appreciated the joke and replied that he personally respected God and hoped that
with God’s help they would achieve victory.]20.
At about 1 a.m. the subject of the joint communique was raised by the Prime
Minister. Sir A. Cadogan and Mr. Molotov had prepared alternative texts. The text was
finally agreed and it was decided to ask the British Ambassador to arrange with Mr.
Molotov regarding the exact time of release.
The Prime Minister was given a set of photographs taken at the previous night’s
banquet. Photographs were signed by both the Prime Minister and Mr. Stalin, and a few
by the Prime Minister and Mr. Molotov.
The whole atmosphere was most cordial and friendly21.
Коммюнике обсуждали длительное время. Вначале Кадоган с
Молотовым, затем во время заключительной встречи и на квартире
Сталина.
Ниже приводится проект коммюнике, предложенный Кадоганом
14 августа, который в ходе обсуждения претерпел значительные изме-
нения.
792
КАДОГАН ВРУЧИЛ ТОВ. МОЛОТОВУ 14 августа 1942 г.
Перевод с английского
В Москве происходили переговоры между г. Сталиным, представляющим
Правительство СССР, г. Черчиллем, представляющим Правительство Его Ве-
личества в Соединенном Королевстве, и г. Гарриманом, представляющим Пре-
зидента США. В качестве помощника г. Сталина присутствовал г. Молотов и в
качестве помощников г. Черчилля - Посол Его Величества сэр А. Кларк Керр,
Начальник Имперского генерального штаба сэр А. Брук, Главнокомандующий
в Индии сэр А. Уэйвелл, Главнокомандующий Военно-Воздушными силами на
Среднем Востоке главный маршал авиации Теддер и сэр Александр Кадоган,
постоянный заместитель министра иностранных дел.
Были полностью и откровенно обсуждены будущие совместные действия
Объединенных Наций во всех сферах и было достигнуто полное согласие об об-
щем плане.
Технические вопросы составляли предмет более детального обсуждения
между соответственными военными и военно-воздушными советниками.
Помимо принятых решений, главные участники переговоров убеждены в
выгодах, которые были извлечены из этого личного контакта.
Перевел - В. Павлов22
АНГЛО-СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ
О ПЕРЕГОВОРАХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
18 августа 1942 г.
В Москве происходили переговоры между Председателем Совета Народ-
ных Комиссаров СССР И.В. Сталиным и Премьер-Министром Великобритании
г-ном У. Черчиллем, в которых участвовал господин Гарриман как представи-
тель Президента США. В беседах приняли участие народный комиссар ино-
странных дел В.М. Молотов, маршал К.Е. Ворошилов - с советской стороны,
британский посол сэр А. Кларк Керр, начальник Имперского генерального
штаба сэр А. Брук и другие ответственные представители британских воору-
женных сил, постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Алек-
сандр Кадоган - с английской стороны.
Был принят ряд решений, охватывающих область войны против гитлеров-
ской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую освободительную
войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией
до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании.
Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности,
дали возможность еще раз констатировать наличие тесного содружества и вза-
имопонимания между Советским Союзом, Великобританией и США в полном
соответствии с существующими между ними союзными отношениями23.
Так завершились первая личная встреча и переговоры Сталина и
Черчилля. Записи бесед в основном носят официальный характер, рас-
крывают их содержание, дают представление о взглядах двух лидеров
по вопросам, которые они обсуждали, общность и различие целей в
войне, политики и стратегии в достижении победы над Германией и ее
союзниками. Но мы мало что узнаем из этих записей об атмосфере вне
зала заседаний, тех дискуссиях и оценках, от которых во многом зави-
13 Россия и Британия Вып 3
193
сел каждый последующий день переговоров, а нередко и их конечный
исход. Записи бесед как бы оставляют в стороне взгляды Черчилля о
“зловещем большевистском государстве”, с лидером которого он вел
переговоры, и не менее устойчивые взгляды Сталина на капиталисти-
ческий мир и Черчилля, который стремился уничтожить советское го-
сударство в его колыбели.
К сожалению, свидетельствами и воспоминаниями советских участ-
ников переговоров мы не располагаем. Частично восстановить то, что
происходило вне официальных встреч, дают возможность опублико-
ванные или находящиеся в английских архивах записи, которые тща-
тельно делали во время пребывания в Москве практически все участни-
ки миссии Черчилля. Из них следует, что после официальных перегово-
ров обычно происходил обмен мнениями между Черчиллем и сопрово-
ждавшими его лицами, чаще всего это были Кадоган, Керр и Джекоб,
чьи записи хранятся в Архиве Черчилля при Кембриджском универси-
тете24. Они свидетельствуют, что Черчилль всякий раз выражал неудо-
вольствие ходом переговоров и заявлял о бесперспективности их про-
должения. Он, к примеру, считал, что Сталин разговаривает с ним то-
ном, недопустимым для “представителя крупнейшей империи, которая
когда-либо существовала в мире”, подозревал, что Сталин добивается
его смещения с поста премьер-министра. 14 августа он разразился сле-
дующей тирадой: “Мне говорили, что русские не являются человече-
скими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов”.
Глубоко прав академик В.Г. Трухановский, полагавший, что “чувства,
которые английский премьер-министр питал к Советскому Союзу, в от-
рицательном смысле влияли и на его позицию в вопросе о втором фрон-
те и на становление англо-советских отношений”25.
Британский премьер неоднократно намеревался прервать перего-
воры, но затем менял свое решение, главным образом под влиянием тех
аргументов, которые противопоставлял ему посол Керр, пожалуй,
единственный из состава британской делегации дипломат, активно
стремившийся к достижению положительных результатов на перегово-
рах. Немало неприятностей Черчиллю доставлял его переводчик майор
Денлоп, явно не справлявшийся с порученным ему делом и крайне раз-
дражавший этим Черчилля. В конечном итоге его заменил майор Бирс,
что, видимо, в немалой степени способствовало успеху заключительной
“ночной” беседы двух лидеров.
По возвращении в Англию Черчилль выступил 8 сентября с боль-
шой речью в палате общин, представил свою поездку как триумфаль-
ную и не скупился на оценки по адресу Сталина. “Для меня, - сказал
он, - имела исключительное значение встреча со Сталиным. Главная
цель моего визита состояла в том, чтобы установить такие отношения
уверенности и открытости, которые я установил с президентом Руз-
вельтом. Я думаю, что, несмотря на языковой барьер, который создает
многие препятствия, мне в значительной степени это удалось... Для Рос-
сии большое счастье, что в час ее страданий во главе ее стоит этот ве-
ликий твердый полководец. Сталин является крупной и сильной лично-
стью, соответствующей тем бурным временам, в которых ему прихо-
194
дится жить... Я верю, что мне удалось дать ему почувствовать, что мы
являемся хорошими и преданными товарищами в этой войне, но это до-
кажут дела, а не слова... Одно совершенно очевидно, - заключил Чер-
чилль свой пассаж, - это непоколебимая решимость России бороться с
гитлеризмом до конца, до его окончательного разгрома”26.
Эти столь необычные для британской палаты общин и для Черчил-
ля оценки были не случайны. В тех исторических условиях они отвеча-
ли интересам Великобритании и настроениям большинства англичан.
Сталин дал оценку визиту Черчилля через два месяца в докладе, посвя-
щенном 25-й годовщине Октябрьской революции: “Наконец, следует
отметить такой важный факт, как посещение Москвы премьер-минист-
ром Великобритании г-ном Черчиллем, установившее полное взаимо-
понимание руководителей обеих стран”27.
Современные западные историки нередко высказывают сомнения
относительно успеха визита Черчилля в Москву28.
Действительно, ряд конкретных договоренностей не был реализо-
ван. Совместная высадка в Норвегии (операция “Юпитер”) не состоя-
лась; план участия ВВС западных союзников в обороне Кавказа (опера-
ция “Вельвет”) остался только на бумаге; договоренности об обмене во-
енно-технической информацией воспрепятствовал в то время госдепар-
тамент США. Тем не менее в целом, на наш взгляд, встреча двух лиде-
ров, их беседы и дискуссии способствовали взаимопониманию и объеди-
нению усилий стран антигитлеровской коалиции в борьбе против обще-
го врага.
1 В посланиях от 31 июля Черчилль информировал об отправке в СССР се-
верным морским путем очередного конвоя и сообщал о своем желании встре-
титься лично со Сталиным “в Астрахани, на Кавказе или в каком-либо другом
месте”. См.: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президента-
ми США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. Том первый. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли
(июль 1941 г. -ноябрь 1945 г.) 2-е изд. М., 1986. С. 68-69.
2 Визиту Черчилля в Москву в 1942 г. и его переговорам со Сталиным по-
священа значительная литература. Советские записи трех бесед Сталина с Чер-
чиллем и ряд других документов опубликованы в сб.: Советско-английские от-
ношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1983. Т. 1.
Ценные сведения об этом событии в истории антигитлеровской коалиции со-
держатся в труде У. Черчилля “Вторая мировая война”. Т. 4. Поворот судьбы.
М., 1955; а также в кн.: Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. М., 1989;
Уткин А.И. Черчилль. М., 1997; Сиполс В.Я. Великая победа и дипломатия. М.,
1999 и ряде других работ. Среди исследований западных историков выделим
прежде всего документы переписки У. Черчилля и Ф. Рузвельта, труд М. Гил-
берта “Уинстон Черчилль. Т. 7. Путь к победе 1941-1945”, дневники А. Кадога-
на, воспоминания А. Гарримана, личного врача Черчилля лорда Морана, майо-
ра А. Бирса - переводчика Черчилля: Churchill and Roosevelt: The Complete
Correspondence / Ed. with a Commentary W.F. Kimball. L., 1984. Vol. 1; Gilbert M.
Winston S. Churchill. Vol. VII. Road to Victory 1941-1945. L., 1986; The Diaries of Sir
Alexandr Cadogan. O.M. 1938-1945 / Ed. D. Dilks. L., 1971; Harriman W.A., Abel E.
Special Envoy to Churchill and Stalin. 1941-1946. N.Y., 1975; Lord Moran. Winston
195
Churchill. The Struggle for Survival. L., 1966; Ross G. Operation Bracelet: Churchill in
Moscow 1942 in Retreat from Power / Ed. D. Dilks. L., 1981; Carlton D. Churchill and
the Soviet Union. Manchester, 2000.
3 В Великобритании в отличие от СССР и США должности Верховного
главнокомандующего не существовало, но фактически таковым являлся
У. Черчилль, совмещавший должности премьер-министра и министра обороны.
В Каире ему предстояло принять решение о замене главнокомандующего вой-
сками на Среднем Востоке генерала К.Окинлека (с 1946 г. - фельдмаршал), ко-
торый не справлялся с руководством войсками. Располагая преимуществом в
силах, они длительное время не могли достичь успеха в боях с итало-немецкой
танковой армией “Африка” генерал-фельдмаршала Э.Роммеля. В результате
анализа обстановки на фронте и последущей телеграфной консультации с каби-
нетом министров новым главнокомандующим был назначен генерал X. Алек-
сандер (с 1944 г. - фельдмаршал), а командующим 8-й армией - основой боевой
мощи британских войск в Северной Африке - генерал Б. Монтгомери
(с 1944 г. - фельдмаршал). Назначения себя оправдали. Войска под их командо-
ванием нанесли поражение армии Э. Роммеля в боях под Эль-Аламейном
(23 октября - 4 ноября 1942 г.)
4 Этот самолет из-за неисправности двигателей возвратился в Тегеран, а
его пассажиры прибыли в Москву позднее на советском самолете. Всего в Мо-
скву прибыло 20 человек - 14 представителей Великобритании и 6 - США.
5 Черчилль У. Вторая мировая война. Том IV. Поворот судьбы / Пер. с англ.
М., 1955. С. 472.
6 StolerM. Allies and Adversaries. The University of North California Press, 2000.
P. 67
7 The Oxford Companion to World War II. Oxford, 1995. P. 1114.
8 The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt / Comp. S. Rosenman.
N.Y., 1969. Vol. 12. P. 22.
9 Справка Центрального архива ФСБ России от 17 июня 1998 г.
10 Беседы Сталина с Черчиллем 12, 13 и 15 августа 1942 г. опубликованы и
даются в кратком изложении. Подробнее см.: Советско-английские отношения
во время Великой Отечественной войны. Документы и материалы в 2-х т. Т. 1.
1941-1943. М., 1983. С. 265-276, 279-283 (далее - Советско-английские отноше-
ния). Другие документы, кроме заключительного коммюнике, публикуются по
архивным источникам.
11 Архив внешней политики РФ. Ф. 06. Оп. 4. П. 14. Д. 131. Л. 20-23 (далее
АВП РФ).
12 Фильм “Разгром немцев под Москвой” был погружен в один из самоле-
тов группы Черчилля в день отлета 16 августа 1942 г.
13 На обеде присутствовало около 100 человек. Черчилль отметил в мему-
арах: “Распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды пре-
вращались в попойки. В этом нет ни доли правды. Маршал (Сталин. - Авт.) и
его коллеги неизменно пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каж-
дом случае лишь маленький глоток. Меня изрядно угощали” (Черчилль У. Вто-
рая мировая война. М., 1955. Т. 4. С. 488).
14 Архив Президента РФ. Ф. 45. On. 1. Д. 282. Л. 48-52 (далее - АП РФ).
15 См.: Советско-английские отношения... С. 276-278.
16 17 августа 1942 г. части союзников (основу которых составляли канадские
подразделения) высадились в районе Дьеппа и в течение некоторого времени
удерживали небольшой плацдарм, но в конечном итоге были эвакуированы с
большими потерями. Некоторые западные историки высказывают мнение, что
диверсионная операция в районе Дьеппа преднамеренно была рассчитана на
провал как доказательство невозможности открытия второго фронта в 1942 г.
196
17 АП РФ. Ф. 45. On. 1. Д. 282. Л. 64.
18 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 4. С. 495-496.
19 АП РФ. Ф. 45. On. 1. Д. 282. Л. 58-61.
20 Заключенный в квадратные скобки абзац был вычеркнут переводчиком
из записи текста беседы.
21 Public Record Office. Prem. 3/7612. P. 35-37. Встреча на квартире Сталина
затянулась до 3 часов ночи. Еще с вечера на даче Черчилля его ожидал поль-
ский генерал В. Андерс, назначенный эмигрантским правительством команду-
ющим польскими войсками в России и на Среднем Востоке, которого Черчилль
пригласил для беседы. По возвращении британского премьера на дачу они ус-
ловились провести переговоры в Каире. Полковник И. Джекоб, который про-
вел это время с Андерсом, констатировал в своих записях, что этот польский ге-
нерал и его окружение “не любили немцев, но русских они ненавидели” (Chur-
chill Archive Center. JACOB 1/17. P. 55).
22 АВП РФ. Ф. 06. On. 4. П. 14. Д. 131. Л. 27.
23 Советско-английские отношения... С. 283.
24 Churchill Archive Center 20/87; JACOB 1/17 и др.
25 Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. С. 323.
26 Public Record Office. FO 371 50804. P. 7.
27 Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947.
С. 74.
28 Carlton D. Churchill and the Soviet Union. P. 100.
JI.B. Поздеева
БРИТАНСКАЯ ПОЛИТИКА ПО ДНЕВНИКАМ
СОВЕТСКОГО ПОСЛА И.М. МАЙСКОГО
(Из записей 1938-1941 годов)
Российскому и зарубежному читателю хорошо известны воспоми-
нания И.М. Майского о его работе в качестве полномочного представи-
теля (с 1941 г. - посла) Советского Союза в Великобритании в 1932-
1943 гг.1 Недавно рассекречен дневник этого крупного дипломата2.
Данная статья знакомит с записями, сделанными им в канун и в первые
годы второй мировой войны3.
Дневник Иван Михайлович начал вести вскоре по прибытии в анг-
лийскую столицу в октябре 1932 г. В декабре 1941 г. Майскому предсто-
яло сопровождать британского министра иностранных дел А. Идена в
Москву на переговоры с советскими руководителями, и он счел необхо-
димым перед отъездом из Лондона переправить И.В. Сталину свои за-
писи за предшествующие семь лет. В письме И.В. Сталину от 6 декабря
1941 г. Майский мотивировал этот шаг опасностью морского путешест-
вия в военное время, а также скромно отметил “известный интерес
дневника с исторической точки зрения” и желательность его публика-
ции в более отдаленном будущем. “Как никак, - писал он, - за указан-
ные 7 лет я все время находился на крупнейшем обсервационном пунк-
197
те мировой политики и имел возможность входить в сношения с круп-
нейшими политическими деятелями Англии и других стран. Направляю
мой дневник Вам. Делайте с ним, что найдете нужным...”. В любом слу-
чае, добавлял автор письма, дневник стоит сохранить, ибо он “может
пригодиться будущему историку нашей эпохи”4. По возвращении в Лон-
дон в начале 1942 г. Майский продолжил свои записи, он вел их и после
отзыва с поста посла в июле 1943 г. и назначения заместителем нарко-
ма иностранных дел.
Долгие годы дневник оставался за семью печатями, историки не
имели к нему доступа. Отдельные страницы и фрагменты были выбо-
рочно включены в документальные публикации Министерства ино-
странных дел Российской Федерации5 и частично использовались самим
автором рукописи при написании воспоминаний. Записи в дневнике тек-
стуально не совпадают с вошедшими в официальные сборники донесе-
ниями посла в НКИД СССР. Сведения о большом числе его бесед и
встреч здесь просто отсутствуют.
Основная тематика дневника за рассматриваемый период (1938 -
июнь 1941) - европейская политика Великобритании, СССР и ряда дру-
гих государств; советско-английские отношения; англо-франко-совет-
ские переговоры 1939 г. и причины их неудачи; дипломатия прави-
тельств Н. Чемберлена и У. Черчилля; партийно-политическая и обще-
ственная жизнь Британии.
К 1938 г. Майский уже более пяти лет находился в Лондоне. Опыт-
ный дипломат, хорошо знакомый с “кухней” британской политики, с
множеством государственных и общественных деятелей западных
стран, он воспроизводил факты и события дня по горячим следам,
обычно в тот же день. Излагая содержание бесед, он сопровождал их
собственными комментариями, красочными зарисовками обстановки и
политических персонажей. Написанный, как и все другие его произве-
дения, прекрасным литературным языком, часто в форме диалога,
дневник воссоздает политическую картину Европы как бы в художест-
венном плане, рисует запоминающиеся портреты лидеров и политиков.
Сочетание увлекательности изложения с аналитическим методом авто-
ра усиливает впечатление от его труда.
Ценно и то, что в записях отражены самые первые и свежие, быть
может наиболее верные, оценки увиденного и услышанного. Суждения
автора не всегда здесь категоричны, они не “отшлифованы” в отличие
от предназначенных для московского начальства телеграмм. Майский
зачастую избегал формулировать окончательные выводы, особенно в
тех случаях, когда сомневался или не располагал точной информацией.
“Поживем - увидим!” - вот концовка-рефрен многих его записей.
Дневник И.М. Майского за 1938 год по своему объему (223 л.) на-
много больше раздела книги второй “Воспоминаний советского посла”,
где этому году отведено всего 18 страниц. В дневнике представлен ши-
рокий диапазон европейской политики - от аншлюса до Мюнхена и его
последствий. В XXI том “Документов внешней политики СССР” за
1938 г. не были включены материалы дневника, и многие сюжеты либо
вообще остались “за кадром”, либо освещены иначе, чем в донесениях
198
посла. Можно сослаться в этой связи на записи с малоизвестными под-
робностями бесед Майского с Хорасом Вилсоном, главным экспертом
британского премьер-министра по внешнеполитическим вопросам.
Характеризуя Вилсона после встречи с ним 10 мая, Майский заметил,
что тот “сыграл очень крупную роль в отставке Идена”. Любопытна
высказанная вскоре Вилсоном оценка лорда Ренсимена, который летом
1938 г. являлся главой британской миссии посредничества между чехо-
словацким правительством и судетонемецкой партией: “феноменально
ленивый - физически и интеллектуально”6.
События предмюнхенского периода запечатлены также в неиздан-
ных записях посла за 12-27 сентября 1938 г., произведенных во время
его нахождения в составе советской делегации на сессии Ассамблеи
Лиги наций в Женеве. Тесно общаясь там с М.М. Литвиновым, Майский
описывал свои беседы с наркомом иностранных дел, его суждения и вы-
ступления на Ассамблее Лиги. Беседы с иностранными дипломатами и
поступавшая из Лондона информация позволяли лучше уяснить такти-
ку британской дипломатии в последней фазе мюнхенской сделки. “Я ви-
дел Гитлера и верю ему”, - заявил Н. Чемберлен лейбористским лиде-
рам по возвращении из Годесберга7.
О договоренности насчет Чехословакии, оформленной Чемберле-
ном и Э. Даладье с Гитлером и Муссолини 30 сентября 1938 г., Майский
узнал после приезда из Женевы в Лондон. Присутствуя на заседаниях
палаты общин 3-6 октября, посол передал содержание выступлений
сторонников и противников мюнхенского соглашения, всю напряжен-
ную атмосферу дебатов: «Линия водораздела прошла очень резко. С од-
ной стороны, Кабинет и поддерживающее его подавляющее большин-
ство правительственной коалиции, с другой стороны, лэбористско-ли-
беральная оппозиция плюс “бунтовщики” в консервативном лагере».
Исход голосования был заранее предрешен, однако, по убеждению
Майского, сам ход дебатов, их политический эффект оказались для пра-
вительства неблагоприятными. Незабываемы лица парламентариев:
говорили исключительно министры, а “рядовые” сидели молча. “Элли-
от, Стэнли, Хор-Белиша молчали как убитые, Эллиот старался даже не
сидеть на правительственной скамье”8.
В центре Дневника И.М. Майского за 1939 год находятся главные
события предвоенных месяцев января-августа: развитие европейского
кризиса, маневры британского умиротворения, ход переговоров между
СССР, Англией и Францией о пакте взаимопомощи. В дополнение к фа-
ктической стороне дела, касающейся политики СССР и западных дер-
жав и известной нам по отечественным публикациям9, в дневнике сооб-
щается много совершенно новой информации, зачастую события изла-
гаются в другой редакции. Важна, например, запись беседы с минист-
ром заморской торговли Р. Хадсоном 8 марта, из которой видно, что
британское правительство, направляя этого министра в Москву, было
осведомлено о контактах деловых кругов Англии и Германии (Хадсон
упомянул о предстоящих переговорах между группами промышленни-
ков обеих стран). Касаясь своей беседы с главным дипломатическим со-
ветником британского Министерства иностранных дел Р. Ванситартом
199
14 марта, Майский так передал его слова о выступлениях Сталина и
Д.З. Мануильского на XVIII съезде ВКП(б): они “вызвали в английских
политических кругах сомнения в желании советского правительства со-
трудничать с западными державами”10. Примерно тот же вопрос поста-
вил перед послом Черчилль: что означает речь Сталина на XVIII съез-
де, отказ от сотрудничества с демократиями? СССР, ответил Майский,
всегда являлся сторонником коллективного отпора агрессорам, «но на-
до, чтобы и “демократии” готовы были бороться с агрессорами, а не
болтать»11.
Одной из важнейших проблем международной жизни после оккупа-
ции Германией Чехословакии стал вопрос о создании объединенного
фронта государств для противодействия фашистской агрессии. Британ-
ская дипломатия, как свидетельствует Майский на основе беседы с ми-
нистром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом 18 мар-
та 1939 г., негативно восприняла советское предложение о немедленном
созыве конференции представителей Англии, Франции, СССР, Турции,
Польши и Румынии - наиболее заинтересованных в предотвращении
агрессии государств, назвав такой шаг преждевременным12.
18 апреля по вызову Литвинова Майский вылетел в Москву для уча-
стия в обсуждении перспектив тройственного пакта взаимопомощи ме-
жду СССР, Великобританией и Францией (накануне свои предложения
на этот счет выдвинуло советское правительство). 21 апреля на заседа-
нии в Кремле у Сталина Майскому, в частности, была поставлена в ви-
ну несанкционированная встреча в Хельсинки с министром иностран-
ных дел Финляндии Э.Эркко. Утечка информации в печать о предпола-
гаемом “мирном фронте” вызвала раздражение Сталина. В изданных
Майским воспоминаниях он умолчал об этом эпизоде13. Ничего не ска-
зано о нем и в дневнике.
Мы не найдем также объяснения причин или просто предположе-
ний советского посла насчет отставки Литвинова 3 мая 1939 г. Она, оче-
видно, не была неожиданной после критики наркома В.М. Молотовым
21 апреля. Как замечено исследователями, замена Литвинова означала
утверждение линии Сталина и Молотова, подвергавших после Мюнхе-
на сомнению возможность договоренностей с Западом о коллективной
безопасности14.
Знакомство с записями в дневнике, сделанными в начале мая
1939 г., создает впечатление, что Майский стремился как бы развеять
такие сомнения, доказать неизбежность уступок со стороны британско-
го правительства. 2 мая, приведя убедительные примеры непоследова-
тельности британской политики, нежелания Чемберлена и других ми-
нистров отказаться от мюнхенского курса, посол тем не менее выразил
уверенность, что британский кабинет, “подгоняемый массами”, пойдет
на заключение тройственного блока с СССР и Францией: «...я склонен
смотреть оптимистически на “генеральную линию” развития англо-со-
ветских отношений»15. Майский ожидает и считает неизбежным изме-
нение британской политики в пользу СССР. 9 мая, вслед за появившей-
ся в газете “Таймс” статьей с новым призывом к умиротворению Герма-
нии, он уверяет: «Время “appeasement” прошло. И хочет этого Чембер-
200
лен или не хочет, а придется ему идти на крупные уступки нашей точке
зрения. Такова логика положения»16.
Уже скоро впрочем неоправданный оптимизм уступает место скеп-
тическим прогнозам. Интересно в этом смысле подробное описание но-
вого путешествия Майского в Женеву и пребывание там 21-27 мая
1939 г. в качестве председателя на сессии Совета Лиги наций. 22 мая
Майский встретился с Галифаксом, который просил объяснить мотивы
отклонения Москвой последних британских предложений от 8 мая
1939 г. о пакте СССР, Англии и Франции. Британские предложения, как
и ранее, предусматривали одностороннюю гарантию только Польше,
Румынии и Советскому Союзу. Посол дал понять министру, что совет-
ское правительство готово в интересах достижения соглашения пойти
на уступки по второстепенным вопросам, но настаивает на важнейших
трех пунктах: тройственный пакт взаимопомощи, военная конвенция,
гарантии безопасности для всех “малых” стран от Балтийского моря до
Черного17. При изложении своей беседы с Галифаксом Майский на-
стойчиво подчеркивает советскую позицию: для предотвращения вой-
ны необходимы тройственный пакт, подкрепленный военной конвенци-
ей, и “такая мощная концентрация сил мира, чтобы у агрессоров отпа-
ла самая мысль о возможности военного успеха”. «Если тройственный
пакт не принимается англо-французской стороной, - заявил советский
посол британскому министру иностранных дел, - нам гораздо целесооб-
разнее пойти путями изоляции и “относительной безопасности”»18.
Ни в политических, ни в военных переговорах, которые велись в
Москве с середины июня 1939 г. советским руководством с представи-
телями британского правительства, Майский непосредственного уча-
стия не принимал. Но на основе получаемых из разных источников све-
дений он дал в дневнике довольно точную их картину. В июле у него не
остается сомнений: Чемберлен саботирует переговоры с СССР, пыта-
ется “обработать” лейбористскую оппозицию19. 18 июля, на другой
день после встречи Молотова с британским послом в СССР У. Сидсом,
Майский упоминает о появлении у советской стороны сомнений по по-
воду успеха “всех этих не в меру затянувшихся переговоров”. “Судя по
некоторым симптомам, - записывает он, - не исключена возможность
разрыва в самом ближайшем будущем. Впрочем, поживем - увидим!”20.
21 августа Майский излагает общий ход англо-франко-советских
переговоров, включая зашедшие в тупик переговоры военных миссий
трех стран. “Еще раз становится ясно, - делает он вывод, - что Лондон
и Париж не думают всерьез о соглашении ... В воздухе пахнет какими-
то крупными решениями”. Был ли Майский осведомлен о близком по-
вороте во внешнеполитическом курсе СССР? Прямых свидетельств
этому нет. В дневнике приводится такой факт: о вылете в Москву Риб-
бентропа для заключения пакта о ненападении с СССР Майский узнал
от корреспондента “Интернешнл ньюс сервис”, позвонившего ему
21 августа около полуночи21.
Эмоциональны страницы дневника с рассказом о настроениях
в Лондоне в драматические дни конца августа 1939 г.: “...Англия стоит
на рубеже войны”. На спровоцированную 1 сентября 1939 г. нацистами
201
агрессию против Польши Майский в тот же день отреагировал так:
“Мир перешагнул сегодня через порог новой эпохи. И он выйдет из
этой эпохи совсем иным, чем в нее вступил. Близится время великих пе-
рестроек в жизни человечества”. Едва ли кто-либо мог тогда предста-
вить реальные масштабы и глубину всех тех потрясений, какие челове-
честву придется испытать в ближайшие годы. Покидая вечером парла-
мент, посол еще раз выразил убеждение: “...в мире произошло что-то
исключительно важное. Сделан первый шаг в стремительном беге со-
бытий, который должен привести Европу, а возможно, и весь мир к но-
вым берегам”22.
В записях 1938-1939 г. содержится богатый материал для исследо-
вания проблем общественной жизни Британии, позиции политических
партий и группировок, а также характеристики лидеров на разных эта-
пах предвоенного политического кризиса в Европе.
Еще в 1932 г., направляя Майского в Лондон, Литвинов наметил об-
щие директивы относительно его деятельности, нацеливая дипломата
на улучшение отношений с Англией - ведущей капиталистической дер-
жавой Европы. Первостепенной задачей нарком счел установление
прочных контактов с кругами консерваторов. С ними в отличие от оп-
позиции - либералов и лейбористов - советское правительство не име-
ло почти никаких связей23.
Майскому удалось завести знакомство с рядом видных деятелей
консервативной партии. Крупнейшей фигурой оппозиции был Уинстон
Черчилль. На первой же встрече с послом (июль 1934 г.) он объяснил,
что видит величайшую опасность для Британской империи, как он по-
лагал и в 1919 г., в Германии, а не в советской стране. Оставаясь против-
ником коммунизма, Черчилль выражал готовность во имя интересов
империи сотрудничать с Советами. При полном поощрении Москвы
Майский поддерживал с ним в довоенные годы отношения, имея в виду
подготовку совместного выступления против гитлеровской угрозы. Ко-
нечно, посол отдавал себе отчет в том, что Черчилль «в голове прики-
дывает, как бы получше использовать “советский фактор” ради сохра-
нения мировых позиций Великобритании»24.
Пригласив Майского на завтрак 23 марта 1938 г., через несколько
дней после аншлюса, Черчилль изложил свой план создания “великого
альянса” государств - союза Англии и Франции при косвенной под-
держке США и СССР. В телеграмме об этой беседе, которую Майский
на следующий день отослал в Наркоминдел, говорилось о “великом
альянсе” государств в рамках Лиги наций и при главенствующей роли
Англии, Франции и России (США уже не упоминались)25. В мае 1938 г.
план опять несколько видоизменился; к “великому альянсу”, как пред-
полагалось, СССР мог быть подключен на втором этапе, но на самом
деле Черчилль считал, что без СССР - огромного противовеса агрессо-
рам - из этой затеи ничего не выйдет26. Спустя же 20 лет, в условиях
“холодной войны”, о своих взглядах 1930-х годов Черчилль предпочи-
тал не вспоминать. В 1-м томе мемуаров Черчилля о второй мировой
войне относительно бесед с советским послом в 1938 г. ничего не сказа-
но, автор ограничился одной фразой: “Я отстаивал возможности фран-
202
ко-британо-русского союза как единственной надежды на приостанов-
ку натиска нацистов”27.
Телеграмма Майского о разговоре с Черчиллем 23 марта 1938 г. ци-
тировалась российскими историками. Английский историк Р. Эдмондс
также привел выдержку из этого документа с объяснением Черчиллем
мотива изменения его прежней позиции в отношении России: тесное со-
трудничество Англии, Франции и СССР необходимо в интересах Бри-
танской империи и противодействия планам мировой гегемонии Берли-
на. Существовал, по мнению академика В.Г. Трухановского, еще один
немаловажный мотив выступления Черчилля в роли знаменосца борь-
бы с Германией: “Это был путь, который вновь мог привести его к вла-
сти”28. Интересами борьбы с общей опасностью германской агрессии
в 1935 г. мотивировал свой поворот к сотрудничеству с СССР и газет-
ный магнат лорд Бивербрук, в недалеком прошлом один из инициато-
ров шумной антисоветской кампании29.
Дневник за 1938-1939 гг. содержит также и другие подтверждения
значимости “советского фактора” в заявлениях Черчилля30. Однако при-
оритет в его геополитических планах принадлежал американскому фак-
тору. Идеолог англо-американской “общности” Черчилль перед войной
доказывал, что в интересах США поддержка союза с Британией. 15 мар-
та 1939 г. он долго убеждал газетного магната Роя Говарда, что Англия
и Франция - первая линия обороны США “и что если эта линия будет
взята Германией, то немцы появятся в Южной Америке и Канаде и ста-
нут непосредственно угрожать Нью-Йорку и Вашингтону”31.
Важность привлечения США на сторону Британии признавали и не-
которые другие видные деятели консервативной партии, например ми-
нистр иностранных дел Антони Иден. В кабинете он принадлежал к
числу главных оппонентов Чемберлена, выражая несогласие с его недо-
оценкой США и Франции как вероятных союзников32. В числе прочего
это привело в начале 1938 г. к смещению Идена с занимаемого им по-
ста. В декабре того же года он посетил США, встретив там благожела-
тельный прием. В больших дебатах в палате общин (октябрь 1938 г.)
Иден в отличие от Черчилля и других депутатов не подверг мюнхен-
скую политику Чемберлена критике33. Но в частных беседах, например
с Я. Масариком, он раскрывал свою позицию. После одного из разгово-
ров с Масариком Майский записал: Иден призывает Чехословакию не
сдаваться. «Единственный способ предупредить войну - это создание
“оси” Лондон-Париж-Москва с дружественным тылом в лице США.
Но разве Чемберлен на это способен? Его линия - игнорировать СССР,
как если бы эта гигантская держава вообще не существовала. Пакт 4?
Без СССР такой пакт просто чепуха»34.
Можно предположить, что осторожность Идена во многом объяс-
нялась слабостью влияния членов консервативной партии, несогласных
с правительственной политикой. Как-то он сообщил Майскому о таком
раскладе партийных сил: оппозиция насчитывает около 50 человек; по
крайней мере столько же членов молча ей сочувствуют; Чемберлена
поддерживают около 100 человек, а остальные можно считать “боло-
том”33.
203
Ориентация Черчилля и Идена на США еще не одобрялась безого-
ворочно всеми политиками. Чемберлен критически оценивал перспек-
тиву союза с США, считая, в частности, что Британии придется слишком
дорого его оплатить. Известные сомнения, но иного рода, существовали
у лорда Лотиана, который подчеркивал силу позиций изоляционизма
США. Но он же отмечал: президент Ф.Рузвельт, руководители армии и
флота все больше осознают, что падение Британской империи означало
бы величайшую опасность для США, так как господство на морях пере-
шло бы к Германии, Японии и Италии, и Америка была бы поставлена
под удар. “Тем не менее для данного момента на САШ, как на активную
силу в международных делах, рассчитывать не приходится”, - таково
было мнение Лотиана36. В 1940 г. на посту посла Британии в США Ло-
тиан предпринимал активные шаги к получению американской помощи.
Высказывались, впрочем, и противоположные точки зрения. Реда-
ктор консервативной газеты “Обсервер” Д. Гарвин, упоминал Майский,
в последней статье «обсуждает вопрос о шансах “альянса” между
Англией, Францией и Советским Союзом! Правда, он приходит к выво-
ду, что СССР - несколько сомнительная величина и что лучше ориен-
тироваться на САШ...»37
Ценны части дневника 1938-1939 гг., позволяющие уточнить пози-
цию лейбористов и либералов. Близкие отношения у Майского устано-
вились со старейшим деятелем либеральной партии Д. Ллойд Джорд-
жем. Частые встречи, доверительный обмен мнениями и информацией
не исключали вначале расхождений по некоторым вопросам (в 1935 г.
Ллойд Джордж, например, после посещения Гитлера высоко о нем от-
зывался). В отношениях Майского с Ллойд Джорджем наблюдались “то
приливы, то отливы”. Но с 1937 г. последний “уже твердо держал курс
против фашистских диктаторов”, за сотрудничество с СССР38.
Он порицал творцов политики умиротворения, неоднократно выражал
уверенность в том, что ни британское, ни французское правительства
не предпримут эффективных мер для защиты Чехословакии от герман-
ского агрессора. Резкое заявление сделал Ллойд Джордж по поводу
подписанного в Мюнхене соглашения39.
Касаясь британской тактики на переговорах 1939 г. о тройственном
союзе, Ллойд Джордж утверждал, что Чемберлен не отказывается от
мысли уклониться от заключения союза с СССР. А при первом же из-
вестии о предстоящем подписании советско-германского договора о не-
нападении Ллойд Джордж заявил Майскому: “Я этого давно ждал... Как
вы могли так долго разговаривать с этим (британским. - Авт.) прави-
тельством?”40.
Разумеется, Ллойд Джордж уже не задавал тон и направление поли-
тике Великобритании, как это было в бытность его пребывания пре-
мьер-министром (1916-1922) и главой британской делегации на Париж-
ской мирной конференции 1919-1920 гг. И все же к его голосу в прессе
и парламенте, критике им Чемберлена (а впоследствии и Черчилля)
прислушивались многие европейцы.
Позиции либеральной партии все больше ослабевали после первой
мировой войны, ведущая роль в оппозиции во второй половине 1930-х
204
годов перешла к партии лейбористов. Майский раскрывал, с одной сто-
роны, непоследовательность лидеров лейборизма в пред- и послемюн-
хенский период. Нелестно отзывался он об У.Ситрине, который на
съезде Британского конгресса тред-юнионов в Блэкпуле в начале октя-
бря 1938 г. выступил против принятия радикальных решений о под-
держке Чехословакии. Критиковал посол лейбористских деятелей за
то, что в палате общин 28 сентября они поддержали идею поездки бри-
танского премьера на переговоры в Мюнхен41.
С другой стороны, в дневнике отображены попытки лейбористских
лидеров К. Эттли, Гринвуда и X. Долтона, направленные на то, чтобы
заставить британское правительство изменить политику в чехословац-
ком вопросе. Чемберлен, принимавший у себя лейбористскую делега-
цию, категорически отказался, ссылаясь, в частности, на “неясность”
намерений России. Лейбористы возразили, заявив, что информация
премьера о позиции СССР противоречит речи М.М. Литвинова на пле-
нарном заседании Ассамблеи Лиги наций 21 сентября 1938 г.42. В ходе
парламентских дебатов 3-6 октября лейбористская оппозиция обвиняла
правительство в игнорировании СССР, в нежелании тесного сотрудни-
чества между Лондоном, Парижем и Москвой43.
Майский, отметив высокий уровень организованных лейбористами
митингов в стране, упомянул, что С. Криппс, Г. Моррисон, X. Долтон
“констатируют большое возбуждение в рабочих массах и одновременно
большую растерянность”44. В первые дни после Мюнхена, как считал
Майский, шансы на формирование античемберленовской коалиции бы-
ли невелики (с этим соглашался Литвинов)45. По данным редактора ли-
беральной “Ньюс кроникл” У. Лейтона, положение Чемберлена было
прочным (safe), “ибо по крайней мере 70% избирателей сейчас безус-
ловно за него”46. Значительная часть населения хорошо помнила ужасы
первой мировой войны и ее крупные потери, охотно прислушивалась
к пропаганде “мира в наше время”. В дальнейшем расстановка сил ме-
нялась.
В дневнике охарактеризованы более ясно выраженные с весны
1939 г. настроения широких масс населения Британии в пользу борьбы
с нацистской Германией. “Необходимость сопротивления агрессии ста-
новится всеобщим убеждением, - записал 2 мая 1939 г. советский по-
сол. - Отсюда готовность страны принять конскрипцию (закон о введе-
нии всеобщей воинской повинности был принят правительством в кон-
це апреля 1939 г.-Авт.). Лэбористская оппозиция конскрипции несерь-
езна и уже начинает разваливаться. Отсюда же колоссальная популяр-
ность идеи союза с СССР. На митингах и собраниях во всех частях стра-
ны каждое упоминание о таком союзе вызывает бурные овации”.
Не только рабочие, но и представители буржуазии, особенно мелкой,
“идут впереди правительства и требуют тройственного блока Англии,
Франции и СССР”47.
Неудивительно, что лейбористские деятели Долтон, Моррисон,
Ситрин в конце июня от имени Национального совета труда выразили
Чемберлену беспокойство по поводу затягивания переговоров с СССР48.
Тем не менее Галифаксу удалось склонить лейбористов к признанию
205
советской формулы косвенной агрессии “опасной”. Кампания британ-
ского правительства «оказывает разлагающее влияние даже на кое-ка-
ких наших “друзей” в лейбористских и левых кругах», - пришел к выво-
ду посол, упомянув в этой связи Гринвуда, Долтона и членов Конгресса
мира и дружбы49.
* * *
3 сентября 1939 г. Англия и Франция объявили войну Германии.
В дневнике прослежена эволюция взглядов официальных и обществен-
ных кругов Англии на события осени - начала зимы, в том числе на
вступление армии СССР в Польшу, его акции против Финляндии.
В день пересечения советскими войсками границы с Польшей (17 сентя-
бря) Майский спрашивает себя: какова будет реакция Англии, объявит
ли она войну СССР, разорвет ли с ним дипломатические отношения?
“Не думаю, - предполагает он. - Такая политика ей сейчас явно не по
силам. Наоборот, она будет всемерно избегать всего того, что могло бы
еще больше отягчить ее и без того трудное положение и способство-
вать укреплению связей между СССР и Германией”. Посол не только
фиксирует сделанное британским правительством 18 сентября “беззу-
бое заявление, даже не протест” по поводу советских действий в Поль-
ше, но и вновь пишет об ожесточенных нападках всей прессы, особен-
но лейбористской, на советско-германский договор о ненападении, от-
мечает критику его политическими и общественными деятелями50.
20 сентября Майский сообщает в НКИД: из разговоров в кулуарах
с членами палаты общин видно, что в Лондоне очень довольны выхо-
дом советских войск на польско-румынскую границу, в этом усматрива-
ют стремление СССР поставить преграду продвижению Германии в Ру-
мынию и вообще к Черному морю. Он ссылается на речь в парламенте
Р. Бутби - депутат-консерватор появление советских войск на польско-
румынской границе оценил как положительный факт с точки зрения
национальных интересов Англии51.
Заключение договора о дружбе и границе между СССР и Германи-
ей 28 сентября 1939 г., как отмечено в дневнике, было с раздражением
встречено в политических кругах Британии, но реакция правительства
оказалась относительно спокойной52. Министры британского кабинета
определенно не хотели ссориться с Россией в условиях войны с Герма-
нией и тем самым толкать ее в объятия Гитлера. Совершенно ясно вы-
сказался Черчилль, ставший в сентябре военно-морским министром.
В первой речи, которую он с начала войны произнес 1 октября 1939 г.
по радио, Черчилль назвал Россию “загадкой, покрытой мраком неиз-
вестности”, но повторил основные выводы своей записки военному ка-
бинету (от 25 сентября), а именно: создан “восточный фронт” против
Германии; в общих интересах Британии, Франции и России предотвра-
тить распространение нацистами войны на Балканы и в Турцию53. Чем-
берлен заявил о своем согласии с этим выступлением Черчилля.
Первая встреча Майского с Черчиллем, теперь министром Кабине-
та, состоялась в здании адмиралтейства 6 октября. В дневнике детально
воспроизведен их диалог о состоянии англо-советских отношений, под-
206
черкнуто мнение Черчилля об отсутствии между двумя странами серь-
езных противоречий. Впечатляют слова Черчилля: “Нацизм должен
быть сокрушен раз и навсегда. Пускай Германия становится большеви-
стской. Это меня не пугает. Лучше коммунизм, чем нацизм”54.
О возможных мерах к улучшению англо-советских отношений
у Майского в октябре зондировали почву, кроме того, министр здраво-
охранения У. Эллиот и А. Иден (он получил пост министра по делам до-
минионов), отмечая желание британского правительства “восстановить
более дружеские контакты”. Молотов в своих указаниях послу в Лондо-
не (11 ноября 1939 г.) подчеркивал: теперешнюю политику Англии оп-
ределяют не Черчилль, Иден и Эллиот, британские власти занимают в
отношении СССР враждебную позицию55. Но Майский не упускал слу-
чая, чтобы побеседовать именно и с этими лицами.
К 1945 г., как известно, концепция “великого альянса” у Черчилля
существенно трансформировалась. Неприятие коммунизма, советского
господства в Восточной Европе зашло у него опасно далеко56. В начале
же второй мировой войны ситуация была совершенно иной. 13 ноября
1939 г. он подтвердил советскому послу, что Россия имеет все основания
и должна быть доминирующей державой в Балтийском море (в этом
“британский интерес”), а советские требования к Финляндии оправдан-
ны. Что касается вопроса о желательности улучшения англо-советских
отношений, то Черчилль сделал любопытное признание: “Ваш пакт
о ненападении с Германией развязал войну, но я не в претензии на вас.
Я даже доволен. Я давно чувствовал, что нужна война с Германией”.
Без пакта, как он был уверен, Англия тянула бы, быть может, до того
момента, когда уже не смогла бы выиграть войну; теперь же она ее вы-
играет57. О секретном протоколе к договору от 23 августа 1939 г. Чер-
чилль мог не знать.
У советского посла в отличие от Черчилля уверенности в благопри-
ятном для Англии исходе войны не было. Сравнивая месяцем раньше
внутриполитическую обстановку в Британии в 1939 г. и в 1914 г., Май-
ский допустил, что Чемберлену легче вести войну, чем в свое время
Асквиту (лидер враждующей с Ллойд Джорджем группировки либера-
лов). “Но вместе с тем капитализму пережить нынешнюю войну неиз-
меримо труднее, чем прошлую. Мне думается, что он ее вообще не пе-
реживет, по крайней мере в Европе”58. Напомним, что такой вывод ча-
стично оправдался.
В дневнике, как и в своих донесениях в Москву, посол часто возвра-
щался к оценкам позиции различных политических партий и общест-
венных сил Британии. «Если оставить в стороне компартию (в которой
тоже не все гладко по вопросу о войне), то, - писал он в октябре
1939 г., - в остальном рабочем движении нет ни влиятельных организа-
ций, ни крупных “национальных” фигур, ведущих борьбу против войны.
Наоборот, Transport House и лейбористская фракция бешено воинствен-
ны». И основная масса лейбористов, считал он, настроена более воинст-
венно, чем консерваторы59.
В 1939 г. посол заметно преувеличивал значение выступлений от-
дельных лейбористов и местных организаций партии против официаль-
207
ного курса лейбористского руководства на поддержку участия Англии
в войне с Германией. По его подсчетам, в ноябре около половины фрак-
ции было “заражено” не желательными для партийных лидеров идеями.
Правда, признал он, “машина лейбористского движения еще крепко
в руках Transport House, и борьба против нее будет нелегка”60. Можно
с полным основанием сделать вывод, что в оценке отношения Британии
к войне посол в то время исходил из установки советского руководства
на признание войны империалистической для обеих сторон - как Герма-
нии, так и англо-французской коалиции. Между тем из бесед со многи-
ми англичанами Майский получал информацию иного рода. Ллойд
Джордж, например, с сентября 1939 г. подтверждал решимость общест-
ва поддержать борьбу с нацистским рейхом и довести ее до победного
конца61.
С осени 1939 г. фокус мировой политики смещается в сторону Фин-
ляндии. Вооруженный конфликт с этой страной, предвидит Бивербрук,
явится для британского общественного мнения еще большим шоком,
чем советско-германский пакт о ненападении62. Почему британская ди-
пломатия не проводит в “финском вопросе” просоветскую линию? - ин-
тересуется Майский у Эллиота. Тот основную причину видит в имею-
щихся у Англии и СССР глубоких взаимных подозрениях. Эллиот упо-
минает и о сильных профинских настроениях в общественном мнении
своей страны, а также о давлении, которое на правительство оказыва-
ют лейбористы, тесно связанные с финскими социал-демократами и ко-
операторами63.
Советский посол освещает разные фазы (“волны”) антисоветской
кампании в Англии, спады и стабилизацию ее отношений с СССР.
После начала войны СССР с Финляндией в дневнике появляется за-
пись: “Реакция в Англии бешеная. Печать, радио, кино, парламент -
все мобилизовано”. Одновременно отмечается выжидательная пози-
ция официальных кругов. Майский не уверен, однако, как поведет
себя британское правительство, если война с финнами затянется.
“Думаю все-таки, - верно предсказал он, - что на открытую военную
помощь Таннерам и Каяндерам Чемберлен не пойдет: не захочет до-
полнительно к Германии иметь еще СССР в качестве противника в ев-
ропейской войне”64.
В дневнике проводится различие между двумя курсами европей-
ской политики. С одной стороны, Майский отмечает линию большин-
ства министров в Лондоне на “нейтрализацию” СССР, объясняя ее
стремлением правительства облегчить для Британии условия ведения
ею борьбы с Германией. Эту цель, в частности, преследовали англий-
ские заверения о желательности улучшить отношения с СССР и пред-
ложения министра торговли О. Стэнли. С другой стороны, “француз-
ская концепция” (так определял посол цели Э. Даладье и генерала Га-
мелена) была направлена на подрыв нейтралитета СССР и его втяги-
вание в войну65.
В Дневнике И.М. Майского за 1940 год продолжено критическое
рассмотрение политики правительства Чемберлена, нюансов его отно-
шения к СССР в ходе зимней войны. Полагая, что Британия едва ли ста-
208
нет всерьез помогать финнам, посол подчеркивает, что она не прочь ис-
пользовать “скандинавский фронт” против СССР66. Бивербрук, впро-
чем, предостерег, что в правительстве и общественном мнении есть
серьезные элементы, выступающие за вмешательство в советско-фин-
скую войну даже с риском спровоцировать разрыв отношений с СССР.
Сам Бивербрук был против разрыва и считал, что англичане могут
“аплодировать финской храбрости, но не должны посылать в Финлян-
дию оружие и амуницию”67.
В конце января 1940 г. Майский отметил ряд моментов: британское
правительство готовится к отправке в Финляндию “по испанскому об-
разцу” корпуса добровольцев, причем не англичан, а канадцев; “общая
кривая советско-английских отношений все еще продолжает идти
вниз”; об этом в числе другого свидетельствовало изменение позиции
Черчилля не в пользу СССР (речь 20 марта); хотя Чемберлен лавирует
и еще не готов к разрыву с СССР, премьер такую возможность не ис-
ключает; вопрос об оказании помощи Маннергейму приобретает для
Лондона особое значение в связи со стремлением вовлечь в войну нейт-
ральные страны68. Стремясь подтолкнуть Швецию и Норвегию к от-
крытой интервенции в Финляндию, Англия всячески раздувает страхи
этих стран перед СССР; но пока этого не достигнуто, ограничивается
отправкой в Хельсинки оружия и организацией “стимулированного во-
лонтерства” (выражение Бивербрука)69.
Прорыв советскими войсками в начале февраля 1940 г. линии
Маннергейма на западном участке, как видно из дневника, побудил
Чемберлена и некоторых других политиков к большей сдержанности
в вопросе о поддержке Финляндии, причем эта группа политиков име-
ла перевес. Кампанию за оказание финнам помощи, включая связан-
ную с риском прямую посылку войск, продолжали вести военный ми-
нистр Л. Хор-Белиша, либералы с их лидером А. Синклером и газетой
“Ньюс кроникл”, а также “Санди тайме”. В Англии, указывал Май-
ский, широко распространены опасения насчет того, что СССР и Гер-
мания являются союзниками или скоро будут таковыми (опасения уси-
лились после заключения 11 февраля 1940 г. советско-германского
хозяйственного соглашения). Отсюда, в частности, изменение пози-
ции Черчилля (впрочем, точных сведений у посла не было) и Хор-Бе-
лиша70.
Как и в других случаях, отмечено, что Франция занимает по сравне-
нию с Англией “менее благоразумную позицию”; на заседании Верхов-
ного военного совета союзников в Париже 5 февраля французские
представители настаивали на разрыве с СССР и предложили отправить
в Финляндию экспедиционный корпус. “Чемберлен и Галифакс, правда,
отнеслись к данному предложению прохладно, но все-таки...”71
Говоря о переговорах, завершившихся подписанием мира между
СССР и Финляндией 12 марта 1940 г., Майский указывает на незаинте-
ресованность британского правительства в прекращении зимней войны.
Это было обусловлено, в числе прочего, тем, что война, с точки зрения
Лондона, ослабляла СССР и его возможности снабжать Германию
сырьем и продовольствием. “Вот лицемерие!” - восклицает посол в
14 Россия и Британия Вып 3
209
связи с уверениями Чемберлена лейбористским лидерам, будто он
за скорейшее заключение мира72. Если английские газеты называли
условия мирного договора “невозможными”, “унизительными”, то
Ллойд Джордж счел их вполне удовлетворительными. Он показал Май-
скому письмо известного английского историка Б. Лиддел Гарта, кото-
рый расценил условия с военной точки зрения как умеренные и даже
мягкие73.
С подписанием мирного договора, надеялся Бивербрук, “ушел ост-
рый момент из англо-советских отношений, открывается возможность
их улучшения”74. Заметно изменилось поведение лидеров лейборист-
ской партии и ее главного органа “Дейли геральд”, занявшей необычно
“мягкую” позицию в вопросе о советско-финляндских переговорах и ус-
ловиях мира. X. Долтон в беседе с Майским 15 марта заявил: лейбори-
сты считают, что СССР совершил акт агрессии против Финляндии, но
признают тот факт, что финская глава “закрыта”; они хотели бы поско-
рее восстановить с СССР дружеские отношения. Спустя месяц состоя-
лось, подтверждает Майский, “восстановление дипломатических отно-
шений” лейбористской партии с советским полпредством75.
Зимняя война окончилась, но Майского не покидает чувство трево-
ги. “Никто не думает о нависшей грозе, которая вот-вот ударит!..
И вдруг страшный крах и грохот!... Пришла катастрофа”76. У Ллойд
Джорджа еще раньше не осталось сомнений - затишье на Западном
фронте кратковременно. “Я жду, что весной, вероятнее всего в марте,
немцы сделают большой удар против нас через Балканы”. Он не скры-
вал беспокойства и по поводу советских экономических поставок Гер-
мании77.
Окончание “странной войны”, поворот германской агрессии на За-
пад Европы, военное поражение англо-французских союзников, - эта
тема поглотила все внимание Майского в мае-июне 1940 г. Он подроб-
но характеризует политические события, предшествовавшие отставке
Чемберлена и вступлению на пост премьер-министра Черчилля. Пере-
дано крайнее напряжение дебатов в палате общин 7-8 мая. Не смог по-
сол отказать себе в удовольствии изложить версию о конце политиче-
ской карьеры Хораса Вилсона. 10 мая 1940 г. в 11 часов утра Вилсон, по
своему обыкновению, явился в офис, располагавшийся рядом с кабине-
том Чемберлена. Там уже сидели сын Уинстона Черчилля Рандолф и
Брендан Бракен (в прошлом редактор “Файненшл ньюс”, с лета 1941 г.
министр информации). Новый глава правительства обратился к вошед-
шему со словами: “Сэр Вилсон, я слышал, у вас очень много работы
в министерстве финансов”. Если, добавил Черчилль, станет известно
о каких-либо иных, помимо министерства, занятиях Вилсона, то для
него найдется другая работа, к примеру “в качестве губернатора Ис-
ландии”78.
Говоря о банкротстве Чемберлена, посол замечает, что к власти в
Англии “пришла коалиция более гибких и дальновидных консервато-
ров типа Черчилля и Идена с лэбористско-либеральными элемента-
ми”. Однако и в мае, и в июне 1940 г. Майский критикует “вопиющую
слепоту” правящих классов Англии и Франции, даже пишет о “паде-
210
нии великой капиталистической цивилизации, напоминающей по сво-
ему значению падение Римской империи”79. Подобного рода преуве-
личения, можно думать, возникли под влиянием капитуляции Франции
и пессимистических выводов таких собеседников, как Ллойд Джордж
(“...Нами управляет плутократия. Она совершенно обанкротилась”)
и Дж. М. Кейнс. “Кейнс признался, что смотрит на будущее очень
мрачно. Господствующие классы Англии и Франции сгнили. Это со-
вершенно очевидно”, - записал Майский после посещения Кейнса
12 июня80.
Параллельно в дневнике еще с мая 1940 г. получает развитие другая
тема - о широком одобрении в Британии курса на продолжение борьбы
с нацистской Германией. И Ллойд Джордж, и Кейнс, и Веббы, с кото-
рыми посол продолжал поддерживать тесные связи, не сомневались:
Англия будет сопротивляться долго, упорно, “воевать до конца”81. Как
это множество раз подтверждается Майским, такую же позицию зани-
мало большинство населения страны.
В начале июля акцию с потоплением французского плота в Оране,
предотвратившую его переход в руки нацистов, поддержали все круги
британского общества. Позиции правительства, престиж Черчилля ук-
репились, в стране ширились настроения в пользу смещения Д. Саймо-
на и других министров-мюнхенцев; Чемберлену в военном кабинете,
сформированном 10 мая, был отдан пост заместителя премьера. Движе-
ние идет снизу, со стороны крупных тред-юнионов, писал советский по-
сол, но оно развивается также в недрах консервативной партии - “несо-
мненно консервативное большинство против Чемберлена (особенно
представители армии, флота и авиации)”. Но партийная машина и неко-
торые другие влиятельные силы хотят сохранить Чемберлена и К°82.
После отклонения британским правительством 19 июля “мирного” при-
зыва Гитлера сторонники соглашения с Германией временно умолкли;
общественные настроения в Британии сильнее всего проявились в тре-
бовании: “Не пустим Гитлера на наши острова!”83
Агрессия Германии в Западной Европе поставила под угрозу наци-
ональную безопасность Великобритании, ее мировые интересы. Остав-
шись после поражения Франции без союзников в Европе, Британия
изыскивала возможности улучшения своих позиций. За несколько дней
до отставки Чемберлена Майский отметил, что в Форин оффис имеют-
ся два течения - за и против переговоров с Москвой: “Чья-то рука все
время саботирует улучшение англо-советских отношений”84. Новое
правительство предприняло шаги для ослабления связей СССР с Герма-
нией. Содержание послания Черчилля Сталину, история с назначением
Стаффорда Криппса новым британским послом в СССР, его прием в
Кремле 1 июля 1940 г. изложены во всех деталях85.
Важная встреча не могла не найти отражения в дневнике Майского,
несмотря на то что его держали в неведении относительно переговоров
в Кремле. Краткий перечень вопросов, поднятых Криппсом в беседе со
Сталиным в присутствии Молотова, советский посол составил на осно-
ве лишь косвенной информации, обозначив следующие темы: общая
политика, торговля, Балканы, Проливы86. Когда Галифакс (ему остава-
211
лось быть министром иностранных дел около полугода) пригласил
10 июля к себе Майского и заговорил о беседе Криппса с советским ли-
дером, то посол предпочел обойтись без уточнений. “Так как мне неиз-
вестно содержание беседы, о которой говорил Галифакс, то я, - заме-
тил Майский в тот же день, - счел за лучшее сохранять вежливое мол-
чание и предоставить слово министру иностранных дел”87.
Как бы то ни было, дневник, безусловно, дополняет опубликован-
ные в ХХШ томе “Документов внешней политики” донесения Майско-
го в Москву по вопросам англо-советских отношений. Автор дает хара-
ктеристику партийно-политической и общественной биографии Крип-
пса (“Социализм Криппса особый, английский - смесь религии, этиче-
ского идеализма и практических требований тред-юнионов”), дружест-
венной к СССР позиции нового посла; приведены примеры саботажа
Криппса чиновниками Форин оффис, его попыток изменить на более
благожелательный тон освещение британской печатью отношений
с СССР88.
Привлекут внимание также записи бесед Майского с министром
экономической войны X. Долтоном и заместителем министра иностран-
ных дел Р. Батлером. Долтон одобрительно комментировал действия
СССР в Прибалтике и, кроме того, рекомендовал не ограничиваться
только Бессарабией, а занять весь нефтеносный район Румынии. Дол-
тону, объяснил посол, очень хочется испортить наши отношения с Гер-
манией89. Р. Батлер в выступлении на секретной сессии парламента
30 июля осторожно оценил выгоды для Британии сближения с СССР,
но признал объективную выгоду для Лондона неизбежных трений и
конфликтов между СССР и Германией90.
По-прежнему часты в дневнике за 1940 г. ссылки на высказывания
Ллойд Джорджа. Важнейшей проблемой британской внешней полити-
ки последний считал сотрудничество с СССР. Англия одна или даже
вместе с США, был уверен он, не смогут победить Германию, “поэто-
му нужна Россия”; ключ к исходу войны лежит в руках СССР. 29 дека-
бря о своем разговоре с Черчиллем либеральный политик поведал
следующее: премьер-министр хотел бы улучшения англо-советских
отношений и будет в этом поддерживать Идена, но едва ли готов идти
так далеко, как Иден, ибо Черчилль хотел бы “выиграть войну” без
помощи СССР, чтобы ничем ему не быть ему обязанным91. Напом-
ним, что Иден только что, 23 декабря, приступил к исполнению своих
обязанностей главы дипломатического ведомства, заменив на этом по-
сту Галифакса. 27 декабря Иден пригласил к себе Майского и всяче-
ски подчеркивал отсутствие коренных противоречий между Англией
и СССР и свою приверженность коммюнике, выпущенному в конце
его визита в СССР в 1935 г. На поиск “общего языка” между обеими
странами, очевидно, и пытался подтолкнуть Ллойд Джордж, надеясь,
что с приходом Идена в Форин оффис открываются известные пер-
спективы92.
Небезынтересно обратиться к некоторым военным и международ-
ным вопросам, получившим отражение в Дневнике И. М. Майского за
первую половину 1941 г. Последовательно освещено здесь развитие на-
212
цистской агрессии на Балканах. 25 февраля появляется упоминание о
встрече премьер-министра Югославии Цветковича с Гитлером, кото-
рый потребовал вступления Югославии в “новую Европу”93. 2 марта, на
следующий день после присоединения к Пакту трех держав Болгарии,
состоялась, по сведениям Майского, беседа министра информации
Дафф Купера с “доверенными” дипломатическими корреспондентами
о балканской ситуации. Купер был настроен очень пессимистически,
он признал, что Англия испытывает большие затруднения с отправкой
на Балканы крупных войсковых соединений; у слушателей даже созда-
лось впечатление, что министр подготавливает их к предстоящей капи-
туляции Греции94. 9 апреля Черчилль проинформировал членов парла-
мента о стремительном продвижении германских войск, их нападении
на Югославию и Грецию, прорыве к Салоникам. Молниеносные дейст-
вия Германии явились неожиданностью для депутатов и самого пре-
мьер-министра, он сомневался в способности британских войск сдер-
жать натиск95.
В связи с балканской ситуацией Майский еще 15 марта высказал
предположение о близкой англо-германской “схватке”. В новую “пробу
сил” Британия, допустил он, вступает гораздо более крепкой и лучше
оснащенной, чем летом 1940 г.; однако “даже и сейчас она еще не гото-
ва к большому стратегическому наступлению против Германии”96.
Пробу сил нацисты замышляли тогда в первую очередь не с Бри-
танией; полным ходом они развернули приготовления к широкомас-
штабной агрессии против Советского Союза. Сведения на этот счет,
как теперь доподлинно установлено, поступали в Кремль из самых раз-
нообразных источников. Получал их в Лондоне и Майский. 4 апреля
1941 г. в дневнике с пометой “чехи сообщают” указано: через Прагу на
границу СССР продвигается большое количество войск; Географиче-
ский институт в Праге, давно перешедший в руки немцев, спешно изго-
тавливает подробные карты Украины97. Вопрос о предстоящем высту-
плении вермахта против СССР затронул в разговоре с советским пол-
предом 8 апреля главный дипломатический советник Форин оффис
Р. Ванситарт. Министр информации Б. Бракен, встретившись с Май-
ским на следующий день в кулуарах парламента, полушутя советовал
России “поскорее снять указатели дорог на Украине”. 30 апреля, впро-
чем, отвечая Майскому, Бракен утверждал, будто ничего точно о не-
мецких приготовлениях против СССР британскому правительству не-
известно98.
Как Майский оценивал тогда военно-политическую ситуацию?
В день вторжения вермахта в Югославию и Грецию (6 апреля
1941 г.) он записывает: “...своей политикой на Балканах Германия фа-
тально заставляет СССР поворачиваться фронтом против нее. Это не
значит, что СССР бросится в войну против Германии”. Правда, добав-
ляет он, СССР не может примириться с расположением германских тя-
желых батарей в Констанце и Бургасе99. Однако, и излагая передавае-
мые ему факты о передислокации германских войск к советским грани-
цам, посол сомневается в возможности и тем более неотвратимости на-
падения на СССР. Позже он намечает два варианта вероятного поведе-
213
ния Гитлера: 1) нажим Германии на Турцию в целях выхода в Малую
Азию и Египет; 2) захват немцами Гибралтара, Северной Африки и вы-
ход в Иран и Ирак100. Ни один из вариантов, иными словами, не преду-
сматривал каких-либо германских акций против СССР. «Было ясно, -
делает вывод Майский после разговора с Бракеном 30 апреля, - что вся
кампания бритпра (британского правительства - Авт.) и английской
печати о предстоящем нападении Германии на СССР не имеет под со-
бой никакой серьезной базы и что она является продуктом “Der Wunsch
ist der Vater des Gedankens”»101 (“желание - это отец мысли”). Тем не ме-
нее в назначении Сталина Председателем СНК СССР он слышит “сиг-
нал”: война приближается к советским границам: “Наступает время
больших и малых решений. Сталину необходимо самому держать руку
на руле”102.
Судя по наблюдениям советского посла, британские политики по-
разному прогнозировали ход войны и развитие отношений с СССР.
Ллойд Джордж, например, высказывал уверенность, что центром ста-
новится Египет. «С полусмехом, - читаем мы в дневнике, - старик вос-
кликнул: - “Война будет решаться у пирамид”». Новый пост Сталина он
также счел явным симптомом приближения опасности к границам
СССР и необходимости принятия советским правительством в ближай-
шем будущем, возможно еще до конца мая, решений чрезвычайной
важности. Но что имел при этом в виду Ллойд Джордж? Первое из та-
ких решений, как он пояснил, “пропускать или не пропускать Германию
на Ближний Восток?” Либеральный политик был убежден в том, что
Германия не рискнет сейчас на вооруженный конфликт с СССР, что
выиграть войну Англия может только с помощью СССР. Ставку Чер-
чилля на США он вновь подверг критике, подозревая эту страну в анне-
ксионистских намерениях103.
Дипломатический корреспондент “Обсервер” Д. Глазгоу, напротив,
скептически рассматривал шансы на сближение Англии как с США, так
и с СССР, не без основания полагая, что оба эти государства в то время
не склонны были менять свою позицию нейтралитета, “сторонних
наблюдателей”; помощь из-за океана обещана только на 1942 г., -
“Америка ничего не дает даром”104.
Что касается британского правительства, то оно, как подчеркива-
ется в дневнике, занимало позицию строгой сдержанности в отношени-
ях с СССР. В начале мая, как рассказывал Майскому посланник Шве-
ции в Лондоне Б. Прюц, он поинтересовался у Черчилля, станет ли
СССР в случае нападения на него Германии союзником Англии. С бе-
шенством в голосе премьер-министр ответил: “Чтобы разгромить Гер-
манию, я готов пойти на союз с кем угодно, хотя бы с самим чертом,
дьяволом!”105 В действительности же об официальном оформлении со-
юза с СССР в тот момент речь не шла. За два дня до разговора с Прю-
цем сам Майский оценил перспективы улучшения советско-английских
отношений “мало оптимистично”. Как можно понять, посол связывал
это с линией рассуждений Черчилля; считая войну между СССР и Гер-
манией неизбежной, премьер предпочитал подождать, “когда на со-
ветских границах загремят немецкие пушки” и СССР сам придет к
214
Англии106. Именно об этом же Майскому еще месяцем ранее говорил
Ллойд Джордж107.
Из других источников известно, что 22 апреля 1941 г. Черчилль не
одобрил идею Криппса и Идена обратиться с предложением к Москве
по вопросам торговли; премьер-министр рекомендовал проявить в от-
ношении СССР “угрюмую сдержанность”108. Известно и другое - со-
ветский ответ на поставленный 24 февраля 1941 г. по личной инициа-
тиве Криппса вопрос о возможности приезда в Москву Идена и встре-
че его со Сталиным. “Советское правительство считает, - сообщил
25 февраля первый заместитель наркома иностранных дел СССР
А.Я. Вышинский британскому послу, - что сейчас еще не настало вре-
мя (выделено нами. - Авт.) для решения больших вопросов путем
встречи с руководителями СССР, тем более что такая встреча полити-
чески не подготовлена”. Впрочем Вышинский не исключил наступле-
ния такого времени “когда-либо в будущем”, но добавил, что “в буду-
щее заглядывать трудно”109.
7 июня, как упоминает Майский, Черчилль созвал редакто-
ров ежедневных газет и информировал их о военной ситуации. На во-
прос о состоянии англо-советских отношений премьер ответил,
что попытки их улучшить оказались бесполезными, что лучше всего
предоставить события их естественному ходу. Столкновение между
СССР и Германией неизбежно, заявил он далее; концентрация немец-
ких войск на советской границе идет быстрыми темпами, надо вы-
ждать. Министру информации Д. Куперу Черчилль дал указание раз-
вернуть (помимо Форин оффис) кампанию насчет близости советско-
германской войны110. Таким образом, как будто оправдывались подо-
зрения советского дипломата относительно стремления Британии
сознательно сгустить краски с тем, чтобы подтолкнуть Германию на
Восток111.
В интересы Великобритании входило отвлечение сил германского
агрессора на борьбу с СССР. Было бы ошибочным, вместе с тем не
вспомнить, что за неделю до начала Великой Отечественной войны
глава британского правительства телеграфировал президенту США
о завершающих приготовлениях Германии к нападению на Россию.
В этом случае, говорилось в послании Черчилля Рузвельту от 15 июня
1941 г., “мы, конечно, окажем русским всемерное поощрение и помощь,
исходя из того принципа, что враг, которого нужно разбить, - Гитлер”.
Американский президент через своего посла в Лондоне Д. Вайнанта пе-
редал Черчиллю, что он немедленно поддержит “любое заявление,
которое может сделать премьер-министр, приветствуя Россию как
союзника”112.
Считал ли на самом деле Майский предостережения и информа-
цию о неизбежной агрессии Германии против СССР только маневром
британской дипломатии, заинтересованной в столкновении двух кон-
тинентальных держав? Последние перед 22 июня 1941 г. записи в
дневнике позволяют думать, что таково было направление мысли ав-
тора. 18 июня, после откровенной беседы с Криппсом (тот подтвер-
дил свои неоднократные предупреждения о предстоявшем герман-
215
ском нападении), Майский все еще сомневался и спрашивал себя:
“Неужели Гитлер нападет на нас?.. И так и не пришел ни к какому вы-
воду”113.
Утро 21 июня советский посол встретил в Бовингтоне, загородном
поместье бывшего премьера республиканского правительства Испании
Хуана Негрина, где Майские обычно проводили уик-энд. Одно трево-
жило посла: неужели война? “В последние 2-3 недели атмосфера Лон-
дона насыщена ожиданием германской атаки против СССР. Об этом
пишет пресса, об этом говорят в кулуарах парламента, об этом не раз
поминал Черчилль в своих публичных выступлениях, об этом мне уже
несколько раз заявлял Иден, одновременно предлагая нам помощь
бритпра114, об этом мне с абсолютной уверенностью всего лишь три дня
назад сообщил Криппс...” Но Майскому все еще не очень-то верится:
может быть, это всего лишь проявление британского wishful thinking
(принятие желаемого за действительное. - Авт.)115.
В тот же день Майскому пришлось выехать в Лондон, чтобы при-
нять в советском посольстве в 16 час 30 мин Криппса. Тот сообщил за-
служивавшие исключительного внимания сведения: Германия нападет
на СССР возможно 22 июня, или, по-видимому, 29 июня. Вечером
21 июня, вернувшись в Бовингтон, Майский, по его словам, “уже при-
шел к выводу, что Гитлер на этот раз не блэффирует, а думает о серь-
езном нападении. Однако верить в это все-таки не хотелось”116.
Не полагаем возможным ни чрезмерно строго судить Майского,
ни соглашаться со всеми его выводами. Трудно абстрагироваться от
той чрезвычайно трудной обстановки, в какой послу летом 1941 г.
приходилось выполнять свою миссию. Нельзя забывать и о взаимных
подозрениях и недоверии, постоянно осложнявших отношения обеих
стран. Все еще остаются, кроме того, некоторые сомнения. Неясно,
например, в чем причины фрагментарности записей Майского в днев-
нике за вторую декаду июня 1941 г. (неполно освещена, в частности,
его беседа с Иденом 13 июня117); каков был характер инструкций Нар-
коминдела (если таковые были); получал ли посол из Москвы ин-
формацию о стекавшихся туда сведениях относительно угрозы гер-
манской агрессии.
Одно несомненно: картина международной жизни первой половины
1941 г. представлена в дневнике на фоне все усиливавшейся тревоги
и волнений советского дипломата за судьбы своей страны.
1 Майский И.М. Кто помогал Гитлеру (из воспоминаний советского по-
сла). М., 1962; Он же: Испанские тетради. М., 1964; Он же. Воспоминания со-
ветского посла: В 2-х кн. М., 1964. Кн.2: Мир или война; Он же. Воспоминания
советского посла: Война 1939-1943. М., 1965; Он же. Люди. События. Факты.
М., 1973; Он же. Воспоминания советского дипломата. 1925-1945. М., 1971,
1987 (переиздание воспоминаний о 1925-1943 гг. с дополнениями за 1944-
1945 гг.).
2 См.: Стегний П., Соколов В. И.М. Майский: свидетельство очевидца
(К 60-летию начала второй мировой войны) // Междунар. жизнь. 1999. № 8.
С. 75-89.
216
3 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 017а.
1938 год. On. 1, п. 1. Д. 5; 1939 год. On. 1, п. 1. Д. 6; 1940 год. On. 1, п. 7. Д. 7;
1941 год. On. 1, п. 2. Д. 8 (далее - Дневник).
4 Дневник. 1941 год. Копия письма Майского Сталину 6 декабря 1941 г.
5 Документы внешней политики. Т. XXII: В 2-х кн. М., 1992; Т. XXIII: В 2-х
кн. Кн. 1. М., 1995; Кн. 2, ч. 1-2. М„ 1998 (далее - ДВП).
6 Дневник. 1938, 10 мая, 31 августа. Л. 63-64, 104.
7 Там же. 26 сентября. Л. 156-157.
8 Там же. 6 октября. Л. 169-170.
9 Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. В 2-х т. М., 1990; ДВП.
Т. ХХП, кн. 1-2.
10 Дневник. 1939, 10 марта, 14 марта. Л. 45-51, 57.
11 Там же. 15 марта. Л. 58-59.
12 Там же. 19 марта. Л. 67. Подробнее о предложениях СССР и о всех ста-
диях его переговоров с Англией и Францией см.: Попов В.И. Дипломатические
отношения между СССР и Англией (1929-1939 гг.). М., 1965. С. 397-502.
13 См.: Стегний П., Соколов В. Указ. соч. С. 85.
14 Там же. С. 86.
15 Дневник. 1939, 2 мая. Л. 115-116.
16 Там же. 9 мая. Л. 121.
17 См.: Майский И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 2. С. 472^474.
18 Дневник. 1939, 21 мая. Л. 134-138.
19 Там же. 28 июня, 4 июля, 13 июля. Л. 176, 183, 189.
20 Там же. 18 июля. Л. 193.
21 Там же. 21 августа. Л. 214-215; 22 августа. Л. 217.
22 Там же. 31 августа, 1 сентября. Л. 229-233.
23 Майский И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 2. С. 43-45.
24 Там же. С. 270-271.
25 Дневник, 1938, 23 марта. Л. 38-50; ДВП. Т. XXL М., 1977. С. 151-153.
По одной из версий, идея “сдерживания с помощью союза” впервые возникла у
Черчилля, по-видимому, еще после ремилитаризации Германией Рейнской зоны
(Churchill / Ed. R. Blake, Wm. R.Louis. Oxford, 1994. P. 205).
26 ДВП. T. XXL C. 253-254.
27 Churchill W.S. The Second World War. L., 1949. Vol. 1. The Gathering Storm.
P. 245.
28 Трухановский В.Г. Размышления в связи с книгой Робина Эдмондса
“Большая тройка” // Новая и новейшая история. 1992. № 2. С. 22; Он же. Уин-
стон Черчилль: Политическая биография. М., 1968. С. 283; Сиполс В.Я. Внеш-
няя политика Советского Союза 1936-1939 гг. М., 1987. С. 148; Churchill / Ed.
R. Blake, Wm.R. Louis. P. 311-312.
29 Майский И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 2. С. 271-272.
30 Дневник. 1938, 1 сентября. 4 сентября. Л. 106-107, 112-112а и др.
31 Там же. 1939, 15 марта. Л. 58.
32 Reynolds D. The Creation of the Anglo-American Alliance 1937-1941. L., 1981.
P. 20.
33 Трухановский В.Г. Антони Иден: Страницы английской дипломатии
30-50-е годы. М., 1974. С. 170-171, 174-175.
34 Дневник. 1938, 16 августа. Л. 84.
35 Там же. 25 ноября. Л. 211.
36 Там же. 17 ноября. Л. 208-209.
37 Там же. 18 декабря. Л. 222.
38 Майский И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 2. С. 78-92.
217
39 Дневник. 1938, 19 августа, 1 октября. Л. 89-90, 167.
40 Там же. 1939, 14 июля, 22 августа. Л. 190-191, 217.
41 Там же. 1938, 5 сентября, 29 сентября. Л. 113, 162.
42 Там же. 19 сентября, 21-22 сентября. Л. 137, 141-143. Текст речи Литви-
нова 21 сентября 1938 г. см.: ДВП. Т. XXI. С. 508-509.
43 Дневник. 1938, 6 октября. Л. 171.
44 Там же. 29 сентября, 13 октября. Л. 162, 178.
45 См.: Год кризиса ... Кн. 2. С. 114, 127.
46 Дневник. 1938, 19 октября. Л. 184.
47 Там же. 1939, 2 мая. Л. 115-116. О требованиях союза с СССР см.: По-
пов В.И. Указ. соч. С. 380-382.
48 Дневник. 1939. 28 июня. Л. 176.
49 Там же. 13 июля. Л. 189.
50 Там же. 17 сентября, 19 сентября. Л. 251-252.
51 Там же. 20 сентября. Л. 253; ДВП. Т. XXII, кн. 2. С. 109-110.
52 Дневник. 1939, 29 сентября, 3 октября. Л. 267-269. Позиция правительст-
ва Чемберлена в отношении СССР осенью 1939 г. освещена также в кн.: Война
и политика. 1939-1941 / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 1995. С. 17-18, 106-112,
141-145.
53 Churchill W.S. Op. cit. Vol. 1. P. 399-403.
54 Дневник. 1939, 6 октября. Л. 275; ДВП. Т. XXII, кн. 2. С. 167-169.
55 ДВП. Т. XXII, кн. 2. С. 170-171, 183, 278.
56 См.: Ржешевский О.А. Секретные военные планы У. Черчилля против
СССР в мае 1945 г. Ц Новая и новейшая история, 1999. № 3. С. 98-123.
57 Дневник. 1939, 13 ноября. Л. 314-318.
58 Там же. 14 октября. Л. 284.
59 Там же.
60 Там же. 18 ноября. Л. 325-327.
61 Там же. 13 сентября. Л. 246. О позиции общественных кругов в отноше-
нии участия Англии в войне см. также: Война и политика. 1939-1941. С. 131-137.
62 Дневник. 1939, 15 ноября. Л. 323.
63 Там же. 20 ноября. Л. 328-329.
64 Там же. 1 декабря. Л. 346.
65 Там же. 24 декабря. Л. 365-366.
66 Там же. 1940, 11 января. Л. 15.
67 Там же. 4 января. Л. 6.
68 Там же. 25 января, 26 января. Л. 27-30.
69 Там же. 15 февраля. Л. 50-51. См. об этом также: Зимняя война 1939-1940.
Кн. 1. Политическая история. М., 1998. С. 243-244, 340-341.
70 Дневник. 1940, 21 февраля. Л. 54-55.
71 Там же. 8 февраля, 21 февраля. Л. 42, 54.
72 Там же. 8 марта, 12 марта. Л. 60, 62-64. См. также: Зимняя война... Кн. 1.
С. 351-352.
73 Дневник. 1940, 11 марта, 16 марта. Л. 62, 66-68.
74 Там же. 19 марта. Л. 81.
75 Там же. 17 марта, 15 апреля. Л. 69-70, 114.
76 Там же. 23 марта. Л. 82-83.
77 Там же. 1939, 25 декабря. Л. 370-371.
78 Там же. 1940, 26 мая. Л. 154.
79 Там же. 17 мая, 20 мая. Л. 142, 147-148.
80 Там же. 15 мая, 12 июня. Л. 139, 178.
81 Там же. 18 мая, 14 июня. Л. 143-144, 178.
218
82 Там же. 11 июля. Л. 233. Чемберлен ввиду болезни вышел из состава пра-
вительства; умер в ноябре 1940 г.
83 Там же. 22 июля. Л. 238.
84 Там же. 2 мая. Л. 123.
85 Gorodetsky G. Stafford Cripps’ Mission to Moscow, 1940-1942. Cambridge,
1984; Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной вой-
ны. 1939-1941. М., 1997. С. 246-255.
86 Дневник. 1940, б.д. Л. 220-221.
87 Там же. 10 июля. Л. 227. В телеграмме в НКИД от 11 июля 1940 г. Май-
ский в других выражениях передал свой разговор с Галифаксом (ДВП. Т. XXIII,
кн. 1. С. 427-428).
88 Дневник. 1940, 8 июля, 27 июля. Л. 222-224, 226.
89 Там же. 18 июня, 27 июля. Л. 186, 246.
90 Там же. 31 июля. Л. 249.
91 Там же. 20 сентября, 29 декабря. Л. 307-308, 387.
92 ДВП. Т. XXIII. Кн. 2, ч. 1. С. 238-240, 260.
93 Дневник. 1941, 25 февраля. Л. 38.
94 Там же. 2 марта. Л. 51.
95 Там же. 10 апреля. Л. 83, 85.
96 Там же. 15 марта. Л. 61, 65.
97 Там же. 4 апреля. Л. 76.
98 Там же. 7 апреля, 30 апреля. Л. 84, 111-113.
99 Там же. 6 апреля. Л. 79.
100 Там же. 26 апреля. Л. 106.
101 Там же. 30 апреля. Л. 113.
102 Там же. 6 мая. Л. 116.
103 Там же. 10 мая. Л. 123-124, 126.
104 Там же. 4 апреля. Л. 77.
105 Там же. 9 мая. Л. 121-122.
106 Там же. 7 мая. Л. 120.
107 Британский премьер, по убеждению Ллойд Джорджа, рассуждал так:
«Нападение Германии на СССР в самом ближайшем будущем неизбежно - из-
за Украины, из-за Баку - тогда СССР сам, как “спелый плод” упадет с дерева в
корзинку Черчилля. Стоит ли, поэтому, затрачивать усилия на привлечение
СССР? Стоит ли за ним ухаживать?» (Там же. 10 апреля. Л. 86).
108 См.: Gilbert М. Winston S. Churchill. Vol. 6. Finest Hour 1939-1941. L., 1983.
P. 1067.
109 ДВП. T. XXIII. Кн. 2, ч. 1. C. 416, 419-420.
110 Дневник. 1941, 12 июня. Л. 150.
111 Об этом см. также: Майский И.М. Воспоминания советского посла.
Война 1939-1943. С. 137.
112 Churchill W.S. Op. cit. Vol. 3. The Grand Alliance. L., 1950. P. 330.
113 Дневник. 1941, 18 июня. Л. 157.
114 На встрече с Майским 13 июня 1941 г. Иден сообщил о готовности бри-
танского правительства в случае нападения Германии на Россию направить во-
енную миссию и в срочном порядке рассмотреть вопрос об оказании России
экономической помощи (Батлер Дж. Большая стратегия. Сентябрь 1939-июнь
1941 / Пер. с англ. М., 1959. С. 497).
115 Дневник. 1941, 21 июня. Л. 158.
116 Там же. Л. 159-160.
117 Заметим, что и в XXIII томе ДВП опубликованы не все записи важных
бесед Майского как с Иденом 13 июня, так и с Криппсом 18 июня 1941 г.
279
А.Ю. Прокопов
БРИТАНСКИЕ ПРАВЫЕ РАДИКАЛЫ
В 30-е годы XX ВЕКА
Самой крупной праворадикальной организацией в Великобритании
в период между мировыми войнами был Британский союз фашистов
(БСФ), основанный 1 октября 1932 г. английским аристократом Осваль-
дом Мосли, который на протяжении всего времени существования это-
го объединения оставался бессменным его лидером и главным идеоло-
гом. БСФ был создан в разгар мирового экономического кризиса, в ус-
ловиях, когда британская политическая элита не могла быстро спра-
виться с вызванными кризисом острыми социально-экономическими
проблемами и когда в ряде стран континентальной Европы быстро уси-
ливались фашистские движения. В подобных условиях в конце сентяб-
ря 1932 г., за день до открытия центрального офиса союза в Лондоне
Освальд Мосли выпустил книгу “Более Великая Британия”, а в после-
дующие годы были опубликованы его работы “Фашизм в Британии”,
“Политика чернорубашечников”, “Фашизм: 100 вопросов и ответов”,
“Мы будем жить завтра” и другие, в которых были изложены основные
программные установки БСФ1. Вождь британских фашистов полагал,
что страна находится на грани катастрофы. Среди тех причин, которые,
по мнению основателя БСФ, непосредственно способствовали разви-
тию кризиса Британии, преобладала неспособность традиционных по-
литических партий эффективно и быстро решать сложные социально-
экономические вопросы, стоявшие перед государством. В связи с этим
Мосли поставил целью радикально реформировать всю политиче-
скую систему страны. Он полагал, что парламентская форма власти
устарела и, по его словам, являлась “не выражением, а отрицанием
воли народа”2.
После прихода фашистов к власти главный идеолог БСФ предпола-
гал наделить правительство неограниченными полномочиями, факти-
чески ликвидировать традиционные политические партии, низвести
парламент до роли чисто декоративного органа, в чьи функции не вхо-
дило бы издание законов, этим занимался бы кабинет министров. Фа-
шисты намеревались активно вмешиваться в экономическую сферу.
Ряд ближайших сподвижников Мосли, развивая идеи своего вождя, пи-
сали в различных пропагандистских изданиях союза, что фашистское
правительство будет определять уровень цен и заработной платы в
стране, регулировать ее импорт и экспорт, контролировать деятель-
ность банков и страховых компаний3. Лидер БСФ, ориентируясь в пер-
вые годы существования союза на политическую деятельность Муссо-
лини, планировал (во многом по примеру фашистов Италии) разделить
всю промышленность Британии на 23 корпорации и через них осущест-
влять регулирование производства и инвестиций в промышленность,
а также решать проблемы, возникающие между предпринимателями и
рабочими4. Кроме того, Мосли и его сторонники были намерены лик-
220
видировать местное самоуправление, поставить под жесткий контроль
систему образования в стране и радиовещание, ограничить свободу сло-
ва, запретить гражданам высказывать критические замечания в адрес
руководителей фашистского государства5. Затрагивая вопрос о форме
власти в будущем фашистском государстве, Освальд Мосли в одной из
своих работ прямо писал, что в Британии будет установлена диктатура6.
Для достижения поставленных целей вождь БСФ планировал соз-
дать массовое фашистское движение в стране, опирающееся на широ-
кие слои населения. В связи с этим в пропагандистской деятельности со-
юза активно использовалась социальная риторика и националистиче-
ские идеи. Основатель БСФ и его пропагандисты подвергали резкой
критике представителей политического истеблишмента и одновремен-
но с этим обещали быстро решить все проблемы, которые стояли перед
британским обществом. Предпринимателям они сулили увеличение
прибыли, сельскохозяйственным рабочим - постоянную занятость и
высокую заработную плату, учителям - реформирование системы об-
разования, военнослужащим - укрепление армии и т.д. и т.п.7 Как спра-
ведливо отмечал английский исследователь Ф. Мэллали, фашисты
“всем обещали все”8.
В немалой степени под воздействием подобного рода пропаганды, а
также вследствие того, что в годы экономического кризиса и в последу-
ющий период немало британцев были разочарованы действиями тради-
ционных партий, фашисты смогли привлечь в свои ряды выходцев из
самых различных слоев общества. Среди членов БСФ имелись рабочие,
студенты, мелкие собственники, безработные, военные в отставке,
представители свободных профессий, служащие и многие другие.
Все они, став фашистами, подчинялись строгой дисциплине и жестким
порядкам, введенным Освальдом Мосли в союзе фашистов. БСФ имел
полувоенную структуру, в основу которой был положен принцип вож-
дизма. На вершине иерархической лестницы организации находился
Освальд Мосли, обладавший неограниченной властью и непререкае-
мым авторитетом. Он определял основные направления политики сою-
за и мог сместить или перевести с одной должности на другую любого
члена БСФ. В фашистской прессе постоянно печатались фотографии
основателя союза, а также публиковались статьи, которые содержали
восторженные описания его выступлений на различных митингах и со-
браниях. Пропагандисты БСФ пытались внушить членам организации,
что только под руководством Мосли фашисты могут добиться своей це-
ли9. В иерархии БСФ вслед за вождем союза следовали его заместитель,
вожди различного уровня, офицеры (областные, районные, местные),
а также рядовые члены, которые подразделялись на роты, взводы и
звенья10. Высшие руководители, офицеры и активные члены БСФ име-
ли право носить форму - черную рубашку и черные или серые брюки.
В связи с этим в британской прессе членов БСФ часто именовали чер-
норубашечниками Мосли.
Через полтора года после основания БСФ заметно упрочил свои
позиции. С февраля 1933 г. фашисты стали издавать официальный пе-
чатный орган союза, газету “Блэкшёт” (“Черная рубашка”). 16 июля
221
1933 г. сторонники Освальда Мосли провели первый марш через Лон-
дон. В этот день 1000 чернорубашечников, среди них 100 женщин, про-
шли строем через столичный район Вест-Энд. Позднее, в 1933 г. лиде-
ры БСФ организовали шествия членов своего союза в Бирмингеме и
Манчестере. Осенью 1933 г. руководители БСФ арендовали большое
здание для Национального штаба своей организации, после чего этот
центральный орган союза стал заметно активнее, чем раньше, функци-
онировать. Вскоре после этого в новые более просторные помещения
переехали многие крупные провинциальные подразделения БСФ.
К началу 1934 г. лидеры союза регулярно проводили митинги по всей
стране, отделения фашистской организации существовали в большин-
стве крупных городов Британии. 35 представительств БСФ имелось
в Лондоне, по нескольку отделений насчитывалось в Манчестере,
Ньюкасле, Бристоле, Эдинбурге. Фашисты также активно действова-
ли в Бирмингеме, Бристоле, Гулле, Шеффилде, Йорке, Дургаме и в
других городах страны11. Кроме этого, по данным газеты “Блэкшет”,
руководители БСФ открыли ряд своих подразделений за предела-
ми Британии: в фашистской Италии - во Флоренции, Генуе, Риме, Ту-
рине; в нацистской Германии - в Берлине и Кельне12. К весне 1934 г. в
составе БСФ были созданы женские подразделения, молодежные сек-
ции, а также основан Фашистский союз британских рабочих, приз-
ванный привлекать в свои ряды безработных и представителей проле-
тариата.
Заметная активизация БСФ весной 1934 г. была обусловлена ря-
дом причин, среди которых не последнюю роль сыграла энергичная
поддержка Освальда Мосли и его союза со стороны газетного магната
лорда Ротермира, которому принадлежало такое популярное ежеднев-
ное периодическое издание, как “Дэйли мэйл”, имевшее огромный
по тем временам тираж - 1,2 млн экземпляров13. С января 1934 г.
Ротермир на страницах своей газеты регулярно печатал статьи, в кото-
рых фактически рекламировал БСФ и его вождя, призывал британцев
оказать помощь организации Мосли, пытался представить черноруба-
шечников как единственных спасителей Британии от бед, угрожав-
ших ей14.
Восторженные отзывы об Освальде Мосли и его союзе можно бы-
ло встретить на страницах и другого популярного издания “Сэтади ре-
вью”, владелицей которого была миллионерша леди Хаустон15. Поми-
мо поддержки в прессе БСФ получил существенную денежную помощь
со стороны некоторых состоятельных британцев, а также из-за рубежа.
Мосли в автобиографии признавал, что БСФ давали деньги лорд Ротер-
мир, леди Хаустон, автомобильный магнат лорд Наффилд16. Фашистов
поддерживали также биржевой делец Алекс Скрингер, консерватив-
ный член парламента Драммонд Вулф и др.17 Кроме того, Мосли полу-
чал немалую финансовую помощь из фашистской Италии. Став лиде-
ром БСФ, он несколько раз посещал Рим, где встречался с Муссолини.
В 1933 г. Мосли впервые приехал в Италию как вождь британских фа-
шистов. В воспоминаниях основатель БСФ писал, что в ходе беседы с
дуче, проходившей в дружеской атмосфере, обсуждались различные во-
222
просы политики и даже литературы. Муссолини, по словам Мосли, про-
явил себя знатоком работ Ницше и Сореля. Он тепло отзывался об ан-
глийском народе и выражал симпатию к БСФ18. Благожелательное от-
ношение Муссолини к британским фашистам проявлялось не только в
частых дружеских встречах с основателем БСФ, но и в финансовой под-
держке союза Мосли. С 1933 г. по 1937 г. Муссолини регулярно переда-
вал крупные суммы денег для фашистов Мосли19.
Получая немалую финансовую помощь из Италии, а также со сто-
роны ряда состоятельных представителей британского общества,
БСФ к концу 1933 - началу 1934 г. заметно активизировался. В анг-
лийской прессе в это время все чаще стали мелькать сообщения о чер-
норубашечниках, в первую очередь в связи с насилием, которое они
использовали в ходе политической деятельности. Необходимо отме-
тить, что уже в первый год существования БСФ его лидерами была
выработана тактика проведения фашистских собраний, которая в по-
следующие годы нашла активное применение в политической практи-
ке организации. На место проведения крупного митинга руководство
БСФ перевозило из различных городов значительное число членов
союза, в результате чего создавалось впечатление большой численно-
сти провинциальных отделений. В ходе митинга с любым из присутст-
вовавших, пытавшимся высказать свое мнение или задать вопрос, же-
стоко расправлялись. Целью данной тактики было желание лидеров
союза продемонстрировать беспощадность чернорубашечников, спо-
собность фашистов справиться с любой оппозицией и, кроме того, по-
пасть на страницы газет. После митинга, а нередко и до него чернору-
башечники в форме, с фашистскими знаменами проходили маршем по
улицам города. Ряд высказываний Освальда Мосли свидетельствовал
о том, что руководство БСФ придавало первостепенное значение ор-
ганизации подобных шествий20. Целью фашистских маршей было
стремление оказать воздействие не столько на сознание, сколько на
эмоции местных жителей. Марширующие колонны членов союза
должны были продемонстрировать, по замыслу его лидеров, силу и
организованность БСФ, привлечь внимание прохожих и одновременно
с этим запугать противников.
В 1933-1934 гг. демонстрация фашистами силы и провоцирование
столкновений в ходе проведения общественных мероприятий стало ти-
пичным явлением для политической деятельности БСФ. В ноябре
1933 г. на митинге союза в Оксфорде несколько человек получили серь-
езные ранения в результате нападения на них чернорубашечников21.
В октябре дракой и избиением противников фашизма закончился ми-
тинг БСФ в Манчестере22. Насилие и провокационные действия фаши-
стов Мосли в 1933-начале 1934 г. достигли таких масштабов, что стали
предметом обсуждения в парламенте. 20 февраля 1934 г. в палате об-
щин министр внутренних дел Джон Гилмор, отвечая на запрос членов
парламента, отметил заметное увеличение числа беспорядков, связан-
ных с деятельностью БСФ. За первые шесть месяцев 1933 г. официаль-
ными властями было зарегистрировано 11 подобных случаев, а во вто-
рой половине этого года уже в два раза больше - 2223.
223
В британском обществе с его давними демократическими традици-
ями использование фашистами насилия в политической практике не
могло не вызвать неприятия и энергичного протеста. В городе Уолвар-
те после открытия там в марте 1933 г. офиса БСФ противники фашиз-
ма в течение двух недель пикетировали фашистское представительст-
во24. В Оксфорде в ноябре 1933 г. местные жители и учащиеся органи-
зовали массовый антифашистский митинг, проведение которого было
вызвано бесчинством, устроенным чернорубашечниками в отношении
антифашистов на одном из пропагандистских собраний БСФ25. В мае
1934 г. в Гейтсхеде 10 тыс. человек собрались в знак протеста против
организованного чернорубашечниками митинга26. В Ньюкасле 13 мая
1934 г. противники фашизма сорвали митинг сторонников Мосли и те
были вынуждены вернуться в свой штаб27.
Антифашистская деятельность в Британии не ограничивалась
только отдельными выступлениями против деятельности последовате-
лей Освальда Мосли. В начале 1933 г. был организован Вселондонский
антивоенный комитет железнодорожников, одной из целей которого
ставилось противодействие фашистам на железных дорогах28. В это же
время были основаны Антифашистский комитет Восточного Лондона,
Антифашистское движение печатников и рабочих смежных профес-
сий29. Однако до лета 1934 г. выступления против сторонников и спод-
вижников Мосли в основном оставались эпизодическими и не имели ор-
ганизованного характера. Левые объединения Британии и многие пред-
ставители ее демократических сил в первые полтора года существова-
ния БСФ еще не придавали его деятельности первостепенного значе-
ния. Даже в начале 1934 г. , когда БСФ уже стал заметным явлением в
общественной жизни страны, английские коммунисты со страниц своей
газеты призывали не преувеличивать значение фашистской организа-
ции Освальда Мосли30. Во многом схожую позицию по отношению
к БСФ в этот период занимали и представители политической элиты.
Все это объяснялось тем, что в британском обществе была сильна вера
в давние демократические традиции, и многие полагали, что эта особен-
ность Британии сама по себе уже обеспечивает иммунитет против рас-
пространения в стране фашизма. Подобная ситуация определила тот
факт, что разрозненные выступления против чернорубашечников Ос-
вальда Мосли, не имевшие реальной поддержки со стороны левых объ-
единений, не смогли в 1933 - начале 1934 г. остановить наступле-
ние БСФ.
В это время союз фашистов быстро развивался и активизировал
свою деятельность. В первой половине 1934 г. при многих его предста-
вительствах были открыты бары и клубные помещения. Руководство
БСФ выпустило две пластинки с речами Мосли, издавало фашистские
календари и дневники31. Заметная активность фашистов сопровожда-
лась быстрым увеличением численности союза, которая к лету 1934 г.
достигла 40-50 тыс. человек32. Об организации Мосли стали поговари-
вать в стране как о реальной политической силе.
В этих условиях вождь британских фашистов счел, что его союз
уже готов к тому, чтобы реально претендовать на руководство страной.
224
В первом номере газеты “Блэкшёт” за 1934 г. прямо говорилось, что
главная цель фашистов - достижение власти33. Хотя руководитель БСФ
не раз публично заявлял, что стремится стать во главе государства в ре-
зультате победы на всеобщих выборах, однако конкретные действия
лидеров союза в 1934 г. свидетельствовали о намерении фашистов
прийти к власти другим путем. В первые годы существования союза в
его деятельности значительную роль играли так называемые силы обо-
роны, которые фактически являлись ударными штурмовыми отрядами
БСФ. Подобные подразделения существовали при многих крупных от-
делениях союза в Лондоне, Плимуте, Манчестере, Эдинбурге, Ньюкас-
ле и других городах34.
В январе 1934 г. лидеры союза со страниц своей газеты настоятель-
но советовали его сторонникам всемерно укреплять силы обороны, а в
мае того же года Мосли лично призвал всех фашистов вступать в штур-
мовые отряды35. Тем самым основатель БСФ пытался существенно уве-
личить численность отрядов сил обороны и фактически превратить со-
юз в организацию боевиков. Помимо сил обороны, в составе БСФ Мос-
ли создал и другие специальные формирования, которые никак не бы-
ли связаны с политической деятельностью и борьбой за голоса избира-
телей, - подразделения по оказанию первой медицинской помощи и
службу по переливанию крови36. Кроме того, при некоторых отделени-
ях БСФ местные фашистские руководители организовали транспорт-
ные секции для осуществления перевозок членов союза в различные
районы страны, а также на случай чрезвычайных обстоятельств. В на-
чале 1934 г. центральное руководство организации приобрело 4 грузо-
вика; в Плимуте городское подразделение фашистов имело мотоциклы,
грузовые и легковые автомобили37. Все эти приготовления руководст-
ва БСФ позволили министру внутренних дел Великобритании Джо-
ну Гилмору в мае 1934 г. в донесении членам правительства высказать
мнение, что не исключена возможность использования Освальдом Мос-
ли силы для реализации своих планов по созданию фашистского госу-
дарства38.
В начале июня 1934 г. в условиях быстрого поступательного разви-
тия союза руководство фашистов приняло решение провести самый
массовый с момента основания БСФ митинг. Он был организован 7 ию-
ня в одном из крупнейших лондонских залов “Олимпия”, куда в этот
день собралось около 12 тыс. человек, чтобы услышать выступление
Мосли. Среди них были приглашенные руководством БСФ парламента-
рии, журналисты, писатели и другие влиятельные и известные предста-
вители британского общества. Выступление в “Олимпии” Мосли начал
следующими словами: “Этот митинг является ярким примером успеш-
ного за последние 20 месяцев поступательного развития организации
чернорубашечников. За это время фашизм в Британии усиливался бо-
лее быстрыми темпами, чем в какой-либо другой стране”39. Далее
вождь БСФ, явно выдавая желаемое за действительное, утверждал, что
“народ (Великобритании. - Авт.) определенно продемонстрировал ус-
талость от существующего порядка и парламентского правления”40.
Мосли также полагал, что наметившееся улучшение в экономической
15 Россия и Британия Вып 3
225
сфере являлось искусственным и для преодоления кризиса необходимо,
чтобы к власти пришел союз фашистов41.
Как показало развитие событий в “Олимпии”, не менее важным,
чем выступление основателя союза, была заранее подготовленная ак-
ция устрашения, имевшая целью запугать любых противников фашиз-
ма. В ходе митинга фашисты учинили беспрецедентное по масштабу и
жестокости избиение всех, кто пытался что-либо выкрикнуть с места
или просто задать вопрос. В ходе митинга БСФ в “Олимпии” десятки че-
ловек получили ранения и были вынуждены обратиться за медицинской
помощью42. Используя подобные методы, Мосли стремился продемон-
стрировать собравшимся и в целом всему британскому обществу возро-
сшую силу союза и готовность фашистов подавить любую оппозицию.
Однако события в “Олимпии” не привели, как ожидал Мосли43, к укре-
плению авторитета и усилению влияния его организации. Наоборот,
действия британских чернорубашечников 7 июня 1934 г. вызвали массо-
вые антифашистские выступления по всей стране.
В день проведения руководством БСФ митинга в “Олимпии” около
этого лондонского зала по призыву Коммунистической партии Велико-
британии (КПВ) собралось несколько тысяч человек, которые сканди-
ровали антифашистские лозунги44. В июне 1934 г. в Лондоне, Шеффил-
де, Бристоле, Ньюкасле, Бирмингеме, Лейстере, Плимуте и других го-
родах состоялись митинги, на которых выражался протест против мето-
дов, применявшихся чернорубашечниками в “Олимпии”45. Руководите-
ли Студенческого антивоенного совета заявили, что не допустят вер-
бовки студентов в БСФ и что одной из основных задач Совета является
антифашистская пропаганда46. Летом и осенью 1934 г. в Лондоне,
Ливерпуле, Дерби, Шеффилде были созданы различные антифашист-
ские объединения, которые ставили своей целью противодействие
БСФ47. С протестом против политики союза Мосли выступили ряд
тред-юнионов, в том числе профсоюз работников торговой и распреде-
лительной сети и смежных профессий, текстильщики, работники почт,
печатники, рабочие обувной промышленности, Союз муниципальных и
неквалифицированных рабочих, ассоциированное Общество локомо-
тивных инженеров48.
После 7 июня больше внимания БСФ стали уделять руководители
рабочего движения. Если до митинга в “Олимпии” лейбористские лиде-
ры призывали своих сторонников не преувеличивать размаха деятель-
ности союза Мосли, считали, что в Британии “фашизм сам исчезнет”,
то после событий 7 июня их отношение к БСФ изменилось49. 26 июня
1934 г. руководства Лейбористской партии Великобритании (ЛПВ) и
Британского конгресса тред-юнионов (БКТ) направили представитель-
ную делегацию в министерство внутренних дел, где выразили озабочен-
ность в связи с действиями БСФ50. Лидер БКТ У. Ситрин в ходе беседы
с высокопоставленным сотрудником этого министерства отметил, что в
условиях эскалации насилия со стороны чернорубашечников лейбори-
стскому руководству крайне трудно удерживать рабочих от активных
действий против союза Мосли, и призвал руководство страны принять
действенные меры, направленные против использования фашистами
226
насилия в своей политической практике51. Осенью 1934 г. представите-
ли Лейбористской партии и БКТ , входившие в состав Национального
совета труда (координационный совещательный орган), призвали все
общественные объединения содействовать разоблачению фашизма и
организовали антифашистскую пропагандистскую кампанию52. Это об-
ращение не осталось без отклика. Комитет столичного трейд-совета и
лондонское отделение ЛПВ провели в Лондоне кампанию по разобла-
чению фашизма53.
В июле 1934 г. был создан координационный комитет антифашист-
ских действий, призванный оказывать противодействие любым акциям
БСФ54. Среди организаций, которые издавали и распространяли раз-
личные антифашистские материалы, были отделения Коммунистиче-
ского союза молодежи и Молодежной гильдии Независимой рабочей
партии (НРП), Молодежные антивоенные и антифашистские советы,
Лейбористская партия, антифашистские группы ряда городов55. После
событий в “Олимпии” ряд членов парламента как от лейбористской,
так и от консервативной партий выступили с осуждением деятельности
БСФ. Многие ведущие британские газеты опубликовали статьи с рез-
кой критикой действий чернорубашечников 7 июня в Лондоне56.
Митингом в “Олимпии” и другими действиями БСФ настолько дискре-
дитировал себя в глазах британского общества, что Ротермир и Наф-
филд были вынуждены публично объявить, что прекращают его под-
держивать57. В это же время престала оказывать помощь фашистам
Мосли и леди Хаустон.
В начале осени 1934 г. Освальд Мосли, пытаясь поправить пошат-
нувшееся положение БСФ и вновь привлечь внимание британской об-
щественности к своей организации, объявил о проведении его союзом
9 сентября 1934 г. крупного митинга в лондонском Гайд-парке. Предста-
вители демократической общественности страны восприняли эти пла-
ны фашистов как вызов. Руководители Координационного комитета
антифашистских действий призвали жителей столицы к проведению
9 сентября в Гайд-парке контрдемонстрации. В ее подготовке помимо
руководства комитета активное участие приняли лидеры КПВ. Была
проделана большая пропагандистская и организационная работа, изда-
но множество антифашистских листовок. В результате 9 сентября в
центре Лондона собралось около 100 тыс. человек, чтобы выразить
свой протест против деятельности БСФ58. Митинг 3 тыс. фашистов фа-
ктически был сорван, так как невозможно было разобрать почти ни
слова из выступлений лидеров БСФ из-за криков и свиста многочислен-
ных противников фашизма, пришедших в Гайд-парк.
Энергичные антифашистские выступления летом и осенью 1934 г.,
сокращение помощи со стороны влиятельных представителей британ-
ского общества - все это привело к заметному ослаблению БСФ. К осе-
ни 1935 г. численность британских фашистов сократилась до 5 тыс. че-
ловек, реже стали проводиться их митинги, явственно начали ощущать-
ся финансовые трудности союза59. В подобных непростых для БСФ ус-
ловиях Освальд Мосли, стремясь найти пути преодоления кризиса сво-
ей организации, начал переориентацию с фашистской Италии на гитле-
227
ровскую Германию. Не порывая с Муссолини, он стал устанавливать
более тесные контакты с нацистским руководством. Еще в сентябре
1933 г. и в мае 1934 г. несколько офицеров БСФ посетили Германию и
встретили там теплый прием60, а в июне 1934 г. представитель НСДАП
фон Шаппуис приехал в Лондон, где беседовал с основателем БСФ.
В ходе этой встречи Мосли выразил готовность встретиться осенью
1934 г. с Гитлером и установить самые тесные связи с нацистской пар-
тией. В отчете о визите к британским фашистам Шаппуис в благожела-
тельных тонах отзывался о Мосли, но вместе с тем отмечал, что он про-
изводит впечатление очень честолюбивого и падкого на лесть челове-
ка61. В 1934 г. встреча Мосли с Гитлером не состоялась, что, по всей ви-
димости, было обусловлено как слабостью БСФ, так и тем фактом, что
вплоть до осени этого года нацисты и британские фашисты придержи-
вались различных взглядов в отношении евреев.
В первые два года существования БСФ Мосли утверждал, что его
союз не исповедует расистских идей и не является антисемитской орга-
низацией. Однако уже осенью 1934 г. в условиях все углубляющегося
кризиса БСФ Освальд Мосли, стремясь возродить свою организацию и
добиться более тесных связей с нацистской Германией, объявил о на-
чале проведения его союзом антисемитской политики. Это произошло
на митинге фашистов в лондонском зале Альберт-холл 28 октября
1934 г. Впоследствии, в 1935 г. и особенно в 1936 г. на страницах газе-
ты “Блэкшёт” регулярно стали печататься материалы, в которых ли-
деры БСФ пытались внушить читателям, что евреи ведут антибритан-
скую деятельность, мешают бизнесу неевреев, стремятся разрушить
колониальную империю Великобритании и толкнуть страну к войне с
Германией62. В это же время Мосли разработал программу действий
фашистов в отношении евреев, которую намеревался осуществить по-
сле прихода к власти. На крупном митинге БСФ, состоявшемся 22 мар-
та 1935 г. в одном из столичных залов, вождь британских фашистов за-
явил, что евреи, которые ведут антибританскую деятельность, будут
депортированы из страны63. Тем британским евреям, которые “про-
явят себя ценными членами общества”, говорилось в книге Мосли
“Фашизм: 100 вопросов и ответов”, фашистское руководство разрешит
остаться в стране, но они будут лишены основных гражданских прав64.
Кроме того, лидеры БСФ были озабочены необходимостью “сохране-
ния в чистоте британской расы” и для этого, по словам Мосли, фаши-
сты готовы после прихода к власти разработать специальное законода-
тельство65.
Главным центром антисемитской деятельности британских фаши-
стов стал Восточный Лондон (Ист-Энд), что обусловливалось рядом об-
стоятельств. Это был один из беднейших районов столицы, где прожи-
вало много рабочих, а также лавочников и ремесленников. Уровень
жизни этих жителей восточной части столицы был крайне низок вслед-
ствие экономического кризиса и последовавшей за ним промышленной
депрессии. Специфической чертой Ист-Энда являлось то, что около
четверти его населения составляли евреи и задолго до прихода в этот
район фашистов среди части его жителей определенное распростране-
228
ние получили антисемитские настроения66. Руководство БСФ пыталось
разжечь эти настроения, стремилось направить недовольство местного
населения своим тяжелым материальным положением в русло фашист-
ской активности.
В 1935 г. и особенно в 1936 г. чернорубашечники вели активную
пропаганду в этом столичном районе. Нередко в Ист-Энде на митингах,
организуемых БСФ, выступали Мосли и другие руководители союза.
Фашисты распространяли в Восточном Лондоне призывы “Бойкот ев-
реям”, “Убей еврея”, рисовали свастику на домах, где жили представи-
тели еврейской общины, а также нередко избивали евреев и громили их
магазины67. Подобного рода действия британских фашистов Мосли за-
ставили британских парламентариев в 1936 г. неоднократно обсуждать
антисемитские акции чернорубашечников в Восточном Лондоне. Одна-
ко каких-либо действенных мер для того, чтобы остановить террор со-
юза Мосли в Ист-Энде, так и не было принято.
Кульминацией антисемитской кампании британских фашистов в
Восточном Лондоне должен был стать марш чернорубашечников по
улицам Ист-Энда, запланированный на 4 октября 1936 г. Колонна фа-
шистов со знаменами и оркестром намеревалась пройти через кварта-
лы, где проживало много евреев. По пути следования фашистов руко-
водство БСФ планировало организовать четыре митинга, на которых
предполагалось выступление Мосли, а также некоторых других лиде-
ров союза. Накануне проведения марша фашисты заметно активизиро-
вали свою деятельность в Восточном Лондоне. В конце августа и в сен-
тябре 1936 г. практически каждый вечер здесь проходили митинги и со-
брания чернорубашечников, устраивались демонстрации фашистов; од-
новременно с этим члены БСФ продолжали запугивать и преследовать
евреев.
Все это, а также фактическое бездействие полиции вызывало про-
тест и возмущение многих местных жителей. Особенно активное уча-
стие в различных антифашистских выступлениях в Ист-Энде приняли
представители таких организаций, как Коммунистическая партия Вели-
кобритании, Еврейская ассоциация ветеранов, Еврейский народный со-
вет. Коммунисты стали одними из главных инициаторов подготовки
крупной антифашистской акции, запланированной на день проведения
членами БСФ марша через Восточный Лондон. 4 октября 1936 г. по
призыву КПВ, Независимой рабочей партии и ряда еврейских органи-
заций в Ист-Энде до 300 тыс. человек вышли на улицы, чтобы не допу-
стить провокационного шествия чернорубашечников68. Среди антифа-
шистов особенно популярным был лозунг “Они не пройдут”. Когда
Мосли и несколько сотен чернорубашечников прибыли в Ист-Энд, все
улицы, по которым должен был пройти марш БСФ, оказались заполне-
ны противниками фашизма.
Демонстрация БСФ была разрешена официальными властями Лон-
дона. Поэтому, столкнувшись с противодействием антифашистов, сто-
личная полиция попыталась силой проложить путь колонне фашистов
по намеченному лидерами союза маршруту. На улице Кейбл-стрит, где
антифашисты построили несколько баррикад, завязались ожесточен-
229
ные столкновения между блюстителями порядка и противниками чер-
норубашечников, многие с обеих сторон получили ранения, однако по-
лиция так и не смогла провести сторонников Освальда Мосли по этой
улице. После нескольких часов безуспешных попыток сломить сопро-
тивление антифашистов комиссар столичной полиции Филипп Гейм
был вынужден призвать членов БСФ разойтись. Таким образом, марш
чернорубашечников был сорван, что явилось чувствительным ударом
как по самолюбию Мосли, так и по репутации его союза. Массовое вы-
ступление противников фашизма 4 октября 1936 г. в Ист-Энде, вошед-
шее в историю как “Битва на Кейбл-стрит”, свидетельствовало о том,
что антисемитская политика, проводимая Освальдом Мосли, не нашла
поддержки среди широких слоев населения Лондона.
Вскоре после “Битвы на Кейбл-стрит” вождь БСФ посетил Герма-
нию, где встретился с Гитлером69. Мосли, заранее спланировав свой ви-
зит к нацистам сразу после предполагавшегося шествия через Восточ-
ный Лондон, надеялся явиться к фюреру в роли руководителя вновь на-
бирающей силу фашистской организации. Однако события 4 октября
в Ист-Энде явно не позволили основателю БСФ предстать перед Гитле-
ром в ореоле триумфатора. Поражение британских фашистов на ули-
цах Восточного Лондона также, думается, не добавило хорошего на-
строения Освальду Мосли и перед его тайной женитьбой на Диане Гин-
нес (в девичестве Митфорд), состоявшейся в ходе этого визита в Герма-
нию. Диана Митфорд происходила из старого английского аристок-
ратического рода, ее родителями были лорд и леди Ридстдейл,
которые с симпатией относились к фашизму, а брат Том состоял в ря-
дах БСФ70.
Одна из шести сестер Дианы, Юнити, была убежденной сторонни-
цей нацистов. Она не раз посещала Германию, где смогла познакомить-
ся с Гитлером и стать его любовницей. Диана часто сопровождала Юни-
ти в ее поездках в Германию, где обе сестры были приняты в высшем
обществе нацистов. О женитьбе Мосли на Диане Митфорд в Великоб-
ритании стало известно только в 1938 г. Тайный характер свадьбы
вождь британских фашистов объяснял тем, что в связи со своей полити-
ческой деятельностью он опасался за жизнь близких и поэтому старал-
ся, чтобы о его новой семье в Англии узнали как можно позже. После
замужества Диана продолжала навещать Юнити в Германии и там не-
редко встречалась с Гитлером71. Мосли утверждал, что порой фюрер
знакомил его через Диану с позицией нацистов по различным проб-
лемам72.
События в Восточном Лондоне 4 октября 1936 г., а также предше-
ствовавшая этому деятельность БСФ, когда чернорубашечники, ис-
пользуя провокационные методы, нередко устраивали побоища в ходе
своих митингов - все это привело в конце 1936 г. к тому, что власти ре-
шили наконец принять конкретные меры, чтобы хотя бы отчасти огра-
ничить активность фашистов. В ноябре 1936 г. парламентарии утверди-
ли Акт об общественном порядке, который запрещал ношение полити-
ческой формы и существенно расширял полномочия полиции. Предста-
вители правопорядка получили право закрывать митинги и переносить
230
проведение демонстраций. Новый закон вступил в силу в январе 1937 г.
С этого времени члены БСФ были вынуждены отказаться от фашист-
ской формы, что в комплексе с рядом других обстоятельств сыграло оп-
ределенную роль в последующем ослаблении союза.
В 1937 г. лидеры БСФ приняли решение впервые участвовать в вы-
борах. Руководство союза, не сумев в начале октября 1936 г. добиться
} спеха в проведении марша чернорубашечников по улицам Восточного
Лондона, попыталось весной 1937 г. взять реванш, но уже на избира-
тельных участках Ист-Энда. В трех районах восточной части столицы
фашисты выставили своих представителей на выборах в Совет лон-
донского графства, которые должны были состояться 4 марта 1937 г.
Мосли не решился баллотироваться в ходе этой избирательной кампа-
нии, однако активно поддерживал всех кандидатов от БСФ. Несмотря
на энергичную предвыборную агитацию фашистов, большинство жите-
лей Ист-Энда отдали предпочтение представителям традиционных по-
литических партий. Сторонники Мосли по числу полученных голосов
не смогли даже приблизиться к победителям.
Поражение кандидатов от БСФ в ходе этих выборов привело к уси-
лению наметившихся еще осенью 1936 г. после “Битвы на Кейбл-стрит”
кризисных явлений в организации Мосли. Весной 1937 г. вождь БСФ
был вынужден сократить число штатных сотрудников союза. После
этого среди руководителей БСФ произошел раскол и некоторые из вы-
сших офицеров фашистской организации покинули союз. После 1937 г.
ни Муссолини, ни Гитлер уже не встречались с Мосли, и из Италии пре-
кратилась финансовая поддержка БСФ. В 1937-1940 гг. фашисты стали
испытывать значительные финансовые трудности, сократился тираж
выпускаемых их союзом газет, пошло на убыль число митингов и соб-
раний и в целом снизилась активность организации Мосли73.
В предвоенные годы Мосли, стремясь преодолеть все более отчет-
ливо проявлявшееся ослабление своей организации, основное внимание
в пропагандистской деятельности союза стал уделять не антисемитизму,
а вопросам международных отношений. В это время он, стараясь при-
влечь к своему Союзу внимание общественности страны, выдвинул сво-
его рода внешнеполитическую программу БСФ. Основной ее смысл за-
ключался в готовности лидера британских фашистов предоставить на-
цистам свободу действия в странах Восточной Европы, чтобы таким об-
разом подтолкнуть Гитлера к войне против СССР и одновременно обез-
опасить Великобританию и ее колониальные владения74. Осенью
1938 г. Освальд Мосли приветствовал подписание Невиллом Чемберле-
ном мюнхенского соглашения, по которому фактически удовлетворя-
лись претензии Германии на часть территории Чехословакии. Вождь
БСФ назвал эти действия британского премьера “актом мужества и
здравого смысла”75.
По сути позиция вождя БСФ по вопросам международных отноше-
ний была близка к проводимой правительством Н. Чемберлена внешне-
политической линии. Думается, что именно поэтому деятельность БСФ
даже после начала второй мировой войны не была запрещена англий-
скими властями, хотя в их распоряжении тогда уже имелся законода-
231
тельный акт, позволявший это сделать. На протяжении всей так назы-
ваемой “странной войны”, когда против германских войск фактически
не проводилось военных действий, Мосли и его союз имели возмож-
ность открыто вести пропаганду и агитировать за скорейшее заключе-
ние мирного соглашения с нацистской Германией. В конце 1939-начале
1940 г. лидеры фашистов, выдвинув лозунги “Остановить войну”, “Мос-
ли и мир”, проводили в различных городах страны немногочисленные
митинги и собрания76. Со страниц своей прессы руководители БСФ пы-
тались запугать британцев тяготами военного времени, стремились до-
казать “бессмысленность” и “бесперспективность” войны с Германи-
ей77. В начале 1940 г. представители БСФ даже приняли участие в не-
скольких дополнительных выборах в парламент78. Во время одного из
предвыборных митингов выступавший в поддержку фашистского кан-
дидата Мосли едва не был повешен собравшимися местными жителями,
возмущенными политикой и действиями британских фашистов79. В хо-
де этих выборов представители БСФ, как и ранее в 1937 г., нигде не
смогли победить и даже составить достойную конкуренцию представи-
телям традиционных партий.
По окончании “странной войны” и с приходом к власти в Великоб-
ритании правительства У. Черчилля руководители страны в обстановке
реальной угрозы немецкого вторжения на Британские острова, а также
учитывая протесты британцев, приняли решение положить конец дея-
тельности БСФ. В мае-июне 1940 г. Освальд Мосли вместе с большин-
ством руководителей и активистов союза фашистов был арестован, а в
июле эта фашистская организация была объявлена вне закона.
Так завершилась почти восьмилетняя история существования Бри-
танского союза фашистов, деятельность которого стала заметным яв-
лением в общественно-политической жизни Британии 30-х годов XX в.
Пропагандируя антидемократические и националистические идеи, а
также используя насилие в политической практике, фашисты Мосли
не смогли добиться массовой поддержки британцев и реально прибли-
зиться к власти, что было обусловлено рядом причин. В первую оче-
редь, следует отметить давние либерально-демократические традиции
английского общества, а также энергичные антифашистские выступ-
ления многих тысяч британцев, которые не хотели мириться с полити-
кой руководства БСФ. Противники фашизма смогли остановить все
попытки чернорубашечников Мосли перейти в наступление и активи-
зировать свою деятельность в стране в 30-е годы. Выступления про-
стых британцев против БСФ стали фактически самыми массовыми об-
щественными акциями в Великобритании в предвоенное десятилетие.
Кроме того, говоря о причинах, не позволивших фашистам Мосли вый-
ти на авансцену британской политики, необходимо отметить, что стра-
на, окончив первую мировую войну в лагере победителей, не пережи-
ла национального унижения, демократические институты Великобри-
тании не были дискредитированы среди масс, а британская политиче-
ская элита, являясь одной из наиболее опытных и искусных в Европе,
смогла в целом решить (хотя и не без труда) сложные социально-эко-
номические проблемы, с которыми столкнулась страна в 30-е годы.
232
Все это способствовало тому, что широкие слои населения, а также
большинство представителей истеблишмента Британии не поддержали
БСФ. Это в свою очередь предопределило положение британских пра-
вых радикалов на периферии политической жизни страны и в конеч-
ном итоге привело к ослаблению, дискредитации и запрету БСФ в на-
чале второй мировой войны.
1 Mosley О. The Greater Britain L., 1934; Idem. The Blackshirt Policy. S.I., S.a.;
Idem. Fascism: 100 Questions Asked and Answered. L., 1936.
2 Mosley O. Tomorrow We Live. L., 1938. P. 57; Idem. The Greater Britain. L.,
1932. P. 21.
3 Thomson A.R. The Corporate State. L., 1935. P. 27; Idem. The corporate Eco-
nomics // Fascist Quarterly. 1935. N 1. P. 33. Leaper W.F. The Causes of Breakdawn //
Fascist Quarterly. 1935. N 2. P. 191; Lex. Transition after Victory // Fascist Quarterly.
1935. N 3. P. 368.
4 Thomson A.R. The Corporate State. P. 8-13, 15-16, 20; Lex. Transition after
Victory. P. 368.
5 Mosley O. The Blackshirt Policy. P. 44; Lex. Transition after Victory P. 370-371.
Chesterton A. Oswald Mosley. Portrait of a Leader. S.L, S.a. P. 154; Thomson A.R.
The Corporate State. P. 7; Joyce W. Educational Policy. S.I., S.a. P. 10, 16. Freeman A.
We Fight for Freedom. L., 1956. P. 22-24.
6 Mosley O. The Blackshirt Policy. P. 71.
7 Мэллали Ф. Фашизм в Англии. М., 1947. С. 84-85; Mosley О. Fascist Policy
on Agreculture. N.d. P. 2-3; Blackshirt. 1934. Mar. 4, June 24, July 8-14, Aug. 12-18,
Nov. 18-24.
8 Мэллали Ф. Указ. соч. С. 43.
9 Blackshirt. 1934. Feb. 2-8.
10 Public Record Office. Fond Home Office. Box 144. File 20140. P. 104 (далее -
PRO HO 144/20140/104).
11 По материалам газеты “Блэкшет” за январь-май 1934 г. (PRO НО
144/20140/108, ПО).
12 Blackshirt. 1934. Маг. 23, 30; Мау 18.
13 Standen J. After the Deluge. L., 1969. P. 41.
14 Daily Mail. 1934. Jan. 15, 22, 25.
15 Saturday Review. 1934. Feb. 3.
16 Mosley O. My Life. L., 1970. P. 348.
17 Cole G.H. Lord How-How. N.Y., 1965. P. 78; PRO HO 144/20140/117; Thur-
low R. Fascism in Britain. A History. 1918-1985. N.Y., 1987. P. 138-139.
18 Mosley O. My Life. P. 359.
19 Mosley N. Beyond the Pale. L., 1986. P. 31-32.
20 PRO HO 144/20146/109.
21 Manchester Guardian. 1933. Nov. 8; PRO HO 144/19070/27.
22 Manchester Guardian. 1933. Nov. 3, 8; PRO HO 144/ 19070/27; Мэллали Ф.
Указ. соч. С. 49, 51.
23 Hansard. (House of Commons). Parliamentary Debates. Vol. 289. Col. 1759.
24 Cross C. The Fascists in Britain L., 1961. P. 83.
25 Мэллали Ф. Указ. соч. С. 50-51.
26 Там же. С. 75.
27 Hansard (House of Commons). Parliamentary Debates. Vol. 289. Col. 1759.
28 Гурович П. Английское рабочее движение накануне второй мировой
войны. М., 1967. С. 46.
233
29 Daily Worker. 1933. Apr. 1; Printers and Fascist Menace. L., 1930. P. 3, 16, 17.
30 Daily Worker. 1934. Feb. 17.
31 Blackshirt. 1934. Mar. 30-Apr. 5, Feb. 9-15, July 22.
32 Webber G.C. Patterns of Membership and Support for the British Union of
Fascists //Journal of Contemporary History. 1984. N 4. P. 577; Cross C. Op. cit; P. 131.
PRO HO 144/19070/262.
33 Blackshirt. 1934. Jan. 12.
34 Ibid. 1934. Jan. 19-25, Feb. 9.
35 Ibid. 1934. Jan. 19-25, May 18-24.
36 Ibid. 1934. Feb. 2-8, 9-14, May 11-17.
37 Ibid. 1934. May 11, June 6; Hansard (House of Commons). Parliamentary Deba-
tes. Ser. 5. Vol. 290. Col. 1347; Anderson G. Fascists, Communists and the National
Goverment. L., 1983. P. 55.
38 Stevenson J. The BUF, Police and Public Order // British Fascism. L., 1980.
P. 145.
39 Blackshirt. 1934. June 15.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Мэллали Ф. Указ. соч. С. 135-136; Hansard (House of Commons). Parliamen-
tary Debates. Ser. 5. Vol. 290. Col. 1346.
43 Blackshirt. 1934. June 15, 22.
44 Manchester Guardian. 1934. June 15; PRO HO 144/20140/30.
43 Daily Worker. 1934. June 8, 22, 25, 28, 30; PRO HO 144/20143/363, 376, 377,
379.
46 Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 533. Оп. 10. Д. 278. Л. 112-113.
47 Там же. Оп. 6. Д.369. Л. 70, 79; Д. 274. Л. 3; Оп. 10. Д. 265. Л. 15.
48 Гурович П. Указ. соч. С. 112; PRO НО 144/20140/7.
49 Daily Herald. 1934. May 15.
50 PRO НО 144/20141/90-99.
51 Ibid. P. 92.
52 Мочулъский Н.Ф. Рабочее движение в Англии накануне второй мировой
войны (1934-1939 гг.). М., 1968. С. 218-219.
53 Lewis D.S. Illusions of Granduer: Mosley Fascism and British Society. 1931-1981.
Manchester, 1985. P. 130.
54 Гурович П. Указ. соч. С. 115.
55 РГАСПИ Ф. 533. Оп. 10. Д. 277. Л. 80, 83-111; Д. 278. Л. 69, 106-109, 121.
56 Мэллали Ф. Указ. соч. С. 56-65.
57 Times. 1934. July 21. Blackshirt. 1934. July 13.
58 Benewick R. The Fascist Movement in Britain. L., 1972. P.223.
59 Лишь к лету 1936 г. лидерам БСФ удалось восстановить, хотя и не в пол-
ной мере, деятельность организации.
60 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 500. On. 1.
Д. 244. Л. 3.
61 Там же. Ф. 519. Оп. 4. Д. 34А. Л. 3-4.
62 Blackshirt. 1935. Mar. 1, 29, June 14, Sept. 27; 1936. Jan. 3, Feb. 7, 28, Mar. 28,
Aug. 22, Sept. 5, Oct. 10, 30.
63 Ibid. 1935. Mar. 29.
64 Mosley O. Fascism: 100 Questions Asked and Answered. N 94.
65 Ibid. N 93; Blackshirt. 1935. Oct. 30.
66 Cross C. Op. cit. P. 152.
67 Hansard (House of Commons) Parliamentary Debates. Ser. 5. Vol. 309. Col.
1627, 1596-1567.
234
68 The Battle of Cable-street // Journal of Contemporary History. Vol. 8. 1994. N 1.
P. 108.
69 Это была вторая встреча Мосли с фюрером. Первая состоялась весной
1935 г.
70 Graham A. Fascism in Britain. L., 1966. P. 4; Mosley O. My Life. P. 409.
71 Mosley O. My Life. P. 367.
72 Ibid. 369.
73 Лишь накануне начала второй мировой войны фашисты ненадолго смог-
ли вновь несколько активизировать свою пропагандистскую деятельность и тем
самым привлечь внимание британской общественности.
74 Skidelsky R. Oswald Mosley. L., 1981. P. 438.
75 Daily Telegraph. 1938. Oct. 3; Мэллали Ф. Указ. соч. С. 110.
76 PRO НО 144/21429/16. Action. 1939. Oct. 9.
77 Action. 1939. Oct. 9; Speaker’s Notes. 1939. Dec. 2. P. 1; Dec. 22. P. 2; Dec. 30.
P. 1.
78 PRO HO 45/24895/16.
79 Simpson A. In the Highest Degree of Odious. Oxford, 1992. P. 135.
В.П. Городнов
БРИТАНЦЫ - АГЕНТЫ КОМИНТЕРНА
На Великобританию, а точнее - на Коммунистическую партию
Великобритании (КПВ), Коминтерн обращал особое внимание. Бри-
танские колонии и доминионы, разбросанные по всему миру, представ-
ляли собой широкое поле деятельности, направленной на реализацию
глобальных замыслов Коминтерна. И, конечно, очень эффективными
среди многочисленных коминтерновских агентов считались британцы:
у них были паспорта, открывавшие им легальный доступ почти во все
страны, и английский язык - средство общения тоже в большинстве
стран мира, не говоря уже о самой Британской империи.
...Их было четверо: Джеймс Шилдс, Дуглас Уолтон, Джордж Харди
и Питер Керриган. Британские коммунисты и активные коминтернов-
цы. Они были эмиссарами или, как тогда говорили, агентами Комин-
терна в Южной Африке, точнее в Коммунистической партии Южной
Африки.
Южная Африка занимала немаловажное место в планах и замыслах
Коминтерна. Наряду с другими колониальными и полуколониальными
странами она рассматривалась как антиимпериалистический резерв,
предназначенный для поддержки мировой пролетарской революции.
В Южно-Африканском Союзе, как тогда назывался этот доминион
Британской империи, была (и существует до сих пор) коммунистиче-
ская партия, созданная в 1921 г. и сразу же ставшая секцией Коминтер-
на. Было там и достаточно развитое и активное рабочее и профсоюзное
движение, созданное в основном британскими иммигрантами-социали-
стами, среди которых выделялись Уильям (Билл) Г. Эндрюс, Сид-
ней Персивал Бантинг и Дэвид Айвон Джонс. Они же фактически орга-
235
низовали и возглавили Коммунистическую партию Южной Африки
(КПЮА). Кстати, последний представлял партию в Коминтерне.
Однако у штаба мировой революции в Москве, каковым считался
Исполком Коминтерна, возникли серьезные трудности на пути реализа-
ции своих замыслов, в частности в деле вовлечения африканских стран,
в том числе Южной Африки, в мировой революционный процесс. И не
только потому, что КПЮА была партией немногочисленной и слабой,
не пользовавшейся большим авторитетом у южноафриканского проле-
тариата. Из-за географической отдаленности, что в те времена было
весьма существенным обстоятельством, у коминтерновского начальст-
ва не было со своей секцией на далеком от Москвы юге Африки устой-
чивой и быстрой связи, так нужной для передачи руководящих директив
и проверки их исполнения. К тому же существовала еще одна очень
серьезная проблема, осложнявшая деятельность южноафриканских
коммунистов, - расовый барьер, разделявший пролетариат в Южной
Африке. Короче говоря, южноафриканская компартия, на которую
возлагались немалые надежды, сама нуждалась в постоянной поддерж-
ке и помощи, оказать которую непосредственно из Москвы было край-
не трудно, а порой и просто невозможно.
Выход был найден. Исполком Коминтерна принял решение пору-
чить Коммунистической партии Великобритании заняться оказанием
помощи своим южноафриканским товарищам и единомышленникам.
Власти в ЮАС узнали об этом незамедлительно. Верховный ко-
миссар Южной Африки в Лондоне, получив в июне 1924 г. письмо из
Скотланд-Ярда с соответствующей информацией, сразу же переправил
его в Преторию комиссару полиции ЮАС полковнику Т.-Г. Трутеру.
“Из надежного источника, - сообщалось в этом письме, - получена ин-
формация, что в апреле этого года Восточный отдел Исполкома Ко-
минтерна обсуждал вопрос о коммунистической пропаганде в Южной
Африке и принял решение усилить там деятельность коммунистиче-
ской партии. Они (в Исполкоме Коминтерна. - Авт,) потребовали от
Центрального комитета британской коммунистической партии по-
слать в Южную Африку ответственных работников с соответствующи-
ми денежными средствами для создания пропагандистского центра с
целью работы среди туземцев”1. Среди других мер по активизации
деятельности КПЮА предлагалась и такая: “...обязать Красный ин-
тернационал профсоюзов (предположительно с помощью Томаса Ман-
на) организовать портовые бюро в Кейптауне, Порт-Элизабете и Дур-
бане”2.
Коминтерновские портовые бюро на Южноафриканском побере-
жье так и не появились, а вот с отправкой “ответственных работников”
в Южную Африку дело пошло.
Первым в апреле 1925 г. туда отправился Джеймс Шилдс (1900—
1949). Молодой шотландец из Гринока был не только активным членом
местного комитета КП Великобритании, но и входил в состав Нацио-
нального совета британского комсомола, т.е. обладал определенным
опытом организационной и пропагандистской работы, что и требова-
лось от агента Коминтерна. Сообщая своим южноафриканским колле-
236
гам об отъезде Шилдса в Южную Африку, Скотланд-Ярд отметил, что
он отправился туда “якобы для поправки здоровья”3.
Прибыв в Южную Африку, Джеймс Шилдс был сразу же введен в
состав руководства КПЮА. Выполняя директивы Коминтерна, он за-
нялся организационными делами в партии. Кроме того, стал помощни-
ком главного редактора партийной газеты “Саут Африкен Уоркер”, ко-
торым был сам председатель КПЮА Сидней П. Бантинг. “Я полностью
отдаюсь партийной работе, поскольку, как я понял здесь, южноафри-
канская партия пребывает в плачевном состоянии”, - писал Шилдс в
Лондон руководству КП Великобритании. Копия этого письма4, перлю-
стрированного Скотланд-Ярдом, была отправлена министру внутрен-
них дел ЮАС и в конечном счете легла на стол все того же полковника
Трутера, начальника всей южноафриканской полиции.
На очередном, IV съезде КПЮА, проходившем в декабре 1925 г.,
Шилдс выступал с двумя докладами: о внутреннем и международном по-
ложении и об организационной и воспитательной партийной работе.
Именно он докладывал делегатам съезда об основных проблемах, сто-
явших перед партией, а не ее председатель Бантинг или генеральный
секретарь Эдвард Ру. По завершении съезда Джеймс Шилдс был избран
членом Центрального исполнительного комитета КПЮА, фактически
став секретарем ЦК партии. Кстати, в состав Исполкома была избрана
и В. Шилдс, его жена, последовавшая за ним в Южную Африку. Съезд
партии утвердил Шилдса и в должности помощника главного редактора
партийной газеты.
Более трех лет, до 1928 г., Джеймс Шилдс, будучи одним из руково-
дителей южноафриканской компартии, настойчиво добивался реализа-
ции директив Коминтерна. Особое внимание он уделял так называемой
“большевизации” партии, первым шагом к которой, как он сам опреде-
лил на IV съезде КПЮА, должно было стать создание партийных яче-
ек по производственному принципу вместо существовавших в то время
территориальных парторганизаций5. Даже вернувшись в Англию,
Джеймс Шилдс не оставлял своим вниманием южноафриканскую ком-
партию и по сути дела продолжал выполнять свои обязанности агента
Коминтерна. На заседании ЦИК КПЮА 12 апреля 1928 г., например,
было зачитано письмо Шилдса, полученное из Лондона, в котором он
заявлял о своей поддержке очередной коминтерновской директивы для
КПЮА, на сей раз о выдвижении для Южной Африки лозунга “незави-
симой туземной республики”6.
В ЗО-е годы, став одним из руководителей компартии Великобрита-
нии, Джеймс Шилдс принимал участие в работе Исполкома Коминтер-
на в Москве (в основном это ограничивалось представительскими функ-
циями). В сентябре 1932 г. он был избран кандидатом в члены Президи-
ума Исполкома Коминтерна (ИККИ), но пробыл на этом посту всего
лишь год. Шилдс был в составе делегации КП Великобритании на
VII конгрессе Коминтерна, принимал участие в работе Интернацио-
нальной контрольной комиссии (ИКК) - своего рода судебно-контроль-
ного органа Коминтерна. Все это достаточно известно, но вот участие
Дж. Шилдса в еще одной операции, связанной с южноафриканскими
237
делами, прояснилось только с открытием коминтерновских архивов в
Москве в 90-е годы.
...Произошло это в ноябре 1937 г. Приехав в очередной раз в Моск-
ву, Джеймс Шилдс остановился в “Гранд-отеле”, в самом центре города,
поблизости от Кремля и того здания, где размещался Исполком Комин-
терна. Там же и в то же время поселился и Уильям Эндрюс, бывший ру-
ководитель компартии Южной Африки и бывший член ИККИ.
В 1931 г. он стал жертвой “большевизации” южноафриканской компар-
тии и был исключен из нее вместе с группой других коммунистов, обви-
ненный в реформизме и даже белом шовинизме.
В архиве Коминтерна сохранился отчет о секретной встрече, проис-
ходившей 29 ноября 1937 г. Именно Шилдс привел на нее Эндрюса из
“Гранд-отеля” в находившийся поблизости отель “Люкс”. Это был “за-
крытый” и строго охраняемый отель. Там жили только коминтерновцы
и те, кто постоянно работал в Исполкоме Коминтерна. Главное, там бы-
ли все условия для проведения не подлежащих огласке встреч и бесед.
Собрались в комнате Робина Пейджа Арнота, представителя КП
Великобритании в Коминтерне, члена Политсекретариата и Президиу-
ма ИККИ. Присутствовал здесь еще один британский коммунист - ко-
минтерновец Артур Хорнер. Организатором же встречи бывшего юж-
ноафриканского коммунистического лидера Эндрюса с британскими
коммунистами для того, чтобы уговорить его вернуться в партию, яв-
лялся незаметный и далеко не главный функционер Исполкома Комин-
терна Роберт Науман. Это был не британец. Молодой немец, приехав-
ший в Россию в 20-е годы строить социализм, он прошел подготовку в
коминтерновских учебных заведениях и сделал быструю карьеру, чему
в немалой степени способствовала волна сталинских чисток и репрес-
сий, которая не миновала и Коминтерн. Именно Науману было поруче-
но секретарем ИККИ французским коммунистом Андре Марти про-
вести эту секретную встречу, и именно он доложил о ее результатах са-
мому генеральному секретарю Исполкома Коминтерна Георгию Дими-
трову.
Роли собравшихся на секретную встречу в коминтерновском “Лю-
ксе” были распределены заранее: Шилдс, “лично знавший Билла Энд-
рюса”, как писал Р. Науман в своем отчете генеральному секретарю
ИККИ Г. Димитрову, привел его, а Арнот и Хорнер должны были уго-
ворить Эндрюса, поскольку они “были хорошо известны в движении.
Их мнение очень много значило для товарища Эндрюса”7. Беседа про-
должалась около двух часов и дала положительные результаты. После
беседы Шилдс, Эндрюс и присоединившийся к ним Науман возврати-
лись в “Гранд-отель”. Шилдс ушел куда-то по своим делам, а Науман
повел товарища Билла смотреть только что вышедший в Советском
Союзе революционный кинобоевик “Мы из Кронштадта”. Это, веро-
ятно, входило в план операции по обработке Эндрюса, ведь в кино-
фильме “очень убедительно показана роль коммунистической пар-
тии”8.
Уже в мае следующего года Эндрюс вернулся в Коммунистиче-
скую партию Южной Африки, а еще через некоторое время стал ее
238
председателем и пробыл на этом посту до конца своей жизни (умер в
1950 г.).
В 1930 г. в Южной Африке появился новый агент Коминтерна -
британец Дуглас Гордон Уолтон (1898-1987). В отличие от Джейм-
са Шилдса он не был новичком в этой стране. Родом из Йоркшира, он
перебрался в Южную Африку еще в 1921 г., а в 1925 г. стал членом юж-
ноафриканской компартии. Д. Уолтон редактировал партийную газету,
безуспешно выступал в качестве кандидата от компартии на парламент-
ских выборах в 1929 г., но все это еще не имело прямого отношения
к Коминтерну, хотя сам он считал себя “знаменосцем Коминтерна” еще
с 1927 г?
В июле 1929 г. Дуглас Уолтон на год покидает Южную Африку.
Сначала он в Лондоне обсуждает какие-то вопросы с руководством
компартии Великобритании, потом появляется в Москве в Исполкоме
Коминтерна. В это время в Москву приезжает и миссис Уолтон. Мол-
ли Уолтон (1906-1947), в девичестве Зеликович, вместе с родителями
переехала в 1919 г. из Литвы в Южную Африку. В 1925 г. вышла замуж
за Дугласа Уолтона и в это же время стала членом южноафриканской
компартии, причем очень активным. Прибыв в Москву, Молли Уолтон
сразу же становится слушателем коминтерновской Международной ле-
нинской школы, готовившей руководящие кадры для зарубежных ком-
партий.
Конечно, все эти перемещения четы Уолтон не были случайными.
В коминтерновский штаб и в коминтерновские учебные заведения зару-
бежные коммунисты без вызова и предварительной договоренности не
приезжали. Как же обстояло дело в данном случае?
Вполне вероятно, что для подготовки и соответствующего инстру-
ктажа в Москве супруги Уолтон были завербованы и отправлены туда
усилиями секретного агента Коминтерна Бориса Идельсона10. Как раз
в это время он завершал свою миссию в Южной Африке по изучению
обстановки в КПЮА и оказанию помощи этой компартии.
В ноябре 1930 г. Дуглас Уолтон возвращается в Южную Африку, но
уже в качестве генерального секретаря КПЮА. “Я получил инструк-
ции, - писал он впоследствии, - отправиться в Южную Африку, где дол-
жен был добиться реализации генеральной линии”11. Генеральной ли-
нией Коминтерна в то время была так называемая “большевизация”
компартий, что на практике означало изгнание из партии всех несоглас-
ных с директивами московского центра под предлогом “уклонов” к ре-
формизму, троцкизму и т.д. Для южноафриканской компартии добавля-
лась еще, на перспективу, реализация лозунга “независимой туземной
республики”. Вот этим и должен был заняться новый агент Коминтер-
на, новоиспеченный генсек Д. Уолтон.
Если возвращение Дугласа Уолтона прошло без особых осложне-
ний, тем более что у него был британский паспорт, то возвращение из
Москвы “товарища Молли” годом позже (задержалась в Международ-
ной ленинской школе) вызвало жесткое сопротивление южноафри-
канских властей, а прежде всего полицейского ведомства. Комиссар
полиции ЮАС полковник Т. Трутер, охарактеризовав ее как “пламен-
239
ную и очень активную коммунистку”, в письме к министру юстиции
настаивал, что “следует предотвратить возвращение Молли Уолтон в
ЮАС, поскольку ее активность в деле коммунизма такова, что ее при-
сутствие в ЮАС нежелательно”12. Министр юстиции поддержал тре-
бование своего подчиненного. Однако последовало разъяснение мини-
стра внутренних дел: поскольку Молли - жена британского подданно-
го, проживающего в ЮАС и, следовательно, гражданина этой страны,
то и она является гражданкой ЮАС и не подпадает под действие им-
миграционного закона, предотвращающего допуск в страну “нежела-
тельных лиц”. Так что расчет Коминтерна на британцев, выполняю-
щих его поручения, оправдывался. Миссис Уолтон возвратилась, что-
бы продолжить свою активную деятельность, но уже на более высо-
ком уровне.
Тем временем новый генсек КПЮА Д. Уолтон, выполняя поруче-
ния Исполкома Коминтерна, развертывал кампанию “большевизации”
партии. Прибывшая в разгар этой кампании “пламенная” Молли оказа-
ла ему такую мощную поддержку, что один из членов партийного руко-
водства Мозес Котане, впоследствии сам возглавивший КПЮА, назвал
все это “новой линией Молли и К°”13. Из компартии были изгнаны ее
старейшие члены и основатели Сидней П. Бантинг и Уильям Эндрюс,
обвиненные в реформизме, белом шовинизме и даже в контрреволюци-
онной деятельности. Характеризуя усилия супругов Уолтон и их сто-
ронников в деле “большевизации” партии, все тот же М. Котане отме-
чал: “Уолтон прибыл с мандатом Коминтерна, чтобы уничтожить ре-
формизм в партии. Он проделал это так основательно, что оттолкнул
от партии членов профсоюзов - настолько, что мы не могли даже под-
держивать контакты с ними”14.
Продолжалось все это более трех лет. В начале 1934 г. Уолтоны не-
ожиданно покинули Южную Африку, на этот раз уже навсегда, и пере-
брались в Англию. Генеральный секретарь расстался с руководимой им
партией столь поспешно, что не оформил должным образом некоторые
организационные и даже финансовые дела. Объясняя причины такого
отъезда, Дуглас Уолтон в письме своему начальству в Исполкоме Ко-
минтерна ссылался на семейные обстоятельства, связанные с воспита-
нием ребенка, а также на “полный упадок физических сил и нервное
расстройство товарища Молли”15.
В 1948 г. в Москве вышла переведенная на русский язык книга Ду-
гласа Уолтона под названием “Куда идет Южная Африка”. То, что в
книге нет ни слова о взаимоотношениях Уолтона с Коминтерном, не
удивляет - все это было скрыто покровом секретности. Удивляет дру-
гое - в заголовке книги на русском языке отсутствует знак вопроса,
стоявший в английском оригинале16. По всей вероятности, в отличие от
автора, за три года своей деятельности на посту генсека фактически
развалившего южноафриканскую компартию, в Москве не сомнева-
лись, “куда идет Южная Африка”. И даже добавили подзаголовок: “На-
род банту в борьбе за свое освобождение”. Кстати, в предисловии к ан-
глийскому изданию книги тогдашний председатель Исполкома КПВ
Уильям Галлахер прорицает: “История учит нас языком крови и огня,
240
что рано или поздно вскоре угнетение народа приводит к насильствен-
ным переворотам. Белому меньшинству Южной Африки не избежать
последствий своих собственных деяний”17. Через полвека история дала
свой ответ на это пророчество. Как известно, все пока решается мир-
ным путем.
Джеймс Шилдс и Дуглас Уолтон, проводя в жизнь инструкции Ко-
минтерна, действовали там в течение длительного времени, к тому же
находясь в составе руководства компартии. И тем не менее положение
в КПЮА не улучшалось. Численность партии падала, начались внут-
ренние раздоры, в немалой степени вызванные директивами Коминтер-
на, не учитывавшими специфику южноафриканской действительности.
В ЗО-е годы Исполком Коминтерна все больше внимания стал уде-
лять “африканизации” руководства КПЮА, и там на высших постах по-
явились чернокожие южноафриканцы, прошедшие соответствующее
обучение в коминтерновских университетах. Изменялись, естественно,
и формы кадровой и организационной помощи партии, оказываемой
через посредство компартии Великобритании. Направлявшиеся в Юж-
ную Африку британцы - агенты Коминтерна уже не внедрялись в руко-
водство КПЮА на длительный срок, а действовали извне и выполняли
конкретные задания коминтерновского штаба.
Именно так обстояло дело с двумя другими британскими коминтер-
новцами из той четверки, которая была представлена в начале статьи -
Джорджем Харди и Питером Керриганом.
Джордж Харди (1884-1965) - личность заметная не только в исто-
рии Коммунистической партии Великобритании, но и в международном
рабочем и профсоюзном движении. Недаром к названию своей авто-
биографической книги “Те бурные годы” Харди добавил подзаголовок
“Воспоминания о борьбе за свободу на пяти континентах”. Правда, сде-
лано это было по совету одного из руководителей Коминтерна в 30-е
годы, а именно Д.З. Мануильского. Только вот Африканскому конти-
ненту в этих воспоминаниях не очень повезло - событиям в тех краях
уделено лишь несколько страниц. И дело не столько в обычной для ко-
минтерновских операциях секретности, сколько в том, что автору не-
чем было похвастаться.
Отправился Джордж Харди в Южную Африку в 1936 г. после то-
го, как “в конце 1935 г. нашу партию, - писал он в своих воспоминани-
ях, - попросили помочь южноафриканским товарищам в решении ря-
да организационных и программных вопросов, которые стояли очень
остро. Мне было поручено заняться этим делом”18. Вопросы были
действительно острыми - КПЮА находилась в состоянии глубокого
кризиса и обеспокоенное начальство в Коминтерне посылало туда
своего агента, чтобы помочь партии выбраться из этого кризиса. Но
миссия Дж. Харди не стала успешной. Более того, ее неудача была
предопределена.
Как признает сам Харди, его знания Южной Африки были весьма
ограниченны и, чтобы восполнить этот пробел, “после первых же бесед
с тамошними товарищами я провел много недель в городской публич-
ной библиотеке, разбираясь в истории этой страны”19. Но главной при-
16 Россия и Британия Вып 3
241
чиной неудач Харди являлась не его некомпетентность в южноафри-
канских проблемах, а то, что он еще до отъезда в Южную Африку оп-
ределил для себя, кто был виновником кризиса в КПЮА. Это были, по
его мнению, троцкисты. Таково было априорное заключение, сделан-
ное еще до ознакомления с положением дел на месте. В то время в Ко-
минтерне шла массовая охота на троцкистов, она происходила как в
центральном аппарате, так и в компартиях - секциях Коминтерна.
И Харди, вероятно, хорошо уловив дух времени, определил политиче-
скую конъюнктуру.
Злополучный коминтерновский лозунг “независимой туземной рес-
публики” для Южной Африки, из-за которого и разгорелась фракцион-
ная борьба в партии, приведшая к ее кризису, по его мнению, тракто-
вался с левацких позиций троцкистами, находившимися в самой партии,
“чтобы развалить ее”. А часть руководства компартии, сомневавшаяся
в правильности лозунга, “попала в ловушку троцкистов и выступила за
независимую буржуазную республику”20. Но в партии никто и не высту-
пал за “буржуазную” республику. Харди явно перегнул палку: южноаф-
риканские коммунисты спорили лишь о том, есть африканская буржуа-
зия в Южной Африке или ее нет. И спор шел между партийцами,
верными Коминтерну, но придерживающимися разных мнений о его ди-
рективе.
В Москве считали троцкистами тех, кто осуждал волну политиче-
ских репрессий, проводимых сталинским режимом, и такие в КПЮА
действительно имелись. Но это не было связано ни с лозунгом, ни с
фракционной борьбой в партии. Не имели отношения к проблеме ло-
зунга и немногие бывшие коммунисты, ставшие на сторону Троцкого и
осуждавшие действия Сталина.
Возвратившись в Москву примерно через год, Харди отчитался о
своей деятельности в Южной Африке 13 марта 1937 г. на заседании Се-
кретариата ИККИ, возглавляемого Андре Марти. В отчетном докладе
превалировали две темы: борьба против фашизма, включая проблему
единого антифашистского фронта в Южной Африке, и борьба против
троцкизма, что полностью соответствовало решениям VII конгресса
Коминтерна. Оценка действий коминтерновского агента со стороны
его непосредственного начальника была весьма высокой. Андре Марти
дважды отметил, что “работа, проделанная товарищем Харди в Южной
Африке, была очень хорошей”21. Как свидетельствуют документы из
архива Коминтерна, “заслушав информационный доклад тов. Харди о
положении в КП Южной Африки”22, Секретариат ИККИ 16 марта
1937 г. дополнил принятую им годом раньше Программу действий для
КП Южной Африки23.
Основной темой этих дополнений был все тот же троцкизм: “Пар-
тия должна самым резким образом разоблачать всю деятельность фа-
шистских троцкистов, указывая на их раскольническую работу и сабо-
таж в Южной Африке. Компартия должна демонстрировать этот хара-
ктер их деятельности и таким образом облегчать трудящимся понима-
ние действий троцкистов, направленных против Советского Союза”.
И еще: “Необходимо вырвать с корнем последние остатки фракционно-
242
сти внутри партии. Этого можно достигнуть, только заняв решитель-
ную позицию против всех тех, кто придерживается троцкистских идей,
и заставив их публично принять линию партии и решения VII Всемир-
ного конгресса Коминтерна после того, как они заявят об этом перед
соответствующим органом партии. Если они так не поступят, то их сле-
дует изгнать из партии”24. Что касается злополучного лозунга “незави-
симой туземной республики”, из-за которого и разгорелся весь этот
сыр-бор, то было решено, что он “является только общим ориентиро-
вочным лозунгом национально-освободительной борьбы народных
масс Южной Африки”25. Больше о нем не вспоминали ни в Коминтер-
не, ни в южноафриканской компартии. А Дж. Харди начал готовиться
к новой поездке в Южную Африку.
После обсуждения Секретариатом ИККИ результатов его первой
поездки сам генеральный секретарь Георгий Димитров удостоил Харди
личной встречи, в ходе которой настойчиво советовал в дальнейшем ни
в коем случае не командовать там, а только помогать. “Пусть южноаф-
риканцы сами работают и сами отвечают за работу” - сказал генсек26.
Был даже определен примерный срок второй миссии Харди в Южной
Африке. Все это было подтверждено и оформлено двумя неделями поз-
же, когда Секретарит ИККИ принял постановление от 3 апреля 1937 г.
В нем предлагалось ЦК КП Великобритании “взять на себя оказание
систематической поддержки КПЮА, помогая ей советом в выполнении
ее задач”27. Основным “советчиком”, судя по этому документу, должен
был быть Харди, которому предписывалось “выехать на 6 месяцев в
Южную Африку, чтобы помочь партии в ее работе”28.
Джордж Харди не только сам готовился к повторной поездке в Юж-
ную Африку, но и добился решения Секретариата ИККИ об отправке
туда и своей жены. Дороти Харди (вторая жена Дж. Харди) была бри-
танской коммунисткой и опытным работником, как характеризовал ее
сам Харди, лондонского издательства “Лоренс и Уишарт”. Предполага-
лось, что в Южной Африке она займется организацией издательства и
центра распространения коммунистической и антифашистской литера-
туры. Причем все это должно было выглядеть как “обычная капитали-
стическая фирма, не имеющая ничего общего с компартией”29. На реа-
лизацию этого проекта ИККИ выделил значительную сумму денег.
Однако ни Джордж Харди, ни его супруга так и не отправились в
Южную Африку помогать тамошним коммунистам. Постановление се-
кретариата ИККИ о командировке Харди не было выполнено. И дело
не только в самом Харди, но и в изменении методов использования бри-
танской компартии в решении южноафриканских проблем. Вероятно,
убедившись в невысокой эффективности действий своих эмиссаров,
ИККИ предпочел вызывать самих руководителей КПЮА в Европу для
соответствующего инструктажа, а не посылать в Южную Африку сво-
их агентов. В Колониальном комитете ЦК КП Великобритании была
создана специальная южноафриканская комиссия во главе с Гарри Пол-
литом, которой и поручалось “оказание систематической поддержки
КПЮА” в соответствии с новой методикой. В эту комиссию включили,
конечно, и Харди.
243
Во второй половине 1937 г. в Лондон были вызваны члены полит-
бюро КПЮА И. Вольфсон и X. Баснер. В течение месяца шла интен-
сивная работа в южноафриканской комиссии и даже в политбюро КПВ
по выработке новых программных документов для южноафриканской
компартии. 27 октября и 4 ноября уже в Париже прошли встречи юж-
ноафриканских коммунистов, которых сопровождали Дж. Харди и
П. Керриган, с секретарем ИККИ А. Марти, специально прибывшим
туда из Москвы. Представленные ему проекты документов Марти под-
верг резкой критике за недооценку решений, принятых Коминтерном
в марте 1937 г.30 Южноафриканским представителям и британским со-
провождающим пришлось на несколько дней вернуться в Лондон, ис-
правлять там допущенные промахи и потом возвращаться в Париж.
О результатах этих встреч и консультаций было доложено генерально-
му секретарю ИККИ Г. Димитрову31. В этом докладе, представленном
А. Марти, и прозвучала негативная оценка деятельности Джорд-
жа Харди, так резко контрастирующая с тем, что говорил тот же Мар-
ти несколько месяцев назад. «Позиция Харди была особенно непра-
вильной в связи с его так называемым “знанием Южной Африки, - до-
кладывал Марти своему начальству, - именно он более всего ориенти-
ровал дискуссию в неверном направлении. Он настаивал на том, чтобы
продолжать в партии “белую” линию. По этой причине и в противопо-
ложность позиции товарища Подлита32 я, безусловно, против того,
чтобы его послали в Южную Африку. Это давление со стороны Гар-
ри Подлита и Харди я нахожу очень странным»33. В ответном письме
Г. Поллиту А. Марти написал: “Поскольку Харди все же работает
в профсоюзном движении, то я полагаю, что он был бы полезнее в Ан-
глии”34.
Критическую оценку действия Харди получили и в самой южно-
африканской компартии. Его “белая” линия проявлялась и тогда, ко-
гда он находился в Южной Африке в 1936 г. По мнению южноафри-
канских коммунистов, Харди, «совершенно не разбираясь в сущности
социальной структуры страны, считал возможным оторвать “бедных
белых” и мелких фермеров от африканерского национализма». В них
он “нашел великий революционный потенциал”, который можно бы-
ло использовать в борьбе против фашизма и империализма. Обладая
полномочиями агента Коминтерна, Харди «направлял партию на серь-
езный поворот “вправо”, а в каждой критике своей позиции “слева”
видел происки троцкистов». Что касается черных южноафриканцев,
то им, по сути дела, отводилось второстепенное и отдельное от белых
место35.
“Белая” линия, предложенная Харди для КПЮА, осложняла реше-
ние проблемы единого антифашистского фронта, что не могло не
встревожить Исполком Коминтерна. И Джордж Харди был отстранен
от южноафриканских дел. Так закончилась его не дол гая “борьба за
свободу” на Африканском континенте.
Перейдя к новому методу поддержки и контроля КПЮА с помо-
щью КП Великобритании, руководство Коминтерна все же подкрепи-
ло это новшество посылкой в Южную Африку еще одного своего аген-
244
та. Это был Питер Керриган (1899-1977). Тоже, как и Джеймс Шилдс,
шотландец, он вступив в компартию в 1921 г., сначала проявил себя
в профсоюзном движении, потом возглавил партийную организацию
в Глазго и стал членом исполкома КП Великобритании. В 1935 г.
П. Керриган появился в Москве в составе делегации партии на VII кон-
грессе Коминтерна, потом отправился в Испанию на гражданскую вой-
ну в качестве политкомиссара интернациональной бригады британских
коммунистов. Вернувшись в Англию, он стал членом политбюро и орг-
бюро КПВ.
В Южную Африку его послали сразу же после лондонско-париж-
ских совещаний с членами руководства КПЮА, т.е. в конце 1937 г. или
начале 1938 г., и на очень короткий срок. Цель поездки, очевидно, со-
стояла в том, чтобы проверить, как реализуются директивы Коминтер-
на, изложенные в обновленной Программе действий для КПЮА.
В архиве Коминтерна пока удалось выявить только одно очень
короткое (всего страница) письмо, содержащее информацию о дея-
тельности последнего британского агента Коминтерна. Есть только
заголовок “Положение в КП” и машинописный текст, предельно ла-
коничный, около десятка имен и все они представлены первой бук-
вой. Нет ни даты отправки письма, ни имени адресата. Нет даже под-
писи. Предельная конспирация. Но получатель письма, конечно, знал,
кто и о чем пишет. И уже в Москве на письме появились и подпись
(“Питер”), и раскрывающий все подзаголовок “Южно-Африканский
вопрос, от Питера (Керриган)”, поставлена и дата регистрации доку-
мента: “вх. № 128, 31.VI.1938”36. Документ находится в одной из ар-
хивных папок Англо-Американского секретариата ИККИ, который
в 30-е годы стали называть “Секретариат тов. А. Марти”. Так что и
адресат ясен.
В этом кратком письме на одной странице содержится такая кон-
центрированная информация, что по своему содержанию она превосхо-
дит многостраничные отчеты предыдущих коминтерновских агентов в
Южной Африке. Даны краткие политические характеристики и реаль-
ные позиции всех членов руководства южноафриканской компартии
начала 1938 г., отмечено, что в руководстве партии в основном лица
“иностранного происхождения” и что в нем нет представителей южно-
африканских рабочих. Отмечены “реальные усилия партии в профсо-
юзном вопросе”37. Таковы были результаты посещения Южной Афри-
ки Питером Керриганом - четвертым британским агентом Коминтер-
на: только информация о положении в КПЮА.
Так Коминтерн использовал коммунистов и в целом компартию
Великобритании для контроля над коммунистическим движением в од-
ном из британских доминионов - Южно-Африканском Союзе. Подоб-
ные методы применялись и в других частях Британской империи.
Но накануне второй мировой войны контроль Коминтерна слабел,
да и сам Коминтерн после разгрома, учиненного ему Сталиным в 1936-
1937 гг., утратил свое прежнее значение. Исполком Коминтерна уже не
так скрупулезно вмешивался в дела коммунистического движения стран
Британской империи и, оставляя за собой определение стратегических
245
задач, во многом передоверял контроль за их осуществлением руковод-
ству КП Великобритании. В феврале 1939 г. Эли Уейнберг, исполняю-
щий обязанности секретаря исполкома КПЮА, отчитывался уже не в
Москве, а в Лондоне, перед Колониальным комитетом ЦК КПВ38.
1 Архив министерства юстиции ЮАС (далее-SAB; JUS) 268; 3/1064/18.
Письмо Б.Е. Шилдса от 12 апр. 1924 г.
2 Ibid.
3 Ibid. № С. 6/1110/2 6/1, 1926. Aug. 31.
4 Ibid. Письмо Р.А. Бланкенберга от 19 окт. 1925.
5 Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 64. Д. 43. Л. 26.
6 Там же. Д. 63. Л. 29.
7 Там же. Оп. 14. Д. 352. Л. 270-271.
8 Там же.
9 Там же. Оп. 64. Д. 137. Л. 16.
10 Идельсон Борис Иосифович (1895-1938), член ВКП(б), до поездки в Юж-
ную Африку в 1929 г. (где он действовал, прикрываясь именем германского
профсоюзного деятеля Пауля Меркера) выезжал в качестве агента Коминтер-
на в Германию и Францию. В годы сталинского террора был расстрелян как
сторонник Н. Бухарина.
11 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 64. Д. 132. Л. 17.
12 SAB; JUS; 268; 3/1064/18; № С. 12/126/30/27/, 1931. July 13.
13 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 64. Д. 137. Л. 64.
14 Там же.
15 Там же. Д. 132. Л. 15.
16 Wolton Douglas G. Whiter South Africa? L., 1947.
17 Уолтон Д. Куда идет Южная Африка. М., 1948. С. 21.
18 Харди Дж. Те бурные годы. М., 1957. С. 257.
19 Там же. С. 259.
20 Там же. С. 258.
21 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 14. Д. 349. Л. 234.
22 Там же. Ф. 495. Оп. 20. Д. 662. Л. 121.
23 См.: Там же. Д. 663. Л. 127-138.
24 Там же. Д. 662. Л. 146, 147.
25 Там же.
26 Там же. Оп. 18. Д. 1185. Л. 134а-134б.
27 Там же. Л. 271.
28 Там же.
29 Там же. Оп. 74. Д. 612. Л. 6-7.
30 Имеется в виду Программа действий для КПЮА, принятая в 1936 г. с до-
полнениями 1937 г.
31 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 666. Л. 23.
32 См. письмо Г. Поллита от 23 окт. 1937 г. (Там же. Оп. 14. Д. 355. Л. 565).
33 Там же. Оп. 20. Д. 666. Л. 10-11.
34 Там же. Л. 21.
35 Simons Jack & Ray. Class and Colour in South Africa, 1850-1950 // International
Defence and Aid Fund for Southern Africa (IDAF). 1983. July. P. 496, 477.
36 РГАСПИ. Ф. 495. On. 20. Д. 355. Л. 119.
37 Там же.
38 См.: Там же. Оп. 14. Д. 360-а. Л. 2-7.
246
С. А. Соловьев, ЕЛ, Суслопарова
ЭТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
РИЧАРДА ГЕНРИ ТОУНИ
Конец XX в. подверг самому серьезному испытанию правоту и
жизнеспособность социалистической идеологии. Став на протяжении
минувшего столетия массовой политической реальностью для боль-
шинства стран мира, социализм явил XX в. значительное количество
различных теорий и практических экспериментов. Приходится при-
знать, что неудача широкомасштабных попыток строительства спра-
ведливого общества, основанных на марксистском понимании социа-
лизма, нанесла существенный удар по престижу учения в целом, а так-
же в определенной мере ослабила его материалистическую состав-
ляющую.
Однако едва ли сегодня правомерно говорить о том, что социали-
стическая идеология мертва. Что же из богатого социалистического ба-
гажа способно пережить катаклизмы и имеет шанс, выдержав провер-
ку временем, шагнуть в XXI в.?
Представляется, что не снискавшие доверия в нашей стране, но и
сейчас весьма распространенные на Западе идеи этического социализ-
ма обладают подобным потенциалом. Мысль о том, что никогда не ра-
но и никогда не будет поздно попытаться изменить жизнь в соответст-
вии с высшими моральными основами, едва ли способна утратить свою
актуальность. Нравственная сторона социалистической идеи по-преж-
нему остается мощным фактором современности и сейчас находит сво-
их ревностных сторонников среди партий весьма далеких от смелых со-
циалистических экспериментов.
“Несчастье современного общества в отсутствии морального идеа-
ла”; “парламент, промышленные организации, все устройство в комп-
лексе, через которое общество себя реализует, это мельница, перема-
лывающая только то, что в нее положено. Если внутри ничего нет, она
толчет воздух”1. Эти слова принадлежат видному теоретику этического
социализма XX в. - англичанину Ричарду Генри Тоуни.
В отечественной историографии Р.Г. Тоуни получил широкую из-
вестность в качестве одной из наиболее заметных фигур британской ис-
торической науки. В самой Великобритании “веком Тоуни” принято на-
зывать столетие английской истории, предшествовавшее гражданским
войнам, которому он посвятил большинство своих исторических трудов
(“Аграрная проблема в XVI веке” (1912), “Религия и подъем капитализ-
ма” (1926), работа “Возвышение джентри, 1558-1640” (1941), повлек-
шая за собой известную дискуссию, и др.)2. Впрочем среди современни-
ков и поколений ученых исследователей у себя на родине Тоуни снискал
не меньшую славу талантливого публициста, философа, моралиста, че-
ловека, бросившего вызов современному ему состоянию общества, его
порокам и предпринявшего попытку убедить соотечественников в том,
что можно жить иначе.
247
Судьба Тоуни неотъемлемо была связана с лейбористской партией.
Не сделав карьеры политика, он стал в свое время одним из ведущих
идеологов лейборизма, оказавшись у истоков формирования идеологии
массовой общенациональной социалистической партии3. При этом
нельзя не согласиться с мнением британских исследователей Э. Хэлси
и Н. Денниса о том, что Тоуни был человеком, шагнувшим за рамки
и своего времени, и своей партии4.
Взлет в биографии Тоуни, как публициста и философа, пришелся
на 20-е годы. Во взглядах этого человека можно было наблюдать сво-
его рода квинтэссенцию послевоенной эпохи, времени надежд, осозна-
ния необходимости перемен и ожидания лучшего общественного поряд-
ка. Видный лейбористский деятель X. Гейтскелл, называя Тоуни выда-
ющимся социалистическим философом своего времени, писал о наибо-
лее известных работах автора (“Стяжательское общество” и “Равенст-
во”): “Эти две великие книги ... имели колоссальное воздействие на мое
поколение...Тоуни... открывал нам глаза на действительное состояние
вещей, на то, что мы...порой не принимали во внимание, но сразу же
осознавали, раскрывая его книги”5.
Однако Тоуни повлиял не только на современников. Хотя в литера-
туре иногда попадаются и достаточно сдержанные высказывания в его
адрес6, хвалебных, весьма лестных оценок явное большинство. Тоуни
называют одним из ведущих британских политических мыслителей
XX в., предложившим “социалистическую философию, далеко выходя-
щую за рамки конкретной политической обстановки”7. Более того, о
нем говорят как о фигуре уникальной - “социалисте на все времена”8.
Любопытно, что именно к его имени апеллировала отколовшаяся в
1981 г. группировка лейбористов, объявившая о создании социал-демо-
кратической партии9, очевидно посчитав, что многие из его идей могут
вполне достойно прозвучать и на фоне 80-х годов.
И поныне размышления Тоуни не утратили своей актуальности.
В эпоху тэтчеризма идеи этического социализма подверглись, пожалуй,
самой жесткой проверке на прочность. Однако они выдержали эту про-
верку и в самой Великобритании, где остались идейным фундаментом
современного лейборизма, и в международном социалистическом дви-
жении. Отвергая все то, что было связано с печальным опытом псевдо-
коллективистских иллюзий государственного социализма, лейборист-
ская партия Великобритании в то же время не принимала и эгоистиче-
ский индивидуализм тэтчеризма. В поисках справедливого общества,
своего “третьего пути” к нему, она обратила свой взгляд к основанному
именно на этических ценностях коммунитарному социализму10. “После
коллапса коммунизма, - заявил лидер лейбористов Энтони Блэр, - ста-
ло очевидно, что только этическая база социализма выдержала испыта-
ние временем”11. Весьма важно, что на рубеже тысячелетий лейборист-
ская партия Великобритании дважды (в 1997 и 2001 гг.) с блеском выиг-
рала всеобщие парламентские выборы. И было бы неразумно не заме-
чать роли социалистической идеологии в этих победах.
Этическая база социализма по-прежнему жива. И понять ее в пол-
ной мере невозможно, не обратившись к взглядам человека, которого в
248
британской литературе называют венцом этического социализма
XX в.12.
Прежде чем непосредственно разобраться, что же в воззрениях это-
го автора было и остается столь привлекательным для современников
и последующих поколений, что позволяло им видеть в его работах не-
кий нравственный ориентир на фоне экономических перипетий и борь-
бы партийных группировок, что дало ему возможность ко времени сво-
ей кончины в 1962 г. оказаться фактически канонизированным как на
левом, так и на правом флангах лейбористской партии13, представляет-
ся важным хотя бы несколько слов сказать о его жизни.
Тоуни родился в Калькутте в 1880 г. в семье специалиста по санск-
риту. Учился в Рагби, а затем в Оксфорде. Еще в период учебы в уни-
верситете Тоуни начал проявлять интерес к проблеме общественного
воздействия христианских доктрин под влиянием, в частности Ч. Гора
(ученика английского философа Т.Х. Грина и впоследствии епископа
Бирмингемского). В это же время Тоуни проникается социалистически-
ми идеями. В Оксфорде одной из ключевых фигур этого направления в
те годы был С. Болл, известная статья которого “Социалистический
идеал”, проникнутая идеями этического социализма, была опубликова-
на в первый же семестр пребывания Тоуни в Оксфорде14.
После окончания университета в 1903 г. Тоуни, последовав совету
главы своего колледжа Э. Кэда попробовать разобраться, почему бед-
ность существует в Англии наряду с таким огромным богатством, на-
чал работать в Тойнби-холле (университетском благотворительном
учреждении на восточной окраине Лондона15). Эта работа оказала су-
щественное влияние на формирование Тоуни как социалиста, впервые
вплотную столкнувшегося с проблемой социальных контрастов в об-
ществе, бедности и нищеты рабочих окраин. В то же время
к Тоуни приходит и осознание того, что благотворительность и
филантропия далеко не те средства, которые способны решить эту
проблему.
В 1906 г. Тоуни был приглашен в Глазго преподавать экономику.
Однако в полной мере он ощутил свое призвание в 1908 г., когда начал
преподавать в учебных классах для взрослых рабочих при Оксфорд-
ском университете, организованных Рабочей учебной ассоциацией. В ее
исполком Тоуни вступил еще в 1905 г.16 Этот период жизни наложил
серьезный отпечаток на его мировоззрение. В те же годы Тоуни всту-
пает в Фабианское общество (1906)17 и Независимую рабочую партию
(1909). Членом лейбористской партии он стал позднее, в 1918 г. Уже в
предвоенные годы Тоуни получает известность как историк.
С началом первой мировой войны Тоуни уходит на фронт. После ее
окончания преподает в Лондонской школе экономики и много пишет.
В 1921 г. вышла в свет принесшая ему широкую известность и много-
кратно переиздававшаяся книга “Стяжательское общество”. Позднее
она стала единственной книгой еще здравствующего к тому времени ав-
тора, включенной Чикагским университетом в число 72 величайших
книг западной цивилизации18. В 1931 г. вышла другая наиболее извест-
ная его работа философского плана - “Равенство”.
249
Одновременно Тоуни продолжает активно заниматься историей.
С 1931 г. он - профессор экономической истории Лондонского универ-
ситета. С этого времени преподавательская и научная деятельность яв-
лялась его основным занятием.
С началом второй мировой войны Тоуни переезжает в Кембридж,
куда была эвакуирована школа экономики, и лишь в 1949 г. заканчива-
ет свою преподавательскую работу. Он умер в 1962 г. в возрасте 82 лет,
как сказал один из его друзей, “завершив все дела, которые наметил се-
бе еще в юности”19.
В чем же заключались ключевые идеи Тоуни, что дает исследо-
вателям возможность говорить о нем, как о “социалисте на все вре-
мена”?
Важнейшим элементом общественно-политических воззрений То-
уни стала концепция стяжательского и функционального общества.
Причину неблагополучия современного ему общества Тоуни видел в
поклонении ложным ценностям, господстве дурных человеческих ин-
стинктов, личных амбиций, корыстных стремлений, которые отодвига-
ют на задний план моральные принципы, религиозность. Общество, ос-
новной интерес которого сосредоточен на приобретении богатства, То-
уни называл стяжательским. Это есть общество, не знающее никаких
ограничений (“сильным оно обещает неограниченную свободу для уве-
личения своей силы, слабым дает надежду, что однажды и они смогут
стать сильными”), общество жесткого соперничества между людьми,
которое Тоуни не приемлет. Это - общество, которое “восхищается те-
ми, кто умеет брать, а не теми, кто дает”, “не делающее различий меж-
ду предприимчивостью и жадностью ... между доходами, являющимися
результатами труда, и паразитизмом тех, кому посчастливилось родить-
ся богатым наследником”, концентрирующее человеческое сознание на
личных интересах и представляющее полную свободу одному из наибо-
лее сильных человеческих инстинктов, опутавшее своими чарами и бо-
гатых, и бедных, “представляющее околдовывающую иллюзию безгра-
ничной свободы”20.
Помимо этого, Тоуни был убежден, что общество, где в качестве
верховного идеала выступает собственнический индивидуализм, обще-
ство, которое абсолютизирует значение экономической деятельности,
никогда не достигнет ни спокойствия, ни социального мира. Ему неиз-
бежно будет свойственно постоянное недовольство, уходящее корнями
в ненасытное стяжательство. На страницах своих работ Тоуни резко
выступал против индустриализма, характеризуя его как фетиш совре-
менного общества, путаницу целей и средств, презрение ко всему, что
не содействует росту экономической активности21.
Представляется, что в этом плане на Тоуни оказали очевидное вли-
яние английский публицист, теоретик искусства Дж. Раскин (которому
Тоуни посвятил одну из послевоенных статей)22, а также поэт, педагог
и критик М. Арнольд, в свое время резко выступавшие против этого яв-
ления. Подобную точку зрения высказывают, в частности, Р. Уильямс
в своей книге “Культура и общество”, а также ряд других исследова-
телей23.
250
Давая характеристику капиталистическому устройству общества,
Тоуни писал, что религия, некогда величайшая социальная сила, посте-
пенно превратилась в нечто сугубо личное, общество утратило свой
краеугольный камень. “Церковь и государство оказались на периферии
социальной жизни”, все, что осталось от общества - это личные права
и личные интересы, ставшие основой социального порядка24.
Современная Тоуни действительность являла автору изобилие кон-
кретных тревожных примеров, позволяющих говорить о неблагополу-
чии общества, дающих ему основания задуматься над тем, что избран-
ная дорога “ведет в никуда”25. Однако своеобразие подхода Тоуни за-
ключалось в том, что он предпринимал попытку подняться над сиюми-
нутными проблемами экономического неблагополучия. “Авторы
слишком увлечены сейчас статистикой и фактами, - писал он в дневни-
ке, - но они не заглядывают в суть проблемы. А она лежит не в эконо-
мической области. Это проблема в первую очередь моральных взаимо-
отношений ... это сама безнравственная философия, которая лежит в
основе”26.
Капитализм - термин весьма неопределенный, писал Тоуни, - “фе-
номен, характеризуемый этим словом, очевидно сложен. Это и комп-
лекс технических приемов, и форма общественной организации, и сис-
тема этических установок и доктрин, это, наконец, и тип цивилизации,
вытекающий из этих трех составных частей. Тип цивилизации, который
следует оценивать ... по тем институтам, которые он создает, по тем от-
ношениям между людьми, которые эти институты устанавливают, по
тому типу поведения, индивидуальному и общественному, который по-
ощряется этими отношениями”27. Именно капитализм как цивилизация
морально несостоятельная и, как следствие этого, полная всевозмож-
ных бросающихся в глаза пороков, подвергалась самому беспощадному
осуждению со стороны автора. На страницах работ Тоуни была пред-
ставлена чрезвычайно мощная и всеохватывающая критика “стяжа-
тельского общества” как явления несовместимого с общечеловечески-
ми нравственными ценностями. Он не просто разоблачал пороки, на-
блюдаемые вокруг, а заставлял читателя задуматься над глубокой фи-
лософской сутью происходящего.
Какое же общество автор противопоставлял стяжательскому? “Об-
щество, приобретение богатства в котором стоит в зависимости от вы-
полнения общественных обязанностей, которое стремится к пропорци-
ональной оплате за службу; общество, где те, кто ее не выполняет, не
получают заработной платы; общество, которое в первую очередь об-
ращает внимание не на то, чем человек владеет, а на то, что он созда-
ет”28. Такое общество Тоуни называет функциональным. Это - общест-
во, которое ценит искусство созидания, умение создавать; общество, где
главным является выполнение функций; общество, основанное на соли-
дарности, уважении друг к другу29.
Само понятие функции Тоуни определяет как обязанности, кото-
рые человек выполняет не только ради своего удовольствия, но и на
благо общества, как деятельность, воплощающую в себе обществен-
ную цель30. Эта общественная цель у автора по сути довольно абстракт-
251
на. Самой главной для Тоуни была проблема социальных взаимоотно-
шений в обществе. Он не дает четкого определения раз и навсегда уста-
новленной цели. Это во многом связано с тем, что и социализм он ско-
рее понимал как нечто динамичное, как образ жизни. И именно этот об-
раз жизни, взаимоотношения между людьми, основанные не на зависти
или поклонении богатству, а на чувстве взаимопонимания, братства,
уважения друг к другу, были для Тоуни самым главным. Важно, что он
не приемлет в стяжательском обществе то, что “оно убеждает людей,
будто на свете не существует других целей, кроме их личных”31. Это ра-
зобщает людей, отдаляет их друг от друга. Лишь цель, поднимающаяся
выше частных устремлений, могла бы объединить людей. Человек,
считал Тоуни, должен получать удовлетворение от своего труда, иметь
возможность реализовать свои способности, но не ради стяжательства,
а ради созидания того, что необходимо обществу. Автор писал, что лю-
дям свойственны самовлюбленность, жадность, сварливость. Что необ-
ходимо сделать, подчеркивал он, так это создать такую обстановку, при
которой все это не будет поощряться32. Для этого нужна была цель, ко-
торая бы объединяла и позволяла сконцентрироваться не на стяжатель-
стве, а на созидании. В противном случае люди будут постоянно бороть-
ся между собой, движимые стремлением к достижению личной выгоды
в ущерб остальным33.
Тоуни считал, что права должны быть поставлены в четкую зави-
симость от выполнения функций. Права, которые не подразумевают
выполнение соответствующих функций, Тоуни называл привилегиями.
Не исключено, что в данном случае на автора повлияла теория функ-
ций, разработанная испанским публицистом Рамиро де Маэсту, чья кни-
га “Власть, свобода и функция в свете войны” была издана в 1916 г. на
английском языке34. В ней доказывалось, что права индивидуумов и ор-
ганизаций должны основываться на выполнении ими общественных
функций35. Сам Тоуни не ссылался на этого автора. В британской исто-
риографии его собственная теория обычно рассматривается как само-
стоятельное идейное течение36.
Автор никогда не высказывался за упразднение частной собственно-
сти. “Идея некоторых социалистов о том, что частная собственность...
вредна... - схоластична и абсурдна”,37 - писал он. Тоуни был против “пас-
сивной собственности” рантье и лендлордов или “собственности во имя
стяжательства”. Его волновали больше всего не размеры собственности,
а именно ее природа38. Пока сохраняется возможность иметь устойчи-
вый доход за счет труда других людей, в обществе никогда не будет гар-
монии. Этот замкнутый круг можно разорвать, лишь отказавшись от
ложной философии, которая сейчас доминирует, указывал Тоуни.
Примечательно, что К. Маркс за полвека до этого писал в XXV гла-
ве I тома “Капитала”: “Политическая экономия принципиально смеши-
вает два очень различных рода частной собственности, из которых один
основывается на собственном труде производителя, другой - на эксплу-
атации чужого труда”39.
Впрочем, об отношении Тоуни к марксизму следует сказать отдель-
но. Тоуни расходился с марксизмом изначально в принципиальном воп-
252
росе. Сам социализм был для него скорее не определенной системой об-
щественных отношений, а альтернативным образом жизни. Тоуни в
сущности отвергал идею неумолимости исторического развития. “Я не
разделяю марксистского средневикторианского убеждения в неизбеж-
ности прогресса, - писал он в начале 50-х годов, -... я не считаю, что об-
щественное развитие - это автоматически восходящая спираль с социа-
лизмом как высшей точкой. Напротив, я думаю, что в отсутствие дли-
тельных всемерных усилий дорога может с такой же вероятностью ве-
сти под уклон, как и вверх, и что если социализм и достижим, то он бу-
дет результатом не какой-то мистической исторической необходимо-
сти, а проявлением силы человеческих сознаний и желаний”40.
Представляется, что в данном случае на взгляды Тоуни оказали оп-
ределенное влияние идеи У. Морриса, который видел в социализме “не
столько необходимый этап в развитии общества, подготовленный пред-
шествующим ходом исторического развития, сколько результат вопло-
щения в жизнь высших моральных ценностей”41. Этот подход был бли-
зок Тоуни. “Основой социализма Тоуни являлась мораль”, - пишет его
биограф Р. Террилл42. Тоуни был моралистом. К оценке большинства
явлений окружающей жизни он подходил в первую очередь с нравст-
венной точки зрения.
Марксизм был неприемлем для Тоуни и как учение откровенно ан-
тирелигиозное. Это учение было порождено капиталистической систе-
мой, и в представлении Тоуни, как справедливо отмечали Э. Хэлси и
Н. Деннис в работе “Британский этический социализм”, было столь же
“аморальным и материалистическим, как и сам капитализм”43.
Во многом идея альтернативного образа жизни уходила у Тоуни
корнями в христианское учение. Он писал: “Я думаю, знание, что Бог
существует, является источником огромной силы для людей”; “отноше-
ние человека к ближнему будет бессмысленным, если не существует не-
кой высшей силы над ними обоими”44. Наиболее существенное разли-
чие между учениями об обществе, подчеркивал автор, это различие ме-
жду теориями, которые настаивают на автономности людского мира, и
теми, которые апеллируют к божественному критерию45. Тоуни мечтал
о мире, где христианские принципы являлись бы не отвлеченными дог-
мами, а стержнем поведения каждого человека.
Важнейшим моментом в его социалистических построениях была
проблема социальных взаимоотношений в обществе, взаимоотношений
между людьми. Социализм Тоуни сосредоточен на людях. Привержен-
ность христианской этике, идее, что каждая человеческая душа связана
с высшей силой, идее о недопустимости принесения кого-либо в жертву
существующему порядку, превращения кого-либо в средство для дости-
жения другими частной выгоды, играла ключевую роль во взгляде
Тоуни на окружающую действительность. Как писала Ш. Уильямс, со-
циализм для Тоуни являл собой “братство, общность и соучастие”46.
Когда заходит речь о том, какие ценности автор противопоставлял
обществу стяжательскому, неизбежно встает и проблема его трактовки
понятий свободы и равенства. Тоуни подчеркивал, что для каждого ис-
торического периода представления о равенстве различны. Тоуни не
253
был, например, сторонником концепции равных возможностей, предос-
тавляющей любому шанс подняться по социальной лестнице. Он считал
такую постановку вопроса односторонней, ссылаясь на то, что поднять-
ся удается далеко не всем, и, следовательно, проблема неравенства та-
ким образом решена быть не может47.
Говоря о благополучном обществе, Тоуни имел в виду нечто другое,
а именно возможность вести достойную жизнь каждому человеку, неза-
висимо от того, удалось ему подняться по социально-экономической ле-
стнице или нет. Тоуни совершенно очевидно не являлся и сторонником
какого-либо жесткого экономического равенства. По его мнению, об-
щество должно было попытаться устранить то неравенство, истоки ко-
торого лежат собственно в социальном устройстве. Если каждый инди-
видуум будет жить в здоровых условиях, иметь возможность получить
должное образование, самые шокирующие из современных неравенств
будут устранены, указывал автор48. Равенство не означает, писал
Тоуни, “что все люди одинаково умны или одинаково добродетельны ...
оно означает, что все люди просто потому, что они люди, одинаково
важны”49. По сути, равенство в его представлении не самоцель, а сту-
пень к достижению чего-то большего. Он желал видеть социальную ат-
мосферу Британии отличной от современной ему. Он хотел, чтобы лю-
ди могли свободно общаться друг с другом, уважать друг друга незави-
симо от происхождения и богатства. Автора волновало равенство во
взаимоотношениях между людьми. Как замечал Р. Террилл, Тоуни
стремился к равенству, чтобы объединить людей50.
Что касается свободы, то Тоуни подчеркивал: “Свобода и равенст-
во в Англии обычно считались прямо противоположными понятия-
ми”51. До тех пор, полагал он, пока под свободой будет пониматься воз-
можность для сильных делать все, что им заблагорассудится, без каких-
либо ограничений, такому толкованию свободы, равенство, подразуме-
вающее принятие определенных общественных ограничений в отноше-
нии человеческой экспансии, неизбежно будет противостоять52. Более
того, Тоуни подчеркивал, что подобного рода свобода для одних часто
оборачивается рабством и трагедией для других. Свобода же, доступная
всем без ущерба для других, в действительности всегда будет ограниче-
на. Английский историк Дж. Фут справедливо отмечал, что для Тоуни
свобода - это свобода трудиться на благо общества, свобода для всех -
это признание определенных общественных правил, предотвращающих
злоупотребление властью53. Именно в этом смысле свобода и равенст-
во, считал Тоуни, вполне могут сочетаться. Это возможно, - писал он, -
“когда к понятию свобода будет более трезвый подход, когда она будет
заключать в себе не только наличие для каждого человека определен-
ного перечня гражданских и политических прав, но и гарантию того,
что экономически слабые не будут оставлены на милость экономиче-
ски сильных...”54. Заслугой Тоуни, несомненно, стало то, что он четко
связал само понятие свободы с экономическими корнями.
Однако встает вопрос, каким же образом можно прийти к тому
светлому, справедливому обществу, к которому призывал Тоуни на
страницах своих работ? Он рассматривал социализм как нравственный
254
выбор. Эта проблема “нравственного выбора” по праву считается серд-
цевиной, ядром его социализма55. Все во власти людей, утверждал он,
полагаясь на их разум и волю: «Люди придали своим институтам один
характер, они могут придать им другой. Они идеализировали деньги
и власть, они могут “выбрать” равенство»56.
Тоуни писал, что капитализм в целом “поддерживается не только
капиталистами, но и теми ... кто стал бы капиталистом, если бы мог,
и несправедливость живет не столько потому, что богатые эксплуати-
руют бедных, а потому что бедные в глубине души восхищаются бога-
тыми. Они знают и недовольны тем, что подвергаются тирании, заклю-
ченной в силе денег, но они еще не видят, что превращение денег в ти-
ранов общества - это во многом их собственное благоговение перед ни-
ми”57. Тоуни волновали изменения в человеческом самосознании.
Огромное значение он придавал образованию.
Тоуни рассматривал социализм как нравственный выбор, потому
что считал это единственным средством, с помощью которого мог быть
достигнут и мог поддерживаться действительно иной общественный по-
рядок. Он никогда не утверждал, что этот выбор будет легким. Однако
для него было совершенно очевидно, что в противном случае о дости-
жении какого-либо другого общества говорить не приходится и что по
сравнению со значением этого нравственного выбора все остальные во-
просы неизбежно отодвигаются на задний план.
Социалистические взгляды Тоуни были совершенно несовместимы
с различными формами авторитарного коллективизма, против которых
он выступал в течение всей своей жизни. “Социалистическое общест-
во... это не стадо домашних хорошо откормленных животных во главе
с мудрыми пастухами”, - указывал он58. Социализм Тоуни в британской
историографии обычно называют демократическим социализмом, под-
черкивая бескомпромиссную приверженность автора как идее социа-
лизма, так и принципам демократии59. Возможность принесения идеа-
лов демократии в жертву новому порядку для Тоуни абсолютно непри-
емлема.
Фигура Р.Г. Тоуни уникальна прежде всего тем, что он аккумулиро-
вал в себе самые широкие представления о социализме. Р. Террилл,
а вслед за ним и целый ряд других британских исследователей подчер-
кивают, что “Тоуни - единственный в XX в. британский социалистиче-
ский мыслитель, которого могли приветствовать со всех сторон ...
со стороны гильдейских социалистов, фабианцев, христианских социа-
листов ...”60.
С другой стороны, Тоуни никогда не примыкал ни к одному из те-
чений, которые боролись за господство в британской социалистической
традиции. Несмотря на то что Тоуни был весьма близок фабианским
кругам, в действительности он не отождествлял себя с ними. Последние
отвергали капитализм не только потому, что он не соответствовал их
этическим идеалам, но и потому, что видели в нем отживший, неэффе-
ктивный способ производства61. Для Тоуни проблема эффективности
или неэффективности общественного строя никогда не имела принци-
пиального значения. Не она являлась причиной неприятия им капита-
255
лизма. В дневнике Тоуни писал: “...что является главным, так это не то,
чтобы система была эффективной, а чтобы она была справедливой”62.
Он вообще в отличие от многих социалистов не был озабочен создани-
ем какого-либо общества изобилия; и стремление к эффективности не
было для него абсолютной ценностью.
Тоуни не увлекался также и реформами политической системы, по-
лагая, что фабианцы слишком влюблены в свою систему ради самой си-
стемы. Он порой не очень лестно отзывался о фабианцах. На одном из
фабианских обедов Тоуни говорил, что не может понять ученых мужей,
которые надеются, что люди будут счастливы в “параличном раю”, обе-
щанном фабианцами63. В его дневнике есть такая запись: «... экономи-
ческая наука общественных реформ - фабианизм и т.д. - вся “наука о
средствах” терпит неудачу. Они привели в порядок комнату, но не от-
крыли в душе ни одного окна»64.
Автор в целом весьма сдержанно относился ко всевозможным тече-
ниям британской социалистической мысли, занятым разработкой меха-
низма перехода к социалистическому обществу. “Организация важна, -
утверждал он, - но важна как средство, а не цель сама по себе; и тем
временем, как средства обсуждаются с большим рвением и мастерством
... о цели иногда, похоже, забывают”65. Он настаивал на том, что меха-
низм бесполезен, если нет соответствующей философии. “Никакой ме-
ханизм ... не сможет применить идеи, которые не существуют в общест-
ве. Его деятельность всегда будет вторичной”, - указывал Тоуни66.
Тоуни волновал прежде всего социализм как система ценностей, ко-
торая займет подобающее ей место в жизни каждого конкретного чело-
века. Представляется, что Э. Хэлси и Н. Деннис вполне обоснованно на-
зывают социализм Тоуни прежде всего личностным, моральным и ре-
лигиозным67.
Дорога к социализму при условии, что “нравственный выбор” сде-
лан, виделась автору весьма широко. Главным для Тоуни являлось об-
щее направление, а не четкая разработка деталей. Он выступал за рас-
пределение прав и обязанностей согласно функции, за рассредоточение
и контроль над властью. Принцип собственности, основанный на функ-
ции, должен сочетаться с разнообразием форм владения этой собствен-
ностью. Национализация, под которой Тоуни понимал многообразие
форм общественной собственности, а не только огосударствление, мог-
ла быть приемлема в одних случаях и недопустима в других. К тому же
он предостерегал современников от попыток абсолютизировать значе-
ние этой меры, призывая относиться к ней всего лишь как к одному из
возможных средств68. Организация промышленности в его представле-
нии могла принимать различные структурные очертания. Принцип ра-
венства согласовывался со значительным разнообразием доходов и воз-
можностью дифференцированных вознаграждений.
Тоуни сознательно не предлагал четких средств и механизмов.
В “Стяжательском обществе” он писал, что в первую очередь необхо-
димо иметь четкое представление о том, каковы недостатки современ-
ного общества и понимание того, что должно быть69. Именно на этих
проблемах и было сконцентрировано его внимание. При этом автор по-
256
лагался на человеческую активность и созидательную энергию. Он пре-
жде всего сумел предложить некий нравственный ориентир, который не
должен был позволить избравшим этот путь сбиться с дороги.
Тоуни поднимал в своих работах актуальные вопросы общечелове-
ческого плана, вопросы нравственности, положения и роли человека в
этом мире, взаимоотношений между людьми, которые вызывали широ-
кий отклик у современников. Представляется, что наряду с этим его
гибкость в выборе средств достижения облагороженного общества так-
же во многом объясняет, почему позиция автора оказалась приемлема
для весьма широкого спектра британской социалистической мысли.
Он возвышался как бы над схваткой течений, ведущих полемику отно-
сительно средств.
Нельзя не согласиться, что позиция Тоуни весьма уязвима. Он имел
представление об общественном идеале, но, в сущности, не видел на-
дежного способа его достижения. Проблема “нравственного выбора”,
вполне обоснованно поставленная автором, не перекрывала собой,
однако, всего возможного комплекса проблем, связанных с воплощени-
ем в жизнь подобного “выбора”.
Тоуни не был утопистом в том плане, что он не рисовал социализм
как некую до мельчайших деталей продуманную картину, как некую за-
фиксированную утопию на фоне исторического развития. Решающее
место в своих построениях он отводил идее освобождения общества от
господства все подавляющих стяжательских интересов. Но представля-
ется, что ориентация Тоуни на воплощение в жизнь высших моральных
ценностей нередко заставляла его забывать о реалиях общественной
жизни и в результате предложенная им перспектива, при всем возмож-
ном благородстве и величии, неизбежно оказывается оторванной от
действительности и порой утопичной. К тому же XX в. явил миру целый
клубок проблем, далеко выходящих за рамки стяжательской морали,
перед лицом которых нравственного выбора было недостаточно.
Однако в самом главном Тоуни и поныне остается современным.
Он сумел на заре XX в. во весь голос заявить, что ценности вневремен-
ного порядка не должны и не могут быть растоптаны грядущей цивили-
зацией. Его критика стяжательского общества оказалась гораздо более
глубока и существенна, нежели разоблачение пороков межвоенной
Британии. Работы Тоуни ни в коей мере не были классовым обращени-
ем к классовой аудитории.
Интересно, что на протяжении долгой жизни взгляды автора не
претерпели какой-либо принципиальной эволюции. Свой “нравствен-
ный выбор” Тоуни сделал еще до первой мировой войны, о чем свиде-
тельствует посмертно опубликованный предвоенный дневник, и остал-
ся верен этому выбору все дальнейшие годы.
Последующим поколениям Тоуни оставил надежду: “Пока люди ос-
таются людьми, бедное общество не может быть слишком бедным для
того, чтобы найти верный уклад жизни, а богатое общество слишком
богатым, чтобы отпала потребность поиска подобного общества”70.
Для тех, кто занят поиском, нравственная сторона социалистической
идеи вряд ли утратит свою привлекательность. Рано или поздно они не-
17 Россия и Британия Вып 3
257
избежно зададут себе многие из тех вопросов, которые задавал себе
Тоуни. На фоне глубоких изменений в поведении и роли человека в об-
ществе и в мире, которые несет XXI в., ценности этического социализ-
ма, без сомнения, окажутся в той или иной форме востребованы.
1 R.H.Tawney’s Commonplace Book. Cambridge, 1972. P. 9; Tawney R.H. The
Acquisitive Society. L., 1921. P. 3.
2 См. подробнее: Мещерякова H.M. Прогрессивные историки Англии о на-
родных движениях в буржуазной революции XVII века // Буржуазные револю-
ции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. М., 1986; Шариф-
жанов И.И. Современная английская историография буржуазной революции
XVII в. М., 1982.
3 См. подробнее: Суслопарова Е.А. Эволюция лейбористской партии Вели-
кобритании во второй половине 20-х годов XX века. Дисс. ... канд. ист. наук. М.,
1999.
4 Dennis N., Halsey А.Н. English Ethical Socialism. Oxford, 1988. P. 183.
5 Tawney R.H. The Radical Tradition: Twelve Essays on Politics, Education and
Literature. Harmondsworth, 1966. P. 221.
6 См., например: Greenleaf W.H. The British Political Tradition. L.; N.Y., 1983.
Vol. II. P. 440.
7 Foote G. The Labour Party Political Thought. A. History. L., 1986. P. 72.
8 См., например: Terrill R. R.H. Tawney and His Times: Socialism as Fellowship.
Cambridge, 1975. P. 280; Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 251.
9 Young M. Why the SDP are the Inheritors of Tawney’s Libertarian Legacy // The
Guardian. 1982. May 10.
10 См: Перегудов С.П. Тони Блэр. М., 1999. С. 41-45.
11 Blair A. Let us Face the Future - the 1995 Anniversary Lecture. L., 1995. P. 12.
12 Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 149.
13 Ryan A.R. Tawney: A Socialist Saint // New Society. 1980. Nov. 27. P. 409.
14 Wright A. R.H. Tawney. Manchester, 1987. P. 2.
15 Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 153.
16 Ashton T.S. Richard Henry Tawney 1880-1962 // Proceedings of the British
Academy. 1962. Vol. XLVIII. P. 462, 465.
17 В.Г. Трухановский называл Тоуни “фабианцем историком”. Примеча-
тельно, что Трухановский был также одним из первых отечественных исследо-
вателей, отметивших авторство Тоуни в программе 1928 г. “Лейборизм и нация”
(Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. М., 1958. С. 154).
18 Dennis N., Halsey А.Н. Op. cit. P. 242.
19 Ashton T.S. Op. cit. P. 478.
20 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 32-34, 39.
21 Ibid. P. 48-49.
22 Cm.: Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 42-46.
23 Williams R. Culture and Society. 1780-1950. L., 1967. P. 216, 219. См. также:
Wright A. Op. cit. P. 136.
24 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 13-14.
25 Ibid. P. 2.
26 R.H. Tawney’s Commonplace Book. P. 56.
27 Tawney R.H. The Attack and Other Papers. Nottingham, 1981. P. 169.
28 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 31-32.
29 Ibid. P. 38.
30 Ibid. P. 9.
258
31 Ibid. P. 33.
32 Ibid. P. 222-223.
33 Ibid. P. 223-224.
34 Maeztu R. de. Authority, Liberty and Function in the Light of the War. L., N.Y.,
1916.
35 В годы войны де Маэзту примкнул к гильдейскому движению. Впрочем,
его концепцию принято считать не более чем побочной ветвью в развитии гиль-
дейского социализма, так как в определенной степени она противоречила духу
гильдейской доктрины, исходившей из существования не только прав, основан-
ных на функциях, но и “естественных” человеческих прав {Галкина Л.А. Гиль-
дейский социализм: Критический анализ. М., 1988. С. 34).
36 См.: Greenleaf W.H. Op. cit. Р. 417, 423, 445; Terrill R. Op. cit. P. 142-143.
37 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 99.
38 Ibid. P. 66, 100.
39 Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. М., 1988. Т. I. С. 772.
40 Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 178. См. также: Idem. The Attack and
Other Papers. P. 173.
41 Галкина Л.А. Гильдейский социализм. С. 27.
42 Terrill R. Op. cit. P. 275.
43 Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 180.
44 R.H.Tawney’s Commonplace Book. P. 79, 67.
45 Tawney R.H. The Church and Social Ethics // The New Republic. N.Y., 1924.
Vol. XXXVIII, N 494. P. 332.
46 Williams Sh. Politics is for People. L., 1981. P. 24.
47 Tawney R.H. Equality. L., 1931. P. 150.
48 Ibid. P. 211.
49 Tawney R.H. The Attack and Other Papers. P. 183.
50 Terrill R. Op. cit. P. 136.
51 Tawney R.H. Equality. P. 237.
52 Ibid. P. 238.
53 Foote G. Op. cit. P. 78.
54 Tawney R.H. Equality. P. 244.
55 См., например: Wright A. Op. cit. P. 105.
56 Tawney R.H. Equality. P. 288.
57 Ibid. P. 38.
58 Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 176.
59 См., например: Terrill R. Op. cit. P. 270; Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 151;
Winter J.M. R.H. Tawney, a Christian Socialist // New Society. 1983. Feb. 10. P. 218;
Parsons T. Richard Henry Tawney // American Sociological Review. 1962. Vol. 27.
N 6. P. 889-890.
60 Terrill R. Op. cit. P. 277. См. также: Dennis N., Halsey A.H. Op. cit.
P. 250-251.
61 Галкина Л.А. К критике идеологии фабианства. М., 1984. С. 60-61.
62 R.H. Tawney’s Commonplace Book. Р. 70.
63 Terrill R. Op. cit. P. 191.
64 R.H. Tawney’s Commonplace Book. P. 50-51.
65 Tawney R.H. Equality. P. 34.
66 R.H. Tawney’s Commonplace Book. P. 76.
67 Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 150.
68 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 119. См. также: Tawney R.H. Equali-
ty. P. 271-272.
69 Tawney R.H. The Acquisitive Society. P. 2.
70 Ibid. P. 7.
259
Е.А. Доброва
ЛЬЮИС НЭМИР - ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Когда мы произносим имена известных математиков, химиков, фи-
зиков, биологов, мы знаем, что за ними стоят крупнейшие научные от-
крытия, благодаря которым человечество достигло невероятных степе-
ней прогресса.
А что же такое - выдающийся историк? Человек, прекрасно знаю-
щий историю? Но любить и увлекаться историей можно, будучи кем
угодно, ибо знание истории есть элемент общей культуры. Можно тща-
тельным образом фиксировать произошедшие события - это важно и
необходимо, но это работа летописцев. Можно взять какую-то пробле-
му или событие, или период прошлого и досконально изучать их, от-
крывая время от времени новые детали либо подробности. Это тоже
важно, это уже работа профессионального историка. Но для большого
мастера характерен иной масштаб: во-первых, широкий диапазон инте-
ресов - от мелких частных или локальных событий до глобальных; во-
вторых, системный подход, умение видеть отдельный факт в историче-
ском контексте; в-третьих, способность анализировать и сравнивать,
делать весомо аргументированные выводы.
Но, пожалуй, самое главное состоит в том, что мастер может соз-
дать и предложить человечеству свою интерпретацию истории, осно-
ванную на собственном видении и понимании, изложенную в виде
стройной системы. Для этого ученому нужно не только обладать об-
ширными знаниями в области истории, но и быть прекрасным психоло-
гом, разбираться в мотивации человеческих поступков и решений. И ко-
нечно, выдающегося историка отличает хороший слог, его литератур-
ный стиль легок, понятен, индивидуален и узнаваем, оставаясь при этом
вполне академическим в самом лучшем, традиционном значении этого
слова. У большого мастера, как правило, есть ученики и последователи,
которые воспринимают и развивают идеи своего учителя, создавая оп-
ределенное направление, “школу”.
Наш сборник посвящен памяти видного российского историка ака-
демика Владимира Григорьевича Трухановского. Наряду с многочис-
ленными трудами по истории Великобритании и международных отно-
шений он создал уникальную биографическую серию. Благодаря
В.Г.Трухановскому такие значительные фигуры Великобритании, как
Уинстон Черчилль, Антони Иден, Бенджамин Дизраэли, перестают
быть для последующих поколений лишь именами английской истории.
В связи с этим мне кажется уместным опубликовать в этом сборни-
ке небольшой очерк о научном творчестве крупного английского уче-
ного-историка Льюиса Нэмира (1888-1960), который тоже считал исто-
рико-биографический жанр ключом к пониманию истории. Его имя
широко известно во всем мире, но значительно меньше - в нашей стра-
не. Это, вероятно, можно объяснить тем, что взгляды Нэмира на уст-
ройство общества мало соответствовали канонам, принятым в совет-
260
ской науке. Имеются лишь две работы в отечественной историографии,
посвященные непосредственно Нэмиру, которые принадлежат извест-
ному российскому ученому, знатоку английской истории Николаю Але-
ксандровичу Ерофееву1. В этих статьях Н.А. Ерофеев показал главные
особенности научной индивидуальности Нэмира и его трактовки анг-
лийской истории, опрокидывающей многие давние традиционные пред-
ставления. В статье высказаны и весьма аргументированные критиче-
ские замечания, которые при этом вовсе не умаляют значения
Нэмира как ученого.
В последние годы имя Нэмира становится все более известным и в
нашей стране. В исследованиях российских историков все чаще появля-
ются ссылки на его труды, мнения и высказывания. Но специальных ра-
бот, посвященных ему, кроме упомянутых статей Н.А. Ерофеева, пока
нет. Думаю,что сейчас настало время наверстывать упущенное. И хотя
работы Нэмира написаны в первой половине XX в., многие из них не
потеряли своей актуальности.
Интерес Нэмира к истории сформировался еще в юности, когда он
учился в Вене, Лозанне, затем в Оксфордском университете, который
закончил с отличием. Будучи выходцем из Восточной Галиции, Нэмир
хорошо знал славянскую историю и языки. Первые его выступления
в печати относятся к 1915-1917 гг. - “Германия и Восточная Европа” и
“Чехословакия - угнетенная национальность”2.
В 1931 г. Нэмир стал профессором новой истории Манчестерского
университета, откуда он через 20 с лишним лет в 1953 г. перешел в Ин-
ститут исторических исследований в Лондоне, где возглавил специаль-
ную исследовательскую группу. Он много и кропотливо работал в раз-
личных архивах.
Одна из основных тем исследований Нэмира - политическая исто-
рия Европы. Хронологический диапазон этой темы необычайно ши-
рок - книги и статьи, охватывающие события середины XVIII в., рево-
люцию 1848 года, дипломатическую историю кануна второй мировой
войны. Ряд статей и рецензий посвящен проблемам политической исто-
рии Европы начала и конца XIX в.
Особое место в исследованиях Нэмира занимала история Англии.
Известность в науке Нэмиру принесли уже первые его крупные работы
по политической истории Англии XVIII в. - “Политическое устройство
при восшествии на престол Георга III” 1927 г., затем написанная через
три года “Англия в эпоху американской революции”3. Обе книги пред-
ставляют собой собрания эссе и очерков, каждый из которых, являясь
самостоятельной законченной работой, связан при этом с другими еди-
ной общей темой - историей английского парламента 1761 года, перво-
го парламента Георга III, в частности палаты общин, этого “удивитель-
ного микромира”, развитие которого так точно отражает ход социаль-
ной, экономической и политической истории Англии. Очерки написаны
на основе огромного количества архивных источников, скрупулезно
изученных Нэмиром. К этой тематике он возвращался неоднократно4.
Нэмир имел особый взгляд на многие проблемы и предлагал собст-
венный подход к их решению. Ярким примером такой научной незави-
261
симости может служить его толкование политической истории Англии
XVIII в. Напомню, что представляла собой традиция английского “са-
мовосприятия”. В английской историографии долгое время господство-
вала так называемая “вигская концепция”, согласно которой создание в
Англии в XVIII в. двухпартийной системы и кабинетного правления
считалось заслугой преимущественно аристократической партии вигов.
Таким образом, хрестоматийный взгляд на Англию как родину парла-
ментаризма и буржуазной демократии увековечивал легендарную за-
слугу вигов.
Основные черты вигской концепции были разработаны еще в кон-
це XVIII в. видным публицистом Эдмундом Берком в его известной ра-
боте “Размышления о причинах нынешнего недовольства” (1770). У не-
го виги предстают выразителями воли народа и защитниками конститу-
ционных прав и свобод граждан против своеволия и тиранических уст-
ремлений королевской власти. Берк утверждал, что виги не допустят ни
возвращения деспотизма, ни анархии, которая может установиться, ес-
ли усилится влияние радикалов, стремящихся к ослаблению порядка и
закона в стране. Занимая золотую середину, виги якобы стоят на стра-
же свободы и собственности от покушений с обеих сторон. В “Размыш-
лениях о Французской революции”, написанных в 1790 г., Берк продол-
жил создание вигской концепции английской истории. Эта книга -
настоящий дифирамб английской политической системе. Восхваляя
устойчивость и стабильность английских политических институтов,
автор причислял к ним и систему двухпартийности в Англии5.
В последующие годы вигская концепция английской истории проч-
но укрепилась в английской историографии. Т.Б. Маколей, У. Лекки
и другие историки и публицисты развивали ее в своих работах
и статьях6. Согласно этой концепции виги использовали пребывание на
троне двух первых Георгов (1714-1760) для закрепления демократиче-
ских свобод и кабинетного правления, способного выражать волю на-
рода. Оба короля не знали английского языка, не интересовались ни-
чем, кроме своего ганноверского княжества. Это позволило вигам фак-
тически отстранить короля от управления страной. Но в 1760 г. на анг-
лийский престол вступил Георг III. Этот монарх получил английское
воспитание, был склонен к авторитаризму и решил править сам с помо-
щью так называемых “королевских друзей”. Система, созданная вига-
ми, оказалась в опасности - на карту были поставлены английские сво-
боды и сама конституция. Король и его “друзья” допустили целый ряд
грубых ошибок, стоивших Англии весьма дорого - в частности, тирани-
ческие методы управления североамериканскими колониями привели к
революции, войне и последующему отпаду колоний. Таковы вкратце
основные положения традиционного вигского толкования истории.
Нэмир выступил против этой концепции, доказывая, что она осно-
вана на вымысле. Правительство “королевских друзей” вовсе не явля-
лось креатурой короля, который сам отнюдь не был автократом.
“Он был вскормлен на конституционных банальностях и всегда их вы-
полнял”. “В действительности, - писал Нэмир, - никакие конституцион-
ные принципы не находились в те годы под угрозой: просто у власти
262
встали новые придворные, а путь им открыли неудачи и разочарования
прошлых лет”. Позднее, изучив различные материалы, включая пере-
писку Георга III, Нэмир раскритиковал сложившийся в литературе об-
раз этого короля как упрямого честолюбца, который стремился осуще-
ствлять свою личную политику, но по недалекости ума оказался игруш-
кой в руках ловких фаворитов7.
На деле, утверждал Нэмир, Георг III никогда не покушался на сло-
жившееся равновесие сил между троном и палатами. Также сомнитель-
но, что король и его советники возложили на американских колонистов
непосильные налоговые тяготы и торговые ограничения и этим толк-
нули их на восстание против английского господства и на разрыв с
Англией. Нэмир показал, что инициатором этого законодательства
был вовсе не король и его друзья, а парламент в целом, который не со-
мневался в своем праве управлять колониями и не хотел соглашаться на
какое-либо ущемление этого права8.
Нэмир опровергал и утверждение о существовании в Англии в се-
редине XVIII в. двух политических партий, действовавших в националь-
ном масштабе на основе отчетливо сформулированных программ. “По-
литическую жизнь этого периода можно исчерпывающе описать, вооб-
ще не прибегая к наименованию партий”. Объединения, которые в те
времена именовались партиями тори и вигов, в действительности пред-
ставляли собой рыхлые коалиции многочисленных мелких и мельчай-
ших групп. Эти нестойкие коалиции не имели ничего общего с полити-
ческими партиями XIX в. У них не было вообще никакой программы, и
единственным мотивом их деятельности оставалась борьба за доходные
места. Голосуя, депутат вовсе не считался с этими партиями. «Каждый
из них подчинялся различным связям и руководствовался разнообраз-
ными, подчас противоположными интересами. Виги и тори отличались
друг от друга только тем, что поочередно находились то у руля власти,
т.е. “внутри”, то не у власти, т.е. “вне”»9.
Нэмир показал, что парламентская система в том виде, в каком мы
видим ее в XIX в., т.е. исходящая из наличия двух политических партий,
опирающихся на определенный круг избирателей, - не могла существо-
вать в XVIII в. Таких партий, как и широких масс избирателей, имевших
определенные политические убеждения, тогда еще не было. По мнению
Нэмира, система политических партий в современном смысле этого
слова возникла в Англии лишь во второй половине XIX в., точнее, пос-
ле парламентской реформы 1867 г.10
Исследования Нэмира и их появление в печати означали разрыв
с предшествующей историографией не только по существу, но и по
форме.
В отличие от других историков Нэмир критиковал не отдельные
положения вигской концепции, но отверг эту концепцию в целом. Его
система рассуждений основательно подкреплена аргументами, опираю-
щимися на огромный фактический материал - результат многолетней
кропотливой работы в архивах. Вступление Нэмира в полемику вызва-
ло бурную реакцию среди историков. По словам Г.Уинклера, то, что
сделал Нэмир - это “подлинная революция в изучении политической
263
истории XVIII века”, работы Нэмира являются “научным памятником
нашего столетия” (XX. - Авт.) Исторические рассуждения Нэмира от-
личаются поистине олимпийским уровнем, считает сэр Эрнест Баркер.
Огромная эрудиция историка сочетается у Нэмира со знанием языка,
литературы и культуры страны, о которой он пишет, отмечалось в Ли-
тературном приложении к лондонской “Таймс”. Профессору Нэмиру в
высшей степени присуще редкое и столь необходимое для историка ка-
чество - безошибочное умение видеть грань между прошлым и настоя-
щим, пишет Р. Шулер11. В предисловии к сборнику, изданному в честь
Нэмира его учениками в 1956 г., говорится: «Авторы этого тома выра-
жают свое восхищение профессору Льюису Нэмиру, которому все они
обязаны своей увлеченностью исторической наукой и пониманием за-
дач, стоящих перед историками. Широта тематики - от парламента
Оливера Кромвеля до европейской дипломатии XX века - свидетельст-
вует о диапазоне интересов мэтра... Работа Нэмира “Политическое уст-
ройство при восшествии на престол Георга Ш” обозначила иную эпоху
в английской историографии. Это был новый взгляд на целый век анг-
лийской истории и новый метод изучения политики прошлого, который
можно с успехом применять к истории других времен... Сэр Льюис исхо-
дит не из того, что политики говорят, но из того, что они делают и кто
они есть. Он создал колоссальное историческое полотно из биографи-
ческих деталей забытых фигур... Сэр Льюис привнес в историческое по-
вествование свой стиль, который ставит его в один ряд с мастерами ан-
глийской прозы. Он не только ученый, но и художник слова»12.
У Нэмира нашлось немало приверженцев, которые восприняли его
рассуждения, его подход к изучению исторических событий, его мето-
ды анализа и доказательств. (В “школу нэмиристов” входят такие из-
вестные историки, как Дж. Брук, Д. Пеннингтон, Р. Уоллкотт,
Дж.П. Джадд, А. Фурд и др.) Ученики Нэмира старались не только раз-
вивать его взгляды, но и перенимать манеру изложения, не теряя при
этом индивидуальности.
Однако в концепции Нэмира, конечно, есть уязвимые места. Неко-
торые критики отмечали, что он недооценивал реальную власть каби-
нета министров в середине XVIII века, чрезмерно возносил заслуги ко-
роля Георга III13. Эта критика касалась отдельных положений и выска-
зываний Нэмира. Между тем, как мне кажется, главный недостаток нэ-
мировской трактовки истории отметил Н.А. Ерофеев: разоблачая кон-
цепцию вигов, разрушая вигский миф, Нэмир возводил другой миф -
торийского толка. Он не раз заявлял о своей приверженности консерва-
тизму и в некоторых вопросах полностью поддерживал торийскую пар-
тию. Так, он почти дословно повторяет аргументацию тори, которые
отвергали все требования реформы парламента, в частности в период
борьбы за реформу 1832 года, утверждая, что это учреждение не нуж-
дается в улучшении. Он не скрывал, что является решительным против-
ником радикальных преобразований. В 1952 г. в статье “История, ее
предмет и задачи” он подчеркивал решающее значение преемственно-
сти и опасность резких перемен в любой области. “Сознание и разум
движутся по проложенным колеям унаследованных, исторически обу-
264
словленных идей...Образ жизни народа, его нрав невозможно изменить
волевым актом или эдиктом”. Планомерные изменения, считал Нэмир,
могут затронуть лишь очень узкий сектор общества, а насильственное
вторжение в жизнь народа может “лишь замедлить процесс приспособ-
ления, которого требуют изменившиеся условия”. Нэмир - сторонник
незыблемости всех институтов общества, “освященных” обычаем14.
Как уже упоминалось, важной стороной наследия Льюиса Нэмира
стал новый метод исследования. Именно это позволило ему оказать су-
щественное влияние на развитие исторической науки.
Сущность исследовательского метода Нэмира состоит в анализе
фактов прошлого через детали биографии того или иного лица. Изуче-
ние биографий не претендует, конечно, на новизну. Но метод, предло-
женный Нэмиром, заключается в следующем. В отличие от традицион-
ных биографов, объектами которых обычно являются знаменитые или
незаслуженно забытые выдающиеся личности какой-либо эпохи, он
подчеркивал свой интерес именно к заурядным представителям про-
шлого, чьи деяния порой значили для истории гораздо больше, чем они
сами могли предполагать.
Однако такой подход требует от ученого особого трудолюбия. Ску-
дость данных, фрагментарность способствуют тому, что авторы жизне-
описаний грешат домыслами, допускают неточности. На вопрос об их
квалификации такие биографы могли бы ответить, как девица, претен-
дующая на роль детской воспитательницы: “Как же мне не знать детей,
когда я сама была ребенком”. Жанр биографии предполагает владение
широким кругом знаний, прежде всего психологии. Необходимо вы-
явить и понять истинные побуждения человеческих поступков, как бы
глубоко они не скрывались, если даже, на первый взгляд, они кажутся
побочными, не связанными с сутью, - побуждения, которые не столько
направляются разумом, сколько позднее облекаются видимостью ло-
гичности и разумности.
В истории многие явления прошлого, их причины, взаимосвязан-
ность и последствия можно осмыслить лишь с “астрономического рас-
стояния”. В этом, собственно, и состоит предназначение историка. Если
же смотреть на людей вблизи, то часто наши оценки их действий как
“разумные” или “неразумные” никак не согласуются с результатами,
к которым эти действия приводят. Прогнозы экспертов - современни-
ков событий во многом сродни предсказаниям астрологов. Ум человека
работает не с той рациональностью, которая когда-то считалась его са-
мым благородным качеством. Решающую роль в мотивации поступков
часто играет иррациональное побуждение. Оно не всегда есть неразум-
ное, скорее мы просто не умеем это понять или толкуем неправильно.
Отсюда следует, что исторические события нельзя объяснять исключи-
тельно рациональными и логическими мотивами. Задача историка - об-
наружить это иррациональное и алогическое в действиях людей, вы-
явить и понять подлинные мотивы их поступков, а затем воскресить ре-
альные причины тех или иных событий. Изучения человеческих идей
и представлений для этого недостаточно. Сюда можно пробиться лишь
через толщу биографических деталей, установив происхождение данно-
265
го человека, условия его воспитания, а также раскрыв его истинные ин-
тересы, исходя не из того, что он говорил о себе сам, а из того, что дви-
гало его поступками15.
Конечно, историка, взявшегося изучать и истолковывать историю
через подробные биографии отдельных людей, можно сравнить с ас-
трономом, задумавшим объяснить Вселенную, описывая звездное небо.
Это недостижимо, бесконечно и безнадежно. Однако на это существует
возражение, которое, как мне думается, помогает исследователям не
опускать руки и не сдаваться, осознавая необъятность своего замысла.
Дело не в том, чтобы “открыть еще одну звезду”. Как известно, истори-
ческие ситуации могут повторяться, и люди при этом ведут себя схоже.
Следовательно, изучив поведение различных индивидов со всеми под-
робностями и особенностями их биографий в конкретный, достаточно
значимый период истории, можно предположить, как поведет себя че-
ловек подобного типа в аналогичной ситуации, конечно с поправкой на
индивидуальность. Иначе говоря, можно вывести некую закономер-
ность поведения человека в определенной ситуации, и чем более оно
изучено, тем более точен прогноз его реакций и возможных решений.
Если же речь идет о государственном или политическом деятеле, то, ви-
димо, можно со значительной степенью достоверности предположить
направление его симпатий и предпочтений, а следовательно, и как-то
регулировать ход истории.
Нэмир видел, что его метод позволяет с большой точностью вы-
явить связи между различными событиями прошлого. Но он, несомнен-
но, осознавал ограниченность своих возможностей. Поэтому он сузил
тематику исследования, ограничив ее анализом избирательной системы
и состава парламента. Одновременно он ограничил исследования и хро-
нологически - все события не выходят за рамки 1760 г. В 1928 г. вышла
“История парламента”16, где подробнейшим образом были проанализи-
рованы биографии депутатов.
Однако здесь имеются свои “но”. Метод Нэмира объяснять истори-
ческие события через поведение отдельных людей может быть плодо-
творным, если продуманно и обоснованно ограничить степень проник-
новения исследователя в личную жизнь “исследуемого”. Иначе можно
оказаться в тупике, в который, мне кажется, попал сам Нэмир со стре-
млением к излишней скрупулезности.
Пользуясь своим методом, Нэмир отрицал наличие не только поли-
тических партий в Англии в XVIII в., но и вообще любых социальных
групп. Ограничивая поле деятельности индивида лишь семейными и де-
ловыми интересами и связями, Нэмир счел, что общество как социаль-
ное понятие не существует. Этот свой вывод он подтверждал выдвиже-
нием на первый план бессознательных побуждений в поведении людей.
Так, деятельность герцога Ньюкасла (1693-1786), который занимал
пост премьер-министра в 1754-1756 гг. и 1756-1762 гг. и во многом оп-
ределял курс внешней и внутренней политики страны, Нэмир объяснял
тем, что он был невротиком.
Чарльз Тауншенд (1725-1767), занимавший в кабинете Питта Стар-
шего пост канцлера казначейства, выступил инициатором новой нало-
266
говой политики в отношении американских колоний, что привело к
взрыву недовольства среди колонистов. Нэмир утверждал, что деспо-
тизм отца, от которого Тауншенд натерпелся в детстве, сказался на дес-
потических чертах характера сына и проявился наиболее ярко на пове-
дении политика в отношении колоний.
Говоря о том, как важно правильно определять линию поведения
человека, особенно человека у власти, мы приходим к давней проблеме,
стоявшей перед историками, - личность в истории. Сегодня вряд ли
можно отрицать или приуменьшать роль личности в истории.
В наши дни профессия психолога стала одной из самых необходи-
мых в различных областях общественной жизни, особенно в политике.
Именно психологи определяют, подходит ли данный человек для рабо-
ты в правительстве, государственных структурах и т.п. Они же коррек-
тируют поведение политиков на людях, среди коллег, во время дебатов,
на встречах с избирателями. Психологи разрабатывают имидж полити-
ков, выявляя наиболее благоприятные черты характера - надежность,
благожелательность, умение вызвать доверие граждан и многое другое.
Но не надо забывать, что в этом немалая заслуга историков, и в значи-
тельной степени - Нэмира и его последователей, а также разработанно-
го ими метода изучения истории через поступки личности.
Льюис Нэмир был историком-профессионалом высочайшего уров-
ня, давая свою, оригинальную и убедительную, трактовку событий, об-
ладая “чувством страны”, о которой писал. Он не только видел суть
проблем, но и предлагал способы их решения, задавая вопрос, пытался
на него отвечать. Льюис Нэмир по праву может быть назван личностью
в истории, имея в виду также его место в науке, которой он посвятил
всю жизнь.
1 Ерофеев Н.А. Льюис Нэмир и его место в историографии // Вопросы ис-
тории. 1973. № 4; Он же. Льюис Нэмир и его школа // Институт всеобщей исто-
рии: Бюллетень научной информации. М., 1973. Вып. 8.
2 Namier L. Germany and Eastern Europe. L., 1915; Idem. The Czecho-Slovacs an
opressed Nationality. L., 1917.
3 Namier L. The Structure of Politics at the Accession of George III (1st ed.),
L.,1927; Idem. England in the age of the American Revolution (1st ed.). L.,1930.
4 См. работы: Л. Нэмира: Namier L. Additions and Corrections to Sir John
Fortescue’s Edition of the Correspondence of King George the Third. Manchester, 1937;
Idem. Three Eighteenth-Century Politicians // English Historical Review. 1927.
Vol. XLII; Idem. Brice Fisher, M.P.: A Mid-Eighteenth Century Merchant and His
Connections I I Ibid; Idem. The Circular Letters: An 18th-Century Whip to Members of
Parliament // Ibid. 1929. Vol. XLIV; Idem. Charles Garth and His Connections.; Idem.
Charles Garth, Agent for South Carolina // Ibid. 1939. Vol. LIV, etc.
5 Burke E. Thoughts on the Cause of the Present Discontents. 1770; Idem. Reflec-
tions on the Revolution in France and on the Proceedings in Certain Societies in London
Relative to that Event. 1790 // Edmund Burke, Works, rev. ed. (Boston, 1865).
6 Macaulay T.B. Essay on the Earl of Chatham // Edinburgh Review. 1844.
Vol. LXXX;. Lecky W.E.H. A History of England in the Eighteenth Century. Rev. ed. L.,
1892-1899; Green J.R. A Short History of the English People. N.Y., 1894, etc.
267
7 Namier L. England in the Age of the American Revolution. L.,1961 (2nd ed.).
P. 4, 53, 56. См. также: Letters from George III to Lord Bute. 1756-1766. L., 1939.
8 Namier L. England in the Age of the American Revolution. P. 28-33, 35-41,
229-282; Idem. King George III // Personalities and Powers. L.,1955. P. 42-43. См. так-
же: Idem. Charles Garth, Agent for South Carolina. P. 632-52.
9 Namier L. The Structure of Politics at the Accession of George III. L., 1929.
P. VII; Idem. King George III // Personalities and Powers. L.,1955. P. 43-44.
10 Namier L. The Structure of Politics at the Accession of George III. Op. cit.
P. 3-9. См. также: Idem. England in the age of American Revolution. L., 1961; Idem.
Personalities and Powers. L.,1955; Idem. Monarchy and Party System // Crossroads of
Power. N.Y., 1962. P. 213-215, 233.
11 Cm.: Winkler H.R. Sir Lewis Namier // Journal of Modem History. 1963. Mar.
P. 4; Barker E. Principles of Social and Political Theory. Oxford, 1952; Schuyler R.L.
John Richard Green and His “Short History” // Political Science Quarterly. 1949.
Vol. LXIV. P. 325.
12 Essays Presented to Sir Lewis Namier. L., 1956. P. V, VI.
13 Butterfield H. George III and historians. L., 1957; Pares K. King George III and
the politicians. Oxford, 1954; Fryer W.R. King George III: His Political Character and
His Conduct 1760-1784 I I Renaissance and Modem Studies. L., 1962. Vol. VI; etc.
14 Namier L. History: Its Subject-matter and tasks I I Avenues of History. N.Y., 1952.
P. 3-4.
15 Namier L. Human Nature in Politics I I Personalities and Powers. L., 1955. P. 1-5.
16 Cm.: Namier L, Brooke J. The History of Parliament: The House of Commons
1754-1790. L., 1964. Vols. 1-3.
Т.Н. Гелла
ЛОРД РОЗБЕРИ:
СТРАНИЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
История Великобритании рубежа XIX-XX в. ознаменовалась появ-
лением на ее политической арене выдающихся государственных деяте-
лей, идеи и политика которых оставили заметный след в жизни страны
и сердцах современников и последующих поколений. Такие имена, как
Б.Дизраэли, У. Гладстон, лорд Солсбери, Дж. Чемберлен, Г. Асквит,
Д. Ллойд Джордж и др., вписаны в страницы не только политической
истории Англии, но и мировой. Среди них заметное место принадлежит
и лорду Розбери - идеологу, политику и общественному деятелю.
Арчибальд Филип Примроуз, пятый граф Розбери, представитель
одного из древнейших шотландских родов, появился на свет 7 мая
1847 г. Он был третьим ребенком Арчибальда, лорда Делмани и леди
Вильгельмины Стэнхоп, дочери четвертого графа Стэнхопа.
В 1851 г. неожиданно умирает его отец, а в 1868 г. после кончины
своего деда Арчибальд наследует титул графа Розбери и довольно
большое состояние. Юноша обучался в Итоне, а затем в Оксфорде до
тех пор, пока перед ним не стал выбор: либо отказаться от обладания
скаковыми лошадьми, либо остаться в Оксфорде. Молодой граф отдал
268
предпочтение лошадям, что характеризовало его как человека, не же-
лавшего отказываться от своих увлечений и привычек.
Политическая карьера лорда Розбери начинается с 1871 г., когда он
произносит первую свою речь в палате лордов. К этому времени виг-
ское течение, к которому по своему положению он принадлежал, уже
не играло, как ранее, столь значимой роли в либеральной партии, в свя-
зи с этим его позиции в это время можно рассматривать близкими к
гладстонианским, т.е. центристско-либеральным. Многие современни-
ки и биографы Розбери отмечали, что к моменту вступления на полити-
ческую арену он готов был предстать перед публикой как уже зрелый
политик. В 70-е годы XIX в. его политический вес постепенно растет.
Розбери отличала особая манера выступления: он был великолепным
оратором, обладал прекрасным голосом и властной осанкой; присущие
ему чувство юмора, умение подбирать слова и выражения без примене-
ния каких-либо грубых фраз и иностранных идиом, ко всему прочему
необычная индивидуальность и определенная нервозность поведения
привлекали к нему пристальное внимание аудитории и вызывали неиз-
менный восторг и восхищение слушателей. В период правления консер-
вативного правительства Б. Дизраэли (1874-1880) Розбери неоднократ-
но выступал по вопросам внешней политики, ставшей той областью,
в которой он наиболее ярко проявил себя в дальнейшем.
Растет популярность лорда Розбери и в Шотландии. Уже в 1871 г.
24-летний политик направляет Философскому обществу Эдинбурга об-
ращение “Союз Англии и Шотландии”, в котором высказывает мысль
“об объединении двух великих наций в одну великую Империю и о пре-
вращении распространенной на местах зависти в общий для всех патри-
отизм”1. Сердца шотландцев Розбери завоевывает тем, что проявляет
искренний интерес к истории Шотландии, выступая как ее патриот.
Личная жизнь лорда Розбери также складывается удачно. В 1878 г.
он женится на дочери барона Ротшильда-Ханне, одной из самых бога-
тых невест Англии, что во многом увеличило его состояние, сделав од-
ним из богатейших людей страны. Розбери был незаурядной лично-
стью. Он интересовался различными сторонами жизни, а богатство и
определенная склонность к риску определяли многие его увлечения. Он
интересовался спортом (в 90-е годы XIX в. он даже являлся патроном
нескольких футбольных клубов), слыл литературным критиком, увле-
ченным коллекционером исторических раритетов, знающим владель-
цем настоящего музея художественных сокровищ. Страстью всей его
жизни были скаковые лошади и желание выиграть приз Дерби, что в
последствии, когда он стал премьер-министром, ставилось ему в вину
сторонниками нонконформистских идей. Розбери обладал литератур-
ным даром. Его перу принадлежали биография Т. Карлейля и историче-
ские очерки, посвященные таким великим людям, как О. Кромвель,
Фридрих Великий, У. Питт Старший, Наполеон.
Политические позиции лорда Розбери наглядно проявились в пери-
од предвыборной кампании 1879 гг. Как один из лидеров либералов
У. Гладстон совершает поездку в Мидлотианский избирательный округ
и в течение двух недель на каждой станции перед многотысячной тол-
269
пой произносит речи, обличающие политику консервативного прави-
тельства Дизраэли. Моральную и финансовую поддержку в организа-
ции этой Мидлотианской кампании оказал лорд Розбери. Его авторитет
среди шотландцев еще больше вырос, он становится довольно популяр-
ным политиком. Жена Г. Асквита, Маргот, вспоминала: «Везде на каж-
дой улице или станции была толпа, будь то Глазго или Эдинбург, и ко-
гда я спрашивала, что это все значит, я получала только один ответ:
“Розбери”»2. Эта кампания позволила ему снискать славу защитника
шотландских интересов, воплощающего шотландские ценности побор-
ника равноправия.
В период формирования второго кабинета У. Гладстона Розбери
надеялся быть включенным в его состав. Однако этого не произошло.
И только в 1881 г. он был назначен заместителем министра по внутрен-
ним делам, ответственным за дела в Шотландии. Его интерес к шот-
ландским проблемам в это время выражался в постановке вопроса о со-
здании института министра по делам Шотландии. Его позиции находили
одобрение со стороны шотландской прессы, в частности, “Скотсмэн”,
редактором которого являлся Чарлз Купер, чьей поддержкой в даль-
нейшем Розбери неоднократно пользовался. Во главе Министерства
внутренних дел находился известный либеральный деятель У. Харкорт.
И хотя отношения между министром и его заместителем являлись в тот
период неплохими, Розбери быстро обнаружил, что его ответствен-
ность за дела Шотландии была минимальной. Гладстон же, занятый
другими важнейшими вопросами, мало уделял внимания политическим
амбициям своего младшего коллеги в правительстве. В определенной
степени это было ошибкой премьера, поскольку Розбери, занимая не-
значительный пост, все же являлся в это время уже видной политиче-
ской фигурой. Желание Розбери войти в кабинет в качестве представи-
теля по шотландским делам не увенчалось успехом, и в 1883 г. он выхо-
дит из правительства, заявив при этом Гладстону, что вернется только
как член кабинета. Необходимо отметить, что определенную роль в
становлении государственных институтов по делам Шотландии Розбери
все-таки сыграл. Под влиянием его деятельности в 1885 г. было образо-
вано министерство по делам Шотландии, а в 1894 г. в палате общин был
создан Шотландский главный комитет (Scottish Grand Committee).
В 1883 г. лорд Розбери совершает поездку в Австралию, что оказа-
ло большое влияние на формирование его политических взглядов и по-
литики. Империя и имперская идеология в это время приобретали ог-
ромное значение для англичан. Имперские проблемы находились в цен-
тре внимания представителей всех политических кругов. Наиболее
ярыми сторонниками укрепления и расширения Британской империи
выступали консерваторы. Среди же либералов именно лорд Розбери
становится ревностным защитником империи и имперских идей. Вер-
нувшись из Австралии, он выступает с рядом публичных речей, в кото-
рых обосновывает мысль о сохранении империи как Содружества на-
ций, подразумевая под этим общество свободных и равноправных чле-
нов, связанных между собой общими законами, хотя и сохранявших ме-
стные традиции. Розбери объявил себя сторонником “разумного импе-
270
риализма”, под которым подразумевал “патриотизм”, и назвал себя ли-
берал-империалистом.
Лорд Розбери объявляет себя сторонником движения имперской
федерации, зародившегося еще в 60-е годы XIX в. и получившего даль-
нейшее развитие в последние два десятилетия столетия. В 1884 г.
в Англии была образована Лига имперской федерации, членами кото-
рой стали представители двух правящих партий и многочисленных об-
щественных организаций. Лорд Розбери присоединяется к этому движе-
нию, а в 1886 г. становится главой Лиги. Российский посол в Англии
Е. Стааль в письме к Н.К. Гирсу в ноябре 1889 г. замечал, что лорд
“стал пылким лидером этого движения”3. Образование федерации, по
словам Розбери, было единственной страстью его жизни. Ему принад-
лежала фраза, что имперская федерация - это именно то дело, ради ко-
торого человек должен жить, а если понадобится, то и умереть4. Ни
один политик в Англии не сделал столько для распространения импер-
ских идей, сколько Розбери. Так считают британские историки Р. Коб-
нер и X. Шмидт, утверждавшие, что “как империалист, лорд Розбери не
принадлежал ни к какой партии”5.
Лорд Розбери возвращается в правительство в 1885 г., после прова-
ла суданской кампании и роста всеобщего недовольства политикой
У. Гладстона. Он занимает пост министра общественных работ и лорда
хранителя печати, а в январе 1886 г. в возрасте 37 лет становится мини-
стром иностранных дел в третьем кабинете У. Гладстона. Анализируя
позиции Розбери в этот период, необходимо отметить два важных мо-
мента в его деятельности: во-первых, его отношение к ирландской по-
литике Гладстона, во-вторых, его взгляды на внешнеполитический курс
Англии в целом. Относительно первого вопроса лорд Розбери, хотя и не
будучи ярым приверженцем гомруля, в 1886 г. выступал сторонником
идей Гладстона и полностью поддерживал действия премьера. В 1887 г.
он отмечал, что политика либералов должна основываться на принци-
пе, по которому “Ирландии должно быть разрешено управлять ее соб-
ственными делами в области внутреннего законодательства”6. Такая
позиция обеспечила ему поддержку со стороны гладстонианцев.
Что же касается внешнеполитических воззрений и деятельности, то
как министр иностранных дел Розбери привлекал внимание английских
политических кругов. Он представлял собой новый тип политического
деятеля в эпоху демократизации буржуазного общества. Придя в поли-
тику как виг, он не был связан с вигским нонконформизмом и был сво-
боден от “морального рвения” У. Гладстона. По своим взглядам и пози-
циям он сближался с маркизом Солсбери и Рандолфом Черчиллем.
Его близким другом являлся С. Родс. Розбери был “реальным полити-
ком”, его дипломатия, лишенная сантиментов, основывалась на стрем-
лении защитить стратегические и национальные интересы Англии. Его
внешнеполитические принципы сводились к “преемственности” внеш-
ней и колониальной политики, что обеспечивало ему поддержку со сто-
роны фактически двух политических партий. В течение своего 6-месяч-
ного руководства Министерством иностранных дел Розбери продолжил
курс маркиза Солсбери в отношении балканских стран. Как и его пред-
271
шественники, он придерживался политики “свободы рук” в отношении
великих европейских держав.
После отставки кабинета У. Гладстона в 1886 г. Розбери остается на
гребне политической жизни. В 1889 г. он избирается председателем но-
вого Совета Лондона (London County Council). Его деятельность на этом
поприще вызывает интерес радикально настроенных кругов, поскольку
он начинает интересоваться социальными проблемами и в этом напра-
влении тесно сотрудничает с членами Фабианского общества. Таким
образом, для либералов он был молодым героем Мидлотианской кам-
пании, заслуживающим уважения министром, радикально настроенным
реформатором и одним из выдающихся ораторов своего времени.
Он завоевал авторитет со стороны многих политических деятелей, в
том числе консерваторов и либерал-унионистов, и был известен как че-
ловек высокообразованный и с большим вкусом, но в то же время осто-
рожный, хорошо разбирающийся в различных ситуациях.
Однако 1890 г. становится рубежом в его политической и личной
жизни. В ноябре этого года умирает его жена Ханна. Утрата близкого
человека обернулась для него серьезными последствиями: смерть Хан-
ны стала ударом, после которого он так и не смог оправиться. В первую
очередь это отразилось на его здоровье: скрытая, а когда и явная ме-
ланхолия и хроническая изматывающая бессонница становятся неиз-
менными спутниками до конца его жизни. После 1890 г. Розбери уже
другой человек, его политическая деятельность все больше зависела от
спада или подъема настроения, сопровождалась подчас импульсивными
поступками.
В 1892 г. к власти приходит последний кабинет У. Гладстона. За го-
ды оппозиции в либеральной партии начинает оформляться “империа-
листическое” крыло, выразителем интересов которого являлся лорд
Розбери. Если в более ранний период размежевание между сторонника-
ми “Малой” и “Великой Англии” проходило, как правило, между либе-
ралами и консерваторами, то на рубеже 80-90-х годов оно начинало
распространяться и на саму либеральную партию. Либералы, сторонни-
ки империалистических идей, пропагандируя тезисы об укреплении
Британской империи на основе либеральных принципов “добровольно-
сти”, “самоуправления” и т.д., не отвергали в отличие от их оппонентов
саму концепцию расширения имперских границ и признавали колони-
альную экспансию как важное средство укрепления мировых позиций
Великобритании. Колониальные вопросы оставались наиболее остро
обсуждаемыми в период деятельности либерального правительства
1892-1895 гг.
В новом кабинете лорд Розбери получает пост министра иностран-
ных дел. И пожалуй, в этот период с наибольшей силой проявляются
его способности как политического деятеля. Встав во главе министер-
ства, Розбери определяет не только европейский курс Англии, но и ока-
зывает непосредственное влияние на колониальную политику своего
правительства.
Как и в предшествующие годы, африканские проблемы продолжа-
ют превалировать в колониальном курсе либералов. Политика преем-
272
ственности либерального правительства отчетливо проявилась в его от-
ношении к египетскому вопросу. Несмотря на заверения либералов в
начале 1880-х годах о “кратковременности”, оккупация Египта приоб-
рела длительный характер. Поэтому в начале 90-х годов египетский во-
прос находился в центре внимания английских политических кругов.
Отношение членов либерального правительства к вопросу о пребыва-
нии британских войск в Египте стало разделительной линией. В пользу
скорейшего вывода войск высказывались У. Гладстон и Дж. Морли.
За продолжение же египетского курса консерваторов, противников вы-
вода английских солдат, в либеральном кабинете активно выступил
лорд Розбери. В январе 1893 г. в период обострения египетского вопро-
са в разговоре с премьер-министром он настаивал, чтобы оккупацион-
ная армия в Египте была усилена, мотивируя это следующим: “...мы по-
лучили значительное предупреждение, и я боюсь, если мы не примем
его во внимание, мы окажемся перед началом новой и тревожной фазы
египетского вопроса...”7.
Положение Розбери в правительстве было довольно сложным: не-
многие его члены поддерживали главу внешнеполитического департа-
мента. Наиболее последовательным сторонником Розбери являлся
Брус. Точка зрения Розбери находила поддержку и среди членов кон-
сервативной оппозиции, которые полагали, что в условиях русско-
французского сближения вывод английских войск из Египта опасен для
Британских интересов тем, что мог спровоцировать новые революци-
онные выступления в этой стране8. Кабинет же Гладстона занял осто-
рожную позицию, его члены стремились избегать крайностей. Они не
видели необходимости в усилении британского присутствия в Египте.
Помимо Гладстона не поддерживали министра иностранных дел также
лорд Кимберли и лорд Спенсер. За сокращение численности британ-
ских войск в Египте выступали и радикалы во главе с Г. Лабушером9.
Как видим, в проведении колониальной политики лорд Розбери
встретил сопротивление многих членов либерального кабинета. Прав-
да, глава Форин оффис пользовался поддержкой молодых либералов -
членов правительства, разделявших его либерал-империалистические
воззрения.
Наиболее ярко имперские позиции лорда Розбери проявились при
решении так называемого “угандского вопроса”. Уганда играла немало-
важную роль в осуществлении плана британских колониальных кругов,
известного под названием “От Каира до Кейптауна”, и предусматрива-
ющего строительство железнодорожных и телеграфных линий с севера
на юг Африканского континента по территории британских владений.
Острота проблемы в начале 90-х годов заключалась в том, что в силу
финансовых обстоятельств Восточно-Африканская компания объяви-
ла в начале декабря 1891 г. о намерении временно покинуть Уганду.
Правда, благодаря финансовой помощи, оказанной протестантскими
миссионерскими обществами, руководство компании приняло решение
остаться в стране до конца 1892 г.
Среди членов либерального кабинета определились два подхода к
решению угандского вопроса. Первый сводился к решению покинуть
18 Россия и Британия Вып 3
273
Уганду. За уход из этой страны высказывались такие политики, как
лорд Рипон и У. Харкорт, их поддерживал и военный министр Г. Кем-
пбелл-Баннерман. Позиция У. Гладстона была также достаточно опре-
деленной: он считал, что в данный момент не существовало никакого
“угандского вопроса”, так как, по его мнению, он был решен между
дирекцией Восточно-Африканской компании и консервативным пра-
вительством. Он высказывал опасение, что своим вмешательством
в угандские дела либеральный кабинет мог взять на себя ответст-
венность, которая лежала на компании и на консервативном правитель-
стве10.
Наиболее последовательные позиции в “угандском вопросе” занял
лорд Розбер, который представлял второй подход к решению пробле-
мы. Он называл Уганду “ключом к Центральной Африке” и считал, что
она контролирует бассейн Нила. Он убеждал своих коллег по партии,
что овладение Угандой будет означать первый шаг к длительному об-
разованию огромной империи в долине Нила11. Еще в самом начале де-
ятельности либерального правительства Розбери занял позицию, кото-
рая несколько расходилась с мнением его коллег-министров. В письме
королеве Виктории от 29 сентября 1892 г. он писал, что склоняется, хо-
тя и неохотно, к “увеличению сроков, предоставленных компании для
эвакуации”. По его мнению, эвакуация была неизбежна, но “отсрочка
даст время для сбора информации, выявит истинные настроения в стра-
не, которые, он уверен, были не в пользу эвакуации...”12. В начале октя-
бря 1892 г. Розбери принял депутацию Восточно-Африканской компа-
нии. Он был настолько убежден в правильности своей точки зрения, что
пригрозил отставкой, если премьер-министр Гладстон окажется несго-
ворчив. Расхождения во взглядах премьера и его министра иностранных
дел по “угандскому вопросу” были достаточно серьезны и могли пере-
расти в скандал, чего и опасался Гладстон13.
Как компромиссный вариант было принято решение направить в
Уганду миссию во главе с Дж. Порталом. Показательно, что парламент
в марте 1893 г. выразил одобрение угандской политики лорда Розбери.
Когда 20 марта того же года Г. Лабушер при поддержке 46 радикалов
внес в палате общин резолюцию, направленную против миссии Порта-
ла, имевшего, по его мнению, широкие полномочия по укреплению по-
зиций Британии в Уганде, большинство депутатов (368 голосов) его не
поддержало14.
В начале 1894 г. либеральная партия переживает внутренний кри-
зис. Бесплодная деятельность правительства вызывала разочарование
среди английских избирателей и сомнения в возможность осуществле-
ния социальных реформ. Показательно, что и лидеры либералов сомне-
вались в их осуществлении. Так, Розбери признавал, что “не верил в
длинный список реформ”, принятый в 1891 г. (подразумевалась Ньюка-
стлская программа)15. Бесцветная и безрезультатная политика либера-
лов получила название политики “перепахивания песка”.
В марте 1894 г. У. Гладстон подает в отставку с поста премьера и
лидера либеральной партии. Встал вопрос о его преемнике. На эту роль
претендовали два кандидата - лорд Розбери и У. Харкорт. За каждым
274
кандидатом стояли определенные группировки внутри партии, различа-
ющиеся по своим подходам к внутренней и внешней политике страны.
У. Харкорт, лорд казначейства в либеральном кабинете, был предста-
вителем старого традиционного либерализма, так называемой “Манче-
стерской школы”. Его поддерживали сторонники радикального напра-
вления и центра партии. Одним из его друзей и единомышленников яв-
лялся радикал Джон Морли. У Харкорта как ближайшего сподвижника
“Великого старца” имелись все основания считать себя достойным пре-
емником Гладстона. Лорд же Розбери - молодой, энергичный политик
и прекрасный оратор - становится выразителем новых настроений в
партии. Он пользуется авторитетом и поддержкой либеральной моло-
дежи, в число которой входили Г. Асквит, Э. Грей, Р. Холден, А. Ак-
ленд, У. Бакстон, Том Иллис и другие, находившиеся под влиянием им-
периалистических и шовинистических идей, широко распространив-
шихся в тот период времени. К разногласиям чисто политического пла-
на примешивались еще и чувства личной неприязни между обоими кан-
дидатами. Королева отдала предпочтение Розбери. 5 марта 1894 г. пос-
ледний возглавил правительство либералов. Избрание его главой либе-
ральной партии и премьер-министром создало определенные трудности
для либералов, поскольку Розбери как пэр королевства заседал в пала-
те лордов, а либералов в палате общин возглавлял Харкорт. Между дву-
мя лидерами не было единства взглядов и действий, что способствовало
дальнейшему расколу партии и образованию в ней различных группи-
ровок. Положение Розбери усугублялось тем, что его политика не нахо-
дила поддержки у королевы Виктории.
Премьерство Розбери было кратковременным и сопровождалось
рядом серьезных политических просчетов. Особенно наглядно это про-
является на примере его внутренней политики.
Одним из острейших вопросов, который волновал английские по-
литические круги в начале 90-х годов, оставался ирландский. Как из-
вестно, вторая попытка У. Гладстона в 1893 г. провести через парла-
мент билль о гомруле не увенчалась успехом. Среди либералов стало
распространяться, хотя и медленно, мнение, что помимо гомруля либе-
ральная партия должна уделять должное внимание и другим пробле-
мам. Интересно отметить, что в одном из выступлений того периода
Розбери сформулировал положение, которое характеризовало не толь-
ко его личную позицию, но и ирландскую политику либеральной пар-
тии в целом. В сентябре 1893 г. он заявил, что гомруль для него “не фа-
натизм, не вопрос о чувствах и едва ли вопрос истории ... в любом слу-
чае, это единственно вопрос политики”16. Действительно, всех либера-
лов, невзирая на их политические оттенки, волновала не судьба ирланд-
ского народа, а лишь политическая сторона вопроса. Либеральная пар-
тия использовала гомруль в качестве одного из лозунгов, который при-
зван был удержать ирландских националистов в рядах союзников анг-
лийских либералов. Поэтому выступления Розбери в этот период были
своеобразным отражением складывающегося настроения главным об-
разом среди рядовых членов партии в отношении ирландской тактики
либеральной партии.
275
В 1894 г., в самом начале своего премьерства, Розбери сделал заяв-
ление, которое дало обильную пищу для размышлений его современни-
кам. Он поддержал лорда Солсбери, главу консерваторов, который за-
явил, что, прежде чем ирландский гомруль будет принят имперским
парламентом, Англия как “господствующий член трех королевств”
должна убедиться в его “справедливости”. Свою позицию Розбери объ-
яснил тем, что большинство депутатов в парламенте, избранных от Ан-
глии, настроены враждебно по отношению к гомрулю. Изменение это-
го мнения англичан полностью зависит от самой Ирландии, т.е. там
должны прекратиться “аграрные выступления” и воцариться гармония
“Ирландии с великой либеральной партией”17. Вину за неспособность и
нежелание либеральной партии успешно решить ирландскую проблему
он возложил на самих ирландцев.
Английская общественность расценивала выступления Розбери как
отказ либералов от принятия гомруля до тех пор, пока английское боль-
шинство не выскажется в его пользу. Выступая с разъяснением своей
точки зрения, Розбери отмечал, что получение согласия англичан было
естественным условием “для того, чтобы гомруль стал свершившимся
фактом”18. Следовательно, к 1894 г. в подходе Розбери к ирландскому
вопросу наметился отход от гладстонианских позиций, в основе кото-
рых лежало требование проведения гомруля в качестве первостепенной
задачи либеральной партии. Своим заявлением премьер Розбери ли-
шился поддержки ирландских националистов.
Серьезные разногласия возникли между Розбери и У. Харкортом,
занимавшим пост канцлера казначейства в правительстве, по вопросам
о бюджете 1894 г. Последний предложил бюджет, одна из статей кото-
рого предусматривала введение постепенно изменяющегося налога на
наследство. Это был довольно смелый шаг и слишком радикальный для
многих либералов, в том числе и Розбери, который опасался, что такая
политика может привести к “горизонтальному делению в партии” по
вопросам классовых интересов19. По мнению Харкорта, такое деление
было неизбежным, и в пылу полемики он назвал Розбери “богатым че-
ловеком, который не желал, чтобы его облагали налогами”20. Разно-
гласия по этому вопросу еще больше обострили отношения между дву-
мя политиками и накалили обстановку среди членов правительства и
партии.
Имперская политика Розбери в эти месяцы отличалось определен-
ной жесткостью. В возглавляемом им либеральном кабинете по-преж-
нему продолжалось четкое разделение его членов на сторонников и
противников колониального курса премьера. В апреле 1894 г. прави-
тельство либералов приняло решение о провозглашении над Угандой
британского протектората. Против такого решения правительства вы-
ступали У. Харкорт, Дж. Морли и радикалы. Но Розбери и его сторон-
ники смогли одержать победу при поддержке их со стороны консерва-
торов. Судьба Уганды была решена при голосовании в парламенте -
218 голосов высказались в поддержку правительства, 52 - против21.
Сообразуясь со своими империалистическими воззрениями, лорд
Розбери проводил курс на укрепление британских позиций в Африке.
276
Одной из острейших проблем для английских империалистических кру-
гов являлась проблема Верхнего Нила, где они сталкивались с интере-
сами Франции. Последняя добивалась вывода британских войск из
Египта. Для достижения этой цели, а также в целях расширения собст-
венных владений Франция стремилась укрепиться в бассейне Верхнего
Нила и в районе Фашоды (Судан). Это нарушало планы Англии, кото-
рая в свою очередь желала установить контроль над этими районами.
Нельзя было допустить, чтобы Франция, обосновавшаяся здесь, могла
шантажировать Англию, являвшуюся фактически хозяйкой Египта.
Недаром в меморандуме от 17 июня 1894 г. лорд Розбери провозглашал,
что Нил - это Египет, а Египет - это Нил, и как оккупирующая страна
Британия должна убедить европейские державы признать этот прин-
цип22. Фактически это означало намерение англичан не только сохра-
нить контроль над Египтом, но и распространить его до Великих афри-
канских озер.
Правительство либералов столкнулось с задачей организации
противодействия политике Франции и Бельгии в Тропической Афри-
ке. Лорд Розбери предпринял шаги, на его взгляд, способные поме-
шать продвижению этих двух стран к Верховью Нила. 12 мая 1894 г.
был заключен англо-бельгийский договор, по которому бельгийцам
был передан во владение левый берег Нила от озера Альберт до Фа-
шоды на “правах аренды от Великобритании”. Однако летом 1894 г.
англичане под угрозой франко-германского сближения по колониаль-
ным вопросам вынуждены были пересмотреть некоторые статьи до-
говора.
За 15 месяцев премьерства Розбери возглавляемый им кабинет не
проводил твердой политики ни по одному из важнейших вопросов. К ле-
ту 1895 г. налицо был кризис правительства и либеральной партии в це-
лом, раздираемой различными соперничающими между собой группи-
ровками. Авторитет Розбери падал. Нонконформисты упрекали его за
увлечение скачками (в 1894 и 1895 гг. его лошади дважды выигрывали
Дерби), что, по их мнению, не согласовалось с деятельностью премье-
ра; своими высказываниями по вопросу о гомруле он лишился поддерж-
ки ирландских националистов; его нерешительная внутренняя, с одной
стороны, и жесткая имперская политика - с другой, вызывала нарека-
ния со стороны радикально настроенных либералов и сторонников цен-
тристских позиций. Более того, он поразил своих политических коллег,
да и противников, тем, что выдвинул лозунг борьбы за реформу палаты
лордов, при этом не разъясняя четко, что он под этим подразумевает.
Единственным результатом этой кампании явилось ухудшение отноше-
ний с королевой Викторией, которая была недовольна и тоном, и хара-
ктером выступлений Розбери.
В начале 1895 г. Розбери попытался укрепить свое положение.
19 февраля он выдвинул перед членами кабинета ультиматум: либо они
его поддерживают, либо он уходит в отставку. Это обеспечило ему оп-
ределенную стабильность положения. Но время было упущено. Зима
1895 г. не принесла ожидаемых результатов. Позиции его на политиче-
ской арене становились все более шаткими. Ко всему прочему ухудши-
277
лось состояние здоровья: к неизменной бессоннице добавились частые
вспышки воспаления легких. В эти месяцы Розбери - одинокий, исто-
щенный и переутомленный работой человек. Утрата близких друзей
также не проходит для него бесследно. В январе 1895 г. умирает лорд
Рандолф Черчилль, его товарищ по Итону. Потеря давнего и близкого
друга еще больше усиливает присущую Розбери меланхолию, что есте-
ственно отражается на его деятельности.
К лету 1895 г. либеральный кабинет не представлял уже той силы,
которая способна была руководить страной. 21 июня либералы в пала-
те общин потерпели поражение по вопросу о военном кредите, кабинет
собирался уйти в отставку, но консерваторы настояли на новых парла-
ментских выборах.
Выборы 1895 г. с наибольшей ясностью показали слабость либера-
лов. Действия лидеров отличались несогласованностью: Розбери пропа-
гандировал конституционную реформу палаты лордов, настаивая на
том, чтобы предвыборная кампания либералов была построена исклю-
чительно на признании значимости этого вопроса23. Дж. Морли отстаи-
вал лозунг Гладстона о гомруле, Харкорт выдвинул лозунг о билле, ог-
раничивающем продажу спиртных напитков, ряд либералов выступали
за отделение церкви в Уэльсе. Акцентируя внимание избирателей на
отдельных пунктах предвыборной программы, лидеры партии не смог-
ли достичь единства действий в период избирательной кампании. Пора-
жение либералов стало очевидным и было сокрушительным. Француз-
ские газеты назвали поражение кабинета Розбери “Седаном английских
либералов”24.
Так закончилось премьерство лорда Розбери, способного молодого
политика, имеющего огромные потенциальные возможности стать яр-
кой и незаурядной личностью на английской политической арене, но не
использовавшего предоставленного ему шанса в силу расстановки не
в его пользу сил в либеральной партии, а также личных обстоятельств,
в том числе и отсутствия необходимых для политика бойцовских
качеств.
Лорд Розбери оставался лидером либералов вплоть до 1896 г., когда
обострился так называемый армянский вопрос. Ряд либералов во главе
с У. Гладстоном высказались за самостоятельные действия Англии в
решении этого вопроса ( предлагали отозвать британского посланника
из Константинополя), тогда как Розбери выступил за осторожный курс
в отношении Турции, подчеркивая, что “изолированные действия” Анг-
лии “повлекут за собой европейскую войну”25. Разногласия между дву-
мя лидерами были столь острыми, что Розбери счел необходимым уйти
в отставку. Во главе либералов встал У. Харкорт.
Официально Розбери отходит от политической жизни, не принима-
ет активного участия в партийных делах. Но, будучи государственным
деятелем, хотя и бывшим, он не мог оставаться в стороне от тех насущ-
ных вопросов, которые волновали англичан. Он внимательно следит за
внешней и колониальной политикой консервативного кабинета лорда
Солсбери. В декабре 1895 г. английский вооруженный отряд под коман-
дованием доктора Джемсона, администратора Британской Южно-Аф-
278
риканской привилегированной компании, предпринял авантюристиче-
скую попытку захватить власть в Трансваале. Она не увенчалась успе-
хом, а в самой Англии разразился скандал. Розбери, как утверждал рус-
ский публицист и журналист Дионео, находившийся в тот период в
Англии, принадлежал наравне с С. Родсом и Дж. Чемберленом к Южно-
Африканской привилегированной компании26. Но несмотря на этот
факт, первой его реакцией на трансваальские события стало выступле-
ние с осуждением действий Джемсона. Он назвал последнего “флибу-
стьером” и охарактеризовал его восхваление английской реакционной
прессой “политическим скандалом, роняющим достоинство Великобри-
тании”27.
Выход лорда Розбери вновь на политическую арену был связан с
обсуждением в английских политических кругах фашодского инциден-
та 1898 г. Первоначально, т.е. еще в 1896 г., когда обсуждался вопрос об
отправке в Судан английских войск под командованием генерала Кит-
чинера, Розбери относился к суданской экспедиции как к “беспричин-
ной” и “необъяснимой”, находя ее невыгодной для англичан. Однако
12 октября 1898 г. в самый разгар фашодского кризиса Розбери произ-
носит речь в Ипсоне, которая произвела большое впечатление на обще-
ственное мнение Англии, а также других европейских стран. Розбери
обвинил Францию в преднамеренных действиях в Судане и выражал на-
дежду, что французский флаг, водруженный Маршаном в Фашоде, был
не флагом Франции ( т.е. за ним не стояла Французская республика),
а “флагом одного исследователя”. Розбери выражал надежду, что инци-
дент будет решен мирно, но выступал против любого компромисса, за-
трагивающего права Англии на Египет28. Таким образом, Розбери вы-
разил не только свои, но и взгляды многих других политиков, заинтере-
сованных в установлении британского контроля над Суданом, что спо-
собствовало бы укреплению позиций Англии в Египте и расширению
сферы ее влияния в этом районе Африки. Недаром газета “Лейбор Ли-
дер” отмечала, что Розбери не менее “ответствен за имперскую полити-
ку в Африке, чем консервативное правительство”29.
Англо-бурская война 1899-1902 гг. стала тем периодом, когда звез-
да либерального лидера вновь вспыхнула для лорда Розбери на полити-
ческом небосклоне. Он выступил не только как политик, стремивший-
ся к завоеванию лидерства в партии, но и как идеолог нового течения
в либерализме.
К началу и особенно за годы войны окончательно сформировалось
либерал-империалистическое течение, признанным лидером которого
становится Розбери. Основные концепции этого идейного течения сво-
дились к следующему: либералы должны заново решать вопрос об ук-
реплении социальной базы либеральной партии; они должны осознать
великую роль империи как для самой партии, так и для жизни Англии в
целом; либералы должны пересмотреть свои позиции в решении соци-
альных проблем и ирландского вопроса.
Розбери непосредственно принимал участие в разработке важней-
ших положений либерал-империализма. Так, он считал процесс сокра-
щения массовой базы либерализма неизбежным. В целях ее расшире-
279
ния он предлагал обратиться к проведению социального законодатель-
ства в пользу рабочих, а также мелкой и средней буржуазии. По мне-
нию Розбери и других правых либералов, сторонников этого течения,
либеральная партия должна выражать интересы всего английского об-
щества, т.е., по их словам, “представлять национальную жизнь и являть
реальную силу в стране”30.
В основе предлагаемой правыми либералами “реконструкции” пар-
тии лежала идея отказа либералов от прежних программ, в частности от
Ньюкастлской программы 1891 г., и призыв осуществить “новый под-
ход” к либерализму, основанный на идее “национальной эффективно-
сти”. Розбери заявлял, что под “новым подходом” он понимал постанов-
ку на повестку дня вопросов, которые требовали не только размышле-
ния, но и нового подхода к их решению31.
Понятие “нового подхода” было тесно связано с другим понятием -
“концентрации”, которое подразумевало сосредоточение усилий партии
на решении одного какого-либо вопроса, способного объединить всех
членов партии, привлечь к ней новые слои общества. В центре внима-
ния либеральной партии должен быть имперский вопрос, который, по
мнению либерал-империалистов, являлся ключом к восстановлению
былой силы либерализма. Лорд Розбери призывал членов своей партии
не устраняться от нового чувства империи, которое охватило всю на-
цию, “поскольку политический деятель, каким бы великим он ни был,
но который устраняет себя от этого чувства, не должен удивляться, ес-
ли нация оттолкнет его от себя”32.
Таким образом, либерал-империализм сочетал в себе призыв к про-
ведению умеренных реформ внутри страны с активной колониальной
и имперской политикой. Еще в 1893 г. Розбери открыто высказался за
расширение империи. “Говорят, - заявил он, - что наша империя доста-
точно велика и не нуждается в расширении. Это было бы действитель-
но так, если бы мир был эластичен, но, к сожалению, он не такой...”
Он призывал англичан задуматься не только над тем, в чем они нужда-
ются в настоящее время, но и над тем, в чем они будут нуждаться впос-
ледствии33. В 1895 г. Розбери сформулировал принципы либерал-импе-
риал изма в колониальном вопросе: сохранение империи, открытие но-
вых земель для эмиграции, подавление работорговли, развитие миссио-
нерского движения и коммерции34.
Исходя из своих воззрений, правые либералы во главе с лордом
Розбери в годы англо-бурской войны единодушно выступили на сторо-
не консервативного правительства. Розбери обратился с призывом к
либералам: “Будьте одним народом, забудьте все ради блага общества”.
Он открыто заявлял, что ситуация в данный момент вне партийных спо-
ров, время прошло для обсуждения или осуждения действий правитель-
ства, и нация должна сомкнуть свои ряды для оказания сопротивления
Южно-Африканской республике35. Он считал войну неизбежной и оп-
равдывал ее “оборонительными” целями, которые якобы преследовала
Англия в борьбе с бурами.
В годы этой войны либерал-империалисты попытались организа-
ционно оформить свое течение и Розбери сыграл не последнюю роль
280
в этом процессе. Так, в апреле 1900 г. ими был создан Имперский ли-
беральный совет (ИЛС), который насчитывал 200 человек. Во главе
его встали Г. Харт, 3. Перкс, крупный бизнесмен, и лорд Брассей.
В состав ИЛС входило много людей, связанных с деловым миром.
И хотя Розбери не являлся его членом, Совет действовал на основе его
идей36. Однако в первый год войны либерал-империалистам не уда-
лось осуществить стремление к созданию собственной партии или же
хотя бы установить контроль над партийной организацией, но подоб-
ные попытки ими предпринимались. ИЛС как политическая организа-
ция оказался малоэффективен. Он представлял собой главным обра-
зом политический клуб, который был призван распространять импе-
риалистические идеи среди либералов, но не способен был контроли-
ровать жизнь партии.
В условиях обострившейся борьбы среди либералов по вопросам
войны и за лидерство в партии Розбери окончательно решает выйти из
тени. Летом 1901 г. разгорелся новый внутрипартийный конфликт ме-
жду, с одной стороны, приверженцами Г. Кемпбелл-Баннермана, главы
либеральной партии и лидера центра, поддерживавшего в целом пробу-
ров, и либерал-империалистами - с другой, по вопросам о методах
ведения войны. Партия стояла на пороге раскола и только принятая
2 июля на собрании либералов резолюция о сохранении ее единства по-
могла избежать его. 17 июля Розбери опубликовал письмо, носившее
довольно вызывающий характер, в котором полностью отмежевался от
партийного решения. Он писал, что причина всех трудностей заключа-
лась в наличии в партии различных мнений не только по вопросам вой-
ны и методов ее ведения, но и относительно имперских и внешнеполи-
тических проблем37. В выступлении перед членами либерального клуба
Сити 19 июля он подтвердил свое заявление о наличии в партии двух
фракций и подчеркнул, что пришел к выводу о невозможности их суще-
ствования под одним знаменем38.
Противники и сторонники войны среди либералов летом-осенью
1901 г. вели острую политическую и внутрипартийную борьбу. Пробу-
ры во главе с Кемпбелл-Баннерманом заметно активизировали свою
деятельность, что отразилось на результатах перевыборов членов пар-
ламента в некоторых графствах, когда они объединяли свои усилия с
социалистами для нанесения поражения кандидатам, выставленным ли-
берал-империалистами. Последние должны были пересмотреть свою
тактику. В результате серии переговоров с членами ИЛС либерал-им-
периалисты образовали новую организацию, получившую название
Либеральная империалистическая лига. Э. Грей стал ее председателем.
Но у новой организации остались прежние трудности. В этой обстанов-
ке Розбери решил открыто возглавить либерал-империалистическое
течение. Началом деятельности в этом направлении стало известное
выступление политика 16 декабря 1901 г. в Честерфилде перед членами
местной либеральной ассоциации.
Большую часть своей речи Розбери посвятил проблемам англо-
бурской войны. Относительно партийных проблем Розбери заявил,
что необходимо учитывать сложившуюся ситуацию: после долгого пе-
281
риода слабости для либеральной партии наступил период выздоровле-
ния. В связи с этим он вновь обратил внимание либералов на выска-
занные им ранее положения: принципы “нового подхода”, “реконст-
рукции”, “национальной эффективности”, проведение социальных ре-
форм и значение империи как для либеральной партии, так и для Ан-
глии в целом39. С одной стороны, речь Розбери удовлетворила пробу-
ров и центр партии, так как он высказался за скорейшее завершение
англо-бурской войны, что соответствовало их взглядам на ее окон-
чание, а с другой - правых либералов, поскольку он призвал к пре-
образованию либеральной партии в духе либерал-империалистиче-
ских идей.
Деятельность Розбери по созданию либерал-империалистической
организации в конечном счете увенчалась успехом. 24 февраля 1902 г.
была образована Либеральная лига во главе с ним, вице-президентами
ее стали Э. Грей, Г. Асквит и Г. Фоулер. Ее организаторы понимали,
что их политика, нацеленная на раскол партии, не будет поддержана
большинством либералов, к каким бы политическим течениям они не
принадлежали. Поэтому они неоднократно подчеркивали, что Лига -
“не раскольническая организация”, она якобы призвана “пропитывать”
либеральную партию своими идеями и “влиять на нее в единственном
направлении, которое, как они верили, одержит победу”. Сам Розбери,
хотя и говорил об “определенном отдалении” от либеральной партии,
призывал сторонников Лиги оставаться в ее рядах, т.е. в местных либе-
ральных ассоциациях, с которыми они были связаны40. Возможно, Роз-
бери и его сторонники понимали, что не обладают достаточным влия-
нием, чтобы полностью порвать с партией и стать самостоятельной по-
литической силой, и поэтому, ограничивая свои цели “пропитыванием”
ее либерал-империалистическими идеями, стремились таким путем по-
ставить ее под свой контроль.
Но была и еще одна подоплека образования этой организации. Не-
смотря на мнимый отход Розбери от партийных дел, либерал-империа-
листы не оставляли мысли о его возвращении на политическую арену в
качестве лидера партии. Розбери сам не отрицал возможности такого
шага, но выдвигал условием своего возвращения оказание со стороны
либеральной партии “полной поддержки” его идей41. В определенной
степени Либеральная лига и рассматривалась правыми либералами
как создание условий для его возвращения. Газета “Джастис” писала,
что цель сторонников Розбери состояла в том, чтобы “возвести его на
пьедестал, который сделал бы его в короткое время популярным в
стране”42.
Либеральная лига просуществовала с 1902 по 1910 г. Она так и не
смогла превратиться в организацию, способную противостоять либе-
ральной партии или по крайней мере контролировать ее политический
курс, как первоначально намечали ее организаторы. Ее деятельность
носила чисто пропагандистский характер. Не способствовала она и воз-
вышению Розбери в борьбе за партийное лидерство.
Пожалуй, годы англо-бурской войны являлись одними из наиболее
ярких в политической биографии лорда Розбери. Его имя не сходило со
282
страниц газет и периодических изданий. Он считался признанным авто-
ритетом среди либералов, да и консерваторов, по вопросам внешней и
имперской политики. Его кандидатура рассматривалась в качестве воз-
можного лидера либералов. Однако по окончании войны в 1902 г. пози-
ции Розбери вновь начинают ослабевать. Этому способствовала и новая
обстановка в стране, новая расстановка сил в либеральной партии и не-
дальновидная тактика самого Розбери.
После завершения войны вопросами, вызывающими дискуссию в
английском обществе, стали проблемы школьной реформы нового гла-
вы консервативного правительства Бальфура и протекционистская
кампания Дж. Чемберлена.
Розбери, как и многие другие либеральные лидеры, выступил с кри-
тикой школьного закона консерваторов 1902 г., по которому так назы-
ваемые “школьные комитеты” упразднялись, а все “комитетские шко-
лы” передавались под контроль муниципалитетов, наделенных правом
выбирать школьные комиссии по устройству и заведованию как на-
чальными, так и средними школами. Розбери уверял англичан в том,
что в результате принятия проекта возрастут религиозные споры, и
возражал против передачи руководства народным образованием муни-
ципальным советам и Советам графств на том основании, что в сель-
ской местности он не видел осуществления народного контроля над си-
стемой образования43. Позиция Розбери, аналогичная позициям пред-
ставителей левого крыла и центра партии во главе с Кемпбелл-Баннер-
маном, прослеживается и в период протекционистской кампании, нача-
той Дж. Чемберленом в 1903 г.
В основе кампании Дж. Чемберлена, занимавшего пост министра
колоний в торийском кабинете, лежала идея отхода от политики “сво-
бодной торговли”, или фритреда, и перехода к введению протекциони-
стских тарифов, что, по мнению министра, не только способствовало
бы укреплению позиций Англии в конкурентной борьбе с другими ве-
ликими державами, но и служило бы делу укрепления Британской им-
перии в целом. В борьбе за сохранение фритреда либеральная партия
выступила единым фронтом. Раскол партии, который наметился в
1902 г. с образованием Либеральной лиги и первые шаги к преодоле-
нию которого были сделаны во время кампании против школьного за-
конодательства консерваторов, был окончательно ликвидирован в пе-
риод борьбы с предложениями Чемберлена. Приверженность либера-
лов к фритреду оказалась сильнее внутрипартийных разногласий и лич-
ных амбиций либеральных лидеров. И Розбери сыграл в этом процессе
не последнюю роль. Так, в 1904 г. на очередной конференции Либе-
ральной лиги он призвал членов этой организации объединить свои уси-
лия с либералами других направлений в борьбе с протекционизмом44.
Хотя необходимо отметить, что в период этой кампании в отличие от
многих своих коллег, например Г. Асквита, он был скорее пассивен, чем
активен. В целом во время обсуждения вопросов о школьном законода-
тельстве и о введении протекционистских тарифов Розбери придержи-
вался единой для всей партии позиции, не высказывая сколько-нибудь
оригинальных идей.
283
Лорд Розбери принимает активное участие в обсуждении проблем
внешнеполитической ориентации Англии, которые остро встали перед
английскими политиками на рубеже веков. Розбери считался твердым
приверженцем политики “блестящей изоляции” и все внешнеполитиче-
ские акции консервативного правительства он рассматривал через ее
призму.
В годы англо-бурской войны Дж.Чемберлен выступил одним из
инициаторов сближения с Германией и заключения с ней соглашения.
Розбери не поддержал эту идею, хотя в правительственных кругах он
слыл германофилом: с восхищением относился к Бисмарку; назначение
его главой Форин оффис в 80-е годы расценивалось германским прави-
тельством как удача, германские представители в Лондоне называли
его “нашим единственным надежным другом в английском кабинете”45.
Но в силу приверженности политике “блестящей изоляции” Розбери не
мог положительно отнестись к возможному союзу с Германией.
Еще в начале 1890-х годов он писал Харкорту, что первой необходимо-
стью внешней политики Англии всегда было держаться в стороне от
Тройственного союза. Его беспокоила возрастающая торговая и про-
мышленная конкуренция со стороны Германии. Поэтому, когда Чем-
берлен резко выступил против Франции в 1899 г., предлагая союз с Гер-
манией, Розбери упрекнул его в пренебрежительном отношении к дру-
гим нациям46.
Сдержанным было отношение Розбери и к заключенному в 1902 г.
англо-японскому договору. Хотя он и направил поздравления консерва-
тивному правительству по поводу подписания договора, однако он его
не одобрял. Он правильно расценил договор как отход от политики
“блестящей изоляции”, за сохранение которой так ратовал. Отсюда по-
нятно и в целом негативное отношение Розбери к англо-французскому
соглашению 1904 г.
Розбери относился к Франции несколько скептически. Он считал
Третью республику агрессивной и ненадежной державой, поэтому с не-
доверием отнесся и к соглашению с ней, заявив, что оно скорее поощ-
ряет, чем предотвращает вражду между Англией и Францией. Более то-
го, он предсказывал, что соглашение с Францией приведет к осложне-
нию отношений с Германией. “В конечном счете оно означает войну с
Германией”, - дальновидно предупреждал он47. Позицию Розбери по
данному вопросу можно объяснить его определенным страхом перед
Германией и недооценкой возможностей Франции. Как видим, Розбери
принадлежал к числу немногих либерал-империалистов, оставшихся
верными политике “блестящей изоляции”.
Период с 1902 по 1905 г. называют “великим либеральным возрож-
дением”, поскольку именно на эти годы пришелся процесс консолида-
ции либералов, закончившийся их победой на выборах 1906 г. В этот пе-
риод многих либералов волновал вопрос о возможном составе кабине-
та в случае прихода к власти либералов. Уже в 1904 г. стало ясно, что
новое либеральное правительство будет состоять из сторонников как
Кемпбелл-Баннермана, так и Розбери. Среди либералов дискутировал-
ся вопрос о возможной кандидатуре на пост премьер-министра. В прес-
284
се назывались имена лорда Спенсера, Г. Кемпбелл-Баннермана и лорда
Розбери, хотя и подчеркивалось, что включение двух последних одно-
временно в состав нового кабинета было невозможно, так как кто-то из
них должен был поступиться принципами проводимой им политики48.
Позиции Розбери в целом в это время не были достаточно прочными не
только в силу того, что многие либералы высказывали опасение в отно-
шении его возможного лидерства49, но и ввиду возникших разногласий
внутри самого либерал-империалистического течения, в первую оче-
редь по ирландскому вопросу.
Рубеж 1901-1902 гг. ознаменовался выработкой либерал-империа-
листами важных теоретических положений, которые оказали сущест-
венное влияние на судьбу ирландского гомруля. Главная заслуга в этом
принадлежала Г. Асквиту и Э. Грею. Асквит осенью 1901 г. выступил
против союза либералов с ирландскими националистами и внес предло-
жение об отказе либеральной партии приходить к власти до тех пор, по-
ка она не будет обладать в парламенте большинством, независимым от
ирландских депутатов. Что же касается проблемы образования ирланд-
ского правительства, то Асквит нашел ее трудноразрешимой, но при
этом отмечал, что придерживался двух основных положений: во-пер-
вых, сохранение верховенства имперского парламента, во-вторых, уч-
реждение и совершенствование “местной власти и местной ответствен-
ности”50. Идеи Асквита нашли дальнейшее развитие в выступлениях
Грея, который пытался доказать, что прогресс в решении ирландской
проблемы “может быть достигнут не путем проведения одного большо-
го мероприятия, а постепенно” (буквально “шаг за шагом”)51. Идея по-
степенности отражала интересы тех членов партии, которые были не-
довольны выдвижением вопроса о гомруле в качестве доминирующего
пункта в партийных программах, хотя в целом и не отказывались пол-
ностью от его реализации.
Однако идеи и позиции своих сподвижников не поддержал лорд
Розбери. В известной речи в декабре 1901 г. в Честерфилде он выска-
зался за полный отказ от гомруля52. Он исходил из положения о том,
что ирландский вопрос якобы “умер и похоронен”. Развивая свою идею
о “новом подходе”, он заявлял, что она подразумевала отказ от устарев-
ших программ, которые разрушили либеральную партию в прошлом,
и поскольку гомруль изменил свое содержание, настаивал на новом под-
ходе к его решению. Его возмущали требования ирландцев об образо-
вании независимого правительства в Дублине. Он говорил, что ирланд-
цы хотят того, чего сам Гладстон им не предлагал. По его мнению, ос-
новной принцип, лежащий в основе двух гладстонианских биллей, давал
Ирландии такой большой контроль над местными делами, какой толь-
ко мог совмещаться с правами протестантского парламента. Требова-
ние же учреждения независимого ирландского правительства являлось
ошибочным по отношению к этому принципу.
Свою позицию по ирландскому вопросу Розбери сформулировал
довольно ясно: “Я не поддержу ничего и не буду голосовать за то, что
напоминало бы форму независимого парламента в Дублине, равно как
и за то, что могло бы привести к нему”53. Он считал, что учреждение та-
285
кого парламента невозможно, так как ни один англичанин, по его мне-
нию, не согласится вручить судьбу Ирландии - страны, которая нахо-
дится в центре государства, - парламенту, управляемому теми же самы-
ми лицами, которые желали поражения Англии в англо-бурской войне
и объявили себя ее непримиримыми врагами. Исходя из этого, Розбери
советовал либералам порвать все связи с ирландцами, и только тогда,
по его мнению, либеральная партия будет иметь успех среди избирате-
лей. Лидер либерал-империалистов предлагал решать ирландский воп-
рос путем предоставления Ирландии “привилегии самоуправляющейся
колонии” и то только в том случае, “если Ирландия будет лояльна к
Британии”. Он заявлял, что ирландцы имеют такое же право на учреж-
дение определенных институтов самоуправления, как англичане и шот-
ландцы. Это он мог им гарантировать, но не более. Требование же об-
разования независимого правительства в Дублине, по мысли Розбери,
было опасным, особенно с точки зрения сохранения имперской цело-
стности.
С 1904 г. ирландская проблема вновь стала предметом политиче-
ских споров. Приближались очередные парламентские выборы: либе-
ралы должны были определить свою “новую” ирландскую политику.
Кампанию начал лорд Розбери, когда в марте 1905 г. заявил, что он про-
тивник предоставления гомруля Ирландии и ему хотелось бы, чтобы
партия не уделяла этому вопросу особого внимания, пока не предпри-
мет специального обращения к стране54. Однако, выступая с подобным
заявлением, он не учитывал обстановку в партии к этому моменту.
К 1905 г. все большее число либералов, в том числе и либерал-импери-
алистов, склонялось к тому, чтобы рассматривать гомруль как единст-
венный приемлемый путь решения ирландской проблемы. Необходи-
мость определения тактики партии по ирландскому вопросу заставляла
ее руководство пересматривать разработанные ранее положения и ис-
кать компромиссные решения. Такое решение было найдено либерала-
ми осенью 1905 г.
В октябре 1905 г. Розбери обратился к партии с требованием уточ-
нить позиции по вопросу о гомруле, ясно давая понять свое негативное
к нему отношение. Он также высказался против курса Дж. Морли, при-
зывавшего вновь выдвинуть гомруль на первый план либеральной про-
граммы55. Но Г. Кемпбелл-Баннерман, лидер либеральной партии, из-
брал иное решение вопроса: он пошел на компромисс с либерал-импе-
риал истами - Асквитом, Греем, Холденом, которые придерживались
промежуточных или, как тогда говорили, “срединных” позиций. Высту-
пая перед избирателями 23 ноября 1905 г., Кемпбелл-Баннерман при-
знал правомерным принцип “постепенности” в решении ирландского
вопроса и указал, что проект о гомруле не будет представлен на сесси-
ях следующего парламента и что британское общественное мнение
должно определиться, прежде чем ирландский вопрос будет оконча-
тельно решен56.
Таким образом, Кемпбелл-Баннерман открыто принял точку зре-
ния правых либералов относительно гомруля. Единственно, на чем он
настоял, был отказ от либерал-империалистического тезиса об образо-
286
вании правительства, свободного от ирландской поддержки. В целом
положения, выдвинутые Кемпбелл-Баннерманом, поддержали все ли-
бералы, несмотря на их политические взгляды. И только Розбери ос-
тался верен своим принципам. Он обвинил Кемпбелл-Баннермана в
поднятии “знамени гомруля” и заявил, что не может служить под ним.
Розбери остался в полной изоляции в данном вопросе. Его позицию не
разделили не только либералы других направлений, но и его ближай-
шие сторонники.
В условиях разногласий внутри либерал-империалистического те-
чения решался вопрос о формировании нового либерального кабинета.
Осенью 1905 г. стало очевидно, что его главой станет Г. Кемпбелл-Бан-
нерман. Грей, Холден и Асквит в конце концов после целой серии пере-
говоров с ним приняли предложенные им посты в новом кабинете, ко-
торый был образован в декабре того же года. Розбери не был включен
в его состав. Ему оставалось лишь поздравить Кемпбелл-Баннермана с
удачным формированием либерального правительства и выразить на-
дежду, что включение в его состав членов Либеральной лиги явится за-
логом его успешной деятельности57.
После 1905 г. лорд Розбери не принимает столь активного, как ра-
нее, участия в жизни партии и становится, как отмечали его биографы,
все больше и больше шотландским лордом. Он был счастлив в своем
небольшом поместье Розбери, ведя жизнь сельского джентльмена58. Ги-
бель его сына Нейла на войне в 1917 г. резко отразилась на его здоро-
вье: его разбил паралич. Лорд Розбери умер 21 мая 1929 г. во многом
одиноким и забытым своими соотечественниками в новую эру классо-
вых битв и начала заката любимой им Британской империи.
1 Buchan J. Lord Rosebery. L., 19. P. 5.
2 lames R.R. The British Revolution. British Politics. 1880-1839. L., 1976. Vol. 1.
P. 144.
3 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 470, 1889 г.
Д.61.Л. 95 а/об.
4 Concept of Empire: From Burke to Attlee 1774-1947. L., 1962. P. 304; The
Quarterly Review. 1898. Jan. P. 244.
5 Koebner R., Schmidt H.D. Imperialism: The Story and Significance of a Political
Word. 1840-19960. Cambridge, 1964. P. 194.
6 Coates T.F. Lord Rosebery, his Life and Speeches. L., 1900. Vol. 2. P. 539;
Raymond E.R. The Life of Lord Rosebery. N.Y., 1923. P. 77.
7 The Gladstone Diaries with Cabinet Minutes and Prime-Ministerial Correspon-
dence. Oxford, 1994. Vol. 13. P. 183; Crewe KJ. Lord Rosebery. L., 1931. Vol. 2.
P.418.
8 Hansard’s Parliament Debates (далее - HPD). 4 Ser. 1893. Vol. 8. Col. 18-19.
9 The Gladstone Diaries. Vol. 13. P. 187; Crewe KJ. Op. cit. Vol. 2. P. 418-419;
The Letters of Queen Victoria. L., 1930-1932. 3 Ser. Vol. 2. P. 210, 211.
10 The Gladstone Diaries. Vol. 13. P. 85, 86-87, 88-89, 94; Concept of Empire.
P. 309; Eyck E. Gladstone. L., 1938. P. 438; Galbraith J.S. Mackinnon and East Africa.
1878-1895: A Study in the “New Imperialism”. Cambridge, 1972. P. 221; Gardiner F.G.
The Life of Sir William Harcourt. L., 1923. Vol. 2. P. 197; Wilson J. A Life of Sir Henry
Campbell-Bannerman. L., 1973. P. 238.
287
11 HPD. 4 Ser. 1893. Vol. 10. Col. 577.
12 The Letters of Queen Victoria. 3 Ser. Vol. 2. P. 160-161.
13 The Gladstone Diaries. Vol. 13. P. 92.
14 HPD. 4 Ser. 1893. Vol. 10. Col. 539, 605.
15 Fortnightly Review. 1895. Nov. P. 642.
16 Lord Rosebery’s Speeches. L., 1896. P. 118.
17 Ibid. P. 155.
18 Liberal Magazine. 1895. Vol. 2. P. 84; Fortnightly Review. 1896. Nov. P. 751.
19 Review of Reviews. 1894. Dec. P. 526.
20 Crewe KJ. Op. cit. Vol. 2. P. 468.
21 HPD. 4 Ser. 1894. Vol. 23. Col. 181.
22 Crewe KJ. Op. cit. Vol. 2. P. 448.
23 Liberal Publication Department. Pamphlets and Leaflets. 1895. N. 31, 35; The
Times. 1895. July 12.
24 Цит. по: Русская мысль. 1895. Кн. 8. С. 180.
25 Lord Rosebery’s Speeches. P. 438, 448.
26 Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1390.
Оп. 2. Д. 20. Л. 37 об.
27 Butler J. The Liberal Party and the Jameson Raid. Oxford, 1968. P. 44.
28 The Times. 1898. Oct. 13; The Liberal Magazine. 1898. Vol. 6. P. 472-474.
29 Labour Leader. 1899. Mar. 4.
30 The Times. 1902, Jan. 30.
31 Review of Reviews. 1902. Nov. P. 457.
32 The Times. 1901. Dec. 17; Contemporary Review. 1902. Jan. P. 6.
33 Concept of Empire. P. 310.
34 The Times. 1895. July 6.
35 The Letters of Queen Victoria. 3 Ser. Vol. 3. P. 405; James R. Op. cit. P. 412.
36 Hart H.L. Reminiscences and Reflections. L., 1939 . P. 202-203.
37 The Times. 1901. July 17.
38 Ibid. July 20.
39 Ibid. Dec. 17.
40 Ibid. 1902. Mar. 3, 7.
41 Mattthew H. The Liberal Imperialists: The Ideas and Politics of a Post-
Galdstonian Elite. Oxford, 1973. P. 38.
42 Justice. 1902. Febr. 22.
43 The Times. 1902. May 24, 31; June 11; Gretton R.H. A Modem History of the
English People. 1880-1922. L., 1930. Vol. 2. P. 174.
44 The Standard. 1905. Mar. 1.
45 Hale О J. Publicity and Diplomacy with Special Reference to England and
Germany. 1890-1914. N.Y., 1940. P. 93.
46 Matthew H. Op. cit. P. 200; The Times. 1899. Dec. 22.
47 Lloyd George D. War Memories. Boston, 1933. Vol. 1. P. 3.
48 New Liberal Review. 1903. May. P. 521.
49 Lloyd George D. Family Letters. 1885-1936. L., 1973. P. 140.
50 The Times. 1901. Oct. 3.
51 HPD. 4 Ser.1900. Vol. 79. Col. 135-138, 396-407.
52 The Times. 1901. Dec. 17.
53 Ibid. 1902. Mar. 11.
54 Justice. 1905. Mar. 18.
55 Standard. 1905. Oct. 21. 26.
56 Ibid. Nov. 24.
57 Ibid. Dec. 12.
58 Buchan J. Op. cit. P. 11-12.
288
Г.С. Остапенко
КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ:
ЛИЧНОСТЬ И ХАРАКТЕР ПРАВЛЕНИЯ
Не могу не признаться, что интерес к личной судьбе и царствова-
нию Виктории у меня возник после прочтения книги В.Г. Труханов-
ского “Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карье-
ры” (М., 1993). В этой работе Владимир Григорьевич, как и в других
своих монографиях биографического жанра, уделил значительное
внимание частной жизни своего героя, включая и его восприятие вен-
ценосной государыни. “Очеловечивание” В.Г. Трухановским крупных
государственных деятелей Великобритании, проникновение в их раз-
мышления и душевные переживании послужили для меня примером в
подходе к описанию жизни и правления знаменитой английской мо-
нархини.
О Виктории за рубежом написаны десятки книг. В одних она пред-
стает мудрой самостоятельной правительницей, в других - ординарной
личностью, зависящей в выполнении своих обязанностей от воли дру-
гих. Имеются и более сбалансированные оценки ее роли в истории.
В отечественной историографии царствованию Виктории посвящены
лишь разделы в ряде общих трудов1. Но личность королевы и эволюция
ее полномочий не были предметом специального исследования. Между
тем в век ее царствования Британия шагнула от олигархии к демокра-
тии, и именно в викторианскую эпоху сформировались представитель-
ские функции и реальные права, которыми обладает современный
суверен.
Виктория оставила своим потомкам уникальное наследие: объем-
ные тома дневников и переписки с бельгийским королем Леопольдом,
старшей дочерью Викки и министрами правящих кабинетов. В этих же
изданиях содержится часть меморандумов, которыми обменивались
члены правительства между собой. Многотомные публикации перечис-
ленных документов, дополняющие друг друга, дают простор для раз-
мышлений исследователя.
Учитывая названный источник и опираясь на новейшие труды бри-
танских и американских историков, получивших доступ к королевскому
Виндзорскому архиву, мы попытались дать собственную версию фор-
мирования личности Виктории и одновременно проследить концепцию
правления этой знаменитой государыни от первых шагов ее вступления
на престол до последних дней жизни.
А все началось с клермонтской трагедии, происшедшей 6 ноября
1817 г. За несколько дней до этого в королевских покоях Клермонтско-
го замка царило напряженное ожидание. Единственная дочь принца-ре-
гента и наследница британского престола принцесса Шарлотта с часу на
час должна была произвести на свет наследника короны. Родовые
схватки продолжались более двух суток, и врачи, чтобы подкрепить си-
лы роженицы, поили ее вином.
19 Россия и Британия Вып 3
289
Немногим более года назад Шарлотта обрела семейный очаг, вый-
дя замуж за молодого привлекательного немецкого принца Леопольда
Саксен-Кобургского, славившегося к тому же умом и благородством.
До этого жизнь принцессы можно было назвать настоящим кошмаром.
Ее отцом был эксцентричный, самовлюбленный принц Уэльский, стар-
ший сын короля Георга III (1738-1820), а матерью - столь же неуравно-
вешенная принцесса Каролина Брауншвейгская (1768-1821). Вскоре по-
сле рождения дочери в итоге бурных семейных ссор Каролина была вы-
дворена из королевского дворца, и Шарлотта осталась на попечении от-
ца, любителя азартных игр, пиршеств и амурных похождений.
Неудивительно, что все это отразилось на характере принцессы
и она превратилась в капризную, вспыльчивую девушку. Принцу Лео-
польду удалось в какой-то степени обуздать свою строптивую супругу,
но судьба оказалась к ней беспощадна. 6 ноября 1817 г., вскоре после
рождения мертвого мальчика, принцесса скончалась. Благодаря моло-
дости и эмоциональности она успела стать любимицей публики, и обви-
нения в недосмотре в какой-то степени пали на ее лечащего врача
Р. Крофта. Не выдержав душевных мук, врач покончил жизнь само-
убийством.
В отчаянии был и принц Леопольд, потерявший сразу молодую же-
ну, ребенка и почетное место у трона2. Правда, судьба вновь улыбну-
лась ему. В 1831 г. принц стал королем Бельгии Леопольдом I и повтор-
но вступил в брак. Но, видимо, воспоминания о Шарлотте не покинули
его. Перед смертью в письме к Виктории он выражал желание быть по-
хороненным рядом с первой супругой в церкви Св. Георга в Виндзоре3.
Впрочем воля короля не могла быть исполнена. Бельгийский народ, со-
хранивший о своем правителе добрую память, не допустил бы его захо-
ронения в другой стране.
Британская же корона после клермонтской трагедии лишилась на-
следника и не имела такового в перспективе. А наличие молодого пре-
емника престола всегда было жизненным вопросом для монархии и су-
щественным моментом для сохранения стабильности в стране в целом.
Парадоксально, но все это произошло при том, что у короля Геор-
га III, продолжавшего царствовать, но уже несколько лет впавшего в
безумие, было семь сыновей и шесть дочерей. Старшему сыну Георгу,
принцу Уэльскому (1762-1830), состоявшему с 1811 г. принцем-реген-
том при душевнобольном отце, исполнилось 55 лет. Но из-за пьянства,
обжорства и бесконечной смены любовниц принц выглядел стариком,
и было маловероятно, чтобы он мог стать родителем нового наследни-
ка даже в случае его развода с Каролиной и женитьбы на более моло-
дой представительнице высшего света.
Остальные сыновья Георга III, уже давно перешагнувшие средний
возраст, подобно старшему брату вели разгульный образ жизни. От лю-
бовниц или жен, которые по Акту о королевском браке 1772 г. (Royal
Marriage Act) не могли считаться законными супругами сыновей сувере-
на, они произвели на свет большое число детей, не подходящих для пре-
стола. Из шестерых дочерей Георга трое были замужними, но их дети
умерли еще во младенчестве.
290
После смерти Шарлотты при дворе началась закулисная борьба за
будущий трон. Ее главными участниками стали третий и четвертый по
старшинству сыновья Георга III - герцоги Уильям Кларенский
(1765-1837) и Эдуард Кентский (1767-1820). Герцогу Кларенскому ис-
полнилось 52 года. По распоряжению отца он служил во флоте, где по-
лучил чин капитана. В личной жизни Уильям прожил более 20 лет с из-
вестной комической актрисой Доротеей Джордан и имел от нее десяте-
рых детей. Герцог Кентский, несмотря на свой полувековой возраст и
лысую голову, обладал крепким телосложением, хорошим здоровьем и
выделялся среди братьев молодцеватой выправкой. С 17 до 35 лет он
служил в армии, а выйдя в отставку, жил на широкую ногу и постепен-
но увязал в долгах .
Ссоры с братьями были для отставного военного обычным явлени-
ем, но особенно неприязненные отношения сложились у него с самым
старшим братом, принцем-регентом. О каких-либо определенных поли-
тических убеждениях герцога Кентского говорить трудно, но, посколь-
ку принц-регент все чаще пользовался поддержкой тори, его брат
примкнул к политической оппозиции вигов. Подобно герцогу Кларен-
скому он имел 27-летнюю связь с француженкой Джулией Лорент.
Детей у них не было.
В сложившейся ситуации герцоги Кларенский и Кентский решили
испытать судьбу и заключить законный брак с особами знатного проис-
хождения4.
11 июня 1818 г. старший брат женился на немецкой принцессе Аде-
лаиде Саксен-Мейнингенской, а двумя неделями раньше, 29 мая, млад-
ший сочетался браком с немецкой принцессой Викторией Марией Луи-
зой, дочерью герцога Франца Саксен-Кобургского и сестрой уже упо-
минавшегося принца Леопольда. Для Виктории Марии Луизы это был
уже второй брак. После смерти ее первого супруга принца Лейнинген-
ского у нее осталось двое детей - сын Чарлз и дочь Феодора. В 1818 г.
во время сватовства перед герцогом Кентским предстала невысокая
32-летняя брюнетка с изящными манерами и царственной походкой.
Семья обосновалась в Аморбахе в Нижней Франконии, так как гер-
цог считал, что жизнь в Англии слишком дорога. Супруги сошлись ха-
рактерами. Когда же стало известно, что ожидается рождение ребенка,
будущий отец почувствовал себя абсолютно счастливым. Для того что-
бы наследник родился на английской земле и на этом основании считал-
ся англичанином, герцог перевез жену в Лондон.
В столице власти выделили семье апартаменты в Кенсингтонском
дворце. Здесь 24 мая 1819 г. на свет появилась миниатюрная, крепкая
девочка. 24 июня малышку окрестили. Одним из ее крестных отцов был
принц-регент, другим - отсутствующий, но давший свое согласие рос-
сийский император Александр I. Ребенка назвали длинным именем -
Джорджина Шарлотта Августа Александрина Виктория в честь прин-
ца-регента, ближайших родственников и русского царя. Привилось по-
следнее имя, повторявшее имя матери. Девочка радовала родителей
своим здоровьем и упитанностью. Несчастье пришло неожиданно. В ян-
варе 1820 г. герцог Кентский скончался от простуды5.
291
Герцогиня осталась одна в чужой стране, без знания английского
языка, окруженная недоброжелательными братьями супруга и обреме-
ненная его долгами. При всем этом перспектива стать наследницей тро-
на для подрастающей малютки и регентшей при ней для ее матери ста-
новилась все более вероятной. Впереди по наследственной линии оста-
вались бездетные и больные братья: принц-регент, ставший после смер-
ти в январе 1820 г. престарелого короля Георга III королем Георгом IV,
и герцог Йоркский. Дочь герцога Кларенского и его жены Аделаиды
прожила на свете меньше месяца. Но король Георг IV еще питал какие-
то надежды на обретение новой жены и наследника и перенес свою не-
нависть с умершего брата Эдуарда на герцогиню. Подобные же чувства
испытывал к вдове и следующий в очереди по наследованию за Викто-
рией четвертый сын Георга Ш герцог Эрнест Кумберлендский .
В сложившейся ситуации выручил дядя Виктории по матери принц
Леопольд, плененный очарованием и беззащитностью крошки, а одно-
временно и возможностью влиять на события при дворе, стоя за ее ко-
лыбелью. Принц выделил осиротевшей семье 3 тыс. ф. ст. ежегодно,
что в сумме с парламентским грантом в 6 тыс. обеспечивало герцогине
и ее близким безбедное существование.
Помимо принца Леопольда в окружении герцогини почти сразу же
появилось и другое лицо - прежний конюший Эдуарда энергичный ка-
питан Джон Конрой, занявшийся ведением хозяйства вдовы. Ходили
слухи, что они стали любовниками и бывший слуга даже видел себя в
роли важного лица при весьма вероятной регентше.
Остро чувствуя враждебность двора и предполагая, что каждый из
братьев Эдуарда может в чем-то выиграть от кончины Виктории, ее
мать установила вокруг ребенка своеобразный охранительный режим.
И девочку ни на минуту не оставляли без присмотра дома и на прогул-
ках. Подрастая, Виктория все больше тяготилась столь назойливой опе-
кой. Доверительные отношения с матерью у нее не сложились6.
Но были в окружении Виктории и люди, с которыми ее связывали
самые искренние и теплые чувства. Белокурая, голубоглазая и розово-
щекая девочка стала любимицей своей сводной сестры Феодоры и гу-
вернантки Луизы Лейзен, приставленной к ней с пяти лет. Дочери ган-
новерского священника Луизе Лейзен было суждено завоевать сердце
Виктории и сыграть немалую роль в ее дальнейшей судьбе. Под руко-
водством гувернантки принцесса постепенно усваивала азы начального
образования. И все же самой счастливой будущая наследница престола
ощущала себя с дядей, принцем Леопольдом, который был искренне
привязан к ребенку и обращался к ней не иначе, как “самое дорогое и
любимое дитя”.
Долгие годы принц был близким советчиком и мудрым воспитате-
лем Виктории, сохранив эту роль и после того, как она стала короле-
вой. Впрочем, он и сам немало выигрывал от близости к британскому
трону. Именно при поддержке Англии в июне 1831 г. принц вступил на
бельгийский трон под именем Леопольда I.
Герцогиня же заботилась о том, чтобы дочь росла набожной, цени-
ла простоту жизненного уклада и следовала правилам пристойного
292
поведения. Скромность была своеобразным культом Кенсингтона.
В 1927 г., когда девочке исполнилось 8 лет, ее духовным наставником
был назначен либеральный священник-евангелист Георг Дэвис. Появи-
лась новая гувернантка и многочисленные учителя. С ними Виктория
изучала географию, историю, математику, тренировалась в овладении
английским, французским и немецким языками, получала уроки рисова-
ния, танцев, музыки и верховой езды.
Накануне 11-летия Виктории ее мать показала себя проницатель-
ным дипломатом. Она публично заявила, что приглашает в Кенсингтон
официальных представителей Церкви Англии для проверки знаний, ус-
военных к этому времени принцессой. Экзаменаторами являлись снача-
ла епископы, а затем сам архиепископ Кентерберийский. После провер-
ки познаний Виктории архиепископ писал Георгу IV: “Я совершенно
удовлетворен развитием интеллекта Ее Величества и теми религиоз-
ными и моральными принципами, на которых было построено ее воспи-
тание”7.
В конце 1829 г. король Георг IV ослеп и передвигался лишь на крес-
ле-коляске. 26 июня 1830 г. монарх умер. До него в 1827 г. скончался
слабый по здоровью герцог Йоркский. Герцог Кларентский стал коро-
лем Вильгельмом IV, а его супруга Аделаида королевой. Новому мо-
нарху исполнилось 65 лет. Никто больше не стоял между 11-летней
принцессой и троном. Викторию, до тех пор находившуюся в неведении
о своем прямом наследовании, поставили об этом в известность. Узнав
новость, принцесса была взволнована, но не испугана.
В ноябре 1830 г. герцогине Кентской удалось добиться, чтобы пар-
ламент принял закон, признающий ее “единственной регентшей и за-
щитницей Виктории”. Основываясь на этом акте, мать наследницы мог-
ла ограничивать контроль Букингемского двора над Кенсингтонским.
Укреплению позиций регентши способствовало и то, что вскоре же
парламент увеличил прежнее содержание принцессы с 10 тыс. до
16 тыс. ф. ст. (в дополнение к 6 тыс. ф. ст., унаследованным после смер-
ти герцога). Между двумя придворными партиями началась борьба за
влияние на совсем еще юную наследницу. Но ее жизни уже ничто не уг-
рожало8.
Невысокий, с красным носом и одряхлевшей фигурой, свидетельст-
вующими о бурно прожитой жизни, Вильгельм IV был более добродуш-
ным монархом по сравнению с Георгом IV. Наследницу приглашали в
Букингемский дворец. Но герцогиня, поддерживаемая Конроем, пре-
пятствовала визитам дочери к королю.
С приближением совершеннолетия Виктории отношения между
двумя дворцовыми партиями обострились. И та, и другая стороны заня-
лись поиском жениха для будущей королевы. На монарха оказывали да-
вление его младшие братья - герцоги Кумберлендский и Кембридж-
ский, заинтересованные в том, чтобы приблизить к трону своих сыно-
вей - ровесников принцессы и ее кузенов со стороны отца. Герцогиня
Кентская обращала взоры к своим племянникам из Германии. Гене-
тические последствия браков близких родственников никого не беспо-
коили.
293
Тем временем обстановка в самом Кенсингтоне становилась все бо-
лее напряженной. Из подростка Виктория превращалась в своенравную
девушку, и мелочная опека матери приводила к их ссорам. Еще боль-
шую неприязнь вызывал у нее друг и опора герцогини Джон Конрой,
назойливо стремившийся занять место советника при будущей короле-
ве. Намного позднее, оглядываясь назад, Виктория не раз сетовала на
то, что детство ее было отнюдь не безоблачным9.
Постепенное осознание себя пешкой в дворцовых интригах, сочета-
емое с возрастающим поклонением ей как будущей королеве всех окру-
жающих, вызывало бурю эмоций в душе наследницы и побуждало к са-
мостоятельным действиям. В октябре 1835 г. такая возможность пред-
ставилась. Тогда Виктория простудилась и лежала в постели с ангиной.
И в это самое время Конрой попросил больную подписать бумагу, в ко-
торой она соглашалась бы на назначение его ее секретарем. За дверью
стояла мать. От принцессы ждали уступок и покорности. Но их не пос-
ледовало. Несмотря на жар и слабость, 16-летняя девушка впервые про-
явила твердость. Бумага осталась неподписанной.
Между тем поиски жениха продолжались. Весной 1836 г. сватовст-
вом занялся и дядя Леопольд. 18 мая при его содействии в Англию при-
были сыновья его брата герцога Саксен-Кобургского Эрнеста - прин-
цы Эрнест и Альберт.
Виктория была очарована обоими высокими и красивыми юноша-
ми, но искренне полюбила избранника дяди Леопольда - младшего Аль-
берта. Вот как она описывала его внешность в дневнике, который нача-
ла вести с 1832 г.: “Цвет волос у него почти как у меня, большие голу-
бые глаза, прекрасный нос и очень милый рот с великолепными зуба-
ми, но очарование его лица - в его выражении, которое просто восхи-
тительно, одновременно полно доброты и симпатии и очень умно и ин-
теллигентно”10. 7 июня 1836 г. она втайне от матери переслала письмо
Леопольду. “Альберт, - писала она доверительно, - обладает всеми ка-
чествами, которые я могла бы желать и которые делают меня абсолют-
но счастливой...Он столь чувствителен, столь добр, столь хорош...и
столь душевен...Я надеюсь, что все это и дальше будет развиваться,
и эти черты характера так важны для меня”11. Остальное было не ска-
зано, но ясно. Чувство уже охватило принцессу.
Леопольд был удовлетворен, но объяснил своей подопечной, что
брачный союз станет возможен лишь по достижении ею 18-летия.
С этого момента возможность регентства исчезнет, как злой призрак12.
Вильгельм IV скончался в 2 часа ночи 20 июня 1837 г. в Виндзоре,
а в 6 часов утра казначей короля лорд Конингем и архиепископ Кен-
терберийский прибыли с этим известием в Кенсингтон. Герцогиня
разбудила принцессу, которая спала еще в одной спальне с матерью.
“Я поднялась с постели, - писала Виктория в дневнике, - и, одевшись
в обычное платье, одна спустилась в гостиную”13. В дневнике слово
одна подчеркнуто не случайно. Это было ее первым решением
как королевы - идти на ответственную встречу без сопровож-
дения. Прибывшие склонились перед ней в поклоне. Все сразу изме-
нилось.
294
Почти плененная в Кенсингтонском замке молодая принцесса была
освобождена из заключения смертью Вильгельма IV, чтобы унаследо-
вать от него самую большую в мире империю. Все выглядело как в
сказке. В первый же день Виктории предстояло несколько ответствен-
ных дел. И важнейшие из них - встреча с премьер-министром и предста-
вление ее Тайному совету.
Глава правительства вигов лорд У. Мельбурн зачитал декларацию,
подтверждавшую новый статус вчерашней наследницы. Его внимание и
благожелательность ободрили Викторию. В свою очередь премьер-ми-
нистр остался доволен не только личным знакомством с королевой, но
и заранее заготовленной по совету дяди Леопольда фразой о том, что
она не намерена производить изменения в его кабинете14.
Для удобства молодой королевы Тайный совет собрался в красной
гостиной Кенсингтонского замка. Этот совещательный орган, состояв-
ший при монархе, давно утратил свои юридические функции, но сохра-
нил некоторое влияние. Его членами были 97 лордов, епископов, гене-
ралов, бывших и действующих министров. Все эти достопочтенные гос-
пода замерли в безмолвии, когда дверь зала открылась и маленькая фи-
гурка в черном одеянии и с небольшой короной на голове, напоминав-
шая скорее ребенка, чем 18-летнюю девушку, с необычной грацией и
достоинством проследовала к своему креслу. По мнению присутство-
вавшего там знаменитого герцога Веллингтона, появление Виктории
преобразило гостиную. Образ монархии, опозоренный прежними пра-
вителями, представал в новом, более благоприятном свете. Никто не
ожидал, что девочка может не только быть, но и выглядеть королевой.
По словам очевидцев, юную Викторию нельзя было назвать краса-
вицей, но природа одарила ее выразительной внешностью: светлыми
волосами, по-ганноверски крупными, слегка навыкате серо-голубыми
глазами, небольшим с горбинкой носом. Несколько нарушал гармонию
всегда приоткрытый рот, не столь эстетично обнажавший десны и верх-
ние зубы. Огромное впечатление производили ее царственная осанка,
проницательный взгляд, отражающий невинность и самообладание, и
мощный мелодичный и кристально чистый голос, звучащий наподобие
колокола. С годами лицо королевы потеряет свою привлекательность,
но величавость и чарующий голос останутся с ней до конца жизни и бу-
дут восхищать и удивлять современников.
День 20 июня 1837 г. еще не кончился, когда Виктории передали по-
слание от Джона Конроя. Друг и доверенное лицо герцогини Кентской
признавал свое поражение и выражал готовность уйти в отставку. Гер-
цогиня же продолжала жить во дворце, но в отдалении от дочери.
Ее присутствие на торжественных мероприятиях допускалось отныне
только с разрешения королевы15.
На следующий день газета “Таймс”, сетуя на неопытность Викто-
рии и не скрывая своего недоверия лорду Мельбурну, безошибочно
предсказала, что королева будет использована в политических интере-
сах вигов16.
Виктория и сама чувствовала, что не в состоянии разбираться в де-
лах государства. Совсем недавно она с упоением играла в куклы, и в но-
295
вой ситуации больше всего нуждалась в отце-наставнике. Частично та-
кая потребность восполнялась письмами короля Леопольда, но он был
далеко, а здесь в Англии лорд Мельбурн больше всего подходил к роли
наперсника.
К моменту восшествия Виктории на престол достопочтенному лор-
ду исполнилось 58 лет и он уже три года занимал пост премьер-минист-
ра Англии. Родился Мельбурн в богатой аристократической семье. Его
мать считалась покровительницей вигов. Неудивительно, что сын вос-
питывался в уважении к этой влиятельной политической группировке,
вобравшей в себя в последней четверти XVIII столетия сливки сложив-
шейся за многие века аристократии. Страсть к чтению и как следствие -
широкие познания в области теологии, античной и современной литера-
туры сформировали его интеллект и позволили достичь политических
высот. Его тонкая натура сочетала в себе, с одной стороны, блестящий
ум, совмещавшийся со скептицизмом, с другой - чуткость и великоду-
шие к друзьям. Возглавляя вигский кабинет, Мельбурн был не далек по
своим убеждениям от тори. В полном соответствии с этим находилось и
отношение лорда к реформе 1832 г. о расширении избирательных прав.
Несмотря на то что закон о реформе лежал в основе политических тре-
бований вигов, Мельбурн воспринял его как неизбежное зло.
В государственной деятельности премьер-министр был готов на
компромиссы и, казалось, легко управлял людьми и контролировал со-
бытия. В личной жизни его преследовали несчастья, и только общи-
тельность и природная жизнерадостность позволили ему пережить не-
удачную женитьбу, продолжительное вдовство, рождение слабоумного
сына и его смерть в 20-летнем возрасте. В аристократических домах
Лондона Мельбурн блистал остроумием, начитанностью и неизменно
пользовался вниманием светских дам. В свои далеко не молодые годы
лорд выглядел импозантным и привлекательным. Седина только начи-
нала проступать в его волосах и бакенбардах, а большие выразитель-
ные глаза излучали мудрость и жизненную энергию.
В отношениях с молодой королевой премьер-министр неизменно со-
блюдал дистанцию, и его трогательная забота и почтительность не пе-
реходили в фамильярность. Виктория подкупала лорда открытостью,
а близость к трону тешила его тщеславие. Обычные для премьер-мини-
стра аудиенции с высочайшей особой превратились для лорда в почти
ежедневные посещения дворца, занимавшие порой до 6 часов времени и
длившиеся до позднего вечера. Совместная работа с государственными
бумагами, в ходе которой Виктория вникала в суть политических проб-
лем, и содержательные беседы о британской конституции и истории им-
перии сменялась продолжительными прогулками верхом и торжествен-
ными ужинами с танцами. Мельбурн наслаждался своей новой ролью на-
ставника и воспитателя, а Виктория упивалась интересным общением и
почтением, оказываемыми ей первым лицом государства. За всеми ре-
шениями и назначениями, входящими в круг монарших полномочий и
имевшими место в первые два года ее правления, стояла фигура лорда17.
Это время - самый беззаботный период царствования Виктории.
Ее дневник наполнен эмоциями с преобладающим чувством радости.
296
Исполнение монарших обязанностей приносит ей удовлетворение.
“Мне доставляют множество отчетов от министров... - пишет королева
в дневнике, - и ежедневно я подписываю бесчисленное количество бу-
маг. Все это мне нравится, и я делаю мою работу с огромным удоволь-
ствием”18. Ко всем благоприятным переменам в жизни Виктории доба-
влялось и то, что она стала очень богатой женщиной и смогла освобо-
диться от позорящих ее имя долгов герцога Кентского. В обмен на до-
ходы от наследственных земель короны, согласно желанию королевы,
парламент утвердил ей годовое содержание в 385 тыс. ф. ст. (на 10 тыс.
больше, чем получал Вильгельм IV). Из них 60 тыс. составляли ее лич-
ные средства, а остальное шло на заработную плату прислуге и содер-
жание дворцового хозяйства и замков19.
17 июля 1837 г. королева первый раз закрывала парламент, в нояб-
ре - открывала его. В обоих случаях ее речь, разумеется, была состав-
лена премьер-министром. Он стоял рядом с троном. В дневнике Викто-
рия записала: “Я рада, что лорд Мельбурн рядом со мной в таких случа-
ях, ведь он такой честный, добросердечный, хороший человек и он -
мой друг, я знаю это”20.
Почти все биографы Виктории задавались вопросом, была ли Вик-
тория влюблена в Мельбурна? Судя по дневниковым записям, молодая
королева действительно пребывала в состоянии влюбленности и в тече-
ние нескольких лет, осуществляя предначертанные ей функции, полага-
лась на опыт и мудрость своего кумира21.
28 июня 1838 г. состоялась коронация. Для британцев такие собы-
тия всегда являлись праздником. Места на балконах и у окон домов
главных улиц, по которым должна была проследовать королевская
процессия, заранее закупались любителями зрелищ как билеты в театр.
Викторию радовали эти дружественно настроенные толпы народа. Что
же касается 5-часовой церемонии в Вестминстерском аббатстве, то она
оказалась для молодой королевы настоящим испытанием. Большой
шар, символизирующий державу и врученный ей епископом, оказался
слишком тяжелым для ее детских рук, а ритуальное рубиновое кольцо,
надетое архиепископом Кентерберийским не на тот палец, вызвало не-
стерпимую боль. Когда же в заключение ритуала древняя корона Свя-
того Эдуарда была водружена на голову Виктории, она почувствовала
себя по-настоящему счастливой. В этот миг грянули пушечные выстре-
лы в парках и в древнем замке Тауэре, внутри собора зазвучали трубы
и ударили барабаны, а публика, окружавшая храм, запела “Боже, храни
королеву”. Члены палаты общин, как бы в подтверждение демократи-
зации страны впервые принимавшие участие в коронации, девять раз
своими возгласами приветствовали королеву22.
Существенной частью коронации было принесение Викторией
клятвы сохранять верность государственной англиканской церкви
(официальное название - Церковь Англии). В период своего царствова-
ния королева следовала этой клятве, хотя ее личные симпатии, по на-
блюдениям приближенных, принадлежали пресвитерианской религии
Шотландии с более скромными обрядами и приближенностью к миря-
нам23.
297
Коронация королевы Виктории. 28 июня 1838 г.
1839 г. принес молодой королеве первые неприятности. Все нача-
лось с происшествия с фрейлиной герцогини Кентской, леди Флорой
Хастингс, которая в детские годы Виктории принадлежала к сторонни-
кам Джона Конроя. А дело в том, что в фигуре леди Флоры произошли
странные изменения, и поползли слухи, что эта незамужняя фрейлина
ожидает ребенка. Консультация Флоры Хастингс с королевским лека-
рем Дж. Кларком как бы подтвердила имевшееся подозрение. Потребо-
298
валось более серьезное медицинское обследование, в результате чего
первоначальные предположения были отброшены. Но репутации ари-
стократической семьи Хастигс, поддерживающей тори и пользующейся
большим политическим влиянием, был нанесен моральный ущерб,
и она этого не простила. Лорд Хастингс просил аудиенции у королевы
и написал в газеты, добиваясь отставки Кларка. Виктория принесла из-
винения Флоре, но придворный врач остался на своем месте. Напряжен-
ность в высшем свете долго не утихала в связи с тем, что виновница шу-
михи вскоре умерла от непонятной болезни24. Скандал дискредитиро-
вал юную правительницу, а заодно и вигский кабинет Мельбурна, кото-
рый и без того после выборов 1837 г. имел лишь незначительное боль-
шинство в палате общин и испытывал трудности в проведении своей по-
литики дома и за рубежом.
В мае 1839 г. положение вигского министерства стало особенно
шатким, и оно решило подать в отставку. Виктория восприняла эту но-
вость как трагедию. 7 мая 1839 г. она записала в дневнике: “Состояние
агонии, горя и разочарования, которое легче вообразить, чем описать!!
Все мое счастье закончилось! Счастливая спокойная жизнь разруши-
лась из-за того, что мой дорогой добрый лорд Мельбурн больше не мой
министр: я страшно рыдала и кричала, как только легла в постель”25.
И в дальнейшем она всегда будет нуждаться в мужской опоре, будь то
премьер-министр, муж или слуга.
Новым кандидатом на пост главы кабинета стал лидер торийской
группировки, происходивший не из рода земельной аристократии, а из
нового класса богатых фабрикантов, известный политик Роберт Пиль.
Но королева категорически не желала потерять Мельбурна. Роберт
Пиль раздражал ее одним своим видом и плохими манерами.
Разногласия с новым претендентом на пост премьер-министра воз-
никли по, казалось бы, пустяковому поводу. Пиль настаивал, чтобы ко-
ролева отказалась от услуг своих фрейлин и набрала новых по его ре-
комендации. Фактически же требование носило политический харак-
тер, так как по традиции назначение этих дам к королевской особе от-
ражало соотношение сил в парламенте. Фрейлины же, окружавшие Ви-
кторию, в своем большинстве были женами и дочерьми правящей вер-
хушки вигов, т.е. политических противников Пиля, и, естественно, вли-
яли на общую атмосферу Двора. Замена их сторонницами тори не-
сколько укрепила бы положение премьер-министра, который в сложив-
шейся ситуации мог рассчитывать лишь на формирование правительст-
ва меньшинства.
Виктория еще не разбиралась в тонкостях политики, к своим при-
дворным дамам относилась с симпатией. Выдвинутое пожелание она ре-
шительно отвергла, а в дневнике 9 мая 1839 г. записала: “Я не уволю ни
одну из фрейлин и не могу даже вообразить такое”26. Интуитивно же ко-
ролева почувствовала, что, сопротивляясь просьбе лидера тори, может
не допустить формирования нового правительства и вернуть Мельбурна.
Так и произошло. Пиль устранился сам, направив Виктории письмо,
в котором выразил надежду, что следующее правительство “обеспечит
ее комфорт и счастье и послужит общему благосостоянию”27.
299
Таким образом, в данном случае королева использовала свое право
назначать премьер-министра. Реализация прерогативы суверена облег-
чалась тем, что лидеры вигской и торийской группировок не располага-
ли надежной поддержкой в палате общин. В такой нестабильной ситуа-
ции правительство Мельбурна продержалось еще два года, а Виктория
вновь обрела своего наставника.
В конфликте с Пилем молодая государыня почувствовала вкус вла-
сти и убедилась в своем умении побеждать. Вопрос о замужестве откла-
дывался на будущее. Весной 1839 г. королева сказала Мельбурну, что
не стремится связать себя браком. Альберт почти исчез из ее сновиде-
ний, хотя родственники, да и парламентарии постоянно напоминали ей,
что страна ждет от нее наследника. В конце концов она все же согласи-
лась повторно увидеться с принцем из Кобурга.
Неожиданно окружающий мир переменился. Направляемый рукой
дяди Леопольда 10 октября 1839 г. принц Альберт в сопровождении
старшего брата прибыл в Виндзорский замок. Встреча была подобна
удару молнии. Прежние чувства, как будто задремавшие в душе короле-
вы, вспыхнули с новой силой. Пожилой светский лев и удачливый поли-
тик, долгое время занимавший мысли молодой девушки, отошел на зад-
ний план. Молодость и красота победили. 12 октября Виктория, кото-
рой нельзя было отказать в наблюдательности, писала Леопольду:
“Эрнест выглядит великолепно, а Альберт потрясающе красив, к тому
же он очень душевный и чрезвычайно скромный”. В дневнике, запол-
ненном И октября, влюбленная девушка вновь восхищается каждой
черточкой милого ей лица: изысканным носом, изящными усами, ма-
ленькими бакенбардами. И в заключение признание: “Мое сердце окон-
чательно покорено”28.
Уже 14 октября королева сказала лорду Мельбурну, что изменила
свой взгляд на замужество. На следующий день состоялось объяснение
Виктории с Альбертом. Дневнику Виктория поведала о самом сокро-
венном: “Я сказала ему, что была бы счастлива, если бы он согласился
поступить так, как я хочу (жениться на мне); мы обнялись, и он был так
добр и так нежен. О! чувствовать, что ты любима таким ангелом, как
Альберт, - великое счастье, которое нельзя описать. Он - совершенст-
во; совершенство ощущается в каждом его жесте, в его красоте, во
всем! Я призналась, что не достойна его и поцеловала ему руку. Он от-
ветил, что был бы счастлив соединиться со мной на всю жизнь и был та-
ким внимательным и таким счастливым, что я почувствовала, что это
самый счастливый и самый прекрасный момент в моей жизни, который
искупил все мои страдания и вознаградил терпение. О! Как я боготво-
рю и люблю его, я не могу выразить!! Я сделаю все возможное, чтобы
он никогда не помыслил, что принес себя в жертву”29.
Будучи королевой великой державы, Виктория сама выбрала себе
мужа и сделала ему предложение. Правда, ее желание совпало с плана-
ми кобургского клана, но свое решение королева принимала самостоя-
тельно. В детстве и во взрослой жизни она не терпела прямого нажима
родственников. Ее чувства к Альберту были искренними. Обожание и
любовь к супругу не покидали Викторию всю их совместную жизнь.
300
Между тем для Альберта брак с английской королевой, без всяко-
го сомнения, не был жертвой. Он знал, что должен покинуть захудалый
герцогский двор Кобурга, где ему не находилось достойного места, так
как титул отца по закону наследовал его старший брат Эрнест.
В то время Германия была раздроблена на 40 с лишним небольших
государств, исповедовавших в своем большинстве протестантскую ре-
лигию. Для европейских стран, принадлежавших к той же ветви христи-
анства, самостоятельные немецкие владения представляли обширный
рынок титулованных женихов и невест. Одним из таких владений и яв-
лялся Кобург.
Принц Френсис Чарлз Август Альберт Эммануил Саксен-Кобург-
ский Гота на три месяца был моложе Виктории. Двор его отца герцога
Эрнеста славился распутством и мотовством. Герцог женился на девуш-
ке вдвое моложе его, слывшей красавицей. Из-за сладострастия главы
семьи брак распался, когда их младшему сыну Альберту было 4 года.
Мальчик унаследовал красоту матери и сохранил к ней самые нежные
чувства, хотя больше никогда не видел ее. Судя по характеристикам,
данным биографами Виктории и Альберта, жених королевы являл со-
бой идеал молодого человека. Природа не поскупилась наделить его
умом, волей и усердием, сочетавшимися со скромностью и чуткостью.
Домашнее образование, включавшее уроки музыки и знакомство с не-
мецкой литературой и философией, было дополнено занятиями с про-
фессором математики в Брюсселе, углубленным изучением метафизи-
ки, юриспруденции, политической экономии в Боннском университете
и путешествием в Италию для знакомства с древними памятниками ан-
тичной культуры. При всем этом он был страстным любителем музы-
ки, великолепно фехтовал и обладал артистическим даром подражания.
Одно обстоятельство осталось неразгаданным - при своей привлека-
тельности Альберт не только не последовал примеру отца, но проявлял
полное равнодушие к прекрасному полу30.
К моменту бракосочетания с Викторией не вызывало сомнения, что
по образованию и интеллектуальному развитию принц выше невесты и,
по мнению короля Леопольда, которое вскоре подтвердилось, готов об-
легчить ей бремя королевских обязанностей.
Венчание молодых людей было назначено на 10 февраля 1840 г.,
а 10 ноября Альберт на время покинул Англию. Как только ворота
Виндзора закрылись за его экипажем, Виктория почувствовала себя
одинокой. Смешивая английский и немецкий языки, она писала самые
нежные письма своему возлюбленному31. Испытывал ли Альберт столь
же пылкие чувства к невесте, а затем супруге? На этот счет в англий-
ской литературе бытуют разные мнения. Биографы чаще предпочита-
ют говорить с его стороны не о любви, а скорее о привязанности и чув-
стве долга, хотя грань между этими определениями весьма условна.
Всего через несколько месяцев после брака, в мае 1840 г. Альберт со-
общал своему другу по Боннскому университету, что “очень счастлив и
доволен своей семейной жизнью”. Вряд ли принц лицемерил. Этой чер-
ты не было в его характере. Возможно, сдержанность, свойственная его
натуре, воспринималась окружающими как холодность. Со своей сторо-
301
ны Виктория после первых дней их медового месяца в послании к лор-
ду Мельбурну признавалась, что она никогда не думала, что может
быть так любима32.
Официальное объявление о бракосочетании королевы последова-
ло во второй половине ноября 1839 г., когда собрался парламент. Встал
вопрос о выделении принцу денежного довольствия. Между тем обста-
новка в стране была сложная. Промышленные рабочие, получавшие
низкий заработок за тяжелый труд, и безработные пополняли ряды
чартистов, добиваясь расширения избирательных прав.
В радикальных кругах принц-иностранец, прибывший из захолуст-
ного германского герцогства, да к тому же еще без всякого состояния,
стал предметом насмешек. Имело хождение четверостишие, смысл ко-
торого можно перевести следующим образом:
Он прибыл к нам как жених по выбору Виктории
Из тех же краев, что и простолюдинка Лейзен.
Он приехал, чтобы забрать пышнотелую английскую королеву
И еще более толстый кошелек Англии. К добру ли это?33.
Рассматриваемая в такой ситуации просьба королевы о назначении
ее супругу ежегодного государственного содержания в размере
50 тыс. ф. ст. (что равнялось довольствию, предоставленному когда-то
дяде Леопольду) не была удовлетворена в полной мере. По настоянию
торийской оппозиции оно было сокращено до 30 тыс. ф. ст. В ходе об-
суждения парламентарии-тори заявляли, что большая часть населения
бедствует, а отпущенная сумма соответствует ежегодному доходу Ко-
бурга. Столь же решительно палата общин отклонила ходатайство Ви-
ктории о том, чтобы Альберт именовался принцем-консортом. Такого
определения не было в конституционных актах, к тому же депутаты
опасались, что этот титул даст право супругу королевы выполнять
функции ее первого советника. Они же в своем большинстве были
тверды в том, что Альберт не должен играть политической роли, а рав-
но и не может рассчитывать на получение чина в армии и английского
пэрства. Главное же его предназначение следует ограничить опочи-
вальней монархини.
Виктория была в гневе и не без основания обвиняла в своих неуда-
чах ненавистного ей Роберта Пиля и его сторонников. Запись в дневни-
ке отразила ее эмоции. Впрочем единственное, что она могла предпри-
нять - это не пригласить видных деятелей тори на церемонию своего
бракосочетания.
Что касается Альберта, то, в последний раз покидая Англию в ка-
честве гостя в ноябре 1839 г., он испытывал противоречивые чувства.
Своему другу со студенческих лет принцу Уильяму Лонштейну он пи-
сал: “Мое будущее сулит мне величие, но одновременно мой путь усеян
шипами”. Тем не менее принц планировал быть более чем супругом ко-
ролевы. И что примечательно - при всем этом он не собирался забы-
вать о своей родине. В том же письме говорилось: “В то время, как я не-
устанно буду трудиться для страны, к которой я буду принадлежать и
где я буду занимать столь высокое положение, я никогда не перестану
302
быть истинным немцем и человеком Кобурга и Готы”34. Именно это и
послужило причиной недоверия к нему в первую очередь британской
знати, что угнетало принца до конца жизни.
В Англии, несмотря на всю расположенность Виктории, Альберт
первое время с трудом преодолевал меланхолию. Его тяготил чужой
язык, зимние дожди, туманы и беспорядочный распорядок дня королев-
ского окружения с его поздними пробуждениями, долгими вечерними
бдениями и многочасовой охотой на лис.
Королева же была в восторге от своего нового семейного положе-
ния: “Его любовь и нежность превзошли все ожидания... Мне кажется,
я парю над землей. О! Испытала ли какая-нибудь женщина то блажен-
ство, которое испытала я”35.
Через много лет в посланиях к старшей дочери Виктория чрезвы-
чайно высоко оценивала роль Альберта в своей жизни и в судьбе стра-
ны в целом. “Я благословляю тот день, который соединил меня с твоим
обожаемым и прекрасным отцом. Он осчастливил не только меня, но
принес счастье и благословение всей стране”, - писала она 25 января
1858 г. И еще с теми же эмоциями 9 июня 1858 г.: “Он - мой отец, мой
защитник, наставник и советчик во всем и даже моя мать, и помимо это-
го - мой супруг“36.
Впрочем, в делах все шло не так гладко. В рабочем кабинете Вик-
тории поставили два письменных стола. Но на столе Альберта не было
государственных бумаг. В выполнении своих обязанностей королева
по-прежнему полагалась на лорда Мельбурна. Он являлся не только
премьер-министром, но фактически ее личным секретарем, контроли-
рующим каждый шаг монархини.
В личных отношениях с Викторией у принца также имелась серьез-
ная соперница - ее бывшая гувернантка Лейзен, получившая от Геор-
га IV титул баронессы по линии ганноверского дворянства. Завоевав-
шая симпатию своей воспитанницы еще с детства, Лейзен вела перепи-
ску Виктории и отвечала за расходы королевского семейства. Из при-
ближенных она единственная могла войти к королеве без предупрежде-
ния и высказать свое суждение по любому поводу. Хозяйство дворца по-
стоянно находилось под бдительным надзором Лейзен. Фрейлины ее
побаивались. А Альберт не мог смириться с домашним диктатом баро-
нессы и тем, что она была близким другом его супруги. “Я только муж,
но не хозяин в доме”,- жаловался он в письме своему немецкому другу
в мае 1840 г.37
Только благодаря влюбленности Виктории и настойчивости Аль-
берта обстановка в общественном и домашнем положении принца со
временем стала меняться. Первым пошел навстречу премьер-министр.
Интерес принца к внешней политике и его умение разбираться в евро-
пейских делах постепенно покорили благожелательного по натуре лор-
да, и он стал выслушивать мнение принца. Когда же стало ясно, что ко-
ролева ожидает ребенка и из-за недомогания не может справиться с
обилием документов, пустоты на рабочем столе Альберта уже не на-
блюдалось. В декабре 1840 г. он получил доступ к ларцам с государст-
венными бумагами, прибывающими из парламента.
303
Летом 1840 г. по собственной инициативе принц возглавил Общест-
во по борьбе с рабством. В своей первой публичной речи 10 июня он об-
ратил внимание на несовместимость работорговли с духом европейской
цивилизации и был встречен аплодисментами.
Десять дней спустя супруги едва избежали несчастья. Когда они в
открытом фаэтоне ехали по улицам Лондона, молодой человек по име-
ни Эдуард Оксфорд, служивший официантом в небольшой гостинице,
дважды выстрелил в них. Первый раз покушавшийся промахнулся, а пе-
ред вторым выстрелом Альберт успел пригнуть Викторию. Нападавше-
го схватили. Он оказался душевнобольным. Супруги же продолжили
свой путь. Весть о покушении облетела Лондон, и на обратном пути их
приветствовали британцы, пешком, на лошадях и повозках поспешив-
шие к воротам Букингемского дворца, чтобы выразить королевской
чете свою радость по поводу благополучного исхода происшествия.
На следующий день большинство газет с восхищением писали о хладно-
кровии и находчивости, проявленных принцем в момент покушения.
Официальным признанием утверждения Альберта при королев-
ском дворе стало решение парламента, принятое в августе 1840 г. о на-
значении его регентом при малолетнем ребенке в случае смерти коро-
левы. Этот акт парламентариев в значительной степени объяснялся
тем, что они хотели исключить всякую возможность восхождения на
трон ненавистного публике дяди Виктории герцога Кумберлендского,
ставшего королем европейского владения английской короны - Ганно-
вера38.
Между тем первый ребенок Виктории и Альберта появился на свет
в полдень 21 ноября 1840 г. Пока врачи помогали роженице, в соседней
комнате, стараясь не шуметь, прохаживались министры кабинета и епи-
скопы. По традиции они должны были первыми увидеть новорожден-
ного наследника престола и убедиться, что он нормальный ребенок и
никаких подлогов или дворцовых интриг при этом не произошло. Нако-
нец, высокопоставленные господа услышали голос доктора: “О, мадам,
это принцесса”. - “Ничего, - быстро нашлась Виктория, - следующим
будет принц”. Правда, как и все присутствующие, она была несколько
разочарована, что вместо ожидаемого мальчика на свет появилась де-
вочка. Тем не менее страна получила наследницу короны, которая ста-
ла новой преградой между престолом и королем Ганновера. Для роди-
телей же принцесса, названная в честь матери Викторией, как оказа-
лось в дальнейшем, стала самым близким и любимым ребенком из их
детей. Вообще же по природе королева была больше женой, обожав-
шей своего мужа, чем матерью. Много лет спустя она признавалась
своей уже ставшей взрослой дочери Виктории, что не любила деторож-
дение и предпочитала заниматься с детьми, когда им исполнялось шесть
месяцев. До этого же малыши напоминали ей противных лягушат39.
Естественно, что рождение девочки, как и появление в дальнейшем
ее братьев и сестер, все больше сближало Викторию и Альберта. Но да-
же в любви королевская семья складывалась непросто. Имело место
противостояние характеров. Властная, вспыльчивая, с невысокими ин-
теллектуальными запросами королева далеко не всегда могла понять
304
деликатного, гордого и хорошо образованного по тем временам прин-
ца. Постоянным поводом для конфликтов было присутствие в доме
Лейзен.
В душе королевы в первые годы ее замужества боролись два чувст-
ва - осознание своего более высокого положения по сравнению с Аль-
бертом и любовь к нему. Заметим, что, помимо других особенностей,
в правовом отношении их брак существенно отличался от браков обыч-
ных британцев, где невеста приходила в дом жениха, и супруг играл гла-
венствующую роль в семейных делах. Здесь же все было наоборот. Вот,
что писала об этом сама Виктория: “Альберт живет в моем доме, а не я
в его. Но я готова подчиниться его желаниям, так как люблю его очень
сильно”40
Конфликт между близкими для королевы людьми достиг кульми-
нации в июле 1842 г. Тяжело заболела принцесса Виктория, а Лейзен
пригласила к ней некомпетентного, как считал Альберт, доктора. В ре-
зультате состоялся серьезный разговор между принцем и баронессой,
после чего 56-летняя Лейзен решила покинуть дворец. Любовь победи-
ла, но разница во вкусах у супругов осталась и касалась прежде всего
проведения досуга. Так, если принц, увлеченный искусствами и наукой,
мечтал о встречах с учеными, зодчими и писателями, то королева до-
вольствовалась прогулками верхом, танцами и пустыми беседами с
членами свиты.
Впрочем, помимо различий в характерах и во вкусах, у супругов
имелись и схожие наклонности и увлечения. Так, и Виктория, и Аль-
берт с ответственностью относились к своим государственным обязан-
ностям. Оба проявляли равнодушие к роскоши, предпочитали уединен-
ную сельскую жизнь городским развлечениям и, наконец, были чувст-
вительны к публичному восприятию моральных устоев королевской се-
мьи. Общим для супругов был интерес к живописи и музыке. Немецкий
композитор Я.Л.Ф. Мендельсон, встречавшийся с королевской четой,
обратил внимание на богатый оттенками голос Виктории. Об органной
игре Альберта он писал, что принц исполняет музыкальные произведе-
ния “страстно, блестяще, без всякой фальши, и любой профессионал
может позавидовать его мастерству”41.
Что касается государственной деятельности, то принц все больше
вовлекался в эту сферу. Лучше всего он разбирался во внешней полити-
ке. Все чаще и чаще послания премьер-министра, направляемые коро-
леве, сопровождались припиской “для осведомления принца”, а сужде-
ния, высказываемые Викторией, основывались на его же мнении. Кро-
ме того, Альберт регулярно присутствовал на аудиенциях королевы с
Мельбурном и другими министрами и самостоятельно готовил к ним
меморандумы.
Перемены в правительстве, происшедшие в результате парламент-
ских выборов в сентябре 1841 г., приведшие к власти торийскую груп-
пировку, только усилили влияние Альберта. Королева еще не могла от-
речься от своих симпатий к прежнему премьер-министру, а кроме того
она чувствовала недомогание перед рождением второго ребенка. По
этим причинам переговоры с лидером тори Робертом Пилем волей об-
20 Россия и Британия Вып 3
305
стоятельств вел принц. Потребовалось всего несколько встреч, чтобы
взаимопонимание между ними было достигнуто. Возможно этому спо-
собствовало сходство их характеров: оба были деловыми, но застенчи-
выми и выдержанными людьми.
Прежде всего было решено, что после формирования правительст-
ва тори большинство королевских фрейлин, чьи ближайшие родствен-
ники являлись вигами, должны покинуть двор. Их место займут дамы,
назначенные Пилем. “Кризис опочивальни”, возникший по вине Викто-
рии в 1839 г., был разрешен. Монархиня навсегда отказалась от претен-
зий назначать свиту. Пиль получил добро на формирование своего ка-
бинета42. С этих пор Мельбурн уже не мог столь часто посещать коро-
леву. Расставание с высоким государственным постом и дворцом далось
лорду нелегко. Через год его разбил паралич, и он с трудом выбрался из
болезни. Мечты о возвращении в правительство оказались иллюзией.
В 1848 г., узнав, что ее прежний кумир умирает, Виктория была опеча-
лена. Но, по ее собственным словам, “не хотела бы вернуть те време-
на”, когда лорд был ее наставником. Она уже привыкла, что ее опорой
и ангелом хранителем стал принц.
Таким образом, вслед за дядей Леопольдом и премьер-министром
Мельбурном рядом с Викторией появилось третье лицо и самый близ-
кий ей человек - ее супруг. Караул в стране сменился и в правительст-
ве, и рядом с троном.
9 ноября 1841 г. Виктория произвела на свет “крупного и здорового
мальчика”. Ее обещание через год было выполнено. Страна получила
будущего короля, крещеного как Альберт Эдуард. Авторитет монар-
шей семьи возрос.
Налаживались и отношения королевы с новым премьер-минист-
ром. Она взрослела, набиралась опыта, а главное, за ее спиной стоял
принц. В свою очередь, премьер-министр предоставлял ей и Альберту
свободу излагать свою позицию, хотя рамки влияния суверена на теку-
щую политику после избирательной реформы 1832 г. сужались доста-
точно быстро. Расширявшийся электорат и возраставшая зрелость гра-
жданского общества обеспечивали выборы более демократичного пар-
ламента. В пределах последнего политические группировки постепенно
теряли свою аморфность, превращаясь в более организованные парла-
ментские фракции, а со второй половины XIX в. в либеральную и кон-
сервативную партии с определенными идеологическими установками.
Кабинет министров, комплектуемый политической группировкой, по-
лучившей большинство в палате общин, приобретал устойчивость и ав-
торитет в обществе43. Из рук суверена уплывала возможность играть на
противоречиях внутри фракции и в самом правительстве, а следова-
тельно, и его мнение оставалось без весомой поддержки. Но процесс
был еще далек от завершения, и в изменяющейся обстановке многое за-
висело от двух личностей - самого суверена и его премьер-министра.
Вместе с тем с утверждением авторитета Альберта с монархиче-
ским институтом произошли интересные метаморфозы. Лорд Брохэм,
принадлежавший к вигской оппозиции, назвал Викторию “королевой-
Альбертиной”. Но большинство исследователей говорят о неофициаль-
306
ной дуалистической монархии, зародившейся еще при Мельбурне и ус-
тановившейся в стране в годы министерства Р. Пиля44. К концу 1845 г.,
не имея титула короля, Альберт по существу выполнял его обязанно-
сти. По мнению секретаря Тайного совета Ч. Тревиля, он стал единой
личностью с Викторией, но при этом бремя государственных обязанно-
стей в большей степени лежало на принце. В его меморандумах о встре-
че с министрами использовалось “мы” вместо “я”, хотя мысли и предло-
жения в этих документах, как правило, принадлежали принцу45.
К этому же времени в духовной жизни британского общества не без
влияния королевского двора стали складываться принципы так называ-
емой викторианской эпохи. Представители возрастающего в своей чис-
ленности буржуазного класса с одобрением взирали на брак Виктории
и Альберта, заключенный по любви, на их пристрастие к домашнему
очагу и семейным ценностям, на усердие и чувство долга, проявленные
супругами в служении на государственном поприще. Симпатию вызы-
вали и простота в одежде и убранстве замков, высокие нормы морали,
установленные при дворе и, наконец, искренняя религиозность коро-
левской четы46.
Женская часть общества с умилением смотрела на появление в се-
мье монарха каждого нового ребенка. 25 апреля 1843 г. родилась прин-
цесса Алиса, 26 августа 1844 г. семья пополнилась принцем Альфредом,
25 мая 1846 г. - принцессой Еленой, 18 марта 1848 г. - принцессой Луи-
зой, названной в честь матери Альберта, 1 мая 1851 г. - сыном Арту-
ром, получившим имя в знак уважения к герцогу Веллингтону, ставше-
му его крестным отцом. Заметим, что супругам исполнился лишь 31 год
и череда наследников могла продолжиться.
Из важных внешнеполитических событий для двора суверена в пе-
риод правления кабинета Пиля можно назвать визит русского царя
Николая I в июне 1844 г.
Николай I поспешил в Лондон, чтобы по возможности помешать
сближению враждебной России Франции с Англией. На Викторию и ее
приближенных российский царь произвел ошеломляющее впечатление.
В свои 48 лет он был высокого роста, крепкого телосложения и обла-
дал красивой внешностью. При всем этом, по словам королевы, такого
пронизывающего выражения глаз она еще не встречала, а такого гро-
мового голоса никогда не слышала. Царь удивил королевскую чету, ко-
гда по прибытии в Виндзор заявил, что нуждается в охапке соломы из
конюшни, на которой собирается спать47.
Во внутренней жизни страны происходили серьезные события. Из-
за неурожая картофеля в Ирландии разразился голод. Для решения
продовольственной проблемы правительство Пиля попыталось отме-
нить так называемые “хлебные законы”, препятствующие ввозу в Ве-
ликобританию дешевого зерна из-за границы. Чтобы оказать мораль-
ную поддержку премьеру в ходе дебатов, в парламент прибыл принц
Альберт. Это был нетрадиционный шаг. Британская элита, не испыты-
вавшая симпатии к приезжему немцу, не приветствовала его появле-
ние в нижней палате. Лорд Георг Бентинк расценил акцию Альбер-
та как “непосредственное давление Ее Величества на депутатов”.
307
Оскорбленный принц никогда больше не посещал палату общин.
А предложение Пиля было отклонено, поскольку протекционисты, от-
стаивавшие интересы крупных земельных собственников и выступав-
шие за высокие тарифы на импорт зерна, оказались в данный момент
более влиятельными48.
После правительственных кризисов 1845-1846 гг., во время кото-
рых Альберт выполнял посредническую функцию в переговорах с ми-
нистрами, в июле 1846 г. кабинет Пиля ушел в отставку. Во дворце со-
жалели. Королева сообщала дяде Леопольду, что они с Альбертом пе-
режили тяжелый день49. Она оценила ум Пиля и рыцарское отношение
к ее персоне. Для Альберта же бывший премьер-министр сыграл роль
политического наставника. Тем обиднее стала для обоих супругов иная
позиция, занятая в общении с ними новым вигским правительством, воз-
главляемым лордом Джоном Расселом. “Контраст сейчас поразитель-
ный, гораздо меньше уважения и искренних чувств”, - жаловалась Вик-
тория королю Леопольду по этому поводу50.
И действительно, дворец информировали о происходящем, строго
следовали всем традиционным ритуалам уважения к короне, но к сове-
там монархини прислушивались мало. Особенно неприятным для коро-
левской четы было привлечение в правительство на должность минист-
ра иностранных дел лорда Дж.Т. Пальмерстона. Истинный англичанин,
опытный политик, пребывавший в правительстве почти всю свою соз-
нательную жизнь, включая руководство иностранным ведомством, он
ко всему прочему обладал и представительной внешностью - высокой
крупной фигурой и холеным лицом с аккуратно подкрашенными бакен-
бардами. По влиянию в британском истеблишменте Пальмерстон не ус-
тупал Расселу, а по известности в Европе превосходил его. В свои 62 го-
да лорд воспринимал Альберта как молодого человека, да к тому же
еще и чужеземца, и не считал нужным прислушиваться к его мнению.
Принц раздражал его своей медлительностью и длинными меморанду-
мами с анализом обстановки. Пальмерстон же привык действовать бы-
стро и решительно51.
Конфликт между сторонами развивался по двум направлениям:
в отношении общего поведения министра иностранных дел, касавшего-
ся участия королевской семьи в деятельности правительства, и различ-
ных подходов к ряду международных вопросов.
В меморандуме, направленном Викторией лорду Пальмерстону
17 апреля 1847 г., говорилось: “Королева несколько раз просила лорда
Пальмерстона через лорда Рассела и лично, чтобы бумаги Министерст-
ва иностранных дел не отправлялись по назначению до того, как их про-
екты будут представлены суверену... Ничего из этого не делается.
В связи с этим королева еще раз повторяет свое желание, чтобы лорд
Пальмерстон прекратил следовать подобной практике”52. Тем не менее
депеши, предназначенные иностранным ведомствам других стран, по-
прежнему обходили дворец, либо их копии представлялись королеве,
когда оригиналы бумаг были уже заграницей.
Революции 1848 г., прокатившиеся по Европе, не поколебали бри-
танский престол, но оказали большое влияние на общественную и по-
308
литическую жизнь королевства. Царствующая чета была обеспокоена
судьбой европейских королевских династий и особенно своих родствен-
ников. Абсолютизм не был идеалом для Альберта, но значительно
больше он и его супруга опасались анархии и гнева разъяренной толпы.
“Кажется, лицо Европы изменилось, - писала Виктория в тот год. -
Я уверена, что революция всегда зло для страны и причина невероятной
нищеты для народа”53. Она сожалела о революции в Париже, которая
привела к отречению короля Луи Филиппа, сокрушалась по поводу бес-
порядков в Австрии и распространения революционной лихорадки на
Италию. Ее официальные обращения к министрам становятся более
резкими. В меморандуме, направленном премьер-министру Расселу
25 июля 1848 г., Виктория заявляла, что “установление сердечного сог-
ласия с Французской Республикой в целях выдворения австрийцев из их
владений в Италии явилось бы позором для нашей страны”. А в посла-
нии к Пальмерстону королева предупреждала: если слухи о том, что
Англия совместно с Францией готовятся отправить эскадрильи в Адри-
атику для демонстрации своей поддержки итальянцам, подтвердятся,
она не даст согласия на этот шаг54.
11 августа 1848 г. в очередном обращении к Расселу Виктория на-
мекает на желательную отставку Пальмерстона. “Королева опасает-
ся, - говорилось в письме, - что не будет мира в ее душе и не будет по-
коя, пока лорд Пальмерстон возглавляет Министерство иностранных
дел”55.
Весной 1848 г. чартистское движение, возникшее в середине
30-х годов, напомнило о себе все более многолюдными демонстрациями
в разных городах королевства. Голод в Ирландии, бездомные, перепол-
нившие города, дали новый импульс недовольству. На 10 апреля чарти-
сты назначили митинг, который обещал стать многолюдным и должен
был оказать поддержку петиции, направляемой в тот же день в палату
общин. Чартисты требовали либерализации избирательной системы
страны, включая введение всеобщего избирательного права для муж-
чин. Петицию подписали более 1 млн человек.
При всем том чартистские лидеры заявляли, что будут добиваться
своих целей лишь ненасильственными действиями. Но, несмотря на эти
заверения, правительство решило предупредить возможность возник-
новения беспорядков. В столицу были введены резервные войска. Муж-
ская часть британской элиты давала клятву верности правительству Ее
Величества. Среди присягавших был и французский эмигрант принц
Луи Наполеон Бонапарт .
Виктория не осталась равнодушной к происходящему. Из деятель-
ности чартистов она одобрила лишь факт подачи петиции. В остальном
же королева считала их смутьянами. “Подчинение закону и суверену, -
говорила она по этому поводу Расселу, - есть смирение перед Высшей
Духовной Властью, установленное для блага людей, а не суверена, ко-
торый имеет свои заботы и обязанности”56.
Между тем в 1850 г. дипломатическое противостояние дворца и
Пальмерстона дошло до конфликта. Через Рассела Виктория передала
министру иностранных дел меморандум, в котором содержалось следу-
309
ющее требование: документ, согласованный с королевой, не может
быть подвергнут изменению; подобное действие должно рассматри-
ваться как проявление нелояльности к короне и в соответствии с кон-
ституционным правом наказываться смещением провинившегося мини-
стра с должности. Требование было жестким. Заявленное Викторией
конституционное право суверена официально не отменялось, но давно
уже не использовалось.
Пальмерстон попросил аудиенции у Альберта и при встрече рассы-
пался в извинениях. Но через несколько недель все повторилось. Проя-
вляя неповиновение, министр рассчитывал на безнаказанность в связи
со своей популярностью, а после кончины Пиля в 1850 г. и из-за отсут-
ствия достойного политического противника.
К концу 1851 г. конфликт обеих сторон вновь обострился. При под-
держке Рассела, который также был недоволен чрезмерной самостоя-
тельностью своего министра, Пальмерстон был удален из правительст-
ва. Но вскоре же пал и сам кабинет лорда Рассела, а Пальмерстон занял
пост министра внутренних дел в новом коалиционном правительстве
лорда Абердина. И только новый правительственный кризис 1852 г.
привел к более долговременному отстранению Пальмерстона от руко-
водства страной. Но прецедент был создан. Министр мог оставаться на
своем посту вопреки желанию суверена. Традиционная прерогатива су-
верена ослабевала и уступала место министерскому правлению.
Знаменательным событием в жизни дворца и всей страны стала
Всемирная выставка машин, промышленных товаров, предметов при-
кладных искусств и скульптуры, проходившая в Лондоне в 1851 г. Идея
ее проведения принадлежала Альберту. Мероприятие задумывалось им
как демонстрация достижений британских искусств, ремесел и промыш-
ленности. Местом расположения выставки был выбран знаменитый
Гайд-парк. Из более чем 200 проектов выставочного павильона Аль-
берт выбрал вариант, предложенный известным строителем оранжерей
Джозефом Пэнстоном. Здание должно было состоять из стеклянных
блоков и напоминать хрустальный дворец57.
В ходе реализации проекта возникало немало трудностей. Вырубка
могучих парковых вязов спровоцировала в 1850 г. жаркие дебаты в па-
лате общин. Защитники природы, включая Пальмерстона, обрушились
на принца. Не промолчала и пресса. Газета “Таймс” предупреждала
лондонцев, что их любимое место отдыха превращается в скопище
строительного мусора, а выставка соберет в парке всех столичных бро-
дяг58. Тем не менее сторонников международного мероприятия оказа-
лось больше.
1 мая 1851 г. вопреки всем препятствиям и недобрым предзнамено-
ваниям, Всемирная выставка была открыта. Ее участниками являлись
промышленные страны и ряд колоний Великобритании. Альберт как
главный организатор выставки продемонстрировал изобретательность,
обширные знания и тонкий вкус. Но после бесконечных хлопот и бес-
сонных ночей он выдохся и постарел. В 32 года он был лыс, отрастил
брюшко, жаловался на боли в желудке. Виктория же чувствовала себя
на вершине блаженства. В дневнике она записала 18 июля 1851 г.:
310
“Это было время радости, гордости, удовлетворения и искренней благо-
дарности; это был триумф мира и доброй воли, выраженной в искусст-
ве и коммерции; это был триумф моего обожаемого мужа и триумф мо-
ей страны”59.
Королевская чета приобрела беспрецедентную популярность, и эн-
тузиазм жителей столицы был невиданным. Люди часами простаивали
на улице, чтобы поприветствовать Викторию и Альберта, возвращав-
шихся на экипаже с очередного банкета.
Впрочем, как и в жизни обычных людей, радость сменилась печа-
лью. 7 апреля 1853 г. родился четвертый сын и восьмой ребенок супру-
гов - принц Леопольд, названный в честь любимого дяди, короля Бель-
гии. Роды были тяжелыми и облегчались входившим в медицинский
оборот хлороформом. А вскоре малышу был поставлен страшный ди-
агноз - гемофилия. Как следствие у матери начались припадки истерии
и депрессия60. Утешением, как и прежде, был Альберт. Душевные отно-
шения с подрастающими детьми, за исключением старшей дочери, не
складывались. На публике, правда, Виктория обычно появлялась с се-
мейством, и это вызывало восторг людей, не подозревавших о том, что
творилось в душе королевы. Она была счастлива только с супругом и
доверяла только ему.
Еще до рождения Леопольда новым поводом для напряженных от-
ношений дворца с правящим кабинетом и общественным мнением по-
служили внешнеполитические вопросы. Виктория и Альберт симпати-
зировали Пруссии, претендующей на лидерство в объединении Герма-
нии. Уже сами эти симпатии и особенно перспектива возникновения на
континенте новой сильной державы не радовали англичан и стали пово-
дом для раздражения против королевы и принца.
События во Франции также вызывали противоречивые чувства и
оборачивались неожиданнмие сложностями. В декабре 1852 г. племян-
ник Наполеона I Шарль Луи Наполеон Бонапарт, избранный президен-
том Франции в 1848 г., провозгласил себя императором Наполеоном III.
К этому моменту ему исполнилось 44 года, а за его плечами была
жизнь, полная авантюрных и романтических приключений. В Англии
оценка произошедшего переворота была неоднозначной. Одни считали
плохим предзнаменованием, что в год смерти ниспровергателя Наполе-
она I герцога Веллингтона к власти пришел новый Наполеон. Для дру-
гих Луи Наполеон являлся харизматической фигурой, унаследовавшей
решительность своего легендарного дяди и сделавшей невероятную
карьеру. Они к тому же помнили, что с 1846 по 1848 г. Луи Наполеон
провел в тайной эмиграции в Лондоне, имел друзей в высших сферах и
любовницу-англичанку. Что же касается правительства, то оно, учиты-
вая изменения в расстановке политических сил в Европе, было склонно
улучшать отношения с историческим врагом Англии даже и при новом
правителе.
Виктория, как и ряд других монархов Европы, считала Наполео-
на III узурпатором, лицемером, человеком, лишенным каких-либо по-
литических и моральных убеждений. Во время тревожных событий в
королевстве в 1848 г. он присягал короне, но в тот же год, вернувшись
311
во Францию, сумел использовать революцию, чтобы стать президентом
республики.
Под впечатлением всего происходящего королева писала дяде Лео-
польду: “Невозможно чувствовать себя в безопасности, и это повергает
меня в меланхолию. Я люблю мир, покой и ненавижу политику и суету.
Горестно думать, что некий франт (видимо, имелся в виду Наполе-
он III - Авт.) может вовлечь нас в войну...Альберт с каждым днем все
лучше и лучше разбирается в политике и бизнесе, и это так прекрасно
для нас обоих...Я же все больше не люблю и то, и другое. Мы, женщи-
ны, не сотворены для того, чтобы править, и если мы нормальные, то
должны не любить эти мужские занятия. Но бывают времена, которые
заставляют женщину заниматься делами, и, конечно, я ревностно вы-
полняю свои обязанности”61. Трудно более откровенно, чем сделала это
монархиня, признаться, кто именно управляет страной. А ведь немного
более десяти лет назад она упивалась властью и своим положением.
Между тем и подданным Виктории становилось ясно, кто делает по-
литику в Букингемском дворце. Общественное мнение изменчиво, и
пресса, которая с каждым годом приобретала все больший вес, научи-
лась манипулировать настроениями людей. Альберту никогда не про-
щали его немецкого происхождения. Успех Всемирной выставки лишь
на время притупил неприязненные чувства к супругу королевы. Ведь,
несмотря на неустанный труд во благо своей новой родины, принц так и
не сумел стать англичанином. В обществе знали, что он ведет дневник
на немецком языке, на нем же общается с детьми и Викторией, а мест-
ные газеты читает с помощью секретарей. Раздражающим моментом
по-прежнему оставался и тот факт, что супружеская чета поддержива-
ет связи с Пруссией, которая принудительно присоединяет к своей тер-
ритории малые германские государства. Но самым нетерпимым счита-
лось то, что королева становится марионеткой принца.
Если в 40-х - начале 50-х годов пресса лишь эпизодически нападала
на Альберта, то с конца 1853 г. она начала против него настоящую кам-
панию. Первой обвинения против принца выдвинула газета “Дейли
ньюс”. За ней последовали печатные органы тори “Морнинг геральд” и
“Стандард”. Не только узкому кругу людей, как это было прежде, но и
широкой публике стало известно, что принц присутствует на встречах
Виктории с министрами, составляет политические меморандумы от ее
имени, вмешивается в работу государственных департаментов, включая
руководящие органы армии и флота и, наконец, что он стремится за-
нять место герцога Веллингтона как главнокомандующего. Последнее
было явным искажением, так как 80-летний Веллингтон в 1850 г. сам
обратился к принцу с таким предложением, а Альберт отклонил его.
Обосновывая свой отказ, Альберт писал герцогу 6 апреля 1850 г., что
«как супруг суверена он занимает весьма деликатное положение и дол-
жен растворить собственное “я” в личности супруги, не ставить своей
целью добиться власти, избегать конфликтов, не брать на себя личной
ответственности перед публикой, а представлять свою позицию как
часть позиции королевы»62. Таковым было жизненное кредо Альберта,
в соответствии с которым он строил свою политику. В действительно-
312
сти же его обязанности были шире, поскольку королева являлась мате-
рью многочисленного семейства и естественные перерывы в ее монар-
ших делах заполнялись все тем же первым советником и бесценным су-
пругом. Но именно скрытая деятельность принца за троном и настора-
живала публику.
Правда в публикациях газет переплеталась с вымыслом. Альберта
называли шпионом Пруссии и даже пособником России. Недоброжела-
тели принца имелись среди как тори, так и вигов, которые в 50-е годы
стали именовать себя соответственно консерваторами и либералами и
имели своих единомышленников не только в парламенте, но и в стра-
не в целом. Причем самыми активными противниками Альберта вы-
ступали сторонники Пальмерстона. Выражая свое мнение через газету
“Монинг пост”, они обвиняли супруга королевы в отставке своего
кумира.
Атаки против Альберта возбуждали публику и накладывались на
тревогу, испытываемую людьми в связи с приближавшейся войной.
А дело в том, что в обострявшемся конфликте на Балканах между Рос-
сией и Турцией Англия готова была выступить на стороне последней.
В январе 1854 г. кампания против супруга королевы достигла апо-
гея. Распространились слухи, что принц и королева арестованы по рас-
поряжению правительства и должны быть доставлены в Тауэр. Говори-
ли, что здесь они будут ждать суда по обвинению в заговоре, направлен-
ном против своей страны. В ожидании этого зрелища тысячи людей
простаивали ночи вокруг старинного замка63.
Виктория пожаловалась на прессу премьер-министру лорду Абер-
дину. И тот после некоторого промедления решил положить конец слу-
хам. Он заверил палату лордов и палату общин, что принц предан коро-
не и стране и потребовал от прессы прекратить кампанию лжи немед-
ленно и навсегда. Вслед за ним на заседаниях верхней и нижней палат
лидеры тори и вигов произнесли речи в защиту принца, подтвердив его
безукоризненную преданность стране и право давать советы королеве в
государственных делах.
Выступления в парламенте авторитетных лиц возымели действие.
Волна враждебности, нагнетаемая против Альберта, быстро рассеива-
лась. Публика вновь приветствовала экипаж царствующей четы, когда
он появлялся на улицах.
В марте 1854 г. Англия и Франция вступили в войну с Россией на
стороне Турции. Как владычица морей Британия не могла допустить,
чтобы Российская империя, закрепившись на Балканах, направила свой
флот в Средиземное море. Страна не была готова к войне, получившей
название Крымской. Армия имела на своем оснащении оружие времен
Ватерлоо. Плохо обстояло дело с медикаментами и с врачебным обслу-
живанием. Люди сотнями гибли от болезней, а в дальнейшем от русских
пуль при осаде Севастополя. В первый год войны удача сопутствовала
России. На британских островах появились вдовы и осиротевшие дети.
Королевская чета не осталась в стороне от событий. Накануне вой-
ны Виктория, пользуясь прерогативой суверена, направила прусскому
королю, являвшемуся зятем российского императора, настоятельную
313
просьбу сохранять нейтралитет, если не дружественную позицию. Есте-
ственно, депеша была согласована с правительством и явилась удобной
формой предупреждения Пруссии, наладившей отношения с Россией.
Принц стал председателем Патриотического фонда для помощи
семьям погибших военных. Организация собрала более 1 млн. ф. ст. по-
жертвований. Виктория посещала госпитали, вручала награды ветера-
нам войны, писала письма с выражением соболезнования вдовам. По ее
инициативе был учрежден Орден Виктории, который вручался за храб-
рость, проявленную военными в сражении независимо от их чина64.
Из-за тяжелого положения, в котором оказалась армия в первые
месяцы войны, возглавлявший правительство лорд Абердин в 1855 г.
был отправлен в отставку парламентариями. Первой кандидатурой на
освободившийся пост стал Пальмерстон. “Я не могу доверить прави-
тельство лорду Пальмерстону, - записала Виктория в дневнике, - хотя
я, возможно, должна это сделать”. Чтобы избежать нежелательного
назначения, королева обратилась к лорду Дерби, затем к 75-летнему
немощному лорду Лэнсдоуну, и, наконец, 2 февраля 1855 г. она встрети-
лась с лордом Расселом и предложила ему быть главой кабинета. Но
Рассел объяснил Виктории: ведь народ требует назначения на пост пре-
мьер-министра Пальмерстона, так как уверен, что только он может ус-
пешно завершить войну.
Королева таким образом оказалась в изоляции. Ее попытки найти
альтернативную фигуру на высший государственный пост разбились о
популярность Пальмерстона. Между тем новому премьер-министру ис-
полнился 71 год, ему угрожала слепота, отказывали ноги, и он передви-
гался с помощью двух палок. Но дух прежнего политического против-
ника королевы оставался все таким же высоким65. Вопреки неблаго-
приятным предсказаниям, возраст не стал помехой для Пальмерстона, и
он с небольшим перерывом пробыл на высшем государственном посту
еще десять лет - до 1865 г.
Популярность Альберта и особенно Виктории в годы войны воз-
росла. Официально войска уходили в поход по повелению государыни.
Солдаты с благоговением принимали награды из ее рук. Сама же мо-
нархиня все больше проникалась сознанием собственного величия.
По заказу Виктории скульпторы ваяли ее статуи, а художники писали
портреты. При этом и те и другие сталкивались с нелегкой проблемой -
найти соответствие между сходством их произведений с оригиналом и
отражением в них необходимых для королевы величавости и красоты.
В действительности же в 35 лет лицо и фигура властительницы отяже-
лели, а туалеты не отличались изысканностью. Композитор Рихард
Вагнер, принятый во дворце в июне 1855 г., писал своей жене Минне,
что королева и принц “душевны и добры, но Виктория очень малень-
кого роста, совсем не хороша собой и, к сожалению, с красным но-
сом”66. Сохранялись лишь царственность манер и неподражаемо звеня-
щий голос.
Франция являлась союзницей Англии в Крымской войне. В рамках
военного сотрудничества монархи обеих стран с супругами обменялись
визитами. Их права в решении внешнеполитических вопросов не были
314
равными. Так, если Луи Наполеон мог самостоятельно принимать ре-
шения, то за Викторию это делал министр иностранных дел лорд Кла-
рендон. Но присутствие королевы, оказываемые ей почести создавали
впечатление, что именно она - главное лицо в переговорах.
Первая встреча с французским императором во время его посеще-
ния Англии в апреле 1855 г. буквально поразила Викторию. По своим
убеждениям и законам родства, т.е. принимая во внимание, что Наполе-
он III занял трон, принадлежавший до этого Луи Филиппу, тестю ее дя-
ди Леопольда, Виктория должна была испытывать к нему недобрые
чувства. Кроме того, не обладавший внешней привлекательностью не-
высокий, смуглый, с козлиной бородкой 47-летний император, казалось
бы, не должен был очаровать счастливую в замужестве и неравнодуш-
ную к мужской красоте королеву. Тем не менее произошло неожидан-
ное. Император показался ей необыкновенным человеком, “обладаю-
щим непостижимом магнетизмом и сочетающим в себе такие качества,
как мужество, уверенность в себе, твердость и одновременно самоконт-
роль, спокойствие и благородство”67.
Дань восхищения от королевы получила и императрица Евгения:
благородна, грациозна, современна. Альберт был также пленен красо-
той императрицы.
В августе 1855 г. военные консультации между союзными держава-
ми состоялись во Франции. Британская королевская чета прибыла сю-
да в сопровождении министра иностранных дел лорда Кларендона.
В ходе совместного общения с французской стороной от министра не
ускользнуло, что Наполеон III, известный как покоритель женских сер-
дец, “изображает влюбленность в Викторию”. Королева пребывала
в приподнятом настроении и была в восторге от императора.
Крымская война, закончившаяся весной 1856 г. поражением Рос-
сии, позволила Англии укрепить свое влияние на Балканах, Ближнем
Востоке и сохранить лидерство в Европе. Виктория оценила заслуги
Пальмерстона, наградив его Орденом подвязки. Невзирая на дождь,
в открытом экипаже она ездила по различным городам Британии, что-
бы приветствовать возвратившихся из Крыма солдат, а измученные
войной люди кричали : “Боже, храни королеву!”
Между тем жизнь шла своим чередом. 14 апреля 1857 г. королев-
ское семейство пополнилось еще одним, девятым ребенком - родилась
принцесса Беатрис. Такое число детей совсем не радовало родителей.
Виктория уже знала, что когда дети повзрослеют, ей придется добывать
для них денежное обеспечение от парламента, а затем искать партию
для вступления в брак. Ей было 38 лет, и перспектива нового материн-
ства и связанные с нею неудобства повергали ее в ужас. Так или иначе,
но ребенок оказался последним.
1857 год стал примечательным для королевской семьи тем, что
Виктория, рассерженная неоднократным отказом парламента присво-
ить Альберту титул принца-консорта, сделала это собственным распо-
ряжением. А в следующем году супругам пришлось расстаться с самым
любимым ребенком - старшей дочерью Викторией, или по-семейному
Викки. 25 января 1858 г. состоялась свадьба 17-летней Викки с сыном
315
наследника прусского престола принцем Фридрихом Вильгельмом,
бывшим на десять лет старше невесты. Брак заключался по взаимной
симпатии и считался престижным.
Обосновавшись в Пруссии, Викки сохранила верность английскому
воспитанию и прежним привычкам. Королева поощряла ее в этом, со-
ветуя, в частности, время от времени посещать англиканскую церковь.
Подобные наставления не приносили пользы. Викки не приняла обыча-
ев новой страны, а страна не приняла ее. Даже в большей степени, чем
Альберт в Британии, она так и осталась в Пруссии чужестранкой.
Душевная близость до конца жизни Виктории связывала ее с дочерью.
Ей Виктория доверяла больше, чем своему дневнику. Сохранилось
3777 посланий, отправленных королевой принцесе, и более 4000 писем
поступило от дочери к матери68.
В корреспонденции Виктории - вся ее последующая жизнь от опи-
сания бытовых мелочей до слезных излияний, вызванных тяжелыми пе-
реживаниями. Викки также делилась с матерью своими бедами. Неза-
долго до рождения первенца она упала, и Фридрих Вильгельм Виктор
Альберт, в будущем император Германии Вильгельм II, появился на
свет 27 января 1859 г. с иссохшей рукой69.
Тем временем здоровье принца Альберта на глазах ухудшалось.
В 40 лет он выглядел на 60. Его мучили боли в желудке, распухшие
гланды и десны. Любая трапеза превращалась для него в муку. Викто-
рия была обеспокоена болезненным видом “своего ангела”, но серьез-
ного лечения не предпринималось.
В феврале 1860 г. королевская чета отметила 20-ю годовщину сво-
ей свадьбы. В конце очередного послания принца к его другу и верному
советчику Э. Стокмару Виктория приписала: “Я хотела бы думать, что
сделала Альберта столь же счастливым, как он меня”70. Каждый чело-
век понимает счастье по-своему. У принца были основания быть счаст-
ливым. В юности Альберт мечтал о высоком предназначении, и судьба
оказалась к нему благосклонной. И вот он - монарх без короны, царст-
вующая особа великой державы. Виктория выбрала в мужья принца не-
богатого германского княжества, и он оказался достойным выбора ко-
ролевы. И через 20 лет она по-прежнему восхищалась и гордилась суп-
ругом. В ее письме к дяде Леопольду можно было прочесть, что принц
“поднял престиж монархии и ее популярность в народе на небывалую
высоту”. Это было лишь некоторым преувеличением. Крымская война,
зрелищная свадьба королевской принцессы всколыхнули чувства пат-
риотизма и единения нации и замаскировали для общественного мнения
расколы в правительстве.
Несмотря на пошатнувшееся здоровье Альберта, государственная
активность королевской четы не сокращалась. В начале 1861 г. супруги
были обеспокоены брожением в Австрийской империи, нарушавшим
стабильность в Центральной Европе, и планами Наполеона III по стро-
ительству современных морских судов. Считая Пальмерстона франко-
филом, королева требовала от него, чтобы был составлен “полный от-
чет о государственных приготовлениях в отношении бронированных
кораблей и мер, предпринимаемых, чтобы восполнить их недостачу”71.
316
1861 год оказался самым несчастливым в жизни Виктории. В марте
скончалась 75-летняя герцогиня Кентская. После ее смерти Викторию
охватило раскаяние. Она корила себя за то, что когда-то обвиняла мать,
по-своему готовившую ее к трону, в строгости и властолюбии. Сейчас
наступило прозрение, и в течение трех недель Виктория обливалась
слезами, переложив королевские обязанности на плечи Альберта. Вик-
ки в Берлин она писала, что чувствует себя осиротевшим ребенком72.
317
Это был первый серьезный кризис в жизни королевы. Осенью на коро-
левскую семью обрушились новые несчастья.
Весьма удручающим для родителей явилось известие о том, что их
старший сын принц Уэльский Альберт Эдуард, находясь на кратковре-
менной военной службе в Ирландии, вступил в связь с молодой актрисой
Нелли Клифден. Быстро распространявшиеся слухи о недостойном по-
ведении наследника престола подрывали безупречную репутацию семьи.
Кроме того, были поставлены под вопрос начавшиеся переговоры Вик-
тории о браке Альберта с 17-летней датской принцессой Александрой.
Принц чувствовал себя опустошенным. Королева кипела от негодо-
вания. Свою горечь позднее она излила дневнику и в письмах к дочери.
Виктория признавалась, что с тех пор не могла смотреть на сына без со-
дрогания. До конца дней она не только не посвящала принца Уэльского
в государственные дела, но нередко устраняла его от исполнения цере-
мониальных функций. Но еще больше, чем поступок наследника, ее
взволновала реакция на него супруга.
В эти же дни Альберт сказал Виктории: “Я уверен, что если я серь-
езно заболею, то покорюсь судьбе и не буду бороться и цепляться за
жизнь”73. Физическое недомогание и семейные неприятности надломи-
ли принца, но как человек долга он старался все же выполнять свои ро-
дительские обязанности. Так, он решил незамедлительно встретиться
с сыном для отцовского внушения и, невзирая на непрерывный дождь
и усиливающийся ветер, отправился в Кембридж, где наследник продол-
жал учебу в университете.
Родительское наставление, как и поездка принца оказались послед-
ними. К прежним недугам прибавились простуда и изматывающая сла-
бость. В начале декабря Альберт с трудом сел за рабочий стол, когда
министр иностранных дел Джон Рассел передал королеве на подпись
меморандум, направляемый в Вашингтон в связи с захватом английско-
го судна американцами Севера. Меморандум был составлен в жестких
выражениях и мог привести к войне с Северными Штатами. Альберт
сделал ряд рекомендаций по изменению смысла и смягчению тона по-
слания. Правительство согласилось с его предложениями. Конфликт
был урегулирован. Заслуга принца в предотвращении войны была при-
знана еще его современниками. Королева впоследствии очень горди-
лась этой акцией Альберта74.
Между тем состояние больного ухудшалось, хотя придворный врач
Джеймс Кларк уверял королеву, что опасности для жизни ее супруга
нет. И лишь по настоянию Пальмерстона, проникшегося в конце кон-
цов уважением к Альберту, в Виндзор был приглашен новый врач. Его
диагноз был обескураживающим - брюшной тиф и неизбежный ско-
рый конец. Болезнь и депрессия убивали принца. Для Виктории надеж-
да сменилась отчаянием. Дочери Викки 6 декабря 1861 г. она признава-
лась: “Еще не было печали и беспокойств, равных тем, что я испыты-
ваю сейчас в отношении моего любимого супруга”75. 14 декабря 1861 г.
наступил кризис, и все было кончено.
В 42 года Виктория стала вдовой. Ее душа умерла, жизнерадост-
ность и прежняя энергия уже никогда не вернулись к ней. До конца жиз-
318
ни полностью королева не отказалась от траура. Любому светскому об-
щению она долгое время предпочитала уединение, редко встречалась с
министрами и в течение нескольких лет не открывала и не закрывала
парламентские сессии. Жизнелюбие и воля как будто задремали в ней.
В посланиях к Расселу Виктория постоянно жаловалась на расша-
танные нервы, слабость и болезни. Вот, что она писала, например,
10 января 1862 г.: “Королева (в официальных посланиях Виктория име-
новала себя в третьем лице. - Авт.) ведет крайне несчастливую и уны-
лую жизнь. Где прежний солнечный свет и абсолютное счастье? Вокруг
только мрак и одиночество, и она ощущает себя с каждым днем все бо-
лее несчастной и покинутой”. И еще 11 июня того же 1862 года: “Коро-
лева чувствует себя больной и слабой и думает о том, чтобы воссоеди-
ниться с ее любимым и обожаемым супругом”76. Личную жизнь Викто-
рия подчинила памяти принца, доходя порой до мистицизма. В течение
многих лет она спала, обнимая ночную рубашку Аьберта, а прежде, чем
лечь в постель, вставала на колени перед его портретом. В каждом из
дворцов кабинеты принца оставались неприкосновенными, а вода в гра-
финах ежедневно менялась. Королеве сочувствовали, но одновременно
поползли слухи об ее умопомешательстве. Основанием для подобных
суждений стали странности в поведении вдовы и сумашествие родствен-
ных ей ганноверских правителей.
Многие события международной и внутренней жизни прошли мимо
Виктории. Продолжалась гражданская война в Америке, в которую ее
страна могла быть вовлечена, случались вооруженные конфликты на
континенте, от ее имени ставились под британский контроль новые за-
морские территории, время от времени обострялись социальные и ре-
лигиозные противоречия в самой Англии, полыхало восстание фениев
в Ирландии. Ни одно из этих чрезвычайных событий не взволновало
королеву и не нашло отражения в ее дневнике. Она читала и подписы-
вала бумаги, но редко вмешивалась в дела кабинета и почти не появля-
лась на публике. Кабинет протестовал против ее затворничества, но мо-
нархиня осталась глуха к его требованиям.
Больше всего на протяжении десяти лет после кончины Альберта
королева занималась увековечиванием его памяти. Сторонник тори
журналист Т. Мартин написал многотомную биографию принца.
В ряде городов и королевских поместий были открыты памятники
Альберту. Но главной заботой Виктории стало возведение грандиоз-
ного мемориала в южной части Гайд-парка. Первый камень в основа-
ние сооружения был заложен в мае 1867 г., а завершение строительст-
ва произошло в 1876 г. В центре величественного памятника автор
проекта и организатор строительства Скотт поместил статую Альбер-
та в сидячем положении, выполненную из позолоченной бронзы и ве-
сившую почти десять тонн.
А что же страна? Как подданные королевы отнеслись к смерти
принца-консорта? По воспоминаниям одной из современниц событий,
чувство скорби коснулось и жителей Лондона. На следующий день пос-
ле смерти Альберта маленькие магазинчики в центре столицы были за-
319
крыты, а их хозяева ушли к Букингемскому дворцу, где собирались тол-
пы британцев, чтобы поставить свою подпись в траурной книге77.
Резкий поворот произошел в позиции печати. Еще не умолкли ко-
локола в память об Альберте, как пресса почти единодушно признала
ценность его деятельности для королевства. Так, газета “Обсервер” пи-
сала: “Поставленный в нелегкие условия принц Альберт сумел пока-
зать себя столь благоразумным и столь благожелательным, что не ос-
тавил после смерти ни одного врага, в то время как его друзьями стало
множество людей... Он был человеком благородного ума, утонченного
вкуса, ясного понимания происходящего и высоких устремлений, напра-
вленных на благо общества... Мир его праху! Прекрасный муж, хоро-
ший отец, мудрый принц и знающий советник, Англия не скоро получит
такого человека”78.
Еще более впечатляющим было высказывание видного деятеля
консервативной партии, будущего премьер-министра Б. Дизраэли:
“С принцем Альбертом мы похоронили нашего суверена. Этот герман-
ский принц правил Англией в течение 21 года с мудростью и энергией,
которые ни один из наших королей не проявлял прежде”79. Бывший ми-
нистр иностранных дел лорд Кларендон отозвался о смерти принца как
о всеобщем несчастье, последствия которого общество еще не способ-
но оценить. Помимо его нравственных и интеллектуальных преиму-
ществ перед многими, лорд отметил еще одно, не менее важное - его
несменяемость у власти по сравнению с приходящими и уходящими ми-
нистрами кабинета80.
И все же жизнь в большом семействе Виктории и за стенами ее
дворцов шла своим чередом. Дети взрослели, и никто, кроме матери, не
мог позаботиться об их судьбе. 1 июля 1862 г. почти в траурной обста-
новке состоялась свадьба 19-летней королевской дочери Алисы и не-
мецкого принца Луиса Гессен-Дармштадтского. Жених, выбранный ко-
ролевой, был, по ее словам, “добродушным, но легкомысленным”. Али-
се же, изолированной от общения с молодыми людьми, принц казался
идеальной парой81 .
Следующей заботой королевы было спасение от дальнейших иску-
шений и грехов наследника престола Альберта Эдуарда. В дневнике и
письмах к Викки она постоянно жаловалась на его лень, нежелание
учиться и увлечение балами и нарядами82. Предварительная договорен-
ность о браке Альберта Эдуарда с датской принцессой Александрой,
дочерью наследника датского престола принца Христиана, уже име-
лась. Красивой и хорошо воспитанной принцессой интересовался и рус-
ский император Александр II. Виктория опередила его. А младшая се-
стра Александры принцесса Дагмар стала впоследствии супругой Алек-
сандра III (царицей Марией Александровной) и матерью последнего
российского императора Николая II.
Принцу Уэльскому, ставшему в 1901 г. королем Эдуардом VII,
в 1862 г. исполнился 21 год. Он отличался выразительной внешностью
и природным обаянием. Его огромные глаза, волнистые русые волосы,
рыцарство и жизнерадостность магическим образом действовали на
женщин. Александра была покорена им и сказала близким, что, даже
320
если бы Альберт был простым пастухом, она все равно вышла бы за не-
го замуж. Ответная влюбленность возникла и со стороны жениха.
Свадьба состоялась 10 мая 1863 г.83 Правда, как вскоре выяснилось,
семейная жизнь не смогла обуздать бурный темперамент принца.
Перед тем как окончательно породниться, Виктория взяла с буду-
щей невестки слово, что та никогда не использует свое влияние для то-
го, чтобы сделать супруга политическим приверженцем ее родины. Тре-
бование имело под собой основание. Именно в это время шел жесткий
спор между Пруссией и Данией за обладание герцогствами Шлезвиг и
Гольштейн, и королева поддерживала прусскую сторону84.
Между тем в 1864 г. спор о принадлежности герцогств Шлезвиг и
Гольштейн разрешился войной между Данией, с одной стороны и Прус-
сией и Австрией - с другой. В парламенте развернулись жаркие дебаты
по поводу позиции страны в этом конфликте. Большая часть британ-
ской общественности симпатизировала датчанам, но была далека от
желания воевать из-за них с Пруссией и Австрией. Пальмерстон и ми-
нистр иностранных дел Рассел возглавляли в кабинете “военную пар-
тию”, призывая даже послать военно-морской флот для защиты Копен-
гагена. Им противостояла “мирная партия”, вдохновляемая молодым
либеральным деятелем У. Гладстоном.
Несмотря на душевный кризис, в этой ситуации Виктория возобно-
вила встречи с премьер-министром и министром иностранных дел, на-
стаивая на своей точке зрения.
Англия не вступила в европейскую битву. 25 июня 1864 г. прави-
тельство приняло решение о нейтралитете. Аргументы сторонников
“партии мира” и влияние Двора оказались более весомыми. К тому же
лорд Пальмерстон уже не был столь энергичен, как прежде. Его бод-
рость духа и оптимизм не смогли победить старость. 18 октября 1865 г.
лорд скончался.
На смену Пальмерстону у либералов пришла не менее блестящая
личность - Уильям Гладстон. Во второй половине 60-х - первой поло-
вине 70-х годов на политической арене Великобритании происходила
дуэль двух выдающихся деятелей: Гладстону противостояла не менее
колоритная фигура, представляющая консервативную партию, - Бенд-
жамин Дизраэли. Среди плеяды премьер-министров, прославивших
эпоху королевы Виктории, эти государственные мужи, обладающие
высоким уровнем знаний, организаторскими талантами и работоспо-
собностью, занимают достойное место. В период с 1865 по 1874 г.
власть находилась в руках Гладстона, первоначально как канцлера ка-
значейства, а с 1868 г. как главы кабинета. Дизраэли же, за исключени-
ем краткого пребывания у власти в 1868 г., развивал активность как ли-
дер оппозиции.
Гладстон вошел в историю как великий реформатор. По его иници-
ативе были проведены ряд реформ, значительно продвинувших демо-
кратизацию общества. Главными из них были: разгосударствление ир-
ландской англиканской церкви, введение обязательного начального об-
разования, отмена обычая продавать офицерские должности в армии и
введение тайного голосования при выборах в парламент85. Виктория
21 Россия и Британия Вып 3
321
подписывала принятые парламентом законы, но ко многим относилась
с опаской. Так, например, о реформе в армии в ее дневнике от 19 июля
1871 г. есть такая запись: “Я колебалась, опасаясь, что это будет непра-
вильный путь, но.... подписала”86.
Отсутствие взаимопонимания, возникшее у нее в свое время с Паль-
мерстоном, имело продолжение и с его преемником. Но самое главное -
без Альберта она не всегда разбиралась в сути событий, боялась пере-
мен и не доверяла Гладстону, который к тому же скупо информировал
ее о заседаниях кабинета.
В эти же годы прогерманские симпатии Виктории стали причиной
ее новых душевных метаний. А дело в том, что начавшаяся в июне
1866 г. семинедельная война между Пруссией и Австрией коснулась де-
тей королевы. Ее дочери неожиданно оказались в разных воюющих ла-
герях: Викки - на стороне Пруссии, а Алиса и третья по старшинству
дочь Елена, сочетавшаяся браком с принцем Христианом из герцогства
Шлезвиг-Гольштейн - на стороне Австрии.
Тем не менее мечта Альберта о сильной и единой Германии, пусть
не мирными средствами, была реализована. С австро-прусским дуализ-
мом было покончено, в центре Европы возникло сильное германское
государство.
Победа Пруссии создала серьезную угрозу европейской гегемонии
Франции. Дипломатические переговоры ни к чему не привели, и
19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии. Англия сохраняла
нейтралитет. Виктория же не могла не симпатизировать Пруссии, ар-
мию которой по-прежнему возглавлял супруг Вики. 20 июля 1870 г.
она с волнением писала лорду Гренвиллю: “Страна, которая является
для меня вторым домом, поскольку Альберт и вся моя семья связана с
ней крепкими узами, атакована и в опасности, и я не в состоянии по-
мочь ей”87.
В начале сентября 1870 г. войска Наполеона III попали в окружение
под Седаном. Жестокое сражение закончилось капитуляцией Франции.
Наполеон III был взят в плен, а 4 сентября в результате революции в
Париже во Франции была установлена республика88.
Немного позднее, 18 января 1871 г. в Зеркальном зале Версальско-
го дворца была провозглашена Германская империя, а ее императором
стал отец супруга Викки Фридриха Вильгельма, прежний король Прус-
сии Вильгельм I, в свою очередь унаследовавший корону у своего брата
Фридриха Вильгельма IV в 1861 г. Для Виктории это было радостное,
почти семейное событие, так как она надеялась в недалеком будущем
увидеть своего зятя главой мощной объединенной Германии.
Тем временем в самой Англии для Виктории события приняли не-
ожиданный оборот. После Седанской битвы французская императрица
с 14-летним сыном принцем Луи Наполеоном нашла убежище в Англии
под защитой королевы, а в марте 1872 г. сюда же прибыл опальный им-
ператор. В душе Виктории боролись два чувства - сострадание к преж-
нему кумиру и вражда к нему как к узурпатору и противнику родствен-
ной ей Пруссии. Первое чувство взяло верх. Подтверждение тому - тро-
гательная запись в дневнике об их встрече 27 марта 1871 г.89
322
Двор опасался распространения республиканских настроений на
Британские острова, и на это имелись основания. Для публики трон вы-
глядел свободным, а его владелица, скрываясь от парламента и публи-
ки, перебиралась из одного загородного дворца в другой. Не одобрялась
многими подданными и устоявшаяся прогерманская ориентация коро-
ны. Неожиданно выплыл на поверхность финансовый вопрос. Содер-
жание дворцов, яхты и самого двора обходилось нации в 385 000 ф. ст.
В конце 1870 г. был опубликован анонимный памфлет “Что она с ними
делает?”, имевший в виду расходование королевой отпущенных ей пар-
ламентом средств. Викторию обвиняли в том, что она использует госу-
дарственные деньги для умножения личного состояния, что в действи-
тельности имело место90. Премьер-министр Гладстон счел даже, что в
стране возник “королевский вопрос”. В послании к лорду Гренвиллю от
3 декабря 1870 г. он писал: “Говоря откровенно, королева невидима, а
принц Уэльский неуважаем”91. В британских городах Абердине, Бир-
мингеме, Кардиффе, Норвиче, Плимуте и некоторых райнах Лондона
возникли республиканские клубы. Демонстранты, собравшиеся на Тра-
фальгарской площади, с иронией говорили о “нищих принцах”, сидящих
на шеях налогоплательщиков, и требовали парламентского расследова-
ния всех расходов Двора.
В печати появились грубые выпады против королевской семьи.
Так, одна из радикальных газет в апреле 1871 г. известила читателей о
рождении третьего сына у принца и принцессы Уэльских под заголов-
ком “Новое нерадостное событие”. А на следующий день та же газета
поместила заметку о смерти новорожденного ребенка под еще более
обескураживающим названием “Счастливое избавление”, мотивируя
свою позицию тем, что рабочий класс не получит еще одного претен-
дента на государственные средства.
Противники новых солидных дотаций членам королевского дома
появились и в палате общин. Так, когда королева обратилась в Вест-
минстер за выделением 30 000 ф. ст. на свадьбу принцессы Луизы и еще
6000 на ежегодное содержание семьи, радикальные депутаты выступи-
ли с протестом. Чтобы успокоить недовольных, королева нарушила
уединение и лично открыла заседание парламента. Присутствие сувере-
на подействовало магически. Запрос Виктории был удовлетворен92.
К концу 1871 г. королева почувствовала себя лучше. Физический и
духовный кризисы почти миновали. И что еще важнее, республикан-
ская волна, захлестнувшая часть общества в начале 70-х годов и связан-
ная с расцветом британского либерализма и влиянием французской ре-
волюции, начала отступать.
Нельзя сказать, что жизнь Виктории после смерти Альберта была
лишена мужского внимания. Царствование каждого монарха отмечено
загадочными происшествиями. Были такие загадки и у Виктории. Таин-
ственностью окутаны ее взаимоотношения со слугой, шотландцем
Джоном Брауном.
Первоначально Браун был телохранителем королевы. Вскоре же
после кончины супруга она сделала шотландца еще и доверенным ли-
цом. В это время королеве было 44 года. Брауну - 39. Среди остальных
323
слуг он выделялся сообразительностью, а благодаря высокому росту и
крепкому телосложению великолепно выглядел в шотландской нацио-
нальной одежде - килте.
Первое время Браун исполнял мелкие поручения своей госпожи, но
постепенно его обязанности расширились, и он стал присматривать за
дворцовым хозяйством и даже вести серьезные беседы с королевой.
Так, из дневника Виктории и ее писем старшей дочери становится ясно,
что монархиня прислушивается к его оценкам окружающих людей и их
поступков. Со временем каждый из обслуживающего персонала выпол-
нял приказы Брауна как указания, исходящие от королевы, и опасался
его козней. Старшие дети, особенно принц Уэльский, признавали соба-
чью преданность “хитрого шотландца” Виктории, но ненавидели его,
так как были уверены, что он шпионит за ними.
Особую доверчивость, установившуюся между слугой и госпожой,
скрыть было невозможно, и при дворе поползли слухи, сочетавшие
правду, догадки и вымысел. Говорили, что после Альберта шотландец -
единственный мужчина, которому королева позволяет подсаживать ее
на пони или выносить на руках из экипажа. Стало известно, что он без
стука входит в спальню Виктории и остается там в течение многих ча-
сов. Не исключали при этом, что после смерти супруга вдова нашла уте-
шение в объятьях Брауна.
В светских салонах из уст в уста шепотом передавалась шокирую-
щая новость: Виктория тайно обвенчалась со слугой. Эта же тема была
развита в анонимном памфлете под названием “Миссис Джон Браун”93.
Странные отношения королевы с проворным шотландцем поверга-
ли в замешательство правительство. Виктории давали понять, что со-
провождение ее Брауном на торжественных мероприятиях нежелатель-
но. Королева отвечала, что никто не может заставить ее отказаться от
того, что она находит для себя удобным94.
В начале 1872 г. Браун доказал, что готов рисковать жизнью ради
спасения королевы. Опасность подстерегла Викторию около Букингем-
ского дворца. Когда она возвращалась домой после службы в соборе
Св.Павла, 17-летний фений Артур Коннор подбежал к дверцам ее экипа-
жа и направил на нее пистолет. Браун успел спрыгнуть с запяток кареты
и схватить преступника за горло. Весь этот эпизод с трогательной благо-
дарностью к слуге и в подробностях запечатлен в дневнике королевы95.
Впрочем наряду с пересудами об интимной связи Виктории и Брау-
на имела хождение и другая версия. Так, по мнению авторитетного спи-
ритуалиста Сигнора Дамиани, секрет Джона Брауна заключался в том,
что он являлся мощным медиумом, посредством которого дух принца
Альберта общался с королевой. Для проведения спиритических сеансов
они и закрывались на длительное время в ее покоях. В действительно-
сти это было время большого интереса к оккультизму, и королева в ее
горе могла подпасть под его влияние96.
Только в начале 80-х годов седая и располневшая монархиня пере-
стала быть предметом сплетен. В начале 1883 г. Браун заболел рожи-
стым воспалением, сопровождаемым сильной лихорадкой, и 29 марта
умер.
324
В описании смерти Брауна Виктория во многом повторяла свое
описание кончины Альберта97. Имелось сходство и в ее поведении.
По заказу королевы скульпторы изваяли статую Брауна в националь-
ном костюме, а его комната была оставлена в том же виде, как и при
жизни владельца.
Из семейных событий неприятным сюрпризом для Виктории в
1873 г. было объявление сына Альфреда (герцога Эдинбургского. -
Авт.) о его помолвке с единственной дочерью русского царя Алексан-
дра II Марией. Королеву смущало, что сын должен будет венчаться
по чуждому ее семье православному обряду и может стать русофилом.
Об этом она с тревогой сообщала в письмах к Викки от 16 и 19 июля
1873 г."
Свадьба состоялась в Петербурге в январе 1874 г. Виктория на ней
не присутствовала. Брак не стал поводом для осложнений между двумя
державами, хотя Альфред надолго потерял благосклонность матери и
считался в семье русофилом.
Особое место в судьбе и царствовании Виктории занимали ее отно-
шения с Б. Дизраэли, впервые ставшим главой консервативного прави-
тельства в 1868 г. Ему было 64 года, и он многие годы стремился к вер-
шинам власти, не брезгуя никакими средствами. Препятствием же явля-
лись его еврейское происхождение, отсутствие земельной собственно-
сти и занятие литературой. Накануне своего премьерства Дизраэли
прославился тем, что, перехватив инициативу у либералов и, в частно-
сти, у своего политического соперника Гладстона, провел через парла-
мент избирательный билль 1867 г. Фактически его усилиями был сде-
лан новый шаг в демократическом развитии британского общества.
Число избирателей увеличилось почти на 1 млн человек, или на 82,5%.
Причем на долю рабочих пришлось 30,5 % всего избирательного кор-
пуса99.
В британской элите не было человека, который оставался бы к
Дизраэли равнодушным. Одни говорили о его талантах, сочетавшихся с
авантюризмом и непорядочностью. Другие видели в нем сочинителя
модных романов и экстравагантного завсегдатая дамских салонов.
Он смутил душевный покой не одной светской красавицы, а женился на
даме старше его на 12 лет, которую боготворил до конца ее жизни.
Поводом для сближения королевы с лидером консерваторов послу-
жило преклонение последнего перед принцем Альбертом и сочувствие
к переживаниям вдовы. И вот Дизраэли - глава правительства. Вместо
официальных слов, произносимых в ходе формальной процедуры цело-
вания руки суверена при вступлении на этот пост, Виктория услышала
страстную клятву в любви и верности. 29 февраля 1868 г. королева пи-
сала об этой встрече старшей дочери : “Он не похож на других, очень
умен и чувствителен и сделал все, чтобы доставить мне удовольст-
вие”100. Начался обмен нежными посланиями и подарками. Дизраэли
преподнес Виктории свои новеллы, она ему - семейные фотографии и
примулы, собранные собственноручно в Осборнском парке. Во время
домашних приемов Дизраэли украшал этими цветами стол и не забывал
сказать гостям, что скромные растения сорваны самой королевой.
325
Первое премьерство Дизраэли продлилось всего лишь 9 месяцев.
Но за этот короткий период лидер консерваторов и королева успели
стать друзьями. И в годы пребывания у власти либерального кабинета
Гладстона дружеское общение Виктории с Дизраэли, возглавлявшим
оппозицию, продолжалось и облегчало королеве жизнь.
Расцвет же их отношений приходится на годы второго премьерства
Дизраэли (1874-1880). Причем чувства и поведение обоих сторон были
неординарными. Инициатором в их построении являлся Дизраэли. Был
ли это спектакль талантливого и расчетливого политика, а сам автор
актером задуманной пьесы? Простого ответа, как это бывает в слож-
ных вопросах, естественно, нет. Но события развивались в соответст-
вии с поставленной Дизраэли целью. Он был тщеславен и прагматичен,
а Виктория могла обеспечить ему желанный ореол близости к трону и
помощь в реализации политических планов. Путь же к сближению с ко-
ролевой был найден благодаря проницательности Дизраэли и его дон-
жуанскому опыту. Он увидел в Виктории не только государыню, как
Гладстон, но и страдающую женщину, и стал преклоняться перед той и
другой. Королева была названа им феей. И в этом уже содержался на-
мек, что одинокая вдова наделена необычной судьбой и благородными
качествами. А фея заслуживает восхищения. И Дизраэли не скупился на
комплименты. К тому же он объявил Викторию могучей правительни-
цей, чья доброта, ум и твердая воля позволяют ему вести государствен-
ные дела, и убеждал ее, что “живет для нее, работает только для нее и
без нее все теряет для него всякий смысл”. В своем кругу он как-то при-
знался: “Каждый любит лесть, и когда вы приходите к Ее Величеству,
вы должны поражать лестью”101.
К ужасу либералов и особенно Гладстона Дизраэли информировал
королеву обо всем, что происходит в кабинете министров и палате об-
щин. Никогда прежде она не получала столь полных сведений.
И все же нельзя все действия Дизраэли объяснять его рационализ-
мом. В 1874 г. лидеру консерваторов было уже 70. Несмотря на то что
его волосы с помощью краски оставались поразительно черными,
а одежда по-прежнему поражала экстравагантностью, он был достаточ-
но стар и часто страдал от бронхита и астмы, а после смерти в декабре
1872 г. любимой жены Мэри Энн жаловался на одиночество и нуждал-
ся в сочувствии. Виктория же, как никто другой, понимала тяготы его
вдовства. К тому же она не была безвольной личностью и, имея свои
амбиции, рассчитывала удовлетворить их при содействии нового пре-
мьера.
Учитывая всю сложность отношений суверена и ее первого минист-
ра вряд ли справедливо было бы утверждать, что Дизраэли манипули-
ровал королевой. Скорее всего его политика являлась более тонкой,
и он стремился активизировать роль королевы в делах государства, что-
бы при необходимости использовать ее влияние и заручиться поддерж-
кой. С этой целью порой он убеждал Викторию в противоречии с уста-
новившейся традицией и законами, что конституция отводит монарху
ведущую роль в правительстве и что она имеет право сместить минист-
ра, поддержанного палатой общин, если тот намеренно или по слабости
326
обманет государыню. Подобные высказывания смущали даже некото-
рых министров в правительстве Дизраэли. Так, министр иностранных
дел Э.Г.С. Дерби, сын прежнего главы правительства Э.Дж.С. Дерби,
с недоумением спрашивал премьера: “Разве не рискованно внушать ко-
ролеве идею чрезмерного могущества ее власти и пренебрежения к об-
щественному мнению?”102 Но Дизраэли был убежден, что хозяином по-
ложения всегда останется он.
Что же касается Виктории, то преклонение премьер-министра со-
творило чудо. Венценосная правительница покончила с затворничест-
вом, открывала и закрывала сессии парламента, присутствовала на смо-
трах войск, вручала награды. Имя Дизраэли, украшаемое самыми ярки-
ми эпитетами, постоянно упоминается в ее дневнике и письмах103.
Кроме того, как и в прежние годы, монархиня прониклась мыслью
о своей исключительности и значимости. Дизраэли вернул Англии ко-
ролеву, а ей самой нормальную жизнь. Государственные дела решались
в дружеской беседе. Подобно Мельбурну, затем Альберту Дизраэли
разъяснял Виктории суть политики кабинета, а она уже без лишних уси-
лий и с пониманием подписывала поступающие к ней бумаги.
В начале министерства Дизраэли произошло событие, сыгравшее
большую роль в укреплении колониальной мощи Великобритании.
В ноябре 1875 г. правительство по очень низкой цене с помощью баро-
на Л. Ротшильда скупило 44% акций Суэцкого канала, принадлежавше-
го властителю Египта - хедиву. Таким образом Англия приобрела пре-
имущественное право контроля над каналом104. Позиции на Ближнем
Востоке были закреплены, а подступы к Индии обеспечены. Премьер-
министр считал, что он сделал королеве персональный подарок. “Это,
конечно, превосходный шаг, и он может иметь далеко идущие послед-
ствия”, - записала королева в дневнике 24 ноября 1875 г.105
В свою очередь с приходом к власти Дизраэли у Виктории появи-
лась амбициозная мечта приобрести титул императрицы. Побудитель-
ным мотивом к этому явилось то, что супруг старшей дочери Викки
Фридрих был наследником своего отца германского императора Виль-
гельма I. А это означало, что, когда дочь будет коронована, достоинст-
во матери неизбежно пострадает.
8 февраля 1876 г. Виктория открыла парламент. Со времени смер-
ти Альберта чаще всего она прибывала в Вестминстер только в тех слу-
чаях, когда чего-то добивалась от парламентариев. На этот раз короле-
ва хотела показать, что она выполняет ее обязанности и достойна повы-
шения своего статуса. Но провести предложение, внесенное Дизраэли
по этому поводу, оказалось нелегко. Либералы атаковали премьер-ми-
нистра в обеих палатах, и только благодаря его настойчивости и упор-
ству Виктория получила желанный титул. А официальное провозгла-
шение королевы императрицей Индии состоялось в Дели 1 января
1877 г. В тот же день был дан торжественный обед в Виндзоре. Своих
гостей Виктория поразила огромным количеством больших жемчужин
и бриллиантов, сверкавших на ее одежде. Среди них сиял и знаменитый
бриллиант “Звезда Индии”. Все это было подарено ей индийскими
принцами и махараджами106.
327
Чем же новая императрица могла отблагодарить своего премьера?
Найденное средство не было неожиданным. Дизраэли в отличие от дру-
гих политиков не мог гордиться знатным происхождением, и королева
уже давно собиралась повысить его социальный статус. И августа
1876 г. премьер-министр стал лордом Биконсфилдом.
В прессе такой обмен титулами не остался незамеченным. Журнал
“Панч” опубликовал карикатуру с подписью “Новые короны для ста-
рых господ”. На ней Дизраэли в одеянии визиря преподносил Виктории
императорскую корону. Она же предлагала ему головной убор пэра.
Гладстон назвал происшедшее театральным спектаклем107.
Тем не менее с точки зрения международного престижа провозгла-
шение королевы императрицей придало Британии и ее заокеанским
владениям большую значимость, а название Британская империя стало
официальным.
Одним из важных направлений политики кабинета Дизраэли был
его охранительный аспект, т.е. защита короны, палаты лордов и англи-
канской церкви, что соответствовало убеждениям самой Виктории.
Но, помимо этого, Дизраэли вошел в историю как основоположник со-
циального, или народного, консерватизма. На протяжении 1874—1876 гг.
его правительство осуществило социальное законодательство в самом
большом объеме по сравнению с любым другим кабинетом вплоть до
1906 г.108 С полным доверием к своему премьеру Виктория подписыва-
ла внесенные консервативным кабинетом и принятые парламентом за-
коны. Со времени Дизраэли консерваторы по существу стали партией
королевы.
Единственной областью, в которой обнаружились некоторые раз-
ногласия между королевой и ее премьером, был так называемый Вос-
точный вопрос. Суть его заключалась в том, что в начале 70-х годов
Россия, поддерживая национально-освободительное движение народов
Болгарии, Боснии и Герцеговины, входивших в состав Османской им-
перии, успешно восстанавливала свое влияние на Балканах, утрачен-
ное после Крымской войны. В 1875 г., когда Турция начала репрес-
сии против славянских народов, обе империи балансировали на грани
войны.
В сложившейся обстановке значительная часть общественного
мнения Англии проявила сочувствие к восставшим. Правительство же,
по традиции стремившееся сохранить баланс политических сил в Евро-
пе и отстоять британские позиции на Ближнем Востоке, заняло сторо-
ну султана. Но поддержка не означала вступление в войну. Большинст-
во членов кабинета были против вовлечения Англии в военные дейст-
вия против России. Умеренные позиции занимали и либералы .
Самой воинственной оказалась Виктория. С началом русско-турец-
кой войны (1777-1778) императрица писала и телеграфировала Дизраэ-
ли почти каждый день, требуя отказа от нейтралитета. При этом ее са-
мым сильным козырем была угроза отречения109. Дизраэли и его кол-
леги в правительстве пребывали в растерянности. Гладстон же расце-
нил такое вмешательство в дела кабинета как неконституционный акт
и “насилие” над министрами.
328
В итоге Англия все же осталась в стороне от конфликта, а война за-
вершилась победой России. Правда, результаты победы, зафиксирован-
ные в Сан-Стефанском договоре с Турцией, были несколько ослаблены
благодаря усилиям Дизраэли на последующем Берлинском конгрессе.
Виктория была удовлетворена и встретила главу правительства в Вин-
дзоре с почестями110.
На выборах 1880 г. благодаря блестящей избирательной кампании,
проведенной Гладстоном, победили либералы. Дизраэли ушел в отстав-
ку, а через несколько месяцев уже не мог подняться с постели. 19 апре-
ля 1881 г. лорда Биконсфилда не стало. На его могиле в поместье
Хьюэндин сохранилась мраморная плита в форме венка из примул с
надписью: “От преданного и любящего суверена и друга. Виктория”.
Гладстон же не смягчился и после кончины Дизраэли. Его суждение
о политическом сопернике, прозвучавшее в частной беседе, было кате-
горичным и насмешливым: “Как он жил, так и умер - все спектакль без
капли искренности”111.
После победы либералов Виктория сделала все возможное, чтобы
Гладстон не занял пост главы правительства. Она предложила сформи-
ровать правительство лидерам либералов лорду Гартингтону, затем
лорду Гренвиллу, но оба отказались в пользу “виновника победы” Глад-
стона112. Пришлось королеве подчиниться обстоятельствам.
Возвратившемуся к власти премьеру было за 70, королеве - за 60.
Каждый из них был достаточно самолюбив, чтобы подлаживаться под
другого. После поклонения, проявленного к ней Дизраэли, Виктория
с трудом привыкала к новому премьер-министру. Популярность Глад-
стона приводила ее в уныние. «Для меня, - жаловалась она Викки 2 мая
1880 г. - “народный Уильям” (так называли Уильяма Гладстона. - Лепт.)
является самой нежелательной фигурой для деловых отношений.
Он вежлив и предан, но обладает демоническим нравом и неуравнове-
шенным характером”113. Еще больше не устраивало королеву сотруд-
ничество Гладстона с радикальным крылом либералов и включение в
правительство Чарлза Дилка и Джозефа Чемберлена, склонных к рес-
публиканским настроениям. Радикалов в целом она считала экстреми-
стами, а любые реформы, исходящие от них, подрывом основ конститу-
ции и власти монарха. Радикальной мерой она сочла и реформу кабине-
та Гладстона по расширению начального образования для широких
масс. По ее мнению, “давать образование низшим классам при том, что
безработица и нищета возрастают, аморально и может возбудить у них
необоснованные надежды на улучшение своего положения”.
А что же Гладстон, начавший свою карьеру как консерватор и со
временем изменивший свои взгляды на либеральные? Он не был рес-
публиканцем. Но при своих монархических убеждениях глава прави-
тельства ограничивал корону исполнением символических законода-
тельных и церемониальных функций. Возрожденная при Дизраэли ак-
тивность монархини его угнетала и раздражала.
Вместе с тем, будучи проницательным политиком, Гладстон пред-
видел, что развитие демократии подтачивает основы института монар-
хии. В одной из частных бесед он признался: “Формально я не вижу при-
329
чин, чтобы монархия не продолжала существовать еще в течение сто-
летий, но тот путь, при котором корона вмешивалась во внутриполити-
ческие и внешнеполитические дела при предыдущем правительстве, по-
колебал мои убеждения”114.
Любые возражения королевы, возникающие при подготовке ре-
форм, Гладстон игнорировал. Бумаги возвращались во дворец снова и
снова, пока монархиня не подписывала их в первоначальном варианте.
Возражения со стороны Виктории были, но теперь они чаще всего
совпадали с предложениями консервативной оппозиции. За период пра-
вления либералов королеве удалось наладить контакт с преемником
Дизраэли - новым лидером тори Робертом Сесилем, третьим маркизом
Солсбери. Нарушая конституцию, она регулярно отправляла Солсбери
копии правительственных бумаг, втайне информируя его о предстоя-
щих шагах правящего кабинета. Взаимопонимание, установленное с ли-
дером тори, помогло королеве предотвратить в 1884 г. конституцион-
ный кризис и добиться компромисса между либералами и консерватора-
ми. А обстоятельства сложились так, что в феврале 1884 г. Гладстон
представил в парламент новый избирательный билль, предусматривав-
ший распространение на сельскую местность правил городов и значи-
тельно расширявший состав избирателей. Палата общин проголосова-
ла за предложение либерального кабинета, но палата лордов забалло-
тировала новый законопроект. Создалась тупиковая ситуация, при этом
радикалы начали массовую кампанию за ограничение привилегий пала-
ты лордов, являвшейся бастионом консерватизма.
Это первое серьезное выступление против наследственных прав
аристократии насторожило королеву, и она решила действовать само-
стоятельно. В итоге при ее посредничестве, признанном обеими парти-
ями, был принят компромиссный вариант закона115. Впервые Гладстон
и Виктория испытывали удовлетворение друг другом.
В соответствии с избирательным биллем 1884 г. британская демо-
кратия приблизилась ко всеобщему избирательному праву для мужчин.
Число избирателей увеличилось на 1 млн 700 тыс. человек. В подавля-
ющем большинстве они представляли трудящихся. Для либералов и
консерваторов встал вопрос о завоевании доверия “человека с ули-
цы”11*.
Существенные расхождения между Викторией и Гладстоном каса-
лись и вопросов внешней и имперской политики. Здесь Гладстон пытал-
ся реализовать принцип уважения не только к сильным, но и к слабым
народам. Его нельзя было назвать строителем империи, и в колониаль-
ных делах он чаще всего предпочитал отступление насилию. Так, пер-
вая англо-бурская война (1880-1881) закончилась предоставлением
Трансваалю независимости.
Еще одним поводом для раздоров между Викторией и Гладстоном
являлся ирландский вопрос. К 1886 г. глава кабинета пришел к выводу
о необходимости предоставления Ирландии самоуправления (гомруля),
предусматривавшего восстановление автономного двухпалатного пар-
ламента по образцу органа, существовавшего в конце XVIII в. Предви-
дя сложности прохождения предполагаемого билля через палату лор-
330
дов, Гладстон инициировал новую кампанию за сокращение ее полно-
мочий. Речь шла о том, чтобы либерализовать этот орган путем влива-
ния в его состав пожизненных пэров, которые назначались бы премье-
ром и, естественно, стали бы его сторонниками. Отношения с дворцом
вновь осложнились. Для королевы и ее аристократического окружения
лорды воплощали цвет нации и обеспечивали независимость парламен-
та в то время, как палата общин зависела от избирателей, которые, по
словам королевы, часто сожалели о требованиях, предъявленных ими
депутатам117.
Что же касается гомруля, то королева путем конфиденциальных
посланий отдельным либералам за спиной Гладстона приложила нема-
ло усилий, чтобы расколоть их ряды. По современным понятиям она
действовала как лоббист. Самого же премьер-министра Виктория веж-
ливо предупредила, что закон о самоуправлении Ирландии не получит
ее одобрения118. Благодаря ожесточенному сопротивлению консерва-
тивной оппозиции, англиканского духовенства, самой монархини и рас-
колу среди либералов планы Гладстона оказались сорванными. Сторон-
ники “народного Уильяма” теряли свое влияние, и на всеобщих выборах
в сентябре 1886 г. их ждал полный провал.
Консервативное правительство возглавил лорд Солсбери (1886-
1892). Для Виктории это была передышка в ее затянувшемся противо-
стоянии с Гладстоном. Между тем его популярность еще не угасла, и в
1892 г. 83-летнему Гладстону вновь удалось завоевать симпатии избира-
телей и сформировать правительство. Он был почти глухой и из-за бо-
лезни горла с трудом говорил. Но твердость духа и уверенность в своих
замыслах оставались у Гладстона прежними.
Традиционные встречи глав государства и правительства, как и пре-
жде, не отличались теплотой, а скорее превратились в спектакль. Важ-
ные вопросы на них не обсуждались, и каждый считал другого притвор-
щиком. В центр политической борьбы вновь выдвинулся вопрос о гом-
руле. Но и на этот раз Гладстон не добился успеха. В марте 1894 г. “ве-
ликий старец”, как стали именовать либерального реформатора, добро-
вольно покинул свой пост. Теперь уже навсегда119.
Получив известие о смерти Гладстона, Виктория записала в дневни-
ке 19 мая 1898 г., что он был очень умен, полон идей, обладал оратор-
ским даром и умел повести за собой массы, проявлял лояльность к ней
и готовность что-либо сделать для ее семьи. Но при этом добавила:
“Я уверена, что неосознанно он порой вредил делу”120.
Сам же Гладстон в одной из записок, обнаруженных в его архиве,
провел интересную аналогию взаимоотношений между королевой и
собственной персоной, с одной стороны, и всадником и мулом - с дру-
гой. Вспоминая свое сицилийское путешествие верхом на муле в 1838 г.,
он писал: “Животное абсолютно не воспринимало знаки доброты, вы-
раженные словами или поглаживанием руки, но его непритязательный
труд был нужным... Я ехал на спине мула много часов, и он не сделал
мне зла, а сослужил хорошую службу... Я же не смог проявить к живот-
ному даже малости чувств, я совсем не дорожил им... Сицилийский мул
был для меня тем же, чем я был для королевы”121. Видимо, Гладстон
331
считал, что, будучи равнодушным к милости Виктории, он делал полез-
ную работу для нее же самой.
5 марта 1894 г. лорд Розбери поцеловал руку королеве как преем-
ник Гладстона на посту главы либерального кабинета. Это была более
приемлемая фигура для Виктории, а в августе 1896 г. после всеобщих
выборов у власти оказался консервативный кабинет лорда Солсбери.
Для Виктории, как и при его первом кабинете, наступила благополуч-
ная пора отношений с премьер-министром.
От государственных дел обратимся к личной жизни Виктории и
восприятию ее обществом. Здесь многое изменилось. Боль, связанная с
потерей супруга, постепенно утихала. Королева научилась находить
опору в самой себе. Траур в ее окружении понемногу отступал. Дизраэ-
ли помог ей поверить в собственные силы.
Страна достигла промышленного и морского могущества и процве-
тала благодаря внутренней стабильности, к которой Виктория имела
причастность, мудрым политикам, возглавлявшим правительство, и в
некоторой степени протестантской религии, поощрявшей в ее привер-
женцах упорство в труде. И королева, сочетавшая в своем облике про-
стоту и величие, гармонично вписалась в свою эпоху и стала символом
процветания королевства. Но время брало свое.
Виктория старела. В 70 лет она начала слепнуть от катаракты и
почти не расставалась с креслом на колесах из-за распухших ног. Одна-
ко борцовские качества не покинули королеву и проявлялись не только
в политике, но и в ее споре с техническими новшествами. Страна осва-
ивала достижения техники. В 80-е годы электрификация затронула ряд
общественных заведений Лондона, включая Британский музей. Дворцы
же по распоряжению королевы еще долго освещались свечами.
В 1892 г. обитателям шотландского замка в Бальморале ежедневно раз-
давали по пять свечей. Еще более парадоксальные вещи происходили с
пишущими машинками. В государственных учреждениях они вошли в
обиход с 1880 г., и переписка между министерствами осуществлялась с
помощью машинописных текстов, но все, что поступало во дворец, по
требованию монархини копировалось для нее вручную дочерьми или
личным секретарем Генри Понсонби.
С тех пор, как Виктория получила корону императрицы Индии,
особенностью ее Двора стало пристрастие ко всему индийскому. Не
имея возможности посетить эту экзотическую страну, она решила соз-
дать свою “домашнюю” Индию. Помимо обустройства “восточной ком-
наты” в королевском поместье в Осборне, монархиня собирала коллек-
ции индийских ремесел, камней, тканей и посуды. Но самым примеча-
тельным были индийские слуги и в первую очередь приближенный к
королеве Абдул Карим. Этот статный молодой красавец с черной боро-
дой, сверкающими черными глазами, облаченный в белый или желтый
тюрбан и повязанный золотым поясом-шарфом, скорее напоминал ин-
дийского князя, чем прислужника. Впрочем для этого имелись основа-
ния. Абдул Карим был сыном врача из Агры и на родине служил писа-
рем. С его помощью, чтобы подчеркнуть свою духовную связь с Инди-
ей, королева начала изучать хинди122.
332
В 1887 и 1897 гг. страна отметила золотой и бриллиантовый юби-
леи королевы - 50-летие и 60-летие ее правления. Празднования озна-
меновали триумф общественного влияния королевы. Были выпущены
юбилейные медали и монеты, в соборах состоялись благодарственные
службы, а парады судов и войск продемонстрировали морскую и воен-
ную мощь Великобритании.
В эти дни везде, где появлялась королева, толпы народа собирались
на улицах, чтобы приветствовать ее. Виктория, как свидетельствуют за-
писи в ее дневнике от 19 и 20 июня 1887 г., испытывала радость и удов-
летворение123. Люди же нуждались в кумире и зрелищах, чтобы разно-
образить унылую повседневность. К тому же Виктория как многодет-
ная мать, склонная к непритязательному образу жизни и даже в торже-
ственные дни предпочитавшая вдовий чепец короне, вызывала добрые
чувства124.
В дни празднования бриллиантового юбилея 23 июня 1897 г. газета
“Дейли Мэйл” писала, что, хотя для многих подданных монархия явля-
ется символической, Виктория, промелькнувшая в проезжавшей каре-
те, была для них самой важной персоной в мире125. Авторитет и влия-
ние конституционного монарха парадоксальным образом соединялись с
исчезновением его реальной власти.
Оставался еще один мирок, в котором Виктория царствовала без-
раздельно. Таковой была ее семья. К юбилею королевы все дети всту-
пили в брак, и жизнь некоторых из них оказалась трагичной. Так, рано
ушла из жизни принцесса Алиса. Она заразилась дифтерией при уходе
за больными детьми и умерла 14 декабря 1878 г. в возрасте 35 лет. В се-
мейной усыпальнице, расположенной в Виндзоре, дворцовый скульптор
Джозеф Боэм запечатлел ее в образе склоненной фигуры с мертвым
ребенком на руках. Оставшиеся без матери дети принцессы стали по-
стоянной заботой Виктории. Одна из дочерей Алисы, принцесса Викто-
рия Баттенберг, приезжала в Виндзор рожать своего первого ребенка.
Родившаяся девочка была названа в память о бабушке Алисой. В даль-
нейшем она стала матерью супруга королевы Елизаветы II принца Фи-
липпа и бабушкой принца Уэльского Чарлза.
В 1884 г. в 29-летнем возрасте умер один из четырех сыновей Вик-
тории - Леопольд, с детства больной гемофилией. Образ вдовы и мате-
ри, оплакивающей своих детей, создавал вокруг королевы ореол муче-
ничества и вызывал сочувствие общества.
Судьба младшей дочери Виктории - принцессы Беатрис - может
послужить сюжетом для романа. По сведениям дворцовых служащих,
принцесса была влюблена в сына императора Наполеона Ш молодого
принца Луи Наполеона, который отвечал ей взаимностью. Несмотря на
различие в вероисповедании (Луи Наполеон был католиком. - Авт.),
а главное, в политическом статусе, молодые люди, видимо, надеялись
соединиться в браке. Но вмешались обстоятельства. В 1879 г. началась
война с зулусами в Южной Африке, и 23-летний принц императорской
крови настоял, чтобы его включили в состав экспедиционного корпу-
са. Возможно, таким образом он надеялся проявить себя и завоевать
симпатии британцев в целях дальнейшего устройства своей судьбы.
333
1 июня 1879 г., находясь в разведке, принц наткнулся на засаду зулусов.
Его конь испугался и отказался подчиняться всаднику. В одно мгнове-
нье Луи Наполеон был пронзен металлическим копьем зулуса.
Виктория была потрясена этой страшной вестью. Беатрис пребы-
вала в глубоком горе. Мать, вряд ли, не подозревала о чувствах дочери
к молодому Луи Наполеону. Но, несмотря на глубокую симпатию к
принцу, она видела серьезные религиозные и политические препятст-
вия к их браку. Как бы там ни было, но еще до гибели принца Виктория
намеревалась выдать младшую дочь за бывшего супруга ее умершей се-
стры Алисы - великого герцога Луиса Гессен-Дармштадтского, по воз-
расту вдвое старше Беатрис и имевшего пятерых детей. К досаде коро-
левы ее планам не суждено было осуществиться. Герцог вступил в
связь, а в 1884 г. тайно женился на разведенной супруге российского ди-
пломата Александре Колемайн. Беатрис же в июле 1885 г. сочеталась
браком с принцем Генри Баттенбергским126.
Удачливым оказался третий и самый любимый сын королевской
четы - Артур, неоднократно участвовавший в колониальных войнах и
дослужившийся до чина фельдмаршала. Виктория очень гордилась им и
мечтала увидеть его во главе британской армии, но ее просьбы по это-
му поводу, обращенные к премьер-министру Солсбери, не получили
поддержки127. Все сыновья и дочери королевы, кроме Луизы, имели де-
тей. При содействии Виктории многие члены ее семьи из третьего по-
коления породнились с представителями монархических домов Европы,
включая Россию. Не случайно Викторию называли бабушкой европей-
ских монархов.
В целом в 90-е годы XIX в. авторитет Виктории постоянно возрас-
тал. Несчастья, происходившие в королевском доме и тем более поку-
шения на Викторию, как правило, вызывали очередной взрыв народной
любви. Всего же попыток устрашения Виктории насчитывалось семь.
Помимо описанных выше двух, королеву ударяли тростью по голове и
четыре раза стреляли в нее из пистолета. Но каждый раз, кроме послед-
него покушения, пистолеты преступников были заряжены дробью и
серьезной угрозы для жизни Виктории не представляли. Последнее же
и самое серьезное покушение случилось в марте 1882 г. на железнодо-
рожном вокзале в Виндзоре и было предотвращено учеником Итонско-
го колледжа. Мальчик успел ударить некоего Р. Маклина зонтиком по
руке в то время, когда он только целился в королеву. В результате ни-
кто не пострадал.
И все же авторитет не тождествен власти. А реальные полномочия
королевы заметно ограничивались. Каждая избирательная реформа не-
уклонно снижала влияние титулованной аристократии. Почти все муж-
ское население страны участвовало в выборах. Парламент превращал-
ся во все более представительный орган, а сформированное им прави-
тельство и особенно его глава - премьер-министр постепенно отбирали
из рук суверена его исполнительные функции.
В государственном масштабе коренным образом изменившаяся си-
туация требовала нового конституционного подхода к монархии. Он
был выработан известным экономистом и редактором журнала “Эко-
554
номист” Вальтером Баджеготом в его классическом труде “Английская
конституция”, опубликованном еще в 1867 г. Автор книги пришел к вы-
воду, что фактическая власть в стране принадлежит кабинету минист-
ров, который в свою очередь опирается на партию, контролирующую
палату общин. По своей структуре и полномочиям все это отличается
простотой и свидетельствует, по словам автора, о том, что “мы имеем
в Соединенном Королевстве республику”.
Фасад же государственного управления, персонифицированный мо-
нархией, Баджегот рассматривал как театральный спектакль, который
давал упрощенное представление о действиях правительства. “При ко-
ролевской власти, - отмечал он, - внимание нации концентрируется на
одной личности... ее власть будет достаточно сильной и в будущем, так
как она апеллирует к самым различным чувствам людей. Жизнь монар-
ха окружена тайной, и нам не следует рассеивать эту магию с помощью
дневного света”128. Вместе с тем Баджегот обнаружил и более глубокий
смысл существования монархии. По его убеждению, королевская
власть, возвышающаяся над партиями, способна нейтрализовать поли-
тическую борьбу, быть охранительным департаментом внутренней ста-
бильности и символом национального единства.
Своеобразной и отвечающей сложившимся в народе представлени-
ям о Виктории и ее доме оказалась идея Баджегота о семье, находящей-
ся на троне, как нравственном образце нации.
Наблюдая упадок влияния суверена на политические процессы,
Баджегот определил путь выживания монархии в ее обращении к цере-
мониальным функциям, где каждый член королевской семьи может за-
нять свое место. Учитывая психологию британцев, Баджегот предви-
дел, что такие события, как свадьба или коронация, будут привлекать
внимание значительной части населения в большей степени, чем те или
иные правительственные мероприятия. Еще более важно то, что авто-
ру классического труда “Английская конституция” принадлежит при-
оритет в определении трех прав суверена: праве быть информирован-
ным по всем важнейшим вопросам, праве награждать за государствен-
ные заслуги и праве давать советы главе правительства или министрам.
Соотношение функций суверена и кабинета министров и роль мо-
нархии как наднационального института, выявленные Баджеготом, во
многом актуальны и в современной Англии. Во времена Виктории кни-
га “Английская конституция” постепенно завоевывала читателя, но не
все выводы ее автора отражали реальность.
Виктория назвала Вальтера Баджегота радикалом, подрывающим
основы монархии, и была недовольна тем, что ее внук Георг, будущий
наследник престола во втором поколении, знакомится со столь сенсаци-
онным трудом129. Такая позиция королевы неудивительна, поскольку
Баджегот смотрел на саму Викторию как на “отставную вдову” (retired
widow), имея в виду, что она практически не у дел. На момент выхода
книги наблюдения автора соответствовали действительности. Виктория
фактически устранилась от выполнения многих государственных обя-
занностей. Но впереди были еще 34 года правления королевы с пробу-
ждением ее активности в период нахождения у власти консервативных
335
кабинетов Дизраэли и лорда Солсбери, ее борьба с Гладстоном, кото-
рая не всегда заканчивалась поражением, и, наконец, ее посредничест-
во в достижении компромисса между партиями в 1884 г.
Можно сказать, что в целом Баджегот правильно наметил тенден-
цию, определившую неминуемый уход монарха в политическую нейт-
ральность. Но в случае с Викторией этот процесс еще не завершился.
К тому же политический опыт монарха, долгое время стоявшего во
главе государства, всегда оказывается богаче опыта главы кабинета,
ограниченного в своем правлении. Правы, на наш взгляд, те исследо-
ватели, как, например, известный американский историк С. Вейнтра-
уб, которые, отдавая должное труду Баджегота, не абсолютизируют
его выводы. Интересна и оправданна мысль английского социолога
лейбориста Г. Дж. Ласки, полагающего, что в период правления Вик-
тории и позднее монарх сохранял за собой весьма существенную ре-
зервную власть, которая использовалась во время политических кри-
зисов и могла потребоваться при каких-либо непредвиденных ситуа-
циях130.
Между тем и после прихода к власти консервативного правительст-
ва и установления гармоничных отношений с премьер-министром воз-
никало немало поводов для беспокойства королевы. Так, к концу ее
царствования наступил кризис в прогерманских симпатиях дворца. Про-
исхождение принца Альберта, а также брак Викки с немецким крон-
принцем по-прежнему располагали Викторию в пользу Германии. Но
появились и новые факторы.
Прежде всего изменения коснулись управления германской импе-
рией. С 1887 г. немецкий кронпринц, супруг Вики, был болен (рак гор-
ла), и его пребывание на троне под именем Фридриха Ш, как и царство-
вание Викки, продлилось лишь с марта до июня 1888 г. Их сын Виль-
гельм II, унаследовавший императорскую корону после смерти отца и
находившийся под влиянием канцлера Бисмарка, ни в чем не собирался
уступать Англии, и что особенно обижало британскую правительницу -
начал третировать свою мать131.
Вместе с тем имелись и более серьезные причины для англо-гер-
манского разлада. К концу XIX в. Германская империя в экономиче-
ском и военном отношении догоняла Британскую, и соперничество этих
держав не только в колониях, но и в Европе возрастало. В прессе каж-
дого из государств началась кампания против страны-соперницы. Все
это было неподвластно Виктории.
Последний всплеск активности монархини пришелся на период
англо-бурской войны (1899-1902). Под влиянием общих настроений,
преодолевая свои немощи, она месяцами разъезжала по стране: высту-
пала перед эскадронами, отправлявшимися на африканский фронт,
открывала госпитали, как в Крымскую войну, лично награждала вете-
ранов132.
Между тем силы королевы иссякали. В 1900 г. она не могла уже чи-
тать бумаги без помощи дочерей и личного секретаря. Ревматическая
боль в суставах стала постоянной. Ночью сон приходил только с мор-
фием. Новые душевные страдания причинили известия о смерти от ра-
336
ка горла в июле 1900 г. сына Альфреда, а в ноябре того же года о без-
надежной болезни дочери Викки. “Снова и снова ужасные удары судь-
бы и непредвиденные потери заставляют меня рыдать”, - писала коро-
лева в дневнике133. Тем не менее она призналась одной из фрейлин, что
после смерти Альберта хотела умереть, а сейчас хочет жить, чтобы по-
мочь своей стране и тем, кого любит. Ее желание жить и править под-
креплялось и недоверием к своему наследнику, увлекавшемуся азарт-
ными играми и амурными похождениями.
16 января 1901 г. Виктория не смогла подняться с постели. Врач
определил паралич правой стороны. 22 января королева скончалась.
Из Осборна, где Виктория провела последние дни жизни, тело мо-
нархини доставили в Лондон, и траурная процессия двинулась по улицам
столицы, заполненным молчаливой толпой. По описанию Дж. Голсуор-
си, в воздухе “стояла серая мгла непролитых слез”134. Смерть старой ко-
ролевы не стала неожиданностью, но настроение собравшейся публики
было тревожным. “Казалось, что колонна, державшая небосвод, обру-
шилась”, - писал о тех днях современник событий британский поэт
Роберт Бриджес135.
Согласно завещанию Виктории ее хоронили по воинскому обряду.
Среди маршировавших войск, принцев и генералов, сопровождавших
катафалк верхом на лошадях, выделялись два всадника - новый британ-
ский король Эдуард VII и его племянник германский император Виль-
гельм П. Пройдет немного времени и их отношения станут почти враж-
дебными. Немецкий компонент, за сохранение которого так ратовала
Виктория, будет исчезать из жизни английского двора.
Тайны, присутствовавшие в судьбе королевы, остались с ней и пос-
ле смерти. Под стеганой подкладкой на дне гроба лежали алебастровый
слепок с руки принца Альберта и его любимый халат. С ними соседст-
вовали фотография слуги Джона Брауна и прядь его волос136. Тени раз-
ных по своему положению мужчин, согласно воле монархини, соедини-
лись в ее смерти. Виктория уносила в небытие загадки своей личной
жизни. Но главное, ее уход завершал эпоху, знаменовавшую могущест-
во Великобритании и названную именем королевы.
* * *
Виктория находилась на троне 64 года - период, равный жизни двух
поколений. За это время изменилась экономика страны, иным стало об-
щество и существенно сократились полномочия конституционного мо-
нарха.
Промышленный переворот, начавшийся в XVIII в., вступил в свою
завершающую стадию. Великобритания превратилась в самую мощную
индустриальную державу мира. А с расширением колониальных владе-
ний и установлением государственного контроля над Индией консоли-
дировалось новое образование - Британская империя.
В общественной жизни прежние хозяева страны - земельные собст-
венники по своему богатству и влиянию уступали место крупным про-
мышленникам и торговцам. “Шестьдесят четыре года покровительства
собственности, - писал Дж. Голсуорси, - создали крупную буржуазию,
22 Россия и Британия Вып 3
337
приглаживали, шлифовали, поддерживали ее до тех пор, пока она мане-
рами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти не пе-
рестала отличаться от аристократии”137.
XIX век стал временем расцвета либерализма, подъема средних
классов, к которым в те времена относились мелкие предприниматели
и имевшие доходные профессии врачи, юристы, художники, журнали-
сты. Несмотря на наличие безработицы и нищеты, благосостояние
большей части населения неуклонно повышалось.
В результате трех избирательных реформ в 1832, 1868 и 1884 гг. и с
постепенным введением всеобщего бесплатного начального образова-
ния возросла политическая активность общества. Успех на парламент-
ских выборах во многом определялся теперь политическими симпати-
ями рядового избирателя. Для завоевания его предпочтений политиче-
ские группировки тори и вигов вырабатывали собственные програм-
мы, выстраивали организационные структуры и превращались в наци-
ональные партии. Благодаря массовой опоре укреплялась власть пар-
ламента, а вместе с ним и влияние его руководящего органа - кабине-
та министров. Возрастал престиж лидеров консерваторов и либералов,
а в случае победы партии на выборах - их премьер-министров. Консти-
туционный монарх, не теряя своего общественного влияния, уходил в
политическую нейтральность. Результаты этого процесса были за-
фиксированы в упоминавшейся выше книге Вальтера Баджегота
“Английская конституция”. Автор труда сумел уловить основные тен-
денции эволюции монархической власти в Великобритании. Но сам
процесс, приходившийся на годы правления Виктории, был сложнее и
противоречивее.
Уже с первых лет пребывания на троне Виктория оказалась в вы-
игрышном положении по сравнению со своими одряхлевшими и раз-
вращенными предшественниками, так как она отличалась от них мо-
лодостью, обаянием, строгим воспитанием и нравственным поведе-
нием. Все время ее нахождения на троне можно разделить на пять пе-
риодов.
В первый период - от обретения короны в 1837 г. до замужества в
1841 г. - Виктория вникала в обязанности конституционного монарха.
В государственных делах она играла роль послушной ученицы дяди
Леопольда и премьер-министра вигского правительства лорда Мель-
бурна. Единственным исключением был так называемый “кризис опо-
чивальни”, когда Виктория отвергла требование лидера тори Р. Пиля
о замене фрейлин из среды вигской элиты на представительниц торий-
ской аристократии. Своей несговорчивостью Виктория продлила прав-
ление кабинета лорда Мельбурна, чего она и добивалась. Этот инци-
дент свидетельствовал о реальном праве монарха влиять на назначение
премьер-министра, игнорируя ситуацию, в палате общин.
Второй период начался с брака Виктории с немецким принцом Аль-
бертом в 1841 г. и закончился смертью последнего в 1861 г. Этот отре-
зок времени большинство историков определяют как дуалистическую
монархию, так как, по их мнению, на троне восседали оба супруга при
лидирующей роли Альберта.
338
Объективно в эти годы кабинет укреплял свои позиции в области
исполнительной власти. Сказывались результаты избирательной ре-
формы 1832 г. Но благодаря компетентности принца и его интересу к
государственным делам монархии удавалось влиять на решения кабине-
та, особенно в вопросах внешней политики.
Р. Пиль доверял Альберту и советовался с ним. С этого времени на-
метилось сближение дворца и торийской фракции парламента, которое
в дальнейшем лишь укреплялось. Возросла зависимость воздействия
монарха на политику от его личности и взаимоотношений с премьер-
министром. Показательны в связи с этим конфликты королевской четы
с министром иностранных дел, а затем премьером вигского правитель-
ства лордом Пальмерстоном. Причиной столкновений являлись различ-
ные подходы сторон к вопросам внутренней и внешней политики.
В большинстве случаев дворец должен был мириться с независимым
поведением Пальмерстона и вопреки своему желанию санкционировать
его возвращение к власти после короткой отставки.
Монархия переживала подъемы и падения своего престижа.
Третий период (1861-1874) характеризовался отходом Виктории от
активного участия в государственных делах в связи с личной трагеди-
ей - смертью супруга. Аудиенции с министрами и утверждение парла-
ментских биллей превратились в почти формальную процедуру. Для
правительства возникла проблема “пустого трона”, что неизбежно вле-
кло за собой расширение полномочий кабинета министров и особенно
премьер-министра за счет прерогатив короны. “Бразды правления,
с трудом поднятые Альбертом, - писал Л. Стрэчи, - неизбежно выпали
из рук Виктории и были подхвачены мистером Гладстоном, лордом
Биконсфилдом и лордом Солсбери”138. Необратимость процесса опре-
делялась тем, что премьер-министрами страны были выдающиеся дея-
тели, обладавшие ясным умом, широким кругозором и целеустремлен-
ностью.
С устранением Виктории от конституционных обязанностей связан
в какой-то мере всплеск республиканских настроений, который в целом
не стал угрожающим для трона.
Именно в этот период был подготовлен классический труд Вальте-
ра Баджегота “Английская конституция”, отразивший эволюцию кон-
ституционной монархии. Правда, автор несколько опередил события.
Четвертый период совпал по времени нахождением у власти вто-
рого кабинета Дизраэли (1874-1880) и отмечен духовным возрождени-
ем Виктории, расцветом ее активности в государственных делах. Одна
из причин - проницательность Дизраэли, увидевшего в королеве
не только правительницу, но и женщину, и сумевшему завоевать ее
доверие.
С этого времени поддержка монарха стала особенностью идеологи-
ческой платформы консерваторов, а сам суверен превратился в один из
инструментов их политики. Но и в данное время нельзя говорить о пол-
ном единодушии Виктории и Дизраэли по всем государственным вопро-
сам, а тем более о подчинении премьер-министра политической линии
королевы. Так, несмотря на усилия и даже на угрозу отречения, ей так
339
и не удалось добиться от кабинета согласия на вступление Англии в рус-
ско-турецкую войну.
Пятый и последний период правления Виктории (1880-1901) по сво-
ему содержанию включает противостояние королевы и либерального
кабинета и взаимную поддержку суверена и консервативного прави-
тельства лорда Солсбери. Но какой бы кабинет ни находился у власти -
консервативный или либеральный, Виктория осуществляла надзор за
его деятельностью.
Противостояние с Гладстоном началось сразу же после победы ли-
бералов на выборах 1880 г., когда королева предприняла отчаянные по-
пытки, чтобы предотвратить его возвращение на Даунинг-стрит. Отсю-
да ее предложения Гренвиллу и Гартингтону занять самый высокий го-
сударственный пост и продолжить политическую линию Дизраэли139.
Но поддержка Гладстона в парламенте была очень велика, а авторитет
в стране достаточно высок, чтобы дворцовые интриги помешали ему
прийти к власти. С этого момента в ситуации, когда какая-либо партия
на выборах завоевывала большинство в палате общин и имела в своих
рядах одного признанного лидера, все усилия монарха, направленные
против этого демократического процесса, стали уже бесполезными.
Прерогатива назначения премьер-министра осталась в руках монарха
лишь в случае “висячего” парламента, т.е. когда ни одна из партий не
выигрывала большинство мест в нижней палате или же в ее руководя-
щем ядре на роль лидера претендовали несколько деятелей.
В 1885-1886 гг., используя свой опыт и честолюбие соперников
Гладстона по партии, Виктория способствовала расколу либералов.
Этот метод лоббирования, особенно эффективный при аудиенциях с
премьер-министрами, остался в арсенале преемников Виктории на тро-
не и является одним из средств воздействия суверена на власть. В прак-
тической политике он подкрепляется правами монарха, выявленными
Баджеготом и признанными в обществе. Это права суверена - совето-
вать министрам и получать информацию обо всем происходящем. При-
чем информационная осведомленность монарха не менее важна, так
как во всех тонкостях он знает о событиях, имевших место при предше-
ственниках того или иного премьера, будь то консерватор или либерал,
и может оперировать своими знаниями в поддержку или во вред главе
кабинета.
Кроме того, как считают ряд конституционных историков, за мо-
нархом в соответствии с конституционной клятвой, в которой он берет
на себя обязательства защищать права и свободы подданных, сохраня-
ется так называемая резервная власть. Она может быть использована
при возникновении межпартийных конфликтов и непредвиденных
чрезвычайных обстоятельствах.
Помимо перечисленных механизмов воздействия на власть, короле-
ва, особенно в последние десятилетия своей жизни, обладала колоссаль-
ным влиянием на своих подданных. В обстановке могущества и внут-
ренней стабильности страны она стала символом национального един-
ства, имперского величия и всех достижений, обеспеченных реформами
и их инициаторами, начиная от Р. Пиля и кончая лордом Солсбери.
340
Власть венценосной правительницы падала, а ее престиж возрастал.
Причем немалую роль в утверждении влияния Виктории имели ее се-
мейное положение и личные качества: трудолюбие в исполнении госу-
дарственных обязанностей, религиозность, скромность в быту, просто-
та в поведении, сочетавшаяся с врожденным величием. Все это соответ-
ствовало протестантским ценностям ее эпохи, в которую Виктория гар-
монично вписалась.
“В Британии и менее значительно в большей части Ирландии, - пи-
шет английский историк Д. Кэннедайн, - Виктория олицетворяла собой
образ матери нации, нравственного идеала, возвышающегося над гру-
бой повседневностью; в международном плане она стала имперским ма-
триархом, который с материнской заботой председательствовал в еще
более великой британской семье, раскинувшейся на двух полушари-
ях”140. Он же обращает внимание на один из парадоксов викторианской
эпохи: хотя высшая власть в стране официально находилась в руках
женщины, политическая жизнь почти исключительно контролирова-
лась мужчинами. Виктория не могла допустить даже мысли о предоста-
влении женщинам избирательных прав .
Политические взгляды Виктории определялись прежде всего защи-
той собственного трона. Она видела посягательства на свою корону не
только со стороны радикалов-республиканцев, но и со стороны либера-
лов, которые на самом деле были монархистами. Во время революци-
онных событий в Европе ее симпатии неизменно были на стороне суве-
ренов, а противоречия с Пальмерстоном и Гладстоном в значительной
степени объяснялись тем, что они сочувствовали или поддерживали
прогрессивные движения на континенте.
С возрастом королева все с большей настороженностью относилась
к реформам. Чтобы помешать принятию гомруля для Ирландии, иници-
атором которого выступал Гладстон, она передавала копии его писем к
ней лидеру оппозиции Солсбери. Столь же жесткую позицию Виктория
занимала в отношении ограничения полномочий палаты лордов или из-
менения ее состава за счет назначения пожизненных пэров. Титулован-
ная знать продолжала оставаться опорой трона.
Недостаток знаний и неспособность анализировать текущие собы-
тия Виктория отчасти восполняла интуицией, опытом, уроками, выне-
сенными из общения с выдающимися личностями. Ее письма и дневни-
ки свидетельствуют о проницательности в оценках людей и о воле и са-
мостоятельности их автора. Ведь даже после смерти Альберта, несмот-
ря на острые противоречия с Гладстоном и отягощенность большой
семьей, можно назвать не так мало событий политической жизни, на
которые она сумела воздействовать.
Для большей части подданных разница между церемониальными и
реальными прерогативами Виктории едва просматривалась, и создава-
лось впечатление, что именно королева, а не премьер-министр являет-
ся центром государственного устройства.
Все это укрепляло конституционную монархию викторианской
эпохи и обеспечивало устойчивость трона для преемников легендарной
королевы.
341
1 См. например: Попов В.И. Жизнь в Букингэмском дворце: Елизавета II
и королевская семья. М., 1996; Монархи Европы: Судьбы династий. М., 1996;
Викторианцы: Столпы британской политики XIX в. Ростов-на-Дону, 1996.
2 Strachy L. Queen Victoria. L., 1984. P. 10-12.
3 The Letters of Queen Victoria. Second Series: A Selection from Her Majesty’s
Correspondence and Journals between the Years 1862 and 1878: Published by Authority
of His Majesty the King / Ed. G. Buckle: In two vols. L., 1926. Vol. 1. 1862-1869.
P. 287-288.
4 Strachy L. Op. cit. P. 12-13.
5 Ibid. P. 13-21.
6 Woodham-Smith C. Queen Victoria from Her Birth to the Death of the Prince
Consort. N.Y., P. 45-52.
7 Weintraub S. Victoria. L., 1996. P. 25-67.
8 Strachy L. Op. cit. P. 21-45; Woodham-Smith C. Op. cit. P. 63-76.
9 Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess Royal.
1858-1861 / Ed. R. Fulford. L., 1964. P. 111.
10 Queen Victoria in Her Letters and Journals. A Selection by Ch. Hibbert. L., 1984.
P. 17.
11 Ibid. P. 18.
12 Weintraub S. Op. cit. P. 69-90.
13 The Girlhood of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty’s Diaries
between the Years 1832 and 1840: In two vols. L., 1912. Vol. I. P. 196.
14 Ibid. P. 198.
15 Weintraub S. Op. cit. P. 69-99.
16 Times, 1837. June 21.
17 Strachy L. Op. cit. P. 48-82; Weintraub S. Op. cit. P. 100-108; Woodham-
Smith C. Op. cit. P. 110-115.
18 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 24.
19 Weintraub S. Op. cit. P. 100-109.
20 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 25
21 См. например: Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by
Ch. Hibbert. P. 25.
22 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert.
P. 33-36.
23 Hardie F. The Political Influence of Queen Victoria. 1861-1901. L., 1935.
P. 201-205.
24 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert.
P. 41-44.
23 Ibid. P. 45-46.
26 Ibid. P. 48-50.
27 Evans EJ. Sir Robert Peel: Statemanship, Power and Party. L.; N.Y., 1991.
P. 64-70.
28 The Girlhood of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty’s Diaries
between the Years 1832 and 1840: In two vols. L., 1912. Vol. II. P. 262-263; Queen
Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 56-57.
29 The Girlhood of Queen Victoria. Vol. II. P. 268-269; Queen Victoria in Her
Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 57.
30 Woodham-Smith C. Op. cit. P. 63-69.
31 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection Ch. Hibbert. P. 59.
32 Weintraub S. Op. cit. P. 142-144.
33 Ibid. P. 133.
34 Ibid. P. 135.
35 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 59.
342
36 Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess Royal. 1858-1861.
P. 27, 112.
37 Weintraub S. Op. cit. P. 143.
38 Ibid. P. 143-146.
39 Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess Royal. 1858-
1861. P. 115, 191.
40 Weintraub S. Op. cit. P. 159-160; Strachy L. Op. cit. P. 82-122.
41 Weintraub S. Op. cit. P. 161-162.
42 Evans EJ. Op. cit. P. 248.
43 См. подробнее: Айзенштат М.П. Британский парламент и общество в
30-40-х гг. XIX в. М., 1997.
44 Cannadine D. History in our Time. New Haven; L., 1999. P. 42; Strachy L. Op.
cit. P. 151.; Adriene M. Queen Victoria Secrets. N.Y., 1996. P. 95.
45 Weintraub S. Op. cit. P. 187.
46 Thomson D. England in the 19th Century. 1815-1914. L., 1964. P. 91-107;
Cannadine D. Op. cit. P. 143.
47 Royality in the Nineteenth Century. Boston, 1943. P. 38.
48 Weintraub S. Op. cit. P. 181,188.
49 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 75.
50 Ibid. P. 75.
51 Bell H.C.F. Lord Palmerston: In 2 Vols. Archon, 1966. Vol. 2. P. 200-210.
52 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 75.
53 Ibid. P. 76-77.
54 Ibid. P. 77-78.
55 Ibid.
56 Weintraub S. Op. cit. P. 198.
57 Briggs A. Victorian People: A Reassessment and Themes. 1851-1867. L., 1987.
P. 23-59.
58 Times, 1850. June 25.
59 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 81.
60 Ibidem.
61 Weintraub S. Op. cit. P. 226, 228.
62 Ibid. P. 229-231.
63 Strachy L. Op. cit. P. 149-155.
64 Weintraub S. Op. cit. P. 236, 240-253; Prochaska F. Royal Bounty: The Making
of a Welfare Monarchy. L., 1995. P. 134.
65 Weintraub S. Op. cit. P. 243.
66 Ibid. P. 249.
67 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 131.
68 Weintraub S. Op. cit. P. 256-260.
69 Queen Victoria in Her Letters and Journal: A Selection by Ch. Hibbert. P. 100.
70 Weintraub S. Op. cit. P. 278.
71 Ibid. P. 269,289.
72 Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess Royal.
1858-1861. P. 317.
73 Weintraub S. Op. cit. P. 291-293.
74 The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. I. 1862-1869. P. 8-10.
75 Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess Royal.
1858-1861. P. 371-372.
76 The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. I. 1862-1869. P. 8-10, 34.
77 Weintraub S. Op. cit. P. 307.
78 Observer. 1861. Dec. 15.
79 Weintraub S. Op. cit. P. 307.
343
80 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 80.
81 Weintraub S. Op. cit. P. 286, 318.
82 См., например: Dearest Child: Letters between Queen Victoria and the Princess
Royal. 1858-1861. P. 112, 144, 148, 149.
83 Magnus Ph. King Edward the Seventh. N.Y., 1964. P. 42-51.
84 См., например: The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. 1 1862-1869.
P. 23-24.
85 Викторианцы: столпы британской политики XIX в. Ростов-на-Дону,
1996. С. 126-127.
86 The Letters of Queen Victoria. Second Series. A Selection from Her Majesty’s
Correspondence and Journals between the Years 1862 and 1878. Published by Authority
of His Majesty the King. Ed. by G. Buckle. In two volumes. Vol. II. 1870-1878. P. 149.
87 Ibid.
88 История Европы: От Французской революции конца XVIII в. до первой
мировой войны. М., 2000. Т. 5. С. 299-300.
89 The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. П. 1870-1878. P. 124.
90 Cannadine D. Op. cit. P. 11.
91 Weintraub S. Op. cit. P. 360.
92 Ibid. P. 361-364.
93 Adrienne M. Op. cit. P. 108; Cannadine D. Op. cit. P. 431.
94 См., например: The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. I.
1862-1869. P. 433.
95 Ibid.
96 Weintraub S. Op. cit. P. 372, 391-394.
97 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 280.
98 Darling Child: Private Correspondence of Queen Victoria and The Crown
Princess of Prussia 1871-1878/Ed. R. Fulford. L., 1976. P. 102.
99 См.: Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной неве-
роятной карьеры. М., 1993. С. 276-280.
100 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 203.
101 Трухановский В.Г. Указ соч. С. 343; Weintraub S. Op. cit. P. 410-412.
102 Трухановский В.Г. Указ соч. С. 343; Strachy L. Op. cit. P. 205.
103 См. например: Darling Child. Private Correspondence of Queen Victoria and
The Crown Princess of Prussia 1871-1878. P. 185, 200, 212, 215, 220, 222, 238.
104 Трухановский В.Г. Указ. соч. С. 317-318.
105 ТЪе Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. П. 1870-1878. P. 428.
106 Ibid. P. 513-514; Трухановский В.Г. Указ. соч. С. 287-359.
107 Weintraub S. Op. cit. P. 419-120, 441.
108 Трухановский В.Г. Указ соч. С. 300-309.
109 См., например: Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by
Ch. Hibbert. P. 245-248.
110 The Letters of Queen Victoria. Second Series. Vol. II. 1870-1878. P. 630.
111 Weintraub S. Op. cit. P. 444.
1,2 Викторианцы: столпы британской политики XX в. С. 130.
113 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 262.
114 Weintraub S. Op. cit. P. 446.
115 Ibid. P. 456-464.
116 Hamer DA. Liberal Politics in the Age of Gladston and Rosebery: A Study in
Leadership and Policy. Oxford, 1972. P. 350.
1,7 The Letters of Queen Victoria. Third Series: A Selection from Her Majesty’s
Correspondence and Journals between the Years 1886 and 1901. Published by Authority
of His Majesty the King I Ed. G. Buckle. Vol. I. 1886-1890. L., 1930. P. 75.
118 Ibid. P. 101, 102,112, 118.
344
119 Викторианцы: столпы британской политики XX в. С. 132, 133,177.
120 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 337.
121 Weintraub S. Op. cit. P. 547-548.
122 Ibid. P. 17-18, 506-509, 532-533.
123 The Letters of Queen Victoria. Thirdd Series. Vol. I. 1886-1890. P. 320, 332.
124 Cannadine D. Op. cit. P. 43.
125 Daily Mail. 1897. June 23.
126 Weintraub S. Op. cit. P. 435, 437, 438, 450,469, 566.
127 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert.
P. 275-276; Weintraub S. Op. cit. P. 454, 514, 625, 440.
128 Bagehot W. The English Constitution. World’s Classic’s Edition. L., 1949.
P. 34-53.
129 Weintraub S. Op. cit. P. 590.
ш Laski HJ. The Crisis and the Constitution: Day to Day Pamphlets. N 9. L., 1932.
P. 34-36.
131 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 311.
132 Ibid. P. 339.
133 Ibid. P. 346-347.
134 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах. М.,1982. Т. 1. С. 555.
135 Weintraub S. Op. cit. Р. 642.
136 Ibid. Р. 640, 642.
137 Голсуорси Дж. Указ, соч., С. 555.
138 Strachy L. Op. cit. Р. 220.
139 Queen Victoria in Her Letters and Journals: A Selection by Ch. Hibbert. P. 260.
140 Cannadine D. Op. cit. P. 43,44.
Л.Ф. Туполева
ЧАРЛЗ СТЮАРТ ПАРНЕЛЛ
И ИРЛАНДСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Свобода - это ответственность...
Дж.Б. Шоу
У каждого народа есть свои герои. Вокруг их имен складываются
легенды и мифы. К таким легендарным личностям принадлежит Чарлз
Стюарт Парнелл (1846-1891). Он вошел в историю Ирландии конца
XIX в. как политический деятель и лидер национально-освободитель-
ного движения, который посвятил жизнь борьбе за независимость
Ирландии.
Образ Парнелла - блестящего политика, взявшего на себя бремя
защиты интересов нации (Ireland foremost champion, как называли его
совеременники1), благородного и обаятельного человека, привлекал
внимание не только ирландских историков, но и ученых других англо-
язычных стран, а также российских исследователей. Недавно ушедший
от нас известный англовед академик Владимир Григорьевич Труханов-
ский, с которым я была знакома и работала в Институте истории с
345
1957 г., еще в конце 1960-х годов говорил мне, что собирается заняться
биографией Парнелла. Этот разговор остался в памяти. Позднее, когда
я, занимаясь проблемами взаимоотношений Великобритании и Ирлан-
дии, попала в архивы Ирландии (прежде всего, в Национальный архив в
Дублине - Irish National Archives и Отдел рукописей библиотеки Уни-
верситета в Дублине - Manuscripts Department Trinity College) и Велико-
британии (Public Record Office), мне удалось собрать уникальный мате-
риал о Парнелле, о ситуации в Ирландии в конце XIX в., позволяющий
по-новому оценить позиции Парнелла, его решения и политические
планы. Это - свидетельства об активном участии Парнелла в работе со-
браний в городах и местечках Ирландии, существенным образом допол-
няющие его выступления в парламенте, расширяющие представления
о характере национальной борьбы.
Как личность Парнелл формировался под влиянием семьи, принад-
лежавшей к категории ирландских помещиков, которые из поколения
в поколение сохраняли верность освободительным идеалам. Парнелл -
землевладелец из Уиклоу, исповедовавший протестантизм, с избранием
в парламент становится заметной политической фигурой. Под его вли-
янием обструкции стали эффективным средством блокирования дея-
тельности английского парламента.
Парнелл - активный сторонник самостоятельности Ирландии
(Home Rule), вместе с тем отвергал фенианские методы борьбы, воз-
можность использования вооруженных действий. Как и многие другие
гомрулеры того времени, он видел решение аграрного вопроса в преде-
лах программы Лиги защиты прав арендаторов 1850-х годов, предусма-
тривавшей установление определенного уровня “справедливой” аренд-
ной платы, введение устойчивого срока арендного договора и свобод-
ной продажи земли. Гомрулеры к концу 70-х годов XIX в. выступали
уже как самостоятельная организованная политическая сила ирланд-
ского национального движения. Росли и влияние и авторитет самого
Парнелла в парламенте. Вне парламента гомрулеры опирались на ир-
ландское городское и сельское население, либерально настроенных зе-
млевладельцев, а в США их поддерживала состоятельная ирландская
эмиграция. В 1877 г. Парнелл был избран председателем Лиги гомруля.
Размах борьбы за освобождение от британского гнета, достигший
наибольшего накала в 70-80-е годы XIX в., определялся усилением
аграрного движения, выступлениями арендаторов против произвола и
притеснений лендлордов, которые были в основном английского проис-
хождения. Развитие аграрного движения, отражавшее чаяния основных
слоев населения Ирландии, не могло не влиять на взгляды и настроения
Парнелла.
В изменении позиций Парнелла по аграрному вопросу большую
роль сыграл Майкл Девитт - бывший фений, освобожденный в декабре
1877 г. после семи лет каторжных работ, который пришел к выводу, что
борьба против английского господства в Ирландии не возможна без ли-
квидации системы лендлордизма. Он разработал программу “Новый
курс”2, в которой ставилась задача объединить вокруг борьбы за землю
все течения в ирландском национальйо-освободительном движении,
346
включая обструкционистов и гомрулеров, развивавших свою деятель-
ность в вестминстерском парламенте. Возглавивший революционно-де-
мократическое направление в национальном лагере Девитт искал опо-
ру в широком крестьянском движении, которое добивалось превраще-
ния арендатора в собственника земли. Для осуществления этой про-
граммы нужна была организация, которая сочетала бы широкую агита-
ционную работу с тайной подготовкой к возможной революционной
вооруженной борьбе.
В 1878 г. Девитт совершил 4-месячную поездку по городам США,
заручился поддержкой широких слоев ирландской эмиграции. Органи-
зация ирландских американцев “Clan па Gael” (“Ирландское революци-
онное братство”), выступавшая против каких-либо отношений с ир-
ландскими парламентариями, вынуждена была принять “Новый курс”
и обещать ему солидную материальную помощь. М. Девитт смог опе-
реться на фениев, группировавшихся вокруг Джона Девоя - одного из
основателей организации американских ирландцев “Clan па Gael”, наме-
тившего сделать ирландских националистов, живущих в США, влия-
тельной силой в политике и продвигать дело революции в Ирландии.
Девой дал свое согласие на участие ирландских гомрулеров в объеди-
ненном фронте3.
К “Новому курсу” удалось привлечь и гомрулеров. С требованием
предоставления Ирландии самоуправления выступали в палате общин
ирландские депутаты, в основном представители буржуазных и либе-
рально-помещичьих кругов.
С ростом крестьянского движения менялись программа и тактика
гомрулеров4. Их вождь Чарлз Парнелл стал ведущей фигурой в нацио-
нально-освободительном движении. В его политике нашли отражение
интересы либерально-оппозиционного крыла, требования местной бур-
жуазией автономии Ирландии, а под влиянием роста аграрного движе-
ния в стране и обострения англо-ирландских противоречий - более ши-
рокие цели: объединить под своим руководством все направления, су-
ществовавшие в ирландском национальном движении. Во время перего-
воров с Девиттом и Девоем, принимая “Новый курс”, Парнелл заявил
о своей готовности бороться не только за восстановление ирландской
автономии, но и за полный разрыв с Англией.
Начало новой фазе ирландского национального движения - массо-
вому выступлению крестьян против лендлордизма - было положено
20 апреля 1879 г., когда в маленьком городе Айриштауне состоялся ми-
тинг протеста против намерения каноника Берка начать выселение
фермеров, которые не внесли в срок плату. Через деревню, где жил
Берк, прошло 7 тыс. крестьян, выкрикивавших “Долой лендлордов!”,
“Земля народу!”. Берк был вынужден снизить арендную плату на 25%.
В сентябре 1879 г. Парнелл дал согласие стать президентом обще-
ирландской организации - Ирландской земельной лиги. Она создава-
лась на базе лиги графства Мейо - крестьянской организации, провоз-
гласившей свою программу 16 августа 1879 г. Декларация была состав-
лена Девиттом. Она призывала фермеров активно защищать свои пра-
ва и конечной целью считала уничтожение системы лендлордизма в
347
Ирландии. Ближайшими задачами назывались борьба за улучшение
жизни арендаторов, прекращение выселений и снижение арендной пла-
ты. Программа Земельной лиги Мейо указывала на средства борьбы
крестьян. Это был своего рода остракизм, которому подвергались и
лендлорды, и те, кто пытался взять в аренду землю и дом изгнанного
фермера.
21 октября 1879 г. в Дублине была создана Земельная лига, объеди-
нившая все национальные силы страны. По предложению Девитта во
главе ее стал Парнелл. Лига приняла Декларацию принципов5, которая
объявила, что земля Ирландии принадлежит ирландскому народу6. Она
ставила своей задачей отстаивание интересов народа, защиту арендато-
ров от лендлордов, помощь крестьянам, изгнанным с земли7.
Размах движения усиливался. Впервые в истории ирландской осво-
бодительной борьбы Девитт приступил к “практическому осуществле-
нию идеи революционной демократии о соединении социальной и наци-
ональной борьбы”. Ирландский историк Т. Муди писал, что никогда
еще Ирландия не видела такого массового движения, что “земельная
война”, руководимая Девиттом, протекала “в пределах закона”, но в то
же самое время в духе “агрессивной моральной силы”8.
Движение Земельной лиги, вдохновляемое М. Девиттом, приобре-
ло особенный размах с лета 1880 г.: возросло количество “аграрных
преступлений”, стала широко применяться тактика бойкота9.
8 ноября 1880 г. Купер - наместник Ирландии - свой пространный
доклад, посланный в кабинет министров с грифом “Совершенно секрет-
но”, начал словами: “Положение в стране несомненно самое серьез-
ное... Многие боятся сгонять арендаторов с земли. Арендаторы, завла-
девшие фермами изгнанных, боятся жить в этих домах. Даже те аренда-
торы, которые пользовались чужими фермами более года, вынуждены
их бросить. 80 лиц, захвативших фермы изгнанных крестьян, находятся
под защитой полиции”. Купер подчеркивал, что “нельзя даже предполо-
жить, как будут арендаторы оплачивать осенние ренты, так как во мно-
гих местах они отказываются выплачивать землевладельцам ренту
больших размеров, чем указано в правительственных документах”10.
Он просил у королевы Британии “сверхполномочий”. Опираясь на мне-
ние резидентов, различных агентов и, наконец, самих лендлордов, Ку-
пер рекомендовал приостановить в Ирландии действие закона, обеспе-
чивавшего неприкосновенность личности в Ирландии11.
Меморандумы государственного секретаря по делам Ирландии
У. Форстера содержали наиболее полную информацию по всем вопро-
сам, касавшимся положения в стране, поскольку они опирались на све-
дения, регулярно поступавшие с мест. Он не только сообщал в кабинет
министров (а иногда и непосредственно премьер-министру) о фактиче-
ском состоянии дел, но и давал рекомендации по урегулированию отно-
шений между лендлордами и ирландскими арендаторами, а также по ре-
шению в целом ирландского вопроса в духе укрепления позиций Вели-
кобритании в Ирландии.
Британская администрация не справлялась с народным движением
Ирландии, не могла бороться с действиями Земельной лиги, которая
348
Чарлз Стюарт Парнелл
имела огромное влияние среди ирландских арендаторов. Форстер писал,
что власти вынуждены “максимально использовать находящиеся в их
распоряжении большие контингенты полицейских сил’’12. К концу
1880 г. английские власти не могли дальше сохранять прежний порядок
в Ирландии, пользуясь только конституционными методами. Требова-
лось обоснование введения исключительного закона в стране, при кото-
ром можно было проводить аресты и бросать людей в тюрьмы без
предъявления каких-либо обвинений.
В 1880 г. истек срок действия Акта об охране спокойствия (The
Peace Preservation Act), предусматривающего использование военной си-
лы и штрафы в случае нарушения законов. Однако “вследствие боль-
шого роста преступлений” администрация требовала продления срока
349
его дествия13. Власти не были также удовлетворены результатами ис-
пользования закона о введении комендантского часа (The Curfew Act)14.
Впервые в меморандуме Форстера от 15 ноября 1880 г. был постав-
лен вопрос о запрещении Земельной лиги, которая руководила выступ-
лениями аграриев. Государственный секретарь опасался, что это может
встретить сопротивление в определенных кругах не только в самой
Ирландии, но и в Англии и Шотландии.
Английские власти в Ирландии искали мотивы, по которым можно
было бы арестовать Парнелла. Форстер считал, что приостановка дей-
ствия Habeas Corpus Act не дает права сразу же арестовать лидеров Зе-
мельной лиги Парнелла и Диллона, но власти должны так поступить и
для этого не надо искать каких-либо оправданий, если, конечно не поя-
вятся новые мотивы. Вместе с тем он полагал, что оправданием ареста
лидеров могла бы послужить обстановка в стране, сложившаяся в ре-
зультате “террора”, и даже то, что полиции не удавалось “получить за-
конные доказательства” виновности лидеров и членов Земельной лиги.
Что касается Парнелла, то по мнению Форстера, о нем следует го-
ворить особо. Все свидетельствует против него. “Это ясно как белый
день, хотя присяжные могут притвориться, что они просто ослепли”15.
Таким образом, совершенно очевидно, что представители британских
властей искали способы расправиться с лидером ирландского нацио-
нального движения.
Примечательно, что британские власти связывали осуществление
земельной реформы с введением в стране исключительного закона.
В упомянутом выше меморандуме Форстер подчеркнул, что специаль-
но не останавливается на земельном законе, но придерживается совер-
шенно определенного на этот счет мнения: и британское правительст-
во, и “ирландское правительство” должны введение осадного положе-
ния в Ирландии совместить с обещанием земельного закона16.
Создание Земельной лиги - одна из славных страниц народного
движения в Ирландии. Ее организаторы Парнелл, Девитт, Диллон, бла-
годаря разветвленной сети отделений руководившие массовыми высту-
плениями, призывали крестьян бороться за право собственника земли,
право быть гражданами свободной Ирландии.
В различного рода секретных донесениях о положении в Ирландии,
направляемых в кабинет министров Великобритании с мест, выступле-
ния ирландских фермеров против лендлордов квалифицировались как
грубое нарушение законности (outrages), как посягательство на права
собственности. О глубине аграрного кризиса свидетельствовали все бо-
лее частые случаи неуплаты арендаторами ренты и задолженности. Све-
дения об этом собирали и сводили в специальные доклады инспекторы и
агенты. Важные итоговые данные содержались, в частности, в циркуля-
ре, поступившем в кабинет министров с сопроводительным письмом за
подписью Форстера 20 апреля 1882 г. Копия этого секретного экземпля-
ра была отослана в Дублинский замок, в отделение королевской ирланд-
ской полиции. Генерал-инспектор полиции Хиллер характеризовал от-
четы, полученные от инспекторов полиции отдельных графств Ирлан-
дии, как “очень ценные и заключающие в себе серьезную информа-
350
цию”17. Отчеты инспекторов начинались с характеристики положения
на местах в сравнении с данными на 1 января 1882 г. Так, из 63 районов
графства Мейо 8 были охвачены крестьянскими волнениями18.
Хотя Форстер и говорил, что введение исключительного закона
должно “абсолютно зависеть” от Земельного закона, однако он считал,
что ирландскому правительству перво-наперво надлежало установить
в стране порядок, сбить волну усилившихся аграрных выступлений, и
только вслед за этим начать решать аграрные трудности, исходя при
этом из интересов лендлордов и крупных фермеров.
Позиция представителей господствующих классов Великобритании
по аграрному вопросу особенно выпукло и четко вырисовывалась в ме-
морандумах, предназначавшихся только для кабинета министров и со-
державших секретную информацию и полемику, которая предваряла
парламентские дискуссии. Парламентским дебатам обычно предшест-
вовала закулисная подготовка, которая давала возможность выявить
отношение всех группировок господствующих классов к наиболее ост-
рым проблемам и заранее определить баланс сил.
Решение аграрных проблем в Англии и Шотландии представители
различных британских кругов связывали с решением аграрного вопро-
са в Ирландии. Эта зависимость коренилась в глубоких социальных
противоречиях английского общества. Ослабление или поражение по-
зиций лендлордов в Ирландии неизбежно поколебали бы или даже при-
вели к краху земельную систему в самой Англии, в изменении которой
были заинтересованы и фермеры, платившие непомерно высокую
арендную плату, и сельскохозяйственные рабочие, и, наконец, буржуа-
зия, которой на руку свободная распродажа земли.
Серьезный сельскохозяйственный кризис в Шотландии усиливал
интерес лендлордов к аграрным проблемам Ирландии. Аргайл, извест-
ный политический деятель из старого шотландского аристократическо-
го рода, потомок сподвижника Оливера Кромвеля графа Арчибалда
Кэмпбелла Аргайла, в конфиденциальных меморандумах в кабинет ми-
нистров совершенно откровенно и весьма небеспристрастно излагал
свою точку зрения на обсуждавшиеся проекты земельных реформ.
Примечательно, что при этом он постоянно обращался к ирландским
сюжетам, служившим в его аргументации своеобразной точкой отправ-
ления.
Меморандум Аргайла, направленный в кабинет министров 22 нояб-
ря 1880 г.19, приоткрывает характер дискуссий в парламенте по аграр-
ному вопросу. Стержнем этих дискуссий стали предложения члена пар-
ламента радикала Джона Брайта, которые позднее легли в основу зе-
мельных реформ 80-х годов. Предложения Брайта получили первона-
чальный резонанс, как отметил Аргайл, уже между 16 и 22 ноября
1880 г. Как полагал Аргайл, Брайт сделал то, что давно назрело, т.е.
указал на необходимость перемен, которые “может быть, и возможны,
но которые все же не могли исходить от нас” и могут послужить “полез-
ной основой” для дискуссии.
Между тем радикал Брайт отверг следующие требования: размер
ренты должны устанавливать сами арендаторы; лендлорды как общест-
ву
венный институт должны перестать существовать, правительство
должно провести гигантскую операцию - выкупить поместья у ленд-
лордов и передать их фермерам. Аргайл согласился с Брайтом, что по-
добные проекты были “невероятными и неосуществимыми”.
Из тех предложений, которые Брайт определил как “справедливые
и возможные”, по мнению Аргайла, в обсуждении нуждаются два: уве-
личение числа собственников земли путем ее выкупа и освоение пусту-
ющих земель под эгидой государства20. Как представитель класса круп-
ных землевладельцев, Аргайл больше всего был озабочен тем, что воз-
можны новые предложения о “дальнейшей защите арендаторов. Вся
трудность теперь, по его словам, именно в этих предложениях”21.
Брайт считал, что арендаторы наконец должны быть, во-первых,
избавлены от постоянного страха, что в любой момент они могут полу-
чить повестку с требованием покинуть свою ферму; во-вторых, застра-
хованы от непрерывного возрастания размера ренты22.
Эти соображения Брайта воспринимались английскими парламен-
тариями как главные, чуть ли не единственные цели намечавшихся зе-
мельных реформ23. Аргайл, представлявший интересы владельцев
крупных поместий, писал, что задачи, поставленные Брайтом, безус-
ловно “существенны для процветания сельского хозяйства”, однако
необходимо представить доказательства, подтверждающие невыпол-
нение статей земельного акта 1870 г. Оказывается Брайт, по мнению,
Аргайла выдвигал те же самые предложения, которые должны были
быть осуществлены по земельному акту 1870 г. Аргайл полагал, что
требования ограничить право лендлорда сгонять арендаторов с земли
должны быть достаточно обоснованными и нуждаются в четкой аргу-
ментации, и что налог на повестку арендатору о лишении его прав на
участок, составлявший 2 шил. 6 пен., зафиксированный по акту
1870 г., мог в какой-то степени сдерживать лендлорда24. Вместе с тем
Аргайл подтвердил, что практически никакой проверки того, как осу-
ществлялись постановления земельного закона 1870 г., не проводи-
лось. Это касалось и приращений к рентам, которые устанавливались
лендлордами.
Аргайл считал, что всякого рода “голословные утверждения” не
должны послужить поводом для введения каких-либо новых ограничи-
тельных мер, ибо это означало бы “ущемление прав владельцев земли
в Ирландии в то время, когда они и так страдают в этой стране от про-
явления к ним ненависти и актов насилия”25.
Аргайл не скрывал того, что он полностью на стороне лендлордов
Ирландии. Земля принадлежит лендлорду - вот определяющий момент.
Он полагал, что даже те, кто требует фиксирования держания аренда-
тора и регулирования цены найма земли государством, должны при-
знать, что арендатор все равно перестанет быть “фиксированным”, ес-
ли не сможет выплачивать ренту лендлорду26.
Аргайл живо интересовался событиями в Ирландии. По его наблю-
дениям, в течение последнего года лендлорды сгоняли с участков преи-
мущественно тех арендаторов, которые отказывались выплачивать
ренты, размер которых был определен даже без учета денежного при-
352
роста к этим рентам27. В отдельных графствах Ирландии арендаторы
особенно настойчиво боролись за фиксацию держаний. “Вооруженные
люди” по своему усмотрению передавали доверенности на землю обан-
кротившихся арендаторов платежеспособным фермерам.
Речь шла о членах Земельной лиги, действия которой преднамерен-
но искажались. Так, Аргайл писал, что “вооруженные люди” в Ирлан-
дии запрещали арендаторам выплачивать ренты, хотя эти арендаторы-
де были вполне платежеспособными и даже желали бы это сделать;
“вооруженные люди” также хотели, чтобы арендаторы сами устанавли-
вали размер ренты28. Установление размера ренты, по мысли Аргайла,
“в условиях, сложившихся в Ирландии, будет самой трудной операци-
ей”29. Он признавал, что лендлордизм, особенно большие поместья, не
стимулировал конкуренцию. На западном побережье страны население
было таким бедным, что всегда находилось “во власти одного-единст-
венного сезона. Это великое бедствие для Ирландии”. И положение
арендаторов в целом могло быть улучшено именно в связи с укреплени-
ем положения этих “несчастных” держателей.
При этом Аргайл призывал не торопиться и готовить новый зе-
мельный закон для Ирландии столько времени, сколько понадобится,
чтобы получить достоверные факты относительно того, “по каким
статьям можно считать земельный закон 1870 г. неудавшимся”. Кроме
того, Аргайл полагал, что, возможно, понадобятся “специальные пол-
номочия для того, чтобы подавить преступления и утвердить закон над
царством террора” в Ирландии30. Ему виделся новый земельный закон
как развитие основных принципов, на которые опирался земельный за-
кон 1870 г. Отход от этих основных принципов и стремление ими по-
жертвовать “вследствие угроз Парнелла”, должны были, по мнению
Аргайла, встретить “самое строгое осуждение”.
Между тем движение в сельских районах Ирландии ширилось.
На митинге 16 января 1881 г. Девитт призвал крестьян не вносить
арендную плату31. Это был призыв к войне против всей системы ленд-
лордизма, против британского колониального режима. Гомрулеры, в
том числе и Парнелл, отклонили предложение Девитта начать всеоб-
щую забастовку крестьян весной 1881 г. Они страшились восстания.
Их план разрешения аграрной проблемы сводился к выкупу государст-
венной земли у лендлордов в течение 20 лет с тем, чтобы потом посте-
пенно передать ее арендаторам на условиях длительной рассрочки вы-
платы ссуды. Призыв Девитта послужил предлогом для репрессий.
4 февраля 1881 г. в Дублине М. Девитт был арестован.
Британские власти арестовали всех активных членов Земельной
лиги. Гладстон сумел покончить с длительными обструкциями, к кото-
рым прибегли гомрулеры в палате общин, чтобы сорвать прохождение
билля о введении в Ирландии военного положения. 2 марта 1881 г. пар-
ламент отменил действие закона, который гарантировал личную непри-
косновенность. Действия британского правительства преследовали
цель покончить с Земельной лигой. Введение осадного положения дава-
ло полиции право на арест любого “подозрительного лица” и обыска в
любом доме без какого-либо предварительного обвинения или преду-
23 Россия и Британия Вып 3
353
преждения, на содержание арестованных в тюрьме без суда и следствия.
Земельная лига была запрещена в октябре 1881 г.
В движении гомрулеров, в политической деятельности лидера наци-
онально-освободительного движения Парнелла наступил поворотный
момент, так называемый “Килмейнхеймский период” - с октября 1881
по май 1882 г., когда руководители и наиболее активные деятели
Земельной лиги находились в тюрьмах32.
Парнелл согласился на переговоры с английским правительством.
Освобождение арестованных из тюрем было достигнуто путем компро-
мисса с английским правительством. По существу это означало поворот
буржуазной партии гомрулеров от союза с крестьянскими массами к
прежней парламентской тактике борьбы.
Т. Муди так характеризовал результаты деятельности Земельной
лиги: “Совершенно очевидно, что арендаторы пожинали плоды победы
Земельной лиги; национальное движение, возглавляемое Парнеллом,
бесповоротно качнулось назад, к умеренному и конституционному кур-
су”33. Девитт отверг компромиссную политику Парнелла. Он считал,
что Парнелл заплатил слишком высокую цену за слишком малую ус-
тупку, он мог бы, отказавшись от компромиссов с правительством,
обеспечить полную отмену лендлордизма, которую Девитт толковал
как установление “национальной собственности на землю”. Муди пола-
гал, что “устойчивое большинство нации последовало за Парнеллом”34.
Хотя движение Земельной лиги было разгромлено, но его резуль-
таты были налицо. Оно способствовало глубоким изменениям аграр-
ных отношений в Ирландии. М. Девитт отмечал, что ирландское кре-
стьянское движение, несмотря на просчеты некоторых политических
руководителей, добилось значительных результатов - проведения зе-
мельных реформ, начиная с Земельного закона 1881 г., который изме-
нил систему землевладения в ирландской деревне, и выдвижения билля
о гомруле в 1886 г.35
Противоборство двух политиков - У. Гладстона, который четыре-
жды был премьер-министром Великобритании, и Парнелла, возникшее
в конце 70-х годов, достигло пика в 80-е годы. Парнелл вел искусную
политику лавирования в отношениях с Гладстоном. Более чем кто-либо
из других глав британского кабинета министров Гладстон стремился
“умиротворить” Ирландию, решить ирландский вопрос. Гладстон дела-
ет важный политический шаг - вносит в парламент весной 1886 г. зако-
нопроект о предоставлении Ирландии самоуправления. К этому реше-
нию его подтолкнули многие обстоятельства и условия. Следует на-
звать в числе причин избирательную реформу 1884 г., по которой уве-
личилось число ирландских депутатов в парламенте - их фракция соста-
вляла 86 человек. Уже в середине 1885 г. они заявили о себе, когда, бло-
кируясь с 249 консерваторами, вынудили Гладстона уйти в отставку.
Гладстон был уверен, что билль о гомруле потушит волну недовольст-
ва в Ирландии, а в Англии успокоит радикалов и социалистов, высту-
павших против репрессивных мер в Ирландии.
Билль о гомруле, по которому восстанавливался автономный двух-
палатный ирландский парламент, существовавший в ХУШ в. (а Брита-
354
ния сохраняла контроль над экономикой страны, внешней политикой,
военным и полицейским ведомствами), был провален. За гомруль в па-
лате общин проголосовало 313 депутатов и 343 - против. Гладстон
в 1893 г. внес второй билль о гомруле. Он был принят палатой общин,
но отвергнут палатой лордов.
Судьба обоих биллей Гладстона была предопределена. В либераль-
ной партии не наблюдалось единства по вопросу о предоставлении
Ирландии автономии, она раскололась в 1886 г., и 93 депутата-либера-
ла во главе с Джозефом Чемберленом, голосовавших против гомруля
и назвавших себя либерал-юнионистами, перешли в консервативную
партию. Правящая элита Великобритании не желала предоставлять
Ирландии автономию даже в урезанном виде.
В оценке политики Гладстона в отношении Ирландии и решения ее
национальных проблем существуют два основных подхода. Один исхо-
дит из интересов метрополии, опирается на идею сохранения империи,
передачи лишь отдельных властных полномочий зависимым террито-
риям и колониям. Гладстон, находившийся под влиянием этой идеи, ко-
торая принадлежала Эдмонду Берку и получила название деволюции,
пытался как отмечено выше, провести билль о гомруле. И второй под-
ход - с позиции ирландского национального движения, интересов ир-
ландского народа, боровшегося несколько столетий за свою независи-
мость и за право крестьян распоряжаться землей.
Гладстон, внесший 8 апреля 1886 г. билль о предоставлении Ирлан-
дии самоуправления, и не помышлял в чем-либо повредить интересам
британской империи. Об этом он со всей определенностью заявил в ре-
чи в парламенте. Премьер-министр подчеркнул, что ни о каком новом
законодательстве, которое координировало бы отношения между Ве-
ликобританией, Шотландией и Ирландией, речи нет. “Я полагаю, - го-
ворил он, - что надо видоизменить в некотором отношении это единст-
во (Union), но это не значит, что мы собираемся его аннулировать... Вы-
сшая, установленная законом власть Имперского Парламента Велико-
британии, Шотландии и Ирландии как Соединенного Королевства, бы-
ла установлена Актом о союзе (Act of Union). Эта верховная конститу-
ционная власть не подвергается сомнению, насколько я это понимаю, и
конечно, нет намерения нанести ей какой-либо ущерб”36.
Однако даже сама мысль о передаче части властных полномочий
была отвергнута британской правящей элитой. Гладстону не удалось
провести в жизнь идею гомруля. Идея либералов предоставить Ирлан-
дии самоуправление вызвала сопротивление консервативных сил на
обоих островах. Гладстон выбрал своеобразную тактику мирного пути
урегулирования взаимоотношений метрополии с Ирландией. Это была
тактика давления (введение исключительных законов), политических
компромиссов и экономических реформ. Ему удалось продвинуть реше-
ние земельного вопроса, о чем свидетельствовали два билля об упоря-
дочении условий аренды и прав ирландских арендаторов (1870 и
1881 гг.). Чтобы утихомирить ирландских фермеров, которые вели в бу-
квальном смысле войну с лендлордами, Гладстон считал необходимым
проводить земельную реформу в условиях осадного положения, т.е.
355
с использованием чрезвычайных мер. В дальнейшем подобный опыт
был приумножен другими политиками Великобритании и дополнен дей-
ствиями иного рода, которые привели к расчленению Ирландии
в 1921 г.
Благодаря деятельности Гладстона и реформам, предпринятым ли-
беральным правительством, накал национального движения в Ирлан-
дии был на определенное время ослаблен. В руководстве национально-
го движения не было единства, назревал раскол. Девитт, Хили и их сто-
ронники попытались придать национальному движению новый им-
пульс. В 1891 г. они создают новую организацию - Ирландскую нацио-
нальную федерацию, которую они противопоставили Ирландской на-
циональной лиге Парнелла, возникшей 17 октября 1882 г., после запре-
щения земельной лиги. Парнелл, будучи лидером Ирландской парла-
ментской партии (Home Rule Party), контролировал деятельность Ир-
ландской национальной лиги, которая ставила задачей: установление
самоуправления, осуществление земельной реформы, расширение прав
ирландцев на парламентских и муниципальных выборах, улучшение ус-
ловий труда и т.д. К декабрю 1885 г. в стране насчитывалось 1261 отде-
ление этой организации, в 1891 г. их стало 13 108.
23 января 1891 г. в “Фримэн’с джорнл” появилось сообщение: “На-
циональный комитет, чтобы оказать поддержку Ирландской парла-
ментской партии, созывает 23 января 1891 г. в Лейнстер-холле внеоче-
редное расширенное собрание”. Об этом собрании извещал специально
изданный Национальным комитетом циркуляр от 21 января 1891 г.37
Целью собрания стало образование Ирландской национальной федера-
ции. На собрании был избран президент - член парламента Тимоти Хи-
ли, который выступил с речью о сложившемся положении в националь-
ном движении. Его речь была опубликована в “Фримэн’с джорнл”
24 января 1891 г. Хили сказал, что Ирландская национальная лига, уч-
режденная девять лет назад, ослаблена, так как ее главные руководите-
ли в Дублине оказались в полном подчинении у секретаря Лиги - члена
парламента Харрингтона. А подавляющая часть ее деятелей, хорошо
проявившие себя в прошлом, отстранены от дела. В то же время 9/10
местных отделений Лиги38 отказались считать себя связанными с руко-
водством, этой организации, штаб-квартира которой находилась в Дуб-
лине на ул. О’Коннелла 43. В такой ситуации было признано, что боль-
шинство ирландского народа одобрило и санкционировало действия
большинства Ирландской парламентской партии, которое решило от-
странить Парнелла от руководства”39. Большая часть членов Ирланд-
ской парламентской партии не хотели дольше оставаться в организа-
ции, где три человека - президент Парнелл, казначей Кенни и секре-
тарь Харрингтон узурпировали власть и не желали считаться с их мне-
нием. Вот причина, которая побудила к созданию Ирландской нацио-
нальной федерации.
В течение января 1891 г. на конференциях в Булони предпринима-
лись большие усилия во что бы то ни стало примирить две секции
Ирландской парламентской партии40. Эта попытка закончилась не-
удачей.
356
Учредительный съезд новой организации проходил в Дублине
10 марта 1891 г. в том же зале, в котором девять лет назад была созда-
на Ирландская национальная лига. Полный отчет о ходе заседаний
Ирландской национальной федерации был опубликован 11 марта
1891 г. в только что созданной газете “Нэшенл пресс”, находившейся
под влиянием одного из лидеров движения Юджина Маккарти41. На
конгрессе присутствовали 25 членов Парламентской партии42, которые
откололись от парнеллитов. В адрес конгресса поступили многочислен-
ные письма, рекомендации, значительные денежные суммы. Выразили
также поддержку новой организации представители католической
церкви. Приветствовали новое движение 4 архиепископа и 13 еписко-
пов43, а также Кэннон Келлер - президент протестантской Ассоциации
гомруля.
Газета “Нэшенл пресс” 11 марта 1891 г. писала об этом собрании
как о самом большом и влиятельном, которое войдет в историю нацио-
нальной борьбы. Оно было и наиболее представительным - присутст-
вовали деятели 115 организаций, от 90 организаций были зачитаны
письма, одобряющие создание Ирландской национальной федерации.
200 человек, которые пользовались авторитетом в движении, но не
смогли присутствовать на собрании, выразили по этому поводу свои со-
жаления44. Они тоже одобрили цели федерации. В зале, где проходило
собрание, царил энтузиазм. Присутствовали “ветераны времен старой
Земельной лиги”, а также те, кто участвовал в создании Ирландской
национальной лиги, в том числе священники Юджин Шихи и Джон
О’Лири, руководившие ее работой на юге страны. Здесь же был свя-
щенник Кинселла из Клонгори. Когда за несколько месяцев до этого
собрания арендаторы его прихода были изгнаны со своей земли, он вы-
ступил в их защиту, прорвавшись через заслон полицейских и солдат,
стал помогать строить дома для изгнанных. Кинселла выступил против
карательных акций властей в центральных графствах страны45.
Под приветственные возгласы место председателя собрания занял
Маккарти, справа от него сидел гомрулер Томас Секстон, слева - Де-
витт, далее - Диллон и О’Брайен. После того как были зачитаны при-
ветственные письма и телеграммы, с речью, полной достоинства и си-
лы, по сообщению “Нэшенл пресс”, выступил Маккарти. Он выдвинул
главный принцип: “Пусть уходит Парнелл, пусть остается нация”46.
Секстон, который вошел в политику как член парламента в
1880—1885 гг., рассеял сомнения относительно тех парнеллитов, кото-
рые старались придерживаться позиции Диллона и О’Брайена и прово-
дили переговоры на основе принципа, что “парнеллиты не будут боль-
ше касаться сферы практической политики”47. Известные ирландцы,
сторонники Парнелла, заявили, что Маккарти и Парнелл сделали все
возможное, чтобы переговоры успешно завершились.
Секстон обратил внимание присутствовавших на те взаимные “сим-
патии”, которые существовали между Парнеллом и “проводниками ре-
прессивных мер в Ирландии” (здесь явно звучали намеки на Килмэйн-
хемские переговоры Парнелла с Гладстоном), а также на претензии
Парнелла считать себя “единственным возможным лидером”48. Сек-
357
стон осудил претензии парнеллитов, настаивавших на сохранении во
главе движения своего “несравненного руководителя”49. Упоминание
Секстоном о начале нового издания - газеты “Нэшенл пресс” - вызва-
ло бурную одобрительную реакцию зала. Дин Мэгони, эмигрант из
Типперэри, в своем выступлении сказал, что он вовремя приехал в Ир-
ландию из Сиднея и может предложить помощь национальной органи-
зации от австралийских колоний50.
Девитт внес предложение образовать постоянно действующий ко-
митет организации. Затем он коснулся высказываний Парнелла о
“друзьях-рабочих”, отметив, что, когда он во время визита в г. Корк в
1890 г., создавал Рабочую федерацию, Парнелл заявил ему: “Я считаю,
что вы не должны поощрять распространение рабочей организации в
Ирландии, так как это может встревожить м-ра Гладстона и напугать
либеральную партию”51. Девитт развеселил собравшихся, цитируя вы-
держки из речей Парнелла, которые отнюдь не прибавляли веса пос-
леднему “как одному из основателей Ирландской национальной лиги”52.
Секретарь федерации, член парламента Томас Эсмонд зачитал
письмо архиепископа53, в котором выражалось согласие с высказанным
Диллоном мнением, что сторонники Парнелла, решившие остаться с
ним, “должны были признать его платформу, сформулированную за не-
сколько месяцев до образования федерации и определявшую линию его
теперешней политики”54. Иначе говоря, надежде на мирное получение
ирландцами гомруля пришел конец, но оставался другой путь - сра-
жаться за него иным способом - “совсем не на словах”55. Архиепископ
писал, что Парнелл призывает народ отказаться от достижений про-
шлых лет и “следовать политике, которая должна положить конец бун-
тарству”56.
Образование федерации в марте 1891 г. свидетельствовало о раско-
ле Ирландской парламентской партии и обострении противоречий в на-
ционально-освободительном движении. 45 депутатов ирландской фрак-
ции парламента потребовали ухода Парнелла с поста лидера. Не отли-
чавшийся хорошим здоровьем, Парнелл не выдержал нервного напря-
жения последних лет и травли, организованной английскими буржуаз-
ными кругами в прессе по поводу его бракоразводного процесса. 6 ок-
тября 1891 г. он скончался. Гроб с его телом на кладбище провожали
тысячи ирландцев.
Национально- освободительное движение было ослаблено. Партия
гомруля не сумела организовать широкую кампанию в поддержку вто-
рого билля Гладстона о предоставлении Ирландии самоуправления.
В 1893 г. палата лордов отклонила и этот билль о гомруле.
* * *
Деятельность Парнелла оставила глубокий след в истории ирланд-
ского народа. Его называли “некоронованным королем Ирландии”.
Как лидер фракции гомрулеров, выступавших в британском парламен-
те за предоставление самоуправления Ирландии, он привлек внимание
к проблемам ирландской нации. Когда в октябре 1881 г. Земельная ли-
га была запрещена, а ее лидеры и наиболее активные деятели оказа-
358
лись за тюремной решеткой, Парнелл принял единственно верное ре-
шение, которое могло спасти национальное движение от полного раз-
грома. Он дал согласие на переговоры с Гладстоном, которые заверши-
лись в апреле 1882 г. заключением Килмейнхеймского договора. Пар-
нелл должен был распустить обе Земельные лиги и содействовать пре-
сечению массовых выступлений крестьян, а Гладстон освобождал из
тюрем арестованных и обещал оказать материальную поддержку
130 тыс. арендаторов и 150 тыс. мелких собственников земли в уплате
недоимок. 2 мая 1882 г. Парнелл и его сподвижники вышли из тюрем.
Таким образом ирландское национальное движение не было обезглав-
лено и разбито и вновь стало набирать силу. С 1882 по 1885 г. Парнелл
был занят созданием новой конституционной организации - Ирланд-
ской национальной лиги, которая стала политической партией. Несом-
ненны его связи с широким аграрным движением в Ирландии. В поис-
ках финансовой поддержки Парнелл устанавливал контакты с ирланд-
ской эмиграцией в Америке.
Парнеллу удалось влиять на ход событий, приблизить время созда-
ния Ирландского свободного государства. Это произошло в 1921 г., ко-
торый стал исторической датой отсчета нового времени для ирландско-
го народа. Победа ирландского народа не была полной, так как Ирланд-
ское свободное государство учреждалось на правах доминиона, Англия
продолжала вести внешнюю политику, на территории Ирландии сохра-
нялись английские базы, остались в составе Великобритании шесть се-
верных графств. Впереди была гражданская война, которая заверши-
лась в 1923 г., когда восторжествовал мир, закрепивший завоевания
ирландцев. Произошло главное - Ирландия перестала быть британской
колонией.
1 National Archives, Dublin, Irish National League, carton 3. Speeches. P. 836.
2 Davitt M. The Fall of Feudalism in Ireland or the Story of the Land League
Revolution. L.; N.Y., 1904. P. 111-112.
3 Edwards R.D. A New History of Ireland. Toronto, 1972. P. 185.
4 Tierney M. Modem Ireland. 1850-1950. Dublin, 1972. P. 39.
5 Davitt M. The Fall of Feudalism... P. 171.
6 Ibid. P. 162-166.
7 Ibid.
8 Moody T.W. Davitt and Irish Revolution. Oxford, 1961. P. XVI.
9 Marlow J. Cm.: Captain Boycott and Irish. L., 1973.
10 Public Record Office. Cab. 37/3. 1880. № 68. P. 1.
11 Ibid. P. 2.
12 Ibid. Cab. 37/4, 1880. № 71. P. 3.
13 Ibid. P. 4
14 Ibid.
15 Ibid. P. 5.
16 Ibid. P. 6.
17 Ibid. Cab. 37/7. 1882. № 27. P. 1.
18 Ibid. P. 13.
19 Ibid. Cab. 37/4. 1880. № 75. P. 1-5.
20 Ibid. P. 1.
359
21 Ibid.
22 Ibid. P. 2.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid. P. 3.
26 Ibid. P. 4.
27 Ibid. P. 3.
28 Ibid. P. 4.
29 Ibid.
30 Ibid. P. 5.
31 Moody T.W. Op. cit. P. 562.
32 O’Brien B. The Life of Charles Stewart Parnell. Dublin, 1905.
33 Moody T.W. Op. cit. P. XVI.
34 Ibid.
35 Davitt M. The Fall of Feudalism... P. XI.
36 Hansard’s Parliamentary Debates, 3rd Series. Vol. 304, cols. 1049-1083.
37 Public Record Office, Colonial Office, 904/16. - P. 385/2.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid. 904/16. - P. 385/3.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid. P. 385/4.
44 Ibid. P. 385/6.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. P. 385/6-385/7.
49 Ibid. P. 385/7.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Archbishop’s House. (Dublin). 1891. Mar.
55 Ibid.
56 Ibid.
М.П. Айзенштат
ФИЛОСОФ-РЕФОРМАТОР ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ
В плеяде блестящих европейских мыслителей второй половины
XVIII - начала XIX в. имя английского философа Иеремии Бентама
наименее известно современному отечественному читателю. А между
тем так было не всегда, в XIX в. он был хорошо знаком русскому обще-
ству. Еще в начале своего царствования молодой император Алек-
сандр I распорядился, чтобы труды Бентама наряду с сочинениями
А. Смита, Тацита, Ф. Бэкона, Э. Канта, Ш. Монтескье, Ч. Беккарии
360
и др. были переведены на русский язык и изданы за счет казны. Эти
публикации сыграли свою роль в распространении в русском обществе
произведений Бентама и создали ему определенную популярность.
В “Хронике русского” известного российского либерального общест-
венного деятеля и публициста А.И. Тургенева мы найдем весьма инте-
ресные свидетельства об этом1. В России появились последователи и
сторонники идей Бентама, в той или иной мере пытавшиеся осущест-
вить их в своем отечестве. В 1869 г. вышла в свет большая работа
А.Н. Пыпина “Русские отношения Бентама”, долгие годы остававшая-
ся единственным изданием, подробно осветившим связи Бентама с Рос-
сией. Автор полагал, что изучение одного из аспектов попыток прове-
дения реформ начала века может стать полезным для современников в
60-е годы. Последним серьезным отечественным сочинением о Бента-
ме стало исследование Петра Покровского, посвященное проблемам
правовой, социально-политической и идеологической среды, в которой
формировались взгляды философа2.
Отсутствие интереса отечественной историографии к личности и
трудам Бентама на протяжении почти всего XX в. объясняется прежде
всего характером его учения, либеральные положения которого сво-
дившиеся к “проповеди индивидуализма и личного преуспевания”, всту-
пали в противоречие с марксистской концепцией, а также отчасти нега-
тивным отношением к нему К. Маркса, давшего уничижительную хара-
ктеристику Бентама, назвав его “гением буржуазной глупости”. И толь-
ко конец XX столетия отмечен некоторым возрождением интереса к
философу3 и его трудам4.
Иная картина наблюдается в зарубежной, главным образом англо-
язычной историографии. Если на протяжении первой половины XX в.
исследования Лесли Стефена и Эли Галеви долгое время оставались
практически единственными изданиями, в которых важное место отво-
дилось описанию жизни и анализу деятельности И. Бентама5, то во вто-
рой половине - с начала 1960-х годов начинает неуклонно возрастать
число публикаций, посвященных ему. Поначалу это были переиздания
ранее вышедших из печати работ: в 1962 г. в Нью-Йорке выходит в свет
Собрание сочинений Бентама, подготовленных Д. Боурингом (1 изда-
ние - 1843 г.); в Бостоне в 1966 г. переиздается труд Е. Галеви; в 1968 г. -
репринтное издание книги Л. Стефена. В 1962 г. выходит в свет Ката-
лог манускриптов Бентама, хранящихся в Университетском колледже
Лондона, а в 1968 г. начинается новая публикация сочинений Бентама6.
Почти параллельно начинается исследование жизни и творчества Бен-
тама. В университетском Колледже Лондона формируется группа “Бен-
тамовского проекта” под руководством профессора Д. Барнса; публику-
ются книги, в которых анализируется позиция Бентама по широкому
кругу проблем философии, социальной и экономической политики7.
Пересмотр устоявшихся концепций, начавшийся в зарубежной ис-
торической науке в 60-70-е годы прошлого века, затронул и некоторые
представления о философе, его роли в реформировании британского
общества, вкладе в философию. При этом идет переоценка и со знаком
“плюс” и со знаком “минус”. Так, Дэвид Лайонс, анализируя философ-
367
ское наследие Бентама, пришел к выводу, что его вклад в философию
гораздо больший, чем полагал Д.С. Милль, мнение которого о том, что
Бентам - великий реформатор в философии, но не великий философ,
долгое время оставалось преобладающим8. В то же время Дэвид
Робертс опровергает упрочившееся представление о том, что идеи Бен-
тама сыграли определяющую роль в характере реформ, проводивших-
ся в 30-40-е годы XIX в.9 Прежде всего поражает неоднозначность от-
зывов о нем, широкий спектр которых простирается от восторженных
оценок его последователей и почитателей до негативных характери-
стик, данных ему еще его современниками и философами более позд-
них времен. Распространенным является также и представление о нем,
как человеке, который вел уединенный образ жизни, небогатой собы-
тиями. В настоящей статье предпринята попытка пересмотреть устояв-
шиеся стереотипы, взглянуть на Бентама с иных позиций.
Английский философ, юрист, оставивший огромное рукописное на-
следство, до сих пор еще не опубликованное полностью, Иеремия Бен-
там всю свою долгую жизнь посвятил разработке принципов утилита-
ризма, пользы. Одним из основных постулатов его теории было провоз-
глашение главной целью общества достижение “наибольшего счастья
для наибольшего числа людей”. Будучи юристом, Бентам прежде всего
свою теорию применил к британскому законодательству, весьма несо-
вершенному в XVIII в. По его мнению, именно законодательство долж-
но было послужить осуществлению его основополагающего принципа
на практике, когда закон обеспечил бы право собственности и безопас-
ности любого гражданина. В связи с этим он пришел к выводу, что не-
обходимо провести реформу права, его кодификацию, отменить ряд ус-
таревших феодальных институтов, усовершенствовать систему наказа-
ний и т.д. При этом, полагал Бентам, гарантом счастья каждого челове-
ка должно стать государство.
Бентам прожил долгую жизнь. Он родился в 1748 г.10, а умер в
1832 г. Из 84 лет почти 60 было отдано напряженному труду, пришед-
шемуся на весьма важный этап развития политической мысли, когда
она постепенно начала соединяться с политической практикой. Творче-
ство и деятельность Бентама являют яркий пример этого процесса.
В конце 40-х годов XVIII в. Великобритания участвовала в войне за
Австрийское наследство, а напряженность политической жизни обще-
ства была обусловлена недавней попыткой претендента на престол под-
нять восстание в Шотландии. И хотя она закончилась неудачей, Шот-
ландия продолжала бурлить, а в прессе шла ожесточенная полемика ме-
жду сторонниками Стюартов и Ганноверского дома, лишь в 1714 г. за-
нявшего престол. Молодая династия только утверждалась в стране, а ее
представители, мало знакомые с жизнью подданных, заняты были сво-
им курфюршеством.
Бентам родился 15 февраля в респектабельном пригороде Лондона
в семье процветающего и амбициозного адвоката Иеремии Бентама
Старшего, который мечтал о блестящей карьере первенца и наследни-
ка. Детство и юность Иеремии прошли под знаком честолюбивых уст-
ремлений отца, человека энергичного, хорошо образованного, ценив-
362
Иеремия Бентам
шего больше всего внешний успех. Чтобы подготовить сына к будущим
победам в качестве юриста, Бентам-отец значительное внимание уде-
лял образованию и воспитанию ребенка, необходимым для занятия вы-
сокого положения в обществе. Он понимал, что одного знания законов
недостаточно для осуществления его надежд. И маленький Иеремия за-
нимался музыкой, изучал латынь и греческий. По свидетельствам исто-
риков, у отца сохранилось письмо сына, написанное в 5 лет по латыни1!,
что, безусловно, свидетельствует о способностях и достижениях послед-
него12. На душевном облике ребенка, который отличался нервной чув-
ствительностью, сказалось влияние не отца, а матери - мягкой, созерца-
тельной, кроткой и нежной женщины. При этом физически он был
чрезвычайно слаб и крайне мал ростом. Юношей он вытянулся, но ос-
тался малорослым и слабосильным человеком с непропорционально
большой головой.
Когда ребенок достиг семилетнего возраста, родители, как это бы-
ло принято в состоятельных семьях, отправили его в Вестминстерскую
школу, одно из старейших заведений Британии, где он пробыл до
12 лет. Годы, проведенные в школе, Иеремия вспоминал как “своего ро-
да ад”, так как обстановка там была крайне тягостна для слабого и впе-
363
чатлительного ребенка13. По окончании школы отец перевел его в Ко-
ролевский колледж Оксфордского университета. Выбор Бентама Стар-
шего весьма любопытен и показателен. Это учебное заведение, осно-
ванное в 1340 г., являлось одним из старейших в Оксфорде, и славилось
консервативными традициями и устоями. Королевский колледж в те го-
ды занимал непримиримую позицию по отношению к католикам, а в го-
ды учебы Бентама отличался предубеждением к правившей династии
Ганноверов. Скорее всего выбор отца определялся как консервативны-
ми политическими позициями учебного заведения, так и тем особым
вниманием, которое там уделялось преподаванию логики - предмета,
необходимого для формирования личности адвоката.
В то время не существовало рамок, ограничивавших возраст сту-
дентов. 12-летний Бентам оказался в обществе юношей и молодых лю-
дей гораздо старше его, возможно поэтому, а также в силу характера и
маленького роста, он не обрел друзей среди них. Все свое свободное
время он посвящал чтению. Юный Иеремия привез с собою собствен-
ную библиотеку, насчитывавшую 60 томов. Среди них только две кни-
ги были написаны на английском языке (произведения Мильтона), а ос-
тальное - сочинения по математике, шесть томов Цицерона, книги Ови-
дия, Горация, Виргиния, Ювенала, Салюта, Плиния, Демосфена и др.14
Иеремия с упоением читает не только эти книги, но и наиболее извест-
ные трактаты по логике, которые берет в библиотеке. И в школе, и в
Оксфорде Бентам проявил блестящие способности, учился легко, избе-
гая наказаний и нареканий со стороны преподавателей.
В 1763 г. Бентам заканчивает колледж и возвращается домой. Дом
пуст, мать, к которой он был привязан, умерла в 1759 г., а единственный
брат Сэмуэл с 1757 г. находился в России, куда отправился сначала в ка-
честве кораблестроителя, а впоследствии выполнял роль специалиста
по налаживанию разного рода производств в имении своего покровите-
ля князя Потемкина в Могилевской губернии.
После недолгого, унылого пребывания дома Иеремия вновь возвра-
щается в колледж. Начало 60-х годов отмечено чрезвычайно напряжен-
ной обстановкой из-за так называемого “дела Уилкса”15, послуживше-
го зарождением радикализма в Великобритании. Это было сложное яв-
ление в истории страны, развивавшееся в двух плоскостях: с одной сто-
роны, в форме общественного движения за реформу системы предста-
вительства в парламенте, которое пережило несколько подъемов и спа-
дов, завершившись частичной победой лишь в 1832 г.; с другой - в фор-
ме становления и развития либеральной политической мысли, обосно-
вывавшей необходимость преобразования политических, экономиче-
ских и социальных институтов королевства. Вспоминая об этом време-
ни, Бентам писал: “Я был определенным аристократом ... я восхищался
лордом Мансфилдом и королем ... как бы то ни было, я был сторонни-
ком серьезных реформ, но только вовсе не подозревал, что люди, стоя-
щие у власти, могут быть против реформ. Я предполагал, что им недо-
стает лишь знания того, что хорошо, чтобы они могли осуществить
это”16. По-детски наивная вера в силу знания предопределила длитель-
ную отстраненность философа от вопросов конституционного права и
364
политики и явилась причиной его более поздних обращений к монархам
европейских стран с предложениями переустроить общества их госу-
дарств на основе утилитаризма.
Бентам слушает лекции Уильяма Блекстона (1723-1780). Блекстон,
наиболее известный в те годы юрист Англии, с 1753 г. читал в Оксфор-
де лекции по праву. Они отличались простотой изложения, так как пре-
подаватель с легкостью пропускал трудности и противоречия англий-
ского права, придавая предмету черты совершенства, стройной логики,
и оставлял вне поля зрения слушателей архаические законы. Поначалу
Иеремия был покорен блестящим преподавателем настолько, что, по
его словам, не мог даже делать пометки, не говоря уже о том, чтобы за-
писывать лекции17. Однако вскоре Бентам разочаровался в Блекстоне,
он недоволен его аффектированным, формальным изложением мате-
риала. Но в наибольшей мере его не удовлетворяла позиция Блэкстона
по проблеме естественного права, которая сводилась к отстаиванию
идеи естественного права Д. Локка на базе английской конститу-
ционной теории. Позднее он напишет “Комментарии к суждениям кри-
тика”, где на основе анализа положений книги Блекстона изложит
свои возражения по этому важному вопросу политической мысли
XVm-XIX вв.1»
Блекстон и Бентам - две фигуры, два антагониста, претендовавших
в одно и то же время на звание великого правоведа Англии. Однако
критическое отношение Бентама к Блекстону объясняется не ревни-
вым соперничеством, а началом выработки собственной концепции, не-
разрывно связанной с принципом утилитаризма. Учение Бентама фор-
мировалось под воздействием идей, встречавшихся в философской ли-
тературе, которую он продолжал усердно штудировать. Разносторон-
ний круг чтения в значительной мере объясняет своего рода эклектич-
ность его основных установок, сформулированных позднее. Впервые
упоминание принципа пользы он встретил в произведениях Д. Юма. При
этом сам Бентам полагал, что у Юма этот принцип трактуется несколь-
ко легковесно, тогда как его значение более весомо и значительно.
Анонимно опубликованный трактат настаивавшего на равенстве граж-
дан перед законом итальянского просветителя Ч. Беккарии “О престу-
плениях и наказаниях” (1764), который получил широкую известность в
связи с ярким выступлением автора против произвола в суде, Бентам
прочитал вскоре после его издания. Именно там он встретил фразу о
“наибольшей радости для наибольшего числа людей”. Ту же мысль он
нашел и в трактате Д. Пристли “Эссе об управлении”.
Буквально накануне завершения учебы Иеремия узнает о женитьбе
отца, он не взлюбил мачеху, что со временем отдалило его и от отца.
В 1766 г. он получает магистерскую степень. Годы студенчества завер-
шены, однако процесс познания продолжается.
Иеремия переезжает в Лондон и пытается заняться адвокатской
практикой. Его карьера была короткой, вскоре он ее бросает. В это
время он по-прежнему много читает: литературу по химии, естествен-
ным наукам, труды Д. Локка, Д. Юма, Ш. Монтескье, К. Гельвеция,
Ч. Беккарии. Бентам становится членом клуба, где собирались ученые.
365
Отец был разочарован поведением сына, который не оправдал его на-
дежд, не сделав блестящей карьеры.
Тем временем чтение разжигает честолюбивые устремления за-
стенчивого, не уверенного в себе молодого человека. Он решает сде-
лать для сообщества людей то, что И. Ньютон совершил в естественной
науке - создать стройную теорию, обладающую строгой структурой,
единой концепцией. Направление собственных изысканий - законода-
тельство, которое он рассматривал как основу общественной жизни,
подсказало область поиска панацеи от всех бед. У Бентама крепнет
представление, что переустроить общество достаточно просто. Поиски
решения социальных бед и политического неравенства характерны для
либеральной и социалистической философской мысли конца XVIII -
первой половины XIX в. Как отмечалось выше, Бентам полагал, что
главная цель человечества - достижение наибольшего счастья для наи-
большего числа людей, а общество и государство рассматривал в каче-
стве гаранта этого счастья. Для достижения главной цели необходимо
усовершенствовать правовую практику государства. Законы и государ-
ственные институты должны отвечать человеческой природе и способ-
ствовать увеличению человеческого счастья.
С этого времени, когда найдена и определена цель жизни, выделе-
на главная задача трудов, Бентам напряженно работает, читает, раз-
мышляет, пишет. В день он исписывает по 10-15 страниц, содержавших
тщательный анализ преступлений и наказаний. Первые произведения
отличает хороший литературный слог, но впоследствии он, по словам
П. Покровского, “жертвует внешней привлекательностью и легкостью
изложения”19, вырабатывая свой особый стиль, который не отвечал
сложившимся канонам. По нескольку раз переделывая одну и ту же ра-
боту, он стремится к наиболее совершенному выражению мысли, уточ-
няет, развивает и дополняет ее, вводит свои особые термины. Чтение
его произведений затрудняли отбор слов, построение фраз, которые
были тяжеловесны и сложны для восприятия читателем. Однако скорее
всего в силу собственной неуверенности в себе, а не в силу литературно-
го слога его многочисленные произведения пролежали “в столе” почти
40 лет до встречи с Дюмоном, который опубликовал их.
Через четыре года после завершения университета, в 1770 г. Бен-
там совершает поездку в Париж. По предположению исследователей,
именно в это время он знакомится с французскими философами
Д’Аламбером и Морелли, с которыми позднее переписывался, а также
с братьями Татищевыми, поклонниками Екатерины II. По возвращении
домой он начинает издавать свои публицистические произведения. Пер-
вое его выступление было на стороне тори, и в этом, безусловно, сказа-
лись его воспитание и образование. Бентам выпустил памфлет в защи-
ту лорда Мансфилда, обвинявшегося обществом в преследовании жур-
налиста Вудфолла, опубликовавшего письма Юниуса, известные своей
критикой политики правительства и короля.
В период противостояния метрополии и 13 колоний, накануне вой-
ны с Америкой совместно с Джоном Линдом Бентам выпустил памфлет
в защиту торийского кабинета. Бентам был настроен против колони-
366
стов. Он считал их аргументы слабыми, а Декларацию независимости
рассматривал как изложение абсурдных истин.
Середина 70-х годов XVIII в. - важный этап в истории британского
общества. С одной стороны, восставшие колонии поставили на повест-
ку дня обсуждение вопроса о политических правах, с другой - выходит
в свет исследование А. Смита, заявившего о необходимости проведения
либеральной экономической политики. В это время Бентам работает
над трудом, посвященным рассмотрению принципов морали и законо-
дательства, в котором предпринимает попытку с позиций утилитаризма
использовать научный метод в законодательстве. В 1776 г. вместе с
Джоном Линдом он пишет и публикует памфлет “Ответ на Декларацию
Американского конгресса”, где вновь обращается к проблеме естест-
венного права, затронутого в Декларации. Авторы памфлета охаракте-
ризовали формулировки бывших колонистов как смутные и деклара-
тивные общие положения.
В 1776 г. Бентам публикует часть своего основного произведения
“Отрывок о правительстве”, где изложены взгляды на принципы уст-
ройства государственной власти.
Издание произведения, в котором был сформулирован принцип
пользы и содержались оригинальные мысли автора, сыграло важную
роль в жизни Бентама. Это его произведение произвело большое впе-
чатление на известного политика тех лет лорда Шельбурна20. По сло-
вам либерального историка Д. Тревельяна, “лорд Шельбурн был фило-
софствующим государственным деятелем”21. Сближение Шельбурна и
Бентама произошло в 1781 г., когда Бентам по приглашению хозяина
гостил в его поместье, являвшемся в то время ведущим художественно-
литературным центром, где встречались художники и ученые всех
стран. Именно там Бентам получил возможность познакомиться с вид-
ными политиками - У. Питтом Старшим и Младшим, лордом Кемде-
ном, сестрой Шельбурна, вышедшей замуж за С. Фокса, будущего лор-
да Холланда.
Жизнь Бентама, его общение с высшим политическим светом спо-
собствовали тому, что отец как бы смирился с тем, что не осуществи-
лась его мечта о карьере юриста для сына. Он надеялся, что теперь
Иеремии “повезет”. Впоследствии Бентам признавался, что общение
с Шельбурном помогло ему осознать и понять, что он сам является лич-
ностью: “Он поднял меня из бездонной пропасти унижения. Он дал мне
почувствовать, что я - нечто”22. Это признание весьма интересно, так
как свидетельствует о том, насколько неуверен был в себе в те годы фи-
лософ. Не имея занятия, приносившего доход, физически слабый и роб-
кий, он не осмелился сделать предложение юной племяннице Шельбур-
на Каролине Фокс, которую полюбил. Он сделал это лишь через 16 лет
после первого знакомства и получил отказ. В любви Бентам проявил
себя как сентиментальный романтик: десятилетия спустя, на склоне лет
80-летний старик сохранил воспоминания о событиях той осени 1781 г.
и попытался напомнить Каролине о цветке, который она подарила ему
когда-то. Однако его ждало новое разочарование, ее ответ был холоден
и глубоко обидел старика23.
367
Отец оказался отчасти прав, и Иеремии действительно “повезло”,
так как в доме Шельбурна он встретил Сэмуэля Роммили и Этьена Дю-
мона. С конца 80-х годов XVUI в. Роммили становится его близким дру-
гом, советчиком в практических делах и главным проводником его уче-
ния в парламенте24. Э. Дюмон, швейцарский эмигрант, протестант, в то
время был гувернером сына лорда Шельбурна. Произведения Бентама
ему показал Роммили, знакомство с идеями философа потрясло Дюмо-
на, который становится преданным его последователем. Дюмон пред-
лагает переписать сочинения более простым языком, пригодным для
прочтения широкой публикой. Он начинает переводить на французский
язык произведения Бентама, местами перерабатывая, упрощая их.
Эта работа шла под руководством автора, к которому Дюмон обращал-
ся за дополнениями и разъяснениями25.
По всей вероятности, Бентам получает приглашение посетить Рос-
сию, исходящее не только от брата Сэмуэла, но и от Потемкина, кото-
рому он указал на Иеремию как на человека, способного собрать нуж-
ные князю сведения и исполнить его поручения26. В то время Потемки-
ным были задуманы различного рода нововведения в устройстве отвое-
ванных провинций на юге страны. Он намеревался благоустроить, пре-
вратить этот край и его города в цветущие, развитые земли27. По прось-
бе Потемкина перед отъездом из Англии Бентам собрал обширные све-
дения о земледелии, торговле, мануфактуре, нашел знавших молочное
и сыроваренное дело двух женщин для работы на ферме, которую князь
хотел устроить по английскому образцу. От Потемкина был получен
чек на 500 ф.ст. для оплаты их переезда. По словам биографа Бентама,
этот “опыт был безрассудной попыткой возвести в варварской части
России все отрасли цивилизации. Это был конек Потемкина, стоивший
ему много тысяч фунтов” и не принесший успеха28.
Путешествие Бентама было длительным - из Англии через Фран-
цию в Ниццу, затем морем до Константинополя, из Константинополя
через Болгарию и Бухарест он добрался до Кременчуга, оттуда в Моги-
левскую провинцию в имение Задоры, которым в то время управлял
Сэмуэл. Время с января 1786 до осени 1787 г. Бентам провел уединенно
в российской деревне, занимаясь своими трудами, переписываясь с
английскими друзьями и практически не общаясь с местным общест-
вом. За время пребывания в имении он написал “Паноптикон”, “Защи-
ту ростовщичества”, начал работу над “Рациональным исследованием
награды”. Осенью 1781 г. через Польшу, Пруссию и Голландию он вер-
нулся домой. Этот визит едва ли серьезно расширил представление Бен-
тама о России29, так как он вел привычный образ жизни кабинетного
ученого. Однако у него появился интерес к ней как к стране, где он мог
бы осуществить свои проекты. Впоследствии он обратится к Александ-
ру I с предложением своей помощи в разработке законодательства в
России30.
По возвращении Бентам поселился в небольшом сельском домике в
Хендоне, где собирался тесный кружок его друзей. Они и уговорили его
издать “Введение в принципы морали и законодательства”, вышедшее в
1789 г. анонимно. Автор долгое время оставался не известен широкой
368
публике. Исследователи единогласны в оценке предыдущих и этого из-
дания, отмечая их уникальность, определявшуюся тем, что они были
подготовлены к публикации самим Бентамом, в отличие от отредакти-
рованных близкими учениками и последователями более поздних ра-
бот, на которые наложился отпечаток личности и взглядов этих редак-
торов.
Во “Введении”, как и в “Комментариях” Бентам атакует устоявши-
еся теории общинного права и английскую конституцию, “фикцию” ес-
тественного права и социального контракта и обосновывает принцип
утилитаризма. Он сформулировал метод определения объема удоволь-
ствия и страдания, которые индивидуум испытывает относительно
предполагаемых действий. С этого времени и до конца жизни Бентам
считал, что единственный научный базис моральной мысли сводится к
подсчету полезности всегда и при всех обстоятельствах.
Позднее, осенью 1789 г., Дюмон поедет в революционный Париж,
где покажет отрывки из произведений Бентама наиболее видным либе-
ральным деятелям Национального собрания Мирабо, Ларошфуко и др.
Благоприятные отзывы становятся весомым доводом Дюмона, убеж-
давшего философа продолжать работу по тактике законодательных со-
браний.
Это был важный, переломный год в европейской истории, все на-
правление которой определили эпохальные события во Франции.
Английское общество поначалу встретило первые известия о вспыхнув-
шей во Франции революции с большим подъемом, в ней оно увидело
повторение своей Славной революции, 100-летний юбилей которой
был довольно широко отпразднован. В Англии развернулась дискуссия
по вопросам о причинах и значении революции, правах человека, нача-
ло которой положил трактат Э. Берка “Размышления о революции
во Франции”31.
Позиция Бентама в отношении Франции была двойственной. С од-
ной стороны, он полагал, как и Э. Берк, что революция основана на не-
верных принципах, абстрактном представлении о “естественных пра-
вах”. Однако поначалу он довольно позитивно относился к восставшим,
но сентябрьские события 1792 г. потрясли его и разочаровали. Он был
глубоко возмущен действиями парижан. С другой - первый этап рево-
люции Иеремия воспринял как своего рода шанс для юриста провести
реформу старого законодательства. В жизни Бентама наступил важный
период, заключавшийся как в дальнейшем поиске своего предназначе-
ния, так и попытках предпринять конкретные шаги, направленные
на осуществление своих проектов. Философ не замыкается в кабинете.
Он мечтает вмешаться в ход истории и преобразовать мир. Именно ре-
волюция, которая, по его мнению, принесла ему возможность приме-
нить свои силы, осуществить свои проекты с “чистого листа”, воодуше-
вляла его.
И Бентам начинает действовать. Прежде всего он посылает Морел-
ли часть трактата “Политические тактики”, в котором на основе бри-
танского опыта рассматриваются организация и процедура деятельно-
сти законодательной ассамблеи. Национальной ассамблее он направля-
24 Россия и Британия Вып 3
369
ет проект организации французской юстиции; в 1791 г. просит позво-
лить ему приехать и руководить реформированием тюрем по своему
проекту.
В эти годы Бентам приходит к заключению, что главным источни-
ком политических конфликтов является неопределенность формулиро-
вок, сомнительность, путаница слов; и все больше внимания уделяет
концептуальному определению терминов, прежде всего таких, как пра-
во и обязанность. Бентам утверждал, что эти термины - фикция, так
как они не осязаемы. Вместе с тем закон, санкция, суверен реальные
термины, которые можно видеть и ощущать. Около 1795 г. Бентам на-
писал “Анархические заблуждения”, явившиеся результатом размыш-
лений о проблемах прав и обязанностей, которые провозгласила Фран-
цузская революция32. Это произведение впервые было напечатано во
Франции только в 1816 г.,ав Англии оно увидело свет лишь в 1843 г.
Все предложения Бентама были отвергнуты, однако его активность
не осталась незамеченной. В 1792 г. Конвент присваивает ему звание
почетного гражданина Франции, которое он получил наряду с такими
выдающимися мыслителями и деятелями эпохи, как Т. Пейн, У. Уил-
берфорс, Д. Вашингтон и др.
Своеобразным обращением к Конвенту стал и его памфлет “Осво-
бодите Ваши колонии”. Л. Стефенс охарактеризовал позицию Бентама
в этом произведении как “абстрактное резонерство”33. В какой мере
прав исследователь? Если взглянуть на это обращение не как на призыв
к французам, а как на своего рода программу, то впечатление от него
будет иным. Прежде всего необходимо отметить, что в этом памфлете
Бентам выступает как либерал, сторонник невмешательства государст-
ва в экономическую жизнь страны. На его представлениях о значении
колоний в жизни метрополии, которое он сводил лишь к торговле меж-
ду ними, безусловно, сказались события Войны за независимость, кото-
рую в 70-е годы вели восставшие американские колонисты. В связи с
этим он и выступил с предложением освободить французские колонии.
Мысль об осуществлении на практике своих идей уже не покидает
Бентама. Продолжая литературную деятельность, он публикует в
1792-1793 гг. несколько памфлетов и одновременно предлагает главе
Контрольного совета Ост-Индской компании свои услуги по выработке
законодательства для Индии. В последующие годы Бентам пытается
предпринять решительные действия. Так, в 1796 г. вместе с известным
британским аболиционистом У. Уилберфорсом они решают, что долж-
ны отправиться во Францию для восстановления дружественных отно-
шений с ней. В 1798 г. он предлагает свою помощь в реорганизации лон-
донской полиции34, в 1800 г. выдвигает идею создания прообраза совре-
менного холодильника - ледяного дома для хранения рыбы, фруктов и
овощей.
Этот период общественной активности совпадает по времени с важ-
ными изменениями в частной жизни Бентама. В марте 1792 г. умер его
отец, который свою собственность разделил между сыновьями. Иере-
мия получает земельные владения, приносившие 500-600 ф.ст. в год, и
дом в Вестминстере. Если принять во внимание сложные взаимоотно-
370
шения отца и сына, то избавление от его опеки, безусловно, придало
Бентаму большей уверенности в собственных силах. Кроме того, нали-
чие определенного дохода, который позволял ему вести тот образ жиз-
ни, который был по нраву, обеспечило ему экономическую независи-
мость. Отныне и до конца жизни Иеремия поселяется в собственном
доме, окруженном небольшим садом, где располагался маленький фли-
гель. В нем впоследствии останавливались, а порой и подолгу жили его
гости.
Имея средства к существованию, Бентам смог отдать все силы про-
екту, к осуществлению которого приступил по возвращении из России.
Еще будучи в гостях у брата, Бентам завершил работу над “Панопти-
коном”, сочинением, посвященным устройству тюрьмы, в котором де-
тально распланировано здание тюрьмы и занятия заключенных. Про-
ект разрабатывается им до самых последних мелочей - пища, одежда,
досуг, развлечения поднадзорных. Свой “Паноптикон” Бентам рассма-
тривал как панацею от многих бед, и прежде всего все громче заявляв-
шего о себе пауперизма; как гуманное и рациональное отношение к
преступникам, соединенное с возможностью экономии государствен-
ных расходов. Суть архитектурного плана состояла в следующем: с
центрального места надзирающий мог следить за всеми действиями за-
ключенных, труд которых был обязательным, основополагающим
принципом.
Иеремия настойчиво добивается осуществления этого проекта
вплоть до обращения к королю Георгу III, что также свидетельствует и
о его моральной свободе, и об уверенности в своих силах, способности
переустроить мир. Проблема тюрем и размещения заключенных в то
время стояла остро. Это было вызвано, с одной стороны, потерей об-
ширных американских колоний, куда ссылались осужденные, с другой -
усилением роста пауперизма и преступности, что явилось следствием
развивавшейся промышленной революции, принесшей обнищание и ра-
зорение мелкого производителя. Сказывались и тяготы военного вре-
мени. О значимости решения этой проблемы для общества свидетель-
ствует выдача правительством 2 тыс. ф.ст. на осуществление проекта.
Бентам увлечен, он выстраивает модель здания, составляет архите-
ктурный план, выдвигает идею, чтобы заключенные заменили силу па-
ра. Однако и эти проекты провалились, и устройство Паноптикона не
было претворено в жизнь, так как правительство отказалось от проек-
та Бентама, найдя более дешевый. Неудачи привели к тому, что Бентам
начинает понимать, что правящие круги вовсе не желают обеспечивать
“наибольшее счастье для наибольшего числа людей”. И он задумывает-
ся над тем, как должно быть устроено управление в стране, чтобы осу-
ществление этого принципа стало бы первостепенной заботой прави-
тельства. С этого времени он погружается в проблемы политической
организации общества, которым отныне уделял больше внимания, чем
кодификации законов и другим реформам. Обращение к новой теме
изысканий становится переломным моментом в жизни философа, начи-
нается постепенный отход от консервативных политических взглядов и
обращение к либеральным.
371
Новое столетие становится еще одним важным рубежом в жизни
Бентама. Весной 1802 г. в Париже на французском языке выходят в
свет “Принципы законодательства”. Эта книга была подготовлена Дю-
моном. При этом часть текста принадлежала Бентаму, часть - являлась
изложением его теории Дюмоном.
Взоры Бентама вновь обращаются к России, где молодой импера-
тор заявил о своем желании провести ряд реформ в управлении госу-
дарством. Идея применить свои силы в России зародилась у него еще во
время пребывания в Париже благодаря знакомству с братьями Тати-
щевыми и укрепилась во время поездки в Россию. В 1802 г. Бентам на-
писал Дюмону, что в Петербурге создана возглавляемая одним из са-
новников комиссия, которой поручено составить мануфактурный
устав, и просил выслать ему его труды по этим вопросам35. Как дове-
ренное лицо и представитель Бентама Дюмон отправляется в Россию в
целях распространения тиража сочинения Бентама и выяснения, на-
сколько реальна возможность приглашения философа для оказания
помощи в проведении реформ. В Санкт-Петербурге он встречался с
Новосильцевым, А. Чарторыйским, графом Строгановым, Кочубеем,
М.М. Сперанским, вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
“Я удивляюсь, - записал он в дневнике, - как многие говорят о моем из-
дании Бентама. Его продали здесь столько же, сколько в Лондоне, и да-
же более, около сотни в шесть месяцев, и книгопродавцы возобновля-
ют запасы”36.
Особо Дюмон подчеркивает то влияние, которое оказал Бентам на
Сперанского: “Труды Бентама развили в нем наклонность к составле-
нию и разработке законов и указали ему на точность, которой можно
достигнуть в законодательной науке и которой он не предполагал. Он
думает, что вышедшее сочинение Бентама и те, о которых я говорил,
окажут скорее и больше существенной пользы России, нежели другим
государствам”37. Именно Сперанский высказал предположение, что
правительство, вероятно, обратится к Бентаму с просьбой о подготовке
гражданского кодекса как части общей реформы юстиции в России38.
Однако такого обращения не последовало.
Это издание одного из основных трудов Бентама и сама поездка
Э. Дюмона в Россию, безусловно, сыграли роль в том, что “Принципы
законодательства” и другие произведения были переведены на русский
язык39.
Публикация “Принципов” способствовала распространению идей
Бентама в Европе и Америке. Со всех концов света приезжали к нему
иностранцы, последователи и поклонники его идей. Среди них Джон
Адамс, представитель Америки в Англии; Аарон Барр, знакомство с ко-
торым послужило зарождением большого интереса Бентама к Южной
Америке. Барр, искатель приключений, политик и юрист, вынашивал
планы создания обширной империи в Мексике, а себя видел ее главой40.
Разговоры с Барром, его рассказы о Мексике увлекли 60-летнего фило-
софа, и он мечтает эмигрировать туда. Это не бесплодные мечтания, он
предпринимает решительные шаги к осуществлению задуманного, кото-
рые, как это было уже не раз, потерпели крах41. Внимание Бентама, по-
372
знакомившегося с Ф. Мирандой, переключается на Венесуэлу, благопри-
ятный климат которой привлек его. После смерти Миранды Бентам свя-
зывается с лидерами национальных движений Латинской Америки, вы-
ходцы из которой становятся частыми его гостями. Этот континент
представлялся ему огромным полем приложения сил, возможности осу-
ществления своих идей, и он напряженно трудится, разрабатывая проек-
ты. Среди рукописного наследия, оставленного философом, весьма об-
ширны материалы, связанные с этой частью света: письма, кодексы за-
конов, планы, в которых сформулированы его взгляды на колониальное
управление, законодательство, образование, прессу и т.д.
За долгую жизнь Бентама лишь однажды забрезжила возможность
воплощения на практике утилитаристской мечты - создания государст-
ва, целью которого стало бы достижение “наибольшего счастья для
наибольшего числа людей”. В 1826 г. ему поступило предложение раз-
работать свод законов, но 78-летний Бентам отказался, он был слиш-
ком стар для такого труда42.
Усилия Бентама увенчались успехом: “Либеральные монархи Евро-
пы и молодые республиканцы Нового Света испрашивали у него сове-
та. Его работы во французской версии Дюмона расходились тысячами
экземпляров, а его принципы оказали воздействие на дюжину пробных
конституций”, - отмечали кэмбриджские историки43. Особо популярны
его идеи были в странах Южной Америки, где разошлось по крайней
мере 40 тыс. экземпляров его книги44, хорошо они были известны и на
Пиренейском полуострове. В 1820-1821 гг. конституционалисты объя-
тых революциями Испании и Португалии заявили о своем намерении
обратиться к Бентаму за помощью в составлении конституций для сво-
их стран. Поражения революционных выступлений в обеих странах по-
хоронили и проекты привлечения Бентама.
В меньшей степени Бентам известен и популярен в Англии, его про-
изведения, публиковавшиеся на родине, подвергались нападкам и кри-
тике, которая зачастую концентрировала свое внимание на стиле изло-
жения, а не основных положениях автора45. Однако с начала XIX в. по-
степенно расширяется круг его друзей и почитателей.
Еще на рубеже веков, по утверждению самого Бентама, он жил
одиноко и избегал общества. Его потребность в общении удовлетворял
узкий круг друзей, среди которых Ромилли, Вильсон, брат Сэмуэл46.
Возможно, по сравнению с напряженной жизнью, начавшейся с 1808 г.,
когда он познакомился с Барром и Д. Миллем, его общение с людьми
представлялось ему весьма ограниченным, однако в этом утверждении
присутствует и известная доля лукавства, так как в те годы он не был
затворником, как это можно было бы представить на основе его слов.
В доме Шельбурна он продолжает встречаться с политиками и учеными
У. Питтом, лордом Дандасом, Д. Блекстоном, Ф. Бердетом, У. Уилбер-
форсом, А. Юнгом и др. Безусловно, это не было дружеское общение,
но едва ли знакомство со столь яркими личностями (а к таким бесспор-
но можно отнести аболициониста Уилберфорса или исследователя Юн-
га) проходит бесследно для Бентама, который все еще продолжает по-
иски своего предназначения в этом мире.
373
Со временем в вестминстерском доме формируется тесная группа
единомышленников. Из них важную роль в жизни Бентама сыграл
Джеймс Милль. Сын бедного шотландского сапожника, он смог полу-
чить образование благодаря покровительству местного магната, в честь
которого он позднее назвал своего первенца Джона Стюарта, одного из
наиболее известных британских мыслителей XIX в. После окончания
Эдинбургского университета в 1798 г. Д. Милль занялся публицистиче-
ской деятельностью.
Д. Милль, уже довольно известный журналист, познакомился с Бен-
тамом в 1808 г., когда Бентаму было 60 лет и он был мало известен бри-
танской публике. Эта встреча оказалась весьма полезной для обоих:
Бентам приобрел преданного сторонника, воспринявшего его идеи, а
Милль - покровительство патрона и ментора. Довольно быстро между
ними завязались близкие, дружеские отношения. Настолько теплые,
что стесненный в средствах Милль некоторое время со своей семьей
жил во флигеле рядом с домом Бентама47. Это событие также стало
важной вехой в жизни философа.
Политические взгляды Д. Милля, сторонника радикальной рефор-
мы избирательной системы, оказали большое влияние на философа,
который в эти годы все чаще задумывается над применением своего ос-
новополагающего принципа в политике. Результатом размышлений
становятся постулаты: обеспечение в политике наибольшего счастья
для наибольшего числа людей может быть осуществлено предоставле-
нием наибольшему числу людей определенного уровня влияния на зако-
нодателей, дискуссии в обществе должны проходить свободно, т.е.
должна быть обеспечена свобода прессы. Иеремия приходит к выводу,
что осуществление его идей на практике возможно в Британии лишь
после проведения парламентской реформы, и превращается в одного из
страстных ее пропагандистов.
Трансформация взглядов Бентама на политику в то же время явля-
лась естественным, логическим процессом, течение которого лишь ус-
корило знакомство с Джеймсом Миллем, ставшее своего рода катализа-
тором, но не основной причиной, как это утверждают большинство ис-
следователей48. Так произошло интеллектуальное движение Бентама
от консерватизма к радикализму, превращение его в духовного лидера
философских радикалов, отстаивавшего принципы представительной
демократии как единственного средства, гарантирующего служение ин-
тересам жителей страны тех, кто ими управляет.
С именем Бентама в радикальном движении связано утверждение и
распространение самого термина радикализм, который возник еще на
рубеже веков. Затихшее в самом конце XVIII в. движение за парламент-
скую реформу в 10-е годы XIX столетия переживало очередной подъ-
ем, в стране создавались клубы сторонников реформы, в прессе и пам-
флетной литературе вновь обсуждались ее цели и задачи. При опреде-
лении требований реформирования системы представительства один из
идеологов движения, Д. Картрайт, в 1811 г. противопоставил сторонни-
ков “превосходной конституции” (под которой он подразумевал ежегод-
ные выборы в парламент, всеобщее избирательное право, равные изби-
374
рательные округа и др.) и сторонников частичных изменений, направ-
ленных против отдельных злоупотреблений. При этом первых он име-
новал радикалами, вторых умеренными.
В том же году Бентам написал “Катехизис реформы парламента”,
в котором сформулировал свои требования: ежегодные, тайные выборы
в парламент, равное число избирателей в округах, полное, точное и бы-
строе издание речей депутатов и др. Так уже в 1811 г. Бентам выступил
на стороне радикалов, а в 1817 г. он написал “План реформы парламен-
та”. В предисловии Бентам отмечал, что его задачей было показать не-
обходимость радикальной реформы и неудовлетворительность умерен-
ной. Этот памфлет Бентама, по мнению Галеви, и утвердил в обществе
термины радикализм, радикальная реформа49. Возможно, это произош-
ло в силу своевременности издания памфлета, когда по всей стране
вновь нарастало массовое демократическое движение, выдвинувшее
требование осуществления парламентской реформы. Идеи Бентама лег-
ли в основу демократической программы реформирования всех общест-
венных и властных институтов, что поставило философа и его сторонни-
ков в число наиболее активных реформистов среди радикалов50.
Дом Бентама стал местом встреч парламентской и внепарламент-
ской группировок радикалов. Своего рода связующим звеном между
Бентамом и его окружением, с одной стороны, и радикальным общест-
венным движением - с другой, стал Ф. Плейс, сыгравший важную роль
в борьбе за парламентскую реформу.
И на склоне лет Бентам по-прежнему стремится к действиям. Так,
в 1818-1819 гг. вместе с Плейсом он поддержал идею и оказал финан-
совую помощь в издании демократического журнала “Горгона”, в
1823 г. - в организации Института механики, своего рода клуба для
предпринимателей и изобретателей; участвовал в учреждении демо-
кратического органа “Вестминстерское обозрение”51. Несмотря на
возраст, в период наивысшего подъема борьбы за парламентскую ре-
форму в начале 30-х годов Бентам наряду с другими радикалами созда-
ет общество, целью которого была публикация сведений о кандидатах,
выдвинутых для избрания в парламент. Общество утверждало, что из-
биратели должны знать все о тех, кто намеревается представлять их
интересы в парламенте.
Все чаще Бентама упрекали в тщеславии и самомнении. Эти черты
его характера были следствием глубокой убежденности в правоте сво-
его учения, что и порождало порой пренебрежение философа к взгля-
дам других мыслителей. Однако нелегкий характер Бентама с возрас-
том становился все тяжелее. Взрослое дитя в отношениях с людьми, он
привязывался к ним, не умея разбираться в них. Он искренне верит сло-
вам лести и комплиментам, проникаясь чувством собственного достоин-
ства. И также по-детски разочаровывается в людях. Постепенно он те-
ряет своих друзей и единомышленников. Одни, как брат Сэмуэл, уходи-
ли из жизни, с другими он ссорился. Как уже отмечалось выше, он об-
винил Дюмона в искажении его учения; и тогда его издателем стал
Джон Боуринг, осуществивший в 40-е годы многотомную публикацию
сочинений философа. Были испорчены и отношения с одним из наибо-
375
лее преданных ему последователей - Джеймсом Миллем, когда тот по-
сле завершения основного труда своей жизни - “Истории Британской
Индии” - смог занять пост в руководстве Ост-Индской компании и тем
самым упрочить материальное положение своего многочисленного се-
мейства. Под конец жизни рядом с Бентамом оставался лишь один че-
ловек - Эдвин Чедвик, проникшийся идеями философа. Впоследствии
Чедвик сыграл заметную роль в реформировании социальных и граж-
данских институтов, проводя в жизнь эти идеи52.
1 Тургенев А.И. Хроника русского: Дневники (1825-1826). М., 1964. С. 145,
350, 386.
2 Покровский ПА. Бентам и его время. Пг., 1916.
3 Айзенштат М.П. Иеремия Бентам и Россия // Россия и Европа: Диплома-
тия и культура. М., 1995.
4 См., например: Бентам. И. Введение в основания нравственности и зако-
нодательства. М., 1998.
5 Stephen L. The English Utilitarians. L., 1900. Vols 1-3; Halevy E. The Growth of
Philosophic Radicalism. L., 1927.
6 Bentham J. The Collected Works of Bentham. L., 1968. Vols 1-2.
7 Everett Ch.V. Jeremy Bentham. A Biography of the English Utilitarian Philosop-
her. N.Y., 1966; Jeremy Bentham: Ten Critical Essays I Ed. Bh. Parekh. L., 1974;
Rosenblum NT. Bentham’s Theory of the Modem State. Cambridge, 1978; Williford M.
Jeremy Bentham on Spanish America. L., 1980; Waldron J. (ed.) “Nonsense upon stilts”:
Bentham, Burke and Marx on the Right of Man. L., N.Y., 1987; etc.
8 Lyons D. In the Interest of the Governed. Oxford, 1973; Bentham’s Political
Thought / Ed. Bh. Parekn. L., 1973.
9 Roberts D. Jeremy Benthan and he Victorian Administrative State // Jeremy
Bentham: Ten Critical Essay. P. 187-204.
10 Сохранились записи шведского натуралиста, посетившего Лондон как
раз в это время. Он отмечал, что февраль 1748 г. отличался сыростью, промоз-
глой погодой (См.: English Historical Documents. L., 1957. Vol. X. P. 527).
11 Everett Ch.W. Jeremy Bentham. P. 16.
12 О способностях Бентама, которые проявились в детском возрасте, есть
немало весьма интересных подробностей (см., например: Покровский П.А.
Указ. соч. С. 202-204).
13 Там же. С. 206.
14 Everett Ch.W. Op. cit. P. 17.
15 Джон Уилкс, член парламента, журналист, в своей газете “Северный
британец” подверг критике тронную речь короля, за что был арестован несмо-
тря на парламентскую неприкосновенность. Это событие послужило началом
выступлений в защиту журналиста в Лондоне, а затем и по всей стране, в ходе
которых прозвучал лозунг “Уилкс и свобода”. Впоследствии они переросли в
выступления в пользу парламентской реформы.
16 Bentham J. The Works of Jeremy Bentham. L., 1843. Vol. X. P. 66.
17 Stephen L. Op. cit. Vol. 1. Bentham. P. 174.
18 Это произведение увидит свет только в XX в.
19 Покровский ПЛ. Указ. соч. С. 239.
20 Лорд Шельбрун - позднее маркиз Лансдаун - в 1782-1783 гг. возглавлял
правительство. Его скорая отставка в значительной мере объясняется сравни-
тельно широко задуманными планами реформ британского общества, к кото-
рым еще не были готовы аристократические круги.
376
21 Trevelyan GM. British History in the Nineteenth Century and After. 1782-1919.
L., 1937. P. 38.
22 Bentham J. The Works of Jeremy Bentham. Vol. X. P. 115. См. также.
P. 115-117, 186.
23 Ibid. Vol. X. P. 118.
24 Ibid. L., 1843. Vol. V. P. 370.
25 Это не помешало философу рассориться с Дюмоном в 1827 г., обвинив
его в том, что тот не понял ни слова из его учения.
26 Пыпин А.Н. Русские отношения Бентама // Пыпин А.Н. Исследования и
статьи по эхе Александра I. Пг., 1917. Т. 2. С. 17.
27 Брикнер А.Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 60, 62-73.
28 Bentham J. The Works of Jeremy Bentham. L., 1843. V. 10. P. 161.
29 Весьма любопытно, что, возвратившись на родину, Бентам опубликовал
три статьи в “Паблик адвертисер”, в которых подверг критике политику Вели-
кобритании в отношении России (Покровский ПЛ. Указ. соч. С. 262).
30 Айзенштат М.П. Указ. соч. С. 165.
31 См. подробнее: Чудинов А.В. Размышления англичан о французской ре-
волюции. М., 1996.
32 Один из исследователей философского наследия И. Бентама Д. Велдрон
полагает, что это произведение было завершено к 1795 г. (Waldron J. Nonsense
upon Stilts. L.; N.Y., 1987. P. 4).
33 Stephen L. Op. cit. Vol. 1. P. 199.
34 Впоследствии к нему за консультацией при проведении реорганизации
лондонской полиции обратится министр внутренних дел Р. Пиль (The Cambridge
Modem History. Cambridge, 1907. Vol. X. P. 585).
35 Bentham J. The Works... Vol. X. P. 382, 390.
36 Дневник Э. Дюмона // Голос минувшего: Журнал истории и литературы.
1913. N 2. С. 159.
37 Там же. N 3. С. 104-105.
38 Айзенштат М.П. Указ. соч. С. 163.
39 Там же. С. 163-164.
40 Stephens L. Op. cit. Р.200, 213-214.
41 Williford М. Op. cit. P. 4—7.
42 Ibid. P. 27.
43 The Cambridge Modem History. Vol. X. P. 4.
44 Bentham J. The Works of Jeremy Bentham. Vol. XI. P. 53.
45 См., например: The Edinburgh Review. Edinburgh, 1825. Vol. 42. P. 367-368.
46 Stephen L. Op. cit. Vol. 1. P. 207.
47 О привязанности Бентама к семье Д. Милля свидетельствует его трога-
тельная забота о юном Джоне Стюарте, которого в 14-летнем возрасте отпра-
вили в полугодовое путешествие на континент. Иеремия написал брату Сэмуэ-
лю письмо, в котором просил позаботиться о молодом путешественнике
(Mazlish В. James and John Stuart Mill: Father and Son in the Nineteenth Century. N.Y.,
1975. P. 182).
48 См., например: Halevy E. Op. cit. P. 261-262, 307; Mazlish B. Op. cit.
P. 69-70, etc.
49 Halevy E. Op. cit. P. 261-262.
50 Royal E., Walvin S. English Radicals and Reformers. Brighton, 1982. P. 96-97.
51 Stehpen L. Op. cit. P. 223; Royal E., Walvin S. Op. cit. P. 133-134, 136.
52 Э. Чедвик был секретарем комиссии, разрабатывавшей проект нового
закона о бедных, который в корне изменил систему оказания помощи неиму-
щим слоям населения, участвовал в разработке ряда проектов, касавшихся са-
нитарного состояния городов, и т.д.
377
ТЛ, Лабутина
ДЖОНАТАН СВИФТ И ЖЕНЩИНЫ
Выдающийся писатель-сатирик Англии ХУШ в., яркий памфле-
тист, просветитель, борец за пробуждение национального самосознания
ирландского народа, человек острого и глубокого ума Джонатан Свифт
приобрел известность еще при жизни. Его единственное художествен-
ное произведение “Путешествие Гулливера” принесло ему мировую
славу. По признанию известного писателя XIX в. У. Теккерея, у Свиф-
та был “огромный, потрясающий талант, чудесно яркий, ослепитель-
ный и могучий, талант схватывать, узнавать, видеть, освещать ложь и
сжигать ее дотла, проникать в скрытые побуждения и выявлять черные
мысли людей”1. Оружием острой сатиры Свифт заставлял преклонять-
ся перед собой вельмож и министров, приводил в трепет врагов и заво-
евывал симпатии обиженных и угнетенных.
Жизнь, деятельность и литературное творчество писателя явились
предметом стольких исследований за рубежом, что понадобилось их си-
стематизировать в виде специальной библиографии2. Среди них наи-
больший интерес представляют труды Р. Кука, У. Спека, Дж. Эрен-
прейза, Дж. Дауни и др.3 Свой вклад в изучение жизни и творчества
Свифта внесли также наши отечественные литературоведы А. Весе-
ловский, В.В. Чуйко, В.И. Яковенко, А. Дейч, М. Левидов, В.С. Муравь-
ев и др.4 Заметим, что в обширной литературе о Свифте (как в нашей
стране, так и за рубежом) очень мало исторических исследований5.
Казалось бы, при наличии подобного объема исследований о Свиф-
те затруднительно найти лакуны в изучении его жизни и творчества.
Между тем такая проблема, как отношение просветителя к женскому
образованию и воспитанию до сих пор не стала предметом специально-
го исследования. Возможно, это объясняется тем, что интерес к “исто-
рии женщин” возник в исторической науке недавно, лишь в последние
десятилетия XX в. В этой связи нам представляется важным рассмот-
реть в данной статье не только взгляды Свифта на воспитание и обра-
зование юных дам, но и его взаимоотношения с представительницами
прекрасного пола.
Джонатан Свифт (1667-1745) происходил из обедневшего старин-
ного дворянского рода, проживавшего в графстве Йорк. Его дед, небо-
гатый священник, во время гражданской войны отдал все свое состоя-
ние (300 золотых монет) при сборе пожертвований королю Карлу I
Стюарту, за что вскоре поплатился: сторонники Оливера Кромвеля
бросили его в тюрьму и конфисковали имущество. Отец Свифта был
вынужден отправиться в Ирландию, где поступил на должность млад-
шего судейского чиновника. До рождения сына он не дожил всего не-
сколько месяцев. Воспитанием мальчика занимались мать и кормилица,
в семье которой Джонатану довелось прожить около трех лет. Свое об-
разование юный Свифт начал в одной из частных школ Килькенского
округа, а в 14 лет поступил на богословский факультет Дублинского
378
университета. Расходы за образование оплачивал богатый дядюшка
Годвин. Учился Джонатан неровно. Занятиям богословием он нередко
предпочитал бродяжничество по городу или посещение пивных и кофе-
ен. Интерес проявлял лишь к изучению истории и литературы. Вообще
в юные годы Свифт был, по словам Теккерея, “необуздан, остроумен и
очень бедствовал”6. Последнее обстоятельство и побудило Свифта пос-
ле окончания университета поступить на должность секретаря к извест-
ному дипломату Уильяму Темплю.
Незаурядный государственный деятель, опытный политик, искус-
ный дипломат, видный депутат палаты общин, один из членов Тайного
совета при короле Карле II Стюарте, сэр Уильям Темпль был хорошо
известен в стране как человек высокообразованный, тонкий знаток
многих языков, а также древней и современной истории, прекрасный
оратор, автор ряда философских эссе и политических очерков. Яркая и
одаренная личность, Темпль своими “талантами, пером и честностью”
приводил в восхищение многих современников7. Даже спустя столетие
после его смерти каждый джентльмен считал за честь иметь в своей би-
блиотеке книги, принадлежавшие перу Темпля.
Знакомство с Темплем оказало значительное влияние как на фор-
мирование мировоззрения Свифта, так и на определение его политиче-
ской позиции и выбора места в жизни8. Общение с Темплем, а также с
людьми, его окружавшими - дипломатами, политиками, писателями и
поэтами, - давало богатую пищу воображению юноши, будило его
мысль. Впоследствии Свифт любил вспоминать о том, что король Виль-
гельм (царствующий монарх из династии Стюартов. - Авт.) научил его
“резать спаржу на голландский манер” и что именно в имении Темпля
Мур-Парке он увидел людей, “вершивших судьбы общества, услышал
их разговоры, сравнил себя с ними”9.
Около десяти лет прожил Свифт в Мур-Парке. Выполняя секретар-
ские обязанности, он в то же время получил возможность заняться са-
мообразованием, поскольку в доме Темпля имелась богатейшая библи-
отека, в которой наряду с трудами античных авторов - Гомера, Петро-
ния, Лукреция, Вергилия, Тита Ливия - имелись книги современных фи-
лософов Т. Гоббса и Дж. Локка, а также теоретика государства и права
Н Макиавелли, писателей М. Монтеня и Ф. Рабле, философа Ф. Ларош-
фуко. Все эти произведения Свифт читал с одинаковым интересом, про-
водя в библиотеке по 12-14 часов в сутки. А вскоре он и сам сделал пер-
вые шаги на литературном поприще, написав четыре оды, одну из кото-
рых посвятил королю Вильгельму Оранскому.
Пребывание в Мур-Парке осталось незабываемым для Свифта еще
и потому, что здесь он встретился с Эстер Джонсон, или Стеллой, “звез-
дочкой”, как он ласково ее называл. Стелле суждено было сыграть
важную роль в жизни писателя.
Большинство биографов Свифта его первым серьезным увлечени-
ем называли Стеллу. Между тем еще до встречи с ней Свифту уже до-
велось пережить любовное приключение, которое едва не закончилось
браком. Об этой истории поведал Теккерей. Свою первую любовь
Свифт повстречал, будучи студентом. Его возлюбленной оказалась се-
379
стра товарища по колледжу мисс Джейн Варинг, или Варина, как окре-
стил ее Свифт. В ту пору ему было 19 лет, и свою любовь к обожаемой
Варине он изливал в письмах. Одно из этих писем начиналось со слов:
“Нетерпение - это неотъемлемое качество влюбленного”. Однако
вскоре влюбленные расстались, так как Свифт переехал в Мур-Парк.
Еще какое-то время юноша отправлял своей Варине письма, но разлу-
ка постепенно сделала свое дело - любовный пыл Джонатана остыл.
Тем не менее однажды Свифт послал девушке письмо, предлагая вый-
ти за него замуж. Но предложение было сделано в такой форме, что
принять его для уважающей себя юной леди было просто невозможно.
В начале письма Свифт распространялся о своей бедности, затем за-
ключал: “Я буду счастлив принять Вас в свои объятия, независимо от
того, красивы ли Вы и велико ли Ваше состояние. Главное - чистоплот-
ность и, кроме того, - достаточность средств, вот все, чего я от Вас хо-
чу!”10. На этом первый роман Свифта завершился.
С Эстер Джонсон, или Стеллой, Свифт впервые встретился в 1689 г.
Ее отчим был управляющим в Мур-Парке (Теккерей утверждал, что
Эстер являлась побочной дочерью сэра Темпля, о чем, на его взгляд,
свидетельствовали черты лица девушки, ее манера одеваться, отноше-
ние к ней самого Темпля, а также завещанные им в ее пользу 1000 фун-
тов)11. «Я узнал ее, когда ей было только шесть лет, - напишет позднее
Свифт в “Дневнике для Стеллы”, - и в какой-то мере содействовал ее
образованию, предлагая книги, которые ей следовало прочесть, и по-
стоянно наставляя в началах чести и добродетели, от коих она не откло-
нялась ни в едином поступке на протяжении всей своей жизни»12. Меж-
ду воспитателем и его ученицей установились дружеские отношения.
Но постепенно Стелла все больше увлекалась высоким и стройным мо-
лодым человеком с яркими небесно-голубыми глазами, в которых све-
тилось лукавство. То уважение и восхищение, которое она испытывала
к своему учителю и наставнику, бывшему, к слову сказать, старше ее на
14 лет, с годами переросло в искреннюю и преданную любовь к Свиф-
ту. Стелла “слыла одной из самых красивых, изящных и приятных мо-
лодых женщин в Лондоне... - свидетельствовал Свифт. - Ее волосы бы-
ли чернее воронова крыла и все черты лица отличались совершенст-
вом”. Высоко ценил Свифт также тонкий ум, преданность, искренность
девушки: “Едва ли какая другая женщина была когда-нибудь столь щед-
ро наделена от природы умом или более усовершенствовала его чтени-
ем и беседой... Ее совет бывал всегда самым лучшим, и величайшая не-
зависимость суждения сочеталась в ней с величайшим тактом... И нико-
гда еще любезность, независимость, искренность и непринужденность
не встречались в столь счастливом сочетании”13.
Несмотря на взаимную симпатию, отношения Свифта со Стеллой
складывались непросто. После смерти Темпля в 1699 г. Свифт намере-
вался перебраться в Ирландию и посоветовал Стелле также туда пере-
ехать. Стелла безропотно последовала совету своего наставника и вско-
ре поселилась в Дублине, где и прожила всю свою жизнь. Она остава-
лась верным другом Свифта и единственным поверенным во всех его
делах. Покидая Ирландию, Свифт посылал ей почти ежедневно подроб-
но
ные письма (позднее они легли в основу его произведения “Дневник для
Стеллы”. - Авт.). Он не переставал восторгаться красотой и достоин-
ствами Стеллы, но тем не менее не допускал даже мысли о вступлении
с ней в брак. Когда же некий Тиздал посватался к Стелле, Свифт, узнав
об этом, написал ему следующее: “Если бы мои материальные средст-
ва ... и мое здоровье позволяли мне думать о подобных вещах, то я ко-
нечно из всех женщин в мире остановился бы на том выборе, какой сде-
лали вы, так как я никогда не встречал человека, которого ценил бы
так высоко, как ее”14. Возможно, что недостаток материальных средств
и какое-то нездоровье Свифта и послужили истинными причинами, по-
мешавшими его браку со Стеллой.
Взаимоотношения Свифта со Стеллой осложнились еще больше,
когда в 1708 г. он познакомился с 17-летней Эстер Ваномри, или Ванес-
сой15. Юная красивая девушка была моложе Свифта на 24 года и отли-
чалась иным складом характера, нежели Стелла. Натура незаурядная,
страстная и импульсивная, склонная к резким сменам настроений,
Ванесса произвела на Свифта большое впечатление. В одном из своих
писем Свифт писал о ней: “Я привязан к ней до чрезвычайности; она
верно обо всем судит, и я исправил все ее недостатки, вот только не мо-
гу приохотить к чтению, хотя с ее разумом, памятью и вкусом она мог-
ла бы многого достичь... Она совершенно со мной не считается, на-
столько, что прямо-таки сводит меня с ума...”16
Свифт, вновь выступивший в роли наставника молодой девушки,
серьезно ею увлекся и вызвал в ответ страстную любовь с ее стороны.
Один из первых биографов Свифта лорд Оррери так характеризовал
Ванессу: “Она была необычайно тщеславна... любила наряды, жаждала
преклонения; обладала весьма романтическим складом ума; стояла, по
ее убеждению, выше всех представительниц своего пола; держалась
дерзко, весело и гордо; были у нее и приятные черты, но она отнюдь не
блистала красотой или утонченностью... Ее тешила мысль, что она
слывет наложницей Свифта, и все же она рассчитывала и желала вый-
ти за него замуж”17.
Свифт чуть ли не каждую неделю посещал дом Эстер, где обедал, от-
дыхал в отведенном для него кабинете. Здесь же он держал свой парик и
выходное платье, которыми пользовался, когда его приглашали в Сент-
Джеймский дворец. Ученица и ее наставник вместе читали книги Ларош-
фуко, Фонтенеля, Монтеня, вместе пили чай, молились и занимались ла-
тынью, без устали спрягая “amo, amas, amavi” (“я люблю, ты любишь,
я любил”). Свифту нравилось быть предметом обожания и восхищения.
Вскоре он стал приезжать к Ванессе каждый день. В одном из писем к
ней Свифт откровенно признавался в любви: “Позвольте Вас уверить,
что никогда и никого в мире ваш друг так не любил, не почитал, не ценил
и ни перед кем так не преклонялся, как перед вами”. Чувства Свифта не
оставались безответными. В письме к Свифту Ванесса писала: “Знайте,
ни время, ни случайность не в силах уменьшить невыразимую страсть,
которую я питаю... Любовь... к вам заключена не только в моей душе; во
всем моем теле нет такой мельчайшей частицы, которая не была бы ею
проникнута. Не обольщайтесь поэтому надеждой, что разлука изменит
381
Эстер Джонсон (Стелла)
со временем мои чувства: даже безмолвствуя, я не нахожу себе покоя,
и мое сердце одновременно исполнено печали и любви”18.
Вскоре Свифт возвратился в Ирландию. Ванесса, как и Стелла до
этого, также последовала за своим любимым, хотя и не получила с его
стороны никаких обязательств. В это время Стелла узнает о существо-
вании соперницы и, опасаясь потерять близкого ей человека, начинает
настаивать на браке со Свифтом. Свифт дает согласие на этот брак, но
ставит при этом условие: брак их будет тайным и жить они будут по-
прежнему врозь. Стелла приняла условие. В 1716 г. состоялось их тай-
ное бракосочетание.
Взаимоотношения Свифта со Стеллой и Ванессой чрезвычайно за-
нимали западных ученых. Некоторые из них высказывали гипотезы,
позволявшие судить о причинах тайного брака Свифта. Одни утвержда-
ли, что Стелла настояла на браке, чтобы не допустить сближения Свиф-
та с Ванессой, но что их брак оставался фиктивным, поскольку оба яв-
лялись внебрачными детьми Темпля, другие видели причину в сущест-
вовании какого-то физического недостатка у Свифта и т.д.19 Различные
домыслы и предположения и поныне выдвигаются учеными, однако
тайна брака Свифта со Стеллой так и остается неразгаданной.
382
Эстер Ваномри (Ванесса)
Известие о женитьбе Свифта повергло Ванессу в тяжелую мелан-
холию. Она поселилась в аббатстве Марии, где вела уединенный образ
жизни, редко выезжая, почти ни с кем не встречаясь, проводя время за
чтением книг или прогуливаясь по саду. Как утверждал один из биогра-
фов Свифта, его знаменитый соотечественник Вальтер Скотт, Ванес-
са “избегала людей и всегда была печальна, кроме тех случаев, когда
приезжал настоятель Свифт, - тогда она становилась веселой”20.
Ванесса уединялась со своим наставником в укромном уголке сада, где
они присаживались на скамью, окруженную так любимыми Свифтом
лаврами. На столе перед ними по обыкновению лежали книги, перья,
бумага.
Умерла Ванесса 2 июня 1723 г., как утверждал Теккерей, “от нераз-
деленной страсти”21. Свифт посвятил ей чудесные стихи. Стелла, узнав-
шая о смерти соперницы и этих стихах, заявила: “Это меня ничуть не
удивляет, ведь всем известно, что настоятель умеет чудесно описывать
даже палку от метлы”22. Сама Стелла скончалась через четыре с поло-
виной года - 28 января 1728 г. Видимо, судьбе было угодно, чтобы жен-
щины, которых любил и заставлял страдать Свифт, покинули его пер-
выми.
383
Близкое знакомство со Стеллой и Ванессой не исключало из круга
общения Свифта и других женщин. Являясь официальным памфлети-
стом партии тори, которая защищала “земельные интересы”, Свифт не-
редко бывал при дворе и был вхож в высшее общество Англии23. Как
священнослужитель одного из ирландских приходов он постоянно об-
щался со своей паствой, среди которой было немало представительниц
прекрасного пола. Будучи человеком наблюдательным, Свифт неплохо
разбирался в вопросах, связанных с положением женщин в обществе,
а как просветитель особое внимание уделял проблеме их воспитания
и образования.
В очерке “Об образовании леди” Свифт обратил внимание на тот
факт, что в английском обществе прочно утвердилось мнение, будто
главной целью брака является продолжение рода. Если это так, то пер-
вейшей обязанностью женщины должно быть рождение детей и уход за
ними. Таким образом, главное предназначение женщины общество ус-
матривало в ее деятельности в качестве супруги, матери и домохозяйки.
“Жена должна следить за порядком в доме и слугами, наблюдая за тем,
как они исполняют свою работу, - рассуждали, по мнению Свифта, сто-
ронники подобной теории. - Отсутствовать вне дома она может крайне
редко и на короткое время. Она должна отвечать за все, что происходит
в семье”.
Свифт подчеркивал, что большинство мужчин желает, чтобы суп-
руги подчинялись им беспрекословно. Даже принимать у себя, либо на-
носить визиты самостоятельно жены могли исключительно тем лицам,
которые заслуживали одобрения их мужей. Мужчины полагали, что все
время их жен должно быть занято различными делами. Разумеется,
столь плотный рабочий график женщины не оставлял времени не толь-
ко на чтение, но даже на визиты или отдых.
Считалось, продолжал Свифт, что чтение книг, за исключением
тех, которые имели отношение к религии или домоводству, “могло вы-
звать помрачение рассудка женщины”. “Все эти пьесы, романы, любов-
ные поэмы способны только обучить их интриге, а все знания, за ис-
ключением домоводства, сделают их тщеславными, самодовольными,
лицемерными”. Свифт подчеркивал, что муж опасается образованной
жены, поскольку убежден, что научившись самостоятельно мыслить и
рассуждать, она начнет презирать своего супруга, а уважать будет “са-
модовольных типов”, которые набрались знаний в книгах. На взгляд
мужчин, если женщина выучит мудреные слова, то это только сделает
ее смешной, поскольку она произнесет их неправильно и не к месту.
Между тем, сетовали отцы семейств, домашние дела и воспитание детей
будут заброшены подобными любительницами чтения. Будуар такой
дамы заполнится “всякими слабоумными критиками” последней пьесы
или поэмы, и она будет внимательно прислушиваться к их замечаниям,
чтобы повторить их самой во время своего очередного визита к знако-
мым, которым все эти новости еще неизвестны. Такая дама, по мнению
мужчин, “приобретет нахальство педанта, не получив знаний, и с каж-
дой новой порцией полученных знаний ее положение будет только
ухудшаться”24.
384
Подобное отношение общества к образованию женщин, на взгляд
Свифта, приводило к самым плачевным результатам. В трактате
“Письмо к очень юной леди по поводу ее замужества” он писал: “Вряд
ли отыщется одна из тысячи дочерей джентльменов, способная читать
или понимать свой родной язык, или судить о самых простейших кни-
гах, написанных на нем. Неудивительно, ведь их не обучали ни в детст-
ве, ни в более зрелом возрасте”25.
Свифт возмущался тем, что молодые девушки вместо того, чтобы
учиться, растрачивают свою жизнь попусту: в тщетных попытках по-
нравиться мужчинам, в визитах, карточной игре, примерке нарядов.
Никчемные разговоры и убогие интересы некоторых женщин заставля-
ли просветителя признаться в недостаточном к ним почтении. “В этом
убеждает меня поведение некоторых дам, - писал он в “Письме к очень
юной леди...”, - стремящихся поскорее покинуть свой дом после обеда,
и это в семьях, где не грешат выпивкой... В комнате, где собираются
представители обоих полов, мужчины обсуждают общие проблемы, то-
гда как женщины не считают своим долгом делать это. Они собирают-
ся в кружок и начинают болтать о ценах в лавках и выборе кружев и
шелка, о том, какие наряды им понравились на прихожанках в церкви
или на посетителях игорного дома. Создавалось впечатление, - сокру-
шался писатель, - будто судьба всего мира зависела от покроя или цве-
та этих нарядов”26.
Недостаточное образование и отсутствие должного воспитания от-
дельных дам заставляло просветителя констатировать: “Ваш пол ис-
пользует больше мыслей, памяти, усилий, чтобы оставаться глупыми,
нежели позволить себе сделаться мудрыми и полезными. Когда я рассу-
ждаю об этом, то не могу видеть в вас разумные существа, но только
разновидность мартышек, которые не могут проделать такие трюки, на
которые способны кое-кто из вас”27.
Осуждая недостаточное внимание общества к женскому образова-
нию и усматривая в том “постыдный факт”, Свифт как просветитель
призывал более серьезно отнестись к данной проблеме. Ведь этот воп-
рос затрагивает оба пола, которым со временем придется “жить вме-
сте”. Свифт сравнивал количество образованных мужчин в Англии с
числом получивших образование женщин и приходил к неутешитель-
ным выводам: половине аристократов и джентльменов суждено ос-
таться холостыми, либо жениться на дамах, “которых они никогда не
смогут уважать”, поскольку те “глупы, жеманницы и кокетки, картеж-
ницы, болтушки, несущие всякий вздор, великосветские лентяйки и пу-
стышки, интриганки, провоцирующие скандалы и вызывающие осуж-
дение”28. Чтобы избежать подобных осложнений в жизни, Свифт на-
стоятельно рекомендовал “сильному полу” заняться образованием
женщин.
Не ограничиваясь рассуждениями о преимуществах образования
для женщин, Свифт, как уже отмечалось, пытался самолично заняться
их обучением. Чему и как обучал Свифт своих воспитанниц? На взгляд
Свифта, чтение и беседы были главными в образовательном процессе
юных леди. Свои познания девушки должны черпать по преимуществу
25 Россия и Британия Вып 3
385
из книг и от окружающих. О важности чтения, прежде всего, книг по ис-
тории и о путешествиях Свифт говорил не раз. Полагая, что чтение хо-
рошо развивает ум, он рекомендовал читать ежедневно в течение не-
скольких часов. Если ученица обладает слабой памятью, то ей следова-
ло делать выписки из книг. «Чтение - это единственное, что порождает
здравый смысл, - отмечал Свифт в “Письме к очень юной леди...”. -
Плохой выбор книг приводит читающих леди к неверным суждени-
ям»29. Он брал на себя задачу подобрать книги для своих учениц, пола-
гая, что со временем они научатся это делать сами.
Надо признать, что воспитанницы Свифта неукоснительно соблю-
дали “повеления” своего любимого учителя “касательно чтения”. И ре-
зультаты обучения не заставили себя долго ждать. По признанию само-
го Свифта, Стелла освоила греческую, римскую, французскую и анг-
лийскую историю, научилась прекрасно говорить по-французски, про-
читала все лучшие книги о путешествиях, “которые способствуют ши-
роте умственного развития”. Она понимала философию Платона и
Эпикура и “очень метко” судила о недостатках последнего. “Она дела-
ла весьма здравые выводы из лучших книг, которые читала ... понима-
ла природу государственного управления и могла указать, в чем состо-
ят заблуждения Гоббса, как в этом отношении, так и в вопросах рели-
гии ... хорошо умела распознавать болезни и обладала кое-какими све-
дениями из анатомии ... Она обладала истинным вкусом во всем, что ка-
сается остроумия и здравого смысла, будь то в поэзии или в прозе, и бы-
ла превосходным критиком по части слога...”30
Не меньшими достижениями в познаниях могла похвастаться и Ва-
несса. Ее переписка со Свифтом свидетельствовала об уме, таланте,
образованности девушки. Ванесса была знакома с произведениями фи-
лософов Ф. Ларошфуко, Б. Фонтенеля, М. Монтеня. Она прекрасно
разбиралась в современной политике. Ее знания французского языка
приводили Свифта в изумление. “Я восхищен вашими познаниями во
французском языке... - писал он в письме к ней. - Как после этого мне
не стыдиться, когда в сравнении с вами я владею лишь просторечным,
да еще разве что гасконским. Орфография, слог, изящество, нежность
и остроумие - решительно все безупречно”. Ванесса не лишена была
также литературного таланта. Ее стихи и письма к Свифту приводили
учителя в удивление. В одном из писем он признавался: “...Я нарочно
буду приходить к вам реже, дабы получать удовольствие от ваших пи-
сем, при чтении которых я всегда испытываю удивление - как эта дев-
чонка, и читать-то толком не умеющая, наловчилась так отменно
писать”31.
Не менее важным для женского образования, чем чтение книг,
Свифт считал беседы с образованными людьми. Он рекомендовал
юной леди приглашать образованных людей и принимать участие в их
беседах, чтобы собеседники могли исправлять ее речь и суждения.
Со временем же она и сама научится рассуждать самостоятельно. “Я со-
ветовал бы тебе выбрать себе компанию из мужчин, а не из женщин, -
наставлял юную леди Свифт. - Впрочем, лучше, если в компании будут
представители обоих полов. Это сделает общение приятным и полез-
386
ным”. Свифт был категорически против “сборища одних лишь дам”,
расценивая его как “школу наглости, нахальства и злословия”32.
Выбор участников бесед Свифт рекомендовал поручить супругу
юной леди, пока она сама не научится разбираться в людях. Просвети-
тель полагал, что общество образованных мужчин, рассуждающих о на-
уках, искусстве, политике - материях, правда, далеких от понимания
многих юных девушек, тем не менее способно принести им намного
больше пользы, нежели “вся та чепуха и претенциозность”, которыми
славится женский пол. Свифт был уверен, что образованные люди не
позволят себе вести беседы, непонятные юной даме, а напротив, поста-
раются найти такую тему для разговора, чтобы и она смогла в нем при-
нять участие. “Если они говорят о нравах и обычаях европейских госу-
дарств, о путешествиях в зарубежные страны, о великих людях и деяте-
лях Греции и Рима, если они рассуждают об английских и французских
писателях или поэтах, - писал он, - то для английской дамы будет стыд-
но не участвовать в подобных беседах”. А для того чтобы быть хоро-
шо информированной, надо больше читать. И это много лучше, чем
обсуждать с сидящей рядом дамой вопрос о том, “насколько тяжел
новый веер”.
Подобно другим просветителям, Свифт придавал важное значение
нравственному воспитанию девушек. Он неплохо знал высший свет и
потому критически отзывался о тех дамах, которые заполняли королев-
ский двор и светские салоны. О том, что собой представляли “дамы све-
та”, об их занятиях и поведении Свифт поведал в стихотворении “Каде-
нус и Ванесса”. Он отмечал, что основное занятие подобных леди - по-
сещение званых вечеров, пикников и театральных зрелищ. Во время ви-
зитов друг к другу дамы просили “чаю, шоколаду и обсуждали, как вче-
ра, перчатки, ленты, веера”. Кокетство, жеманство, “преувеличенную
стыдливость”, злословие и безделье подобных “дур в юбках” Свифт
считал недостатками, от которых хотел предостеречь своих юных вос-
питанниц, когда писал: “...Даже самые лучшие из тех, коих я зрю рассе-
янными по всему свету, наблюдая и слушая которых я сто раз на дню
твержу себе: ни в речах, ни во взорах, ни в мыслях - ни в чем не уподоб-
ляться сим несчастным”33.
Какие же нравственные качества желал привить своим воспитанни-
цам Свифт? Что он более всего ценил в женщинах? На его взгляд, честь
для девушки - это “содержание всего”, это - “дух самой души”. Свифт
был уверен, что “инстанций выше чести нет”. Девушка должна также
уделять больше внимания своему внутреннему миру, нежели внешно-
сти, ведь “внешность хороша, поскольку в ней видна душа”. Хорошо, ес-
ли девушка не только умна, но и благородна. Важными чертами харак-
тера, по мнению Свифта, должны стать для юных леди терпение, стой-
кость, правдивость, благоразумие, справедливость, а также добронра-
вие, “что лучше красоты”. Что касается религиозного воспитания, то
Свифт, хотя сам и являлся священником, тем не менее избегал каких-
либо прямых наставлений в отношении религии. Подтверждением тому
может, пожалуй, служить также признание Ванессы в том, что она “не
набожна”34.
387
Надо признать, что Свифт как воспитатель, действительно, сумел
сделать немало для того, чтобы привить самые лучшие качества своим
юным воспитанницам. Его усилия не пропали даром. Когда Свифту до-
велось писать некролог на смерть рано умершей Стеллы, он подчерки-
вал, что в ней объединялись “мягкость нрава, как то и подобает даме”,
с мужеством, “достойным героя”. Она являлась прекрасной собеседни-
цей, хотя и не была очень “осведомлена в избитых темах женской бол-
товни”, хула и клевета никогда не слетали с ее уст, что впрочем не ме-
шало ей открыто выразить свое презрение к фату. Особенно импони-
ровала Свифту скромность Стеллы, проявлявшаяся как в ее одежде
(она “совершенно избегала тратить деньги на наряды... сверх того, что
требует благопристойность”, ограничиваясь приобретением скромной
и недорогой одежды), так и в поведении (Стелла отличалась “необык-
новенной скромностью, деликатностью и незлобивостью”). Главными
добродетелями Стеллы, помимо скромности, были, по признанию
Свифта, честь, правдивость, щедрость и добронравие. Кроме того,
Стелла была “самой бескорыстной из смертных”. Благотворитель-
ность по отношению к беднякам она считала своим долгом, от которо-
го ни под каким видом не желала избавиться. Кроме того, являясь че-
ловеком “обширных познаний и ума”, она никогда не выставляла их
напоказ35.
Подробного портрета другой своей воспитанницы Свифт не пред-
ставил, однако, судя по ряду его замечаний в переписке с Ванессой,
можно утверждать, что и она отличалась не меньшими достоинствами,
чем Стелла. Пустые беседы, “коими пробавляются в обществе”, вызы-
вали у Ванессы отвращение и презрение. Если она и выходила в свет, то
только потому, что “так велел” ее наставник. О молодых людях и свет-
ских дамах Ванесса была невысокого мнения, поскольку они “ухмыля-
лись и болтали наперебой” о вещах, совершенно непонятных для нее,
а их манеры и жесты напоминали собой “ужимки павианов и марты-
шек”36. Светским приемам Ванесса предпочитала уединение, чтение
французских романов, занятие литературным творчеством, а также
верховую езду.
Свифт не оставлял без внимания и проблему любви и брака, кото-
рая занимала важное место в жизни любой женщины. Он отмечал, что
такое чувство, как любовь, в последнее время претерпело заметные из-
менения и к ней в обществе стали относиться иначе, чем прежде: “Чтут
женщины другую власть: слепую низменную страсть”. Да, и мужчины
стали относиться к браку легкомысленнее. В результате в обществе
прочно утвердилось мнение о том, что “любовь слывет интрижкой мел-
кой, женитьба - денежною сделкой”37.
Возможно, что именно подобные нерадостные размышления о бра-
ке и побудили Свифта взяться за перо и написать трактат “Письмо к
очень юной леди по поводу ее замужества”. Просветитель отмечал, что
родители редко заботились о развитии умственных способностей доче-
ри и потому новобрачной нелегко завоевать дружбу и уважение супру-
га. На взгляд Свифта, каждый муж хотел бы видеть в супруге разумную
спутницу и верного друга на протяжении всей жизни. Просветитель да-
388
вал юной леди советы, следуя которым та могла бы, как ему представ-
лялось, стать счастливой сама, а также сделать счастливым любимого
человека.
В первую очередь, Свифт рекомендовал молодой супруге “не торо-
питься избавляться от образа скромной девственницы”. Нередко вы-
шедшие замуж дамы начинают “бросать дерзкие взгляды” и приобрета-
ют такую манеру разговора, как будто намереваются поведать всему
свету, что не являются более девушками, а также, что все их поведение
до замужества было лишь “принуждением над природой”. Однако, на
взгляд Свифта, большинство мужчин с большей симпатией относятся к
таким дамам, которые, выйдя замуж, предпочитают сохранять “скром-
ность и сдержанность”. Просветитель рекомендовал юной леди придер-
живаться подобного поведения.
Свифт советовал юной супруге не демонстрировать нежных чувств
к мужу в неподходящее время. “Храни свои уважение и любовь в серд-
це, а нежные взгляды и слова для подходящих минут, которых сыщется
немало в сутках, - наставлял Свифт, - и наступит подходящее время для
проявления той страсти, которую описывают во французских романах”.
По глубокому убеждению Свифта, в браке должны царить не только
любовь, но и уважение, поэтому он призывал юную леди “ценить и ува-
жать своего мужа за достоинства, которыми он обладает, не изобретая,
впрочем, тех, коих он лишен”. Кроме того, юная супруга должна до-
биться уважения со стороны мужа. Для этой цели Свифт советовал ей
направить свои усилия на приобретение тех достоинств, которые более
всего ценит в людях ее муж и коими сам обладает в полной мере. Он на-
стоятельно рекомендовал ей это сделать до того, как “пройдет ее моло-
дость и увянет красота”. Просветитель был убежден, что, только нау-
чившись самостоятельно обо всем судить и сделавшись “разумной спут-
ницей”, супруга сможет завоевать истинное уважение мужа, которое не
исчезнет по прошествии лет. И супруг всегда будет ценить советы и
мнение жены по важным вопросам.
Особое внимание Свифт уделял отношению юных леди к своему
внешнему виду. Он советовал избегать кричащих нарядов и рекомен-
довал больше заботиться “о своей чистоте и пригожести”. Он приводил
в пример слова некоего “приятного джентльмена” об одной “глупой
знатной даме”. Тот говорил, что ничто не сделает эту даму “более снос-
ной”, чем “лишение ее головы”, поскольку ее болтливый язык раздра-
жает его уши, а ее волосы и зубы - обоняние. Свифт отнюдь не исклю-
чал следования женщин моде, но высказывал пожелание, чтобы о ней
они думали “менее всего”. Он был уверен, что никакая мода не сде-
лает женщину “богаче, красивее, талантливее, добродетельнее или
умнее”38.
Затронул Свифт также проблему бюджета, которая занимала не
последнее место в деле достижения понимания и благополучия в се-
мье. Он полагал, что юная супруга достаточно осведомлена о разме-
рах годового дохода своего мужа, чтобы самой научиться “хорошо
считать” и содержать в надлежащем порядке дом и хозяйство. Свифт
желал юной леди не уподобляться тем дамам, которые полагают хо-
389
рошим тоном требовать от мужей нового экипажа, кружевной накид-
ки или нижней юбки в то время, когда еще не уплачено мяснику и ба-
калейщику.
Не обошел вниманием просветитель и окружение юной леди.
Свифт советовал ей избегать общения с дамами “глупыми или пороч-
ными”. Как правило, такие дамы делятся собственным житейским и
семейным опытом, на основании которого и дают рекомендации. Они
советуют, с кем дружить, какие носить наряды, каких слуг увольнять,
а каких оставлять. Эти “советчицы” расскажут, “как одержать побе-
ду над мужем в споре или ссоре, как отыскать и использовать его сла-
бости, как воспользоваться своими слезами и избежать крепкой руки
супруга”. Выслушав все это, юная леди должна, на взгляд Свифта, по-
ступить самостоятельно, проигнорировав подобные советы. Он вы-
сказывал надежду, что супруг юной леди “воспользуется своей вла-
стью”, чтобы ограничить ее общение с подобными дамами. “Видеть
их дважды в год для тебя будет вполне достаточным”, - полагал
Свифт39. Основное, что надлежит хорошо запомнить, так это то, что
главной целью жизни молодой супруги остается сохранение друже-
ского расположения и уважения собственного мужа, заключал
Свифт40.
Все рекомендации Свифта относительно женского воспитания и
образования распространялись лишь на представительниц высших и
средних классов общества. Что же касается девушек-простолюдинок,
то, на взгляд Свифта, их образование не имело никакого значения для
общества41. В одном из стихотворений Свифт пишет о девушке “из ни-
зов”, которая стала объектом любви некоего “чердачного” поэта.
Просветитель сетовал на то, что этой “музе” приходится штопать чул-
ки, стряпать, потчуя поэта “котлеткой с кружкою пивца”, заботиться об
угольке “для стынувшего камелька” и т.д. Не лучшим представлялось
Свифту положение других женщин из низших слоев. Хотя в высказыва-
ниях Свифта порой и слышалось осуждение подобной жизни женщин-
простолюдинок42, тем не менее более подробно данной темы писатель
не касался. И в этом не было ничего удивительного, поскольку Свифт,
как и другие просветители, являлся выходцем из имущих слоев. Естест-
венно, что просветителей интересовала прежде всего проблема образо-
вания представительниц высших и средних социальных слоев. Однако
подобная ограниченность не уменьшала важности того вклада, кото-
рый внесли Свифт и другие просветители в дело образования подраста-
ющего поколения. Своими произведениями идеологи Просвещения
способствовали созданию эталона для подражания, культивируя при-
оритет образования в жизни женщин. Огромную роль они также сыгра-
ли в деле нравственного воспитания девушек, прививая им такие каче-
ства, как доброта, скромность, верность, добропорядочность. Своими
произведениями просветители безусловно пробуждали самосознание
англичанок.
390
1 Теккерей У.М. Собр. соч: В 12-ти т. М., 1977. Т. 7. С. 538.
2 Land L., Tobin J J. Swift: A List of Critical Studies Published from 1895 to 1945.
N.Y., 1945; StathisJ. A Bibliography of Swift Studies. 1945-1965. Nashville, 1967.
3 Cooke R.J. Swift As a Tory Pamphleteer. Wash., 1967; Speck WA. Swift. L.,
1969; Ehrenpreis J. Swift: The Man, His Works and Age. Cambridge, 1962-1983.
Vol. 1-3; Downie J. Jonathan Swift Political Writer. L., 1984.
4 Веселовский А. Джонатан Свифт, его характер и сатира. М., 1875; Чуй-
ко В.В. Свифт. СПб., 1881; Яковенко В.И. Д. Свифт: Его жизнь и литературная
деятельность. СПб., 1891; Дейч А. Свифт. М., 1933; Левидов М. Путешествие в
некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала
исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М., 1964; Муравьев В.С.
Джонатан Свифт. М., 1968.
5 См. в их числе: Туполева Л.Ф. Английский просветитель Джонатан
Свифт и Ирландия // Проблемы британской истории. М., 1984; Лабутина ТЛ.
Свифт и Темпль. Из истории раннего английского Просвещения // Новая и но-
вейшая история. 1994. № 2.
6 Теккерей У.М. Указ. соч. Т. 7. С. 508.
7 Faber R. The Brave Courtier Sir William Temple. L., 1983. P. 10.
8 Подробнее см.: Лабутина ТЛ. Свифт и Темпль: Из истории раннего ан-
глийского Просвещения. С. 191.
9 Теккерей У.М. Указ. соч. Т. 7. С. 518.
10 Цит. по: Там же. С. 536.
11 Там же. С. 509.
12 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. М., 1981. С. 408.
13 Там же. С. 408-409.
14 Цит. по: Яковенко В.И. Указ. соч. С. 34.
15 Ученые расходятся во мнении по поводу происхождения Ванессы. У. Тек-
керей полагал, что мать Ванессы была вдовой голландского торговца, который
во времена короля Вильгельма Оранского получал прибыльные подряды.
Его семья переселилась в Лондон в 1709 г. и жила в доме на Бэри-стрит (см.: Тек-
керей У.М. Указ. соч. Т. 2. С. 540). На взгляд российского литературоведа
А.Г. Ингера, отец Ванессы являлся мэром Дублина и после его смерти в 1707 г.
семья переселилась в Лондон, где и состоялось знакомство Свифта с Эстер
Джонсон (см.: Ингер А.Г. Доктор Джонатан Свифт и его “Дневник для Стел-
лы” Ц Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 499).
16 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 501.
17 Цит. по: Теккерей У. Указ. соч. Т. 7. С. 541.
18 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 454, 456.
19 Manch J. Jonathan Swift and Women. Buffalo, 1941; Gold M.B. Swift’s
Marriage to Stella. N.Y., 1967; Quintana R. Two Augustans: John Locke, Jonathan
Swift. University of Wisconsin Press, 1978.
20 Цит. по: Теккерей У.М. Указ. соч. С. 542.
21 Там же.
22 Там же. С. 543.
23 Подробнее о деятельности Свифта в качестве торийского памфлетиста
см.: Лабутина ТЛ. “Консерватор” Свифт и “реформатор” Дефо // “Вопр. исто-
рии”. М., 1995 № 11-12.
24 Swift J. Of the Education of Ladies // The Works of Jonathan Swift. L., 1843.
Vol. II. P. 312.
25 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage I I The Works of
Jonathan Swift. Vol. И. P. 302.
26 Ibid.
391
27 Ibid.
28 Swift J. Of the Education of Ladies. P. 313.
29 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage. P. 302.
30 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 411.
31 Там же. С. 444, 446.
32 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage. P. 302.
33 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 420, 444.
34 Там же. С. 455.
35 Там же. С. 410, 412, 413, 415.
36 Там же. С. 457-459.
37 Там же. С. 397, 416.
38 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage. P. 304.
39 Ibid. P. 301-302.
40 Подробнее о взглядах Свифта на женское образование и брак см.: Лабу-
тина ТЛ. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб., 2001.
С.142-157.
41 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. М., 1976. С. 196.
42 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 396.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АРХИВ XX ВЕКА
ИРЛАНДСКАЯ МИССИЯ В МОСКВЕ
(1921 год)
(Вступительная статья и перевод Е.Ю. Поляковой)
В 1973 г. были установлены дипломатические отношения между Ирланди-
ей и Советским Союзом. Это был дипломатический прорыв. На протяжении
столетий между Ирландией и Россией не было и не могло быть подобных отно-
шений, так как Ирландия не обладала государственной независимостью. После
ее обретения в 1921 г. у молодого государства не сложились на постоянном
уровне официальные контакты с Советской Россией. Однако такие попытки
предпринимались. Открытие архивов как в России, так и в Ирландии позволяет
пролить свет на неизвестные страницы истории отношений между нашими
странами.
Первые контакты между ирландскими и российскими представителями
имели место в начале 1919 г. в США. Тогда сложились благоприятные условия
для налаживания двусторонних отношений. Оба правительства - российское и
ирландское (сформированное в январе 1919 г.) - нуждались в международном
признании и искали взаимной поддержки.
Функции неофициального представителя ирландского правительства в
США исполнял Патрик Мак Картен, эмигрировавший туда после ирландского
восстания 1916 г. В сходном с ним положении, т.е. непризнанным официально в
качестве посла, находился представитель РСФСР Л. Мартенс, руководивший
русским бюро в Нью-Йорке. Именно через Мартенса и сотрудников бюро бы-
ли установлены первые российско-ирландские контакты. Обмен письмами ме-
жду Мак Картеном и Мартенсом в мае 1919 г. свидетельствовал о возникнове-
нии взаимного интереса этих стран друг к другу.
Весной 1920 г. находившийся в Америке президент Ирландии Де Валера
после переговоров российских и ирландских представителей поручил Мак Кар-
тену подготовить проект соглашения о взаимном признании России и Ирлан-
дии. Перспектива взаимной поддержки должна была способствовать сближе-
нию двух стран. В их положении было много общего: дипломатическая изоля-
ция, отказ быть признанными международным сообществом, ведение военных
действий, экономическая блокада.
Проект договора между РСФСР и Республикой Ирландией, подготовлен-
ный весной 1920 г. Мак Картеном совместно с его российским коллегой секре-
тарем русского бюро в Нью-Йорке А.Ф Нуортёвой (Мак Картен называет его
Нуратбва. - Авт.), во многом отражал схожесть ситуации и взаимную заинте-
ресованность обоих государств. В преамбуле говорилось, что правительства
РСФСР и Ирландии, наделенные конституционными полномочиями, от имени
народов своих стран выступают за мирные и дружественные отношения между
государствами всего мира и особенно России и Ирландии.
Однако президент Де Валера и ирландский кабинет министров полагали,
что Россия, сама находящаяся в международной изоляции, не должна стать пер-
393
вой среди стран, признавших Ирландию. Эту почетную миссию они отводили
США. Тем не менее ирландский парламент в июне 1920 г. одобрил резолюцию
об отправке миссии в Москву с целью установить дипломатические отношения
с правительством РСФСР. В резолюции, однако, предполагаемый договор с
Россией не был упомянут. Таким образом, с самого начала российско-ирланд-
ских контактов ирландская сторона проявляла колебания и непоследователь-
ность.
Настороженность ирландцев объяснялась несколькими обстоятельствами:
боязнью установления тесных контактов с коммунистическим государством
ввиду неуверенности в его прочности и долговечности; неприятием ирландски-
ми лидерами идей социалистической революции и государства диктатуры про-
летариата, непониманием ими характера советской власти. Существенную роль
играл и международный аспект - опасение, что негативная реакция в Европе на
союз с большевиками отрицательно скажется на перспективах признания Ир-
ландской республики. Лишь в конце 1920 г., когда стало ясно, что Америка не
спешит с признанием, Де Валера дал согласие на поездку в Москву Мак Карте-
на, куда он и прибыл в феврале 1921 г.
Однако к этому времени ситуация в России изменилась. Российское прави-
тельство вело переговоры о заключении торгового соглашения с Англией и по-
тому, естественно, не могло вступать в официальные отношения с Ирландией,
формально входившей в состав Соединенного Королевства. Любые контакты с
Ирландской республикой, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с
Англией, привели бы к срыву готовящегося соглашения, чрезвычайно важного
в тот момент для России.
Мак Картену дали понять, что до заключения договора с Англией ирланд-
ский вопрос в Москве обсуждаться не будет. Но и после его подписания 16 мар-
та 1921 г. дело не двинулось. Поняв всю бесперспективность ожидания, Мак
Картен в июне 1921 г. покинул Москву. Дипломатические и торговые отноше-
ния между Россией и Ирландией не были установлены, и их судьба в тот пери-
од решилась в Москве. (Более подробно об этом см.: Полякова Е.Ю. Первые
шаги ирландской дипломатии. Миссия в Москву // Вопр. истории. 2001. № 1.
С. 116-127.)
Представленные ниже два документа из Национального архива Ирландии
являются записками Мак Картена о его пребывании в России. Они опубликова-
ны в первом томе многотомного издания Документов внешней политики Ир-
ландии в 1998 г. (см.: Documents on Irish Foreign Policy. Dublin, 1998. Vol. 1.
1919-1922. P. 148-154; 156-161).
МЕМОРАНДУМ ПАТРИКА МАК КАРТЕНА О НАДЕЖДАХ
НА ПРИЗНАНИЕ СССР ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Июнь 1921
Я приехал в Ревель 6 февраля 1921 г. и, позвонив в Русскую миссию,
узнал, что занимающийся политическими и торговыми отношениями с
Западом м-р Литвинов находится в Москве. Он вернулся 9 февраля, и в
тот же вечер я имел с ним беседу. Перед моим отъездом из США кто-
то сказал мне ... что, исходя из внутри- и внешнеполитических условий,
м-р Литвинов считает нецелесообразным для российского правительст-
ва делать что-либо для Ирландии... Поэтому я не был удивлен, когда об-
наружил, что м-р Литвинов не испытывает энтузиазма по поводу моего
визита. Вначале он рассматривал меня как диковину, а затем спросил,
394
имею ли я программу или план для подписания. Так как Кабинет, на-
сколько мне было известно, не посылал никаких рекомендаций или
предложений ... и поскольку Президент Де Валера не дал мне специаль-
ных инструкций, я уклонился от прямого ответа и сказал, что было бы
лучше обсудить предложения вместе: мы рассматривали ситуацию пре-
имущественно с ирландских позиций, однако желательно, чтобы согла-
шение, если оно возможно, исходило из интересов обеих сторон. Он вы-
разил явное недовольство и дал мне понять, что без конкретных пред-
ложений рассчитывать не на что. Затем мне было задано множество во-
просов об Ирландии, которые свидетельствовали об определенном зна-
нии ситуации; в то же время стало очевидно, что информацию он чер-
пает из английских источников и придерживается взглядов английской
либеральной прессы на события в Ирландии. Он намекнул, что ведущи-
еся с Англией переговоры о подписании соглашения затрудняют в дан-
ный момент контакты с нами. “Ситуация была иной шесть и даже четы-
ре месяца назад” - сказал он. Из этого замечания я заключил, что он
имел в виду проект договора, составленный мной и мистером Нуратова
в Нью-Йорке, и тем самым дал мне понять, что, если бы я приехал тог-
да, они [русские] были готовы к контактам с нами... Моя задержка с
приездом дала ему убедительный повод (если он в нем нуждался) избе-
жать обсуждения предполагаемого договора. Я согласился, что ситуа-
ция в отношении России изменилась, и поинтересовался, действительно
ли Россия связана преамбулой англо-ирландского соглашения. Он дос-
тал копию соглашения и зачитал вслух интересующий меня параграф.
Стало очевидно, что он боялся упустить нечто существенное. Англича-
не, сказал я, будут считать признание Ирландии нарушением данного
параграфа. С нашей точки зрения, Ирландия не является частью Бри-
танской империи, и в данном случае я лишь пытаюсь взглянуть на все с
английской стороны. Он не согласился с моей трактовкой английской
интерпретации. Подобная информация меня устраивала, так как анг-
лийские претензии нас не касались, русская же интерпретация была
важна в том случае, если англо-русское соглашение будет ратифициро-
вано. Поэтому я понял, что он [Литвинов] был не настолько непрекло-
нен, как мне представлялось в начале беседы. Скорее всего, он не хотел
показаться слишком заинтересованным в отношениях с нами, но в глу-
бине души полагал, что взаимопонимание между нашими странами мо-
жет иметь ряд преимуществ. В ходе нашей беседы я спросил, доверяют
ли они Англии. Он саркастически засмеялся и ответил, что, конечно,
нет. Он мне сообщил, что я должен выехать в Москву в пятницу и обра-
титься в Foreign Office [НКИД]. М-р Нуратова занимал должность по-
мощника наркома иностранных дел, и я надеялся на его более благо-
склонное отношение. В целом я считал, что надежда еще сохранялась,
несмотря на “изменившиеся за последние шесть месяцев условия”.
14 февраля я приехал в Москву. Меня встретил сотрудник Foreign
Office, который, проводив меня в гостиницу, сообщил, что м-р Нурато-
ва встретится со мной завтра в 12 часов. Я пришел в Foreign Office ров-
но в полдень и через три минуты был приглашен в его кабинет. Внача-
ле наша беседа носила общий характер. Затем он объяснил, что со вре-
395
мени наших встреч в Нью-Йорке условия изменились. Он дал мне по-
нять, что, пока продолжаются их переговоры с Англией, наши отноше-
ния не имеют перспективы, и нам придется начинать все с чистого лис-
та, не опираясь на существующий проект договора. Из бесед с Литвино-
вым и Нуратова было очевидно, что соглашению с Англией придава-
лось первостепенное значение. М-р Нуратова заявил, что Англия явля-
лась организатором антироссийской кампании, и только после соглаше-
ния с ней станут возможны договоренности с другими странами. Через
день, когда мы обсуждали возможность срыва переговоров с Англией,
он сказал: “Я могу сообщить Вам конфиденциально, что этого никогда
не будет, поскольку мы заинтересованы в соглашении. Оно нам необхо-
димо”. Он сообщил, что даст мне знать, когда я смогу увидеть наркома
иностранных дел Чичерина. Он позвонил в тот же вечер в гостиницу уз-
нать, все ли у меня в порядке. Эту учтивость и дружескую расположен-
ность ко мне он проявлял постоянно, пока не был арестован как бри-
танский агент.
17 февраля мне сообщили по телефону, что в 7 часов вечера меня
примет Чичерин. Я прибыл минута в минуту, но он не был пунктуален.
В 7.50 раздался телефонный звонок, и мне сообщили, что м-р Чичерин
сожалеет об опоздании... Он примет меня в 8.15. В назначенное время
я был приглашен в кабинет, м-р Нуратова представил меня, а затем вы-
шел. Господин Чичерин показался мне чрезвычайно мягким челове-
ком, очень вежливым и немного нервным. Мы оба были в затруднении,
не зная, с чего начать беседу. Он скорее пробормотал, чем спросил, ко-
го и что я представляю. Я предъявил свои верительные грамоты, под-
писанные президентом Де Валерой, и он несколько раз перечитал их.
Они были датированы 15 декабря [1920 г.] и выданы в Дублине.
Он спросил, почему я ехал из Нью-Йорка, если верительные грамоты
были подписаны в Дублине. Его интересовало, не находится ли наше
правительство в Нью-Йорке. Я объяснил. Тогда он неожиданно спро-
сил меня, чего я хочу. Я ответил: признания советским правительством
и обсуждения вопроса о сотрудничестве, которое может быть полезно
обеим странам.
Он заметил, что мы не контролируем всю территорию и что они в
свое время отказались от признания Украины, когда она попала под ок-
купацию Германии. На это я ответил, что мы надеялись, что Россия не
будет в нашем случае исходить из существующих международных прин-
ципов, а будет полагаться на собственные стандарты, больше соответ-
ствующие справедливости и правам народов. Мы смотрели на Россию
как идеалисты и ожидали, что она реализует свои идеалы в междуна-
родных отношениях так же, как у себя в стране. Но даже если исходить
из стандартов капиталистических правительств, полная военная окку-
пация не является основанием для признания со стороны иностранных
государств. Вашингтон не обладал полным военным контролем над
американскими колониями, когда получил признание Франции; союзни-
ки признали чехословацкое правительство в Париже, хотя Австрия ок-
купировала Богемию. Никто не может отрицать, что наше правитель-
ство является ирландским правительством де-юре, и де-факто оно име-
396
ет больше полномочий, чем британское, несмотря на его превосходя-
щую военную машину.
...Я заверил его, что мы рассчитываем только на моральную под-
держку. Если материальная помощь возможна, мы будем благодарны,
но ее отсутствие нас не разочарует. Сам факт признания нашего прави-
тельства будет иметь огромное моральное значение в Ирландии и во
всем мире. Народы мира считают советское правительство правитель-
ством великой страны, хотя оно и не получило международного призна-
ния. Признание Ирландской республики сделает всех ее истинных со-
юзников активными сторонниками советского правительства.
В это время в газетах появились слухи о переговорах [англо-ир-
ландских], и он поинтересовался, устроит ли президента Де Валеру ста-
тус доминиона для Ирландии. Я ответил, что никаких реальных перего-
воров не ведется и тот факт, что Де Валера в декабре подписал мои ве-
рительные грамоты, убедительно свидетельствует, что он не помышлял
и, как я убежден, и сейчас не помышляет о компромиссе. Я посоветовал
не обращать внимания на высказывания британской прессы об Ирлан-
дии, особенно когда она претендует на озвучивание ирландского мне-
ния. Часть того, что публикуется в прессе, является английской пропа-
гандой, а часть - результатом английских представлений об Ирландии и
ирландцах. Эти представления могут быть достаточно дружелюбными,
но не точными. Признать статус доминиона значит предать наше дело.
Президент Де Валера был бы плохим государственным деятелем, если
бы пошел на этот шаг. Существует одна реальная опасность компро-
мисса, но вряд ли она нам угрожает. Если британское правительство
действительно предложит нам статус доминиона и скажет “соглашай-
тесь или отказывайтесь”, мы будем вынуждены согласиться, так как
для многих в Ирландии это больше, чем предел их мечтаний. Мы пой-
дем на это во избежание раскола нации. Такое решение, однако мало-
вероятное, было бы похоже на договор между Германской империей и
Советской Россией. Ни при каких иных условиях мы не будем призна-
вать или обсуждать ничего, кроме республики, за которую высказался
наш народ.
Он, судя по всему, придерживался английской точки зрения по по-
воду того, что в целом ирландское движение было инспирировано аме-
риканскими долларами, и спросил об американской помощи. Я ответил,
что американские ирландцы всегда были весьма щедрыми, но их вклад
в вооружение наших волонтеров - лишь десятая часть того, что обеспе-
чили сами волонтеры на свои незначительные средства... Ирландские
американцы никоим образом не инспирировали движение, однако уве-
ренность в том, что они его поддерживают, положительно сказывалась
на людях. Следующий вопрос касался Редмонда.
Я объяснил, что народ в душе всегда стремился к отделению от
Англии. Когда во главе национального движения стоял Редмонд, люди
не надеялись на Республику и рассматривали гомруль как промежуточ-
ный этап. Поэтому они поддерживали Редмонда, даже когда он пропо-
ведовал империализм, воспринимая его речи как назидание англичанам:
они-то сами думали по-другому и полагали, что Редмонд вводит англи-
397
чан в заблуждение. Затем мне было сказано, что, по имеющейся инфор-
мации, мы враждебно настроены по отношению к коммунизму.
Я был искренне возмущен: мы якобы враждебны тому, чего не су-
ществует в Ирландии. Наши усилия сосредоточены на борьбе с Англи-
ей, а на остальное мы не обращаем внимания. Основная масса нашего
народа испытывает дружеские чувства к коммунистической России не
потому, что она коммунистическая, а потому, что Англия стремилась
свергнуть существовавший в России режим. Из этого делается вывод,
что нынешнее правительство в России - хорошее. Я мог сделать вид,
что мы в душе - коммунисты, но это был бы обман. Я назвал ирланд-
ских коммунистов и дал персональную оценку каждому. Он добавил
Коутса (Coates), но я ответил, что не знаю такого и не уверен, при-
надлежит ли он к ирландской коммунистической группе. Затем я ска-
зал, что статья МакАльпина и Коннолли [ирландские коммунисты]
о Шинн Фейне* в Коммунистическом Интернационале абсолютно не-
правильная.
Какие вооруженные силы мы имеем в Ирландии? [Таков был сле-
дующий вопрос.] Я перечислил, после чего он спросил: “А как насчет
Гражданской армии?” Может быть, она еще существует. Я не уверен, но
если это так, то только на бумаге. Если бы она действовала, я бы знал.
Да, сказал он, она еще существует. Может быть. Было очевидно, что он
искал ядро, вокруг которого мог организоваться ирландский пролета-
риат, поэтому, когда я понял, о чем он думает, то не стал говорить, что
из себя представляла Гражданская армия. Он знал об этом больше, и я
понял, что лучше не продолжать. Мак Альпин и Коннолли вернулись со
второго конгресса Третьего Интернационала и хотели возглавить Гра-
жданскую армию, но работы было слишком много, и они оставили эту
затею. Без сомнения, Чичерин и другие переоценивали ситуацию с Гра-
жданской армией, поэтому обещали МакАльпину и Коннолли при отъ-
езде их из Москвы 3000 ф.ст., из которых они получили 300. Деньги бы-
ли потрачены в Лондоне на обратном пути, поэтому ни один из них на
конгресс не вернулся. Коннолли находился там [в Москве] около меся-
ца после моего приезда, а написанный им отчет был представлен секре-
тарю Коминтерна уже после того, как он уехал. Он, очевидно, не полу-
чил очередного взноса из обещанных 3000 ф.ст., а данные на дорогу
50 фунтов растаяли в Германии. Последний отчет Коннолли значитель-
но отличался от написанных им и МакАльпином статей, но Ленин вы-
сказался в поддержку национальных революционеров. Кроме того,
борьба ирландцев вызывала восхищение, и бездеятельность Коннолли
и МакАльпина в организации коммунистического движения оправдыва-
лась невозможностью каких-либо действий, пока она [борьба за незави-
симость] не закончится. Все молодые люди, считающие себя настоящи-
ми мужчинами, были ирландскими волонтерами ... После отъезда Кон-
нолли я узнал из коминтерновских источников, что там считали, что
Коннолли “слишком ленив, чтобы быть коммунистом”. Я уверен - это
было мнение руководства.
* Шинн Фейн - ирландская политическая партия.
398
Но вернемся к Чичерину. Его последний вопрос был о наших целях.
- Ирландская республика либо груда пепла, - ответил я, - так как
мы будем драться до конца.
...Мне было рекомендовано поддерживать связь с Нуратова и, когда
наступит подходящий момент, изложить свою просьбу в письменном ви-
де. В то время и позднее я полагал, что они всерьез думают о признании
Ирландской республики. Мое убеждение было основано на характере
заданных Чичериным вопросов, а не на сделанных им заявлениях.
28 февраля я вновь встретился с Нуратова, так как Коннолли и Мар-
тин должны были выехать в Ирландию, и я хотел узнать, какие новости
я могу передать с ними. Он [Нуортева] написал для своих коллег мемо-
рандум в поддержку признания Ирландии, но ответа не последовало, так
как они [коллеги Нуортевы] были заняты событиями в Грузии. Я знаю,
что меморандум был составлен, причем в благожелательном тоне, по-
скольку одна американка, работающая в Наркоминделе, сказала, что
она его печатала, и выразила уверенность, что моя миссия завершится
успехом. Нуратова полагал, что соглашение с Англией будет подписано
в течение недели. Он дал понять, что они хотели бы рассеять подозре-
ния, связанные с пропагандой, и признание Ирландии могло бы стать хо-
рошей проверкой. “Это было бы признание свершившегося факта [про-
возглашения Ирландской республики] ...Россия не могла бы связать се-
бя непризнанием Шотландии или Уэльса в случае объявления ими неза-
висимости”. Мне казалось, что они хотят заключить соглашение с
Англией до сообщения в прессе о моем приезде и что они действитель-
но намереваются признать нас. Если бы это было не так, они обнародо-
вали бы факт моего прибытия и использовали его, чтобы обеспечить се-
бе более выгодные условия соглашения [с Англией]. В то время они на-
деялись, что президент Хардинг после инаугурации признает Россию.
Насколько я мог понять от Нуратова, в их планы входило заключение
соглашения с Англией, за которым, как они надеялись, последует при-
знание со стороны Америки; а после этого настанет очередь Ирландии.
Торговое соглашение с Англией было подписано 17 марта, и в по-
недельник 21-го я позвонил в Наркоминдел узнать, как это сказалось на
вопросе с Ирландией. Мне сообщили, что Нуратова отдыхает в санато-
рии. Я решил подождать его возвращения, так как считал, что он наи-
более расположен к нам. 15 марта он обещал мне в ближайшие дни
встречу с Лениным, “первым человеком в стране”. Больше я об этой
встрече ничего не слышал. Позднее выяснилось, что санаторий, где от-
дыхал Нуратова, оказался тюрьмой, и, когда я уезжал, он все еще оста-
вался там.
Через неделю я встретился с м-ром Валенским, занявшим место
Нуратова. Я встречался с ним и раньше, и он знал о цели моего приез-
да, но уверял меня, что он не дипломат и ничего не знает о дипломати-
ческих процедурах. Я хотел выяснить, как соглашение с Англией повли-
яло на мои чаяния и стоит ли мне оставаться в Москве. Он обещал спро-
сить у Чичерина и дать ответ через несколько дней. Через несколько
дней он сообщил, что Чичерин советует мне остаться еще на месяц, и
тогда станет ясно, имеет ли смысл ждать.
399
Через пять недель я позвонил в Наркоминдел, сообщил, что месяц
прошел и я хочу знать, есть ли новости. Теперь департамент возглавлял
м-р Вайнштейн2*. Он обещал увидеться с Чичериным и дать мне знать
в течение нескольких дней. Я безрезультатно звонил несколько раз, и в
конце концов мне сообщили, что м-р Литвинов хотел бы побеседовать
со мной. В этот вечер, 13 мая, он на две недели уезжал из Москвы и мог
меня принять после возвращения. Я позвонил 10 июня, зная, что Литви-
нов в городе. М-р Вайнштейн обещал поговорить с ним. Я сказал Вайн-
штейну, что должен освобождать комнату в гостинице. На следующий
день я позвонил снова, и м-р Вайнштейн сообщил, что он обсуждал мой
вопрос с м-ром Литвиновым, и, если я не собираюсь задерживаться на-
долго, мне разрешат остаться в гостинице. Я напомнил, что в течение
последнего месяца нахожусь здесь по его просьбе и могу уехать в бли-
жайший вторник. Если ситуация изменится, я вернусь. Он согласился с
моим предложением, и мы попрощались. Мы договорились, что в слу-
чае изменения ситуации они дадут знать своему представителю в Аме-
рике, а он в свою очередь проинформирует м-ра Боланда3*. Если воз-
никнет необходимость, я или кто-нибудь другой смогут приехать. Я ска-
зал, что хотел бы вернуться в Ирландию, ознакомиться с ситуацией и
написать отчет.
М-р Вайнштейн попросил передать, что в России испытывают са-
мые дружеские чувства к Ирландии, но обстоятельства препятствуют
их проявлению. Будучи убежден в справедливости сказанного, я со сво-
ей стороны заверил его, что народ Ирландии ценит это дружеское рас-
положение. Что касается меня лично, то после ареста м-ра Нуратова я
не ощущал проявлений дружбы и доверия. Если же и он не был искре-
нен, значит он великий актер. Никто из тех, кто занял его место, не об-
ладал и половиной его способностей, и хотя могло показаться, что они
не доверяют мне и стараются от меня отделаться, я думаю, истина со-
стояла в том, что они не доверяли друг другу. Конечно, они всегда бы-
ли вежливы, но все русские вежливы...
После заверений в дружеских чувствах м-р Вайнштейн пожал мне
руку и выразил надежду на новую встречу. Чтобы показать, как я ценю
выказанное мне расположение, я сказал, что тоже надеюсь на встречу,
но не в Москве. Так мы расстались.
МЕМОРАНДУМ ПАТРИКА МАК КАРТЕНА О ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ
Без даты, 1921
Никто из находящихся у власти в России даже не берется утвер-
ждать, что там существует свобода. Сама мысль о том, что данный ре-
жим представляет волю народа, подвергается открытым насмешкам.
Они [представители власти] тем не менее утверждают, что данное пра-
вительство является диктатурой пролетариата, и объясняют, что дикта-
тура необходима в так называемый переходный период, т.е. в случае с
2 Г.И. Вайнштейн - начальник англо-американского департамента НКИД.
3* Г. Боланд - представитель ирландского парламента в США в 1920-1922 гг.
400
Россией период перехода от капитализма к коммунизму. Они открыто
заявляют, что находятся лишь на пути к коммунизму. Никто из людей,
с которыми мне удалось встретиться, не был готов обсуждать, может ли
путь тирании, по которому они в настоящее время движутся, привести к
идеалу свободы в понимании коммунистов. Не допускается и мысли о
возможности иного пути, и никто, кажется, не хочет думать, когда же-
ланная цель может быть достигнута. Складывается впечатление, что во
главу угла ставится изучение коммунистических принципов, и особое
внимание уделяется молодежи. Как можно догадаться, существует наде-
жда или даже убеждение, что с воспитанным на идеалах коммунизма
молодым поколением новое социальное государство обретет прочный
фундамент.
Лидеры компартии и рядовые коммунисты в силу своей безгранич-
ной веры в ее доктрину убеждены, что молодые люди, воспитанные
в духе коммунизма, станут его твердыми приверженцами. Тот факт, что
далеко не каждый, кто рос при феодализме и капитализме, разделяет
соответствующие убеждения, не умаляет их надежд. Они, очевидно, по-
лагают, что вектор прогресса направлен в сторону коммунизма, и вре-
мя феодализма и капитализма безвозвратно прошло.
Заявления о диктатуре пролетариата в России не соответствуют
действительности. Там существует диктатура компартии, представляю-
щей менее одного процента населения России; а диктатура компартии в
действительности означает диктатуру приблизительно полдюжины ее
лидеров.
Рабочим, т.е. пролетариату, разрешено выбирать представителей в
Советы, но выборы проходят открытым голосованием - поднятием
рук. Результаты не всегда являются выражением воли рабочих. Почти
все руководство на фабриках - коммунисты, и они обладают предпоч-
тительной возможностью распределять еду и одежду. Маловероятно,
что обычный рабочий рискнет выступить против руководства и прого-
лосует за нежелательную для начальства кандидатуру.
Часто приходится слышать, что меньшевики считаются врагами, и
ими переполнены тюрьмы. Сообщалось, что в результате последних
выборов Советы на 30% состоят из беспартийных, многие из которых -
замаскированные меньшевики. Поэтому выборы, по существу, являют-
ся фарсом, а агитация за меньшевиков - небезопасна. На предприятиях
заметно недовольство, и, насколько можно понять, Красная армия, как
и армия любой капиталистической страны, готова в случае забастовки
выступить против пролетариата. Там существуют тред-юнионы, но те
немногие рабочие, с которыми я разговаривал, не слышали об их дея-
тельности ничего, кроме того, что из зарплаты вычитают взносы, а вза-
мен дают профсоюзные билеты. Может быть, такое положение суще-
ствует не везде, но люди, с которыми я общался, вернулись из Амери-
ки, и очень сожалели о своем возвращении. Я заметил одному из них,
что в Америке миллионы безработных, а он показал на суп, который
был его основным блюдом, и сказал: “Если бы я в Америке жил так,
как здесь, и экономил жалованье, то мог бы не думать, как долго буду
без работы”.
26 Россия и Британия .. Вып. 3
401
Коммунисты полны энтузиазма и организованы по военному прин-
ципу. Они - единственная организованная сила в стране. Армия состоит
не только из коммунистов, но их достаточно, чтобы держать всю армию
в преданности коммунистическим идеалам. Кроме того, молодые люди,
призванные в армию, воспитываются в коммунистическом духе. Поэто-
му армия, по всей видимости, останется лояльной, хотя Кронштадтский
мятеж явился протестом против существующих условий. По сообщени-
ям, он был организован контрреволюционерами, но один знающий че-
ловек сказал, что военного заговора не было. Участники выступлений,
по его словам, требовали реформ, в частности свободной торговли. По-
лучив обычный высокомерный ответ, они восстали. Мой информатор
сообщил, что, если бы планировался военный переворот, организаторы
подождали бы две недели, пока в заливе вскроется лед, и тогда легко
взяли бы Петроград. Однако Кронштадт напугал правительство, и
вскоре была введена свободная торговля сельскохозяйственной продук-
цией. Тем не менее маловероятно, что Кронштадтский мятеж сможет
поколебать сплоченность армии.
Блокада, контрреволюция и позиция капиталистических государств
считаются причиной страданий, которые испытывает Россия. Людям
говорят, что, если Россия получит возможность свободного развития,
наступит изобилие. Коммунисты по крайней мере верят в это и будут
поддерживать правительство, пока не убедятся в обратном. По моему
мнению, нынешнее правительство продержится по меньшей мере пять
лет. Если оно выполнит данные народу обещания, то сможет просуще-
ствовать и дольше; если не произойдет раскола в компартии или армии,
изменения в ближайшем будущем вряд ли возможны. Понадобится не-
сколько лет для организации и укрепления новых сил, которые смогут
бросить вызов господству компартии. В течение некоторого времени -
может быть, нескольких лет - большинство народа будет довольно, ес-
ли получит достаточно еды и одежды, поскольку никогда не имели это-
го в достатке. Реальная угроза власти коммунистов может возникнуть,
когда люди удовлетворят свои потребности и обнаружат, что мировая
революция, которую они ожидали, так же далека, как и прежде.
Вплоть до этого года все продовольствие в стране забиралось у кре-
стьян принудительно, и особенно зверствовали комиссары. Мне расска-
зывали, что крестьян убивали, если они прятали часть урожая. В ре-
зультате, хотя революция и дала им землю, они обрабатывали ее не для
себя и ничего не получали взамен. Они недовольны властью и во мно-
гих районах срывали рельсы на железных дорогах и вели партизанскую
войну. Коммунисты называли их не иначе, как бандитами, и если лови-
ли, то уничтожали. Впрочем и последние занимались тем же.
Народ - крайне религиозен, но коммунисты не признают религию
и не верят в бога. Конечно, в обоих случаях я имею в виду основную
массу. Правительство закрыло школы и колледжи, где обучалось духо-
венство, в надежде, что, когда современное поколение священнослужи-
телей вымрет, вместе с ними умрет и религия. Формально существует
свобода вероисповедания, но можно с уверенностью предположить, что
церковь, как и власть, притворяется, занимая пассивную позицию, и
402
ждет возможности употребить все свое влияние для борьбы с комму-
низмом. Один инженер, ссылаясь на мудрость Ленина, рассказал, что
тот обещал разрешить крестьянским девушкам пользоваться космети-
кой и пудрой, считая это прогрессивным шагом. Но иконы и водка за-
крепляют отсталость крестьян.
Рабочие получают от 16 до 20 тыс. рублей в месяц, но деньги не име-
ют ценности, если нет свободной торговли. От жалованья мало проку,
если фунт масла стоит 20 тыс. рублей, а яйцо - тысячу. Кроме зарплаты,
все рабочие получают продуктовые талоны и периодически их отовари-
вают. Подобным образом распределяются одежда и другие необходи-
мые товары. До середины мая магазинов вообще не было. Исключение
составляли салоны с дамскими шляпками. В нескольких открытых с то-
го времени магазинах стали продавать хлеб, яйца и другие продукты.
Появились рынки, где можно что-то купить. Каждый день их посещают
не менее полумиллиона человек. До позднего вечера работают частные
сапожники. Они делают грубые женские туфли из белой парусины, па-
ра которых стоит 50 тыс. рублей. Можно только удивляться, где люди
берут деньги на их покупку. Конечно, количество такой продукции срав-
нительно невелико. Пресса полностью контролируется правительством,
и газеты расклеиваются на стенах для всеобщего обозрения. Газеты не-
большие и публикуют не столько новости, сколько точки зрения. Испол-
ком Коминтерна издает ежедневную газету на французском, немецком
и английском языках. Хотя считается, что Коминтерн независим от рос-
сийского правительства, различие между ними такое же, как между Дой-
лом4* и Шинн Фейном в Ирландии. Понятно, что на английском печата-
ют то же, что в русских изданиях. Новости состоят из освещения забас-
товок в Норвегии, Англии и других странах; деятельности коммунистов
в Германии или Франции; выступлений и заявлений российских государ-
ственных деятелей. Издаваемые в России газеты являются пропагандой
внутри страны, а издания на других языках - пропаганда за ее предела-
ми. В целом же все направлено на распространение идеалов коммуниз-
ма, а остальное не заслуживает внимания.
Наблюдается определенный интерес к Ирландии, но ирландская ре-
волюция по своему характеру национальная и, следовательно, имеет
мало общего, если не сказать ничего, с коммунизмом и “мировой рево-
люцией”. Мне напомнили пример националистов поляков, которые, по-
лучив национальную свободу, влились в крестовый поход империализ-
ма против России. Борьба ирландцев, их боевой настрой вызывают вос-
хищение, но они не являются коммунистами, не признают социализм,
а потому считаются реакционерами. Ирландцы, как правило, католики,
а бог и церковь - враги коммунистов. “Религия - опиум для рабочих”.
Мне кажется, что пропагандировать дело Ирландии в России невоз-
можно, но это трудно понять, не побывав там.
Все газеты в России используются для пропаганды в своих целях.
А поскольку ирландское движение не является коммунистическим, нет
смысла его пропагандировать.
4* Дойл - ирландский парламент.
403
Население в расчет не принимается, и не имеет значения, что оно
думает. Правительство не ответственно перед народом... Российское
правительство признает Ирландскую республику, как только оно смо-
жет это сделать без ущерба для страны. Те, кто находятся у власти, по-
нимают все преимущества подобного шага. Но рядовые коммунисты не
понимают и никогда не поймут, а для наших целей [признания респуб-
лики] компартия - представляет Россию. Здесь полагают, что мы -
хорошие организаторы и хорошие пропагандисты - должны объеди-
нить свои усилия с английскими коммунистами и таким образом способ-
ствовать мировой революции. От признания же Ирландской республи-
ки, по их представлению, человечество вряд ли выиграет. В России счи-
тают, что ирландский пролетариат должен бороться за создание рабо-
чей республики. Даже при возможности пропаганды в России мы не
смогли бы добиться никакого результата, кроме очернения Англии, но
репутация последней и без того хорошо известна.
Необходимо помнить, что, попадая в Россию, вы полностью нахо-
дитесь в руках властей. Невозможно сесть на поезд, сменить комнату в
гостинице, достать еду, одежду, найти теплый офис и обставить его без
разрешения правительственного чиновника. Мест в гостиницах мало,
газет - недостаточно, т.е. фактически нет условий для ведения пропа-
гандистской работы. Преимущество лишь одно. Нет необходимости по-
ражать местных жителей дорогими апартаментами. Любой намек на
роскошь будет работать против Ирландии.
Лично я не встречался ни с одним газетчиком, так как в Наркомин-
деле меня попросили как можно дольше оставаться инкогнито. Пос-
кольку дело с признанием [Ирландской республики] не двигалось, я ре-
шил не оставлять следов своего пребывания в России и вел себя очень
скромно, ничего не делал публично. Лишь однажды несколько минут
выступал на митинге в деревне, пытаясь рассказать правду об Ирландии
и России, но мое выступление перевели как приветствие от компартии
Ирландии. Вот пример пропаганды, которая поощряется. Они не могут
последовательно осуждать убийства англичанами ирландцев, так как
сами “вырезают” своих “бандитов”. Они не могут критиковать осужде-
ние без суда в Ирландии, когда их тюрьмы переполнены политзаклю-
ченными. Они не могут защищать свободу в Ирландии, пока диктатура
пролетариата выдвигается в качестве всеобщего идеала. Насколько я
мог понять, пропаганда в России невозможна и бессмысленна.
Хотя национальным гимном России является “Интернационал”, на-
ционализма в ней не меньше, чем в любой стране. Как у американцев,
у русских все - “величайшее в мире”. Балтийские государства получили
самоопределение, однако непонятно, сделано это по принципиальным
соображениям или продиктовано целесообразностью. Без сомнения,
надежда возлагалась на победу коммунизма в Германии, но она погиб-
ла вместе с мартовской революцией5*. Если бы в Германии победил
коммунизм, подобной судьбы не избежали бы и балтийские страны.
5* Имеются в виду вооруженные столкновения рабочих с полицией в ряде райнов
Средней Германии в марте 1921 г.
404
В Ревеле я обсуждал эстонский вопрос с одним влиятельным русским,
и он сообщил мне, что Эстония существует за счет России. Поскольку
Эстония стала первым государством, заключившим с Россией мирный
договор, он был заключен на благоприятных для Эстонии условиях.
Русские обязались платить чрезвычайно высокие тарифы за железно-
дорожные перевозки. Этот человек считает, что Ревельский порт лишь
временно необходим России. Здесь уже проявляется не просто национа-
лизм, но империализм. Русские смеются над эстонским языком, как
британцы - над ирландским: он вульгарен, ужасен и пр. Я не уверен по-
этому, что ирландское самоопределение вызовет большой энтузиазм
в официальных кругах. Все, что они [русские] готовы сделать для
Ирландии, будет сделано в надежде ослабить Британскую империю
и тем самым способствовать мировой революции.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие....................................................... 5
ШТРИХИ К АВТОПОРТРЕТУ
Последнее интервью................................................ 8
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АКАДЕМИКЕ В.Г. ТРУХАНОВСКОМ
А.Б. Давидсон. Мастер биографического жанра...................... 31
В.И. Попов. Каким я его знал..................................... 46
И.В. Созин. Более четверти века во главе журнала “Вопросы истории” ... 58
В.Н. Павленко. Наш главный ...................................... 65
Н.К. Капитонова. Учитель......................................... 74
Л.Ф. Туполева. Президент Ассоциации британских исследований (1992-
2000)............................................................ 78
Н.Г. Думова. О моем муже ........................................ 82
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
А.Б. Давидсон. Новые отношения бывшей метрополии с бывшими коло-
ниями. Опыт крупнейшей империи.................................. 121
М.А. Липкин. Англия или Британия? Дискуссия о национальной идентич-
ности (История, культура и политика в Соединенном Королевстве) . 130
С.77. Перегудов. Великобритания после парламентских выборов 2001 года:
время платить по векселям....................................... 142
Н.К. Капитонова. Лейбористская Великобритания и Евросоюз: пробле-
мы и перспективы взаимоотношений................................ 163
О Л. Ржешевский. Уинстон Черчилль в Москве (1942 год). Документаль-
ный очерк ...................................................... 175
Л.В. Поздеева. Британская политика по дневникам советского посла
И.М. Майского (Из записей 1938-1941 годов)...................... 197
А.Ю. Прокопов. Британские правые радикалы в 30-е годы XX века. 220
В.П. Городнов. Британцы - агенты Коминтерна..................... 235
406
С.А. Соловьев, ЕЛ. Суслопарова. Этический социализм Ричарда Генри
Тоуни ..................................................... 247
Е.А. Доброва. Льюис Нэмир -личность в истории ............. 260
Т.Н. Гелла. Лорд Розбери: страницы политической биографии.. 268
Г.С. Остапенко. Королева Виктория: личность и характер правления. 289
Л.Ф. Туполева. Чарлз Стюарт Парнелл и ирландское национальное дви-
жение ..................................................... 345
М.П. Айзенштат. Философ-реформатор Иеремия Бентам.......... 360
ТЛ. Лабутина. Джонатан Свифт и женщины..................... 378
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АРХИВ XX ВЕКА
Ираландская миссия в Москве (1921 год) (Вступительная статья и пере-
вод Е.Ю. Поляковой)........................................ 393
CONTENTS
Preface............................................................... 5
SKETCHES TO THE SELF-PORTRAIT
The last interview.................................................... 8
ARTICLES AND MEMOIRS ABOUT ACADEMICIAN
V.G. TRUKHANOVSKY
AB. Davidson. Master of the biographic genre......................... 31
VJ. Popov. V.G. Trukhanovsky in my memory............................ 46
l.V. Sozin. More than a quarter of a century at the head of the journal “Voprosy
istorii”............................................................. 58
VJV. Pavlenko. Our Chief............................................. 65
NX. Kapitonova. The Maitre........................................... 74
L.Th. Tupoleva. President of the Association for British studies .... 78
N.G. Durnova. About my husband....................................... 82
STUDIES ON MODERN AND RECENT HISTORY
AB. Davidson. New relations between previous mother country and its colonies.
An experience of the greatest empire................................ 121
MA. Lipkin. England or Britain? Discussion about national identity (history, cul-
ture and politics in the United Kingdom) ........................... 130
SB. Peregudov. Great Britain after parliamentary elections 2001: time to fulfill
obligations ........................................................ 142
NX. Kapitonova. Labourite Great Britain and the European Union: problems and
prospects of their relations ....................................... 163
О A. Rzheshevsky. Winston Churchill in Moscow (1942). Documentary......... 175
L.V. Pozdeeva. British politics according to the Soviet ambassador I.M. Mai-
sky’ diaries (1938-1941)............................................ 197
A.Yu. Prokopov. British rightwing radicals in the 30s of the XXth century. 220
VB. Gorodnov. British agents of Comintern........................... 235
SA. Soloviev, EA. Susloparova. Ethical socialism of Richard Henry Tawney.. 247
408
EA. Dobrova. Lewis Namier - a Person in History...........................
TJ>I. Guella. Lord Rosebery: political biography pages ...................
G.S. Ostapenko. Queen Victoria: personality and character of her reign....
L.Th. Tupoleva. Charles Stuart Parnell and Irish national movement........
M.P. Aizenshtat. Jeremiah Bentam as a philosopher and reformer............
TL. Labutina. Jonathan Swift and women .................................... 378
POLITICAL ARCHIVE OF THE XXth CENTURY
Irish mission in Moscow (1921) (Introduction and translation by E.Yu. Polya-
kova) ..................................................................... 393
g £ Й g g
О U» 40 5o О
Научное издание
РОССИЯ
И БРИТАНИЯ
Выпуск 3
В мире английской истории
Памяти академика
В.Г. Трухановского
Утверждено к печати
Ученым советом
Института всеобщей истории
Российской академии наук
Зав. редакцией НЛ. Петрова
Редактор Н.Ф. Лейн
Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина
Технический редактор Т.В. Жмелькова
Корректоры А.Б. Васильев, Г.В. Дубовицкая
А.В. Морозова, Т.И. Шеповалова
ЛР № 020297 от 23.06.1997
Подписано к печати 11.10.02. Формат 60 х 90*/1б
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печл. 26,0 + 0,6 вкл. Усл.кр.-отт. 27,0. Уч.-издл. 29,5
Тираж 500 экз. Тип. зак. 8058
Издательство “Наука”
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru
Санкт-Петербургская типография “Наука”
199034, Санкт-Петербург В-34,9-я линия, 12
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
ЧЕТЫРЕХТОМНИК
“Мировые войны XX века”
Кн. 1: Первая мировая война: Ист. очерк. - 2002. -
57 л.
Книга отражает современный уровень изучения ми-
ровой войны 1914-1918 гг. - одной из узловых проблем
истории XX в. Рассмотрены генезис первого всемирного
кризиса, его влияние на ход цивилизационного развития
человечества, итоги и отдаленные перспективы. Освеще-
ны боевые действия, политика и дипломатия, внутреннее
положение государств, экономика, революционное дви-
жение, социокультурные, национально-психологические
и цивилизационные аспекты войны, в том числе “образ
врага”, “война и культура”, “цена войны”.
Для историков, политологов и более широкого круга
читателей.
Кн. 2. Первая мировая война: Док. и материалы. -
2002.-50,7 л.
В книге использованы архивные и опубликованные
отечественные и зарубежные источники, освещающие
предысторию создания Антанты и Тройственного союза,
развитие событий после убийства в Сараево. Приведена
наиболее важная часть дипломатической переписки меж-
ду руководителями европейских стран. Большое место
отведено материалам, раскрывающим события на фрон-
тах первой мировой войны, влияние войны на внутреннее
положение стран - ее участниц. Значительное внимание
уделено ключевым проблемам международных отноше-
ний тех лет, закреплению итогов первой мировой войны.
Публикуются основные международные договоры.
Для историков, политологов и более широкого круга
читателей.
Кн. 3. Вторая мировая война: Ист. очерк. - 2002. -
51,3 л.
Проблемно-хронологический принцип структуры
книги позволил сосредоточить внимание на таких темах,
как причины и виновники войны, агрессия Германии и
Японии, противоборство коалиций на фронтах войны, со-
стояние тыла воюющих государств, цена победы, ленд-
лиз, ялтинско-потсдамская система, война и психология,
война и общественное мнение, война и культура. Раскры-
ты формы и степень вовлеченности населения в военные
действия, национально-освободительную войну, движе-
ние Сопротивления.
Для историков, политологов и более широкого круга
читателей.
Кн. 4: Вторая мировая война: Док. и материалы. -
2000. - 52,7 л.
В книге на основе отечественных и зарубежных архи-
вов освещаются предыстория войны, цели нацистской
Германии, Италии и Японии, позиции западных союзни-
ков и СССР, а также трагедия, постигшая народы СССР
в 1941 г., история открытия второго фронта и ленд-лиза,
противоречия между западными союзниками и СССР от-
носительно будущих границ и сфер влияния в Европе и
Азии. Читатели получат представление о борьбе на ки-
тайском фронте, действиях американских сил на Тихом
океане, поражении итало-германских войск в Северной
Африке. Значительное внимание уделено дипломатии
стран-участниц войны, решениям важнейших междуна-
родных конференций, договорам и соглашениям.
Для историков, политологов и более широкого круга
читателей.
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ “АКАДЕМКНИГА”
Магазины “Книга—почтой”
121099 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7Б; (код 812) 235-05-67
Магазины “Академкнига” с указанием отделов “Книга-почтой”
690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140 (“Книга-почтой’Э; (код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 (“Книга-почтой”); (код 3432)
55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 (“Книга-почтой’Э; (код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 72; (код 10375-17) 232-00-52,232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
113105 Москва, Варшавское ш., 9, строение 1Б (книжная ярмарка “Централь-
ная”, 5 этаж); 737-03-33 (доб. 50-10)
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 (“Книга-почтой’Э; (код 3832) 35-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР “В”, 1 (“Книга-почтой’Э; (13) 3-38-80
443022 Самара, проспект Ленина, 2 (“Книга-почтой’Э; (код 8462) 37-10-60
199034 Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, 16; (код 812) 323-34-62
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
199164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
634050 Томск, Набережная р. У шайки, 18; (код 3822) 51-60-36
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 (“Книга-почтой’Э; (код 3472) 24-47-74, факс
(код 3472) 24-46-94
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85
Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон 241-03-09
E-mail: akadem.kniga@g 23.relcom.ni
Склад, телефон 291-58-87
Факс 241-02-77
WWW. AK-Book. naukaran.ru
По вопросам приобретения книг
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (095) 334-98-59
E-mail: initsiat @ naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru
In the world
of English