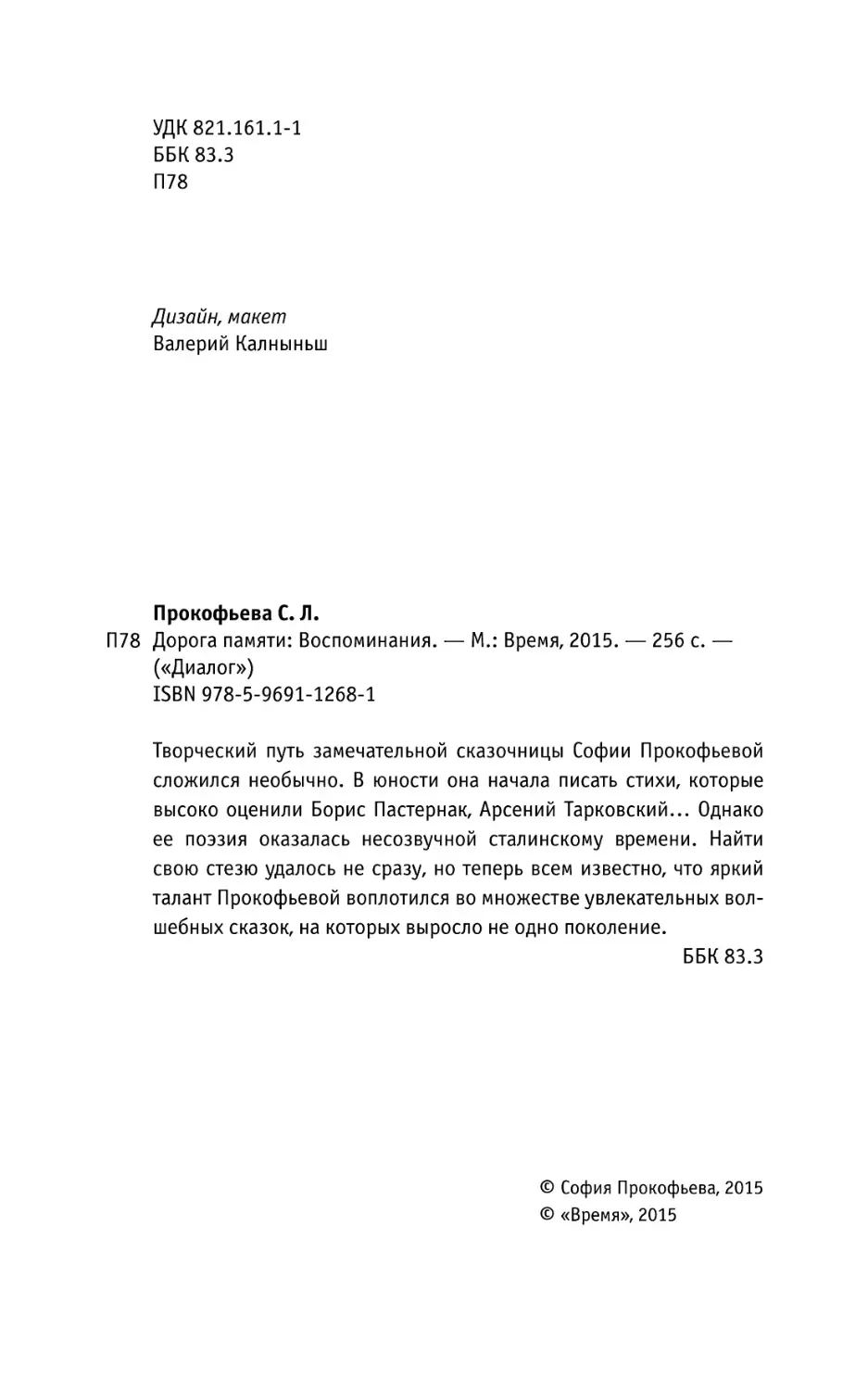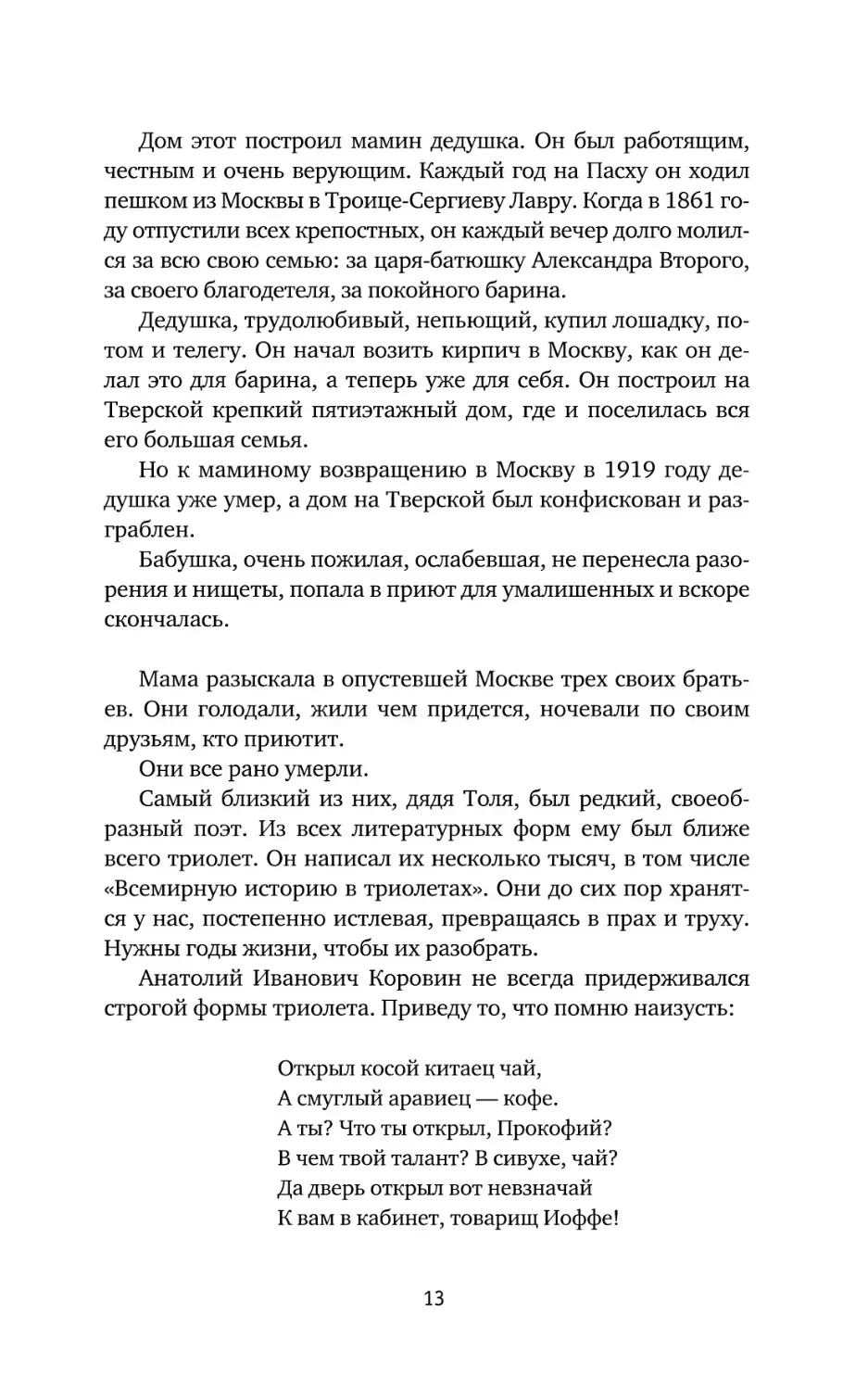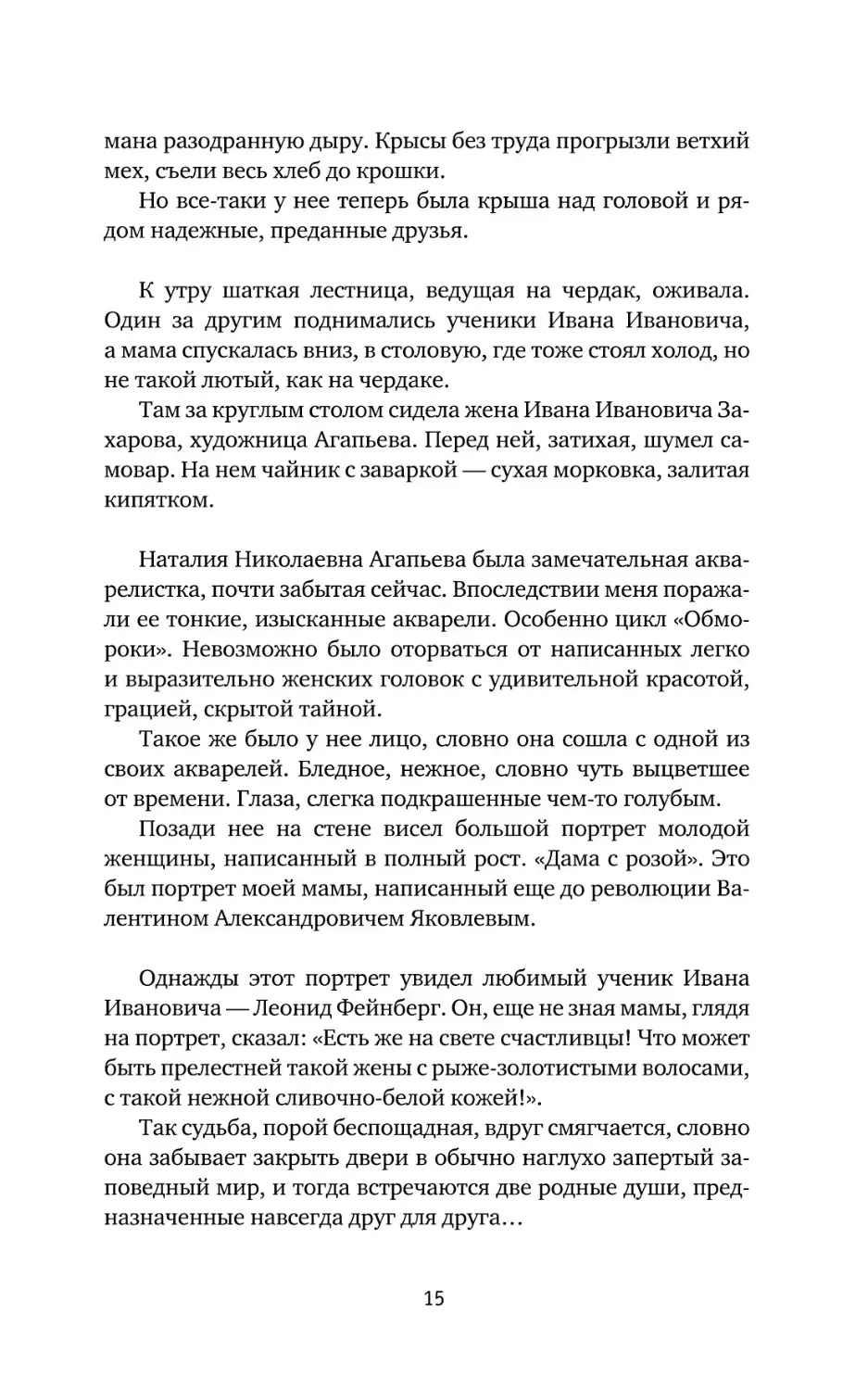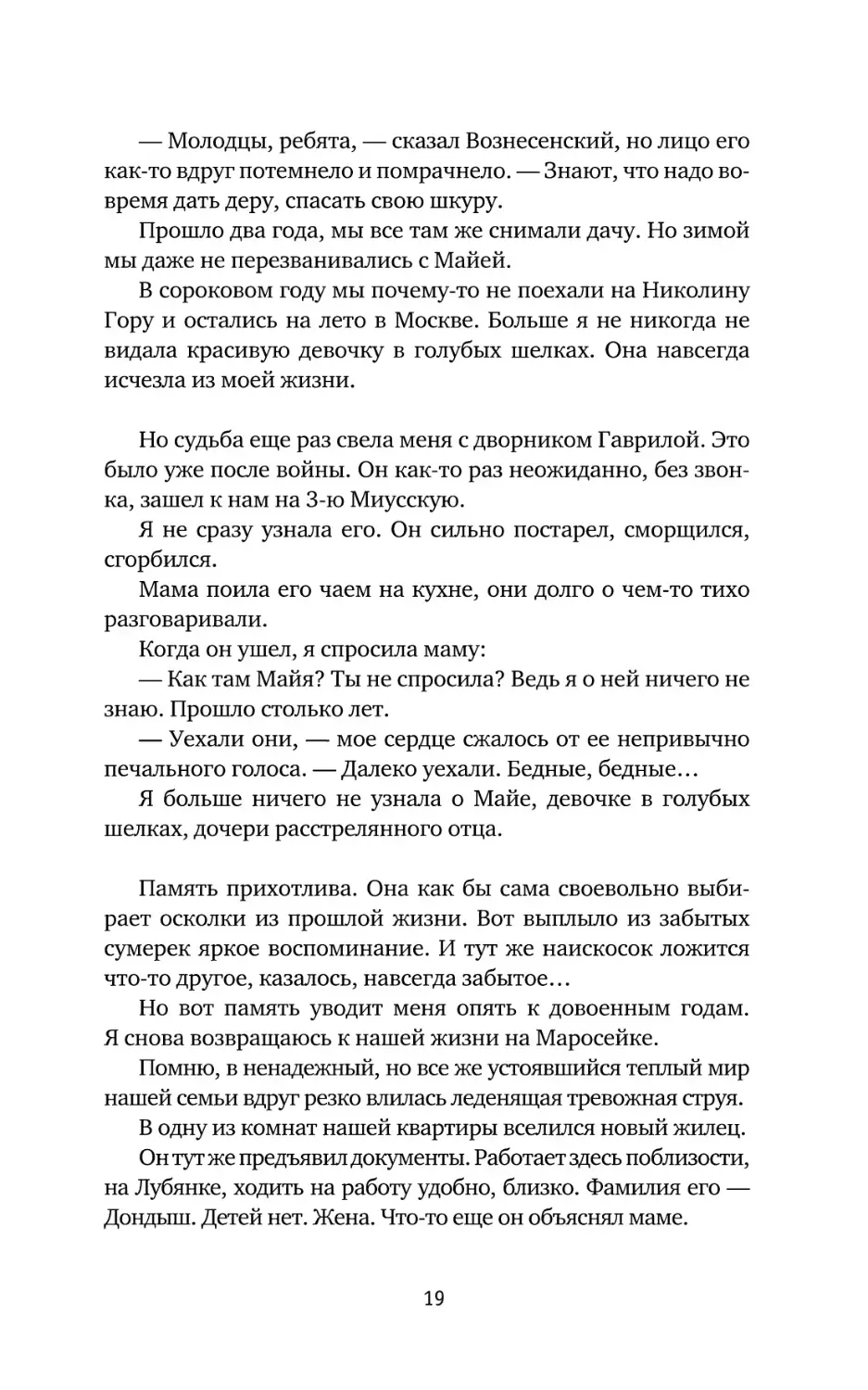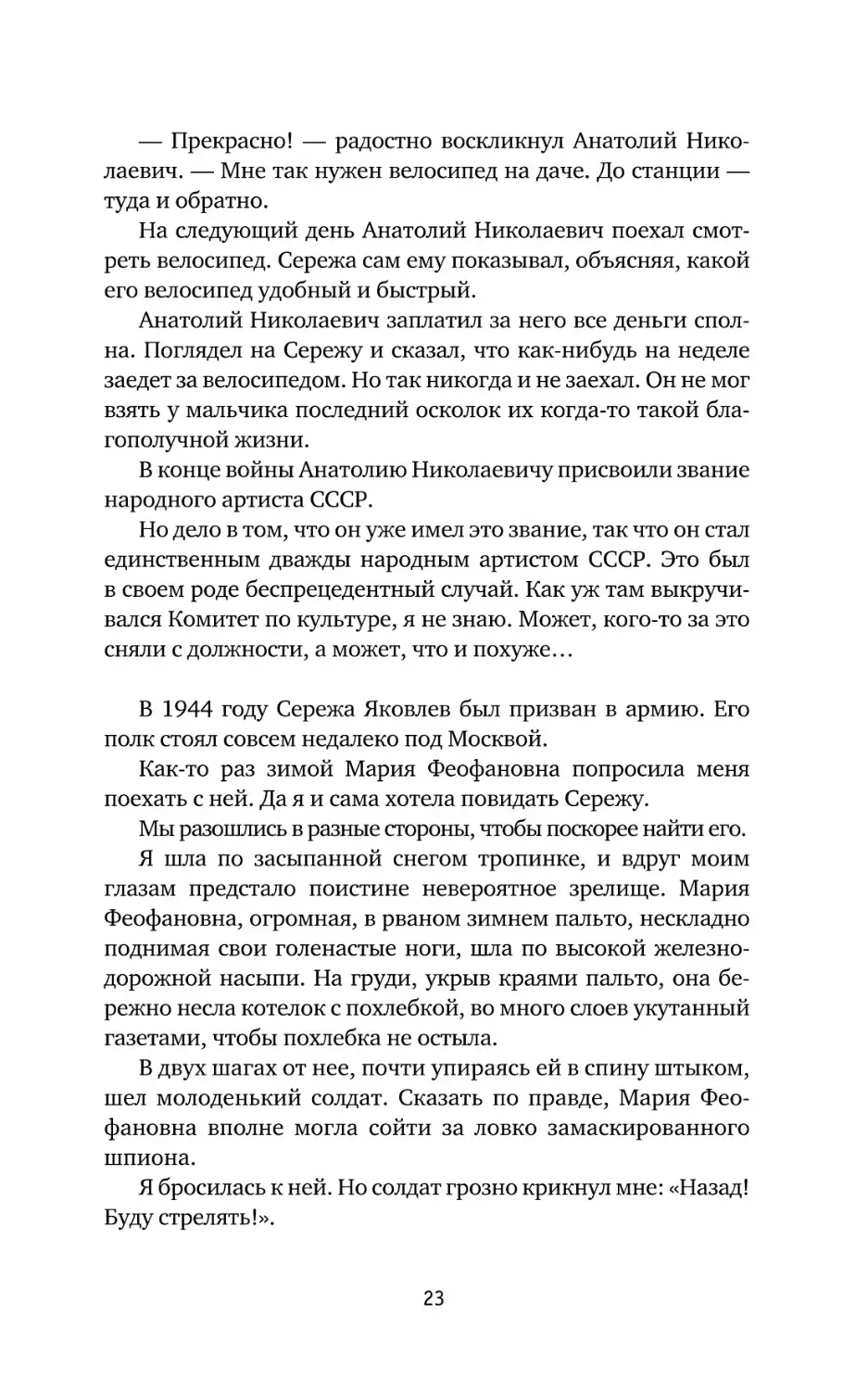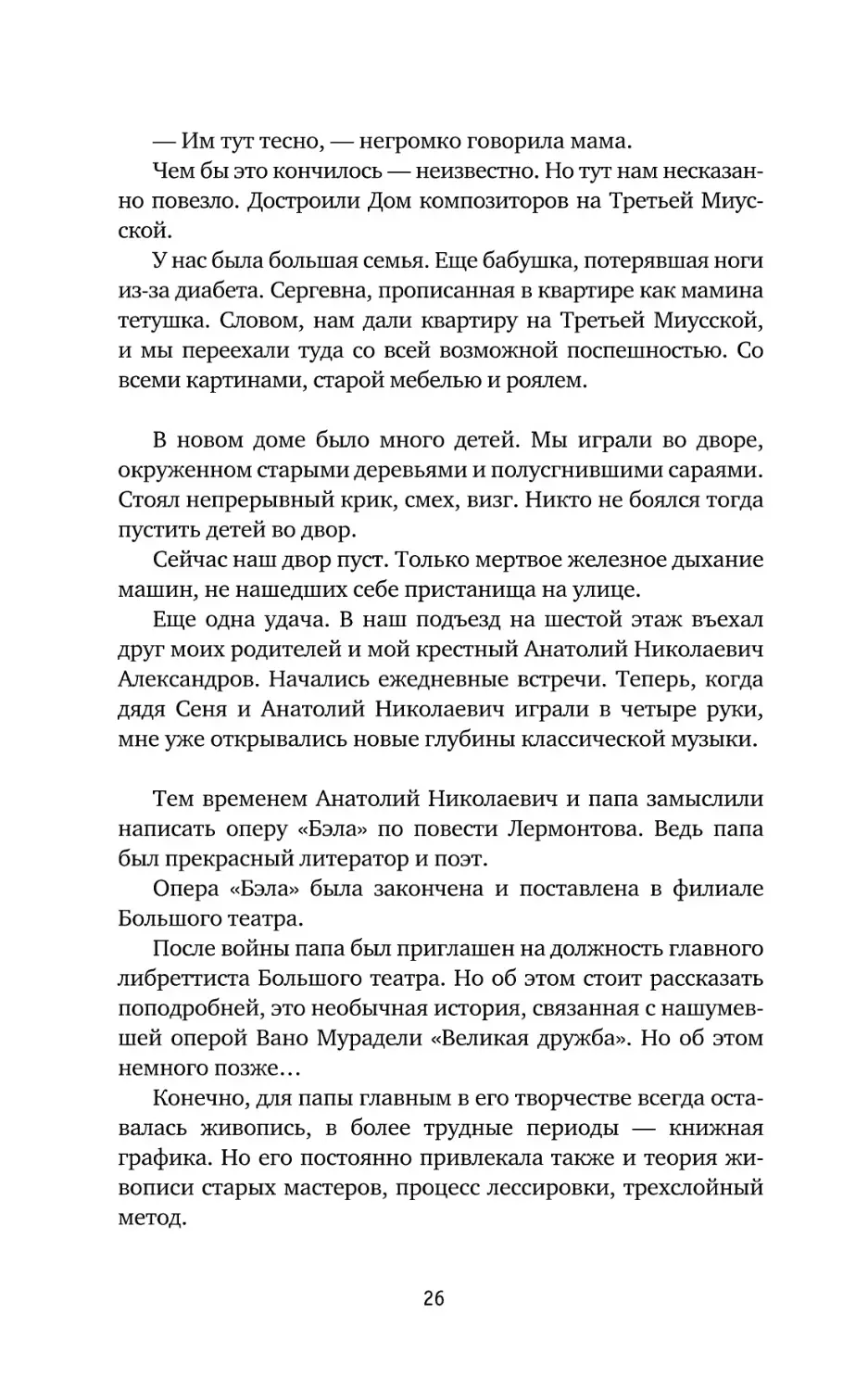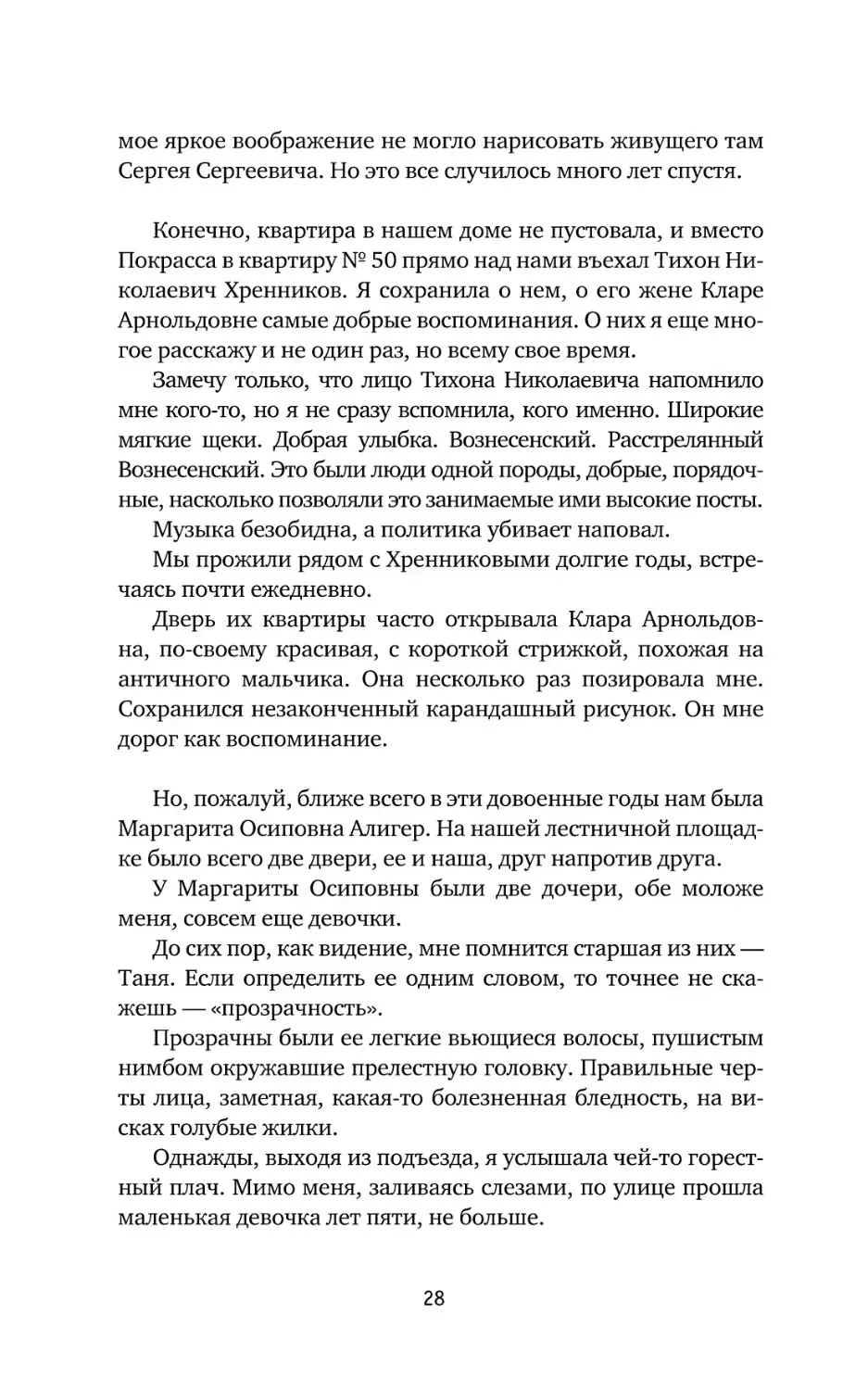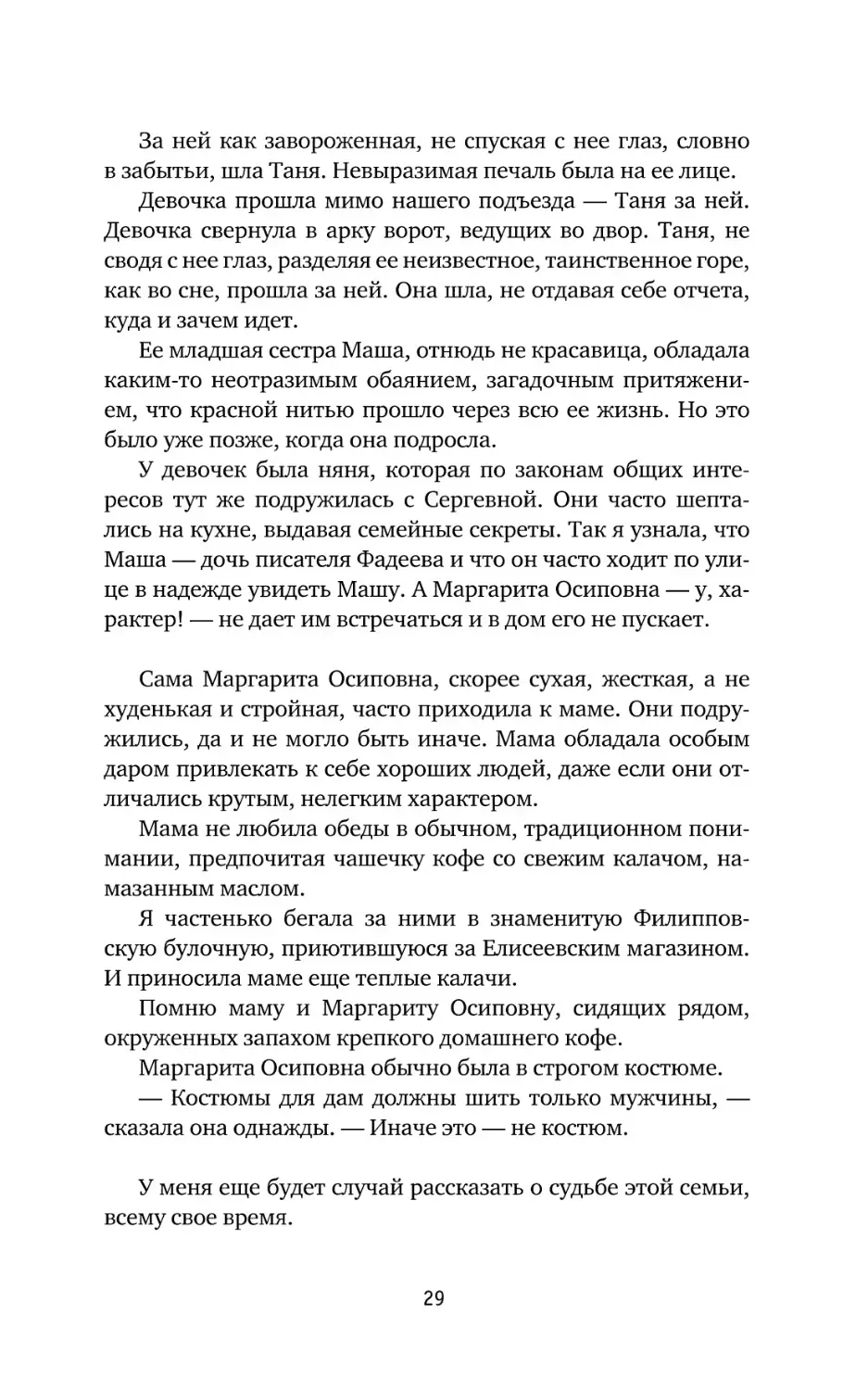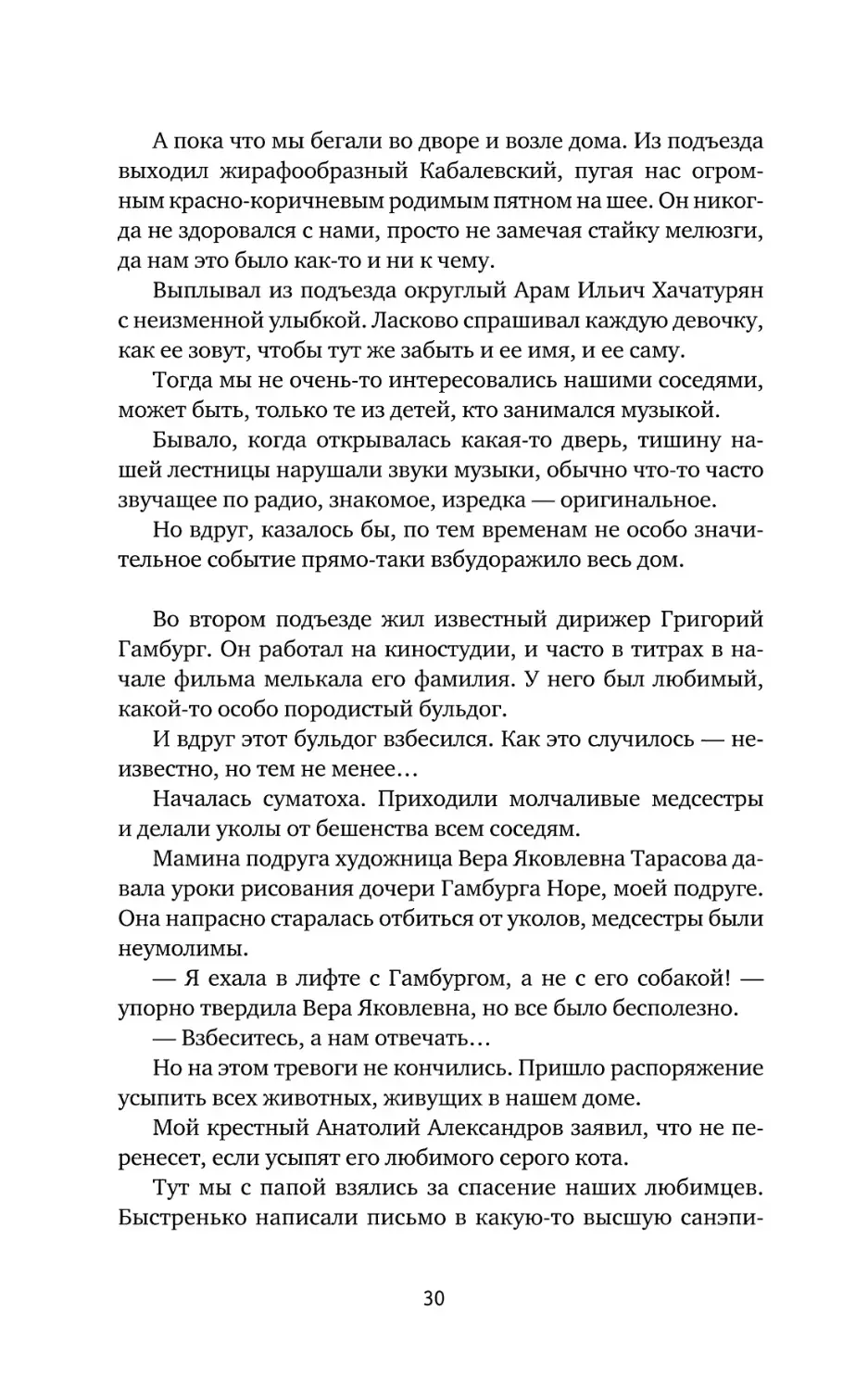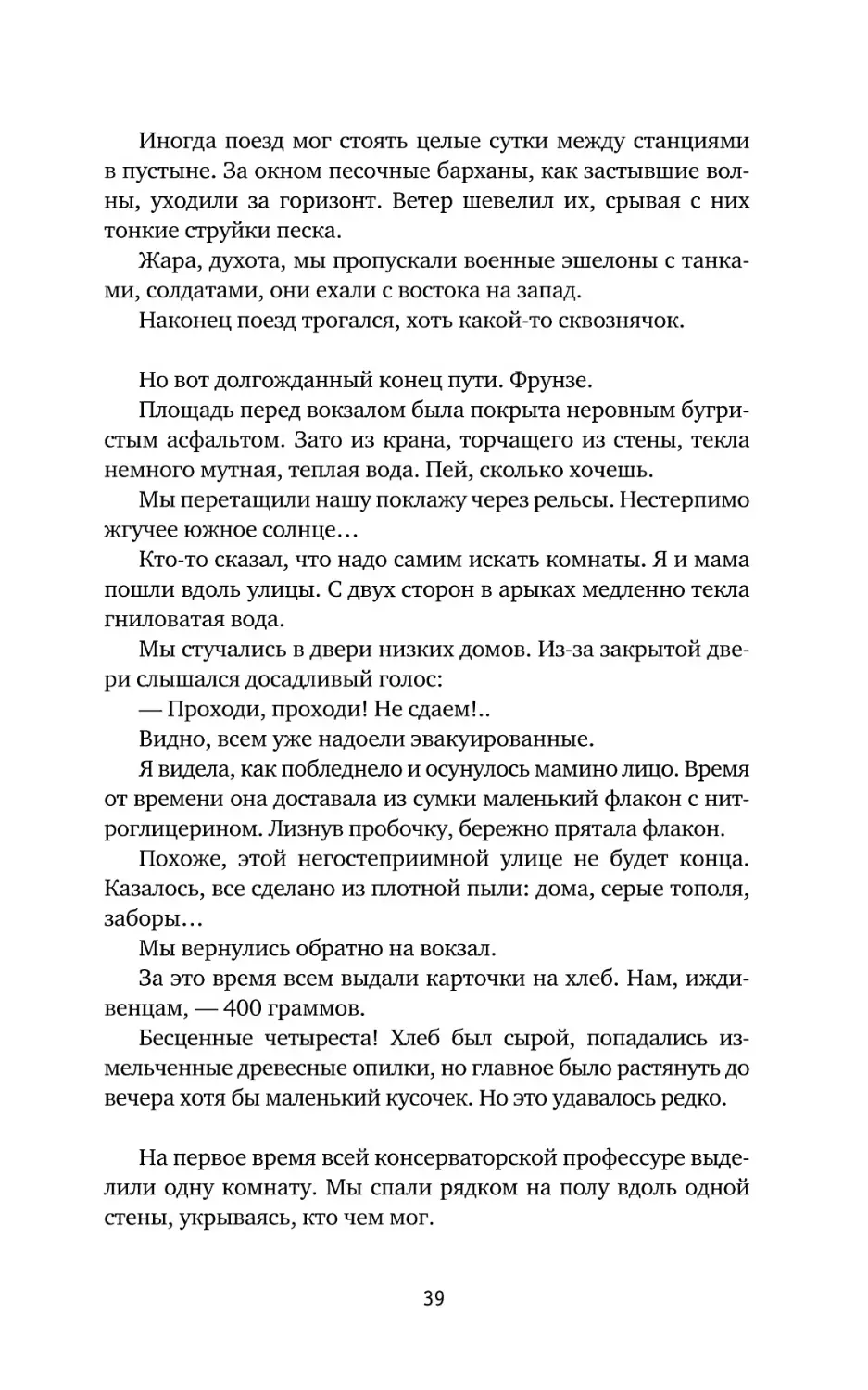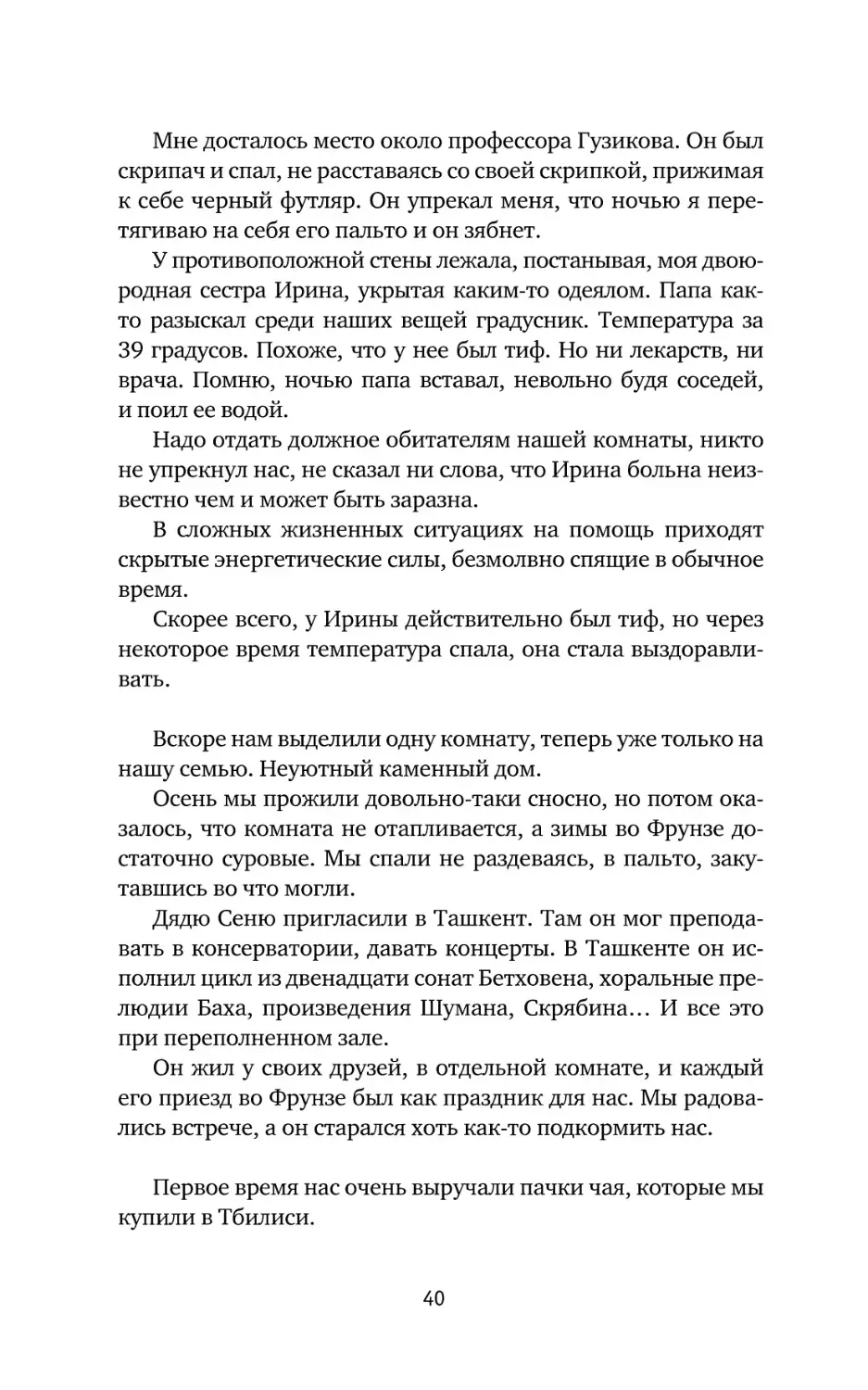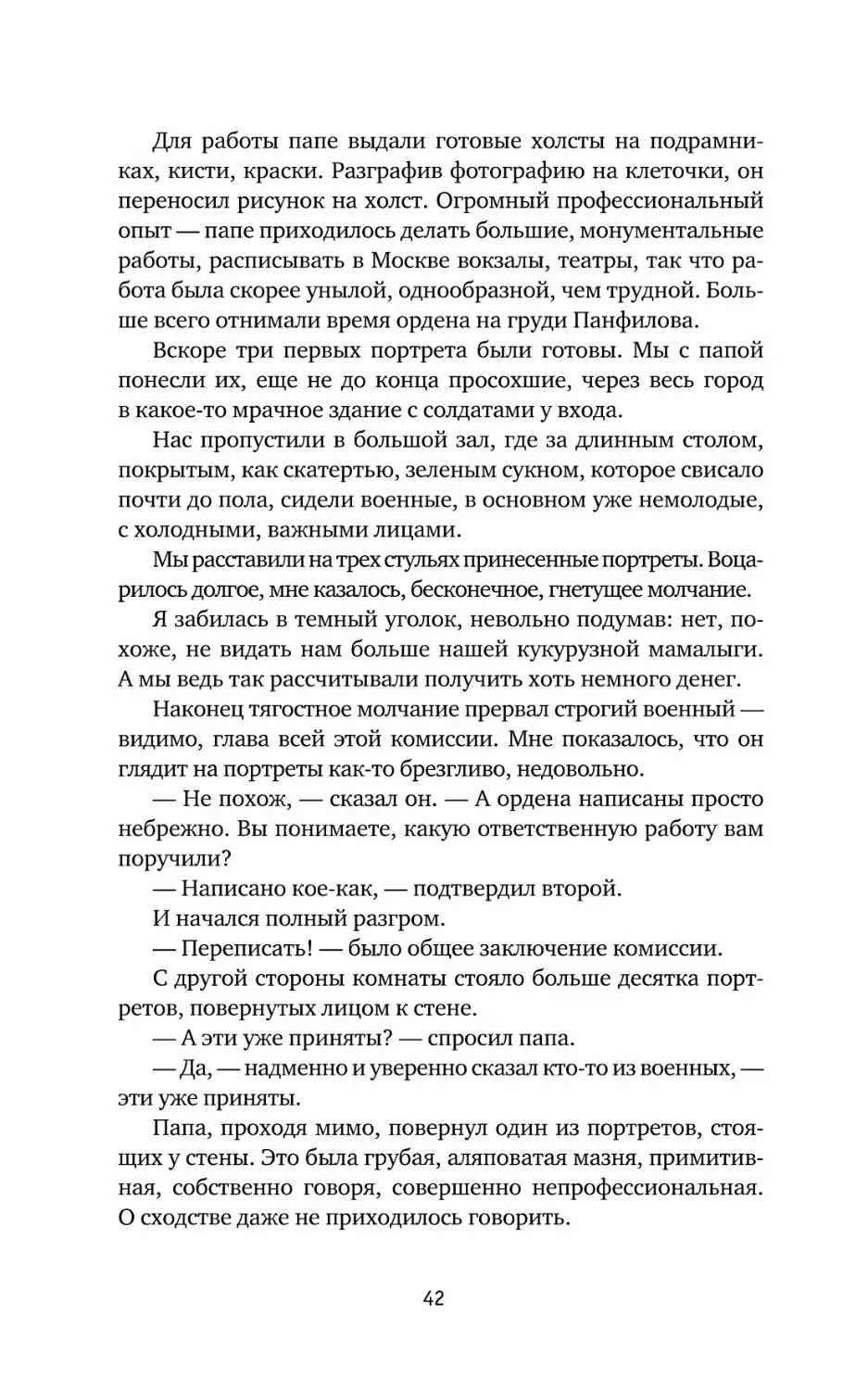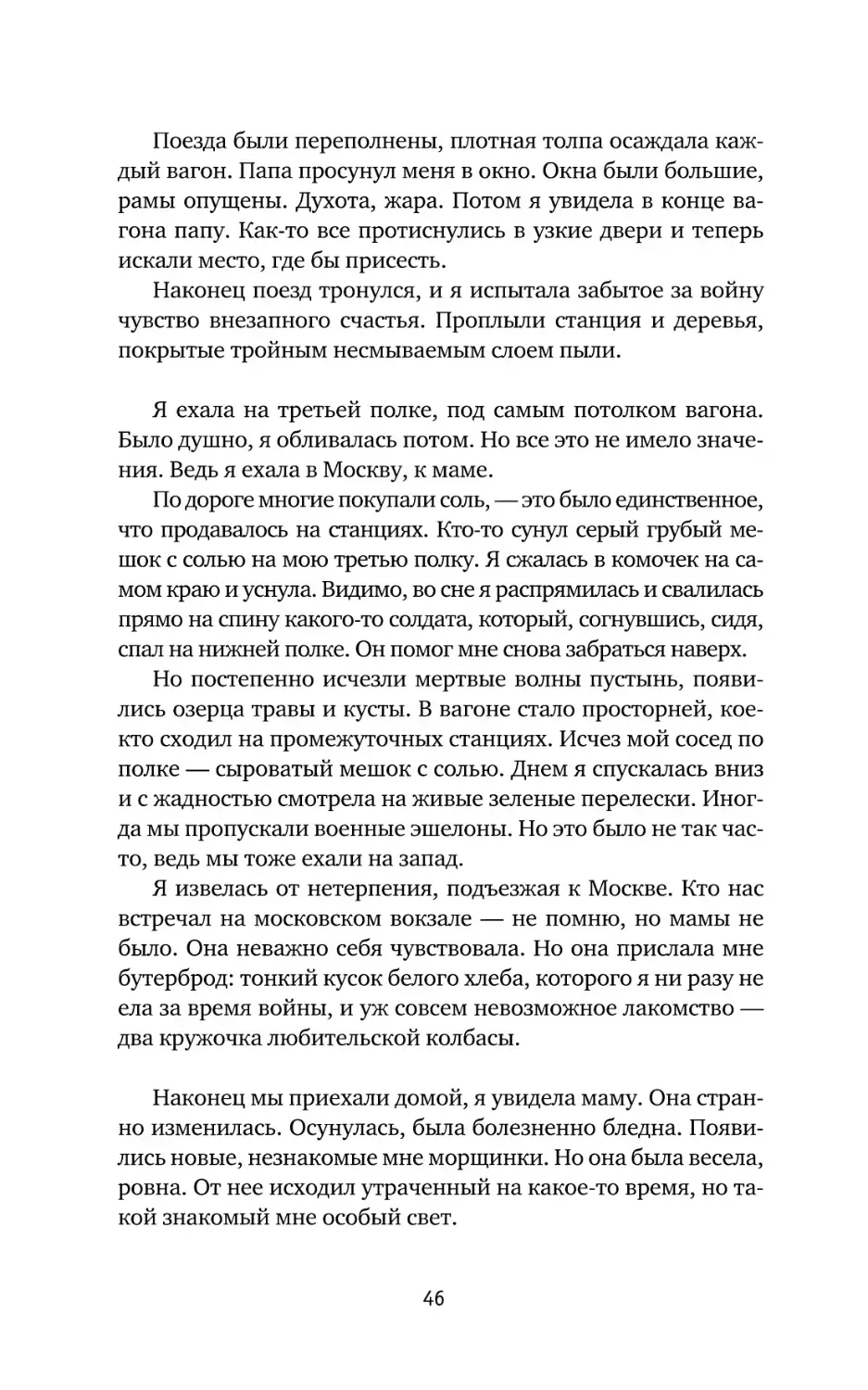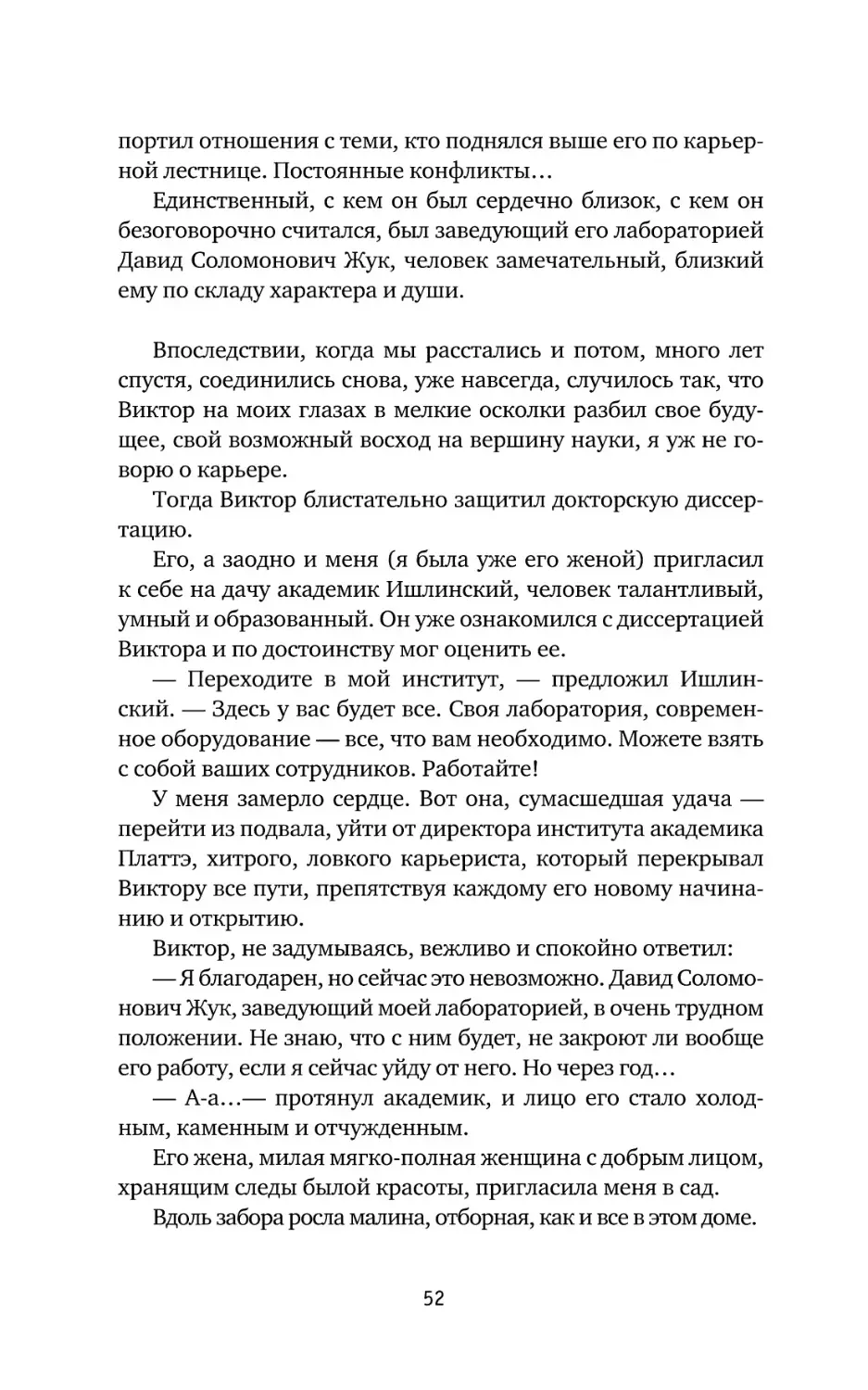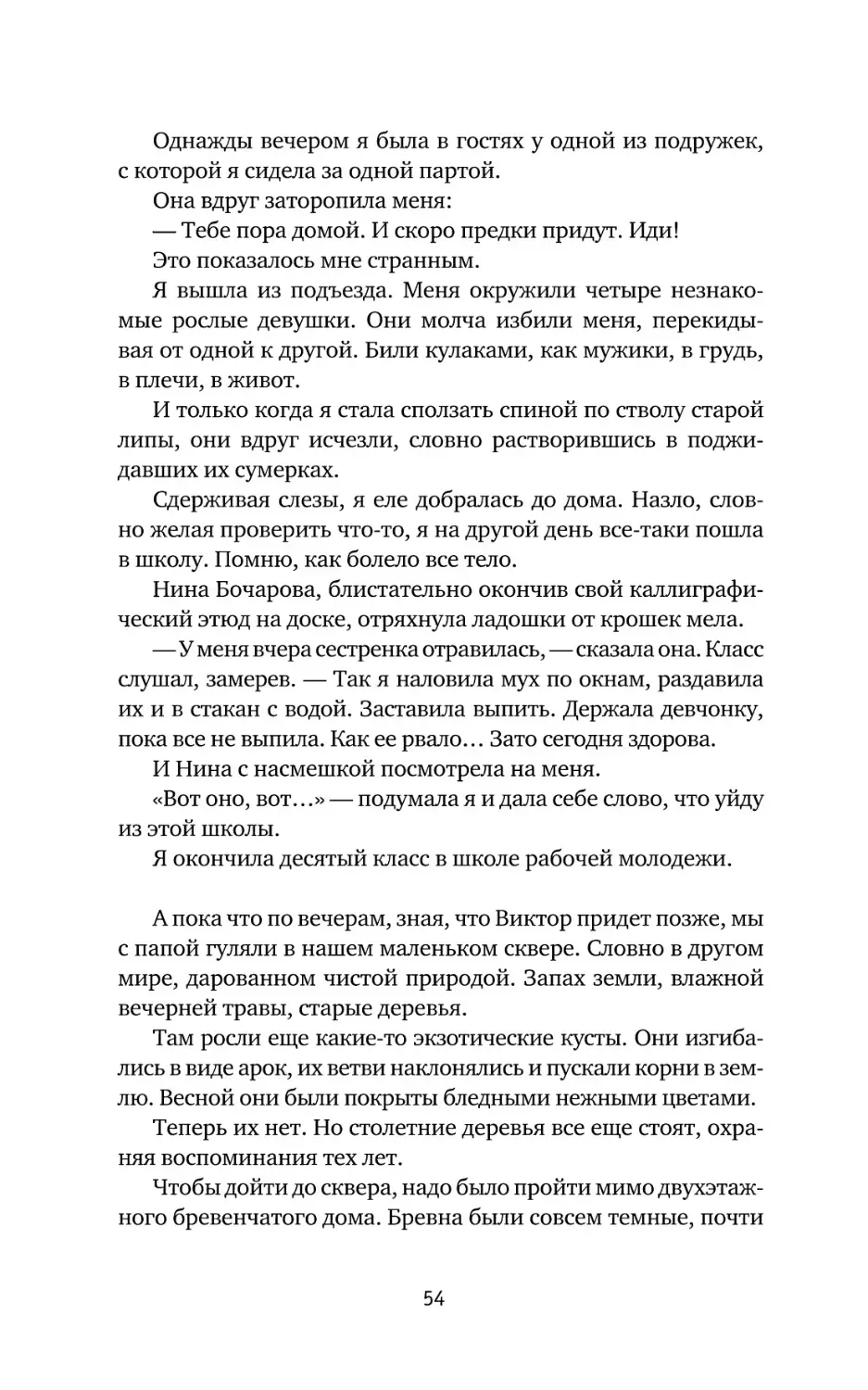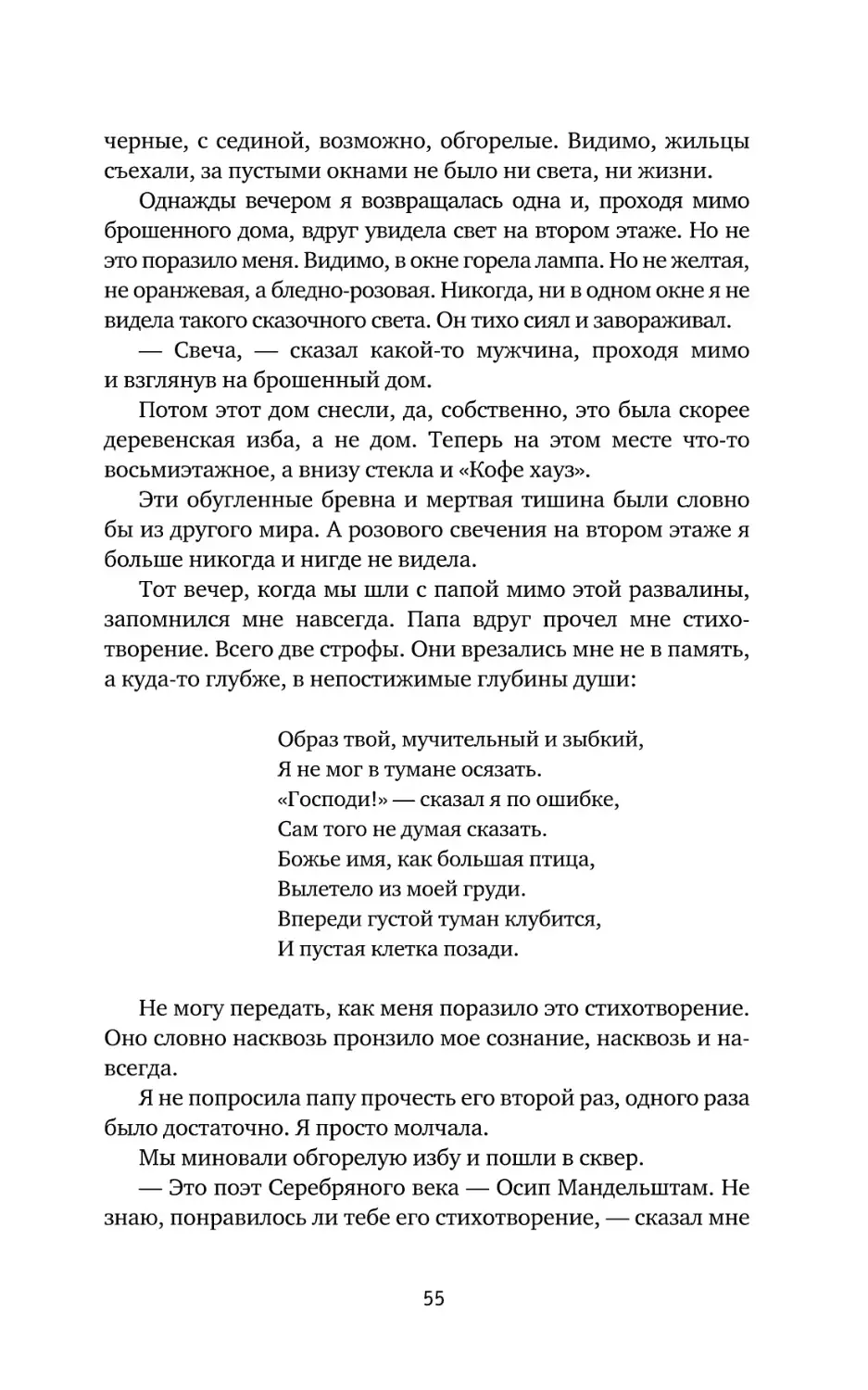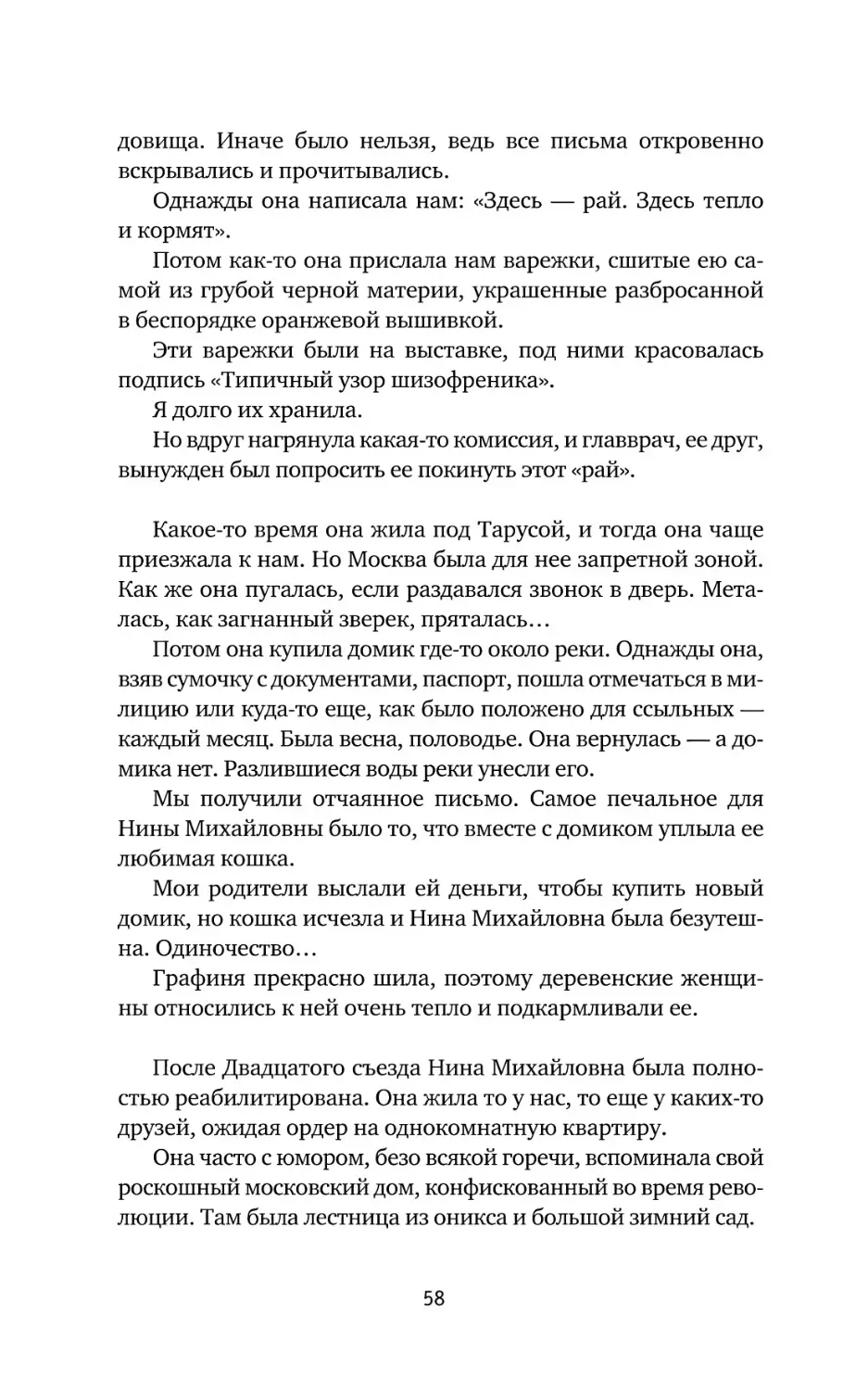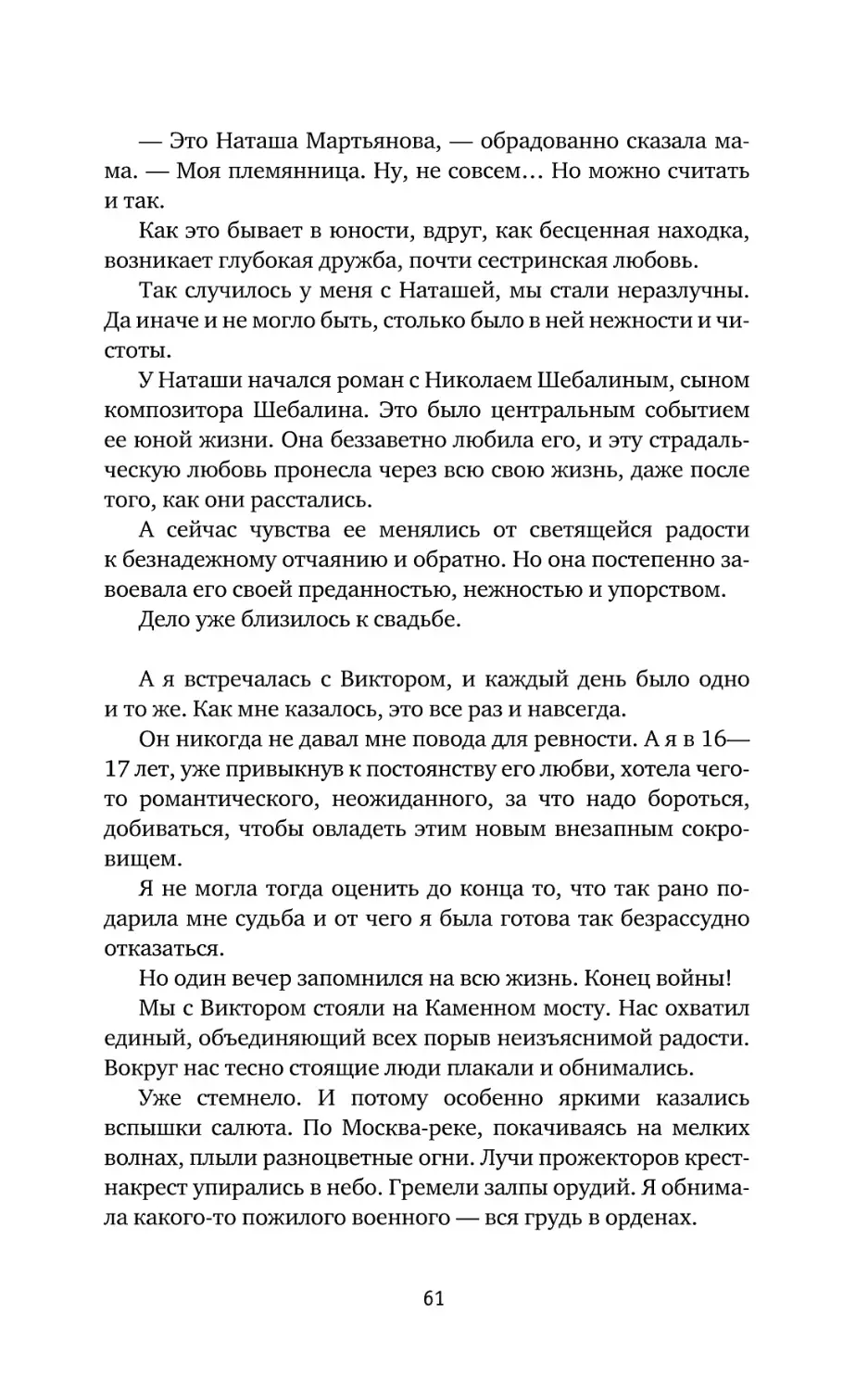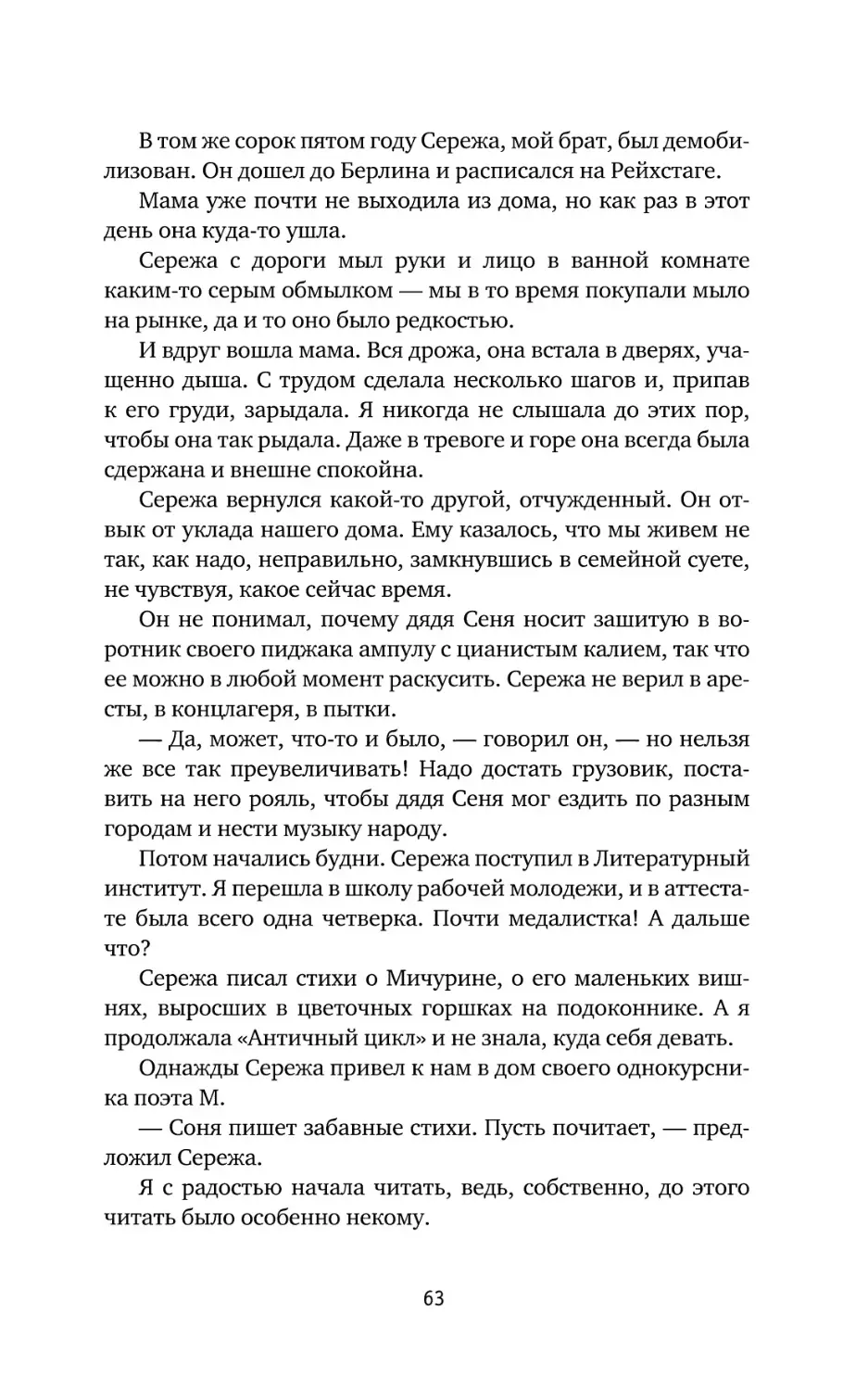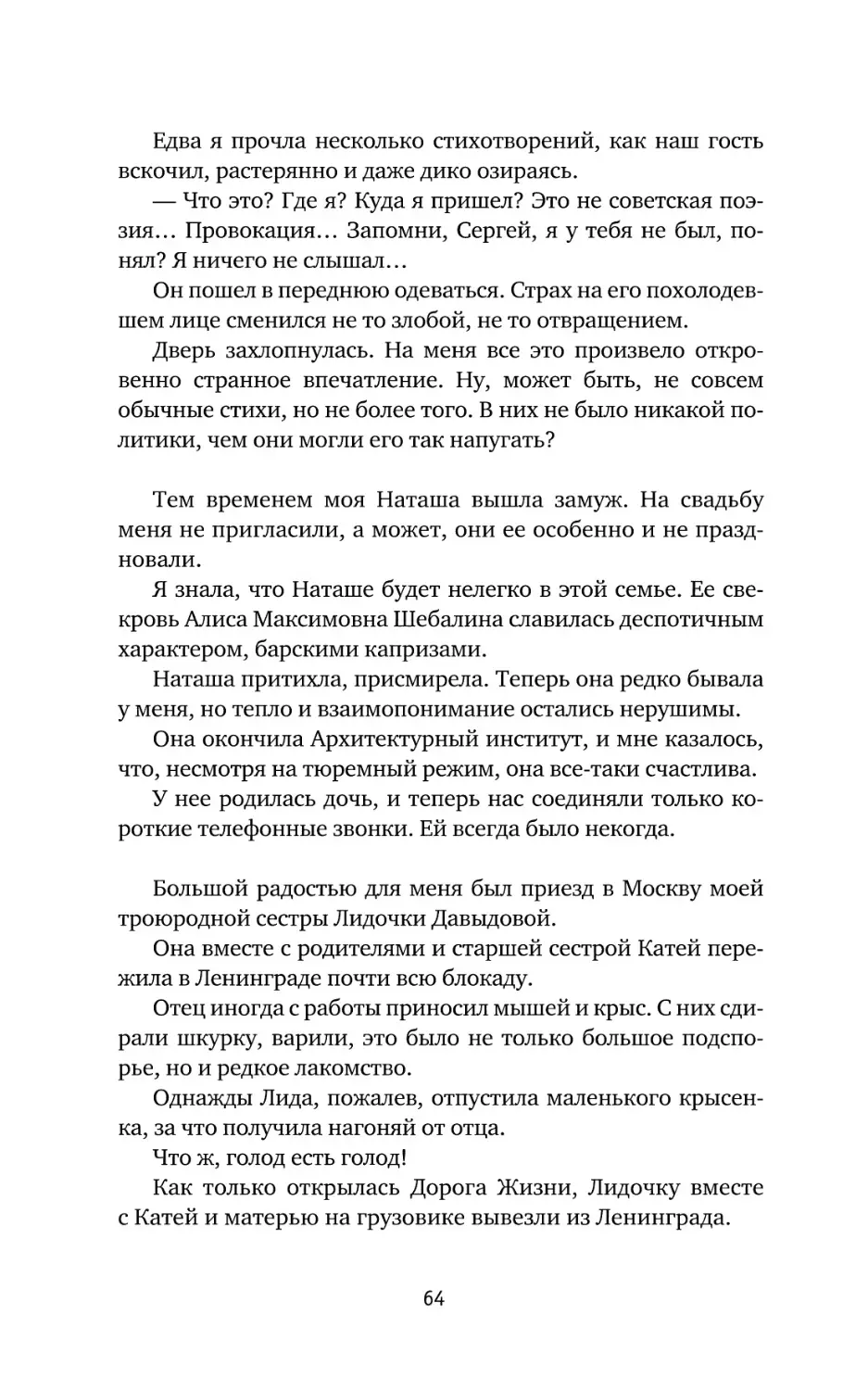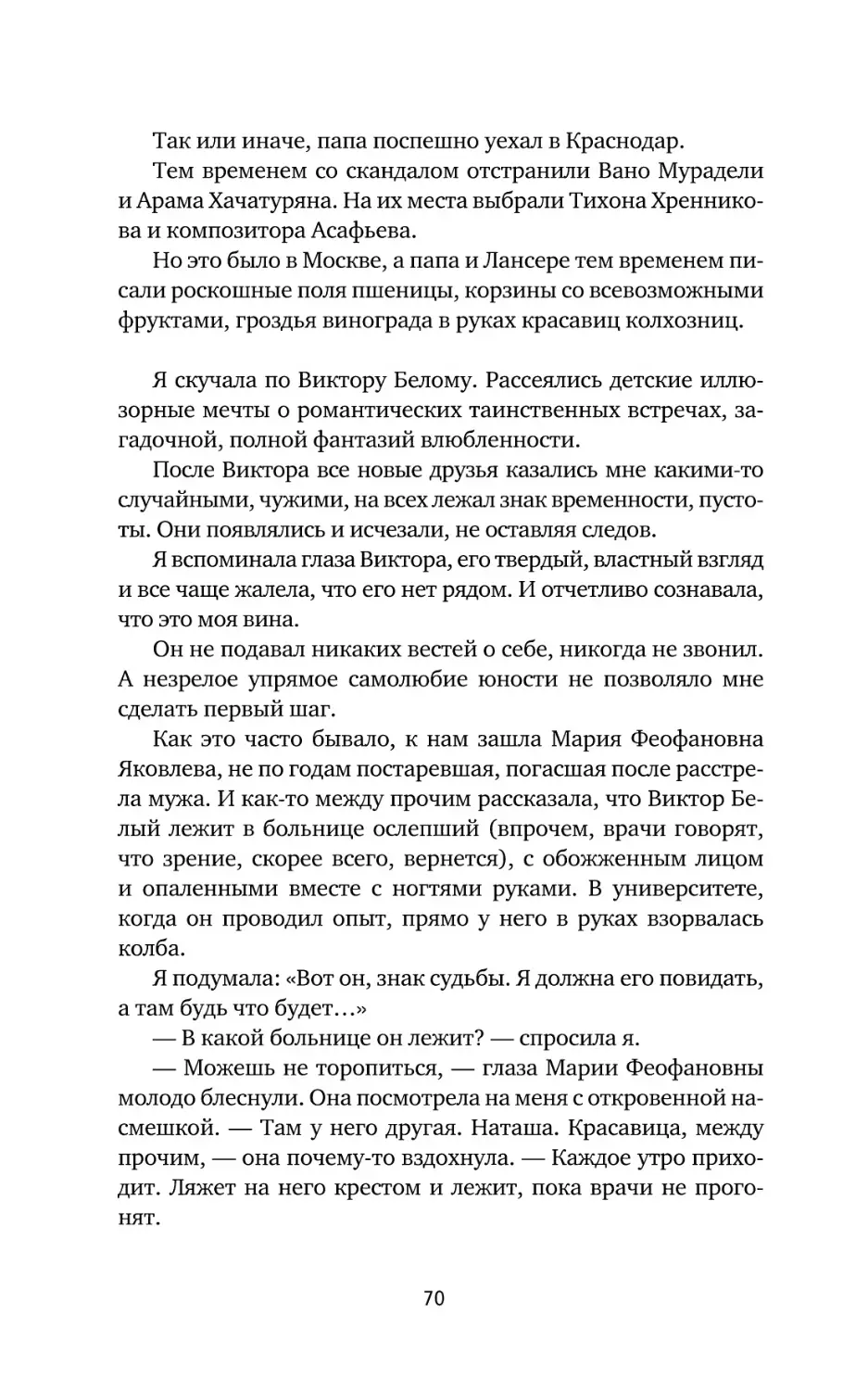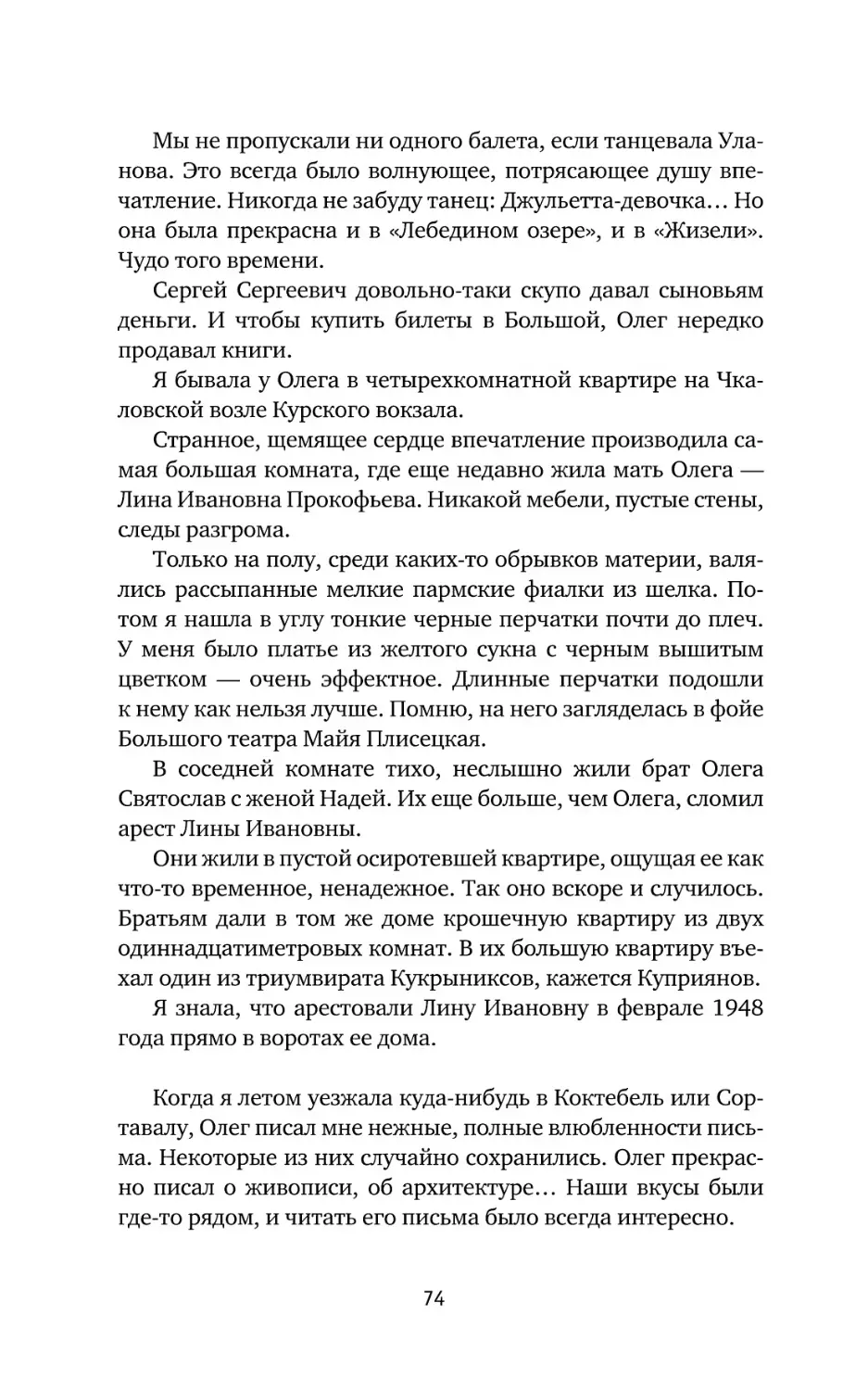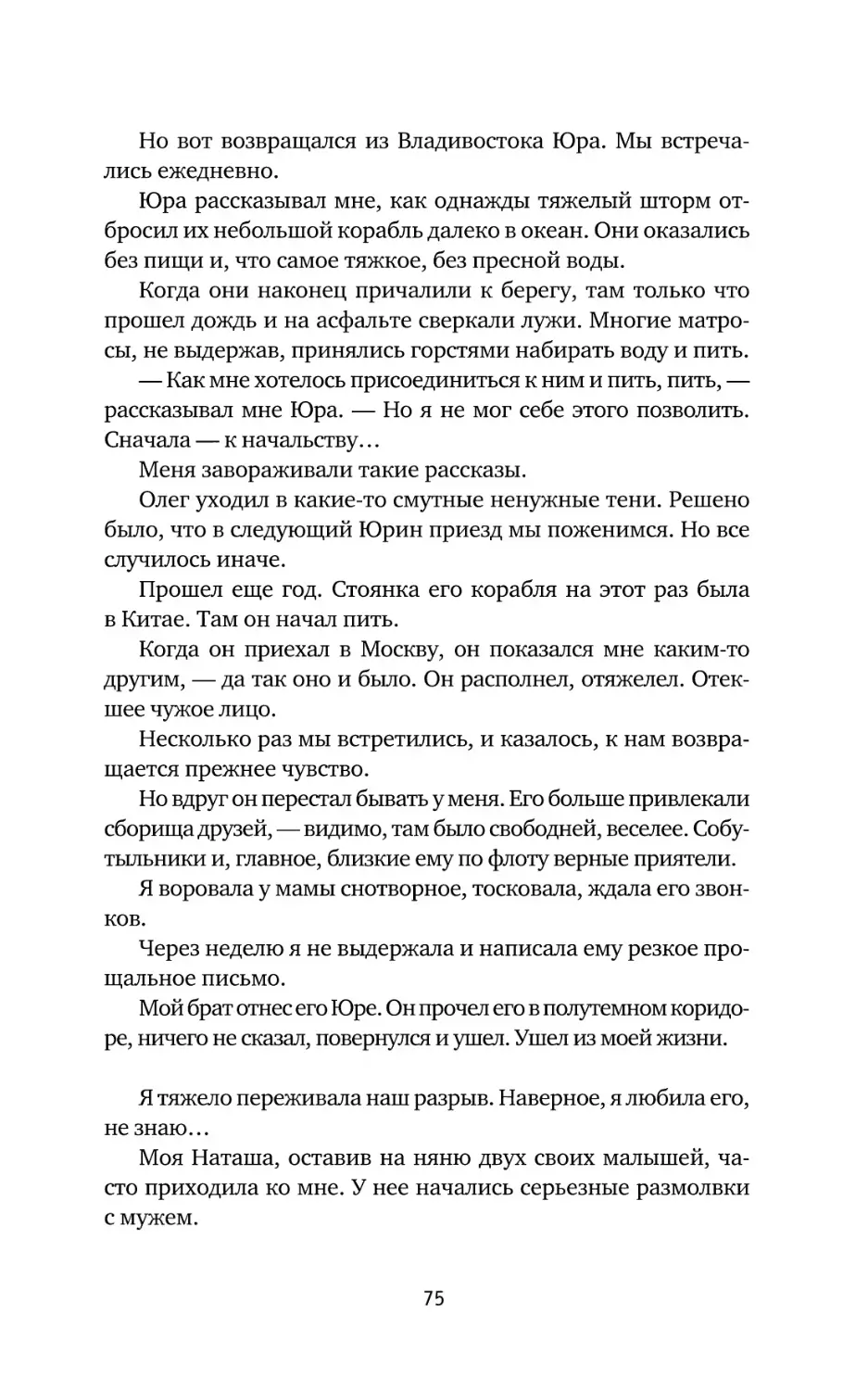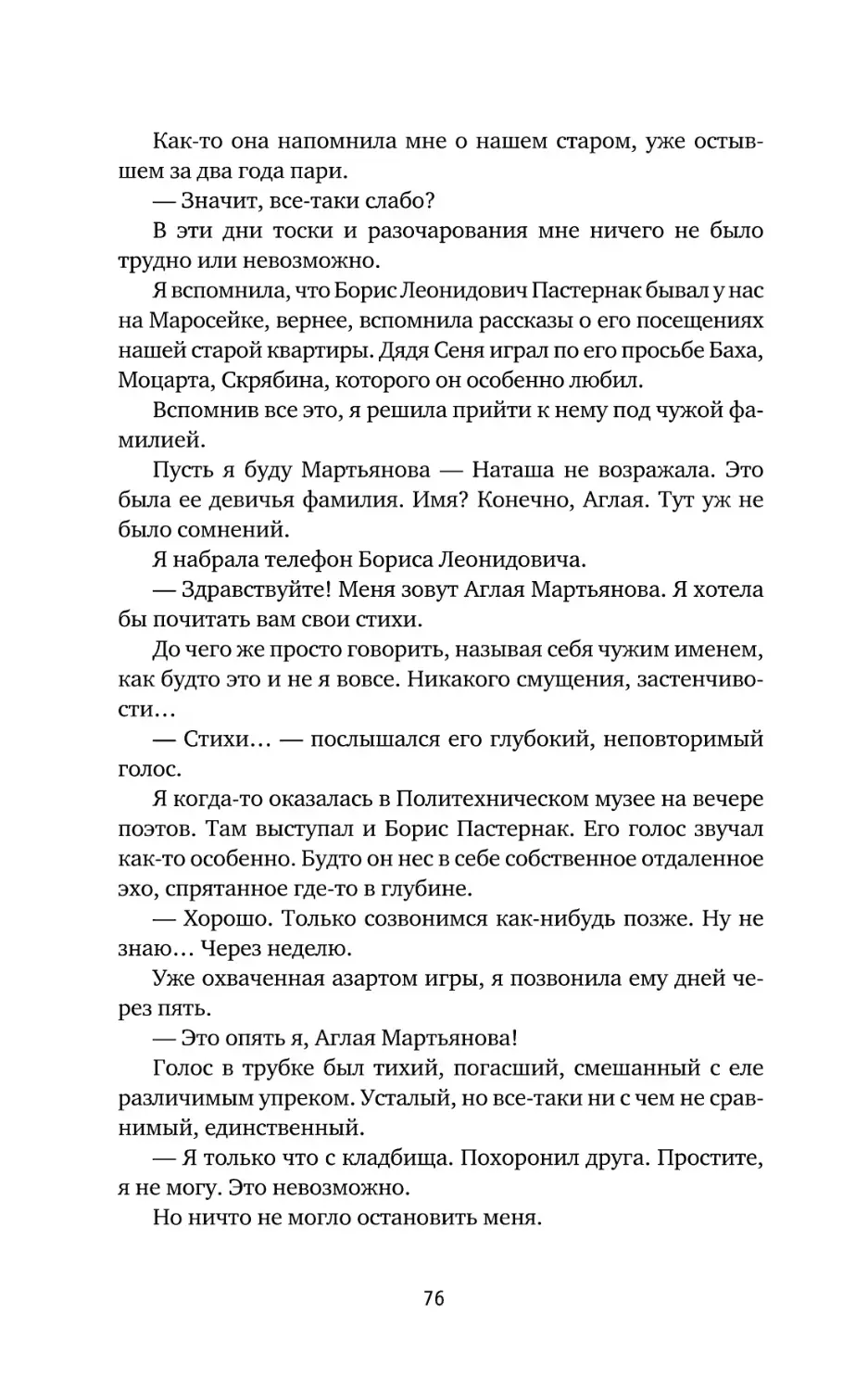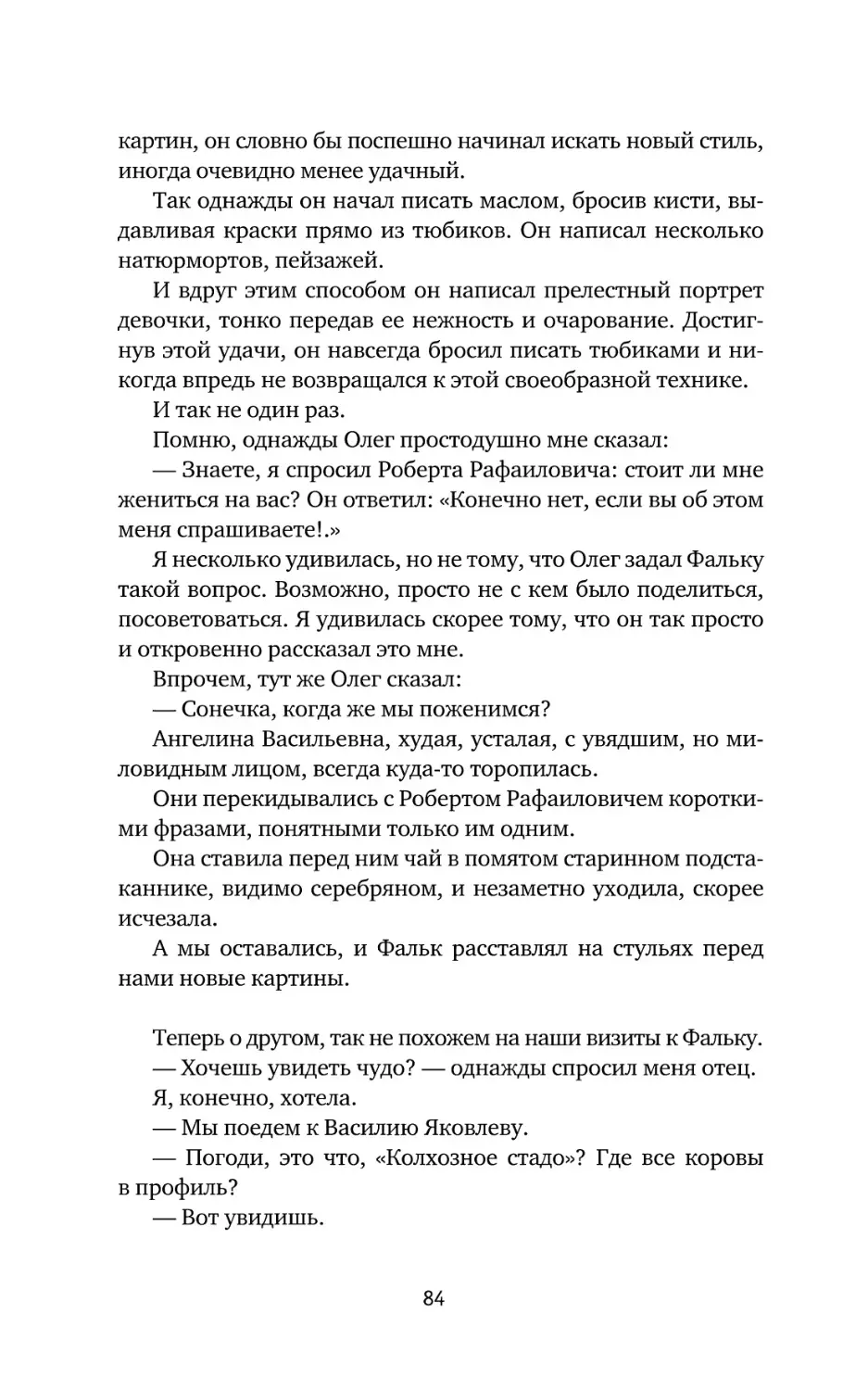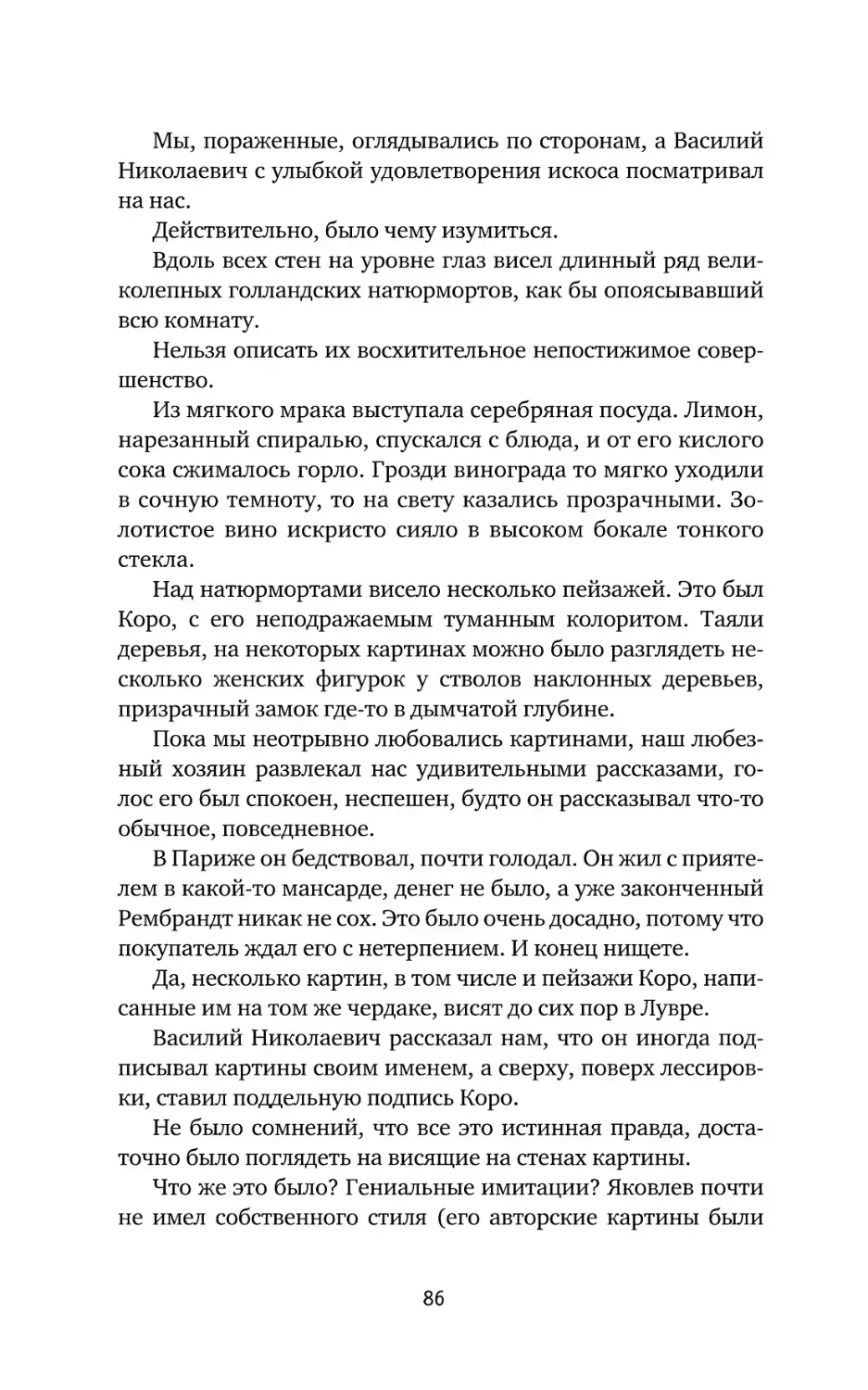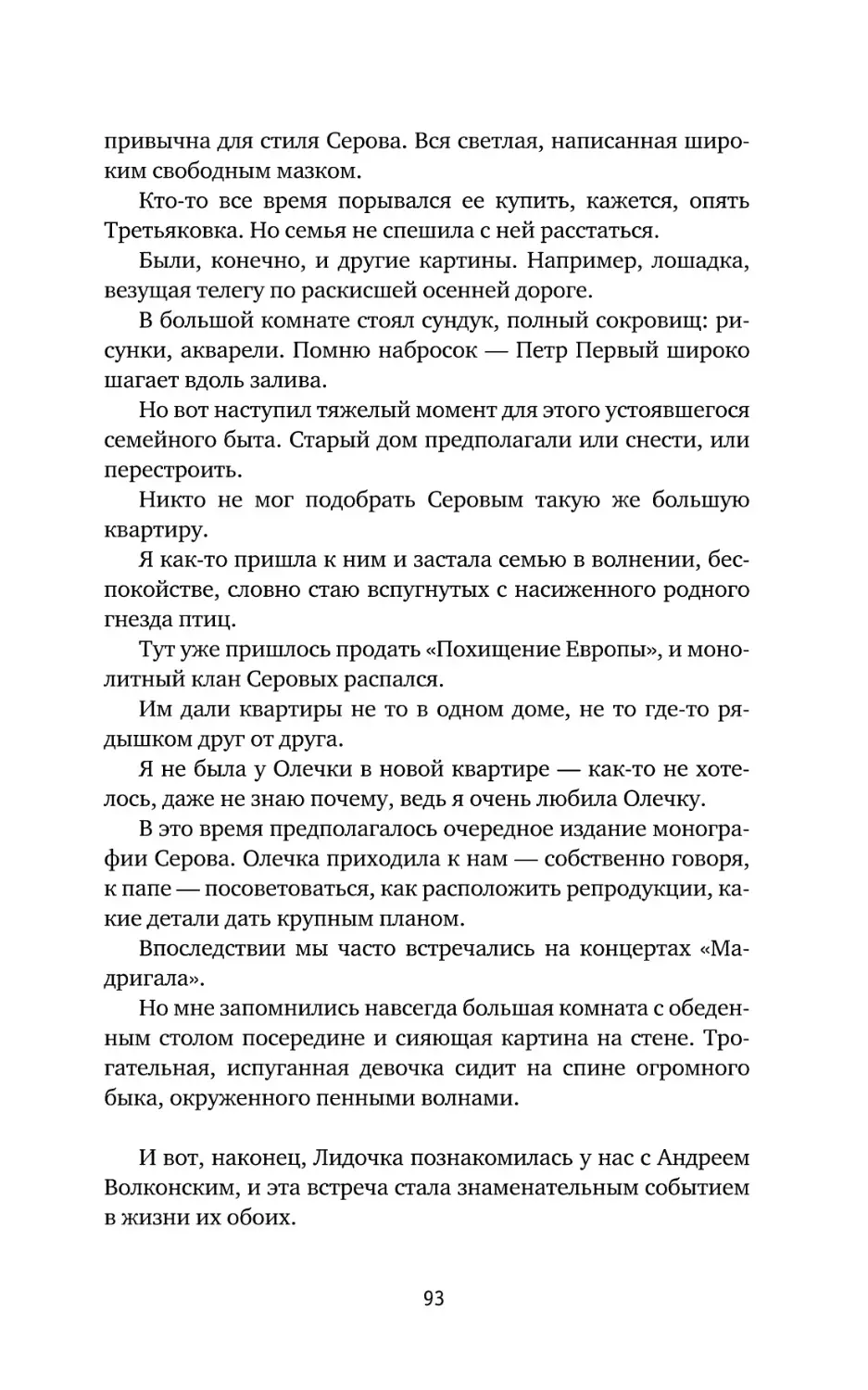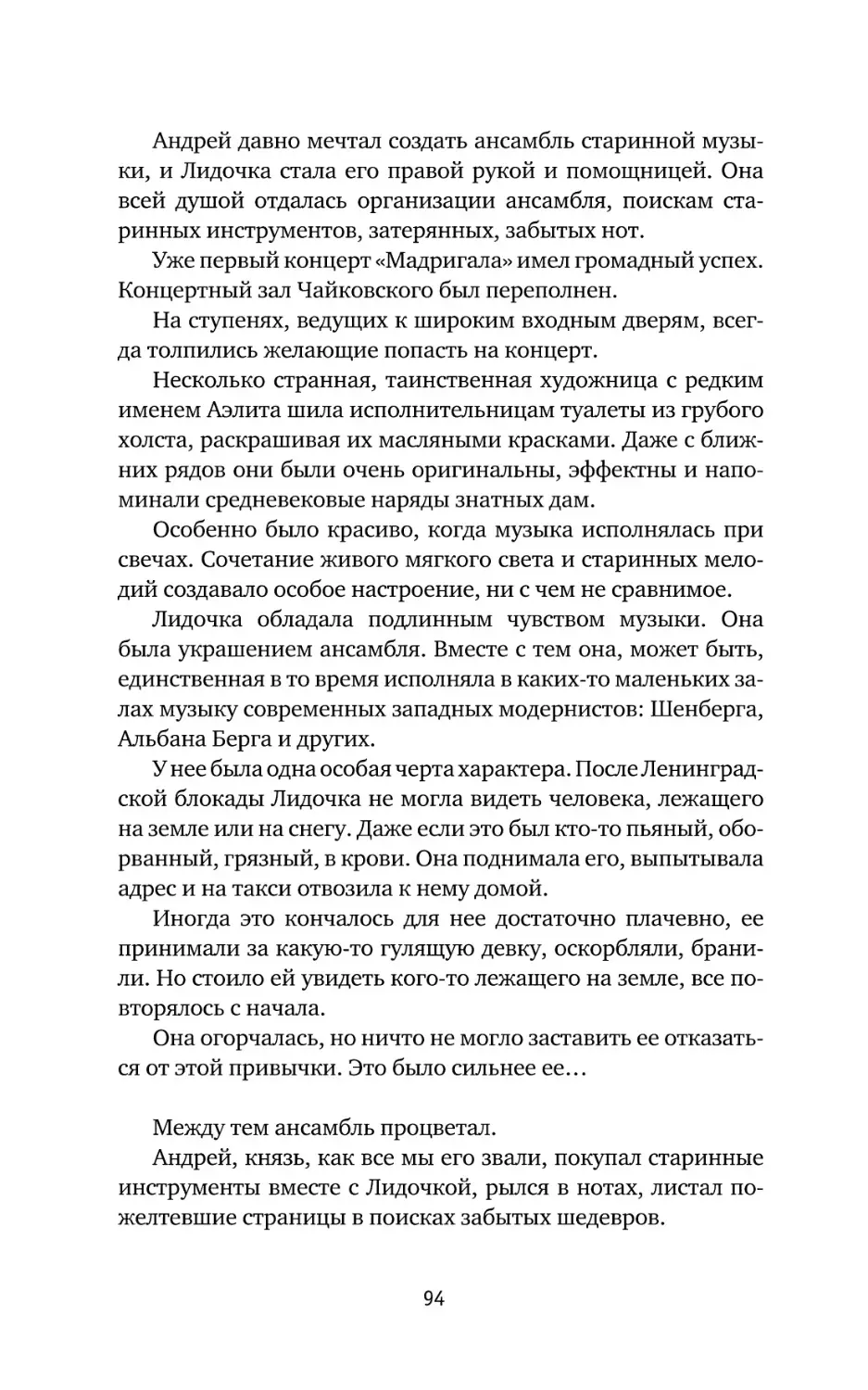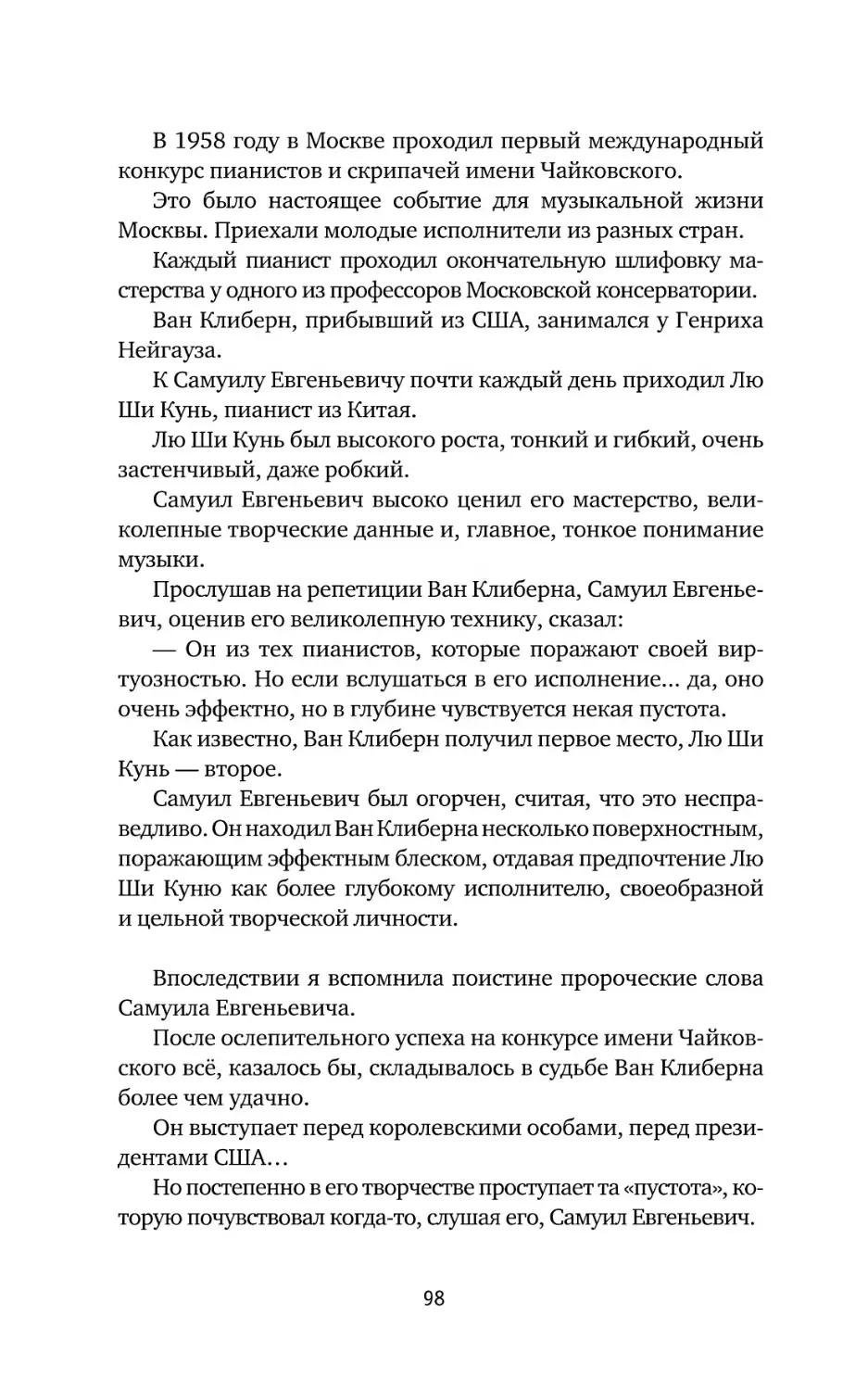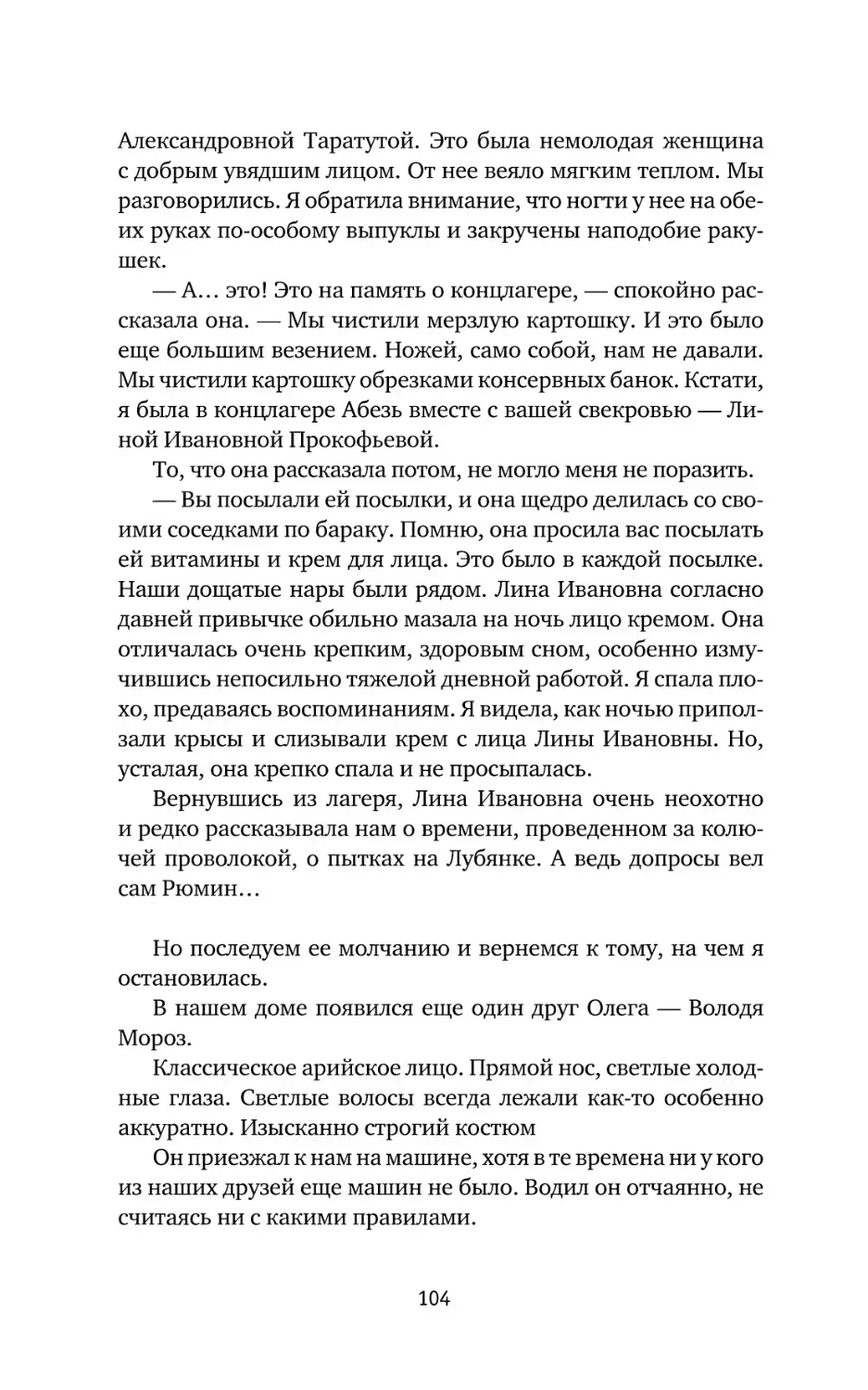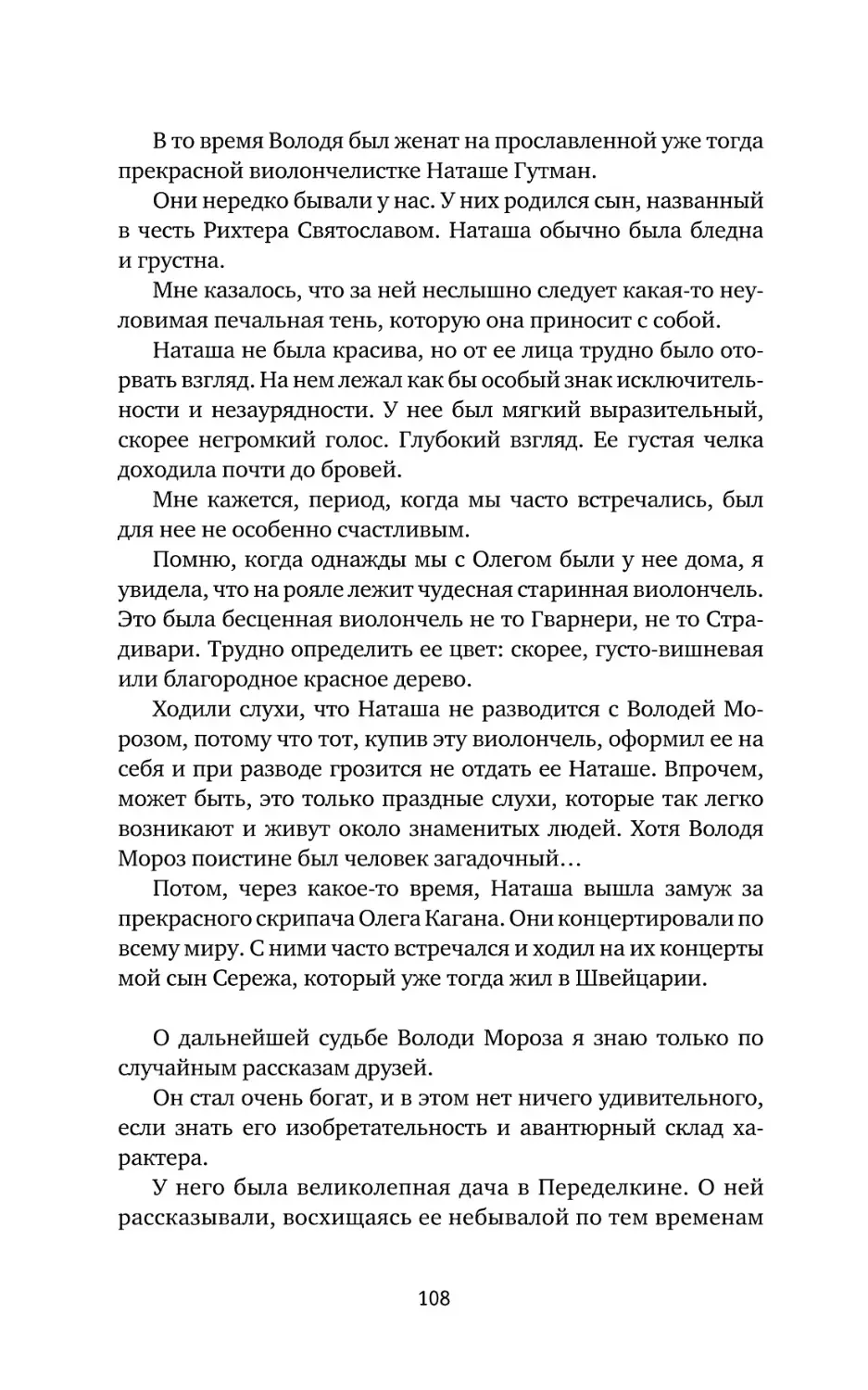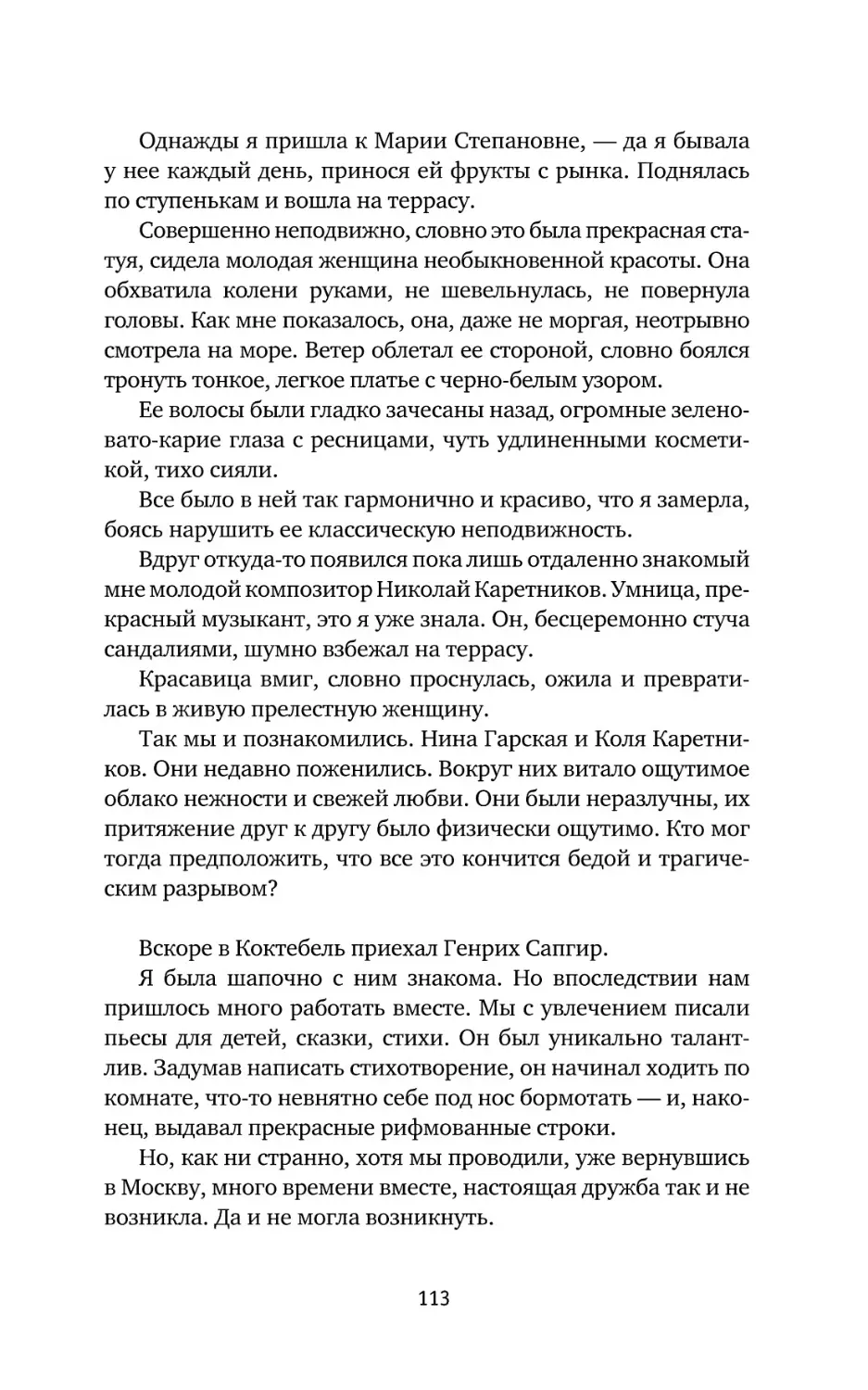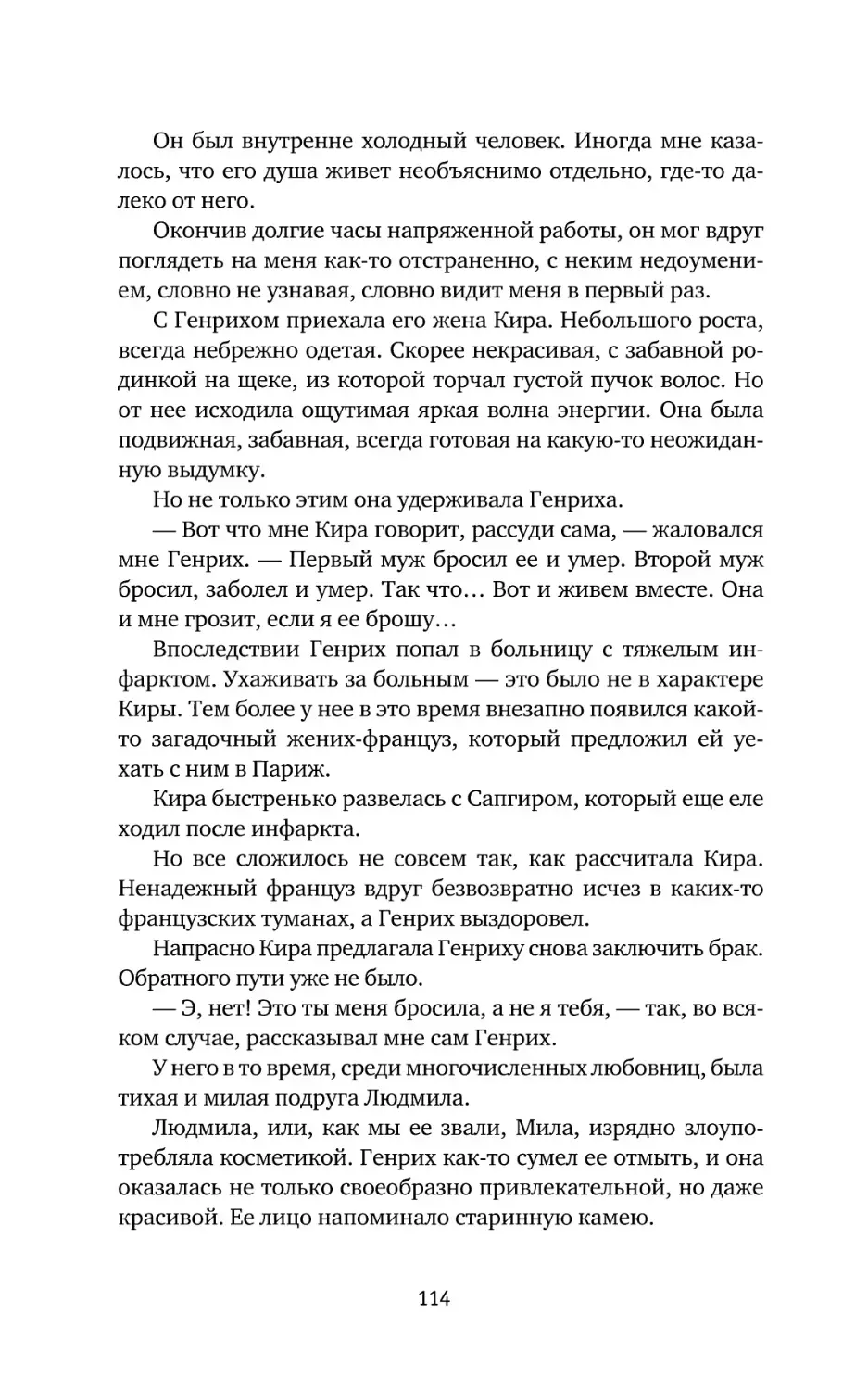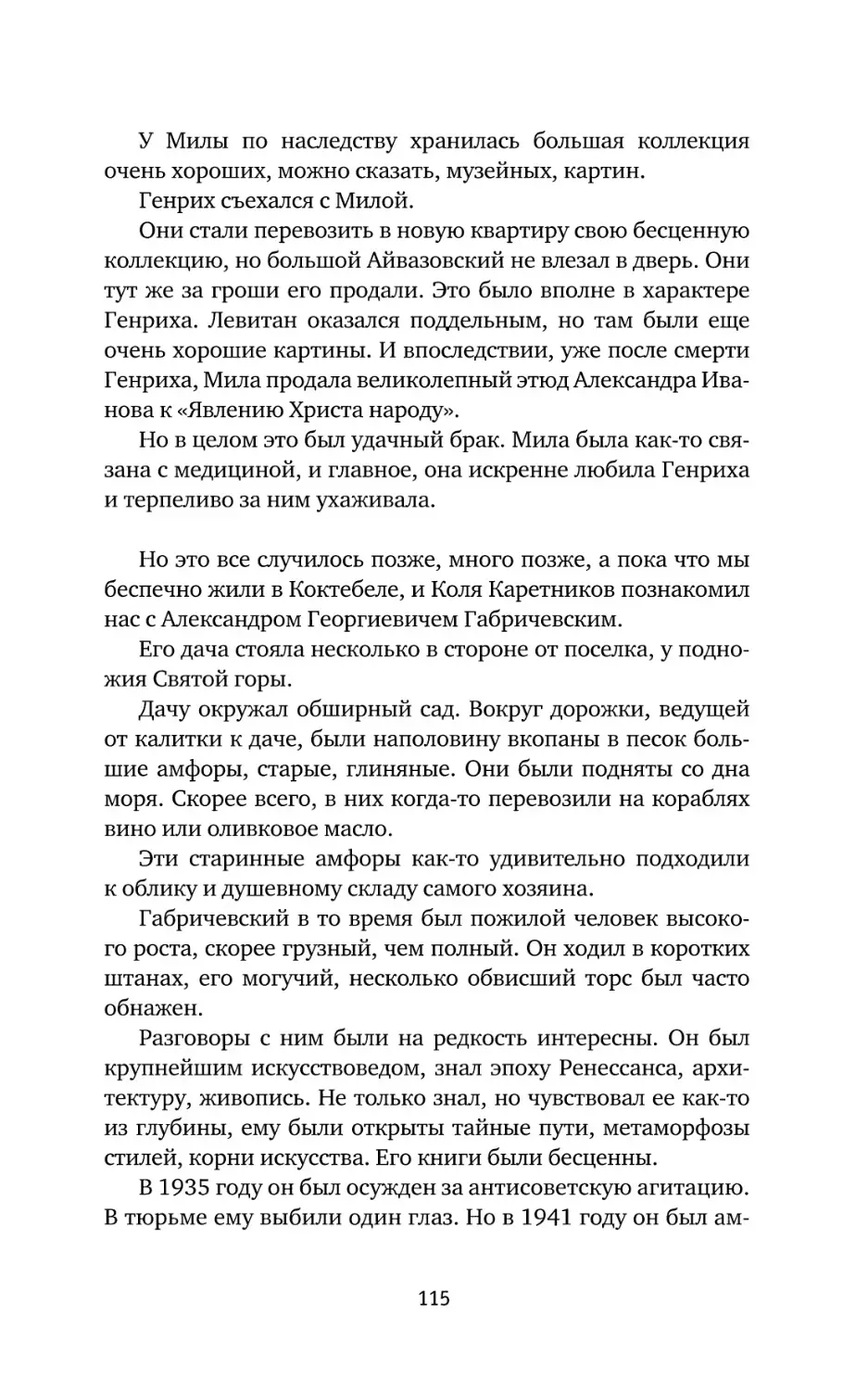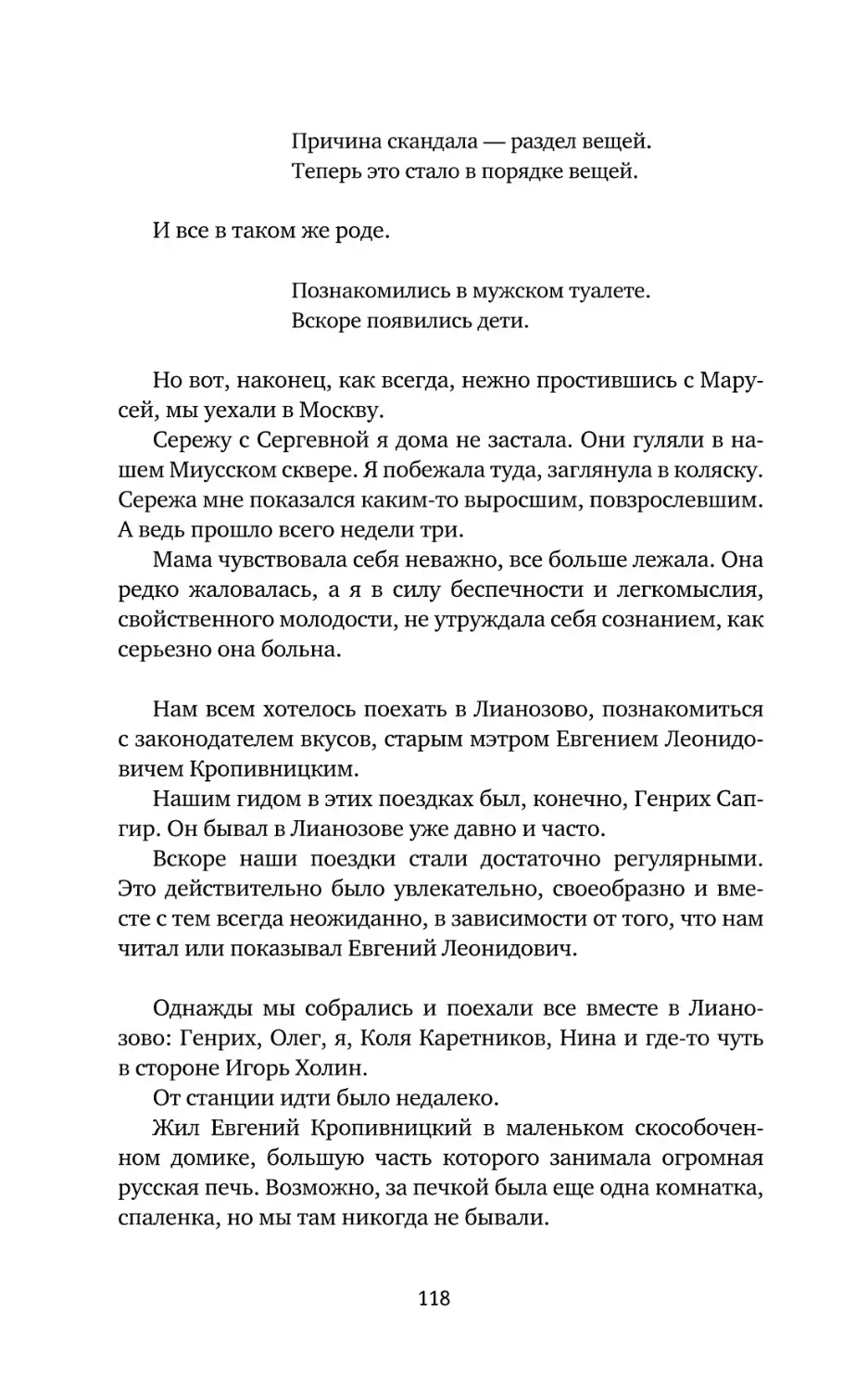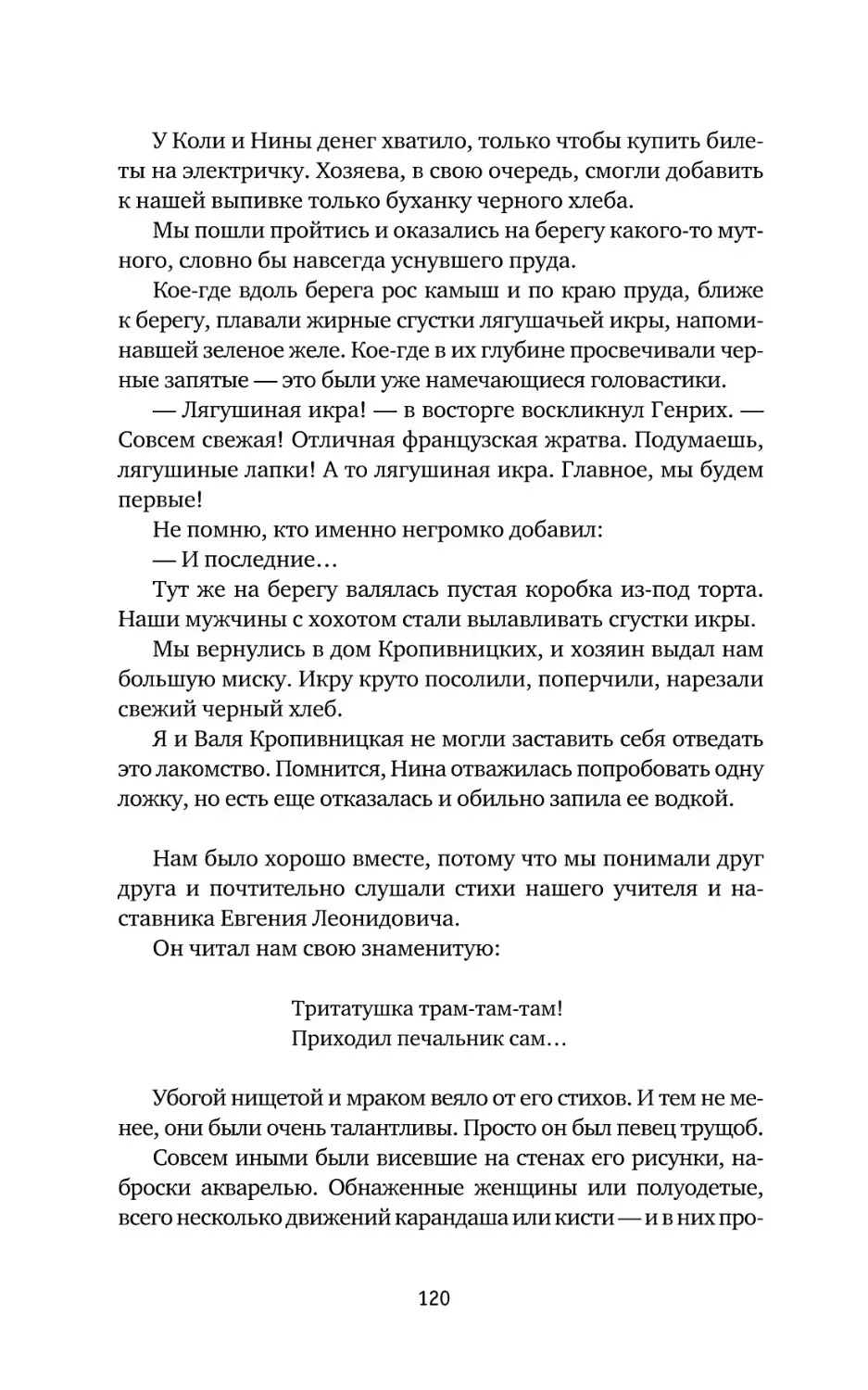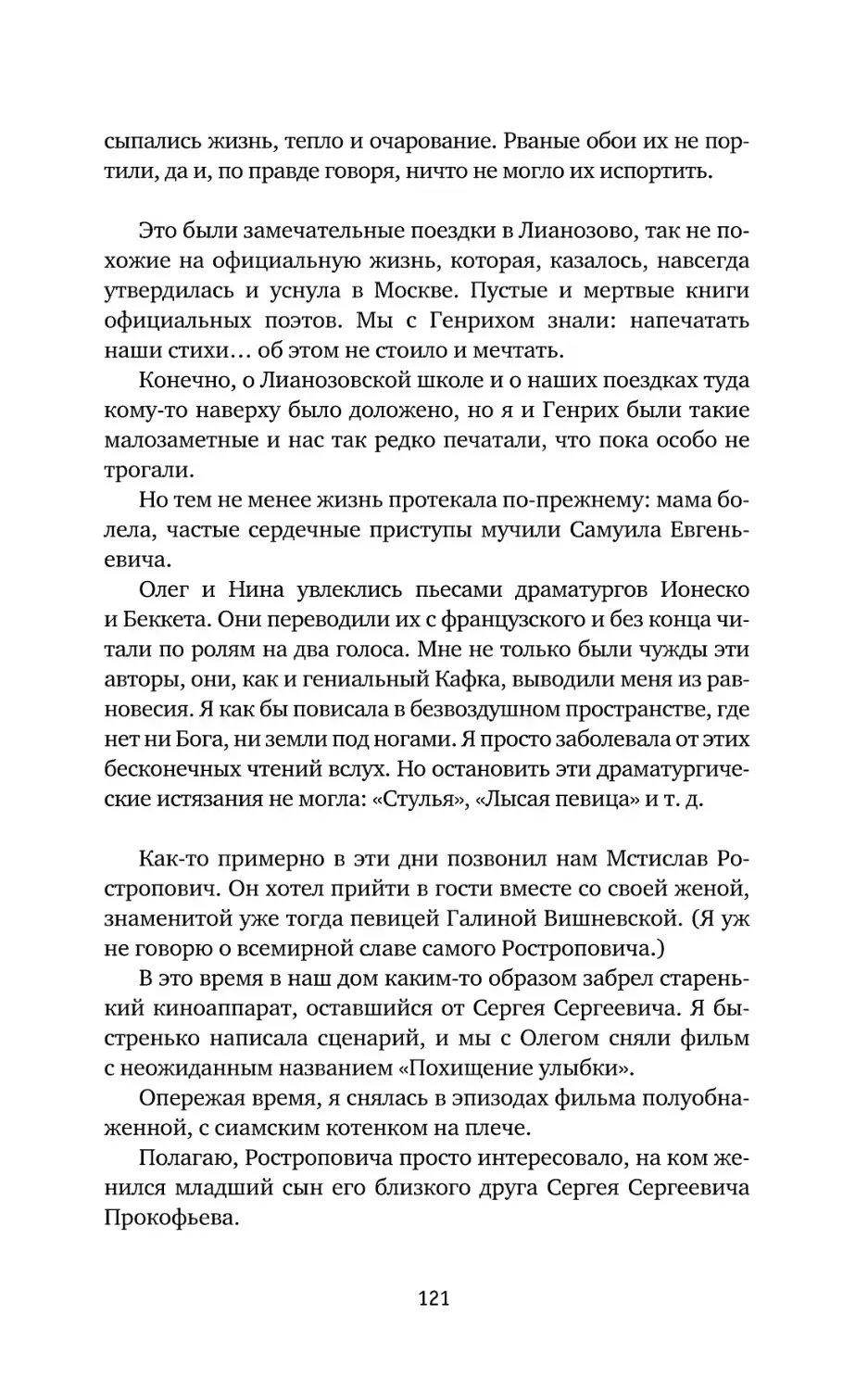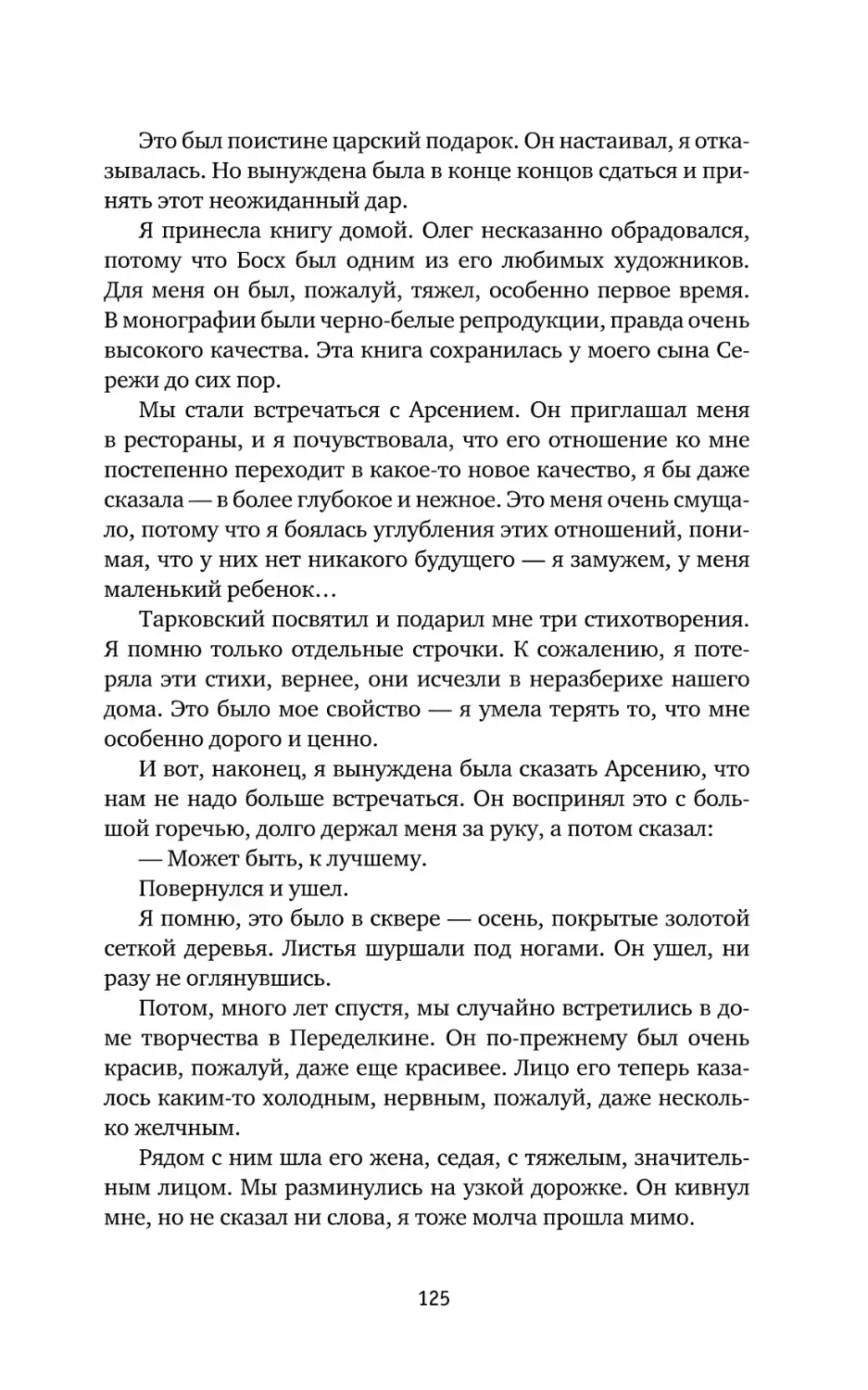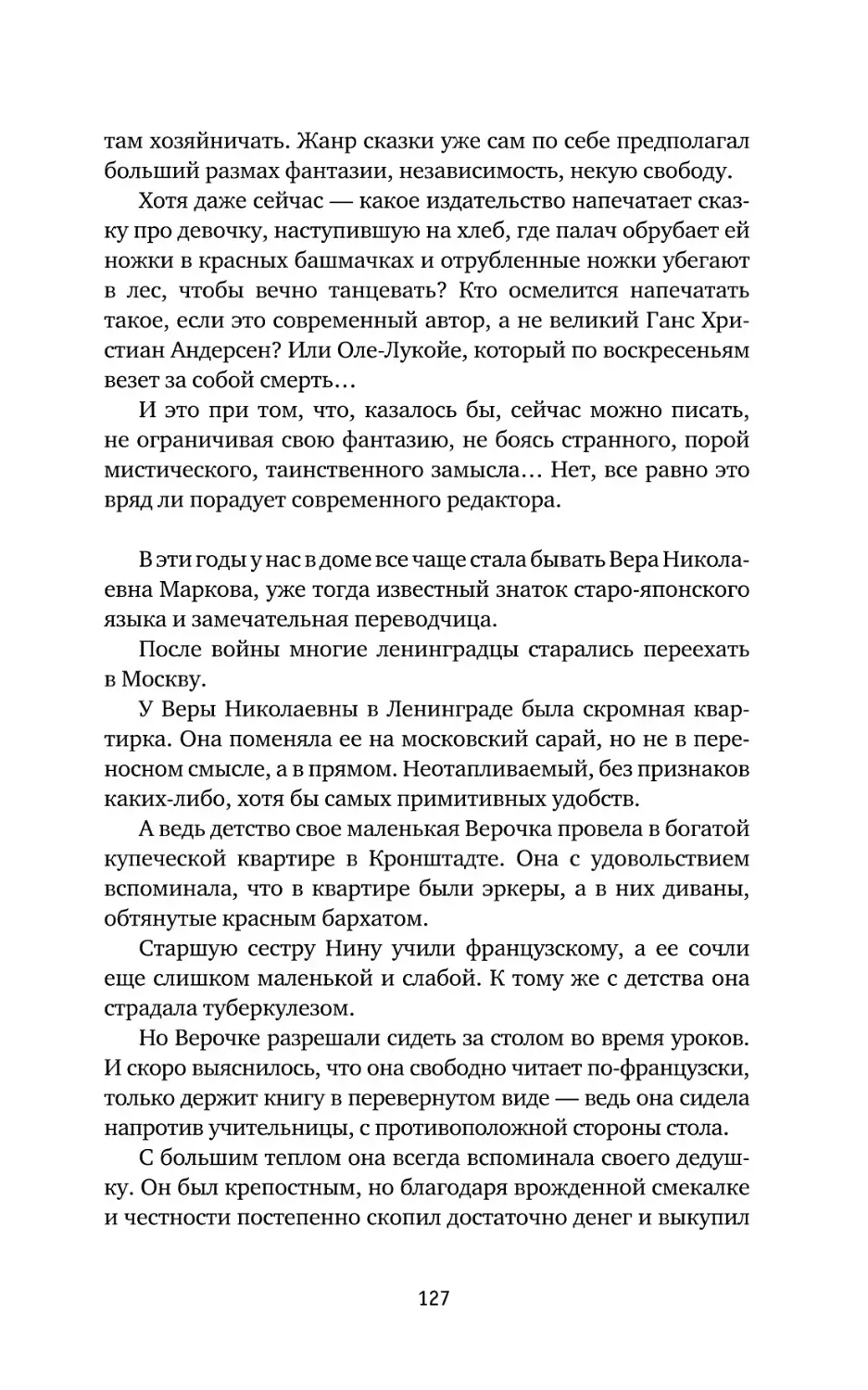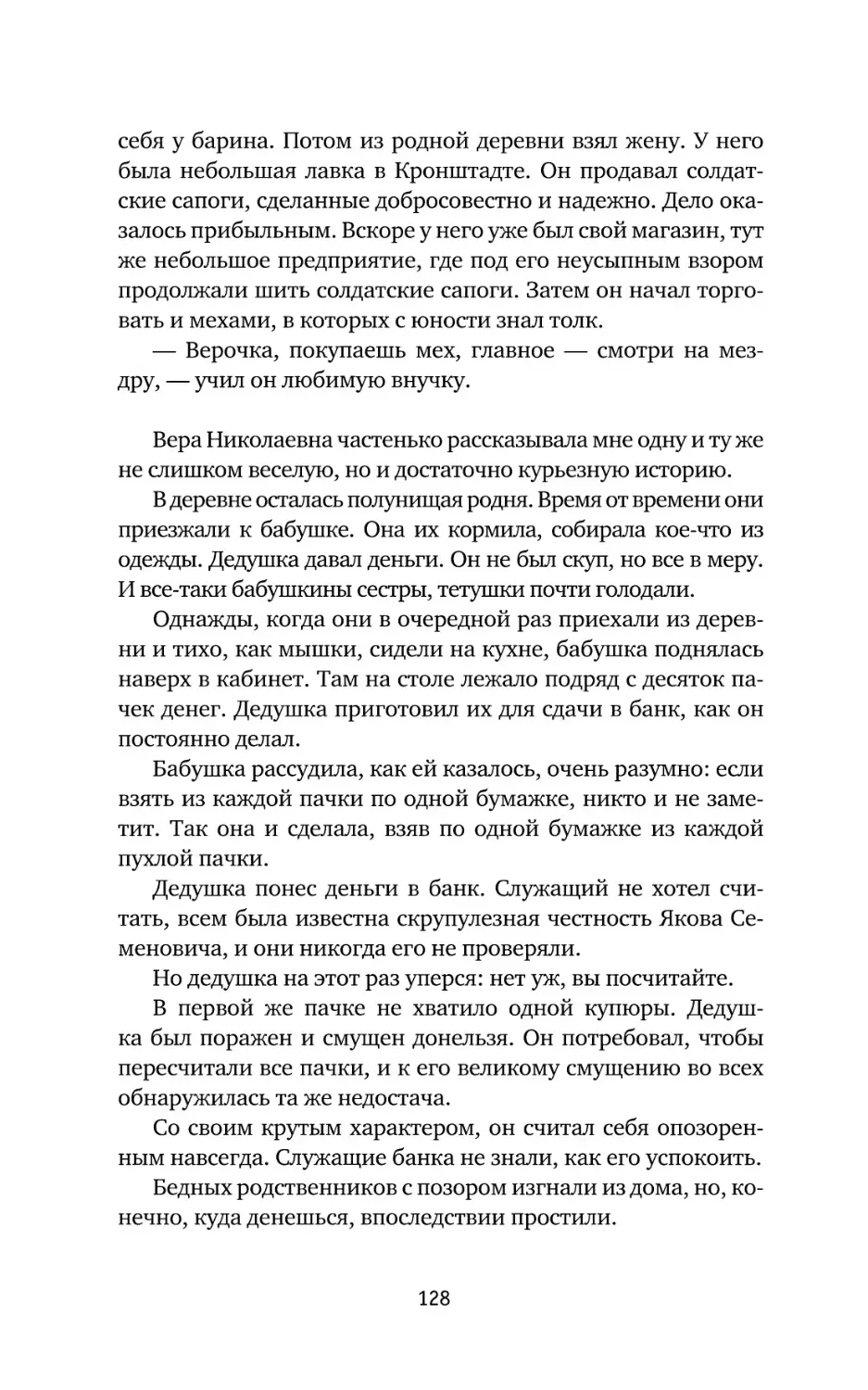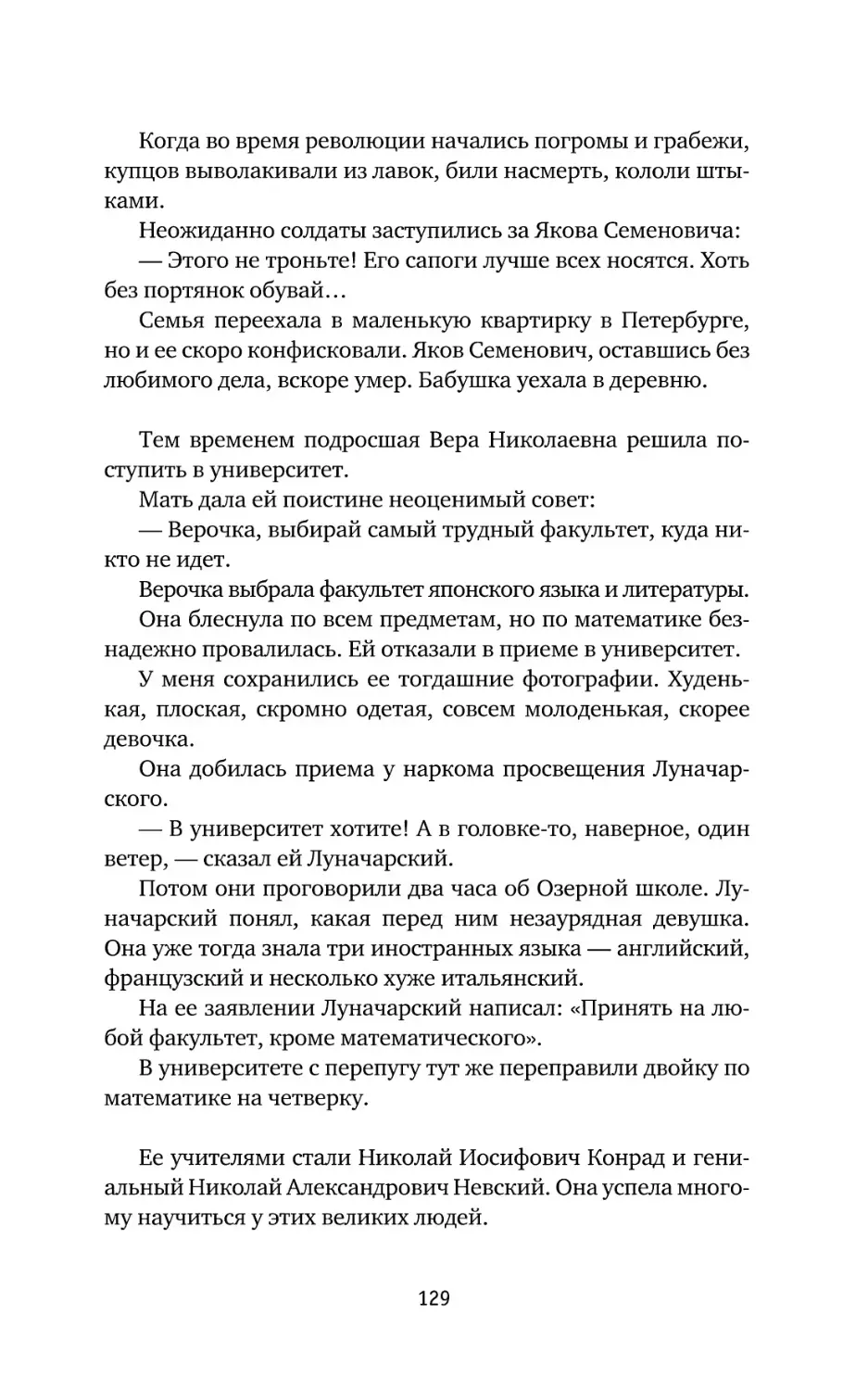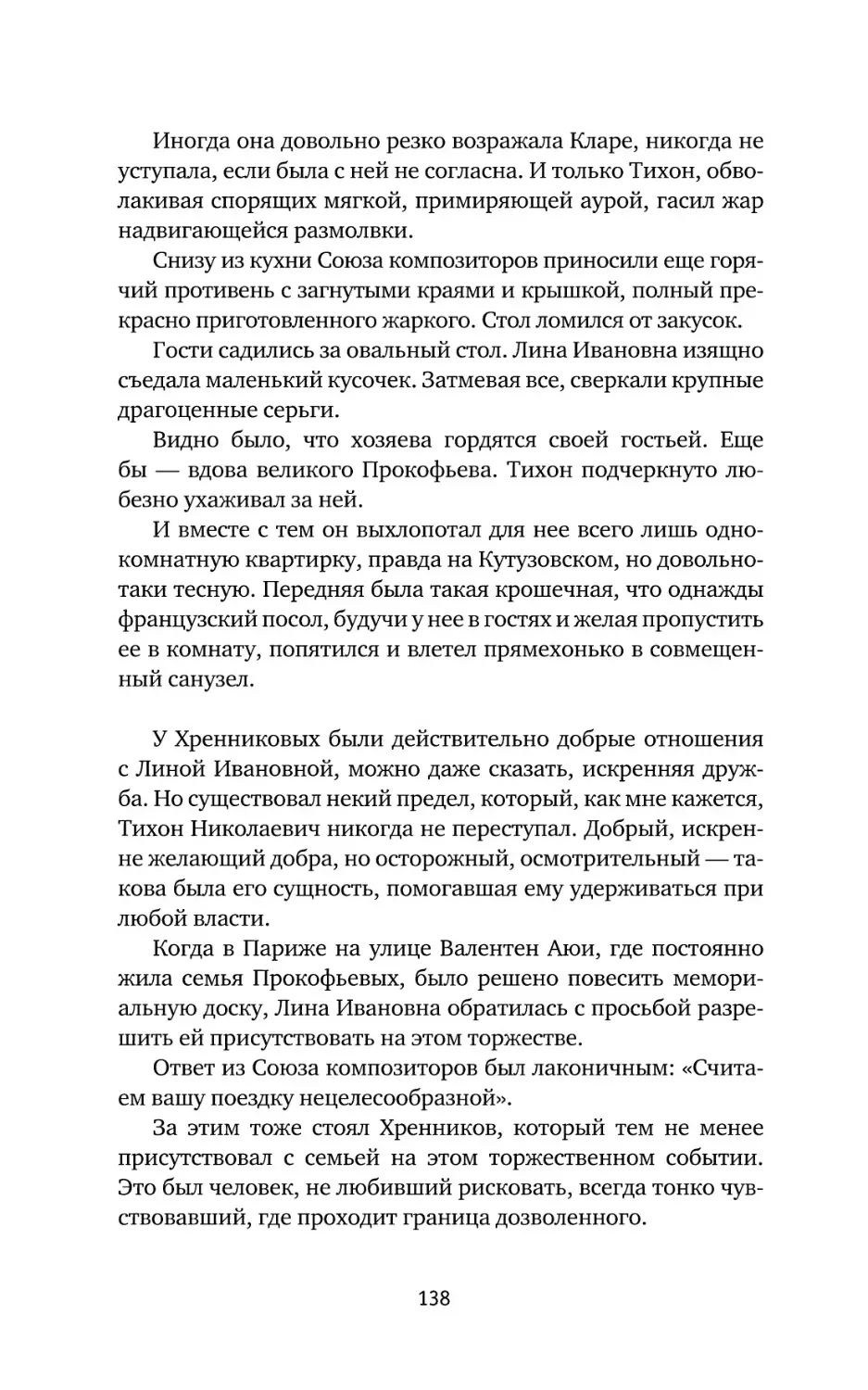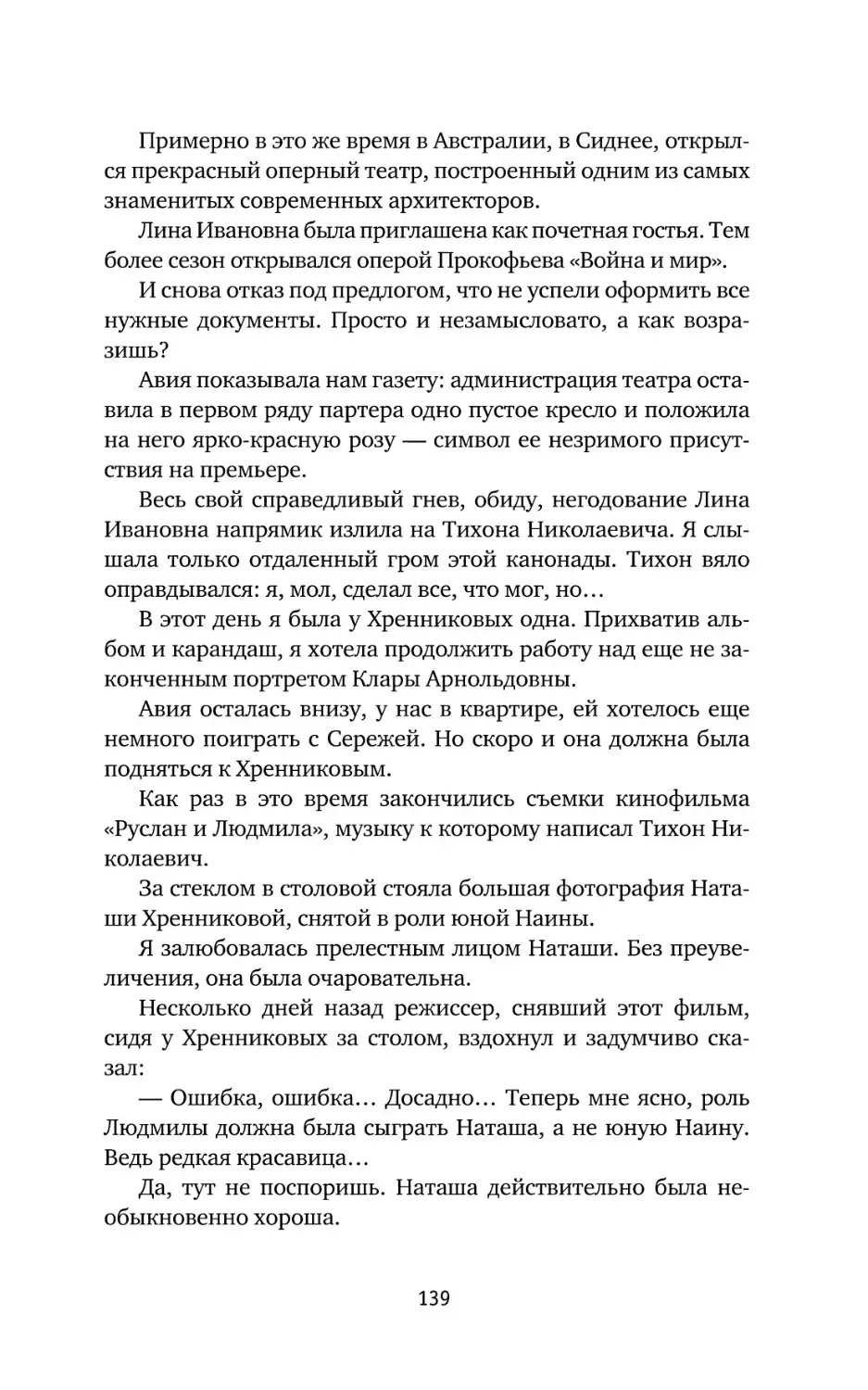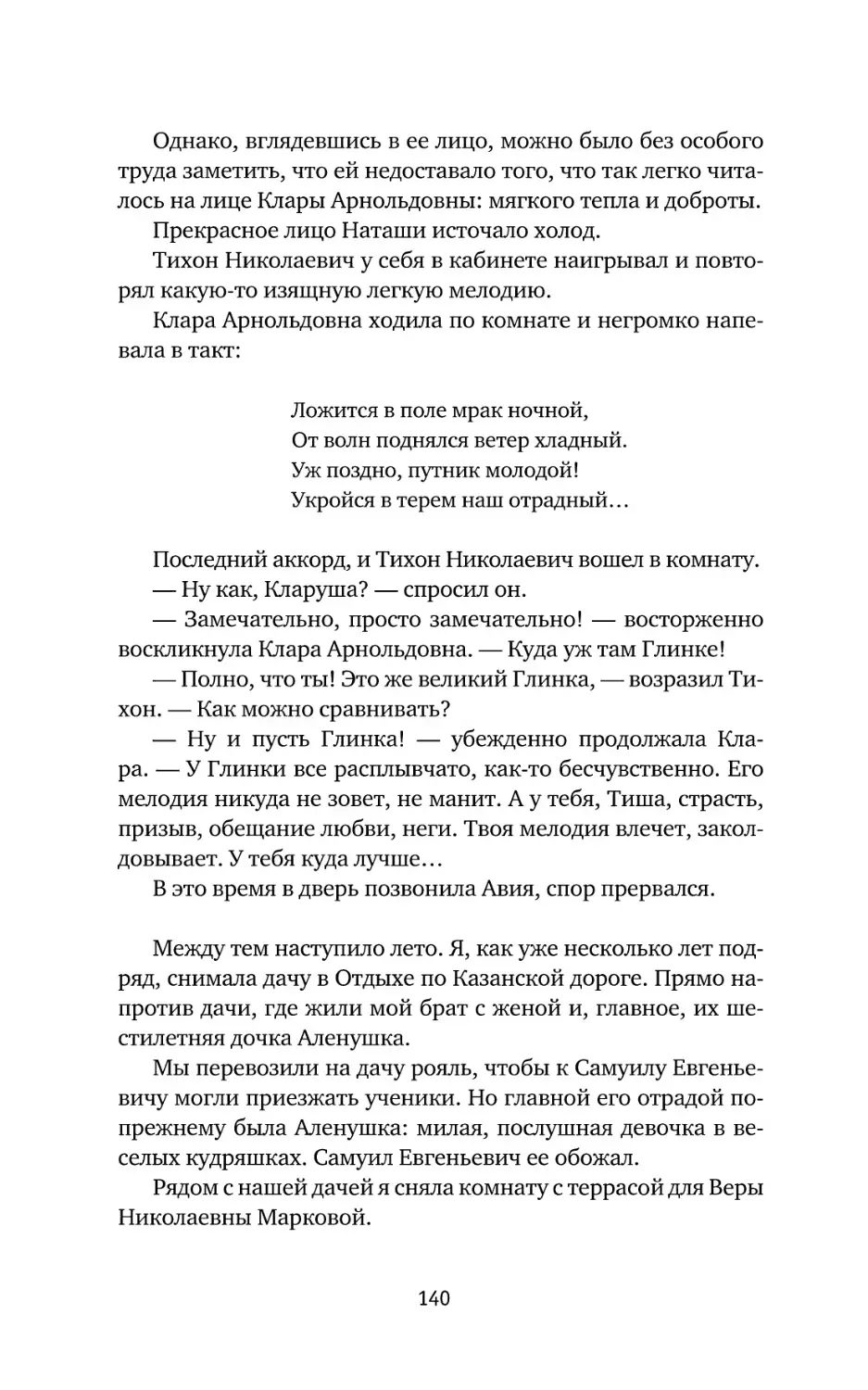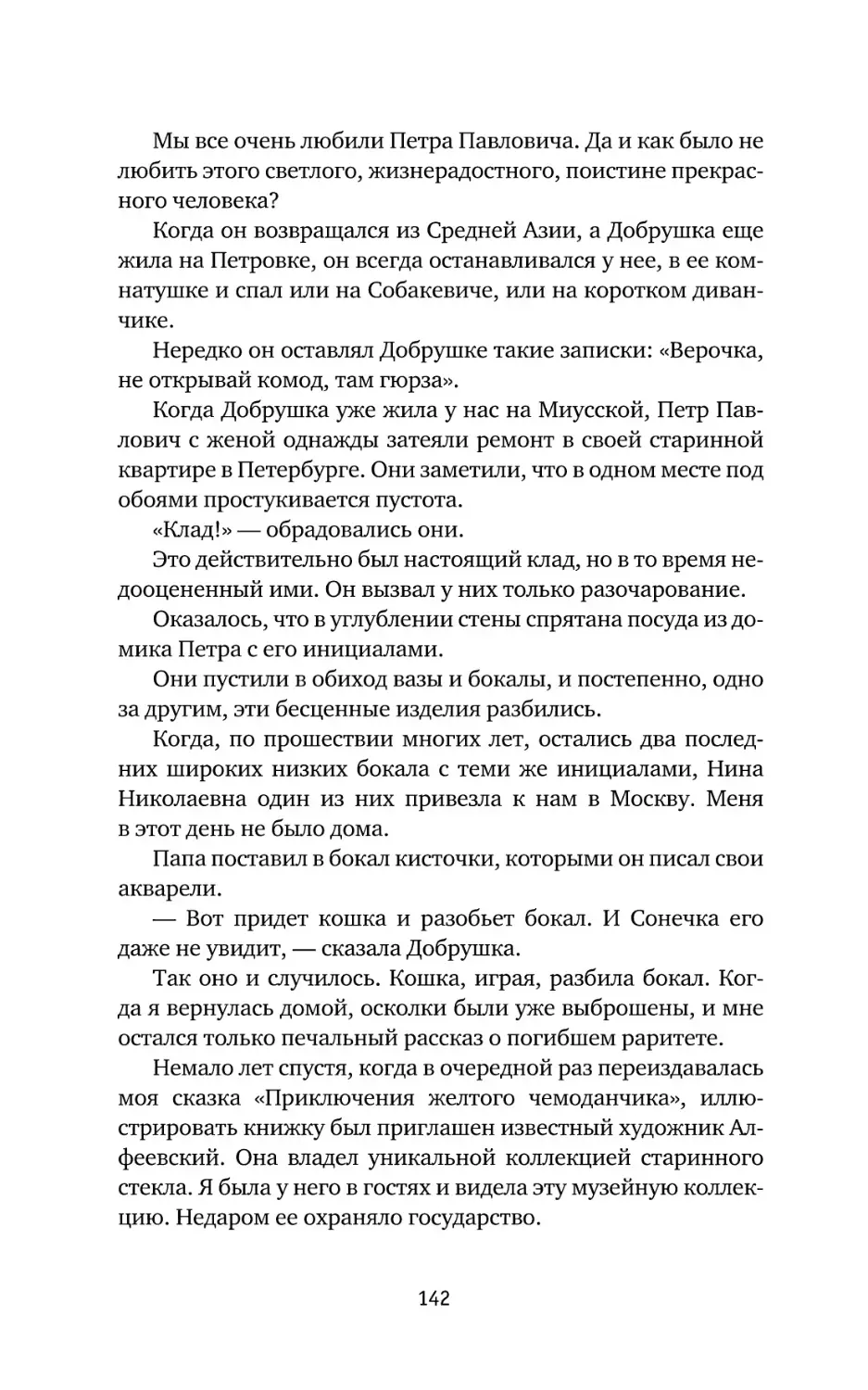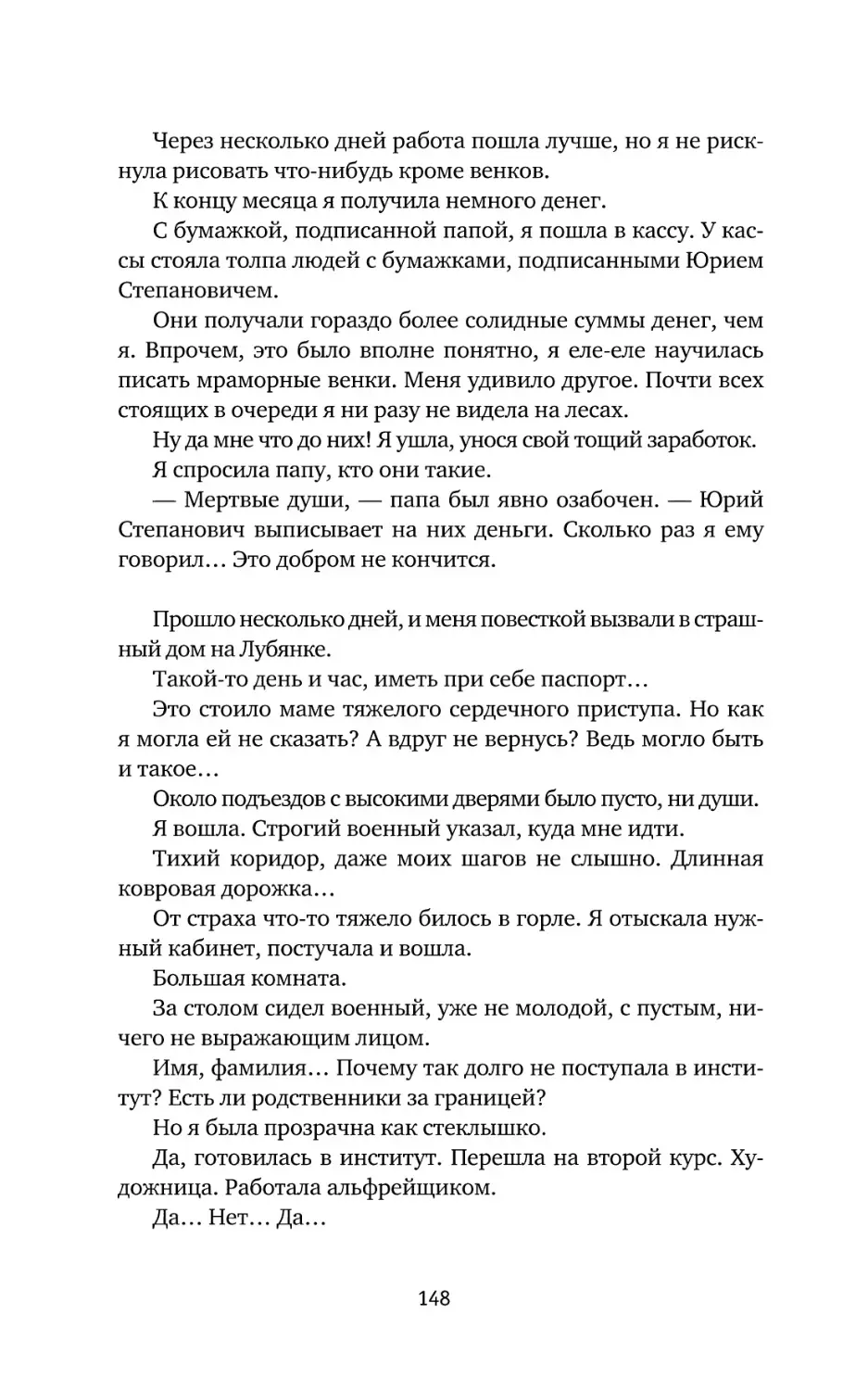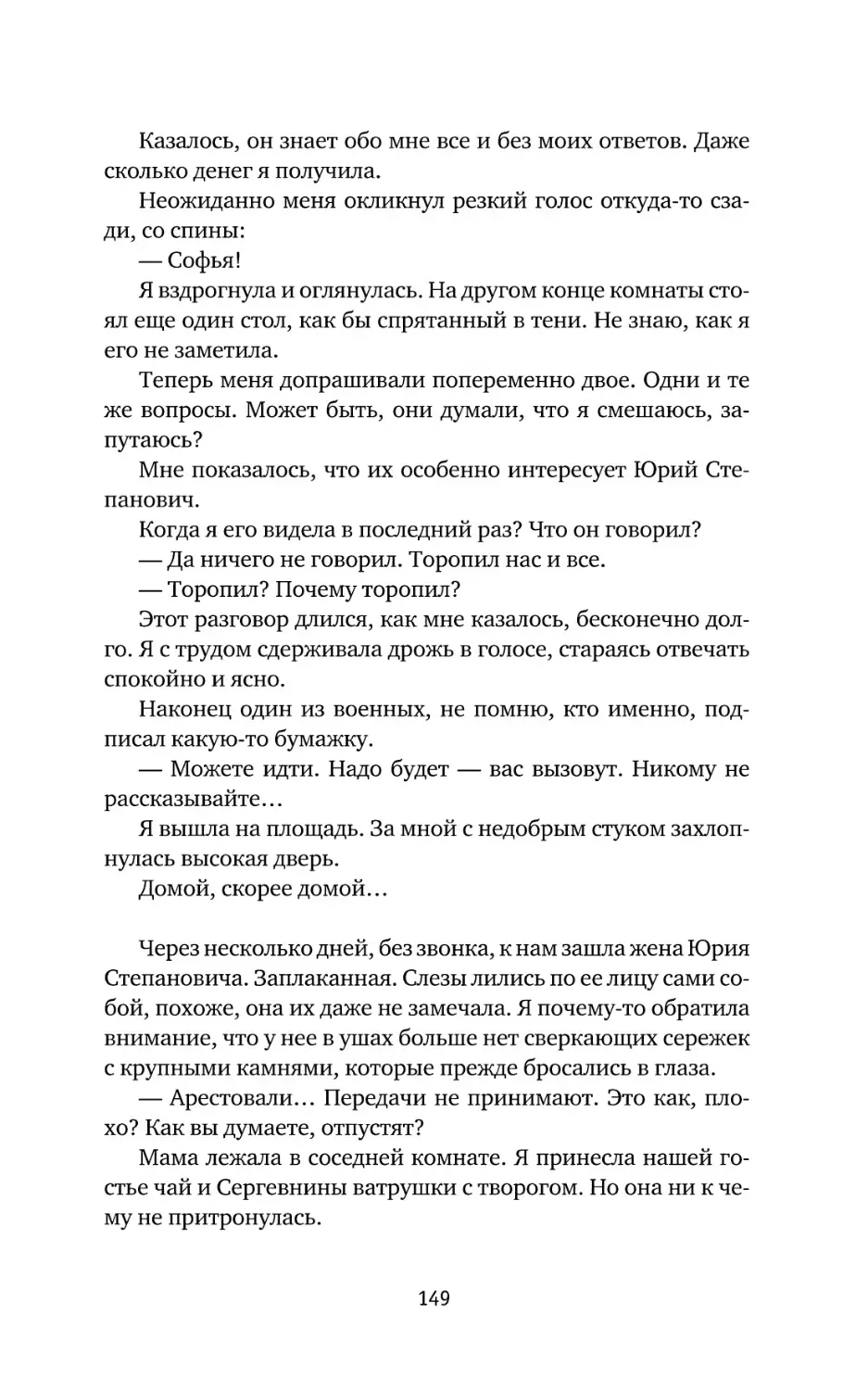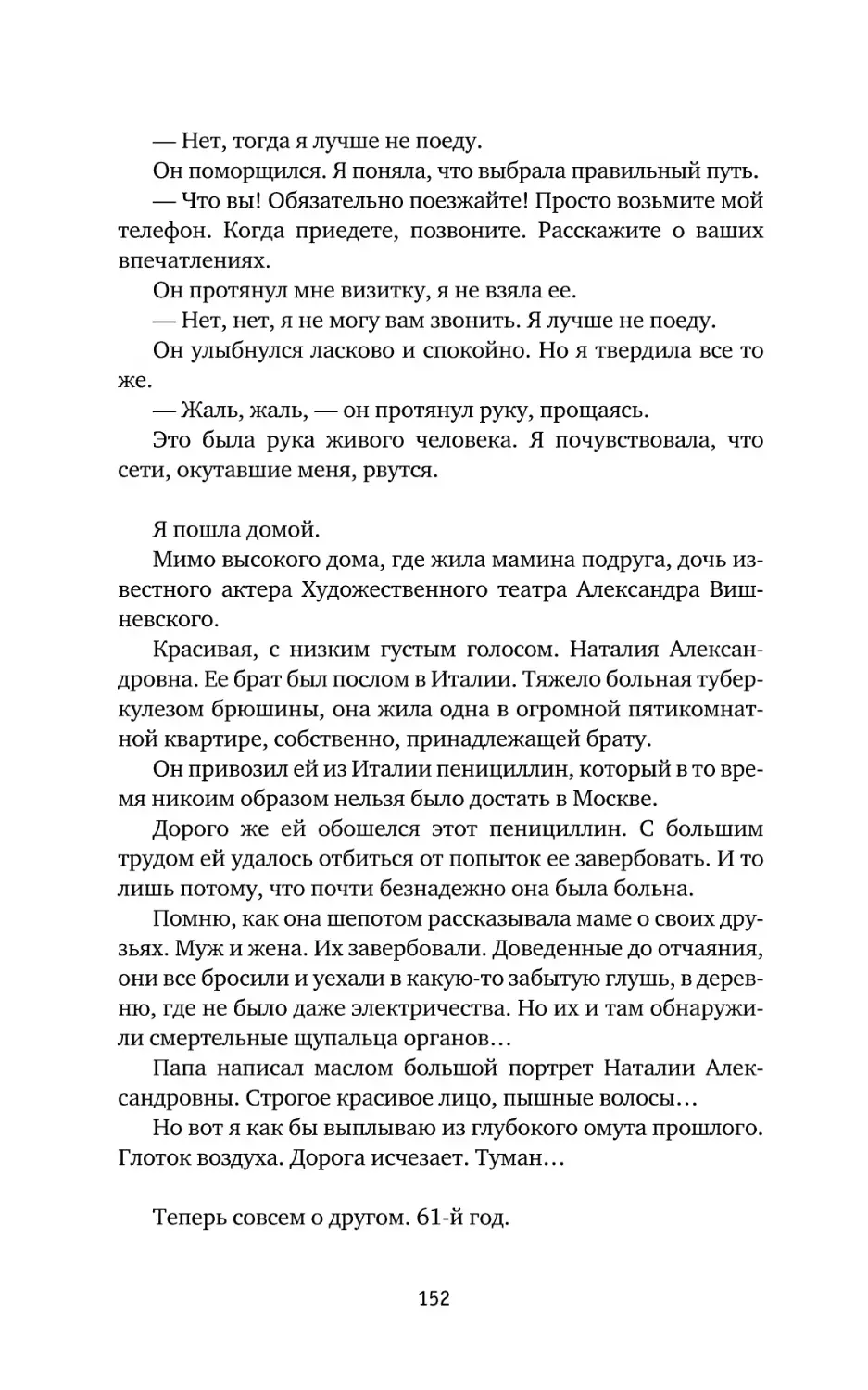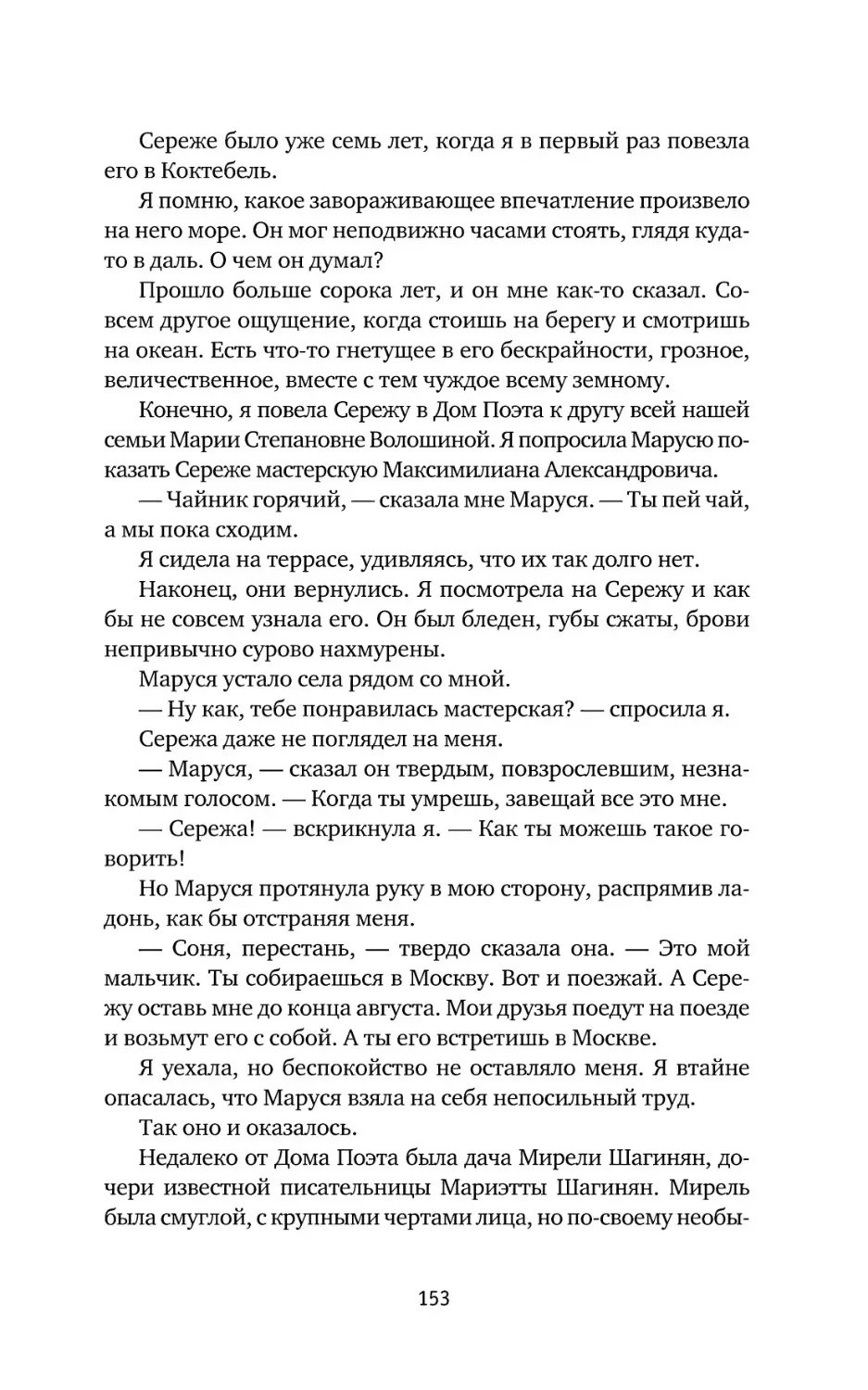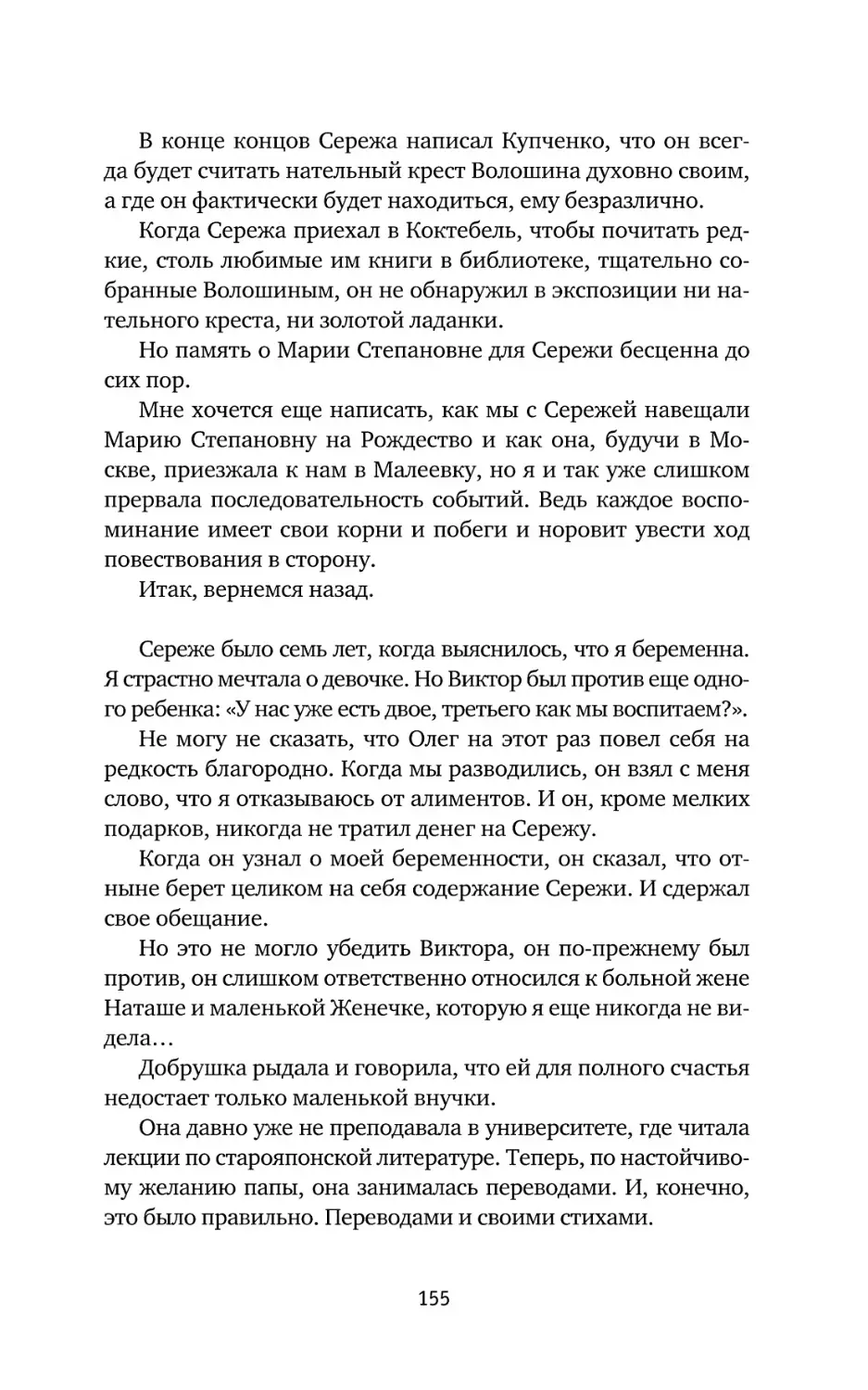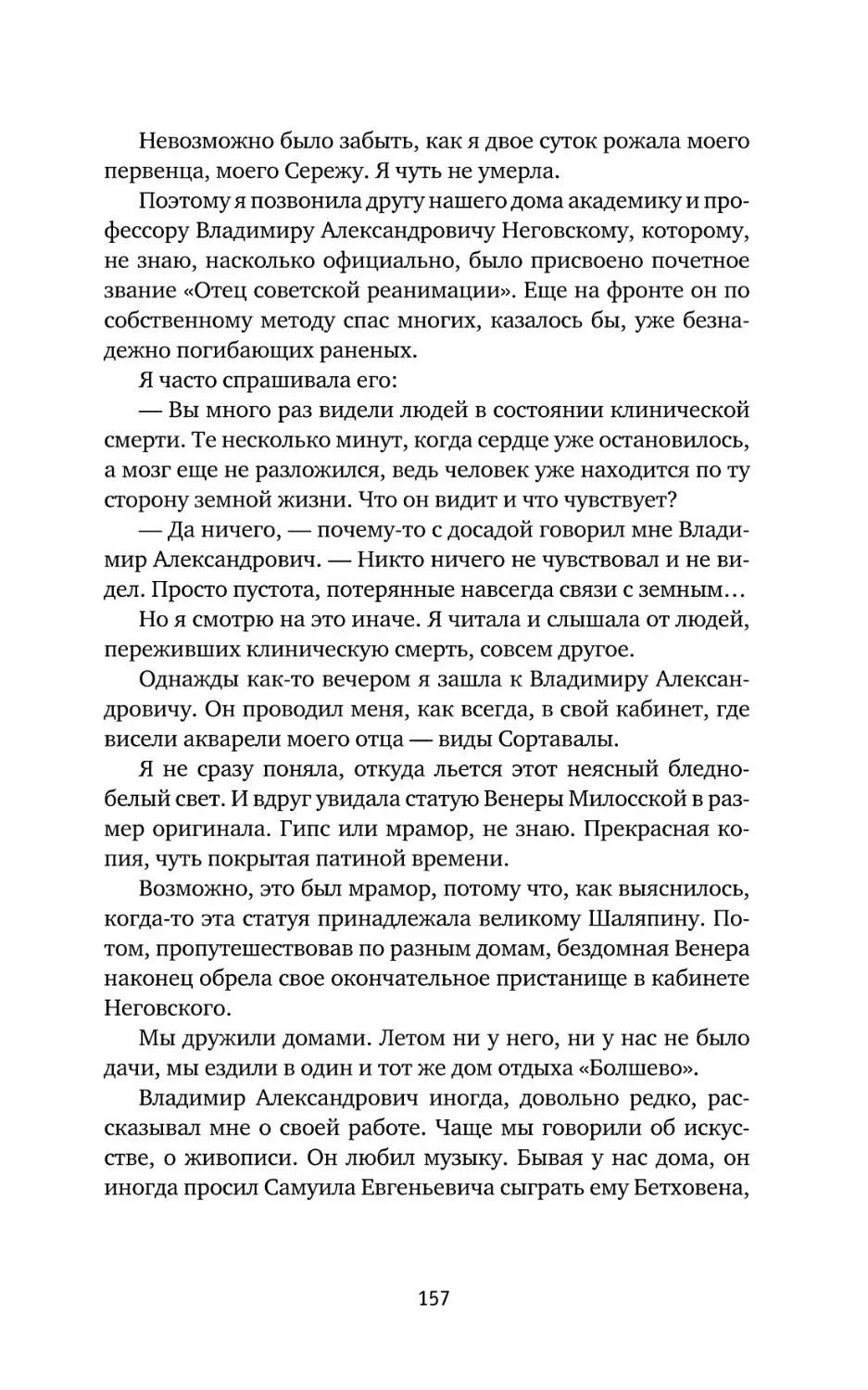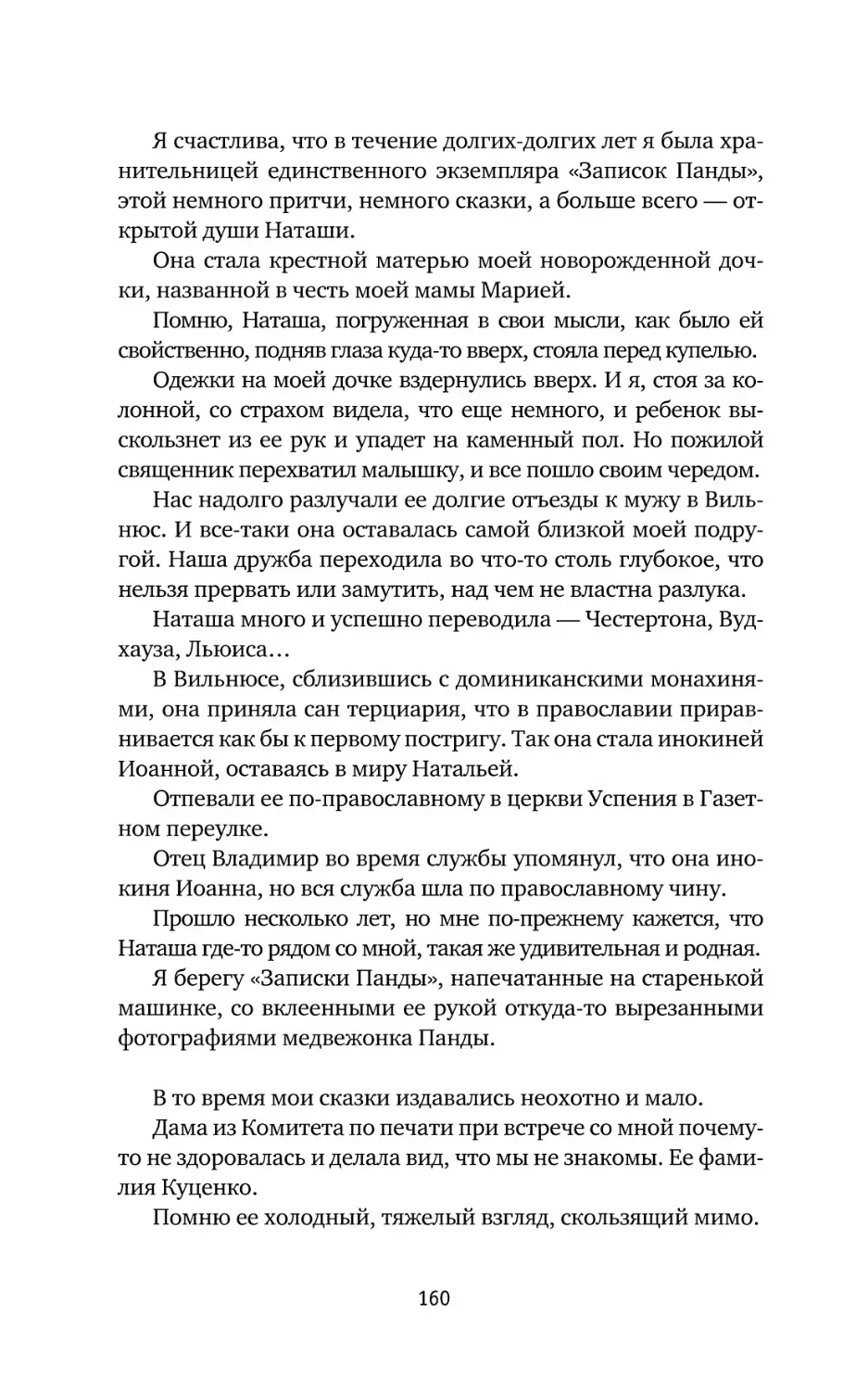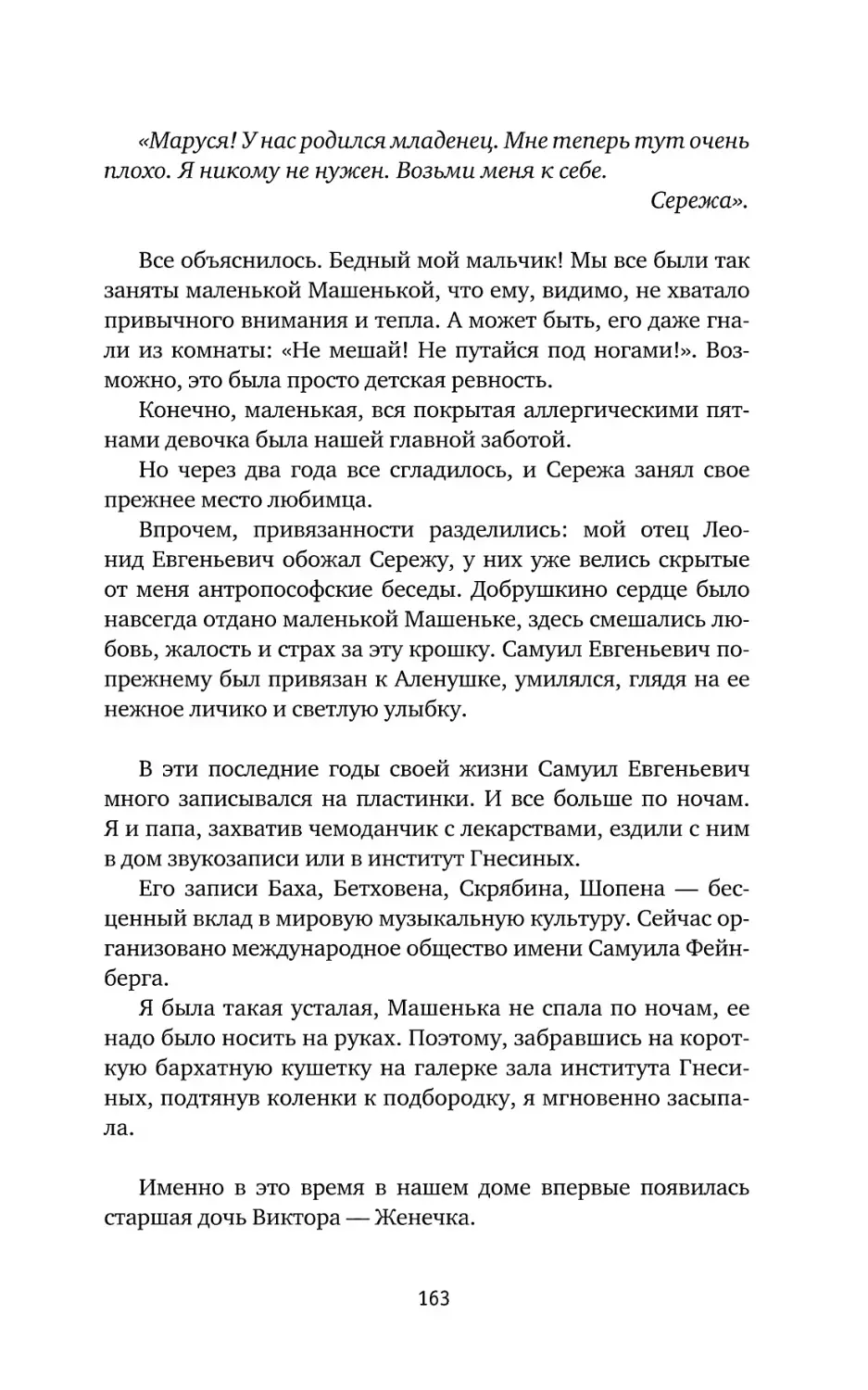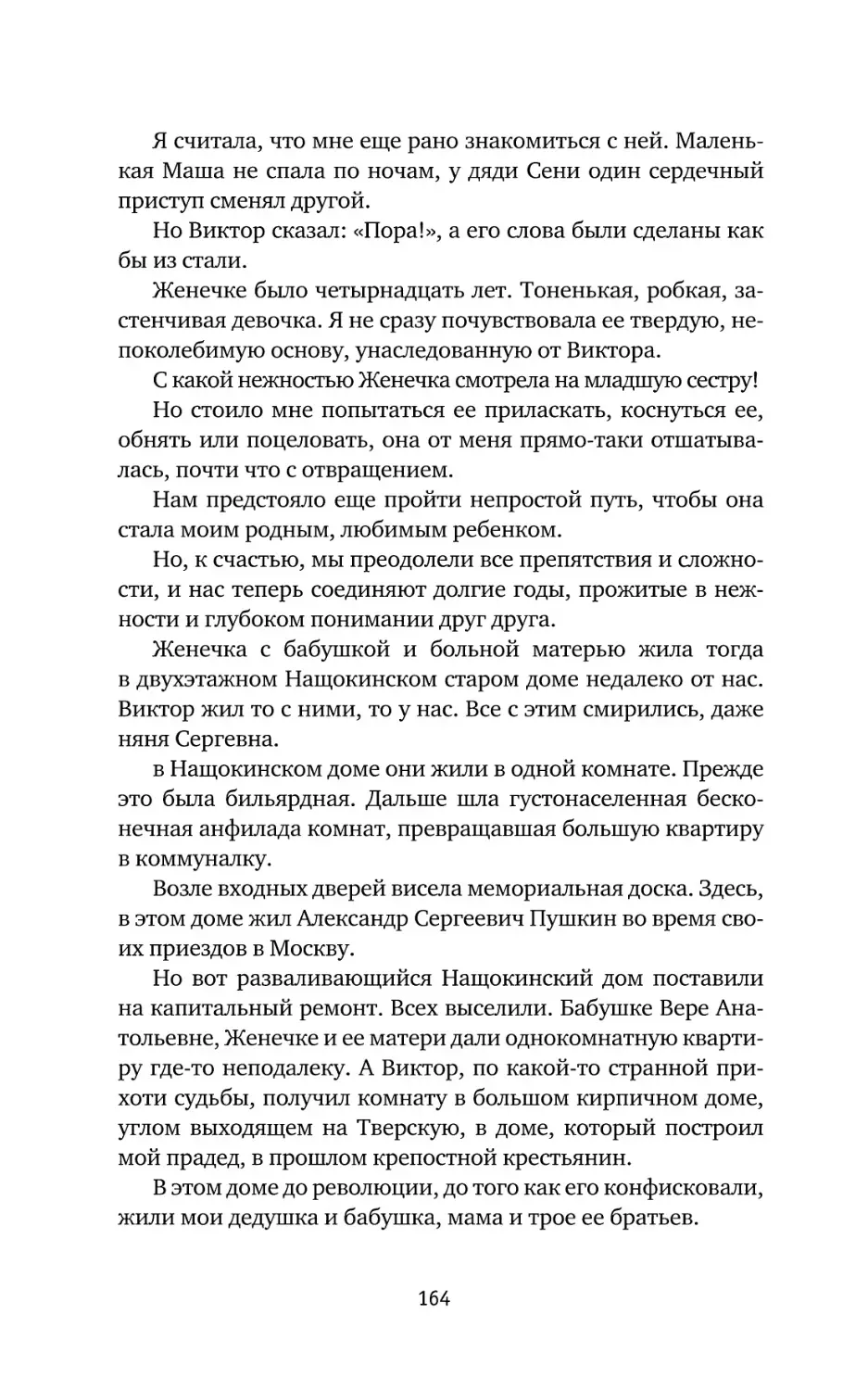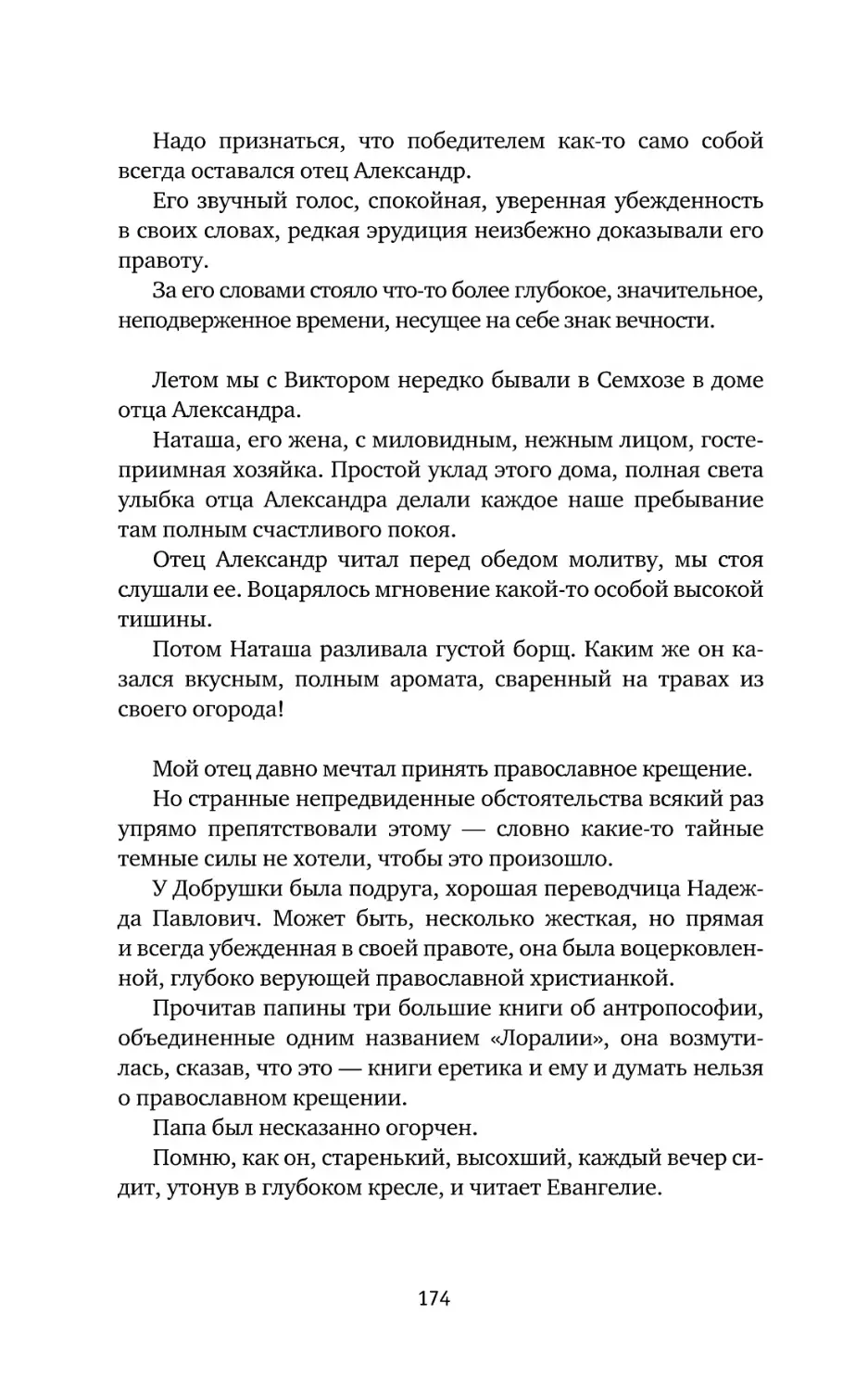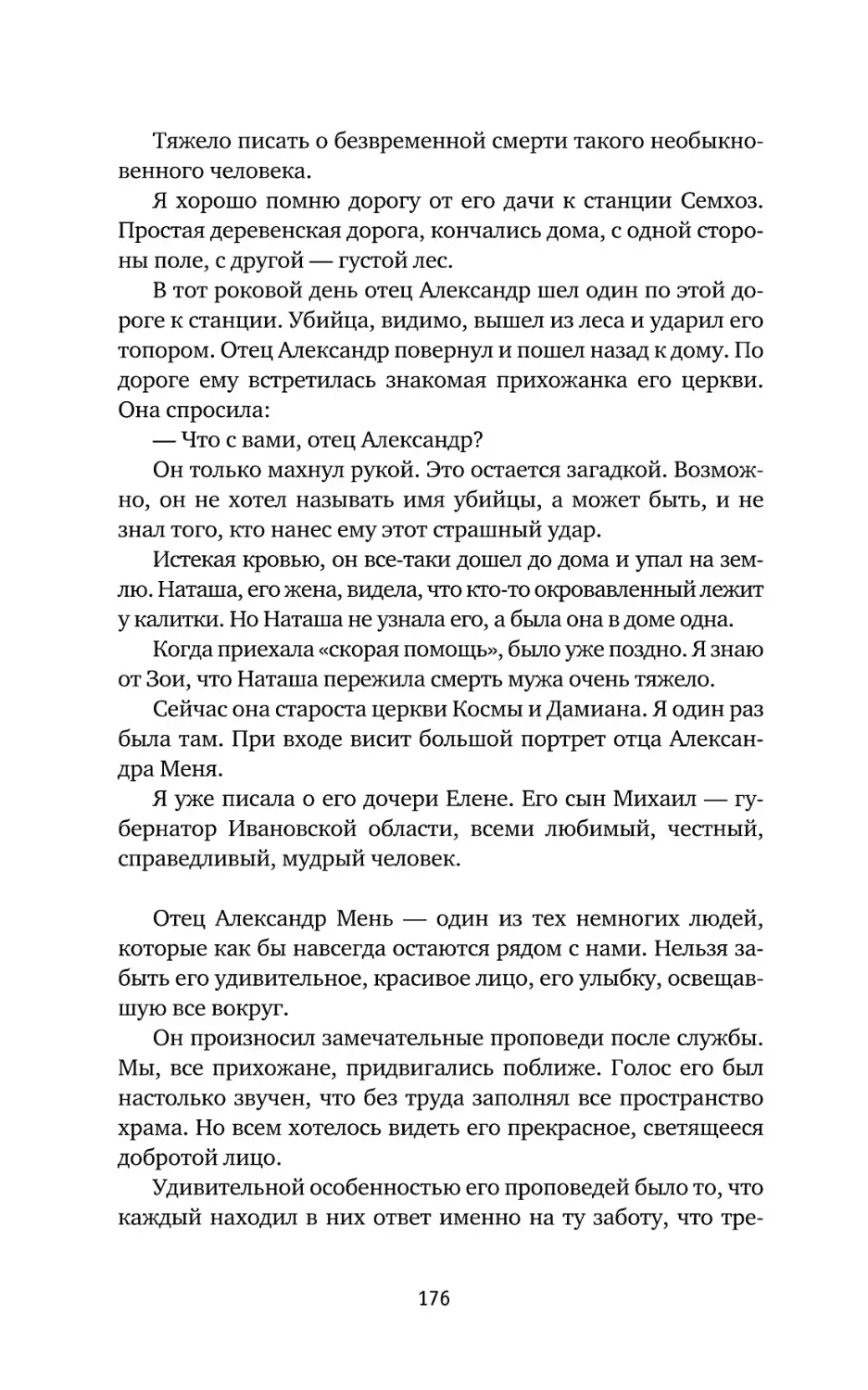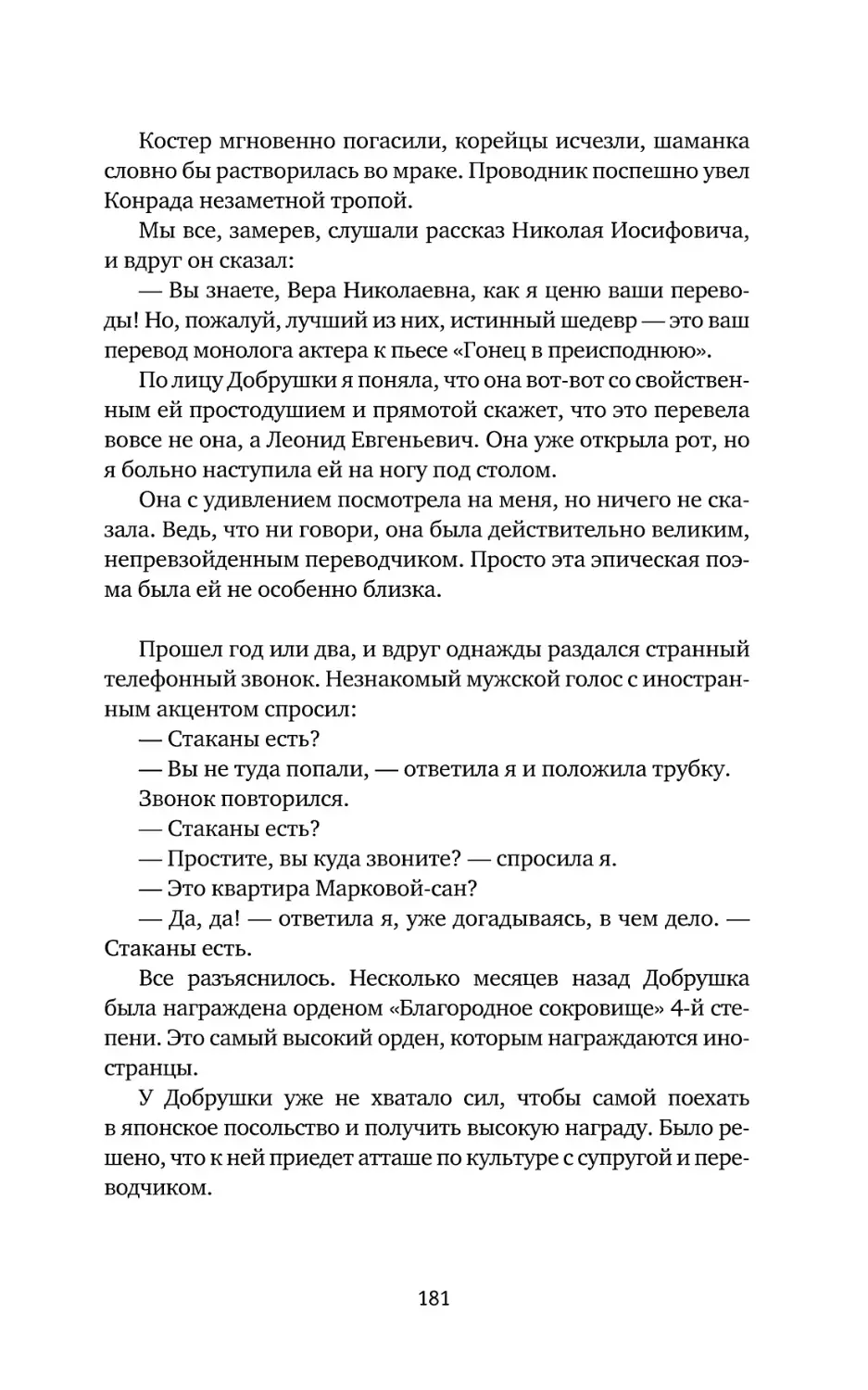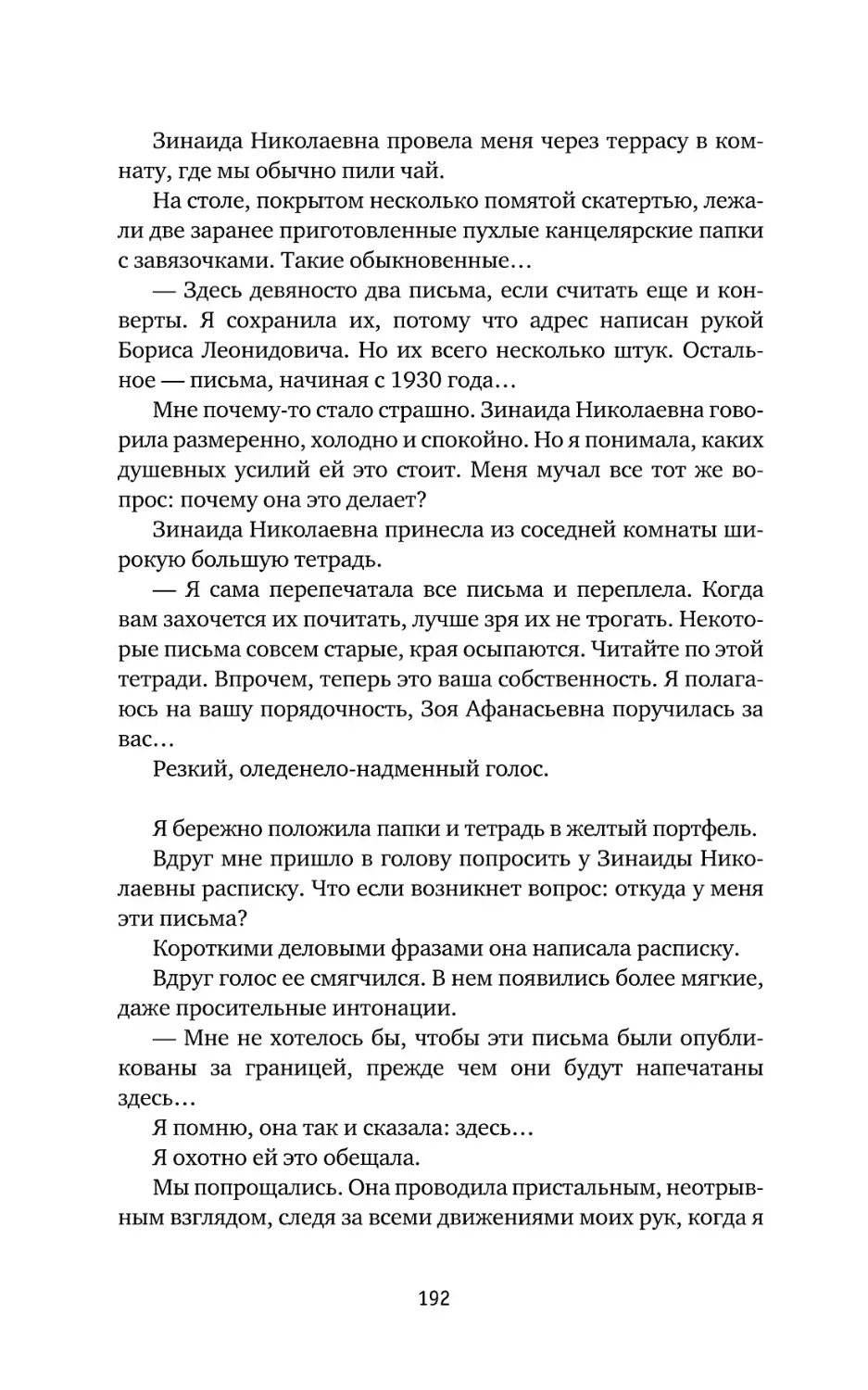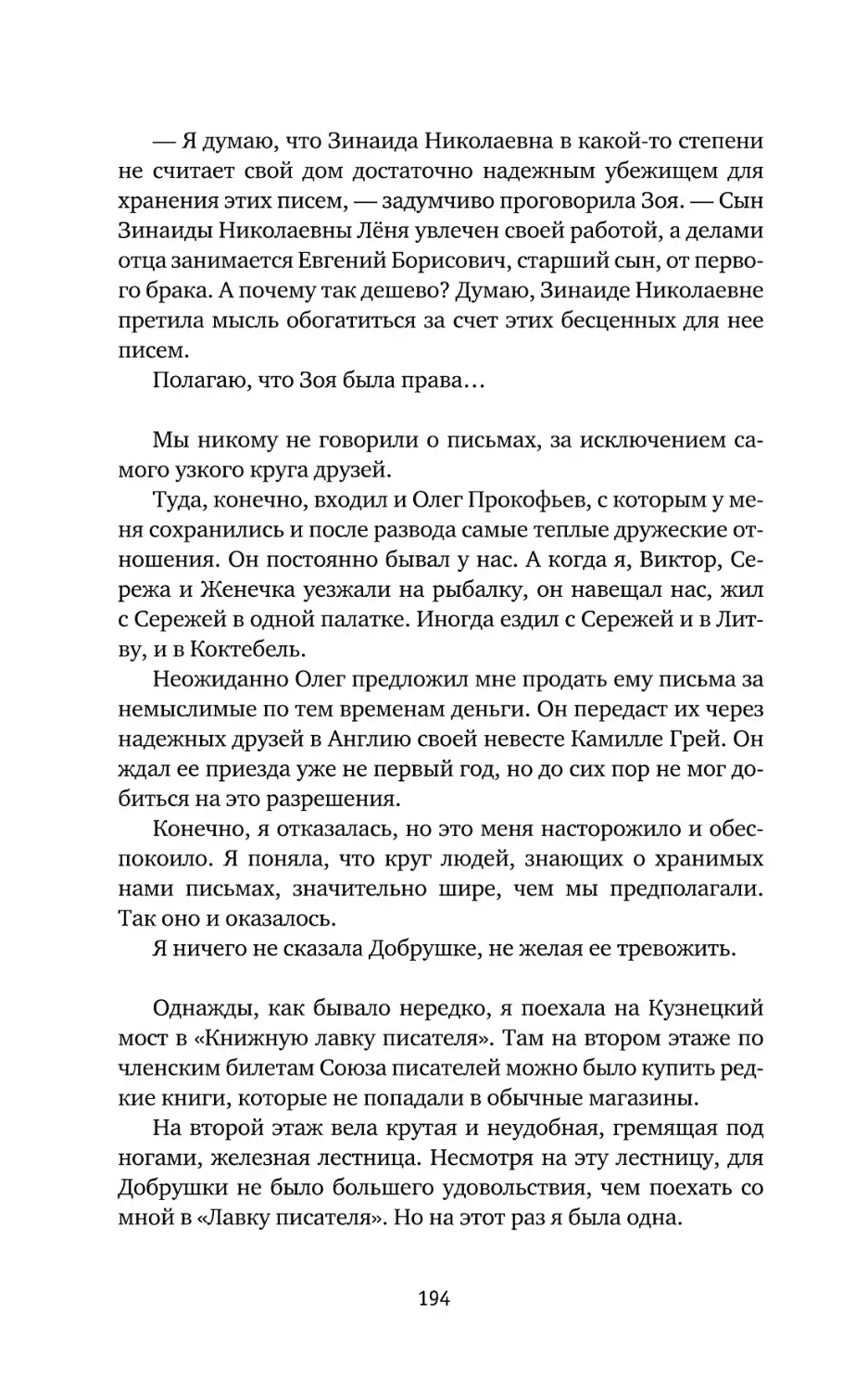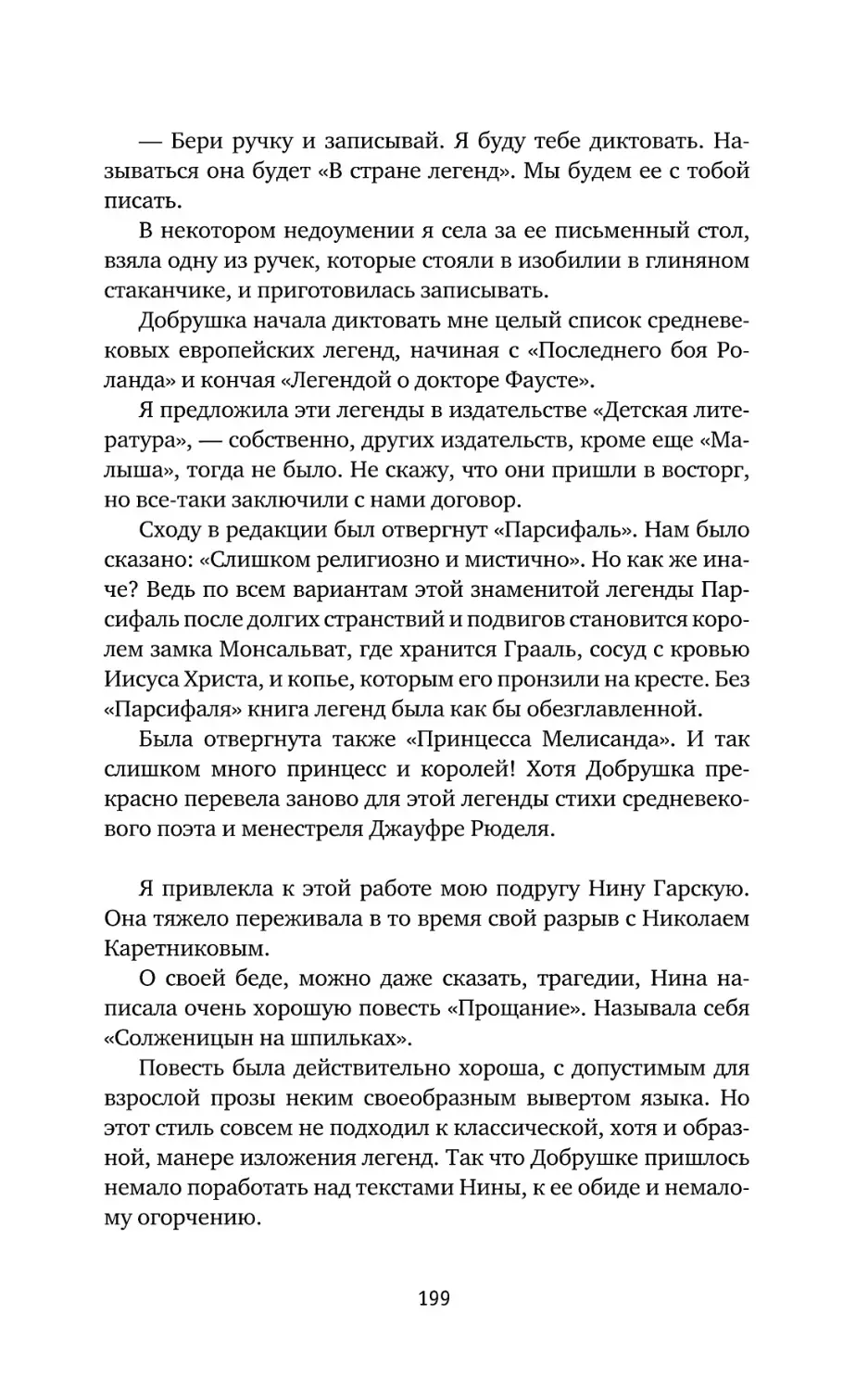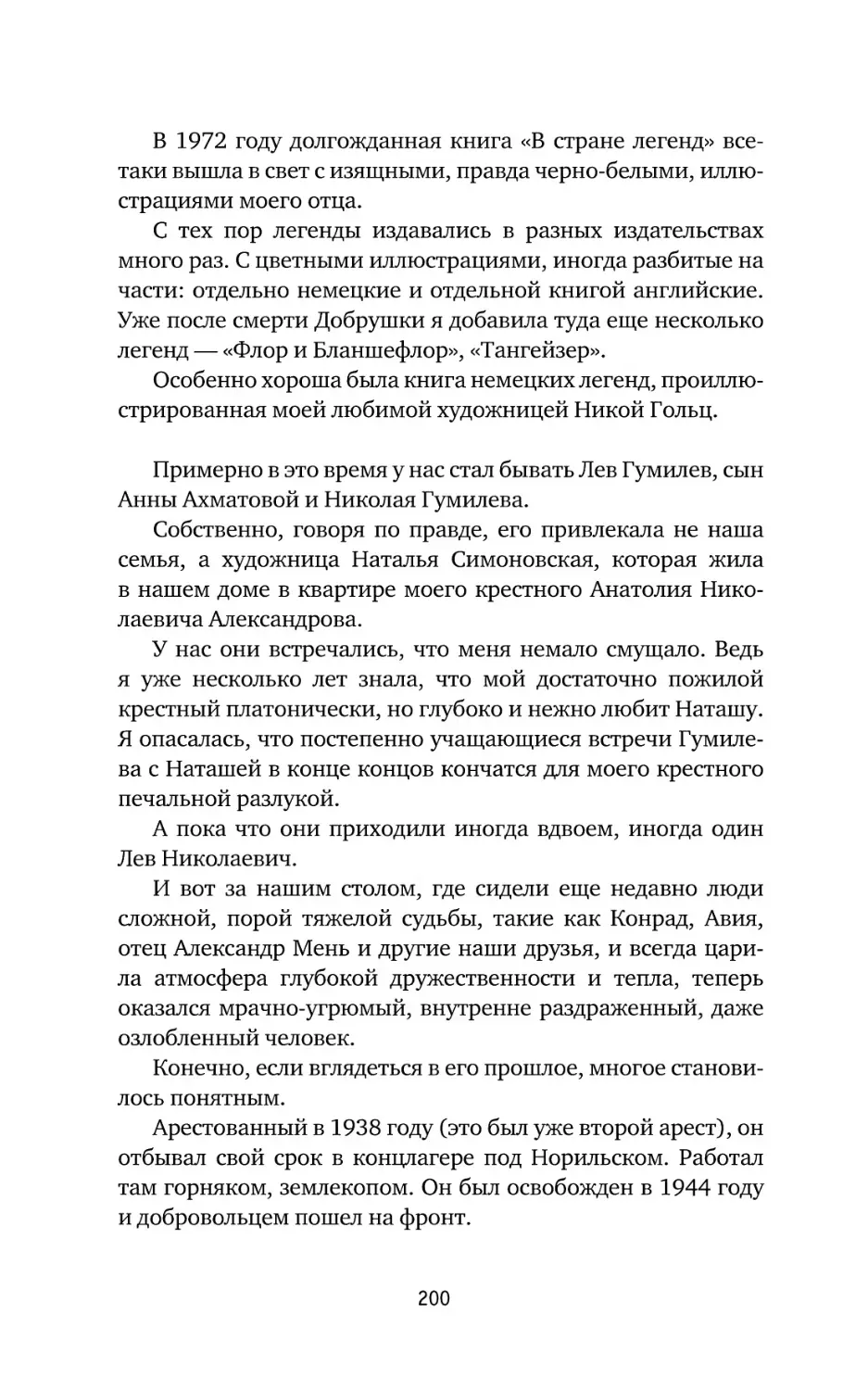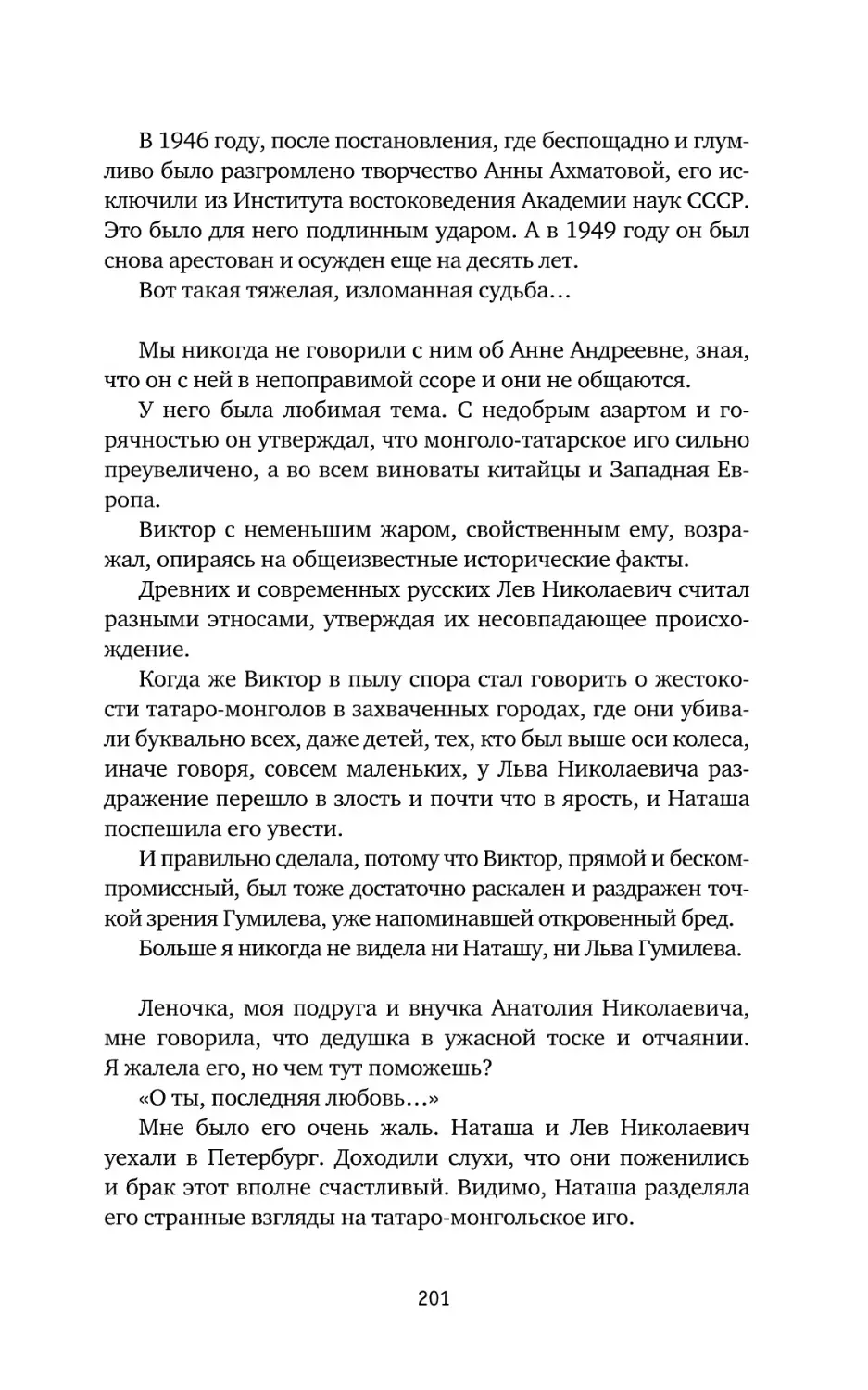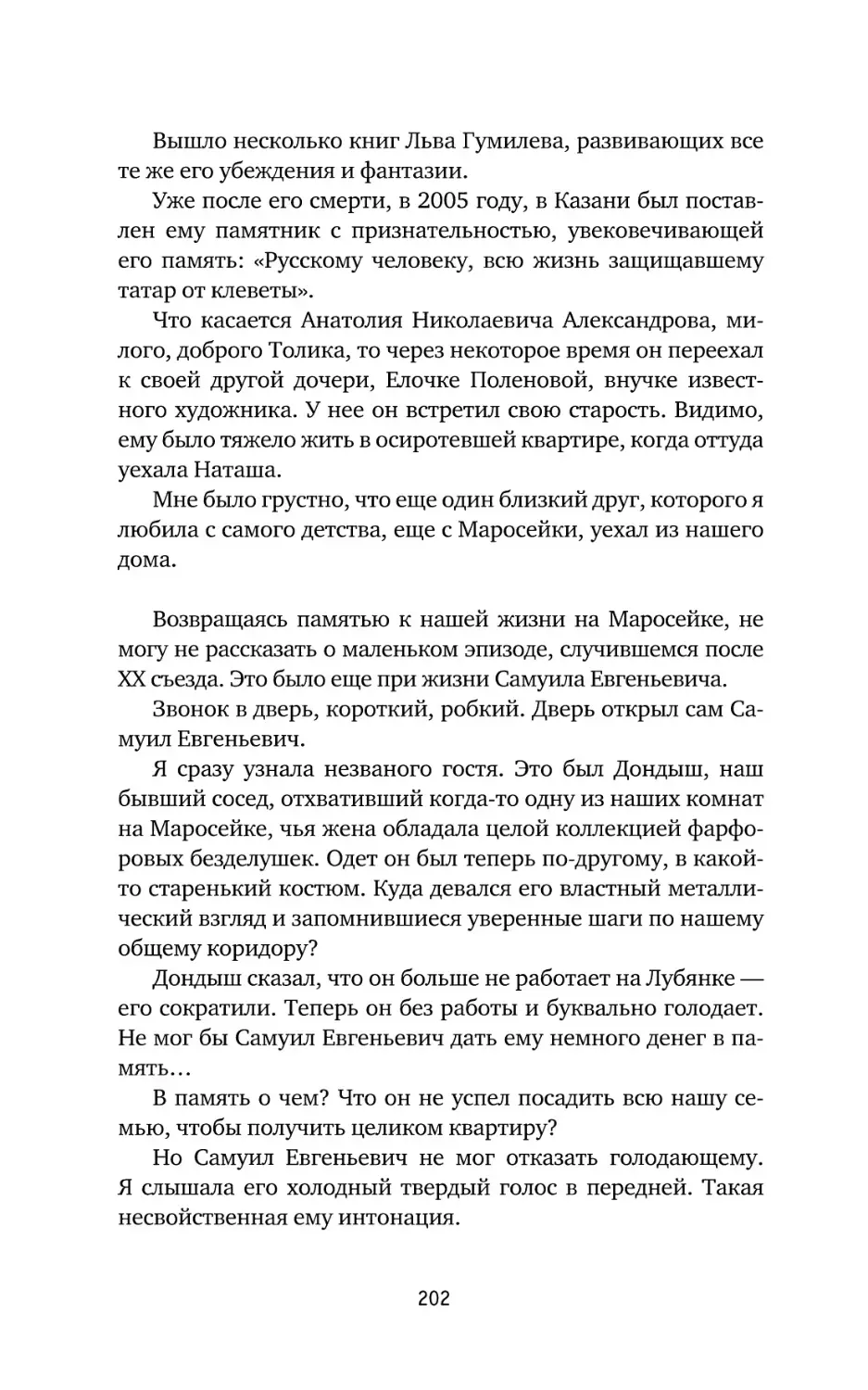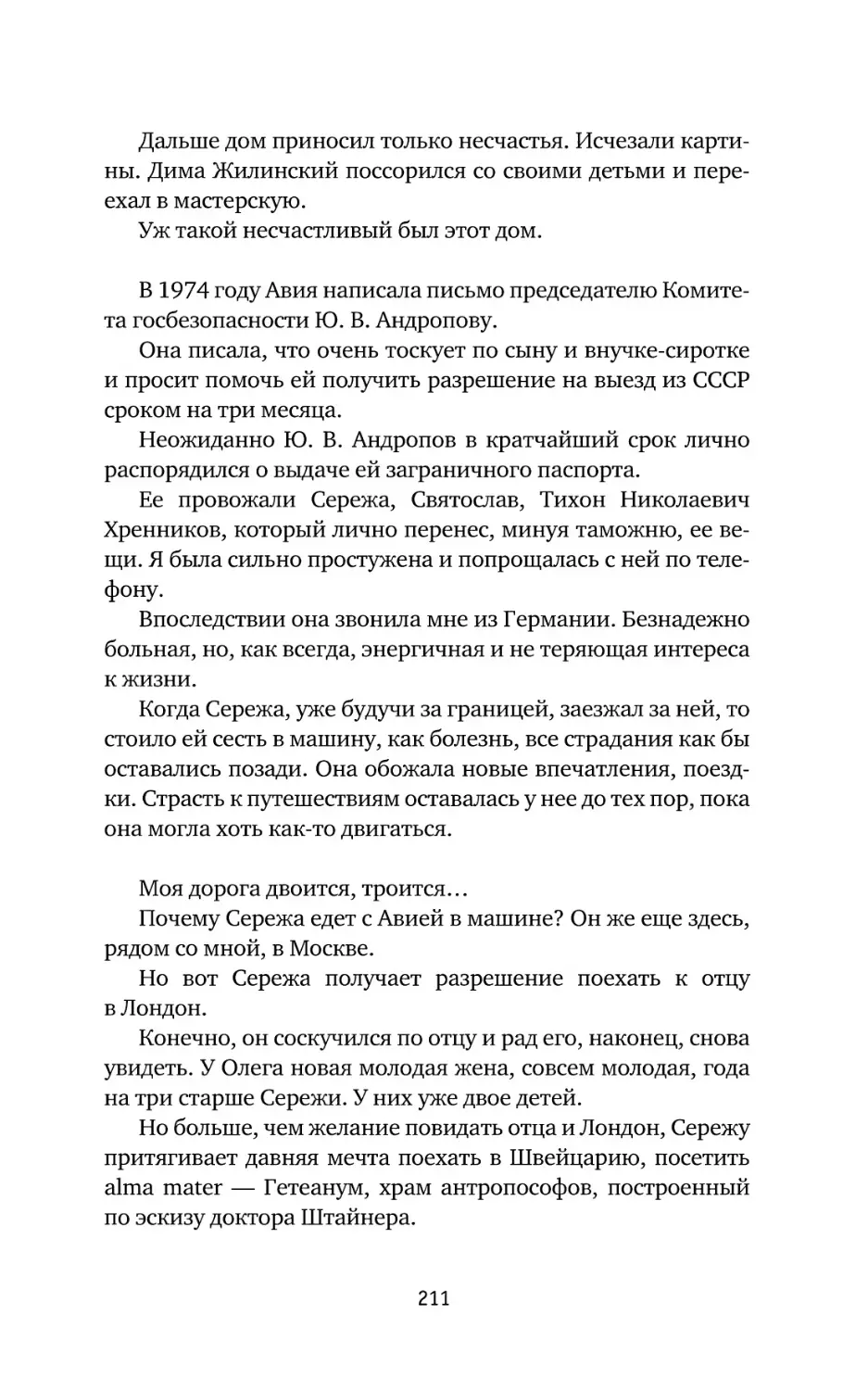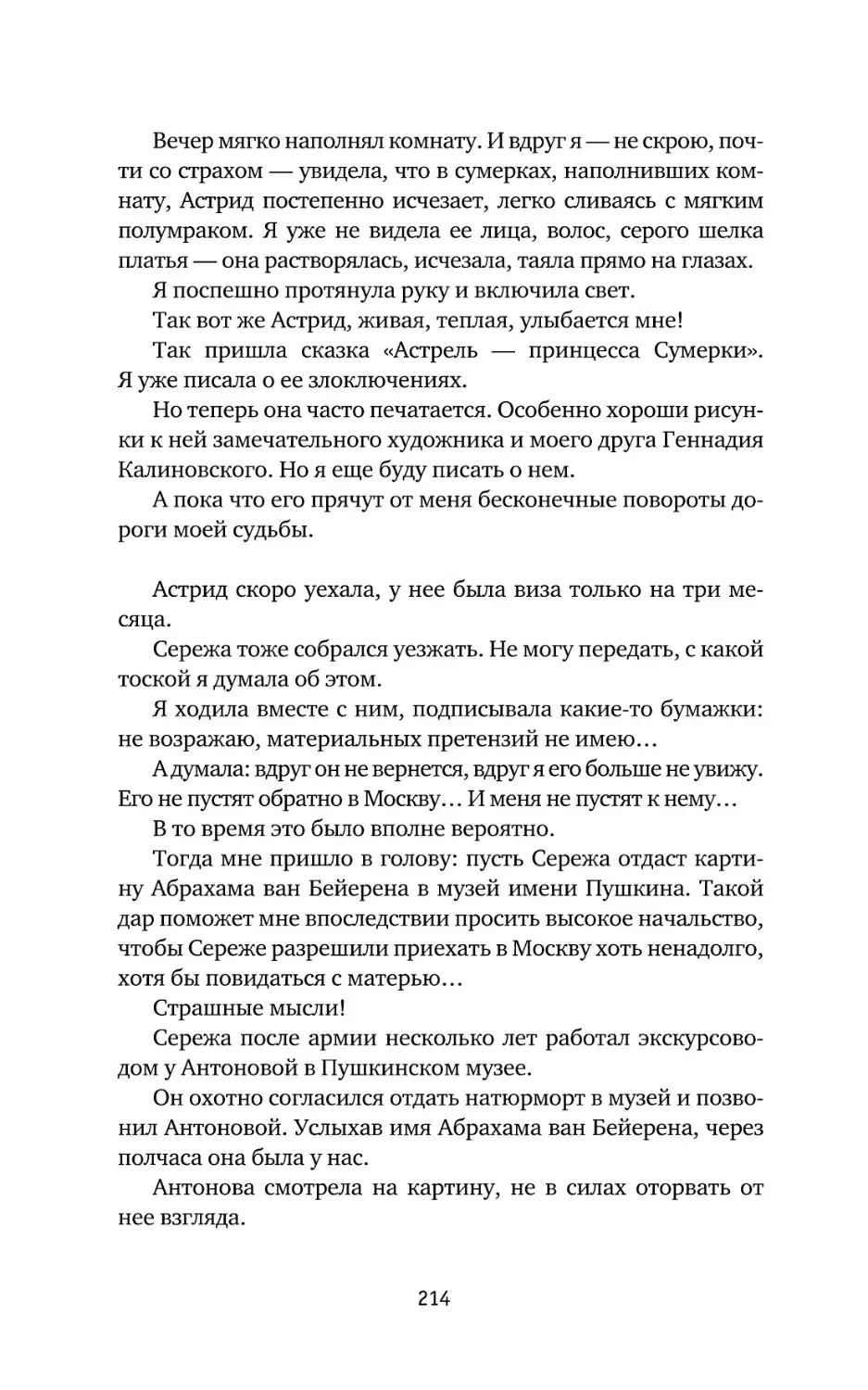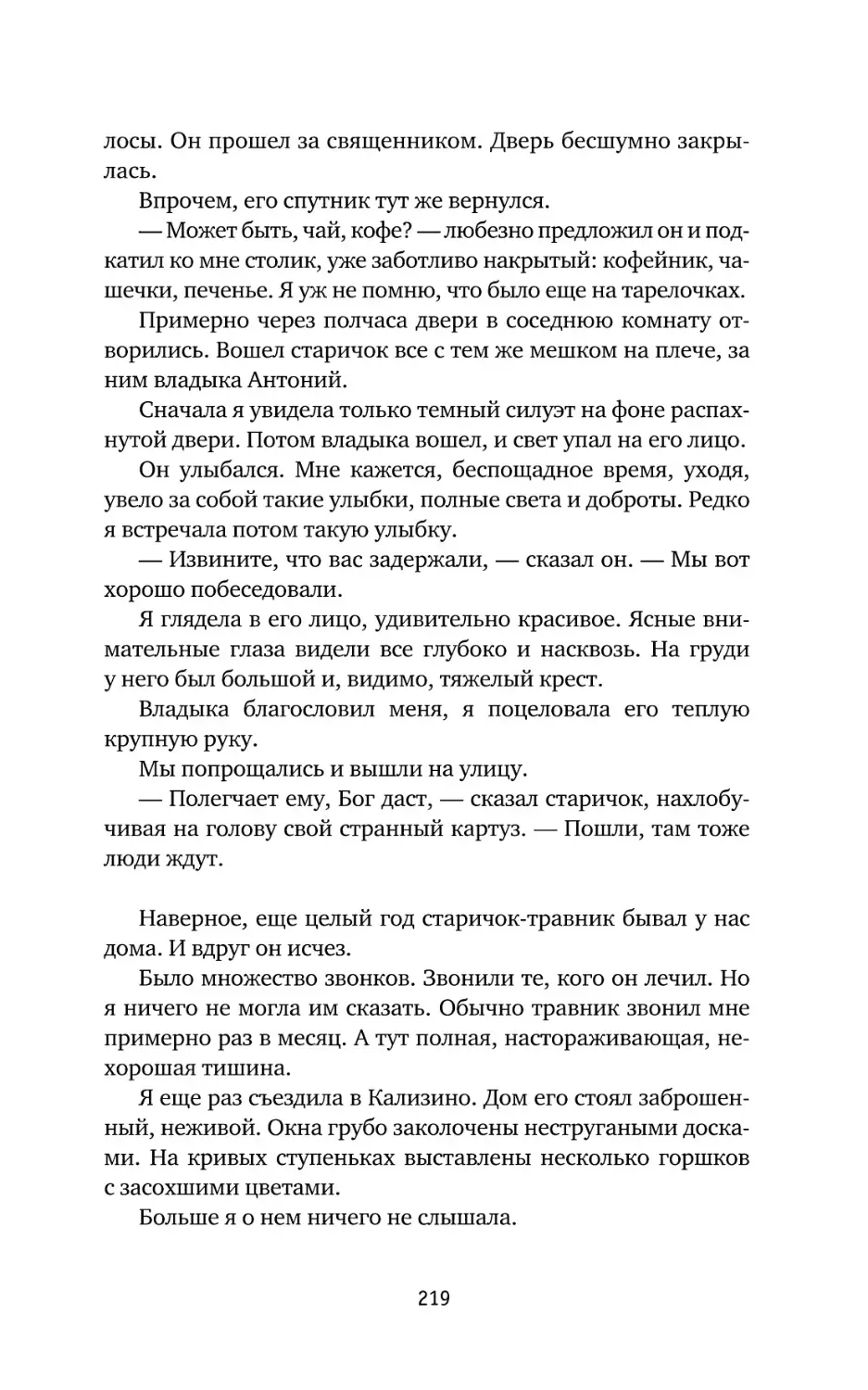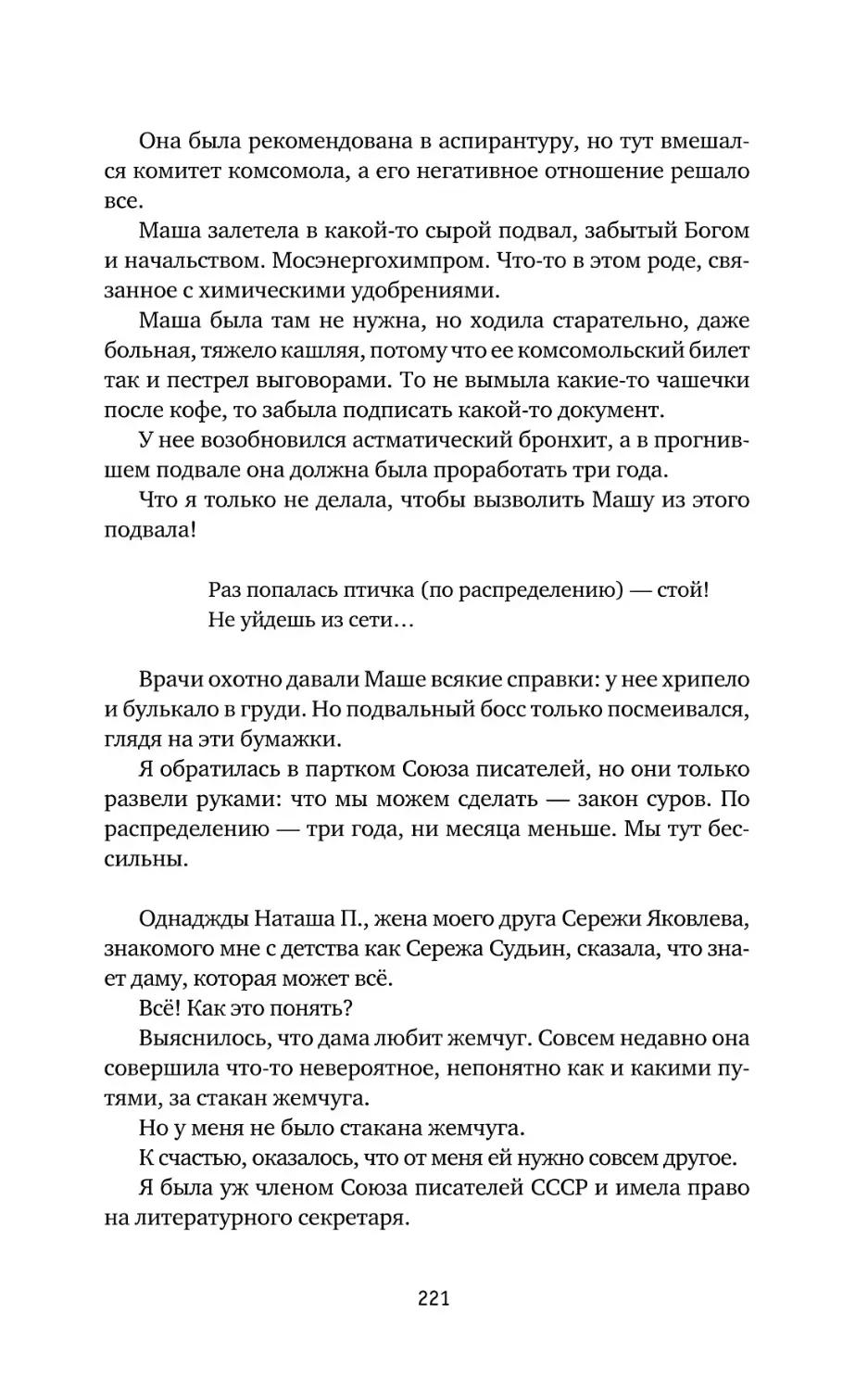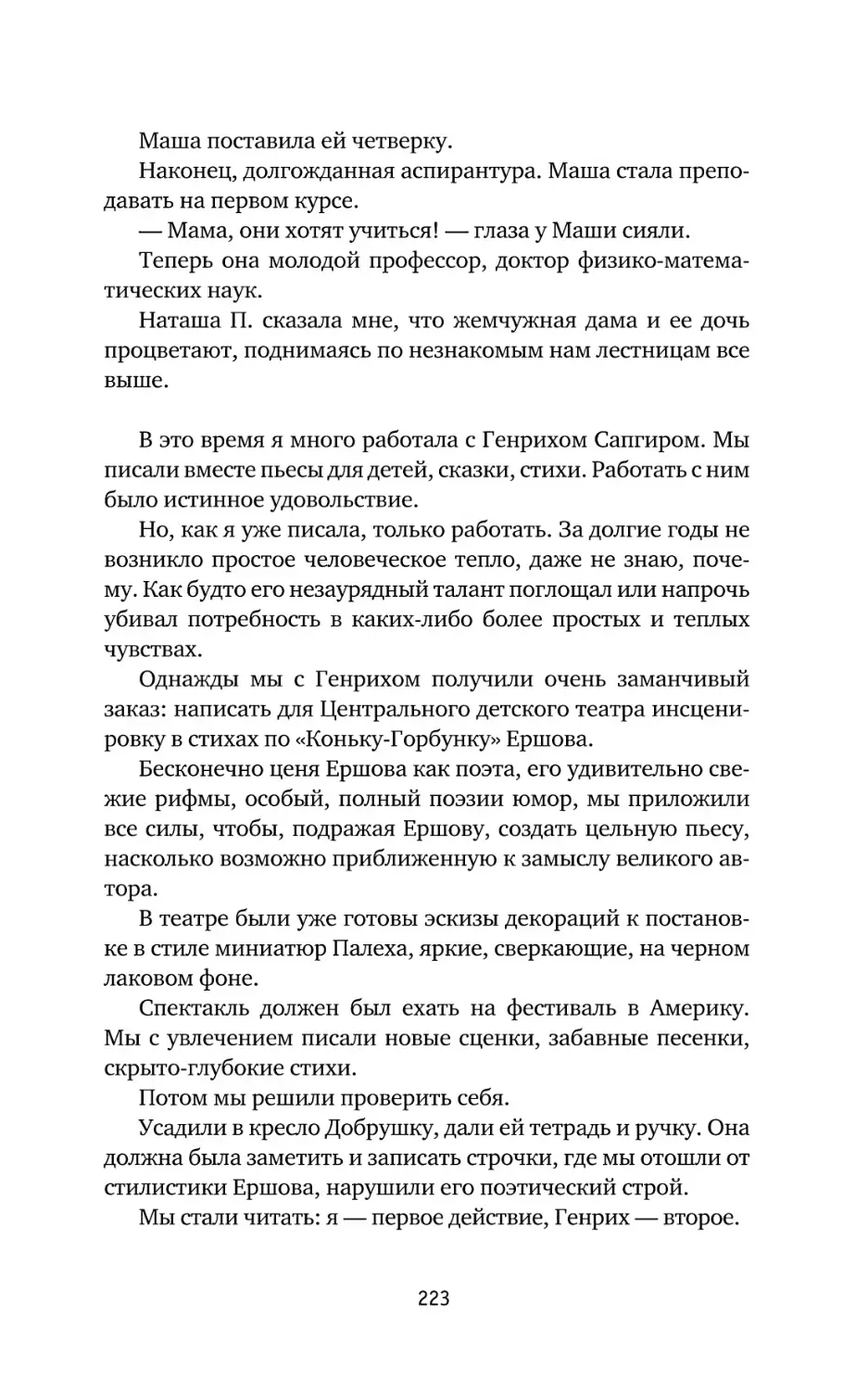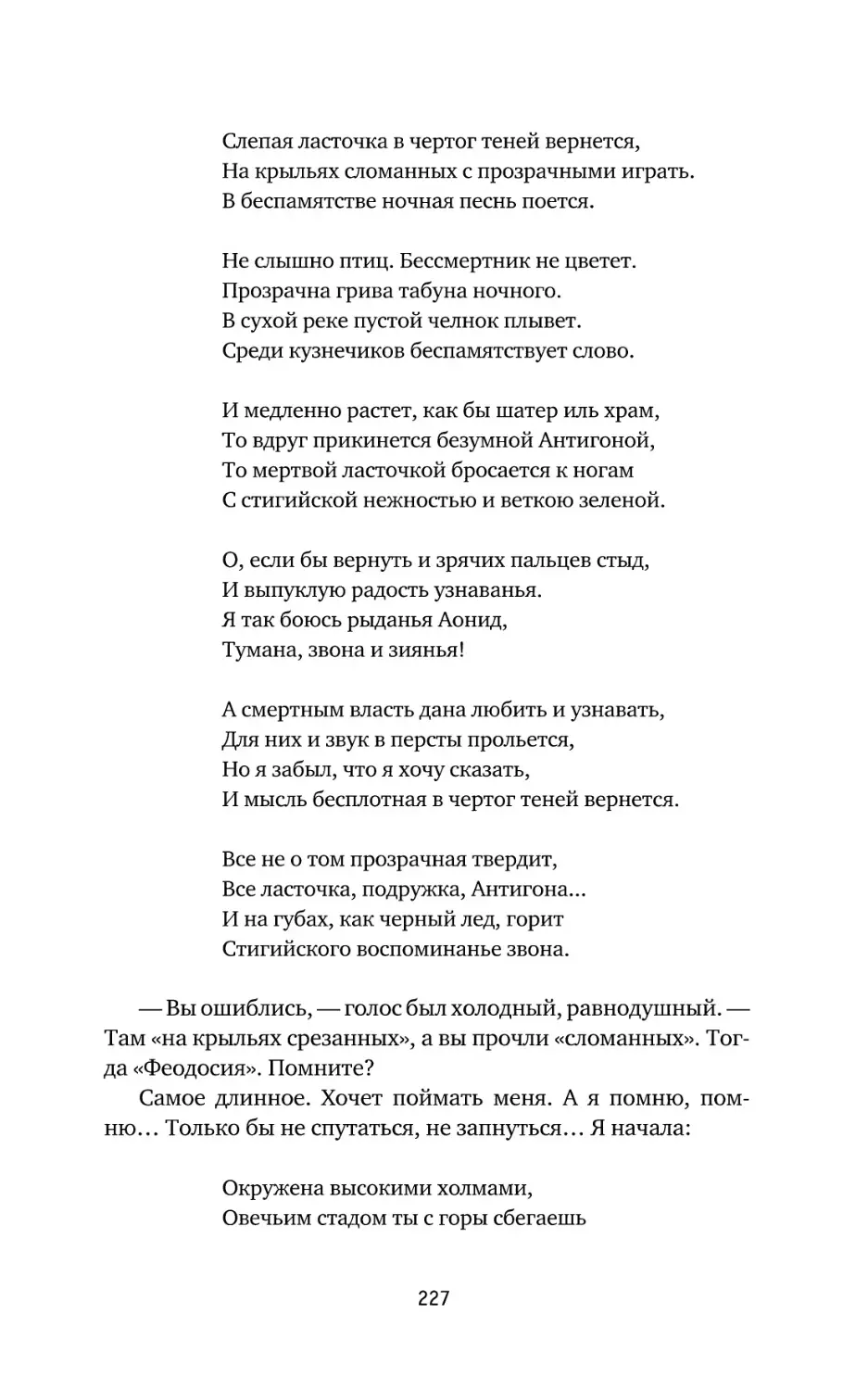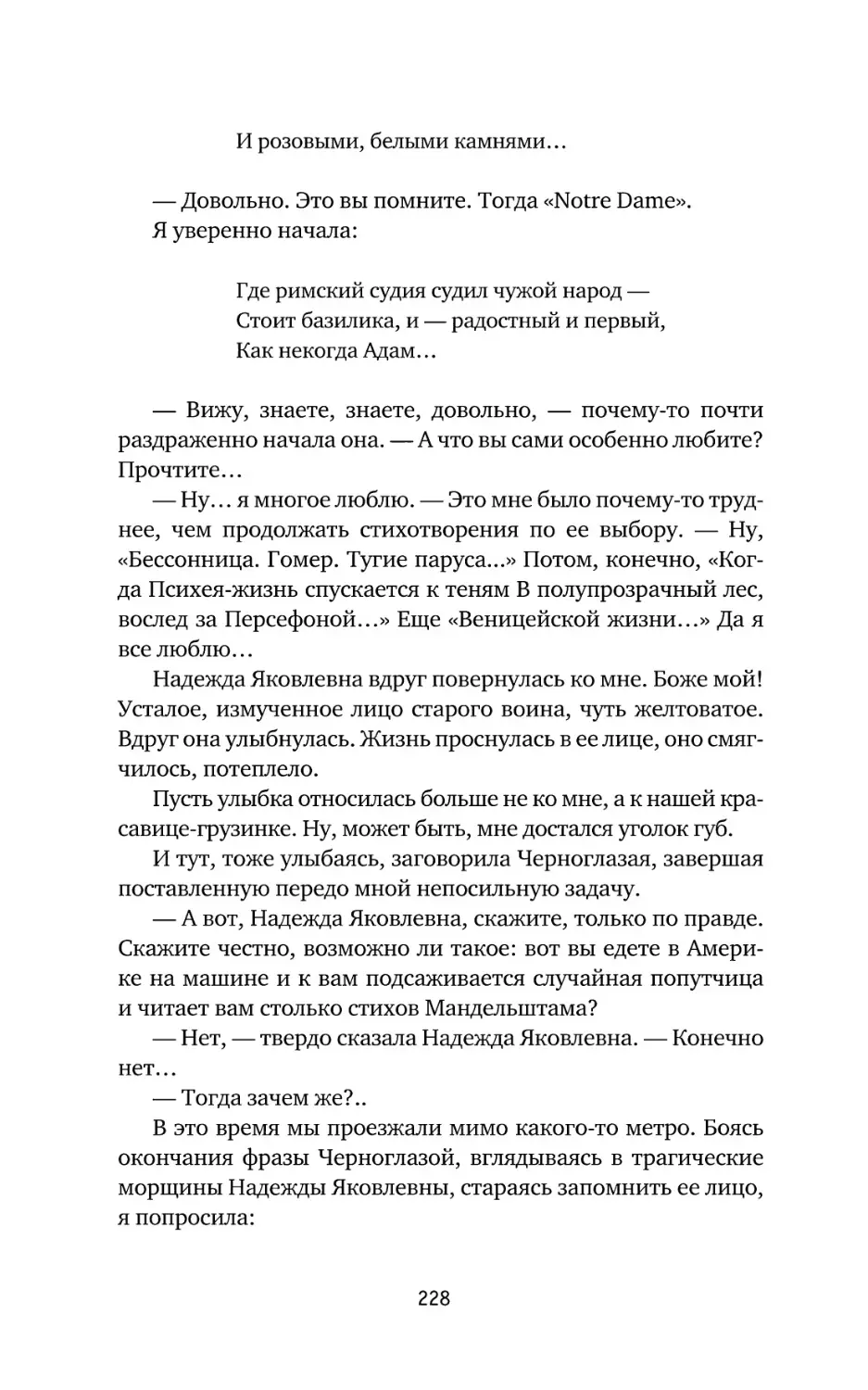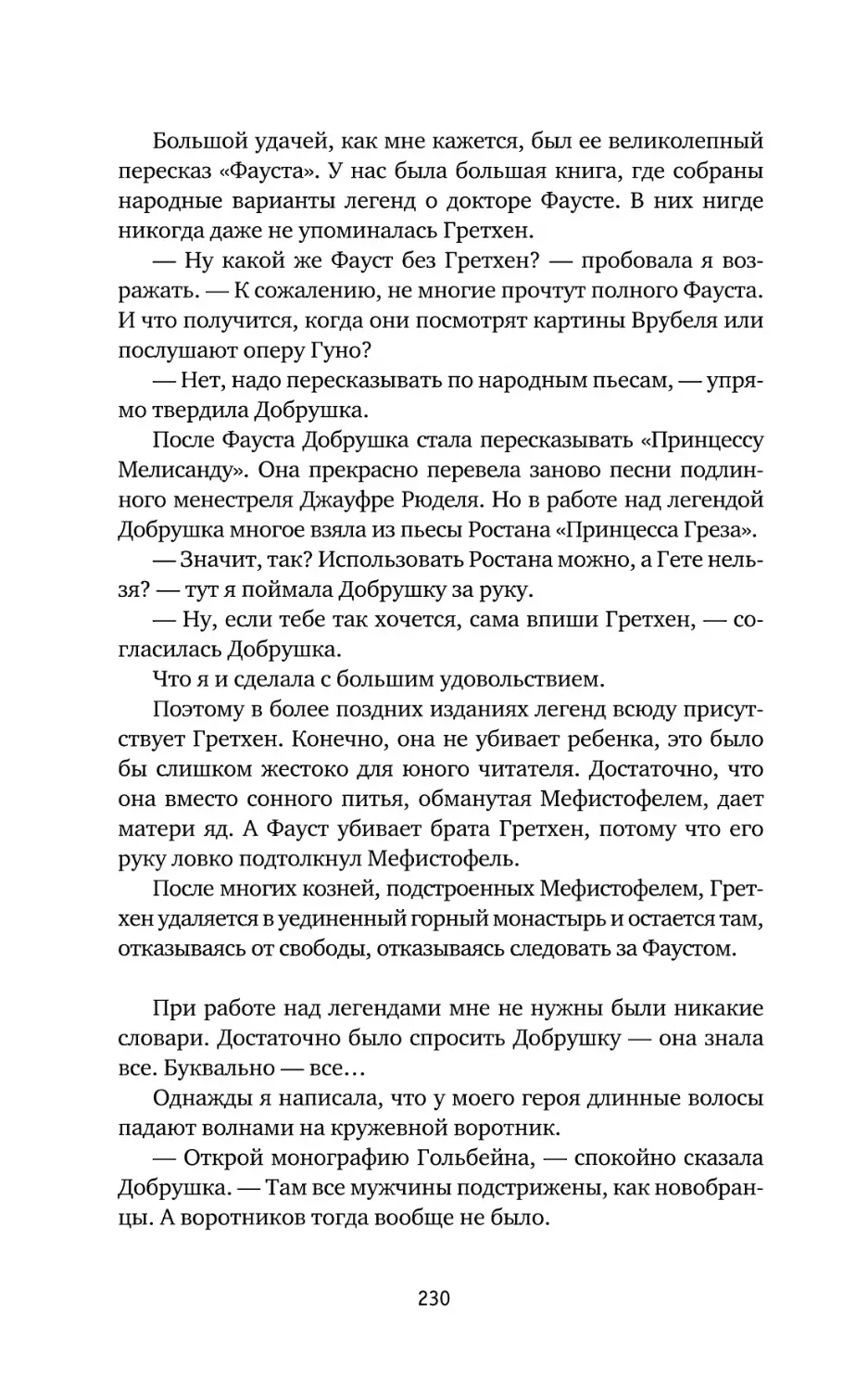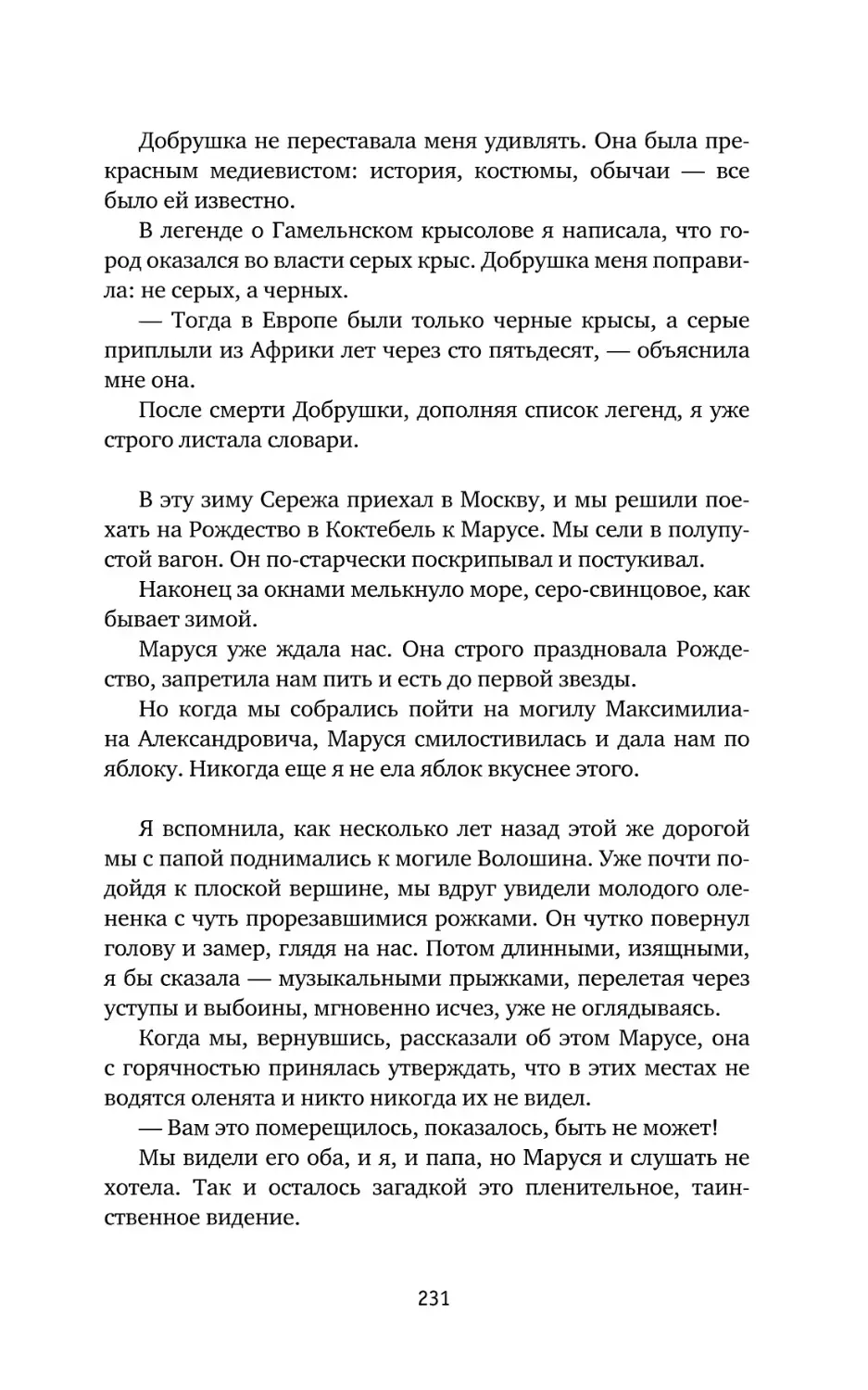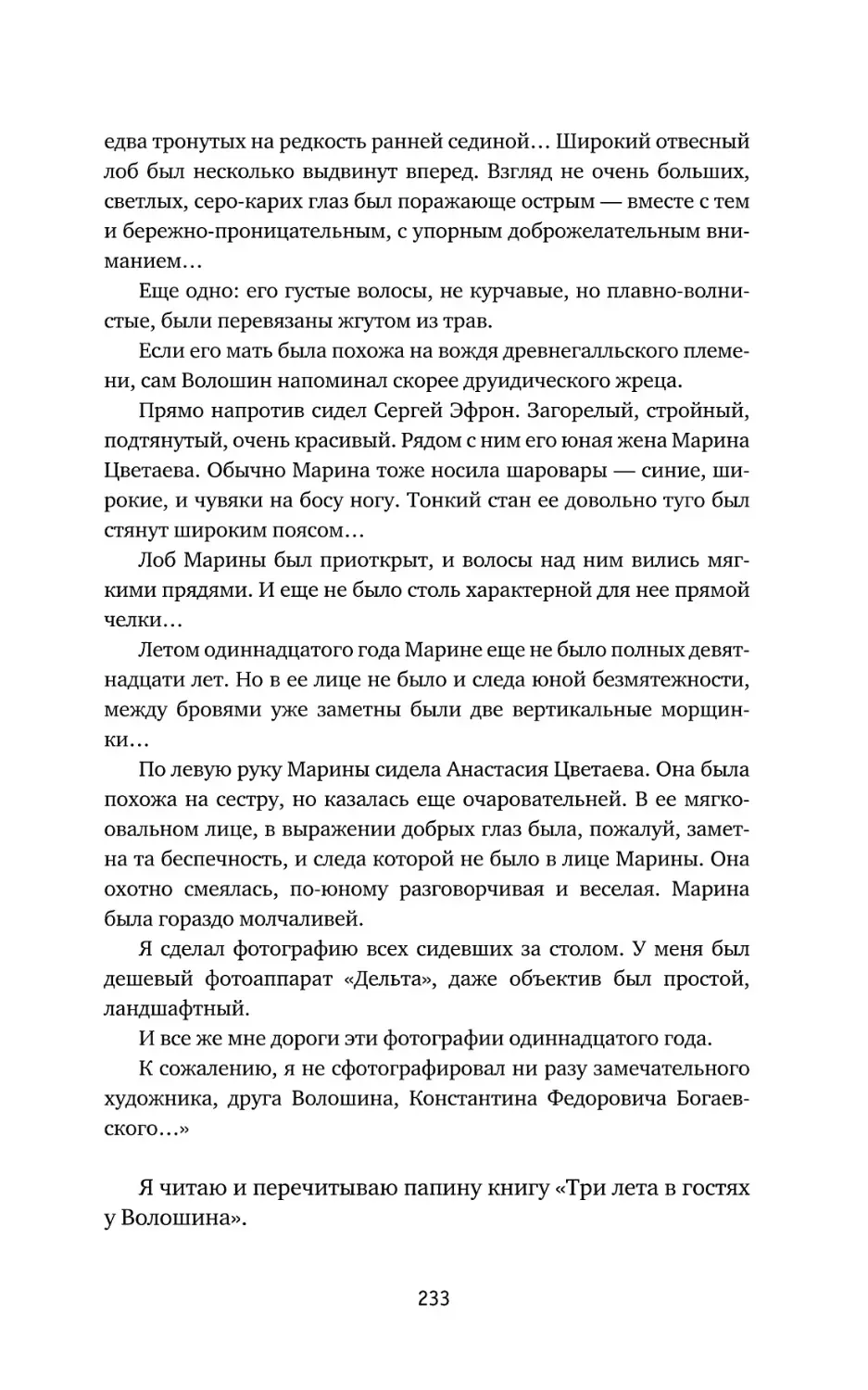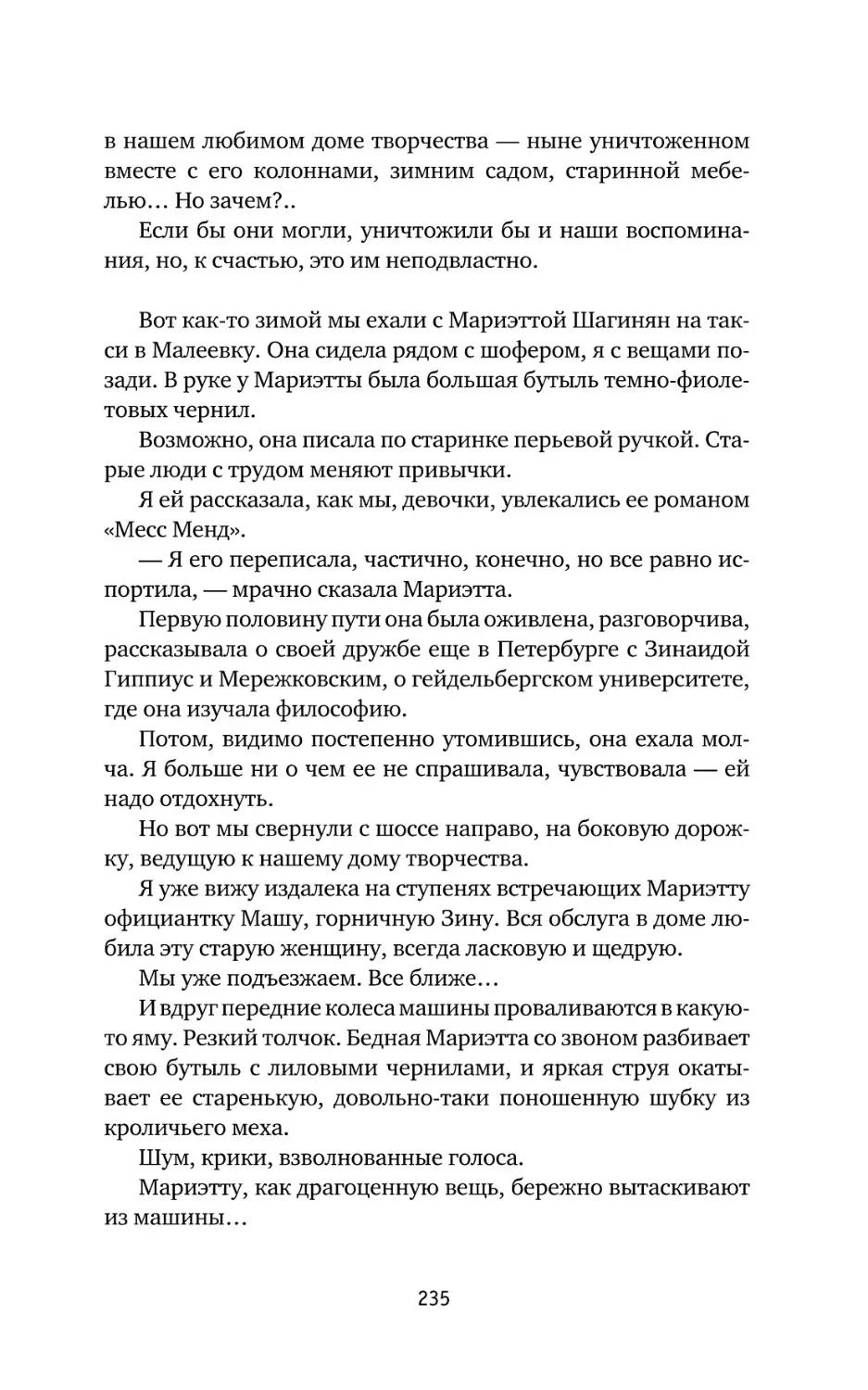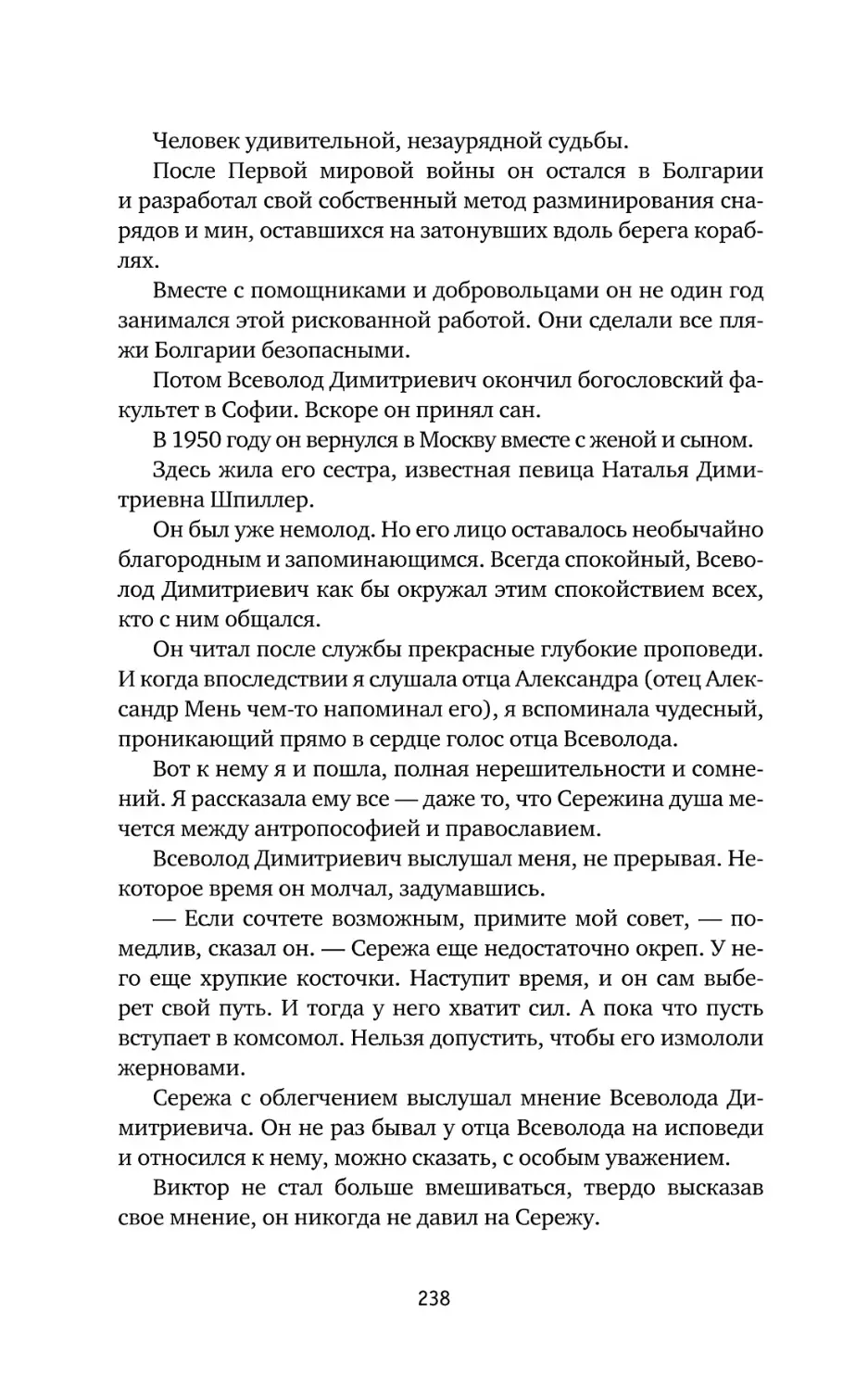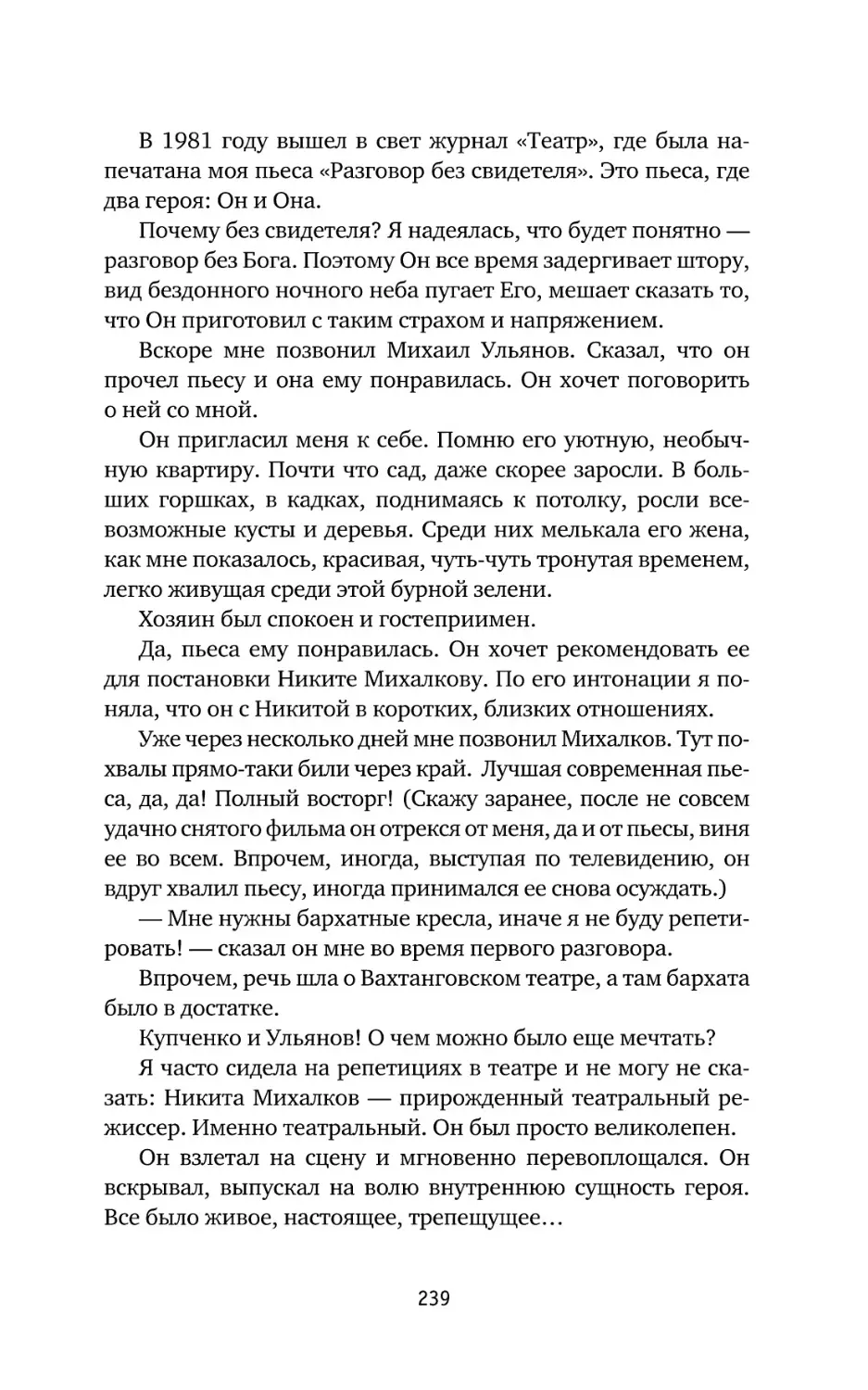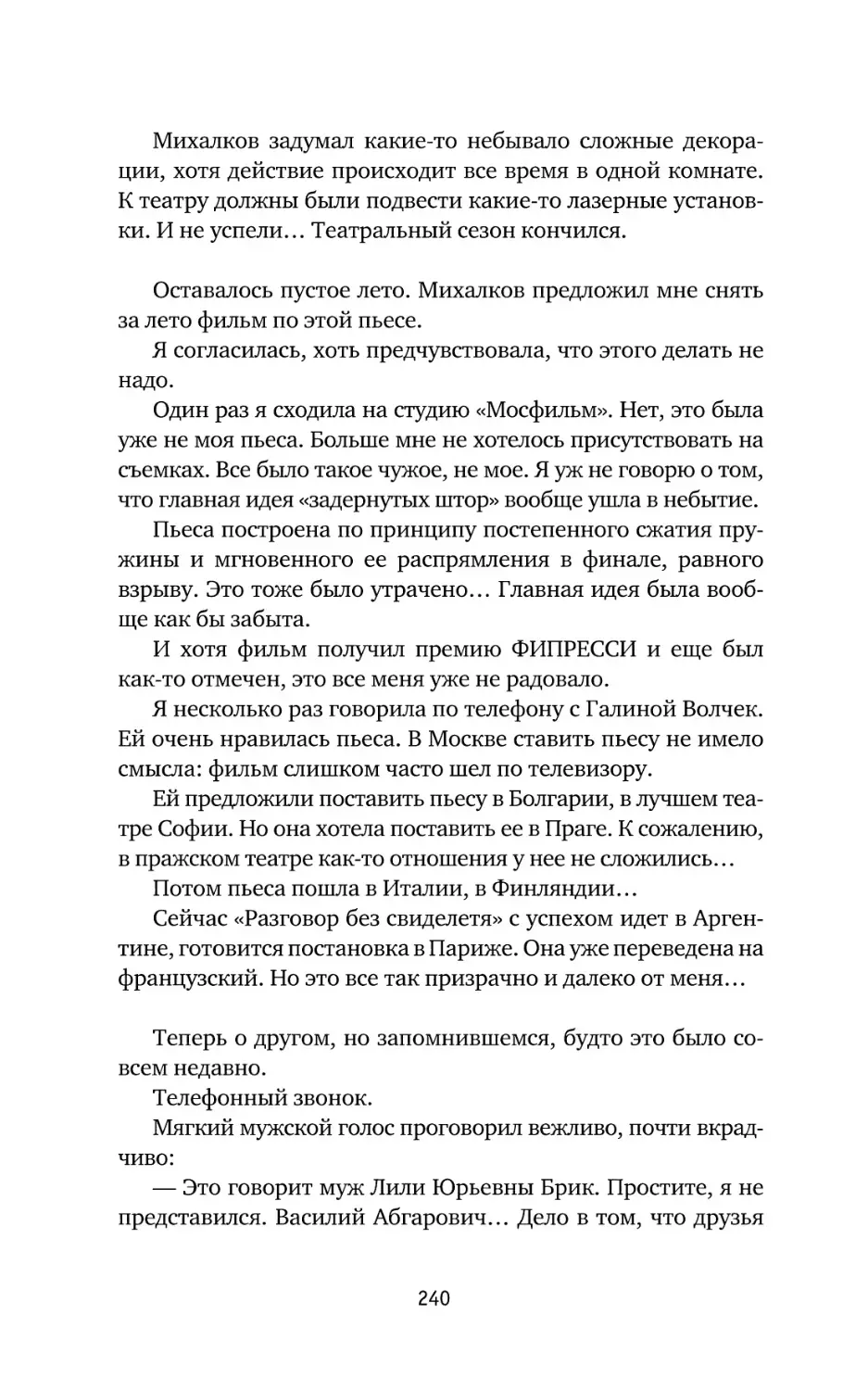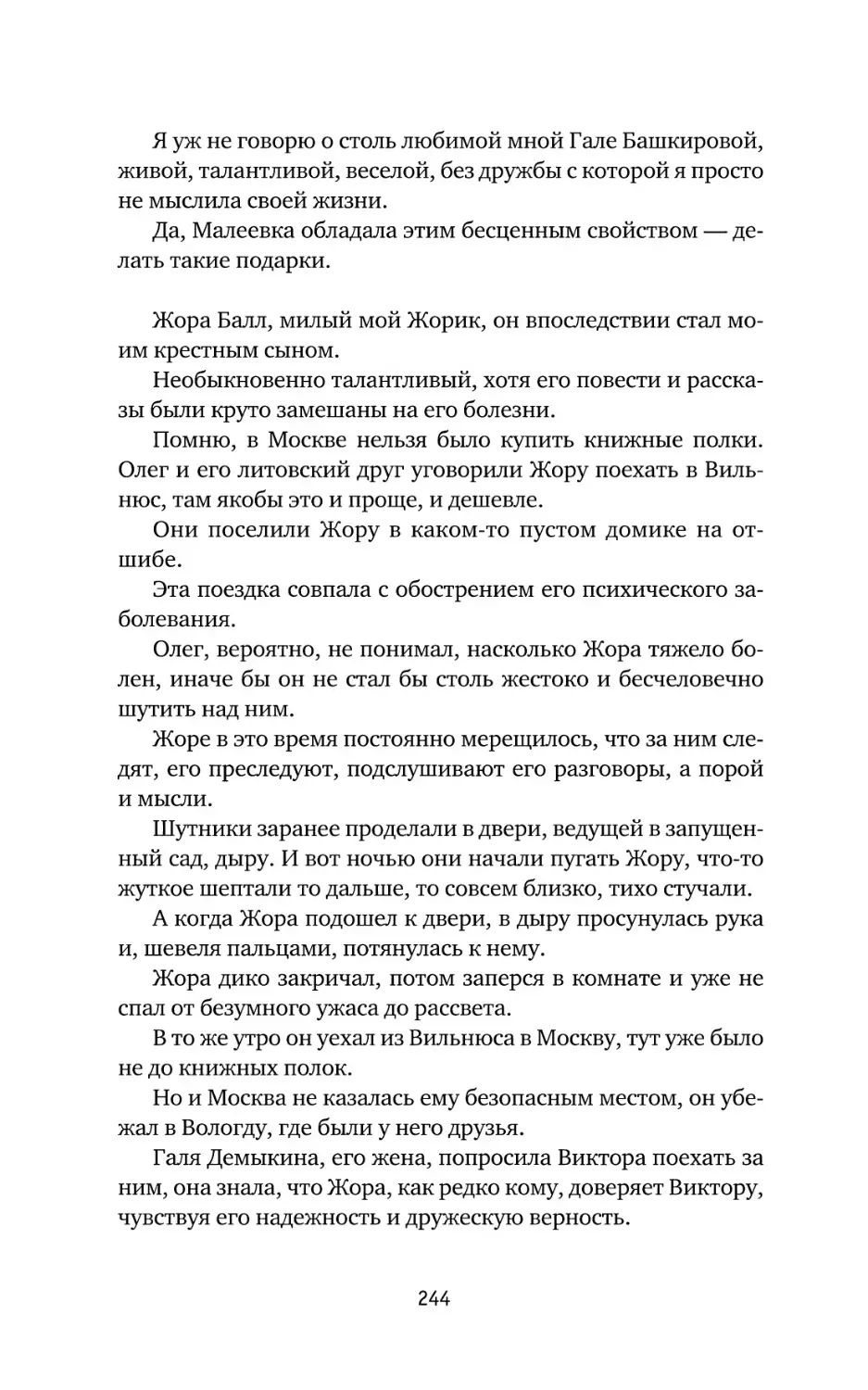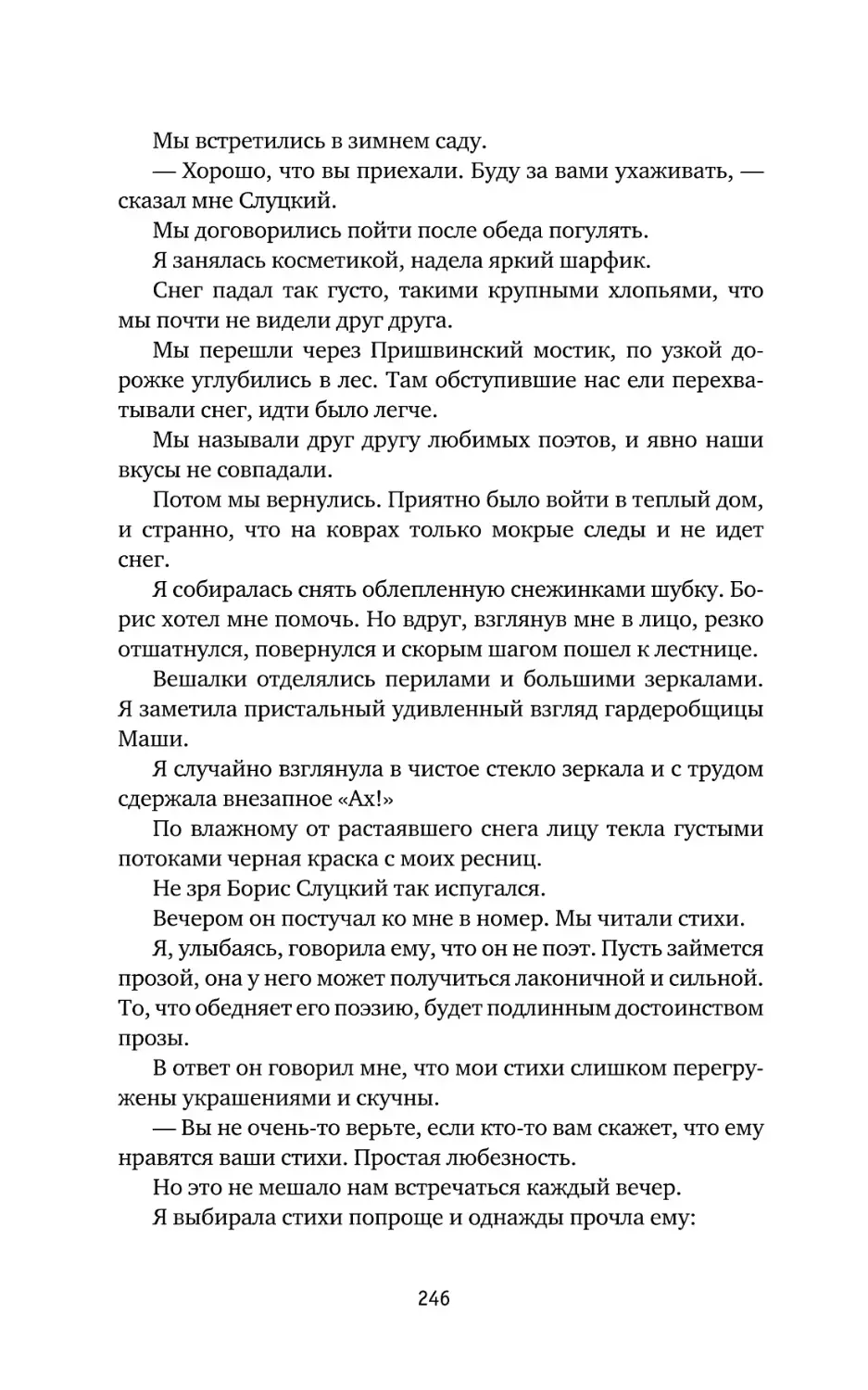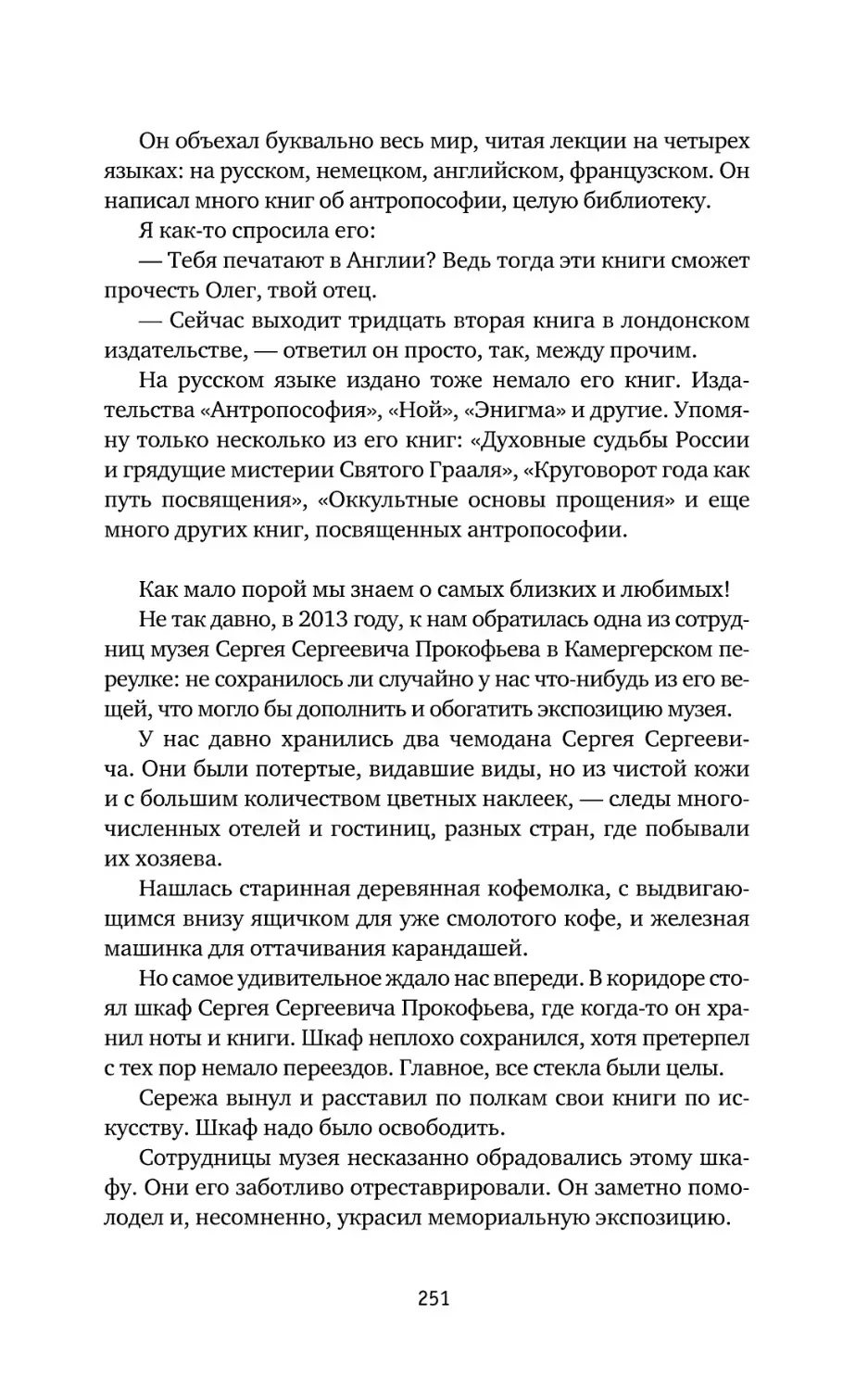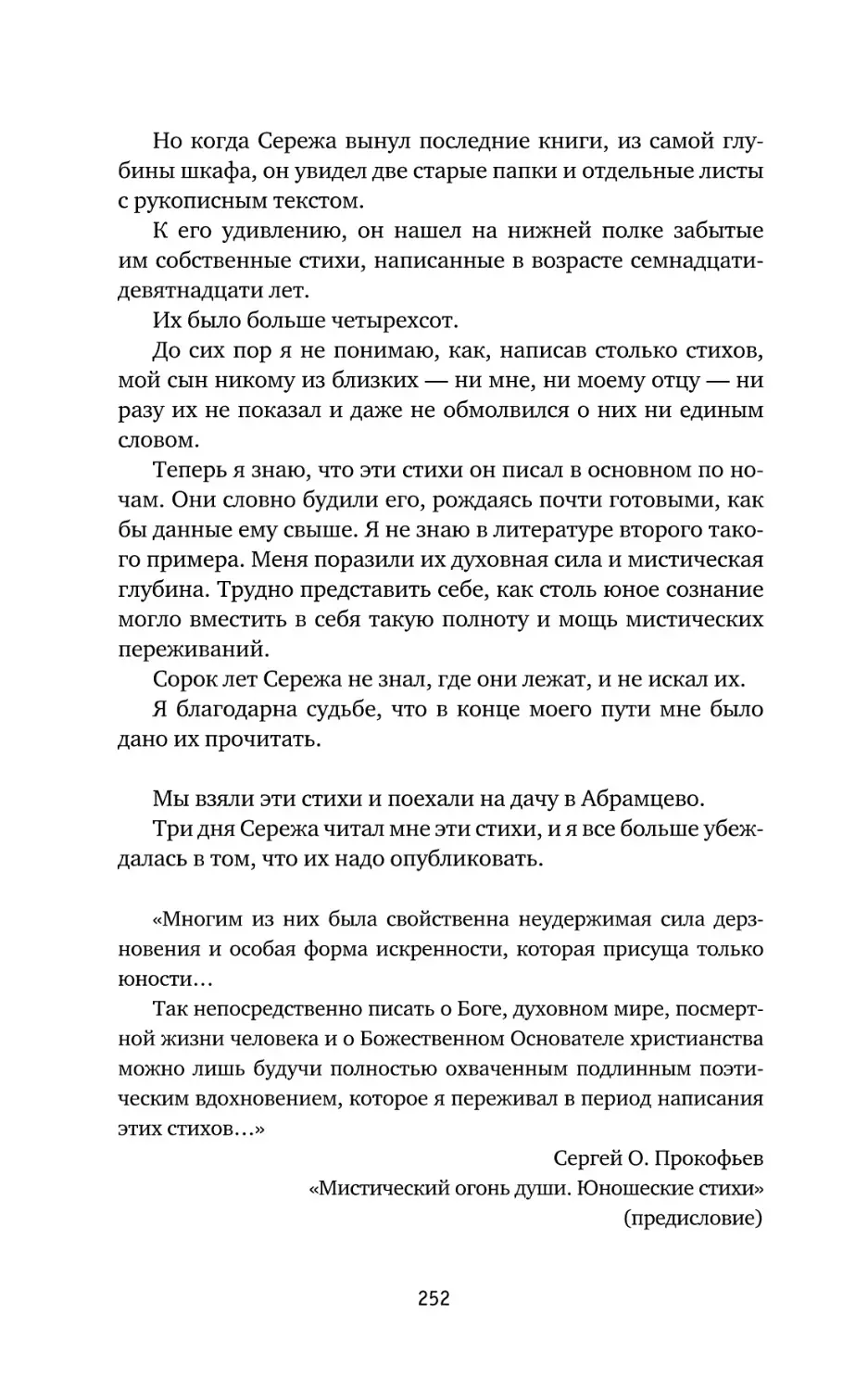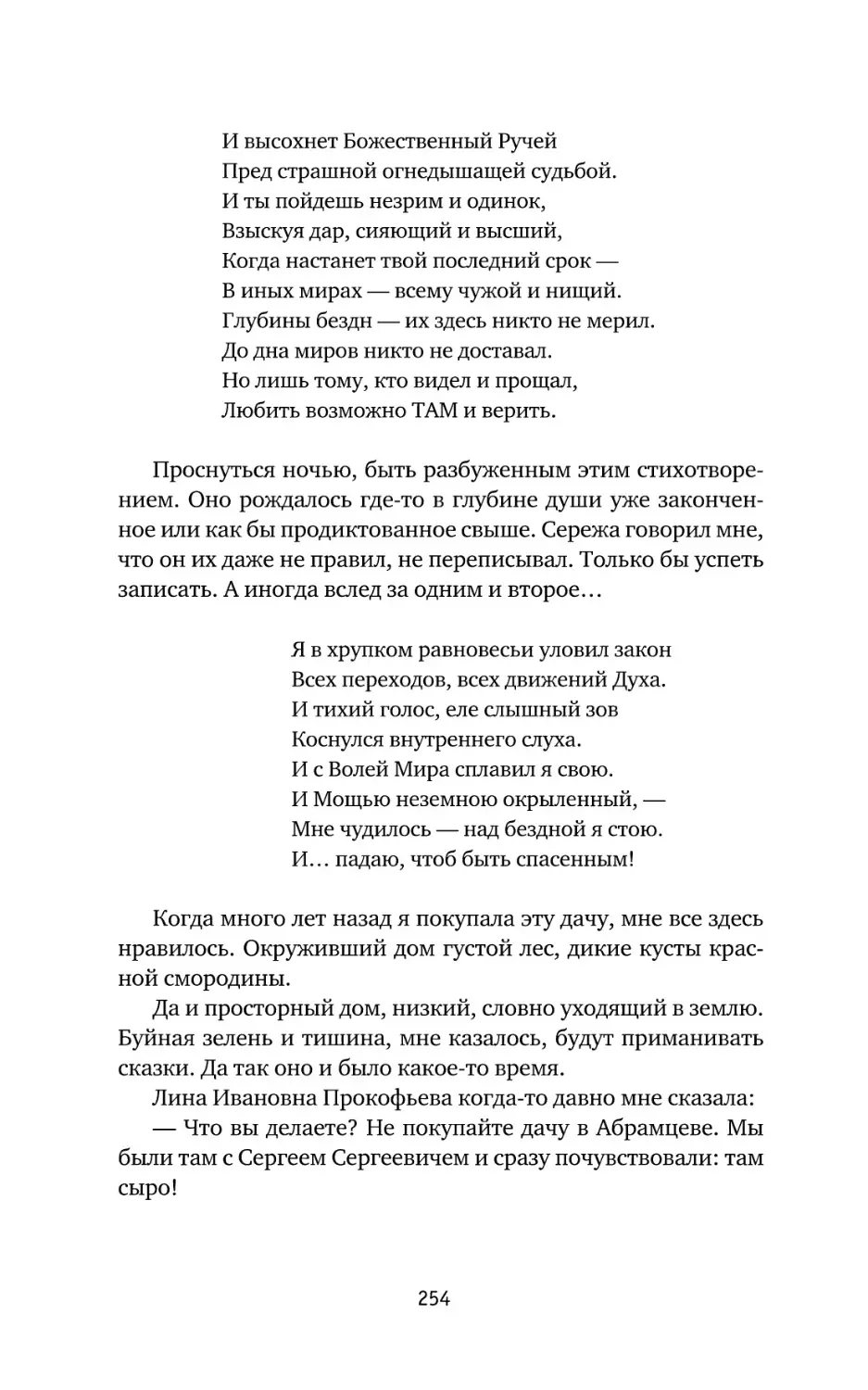Автор: Прокофьева С.Л.
Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии воспоминания
ISBN: 978-5-9691-1268-1
Год: 2015
Текст
СОФИЯ ПРОКОФЬЕВА
ДО РО ГА
ПАМЯТИ
воспоминания
София Прокофьева
СОФИЯ ПРОКОФЬЕВА
ДОРОГА
ПАМЯТИ
ВОСПОМИНАНИЯ
ВРЕМЯ
МОСКВА 2015
УДК 821.161.1-1
ББК83.3
П78
Дизайн, макет
Валерий Калныньш
Прокофьева С. Л.
П78 Дорога памяти: Воспоминания. — М.: Время, 2015. — 256 с.
(«Диалог»)
ISBN 978-5-9691-1268-1
Творческий путь замечательной сказочницы Софии Прокофьевой
сложился необычно. В юности она начала писать стихи, которые
высоко оценили Борис Пастернак, Арсений Тарковский... Однако
ее поэзия оказалась несозвучной сталинскому времени. Найти
свою стезю удалось не сразу, но теперь всем известно, что яркий
талант Прокофьевой воплотился во множестве увлекательных вол-
шебных сказок, на которых выросло не одно поколение.
ББК83.3
© София Прокофьева, 2015
© «Время», 2015
Память чиркнула спичкой,
Высветила лицо,
И забывчивый ангел устыдился.
Значит, все-таки было?
Значит, было это лицо?
Вера Маркова
«Луна восходит дважды»
Я еще маленькая. Наверное, мне лет пять, не больше.
У папы такие твердые руки. Он подводит меня к окну.
— Не гляди... Пока не гляди... Это молодой месяц, на него
нужно смотреть только через левое плечо. Не гляди...
Папа поворачивает меня и крепко держит за плечи.
— А теперь — можно. Гляди, Сонечка.
Я гляжу на небо через левое плечо. На густом, темно-
синем бархате — узкий, острый серп месяца. Такой узкий
и острый! Кажется, он прорезал небо, а там, за мягкой бар-
хатной темнотой, совсем другой мир, весь из серебра.
— Это молодой месяц, — говорит папа. — А посмотришь
через правое плечо — увидишь...
— Что, что увижу?
— Потом, когда-нибудь... Хотя, пожалуй, я скажу тебе:
ты увидишь свою прошлую жизнь. Сейчас ты не поймешь....
Позже, когда-нибудь. Но не будем об этом.
— Правда, месяц — как серебро?
Прошли долгие годы. Я уже забыла, что говорил мне па-
па, — смотрела на луну не задумываясь, как придется. Но вот
однажды случилось так, что я посмотрела на молодой месяц
через правое плечо.
5
Я увидела дорогу. Она уходила куда-то далеко-далеко
в глубокую бесконечность.
Моя жизнь... Почему жизнь? Какая длинная дорога!
Хотя чему удивляться? Мне восемьдесят шесть лет. Туск-
лый неясный свет. Туман, дымка — чем дальше, тем гуще.
Не разглядишь... Какие-то тени... Сколько их! Исчезают —
и появляются снова. Это призраки, совсем прозрачные. Но
они не мешают друг другу. Да нет же, это не призраки! Про-
сто они так далеко, что их не разглядишь. Это люди — сколь-
ко их! Они проходят сквозь деревья, сквозь стены домов.
Но вот я вижу маму. Она наклоняется надо мной в вечер-
нем полумраке. Она целует меня.
На маме черное шуршащее платье с высоким сборчатым
воротником огненного цвета. Это так красиво, и от мамы уди-
вительно и сладко пахнет. Я понимаю, она куда-то уходит.
— Спи, спи, маленькая...
И вот уже нет ее. Остается только затихающий шелест
длинного платья и чудесный запах.
И вот опять мама. Но уже в сером байковом платье с ши-
рокими, поднятыми у плеч рукавами. Это платье сшил ей
папа.
— В нем тепло и уютно, — улыбается мама, — но с изнан-
ки столько ниток, запутаешься! Никак не наденешь!
Мой папа художник, но платье он все-таки сшил маме
сам, как умел. Я помню папу за мольбертом. На холсте мамин
портрет. И краски в разноцветных заманчивых тюбиках. Но
трогать их нельзя. Масляные краски плохо отмываются.
Мы живем в просторной пятикомнатной квартире на
верхнем этаже старого дома. Я помню большую кухню с за-
копченным потолком, с плитой, которую топят дровами.
Там, возле плиты, где потеплее, меня купают в гремящем
старом корыте.
Иногда приходит худая и мрачная тетя Дуся из соседней
квартиры. У нее на кухне плохо растапливается плита и ды-
6
мит. Она яростно размешивает кипящий борщ в большой
старой кастрюле с мятыми боками.
Мне кажется, что эта кастрюля и корыто, в котором меня
моют, — родственники.
Часто приходит Зоя, ее дочка, вся в светлых кудряшках. Она
сильно хромает, припадая на один бок. Моя няня Сергевна рас-
сказывала, что Зою завалило кирпичами, когда у нее на работе
упала стена. Тетя Дуся хлопочет, но денег пока не платят.
— Ребенка не ошпарь! — рычит Сергевна.
— Как же! — страшным голосом отвечает тетя Дуся, раз-
брызгивая бурые капли.
Не домыв меня, Сергевна, ворча, кого-то проклиная и тут
же браня себя за грешные слова, заворачивает меня в про-
стыню и уносит.
Четыре комнаты нашей квартиры выходят окнами на Ма-
росейку, пятая комната — большая, сумрачная, таинствен-
ная — окнами во двор. На окнах — занавески с длинными
изогнутыми лилиями. Когда сквозняк надувает их, лилии ка-
жутся мне живыми. Они как будто растут, движутся и вот-вот
убегут с занавесок. Это комната дяди Сени, Самуила Евгенье-
вича Фейнберга.
Только спустя много лет я узнала, что он один из самых
знаменитых пианистов двадцатого столетия. Посреди его
комнаты — большой концертный рояль. Если повезет, под
него можно забраться, а уж вытащить меня из-под рояля
можно только за ногу.
Каждое утро дядя Сеня играет Баха. С этого начинается
его день, да и мой тоже. И вот вся квартира наполняется та-
инственной музыкой, хотя комната дяди Сени — в дальнем
ее конце.
Музыка окружает меня, рождая необыкновенные образы
и видения, поддерживает прозрачные колонны и уносит их
куда-то ввысь, где среди облаков просвечивают дымчатые
рыцари, стрельчатые башни еле различимых замков.
Я вспоминаю: у меня, как ни странно, треугольная комна-
та, где я живу с моей няней Сергевной. Она староверка, свою
7
посуду держит отдельно от нашей, но ходит в православную
церковь, потому что церкви для староверов в округе нет, —
может быть, в те годы вообще нет в Москве.
Рано утром, еще не рассвело, я слышу грохот в коридоре
от брошенной на пол охапки дров. Сергевна растапливает
печку. И скоро уже можно босиком подбежать и прижаться
к теплым изразцам спиной или боком.
Суровая, мрачная — но со мной Сергевна неизменно
нежна, ласкова, терпелива. За всю жизнь в нашей семье —
а она у нас прожила долго-долго, и даже в эвакуацию во вре-
мя войны ездила с нами — за всю жизнь она не сказала мне
ни одного резкого слова: «Ребенок, что с него взять?».
Я помню, как Сергевна сидела неподвижно на высоком
стуле с окаменевшим, застывшим лицом, похожая на древ-
него идола. Я видела таких идолов у папы в книгах на кар-
тинках.
Деревенская родня — все оборванные и почти босые —
рухнули перед Сергевной на колени, гулко стукнув лбами
о старый паркетный пол. Меня, ребенка, это поразило. По-
том оказалось, что они, совсем изголодавшись, продали, ни-
чего не сказав Сергевне, ее еще крепкий деревенский дом
и главное богатство — швейную машинку «Зингер».
Потом родственники были, конечно, прощены. Мама да-
ла им денег, какой-то одежды.
Детская память выборочна, но что-то она запоминает на-
крепко и словно прячет в своих тайных далеких закромах.
Вот так мне запомнилось, в наш дом как-то пришел стран-
ный человек с длинной полуседой бородой, в рваной куртке,
из-под которой торчала ситцевая рубаха. Ему продали дяди
Сенин концертный фрак.
Через какое-то время он пришел снова и сказал: «А нет ли
у вас еще такой одежки? Уж больно хороша. В ней вольготно
пахать: ветерком продувает».
Но у дяди Сени оставался еще только один фрак, а он был
выступающий пианист, и фрак нужен был ему для концертов.
8
Теперь о другом. У меня над постелью, как и в детстве,
висит большой мамин портрет: прелестная юная женщина
легко и свободно сидит в кресле, держа в одной руке темно-
алую розу. Этот портрет написал мамин первый муж — Ва-
лентин Александрович Яковлев, замечательный художник,
член «Московского салона».
В1898 году в Петербурге создается художественное обще-
ство «Мир искусства». Выставка этого общества привлекает
самых блестящих художников северной столицы.
Но в Москве ярко живет и кипит своя творческая жизнь.
В 1911 году открывается первая выставка «Московского сало-
на». Выставка имела бурный успех. Неудивительно, что в том
же году открывается вторая выставка «Московского салона».
Если «Мир искусств» объявлял себя «Базаром талантов»,
то молодые живописцы, объединившиеся вокруг «Москов-
ского салона», были одержимы попыткой возродить, есте-
ственно, в новых, более современных формах, живопись
старых мастеров, с ее тонкими лессировками, углубленным
колоритом, возвратом к античным сюжетам.
Наиболее выразительные идеи «Салона» воплотились в стан-
ковой живописи Валентина Яковлева и Ивана Захарова. На
выставках их картины привлекали всеобщее внимание.
Постепенно они становятся идейными руководителя-
ми этого классического и вместе с тем нового направления
в изобразительном искусстве.
В 1912 году Валентин Александрович Яковлев на одной из
выставок «Московского салона» встретил худенькую девушку
с собранным на затылке пышным пучком золотисто-рыжих во-
лос с необычайно нежной бело-розовой кожей. Это была моя
мама Мария Ивановна Коровина. Как писал в своих письмах
Валентин Александрович, облик этой девушки поразил его.
Ее нельзя было назвать красавицей, но что-то поэтичное, не-
выразимо нежное, полное жизни было в ее прелестном облике.
Они поженились в 1915 году. Венчание было скромное
в небольшой старинной церкви Фрола и Лавра в центре Мос-
квы. Эта церковь вскоре после революции была снесена.
9
Как-то я спросила маму:
— А чем же ты угощала своих гостей на свадьбе?
—Да, собственно, особенно ничем. Ведь была война, раз-
руха. В магазинах на полках пусто. Но мы с соседкой приго-
товили ведро винегрета. Это был уже истинный пир. И обме-
няли шторы в гостиной на буханку хлеба.
— Ты так и подавала на стол винегрет в ведре?
— Что ты! — рассмеялась мама. — У нас еще оставался
сервиз на шестьдесят персон.
Вскоре молодые супруги уехали в Омск. Валентин Алексан-
дрович еще в юности заболел туберкулезом. Врачи рекомендо-
вали ему лечиться кумысом. Так в то время лечили туберкулез.
Они уехали в Омск, где жили их друзья. Им помогли снять дом
в деревне. Валентин Александрович зарабатывал, расписывая
деревянные дуги лошадей, резные ставни окон. Он рисовал яр-
кие цветы, невиданных птиц и зверей. Их охотно покупали. Но
ближе к зиме им пришлось снова вернуться в Омск.
Однажды той же осенью в дверь их скромной квартирки
постучала причудливо одетая дама в шляпке, густо украшен-
ной перьями. На ней была шубка из дорогого меха, яркий
шарф, заколотый сверкающей брошью.
— Нина Михайловна Подгоречани. Графиня! — она про-
тянула маме обезьянью лапку. — А ваш муж — художник
Яковлев. Знаю, знаю!
Мама пригласила ее войти. Она небрежно скинула шляп-
ку, рассыпав по полу пестрые перья. Они сели пить чай.
Нина Михайловна была необычайно худа, маленького ро-
ста. Глаза ее было невозможно разглядеть, на ней были очки
с такими выпуклыми стеклами, что ее серо-зеленые глаза дво-
ились и расплывались.
—У меня в Омске неплохой дом, — она говорила чуть ма-
нерно, с французским прононсом. — Балы, музыка, танцы,
хорошие вина... Но вы приходите, приходите... В Москве
мой дом конфисковали. Там у меня была лестница из оникса.
И зимний сад. Ко мне часто приходил Бальмонт. Он любил
там ночевать под цветами. Утром я отправляла кого-нибудь
10
известить его жену. Он всегда встречал ее одними и теми же
словами: «Откуда же ты возникла, негодяйка?».
Я накрепко запомнила эту фразу, потому что она как-то
прижилась в нашей семье. Ее со смехом повторяли, если кто-
то задерживался и поздно вернулся.
Графиня осталась ночевать. Мама рассказывала, что ее
поразило белье графини из тончайшего шелка с кружевами.
Мама расстелила свои штопаные простыни. Впрочем, гра-
финя, похоже, этого просто не заметила.
Впоследствии, уже в Москве, я оценила эту редкую доб-
рую, бесконечно мужественную женщину... Долгие годы мы
дружили. Судьба ее была поистине трагична. Но об этом по-
сле, после...
Валентин Александрович много работал. К этому перио-
ду относятся несколько прекрасных портретов, мифологиче-
ских сцен. Казалось, болезнь отступила.
У мамы была подруга, приехавшая из Петербурга. Она
славилась своим редким даром: гадать на картах.
Как-то мама упросила ее раскинуть карты на ее судьбу.
Подруга долгое время отказывалась, словно предчувствуя
что-то недоброе. Но мама была настойчива и упряма. И, на-
конец, подруга нехотя согласилась.
Она разложила карты и тут же их смешала.
Но мама стояла на своем, с нетерпеливостью юности она
просила открыть ей тайну гадания.
Подруга отказывалась, отнекивалась, говоря, что карты
порой показывают сущую бессмыслицу. Но мама упорно на-
стаивала и просила. Наконец гадалка уступила.
— Напрасно, напрасно... Но вы хотите знать... Так знай-
те: карты предсказывают вам беду. Ваш муж скоро умрет.
Мама вспыхнула, рассердилась.
— Как вы можете такое говорить!
Через несколько дней Валентин Александрович почув-
ствовал себя нездоровым. Ему становилось все хуже.
В соседней квартире, прямо за стеной жил их друг, опыт-
ный, знающий доктор. Мама позвала его.
11
— Сыпной тиф... — сказал доктор.
К вечеру Валентин Александрович открыл тусклые, вос-
паленные глаза. На бледно-серой коже проступили багровые
пятна.
— Священника... приведи священника...
Стояла стылая морозная ночь. Мама знала, где дом свя-
щенника. В это время Омск заняли красные войска. О них
ходили страшные слухи: говорили, что они насилуют и уби-
вают молодых женщин и девушек.
Мама, закутанная в платок, шла от костра к костру. Во-
круг огня грелись пьяные солдаты. Но никто не тронул за-
плаканную молодую женщину.
Вдалеке слышались выстрелы, отчаянные приглушенные
крики.
Старый седой солдат протянул маме кружку горячего ки-
пятка.
— Пей, голубушка. Окоченеешь. Вишь, вся исплакалась!
Вот оно — двойное лицо войны!
Священник пришел под утро. Он успел соборовать и при-
частить умирающего. Скоро Валентин Александрович впал
в беспамятство. Это был уже конец...
Вечером мама зашла к знакомому доктору, жившему по
соседству. Он дал маме длинную папиросу. Мама первый
раз в жизни закурила, потом, шатаясь, пошла в свою комна-
ту. Там на постели, вытянувшись, лежал мертвый Валентин
Александрович. Голова у мамы кружилась. Она плохо осо-
знавала, что с ней и где она. Мама легла рядом с Валенти-
ном Александровичем и мгновенно уснула.
На другой день, уже после похорон, она снова зашла к зна-
комому доктору. Ее терзала отчаянная тоска, путало одиноче-
ство, пустая осиротевшая комната.
Она опять попросила такую же папиросу.
— Нельзя, моя девочка, — сказал доктор. — Та папироса
была с опиумом. Один раз обойдется, второй... А потом втя-
нетесь, пропадете...
Мама вернулась в Москву, молодая вдова. Вернулась к разо-
ренному гнезду. Большой дом на Тверской был конфискован.
12
Дом этот построил мамин дедушка. Он был работящим,
честным и очень верующим. Каждый год на Пасху он ходил
пешком из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Когда в 1861 го-
ду отпустили всех крепостных, он каждый вечер долго молил-
ся за всю свою семью: за царя-батюшку Александра Второго,
за своего благодетеля, за покойного барина.
Дедушка, трудолюбивый, непьющий, купил лошадку, по-
том и телегу. Он начал возить кирпич в Москву, как он де-
лал это для барина, а теперь уже для себя. Он построил на
Тверской крепкий пятиэтажный дом, где и поселилась вся
его большая семья.
Но к маминому возвращению в Москву в 1919 году де-
душка уже умер, а дом на Тверской был конфискован и раз-
граблен.
Бабушка, очень пожилая, ослабевшая, не перенесла разо-
рения и нищеты, попала в приют для умалишенных и вскоре
скончалась.
Мама разыскала в опустевшей Москве трех своих брать-
ев. Они голодали, жили чем придется, ночевали по своим
друзьям, кто приютит.
Они все рано умерли.
Самый близкий из них, дядя Толя, был редкий, своеоб-
разный поэт. Из всех литературных форм ему был ближе
всего триолет. Он написал их несколько тысяч, в том числе
«Всемирную историю в триолетах». Они до сих пор хранят-
ся у нас, постепенно истлевая, превращаясь в прах и труху.
Нужны годы жизни, чтобы их разобрать.
Анатолий Иванович Коровин не всегда придерживался
строгой формы триолета. Приведу то, что помню наизусть:
Открыл косой китаец чай,
А смуглый аравиец — кофе.
А ты? Что ты открыл, Прокофий?
В чем твой талант? В сивухе, чай?
Да дверь открыл вот невзначай
К вам в кабинет, товарищ Иоффе!
13
Ну что ж. Так вот тебе на чай,
А если хочешь — и на кофе.
Вот еще один:
Есть в муравейнике музей,
В нем муравьиная Венера.
«Вот красоты всемирной мера!»
Кричит в восторге весь музей.
И прав, конечно, муравей,
Коль у него такая вера.
У каждой твари свой музей,
Своя Милосская Венера.
Ко всему прочему дядя Толя был полиглот. Он прекрасно
знал английский, французский, немецкий, итальянский, ис-
панский.
Мне, десятилетней, захотелось выучить испанский язык.
Дядя Толя часто гостил у нас на даче на Николиной горе. Но
после третьего урока мне это прискучило, на том дело с изу-
чением испанского и кончилось.
Приехав в Москву, мама нашла себе приют у Ивана Ива-
новича Захарова, большого друга и единомышленника Ва-
лентина Яковлева. У него была мастерская на чердаке его
квартиры, где мама и поселилась.
Когда в Москве начались грабежи, поджоги пустых, бро-
шенных хозяевами домов, Иван Иванович со своими учени-
ками успел вынести из дома картины Валентина Алексан-
дровича и тем спас их.
Чердак, где жила мама, не отапливался. Но больше все-
го маме досаждали крысы, которые водились там в великом
множестве.
Однажды ночью мама легла спать, укрывшись старень-
кой, поношенной шубкой. Решив оставить себе на утро не-
доеденный кусок черного хлеба, она сунула его в карман.
Проснувшись утром, она с огорчением увидела вместо кар-
14
мана разодранную дыру. Крысы без труда прогрызли ветхий
мех, съели весь хлеб до крошки.
Но все-таки у нее теперь была крыша над головой и ря-
дом надежные, преданные друзья.
К утру шаткая лестница, ведущая на чердак, оживала.
Один за другим поднимались ученики Ивана Ивановича,
а мама спускалась вниз, в столовую, где тоже стоял холод, но
не такой лютый, как на чердаке.
Там за круглым столом сидела жена Ивана Ивановича За-
харова, художница Агапьева. Перед ней, затихая, шумел са-
мовар. На нем чайник с заваркой — сухая морковка, залитая
кипятком.
Наталия Николаевна Агапьева была замечательная аква-
релистка, почти забытая сейчас. Впоследствии меня поража-
ли ее тонкие, изысканные акварели. Особенно цикл «Обмо-
роки». Невозможно было оторваться от написанных легко
и выразительно женских головок с удивительной красотой,
грацией, скрытой тайной.
Такое же было у нее лицо, словно она сошла с одной из
своих акварелей. Бледное, нежное, словно чуть выцветшее
от времени. Глаза, слегка подкрашенные чем-то голубым.
Позади нее на стене висел большой портрет молодой
женщины, написанный в полный рост. «Дама с розой». Это
был портрет моей мамы, написанный еще до революции Ва-
лентином Александровичем Яковлевым.
Однажды этот портрет увидел любимый ученик Ивана
Ивановича—Леонид Фейнберг. Он, еще не зная мамы, глядя
на портрет, сказал: «Есть же на свете счастливцы! Что может
быть прелестней такой жены с рыже-золотистыми волосами,
с такой нежной сливочно-белой кожей!».
Так судьба, порой беспощадная, вдруг смягчается, словно
она забывает закрыть двери в обычно наглухо запертый за-
поведный мир, и тогда встречаются две родные души, пред-
назначенные навсегда друг для друга...
15
Они поженились. Мама переехала на Маросейку и вошла
в большую семью. Ее не сразу приняли и оценили.
У мамы был мягкий характер, но она обладала редким да-
ром безошибочно оценивать людей и события. Это был осо-
бый дар, она как будто видела людей насквозь.
Прошло какое-то время, и она стала всеобщей любими-
цей. И слово ее стало неоспоримым законом. Для всех, в том
числе и для нас, детей — для меня; я родилась в 1928 году,
а у меня уже был брат Сергей, на четыре года меня старше.
У мамы был скорее негромкий голос. Но он неведомо как
оставался, уже беззвучно, жить в воздухе, словно напоминая
о только что сказанных ею словах. Потом мы убедились, что
она видит дальше и глубже, чем все остальные. А люди, без-
ошибочно помеченные ее знаком, рано или поздно неизбеж-
но открывали свою скрытую, порой недобрую сущность.
Иван Иванович Захаров стал часто бывать у нас в доме
на Маросейке. Тонкий, изысканный художник и чудесный,
добрый человек. Я до сих пор помню его большие ласковые
руки. Он сажал меня на колени, гладил мои тонкие косич-
ки.
— Какая ты у меня маленькая, — часто говорил он. —
Просто карманная девочка! Ну, беги к няне!
Я слышала постоянно одно и то же: «Иди в свою комнату,
поиграй! Сергевна, заберите Сонечку!».
У взрослых были свои дела и разговоры.
Летом мы уезжали в деревню возле реки, в Тучкове. Еха-
ли с громоздкими вещами на подводе. Меня удивляло, что
лошадь молчит всю долгую дорогу.
Мы где-то ночевали. Помню, вечером на столе стояла лам-
па с каким-то странным выпуклым стеклом. Из открытого
окна налетали толстые мохнатые бабочки. Покружившись над
горячей лампой, они ударялись о стекло и замертво падали
на деревянный стол. Они уже не шевелись, хотя я трогала их
пальцами, стараясь поднять и заставить снова весело и беспо-
рядочно кружиться вокруг лампы. Но они были неподвижны.
16
Я плакала, и Сергевна уносила меня спать. Помню сухую
пыльцу на своих пальцах. Сергевна держала меня на руках
над смешным умывальником с длинным носиком. Но дере-
венский воздух быстро усыплял меня.
Так прошло несколько лет, потом родители решили снять
дачу где-нибудь поближе к Москве.
Николина Гора выплывает из путаной памяти ярче и мно-
гокрасочней.
Меня с Сергевной отправляли туда ранней весной. Сер-
гевна топила дачу дровами и, как всегда, делала это с при-
вычной сноровкой.
Под соснами еще лежал снег с коричневыми корочками
и долго не таял. Читать я не любила, я еще не обрела для себя
этот мир, полный сокровищ и чудес.
Сергевна знала только две сказки, но такие страшные,
что меня прямо-таки в дрожь бросало от ужаса. Помню сказ-
ку про мужика, который подкрался зимой к спящему медве-
дю и отрубил у него одну ногу. По ночам медведь ходил по
деревне и бормотал:
— Во всех избах спят, во всех избах молчат. В одной избе
не спят: мою ножку варят-едят, мои кости грызут...
Вторая сказка была еще страшнее, но других сказок Сер-
гевна не знала. Я боялась закрывать глаза и просила ее не
тушить свет.
Чтобы я уж слишком не скучала, мне каждую весну дари-
ли маленького цыпленка. Я растила его, играла с ним, звала
Топочкой. И меня ничуть не удивляло, что осенью перед на-
шим отъездом в город Топочка куда-то таинственно исчезал,
а у нас к обеду неизменно был бульон с лапшой и отварная
курица.
Слева от нашей дачи, сложенной из круглых некрашеных
бревен, чуть виднелся в густой зелени темный, вечно молча-
щий высокий каменный дом. Нас отделял от него плотный
забор с лентой колючей проволоки, ползущей поверху.
17
И вот однажды вдруг, как-то сразу, высокий дом ожил,
осветился снизу доверху и превратился в сказочный замок
с арками и колоннами. Послышались голоса: жестко прика-
зывающие и покорно отвечающие. Одна за другой к воротам
подъезжали машины.
Наутро в узкую щель забора я увидала людей, окапываю-
щих клумбы, сажающих цветы.
По дорожкам, усыпанным чистым песком, кружилась де-
вочка в легком голубом платье. Тонкий шелк то и дело под-
хватывали порывы ветра. Она с любопытством поглядывала
в мою сторону, видимо, тоже скучала.
На другой день в высоком неприступном заборе появи-
лась низкая калитка. И с самым беспечным смехом к калит-
ке подбежала красивая девочка в голубых шелках.
Так мы познакомились: Майя Вознесенская и я.
Мы быстро подружились. Отчасти потому, что в округе
больше девочек не было, но и потому, что Майя была до-
брая, веселая девочка, с покладистым, уступчивым харак-
тером.
Я часто приглашала ее в гости к себе, но она почему-то
всегда отказывалась.
— Не позволяют. Еще скажи спасибо, что калитку проде-
лали.
Иногда поиграть с нами выходил ее отец, полный, с ши-
роким добрым, улыбчатым лицом.
Когда я позднее познакомилась с Тихоном Хренниковым,
я сразу вспомнила лицо Вознесенского. Словно они были
родные братья, что-то объединяло их. Теплая улыбка, кото-
рая быстро появлялась на лице, мягкие складки щек, светлые
проницательные глаза.
Однажды в беличьем дупле на старом дубе появились пу-
шистые малыши.
Дворник Гаврила забрался по лестнице и сбросил нам
одного за другим трех хорошеньких бельчат. Но, очутив-
шись в траве, вертлявые бельчата исчезали так проворно,
что поймать их не было никакой возможности.
18
— Молодцы, ребята, — сказал Вознесенский, но лицо его
как-то вдруг потемнело и помрачнело. — Знают, что надо во-
время дать деру, спасать свою шкуру.
Прошло два года, мы все там же снимали дачу. Но зимой
мы даже не перезванивались с Майей.
В сороковом году мы почему-то не поехали на Николину
Гору и остались на лето в Москве. Больше я не никогда не
видала красивую девочку в голубых шелках. Она навсегда
исчезла из моей жизни.
Но судьба еще раз свела меня с дворником Гаврилой. Это
было уже после войны. Он как-то раз неожиданно, без звон-
ка, зашел к нам на 3-ю Миусскую.
Я не сразу узнала его. Он сильно постарел, сморщился,
сгорбился.
Мама поила его чаем на кухне, они долго о чем-то тихо
разговаривали.
Когда он ушел, я спросила маму:
— Как там Майя? Ты не спросила? Ведь я о ней ничего не
знаю. Прошло столько лет.
— Уехали они, — мое сердце сжалось от ее непривычно
печального голоса. —Далеко уехали. Бедные, бедные...
Я больше ничего не узнала о Майе, девочке в голубых
шелках, дочери расстрелянного отца.
Память прихотлива. Она как бы сама своевольно выби-
рает осколки из прошлой жизни. Вот выплыло из забытых
сумерек яркое воспоминание. И тут же наискосок ложится
что-то другое, казалось, навсегда забытое...
Но вот память уводит меня опять к довоенным годам.
Я снова возвращаюсь к нашей жизни на Маросейке.
Помню, в ненадежный, но все же устоявшийся теплый мир
нашей семьи вдруг резко влилась леденящая тревожная струя.
В одну из комнат нашей квартиры вселился новый жилец.
Он тут же предъявил документы. Работает здесь поблизости,
на Лубянке, ходить на работу удобно, близко. Фамилия его —
Дондыш. Детей нет. Жена. Что-то еще он объяснял маме.
19
Это был коротконогий человек, одетый в военную форму,
в странных штанах с пузырями на боках.
Его плоские металлические глаза пугали меня.
Вместе с ним в дом вошла какая-то тревога, невесомое,
но явственное предчувствие приближающейся беды.
Я же, девятилетняя девочка, была довольна появлением
наших новых соседей.
Особенно мне нравилась его молодая красивая жена. Пом-
ню ее холодную улыбку и подкрашенные красивые глаза. Она
одевалась совсем не так, как моя мама, — яркие пестрые пла-
тья, очень броские украшения, меха; но главное было другое.
На всех тумбочках и этажерках в их комнате появились во
множестве прелестные фигурки — фарфоровые дамы в пыш-
ных платьях с кружевами, кудрявые пастушки, загоревшие на
французском жарком солнце в юбочках, игриво приподнятых
ветерком.
— Это все старинное, — надменно говорила хозяйка. —
Трогать нельзя, еще разобьешь. Только смотреть.
«Какие богатые, — думала я. — Как жаль, что у нас нет ни
одной такой фигурки. Одни картины...»
Несмотря на неспокойное время, в квартире на Маросей-
ке постоянно бывали гости.
Приходила мамина подруга, очень высокая, красивая,
с подкрашенными удлиненными глазами — актриса Мария
Феофановна Судьина.
Я дружила с ее сыном. Сережа Судьин. Я училась в на-
чальных классах, он кончал школу.
Мария Феофановна приносила в изящных корзиночках
какие-то неведомые фрукты и сладости.
— Это — детям! — властно гремел на всю квартиру ее ак-
терски поставленный голос. На нашего соседа Дондыша она
не обращала внимания. Даже не здоровалась.
Как-то вечером внезапно, без звонка Мария Феофановна
и Сережа пришли к нам.
Лицо Марии Феофановны было покрыто нездоровой,
мертвенной бледностью. Сережа тоже был какой-то необыч-
20
ный, молчаливый, притихший. Он укрылся в комнате брата.
Мама увела Марию Феофановну в свою комнату и плотно за-
крыла двери.
Вдруг, к своему ужасу, я услышала гулко-хриплые рыда-
ния. Я бросилась в мамину комнату, но меня тут же выста-
вили вон.
— Его пытали! — вдруг вскрикнула Мария Феофанов-
на. — Он все подписал... Ради нас...
Потом мама вышла ко мне, глаза у нее были покраснев-
шие. Она прижала палец к губам, сделав мне знак: молчать
и не спрашивать.
После полуночи, проводив гостей, пройдя на цыпочках мимо
двери Дондыша, выходившей прямо в переднюю, мама пришла
в мою комнату. Она рассказала мне, какая беда обрушилась
на столь благополучную семью Судьиных. Сережиного отца
арестовали. А скоро Марии Феофановне объявили, что ее муж
осужден как враг народа и шпион и приговорен к расстрелу.
Сереже пришлось пройти через нестерпимое унижение.
В школе на общем собрании его заставили публично отречься
от отца, признать его шпионом и предателем, отказаться от фа-
милии Судьин и взять фамилию матери. Теперь он — Сережа
Яковлев. Иначе не бывать ему комсомольцем и не видать инсти-
тута. Ни один институт не возьмет его с такой анкетой. А ведь
мы все знали, как глубоко и нежно он любил своего отца.
Марию Феофановну общим советом выгнали из театра.
Никто за нее не заступился. Единогласно!
Теперь она, приходя к нам, тихо сидела за столом и ела
наши постные супы и тощие котлеты. Сережа тоже изменил-
ся, он был подавлен и молчалив.
Мария Феофановна тоже взяла свою девичью фамилию —
Яковлева. Ведь она была двоюродной сестрой Валентина
Александровича Яковлева, маминого первого мужа.
Приходя к нам, она тихо здоровалась с Дондышем, накло-
няя свою гордую голову. Он смотрел на нее брезгливо, вмес-
те с тем с какой-то тайной опасной насмешкой. Он словно
намекал на близкую грядущую беду.
21
— Зря вы ее приглашаете, — как-то сказал Дондыш ма-
ме. — Все-таки у вас дети... И вообще, вы бы записывали, кто
к вам ходит. Такие записочки, записочки... Очень важно.
— Какие записочки? Это зачем? — ясный и ровный голос
мамы звучал, как всегда, спокойно. — И притом Маруся, она
же моя родственница.
Я помню, как прежде, до ареста Сережиного отца, мы бе-
гали с Сережей по их просторной, залитой солнцем кварти-
ре. Теперь им оставили узкую темную комнату, где прежде
жила их домработница.
Мария Феофановна продавала все, что имело хоть какую-
то цену.
— Надо же, как у него нога растет, — жаловалась она. —
Я же вижу, жмут ему ботинки, жмут. А он молчит.
Мама давала ей деньги, она брала их с мрачным, недо-
вольным лицом.
У нас часто бывал большой друг нашей семьи композитор
Анатолий Николаевич Александров. Он был моим крестным
отцом.
Добрый, отзывчивый и на редкость рассеянный человек.
Придумать, как над ним подшутить, доставляло нам, детям,
немалое удовольствие. Ну, хотя бы подложить на его стул пи-
щащую резиновую игрушку. Он вскакивал, громко вскрик-
нув. Нас, конечно, грозно отчитывали за такие проделки. Но
мы втайне веселились.
Толик, так мы его все звали, мог войти в комнату и вдруг
с грохотом сесть на пол.
— Что такое? — бросались к нему все.
— Но ведь вчера здесь стоял стул! — с недоумением от-
вечал Толик.
Нередко они с дядей Сеней играли в четыре руки. Оба
были первоклассные пианисты, особенно дядя Сеня.
Однажды, когда мы все сидели за столом, Мария Феофа-
новна сказала:
— Все! Продаю Сережин велосипед. «Пейжо». Когда-то
муж привез его из Брюсселя.
22
— Прекрасно! — радостно воскликнул Анатолий Нико-
лаевич. — Мне так нужен велосипед на даче. До станции —
туда и обратно.
На следующий день Анатолий Николаевич поехал смот-
реть велосипед. Сережа сам ему показывал, объясняя, какой
его велосипед удобный и быстрый.
Анатолий Николаевич заплатил за него все деньги спол-
на. Поглядел на Сережу и сказал, что как-нибудь на неделе
заедет за велосипедом. Но так никогда и не заехал. Он не мог
взять у мальчика последний осколок их когда-то такой бла-
гополучной жизни.
В конце войны Анатолию Николаевичу присвоили звание
народного артиста СССР.
Но дело в том, что он уже имел это звание, так что он стал
единственным дважды народным артистом СССР. Это был
в своем роде беспрецедентный случай. Как уж там выкручи-
вался Комитет по культуре, я не знаю. Может, кого-то за это
сняли с должности, а может, что и похуже...
В 1944 году Сережа Яковлев был призван в армию. Его
полк стоял совсем недалеко под Москвой.
Как-то раз зимой Мария Феофановна попросила меня
поехать с ней. Да я и сама хотела повидать Сережу.
Мы разошлись в разные стороны, чтобы поскорее найти его.
Я шла по засыпанной снегом тропинке, и вдруг моим
глазам предстало поистине невероятное зрелище. Мария
Феофановна, огромная, в рваном зимнем пальто, нескладно
поднимая свои голенастые ноги, шла по высокой железно-
дорожной насыпи. На груди, укрыв краями пальто, она бе-
режно несла котелок с похлебкой, во много слоев укутанный
газетами, чтобы похлебка не остыла.
В двух шагах от нее, почти упираясь ей в спину штыком,
шел молоденький солдат. Сказать по правде, Мария Фео-
фановна вполне могла сойти за ловко замаскированного
шпиона.
Я бросилась к ней. Но солдат грозно крикнул мне: «Назад!
Буду стрелять!».
23
Тут, к счастью, подоспел Сережа, и все объяснилось.
Впоследствии Сережа Яковлев стал известным киноакте-
ром. Он снимался в многосерийном фильме «Тени исчезают
в полдень». Тонкий, глубоко психологичный, он сыграл глав-
ные роли во многих ставших классическими фильмах: «Дом
с мезонином», «Сорок минут до рассвета» и многих других.
Но пора вернуться к нашей довоенной жизни на Маро-
сейке.
У меня была любимая подружка, Лиля Ратнер, жившая
этажом ниже, хорошенькая, умненькая и такая же шаловли-
вая, как и я.
Сейчас, когда нам обеим уже за восемьдесят, мы часто вспо-
минаем прошлую жизнь, и обе, не сговариваясь, чувствуем, что
самые романтичные, светлые воспоминания, полные фантазий
и тайн, остались на Маросейке в том старом доме с голландски-
ми печами, с постоянно скрипящим темным паркетом.
К папе часто приходили художники. Расставляли у стен
картины, громко спорили.
Иногда приезжал Евгений Евгеньевич Лансере. У папы
были прекрасные книги с его иллюстрациями — «Хаджи-
Мурат» и «Казаки».
Перед его появлением в доме начиналась суматоха. Сте-
лилась свежая скатерть. Мама вынимала и ставила на стол
последние остатки старинного сервиза с ее инициалами.
Евгений Евгеньевич был невысокого роста, с несколько
облысевшей головой. Но твердые черты его лица, слегка
высокомерные, производили впечатление властное и значи-
тельное. Его лицо запоминалось надолго.
К столу выходил Самуил Евгеньевич. Лансере был лю-
бителем музыки, так что разговор не умолкал. Папа с вос-
хищением говорил о монументальной живописи Евгения
Евгеньевича в стиле 17—18 века, о плафонах и настенных
росписях в стиле барокко.
Как обычно, чай пили в большой комнате за овальным
столом. На противоположных стенах висели два больших
портрета. Один — «Дама с розой», написанный Валентином
24
Александровичем Яковлевым. Когда-то мой отец, глядя на
этот портрет, влюбился в маму.
Напротив висел еще один портрет моей мамы, написан-
ный в другом стиле. Совсем другой образ, другая эпоха. Так,
как увидел ее мой отец.
Мама в простом синем платье сидела, словно бы задумав-
шись. Руки, сложенные на столе, придерживали гирлянду ду-
бовых листьев. Высоко поднятые золотистые волосы обрам-
ляли ее чистый лоб. Удивительно прозрачные глаза с тайной
печалью смотрели куда-то вдаль.
Евгений Евгеньевич всегда подолгу смотрел на этот порт-
рет.
— А ведь не хуже, чем Петров-Водкин, — однажды сказал
он. — Хотя портрет Яковлева тоже можно отнести к разряду
шедевров.
Он сказал это как бы вскользь, негромко, но я запомни-
ла его слова навсегда. Это было очень справедливо сказано.
Два художника совсем по-разному, каждый по-своему, уви-
дели эту прелестную женщину.
Дни шли за днями. Я с подружкой Лилей Ратнер возвра-
щалась из школы. Иногда в передней мы встречали нашего
соседа.
— Две девочки, а топаете, как слон, — недовольно гово-
рил Дондыш. — Слишком много гостей...
Всегда одни и те же слова стали привычными, и мы не об-
ращали на них внимания.
Слишком много гостей...
— Где же советская справедливость? — негромко ворчал
в передней Дондыш. Но почему-то его слова разносились по
всей квартире. — Кому-то четыре комнаты, а людям, скажем
так, весьма уважаемым — всего одна... Нам же тесно...
Мы, дети, конечно, не догадывались, чем грозят такие
разговорчики. Только впоследствии мы узнали об этом. До-
статочно было написать донос, и соседи как-нибудь ночью
незаметно и бесследно исчезали. Освободившаяся квартира
доставалась бдительному доносчику.
25
— Им тут тесно, — негромко говорила мама.
Чем бы это кончилось — неизвестно. Но тут нам несказан-
но повезло. Достроили Дом композиторов на Третьей Миус-
ской.
У нас была большая семья. Еще бабушка, потерявшая ноги
из-за диабета. Сергевна, прописанная в квартире как мамина
тетушка. Словом, нам дали квартиру на Третьей Миусской,
и мы переехали туда со всей возможной поспешностью. Со
всеми картинами, старой мебелью и роялем.
В новом доме было много детей. Мы играли во дворе,
окруженном старыми деревьями и полусгнившими сараями.
Стоял непрерывный крик, смех, визг. Никто не боялся тогда
пустить детей во двор.
Сейчас наш двор пуст. Только мертвое железное дыхание
машин, не нашедших себе пристанища на улице.
Еще одна удача. В наш подъезд на шестой этаж въехал
друг моих родителей и мой крестный Анатолий Николаевич
Александров. Начались ежедневные встречи. Теперь, когда
дядя Сеня и Анатолий Николаевич играли в четыре руки,
мне уже открывались новые глубины классической музыки.
Тем временем Анатолий Николаевич и папа замыслили
написать оперу «Бэла» по повести Лермонтова. Ведь папа
был прекрасный литератор и поэт.
Опера «Бэла» была закончена и поставлена в филиале
Большого театра.
После войны папа был приглашен на должность главного
либреттиста Большого театра. Но об этом стоит рассказать
поподробней, это необычная история, связанная с нашумев-
шей оперой Вано Мурадели «Великая дружба». Но об этом
немного позже...
Конечно, для папы главным в его творчестве всегда оста-
валась живопись, в более трудные периоды — книжная
графика. Но его постоянно привлекала также и теория жи-
вописи старых мастеров, процесс лессировки, трехслойный
метод.
26
В молодости папа сам с увлечением писал в манере ху-
дожников Возрождения. Больше всего его привлекала школа
венецианцев.
К сожалению, в те годы он был беден, и ранние картины
его сильно потемнели, потому что олифу он покупал по де-
шевке в керосиновой лавке, которая была тут же, рядышком,
за углом. Я с удовольствием ходила с ним, темная лавка мне
казалась таинственной пещерой. Низкий темный подвал,
скользкие ступени и острый запах керосина.
Позднее папа написал большой теоретический труд «Сек-
реты живописи старых мастеров». Эта книга до сих пор не
имеет себе равных, уже и оттого, что он сам много писал
в этой манере.
Еще раньше, в бытность нашу на Маросейке, папа полу-
чил письмо на серой бумаге без обратного адреса и подписи.
Ему с благодарностью писали художники из далекого конц-
лагеря. Лишенные возможности заниматься живописью, они
от руки переписывали его книгу и передавали ее друг другу.
Тем временем в наш дом на Третьей Миусской продолжа-
ли въезжать именитые композиторы. В квартире под нами
поселился молчаливый величественный Рейнгольд Морице-
вич Глиэр. Иногда я видела его дочь, узкую, какую-то пло-
скую, быструю. Помню ее длинные серьги с сапфирами.
Шум и дребезг доносились сверху. Выше этажом сочинял
свою лихую музыку композитор Покрасс. Но это длилось не-
долго. Коротенький, кругленький, он бегом сбегал по ступе-
ням. В соседнем подъезде жил его брат. Они недолго остава-
лись в нашем доме. Исчезли, уехали, куда — не знаю.
Много лет спустя мне рассказали, что Сергей Сергеевич
Прокофьев как-то прошелся по нашему дому, поморщился
и сказал: «Здесь слишком шумно и много музыки». И наот-
рез отказался от предложенной ему квартиры.
Сергей Сергеевич переехал на улицу Чкалова, возле Кур-
ского вокзала, но в тихом глубоком дворе.
Моя жизнь сложилась так, что я позднее много раз быва-
ла в той квартире, уже разоренной, разграбленной, где са-
27
мое яркое воображение не могло нарисовать живущего там
Сергея Сергеевича. Но это все случилось много лет спустя.
Конечно, квартира в нашем доме не пустовала, и вместо
Покрасса в квартиру № 50 прямо над нами въехал Тихон Ни-
колаевич Хренников. Я сохранила о нем, о его жене Кларе
Арнольдовне самые добрые воспоминания. О них я еще мно-
гое расскажу и не один раз, но всему свое время.
Замечу только, что лицо Тихона Николаевича напомнило
мне кого-то, но я не сразу вспомнила, кого именно. Широкие
мягкие щеки. Добрая улыбка. Вознесенский. Расстрелянный
Вознесенский. Это были люди одной породы, добрые, порядоч-
ные, насколько позволяли это занимаемые ими высокие посты.
Музыка безобидна, а политика убивает наповал.
Мы прожили рядом с Хренниковыми долгие годы, встре-
чаясь почти ежедневно.
Дверь их квартиры часто открывала Клара Арнольдов-
на, по-своему красивая, с короткой стрижкой, похожая на
античного мальчика. Она несколько раз позировала мне.
Сохранился незаконченный карандашный рисунок. Он мне
дорог как воспоминание.
Но, пожалуй, ближе всего в эти довоенные годы нам была
Маргарита Осиповна Алигер. На нашей лестничной площад-
ке было всего две двери, ее и наша, друг напротив друга.
У Маргариты Осиповны были две дочери, обе моложе
меня, совсем еще девочки.
До сих пор, как видение, мне помнится старшая из них —
Таня. Если определить ее одним словом, то точнее не ска-
жешь — «прозрачность».
Прозрачны были ее легкие вьющиеся волосы, пушистым
нимбом окружавшие прелестную головку. Правильные чер-
ты лица, заметная, какая-то болезненная бледность, на ви-
сках голубые жилки.
Однажды, выходя из подъезда, я услышала чей-то горест-
ный плач. Мимо меня, заливаясь слезами, по улице прошла
маленькая девочка лет пяти, не больше.
28
За ней как завороженная, не спуская с нее глаз, словно
в забытьи, шла Таня. Невыразимая печаль была на ее лице.
Девочка прошла мимо нашего подъезда — Таня за ней.
Девочка свернула в арку ворот, ведущих во двор. Таня, не
сводя с нее глаз, разделяя ее неизвестное, таинственное горе,
как во сне, прошла за ней. Она шла, не отдавая себе отчета,
куда и зачем идет.
Ее младшая сестра Маша, отнюдь не красавица, обладала
каким-то неотразимым обаянием, загадочным притяжени-
ем, что красной нитью прошло через всю ее жизнь. Но это
было уже позже, когда она подросла.
У девочек была няня, которая по законам общих инте-
ресов тут же подружилась с Сергевной. Они часто шепта-
лись на кухне, выдавая семейные секреты. Так я узнала, что
Маша — дочь писателя Фадеева и что он часто ходит по ули-
це в надежде увидеть Машу. А Маргарита Осиповна — у, ха-
рактер! — не дает им встречаться и в дом его не пускает.
Сама Маргарита Осиповна, скорее сухая, жесткая, а не
худенькая и стройная, часто приходила к маме. Они подру-
жились, да и не могло быть иначе. Мама обладала особым
даром привлекать к себе хороших людей, даже если они от-
личались крутым, нелегким характером.
Мама не любила обеды в обычном, традиционном пони-
мании, предпочитая чашечку кофе со свежим калачом, на-
мазанным маслом.
Я частенько бегала за ними в знаменитую Филиппов-
скую булочную, приютившуюся за Елисеевским магазином.
И приносила маме еще теплые калачи.
Помню маму и Маргариту Осиповну, сидящих рядом,
окруженных запахом крепкого домашнего кофе.
Маргарита Осиповна обычно была в строгом костюме.
— Костюмы для дам должны шить только мужчины, —
сказала она однажды. — Иначе это — не костюм.
У меня еще будет случай рассказать о судьбе этой семьи,
всему свое время.
29
А пока что мы бегали во дворе и возле дома. Из подъезда
выходил жирафообразный Кабалевский, пугая нас огром-
ным красно-коричневым родимым пятном на шее. Он никог-
да не здоровался с нами, просто не замечая стайку мелюзги,
да нам это было как-то и ни к чему.
Выплывал из подъезда округлый Арам Ильич Хачатурян
с неизменной улыбкой. Ласково спрашивал каждую девочку,
как ее зовут, чтобы тут же забыть и ее имя, и ее саму.
Тогда мы не очень-то интересовались нашими соседями,
может быть, только те из детей, кто занимался музыкой.
Бывало, когда открывалась какая-то дверь, тишину на-
шей лестницы нарушали звуки музыки, обычно что-то часто
звучащее по радио, знакомое, изредка — оригинальное.
Но вдруг, казалось бы, по тем временам не особо значи-
тельное событие прямо-таки взбудоражило весь дом.
Во втором подъезде жил известный дирижер Григорий
Гамбург. Он работал на киностудии, и часто в титрах в на-
чале фильма мелькала его фамилия. У него был любимый,
какой-то особо породистый бульдог.
И вдруг этот бульдог взбесился. Как это случилось — не-
известно, но тем не менее...
Началась суматоха. Приходили молчаливые медсестры
и делали уколы от бешенства всем соседям.
Мамина подруга художница Вера Яковлевна Тарасова да-
вала уроки рисования дочери Гамбурга Норе, моей подруге.
Она напрасно старалась отбиться от уколов, медсестры были
неумолимы.
— Я ехала в лифте с Гамбургом, а не с его собакой! —
упорно твердила Вера Яковлевна, но все было бесполезно.
— Взбеситесь, а нам отвечать...
Но на этом тревоги не кончились. Пришло распоряжение
усыпить всех животных, живущих в нашем доме.
Мой крестный Анатолий Александров заявил, что не пе-
ренесет, если усыпят его любимого серого кота.
Тут мы с папой взялись за спасение наших любимцев.
Быстренько написали письмо в какую-то высшую санэпи-
30
демическую инстанцию. У меня, как ни странно, сохранил-
ся черновик этого нелепого письма, помятый и пожелтев-
ший.
«Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что кот народ-
ного артиста СССР профессора А. Н. Александрова, а также
остальные коты прочих композиторов никогда не выходили
из квартир и не могли быть в контакте со сбесившейся со-
бакой Гамбурга Г. Н.».
С этой бумагой я и моя подружка, жившая в соседнем
подъезде, пошли по квартирам.
Мы начали с квартиры Рейнгольда Морицевича Глиэра.
Он благосклонно и равнодушно кивнул тяжелой львиной
головой и подписал: «Народный артист СССР, лауреат Ста-
линской премии, Р. М. Глиэр».
Дальше пошло легче. Мы забежали к Вано Мурадели.
— Ну как же, ну как же! — сказал Вано Мурадели и под-
писал.
Потом по очереди зашли к Шапорину, Кабалевскому, Ха-
чатуряну и другим именитым жильцам нашего дома.
Все охотно подписывались, не забывая присовокупить
все свои звания и регалии.
В последнюю очередь мы зашли к Тихону Николаевичу
Хренникову.
Он посмотрел на наше прошение, уже изрядно отяже-
левшее от весомых титулов и званий, и расхохотался весело
и жизнерадостно.
Я, собственно, описываю эту незначащую историю, по-
тому что потом долгое время я не слышала такого беззабот-
ного заразительного смеха.
— Это же надо отослать в «Крокодил»! — воскликнул он.
И подписался: «Т. Хренников». Конечно, без упоминания
своих многочисленных заслуг и наград.
Было начало лета 1941 года. Приближалась роковая дата
22 июня.
Но с утра, еще ни о чем не подозревая, я с няней Сергев-
ной отправилась на площадь Пушкина в маленький киноте-
атр (еще не был построен кинотеатр «Россия», да и статуя
31
Пушкина еще стояла на фоне неба на своем законном и при-
вычном старом месте).
Мы посмотрели фильм «Три мушкетера». Скажу по прав-
де, с тех пор у меня нет сил смотреть этот фильм — сразу
вспоминается слишком многое. И я не беру в руки эту вели-
колепную книгу, столь любимую мною прежде.
Но это можно понять. Мы вошли в кинотеатр, и это был
один город, одна страна, а вышли из кинотеатра в другой го-
род, в другую страну, в другую эпоху.
Люди на площади торопились кто куда, некоторые бежа-
ли. Мне послышался в отдалении чей-то вскрик и приглу-
шенные рыдания. Нет, почудилось.
Только вернувшись домой, мы узнали, что по радио в две-
надцать часов дня выступал Молотов. Война! Страшное, ги-
бельное слово.
— Господи, помилуй! — перекрестившись, сказала Сер-
гевна. — С кем это война? Откуда?
С удивительной быстротой окна во всех домах были за-
клеены крест-накрест бумажными полосками. По вечерам
в небо, неспешно покачиваясь, поднимались толстобрюхие
аэростаты.
В сумерках папа и Сережа поднимались на крышу наше-
го дома. Готовились, если будут налеты, сбрасывать с крыши
зажигательные бомбы.
Тут же, усевшись кружком, сидели девушки — бойцы
ПВО. Они весело переговаривались, пили чай, передавая
друг другу большой голубой термос.
Как-то днем мы с мамой отправились на площадь Вос-
стания за какими-то нужными для отъезда документами.
И остановились, не могли перейти улицу.
Мимо нас прошел отряд добровольцев, уходивших на фронт.
Я запомнила слезы на глазах мамы. Мы не отрываясь
смотрели на этих мальчиков, с уже суровыми по-мужски
лицами.
Разного роста. Одни крепкие, с юношеским румянцем,
другие бледные, худые, многие в очках. Мимо прошел еще
32
совсем мальчик, со впалой грудью, тонкими руками. У всех
за спиной скатка шинели и котелок. Какая судьба ждала их
на фронте?
В скором времени началась эвакуация. Из Москвы вывез-
ли всех профессоров Московской консерватории с семьями.
Пожалуй, наша семья была самой многочисленной: Самуил
Евгеньевич, папа, мама, я, Сережа, тетя Белла с дочкой Ири-
ной и, конечно, Сергевна.
Так мы выехали из Москвы. Несколько вагонов занимали
артисты театра Станиславского и МХАТа. Весь цвет артисти-
ческого мира.
На станциях я видела этих знакомых по фотографиям
и афишам артистов. Большинство пожилые или совсем ста-
рые, но какие значительные, запоминающиеся лица!
Эта часть нашего странствия прошла вполне благополуч-
но. Мы ни разу не попали под бомбежку. Хотя немцы бомби-
ли пароходы, плывшие по Волге до нас и после.
До Минвод мы ехали в старых вагонах, шатких и скри-
пучих, без полок, с одной широко раскрывающейся дверью.
Вагон был разделен надвое надежной доской. На второй по-
ловине стояли тихие, уставшие от тряски лошади.
Не знаю, как перенесли такое соседство старые актеры.
С нами в вагоне ехал учитель Самуила Евгеньевича профес-
сор Гольденвейзер с сестрой. Помню, они обсуждали что-то
и спорили о сонатах Бетховена.
Так или иначе, мы доехали до Нальчика, поражаясь вдруг
окружившей нас непередаваемо прекрасной природой. По-
том на автобусах нас отвезли в просторный санаторий «Зо-
лото-платина», видимо, когда-то предназначенный для чле-
нов правительства.
Стройное здание с колоннами и мраморными террасами.
Во все стороны разбегались ровные дорожки, посыпанные
песком с какими-то блестящими камешками.
А вокруг росли нескончаемые фруктовые деревья. Изго-
лодавшись за дорогу, мы, девочки, быстро насытились пере-
33
зрелыми яблоками и грушами. Рвали грецкие орехи в зеле-
ных одежках.
Раздутые, словно бы наполненные жиром, груши грузно
падали на землю и расплющивались.
Два раза в день мы слушали по радио сообщения «От Со-
ветского Информбюро». Благородный, одновременно вол-
нующий и спокойный, незабываемый голос Левитана.
Сердце замирало и падало, когда мы слышали: нем-
цы движутся в направлении Минска, Полоцка, Витебска...
Каждый день — новые города. Сводка обычно кончалась со-
общением, сколько немецких танков подбили наши войска,
сколько немцев взято в плен.
В середине лета появилось сообщение — противник дви-
жется в направлении Смоленска. Смоленск! Все молчали,
никто не сказал ни слова. Ведь уже недалеко Москва!
Скоро прошел слух, что нас отправляют в Тбилиси. Зна-
чит, немцы движутся к Кавказу.
Наша терраса огибала весь санаторий. Из высокой две-
ри не выходила, а легко выпархивала невысокая Книппер-
Чехова, уже немолодая, но всегда оживленная и подвижная.
Блестели ее смородиново-черные быстрые глаза, когда-то
пленившие великого Чехова.
Неспешно выходил Качалов полюбоваться кроваво-крас-
ным южным закатом и медными вершинами далеких гор.
Всегда красивый и необыкновенно элегантный. Этакий пре-
старелый принц. Не король, а именно принц, в нем жила
неугасимая вечная молодость.
Тут же знаменитая балерина Семенова давала уроки
юной девушке. Та стояла неподвижно, держа в пальчиках
соленый огурец. Она ставила ей руку. Шел мелкий теплый
дождь, по-южному быстро опускались сумерки, а девушка
все стояла, вытянувшись, держа в пальцах все тот же скольз-
кий огурец.
За ближайшей к нам дверью жил известный врач и пи-
сатель Викентий Викентьевич Вересаев, автор знаменитой
34
книги о Пушкине. В его тени жила худенькая жена, всегда
молчаливая Мария Гермогеновна.
Скоро мы переехали в Тбилиси. Куда переехали все акте-
ры МХАТа — я толком не знаю.
Тбилиси мне запомнился как теплый гостеприимный го-
род, полный добрых людей.
Нам удалось снять маленькую тесную квартирку недале-
ко от подножия горы Давида на кривой и узкой улочке. Ули-
ца Кипиани.
Я ходила в школу, у меня нашлись подруги в классе. Бли-
же всего мне была Нателла Имедадзе. Потом долгие годы мы
переписывались с ней.
Я бывала у них дома. Они знали, что я подголадываю,
и всегда старались меня накормить.
Однажды я пришла к Нателле — семья готовилась к ка-
кому-то празднику. Мы все кололи и чистили грецкие орехи
и мешали их с разными травами.
Я подумала: как это неразумно. Орехи такие вкусные, и глав-
ное — сытные, зачем мешать их с какой-то пахучей травой?
Наш невысокий старенький дом квадратом окружал не-
большой двор. По вечерам слышались звонкие женские го-
лоса. Хозяйки переговаривались, снимали с веревок высох-
шее белье и складывали его в плетеные корзины.
Самуил Евгеньевич начал преподавать в Тбилисской кон-
серватории. И почти каждую неделю — концерт.
В январе в большом зале на улице Руставели собирались
все музыканты и любители классической музыки. Первые
концерты: Шопен, Шуман, Лист...
В апреле и мае Самуил Евгеньевич играл все тридцать две
сонаты Бетховена, разделив этот цикл на шесть концертов.
Просторный зал всегда переполнен, не может вместить всех
поклонников блистательного искусства Фейнберга.
Мы возвращались после концерта по узким неровным улоч-
кам к нам наверх, обремененные огромными букетами и кор-
35
зинами цветов. У нас не было ни одной вазы, только заветное
ведро, которое ревностно и строго охраняла Сергевна.
Приходилось оставлять цветы во дворе. Я с нашего шат-
кого балкона смотрела, как одна за другой из дверей выхо-
дили грузинки и бережно ставили цветы в глиняные вазы
и кувшины.
Помню, как однажды весной я спускалась к проспекту Ру-
ставели и вдруг замерла на месте. На постаменте, сколочен-
ном из грубых, некрашеных досок, стояло высокое старинное
кресло, обитое наполовину истлевшим малиновым бархатом.
В кресле сидел профессор Игумнов, хороший музыкант
и преподаватель, но уже не дающий концертов. Он был слиш-
ком стар. Игумнов крепко спал, торжественно возвышаясь,
как бы плывя над толпой.
Смуглый мальчик уже давно начистил ему ботинки до
блеска. Он еще водил по ним бархоткой и не знал, что ему де-
лать с этим спящим величественным старцем. Седые негустые
волосы падали Игумнову на лоб. Я разглядела его большие хо-
леные руки, он крепко держался за подлокотники кресла.
По правде говоря, я тоже не знала, как быть: разбудить
его или нет.
Но тут Игумнов открыл глаза, шевельнулся, медленно
поднял руку и вытер рот с набежавшей по углам губ слюной.
Я прошла мимо.
Нам посоветовали купить в дорогу пачки чая. Это было
единственное, что продавалась в магазинах города. Так мы
и сделали, хотя даже не догадывались, как они нам еще при-
годятся.
Эвакуация продолжалась. Бесконечный путь, тонувший
во мраке и безнадежности.
Мы ехали в поезде мимо ржавых, рыжих скал, маленьких
городов, поселков, утонувших в зелени фруктовых деревьев.
Остановка в пути. Баку. Нашей семье повезло. Нам вы-
делили один на всех номер в гостинице. Мама и Самуил Ев-
36
геньевич спали на кроватях, мы все кто на чемоданах, кто
просто на полу.
На другой день мы с папой пошли навестить Анатолия
Николаевича Александрова, как все мы его по привычке зва-
ли — Толик. Ему и его родственникам повезло меньше, чем
нам, им дали маленькую комнату в старом Баку.
Я с интересом смотрела на обмазанные глиной низкие
домики. Вокруг них кипела жизнь. Женщины в пестрых
одеждах и в низко завязанных платках что-то жарили на же-
лезных печурках прямо на улице. Заманчивый, обворожи-
тельный запах, но это не для нас.
Комната, где кое-как поместились Толик и вся семья, была
совсем крошечная. Толик лежал на каком-то ложе, сбитом из
досок, подняв ноги вверх по стене. Вытянуться не было ника-
кой возможности.
Мы знали, что у него на ноге гнойный фурункул, и за-
хватили из запасов белый стрептоцид и остатки бинта. Как
смогли, перевязали ему ногу.
Мы сообщили ему, что завтра утром всех консерваторцев
перевозят на пароходе через Каспийское море в город Крас-
новодск.
Море было мерцающим и синим. Всю дорогу я просиде-
ла на палубе, глядя на игру невысоких волн. Я еще никогда
не видела моря. Потом я все-таки уснула, прислонившись
к какому-то ящику.
Наконец, мы приплыли в Красноводск и по шатким мосткам
сошли на берег вместе со всем нашим громоздким скарбом.
Недалеко находилась железнодорожная станция. Вокзал
был забит людьми, ожидающими поезда. Мы все устроились
у стены, где меньше дул ветер. Ближе к ночи ветер усилился,
неся из пустыни холодный колючий песок.
Недалеко от нас на чемоданах сидели Александр Борисо-
вич Гольденвейзер с сестрой, накрывшись одним пледом.
Я услышала глухие старческие рыдания. Это плакал Алек-
сандр Борисович, обнимая сестру. Слышать это было невы-
носимо, но что я могла сделать?
37
К нам подходили дети с маленькими мешками за спиной,
оборванные, выросшие из одежек, многие босые, — дети ра-
стут быстро даже во время войны.
— Тетенька, дай попить! — ко мне подошел малыш в од-
ной рубашонке, даже без штанишек. Видимо, постирать их
не было возможности.
Пробегали измученные воспитательницы.
— Не знаете, когда подадут вагоны? Дети голодные, хо-
тят пить.
Но мы ничего не знали, как и они. И, как они, были без воды
и хлеба. А где-то рядом в сумерках сочно плескалось море.
К счастью, ночью их увезли. Сил не было смотреть на их
голые вздутые животы и босые ножки.
А под утро подали еще один состав, и нас погрузили в ва-
гоны. Нам выдали на дорогу по полбуханки хлеба на челове-
ка. Это было великое богатство.
Но главной проблемой оставалась вода. В нашем вагоне
было одно ведро на всех. Его бдительной владетельницей
была няня Сергевна.
Когда наш поезд останавливался на большой станции,
папа и мой брат Сергей со всех ног бежали к вокзалу, чтобы
успеть наполнить ведро драгоценной водой. Добывать воду
было непросто. Никогда не было известно, сколько стоит по-
езд. Он мог тронуться в любую минуту, даже не загудев.
Потом к нам подходили по очереди все, кто ехал с нами
в вагоне, и Сергевна торжественно разливала воду по чаш-
кам и кружкам.
Однажды Толик, рассеянный, как всегда, спускаясь с верх-
ней полки, опустил ногу в ботинке прямо в ведро, полное дра-
гоценной воды.
Я запомнила этот случай, потому что его нещадно брани-
ла Сергевна.
— Ах ты, черт косолапый! — кричала она. — Не видишь,
куда ногу ставишь? Глаза забыл?
Ну, что поделаешь, всем пришлось пить эту воду, ведь все
томились от жажды.
38
Иногда поезд мог стоять целые сутки между станциями
в пустыне. За окном песочные барханы, как застывшие вол-
ны, уходили за горизонт. Ветер шевелил их, срывая с них
тонкие струйки песка.
Жара, духота, мы пропускали военные эшелоны с танка-
ми, солдатами, они ехали с востока на запад.
Наконец поезд трогался, хоть какой-то сквознячок.
Но вот долгожданный конец пути. Фрунзе.
Площадь перед вокзалом была покрыта неровным бугри-
стым асфальтом. Зато из крана, торчащего из стены, текла
немного мутная, теплая вода. Пей, сколько хочешь.
Мы перетащили нашу поклажу через рельсы. Нестерпимо
жгучее южное солнце...
Кто-то сказал, что надо самим искать комнаты. Я и мама
пошли вдоль улицы. С двух сторон в арыках медленно текла
гниловатая вода.
Мы стучались в двери низких домов. Из-за закрытой две-
ри слышался досадливый голос:
— Проходи, проходи! Не сдаем!..
Видно, всем уже надоели эвакуированные.
Я видела, как побледнело и осунулось мамино лицо. Время
от времени она доставала из сумки маленький флакон с нит-
роглицерином. Лизнув пробочку, бережно прятала флакон.
Похоже, этой негостеприимной улице не будет конца.
Казалось, все сделано из плотной пыли: дома, серые тополя,
заборы...
Мы вернулись обратно на вокзал.
За это время всем выдали карточки на хлеб. Нам, ижди-
венцам, — 400 граммов.
Бесценные четыреста! Хлеб был сырой, попадались из-
мельченные древесные опилки, но главное было растянуть до
вечера хотя бы маленький кусочек. Но это удавалось редко.
На первое время всей консерваторской профессуре выде-
лили одну комнату. Мы спали рядком на полу вдоль одной
стены, укрываясь, кто чем мог.
39
Мне досталось место около профессора Гузикова. Он был
скрипач и спал, не расставаясь со своей скрипкой, прижимая
к себе черный футляр. Он упрекал меня, что ночью я пере-
тягиваю на себя его пальто и он зябнет.
У противоположной стены лежала, постанывая, моя двою-
родная сестра Ирина, укрытая каким-то одеялом. Папа как-
то разыскал среди наших вещей градусник. Температура за
39 градусов. Похоже, что у нее был тиф. Но ни лекарств, ни
врача. Помню, ночью папа вставал, невольно будя соседей,
и поил ее водой.
Надо отдать должное обитателям нашей комнаты, никто
не упрекнул нас, не сказал ни слова, что Ирина больна неиз-
вестно чем и может быть заразна.
В сложных жизненных ситуациях на помощь приходят
скрытые энергетические силы, безмолвно спящие в обычное
время.
Скорее всего, у Ирины действительно был тиф, но через
некоторое время температура спала, она стала выздоравли-
вать.
Вскоре нам выделили одну комнату, теперь уже только на
нашу семью. Неуютный каменный дом.
Осень мы прожили довольно-таки сносно, но потом ока-
залось, что комната не отапливается, а зимы во Фрунзе до-
статочно суровые. Мы спали не раздеваясь, в пальто, заку-
тавшись во что могли.
Дядю Сеню пригласили в Ташкент. Там он мог препода-
вать в консерватории, давать концерты. В Ташкенте он ис-
полнил цикл из двенадцати сонат Бетховена, хоральные пре-
людии Баха, произведения Шумана, Скрябина... И все это
при переполненном зале.
Он жил у своих друзей, в отдельной комнате, и каждый
его приезд во Фрунзе был как праздник для нас. Мы радова-
лись встрече, а он старался хоть как-то подкормить нас.
Первое время нас очень выручали пачки чая, которые мы
купили в Тбилиси.
40
Ранним утром я шла на базар, подходила к телегам, чем-
то высоко нагруженным, укутанным тряпками, рваными
коврами. Наверху обычно сидел старый киргиз, молчаливый
и неподвижный, скрестив ноги, в толстом халате.
— Чай хочешь? — кричала я.
Иногда изваяние оживало, молча кивало головой.
Пока были деньги, я покупала на базаре кукурузную муку
и варила мамалыгу. Кашу без масла, чуть подсоленную. У ме-
ня были два заветных кирпича, между ними я подкладывала
под котелок ветки и щепки. Раскладывала дома кашу всей
семье по мискам и чашкам. Запомнила на всю жизнь — каж-
дому по семнадцать ложек жидкой безвкусной каши. Сем-
надцать ложек!
Поистине нелегким испытанием и соблазном был яркий
осенний южный базар.
Уложенные пирамидами, излучая свет, сияли продолго-
ватые золотистые дыни, тяжелые, чуть прозрачные гроздья
винограда, сложенные горкой пушистые сочные персики.
Сводил с ума запах горячего шашлыка и плова. Все это
готовилось прямо тут же, на площади.
Киргизки в цветных платках, завязанных по самые брови,
раскладывали плов по железным плоским тарелкам и орлиным
взором следили, чтобы пустые тарелки возвращались назад.
Иногда горячий плов накладывали просто на куски газе-
ты. Счастливец, съевший жирный плов, равнодушно кидал
промасленную бумагу на землю. Тут же налетала стайка го-
лодных мальчишек. Они вырывали друг у друга пропитавшу-
юся жиром середину бумаги и жевали ее. Сказать по правде,
я бы с удовольствием присоединилась к ним, но слишком
многое останавливало меня.
Тем временем кончился чай, привезенный из Грузии, —
кончилась наша заветная еда, кукурузная мамалыга.
В это время папе заказали десять портретов генерала Пан-
филова. Его портреты висели повсюду, во всех официальных
учреждениях, в школах, даже в пустых витринах магазинов.
41
Для работы папе выдали готовые холсты на подрамни-
ках, кисти, краски. Разграфив фотографию на клеточки, он
переносил рисунок на холст. Огромный профессиональный
опыт — папе приходилось делать большие, монументальные
работы, расписывать в Москве вокзалы, театры, так что ра-
бота была скорее унылой, однообразной, чем трудной. Боль-
ше всего отнимали время ордена на груди Панфилова.
Вскоре три первых портрета были готовы. Мы с папой
понесли их, еще не до конца просохшие, через весь город
в какое-то мрачное здание с солдатами у входа.
Нас пропустили в большой зал, где за длинным столом,
покрытым, как скатертью, зеленым сукном, которое свисало
почти до пола, сидели военные, в основном уже немолодые,
с холодными, важными лицами.
Мы расставили на трех стульях принесенные портреты. Воца-
рилось долгое, мне казалось, бесконечное, гнетущее молчание.
Я забилась в темный уголок, невольно подумав: нет, по-
хоже, не видать нам больше нашей кукурузной мамалыги.
А мы ведь так рассчитывали получить хоть немного денег.
Наконец тягостное молчание прервал строгий военный —
видимо, глава всей этой комиссии. Мне показалось, что он
глядит на портреты как-то брезгливо, недовольно.
— Не похож, — сказал он. — А ордена написаны просто
небрежно. Вы понимаете, какую ответственную работу вам
поручили?
— Написано кое-как, — подтвердил второй.
И начался полный разгром.
— Переписать! — было общее заключение комиссии.
С другой стороны комнаты стояло больше десятка порт-
ретов, повернутых лицом к стене.
— А эти уже приняты? — спросил папа.
—Да, — надменно и уверенно сказал кто-то из военных, —
эти уже приняты.
Папа, проходя мимо, повернул один из портретов, стоя-
щих у стены. Это была грубая, аляповатая мазня, примитив-
ная, собственно говоря, совершенно непрофессиональная.
О сходстве даже не приходилось говорить.
42
— Это вы приняли, а как же мои портреты? — спросил папа.
— Мы берем ваши портреты, — не отвечая на его вопрос,
недовольно сказал старший из военных. — Вам завезут еще
двадцать холстов. Только уж постарайтесь без халтуры. Ду-
маете, если вы из Москвы, так вам можно писать тяп-ляп?
Внизу в узком окошечке папа получил какие-то деньги,
и мы, очень довольные, отправились домой.
У нас появилась на обед капуста и еще что-то съестное.
Конечно, ни мясо, ни масло мы купить не могли, старались
растянуть «панфиловские» деньги, не знали, будут ли еще
какие-то заработки.
Папе прислали еще холсты на подрамниках. Он томился,
но старался писать как можно тщательней.
Я удивлялась: почему Панфилов? Почему всюду его порт-
реты?
Мы как-то пошли с папой в кинотеатр «Алатоо», и я увиде-
ла на парадном месте написанный папой знакомый портрет.
Впоследствии я узнала, что хотя генерал Панфилов ро-
дился в поселке Петровское где-то под Саратовом, здесь,
во Фрунзе он формировал дивизии из новобранцев. Вместе
с ними он отправился под Москву, когда немцы были уже со-
всем близко.
Они проявили истинную доблесть. Подвиг двадцати вось-
ми панфиловцев вошел в историю. Генерал Панфилов погиб
вместе со своими бойцами 18 ноября 1942 года.
Зима выдалась холодной, но не это наполняло нашу не-
уютную комнату тоской и тревогой. Сережа был мобилизо-
ван, отправлен на фронт под Сталинград, и от него переста-
ли приходить письма.
Мама, всегда такая сдержанная, не могла скрыть от нас му-
чительного беспокойства и ожидания. Сердце у нее было сла-
бое, больное. Она стала больше лежать на освободившемся
Сережином месте. Писем не было месяца три, а то и больше.
Однажды, когда папа получил очередные деньги за пор-
треты, я купила маме на рынке пачку «Беломора». Мама
43
курила с той самой папиросы с опиумом, которую ей дал
когда-то ее друг доктор в Омске в ночь, когда умер ее муж
Валентин Александрович Яковлев.
Во Фрунзе она курила дешевый табак, делая самокрутки
из газетной бумаги. Я думала, она хоть немного обрадуется
пачке «Беломора». Но ей было все равно.
Я бесконечно любила маму и страдала, не зная, чем ее
утешить, успокоить. Она еще больше похудела, лицо ее от-
давало нездоровой бледностью.
И вот, наконец, первое письмо от Сережи.
Память, независимо от нас, своевольно выбирает что-то
особенно яркое и выразительное и порой навсегда прячет
в своих тайных закромах.
Сережа в числе прочего описывал пленных немцев. За-
помнила на всю жизнь. Молодой немец с отмороженными
по локоть руками. Ему становилось легче, если он на морозе
подставлял свои обреченные руки под струю ледяной воды,
льющуюся из колонки.
Женщины из соседних полуразрушенных деревень при-
ходили, приносили пленным кой-какую еду. Подкармливали
их и проклинали.
Мама ожила и не обращала внимания на неустройство
нашей жизни.
Больше всего нас изводило несметное множество клопов,
которыми был заражен весь дом. Соседи нас научили зажи-
гать «мигалку» — баночку с техническим маслом и веревоч-
ным фитильком. Я обжигала каждый вечер полчища клопов,
гнездившихся повсюду. Но они приноровились ползать по
потолку и ловко падать прямо на спящих.
Весной 1943 года все изменилось. Пришел вызов дяде
Сене. Он мог вернуться в Москву и взять с собой кого-нибудь
одного из нашей семьи.
Предстояло засушливое и пыльное южное лето. Мы все
решили, что с дядей Сеней поедет в Москву Мария Иванов-
на. Там она легче перенесет летнюю жару.
44
Мама была как бы охранным центром нашей семьи. Для
Самуила Евгеньевича она была, если так можно выразить-
ся, его Прекрасная дама, столь преданно и благоговейно он
к ней относился.
Папа тоже считал, что так будет лучше, мама лежала
с сердечными приступами все чаще.
Надо сказать, что братья, мой отец и Самуил Евгеньевич,
были необычайно близки и дружны.
После смерти дяди Сени папа посвятил долгие годы, свои
последние годы, реставрации его неоконченных книг. Буду-
чи великолепным литератором, прекрасно чувствуя музыку,
он дописал теоретические труды своего брата, посвященные
технике исполнения и глубинному пониманию классиче-
ской музыки. Объединял отрывки, вспоминал случайные
разговоры.
Но я отвлеклась и снова возвращаюсь к последним меся-
цам нашей жизни во Фрунзе.
Мы с папой провожали маму и дядю Сеню, помогли им
как-то устроиться в переполненном вагоне.
Взрослая девочка — мне было почти пятнадцать лет, — я
горько расплакалась, когда тронулся вагон и мама грустно
улыбнулась мне на прощанье, чуть видная за мутным, туск-
лым стеклом окна.
Мы возвращались в нашу опустевшую убогую комнату.
По дороге мы увидали на пыльной улице маленького без-
домного осленка. Как это могло случиться? В то время осле-
нок недешево стоил на рынке. Я плакала, обнимала и глади-
ла этого осленка. У меня слились воедино этот маленький
бездомный осленок, тощий и голодный, с глазами, полны-
ми невыразимой тоски, и я, только что проводившая маму.
А Москва казалась недостижимой и бесконечно далекой.
Словно заперта страшным замком войны.
Но вот, наконец, наступил долгожданный день: мы полу-
чили документы и могли возвратиться в Москву.
45
Поезда были переполнены, плотная толпа осаждала каж-
дый вагон. Папа просунул меня в окно. Окна были большие,
рамы опущены. Духота, жара. Потом я увидела в конце ва-
гона папу. Как-то все протиснулись в узкие двери и теперь
искали место, где бы присесть.
Наконец поезд тронулся, и я испытала забытое за войну
чувство внезапного счастья. Проплыли станция и деревья,
покрытые тройным несмываемым слоем пыли.
Я ехала на третьей полке, под самым потолком вагона.
Было душно, я обливалась потом. Но все это не имело значе-
ния. Ведь я ехала в Москву, к маме.
По дороге многие покупали соль,—это было единственное,
что продавалось на станциях. Кто-то сунул серый грубый ме-
шок с солью на мою третью полку. Я сжалась в комочек на са-
мом краю и уснула. Видимо, во сне я распрямилась и свалилась
прямо на спину какого-то солдата, который, согнувшись, сидя,
спал на нижней полке. Он помог мне снова забраться наверх.
Но постепенно исчезли мертвые волны пустынь, появи-
лись озерца травы и кусты. В вагоне стало просторней, кое-
кто сходил на промежуточных станциях. Исчез мой сосед по
полке — сыроватый мешок с солью. Днем я спускалась вниз
и с жадностью смотрела на живые зеленые перелески. Иног-
да мы пропускали военные эшелоны. Но это было не так час-
то, ведь мы тоже ехали на запад.
Я извелась от нетерпения, подъезжая к Москве. Кто нас
встречал на московском вокзале — не помню, но мамы не
было. Она неважно себя чувствовала. Но она прислала мне
бутерброд: тонкий кусок белого хлеба, которого я ни разу не
ела за время войны, и уж совсем невозможное лакомство —
два кружочка любительской колбасы.
Наконец мы приехали домой, я увидела маму. Она стран-
но изменилась. Осунулась, была болезненно бледна. Появи-
лись новые, незнакомые мне морщинки. Но она была весела,
ровна. От нее исходил утраченный на какое-то время, но та-
кой знакомый мне особый свет.
46
Скоро выяснилось, что кроме нескольких тонко нарезан-
ных кусков черного хлеба, сэкономленных к нашему приез-
ду, еды в доме нет.
Папа и дядя Сеня постарались на другой день получить
карточки: все те же иждивенческие 400 граммов. Дяде Се-
не — 800.
В нашей квартире жили чужие люди, в основном с верх-
них этажей, куда не подавали воду и газ.
Уехала из нашего дома Маргарита Осиповна Алигер. В ее
квартире теперь жил сын композитора Фельдмана Игорь
с больной матерью.
Рука останавливается. Надо проститься с Маргаритой
Осиповной. Она получила квартиру в писательском доме
в Лаврушинском, около Третьяковской галереи. И уже не
приходила пить кофе с моей мамой.
Я дважды встречала ее потом, но мельком — собственно,
и поговорить было некогда.
А Таню, ее старшую дочь, я видела часто. После войны
она забегала ко мне, приносила свои стихи и сказки, талант-
ливые, удивительные, полные странных текучих образов, ни
на что не похожих. Прозрачные, как она сама...
Она дружила с Леночкой Минаевой, внучкой Анатолия
Александрова, моего крестного отца.
Леночку мы все звали Красотка. Когда девочки, Таня
и Красотка, были рядом, они производили впечатление
почти нереальное, так они были хороши. Таня становилась
все прозрачней. Леночка стала более земной, наливаясь
свежей прелестью. Ничто не портило ее чистого личика.
В его овальных линиях проступало что-то напоминающее
пластику Боттичелли. Большие серо-синие глаза с выпу-
клыми веками.
С годами, к сожалению, обе молодые женщины стали
пить, и бывало, зайдя на шестой этаж к Леночке, я видела,
что они обе еле держатся на ногах. Они со смехом мыли по-
суду, звенели разбитые тонкие рюмки. А они только посасы-
вали порезанные пальцы.
47
А ведь у Тани начинался лейкоз. Не знаю, как складыва-
лись в эти годы Танины отношения с матерью. Непреклон-
ная, неподатливая Маргарита Осиповна вряд ли могла сми-
риться с пьянством дочери.
Танечка умерла от лейкоза в 1974 году. Я не помню Мар-
гариту Осиповну на похоронах. Танечка лежала в гробу —
сказочная принцесса, словно выточенная из хрусталя.
Потом я встретила Маргариту Осиповну в ЦДЛ. Рядом
с ней была ее любимица, младшая дочь Маша. Она не была
столь красивой, как Таня. Но я уже писала об ее удивитель-
ном свойстве: пленять и завораживать мужчин, попавших
в круг ее магического обаяния и притяжения.
В нее был страстно влюблен прекрасный переводчик
с итальянского Евгений Солонович, добивался ее любви Ев-
гений Евтушенко...
Последний ее муж, известный немецкий поэт Мария Ганс
Магнус Энцербергер, увез ее в Англию. Но брак их не сло-
жился. Скорее всего, причиной этого была тяжелая депрес-
сия, которой страдала Маша еще в Москве и которая окон-
чательно сломила ее в Англии. Все завершилось трагически.
Она покончила с собой в 1991 году.
Только великое мужество Маргариты Осиповны помогло
ей перенести рухнувшие на нее несчастья.
Ее муж, композитор Макаров-Ракитин, пошел доброволь-
цем на фронт в первые дни войны и вскоре погиб.
Сама Маргарита Осиповна работала военным корреспон-
дентом в блокадном Ленинграде.
Ее поэма «Зоя Космодемьянская» была удостоена Сталин-
ской премии. Полученные деньги она пожертвовала в фонд
обороны.
Живя рядом с ней, я многое знала. Но еще больше мне
рассказала Настя, внучка Маргариты Осиповны, дочь умер-
шей Тани.
Не похожая на мать, но по-своему не менее прелестная,
не худая, а невероятно тонкая, гибкая, как цирковой гим-
48
наст, с изящными чертами лица. Она стала художницей,
сама пишет сказки и сама их иллюстрирует.
Настя рассказала мне о смерти Маргариты Осиповны.
Она жила на даче. Поздно вечером, уже в темноте, пошла
одна навестить друзей, живших по соседству. Она упала
и сломала шейные позвонки. Смерть ее была мгновенной.
Настя, милая Настя... Не то чтобы она напоминала мою
любимую Таню, но какие-то незримые нити создают преем-
ственность и продолжение дарованной им обеим красоты.
И глядя на Настю, я невольно вспоминаю свою юность и воз-
душную прозрачность Тани.
Простите, я отвлеклась, но это — часть моей жизни, и я
не имею права ее забыть.
Тани уже не было в живых, когда однажды ко мне пришла
Леночка-Красотка. И вот что она мне рассказала:
— Ты слушай. Вот какой мне приснился сон. А может
быть, это был и не сон вовсе? Только слышу я голос. Кто-то
мне говорит, и так внятно: «Встань и иди в церковь. Ты не
знаешь, где она, но найдешь. Встань и иди».
На улице темно, дождь. Я вышла из дома, шатаясь, иду
и плачу. А куда иду, сама на знаю. Пустой спящий город.
Вдруг прямо передо мной — незнакомая церковь. Высокие
двери открыты. В церкви темно, но несколько свечей у алта-
ря горят. Смотрю: старенький священник стоит и тихо так
читает Евангелие. Он как будто ждал меня.
— Бедная моя, ты озябла и промокла, — сказал он мне.
Я попросила, чтобы он исповедал меня. Он наклонился
ко мне. Я стала шепотом говорить о своих грехах, что водку
пью, много пью. Я говорила, но мне казалось, что он все зна-
ет еще до моих слов.
Он накрыл мою голову епитрахилью, я чувствовала тя-
жесть его руки. Он прочел святые слова, потом я поцеловала
икону и крест. Поцеловала его руку. Он перекрестил, благо-
словил меня и сказал:
— Иди домой. Успокой свою душу. Больше ты не будешь
пить.
49
Я знаю от близких Леночки, что после этой ночи, полной
тайны и света, Леночка перестала пить.
Мне особенно дорог ее рассказ, потому что уже через год
Леночка тяжко заболела. Она мужественно боролась с бес-
пощадным недугом, но была обречена. В какой церкви ее от-
певали — не знаю.
Но пора вернуться к сорок третьему году. Чужих людей
и соседей в нашей квартире становилось все меньше. Стали
подавать воду и газ на верхние этажи.
В квартире за время нашего отсутствия ничего не пропа-
ло, если не считать моей детской библиотеки. Не было Жюля
Верна, Александра Грина... Но самым печальным для меня
было исчезновение с полок моего шкафа двенадцати ма-
леньких томиков Шекспира в потертых тканевых переплетах
красного цвета. Шекспир был переведен прозой. И для меня
было истинным потрясением, когда годы спустя мне уда-
лось купить двухтомник Шекспира в переводах Пастернака.
Это был совсем другой Шекспир, несравнимо возвышенней
и глубже, но незнакомый и чужой.
Открыв том Достоевского, потрясенная, я уже не могла ото-
рваться. Первое, что я прочла, был роман «Подросток» — это
удачное начало, как бы облегченное. Я читала «Идиота», «Бра-
тьев Карамазовых», и постепенно мне стало казаться, что я
живу там, среди тех по-настоящему живых людей, а реальный
мир, окружавший меня, стал терять свою материальность.
Я очнулась, когда прочла роман «Бесы».
Случайно наткнулась на старый растрепанный том Метер-
линка и словно погрузилась в чистые прозрачные воды. Это
было приложение к журналу «Нива» в 1915 году. Я не хотела
выходить на берег, я снова и снова погружалась в эти родные
туманные волны. «Принцесса Мален», «Пелеас и Мелисанда»
и все-все пьесы до конца, в прекрасном переводе Н. Минского.
Позднее я купила полное собрание Метерлинка, уже в дру-
гих переводах. Но не могла их читать. Возможно, эти переводы
были достаточно хороши, но я так срослась с тем ранним пе-
реводом, это было что-то чужое, почти обидно-враждебное.
50
Но в те военные годы, да и сейчас, стоит мне открыть ста-
ренький том Метерлинка, я с головой погружалась в эту при-
зрачную реальность.
В октябре 1943 года произошло, может быть, самое зна-
чительное событие в моей жизни, хотя в то время, несомнен-
но, мною недооцененное.
В квартире Игоря Фельдмана, где еще недавно жили Мар-
гарита Осиповна Алигер и ее прелестные дочки Таня и Маша,
я встретила Виктора Белого, сына композитора Белого, авто-
ра всем известного «Орленка».
Виктор Аркадьевич Белый писал также, но как-то тайно
и скрытно — совсем другую, очень сложную современную
музыку. Это выяснилось гораздо позже, когда он сблизился
с Андреем Волконским, о котором речь пойдет в свое время.
А осенью 1943 года я встретилась с Виктором. Мы были
ровесники, нам было по пятнадцать лет. Я училась в девятом
классе, потеряв во Фрунзе один год, а Виктор уже держал эк-
замены в университет.
Конечно, я не могла тогда понять, что это моя судьба, да-
рованное мне свыше редкое счастье, не могла до конца оце-
нить это, постараться сохранить, сберечь...
Виктор всегда был бледен. Сначала я думала, что это след-
ствие перенесенного им в войну недоедания. Но это была
особенность его кожи.
Что-то строгое, взрослое было в его лице. Он редко улы-
бался, смеха его я почти не помню.
Профиль его был сложен из простых чистых линий, что
придавало ему нечто античное. Высокий лоб. Взгляд его не-
ярких глаз было трудно выдержать.
Он был правдив, как мне казалось иногда, до глупости.
Первый порыв его души был мгновенным и окончательным.
Переубедить его было невозможно. Отдать последнее, ска-
зать в лицо правду, никогда не думая, как это отзовется на
его судьбе.
Он был необыкновенно талантлив, учеба давалась ему
без каких-либо усилий. Но в силу своего характера он вечно
51
портил отношения с теми, кто поднялся выше его по карьер-
ной лестнице. Постоянные конфликты...
Единственный, с кем он был сердечно близок, с кем он
безоговорочно считался, был заведующий его лабораторией
Давид Соломонович Жук, человек замечательный, близкий
ему по складу характера и души.
Впоследствии, когда мы расстались и потом, много лет
спустя, соединились снова, уже навсегда, случилось так, что
Виктор на моих глазах в мелкие осколки разбил свое буду-
щее, свой возможный восход на вершину науки, я уж не го-
ворю о карьере.
Тогда Виктор блистательно защитил докторскую диссер-
тацию.
Его, а заодно и меня (я была уже его женой) пригласил
к себе на дачу академик Ишлинский, человек талантливый,
умный и образованный. Он уже ознакомился с диссертацией
Виктора и по достоинству мог оценить ее.
— Переходите в мой институт, — предложил Ишлин-
ский. — Здесь у вас будет все. Своя лаборатория, современ-
ное оборудование — все, что вам необходимо. Можете взять
с собой ваших сотрудников. Работайте!
У меня замерло сердце. Вот она, сумасшедшая удача —
перейти из подвала, уйти от директора института академика
Платтэ, хитрого, ловкого карьериста, который перекрывал
Виктору все пути, препятствуя каждому его новому начина-
нию и открытию.
Виктор, не задумываясь, вежливо и спокойно ответил:
—Я благодарен, но сейчас это невозможно. Давид Соломо-
нович Жук, заведующий моей лабораторией, в очень трудном
положении. Не знаю, что с ним будет, не закроют ли вообще
его работу, если я сейчас уйду от него. Но через год...
— А-а...— протянул академик, и лицо его стало холод-
ным, каменным и отчужденным.
Его жена, милая мягко-полная женщина с добрым лицом,
хранящим следы былой красоты, пригласила меня в сад.
Вдоль забора росла малина, отборная, как и все в этом доме.
52
Жена Ишлинского срывала крупные, без единого червяч-
ка ягоды и угощала меня. Чуть согретые ее пухлой ладонью,
они казались мне отвратительно горькими и ядовитыми.
Прошли годы, но обжигающий вкус этой малины я пом-
ню до сих пор.
Впоследствии я убедилась, что это был не единственный
случай, когда Виктор губил представившуюся ему счастли-
вую удачу, не из гордости, но порой уловив что-то чуждое его
натуре или почувствовав присутствие чего-то нечистого.
Спустя какое-то время я случайно узнала от общих знако-
мых, что Ишлинский сказал:
— Я не понимаю этого человека.
Да, Виктора было трудно понять.
Но возвращаюсь к дням нашей юности. У нас стремитель-
но начался еще детский, но как бы ожидаемый нами роман.
Однажды мама, обладавшая особым редким даром про-
видения, глубоко поразила меня, сказав:
— Вот если бы ты сейчас решила выйти замуж за Викто-
ра, я бы не возражала. Он так гордо держит голову...
А ведь нам было всего по пятнадцать лет.
Теперь я знаю, Виктор был одним из тех необыкновен-
ных, редких людей, которых называют «Христовыми воина-
ми». И мама почувствовала это, увидела глубоко таящийся
в нем свет. И — пусть совсем другими словами — она сказала
мне это.
Мы встречались почти ежедневно, благо его дом был ря-
дом, почти за углом.
Виктор убегал с лекций, чтобы встретить меня возле шко-
лы, если я задерживалась. Тогда было раздельное обучение,
в классе только девочки. Надо мной подсмеивались, но ско-
рее за этим стояла тайная девичья зависть. Ведь мало у кого
были такие накрепко устоявшиеся романы.
Королева нашего класса Нина Бочарова настраивала дев-
чонок против меня. Она была отличницей, к тому же облада-
ла почерком правильной, необыкновенной красоты. Этакая
любимица учителей.
53
Однажды вечером я была в гостях у одной из подружек,
с которой я сидела за одной партой.
Она вдруг заторопила меня:
— Тебе пора домой. И скоро предки придут. Иди!
Это показалось мне странным.
Я вышла из подъезда. Меня окружили четыре незнако-
мые рослые девушки. Они молча избили меня, перекиды-
вая от одной к другой. Били кулаками, как мужики, в грудь,
в плечи, в живот.
И только когда я стала сползать спиной по стволу старой
липы, они вдруг исчезли, словно растворившись в поджи-
давших их сумерках.
Сдерживая слезы, я еле добралась до дома. Назло, слов-
но желая проверить что-то, я на другой день все-таки пошла
в школу. Помню, как болело все тело.
Нина Бочарова, блистательно окончив свой каллиграфи-
ческий этюд на доске, отряхнула ладошки от крошек мела.
—У меня вчера сестренка отравилась,—сказала она. Класс
слушал, замерев. — Так я наловила мух по окнам, раздавила
их и в стакан с водой. Заставила выпить. Держала девчонку,
пока все не выпила. Как ее рвало... Зато сегодня здорова.
И Нина с насмешкой посмотрела на меня.
«Вот оно, вот...» — подумала я и дала себе слово, что уйду
из этой школы.
Я окончила десятый класс в школе рабочей молодежи.
А пока что по вечерам, зная, что Виктор придет позже, мы
с папой гуляли в нашем маленьком сквере. Словно в другом
мире, дарованном чистой природой. Запах земли, влажной
вечерней травы, старые деревья.
Там росли еще какие-то экзотические кусты. Они изгиба-
лись в виде арок, их ветви наклонялись и пускали корни в зем-
лю. Весной они были покрыты бледными нежными цветами.
Теперь их нет. Но столетние деревья все еще стоят, охра-
няя воспоминания тех лет.
Чтобы дойти до сквера, надо было пройти мимо двухэтаж-
ного бревенчатого дома. Бревна были совсем темные, почти
54
черные, с сединой, возможно, обгорелые. Видимо, жильцы
съехали, за пустыми окнами не было ни света, ни жизни.
Однажды вечером я возвращалась одна и, проходя мимо
брошенного дома, вдруг увидела свет на втором этаже. Но не
это поразило меня. Видимо, в окне горела лампа. Но не желтая,
не оранжевая, а бледно-розовая. Никогда, ни в одном окне я не
видела такого сказочного света. Он тихо сиял и завораживал.
— Свеча, — сказал какой-то мужчина, проходя мимо
и взглянув на брошенный дом.
Потом этот дом снесли, да, собственно, это была скорее
деревенская изба, а не дом. Теперь на этом месте что-то
восьмиэтажное, а внизу стекла и «Кофе хауз».
Эти обугленные бревна и мертвая тишина были словно
бы из другого мира. А розового свечения на втором этаже я
больше никогда и нигде не видела.
Тот вечер, когда мы шли с папой мимо этой развалины,
запомнился мне навсегда. Папа вдруг прочел мне стихо-
творение. Всего две строфы. Они врезались мне не в память,
а куда-то глубже, в непостижимые глубины души:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Не могу передать, как меня поразило это стихотворение.
Оно словно насквозь пронзило мое сознание, насквозь и на-
всегда.
Я не попросила папу прочесть его второй раз, одного раза
было достаточно. Я просто молчала.
Мы миновали обгорелую избу и пошли в сквер.
— Это поэт Серебряного века — Осип Мандельштам. Не
знаю, понравилось ли тебе его стихотворение, — сказал мне
55
папа. — Но это великий поэт. Я один раз был у него. Мне
заказали обложку к томику его стихов. Но потом это изда-
ние запретили. И мы больше не встретились. Судьба его по-
истине трагична. Гонения, ссылка, потом он был арестован.
Тюрьма, уголовники... Он скоро погиб. Не помню, кто-то из
великих женщин, кажется, Анна Андреевна Ахматова, пере-
давала слова его вдовы Надежды Яковлевны Мандельштам:
«Я буду спокойна, лишь когда узнаю, что Осип умер...». Та-
кие слова может сказать только тот, кто безмерно любит...
Когда мы вернулись домой, отец подарил мне видавшую
виды, потертую тонкую книгу стихов Осипа Мандельштама.
Меня почему-то особенно обрадовало, что издана она была
в 1928 году, именно в год моего рождения.
В книге были два цикла его ранних стихов: «Камень»
и «Tristia». С какой жадностью я читала эти стихи, запоми-
ная их с первого раза, словно они всегда жили во мне, только
таились где-то в темноте до поры до времени. Они спали, их
надо было разбудить.
Даже сейчас, в преклонном возрасте, когда память поте-
ряла былую зоркость, я помню их, словно нарочно сохранила
осколок памяти, чтобы не расставаться с ними. Однажды это
сыграло в моей жизни довольно странную и неожиданную
роль. Но об этом позже... Скажу только, что Мандельштам
до сих пор остается моим любимым поэтом.
Я взахлеб читала Ахматову, Цветаеву, Пастернака. Это
было то внезапное открытие, которого я втайне ждала. Потом
папа купил по случаю пятитомник Хлебникова. До сих пор лю-
блю и перечитываю «Царскую невесту», «Марию Вечору»...
Эти стихи дали незримое пробуждение моей собствен-
ной поэзии. Несомненно, там было определенное напомина-
ние, первое потрясение, вызванное стихами Мандельштама.
И все же в «Античном цикле», который я начала писать в 1945
году, чувствуется что-то оригинальное, пусть разбуженное
любимой поэзией, но что-то в них есть заветное свое, пото-
му что стихи пишутся из такой сокровенной глубины души,
а каждая душа единственна и неповторима...
56
Зимой 1943 года к нам изредка заходила графиня Нина
Михайловна Подгоречани, мамина подруга со времен жизни
в Омске, когда был еще жив Валентин Александрович Яковлев.
В начале революции Нина Михайловна отправила целый
вагон дорогих вещей из московского дома в Омск. Персид-
ские ковры, серебряную посуду, антикварную мебель, хру-
сталь и т. д.
Недаром в Омске славился ее салон с танцами, концер-
тами, выступлениями поэтов. Но скромно, собственно гово-
ря, бедно, живущему Валентину Александровичу эти вечера
и ужины были неинтересны. И поэтому мама знала о них
только понаслышке, от общих друзей, хотя и продолжала
дружить с Ниной Михайловной.
В 1938 году графиня Подгоречани была арестована. Она
дружила с Альви Викторовной Литвиновой, женой нарком-
индела Литвинова. Часто играла с ним в шахматы, ведь она
была уникальной женщиной-шахматисткой.
Ее обвинили в том, что она попыталась разоружить мили-
ционера, с тем чтобы убить Литвинова. На допросе 16 января
1938 года в Бутырской тюрьме она все отрицала. Ее пытали.
И уже 22 января она признала себя виновной, участницей
шпионского заговора.
Ее осудили на восемь лет и отправили в концлагерь на
север.
Бедная Нина Михайловна! Надо было ее видеть: малень-
кая, мне по плечо, худенькая, одни косточки, и почти слепая.
В 1941 году ее отпустили на поселение, настолько ухуд-
шилось ее здоровье.
Где она только не побывала — в Касимове, в Шелкино,
в Тульской, в Краснодарской области, в Заполярье...
Она писала нам. Один из ее друзей, главврач больницы
для душевнобольных, рискнул (по тем временам это был не-
малый риск) поместить ее в свою клинику.
Ее письма, полные тепла и юмора, всегда кончались ка-
кой-нибудь безумной фантастической фразой. Например,
что к ней приходят через день то ангелы, то косматые чу-
57
довища. Иначе было нельзя, ведь все письма откровенно
вскрывались и прочитывались.
Однажды она написала нам: «Здесь — рай. Здесь тепло
и кормят».
Потом как-то она прислала нам варежки, сшитые ею са-
мой из грубой черной материи, украшенные разбросанной
в беспорядке оранжевой вышивкой.
Эти варежки были на выставке, под ними красовалась
подпись «Типичный узор шизофреника».
Я долго их хранила.
Но вдруг нагрянула какая-то комиссия, и главврач, ее друг,
вынужден был попросить ее покинуть этот «рай».
Какое-то время она жила под Тарусой, и тогда она чаще
приезжала к нам. Но Москва была для нее запретной зоной.
Как же она пугалась, если раздавался звонок в дверь. Мета-
лась, как загнанный зверек, пряталась...
Потом она купила домик где-то около реки. Однажды она,
взяв сумочку с документами, паспорт, пошла отмечаться в ми-
лицию или куда-то еще, как было положено для ссыльных —
каждый месяц. Была весна, половодье. Она вернулась — а до-
мика нет. Разлившиеся воды реки унесли его.
Мы получили отчаянное письмо. Самое печальное для
Нины Михайловны было то, что вместе с домиком уплыла ее
любимая кошка.
Мои родители выслали ей деньги, чтобы купить новый
домик, но кошка исчезла и Нина Михайловна была безутеш-
на. Одиночество...
Графиня прекрасно шила, поэтому деревенские женщи-
ны относились к ней очень тепло и подкармливали ее.
После Двадцатого съезда Нина Михайловна была полно-
стью реабилитирована. Она жила то у нас, то еще у каких-то
друзей, ожидая ордер на однокомнатную квартиру.
Она часто с юмором, безо всякой горечи, вспоминала свой
роскошный московский дом, конфискованный во время рево-
люции. Там была лестница из оникса и большой зимний сад.
58
Наконец Нина Михайловна получила долгожданный ор-
дер и въехала в свою новую маленькую квартиру.
Она была совершенно счастлива. Нашлись ее тоненькие
книжечки, где она обучала детей шахматной игре. Ведь она
была незаурядная шахматистка. Рассказывала, что однажды
сыграла вничью с Ботвинником. Во всяком случае, он гово-
рил, что не встречал женщин-шахматисток сильнее ее.
Она рассказывала нам:
— Представляете, нет, вы только подумайте, какое сча-
стье: хожу по Москве и не боюсь. Не боюсь, что меня схватят.
Даже милиционеров не боюсь!
И это после семнадцати лет, проведенных в тюрьмах,
в ссылке, на поселении...
Конец ее жизни был поистине трагичен.
Она позвонила мне из больницы и просила срочно прие-
хать. Я тотчас же отправилась к ней. И вот что я узнала.
У нее был знакомый художник, кажется, анималист, с ко-
торым она подружилась еще где-то на поселении.
Он умолял ее устроить ему московскую прописку. Боль-
ше-де ему ничего не надо. Только прописка. У него есть
деньги. Он не стеснит ее, снимет комнату, потом купит себе
квартиру.
Надо знать, как знали мы, ее безмерную доброту и до-
верчивость. Она сочеталась с ним фиктивным браком, про-
писала его у себя. И он тут же вселился в ее однокомнатную
квартирку.
Перенести столько страданий и потерь. Семнадцать лет
скитаний из одного чужого дома в другой, голод, выживание
из последних сил. И вот снова, в сущности, бездомность.
Больное сердце ее не выдержало этого последнего испы-
тания.
Стоял жаркий август. Она жаловалась на горький вкус во
рту и просила привезти ей землянику. Ио нигде на рынке я
не могла ее найти.
Я привозила ей разные фрукты, но она хотела только зем-
ляники.
59
Когда я приехала к ней в очередной раз, мне сказали, что
она умерла. Я оставила принесенные фрукты и цветы на ее
пустой, строго застеленной постели. Какая грусть, мы все
так любили Нину Михайловну, а она так любила жизнь...
Вспоминается строфа из ее стихотворения. Оно называ-
лось «Завещание»:
Подводя итог в последней смете,
Задыхаясь в гневе и тоске,
Брошу вызов обнаглевшей смерти -
«Буду жить на шахматной доске...»
Снова возвращаюсь к нашей жизни на Миусской в воен-
ные годы.
В это время в домах нередко отключали электричество.
А мы по беспечности еще не запаслись свечами и фонарика-
ми. Да и непросто было их достать.
Но этот случай я запомнила, потому что в тот вечер как-то
неожиданно и таинственно появилась в нашем доме и в моей
жизни Наташа Мартьянова.
Мы бродили в темноте, натыкаясь на мебель.
— Маша, сядь, ты упадешь! — это крикнул папа.
Входная дверь была распахнута. С лестницы доносились
голоса:
— И у вас не горит?
— Надо позвонить!
— Куда позвонить?
Я где-то пристроилась. Слышала, как дядя Сеня играл со-
нату Бетховена. Темнота ему не мешала.
— Сейчас зажжется свет! — вдруг сказал папа.
И, словно послушавшись этих слов, в то же мгновение дей-
ствительно свет зажегся. Сразу во всех комнатах и на кухне.
Тут мы увидели, что в передней стоит незнакомая девуш-
ка. Невысокого роста, тонкая и вместе с тем крепкая. Это
чувствовалось сразу. У нее было круглое милое личико.
Она улыбнулась, проступили ямочки на щеках, и все лицо
ее осветилось. Прозрачные глаза, круто изогнутые брови.
60
— Это Наташа Мартьянова, — обрадованно сказала ма-
ма. — Моя племянница. Ну, не совсем... Но можно считать
и так.
Как это бывает в юности, вдруг, как бесценная находка,
возникает глубокая дружба, почти сестринская любовь.
Так случилось у меня с Наташей, мы стали неразлучны.
Да иначе и не могло быть, столько было в ней нежности и чи-
стоты.
У Наташи начался роман с Николаем Шебалиным, сыном
композитора Шебалина. Это было центральным событием
ее юной жизни. Она беззаветно любила его, и эту страдаль-
ческую любовь пронесла через всю свою жизнь, даже после
того, как они расстались.
А сейчас чувства ее менялись от светящейся радости
к безнадежному отчаянию и обратно. Но она постепенно за-
воевала его своей преданностью, нежностью и упорством.
Дело уже близилось к свадьбе.
А я встречалась с Виктором, и каждый день было одно
и то же. Как мне казалось, это все раз и навсегда.
Он никогда не давал мне повода для ревности. А я в 16—
17 лет, уже привыкнув к постоянству его любви, хотела чего-
то романтического, неожиданного, за что надо бороться,
добиваться, чтобы овладеть этим новым внезапным сокро-
вищем.
Я не могла тогда оценить до конца то, что так рано по-
дарила мне судьба и от чего я была готова так безрассудно
отказаться.
Но один вечер запомнился на всю жизнь. Конец войны!
Мы с Виктором стояли на Каменном мосту. Нас охватил
единый, объединяющий всех порыв неизъяснимой радости.
Вокруг нас тесно стоящие люди плакали и обнимались.
Уже стемнело. И потому особенно яркими казались
вспышки салюта. По Москва-реке, покачиваясь на мелких
волнах, плыли разноцветные огни. Лучи прожекторов крест-
накрест упирались в небо. Гремели залпы орудий. Я обнима-
ла какого-то пожилого военного — вся грудь в орденах.
61
Но пора было возвращаться. Мы спустились к трамвай-
ной остановке. Почти сразу же подъехал трамвай, как ни
странно, с плоскими грузовыми платформами. Он затор-
мозил, словно приглашал нас. Мы без труда забрались на
пустую платформу и поехали по празднично освещенной
Москве.
Мы знали, что у зоопарка трамвай повернет направо
в сторону улицы Горького и моего дома. Но он, поскрипы-
вая, повернул налево, увозя нас неведомо куда.
— Прыгай! — крикнул Виктор.
Но трамвай, набирая скорость, увозил нас все дальше.
Виктор спрыгнул и побежал рядом, протянув ко мне руки.
Делать нечего, я упала в его открытые объятья.
Я сбила его с ног. Но, к счастью, там оказалась бог весть
откуда мягкая земля и молодая, пахнущая весной трава.
Трамвай исчез, подмигнув нам огоньком. Виктор креп-
ко обнял меня. И поцеловал так, как он никогда не целовал
меня, тяжелым, мужским поцелуем.
— Какой сегодня счастливый день, — прошептал он.
— Да, кончилась война...
Я хотела встать, но он не отпускал меня.
Тут зазвенел, подъезжая, другой трамвай, до отказа пол-
ный народа. Мы оба вскочили.
Вскоре я была уже дома.
Я подумала, что мне почему-то не хочется, чтобы завтра
Виктор снова пришел ко мне.
— Ты сошла с ума, — огорчилась Наташа, когда я ей все
рассказала. — Если бы Николай меня так любил! Но это ему
просто не дано. Опомнись... Виктор такой талантливый, та-
кой замечательный... Ты не знаешь, что творишь, что теря-
ешь...
Но трещина в наших отношениях все углублялась.
Наступил день, когда я сказала Виктору, чтобы он больше
не приходил ко мне и не звонил. Я не помню, что он отве-
тил мне, — может быть, просто промолчал. Но больше он ни
разу не позвонил, не искал встреч. Всё...
Его гордый характер, он и в этом сказался...
62
В том же сорок пятом году Сережа, мой брат, был демоби-
лизован. Он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге.
Мама уже почти не выходила из дома, но как раз в этот
день она куда-то ушла.
Сережа с дороги мыл руки и лицо в ванной комнате
каким-то серым обмылком — мы в то время покупали мыло
на рынке, да и то оно было редкостью.
И вдруг вошла мама. Вся дрожа, она встала в дверях, уча-
щенно дыша. С трудом сделала несколько шагов и, припав
к его груди, зарыдала. Я никогда не слышала до этих пор,
чтобы она так рыдала. Даже в тревоге и горе она всегда была
сдержана и внешне спокойна.
Сережа вернулся какой-то другой, отчужденный. Он от-
вык от уклада нашего дома. Ему казалось, что мы живем не
так, как надо, неправильно, замкнувшись в семейной суете,
не чувствуя, какое сейчас время.
Он не понимал, почему дядя Сеня носит зашитую в во-
ротник своего пиджака ампулу с цианистым калием, так что
ее можно в любой момент раскусить. Сережа не верил в аре-
сты, в концлагеря, в пытки.
— Да, может, что-то и было, — говорил он, — но нельзя
же все так преувеличивать! Надо достать грузовик, поста-
вить на него рояль, чтобы дядя Сеня мог ездить по разным
городам и нести музыку народу.
Потом начались будни. Сережа поступил в Литературный
институт. Я перешла в школу рабочей молодежи, и в аттеста-
те была всего одна четверка. Почти медалистка! А дальше
что?
Сережа писал стихи о Мичурине, о его маленьких виш-
нях, выросших в цветочных горшках на подоконнике. А я
продолжала «Античный цикл» и не знала, куда себя девать.
Однажды Сережа привел к нам в дом своего однокурсни-
ка поэта М.
— Соня пишет забавные стихи. Пусть почитает, — пред-
ложил Сережа.
Я с радостью начала читать, ведь, собственно, до этого
читать было особенно некому.
63
Едва я прочла несколько стихотворений, как наш гость
вскочил, растерянно и даже дико озираясь.
— Что это? Где я? Куда я пришел? Это не советская поэ-
зия... Провокация... Запомни, Сергей, я у тебя не был, по-
нял? Я ничего не слышал...
Он пошел в переднюю одеваться. Страх на его похолодев-
шем лице сменился не то злобой, не то отвращением.
Дверь захлопнулась. На меня все это произвело откро-
венно странное впечатление. Ну, может быть, не совсем
обычные стихи, но не более того. В них не было никакой по-
литики, чем они могли его так напугать?
Тем временем моя Наташа вышла замуж. На свадьбу
меня не пригласили, а может, они ее особенно и не празд-
новали.
Я знала, что Наташе будет нелегко в этой семье. Ее све-
кровь Алиса Максимовна Шебалина славилась деспотичным
характером, барскими капризами.
Наташа притихла, присмирела. Теперь она редко бывала
у меня, но тепло и взаимопонимание остались нерушимы.
Она окончила Архитектурный институт, и мне казалось,
что, несмотря на тюремный режим, она все-таки счастлива.
У нее родилась дочь, и теперь нас соединяли только ко-
роткие телефонные звонки. Ей всегда было некогда.
Большой радостью для меня был приезд в Москву моей
троюродной сестры Лидочки Давыдовой.
Она вместе с родителями и старшей сестрой Катей пере-
жила в Ленинграде почти всю блокаду.
Отец иногда с работы приносил мышей и крыс. С них сди-
рали шкурку, варили, это было не только большое подспо-
рье, но и редкое лакомство.
Однажды Лида, пожалев, отпустила маленького крысен-
ка, за что получила нагоняй от отца.
Что ж, голод есть голод!
Как только открылась Дорога Жизни, Лидочку вместе
с Катей и матерью на грузовике вывезли из Ленинграда.
64
Их отправили куда-то в Среднюю Азию, где они в колхозе
работали на хлопковых полях. А голодали, пожалуй, только
чуть меньше, чем во время блокады.
Случилось так, что Лидочкина мама однажды вместе
с другими женщинами пошла в горы ловить черепах. Ушла
и не вернулась. Не сразу хватились, что ее нет. А когда от-
правились на поиски, то нашли ее уже мертвой — блокадное
сердце не выдержало.
Девочки остались одни. Лидочке — десять лет, Кате —
двенадцать.
В 1944 году тетя Маруся, Марьяна Яковлевна Хортик, за-
брала их к себе в Ленинград. У нее когда-то была большая
квартира на улице Марата. Долгое время их не уплотняли,
потому что еще до войны муж тети Маруси, Яков Львович
Хортик отыскал броневик, с которого возле Финского вокза-
ла говорил Ленин, и документы, подтверждающие это.
Но блокада продолжала выискивать и забирать свои не-
добитые жертвы. В 1946 году умерла Катя, через два года —
отец Кати и Лидочки, после блокады он так и не оправился.
Окончательно его добила смерть старшей дочери.
Лидочка осталась сиротой. Из близких — только тетя Ма-
руся, у которой к тому времени от большой квартиры сохра-
нилась только одна комната.
Надо сказать, что тетя Маруся была из редчайшей поро-
ды людей-ангелов, сочетавших в себе безграничную доброту
и беспредельную кротость.
Так сложилась судьба этой когда-то большой семьи. Все
оставшиеся родственники жили в Москве — наша семья, се-
мья тети Беллы, внуки художника Валентина Серова и много
близких друзей.
Тетя Маруся поменяла ленинградскую комнату, получив
взамен нечто совсем узенькое и длинное в коммунальной
квартире, что мы тут же прозвали «Пенальчик».
В этом «Пенальчике» и поселились Лидочка и тетя Маруся.
У Лидочки был красивый, но еще не обработанный голос,
и она мечтала стать певицей. А поскольку она закончила
в Ленинграде музыкальную школу, то дядя Сеня помог ей
65
поступить в Консерваторию по классу фортепиано, что ей
очень пригодилось, когда судьба тесно свела ее с Андреем
Волконским.
Но об Андрее Волконском и об ансамбле «Мадригал» позд-
нее. Единственное, о чем я, забегая вперед, хотела бы рас-
сказать, — как несколько лет спустя в нашем доме появился
Андрей Волконский, еще совсем юный, лет восемнадцати,
вместе со своей матерью.
Они только что приехали из Парижа. Андрей родился
в Швейцарии. Сейчас он думал поступать в Московскую кон-
серваторию.
Он играл Самуилу Евгеньевичу. Играл долго, потом они
о чем-то разговаривали. Андрей интересовался мнением Са-
муила Евгеньевича. И в конце концов получил очень стран-
ный, как мне тогда показалось, неожиданный совет.
Я слышала, как Самуил Евгеньевич сказал уже в перед-
ней, провожая их:
— Знаете, Андрей, вы очень талантливый и уже вполне
сложившийся, своеобразный и профессиональный пианист.
Вас только испортят в Консерватории.
Андрей все-таки поступил в Консерваторию. Но, проучив-
шись два года, бросил. Он увлекся игрой на клавесине.
Потом на долгие годы он исчез из моей жизни и появился
гораздо позже, уже как руководитель ансамбля «Мадригал».
Но вернемся к концу сороковых годов.
Еще в довоенные времена у нас часто бывала мамина по-
друга художница Вера Яковлевна Тарасова.
Я уже упоминала о ней, когда случилась странная история:
сбесилась собака дирижера Гамбурга. Тогда Вере Яковлевне
пришлось ежедневно приезжать в наш дом делать уколы, хоть
это было достаточно нелепо и бессмысленно (ведь она всего-
навсего один раз поднялась на лифте вместе с Григорием Гам-
бургом, а вовсе не с его собакой). Но тем не менее...
Вера Яковлевна была поклонницей Соломона Михоэл-
са, артиста Еврейского Государственного театра. Особенно
66
она восхищалась им в роли короля Лира, и не пропускала ни
одного спектакля с его участием.
Она постоянно ходила в театр с альбомчиком, делала на-
броски, эскизы, рисовала его и потом сделала замечатель-
ный офорт — Михоэлс в роли короля Лира.
Невозможно представить, какой для нее был удар, когда
Соломон Михоэлс в 1948 году трагически погиб в Минске
в каком-то темном дворе, прижатый к стене и раздавленный
тяжелым грузовиком.
Ходили разные слухи. Говорили, что он был убит вместе
со своим другом В. И. Голубевым. Кто-то рассказывал, что он
попал под машину вместе с осведомителем МГБ, которому
было поручено толкнуть его под колеса. Но Михоэлс, пред-
чувствуя что-то недоброе, так крепко обхватил его руками,
что они рухнули под колеса оба и оба погибли.
Теперь мы точно знаем одно — он был убит по личному
распоряжению Сталина.
Вера Яковлевна, хорошо знавшая иностранные языки,
частенько бывала в книжных букинистических магазинах.
Чаще всего на улице Качалова. Нередко она встречала там
скромно одетую полную даму с удивительно добрым лицом
и мягкими движениями.
Их интересовали порой одни и те же книги, и они любез-
но уступали их друг другу, если не считать, что полная дама
к тому же постоянно покупала толстые и дорогие японо-
русские словари.
Дамы познакомились, разговорились. Ее собеседницей
оказалась известная переводчица с древнеяпонского Вера
Николаевна Маркова.
— А вы знаете американскую поэтессу Эмили Дикин-
сон?
Нет, Вера Николаевна ее не знала, но все-таки заинтере-
совалась и приобрела тонкую книжечку.
Любительницы книг обменялись телефонами и расста-
лись.
Вечером Маркова позвонила Вере Яковлевне, до крайно-
сти взволнованная, возбужденная.
67
— Эмили Дикинсон! Это встреча, которую я ждала, и жда-
ла давно. Мне кажется, в прошлой жизни она была моей се-
строй. Каждое ее стихотворение...
Так порой случайно сказанные слова, названное имя
вдруг становятся судьбоносными, входят в нашу жизнь, ста-
новясь неотъемлемой ее частью. И потом, оглядываясь на-
зад, не понимаешь, как жил без этого раньше.
О Вере Николаевне, я уверена, еще напишут не одну кни-
гу. Но она просто пришла к нам в дом, выпила чашку чаю.
А ее душа навсегда осталась с нами. Но об этом позже...
Как-то вечером художница Вера Яковлевна Тарасова задер-
жалась у нас. Она принесла свой новый офорт: очередной пор-
трет Михоэлса в роли короля Лира. Этот офорт до сих пор стоит
у меня за стеклом. Часов в двенадцать она уехала на такси. Ни-
кто ее не провожал: мама не очень хорошо себя чувствовала.
Вдруг часа в два ночи раздался продолжительный уверен-
ный звонок в дверь. Мы отлично знали, что означают такие
звонки посреди ночи. Все выбежали в переднюю. Я видела,
как поспешно дядя Сеня надел темно-синий пиджак, в кото-
ром ходил в консерваторию. Не знаю, как маме, но мне дядя
Сеня как-то сказал: он твердо решил умереть, если его по-
везут на Лубянку.
Звонок настойчиво прозвенел еще раз. Палец словно увяз
в звонке.
Папа открыл дверь. На пороге стоял высокий незнако-
мый мужчина.
— Такси вызывали? — спросил он.
Все объяснилось. Машина задержалась. Вера Яковлевна,
не дождавшись, уехала домой на какой-то другой машине.
А таксист, приехав, долго ждал ее и наконец, потеряв терпе-
ние, поднялся в нашу квартиру. С ним расплатились за вы-
зов, но вряд ли кто-нибудь уснул в эту ночь.
Шел 1947 год. Дышать становилось все труднее. Воздух
словно сгущался, становясь опасно-ядовитым, тревожно
предвещая недоброе.
68
В это время над головой папы, можно сказать, чудом не
задев его, пронеслась гроза.
Леонид Евгеньевич Фейнберг, мой отец, был действи-
тельно разносторонне одаренный человек. В первую оче-
редь талантливый художник, но к тому же он писал стихи,
тонко разбирался в музыке, великолепно импровизировал
на рояле. К тому же в это время он был главным либретти-
стом Большого театра.
В1947 году композитор Вано Мурадели, живший в нашем
доме, только этажом ниже, по заказу Министерства культу-
ры закончил оперу «Великая дружба». Либретто к опере на-
писал его друг поэт Мдивани.
Но, к сожалению, либретто оказалось примитивным, гру-
бым, собственно говоря, непрофессиональным. Папе пред-
ложили поработать над либретто, и он полностью его пере-
писал, естественно, сохранив все сюжетные коллизии.
Стало известно, что на премьере будет сам Иосиф Виссари-
онович. Надеясь на общественное признание и бурный успех,
Мдивани всюду, на всех афишах и программах снял папину
фамилию, оставив только свою, как автора либретто.
Сталин, прослушав оперу, пришел в ярость.
11 февраля 1948 года в газете «Правда» появилась разгром-
ная статья. Об опере было сказано: «Порочное антихудожест-
венное произведение... Исторически фальшивое... Формали-
стическое направление, ведущее к ликвидации музыки...»
В опере была затронута тема вражды грузин и осетин,
что особенно взбесило Сталина, поскольку как раз тогда он
исподволь готовился обострить размолвку между ингушами
и чеченцами.
Ио папу интересовала только литературная сторона либ-
ретто, ему и в голову не приходило проверить исторические
факты.
К счастью, в это время ему предложили написать большой
плафон на вокзале в Краснодаре. Папа воспользовался вне-
запной удачей и согласился. Он привлек к этой работе сына
Евгения Евгеньевича Лансере, носившего потомственное имя
Евгений. (Впоследствии у него родился сын, тоже Евгений.)
69
Так или иначе, папа поспешно уехал в Краснодар.
Тем временем со скандалом отстранили Вано Мурадели
и Арама Хачатуряна. На их места выбрали Тихона Хреннико-
ва и композитора Асафьева.
Но это было в Москве, а папа и Лансере тем временем пи-
сали роскошные поля пшеницы, корзины со всевозможными
фруктами, гроздья винограда в руках красавиц колхозниц.
Я скучала по Виктору Белому. Рассеялись детские иллю-
зорные мечты о романтических таинственных встречах, за-
гадочной, полной фантазий влюбленности.
После Виктора все новые друзья казались мне какими-то
случайными, чужими, на всех лежал знак временности, пусто-
ты. Они появлялись и исчезали, не оставляя следов.
Я вспоминала глаза Виктора, его твердый, властный взгляд
и все чаще жалела, что его нет рядом. И отчетливо сознавала,
что это моя вина.
Он не подавал никаких вестей о себе, никогда не звонил.
А незрелое упрямое самолюбие юности не позволяло мне
сделать первый шаг.
Как это часто бывало, к нам зашла Мария Феофановна
Яковлева, не по годам постаревшая, погасшая после расстре-
ла мужа. И как-то между прочим рассказала, что Виктор Бе-
лый лежит в больнице ослепший (впрочем, врачи говорят,
что зрение, скорее всего, вернется), с обожженным лицом
и опаленными вместе с ногтями руками. В университете,
когда он проводил опыт, прямо у него в руках взорвалась
колба.
Я подумала: «Вот он, знак судьбы. Я должна его повидать,
а там будь что будет...»
— В какой больнице он лежит? — спросила я.
— Можешь не торопиться, — глаза Марии Феофановны
молодо блеснули. Она посмотрела на меня с откровенной на-
смешкой. — Там у него другая. Наташа. Красавица, между
прочим, — она почему-то вздохнула. — Каждое утро прихо-
дит. Ляжет на него крестом и лежит, пока врачи не прого-
нят.
70
Другая... Я однажды видела Наташу у моей подруги Веро-
ники. Отец Вероники был родным братом маминого первого
мужа Валентина Александровича Яковлева.
Неряшливо одетый, мрачный, он мог пройти мимо и не
поздороваться. Известный ученый, полиглот, он изучил мно-
жество языков и наречий кавказских народов и затерянных
горных племен. В своей области уникальный специалист.
С Вероникой они вечно ссорились, но это не мешало нам,
девочкам, дружить.
Вот у них в доме я в первый раз увидела Наташу. Она
жила в том же дворе, в старом Нащокинском доме.
Наташа тогда поразила меня своей красотой. Она сидела
в кресле и за весь вечер не шевельнулась, не сказала ни одного
слова. Роскошная коса, какую редко увидишь в городе. Огром-
ные серые глаза глядят глубоко, но куда-то словно в пустоту.
«Тургеневская девушка», — подумала я в тот вечер.
Я же не знала, что Виктор, ослепший, обожженный, ждал
тогда меня, только меня. Надеялся, что я узнаю и приду. Каж-
дый день воображал, что это я пришла и обнимаю его.
Но я не пришла: ведь там «другая».
Через год Наташа родила дочь, и они поженились. После
родов обострилось врожденное психическое заболевание
Наташи.
Я не могла тогда и подумать, что их дочь Женечка станет
впоследствии не только моим другом, но и еще одним моим лю-
бимым ребенком, моей дочерью. Но как нескоро это будет...
А пока что сквозь этот зловещий, грозящий бедой сумрак
прорывались изредка лучи света: моя подруга Наташа, жена
Николая Шебалина, переехала на новую квартиру. Она вся
светилась счастьем, ее круглое милое личико сияло. Нико-
лай был рядом, еще любящий, еще верный.
— Мне пора, Николай скоро вернется, а он любит, чтобы
к его приходу я была дома, — с улыбкой нежности говорила
Наташа.
Я не завидовала ей — она была мне слишком дорога, но
ее слова отдавались какой-то болью у меня в сердце.
71
Однажды мы с ней поспорили: я читала ей Хлебникова,
«Марию Вечору», она мне — Пастернака.
— Вот скажи, тебе слабо пойти к Пастернаку и почитать
свой «Античный цикл»? — с доброй улыбкой подсмеивалась
надо мной Наташа.
— А вот пойду и почитаю, — жарко спорила я. — Да еще
поцелую его!
— А вот и слабо! — нежно смеялась Наташа.
— Держу пари! — меня это задело за живое.
Так возникло это странное пари. И только через два года
нам было суждено узнать, кто его выиграл.
А пока что была осень 1948 года.
Наташа пригласила меня на дачу в их большой бревенча-
тый дом на Николиной Горе.
Мы с ней приехали туда днем. Уже тронутые осенним зо-
лотом деревья встретили нас сухим шелестом и шорохом.
Большой дом, окруженный осенью, из темных бревен,
молчаливый, с темными окнами, нес в себе какую-то тайну.
К вечеру приехали муж Наташи Николай и двое его друзей.
— Это Олег Прокофьев! — представил он мне высокого
тонкого юношу. — У его отца Сергея Сергеевича тут непо-
далеку дача.
У Олега были правильные черты лица, внимательный
взгляд. Но что-то робкое, неуверенное было в его манере го-
ворить, в его движениях. Впрочем, скоро стало очевидным,
что он умен, изысканно образован. Я знала: весной этого
года была арестована его мать Лина Ивановна Прокофьева.
Второй друг Николая Шебалина сразу привлек мое вни-
мание.
— Юра Пономарев, — сказал Николай. — Мы с ним еще
в школе дружили. Он у нас романтик. Без моря не может.
Плавает черт-те где и куда. Скоро будет капитаном.
Юра был очень хорош собой. Этакий викинг, неведомо
как заплывший на подмосковную дачу. Что-то холодное,
мраморное проступало на его красивом лице. Уверенный
громкий голос, сразу заполнивший комнату.
72
Вечером зажгли камин, на столе горели свечи, в разно-
мастных бокалах светилось красное вино.
Я читала «Античный цикл».
Олег сказал, что он поражен моими стихами и отрицает
влияние Мандельштама, о котором я говорила.
Николай был более сдержан, а Юра сказал:
— Слишком сложно и необычно. Я люблю другие стихи.
Я видела, что Олег не сводит с меня глаз. Юра пригубил
вино и сказал: «Какая дрянь!».
«Может быть, это относится к моим стихам?» — подума-
ла я.
Мы долго сидели, глядя на угасающий огонь камина...
Когда утром я проснулась, оказалось, все ушли в лес по
грибы. Эта осень выдалась особенно урожайной, и грибы
все попадались породистые, крепкие, не тронутые гнилью
и червями.
Мы с Юрой были дома одни, он тоже не пошел за гриба-
ми. Мы отправились в лес. Просто пройтись.
Мы вышли на круглую поляну. Вдруг Юра крепко обнял
меня и без труда поставил на ровно спиленный пенек.
— Я хочу, чтобы вы стали моей женой, — сказал Юра. —
Я впервые говорю такие слова женщине. Это очень серьезно.
Да или нет?
— Да... — сама не знаю, как я это сказала.
Юра подхватил меня на руки и поцеловал. Мужским про-
низывающим поцелуем. До этого меня целовал так только
Виктор.
Так я стала невестой.
Юре надо было через неделю уезжать во Владивосток.
Еще два года практики. Он писал мне короткие письма: че-
рез год приеду...
Я ждала его. А тем временем в нашем доме стал часто бы-
вать Олег. С ним было интересно. Он прекрасно знал живо-
пись, поэзию, тоньше меня чувствовал музыку.
— Олег пришел! Дайте ему молока, — почему-то каждый
раз говорил Самуил Евгеньевич. Олегу приносили молоко.
73
Мы не пропускали ни одного балета, если танцевала Ула-
нова. Это всегда было волнующее, потрясающее душу впе-
чатление. Никогда не забуду танец: Джульетта-девочка... Но
она была прекрасна и в «Лебедином озере», и в «Жизели».
Чудо того времени.
Сергей Сергеевич довольно-таки скупо давал сыновьям
деньги. И чтобы купить билеты в Большой, Олег нередко
продавал книги.
Я бывала у Олега в четырехкомнатной квартире на Чка-
ловской возле Курского вокзала.
Странное, щемящее сердце впечатление производила са-
мая большая комната, где еще недавно жила мать Олега —
Лина Ивановна Прокофьева. Никакой мебели, пустые стены,
следы разгрома.
Только на полу, среди каких-то обрывков материи, валя-
лись рассыпанные мелкие пармские фиалки из шелка. По-
том я нашла в углу тонкие черные перчатки почти до плеч.
У меня было платье из желтого сукна с черным вышитым
цветком — очень эффектное. Длинные перчатки подошли
к нему как нельзя лучше. Помню, на него загляделась в фойе
Большого театра Майя Плисецкая.
В соседней комнате тихо, неслышно жили брат Олега
Святослав с женой Надей. Их еще больше, чем Олега, сломил
арест Лины Ивановны.
Они жили в пустой осиротевшей квартире, ощущая ее как
что-то временное, ненадежное. Так оно вскоре и случилось.
Братьям дали в том же доме крошечную квартиру из двух
одиннадцатиметровых комнат. В их большую квартиру въе-
хал один из триумвирата Кукрыниксов, кажется Куприянов.
Я знала, что арестовали Лину Ивановну в феврале 1948
года прямо в воротах ее дома.
Когда я летом уезжала куда-нибудь в Коктебель или Сор-
тавалу, Олег писал мне нежные, полные влюбленности пись-
ма. Некоторые из них случайно сохранились. Олег прекрас-
но писал о живописи, об архитектуре... Наши вкусы были
где-то рядом, и читать его письма было всегда интересно.
74
Но вот возвращался из Владивостока Юра. Мы встреча-
лись ежедневно.
Юра рассказывал мне, как однажды тяжелый шторм от-
бросил их небольшой корабль далеко в океан. Они оказались
без пищи и, что самое тяжкое, без пресной воды.
Когда они наконец причалили к берегу, там только что
прошел дождь и на асфальте сверкали лужи. Многие матро-
сы, не выдержав, принялись горстями набирать воду и пить.
— Как мне хотелось присоединиться к ним и пить, пить, —
рассказывал мне Юра. — Но я не мог себе этого позволить.
Сначала — к начальству...
Меня завораживали такие рассказы.
Олег уходил в какие-то смутные ненужные тени. Решено
было, что в следующий Юрин приезд мы поженимся. Но все
случилось иначе.
Прошел еще год. Стоянка его корабля на этот раз была
в Китае. Там он начал пить.
Когда он приехал в Москву, он показался мне каким-то
другим, — да так оно и было. Он располнел, отяжелел. Отек-
шее чужое лицо.
Несколько раз мы встретились, и казалось, к нам возвра-
щается прежнее чувство.
Но вдруг он перестал бывать у меня. Его больше привлекали
сборища друзей,—видимо, там было свободней, веселее. Собу-
тыльники и, главное, близкие ему по флоту верные приятели.
Я воровала у мамы снотворное, тосковала, ждала его звон-
ков.
Через неделю я не выдержала и написала ему резкое про-
щальное письмо.
Мой брат отнес его Юре. Он прочел его в полутемном коридо-
ре, ничего не сказал, повернулся и ушел. Ушел из моей жизни.
Я тяжело переживала наш разрыв. Наверное, я любила его,
не знаю...
Моя Наташа, оставив на няню двух своих малышей, ча-
сто приходила ко мне. У нее начались серьезные размолвки
с мужем.
75
Как-то она напомнила мне о нашем старом, уже остыв-
шем за два года пари.
— Значит, все-таки слабо?
В эти дни тоски и разочарования мне ничего не было
трудно или невозможно.
Я вспомнила, что Борис Леонидович Пастернак бывал у нас
на Маросейке, вернее, вспомнила рассказы о его посещениях
нашей старой квартиры. Дядя Сеня играл по его просьбе Баха,
Моцарта, Скрябина, которого он особенно любил.
Вспомнив все это, я решила прийти к нему под чужой фа-
милией.
Пусть я буду Мартьянова — Наташа не возражала. Это
была ее девичья фамилия. Имя? Конечно, Аглая. Тут уж не
было сомнений.
Я набрала телефон Бориса Леонидовича.
— Здравствуйте! Меня зовут Аглая Мартьянова. Я хотела
бы почитать вам свои стихи.
До чего же просто говорить, называя себя чужим именем,
как будто это и не я вовсе. Никакого смущения, застенчиво-
сти...
— Стихи... — послышался его глубокий, неповторимый
голос.
Я когда-то оказалась в Политехническом музее на вечере
поэтов. Там выступал и Борис Пастернак. Его голос звучал
как-то особенно. Будто он нес в себе собственное отдаленное
эхо, спрятанное где-то в глубине.
— Хорошо. Только созвонимся как-нибудь позже. Ну не
знаю... Через неделю.
Уже охваченная азартом игры, я позвонила ему дней че-
рез пять.
— Это опять я, Аглая Мартьянова!
Голос в трубке был тихий, погасший, смешанный с еле
различимым упреком. Усталый, но все-таки ни с чем не срав-
нимый, единственный.
— Я только что с кладбища. Похоронил друга. Простите,
я не могу. Это невозможно.
Но ничто не могло остановить меня.
76
Я выждала неделю и позвонила снова.
На этот раз, видимо, устав от моих звонков, Борис Леони-
дович согласился. Он назначил день и час. Минута в минуту,
как мы условились, я позвонила в его дверь.
Не скажу, что я особенно волновалась или чувствовала
себя слишком бестактной, навязчивой. Чужое имя охраняло
и защищало меня, как надежная броня и опора.
Дверь открыл сам Борис Леонидович. Он был одет по-до-
машнему, в сером теплом свитере крупной вязки, растяну-
том у ворота.
— Вы мне что-то принесли? — негромко спросил он.
— Нет, я хочу почитать вам свои стихи, — достаточно
уверенно сказала я.
— А-а... — откровенно разочарованно протянул он.
Мы прошли по коридору в его кабинет. Я мельком взгля-
нула на висящие на стенах иллюстрации его отца Леонида
Пастернака к «Воскресенью» Льва Толстого. Прекрасные,
знакомые мне по репродукциям рисунки.
В кабинете мебели было мало. Борис Леонидович опу-
стился в кожаное кресло за столом, я утонула в чем-то про-
сторном по другую сторону стола.
Он ни о чем не спросил — откуда я свалилась на его голо-
ву, кто дал мне телефон...
— Ну что ж, читайте, — ни интереса, ни оживления не
было в его равнодушных словах.
Не надо забывать, что шел тяжелый пятидесятый год. Кто
знает, что за незнакомая девушка пришла в его дом.
Я начала:
Невольничьего рынка звездный сруб...
Борис Леонидович прервал меня:
— Какая странная строка! Это вы написали?
— Я... — вот тут я в первый раз смутилась.
— Простите, что перебил вас. Продолжайте.
Я начала снова. В этом стихотворении есть строфа:
77
Елена в башне новых ждет оков.
Ест Афродита яблоко Париса.
Молчат пророчества. Ждет жертвенник даров.
Сны спят. Им рано, чтоб на нас пролиться.
Когда я дочитала до конца, Борис Леонидович вдруг рас-
смеялся, запрокинув голову, открыв шею с туго натянутыми
выпуклыми жилами. Больше я никогда не слышала, чтобы
он так легко и беззаботно смеялся, хотя впоследствии не
один раз бывала у него в Переделкино.
— Вы первая, кто подумал, что же все-таки сделала Афро-
дита с яблоком Париса, — продолжая смеяться, сказал он. —
Она его ест. Просто ест. Это — удивительно!
Он просил меня читать еще. Я охотно читала, уже как-то
успокоившись и вместе с тем ярче понимая уникальность
этого момента.
— Читайте еще.
Не знаю, почему я выбрала это стихотворение, но с ним
пришла удача.
Воспоминания твои приносят зло,
Твое дыхание ее погубит,
Твое веселье ей смертельно будет
И призрачно земное ремесло.
Ей ремесло твое не по плечу.
Твое плечо не будет ей опорой.
Она придет надолго, но не скоро,
И не зажжет она в руке свечу.
В ее руке свеча не зажжена,
Но от нее предчувствие светлее.
Она на темной зелени белеет,
А на снегу упавшем не видна.
Ее увидишь в промежутках сна
И между крыльев мельницы спокойной,
От искривленной ляжет тенью стройной,
Ей, бесприютной, даст приют весна.
78
О, молоко зеленое весны!
О травы голубиных врачеваний!
Отвергнутая твердь воспоминаний
И светом отороченные сны.
— Я бы назвал это стихотворение «Нежность», — задум-
чиво сказал Борис Леонидович. — А теперь, Аглая, прочтите
это стихотворение еще раз.
Я прочла.
Потом я почувствовала: хватит, достаточно. Борис Леонидо-
вич, опустив голову, молчал, задумавшись. Потом сказал:
— Это очень хорошие стихи. Но поверьте мне, вы не буде-
те писать так всегда.
Я горячо возразила: по-другому я писать никогда не буду.
Однако его слова оказались пророческими. «Античный
цикл» не был продолжен. Я начала писать «Тяжелую лирику».
Потом, бывая в Переделкино, я читала их Борису Леони-
довичу. Но чувствовала: новые стихи нравятся ему меньше,
чем «Античный цикл».
А пока я оглядывала кабинет Бориса Леонидовича, ста-
раясь запомнить и книжные полки, и большой совершенно
пустой письменный стол. Нет, на нем стоял чей-то неболь-
шой портрет в деревянной раме. Но чей? Он был отвернут от
меня, я так и не узнала, чей взгляд ловил Борис Леонидович,
оставаясь один.
Тем временем он достал небольшую тонкую тетрадку,
скрепленную узкой тесемкой.
— Это стихи к моему роману, — сказал Борис Леонидович
и, развернув ее, уже хотел подписать первую страницу...
Тут мне пришлось раскрыть мой секрет, теперь казав-
шийся мне детским и нелепым.
Я бережно хранила его автограф, теперь он у моего сына
в Швейцарии.
Соне,
с пожеланием, чтобы
ее жизнь была так же
79
хороша, как она сама
и ее стихи.
Б. Пастернак
25 мая 1950
Теперь оставалось самое трудное: уж надо было довести
пари до конца. Ведь дома меня с нетерпением ждала моя На-
таша. Я только сейчас вспомнила об этом.
Я взяла бесценную тетрадь из его рук и быстро поцело-
вала его прямо в губы. Он ответил на мой поцелуй, вскользь
коснувшись уголка моих губ.
Сейчас мне странно вспоминать это. Но ведь так это было.
Мне исполнилось тогда чуть больше двадцати лет, а душа моя
остановилась где-то на грани зрелости. И это несмотря на вой-
ну, на время, полное тревоги и недобрых предчувствий.
Я вернулась домой. Все рассказала Наташе. Я была взвол-
нована и подсознательно чувствовала, что этот столь зна-
чимый для меня день не может окончиться так, как другие,
обычные.
Зазвонил телефон. Я сняла трубку.
Послышался его голос: неповторимый, глубокий, един-
ственный. Это звонил Борис Леонидович.
— Соня, я до сих пор под впечатлением ваших стихов. Од-
но стихотворение, кажется, запомнил наизусть. Если оши-
бусь, поправьте.
Борис Леонидович начал читать:
Воспоминания твои приносят зло...
И так, без запинки, все стихотворение до конца.
А тем временем школа уже была позади, и пора была ду-
мать, какой наконец выбрать дальнейший путь.
Литературный институт для меня был наглухо закрыт.
Я еще помнила отчаянный дикий крик поэта М., Сережино-
го однокурсника, которому я читала «Античный цикл»: «Что
это? Где я? Куда я попал?..».
80
Однажды папа заметил, что я, разговаривая с ним, рисую
на обрывке бумаги какие-то головки.
Папа взял и принялся рассматривать эти наброски.
— А знаешь, похоже, ты способная, — сказал он. — Давай
попробуем. Я поучу тебя рисовать, а там видно будет...
Дело в том, что мой отец обладал поистине волшебным
даром истинного учителя, будь то математика, астрономия
или, в первую очередь, рисование.
Мои успехи удивили даже его. Скоро я рисовала каран-
дашом и углем портреты. Потом акварель, пестрая палитра,
тюбики, кисти...
Порой меня охватывало отчаяние, тоска, но я была упор-
на. Конечно, это длилось не один год.
Иногда меня тяготили эти занятия. Я тайно радовалась,
когда выдавался темный, бессолнечный денек и, само собой,
отпадали уроки живописи.
А мама огорчалась.
Она говорила: «Когда я вижу, что ты пишешь маслом или
рисуешь, я чувствую себя здоровой и молодой...»
Но, так или иначе, года через три я успешно поступила
в Московский художественный институт имени Сурикова,
что приравнивалось к Ленинградской академии.
Мне очень повезло с педагогом. Нам преподавал рисунок
известный иллюстратор Борис Александрович Дехтярев.
Он заставлял нас рисовать легко и воздушно, не утяжеляя
детали, сохраняя движение стоящей модели.
Но я стремилась к литературе, выбранной душой и судьбой.
С тех пор как была издана моя первая сказка в стихах «Кто
лучше?», я больше никогда не брала в руки карандаш.
Сказка? Почему сказка? Но об этом речь пойдет позже,
если вообще стоит об этом писать.
Что ж! Я выиграла пари, и меня поразили стихи, подарен-
ные Пастернаком.
Олег перепечатал их для себя. Я все чаще встречалась
с ним. Мы часами простаивали около картин Врубеля в Треть-
яковской галерее, это нас объединяло—любимый художник!
81
Олег по-прежнему продавал книги, чтобы сходить со
мной в Большой театр, еще раз посмотреть чудо нашего вре-
мени — Уланову. Ее особый наклон головы, трогательные,
полные чувства движения, — вершина мастерства.
Изредка приходили короткие, осторожные письма от
Лины Ивановны Прокофьевой, матери Олега. Заполярье,
поселок Абезь, район Воркуты. Она, иностранка, писала по-
русски без ошибок, что меня поражало.
Олег начал брать уроки у Роберта Рафаиловича Фалька.
Уроки оплачивал Сергей Сергеевич Прокофьев, здесь он не
скупился. Олег и Святослав по-прежнему жили в крошечной
двухкомнатной квартире, но в том же доме на улице Чкалова.
Купив торт или кекс, мы с Олегом шли к Роберту Рафаи-
ловичу.
Его старый дом как-то странно, углом, выходил на улицу.
У подъезда часто толклись двое невысоких людишек, по-
дозрительно оглядывавшие нас. Откуда только берутся такие
крысиные острые мордочки, холодные пустые глаза?
— Ваши документы, — как-то раз негромко спросил один
из них. — Вы к кому?
— Мы к Фальку, Роберту Рафаиловичу.
У меня с собой никаких документов не было. Но Олег про-
тянул паспорт. Второй человечек что-то чиркнул в блокноте.
Но это было только один раз.
Мы поднималась по плохо освещенной лестнице. Треску-
че, словно из последних сил, звучал звонок. Слышались стар-
ческие шаркающие шаги. Дверь всегда открывал сам Роберт
Рафаилович.
Спадающие с ног домашние туфли, свободная, напоми-
нающая толстовку, удобная для работы куртка, с боков и воз-
ле карманов следы краски.
Мы шли вслед за ним в его удлиненную темноватую ком-
нату. Все вокруг поражало откровенной нищетой.
Олег приходил к нему на занятия днем, и тогда в комна-
те было светлее. Сейчас свисала с потолка пыльная люстра,
робко горели две-три лампочки.
82
Лицо Фалька, уже немолодое, поражало своей значитель-
ностью. Этакий усталый лев. Глядел он на нас безразлично,
как мне казалось, даже с оттенком легкой брезгливости.
Три обшарпанных стула стояли вдоль стены. Он ставил
на них свои картины: портреты, натюрморты...
Теперь его преждевременно состарившееся лицо оживля-
лось, в глазах появлялся зоркий блеск.
— Вот! — всегда говорил он, словно знакомил нас со сво-
ими картинами, как с чем-то живым, одушевленным.
Это всегда было интересно, хотя не скажу, что Фальк
один из моих любимых художников. Чувствовалось влияние
французской школы. Сезанн...
Часто приходила стройная, моложавая Ангелина Василь-
евна, его жена. Приносила простенький ужин.
Роберт Рафаилович, прислонив к стене еще несколько
картин, садился за маленький шаткий столик.
Я помню, Ангелина Васильевна как-то принесла ему на
ужин селедку. Он ел ее, втыкая вилку с тремя зубцами (чет-
вертого не хватало), заедая черным хлебом.
В те годы его не выставляли. Бедность сквозила из всех углов.
Не знаю, были ли у него еще ученики, кроме Олега. Знаю, что
его поддерживал и покупал его картины Илья Эренбург.
Но официальные критики громили его, как могли, ста-
раясь перещеголять друг друга. Копнув в глубину времени,
вспоминали «Бубновый валет», основателем которого он
был, и злополучные три «Ф» (Фонвизин, Фальк, Фаворский).
Три блестящих художника, гордость русской графики и жи-
вописи.
Надо сказать, что больше всего из живописного наследия
Олега, которое было очень разнообразным, мне нравились
картины, написанные в стиле и под влиянием Фалька. Они
мягкие, как бы заранее выцветшие, и вместе с тем удивительно
красивые по цвету. Уроки Фалька оказались бесценны.
Меня несколько огорчала одна особенность, скорее стран-
ность, в творчестве Олега. Достигнув удачи в какой-то выбран-
ной им новой манере, написав несколько свежих интересных
83
картин, он словно бы поспешно начинал искать новый стиль,
иногда очевидно менее удачный.
Так однажды он начал писать маслом, бросив кисти, вы-
давливая краски прямо из тюбиков. Он написал несколько
натюрмортов, пейзажей.
И вдруг этим способом он написал прелестный портрет
девочки, тонко передав ее нежность и очарование. Достиг-
нув этой удачи, он навсегда бросил писать тюбиками и ни-
когда впредь не возвращался к этой своеобразной технике.
И так не один раз.
Помню, однажды Олег простодушно мне сказал:
— Знаете, я спросил Роберта Рафаиловича: стоит ли мне
жениться на вас? Он ответил: «Конечно нет, если вы об этом
меня спрашиваете!.»
Я несколько удивилась, но не тому, что Олег задал Фальку
такой вопрос. Возможно, просто не с кем было поделиться,
посоветоваться. Я удивилась скорее тому, что он так просто
и откровенно рассказал это мне.
Впрочем, тут же Олег сказал:
— Сонечка, когда же мы поженимся?
Ангелина Васильевна, худая, усталая, с увядшим, но ми-
ловидным лицом, всегда куда-то торопилась.
Они перекидывались с Робертом Рафаиловичем коротки-
ми фразами, понятными только им одним.
Она ставила перед ним чай в помятом старинном подста-
каннике, видимо серебряном, и незаметно уходила, скорее
исчезала.
А мы оставались, и Фальк расставлял на стульях перед
нами новые картины.
Теперь о другом, так не похожем на наши визиты к Фальку.
— Хочешь увидеть чудо? — однажды спросил меня отец.
Я, конечно, хотела.
— Мы поедем к Василию Яковлеву.
— Погоди, это что, «Колхозное стадо»? Где все коровы
в профиль?
— Вот увидишь.
84
Я знала, что папа познакомился с Василием Яковлевым на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Яковлев зани-
мал там пост главного художника, а папе предложили офор-
мить азербайджанский павильон.
Оформление этого павильона было признано наиболее
удачным. Папа применил там своеобразный, им же изо-
бретенный метод. Вся площадь панно покрывалась тонким
слоем песка и по нему уже масляными красками писалось
изображение: стройные девушки в национальных костюмах,
певцы с народными инструментами и так далее. Живопись
получалась матовой, но очень неожиданной и эффектной.
Так или иначе, там состоялось их знакомство...
Уже величественный подъезд дома говорил о надежном
благополучии его хозяев.
Высокую дверь открыл сам Василий Николаевич. Он лю-
безно приветствовал папу, как старого доброго знакомого,
хотя мне казалось, что особой близости у них никогда не
было.
Не помню как, но мы очень быстро очутились в его про-
сторной мастерской. Я замерла на пороге.
Яркая большая картина, стоящая наискосок, занимала
четверть мастерской.
Я слышала об этой картине. «Спор об искусстве». Броса-
лось в глаза обнаженное сияющее тело натурщицы. Рубен-
совские формы, которым не хватало сочности и ощущения
живого тепла.
Меньше удалась группа художников, — собственно, это
они спорили об искусстве или должны были спорить.
Тщательно написанные лица, но вместе с тем как бы ли-
шенные духовности, жизни, живого дыхания.
Но поражали отдельные детали картины: великолепно
написанные складки тканей, внизу в левом углу роскошный
натюрморт — круглый столик, на нем кувшин и огромный
букет цветов. Это было словно написано другим художни-
ком. Чувствовалась рука великого мастера.
Хозяин пригласил нас в столовую. Он сам разливал чай.
85
Мы, пораженные, оглядывались по сторонам, а Василий
Николаевич с улыбкой удовлетворения искоса посматривал
на нас.
Действительно, было чему изумиться.
Вдоль всех стен на уровне глаз висел длинный ряд вели-
колепных голландских натюрмортов, как бы опоясывавший
всю комнату.
Нельзя описать их восхитительное непостижимое совер-
шенство.
Из мягкого мрака выступала серебряная посуда. Лимон,
нарезанный спиралью, спускался с блюда, и от его кислого
сока сжималось горло. Грозди винограда то мягко уходили
в сочную темноту, то на свету казались прозрачными. Зо-
лотистое вино искристо сияло в высоком бокале тонкого
стекла.
Над натюрмортами висело несколько пейзажей. Это был
Коро, с его неподражаемым туманным колоритом. Таяли
деревья, на некоторых картинах можно было разглядеть не-
сколько женских фигурок у стволов наклонных деревьев,
призрачный замок где-то в дымчатой глубине.
Пока мы неотрывно любовались картинами, наш любез-
ный хозяин развлекал нас удивительными рассказами, го-
лос его был спокоен, неспешен, будто он рассказывал что-то
обычное, повседневное.
В Париже он бедствовал, почти голодал. Он жил с прияте-
лем в какой-то мансарде, денег не было, а уже законченный
Рембрандт никак не сох. Это было очень досадно, потому что
покупатель ждал его с нетерпением. И конец нищете.
Да, несколько картин, в том числе и пейзажи Коро, напи-
санные им на том же чердаке, висят до сих пор в Лувре.
Василий Николаевич рассказал нам, что он иногда под-
писывал картины своим именем, а сверху, поверх лессиров-
ки, ставил поддельную подпись Коро.
Не было сомнений, что все это истинная правда, доста-
точно было поглядеть на висящие на стенах картины.
Что же это было? Гениальные имитации? Яковлев почти
не имел собственного стиля (его авторские картины были
86
написаны очень совершенно, но мертво и холодно), его та-
лант был в другом. Он обладал даром проникнуть глубоко
в стиль великого мастера, но не копировать его, а как бы
продолжать то, что тот не успел написать.
Он повел нас в небольшую комнату, где специально уста-
новленные лампы мягко освещали большую картину.
Так появился Веронезе, «Снятие с креста», которого он
нам показал. Это было поразительное полотно.
Думается, Василий Яковлев — явление таинственное, не-
повторимое за все время существования мировой живописи.
В своем роде недооцененный гений. «Чудо», как выразился
мой отец.
Мы ушли, и я долго вспоминала написанное им тело Хри-
ста, холодное, чуть голубоватое, уже покинутое жизнью.
Вечером, когда мы вернулись домой, все увиденное у Яков-
лева стало казаться мне призрачным, нереальным сном.
Не знаю, какова дальнейшая судьба этих шедевров. Они
достойны были собственного музея, пусть небольшого, и уж
во всяком случае роскошной монографии. Но они словно
растворились во времени и безвестности.
Летом 1952 года мы снова сняли дачу на Николиной Горе.
Однажды я и Олег гуляли по дороге мимо заборов, высоких
корабельных сосен, поднимающихся из зеленой глубины.
Навстречу нам шел Сергей Сергеевич Прокофьев.
— Это папа. Как удачно! — обрадовался Олег.
Сергей Сергеевич шел один. В правой руке сучковатая пал-
ка, скорее всего подобранная где-то по дороге.
Его продолговатое лицо показалось мне усталым, не-
сколько болезненным, желтоватым.
— Это Соня, — как-то слишком торжественно представил
меня Олег.
Видимо, он что-то рассказывал, потому что Сергей Сер-
геевич улыбнулся, пристально разглядывая меня.
Он протянул мне руку, здороваясь. Рука была сухая и теплая.
— Вот вы какая! Вы проводите меня?
87
Мы пошли рядом. Он постукивал палкой по дорожке, но
не опирался на нее.
— Вы, кажется, художница? — спросил меня Сергей Сер-
геевич.
— Я учусь, — ответила я. Что я могла еще сказать?
— Соня пишет очень хорошие стихи, — Олег остановился
около высокой калитки.
— Ну кто в этом возрасте не пишет стихов? — как мне по-
казалось, чуть насмешливо сказал Сергей Сергеевич. — Вот
мы и пришли.
Он забросил палку в кусты и открыл калитку. В глубине
виднелась двухэтажная дача. На террасе сквозь зелень про-
свечивала худенькая женская фигурка в чем-то темном.
— Мы еще увидимся, — сказал он любезно, словно закреп-
ляя за мной право встретиться снова.
Кто мог знать, что это наша единственная встреча...
Тем временем мы подали заявление в загс. Был назначен
день нашей свадьбы.
Олег был упорен, постоянен, шел уже пятый год нашей
дружбы, постепенно переходящей в более глубокое чувство.
Мне было с ним интересно, он был неизменно нежен, любил
и ценил мои стихи.
Сергей Сергеевич назначил день, когда мы, уже как же-
них и невеста, должны были нанести ему визит. Это было
пятое марта 1953 года.
Помню срывающийся голос его жены Мирры Алексан-
дровны Мендельсон, раздавшийся в телефоне:
— Сергей Сергеич умер!..
Потом были похороны.
Гроб с телом Сергея Сергеевича стоял внизу в парадном
зале нашего дома. Ведь тогда это был «Дом композиторов».
Помню, Святослав и Надя ночевали у нас. Кто-то сказал
нам, что Рихтер летит из Грузии в самолете, полном венков
из свежих цветов, но это для Колонного зала, для совсем дру-
гого умершего.
88
Мы же не могли найти ни одного цветка, чтобы положить
на гроб Сергея Сергеевича.
Наскоро сколоченный из досок помост был весь обложен
еловыми ветками. Это позаботился кто-то из администра-
ции.
Тихо входили жильцы нашего дома, приносили горшки
с цветами, ставили их, раздвигая еловые ветки.
Сыновья Олег и Святослав чувствовали себя растерян-
ными. Это и понятно. Мать, арестованная и осужденная на
двадцать лет, была где-то далеко в Заполярье. Отец, пусть не-
сколько холодный, но все же был всегда рядом. А теперь...
Все время играла музыка. Один пианист сменял другого.
Самуил Евгеньевич играл Баха, потом адажио из Патетиче-
ской сонаты Бетховена.
В другом конце зала мелькнула Мирра Александровна.
Худенькая, заплаканная, в черных кружевах. Ее окружали
уже пожилые друзья Сергея Сергеевича. Потом она, непо-
движно застыв, стояла у гроба.
Олег все время был рядом, держал меня за руку.
Ближе к вечеру я зашла наверх к Хренниковым. Они были
взволнованны, растерянны, тихо и коротко переговарива-
лись, кому-то звонили. С удивлением я увидела Маргариту
Осиповну Алигер. Прислонившись к дверной притолоке, она
горько плакала, закрыв лицо руками.
Мой брат Сергей сказал, что пойдет на похороны Стали-
на, взяв с собой трехлетнюю дочку Аленушку, он посадит ее
на плечо.
— Что-то она запомнит, — сказал он.
Самуил Евгеньевич его резко и гневно одернул.
— Ты сошел с ума! Умер кровавый палач. Ты знаешь, что
там будет? Ходынка! Как на Ходынском поле. А ты хочешь
еще взять с собой ребенка! Даже не думай.
К счастью, он не пустил Сережу.
Мы все знаем, какая трагедия произошла на похоронах
Сталина, сколько людей погибло в кровавой давке....
Сергея Сергеевича тихо похоронили на Новодевичьем
кладбище. Были только самые близкие.
89
К слову сказать, когда Лина Ивановна Прокофьева в 1974 го-
ду навсегда уезжала за границу, она увезла вместе со своими
драгоценностями кружку, какие раздавали собравшейся толпе
на Ходынском поле.
Это был царский подарок в день коронации Николая Вто-
рого. Простая кружка, не знаю, из какого металла — желез-
ная, медная, с грубым, ярким эмалевым узором. Но я навсег-
да ее запомнила, почему-то смотреть на нее было страшно.
Сколько пролилось крови...
Мы с Олегом решили все-таки не откладывать нашу
свадьбу, но отпраздновать ее очень скромно. Никакого бе-
лого платья, не приглашать друзей, тихо отметить в кругу
семьи.
Ночью накануне я и мама не спали, сидели до утра. Мы
разговаривали, не могли уснуть.
Уже светало, когда мама вдруг негромко сказала, ранив
меня до глубины души:
— Была бы моя воля, я выдала бы тебя замуж только за
одного человека: за Виктора Белого.
Я вспыхнула, чуть не заплакала:
— И ты говоришь мне это сейчас, зная, что Виктор давно
уже женат, а я сегодня выхожу замуж за Олега?
В загсе молодая женщина с усталым, рано увядшим ли-
цом привычно произнесла формальные поздравительные
фразы, скрепила наш брак печатями.
Потом, вздохнув, негромко сказала, обращаясь к Олегу:
— А я недавно регистрировала смерть вашего отца...
Олег выслушал равнодушно, а на меня это произвело
гнетущее впечатление. Врезалось в память, как дурное пред-
знаменование. В такой день невольно становишься суевер-
ной...
После свадьбы мы с Олегом переехали в его маленькую
комнатушку, где на стене висела синяя собака Сарьяна, бе-
гущая по оранжевому песку.
Это было наше маленькое свадебное путешествие —
с Третьей Миусской переехать на Чкаловскую.
90
Мне было там хорошо. Святослав и Надя с утра уходили
на работу. А мне было легче первые дни быть с Олегом не
дома на Миусской среди своих.
Потом мы поехали с Олегом в Сортавалу, в дом творче-
ства композиторов на Ладоге.
Необычайно красивая природа, лесные озера. Поднима-
ешься вверх по заросшему деревьями и кустами склону горы,
а там неожиданно снова озеро, словно в каменной чаше.
Я была уже беременна и наверное поэтому всюду видела
странные недобрые предзнаменования.
Я очень огорчилась, когда потеряла обручальное кольцо.
Потом, уже в Москве, Олег купил мне другое, новое, но оно
было уже какое-то чужое...
Прошло одиннадцать месяцев со дня нашей свадьбы — я
родила Сережу.
Но в Москве было невесело, очень болела мама. Один
инфаркт за другим. Она с трудом подходила к Сережиной
кроватке, наклонялась над ним и всегда говорила с какой-то
особой нежностью:
— Ах, мой милый остзейский барон!
Почему она его так называла — не знаю, но это запом-
нилось.
Сережа был светленький, ясноглазый и очень хорошенький.
Олег радовался на него, и это еще больше сближало нас.
Когда мы купали Сережу по вечерам, Олег всегда брал в рот
его маленькую ножку. Странная ласка, но меня это трогало.
У меня было мало молока.
Моя Лидочка... Я уже писала о ней. Она вместе с тетей
Марусей жила недалеко от нас. Самуил Евгеньевич помог ей
купить небольшую двухкомнатную квартиру. Она забегала
к нам каждое утро и приносила от донорши сцеженное моло-
ко для Сережи. Она звала его Лялька, и с ее легкой руки мы
долго его так звали.
Лидочка в первый раз повела меня к Серовым, внукам
знаменитого художника Валентина Серова.
91
Потом уже я нередко ходила к Серовым, или с Лидочкой,
или одна.
Их большая, темная, запущенная квартира напоминала
мне нашу старую квартиру на Маросейке. Просыпались, ста-
новясь яркими, воспоминания детства.
Семья Серовых была многочисленная, пестрая: внуки,
правнуки...
Кто-то разводился, приводил новую жену, и она прижи-
валась легко, как цветок, который пересадили в благодат-
ную почву.
В основном семью составляла молодежь, но, конечно, это
громоздкое содружество держалось на самой старшей внуч-
ке Серова — Олечке, мудрой главе семьи.
Большая закопченная кухня с темным потолком, как
у нас на Маросейке. Только здесь была уже газовая плита,
а у нас печка еще топилась дровами.
Лидочка и тетя Маруся приходились Серовым какой-то
близкой родней. Их очень любили.
Хотя, по-моему, в этом доме любили всех, кто переступал
порог.
На кухне вечно кто-то толпился, старясь что-то приго-
товить, о вкусе того, что кипело на плите, не особо заботи-
лись — главное, чтобы еды было много и на всех хватило.
Почти все внуки так или иначе были связаны с искус-
ством: музыканты, художники, скульпторы.
Лидочка часто пела, аккомпанируя себе на рояле. У нее
было особое милое свойство — ее не надо было долго упра-
шивать. Она пела легко и охотно: классику, романсы...
Олечка вечно уходила ухаживать за какими-то больными
старушками. Это было в традиции семьи.
Личная жизнь ее не сложилась. Она воспитала Катю, дочь
своего брата Мити, потом ее детей.
В этой темной квартире, где породистый паркет был по-
царапан и стоял почти что дыбом, было одно светлое пятно,
освещавшее все вокруг.
Это было большое полотно «Похищение Европы». Второй
вариант висел в Третьяковке. Эта картина как бы не совсем
92
привычна для стиля Серова. Вся светлая, написанная широ-
ким свободным мазком.
Кто-то все время порывался ее купить, кажется, опять
Третьяковка. Но семья не спешила с ней расстаться.
Были, конечно, и другие картины. Например, лошадка,
везущая телегу по раскисшей осенней дороге.
В большой комнате стоял сундук, полный сокровищ: ри-
сунки, акварели. Помню набросок — Петр Первый широко
шагает вдоль залива.
Но вот наступил тяжелый момент для этого устоявшегося
семейного быта. Старый дом предполагали или снести, или
перестроить.
Никто не мог подобрать Серовым такую же большую
квартиру.
Я как-то пришла к ним и застала семью в волнении, бес-
покойстве, словно стаю вспугнутых с насиженного родного
гнезда птиц.
Тут уже пришлось продать «Похищение Европы», и моно-
литный клан Серовых распался.
Им дали квартиры не то в одном доме, не то где-то ря-
дышком друг от друга.
Я не была у Олечки в новой квартире — как-то не хоте-
лось, даже не знаю почему, ведь я очень любила Олечку.
В это время предполагалось очередное издание моногра-
фии Серова. Олечка приходила к нам — собственно говоря,
к папе — посоветоваться, как расположить репродукции, ка-
кие детали дать крупным планом.
Впоследствии мы часто встречались на концертах «Ма-
дригала».
Но мне запомнились навсегда большая комната с обеден-
ным столом посередине и сияющая картина на стене. Тро-
гательная, испуганная девочка сидит на спине огромного
быка, окруженного пенными волнами.
И вот, наконец, Лидочка познакомилась у нас с Андреем
Волконским, и эта встреча стала знаменательным событием
в жизни их обоих.
93
Андрей давно мечтал создать ансамбль старинной музы-
ки, и Лидочка стала его правой рукой и помощницей. Она
всей душой отдалась организации ансамбля, поискам ста-
ринных инструментов, затерянных, забытых нот.
Уже первый концерт «Мадригала» имел громадный успех.
Концертный зал Чайковского был переполнен.
На ступенях, ведущих к широким входным дверям, всег-
да толпились желающие попасть на концерт.
Несколько странная, таинственная художница с редким
именем Аэлита шила исполнительницам туалеты из грубого
холста, раскрашивая их масляными красками. Даже с ближ-
них рядов они были очень оригинальны, эффектны и напо-
минали средневековые наряды знатных дам.
Особенно было красиво, когда музыка исполнялась при
свечах. Сочетание живого мягкого света и старинных мело-
дий создавало особое настроение, ни с чем не сравнимое.
Лидочка обладала подлинным чувством музыки. Она
была украшением ансамбля. Вместе с тем она, может быть,
единственная в то время исполняла в каких-то маленьких за-
лах музыку современных западных модернистов: Шенберга,
Альбана Берга и других.
У нее была одна особая черта характера. После Ленинград-
ской блокады Лидочка не могла видеть человека, лежащего
на земле или на снегу. Даже если это был кто-то пьяный, обо-
рванный, грязный, в крови. Она поднимала его, выпытывала
адрес и на такси отвозила к нему домой.
Иногда это кончалось для нее достаточно плачевно, ее
принимали за какую-то гулящую девку, оскорбляли, брани-
ли. Но стоило ей увидеть кого-то лежащего на земле, все по-
вторялось с начала.
Она огорчалась, но ничто не могло заставить ее отказать-
ся от этой привычки. Это было сильнее ее...
Между тем ансамбль процветал.
Андрей, князь, как все мы его звали, покупал старинные
инструменты вместе с Лидочкой, рылся в нотах, листал по-
желтевшие страницы в поисках забытых шедевров.
94
Он часто бывал у нас в доме.
Появилась его жена Галя — дочь популярного в те вре-
мена драматурга Арбузова, падчерица Паустовского. Очень
хорошенькая, всегда дорого и со вкусом одетая, изящно
подстриженная. Но чего-то недоставало ей, чтобы стать
окончательно красивой. Словно бы последнего мазка ху-
дожника, который придал бы ее внешности особую непо-
вторимость.
Андрей ее как-то мало замечал. Порой смотрел на нее
почти с недоумением.
Помню, Галя вынимала из сумочки носовой платок, и на
пол сыпались крупные купюры. Я засовывала их обратно,
а она снова роняла.
Князь как-то быстро разошелся с ней, но недолго прихо-
дил к нам один. Он уехал в Прибалтику и вернулся с новой
женой — Хельви, высокой, тощей, с незапоминающимся ли-
цом. Они обвенчались там, в Прибалтике.
Поселились они в какой-то комнатушке, туда надо было
подниматься по темной крутой лестнице. Почти никакой
мебели. Только старинный клавесин. Настраивал его сам
Андрей.
Как-то я спросила Андрея, какое впечатление на него
произвело венчание.
— Да вот, представляете, по щеке у Хельви все время пол-
зала муха, я так и смотрел на нее все время.
Ну, это был Андрей, со всеми своими странностями и чу-
дачествами.
Я помню, только открылись «Березки», он и Олег как-то
раз купили там всевозможные напитки. Они приехали на
дачу, которую мы снимали в Отдыхе, и расположились на
тенистой террасе.
Я приехала на дачу и увидела, что, как ни странно, они —
и Олег, и Андрей — оба пьяные. Они по какой-то французской
книге составляли коктейли, пили, их рвало прямо на хозяй-
скую сирень, которая густо росла вокруг террасы.
Я забрала у них эти бутылки, и они оба уснули прямо на
полу, на каких-то брошенных пледах.
95
Андрей часто играл у нас на рояле, играл он великолепно.
Он иногда давал концерты клавесина, только клавесина,
без «Мадригала». И опять-таки собирал полный зал Чайков-
ского. Но в основном он, конечно, занимался «Мадригалом».
Он сам писал музыку и, надо сказать, очень огорчался,
что ему не удается добиться разрешения ее исполнять. Одна-
ко в те времена — шестидесятые годы — такая музыка была
под запретом.
Потом Андрей предложил мне написать оперу.
Мы вдвоем взялись за либретто по незаконченной дра-
ме Пушкина «Сцены из рыцарских времен». И тут я убеди-
лась, что у Андрея недюжинные литературные способности.
Он свежо и талантливо писал текст либретто. Фантазия его
была поистине неисчерпаема.
Ему хотелось написать оперу в средневековом стиле. Но
вскоре ему прискучило, как это уже прежде бывало: ему все
быстро надоедало.
Наше либретто так и осталось незаконченным, хотя я еще
раз убедилась в неординарности и уникальности Андрея.
В 1972 году Андрей Волконский уехал в Париж. Отец
его — старый князь — к этому времени уже умер, а его мать
осталась в Москве.
В Париже все сложилось не так, как ожидал Андрей.
Он оставался в тесном контакте с Лидочкой. Когда-то
в юности он играл свои импровизации старому Рахманино-
ву. Он получил рахманиновскую стипендию и жил на нее.
Это была немалая сумма денег. Он мог даже регулярно по-
сылать деньги Лиде Давыдовой для того, чтобы та покупа-
ла старинные и новые инструменты, а главное, абонементы
и раздавала бы бесплатно друзьям.
Дело в том, что без Андрея ансамбль стал постепенно
тускнеть, терять популярность, тем более что появились но-
вые ансамбли старинной европейской и русской музыки. Ко-
гда-то Андрей был первым.
96
К сожалению, в Париже его творческая жизнь сложилась
не слишком удачно. Он играл на клавесине в маленьких за-
лах человек на двадцать — двадцать пять. Собственную му-
зыку ему тоже нечасто удавалось исполнять.
Он женился, как рассказывала мне Лидочка, с которой
они все время переписывались и перезванивались, — женил-
ся на какой-то графине, жил у нее в замке, в горах...
Я думала: вот, наконец Андрей нашел то, что искала его
душа. Он князь, она графиня. К тому же замок где-то далеко
в горах, это так красиво и романтично.
Но, как всегда, это было ненадолго, коротко, поверхност-
но, быстро прискучило. Он бросил и замок, и графиню и сно-
ва вернулся в Париж.
Последние годы этот уникально талантливый человек не
мог найти себя. К тому же он был уже тяжко болен, его вози-
ли в коляске.
Это рассказывала мне Лидочка. Скончался он в 2008
году, оставив после себя добрые воспоминания как о че-
ловеке удивительном, незаурядном, блистательном музы-
канте.
Мне грустно, что прекрасный ансамбль, так сросшийся
с придуманным Андреем Волконским названием «Мадри-
гал», был по сути дела ограблен другим ансамблем, тоже
исполнявшим старинную музыку, присвоившим себе чужое
имя. По какому праву?
Ансамбль, созданный Андреем, существует и поныне.
Только теперь он называется не «Мадригал», а «Волконский
Консорт». В сущности, еще одна несправедливость, ведь не
случайно Андрей назвал его «Мадригал».
Память своевольно возвращает меня к прошлому.
Олег с трудом приживался в нашей семье. Я училась в ин-
ституте, после занятий бежала сначала к маме, потом к дяде
Сене, потом к папе...
— Когда ты приходишь ко мне, ты похожа на выжатый
лимон, — с капризной досадой говорил мне Олег.
97
В 1958 году в Москве проходил первый международный
конкурс пианистов и скрипачей имени Чайковского.
Это было настоящее событие для музыкальной жизни
Москвы. Приехали молодые исполнители из разных стран.
Каждый пианист проходил окончательную шлифовку ма-
стерства у одного из профессоров Московской консерватории.
Ван Клиберн, прибывший из США, занимался у Генриха
Нейгауза.
К Самуилу Евгеньевичу почти каждый день приходил Лю
Ши Кунь, пианист из Китая.
Лю Ши Кунь был высокого роста, тонкий и гибкий, очень
застенчивый, даже робкий.
Самуил Евгеньевич высоко ценил его мастерство, вели-
колепные творческие данные и, главное, тонкое понимание
музыки.
Прослушав на репетиции Ван Клиберна, Самуил Евгенье-
вич, оценив его великолепную технику, сказал:
— Он из тех пианистов, которые поражают своей вир-
туозностью. Но если вслушаться в его исполнение... да, оно
очень эффектно, но в глубине чувствуется некая пустота.
Как известно, Ван Клиберн получил первое место, Лю Ши
Кунь — второе.
Самуил Евгеньевич был огорчен, считая, что это неспра-
ведливо. Он находил Ван Клиберна несколько поверхностным,
поражающим эффектным блеском, отдавая предпочтение Лю
Ши Куню как более глубокому исполнителю, своеобразной
и цельной творческой личности.
Впоследствии я вспомнила поистине пророческие слова
Самуила Евгеньевича.
После ослепительного успеха на конкурсе имени Чайков-
ского всё, казалось бы, складывалось в судьбе Ван Клиберна
более чем удачно.
Он выступает перед королевскими особами, перед прези-
дентами США...
Но постепенно в его творчестве проступает та «пустота», ко-
торую почувствовал когда-то, слушая его, Самуил Евгеньевич.
98
Начинает сказываться ограниченность его репертуара.
Он повторяется, исполняя одни и те же отработанные, дове-
денные до совершенства, но уже запомнившиеся его слуша-
телям произведения.
Заметным становится отсутствие творческого роста.
Это приводит к тому, что начиная с 1977 года он прак-
тически перестает выступать, приближается конец его кон-
цертной деятельности.
Но я отвлеклась, ведь я хотела написать о Лю Ши Куне,
который запомнился мне своей мягкой, застенчивой улыб-
кой, вежливостью, робкой манерой держаться.
Конечно, был языковой барьер. Но это ничуть не мешало
занятиям Лю Ши Куня с наставником. Музыка обходится без
слов.
Я слышала, иногда Самуил Евгеньевич прерывал его и по-
казывал Ли Ши Куню отдельные музыкальные фрагменты.
Они занимались подолгу и, как мне кажется, прекрасно
понимали друг друга.
Я носила им кофе и делала бутерброды.
Однажды Лю Ши Кунь принес в подарок Самуилу Евгень-
евичу какую-то коробку, сплетенную, как мне показалось, из
сухого тростника. В коробке был глиняный квадратный под-
нос и две маленькие чашечки.
Я сварила кофе покрепче и понесла поднос с чашечками
в кабинет к Самуилу Евгеньевичу. Но, боясь расплескать
кофе, я споткнулась и уронила поднос.
Все вдребезги разбилось, но превратилось не в осколки,
а в рыжую пыль — это была просто плохо обожженная глина.
То, что я опишу дальше, известно мне по рассказам уче-
ников Самуила Евгеньевича, которые следили за непростой
судьбой Лю Ши Куня. Но я не могу ручаться до конца за их
достоверность.
Его приглашали в Англию, но он вернулся в Китай, ведь
там оставалась его семья. Он прекрасно понимал, чем грозит
такой отъезд его близким.
99
И вот вместо Англии Лю Ши Кунь был брошен в какие-то
горнодобывающие рудники, где ему повредили пальцы.
Правда, после смерти Мао Цзэдуна он все-таки уехал из
Китая вместе с семьей.
Доходили слухи о его блистательных концертах в Англии
и в Европе.
У меня в памяти остался Лю Ши Кунь, застенчивый, легко
смущающийся, а главное — прекрасная музыка, льющаяся
из комнаты Самуила Евгеньевича во время их занятий.
Самуилу Евгеньевичу подчас было уже трудно ездить
в консерваторию.
Он купил еще один рояль. Это был прекрасный «Стейн-
вей». В его комнате стояли теперь два инструмента—«Стейн-
вей» и старый концертный «Бехштейн» из «золотой серии».
Ученики приходили к нему домой. Мне запомнились эти
прекрасные вечера. Самуил Евгеньевич играл на «Бехштей-
не», и порой это были, в сущности, концерты, потому что
иногда исполнялись только отдельные отрывки, а иногда то
он, то его ученики играли столь любимую мною классику,
и это наполняло особой жизнью весь наш дом.
Но Олегу это было не близко. Как только они уходили, он
часто включал современную музыку, иногда джаз, от которо-
го я очень быстро уставала. Это было что-то чуждое, что он
привносил в мир нашей семьи.
Гости, хотя и реже, но все-таки бывали в нашем доме.
Я не говорю, конечно, об Анатолии Николаевиче Алек-
сандрове, он был почти что членом нашей семьи. Тем более
мы жили в одном доме, в одном подъезде. Его соединяла
с нами глубокая давняя дружба, доверие и прожитая рядом
долгая жизнь.
Нередко заходил к нам Александр Борисович Гольден-
вейзер, замечательный пианист и любимый учитель Самуи-
ла Евгеньевича.
Он был несколько желчен и сварлив, но у них сохранялись
очень теплые отношения, и неслучайно. Они были близки
100
по пианистической школе, и Гольденвейзер в свое время как
музыкант очень много дал Самуилу Евгеньевичу. Они звали
друг друга по имени-отчеству, но на ты. Это было непривыч-
но и очень меня удивляло.
Я помню, однажды в большой комнате мы сидели за сто-
лом, были Александр Борисович и Татьяна Борисовна, его
сестра, — они часто приходили вместе. Самуил Евгеньевич
протянул Александру Борисовичу блюдо с нарезанной вет-
чиной:
— Александр Борисович, отведай ветчины! Право же, со-
всем не жирная, очень хорошая.
Тот в рассеянности протянул вилку и вдруг отдернул руку:
— Но, Самуил Евгеньевич, ты же знаешь — я толстовец,
вегетарианец! Зачем же ты мне предлагаешь ветчину?
— Ах, извини! — сказал Самуил Евгеньевич.
По его улыбке я поняла: он просто пошутил.
Александр Борисович иногда, под настроение, любил
рассказывать, как он бывал в Ясной Поляне, играл Толстому,
преимущественно Бетховена и Шуберта.
— А ведь ты, Самуил Евгеньевич, не скромничай, играл
самому Владимиру Ильичу. Знаем, знаем, наслышаны, —
с преувеличенным уважением однажды сказал Александр
Борисович. — И, уж конечно, столь любимую им Аппассио-
нату Бетховена.
— Вовсе нет, — улыбнулся Самуил Евгеньевич. — По его
просьбе я играл Шопена, сонату ре-бемоль мажор.
— Вы играли Ленину? — воскликнула Татьяна Бори-
совна.
Бывая у нас, она всегда была оживленной, веселой. Со-
всем не такой, как во время войны, когда нас привезли
в Красноводск. Я помню ее до сих пор. Она горько плакала,
сидя на чемоданах и укрывшись от холодного ветра вместе
с братом одним пледом.
— Ну, расскажите же! Расскажите...
—Дело было в 19-м году, в январе, — неохотно начал рас-
сказывать Самуил Евгеньевич. Я сама слушала это в первый
раз. — За мной на Маросейку, тогда мы там жили, заехал
101
Бонч-Бруевич и повез меня в Сокольники в детскую «Лесную
школу». Горела елка. Ленин несколько опоздал. Он приехал
с Надеждой Константиновной и своей сестрой Марией Ильи-
ничной. Дети разыграли маленькую новогоднюю пьесу. Это
было очень мило. Дети всегда талантливы. Потом пела Ва-
лерия Барсова. Прекрасный голос! Я ей аккомпанировал.
Потом по просьбе Владимира Ильича я сыграл Шопена. Он
сказал, что Шопен — один из его любимых композиторов.
Ну вот, собственно, и все. Потом меня отвезли домой. В ма-
шине со мной ехал Владимир Ильич.
— Ио чем вы говорили? — возбужденно воскликнула Та-
тьяна Борисовна.
— А мы, собственно, не говорили. Владимир Ильич ка-
зался усталым и молчал. А я, по правде говоря, не знал, о чем
его спрашивать.
Все вечера, когда у нас бывал Александр Борисович, про-
ходили удивительно тепло и дружественно. Бесконечные
беседы о музыке, увлекательные споры. Было незабываемо,
когда они играли в четыре руки.
Совсем другая атмосфера царила за столом, когда к нам
приходил Роберт Рафаилович Фальк. Мама готовила более
сытный ужин.
Роберт Рафаилович ел обильно и неопрятно. Мама под-
кладывала ему на тарелку еще и еще, что повкуснее. Но, по-
хоже, он не замечал, что, собственно, ест.
Оживленный Олег всегда, когда Фальк приходил, сидел
с нами за столом. Он продолжал любить и ценить Фалька,
хотя уже давно не брал у него уроков.
Фальк всегда сидел в высоком кресле.
Но, к сожалению, не было гармонической общности тем
и суждений, которые делают вечер уютным и незабываемым.
Какое-то напряжение сковывало всех сидящих за столом.
Фальк ценил у папы его ранние произведения в манере
старых мастеров. В свою очередь мой отец довольно равно-
душно относился к творчеству Фалька. Это и вносило холод
и разобщенность в наши встречи.
102
К нашей свадьбе Роберт Рафаилович подарил мне и Оле-
гу картину, написанную темперой, с трогательной надписью
и пожеланием счастья.
Мне больше нравились пейзажи и натюрморты Роберта
Рафаиловича. Подаренная им картина была написана по
среднеазиатским мотивам: на переднем плане женщины,
плотно, с головой закутанные в черное.
Но очень хороши были высокие деревья, освещенные ухо-
дящим вечерним солнцем. Так что картина как бы делилась
на две половины. Нижняя — тусклая с темными фигурами,
и верхняя — классический Фальк.
Мы с Олегом по-прежнему, хотя и реже, бывали в квар-
тире Роберта Рафаиловича, но уже не встречали у его подъ-
езда людей с поднятыми воротниками и крысиными глазка-
ми. Слежки за Фальком больше не было. А меня и Олега, как
всегда, объединяла любовь к его живописи.
К сожалению, в трудную минуту моей жизни мне пришлось
с болью в сердце продавать подряд папины картины, столь лю-
бимые полотна Валентина Александровича Яковлева. Я была
вынуждена расстаться и с подарком Роберта Фалька.
Но это уже было много после...
А пока что, как по волшебству, появлялись новые друзья
Олега.
В то время мы были вполне богаты.
Сергей Сергеевич Прокофьев не был щедрым отцом. Поэто-
му, когда через полгода вскрыли завещание, к изумлению Оле-
га и Святослава оказалось, что он завещал все свои авторские
гонорары в равных долях сыновьям и Мирре Александровне.
Мы этого никак не ожидали. Лину Ивановну, свою пер-
вую жену и мать двоих сыновей, он не упомянул в завеща-
нии. Она была в то время в лагере строгого режима за Поляр-
ным кругом, осужденная на двадцать лет. Кто мог надеяться,
что она вернется?
Случилось так, что однажды в доме творчества писате-
лей «Малеевка» я оказалась за одним столиком с Евгенией
103
Александровной Таратутой. Это была немолодая женщина
с добрым увядшим лицом. От нее веяло мягким теплом. Мы
разговорились. Я обратила внимание, что ногти у нее на обе-
их руках по-особому выпуклы и закручены наподобие раку-
шек.
— А... это! Это на память о концлагере, — спокойно рас-
сказала она. — Мы чистили мерзлую картошку. И это было
еще большим везением. Ножей, само собой, нам не давали.
Мы чистили картошку обрезками консервных банок. Кстати,
я была в концлагере Абезь вместе с вашей свекровью — Ли-
ной Ивановной Прокофьевой.
То, что она рассказала потом, не могло меня не поразить.
— Вы посылали ей посылки, и она щедро делилась со сво-
ими соседками по бараку. Помню, она просила вас посылать
ей витамины и крем для лица. Это было в каждой посылке.
Наши дощатые нары были рядом. Лина Ивановна согласно
давней привычке обильно мазала на ночь лицо кремом. Она
отличалась очень крепким, здоровым сном, особенно изму-
чившись непосильно тяжелой дневной работой. Я спала пло-
хо, предаваясь воспоминаниям. Я видела, как ночью припол-
зали крысы и слизывали крем с лица Лины Ивановны. Но,
усталая, она крепко спала и не просыпалась.
Вернувшись из лагеря, Лина Ивановна очень неохотно
и редко рассказывала нам о времени, проведенном за колю-
чей проволокой, о пытках на Лубянке. А ведь допросы вел
сам Рюмин...
Но последуем ее молчанию и вернемся к тому, на чем я
остановилась.
В нашем доме появился еще один друг Олега — Володя
Мороз.
Классическое арийское лицо. Прямой нос, светлые холод-
ные глаза. Светлые волосы всегда лежали как-то особенно
аккуратно. Изысканно строгий костюм
Он приезжал к нам на машине, хотя в те времена ни у кого
из наших друзей еще машин не было. Водил он отчаянно, не
считаясь ни с какими правилами.
104
Этот человек не давал заглянуть в себя, никогда не откры-
вался. Он был плотно застегнут на все пуговицы. Не потому,
что хотел быть загадкой, — просто такова была его сущность,
особо замкнутый, закрытый для всех внутренний мир.
Когда мы приходили к нему в гости, он показывал нам
монографии своего любимого французского художника:
Дюфи. У него была целая коллекция альбомов Дюфи: бабоч-
ки, парусные яхты, лодки, цветы, опять бабочки. Очень кра-
сиво, изящно, но как-то холодно, бездушно, не трогающие
сердце картины.
У него была мастерская, где он работал, но он ни разу не при-
гласил нас туда, так что его собственное творчество оставалось
для нас полной загадкой, хотя мы бывали у него достаточно ча-
сто. Ни я, ни Олег так и не увидели ни одной его картины.
Он очень легко находил себе нужных друзей.
Так, однажды, посетив Третьяковку, он увидел там худож-
ника Артура Владимировича Фонвизина, который тщетно
бился над большой копией «Боярыни Морозовой» Сурикова.
Эту копию заказали ему для одного из музеев Болгарии.
Володя рассказывал нам: стоял большой холст на моль-
берте, по законам на несколько сантиметров отличаясь от
оригинала. Рисунок был перенесен на холст фотографиче-
ским способом.
Великолепный художник-акварелист Фонвизин, собст-
венно говоря, запорол копию. (Термин «запорол» принят у ху-
дожников, поэтому я его и употребляю.)
Володя подошел и, к удивлению Фонвизина, предложил
ему сделать где-то сбоку кусочек копии.
Артур Владимирович был в глубоком отчаянии. В то время
он попросту бедствовал, и единственным выходом из матери-
ального провала для него была удачная копия «Боярыни Мо-
розовой». К тому же, если бы он не справился с копией, ему бы
пришлось оплатить огромный холст, подрамник и т. д.
Фонвизин согласился, — собственно, другого выхода
у него и не было.
Володя начал писать, и оказалось, что доверенный ему
кусок картины был предельно близок к оригиналу.
105
Потом они договорились: Володя закончит всю копию
картины от начала и до конца. Конечно, какие-то отдель-
ные детали хотел написать сам Фонвизин. Но дело у него не
очень-то ладилось.
Так или иначе, копия была благополучно принята. Фон-
визин получил деньги. Володя от вознаграждения отказался.
Нет, у него были совсем другие, скрытые замыслы и планы.
Он стал скупать лучшие акварели Фонвизина. Тогда они
стоили недорого. Часто Артур Владимирович просто дарил сво-
ему новому другу особенно понравившиеся тому акварели.
Володя показывал нам целые пачки акварелей Фонви-
зина: прекрасные женские портреты, цирковые сценки, на-
тюрморты, цветы... Удивительный художник-акварелист,
бесподобный, не знаю, с кем его сравнить.
Получилось так, что я взяла несколько уроков у Артура
Владимировича.
Собственно говоря, мне была интересна его особая, толь-
ко ему одному свойственная манера, необычные приемы.
Мне хотелось раскрыть секрет его живописи. Он писал, по-
ложив горизонтально влажный лист бумаги, без предвари-
тельного рисунка, он был ему не нужен, сразу акварелью.
Я и не пыталась делать так же. Я наносила карандашом
легкий, воздушный рисунок и лишь тогда бралась за кисть.
Акварель расплывалась по влажной бумаге. Новый мазок
отчасти сливался с первым, отчасти сохранял свой цвет.
Нежные, полные воздуха акварели... Но если ему был
нужен темный оттенок, то одно за другим ложились мягкие
цветовые пятна, пока не достигался нужной силы и глубины
колорит, напоминающий живопись старых мастеров Воз-
рождения. Это делало акварели Фонвизина уникальными.
Я несколько раз смотрела, как он работает, стараясь до кон-
ца постигнуть тайну его мастерства.
Лучшую из своих работ, к которой порой прикасался сво-
ей кистью Артур Владимирович, я подарила своей бывшей
свекрови Лине Ивановне Прокофьевой. Она ей очень понра-
вилась. Долгие годы она висела у нее на стене. Уезжая на За-
106
пад, она решила взять акварель с собой. Напрасно я говорила
Олегу, что это моя акварель и хорошо бы, чтобы она осталась
у меня как воспоминание о чудесных уроках Фонвизина. Но
Святослав, старший брат Олега, сказал:
— Опомнись, это же Фонвизин, только неподписанный.
Что я, не могу отличить кисть мастера от подделки?
Я не стала спорить. Так моя акварель уехала вместе с дру-
гими картинами Лины Ивановны. Впрочем, у каждой карти-
ны своя судьба.
Наверное, стоит рассказать об одном, пожалуй, даже за-
бавном, необъяснимом случае той поры.
Однажды, когда урок закончился, я вышла из квартиры
Артура Владимировича. Я остановилась на лестнице, прове-
ряя, достаточно ли надежно закрыт этюдник.
Неожиданно за приоткрытой дверью послышались гром-
кие резкие голоса. Артур Владимирович спорил с сыном,
который, как мне помнится, тоже был художником. (Потом
Володя Мороз рассказал мне о сложных отношениях между
отцом и сыном.) Вдруг дверь отворилась, и из темноты пе-
редней, брошенный к моим ногам, полетел написанный Ар-
туром Владимировичем великолепный портрет дамы с ярко-
синими сияющими глазами.
Дверь захлопнулась. Я стояла, довольно долго глядя на
эту акварель, потом с некоторым сомнением вложила ее
в папку и унесла домой.
Вечером я позвонила Артуру Владимировичу и спросила,
что делать с этим портретом. Он ответил мне коротко и резко:
— Выкиньте его!
И положил трубку. Тогда я решила, что могу считать
эту акварель своей. Эта синеглазая незнакомка до сих пор
мирно живет в нашем доме, радуя всех нас своей прелестью
и красотой живописи.
Невольно помнится, сколько великолепных акварелей
Фонвизина было у Володи Мороза. К сожалению, неизвест-
но, какая у них судьба.
107
В то время Володя был женат на прославленной уже тогда
прекрасной виолончелистке Наташе Гутман.
Они нередко бывали у нас. У них родился сын, названный
в честь Рихтера Святославом. Наташа обычно была бледна
и грустна.
Мне казалось, что за ней неслышно следует какая-то неу-
ловимая печальная тень, которую она приносит с собой.
Наташа не была красива, но от ее лица трудно было ото-
рвать взгляд. На нем лежал как бы особый знак исключитель-
ности и незаурядности. У нее был мягкий выразительный,
скорее негромкий голос. Глубокий взгляд. Ее густая челка
доходила почти до бровей.
Мне кажется, период, когда мы часто встречались, был
для нее не особенно счастливым.
Помню, когда однажды мы с Олегом были у нее дома, я
увидела, что на рояле лежит чудесная старинная виолончель.
Это была бесценная виолончель не то Гварнери, не то Стра-
дивари. Трудно определить ее цвет: скорее, густо-вишневая
или благородное красное дерево.
Ходили слухи, что Наташа не разводится с Володей Мо-
розом, потому что тот, купив эту виолончель, оформил ее на
себя и при разводе грозится не отдать ее Наташе. Впрочем,
может быть, это только праздные слухи, которые так легко
возникают и живут около знаменитых людей. Хотя Володя
Мороз поистине был человек загадочный...
Потом, через какое-то время, Наташа вышла замуж за
прекрасного скрипача Олега Кагана. Они концертировали по
всему миру. С ними часто встречался и ходил на их концерты
мой сын Сережа, который уже тогда жил в Швейцарии.
О дальнейшей судьбе Володи Мороза я знаю только по
случайным рассказам друзей.
Он стал очень богат, и в этом нет ничего удивительного,
если знать его изобретательность и авантюрный склад ха-
рактера.
У него была великолепная дача в Переделкине. О ней
рассказывали, восхищаясь ее небывалой по тем временам
108
роскошью. Ходили легенды о его доме и винных погре-
бах.
Потом на какое-то время Володя очень подружился со
Святославом Рихтером и Ниной Дорлиак. Он стал близким
другом их семьи. Да, он умел быть полезным, даже незаме-
нимым. Потом произошла какая-то ссора между ним и хо-
зяевами дома, и они перестали встречаться.
Необыкновенная предприимчивость, как это порой бы-
вает, не пошла ему на пользу.
Я знаю, что он в конце концов попал в тюрьму. Изнежен-
ный и донельзя избалованный — представляю, как ему было
там тяжело. Мучительней, страшней, чем кому-либо друго-
му...
Мне рассказывали, что о его освобождении хлопотал
и ходатайствовал Святослав Рихтер.
Судьба бесценной коллекции картин и старинных икон
Володи Мороза мне не известна...
Память живет по своим законам. Иногда она навязчиво
напоминает нам именно то, что особенно хотелось бы сжечь,
забыть навсегда, не вспоминать.
Иногда она прячет в своих дальних тайниках, куда труд-
но, а иногда и невозможно проникнуть, то светлое, бесцен-
ное, что озарило бы неизбежный, предназначенный всем
конец...
Из друзей Олега я, пожалуй, чаще всего вспоминаю ху-
дожника N. N. Потом я объясню, почему не называю его фа-
милию.
Мы стали бывать у него в пятидесятых годах, еще до на-
шей свадьбы. Он был прекрасный портретист, тонкий и сво-
еобразный живописец.
Конечно, и тут сказывалось влияние французской живо-
писи, в первую очередь Ренуара. Но при этом он сохранял
свою индивидуальность, каждый его портрет нес на себе
знак своеобразия и неповторимости.
Купив по дороге что-нибудь съестное, мы пешком шли
к нему, в его маленькую квартиру за Белорусским вокзалом.
109
Две комнаты. Одна, побольше, — мастерская. Вторая —
и спальня, и столовая, где сразу появлялись на круглом столе
четыре разрозненные чашки и чайник с крепкой заваркой.
Бедность сказывалась во всем — в старых обоях, ободран-
ных кошкой, в поскрипывающих жестких стульях.
Но рядом в мастерской нас ждали прекрасные портреты.
Они буквально заманивали и завораживали живым теплом,
одухотворенностью, написанные рукой истинного мастера.
Мне кажется (и Олег в этом был со мной согласен), что
сам N. N. недооценивал себя и свой дар. Покупателей у него,
насколько я знаю, в то время не было, он как-то был в сторо-
не от поощряемого тогда направления в искусстве.
Вместе с тем он не приобрел звучного имени, как Фальк
или Фонвизин. На нем лежала тень отчуждения.
Отчасти тому виной был его характер. Он был уж слиш-
ком скромный, тихий, вечно смущающийся.
И надо же, что именно с ним случилась эта несчастливая
история, которая прямо-таки пригнула его к земле.
У него был друг, преданный, искренний поклонник его
подлинного таланта.
Этот друг неплохо подрабатывал, делая «сухой кистью»
огромные портреты вождей, украшавшие Красную площадь
во время октябрьских и майских парадов.
Платили за это действительно щедро.
В этот раз ему заказали портрет Сталина, который дол-
жен был украсить Исторический музей. И вот к этой работе
он решил привлечь нашего почти голодающего N. N.
В огромном зале прямо на полу лежал уже готовый за-
грунтованный холст, бледными линиями разделенный на
клеточки.
Частично работа была уже сделана. Грудь отца народов
была уже закончена крепким втиранием жесткой кисти в бе-
лый грунт холста.
N. N. должен был начать с фуражки и опускаться вниз,
в то время как его друг двигался ему навстречу и уже за-
кончил подбородок, нижнюю губу и подбирался постепенно
к знаменитым усам.
110
Вот так художники, постепенно сближаясь, двигаясь на-
встречу друг другу, внезапно остановились, в ужасе глядя на
совместное произведение.
Дело в том, что N. N. по полной неопытности начал рабо-
тать кистью слишком низко, пропустив одну полоску клеток
и тем самым сдвинув изображение. Поэтому лоб великого
вождя как бы сплющился и был теперь намного уже, чем по-
лагается. Вместо привычного всем, наизусть знакомого лица,
получилось карикатурное лицо идиота и дегенерата, почти
лишенного лба, с фуражкой, съехавшей чуть ли не на брови.
Никакими словами нельзя выразить душевное состояние
несчастных художников в этот миг.
Сухая кисть, как известно, с нажимом втирает краску в за-
грунтованный белый холст. Теперь ее нельзя ни смыть, ни сте-
реть, ни заново переписать. Как написано, так и остается.
Огромный, тщательно подготовленный холст был безна-
дежно испорчен, загублен.
N. N. рассказал нам про эту чудовищную неудачу долгое
время спустя. Видимо, ему надо было выговориться, а нам
он доверял.
Голос его дрожал, когда он рассказывал, как отворились
высокие двери и в зал стремительно вошел Василий Сталин,
а с ним целая толпа перепуганных генералов.
Василий Сталин отвечал за праздничное и торжественное
оформление Красной площади, а может быть, и за весь парад.
Увидев изображение Сталина, он голосом, полным яро-
сти, обрушил на генералов поток нецензурной брани. Те,
бледные, растерянные, молча стояли навытяжку.
Художников, забившихся в угол, особенно испугало, что
на них никто не обращал внимания, словно их уже не было,
словно они были уже стерты с лица земли.
Несколько дней потом N. N. в страхе ждал, что за ним
приедут, что его арестуют.
Ужасные дни!
Но никто о нем и о его друге так и не вспомнил.
Через некоторое время N. N. и его жена поменяли кварти-
ру и уехали в Ленинград, где жила его сестра.
111
Как-то, уже после Двадцатого съезда, Олег принес мне
маленький каталог его выставки в Ленинграде. К сожале-
нию, там были только черно-белые репродукции. Чудесные
портреты, легкие, воздушные, чем-то напоминающие полот-
на пуантилистов.
С какой радостью мы их рассматривали!
N. N., еще будучи в Москве, взял с меня слово никогда не
упоминать его имени и фамилии, рассказывая этот злосчаст-
ный случай.
Но дело, в сущности, не в его фамилии, — немудрено
было испугаться, — а в том страхе, который я уловила в его
глазах, в его срывающемся голосе, когда он нам это расска-
зывал. Что ж, я держу свое слово.
Чудесный художник, светлый, робкий человек... Слава
богу, что дело обошлось без инфаркта.
Но вот я опять в далеком прошлом. Сереже полтора годи-
ка. Мы с Олегом на три недели уезжаем в Коктебель.
Я оставляю Сережу на няню Сергевну и на маму. На про-
щанье Сергевна жестко, как она умела, сказала мне: «Раньше
я любила больше всех тебя, а теперь только Сереженьку...»
Эти слова меня очень порадовали, хотя я и без того мог-
ла оставить на нее Сережу, зная ее бдительный, неусыпный
взгляд.
Мы приехали в Коктебель, но у Марии Степановны все
комнаты в доме были заняты. Даже площадка наверху под
открытым небом, где можно было спать или не спать и смо-
треть на низкие и крупные звезды южного неба, сделанного
из чего-то особенного и бархатистого.
Нам удалось снять какую-то комнатушку в сарае, где мы
как-то устроились, отделенные от соседних жильцов просты-
нями. Нас, собственно, это не очень стесняло: море, горы...
Так, прийти поздно вечером, переспать.
Единственное, что мне не нравилось и даже пугало, это
множество разных ползающих насекомых, длинных, вертля-
вых, волосатых. Они без труда преодолевали легкие прегра-
ды из простыней.
112
Однажды я пришла к Марии Степановне, — да я бывала
у нее каждый день, принося ей фрукты с рынка. Поднялась
по ступенькам и вошла на террасу.
Совершенно неподвижно, словно это была прекрасная ста-
туя, сидела молодая женщина необыкновенной красоты. Она
обхватила колени руками, не шевельнулась, не повернула
головы. Как мне показалось, она, даже не моргая, неотрывно
смотрела на море. Ветер облетал ее стороной, словно боялся
тронуть тонкое, легкое платье с черно-белым узором.
Ее волосы были гладко зачесаны назад, огромные зелено-
вато-карие глаза с ресницами, чуть удлиненными космети-
кой, тихо сияли.
Все было в ней так гармонично и красиво, что я замерла,
боясь нарушить ее классическую неподвижность.
Вдруг откуда-то появился пока лишь отдаленно знакомый
мне молодой композитор Николай Каретников. Умница, пре-
красный музыкант, это я уже знала. Он, бесцеремонно стуча
сандалиями, шумно взбежал на террасу.
Красавица вмиг, словно проснулась, ожила и преврати-
лась в живую прелестную женщину.
Так мы и познакомились. Нина Гарская и Коля Каретни-
ков. Они недавно поженились. Вокруг них витало ощутимое
облако нежности и свежей любви. Они были неразлучны, их
притяжение друг к другу было физически ощутимо. Кто мог
тогда предположить, что все это кончится бедой и трагиче-
ским разрывом?
Вскоре в Коктебель приехал Генрих Сапгир.
Я была шапочно с ним знакома. Но впоследствии нам
пришлось много работать вместе. Мы с увлечением писали
пьесы для детей, сказки, стихи. Он был уникально талант-
лив. Задумав написать стихотворение, он начинал ходить по
комнате, что-то невнятно себе под нос бормотать — и, нако-
нец, выдавал прекрасные рифмованные строки.
Но, как ни странно, хотя мы проводили, уже вернувшись
в Москву, много времени вместе, настоящая дружба так и не
возникла. Да и не могла возникнуть.
113
Он был внутренне холодный человек. Иногда мне каза-
лось, что его душа живет необъяснимо отдельно, где-то да-
леко от него.
Окончив долгие часы напряженной работы, он мог вдруг
поглядеть на меня как-то отстраненно, с неким недоумени-
ем, словно не узнавая, словно видит меня в первый раз.
С Генрихом приехала его жена Кира. Небольшого роста,
всегда небрежно одетая. Скорее некрасивая, с забавной ро-
динкой на щеке, из которой торчал густой пучок волос. Но
от нее исходила ощутимая яркая волна энергии. Она была
подвижная, забавная, всегда готовая на какую-то неожидан-
ную выдумку.
Но не только этим она удерживала Генриха.
— Вот что мне Кира говорит, рассуди сама, — жаловался
мне Генрих. — Первый муж бросил ее и умер. Второй муж
бросил, заболел и умер. Так что... Вот и живем вместе. Она
и мне грозит, если я ее брошу...
Впоследствии Генрих попал в больницу с тяжелым ин-
фарктом. Ухаживать за больным — это было не в характере
Киры. Тем более у нее в это время внезапно появился какой-
то загадочный жених-француз, который предложил ей уе-
хать с ним в Париж.
Кира быстренько развелась с Сапгиром, который еще еле
ходил после инфаркта.
Но все сложилось не совсем так, как рассчитала Кира.
Ненадежный француз вдруг безвозвратно исчез в каких-то
французских туманах, а Генрих выздоровел.
Напрасно Кира предлагала Генриху снова заключить брак.
Обратного пути уже не было.
— Э, нет! Это ты меня бросила, а не я тебя, — так, во вся-
ком случае, рассказывал мне сам Генрих.
У него в то время, среди многочисленных любовниц, была
тихая и милая подруга Людмила.
Людмила, или, как мы ее звали, Мила, изрядно злоупо-
требляла косметикой. Генрих как-то сумел ее отмыть, и она
оказалась не только своеобразно привлекательной, но даже
красивой. Ее лицо напоминало старинную камею.
114
У Милы по наследству хранилась большая коллекция
очень хороших, можно сказать, музейных, картин.
Генрих съехался с Милой.
Они стали перевозить в новую квартиру свою бесценную
коллекцию, но большой Айвазовский не влезал в дверь. Они
тут же за гроши его продали. Это было вполне в характере
Генриха. Левитан оказался поддельным, но там были еще
очень хорошие картины. И впоследствии, уже после смерти
Генриха, Мила продала великолепный этюд Александра Ива-
нова к «Явлению Христа народу».
Но в целом это был удачный брак. Мила была как-то свя-
зана с медициной, и главное, она искренне любила Генриха
и терпеливо за ним ухаживала.
Но это все случилось позже, много позже, а пока что мы
беспечно жили в Коктебеле, и Коля Каретников познакомил
нас с Александром Георгиевичем Габричевским.
Его дача стояла несколько в стороне от поселка, у подно-
жия Святой горы.
Дачу окружал обширный сад. Вокруг дорожки, ведущей
от калитки к даче, были наполовину вкопаны в песок боль-
шие амфоры, старые, глиняные. Они были подняты со дна
моря. Скорее всего, в них когда-то перевозили на кораблях
вино или оливковое масло.
Эти старинные амфоры как-то удивительно подходили
к облику и душевному складу самого хозяина.
Габричевский в то время был пожилой человек высоко-
го роста, скорее грузный, чем полный. Он ходил в коротких
штанах, его могучий, несколько обвисший торс был часто
обнажен.
Разговоры с ним были на редкость интересны. Он был
крупнейшим искусствоведом, знал эпоху Ренессанса, архи-
тектуру, живопись. Не только знал, но чувствовал ее как-то
из глубины, ему были открыты тайные пути, метаморфозы
стилей, корни искусства. Его книги были бесценны.
В 1935 году он был осужден за антисоветскую агитацию.
В тюрьме ему выбили один глаз. Но в 1941 году он был ам-
115
нистирован, а через несколько лет получил звание акаде-
мика.
Он любил говорить об искусстве. Разговор превращался
в некую лекцию. Это было бесценно.
Однажды он попросил меня и Олега подняться с ним по
тропинкам на Карадаг.
Я как сейчас помню эту тяжелую прогулку.
Мы прошли уже полдороги к вершине, но вдруг, как это
бывает на юге, начало быстро темнеть. Мы решили вернуть-
ся назад.
Одним глазом Александр Георгиевич почти не видел до-
роги. А путь наш был достаточно крутой и петлял вокруг
скал. С одной стороны шероховатый, уходящий вверх край
горы, с другой — глубокий провал куда-то в пустоту, уже
полную прохладных сумерек.
Александр Георгиевич начал спотыкаться. Теперь нам
с Олегом ничего другого не оставалось, как пойти рядом по
самому краю тропинки, поддерживая старика.
Олег оказался более ловким, он со страхом то и дело огля-
дывался на меня, потому что у меня скользили ноги и я с тру-
дом удерживалась на самом краю.
Мы изо всех сил поддерживали Александра Георгиевича.
Руки погружались в его теплую, потную, скользкую плоть.
Казалось, еще мгновение — и мы все рухнем куда-то вниз.
Наконец дорога стала более покатой и широкой.
Теперь мы вели Александра Георгиевича под руки, под-
держивая с двух сторон. У ворот его дачи нас встретила пере-
пуганная и сердитая его жена Наталия Алексеевна.
Мы были награждены кружками с заваренным на травах
горьковатым чаем и замечательной лекцией об античных
философах.
На другой день нас еще отругала Маруся:
— Никто не ходит на Карадаг под вечер. Карадаг не лю-
бит ночных гостей.
Я не стала с ней спорить. Но я знала, что многие ноче-
вали в те времена на Карадаге, но, конечно, не на самой
вершине.
116
Мы быстро сблизились с Колей Каретниковым, я уж не
говорю о Нине. На долгие годы она стала одной из самых
близких моих подруг.
Коля часто жаловался на Тихона Хренникова, он-де пере-
крыл ему кислород. Собственно, так оно и было. Музыка
Коли не укладывалась в строго очерченные, утвержденные
свыше дозволенные узкие рамки.
Но шел его балет «Геологи» в Большом театре.
Коля мечтал написать балет «Крошка Цахес» по гениаль-
ной повести Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Такой замы-
сел был, несомненно, своеобразным и оригинальным. Мне
жаль, что этот балет так и не осуществился.
Помню, сколько он сил он потратил в надежде добиться
исполнения своей Четвертой симфонии, очень эмоциональ-
ной, яркой, написанной в стиле западного модернизма. Но
и тут Хренников властно перекрывал кислород.
Конечно, оставалась музыка для кино. Режиссеры Алов
и Наумов поставили «Бег», фильм, имевший большой успех.
Позднее Коля написал музыку к «Скверному анекдоту» по
Достоевскому...
В период нашей жизни в Коктебеле я впервые услышала
от Генриха Сапгира о Лианозовской школе.
Он читал нам стихи основателя этой школы и наставника
молодых поэтов уже очень старого Евгения Кропивницкого.
Не было конца восторженным рассказам об основателе это-
го, как ему казалось, нового направления в искусстве.
Приехал Игорь Холин. Он как бы еще дальше отстоял от
меня, чем Генрих Сапгир. От этого высокого худощавого
человека веяло морозным холодом и непререкаемой уве-
ренностью в своей значительности. Помню его стихи, всег-
да короткие, мрачные, какие-то нечеловеческие. Да были
ли это стихи? Хотя я знаю многих поклонников его твор-
чества.
На днях у Сокола
Дочь мать укокала.
117
Причина скандала — раздел вещей.
Теперь это стало в порядке вещей.
И все в таком же роде.
Познакомились в мужском туалете.
Вскоре появились дети.
Но вот, наконец, как всегда, нежно простившись с Мару-
сей, мы уехали в Москву.
Сережу с Сергевной я дома не застала. Они гуляли в на-
шем Миусском сквере. Я побежала туда, заглянула в коляску.
Сережа мне показался каким-то выросшим, повзрослевшим.
А ведь прошло всего недели три.
Мама чувствовала себя неважно, все больше лежала. Она
редко жаловалась, а я в силу беспечности и легкомыслия,
свойственного молодости, не утруждала себя сознанием, как
серьезно она больна.
Нам всем хотелось поехать в Лианозово, познакомиться
с законодателем вкусов, старым мэтром Евгением Леонидо-
вичем Кропивницким.
Нашим гидом в этих поездках был, конечно, Генрих Сап-
гир. Он бывал в Лианозове уже давно и часто.
Вскоре наши поездки стали достаточно регулярными.
Это действительно было увлекательно, своеобразно и вме-
сте с тем всегда неожиданно, в зависимости от того, что нам
читал или показывал Евгений Леонидович.
Однажды мы собрались и поехали все вместе в Лиано-
зово: Генрих, Олег, я, Коля Каретников, Нина и где-то чуть
в стороне Игорь Холин.
От станции идти было недалеко.
Жил Евгений Кропивницкий в маленьком скособочен-
ном домике, большую часть которого занимала огромная
русская печь. Возможно, за печкой была еще одна комнатка,
спаленка, но мы там никогда не бывали.
118
Когда к нам выходила его жена, сгорбленная, не худая,
скорее высохшая старушка, всегда молчавшая, только кивав-
шая головой, мне почему-то казалось, что она выходит пря-
мо из печки.
Я познакомилась с Валей, дочерью Кропивницкого. Она,
как и мать, была молчаливой, с добрым бледным, без румян-
ца лицом.
Она рисовала, как мне помнится, карандашом чертей и чер-
тенят. Они были не страшные, а забавные и странные. Жили
эти чертенята в основном среди болотных трав и густого трост-
ника.
Когда впоследствии она и ее муж, талантливый художник
Оскар Рабин, уехали в Париж, именно она первой добилась
успеха. Ее рисунки охотно покупали приезжие, особенно ан-
гличане.
Судьба Оскара Рабина складывалась непросто, как
у многих одаренных и своеобразных художников. Он писал
маслом, крупным мазком, с углубленным темным колори-
том.
Как и большинство участников Лианозовской школы, он
предпочитал мрачные сюжеты, нищий быт, что-нибудь пу-
гающее, зловещее.
Мне он подарил картину «Кошки на помойке», это была
одна из его любимых тем.
А на стене у Нины Гарской висела его великолепная кар-
тина из серии «Электрички», где вместо колес были как бы
вращающиеся черепа.
Постепенно к нему пришла известность и даже слава.
Теперь он один из самых знаменитых русских художников
в Париже. Недавно у него была выставка в Москве, имевшая
заметный успех.
Однажды мы приехали в Лианозово и почему-то полу-
чилось так, что денег у нас хватило только на две бутылки
водки.
Это очень странно, так как мы с Олегом были в это время
вполне обеспечены, чтобы не сказать богаты.
119
У Коли и Нины денег хватило, только чтобы купить биле-
ты на электричку. Хозяева, в свою очередь, смогли добавить
к нашей выпивке только буханку черного хлеба.
Мы пошли пройтись и оказались на берегу какого-то мут-
ного, словно бы навсегда уснувшего пруда.
Кое-где вдоль берега рос камыш и по краю пруда, ближе
к берегу, плавали жирные сгустки лягушачьей икры, напоми-
навшей зеленое желе. Кое-где в их глубине просвечивали чер-
ные запятые — это были уже намечающиеся головастики.
— Лягушиная икра! — в восторге воскликнул Генрих. —
Совсем свежая! Отличная французская жратва. Подумаешь,
лягушиные лапки! А то лягушиная икра. Главное, мы будем
первые!
Не помню, кто именно негромко добавил:
— И последние...
Тут же на берегу валялась пустая коробка из-под торта.
Наши мужчины с хохотом стали вылавливать сгустки икры.
Мы вернулись в дом Кропивницких, и хозяин выдал нам
большую миску. Икру круто посолили, поперчили, нарезали
свежий черный хлеб.
Я и Валя Кропивницкая не могли заставить себя отведать
это лакомство. Помнится, Нина отважилась попробовать одну
ложку, но есть еще отказалась и обильно запила ее водкой.
Нам было хорошо вместе, потому что мы понимали друг
друга и почтительно слушали стихи нашего учителя и на-
ставника Евгения Леонидовича.
Он читал нам свою знаменитую:
Тритатушка трам-там-там!
Приходил печальник сам...
Убогой нищетой и мраком веяло от его стихов. И тем не ме-
нее, они были очень талантливы. Просто он был певец трущоб.
Совсем иными были висевшие на стенах его рисунки, на-
броски акварелью. Обнаженные женщины или полуодетые,
всего несколько движений карандаша или кисти—ив них про-
120
сыпались жизнь, тепло и очарование. Рваные обои их не пор-
тили, да и, по правде говоря, ничто не могло их испортить.
Это были замечательные поездки в Лианозово, так не по-
хожие на официальную жизнь, которая, казалось, навсегда
утвердилась и уснула в Москве. Пустые и мертвые книги
официальных поэтов. Мы с Генрихом знали: напечатать
наши стихи... об этом не стоило и мечтать.
Конечно, о Лианозовской школе и о наших поездках туда
кому-то наверху было доложено, но я и Генрих были такие
малозаметные и нас так редко печатали, что пока особо не
трогали.
Но тем не менее жизнь протекала по-прежнему: мама бо-
лела, частые сердечные приступы мучили Самуила Евгень-
евича.
Олег и Нина увлеклись пьесами драматургов Ионеско
и Беккета. Они переводили их с французского и без конца чи-
тали по ролям на два голоса. Мне не только были чужды эти
авторы, они, как и гениальный Кафка, выводили меня из рав-
новесия. Я как бы повисала в безвоздушном пространстве, где
нет ни Бога, ни земли под ногами. Я просто заболевала от этих
бесконечных чтений вслух. Но остановить эти драматургиче-
ские истязания не могла: «Стулья», «Лысая певица» и т. д.
Как-то примерно в эти дни позвонил нам Мстислав Ро-
стропович. Он хотел прийти в гости вместе со своей женой,
знаменитой уже тогда певицей Галиной Вишневской. (Я уж
не говорю о всемирной славе самого Ростроповича.)
В это время в наш дом каким-то образом забрел старень-
кий киноаппарат, оставшийся от Сергея Сергеевича. Я бы-
стренько написала сценарий, и мы с Олегом сняли фильм
с неожиданным названием «Похищение улыбки».
Опережая время, я снялась в эпизодах фильма полуобна-
женной, с сиамским котенком на плече.
Полагаю, Ростроповича просто интересовало, на ком же-
нился младший сын его близкого друга Сергея Сергеевича
Прокофьева.
121
Олег предложил им посмотреть наш фильм.
Мы усадили Галину Павловну в удобное мягкое кресло.
На стене висела растянутая и закрепленная простыня, заме-
нявшая нам экран.
Мы выключили свет. Зажужжал старенький киноаппарат.
Но, к сожалению, демонстрация нашего фильма преврати-
лась в смешную и вместе с тем достаточно досадную и неле-
пую историю.
— Клоп! — вдруг громко и возмущенно вскрикнула Гали-
на Павловна.
— У нас в доме нет клопов, — твердо возразила я. — И не
было. Даже во время войны.
— Еще один! — уже почти в ужасе вскрикнула наша гостья.
Олег зажег свет. И что же мы увидели?
По всей стене и по растянутой простыне ползло великое
множество клопов!
Галина вскочила, судорожно отряхивая платье. Ее краси-
вое, несколько резкое лицо было искажено брезгливостью
и отвращением.
Дело в том, что в стену каждой комнаты нашей квартиры
была вставлена небольшая вентиляционная решетка. И ви-
димо, именно в этот день соседи принялись основательно
морить клопов. Спасаясь от неизбежной гибели, клопы по-
ползли к нам через вентиляционную решетку.
Напрасно мы извинялись, пытались оправдаться. Кадры
фильма продолжали тускло мелькать на простыне.
Обиженные гости, отказавшись от чая, надменно удали-
лись. Нам было несколько смешно, но и досадно, хотя, в сущ-
ности, мы ни в чем не были виноваты.
Как уж мы потом справлялись с непрошеными пришель-
цами — не помню.
В эти годы к нам часто заезжал давний друг моих роди-
телей — замечательный фотограф Лев Владимирович Гор-
нунг. Он был профессионалом высокой пробы. Ведь лучшие
фотографии Пастернака, Ахматовой, Арсения Тарковского
и многих других сделаны именно им.
122
Вернулась из концлагеря его больная жена. Ее уже немо-
лодое лицо хранило в себе какую-то особую кротость и ти-
шайшую смиренность.
Я видела ее всего один раз. Она вскоре заболела и умерла,
что было сокрушительным ударом для Льва Владимировича
и, возможно, ускорило его надвигающуюся слепоту.
Вскоре он полностью ослеп. Надо было привыкнуть, что-
бы спокойно смотреть на совершенно белые глаза, словно
бы плотно замазанные густой белой сметаной.
Мама стелила ему на колени салфетку, он очень медлен-
но и аккуратно ел.
Он приезжал всегда с одним и тем же шофером, с кото-
рым подружился.
А дружба их началась с забавного случая. Однажды, про-
езжая мимо мехового магазина, шофер увидел, что в дверях
прямо с какого-то прилавка продают хорошие меховые шап-
ки. Очередь была длиннющая, заворачивала за угол. Шапки
в то время были большим дефицитом.
Шофер обратился ко Льву Владимировичу с просьбой:
— Зябну я, шапка мне до зарезу нужна. Я вас подведу,
вам сразу дадут без очереди. А я вам скажу, какой размер
брать.
Когда шофер, поддерживая под руку, подвел Льва Влади-
мировича к прилавку, люди безропотно расступились. Нель-
зя было без содрогания смотреть на белые глаза слепого.
Лев Владимирович купил шапку. А шофер с тех пор стал
возить Льва Владимировича, когда тому нужно было куда-
нибудь поехать, бесплатно.
Однажды Лев Владимирович позвонил нам, и я просто не
узнала его голос: дрожащий, полный отчаяния.
Вот что он рассказал мне. У него в гостях был племянник,
его единственный родственник, навещавший его не чаще,
чем раз в год.
После его ухода Лев Владимирович каким-то особым чу-
тьем, которое иногда появляется у слепых, вдруг почувство-
вал, что в его маленькой комнате чего-то важного не хвата-
ет. Что-то особо ценное пропало...
123
Он стал ощупывать руками один предмет за другим и об-
наружил, что исчезла старинная семейная икона и радио-
приемник. А ведь радиоприемник был единственной ниточ-
кой, связывающей его с погасшим реальным миром.
Чем мы могли ему помочь? Папа позвонил шоферу Льва
Владимировича, дал ему деньги и тот купил хороший радио-
приемник. Но икона!.. Ее исчезновение было невосполнимо,
она особенно была дорога Льву Владимировичу. Это была
семейная икона в серебряном окладе, переходящая из рода
в род.
Однажды Лев Владимирович позвонил мне и сказал, что
поэт Арсений Александрович Тарковский, которого он не-
однократно фотографировал, продает монографию о худож-
нике Босхе. Можно себе представить, как Тарковский нуж-
дался, если он продавал книги.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова... —
это строчки из одного стихотворения Тарковского.
Лев Владимирович дал мне его телефон. Я позвонила
и мы договорились о встрече.
Я еще по фотографиям Льва Владимировича знала, что
Тарковский очень красив. Он ждал, сидя на скамейке, и по-
юношески вскочил, увидев меня.
Боюсь ошибиться.... Это был сорок девятый или пятиде-
сятый год.
Какое замечательное, выразительное, неординарное ли-
цо!
Мы поболтали с ним, и неожиданно он сказал:
— Вы знаете, только не спорьте со мной. Я не могу вам
продать эту книгу. Я ее хочу вам подарить.
Я с недоумением возразила: мы же договорились, как же
это, уже и цена назначена... Он поморщился и сказал, что
это не играет никакой роли, он не будет продавать, а хочет
подарить мне эту книгу.
124
Это был поистине царский подарок. Он настаивал, я отка-
зывалась. Но вынуждена была в конце концов сдаться и при-
нять этот неожиданный дар.
Я принесла книгу домой. Олег несказанно обрадовался,
потому что Босх был одним из его любимых художников.
Для меня он был, пожалуй, тяжел, особенно первое время.
В монографии были черно-белые репродукции, правда очень
высокого качества. Эта книга сохранилась у моего сына Се-
режи до сих пор.
Мы стали встречаться с Арсением. Он приглашал меня
в рестораны, и я почувствовала, что его отношение ко мне
постепенно переходит в какое-то новое качество, я бы даже
сказала — в более глубокое и нежное. Это меня очень смуща-
ло, потому что я боялась углубления этих отношений, пони-
мая, что у них нет никакого будущего — я замужем, у меня
маленький ребенок...
Тарковский посвятил и подарил мне три стихотворения.
Я помню только отдельные строчки. К сожалению, я поте-
ряла эти стихи, вернее, они исчезли в неразберихе нашего
дома. Это было мое свойство — я умела терять то, что мне
особенно дорого и ценно.
И вот, наконец, я вынуждена была сказать Арсению, что
нам не надо больше встречаться. Он воспринял это с боль-
шой горечью, долго держал меня за руку, а потом сказал:
— Может быть, к лучшему.
Повернулся и ушел.
Я помню, это было в сквере — осень, покрытые золотой
сеткой деревья. Листья шуршали под ногами. Он ушел, ни
разу не оглянувшись.
Потом, много лет спустя, мы случайно встретились в до-
ме творчества в Переделкине. Он по-прежнему был очень
красив, пожалуй, даже еще красивее. Лицо его теперь каза-
лось каким-то холодным, нервным, пожалуй, даже несколь-
ко желчным.
Рядом с ним шла его жена, седая, с тяжелым, значитель-
ным лицом. Мы разминулись на узкой дорожке. Он кивнул
мне, но не сказал ни слова, я тоже молча прошла мимо.
125
Больше мы не виделись, видимо он уехал в Москву...
Наши пути с тех пор не пересекались.
Время шло. Надо было принять решение, куда поступать,
какой институт выбрать.
Но все как-то решилось само собой. Выбор был законо-
мерен и вместе с тем достаточно неизбежен. Я уже писала
об этом.
Поступить в художественный Суриковский институт бы-
ла задача не из легких, но я без особого труда поступила.
В этом опять-таки заслуга моего отца. Но годы учения там
были годами великой тоски. Живопись не стала моим при-
званием, что-то в душе препятствовало этому.
Но все-таки теперь ничто не мешало мне писать стихи
и думать о литературе.
Диплом я делала по книге Самуила Яковлевича Марша-
ка. Иллюстрации, как мне казалось, ему понравились, я не-
сколько раз бывала у него дома. Он был уже стар, но, думаю,
моложе, чем я теперь.
От него веяло уютом и доброжелательностью. Мы пили
чай из старинных чашек. Он не сделал ни одного замечания,
но, по-моему, в основе этого лежало некое равнодушие. Ну
еще одна книга, — а ведь его иллюстрировали лучшие ху-
дожники того времени.
Во всяком случае, долгие годы занятий в институте оста-
лись позади. Я как бы по инерции проиллюстрировала еще
две книги в издательстве «Детгиз», и с графикой было покон-
чено.
Меня часто спрашивают, почему я выбрала жанр сказки.
Мне трудно ответить. Может быть потому, что я с детства
любила сказки Андерсена, это особый мир, привлекавший
и зачаровывавший меня. Окончив институт, я оказалась как
бы выброшенной в свободное пространство.
Но было ли оно свободным в эпоху Хрущева? Я убежда-
лась, что труднее всего цензурной лапе проникнуть в замк-
нутое, охраняемое волшебством царство сказки и начать
126
там хозяйничать. Жанр сказки уже сам по себе предполагал
больший размах фантазии, независимость, некую свободу.
Хотя даже сейчас — какое издательство напечатает сказ-
ку про девочку, наступившую на хлеб, где палач обрубает ей
ножки в красных башмачках и отрубленные ножки убегают
в лес, чтобы вечно танцевать? Кто осмелится напечатать
такое, если это современный автор, а не великий Ганс Хри-
стиан Андерсен? Или Оле-Лукойе, который по воскресеньям
везет за собой смерть...
И это при том, что, казалось бы, сейчас можно писать,
не ограничивая свою фантазию, не боясь странного, порой
мистического, таинственного замысла... Нет, все равно это
вряд ли порадует современного редактора.
В эти годы у нас в доме все чаще стала бывать Вера Никола-
евна Маркова, уже тогда известный знаток старо-японского
языка и замечательная переводчица.
После войны многие ленинградцы старались переехать
в Москву.
У Веры Николаевны в Ленинграде была скромная квар-
тирка. Она поменяла ее на московский сарай, но не в пере-
носном смысле, а в прямом. Неотапливаемый, без признаков
каких-либо, хотя бы самых примитивных удобств.
А ведь детство свое маленькая Верочка провела в богатой
купеческой квартире в Кронштадте. Она с удовольствием
вспоминала, что в квартире были эркеры, а в них диваны,
обтянутые красным бархатом.
Старшую сестру Нину учили французскому, а ее сочли
еще слишком маленькой и слабой. К тому же с детства она
страдала туберкулезом.
Но Верочке разрешали сидеть за столом во время уроков.
И скоро выяснилось, что она свободно читает по-французски,
только держит книгу в перевернутом виде — ведь она сидела
напротив учительницы, с противоположной стороны стола.
С большим теплом она всегда вспоминала своего дедуш-
ку. Он был крепостным, но благодаря врожденной смекалке
и честности постепенно скопил достаточно денег и выкупил
127
себя у барина. Потом из родной деревни взял жену. У него
была небольшая лавка в Кронштадте. Он продавал солдат-
ские сапоги, сделанные добросовестно и надежно. Дело ока-
залось прибыльным. Вскоре у него уже был свой магазин, тут
же небольшое предприятие, где под его неусыпным взором
продолжали шить солдатские сапоги. Затем он начал торго-
вать и мехами, в которых с юности знал толк.
— Верочка, покупаешь мех, главное — смотри на мез-
дру, — учил он любимую внучку.
Вера Николаевна частенько рассказывала мне одну и ту же
не слишком веселую, но и достаточно курьезную историю.
В деревне осталась полунищая родня. Время от времени они
приезжали к бабушке. Она их кормила, собирала кое-что из
одежды. Дедушка давал деньги. Он не был скуп, но все в меру.
И все-таки бабушкины сестры, тетушки почти голодали.
Однажды, когда они в очередной раз приехали из дерев-
ни и тихо, как мышки, сидели на кухне, бабушка поднялась
наверх в кабинет. Там на столе лежало подряд с десяток па-
чек денег. Дедушка приготовил их для сдачи в банк, как он
постоянно делал.
Бабушка рассудила, как ей казалось, очень разумно: если
взять из каждой пачки по одной бумажке, никто и не заме-
тит. Так она и сделала, взяв по одной бумажке из каждой
пухлой пачки.
Дедушка понес деньги в банк. Служащий не хотел счи-
тать, всем была известна скрупулезная честность Якова Се-
меновича, и они никогда его не проверяли.
Но дедушка на этот раз уперся: нет уж, вы посчитайте.
В первой же пачке не хватило одной купюры. Дедуш-
ка был поражен и смущен донельзя. Он потребовал, чтобы
пересчитали все пачки, и к его великому смущению во всех
обнаружилась та же недостача.
Со своим крутым характером, он считал себя опозорен-
ным навсегда. Служащие банка не знали, как его успокоить.
Бедных родственников с позором изгнали из дома, но, ко-
нечно, куда денешься, впоследствии простили.
128
Когда во время революции начались погромы и грабежи,
купцов выволакивали из лавок, били насмерть, кололи шты-
ками.
Неожиданно солдаты заступились за Якова Семеновича:
— Этого не троньте! Его сапоги лучше всех носятся. Хоть
без портянок обувай...
Семья переехала в маленькую квартирку в Петербурге,
но и ее скоро конфисковали. Яков Семенович, оставшись без
любимого дела, вскоре умер. Бабушка уехала в деревню.
Тем временем подросшая Вера Николаевна решила по-
ступить в университет.
Мать дала ей поистине неоценимый совет:
— Верочка, выбирай самый трудный факультет, куда ни-
кто не идет.
Верочка выбрала факультет японского языка и литературы.
Она блеснула по всем предметам, но по математике без-
надежно провалилась. Ей отказали в приеме в университет.
У меня сохранились ее тогдашние фотографии. Худень-
кая, плоская, скромно одетая, совсем молоденькая, скорее
девочка.
Она добилась приема у наркома просвещения Луначар-
ского.
— В университет хотите! А в головке-то, наверное, один
ветер, — сказал ей Луначарский.
Потом они проговорили два часа об Озерной школе. Лу-
начарский понял, какая перед ним незаурядная девушка.
Она уже тогда знала три иностранных языка — английский,
французский и несколько хуже итальянский.
На ее заявлении Луначарский написал: «Принять на лю-
бой факультет, кроме математического».
В университете с перепугу тут же переправили двойку по
математике на четверку.
Ее учителями стали Николай Иосифович Конрад и гени-
альный Николай Александрович Невский. Она успела много-
му научиться у этих великих людей.
129
Но Невского в 1937 году расстреляли.
Конрад в 1938 году был арестован как японский шпион.
Его пытали. Потом он отказался от своих показаний, данных
под пытками. Его отправили на лесоповал. Затем он работал
в «шарашке» над книгами о китайской и японской литерату-
ре. В 1941 году он был освобожден.
Рассказам Веры Николаевны о ее детстве, о годах учебы
в университете не было конца. Но дело не в сюжетах, порой
незатейливых, домашних, хотя и несущих яркий знак того
времени, а в том, как она их рассказывала.
Ее любили слова. Эти рассказы были бесценны, хотя ее
голос был глуховат и невыразителен. Но она всегда говори-
ла образно, ярко, слова были неожиданны, словно прилетая
откуда-то издалека.
Николай Иосифович Конрад умер в 1970 году. Его отпе-
вали на Донской в церкви Ризоположения.
Я держала Веру Николаевну за руку. У нее по лицу, не пе-
реставая, лились слезы, искренние, непосредственные, как
все проявления ее чувств.
Меня поразил непривычный, но дивно звучащий жен-
ский хор. Без глубокого волнения слушать его было просто
невозможно. Невольно замирало что-то в самой сердцевине
души.
— Как они поют? Это же светское, не православное пе-
ние! — вдруг послышался возле меня возмущенный, приглу-
шенный в силу обстоятельств голос.
Мне показалось, что это Мария Вениаминовна Юдина.
Черное платье, черный платок на седых волосах...
В шестидесятых годах я была на ее концерте. Она и тогда
была одета в простое, возможно уже не новое, черное платье.
Никаких украшений. Но прежде чем прикоснуться к клави-
шам, она, прислонившись к роялю, прочитала стихотворе-
ние Анны Ахматовой:
Как много камней брошено в меня...
130
Я знаю, что она в Ленинграде вот так же, перед исполне-
нием, читала стихи Пастернака, и потом ей долго не давали
концертировать.
Но, как ни удивительно, ее исполнение Моцарта понра-
вилось Сталину, и она уцелела.
На отпевании в церкви было много людей, они разделили
нас, и я ее больше не видела.
Вот я гляжу на последний портрет Веры Николаевны. Род-
ной, любимый мной человек. Слово «мачеха» тут неуместно.
Почти сорок лет мы прожили, сближаясь, даже не сближа-
ясь, сливаясь душами в одно целое.
Куда глядит она? Поверх очков, поверх меня, в какой-то
внезапно открывшийся ей полный тайн иной мир.
Эту фотографию сделал наш сосед Борис Фельдман, бли-
стательно одаренный мальчик. В двадцать два года он окон-
чил институт с красным дипломом. Его курс отправили на
практику в Чернобыль. Он пробыл там один месяц. Но и это-
го было достаточно. В январе следующего года он умер от
лейкемии, оставив нам прекрасные фотографии, полные
жизни, которую он так рано покинул.
Странно вспомнить, что все началось с тонкой книги
стихов Эмили Дикинсон. Странным, непонятным образом
поэзия Дикинсон была не знакома Вере Николаевне. Ведь
она поистине была всесторонне, уникально образована. Она
читала Данте и Шекспира в оригинале на ночь, для удоволь-
ствия. Но об этой удивительной женщине я еще не раз буду
говорить.
Она стала близкой подругой моей мамы, в то время как
чужие люди маму утомляли. Нет, здесь было что-то другое,
с Верой Николаевной она отдыхала и становилась жизнера-
достней.
Между тем сердечные приступы у мамы случались все
чаще. В конце мая случился новый инфаркт.
Ей было в тот вечер так плохо, что папа попросил врача,
которого он вызвал днем, остаться у нас на ночь.
131
Я вернулась из института, сдав последний экзамен.
— Мне что-то нехорошо. Но ты устала, пойди отдохни, —
сказала мне мама.
Врач смерил ей давление, и по его лицу я поняла, что про-
исходит что-то страшное.
— Пойди, отдохни, — это было последнее, что сказала
мне мама.
Вдруг она приподнялась и протянула ко мне руки. Я держа-
ла ее за руки и видела, как жизнь угасает в ее глазах. Она уже не
видела меня. То, что видели ее глаза, было мне недоступно.
— Сделайте же что-нибудь! — в отчаянии крикнула я.
— Что я сделаю, — глухо откликнулся врач. — У нее же
нет давления. Вообще нет...
Я тихо уложила маму на подушки. Это был конец. Она
еще один раз вздохнула. Какой-то свет пробежал по ее лицу.
Она уже не дышала. Тихая, тихая смерть.
Не помню, кто еще был в комнате. Наверное, папа. Да,
конечно, папа. Несколько раз я провела рукой над ее лицом,
чтобы закрыть глаза, но сил не хватило, не смогла. Я обняла
ее, и мне досталось ее последнее тепло. Все было кончено.
Я пошла в комнату дяди Сени. Он твердо ходил из угла
в угол. Он уже обо всем знал.
— Из нашего дома навсегда ушла беспечность, — сказал
он.
Клянусь, эти слова остались жить в моей душе навсегда.
Я пошла к Сергевне. Она сидела около Сережиной постель-
ки. Сережа спал.
Я ей сказала: «Мама умерла». Она дико и страшно, по-
деревенски закричала, скорее завопила.
— Дура! — прикрикнула я на нее. — Ребенка испугаешь.
Я до сих пор жалею, что так резко одернула ее: она очень
любила маму.
На наш дом опустилась непрозрачная тень безмерной пе-
чали.
Олег, которого не слишком волновали несчастья неблиз-
кой ему семьи, на третий день довольно громко завел джаз.
132
Я до сих пор не могу ему этого простить. Так дико звучали
эти резкие, громкие звуки в замершей, притихшей квартире.
Все изменилось. Прежде, возвращаясь из консерватории,
Самуил Евгеньевич еще в дверях всегда спрашивал: «Мария
Ивановна дома?»
Теперь он спрашивал: «Соня дома?»
Я, конечно, была всего лишь поддельная «Прекрасная
дама», не могла заменить ему маму, но он меня очень любил
и ему было как-то легче, если я рядом.
Но самая большая радость была для него, когда к нам
приходила Аленушка, дочь моего брата Сергея. Ей было лет
семь-восемь. Он ее обожал.
— Когда она входит в дверь и улыбается, все как будто
освещается солнцем, — говорил он.
Я была счастлива, когда в первый раз Самуил Евгеньевич
заиграл утром Баха.
Однажды Самуил Евгеньевич предупредил меня, что ве-
чером к нему придет Дмитрий Шостакович.
Я приготовила чай в большой комнате, но меня смущало,
что Самуил Евгеньевич в этот день чувствовал себя неважно,
часто ложился на свой диван, принимая нитроглицерин.
Шостакович пришел часов в семь. Он был бледен, голо-
ва странно наклонена к плечу. Не глядя, он поздоровался со
мной. От чая отказался и прошел в кабинет к Самуилу Евге-
ньевичу. Они о чем-то негромко говорили. Потом зазвуча-
ла музыка. Опять-таки я не знаю, кто из них играл, но одно
было несомненно: это была музыка Шостаковича. Самуил
Евгеньевич сам проводил гостя.
Меня все больше волновало здоровье Самуила Евгенье-
вича. Он часто будил меня и папу по ночам. Папа делал ему
укол, шприц был заранее прокипячен и лежал в спирту. (Мы
тогда и слыхом не слыхивали об одноразовых шприцах.)
Сережа, мой сын, живой и подвижный мальчик, любил
заглядывать в ящики письменного стола и в тумбочку дяди
Сени.
133
Там повсюду, чтобы быть под рукой, порой по рассеян-
ности забытые, лежали стеклянные пробирки с нитроглице-
рином. Это были крошечные, не больше спичечной головки,
белые таблетки, очень симпатичные на вид.
Сережа часто находил их среди прочих лекарств дяди
Сени. А ведь ничего не стоило высыпать их на ладонь, как
конфетки, и сунуть в рот. Нитроглицерин в таком количе-
стве для ребенка смертелен. Дядя Сеня нервничал и маниа-
кально боялся этого.
Однажды, застав Сережу копающимся в его ящике с ле-
карствами, дядя Сеня протянул ему таблетку хины, которую
он иногда принимал во время сердечных приступов.
Сережа взял таблетку и разжевал. Я из коридора неза-
метно наблюдала за ним. Сережа нахмурился, сжал губы
и мрачно сказал:
— Дай еще!
Дядя Сеня, несказанно удивленный, протянул ему еще
одну таблетку этой обжигающе горькой хины.
Тут Сережа не выдержал. Громко плача, он бросился ко
мне. Уж не помню, чем я его отпаивала: сладким чаем, дава-
ла одну конфету за другой.
Когда немного успокоилось жжение и горечь во рту, он
с недоумением и обидой спросил меня:
— Мама, почему дядя Сеня хотел меня отравить?
Однако он больше не прикасался к его лекарствам.
Возвращаюсь немного назад, к 1956 году.
С волнением Олег держал в руках телеграмму: «Выезжаю
сегодня вечером восемь тридцать целую мама».
Мы с Надей решили остаться дома, в маленькой квартир-
ке на Чкаловской, в прошлом принадлежавшей художнику
Куприянову. Мы готовили завтрак, Надя испекла пирог. Олег
и Святослав поехали на вокзал встречать Лину Ивановну.
Я ожидала ее торжественного возвращения домой. Но во-
шла пожилая женщина, немного сгорбленная, одетая не то
что бедно, скорее нищенски, убого. Она была очень бледна,
и казалось, нездоровая синева навсегда останется на этом из-
134
мученном, навсегда погасшем лице. На истоптанных, расплю-
щенных башмаках словно бы еще осталась лагерная грязь.
На следующий день я повезла ее по комиссионным, где
были знакомые продавщицы, в надежде что-то подобрать
ей, хоть как-то приодеть ее. Но она равнодушно смотрела на
предложенные ей платья, костюмы. Ей ничего не нравилось.
Однако через два дня произошла удивительная метамор-
фоза — она превратилась в элегантнейшую женщину, очаро-
вательно одетую, моложавую, стройную, на высоких каблу-
ках.
Густые черные волосы подстрижены, модно уложены.
Я заметила в прическе несколько седых волосков.
— Почему вы не попросили их удалить? — спросила я.
— Ни в коем случае, — даже голос Лины Ивановны за эти
два дня изменился. Он стал тверже, уверенней, в нем появи-
лись звонкие нотки. — Пусть все знают, что это мой нату-
ральный цвет, не крашеный.
Первым делом она прекратила наши и без того прохлад-
ные отношения с Миррой Александровной. Но это было впол-
не понятно, тут сказался ее страстный испанский характер.
Она захотела, чтобы ее называли не бабушка, а Авия, что,
кажется, по-испански именно это и означало. Она с нежно-
стью относилась к моему Сереже, хотя считала, что мы его
воспитываем совершенно неправильно: изнеживаем и балу-
ем. Но она всегда его трогательно любила.
Пустяк, но он мне хорошо запомнился, потому что ярко
очерчивает ее сильный своеобразный характер.
Авия, так уж я ее всегда называла и продолжаю по при-
вычке, упала на лестнице и сломала руку.
Тогда она жила уже на Кутузовском проспекте в малень-
кой однокомнатной квартире, которую ей выхлопотал Тихон
Хренников. Непонятно, почему вдову Прокофьева нельзя
было поселить в двухкомнатной.
Мы повезли ее в институт Склифосовского, где она, к изум-
лению врачей, категорически отказалась от гипса.
— Не мешайте природе делать свое дело!
135
В эти дни выходила замуж моя подруга. И Авия была при-
глашена на свадьбу в Дом писателей. Мы сняли для этого
торжества уютный малый зал.
Авия попросила меня помочь ей одеться. Я думала, что
она наденет один из своих нарядных костюмов.
— На свадьбу? — возмутилась Авия. — Только вечернее
платье!
Я встала на стул. Авия подняла руки. Я стала натягивать
на нее узкое парчовое платье, а она кричала от боли.
Тем не менее, она, как всегда, была украшением вечера.
Я не была знакома с Линой Ивановной до ареста. Но во-
семь лет, проведенные в лагерном бараке, как бы стерлись,
исчезли из ее жизни, из ее памяти.
Они почти никогда не говорила о допросах на Лубянке,
вернее очень редко, а ведь ее дело вел сам Рюмин, как гово-
рят, правая рука Берии. Ее сутками держали в узкой одно-
местной камере, где можно было только стоять, даже при-
сесть было невозможно, и она еле выходила оттуда, с трудом
держась на опухших ногах.
Однажды у нас дома по радио зазвучала песня «Полюшко-
поле». Лицо Авии вдруг исказилось, и она закрыла уши рука-
ми. Это был тот редкий случай, когда она кое-что рассказала
о допросах на Лубянке. В ее маленькой камере день и ночь,
не переставая, оглушительно гремела песня «Полюшко-по-
ле», буквально сводя ее с ума.
Только когда Рюмин сказал, что если она не подпишет
признания в шпионаже и предательстве, он арестует ее сы-
новей, она все подписала.
Однажды услышав случайную брань на улице, она вдруг
сказала: «Как же меня травили уголовницы в бараке, требуя,
чтобы я матерно ругалась, как они. Но ничто не могло заста-
вить меня произнести эти слова».
Да, сила ее воли была огромна.
Лина Ивановна была реабилитирована в 1956 году, получив
стандартную, общего типа д ля всех справку (форма № 30).
136
СПРАВКА
Дело по обвинению Прокофьевой Лины Ивановны пере-
смотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 13 июня
1956 года.
Постановление Особого совещания при МГБ СССР от
16 октября 1948 года в отношении Прокофьевой Л. И. отмене-
но и дело за отсутствием состава преступления прекращено.
Председательствующий судебного состава Военной кол-
легии Верховного суда СССР
полковник юстиции
П. Лихачев
Несколько сухих официальных строк. А ведь за этим стоя-
ло восемь лет издевательств, голода, неимоверной усталости,
невозможность почувствовать тепло домашнего очага.
А теперь в квартиру впархивала элегантная, всегда изящ-
но одетая женщина, выглядящая намного моложе своих лет.
Удивительны были ее зеленовато-карие глаза. Казалось, под
слоем прозрачной воды сверкают разноцветные драгоценные
камешки.
Всегда готовая куда-то пойти, поехать. Концерты, спек-
такли, гости...
Часто она заходила к нам, бранила наши московские обе-
ды. Потом обычно она поднималась этажом выше, к Хрен-
никовым.
Дверь почти всегда открывала Клара Арнольдовна, порой
небрежно одетая, в чем-то застиранном, домашнем.
Мне она нравилась: лицо античного мальчика, чуть удли-
ненное, изящное. Ей шли коротко остриженные волосы.
Тихон Николаевич, наоборот, выходил из своей комнаты
всегда одетый в строгий костюм. Мягкий, чуть рокочущий го-
лос, гостеприимная улыбка, манера смеяться, закинув голову...
Мне кажется, они искренне любили Лину Ивановну, она
вносила в их вечера ноту светскости. Если в гостях были ино-
странцы, она без труда переходила с одного языка на другой:
с английского на французский, на итальянский.
137
Иногда она довольно резко возражала Кларе, никогда не
уступала, если была с ней не согласна. И только Тихон, обво-
лакивая спорящих мягкой, примиряющей аурой, гасил жар
надвигающейся размолвки.
Снизу из кухни Союза композиторов приносили еще горя-
чий противень с загнутыми краями и крышкой, полный пре-
красно приготовленного жаркого. Стол ломился от закусок.
Г ости садились за овальный стол. Лина Ивановна изящно
съедала маленький кусочек. Затмевая все, сверкали крупные
драгоценные серьги.
Видно было, что хозяева гордятся своей гостьей. Еще
бы — вдова великого Прокофьева. Тихон подчеркнуто лю-
безно ухаживал за ней.
И вместе с тем он выхлопотал для нее всего лишь одно-
комнатную квартирку, правда на Кутузовском, но довольно-
таки тесную. Передняя была такая крошечная, что однажды
французский посол, будучи у нее в гостях и желая пропустить
ее в комнату, попятился и влетел прямехонько в совмещен-
ный санузел.
У Хренниковых были действительно добрые отношения
с Линой Ивановной, можно даже сказать, искренняя друж-
ба. Но существовал некий предел, который, как мне кажется,
Тихон Николаевич никогда не переступал. Добрый, искрен-
не желающий добра, но осторожный, осмотрительный — та-
кова была его сущность, помогавшая ему удерживаться при
любой власти.
Когда в Париже на улице Валентен Аюи, где постоянно
жила семья Прокофьевых, было решено повесить мемори-
альную доску, Лина Ивановна обратилась с просьбой разре-
шить ей присутствовать на этом торжестве.
Ответ из Союза композиторов был лаконичным: «Счита-
ем вашу поездку нецелесообразной».
За этим тоже стоял Хренников, который тем не менее
присутствовал с семьей на этом торжественном событии.
Это был человек, не любивший рисковать, всегда тонко чув-
ствовавший, где проходит граница дозволенного.
138
Примерно в это же время в Австралии, в Сиднее, открыл-
ся прекрасный оперный театр, построенный одним из самых
знаменитых современных архитекторов.
Лина Ивановна была приглашена как почетная гостья. Тем
более сезон открывался оперой Прокофьева «Война и мир».
И снова отказ под предлогом, что не успели оформить все
нужные документы. Просто и незамысловато, а как возра-
зишь?
Авия показывала нам газету: администрация театра оста-
вила в первом ряду партера одно пустое кресло и положила
на него ярко-красную розу — символ ее незримого присут-
ствия на премьере.
Весь свой справедливый гнев, обиду, негодование Лина
Ивановна напрямик излила на Тихона Николаевича. Я слы-
шала только отдаленный гром этой канонады. Тихон вяло
оправдывался: я, мол, сделал все, что мог, но...
В этот день я была у Хренниковых одна. Прихватив аль-
бом и карандаш, я хотела продолжить работу над еще не за-
конченным портретом Клары Арнольдовны.
Авия осталась внизу, у нас в квартире, ей хотелось еще
немного поиграть с Сережей. Но скоро и она должна была
подняться к Хренниковым.
Как раз в это время закончились съемки кинофильма
«Руслан и Людмила», музыку к которому написал Тихон Ни-
колаевич.
За стеклом в столовой стояла большая фотография Ната-
ши Хренниковой, снятой в роли юной Наины.
Я залюбовалась прелестным лицом Наташи. Без преуве-
личения, она была очаровательна.
Несколько дней назад режиссер, снявший этот фильм,
сидя у Хренниковых за столом, вздохнул и задумчиво ска-
зал:
— Ошибка, ошибка... Досадно... Теперь мне ясно, роль
Людмилы должна была сыграть Наташа, а не юную Наину.
Ведь редкая красавица...
Да, тут не поспоришь. Наташа действительно была не-
обыкновенно хороша.
139
Однако, вглядевшись в ее лицо, можно было без особого
труда заметить, что ей недоставало того, что так легко чита-
лось на лице Клары Арнольдовны: мягкого тепла и доброты.
Прекрасное лицо Наташи источало холод.
Тихон Николаевич у себя в кабинете наигрывал и повто-
рял какую-то изящную легкую мелодию.
Клара Арнольдовна ходила по комнате и негромко напе-
вала в такт:
Ложится в поле мрак ночной,
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный...
Последний аккорд, и Тихон Николаевич вошел в комнату.
— Ну как, Кларуша? — спросил он.
— Замечательно, просто замечательно! — восторженно
воскликнула Клара Арнольдовна. — Куда уж там Глинке!
— Полно, что ты! Это же великий Глинка, — возразил Ти-
хон. — Как можно сравнивать?
— Ну и пусть Глинка! — убежденно продолжала Кла-
ра. — У Глинки все расплывчато, как-то бесчувственно. Его
мелодия никуда не зовет, не манит. А у тебя, Тиша, страсть,
призыв, обещание любви, неги. Твоя мелодия влечет, закол-
довывает. У тебя куда лучше...
В это время в дверь позвонила Авия, спор прервался.
Между тем наступило лето. Я, как уже несколько лет под-
ряд, снимала дачу в Отдыхе по Казанской дороге. Прямо на-
против дачи, где жили мой брат с женой и, главное, их ше-
стилетняя дочка Аленушка.
Мы перевозили на дачу рояль, чтобы к Самуилу Евгенье-
вичу могли приезжать ученики. Но главной его отрадой по-
прежнему была Аленушка: милая, послушная девочка в ве-
селых кудряшках. Самуил Евгеньевич ее обожал.
Рядом с нашей дачей я сняла комнату с террасой для Веры
Николаевны Марковой.
140
Они делали с папой большие прогулки. Папа очень ценил
стихи Веры Николаевны. Она была настоящий, глубокий
поэт, как мне кажется, и сейчас еще недооцененный.
После маминой смерти папа ушел в темную бездонную
депрессию, я боялась за него, а теперь радовалась каждой
его улыбке. Я всячески способствовала их сближению и на-
деялась, что они в конце концов поженятся. Я очень любила
Веру Николаевну, недаром мы все, даже ее ученики, с моей
легкой руки стали звать ее Добрушка.
Мы уехали с Олегом в Коктебель, и там я получила теле-
грамму, что папа и Вера Николаевна поженились.
У Добрушки был светлый жизнерадостный характер, ме-
ня она любила как дочь, своих детей у нее не было, и глав-
ное — она меня понимала. За все долгие десятилетия нашей
совместной жизни рядышком, в одной квартире, у нас не
было ни одной размолвки.
Прежде, до того как она переехала к нам на Миусскую, она
жила в маленькой комнатке на Петровке, которая прежде была
конюшней. Так что пол приходился вровень с землей, и ребя-
тишки, гулявшие во дворе, весело заглядывали к ней в окно.
Дверь из комнаты выходила прямо на общую кухню со
всеми запахами, шумом и разговорами коммуналки. Ванны
в квартире вообще не было, только умывальник на кухне.
Но, похоже, Добрушка легко мирилась со всеми этими не-
удобствами.
Добрушка спала на старом раскладном кресле, у которо-
го было, уж не знаю почему, забавное прозвище Собакевич.
Его особенность была в том, что когда она раздвигала его на
ночь, кресло гонялось за ней по всей ее маленькой комнате.
Я сама однажды была тому свидетелем.
У Добрушки была сестра Нина Николаевна. Она жила в Ле-
нинграде в большом старинном доме с высокими окнами, вы-
ходящими на Летний сад, недалеко от домика Петра Великого.
Муж ее, Петр Павлович Перфильев, был известный уче-
ный, редкий специалист по насекомым и змеям.
141
Мы все очень любили Петра Павловича. Да и как было не
любить этого светлого, жизнерадостного, поистине прекрас-
ного человека?
Когда он возвращался из Средней Азии, а Добрушка еще
жила на Петровке, он всегда останавливался у нее, в ее ком-
натушке и спал или на Собакевиче, или на коротком диван-
чике.
Нередко он оставлял Добрушке такие записки: «Верочка,
не открывай комод, там гюрза».
Когда Добрушка уже жила у нас на Миусской, Петр Пав-
лович с женой однажды затеяли ремонт в своей старинной
квартире в Петербурге. Они заметили, что в одном месте под
обоями простукивается пустота.
«Клад!» — обрадовались они.
Это действительно был настоящий клад, но в то время не-
дооцененный ими. Он вызвал у них только разочарование.
Оказалось, что в углублении стены спрятана посуда из до-
мика Петра с его инициалами.
Они пустили в обиход вазы и бокалы, и постепенно, одно
за другим, эти бесценные изделия разбились.
Когда, по прошествии многих лет, остались два послед-
них широких низких бокала с теми же инициалами, Нина
Николаевна один из них привезла к нам в Москву. Меня
в этот день не было дома.
Папа поставил в бокал кисточки, которыми он писал свои
акварели.
— Вот придет кошка и разобьет бокал. И Сонечка его
даже не увидит, — сказала Добрушка.
Так оно и случилось. Кошка, играя, разбила бокал. Ког-
да я вернулась домой, осколки были уже выброшены, и мне
остался только печальный рассказ о погибшем раритете.
Немало лет спустя, когда в очередной раз переиздавалась
моя сказка «Приключения желтого чемоданчика», иллю-
стрировать книжку был приглашен известный художник Ал-
феевский. Она владел уникальной коллекцией старинного
стекла. Я была у него в гостях и видела эту музейную коллек-
цию. Недаром ее охраняло государство.
142
Когда я рассказала ему о разбитом петровском бокале, он
не на шутку огорчился.
— Как вы могли выбросить осколки! — воскликнул он. —
Мы из пыли реставрируем и восстанавливаем старинное
стекло, а тут еще с инициалами...
Но вернемся к Петру Павловичу Перфильеву. Он был
в звании полковника, хотя я всегда видела его в строгом ко-
стюме. Это был представитель ушедшего золотого поколе-
ния, истинный энтузиаст своей опасной работы.
Несмотря на протесты Нины Николаевны, он нередко
прививал себе различные яды — змеиные и неизвестных до-
селе насекомых. Он на себе изучал ход болезни, искал спосо-
бы ее исцеления.
Во время Отечественной войны, когда наши войска осво-
бодили Крым, там вспыхнула тяжелая эпидемия, унесшая не
одну жизнь. Возбудителем ее был неизвестный науке клещ.
Петра Павловича срочно вызвали в Крым. Он испытал
на себе укус этого клеща и нашел средство для борьбы с его
ядом.
Добрушка, переехав к нам на Миусскую, принесла с со-
бой домашний уют, свойственный ей свет и добросердеч-
ность.
Она была поистине энциклопедически образована, вели-
колепно знала историю, была подлинной медиевисткой, что
нам впоследствии очень помогло при совместной работе над
пересказом легенд Средневековья.
Олег скучал и томился в нашей, как ему казалось, теплич-
ной обстановке, и трещина в наших отношениях все углуб-
лялась.
В то время Самуила Евгеньевича лечил замечательный
врач — кардиолог Борис Евгеньевич Вотчал. По навету Ли-
дии Тимашук он был арестован вместе с группой «врачей-
убийц». Дело врачей вел подполковник Рюмин, тот самый,
который пытал и допрашивал Лину Ивановну. (Рюмин был
расстрелян по приказу Берии 1 июня 1954 года.)
143
Но Борис Евгеньевич приходил к дяде Сене значительно
позже, в конце шестидесятых годов. У меня обнаружилась
опухоль, и Борис Евгеньевич рекомендовал мне своего дру-
га, прекрасного хирурга. Осмотрев меня, Вотчал с улыбкой
сказал, что он, вспоминая годы ученичества, с удовольстви-
ем сделал бы сам такую легкую операцию.
Я сговорилась с профессором, и день операции был назна-
чен.
Я видела, что Олегу смертельно не хочется ехать в клини-
ку со мной. И поэтому я поехала одна.
Операция делалась амбулаторно, но опухоль оказалась
значительно больше, чем предполагалось изначально. Я по-
теряла много крови.
Узнав, что я приехала одна и меня никто не ждет, изум-
ленный профессор, сказав, что такой случай впервые в его
практике, снял забрызганный кровью медицинский халат
и сам любезно проводил меня и усадил в такси.
Дома за мной ухаживала Добрушка, она не отходила от
меня. Олег вел себя, как будто я была прокаженной. Дядя
Сеня лежал с инфарктом, а тут еще я...
В первый раз, когда я вышла из дома, произошла знаме-
нательная для меня встреча.
Я шла по улице Горького, и вдруг — это был прямой удар
в сердце. Навстречу мне, в густой толпе прохожих шел Вик-
тор Белый, о чем-то горячо разговаривая с Давидом Соломо-
новичем Жуком.
Мы не виделись больше десяти лет. Виктор изменился,
вернее повзрослел. Собственно, он и не мог измениться. Он
и прежде, в годы ранней юности, был как бы завершен, соз-
дан раз и навсегда. И все же и без того суровые черты его
лица еще более затвердели.
Он, увлеченный разговором, быстро прошел мимо. Я с бью-
щимся сердцем, окруженная обвалом воспоминаний, верну-
лась домой.
У нас с Виктором была общая подруга, и я знала, что
каждый год он бывает на ее дне рождения. Я всегда отка-
144
зывалась, но на этот раз буквально навязалась к ней в го-
сти.
Я встретилась у нее с Виктором, и это внезапно и беспо-
воротно решило мою судьбу.
Виктор пошел меня провожать. На Каменном мосту, где
когда-то, пятнадцатилетние, мы встречали День Победы,
наконец произошел тот разговор, которого я нетерпеливо
и страдальчески ждала. Тяжелый разговор.
Виктор сказал, что он меня любит и всегда будет любить.
Но мы никогда не поженимся, не будем жить вместе. У него
больная жена и ребенок. Но делить меня с Олегом он не на-
мерен. Я должна сделать свой выбор.
Непрост был этот выбор. Остаться одной с ребенком... Да
и Олег был еще не вполне готов расстаться со мной, хотя он
устал от беспокойной жизни в нашей семье.
«Вот если бы мы жили отдельно, только ты и я...» — по-
стоянно твердил он.
Но все решалось как бы независимо от меня. Дороги на-
ших судеб расходились в разные стороны, будто это они ре-
шали сами.
Я сказала Олегу, что мы расстаемся, хотя это было очень
тяжело.
Добрушка сняла ему комнату у какой-то генеральши на
улице Горького. Но скоро Олег купил себе хорошую двухком-
натную квартиру.
Виктор пришел с бутылкой коньяка и сказал Олегу: «Ради
Сережи мы должны сохранить человеческие отношения...»
Виктор, всегда очень бледный, был просто серым в тот вечер.
Добрушка, как всегда, меня поддерживала, папа и дядя
Сеня молчали. Ярилась только Сергевна:
— Вот, бросила законного мужа. Сына оставила без отца.
Любовника себе завела.
Да собственно, как иначе можно было назвать Виктора?
Любовник. Он оставался жить в той семье. Если и приходил
ко мне, так только поздно ночью и уходил рано утром под
воркотню Сергевны.
145
Очень важно было не травмировать Сережу. Но он на
удивление очень быстро привязался к Виктору, хотел звать
его «папа».
— Твой папа — Олег, — терпеливо объяснял ему Вик-
тор. — А я для тебя — Виктор. Ты папе Олегу сынок, а для
меня ты любимый мальчик.
Сережа радовался каждому его приходу. Летом Виктор
запускал с нами воздушных змеев. Чтобы приучить эту не-
поседу к усидчивости, он заставил его вырезать перочинным
ножом шахматные фигурки. Пока надо было вырезать пеш-
ки, все как-то еще ладилось, но когда дело дошло до коня, все
кончилось горькими слезами. Вырезать коня было Сереже
слишком трудно. Так и лежат у нас до сих пор незакончен-
ные деревянные шахматы.
Конечно, Авия бурно негодовала, возмущалась, упрекала
меня, сказала, что ноги ее не будет в нашем доме. Что от-
ныне с Сережей она будет встречаться только в нашем Ми-
усском сквере.
Но как-то постепенно она сменила гнев на милость и вско-
ре даже подружилась с Виктором.
Тем более что через какое-то время у Олега появилась
далекая туманная невеста — Камилла Грей, англичанка, на-
писавшая великолепную книгу о русском изобразительном
искусстве начала двадцатого века. К сожалению, эта книга
не переведена на русский язык.
Сложность была еще в том, что Камилле не давали разре-
шения на въезд в Советский Союз. Это длилось почти четыре
года.
Ходили слухи, что в конце концов, спустя почти пять лет,
ее обменяли на какого-то нашего шпиона, арестованного
в Англии. Но скорее всего это одна из тех легенд, которыми
обрастают такие знаменитые браки.
Не знаю почему, но дорога моей жизни высветляется где-
то далеко и отбрасывает меня назад.
Я еще не замужем, и моя любимая мама еще жива. Она
больна, но проживет еще четыре года.
146
Тяжелые сталинские времена. Лето 1951 года. Да, я пом-
ню это ярко и четко, есть события, которые невозможно за-
быть.
В это время папе поручили роспись огромного потолка на
Курском вокзале.
Работа шла медленно. Папа своеобразно замыслил этот
плафон. Все фигуры должны были быть очень выпуклыми,
объемными и производить впечатление, что они сделаны из
мрамора. Поэтому использовались только две краски: белая
и голубовато-серая.
Папа, собственно, рисовал только руки и лица. Одежду,
корзины с фруктами, снопы пшеницы, лошадей рисовал дру-
гой художник, Юрий Степанович, человек замкнутый, мрач-
ный и необщительный.
Я уже закончила первый курс Суриковского института,
практика тоже была позади, времени у меня было достаточно.
Мне очень хотелось забраться на леса и написать хотя бы
угол уже почти законченного плафона.
Когда я вскарабкалась по приставной лестнице на леса, я,
по правде говоря, несколько испугалась.
В щели между досками, которые были непрочно укреп-
лены, где-то далеко-далеко внизу был виден, как в тумане,
каменный пол. По нему ходили маленькие укороченные
человечки, грузчики провозили казавшиеся игрушечными
тележки с чемоданами и прочим скарбом. Голова кружи-
лась — на такой высоте приходилось работать.
Мне поручили что попроще — круглый мраморный венок
из дубовых листьев.
Я думала, это пара пустяков, глядя, как альфрейщики
ловко и быстро рисуют выпуклые вазы с цветами, складки
одежды, туфельки на ногах у мраморных женщин.
Я начала рисовать венок, освещенный с одной стороны.
Но сколько я ни старалась, венок получался плоским, не
объемным. И подошедший альфрейщик без труда его под-
правил.
Молодые альфрейщики подсмеивались надо мной, но я
терпела — что ж, они были правы.
147
Через несколько дней работа пошла лучше, но я не риск-
нула рисовать что-нибудь кроме венков.
К концу месяца я получила немного денег.
С бумажкой, подписанной папой, я пошла в кассу. У кас-
сы стояла толпа людей с бумажками, подписанными Юрием
Степановичем.
Они получали гораздо более солидные суммы денег, чем
я. Впрочем, это было вполне понятно, я еле-еле научилась
писать мраморные венки. Меня удивило другое. Почти всех
стоящих в очереди я ни разу не видела на лесах.
Нуда мне что до них! Я ушла, унося свой тощий заработок.
Я спросила папу, кто они такие.
— Мертвые души, — папа был явно озабочен. — Юрий
Степанович выписывает на них деньги. Сколько раз я ему
говорил... Это добром не кончится.
Прошло несколько дней, и меня повесткой вызвали в страш-
ный дом на Лубянке.
Такой-то день и час, иметь при себе паспорт...
Это стоило маме тяжелого сердечного приступа. Но как
я могла ей не сказать? А вдруг не вернусь? Ведь могло быть
и такое...
Около подъездов с высокими дверями было пусто, ни души.
Я вошла. Строгий военный указал, куда мне идти.
Тихий коридор, даже моих шагов не слышно. Длинная
ковровая дорожка...
От страха что-то тяжело билось в горле. Я отыскала нуж-
ный кабинет, постучала и вошла.
Большая комната.
За столом сидел военный, уже не молодой, с пустым, ни-
чего не выражающим лицом.
Имя, фамилия... Почему так долго не поступала в инсти-
тут? Есть ли родственники за границей?
Но я была прозрачна как стеклышко.
Да, готовилась в институт. Перешла на второй курс. Ху-
дожница. Работала альфрейщиком.
Да... Нет... Да...
148
Казалось, он знает обо мне все и без моих ответов. Даже
сколько денег я получила.
Неожиданно меня окликнул резкий голос откуда-то сза-
ди, со спины:
— Софья!
Я вздрогнула и оглянулась. На другом конце комнаты сто-
ял еще один стол, как бы спрятанный в тени. Не знаю, как я
его не заметила.
Теперь меня допрашивали попеременно двое. Одни и те
же вопросы. Может быть, они думали, что я смешаюсь, за-
путаюсь?
Мне показалось, что их особенно интересует Юрий Сте-
панович.
Когда я его видела в последний раз? Что он говорил?
— Да ничего не говорил. Торопил нас и все.
— Торопил? Почему торопил?
Этот разговор длился, как мне казалось, бесконечно дол-
го. Я с трудом сдерживала дрожь в голосе, стараясь отвечать
спокойно и ясно.
Наконец один из военных, не помню, кто именно, под-
писал какую-то бумажку.
— Можете идти. Надо будет — вас вызовут. Никому не
рассказывайте...
Я вышла на площадь. За мной с недобрым стуком захлоп-
нулась высокая дверь.
Домой, скорее домой...
Через несколько дней, без звонка, к нам зашла жена Юрия
Степановича. Заплаканная. Слезы лились по ее лицу сами со-
бой, похоже, она их даже не замечала. Я почему-то обратила
внимание, что у нее в ушах больше нет сверкающих сережек
с крупными камнями, которые прежде бросались в глаза.
— Арестовали... Передачи не принимают. Это как, пло-
хо? Как вы думаете, отпустят?
Мама лежала в соседней комнате. Я принесла нашей го-
стье чай и Сергевнины ватрушки с творогом. Но она ни к че-
му не притронулась.
149
— Юрий мне все драгоценности дарил. Любил он их по-
купать. Я их на даче в мешки с крупой прятала. Так они все
нашли и забрали. А пшено прямо на пол высыпали. Мышей
разводить...
Потом мы узнали от папиного друга художника Баева,
что Юрий Степанович расстрелян.
Как раз в это время папе предложили расписать в Сочи
потолок в доме отдыха ЦК партии.
Папа тут же уехал в Сочи. Впоследствии, когда он вернул-
ся, он привез нам большие фотографии многофигурного эф-
фектного плафона.
На этот раз он работал один, как всегда, маленькими ки-
сточками.
За несколько дней до открытия дома отдыха из Москвы
прибыла комиссия. Плафон был еще не окончен. Председа-
тель комиссии посоветовал папе:
— Товарищ художник, вы бы взяли кисти побольше, по-
крупнее. Тогда бы вы к сроку все успели окончить.
Но папа, продолжая работать своими мелкими кисточка-
ми, завершил плафон к сроку.
Мы с Наташей Шебалиной съездили на Курский вокзал
и посмотрели роспись на потолке главного зала. Плафон
действительно был очень хорош. Мраморные девушки в ра-
курсе словно наклоняясь, предлагали свежие грозди вино-
града. Мраморные юноши держали под уздцы великолеп-
ных, застывших в движении мраморных коней. Эффектно
и достаточно неожиданно для того времени.
Я поискала глазами свой первый столь неудачный венок
с дубовыми листьями, но не смогла его найти среди изоби-
лия мраморных украшений.
Прошло несколько лет, и старый вокзал снесли вместе
с роскошным плафоном, оставив нам только непростые, да
можно сказать — печальные и мрачные воспоминания.
Но память по своим законам ведет меня к другим време-
нам и событиям.
150
Я собиралась вместе с группой писателей ехать в Англию.
Прекрасная программа: Лондон, шекспировские места, по-
том Шотландия, Эдинбург.... К тому же меня радовало, что
вместе со мной в группе будет друг нашего дома, чудесный
человек и первоклассный переводчик Вильгельм Левик.
Я уже собиралась, оставалось всего несколько дней, как
вдруг звонок по телефону. Меня словно окатило ледяной во-
дой. Голос мягкий, но не вкрадчивый, спокойный, хорошей
образованной выделки.
— София Леонидовна? Я из КГБ. У меня к вам небольшая
просьба...
(Он представился, но уже не помню как — не то майор,
не то полковник.)
Конечно, были совсем другие времена, и все же слишком
много темного, пугающего нахлынуло из прежнего.
— Совсем небольшая просьба. Мы просто погуляем. Вас
устроит в сквере у Большого театра? Встретимся у фонтана.
Не отказывайтесь, прошу вас.
Вот теперь как это происходит: романтично, у фонтана...
Мы встретились. Молодой, чуть старше меня. Рыжеволо-
сый, с приятным лицом. В целом хорошо сливается с толпой,
вернее, с вкрапленными в нее избранными.
Мы начали кружить по небольшому скверу, потом куда-
то свернули.
— Вы едете в Англию, — начал он. (Откуда он знает?
Впрочем, они все знают). — Нас интересует невеста вашего
бывшего мужа Камилла Грей. Ну, что это за человек, как она
относится к нашей стране. Если бы вы...
— Но я с ней не знакома, — в растерянности сказала я.
— Ну, тут можно вам помочь, — как-то неопределенно
проговорил он.
— Это невозможно, —я вдруг пришла в отчаяние. — Нет!
Я еду в Англию просто посмотреть. Так мне будет вся поездка
испорчена...
— Да, да, посмотреть. Больше ничего и не надо, — под-
хватил он.
151
— Нет, тогда я лучше не поеду.
Он поморщился. Я поняла, что выбрала правильный путь.
— Что вы! Обязательно поезжайте! Просто возьмите мой
телефон. Когда приедете, позвоните. Расскажите о ваших
впечатлениях.
Он протянул мне визитку, я не взяла ее.
— Нет, нет, я не могу вам звонить. Я лучше не поеду.
Он улыбнулся ласково и спокойно. Но я твердила все то
же.
— Жаль, жаль, — он протянул руку, прощаясь.
Это была рука живого человека. Я почувствовала, что
сети, окутавшие меня, рвутся.
Я пошла домой.
Мимо высокого дома, где жила мамина подруга, дочь из-
вестного актера Художественного театра Александра Виш-
невского.
Красивая, с низким густым голосом. Наталия Алексан-
дровна. Ее брат был послом в Италии. Тяжело больная тубер-
кулезом брюшины, она жила одна в огромной пятикомнат-
ной квартире, собственно, принадлежащей брату.
Он привозил ей из Италии пенициллин, который в то вре-
мя никоим образом нельзя было достать в Москве.
Дорого же ей обошелся этот пенициллин. С большим
трудом ей удалось отбиться от попыток ее завербовать. И то
лишь потому, что почти безнадежно она была больна.
Помню, как она шепотом рассказывала маме о своих дру-
зьях. Муж и жена. Их завербовали. Доведенные до отчаяния,
они все бросили и уехали в какую-то забытую глушь, в дерев-
ню, где не было даже электричества. Но их и там обнаружи-
ли смертельные щупальца органов...
Папа написал маслом большой портрет Наталии Алек-
сандровны. Строгое красивое лицо, пышные волосы...
Но вот я как бы выплываю из глубокого омута прошлого.
Глоток воздуха. Дорога исчезает. Туман...
Теперь совсем о другом. 61-й год.
152
Сереже было уже семь лет, когда я в первый раз повезла
его в Коктебель.
Я помню, какое завораживающее впечатление произвело
на него море. Он мог неподвижно часами стоять, глядя куда-
то в даль. О чем он думал?
Прошло больше сорока лет, и он мне как-то сказал. Со-
всем другое ощущение, когда стоишь на берегу и смотришь
на океан. Есть что-то гнетущее в его бескрайности, грозное,
величественное, вместе с тем чуждое всему земному.
Конечно, я повела Сережу в Дом Поэта к другу всей нашей
семьи Марии Степановне Волошиной. Я попросила Марусю по-
казать Сереже мастерскую Максимилиана Александровича.
— Чайник горячий, — сказала мне Маруся. — Ты пей чай,
а мы пока сходим.
Я сидела на террасе, удивляясь, что их так долго нет.
Наконец, они вернулись. Я посмотрела на Сережу и как
бы не совсем узнала его. Он был бледен, губы сжаты, брови
непривычно сурово нахмурены.
Маруся устало села рядом со мной.
— Ну как, тебе понравилась мастерская? — спросила я.
Сережа даже не поглядел на меня.
— Маруся, — сказал он твердым, повзрослевшим, незна-
комым голосом. — Когда ты умрешь, завещай все это мне.
— Сережа! — вскрикнула я. — Как ты можешь такое го-
ворить!
Но Маруся протянула руку в мою сторону, распрямив ла-
донь, как бы отстраняя меня.
— Соня, перестань, — твердо сказала она. — Это мой
мальчик. Ты собираешься в Москву. Вот и поезжай. А Сере-
жу оставь мне до конца августа. Мои друзья поедут на поезде
и возьмут его с собой. А ты его встретишь в Москве.
Я уехала, но беспокойство не оставляло меня. Я втайне
опасалась, что Маруся взяла на себя непосильный труд.
Так оно и оказалось.
Недалеко от Дома Поэта была дача Мирели Шагинян, до-
чери известной писательницы Мариэтты Шагинян. Мирель
была смуглой, с крупными чертами лица, но по-своему необы-
153
чайно обаятельной, всегда окруженной толпой поклонников.
Она была из тех женщин, чье очарование непреодолимо.
У нее был сын, тоже Сережа, на год старше моего. Оба
мальчика считали Марусю как бы своей собственностью,
и каждый верил, что он ее любимец.
Маленькие ревнивцы, встретившись, вцеплялись друг
в друга мертвой хваткой и катались по полу, сшибая стулья,
разбивая разрозненные Марусины чашки.
Они довели Марусю до того, что она пошла к морю то-
питься. Это произвело на мальчиков такое сильное впечат-
ление, что дикие драки прекратились.
В мой следующий приезд в Коктебель я спросила Марусю:
— Ты что, вправду решила утопиться?
— Сама не знаю, — задумчиво ответила мне Маруся. —
Они меня так измучали, что я чуть не сошла с ума.
Мой Сережа до самой Марусиной смерти так и остался «ее
мальчиком». Она стала ему как бы второй матерью. Он два
раза в год ездил к ней, иногда со мной, иногда с Авией. Когда
повзрослел, уже один. Ухаживал за ней, когда она болела, про-
чел ей вслух всего Достоевского, Диккенса и многое другое.
Конечно, большая антропософская библиотека Волоши-
на, не только прочитанная Сережей, но изученная им, дала
мощный импульс уже проявившемуся у него интересу к ан-
тропософии.
По Марусиному завещанию, нотариально заверенному,
Сереже был завещан золотой нательный крест Максимилиа-
на Александровича.
Уезжая после похорон Марии Степановны, Сережа от-
крыл директору музея Владимиру Купченко дотоле никому,
кроме Сережи, не известный тайник Марии Степановны.
Там лежали нательный крест Волошина, золотая ладанка,
которую он всегда носил, и несколько золотых монет.
Сережа думал, что еще приедет в Коктебель и тогда возь-
мет завещанный ему крест. Но Купченко, не отрицая, что
крест завещан Сереже, начал рассылать скандальные письма,
что нательный крест Волошина принадлежит народу, а Сер-
гей Прокофьев хочет присвоить себе народное достояние.
154
В конце концов Сережа написал Купченко, что он всег-
да будет считать нательный крест Волошина духовно своим,
а где он фактически будет находиться, ему безразлично.
Когда Сережа приехал в Коктебель, чтобы почитать ред-
кие, столь любимые им книги в библиотеке, тщательно со-
бранные Волошиным, он не обнаружил в экспозиции ни на-
тельного креста, ни золотой ладанки.
Но память о Марии Степановне для Сережи бесценна до
сих пор.
Мне хочется еще написать, как мы с Сережей навещали
Марию Степановну на Рождество и как она, будучи в Мо-
скве, приезжала к нам в Малеевку, но я и так уже слишком
прервала последовательность событий. Ведь каждое воспо-
минание имеет свои корни и побеги и норовит увести ход
повествования в сторону.
Итак, вернемся назад.
Сереже было семь лет, когда выяснилось, что я беременна.
Я страстно мечтала о девочке. Но Виктор был против еще одно-
го ребенка: «У нас уже есть двое, третьего как мы воспитаем?».
Не могу не сказать, что Олег на этот раз повел себя на
редкость благородно. Когда мы разводились, он взял с меня
слово, что я отказываюсь от алиментов. И он, кроме мелких
подарков, никогда не тратил денег на Сережу.
Когда он узнал о моей беременности, он сказал, что от-
ныне берет целиком на себя содержание Сережи. И сдержал
свое обещание.
Но это не могло убедить Виктора, он по-прежнему был
против, он слишком ответственно относился к больной жене
Наташе и маленькой Женечке, которую я еще никогда не ви-
дела...
Добрушка рыдала и говорила, что ей для полного счастья
недостает только маленькой внучки.
Она давно уже не преподавала в университете, где читала
лекции по старояпонской литературе. Теперь, по настойчиво-
му желанию папы, она занималась переводами. И, конечно,
это было правильно. Переводами и своими стихами.
155
В этот год мы всей семьей жили в Переделкине, в доме
творчества писателей.
Однажды меня пригласил к себе Корней Иванович Чуков-
ский. Ему понравилась моя сказка «Не буду просить проще-
ния». Это был период, когда эта сказка, а заодно «Лоскутик
и Облако» подвергались в прессе, в газетах и журналах бес-
пощадной, разгромной критике.
Я была беременна. В сомнении и отчаянии никак не мог-
ла найти какой-то выход, принять столь важное для меня ре-
шение.
Наверное, поэтому я уговорила Добрушку пойти со мной.
Я навсегда запомнила этот чудесный вечер.
Когда я представила Добрушку Корнею Ивановичу, он
царственно поцеловал ее руку и усадил в глубокое кресло на-
против себя.
— Вот пока вы сидите в этом кресле, — торжественно
сказал он, — я буду говорить все время только одно: «Вы ге-
ниальны, гениальны, гениальны!..»
И так все время, пока мы были у него в гостях, он то и дело
прерывал нашу беседу и снова говорил Добрушке: «Вы гени-
альны, гениальны, гениальны...».
Наконец, я попросила его расшифровать столь уникаль-
ную похвалу.
— Ну как же! — сказал Корней Иванович. — Вам, Вера
Николаевна, удалось органически сочетать изящество, спе-
цифику, аромат японской сказки — с подлинными особен-
ностями, настроением языка и очарованием русской народ-
ной сказки. Вы создали нечто новое, это шедевр...
Я опять ушла в сторону. Но так уж получилось, слишком
ярко мне помнятся не только слова Корнея Ивановича, но
и его немного глухой старческий голос, какое-то особо до-
брое выражение лица.
Наконец, Виктор понял, что мне не под силу отказаться
от моего ребенка. Теперь, смирившись, он бережно ухажи-
вал за мной.
156
Невозможно было забыть, как я двое суток рожала моего
первенца, моего Сережу. Я чуть не умерла.
Поэтому я позвонила другу нашего дома академику и про-
фессору Владимиру Александровичу Неговскому, которому,
не знаю, насколько официально, было присвоено почетное
звание «Отец советской реанимации». Еще на фронте он по
собственному методу спас многих, казалось бы, уже безна-
дежно погибающих раненых.
Я часто спрашивала его:
— Вы много раз видели людей в состоянии клинической
смерти. Те несколько минут, когда сердце уже остановилось,
а мозг еще не разложился, ведь человек уже находится по ту
сторону земной жизни. Что он видит и что чувствует?
— Да ничего, — почему-то с досадой говорил мне Влади-
мир Александрович. — Никто ничего не чувствовал и не ви-
дел. Просто пустота, потерянные навсегда связи с земным...
Но я смотрю на это иначе. Я читала и слышала от людей,
переживших клиническую смерть, совсем другое.
Однажды как-то вечером я зашла к Владимиру Алексан-
дровичу. Он проводил меня, как всегда, в свой кабинет, где
висели акварели моего отца — виды Сортавалы.
Я не сразу поняла, откуда льется этот неясный бледно-
белый свет. И вдруг увидала статую Венеры Милосской в раз-
мер оригинала. Гипс или мрамор, не знаю. Прекрасная ко-
пия, чуть покрытая патиной времени.
Возможно, это был мрамор, потому что, как выяснилось,
когда-то эта статуя принадлежала великому Шаляпину. По-
том, пропутешествовав по разным домам, бездомная Венера
наконец обрела свое окончательное пристанище в кабинете
Неговского.
Мы дружили домами. Летом ни у него, ни у нас не было
дачи, мы ездили в один и тот же дом отдыха «Болшево».
Владимир Александрович иногда, довольно редко, рас-
сказывал мне о своей работе. Чаще мы говорили об искус-
стве, о живописи. Он любил музыку. Бывая у нас дома, он
иногда просил Самуила Евгеньевича сыграть ему Бетховена,
157
какую-нибудь сонату, что Самуил Евгеньевич всегда делал
с удовольствием.
И вот однажды я услышала от Неговского запомнивший-
ся мне навсегда, поразивший меня рассказ.
Я была у него в гостях. Мягко горела настольная лампа.
Нас было трое: Владимир Александрович, я и Венера Милос-
ская, которая стояла в густой тени и, похоже, прислушива-
лась к разговору.
Однажды ночью за Владимиром Александровичем заеха-
ла большая черная машина. Шел 1953 год, газеты были пол-
ны статьями о врачах-убийцах.
Неговский сел в машину, его спутники молчали. Он не
знал, куда его везут, но мысли приходили самые страшные.
За окном мелькали ночные деревья. Куда-то за город...
Длинные, тускло освещенные коридоры. Его ввели в ком-
нату, где неподвижно лежал Сталин.
Неговского спросили: нужен ли ему еще кто-нибудь из
его сотрудников. Он назвал несколько фамилий. Их привез-
ли на удивление быстро.
В дверях стояла группа людей, бледные, растерянные
и молчаливые. Среди них он мельком узнал Берию, Молото-
ва, Хрущева, Ворошилова...
Неговский и его ассистенты сделали все, что могли. Но,
в сущности, Сталин был уже мертв.
Вдруг вождь сделал какое-то конвульсивное движение ру-
кой. Все, кто стоял в дверях, мгновенно скрылись.
Владимир Александрович взял твердую холодеющую ру-
ку Сталина. Пульс больше не бился. Еще и еще раз проверил.
Сомнений не было.
— Иосиф Виссарионович умер, — сказал он.
Все, кто толпился за дверью, мешая друг другу, вошли
в комнату. Осторожно ступая, вытянув шеи, они окружили
неподвижное тело мертвого властелина.
Неговского оттеснили в сторону. И только он один, по
профессиональной привычке, взглянул на часы и записал
158
час и минуту, когда констатировал смерть Сталина. Потом
это время упоминалось во всех сводках.
Его и всех его сотрудников поспешно развезли по домам.
Владимир Александрович всего один раз рассказал мне
об этой страшной ночной поездке, да и то говорил как-то
неохотно.
Совсем другое дело было забежать к нему просто в гости.
С доброй улыбкой он говорил о своем любимом внуке Во-
лоде. Рассказывал, как зимой он часто ночует у друзей в избе
за печкой и рано утром встает на лыжи. И в любую погоду,
в трескучий мороз он делает большую прогулку по свежему,
нетронутому снежку.
Когда пришло мне время рожать, он сам выбрал мне на-
дежный, с хорошими традициями роддом и прислал туда
опытную акушерку.
Внизу все время, пока я рожала, стояли Виктор и моя по-
друга Наташа Трауберг. Она горько плакала все четыре часа,
боясь, что со мной что-то случится. Хотя у нее в это время
было уже двое детей.
Наташа... Как в моей жизни появилась Наташа Трауберг?
Как подарок судьбы?
Нет! Как что-то очень любимое, что было со мной всегда,
потом было потеряно и нашлось. Уже навсегда.
Только у двух людей в жизни я встречала такие глаза: под
прозрачностью горного ручейка — россыпь драгоценных кам-
ней, блестящих и сияющих. Такие глаза были у моей первой
свекрови Лины Ивановны Прокофьевой и у Наташи Трауберг.
Мы встречались обычно где-то посередине пути между
Пушкинской площадью и моим домом. Потом мы долго
блуждали по запущенным миусским закоулкам и дворикам,
которые так любила Наташа.
Наташа сочиняла «Записки Панды», где под легким, каза-
лось бы, семейным сюжетом спрятаны глубокие, непростые
философские мысли, с трудом доступные с первого прочтения.
159
Я счастлива, что в течение долгих-долгих лет я была хра-
нительницей единственного экземпляра «Записок Панды»,
этой немного притчи, немного сказки, а больше всего — от-
крытой души Наташи.
Она стала крестной матерью моей новорожденной доч-
ки, названной в честь моей мамы Марией.
Помню, Наташа, погруженная в свои мысли, как было ей
свойственно, подняв глаза куда-то вверх, стояла перед купелью.
Одежки на моей дочке вздернулись вверх. И я, стоя за ко-
лонной, со страхом видела, что еще немного, и ребенок вы-
скользнет из ее рук и упадет на каменный пол. Но пожилой
священник перехватил малышку, и все пошло своим чередом.
Нас надолго разлучали ее долгие отъезды к мужу в Виль-
нюс. И все-таки она оставалась самой близкой моей подру-
гой. Наша дружба переходила во что-то столь глубокое, что
нельзя прервать или замутить, над чем не властна разлука.
Наташа много и успешно переводила — Честертона, Вуд-
хауза, Льюиса...
В Вильнюсе, сблизившись с доминиканскими монахиня-
ми, она приняла сан терциария, что в православии прирав-
нивается как бы к первому постригу. Так она стала инокиней
Иоанной, оставаясь в миру Натальей.
Отпевали ее по-православному в церкви Успения в Газет-
ном переулке.
Отец Владимир во время службы упомянул, что она ино-
киня Иоанна, но вся служба шла по православному чину.
Прошло несколько лет, но мне по-прежнему кажется, что
Наташа где-то рядом со мной, такая же удивительная и родная.
Я берегу «Записки Панды», напечатанные на старенькой
машинке, со вклеенными ее рукой откуда-то вырезанными
фотографиями медвежонка Панды.
В то время мои сказки издавались неохотно и мало.
Дама из Комитета по печати при встрече со мной почему-
то не здоровалась и делала вид, что мы не знакомы. Ее фами-
лия Куценко.
Помню ее холодный, тяжелый взгляд, скользящий мимо.
160
В это время я закончила свою сказку «Лоскутик и Обла-
ко». На мою беду, она попалась на глаза госпоже Куценко.
Она отдала ее сначала одному рецензенту, затем второму,
третьему... Видимо, она рассчитывала на полный разгром.
Но все три рецензии, к ее досаде, были неожиданно по-
ложительными. Конечно, были и замечания. Но, не желая
коверкать сказку, я разработала особый прием исправления.
Если рецензенту не нравился какой-нибудь персонаж сказки
или сюжетный поворот, я придумывала нового героя и со-
всем другие приключения.
Это была большая, долгая работа, но я чувствовала, что
сказку я не порчу.
Наконец, Куценко отдала «Лоскутика и Облако» четвер-
тому рецензенту, специалисту по народному фольклору.
Уж тут, я предполагаю, она надеялась, что сказка потерпит
окончательное поражение.
Но и здесь ее ждало разочарование.
Рецензент, фамилия его держалась в тайне, написал, что
в принципе он против литературной сказки, отвергая ее как
жанр. Но сказка «Лоскутик и Облако» так хороша и изящна,
в ней столько неожиданных выдумок и милых героев, что он
рекомендует ее издать. И никаких замечаний.
Таким образом, сказка «Лоскутик и Облако» после всех
злоключений вышла в свет в 1989 году в издательстве «Дет-
ская литература» с прекрасными рисунками Геннадия Кали-
новского.
С тех пор она переиздавалась много раз.
Калиновский еще не однажды возвращался к этой сказке.
Он сделал к ней изумительные заставки и концовки, по
тонкости и изяществу напоминающие работы Фаберже. Так
мне говорили многие....
Я очень ценила иллюстрации Калиновского, и это легло
в основу нашей долголетней дружбы.
Великолепный художник, он делал по старинным эски-
зам уникальную мебель из редких пород дерева, украшая ее
созданным им же прекрасным бронзовым литьем.
161
— Покупную мебель я могу пропить (что, кстати, случа-
лось), а эту нет! — говорил мне Гена.
Мне нравились его иллюстрации к «Алисе» Кэрролла,
к Свифту, да и многие другие. Любое прикосновение его
пера и кисти делало книгу уникальной.
Он был странный человек, живущий как бы в ином, приду-
манном им самим иллюзорном пространстве. Иначе не мог.
Последние годы он сильно болел, и жизнь ему продле-
вала, бережно ухаживая за ним, его очень красивая вторая
жена Раиса. Он и умер у нее на руках.
Он проиллюстрировал шесть моих книг, и каждая из них
неповторима. Я не мыслю иллюстраций к этим книгам луч-
ше, чем их осуществил Калиновский.
Он из тех людей, кто, даже уходя от нас столь далеко, все
же остается с нами.
Именно в это время я получила из Коктебеля короткое
письмо от Марии Степановны. Помню его дословно, на-
столько оно меня изумило.
«Дорогая Соня!
У вас родился младенец. Тебе, наверное, сейчас довольно
трудно. Можешь прислать Сережу на зиму ко мне. Он пой-
дет здесь в школу. Подумай над моим предложением.
Целую.
Маруся».
Я с недоумением показала Виктору это письмо. Что это
с Марусей? Почему «младенец»? Сережа пошел в первый
класс французской школы. Зачем ему бросать школу и ехать
на зиму в Коктебель?
Прошло два года, прежде чем я снова оказалась в Кокте-
беле. Я, конечно, спросила Марусю, что за странное письмо
она мне прислала.
Маруся, не отвечая, выдвинула ящик письменного стола
и протянула мне страничку в клеточку, видимо, вырванную
из школьной тетради. На листочке было написано крупными
печатными буквами:
162
«Маруся! У нас родился младенец. Мне теперь тут очень
плохо. Я никому не нужен. Возьми меня к себе.
Сережа».
Все объяснилось. Бедный мой мальчик! Мы все были так
заняты маленькой Машенькой, что ему, видимо, не хватало
привычного внимания и тепла. А может быть, его даже гна-
ли из комнаты: «Не мешай! Не путайся под ногами!». Воз-
можно, это была просто детская ревность.
Конечно, маленькая, вся покрытая аллергическими пят-
нами девочка была нашей главной заботой.
Но через два года все сгладилось, и Сережа занял свое
прежнее место любимца.
Впрочем, привязанности разделились: мой отец Лео-
нид Евгеньевич обожал Сережу, у них уже велись скрытые
от меня антропософские беседы. Добрушкино сердце было
навсегда отдано маленькой Машеньке, здесь смешались лю-
бовь, жалость и страх за эту крошку. Самуил Евгеньевич по-
прежнему был привязан к Аленушке, умилялся, глядя на ее
нежное личико и светлую улыбку.
В эти последние годы своей жизни Самуил Евгеньевич
много записывался на пластинки. И все больше по ночам.
Я и папа, захватив чемоданчик с лекарствами, ездили с ним
в дом звукозаписи или в институт Гнесиных.
Его записи Баха, Бетховена, Скрябина, Шопена — бес-
ценный вклад в мировую музыкальную культуру. Сейчас ор-
ганизовано международное общество имени Самуила Фейн-
берга.
Я была такая усталая, Машенька не спала по ночам, ее
надо было носить на руках. Поэтому, забравшись на корот-
кую бархатную кушетку на галерке зала института Гнеси-
ных, подтянув коленки к подбородку, я мгновенно засыпа-
ла.
Именно в это время в нашем доме впервые появилась
старшая дочь Виктора — Женечка.
163
Я считала, что мне еще рано знакомиться с ней. Малень-
кая Маша не спала по ночам, у дяди Сени один сердечный
приступ сменял другой.
Но Виктор сказал: «Пора!», а его слова были сделаны как
бы из стали.
Женечке было четырнадцать лет. Тоненькая, робкая, за-
стенчивая девочка. Я не сразу почувствовала ее твердую, не-
поколебимую основу, унаследованную от Виктора.
С какой нежностью Женечка смотрела на младшую сестру!
Но стоило мне попытаться ее приласкать, коснуться ее,
обнять или поцеловать, она от меня прямо-таки отшатыва-
лась, почти что с отвращением.
Нам предстояло еще пройти непростой путь, чтобы она
стала моим родным, любимым ребенком.
Но, к счастью, мы преодолели все препятствия и сложно-
сти, и нас теперь соединяют долгие годы, прожитые в неж-
ности и глубоком понимании друг друга.
Женечка с бабушкой и больной матерью жила тогда
в двухэтажном Нащокинском старом доме недалеко от нас.
Виктор жил то с ними, то у нас. Все с этим смирились, даже
няня Сергевна.
в Нащокинском доме они жили в одной комнате. Прежде
это была бильярдная. Дальше шла густонаселенная беско-
нечная анфилада комнат, превращавшая большую квартиру
в коммуналку.
Возле входных дверей висела мемориальная доска. Здесь,
в этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин во время сво-
их приездов в Москву.
Но вот разваливающийся Нащокинский дом поставили
на капитальный ремонт. Всех выселили. Бабушке Вере Ана-
тольевне, Женечке и ее матери дали однокомнатную кварти-
ру где-то неподалеку. А Виктор, по какой-то странной при-
хоти судьбы, получил комнату в большом кирпичном доме,
углом выходящем на Тверскую, в доме, который построил
мой прадед, в прошлом крепостной крестьянин.
В этом доме до революции, до того как его конфисковали,
жили мои дедушка и бабушка, мама и трое ее братьев.
164
И именно в этом доме, в большой сумрачной квартире,
дали комнату Виктору.
Однажды я встретила в нашем подъезде Анастасию Ива-
новну Цветаеву. Остается только удивляться, как тесен мир!
Конечно, я знала ее и прежде. Она бывала у нас после реа-
билитации. Папа читал ей отрывки из книги «Три лета в го-
стях у Волошина», над которой он начал тогда работать. Но я
как-то оставалась в стороне.
И вот, случайно встретившись в обшарпанном, плохо
освещенном подъезде, мы обе удивились, разговорились,
и так началась наша дружба.
Анастасия Ивановна получила маленькую узкую комна-
ту на втором этаже. Я часто бывала у нее.
В ее комнате пахло чем-то ветхим и вместе с тем старин-
ным и уютным.
Книжные полки вдоль стен, вперемежку с разрозненной
посудой и необходимыми мелочами делали ее комнату еще
уже.
Ей было уже за шестьдесят, когда ее окончательно реаби-
литировали: «За отсутствием состава преступления».
Анастасия Ивановна говорила мне:
— Если назвать год, то я не сразу скажу, где я была в то
время: в тюрьме, в концлагере или на поселении.
В 1937 году ее арестовали якобы за посещение тайных
собраний Ордена розенкрейцеров. Ее арестовали вместе
с сыном Андреем, что делало арест еще тяжелее и трагич-
ней.
Она попала в поселок Печаткино Вологодской области.
В 1938 году тройка НКВД приговорила ее к десяти годам
лагерей за контрреволюционную пропаганду. Потом 1949
год... Поселок Пихтовка...
Но Анастасия Ивановна, словно стараясь отстраниться,
забыть, редко говорила об арестах, допросах, пытках...
Охотнее рассказывала, как она ездила в Сорренто к Горь-
кому.
165
Это был 1927 год. И в том же году она в последний раз
виделась с Мариной в Париже.
А ведь сестры были так дружны!
В ранних сборниках Марины Цветаевой в одном стихо-
творении есть такие строчки:
А для меня и для Асеньки
Мир был всегда золотой.
И что ждало в будущем обеих сестер!
Ранние произведения Анастасии Ивановны «Королев-
ские размышления», «Голодная эпопея» были конфискованы
и пропали.
В 1960 году она поехала в Елабугу.
Там на Петропавловском кладбище она поставила крест
на месте предполагаемой могилы Марины Цветаевой.
В 1972 году Анастасия Ивановна начинает писать свои
«Воспоминания». Талантливые, полные блестящих, ярких
описаний, они читаются легко и увлекательно.
Анастасия Ивановна несколько раз говорила мне с оби-
дой, переходящей в раздражение:
— Мне нередко говорят: что это я все пишу о себе да о се-
бе. И мало о Марине. Но ведь мы в последний раз встрети-
лись, когда мне было тридцать три года, а потом...
Да, потом были ссылки, тюрьмы, поселения...
В 1979 году Анастасия Ивановна получила наконец одно-
комнатную квартиру, удобную и тихую, на Большой Спасской.
Я бывала там у нее со своей дочкой Машей. Помню, книг
за это время еще прибавилось. Анастасия Ивановна продол-
жала писать свои «Воспоминания».
Однажды она сказала мне, что дала обет ежедневно ходить
пешком в церковь. В какую именно, к сожалению, я не помню.
Но как-то раз я увидела ее, она еще жила на улице Медве-
дева. Она шла не то чтобы торопливо или поспешно, но как-
то целеустремленно, слегка размахивая руками. По ее сосре-
доточенному лицу, по губам, что-то шептавшим, я подумала,
что она идет в церковь, и не посмела ее окликнуть.
166
Она быстро, не заметив меня, прошла мимо.
Такой я ее и помню: энергичной, сильной, несломленной.
В это время в нашей жизни появилась Зоя Афанасьевна
Масленикова, дочь покойной подруги Добрушки.
Зоя была доброй и общительной, с ней было легко и как-
то естественно просто. Я ездила к ней, она расставляла мне
раскладушку, я ложилась и отсыпалась.
Мне все время хотелось спать. Это длилось несколько лет,
пока нам не встретился удивительный гомеопат доктор Хай-
кин, который подлечил Машин нейродермит и аллергию. Он
сказал: через семь дней наступит улучшение, через десять
дней все пройдет. Так оно и случилось.
Зоя обладала редким даром сближаться с людьми, кото-
рые, устав от навязчивого общения, старались отгородиться
от ненужных прилипчивых знакомств.
В ней было столько простоты, искренности, готовности
бескорыстно помочь, что самые сложные, замкнутые люди
сближались с ней, как бы даже не замечая этого.
Так Зоя стала близким другом Бориса Леонидовича Па-
стернака. Она была скульптором, может быть не до конца
профессиональным, но обладавшим способностью угады-
вать в индивидуальности модели ее тайную сущность, нечто
главное.
И вот Борис Леонидович, отказывавший известным ху-
дожникам и скульпторам, согласился ей позировать.
Зоя сделала два его скульптурных портрета, один из ко-
торых просто замечательный, ее большая удача. Она смогла
уловить в нем какую-то его особую возвышенность и духов-
ность, особенно его неповторимость.
Во время этих сеансов Борис Леонидович рассказывал
ей о своих переводах, они говорили о поэзии, что делало их
общение бесценным.
У Зои была прекрасная память, она возвращалась домой
и все бережно, тщательно записывала.
Все их разговоры постепенно превратились в прекрасную
книгу. Она была издана в первый раз в издательстве Захаро-
167
ва в 1990 году — «Портрет Бориса Пастернака». Потом эта
книга несколько раз переиздавалась.
Иногда в тот же день, вернувшись из Переделкино, Зоя
приезжала к нам домой и читала мне и Добрушке свои записи,
еще хранящие живое тепло только что произнесенных слов.
Когда тем летом я ездила в Переделкино, Борис Леони-
дович обычно вел меня на террасу, где на деревянном столе
стояли два его портрета, над которыми Зоя еще работала.
Один из них Борис Леонидович потом сам отнес на вто-
рой этаж и поставил на письменный стол. По правде говоря,
этот портрет мне нравился меньше второго, который, по-
моему, точнее передавал таящуюся в нем гениальную, стре-
мительную силу и напряжение.
Узкое, страдальческое лицо...
Когда-то позже Зоя подарила мне копию этого портрета.
Тонированный гипс. Он стоял на рояле Самуила Евгеньеви-
ча, и кто бы ни вошел в комнату, портрет Бориса Леонидови-
ча сразу приковывал к себе взгляд.
Однажды (но это было уже несколько позже) я спросила
Бориса Леонидовича, как случилось, что «Доктор Живаго»
вышел впервые в Италии.
— Вопрос судьбы, — ответил Борис Леонидович. — Ко мне
приехали итальянцы, знакомое издательство. Во Франции
тоже хотели издать роман. Я знал, что последует, если я со-
глашусь. Я пошел к Лёне, ну вы его знаете, мой сын, и спро-
сил, как мне поступить. «Соглашайся, папа», — сказал он мне.
Я так и сделал. А что было потом, ну, это всем известно...
Да, это известно всем. Настоящая травля раненного, за-
гнанного великого поэта. Страх, что его лишат родины...
И как тогда быть со второй семьей?
Надо сказать, что со мной он никогда не говорил об
Ивинской. А вот с Зоей он был откровенней, говорил с то-
ской и надрывом об Ольге, и Зоя была с ней знакома.
Со мной об этом ни слова. Может быть, потому что он
бывал у нас еще на Маросейке с молодой женой Зинаидой
Николаевной? Не знаю...
168
Как-то я спросила Бориса Леонидовича: кого он считает
лучшим поэтом двадцатого века? Я ждала, он скажет: Ахма-
това, Цветаева, Мандельштам...
Борис Леонидович задумался. Его ответ поразил меня
своей неожиданностью.
— Я не назову вам лучшего поэта, — наконец сказал
он. — Я назову вам то, что считаю лучшим произведени-
ем двадцатого века, лучшей поэмой. Это — «Василий Тер-
кин».
Меня это удивило еще и тем, что он не назвал фамилию
Твардовского. Как бы отделяя автора от поэмы.
А недавно была передача по «Культуре» о Борисе Леони-
довиче.
Показали зал, единогласно голосующий за исключение
Пастернака из Союза писателей СССР. Оскаленные лица вы-
ступающих. .. Показали и Никиту Хрущева. Он с равнодуш-
ной улыбкой и даже некоторым недоумением сказал: «Ну
прочел я “Доктора Живаго”. Ничего в нем особенного, ни-
чего антисоветского...». Зачем же тогда он так беспощадно
организовал всю эту яростную травлю?
Помню, в эти дни я приехала в Переделкино. Борис Лео-
нидович лежал наверху и даже не вышел к столу.
Холодом веяло от Зинаиды Николаевны, когда мы пили
чай в столовой. Раньше, когда Борис Леонидович сидел с на-
ми за столом, он или что-то оживленно рассказывал, или
углубленно молчал, глубоко задумавшись.
Ни я, ни Зинаида Николаевна тогда не могли знать, какой
странный, необычный случай потом сведет меня с ней, на-
крепко объединив.
Но что мы знаем о будущем?
Теперь о другом.
Не могу точно назвать год, но примерно в это время мне
и Генриху Сапгиру предложили написать новый букварь для
всех школ, для всех первых классов.
169
Мы, недолго думая, согласились. Тем более, мы оба еще
не были членами Союза писателей СССР.
К нам прикрепили трех старушек-методисток. «Специа-
листов высокого класса» — так, во всяком случае, нам объ-
яснили.
Старушки-методистки сразу заявили, что букварь — это
отнюдь не пособие для обучения детей грамоте, а первая по-
литическая энциклопедия.
Мы, конечно, были несколько обескуражены, но назад
пути не было.
Старушки скупо выдавали нам по одной букве. Особенно
тяжко оказалось долго обходиться без буквы «е».
Наконец весь алфавит был отдан нам в полное распоря-
жение. Мы, по неопытности, вздохнули было с облегчени-
ем.
Но теперь на нас посыпались заказы из ЦК: написать о Ле-
нине, о революции, об атомном ледоколе... Мы, как могли,
справлялись с этими нелегкими задачами, старясь незамет-
но вставить в текст забавные стишки или короткие сказки.
Нам уже казалось, что работа подходит к концу.
Но вдруг старушки обрушили на нас новый заказ из ЦК.
Название было уже готово: «Никита Сергеевич Хрущев —
главный борец за мир».
Мы пришли в полное недоумение и расстройство, не по-
нимая, как нам выйти из этого непростого положения. По
правде говоря, мы уже изрядно выдохлись.
На наше счастье в это время Виктор выглянул из своей
комнаты и сказал:
— Поставьте бутылку хорошего коньяку — я вам все на-
пишу.
И правда, прошло, наверное, полчаса — ну, может, минут
сорок, — и он вышел из комнаты с готовым рассказом в ру-
ках. Он так и назывался: «Никита Сергеевич Хрущев — глав-
ный борец за мир». Помню его почти дословно до сих пор:
«Миша и папа гуляли в лесу. Миша нашел осколок снаря-
да. Папа сказал:
— Я тоже был ранен в этом лесу.
170
Миша спросил:
— Папа, а может еще быть война?
— Нет, — сказал папа, — борцов за мир так много, что
войны быть не может. А главный борец за мир на земле —
Никита Сергеевич Хрущев».
Мы пришли в полный восторг. Но, хотя всякий раз мы
крепко выпивали после окончания дневной работы втроем
или вдвоем с Генрихом, все-таки мы уперлись и сказали Вик-
тору: вот когда утвердят этот текст старушки-методистки,
тогда мы и разопьем хороший коньяк.
Пришли старушки-методистки и сказали:
— О, это смело, очень смело... Но необходимо утвердить
в ЦК.
Прошло несколько дней. Коньяк терпеливо ждал нас на
полке магазина. Наконец, старушки позвонили нам и ска-
зали, что текст утвержден. С какими-то мелкими поправ-
ками.
Но Генрих куда-то торопился. Мы решили выпить коньяк
на следующий день.
И надо же случиться такому: именно в эту ночь Хрущев
был снят со своего поста.
Но, конечно, тем не менее мы втроем выпили бутылку ко-
ньяку, а рассказ в букваре так и остался. Только без послед-
ней строчки. Назывался он теперь «Осколок снаряда».
Потом наш букварь печатался в ГДР, и в течение многих
лет—лет пятнадцать, должно быть, не меньше, — все перво-
классники СССР учились по нашему с Генрихом букварю.
С большим удивлением мы увидели, что на титуле бук-
варя было написано: «Главный редактор Сергей Михалков».
Мы не возражали, естественно, хотя он даже не читал этот
букварь. Ну что ж, дядя Степа всегда оставался собой. Только
на этот раз он сумел стать главным редактором.
В конце букваря мы поместили веселое стихотворение,
которое, полагаю, все школьники учили наизусть:
Беру букварь в последний раз,
Несу букварь в просторный класс
171
И дорогому букварю
Я говорю: «Благодарю»...
ит. д.
Однажды позвонила Зоя Масленикова.
— Вы знаете, с кем я познакомилась? — голос был счаст-
ливый и возбужденный. — Не догадаетесь! С отцом Алексан-
дром Менем.
Зоя поистине обладала редким даром привлекать к себе
хороших людей и легко с ними сближаться.
Знакомство органично перешло в подлинную дружбу.
Зоя написала потом о встречах с ним замечательную кни-
гу, вышедшую в том же издательстве Захарова.
Тем временем подружились Даша, дочь Зои, и дочь Алек-
сандра Меня Елена, в домашнем обиходе Лялька (так мы ее
и звали). Обе школьницы, меньше всего интересующиеся
школьной наукой.
Они убегали из дома, пугая родителей, даже если мамы
прятали их платья и туфельки. Можно и босиком! И по кры-
ше...
Немало забот доставляла Дашенька матери. Той прихо-
дилось за руку вести ее в школу и обратно. Однажды Даша
убежала зимой из дома. Зоя в отчаянии и страхе попроси-
ла Виктора помочь ей найти беглянку. В конце концов они
отыскали ее в холодной, нетопленой даче в Абрамцево. Пе-
репутанная девочка сидела, забившись в уголок, совсем око-
ченевшая, прижимая к себе котенка.
Я знала от Зои, что Даша хорошо лепит.
Однажды, когда они обе пришли к нам, Зоя занялась
каким-то разговором с Добрушкой, а я дала Даше пластилин,
чтобы чем-то занять ее.
Я ненадолго оставила ее, а вернувшись, просто не пове-
рила своим глазам.
Даша вылепила из пластилина сидящую девушку, запле-
тающую косу, и кошку, которая, подняв заднюю лапку, изо-
гнувшись, моет себя под хвостом.
172
Эти очаровательные фигурки не только были профессио-
нальны, в них проявилась несомненная незаурядная инди-
видуальность.
—Она не хочет лепить,—с огорчением сказала мне Зоя, —
сколько я ее ни упрашиваю.
Это было очень странно. Обычно такая ярко выраженная
одаренность сама ломает препятствия, обстоятельства вре-
мени и просится на волю.
Нет, Дашенька упрямо не хотела лепить, все заброси-
ла, и никакими уговорами и похвалами нельзя было заста-
вить ее развить данный ей свыше дар. Да, собственно го-
воря, надо было только лепить, она была уже законченный
скульптор.
Я долго хранила подаренные мне эти фигурки, поставив
их под стекло. Но в какое-то особо жаркое лето, попав под
жестокие лучи солнца, к моему огорчению, они потекли
и потеряли форму.
Сейчас у Даши двое детей, а Лялька живет в Италии и пи-
шет иконы по православным образцам и канонам.
Но вернемся к тем прежним временам.
Отец Александр начал бывать у нас дома.
Необычайно интересны были дискуссии: с одной стороны
отец Александр, удивительно красивый, с доброй улыбкой,
блестящими ясными глазами, с другой — Виктор, любивший
говорить о себе, что он «просвещенный атеист», и наш друг
психиатр Борис Драбкин, успешно лечивший детей гипно-
зом от заикания.
Отец Александр, чуть посмеиваясь над нападками своих го-
рячих противников, блистательно отражал их азартные атаки.
Как мне жаль, что я не записала эти удивительные споры
на магнитофон!
Они продолжались и за обедом и кончались только вече-
ром, потому что отец Александр жил за городом, в поселке
Семхоз по Ярославской дороге, и надо было успеть хоть на
последнюю электричку.
173
Надо признаться, что победителем как-то само собой
всегда оставался отец Александр.
Его звучный голос, спокойная, уверенная убежденность
в своих словах, редкая эрудиция неизбежно доказывали его
правоту.
За его словами стояло что-то более глубокое, значительное,
неподверженное времени, несущее на себе знак вечности.
Летом мы с Виктором нередко бывали в Семхозе в доме
отца Александра.
Наташа, его жена, с миловидным, нежным лицом, госте-
приимная хозяйка. Простой уклад этого дома, полная света
улыбка отца Александра делали каждое наше пребывание
там полным счастливого покоя.
Отец Александр читал перед обедом молитву, мы стоя
слушали ее. Воцарялось мгновение какой-то особой высокой
тишины.
Потом Наташа разливала густой борщ. Каким же он ка-
зался вкусным, полным аромата, сваренный на травах из
своего огорода!
Мой отец давно мечтал принять православное крещение.
Но странные непредвиденные обстоятельства всякий раз
упрямо препятствовали этому — словно какие-то тайные
темные силы не хотели, чтобы это произошло.
У Добрушки была подруга, хорошая переводчица Надеж-
да Павлович. Может быть, несколько жесткая, но прямая
и всегда убежденная в своей правоте, она была воцерковлен-
ной, глубоко верующей православной христианкой.
Прочитав папины три большие книги об антропософии,
объединенные одним названием «Лоралии», она возмути-
лась, сказав, что это — книги еретика и ему и думать нельзя
о православном крещении.
Папа был несказанно огорчен.
Помню, как он, старенький, высохший, каждый вечер си-
дит, утонув в глубоком кресле, и читает Евангелие.
174
Когда в нашем доме стал часто бывать отец Александр,
папа, преодолевая неуверенность и робость, дал ему про-
честь все три тома «Лоралии».
Почти со страхом он ждал, что скажет ему отец Алек-
сандр. Прошло в тревоге не меньше двух недель.
И вот наступил этот день.
Отец Александр сказал, что внимательно прочел все три
книги и не видит в них ничего, что препятствовало бы свя-
тому крещению.
Был назначен день. Отец Александр оделся в светлые тор-
жественные одежды, и они уединились в маленькой комна-
те, где уже горели свечи.
Я слышала громкий напевный голос отца Александра, чи-
тавший молитвы.
Двери отворились.
Отец Александр вышел, улыбаясь, как только он один
умел, светло, чуть отрешенно, словно он коснулся недоступ-
ной, высочайшей тайны.
Папа еле шел, счастливый, со слезами на глазах. Добруш-
ка его уложила, он от волнения с трудом держался на ногах.
Ведь свершилось то, о чем он мечтал столько лет.
И тут я, по неопытности и незнанию, допустила грубую,
нелепую оплошность.
На столе стоял святой сосуд, покрытый парчой. Я попро-
сила отца Александра причастить меня.
Его выразительное лицо мгновенно изменилось, с него
сбежал так постоянно освещавший его яркий свет, брови на-
хмурились.
— Раз была произнесена такая просьба, я не могу отказать,
я ее выполню, — сказал он как бы неохотно.—Но вы еще моло-
ды, вам должно ходить в храм и там принимать это таинство.
Он исповедал и причастил меня. Но на душе у меня оста-
лось глубокое чувство вины.
Впоследствии отец Александр подарил мне чудесную ма-
ленькую икону, на которой был вышит бисером лик Божьей
Матери. Скорее всего, это работа северных мастеров.
175
Тяжело писать о безвременной смерти такого необыкно-
венного человека.
Я хорошо помню дорогу от его дачи к станции Семхоз.
Простая деревенская дорога, кончались дома, с одной сторо-
ны поле, с другой — густой лес.
В тот роковой день отец Александр шел один по этой до-
роге к станции. Убийца, видимо, вышел из леса и ударил его
топором. Отец Александр повернул и пошел назад к дому. По
дороге ему встретилась знакомая прихожанка его церкви.
Она спросила:
— Что с вами, отец Александр?
Он только махнул рукой. Это остается загадкой. Возмож-
но, он не хотел называть имя убийцы, а может быть, и не
знал того, кто нанес ему этот страшный удар.
Истекая кровью, он все-таки дошел до дома и упал на зем-
лю. Наташа, его жена, видела, что кто-то окровавленный лежит
у калитки. Но Наташа не узнала его, а была она в доме одна.
Когда приехала «скорая помощь», было уже поздно. Я знаю
от Зои, что Наташа пережила смерть мужа очень тяжело.
Сейчас она староста церкви Космы и Дамиана. Я один раз
была там. При входе висит большой портрет отца Алексан-
дра Меня.
Я уже писала о его дочери Елене. Его сын Михаил — гу-
бернатор Ивановской области, всеми любимый, честный,
справедливый, мудрый человек.
Отец Александр Мень — один из тех немногих людей,
которые как бы навсегда остаются рядом с нами. Нельзя за-
быть его удивительное, красивое лицо, его улыбку, освещав-
шую все вокруг.
Он произносил замечательные проповеди после службы.
Мы, все прихожане, придвигались поближе. Голос его был
настолько звучен, что без труда заполнял все пространство
храма. Но всем хотелось видеть его прекрасное, светящееся
добротой лицо.
Удивительной особенностью его проповедей было то, что
каждый находил в них ответ именно на ту заботу, что тре-
176
вожила и мучила его в тот день, в тот час. Я испытала это на
себе, и то же самое слышала от многих его прихожан.
Отец Александр был подлинным знатоком не только хри-
стианства, но и других широко распространенных в мире ре-
лигий. Он оставил нам семь томов «Истории религий», издан-
ной сначала в Брюсселе, потом в Москве в 1991—2002 годах.
Невольно поражаешься глубине, силе, проникновению
в недоступные тайны, читая книгу, где одно название гово-
рит нам о столь многом: «Таинство, Слово, Образ» (Москва,
1991).
Но для меня истинной драгоценностью остается его неболь-
шая книга «Сын Человеческий». Она, как руководящий свет
в конец пути, озаряет жизненные странствия христианина.
Папе удалось прочесть несколько книг отца Александра,
правда, еще напечатанных на машинке. Он очень высоко це-
нил труды отца Александра, но у него резко падало зрение
и читать их было ему нелегко.
Последние годы своей жизни мой отец посвятил воссозда-
нию, можно сказать, реставрации теоретических работ свое-
го брата Самуила Евгеньевича. Он благоговейно относился
к его музыке и, не щадя времени и усилий, восстанавливал
написанные отрывки, вспоминая разговоры, объединяя все
в цельные книги.
Так вышли в свет «Пианизм как искусство», пророческая
книга «Судьба музыкальной формы», теперь переведенные
на многие языки.
Но они вышли уже после смерти Самуила Евгеньевича.
Он умер в Измайловской больнице. Последние недели я
и Виктор старались быть около него, даже ночевали на неу-
добных креслах.
В день его смерти я была в больнице. У него закружилась
голова, и я побежала за врачом. Меня до сих пор мучает, что
в самые последние минуты его жизни я не была с ним ря-
дом. Может быть, он хотел проститься, встретить любящий
взгляд, что-то сказать...
177
Привожу слова его ученика и близкого друга пианиста
Виктора Бунина:
«И вновь — Большой зал Консерватории... Самуил Ев-
геньевич на возвышении, в двух-трех метрах от того места
у рояля, который так часто собирал в фокус мысли и чувства
всего зала, завороженного волшебством его искусства и уно-
симого его силой в высшие, благороднейшие сферы челове-
ческого сознания...»
Многие в зале плакали. Играли на рояле, сменяя друг
друга, лучшие пианисты консерватории.
Маленькой Аленушке, любимице Самуила Евгеньевича,
стало дурно, и родители вынуждены были увести ее.
Я подвела к гробу восьмилетнего Сережу, моего сына,
чтобы он мог проститься с Самуилом Евгеньевичем. Сере-
жа поцеловал его и до сих пор вспоминает пронзивший на-
сквозь неземной холод его лба и его величественное лицо,
уже приобщенное к какой-то великой тайне.
Комната Самуила Евгеньевича долго стояла нежилой.
Особенно нам всем не хватало музыки Баха по утрам. Всегда
приносящей в семью особый, высокий мир.
Потом большой концертный «Бехштейн» Самуила Евге-
ньевича переставили в мою комнату. С тех пор он здесь и сто-
ит. Когда приходят ученики Самуила Евгеньевича или наши
друзья-музыканты и играют на нем, это волнует до глубины
души — слишком много негаснущих воспоминаний.
Спустя какое-то время я устроила в комнате Самуила
Евгеньевича кабинет для Добрушки. Ведь это была лучшая
комната: с балконом, больше света и воздуха.
Добрушка переехала туда со своей необъятной кроватью,
с неподъемными японским словарями и с полным собра-
нием стихов Эмили Дикинсон. И в этой области Добрушка
была первооткрывателем. Сейчас многие переводят Эмили
Дикинсон, откровенно ей подражая.
Добрушка могла часами переводить древнеяпонских поэ-
тов, вчитываясь в комментарии, листая словари.
178
И вдруг творческая энергия в ней словно бы засыпала.
Она могла целый месяц, как будто накрепко забыв любимых
авторов, раскладывать пасьянсы, несмотря на гаснущее зре-
ние смотреть телевизор, читать по-английски что-нибудь
легонькое.
Мой отец, будучи намного старше ее, утром вставал, на-
девал удобную теплую куртку, подаренную Добрушкой и на-
зывавшуюся почему-то «Соме», и, строго завязав галстук, са-
дился рисовать. И так каждый день.
Его очень огорчало, что Добрушка попусту тратит время.
Наконец, он не выдерживал и звал меня:
— Сонечка, пойди и скажи Добрушке: если она не сядет
работать, у меня будет инфаркт.
Вздохнув, я шла к Добрушке и передавала ей дословно па-
пины слова.
— Инфаркт?! — испуганно вскрикивала Добрушка. —
Так я сажусь, сажусь! Пойди, скажи ему, что я уже работаю.
И послушно, как школьница, она тут же садилась за пись-
менный стол, открывала словарь и продолжала очередной
уникально сложный перевод.
Иногда папа огорчался, что Добрушка переводит одно
трехстишие несколько недель, отбрасывая варианты в поис-
ках совершенства.
Он предложил Добрушке дать ему несколько подстроч-
ников, а он переведет их стихами. Папа целый день добро-
совестно трудился, переводил трехстишия, превращая их
в стихи, стараясь подражать Добрушке.
При всей удивительной мягкости характера Добрушки,
она изредка гневалась, но уж выйдя из себя, была беспощад-
на. Гром и молнии!
Она в клочья порвала папины переводы и сказала, что он
ничего не смыслит в японской поэзии.
Но был и другой случай.
Добрушка переводила драматические поэмы велико-
го писателя-драматурга Тикамацу Мондзаэмон XVII века.
Каждую его драму обычно предваряет длинное эпическое
179
вступление. Актер-чтец медленно подводит нас к началу теа-
трального действия.
Добрушка затосковала, переводя этот бесконечно длин-
ный монолог-вступление.
Папа предложил его перевести. Эта, в сущности, целая
эпическая поэма органически была ему гораздо ближе, чем
Добрушке. К тому же папа был глубокий и сильный поэт.
Когда Добрушка прочла (кажется, это был «Гонец в пре-
исподнюю»), она пришла в восторг.
Помню, когда пьеса была уже опубликована, у нас в го-
стях был академик Николай Иосифович Конрад, учитель Доб-
рушки, которого она почтительно называла «сен-сей», что
значит «учитель». С ним, как всегда, была его жена, верная
спутница Наталия Исаевна. Она создала и посвятила Нико-
лаю Иосифовичу иероглифический словарь, самый точный
и полный, который до сих пор остается непревзойденным.
Мы пили чай. Николай Иосифович увлекательно расска-
зывал, как, будучи еще юношей и живя в Корее, он своей
вежливостью, знанием языков понравился одному из мест-
ных князей.
Тот выдал ему грамоту, разрешающую свободно ездить
по всему его княжеству. К нему был приставлен проводник.
И вот однажды ночью он тайно повел Конрада узкими
тропинками, труднопроходимыми дебрями куда-то в горы.
Там горел костер, вокруг в почтительном молчании сидели
местные жители.
Появилась шаманка. Она закружилась вокруг костра, ка-
саясь то одного из сидящих, то другого длинными рукавами.
Но, скользя в кружении мимо Конрада, она делала резкое
движение и ни разу не задела его краем одежды.
Она предсказывала настоящее и будущее, иногда это были
трагические известия о ком-то близком. Сидевшие вокруг ко-
стра молча выслушивали ее слова и только закрывали лицо
ладонями. Известно было, что она никогда не ошибается.
Вдруг откуда-то появился какой-то человек и тревожно
шепнул: солдаты!
180
Костер мгновенно погасили, корейцы исчезли, шаманка
словно бы растворилась во мраке. Проводник поспешно увел
Конрада незаметной тропой.
Мы все, замерев, слушали рассказ Николая Иосифовича,
и вдруг он сказал:
— Вы знаете, Вера Николаевна, как я ценю ваши перево-
ды ! Но, пожалуй, лучший из них, истинный шедевр — это ваш
перевод монолога актера к пьесе «Гонец в преисподнюю».
По лицу Добрушки я поняла, что она вот-вот со свойствен-
ным ей простодушием и прямотой скажет, что это перевела
вовсе не она, а Леонид Евгеньевич. Она уже открыла рот, но
я больно наступила ей на ногу под столом.
Она с удивлением посмотрела на меня, но ничего не ска-
зала. Ведь, что ни говори, она была действительно великим,
непревзойденным переводчиком. Просто эта эпическая поэ-
ма была ей не особенно близка.
Прошел год или два, и вдруг однажды раздался странный
телефонный звонок. Незнакомый мужской голос с иностран-
ным акцентом спросил:
— Стаканы есть?
— Вы не туда попали, — ответила я и положила трубку.
Звонок повторился.
— Стаканы есть?
— Простите, вы куда звоните? — спросила я.
— Это квартира Марковой-сан?
— Да, да! — ответила я, уже догадываясь, в чем дело. —
Стаканы есть.
Все разъяснилось. Несколько месяцев назад Добрушка
была награждена орденом «Благородное сокровище» 4-й сте-
пени. Это самый высокий орден, которым награждаются ино-
странцы.
У Добрушки уже не хватало сил, чтобы самой поехать
в японское посольство и получить высокую награду. Было ре-
шено, что к ней приедет атташе по культуре с супругой и пере-
водчиком.
181
Я спросила Добрушку, надо ли нам угощать наших япон-
ских гостей. Добрушка решила: шампанское, виноград, ко-
робка шоколада.
Были назначены день и час.
Минута в минуту к нам приехали гости.
Мы заранее нарядно одели Добрушку, усадили в глубокое
кресло. На голову я одела ей красивый вязаный чепчик.
На столе расставили тарелочки и бокалы.
Мы с Виктором провели гостей в комнату, где торже-
ственно восседала в кресле Добрушка.
Атташе, еще совсем молодой человек, был в строгом чер-
ном костюме. Его жена, миловидная японка, — в изящном
европейском платье. Они принесли с собой бутылку шампан-
ского, виноград и коробку конфет. Когда я это расставила на
столе, в точности дублируя приготовленное нами угощение,
все приобрело несколько комический вид.
Переводчик, собственно говоря, и не понадобился, наши
гости прилично говорили по-русски.
Виктор беззвучно открыл шампанское, разлил его по бо-
калам.
Атташе произнес тост: за здоровье Марковой-сан!
Я заметила, что наши гости только прикоснулись губами
к бокалам, но не сделали ни глотка.
Затем атташе преподнес Добрушке орден и свернутую
трубочкой, в футляре, обшитом шелком, грамоту, подписан-
ную самим императором.
Добрушка поблагодарила его по-японски.
Супруга атташе, мило улыбаясь, сложила ладони вместе
и низко поклонилась Добрушке. Но скорее она поклонилась
грамоте, подписанной императором. Так, во всяком случае,
мне показалось.
Дальше разговор шел по-русски, наши гости изъяснялись
вполне понятно.
Я поднесла коробку с конфетами японке. Она замялась, но
взяла одну конфету кончиками пальцев и, подержав ее, ловко
спрятала в рукав платья. Они ничего не съели и не выпили —
182
чокались, улыбались и ставили бокалы на стол. Это остается
для меня загадкой. Уж не боялись ли они, что мы их отравим?
Потом атташе спросил у Добрушки, над чем она сейчас
работает.
И тут началось! Добрушка была великолепная рассказчи-
ца, но совершенно не думала, перед кем она рассыпает жем-
чужины своего красноречия.
Она могла часами рассказывать о любовницах француз-
ских королей, об обычаях английского двора. А уж если речь
заходила о японской поэзии, то тут прозрачный ручеек ее
красноречия превращался в полноводную реку.
В то время нам помогала по хозяйству милейшая домра-
ботница Ниночка, красивая, с веселым характером. Она доб-
росовестно слушала долгие, в сущности бесценные лекции
Добрушки, но в конце концов не выдерживала, прибегала ко
мне и просила:
— Софья Леонидовна, пожалуйста, заберите Добрушку из
кухни. Не могу я варить обед, у меня уже голова распухла от
этих Басё...
Но вернемся к нашим гостям. Я была в растерянности.
Добрушка с увлечением, чуть разрумянившись, говорила
о стиле японской поэзии, о принципах перевода, об утончен-
ности слога стихов, о глубине проникновения в мир чувств.
Пока она говорила о Басё, Сайгё, Исса — о классиках
японской поэзии — наши гости почтительно слушали, не
сводя с нее глаз. Но когда она перешла к менее знаменитым
поэтам, сравнивая их с классиками, гости стали растерянно
переглядываться. Возможно, они даже не знали их имен.
А Добрушка, забыв о слушателях, увлеченная любимой
темой, продолжала тончайший анализ поэзии, явно не ду-
мая завершать свою лекцию.
В конце концов я почтительно присела на корточки перед
Добрушкой, нежно взяла ее за руки и сказала:
— Вера Николаевна-сан, мне кажется, наши гости немно-
го устали!
— Да, да, мы устали! — торопливо вставая и кланяясь,
проговорил атташе.
183
Мы с Виктором проводили японцев до лифта. Они не пе-
реставая благодарили, явно испытывая облегчение.
Да, недаром Добрушка была любимой ученицей великих
учителей: Конрада, получившего в Японии орден Восходя-
щего Солнца второй степени, и гениального знатока восточ-
ных языков Невского, который был расстрелян как японский
шпион еще до войны.
Добрушка посвятила памяти Невского прекрасное сти-
хотворение, еще до сих пор не опубликованное.
ПУСТОШЬ
Светлой памяти
Николая Александровича Невского
Кого толпа на трибуну выносит?
Рядом с кощуном иерей.
Земля-печальница не плодоносит,
Запечатав чрево своих дочерей.
Улещают или стращают,
Но кто же, кто зерно погубил?
Земля-усыпальница не рожает,
Подстелена слоем безвестных могил.
Я сыщу, я приду к тебе невеличкой,
Пустошь, угодная небесам.
Молний нет у меня.
Чиркну спичкой.
Вечный огонь запылает сам.
18 ПИ 992
Это стихотворение дал мне любимый ученик Добруш-
ки Виктор Санович — собственно говоря, не только ученик,
но и настоящий друг.
Он сам прекрасный переводчик, и большая удача, что он,
можно сказать, как творческий наследник Марковой береж-
но следит за ее изданиями и, главное, пишет к ним прекрас-
ные предисловия и комментарии.
184
Большим поклонником уникального таланта Добрушки
был поэт и переводчик Семен Израилевич Липкин.
Он был на передовой во время войны, рассказывал нам,
как тонул, держась за один конец доски, в то время как за
другой конец держался немец.
Семен Израилевич прочел вслух мне, Добрушке и папе
три поэмы, написанные белым стихом. Это было в доме
творчества «Малеевка». Особенно сильное впечатление про-
извела на нас поэма «Техник-интендант».
Среди его переводов лучшим мне кажется «Гильгамеш»
и стихи Кабира.
Папа делал иллюстрации ко многим его переводам, хотя
уже несколько тяготился восточной тематикой.
Для меня Семен Израилевич неотделим от его подруги
и жены Инны Лиснянской, прекрасной поэтессы и очаро-
вательной женщины. Их отношения были полны нежности
и гармонии.
Инна, худая, почти иссохшая, со слегка косящим левым
глазом, была вместе с тем необычайно женственна, очаро-
вывая собеседника неповторимым обаянием, какой-то осо-
бой внешней слабостью, хрупкостью, под которой человек
мало-мальски проницательный мог почувствовать несгибае-
мый стержень.
Я бы поставила ее в ряд лучших современных поэтесс:
Белла Ахмадулина, Вера Маркова, Инна Лиснянская... Не-
важно, в каком порядке.
Семен Израилевич и Инна в годы гонений на Василия
Гроссмана прятали его рукопись «Жизнь и судьба» в сетчатой
авоське, чем-то задекорировав ее и прицепив к форточке, так
что она свисала наружу. А экземпляров бесценной рукописи
было всего несколько. И пропажа грозила забвением романа.
Потом наступило время, когда Семена Израилевича пре-
следовали за активное участие в «Метрополе».
Однажды я, Инна и Семен Израилевич ехали из Малеевки
на такси в Москву.
185
Мы уже ехали по знакомым улицам.
— А вы знаете, Соня, что Инна великолепный импровиза-
тор? — спросил меня Семен Израилевич.
Нет, я не знала.
— Вот испытайте ее, назовите имя любого поэта. Уверяю
вас, это удивительно.
Инна отнекивалась, Семен Израилевич настаивал.
— Белла Ахмадулина, можно? — сказала я.
— Но еще какую-нибудь тему. Придумайте. Для импро-
визации нужен не только автор, но и тема.
Ноги Инны были укрыты клетчатым мохнатым пледом.
— Плед? — сказала я не задумываясь.
Трудно поверить в то, что произошло дальше.
Легко, воздушно, безо всякого усилия и запинок, поли-
лись стихи Беллы Ахмадулиной. Да, это был ее певучий не-
забываемый ритм, тонкие блистательные рифмы. Даже ин-
тонации голоса, особые, свойственные ей придыхания — все
напоминало Беллу.
Я слушала чудесную поэму о пледе, и казалось, ей не бу-
дет конца.
— Ну как? — Липкин перегнулся ко мне, когда Инна за-
молчала.
— Потрясающе, — только и могла сказать я.
— А вот Белла обижается на меня, — с неожиданной гру-
стью сказала Инна. — Но ведь это так, шутка...
Нет, это была не шутка. Тут что-то другое. Особый дар,
посланный таинственно и неспроста. Особая награда, ред-
кая и неповторимая... Больше я никогда не слышала подоб-
ной импровизации.
Семен Израилевич часто бывал у нас. И вот как-то, рассма-
тривая папины иллюстрации к переводу какой-то старинной
народной легенды, Семен Израилевич как-то мимоходом за-
метил, что был в гостях у Анны Андреевны Ахматовой. Он
показал ей мои стихи, которые, кстати, как он сказал, ему не
очень близки и не очень нравятся. Ио Анна Андреевна, к его
удивлению, захотела со мной познакомиться.
186
Итак, мы едем к Ахматовой. В то время она жила на Ор-
дынке в квартире Виктора Ефимовича Ардова.
Была сырая поздняя осень 1962 года. Весь день густо па-
дал снег, к вечеру все растаяло, и мы шли, разбрызгивая тя-
желые комья мокрого снега.
Мы прошли низкую арку, глухой двор, потом по темной
лестнице поднялись на второй этаж.
Анна Андреева сидела в старинном глубоком кресле пе-
ред столом, накрытым белой скатертью.
Со мной она поздоровалась слегка высокомерно и, по-
жалуй, равнодушно. Она тут же оживленно заговорила с Се-
меном Израилевичем. Похоже было, что они продолжают
какой-то незаконченный разговор или даже спор.
А я тем временем могла ее спокойно разглядеть.
Не зря многие сравнивали ее лицо с лицом императрицы
Екатерины Великой. Но что мы знаем о той далекой, кроме
сухих придворных портретов? А здесь было подлинное ве-
личие, заложенное судьбой и породой, живое, поражающее
своей силой и благородством.
На плечах белая шаль с кистями. Седые волосы, почти со-
всем белые, уложенные пучком на затылке. Несколько пря-
дей, упавших на лоб, напоминают о ее прославленной челке.
Когда она повернулась к Семену Израилевичу, открылась
ее породистая горбинка на носу.
И все-таки я ее не узнавала. Слишком сильна была при-
вычка видеть ее на фотографиях худощавой, с прекрасным
острым лицом, с густой челкой, словно литой из металла.
Улыбаясь, вышла тонкая, хрупкая Юлия Владимировна,
вдова поэта и переводчика Георгия Шенгели. Она положила
перед Анной Андреевной тонкую книжку.
— Стихи посвящены вам, — сказала она и остановилась
с той же ласковой улыбкой.
Анна Андреевна досадливо поморщилась и, не открыв,
отодвинула от себя книжку.
— A-а... Еще одна Ахматова. Теперь болгарская.
187
Я увидела увесистую книгу в голубом переплете на низ-
ком столике возле дивана.
—А что вы сейчас читаете, Анна Андреевна? — спросила я.
— Это «Улисс» Джойса. Читаю этот роман в седьмой раз, —
чуть оживившись, ответила она.
— По-русски? — я сразу же поняла, что попала впросак.
— Конечно по-английски, — Анна Андреевна надменно
вскинула на меня глаза, чуть размытые старостью, но не по-
терявшие зоркой проницательности.
На обратном пути Семен Израилевич колко подсмеивал-
ся надо мной: «Конечно по-английски...». Это было вполне
в его стиле.
Ну что ж, и все-таки я ее повидала, тем более в сумке у ме-
ня книжка с ее автографом.
Недели через две Семен Израилевич позвонил мне и ска-
зал, что Анна Андреевна снова приглашает меня к себе. Она
хочет, чтобы я почитала ей свои стихи, в прошлый раз она
забыла попросить меня об этом.
Мы снова отправились на Ордынку.
Внезапный мороз превратил всю слякоть в коварный ка-
ток. Я взяла Семена Израилевича под руку, и мы пересекли
замерзший темный двор.
Как печально, что уже малоподвижная Анна Андреевна
хотя и живет у любящих друзей, но все-таки по чужим квар-
тирам.
Я застала Ахматову сидящей в том же бархатном кресле.
На старческой шее у нее были крупные темные бусы, на пле-
чах теплый серый платок.
Странно звучал мой голос. Я читала и читала, ожидая, что
Анна Андреевна прервет меня, скажет: «Довольно». Но она
продолжала слушать.
Ей принесли чашку очень крепкого чая.
— Вы — поэт, — сказала мне Анна Андреевна. — Но ваши
стихи мне не близки.
Ну что ж! Могло быть и хуже. Я знала, как сурова Анна
Андреевна в оценках чужих, особенно женских, стихов.
188
Я была у нее в 1962 году, за три с половиной года до ее
кончины.
Берегу, как сокровище, «Белую стаю» в старом издании с ее
автографом, книгу, которую я на этот раз захватила из дома.
5 марта 1966 года в санатории Домодедово Анна Андре-
евна умерла.
Моей подруге Зое Маслениковой позвонил Виктор Ефи-
мович Ардов и попросил ее снять посмертную маску, пока
тело будет еще в морге в больнице Склифосовского.
Он уже обращался с этой просьбой к другу Ахматовой
скульптору Слониму. Но тот отказался, именно в силу глубокой
дружбы с Анной Андреевной. Ему это было слишком тяжело.
Зоя согласилась. Она считала, что снять посмертную ма-
ску с Ахматовой — ее долг, хотя прежде ей никогда не при-
ходилось делать ничего подобного.
Но Зоя договорилась с опытным форматором, и отлив ма-
ски получился безупречным.
К сожалению, на этом не кончились переживания Зои.
Через некоторое время она мне позвонила, и ее голос
меня просто поразил: взволнованный, почти дрожащий. Это
было на нее очень не похоже. Она всегда говорила спокойно,
даже в минуты тревоги.
Зоя рассказала мне, что ей позвонила наследница Анны
Андреевны, так она отрекомендовалась ей. Некая Аня, фа-
милия ее забылась, но имя четко помню.
И вот эта «наследница» заявила, что все, как-то связанное
с Ахматовой, принадлежит лично ей, и Зоя просто должна
и обязана отдать ей первый отлив маски.
Напрасно Зоя пыталась объяснить ей, что по обычаю, да
и по закону, маска принадлежит тому, кто снял слепок.
В ответ «наследница» заявила, что приедет с двумя муж-
чинами, и если Зоя не отдаст маску по-хорошему, то...
К счастью, мой муж Виктор был дома. Он сказал Зое, что-
бы она не волновалась: он к ней немедленно выезжает. Он
опередил незваных гостей и приехал первым.
189
Вслед за ним прибыла «наследница», с нею двое мужчин.
Одним из них оказался скульптор Слоним, наш сосед по
дому, очень талантливый и интеллигентный человек. Уви-
дев Виктора, он несколько смутился, отошел в угол и уже ни
в чем не участвовал, не проронил ни слова.
— Давайте не при дамах, — сказал Виктор второму спут-
нику «наследницы», высокому и плечистому.
Тот как-то заскучал, но вышел с Виктором на лестницу.
Вскоре они вернулись.
— Я уезжаю, — сказал Слоним.
Это разрешило напряженную обстановку, грозящую скан-
далом.
Бросив на прощание несколько уже бессильных угроз,
«наследница» удалилась со своими спутниками. Слоним еще
успел пожать руку Виктору.
Зоя поехала в Ленинград. Маску Ахматовой приобрел
Русский музей, а копию — Пушкинский дом...
В 1960 году умер Борис Леонидович Пастернак. Это был
удар для тех, кто его знал, и для многочисленных почитате-
лей его творчества.
Мне казалось странным, что я больше никогда не взой-
ду на террасу его дачи, не увижу его удивительное лицо, не
услышу его неповторимый голос поэта — он замечательно
читал стихи.
Сколько добрых воспоминаний осталось после этого уди-
вительного человека! В 1953 году он написал письмо Стали-
ну, пытаясь облегчить участь Льва Гумилева, сына Анны Ах-
матовой. Он навещал семью репрессированного Пильняка,
дом Зинаиды Райх — жены расстрелянного Мейерхольда,
и многих других, кто оказывался в путающей пустоте и оди-
ночестве, кого обходили, как зачумленных...
Я мысленно прощалась с дачей Пастернака, с каждой сту-
пенькой его террасы, мне помнится, их было пять.
Все, все... Я больше никогда не поднимусь по ним на тер-
расу.
190
Но все сложилось иначе. Прощание с кем-то любимым.
Кажется, навсегда, но продолжение следует... Мы не пред-
сказатели, что мы знаем о будущем?
Мне позвонила Зоя Масленикова, которая продолжала
бывать у Зинаиды Николаевны. Зоя помогала ей разбирать
рукописи Бориса Леонидовича.
То, что она сказала, меня просто поразило, да и не могло быть
иначе. Зинаида Николаевна намеревается продать все письма
Бориса Леонидовича, все открытки, телеграммы, адресованные
лично ей. Их было штук восемьдесят или немного больше.
— Но у меня нет таких денег! — сказала я в растерянно-
сти. — Это же наверное, безумно дорого.
— Нет, сумма просто мизерная, — ответила Зоя. — Про-
сто Зинаида Николаевна хочет, чтобы они были в надежных
руках, и я рекомендовала вас и вашу семью.
Цена, назначенная Зинаидой Николаевной, действитель-
но была более чем незначительной.
Я, конечно, согласилась и в условленный день поехала
в Переделкино, прихватив с собой папин желтый портфель.
Знакомый путь от станции до дачи тянулся невыносимо
длинно...
Зинаида Николаевна встретила меня в дверях. Она пока-
залась мне постаревшей и усталой, выражение лица недоб-
рое, хмурое.
В углу террасы на полу высокой праздничной горкой
были свалены яблоки, ярко-желтые, видно, все одного сор-
та, со своих яблонь. Они сладко и заманчиво благоухали, та-
кие крупные, сияющие, вобравшие в себя последнее тепло
и осеннее солнце, одно к одному. Запах наполнял террасу —
соблазнительно-чистый, медовый.
Мне вдруг дико захотелось попросить разрешения и взять
одно яблоко. Но я не решилась, проглотила слюну и прошла
мимо.
Я до сих пор помню запах этих нереально заманчивых
яблок.
191
Зинаида Николаевна провела меня через террасу в ком-
нату, где мы обычно пили чай.
На столе, покрытом несколько помятой скатертью, лежа-
ли две заранее приготовленные пухлые канцелярские папки
с завязочками. Такие обыкновенные...
— Здесь девяносто два письма, если считать еще и кон-
верты. Я сохранила их, потому что адрес написан рукой
Бориса Леонидовича. Но их всего несколько штук. Осталь-
ное — письма, начиная с 1930 года...
Мне почему-то стало страшно. Зинаида Николаевна гово-
рила размеренно, холодно и спокойно. Но я понимала, каких
душевных усилий ей это стоит. Меня мучал все тот же во-
прос: почему она это делает?
Зинаида Николаевна принесла из соседней комнаты ши-
рокую большую тетрадь.
— Я сама перепечатала все письма и переплела. Когда
вам захочется их почитать, лучше зря их не трогать. Некото-
рые письма совсем старые, края осыпаются. Читайте по этой
тетради. Впрочем, теперь это ваша собственность. Я полага-
юсь на вашу порядочность, Зоя Афанасьевна поручилась за
вас...
Резкий, оледенело-надменный голос.
Я бережно положила папки и тетрадь в желтый портфель.
Вдруг мне пришло в голову попросить у Зинаиды Нико-
лаевны расписку. Что если возникнет вопрос: откуда у меня
эти письма?
Короткими деловыми фразами она написала расписку.
Вдруг голос ее смягчился. В нем появились более мягкие,
даже просительные интонации.
— Мне не хотелось бы, чтобы эти письма были опубли-
кованы за границей, прежде чем они будут напечатаны
здесь...
Я помню, она так и сказала: здесь...
Я охотно ей это обещала.
Мы попрощались. Она проводила пристальным, неотрыв-
ным взглядом, следя за всеми движениями моих рук, когда я
192
тщательно застегивала портфель. Этот взгляд... Мне стало ее
бесконечно жаль, — с каким сокровищем она расстается.
Я пошла на кладбище к могиле Бориса Леонидовича, по-
ложила портфель на край невысокого холмика.
— Я только хранитель этих писем. Обещаю, мы будем бе-
речь их... — сказала я про себя, а может быть и вслух.
Электричка была почти пустой. Я прижимала портфель
к себе, а за окном вагона уплывал назад знакомый пейзаж,
деревья, низкие дачи, а потом какие-то новостройки.
Дома меня с нетерпением ждала Добрушка.
— Мы взяли на себя такую ответственность, — лицо у До-
брушки было строгим и торжественным. — Мы хранители,
хранители...
Ей явно очень понравилось это слово.
Но где хранить письма? У нас в доме ничего не запира-
лось, кроме одного книжного шкафа в Добрушкиной комна-
те. Там и были спрятаны обе папки с письмами.
— Мы купим сейф, — гордо решила Добрушка.
Но это так и осталось несбыточной мечтой.
А пока что мы иногда читали письма Бориса Леонидовича
по тетради, которую дала мне Зинаида Николаевна. Ориги-
налы писем надо было беречь, многие пожелтели от време-
ни, военные письма написаны на плохой бумаге, порой они
крошились под пальцами.
Когда к нам пришла Зоя Масленикова (а мы встречались
достаточно часто), я задала ей все тот же неразрешимый,
не имеющий ответа вопрос: как могла Зинаида Николаевна
расстаться с этими письмами, полными тепла, любви, неж-
ности и заботы?
Мы знали, что Зинаида Николаевна в это время была
бедна, жила очень скудно. Стихи Пастернака не печатались,
переводы изредка. В некоторых театрах шли пьесы, им пере-
веденные, и это все... Но та сумма, в сущности, чисто симво-
лическая, не могла улучшить пошатнувшееся благополучие
семьи.
193
— Я думаю, что Зинаида Николаевна в какой-то степени
не считает свой дом достаточно надежным убежищем для
хранения этих писем, — задумчиво проговорила Зоя. — Сын
Зинаиды Николаевны Лёня увлечен своей работой, а делами
отца занимается Евгений Борисович, старший сын, от перво-
го брака. А почему так дешево? Думаю, Зинаиде Николаевне
претила мысль обогатиться за счет этих бесценных для нее
писем.
Полагаю, что Зоя была права...
Мы никому не говорили о письмах, за исключением са-
мого узкого круга друзей.
Туда, конечно, входил и Олег Прокофьев, с которым у ме-
ня сохранились и после развода самые теплые дружеские от-
ношения. Он постоянно бывал у нас. А когда я, Виктор, Се-
режа и Женечка уезжали на рыбалку, он навещал нас, жил
с Сережей в одной палатке. Иногда ездил с Сережей и в Лит-
ву, и в Коктебель.
Неожиданно Олег предложил мне продать ему письма за
немыслимые по тем временам деньги. Он передаст их через
надежных друзей в Англию своей невесте Камилле Грей. Он
ждал ее приезда уже не первый год, но до сих пор не мог до-
биться на это разрешения.
Конечно, я отказалась, но это меня насторожило и обес-
покоило. Я поняла, что круг людей, знающих о хранимых
нами письмах, значительно шире, чем мы предполагали.
Так оно и оказалось.
Я ничего не сказала Добрушке, не желая ее тревожить.
Однажды, как бывало нередко, я поехала на Кузнецкий
мост в «Книжную лавку писателя». Там на втором этаже по
членским билетам Союза писателей можно было купить ред-
кие книги, которые не попадали в обычные магазины.
На второй этаж вела крутая и неудобная, гремящая под
ногами, железная лестница. Несмотря на эту лестницу, для
Добрушки не было большего удовольствия, чем поехать со
мной в «Лавку писателя». Но на этот раз я была одна.
194
Спускаясь вниз, уже с покупками, на лестнице я встрети-
ла поэта Крученых. Я узнала его, хотя мы не были знакомы.
Он был странно одет: пиджак на голое тело, на шее пестрый
полосатый шарф, теплый не по сезону.
Было известно, что у него хранятся как-то таинственно
попавшие к нему письма Марины Цветаевой.
— А я знаю, что письма Пастернака у вас, — сказал он
мне негромко, с недоброй улыбкой на желчном лице.
Я ничего не ответила и продолжала спускаться вниз по
крутой лестнице. Внизу я обернулась. Он все с той же непри-
ятной улыбкой смотрел мне вслед.
Мне стало как-то не по себе. Я шла вниз по Кузнецкому
мимо дорогого ателье. Роскошно одетые манекены, еще хра-
нившие последний стежок портного, провожали меня пусты-
ми глазами, словно хотели сказать, что и они что-то знают.
«Откуда он узнал? — меня томила эта мысль. — А кто еще
знает?..»
Дома я все рассказала Добрушке. Дальше я молчать не
могла. Она, как я и предполагала, забеспокоилась, взволно-
валась.
После долгого обсуждения с Виктором мы наконец реши-
ли сдать эти письма в ЦГАЛИ. Нам казалось, что так мы наи-
лучшим образом исполним волю Зинаиды Николаевны. Там
письма до публикации будут в безопасности.
Зоя Масленикова тоже одобрила это.
Добрушка позвонила в ЦГАЛИ. К нам тут же, словно по
воздуху, прилетели две милейшие женщины, какими быва-
ют сотрудники в музеях, в хранилищах, в библиотеках, ис-
кренне и бескорыстно преданные своему делу.
Написав расписки, они благоговейно взяли папки с пись-
мами Бориса Леонидовича и тетрадь, куда их перепечатала
Зинаида Николаевна.
Обе дамы были так взволнованы, что мы не сразу их от-
пустили. Мы напоили их чаем и расстались друзьями.
Они открыли ячейку для Веры Николаевны и папы. Доб-
рушка сдала туда свои стихи и прекрасно написанные воспо-
195
минания детства, письма Конрада и еще много других писем
известных людей.
Папа сдал свои стихи, толстый сборник «Долина». Пре-
красные стихи, которые практически еще не печатались.
Потом, через некоторое время, он поместил туда три тома
своих антропософских трудов, объединенных одним назва-
нием, «Лоралии».
Впоследствии письма Бориса Леонидовича вышли отдель-
ной книгой, хорошо оформленной, на прекрасной бумаге.
Издательство, зная, что мы были какое-то время храните-
лями этих писем, преподнесло мне и Добрушке целую пачку
этих книг. Как ни странно, эта довольно увесистая пачка це-
ликом пропала, как нам казалось, таинственно и необъясни-
мо. Мы купили несколько экземпляров этой книги, но и они
почему-то исчезли, видимо, потонув в нашей бездонной биб-
лиотеке.
Но это было уже несущественно, главное, письма уже из-
даны и им ничего не грозит.
Летом этого года я поехала в Коктебель. Сережа должен
был приехать несколько позже.
Лина Ивановна Прокофьева жила неподалеку от меня,
тоже в одном из писательских домиков.
Мы гуляли с ней по вечерам. День она проводила на пля-
же, не боясь солнца, она любила его. Заплывала очень дале-
ко, путая меня, так что чуть виднелась ее шапочка.
Я знала, что Авия не знакома с Марией Степановной. Но,
конечно, она никогда не бывала в одиночестве, она, как всег-
да, была окружена новыми знакомыми и друзьями.
И вот однажды, зайдя к Марусе, я в изумлении останови-
лась на пороге террасы.
На террасе стоял большой стол, знаменательный для меня
тем, что мой отец, будучи тринадцатилетним мальчиком, сфо-
тографировал сидящих за ним Максимилиана Александрови-
ча, Марину Цветаеву, ее мужа Сергея Эфрона, совсем еще мо-
лодую Анастасию Цветаеву, ее мужа и остальных гостей.
196
Но на этот раз я не вспомнила об этом.
За длинным столом сидели напротив друг друга Авия
и Маруся. Две не слишком молодые женщины, на удивление
не похожие, обе — вдовы великих людей.
Авия была, как всегда, в легких светлых шелках. Побле-
скивали ее бриллианты. Густые черные волосы с узкими
седыми прядями, которые она тщательно берегла как до-
казательство, что волосы у нее свои, естественные, не окра-
шенные. Она казалась моложе своих лет. Выдавали ее утяже-
ленные массивными кольцами руки, навсегда искалеченные
непосильным трудом на морозе в концлагере.
Маруся, напротив, выглядела старше, чем была на самом
деле. Совершенно седая, в разношенных туфлях на босу ногу,
в темном, уже не новом платье.
Но я сразу почувствовала: им хорошо вдвоем, они нашли
общий язык. Их объединяло великое жизненное мужество,
редкая незыблемая верность своим убеждениям.
У них было много общих знакомых, и главное — общих
взглядов на человеческие отношения, потери... И бесценная
память о счастливой молодости.
Стол, за которым они сидели, тоже имел свою удивитель-
ную историю. Его сколотил сам Максимилиан Александро-
вич. И поэтому, хотя стол рассохся и потемнел, он был бесце-
нен для Маруси.
Когда немцы оккупировали Крым, военные части стояли
в Коктебеле. Солдаты решили расколоть старый стол и пустить
на дрова. Мария Степановна легла на стол, обхватила его рука-
ми и сказала, что стол можно сжечь только вместе с ней.
Такова была исходящая от нее душевная сила, что немцы
не посмели ее тронуть, и она сохранила не только этот стол,
но и стулья, скамьи, когда-то сколоченные Максом.
И вот они сидели, эти две удивительные женщины, за этим
столом, имевшим тоже свою непростую историю, и оживлен-
но разговаривали.
Но скоро я вернулась в Москву, а Сережа остался в Кокте-
беле. Он жил у Маруси, но много гулял с Авией, делал с ней
далекие заплывы.
197
Москва, как всегда, навалилась на меня со своими бес-
численными заботами.
Папа болел, маленькая Машенька росла слабенькой и хруп-
кой. Врачи советовали отправить ее на зиму куда-нибудь за го-
род.
Нельзя сказать, что наш выбор оказался удачен. Мы
сняли дачу в Серебряном Бору. Хозяева поражали мрачной
звучностью своих фамилий: сын Свердлова и дочь Подвой-
ского.
Поначалу все было хорошо. Машенька мирно жила с На-
дюшей и диким серым котом, который никого не подпускал
к себе, кроме Машеньки. Ей явно шел на пользу свежий зим-
ний воздух.
На даче был камин, и как-то Виктору пришло в голову
пригласить наших хозяев в гостиную на шашлыки.
Сначала все было в корректных рамках гостеприимства
и дежурных взаимных любезностей. Но постепенно разговор
обострился, посыпались колючие искры, а дальше — боль-
ше. Выяснилась полная несхожесть взглядов, острый спор
грозил перейти в скандал. В конце концов наш хозяин сбро-
сил с тарелки шашлык прямо в камин, и разгневанные гости
удалились, оставив в комнате жарко-пряный запах горелого
мяса.
Но приближалась весна, и скоро мы забрали Машу в Мос-
кву.
Добрушка была счастлива, она очень скучала без Маши
и утверждала, что без нее ей плохо работается.
Однажды утром я, как всегда, зашла в спальню Добруш-
ки, служившую ей одновременно и кабинетом.
Видимо, она уже проснулась, была чем-то не на шутку
взволнована.
— Сонечка, — сказала она, — сегодня ночью мне присни-
лась Книга!
Слово «Книга» она произнесла как-то очень торжествен-
но, вынося его за рамки обычного, словно бы с большой бук-
вы.
198
— Бери ручку и записывай. Я буду тебе диктовать. На-
зываться она будет «В стране легенд». Мы будем ее с тобой
писать.
В некотором недоумении я села за ее письменный стол,
взяла одну из ручек, которые стояли в изобилии в глиняном
стаканчике, и приготовилась записывать.
Добрушка начала диктовать мне целый список средневе-
ковых европейских легенд, начиная с «Последнего боя Ро-
ланда» и кончая «Легендой о докторе Фаусте».
Я предложила эти легенды в издательстве «Детская лите-
ратура», — собственно, других издательств, кроме еще «Ма-
лыша», тогда не было. Не скажу, что они пришли в восторг,
но все-таки заключили с нами договор.
Сходу в редакции был отвергнут «Парсифаль». Нам было
сказано: «Слишком религиозно и мистично». Но как же ина-
че? Ведь по всем вариантам этой знаменитой легенды Пар-
сифаль после долгих странствий и подвигов становится коро-
лем замка Монсальват, где хранится Грааль, сосуд с кровью
Иисуса Христа, и копье, которым его пронзили на кресте. Без
«Парсифаля» книга легенд была как бы обезглавленной.
Была отвергнута также «Принцесса Мелисанда». И так
слишком много принцесс и королей! Хотя Добрушка пре-
красно перевела заново для этой легенды стихи средневеко-
вого поэта и менестреля Джауфре Рюделя.
Я привлекла к этой работе мою подругу Нину Гарскую.
Она тяжело переживала в то время свой разрыв с Николаем
Каретниковым.
О своей беде, можно даже сказать, трагедии, Нина на-
писала очень хорошую повесть «Прощание». Называла себя
«Солженицын на шпильках».
Повесть была действительно хороша, с допустимым для
взрослой прозы неким своеобразным вывертом языка. Но
этот стиль совсем не подходил к классической, хотя и образ-
ной, манере изложения легенд. Так что Добрушке пришлось
немало поработать над текстами Нины, к ее обиде и немало-
му огорчению.
199
В 1972 году долгожданная книга «В стране легенд» все-
таки вышла в свет с изящными, правда черно-белыми, иллю-
страциями моего отца.
С тех пор легенды издавались в разных издательствах
много раз. С цветными иллюстрациями, иногда разбитые на
части: отдельно немецкие и отдельной книгой английские.
Уже после смерти Добрушки я добавила туда еще несколько
легенд — «Флор и Бланшефлор», «Тангейзер».
Особенно хороша была книга немецких легенд, проиллю-
стрированная моей любимой художницей Никой Гольц.
Примерно в это время у нас стал бывать Лев Гумилев, сын
Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
Собственно, говоря по правде, его привлекала не наша
семья, а художница Наталья Симоновская, которая жила
в нашем доме в квартире моего крестного Анатолия Нико-
лаевича Александрова.
У нас они встречались, что меня немало смущало. Ведь
я уже несколько лет знала, что мой достаточно пожилой
крестный платонически, но глубоко и нежно любит Наташу.
Я опасалась, что постепенно учащающиеся встречи Гумиле-
ва с Наташей в конце концов кончатся для моего крестного
печальной разлукой.
А пока что они приходили иногда вдвоем, иногда один
Лев Николаевич.
И вот за нашим столом, где сидели еще недавно люди
сложной, порой тяжелой судьбы, такие как Конрад, Авия,
отец Александр Мень и другие наши друзья, и всегда цари-
ла атмосфера глубокой дружественности и тепла, теперь
оказался мрачно-угрюмый, внутренне раздраженный, даже
озлобленный человек.
Конечно, если вглядеться в его прошлое, многое станови-
лось понятным.
Арестованный в 1938 году (это был уже второй арест), он
отбывал свой срок в концлагере под Норильском. Работал
там горняком, землекопом. Он был освобожден в 1944 году
и добровольцем пошел на фронт.
200
В 1946 году, после постановления, где беспощадно и глум-
ливо было разгромлено творчество Анны Ахматовой, его ис-
ключили из Института востоковедения Академии наук СССР.
Это было для него подлинным ударом. А в 1949 году он был
снова арестован и осужден еще на десять лет.
Вот такая тяжелая, изломанная судьба...
Мы никогда не говорили с ним об Анне Андреевне, зная,
что он с ней в непоправимой ссоре и они не общаются.
У него была любимая тема. С недобрым азартом и го-
рячностью он утверждал, что монголо-татарское иго сильно
преувеличено, а во всем виноваты китайцы и Западная Ев-
ропа.
Виктор с неменьшим жаром, свойственным ему, возра-
жал, опираясь на общеизвестные исторические факты.
Древних и современных русских Лев Николаевич считал
разными этносами, утверждая их несовпадающее происхо-
ждение.
Когда же Виктор в пылу спора стал говорить о жестоко-
сти татаро-монголов в захваченных городах, где они убива-
ли буквально всех, даже детей, тех, кто был выше оси колеса,
иначе говоря, совсем маленьких, у Льва Николаевича раз-
дражение перешло в злость и почти что в ярость, и Наташа
поспешила его увести.
И правильно сделала, потому что Виктор, прямой и беском-
промиссный, был тоже достаточно раскален и раздражен точ-
кой зрения Гумилева, уже напоминавшей откровенный бред.
Больше я никогда не видела ни Наташу, ни Льва Гумилева.
Леночка, моя подруга и внучка Анатолия Николаевича,
мне говорила, что дедушка в ужасной тоске и отчаянии.
Я жалела его, но чем тут поможешь?
«О ты, последняя любовь...»
Мне было его очень жаль. Наташа и Лев Николаевич
уехали в Петербург. Доходили слухи, что они поженились
и брак этот вполне счастливый. Видимо, Наташа разделяла
его странные взгляды на татаро-монгольское иго.
201
Вышло несколько книг Льва Гумилева, развивающих все
те же его убеждения и фантазии.
Уже после его смерти, в 2005 году, в Казани был постав-
лен ему памятник с признательностью, увековечивающей
его память: «Русскому человеку, всю жизнь защищавшему
татар от клеветы».
Что касается Анатолия Николаевича Александрова, ми-
лого, доброго Толика, то через некоторое время он переехал
к своей другой дочери, Елочке Поленовой, внучке извест-
ного художника. У нее он встретил свою старость. Видимо,
ему было тяжело жить в осиротевшей квартире, когда оттуда
уехала Наташа.
Мне было грустно, что еще один близкий друг, которого я
любила с самого детства, еще с Маросейки, уехал из нашего
дома.
Возвращаясь памятью к нашей жизни на Маросейке, не
могу не рассказать о маленьком эпизоде, случившемся после
XX съезда. Это было еще при жизни Самуила Евгеньевича.
Звонок в дверь, короткий, робкий. Дверь открыл сам Са-
муил Евгеньевич.
Я сразу узнала незваного гостя. Это был Дондыш, наш
бывший сосед, отхвативший когда-то одну из наших комнат
на Маросейке, чья жена обладала целой коллекцией фарфо-
ровых безделушек. Одет он был теперь по-другому, в какой-
то старенький костюм. Куда девался его властный металли-
ческий взгляд и запомнившиеся уверенные шаги по нашему
общему коридору?
Дондыш сказал, что он больше не работает на Лубянке —
его сократили. Теперь он без работы и буквально голодает.
Не мог бы Самуил Евгеньевич дать ему немного денег в па-
мять...
В память о чем? Что он не успел посадить всю нашу се-
мью, чтобы получить целиком квартиру?
Но Самуил Евгеньевич не мог отказать голодающему.
Я слышала его холодный твердый голос в передней. Такая
несвойственная ему интонация.
202
— Вот, возьмите! И больше никогда не переступайте этот
порог...
Больше мы не видели нашего бывшего соседа.
Конечно, это был случайный эпизод, ушедший в пустоту
и сумрак, но он невольно нес с собой негаснущие, полные
трагизма имена и судьбы...
Большой радостью для нас был приезд в Москву в начале
семидесятых годов Марии Степановны Волошиной.
Маруся постарела, сгорбилась за те полтора года, что мы
не виделись.
Но главное, она была какая-то другая, оторванная от сво-
его вечного пристанища — «Дома поэта». Там она была уга-
сающая королева, но все-таки подлинная королева, властная
хозяйка и дома, и окружающей природы.
Мы без труда достали ей путевку в Малеевку. Я и Виктор
поехали с Марусей в засыпанный снегом, но такой любимый
нами, знакомый каждой трещинкой, оголенный зимний сад.
Комнаты наши были рядом, мы следили, чтобы Марусе
было уютно и не одиноко.
Однажды вечером Маруся захотела пойти в кино, я про-
водила ее по лестнице до дверей кинозала.
В зале было пусто, зрители еще не собрались. Маруся,
почти совсем к этому времени утратившая зрение, села где-
то в первом ряду, поближе к экрану.
Я спустилась вниз к себе в комнату. Прошло совсем не-
много времени, и Маруся вернулась, опираясь на свою пал-
ку. Мне показалось, что она чем-то расстроена, брови серди-
то нахмурены.
Там, в Коктебеле, она была властной хозяйкой моря и гор.
Но оторванная от своих владений, для тех, кто ее не знал, не
потрудился встретиться с нею взглядом, она превращалась
в обычную старушку, почти убого одетую, невесть как по-
павшую в элитарный мир писателей.
Так вот что случилось с Марусей в кинозале. К ней подо-
шел поэт Сергей Островой и со свойственными ему грубо-
203
стью и высокомерием сказал Марии Степановне, чтобы она
встала и освободила ему кресло, потому что он всегда здесь
сидит и это его место.
Маруся, не привыкшая к такой наглости, молча встала и,
грузно опираясь на свою палку, вышла из зала.
Мы, как могли, успокоили ее, напоили чаем, сами огор-
ченные всем случившимся.
На следующий день я и Виктор заранее поднялись на-
верх. Виктор сел в злосчастное кресло, где накануне сидела
Маруся.
Я пристроилась во втором ряду, позади него. Островой не
заставил себя долго ждать.
— Молодой человек, — резко обратился он к Виктору. —
Освободите это кресло, пересядьте. Это мое место, я всегда
сижу здесь.
— Пожалуйста, предъявите ваш билет, — подчеркнуто
вежливо ответил Виктор. — Чтобы я мог убедиться, что это
действительно ваше место.
— Но вы же знаете, что места на билетах не нумерова-
ны! — вспыхнул Островой. — Освободите место, оно мое.
Я, сидя сзади, с удовольствием наблюдала за этой сценой,
предвкушая, как перескажу этот диалог Марусе.
— Конечно, я освобожу это кресло, — спокойно возразил
Виктор. — Только сначала докажите мне, что вы имеете на
это место особые права. Тем более что рядом достаточно сво-
бодных мест.
— Вы знаете, кто я? — побагровел Островой.
Виктор молча посмотрел на него. Я знала этот его взгляд,
сдержанный и вместе с тем скрыто-опасный. Не многие мог-
ли его выдержать.
Островой с надменным видом молча удалился, а мы по-
шли к Марусе.
Она улыбнулась, но ничего не сказала.
Как давно я не смотрела на свою жизнь через правое плечо!
Какой яркий, слепящий месяц на густом чистом небе, не
замутненном городскими вспышками и фарами машин.
204
Неровно петляя, бежит моя дорога. Поворачивая, исчезая
и появляясь снова. Люди обступили ее со всех сторон. Вот
кто-то идет по ней, опустив голову, глубоко задумавшись.
Кто-то отступает от нее, прочь, прочь! Бегом в сторону.
Что это за толпа? Похороны. Да нет, это мертвецы, серые,
истлевшие. Они давно умерли и хоронят умершего. Гроб от-
крыт. Но я не хочу смотреть, не хочу знать...
Слава Богу, туча закрывает блестящий острый месяц. Ту-
ча, похожая на капюшон плаща, закрывает месяц, ничего не
видно...
А тем временем Маруся уезжает обратно в Коктебель. Го-
ворит, что хорошо отдохнула, но я вижу, как она рвется на-
зад к себе, в свой дом, в свой мир, в свое пристанище — «Дом
поэта». Там Карадаг с профилем Макса, Святая гора, море
плещущее у ног...
Уехала Маруся.
Сережа ездил на ее похороны...
Сережа, такой взрослый, всегда ровно-спокойный, за-
крытый от меня. Ему пятнадцать лет, он антропософ.
Когда-то он хотел стать православным священником. Но
раннее пребывание в доме Волошина, долгие беседы со сво-
им дедушкой-антропософом увели его в эту таинственную
страну, сложную, строгую и странную. Оттуда нет возврата,
он принял учение доктора Штайнера всей душой, уже на-
всегда.
В 1969 году наконец, после многих лет ожидания, в СССР
приехала англичанка Камилла Грей, невеста Олега.
Она — дочь Бейзила Грея, известного ученого, специали-
ста по искусству Востока, написавшего об этом несколько
книг. Кроме того, Бейзил — пожизненный куратор и хра-
нитель Государственного Британского музея в Лондоне, что
очень почетно.
Если английская королева желает кому-то из своих знат-
ных, именитых гостей показать сокровища Британского му-
205
зея, то обычно по залам их сопровождает изысканно образо-
ванный Бейзил Грей.
Камилла и Олег обвенчались в британском посольстве.
Олег принял католичество, иначе он не мог бы обвен-
чаться с ревностно преданной католицизму Камиллой Грей.
Свадьба их праздновалась в Москве. Накануне Олег, воз-
бужденный, взволнованный, забежал ко мне. Он рассказал,
что Камиллу безмерно огорчает, что из Лондона не успели
привезти свадебное платье ее бабушки, возможно даже XIX
века.
А я вспомнила день, когда мы разводились с Олегом. Как
назло, в то время стены загса ремонтировались и были по-
крыты сплошным переплетением ржавых железных труб,
через которые были перекинуты деревянные мостки.
Когда закончилась процедура развода, поставлены все
печати, Олег, выходя из дверей, со всей силы ударился лбом
прямо о железную трубу. Звон, грохот прокатились до само-
го верха здания. На нас посыпались пыль, какие-то обломки,
осколки. На лбу у Олега тут же вспухла большая шишка.
К счастью, сотрясения мозга не было, и все обошлось. Но
удар был поистине тяжел.
Как это было давно! Да и свадьба Олега и Камиллы, под-
чиненная законам времени, забыта, ушла в туманную пусто-
ту, наглухо перекрытая подлинной трагедией, обрушившей-
ся потом на эту семью.
Камилла благополучно родила в Англии их первого ре-
бенка, дочь Анастасию-Элизабет, и вернулась с ней в Мос-
кву. Это было в 1970 году.
Однажды Олег забежал к нам, держа на руках малышку.
Ей было тогда месяцев восемь-девять. Она была рыженькая,
забавная.
Олег ею очень гордился.
Я всего один раз видела Камиллу. Но я запомнила ее свое-
образное, незаурядное лицо.
206
Это было в Большом театре. Авия подарила мне билет на
оперу Вагнера «Тристан и Изольда» в исполнении знамени-
той немецкой оперной труппы.
Поразительно красивы были декорации, особенно сцена
на корабле, когда Тристан и Изольда пьют любовный напи-
ток.
Действие происходило на фоне огромного паруса, натя-
нутого сверху донизу, закрывавшего все пространство. Ветер
то надувал его, то отлетал, и тогда парус провисал продуман-
ными тяжелыми складками.
И главное, какие упоительные голоса!
В антракте я спустилась в буфет и чуть не налетела на Ка-
миллу и Олега.
Они сидели за столиком, окруженные друзьями, и меня
не заметили.
На Камилле был строгий черный костюм и пышная кру-
жевная блузка, окружившая белой пеной шею. На Олеге, как
ни странно, тоже была рубашка с кружевами.
Они ели пирожные, смеялись.
Я поспешила уйти.
Менее чем через два года Камилла, беременная уже вто-
рым ребенком, уехала с Олегом в Сухуми.
Никто не знает, это остается загадкой, как она заболела
гепатитом.
При этом заболевании нет выбора. Или аборт, или верная
смерть.
Надо отдать должное Тихону Хренникову. Было сделано,
без сомнения, все возможное. Он послал в Сухуми целую
бригаду специалистов-врачей.
Но никто не мог уговорить Камиллу, в силу ее религиоз-
ных убеждений, согласиться на аборт. Знала ли она, чем ей
грозит ее фанатичное религиозное упорство? Неизвестно.
Может быть, в этом сказалась ее сильная, цельная натура.
17 декабря 1971 года Камилла умерла.
Сережа в эти дни почти не расставался с Олегом, стара-
ясь хоть как-то его утешить, сознавая весь ужас этой безвре-
207
менной потери. Спал с ним в одной постели, ездил по всем
инстанциям.
Тут опять Олегу помог Тихон Хренников. Только благо-
даря его хлопотам Олегу удалось добиться разрешения со-
провождать гроб Камиллы в Англию и присутствовать на ее
похоронах.
Вместе с маленькой дочкой Анастасией-Элизабет Олег вы-
летел в Англию.
Он уехал и не вернулся.
В ожидании и тревоге мы ждали. Прошли месяцы, мы
еще надеялись на возвращение Олега.
Сережа тем временем закончил художественный инсти-
тут имени Строганова.
Он был очень талантлив, не ошибусь, если скажу — уни-
кально талантлив. Но впоследствии никогда больше не брал
в руки кисть. Другое духовное призвание, полностью вытес-
нив все остальное, стало основным, всепоглощающим смыс-
лом его жизни.
Но в Строгановском институте не было военной кафед-
ры. Сереже предстояла армия. Это с его-то анкетой!
Тут впервые надолго прервались добрые отношения меж-
ду Авией и Виктором.
Что ждало Сережу в армии? Виктор это остро и тяжело
переживал.
— Ваш сын — подлец, — сказал он однажды Авии со свой-
ственной ему несгибаемой прямотой.
Я поднялась к Хренниковым. Клара Арнольдовна, жена
Тихона Николаевича, тоже была очень обеспокоена. Она лю-
била Сережу, вечно подыскивала ему невесту из крута своих
друзей.
А теперь она вместе со мной просила Тихона как-то по-
мочь Сереже.
Тихон хмурился, долго молчал, что-то обдумывая.
Сережу повесткой вызвали в военкомат.
Он шел из кабинета в кабинет.
208
Увидев, какой он высокий и стройный, ему предложили
пойти служить во флот. Но это еще один добавочный год
в армии.
— Подпишите вот здесь! — сказали ему.
— Но я не хочу во флот! — запротестовал Сережа.
— Это добровольно, — объяснили ему. — Когда будут
оформлять, скажете, что не хотите, и все. Это добровольно.
Через несколько кабинетов Сереже сказали:
— Ты выбрал флот. Это хорошо.
— Нет, это ошибка. Я не хочу во флот. Мне сказали — это
добровольно.
— Поздно. Здесь стоит твоя подпись, — сурово сказали ему.
Так что все началось с небольшого, но подленького об-
мана.
И опять помянем добром Тихона Хренникова. Уж кто-кто,
а он отчетливо понимал положение Сережи, лучше многих.
Пройдя все комиссии от одной к другой, Сережа попал
наконец в кабинет к высшему начальству, который должен
был решить его судьбу.
Военком с тяжелыми звездочками на погонах сказал ему:
— Твой отец изменник и предатель родины. Я тебя туда
пошлю, куда Макар телят не гонял. Оттуда ты уже не вер-
нешься.
Я эти слова помню дословно. Да могу ли их когда-нибудь
забыть? Тут бессильно время и мой возраст.
Но это было пустое сотрясение воздуха. К счастью, на сто-
ле уже лежало спасительное письмо от генерала Александро-
ва, возглавлявшего знаменитый ансамбль Советской Армии.
Он был другом Тихона Хренникова, и письмо вовремя по-
пало в военкомат.
Так Сережа оказался рядовым в Театре Советской Армии.
Там были свои сложности, но это было уже другое.
«Ляг, встань, беги!» — это он прошел.
При ансамбле была большая запущенная библиотека, где
вперемешку лежали ноты, сборники песен, книги. Сережа
составил каталог и все привел в порядок.
209
Иногда Сереже приходилось работать гардеробщиком.
На детских спектаклях неизменно начиналась неразбериха.
Малыши хотели сдавать свои пальтишки именно этому вы-
сокому солдату.
Но так или иначе, унылые годы в армии наконец кончи-
лись...
Еще перед отъездом в Сухуми Олег купил очень красивый
дом с большим овальным залом в предместье Москвы на бе-
регу реки со своей лодочной станцией.
Но когда с гробом Камиллы Олег уехал в Англию, никто
не знал, что делать с этим осиротевшим, брошенным хозяе-
вами домом. О нем можно было бы написать целый роман.
Авия решила его продать.
Желающих было достаточно. Сначала в дом въехала зна-
менитая балетная пара Васильев и Максимова.
В большом зале этого дома висел старинный (вероятно,
восемнадцатого века) деревянный ангел.
Будущий хозяин дома прикрепил к правой руке анге-
ла свечу. Когда ее зажигали, пламя касалось щеки и виска
ангела, отчего обожженное дерево потрескалось и почер-
нело.
Репетируя в зале, который еще не принадлежал им, тан-
цоры невольно поцарапали паркет.
Гневу Лины Ивановны не было предела. Как? Еще даже
не оформив покупку, так бесцеремонно вести себя! Она ре-
шительно попросила их удалиться.
Дом купил известный художник Димитрий Жилинский
и въехал туда с женой, пожилой матерью и двумя уже взрос-
лыми детьми. Но, казалось, что-то недоброе поселилось в этом
красивом доме возле реки.
Вскоре тяжело заболела его прелестная жена, очень та-
лантливый скульптор.
Я была всего один раз в этом доме.
Слышала, как в соседней комнате логопед занимается
с больной женой Жилинского.
Через какое-то время мы узнали, что она умерла.
210
Дальше дом приносил только несчастья. Исчезали карти-
ны. Дима Жилинский поссорился со своими детьми и пере-
ехал в мастерскую.
Уж такой несчастливый был этот дом.
В 1974 году Авия написала письмо председателю Комите-
та госбезопасности Ю. В. Андропову.
Она писала, что очень тоскует по сыну и внучке-сиротке
и просит помочь ей получить разрешение на выезд из СССР
сроком на три месяца.
Неожиданно Ю. В. Андропов в кратчайший срок лично
распорядился о выдаче ей заграничного паспорта.
Ее провожали Сережа, Святослав, Тихон Николаевич
Хренников, который лично перенес, минуя таможню, ее ве-
щи. Я была сильно простужена и попрощалась с ней по теле-
фону.
Впоследствии она звонила мне из Германии. Безнадежно
больная, но, как всегда, энергичная и не теряющая интереса
к жизни.
Когда Сережа, уже будучи за границей, заезжал за ней, то
стоило ей сесть в машину, как болезнь, все страдания как бы
оставались позади. Она обожала новые впечатления, поезд-
ки. Страсть к путешествиям оставалась у нее до тех пор, пока
она могла хоть как-то двигаться.
Моя дорога двоится, троится...
Почему Сережа едет с Авией в машине? Он же еще здесь,
рядом со мной, в Москве.
Но вот Сережа получает разрешение поехать к отцу
в Лондон.
Конечно, он соскучился по отцу и рад его, наконец, снова
увидеть. У Олега новая молодая жена, совсем молодая, года
на три старше Сережи. У них уже двое детей.
Но больше, чем желание повидать отца и Лондон, Сережу
притягивает давняя мечта поехать в Швейцарию, посетить
alma mater — Гетеанум, храм антропософов, построенный
по эскизу доктора Штайнера.
211
Первый Гетеанум был оригинален и по своеобразию не
имел себе равных.
Возведенный из разных пород дерева, он сгорел в 1923 году,
подожженный католическим монахом, который погиб, задох-
нувшись в дыму и не найдя выхода среди пылающих колонн.
В строительстве первого Гетеанума принимали участие
многие приверженцы антропософии из России, в том числе
Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Ася Тургенева, пер-
вая жена Волошина Маргарита Сабашникова, Михаил Чехов,
Мария Скрябина и другие.
Не имея ничего, кроме визы в Англию, Сережа на свой
страх и риск, собственно, без необходимых документов уе-
хал в Швейцарию.
Там на вокзале его встретила Астрид, дочь его близкого
друга Херберта Зойферта, жившего в Германии. Достаточно
было несколько взглядов и слов, чтобы они полюбили друг
друга.
Астрид. Природа немало потрудилась, подбирая к тон-
ким, гармоничным чертам ее лица неяркие серо-голубые
глаза, бледный румянец, светло-серебристые волосы, ма-
ленький нежный рот. Ничего яркого, ничего резкого...
Так в неожиданном обличии является судьба, на поворо-
те дороги, чтоб стать когда-нибудь родной, предназначен-
ной, единственной...
Сережа и Астрид поехали в Англию.
И вот выяснилось, что ни в Англии, ни в Германии они
обвенчаться не могут. Всюду нужна была Сережина метри-
ка, а ему и в голову не пришло взять ее с собой.
Но вскоре они узнали, что обвенчаться они могут в Шот-
ландии, где требовалось меньше формальностей и можно
было обойтись без метрики. В Шотландии тоже жили друзья
Сережи — антропософы. Они и помогли им обойти все фор-
мальные препятствия.
Сережа вернулся домой ко мне счастливый, внешне спо-
койный, как всегда, но я чувствовала, как глубоко, с каким
волнением, хоть и скрытно, переживает он это столь значи-
тельное событие в своей жизни.
212
Теперь надо было хлопотать о разрешении Астрид прие-
хать хотя бы на три месяца в Москву.
Наконец это случилось. Для меня было большим потрясе-
нием увидеть эту миниатюрную девочку, которая стала для
меня постепенно, храня на себе отражение любви к ней Се-
режи, родной и близкой.
Авия готовилась к отъезду. Перед этим она познакомила Се-
режу со стареньким коллекционером. Он продавал бесценную
картину Абрахама ван Бейерена, роскошный натюрморт —
цветы, фрукты, серебро, ткани... Начало семнадцатого века.
Когда мы с Сережей увидели эту картину, мы просто за-
мерли, потрясенные: слишком невозможно было видеть этот
поистине музейный шедевр в небольшой комнате, правда со
странной ступенью посреди пола — и тем самым как бы на
неком возвышении.
Авия предложила Сереже купить картину и дала на это
деньги. Как бы прощальный подарок перед ее отъездом.
Мы привезли картину домой, задернули шторы и молча,
как завороженные, любовались этим чудом, излучавшим из
мрака особый золотистый свет.
Потом поставили ее за шкаф. Повесить ее в квартире
было невозможно, да и опасно. Ведь помимо всего прочего,
ей, собственно говоря, не было цены.
Картина как бы сама просилась в музей.
Сережа и Астрид в это время жили в квартире Авии, кото-
рую вскоре, по законам того времени, должны были отобрать.
И вот в эту уже почти пустую квартиру вдруг пришла
сказка.
Был вечер. Темнота сгущалась за окном. Сережа куда-то
ушел, я и Астрид были вдвоем. Мы сидели на диване рядыш-
ком. Свет зажигать не хотелось. Слабо светились окна отда-
ленных соседних домов.
На Астрид было светло-серое платье, она не любила яр-
кие тона. Ее нежное лицо обрамляли густые серебристые,
светлые волосы. Руки тихо лежали на коленях.
213
Вечер мягко наполнял комнату. И вдруг я — не скрою, поч-
ти со страхом — увидела, что в сумерках, наполнивших ком-
нату, Астрид постепенно исчезает, легко сливаясь с мягким
полумраком. Я уже не видела ее лица, волос, серого шелка
платья — она растворялась, исчезала, таяла прямо на глазах.
Я поспешно протянула руку и включила свет.
Так вот же Астрид, живая, теплая, улыбается мне!
Так пришла сказка «Астрель — принцесса Сумерки».
Я уже писала о ее злоключениях.
Но теперь она часто печатается. Особенно хороши рисун-
ки к ней замечательного художника и моего друга Геннадия
Калиновского. Но я еще буду писать о нем.
А пока что его прячут от меня бесконечные повороты до-
роги моей судьбы.
Астрид скоро уехала, у нее была виза только на три ме-
сяца.
Сережа тоже собрался уезжать. Не могу передать, с какой
тоской я думала об этом.
Я ходила вместе с ним, подписывала какие-то бумажки:
не возражаю, материальных претензий не имею...
А думала: вдруг он не вернется, вдруг я его больше не увижу.
Его не пустят обратно в Москву... И меня не пустят к нему...
В то время это было вполне вероятно.
Тогда мне пришло в голову: пусть Сережа отдаст карти-
ну Абрахама ван Бейерена в музей имени Пушкина. Такой
дар поможет мне впоследствии просить высокое начальство,
чтобы Сереже разрешили приехать в Москву хоть ненадолго,
хотя бы повидаться с матерью...
Страшные мысли!
Сережа после армии несколько лет работал экскурсово-
дом у Антоновой в Пушкинском музее.
Он охотно согласился отдать натюрморт в музей и позво-
нил Антоновой. Услыхав имя Абрахама ван Бейерена, через
полчаса она была у нас.
Антонова смотрела на картину, не в силах оторвать от
нее взгляда.
214
Сережу завалили благодарственными письмами от ми-
нистра культуры, от музея, еще откуда-то.
— Это лучший натюрморт! У нас в музее нет ничего по-
добного!
Я помню восторг Антоновой.
Теперь Абрахам ван Бейерн почетно висит в музее. Рядом
золотая табличка: «Дар Сергея Прокофьева».
А день отъезда Сережи все приближался.
Была весна 1985 года.
Я за чем-то поехала на дачу, и меня укусила в ногу пче-
ла, копошившаяся на грядке клубники. Я не обратила на это
внимания. Да мало ли меня кусали пчелы! И вообще в это
время я ни о чем не могла думать, кроме отъезда Сережи.
Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь поехал со мной прово-
жать Сережу. Даже Виктор. Одна. Я должна это сделать одна.
Укус пчелы — такой пустяк, но пчела оказалась инфици-
рованной. У меня по туфле струйкой стекал гной. Но я не за-
мечала этого.
Я не помню, как простилась с Сережей в «Шереметьеве».
Смотрела сквозь необъятные стекла на улетающие самоле-
ты, и в каждом, в каждом улетал Сережа.
Вернулась домой. Виктор заставил меня выпить коньяка.
Потом он залил гноящуюся рану клеем «БФ». Так у себя в ла-
боратории они лечили все раны, и это всегда помогало.
Утром вместе с пленкой засохшего клея я сняла кожу пря-
мо до сухожилий. И уже в этот же день по «Скорой» очути-
лась в гнойном отделении института Вишневского.
Я лежала в большой палате.
Много тяжелобольных, все больше молодежь. Женщина
лет тридцати из Ашхабада, после землетрясения, у нее гно-
ился и не срастался пищевод. Ее зашивали, но шов снова рас-
ходился. А ведь там были великолепные специалисты.
Совсем юная девушка, почти ребенок, из Петрозаводска.
Ей несколько раз делали операцию в Петрозаводске, в мест-
ной больнице, но не могли справиться с нагноением. Она
215
была кинолог. Все родственники остались в Петрозаводске.
Как-то связались они с московскими милиционерами, и те,
чтобы развлечь девочку, приносили ей в бумажных кулечках
крошечных щенков овчарки.
Как она радовалась!
Рядом со мной лежала женщина, буквально забинтован-
ная с ног до головы.
Сколько страданий! Глядя на них, я смирилась, уже мень-
ше, словно бы издалека думала о Сереже.
Авия помогла купить ему дом в Германии. Стали прихо-
дить открытки. Пропасть между нами, которую я ощущала
почти физически, зарастала, как воспаленная рана.
Как-то раз в палату зашел пожилой важный профессор,
окруженный почтительными учениками.
— Вот, учитесь! — сказал он. — Рана, особенно гнойная,
должна дышать. А ее залили клеем. Безумие! Могла остаться
без ноги.
Но скоро я была уже дома.
Примерно за год до отъезда Сережи к нам на Миусскую
стал ездить, по просьбе моих друзей, старичок-травник.
У друзей была небольшая тесная квартира, а больных, же-
лавших лечиться у травника, становилось все больше.
Старичок одевался всегда одинаково, несмотря на погоду
и на время года: видавшая виды стеганая темно-синяя ли-
нялая куртка, на ногах подшитые кожей валенки. Перекину-
тый за плечо большой холщовый мешок с травами, который
он не позволял носить никому. А в нем еще множество ма-
леньких мешочков.
Однажды мне пришлось заехать за ним на такси в дерев-
ню Кализино. Он жил в небольшом бревенчатом доме с ма-
ленькими окнами и крыльцом с подгнившими ступенями.
Когда мы уже ехали в машине, он рассказал мне, что жи-
вет с сыном.
— Такой дар у парня. Свыше. Такой дар! — с грустью по-
ведал он мне. — Через стену болезнь видит, а лечить не хо-
216
чет. Переживаю, а никак не уговорю. Жалко, такой дар про-
падает. А ведь это грех.
Дома нас ждали пациенты. Травник развязывал свой не-
объятный мешок—в нем были маленькие тряпичные мешоч-
ки с сухими травами, кореньями, засохшими лепестками.
Он каждую весну ездил на Алтай собирать нужные ему
лекарственные растения.
Старичок по одному приглашал в комнату посетителей,
пристально смотрел водянисто-прозрачными глазами на
сидящего напротив слегка оробевшего пациента, почти не
задавал вопросов, только слегка прикасался к руке больного
коричневыми корявыми пальцами.
Потом из разных мешочков доставал щепотки нужного
лекарства, высыпал на кусок газеты, смешивал и привычно
объяснял, как заваривать и настаивать.
Мы пили горьковатые душистые чаи и вроде бы всем ста-
новилось лучше.
Однажды друзья обратились ко мне с неожиданной прось-
бой.
В Москву приезжает из Лондона митрополит Антоний
Сурожский, епископ Русской православной церкви, экзарх
Московской патриархии в Западной Европе. По линии ма-
тери он приходился родным племянником замечательному
русскому композитору Александру Скрябину.
Во время войны владыка Антоний участвовал в движении
французского Сопротивления. Был схвачен гестапо, его пы-
тали и повредили ему позвоночник. С тех пор он страдал не-
проходящими мучительными болями в спине. Друзья очень
хотели показать его нашему травнику.
Конечно, я сказала, что с радостью сделаю все, что смо-
гу, да и старичок-травник согласился спокойно, даже как-то
равнодушно.
Итак, был назначен день и час, и я снова поехала в Кали-
зино.
Митрополит Антоний остановился в гостинице «Советская»,
в то время, несомненно, одной из лучших гостиниц Москвы.
217
Мы подъехали к высоким мраморным ступеням. Я помог-
ла нашему старичку выйти из такси. Двое швейцаров почти-
тельно распахнули перед нами узорные двери. Видимо, они
были предупреждены о столь необычном посетителе. Наш
травник тряхнул мешком, чтобы удобней пристроить его на
плече, подняв небольшое облако пыли. И мы вошли в отде-
ланный мрамором и позолотой высокий холл.
Старичок был одет как всегда: все та же поношенная,
почти рваная стеганка и подбитые сзади кожей старые ва-
ленки.
Он недовольно и даже как-то сердито оглянулся и пошел
к широкой, покрытой ковром лестнице.
— Может быть, на лифте? — остановила я его. — Нам
четвертый этаж.
— Не езжу я на них, — мрачно ответил мой спутник. —
Чего в них хорошего?
Лестница поднималась, поворачивала под прямым углом
и шла вверх, окружая глубокий квадратный провал.
На каждом этаже стояли по два одетых в форму с галуна-
ми швейцара. Они провожали внимательными взглядами
старика-оборвашку с пухлым мешком на плече. Но ни один
из них не сказал ни слова, даже не шевельнулся.
Я видела, что мой старичок уже тяжко дышит, — но вот,
наконец, четвертый этаж.
— Пожалуйста, проходите, — с легким поклоном сказал
нам ливрейный слуга.
Мы вошли в небольшую приемную.
Нас встретил, улыбаясь, священник в черной рясе с кре-
стом на тонкой золотой цепи.
— Что это вас так высоко поселили? — недовольно спро-
сил травник.
— Уж извините, — священник открыл дверь в большую
мягко освещенную комнату. — Владыка ждет вас. А вы... —
он повернулся ко мне, — подождите, пожалуйста. Вот тут
кресла.
Я села в кресло, стоявшее у стены. Мой старичок стянул
с головы допотопный картуз, открыв седые слипшиеся во-
218
лосы. Он прошел за священником. Дверь бесшумно закры-
лась.
Впрочем, его спутник тут же вернулся.
— Может быть, чай, кофе? —любезно предложил он и под-
катил ко мне столик, уже заботливо накрытый: кофейник, ча-
шечки, печенье. Я уж не помню, что было еще на тарелочках.
Примерно через полчаса двери в соседнюю комнату от-
ворились. Вошел старичок все с тем же мешком на плече, за
ним владыка Антоний.
Сначала я увидела только темный силуэт на фоне распах-
нутой двери. Потом владыка вошел, и свет упал на его лицо.
Он улыбался. Мне кажется, беспощадное время, уходя,
увело за собой такие улыбки, полные света и доброты. Редко
я встречала потом такую улыбку.
— Извините, что вас задержали, — сказал он. — Мы вот
хорошо побеседовали.
Я глядела в его лицо, удивительно красивое. Ясные вни-
мательные глаза видели все глубоко и насквозь. На груди
у него был большой и, видимо, тяжелый крест.
Владыка благословил меня, я поцеловала его теплую
крупную руку.
Мы попрощались и вышли на улицу.
— Полегчает ему, Бог даст, — сказал старичок, нахлобу-
чивая на голову свой странный картуз. — Пошли, там тоже
люди ждут.
Наверное, еще целый год старичок-травник бывал у нас
дома. И вдруг он исчез.
Было множество звонков. Звонили те, кого он лечил. Но
я ничего не могла им сказать. Обычно травник звонил мне
примерно раз в месяц. А тут полная, настораживающая, не-
хорошая тишина.
Я еще раз съездила в Кализино. Дом его стоял заброшен-
ный, неживой. Окна грубо заколочены нестругаными доска-
ми. На кривых ступеньках выставлены несколько горшков
с засохшими цветами.
Больше я о нем ничего не слышала.
219
В это время моя дочь, названная в честь моей мамы Ма-
рией, с блеском кончила Московский государственный уни-
верситет.
Конечно, не всегда талант пробивается легко и сразу.
В школе у Маши были непреодолимые сложности с матема-
тикой. А когда дело дошло до геометрии, Маша почувствова-
ла, что окончательно увязла.
Учительница, с печалью глядя на Машу, говорила, что
у нее всегда будут проблемы с математикой.
Впрочем, так оно и оказалось, если понять ее слова на-
оборот.
Мой отец, уникальный педагог, обладавший особым да-
ром объяснять и открывать всевозможные тайны и секре-
ты искусства и науки, увидев, как бьется и мучается Маша,
предложил ей дать один урок, всего один урок...
Они уединились часа на два.
Маша прибежала ко мне счастливая и пораженная.
— Это совсем не то! Понимаешь, не то! Это так интересно
и удивительно! — возбужденно говорила она.
Словно рухнула какая-то стена, и ей открылся целый мир,
увлекательный и заманчивый, и главное, близкий, понятный
и родной.
Все годы обучения в университете для Маши были бук-
вально освещены лекциями замечательного ученого и педа-
гога академика Владимира Александровича Ильина.
Его учебники по математическому анализу и алгебре до
сих пор считаются непревзойденными.
Они издаются и переиздаются.
Студенты говорят, что его книги, написанные легким
и точным языком, делают понятными и ясными самые слож-
ные вопросы математики.
На его лекции толпой приходят студенты с других фа-
культетов.
У Маши были редкие, чтобы не сказать уникальные, спо-
собности к математике, поддерживаемые интересом и лю-
бовью к сложнейшим теоретическим проблемам.
220
Она была рекомендована в аспирантуру, но тут вмешал-
ся комитет комсомола, а его негативное отношение решало
все.
Маша залетела в какой-то сырой подвал, забытый Богом
и начальством. Мосэнергохимпром. Что-то в этом роде, свя-
занное с химическими удобрениями.
Маша была там не нужна, но ходила старательно, даже
больная, тяжело кашляя, потому что ее комсомольский билет
так и пестрел выговорами. То не вымыла какие-то чашечки
после кофе, то забыла подписать какой-то документ.
У нее возобновился астматический бронхит, а в прогнив-
шем подвале она должна была проработать три года.
Что я только не делала, чтобы вызволить Машу из этого
подвала!
Раз попалась птичка (по распределению)
Не уйдешь из сети...
стой!
Врачи охотно давали Маше всякие справки: у нее хрипело
и булькало в груди. Но подвальный босс только посмеивался,
глядя на эти бумажки.
Я обратилась в партком Союза писателей, но они только
развели руками: что мы можем сделать — закон суров. По
распределению — три года, ни месяца меньше. Мы тут бес-
сильны.
Однаджды Наташа П., жена моего друга Сережи Яковлева,
знакомого мне с детства как Сережа Судьин, сказала, что зна-
ет даму, которая может всё.
Всё! Как это понять?
Выяснилось, что дама любит жемчуг. Совсем недавно она
совершила что-то невероятное, непонятно как и какими пу-
тями, за стакан жемчуга.
Но у меня не было стакана жемчуга.
К счастью, оказалось, что от меня ей нужно совсем другое.
Я была уж членом Союза писателей СССР и имела право
на литературного секретаря.
221
Всесильная дама хотела, чтобы я оформила ее дочь своим
литсекретарем.
Эти места были весьма дефицитны, но как раз в это время
оно было у меня свободно.
Появилась эта недобрая волшебница, принеся в наш дом
что-то чуждое, лживое, почти страшное. Действительно, ее
шею оттягивали тяжелые нити жемчуга.
Я подписала нужную бумажку, с тем она и удалилась. Те-
перь ее дочь, которую я так никогда и не видала, стала моим
литсекретарем.
— Посмотришь, что будет, — сказала мне Наташа П.
Через несколько дней в темном подвале поднялся поис-
тине птичий переполох.
Впервые за существование этого затхлого места туда по-
звонил сам министр или кто-то из его заместителей.
Машу поспешно отпустили и даже выдали ей чистый ком-
сомольский билет, с загадочной благодарностью неизвестно
за что.
Я пишу об этом, потому что жемчужная дама была ярким
знаком того времени. Впрочем, если подумать и оглянуться,
то сейчас...
Маше предстояло отработать еще срок, два с половиной
года, чтобы иметь право подать документы в аспирантуру.
Где она только не работала! В строительном институ-
те, в текстильном, в ветеринарном... Ее брали на короткий
срок, кого-то временно заменить — кто-то заболел, кто-то
ушел в декрет...
Однажды она вернулась домой очень огорченная.
К ней пришла сдавать экзамен немолодая женщина, с из-
мученным лицом, в руке не книги, не конспекты, а тяжелая
сумка с картошкой.
Она не могла ответить ни на один вопрос по программе.
Маша была в затруднении, как ей поступить.
—Доченька, — вдруг заплакала женщина. — Даник чему
мне твоя математика. У меня муж болеет и сын наркоман.
Поставь уже мне тройку и отпусти. Уж как-нибудь...
222
Маша поставила ей четверку.
Наконец, долгожданная аспирантура. Маша стала препо-
давать на первом курсе.
— Мама, они хотят учиться! — глаза у Маши сияли.
Теперь она молодой профессор, доктор физико-матема-
тических наук.
Наташа П. сказала мне, что жемчужная дама и ее дочь
процветают, поднимаясь по незнакомым нам лестницам все
выше.
В это время я много работала с Генрихом Сапгиром. Мы
писали вместе пьесы для детей, сказки, стихи. Работать с ним
было истинное удовольствие.
Но, как я уже писала, только работать. За долгие годы не
возникло простое человеческое тепло, даже не знаю, поче-
му. Как будто его незаурядный талант поглощал или напрочь
убивал потребность в каких-либо более простых и теплых
чувствах.
Однажды мы с Генрихом получили очень заманчивый
заказ: написать для Центрального детского театра инсцени-
ровку в стихах по «Коньку-Горбунку» Ершова.
Бесконечно ценя Ершова как поэта, его удивительно све-
жие рифмы, особый, полный поэзии юмор, мы приложили
все силы, чтобы, подражая Ершову, создать цельную пьесу,
насколько возможно приближенную к замыслу великого ав-
тора.
В театре были уже готовы эскизы декораций к постанов-
ке в стиле миниатюр Палеха, яркие, сверкающие, на черном
лаковом фоне.
Спектакль должен был ехать на фестиваль в Америку.
Мы с увлечением писали новые сценки, забавные песенки,
скрыто-глубокие стихи.
Потом мы решили проверить себя.
Усадили в кресло Добрушку, дали ей тетрадь и ручку. Она
должна была заметить и записать строчки, где мы отошли от
стилистики Ершова, нарушили его поэтический строй.
Мы стали читать: я — первое действие, Генрих — второе.
223
Добрушка сидела с суровым лицом. Мы смотрели с бес-
покойством. Она что-то чиркала в тетради.
— Похоже, похоже. Очень цельно, — наконец сказала
она, когда мы кончили. — Что ж, есть кому подражать. Од-
нако у меня три замечания.
Она прочитала их нам. Все три были критикой самого Ер-
шова.
— «Кит усами закачал и, как ключ, на дно упал», — уве-
ренно сказала Добрушка. — Уж это никак не мог написать
Ершов. Кит упал, как ключ. Невозможно.
Но это был подлинный Ершов. На то он и гений!
Мы с Генрихом были обрадованы и польщены.
Но неожиданно разразился скандал, на время перечерк-
нув и загнав в небытие нашу работу.
Генрих активно участвовал в «Метрополе», и это ему не
простили. Какое-то время его не печатали и не ставили наши
совместные пьесы.
Теперь наш «Конек-Горбунок» идет во многих театрах,
а Центрального детского театра, собственно, больше не су-
ществует, так резко он повзрослел.
В это лето мы жили в Переделкине: я, Добрушка и папа.
Сереже и Маше мы сняли поблизости дачу. С ними жила
няня Надюша, человек незаурядного характера и судьбы.
Мы все ее очень любили. Она была баптисткой и по вос-
кресеньям ездила в свой храм, который они делили с адвен-
тистами Седьмого Дня.
Надя была неграмотна. Маша научила ее читать. А на-
учившись, читала Надя только одну книгу — Библию. Дочи-
тав до конца, она снова начинала читать ее с начала, и так до
конца Библии и своей жизни.
Добрушка в это время переводила стихи Эмили Дикинсон,
все глубже прорастая в творчество этой великой поэтессы.
Случайно она наткнулась в каком-то стихотворении на
слово «ягуар». Рядом сноска — «Библия».
Мы стали искать это слово в симфонии и не нашли. До-
брушку это очень огорчило. При ее пунктуальности, стрем-
224
лении к точности, ей непременно надо было знать, в каком
контексте употребляется это слово в Библии.
Но если симфония не давала нам ответа, то где еще искать?
Случайно мимо проходила няня Надюша с веником и сов-
ком в руках.
Негромко, так, между прочим, она сказала:
— Песнь такая-то, стих такой-то!
Вот так она знала Библию и Евангелие.
Но возвращаюсь к моей поездке из Переделкина в Мо-
скву. У меня с собой была довольно-таки увесистая сумка. До
станции было достаточно далеко.
Тут я увидала, что в саду какая-то девушка плотно укла-
дывает в багажник машины чемоданы и перевязанные стоп-
ки книг.
Я видела ее в профиль. Мне показалось, что у нее длин-
ные черные ресницы и нос с горбинкой.
— Вы в Москву? Не подвезете меня до какого-нибудь ме-
тро? — спросила я.
Девушка повернулась ко мне. Да она просто красавица!
Какое тонкое смуглое лицо! Похоже, грузинка.
— Я везу в Москву Надежду Яковлевну Мандельштам, —
ответила девушка, увидев по моему лицу, что я знаю, о ком
идет речь.
— Если дело в деньгах, то пожалуйста... — заторопилась
я. — Просто сумка тяжелая.
— Нет... — что-то обдумывая, протянула девушка. — Но
с одним условием.
— С каким? — с недоумением спросила я.
— Вы должны уговорить ее не уезжать в Америку, — не-
громко, почти шепотом быстро проговорила девушка.
— Но как... — в замешательстве сказала я и умолкла.
В это время распахнулись высокие двери, и появилась
грузная Надежда Яковлевна Мандельштам.
Ее бережно и почтительно поддерживал под руку какой-
то молодой человек. Она медленно, не без труда, спустилась
по ступеням широкой каменной лестницы.
225
— Надежда Яковлевна, вы не будете возражать, если мы
подкинем эту женщину к метро? — спросила девушка-гру-
зинка, указывая на меня.
— Как хотите, — голос был глухой и равнодушный.
Девушка кивнула мне и бережно усадила Надежду Яков-
левну в машину рядом собой.
Я села на заднее сиденье.
— Вы дверь не захлопнули!
Я плотно закрыла дверь, и машина тронулась. Мы выеха-
ли на шоссе.
«Все совсем другое, когда едешь на электричке. И дома,
и деревья...» — подумала я.
В это время черноглазая девушка остро и быстро резану-
ла меня взглядом, будто напоминая, что пора.
—Вы знаете, мой любимый поэт—Осип Мандельштам... —
неловко начала я и замолчала. Начало было явно неудачным, я
сама это почувствовала.
Надежда Яковлевна не шевельнулась. Я видела ее тяже-
лый мрачный профиль.
— Это правда, — сказала я, понимая, что уже говорю со-
всем не то и не так. — У меня есть книга стихов 1928 года.
Там «Камень» и «Tristia». Мои любимые.
— Надежда Яковлевна, не приоткрыть окно? Вам не душ-
но? — вычеркнув меня из списка присутствующих, спросила
девушка.
— Нет, — все-таки суровость ответа как бы отчасти от-
носилась ко мне.
И вдруг пришли какие-то силы. Она мне не верит, а ведь
это все правда.
— Знаете, я ведь помню почти все стихи оттуда наизусть, —
стараясь, чтобы голос звучал уверенно, сказала я. — Вот назо-
вите первую строчку...
— «Я слово позабыл, что я хотел сказать», — не оборачи-
ваясь, как подачку, кинула мне Надежда Яковлевна.
Какое счастье! Одно из моих любимых... Я без усилий
продолжила:
226
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях сломанных с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачна грива табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прикинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья!
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
И на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.
— Вы ошиблись, — голос был холодный, равнодушный. —
Там «на крыльях срезанных», а вы прочли «сломанных». Тог-
да «Феодосия». Помните?
Самое длинное. Хочет поймать меня. А я помню, пом-
ню... Только бы не спутаться, не запнуться... Я начала:
Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
227
И розовыми, белыми камнями...
— Довольно. Это вы помните. Тогда «Notre Dame».
Я уверенно начала:
Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика, и — радостный и первый,
Как некогда Адам...
— Вижу, знаете, знаете, довольно, — почему-то почти
раздраженно начала она. — А что вы сами особенно любите?
Прочтите...
— Ну... я многое люблю. — Это мне было почему-то труд-
нее, чем продолжать стихотворения по ее выбору. — Ну,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» Потом, конечно, «Ког-
да Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес,
вослед за Персефоной...» Еще «Веницейской жизни...» Да я
все люблю...
Надежда Яковлевна вдруг повернулась ко мне. Боже мой!
Усталое, измученное лицо старого воина, чуть желтоватое.
Вдруг она улыбнулась. Жизнь проснулась в ее лице, оно смяг-
чилось, потеплело.
Пусть улыбка относилась больше не ко мне, а к нашей кра-
савице-грузинке. Ну, может быть, мне достался уголок губ.
И тут, тоже улыбаясь, заговорила Черноглазая, завершая
поставленную передо мной непосильную задачу.
— А вот, Надежда Яковлевна, скажите, только по правде.
Скажите честно, возможно ли такое: вот вы едете в Амери-
ке на машине и к вам подсаживается случайная попутчица
и читает вам столько стихов Мандельштама?
— Нет, — твердо сказала Надежда Яковлевна. — Конечно
нет...
— Тогда зачем же?..
В это время мы проезжали мимо какого-то метро. Боясь
окончания фразы Черноглазой, вглядываясь в трагические
морщины Надежды Яковлевны, стараясь запомнить ее лицо,
я попросила:
228
— Высадите меня тут, если вам не трудно...
— А вам удобно тут выйти? — любезно спросила краса-
вица-грузинка. По ее интонации я поняла, что, видимо, как-
то справилась с ее условием.
— Очень удобно, — заторопилась я.
Машина лихо остановилась, и тут я получила неожидан-
ный подарок.
— Благодарю вас, — негромко сказала Надежда Яков-
левна.
Я уже не видела ее лица, она смотрела вперед, дверца за-
хлопнулась, машина отъехала.
Дома меня ждала Добрушка, как это иногда бывало, чем-
то раздраженная и недовольная.
Я раскладывала вещи по ящикам, как вдруг дверь распах-
нулась и твердым шагом вошла Добрушка.
Не говоря ни слова, она с размаху кинула на пол к моим
ногам тяжелую, в яркой блестящей обложке книгу.
— Что такое, Добрушка? — с удивлением спросила я.
— Вот! — в негодовании и в досаде проговорила Добруш-
ка. — Из Сорбонны, видите ли, мне прислали. Сэй-Сёнагон
«Записки у изголовья». Как же! Да я же с третьей строчки вижу,
что они перевели с английского, а не со старо-японского!
У Добрушки бывали такие короткие приступы гнева,
раздражения, которые набегали, как тучка, и быстро прохо-
дили. Вообще Добрушка была отходчива, у нее был мягкий
характер.
Но тут можно было ее понять. Она несколько лет перево-
дила не такую уж толстую книгу Сэй-Сёнагон, ее знамени-
тые «Записки у изголовья».
Весь стол Добрушки был завален толстенными словаря-
ми. Она изучала придворные обычаи, названия растений
и даже узлы, которыми придворные дамы завязывали пояс
кимоно.
Работать с ней над легендами было истинное удовольст-
вие.
229
Большой удачей, как мне кажется, был ее великолепный
пересказ «Фауста». У нас была большая книга, где собраны
народные варианты легенд о докторе Фаусте. В них нигде
никогда даже не упоминалась Гретхен.
— Ну какой же Фауст без Гретхен? — пробовала я воз-
ражать. — К сожалению, не многие прочтут полного Фауста.
И что получится, когда они посмотрят картины Врубеля или
послушают оперу Гуно?
— Нет, надо пересказывать по народным пьесам, — упря-
мо твердила Добрушка.
После Фауста Добрушка стала пересказывать «Принцессу
Мелисанду». Она прекрасно перевела заново песни подлин-
ного менестреля Джауфре Рюделя. Но в работе над легендой
Добрушка многое взяла из пьесы Ростана «Принцесса Греза».
— Значит, так? Использовать Ростана можно, а Гете нель-
зя? — тут я поймала Добрушку за руку.
— Ну, если тебе так хочется, сама впиши Гретхен, — со-
гласилась Добрушка.
Что я и сделала с большим удовольствием.
Поэтому в более поздних изданиях легенд всюду присут-
ствует Гретхен. Конечно, она не убивает ребенка, это было
бы слишком жестоко для юного читателя. Достаточно, что
она вместо сонного питья, обманутая Мефистофелем, дает
матери яд. А Фауст убивает брата Гретхен, потому что его
руку ловко подтолкнул Мефистофель.
После многих козней, подстроенных Мефистофелем, Грет-
хен удаляется в уединенный горный монастырь и остается там,
отказываясь от свободы, отказываясь следовать за Фаустом.
При работе над легендами мне не нужны были никакие
словари. Достаточно было спросить Добрушку — она знала
все. Буквально — все...
Однажды я написала, что у моего героя длинные волосы
падают волнами на кружевной воротник.
— Открой монографию Гольбейна, — спокойно сказала
Добрушка. — Там все мужчины подстрижены, как новобран-
цы. А воротников тогда вообще не было.
230
Добрушка не переставала меня удивлять. Она была пре-
красным медиевистом: история, костюмы, обычаи — все
было ей известно.
В легенде о Гамельнском крысолове я написала, что го-
род оказался во власти серых крыс. Добрушка меня поправи-
ла: не серых, а черных.
— Тогда в Европе были только черные крысы, а серые
приплыли из Африки лет через сто пятьдесят, — объяснила
мне она.
После смерти Добрушки, дополняя список легенд, я уже
строго листала словари.
В эту зиму Сережа приехал в Москву, и мы решили пое-
хать на Рождество в Коктебель к Марусе. Мы сели в полупу-
стой вагон. Он по-старчески поскрипывал и постукивал.
Наконец за окнами мелькнуло море, серо-свинцовое, как
бывает зимой.
Маруся уже ждала нас. Она строго праздновала Рожде-
ство, запретила нам пить и есть до первой звезды.
Но когда мы собрались пойти на могилу Максимилиа-
на Александровича, Маруся смилостивилась и дала нам по
яблоку. Никогда еще я не ела яблок вкуснее этого.
Я вспомнила, как несколько лет назад этой же дорогой
мы с папой поднимались к могиле Волошина. Уже почти по-
дойдя к плоской вершине, мы вдруг увидели молодого оле-
ненка с чуть прорезавшимися рожками. Он чутко повернул
голову и замер, глядя на нас. Потом длинными, изящными,
я бы сказала — музыкальными прыжками, перелетая через
уступы и выбоины, мгновенно исчез, уже не оглядываясь.
Когда мы, вернувшись, рассказали об этом Марусе, она
с горячностью принялась утверждать, что в этих местах не
водятся оленята и никто никогда их не видел.
— Вам это померещилось, показалось, быть не может!
Мы видели его оба, и я, и папа, но Маруся и слушать не
хотела. Так и осталось загадкой это пленительное, таин-
ственное видение.
231
Мы с Сережей, усталые, спустились к Дому Поэта.
Уже был накрыт рождественский стол: всякие яства, со-
чиво, миндальное молоко и все, что полагается в этот вели-
кий праздник.
Нас было всего четверо за столом. Пришла Марусина со-
седка, пожилая дама.
Маруся горячо утверждала, что она старше соседки на два
года. Пожилая седая дама с неменьшим азартом утверждала,
что именно она старше Маруси на два года.
Но потом Маруся прочитала молитвы, горели свечи, мы
пили насквозь прозрачное виноградное вино.
Я подумала: какие люди сиживали за этим столом в бы-
лые времена.
В 1911 году мой отец в первый раз приехал в Коктебель.
Ему было тогда пятнадцать лет, но его уникальная память
художника сохранила для нас бесценные яркие и четкие
описания людей, сидевших в день его приезда за этим обе-
денным столом.
Обращаюсь к его воспоминаниям:
«В это время на террасу вышла Елена Оттобальдовна, мать
Максимилиана Александровича (все сидевшие за столом звали ее
Пра)... Ее мужественное лицо напоминало облик вождя какого-
нибудь галльского племени. Одета она была красиво. Ее длин-
ная кофта-казакин была сшита, как я потом узнал, из крымских
и татарских полотенец. Широкие шаровары, темно-синие, снизу
были заправлены в оранжево-кирпичные ботфорты с отворота-
ми... В твердо сдвинутых бровях и плотно сжатых губах прогля-
дывало нечто привычно-властное...
Наискосок от матери сидел Максимилиан Александрович...
Если в облике его матери сквозила непреклонная твердость, то
в лице Макса, я бы сказал, была, если можно так выразиться, не-
преклонная мягкость. Он не был высок, но я ощутил, что на тер-
расу вышло нечто громадное. Его необычайно крупная голова,
широкое лицо, в сущности, с весьма правильными чертами, было
еще расширено, еще увеличено обильным массивом волос, едва-
232
едва тронутых на редкость ранней сединой... Широкий отвесный
лоб был несколько выдвинут вперед. Взгляд не очень больших,
светлых, серо-карих глаз был поражающе острым — вместе с тем
и бережно-проницательным, с упорным доброжелательным вни-
манием...
Еще одно: его густые волосы, не курчавые, но плавно-волни-
стые, были перевязаны жгутом из трав.
Если его мать была похожа на вождя древнегалльского племе-
ни, сам Волошин напоминал скорее друидического жреца.
Прямо напротив сидел Сергей Эфрон. Загорелый, стройный,
подтянутый, очень красивый. Рядом с ним его юная жена Марина
Цветаева. Обычно Марина тоже носила шаровары — синие, ши-
рокие, и чувяки на босу ногу. Тонкий стан ее довольно туго был
стянут широким поясом...
Лоб Марины был приоткрыт, и волосы над ним вились мяг-
кими прядями. И еще не было столь характерной для нее прямой
челки...
Летом одиннадцатого года Марине еще не было полных девят-
надцати лет. Но в ее лице не было и следа юной безмятежности,
между бровями уже заметны были две вертикальные морщин-
ки...
По левую руку Марины сидела Анастасия Цветаева. Она была
похожа на сестру, но казалась еще очаровательней. В ее мягко-
овальном лице, в выражении добрых глаз была, пожалуй, замет-
на та беспечность, и следа которой не было в лице Марины. Она
охотно смеялась, по-юному разговорчивая и веселая. Марина
была гораздо молчаливей.
Я сделал фотографию всех сидевших за столом. У меня был
дешевый фотоаппарат «Дельта», даже объектив был простой,
ландшафтный.
И все же мне дороги эти фотографии одиннадцатого года.
К сожалению, я не сфотографировал ни разу замечательного
художника, друга Волошина, Константина Федоровича Богаев-
ского...»
Я читаю и перечитываю папину книгу «Три лета в гостях
у Волошина».
233
А ведь за столом когда-то в более поздние годы сидел
Осип Мандельштам и много еще замечательных людей,
память о которых бережно хранится, постепенно стираясь
и возникая снова, в беспощадном потоке времени...
Подруга Маруси ушла, теперь за столом сидели трое. Нет,
привлеченные светом догорающих свечей, нас окружали не-
видимые тени, бесценные воспоминания, порхающий не-
слышный смех.
Половина длинного стола была закрыта скатертью. Ос-
тальное — старые доски, тщательно вымытые Сережей еще
днем.
— Маруся, у тебя новая чашка, — вдруг сказал Сережа
и зажег еще несколько свечей. — Большая, такая красивая,
с подсолнухами.
— Это мне Мирелька подарила, — улыбнулась Маруся. —
Надоели мне эти маленькие чашки, никак не напьешься.
Мирель, стройная, изящная, с темно-смуглым загаром. Доб-
рый, веселый человек, пронизанный светом.
Ее дача была недалеко от Дома Поэта, она подолгу жила
в Коктебеле, и тогда за Марусю можно было быть спокой-
ной.
Потом когда Маруси не стало, как настойчиво она боро-
лась, чтобы Сереже достался по праву завещанный Марусей
нательный крест Максимилиана Волошина. Тем более заве-
щание, как положено, было оформлено у нотариуса.
Но куда там! Даже при ее темпераменте было невозмож-
но справиться с тогдашним директором Дома Поэта Влади-
миром Купченко.
Нуда бог с ним! Грустно другое: когда Сережа, уже после
смерти Марии Степановны, приехал в Коктебель, то в экспо-
зиции не было ни креста, ни ладанки Волошина. Все бесслед-
но пропало.
Но Сереже было важно только одно — то, что Маруся за-
вещала этот крест ему.
Я никогда не видела в Коктебеле Мариэтту Шагинян,
мать Мирели. Зато мы нередко встречались с ней в Малеевке
234
в нашем любимом доме творчества — ныне уничтоженном
вместе с его колоннами, зимним садом, старинной мебе-
лью... Но зачем?..
Если бы они могли, уничтожили бы и наши воспомина-
ния, но, к счастью, это им неподвластно.
Вот как-то зимой мы ехали с Мариэттой Шагинян на так-
си в Малеевку. Она сидела рядом с шофером, я с вещами по-
зади. В руке у Мариэтты была большая бутыль темно-фиоле-
товых чернил.
Возможно, она писала по старинке перьевой ручкой. Ста-
рые люди с трудом меняют привычки.
Я ей рассказала, как мы, девочки, увлекались ее романом
«Месс Менд».
— Я его переписала, частично, конечно, но все равно ис-
портила, — мрачно сказала Мариэтта.
Первую половину пути она была оживлена, разговорчива,
рассказывала о своей дружбе еще в Петербурге с Зинаидой
Гиппиус и Мережковским, о гейдельбергском университете,
где она изучала философию.
Потом, видимо постепенно утомившись, она ехала мол-
ча. Я больше ни о чем ее не спрашивала, чувствовала — ей
надо отдохнуть.
Но вот мы свернули с шоссе направо, на боковую дорож-
ку, ведущую к нашему дому творчества.
Я уже вижу издалека на ступенях встречающих Мариэтту
официантку Машу, горничную Зину. Вся обслуга в доме лю-
била эту старую женщину, всегда ласковую и щедрую.
Мы уже подъезжаем. Все ближе...
И вдруг передние колеса машины проваливаются в какую-
то яму. Резкий толчок. Бедная Мариэтта со звоном разбивает
свою бутыль с лиловыми чернилами, и яркая струя окаты-
вает ее старенькую, довольно-таки поношенную шубку из
кроличьего меха.
Шум, крики, взволнованные голоса.
Мариэтту, как драгоценную вещь, бережно вытаскивают
из машины...
235
Шуба вся залита чернилами, а Мариэтта по-прежнему
торжественно держит за горлышко разбитую бутылку.
Но, похоже, это ее особенно не волнует. Ее под руки ведут
по ступеням.
В дверях она оборачивается:
— Соня, приходите ко мне пить чай, — ее голос опять ста-
новится крепким и безмятежным.
Но посидеть с ней и попить чаю мне не пришлось.
Вечером мне позвонили из дома и сказали, что умерла
тетя Маруся. Они умерла тихо, так же, как и жила.
В ней было так много света и доброты, что, если так мож-
но выразиться, они переполняли ее и проявлялись в каждом
слове, в каждом движении души.
Утром я уехала на автобусе из Малеевки, до станции, по-
том на электричке в Москву.
На следующий день были похороны. Мы с Лидочкой при-
ехали в церковь очень рано. Церковь была еще пуста, слабо
мерцали редкие свечи.
Лидочка задержалась в дверях, о чем-то тихо разговари-
вая с Олей Серовой.
Я подошла к гробу и вдруг отшатнулась. В церкви было
тепло, а гроб стоял здесь всю ночь.
Лицо тети Маруси было все покрыто какой-то странной
темной, но вместе с тем воздушной, словно бы кружевной,
паутиной. Особенно много ее было возле губ и ноздрей.
Я растерялась, не зная, что делать, и отошла в сторону.
Вдруг я увидела, что к гробу скорыми шагами идет Оля
Серова. Она наклонилась над гробом, достала из кармана
носовой платок, показавшийся мне каким-то снежно-белым.
Встряхнула его.
Бережно, нежно, не спеша, словно лицо тети Маруси бы-
ло из чего-то драгоценного, хрупкого, легкими движения-
ми собрала, вытерла эту паутину и быстро спрятала платок
в карман.
Потом она наклонилась ниже и поцеловала тетю Марусю
в лоб и в губы.
236
Тут подошла Лидочка, заплаканная, в туго обвязанном
вокруг головы черном платке.
Помню, как она целовала старческие руки тети Маруси,
ее лицо.
Я не заметила, как гроб окружили дети Лидочки, весь
«Мадригал», большая семья Серовых, друзья...
Как сквозь шум волн, до меня доносились пение и слова свя-
щенника. Меня мучило, что не я вытерла лицо тети Маруси.
Я до сих пор виню себя за это, хотя прошло невесть сколь-
ко лет...
Лидочка по-прежнему часто забегала ко мне после репе-
тиций «Мадригала». Она репетировала совсем рядом, в зале
Чайковского. Десять минут ходьбы.
Как-то, но это было уже много лет спустя, Сережа пришел
домой чем-то смущенный и озабоченный.
— Знаешь, мама, я остался один в классе не комсомолец.
Все уже давно...
— Что ж, это надо сделать. В конце концов, это просто
формальный шаг, но он необходим. Тебя не примут ни в один
институт.
Это правда, такие были времена.
Неожиданно, не признавая мою, как мне казалось, разум-
ную логику, возразил Виктор.
Со свойственной ему прямотой и несгибаемостью он ска-
зал Сереже:
— Ты ходишь в церковь. Ты — верующий. Ведь ты читал
устав комсомола? Вера в Бога исключает право вступить
в ряды комсомола.
Я растерялась, не зная, что сказать, и чувствуя, что может
произойти непоправимое. А еще Сережина анкета...
Для Сережи слова Виктора значили очень много.
В эти годы я часто, иногда с Ниной Гарской, иногда одна,
ходила в церковь Николы Угодника в Кузнецах.
Настоятелем церкви был тогда замечательный священ-
ник отец Всеволод Шпиллер.
237
Человек удивительной, незаурядной судьбы.
После Первой мировой войны он остался в Болгарии
и разработал свой собственный метод разминирования сна-
рядов и мин, оставшихся на затонувших вдоль берега кораб-
лях.
Вместе с помощниками и добровольцами он не один год
занимался этой рискованной работой. Они сделали все пля-
жи Болгарии безопасными.
Потом Всеволод Димитриевич окончил богословский фа-
культет в Софии. Вскоре он принял сан.
В 1950 году он вернулся в Москву вместе с женой и сыном.
Здесь жила его сестра, известная певица Наталья Дими-
триевна Шпиллер.
Он был уже немолод. Но его лицо оставалось необычайно
благородным и запоминающимся. Всегда спокойный, Всево-
лод Димитриевич как бы окружал этим спокойствием всех,
кто с ним общался.
Он читал после службы прекрасные глубокие проповеди.
И когда впоследствии я слушала отца Александра (отец Алек-
сандр Мень чем-то напоминал его), я вспоминала чудесный,
проникающий прямо в сердце голос отца Всеволода.
Вот к нему я и пошла, полная нерешительности и сомне-
ний. Я рассказала ему все — даже то, что Сережина душа ме-
чется между антропософией и православием.
Всеволод Димитриевич выслушал меня, не прерывая. Не-
которое время он молчал, задумавшись.
— Если сочтете возможным, примите мой совет, — по-
медлив, сказал он. — Сережа еще недостаточно окреп. У не-
го еще хрупкие косточки. Наступит время, и он сам выбе-
рет свой путь. И тогда у него хватит сил. А пока что пусть
вступает в комсомол. Нельзя допустить, чтобы его измололи
жерновами.
Сережа с облегчением выслушал мнение Всеволода Ди-
митриевича. Он не раз бывал у отца Всеволода на исповеди
и относился к нему, можно сказать, с особым уважением.
Виктор не стал больше вмешиваться, твердо высказав
свое мнение, он никогда не давил на Сережу.
238
В 1981 году вышел в свет журнал «Театр», где была на-
печатана моя пьеса «Разговор без свидетеля». Это пьеса, где
два героя: Он и Она.
Почему без свидетеля? Я надеялась, что будет понятно —
разговор без Бога. Поэтому Он все время задергивает штору,
вид бездонного ночного неба пугает Его, мешает сказать то,
что Он приготовил с таким страхом и напряжением.
Вскоре мне позвонил Михаил Ульянов. Сказал, что он
прочел пьесу и она ему понравилась. Он хочет поговорить
о ней со мной.
Он пригласил меня к себе. Помню его уютную, необыч-
ную квартиру. Почти что сад, даже скорее заросли. В боль-
ших горшках, в кадках, поднимаясь к потолку, росли все-
возможные кусты и деревья. Среди них мелькала его жена,
как мне показалось, красивая, чуть-чуть тронутая временем,
легко живущая среди этой бурной зелени.
Хозяин был спокоен и гостеприимен.
Да, пьеса ему понравилась. Он хочет рекомендовать ее
для постановки Никите Михалкову. По его интонации я по-
няла, что он с Никитой в коротких, близких отношениях.
Уже через несколько дней мне позвонил Михалков. Тут по-
хвалы прямо-таки били через край. Лучшая современная пье-
са, да, да! Полный восторг! (Скажу заранее, после не совсем
удачно снятого фильма он отрекся от меня, да и от пьесы, виня
ее во всем. Впрочем, иногда, выступая по телевидению, он
вдруг хвалил пьесу, иногда принимался ее снова осуждать.)
— Мне нужны бархатные кресла, иначе я не буду репети-
ровать! — сказал он мне во время первого разговора.
Впрочем, речь шла о Вахтанговском театре, а там бархата
было в достатке.
Купченко и Ульянов! О чем можно было еще мечтать?
Я часто сидела на репетициях в театре и не могу не ска-
зать: Никита Михалков — прирожденный театральный ре-
жиссер. Именно театральный. Он был просто великолепен.
Он взлетал на сцену и мгновенно перевоплощался. Он
вскрывал, выпускал на волю внутреннюю сущность героя.
Все было живое, настоящее, трепещущее...
239
Михалков задумал какие-то небывало сложные декора-
ции, хотя действие происходит все время в одной комнате.
К театру должны были подвести какие-то лазерные установ-
ки. И не успели... Театральный сезон кончился.
Оставалось пустое лето. Михалков предложил мне снять
за лето фильм по этой пьесе.
Я согласилась, хоть предчувствовала, что этого делать не
надо.
Один раз я сходила на студию «Мосфильм». Нет, это была
уже не моя пьеса. Больше мне не хотелось присутствовать на
съемках. Все было такое чужое, не мое. Я уж не говорю о том,
что главная идея «задернутых штор» вообще ушла в небытие.
Пьеса построена по принципу постепенного сжатия пру-
жины и мгновенного ее распрямления в финале, равного
взрыву. Это тоже было утрачено... Главная идея была вооб-
ще как бы забыта.
И хотя фильм получил премию ФИПРЕССИ и еще был
как-то отмечен, это все меня уже не радовало.
Я несколько раз говорила по телефону с Галиной Волчек.
Ей очень нравилась пьеса. В Москве ставить пьесу не имело
смысла: фильм слишком часто шел по телевизору.
Ей предложили поставить пьесу в Болгарии, в лучшем теа-
тре Софии. Но она хотела поставить ее в Праге. К сожалению,
в пражском театре как-то отношения у нее не сложились...
Потом пьеса пошла в Италии, в Финляндии...
Сейчас «Разговор без свиделетя» с успехом идет в Арген-
тине, готовится постановка в Париже. Она уже переведена на
французский. Но это все так призрачно и далеко от меня...
Теперь о другом, но запомнившемся, будто это было со-
всем недавно.
Телефонный звонок.
Мягкий мужской голос проговорил вежливо, почти вкрад-
чиво:
— Это говорит муж Лили Юрьевны Брик. Простите, я не
представился. Василий Абгарович... Дело в том, что друзья
240
Лили Юрьевны принесли на прошлой неделе тоненькую те-
традку ваших стихов. Они заинтересовали Лилечку. Мы бу-
дем рады видеть вас у себя, ну хотя бы в ближайший четверг,
если вам это удобно.
Мне было удобно, да и любопытно. Не скажу, что Мая-
ковский один из моих любимых поэтов. Нет! Но судьба за-
губленного гения — а ведь он был бесспорно гениально ода-
рен — всегда вызывает огромный интерес.
Лиля Брик... Лучшие стихи и поэмы посвящены ей, если
не считать самых ранних, написанных еще до их знакомства.
Позднее он тоже посвятил их ей, как бы говоря, что он любил
ее всегда, даже еще не зная.
Она говорила: «Страдать Володе полезно, он помучается
и напишет хорошие стихи».
И все-таки единственной, истинной ее любовью оставал-
ся Осип Брик. Так она сама говорила.
Маяковский перед смертью сильно увлекся красивой мо-
лодой актрисой Вероникой Полонской.
Но своей гениальностью, круто замешанной на тяжелом
характере, он скорее отпугивал, чем привлекал женщин.
Была осень семидесятого года.
Я шла по Кутузовскому, и жидкие городские деревья сла-
бо золотились.
Я не удержалась и зашла в «Дом игрушки», купила Сере-
же маленькую красную машинку.
Дом 12 был в глубине двора.
Дверь открыла женщина с робким лицом. Впрочем, все
в ней было робким, даже каким-то испуганным — и приче-
ска, и белая гладкая кофточка.
Мне бросилась в глаза небольшая табличка на стене: «У нас
моют руки» или «Пожалуйста, мойте руки», что-то в этом роде,
точно не помню.
Передняя была закругленной. Комната, куда меня прове-
ли, тоже была с закругленными окнами, за которыми в от-
далении виднелись осенние, оборванные ветром верхушки
деревьев.
241
Отворилась дверь, и вошла Лиля Юрьевна.
Старость порой безжалостна к самым восхитительным
женщинам. Я знаю только одну, которую пощадило безжа-
лостное время и более того — подняло на недосягаемую вы-
соту. Анна Ахматова. Ей щедрой рукой было дано импера-
торское величие, благородство, особая вечная красота.
Нет, тут все было иначе. Рыжие крашеные волосы со-
браны на затылке в негустой пучок. Лицо оживленное, под
сморщенными веками блестящие глаза. И все-таки старость,
беспощадная старость...
Лиля Юрьевна щедро выложила на стол пачку фотогра-
фий и разложила веером: «Лиля и Маяковский», «Маяков-
ский и Лиля». И «Лиля» — одетая по моде немых фильмов.
Не то нажатием какой-то кнопки, не то колокольчиком
она вызвала робкую белую кофточку.
Старческой лапкой сгребла фотографии.
На столе появилось блюдо с большой круглой головкой
сыра. При помощи какого-то приборчика Лиля Юрьевна
принялась быстро и ловко, видимо привычно резать сыр.
Я не заметила, как отодвинулся в сторону сыр и появи-
лось блюдо с огромным куском нежно-розовой ветчины. Це-
лая свиная нога...
Лиля Юрьевна, меняя ножи и вилки, принялась резать
ветчину. Я видела, как резали ветчину в Елисеевском мага-
зине. Лиля Юрьевна проявила поистине изящество и сно-
ровку, расправляясь с окороком.
Мы пили кофе из тончайших чашечек. Говорили о поэ-
зии. Лиля Юрьевна хвалила молодых поэтов — и ни слова
о Маяковском.
О моих стихах она даже не заикнулась, да мне, по правде
сказать, и не хотелось их читать.
— Володя ведь был влюблен в мою сестру Эльзу, но все
сложилось по-другому...— сказала она с улыбкой, и в ее лице
неожиданно проступила неувядающая прелесть.
За полукруглыми окнами потемнело. Наступил вечер. Да
и хозяйка, похоже, устала.
Лиля Юрьевна проводила меня до дверей.
242
Она прошла мимо высокого, до потолка, старинного зер-
кала, не заглянув в него.
У нас дома тоже высокое зеркало в передней. Уже много
лет я прохожу мимо не останавливаясь. Ведь то, что я увижу,
не слишком обрадует меня. Раньше, когда я была молода,
было иначе.
Уверена, что когда-то давно обворожительная Лиля не
проходила равнодушно мимо высокого зеркала...
— Ах, я хотела послушать ваши стихи, — уже у дверей
спохватилась она. — Ну в другой, в другой раз... Только обя-
зательно приходите...
Я подумала, что вряд ли я еще раз приду в этот чужой для
меня, холодный дом.
Но когда я в 1978 году узнала, что Лиля Юрьевна, сломав
шейку бедра, покончила с собой, я с искренним чувством
вины пожалела, что не навещала ее.
Каждый год я ездила в дом творчества «Малеевка».
Я благодарна этому дому с колоннами, который напо-
минал старинную барскую усадьбу, а теперь безжалостно
снесен. Вместо него построено что-то безликое, много-
этажное.
Но я туда уже больше никогда не поеду, тем более этот
дом уже не принадлежит Союзу писателей. Чужой дом, чу-
жие люди.
Раньше, стоило туда приехать, как я оказывалась в кругу
близких друзей. Всех и не перечислишь.
Георгий Балл, его жена Галина Демыкина, такие близкие,
я бы даже сказала, родные, хотя они теперь по ту сторону
вечности...
С Ириной Токмаковой мы подружились еще раньше, в из-
дательстве «Малыш». И с тех пор наша дружба не прекраща-
лась, обернувшись совместной работой и близостью.
Малеевка дарила мне самых неожиданных друзей. Ма-
рия Михайловна Янченко и ее красавица-дочь Олечка. Пусть
Олечка сейчас далеко в Америке, но она остается такой же
родной и близкой...
243
Я уж не говорю о столь любимой мной Гале Башкировой,
живой, талантливой, веселой, без дружбы с которой я просто
не мыслила своей жизни.
Да, Малеевка обладала этим бесценным свойством — де-
лать такие подарки.
Жора Балл, милый мой Жорик, он впоследствии стал мо-
им крестным сыном.
Необыкновенно талантливый, хотя его повести и расска-
зы были круто замешаны на его болезни.
Помню, в Москве нельзя было купить книжные полки.
Олег и его литовский друг уговорили Жору поехать в Виль-
нюс, там якобы это и проще, и дешевле.
Они поселили Жору в каком-то пустом домике на от-
шибе.
Эта поездка совпала с обострением его психического за-
болевания.
Олег, вероятно, не понимал, насколько Жора тяжело бо-
лен, иначе бы он не стал бы столь жестоко и бесчеловечно
шутить над ним.
Жоре в это время постоянно мерещилось, что за ним сле-
дят, его преследуют, подслушивают его разговоры, а порой
и мысли.
Шутники заранее проделали в двери, ведущей в запущен-
ный сад, дыру. И вот ночью они начали пугать Жору, что-то
жуткое шептали то дальше, то совсем близко, тихо стучали.
А когда Жора подошел к двери, в дыру просунулась рука
и, шевеля пальцами, потянулась к нему.
Жора дико закричал, потом заперся в комнате и уже не
спал от безумного ужаса до рассвета.
В то же утро он уехал из Вильнюса в Москву, тут уже было
не до книжных полок.
Но и Москва не казалась ему безопасным местом, он убе-
жал в Вологду, где были у него друзья.
Галя Демыкина, его жена, попросила Виктора поехать за
ним, она знала, что Жора, как редко кому, доверяет Виктору,
чувствуя его надежность и дружескую верность.
244
Виктор поехал в Вологду и привез Жору в Москву. Жора
был в тяжелом душевном расстройстве. Ему всюду мерещи-
лись слежка, какие-то голоса, опасности, тайные враги.
Его положили в больницу имени Кащенко. Гале и мне за-
претили свидания с ним.
Он вернулся домой притихший, внешне спокойный, но
в глубине души его по-прежнему терзали все те же временно
затаившиеся страхи.
У него появилось искренне желание принять православ-
ное крещение. Но словно какие-то темные силы мешали это-
му. Он обращался к своим верующим друзьям, но почему-
то всякий раз по каким-то случайным странным причинам
и обстоятельствам это срывалось.
Он попросил меня стать его крестной матерью. Тогда
у меня был знакомый священник отец Николай, очень спо-
койный, истинно верующий человек.
Я попросила его окрестить Жору, но не в церкви, а у него
дома. Так все и свершилось. Все было просто и очень возвы-
шенно. На Жору все это произвело сильное и успокаиваю-
щее впечатление.
С этого времени его болезнь отступила, страхи во мно-
гом рассеялись, навязчивые мысли и сны перестали его му-
чить.
Ушла его замутненность, он стал как бы прозрачнее и,
главное, веселее.
Жора навсегда остался глубоко верующим человеком,
черпающим в религии и силу, и надежду.
Общение с ним стало гораздо легче, хотя его очень талант-
ливые и своеобразные рассказы по-прежнему были несколько
странными, полными необъяснимого и загадочного.
Но уж таков был его душевный мир.
Малеевка подарила мне дружбу с Борисом Слуцким. Дол-
гое время мы просто здоровались, перекидывались пустыми
дежурными фразами.
Но однажды я приехала холодной снежной зимой. Мале-
евка была почти пустой в это время.
245
Мы встретились в зимнем саду.
— Хорошо, что вы приехали. Буду за вами ухаживать, —
сказал мне Слуцкий.
Мы договорились пойти после обеда погулять.
Я занялась косметикой, надела яркий шарфик.
Снег падал так густо, такими крупными хлопьями, что
мы почти не видели друг друга.
Мы перешли через Пришвинский мостик, по узкой до-
рожке углубились в лес. Там обступившие нас ели перехва-
тывали снег, идти было легче.
Мы называли друг другу любимых поэтов, и явно наши
вкусы не совпадали.
Потом мы вернулись. Приятно было войти в теплый дом,
и странно, что на коврах только мокрые следы и не идет
снег.
Я собиралась снять облепленную снежинками шубку. Бо-
рис хотел мне помочь. Но вдруг, взглянув мне в лицо, резко
отшатнулся, повернулся и скорым шагом пошел к лестнице.
Вешалки отделялись перилами и большими зеркалами.
Я заметила пристальный удивленный взгляд гардеробщицы
Маши.
Я случайно взглянула в чистое стекло зеркала и с трудом
сдержала внезапное «Ах!»
По влажному от растаявшего снега лицу текла густыми
потоками черная краска с моих ресниц.
Не зря Борис Слуцкий так испугался.
Вечером он постучал ко мне в номер. Мы читали стихи.
Я, улыбаясь, говорила ему, что он не поэт. Пусть займется
прозой, она у него может получиться лаконичной и сильной.
То, что обедняет его поэзию, будет подлинным достоинством
прозы.
В ответ он говорил мне, что мои стихи слишком перегру-
жены украшениями и скучны.
— Вы не очень-то верьте, если кто-то вам скажет, что ему
нравятся ваши стихи. Простая любезность.
Но это не мешало нам встречаться каждый вечер.
Я выбирала стихи попроще и однажды прочла ему:
246
Под березой полосатой
Поднялся сугроб носатый
До ее худых плечей.
О, как грустно веткой голой
Трогать ствол мой невеселый.
Я устала быть ничьей.
Взять меня не может вьюга,
Мы чужие друг для друга,
Как сквозь сеть, она течет.
И не нравлюсь я метелям,
А березовым неделям
Я уже теряю счет.
И скворешник одноглазый
Не мигнул еще ни разу
Круглым глазом без ресниц.
Что он думает пустою
Деревянной головою?
Вспоминает ли он птиц?
— Как это вы придумали — «сугроб носатый»? Это здоро-
во! — редкий случай, Борис похвалил меня.
— А мне нравится: «Бог ехал в пяти машинах...» — сми-
лостивилась я.
Нет, Борис никогда не ухаживал за мной, я даже не на-
зову наши отношения дружбой. Просто нам было интересно
друг с другом — уж очень мы были разные.
Я бывала у него и в Москве. Мне был интересен его свое-
образный творческий метод: он начинал стихотворение, за-
писывал первые строки в толстую тетрадь. Потом бросал.
И начинал новое стихотворение, но уже в другой тетради.
Третье — еще одна новая тетрадь.
Потом, уже по вдохновению, возвращался к одному из на-
чатых стихотворений, которое в тот магический момент его
как бы позвало, поманило. Так что тетради его были полны
незаконченных стихотворений, ожидавших своего часа.
Мне казалось это скорее странным и необычным, чем
близким и понятным. Ну да, поэт свободен и ищет свои пути.
247
Иногда он доставал папки с рисунками разных художни-
ков. Он их собирал, коллекционировал. Ну что ж, каждому
свое хобби.
Но постепенно мы исчерпали интерес друг к другу, это
было естественно и закономерно. Все же я вспоминаю Бори-
са неизменно с теплым чувством, хотя его стихи мне кажутся
еще более далекими, чем в те оставшиеся где-то позади по-
лузабытые годы.
Через некоторое время тетрадка моих стихов неведомо
как попала к Володе Корнилову, одному из редакторов жур-
нала «Октябрь». (Впрочем, стихи порой сами протаптывают
себе тропинки.) Стихи ему понравились. Он отобрал то, что
казалось ему лучшим, и опубликовал в журнале.
Среди стихов, обративших на себя его внимание, было,
как нарочно, стихотворение «Под березой полосатой...».
И вдруг разразился неожиданный, но почти оглушитель-
ный скандал.
Редакция была засыпана письмами, но в основном хва-
лебными и даже восторженными, которые Володя с удоволь-
ствием читал мне по телефону.
И вдруг разгромная статья. Казалось бы, хрущевские вре-
мена были уже достаточно снисходительны к женской лири-
ке.
Олег, с которым я сохраняла добрые отношения, долго
хранил эту статью, она его забавляла.
А мне и особенно Володе Корнилову было не до смеха.
Статья была злобная, полная каких-то двусмысленностей.
Из этой статьи следовало, что я не только опозорила не-
винную русскую березку, но чуть ли не изнасиловала ее. Ну
как же:
Я устала быть ничьей...
И дальше уж совсем что-то недопустимое:
Взять меня не может вьюга...
248
В общем, мой рецензент увидел в этом что-то нечистое,
откровенные сексуальные намеки.
У Володи были в издательстве какие-то достаточно серь-
езные неприятности. Потому что он позвонил мне и доволь-
но резко сказал:
— И зачем только я ваши стихи напечатал!
Мне позвонил Евгений Евтушенко. Стихи ему понрави-
лись, он попросил разрешения прийти и познакомиться.
Евтушенко пришел. Он был молодой, обаятельный, его
переполняли радость и вкус жизни.
С каким чудесным восторгом он рассказывал о своих дру-
зьях!
— Я вас с ними познакомлю.
Вдруг он словно отвлекся, забыл обо мне. На лице его
появилась улыбка отрешенной нежности.
— Белла... Белла Ахмадулина, она, она...
Я знала и ценила ее стихи.
Евтушенко начал читать, но не свои, он читал мне пре-
красные стихи Беллы.
— Вы придете?
— Не знаю, — засмущалась я.
Что-то останавливало меня.
Мои стихи... Мне казалось, они слишком связаны с моим
внутренним миром. Я была еще не готова выпустить их на
волю.
Да, я читала их Пастернаку, Ахматовой, всегда читала их
Добрушке. Но это было в каком-то другом пространстве. Было
еще трудно разрушить атмосферу келейности, открыть зате-
рянный в бесконечности островок, где они росли.
Я так и не решилась, хотя Евтушенко звонил мне еще раз,
приглашал...
Это был какой-то незнакомый мне, чужой и громкий,
ярко освещенный мир.
Потом я часто встречала Беллу Ахмадулину в Малеевке.
Мы вместе ходили кормить бездомных собак. Но я ни разу не
предложила ей послушать мои стихи.
249
Недавно по телевизору я увидела Евтушенко. «Три разго-
вора с Соломоном Волковым».
Как же он был не похож на того Евтушенко, который
когда-то давно приходил ко мне. И не потому, что он поста-
рел, нет, это естественно. Просто это был другой человек.
Подчеркнуто уверенный в себе, в своей незыблемой попу-
лярности, но, как мне показалось, не очень-то счастливый.
Откровенно проступивший череп сквозь донельзя истон-
чившуюся кожу.
Странно и пестро, не по возрасту одетый, и невольная пе-
чаль в ярко-голубых глазах, смотреть на которые было порой
страшно. Вот-вот они не удержатся и выкатятся из глазниц.
И Соломон Волков, замкнутый, скрытный, застегнутый
на все пуговицы...
Он молча слушал, когда Евтушенко с искренней тоской
и болью говорил о тяжелой размолвке между ним и Иоси-
фом Бродским.
Соломон Волков слушал его безразлично, чтобы не ска-
зать равнодушно.
Может быть, что-то еще тайное было спрятано в его не-
проницаемом холодном взгляде.
Что ж, из них двоих Евтушенко показался мне более чело-
вечным и теплым.
Теперь о другом, совсем о другом.
Когда я в первый раз привезла семилетнего Сережу в Кок-
тебель, Маруся показала ему Дом Поэта, мастерскую Воло-
шина и его обширную библиотеку. Вероятно, Сережа уже
тогда ощутил мощное притяжение этого дома, полок с кни-
гами ...
Он уже почувствовал, что когда-нибудь их прочтет.
Уже в то время, еще подсознательно, решалась его судь-
ба — антропософия.
С годами это чувство углубилось, заполняя его целиком.
Впоследствии, переехав из Германии в Швейцарию, он
стал одним из шести главенствующих руководителей в Ге-
теануме...
250
Он объехал буквально весь мир, читая лекции на четырех
языках: на русском, немецком, английском, французском. Он
написал много книг об антропософии, целую библиотеку.
Я как-то спросила его:
— Тебя печатают в Англии? Ведь тогда эти книги сможет
прочесть Олег, твой отец.
— Сейчас выходит тридцать вторая книга в лондонском
издательстве, — ответил он просто, так, между прочим.
На русском языке издано тоже немало его книг. Изда-
тельства «Антропософия», «Ной», «Энигма» и другие. Упомя-
ну только несколько из его книг: «Духовные судьбы России
и грядущие мистерии Святого Грааля», «Круговорот года как
путь посвящения», «Оккультные основы прощения» и еще
много других книг, посвященных антропософии.
Как мало порой мы знаем о самых близких и любимых!
Не так давно, в 2013 году, к нам обратилась одна из сотруд-
ниц музея Сергея Сергеевича Прокофьева в Камергерском пе-
реулке: не сохранилось ли случайно у нас что-нибудь из его ве-
щей, что могло бы дополнить и обогатить экспозицию музея.
У нас давно хранились два чемодана Сергея Сергееви-
ча. Они были потертые, видавшие виды, но из чистой кожи
и с большим количеством цветных наклеек, — следы много-
численных отелей и гостиниц, разных стран, где побывали
их хозяева.
Нашлась старинная деревянная кофемолка, с выдвигаю-
щимся внизу ящичком для уже смолотого кофе, и железная
машинка для оттачивания карандашей.
Но самое удивительное ждало нас впереди. В коридоре сто-
ял шкаф Сергея Сергеевича Прокофьева, где когда-то он хра-
нил ноты и книги. Шкаф неплохо сохранился, хотя претерпел
с тех пор немало переездов. Главное, все стекла были целы.
Сережа вынул и расставил по полкам свои книги по ис-
кусству. Шкаф надо было освободить.
Сотрудницы музея несказанно обрадовались этому шка-
фу. Они его заботливо отреставрировали. Он заметно помо-
лодел и, несомненно, украсил мемориальную экспозицию.
251
Но когда Сережа вынул последние книги, из самой глу-
бины шкафа, он увидел две старые папки и отдельные листы
с рукописным текстом.
К его удивлению, он нашел на нижней полке забытые
им собственные стихи, написанные в возрасте семнадцати-
девятнадцати лет.
Их было больше четырехсот.
До сих пор я не понимаю, как, написав столько стихов,
мой сын никому из близких — ни мне, ни моему отцу — ни
разу их не показал и даже не обмолвился о них ни единым
словом.
Теперь я знаю, что эти стихи он писал в основном по но-
чам. Они словно будили его, рождаясь почти готовыми, как
бы данные ему свыше. Я не знаю в литературе второго тако-
го примера. Меня поразили их духовная сила и мистическая
глубина. Трудно представить себе, как столь юное сознание
могло вместить в себя такую полноту и мощь мистических
переживаний.
Сорок лет Сережа не знал, где они лежат, и не искал их.
Я благодарна судьбе, что в конце моего пути мне было
дано их прочитать.
Мы взяли эти стихи и поехали на дачу в Абрамцево.
Три дня Сережа читал мне эти стихи, и я все больше убеж-
далась в том, что их надо опубликовать.
«Многим из них была свойственна неудержимая сила дерз-
новения и особая форма искренности, которая присуща только
юности...
Так непосредственно писать о Боге, духовном мире, посмерт-
ной жизни человека и о Божественном Основателе христианства
можно лишь будучи полностью охваченным подлинным поэти-
ческим вдохновением, которое я переживал в период написания
этих стихов...»
Сергей О. Прокофьев
«Мистический огонь души. Юношеские стихи»
(предисловие)
252
У стихов есть одна особенность, несвойственная прозе.
Читая или слушая стихи, через короткое время начинаешь
ощущать невозможность больше вместить их в свое созна-
ние. Наступает чувство странной сытости, переполнения
ими...
Мы делали перерывы.
В распахнутом окне нашей маленькой узкой террасы, тол-
каясь, теснились ветки каких-то одичавших кустов с бледно-
белыми цветами и пряным запахом.
Дальше, чуть отступя, шла густая, непрозрачная зелень.
Неухоженный сад.
Помню, Сережа прочел стихотворение, показавшееся
мне удивительно взрослым и зрелым:
Разбросаны по капле и по нитке,
Разорваны на теплые кусочки.
Все воплотилось в завиток улитки,
Всему есть место, но всему нет меры...
Ты, склеенный из ссадин и опилок,
Горящий черезмерно и несмело.
Ты, повергающий себя в объятья
И воскресающий так тихо, неумело...
Где преклоненье твоего усилья?
Где низкий вновь ревущий долг победы?
Ты из себя по капле время вылей —
Ты собираешь камни вместо хлеба.
Раздавлены все робкие затраты,
Дрожащая надежда пораженья.
Но перед тяжестью и вечностью расплаты
В слияньи с Ним — рождаешь вдохновенье.
Как много стихотворений о смерти! Ведь Сереже только
семнадцать-восемнадцать лет! Конечно, смерть в его стихах
неизбежно соединялась с бессмертием.
Смерть. Я долго слушал звук немых речей.
Смерть. И ты умрешь, и все умрет с тобой,
253
И высохнет Божественный Ручей
Пред страшной огнедышащей судьбой.
И ты пойдешь незрим и одинок,
Взыскуя дар, сияющий и высший,
Когда настанет твой последний срок —
В иных мирах — всему чужой и нищий.
Глубины бездн — их здесь никто не мерил.
До дна миров никто не доставал.
Но лишь тому, кто видел и прощал,
Любить возможно ТАМ и верить.
Проснуться ночью, быть разбуженным этим стихотворе-
нием. Оно рождалось где-то в глубине души уже закончен-
ное или как бы продиктованное свыше. Сережа говорил мне,
что он их даже не правил, не переписывал. Только бы успеть
записать. А иногда вслед за одним и второе...
Я в хрупком равновесьи уловил закон
Всех переходов, всех движений Духа.
И тихий голос, еле слышный зов
Коснулся внутреннего слуха.
И с Волей Мира сплавил я свою.
И Мощью неземною окрыленный, —
Мне чудилось — над бездной я стою.
И... падаю, чтоб быть спасенным!
Когда много лет назад я покупала эту дачу, мне все здесь
нравилось. Окруживший дом густой лес, дикие кусты крас-
ной смородины.
Да и просторный дом, низкий, словно уходящий в землю.
Буйная зелень и тишина, мне казалось, будут приманивать
сказки. Да так оно и было какое-то время.
Лина Ивановна Прокофьева когда-то давно мне сказала:
— Что вы делаете? Не покупайте дачу в Абрамцеве. Мы
были там с Сергеем Сергеевичем и сразу почувствовали: там
сыро!
254
Но я благодарна Абрамцеву за долгие годы счастья, за
первый глоток чистого молочного воздуха, еще на платфор-
ме, когда сходишь с электрички.
Теперь это уже не мой дом, не мои деревья.
Сережины стихи скрашивали мне прощание с любимыми
привычными местами.
Больше я сюда не приеду. Дом уже продан.
Сережа склонился над книгой и что-то читал. Он повер-
нулся и с улыбкой посмотрел на меня. Похудевший, но по-
прежнему такой же необыкновенно красивый. Его улыбка
была полна света и тепла. Такой она оставалась до конца...
Вечером над деревьями поднялась чистая ровно-круглая
луна. Сначала пронзенная острой верхушкой столетней ели,
луна поднималась все выше.
Зеленовато-серебристая, даже прожилки и пятнышки не
мешают ей быть совершенной.
Я была рада, что сейчас на небе нет сверкающего острого
молодого месяца. Наверное, я бы не удержалась и посмотре-
ла на него через правое плечо.
Мне 86 лет. Сколько еще Господь Бог отмерил мне быть
здесь, на этой земле?
И, посмотрев запретно, через правое плечо, что бы я уви-
дела?
Я знаю. Конец дороги длиной в мою жизнь.
Может быть, я бы увидела, как песок, перемешанный с ка-
мешками и осколками речных ракушек, уже шевелясь, засы-
пает мои ноги.
Литературно-публицистическое издание
София Леонидовна Прокофьева
ДОРОГА ПАМЯТИ
воспоминания
Редактор
Татьяна Тимакова
Художественный редактор
Валерий Калныныи
Подписано в печать 27.08.2014
Формат 84x108732.
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 1500 экз.
«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: Letter@books.vremya.ru
Отпечатано на ОАО ИПП
«Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru