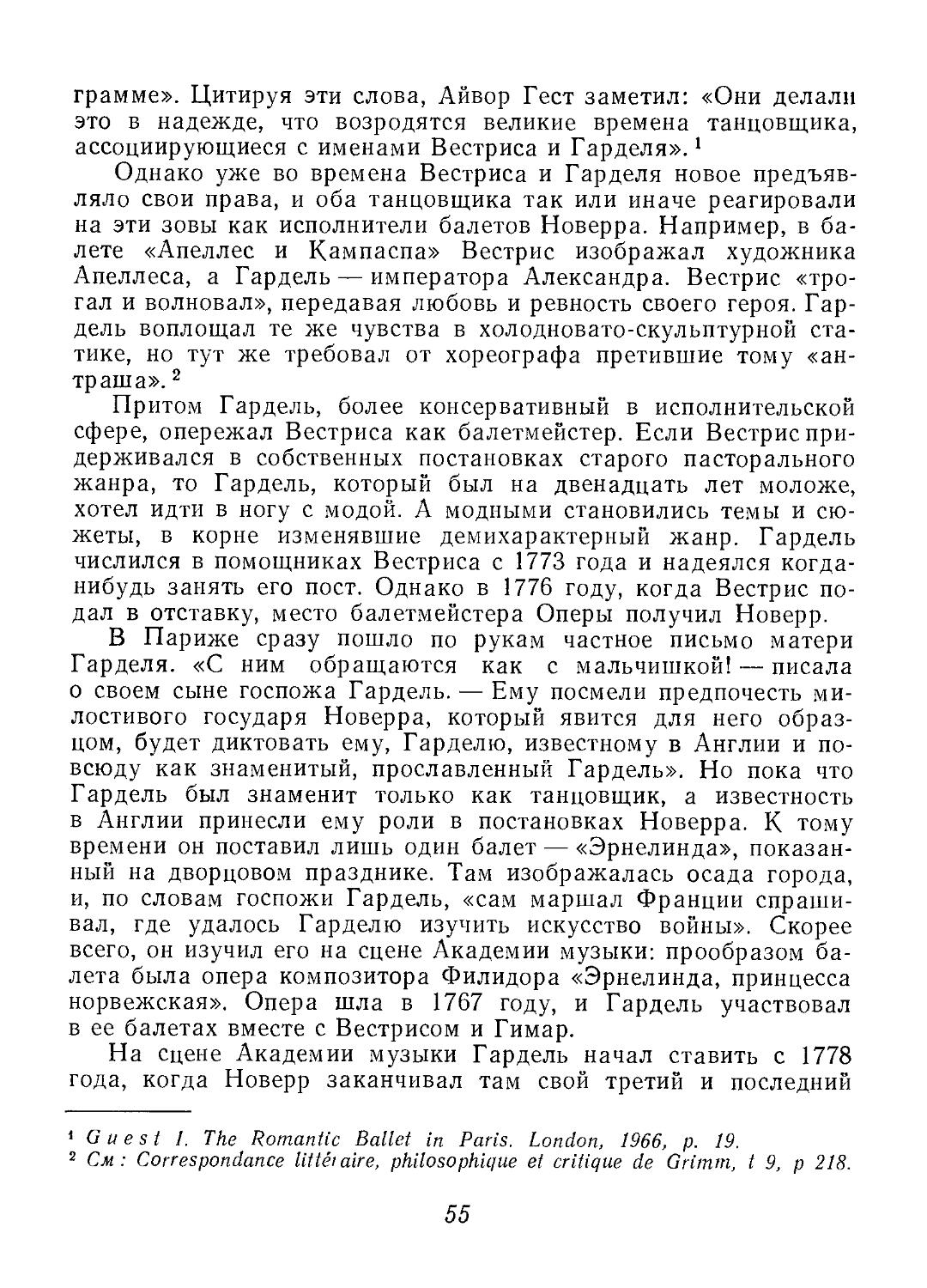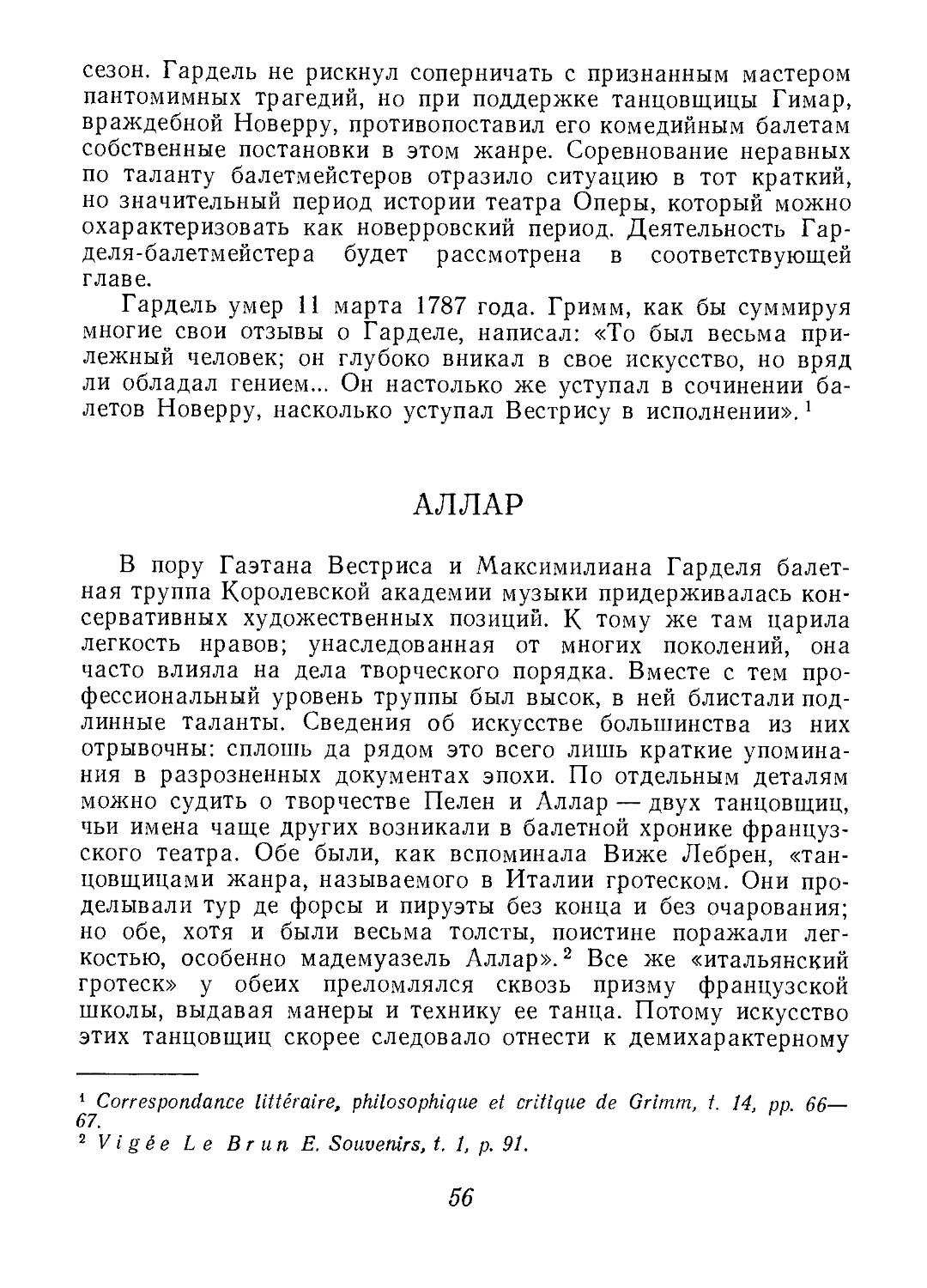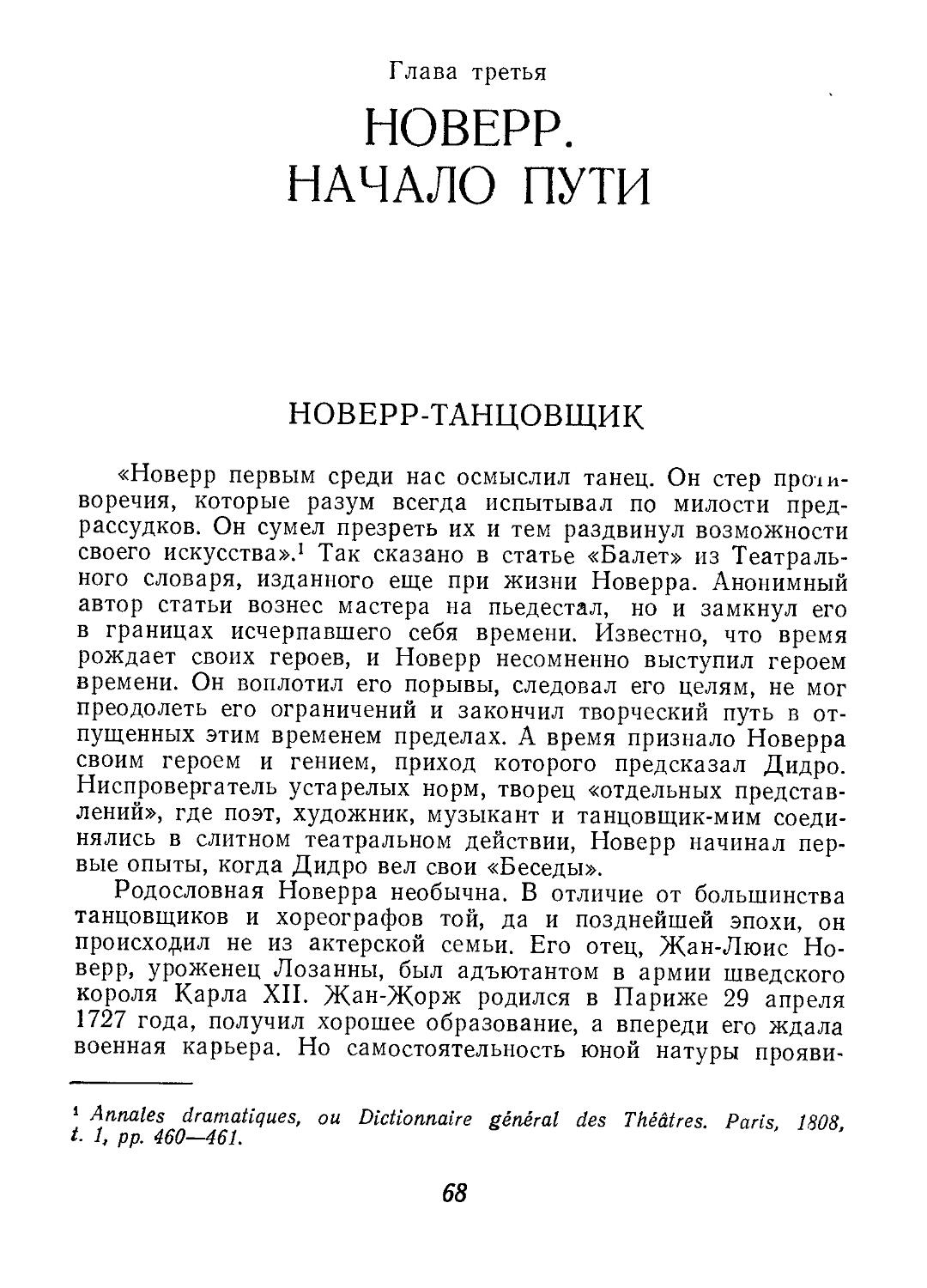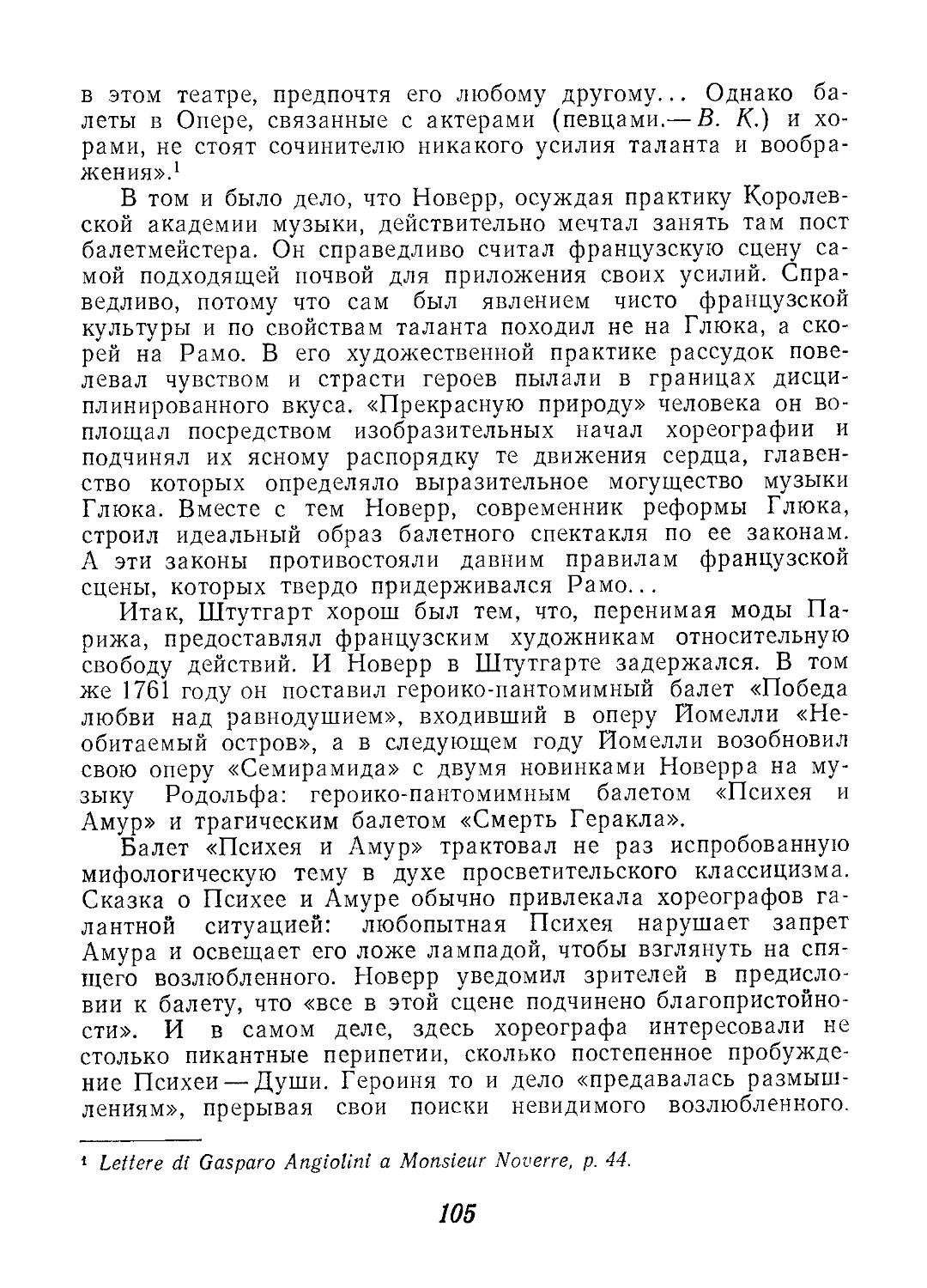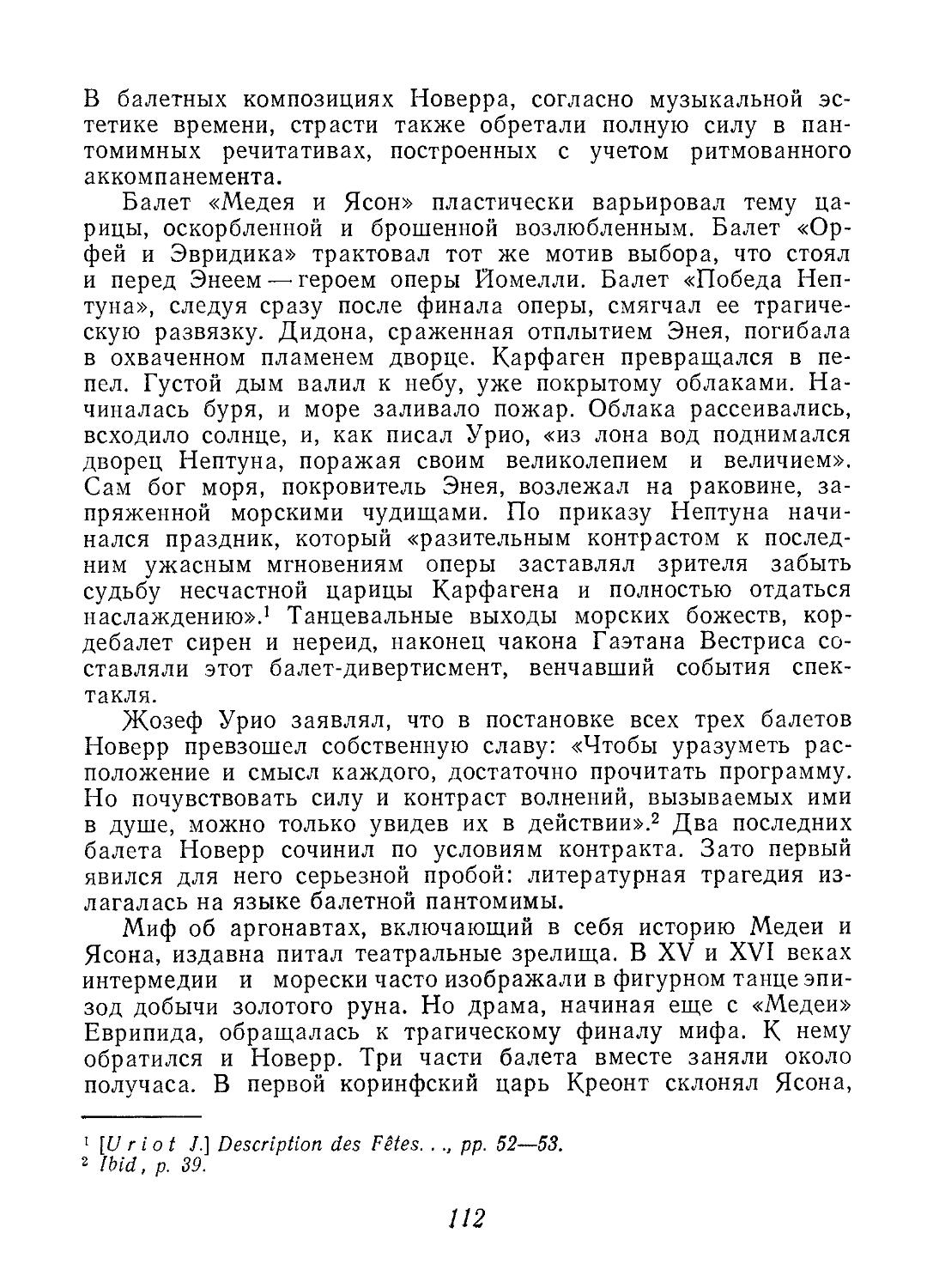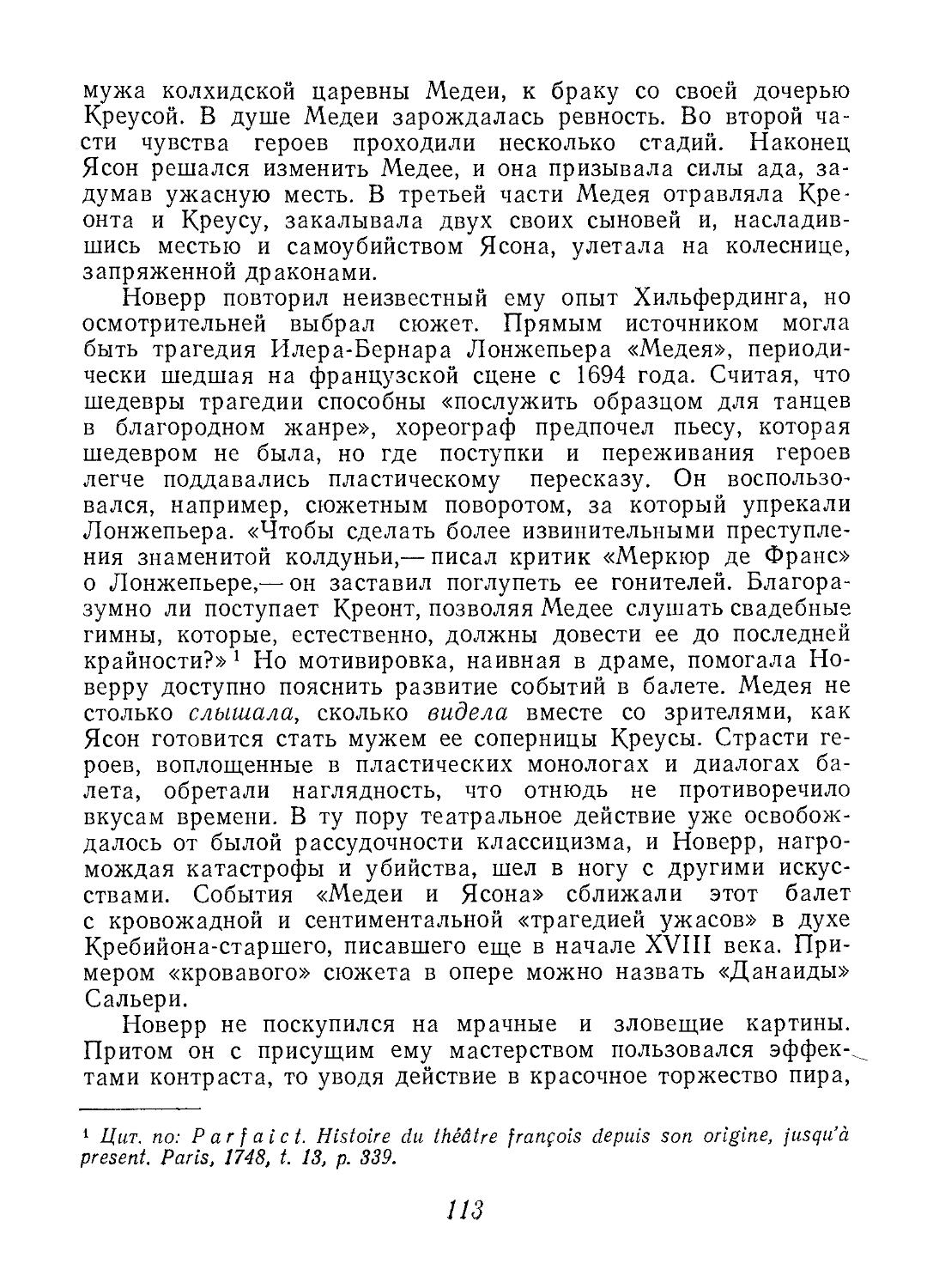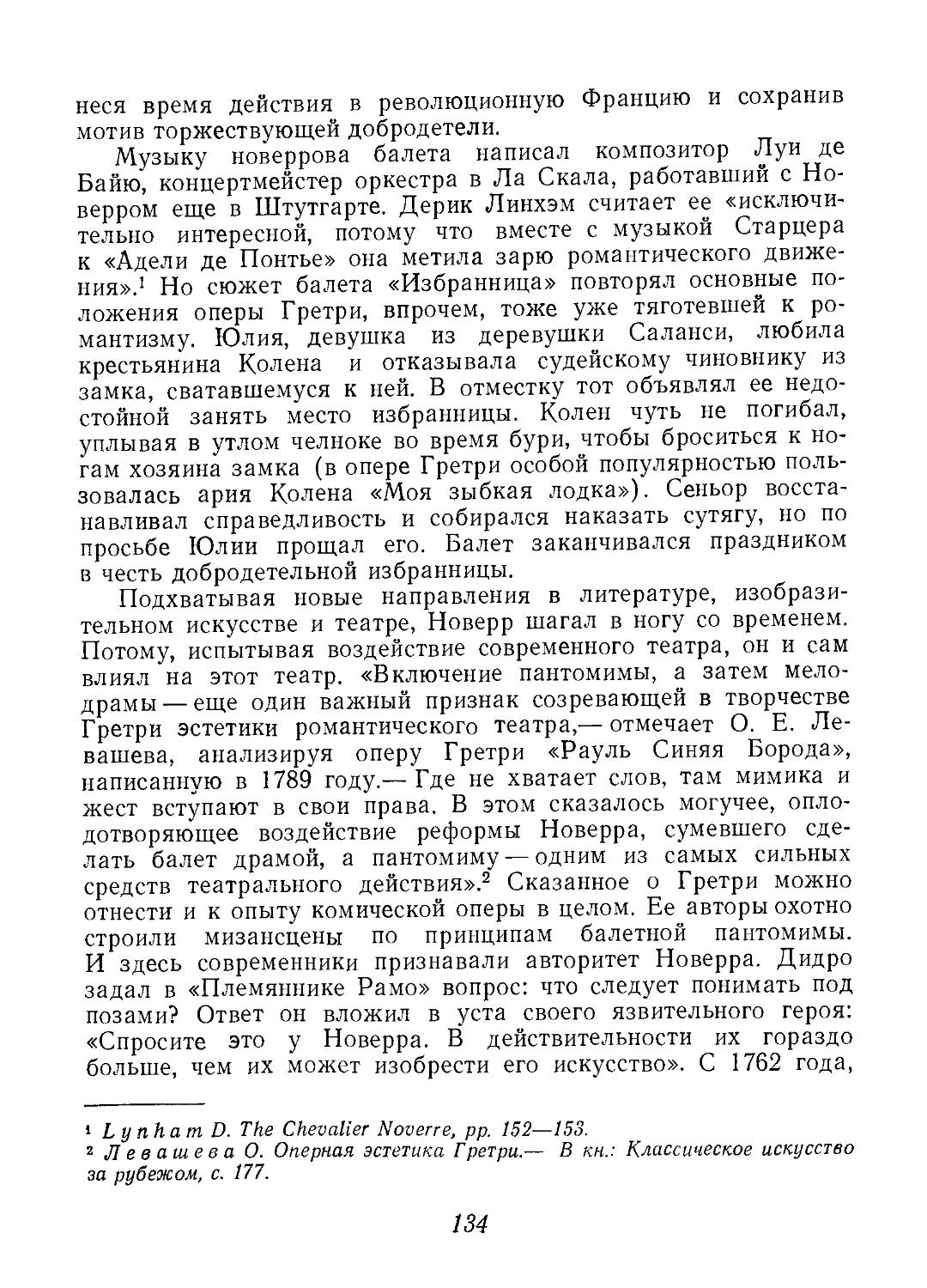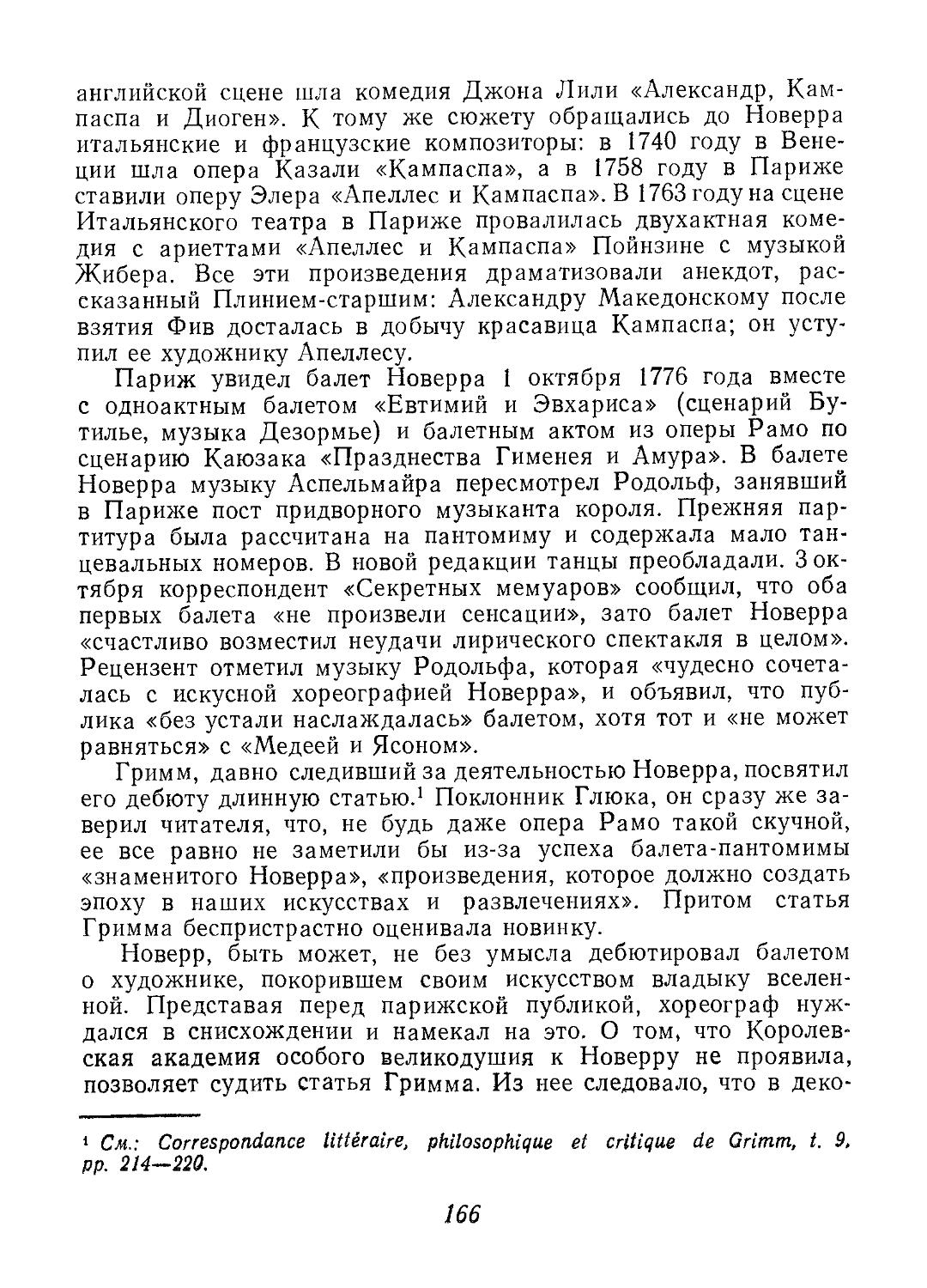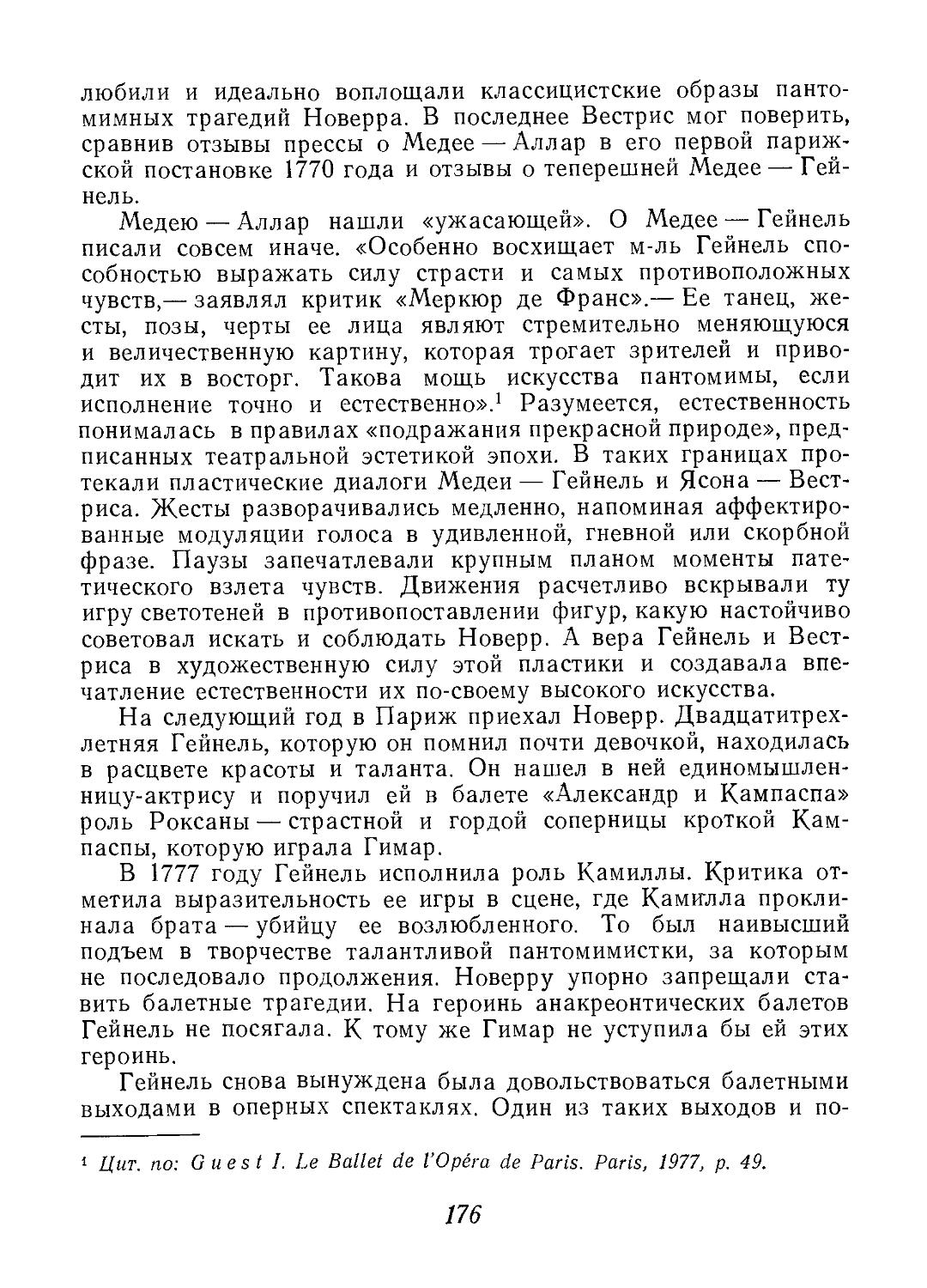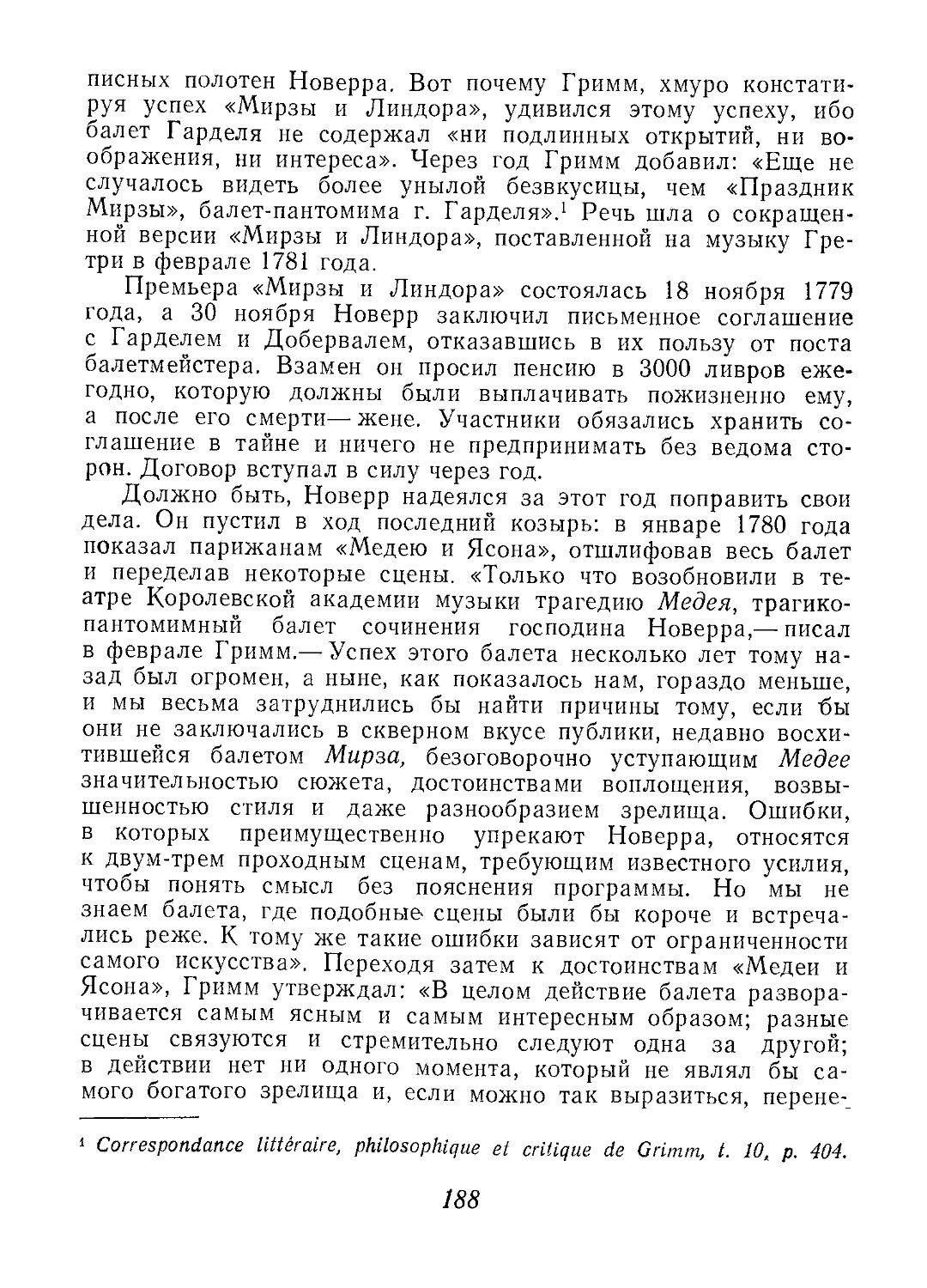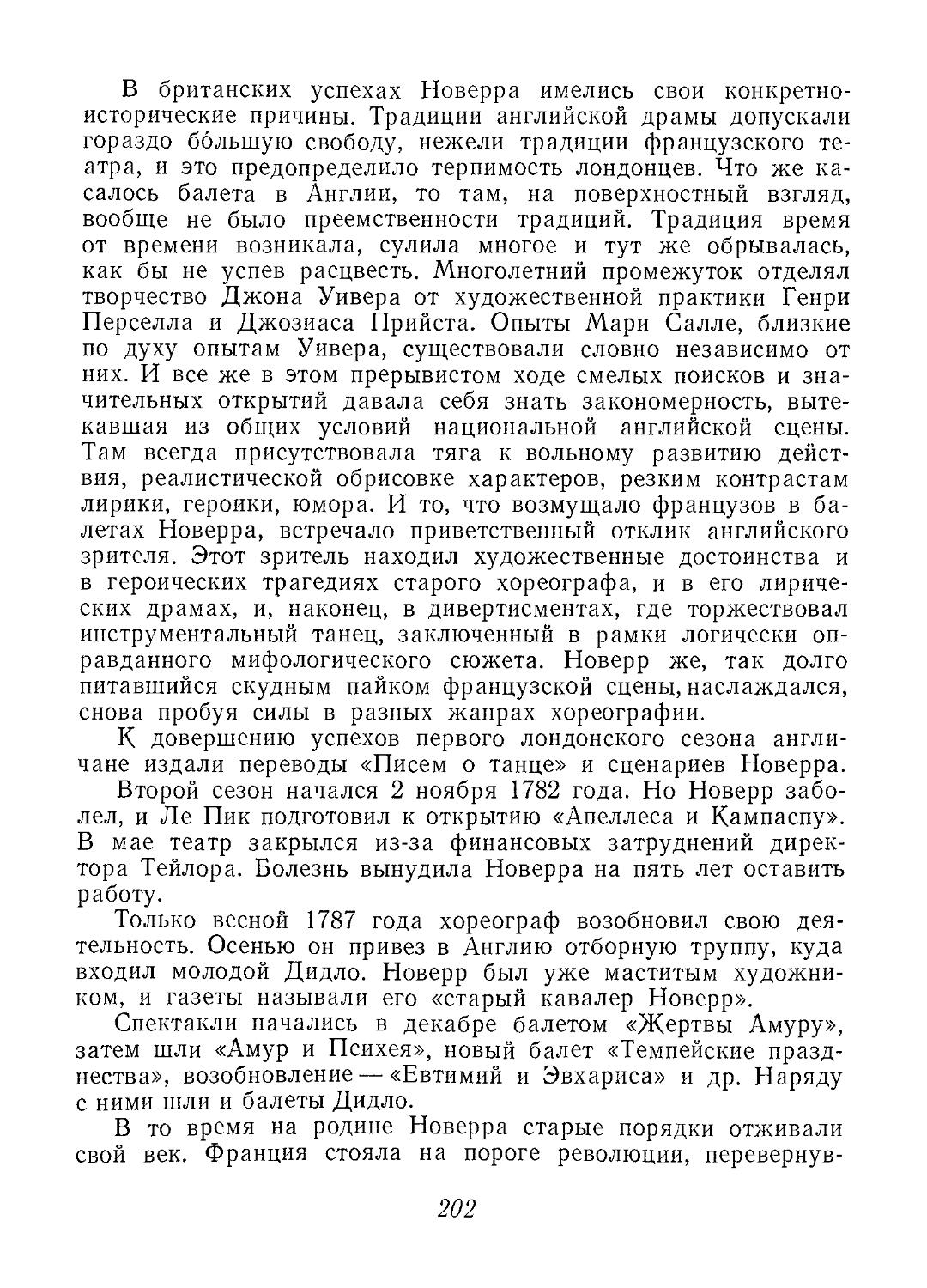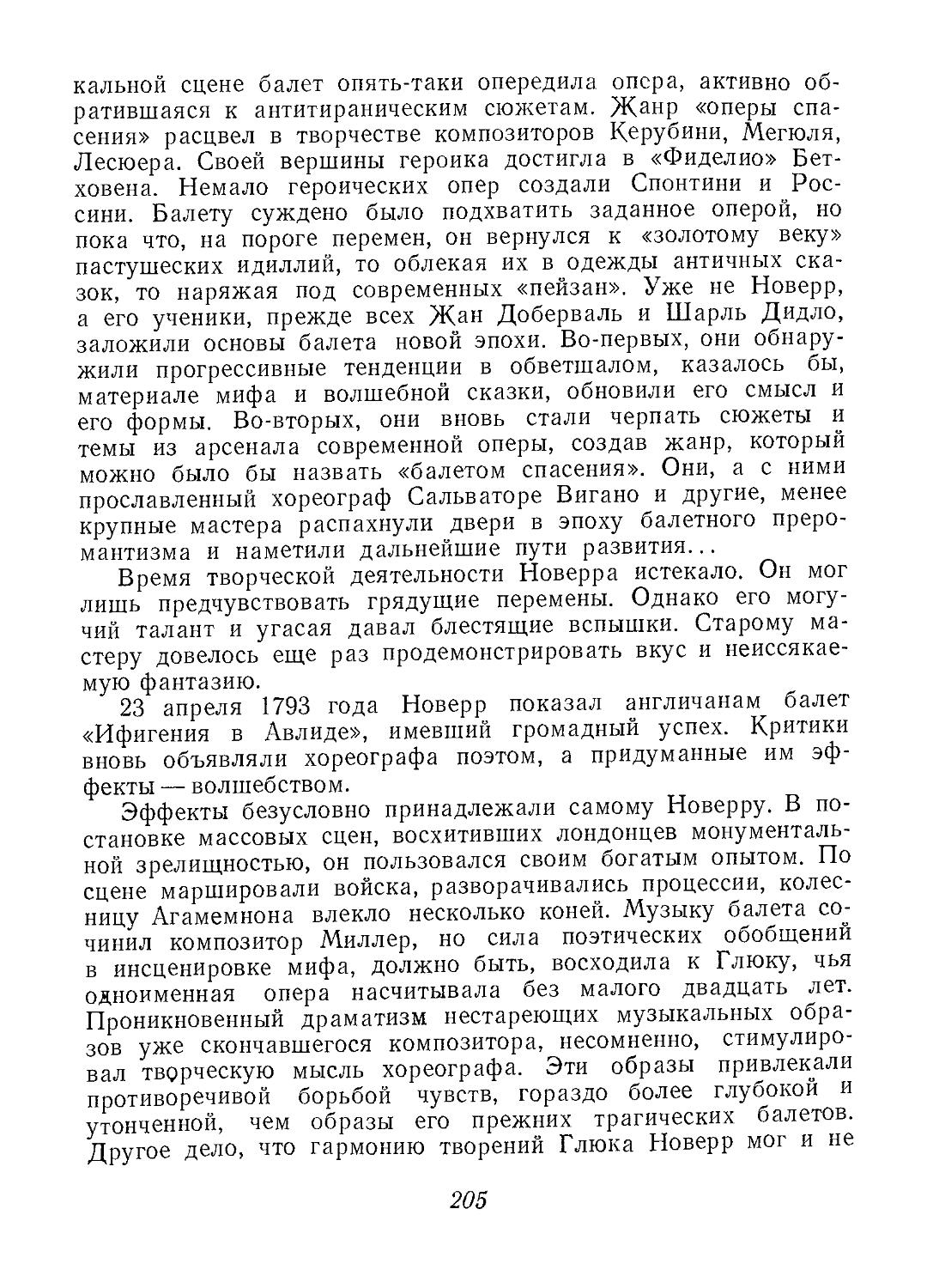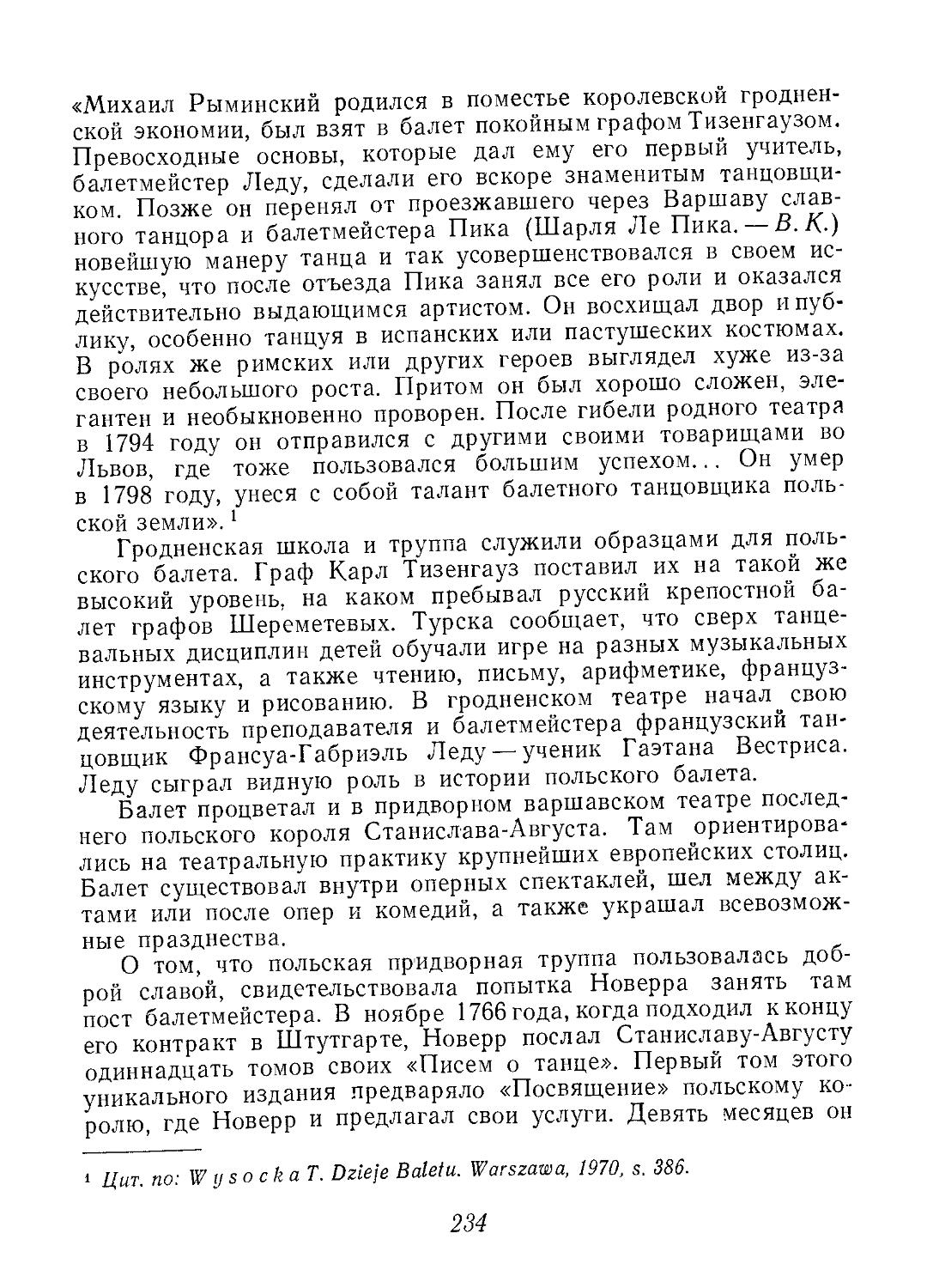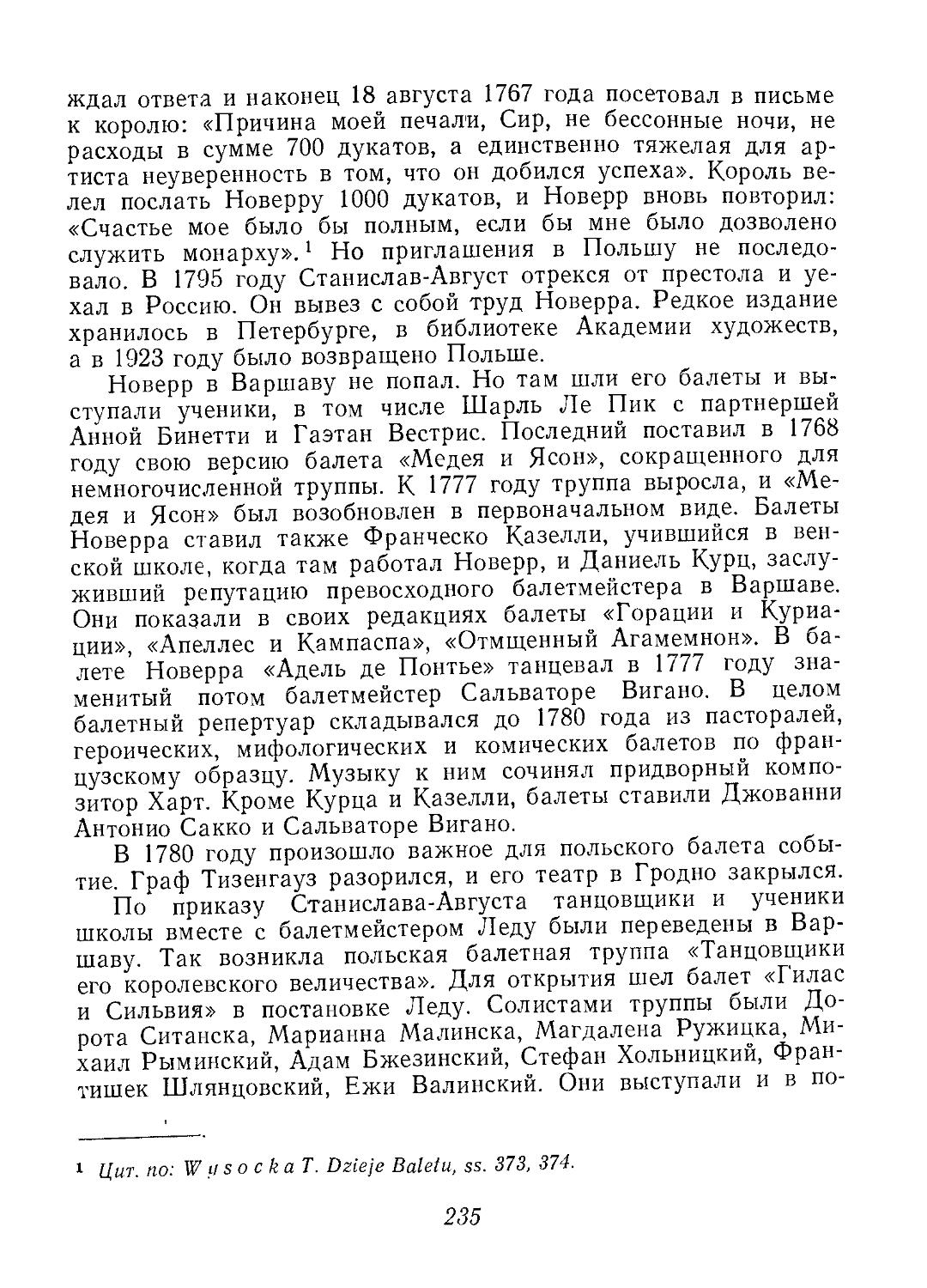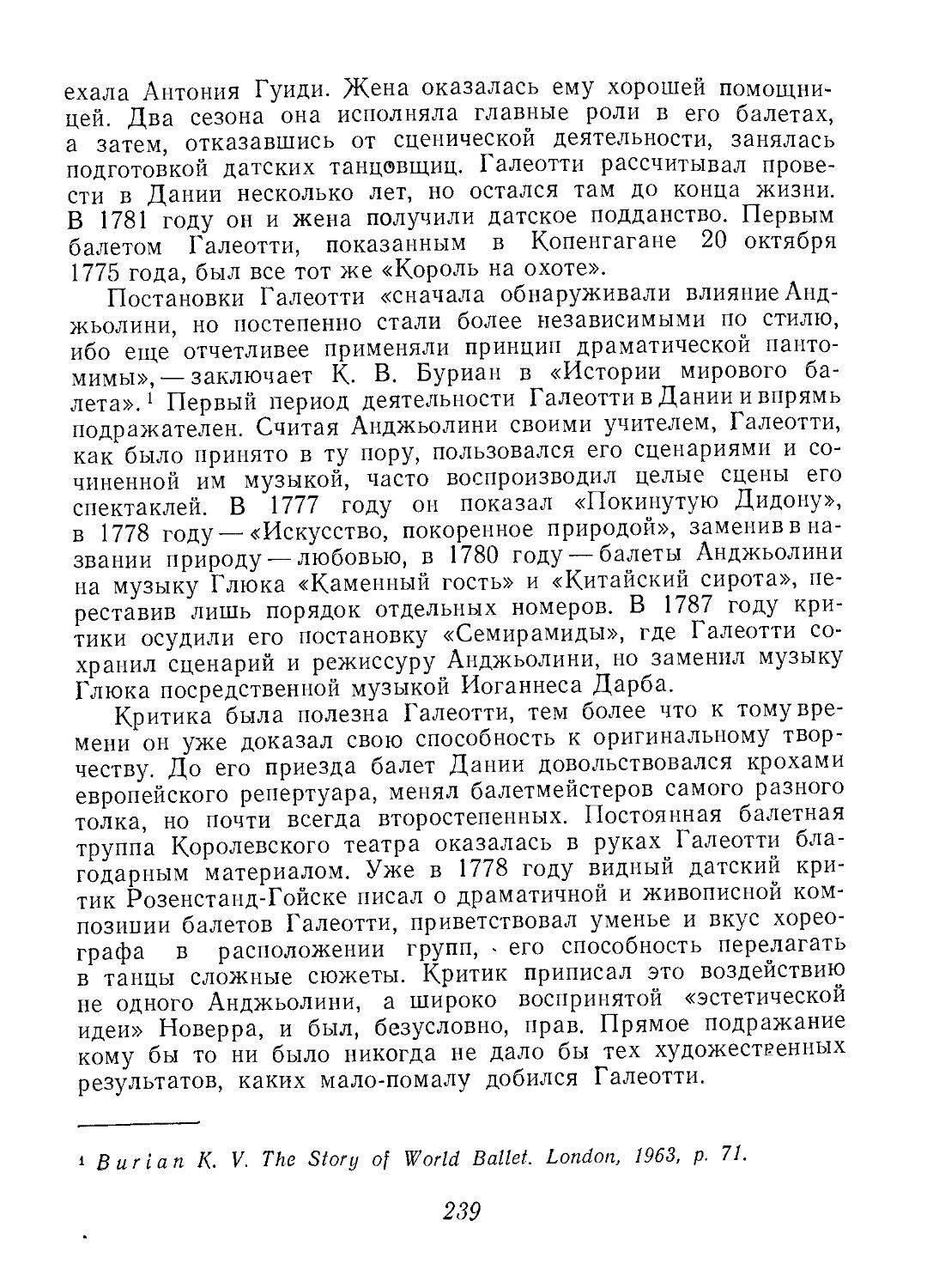Текст
В. КРАСОВСКАЯ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ
БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
от истоков ДО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
ЭПОХА НОВЕРРА
ПРЕРОМАНТИЗМ РОМАНТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
ЛЕНИНГРАД «ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981
В. КРАСОВСКАЯ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ
БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ЭПОХА НОВЕРРА
TATASHiN
ЛЕНИНГРАД
«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981
К 78
Художник Э Кузнецов
80105-058
К ~025(01)-81 43-81 4907000000
© «Искусство», 1981 г.
ОТ АВТОРА
9
ВВЕДЕНИЕ
15
ГЛАВА ПЕРВАЯ БАЛЕТНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 26
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПАРИЖСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА — зд
ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ 39
ГАЭТАН ВЕСТРИС 43
МАКСИМИЛИАН ГАРДЕЛЬ — ТАНЦОВЩИК ОПЕРЫ 52
АЛЛАР 56
ГИМАР 58
НОВЕРР. НАЧАЛО ПУТИ
68
НОВЕРР-ТАНЦОВЩИК 68
ПЕРВЫЕ БАЛЕТЫ ПОВЕРРА
71
ПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ГАСТРОЛИ 79
В ТЕАТРЕ ЛИОНА.
ОПЫТ ДРАМАТИЗАЦИИ БАЛЕТА 81
НОВЕРР И МУЗЫКА 86
ХОРЕОГРАФ-РЕЖИССЕР 91
«ПИСЬМА О ТАНЦЕ И БАЛЕТАХ» 97
НОВЕРР В ШТУТГАРТЕ 101
«МЕДЕЯ И ЯСОН» 111
НОВЕРР В ВЕНЕ 121
БАЛЕТНЫЕ КОМЕДИИ
126
ГАСПАРО АНДЖЬОЛИНИ
136
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
136
в содружестве с глюком, «каменный гость»
140
«СЕМИРАМИДА»
148
ГОДЫ СТРАНСТВИИ
159
ГЛАВА ПЯТАЯ
НОВЕРР И ПАРИЖСКАЯ ОПЕРА
163
ВСТРЕЧА
163
«АПЕЛЛЕС И КАМПАСПА»
165
«ГОРАЦИИ И КУРИАЦИИ»
170
ГЕИНЕЛЬ —ТАНЦОВЩИЦА НОВЕРРА
174
В ПОИСКАХ ВЫХОДА. СОПЕРНИЧЕСТВО С ГАРДЕЛЕМ
177
НОВЕРР — СОТРУДНИК ГЛЮКА
191
СНОВА В ПУТИ
201
207
ГЛАВА ШЕСТАЯ ПОЛЕМИКА АНДЖЬОЛИНИ С НОВЕРРОМ 210
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЗАВОЕВАНИЯ ДЕЙСТВЕННОГО БАЛЕТА
232
БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР ПОЛЬШИ 232 датский балет 237
ИНОСТРАННЫЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ В РОССИИ 245
ОТ АВТОРА
Первая часть настоящего исследования — «История западноевропейского балета от возникновения до середины XVIII века» («Искусство», Ленинградское отделение, 1979) предлагала пеструю картину процесса, протекавшего на территории разных стран. Там речь шла о том, как зарождались основные виды танца и пантомимы, выяснялись черты их различия и сходства, формы их взаимодействия, рассматривался путь от синтетического зрелища с элементами танца к зрелищу собственно балетному. Там действовали хореографы и исполнители, которые одновременно, но врозь закладывали фундамент профессионального балетного театра.
Вторая часть «Истории» заключена в более тесные хронологические рамки — от середины XVIII века до кануна французской революции. В этих границах, под мощным воздействием Просвещения, охватившего все отрасли культуры, хореографическое искусство самоопределялось дальше. Прежде всего, утверждался действенный балет — по сути дела, первая форма самостоятельного балетного зрелища. Процесс был подготовлен предшествовавшим ходом событий и повлиял на последующие судьбы мировой хореографии.
Содержание процесса, гораздо более компактного, нежели раньше, определило композицию и основные проблемно-тематические узлы исследования: центральное место занял Жан-Жорж Новерр — выдающийся практик и теоретик балетного искусства. Новерр-практик много сделал для того, чтобы балет утвердился как самостоятельный вид театрального спектакля.
9
Он создал образцы разных жанров действенного балета, подытожив и закрепив разрозненные поиски предтеч. Новерр-теоре-тик совершил не менее важное дело. Он обобщил уже имевшийся опыт в области эстетики и поэтики балета, проложил мостки для дальнейших открытий. Его «Письма о танце» начиная с 1760-х годов широко распространились среди мастеров балета, обогатили творческую мысль и были признаны многими выдающимися умами Европы. Исполнители и хореографы, от малозаметных до самых крупных, испытали воздействие Но-верра и были связаны с ним: одни — узами преданной веры, другие — путами принципиальной вражды.
Автор стремится ввести тему о Новерре в русло исторического процесса как один из потоков, в надежде, что книга станет сколько-нибудь полезным звеном в цепи наличных и будущих трудов. Здесь нет возможности перечислить все, что уже сделали исследователи Новерра. Но необходимо хотя бы кратко назвать тех, чьи работы позволили написать эту книгу.
Имя Новерра давно привлекает зарубежных историков балетного театра; естественно, интересует оно и советских ученых. Работы последних десятилетий обладают бесспорной ценностью благодаря богатству материала и выводов, касающихся собственно Новерра. Вместе с тем его деятельность иногда предстает в отрыве от общекультурного процесса, вне контекста большой истории человечества. Факты и дела, взятые как данность, сравнительно редко сопоставляются и так же редко подвергаются критическому анализу, хотя логика проделанных разработок вплотную подводит к тому.
Обширный свод материалов являет, например, книга Дерика Линхэма «Кавалер Новерр. Отец современного балета» (Лондон, 1950); она систематизирует события жизни и творчества хореографа, открывая простор для дальнейших обобщений.
Мариан Ханна Уинтер в своей книге «Преромантический балет» (Лондон, 1974) публикует ценные документы и сведения, проливающие новый свет на конкретные постановки Новерра. Книга вообще богата новонайденными материалами из истории балета XVIII века. Но исследовательница словно бы намеренно предлагает свои находки как строительный материал для будущих истолкователей этой истории.
Более широкие задачи ставит перед собой Айвор Гест, крупнейший современный историк балетного театра. В его книге
10
«Романтический балет в Англии» (Лондон, 1954) освещены малоизвестные факты пребывания Новерра в Лондоне 1780-х годов, намечены международные связи этого художника, показан европейский резонанс его творческих идей. Другая книга Айвора Геста, «Балет парижской Оперы» (Париж, 1977), написанная в популярной манере, дает талантливый портрет хореографа в главе «Новерр».
Остроумные наблюдения встречаются в «Истории балета» Пьера Мишо (Париж, 1945), притом что книга имеет справочный характер.
Список зарубежных авторов и их книг можно продолжить, ио, повторяю, объединяет подобные книги в ряде случаев то большая, то меньшая имманентность подхода исследователей, выключающих творчество Новерра из закономерностей общего исторического процесса.
Вскрыть эти закономерности помогают труды крупных советских ученых. К сожалению, у нас еще не было книг, посвященных истории западноевропейского балета XVIII века, зато написаны монографические очерки об отдельных мастерах того времени, в том числе о Новерре. Эти работы помогают нащупать поворотные моменты истории, определить место, занимаемое Новерром, понять и зависимость хореографа от общего процесса, и его воздействие на процесс.
Начинать перечень надо с дореволюционного историка балета А. Я. Левинсона, в книге которого «Мастера балета» (Спб., 1915) есть содержательная глава о Новерре. В талантливом эссе за угадываемым обилием источников вырастает образ эпохи с ее художественными открытиями и потерями. Даже пристрастная критика Новерра как отца пластической драмы (противником которой был Левинсон) не отменяет объективности общей оценки деятельности знаменитого хореографа.
Драгоценный вклад в советское театроведение сделали А. А. Гвоздев и И. И. Соллертинский: по их почину были выполнены первые переводы «Писем о танце» на русский язык. Соллертинскому принадлежат вступительная статья и комментарии к сокращенному переводу «Писем» (Л., 1927) и статья о Новерре в сборнике «Классики хореграфии» (Л., 1937), предпосланная фрагментам из «Писем». Обе статьи Соллертин-ского — отправные точки для советских исследователей истории французского балета, хотя отдельные формулировки и несут отпечаток социологических упрощений эпохи.
И
ОТ АВТОРА
Вклад в советскую балетную науку внес и последний (тоже неполный) перевод «Писем о танце» Новерра (Л.—М., 1965).1 Вступительная статья Ю. И. Слонимского дает полезный очерк деятельности Новерра и балета его времени.
Заслуги Новерра давно признаны и позволяют вынести его имя в название книги, посвященной одному из самых содержательных периодов в истории балетного театра. Полнее попять и оценить картину времени можно, сопоставив деятельность Новерра с деятельностью его менее известного, но выдающегося современника — хореографа Гаспаро Апджьолнпн.
Ученик и последователь хореографа Франца Хпльфердпнга (чье творчество рассматривалось в предыдущем томе), Анджьо-лини считал себя — и слыл — убежденным противником Новерра. Между тем внимательный знали i практики п эстетических взглядов обоих хореографов покачивает их п (начальное идейное родство, возросшее на почве просветительского движения.
Факты устанавливают, что Анджьолини увлекался теми же идеалами, верил тем же авторитетам, ставил перед собой те же творческие цели, что и Новерр. И он идеалом балетного театра видел спектакль с логически последовательной п стройной драматургией, воплощенной выразительными средствами пантомимы и танца. И он стремился достичь этого идеала, пробуя силы в разных жанрах действенного балета. Наконец, Анджьолини изложил свои теоретические взгляды в двух «Письмах к господину Новерру по поводу балетов-пантомим», а также в предисловиях к собственным балетам. Эти его труды полемически проясняют значительность продиктованной временем и, в сущности, общей борьбы за эстетическое самоопределение балетного искусства.
Историческим парадоксом следует считать то, что имя Анджьолини было надолго забыто, и только в начале XX века заново открылась фигура этого выдающегося деятеля хореографии. К настоящему времени исследователи балетного театра собрали обширный фактический материал, опубликовали часть литературного наследства Анджьолини, ввели в научный обиход отдельные места из его спора с Новерром.
Развернутую биографическую справку об Анджьолини предложил историк балета Джино Тани в первом томе итальянской
1 Из-за несовершенства существующих переводов «Писем о танце» автор предпочел цитировать их в собственном переводе.
12
ОТ АВТОРА
«Энциклопедии зрелищ» (Рим, 1954). Алоиз Мозер во втором томе своего содержательного труда «Летопись о музыке и музыкантах в России XVIII века» (Женева, 1951) внимательно проследил, на основе архивных и мемуарных документов, деятельность Анджьолини в России. Уолтер Тосканини опубликовал программу балета Анджьолини «Семирамида» и авторское пояснение к ней (Милан, 1956). Дерик Линхэм в уже названной книге о Новерре несколько предвзято осветил деятельность Анджьолини—с позиций апологетов его знаменитого соперника. Ряд проницательных мыслей о творческом методе Анджьолини высказала в своем «Преромантическом балете» Мариан Ханна Уинтер. Можно добавить, что сейчас уже ни один исследователь, обращаясь к истории мирового балетного театра, не обходится без раздела, посвященного Анджьолини. Краткие справки об Анджьолини как сотруднике Глюка в Вене дают труды зарубежных и советских музыковедов.
Особо следует назвать книгу А. А. Гозенпуда «Музыкальный театр в России от истоков до Глинки» (Л., 1959). Этот фундаментальный труд не содержит развернутой характеристики Новерра, поскольку тот никогда не посещал России. Зато рассмотрена деятельность Хильфердинга и Анджьолини, работавших в Петербурге и Москве. Тонкий анализ их творчества исчерпывающе документирован и дан на широком просторе исторического процесса. Это помогает понять природу преемственности и соперничества трех выдающихся хореографов XVIII века, до сих пор мало изученную театроведами.
Пока что не исследован всерьез и значительный литературный памятник эпохи — письма Анджьолини к Новерру. Итальянский оригинал «Писем» не переведен на другие европейские языки; не изучены и не комментированы содержащиеся в нем мысли. Между тем полемика Анджьолини с Новерром проясняет закономерности мирового балетного процесса второй половины XVIII века и тенденции дальнейшего развития. Автор настоящей книги пытается разработать эту важную тему и неоднократно обращается к литературному наследству Анджьолини, пользуясь собственным переводом текстов.
А. А. Гозенпуду и В. В. Чистяковой — постоянным рецензентам книги — автор выражает глубокую благодарность за серьезную конструктивную критику и ценную помощь на разных этапах работы. Автор также благодарит Л. А. Линькову, Э. К- Норкуте, Н. П. Рославлеву, И. И. Слонимскую, Б. А. Смирнова, И. В. Ступникова, Е. Я- Суриц и сотрудников отдела
13
«Полиграфия» Ленинградской государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинградской театральной библиотеки имени А. В. Луначарского, научной библиотеки Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Ценную помощь материалами и справками оказали Айвор Гест (Англия), Хорст Кеглер (ФРГ), Фридерика Дерра де Морода (Австрия), Джозеф Гейл, Анна Киссельгоф, Сельма Джейн Коэн, Барбара Монтер, Лилиан Мор (США). Автор благодарит и всех друзей и коллег, помогавших в работе над книгой.
ВВЕДЕНИЕ
Вторая половина XVIII века — значительный период в истории мирового балетного театра. Прежде предпринимались единичные, разрозненные попытки создать цельный спектакль исключительно средствами хореографии. Теперь такой спектакль появлялся в музыкальных театрах многих стран. К нему порывались пылкие реформаторы сцены, он привлекал и хореографов-эпигонов. Послушные зову моды, эпигоны упускали из виду главную цель — то современное содержание, ради которого выковывались формы самостоятельного спектакля. Уловить эту цель им было тем труднее, что содержание, требуя новых, сложно организованных форм музыки и танца, часто оставалось в лоне давних сюжетных схем. Музыкальный театр отличался от драматического своим постоянством и по-прежнему широко обращался к мифам, историческим легендам, волшебным сказкам. Впрочем, балет и опера неравнодушны к темам античной фантазии и в наши дни. Музыканты и хореографы каждой эпохи по-своему раскрывают ситуации, рисуют характеры, наполняют новым смыслом традиционные, казалось бы, сюжеты. Вместе с тем, во второй половине XVIII века начала развиваться оперная и балетная комедия по мотивам современной жизни. Именно там нагляднее всего обозначился эстетический перелом, вызванный общим ходом развития культуры.
Из недр одряхлевшего европейского феодализма поднимался и все уверенней заявлял о себе молодой класс буржуазии, стремившийся изменить на свой вкус незыблемые, казалось, устои миропорядка. Одно из центральных европейских государств —
15
Франция готовилась к мощному революционному взрыву. Победоносные идеи французских просветителей предвещали близость перемен. Разум провозглашался основой всего сущего. С позиций рационалистического познания мира энциклопедисты критиковали действительность — от государственных порядков до эстетических норм искусства. Призыв изучать природу в ее естественных проявлениях, а не созерцать ее как некий возвышенный идеал стал путеводным для всех искусств.
Драматический театр прислушался первым и избрал сюжеты из мещанской среды, поместил героев в простые жизненные ситуации, понятно и оправданно раскрыл характеры в выражении чувств, заставил героев декламировать программные девизы современности.
Музыкальному театру труднее было порывать с придворной традицией. Многосторонне охарактеризовал эту традицию итальянский литературовед Де Сантис, говоря об искусстве Метаста-зио, который прославился с 1720-х годов как реформатор оперы. Сценариями этого поэта пользовались многие европейские композиторы, его лирическим даром восхищались Вольтер и Руссо. Но во второй половине XVIII века абстрактно-героическая направленность его творчества уже выглядела реакционной. «Это самый законченный образ общества, стоящего на грани распада,— пишет Де Сантис,— общества, установления которого были еще героическими и феодальными, словно пустая оболочка духа, когда-то его воодушевлявшего, и которое под прикрытием этой героической видимости было сонным, бездумным, женоподобным, идиллическим и плебейским. Присмотритесь к нему. Это общество надушено, напудрено, с косичками, со шпаженками, жеманное, томное, чувствительное, как женщина, только и твердящее: «мой кумир», «мое сокровище», «моя жизнь». Поэзия Метастазио аккомпанирует этому обществу своей декламацией, своей кантиленой; словам уже больше нечего выразить; они — общие места, которые приобретают значение, только превратившись в трель со своими фугами и руладами, с высокими и низкими тонами; слово уже не идея, а звук, смягченный интонацией, убаюканный рифмами, превратившийся во вздох».1
Поэтика, царившая в опере, тем более распространялась на балет, живший внутри оперы и по ее законам. Балетный образ давно утратил даже видимость героики. Он утончился в жеман
1 Де Сантис Ф. История итальянской литературы. М., 1964, т. 2, с. 440.
16
ных пасторалях, в однообразно изысканных аллегориях. Танец, как и пение, блистал общими местами, где своя техника трелей и рулад требовала высокого, но выхолощенного исполнительского мастерства, за которым не таилось ни живого чувства, ни духовного взлета.
Энциклопедисты порицали практику музыкального театра, требуя правдиво изображать действительность. «В этот период,— пишет советский эстетик В. П. Шестаков,— окончательно формируется материалистическое в своей основе воззрение на музыку как на подражание природе, устанавливается представление о трех видах подражания: 1) звукам одушевленной или неодушевленной природы; 2) аффектам или страстям души; 3) акцентам и интонациям речи».1 Принципы музыкальной эстетики обновлялись на глазах, и это чрезвычайно интересовало Руссо, Д’Аламбера, Дидро, Фридриха Мельхиора Гримма. Рассматривая прежде всего оперу, они не обошли и балет, по сути дела обосновали логику его самостоятельного развития.
Их критика балетного искусства может быть разделена на две части. С одной стороны, они хотели упразднить балет как вставной дивертисмент, механически включенный в оперный спектакль. С другой — вполне признавали балет как достойный вид искусства, заслуживающий право и на место в опере, и на независимое бытие. Они имели в виду преимущественно практику Королевской академии музыки в Париже — театра, где охранялись традиции придворного балетного танца.
Танец там существовал при опере. Балетные интермедии и отдельные номера входили в оперные спектакли на правах самостоятельных, не связанных с действием эпизодов. Против этих приложений к действию и выступали энциклопедисты.
Руссо писал в статье «Опера» о взаимодействии литературного текста, музыки и живописи: «Сохранение в опере трех искусств образует прекрасное связанное целое. Была попытка ввести сюда еще четвертое искусство, о котором мне и остается поговорить». Добавив, что «набор красивых поз и ритмичных движений... ничего не говорит разуму», он утверждал: «Чем приятнее вставные зрелища» из танцев такого рода, «тем сильнее они искажают целое». Его раздражало, что балетные дивертисменты, прерывая оперу, «заставляют забыть о главном сюжете» и расхолаживают зрителей. Считая танец «посторон
1 Шестаков В. П. Вступительная статья.— В кн: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII веков. М., 1971, с. 40.
ним украшением», Руссо отвергал его и как «составную часть», помогающую действию оперы, ибо на звучащую речь нельзя отвечать языком жестов. И Руссо требовал «изгнания из оперы празднеств и дивертисментов, которые не только задерживают действие, но либо вовсе ничего не говорят, либо внезапно подменяют уже принятый язык другим, противоположным, и подобный контраст в одном и том же действии или во вставном эпизоде уничтожает правдоподобие, ослабляет интерес и оскорбляет разум. Это еще хуже, чем преподносить зрителю в дивертисменте только бессмысленные прыжки и бессодержательные танцы — причудливое и варварское нагромождение, вместо того, чтобы изображать и подражать природе». Однако, чтобы не «лишать театр одного из лучших украшений», Руссо предлагал затем дать место балету после того, как опера окончится. Тогда балет, «подобно небольшой пьесе после трагедии, явится весьма приятным завершением спектакля». Но для этого надо создать «условный язык» пантомимы и танца.1
Иначе думал Фридрих Мельхиор Гримм, другой участник Энциклопедии. Он также сетовал на балеты, которые останавливают действие опер и «вследствие того постоянно разрушают общее впечатление от спектакля». Но он допускал присутствие в опере танца, вносящего в действие исторический колорит. «Заметьте, что танец в пьесе может быть историчен, как песня»,— писал Гримм и приводил любопытное рассуждение: «Наделите меня вдохновением гения, и я покажу вам Екатерину Медичи, готовящую резню Варфоломеевской ночи посреди празднеств и танцев на свадьбе короля Наварры. Если я буду столь искусен, чтобы передать контраст внешнего покоя, за которым просматриваются жуткие злодеяния, смесь галантности и жестокости потрясет вас до мозга костей».2
Надежду на гения, который добудет балету равное место в ряду искусств, выразил и Дидро в «Беседах о „Побочном сыне"». Обсуждая права и обязанности сценических искусств, он посвятил балету несколько содержательных страниц. «Танец ждет еще своего гения,— говорилось там.— Он плох повсюду, ибо едва ли кому приходит в голову, что это жанр подражательный. Танец относится к пантомиме, как поэзия к прозе
1 Руссо Ж.-Ж- Избр. соч. в 3-х т. М., 1961, т. 1, с. 282—284.
2 Correspondance inedite de Grimm et de Diderot et recueil de lettres, poesies, morceaux et fragments, retranches par la Censure Imperiale en 1812 et 1813. Paris, 1829, p. 227.
18
или, вернее, как простая декламация к пению. Это размеренная пантомима». Подвергнув критике современные ему сценические танцы, Дидро выдвигал свой идеал: «Танец — это поэма. Такая поэма должна иметь свое отдельное представление. Это подражание посредством движений, которое требует содействия поэта, художника, музыканта и пантомимиста. Эта поэма имеет свой сюжет, и этот сюжет можно разбить на акты и сцены. В сцене есть свой речитатив, свободный или связанный, есть своя ариетта».1
Дидро тут же предлагал сюжет такой подражательной поэмы. Он был разбит на несколько эпизодов, и его можно было воплотить в пантомимном речитативе и танцевальных ариеттах. Повестушка о влюбленной крестьянской парочке, чьи невинные шалости прерывала гроза, была хрестоматийна. Внешне она опиралась на тематику, давно разработанную сценаристами ярмарочного театра и композиторами комической оперы. В 1757 году, когда были изданы «Беседы о „Побочном сыне“», балетный театр мог противопоставить замыслу Дидро собственные, более сложные по содержанию «поэмы», где и пантомима, и танец играли действенную роль. Все же сценарий Дидро был важен как некий ориентир в сфере безыскусных чувств, развивающихся на фоне естественной природы. Он был важен в общем плане, ибо позволял балету изрекать устами своих практиков истины, близкие словам философа: «Я открыл свою душу действию. Я ждал первых впечатлений. Проникался ими... Я расспрашивал художников и понял, что такое тонкость рисунка и правдивость натуры».2
Эстетика Дидро открывала заманчивые перспективы перед деятелями балетного театра. Но еще ближе им были эстетические принципы Вольтера — рационалистическая система норм прекрасного и правил дисциплинированного вкуса. Эстетика классицизма импонировала хореографам, стремившимся доказать серьезность своего искусства. А классицистская драматургия Вольтера как раз достигла расцвета, когда балет вступал на этот путь. Вершиной стремлений балетного театра стала трагедия, воплощенная посредством движущейся пластики взамен звучащего слова. Дидро-драматург обращался к современности; философские диалоги его пьес были слишком умозри
1 Д и д р о Д. Собр. соч. в 10-ти т. М.— Л, 1936, т. 5, с. 169—170.
2 Там же, т. 6, с. 93.
19
тельны для балета. Вольтер заимствовал сюжеты трагедий и драм из истории, легенд, не чуждался экзотики и фантастики, порой ловил предвестья нарождающегося сентиментализма. Хореографы не подымались до политически злободневной морали Вольтера-драматурга. Их привлекали трагедии, где страстные герои вступали в резко обозначенные конфликты, где действие протекало в далеких от обыденного обстоятельствах. Это было необходимо балету — виду музыкального театра, увлеченному новейшей разработкой теории аффектов. Недаром и Новерр, и Анджьолини, два наиболее крупных хореографа эпохи, в своих взаимных теоретических спорах защищались один от другого именем Вольтера и апеллировали к нему.
Так или иначе, балетмейстеры второй половины XVIII века, выстраивая свои реформы на практике и в теории, прежде всего обращали взоры к современной им эстетике и драматургии. С музыкой они находились в более сложных отношениях. Вступая в содружество с крупнейшими композиторами времени, столь богатого талантами, они бывали негибки и консервативны. Нередко в подобных союзах обе стороны несли урон. Балетмейстеры, как правило, предпочитали главенствовать. Композиторы высоко одаренные или только владевшие ремеслом равно устраивали их, если давали распоряжаться композицией, структурой, эмоциональной насыщенностью спектакля. Все же практика сотрудничества в корне изменилась — как раз потому, что новый балетный спектакль уже нуждался в развернутой и упорядоченной композиции, в многообразии развитых структурных форм, в смене сильных, а главное, конкретных эмоций. Такая практика уже далеко отошла от практики балетных интермедий, где музыка обычно являла собой цепь разных пьес, нанизанных одна на другую. В подобных канонических сюитах можно было менять местами номера, лишь бы сохранялись контрасты темпов — повод для демонстрации всевозможных видов танцевальной техники. В самих пьесах только исподволь обнаруживались общие признаки характерности. Теперь действие балета формировало характеры и требовало соответственного музыкального текста.
Самым крупным балетным композитором был тогда Иозеф Старцер. Он сотрудничал с Хильфердингом, а потом с Новер-ром и работал в Вене, Париже, Петербурге. Партитуры Стар-цера помогали хореографам создать драматически цельный спектакль, намечали характеры, сжато изображали чувства действующих лиц в нормах эстетики классицизма. С Новер-
20
ром работали композиторы Франсуа Гранье, Флориан Дел-лер,1 Жан-Жозеф Родольф, Франц Аспельмайр. Разные по степени таланта и мастерства, они также следовали принципам спектакля с четкой и последовательно развивающейся драматургией. Анджьолини довелось ставить балеты Глюка в прямом сотрудничестве с композитором. Он часто сам сочинял партитуры своих балетов, и врожденная музыкальность выводила его к открытию новых связей музыки и танца.
И во второй половине XVIII века главные успехи балетной музыки осуществлялись в лоне оперы. Правда, Кристоф Виллибальд Глюк работал с Анджьолини на пороге своей оперной реформы. Он написал тогда партитуры двух балетов, и это был наиболее весомый, при всей краткости, опыт соавторства в балетном театре XVIII века. И успех, и непродолжительность союза объяснимы. С одной стороны, композитор и балетмейстер находили общий язык потому, что Анджьолини был профессиональным музыкантом. С другой стороны, Глюк в ту пору еще только приступал к разработке собственной стройной концепции лирического спектакля и охотнее, чем потом, шел навстречу хореографу.
Глюк совершил реформу на почве оперы. В то время старая опера достигла вершин и ее великолепные традиции уже не предполагали дальнейшего развития. Демократическое искусство Глюка выразило себя в новизне духовной жизни, в естественности и глубокой человечности чувств, владевших героями его лирических трагедий. Внешне сохраняя концертную статуар-ность действия, опера полнилась изнутри новым содержанием. Певцы, оставаясь в предписанных давним обычаем костюмах, сохраняя медлительную условность пластического жеста, могли передавать средствами вокала новый поэтический смысл образов: их необычный героический пафос, невиданную силу и страстность их чувств.
Материал балетмейстера — тело танцовщика, чья выразительность больше, чем голос певца, зависит от внешних усло
1 Партитуры балетов «Ревность в серале» Гранье и «Смерть Геракла», «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Праздник Гименея», «Эней и Лавиния» Делле ра составляют III, IV, V и VI тома рукописного памятника «Musique des Ballets composee d’apres les programmes de Mr. Noverre», который входит в одиннадцатитомное издание «Писем о танце» Новерра. До 1923 года этот экземпляр находился в СССР, был передан в Польшу и хранится в Кабинете гравюр Варшавского университета. Партитуры представляют несомненный интерес для исследователей балетной музыки эпохи.
21
вий сцены. Значительную роль играет костюм, а он на протяжении почти всего XVIII века утяжелял пластическую речь танцовщиков и тормозил ее развитие. Существенней, однако, другое обстоятельство, связанное с преобладанием изобразительных начал в искусстве хореографии. Рассчитанное на зрительное восприятие, это искусство подчинено нормативам эпохи, ориентируется на живопись, скульптуру, даже архитектуру и прикладные ремесла своего времени. В известной мере оно подвластно общим правилам театрального мизансценировапия, которым, в конечном счете, подлежит и оперное искусство (обладающее, однако, преимуществом перед балетом в плане выразительных начал). Потому именно в балете композитор, заключая союз с постановщиком, должен знать и соблюдать эстетические нормы его искусства, объективно заданные эпохой, изменяющиеся медленнее, чем изменяются нормы музыки, но способные, правда, нагнать упущенное сравнительно внезапным и резким скачком. Такой качественный скачок готовился во второй половине XVIII века, и оперная музыка Глюка содействовала ему. Притом в прямых контактах с современным балетом это почти не обнаруживалось, исключая сотрудничество Глюка с Анджьолини в Вене.
Здесь важно другое. Контакты музыки с балетом во второй половине XVIII века стали значительно теснее и глубже, чем это бывало раньше. Почвой же для контактов оказалось стремление балета утвердить себя как самостоятельное театральное зрелище.
Такое зрелище требовало пересмотра поэтики балетного искусства, казалось бы, прочно закрепленной на сценах европейских театров. То, что раньше заявляло о себе в единичных пробах, но не становилось общим достоянием, теперь постепенно превращалось в эталон. К началу века главенствовали перепевы пасторальных интермедий и концертные номера виртуозов, соревновавшихся в последних достижениях балетной техники внутри оперных представлений. Номера передавались по наследству от исполнителя к исполнителю, не требуя вмешательства хореографов. И хореографов, по сути дела, не было. Имелись танцмейстеры — знающие учителя, которые оттачивали и совершенствовали технику исполнителей. Опыты действенного балета оставались островками дерзкой мысли в этом море утонченных, но бездуховных композиций. Англичанин Джон Уивер создал в Лондоне два балета — «Любовные похождения Марса п Венеры» (1717) и «Миф об Орфее и Эвридике» (1718). Во
22
Франции, на придворных празднествах в Со (1714), Франсуаза Прево и Жан Валон показали эпизод из трагедии Корнеля «Горации». В 1734 году француженка Мари Салле поставила на лондонской сцене балеты «Пигмалион» и «Бахус и Ариадна». В 1742 году австриец Франц Хильфердинг сочинил для венского театра три пантомимных балета на сюжеты французских трагедий. То были «Британник» Расина, «Идоменей» Кребийона и «Альзира, или Американцы» Вольтера.
Практика Хильфердинга уже перекидывала мост к новому времени, когда повсеместно начал утверждаться действенный балет. Сам Хильфердинг больше не обращался к трагедийному репертуару. Но в балетах на темы античных мифов он продолжал отстаивать принципы самостоятельной драматургии, перенеся свои опыты в 1760-х годах из Вены в Петербург.
В Вене и в Петербурге опыты Хильфердинга продолжил его наследник Анджьолини уже с последовательных, подкрепленных теорией позиций. На сходных позициях стоял Новерр, чьи «Письма о танце и балетах» образовали коран балетного искусства второй половины века.
Новые эстетические нормы выдвигали как образец балетный спектакль, выстроенный по правилам драматического театра. Он должен был иметь крепкую драматургическую основу, содержать завязку действия, его конфликтное развитие и развязку. Ему следовало, как и драме, состоять из нескольких актов, протяженность которых, правда, была значительно короче. Здесь сказывалась своя закономерность, потому что выразительные средства хореографии не способны были передать философскую риторику драмы классицизма.
Тем не менее поборники действенного балета стремились к рационалистическому воплощению действия. Впрямую перенося логику современной им драмы в балет, они нередко игнорировали его собственные ценные возможности, например виртуозный танец.
Танец трагических и героических балетов в общем-то существовал на тех же правах обособленных номеров, какие предоставляла ему и опера, а случалось, даже утрачивал технический блеск, накопленный внутри оперных дивертисментов.
Главным средством изображения ситуаций, обрисовки характеров, передачи эмоций сделалась пантомима — ритмизованный на музыке пластический речитатив. Посредством него произносили монологи и объяснялись в диалогах герои балетных трагедий. Музыка, диктуя ритм, скрепляя им пластический рисунок
23
поз и жестов, выполняла в большинстве случаев служебную роль. Подлинным образцом, на который равнялись хореографы, была декламация драматических актеров. Ее скандированным метрам, ее выверенным повышениям и понижениям интонаций, ее заботливо выдержанным паузам перед рассчитанно стремительными фразами подражали сочинители пантомимных текстов действенного балета. В драматических спектаклях декламация была главной заботой актеров. Жест не столько дополнял и пояснял, сколько украшал произносимый текст.
Притом пластика драматических актеров была близка балетной, так как требовала относительно развернутых наружу ног, фиксированных и преимущественно фронтальных положений тела, правильных движений рук. Борьоа за правдоподобней естественность жеста в драматическом театре лишь намечалась, и среди ее зачинщиков был Вольтер. На балетной сцене жест, с одной стороны, возникал свободнее в пространственно-временной протяженности пластики. С другой же стороны, жест был еще более регламентирован, обобщен, порой зашифрован как заменитель звучащего слова.
Пантомимная трагедия почиталась вершиной, к которой стремились хореографы второй половины XVIII века. Понимая сложность задачи, они охотно обращались к хорошо известным сюжетам, например к уже испробованным оперой. Но и тут приходилось прибегать к обстоятельным программам, пояснявшим трактовку избранной темы, иногда пользоваться титрами— надписями, появлявшимися на сцене по ходу действия.
В отличие от драматических пьес, балетные трагедии включали массовые эпизоды: шествия придворных, воинов, жрецов, сражения, праздничные игры и пляски. Там чаще всего и возникал танец в виде развернутых кордебалетных или сольных номеров. Танец, раскрывающий характер персонажа или владеющие персонажем эмоции, в трагедиях встречался редко. Еще реже танец двигал ситуации балета, разрешал кульминационные моменты действия. Танцем такого рода было легче овладеть в комедии, где сами ситуации постоянно предлагали для этого благодарный материал.
Но и в балетных комедиях хореографы избегали оригинальных сюжетов. Они предпочитали переводить на язык своего искусства сценарии модных комических опер, а иногда пользовались их готовой музыкой. Это облегчало задачу и в целом не противоречило практике музыкального театра. Ведь в ту эпоху и серьезная и комическая опера постоянно повторяла готовые
24
литературные схемы: порой разные композиторы соперничали в сочинении музыки на один и тот же сюжет, даже на одну и ту же его сценарную версию. Достаточно напомнить, что в «Ар-миде» Глюк воспользовался сценарием Филиппа Кино, написанным столетие назад для Люлли; притом знакомая сюжетная схема дала материал для нового содержания и облеклась в новую музыкальную форму. Балет следовал общим законам и нормам. Он не ставил себе целью опередить другие сценические искусства, а лишь стремился занять достойное место среди них.
Теперь он ратовал за независимость и там, где давно существовал, и там, где появился сравнительно недавно. Преобладающее большинство хореографов XVIII века было уроженцами Италии и Франции, то есть стран, непрерывно ведших балетную историю с XVI века. Но многие из этих хореографов не находили на родине ни творческого, ни материального удовлетворения. Разбредаясь по всей Европе, они надолго, если не на всю жизнь, бросали якорь в странах, далеких от знаменитых очагов балетного искусства. Там они закладывали основу театров и школ, которым суждено было открыть вскоре новые и плодотворные пути, а впоследствии превзойти предшественников.
Достаточно сказать, что в молодых сравнительно театрах силами хореографов-пришельцев были созданы трагические балеты на оригинальные темы национального эпоса приютивших их стран. В 1772 году Гаспаро Анджьолини создал на петербургской сцене русский балет «Семира» по исторической трагедии Сумарокова. В 1788 году Франсуа-Габриэль Леду поставил в варшавском театре балет «Ванда» на сюжет древней польской легенды. В 1801 году Винченцо Галеотти показал в Копенгагене балет «Лагерта», заимствованный из старинной датской саги. То были пусть единичные, но дерзкие опыты, которым мало что могли противопоставить Франция, Италия, Германия и Австрия, хранившие верность античности и бродячим сказочным сюжетам. Новерр, Максимилиан Гардель, Жан До-берваль и другие избирали национальные сюжеты только для балетных комедий.
В целом вторая половина XVIII века была эрой самоутверждения балетного театра на позициях зрелого и независимого искусства. Балет ставил перед собой сложные и смелые задачи. Он широко раздвинул границы практики. Он выстроил новейшую теорию, которая практику опережала и заглядывала далеко вперед.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
БАЛЕТНАЯ КАРТА ЕВРОПЫ
Во второй половине XVIII века сеть балетных театров раскинулась по всей Европе. Язык танца международен, а хореографы и исполнители легко передвигались по узловым пунктам этой сети, притерпевшись к неудобствам средств сообщения.
Центром балетного искусства была Франция, цитаделью — Королевская академия музыки в Париже, горделиво охранявшая славу своих столетних устоев. Но в пору великих перемен академизм придворных традиций все больше отдавал консервативностью. Ведь тут же рядом, в Париже, работал театр Комической оперы. Он оспаривал первенство и часто побеждал в постановках действенных балетных спектаклей, па которые робко отваживалась Королевская академия. Успешно ставились балеты в Лионе и Бордо, где труппы по уровню иной раз не уступали столичным. На сцене лионского театра в 1750-х годах начинал карьеру новатора Новерр. К концу века Доберваль создал в театре Бордо свои знаменитые балеты.
В Германии удачливым соперником парижской Оперы заявил себя театр Штутгарта, столицы герцогства Вюртемберг. Придворный по назначению, театр был относительно молод и не имел ни сценических, ни школьных традиций. Потому он гостеприимно распахивал двери перед пришельцами — сценаристами, композиторами, балетмейстерами, актерами. Там волею обстоятельств складывались творческие союзы — глашатаи новых художественных принципов и форм. В Штутгарте создал Новерр многие из лучших, наиболее известных своих бале юв.
26
Богатством музыкальной жизни славилась столица Австрии Вена. На сцене ее придворного театра в 1760-х годах заложил основы своей оперной реформы Глюк. В содружестве с Глюком хореограф Анджьолини продолжил и развил поиски своего учителя — Франца Хильфердинга — в области действенного балета. Когда на смену Анджьолини приехал Новерр, он был уже признанным мастером и нашел в Вене благоприятные условия для воплощения своих творческих идей.
Место «покровительницы талантов» занимала буржуазная Англия. В Лондоне не было придворного музыкального театра с твердой субсидией и постоянной труппой, не было, соответственно, и профессиональной балетной школы. Танец оставался одной из дисциплин в частных пансионах. Потому после смелых постановочных опытов Джона Уивера и блистательного исполнительства танцовщицы Эстер Сантлоу Лондон не знал отечественных талантов. Вместе с тем антрепренеры городских театров, зависевшие от вкусов весьма разношерстной публики, завлекали ее смешанным репертуаром, где рядом с драматическими спектаклями и операми видное место занимал балет. Для балетных номеров и развернутых спектаклей приглашались иногда «звезды» мирового, преимущественно французского театра, иногда — целые труппы. Такие труппы, гастролируя один или несколько сезонов, пользовались тут большей, чем где бы то ни было, свободой в выборе репертуара и распределении мест между актерами. Благодаря этому английская сцена по-своему формировала многие балетные судьбы, в частности судьбу Новерра.
Италия всегда изобиловала хореографическими талантами и поставляла балетмейстеров и исполнителей в театры других стран. Но судьба ее национального балета была переменчива, то являя признаки расцвета, то попадая в полосу упадка. В последнем случае талантам приходилось искать пристанище за рубежами родины. Причины заключались в перипетиях общественной жизни страны.
По мере того как раздробленные итальянские княжества теряли былое первенство в делах европейской культуры, утрачивал богатства былого опыта итальянский балетный театр. Он претерпевал кризис национальной самобытности. Эпоху Возрождения с ее пафосом творчества, с ее актуальной разработкой любых, в том числе мифологических мотивов сменила пора уступок. Та же мифологическая тема трактовалась вненационально, например, под воздействием идей французского класси
27
цизма, в канонах французской школы балетного академизма. Устойчивей были элементы национального комедийного жанра. Но в чистом виде они жили преимущественно на сценах площадного народного театра. Профессиональный балет отказывался от вольной импровизации действия, облекал поступки п характеры в формы «облагораживающей» условности и, сохраняя акробатическую сложность техники, приноравливал ее к правилам академических школ. В таком виде жанр экспортировался в разные страны, порой заезжал весьма далеко, чтобы вернуться на родину в еще более отшлифованных и эстетически снятых формах. До конца XVIII века на сценах разных княжеств и их провинций сосуществовали пестрые явления балетного искусства. Притом самостоятельная разработка творческих проблем встречалась уже редко. Все отдавало вторич-ностью, сводилось к развлекательным целям, словно не было новых значительных тем в окружающей жизни.
Консерватизм итальянского балета отметил Эстебан Артеага в третьем томе своего труда «Перевороты итальянского музыкального театра» (1785). Он досадовал на то, что танцовщики норовят «блистать при всяком малейшем случае ногами, как будто мнят, что в них помещается подражание натуре и выражение страстей, а не в движениях других членов, глаз и физиономии, коими они большею частью не действуют и кои без внимания оставляют». Направляя итальянский балет на верный путь, Артеага восклицал: «Не так понимает сие глава школы их Новерр».1 Следовала цитата — призыв Новерра вдохновляться истиной и природой.
Взятая в целом, картина итальянского балета свидетельствовала об игре случая и утрате направленной эстетической программы. Терялась и преемственность творчества. Хотя в Италии XVIII века славились семьи и даже династии крупных танцовщиков-хореографов, они обычно работали врозь и за пределами своего отечества. Больше того, представители таких династий иногда гастролировали на итальянских сценах наравне с мастерами-иностранцами.
Консервативней всех был Рим. Правда, в этой резиденции пап балет пользовался популярностью. Новерр не без яда отмечал: «Новый Рим как будто бы ориентируется на старые образцы. Женские роли поют мальчики-подростки, и юноши вы
1 Цит. по: Материалы и документы по истории музыки XVIII века. М., 1934, т. 2, с. 71—72.
28
полняют обязанности танцовщиц. Хотя обычай этот внушен похвальной заботой о морали, лекарство оказывается опасней болезни; мужчины обладают званием «первых танцовщиц», и, несмотря на то, что они великолепны в адажио и аллегро, их бешеные вращения непременно открывают пару черных панталон, строго предписанных танцовщикам, что вступает в комическое противоречие с их декольте и короткими юбками». Даже на закате новерровых реформ балетный театр Рима все еще придерживался доноверровых условностей.
Одним из крупных очагов хореографии было княжество Пьемонт. Его столица, Турин, привлекала отечественных и французских знаменитостей. В 1740-х годах там выступали венецианский хореограф Гаэтано Гроссатеста, французы брат и сестра Лани, а с ними Гаэтан Вестрис. Позже там работали Гаспаро Анджьолини и его жена Тереза Фольяцци, начинал свой путь танцовщика Жан Доберваль. Карло Тальони, родоначальник прославленной династии, служил в кордебалете театра Реджио в 1761 году. В 1790-х годах здесь сменяли друг друга хореографы Антонио Муцарелли, Пьетро Анджьолини и другие.
На сценах Неаполя издавна выступали смешанные труппы. Еще в 1735 году вице-король Неаполя приказал включить в репертуар оперного театра Сан-Бартоломео два балета Гросса-тесты и Аквиденти. В 1770-х годах в театре Сан-Карло ставил балеты и танцевал Шарль Ле Пик; главные роли исполняла его жена, танцовщица Анна Бинетти, выступавшая потом во многих городах Италии, а также в Штутгарте и Лондоне. Практика балетных постановок еще долго оставалась эпизодической, пребывая в зависимости и от заказов двора, и от наличного состава труппы того или иного театра в тот или иной сезон.
Венеция насчитывала семь оперных театров, но это мало меняло дело. В первой половине XVIII века здесь поощряли акробатический балет, против которого рьяно протестовали поборники новой хореографической драмы. Ко второй половине века акробатику стал постепенно теснить балетный спектакль на мифологические сюжеты. Одним из первых его насаждал Джузеппе Соломони-старший, также представитель династии итальянских балетмейстеров. В 1764 году он поставил «Волшебный остров Цирцеи» и «Волшебника», в 1765 году — «Семирамиду». В том же 1765 году балетмейстер Микеле Фабиани показал в театре Сан-Кассиано «Любовные проделки Зефира» и «Волшебную гирлянду». В начале 1760-х годов Винченцо
29
Галеотти, потом прославленный деятель датского балета, дебютировал как хореограф на сцене Сан-Бенедетто, а Гаспаро Анджьолини поставил там же в 1773 году балеты «Отъезд Энея» (первая версия «Покинутой Дидоны») и «Искусство, покоренное природой». Их сменили Антонио Кампиони и его жена Анчилла Гардини, с успехом выступавшие также в Лондоне, Вене, Варшаве и Петербурге. В 1780-х годах Карло Тальони ставил балеты на сцене театра Сан-Моиз.
В миланском театре Дукале действенный балет воцарился с середины века. К 1758 году относится первый подробный сценарий «Сказки о Вакхе и Ариадне». В начале 1770-х годов там работал Новерр, и из Милана его балеты вскоре распространились по многим сценам Италии. В 1776 году театр Дукале сгорел. Через два года на его месте был сооружен театр Ла Скала. Для открытия шли опера Сальери «Признанная Европа» и балеты «Умиротворенный Аполлон» Джузеппе Кан-циани и «Пафио и Мирра» в постановке Клода Леграна. Ферди-нандо Рейна сообщает, что спектакль Леграна «включал такие приманки, как цирк, дикие звери и вооруженные восстания, напоминая, по сути, ревю».1 А показанный рядом балет Канциани выдавал полную меру приверженности классицизму.
Кризис, начавшись еще в XVII веке, захватил весь XVIII век. На это обрекали и внешние условия. Во времена, когда падало политическое могущество Италии, ее хореографы и танцовщики разбредались по крупным культурным центрам Европы, усваивая сумму международного опыта, а на их родину несли свое искусство иностранные, прежде всего французские мастера. Разные художественные эпохи то сталкивались, то причудливо уживались к концу XVIII века под крышей итальянского балетного театра. Затянувшаяся заминка открывала простор эклектике. Но она оставляла и возможности для раздумий, готовящих сдвиги.
Пищу для раздумий предлагала итальянская драматургия. Два великих комедиографа — Карло Гоцци и Карло Гольдони открывали в борьбе творческих идей новые пути и перед отечественным балетным театром. Трагедии Витторио Альфьери послужили фундаментом, на котором выросло к началу XIX века здание итальянской преромантической хореодрамы. Но и на протяжении XVIII века Италия дала крупных балетмейстеров, сыгравших значительную роль в судьбах европейского балета.
' Reyna F. A. Concise History of Ballet. London, 1965, p. 86.
30
Для многих из них с середины века оказалась гостеприимным убежищем Россия.
Профессиональный балет Голландии вел свое летосчисление с XVII века. Со второй половины этого века там постоянно действовали два театра.
Театр в Гааге возник при дворе штатгальтера Вильгельма III Оранского и придерживался традиций французского придворного балета, хотя пышность постановок была там много умереннее, чем при дворе Людовика XIV.
Театр в Амстердаме также испытывал иноземные влияния и пользовался услугами итальянских и французских балетмейстеров и исполнителей. Но бюргерские формы жизни богатого города позволяли национальным элементам проникать в хореографический репертуар. К концу века амстердамский театр имел благоустроенное здание и изрядную балетную труппу. Кроме пасторального и анакреонтического жанров, а также арлекинад, завезенных из Франции, там утвердился комедийный жанр на темы народного быта. Этот жанр брал своих персонажей из окружающей действительности, но мог ориентироваться и на живопись Нидерландов, богатую типами крестьян, городских ремесленников, моряков и т. п. Во второй половине XVIII века постановщиками таких балетов были итальянец Пьетро Ньери и француз Сен-Леже. Первый работал в Амстердаме с 1761 по 1769 год, второй — с 1762 по 1766 год. Историк балета в Нидерландах Адриан X. Лейдене считает, что спектакль Ньери «Сельская жизнь» (1762) вывел на балетную сцену народные характеры задолго до «Тщетной предосторожности» Доберваля.1
Все же, как и во многих других странах, приметы национального характера вносили в канонический репертуар преимущественно исполнители отечественного происхождения. Лейдене выделяет среди них Каролину и Шарлотту Слейтер, «восхищавших публику Гааги и более строгих зрителей Амстердама», упоминает «балетные семьи» Бухон и Ван дер Штель. Он называет одного из самых видных голландских танцовщиков и хореографов XVIII века Яна Пунта, в труппе которого работал и не менее известный хореограф Корнелис де Брейн.
«Периодом наибольшего великолепия голландского балета» Лейдене считает рубеж 1780—1790-х годов. В ту пору «под
1 См.: L и[у die п s] А. Н Baleito nello Paesi Bassi.— Encyclopedia dello Spettacolo, v. VII, p. 470.
31
влиянием французской революции в Гааге и Амстердаме появились балеты, сюжетами которых были исторические войны и мирные события Батавской республики». К началу XIX века там вновь воцарились иностранные балетмейстеры, насаждавшие свой репертуар.
В 1802 году в Голландию приехал французский провинциальный балетмейстер Жан Рошфор: он был первым танцовщиком театра Бордо в 1789 году, когда там работал Доберваль. «В Амстердаме его труппа включала многих превосходных нидерландских мимов и комических танцовщиков»,— пишет Мариан Ханна Уинтер.1 Однако репертуар состоял из расхожих пасторальных пустячков. Уинтер справедливо рассматривает старинные «Игры Эглеи» как типичный пример постановок Рошфора. Балет этот входил в составленный Рошфором список его тридцати двух работ. В конце списка стояло примечание: «Большую часть этих произведений можно давать без особых затрат».2 Первой танцовщицей труппы Рошфора была Полли Кенингам, которая в 1804 году вышла замуж за богатого амстердамского купца де Хюса и продолжала выступать под его фамилией. Рошфор покинул Амстердам в 1812 году. Полли де Хюс танцевала там до 1823 года, преимущественно в привозном репертуаре. Балет Голландии по-прежнему оставался на положении скромного последователя больших балетных столиц Европы.
В двух скандинавских странах — Швеции и Дании —придворный балет существовал с 1640-х годов. Целое столетие Швеция далеко превосходила Данию в самобытности, профессионализме и богатстве балетных спектаклей. Дания довольствовалась тем, что посильно подражала французскому двору. Балетные выходы спорадически возникали в зрелищах придворных празднеств.
Тем временем Стокгольм видел пышные аллюзионные балеты в честь той или иной торжественной даты. Античная тематика, прозрачно прикрывая вполне современные события, так или иначе окрашивалась национальным колоритом. Но к началу XVIII века в истощенной войнами Швеции балетный театр сошел на нет. После разгрома шведских войск под Полтавой в 1709 году театральная жизнь Стокгольма надолго прекратилась. Во второй половине XVIII века балет Швеции возродился,
1 Winter М. Н. The Pre-Romantic Ballet. London, 1974, p. 198.
2 Ibid., p. 199
3'2
но былую самостоятельность утратил. Он скромно заимствовал образцы международного репертуара с помощью заезжих балетмейстеров и танцовщиков.
В 1721 году придворные разыграли перед королевой Ульрикой-Элеонорой комедию Реньяра «Игрок», а за ней балет, поставленный французским танцовщиком Жаном-Батистом Ланде. В книге «Балет под тремя коронами» Мери Скипинг сообщает, что Ланде «танцевал там вместе со своими знатными учениками».1 При дворе ставилась и другая комедия Реньяра, действие которой, по указанию программы, было «протанцовано» придворными. Они же вслед за тем исполнили балет, изображавший сельскую свадьбу. Балет начинался с pas de deux деревенских простаков, потом шли крестьянское pas de deux и сольный танец.
Ланде стал королевским танцмейстером. В 1723 году ему было разрешено пригласить труппу французских актеров. Подражая деятельности Люлли во Франции XVII века, он пышно назвал ее Королевской академией музыки, а себя — интендантом Академии. Тем и ограничились действия честолюбивого Ланде. Единственным спектаклем Академии оказался дивертисмент 1724 года ко дню рождения королевы. Через три года спектакль по тому же поводу дала «Комедийная труппа его величества», при которой Ланде опять числился попросту балетмейстером. Поставленный им балет включал «выход в двух паспье», лур, жигу, «выход в двух менуэтах». В интермедии с неба спускалась колесница, на ней восседал персонаж, олицетворявший Мир. Заканчивался балет каноническим контрдансом.
Вскоре Ланде покинул Швецию. К началу 1730-х годов пути странствий забросили его в Россию. В 1738 году он выступил основателем петербургской балетной школы.
Тем временем в Стокгольме гастролировали немецкие труппы, исполнявшие балеты-арлекинады с бурлескными персонажами и всевозможными акробатическими номерами. К 1737—1738 годам относятся первые спектакли национальной труппы, сформированной из любителей знатного происхождения. Как правило, драматические спектакли завершались балетами. Судя по отзывам современников, искусство танцовщиков было крайне несовершенным.
lSkeaping М. Ballet under the Three Grow ns.— Dance Perspectives. N. У., 1967, No 32, p. 44.
2
В Красовская
33
В 1753 году в Швецию прибыла из Франции труппа профессиональных драматических актеров, певцов и танцовщиков. К 1758 году среди балетных актеров были Луи Галлодье, муж и жена Фроссар, танцовщицы Солиньи и Нинон Дюбуа, именовавшаяся также Леклерк. Исполнительский уровень неизмеримо возрос, но балеты по-прежнему оставались частью смешанного репертуара и сохраняли дивертисментный характер. В 1771 году король Густав III распустил французскую труппу и лишь через десять лет собрал ее вновь. Теперь она понадобилась уже как база для создания шведского музыкального театра. Королевский оперный театр в Стокгольме открылся в 1782 году.
Условия жизни этого театра были одинаково суровы и для отечественных, и для иностранных актеров. Мери Скипинг пишет: «Постоянная военная охрана квартировала в помещении Королевского оперного дома, где располагалась и тюрьма. В рукописном экземпляре распоряжений на 1786 год, хранящемся в архивах Королевского театра, имеется статья, определяющая наказания провинившимся актерам. Актеры, пытавшиеся бежать (то есть порвать контракт и без спросу покинуть страну), могли быть оштрафованы в размере полугодового жалованья и подвергнуты двухмесячному аресту. Во время ареста актер был обязан выполнять свою работу, когда это требовалось. Поскольку тюрьма помещалась под боком, он легко мог быть доставлен для выступления в спектакле и снова отправлен назад».1
Военная дисциплина распространялась и на внутренние распорядки балетной труппы. «Все актеры находились под опекой балетмейстера и были обязаны проявлять к нему уважение и учтивость, — сообщает Мери Скипинг. — Балетмейстер должен был представлять на рассмотрение директора полную программу каждой новой постановки, указывать количество выходов и число занятых людей, держа в памяти, что излишек танцовщиков сделает балет запутанным и напрасно повысит цены костюмов. Солисты имели право сочинять собственные танцы с согласия балетмейстера, который наблюдал, чтобы танцы были верны стилю и отвечали случаю. Балетмейстер распоряжался также танцевальной школой, куда принимали учеников не моложе девяти лет и не старше двенадцати. Исключения делались только ради редких талантов».2
1 SkeapingM. Ballet under the Three Crowns, p. 51.
2 Ibid.
34
Балетную труппу Королевского театра в Стокгольме возглавляли французские танцовщицы и танцовщики. Балетмейстером состоял Луи Галлодье (1733—1803). Он приехал в Швецию еще в 1758 году из Парижа, где был фигурантом в Королевской академии музыки. Как танцовщик Галлодье особенно отличался в серьезном жанре; его часто хвалили за «красоту и благородство позировок». В демихарактерном жанре Галлодье успеха не имел.
Луи Фроссар состоял в шведской труппе с 1753 года и, по словам современника, напротив, был «совершенно великолепен в характерных и пантомимных ролях; немногие танцовщики могли соперничать с ним в легкости, огненной живости и гибкости». К знаменитым трюкам Фроссара относился «любопытный пируэт на одной ноге». Зрителям запомнилось, «как умно и убедительно он умел изображать в танце пленного раба. В своих сочинениях он демонстрировал великий дар изобретательности и широко пользовался всем, что было комично и впечатляло».1
Таким образом, шведский балет 1780-х годов сохранял вза-консервированном виде серьезный, демихарактерный и характерный жанры, вывезенные французскими исполнителями из Парижа 1750-х годов. Сохранял он и привилегии танцовщиков перед танцовщицами; сведений о последних поэтому дошло значительно меньше. Мери Скипинг приводит лишь один, несколько двусмысленный отзыв о Леклерк: «Она так же легко порхала на своих пальчиках по частной жизни, как и по сцене». Две шведские танцовщицы, Софи Хагман и Шарлотта Слотсберг, также больше славились похождениями при дворе, чем успехами в танце.
Практика тогдашнего шведского балета была провинциально старомодной. Наряду с нею король Густав III возродил и другой, уже повсеместно исчезнувший вид зрелищ, стремясь укрепить национальный дух подданных, сохранить память об исторических событиях прошлого, вернуть к жизни национальное искусство в его поэтических формах, перенести на сцену образы нордического эпоса и баллад. В 1776 году при дворе был представлен конный балет по старинной легенде «Завоевание скалы Галтар». Всадники в стилизованной старинной бургундской одежде сражались с драконом, их атаковали фурии, сбегая по уступам скалы с горящими факелами в руках. Пышные зрелища времен королевы Кристины возрождались в ряде других
1 SkeapingM. Ballet under the Three Crowns, p. 52.
2*
35
конных балетов. Например, в балете «Пир Дианы» участвовали две конные кадрили в «римских костюмах». Кадрили фавнов и нимф, рыцарей и сарацинов, греков и римлян, индейцев и персов сохранились во многих изобразительных и мемуарных документах эпохи.
Балет Королевского театра отступал в тень перед грандиозными придворными празднествами и лишь принимал в них посильное участие. К концу XVIII века он остался, по сути дела, на тех же позициях, какие занимал в 1750-х годах.
Ничто не изменилось от того, что с 1782 года первым танцовщиком Королевского театра стал Антуан Бурнонвиль. Француз по происхождению, ученик Новерра, он являл уже новый тип танцовщика-актера и был равно хорош в пантомиме и танце. Бурнонвиль пробовал свои силы и как балетмейстер. В 1785 году он поставил в Стокгольме свой первый балет «Провансальские мельники» — подражание французским балетам-водевилям. Но труппа не годилась для особых новшеств, а зрители на них не настаивали. Да и Бурнонвиль-хореограф не обладал ни талантом, ни пылкой настойчивостью своего учителя Новерра, уступал и незадачливому в ту пору младшему сопернику— Дидло. Репертуар театра ограничивался вставными танцами в операх и незатейливыми балетиками.
Но и эта скромная практика прекратилась в 1792 году, когда король Густав III был убит на маскараде. Театры закрылись. Бурнонвиль уехал в соседнюю Данию.
Судьба датского балета складывалась благоприятнее. Начав со скромных подражаний большим европейским театрам, театр Дании к концу XVIII века расцвел и обрел самостоятельный характер.
В Дании XVI века танец бытовал на представлениях бродячих трупп и на спектаклях школьного театра. В начале XVII века придворный балет Дании, подобно шведскому балету, следовал версальским образцам. К 1640-м годам в Копенгагене появились французские балетмейстеры, повторявшие па придворных празднествах практику музыкальных спектаклей синтетического плана, где балетные выходы занимали то большее, то меньшее место.
Около 1720 года в Данию прибыл Жан-Батист Ланде. Он провел там всего один год и все же сумел пробудить интерес к профессиональному сценическому танцу. Ланде обучал основам такого танца знатных участников придворных празднеств, как делал это следующие полтора десятилетия в Швеции
36
и в России. А интерес, раз возникнув, отражая тенденции театральной культуры Дании и, шире, европейской культуры вообще, неминуемо вел к образованию профессиональной балетной труппы. Такая труппа появилась как часть оперного Королевского театра Копенгагена, построенного в 1748 году.
Руководителем театра и законодателем музыкальных вкусов датской столицы был композитор Пьетро Миньотти. Превосходный организатор, он начал с того, что пригласил Глюка, пробывшего в Копенгагене год, и Джузеппе Сарти, работавшего там в 1753—1757 и 1770—1773 годах. В области балета Миньотти держался французских образцов. Балетмейстеры-французы Де Ларш и Ноден управляли труппой, где уже имелись датские танцовщики. Балеты входили в оперные и комедийные спектакли на правах интермедий или разделяли акты этих спектаклей. По парижской моде утверждался жанр дивертисмента, в котором сюжет лишь изредка объединял различные танцы. Все же это была хорошая школа: она развивала профессиональные навыки исполнителей и виртуозность в серьезном жанре.
В 1756 году, с уходом Миньотти, датский балет возглавили балетмейстеры-итальянцы. Один из них, Анжело Помпеатти, познакомил датчан с жанром пантомимы. Другой, Антонио Комо, работавший здесь до 1763 года, ввел в практику балетного дивертисмента национальную характерность. В дивертисментные выходы проникли мотивы и типы народной жизни, например, школьный учитель, прачка, матрос и т. п.
Балет начал отделяться от оперы, как это происходило тогда в передовых театрах Европы. По-прежнему украшая спектакли других сценических жанров, он все больше превращался в самостоятельное зрелище, обретал эстетическую автономию. Правда, во многих балетных спектаклях еще участвовали певцы, звучали арии, но пантомима и танец становились основой и главной движущей силой спектакля.
В начале 1770-х годов в Королевском театре Копенгагена появился танцовщик и балетмейстер Джованни Антонио Сакко. Один из многих итальянских балетмейстеров-скитальцев, он обладал солидным опытом.
Кругозор Сакко несомненно расширился после пребывания в России; он выступал с 1756 года в оперно-балетной антрепризе Джованни Батисты Локателли на сценах общедоступных театров Петербурга и Москвы. К концу 1750-х годов Сакко мог познакомиться там с Францем Хильфердингом, ставившим для
37
придворного театра свои действенные балеты. С другой стороны, его могли заинтересовать представления русского народного театра с их национальной тематикой и персонажами подлинной жизни. Это отозвалось по меньшей мере в двух балетах Сакко, сочиненных для датской сцены. Первый, «Любовь сильнее смерти», имел образцом действенный балет, с пантомимой и танцами, чередующимися в развитии драматического сюжета. Второй, «Ревнивый казак», предлагал датчанам экзотическое зрелище на русские мотивы.
Знал Сакко и новаторские опыты Новерра и Анджьолини. Наряду со своими оригинальными постановками, он возобновлял «Суд Париса» Новерра и «Каменного гостя» Анджьолини. Действенный балет, пусть в формах более скромных, чем в Милане, Вене или Штутгарте, был уже не гостем, а хозяином датской сцены, причастной к общему ходу хореографии.
Польский балет начался в XVI веке и, несмотря на иностранные влияния, обрел в XVIII веке отчетливо самобытный характер. Отчасти это объяснялось тем, что к концу 1740-х годов в Польше возник крепостной балетный театр, широко охвативший разные ее районы. Подобно русскому крепостному балету, он оказался кузницей талантов. Иностранные балетмейстеры и учителя, насаждая там правила общеевропейского искусства танца, вынуждены были считаться с национальной природой своих учеников, с особенностями их плясового фольклора. К исходу века Польша уже могла гордиться и оригинальным балетным репертуаром, и собственными сильными труппами, среди которых имелись превосходные исполнители мирового класса.
Таково было расположение основных центров на общей балетной карте Европы. К началу XIX века одной из ведущих стран стала Россия. История ее балета не входит в настоящее исследование. Однако к этой истории придется обращаться постольку, поскольку русский театр постоянно являлся местом пересечения судеб многих крупнейших деятелей мирового балета, для некоторых же стал вторым отечеством. Вместе с тем история балетного театра Голландии и Швеции второй половины XVIII века не требует выхода за рамки общеевропейской карты, потому что исчерпывается перечисленными здесь событиями. Дальше разговор будет касаться лишь тех стран, чьи театры или отдельные деятели сыграли роль в поступательном ходе хореографического искусства. Начинать разговор следует с признанного оплота вековых традиций этого искусства — Королевской академии музыки в Париже.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПАРИЖСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Французский балет второй половины XVIII века был ареной открытых и подспудных течений, которые скрещивались в практике Королевской академии музыки, обозначая этапы процесса. Процесс протекал медленно: балетный театр и его школа справедливо считали себя цитаделью традиций, гордились ими и нелегко поддавались напору новшеств. И хотя именно во Франции стремительно расцвели просветительские идеи, они скорее и действеннее проникали в балетные театры других стран. Пример тому дали Анджьолини и Новерр в Австрии, Германии, Италии и России. Первый из двух ведущих хореографов эпохи никогда не работал во Франции. Второй, начав практику балетмейстера в провинциальных городах Франции и на частных сценах Парижа, попал в Академию лишь в последнее предреволюционное десятилетие и служил там только три года.
Почти всю вторую половину века Королевская академия музыки оставалась мишенью нападок деятелей Просвещения. Дидро, Руссо, Гримм высмеивали ее незыблемые порядки, ее приверженность к нормам аристократического классицизма, когда от этих норм последовательно отказывались литература и искусство. И все же, пускай не сразу и окольными путями, смена стилей затрагивала и балет. Сначала это выразилось в постепенных и частных сдвигах внутри классицизма, который все еще господствовал в балете. К концу века, в канун великих общественных сдвигов, нормы классицизма размывал и подтачивал сентиментализм — стиль молодого и стремящегося к власти «третьего сословия».
39
Противоречия процесса по-разному отзывались в творчестве балетмейстеров и исполнителей. Интересы и взгляды непрестанно сталкивались и сплетались, направляемые действительностью к новым художественным результатам. К тому же здесь играли значительную роль два фактора, характерные для балетного театра всех времен. Первым фактором была тесная связь профессий балетмейстера и исполнителя. Как правило, каждый балетмейстер начинал свою карьеру танцовщиком и лишь потом переходил к постановочной практике. Часто ведущие танцовщики Академии переносили свой гастрольный опыт на ее сцену, ставя там те заграничные спектакли, в которых им привелось блеснуть как исполнителям главных ролей. Вторым фактором была преемственность поколений. Младшие представители балетных династий, с одной стороны, продолжали традиции отцов, с другой — опровергали и ломали эти унаследованные традиции. Двойственность их усилий иронически изобразил Каюзак: «Мне словно бы видится человек, который, имея в руках ключ от Храма Муз, растрачивает дни и всю свою сноровку, поворачивая его туда и сюда в замке, но не смея прикоснуться к пружине. Таков наш лучший современный Танцовщик». 1
Все же процесс вбирал и аккумулировал то, что постепенно накапливалось явочным порядком еще в первой половине века. Существенное соседствовало с частным, но в целом все отражало веяния нового и неуклонно изменяло консервативный облик академического балета.
Несомненно влияло на балет развитие оперной драматургии и музыки. Сказываясь более робко и опосредованно, чем в театрах других стран, оно заявляло о себе в жанровых сдвигах музыки и ее сценического воплощения. То, что наметили в первой половине века опыты композиторов Ребеля и Муре, постановки танцовщиц Прево и Салле, понемногу закреплялось внутри балетных дивертисментов. Благородный или серьезный, демихарактерный и характерный жанры, переплетаясь, обретали тем самым разнообразие и обогащались. Это подтачивало изнутри каноны танцевальных номеров, закованных в музыкальные формы чакон, луров, паспье и т. п. В свою очередь, их сценическое воплощение являло характеры более гибкие и сложные, нежели в балете предшествующей эпохи. Пастушки
1 С a h и s а с. La danse ancienne et moderne ou traite historique de la danse. A la Haye, 1754, t. 3, p. 129.
40
и пейзанки, султаны и китайские принцессы, античные боги и нимфы уже не следовали единой манере светского кавалера и придворной дамы. Актеры, даже в стилизации, искали теперь отличительные приметы образа.
Об обновлении старых форм писал в своей книге Новерр: «Доберваль, мой ученик, человек, исполненный вкуса, объявил себя ревностным апостолом моей доктрины и отнюдь не превратился оттого в мученика. Он сочинил для оперы Сильвия pas de deux, изобилующее действием и интересом. Этот самостоятельный отрывок предлагал подобие сценического диалога, продиктованного страстью и выраженного со всеми чувствами, какие может внушить любовь. Это pas de deux, украшенное талантами мадемуазель Аллар, танцовщицы, соединившей прелесть блестящего исполнения с выразительностью истинной и одухотворенной, имело заслуженный успех. Таким образом, Доберваль был первым, кто осмелился вступить в борьбу с общепринятыми взглядами, победить старинные предрассудки, восторжествовать над ветхими правилами оперы, разбить маски, ввести более достоверный костюм и появиться в интересном облике подлинной природы».1
Опера Бертона и Антуана Триаля «Сильвия» была поставлена на сцене Академии в 1766 году. Доберваль2 начал работать там в 1765 году. С осени 1762 года до лета 1764 года он служил в штутгартской труппе Новерра как «первый серьезный танцовщик» и быстро усвоил его уроки. Вероятно, он в самом деле удивил парижскую публику, наполнив открыто выраженным содержанием абстрактную форму pas de deux. Однако свидетельство Новерра не совсем точно. Уже Прево и Салле расцвечивали смыслом такие же завершенные по форме вставные номера. И Доберваль не первый нарушил обычай, по которому танцовщики выступали в масках. Различные источники приписывают этот шаг то Гаэтану Вестрису, то Максимилиану Гарделю.
Наибольшего доверия заслуживает свидетельство «Меркюр де Франс» о том, что 17 февраля 1729 года, то есть задолго до рождения Доберваля, в конце оперы Люлли «Альцеста» тан
1 N о v е г г е. Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts. St. Peters-bourg, 1803, t. 2, p. 115. Дальше сноски на это четырехтомное издание даются в тексте: первая цифра обозначает том, вторая — страницу.
2 Деятельность балетмейстера Доберваля достигла расцвета в период революционных событий, а потому будет рассмотрена в следующей книге.
41
цовщица Мари Салле и ее партнер танцовщик Лаваль выступили без масок в дивертисменте «Характеры танца».1
Борьбу со «старинными предрассудками» Оперы, отказ от масок и громоздких костюмов, стремление выступать в облике своей «подлинной природы» диктовала не инициатива того или иного исполнителя, а общая логика художественного развития. Разумеется, чем талантливее были балетмейстеры и танцовщики, тем смелее они вступали на путь реформ. Но реформы подсказывало время, а исключения, подтверждая правило, нередко заставляли путать причины со следствием. Почти одновременно и в неизбежном взаимодействии менялись балетный костюм и техника танца. Менялись не одно из-за другого — перемены вызывал новый взгляд на содержание балетного спектакля. Понемногу сцену населяли герои и героини, чью «природу» надо было воплотить на сцене в естественном правдоподобии. Потому и отменялись торжественные котурны классицизма. Статика характеров и страстей, прикрытая вычурностью барочной пластики и барочного костюма, мало-помалу отступала перед чувствительностью, возведенной в основополагающий принцип новой эстетики.
Внутри стиля классицизма, наиболее прочно и долго господствовавшего в балете парижской Оперы, процесс шел замедленно и неравномерно. И все же, набирая силу, этот процесс изменял виртуозный танец, вносил туда индивидуальное содержание, окрашивал разнообразием оттенков, преимущественно тех, какие «могла внушать любовь». Освобождаясь, танец изменялся в своих пространственных пределах. Руки танцовщика и танцовщицы расширяли радиус действия. Ноги все легче касались пола, обогащая танец движениями на высоких полупальцах, хотя еще долог был путь к моменту эстетически принципиальному— подъему танцовщицы на кончики пальцев.
Попутно намечались перемены в сценическом костюме. Фигура балетного актера как бы высвобождалась из геометрического рисунка, в который ее заключали квадратные каркасы женских панье и мужских тоннеле. Контуры тех же панье и тоннеле закруглялись, смягчались, а потому метры ткани, уменьшаясь в количестве, пластичнее собирались вокруг тела и, облегая его, позволяли ощутить естественную красоту форм. У танцовщиц постепенно укорачивалась и делалась умеренно
1 См.: Aubru Р. et Dacier Е. Les Caracteres de la danse. Paris, 1905, p. 17.
42
пышной юбка, становился менее жестким корсет. Это придавало движениям подвижность и гибкость. А новый облик танцовщицы внушал новые идеи хореографам. Танцовщицы в свой черед подхватывали и воплощали эти идеи. На исходе XVIII века они соревновались с танцовщиками за первенство в балетном спектакле, чтобы с расцветом романтизма занять ведущее положение на весь XIX век.
Но в начале второй половины XVIII века первенство принадлежало танцовщикам. На сцене парижской Академии музыки появились основатели двух знаменитых «династий» — Га-этан Вестрис и Максимилиан Гардель.
ГАЭТАН ВЕСТРИС
Выходцы из Италии, Вестрисы акклиматизировались во французском балете и оставили в его истории глубокий след. Они происходили из Флоренции, и их родовое имя Вёстри получило во Франции букву с в конце и ударение на последнем слоге. Флорентиец Томазо Вестри служил в лавке ростовщика, а попав в беду, бежал в Неаполь, где его сын Гаэтан и две дочери обучались музыке и танцам. Их первый ангажемент был в оперном театре Палермо. После странствий по многим европейским городам семья прибыла в Париж. Здесь Гаэтан стал учеником Луи Дюпре. Он дебютировал «без вознаграждения» на сцене Королевской академии музыки в 1748 году и был принят туда в следующем году.
Гаэтан Аполлини Бальтазаре Вестрис родился в 1729 году. Он по праву считал се'бя главой «дома Вестрисов» и всерьез отводил этому «дому» историческое место в самом расширительном смысле. Он наградил себя титулом «бога танца», произнося его с забавным итальянским акцентом — le «diou» de la danse. Анекдотическая хроника эпохи сохранила его изречение; «Сегодня в живых насчитывают троих великих людей: меня, Вольтера и короля Пруссии». Хвастовство танцовщика вообще стало притчей во языцех. Однажды его сына Огюста отправили в тюрьму. Гаэтан Вестрис воскликнул: «Первый раз не поладили дом Бурбонов и дом Вестрисов!»
Анекдоты о тщеславии Вестриса, о его выходках и ломаном французском языке, которым он так и не овладел до конца жизни, любопытны. Однако, став достоянием так называемой
43
«маленькой истории» французского театра, анекдоты едва не затмили подлинную роль Вестриса в судьбах мирового балета. Между тем роль эта драгоценна. Творчество талантливого танцовщика отразило борьбу и взаимопроникновение старинного академического танца и молодой действенной пантомимы.
Основой искусства Вестриса всегда оставался академизм. Деятельность танцовщика на сцене французской Оперы явилась крепким звеном в цепи исполнительских традиций. «Он сразу сравнялся с Дюпре и Лани, которого затмил», — пишет историк балета Пьер Мишо.1 Ученик Луи Дюпре — ученика Бошана, Гаэтан Вестрис передал их опыт своему сыну Огюсту, учителю Жюля Перро, Карлотты Гризи и многих других. От Дюпре он унаследовал величественную и широкую манеру танца, которой вполне отвечала его внешность. Художница Виже Лебрен, современница Вестриса, вспоминала, что он был «высок, очень красив и превосходен в танце благородном и серьезном. Не знаю, как описать вам, до чего грациозно он снимал и надевал шляпу в поклоне, который предшествовал менуэту; почти все молодые женщины, перед тем как представляться ко двору, брали у него несколько уроков, чтобы сделать три своих реверанса». 2 Но унаследованное Вестрис поднял на новую ступень мастерства — в духе своего времени. Современный критик утверждал: «Когда Вестрис появился в Опере, впрямь поверилось, что Аполлон сошел на землю давать уроки грации. Он усовершенствовал искусство Танца, сообщил большую свободу уже известным «положениям» и создал новые».3
Высказывания современницы Вестриса и двух историков балета заставляют думать, что академические находки танцовщика не выходили за пределы виртуозной техники, что он лишь сообщал некоторую свободу вековому канону танца и повышал количество и качество его приемов. Казалось бы, ничего другого и не могло быть. Образность балетных дивертисментов в операх подчинялась непреложной стилизации музыкальнотанцевальных форм и костюма. Гастон Капон, автор монографии о семье Вестрисов, приводит список костюмов Гаэтана Вестриса для четырех выходов в дивертисменте «Фетида и Пелей» (1754).
' М ic haut Р. Histoire du ballet. Paris, 1945, p. 40.
2 V i g ё e L e В r un E. Souvenirs. Paris, 1899, t. 1, p. 90.
3 Цит. no: P er и gini M. E. A Pageant of the Dance and Ballet. London, 1946, p. 146.
44
Список позволяет считать, что музыка и танец четырех разных персонажей, отвечая признакам демихарактерного жанра, имели такую же общую основу, как и их костюмы, и разнились лишь в деталях орнамента. Если формально расчленить цельное стилистическое явление, можно сказать, что родовая классицистская основа оплеталась там изысканными подробностями в духе рококо.
Для первого выхода танцовщик надевал «крестьянское платье, демихарактерное, из белой тафты с розовыми фестонами, расшитыми серебром, и воланами из розовой тафты, покрытой белым тюлем и отделанной цветами и кружевами». Костюм дополняла шапочка из розовой тафты, задрапированной вышитым тюлем. Во втором выходе он изображал амура. На нем были «корсаж и тоннеле из тафты телесного цвета, покрытые полосатым белым тюлем и сплошь украшенные цветами, кружевами и серебряной сеткой, штанишки из тафты телесного цвета и такого же цвета головной убор с фронтоном из серебряной парчи». Костюм фавна для третьего выхода состоял из корсажа и штанишек каштанового цвета, вишневого тоннеле, полосатых обшлагов, шапочки и шарфа, был усеян листьями и цветами. Четвертый костюм — для выхода сатира — отличался от прочих лишь «древесным» цветом тафты и меховой безрукавкой.1 Корсаж, штанишки, юбочка в виде бочонка (тоннеле), шапочка с треугольным «фронтоном» надо лбом и тафта составляли безусловно условный фон костюма. Художнику дозволялось украсить этот фон узорами кружев, цветов, листьев или меха, смотря по тому, к какой разновидности демихарактерного или серьезного жанра принадлежал персонаж. Такие же узоры «расшивал» композитор на основе канонической танцевальной формы чаконы, мюзетты, менуэта или паспье, а затем балетмейстер — на основе незыблемых правил этих и им подобных танцев.
Все же Вестрис умел наполнить дряхлеющие формы подобающей им выразительностью. Примерно так же поступали через сто с лишним лет исполнители репертуара Мариуса Петипа, оживляя каноны академизма. Чем больше сгущались тучи, тем ярче пылал закат. И поразительно напоминают о русской балетной прессе конца XIX века заметки французских рецензентов о Гаэтане Вестрисе, собранные в книге Капона.
1 Capon G. Les Vestris. Le «diou» de la danse el sa famille. Paris, 1908. pp. 83—84.
45
Рецензент газеты «Ла Фейль несессер» 19 ноября 1759 года писал о дивертисменте в опере «Амадис»: «Господин Вестрис украсил балетное зрелище этой оперы. Он торжествует над равнодушием тех, кого не трогают совершенства танца, заключенного только в правила. Нельзя не признать, что он усвоил жанр, столь отвечающий и значительным идеям и роду очарования, приличествующим театру, что он привлекает внимание и захватывает, создавая полную иллюзию. В его сольных танцах виден род законченного действия, так тесно связанного со всем зрелищем, что отсутствие этих танцев сделало бы зрелище несовершенным». 1
Газета «Меркюр де Франс» в отзывах о Вестрисе раз от разу повышала интонации восторга. «Следует равно восхищаться блеском его па, точностью позиций и живописным характером танца», — говорилось о выступлениях в партии Борея из Балета цветов в «Галантных Индиях» Рамо. Немного спустя критик восхитился чаконой, где Вестрис был «по всей справедливости великолепен, а м-ль Аллар, обладающая большой выразительностью фигуры, составила с ним приятную, доставившую огромное удовольствие картину».2
Уже в этих двух отзывах отражен интерес Вестриса к «живописному характеру», к «картинной» изобразительности академического номера. Притом упор на «выразительность фигуры» танцовщицы Мари Аллар свидетельствует о том, что и она, и ее партнер скорее всего танцевали в масках. Так требовал обычай Оперы. И Вестрис на сцене этого театра пока еще маску сохранял. Но проскользнувшие намеки на живописность, картинность, выразительность, обновившие характер академического танца, обещали многое.
Тем более интересна рецензия на pas de deux Гаэтана Вестриса и его сестры Терезы Вестрис в сцене очарованных садов Армиды из одноименной оперы Люлли: «До сих пор, по наиглупейшей нелепости, лучшие танцовщики и танцовщицы, казалось, танцевали лишь для взаимного очарования и выпрашивания аплодисментов у партера, адресуя ему свои самые соблазнительные действия. В этом pas de deux, наоборот, м-сье и м-ль Вестрис ни на минуту не упускают из виду ложе, на котором покоится Рено. Все, что есть пленяющего и страстного в их пантомимной сцене, направлено туда. Если время от времени
1 С а р о п G. Les Vestris, р 121.
2 Ibid, р. 122.
46
они удаляются, то лишь затем, чтобы посоветоваться, запастись новыми чарами. Таким образом создается полная иллюзия, за что их таланты заслуживают всяческой награды. Мы ощущаем себя особенно обязанными чувству вкуса, который заставил их пожертвовать аплодисментами толпы ради благородного и похвального соревнования, где прекрасный талант соединяется с рассудком».1
Все эти рецензии относились к концу 1761—началу 1762 года. 8 января 1762 года маркиз де Башомон набросал в дневнике несколько метких балетных характеристик. Назвав Вестриса первым танцовщиком Европы, «мешающим нам сожалеть о Дюпре», он добавил: «Есть даже люди — друзья новизны, без сомнения, — которые находят Вестриса более законченным и правдивым в своей игре». О Терезе Вестрис он писал: «Мадемуазель Вестрис неизменно владеет танцем, полным неги и даже сладострастия, за что ее без конца упрекают блюстители нравов, должно быть, внутренне прощая ей этот недостаток».2 Окраска танца отчасти определялась национальной природой живого и темпераментного таланта Вестрисов. Но новшества, подобные танцевальной пантомиме Вестриса в «Армиде», имели другой источник.
В том самом 1761 году, когда рецензенты заметили элементы действенности в танцах Вестриса, он впервые встретился с Но-верром. Отныне Вестрис несколько лет кряду посещал Штутгарт, где Новерр возглавлял балет придворного оперного театра Вюртемберга. Парижское выступление Вестриса в «Армиде» Люлли небеспричинно нарушило обособленность балетных выходов этой старинной оперы. Первый штутгартский сезон Вестриса открылся главной ролью в балете Новерра «Рено и Ар-мида». В Париже ему пришлось вернуться к амплуа танцовщика — первого, «лучшего в мире», но... занятого только в балетных инкрустациях оперных спектаклей. Танцуя в Париже возле ложа певца, он, возможно, просто повторял танец, который в Штутгарте с такого же ложа созерцал.
Там этот эпизод служил лишь экспозицией роли. Рено, попав на волшебный остров, поддавался уговорам нимф — прислужниц Армиды и, опустившись на ложе, засыпал. Армида являлась отомстить ему за освобождение ее пленников, но, сра
1 С а о о п G. Les Vesiris, р 123.
2Bachaumont L. de. Metnoires historlqu.es ei liiteraires de Гаппёе 1762 а Гаппёе 1782 Paris, 1846, p. 216.
47
женная любовью, роняла из рук кинжал. «Игры и Утехи, представленные приятнейшими танцовщицами, Наяды, выходящие из фонтанов среди садов Армиды, соединялись, чтобы отпраздновать прибытие госпожи и украсить гирляндами одежду героя, наполнившего чувством ее сердце», — писал современник. Рено, завороженный красотой Армиды, отвечал на ее страсть в пассакалии и паспье, «где господин Вестрис и мадемуазель Нанси заставляли блистать все изящество танца и все пламя любви». По ходу балета Рено должен был переживать душевную борьбу между любовью и воинским долгом, о котором напоминали отыскавшие его рыцари. Долг побеждал, и Рено расставался с Армидой. Вестрис «вносил столько действенности и выразительности в события балета, особенно в сцену прощания с Армидой, что обнаруживал талант, какого больше не ждали встретить ни на одном театре», — заключал очевидец.1
В тот первый сезон Вестрис сыграл еще Адмета в «Адмете и Альцесте» Новерра. Потом он исполнил главные роли в балетах «Смерть Геракла», «Медея и Ясон» и других. Танцовщик находился в расцвете славы и таланта. Мариан Ханна Уинтер тонко отметила, что штутгартскую труппу Новерр составил из многообещающей молодежи, но «на положение «звезды» он сразу заполучил самое знаменитое имя в мире европейского танца. Гаэтан Вестрис, тогда тридцати одного года от роду, брал ежегодный трехмесячный отпуск в парижской Опере, пока Новерр пребывал в Штутгарте».2
Постановки Новерра явили для Вестриса разительный контраст парижской практике и подлинное откровение искусства. И «звезда» академизма Вестрис наслаждался, давая тут выход своим итальянским страстям.
Разумеется, пластический эквивалент страстей, устремляясь к правдоподобию изобразительного искусства, держался в границах дозволенного тогдашней сценой. С одной стороны, это облегчало задачу: жесты и движения даже в самые динамические моменты сохраняли известную статичность, которую к тому же обусловливал костюм. С другой стороны, это ставило балетмейстера и мима перед препятствиями, каких не знали актеры драмы. У тех имелся литературный текст, и они, как правило,
1 [U г i о t Л] Description des Fetes donnees pendant quatorze jours a I’Occa-sion du Jour de naissance de son Altesse Serenissime Monseigneur le Due Regnant de Wurtemberg et Teck. Stuttgart, 1763, pp. 40—46.
2 W i n t e r M. H. The Pre-Romantic Ballet, p. 115.
48
больше рассказывали о действиях, чем действовали. Балетные актеры живописали действия и чувства своих героев, получая, правда, в помощницы музыку. Здесь требовался, помимо таланта, изрядный сценический опыт. Потому Новерр и избрал Вестриса ведущим исполнителем своих героических пантомим.
Вестрис, как превосходный инструмент, откликался на находки мастера-творца. Богатая индивидуальность танцовщика ответно влияла на поиски Новерра. Тот с благодарностью вспоминал о штутгартском содружестве. «Редкие таланты Вестриса в том, что касалось механической части», по словам Новерра, совершенствовали танцевальное мастерство труппы. «Этот прекрасный танцовщик, — продолжал Новерр, — совсем не упражнялся в искусстве пантомимы, тогда неведомом Опере. Удивленный моим способом творить и новизной моего жанра, он почувствовал в себе способность живописать и выражать страсти» (II, 116). Можно добавить, что Новерр, уча Вестриса «выражать страсти», не пренебрегал и его виртуозностью. В балет «Триумф Нептуна» (1763) хореограф ввел, например, чакону. По словам Урио, Вестрис в этом номере дивертисмента заставил штутгартцев «любоваться всеми красотами, на какие способен высокий танец; он превзошел себя, и можно уверенно предсказать, что на один этот номер будет сбегаться весь Париж».1
Итальянцу Вестрису и довелось, волею судеб, перенести идеи француза Новерра на родину хореографа. Он действовал весьма осторожно и, возвращаясь из Штутгарта, где рьяно участвовал в реформаторских опытах Новерра, учитывал консерватизм парижского театра. Он понемногу пробовал «живописать и выражать страсти» в канонических танцах оперных спектаклей, но сохранял традиционный балетный костюм и маску для «паспье — в прологе, мюзетт — в первом акте, тамбуринов — во втором, чакон и пассакалий — в третьем и четвертом», то есть делал то, чем больше всего возмущался Новерр. С 1761 года, быть может благодаря умеренности своих постановочных проб, Вестрис получил на них легальные права: его назначили помощником Лани. В 1770 году, после отставки Лани, Вестрис занял пост балетмейстера и уступил этот пост Новерру в 1776 году.
Вестрис пролагал пути для реформы Новерра в практике парижской Оперы. Но его роль была двойственна. С одной стороны, он пропагандировал искусство мастера, которого несом-
1 [U г lot /.] Description des Fetes ... , p. 54.
49
пенно ценил. С другой стороны, поддерживая негибкие каноны академизма, он содействовал и тому, что мастера этого встретили в штыки и парижские зрители и труппа. Все же именно Вестрис воспользовался своим престижем в Опере, чтобы насадить там находки Новерра и пробить брешь в косных привычках администрации, публйки и критики.
Впрочем, знаменитый гастролер Вестрис начал пропаганду действенного балета с театров Вены и Варшавы. В 1767— 1768 годах он поставил там «Медею и Ясона». В 1770 году он осмелился показать этот балет в парижской Опере. Парижане могли бы не принять спектакль, будь он предложен «чужестранцем» Новерром. Но и постановку «своего» Вестриса, судя по отзыву Гримма, приняли далеко не все.
«11 декабря дали на театре Оперы первое представление трехактной лирической трагедии Йемена и Исмений с музыкой г. де Ла Борда, — писал Гримм. — Опера имела успех благодаря балету Ясон и Медея, посильно скроенному Вестрисом по образцу балета Новерра, в котором Вестрис танцевал... Следовало хотя бы сохранить музыку, по слухам, великолепную. Но г. де Ла Борд предпочел подменить ее своей, бездарной и безвкусной. Вестрис не заметил и другого обстоятельства, не менее существенного, чем музыка». Дальше следовало рассуждение о том, что в балетах Новерра «танцуют только в моменты большой страсти», когда танец возникает из действенно ритмизованной пантомимы, подобно тому, как ария из речитатива. «Вестрис, подражая Новерру, пренебрег этими правилами и поставил, на мой взгляд, неинтересный балет, — продолжал Гримм. — Все же новизна зрелища пошла ему на пользу и привлекла в Оперу множество народу. Одни говорили, что балет прекрасен. Другие — что кривлянья Вестриса — Ясона смешны, а Медеи — Аллар ужасающи. Креуза — Гимар, отравленная соперницей, вышла танцевать в третьем акте простой пастушкой, в платье столь элегантном, что наши дамы отказались в маскарадах от домино, чтобы танцевать в платьях а 1а Гимар. Между тем это всего лишь изящно подобранная юбка над юбкой другого цвета...» 1
Гримму не была известна оригинальная музыка «Медеи и Ясона», принадлежащая Родольфу, но он чутко отметил ее замену музыкой де Ла Борда как главный просчет постановки
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, t. 7, pp. 176—178.
50
Вестриса. А этот просчет породил несовершенства сценического воплощения. Композиторы Старцер, Родольф, Аспельм айр подхватывали идеи Новерра. Их музыка отвечала смене пантомимных речитативов и танцев-арий — важной основе его художественных реформ. Партитура де Ла Борда, написанная по шаблонам старой балетной музыки, разрушала структуру новеррова спектакля. Беспомощный в действенных эпизодах, композитор спасался в испытанную последовательность танцевальных номеров. Вероятно, он делал это с ведома балетмейстера, который хотел угодить всем вкусам и, в конечном счете, достигал тут сомнительного успеха. Недаром Гримм насмешливо упоминал о превращении царевны Креусы в простую пастушку и с ядовитой обстоятельностью описывал наряд Гимар как единственно оправдавшую себя «реформу» в балете, поставленном Вестрисом.
Вестрис-исполнитель охотно и смело включался в опыты Новерра. Вестрис-балетмейстер предпочитал держаться старых сюжетов и опробованных форм. Его единственный самостоятельный балет «Эндимион» (1773) отвечал всем правилам пасторальных дивертисментов и скорее всего был осуществлен по сценарию балета, уже имевшего хождение. Во всяком случае, за тринадцать лет до постановки Вестриса Новерр, не называя имени автора, привел балет «Эндимион» как «неприятно поразивший» его пример «плохо разработанного плана», а вдобавок осудил за «скверно переданные характеры, которые ослабляют картину и свидетельствуют о неспособности сочинителя» (I, 21—22). Сюжет «Эндимиона», подробно проанализированный здесь Новерром, совпадает с изложением сюжета в «Меркюр де Франс»,1 с той разницей, что у Новерра фавны названы пастухами. Диана сердилась на непослушного Амура, подсматривающего за ее нимфами. Эндимион вступался за него. В благодарность Амур защищал своего спасителя от гнева Дианы и ее нимф. В финале фавны преследовали нимф, и те сдавались, следуя примеру Дианы. Амур превращал дремучий лес в рощу, подобную садам Версаля, и возглавлял группу Граций, Игр и Утех. В балете, где первая танцовщица Оперы — Гимар изображала Диану, а Гаэтан Вестрис — Эндимиона, главная роль Амура предназначалась двенадцатилетнему ребенку. То был Огюст Вестрис, внебрачный сын Мари Аллар и Гаэтана
1 См.: Capon G. Les Vestris, рр. 189—190.
51
Вестриса. Благодаря выдающимся способностям к танцу он занял в истории балета не менее видное место, чем его отец.
Гаэтан Вестрис покинул сцену в 1782 году и в преклонном возрасте продолжал давать уроки. 30 сентября 1808 года, через неделю после его смерти, газета «Монитер универсель» поместила некролог, где говорилось: «Опера наслаждалась дарами этого прекрасного артиста сорок лет, и можно сказать, что его отставка совпала с эпохой упадка в искусстве. После искали правильности, легкости и смелости движений, но благородную простоту танца, мудрость композиции заменили опасными и форсированными трюками и всеми выходками блестящего, но беспорядочного воображения».1 В акте, составленном на смерть знаменитого танцовщика, его имя вновь обрело свое итальянское написание — Вестри.
МАКСИМИЛИАН ГАРДЕЛЬ — ТАНЦОВЩИК ОПЕРЫ
Старшим представителем другой балетной династии на сцене Королевской академии музыки был Максимилиан-Леопольд-Фи-липп-Жозеф Гардель. Он родился в декабре 1741 года. Отец его, Клод Гардель, служил балетмейстером при дворе польского короля Станислава I с 1742 по 1749 год. По-видимому, он не отличался большим талантом, так как в 1766 году Максимилиан Гардель, пользуясь своим влиянием первого танцовщика Оперы, устроил туда отца простым статистом.
Максимилиан Гардель учился в школе парижской Академии с 1755 года, выделился способностями к танцу и получил дебют в 1760 году. 15 июля того же года критик «Меркюр де Франс» сообщил, что Гардель успешно исполнил чакону Вестриса в опере Рамо «Дарданюс». 24 августа Гардель и танцовщица Кларвиль заместили Гаэтана и Терезу Вестрис в танцах оперы «Йемена». В сентябре Гардель выступил в «Принце де Нуази», галантном балете по сказке Гамильтона «Созвездие овна», с диалогами Лабрюйера на музыку Ребеля и Франкера. Вскоре танцовщик прочно вошел в репертуар, и современники отметили его успехи. «Он следует по стопам Вестриса, и, хотя все еще
1 Цит. по: Capon G. Les Vestris, р. 288.
52
далек, считают, что, продвигаясь все больше и больше, он попытается его настичь», — писал один из них.1
Гардель добился одинакового положения с Вестрисом, но публика всегда предпочитала последнего. «Гардель и Вестрис-отец первенствовали, — вспоминала Виже Лебрен. — Я часто видела их танцующими вместе, особенно в одной чаконе, не помню, в какой из опер Гретри. Чакону эту, помнится, сбегался смотреть весь Париж... Гардель, всегда казалось мне, во многом уступал Вестрису».2 В Академии музыки Гарделя ценили, и ему позволялось многое. Однажды, в январе 1772 года, Вестрис должен был танцевать выход Аполлона в опере Рамо «Кастор и Поллукс». То была одна из его лучших партий. «Он представлял белокурого Феба в огромном черном парике и маске, с огромным солнцем из позолоченной меди на груди. Час настал, но Вестриса в театре не было. Максимилиана попросили заменить его. Тот согласился при условии, что явится на сцене с собственной длинной белокурой шевелюрой, без маски и прочих атрибутов. Публика приняла нововведение и приветствовала находчивого артиста. С этого дня первые сюжеты навсегда отбросили маски»,— писал Адольф Жюльен.3 Таким образом, Гарделю довелось завершить реформу костюма, начатую Мари Салле.
В остальном Гардель не менее Вестриса был привержен аристократическим канонам академизма. Оба ревниво охраняли эти каноны, совершенствуя и оттачивая их в пределах, дозволенных на сцене парижской Оперы. И зрители Оперы ценили обоих как стражей порядков этого Олимпа. «Бог Вестрис танцует выход вместе с полубогом Гарделем, чудо, которое считалось невозможным, на которое не смели надеяться, одним словом, зрелище, о котором состарившиеся завсегдатаи будут рассказывать внукам как о выпавшем на их долю величайшем счастье», — иронизировал в 1773 году Гримм по поводу выступления двух премьеров в героическом балете «Союз Любви и Искусств» с музыкой Флоке и словами Лемонье.4
Гардель и Вестрис не только в силу своего положения премьеров отстаивали виртуозный танец в его инструментально
1 Дит. по: С h[r 1st out] М. F. Garde!.— Encyclopedia dello Spettacolo. v. 1, p. 935.
2 V i g ё e L e Brun E. Souvenirs, t. 1, o. 90.
5 J и I li e n A. Histoire du costume au theatre. Paris, 1880, pp. 192—193.
4 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 8, p. 226.
53
откристаллизованных формах. Их упорство было обусловлено исторически и имело свои положительные мотивы. Завоевания Академии в сфере такого танца были итогом давних традиций и являли пример высокой культуры. Технические приемы, отточенные поколениями мастеров, Вестрис и Гардель подняли на еще более высокий уровень и заслуженно гордились своим искусством. Судить о том можно по примеру, оставленному Дженнаро Магри в «Теоретическом и практическом трактате балетного танца» (1779). Гаэтан Вестрис «во время одного и того же вращения, — писал Магри, — три или четыре раза переходит с ноги на ногу, что поистине заслуживает вечного восхищения. Но поразительней всего то, что, вращаясь с наивозможной скоростью, он останавливается с таким превосходным апломбом, что остается совершенно неподвижен и сохраняет равновесие в позе».1
Подобным могли бы гордиться и танцовщики XX века. Ведь такая виртуозность, как принадлежность завершенной формы танца, и поныне живет в сольных вариациях, pas de deux, pas de trois и т. д., изменяясь примерно так же, как изменяются в опере арии, дуэты, трио и т. п. Перемены всегда начинаются с приходом нового содержания. Выдвинутое временем содержание влияет на драматургию и музыку спектакля, создавая свой стиль, закладывая свои каноны. Тогда, с одной стороны, происходит назревший сдвиг вперед, с другой стороны, столь же необходимо разрушается и отчасти утрачивается накопленное раньше.
Реформаторы музыкального театра XVIII века, отвечая на запросы времени, стремились создать спектакль, где речитатив и пение, пантомима и танец возникали бы в неразделенном единстве драматического целого. Глюка сердили танцовщики, которых устраивали только привычные танцевальные формы, ломавшие гармоничную стройность его опер. Новерра возмущала обязательность таких форм, потому что они прерывали лорику действия в его балетах. Но можно понять и танцовщиков, стоявших на страже этих форм. В конечном счете, формы просуществовали до второго десятилетия XIX века, когда их все еще пытались удержать балетмейстеры Луи Милон и младший брат Максимилиана — Пьер Гардель. В 1822 году они подали рапорт дирекции Оперы, советуя, чтобы в Школе танца «изучение большой пассакалии, чаконы и паспье было восстановлено в про
1 Цит. по: Wint er М. И. The Pre-Romantic Ballet, р 151.
54
грамме». Цитируя эти слова, Айвор Гест заметил: «Они делали это в надежде, что возродятся великие времена танцовщика, ассоциирующиеся с именами Вестриса и Гарделя».1
Однако уже во времена Вестриса и Гарделя новое предъявляло свои права, и оба танцовщика так или иначе реагировали на эти зовы как исполнители балетов Новерра. Например, в балете «Апеллес и Кампаспа» Вестрис изображал художника Апеллеса, а Гардель — императора Александра. Вестрис «трогал и волновал», передавая любовь и ревность своего героя. Гардель воплощал те же чувства в холодновато-скульптурной статике, но тут же требовал от хореографа претившие тому «антраша». 2
Притом Гардель, более консервативный в исполнительской сфере, опережал Вестриса как балетмейстер. Если Вестрис придерживался в собственных постановках старого пасторального жанра, то Гардель, который был на двенадцать лет моложе, хотел идти в ногу с модой. А модными становились темы и сюжеты, в корне изменявшие демихарактерный жанр. Гардель числился в помощниках Вестриса с 1773 года и надеялся когда-нибудь занять его пост. Однако в 1776 году, когда Вестрис подал в отставку, место балетмейстера Оперы получил Новерр.
В Париже сразу пошло по рукам частное письмо матери Гарделя. «С ним обращаются как с мальчишкой! — писала о своем сыне госпожа Гардель. — Ему посмели предпочесть милостивого государя Новерра, который явится для него образцом, будет диктовать ему, Гарделю, известному в Англии и повсюду как знаменитый, прославленный Гардель». Но пока что Гардель был знаменит только как танцовщик, а известность в Англии принесли ему роли в постановках Новерра. К тому времени он поставил лишь один балет — «Эрнелинда», показанный на дворцовом празднике. Там изображалась осада города, и, по словам госпожи Гардель, «сам маршал Франции спрашивал, где удалось Гарделю изучить искусство войны». Скорее всего, он изучил его на сцене Академии музыки: прообразом балета была опера композитора Филидора «Эрнелинда, принцесса норвежская». Опера шла в 1767 году, и Гардель участвовал в ее балетах вместе с Вестрисом и Гимар.
На сцене Академии музыки Гардель начал ставить с 1778 года, когда Новерр заканчивал там свой третий и последний
1 Guest I. The Romantic Ballet in Paris. London, 1966, p. 19.
2 Cm: Correspondance litleiaire, philosophique et critique de Grimm, t 9, p 218.
55
сезон. Гардель не рискнул соперничать с признанным мастером пантомимных трагедий, но при поддержке танцовщицы Гимар, враждебной Новерру, противопоставил его комедийным балетам собственные постановки в этом жанре. Соревнование неравных по таланту балетмейстеров отразило ситуацию в тот краткий, но значительный период истории театра Оперы, который можно охарактеризовать как новерровский период. Деятельность Гарделя-балетмейстера будет рассмотрена в соответствующей главе.
Гардель умер 11 марта 1787 года. Гримм, как бы суммируя многие свои отзывы о Гарделе, написал: «То был весьма прилежный человек; он глубоко вникал в свое искусство, но вряд ли обладал гением... Он настолько же уступал в сочинении балетов Новерру, насколько уступал Вестрису в исполнении».1
АЛЛАР
В пору Гаэтана Вестриса и Максимилиана Гарделя балетная труппа Королевской академии музыки придерживалась консервативных художественных позиций. К тому же там царила легкость нравов; унаследованная от многих поколений, она часто влияла на дела творческого порядка. Вместе с тем профессиональный уровень труппы был высок, в ней блистали подлинные таланты. Сведения об искусстве большинства из них отрывочны: сплошь да рядом это всего лишь краткие упоминания в разрозненных документах эпохи. По отдельным деталям можно судить о творчестве Пелен и Аллар — двух танцовщиц, чьи имена чаще других возникали в балетной хронике французского театра. Обе были, как вспоминала Виже Лебрен, «танцовщицами жанра, называемого в Италии гротеском. Они проделывали тур де форсы и пируэты без конца и без очарования; но обе, хотя и были весьма толсты, поистине поражали легкостью, особенно мадемуазель Аллар».2 Все же «итальянский гротеск» у обеих преломлялся сквозь призму французской школы, выдавая манеры и технику ее танца. Потому искусство этих танцовщиц скорее следовало отнести к демихарактерному
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 14, pp. 66— 67.
2 V i g ё e L e Brun E. Souvenirs, t. 1, p. 91.
56
жанру. Притом Аллар обладала оригинальной актерской индивидуальностью, и ее амплуа расширилось с появлением в репертуаре Оперы новерровских балетов. О ней сохранилось и сравнительно больше данных: вместе взятые, они рисуют тип танцовщицы второй половины XVIII века.
Мари Аллар (1742—1802), уроженка Марселя, девочкой выступала в местном театре. Затем она, «потеряв мать, покинула равнодушного отца и отправилась в Лион, где нашла не слишком блестящий ангажемент».1 Четырнадцати лет Аллар явилась в Париж, поступила в балетную труппу Комеди Франсез и стала ученицей Гаэтана Вестриса. Вскоре она перешла в труппу Королевской академии танца. Открытая актерская натура Аллар и напористый темперамент ее танца сразу завоевали симпатии зрителей.
Любовница Гаэтана Вестриса и восемнадцатилетняя мать Огюста Вестриса, Аллар была хороша собой. Ее имя нередко мелькало на страницах скандальной хроники эпохи. В книге Пармении Мигель «Балерины» почти целая глава посвящена романтическим похождениям танцовщицы.2 Здесь, как и в других источниках, беглые и все же ценные штрихи актерского облика Аллар приходится извлекать из анекдотов о ее частной жизни. Например, Луи де Башомон, современник танцовщицы, зарегистрировал 19 мая 1763 года в дневнике неприятность, только что случившуюся с герцогом Мазарини, которому новый возлюбленный Аллар проломил голову, спустив его с лестницы. Сожалея, что из-за этого Опера лишится на время м-ль Аллар, которую обязали покинуть Париж, Башомон отзывался о ней как о «танцовщице подвижной, веселой и оживленной».3 Подвижность и резвость Аллар раскрывались в полном блеске благодаря отточенной технике танца. Аллар владела ею в совершенстве и славилась «стальной крепостью» мышц. Гримм, вспоминая Камарго как «основательницу танца с кабриолями», сообщал, что «в наши дни м-ль Аллар подняла этот танец до высшего совершенства и процветания».4
Вместе с тем Аллар, танцовщица второй половины XVIII века, соединяла с техникой «одухотворенную выразительность»,
1 Р е г и g i ni М. Е. A Pageant of the Dance and Ballet, p. 148.
2 Cm.: Mi gel P. The Ballerinas from the Court of Louis XIV to Pavlova. N. Y., 1972, pp. 50—58.
3 В ac ha и mo nt L. de. Memoires historiques et litteraires, p. 241.
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 6, p. 427.
57
чем привлекала Новерра. Художник Луи Каррожис Кармоптель запечатлел момент из того самого pas de deux Аллар и Добер-валя в «Сильвии», которым восхищался Новерр. Живописец передал портреты исполнителей, только что освободившихся от масок. Нельзя сказать, чтобы он польстил здесь Добервалю, чье горбоносое и мужественное лицо кажется тяжеловесным применительно к жеманной позе и изысканному костюму. Зато прелестна игриво отстранившаяся от партнера Аллар, с ее пикантным профилем и капризной улыбкой. «Отличная мимистка, замечательная танцовщица, она сама, без помощи балетмейстера, сочиняла свои выходы»,— свидетельствовал Новерр. Вслед за ним многие отмечали это как привилегию, которой пользовалась Аллар.
Мимический талант позволил Аллар сохранять место первой танцовщицы даже тогда, когда она так располнела, что любившие ее зрители добродушно назвали ее «толстушкой Аллар». На парижской премьере «Ясона и Медеи» Новерра она исполнила роль Медеи, а в «Капризах Галатеи» роль пастушки— подруги Галатеи. Тогда же, в 1777 году, Новерр поставил танцы для премьеры «Армиды» Глюка: Аллар участвовала в великолепном по составу исполнителей pas de quatre, где ее партнерами были Гимар, Гардель-младший и Вестрис.
В 1778 году Аллар отказалась от героического и пасторального амплуа и выступила в роли, открывшей список комических старух балетного репертуара. Опа сыграла мамашу Мадрё в «Искательнице ума» Гарделя. Богатая забавными эпизодами роль предлагала превосходный материал талантливой актрисе, но откликов на ее игру не сохранилось.
Аллар покинула сцену в 1782 году.
ГИМАР
Виднейшей танцовщицей эпохи была Мари-Мадлен Гимар. Она родилась в Париже 27 декабря 1743 года и была незаконной, а впоследствии признанной дочерью Фабиена Гимара, инспектора ткацких фабрик в Вуароне. Пятнадцати лет Гимар приняли в кордебалет театра Комеди Франсез, где давались тогда и балетные спектакли. Современник писал о юной танцовщице как о «хорошо сложенной и уже обладающей прелестнейшей в мире шеей, сносными чертами лица — без особой
58
красоты — и чрезвычайно проказливыми глазами».1 Судя по разным изображениям, «проказливость» всегда сочеталась < с загадочностью улыбки: в этом и таились чары Гимар, женщины и актрисы. Другая современница, Виже Лебрен, вспоминала: «Она была мала ростом, худощава, прекрасно сложена и, несмотря на некрасивость, обладала такими тонкими чертами лица, что даже в возрасте сорока пяти лет казалась на сцене не более как пятнадцатилетней».2
За трогательной инфантильностью облика и манер Гимар скрывались настойчивый характер и сильная воля. Гимар азартно и любыми средствами добивалась желанного места танцовщицы Королевской академии музыки — и в 1761 году подписала там контракт. Это произошло не без помощи знатных покровителей, в которых у Гимар никогда не было недостатка. Биографы называют имена многих вельмож, тративших состояния на прихоти танцовщицы. На закате династии Бурбонов, в годы, известные падением нравов, Гимар задавала тон светской жизни. Ей подражали, знакомства с ней добивались знатные дамы Парижа и Лондона. Она диктовала моды. Она «была так изысканна в нарядах, что стала оракулом хорошего вкуса: придворные и светские дамы усердно добивались ее советов»,— вспоминал Новерр (II, 173). В 1776 году королева Мария-Антуанетта устроила в Шуази спектакли французской оперы и итальянской комедии. Ночью, после спектаклей, актеры Королевской академии музыки разыгрывали пародии в бурлескных костюмах. Гимар являлась душой этих фантазий. «Ее чрезмерная худоба и хрипловатый голос усиливали гротеск, когда она пародировала Эрнелинду или Ифигению»,— пишет Линхэм.3 Художники, например Жан Фрагонар, писали портреты, скульпторы лепили Гимар. Лучшие архитекторы выстроили театры для ее парижского особняка и загородного поместья. На разыгрываемые там эротические зрелища стремился попасть «весь Париж». Даже самые знатные дамы и высшие чины церкви сиживали в задернутых занавесками ложах.
Вместе с тем Гимар тратила огромные суммы на благотворительность и посещала трущобы, где ютилась парижская
1 Цит по: Beaumont С. W Three French Dancers of the 18th century London, 1934, p 26.
2 V i g e e L e В г и n E. Souvenirs, t. 1, p. 91.
3 L у n ham D. The Chevalier Noverre. Father of Modern Ballet. London, 1972, p. 82.
S9
нищета. Легенды о ее ветреном и отзывчивом к несчастьям сердце запечатлела французская литература. Эдмон Гонкур посвятил ей книгу в серии «Актрисы XVIII века».1 Анри де Ренье вывел Гимар под именем м-ль Дамбервиль, танцовщицы Королевской академии музыки и балета, в романе «Дважды любимая». По ходу действия романа описано представление балета «Ариадна», где главную роль исполняет м-ль Дамбервиль, и ужин у нее, на котором присутствует художник Гаро-нар, то есть Фрагонар.2 Представление можно датировать. В декабре 1774 года Гимар и Вестрис выступили в главных ролях пантомимы «Вакх и Ариадна», которая входила в оперу Флоке «Азолан». По отзыву современника, то была «живописная поэма» из трех сцен. «Нельзя представить себе ничего соблазнительнее второй картины,— писал рецензент,— а исполняется этот эпизод с непревзойденной помпезностью и точностью».3 Помпезность и точность оттеняли жеманную, дразнящую чувственность. То был эталон стиля, который бережно шлифовали божества парижского балетного Парнаса.
Спектакль, начатый на сцене, мало отличался от зрелища изысканных приемов в доме танцовщицы. Фигура Гимар несомненно интересна для историка предреволюционной Франции, с разительными контрастами утопающей в роскоши знати и голодающего народа.
В Опере Гимар назначили дублершей Аллар, такой же юной, но уже популярной. В дублерстве крылся подвох, ибо худощавая дебютантка была противоположностью пышнотелой сверстнице и могла разочаровать поклонников такого рода прелестей. Но умная Гимар извлекла пользу именно из несходства с Аллар и всячески его подчеркнула, когда заменила ту в роли Терпсихоры из пролога оперы Колин де Бламона «Греческие и римские празднества». Башомон, пожалев, правда, что молодой танцовщице недостает идеально округлой грации, превознес ее легкость. Легкость Гимар оставалась в тех же пределах партерного танца, что и легкость Аллар. Но, в отличие от плавного, округлого и в то же время темпераментножизнерадостного танца соперницы, угловато-капризный танец Гимар нес штриховку тонкого аристократичного изыска и был лукаво загадочен. Виже Лебрен писала: «Ее танец был как
1 См : G о п с о и г t Е. de. La Guimard. Paris, 1893, 331 pp.
2 См.: Ренье А. де. Дважды любимая. Л., 1924.
3 Memoires secrets..., 1774, t. 7, p. 272.
60
бы эскизен, она исполняла лишь маленькие па, но так грациозно, что публика предпочитала ее всем другим танцовщицам».1
Эскизность танца, лишенного технических тур де форсов, и была главным отличием, которое Гимар противопоставила «итальянским гротескам» танцовщиц типа Аллар и Пелен. Профессиональный анализ ее художественной манеры сохранился в «Письме Жана-Этьена Депрео, танцовщика Оперы», написанном сразу после смерти Гимар, но опубликованном только в 1820 году в «Журналь де Пари». Частый партнер, а впоследствии муж Гимар сообщал: «Танец, которым м-ль Гимар восхищала придирчивую публику более двадцати пяти лет, был партерным. Она никогда не повторялась. Я говорю не только о движениях ее ног; они были скупы сравнительно с пленительными движениями головы и тела. В этом заключалось совершенство картины... Ее выразительное лицо легко передавало чувства, которые она испытывала или предполагалось, что испытывает».2
Нарочито умеряя бисерно-мелкую беглость движений ног, Гимар зато открыто отменяла ограничительность старых правил. Ее танец снимал застылую округлость позиций рук и относительно фронтальные положения тела для позировок и движений всей фигуры. Капризно-ломкие жесты, мелькнув, исчезнув, возникнув в новом ракурсе, придавали пластике неожиданную текучесть, вносили в нее игру светотени, зыбкую в своей мимолетности. Столь же изменчиво-капризной, чуть подчеркивающей «предположительность испытываемых чувств», была мимика танцовщицы.
Другой современник писал: «Ее танец всегда был благороден, полон жизни, света, экспрессии и страсти; ее игра наивна, весела, пикантна, нежна и патетична». Но и он добавлял: «Знатоки по временам упрекали ее за некоторую манерность».3 Естественность с легким привкусом манерности — таковы были приметы стиля танцовщицы. Стиль, непринужденно-изысканный и грациозный, формировался постепенно и, в свой черед, определил контуры амплуа невинно-шаловливых пастушек и нимф с подспудно звучащей ноткой чувственности. «Своим успехом она обязана гармоничной грации движений и изыскан
'VigeeLe В run Е. Souvenirs, t. 1, р. 91.
2 Цит. по. G о пс о иг t Е. d е. La Guimard, р. 306.
3 Цит. по-. Р е г и g i ni М. Е. A Pageant of the Dance and Ballet, p. 156.
61
ности позировок,— писал Сирил Бомонт.— Но она была не просто образцово прелестной фарфоровой статуэткой, а оживленной и веселой, полной женского лукавства хозяйкой трудного искусства комедии. Одной из особенностей ее танца были короткие паузы, полные кокетливой нерешительности, контрастно предваряющие моменты чувственного порыва».1
В творчестве танцовщицы отразились противоречия эпохи. Ее искусство отзывалось утонченным аристократизмом и в таком плане принадлежало уходящей практике придворного балета. Но Гимар чутко откликалась на новое, когда соприкасалась с демократическими тенденциями времени. Воплощение естественных и трогательных чувств, все более входившее в моду, как нельзя лучше отвечало ее индивидуальности. Это и сказалось в постепенной кристаллизации амплуа. Новерр, немало потерпевший от происков Гимар как балетмейстер Оперы, беспристрастно ценил ее талант и даже был склонен приписать себе заслугу создания этого амплуа. «Гимар не гналась за трудными танцами,— вспоминал он.— Она выступала со вкусом и простотой, в движения вкладывала много экспрессии и чувства. Долго подвизаясь в серьезном жанре, она перешла потом к так называемому смешанному жанру, созданному мною для нее и Ле Пика. В балетах анакреонтических она была неподражаема» (IV, 83).
Говоря так, Новерр чуть кривил душой: он был несправедлив к Гимар. Танцовщица и до его прихода в Королевскую академию музыки предпочитала «серьезному жанру» образы легконогих нимф, застенчивых пейзанок, нежных пастушек. Уже в пределах танцевальных выходов старого репертуара она меняла градации образов в сиЛу особенностей своей индивидуальности.
Правда, Новерр вывел эти образы за рамки отстоявшихся традиций, придав им действенную конкретность, найдя для них новые краски. Уже в первом балете, поставленном им для Академии,— «Апеллес и Кампаспа» (1776) Гимар исполняла роль героини, богатую разнообразием если не поступков, то чувств. Красавицу Кампаспу приводил в мастерскую художника Апеллеса влюбленный в нее император Александр. Кампаспа влюблялась в писавшего ее портрет Апеллеса. Это позволяло актрисе показать зарождение и расцвет чувства, с од
1 Beaumont С. W. Three French Dancers of the ISih century, pp. 27—
62
ной стороны, равнодушие к Александру, а потом страх перед ним и отчаяние — с другой. Балет, названный в программе «героическим», по сути дела, героических мотивов не содержал, а благополучная развязка и вовсе относила его к тому самому «смешанному жанру», создание которого Новерр приписывал своей встрече с Гимар. Но поставлен балет был за три года до парижской премьеры, в Вене, что опять-таки не сходилось со словами Новерра. Иное дело, что и хореограф и танцовщица, многое Друг от друга получив, должны были продвинуть вперед и развитие самого жанра. Танцовщице как нельзя более подошла роль невинной и естественно пробуждающейся к чувству девушки. «Безразличие, с каким старший Гардель исполнил свою роль (Александра.— В. К.), искупалось превосходной игрой Гимар в роли Кампаспы»,— пишет Линхэм.1
В следующем году Гимар исполнила главную роль в балете Новерра «Капризы Галатеи». Вполне возможно, что хореограф именно для нее возобновил свой ранний анакреонтический пустячок. Танцовщица вознаградила его, восхитительно передав характер беспечной пастушки. «Невозможно тоньше схватить разные стороны одного и того же каприза, невозможно связать его различные оттенки с большим артистизмом и большей грацией»,— писал о Галатее — Гимар арбитр современного искусства Гримм.2
Правдиво воплощая шутливые капризы героинь, Гимар была не на шутку капризна в жизни. Привыкнув распоряжаться делами труппы, она скоро начала ссориться с Новер-ром, который тоже не уступал своих привилегий. По-видимому, в этом случае даже поддержка королевы не давала ему преимуществ. Эдмон Гонкур опубликовал колоритный документ, относящийся уже к 1783 году, но проливающий свет и на более давние времена. Документ рисует положение дел в Опере и составлен королевским комиссаром Папильоном де Ла Ферте для министра двора Людовика XVI. Он включал характеристику Гимар — первой демихарактерной танцовщицы: «Всем известен ее талант. На сцене она пока еще выглядит очень молодо, и если не обладает виртуозностью в танце, то возмещает это избытком грации. Она очень хороша в действенных балетах и в пантомиме, весьма усердна и много работает. Но она стоит колоссальных расходов Опере, где ее прихоти
1 L у nh а т D. The Chevalier Noverre, р. 87.
2 Correspondance litterair е, philosophique et critique de Grimm, t. 9, p. 254.
63
выполняются так безотказно, как если бы она была начальницей».1
Гимар не поладила с Новерром, отказавшись выступать в его балете «Анетта и Любен». Она потребовала, чтобы этот балет заменили «Искательницей ума». Возможно, вся постановка Гарделя возникла по «прихоти» Гимар. Опытная в делах театральной интриги, танцовщица могла посоветовать Гарделю перехватить почин Новерра в обновлении комедийного жанра. Тут крылся ловкий дипломатический подвох. Новерр, должно быть, учитывал желания и сценические навыки Гимар, когда сочинял для нее балеты и роли в анакреонтическом вкусе. Теперь она отменяла его инициативу, передавала Гарделю права создателя реалистической балетной комедии, выпускала Гарделя вперед и санкционировала его опыт, выступив в главной роли. То, что балет Новерра оказался художественно более ценным и публика его предпочла, лишь сердило строптивую танцовщицу.
Вместе с тем роль простушки Нисетты из «Искательницы ума» бесспорно удалась Гимар. Умная и тонкая актриса как бы перенесла на балетную сцену искусство жены Фавара и знаменитой актрисы его театра — Жюстины Фавар. Та еще в 1750-х годах с реалистическими подробностями играла деревенских героинь из пьес ее мужа и вообще реформировала сценический облик персонажей этого рода, заменив условный пасторальный костюм одеждой простой крестьянки. Реформа Гимар была скромнее, ибо учитывала более условные средства балетного театра. Танцовщица не могла и не хотела повторять натуральность игровых приемов и костюма Жюстины Фавар. Пластика ее героинь сохраняла привкус стилизации и в пантомимных мизансценах, и особенно в танце. Костюм, заимствуя такие жизненные детали, как круглая шляпа на гладко заплетенных косах или передник, повязанный поверх сборчатой юбки, был столь же кокетливо стилизован. Фактура материала, цветы и банты сообщали ему то фарфоровое изящество, которое оставалось непременным условием балетного искусства. Главные перемены заключались в том, что расширялся диапазон чувств, усложнялись характеры. Новые героини Гимар стали сметливее, догадливее и чувствительнее, а свои сердечные проблемы решали уже без помощи амура — крылатого ребенка с луком в руках и колчаном за плечами. Юные фермерши Нисетта и Нинетта.
1 Goncourt Е. de. La Guimard, рр. 200—201.
64
креолка Мирза, деревенские героини «Избранницы» и «Дезертира» сами выбирали себе милого и безбоязненно сопротивлялись вполне реальным каверзам судьбы.
Современники сравнивали Нисетту танцовщицы Мадлен Гимар с хорошо помнившейся им Нисеттой актрисы Жюстины Фавар и приветствовали танцовщицу, соблюдавшую меру и налет пасторальности. Один из них одобрительно писал, что Гимар, «следуя примеру госпожи Фавар, отказалась от панье и корсета условного костюма», а еще больше радовался тому, что «ее красноречивое молчание превзошло живую, легкую и подкупающую речь госпожи Фавар».1 Гримм, которому претила «низменность» игры Жюстины Фавар, имени ее не упоминал, но достаточно прозрачно на нее намекнул. Он писал о Гимар в роли Нисетты: «Все ее па и движения наделены мягкой гармонией, уверенным и живописным их единством. Ее простота безыскусна без глуповатости, ее естественная грация, искренне сдержанная, проступает постепенно и радует не назойливо. Как воодушевляется она под нежными лучами чувства! Она напоминает бутон розы, который на глазах распускается, освобождаясь от сковывающих лепестков, дрожа и хорошея. Мы еще не видели ничего столь чарующего и совершенного в стиле пантомимы».2
Описание Гримма ценно во всем, что касается игры Гимар, но несправедливо в сравнениях. Реализм балетного театра всегда предполагает своего рода фигуральные кавычки и не может рассматриваться в одном ряду с реализмом драматической сцены. Он правомочен не как прямое подражание действительности, а как правдивое отражение духовного мира человека. Гимар проникала в этот мир согласно возможностям балетного искусства своего времени и выражала его с той же силой таланта, что и ее предшественницы, Эстер Сантлоу и Мари Салле, в условиях их времени и их театра. С беспристрастием писателя-историка, а потому объективнее, высказался Эдмон Гонкур, характеризуя танцовщицу: «Гимар особенно отличалась в балетах, где пантомима, так сказать, одухотворяла танец и заставляла его выражать красноречивой мимикой лица, магией жестов, чем-то неопределенным в движениях и позах такое состояние девической души, открываю-
1 Цит. по: Р е г и g i п i М. Е. A Pageant of the Dance and Ballet, pp. 153— 154.
2 Цит. no: Beaumont C. W. Three French Dancers of the 18th century.
щейся для любви, как, например, в Искательнице ума, что такой танец можно было назвать психологическим танцем. Да, в этом балете картин, нарисованных чувством, танца, исполненного легкой грации и целомудренной неги, в этой смене оживленных и грациозных мизансцен трогательной забавы и простодушной любви Гимар была неподражаема».1
В искусстве Гимар танец ее эпохи достиг вершины. Выразив и отточив стилистику французского академизма, это искусство не могло переступить ее пределы. О том убедительно писал опять-таки Гонкур, сравнивая художественную манеру Гимар с исполнительской манерой ее сверстника Доберваля. То, что раскрылось сполна в творчестве Доберваля как балетмейстера революционного времени, заявляло о себе в открытой, даже нарочитой характерности приемов, в почти гротескной динамике его танца. Упоминая о коротком романе Гимар и Доберваля, Гонкур заметил: «М-ль Гимар желала испытать себя в этом жанре рядом со своим любовником. Но ее утонченный, изысканный, манерный танец и ее несколько жеманная внешность слишком не подходили к откровенной вольности его скачков, требующих изворотливости, дробности, в которых отказывали хрупкость и вычурная грация современной Терпсихоры».2
Содержание и формы искусства Гимар были связаны с режимом королевской Франции. Тем более связана с ним была личная жизнь танцовщицы. В 1789 году Гимар покинула родину и присоединилась к потоку эмигрантов. Она отправилась в Лондон, где ее хорошо знали по частым гастролям. В «Ифигении в Авлиде» Керубини сорокашестилетняя танцовщица исполнила менуэт с Шарлем Дидло, которому было двадцать два года, и завоевала успех. В тот же вечер она сыграла роль Анетты с юным Луи Нивелоном — Любеком в балете Новерра, отвергнутом ею десять лет назад.
Но эмиграция длилась недолго. В том же году Гимар вернулась на родину и вышла замуж за Жана-Этьена Депрео. Танцовщик и музыкант, Депрео был разносторонне одаренным человеком. Ему принадлежала поэма в четырех песнях «Искусство танца» (1806), скалькированная с «Поэтического искусства» Буало. Возможно, танцовщик сочинил свою поэму отчасти потому, что имя Депрео было подлинным именем Буало.
1 Goncourt Е. d е. La Guimard, р. 3.
2 Ibid., р. 58.
66
Супруги поселились в Париже, сняв домик на Монмартре. Жить пришлось скромно, особенно после роскоши былых лет.
В 1796 году, когда установилась Директория, Гимар вышла последний раз на сцену. Это было 23 января, в бенефис ветеранов Оперы. Хотя танцовщице было пятьдесят три года, она сохранила всю технику партерной пластики. Но теперь такая пластика отдавала для новых зрителей салонностью и воспринималась как курьез отжившего стиля. Нарождался новый тип танцовщицы. Перед ее значительно более широкой и свободной манерой равно устарелыми казались приемы столь далеких одна от другой танцовщиц XVIII века, как Камарго, Салле, Гимар.
Для немногих друзей, поклонников забытого искусства, Гимар и ее муж Депрео давали у себя дома забавные и трогательные представления. Они танцевали за натянутой занавеской, позволявшей видеть только их ноги. Один из посетителей вспоминал о мастерстве престарелой танцовщицы: «Ступни, поразительно легкие, сохраняли всю свою подвижность и энергию, ноги стройные, безукоризненно выворотные, проделывали-па с почти юношеской крепостью, а слаженность целого напоминала о старой школе».1
Мадлен Гимар умерла 4 мая 1816 года. По словам Сирила Бомонта, «событие прошло незамеченным на фоне падения Наполеона и новорожденных триумфов Реставрации».2
Гаэтан Вестрис, Максимилиан Гардель и их партнерши Пелен, Аллар, Гимар представляли поколение мастеров парижской Академии музыки, связанное с традициями доноверрова балета. Вместе с тем искусство этих мастеров было той почвоА и тем материалом, без которых Новерр не«мог бы осуществить свои реформы. Встреча была предопределена ходом истории, и мастерам пришлось так или иначе испытать на своем, уже сложившемся творчестве воздействие идей и практики Новерра. Самый ход обстоятельств вынуждал их отзываться на реформы Новерра, становиться первыми исполнителями его парижских премьер, а после его ухода, которому иные из них охотно содействовали, объективно выступать продолжателями его дела. Вольно или невольно, именно им суждено было закрепить исторический перелом в судьбах французского балета.
1 Цит. по: Beaumont С. W. Three French Dancers of the 18th century,, p 31.
« Ibid.
Глава третья
НОВЕРР.
НАЧАЛО ПУТИ
НОВЕРР-ТАНЦОВЩИК
«Новерр первым среди нас осмыслил танец. Он стер противоречия, которые разум всегда испытывал по милости предрассудков. Он сумел презреть их и тем раздвинул возможности своего искусства».1 Так сказано в статье «Балет» из Театрального словаря, изданного еще при жизни Новерра. Анонимный автор статьи вознес мастера на пьедестал, но и замкнул его в границах исчерпавшего себя времени. Известно, что время рождает своих героев, и Новерр несомненно выступил героем времени. Он воплотил его порывы, следовал его целям, не мог преодолеть его ограничений и закончил творческий путь в отпущенных этим временем пределах. А время признало Новерра своим героем и гением, приход которого предсказал Дидро. Ниспровергатель устарелых норм, творец «отдельных представлений», где поэт, художник, музыкант и танцовщик-мим соединялись в слитном театральном действии, Новерр начинал первые опыты, когда Дидро вел свои «Беседы».
Родословная Новерра необычна. В отличие от большинства танцовщиков и хореографов той, да и позднейшей эпохи, он происходил не из актерской семьи. Его отец, Жан-Люис Новерр, уроженец Лозанны, был адъютантом в армии шведского короля Карла XII. Жан-Жорж родился в Париже 29 апреля 1727 года, получил хорошее образование, а впереди его ждала военная карьера. Но самостоятельность юной натуры прояви
1 Annales dramatiques, ои Dictionnaire general des Theatres. Paris, 1808, t. 1, pp. 460—461.
68
лась в любви к театру и к одной из наименее почтенных его отраслей — танцу. Учителями Новерра были Жан-Дени Дюпре и знаменитый Луи Дюпре, могиканин французского придворного балета.
В 1743 году Луи Дюпре был приглашен ставить танцы для водевилей 1 в театр Комической оперы, где шли драматические спектакли, оперы и балеты. Дюпре и предложил шестнадцатилетнему ученику его первый ангажемент. Импресарио Жан Монне, получивший концессию от театра Оперы на содержание театра Комической оперы, собрал блестящую труппу. Композитор Жан-Филипп Рамо возглавил оркестр из восемнадцати музыкантов. Живописец Франсуа Буше распоряжался декорациями и костюмами. Поэт и драматург Шарль-Симон Фавар сочинял пьесы и режиссировал их. Главные роли играл Пьер-Луи Превиль, который начал выступать в бродячих труппах пять лет тому назад. В будущем ему предстояло занять амплуа первого комика в парижском театре «Комеди Франсез» и стать одним из величайших актеров Франции. Мари Салле помогала балетмейстерам Луи Дюпре и Жану-Бартельми Лани.
Сезон открылся 8 июня 1743 года, а 31 августа имя Новерра появилось на афише. Он выступил в «Двусмысленности безумия»— пародии Фавара на «Галантные Индии». Здесь «обнаружились впервые таланты трех великих сюжетов: м-ль Пю-винье, м-ль Лани и г. Новерра; они танцевали pas de trois из Акта Цветов»,— сообщалось в сборнике пьес Фавара.2 Новерр исполнял партию Борея, восьмилетняя Пювинье — партию Розы, десятилетняя Луиза-Мадлен Лани — Зефира. Жан Монне отметил в мемуарах, что «отличившимися в pas de trois сюжетами руководили м-ль Салле, гг. Дюпре и Лани».3 Однако номер этот, скорее всего, Салле ставила единолично, как балетмейстер «Праздника цветов» в опере Рамо.
В октябре Новерр и Пювинье танцевали менуэт на придворном празднике в Фонтенбло. Этому танцу их обучал престарелый Марсель, известный танцовщик рубежа XVII—XVIII веков. Балетмейстер Галлини, издавший в Лондоне «Трактат об
1 Водевиль — здесь: вокально-танцевальный финал спектакля.
2 Theatre de М. Favart, ои Recueil des Comedies, Parodies et Opera-Comiques qu’il a donnes jusqu’a ce jour, avec les Airs, Rondes et Vaudevilles notes dans chaque Piece. Theatre Italien. Paris, 1763, t. 1, p. XVII.
2 Memoires de lean Monnet, Directeur du Theatre de la Foire. Paris, [1909], p. 175.
69
искусстве танца», объявил там, что те, кто правильно танцуют менуэт, хранят отпечаток благородной и приятной манеры в любых своих движениях. «Это скрытое и относительное влияние менуэта,— писал он,— постоянно имел в виду Марсель, мой уважаемый учитель, которого прославили собственные профессиональные достоинства и юмористическое упоминание о нем в знаменитой книге Гельвеция «Об уме». Его ученики были широко признаны и отличались от учеников других мастеров не только безупречностью самого танца, но и превосходством благовоспитанной осанки во всякое другое время. Сам он танцевал менуэт с недосягаемым совершенством».1 Новерр иначе воспринял «благовоспитанность осанки» Марселя. Наука дряхлого танцовщика показалась ему по-старомодному вычурной. Разбитый подагрой Марсель изумился и обрадовался, узнав, что юный ученик понимает движения, показанные руками. После урока Новерр отправился к «великому Дюпре». Тот, «холодный и флегматичный по натуре», чуть не задохся от смеха, когда Новерр исполнил перед ним рондо Марселя. Новерр заканчивал с усмешкой: «Я не забыл этого танца и заботливо его сохраняю, как антиквар — античную медаль» (II, 69).
Антреприза Монне пользовалась таким успехом, что в 1745 году ревнивые артисты Оперы прекратили концессию. Новерр поехал вместе с Лани и его двумя сестрами в Берлин. Там балет существовал ради фаворитки Фридриха II — танцовщицы Барберины Кампанини. Новерр участвовал в танцевальных эпизодах опер, сочиненных Лани. В Берлине он был представлен Вольтеру, что позволило ему потом искать поддержки у великого соотечественника. В конце 1747 года грубость Фридриха II заставила танцовщиков покинуть его двор.
Новерр отправился в Марсель уже как балетмейстер. 1750 год застал его партнером знаменитой Камарго в лионском театре, которым управлял Превиль. В 1751 —1752 годах молодой Новерр сам возглавил в этом театре труппу танцовщиков, куда вошла и его жена, урожденная Мари-Луиза Совер. Вскоре жена Новерра оставила поприще танца ради амплуа комедийной актрисы.
1 A Treatise on the Art of Dancing by Giovanni Andrea Gallini, Director of the Dances at the Royal Theatre in the Haymarket. London, 1762, no. 172— 173.
70
ПЕРВЫЕ БАЛЕТЫ НОВЕРРА
Дерик Линхэм указывает,1 что первый известный нам балет Новерра — «Китайский праздник» («Китайские метаморфозы») был поставлен в Марселе, Страсбурге или Лионе, а особый успех снискал в Париже в 1754 году: Новерр показал его вместе с балетом «Источник юности» в театре Комической оперы, вновь открытом Монне. Позже Монне вспоминал, что именно два балета Новерра «сделали блестящим» сезон Сен-Лоранской ярмарки.2
«Китайским праздником» начался первый период творчества Новерра. Период принято рассматривать как проходной на пути к созданию действенного балета. Между тем он имеет самостоятельное значение и вносит существенные штрихи в портрет художника, чутко откликавшегося на веяния времени. Период этот ограничен 1750-ми годами и, значит, краток сравнительно с общей многолетней деятельностью Новерра. Кроме «Китайского праздника», к нему относятся балеты «Источник юности», «Фламандские увеселения», «Туалет Венеры», «Капризы Галатеи». Однако отзвуки сделанного тогда прослеживаются на протяжении всего пути знаменитого хореографа. Да и знаменит он стал после того, как показал парижанам «Китайский праздник».
В этом балете преобладала забота о живописности танцевального зрелища. Спектакль выдавал богатую фантазию постановщика, бесспорный вкус и чуткость к заказам моды. В моде же царил стиль рококо, получивший название от прихотливого завитка раковины rocaille, стиль изощренный и изысканный. Новерр тонко ощутил его природу. Характеризуя этот стиль в музыке, Т. Н. Ливанова ссылается на авторитеты Б. Р. Виппера и А. Д. Чегодаева, считавших, что стиль этот нашел наиболее совершенное выражение в искусстве интерьера. Исследовательница цитирует слова Чегодаева о ремесленниках XVIII века, «которые создавали свои шедевры в лепнине карнизов и потолков, в фарфоре и серебре, в книжных украшениях и переплетах, в кружевах и шпалерах, в кузнечных изделиях и костюмах, в табакерках, париках, каретах и всевозможных других вещах, образующих и определяющих жизненную среду человека». Закрыв цитату, Ливанова полемически продолжает:
1 См.: L у п ha т D. The Chevalier Noverre, р. 177.
2 Memoires de Jean Monnet, p. 175.
71
«С Мануфактурой гобеленов и декоративной частью Парижской оперы была связана деятельность типичного живописца рококо Франсуа Буше. Но она, как известно, этим не ограничивалась. Черты рококо нельзя отрицать и у Фрагонара, несравненно более значительного, тонкого и поэтичного художника. Иными словами, стиль рококо, господствуя в интерьере, все-таки находил свое выражение и в живописи французских мастеров».1
А отсюда Т. Н. Ливанова переходит к анализу этого стиля в музыке. «Музыка рококо,— пишет она,— словно согласовалась с духом интерьера, когда звучала в обстановке салона,, на изукрашенном клавесине, входящем в этот интерьер, и одновременно она была близка наиболее поэтичным образцам живописи рококо, лучшему в ней. Легкая, изящная изобразительность, едва набросанный портрет (чаще всего грациозный женский облик), слегка очерченное явление (жанр или природа? театр или действительность?) —• такова сфера ее образов. Нежные и изысканные, стилизованно-«дикие» или капризные, они всегда привлекательны, порою пленительны, они нравятся, занимают, радуют, иногда даже трогают, но не захватывают и не потрясают... В музыке рококо орнаментика становится изысканной и дробной, напоминая щебетание и означая не столько подъем чувств, сколько именно узор, украшения, как бы нанизанные в изобилии на мелодию. Крупные масштабы никак не характерны и для формы в целом: господствует миниатюра, очень цельная, тонко выписанная — как в клавесинной сюите, так и внутри оперной композиции».2
Те же приметы стиля отчетливо проступали в балетах Новерра. Фарфорово-неправдоподобные китайцы, лишь слегка намеченный грациозными штрихами образ юной Гебы, стилизо-ванно-«дикие» персонажи Азии, Африки и Америки, идиллические картинки «из быта» фламандской деревни безукоризненно отвечали принципам поэтики рококо.
Одной из причуд стиля была китайская экзотика, поданная в условных формах. Пагоды, увешанные колокольчиками, горбатые мостики, разноцветные фонарики украшали сады вельмож. Лакированные столики и подносы, фарфоровые вазы, шелковые ткани на тысячи ладов варьировали сюжеты и узоры
'Ливанова Т. Н. Западноевропейская музыка XVII—XVIII веков в ряди искусств. М., 1977, с. 473.
2 Там же, с. 474.
72
в духе «chinoiserie» («китайщины»). Этим духом был проникнут и «Китайский праздник» Новерра.-
Первая сцена представляла улицу, ведущую ко дворцу. Затем открывалась празднично украшенная площадь с амфитеатром в глубине, на котором располагалось шестнадцать китайцев. При быстрой смене позиций получалось так, что китайцев вдруг становилось вдвое больше и они исполняли пантомиму на ступенях амфитеатра. Первая группа спускалась, а на ступени поднималось шестнадцать мандаринов и рабов, вышедших из домов. Вся масса танцовщиков составляла восемь рядов и, подымаясь и приседая поочередно, имитировала морские волны. Следовал характерный марш. Шесть белых рабов проносили в паланкине мандарина, а два негра везли колесницу с юной китаянкой. Впереди и позади шла толпа китайцев, играющих на национальных инструментах. За маршем начинался балет, «не оставлявший желать лучшего по разнообразию и четкости фигур», как писал современник. Заканчивал его контрданс тридцати двух человек, «чьи движения прочерчивали чудесное множество новых и совершенных по рисунку положений, формирующихся и рассыпающихся с величайшей непринужденностью». 1
Новерр расположил на сцене значительные массы танцовщиков. Притом он выдержал характер, форму и колорит миниатюры, законченной и цельной в своей эфемерной изысканности. Все было рассчитано на то, чтобы привлечь, порадовать, вызвать приятные эмоции у зрителей, которые и не ждали потрясений от легкомысленного искусства танца. Зрителей занимало Другое — тот новый, невиданный облик, какой танец обрел в руках молодого хореографа. Их интересовал отход от узаконенных в балетном театре стилистических норм классицизма, расцвеченного элементами барокко, и открытое утверждение стилистики рококо. Они восхищались узорчатостью танцевального рисунка, отвергавшего квадратность, фронтальность и симметрию кордебалета, расставленного ровными шеренгами вдоль кулис. Танец распространялся по всей сцене, оплетая ее текучими и извилистыми линиями. Его орнаментальная природа требовала упорядоченных интервалов между фигурами танцовщиков, рождала унисон движений. Эти движения, «формируясь и рассыпаясь с величайшей непринужденностью»,
±Цит. по: L у п h а т D. The Chevalier Noverre, р. 21.
73
нанизывались на изгибы линий как бесчисленное множество украшений.
Такой щедро орнаментированный танец, казалось бы, был наиболее близок живописи в ее прикладных формах. Но, развиваясь во времени, он перекликался с музыкой и, должно быть, испытывал влияние ее концертных и оперных форм, например опер Кампра и даже Рамо. «Огромное место в музыке рококо занимает танец,— пишет Т. Н. Ливанова,— не просто танцевальное движение, а орнаментированный, «стилизованный» танец, удаленный от быта, рафинированный. Если можно говорить о какой-либо жанровой (пусть далекой!) основе этого стиля, то она — именно в танце».1 Контрданс «Китайского праздника» являл собой зримый эквивалент повсеместно звучащей музыки, как бы перевод ее щебечущих трелей в капризно-изменчивую светотень движений. К финалу контрданса китайцы возвращались на свои места в амфитеатре, который превращался в фарфоровую комнату. Тридцать две вазы, поднимаясь, закрывали от зрителей участников балета.
На первый взгляд Новерр дерзал в устоявшемся типе придворного зрелища. Недаром ему покровительствовала мадам де Помпадур, фаворитка Людовика XV. На самом деле он реформировал жанр дивертисмента: не отменяя системы «выходов», подчинил целое живописному замыслу. Позже Новерр сформулировал свою цель. Он требовал последовательности и логики, то есть того, чем пренебрегали дивертисменты парижской Оперы. «Посмотрим, что делает обычно балетмейстер»,— писал он и предлагал пример: «Ему дают часть репетитора; он раскрывает его и читает. Пролог: паспье для Игр и Радости, гавот— для Смехов, ригодон — для приятных Снов. В первом акте — четкий мотив для воинов, другой мотив — для них же, мюзетта — для жриц. Во втором акте: лур —для горожан, тамбурин и ригодон — для матросов. В третьем акте: четкий мотив — для демонов, оживленный мотив — для них же. В четвертом акте — выход греков и чакона, не говорю о ветрах, тритонах, наядах, часах, знаках Зодиака, вакханках, зефирах, ундинах и зловещих снах, потому что тогда конца этому не будет. Итак, балетмейстер отлично осведомлен! Он озабоченно выполняет великолепный и ловко придуманный план! Чего требует от него поэт? Чтобы все персонажи балета танцевали.
'Ливанова Т. Н. Западноевропейская музыка XVII—XVIII веков в ряду искусств, с. 475.
74
И он их заставляет танцевать. Это злоупотребление порождает нелепые претензии. «Сударь,— говорит балетмейстеру первый танцовщик,— я заменяю такого-то и стану танцевать под такой-то мотив». По той же причине м-ль такая-то оставляет за собой паспье. Другая требует мюзетту, эта — тамбурин, один танцовщик хочет лур, другой — чакону. И вот из-за мнимого права и споров об амплуа и жанрах в каждую оперу набивают по двадцати сольных выходов, исполняемых в костюмах, противоположных по вкусу и жанру, но не различимых ни характером, ни смыслом, ни последовательностью па и поз» (I, 83—84).
В «Китайском празднике» Новерр декларировал независимость хореографа от прихотей танцовщиков. По существу он достиг большего. Еще не помышляя о драматическом конфликте и живых характерах в балете-пьесе, он выдвинул важный для будущей реформы принцип единства балетного образа. Через три года Дидро укоризненно ставил вопрос в «Беседах о „Побочном сыне"»: «Я очень хотел бы, чтобы мне объяснили, что означают такие танцы, как менуэт, паспье, ригодон, ал-леманда, сарабанда, в которых танцор движется по определенным линиям. Он извивается с бесконечной грацией, он не делает ни одного движения, которое не прельщало бы легкостью, изяществом, благородством. Но чему подражает он? Это не значит уметь петь, это значит только уметь брать ноты».1
Новерр на этот вопрос ответил, объявив себя приверженцем принципа живописности. Он развивал его как истинный художник, образуя пластическую мелодию из отдельных движений — «нот» и обучая своих актеров согласно исполнять заданную «мелодию». Каждый выход, каждый танец «Китайского праздника» поворачивал множеством граней именно живописную тему. Зритель словно бы рассматривал фарфоровую вазу или лаковый ларец с нарисованными фигурками стилизованных китайцев, пляшущих, марширующих, играющих на экзотических инструментах.
Логика такого танца действительно значила больше, чем подсказывала простая смена музыкальных номеров — паспье, ригодонов и чакон. Правда, уходя из-под опеки музыки, танец попадал в зависимость от живописи. В колыханиях фигур, расположенных рядами на ступенях амфитеатра, главными были
1 Дид ро Д. Собр. соч. в 10-ти т., т. 5, с. ПО.
75
переливы красок: танцовщики воспринимались не как персонажи (даже столь схематичные и условные, какими они были в дивертисментах Оперы), а как подвижный узор стилизованной утвари. Не случайно Новерр вспоминал, что когда «Китайский праздник» шел впервые, резкое сочетание красок «оскорбляло взор», зато впоследствии художник Боке создал «преисполненные вкуса» костюмы. Благодаря изысканной живописности «Китайский праздник» и был достойно оценен в Париже.
Драматург Шарль Колле отметил в издаваемом им журнале: «Весь Париж стекался в этом месяце на Китайский балет, идущий на сцене Комической оперы... Китайский балет необычен и уже своей новизной и красочностью заслуживает отпущенных ему аплодисментов». О постановщике говорилось: «Ок, кажется, обладает обширным и отвечающим его профессии воображением. Он оригинален, плодовит, разносторонен и наделен даром живописца. Он не довольствуется па и выходами, а достигает выдающегося успеха пестрыми и новыми картинами. Если кто-нибудь и может заставить нас выйти из младенчества, в котором мы находимся по отношению к балету^ это должен быть человек, похожий на Новерра».1
Добрая репутация Новерра укреплялась. Критик аббат де Лапорт в 1759 году одобрял «превосходную планировку» балетов Новерра и назвал их «зрелищем изобилия живых картин».2
К тому времени таких балетов было уже несколько. В них Новерр утверждал единство темы и последовательность ее развития, постепенно расширяя образные возможности действия. Ему ровно бы не терпелось вывести танец за узкие рамки живописи в ее прикладном назначении. Сквозь пластический орнамент его балетов все настойчивее проступали фигуры конкретных персонажей. Они словно отказывались быть только частью рисунка или безлико мелькать, подобно силуэтам на крышке табакерки или в виньетке титульного листа. В контексте изысканных хореографических миниатюр они претендовали то на признаки характера, то на всплески чувства.
В том же 1754 году Новерр показал и пасторальный балет «Источник юности». Геба, окруженная амурами, давала начало волшебному источнику, к которому приходили пастухи и пастушки. Вода возвращала молодость, а идиллические танцы
1 Цит. по: Campardon Ё. Les spectacles de la foire. Paris, 1877, v. 2, p. 183.
2 Цит. no: L у n h am D. The Chevalier Noverre, p. 20.
76
отмечали это событие. Затем плясали обитатели четырех стран света: Европу представляли трое французов, Азию —три турчанки, Африку — три негра, Америку — три индианки. Зрелище завершал контрданс всех участников. На сцене снова главенствовало живописное начало. Образцом служили гобелены, которыми славился Лион. Аллегории четырех стран света удобно располагались на четырех стенах зала. Этот распространенный мотив дворцового убранства был соблазнителен и для хореографа-живописца. Такие аллегории легко уживались со стилизованными пастушками, как дворцовые гобелены — с фарфоровыми статуэтками.
Рекордом Новерра в этом роде явился балет «Фламандские увеселения», показанный в августе 1755 года. Критик газеты «Меркюр де Франс» отозвался о нем как о «прелестном полотне Тенирса», и он действительно разворачивался подобно галерее картин на жанровые темы. Занавес, поднимаясь, открывал фламандскую деревушку. У подножья холма, изображенного на задней декорации, росло дерево, вокруг него за столиками пировали крестьяне. Под шпалерами, по бокам сцены, стояли такие же столики. В центре находился почтенный помещик с семьей, слуги подносили им вино. Крестьяне, встав из-за столов, развлекались играми. Одни измеряли свой вес, другие метали в цель, третьи играли в кегли. Музыканты с рылями и мюзеттами вынуждали их оставить игры ради танцев. После нескольких сольных и общих плясок помещик и его семья исполняли pas de quatre и менуэт. Танцы прерывала ссора двух крестьян, понемногу в нее ввязывались все мужчины, а женщины пытались разнять их. Приход местного судьи восстанавливал мир, и зрелище заканчивалось общим танцем.
Принцип изобразительности главенствовал в этом балете. Зрелище представало в чисто живописном плане, предлагая завязку, кульминацию и финал ничуть не литературного происхождения. Художник, дав полюбоваться картиной в целом, предлагал поочередно обозревать ее детали в пластическом движении. Картина распадалась на этюды, нанизанные на нить неприхотливого сюжета, и снова собирала этюды в общую композицию. На сцене действовали типажи и отсутствовали личности. Характеры сталкивались, но развязка не вносила в них перемен. Эти характеры передавали движение всей картины, однако в них не было внутреннего движения. Композиция, оживая и двигаясь, возвращалась к исходной изобразительной статике.
77
Три балета Новерра, остановленные в своих вершинных моментах, могли бы украсить: первый — кабинет, второй — гостиную, третий — картинную галерею замка. Хореограф продолжал опыты в том же духе, создавая анакреонтические, аллегорические, экзотические и жанровые балеты. Он опубликовал «Письма о танце», еще не выйдя в своей сценической практике за пределы галантного стиля. Как раз когда сочинялся этот теоретический труд, Новерр поставил балет «Туалет Венеры, или Проказы Амура». В нем Игры и Радости, одевая Венеру, подносили ей коробочку румян и ящичек с мушками. Описывая фавнов, сражавшихся в этом балете из-за нимф, Новерр пояснял: «В их борьбе нет ни единого момента, который не представлял бы собой живописи» (I, 204). Он с гордостью отмечал как находку введенные туда паузы в музыке: «Слух зрителя внезапно перестает поражаться гармонии, а его зрение тем пристальней наблюдает каждую деталь картины, расположение и рисунок групп, выразительность лиц и различные части ансамбля» (I, 207).
Гордость Новерра была оправданна. Обобщая опыты предшественников и современников, он смело отменял привычную систему очередности номеров. Система имела почти двухсотлетнюю давность: она вела начало от эстетических норм, предписанных французскому балету еще поэтами «Плеяды». Когда-то, в свое время, эти нормы были прогрессивны, потом варьировались и все-таки постепенно устаревали в пределах музыкальных и драматических спектаклей. Жанровые рубрики завершенных по форме и формально связанных сольных и ансамблевых балетных номеров сохранялись неизменно, как бы ни изменялись сами жанры. Сохранялись они и для самостоятельных балетных постановок. Порядок номеров, как и вносимые в него варианты, диктовала музыка. Только освобождаясь от пережитков ее диктата, можно было крепить союз дальше на паритетных эстетических началах. Потому, взламывая каноны, Новерр искал поддержки не у музыки, а у живописи, видя там желанную естественность и свободу выражения. Живописные возможности балета манили Новерра всю жизнь. К 1793 году относились его «Венера и Адонис», «Неверный фавн», «Свадьба Фетиды», к 1794-му — «Аделаида, или Альпийская пастушка», «Союз пастухов». Этими балетами Новерр и закончил свою деятельность хореографа.
Любопытно, что через полтораста лет хореограф Михаил Фокин повторил опыт Новерра в других исторических условиях
78
и на другой национальной почве. Он тоже противопоставил естественность живописной пластики великолепным, но исторически завершенным традициям музыкально-хореографической формы. Как и Новерра, его натолкнула на первоначальные поиски интуиция таланта. И, как Новерр, он встретил затем союзников и учителей в выдающихся деятелях современной ему культуры.
Новерр относил перелом в своих эстетических взглядах к середине 1750-х годов. В то время он обратился к серьезной литературе. Хореографа влекли сюжеты высоких трагедий. Раздвинув пределы балетного зрелища до многоактного спектакля, они вывели его на путь дальнейшей реформы. Сам Новерр объяснял этот шаг знакомством с «необыкновенным талантом бессмертного Гаррика». Посетив Лондон, он оставил «избранный жанр и посвятил себя тому, какой единственно подобает танцу,— героической пантомиме» (II, 71).
ПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ГАСТРОЛИ
Дерик Линхэм опубликовал переписку английского актера и французского хореографа в специальной главе своей книги.1 Там систематизированы основные факты на эту тему.
В 1754 году Гаррик пригласил Новерра поставить «Китайский праздник» в театре Друри Лейн. Новерр высокомерно отклонил предложенные ему условия и выдвинул собственные, сославшись на свои заработки в Париже. Он потребовал от Гаррика скорого ответа, так как в случае отказа собирался принять приглашение баварского двора. В следующем письме он уточнял: «Я займу пост главного балетмейстера, чтобы сочинять и выполнять по Вашему выбору балеты, придуманные в разных жанрах, как я даю их в Париже». Получив согласие Гаррика, Новерр предложил привезти образчики костюмов и бутафорию, нужную для «Китайского праздника» и «Источника юности», а также танцовщиков — «хороший материал, подготовленный по типу моих сочинений». В феврале 1755 года был подписан договор «между Жаном-Жоржем Новерром, с одной стороны, и Дэвидом Гарриком, с другой», за которым последо
1 См.: LynhamD. The Chevalier Nover re, pp. 25—49.
79
вал предварительный визит Новерра в Лондон. После этого переписка обрела дружеский тон.
«Гастроли Новерра были обречены на неудачу еще до того, как начались,— пишет Линхэм.— То был канун Семилетней войны, и газетные статьи разжигали шовинизм толпы». Тем не менее первые спектакли в ноябре прошли благополучно. Исполнялись дивертисментные танцы и короткий балет «Матросы-лилипуты». Все же Гаррик предвидел скандал и добился присутствия короля Георга II на премьере «Китайского праздника». Он оповестил публику о том, что Новерр —• уроженец Швейцарии, его жена — немка, а из шестидесяти исполнителей балета сорок являются англичанами. Несмотря на отдельные возгласы протеста, спектакль поддержала знать. На втором представлении «Китайского праздника» разразилась баталия; вооруженные шпагами вельможи одолели противников из райка и нанесли им немало увечий. Но на четвертом представлении, когда лорды отправились на открытие сезона итальянской оперы, зрители райка взяли реванш: бросали в партер скамейки, били зеркала и люстры, пробовали взобраться на сцену. Наконец, партнер Гаррика по антрепризе пообещал, что «Китайский праздник» снимут с репертуара. Все-таки балет прошел еще раз, вызвав новое побоище в театре. Гибель машин и дорогих декораций Боке положила конец представлениям.
Однако Новерр оставался в Англии и в начале 1756 года. Хореограф с уже сложившейся репутацией, казалось бы, отчетливо наметивший свой творческий путь, нашел новый стимул художественных открытий, общаясь с великим английским актером и режиссером. В игре Гаррика молодой Новерр увидел ту естественность выражения чувства, которой так привлекала его живопись. Притом Гаррик воплощал чувства, не стилизуясь под шедевры изобразительного искусства, и тем был свободнее Новерра. Реалист-просветитель, Гаррик заново открыл англичанам Шекспира, переработав, правда, его пьесы в условных правилах собственной эпохи. И тут он был по-своему великолепным стилистом. Но его стиль потрясал живой и гибкой передачей человеческих страстей. Величавые или низкие, эти страсти подавались крупным планом, а поразительная техника актера сообщала образам эстетическую законченность. Творчество Гаррика стало вершиной, к которой с тех пор устремлялся Новерр, порой пренебрегая ограничениями собственного искусства. Повлияли на него и беседы с Гарриком о целях и задачах современного театра. В них мог родиться замысел книги, пи
80
сать которую Новерр начал через два года. Немаловажно и то, что, посещая дом Гаррика, Новерр пользовался обширной библиотекой, где наряду с английскими книгами имелось много ценных французских изданий.
Новерр до конца дней восхищался талантом Гаррика и дорожил его дружбой. Это отразилось в «Письмах о танце». А в двух письмах к Вольтеру (1766) Новерр дал живой портрет Гаррика в быту и на подмостках. Там же он превознес технику английской сцены, но осудил английскую пантомиму как «плоскую и отвратительную» (II, 202): грубоватый юмор лондонских мимов претил хореографу во всем, что касалось галантной пантомимы или пантомимной трагедии.
Со своей стороны, и Гаррик всегда высоко ценил Новерра. В 1774 году, уже на закате собственной сценической деятельности, он сожалел в письме к другу, что вынужден «говорить о Новерре простой и скучной прозой», и называл его «фантастичнейшим из плясунов и великим Гением».1
В ТЕАТРЕ ЛИОНА.
ОПЫТ ДРАМАТИЗАЦИИ БАЛЕТА
Сезон 1756/57 года Новерр снова провел в Англии. Однако антифранцузские настроения мешали появиться имени хореографа на афишах, и в марте 1757 года он возвратился в Лион. К тому времени там был выстроен превосходный оперный театр. Возобновленный Новерром «Туалет Венеры» и галантный балет «Капризы Галатеи» имели грандиозный успех. За ними появились «Празднества, или Ревность в серале» и «Экспромт чувств». Последний представлял собой род водевиля: он воспевал победу войск герцога д’Эгильона над англичанами, чтобы польстить мадам де Помпадур, покровительнице герцога. Человек своего времени, Новерр не чуждался сервильности, искал протекции вельмож.
Замысел «Празднеств, или Ревности в серале» на первый взгляд оригинальностью не отличался. Этот балет изображал соперничество двух султанш. Ситуация была разработана еще в «Галантной Европе» Кампра (1697), прельщала публику
1 The letters of David Garrick edited by David M. Little and George M. Kahrl. Cambridge, 1963, v 3, p. 921.
81
в постановке Мари Салле (1736), а теперь бытовала в нескольких пародиях Фавара. Важно было другое. Новерр хотел внести элементы серьезной драмы в сюжет, изначально отнесенный к галантному жанру. Возможно, поводом явилось описание игры Салле у Каюзака, книгу которого Новерр знал и ценил. Во всяком случае, из двух, разделенных запятой, названий — «празднества» и «ревность»—возобладало второе. Балет открывался роскошной картиной празднеств, но сразу же проступали действенные мотивы, намечались необычные характеры. «Фантастичнейший из плясунов», Новерр поистине умел сочетать богатство своего вымысла с тем, что назрело и ждало разрешения в искусстве.
Для этого требовались союзники. Новерр союзников искал и находил. «Ревность в серале» он поставил на музыку Франсуа Гранье — скрипача, виолончелиста и контрабасиста концертного оркестра в Лионе. О том, что Гранье обладал незаурядным композиторским талантом, хореограф сообщил через три года после их первой совместной работы в «Письмах о танце». Новерр расхвалил Гранье за «выразительную, гармоничную и разнообразную музыку», которая подсказывала постановщику балета «тысячу мыслей и тысячу мелких штрихов». Он утверждал также, что немногие музыканты способны так, как Гранье, «распределить композицию всех балетных жанров» (I, 199). Возвращаясь еще раз к разговору о Гранье, Новерр привел в пример его музыку к балету «Амур-корсар». Эта музыка, писал он, «подражала звукам природы: лишенная однообразия напевов, была гармонична». И несомненно, высшим достоинством в глазах Новерра было то, что Гранье «насытил музыку действием; выразительность каждой строки придавала силу и энергию движениям танца и одухотворяла все картины» (I, 223). Способность композитора создать музыкальный аналог действия, показать страсти в их развитии и наметить разнообразие характеров помогла хореографу выйти на новые рубежи мастерства.
В начале балета сладостно звучала музыка, смешиваясь с плеском фонтанов. Черные и белые евнухи прислуживали обитательницам гарема. «Гордая и отчетливая» музыка возвещала выход султана. Поколебавшись в выборе между Заирой и Зайдой, султан останавливался на первой. Он танцевал с ней «чувственное pas de deux» и уводил ее. Ревнивая Заида исполняла соло, «давая выход досаде и ярости», пыталась заколоть себя кинжалом. Подруги удерживали ее. Возвращалась сча
82
стливая Заира. Наступала кульминация балета — ссора и драка соперниц, подробно описанная Новерром (I, 210—211). Другие жены пробовали разнять ревнивиц, но тех останавливал лишь новый выход султана. Заира великодушно скрывала вину Заиды, и султан давал праздник в честь возлюбленной. Соперницы мирились в pas de deux. Их господин танцевал с ними pas de trois, «где продолжал отдавать предпочтение Заире». Празднество заканчивал «благородный контрданс», последняя группа которого венчала балет апофеозом: жены султана располагались на ступенях, восходивших к трону, где восседал султан между Заирой и Зайдой. Рабы поддерживали над ними громадный балдахин, а по сторонам сцены размещались евнухи, янычары, карлики, простертые ниц.
Мастерство хореографа выросло. Определяло композицию, как прежде, живописное начало. Действие набирало темп, восходя к кульминационной ссоре соперниц, а оттуда разливалось потоком танцев, чтобы застыть в картинной группе апофеоза. Однако развивалось оно не только вширь, а и вглубь: контрастная череда эпизодов чувственной неги и борьбы страстей давала характерам объем. Как в предыдущих балетах Новерра, пантомима и танец были взаимосвязаны. Притом и пантомима, и танец несли действенную нагрузку.
Схватка Заиры и Заиды, построенная на игре с кинжалом, проходила в пантомиме. Заида заносила руку над Заирой, но та, «ловко увернувшись», выхватывала у нее кинжал и сама стремилась поразить противницу. Женщины сераля разбивались на две группы, каждая группа удерживала одну из султанш, а те «делали невероятные усилия, чтобы освободиться». Душевные переживания героев отражал танец: султан и Заира объяснялись в pas de deux, а соло Заиды представляло собой взрыв ревности.
Новерр пользовался балетной пластикой, ограниченной в амплитуде движений рук и ног, не знавшей больших прыжков и поддержек партнерши партнером.
Предел технике ставили прежде всего костюмы исполнителей. О них, а также о стиле спектакля в целом дает представление виньетка Боке, украсившая программу балета. Постоянный сотрудник Новерра, должно быть, повторял здесь костюмы персонажей. Больше того, он мог запечатлеть в рисунках характер пластики. Султан изображен в халате, надетом поверх камзола и широких шаровар, на голове его массивный тюрбан с раскидистым плюмажем. Султанши в корсажах
83
с пышными, длинными рукавами и тяжелых юбках, подобранных фестонами так, чтобы были видны шаровары; пудреные парики убраны драгоценностями и перьями. Все персонажи в туфлях на каблуках.
Балетные костюмы были ничуть не легче костюмов драматических спектаклей. В лионском театре Новерр и Боке могли подхватить реформу костюма, начатую двумя годами раньше драматическими актерами Парижа. В 1755 году Клерон и Лекен обновили костюмы трагических героев. В «Китайском сироте» Вольтера они сыграли роли Идаме и Чингисхана, одетые наподобие султана и султанш из «Ревности в серале».
Единую основу имела пластика балетных и драматических актеров и актрис. Через несколько лет после постановки балета «Ревность в серале» Руссо в одной из глав «Новой Элоизы» сетовал, что игру французских актеров «отличает напыщенная манерность и в движениях и в словах», «самые живые положения» действия никогда не позволяют им «забывать ни об изящном произношении фраз, ни о красивости позы».1 Сказанное было во многом верно. И однако Новерр шел к исторически прогрессивной цели, когда в поисках «правдивого» жеста сближался с поисками видных драматических актеров. Для примера можно обратиться опять к Клерон, которая реформировала технику игры вообще, а в частности — пластику драматической актрисы. В роли Идаме она сохраняла каноническую мерную походку с развернутыми в стороны ступнями; широкие и плавные движения рук, где каждый палец круглился или распрямлялся по определенному рисунку; контрпостные повороты головы при фронтально открытом корпусе. Но при том она позволяла себе «реалистические» жесты: подбоченивалась, терла кулаком лоб. Балетные исполнительницы ролей Заиры и Заиды доводили до предельной выворотности неполные вторую, третью и четвертую позиции ног драматических актеров, вытягивали пальцы и подъем ног, отведенных вперед или в сторону, глубоко приседали на переходах с одной ноги на другую. Рисунок рук был у них капризней и жеманней, чем у драматических актеров, но тоже ограничивался уровнем груди и плеч, не захватывая пространства над головой. Еще более подчеркнуты были у них фронтальные развороты корпуса и четкие положения головы. Но и здесь жесты балетного классицизма смещались в сторону более контра-
* Руссо Ж-Ж. Избр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 208.
84
стной и экспрессивной пластики. Заира на рисунке Боке полулежит, непринужденно откинувшись на подушки, и принимает цветы от склоненного к ее ногам султана. Заида, возвышаясь над соперницей, замахнулась правой рукой с кинжалом, а левой, изящно ее согнув, рвет волосы на голове. Группу уравновешивает коленопреклоненная наперсница, в ужасе отстранившаяся одной рукой, а другой прижимающая подол платья к глазам.
Виньетка Боке позволяет предположить, что относительная естественность поз и движений каждого персонажа не отменяла условности общей композиции группы. Эта композиция представляла собой равнобедренный треугольник, где основанием служили фигуры султана, Заиры и наперсницы, а вершиной— фигура Заиды. Боке не навязывал Новерру и не заимствовал у него принципа живописной организации пространства. Такой принцип пока что был одинаково необходим хореографу и художнику.
Вместе с тем Новерр объявлял, что «симметрия должна быть навсегда изгнана из действенного танца». Но понимал он под этим симметрию фигурного танца, где исполнители одинаково двигались по линиям геометрически расчерченного пространства сцены. Взамен он предлагал свободный ансамбль, где фигуры и группы располагались по законам живописи.
В «Письмах о танце» он дал два примера такого ансамбля. Первый — танец двадцати четырех борцов, для которого балетмейстеру вменялось сочинить двенадцать различных pas de deux, а затем объединить их в обширную картину, отмеченную «разнообразием и сходством». Второй — сцена Елисейских полей, где балетмейстер был обязан проявить талант режиссера. Тут Новерр отвергал обычную балетную декорацию аллеи, заканчивающейся горой, и требовал разбить сцену на площадки разной высоты. На этой пересеченной местности располагались бы «беседки, аллеи, холмики, скамейки; созданные природой воды, падающие с разных плоскостей». В долине действовали бы тени героев, поэтов, ораторов и философов, на холмах танцевали бы юноши и дети. Последних Новерр советовал размещать «в разных планах, соблюдая постепенное понижение, рассчитанное с точным знанием законов оптики и перспективы». Он писал: «Танец, в свою очередь, должен приспособиться к этому разнообразию, он будет составлен из отдельных и неравных по числу групп, и те соеди
85
нятся, чтобы образовать массы, которые вновь разделятся для формирования новых картин». Музыке Новерр предлагал тут «развернуть все чары гармонии». Ее «легкие движения, мастерски намеченные паузы дадут балетмейстеру средства для постановки его картин» (I, 128—130).
НОВЕРР И МУЗЫКА
Казалось бы, Новерр последовательно подчинял музыку задачам изобразительной режиссуры, поскольку вообще полагал принцип изобразительности ведущим началом своего творчества. На деле этот принцип, высвобождая танец из оков принудительной симметрии, расширял и обязанности музыки. Фигурный танец прошлого нуждался лишь в более или менее прихотливом мотиве, на мелодические изгибы которого накладывался пластический орнамент. Такой танец давно сохранялся как пережиток тех времен, когда придворные в одинаковых масках располагались вокруг короля и королевы, подобно фигурам на шахматной доске. В правилах этого танца еще был поставлен «благородный контрданс», ведущий к апофеозу «Ревности в серале». Но, разрабатывая эстетику нового балета, Новерр постепенно удалялся от старых форм. В его ансамблях человек еще не обретал индивидуальности, но уже превращался в самостоятельную единицу действия. Композиции балетных ансамблей открывали дорогу полифоническому развитию танцевальных тем. А это развитие нуждалось в поддержке музыки, в контрастах и сопоставлениях музыкальных тем.
Сын своего века, современник энциклопедистов, Новерр стремился логически упорядочить искусство хореографии и теоретически обосновать его правила. В согласии со взглядами времени, он писал: «Природа не всегда предлагает нам совершенные модели; значит, надо владеть искусством их исправлять, ставить в благоприятные положения, выгодно освещать, счастливо соотносить, что, скрыв от глаз недостатки этих моделей, придаст им грацию и прелесть, какие и надлежит иметь, чтобы быть истинно прекрасными» (I, 45). Вместе с тем, опираясь на идеи новой эстетики, Новерр оригинально и смело пользовался ими. Подражание прекрасной природе он выдвигал мерилом деятельности хореографа. Но предметом подражания объявлял живопись и архитектуру, опять-таки
86
ища логичных доводов. «Я не сочинил ни одного балета, в котором законы этих искусств не соблюдались бы самым точным образом»,— замечал он (I, IX).
И все же, отдавая первенство изобразительным возможностям балета, поставив целью «передавать страсти и чувства» посредством живописного жеста и выразительной мимики, Новерр уже тем самым изменял и роль музыки в балетном спектакле. Композиторам >его балетов была запретна смена номеров, которые танцовщики могли бы тасовать по собственной прихоти. Хореограф нуждался в последовательном тематическом развитии музыкального материала, на котором естественно разворачивались бы движущиеся картины его балетов. И он требовал этого от композиторов, независимо от их положения и таланта.
Здесь Новерр становился дерзок и нетерпим. Например, он настойчиво предпочитал творчество Рамо творчеству Люлли. Предвзято порицая музыку балетов Люлли как медлительную, растянутую и скучную, он закрывал глаза на то, что именно Люлли оживил и заострил размеренные темпы балетной музыки XVII века.
Предпочтение было закономерно, и причина его ясна.
Люлли, с одной стороны, развил и обогатил формы балетного танца, с другой — закрепил за ним весьма скромное место дивертисмента в практике серьезной оперы. Он уподобился тут архитектору Ленотру, позволившему природе придворных парков расцветать изысканно и пышно, но внутри жестко регламентированного, строго искусственного плана.
Рамо не высвободил балета из оперного спектакля. Но он расширил и размыл границы дивертисмента, предоставив балету в опере самостоятельные эпизоды, где привольнее существовала собственно хореографическая образность. Он индивидуализировал балетный образ, сообщив ему тем самым действенный характер. Притом Рамо хранил верность классицизму, и классицистские идеалы Новерра находили прямой отклик в его музыке. Эта музыка, на взгляд хореографа, приближалась к той «последней степени совершенства», которую он с чисто классицистской твердостью пытался установить на страницах «Писем» для всех современных искусств. «Разнообразию и гармоничной композиции Рамо, остроумным мыслям и блестящим разговорам («conversations»), которые господствуют в его мелодиях, обязан танец своими успехами. Он пробудился, он вышел из летаргии, куда был погружен, с мо
87
мента, когда этот создатель ученой, но всегда приятной и сладостной музыки появился на сцене»,— утверждал Новерр.
Правда, защищая свой «догмат веры», хореограф тут же выступал за равенство сценарной драматургии и хореографии в музыкальном спектакле. «Что можно было бы создать,—• восклицал он,— если бы в опере царил обычай взаимных советов, если бы поэт и балетмейстер сообщали композитору свои замыслы, если бы они заботились заранее обрисовать ему действие танца, страсти, которые этот танец должен последовательно изобразить в продуманном сюжете, и картины, которые он должен представлять в той или иной ситуации!» (1,71).
Так, уравнивая хореографа и сценариста в правах соавторов музыкального спектакля, Новерр отводил музыке, казалось бы, второстепенную роль. Опираясь на опыт итальянской оперы, он ставил в пример ее композиторов, которые сочиняли все новую музыку на одни и те же тексты соотечественника—• Метастазио. «Чувство, которым пренебрег один, раскрыто другим во всей красе; мысль, слабо выраженную одним, передает энергичнее другой», — утверждал он (I, 69).
Между тем рассуждения реформатора балетного театра протекали в русле распространенных взглядов, а главное — практики музыкального театра. Примерно так же думал Глюк, часто избиравший для своих опер сценарии, уже опробованные другими композиторами. Больше того, Глюк отводил музыке то же место, какое предназначал ей Новерр. В посвящении к опере «Альцеста», опубликованном в 1767 году, Глюк писал: «Я хотел привести музыку к ее истинной цели, которая заключается в том, чтобы дать поэзии больше новой выразительной силы, сделать отдельные моменты фабулы более захватывающими, не прерывая действия и не расхолаживая его ненужными украшениями. Мне казалось, что музыка должна сыграть по отношению к поэтическому произведению ту же роль, какую по отношению к хорошему и точному рисунку играет яркость красок и хорошо распределенные эффекты светотени, служащие к оживлению фигур, не изменяя их контуров».1
Француз Новерр, занимая те же позиции, предлагал в качестве бессменных образцов сценарии Филиппа Кино. «Не
1 Цит. по: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII веков. М., 1971, с 480.
88
один лишь танец, но все другие искусства, соревнующиеся ради прелестей и совершенства оперы, несомненно выиграли бы,— утверждал он,—если бы Рамо мог положить на музыку... шедевры отца и создателя лирической поэзии». Таким образом, поборник нового, действенного балета отсылал современников к классической драматургии музыкального театра прошлого века, полагая, что все в ней было «прекрасно, величественно и гармонично» (I, 69).
Новерр был прав, когда устанавливал связь творчества Рамо с поэтикой старой оперы. И столь же справедливо считал, что Рамо, храня верность этому типу оперы, углубил и обогатил ее изнутри, придав новую выразительность мелодии, усложнив гармонический строй музыки.
Конечно, Новерр оглядывался на оперу, которая давно и далеко опередила балет как самостоятельный полноценный спектакль. В начале пути он ставил перед собой весьма общие цели и лишь постепенно осознавал взаимозависимость, осваивал необходимую связь входящих в балетное зрелище искусств. В последнем счете, на него сильнейшим образом повлияла реформа, которую Глюк совершил в опере. Он не мог это влияние про себя не признать, хотя со свойственной ему строптивостью заявлял: «Я произвел в танце переворот такой же поразительный и прочный, какой позже совершил в музыке Глюк» (I, IV). Фразу можно, с одной стороны, объяснить тщеславием: хотелось не так возвыситься над Глюком, как принизить Анджьолини — соперника, для постановок которого Глюк сочинял музыку в начале своей реформы. С другой стороны, возвышая себя, Новерр порывался утвердить и значительность балета вообще, доказать право этого искусства на независимость.
Новерр сравнил себя с Глюком в предисловии к «Письмам о танце», переизданным в 1803—1804 годах, почти через полвека после первого издания книги и много лет спустя после смерти Глюка, когда и сам их автор уже оставил творческую деятельность.
В том же предисловии, доказывая свои мысли, Новерр повторял, что роль балетмейстера должна быть так же творчески активна, как и роль композитора. Он сообщал, что всегда стремился самостоятельно представить себе ход и развитие драматического действия в танце и только потом звал на помощь музыку: «Показав музыканту разные подробности уже написанной мною картины, я просил у него музыки, которая
89
отвечала бы каждой ситуации. Вместо того чтобы пристраивать танцы к уже имеющимся мелодиям, подобно тому как подтекстовывают стихи к уже известным мотивам, я сочинял, -если можно так выразиться, диалог моего балета и получал музыку, созданную для каждой фразы и каждой мысли». Новерр добавлял: «Вот так диктовал я Глюку главную тему Балета Дикарей для Ифигении в Тавриде. Движения, жесты, позы, выражения самого разного характера, которые я ему обрисовал, подсказали знаменитому композитору характер и построение этого прекрасного куска музыки» (I, IX).
Рассказ Новерра ничем не подтвержден, и его следует с осторожностью брать на веру. Но даже в плане желаемого, а не сущего мечта большого мастера раздвигала тогдашние горизонты для грядущего балетного искусства. Ведь слова Новерра лишь на первый взгляд уменьшали роль музыки. По -сути же они указывали тип нового, более тесного содружества композитора и хореографа, безусловно прогрессивного сравнительно со старым методом постановки танцев по готовому репетитору. Если же все и в самом деле было так, как он рассказывал, то не свидетельствует ли это о мудрости Глюка? Композитор, доверившись живописной фантазии хореографа, не унизил тем своей творческой миссии. Намеченная Новер-ром пластика лишь помогла ему найти экзотические краски для образа диких скифов и дать, в свой черед, пищу для вымысла хореографа. Ведь в конечном счете многие выдающиеся хореографы и после Новерра искали такого же согласия с композиторами и встречали ответный отклик. В пример можно привести плодотворное сотрудничество Шарля Дидло с Катерино Давосом в русском балете первой четверти XIX века. А в конце этого века Мариус Петипа подсказывал характер, структуру и развитие музыкальных образов Чайковскому— при создании «Спящей красавицы» и Глазунову — при -создании «Раймонды».
Новерр лишь раньше вступил на этот благотворный путь. О том же, что он умел сочинить план балетного действия, который мог бы послужить программой для разработки музыкальной картины, говорят сценарии его балетов или, например, упоминавшаяся сцена Елисейских полей. Описание входит в текст первого издания «Писем о танце». Оно весьма напоминает режиссерскую разработку сцены из «Орфея и Эв-ридики» Глюка, хотя на добрый десяток лет предваряет появление этой оперы.
90
ХОРЕОГРАФ-РЕЖИССЕР
В размышлениях о слагаемых балетного спектакля выстраивалась стройная концепция творчества, которая ставила Новерра в ряд крупнейших теоретиков искусства современной ему Европы. Мечта о театре, где все должно подчиняться единой воле главного создателя, где целое зависит от каждой отдельной подробности, а каждая подробность отражает и поясняет целое, была новаторской по самой своей сути. Новерр— едва ли не первый практик европейского театра XVIII века, вплотную подошедший к идее сценической режиссуры. «Искусный мастер должен с одного взгляда предвидеть общий эффект всей постройки и никогда не жертвовать целым, ради частного»,— заявлял он (I, 17). В основе балетного спектакля должен лежать сценарий: «Любой балет, план которого будет мне непонятен, который не предложит мне экспозиции, завязки и развязки, останется, по моим понятиям, всего лишь простым дивертисментом танца» (I, 14). А для последовательного развития спектакля Новерр предлагал свести воедино музыку, живопись, исполнительское искусство актеров. Во всем он видел материал для монолитного действия, которое двигалось бы по логике балетмейстера-режиссера.
Четкие и сильные характеры должны были иметь не одни главные герои балетного действия. Новерр усматривал особую трудность в том, чтобы «пристойно вывести» на сцену фигурантов, «дать им более или менее заметные роли и связать их с действиями» героев. Он заключал: «Балетмейстер должен неотступно наделять всех танцующих актеров действием, выразительностью и разнообразием характеров; они же обязаны различными дорогами прибывать к одной и той же цели, обязаны единодушно и согласно состязаться посредством правдивых жестов и подражания (прекрасной природе.— В. К.) в обрисовке того действия, какое сочинитель позаботился для них наметить» (I, 18—20).
Пожалуй, труднее всего для Новерра было провести границу между двумя им же установленными выразительными средствами хореографии — между пантомимой и танцем. Здесь ему порой изменяла четкость мысли. Оба понятия путались и смещались, скорее всего потому, что танец еще не посягал на то, чтобы передать духовную жизнь человека. А для Новерра здесь была важность первоочередная. Говоря, что танец призван это делать, он становился категоричен и поднимался до>
91
пафоса. «Хорошая картина всего лишь копирует природу,— утверждал он.— Хороший балет — это сама природа, украшенная всеми чарами искусства... Какую власть возымеет над моим воображением смена живых и разных сцен? Ничто так не интересует человечество, как само человечество. Да, сударь, позорно, что танец отказывается от власти, которую мог бы распространять на душу, а желает лишь услаждать взор» (I, 27—28). Но, пробуя объяснить, какой же должна быть роль танца в балетном спектакле, Новерр незаметно для себя сбивался на разговор о пантомиме. «Действие, когда речь идет о танце, являет собой искусство внедрения наших чувств и страстей в душу зрителей путем живой выразительности наших движений, жестов и мимики». И, поставив точку, продолжал: «Действие есть не что иное, как пантомима. У танцовщика все должно живописать, все должно говорить; каждый жест, каждая поза, каждое положение рук обязаны обладать разнообразной выразительностью. Подлинная пантомима во всех своих оттенках следует природе: стоит на миг удалиться от нее, и пантомима станет утомлять и отвращать» (I, 130—131). Так понятие танец незаметно перетекало в понятие пантомима, чтобы в конце концов подвести Новерра к находке термина действенный танец.
Вершиной, где должны были утвердиться его открытия, Новерру виделась пантомимная трагедия. Он опирался на устойчивую эстетическую репутацию. Большую часть XVII и почти весь XVIII век трагедия почиталась венцом литературных и театральных жанров. Здесь уместно предоставить слово соотечественнику Новерра-—хореографу наших дней Морису Бежару. Он сказал в интервью, предпосланном новейшему парижскому изданию «Писем» Новерра: «Слыть тогда крупным писателем мог лишь тот, кто сочинял трагедии. Вольтер написал тридцать неудобоваримых трагедий и гордился ими больше, чем любой из своих сказок. Новерр считал священным долгом возвысить танец до трагедии, подарив ему привилегии, какими тот не обладал в дивертисменте. Если угодно, танец был тогда антрактом, а трагедия — произведением искусства. И Новерр хотел сделать танец таким произведением, боролся за это».1
Формы трагедии податливо и гибко воплощались в пластике. Трагедии XVIII века присущи целеустремленное разви
1 См.: Noverre J.-G. Lettres sur la Danse. Paris, 1978, p. 33.
92
тие событий, броские кульминации действия, контрасты характеров, пафос резко и отчетливо обозначенных чувств. Бежар говорил дальше: «Не думаю, чтобы Новерр составлял танец из незначительных и буквальных жестов, передающих мельчайшие подробности ситуаций. Его творения, судя по сохранившимся сценариям, всегда пронизывали два великих чувства, две великие темы любви и смерти — излюбленное танцем поле действия».1 На этом поле Новерр мечтал воздвигнуть зрелище, гармония и стройность которого соревновались бы с шедеврами живописи, скульптуры и архитектуры, драматического и оперного театра. Подобное зрелище предполагало условность выразительных средств, позволяющих вместе ощутить художественную правду целого. Мир патетических страстей, благородного соревнования воль, мир судеб, отмеченных роком,— словом, мир трагедии увлекал хореографа в его попытках ввести в свое искусство программные эстетические поиски дня. Призывая «подражать природе», он понимал под этим именно такой возвышенно поэтический мир, а не имитацию заурядных характеров и обыденных происшествий. Он ставил перед собой грандиозные задачи, но попутно не упускал из виду чисто профессиональных интересов в плане усовершенствования танца. «Новерр не холодный и плоский теоретик,— убежден Бежар.— Это одержимый. Всякий раз, как он ставит проблему, она оказывается не проблемой «в себе», а связана с конкретным, непосредственным, насущным фактом. Когда ради гибкости и мягкости танца Новерр реформирует пластику рук, он устраняет недостаток, который существовал в этой области».2
Одержимость профессионала, всесторонне знающего дело, умеющего видеть за большим малое, позволила Новерру предопределить будущее классического танца — всесторонне развитого выразительного средства балетного театра. Он не отрицал виртуозно развитой техники ног. Но, возмущенный тем, что танцовщики совершенствовали только эту технику, он иной раз советовал поступаться ею ради общей выразительности танца. Советы встречали поддержку современников. Эстебан Артеага, автор упоминавшегося трактата «Перевороты в итальянском музыкальном театре», писал: «Лишенные по недостатку воспитания и знания всякой философической
1 См.: Noverre J.-G. Lettres sur la Danse, pp. 33—34.
2 Ibid., pp. 54—55.
93
идеи о сущности искусства, танцовщики различать не умеют того, чего требует танец искусный, от того, к чему стремится способность подражательная, но одно с другим смешивают так, что мы принуждены видеть лишь танцующего там, где искали пантомимы». Подразумевая под искусным танцем «страсть блистать ногами», притом что тело, лицо, глаза бездействуют, Артеага заключал: «Не так понимает сие глава школы их Новерр; оный в десятом письме своем довольно ясно и отчетливо напевает им в уши...» 1 — и дальше следовали слова Новерра: «Если мы хотим приблизить наше искусство к истине, надо меньше думать о ногах и пристальней заботиться о руках; откажитесь от кабриолей в пользу жестов; умеренней чтите трудные па и больше играйте лицом; не вкладывайте в исполнение всю силу, а примешивайте сюда и вдохновение; отклоняйтесь с изяществом от узких правил школы, старайтесь идти по следам природы и сообщать танцу душу и действие, необходимые ему, чтобы возбуждать интерес» (I, 130).
Взгляды Новерра на выразительные возможности и на действенные задачи танца отвечали передовым требованиям времени. Эти взгляды заставляли его неодинаково относиться к двум разновидностям театрального танца — итальянской танцевальной буффонаде и академическому танцу французской сцены, который он называл механическим.
Итальянской буффонады Новерр не признавал, как не терпел ее и другой его выдающийся современник — Анджьолини. Это объяснялось двумя причинами.
С одной стороны, искусство итальянской комедии дель арте утратило к тому времени в балетной практике свою демократическую импровизационную основу. Оно превратилось в набор расхожих, часто грубовато-соленых сценок и акробатических трюков. По словам Анджьолини, уже Хильфердинг хотел изгнать «непристойный комизм со сцены». Анджьолини относил к такому комизму «жесты и движения, осуждаемые стыдливостью, подражание испорченной природе, действия, тяготеющие к дурным обычаям, гримасы и обезьяньи ужимки марионеток, всегда далекие и от искусства, и от природы,— словом, все балаганные выходки ярмарочных акробатов».2 И Анджьо-
1 Цит. по: Материалы и документы по истории музыки XVIII века, т. 2, с. 71—72.
2 Letters di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre sopra i balli pantomimi. Milano, 1773, p. 9.
94
лини, и Новерр думали тут одинаково, и оба сбрасывали со счетов намеренно сниженную условность буффонады, считая, что ее приемы чужды духу подражания прекрасной природе.
В том и заключалась вторая причина их отрицания буффонады. Согласно распространенным взглядам, оба ратовали за серьезность искусства. Потому они не отводили буффонаде места даже в балетной комедии, поскольку и та, на их взгляд, должна была взывать к благородным чувствам и угождать серьезному вкусу. По сути дела, такая точка зрения была прогрессивной, потому что, освобождая балет от навыков буффонады, им же доведенных до театрального штампа, открывала значительно более реалистические позиции.
«Танец, по моим понятиям, серьезен,— писал Новерр,— ибо такой танец есть прочная основа балета. Пренебрегающие его принципами останутся при малых возможностях, потому что тогда надо отказаться от великого, отбросить историю, сказку, национальные жанры и ввериться единственно лишь крестьянскому жанру, который изъезжен и надоел со времен Фоссано, превосходного комического танцовщика, заразившего Францию страстью к скачкам. Подлинно прекрасный танец я сравниваю с коренным языком, а смешанные и испорченные жанры, отклоняющиеся с его пути, с неудобопонятными жаргонами, разнящимися пропорционально удалению от столицы, где царит •облагороженная речь» (I, 46).
Пассаж этот может показаться противоречивым, если не читать его с исторических позиций, учитывая балетную терминологию эпохи. Надо помнить, что для Новерра и его современников «крестьянский жанр» подразумевал вполне определенную систему образов, их твердо ограниченную сюжетику, стиль и манеру танца. Жанр этот был закреплен за итальянской буффонадой, за теми ее номерами, которые бытовали на европейской сцене как пережиток когда-то актуальных лацци итальянской комедии дель арте. Элементы таких лацци в танце Фоссано и вызывали протест Новерра, в остальном одобрявшего талант выдающегося исполнителя. Только учитывая историческое звучание термина, можно понять, почему Новерр противопоставлял «крестьянскому жанру» национальный жанр, включая в него на практике балеты из крестьянской жизни. Протест хореографа вызывало не содержание, а произвольная форма. Ее он сравнивал с «жаргоном», в отличие ют «облагороженной речи», то есть очищенной от просторечий, способной вместить и выразить жизнь любого сословия.
95
А жаргонную вульгарность формы он приписывал всей совокупности средств итальянской буффонады: и ее «скачкам», то есть танцу, ставящему рекорды ловкости и силы, и ее нарочито потешным игровым трюкам, то есть пантомиме. «Пусть начинающие танцовщики,—предостерегал Новерр,—не путают ту благородную пантомиму, о которой говорю я, с низменной и пошлой выразительностью, которую итальянские буффоны привезли во Францию и которую усвоил скверный вкус» (I, 131).
Совсем иначе относился Новерр к академическому танцу, притом что относился двойственно. С одной стороны, ему претила заданность стерильных и незыблемых музыкально-танцевальных структур. С другой стороны, он прозревал будущее академического или, как он называл его, механического танца и брал его на вооружение, чтобы, вдохнув в него душу, сделать мощным выразительным средством балетного спектакля. Не случайно Новерр посвятил многие страницы «Писем» анализу «механического» танца, обнаруживая гармонию и смысл в самой геометрии его комбинационных приемов, в надбытовой игре положений человеческого тела, словом, в формах, открывающих ход к высокой условности балетного искусства. Заботливо и подробно объяснял он возможности, заложенные в правилах en dehors и en dedans, в строгой предопределенности пяти позиций, равных основным тонам европейской музыки, в port de bras, то есть в нормах движения рук. С таким танцем он готов был идти на контакты и считал, что если его омертвевшее тело спрыснуть живой водой серьезного содержания, придать ему ясный смысл и характер, танец этот сумеет выразить действие, а значит, возродится к новой, прекрасной жизни.
Правда, Новерр попробовал, как пробовали балетмейстеры и после него, создать искусственный сплав условного танца с безусловным жестом пантомимы. Достигнутые им результаты превзошли опыт позднейших практиков, поскольку его творчество протекало в русле эстетики классицизма, условнейшей по своей природе: размеренная, плавная, фронтальная пластика драматического актера смыкалась с пластикой актера балетного теснее, чем это было потом, и тем легче сближались сценический жест и сценический танец. С другой же стороны, еще не выработались многие приемы собственно танца, прежде всего высоко условная техника женского танца на пальцах. Все же и тогда относительная условность пантомимного
жеста вступала в противоречие с абсолютной условностью танцевального движения. Жест, изобразительный в своих смысловых истоках, шел вразрез с выразительной сутью танцевального движения, которое есть лишь некий завиток, бессмысленный и странный вне развитой системы целого орнамента.
Выдвинув термин действенный танец, Новерр нащупал одну из важнейших структурных форм классического балетного танца. Термин жив уже два столетия, притом что принцип его сценического воплощения видоизменялся: конкретность изобразительного жеста то утрачивалась и размывалась в обобщенной сфере пластики, то проступала с большей или меньшей отчетливостью, завися от художественных задач целого. Тут не было прямого подъема от 'основы, предложенной Новерром, к вершине. Вершин достигали, поднимаясь к ним по разным ступеням условности, принятым той или иной эстетикой, тем или иным временем. Свои вершины имелись в XIX, свои — в XX столетии. Вершины обобщенной образности XIX века явили pas d’actions в балетах Чайковского и Глазунова, поставленных Мариусом Петипа. В XX веке многие хореографы, каждый по-своему, поднимались на крутые пики этой сложной музыкально-танцевальной формы. Но практика новейшего балета далеко уводила от Новерра и здесь обсуждению не подлежит. На нее можно лишь сослаться в доказательство того, что Новерр, всколыхнув стоячие воды балета своей эпохи, указал путь к развитию балета последующих эпох.
«ПИСЬМА О ТАНЦЕ И БАЛЕТАХ»
Новерр был поистине одержим мыслью поставить балет вровень с жизнью современного театра. Другое дело, что новаторская мысль часто движется окольными путями и, высказанная в теории, не вполне совпадает с непосредственной практикой. В 1760 году Новерр издал «Письма о танце и балетах». Хореограф разрабатывал этот труд несколько лет, так как еще в 1757 году его жена писала Гаррику: «Он воспользовался болезнью для сочинения книги о танце и театре».1
1 Цит по LynhamD The Chevalier Noverre, p 45
Книга вышла одновременно в Лионе и Штутгарте и была посвящена Карлу, герцогу Вюртембергскому. В ней было пятнадцать писем-глав. Новерр продолжал работать над ней всю жизнь, то есть еще полвека. Он дополнял и разъяснял сказанное, вводил новые факты, имена и примеры, реже выбрасывал устаревшее. Впоследствии книга выдержала ряд изданий, среди которых лучшее—цитируемое здесь четырехтомное петербургское 1803—1804 годов, посвященное императору Александру I. Это издание включает несколько сценариев Новерра, статью «Соображения по поводу постройки нового зала Оперы» и переписку с Вольтером. Последний раз при жизни Новерра его труд был опубликован в 1807 году в Париже под названием «Письма о Подражательных искусствах вообще и о Танце в частности».
Книга Новерра построена в распространенной для XVIII века форме писем к воображаемому корреспонденту. Как бы отвечая на вопросы адресата, Новерр рассматривал разные стороны и разные возможности балетного искусства. Он проявлял широкую осведомленность в мифологии и хореографии античности. Правда, первая была непременным материалом всех искусств его времени, сведения же о второй он черпал скорее не из трудов античных авторов, а из исследований французских теоретиков. Не упоминая имени Клода-Франсуа Менетрие, он нередко пользовался книгой ученого иезуита «Балеты старинные и современные в отношении к правилам театра».1 Он чтил Луи де Каюзака и ссылался на его труд «Старинный и современный танец, или Исторический трактат о танце».2 Притом острый аналитический ум позволял Новерру самостоятельно оценивать как древние авторитеты, так и труды современных ему теоретиков. Несколько страниц «Писем» он посвятил анализу взглядов Каюзака и Дидро; последнего почтительно величал «философом — другом природы, а значит — истины и прекрасной простоты» (I, 232).
И. И. Соллертинский справедливо писал,что смысл реформ Новерра заключался «во внедрении в балет — дотоле придворно-феодальное искусство — идей и принципов передовой французской буржуазии XVIII века, подготовлявшей револю
1 Menestrier. Des Ballets anciens et tnodernes selon les regies du theatre. A Paris, 1684.
2 Cahu sac. La danse ancienne et moderne ou traite historique de la danse. A la Haye, 1754.
98
цию и требовавшей от театра не пустого и пышного развлечения, но серьезной смысловой нагрузки, драматических сюжетов, сценической демонстрации основных идей века Просвещения». Дальше исследователь утверждал, что в «реорганизации балетного спектакля Новерр шел рука об руку с ведущими умами эпохи» — Дидро, Глюком, Бомарше.1
Хореограф отлично понимал важность того, что делал, хотя иной раз, не без кокетства, умалял собственную роль. «Если ничуть не прислушиваются к мнениям и советам господ Дидро и де Каюзака; если презирают пути к совершенству, указанные ими, могу ли я льститься на успех?» — запальчиво вопрошал он. И, словно бы со вздохом, отступал: «Нет, сударь, разумеется, было бы безрассудно даже помышлять об этом» (I, 236). На деле Новерр не собирался ни отказываться от обязанностей, ни уступать права славнейшего из хореографов Европы.
Программу реформ, изложенную в «Письмах о танце», Новерр нацеливал на современность. Полемизируя с косными порядками балетного театра, он обращал острие реформ прежде всего к практике Королевской академии музыки. Вместе с тем его размышления обладали многими немеркнущими достоинствами. Свобода и гибкость эпистолярного жанра позволяли ему неоднократно возвращаться к проблемам, сначала намеченным бегло, и развивать их от письма к письму, настойчиво внедряя в сознание читателя. Так повторялась в разных аспектах мысль о важности содержания балетного спектакля, о правах балета на последовательность и серьезность действия, на разработку глубоких характеров, а в качестве материала для того предлагались произведения большой литературы. Заботясь об единстве балетного действия, он требовал цельности живописного оформления и выразительности специально написанной музыки. Говоря о возможностях балетной пантомимы, способной передать состояния и чувства героев, он пояснял, что и танец не должен занимать место лишь в дивертисментах, но способен развивать тему и выражать ее.
Труд Новерра ценен и как «свидетельские показания»в полувековой истории балетной сцены. Эскизные зарисовки балетмейстеров и исполнителей, при некоторой порой предвзятости, позволяют представить многие и разные индивидуальности, и
1 Соллерти некий И. И. Жизнь и творчество Новерра,— В кн.: Классики хореографии. Л.— М., 1937, с. 18.
шире — смену стилей в искусстве мастеров. Историк балета Сирил Бомонт сообщал в предисловии к сделанному им английскому переводу «Писем» Новерра: «Не случайно Гаррик величал его «Шекспиром танца», а Вольтер завершил письмо к нему словами: «Вы подобны Прометею, Вам следует формировать людей и вкладывать в них душу». Опять-таки Карло Блазис в предисловии к своему «Элементарному, теоретическому и практическому трактату о танце» (1820), ссылаясь на Новерра, заметил: «Превосходные письма о балетах этого знаменитого артиста были написаны, главным образом, для сочинителя (танцев.— В. К.) и всегда должны быть у него под рукой; этот труд научит художников танца истинным драматическим законам и простейшему способу вызывать интерес мимическим действием».1
В 1760 году «Письма о танце» были приняты далеко не единодушно. Они вызвали восторг одних читателей и негодование других. В 1773 году вышли «Письма Гаспаро Анджьолини к господину Новерру по поводу балетов пантомим» — пример резкой критики книги Новерра. Полемика Анджьолини с Новерром будет освещена в специальной главе. Сторонники Анджьолини вмешались в полемику и позволили себе упрекнуть Новерра в несамостоятельности его авторства. Но будущее доказало их неправоту. Новерр постоянно дополнял книгу новыми творческими идеями и примерами из собственной практики, откликаясь на самые разные события текущей жизни.
В петербургское издание «Писем о танце» вошла, например, его развернутая брошюра «Соображения по' поводу постройки нового зала Оперы». Новерр написал ее после пожара, который летом 1781 года уничтожил роскошное здание Оперы, выстроенное за одиннадцать лет до того в Пале-Рояле. Театр загорелся во время спектакля. Трагедия приняла бы чудовищные размеры, если бы не танцовщик Доберваль, который приказал опустить занавес. Это позволило ничего не подозревавшим зрителям спокойно покинуть зал. Современник посвятил восхищенную статью сочинению «танцора Новерра», заявив, что тот заслужил подобным трудом диплом государственного советника. «Брошюра достойна человека, гениального от головы до ног,— восклицал автор статьи.— То, что го
1 Цит. по: Letters of Dancing and Ballets by Jean-Georges Noverre. Translated by Cyril Ц7. Beaumont. N. У., 1968, p. XII.
100
ворит он об актерах и актрисах, которые должны проникаться ролью в то время как все грозит пожаром; то, что говорит он о службе насосов, распределяющих воду, о запасных выходах, о двойном железном занавесе, который при малейшем несчастном случае отделяет партер от сцены,—все исходит от гражданина, любящего человечество и искусство и как знаток рассуждающего о нуждах того и другого».1 Возможно, архитектор Ленуар, к концу октября того же года воздвигший временное здание Оперы на бульваре Пор-Сен-Мартен, учел советы Новерра.
Сравнительный анализ изданий «Писем о танце» мог бы сам по себе явиться ценным научным трудом. Даже известная противоречивость высказываний, возникавшая из-за того, что Новерр, дополняя текст, не изменял написанного раньше, предлагает исследователю интересный материал. Кроме того, позднейшие издания «Писем» включают сценарии балетов Новерра, которые хореограф часто предварял предисловиями, также проливающими свет на движение его мысли. Предисловия к сценариям обнаруживают, например, способность Новерра критически обсуждать свою программу действенного балета и даже возможности всемогущей пантомимы. Таким образом, последние издания трудов Новерра — творческие итоги пути этого мастера.
НОВЕРР В ШТУТГАРТЕ
Пока что, к моменту выхода «Писем о танце», хореограф вплотную подошел к идее действенной балетной драмы. Но осуществить созревшие замыслы трудней всего было на родине. Новерр покинул Лион и принял приглашение герцога Вюртембергского возглавить балет в Штутгарте.
Герцогство Вюртемберг было одним из феодальных государств, входивших в состав раздробленной Германии XVIII века. Внутри феодального строя и в борьбе с ним создавалась высокая культура немецких просветителей. Развиваясь в области философии и литературы, она захватила в области театра только драму. Музыкальный театр сохранялся как принадлежность двора и пользовался преимуще
' Correspondance ИНёгшге secrete, N 42. De Paris le 17 octobre 1781.
101
ственно дарами иноземной культуры. Иностранцам доверяли больше, чем соотечественникам. Это открывало перед иностранцами относительно свободное поле действий. Новерр пользовался возможностями.
Оперный театр Штутгарта слыл едва ли не лучшим в Европе. Около четырех тысяч зрителей помещалось в партере и ложах, расположенных тремя ярусами. Декорации писал знаменитый Сервандони, эскизы костюмов — Боке, ежегодно туда приезжавший. Оперой ведал композитор Никколо Йомелли. За годы работы там (1753—1769) он сочинил лучшие свои произведения. Он же был и капельмейстером оркестра из сорока музыкантов. Меньше интересовались балетом. В 1758 году балетмейстером был Микель дель Агата, в 1759 — Франсуа Совтер; труппа состояла из шести танцовщиков, пяти танцовщиц и восьми фигурантов.
Новерр переформировал и расширил труппу. Гаэтан Вестрис постоянно выступал там в качестве гастролера. Его брат Анджьоло и Жан Доберваль занимали места серьезных танцовщиков. Позже к ним присоединился Шарль Ле Пик, выдвинутый Новерром из кордебалета. Балериной была Нанси Девье, которая по стечению обстоятельств считалась английской танцовщицей: ее отец, французский танцовщик Девье, был балетмейстером театра Друри Лейн в 1740-х годах, и она родилась в Лондоне. Отец «отвечал за ее раннее образование, Новерр— за ее развитие»,— пишет Уинтер.1 Нанси Девье приехала в Штутгарт в 1761 году и быстро заняла ведущее положение в труппе. Блестящая пантомимистка, она, по словам современника, «вносила в свое исполнение всю душу и выразительность знаменитого Гаррика, этого несравненного английского актера».2 Впоследствии Нанси Левье создала главную роль в балете «Семирамида» Глюка — Анджьолини на венской сцене. В труппу вошли и танцовщики, работавшие с Новерром прежде. К 1764 году штутгартская труппа включала в себя семь ведущих солистов и кордебалет из двадцати трех танцовщиков и двадцати одной танцовщицы. Репутация театра заметно повысилась. Кастиль-Блаз, историк парижской Оперы, писал: «Если герцог поставлял королю Франции плохих солдат, он, по крайней мере, посылал нам превосходных танцовщиков. В ту пору Штутгарт был консерваторией танца для
1 W i nt е г М. Н. The Pre-Romantic Ballet, р. 121. s [U г I о t J.] Description des Fetes..p. 39.
102
нашей Оперы».1 Стоит добавить, что материал для этой консерватории поставляла и сама Франция.
Новерр не отменил установленной в Штутгарте практики музыкального спектакля, объединявшей балет с оперой. Он вошел в контакт с Йомелли и приноравливал темы балетов к сюжетам его опер. Он не всегда сочинял балеты заново и часто пользовался достаточно уже обширным запасником своего репертуара. Но он понемногу осуществлял на деле собственный теоретический девиз: «Каждый балет, по моему разумению, должен предложить сцену, которая сцепляла бы и тесно связывала первый акт со вторым, второй с третьим и т. д.» (1,66).
11 февраля 1761 года состоялась премьера оперы Йомелли «Олимпиада». В основе действия первого акта лежала тайна происхождения одного из героев. Влюбленные выступали под чужими именами и должны были то и дело меняться ролями. Затем следовал балет «Капризы Галатеи», который шел раньше в Лионе. Там в пасторальном жанре разрабатывалась похожая ситуация: героиня—пастушка не могла остановить выбор ни на одном из двух влюбленных пастухов. Во втором акте герой оперы жертвовал ради дружбы своей страстью, повергая возлюбленную в отчаяние. Возобновленный балет «Ринальдо и Армида» трактовал похожий сюжет, йоследний акт оперы заканчивался обручением верной героини с героем. Тему непреклонной верности Новерр разрабатывал в специально сочиненном балете «Адмет и Альцеста». Музыку к балетам теперь написал композитор Родольф.
Все три балета были законченными произведениями, с продуманной интригой и четко обозначенными характерами. «Взамен бесцельной смеси танцев, разделявшей до сих пор акты оперы, Новерр выдвинул подлинную танцевальную драму, где все подчинялось развитию темы, а формы чистого танца — драматической выразительности. Он применил, таким образом, к оперному балету принципы, которые позже Глюк и Кальцабиджи пропагандировали в самой опере»,— пишет Дерик Линхэм.2 Можно добавить, что идеи реформы носились в воздухе. В том же году Глюк, его либреттист Кальцабиджи и Анджьолини пропагандировали на венской сцене те же
1 Castil-Blaze. L’Academic Imperiale de musique. Histoire litteraire, musicale, choregraphique, pittoresque, morale, critique, facetieuse, politique et galante de ce thedtre de 1645 a 1855. Paris, 1855, t. 1, p. 214.
2 Lynham D. The Chevalier Noverre, p. 59.
103
принципы в балете «Каменный гость». Главное заключалось в том, что основой танцевальной драмы Новерр, подобно Глюку в драме оперной, стремился сделать высоконравственное содержание. Его балет «Адмет и Альцеста» на шесть лет опережал знаменитую «Альцесту» Глюка и, разумеется, не достигал уровня этого шедевра. Правда, миф об Альцесте и раньше привлекал оперный театр. Еще в 1674 году им воспользовался Люлли, а затем к нему обращались композиторы разных национальностей. Все-таки можно говорить о том, что задачи Новерра сближались с задачами Глюка уже в выборе сюжета: Альцеста жертвует жизнью, чтобы спасти мужа. Больше того, принципы воплощения балета напоминали те, какие потом изложил Глюк в предисловии к партитуре своей оперы. Считая назначением музыки ее содружество с поэзией, Глюк объявлял войну излишествам bel canto, отстаивал логику чувства в строении арий, требовал устранить разрыв между арией и речитативом, чтобы не прерывать напряженности действия. И главной целью своего искусства Глюк объявлял простоту, ясность и естественность производимого впечатления, дабы дать «сильные страсти, интересные ситуации, язык сердца и всегда разнообразное зрелище».1 Если верить словам одного из зрителей первого штутгартского спектакля, тем же принципам отвечали и названные балеты Новерра. Зритель писал, что танцовщики «восхитительно выражали в своих движениях все страсти. Да это, строго говоря, и не танцы, а значительные происшествия, выраженные единственно движениями тела, без помощи речи, притом весьма отличные от обычных пантомим».2
При всем том многое не позволяет ставить знак равенства между Новерром и Глюком. Творчество Новерра большей частью протекало вне родины. Мало того, одной из целей этого творчества хореограф полагал свержение традиций и норм балета на сцене Королевской академии музыки в Париже. Его полемический азарт в этом плане не понял и осудил Анджьолини. Обращаясь к мыслям Новерра об Академии и о танце в ее спектаклях, он не без яда замечал: «Вы вникаете в мельчайшие пустяки... восхваляете отдельных особ, презираете холодность этого танца, пытаетесь возбудить любопытство новыми замыслами и говорите так много, что иные могут подумать, будто Вы согласились бы на пост сочинителя балетов
1 Цит. по: Белецкий И. Кристоф Виллибальд Глюк. Л., 1971, с. 58.
2 Цит по: L у п h a tn D. The Chevalier Noverre, p. 59.
104
в этом театре, предпочтя его любому другому... Однако балеты в Опере, связанные с актерами (певцами.— В. К.) и хорами, не стоят сочинителю никакого усилия таланта и воображения».1
В том и было дело, что Новерр, осуждая практику Королевской академии музыки, действительно мечтал занять там пост балетмейстера. Он справедливо считал французскую сцену самой подходящей почвой для приложения своих усилий. Справедливо, потому что сам был явлением чисто французской культуры и по свойствам таланта походил не на Глюка, а скорей на Рамо. В его художественной практике рассудок повелевал чувством и страсти героев пылали в границах дисциплинированного вкуса. «Прекрасную природу» человека он воплощал посредством изобразительных начал хореографии и подчинял их ясному распорядку те движения сердца, главенство которых определяло выразительное могущество музыки Глюка. Вместе с тем Новерр, современник реформы Глюка, строил идеальный образ балетного спектакля по ее законам. А эти законы противостояли давним правилам французской сцены, которых твердо придерживался Рамо...
Итак, Штутгарт хорош был тем, что, перенимая моды Парижа, предоставлял французским художникам относительную свободу действий. И Новерр в Штутгарте задержался. В том же 1761 году он поставил героико-пантомимный балет «Победа любви над равнодушием», входивший в оперу Йомелли «Необитаемый остров», а в следующем году Йомелли возобновил свою оперу «Семирамида» с двумя новинками Новерра на музыку Родольфа: героико-пантомимным балетом «Психея и Амур» и трагическим балетом «Смерть Геракла».
Балет «Психея и Амур» трактовал не раз испробованную мифологическую тему в духе просветительского классицизма. Сказка о Психее и Амуре обычно привлекала хореографов галантной ситуацией: любопытная Психея нарушает запрет Амура и освещает его ложе лампадой, чтобы взглянуть на спящего возлюбленного. Новерр уведомил зрителей в предисловии к балету, что «все в этой сцене подчинено благопристойности». И в самом деле, здесь хореографа интересовали не столько пикантные перипетии, сколько постепенное пробуждение Психеи — Души. Героиня то и дело «предавалась размышлениям», прерывая свои поиски невидимого возлюбленного.
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 44.
105
Основной мотив размышлений — попытку смертной души познать самое себя — Новерр воплотил в поэтической сцене с зеркалом. Две нимфы и группа зефиров, расположенная «в виде пирамиды» (излюбленной пластической композиции Новерра), подносили Психее зеркало, «без сомнения, впервые увиденное ею». И Психея — Нанси Левье «рассматривала себя, то отодвигаясь, то приближаясь... задумываясь и вновь возвращаясь» к стеклу, волшебно отражавшему мельчайшие изгибы ее движений. Иным, чем принято, был и герой балета, роль которого исполнял танцовщик Лепи. «Предупреждая справедливую и просвещенную критику артистов, я объявляю, что отменил крылья, которыми поэты и живописцы иногда снабжают Психею и всегда Амура»,—писал Новерр и пояснял, что его Амур желал пленить сердце Психеи «как простой смертный» (III, 126 и сл.). Персонажи утрачивали волшебные приметы, чтобы передать естественные чувства.
В первой части балета Новерр последовательно ставил акценты на психологических моментах действия, и прежде всего на переживаниях героини. Пластика пантомимы и инструментовка танца,оставаясь в пределах балетного классицизма, наполнялись новым морально-философским смыслом. А это изменяло их выразительную силу. Античная тема возникала в том каноне, признаками которого были «благородная простота и спокойное величие как в позе, так и в выражении». Подобным образом обосновал этот канон в своих эстетических трудах Иоганн Иоахим Винкельман,1 определив искания многих деятелей искусства XVIII века.
В этой первой части Новерр, отказываясь от волшебных примет сказки, быть может слишком прямолинейно, устремлялся к рационалистической эстетике своей эпохи. Он несомненно сужал диапазон выразительных возможностей балетного театра, который с помощью неправдоподобного способен раскрывать богатство и сложность человеческого духа. Хореограф поступал так потому, что фантастический арсенал балета состоял к тому времени из достаточно устарелых образных понятий. Хореография порывала с фантастикой ради покорения новых вершин. Об этом можно судить, вспомнив трактат о балете Клода-Франсуа Менетрие — эстетика XVII века.
'Винкельман И И. Избранные произведения и письма М — Л, 1935, с. 107
106
Менетрие допускал присутствие балетных интермедий в представлениях трагедии, «потому что в этих случаях балеты являются для трагедии тем же, чем были для нее Хоры античности, в которых и пели и танцевали». Но он заявлял тут же: «Трагедия-балет являет собой чудовище, которого не знали в древности»,— и пояснял свой взгляд рядом логических доводов. «Трагедии, комедии, представления на музыке (то есть оперы.— В. К.) и балеты являются подражаниями,—писал он.— Это то, что есть у них общего. Трагедия и комедия подражают действиям: первая — великих людей, вторая — простонародья. Балет подражает природе вещей и без различия изображает и людей и животных. Трагедия и комедия призваны изображать нравы и исправлять их, балет развлекает и приносит удовольствие. Трагедия включает в себя лишь серьезных персонажей, а также их спутников, необходимых, чтобы развивалось действие. Балет представляет собой смесь серьезных и веселящихся персонажей, исторических и волшебных, подлинных и аллегорических. Трагедия имеет постоянно закрепленную сцену и накрепко задерживается в комнате, во дворце, в апартаментах, в саду и, самое крайнее, в городе. Балет может изменять сцену для каждой своей части и даже для каждого выхода. Машины и эпизодические вставки должны быть редкими в трагедии, они постоянны для балета. Трагедия представляет единое действие, действие балета разнообразно. В балете один и тот же персонаж редко появляется на сцене дважды, если только он не меняет костюма, поскольку, будучи немым, он не может объяснить, зачем вернулся на сцену».1
Теперь балет настойчиво заявлял,что он способен «подражать» действиям великих и обыкновенных людей, воплощать их нравы и наставлять — одним словом, что способен быть серьезным. Доказать это можно было, только минуя те свойства балета, которые перечислял Менетрие: развлекательность, разнообразие, мешающее историю с вымыслом и подлинность с аллегорией, а с ними заодно отменяя волшебные появления и превращения, пеструю смену всевозможных персонажей. Новерр и отрекался от этого в первой половине «Психеи», где утверждалось единство действия.
Сохранить последовательность ему все же не удалось. Правда, он и дальше ставил акценты на психологических
1 Menestrier. Des Ballets anciens et modemes selon les regies du Theatre, pp. 290—291.
107
моментах балетной драмы, прежде всего—на переживаниях героини. Но, следуя за событиями мифа, он переводил действие из неспешного течения лирического плана в стремительную смену трагически напряженных сцен и широко пользовался эффектами машинерии. Едва Психея освещала лампадой лицо Амура, как дворец превращался в пустыню, за которой простиралось бушующее море. Фурия Тисифона — танцовщик Ба-летти — увлекала героиню в лодку. При блеске молний и ударах грома ветер разбивал судно о скалы. Психея взывала к Амуру, и он являлся. Но Тисифона проваливалась со своей жертвой в ад.
Жозеф Урио, библиотекарь герцога Вюртембергского, описавший несколько балетов Новерра, заметил,что «огонь этого действия леденит сердце».1 А хореограф, словно бы реализуя красочную метафору, превращал морской пейзаж в картину ада. Подземные духи приковывали Психею к пылающей горе, и «картина ее мук заставляла содрогаться тем сильнее, чем превосходней была сделана». Наконец Амур спасал возлюбленную, «позволяя вздохнуть зрителям, уже неспособным выдерживать нагромождение стольких ужасов». И тут испытания героев заканчивались вполне традиционной свадьбой во дворце Венеры — Луизы Тосканини. По словам Урио, в празднестве участвовали «многие толпы Игр, Утех, Амуров и Зефиров».2
Много десятилетий балетную сцену населяли персонажи-маски богов, богинь, их непременных благостных или зловещих спутников, чья внешность, поступки, а главное, танец отвечали раз навсегда установленному канону. Обновить канон танца было нельзя. Его можно было пересоздать в других стилевых условиях, для которых еще не наступило время. Подойти к этому времени помогала хореографическая драма. Она очищала мифологический сюжет от подробностей прециозных волшебств и взывала к серьезному его воплощению. Такое воплощение подчас сужало пластический лексикон за счет скомпрометированного танца. Зато пантомимное действие, обогащаясь, помогало передать ситуации, а с ними — личности героев.
Могущество пантомимы показал балет Новерра «Смерть Геракла», блистательно утверждавший концепцию пластической трагедии в духе просветительского классицизма. Об этом позволяет судить запись, принадлежащая Жозефу Урио. Пре
1 \U г i о t /.] Description des Fetes. . p. 61.
2 Ibid., pp. 62—63.
108
мьера балета на музыку Рудольфа, с декорациями Инноченцо Коломбо и костюмами Боке, состоялась 11 февраля 1762 года.
Новерр переосмыслил сюжет античного мифа по рецептам трагедий классицизма. В центр вышла борьба любви и долга, притом, что все венчал апофеоз, достойный барочных зрелищ минувшего века.
Первая картина предвосхищала на двести лет первую картину балета Л. В. Якобсона «Спартак» (1956). На сцену въезжала победная колесница Геракла — Гаэтана Вестриса, влекомая двенадцатью рабами. За ней вели царевну Иолу — Нанси Левье в цепях и гнали толпу закованных рабов. Геракл освобождал пленников и открывал праздник гимнастических игр. Среди них был танец четырех борцов: «Разнообразные положения казались слепками со скульптур античности. В pas de trois жена Геракла, Деянира — Луиза Тосканини, ревновала его к пленной Иоле. Танцевальное действие, развиваясь, перетекало в pas de cinq, когда в него вмешивались Гилас — Лепи и Филоктет — Анджьоло Вестрис, сын и наперсник Геракла. По ходу этого действенного танца Иола и Гилас влюблялись друг в друга. Геракл ревновал к сыну, Деянира предавалась отчаянию, а Филоктет «тревожился, что страсть к Иоле мгновенно погубит многолетнюю славу Геракла».
От кульминации, в которой сталкивались и сплетались противоречивые переживания героев, действие, затихая, спускалось к финалу первого акта. Удалялась охваченная горем Деянира. Расходились по двум сторонам сцены Иола и Гилас. В мимическом диалоге Геракла и Филоктета «слава наконец торжествовала над любовью, а добродетель над сладострастием». Геракл вручал сыну его возлюбленную.
Урио так комментировал композиционную структуру сцены: «Эти танцы втроем, впятером, вчетвером и вдвоем, быть может, наиболее совершенны и доступны, благодаря их ясности и мастерству, из всего, что создано гением и воображением господина Новерра. Такую группу танцев позволю себе уподобить Столпу, поддерживающему все Здание, Столпу, от 'которого ответвляются все основные орнаменты. И особенно поразительно здесь то, о чем никто не догадывается: все Здание рассыпалось бы без поддержки такого Столпа». А
В следующей картине занавес открывал спящую Деяниру, которую и во сне терзали подозрения. Балетмейстер прибегал здесь к испытанным, как будто, приемам. С облаков спускалась Ревность, вооруженная кинжалами, змеями и прочими
109
атрибутами аллегорических персонажей. Но образность доно-веррова балета обретала в руках этого хореографа новый смысл. Действительно, подготовленная и «подпертая» реалистической силой предыдущих картин, она порывалась к грядущей многозначности балетных снов и видений. В перекличке пластических реплик аллегория оборачивалась метафорой, иносказанием о сложном внутреннем мире героини. Муки Деяниры, по словам Урио, вызывали у зрителей «ужас и сострадание». Еще переживая только что виденный спектакль, Урио писал: «Дрожь вызывала свирепость Ревности и разрушительное действие ее яда, отражавшееся на возбужденном лице Деяниры, в ее судорожном трепете, которые потрясали и терзали душу. Хотелось, чтобы кто-нибудь разбудил царицу и прервал муки, объяснив, что ее супруг подавил свою слабость».
Деянира посылала мужу мантию, не зная, что обрекает его на смерть. Раб вручал Гераклу этот дар на берегу моря, в разгар помпезного жертвоприношения. Новерр мастерски взрывал торжественный ритм праздника эпизодом смерти Геракла. Герой величаво облачался в мантию, которая словно прилипала к его телу. Тщетно пытался он сорвать ее: действие яда только усиливалось. В ярости Геракл сбрасывал в море раба, отталкивал Деяниру. Потом, «не в силах переносить муки, обезумев, он взбирался на жертвенный костер». В то время как его охватывало пламя, Деянира пронзала себе сердце кинжалом. «Господин Вестрис хорошо постиг природу этой ужасной сцены,— писал Урио,— казалось, он и впрямь испытывает острейшие муки: когда он располагался на костре и его охватывало пламя, он двигался так, что заставлял содрогаться от страха, как бы действительно не сгорел».1
Трагизм зрелища снимался апофеозом. Боги спускались с Олимпа и возносили Геракла на небо, а на земле обручались Иола и Гилас.
«Балет, подобный новерровой «Смерти Геракла», мог бы служить сопроводительным текстом к «Выражениям страстей души» Лебрена,— пишет Уинтер.— Если бы свисток в любой миг внезапно остановил исполнителей, образовалась бы живая картина. То был один из самых героических балетов Новерра».2 Несомненна мощная выразительность живых полотен «Смерти Геракла». Борьба разноликих страстей, двигаясь по восходя
1 [U г io t J.] Description, des Fates.. p. 69.
2 W i nt e r M. H. The Pre-Romantic Ballet, pp. 117—118.
110
щей, достигала почти натуралистических эффектов в сцепе смерти Геракла.
Идеи, выражающие дух времени, поистине носятся в воздухе. Пластические опыты Новерра перекликались со взглядами не одного Винкельмана, но и других крупных представителей немецкой эстетической мысли. Писатель-просветитель Готхольд Эфраим Лессинг отрицал каноны французского классицизма, к которому принадлежал Новерр. Однако в 1769 году по его инициативе «Письма» Новерра были изданы на немецком языке. Лессинг сам перевел первые шесть писем. Новерр на него не ссылался. Но девизы хореографа иногда поразительно напоминали суждения Лессинга о законах живописи и поэзии в «Лао-кооне» (1765), о законах сценического искусства в «Гамбургской драматургии» (1768). Таков, например, взгляд на трактовку сценического пространства, на место актера в общей пластической композиции действия. Оба отстаивали примат мастерства над неорганизованным чувством. Двух совсем непохожих современников равно увлекали вопросы режиссуры. Правда, по этим вопросам так или иначе высказывались самые разные деятели Просвещения. Перекличка эстетических находок Новерра с идеями Лессинга, несомненно, имела такой промежуточный источник, как труды Дени Дидро.
«МЕДЕЯ И ЯСОН»
В 1763 году в торжественной обстановке придворного праздника был представлен один из самых знаменитых балетов Новерра— «Медея и Ясон» на музыку Рудольфа. Балет шел после первого акта оперы Йомелли «Покинутая Дидона». Вторым балетом празднества был «Орфей и Эвридика», третьим — «Победа Нептуна»; музыку обоих написал скрипач придворного оркестра Флориан Деллер. Все три балета перекликались с ситуациями оперы Йомелли.
Совместная работа с этим композитором несомненно влияла на хореографа. «У Йомелли страсти господствуют далеко не во всей оперной композиции и лишь прорываются в аккомпанированных речитативах»,—пишет Т. Н. Ливанова.1
1 Ливанова Т. Н. Западноевропейская музыка XVII—XVIII веков в ряду искусств, с. 439.
111
В балетных композициях Новерра, согласно музыкальной эстетике времени, страсти также обретали полную силу в пантомимных речитативах, построенных с учетом ритмованного аккомпанемента.
Балет «Медея и Ясон» пластически варьировал тему царицы, оскорбленной и брошенной возлюбленным. Балет «Орфей и Эвридика» трактовал тот же мотив выбора, что стоял и перед Энеем—-героем оперы Йомелли. Балет «Победа Нептуна», следуя сразу после финала оперы, смягчал ее трагическую развязку. Дидона, сраженная отплытием Энея, погибала в охваченном пламенем дворце. Карфаген превращался в пепел. Густой дым валил к небу, уже покрытому облаками. Начиналась буря, и море заливало пожар. Облака рассеивались, всходило солнце, и, как писал Урио, «из лона вод поднимался дворец Нептуна, поражая своим великолепием и величием». Сам бог моря, покровитель Энея, возлежал на раковине, запряженной морскими чудищами. По приказу Нептуна начинался праздник, который «разительным контрастом к последним ужасным мгновениям оперы заставлял зрителя забыть судьбу несчастной царицы Карфагена и полностью отдаться наслаждению».1 Танцевальные выходы морских божеств, кордебалет сирен и нереид, наконец чакона Гаэтана Вестриса составляли этот балет-дивертисмент, венчавший события спектакля.
Жозеф Урио заявлял, что в постановке всех трех балетов Новерр превзошел собственную славу: «Чтобы уразуметь расположение и смысл каждого, достаточно прочитать программу. Но почувствовать силу и контраст волнений, вызываемых ими в душе, можно только увидев их в действии».2 Два последних балета Новерр сочинил по условиям контракта. Зато первый явился для него серьезной пробой: литературная трагедия излагалась на языке балетной пантомимы.
Миф об аргонавтах, включающий в себя историю Медеи и Ясона, издавна питал театральные зрелища. В XV и XVI веках интермедии и морески часто изображали в фигурном танце эпизод добычи золотого руна. Но драма, начиная еще с «Медеи» Еврипида, обращалась к трагическому финалу мифа. К нему обратился и Новерр. Три части балета вместе заняли около получаса. В первой коринфский царь Креонт склонял Ясона,
1 [U г io t Л] Description des Fites. . pp. 52—53.
2 Ibid, p. 39.
112
мужа колхидской царевны Медеи, к браку со своей дочерью Креусой. В душе Медеи зарождалась ревность. Во второй части чувства героев проходили несколько стадий. Наконец Ясон решался изменить Медее, и она призывала силы ада, задумав ужасную месть. В третьей части Медея отравляла Кре-онта и Креусу, закалывала двух своих сыновей и, насладившись местью и самоубийством Ясона, улетала на колеснице, запряженной драконами.
Новерр повторил неизвестный ему опыт Хильфердинга, но осмотрительней выбрал сюжет. Прямым источником могла быть трагедия Илера-Бернара Лонжепьера «Медея», периодически шедшая на французской сцене с 1694 года. Считая, что шедевры трагедии способны «послужить образцом для танцев в благородном жанре», хореограф предпочел пьесу, которая шедевром не была, но где поступки и переживания героев легче поддавались пластическому пересказу. Он воспользовался, например, сюжетным поворотом, за который упрекали Лонжепьера. «Чтобы сделать более извинительными преступления знаменитой колдуньи,— писал критик «Меркюр де Франс» о Лонжепьере,— он заставил поглупеть ее гонителей. Благоразумно ли поступает Креонт, позволяя Медее слушать свадебные гимны, которые, естественно, должны довести ее до последней крайности?» 1 Но мотивировка, наивная в драме, помогала Новерру доступно пояснить развитие событий в балете. Медея не столько слышала, сколько видела вместе со зрителями, как Ясон готовится стать мужем ее соперницы Креусы. Страсти героев, воплощенные в пластических монологах и диалогах балета, обретали наглядность, что отнюдь не противоречило вкусам времени. В ту пору театральное действие уже освобождалось от былой рассудочности классицизма, и Новерр, нагромождая катастрофы и убийства, шел в ногу с другими искусствами. События «Медеи и Ясона» сближали этот балет с кровожадной и сентиментальной «трагедией ужасов» в духе Кребийона-старшего, писавшего еще в начале XVIII века. Примером «кровавого» сюжета в опере можно назвать «Данаиды» Сальери.
Новерр не поскупился на мрачные и зловещие картины. Притом он с присущим ему мастерством пользовался эффектами контраста, то уводя действие в красочное торжество пира,
1 Цит. по: Р а г f a i с t. Histoire du the&tre franfois depuis son origins, jusqu’a present. Paris, 1748, t. 13, p. 339.
113
то заставляя зрителей умиляться: «Сцена, где Медея, сопровождаемая ее детьми, пытается вернуть сердце Ясона, колени которого они втроем обнимают, являет все, что может быть трогательного в таком жанре»,— писал Жозеф Урио.1 Страсти повелевали героями, но, при всей лаконичности и картинности, были невиданно сложны по меркам балета. В душе Медеи — Нанси Левье боролись любовь к детям и ненависть к Ясону — Вестрису. Медея плакала над детьми и все же закалывала их, чтоб отомстить неверному. Ясон, «одновременно нежный, честолюбивый, неблагодарный и коварный», колебался между любовью к юной Креусе — Луизе Тосканини и признательностью Медее, когда-то спасшей ему жизнь, но «при виде скипетра и царского венца», предложенного Креонтом, «забывал обо всем и с восторгом соглашался». Креуса оказывала помощь Медее, когда та падала без чувств. Все же она отнимала у Медеи мужа и у детей отца. Зрители плакали вместе с Медеей, дамы лежали в обмороке, когда та вызывала демонов и фурий. Но в этих испытанных приемах реализации волшебных образов, в смене пряных приправ, при внешней утонченности, крылось морализующее начало. Оно было важно для хореографа и проступало как итог. Трагическая ситуация добровольного выбора несла мысли о тщете неправедного величия и о том, что человек сам — виновник своей судьбы. Морализация отчетливо подавалась с балетной сцены.
Идеи облекались в безукоризненно изящную форму. Воплощая образы трагедии, Новерр строго придерживался «танца в благородном жанре». Отточив его в балетах на анакреонтические, пасторальные и экзотические сюжеты, хореограф умело воспользовался им в «Медее и Ясоне». Танец механический или технический возникал только в двух местах как краска фона. В начале Креонт давал в честь предводителя аргонавтов «череду блестящих празднеств, стремясь предоставить дочери больше поводов пленить Ясона своими прелестями». Слова Новерра не предполагали участия Креусы в характерных и де-михарактерных танцах. Она, как и другие главные герои балета, наблюдала с помоста «разнообразные зрелища борьбы, состязаний в беге и танце». В последующих картинах такого танца не было вообще. Он возникал опять лишь в финале, когда демоны и фурии, «группируясь на разный манер», пре
1 [Uгi ot Л] Description, des Fetes. , р 42.
114
следовали Ясона (III, 67 и сл.). Остальные эпизоды протекали в живописной пантомиме или в действенном танце.
Условную пластику оттенял условный костюм. Можно допустить, что Новерр уже в штутгартской постановке облегчил одежды героев сравнительно с одеждами персонажей «Ревности в серале». Во всяком случае, это хорошо видно на гравюре Франческо Бартолоцци, где воспроизведено pas de trois Медеи, Креусы и Ясона из лондонского спектакля 1782 года. Костюмы обеих героинь различались там по цвету и мелким подробностям отделки. Умеренно пышные юбки едва закрывали икры, рукава корсажей спускались до локтей. Пудреный парик Креусы был не так высок, как парик Медеи, из-под него спадали волосы — признак девичества царевны.1 Костюм Ясона (роль исполнял виртуоз танца Гаэтан Вестрис) давал движениям свободу. Облегающий колет с рукавами до локтей расходился от талии подобием юбочки, спускавшейся фестонами до половины бедра. К левому плечу был приколот сзади короткий плащ. Ноги были плотно обтянуты короткими панталонами, схваченными под коленями так, что вместе с чулками напоминали введенное позже трико. Парик с двумя буклями и тупеем не был отягощен украшениями. Так же лаконично, при всей живописности, набросал Боке костюмы аллегорических персонажей: Огня, Железа, Яда, Ненависти, Ревности и Мести. Эти унифицированные балетные костюмы, с одной стороны, эскизно воспроизводили модель современной бытовой одежды, с другой— были приспособлены к технике танца, более сложной у танцовщиков, чем у танцовщиц: недаром, как будет видно дальше, «двойные антраша» доверялись Цицерону, а не какой-нибудь героине. Женский танец включал мелкие заноски, но располагался преимущественно на земле. Притом все исполнители экспрессивно заостряли фиксируемый в позах жест. Цепь таких жестов слагалась в немую речь, красочно передавала смысл обращений и смену чувств.
Балет «Медея и Ясон» прошел во многих театрах Европы. Первым популяризировал его Гаэтан Вестрис, исполнитель роли Ясона. Он показал балет в Вене и Варшаве, в парижской Опере, а в 1771 году выдал в Лондоне за собственное
1 Та же деталь прически сохранилась на портрете русской танцовщицы Т. В. Шлыковой-Гранатовой. А поскольку в репертуаре Шлыковой была роль Креусы в спектакле крепостного театра графа И. П. Шереметева, можно предположить, что художник изобразил ее именно в этой роли.
115
сочинение. Новерр ставил «Медею и Ясона» в Париже (1780) и Лондоне (1782). Шел балет и в России. На петербургской сцене его показал Шарль Ле Пик (1789), а постановочную версию Джузеппе Соломони исполняли в 1790-х годах крепостные актеры графа Шереметева. В 1804 году Пьер Гардель последний раз возобновил «Медею и Ясона» для парижской Оперы.
Новерр фанатично верил в могущество действенного танца. Иногда он переоценивал его возможности, как переоценивают многие большие художники отшлифованные ими системы выразительных средств. Но, судя по успеху «Медеи и Ясона», Новерр имел на это право. Заслуга его была велика. Достаточно богатая техника благородного танца до тех пор существовала как сумма приемов. Новерр подчинил приемы содержательным задачам и регламентировал эстетически.
Гримм в 1771 году писал: «В балетах Новерра следует строго различать танец и ритмизованный шаг; танцуют только в моменты большой страсти, в решающие моменты; в сценах ходят, правда, в такт, но не танцуют. Этот переход от ритмизованного шага к танцу и от танца к ритмизованному шагу так же необходим в подобном спектакле, как в опере переход от речитатива к арии и от арии к речитативу; но танец ради танца допускается лишь тогда, когда танцевальная пьеса закончена. Вот основные правила зрелища, которое создавало чудеса в древности и идею которого возродил Новерр при дворах Германии».1
Идея чересчур категорично приписывалась одному Новерру. Хореографы Уивер, Салле, Хильфердинг, Анджьолини предпринимали и до Новерра, и одновременно с ним опыты того же рода. Все-таки немалая доля справедливости тут была. Подобно Глюку, установившему новые нормы оперного спектакля, Новерр определил эстетическую природу действенного танца, исполняемого в моменты большой страсти, и упорядочил его форму для балета своего времени. Форма же, опробованная в балете «Ревность в серале» и других ранних опытах Новерра и окончательно закрепленная в «Смерти Геракла» и в «Медее и Ясоне», была по-своему так же условна, как условны формы действенного классического танца в балетах XIX века и новые его формы в балетах XX века.
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t 7, pp 176— 177.
116
И. И. Соллертинский верно заметил, что в «Париже балеты Новерра почти на всем протяжении его деятельности расценивались в лучшем случае как „дискуссионные"». Он ссылался на несколько источников, заявляя: «Широким распространением пользуются остроты, будто балетмейстер способен превратить даже «Анналы» Тацита в балет, где танцует все Римское царство, где Сципион и Ганнибал образуют pas de deux, Канны и Карфаген инсценируются кабриолями, Цицерон говорит перед сенатом двойным антраша, а под конец Брут ритмично закалывает Цезаря. Новерра упрекали в том, что он собирается передать пируэтами максимы Ларошфуко; Мари-Жозеф Шенье в издевательских стишках писал о том, что Новерр— вопреки здравому смыслу — заставляет танцующую Медею ритмично убивать своих, также танцующих детей».1
Цитаты подобраны эффектно и звучат убийственно. Все же их следовало бы подвергнуть критическому анализу.
Соллертинский тут же добавлял, что шутка насчет инсценировки «Анналов» Тацита появилась в анонимном труде «Замечания о музыке и танце» без упоминания имени Новерра, «но с прозрачным намеком на него». Догадка вполне вероятна, если учесть, что «Замечания» были опубликованы в Венеции в 1773 году. Ведь как раз в том же году появились «Письма» Гаспаро Анджьолини, положившие начало полемике между его сторонниками и сторонниками Новерра. Не исключено, однако, что мишенью могла послужить и деятельность Анджьолини: ведь/он, расходясь в вопросах теории с Новерром, на практике шел тем же путем.
Иное дело — поэма Мари-Жозефа Шенье «Опыт о принципах искусств». Она написана не раньше конца 1793 года. Уточнить дату важно. Годы работы Новерра в парижской Опере и время сочинения поэмы решительно не совпадают. Новерр покинул Оперу в 1779 году, когда во Франции господствовал монархический режим. Поэма написана на исходе французской революции. Это существенно для оценки выраженных в поэме взглядов. В ту пору когда появилась поэма, уже сознавался крах революционных надежд и глубокая разочарованность сменяла веру в светлое будущее человечества. Просветительские идеалы теперь казались устарелыми, могли раздражать. Эти
1 Соллертинский И. И. Жизнь и творчество Новерра.— В кн.: Классики хореграфии, с. 33.
117
загубленные идеалы и провожал усмешливым словом своей поэмы Шенье. Заодно с былыми «претензиями» Талии и Мельпомены он осуждал и «дерзостные порывы» Терпсихоры к героике. А тут уж лучшую пищу сарказму, естественно, давали балеты Новерра: трагический миф о Медее и Ясоне, историческая трагедия «Горации и Куриации». Поэт решительно заявлял:
Смысл в балете сыскать был бы очень я рад. Странно мне наблюдать пляс Ясоновых чад, Нож заносит, танцуя, преступная мать, Заставляя ритмично их дух испускать...
Если трем братьям римлянам славной судьбой Суждено трех альбанцев звать на праведный бой,— Пристало ль им, свой жребий избранный верша, Решать судьбу двух стран посредством антраша? ..
Перевод Д. Золотницкого
Осуждая старый стиль, Шенье тут же предлагал образцы нового. «Нет, уважайте вкус, как делает Гардель»,— советовал он и прямо порицал Новерра. Он упрекал его за «выспренний тон», в каком тот «наставлял Европу». «Почитая всеобъемлющим свое искусство», Новерр, по словам Шенье, был «способен заставить плясать Иоада, Федру или Мизантропа». Образцами хорошего вкуса Шенье считал череду персонажей из современного репертуара парижской сцены. Он называл обоих главных героев балета «Психея и Амур», а также Париса, «восхищенно присуждающего Венере приз красоты» в балете «Суд Париса». Первый из этих балетов Пьер Гардель поставил в 1790-м, второй—в 1793 году. Притом Шенье, как видно, не знал, что до Гарделя эти сюжеты уже испробовал Новерр. Но для поэта было значительно другое. «Суд Париса» напомнил ему о вечных ценностях любви и красоты, а герой его, царевич Парис, символизировал искусство, способное сберечь эти ценности в пору мировых катастроф. В тот же ряд Шенье поставил «Зефира, которого пленяет Флора»-—персонажей «Психеи и Амура» Гарделя, олицетворяющих светлые начала природы. Официальный хореограф Оперы, Гардель участвовал в постановках революционных празднеств на площадях Парижа. На сцене театра он предпочитал балеты, проникнутые тоской по романтическому идеалу. Именно такие балеты должны были казаться поэту-современнику вершинами художественного вкуса,
118
выразителями веяний воцарившегося в ту пору преромантизма. А преромантизм отрицал положительные идеалы эпохи Новерра, способы и приемы их воплощения. Отрицатели же охотно пускают в ход стрелы иронии...
Другое дело, что и в звездный час своей славы Новерр давал поводы для строгой критики. Он действительно посягал на многое, обновляя условность пластики. Это не означало, что он ни в чем не сомневался. «Примечательно, что Новерр не включил ни в одно из опубликованных собраний своих трудов двух предисловий к миланским либретто, датированных 1775 годом. Он обсуждал там ограниченность выразительных средств пантомимы, вообще подвергал сомнению и критиковал возможности пантомимы»,— пишет Уинтер. Таково, в самом деле, предисловие к балету «Рено и Армида». Но другое — цитируемое исследовательницей предисловие к балету «Евтимий и Эвхариса» — публиковалось в петербургском издании 1803— 1804 годов.
В первом Новерр вопрошал: «Разве могу я выразить на немом языке Пантомимы те красоты стиля, те благородные сравнения, то возвышенное красноречие, которые являются прекрасными дарами поэзии?»1
Во втором хореограф мужественно признавался: «Чем больше я тружусь, тем ясней ощущаю свою несостоятельность. Сделав это признание, несомненно не относящееся к тщеславным, я считаю себя обязанным и впредь прибегать к программам. Но, установив собственную слабость, я должен и признать с той же искренностью, что пантомима — самое ограниченное из всех подражательных искусств». Новерр пояснял: «Танец — это искусство па, грациозных движений и красивых позировок. Балет, который заимствует у танца часть его очарования,— искусство упорядоченного рисунка, форм и фигур. Пантомима остается исключительно искусством чувств и душевных порывов, выраженных жестами». Он считал, что созидательный талант должен установить равновесие между этими тремя слагаемыми, объединив их в форме действенного балета или драматического балета-пантомимы. И заключал: «Со всей честностью я признаюсь, что программы служат истолкователями пантомимы, все еще находящейся в младенчестве: они излагают исторический или мифологический замысел и поясняют то, о чем танец говорит сбивчиво» (III, 53 и сл.).
1 Цит. по: W i nt е г М Н The Pre Romantic Ballet, p 120.
119
Постановщик «Медеи и Ясона» находился в расцвете творческих сил. Он был известен как хореограф-режиссер, автор нашумевшего теоретического труда и превосходный учитель. К нему обращали взоры крупные деятели литературы и искусства. Он и сам искал связей с выдающимися умами современности. В том же 1763 году, например, хореограф задумал балет по девятой песне «Генриады» Вольтера и попросил автора разрешить необходимые переделки. Он жаловался, что покинул родину, не признанный директорами Оперы, хотя и предлагал работать даром. К письму был приложен экземпляр книги Новерра. Вольтер дал согласие. Постановка осуществилась, и переписка продолжилась. В 1765 году Новерр по просьбе сво- , его знаменитого корреспондента послал ему два длинных письма, где характеризовал Гаррика и наблюдательно рисовал жизнь Англии. В том же году Гримм в программной статье «Лирическая поэма» негодующе писал: «Если во французской Опере балет нужен, чтобы потанцевать, а не для того, чтобы подражать природе танцем, не удивляешься посредственному уровню танцевального искусства во Франции и понимаешь, почему француз, полный талантов и замыслов (г. Новерр), должен создавать балеты вдалеке от родины».1
В 1764 году штутгартский театр показал оперу Йомелли «Демофонт» с мифологическими балетами Новерра «Смерть Ликомеда» и «Гипермнестра, или Данаиды». В последнем балете Новерр отдал дань своему пристрастию к грандиозным массовым эффектам. «Мне говорили, что в Штутгарте Новерр имел смелость представить жен, которые одним ударом перерезали горло сорока мужьям,— писал граф Пьетро Верри.— Сцена была затоплена кровью. Месть, угрызения совести, отчаяние и ярость смешались там в неописуемую путаницу, и спектакль закончился разрушением и исчезновением декорации. Такого рода убийства хороши для ограниченных, нуждающихся во встряске людей. Они подобны горчице для притупленного вкуса».2 Порицание было не вполне беспристрастным, поскольку принадлежало стороннику Анджьолини и было сформулировано через десять лет после премьеры «Гипермне-стры», в разгар полемики двух хореографов. Во всяком случае, «потоки крови» существовали только в воображении рас
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 15, p 397.
2 Цит. no' Toscanini IT. Gasnaro Angiolini— Opera News, v. 19, 1955, April, No 22, p 9.
120
сказчика: гибель сорока мужей Данаид должна была воплощаться в группах и позах весьма условного характера.
В 1765 году спектакли вюртембергского двора были перенесены из Штутгарта в Люксембург, где построили огромный оперный театр. На открытии шел «Демофонт». В 1766 году Новерр показал там балеты «Праздник Гименея» и «Похищение Прозерпины». А в январе 1767 года закончился его контракт.
НОВЕРР В ВЕНЕ
Новерр подписал ангажемент в качестве хореографа двух венских театров и учителя танцев императорской семьи, где его ученицей стала Мария-Антуанетта, будущая королева Франции.
Венский музыкальный театр отличался высокой культурой. Там шли оперы Перголези, Паэзиелло и Чимарозы, Йомелли, Скарлатти и Гайдна, проводил свою реформу Глюк. Оркестр возглавляли композиторы Иозеф Старцер и Франц Аспель-майр. Балетная труппа обладала солидными традициями Хиль-фердинга, а в сфере действенной пантомимы с ней еще недавно работал Анджьолини, теперь уехавший в Россию.
Приезду Новерра в Вену предшествовала премьера его «Медеи и Ясона» в постановке Вестриса на сцене Бургтеатра. Новерр привез из Штутгарта многих танцовщиков и учеников. Вместе с танцовщиками Вены они составили труппу из семидесяти двух человек. Балеты входили в каждый спектакль, и в помощь Новерру их ставили также танцовщики Казелли, Гульельмо и другие.
В сентябре 1767 года Новерр показал в один вечер с немецкой комедией балет «Смерть Геракла», где главную роль исполнил Вестрис. Это говорило о новых взглядах на балет, о его продвижении в иерархии смешанного спектакля. Балет уже не служил развлекательной связкой между актами оперного представления. Напротив, ему предоставлялось почетное место трагического зрелища рядом с пьесой комедийного жацра.
В декабре Новерр встретился с Глюком. Хореограф, вероятно, тщательно готовился к встрече. Во-первых, он не мог не знать о великом таланте композитора и о том уважении, каким Глюк пользовался в Вене. Во-вторых, ему предстояло доказать
121
Глюку, что тот найдет в новом сотруднике художника, способного проникнуться его идеями с той же готовностью, что и Анджьолини, и с не меньшими результатами.
Первым опытом были танцы для «Альцесты». Новерр поставил гротескный балет, венчавший эту оперу Глюка. Но добрые отношения композитора и хореографа скрепило непредвиденное обстоятельство, благодаря которому Глюк проникся доверием к Новерру и по достоинству оценил его. «Письма о танце» живо рассказывают о том, как их автор выручил Глюка. Глюк попросил его научить хористов двигаться, а не стоять, как статуи, по бокам сцены во время действия «Альцесты». Нетерпеливый композитор пробовал добиться этого сам, но тщетно. «Его отчаянье натолкнуло меня на мысль,— писал Новерр.— Я посоветовал разбить хоры и спрятать их в кулисах так, чтобы они не были видны зрителям, а вместо них цвет моего кордебалета будет делать подходящие к пению жесты и так следовать за действием, что зрители поверят, будто движущиеся фигуры являются певцами. Глюк чуть не задушил меня от радости. Он нашел мой замысел превосходным, и действительно, воплощение создало полнейшую иллюзию» (II, 160—161). Любопытно, что полтора века спустя сходный опыт проделал Фокин, заменив танцовщиками певцов в «Золотом петушке» Римского-Корсакова. А еще позднее Стравинский сочинил «Байку про Лису, Кота, Петуха да Барана», где балетные актеры должны мимически воспроизводить тексты, исполняемые певцами.
Затем Новерр поставил балеты для опер Глюка «Парис и Елена» и «Орфей и Эвридика».
В посвящении к «Парису и Елене», пишет Анна Эмили Аберт, Глюк «говорит о своем стремлении сделать ясным музыкальное различие между спартанцами и фригийцами, что, очевидно, было усилено хореографией, сочиненной самим Но-верром».1 Но Глюк, целиком захваченный обновлением оперы, а может быть, и опасаясь слишком тесного содружества со строптивым и властным Новерром, музыки для его балетов не сочинял. К тому же Новерр несколько лет кряду был занят не одной художественной, но и административной деятельностью. Его работа в Вене включала также устройство маскарадов и придворных празднеств и руководство созданной им театраль
1 New Oxford History of Music. N. У., 1973, v. 7, p. 44.
122
ной школой. Как представитель венского театра, Новерр ставил балеты в Нойштадте и Милане в 1770—1771 годах.
В 1772 году в Вене состоялась премьера «Отмщенного Агамемнона» Новерра на музыку Аспельмайра. Хореограф достиг вершины своих поисков. Он воплотил в этом многоактном драматическом балете мечты, тревожившие его после знакомства с Гарриком и через Гаррика — с трагедиями Шекспира.
В «Отмщенном Агамемноне» хореограф собрал цикл трагедий, нарушив два из трех единств классицизма. Местом действия оставался все время царский дворец в Микенах. Но само действие растягивалось на годы и не было единым. Оно начиналось возвращением Агамемнона после осады Трои и его гибелью, включало эпизоды с Электрой, достигало вершины в сцене смерти Клитемнестры и Эгиста от руки Ореста и заканчивалось картиной мук Ореста: его пугали эвмениды, терзали Преступление, Раскаяние и Отчаяние, преследовал окровавленный призрак матери.
Новерр в «Оправдательных размышлениях», предпосланных этой пятиактной пантомимной трагедии, объяснял, что «балет — не драма и не может подчиняться узким правилам Аристотеля». Больше того, «всеми этими правилами, стесняющими воображение, постоянно пренебрегают современные писатели. Прославленный Шекспир, блистательный гений английской сцены, всегда переступал через них» (III, 145 и сл.).
Новерр совершал смелый шаг. Даже почитаемые им Вольтер и Гаррик не рисковали так решительно. Вольтер, восхищаясь Шекспиром, называл свободное развитие его пьес принадлежностью «варварского века». Гаррик, пропагандируя Шекспира, умерял эту свободу в режиссуре собственных спектаклей. Вместе с тем Новерр, увлеченный новизной своих идей, упустил из виду необходимость сюжетных ограничений. Попытка охватить в одном балете всю легендарную хронику дома Атридов поневоле обрекала его на иллюстративность. Скрещение разных тем и судеб не позволяло углубленно проследить духовную жизнь героев. Например, образ Кассандры, оплакивающей прошлое и провидящей будущее, терял сложность. Как бы предлагая зрителям держать в уме подоплеку и философский смысл кровавых событий, хореограф давал эффектные кульминации, одну лишь внешнюю контрастность, а следовательно, только прямой их итог. Он понимал уязвимость замысла в этом плане. О том свидетельствовала попытка оправдаться в преди
123
словии к балету и отослать в область драмы «обороты мыслей», «рассуждения в монологах и диалогах». Критика все-таки появилась в лице хореографа Анджьолини, тоже практика и теоретика балета. А Новерр, пылко отбиваясь от противника, так и не разбил его упрека в том, что ищет невозможного, требуя передать в пантомиме «идеи прошедшего и будущего». Не разубедил Новерр своего оппонента и в некоторых других случаях, например, не опроверг такого его резонного сомнения: «Не знаю, как сделать внятной мысль пророчицы Кассандры, когда вы заставляете ее увидеть лишь умственным взором «залитый кровью дворец, эвменид, сопутствуемых Преступлением, Местью и Ненавистью, Смерть, которая следует за этим адским войском, готовая разить, и проч.» 1 Новерру пришлось смолчать: ведь он, как теоретик, держался того же взгляда, что и Анджьолини. «Пантомима не способна выразить что-либо, кроме настоящего момента,— писал он в своей знаменитой книге.— Прошедшее и будущее не могут быть описаны жестами. Балетмейстеры, пытающиеся преодолеть эти препятствия, ударяются в галиматью» (II, 75). Балетному театру предстоял еще долгий путь, пока он научился решать подобные задачи.
При всех погрешностях, «Отмщенный Агамемнон» содержал и подлинные художественные находки. Верный принципам пантомимы, оживляющей живопись, Новерр талантливо эти принципы утверждал. В «Размышлениях» он вновь объявлял, что хореограф призван, как живописец, соблюдать пропорции, гармонично размещать группы, умело пользоваться контрастами. Его задачи — верность местному колориту, пышность зрелища, неожиданные, но хорошо подготовленные эффекты. Тут же Новерр признавался, что в «Отмщенном Агамемноне» он вовсе отказался «от механического танца, чтоб ярче заблистала пантомима».
Пантомима поистине блистала во многих местах «Отмщенного Агамемнона». Торжественно маршировали по сцене войска победителя Трои, их приветствовал ликующий народ. А на этом фоне контрастно располагались фигуры гордого героя, затаившей ненависть Клитемнестры, скорбной пленницы Кассандры. В череде выразительных поз Электра оплакивала смерть отца. Сцена, где Орест убивал Клитемнестру, включала, по словам Новерра, два хора. Пластический хор размещался на сцене,
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, pp. 35, 37.
124
а за кулисами находился поющий хор. Орест убивал мать, думая, что убивает ее любовника Эгиста, которого та заслоняла своим телом. «В этот момент,— пояснял Новерр,— действующий хор отшатывался, дрожа от ужаса и потрясения, а поющий хор произносил: «О горе! О страшное преступление! Ах, боги! и т. д.» (II, 167). Так смело сочетал хореограф в действии выразительные средства пения и пластики, до тех пор формально соседствовавшие в зрелищах музыкального театра. Потом, как на античных барельефах, скорбные группы женщин пластического хора склонялись над телом Клитемнестры. И опять-таки контрастно их поникшим позам в противоположных точках сцены замирал ужаснувшийся содеянному Орест, воздевали руки Эфиза и Электра, «словно кричащие: «Да ведь это наша мать!».
Так или иначе, в пантомимных трагедиях балетный театр совершил важный шаг: он завоевал право касаться серьезных тем средствами собственного искусства. Новерр же — и для своего времени, и в широком историческом плане — остался непревзойденным мастером пантомимного действия.
Вскоре в созданный им репертуар вошли балеты «Ифигения в Тавриде» (продолжавшая «Отмщенного Агамемнона») и «Апеллес и Кампаспа», оба на музыку Аспельмайра, «Адель де Понтье» и «Горации и Куриации» на музыку Старцера, а также другие многоактные пантомимы. В них литературная основа объединяла программную музыку, живопись и хореографию в тесный союз.
Весной 1775 года в Вене были расформированы итальянская опера и балет. Тогда Новерр взял на себя и коммерческий риск. Как пишет Дерик Линхэм, «Новерр всегда покровительствовал скромным членам кордебалета, а те уважали его и с интересом выступали в его спектаклях. Теперь он предложил оставить за собой труппу на два месяца, чтобы актеры успели подыскать другие ангажементы. Он взял на себя все расходы несогласия императора, открыл 17 апреля сезон в Бруннерхофтеатре. До 17 июня там прошли тридцать две оперы Госсека, Монсиньи, Гретри, Филидора, Хиллера, Вольфа, Глюка, Биклера, Холли и Баумгартнера и сорок девять балетов. И хотя пение оставляло желать лучшего, балеты привлекали толпы зрителей».1 Новерр отказался от оплаты своих трудов, но к концу сезона труппа дала спектакль в его пользу.
1 Lynham D. The Chevalier Noverre, p 80.
125
БАЛЕТНЫЕ КОМЕДИИ
Как бы ни исполнялись оперы, перечисленные Линхэмом, они привлекали публику, а главное, должны были интересовать Новерра. Список открывают имена композиторов — создателей французской комической оперы. Жанр царил тогда во всех музыкальных театрах Европы и повлиял на разработку Новерром комедийной линии балетного спектакля. По сути дела, балеты-комедии вошли в его репертуар даже раньше балетов-драм. Воплощая образы трагедий в балете, он оглядывался на драматическую сцену. Связь со смежным театральным жанром оправдывалась тем, что драма классицизма пользовалась почти балетной пластикой. Эта величаво укрупненная, подчеркнуто округлая пластика была там разве что статичнее и не подчинялась ритмической упорядоченности, за которую ратовал Новерр. Но цельность балета формировалась и в малом жанре. И там, еще до расцвета комической оперы, Новерр опирался на образцы прошлой и современной драматургии, порой свободно их контаминируя и давая волю собственной неистощимой фантазии.
Позволительно думать, что интерес Новерра к комедии был вызван чтением Дидро, который в «Беседах о „Побочном сыне"» предложил свой проект комедийного балета о молодой крестьянской паре. Во всяком случае, один из ранних балетов Новерра—«Ревнивец без соперника» был сочинен через два года после выхода «Бесед» Дидро. Он был поставлен в Лионе в 1759 году, как считают, на музыку Гранье. В «Письмах о танце» Новерр указал первоисточники. Для начальной сцены он заимствовал эпизод игры в триктрак из «Отца семейства» Дидро. Вторую сцену придумал сам. Третья сцена была подсказана двумя строчками из «Магомета» Вольтера. Четвертая взята из «Любовной досады» Мольера. Пятая — из «Тартюфа». Шестая принадлежала Новерру. На седьмую его вдохновил пассаж из «Андромахи» Расина, а на восьмую — из «Радомиста и Зенобии» Кребийона. Пестрый с виду сплав давал единство, ибо Новерр переплетал не сюжетные линии, а отдельные положения, скрепляя их собственными логическими вставками (см. I, 223—230). Всплески чувств, активные, стремительные действия легко перелагались на язык пантомимы.
Новерр писал о «Ревнивце без соперника»: «Как видите, сударь, балет этот, в сущности, всего лишь набросок, который я захотел сделать, чтобы испытать вкус публики и убедиться
126
самому в возможности дружбы трагического жанра с танцем». Понятие «трагический жанр» хореограф здесь применял сознательно и оправданно. Хотя в целом «Ревнивец без соперника» оставался комедией, некоторые его сцены предвещали поэтику хореотрагедий Новерра. Не случайно автор «Писем о танце» предупреждал читателя о том, что в «Ревнивце» имеются и поединки и кинжалы. «Мизантропа называют человеком с зелеными лентами, меня, быть может, назовут человеком с кинжалами»,— добавлял он. Его главной задачей, как, впрочем, и задачей Дидро, здесь было «трогать сердце и воздействовать на душу» зрителя. Потому, отталкиваясь от конкретного балета, он развивал свою извечную тему: «Слезы, которые публика расточала во многих сценах моих балетов, живые чувства, вызванные этими балетами, убеждают меня в том, что если я еще и не достиг цели, то, по крайней мере, открыл ведущий к ней путь».
Впрочем, смешивая жанры, поднимаясь до пафоса и вводя чувствительные эпизоды в ситуации, того, казалось бы, не предполагавшие, Новерр опять-таки откликался на зов времени. Чувствительность наступала во всех видах и жанрах театрального искусства. Чувствительности Новерр оставался верен и в- будущих комедиях-балетах.
Хореограф пристально следил за находками смежных театральных искусств, охотно переселяя их в сферу балета. На него несомненно влияла так называемая «мещанская драма», все больше теснившая трагедию. Успехи модного жанра отметил Д. И. Фонвизин, посетивший Париж в 1778 году. Знаменитый русский комедиограф писал П. И. Панину: «Комедия возведена здесь на всевозможную степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною исто-риею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенным... Напротив того, трагедию нашел я посредственною. По смерти Леке-невой она гораздо поупала».1 Падение трагедии было вызвано скорее сменой мировоззрений и вкусов, чем смертью великого трагика Лекена. А Новерр с проницательностью подлинного художника ощущал перемены и отзывался на них. Не прошел он и мимо побед комической оперы, тем более что на сцене парижской Оперы одновременно с ним стал подвизаться его соперник — балетмейстер Максимилиан Гардель.
1 Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т. М.— Л., 1959, ? 2, с. 477.
127
Комическая опера, занесенная в Париж итальянскими мастерами, быстро обрела там французский национальный характер Искусство, в центре которого стоял простой человек с его интересами и делами, легко привилось на почве, взрыхленной эстетикой энциклопедистов В 1760 х годах комическая опера отпочковалась от бытовой комедии и водевиля, развиваясь как самостоятельная художественная форма Вместе с тем ее ценность возросла благодаря вниманию к литературной стороне спектаклей, всегда заботившей французов Уже итальянец Эджидио Дуни, посетивший Париж в середине XVIII века, понял это и нашел соавтора в лице восприимчивого поэта и во девилиста Шарля-Симона Фавара. Период расцвета отметило появление еще одного сценариста — Мишеля-Жана Седена В ряду композиторов, посвятивших себя новому жанру, выдвинулись Пьер Монсиньи, Никола Далейрак, Франсуа Филидор, Андре Гретри и многие другие.
Балетные комедии ставил уже предшественник Новерра, австрийский хореограф Франц Хильфердинг. Выходец из семьи ярмарочных актеров, он оставался верен приемам народного театра в своих коротких бытовых сценках, рисующих эпизоды из быта городских ремесленников и крестьян Кроме того, Хильфердинг опирался на венскую комедию, фарс, а также на прикладные искусства, в частности на изделия из фарфора Он, скорее интуитивно, вдохновлялся близлежащими темами и образами, ища там ключ к своим комедийным балетам. Новерр сознательно осваивал открытия нового жанра Он начал ставить балетные комедии на сюжеты комических опер и следовал в том вкусам эпохи, поощрявшим переводы с языка одного искусства на язык другого Но чуткий к запросам времени мастер отнюдь не ремесленнически пользовался модным материалом. Тематика комической оперы привлекала его возможностью создать и в балете непритязательные веселые коллизии, обрисовать средствами своего искусства свежие характеры.
Одному из опытов Новерра в жанре комедии суждено было оказаться звеном в длинной цепи сходных балетных постановок Сам хореограф трижды возвращался к полюбившемуся сюжету Знаменитый роман Сервантеса давно привлекал деятелей европейского театра вообще, и вряд ли можно установить, кто первым к нему обратился
Долгий путь, например, насчитывала традиция, следуя которой, самые разные авторы выбирали из множества новелл, прослаивающих ткань романа, трагикомическую историю Кит-
128
терии и Басилио. «Драматические анналы, или Общий словарь театров» указывал, что «в 1723 году Готье показал трехактную пьесу под названием Базиль и Китри, или Свадьба Гамаша».1 Но и пьесе Готье могли предшествовать инсценировки этого эпизода из «Дон Кихота».
Неоднократно и по-разному пользовался театр главами романа, посвященными рассказу о том, как Дон Кихот гостил в некоем замке. В сборнике пьес и сценариев Фавара содержится «Комический балет в трех актах Дон Кихот у герцогини, представленный впервые на сцене Королевской академии музыки 12 февраля 1743 года».2 Балет с музыкой Буамортье, по старинным правилам, которые еще удерживались в практике ярмарочного театра, являл собой смешанный жанр, близко напоминающий жанр современного мюзикла. Он начинался сценой в лесу, где слышался шум герцогской охоты. На сцену вбегал Санчо, преследуемый медведем, и звал на помощь в стихах. Дон Кихот убивал медведя, а потом тоже читал стихи. Затем он пел о своей любви к Дульцинее, за которую придворные герцогини выдавали упирающуюся крестьянку. Следовала вставная сцена— хор и танцы пастухов. Во втором акте Дон Кихота обманывали, приводя его в якобы заколдованную пещеру. Одна из дам изображала королеву Японии, карлик превращался в великана, на разных местах сцены возникали «заколдованные фигуры в разных позах». Затем «симфония объявляла, что чары кончились», и это давало повод для разных песен и танцев. По ходу «балета» действие все больше обрастало трюками: демоны избивали Санчо, потом все делали вид, будто он превратился в обезьяну, и, наконец, после множества перемен, зрелище заканчивалось пением и танцами японцев и японок.
Во второй половине XVIII века разные события «Дон Кихота» послужили материалом для композиторов комических опер. Возможно, что сюжетно новерров «Дон Кихот» опирался на комическую оперу Филидора «Санчо Панса» (1762). Опера могла быть известна Новерру, следившему за театрами Парижа, когда в 1768 году он сочинил для Вены этот балет с музыкой Старцера. Там же, в Вене, он показал в 1773 году балет «Приключения Санчо Панса на острове Баратория».
1 Annales dramatiques, ои Dictionnaire general des Theatres. Paris, 1811, t. 8, p. 242.
2 Thedtre de M. Favart ou recueil des Comedies, Parodies et Opera-Comiques qu’il a donnes jusqu' a ce jour... Theatre de la Foire. Paris, 1763, t. 6.
9 В Красовская
129
А в 1780 году, в Монтрэ, поставил вместе с Добервалем сцены по мотивам «Дон Кихота». Название второго балета указывает, что хореограф выбирал из романа Сервантеса эпизоды, связанные с образом Санчо Панса, то есть те же, что выбрал для оперы Филидор.
Несомненно одно. В подходе к сюжету Новерр опирался на комическую оперу с ее серьезным взглядом на способы и приемы воплощения комического. Ему был важен строгий отбор жанровых признаков, цельность и чистота жанра. Как раз тут вступало в силу его резкое неприятие буффонады, дань которой так откровенно отдавал балет Фавара. Иное дело, что впоследствии отдельные ситуации и характеры его комических балетов перекликались с похожими ситуациями и характерами водевилей Фавара. Однако, скорее всего, он брал их из вторых рук, то есть через посредство комической оперы.
Так же вероятно, что жанровые особенности музыки комических опер влияли на жанр новых хореографических комедий. Персонажи опер должны были свободно приживаться на балетной сцене, легко переходя из песенной стихии в плясовую. Ведь композиторы этих опер широко обращались к музыке современного быта с ее песенно-плясовыми мотивами. И наоборот, хореограф мог брать за образец народные напевы, чтобы выстроить на их основе пластические характеристики своих героев. Музыкальный мотив, возникая и повторяясь по ходу действия, скорее всего, сам по себе не изменялся. Он служил как бы визитной карточкой героя, обозначал его принадлежность к сословию, впервые ступившему на балетную сцену, и каждый раз выражал его чувства и сопровождал его поступки. Оттого и хореография, при своей условной грациозности, набирала естественность и простоту. Сходство должно было обнаруживаться также в приемах композиционной структуры. Действие комической оперы протекало в смене разговорных диалогов и завершенных по форме вокальных номеров: арий, романсов, небольших ансамблей. Действие комического балета состояло из пантомимных мизансцен и танцев: сольных, дуэтных, ансамблевых. Обычно финал балета представлял собой праздник, к которому, как и в комической опере, все торопливей устремлялось действие. Там накапливались дивертисментные танцы, венчая благополучную развязку. Балет дольше оперы хранил приметы жанра. Следы традиции заходили в XIX век. Одним из поздних отзвуков можно считать московскую постановку «Дон Кихота» Минкуса — Петипа (1861), где примечательно смешались два
130
разных сюжета, заимствованных из романа Сервантеса: история Киттерии и Басилио и эпизод пребывания Дон Кихота в герцогском замке.
По мере того как в комическую оперу стали проникать элементы сентиментализма, интерес к патриархально-фермерским сюжетам проявлял и Новерр. В его балетах открыто комедийные темы также отступали под воздействием «мещанской драмы» с ее защитой моральных достоинств и прав простых людей. Это опять-таки не означало, что Новерр слепо подражал жанру смежного сценического искусства. Веяния эпохи хореограф воспринимал через общее развитие литературы и эстетики. Не будь этого, балет не вызвал бы отклика передовых людей времени.
В 1776 году Гримм отразил в «Литературной переписке» взгляд на два направления современной хореографии. В развернутой статье о балете Новерра «Апеллес и Кампаспа» он писал: «Жанры грациозный, пасторальный и эротический могу) представить для танца неизмеримо больше счастливых сюжетов, нежели жанры героический, патетический и слезливый».1 Подобное разграничение жанров могло показаться запоздалым. Оно не было бесспорным по существу дела и не подтверждалось практикой новаторов хореографии, прежде всего Новерра. Жанры были подвижнее и заключали между собой свободные союзы, примером чему как раз мог служить балет «Апеллес и Кампаспа», о котором подробнее будет говориться ниже. Однако самим фактом предпочтения признавались возможности нарождавшейся новой эстетики сентиментализма, прогрессивно сменявшей нормы классицизма. Применительно к балету пантомимные трагедии до известной степени сужали права танца, тогда как в первых же опытах сентиментальной балетной драмы патетика чувств становилась принадлежностью зрелища, пронизанного танцем. В преддверии сентиментализма плодотворно воздействовали на балет нравственные и творческие идеи Руссо: поэтизация естественных чувств и отношений, близких природе, превосходство цельной, прямодушной натуры над натурой, исковерканной цивилизацией, и т. п. Руссоистские мотивы отозвались в некоторых балетах Новерра, появившихся в промежутке между выходом «Юлии, или Новой Элоизы» Руссо (1761) и образцовой повести французского сентиментализма «Поль и Виржиния» Бернардена де Сен-Пьера (1787).
1 Correspondence Utteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, p. 220.
9*
131
Отголоски идей руссоизма и эстетики сентиментализма звучали в балете Новерра «Белтон и Элиза» (композитор неизвестен), который относят к 1771 или к 1775 году. В кратком предисловии Новерр сообщал, что сюжет отчасти заимствован у аббата Рейналя и «основан на двух исторических фактах. Первый — история молодого английского офицера, который, соблазнив дочь Кацика, имевшую от него много детей, замыслил и выполнил позорный план продажи ее иностранным купцам. Второй — решение обитателей Пенсильвании дать свободу своим рабам и оставить при себе лишь несколько свободных слуг» (IV, 225). Балет имел счастливую развязку: прекрасная индианка своей преданностью возвращала себе сердце ветреного любовника. Сюжетная линия «Белтона и Элизы» развивалась в пантомиме. Но пластику пантомимы насыщали элементы живой этнографии и быта. Отражались в балете и мотивы колониального неравенства. В начальной сцене квакеры и английские офицеры развлекались карточной игрой и выпивкой, тогда как на плантации работали негры и негритянки. Новерр дал любопытное примечание к этому месту программы: «Сцене можно придать оживленное и интересное движение, если справиться в Энциклопедии о том, как работают негры на сахарных плантациях». Так реалистические тенденции «слезной драмы» проникали на сцену в коллизиях сентименталистского балета. Танец же содержательно вплетался в действие, развивая начала пантомимы: негры, закончив работы, затевали «национальные пляски и игры в сопровождении музыкальных инструментов, принятых в их краях». Счастливая развязка давала повод для танцев всех участников. Здесь Новерр предлагал уловить национальные различия и «передать их в танце, ибо англичане и англичанки танцуют не так, как негры и негритянки, а индейцы танцуют совсем иначе, чем последние» (IV, 227). При всей наивности, эти эпизоды решительно отличались от стилизации китайских и турецких мотивов в ранних балетах Новерра.
Опыт самостоятельного развития темы соседствовал с переводом еще одной нашумевшей комической оперы на язык балетного искусства. В 1775 году Новерр поставил в Милане балет «Пора непорочности, или Добродетельная избранница в Са-ланси».1 Темой послужил старинный народный обычай, сохра
1 La pritna eta’ dell’ innocenza osia la Rosaia di Salency. Итальянское la Rosaia с французского la Rosiere (производное от rose — роза) в широком смысле означало избранницу народного праздника, которую украшали короной из роз.
132
нившийся в пикардийской деревушке Саланси: выбор королевы добродетели на сельском празднике. Тема нет-нет да возникала во французской литературе и искусстве. 25 октября 1769 года в Париже была показана трехактная комедия Фавара «Избранница из Саланси», шедшая в сопровождении пастиччо из музыки Филидора, Блеза и Монсиньи. «Избранница из Саланси являет собой особу, которой уже несколько лет я обязан неимоверной скукой,— отозвался на эту премьеру Гримм.— Не понимаю, каким образом ей удается возникать столь внезапно и с таким треском из забвения, где она пребывала около двенадцати сотен лет».1 Затем Гримм ядовито высмеивал и самый обычай, и лицемерные восторги перед добродетелью, и стародавние писания мадам де Севинье, украшенные рисунком Греза, и спектакль Фавара.
Новерр мог знать и этот спектакль, и зингшпиль Эрнста Вольфа, появившийся в Германии в 1771 году. Но образцом для него послужила трехактная комическая опера Гретри на текст Массон де Пезея; сочиненная за два года до балета, она была поставлена в Фонтенбло, а в 1777 году — на сцене парижского театра Итальянской комедии. Опера уводила тему от игривоводевильных приемов ярмарочного театра к лирической пасторали нравоучительного толка. «Избрав своим жанром музыкальную комедию,— пишет О. Е. Левашева о Гретри,— он выдвинул в ней на первый план лирическое начало, задачу лирико-психологической характеристики, подчас пренебрегая даже сатирической остротой».2 Современники находили в «Избраннице» Гретри отзвук «Идиллий» швейцарского поэта и пейзажиста Саломона Геснера. Том «Идиллий» вышел в 1756 году и был немедленно переведен с немецкого на французский. Парижский читатель, утомленный приторными пастушками- и овечками отечественной фабрикации, восторженно принял пасторали Геснера. Столь же условные, но более простодушные и трогательные, они виделись примером близости к природе. Гретри оказался достоин своей модели. Он создал в музыке простые, наивные характеры, наполнил чувством драматические коллизии сюжета. В 1793 году композитор сочинил оперу «Республиканская избранница, или Праздник Разума», пере
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimtn, t. 6, pp. 259— 265.
2 Левашева О. Оперная эстетика Гретри.— В кн.: Классическое искусство за рубежом. М, 1966, с 143.
133
неся время действия в революционную Францию и сохранив мотив торжествующей добродетели.
Музыку новеррова балета написал композитор Луи де Байю, концертмейстер оркестра в Ла Скала, работавший с Но-верром еще в Штутгарте. Дерик Линхэм считает ее «исключительно интересной, потому что вместе с музыкой Старцера к «Адели де Понтье» она метила зарю романтического движения».1 Но сюжет балета «Избранница» повторял основные положения оперы Гретри, впрочем, тоже уже тяготевшей к романтизму. Юлия, девушка из деревушки Саланси, любила крестьянина Колена и отказывала судейскому чиновнику из замка, сватавшемуся к ней. В отместку тот объявлял ее недостойной занять место избранницы. Колен чуть не погибал, уплывая в утлом челноке во время бури, чтобы броситься к ногам хозяина замка (в опере Гретри особой популярностью пользовалась ария Колена «Моя зыбкая лодка»). Сеньор восстанавливал справедливость и собирался наказать сутягу, но по просьбе Юлии прощал его. Балет заканчивался праздником в честь добродетельной избранницы.
Подхватывая новые направления в литературе, изобразительном искусстве и театре, Новерр шагал в ногу со временем. Потому, испытывая воздействие современного театра, он и сам влиял на этот театр. «Включение пантомимы, а затем мелодрамы— еще один важный признак созревающей в творчестве Гретри эстетики романтического театра,-—отмечает О. Е. Ле-вашева, анализируя оперу Гретри «Рауль Синяя Борода», написанную в 1789 году.— Где не хватает слов, там мимика и жест вступают в свои права. В этом сказалось могучее, оплодотворяющее воздействие реформы Новерра, сумевшего сделать балет драмой, а пантомиму — одним из самых сильных средств театрального действия».2 Сказанное о Гретри можно отнести и к опыту комической оперы в целом. Ее авторы охотно строили мизансцены по принципам балетной пантомимы. И здесь современники признавали авторитет Новерра. Дидро задал в «Племяннике Рамо» вопрос: что следует понимать под позами? Ответ он вложил в уста своего язвительного героя: «Спросите это у Новерра. В действительности их гораздо больше, чем их может изобрести его искусство». С 1762 года,
1 L у nh а т D. The Chevalier Noverre, рр. 152—153.
2 Л е в а ш е в а О. Оперная эстетика Гретри.— В кн..: Классическое искусство за рубежом, с. 177.
134
когда был написан «Племянник Рамо», до 1775 года, когда поставил свою «Избранницу» Новерр, в его балетах прибавилось немало «поз», если, согласно Дидро, под ними подразумевать искусство пантомимы. Опыт «Избранницы» далеко уводил хореографа от жанровых зарисовок «Фламандских увеселений» и других балетов в том же роде. Зато от «Избранницы» тянулись нити к балету Доберваля «Дезертир», поставленному на сцене Лондона в 1784 году. Правда, на сходство некоторых сюжетных положений опять-таки повлияла не столько балетная, сколько оперная сцепа. Ведь комическая опера Седена — Мон-синьи «Дезертир», аналогом которой явился балет Доберваля, увидела свет в том же 1769 году, что и «Добродетельная избранница» Фавара — Монсиньи. Там также завязывала интригу мнимая измена невесты, а благополучную развязку приносило вмешательство знатной особы, в «Дезертире»—.милостивого короля. Уже в «Избраннице» Фавара парочка влюбленных оставалась с глазу на глаз, нечаянно запертая в доме и тем скомпрометированная; ту же сюжетную ситуацию в 1789 году Доберваль сделал основой своего балета «Худо сбереженная дочь, или Тщетная предосторожность».
«Белтон и Элиза» и «Королева добродетели» не случайно появились в середине 1770-х годов. То было время высшего напряжения творческих сил Новерра. Оба балета были созданы в Милане; Новерр подписал контракт с театром Ла Скала, числясь придворным балетмейстером Вены. Примерно в это же время его избрали членом парижской Академии танца. Он был знаменит и получал множество приглашений,— в частности, вел оживленную переписку с Гарриком, который звал его в Лондон. Тут, однако, судьба вмешалась в планы хореографа, исполнив его заветную мечту. Королева Мария-Антуанетта взяла под покровительство своего бывшего учителя: Новерру предложили пост балетмейстера Королевской академии музыки в Париже, на который он безуспешно претендовал двадцать лет тому назад. Ему предстояло заменить уходившего в отставку Вестриса. Поездка в Лондон отпала, тем более что Гаррик в июне 1776 года покинул сцену. Новерр наконец отправился на родину.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГАСПАРО АНДЖЬОЛИНИ
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Одна из важных особенностей балетного театра второй половины XVIII века — развитие искусства балетмейстера. Это было естественно: утверждался вид спектакля, для которого требовался уже не просто опытный танцмейстер, но хореограф-режиссер. Разница предполагалась немалая. Прежде постановщик балета должен был досконально знать танец и уметь распоряжаться им, подобно мастеру-ремесленнику, искусно подбирающему цветные стекла к узорчатым сменам калейдоскопа. Теперь постановщику балета надо было обладать солидным запасом знаний. Требовалась осведомленность в древней и новой литературе, включая поэзию и драматургию — источники сюжетов. Надлежало опираться на эстетические выкладки философов, от Аристотеля до Лессинга и Дидро, чтоб отстаивать принципы собственной эстетики. Глубокий смысл получало знакомство с живописью, дающей материал для пластических откровений нового балета. Наконец, усложнялись связи с музыкой, которая превращалась из аккомпанемента настроений в мощное средство обрисовки характеров, действий, разнообразных чувств героев. Время породило новый тип балетмейстера и размножило его с невероятной быстротой. Как водится, оно дало разных представителей типа: одинокие фигуры выдающихся новаторов — мыслителей и творцов, отряды чутко одаренных мастеров и толпу эпигонов; в конечном счете, и они приносили пользу как распространители нового слова. Тогда же установилась специфическая черта, свойственная балетмейстерам любого ранга и таланта; они образовали некий орден
136
странствующих рыцарей, свободных проповедников своего общепонятного искусства.
Характерную фигуру хореографа-скитальца представлял собой в середине века новатор и мастер Анджьолини, который возвращался на родину, чтобы тут же пуститься в новые странствия.
Доменико Мария Гаспаро Анджьолини изучил все, что писали о танце античные авторы, и увлекался драматургией Вольтера. Он превосходно знал наследие великих композиторов, был сотрудником Глюка и сам сочинял музыку многих своих балетов. После него остался значительный литературный архив. В 1765 году он издал «Рассуждение о балетах-пантомимах древних в помощь к Программе трагического балета-пантомимы Семирамида». Этот балет на музыку Глюка был тогда же поставлен Анджьолини в придворном театре Вены. Эпиграфом к «Рассуждению» хореограф взял строчки из «Науки поэзии» Горация: «Многие павшие вновь возродятся; другие же, ныне пользуясь честью, падут, лишь потребует властный обычай». Анджьолини отнес слова Горация к искусству античной пантомимы, которое пытался воскресить. Но они применимы к нему самому.
Творчество Анджьолини, вместе с творчеством Уивера, Салле и Хильфердинга, померкло в лучах славы Новерра, почти забылось, и только XX век проявил интерес к работам хореографа, одного из зачинателей действенного балета.
Выходец из актерской семьи, Анджьолини родился во Флоренции 9 февраля 1731 года. Кто обучал его танцу, неизвестно. Но уже с 1747 года, то есть с шестнадцати лет, он выступал в венецианском театре Сан-Моиз, затем перешел в другой театр Венеции — Сан-Кассиано, где танцевал до 1750 года. В начале 1750-х годов он занял место первого танцовщика в Венском гофтеатре, труппу которого возглавлял Хильфердинг. Там Анджьолини встретил свою будущую жену Марию Терезу Фольяцци.
Казанова, посетивший Вену в 1753 году, вспоминал: «Примерно тогда я познакомился с одной миланской танцовщицей, умной, образованной, обладавшей превосходными манерами и сверх того чрезвычайно хорошенькой. У нее собиралось отличное общество, и она была восхитительной хозяйкой салона... Эта девица внушила мне тщетную страсть, так как сама любила одного флорентийского танцовщика по имени Аржьолини. Я волочился за ней, но она надо мной смеялась, ибо влюбленная
137
актриса являет собою неприступную крепость»,1 На отдалении лет фамилия счастливого соперника вспомнилась Казанове не совсем точно. Вскоре Анджьолини женился на Фольяцци, и в 1757 году супруги уехали в Турин: он как балетмейстер, она как первая танцовщица.
По словам Джино Тани, исследователя творчества Анджьолини, в туринском театре Реджио двадцатишестилетний хореограф поставил свои первые балеты на музыку Р. Джованетти. То были комедии: «Крестьянский балет», «Балет характеров с игрой в жмурки», «Солдаты и маркитантки», «Открытие Америки Христофором Колумбом», «Балет разных наций».2 Эти постановки выдавали несомненную зависимость от репертуара Хильфердинга.
Позже, в «Рассуждении к балету Семирамида», Анджьолини заметил: «Авторы балетов подобного жанра изображают любовные интриги между пастухами, садовниками, поселянами и работниками всех видов или же ставят национальные танцы: провансальские, хорватские, английские, фламандские». Сравнивая сочинителей таких танцев с сочинителями фарсов, а исполнителей — с актерами Комедии в характерных ролях, хореограф напоминал, что «и славный Мольер поставлял фарсы, а знаменитый Превиль играет характерные роли».3 Словом, ставя превыше всего пантомимную трагедию, Анджьолини вполне признавал и достоинства балетных комедий.
Лишь один его балет «Диана и Эндимион», поставленный тогда в Турине, мог быть отнесен к демихарактерному жанру. Возможно, и он репродуцировал не сохранившийся одноименный балет Хильфердинга. Ведь Анджьолини в «Письмах к Новерру» приводил как пример из практики учителя «легкий танец» Дианы, которая, «забыв охоту», мечтает побыть с Эндимионом.4
Однако важнее другое. Характеризуя теоретически тот или иной жанр, Анджьолини стремился установить его границы, определить его художественные задачи и его место в ряду ос-
1 Memoires de J. Casanova de Seinglat ecrits par lai-тёте. Paris, [/880], t. 2, p. 411.
2 T a[n (] G. Angiolini.— Enciclopedia dello Spettacolo, v. 1, p. 623.
3 Angiolini G. Dissertation sur les Ballets Pantomimes des Anciens Pub-liee pour Servir de Programme au Ballet Pantomime Tragique de S emir a mis Milano, 1956 [без пагинации]. В дальнейшем цитируется без сносок.
4 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 13.
138
тальпых балетных жанров, больше того — в ряду других искусств. «Здесь приятны пасторали, романески, анекдотические вымыслы; наконец, всё из области французской оперы предлагает сюжеты сочинителям этих танцев»,— писал он о демиха-рактерном жанре в предисловии к «Семирамиде». Попутно Анджьолини узаконивал обычай заимствовать для балетов этого жанра сюжеты комической оперы. «Если такой род танцев,— полагал он,— приведен в действие знающим сочинителем с легкостью и согласно правилам, если пантомима соединена там с искусством и выразительна, если любовная страсть, обычно составляющая фон, передана с огнем, но и деликатностью,— род этот может возбудить в сердцах, особенно в сердцах юных, легкие мимолетные чувства, такие же, какие испытывают при представлении оперных сцен, или при счастливой развязке комедии, или при чтении какого-нибудь романа. Сочинителей подобных балетов можно сравнить с поэтами, пишущими комедии, эклоги, пасторали».
В том же демихарактерном жанре несколькими годами раньше начал свой путь Новерр, старший сверстник и знаменитый соперник Анджьолини. Уроженец Парижа, ученик старых мастеров французского балета, Новерр, при всей силе сторонних влияний, был ближе к эстетике французской оперы и театра классицизма. Анджьолини работал в Италии, Австрии, России. Обращаясь к сходным темам, сочиняя, как и Новерр, комедийные балеты и пантомимные трагедии, он скорее следовал опытам венского музыкального театра его времени: в теории проповедовал те же строгие правила классицизма и даже порицал Новерра за отступление от них. В разногласиях, когда-то горячивших современников, новая эпоха часто видит лишь однородные «признаки времени» — ушедшего времени, конечно.
Как уже говорилось, он глубоко чтил Хильфердинга, с которым познакомился в Вене и которого считал своим наставником на поприще балетмейстера. Хильфердинг, должно быть, и правда заметил в юном танцовщике признаки таланта балетмейстера. Джино Тани предполагает, что либо Хильфердинг, уезжая в Петербург в 1758 году, рекомендовал ученика на пост балетмейстера венских театров, либо тот попал на этот пост как муж Терезы Фольяцци, чей ум и красоту ценил консул Австрийской империи князь Венцель Антон Кауниц. Анджьолини скромно сообщал в «Письмах Новерру»: «Когда Вена лишилась подлинного реставратора пантомимного танца, синьор граф Дураццо, кавалер музыки и директор театра... назначил
139
меня, больше за недостатком опытного сочинителя, чем из-за моих достоинств, заместить в должности господина Хильфер-динга».1
В СОДРУЖЕСТВЕ С ГЛЮКОМ. «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
Первые три года Анджьолини, по его словам, «не решался на какие-либо новшества, кроме национальных балетов, которые ставил в собственной манере, вникая в обычаи, нравы и, позволю себе сказать, в самый дух народов, что произвело эффект, превзошедший мои надежды. Балеты исторические и сказочные я еще не смел переделывать по-новому».2
А музыкальная жизнь Вены 1750-х годов побуждала к смелости. Тогда Глюк свершал там революцию в лирической драме. Его единомышленником и сотрудником был либреттист Раньери Кальцабиджи. Оба выступили против старой итальянской оперы, где ради виртуозности терпели любые нелепицы сюжета. Глюк и Кальцабиджи подчинили музыкальное действие логике драматического содержания. Вскоре Анджьолини стал третьим участником их союза. «В 1761 году мои идеи начали понемногу проясняться, связываться и давать ростки, — упоминал он в «Письмах Новерру». — После трудностей разного рода я нашел без поддержки и примера плодотворный и заманчивый путь перевода в пантомиму комедии, драмы, а немного погодя целой трагедии».3
Анджьолини действительно не имел перед собой хореографического образца. Но поддержкой и примером ему служили опыты Глюка и Кальцабиджи, даже если он еще не ознакомился с первыми пантомимными балетами Новерра и его «Письмами о танце», опубликованными в 1760 году. Впрочем, имеются основания предполагать, что он читал книгу Каюзака, изданную в 1754 году. Неизмеримо щедрее был Глюк, утверждавший, что «в изобретении нового рода итальянской оперы... главная заслуга принадлежит г. Кальцабиджи... это он помог мне развер-
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 15.
2 Ibid., p. 16
з Ibid.
140
путь возможности моего искусства».1 Объективности Глюка недоставало и Кальцабиджи, который вспоминал в «Письмах графу Альфьери»: «В 1762 году, когда балеты-пантомимы Медея, Смерть Геракла и другие, вызвавшие удивление и восторг, уже были поставлены Новерром в Штутгарте, в Вене был дан Каменный гость Анджьолини. Бессмертный Глюк сочинил музыку, а я французскую программу, где дал краткое предисловие об искусстве пантомимы в старину».2 Однако зависимость первых проб Анджьолини от постановок Новерра была мнимой и выпячивалась напрасно.
Степень авторства Кальцабиджи в либретто «Каменного гостя» значительна (в программе балет назывался «Каменный гость», Анджьолини именовал его «Дон Жуан»). Но Кальцабиджи ошибался, относя этот балет к 1762 году: премьера состоялась 17 октября 1761 года, то есть до того как Новерр показал «Смерть Геракла» (1762) и «Медею и Ясона» (1763). Анджьолини через двенадцать лет после премьеры заметил: «Теория там превосходила практику, потому что в то время чтение давало мне больше, чем опыт».3 Как бы там ни было, Анджьолини воплотил не традиционное для музыкального театра зрелище.
До тех пор в балете, как и в опере, лишь комедия изображала обычаи и нравы, близкие жизненному обиходу современности. Трагедия обращалась преимущественно к мифам или к событиям древней истории. Кальцабиджи, Глюк и Анджьолини воспользовались легендой о Дон Жуане, взяв за основу комедию Мольера. Впрочем, от Мольера там оставался лишь эпизод посещения гробницы Командора и гибели Дон Жуана. Авторы определяли свой балет как «испанскую трагикомедию» и на деле сближались с первой разработкой темы у Тирео де Молины. Это позволило слить раздельно существовавшие жанры. Действие строилось в жанре комедии, с оглядкой на обычаи и нравы реальной жизни, а развязка принадлежала трагедии, где элементы фантастики сгущали нравственную суть замысла.
В «Рассуждении», сопровождавшем программу, говорилось: «Сюжет печален. Но веселы ли сюжеты большинства трагедий?
1 Lettre de М. le chevalier Gluck, a I’auteur du Mercure.— Mercure de France, 1773, fevrier, p. 182.
2 Цит. no: L у n h a m D. The Chevalier Noverre, p. 185.
3 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 16.
141
Драматические актеры нравятся и в ужасном, и в приятном. Разнообразие, какого ищут в зрелищах, требует, чтобы мы попеременно обращались к обоим жанрам. Разве запрещено ужасать танцуя, так же как декламируя? Страх доставляет нам удовольствие в трагедиях, мы плачем со своего рода нежной чувствительностью, чарующей нас. Если мы способны возбуждать немой игрой все страсти, надо ли пресекать наши попытки? Если публика не хочет лишить себя величайших красот нашего искусства, ей следует привыкнуть плакать и быть растроганной в балетах».1 Подобные мысли уже сами по себе указывали на сдвиг балетного театра в сторону синтеза жанров. В целом они помогали балету ступить на путь просветительского классицизма.
Балет «Дон Жуан» состоял из трех актов, но был так же краток, как пантомимные трагедии Хильфердинга. Партитура Глюка, кроме увертюры, насчитывала 31 номер музыки. Спектакль оформлял Джованни Мария Куальо, художник придворного театра Вены.
Первый акт происходил на улице, где с одной стороны помещался дом командора, с другой — дом Дон Жуана. Действие начиналось серенадой Дон Жуана в честь Эльвиры, дочери командора. Дон Жуана пускали в дом, но его заставал командор, сражался с ним и погибал в поединке. Пока что главенствовала пантомима. Притом нарушалось одно из правил классицизма — не показывать на сцене смерть действующих лиц. Это своеволие как бы оправдывал эпиграф к программе, взятый опять-таки из «Науки поэзии»: «Что к нам доходит чрез слух, то слабее в нас трогает сердце, нежели то, что само представляется верному глазу». Правда, строки Горация обрывались произвольно, ибо дальше следовало: «Однако ж на сцене берегись представлять, что от взора должно быть сокрыто или что скоро в рассказе живом сообщит очевидец! Нет! не должна кровь детей проливать пред народом Медея».
Во втором акте Дон Жуан давал бал «для друзей и любовниц». После танцев садились за ужин. В разгар веселья слышался громкий стук в дверь: являлась статуя командора. Пирующие разбегались. Дон Жуан оставался наедине с пришельцем. Насмехаясь, он предлагал командору откушать. Вместо
1 Le festin de prierre. Ballet pantomime, compose par mr. Angiolini, maitre des ballets du theatre pres de la cour a Vienne, et represente pour la premiere fols sur ce theatre le octobre 1761
142
ответа тот приглашал Дон Жуана к себе на могилу и, получив согласие, удалялся. В зал возвращались гости. «Страх сопутствовал им, что давало место выходу Трусов». Дон Жуан ободрял гостей, но они вскоре его покидали, а за ними уходил и он.
Третий акт изображал кладбище: посреди сцены — мавзолей, перед ним — статуя командора. Дон Жуан входил и, скрывая за развязностью испуг, приближался к командору. Тот, взяв его за руку, призывал изменить образ жизни. Но Дон Жуан «настаивал на своей нераскаянности». Земля разверзалась, изрыгая пламя, появлялись фурии. Они набрасывали на Дон Жуана цепи, и земля поглощала его, «охваченного ужасным отчаянием». Кладбище покрывалось грудой развалин.
Эта финальная сцена «Каменного гостя» словно бы осуществляла на практике совет из книги Каюзака. Находя «главную цель» канонических балетных выходов в том, чтобы дать танцовщикам возможность «развернуть прелести простого танца», Каюзак приводил в пример как «общее место» часто повторявшийся танец фурий: «Фурии, бесспорно, могут в отдельном выходе живописать обуревающую их ярость быстрыми па, стремительными прыжками, неистовыми вращениями». Но, посмотрев такой танец, зрители «увидели бы только фурий и ничего больше». Зато, продолжал Каюзак, «в действии, где Месть и Эвмениды хотели бы передать исступление, до какого доводит их главный персонаж, искусство танца могло бы постепенно и последовательно изобразить намерения этих языческих Божеств, сопротивление актера, напор Фурий, законченность картины, ожившей во всех подробностях. Одним словом, такое действие запечатлелось бы в уме зрителя, понемногу возбудило бы его душу и заставило бы вкусить все удовольствие, производимое в театре прелестью подражания».1 Фурии Анджьолини, как фурии Новерра в балете «Отмщенный Агамемнон», поставленном через одиннадцать лет на той же венской сцене, творчески воплощали раздумья ученого критика, предлагавшего расширить действенные права балетного искусства.
Программа Анджьолини заканчивалась провалом Дон Жуана в ад. Библиотека школы при Королевской академии музыки в Париже имела фортепианный клавир балета с добавочным четвертым актом: в аду фурии и демоны подвергали пыткам
1 С a h и. s а с. La danse ancienne et moderne ou traite historique de la danse, t. 3, pp. 48—49.
143
Дон Жуана.1 Можно предположить, что этот акт появился в пору дальнейших странствий «Каменного гостя», обошедшего почти все европейские театры. Кто-нибудь из хореографов добавил ненужную по содержанию сцену, соблазнившись музыкой адских эпизодов из «Орфея» Глюка. Возможно также, что именно это обстоятельство вызвало гневную отповедь Анджьолини: «Как часто проклятые копиисты злили меня, воспроизводя мои балеты в стольких странах! Дополнения, пропуски, присоединения, подсказанные невежеством, портили любую, и хорошую и посредственную работу. Автору поистине мучительно видеть или знать, что его создание изуродовано, а ему еще приходится держать ответ перед судом».2
В сценарном замысле новое уживалось со старым.
По правилам старого балета, основная действенная нагрузка приходилась на мужские роли, которые исполняли танцовщики Дюпре, Турки, Вигано. Роли танцовщиц Пагани, Клер и Руд-жано были эпизодичны. Программа подробно описывала действия Дон Жуана и командора, а Эльвира упоминалась лишь как предлог для ссоры отца и возлюбленного; ее отношение к происходившему оставалось неясным, о сложной борьбе чувств в душе героини можно было только догадываться.
Но благодаря Глюку внутри старого проявлялось новое. В балете «Каменный гость» композитор вплотную подошел к своей реформе музыкального театра. Стройность и последовательность музыкальной драматургии Глюка, органическая связь элементов комического и трагического направляли творческую мысль хореографа. Изобразительность пантомимных сцен, выразительность действенных танцев в музыке требовали необычного сценического воплощения. Воссоздать постановку целиком невозможно. Однако, сопоставляя отдельные ее моменты и скупые отзывы современников, можно считать, что балет «Каменный гость» был выдающимся событием эпохи.
Важное свидетельство привела Уинтер: запись в дневнике посетителя премьеры, относящуюся к эпизоду на кладбище. В пантомимном диалоге нераскаянный грешник Дон Жуан «пе-• редразнивал и оскорблял» каменного командора. Исследовательница предполагает, что «репертуар насмешливых поз и жестов» мог быть заимствован балетмейстером у театра комедии дель арте: «Этими грубо комическими жестами Анджьолини
1 См.: W in t е г М. Н. The Pre-Romantic Ballet, р. 134.
2 Lettere di Gasparo Angiolini a Monseur Noverre, p. 21.
144
воспользовался так, что по контексту они превратились в мрачные и устрашающие богохульства».1 Продолжая мысль исследовательницы, заметим, что Анджьолини мог воспользоваться здесь старинной традицией комедии дель арте, согласно которой история о Дон Жуане стояла в ряду самых репертуарных сюжетов. Весьма возможно, что в тех же приемах народной итальянской комедии ставил Анджьолини и один из танцев на балу у Дон Жуана. То был «выход Трусов», наглядно игравших страх. На первый взгляд номер лишь повторял старинную практику «балетов с выходами». Но этот «выход» неожиданно оборачивался свежими гранями. Он проходил как смысловое звено музыкально-пластического действия, был намеренно контрастной краской в развитии этого действия, а следовательно, обогащал балетную драматургию времени. Он возникал в переломный момент, когда действие из комедийно-бытового плана обращалось в фантастико-трагический. Намеренная ретардация— торможение перед катастрофой — стала впоследствии одной из функций балетного дивертисмента.
Еще серьезнее были находки в выразительном действенном танце. Понятие «действенности» Анджьолини, как и другие балетмейстеры его времени, относил прежде всего к пантомиме, считая ее двигателем сюжета в балетном спектакле. Но в сценарий «Каменного гостя» он ввел пляску фурий как действенный эпизод, который разрешал и завершал драму и совсем не походил на канонические антре персонажей, уже два века населявшие балетную сцену. В союзе с Глюком балетмейстер сделал пляску кульминацией и разрешением драматического конфликта. Появление грозных обитательниц подземного царства, данное в восходящих повторах стремительного мотива, поистине возрождало образы античного театра. Напористый ход пляски внезапно обрывался, обрывая и ход действия. Когда Глюк перенес пляску фурий в оперу «Орфей и Эвридика», сохранилась фермата перед заключительным аккордом. Герой «Каменного гостя» на этой фермате проваливался в ад. В опере танец фурий выполнял функционально-описательную роль: он красочно рисовал картину ада. В балете фурии завершали концепцию всего спектакля, наказывая Дон Жуана за попранный закон нравственного долга.
Благодаря музыке Глюка «Каменный гость» был более цельным и гармоничным спектаклем, чем любые предшествовавшие
1 W I nt е г М. И. The Pre-Romanlic Ballet, р. 134.
145
и многие последующие опыты пантомимного балета. Кальцабиджи и Анджьолини признали в уже цитированной программе первенство Глюка: «Он превосходно схватил грозный характер действия. Он постарался выразить игру страстей и ужас, царящий в катастрофе». Заканчивалась программа словами: «Музыка — основа пантомимы. Это она говорит, мы же лишь производим жесты... Без музыки было бы почти невозможно добиться того, чтобы нас понимали, и чем больше она отвечает нашей цели, тем явственней звучит наша речь». Признавая приоритет музыки, Анджьолини мог уверенно двигаться вперед. Музыкальная образованность помогала ему полнее оценить партитуру Глюка и глубже проникнуться ее достоинствами. Следуя за музыкой, он выстроил драматургию, намеренно сжав линии действия строгими рамками сюжета. Музыка прояснила ему логику событий и характеров. «К вдохновенной мощи партитуры Анджьолини присоединил такую правду выражения, что победил с первого спектакля нерешительность публики, которая в финальной сцене даже дала волю слезам»,— пишет Джино Тани.1
И однако хореограф стоял только у порога новаторских реформ. Продом в монографии о Глюке так характеризовал балет «Дон Жуан»: «Обширная трагическая симфония, вестница поистине нового искусства, которую Глюк противопоставил жеманному балету».2 И сколь бы ни был велик успех спектакля у современников, балетный театр не сразу освоил принципы этого нового искусства. «Каменный гость» явился программой реформ скорее в опере, чем в балете. Анджьолини в какой-то мере так же вышел за рамки собственной эстетической программы, как после Новерр при встречах с Глюком.
О том, что и Глюк охотно работал с Анджьолини, свидетельствовало их последующее сотрудничество в «Орфее», премьера которого состоялась 5 октября 1762 года. «Критика единодушно признала, что танцы Елисейских полей, созданные Анджьолини, стояли на уровне музыки и были тесно связаны с хорами и драматическим действием», — указывает Джино Тани.
В том же 1762 году Анджьолини поставил пантомимный балет на музыку оперы Глюка «Осада Цитеры». Сюжет еще в 1743 году был сочинен Фаваром для водевиля «Власть любви, или Осада Цитеры». Затем Фавар переделал водевиль в комическую оперу, которая шла в Брюсселе (1748) и на сцене па
1 Т а[п г] G. Angiolinl.— Enciclopedia dello Spettacolo, v. 1, p. 621.
2 Цит. no: Ta[ni] G Angiolinl.— Enciclopedia dello Spettacolo, v. 1, p. 621.
146
рижской Комической оперы (1754). Для последней постановки Новерр сочинил «героические балеты», состоявшие из военизированных маршей, атак и проч. Эта постановка, повторенная в Вене (1757), очевидно, и вдохновила Глюка на его оперу (1759). Анджьолини в «Письмах Новерру» так отзывался о своем спектакле: «Я перенес в пантомиму комическую оперу синьора Фавара «Осада Цитеры», положенную на музыку знаменитым синьором кавалером Глюком. В этой работе я не встретил больших трудностей, потому что пожелал сохранить уже готовую музыку, не вводя в нее ни одной посторонней ноты... хотя сделал значительные сокращения в драме и в самой музыке».1 Возможно, последняя фраза была камушком в огород Новерра, считавшего, что хореограф волен распоряжаться музыкой по своему усмотрению. Касаясь того, как обошелся Новерр с балетом Моцарта «Безделушки», Джоан Лоусон заметила: «Постановкам Новерра недоставало того тонкого восприятия музыки, какое проявлял Анджьолини, работая с Глюком».2
Мнение Лоусон можно оспорить. Новерр, не имея музыкального образования,'был несомненно к музыке чуток: достаточно сослаться хотя бы на его танцы из «Ифигении в Тавриде». Другое дело, что музыкальная мысль эпохи вообще опережала развитие балетного театра. Новерр не понял музыки Моцарта к «Безделушкам». Но и Анджьолини, тонко воспринимавший музыку Глюка, адекватно воплотить ее не мог, ибо не поспевал за композитором в его стремительном восхождении. Оба балетмейстера, умозрительно порываясь к пантомимной трагедии, неясно представляли себе средства, какими могли бы этой цели достичь, и оба натыкались на преграды обычаев и вкуса. Анджьолини, как и Новерр, останавливался у черты господствовавших условностей, но меньше, чем тот, умел подчинить их идейному замыслу спектакля. В идейном плане Новерр был ближе к Глюку, потому что конечной целью своих трагедий видел логичное развитие страстей, обуревавших его героев, и в меру сил хотел передать сложность противоречий человеческой натуры. Анджьолини чаще привлекала тема наказанного порока, а страсти и характеры героев он воплощал прямолинейнее, чем Новерр. Это отразилось на второй работе Анджьолини и Глюка над балетом, состоявшейся в 1765 году.
1 Letters di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 17.
2 Lawson J. A. History of Ballet and its Makers. London, 1964. p. 37.
147
За четыре года, протекших после премьеры «Каменного гостя», Анджьолини поставил в Вене три героических балета: «Клеопатра», «Фетида и Пелей», «Ифигения» и комический балет в модном «турецком» жанре — «Приключения в серале» на музыку Доменико Скарлатти. В 1764 году он сочинил танцы для комической оперы Глюка «Пилигримы из Мекки».
«СЕМИРАМИДА»
31 января 1765 года был показан балет-трагедия Глюка «Семирамида» в постановке Анджьолини. Сюжетной основой послужила одноименная трагедия Вольтера. За четыре года, отделявших «Семирамиду» от «Каменного гостя», взгляды хореографа эволюционировали: он стремился сблизить теперь балет с драмой. Образцом современной драматургии стала для него драматургия Вольтера. Это было закономерно. Антитиранический смысл трагедий в духе просветительства не мог не увлекать свободолюбивого художника, каким всегда был итальянский хореограф. В ту пору трагедия классицизма теряла свою каноничность в творчестве Вольтера: насыщалась действенностью, обнаруживала тягу к театральным эффектам, к расширению жанровой природы. Это определило прогрессивную роль трагедий Вольтера в театральной жизни вообще, музыкальной сцены — в частности. Авторитет Вольтера казался Анджьолини непререкаемым. В том заключалось отличие Анджьолини от Новерра, который, при всем уважении к Вольтеру, в балете превыше всего ценил собственный авторитет. Первым хореографом века Новерра делала мощь его фантазии и дар хореографического видения. Он ощущал природу своего искусства как некий абсолют и подчинял ей все движение балетного спектакля и каждую его подробность. Анджьолини таким даром в той же мере не обладал, а потому бывал робок там, где его соперник проявлял неугомонную дерзость.
Робость сказалась и в постановке «Семирамиды». Ей недоставало того патетического размаха, того захлестывающего напряжения действия, какими потрясал, например, «Отмщенный Агамемнон» Новерра, при всех несовершенствах этого балета.
В 1761 году Анджьолини и Кальцабиджи писали в предисловии к «Каменному гостю»: «Наше непременное правило — правдоподобие. Требовать же, чтобы мы скрупулезно соблю
148
дали драматические правила (то есть единства места, времени и действия. — В. К.), — значит просить у нас невозможного». Постановка «Каменного гостя» наглядно подтвердила эти слова.
В 1765 году, ориентируясь прежде всего на Вольтера, Анджьолини размышлял в предисловии к «Семирамиде» о задачах балетного театра: «Хорошо известно, что три единства — места, времени и действия — необходимы ему почти так же, как комедиям и трагедиям».
О балете «Семирамида» дают понятие «Рассуждение» и программа, предпосланные премьере. Анджьолини писал, что «план балета» он извлек из трагедии Вольтера: «Я почти следовал его плану в том, что касается событий, но был вынужден внести перемены, чтобы приспособить этот план к балету. Я не отошел от своих правил. Сохранены персонажи: Семирамида, Ниний, Ороес — старший жрец Вавилона и особенно тень Нина. Наперсников узнают в тех, кто будет ближе всех следовать за тремя персонажами. Что же до Ассура, соучастника преступления царицы, Аземы, Седара, то есть персонажей эпизодических, я вынужден был их отбросить. Тень Нина играет в моем балете большую роль. Она помогает мне быть понятым и сделать мою развязку поистине ужасной и трагической».
Анджьолини свел пять актов трагедии к трем, вместе длившимся, по словам хореографа, «всего двадцать минут». Однако вскользь упомянутые им перемены были существенны, так как упрощали развитие характеров. Изъятые из балета образы Аземы и Ассура были далеко не эпизодичны. В пьесе Семирамида с помощью Ассура еще до начала действия отравляла своего мужа Нина, царя Вавилона. Министр Семирамиды — Ассур ненавидел полководца Арзаса, которого царица хотела сделать своим мужем и который на самом деле был Нинием, сыном ее и Нина. Арзас был влюблен в царевну Азему: с ее образом из балета исчезла важная для Вольтера тема противопоставления непорочной и греховной любви. Главное же, из балета ушла тема совести, несущей в себе кару. Эту тему Вольтер резюмировал заключительной фразой трагедии: «Пусть все поймут, что тайные преступления имеют свидетелями богов». В балете остался лишь мотив страха Семирамиды перед карающей тенью Нина. Потому тень и стала главной пружиной действия. Притом центральной фигурой хореограф сделал героиню. Быть может, он следовал тут примеру Новерра, за два года перед тем создавшего в Штутгарте свой знаменитый балет
149
«Медея и Ясон». Это представляется тем более вероятным, что роль Семирамиды воплотила пантомимная танцовщица Нанси Левье, создательница роли новерровой Медеи. Так или иначе, после «Каменного гостя» с его единственной, притом эпизодической, женской ролью то был сознательный шаг вперед.
Первый акт протекал в «кабинете» Семирамиды. Она дремала, облокотись о стол, покрытый свитками; ее силуэт напоминал по очертаниям силуэты современных зрителям модниц. Тревожные сны царицы прерывал призрак Нина, грозивший ей кинжалом. Семирамиду «поражало еще одно чудо», которого нет у Вольтера. Рука выводила на стене слова: «Мой сын за меня отомстит. Трепещи, коварная супруга!» Спустя восемь лет Анджьолини отослал к «векам невежества» обычай «помещать выходящими изо рта фигуры или у ее ног надписи, обозначавшие имя, действие или чувства персонажей». Он считал, что «хорошо построенные сюжеты не требуют разъяснений».1 Упрек был обращен к живописцам, но мог с тем же правом распространиться на балет... Коварная супруга подхватывала заданную тему страха, и на ее предполагаемые «крики» сбегались служанки. «Она хочет рассказать им о виденном, — говорилось в сценарии. — Указывает место, где писала рука, но все исчезло. Ее уныние возрастает, и она удаляется, поддерживаемая женщинами».
Декорация второго акта изображала храм, где «все было готово для выбора царицей супруга». Справа от трона стояли жрецы, слева сатрапы, в глубине стража и народ. Входил Ни-ний во главе своих солдат. Когда Семирамида выбирала Ни-ния, верховный жрец Ороес отказывался их венчать. Она все же вела избранника к алтарю Ваала, но небо темнело, гремел гром, молния поражала алтарь. Храм пустел.
Третий акт происходил у гробницы Нина в священной роще, неподалеку от храма Ваала. Люди приносили гирлянды в жертву Ваалу и танцевали под музыку, «сочиненную, как считают, на мотив песни, восхваляющей Ваала». Появлялась царица, окруженная свитой. Из гробницы выходила тень Нина.
Через два года после премьеры этого балета Лессинг досадовал, что Вольтер вывел на драматическую сцену тень. «Если бы Вольтер обратил хоть некоторое внимание на пантомиму,— писал Лессинг, — он понял бы, как неудобно выводить привидение в присутствии многочисленного общества. При виде его
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 39.
150
все разом должны обнаружить страх и ужас на разные лады, а иначе картина будет представлять мертвенную симметрию балета. Наберите для этого толпу глупых статистов; как бы вы удачно ни выбрали их, все-таки вследствие разнообразных проявлений одного и того же эффекта внимание зрителей будет делиться и отвлекаться от главных лиц».1
Анджьолини мастерски противопоставил разительные и патетические эффекты своей пантомимы «мертвенной симметрии балета». Тень Нина, нарушив торжественно-мерное шествие царедворцев, принуждала их смешаться с праздничным народом, разбиться на группы и застыть в живописных позах изумления, отчаяния, страха. Удержав на миг напряжение немой картины, хореограф заставлял ее участников стремительно разбежаться, оставив Семирамиду наедине с призраком. Тот приказывал царице следовать за ним. «Подавленная ужасом и горем, она противится настолько, насколько может позволять природа...—продолжал хореограф. — Здесь видно, что я воспользовался стихами, которые г. де Вольтер заставляет произносить тень Нина».
Однако именно тут действие балета расходилось с действием трагедии. Там призрак Нина запрещал преступной жене приблизиться, чтобы не осквернить его прах, напоминал, что и для нее настанет смертный час. Затем действие длилось еще два акта. Лишь в конце пятого Семирамида сама входила в мавзолей, говоря, что наступил предсказанный тенью конец. Анджьолини, ускоряя развязку трагической пантомимы, заставлял призрак увлечь Семирамиду в склеп. Отчасти он повторял здесь конфликтную ситуацию «Каменного гостя».
Но даже сгущая и динамизируя ритмы трагедии, Анджьолини запутывался в сетях рационалистической литературности Вольтера. Действие балета, взмыв в кульминации, опадало и топталось на месте. Снова стекались на сцену жрецы, народ, прислужники Семирамиды. Ниний читал на стене склепа надпись: «Спеши отмстить за твоего отца»; к его ногам падал кинжал. Жрец Ороес передавал ему венец и меч Нина. Он повелевал именем богов «войти в гробницу и умертвить, как жертву, того, кто там находится». Ниний повиновался, жрецы и народ творили молитву. Из гробницы выбегал потрясенный Ниний, а за ним медленно, шатаясь, выходила Семирамида, «бледная, растерзанная, с печатью смерти на лице». Ниний, «увидев, что убил собственную мать», протягивал ей кинжал, «прося даровать ему
1 Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. 1А.— Л., 1936, с. 47- 48.
151
смерть». Семирамида узнавала сына, прощала его и падала мертвой. Ниний хотел заколоться, но его уводили жрецы.
Через несколько лет Анджьолини, полемизируя с Новерром, объявил, что пантомима неспособна передать сложный смысл иных словесных объяснений. «Не знаю, за что зацепиться, чтобы заставить Клитемнестру сказать, когда она протягивает кинжал Эгисту: «Ты сразу же прервешь дни моего супруга и жизнь троянской рабыни», — замечал он.1 То же мог сказать ему Новерр, приведя в пример слова Ороеса, вручающего Нинию меч для убийства Семирамиды. К тому же по ходу действия было трудно уловить, каким образом узнавал Ниний, что выбравшая его женихом Семирамида приходилась ему матерью. Упрекая соперника за ошибки, Анджьолини не замечал их у себя.
Между тем дело было не в этих отдельных промахах. Двух хореографов объединяла и прогрессивность позиций, и невозможность преступить иные ограничители эпохи. Рационалистичность взглядов, благотворно направляя теоретическую мысль деятелей театра, нередко приводила их на практике к умозрительной сухости в произведениях, созданных для сцены. Этим, в известной мере, страдали драмы Лессинга, Вольтера и Дидро, при всей значительности их теоретических трудов. А Новерр и Анджьолини, ссылаясь или не ссылаясь на них, шли в русле их эстетики.
Лессинг в приведенном выше высказывании советовал драматургу не отвлекать зрителей от главных действующих лиц, а, обращаясь к пантомиме, избегать мертвенной симметрии балета. Новерр такую симметрию неоднократно громил. Предлагая балетмейстерам «тщательно разобраться в сюжете, прежде чем переносить его на сцену», он убеждал «отбросить все лишние куски, которые замедлят ход действия, все то бесполезное, что только внесет путаницу или сделает вялым действие пантомимы. Он напоминал, что балет должен быть «интересной поэмой, а не скучным дивертисментом безжизненного танца» (II, 123, 125). Анджьолини заключал свое «Рассуждение о балетах-пантомимах» выводом: «Мы обязаны сжимать, а не растягивать театральные действия. Мы сочиняем для глаз. Мы должны рассматривать воплощаемые сюжеты как бы сквозь выпуклое стекло, собирающее все лучи в одной точке. Малейшее отклонение заставляет терять из виду героев, благодаря которым мы приводим в движение страсти». Зависимость пере
1 Letters di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 37.
152
довой хореографической мысли от философии и эстетики просветительского авангарда тут вполне очевидна.
Оба хореографа не могли не испытывать и воздействия современной им музыки, прежде всего музыки оперного театра, вокруг которого тогда сосредоточивались интересы эстетической мысли. Вольтер, думая о судьбе драматического театра, обращался к примерам оперного искусства. В «Рассуждении о трагедии древней и современной», предпосланном его «Семирамиде», он порицал французскую оперу за неестественность, за пристрастие к ариям, не принадлежащим сюжету и разрывающим действие. В пример ставились итальянские оперы по сценариям Метастазио: они, соблюдая единство места, времени, действия, «полны поэзии выразительности и постоянного изящества, которые украшают природу, никогда ее не преувеличивая». Речитатив итальянских опер Вольтер сравнивал с мелопеей — напевной декламацией греков. Наконец, ратуя за воспитание высокого вкуса, он сожалел, что заурядные люди равнодушны к «правильной, благородной и строгой красоте», а потому, «если Цинну представляют по одному или по два раза, то Венецианские празднества исполняют по три месяца кряду».1
«Венецианские празднества» брали верх и над трагедиями балетного репертуара. Причиной тому была не одна лишь заурядность зрителей. Те же зрители, в полном согласии с Вольтером, предпочитали операм Кампра оперы итальянских композиторов. Но они скучали на иных спектаклях Анджьолини и Новерра, которые оба хореографа рассматривали как вершины своего творчества. Главной причиной была «роковая двусмысленность» этого творчества, как, применительно к Новерру, выразился И. И. Соллертинский. Объясняя условиями времени «половинчатость и незавершенность» реформ балетного театра, Соллертинский писал: «Верный сын эпохи Просвещения, Новерр последовательно проводит в балет рациональные принципы. Драматический сюжет получает логическую мотивировку. Но самое искусство балета условно по своей природе, и на рационалистическом пути понять его до конца невозможно. Оттого в балетных либретто Новерра о танце, как таковом, почти не упоминается, — за исключением тех эпизодов, где его можно оправдать логически: брачная церемония, шествие, состязание в пляске, народное торжество. Но здесь танец становится дивер
1 Oeuvres completes de Voltaire. Paris, 1828, t. 4, pp. 180, 183.
153
тисментом, т. е. отступает почти на старые позиции вставок в лирическую оперу-трагедию».1
Повторяя слова Соллертинского, можно сказать, что «роковая двусмысленность» творческих установок была тогда общей бедой искусства хореографии. Анджьолини интуитивно понимал эту беду. Сомневаясь в том, что можно «удержать сочинителей в рамках хорошего вкуса и, что еще труднее, в рамках Вдохновенного рассудка», он писал: «Произведение нельзя создать на основании одних только правил. Напротив даже, правила рождаются из произведений, и пока мы не научимся сочинять балеты-пантомимы или танец, повторяющий прекрасную природу, они не займут подобающего места, не усовершенствуются и не станут ни образцом, ни безупречным искусством».2
Все же, стремясь вывести свое искусство на самостоятельный путь, Новерр и Анджьолини обращались к авторитетам эпохи и следовали их примеру. Это было своевременно. Балетному театру стоило пересмотреть окостенелые традиции придворной зрелищности.
«Наставницей избрать вам надобно природу», — предлагал театру еще Буало в «Поэтическом искусстве», а потом его призыв стал краеугольным камнем эстетики Вольтера и энциклопедистов. Оба хореографа мечтали претворить эту мысль в практику балетного спектакля, создать пантомимную трагедию, основанную на принципах «правильной, благородной и строгой красоты». Одну из главных помех тому Анджьолини и Новерр усматривали в самодовлеющей виртуозности танца. Оба решительно и твердо отвергали ее приманки. Неуступчивость вредила обоим.
Анджьолини был даже упрямей Новерра. Ориентируясь на Вольтера, он избирал едва ли не самый трудный путь. Новерр поставил обещанный Вольтеру балет «Охота Генриха IV» по VI песне поэмы «Генриада». Но он не покушался на философские пьесы, которые Вольтер перегружал пространными отступлениями и нравоучительными сентенциями. Анджьолини и после «Семирамиды» возвращался к излюбленному драматургу. Но, по сути дела, он пользовался сюжетными каркасами его трагедий, иллюстрируя пантомимой отжатые схемы литературных монологов и диалогов. Притом пластический текст часто оставался
ь Соллертинский И. И. Жизнь и театральное дело Жана-Жоржа Новерра.— В кн.: Новерр Жан-Жорж. Письма о танце. Л., 1927, с. 52—53.
2 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, p. 23.
154
непонятным без помощи печатных программ. Новерр тоже почти всегда сопровождал литературными пояснениями свои балеты.
Анджьолини отказывался от виртуозного танца, заявляя: «Пантомимные танцовщики древности не делали кабриолей... Они двигали ногами не больше, чем двигают те, кто придерживается Прекрасного танца». Стремясь создать пантомиму, возрождающую «сальтацию» античности, он ссылался, по обычаям времени, на различные источники, от Лукиана до аббата Дюбо. Сальтацию он представлял себе как «подлинный Пантомимный танец или искусство двигать ногами, руками, телом в такт со звуками инструментов, делая понятным зрителю то, что хотят изобразить посредством жестов, знаков и выражений любви, ненависти, ярости и отчаяния». Термин «прекрасный танец» (bella danza) возник, по-видимому, как параллель термину «прекрасное пение» (bel canto). В сущности же, он опирался на все тот же девиз современной эстетики — подражать прекрасной природе. Под природой подразумевалась естественность, правдивость образов искусства. А отсюда прослеживалась связь между интересами Анджьолини и Глюка.
Музыка Глюка вдохновляла хореографа. «Я был бы несправедлив, если бы бросил перо, не отдав должного г. Глюку, который создал музыку Семирамиды, — писал Анджьолини. — Если я преуспею, то буду обязан разделить с ним честь успеха. Музыка являет собой поэзию балетов-пантомим. Мы так же неспособны обойтись без нее, как актер неспособен обойтись без слов. Подобно актерам древности, которые иногда передавали роль жестами на сцене, в то время как декламатор произносил стихи за кулисами, мы накладываем па, жесты, позы, выражения исполняемых нами ролей на музыку, звучащую из оркестра. Создать такую музыку так же трудно, как трудно изложить в стихах план трагедии. В ней все должно говорить. Она должна помогать нам быть понятными. И она — одно из главных наших средств для возбуждения страстей».
Глюк, вероятно, тоже ценил Анджьолини. Идеи хореографа должны были, в свою очередь, увлекать и его. Он сочинил для «Семирамиды» музыку, пластично и выпукло рисующую характеры. Он передал изгибы душевной борьбы героев, патетический разбег страстей и выразил оттенки любви, ненависти, ярости, отчаяния, каких просил у него хореограф. Но когда Анджьолини принялся воплощать свой замысел, язык пантомимы оказался несостоятельным перед глубиной и силой этой музыки. Жест, даже самый живописный, знак, наиболее понятный,
155
выразительная мимика лица, подкрепленная красноречивой пластикой тела, не могли стать вровень с эмоциональной насыщенностью развитых музыкальных образов. В «Семирамиде» выступали превосходные актеры, начиная с исполнительницы заглавной роли Нанси Левье. Но каждый персонаж олицетворял одну какую-нибудь страсть, и как бы внятно ни доносили актеры текст пластических монологов и диалогов, пластика не могла не показаться вялой сравнительно со звучащей музыкой.
Танца в «Семирамиде» было меньше, чем в иных операх Глюка, где этот танец к тому же часто играл действенную роль. Лишь в начале третьего акта «Семирамиды» народ плясал перед жертвенником Ваала. Но и этот кордебалетный номер проходил как логически оправданная дивертисментная вставка. В том была своя закономерность. Основоположники нового балетного театра, для того чтобы утвердиться на выдвинутой ими эстетической платформе, отказывались от исчерпавших себя форм танца или сводили их к минимуму. Анджьолини, как и Новерр, с критической суровостью осуждал современные ему танцевальные формы. «Танец выродился в наши дни до такой степени, что на него давно смотрят лишь как на искусство проделывать антраша или скачки, прыгать или бегать в такт или, по меньшей мере, держать спину, грациозно маршировать, не теряя равновесия, иметь мягкие руки и живописные, элегантные позы, — писал он в предисловии к «Семирамиде». — Другому не учат в наших школах, и оттуда выходят, умея проявить себя на театрах, если хватает энергии повертеться несколько минут с силой и легкостью... Одна лишь природа позволяет нам выбиться порой из этого тесного круга и дает кое-кому из нас, наперекор ему самому, легкий оттенок выразительности, чтобы сердиться, смеяться, чтобы казаться грустным или веселым в этом презренном шутовстве».
Доказывая, что выразительную пантомиму нельзя разбавлять бессодержательным «фигурным танцем», Анджьолини заключал: «Когда в главных ролях представляют танцовщиков, способных растрогать, а в ролях второстепенных выдвигают изящных танцовщиков, то жалость или ужас, почти уже пробудившиеся, уступают место восхищению, и внимание безвозвратно исчезает».
Разделение балетных амплуа на «танцовщиков, способных растрогать» и «танцовщиков изящных», то есть на актеров и виртуозов, было исторически трудно преодолимым препятствием для Анджьолини, для Новерра, а с ними и для тех крупнейших
156
исполнителей эпохи, которые одновременно владели обоими амплуа. Таким актером был, например, Гаэтан Вестрис — мастер виртуозного танца и первый исполнитель роли Ясона. Но виртуозный танец отделяла резкая граница от эмоциональной передачи трагической страсти. Танец мог выражать лишь «изящные», то есть шаловливые, капризные, светлые чувства. Танцующий герой трагедии являл собою дурное противоречие. Достаточно вспомнить слова Гримма о Максимилиане Гарделе, который не захотел отказаться от антраша в роли Александра Македонского и тем делал героя смешным. Танцовщики, уважавшие свое искусство, так не поступали.
Новерр и Анджьолини интуитивно стремились соединить виртуозность и эмоциональную передачу страсти в монологах и диалогах развернутого танца. Анджьолини, перечисляя и теоретически упорядочивая жанры балетного театра, от «низкого» гротеска до «высокого танца Дюпре, Вестриса и их предшественников, каким он был до появления г. Новерра, повернувшего его в сторону выразительности», считал этот высокий танеп родоначальником танцевальной пантомимы. До Новерра, писал он в «Рассуждении к Семирамиде», выразительность исключали маски, а также обычай знаменитых танцовщиков «выступать в одиночестве». Теперь Анджьолини видел перед освобожденным танцем широкие перспективы развития: «Искусство жеста, вознесенное на высшую ступень, должно аккомпанировать величию, элегантности, утонченности прекрасного танца. Но этого недостаточно: танцовщик-мим должен выражать все страсти, все душевные порывы. Он должен быть сам потрясен тем, что хочет изобразить, сам испытывать и заставлять зрителей чувствовать тот внутренний трепет, языком которого говорят в нас ужас, жалость, страх, заставляя нас бледнеть, вздыхать, дрожать и проливать слезы, как бы мы ни уверяли себя, что растроганы всего лишь явлением искусства, имитацией, лишенной той силы и красноречивой правдивости, какой пользуется природа в зрелищах действительности».
Анджьолини сопоставлял исполнителей «танцевально-пантомимных трагедий, являющих собой трагедии поэтические», с величайшими актерами драматической сцены — Рибу,1 Лекеном, 'Актер Луи Рибу дебютировал на сцене Комеди Франсез в 1747 году, исполнив роль Ореста в «Электре» Кребийона. В 1750 году он убил на дуэли актера-соперника и бежал в Австрию. Анджьолини, работавший одновременно с Рибу в Вене, без должных оснований ставил его в ряд великих мастеров французской драматической сцены.
157
Дюмениль, Клерон. И горделиво устанавливал «преимущество нашего искусства сравнительно с декламацией». Там мало быть только танцовщиком или только актером. «Чтобы стать совершенным танцовщиком-мимом трагического жанра, надо соединять в себе таланты Вестриса и Рибу, Салле и Клерон».
Практика была еще далека от идеала балетной трагедии, каким его рисовали себе Анджьолини и Новерр. Фанатично стремясь к этому идеалу в теории, оба хореографа встречали неодолимые препятствия, едва пытались облечь его в плоть сценического искусства. Наперекор их попыткам вставали запросы публики, привыкшей ждать от балета приятных развлекательных зрелищ. Даже самые просвещенные руководители театров не прощали неуспеха подобных опытов. Ведущие танцовщики на правах любимцев публики то поддерживали замыслы хореографов, то капризно им препятствовали. Главное же, сами хореографы, теоретически нарушая запреты современной сцены, на практике оставались связаны ее правилами. В конечном счете даже в своих теоретических высказываниях, вырываясь благодаря таланту вперед, оба то и дело возвращались на исходные позиции и тщетно искали выход. Потому острие полемических писем Анджьолини, направленное в Новерра, так часто могло быть повернуто против их же автора. Потому Новерр отказался от обстоятельного спора, предложенного Анджьолини, и лишь досадливо отмахнулся от нападок соперника.
Оба одинаково приобщали балет к интересам современной эстетической мысли. Оба отстаивали его право подняться на уровень других искусств. Но характерами и темпераментами они расходились. Галльская натура Новерра упорством и тщеславием отличалась от гораздо более мягкого, при всей пылкости, нрава итальянца Анджьолини. Новерр величаво громил консерваторов, даже когда случалось сдавать позиции. Анджьолини был менее настойчив и чаще сомневался в себе. Предчувствуя провал «Семирамиды», он закончил предпосланное спектаклю «Рассуждение» словами писателя-энциклопедиста Мармонтеля: «Следует обладать смелостью, чтобы писать для душ чувствительных, презирая холодную и низкую злобу, которая ищет смеха там, где природа призывает плакать». Но когда венские зрители действительно отвергли его балет, он постарался вникнуть в причины неуспеха. Трагическое зрелище в целом и особенно «мрачная катастрофа финала оттолкнули публику, привыкшую находить в балете лишь веселые обычаи, нравы и действия,— писал он.— Ко мне отнеслись как к заблудшему
158
смельчаку, стремящемуся во что бы то ни стало соблазнять, и так шумно запротестовали против моего труда, а лучше сказать, против его природы, что я счел себя вынужденным благоразумно замолчать, признав, однако, собственную смелость в том, что выдвинул на несколько лет раньше срока жанр танца, составляющий ныне отраду этой страны ... Громкие вопли, раздавшиеся против потрясений балета Семирамида, если не переубедили, то задержали меня в пути и в какой-то мере заставили отступить».1
Провал «Семирамиды» пресек содружество Анджьолини и Глюка. Партитура балета целиком не сохранилась. Композитор, продолжив опыт «Каменного гостя», взял фрагменты из нее для «Ифигении в Тавриде». Цитата из балета открывает второй акт, показывающий Ореста и Пилада в тюрьме. Другая цитата возникает перед тем как Ифигения, узнав в Оресте брата, запрещает приносить его в жертву.2 Таким образом музыкальная тема матереубийства перешла из балета в оперу.
ГОДЫ СТРАНСТВИИ
В 1766 году Анджьолини отправился в Россию на смену Хильфердингу. Он провел там в общей сложности около пятнадцати лет. То был наиболее продуктивный период его творческой биографии и вершина на общей карте деятельности иностранных балетмейстеров в России XVIII века. Разговор об этом пойдет в особой главе.
В 1772 году, когда закончился его первый контракт с дирекцией русского театра, Анджьолини уехал в Венецию, где повторил в театре Сан-Бенедетто «Дидону», созданную на русской сцене, и венскую постановку «Семирамиды». С ними он показал новые балеты: «Король на охоте» и «Эпизодические сцены». Затем Анджьолини отправился в Милан и поставил в герцогском театре Реджио балеты «Жертвоприношение Цирцеи», «Охота Генриха IV», «Ариадна на острове Наксосе», а также балетные сцены во многих операх. В Милане он издал и брошюру, содержавшую два письма к Новерру.
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre, pp. 19—20.
2 Cm.: Cooper M. Opera in France.— In: New Oxford History of Music. N. Y„ 1973, v. 7, pp. 236—237.
159
В 1774 году Анджьолини покинул Милан для Вены, вновь поменявшись местами с Новерром. Новая поездка в Россию заняла 1776—1778 годы. Поссорившись там с дирекцией, Анджьолини отправился в Венецию и Милан. 1779 год застал его в Турине. Весной 1880 года он показал в Вероне героический балет-пантомиму в десяти сценах «Торжество Александра в Индии». Затем его пригласил новый миланский театр Ла Скала. Там Анджьолини поставил множество балетов разного рода: дивертисменты, пасторали, героико-комические балеты, героические и трагические пантомимы. К последним принадлежали «Смерть Клеопатры» (1780), «Атилла» (1781), «Альзира, или Американцы» (1782). «Альзирой» Анджьолини мог почтить память своего учителя Хильфердинга, который еще в 1740 году поставил балет по этой трагедии Вольтера. Некоторые темы и названия дублировали новерровы, но спектакли были самостоятельны, хотя бы потому, что большинство их ставилось на собственную музыку Анджьолини.
1783—1786 годы Анджьолини снова провел в Петербурге: работал в театре и преподавал в училище. Здесь весьма пригодились его точные знания теории и практики танца, именуемого им материальным или техническим. В своих «Письмах Но-верру» он легко оперировал терминами этого танца, называл их азбукой танцовщика и часто разъяснял их смысл. Например, французский термин апломб (1’aplomb) означает устойчивость или, иначе, сохранность равновесия в смене движений и поз и подразумевает, что тело хранит отвесное, прямое положение, когда его тяжесть переносится с одной ноги на другую. Анджьолини определил суть термина по-итальянски, как центральную линию, позволяющую танцовщику быть хозяином своего тела. Объяснял он и понятие enchainement — связь движений в переходах от одного к другому. Основой такой связи он объявлял музыку, выдвигая, следовательно, принцип кантилены в танце. Сравнивая учителя танцев со скульптором, вытачивающим мраморную фигуру, он предписывал ему внимательно отделывать движения рук и головы, «изысканные по требующейся для них грации и гармонии».
Но цельность и гармонию Анджьолини считал уже принадлежностью пантомимы, которая, как высшая ступень балетного искусства, доступна не всякому наставнику. Он писал: «От основных движений, вкупе образующих технический танец, переходят к другим, гораздо более сложным по своей тонкости, позитурам и положениям... Эти позитуры, движущиеся или непо
160
движные, всегда должны быть красноречивы, выразительны и являться дочерьми прекрасной природы».
Тут педагог вырастал в художника, сочетающего опыт с пламенной преданностью искусству. Анджьолини, в отличие от Новерра, нигде не называл имен своих учеников. Он мог бы сделать это, говоря хотя бы только о русской школе и русских труппах. Но и без того его роль в становлении русского балета выдвигает его впереди всех итальянских хореографов, которые предшествовали и сопутствовали ему на русской сцене XVIII века. Среди таких разных танцовщиков и балетмейстеров, как Фоссано, Кальцевара, Сакко, Таолато, Канциани, он выделялся и мощью таланта, и ясностью эстетической системы, столь важной для организации и воспитания художественных сил молодого русского балета.
Вернувшись на родину, Анджьолини поставил в Ла Скала трагический балет «Федра» (1788), героико-комический балет «Лоренцо» (1789), героико-пантомимный балет «Амур и Психея», а также много других, почти все на собственную музыку. В 1790 году он работал в туринском театре Реджио, в 1791 — в венецианском театре Сан-Бенедетто.
В конце 1790-х годов, когда развернулась освободительная борьба итальянцев с австрийским владычеством, Анджьолини стал ее участником. Джино Тани сообщает, что с приходом в Ломбардию французов Анджьолини, член миланского Общества просвещения, много сделал для реорганизации отечественных театров. Он проявил себя «добрым демократом и республиканцем» постановкой балетов-пантомим «Сильвио, истинный патриот», «Святейшая резня, или Жертвы Ватикана», «Сон демократа», «Республиканец». В специальном реферате он утверждал, что «театр должен не только доставлять наслаждение, но и быть школой гражданского и демократического сознания». 1
На почве отечественного театра Гаспаро Анджьолини практически претворил прогрессивные идеи французских просветителей, вскормившие его творчество. Эстетическая мысль, расцветшая в пору подготовки французского народа к великому историческому перевороту — революции 1789 года, дала свежие отростки в острых ситуациях национальной жизни Италии. Многие годы на сценах разных стран Анджьолини переводил на язык балетной пантомимы героический слог трагедии класси-
1 Т а[п 1] G. Angiolinl.— Enciclopedia dello Speltacolo, v. I, p. 6?U.
10 в Красовская
161
цизма с ее мотивами неподкупной чести и доблестного долга. Он пользовался для этого сюжетами античной истории и мифа, легендарная отдаленность которых обуздывала природу его творчества. Теперь, на склоне лет, он вынес на сцену события реальной действительности. И холодноватую абстрактность его былых балетов сменили спектакли, наполненные животрепещущим смыслом современной образности. Но в быстром беге событий уже не оставалось времени для теоретических выкладок. Хореограф не успевал излагать сюжеты своих новых балетов и тем более сопровождать их пространными пояснениями. В последних, вероятно, и не было нужды. Зритель без печатных программ понимал сценическую разработку занимавших его проблем. Но потому от этих последних балетов Анджьолини ничего, кроме названий, не сохранилось. Зато известно, что, благодаря им, он сам стал героем, пострадавшим во имя национальной чести.
Когда в Милан вступили австрийцы, республиканская деятельность обошлась хореографу двумя годами заключения. «В июле 1799 года почти семидесятилетний Анджьолини был арестован, осужден и отправлен в тюрьму Катарро, откуда освободился... в августе 1801 года», — пишет Джино Тани. С тех пор Анджьолини уже не занимался творческой деятельностью.
Он умер 5 февраля 1803 года.
ГЛАВА ПЯТАЯ
НОВЕРР
И ПАРИЖСКАЯ ОПЕРА
ВСТРЕЧА
' Ранней осенью 1776 года в Париже разнеслась весть: Новерр ангажирован в Королевскую академию музыки. Журнал «Секретные мемуары» 14 августа объявил, что театр скоро получит «подкрепление, которое может оказаться весьма полезным, в лице знаменитого Новерра. Всем известен талант этого балетмейстера в пантомиме. Его пробуют закрепить за Парижем, хотя пока что он состоит при дворе Вены, где пользуется большим успехом и, по-видимому, его трудно оттуда заполучить».1
Талант Новерра действительно был известен Парижу давно, еще со времени штутгартских успехов хореографа. Слухи подтверждались наглядно: Гаэтан Вестрис, то открыто, то контрабандой, ввозил находки мастера. Об этом свидетельствовали те же «Секретные мемуары». Например, в мае 1762 года на сцене Королевской академии музыки состоялась премьера оперы де Бламона по сценарию Фюзелье «Греческие и римские празднества». Танцы первого акта скорее всего принадлежали хранителю канонов Жану-Бартельми Лани. Мари Аллар сорвала там аплодисменты в роли Терпсихоры. Но «это не помешало,— сетовал критик,— заметить множество недостатков хореографа; он почти не передал тонкости оттенков, выраженной в словах. Надо признать, что искусство, достигшее ныне вершин у исполнителей, изрядно отстает по сочинительской части. Господин Новерр проявил талант в этом плане, и пока не видно
1 Memoires secrets..., t. 9, pp. 210—211.
10*
163
никого, кто бы мог похвалиться, что превзошел его». Танцы второго акта, должно быть, ставил Вестрис, балетмейстер Оперы с 1761 года. Он недавно вернулся из Штутгарта, где в феврале прошла премьера «Смерти Геракла». Среди композиций этого балета выделялся танец четырех борцов. В опере де Бламона критик похвалил только один танцевальный номер: «Во втором акте танец борцов отвечает подлинной красоте и самой большой правде; вот что можно назвать величественным созданием хореографии, вот что по-настоящему ново». Перейдя к следующему номеру, он продолжал: «Того не скажешь о танце бегунов: вряд ли допустимо, чтобы атлеты, которым надобно состязаться в беге, без конца возвращались вспять, проделывая кабриоли и другие скачки: тогда назвать бы уж этих соперников прыгунами».1 Вестрис явно заимствовал новинку Новерра в танце борцов и не мог предложить ничего равного в танце, поставленном самостоятельно.
Все же в 1776 году парижане, хотя и нетерпеливо ждали Новерра, благоразумно оставляли пути для отступления. Известив о его приезде, «Секретные мемуары» через неделю передавали сплетню: Новерр будет работать в театре Оперы, там «для него выстроили золотой мост, чтобы убедить покинуть Вену. Ему согласились дать 20 000 ливров жалованья, а это, без сомнения, чересчур много».2
Новерр ехал в Париж прославленным и уже маститым хореографом. Ему было около пятидесяти лет. Он был полон энергии и рассчитывал завоевать город, который так долго не признавал его заслуг.
Балет парижской Оперы тогда слыл лучшим в Европе. Во главе труппы стояли три первых танцовщика: Гаэтан Вестрис, его помощники Максимилиан Гардель и Жан Доберваль. Средства на постановки отпускались щедрой рукой. Все как будто сулило широкие возможности хореографу. И все-таки желанное место несло Новерру мало радостей. Предстояла битва с вековыми традициями, и лишь немногие из актеров, воспитанных в этих традициях, приветствовали приход реформатора. Большая часть сплотилась против «провинциального самозванца». Враждебнее всех держалась семья Гардель; ведь там рассчитывали, что заместить Вестриса поручат Максимилиану Гарделю.
1 Memoires secrets..., t. 16, р. 156
г Ibid., t. 9, р. 217.
164
По рукам ходило письмо матери Гарделя. Гримм первым опубликовал его целиком в своей «Литературной переписке». Он не преминул насмешливо комментировать стиль этой «очень значительной и осведомленной дискуссии о достоинствах балетмейстера». Госпожа Гардель, не больно ладившая с грамматикой, возмущалась тем, что сын, «добившийся известности и похвал своему таланту за те девятнадцать лет, которые он провел в Опере», должен уступить место «иностранцу, двадцать раз тщетно пытавшемуся навязать себя Опере... Обычно подобные господа приезжают в Париж, чтобы усовершенствоваться, но не давать уроки великим мастерам. У маленького Новерра чересчур много честолюбия и самодовольства. Тридцать лет назад, когда он явился предлагать себя, он был отослан назад на ярмарку показывать свои китайские балеты... Балеты эти держатся лишь из-за его хвастовства и собственной громадной стоимости, что же касается танца, то его там нет, и просвещенная публика Парижа скоро устанет от пантомим, где пренебрег гают искусством».1
Пристрастия госпожи Гардель в общем верно отразили вкус парижской публики и навыки труппы. Все вместе крепко держались за консервативные традиции Королевской академии музыки, считая, что сюжет балета хорош, если содержит достаточно поводов для танцев, а танцы хороши, когда виртуозно воплощают сложившиеся формы инструментальной музыки. Новерр знал все это не хуже госпожи Гардель.
Может быть поэтому, он чрезвычайно робко пользовался своими правами, получив желанное место. Уже свыше двух лет Глюк совершал реформу оперы на сцене, открывшейся теперь Новерру. Начиная с весны 1774 года Париж услышал «Ифигению в Авлиде», «Орфея» и «Альцесту». Новерр же, в «Письмах» ставивший свою реформу наравне с реформой великого композитора, занял на практике умеренные позиции.
«АПЕЛЛЕС И КАМПАСПА»
Он избрал для первого спектакля балет «Апеллес и Кампаспа, или Победа Александра над самим собой», поставленный в 1773 году в Вене. Сюжет был не нов. Еще в 1584 году на
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, pp- 174—
165
английской сцене шла комедия Джона Лили «Александр, Кам-паспа и Диоген». К тому же сюжету обращались до Новерра итальянские и французские композиторы: в 1740 году в Венеции шла опера Казали «Кампаспа», а в 1758 году в Париже ставили оперу Элера «Апеллес и Кампаспа». В 1763 году на сцене Итальянского театра в Париже провалилась двухактная комедия с ариеттами «Апеллес и Кампаспа» Пойнзине с музыкой Жибера. Все эти произведения драматизовали анекдот, рассказанный Плинием-старшим: Александру Македонскому после взятия Фив досталась в добычу красавица Кампаспа; он уступил ее художнику Апеллесу.
Париж увидел балет Новерра 1 октября 1776 года вместе с одноактным балетом «Евтимий и Эвхариса» (сценарий Бу-тилье, музыка Дезормье) и балетным актом из оперы Рамо по сценарию Каюзака «Празднества Гименея и Амура». В балете Новерра музыку Аспельмайра пересмотрел Родольф, занявший в Париже пост придворного музыканта короля. Прежняя партитура была рассчитана на пантомиму и содержала мало танцевальных номеров. В новой редакции танцы преобладали. 3 октября корреспондент «Секретных мемуаров» сообщил, что оба первых балета «не произвели сенсации», зато балет Новерра «счастливо возместил неудачи лирического спектакля в целом». Рецензент отметил музыку Родольфа, которая «чудесно сочеталась с искусной хореографией Новерра», и объявил, что публика «без устали наслаждалась» балетом, хотя тот и «не может равняться» с «Медеей и Ясоном».
Гримм, давно следивший за деятельностью Новерра, посвятил его дебюту длинную статью.1 Поклонник Глюка, он сразу же заверил читателя, что, не будь даже опера Рамо такой скучной, ее все равно не заметили бы из-за успеха балета-пантомимы «знаменитого Новерра», «произведения, которое должно создать эпоху в наших искусствах и развлечениях». Притом статья Гримма беспристрастно оценивала новинку.
Новерр, быть может, не без умысла дебютировал балетом о художнике, покорившем своим искусством владыку вселенной. Представая перед парижской публикой, хореограф нуждался в снисхождении и намекал на это. О том, что Королевская академия особого великодушия к Новерру не проявила, позволяет судить статья Гримма. Из нее следовало, что в деко
1 См.: Correspondance Utteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, pp. 214—220.
166
рации первого акта «равно отсутствовали истина и вкус» и «от силы две картины, скудно прислоненные к одной из кулис», поясняли, что действие происходит в мастерской Апеллеса. Зато роли исполняли лучшие силы прославленной труппы. Зато кордебалет был вынужден покинуть линии, закрепленные за ним от века, и подчиниться режиссерским приказам балетмейстера.
В первом акте Апеллес — Гаэтан Вестрис, готовясь к приходу Александра, наряжал своих учеников амурами, а служанок— грациями. Гримм расценивал этот сюжетный ход как «находчивую и приятную для глаз идею». Но, вероятно, находчивость и приятность следовало относить не к замыслу,— амуры и грации давно процветали на сцене Оперы,— а к искусному расположению танцовщиков на сценической площадке.
Воинственная музыка возвещала прибытие Александра — Максимилиана Гарделя и Кампаспы— Мари-Мадлен Гимар, сопровождаемых воинами и прислужницами. Александр восхищался картинами, которые подносили амуры, «группируясь на разный манер», и заказывал портрет Кампаспы. Та сбрасывала покрывало, и Апеллес «отшатывался, охваченный удивлением и восторгом». По приказу Александра Кампаспа выполняла ряд движений и позировок; кордебалетный танец с гирляндами заканчивал сцену.
Следовал выход Роксаны — Анны Фредерики Гейнель. Соперница Кампаспы ревновала, Александр ее успокаивал. «Но так как этот Александр ни на минуту не переставал быть господином Гарделем, иначе говоря, одним из первых танцовщиков Европы и одним из самых холодных актеров, когда-либо появлявшихся на театре, эта сцена, хотя и весьма способная вызвать интерес, произвела небольшое впечатление»,— сетовал Гримм.
Критика восхитила другая сцена, где Апеллес, чтобы развлечь Кампаспу во время сеанса, заставлял учеников танцевать: «Здесь-то господин Новерр развернул все богатства своего таланта в смене картин, достойных Альбани». Между тем Апеллеса охватывали муки творчества. Он видел свою модель то Минервой, то Флорой, то Дианой, «набрасывал ее черты, стирал, чтобы набросать и стереть вновь», а кругом непрестанно сменялись группы танцующего кордебалета. Наконец Апеллес решал изобразить Кампаспу Венерой на цветочном троне, окруженной амурами, зефирами и грациями: первые подносили ей корзины цветов, вазы, благовония, а один из них — горлицу;
167
другие увенчивали ее розами; третьи «занимались ее туалетом». Апеллес отсылал учеников. Следовало взаимное объяснение в любви, которое подсматривала Роксана,— излюбленный живописцами галантный мотив. Роксана приводила Александра, и начиналась драматическая часть действия: взрывы гнева, оправдания, обмороки. Апеллес «трепетал не столько за себя, сколько за жизнь возлюбленной». Александра «раздирали противоречивые чувства». Словом, «жанр грациозный, пасторальный и эротический» отступал перед «жанром героическим, патетическим и слезливым». Акт заканчивался милостивым жестом императора и счастливым соединением двух пар.
Второй акт происходил во дворце Александра, на фоне канонической декорации зала; в центре помещался трон. Действие состояло из парадных шествий и взаимных поздравлений, сопровождаемых дарами. Все завершалось общим танцем. По свидетельству Гримма, в этот танец «соизволял вмешаться Александр, ибо Александр — Гардель скорей отказался бы от господства над миром, нежели от своих антраша».
Гримм еще заочно хвалил новизну и драматизм балетов Новерра. Когда же встреча состоялась, он все же предпочел анакреонтические мотивы действия. Правда, он заметил, что растянутость балета нанесла ущерб содержанию. «Возвышенность поступка Александра,— писал он,— не в том, что тот отдает любовницу, способную ему изменить, а в торжестве над собственным первым побуждением; в том, что он не колеблясь признает власть, превосходящую его могущество, власть искусства и любви». Все же Гримм защищал хореографа: «Хотя балет Апеллес и Кампаспа не имел того успеха, какой обещала репутация г. Новерра, люди со вкусом соглашаются, что никогда и никто не знал лучше возможностей и эффектов своего искусства. Новый балет не преминули сравнить с балетом Медея, и многие, как видно, предпочли первый как более интересный и более патетический. Но работы эти принадлежат к двум разным жанрам, и их решительно нельзя противопоставлять».
Новерр нуждался в защите и заслуживал ее. Он действительно ставил на карту репутацию реформатора, начиная не лучшим своим балетом и к тому же приспособив его к вкусам начальства Оперы и капризам первых сюжетов труппы. Он должен был считаться и с тем, что завсегдатаи Оперы имели в вопросах репертуара больше веса, чем весь лагерь Гримма. 13 октября в «Секретных мемуарах» высказался, например, один из таких завсегдатаев: «Господин Новерр, укоротив, улучшил свой
168
балет «Щедрость Александра». Но ведь порицали и его манеру брать за основу зрелища то, что может сойти лишь за второстепенную подробность. Таким путем он не ответит помыслам тех, кто рукоплескал его приходу. Совершенствовать нашу хореографию надо, находя искусный способ вводить в оперы и другие лирические произведения танцы, сообразные сюжету и составляющие часть действия, способные поддержать и усилить интерес восхитительного зрелища и дополнить его волшебство». Возможно, писал это критик, только что хваливший Новерра. Опомнившись от первых непосредственных впечатлений, он уловил опасность отхода от традиций.
Завсегдатаям Оперы на поверку оказывались милее «волшебства» старых балетных дивертисментов, нежели хореографические драмы. Потому, даже полагаясь на поддержку высокой покровительницы, королевы Марии-Антуанетты, Новерр понимал, что не встретит полного сочувствия, приступив к коренной переделке привычного. Пробуя влить новое вино в старые мехи, ища половинчатых решений, он сразу же обнаружил свою уязвимость. Этим охотно воспользовались защитники старого.
Все же Новерр не терял надежды завоевать Париж. Готовясь к решительному шагу, он пока что предложил публике свой старинный одноактный балет «Капризы Галатеи». Поставленный еще в Лионе с музыкой Гранье, он был возобновлен для Штутгарта в 1761 году с музыкой Родольфа или Деллера. Осенью 1776 года Новерр показал «Капризы Галатеи» в Фонтенбло, а через два месяца перенес в Оперу. Обращаясь к избитому анакреонтическому жанру, хореограф взрывал его изнутри. Взамен привычной череды танцевальных номеров, кое-как нанизанных на сюжетную схему, он создал картинку с изысканно выписанными характерами. Пастух, измученный капризами пастушки Галатеи, просил помощи у Амура. Крылатый ребенок Амур, играя с Галатеей, отдавал ей свой колчан, и она, уколовшись стрелой, узнавала чувство любви. «Как ни проста идея этой пантомимы,— писал Гримм,— как ни изношены образы, все воплощено бесконечно мило. Нельзя представить себе ничего более свежего: это букет цветов, это мысль Анакреонта, как ее мог бы изобразить на полотне Буше».1
Действенная пантомима, прослоенная танцами, выливалась в финальный дивертисмент. Она давала завидный материал исполнителям. Новерр строил роль Галатеи в расчете на та
1 Correspondence litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, p. 254.
169
лант Гимар, блестящей танцовщицы и актрисы лирико-комедийного плана. «Нельзя тоньше схватить разные грани каприза,— писал о ней Гримм.— Нельзя сочетать его оттенки с большим искусством и большей грацией». Гимар уже пятнадцать лет числилась звездой труппы. Ее партнером выступал Шарль Ле Пик, ученик Новерра, вызванный в Париж. Гримм посвятил несколько восторженных строк этому танцовщику, который в роли пастуха «не оставлял желать лучшего».
«ГОРАЦИИ И КУРИАЦИИ»
«Капризы Галатеи» склонили на сторону Новерра изрядную часть недоверчивой публики. Это позволило отважиться на более рискованный опыт. 21 января 1777 года Новерр показал балет «Горации и Куриации», поставленный в 1774 году в Вене на музыку Старцера. Париж впервые знакомился с многоактной пантомимной трагедией. Критики предсказали провал.
«Сомнительно, чтобы это обособленное зрелище имело успех, каким льстит себя господин Новерр,— писал в день премьеры корреспондент «Секретных мемуаров».— Но если он не преуспеет на этот раз, его миссию можно будет считать неудавшейся. Досадно, что он не желает заставить себя сочинять хореографические отрывки, прилаженные к театральному действию, которые бы его сопровождали, ему подчинялись и, не охлаждая его и не тесня, наоборот, его поддерживали и подогревали в отпущенных танцу антрактах». Казалось бы, осуждалась всего лишь форма самостоятельного многоактного балета, уже признанного в масштабах Европы. На деле блазированных посетителей Королевской академии музыки смущали эстетические мотивы драматургии, ее героические характеры, жертвующие личным во имя патриотической идеи. По той же причине критики этого толка объявляли «Альцесту» Глюка скучной и однообразной в выражении эмоций. А ведь совсем немного лет отделяло «Альцесту» и «Горациев» от революции, поднявшей подобные идеи на щит.
Предчувствия не обманули критиков. Трагедия Корнеля «Гораций», еще до рождения Новерра опробованная на балетной сцене Франсуазой Прево и Жаном Валоном, была теперь сочтена неподходящей для балета. Правда, Прево и Валон взяли для своей пантомимы один эпизод, а главное, явили зрителям невиданный пластический аналог драматического дейст
170
вия. Новерр сохранил пять актов трагедии, но предельно сжал их и убрал побочных персонажей. Его тем не менее упрекали за зрелище растянутое, запутанное и, главное, почти лишенное танцев. Зрителей 1777 года уже не могла удивить пантомимная передача драматического диалога, только для балета они предпочли бы более легкомысленные сюжеты.
Одной из причин провала было то, что театр намеренно небрежно оформил спектакль. Об этом свидетельствовал М. А. Барон в книге, изданной в 1825 году, но написанной много раньше. Книга называется наподобие трактатов XVIII века: «Письма к Софи о Танце, сопровожденные беседами о танцах древних, современных, религиозных, гражданских и театральных». Большая часть книги отведена «беседам» между автором и Софи, а также двумя лицами, скрытыми под именами античных философов Гераклита и Демокрита. Последний сообщал: «Балет Горации и Куриации сочинялся Новерром, когда я был совсем молод». Демокрит в другом месте восклицал: «Надо было видеть гримасу, которую состроил Новерр в день первого представления»,— и описывал спор балетмейстера с костюмером. Все просьбы Новерра одеть персонажей соответственно сюжету оставались напрасны: «Костюмер посоветовал Новерру заниматься рисунком своих па и спокойно последовал рутине». Камилла «явилась в чудовищных панье с каждого бока и прическе в два-три фута высотой, убранной поразительным количеством цветов и лент». Танцовщики выступали в тоннеле: наряды Горациев были золотыми, Куриациев — серебряными. «Кроме того,— продолжал Демокрит,— у каждого было с обеих сторон лица по пять буклей из напудренных волос и тупей, ужасающе взбитый кверху и называвшийся тогда тупеем по-грече-чески».1 Почти теми же словами рассказывал и Новерр о препятствиях, которые чинили ему при постановке «Горациев» (II, 175—176).
Новерр, как предполагает Мариан Ханна Уинтер, воспользовался английской версией трагедии Корнеля. «В пору его первого пребывания в Лондоне,— пишет исследовательница,— одним из гвоздей репертуара Гаррика была трагедия Отец-римлянин Уильяма Уайтхеда — свободная переделка Горациев Корнеля; премьера ее состоялась в 1750 году. Там имелись
1 Baron М. A. Lettres a Sophie sur la Danse, suivies d’entretiens sur les danses ancienne, moderne, religieuse, civile et ihedtrale. Paris, 1825, pp. 233— 234.
171
кое-какие подробности, отсутствующие у Корнеля, например знаменитая клятва на мечах, вручаемых Горациям их отцом».1 Клятву на мечах прославила картина Жака-Луи Давида. Художник написал ее в 1785 году, и Уинтер считает, что он запечатлел запомнившийся ему момент из героической пантомимы Новерра. На полотне Давида три брата театрально унифицированным жестом выбрасывают правую руку навстречу отцу. Тот сжимает одной рукой три меча и указывает на них другою. Стиснутые в пучок мечи как бы повторяют метафору старинной пантомимы из английской трагедии «Горбодук»: нерасторжимость союза — сила Горациев. В стороне от центральной группы полулежит в горестной позе Камилла, поддерживаемая наперсницей.
Музыкально-хореографическое воплощение этой сцены у Новерра воссоздал Линхэм, опираясь на партитуру Старцера. Сцена следовала за прощанием Камиллы с женихом — одним из братьев Куриациев. «Внезапная вспышка воинственной музыки призывает Куриация к его долгу и разжигает в нем боевой пыл,— пишет Линхэм.— Тщетно хочет Камилла последовать за ним, но на срывающемся diminuendo струнных шатается и падает в кресло, охваченная горем и отчаяньем». Входили братья Камиллы, чтобы, в свой черед, проститься с нею. Старый Гораций «призывал сыновей победить или умереть за Рим... Под горделиво величественный мотив в ре бемоле три брата отправлялись на битву».2
Героика теснила в балете нежные чувства. Носительницей их оставалась лишь Камилла. На сцене театра, вскормленного и опекаемого королевским двором, это звучало вызывающе и должно было раздражать завсегдатаев кресел. Новерр, подобно другим великим талантам, пророчески ощущал в застойном воздухе предреволюционного десятилетия признаки перемен. Весь второй акт балета занимало зрелище битвы, которого не было и не могло быть, по правилам классицизма, в трагедии Корнеля. Фанфары возвещали встречу римской и альбанской армий. Их предводители склоняли знамена перед алтарем под троекратные повторы воинственного клича рогов, труб, гобоев и барабанов. Начиналась битва. Ее центром был танец шести Горациев и Куриациев. Войска отзывались жестами радости или скорби, наблюдая успехи и неудачи сражавшихся. Под конец
1 Winter М. И. The Pre-Romantic Ballet, р. 181.
2 Lynham D. The Chevalier Noverre, p. 151.
172
в живых оставались двое противников. Гораций обманно спасался бегством, но вдруг, повернувшись, вонзал меч в преследователя, «даря его жизнь душам своих погибших братьев». В оркестре звучал торжественный марш, пока альбанцы поднимали и уносили своих мертвых, а римляне венчали победителя.
Линхэм отмечает: «Наряду с воинственными эпизодами, партитура видное место отводит чувствительным мимическим сценам, что явно отвечало тяге Новерра к глубоким характерам. Например, во время мужественной чаконы отчетливо слышны рыдания Камиллы. Темпы часто меняются, вводятся новые мелодические обороты, Старцер смело меняет тональности. Танцы, подобно ариям, возникают среди мимических сцен, обозначая кульминации чувства. Ситуации выразительны и театрально эффектны».1
Тонкостям музыки, а тем более ее хореографической трактовки не отвечали смешные костюмы персонажей, все убогое убранство спектакля. Новерр упорно не замечал препон, К 20 февраля он придал балету новый финал. Римская армия требовала смерти своего вождя за то, что он убил Камиллу. На поле битвы старый Гораций обращался с речью к войскам. По словам критика, то была «возвышенная мольба» в пантомимном действии. Старик «шел вдоль рядов солдат, протягивал доспехи поверженных Куриациев. Копья и знамена, до той поры опущенные к земле, взмывали кверху, и спасителя родины торжественно подымали на щит».2
Все же «Горации и Куриации» были сняты с репертуара. Здесь дала себя знать неприязнь труппы к спектаклю. Мужские «звезды» не снизошли до участия в танце-битве шести героев, что, естественно, сказалось на общем тоне действия. Журнал «Секретная литературная переписка» предложил читателям письмо «одного из наших первых литераторов к вельможе», чье имя тоже не было названо. Критикуя постановку «Горациев», автор письма считал, что «трагическая пантомима Новерра страдает почти теми же промахами, что и пьеса Корнеля», хотя претензий к великому драматургу не объяснял. В конце он сетовал: «Трудно ввести благородную пантомиму на нашу сцену. Другие силы требуются, чтобы воплощать ее немые роли. У большинства наших танцовщиков нет для этого ни внешности, ни возвышенного чувства. Если исключить их ноги, оста
1 L у п h а т D. The Chevalier Noverre, р. 152.
2 Memoires secrets..., t. 10, p. 54.
173
нутся манекены, обряженные художником в побрякушки и мишуру».1
Одна Гейнель вызывала похвалы в роли Камиллы.
ГЕЙНЕЛЬ — ТАНЦОВЩИЦА НОВЕРРА
Среди любимых актрис Новерра была Анна Фредерика Гейнель, сама обязанная Новерру именем выдающейся пантомимной танцовщицы. Указывая на знаменитостей балетного классицизма как на прямых ее предтеч, хореограф запальчиво вопрошал: «Что поделали они со своим танцевальным благородством, славу которого Вестрис и м-ль Гейнель отобрали, пользуясь правом преемственности?» (II, 239). Можно тут же добавить, что Гейнель и Гаэтан Вестрис отчаянно сражались друг с другом за эту славу.
Гейнель, по национальности немка, родилась в Байрейте 4 октября 1753 года. Училась она в Штутгарте и была воспитана в традициях французской школы «заботами прелестного танцовщика Лепи», как отмечал Новерр (IV, 48). В 1767 году Гейнель начала выступать на штутгартской сцене, но вскоре переехала в Вену, куда ее мог позвать Новерр. Он вспоминал: «Я поручил ей там многие роли в моих действенных балетах» (IV, 48).
Но Гейнель недолго оставалась в Вене. Она отправилась в Париж, променяв пантомимные роли действенного балета на канонические антре, состоявшие, по словам современного критика, из «танца благородного, но внушающего пикантные мысли». Она дебютировала на сцене Оперы 26 февраля 1768 года, исполнив три танца: «Арию в грациозном жанре, лур и чакону».2 В мае ее заметил Гримм. Он писал: «Мадемуазель Гейнель обременена семнадцати-восемнадцатилетним возрастом (ей было пятнадцать лет.— В. К.), красивым разрезом глаз и парой прелестных ног, поддерживающих весьма хорошенькую особу... Она отличилась точностью, уверенностью, апломбом и благородством, равными талантам великого Вестриса. Знатоки танца утверждают, что через два или три года м-ль Гейнель станет первой танцовщицей Европы, а знатоки женских чар
1 Correspondance litteraire secrete, № 6. De Paris le 8 fevrier 1777.
‘Capon G. Les Vestris, pp. 194—195.
174
уже сегодня оспаривают честь разориться из-за нее».1 Знатоки действенного балета молчали, поскольку ни тогда, ни долгое время потом в Париже не знали об актерском таланте Гейнель. Зато парижан потрясла сила ее техники, прежде всего pirouettes a la seconde, раньше доступные только танцовщикам, и то немногим. Вероятно, это и вызвало гнев Гаэтана Вестриса. Его придирки к Гейнель скоро стали забавлять завсегдатаев Оперы.
Несколько лет Гейнель подвизалась в балетных антре на музыку Кампра, Рамо и менее значительных композиторов французской лирической оперы. Отточенной и вместе с тем величественной манерой, медлительной в темпах адажио, она заслужила прозвище «королевы танца». Подлинного признания Гейнель добилась потом, в парижском репертуаре Новерра. Но сначала она вернулась к этому репертуару на лондонской сцене.
«Только с 1772 года действенные балеты регулярно вошли в программы Королевского театра,— пишет Айвор Гест.— Первым значительным балетом, там показанным, был балет Новерра Адмет и Альцеста с Анной Гейнель, возобновленный балетмейстером Лепи».2 Альцеста, героиня греческого мифа, жертвовала собой, спасая мужа. В этой роли увидел Гейнель писатель Орэйс Уолпол. «М-ль Гейнель высока, чудесно сложена и очень красива,— писал он.— Ряд ее поз скопирован с античности. Она убивает себя с той замедленной грацией, с какой оживает статуя Пигмалиона».3 Гримм, сожалея, что «вот уже два месяца прошло с тех пор как гордый Альбион похитил у нас м-ль Гейнель», писал: «Будь я менее занят, я посещал бы Оперу всякий раз, как она показывается там, единственно, чтобы наблюдать за ее появлением и исчезновением со сцены, так чаруют и восхищают грация и благородство ее поступи».4
Гейнель вернулась в Париж и в 1775 году сыграла роль Медеи в балете Новерра, вновь поставленном Вестрисом. Вероятно, это событие примирило двух премьеров. Вестрис, должно быть, понял, что лучше извлечь пользу из сходства, чем искать повод для вражды. Сходство же было бесспорным при всей разнице в возрасте. Оба виртуозно владели техникой танца. Оба
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 5, pp. 431— 432.
2 Guest I, The Romantic Ballet in England, p. 15.
3 Цит. no: Dug las R. Sophie Arnould. Paris, 1898, p. 82.
4 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, I. 7, pp. 417—• 418.
175
любили и идеально воплощали классицистские образы пантомимных трагедий Новерра. В последнее Вестрис мог поверить, сравнив отзывы прессы о Медее — Аллар в его первой парижской постановке 1770 года и отзывы о теперешней Медее — Гей-нель.
Медею — Аллар нашли «ужасающей». О Медее — Гейнель писали совсем иначе. «Особенно восхищает м-ль Гейнель способностью выражать силу страсти и самых противоположных чувств,— заявлял критик «Меркюр де Франс».— Ее танец, жесты, позы, черты ее лица являют стремительно меняющуюся и величественную картину, которая трогает зрителей и приводит их в восторг. Такова мощь искусства пантомимы, если исполнение точно и естественно».1 Разумеется, естественность понималась в правилах «подражания прекрасной природе», предписанных театральной эстетикой эпохи. В таких границах протекали пластические диалоги Медеи — Гейнель и Ясона — Вестриса. Жесты разворачивались медленно, напоминая аффектированные модуляции голоса в удивленной, гневной или скорбной фразе. Паузы запечатлевали крупным планом моменты патетического взлета чувств. Движения расчетливо вскрывали ту игру светотеней в противопоставлении фигур, какую настойчиво советовал искать и соблюдать Новерр. А вера Гейнель и Вестриса в художественную силу этой пластики и создавала впечатление естественности их по-своему высокого искусства.
На следующий год в Париж приехал Новерр. Двадцатитрехлетняя Гейнель, которую он помнил почти девочкой, находилась в расцвете красоты и таланта. Он нашел в ней единомышленницу-актрису и поручил ей в балете «Александр и Кампаспа» роль Роксаны — страстной и гордой соперницы кроткой Кампаспы, которую играла Гимар.
В 1777 году Гейнель исполнила роль Камиллы. Критика отметила выразительность ее игры в сцене, где Камилла проклинала брата — убийцу ее возлюбленного. То был наивысший подъем в творчестве талантливой пантомимистки, за которым не последовало продолжения. Новерру упорно запрещали ставить балетные трагедии. На героинь анакреонтических балетов Гейнель не посягала. К тому же Гимар не уступила бы ей этих героинь.
Гейнель снова вынуждена была довольствоваться балетными выходами в оперных спектаклях. Один из таких выходов и по
1 Цит. по: Guest I. Le Ballet de I’Opera de Paris. Paris, 1977, p. 49.
176
служил материалом для сатирической брошюры, вышедшей в 1779 году и пространно пересказанной рецензентом «Секретной переписки». Речь шла о скандале, разразившемся в Опере, когда балетная труппа, забыв внутренние распри, объединилась в походе против директора Дю Вима. Автор брошюры высмеивал жаргон Гаэтана Вестриса, пришепетывание Новерра и т. п. «Появляется м-ль Гейнель: она вступает в середину собрания с тем импозантным видом, с каким обыкновенно занимает место посреди общего танца, чтобы исполнить свои па. Благородная гордость осанки, гибкая и полная достоинства грация величественной фигуры покоряют взоры судей». Следовала «речь» Гейнель к судьям, быть может, пародировавшая ее подлинные слова. «Если господин Новерр,— якобы говорила Гейнель,— захочет сочинить балет о талантах, поруганных и закованных в цепи тираном, об их отважной попытке сбросить с себя ярмо, об их боязни уступить насилию чудовища... об их ликовании и признательности после избавления от ига, быть может, я удостоюсь счастья живописать в выразительной манере перед вашими очами все, что происходит в моем сердце».1
Новых ролей Гейнель больше не получала. Старые балеты, где она играла, сошли со сцены. Творческая неудовлетворенность заставляла ее утешаться, испытывая силу женских чар. Последний раз Гейнель удивила Париж в 1782 году, выйдя замуж за Вестриса. Ей не было еще тридцати лет, когда она тут же, одновременно с Вестрисом, покинула сцену. Умерла Гейнель 17 марта 1808 года, на полгода раньше своего престарелого мужа.
В ПОИСКАХ ВЫХОДА.
СОПЕРНИЧЕСТВО С ГАРДЕЛЕМ
После «Горациев и Куриациев» и без того непрочная репутация Новерра пошатнулась. Трудности внутри театра возрастали. Новерр нуждался в актерах, а имелись преимущественно танцовщики, и его замыслы возмущали тех, от кого зависело их воплотить. Исполнители капризничали и интриговали, не желая переучиваться. Даже кордебалет ставил свои условия: по давним обычаям статисты имели право за выслугой лет
Correspondance litteraire secrete, № 6 De Paris le 8 fevrier 1777.
177
занимать место на авансцене вопреки воле балетмейстера. Новерр снова отступил и призвал на выручку запасники собственного репертуара.
В марте 1777 года он возобновил свой балет двадцатилетней давности «Туалет Венеры, или Проказы Амура», сохранив лишь вторую часть названия. «Из всех показанных им до сих пор балетов этот первый имел общий успех,— отметил Гримм.—• Сцены пасторальной пантомимы достаточно обычны по мотиву, но группы выписаны восхитительно, а финальный контрданс, составленный с блестящей живостью, предлагает картину самую сельскую и полную неги, щедрую, как картины Тенирса, и грациозную, как картины Буше. Контрдансу рукоплескали особенно упоенно, и лучшие друзья семьи Гардель были вынуждены признать, что Новерр способен быть человеком гениальным».1 Критик «Секретной переписки» тоже не замедлил на свой лад отметить успех. «Новерров балет «Проказы Амура» понравился чрезвычайно,— писал он,— и это решительно подтверждает, что серьезная пантомима создана не про нас. Позы, исполненные неги, грация танца и на всем этом налет сладострастия — вот что составляет достоинство балетов, заслуживающих рукоплескания. Ведь право, сударь, наши танцовщики и танцовщицы только и годятся повторять на сцене то, чем занимаются в своих будуарах».2 Столь обидный упрек пристал скорее публике, чем танцовщикам — исполнителям ее воли. Падение нравов аристократии в предреволюционной Франции принимало катастрофические размеры, а в креслах зрительного зала Королевской академии музыки сидела знать. Ее могли только раздражать примеры долга и самопожертвования, заимствованные балетом у Корнеля. Подобное еще терпели в опере, ожидая заслуженного отдыха в балете. И объявляли о том с откровенным цинизмом.
Потому Новерра признали ненадолго, что, впрочем, случается с гениями, пока они живы. Дела его шли все хуже. Он «жаловался и протестовал,— пишет Линхэм.— Он хотел изменить в Опере все, вплоть до освещения, непригодного для найденных им сценических эффектов. Отчаиваясь, он восклицал, что не добьется ничего, если не будет управлять постановкой в це
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, pp. 330— 331.
2 Correspondance litteraire secrete, № 13. De Paris le 29 mars 1711.
178
лом».1 Но администрация стояла на своем. Теперь Новерр предлагал подряд планы своих старых балетов во всех испробованных жанрах, но даже тут неизменно встречал отказ. Ему отвечали, что его спектакли обходятся чересчур дорого. Потому немногие балеты малого жанра, которые он показал на сцене Оперы, составляли часть длинных программ и шли в одной и той же декорации.
Новерр все чаще наталкивался на недоброжелательство труппы, ибо в иных случаях сдавать позиции не желал. Первые сюжеты привыкли распоряжаться репертуаром на свой вкус, а это шло вразрез с правилами хореографа. «В отношении к танцовщикам он предстает художником-творцом, стремящимся победить и подчинить себе строптивую материю»,— писал Пьер Мишо.2 Иногда материя брала над творцом верх. Врагом Новерра внезапно стала всесильная Гимар. Она возглавила представительный комитет артистов, который, не обладая официальной властью, имел решающий голос в делах Оперы. Гимар воспротивилась тому, чтобы балет Новерра «Анетта и Любен» пошел на премьере оперы Пиччини «Ифигения» 1 марта 1778 года. Она настояла на замене его балетом Максимилиана Гарделя «Искательница ума», поставленным для Фонтенбло в 1777 году.
Сюжет «Искательницы ума» принадлежал Фавару и имел длинную сценическую историю. Фавар сочинил одноактную комическую оперу в 1741 году для представлений на Сен-Жерменской ярмарке, музыку подобрали из водевильных песенок разных авторов. В 1746 году, когда с ярмарочной сцены изгнали речь, «Искательницу ума» превратили в пантомиму. Затем она возродилась как комическая опера с музыкой Дуни и других композиторов и в таком виде была хорошо знакома парижанам.
После премьеры Гримм констатировал, что пантомимный балет Гарделя «повторяет, сцена за сценой, ход пьесы Фавара и даже сохраняет, где можно, музыку. Сюжет, благоприятный для водевиля, не кажется бесспорным для пантомимы, ибо не предлагает ей четко намеченных ситуаций, достаточно богатых и разнообразных картин».3 Критик газеты «Новый зритель» также считал, что «невозможно передать с помощью одних
1 L у nh а т D. The Chevalier Noverre, р. 90.
2 М i с h а и t Р. Histoire du ballet. Paris, 1945, p. 35.
3 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, p. 24.
179
только жестов» основную ситуацию водевиля, выраженную в куплетах «Сходи-ка поищи ума».1
Из балета действительно исчезла злободневная едкость, присущая водевилям Фавара. Например, в пьесе фигурировал ученый Наркуа; о нем говорили, что он «недавно поселился в библиотеке замка вместе с летучими мышами, потому что его прогнали из Парижа за избыток ума». Гардель не преминул вывести Наркуа среди действующих лиц балета и сам исполнил его роль. Но роль свелась к тому, что Наркуа прогуливался по сцене, читая книгу, а Нисетта — Гимар просила его «поделиться с ней умом, сначала сгорая со стыда, потом делая красивый реверанс».
Переделывая водевиль в балет, Гардель смыкался с такими же опытами Новерра и Доберваля и открывал новому жанру доступ на сцену Академии музыки. Не равный двум соперникам по смелости и таланту, он все же содействовал прогрессу своего искусства тем, что обращался к новой тематике и к новым формам пантомимно-танцевального спектакля. Подобно Новерру и Добервалю, он заимствовал материал для комедийных балетов из репертуара французской комической оперы. В таких балетах деревенская тема выбивалась из абстрактно-пасторального жанра, объединявшего пастушек с нимфами, а пастушков с фавнами. Их заменяли фермерши, нотариусы, владельцы замков и их слуги, солдаты, охотники и проч. Соответственно менялось оформление: лесной пейзаж уступал место сельской площади, дворику или саду со стилизованными приметами быта. Такие же условно-реалистические черты проявлялись в поступках, характерах, костюмах действующих лиц.
«Фавар отдает значительную дань входящей в моду во всех слоях французского общества второй половины XVIII века чувствительности,— писал С. С. Мокульский.— Охотно разрабатывая деревенскую тематику, он наделяет своих крестьян несколько искусственной и условной наивностью, содействуя возрождению пасторальной моды в аристократических кругах».2 Все-таки пасторальность драматургии Фавара была настолько реалистичнее пасторальности балетных дивертисментов Оперы, что даже шаг Гарделя к ней раздвигал пределы привычной практики.
1 Либретто «Искательницы ума» и отклики прессы цит. по: Goncourt Е. de. La Guimard, рр. 111—116.
2 Мокульский С. История западноевропейского театра. М.—Л., 1939, т. 2, с. 286.
180
В балетной «Искательнице ума» сюжет разрабатывался искусственно и условно, персонажи были сентиментально наивны. Больше того, аристократические навыки труппы сообщали образам дух изысканности. И все равно балет Гарделя вплетался необходимым звеном в цепь спектаклей, уходящих вперед, к реалистической комедийности «Тщетной предосторожности» Доберваля. Там было немало сюжетных предпосылок и похожих персонажей.
Зажиточная фермерша, мамаша Мадре, собиралась выдать дочь Нисетту за нотариуса Субтиля, а сама мечтала стать женой его сына Алена. В одной из центральных сцен мамаша Мадре учила Алена объясняться ей в любви. Она показывала, как надо встать на колени, преподнести ленту или букет, а в ответ потребовать поцелуя. Но Ален, забрав и букет, и ленту, отправлялся на поиски Нисетты, которая, по примеру подружки Финетты, при виде его притворялась спящей. Когда Ален не решался разбудить ее, она сама протягивала ему руку для поцелуя, за что получала и ленту, и букет. Мамаша сменяла гнев на милость, и балет заканчивался свадьбой трех пар: мадам Мадре и Субтиля, Нисетты и Алена, Финетты и ее дружка, что, разумеется, давало неисчерпаемые поводы для плясок простодушных поселян.
Новерр, однако, продолжал ставить «Анетту и Любека», упрямо сохраняя за Гимар главную роль. Но Гимар добилась, чтобы эту роль отдали молоденькой танцовщице Сесиль, которую афиши обозначали по ее имени, а не по фамилии — Дю-мениль.
Препятствия только разожгли Новерра. Он принял неравный бой. Успех балета Гарделя был заранее обеспечен участием Гимар. Кроме того, Гардель опережал Новерра на три месяца, потому что тоже, как и он, обращался к драматургии Фавара. Быть может, сама Гимар, зная о замысле Новерра, посоветовала Гарделю обратиться к репертуару популярного водевилиста. Пьесу «Искательница ума» Фавар сочинил в 1741 году, пьесу «Анетта и Дюбен» — в 1762-м, после чего несколько композиторов успели написать на эти тексты комические оперы. В обеих пьесах действие происходило на фоне стилизованных сельских пейзажей, а героини и герои, одинаково простосердечные, счастливо избегали всех ловушек судьбы. В обеих пьесах Фавар сдабривал лирику пасторали долей гривуазных подробностей. Как сказано, «Тщетная предосторожность» Доберваля, сочиненная на сходный сюжет, заканчивала в новом, реалисти
181
ческом плане длинную цепь подобных спектаклей, начало которой затерялось в зрелищах ярмарочного театра.
Действие «Анетты и Любена» протекало на сельской лужайке, во время охоты местного сеньора. Проходом охотников через сцену и начинался балет. Здесь же влюбленные Анетта и Любен строили из ветвей шалаш. Но на руку Анетты претендовал деревенский судья, а сеньор, увидев красотку, приказывал отвести ее в замок. Любен бросался следом, вызволял Анетту, и сеньор, растроганный такой любовью, соединял их. В водевиле монолог сеньора кончался словами: «Под скромными крышами селенья царят невинная любовь и чистое чувство»,— после чего следовала ремарка: «Танцуют». В украшенном песнями и плясками финале сеньор дарил новобрачным ивовую колыбель, украшенную цветами.
Как всегда, в защиту Новерра выступил Гримм. «Новый балет, как и «Искательница ума», всего лишь оперное либретто, переложенное в пантомиму, которая, сцена за сценой, его повторяет. Однако выбор сюжета кажется нам счастливее. Он допускает ход более стремительный, смену картин более богатых, более разнообразных, а суть каждой ситуации объясняется в манере более простой и одновременно живописной. Это произведение человека, знающего все возможности своего искусства, не пренебрегающего ни одной из них, но останавливающегося у пределов, какие вкус не дозволяет преступать».1 Новерр выиграл сражение и у Гимар. Сесиль имела такой успех в роли Анетты, что неожиданно вышла в соперницы премьерши.2 Это, естественно, лишь усилило враждебность Гимар к Новерру.
В августе того же 1778 года Гардель поставил балет «Нинетта при дворе» по двухактной комедии с ариеттами Фавара. Пьеса, написанная в 1756 году, оказалась готовым сценарием балета, а отдельные эпизоды почти на сто лет предвосхитили первый акт «Жизели», отличаясь притом открытым демократизмом. В 1782 году Гретри воспользовался сюжетом этой пьесы для своей оперы «Двойное испытание, или Колинетта при дворе».
Балет начинался идиллической сценой: поселяне собирали урожай фруктов. Они разбегались, услышав звук охотничьих
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, pp 76— 77.
2 Сесиль умерла через три года в родах. См: Correspondance litteraire secrete, № 34. De Paris le 22 aout 1781.
182
рогов. На опустевшую сцену входили принц Астольф и его наперсник Фабрис. Астольф признавался, что «готов изменить своей невесте графине ради девушки, которая недавно вывела его из леса», и прогонял Фабриса, молившего его образумиться. Появлялась Нинетта, которая считала Астольфа другом принца. На вопрос: «Чем вы развлекаетесь в вашем захолустье?» — она отвечала: «Освободясь от работы, мы поем, танцуем, я собираю в полях цветы, резвлюсь с подругами». Девушка признавалась, что обручена с Кола, и, когда тот приходил, защищала его от гнева Астольфа. Потом она ссорилась с Кола, ревновавшим ее к Астольфу, и отправлялась в замок. Во втором акте сравнивалась светская и сельская жизнь. Понюхав букет искусственных цветов, Нинетта отбрасывала его. Она раскачивала панье надетой на нее юбки, путалась в шлейфе, спрашивала, зачем нужен веер. Фабрис показывал, что с помощью веера можно выразить любовь, гнев, каприз, все подслушать и все подглядеть. Ремарка пьесы предписывала исполнителю роли Фабриса играть эту сцену «в замедленной и аффектированной манере нынешних петиметров». Счастливая развязка соединяла Нинетту и Кола, принца и его знатную невесту. Действие завершал дивертисмент: «Сцена представляет бальный зал, украшенный пиршественными столами, факелами и жирандолями,— гласила ремарка.— Астольф и его невеста в глубине на возвышении. Придворные в разных характерных костюмах — по сторонам. Исполняются различные антре, среди которых дуэт Нинетты и Кола в деревенских костюмах. Общий балет».
При всей «балетности» сюжета, «Нинетта при дворе» имела меньше успеха, чем «Анетта и Любен» Новерра, и не задержалась в репертуаре. Оба хореографа обращались за материалом комедийных балетов к запасам комической оперы, но Новерр гораздо более творчески владел своим искусством и умело отбрасывал то, что не ложилось на язык балета. Это и давало ему право осуждать соперника, «который силился копировать оперы-водевили, тогда как их куплетики, полные ума и соли, не могут быть переданы пантомимой: мотивчики слышны отлично, но неразличимы слова и тонкие мысли, составляющие тут главную прелесть» (IV, 87).
После «Нинетты при дворе» Гардель не ставил больше года. Но и уделом Новерра были уже не самостоятельные балеты, а танцы в операх. Правда, большинство этих опер принадлежало-Глюку. Но при всей серьезности возникавших задач хореограф терял независимость, к которой давно привык. Реже и
183
реже получал он право высказаться, да и то лишь в комедийном жанре.
Вместе с тем на почве этого жанра он встретился с музыкой, подняться до которой ему не удалось. В июне 1778 года после первого представления двухактной оперы Пиччини «Притворные близнецы» шел одноактный балет «Безделушки» в постановке Новерра. Имя автора музыки не поставили на афишу, и денег за него он не получил. Между тем то был Вольфганг Амадей Моцарт, который жил тогда с матерью в Париже. 14 мая 1778 года он писал отцу в Зальцбург, что Новерр собирается скоро поставить новый балет, «а я сочиню для него музыку». 3 июля, после премьеры, Моцарт сообщал: «За исключением шести пьес, вставленных Новерром и представляющих собой всего лишь жалостные французские песенки, я сочинил остальное: увертюру, контрданс и прочее — короче говоря, дюжину номеров. Балет исполняли уже четыре раза и с большим успехом. Хватит. Обещаю Вам, отныне не стану делать ничего, если не буду заранее уверен, что меня вознаградят за работу. Я не напишу ни одной ноты без того, чтобы мне за это не заплатили».1
Балет действительно имел успех. Но Моцарт был вправе досадовать на Новерра не только потому, что его музыку разбавили «жалостными песенками», издавна переселявшимися из одного балета в другой. Как ни прогрессивны были поиски Новерра в целом, сюита моцартовских танцев оказалась балетмейстеру не по плечу. В то же время эта сюита обобщала и завершала ту практику виртуозных выходов, против которой он же восставал. Выстраивая последовательность номеров, Моцарт с легким и светлым юмором провожал образы балета уходящей эпохи. То торжественная поступь, то грациозная задумчивость, то беспечное веселье и шаловливый задор скользили в мимолетной смене настроений музыки, как бы рисуя портреты прославленных танцовщиков века. Застарелые формы их танцев воскресали в миниатюрах, благожелательно, но и остраненно предлагаемых композитором. Моцарт словно бы любовался этими «безделушками»,— еще вызывавшими интерес, но уже трогательно-забавными в своей старомодной галантности,— и нечаянно увековечивал их своим гением.
1 Цит. по: Pougin A. Un directeur d’Opera аи dix-huitieme siecle. Paris, 1914, p. 32.
184
Новерр поверхностно воспринял и название, и самую музыку, привычно утверждая диктат балетмейстера в выборе темы. Тут он должен был увидеть, но не увидел несостоятельность любой догмы. Казавшаяся беспрограммной сюита Моцарта на деле программу предлагала, постигая гибкие законы балетной сцены, безграничные возможности союза музыки и танца. Новерр в названии «Безделушки» разглядел лишь право поставить еще одну галантную пастораль. Впрочем, поступить иначе — значило бы слишком уж обогнать господствующий вкус, слишком уж выбиться за рамки своей эпохи. Новаторство-—понятие историческое, а потому имеет подвижные пределы, назначенные временем.
Новерр и сочинил балет из трех «безделушек», трех не связанных между собой картинок в духе Ватто или Ланкре, предлагавших исполнителям выигрышный пантомимно-танцевальный материал. В первой сцене, где Купидона ловили сетью и заключали в клетку, танцевали Гимар, юный Огюст Вестрис и ребенок. ’Вторая изображала игру в жмурки, душой которой был Жан Доберваль. В последней сцене Купидон заставлял двух пастушек (Гимар и Аллар) ревновать третью (Асселен), переодетую пастушком. Пастушок раскрывал свой секрет, слегка обнажая грудь. «Сцена эта весьма пикантна, благодаря искусству и грации трех знаменитых танцовщиц,— писал критик «Журналь де Пари».— Мы должны отметить, что в тот момент, когда м-ль Асселен рассеяла заблуждение двух пастушек, множество голосов закричало: «Бис!» Разнообразным фигурам, которыми оканчивается балет, также очень аплодировали».1
В 1781 году Новерр показал «Безделушки» на сцене лондонского Королевского театра. Но Моцарта он заменил Бар-телемоном, чем лишний раз доказал, что Моцарт был ему не по плечу.
Великий хореограф пробовал удержаться на ускользавшей из-под ног почве, придумывая гривуазные ситуации и «разнообразные фигуры», заигрывая и с начальством Оперы, и с публикой. Вероятно, он все острей сознавал крушение мечты, которую лелеял с юности. Ничего нельзя было поделать с оппозицией, возглавленной мастерами труппы. Администрация театра и зрители тоже явно предпочитали новаторским пробам пришельца опусы старожила Оперы—Гарделя. Тот
1 Цит. по: Р о и g i п A Un directeur d’Opera аи dix-huitieme siecle, p. 33.
185
умеренно и неталантливо пользовался его же находками, притом откровенно шел на поводу у Гимар. По ее заказу Гардель поставил балет «Мирза и Линдор», вызвав саркастический отклик Гримма: «Новый балет-пантомима сочинения господина Гарделя завладел в настоящий момент сценой Королевской академии музыки с успехом, каким не пользовались и лучшие постановки Новерра».1
Премьера трехактной пантомимной драмы Гарделя «Мирза и Линдор» с музыкой Госсека состоялась 18 ноября 1779 года. То был один из первых опытов балетной мелодрамы, обращенной к современности, но в экзотической раме колониального быта. Могущественное зло сталкивалось с детски-чистой невинностью, а рядом — взвинченность любви, ревности, мстительных чувств.
На фоне романтического ночного пейзажа развертывались бурные события, добродетельная героиня спасалась в самый роковой момент.
Начиналось все с того, что прекрасная креолка Мирза, дочь французского губернатора острова, любила французского офицера Линдора и пользовалась взаимностью. На ее руку претендовал знатный Корсар. Хотя Линдор защитил его от нападения туземцев, он пытался похитить Мирзу. Кульминацией балета была дуэль: соперники сражались на шатком мостике, переброшенном через поток; поток впадал в море, где стоял на якоре корабль Корсара. Линдор обезоруживал противника и благородно возвращал ему шпагу. Тогда счастье начинало ему изменять. Наконец он наносил смертельный удар и убегал в поисках Мирзы, а Корсар падал с мостика в воду. Мирза находила на месте дуэли «шляпу Линдора, его шпагу и поток, окрашенный кровью». Она «омывала слезами портрет Линдора», собиралась заколоться его шпагой и... увидев возлюбленного, падала без чувств в его объятья. В последнем акте перед толпой «американских уроженцев острова, креолов и негров» проходили парадные маневры американских и французских войск, а затем праздновалась свадьба Мирзы и Линдора. Это давало прекрасный повод «для дивертисмента в народном жанре». Праздник заканчивался «общим контрдансом».2
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, p. 234.
2 Mirsa. Ballet en action par M. Gardel, represents sur le theatre de I'Acade-mie de Musique, le Jeudi 8 Novembre 1779. Paris, 1779.
186
Новерр и сам отдал дань мелодраме в балете «Белтон и Элиза» на миланской сцене, где жанр этот особенно вошел в моду. Теперь он назвал балет «Мирза» «чудовищным фарсом» и осудил Гарделя за отказ от высокой трагедии. «С тех пор как господин Гардель завладел скипетром Терпсихоры,—• вспоминал Новерр в письме к господину де Ферте, намекая на свой вынужденный уход из Оперы,— торжества и балеты, связанные с поэтическими сюжетами поэм, были безжалостно принесены в жертву пантомимам, где блестящее исполнение, истинную грацию и гармонию движений подменили невнятностью ходов, незначительностью жестов и столь слабой и монотонной выразительностью, что возникает нужда в помощи водевиля, чтобы позаимствовать у него хоть какой-то смысл. Этот новый жанр, если его можно назвать жанром, имеет только то преимущество, что в нем способны выступать люди, не умеющие танцевать, я же смею утверждать, сударь, что любые усилия балетмейстера, не направленные на усовершенствование танца, являются тщетными усилиями, но притом еще губительными для Оперы».1
Новерр был неправ в том, что касалось исполнения. Гимар в роли Мирзы, Вестрис-сын в роли Линдора, Луи Нивелон в роли Корсара были превосходны. «Мадемуазель Гимар, одетая креолкой, являет все очарование семнадцати лет,-—писал Гримм о тридцатишестилетней танцовщице.— Дуэль Вестриса и Нивелона производит необыкновенное впечатление». Он добавлял, что «громкозвучная музыка третьего акта радовала слух, привыкший к прелестям французской оперы».2
Но Новерр был прав, считая действие «Мирзы и Линдора» туманным, монотонным и пластически незначительным. Гардель мельчил это действие пустыми подробностями. В первом акте Мирза писала возлюбленному письмо. Ласкалась к матери и показывала ей свои рисунки. Принимала участие в музыкальном концерте, играя на арфе. Последнее, быть может, нужно было Госсеку для специально сочиненных пьес: Мирза вовлекала в музыкальные упражнения Линдора, тот брал скрипку, и начинался квартет скрипки, арфы, флейты и корнета. Весь этот акт был начисто лишен танцев. Они отсутствовали и во втором акте; пантомима там становилась шире и экспрессивней, но все же была далека от движущихся живо
1 Цит. по: G о п с о и r t Е. de. La Guimard, р. 167.
2 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, p. 234.
187
писных полотен Новерра. Вот почему Гримм, хмуро констатируя успех «Мирзы и Линдора», удивился этому успеху, ибо балет Гарделя не содержал «ни подлинных открытий, ни воображения, ни интереса». Через год Гримм добавил: «Еще не случалось видеть более унылой безвкусицы, чем «Праздник Мирзы», балет-пантомима г. Гарделя».1 Речь шла о сокращенной версии «Мирзы и Линдора», поставленной на музыку Гре-три в феврале 1781 года.
Премьера «Мирзы и Линдора» состоялась 18 ноября 1779 года, а 30 ноября Новерр заключил письменное соглашение с Гарделем и Добервалем, отказавшись в их пользу от поста балетмейстера. Взамен он просил пенсию в 3000 ливров ежегодно, которую должны были выплачивать пожизненно ему, а после его смерти—жене. Участники обязались хранить соглашение в тайне и ничего не предпринимать без ведома сторон. Договор вступал в силу через год.
Должно быть, Новерр надеялся за этот год поправить свои дела. Он пустил в ход последний козырь: в январе 1780 года показал парижанам «Медею и Ясона», отшлифовав весь балет и переделав некоторые сцены. «Только что возобновили в театре Королевской академии музыки трагедию Медея, трагикопантомимный балет сочинения господина Новерра,— писал в феврале Гримм.— Успех этого балета несколько лет тому назад был огромен, а ныне, как показалось нам, гораздо меньше, и мы весьма затруднились бы найти причины тому, если бы они не заключались в скверном вкусе публики, недавно восхитившейся балетом Мирза, безоговорочно уступающим Медее значительностью сюжета, достоинствами воплощения, возвышенностью стиля и даже разнообразием зрелища. Ошибки, в которых преимущественно упрекают Новерра, относятся к двум-трем проходным сценам, требующим известного усилия, чтобы понять смысл без пояснения программы. Но мы не знаем балета, где подобные сцены были бы короче и встречались реже. К тому же такие ошибки зависят от ограниченности самого искусства». Переходя затем к достоинствам «Медеи и Ясона», Гримм утверждал: «В целом действие балета разворачивается самым ясным и самым интересным образом; разные сцены связуются и стремительно следуют одна за другой; в действии нет ни одного момента, который не являл бы самого богатого зрелища и, если можно так выразиться, перене
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, p. 404.
188
сенный на полотно, не мог бы стать сюжетом величественной и великолепной картины. Сочетание сцен, способных произвести этот эффект, всегда будет конечной трудностью искусства пантомимы и прекраснейшим ее торжеством».1
Мнения критиков интересуют иногда потомков, но современников, как правило, оставляют равнодушными и бессильны изменить ход дела. Так и статьи барона Гримма засвидетельствовали для истории талантливость Новерра, доказали, что в душной атмосфере Академии талант этот цвести не мог, а на судьбу Новерра не повлияли. Гардель и Доберваль уведомили Новерра 14 июля 1780 года, то есть за полгода до срока, что его просьба об отставке принята. Новерр протестовал. Он направил контролеру королевских развлечений, ведавшему театром Оперы, объяснительную записку, где обрисовал трудности и интриги, встретившие его в Париже. Сравнивая персонал Оперы с детьми, строящими карточные домики, он писал: «Все идет по их желанию. Но как только они пробуют увенчать здание последней картой, дуновение воздуха, легкий толчок разрушают шаткую постройку. Тогда наши пострелята пляшут, как курицы на горячем песке, и ломают руки, прежде чем пуститься работать снова, пока новая катастрофа не расстроит их проектов».2 Новерр указывал на хаос в управлении Оперой, опровергал критику, требовал пересмотреть по счетам упреки в дороговизне своих балетов. Попутно он просил выдать недоплаченные ему деньги и возместить расходы, которые он понесет из-за неожиданной отставки. Новерру была обещана пенсия, и он должен был продолжать службу до июля 1781 года. Пенсии этой он не получил.
В том же году Гардель занял наконец пост главного балетмейстера Оперы. Обремененный заботами о труппе и репертуаре, он имел теперь меньше времени и балеты сочинял редко, а чаще ставил дивертисменты для оперных спектаклей. Например, в 1782 году он поставил балет для финала одноактной оперы Майра «Аполлон и Дафна». Авторы спектакля, вопреки мифу, возвращали Дафне человеческий облик, а дивертисмент праздновал ее счастливый союз с Аполлоном: Терпсихора — Гимар танцевала в кругу муз, граций и нимф.
В 1783 году Гардель поставил балет «Избранница». Там он скопировал, подобно Новерру, сюжет комической оперы. Балет
1 Correspondence litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 10, pp. 254— 255.
2 Цит. no: L у nha m D. The Chevalier Noverre, p. 98.
189
прошел незамеченным. Гардель, быть может, понимал уже мнимость своей победы и видел, что нехватку таланта не восполнишь блеском занимаемой должности. Как ни стремился он идти вровень с Новерром, тот даже в своих ошибках оставался недосягаем для него. Ставя балетные комедии, Новерр и Гардель одинаково обращались к сценариям старых водевилей и перенимали опыт молодой комической оперы. Но могучий дар Новерра позволял творчески перерабатывать заимствованное. Сжимая и конкретизируя действие, очищая кульминации сюжета от лишних подробностей и давая их крупным планом, хореограф отбрасывал все, что было неподвластно пластике пантомимы и чуждо стихии танца. Гардель оставался копиистом и там, где полагался на собственную фантазию. Груз вкоренившихся верований тянул его к архаичной образности, к испытанным, надежным приемам.
То, почему оригинальные попытки Гарделя выливались в повторение пройденного, объясняла хотя бы история с балетом «Первый мореплаватель, или Власть Любви», показанным в августе 1785 года. Музыку балета составляли, по словам Гримма, «мотивы, извлеченные из наших лучших комических опер, удачно отобранные и весьма подходящие для передачи смысла, часто темного и незначительного в жестикуляции и пантомиме».1 Удачно был выбран и сюжет. Гардель заимствовал его из поэмы Геснера «Первый мореплаватель». Но простодушную героику поэмы он подрумянил и припудрил во вкусе анакреонтических балетных пасторалей.
Герой поэмы Дафнис видел во сне девушку, тоскующую на островке, куда ее забросила буря. Любовь внушала ему мысль свалить дуплистое дерево и в утлой лодке, созданной им вдвоем с природой, пуститься на поиски незнакомки. Гардель пространно мотивировал поступки своего Дафниса, и анонимный критик счел, что балетмейстер мудро исправил оплошности поэта. Герой немецкой поэмы «никогда не видел Мелиссы. Как мог он обречь себя на столько опасностей ради неизвестной ему женщины?» — вопрошал практически мыслящий француз.2 Действительно, балет начинался сценой, в которой множество пастухов добивалось благосклонности прелестной Мелиссы. Ее мать объявляла, что Мелиссу получит тот, кто
‘ Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 12, p. 406.
2 Annates dramatiques, ou Dictlonnaire general des theatres. Paris, 1811, t. 2. pp. 466—468.
190
одолеет других в борьбе и танцах. Победителем выходил Дафнис. Счастливую пару соединяли у подножия статуй Амура и Гимена. Но в это время гремел гром, вздымалось море и волны уносили часть земли, на которой укрылась Мелисса. К Дафнису, рыдавшему на берегу, спускался на облаке Морфей и «навевал на него мирный сон». Спящему герою бог любви предлагал судно, управляемое маленькими амурами; проснувшись, Дафнис получал это судно наяву. Такой поворот сюжета отменял подвиг, а заодно и смысл поэмы. К финалу Амур со свитой и поселяне танцевали под покровительством Венеры, спускавшейся в колеснице с неба.
Максимилиан Гардель вернулся и к манившей его современной теме. Он взял для этого драму Седена «Дезертир», заказал музыку Миллеру и поставил одноименный балет, рискнув соревноваться с Добервалем. Гримм, который держался умеренно прогрессивных позиций и, по-видимому, «Дезертира» Доберваля не знал, счел неудачным выбор сюжета — и тем лишний раз подтвердил, что решает дело не столько сюжет, сколько творческий к нему подход.
Спектакль не сразу был выпущен на суд публики. Премьера «Дезертира» состоялась на закрытом придворном представлении в Фонтенбло 21 октября 1786 года. В марте Максимилиан Гардель умер, и только 16 января 1788 года Пьер Гардель перенес этот его последний балет на сцену Королевской академии музыки. Прочно он там не удержался и был скоро забыт, вытесненный из памяти публики «Дезертиром» Доберваля.
НОВЕРР — СОТРУДНИК ГЛЮКА
Мечта Новерра покорить Париж рухнула. И все-таки уезжал он более богатым творчески, чем был, когда явился туда во всеоружии успеха. Снова он участвовал в постановках опер Глюка, и это несомненно повлияло на практику и на теоретические воззрения хореографа. О сотрудничестве сохранилось мало прямых свидетельств. Все же они поясняют сложность условий, с которыми приходилось считаться обоим. На запутанные отношения и возможность конфликтов намекает скудная пресса, например при постановке «Ифигении в Тавриде», о которой так идиллично потом вспоминал Новерр. Любопытно, что не один хореограф, но и великий композитор столкнулся
191
с косностью парижан в вопросе о правах и обязанностях балета.
Известно, что Глюк начал свою реформу на венской сцене в 1760-х годах. Но высший взлет его творчества свершился в 1770-х годах в Париже. Глюк приехал туда уже прославленным творцом нового стиля и дерзко приступил к реформе французской оперы. Дерзость заключалась в том, что энциклопедисты считали его задачу невыполнимой из-за однообразия и негибкости французского языка.
На апрель 1774 года пришлась премьера первой парижской оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» (по трагедии Расина). Опера опрокинула все сомнения и стала поворотным событием в музыкальной жизни Франции, европейского театра вообще. Античный сюжет развертывался в обобщенных образах, в контрастах характеров, в естественной силе страстей.
Первый акт оперы включал в себя большой балетный дивертисмент: праздновалось прибытие Клитемнестры и Ифигении в Авлиду. Означенная в афише балетная интермедия, казалось бы, не предвещала новизны. Но, с виду продолжая традицию, опера Глюка внутренне ее переосмысливала. Десятью годами раньше Гримм писал о спектаклях парижской Оперы: «Читая программы всевозможных опер, поистине встречаешь чудесное разнообразие празднеств и дивертисментов. Но это разнообразие, попадая в представление, обретает самое печальное однообразие. Все празднества сводятся к танцу ради танца. Все балеты состоят из двух линий танцовщиков и танцовщиц, которые выстраиваются по бокам сцены, а затем смешиваются в исполнении фигур и групп, лишенных какого бы то ни ни было смысла. Лучших танцовщиков между тем сохраняют, чтобы они потанцевали то соло, то вдвоем. В больших оказиях они составляют pas de trois, pas de quatre и даже pas de cinq или pas de six. Кордебалет, остановившийся было, чтобы уступить место мастерам, возобновляет затем свои танцы до конца балета. Для всех этих дивертисментов музыканты поставляют чаконы, луры, сарабанды, менуэты, паспье, ригодоны, гавоты, контрдансы. Если и случается в балете какая-то мысль, какой-то действенный момент, то это в pas de deux или в pas de trois, после чего кордебалет возвращается к своим тягучим, бесцветным танцам».1
'Grimm F. М. Du роете lyrique. Correspondence litteraire, t. 15, pp. 397— 398.
192
Дивертисмент «Ифигении в Авлиде» отрицал такие каноны: череда танцевальных номеров несла определенную мысль и оттеняла драматическое развитие действия. Ему предшествовала сцена душевных мук царя Агамемнона, который должен был по воле богини Дианы принести в жертву свою дочь Ифигению. Затем действие следовало к эпизоду, где Ифигения узнавала о мнимой измене ее жениха Ахилла. Дивертисмент, подобно поэтической ретардации, разрезал эти драматические сцены. Просветленная сюита пасторальных танцев по закону контраста усиливала трагическую напряженность действия и готовила его новый эмоциональный подъем. Привычные танцевальные формы открывали возможность для связанных с действием пластических зарисовок.
Гаэтан Вестрис, который числился тогда балетмейстером Оперы, вряд ли воспользовался этой возможностью. Скорее всего, он формально распределил танцы по виртуозным «амплуа», какими была богата балетная труппа Королевской академии музыки. Предоставив солистам то, чем каждый из них любил блеснуть, он окружил очередной смотр технических совершенств «бесцветными» шеренгами кордебалета. То же должно было произойти и с балетной сюитой, завершавшей «Ифигению в Авлиде». Артемида отказывалась от жертвы. Поднявшийся ветер позволял флотилии греков отплыть на Трою. Балет и хор славили счастливый поворот судьбы. Но в палитре постановщика и исполнителей не было красок, чтобы передать, например, героический пафос пляски рабов с ее фольклорным началом.
Взгляды на место и роль балетного танца в опере расходились. Контакты налаживались при неохотных и относительных уступках с обеих сторон. Кастиль-Блаз, собравший в своей истории парижской Оперы множество анекдотов, привел один — о споре Глюка с Вестрисом, рьяно защищавшим свои интересы исполнителя:
«Глюк с великим отвращением вставлял длинные балеты в Ифигению в Авлиде. Гаэтан Вестрис весьма сожалел, что это произведение не заканчивается чаконой, и сказал о том композитору. Но тот, уважая собственное искусство, твердил, что неуместно скакать в благородном, трагическом, захватывающем сюжете. На новые уговоры Вестриса разгневанный музыкант возразил:
— Чакона! Чакона! Разве греки, чьи нравы надлежит изобразить, могли иметь чаконы!
11
В. Красовская
193
— Они их не имели? — изумился танцор.— Мой бог, тем хуже для них!
В конце концов Глюк сдался, и чакона, выпрошенная с таким пылом, была написана».1
Гений, наталкиваясь на частые препятствия, способен преодолеть их с пользой для целого. Возможно, что Глюк, пойдя навстречу Вестрису, открыл и для себя то ценное, что крылось в традиционной балетной музыке за шелухой исполнительских привычек. В августе того же 1774 года он показал новую редакцию оперы «Орфей и Эвридика», сочиненной им для Вены в 1762 году. В постановке венского варианта участвовал Анджьолини, уже имевший опыт работы с Глюком над балетом «Каменный гость». Сам незаурядный музыкант, считавший музыку одним из главных выразительных средств действенного балета, Анджьолини, должно быть, послушно шел за композитором и, храня верность классицизму, ничего ломавшего замысел от себя не предлагал. Он счастливо передал в любезной его сердцу пантомиме светлую печаль музыкального эпизода — украшение цветами гробницы Эвридики. В сцене сошествия Орфея в ад он, вслед за Глюком и в согласии с ним, повторил пляски фурий из балета «Каменный гость», а потом воплотил следующий пласт танцев — хороводы блаженных душ в полях Элизиума.
Для парижской версии «Орфея» Глюк написал развернутый балетный дивертисмент. Композитор, несомненно, пошел здесь навстречу желаниям театрального начальства. Дивертисмент возникал в финале оперы, к ее действию прямо не относился и заканчивался чаконой, то есть следовал тому давнему правилу французской сцены, которое так упорно охранял Вестрис. Но гений Глюка преодолел стандарты и наполнил старинную форму привезенного из Испании танца отзвуками событий, только что протекавших перед зрителем. Образы отгремевшей драмы наплывали и улетучивались, контрастно чередуясь в музыке чаконы, порой трепещущей и тревожной, порой льющейся с умиротворенным покоем. Дивертисмент, быть может вынужденно сочиненный, превращался в подлинное творение искусства и тут, в свою очередь, должен был расшевелить фантазию Вестриса. Во всяком случае, Гримм отметил после премьеры «Орфея», что балеты в нем «доставили больше удо
1 Castil-Blaze. L’academic imperials de musique..t. 1, pp. 329— 330.
194
вольствия, чем балеты Ифигении. Они ближе сообразуются с сюжетом и обладают более благородной неослабевающей гармонией».1 Слова Гримма относились прежде всего к музыке. Но критик, придирчиво судивший все слагаемые спектакля, не отверг поставленных Вестрисом танцев. Притом балетмейстер, не отличавшийся щедрой фантазией, не мог раскрыть новизну и богатство музыки. Он, в лучшем случае, отказался от слишком назойливой демонстрации технических приемов.
Важнее было другое. Танцевальная музыка «Орфея» невиданно раздвигала горизонты балетного театра и указывала путь к новому. В сцене Елисейских полей один только номер солирующей флейты (широко известный как «Мелодия» Глюка) говорил о неизведанных возможностях пластики. Он вызывал образ танца непрерывно льющегося. Текучесть рождающих его звуков отрицала квадратные повторы «скачкообразных» периодов, непременных в балетной практике эпохи. Пляски блаженных душ в Елисейских полях были «безмятежны, спокойны, божественно элегантны,— пишет Линкольн Кирстайн.—В своей зримой наглядности они не вызывают привычного эха барокко, регентства или рококо; дворцовая практика преодолена. Мы словно бы слышим танцы, предназначенные для некоего лунного ландшафта Пьеро делла Франческа или Никола Пуссена. Колоритность, гармоническая сила, непрерывность музыки Глюка предвещают будущее».2 Действительно, музыка «Орфея» опережала балетное время, задолго предваряя своей образной сутью «античные» формы в творчестве Виганб и Дидло — хореографов эпохи преромантического балета.
Рутина Королевской академии музыки была сильна. В 1775 году, когда Глюк уехал в Вену, на парижской сцене показали его старую комическую оперу «Овобожденная Цитера». К ее финалу добавили не принадлежавший Глюку балетный дивертисмент. Это, естественно, разгневало вернувшегося в Париж композитора.
В 1776 году балетмейстером Оперы стал Новерр. Пусть недолгое пребывание в стенах театра не принесло ему лавров как сочинителю балетных трагедий, а, наоборот, бросило на
’ Correspondence litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 8, p. 391.
2 Kir stain L. Movement and Metaphor. Four centuries of Ballet. N. Y., 1970, p. 31.
11* 195
его славу тень. Зато он оказался в гуще событий музыкального мира. Встречая талант, он умел его распознать, даже не поднимаясь до него на практике; об этом говорили его отношения с Моцартом. Новерр помнил Моцарта с 1771 года, когда поставил в миланском театре Реджио балеты для его оперы «Асканио на Альбе». Теперь, в 1778 году, Новерр пытался помочь юному композитору, предложив Королевской академии музыки, чтобы тот сочинил оперу «Александр и Роксана». Факт примечателен тем, что сюжет оперы сомкнулся бы с сюжетом его собственного, уже сошедшего со сцены балета «Апеллес и Кампаспа». Исследовательница Анна Эмили Аберт пишет в статье «Оперы Моцарта»: «Из писем от 5 апреля, 14 мая и 3 июля 1778 года можно заключить, что предложения, сделанные Новерром, относились к двухактной пьесе Александр и Роксана и французскому переводу Демофонта Мета-стазио. По-видимому, Моцарту претило вмешиваться в битвы между приверженцами Глюка и Пиччини...»1 Последнее из указанных писем Моцарт отправил после июньской премьеры «Безделушек», а это значит, что если ему и не нравилось, как Новерр поставил его балет, то отношения между ними сохранялись дружеские.
Моцарт отказался «вмешиваться в битвы». Новерр волей обстоятельств был втянут в водоворот эстетических споров — в знаменитую «войну глюкистов и пиччинистов», которая захватила музыкальный мир Парижа как раз с его приездом. В 1776 году в Королевскую академию музыки был приглашен композитор Никколо Пиччини. Этому талантливому музыканту принесла известность опера «Добрая дочка», поставленная в Риме (1760). Либретто оперы написал Гольдони по мотивам нравоучительно-сентиментального романа английского писателя Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740). «Добрая дочка» Пиччини повернула жанр оперы-buffa к запросам сентиментализма, уже покорившего роман и драму. В жанре оперы-seria Пиччини был более традиционен, хотя и усовершенствовал ее форму: расширил финалы актов, насытил новым драматизмом вокальные номера. В разгоревшейся полемике лагерь пиччинистов занял реакционные позиции, выступая против реформы Глюка, хотя оба композитора не враждовали друг с другом.
1 New Oxford History of Music, v. 7, p. 126.
196
Новерр примкнул к пиччинистам и тем засвидетельствовал умеренность своих взглядов. Ему должны были импонировать как сентименталистские тенденции Пиччини, так и приверженность композитора к относительно консервативным формам зрелищности. Сражаясь в теории за единство пантомимы и танца, Новерр на практике не всегда размывал границы между этими выразительными средствами даже в самых решительных своих начинаниях. Ближе всего он был к Пиччини в комедийном жанре, ибо тоже стремился, трогая, поучать. Дотянуться до Глюка было труднее. Даже в «Письмах о танце» Новерр, априорно сравнивая себя как реформатора с Глюком, судить о его музыке не дерзал. Говоря конкретно об отношениях балетного танца и музыки, он оглядывался на Рамо.
Новерр приехал в Париж в 1776 году — на несколько месяцев позднее Пиччини и через два года после приезда Глюка. Как главный балетмейстер Королевской академии музыки он был обязан сотрудничать с обоими композиторами.
В 1777 году Новерр поставил балеты в опере «Армида», написанной Глюком по сценарию оперы Кино — Люлли. На премьере участниками дивертисмента были звезды балетной труппы: танцовщицы Аллар и Гимар, танцовщики Вестрис и Гардель. Исполненные ими интермедии были тематически завершенными сценками в обычаях старой оперы. Одна называлась «Миртиль и Ликорис». Гримм замечал, что «сюжет этой пасторали укладывается в хорошо известные строчки стихов Вергилия: «Она убегает, чтобы спрятаться за ивами, но, спасаясь, желает быть замеченной». И пояснял: «Пантомима, завершающая этот маленький балетный акт, выражает почти то же действие, что и поэма. Но благодаря талантам Вестриса и мадемуазель Гимар это — живопись, ничего не теряющая в грации и свежести».1 Умалчивая о композиторе и балетмейстере, Гримм, быть может намеренно, приписал исполнителям успех пасторали, выдержанной в канонах галантного стиля, который ему самому давно приелся. Но стиль этот был обдуманно избран Глюком и Новерром. Оба, несмотря на уже завоеванную известность, нуждались в доверии парижской публики и хотели добиться его проверенными средствами. Показывая, что владеют этими средствами с мастерством, не имеющим себе равного, оба расчищали путь для будущих
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm, t. 9, pp. 470— 471.
197
новшеств. На пути поисков они вскоре встретились, правда, ненадолго, хотя каждый остался верен ему до конца жизни. Но сначала Новерр выступил сотрудником Пиччини.
В 1778 году он сочинил балеты для оперы Пиччини «Роланд», вспомнив здесь свой «Китайский балет», которым четверть века назад дебютировал как хореограф. Теперь критики сочли ориентальный балет в «Роланде» неуместным. Новерр ответил письмом в «Журналь де Пари». Он напомнил, что Анжелика, героиня поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»,— китайская царевна, а значит, ее могла сопровождать китайская свита. Однако выяснилось и другое: сотрудничество Новерра с Пиччини обнаружило формальный характер, каждый занимался своим делом, не задевая интересов другого, но и не проникаясь ими.
Совсем иначе работал Новерр над «Ифигенией в Тавриде» Глюка. Опера, написанная композитором для Парижа, пошла в мае 1779 года.
Выше приводился рассказ Новерра о том, как он предложил Глюку пластический набросок для еще не написанной пляски скифов. Первый отклик на премьеру запечатлел номер в слиянии звуковой и зрелищной образности: опера «содержит всего лишь один балет, но производит он потрясающее впечатление. Обитатели Тавриды ликуют, взяв в плен Ореста и Пи-лада. Мотив танца отвечает содержанию и в совершенстве передает неистовый восторг дикарей, заранее радующихся казни двух несчастных. Автор ввел в инструментовку цимбалы, треугольник и барабан басков: непривычность звучания словно бы переносит зрителей в гущу этих каннибалов, пляшущих вокруг столба с привязанными к нему жертвами».1 Новизна образного содержания воздействовала сама по себе. Она становилась неотразима благодаря единству авторов.
Для Новерра встреча с Глюком подытожила его поиски идеального содружества музыки и балетного танца, начатые в союзе с композиторами меньшего таланта. «Величайшей художественной победы в Париже он добился, по-видимому, с Глюком, сочинив танцы Ифигении в Тавриде»,— пишет Уинтер.2 Можно добавить, что то была и одна из величайших побед балетного театра XVIII века. Она вела к далеким и разным поискам органики в музыкально-хореографической образ
1 Correspondence litteraire secrete, N 21. De Paris le 22 mat 1779.
2 Winter M. H. The Pre-Romantic Ballet, p. 122.
198
ности спектакля. Отчасти случайная и, по сути дела, не замеченная современниками, она все-таки оставалась победой в силу того, что опыт истории вбирает в себя и сохраняет для будущего каждую смелую попытку продвинуться вперед.
Впрочем, история первой постановки «Ифигении в Тавриде» на том не закончилась. 27 мая газета «Секретные мемуары» неожиданно сообщила: «Поскольку опера Ифигения в Тавриде весьма коротка, в четырех актах имеются только два балета, каковые, по нашему мнению, даже не являются балетами, ибо это всего лишь две очень выразительные пантомимы — танец скифов, о котором уже писали, и танец Эвменид,— господин Новерр предложил кавалеру Глюку закончить все балетом под названием Порабощенные скифы: им возвратят свободу, и это снабдит действие самыми грациозными и самыми веселыми сценами».1 Предложение уводило финал «Ифигении в Тавриде» к банальному дивертисменту, который разрушал серьезную концепцию оперы Глюка, как бы «грациозно» он ни был поставлен. И Глюк такой финал отверг. Тем не менее 4 июня в «Секретных мемуарах» появилась следующая заметка: «Новый дивертисмент, добавленный к опере Ифигения в Тавриде, вполне с нею связан и из нее вытекает. Он представляет Скифов, порабощенных победителями: они появляются в кандалах и с мольбой протягивают руки к Оресту и его сестре, которые отпускают их на свободу и дают им проявить признательность и радость. Охваченные восторгом греки вмешиваются в пляску и грацией, изяществом, благородством танца чудесно контрастируют с грубостью, мощью и силой скифов. Балет заканчивается взятием статуи Дианы — единственной цели путешествия Ореста и Пилада». И только затем следовала короткая фраза: «Музыка дивертисмента принадлежит господину Госсеку».2
Новерр нарушил долг соавторства. Так не поступил бы Анджьолини с его уважением к музыке и к воле ее творцов. Театральное начальство к порывам Новерра оставалось равнодушным. Скорей всего, он сам должен был дать ход своим замыслам, рожденным музыкой Глюка и требовавшим дальнейшего пластического развития.
В июле 1779 года прошла премьера оперы Монсиньи «Королева Голконды»; по отзыву «Секретных мемуаров», балеты
1 Memoires secrets..., t. 14, pp. 74—75.
2 Ibid., p. 85.
199
первого акта «принадлежали г. Гарделю, г. Вестрис взял на себя балеты второго акта, а балеты третьего сочли достойными сочинения г. Новерра». Королевская академия музыки держалась старых традиций и предпочитала распределять между тремя балетмейстерами дивертисменты одной оперы вместо того, чтобы давать кому-нибудь из них право сочинить и поставить самостоятельный балетный спектакль.
Глюк, простил он Новерра или не простил, от содружества с ним не отказался. В сентябре того же 1779 года тот поставил танцы для его новой оперы «Эхо и Нарцисс».
Вероятно, тот же критик еженедельного журнала «Секретная литературная переписка», который писал об «Ифигении в Тавриде», сообщал теперь, что опера «не имела того успеха, к какому привык господин Глюк». Похвалив музыку, он отнес плохой прием оперы за счет «холодного и растянутого» либретто. Отчет заканчивался словами: «Балеты этой оперы весьма разнообразны и делают честь воображению господина Новерра, так сказать, создавшего новый жанр».1 30 сентября «Секретные мемуары» добавили: «Оперу Эхо и Нарцисс считают почти что провалившейся. Если она и продержится немного, то только благодаря балетам господина Новерра... Балеты с первого взгляда привлекают картинностью, примечательной новизной и остротой никогда не повторяющихся эффектов».2
После оперы «Эхо и Нарцисс» содружество Глюка и Новерра оборвалось. В октябре композитор навсегда покинул Францию. В ноябре и Новерр оставил пост балетмейстера парижской Оперы. Больше он с Глюком не встретился. Можно лишь предполагать, что, сложись судьба иначе, их совместная работа принесла бы новые, более значительные достижения.
Встреча Новерра и Глюка была осуждена на забвение потому уже, что произошла в Париже. Близость исторического переворота меньше всего предощущалась в Королевской академии музыки. Этот театр и во второй половине века придерживался давно установленных традиций. Что же касалось балета, там жестче, чем когда-либо, правил консервативный порядок. Все, что представляло угрозу такому порядку, встречалось в штыки.
1 Correspondance litteraire secrete, N 40. De Paris le 25 septembre 1779.
2 Memoires secrets..., t. 14, pp. 215—216.
200
Может быть, одной из главных и привлекательных черт натуры Новерра была способность пренебречь любыми благами ради прав творческой свободы, ради с трудом завоеванной репутации независимого и смелого художника. Ему шел шестой десяток, когда он возвратился на путь странствий.
СНОВА В ПУТИ
Из Парижа Новерр отправился в Лондон. Несмотря на то что Англия и Франция все еще находились в состоянии войны, хореографа ждала торжественная встреча в лондонском Королевском театре. Он привез блестящую труппу французских исполнителей. Там были танцовщица Теодор, вскоре уговорившая последовать за собой своего будущего мужа — Доберваля, брат Максимилиана Гарделя — Пьер Гардель, Бурнонвиль, Ни-велон и танцовщица Симоне. Главное же, Новерр опять получил свободный простор для творчества.
Сезон открылся 17 ноября 1781 года новым балетом Новерра «Вновь соединившиеся влюбленные». Название могло деликатно намекать на встречу хореографа с английской публикой после многолетней разлуки. Затем последовал балет «Безделушки» с музыкой Франсуа-Ипполита Бартелемона. 23 февраля 1782 года Новерр возобновил «Рено и Армиду» с новой партитурой Луи-Себастиана Лебрена: этот композитор стал сотрудником Новерра во многих дальнейших постановках. Спектакль имел выдающийся успех, а одна газета назвала его «шедевром искусств, изобретательно распланированным и восхитительно выполненным».
И апреля, в бенефис Новерра, шли «Медея и Ясон» (балет был известен Лондону в постановке Вестриса) и «Адель де Понтье». Критики превознесли «силу гения» Новера, его «высокий вкус», его способность соединять в себе «качества поэта, художника и актера»,1 расхвалили искусство исполнителей.
Для дебюта Ле Пика на английской сцене, состоявшегося 2 мая, Новерр дал дивертисмент «Аполлон и музы», а 6 июня, в бенефис этого танцовщика, возобновил балет «Апеллес и Кампаспа». Оба спектакля получили восторженную прессу.
1 Цит. по: Guest I. The Romantic Ballet in England, p. 16.
201
В британских успехах Новерра имелись свои конкретноисторические причины. Традиции английской драмы допускали гораздо большую свободу, нежели традиции французского театра, и это предопределило терпимость лондонцев. Что же касалось балета в Англии, то там, на поверхностный взгляд, вообще не было преемственности традиций. Традиция время от времени возникала, сулила многое и тут же обрывалась, как бы не успев расцвесть. Многолетний промежуток отделял творчество Джона Уивера от художественной практики Генри Перселла и Джозиаса Прийста. Опыты Мари Салле, близкие по духу опытам Уивера, существовали словно независимо от них. И все же в этом прерывистом ходе смелых поисков и значительных открытий давала себя знать закономерность, вытекавшая из общих условий национальной английской сцены. Там всегда присутствовала тяга к вольному развитию действия, реалистической обрисовке характеров, резким контрастам лирики, героики, юмора. И то, что возмущало французов в балетах Новерра, встречало приветственный отклик английского зрителя. Этот зритель находил художественные достоинства и в героических трагедиях старого хореографа, и в его лирических драмах, и, наконец, в дивертисментах, где торжествовал инструментальный танец, заключенный в рамки логически оправданного мифологического сюжета. Новерр же, так долго питавшийся скудным пайком французской сцены, наслаждался, снова пробуя силы в разных жанрах хореографии.
К довершению успехов первого лондонского сезона англичане издали переводы «Писем о танце» и сценариев Новерра.
Второй сезон начался 2 ноября 1782 года. Но Новерр заболел, и Ле Пик подготовил к открытию «Апеллеса и Кампаспу». В мае театр закрылся из-за финансовых затруднений директора Тейлора. Болезнь вынудила Новерра на пять лет оставить работу.
Только весной 1787 года хореограф возобновил свою деятельность. Осенью он привез в Англию отборную труппу, куда входил молодой Дидло. Новерр был уже маститым художником, и газеты называли его «старый кавалер Новерр».
Спектакли начались в декабре балетом «Жертвы Амуру», затем шли «Амур и Психея», новый балет «Темпейские празднества», возобновление — «Евтимий и Эвхариса» и др. Наряду с ними шли и балеты Дидло.
В то время на родине Новерра старые порядки отживали свой век. Франция стояла на пороге революции, перевернув
202
шей весь уклад страны, а заодно и многое в театральной системе Парижа. Еще до революции Опера утратила обоих соперников Новерра. Доберваль уехал в Бордо в 1784 году. В 1787-м умер Максимилиан Гардель. Пост балетмейстера Оперы теперь занимал его младший брат — Пьер Гардель. Новерр мог бы вновь попытаться возглавить парижскую труппу. Но ему шел седьмой десяток, и, должно быть, помнилась горечь прошедшего опыта. Кроме того, большую часть жизни он зависел от милостей тех или иных коронованных особ; в частности, своей, пусть не слишком удачной, деятельностью в Королевской академии музыки был обязан Марии-Антуанетте и, вероятно, понимал, что не все закроют глаза на это обстоятельство.
Потому в 1789 году кавалер Новерр предпочел остаться в Лондоне. 10 января 1789 года он поставил для открытия сезона новый балет «Провансальский праздник». Должно быть, старый хореограф испытывал известное удовлетворение оттого, что его труппа пополнилась некоторыми бывшими звездами парижского балета, беглецами из революционной Франции. Например, 28 апреля 1789 года Мадлен Гимар дебютировала в главной партии его балета «Анетта и Любек», некогда ею отвергнутой.
Однако 7 июня 1789 года деятельность лондонского Королевского театра прекратилась из-за пожара. Новерр возвратился на родину, но поселился в провинциальном городке Триеле. Он прожил там три года. В 1792 году, когда к власти пришли якобинцы, Новерр, быть может опасаясь преследований, опять приехал в Англию с труппой французских танцовщиков.
26 января 1793 года Королевский театр в Лондоне открылся оперой Паэзиелло «Севильский цирюльник» и новым балетом Новерра «Темпейские супруги». Газеты расхвалили исполнителей и объявили, что «дивертисменты хороши и делают честь господину Новерру».
30 января между Англией и революционной Францией вновь вспыхнула война. Почти семидесятилетний Новерр очутился в положении эмигранта. Его жена, оставшаяся во Франции, пробовала спасти имущество от конфискации. Артисты Оперы, переименованной в Театр Республики и Искусств, удостоверили заслуги Новерра перед нацией и наличие у него республиканского паспорта. В конце концов был издан приказ не считать Новерра беженцем и возместить его потери.
203
Но старый балетмейстер, осыпанный милостями многих монарших домов, признавал революции только в области искусства. Он декларативно выразил свои политические убеждения, поставив pas de trois et de quatre на музыку английского гимна «Боже, храни короля».
Все же Новерр продолжал оставаться если не революционером в своем искусстве, то художником, пристально следившим за временем. Об этом свидетельствовал балет «Венера и Адонис», показанный в Лондоне 26 февраля. Критики сочли его «одной из лучших постановок Новерра». Правда, больше всего восхищал «невиданный блеск» сценических эффектов: например, Купидон и Геба взлетали в поднебесье, а оттуда спускался Юпитер. Но такие похвалы говорили, скорее, о верности испытанным средствам машинерии, хотя и усовершенствованным с помощью техники. Дороже был восторг, вызванный «изысканным исполнением» двух молодых танцовщиц: Миллер — Венеры и Хиллигсберг — Гебы.
Новерр по-новому воплотил мифологический сюжет, выдвинув на первый план не танцовщиков, а танцовщиц. Он не сам изобрел это новшество. Сдвиг подготовлялся исподволь и повсеместно. Уже за три года до того Пьер Гардель, за которым одобрительно следил Новерр, показал в Париже два балета, где женский танец стоял вровень с мужским. Новшество отвечало духу времени, чему имелись общие причины. Сентиментализм утверждался в литературе и искусстве и часто делал женские образы средоточием чистых чувств. Новерра это могло привлечь и по причинам личного порядка. Классицизм, определивший период расцвета творческой деятельности Новерра, стал ему чужд. Героика уже не импонировала маститому хореографу: героика современной жизни могла вызвать у него только протест. Теперь, на склоне лет, он приглашал любоваться прекрасным, уводившим от тревог и невзгод действительности. В сущности, он оплакивал старый режим, к гибели которого, сам о том не подозревая, приложил руку, ибо следовал все тем же велениям времени. Проводник просветительской мысли в балете отвернулся от героической пантомимной трагедии ради анакреонтического мифа, воплощенного в танце.
Парадоксально это смыкалось с общими эстетическими судьбами всего балетного театра. Балет словно бы отступил назад, перед тем как заново обратиться к героической образности. Теме бунтарской личности суждено было возникнуть в новом жанре балетной романтической мелодрамы. На музы-
204
калькой сцене балет опять-таки опередила опера, активно обратившаяся к антитираническим сюжетам. Жанр «оперы спасения» расцвел в творчестве композиторов Керубини, Мегюля, Лесюера. Своей вершины героика достигла в «Фиделио» Бетховена. Немало героических опер создали Спонтини и Россини. Балету суждено было подхватить заданное оперой, но пока что, на пороге перемен, он вернулся к «золотому веку» пастушеских идиллий, то облекая их в одежды античных сказок, то наряжая под современных «пейзан». Уже не Новерр, а его ученики, прежде всех Жан Доберваль и Шарль Дидло, заложили основы балета новой эпохи. Во-первых, они обнаружили прогрессивные тенденции в обветшалом, казалось бы, материале мифа и волшебной сказки, обновили его смысл и его формы. Во-вторых, они вновь стали черпать сюжеты и темы из арсенала современной оперы, создав жанр, который можно было бы назвать «балетом спасения». Они, а с ними прославленный хореограф Сальваторе Вигано и другие, менее крупные мастера распахнули двери в эпоху балетного преромантизма и наметили дальнейшие пути развития...
Время творческой деятельности Новерра истекало. Он мог лишь предчувствовать грядущие перемены. Однако его могучий талант и угасая давал блестящие вспышки. Старому мастеру довелось еще раз продемонстрировать вкус и неиссякаемую фантазию.
23 апреля 1793 года Новерр показал англичанам балет «Ифигения в Авлиде», имевший громадный успех. Критики вновь объявляли хореографа поэтом, а придуманные им эффекты — волшебством.
Эффекты безусловно принадлежали самому Новерру. В постановке массовых сцен, восхитивших лондонцев монументальной зрелищностью, он пользовался своим богатым опытом. По сцене маршировали войска, разворачивались процессии, колесницу Агамемнона влекло несколько коней. Музыку балета сочинил композитор Миллер, но сила поэтических обобщений в инсценировке мифа, должно быть, восходила к Глюку, чья одноименная опера насчитывала без малого двадцать лет. Проникновенный драматизм нестареющих музыкальных образов уже скончавшегося композитора, несомненно, стимулировал творческую мысль хореографа. Эти образы привлекали противоречивой борьбой чувств, гораздо более глубокой и утонченной, чем образы его прежних трагических балетов. Другое дело, что гармонию творений Глюка Новерр мог и не
205
соблюсти. Вновь, уже последний раз, покидая анакреонтические сюжеты ради античной трагедии, он ведь уходил и от прежних своих идеалов и заменял пафос героя-символа патетикой, согретой переживаниями личного порядка. Характеристики героев — нежной и стойкой Ифигении, трагически страстной Клитемнестры, любящего отца и непреклонного вождя греков Агамемнона — окрашивались настроениями художника, потерпевшего бедствие в собственной жизни. Героическое смыкалось с нравственным. Подвиг совершался, чтобы сохранить человеческое достоинство перед тиранией рока. А это, меняя акценты, определяло обостренную экспрессивность пластических монологов и диалогов. Балетом «Ифигения в Авлиде» завершился ряд пантомимных трагедий Новерра.
Хореограф был по-прежнему непокладист и полон энергии. Английский певец Майкл Келли, директор Королевского театра в бытность там Новерра, вспоминал о нем как об «отчаянном скандалисте, который, случалось, так рвал и метал за кулисами, что, право, мог сойти за сбежавшего из-под надзора помешанного». Поводы для таких суждений Келли имел. Он признался, что «однажды испробовал на себе последствия гнева» Новерра, как раз во время представления «Ифигении в Авлиде». Один из служителей, прикомандированных к лошадям колесницы Агамемнона, оказался так пьян, что его нельзя было выпустить на сцену. Тогда Келли надел греческий костюм статиста, закрыл лицо забралом шлема и благополучно заменил конюха. Потом он, «быть может, слишком громко», заговорил с кем-то за кулисами.
«Новерр, в пылу бешенства,— вспоминал Келли,— подскочил сзади и дал мне потрясающего пинка, воскликнув:
— Заткнись, скотина!
Рабочие сцены, судя по их лицам, были счастливы, что пинок достался мне, а не кому-нибудь из них»,— усмехался Келли.1
Все же срок творчества хореографа иссякал вместе с концом великого века. Лондонский сезон 1794 года открылся оперой Чимарозы «Тайный брак» с вставными танцами Новерра и его новым балетом «Аделаида, или Альпийская пастушка». Прощальной постановкой Новерра был аллегорический балет на музыку Миллера «Шалости любви», показанный в Королевском театре 1 апреля 1794 года.
1 Reminiscences of Michael Kelly. London, 1826, v. 2, pp. 39—40.
206
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НОВЕРРА
Вскоре Новерр возвратился в Париж. Он был болен и нищ. Пенсию перестали выплачивать из-за связей хореографа с деятелями старого режима, да и фонды Оперы оскудели. Найти работу не удавалось. «Несмотря на легендарную славу, он должен был бороться с бюрократией, преодолевая помехи из-за утерянных документов и общей неразберихи,— пишет Лин-хэм.— Ему обещали деньги и не выплачивали, сулили пост балетмейстера в школе при Опере и не давали его».1 Лишь в 1800 году Новерр получил вспомоществование и уехал с женой в городок Сен Жермен ан Ле. Изредка он посещал Париж и наведывался в Оперу. Линхэм отмечает: «Он заглядывает на репетиции, где дает советы молодым исполнителям, сетуя, что не воспитывают больше танцовщиков, отчего их количество превосходят танцовщицы. Его огорчает мертвящая монотонность, украдкой проникающая в спектакли Оперы, и, сверх всего, то, как Вестрис-младший забывает все принципы, тратя талант на пируэты».2
Балеты Новерра возобновлялись другими. В Париже Пьер Гардель и Вестрис поставили в 1804 году «Медею и Ясона», в Петербурге Ле Пик — «Медею и Ясона», «Адель де Понтье», «Амура и Психею». Его труды переиздавались. «Письма о танце и балетах» вышли в 1787 году в Амстердаме, в 1803-м — в Петербурге и Копенгагене. В 1807 году Новерр опубликовал двухтомные «Письма о подражательных искусствах вообще и танце в частности». В последние издания, помимо «Писем о танце и балетах», пересмотренных, дополненных и адресованных автором его ученику Добервалю, вошли дополнительные материалы. То были отобранные Новерром сценарии его балетов; письма к Вольтеру о Гаррике; «Письма немецкой принцессе об Опере», обозревающие историю парижской Оперы с 1740 года; ряд писем об организации публичных празднеств; письмо о постройке нового здания Оперы.
19 октября 1810 года Новерр умер. Он не успел закончить ни статью о балете, которой хотел заменить статью Каюзака в Энциклопедии, ни составлявшийся им «Танцевальный словарь».
Он умер в бедности и все же оставил колоссальные ценности в наследство. Это наследство, обобщившее опыт балетного
1 Lynham D. The Chevalier Noverre, p. 114.
2 Ibid., p. 117.
207
театра XVIII века, можно разделить на две части. Первая часть — творческая практика Новерра, вторая — его теоретические труды. Части не всегда совпадают, больше того, кое в чем противоречат одна другой. И все же между ними есть глубокая связь, позволяющая им влиять на судьбы хореографии.
Практическая деятельность Новерра разнообразна и объемна. Сохранились названия более 80 его балетов, 24 оперных балетов, 11 дивертисментов, не говоря о множестве разного рода праздничных зрелищ. Балеты давно сошли со сцены. Но метод Новерра-хореографа и Новерра-учителя продолжился. Его творческие принципы вдохновляли хореографов разных поколений. Непосредственные наследники Новерра — Добер-валь, Дидло и Вигано, по словам Линхэма, являли в своих постановках «несомненный след идей Новерра, а пометки Перро на экземпляре «Писем о танце», хранящемся в библиотеке Оперы в Париже, доказывают, сколь многим он был обязан Новерру».1 Наконец, один из ведущих хореографов нашего века — Морис Бежар считает, что Новерр «подлежит защите в силу не только исторических, но и поныне насущных причин, ибо он создал действенный балет, из которого вышел весь современный танец».2
Главный творческий критерий Новерра сохраняет силу и сегодня. Отвергая стеснительные правила трех единств, хореограф отстаивал общность слагаемых балетного спектакля. И хотя на практике он порой поступался интересами музыки ради живописности зрелища, в теории он требовал взаимосвязи всех искусств. Ответственность за это Новерр возлагал на балетмейстера, вводя таким образом в обиход принципы балетной режиссуры. Условием воплощения замысла он объявлял союз пантомимы и танца и осуществлял такой союз, в конечном счете опираясь на открытия современной ему театральной музыки. Он шел одним путем с теми композиторами XVIII века, которые отменяли издавна принятые схемы оперного спектакля, преобразовали его выразительные средства и открыли доступ новому содержанию. Подобно тому как в опере музыка установила более гибкие законы сценического действия, так в балетах Новерра пантомима раздвинула границы «ритмизованного шага» и выросла в пластическую кантилену движений, позировок и групп, свободно и гибко располагав
1 L ynham D. The Chevalier Noverre, p. 157.
2 См,- Hover re J.-G Lettres sur la Danse Paris, 1978, pp 32—33
208
шихся на музыке. И так же как из речитативов органично вырастали арии — вершины эмоционального действия новых опер, так из пантомимы новерровых балетов рождался действенный танец —кульминация страстей.
Новерр упорядочил жанры — как танца, так и целого спектакля. Он добавил к существовавшим малым формам хореографического спектакля развернутую форму многоактного балета.
Наконец, серьезные познания в анатомии позволили Новерру высказать важные мысли о технике танцевального искусства и исполнительских возможностях.
В теории балетного искусства Новерр суммировал открытия предшественников и современников, порой — при видимости полемики с ними, о чем еще будет речь дальше. Значение его теоретических трудов непреходяще главным образом потому, что он внес в сугубо частную область балетной эстетики достижения просветительской эстетики в целом и создал своеобразную аналогию учению Вольтера и Дидро.
Ученики и наследники Новерра создавали после него свои концепции балетного искусства, свои методы и стили. Среди них были великие таланты. Однако фигура Новерра возвышается на рубеже двух эпох подобно маяку, бросающему свет и на безбрежное море, и на взрастившую нас почву. Время и ход истории присвоили Новерру почетный титул Отца современного балета.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОЛЕМИКА АНДЖЬОЛИНИ С НОВЕРРОМ
В пору, когда свершалась и побеждала историческая реформа Новерра, на место рядом с этим хореографом мог претендовать только Гаспаро Анджьолини. Много ремесленников сновало вокруг, было и несколько подлинных талантов-практиков, но единственно он, кроме Новерра, испытывал острый интерес к теоретическим проблемам своего искусства. Куда более скромный, чем его заносчивый сверстник, он тоже бывал упрям и неосторожен — хотя бы тогда, когда вызывал вспыльчивого Новерра на дружеский спор. Новерра раздражала тень сомнения в том, что именно он достиг в балете «последней степени совершенства». Потому, хоть и не сразу, но категорично он отклонил брошенный ему вызов — брошюру «Письма Гаспаро Анджьолини господину Новерру по поводу балетов-пантомим», изданную в Милане в 1773 году. Разгоревшаяся полемика в конечном счете принесла пользу, ибо ввела вопросы хореографии в обиход современной эстетики.
Поводом для брошюры Анджьолини назвал «любезный подарок украшенного талантами синьора Новерра, когда тот проезжал через Вену».1 Встреча состоялась в начале того же 1773 года. Поставив на венской сцене «Отмщенного Агамемнона» и «Ифигению в Тавриде», Новерр отправлялся в Милан — меняться местами с Анджьолини, который возвращался в Вену.
1 Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Nov er re sopra i balli pantomimi. Milano, 1773, p. 3. Дальше ссылки на страницы «Писем» Анджьолини даются в тексте главы.
210
Подарок Новерра состоял из программ к этим двум балетам и к недавно возобновленному им балету «Грации».
В начале первого письма Анджьолини восхищался красотами, «рассеянными в трех программах». Он заверял адресата: «Мрачные похороны убитого Агамемнона, поэтичное и живописное начало балета Ифигения, сменяющиеся позы граций и множество других подробностей и картин, живо оплодотворяющих воображение, столь умно выражены в ваших Программах, что порождают желание вновь видеть их исполненными на театре или, перечитывая вторично, представить себе внутренним взором». По его словам, он так и поступил, обнаружив притом новые прекрасные вещи. Но тут же признался, что наткнулся в программах на мысли, «противоречащие историческому ходу танца», которые его «двадцатишестилетний опыт заставил считать несостоятельными» (с. 3—4). Так родилась знаменитая полемика Анджьолини и Новерра.
Мариан Ханна Уинтер убедительно доказывает, что Новерр сначала спокойно и заинтересованно отнесся к критике Анджьолини. 3 августа 1774 года состоялась премьера его балета «Апеллес и Кампаспа» в театре Реджио. «Своему первому балетному либретто, обращенному к миланской публике,— сообщает исследовательница,— Новерр предпослал заявление, любопытное в свете их дальнейшего спора». Новерр писал: «Не закрываю глаза на то, что, приехав сюда, я заместил человека таланта, даже выдающегося таланта, если судить по его советам и осведомленности, которыми его дружба открыто меня наградила». Слова Новерра были произнесены через год после публикации открытых писем Анджьолини. Потому, как справедливо считает Уинтер, «соперничество было раздуто участниками обширной полемической литературы, и то, что могло остаться небольшой и тактично упорядоченной междоусобицей, превратилось в развернутую войну памфлетистов».1 Действительно, эта война разделила на два лагеря хореографов, танцовщиков и знатоков балета в Милане и Вене. Граф Пьетро Верри сообщал в частном письме из Милана о «яростной битве между сторонниками двух спорщиков здесь и в Вене». При явной симпатии к соотечественнику, он был достаточно объективен в оценке обоих.
«Анджьолини доказывает,— писал Верри,— что искусство пантомимы, как и все прочие искусства, развивалось постепенно.
1 Winter М. Н The Pi e-Romanlic Ballet, p 120
211
И до Новерра, бывало, обращались к нему. Это действительно отвечает истине... Новерр первый, кто заставил пантомиму длиться. К тому и сводятся все его изобретения, на какие он претендует. В остальном Анджьолини, не видя Новерра, поступал совершенно так же.
На мой взгляд, у Новерра больше воображения. Он мастерски владеет театральными эффектами. Бездна вкуса в его костюмах и планировке картин; видна забота о последнем статисте.
Но Анджьолини строже связывает движение с музыкой, потому что сам сочиняет и то и другое. Он сосредоточивается на протагонисте, и действия того больше отвечают сюжету. Он лучше выбирает сюжеты, которые можно понятно передать жестами, и не загружает пантомиму невнятными ситуациями.
Новерр вспыльчив, и его высокомерие граничит с грубостью. Анджьолини — человек воспитанный и скромный.
Первый сейчас находится у нас, а последний в Вене, где замещает Новерра, как Новерр замещает его здесь. Обоих терпеть не могут там, где они в настоящее время пребывают, и нежно любят там, где они были...» 1
Война между сторонниками Анджьолини и Новерра выплеснулась за пределы Милана и Вены, охватила сначала Париж, а потом распространилась повсеместно. Дальним ее отголоском в России прозвучала ироническая фраза Радищева о двух драчунах, свалившихся в изнеможении: «Прекраснейшая группа, которой ниже тени никогда ни Новерр, ни Анджьолини не могли произвести в прекрасных своих балетах».2 Шутка, несомненно, отразила отношение русских литераторов к спору двух хореографов.
Анджьолини атаковал предисловие Новерра к трем балетам, еще не зная, как он признался потом, «Писем о танце». Книга Новерра между тем вышла за тринадцать лет до начала полемики. Правда, половину этого срока Анджьолини провел в России, где «Письма» Новерра могли иметь очень немногие покровители балетного театра.
Новерр первый задел самолюбие Анджьолини. В предисловии к «Отмщенному Агамемнону» он объявил себя основопо
1 Цит по: Toscanini 117. GasparoAngiolini.— Opera News, v. 19, No 22, 1955, April, 4, p. 9.
2 Радищев A. H. Поли. собр. соч. в 3-х т. М.— Л., 1941, т. 2, с. 215.
212
ложником героической пантомимы в Вене, городе, где до его приезда уже ставили такие пантомимы Франц Хильфердинг и Анджьолини. Но Анджьолини выразил обиду лишь после восьми страниц реверансов перед талантами Новерра. «Истина — единственная забота честных сердец и редких талантов,— восклицал он.— Несомненно, поиски этой истины выделили вас среди бесчисленного множества коллег и сделали столь заметным на поприще искусства, которое до той поры считалось почти механическим, отличающимся лишь гибкостью и грацией тела, но не разумом и суждением». Заверяя Новерра во всемерном уважении, Анджьолини просил не смотреть на него как на «критика высокомерного и злонамеренного». Он объявлял: «Водружая враждебный вашим мнениям флаг, не домогаюсь ничего более, как сделать себя в ваших глазах достойным искусства, которое возрождается, которое любимо вами, вами украшено и к которому я, как и вы, питаю великую страсть» (с. 4—5).
Письма Анджьолини к Новерру распадаются на две неравные части.
Лишь меньшая часть подсказана личными чувствами, хотя и там можно различить два мотива. С одной стороны, Анджьолини порицал надменную самоуверенность Новерра. Он несколько раз возвращался к этой теме, осуждая противника за способ аргументации: «Когда вы не находите убедительных доводов в пользу щедрых вольностей, какими имеете привычку защищать свои произведения от правил, тогда авторитетным тоном заявляете: «Льщу себя надеждой, что просвещенная Публика милостиво предоставит моему усмотрению распвряжаться теми немногочисленными возможностями, что предлагает искусство танца». Заверения такого рода, утверждал Анджьолини, «воскрешают слепую власть, которая была помехой расцвету Наук для всех Народов», и заключал: «Нет, ни вам, ни мне, ни кому бы то ни было не следует верить слепо, ибо все обязаны подчиняться рассудку и опыту». С другой стороны, Анджьолини упрекал Новерра в том, что тот «объявил себя единственным реставратором пантомимного танца», что «пафос» его сочинений «хочет возвысить их автора над прочими, как орла над голубями» (с. 6). Показывая несостоятельность подобных претензий, Анджьолини оставил драгоценные для истории страницы, посвященные его учителю. Он и дальше не раз указывал Новерру на «господина Хильфердинга, чье творчество было прекрасным и верным в ту пору, когда еще и вы и я были неопытными детьми» (с. 22). И призывал его помнить, что «господин Хиль-
213
фердинг навсегда останется Эсхилом нашего века в искусстве пантомимного танца» (с. 24). С подчеркнутой скромностью сообщал он и о собственных поисках, кратко описывал путь, который прошел, «чтобы подняться в один прекрасный день к чудесным эффектам античной пантомимы» (с. 17).
Другую, значительно большую часть писем вызвали мотивы объективного порядка. Здесь многое зависело от того, что Анджьолини затевал спор, не зная главного труда Новерра, а имея в виду лишь предисловия трех программ. Оттого он не слишком полно представлял себе взгляды противника, которые по главной своей сути не так уже и расходились с его собственными взглядами.
Ведь конечной целью своего искусства оба балетмейстера видели создание лирико-трагедийного хореографического действия, логично выстроенного по законам современной эстетики. Оба стремились воплотить в этом действии истинные характеры и страсти, основанные на подражании той «прекрасной природе», которую провозглашали мерилом правды в искусстве передовые умы эпохи. Например, оба оперировали понятием «выразительность», взяв его целиком из эстетического обихода просветителей. Обоим несомненно была знакома статья Руссо «Выразительность» в «Музыкальном словаре», изданном в 1767—1768 годах. Руссо, теоретически поясняя там это понятие применительно к музыке, писал: «Как хороший художник не покажет изображаемые предметы в одинаково ярком освещении, так и искусный музыкант не наделит одинаковой энергией все чувства и одинаковой силой все картины, но поместит каждую часть на подобающее место, стремясь не столько показать ее одну, сколько придать большой эффект целому».1 Правда, путь к такому совершенному, во всех частях гармоничному целому каждый хореограф избирал, ориентируясь на свой идеал. Тут-то и начинались расхождения.
Новерр сближался с теоретическими позициями Дидро. В «Беседах о „Побочном сыне"» Дидро устанавливал два стиля музыки: простой и фигурный. Признавая «богатство второго», он отдавал первому преимущества выразительности и называл источником выразительности природу. Рассматривая в той же связи и путь балета, Дидро призывал «придать танцу форму настоящей поэмы», то есть зрелища, где главенствовал бы простой стиль, не исключая притом прелестей фигурного. Те же
1 Руссо Ж--Ж- Избр. соч. в 3-х т„ т. 1, с. 268.
214
мысли высказывал и Каюзак в статьях «Танец», «Балет», «Пантомима», написанных для Энциклопедии. Именно форму поэмы, вольно и гибко отклоняющейся от суровых правил драматургии классицизма, мечтал придать балету Новерр. Не случайно он так охотно избирал для своих балетов сюжеты анакреонтической поэзии, поэмы Тассо и Ариосто, неохватные, казалось бы, пласты эпоса, а у Вольтера, даже заигрывая с ним, избрал, как упоминалось, не образы его трагедий, а песнь из «Генриады» (балет «Охота Генриха IV»).
Вольтер зато был кумиром Анджьолини. Вольтер-теоретик, который писал о «поэзии выразительности», украшающей природу, но не преувеличивающей ее. Вольтер-драматург, соблюдающий границы благородного вкуса и строгость театра классицизма.
Из-за несходства взглядов на права и обязанности балета и завязалась полемика Анджьолини с Новерром. Ведь как раз в предисловии к «Отмщенному Агамемнону» Новерр заявил, что балет не обязан подчиняться рассудочным правилам современной трагедии. Именно современной, настаивал хореограф, потому что это новые авторы вычеркнули одних персонажей, заменили их другими, уничтожили хоры и «нарядили древние трагедии в одежды по вкусу века, для которого пишут». Он утверждал, что пантомима «должна живописать в широкой манере», что «она должна пользоваться красками самыми резкими, мазками самыми смелыми», что ей чужд холод нравоучений. Потому пантомимный балет не может быть трагедией и из всех литературных жанров терпит сравнение только с поэмой. Отказываясь от оков драмы, «которые никогда не были предназначены для танца», Новерр напоминал, что даже драматурги последнего времени постоянно разрывают путы этих правил, а уж «славный Шекспир, блистательный гений английской сцены, всегда отбрасывал их» (IV, 143—145).
Анджьолини пылко выступил против. Он писал Новерру: «Вы извиняете себя тысячью отвлеченных доводов, совершенно неубедительных, неспособных разуверить того, кто понял неопровержимые доводы правил, тщетно вами сокрушаемых». Он настаивал: «Для великих талантов правила — дружелюбные руководители, а без них любой талант собьется с пути» (с. 24). Таков Шекспир, «который блуждает и теряется в каждом своем произведении. Его делают бессмертным для всех народов красоты подробностей, отрывков, возвышенных сцен, щедро разбросанных в трагедиях, но не план и не ход действия» (с. 25).
215
Порицая Новерра, попирающего законы Разума, он утверждал, что тот, «свергая иго трех единств», дает пример «хитроумных на них нападок», когда говорит: «Меня не следует судить по тем же законам, по каким судят драматурга. Нет правил, написанных человеком искусства для Поэтики танца». Анджьолини, напротив, считал, что и правила «самые суровые» равно непременны для всех искусств. Он подтверждал это длинной ссылкой на Вольтера и советом читать древних авторов, начав с Аристотеля и Горация, а также Буало, Мольера, Корнеля, Расина и «других бессмертных гениев, которые не только советами, но и делами доказали, что прекрасное есть разнообразие, сочетаемое с единством» (с. 28).
Поэма, если ее освободить от «множества эпизодов, которые естественно приличествуют этому роду поэзии», будет иметь начало, середину и конец, а следовательно, в ней легко обнаружатся единства действия, места и времени, продолжал Анджьолини. И утверждал, что публика приходит в театр не для того, чтобы узнать всю историю героя, «а лишь для определенного и единственного события, обозначенного в названии» (с. 33—34). То был упрек в адрес «Отмщенного Агамемнона». Название этого балета, считал Анджьолини, не давало Новерру права развертывать всю историю дома Атридов. «Хорошо построенный сюжет нельзя ни начинать, ни кончать где захочется», ссылался он на Аристотеля и прибегал к силлогизмам: драма означает действие, и если «балет не драма, то он п не действие, а если он не действие, то что же он такое?» (с. 32).
По твердому убеждению Анджьолини, пантомимный балет был драмой. Отсюда вытекала необходимость разделять его на три или пять актов, соблюдая тем «справедливую меру пропорциональной величины действия». Притом «такое распределение имеет свою трудность, ибо нельзя ни заканчивать, ни начинать акта без разумных на то причин». Он превозносил простоту действия («чем оно проще, тем интереснее») и рассуждал: «Когда плохо управляемое воображение начинает попирать этот закон, оно безудержно преступает границы, предписанные рассудком, и, отклоняясь от превосходных образцов, заявляет себя врагом хорошего вкуса — отца и господина любой прекрасной постановки» (с. 32).
И однако, изрекая все эти истины, Анджьолини внутренне сознавал, что Новерр пренебрегал нормами классицизма по праву выдающегося таланта, умеющего смотреть вперед. Он понимал, что, куда бы ни заносила Новерра щедрая выдумка,
216
она же и искупала все его преступления против правил, ибо невиданно раздвигала границы балетного театра. Потому, советуя французскому хореографу избегать вставных эпизодов ради простоты и ясности действия, скептически оценивая его попытки «объяснять идеи прошедшего и будущего», Анджьолини искренно им восхищался. «Ваши постановки,— писал он,— продолжили и неуклонно продолжают историю театров Вены, связанную с танцем. Танец обязан вам новыми успехами, которые он сделал в трагедийных спектаклях, пользующихся ныне, и по праву, предпочтением перед другими в любом жанре» (с. 20). Анджьолини смело и честно признал превосходство собрата по искусству, и это было тем более благородно, что венская публика скоро дала понять Анджьолини, что предпочитает ему Новерра. Императрица Мария-Терезия в одном из писем (от 11 августа 1774 года) замечала: «Я очень довольна успехом Новерра в Милане. Здесь распространялись совсем противоположные слухи; говорили, будто в Милане так же сожалеют об Анджьолини, как у нас о Новерре. Первый ставит здесь отвратительные балеты... Не могу сказать, что Новерр во всем одинаково превосходен. Он бывает невыносим... но я считаю, что он неподражаем в своем искусстве и в способности извлекать хоть что-то из самого посредственного материала».1 Невыносимость целиком относилась в цитированном письме к дерзкому характеру Новерра.
Анджьолини выразил в конце первого письма надежду, что он и Новерр явят собой «исключение из того правила, будто два человека, занимающиеся одним делом, редко сочувствуют друг другу. Если я заблуждаюсь, соблаговолите руководить мною. Но если найдете, что где-то и вы погрешили против истины, признайте великодушно мою правоту, ради любви к прогрессу искусства». Закончил он словами: «Простите же мою смелость и считайте меня вашим лучшим другом и почитателем. Прощайте» (с. 40).
Второе письмо вылилось из-под пера Анджьолини, когда он прочитал наконец книгу Новерра и обнаружил там «столько прекрасного и хорошего, что был с лихвой вознагражден за время, потраченное на чтение». Однако тут же он оговаривался: «Созданное вами хорошее и прекрасное смешано с массой безрассудных идей». И заключал, что хотя книга содержит много страниц «остроумных, эрудированных, критических и доставляю
1 Цит по: L у п h a m D The Chevalier Noverre, p 75.
217
щих наслаждение, в конце концов впечатляет гораздо меньше, чем заслуживала бы» (с. 41—42). Анджьолини не сомневался, что «Письма» Новерра «навсегда останутся прочным памятником» его блистательной репутации (с. 43), но и они подвластны свободной критике. Теперь его спор с Новерром затрагивал темы общего характера, важные для эстетики и практики балетного искусства.
Прежде всего Анджьолини коснулся той критики, какой Новерр подверг парижскую Академию музыки и балетные дивертисменты в ее оперных спектаклях; нападкам Новерра он противопоставил свою, исторически верную точку зрения. Поскольку Кино, Люлли и Бошан создали структурные формы французской оперы, Анджьолини утверждал, что хореографы Академии обязаны считаться с этими формами и уметь «охватить умственным взором произведение в целом, во всех его составных частях» (с. 44—45). Балетмейстер должен видеть танцевальный номер в опере как часть целого, а не как вставной эпизод. Для этого необходимо профессионально знать музыку, «ибо хоры, когда они хороши, содержат музыку мудрую, простую, величественную, связанную со словами, событиями и характерами: следовательно, и вставные балеты должны быть такими, чтобы танец обладал теми же качествами и с равной силой принадлежал искусству». Из-за музыкального невежества танцовщиков «старые капельмейстеры Парижа присваивали право сочинять музыку... не советуясь с танцмейстерами», а балеты в операх «ограничивались техническим танцем, варьируемым лишь согласно темпам и модуляциям готовой музыки» (с. 45—46). Чаконы, паспье, гавоты, ригодоны и другие танцы распределялись по актам согласно многолетнему обычаю. А сведущий балетмейстер должен «пользоваться красотами всех искусств, временных и пространственных, обращаясь попеременно к прелестям танца, музыки, исполнения, а то и к сумме всего зрелища, иногда сливающегося в единый союз хоров, балетов, актеров, статистов, костюмов, декораций». Балетмейстер вправе предложить поэту, сочинителю оперного сценария, эпизод, который тот введет в действие. Но разумнее «расширять небольшие границы, предоставленные поэтом танцу» (с. 47—48). Таким образом хореограф может отличиться в балетных сценах оперной постановки, хотя этот жанр и ниже, чем пантомима.
Анджьолини решительно отделил от опер Люлли жанр смешанного оперно-балетного спектакля, распространенный в музыкальном театре с начала XVIII века. Отвергая подобный сме
218
шанный жанр, он опирался на авторитет Руссо. В статье «Опера» из «Музыкального словаря» Руссо объявлял танец непричастным к союзу трех искусств — поэзии, музыки и живописи, составляющих оперу. Руссо порицал танцевальные комические интермедии, «зрелища приятные, остроумные и полные естественности, но столь неуместные посреди трагического действия». Он не допускал танца и как составную часть оперы, ибо «язык жестов» смешон среди людей, умеющих говорить. Он признавал только чистый балет — в виде «небольшой пьесы», даваемой после оперы: «Тогда искусство пантомимы или танца становится условным языком, а обычная речь изгоняется; музыка же применяется в маленькой пьесе к танцу так же, как она сопровождала стихи в большой, связуя оба зрелища».1 Вслед за Руссо и Анджьолини осуждал «варварское смешение двух языков». Он писал: «Два эти языка, объединяясь в действии, разрушают правдоподобие; если же один из них вводится лишь с целью приукрасить спектакль, действие прерывается, интерес ослабевает, рассудок терпит оскорбление» (с. 48—49).
Правда, на практике Анджьолини волей-неволей сочинял танцевальные интермедии; порой они не были связаны с сюжетом оперы, порой двигали сюжет, но не нарушали общего впечатления от спектакля. Потому он быстро оставил эту тему и перешел к вопросу о записи танцев и балетов, называя такую запись хореографией.
Он отстаивал пользу записи, отрицаемую Новерром. Новерр утверждал: «Хороший музыкант может мгновенно прочитать двести тактов музыки, а превосходный хореограф (здесь: нота-тор танца.— В. К.) не разберет двухсот .тактов танца за два часа» (I, 181). Анджьолини же считал, что хореографию можно записывать, как музыку, и читать танец при соответствующем навыке можно так же быстро, как музыку. Он писал: «Идеи, передаваемые лишь по изустной традиции, всегда-теряют и постепенно перерождаются не к лучшему, а к худшему; произведения любого знаменитого художника останутся минутными поделками, пока их не зафиксируют» (с. 52). На взгляд Новерра, танец настолько усложнился со времен Бошана и Блонди, что не поддается более записи. Анджьолини возражал: основы танца так же едины, как основы музыки, которую записывают в любых комбинациях. В пример он приводил книгу Фейе, где
‘ Руссо Ж--Ж- Избр. соч. в 3-х т„ т. 1, с. 282—284.
219
уже «имелось все наиболее прекрасное и сложное в области технического танца... и все это варьировано на тысячу ладов и на тысячу ладов связано с музыкой, следует ее вкусу, перипетиям и духу» (с. 56). Он соглашался с Новерром, что запись танцев не передает «благородства и непринужденности положений» той или иной партии. Но при этом предлагал взглянуть на нотацию музыки «от Гвидо д’Ареццо до наших дней» и ответить, передает ли она «грацию, выразительность, светотени музыки, ее замысел, дух, взаимосвязь частей, задуманную композитором, признаки жанра, хорошую, посредственную или дурную манеру пения и игры» (с. 59).
Чтобы танец и пантомима не умирали с их сочинителем, Анджьолини предлагал два разряда фиксации: «знаки для записи технического танца и немногочисленные знаки, закрепляющие суть пантомимы». Тогда исполнитель, «владея всеми свободными искусствами», различит в записи «прочие красоты, увиденные и объединенные сочинителем» (с. 60—61). Такая хореографическая нотация не отличалась бы от нотации музыки, в которой «чуткий и образованный человек отлично находит красоты, тонкости и выразительные обороты». Хореография «послужит пантомимному танцу, как ноты служат музыке, как буквы — языку». Анджьолини сообщал: «Я со своим слабым талантом уже записал один балет господина Хильфердинга»,— и называл тот эпизод из «Пигмалиона», поставленного Хиль-фердингом в 1756 году, в котором «Венера с Грациями и Амуром, вняв молитве Пигмалиона, влюбленного в статую, делает ее живой и восприимчивой к любви ваятеля». Правда, тут же он признавался: «Я недоволен своими открытиями, неспособен до сих пор найти ответ на созданную мною абстрактную идею». И предлагал Новерру: «Потрудимся же совместно, чтобы найти то, чего недостает этой науке». Предвосхищая заботы потомства, он утверждал: «Запись, единожды закрепленная, послужит не для описания работ, которые предстоит сделать, а для описания работ, одобренных образованною публикой, и, как все прочие записи, извлечет из забвения и передаст живыми любому поколению работы великих талантов» (с. 61—63).
После этого Анджьолини обсуждал вопрос о парижской Академии танца. Новерр назвал Академию «прибежищем немоты» и «гробницей талантов», объявлял ее неспособной воспитывать танцовщиков. Анджьолини ее защищал. Когда она была основана, «говорящий танец, обычно называемый пантомимой», еще не существовал и не мог войти в ее уставы. Другое дело — тех
220
нический танец. Хотя и не в Академии его изобрели, а заимствовали у итальянцев, зато его усовершенствовали. Это искусство прогрессировало и прогрессирует благодаря деятельности таких талантов, как Блонди, Дюпре и Вестрис. Иного не требуют зрелища Оперы, планам которой Академия подчинена. Пантомима же возродилась в других странах и выдвинула своих мастеров; к ним принадлежит и Новерр.
Высоко ценя Академию как школу профессионального мастерства, Анджьолини предлагал усовершенствовать там подготовку исполнителей. Ученики должны были изучать технический танец, затем овладевать записью танца и, наконец, постигать музыку в ее связи с танцем. Тогда питомцы становились бы опытными исполнителями. А особо талантливых и обещающих можно было выдвигать в балетмейстеры. Для них Анджьолини советовал ввести специальный экзамен. Ученика, который хотел «заслужить степень настоящего сочинителя балетов-пантомим, степень, соединяющую воедино все искусства», надо было поместить в отдельной комнате. Там «стояли бы всевозможные музыкальные инструменты, лежала бы нотная бумага и бумага для записи танца, там находились бы классические труды по истории, мифологии и книги поэтов разных жанров. В положенное время секретарь Академии давал бы испытуемому запечатанный билет с названием темы, избранной академиками... В соответствии с протяженностью или величиной этой темы устанавливалось бы отпущенное на нее время. По истечении срока отправлялись бы к месту, где ожидали бы танцовщики’ исполнители надлежащей темы, а кандидат обязан был бы уже иметь набросок программы или даже план балета и подобранную музыку для первой пробы, а также примерный замысел декораций, машин и костюмов» (с. 74—75).
Анджьолини рекомендовал будущим балетмейстерам не злоупотреблять аллегорическими и фантастическими персонажами— такими, как тритоны, фавны, сатиры, ветры, демоны,— а призывал к правдоподобию, истине и простоте. Он замечал: «Нищета нашего воображения, а вовсе не подражание природе, говоря в философском смысле, вынуждает нас представлять идеальные или сверхъестественные вещи в людском обличье». И, словно бы с кафедры той Академии, о какой мечтал, Анджьолини возглашал свой творческий символ веры: «Обладатели сильного воображения углубляются в избранные темы, обладатели слабого воображения лишь поверхностно пробегают их, нежного — отдыхают на приятных картинах, пылкого — нагне
221
тают образы за образами. Обладатели благоразумного воображения одни лишь знают, как пользоваться всеми материалами, за исключением ложных, к которым никогда не прикасаются, и причудливых, которые применяют редко, ибо возвышенное — единственная тема великих талантов — вырождается в нелепое, коль скоро не окружена правдоподобием, истиной, простотой и не свободна от преувеличений, отрицаемых здравым смыслом. Величайшая трудность прекрасных искусств — подражание простой природе, а не прихотливые нагромождения, безостановочно производимые воспаленным умом» (с. 84—86).
Советы Анджьолини подразумевали и его адресата. Пылкая фантазия то и дело увлекала Новерра за пределы благоразумного вкуса и строгих правил, заставляя создавать то на бумаге, то на сцене поэтически вольное нагромождение картин. Здесь опять-таки оба хореографа, сходясь в основном, то есть в призывах подражать прекрасной природе, различно смотрели на способы такого подражания. Новерр выступал против давно установленных масок фантастических и аллегорических персонажей: зеленых с серебром — тритонов, огненных — демонов, темно-коричневых —фавнов. Но он вполне допускал присутствие таких персонажей на балетной сцене. Обращаясь к излюбленному им примеру живописи, он предлагал заимствовать у нее правдоподобие метафор, воплощать силы природы и человеческие страсти — ветер, воду, огонь, ненависть, ярость и т. п.— «правдиво, не прибегая к посторонней помощи». Иначе говоря, он искал разнообразия выразительных средств, включая сюда и облик, и пластику танцовщиков и мимов. Чтобы этого достичь, надо «опираться на живые образцы; их нельзя отвергнуть, если ты сын Природы, если простота влечет, если истинное предпочитаешь тому грубому искусству, которое уничтожает иллюзию и ослабляет наслаждение зрителя» (I, 100).
Таким образом, оба хореографа, одинаково стремясь к правде как главной цели творчества, добивались этого разными средствами. Анджьолини видел путь к истине в суровых самоограничениях, в отказе от многих испытанных образцов и приемов. Он мечтал выковать пантомимное зрелище, равное зрелищам драматической сцены. Новерр глубже понимал пределы и преимущества балетного театра, а потому включал в философское понятие «прекрасной природы», выдвинутое его временем, свободную игру поэтических метафор, фантастическую гиперболизацию образов.
222
Сходство и различия объясняют многое и в творческом кредо двух ведущих хореографов эпохи, и в дальнейших судьбах балетного театра. Эстетические установки Анджьолини были подхвачены и развиты на рубеже XVIII—XIX веков итальянской хореодрамой с ее преобладающим интересом к историческим сюжетам, к реалистической тематике мировой драматургии. Наиболее крупно осуществил эту тенденцию балетмейстер Сальваторе Виганб. Принципы Новерра, с его расширительным подходом к поэтическим правам балета, унаследовали хореографы, чью гибкую фантазию питали как реальная история и литературная драма, так и иносказания эпоса, легенды, волшебной сказки. Традиции Новерра, распространяясь на Францию и Англию, нашли благоприятную почву и в балетном театре России. Самой выдающейся фигурой среди последователей Новерра был балетмейстер Шарль-Луи Дидло...
Серьезным моментом исторического спора был вопрос о балетной музыке. Анджьолини напомнил слова Новерра: «Сочинитель музыки должен знать танец, чтобы придать ей верные черты и т. д.» Он задавал вопрос: «Не лучше ли было бы, если бы сочинитель балетов-пантомим знал музыку, а от нее шел к постановке?» Анджьолини объяснял: «Танец нельзя разъединить с музыкой, но музыка легко отделяется от танца, хотя, по словам Гомера, она так сладостна, когда сопровождается пляской. Если танец всегда выступает в единстве с музыкой, а это несомненно,— ведь вы же сами говорите, что музыка для танца то же, что слова для музыки,— и если танец без музыки не более выразителен, чем пение без слов, как сочетать с непременным для настоящего произведения совершенством эти два искусства, когда артист не объединяет их в своем сознании? Просить от композитора, чтобы он изучал балет, значит требовать от него знаний, чуждых его профессии. Но претендовать на то, чтобы сочинитель балетов-пантомим изучал композицию музыки, значит подсказывать ему необходимое, желать ему совершенства в его деятельности». И, намекая на дилетантизм Новерра в вопросах музыки, Анджьолини заключал: «Когда сочинитель балетов действительно знает то, что обязан знать, никогда не выходит по вашим словам: «Композитор избегает балетмейстера, воображая, что его искусство возвышает и дает ему преимущество перед танцем» (с. 88—89).
В полемических целях Анджьолини произвольно обрывал слова Новерра, что искажало их смысл. Полностью мысль звучала так: «Сочинитель музыки должен знать танец или, по
223
меньшей мере разбираться в темпах и возмсикностях движ:ении, приличествующих каждому жанру, каждому характеру и каждой страсти, что^Ы быть способным сообщить верные черты тем ситуациям, ’котс’РИс предстоит воплотить танцовщику; но, далекий от того чт°бы задуматься над первоосновами и овладеть теорией искусств танца, он избегает балетмейстера, он воображает что собственное искусство возносит его и дает ему преимущества переА Танцем» (I, 80).
В то же вре^я немало мыслей Новерра смыкалось с идеалами Анджьоли!111 Новерр писал, например: «Внутренняя связь, существующая ^е&ду музыкой и танцем, заставляет не сомневаться, сударь, *!то балетмейстер извлечет определенные преимущества из практического знания этого искусства. Он сможет сообщить свои ЯМыслы музыканту, а если прибавит к умению вкус, то или са'1 будет сочинять мотивы, или снабдит композитора’ основными образцами, которые должны характеризовать действие. А кол!1 Эти образцы будут выразительны и богаты, то и танец в свой зеРед, не упустит стать таким. Хорошая музыка должна’ живоп!1Сать, Должна говорить; танец же, подражая ее звукам, буде? эхом вторить произнесенному ею. Если, напротив, музыка не>|а> ничего не говорит танцовщику, он не может ей ответить, и !огДа исполнение утрачивает все чувство и всю выразительности (Е 38). Речь шла и о примате музыки в балетном спектак1е> и ° необходимой прочности союза музыки и танца, и о ва^1100™ практического знакомства балетмейстера с музыкой.
Неоднократно повторял и развивал Новерр высказанную Анджьолини м^'Чь ° том, что музыка для танца является тем же чем слОза, то есть сценарий,—для музыки. «Хороший выбор мотивов столь же много значит для танца, сколько выбор слов и построен!16 фраз для красноречия,— писал он.— Ход и характер музыки устанавливают и определяют ход и характер танца. Если муральные напевы однообразны и безвкусны, балет последует з9 Ними: он будет холоден и вял» (I, 38).
Другим пуцТОм полемики стал взгляд на музыку Люлли. Анджьолини H3laJl разговор о Люлли заявлением: «Искусства, которые завися1 °Дно от другого и находятся в необходимой связи, особенноЖе музыка и танец, всегда должны сливаться в одном артис,е>^ Слова эти намеренно уязвляли Новерра: он не был муз!1Кант°м-специалистом, тогда как Анджьолини знал музыку профессионально. Если бы эту истину признали, замечал АнджРл^ни> настал бы «могучий рост искусств и воз
224
никли бы чудесные произведения» (с. 90). Анджьолини открыто нападал на соперника, отстаивая и свои взгляды, и свою национальную гордость соотечественника Люлли. «Вы, насмехаясь, бросаете вызов и обрушиваете сатирические трактаты на музыку Люлли,— писал он.— Того самого Люлли, который в сфере музыки освободил Францию от варварства и даже, вопреки многим трудностям, нашел способ сочетать музыку с французским языком, сохраняя почти все его оттенки» (с. 91).
Сатирических нападок Новерр себе не позволял. Но он заявлял с обычной прямотой: «Хотя до сих пор преклоняются перед Люлли, скажу, что его танцевальная музыка холодна, томительна и бесхарактерна». Анджьолини, заметив, что «Люлли, конечно, знал больше, чем мы оба», предложил оставить спор об авторитетах и изложил собственные взгляды на роль различных компонентов в балетном спектакле. Он отдавал первенство не сценарию, не режиссуре, а музыке. Хореограф должен не подчинять себе музыку, а следовать за ней. «В противном случае те характеры, которые вы ей даете, сами будут лишены прелести. Как вам известно, артисту (хореографу.— В. К.) нетрудно охладить и притушить кое-какие обстоятельства и сделать музыку бесхарактерной, если персонаж и сам не обладает характером, который позволил бы ввести эффекты, противостоящие времени и месту».
Главную трудность даже для больших талантов составлял, по его словам, не выбор темы, а композиция или «умение кстати приспосабливать, то есть распределять, соответствующие друг другу части в каждом отдельном куске, а также внутри целого». Анджьолини признавал Люлли великим мастером такой композиции. Он упрекал Новерра: «Современный вкус ослепил вас и восстановил против вкуса прошедшего, а мишура современной музыки сделала для вас пресной простую красоту музыки минувшего времени». И он скорбел, прочитав в восьмом из писем Новерра, что далеко шагнувшую технику танца «невозможно приноровить к спокойному темпу и монотонной мелодии, какие преобладали в сочинениях старинных мастеров». Считая эту мысль ложной, Анджьолини возражал, что новая техника танца не отменяет его возможностей в спокойных, размеренных темпах адажио или в «серьезных и печальных анданте» (с. 94). Однако он опускал существенный момент. Продолжая свою мысль, Новерр писал о музыке Люлли: «Но ведь сочинялась она в то время, когда и танец был покоен, а танцовщики полностью пренебрегали выразительностью. Таким образом, все великолепно
12 в Красовска
225
сопрягалось: музыку приспосабливали к танцу, а танец — к музыке».
По контексту важным представляется слово «выразительность» в том понимании, какое придавали ему и Новерр, и Анджьолини: выразительность как передача определенного чувства и определенного характера. Такой выпуклой определенности, исполненной пафоса просветительской поры классицизма, не находил Новерр в танцевальной музыке Люлли и оттого считал ее монотонной. Должно быть, Анджьолини это понимал, поскольку не указал Новерру на то, что как раз Люлли оживил и сделал более подвижной танцевальную музыку своего времени. А Новерру даже эта подвижность представлялась монотонной из-за равномерной квадратности ритмического рисунка, предполагавшего упорядоченные симметричные периоды танца. И вовсе не возросшую виртуозность танца подразумевал он, говоря: «Сочетавшееся тогда и сегодня не может хранить союз; па умножились, движения стали быстры и поспешнее сменяют одно другое, неисчислима связь и смешение темпов: сложность, блеск, стремительность, безмятежность, нерешительность, позировка, всевозможные положения. Все это, говорю я, уже не может подчиняться той спокойной музыке, тому равномерному напеву, которые царили в сочинениях старинных мастеров» (I, 70). Словом, дело было не в виртуозной технике, как бы она ни возросла, а в том, что иначе соотносились теперь выразительные и изобразительные начала танца: танец абстрактного плана был близок к тому, чтобы превратиться в танец действенный. Оттого Новерр и предпочитал танцевальной музыке Люлли музыку Рамо. Он ставил в пример балетные сцены из опер Рамо, созданные композитором в сотрудничестве с Мари Салле — предшественницей обоих хореографов на поприще действенного танца.
Анджьолини обошел то ценное, что присутствовало в мыслях Новерра о балетной музыке. Взамен он бросил упрек: «Судя по вашим сочинениям, вы не изучали прилежно этого искусства». И поймал Новерра на том, что тот неверно употребил термин контрапункт.
Разговор о музыке Анджьолини заключал так: «Самое замечательное движение, как и самое мелкое, большая или меньшая сложность являются предметами вкуса, подчинены моде, рождающейся, растущей, поднимающейся и отменяемой, но равной для всех искусств, пока те же искусства не начинают расшатывать основы этой моды. Следовательно, не нужно и не должно
226
придумывать подобное; мы так долго приукрашивали искусство и природу, а кончаем тем, что начинаем заново воскрешать век хорошего вкуса, то есть мудрой простоты» (с. 95).
Анджьолини писал это, вероятно, не без воздействия недавнего сотрудничества с Глюком. Во всяком случае, Глюк тогда же предлагал танцу музыку совсем другую, чем музыка Люлли, но утверждавшую, наравне с быстрыми и живыми темпами, как раз и адажио, и серьезные анданте. А Глюка Анджьолини почитал. Еще в 1765 году он заявил в «Рассуждении к Семирамиде», что обязан «отдать должное господину Глюку». Опыт содружества с великим композитором приводил его к общему выводу о том, что музыка «являет собой поэзию балетов-пантомим. Мы так же не можем обойтись без нее, как актер не может обойтись без слов... Создать такую музыку столь же трудно, как трудно изложить в стихах план трагедии. В ней все должно говорить, тогда она поможет нам быть понятыми. И она одно из главных наших средств для возбуждения страстей».1
Заканчивая второе письмо, Анджьолини вновь и вновь призывал Новерра к «разумному вдохновению». Он ссылался на те места из книги Новерра, где повторялось, что гений не терпит принудительных правил, которые стесняют воображение и лишают балет прелести и разнообразия. Ссылался, чтобы их опровергнуть, прикрываясь именем Вольтера. Он писал: «Холодный рассудок должен управлять выдумкой, предварительно намечая порядок картины или другого произведения, говорит господин Вольтер. Рассудок держит карандаш или циркуль. Но потом, когда надо вдохнуть жизнь в действующих лиц и сообщить верный характер страстям, воспламеняется фантазия, вступает в дело вдохновение. Оно — конь, не знающий узды в стремительном беге. Но дорога надежна и верна» (с. 99). Предлагая Новерру избегать «малейших диссонансов», ибо они «вредят гармонии», советуя не переходить границ, «утвержденных многовековым опытом», и всегда держаться трех единств, Анджьолини восклицал: «Давайте же трудиться, советоваться, накапливать знания. Нива деликатна и нова. Шипы, которые мы наверняка встретим, да не заслонят от нас цветов» (с. 99—100).
На последних страницах своих писем Анджьолини мужественно объявил: «Я во всеуслышание признаю ваши многочис
1 Angiolini G. Dissertation sur les Ballets Pantomimes des Ancient Public? pour Servir de Programme au Ballet Pantomime Tragique de S emir amis, Milano, 1956 [без пагинации].
12*
227
ленные и необыкновенные достоинства. Во главу же их ставлю вашу чувствительность, это существенное преимущество, которое выводит в первые ряды и без которого тщетно надеяться догнать вас» (с. 111). Слово чувствительность, заимствованное уже из новейшего словаря сентиментализма, значило многое. По сути оно смягчало доводы Анджьолини в пользу благородных правил и строгого рассудка. Раздвигая и размывая пределы классицизма, именно чувствительность делала современным творчество Новерра, проникала явочным порядком в лучшие балеты Анджьолини.
«Ваши взгляды по различным вопросам нашего искусства противоположны моим взглядам. О том, кто из нас двоих прав, будет беспристрастно судить Публика» (с. 112),— гласила последняя фраза писем Анджьолини.
Действительно, публика рьяно включилась в предложенный спор. Биограф Анджьолини сообщает: «Полемика между анджьолинистами и новерристами свирепствовала весь 1774 год и распространилась во множестве печатных изданий и разных газет Италии, притом что ее центром, естественно, стал Милан и дом Фольяцци, где прекрасная и энергичная Тереза властвовала среди лучших умов города».1 Однако из перечня опубликованных брошюр и памфлетов видно, что участвовали в полемике только сторонники Анджьолини. Они издали «Письмо одного из маленьких оракулов господина Анджьолини великому Новерру», написанное по-французски, а также итальянские памфлеты: «Любителям балетов-пантомим» и «О мнимом ответе синьора Новерра Анджьолини». Если кто-нибудь и вступился за Новерра, свидетельств тому не сохранилось.
Сам Новерр ограничился коротким и резким выпадом—• в предисловии к первой, венской постановке балета «Горации и Куриации». Он давал понять, что слишком невысоко ставит критику Анджьолини, чтобы тратить время на ответ. А. Я. Левинсон в блестящей работе о Новерре заметил: «Не опровергнув ни одного из аргументов своего противника, Новерр в то же время вступает на скользкую почву личных нападок».2 Замечание Левинсона во многом справедливо.
В «Предисловии к балету Горации, или Маленьком ответе на большие письма господина Анджьолини» Новерр запальчиво и ядовито высмеял эти письма. Он обвинил Анджьолини в мни
1 Ta[ni] G. Angiolinl — Enciclopedia dello Spettacolo, v. 1, p. 624.
2 Левинсон Д. Мастера балета. Спб., 1915, с. 47.
228
мой учености, зависти, трусости, в том, что его кружок прячет за перечнем трудов античных авторов собственное незнание танца и его законов. Новерр расценил «Семирамиду» как пример пантомимы, лишенной танца. С интонацией обиженного ребенка он вопрошал: «Что я ему сделал? Что ему сделал Агамемнон? Что ему сделали мои Письма? Что сделала венская публика? Она совсем не рукоплескала его балетам-трагедиям, но разве это преступление? И разве его совершил я?» 1 С детским же хвастовством Новерр приводил адресованное ему письмо Вольтера, показывая, что этот «первый человек столетия», столь уважаемый Анджьолини, благоволит-то как раз к нему, Новерру.
Кратко и резко Новерр защищал собственные эстетические позиции. Настаивая на своем расширительном понимании прав балета, он повторял, что балет может пользоваться и строгими схемами драматургии, и вольным разнообразием поэтических форм. Он заявлял, что будет и впредь пренебрегать суровой нормативностью классицизма, граничащей с произволом. Форму и размер балета должен определять характер сюжета. Новерр отстаивал преимущества «кипучей фантазии» перед рассудочностью, с какой ремесленники цепляются за «незначительные подробности искусства».
Притом Новерр пропустил в позиции Анджьолини уязвимое место. Он не указал на то, что его противник, осуждая печатные программы к балетным постановкам, сам неукоснительно к ним обращался. Программа хороша тем, убеждал он Анджьолини, что понятно излагает события и мотивирует средства, дающие непрерывность действию. С ее помощью зритель сумеет лучше разобраться в картине и ее подробностях, оценить соразмерность частей и их соответствие общему плану. Программа поможет рассмотреть характеры и степень их конкретности, проверить эпизоды, осмыслить положения, театральные эффекты и группировки. Она позволит уверенней судить о разнообразии танцев и о красоте их рисунка, о пантомиме, о выразительности жестов, глаз, всего лица и т. д.
На самом деле сдержанность Новерра имела причины. Речь о программах, скорей, выдавала попытку строптивого балетмейстера оправдаться, чем спорить. Вероятно, так оно и было. Но-
1 Introduction аи Ballet des Horaces, ои petite reponse aux grandes * lettres du Sr. Angiolini. Recueil de Programmes de ballets de M. Noverre Maitre des ballets de la cour imperials et royale. A Vienne, 1776, p. 26.
229
верр, не признаваясь в том открыто, испытывал не менее сложный разрыв между теорией и практикой, чем Анджьолини. Впрочем, он не замедлил и прямо сказать о том в предисловии к либретто балета «Евтимий и Эвхариса». Остыв за год, прошедший между «Агамемноном» и «Евтимием и Эвхарисой», он думал уже не о своей обиде, а о сути дела. Огорченно заявляя: «Я вынужден продолжить печатание моих программ», ибо без них он неспособен был преодолеть ограничения пантомимы,— Новерр здраво соглашался с положительной аргументацией противника: она была для него важней любых личных препирательств.
Подобные факты позволяют установить, что при всей остроте полемики противоположность мыслей и вкусов Анджьолини и Новерра была во многом мнимой. Оба хореографа, непохожие по темпераменту и размаху творчества, сходились в положительных взглядах на балетное искусство. Оба выдвигали основой творчества изучение и подражание прекрасной природе — тезис передовой эстетики XVIII века. Оба считали главной задачей балетного театра правдиво изображать «чувства, страсти и движения души». Оба ратовали за действенный балет, и оба значительно повлияли на исторические судьбы балета вообще. Они утверждали его как искусство самостоятельное и полноценное, укрепляли его связь с серьезной музыкой в плане выразительных возможностей этих двух искусств; танцевальная пантомима создавала разнообразные характеры, выражала внутренний мир героев, обнаруживала сложные контрасты психологии.
В сущности, спор парадоксально вскрыл не столько противоречия между Анджьолини и Новерром, сколько противоречия внутри взглядов каждого. Оба колебались между дряхлеющей эстетикой классицизма, придерживаясь в теории многих ее правил, и нарождающейся эстетикой сентиментализма, практически вводя на балетную сцену ее требования простоты, естественности, большей свободы чувств. Оба дали пример эрудированности в литературе и искусствах, необходимой для деятелей эпохи Просвещения. Оба повторили в своей области открытия выдающихся мыслителей и художников современности, не избежав и их недостатков. К большим достижениям Новерра и Анджьолини относились трагические, героические, комедийные образы главных действующих лиц в созданных ими балетных спектаклях. Впереди предстояла новая трактовка кордебалета — как активного фона и участника событий, как более сложного
230
элемента балетного действия, способного влиять на состояния героев и участвовать в их поступках. Этот новый шаг совершат основоположники балетного романтизма. Новерр и Анджьолини расчистили и подготовили путь.
Публика, к суду которой взывали оба, а потом история предпочли Новерра. Во-первых, из-за мощи его таланта. Во-вторых, из-за его настойчивой пропаганды собственных теоретических трудов. Сыграло роль и то, что Анджьолини писал свои «Письма» по-итальянски, а Новерр — по-французски. Центром же балетного искусства Запада считалась Франция, хотя многие страны уже могли соперничать с нею, а по части новшеств и опережать ее.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЗАВОЕВАНИЯ ДЕЙСТВЕННОГО БАЛЕТА
БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР ПОЛЬШИ
К исходу XVIII века в странах, где балет появился недавно или имел раньше случайный характер, сформировались профессиональные балетные труппы. Во главе их обычно стояли французские или итальянские мастера. Состав трупп, так же как репертуар, был поначалу иностранного происхождения. Но по мере того как балет добивался самостоятельности, менялось соотношение сил. Для национальных трупп и спектаклей требовались актеры — представители единого стиля, питомцы единой школы. Постоянная смена иностранных гастролеров годилась, пока балетный спектакль являл собой смесь танцевальных номеров, не связанных темой и сюжетом. Теперь, после но-верровых реформ, с возникновением действенного балета возникла нужда в отечественных танцовщиках и танцовщицах. Их можно было получить, посылая способных детей на выучку в балетные центры Европы. Средством более надежным оказалось создание местных балетных школ. В таких школах под началом иноземных учителей воспитывались кадры, которым суждено было повлиять на ход исторического процесса.
Сначала школы понадобились только для того, чтобы поставлять кордебалет — то есть основу труппы, ее костяк (французский термин corps-de-ballet переводится как «корпус» или «тело» балета). Имея профессионально обученный кордебалет, можно было ограничивать услуги иностранцев и меньше зависеть от прихотей антрепренеров. Вдобавок, из кордебалета стали выходить танцовщики, способные состязаться с иностранцами в ведущих ролях. Система гастролей не отменялась.
232
Тем более не отменялись ангажементы иностранных мастеров. Но чем талантливее и профессиональнее были такие мастера, тем острее вглядывались они в национальную природу своих воспитанников и, обучая их, многому учились сами.
Это дало приток свежих сил, расширило диапазон возможностей балетного искусства. Уже свыше двухсот лет оно черпало сюжеты из античной мифологии и истории. Теперь, подходя к рубежу XVIII—XIX веков, балет открывал новые богатства в национальном эпосе и легендах приютивших его стран. В театрах Дании, Польши и России французские и итальянские хореографы заметно раздвинули границы общепринятого репертуара.
Пример самобытного развития явил польский балетный театр. К середине XVIII века в Польшу проникли идеи Просвещения, преимущественно благодаря постоянным культурным связям с Францией. Это вызвало подъем культурной жизни в стране, отразилось на литературе и искусстве. Среди польских магнатов было много высокообразованных людей, увлеченно занимавшихся театром. При дворах этих вельмож возникли крепостные театры, где едва ли не главное место занимал балет. Наиболее солидными были театры Браницких в Белостоке, Радзивиллов в Несвиже, Огинского в Слониме. Там и возникли первые польские балетные школы, где из детей крепостных крестьян воспитывали танцовщиков.
Исследовательница польского балета Ирена Турска расценивает эти первые школы как «центры формирования собственных художественных кадров» 1 и подтверждает сказанное фактами. В Несвиже с 1759 года служил Максим Дюпре, которого Турска ошибочно принимает за Луи Дюпре, Польшу ие посещавшего. В конце 1770-х годов там уже ставил балеты и преподавал воспитанник школы — танцовщик Антоний Лойко. В школе при театре в Слониме, как сообщает Турска, выросли Марианна Малинска и Михаил Рыминский — выдающиеся польские танцовщица и танцовщик. Затем Рыминский, можно полагать, был переведен из Слонима в балетную труппу Гродно: в 1777 году он уже числился преподавателем гродненской школы. Однако другая исследовательница польского балета, Татьяна Вы-соцка, предлагает иные сведения, ссылаясь на книгу Войцеха Богуславского «История народного театра в Польше», изданную в Перемышле в 1884 году. Богуславский вспоминал:
1 Tur ska I. Krotkl Zarys historii tahca i baletu. Krakow, 1962, s. 135.
233
«Михаил Рыминский родился в поместье королевской гродненской экономии, был взят в балет покойным графом Тизенгаузом. Превосходные основы, которые дал ему его первый учитель, балетмейстер Леду, сделали его вскоре знаменитым танцовщиком. Позже он перенял от проезжавшего через Варшаву славного танцора и балетмейстера Пика (Шарля Ле Пика. — В. К.) новейшую манеру танца и так усовершенствовался в своем искусстве, что после отъезда Пика занял все его роли и оказался действительно выдающимся артистом. Он восхищал двор и публику, особенно танцуя в испанских или пастушеских костюмах. В ролях же римских или других героев выглядел хуже из-за своего небольшого роста. Притом он был хорошо сложен, элегантен и необыкновенно проворен. После гибели родного театра в 1794 году он отправился с другими своими товарищами во Львов, где тоже пользовался большим успехом... Он умер в 1798 году, унеся с собой талант балетного танцовщика польской земли».1
Гродненская школа и труппа служили образцами для польского балета. Граф Карл Тизенгауз поставил их на такой же высокий уровень, на каком пребывал русский крепостной балет графов Шереметевых. Турска сообщает, что сверх танцевальных дисциплин детей обучали игре на разных музыкальных инструментах, а также чтению, письму, арифметике, французскому языку и рисованию. В гродненском театре начал свою деятельность преподавателя и балетмейстера французский танцовщик Франсуа-Габриэль Леду — ученик Гаэтана Вестриса. Леду сыграл видную роль в истории польского балета.
Балет процветал и в придворном варшавском театре последнего польского короля Станислава-Августа. Там ориентировались на театральную практику крупнейших европейских столиц. Балет существовал внутри оперных спектаклей, шел между актами или после опер и комедий, а также украшал всевозможные празднества.
О том, что польская придворная труппа пользовалась доброй славой, свидетельствовала попытка Новерра занять там пост балетмейстера. В ноябре 1766 года, когда подходил к концу его контракт в Штутгарте, Новерр послал Станиславу-Августу одиннадцать томов своих «Писем о танце». Первый том этого уникального издания предваряло «Посвящение» польскому королю, где Новерр и предлагал свои услуги. Девять месяцев он
1 Цит. по: W у s о с k а Т. Dzieje Baletu. Warszawa, 1970, s. 386.
234
ждал ответа и наконец 18 августа 1767 года посетовал в письме к королю: «Причина моей печали, Сир, не бессонные ночи, не расходы в сумме 700 дукатов, а единственно тяжелая для артиста неуверенность в том, что он добился успеха». Король велел послать Новерру 1000 дукатов, и Новерр вновь повторил: «Счастье мое было бы полным, если бы мне было дозволено служить монарху».1 Но приглашения в Польшу не последовало. В 1795 году Станислав-Август отрекся от престола и уехал в Россию. Он вывез с собой труд Новерра. Редкое издание хранилось в Петербурге, в библиотеке Академии художеств, а в 1923 году было возвращено Польше.
Новерр в Варшаву не попал. Но там шли его балеты и выступали ученики, в том числе Шарль Ле Пик с партнершей Анной Бинетти и Гаэтан Вестрис. Последний поставил в 1768 году свою версию балета «Медея и Ясон», сокращенного для немногочисленной труппы. К 1777 году труппа выросла, и «Медея и Ясон» был возобновлен в первоначальном виде. Балеты Новерра ставил также Франческо Казелли, учившийся в венской школе, когда там работал Новерр, и Даниель Курц, заслуживший репутацию превосходного балетмейстера в Варшаве. Они показали в своих редакциях балеты «Горации и Куриа-ции», «Апеллес и Кампаспа», «Отмщенный Агамемнон». В балете Новерра «Адель де Понтье» танцевал в 1777 году знаменитый потом балетмейстер Сальваторе Вигано. В целом балетный репертуар складывался до 1780 года из пасторалей, героических, мифологических и комических балетов по французскому образцу. Музыку к ним сочинял придворный композитор Харт. Кроме Курца и Казелли, балеты ставили Джованни Антонио Сакко и Сальваторе Вигано.
В 1780 году произошло важное для польского балета событие. Граф Тизенгауз разорился, и его театр в Гродно закрылся.
По приказу Станислава-Августа танцовщики и ученики школы вместе с балетмейстером Леду были переведены в Варшаву. Так возникла польская балетная труппа «Танцовщики его королевского величества». Для открытия шел балет «Гилас и Сильвия» в постановке Леду. Солистами труппы были До-рота Ситанска, Марианна Малинска, Магдалена Ружицка, Михаил Рыминский, Адам Бжезинский, Стефан Хольницкий, Франтишек Шлянцовский, Ежи Валинский. Они выступали и в по
1 Цит. по: W и s о с ka Т. Dzieje Baletu, ss. 373, 374.
235
становках Курца: в серьезном балете «Телемак на острове Калипсо» (1787) и комическом — «Жители острова Камкатель» (1790), То были перепевы общеевропейского репертуара. Но в 1788 году Франсуа-Габриэль Леду поставил балет «Ванда, королева Польши».
Сведений о постановке этого балета сохранилось мало. Неизвестен его композитор, и Татьяна Высоцка не документирует свою справку о том, что главные роли исполняли Дорота Си-танска и Михаил Рыминский. Все же самый факт постановки балета на тему национальной легенды имеет большую историческую ценность.
Мифическая Ванда жила в народных преданиях Польши как подлинная героиня истории. Она считалась дочерью короля Крака, основавшего в незапамятные времена город Краков. После смерти Крака наследниками остались два сына. Один из них убил другого и вынужден был покинуть отечество. Народ признал королевой прекрасную и добрую Ванду. За нее посватался немецкий князь Ридигер. Ванда не пожелала стать женой чужестранца и отказала послам. Ридигер пошел на Польшу войной. Ванда дала богам обет принести в жертву свою жизнь, если поляки одержат победу, и вышла с войском навстречу врагам. Увидя ее, окруженную сиянием, немцы обратились в бегство, а Ридигер бросился на меч. Ванда исполнила обет: она утопилась в Висле. Тело ее нашли и похоронили на берегу. Курган долго назывался могилой Ванды, а имя Ванда отождествлялось со словом вода.
Историческая легенда дала превосходный сюжет для многоактного действенного балета, который потребовал большой профессиональной труппы и сильных пантомимных актеров. Роль самой Ванды предлагала богатый материал для воплощения разных сторон характера кроткой, нежной и мужественной женщины. В состав спектакля предположительно входили национальные празднества, батальные эпизоды, реквием народа, оплакивающего свою королеву и гордящегося ею. Как бы то ни было, «Ванда, королева Польши» осталась редким для своего времени народно-эпическим балетом. Опыт оказался единичным и в истории польского балета; период его раннего расцвета уже завершался. Польское освободительное восстание 1794 года, жестоко подавленное, третий раздел Речи Посполитой в 1795 году положили конец спектаклям Варшавского театра. Польский балет надолго остановился в своем развитии.
236
ДАТСКИЙ БАЛЕТ
Со второй четверти XVIII века балет Дании устремился к национальному самоопределению, следуя за общим подъемом датского искусства. Подъем был вызван отменой крепостного права, ограничением дворянских привилегий и, в связи с этим, ростом буржуазно-либеральных тенденций. Деятелей литературы и театра все больше привлекала национальная тематика. По мотивам скандинавского эпоса поэт Йоханнес Эвальд сочинил трагедии «Рольф Крагге» (1770) и «Смерть Бальдера» (1773). В 1777 году Королевский театр Копенгагена показал зингшпиль композитора Иоганна Хартмана «Смерть Бальдера». В 1779 году шел зингшпиль из народной жизни «Рыбаки». В 1789 году была поставлена первая датская опера на историко-героическую тему — «Хольгер Данске» Фредерика Людвига Эмилиуса Кунцена.
Мощный расцвет искусства отозвался и в балете. К нему обратились теперь национальные композиторы: Клаус Шалл, Нильс Йенсен Лолле и другие. Это помогло датскому театру и школе при нем занять к началу XIX века одно из видных мест на балетной карте мира. Все же отцом датского балета был итальянец Винченцо Галеотти. Его биография, как и биографии многих хореографов эпохи, позволяет увидеть, в какой сложный клубок запутывались балетные связи стран, географически совсем не близких.
Винченцо Томазелли — такова настоящая фамилия балетмейстера Галеотти — родился во Флоренции в 1733 году. Студент-медик, он бросил науку ради хореографии и стал учеником Гаспаро Анджьолини, который был старше его лишь на два года. Жизнь в искусстве началась со скитаний — таков был удел почти всех итальянских танцовщиков той поры. В 1759 году Томазелли вступил под именем Галеотти в труппу Джузеппе Форти, которая давала спектакли на сцене венецианского театра Сан-Моиз. ,В 1761 году молодой танцовщик был приглашен в Сан-Бенедетто — еще один из семи оперных театров Венеции. Танцуя в кордебалете под началом французского балетмейстера Пьера Гранже, Галеотти изучил стилистику балетных дивертисментов и коротких балетов, составлявших часть оперных спектаклей по образцу парижской Академии музыки. Балеты Гранже «Великодушный азиат» и «Пара застенчивых влюбленных» принадлежали к декоративным интермедиям: одна — в духе ложного Востока, другая — в жанре пасторали.
237
В 1763 году Галеотти женился на танцовщице Антонии Гу-иди, которая годом раньше выступала в Штутгарте и называла себя ученицей Новерра и Анджьолини.
Весной 1765 года Галеотти впервые выступил как хореограф. Он возглавил балетную труппу театра Сан-Бенедетто, где было шестнадцать кордебалетных танцовщиков, два солиста и солистка в лице его жены. Затем он перешел в венецианский театр Сан-Сальваторе. Поставленный там дивертисмент «Фурии и гении, превращенные в счастливых любовников» был характерен для раннего творчества Галеотти. Дивертисмент украшал оперу композитора Траетта «Армида» и был так же наивен по смыслу, как и по названию.
От подобных вполне канонических проб уже отличались постановки Галеотти для театра Реджио в Турине (1767). Его балеты «Каменный гость» и «Амур и Психея» шли между актами оперы Бертони «Танкред». Музыка балетов принадлежала Мессье и в «Каменном госте» ориентировалась на музыку «Дон Жуана» Глюка, так же как хореография Галеотти опиралась на хореографический замысел Анджьолини.
В 1768 году супруги вернулись на два сезона в венецианский театр Сан-Бенедетто. 1770 год застал их в Королевском театре Лондона, где Галеотти ставил танцы для «Орфея» Глюка. В 1771 году чета снова попала в Италию. Гуиди танцевала сезон в миланском театре Ла Скала, где хореографом был Новерр, а исполнителями первых партий — Анна Бинетти и Ле Пик. В 1772/73 году Галеотти и Гуиди служили вместе в венецианском театре Сан-Моиз. Для творческой биографии Винченцо Галеотти много значило то, что рядом, в театре Сан-Бенедетто, работал Анджьолини, возобновивший свои балеты «Покинутая Дидона» и «Искусство, покоренное природой». Галеотти стал горячим приверженцем хореографа-новатора и принял его сторону в теоретическом споре с Новерром, разгоревшемся как раз в те годы. Сам Галеотти поставил тогда два балета: «Знамя» и «Ярмарка».
Осенью 1773 года Галеотти покинул Венецию, чтобы туда не возвращаться. Он отправился в Геную. Показанные там балеты «Сладостная месть» и «Охота Генриха IV» были данью его преданности Анджьолини: второй балет, в сущности, повторял музыку, а во многом и хореографию балета Анджьолини «Король на охоте».
В 1775 году Галеотти был приглашен хореографом в Королевский театр Копенгагена, а в следующем году к нему при
238
ехала Антония Гуиди. Жена оказалась ему хорошей помощницей. Два сезона она исполняла главные роли в его балетах, а затем, отказавшись от сценической деятельности, занялась подготовкой датских танцовщиц. Галеотти рассчитывал провести в Дании несколько лет, но остался там до конца жизни. В 1781 году он и жена получили датское подданство. Первым балетом Галеотти, показанным в Копенгагане 20 октября 1775 года, был все тот же «Король на охоте».
Постановки Галеотти «сначала обнаруживали влияниеАнджьолини, но постепенно стали более независимыми по стилю, ибо еще отчетливее применяли принцип драматической пантомимы»,— заключает К. В. Буриан в «Истории мирового балета».1 Первый период деятельности Галеотти в Дании и впрямь подражателен. Считая Анджьолини своими учителем, Галеотти, как было принято в ту пору, пользовался его сценариями и сочиненной им музыкой, часто воспроизводил целые сцены его спектаклей. В 1777 году он показал «Покинутую Дидону», в 1778 году—«Искусство, покоренное природой», заменив в названии природу — любовью, в 1780 году — балеты Анджьолини на музыку Глюка «Каменный гость» и «Китайский сирота», переставив лишь порядок отдельных номеров. В 1787 году критики осудили его постановку «Семирамиды», где Галеотти сохранил сценарий и режиссуру Анджьолини, но заменил музыку Глюка посредственной музыкой Иоганнеса Дарба.
Критика была полезна Галеотти, тем более что к тому времени он уже доказал свою способность к оригинальному творчеству. До его приезда балет Дании довольствовался крохами европейского репертуара, менял балетмейстеров самого разного толка, но почти всегда второстепенных. Постоянная балетная труппа Королевского театра оказалась в руках Галеотти благодарным материалом. Уже в 1778 году видный датский критик РозенстандТойске писал о драматичной и живописной композиции балетов Галеотти, приветствовал уменье и вкус хореографа в расположении групп, - его способность перелагать в танцы сложные сюжеты. Критик приписал это воздействию не одного Анджьолини, а широко воспринятой «эстетической идеи» Новерра, и был, безусловно, прав. Прямое подражание кому бы то ни было никогда не дало бы тех художественных результатов, каких мало-помалу добился Галеотти.
1 Burl ап К. V. The Story of World Ballet. London, 1963, p. 71.
239
Творческая зрелость хореографа совпала с общим подъемом датского искусства в конце XVIII века.
На него воздействовал опыт датской оперы. Помог ему и тесный союз с датскими композиторами. Клаус Шалл, репетитор и дирижер балетного оркестра Королевского театра, написал семнадцать партитур для Галеотти. «Благодаря им обоим создались великие музыкальные и хореографические традиции, продолженные Бурнонвилем и его музыкальными сотрудниками», — пишет Торбен Крог в книге «Датский Королевский балет».1
Первый балет Шалла и Галеотти «Сила любви и подозрения» был поставлен в 1780 году. За ним последовали «Герман и Долмон» (1782), «Амур и Психея» (1784) и другие.
Композитор Нильс Йенсен Лолле сотрудничал с Галеотти в комедийно-характерном жанре. 31 октября 1786 года состоялась премьера их одноактного балета «Причуды Купидона и Балетмейстера», который сохранился до наших дней. То была легкая пародия на дивертисмент с выходами. В храме Любви сменялись представители разных веков и стран, и каждая пара исполняла положенный ей танец. Но жрецы разбивали пары, а проказник Купидон завязывал танцовщикам глаза и перепутывал всех по прихоти своей фантазии. Когда повязки спадали, квакер оказывался партнером негритянки, старик — юной девушки и т. п., что давало поводы для новых забавных номеров.
В следующих опытах балетной комедии Галеотти свободно варьировал сюжеты. В балете «Прачка и медник» (1787) он вывел ряд национальных характеров и типов. К 1788 году относятся два балета. Первый, «Цейлонский идол», развивал экзотическую тему. Второй, «Вербовщик», вновь обращался к картинкам из современной народной жизни.
В 1790-х годах творческая продуктивность Галеотти ослабла. Но в начале XIX века семидесятилетний хореограф создал крупнейшие свои произведения.
30 января 1801 года состоялась премьера его балета «Ла-герта» по сценарию поэта Кристена Прама с музыкой Шалла. Там отозвался патриотический подъем, который испытывала Дания, отразившая нападение английского флота на Копенгаген.
Прам заимствовал сюжет «Лагерты» у датского летописца XII века Саксона Грамматика, собравшего старинные саги
1 Krogh Т. Den Kongelige Danske Ballet. Kabenhavn, [1952], p. 104.
210
в труде «История Дании». Девятая книга этого труда включает сагу о Лагерте (или Ладгерте), сражавшейся «с распущенными по плечам волосами» в первых рядах своих сестер-валькирий. Лагерта помогала Регнару Лодброгу победить князя, опустошавшего Норвегию. Благодарный Регнар женился на отважной деве. Потом он влюблялся в прекрасную Тору, дочь своего вассала, короля Херота, становился ее мужем, у них рождались дети. Но Херот решал вероломно напасть на Регнара и его войско, и тогда Лагерта, разыскивавшая мужа, спасала его, но убивала Тору.
Галеотти и Прам сделали центром балетного действия свадьбу Регнара и Торы. Недаром Август Бурнонвиль заметил в книге «Моя театральная жизнь», что «Лагерта» была «отчасти переделкой Ясона и Медеи».1 План балета на нордическую тему повторял план Новерра для балета на античный сюжет. Как Новерр, Галеотти отбросил все, что предшествовало второй любви героя, и начал действие прямо отсюда. Лагерта у Галеотти отстаивала свои права жены и собиралась мстить изменнику в точности по рецептам новерровой Медеи. Август Бурнонвиль, впервые вышедший на сцену в 1813 году в роли маленького сына Лагерты и Лодброга, вспоминал, что хор придворных пел приветствие Торе, тогда как Лагерта «у подножия стен замка» неистовствовала «по поводу измены своего супруга». Затем «тающая мелодия» вступала на смену furioso. Валькирии подводили к гордой Лагерте двух ее сыновей. Она «то нежно, то обиженно» прижимала их к сердцу, а потом вдруг отталкивала, собираясь убить обоих.2
Но из рассказа Бурнонвиля видно также, что Новерр и Галеотти различно трактовали сходные темы. Недаром премьеры «Медеи и Ясона» и «Лагерты» разделяло около сорока лет. Первый изобразил характеры и поступки героев в духе кровавых трагедий позднего классицизма. Второй направил борьбу двух соперниц в русло сентименталистской мелодрамы. Новерровой Креусе была безразлична судьба Медеи и ее сыновей. Тора у Галеотти «защищала детей от ярости разгневанной супруги и матери», окутывая их своей горностаевой мантией. Когда же оскорбленная Лагерта пыталась пронзить Регнара копьем, Тора заслоняла жениха, получала вместо него смер
1 Бурнонвиль А. Моя театральная жизнь — В кн.: Классики хорегра-фии, с. 280.
2 Там же, с. 291—292.
241
тельный удар и, погибая, соединяла Регнара и Лагерту. Дань сентиментальным тенденциям отдавала у Галеотти и валькирия Лагерта. Она принимала в объятия соперницу и плакала над ней вместе с Регнаром, в то время как хор пел: «Умерла добрая, святая, бесценная Тора».1
Прам задумал «Лагерту» как синтетическое зрелище, в сущности, возрождавшее эстетику старинного придворного балета. Он изложил свои взгляды в теоретической статье, где говорилось, что драма, опера, балет по отдельности не могут создать полноценное действие, и требовал их равноправного союза в одном спектакле: «Музы — сестры. Им необходима помощь друг друга, и не следует разлучать этих дочерей Пинда».2 В «Ла-герте» музыка должна была служить посредницей между декламацией, сольным и хоровым пением, пантомимой и танцем. Прам предполагал разделить роли между актерами драмы, оперы и балета. Роль Лагерты он хотел поручить Леоноре Стюарт, исполнительнице Идаме и Семирамиды в драмах Вольтера. Роль Регнара Лодброга — Майклу Розингу, драматическому актеру, выступавшему также в операх. Лишь партия Торы предназначалась первой танцовщице серьезного жанра Марии Кристине Бьорн.
Галеотти беспощадно урезал количество муз. Он опустил драматические диалоги, усилив за их счет сольные арии и хоры. По словам Бурнонвиля, это «придало балету характер пантомимной оперы с танцами».3 Арии и хоры наполняли действие «Лагерты», которое к тому же изобиловало парадами, маршами, массовыми сценами. В музыке Шалла сменялись воинственные мотивы, лирику окрашивали тона торжественной патетики. Одна из сцен первого акта изображала лагерь Регнара Лодброга: герой и его воины состязались в поединках и исполняли воинственные танцы, ударяя по щитам огромными мечами. Антуан Бурнонвиль, «создавший весьма импозантный образ эпического героя Регнара Лодброга, принимал большое участие в разработке хореографических номеров и рыцарских игр»,— вспоминал о своем отце Август Бурнонвиль.4 Достоинством музыки Шалла был ее национальный колорит. Композитор прибегал и к приемам контрастов, противопоставлял грозным пля
'Krogh Т. Den Kongelige Danske Ballet, p. 164.
2 [hid, pp. 148—149.
3 Бурнонвиль А Моя театральная жизнь.— В кн.: Классики хорегра-фии, с. 280.
4 Там же.
242
скам валькирий и воинов танцы детей — учеников балетной школы.
«Лагерта» имела такой успех, что через год хореограф Пьер-Жан Лоран попробовал соревноваться с Галеотти, поставив балет «Сигрид» на сюжет другой норвежской саги, но потерпел поражение. И для Галеотти «Лагерта» осталась вершиной творчества. Впрочем, не обращаясь больше к северному эпосу, он создал еще два значительных балета в эстетических правилах мелодрамы.
В основе его балета «Рольф Синяя Борода» (1808) на музыку Шалла лежала опера Седена — Гретри «Рауль Синяя Борода» (1789). Но в опере мелодраму сдабривала комедий-ность. В балете, по словам Бурнонвиля, «мимическая обработка французской оперетки» настолько сгущала мрачные краски мелодрамы, что «у многих зрителей делались нервные припадки».1 В кульминационной сцене вокруг спящего героя танцевали призраки убитых им жен, которых сопровождал епископ в полном облачении. Огненная надпись на стене гласила: «Если пятая жена не выдержит срока и полюбопытствует, как четыре предыдущие, она волей-неволей умрет».2
Заслуживает внимания, что в 1815 году И. И. Вальберх поставил в Петербурге пантомимный балет «Рауль Синяя Борода, или Наказанное любопытство», взяв музыку оперы Гретри с музыкальными вставками Кавоса. Там также в кульминационной сцене тела трех обезглавленных жен Рауля виднелись через открытую дверь под пояснительной надписью-титром. Однако надпись лишь воспроизводила второй заголовок балета: «Наказанное любопытство». Это было характерно для нравоучительных и просветительных тенденций всего творчества Вальберха. У Галеотти же преобладали мотивы готического «романа ужасов» и открытый мелодраматический темперамент.
В 1811 году Галеотти поставил балет «Ромео и Джульетта» на музыку Шалла, повторив опыт «пантомимной оперы» с ариями и хорами. Спектакль опирался не столько на трагедию Шекспира, сколько на одноименную оперу Даниэля Штей-бельта. В финале Джульетта успевала проснуться и предотвратить самоубийство Ромео. Благополучная развязка оказыва
1 Бурнонвиль А. Моя театральная жизнь.—В кн: Классики хореграфии, с 280.
2 Цит. по- KroghT. Den Kongelige Danske Ballet, p. 173
243
лась легко достижимой и потому, что в балете отсутствовала тема родовой мести между семьями Монтекки и Капулетти. Галеотти, которому было семьдесят восемь лет, играл роль патера Лоренцо.
Историки датского балета считают шедеврами три названных балета Галеотти. Вместе с тем, несмотря на свою значительность, творчество Галеотти скорее подводило итог хореографии XVIII века, нежели начинало новую эпоху. «Эстетическая идея» Новерра господствовала там как живой, а не исторически завершивший себя канон. Действенный танец (в «Ромео и Джульетте» два pas de deux героини — с Ромео и с нелюбимым женихом Парисом) возникал в нормах новерровых ансамблей, резко отделяясь от ритмизованной пантомимы. Такова была особенность спектаклей основоположника национального датского балета. Август Бурнонвиль объяснял ее принадлежностью Галеотти к школе итальянской хореографии. Но итальянский балет второй половины XVIII века имел много общего с балетным театром Новерра. Там пантомима сплавляла приемы, унаследованные от итальянских мимов, с условной пластикой классицизма. Недаром Август Бурнонвиль считал ее отличительным признаком «ритмическую точность» и «калейдоскопическую симметрию». Там оставались в силе «покрытые надписями доски, знамена и транспаранты, которые, подобно ниневийским огненным письменам, предвещали роковые события», как писал тот же Август Бурнонвиль.1
Галеотти, как и Ле Пик, хотя и более творчески, продолжал традиции Новерра, тогда как Доберваль и Дидло развивали и переосмысляли их. Престарелый Галеотти интересовался новым направлением и даже пробовал овладеть его находками. В 1802 году он сочинил трагикомический балет «Нина, или Сумасшествие от любви» по одноименной опере Никола Далей-рака. Поставленная в парижском театре Итальянской комедии в 1786 году, эта опера имела такой успех, что в 1789 году и Джованни Паэзиелло сочинил оперу под тем же названием и на тот же сюжет. Однако Шаллу и Галеотти не удался балетный вариант сюжета, требующего психологической разработки характеров. В 1813 году хореограф Луи Милон стяжал славу, поставив в парижской Опере балет «Нина, или Сумасшествие от любви» на музыку Персюи.
1 Бурнонвиль А. Моя театральная жизнь.— В кн.: Классики хорегра-фии, с. 281.
244
2 апреля 1816 года состоялась премьера последнего балета Галеотти — «Макбет» на музыку Шалла. Там опять главенствовала пантомима, а неподвластные ей места трагедии Шекспира пояснялись надписями. Публике, уже увлеченной модным жанром мелодрамы, «Макбет» показался растянутым и скучным, хотя, по свидетельству Августа Бурнонвиля, зрители «все-таки восхищались редкостной творческой силой 82-летнего балетмейстера, решившего не сдаваться до конца своих дней».1
Галеотти умер 16 декабря 1816 года. В истории датского театра он остался значительной фигурой. За сорок лет работы в Королевском театре Копенгагена хореограф поставил тридцать балетов, выдержавших более двух тысяч представлений. Он создал обширный репертуар, от дивертисментов и жанровых комедий до танцевальной драмы по мотивам фольклорного эпоса. Как и многие знаменитые его сверстники, Галеотти проложил путь к новой, романтической эре балетного театра.
ИНОСТРАННЫЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ В РОССИИ
Профессиональный балетный театр появился в России позже, чем в других европейских странах. Правда, первая постановка состоялась в 1673 году: при дворе царя Алексея Михайловича был показан «Балет об Орфее и Евридике». Но попытка не получила продолжения. Зато в XVIII веке балет возник на прочной основе, ибо начался с организации школы. Такое начало отозвалось на особенностях развития. Притом что до конца века школу возглавляли иностранные учителя, она с первых лет жизни стала выращивать отечественных исполнителей, среди которых вскоре обнаружились крупные таланты. Это, естественно, отразилось и на практике хореографического театра. Приезжие балетмейстеры, в том случае, если они были не ремесленниками, а подлинными мастерами, постигали самобытную природу русских танцовщиков, испытывали интерес к русской истории, фольклору, национальному характеру, бытовому укладу. Здесь, в книге, посвященной истории западноевропейского балета, важно отметить, что Россия явилась прибе
1 Бурнонвиль А. Моя театральная жизнь.— В кн: Классики хорегра-фии, с. 2S2.
245
жищем, а в иных случаях — вторым отечеством для многих французских, итальянских, австрийских деятелей хореографии.
В начале 1730-х годов в Россию приехал француз Жан-Батист Ланде. Перед тем он заложил основы балетного образования в Швеции между 1721 и 1728 годами. В 1726 году он ездил в Данию, куда также был приглашен учителем балетной школы. В Петербурге Ланде начал преподавать танцы с 1733 года в кадетском Сухопутном шляхетном корпусе, где воспитывалась дворянская молодежь. В 1737 году он подал челобитную на имя императрицы Анны Иоанновны с предложением организовать школу — питомник профессиональных балетных танцовщиков. В 1738 году школа была открыта: в нее поместили нескольких девочек и мальчиков — детей из дворцовой «челяди». Современник, Якоб Штелин, записал: «Ежедневно занимаясь с ними в течение долгого времени, он добился в хореографическом искусстве таких громадных результатов, что привел зрителей в изумление».1 Вскоре Ланде стал показывать силами своих воспитанников пасторальные и мифологические интермедии. Первыми русскими актерами балета были Аксинья Сергеева, Авдотья Тимофеева, Елизавета Зорина, Афанасий Топорков, Андрей Нестеров. Ланде умер в России в 1748 году.
Одновременно с Ланде в начале 1736 года приехал известный итальянский танцовщик Антонио Ринальди. Он был известен под прозвищем Фоссано как комедийный мим и виртуозный танцовщик, чью грацию и элегантность одобрял Новерр. Фоссано прибыл в Петербург вместе с оперной труппой под руководством композитора Франческо Арайя. С ним приехали его жена Джулия Ринальди и Тонина Константини — обе блестящие танцовщицы, а также несколько танцовщиков. Фоссано сочинял короткие гротескные балеты в духе итальянской комедии масок, которые входили в действие опер. О представлениях на придворном театре итальянских интермедий с «изрядными балетами» бал-директора господина Антонио Ринальди часто сообщала первая петербургская газета.2 Фоссано уехал из России, гастролировал в театрах разных стран, в том числе выступал в парижской Академии музыки в 1741 году партнером танцовщицы Барберины Кампанини. В 1742 году он вер
1 Штелин Я Музыка и балет в России XVIII века Под ред Б И Засурского Л, 1935, с 152
2 См Санкт-Петербургские ведомости, 1736, № 10, 93 и др
246
нулся в Россию и еще в 1750-х годах сочинял танцы и балетные сцены для оперных спектаклей.
1756 год оказался знаменательной датой в истории русского музыкального театра. Итальянский импресарио Джованни Батиста Локателли приехал в Петербург с оперно-балетной труппой. Он показал несколько спектаклей при дворе, а затем перенес их в театр Летнего сада, куда допускались любые зрители. В труппу входил первый танцовщик и балетмейстер Джованни Антонио Сакко, его сестры — танцовщицы Либера и Андреана Сакко, танцовщица Белюцци, характерные танцовщики Франческо Кальцевара и Альвизо Таолато. Репертуар состоял из «серьезных» балетов на мифологические темы и «комических» гротескно-бытовых балетных сценок.
Ободренный успехом, Локателли решил построить собственный театр в Москве. Спектакли начались там в январе 1759 года. Но интереса они не вызвали, скорее всего потому, что их темы и сюжеты были чужды московской публике. Локателли вернулся в Петербург и обнаружил, что тамошние зрители тоже к нему охладели. Он покинул Россию. Однако часть труппы, в том числе танцовщица Белюцци, танцовщики Таолато и Каль-цевара, оказалась прочнее связана с этой страной.
Венецианец Альвизо Таолато поступил танцовщиком в петербургский придворный театр, где хореографом был в то время зрелый и самостоятельный мастер Франц Хильфердинг. В 1764 году Хильфердинг уехал, и до приезда Анджьолини, в 1766 году, Таолато занимал пост балетмейстера, ставя небольшие, преимущественно лирико-комедийные и комические балеты. Он женился на русской танцовщице Авдотье Тимофеевой и прослужил в петербургском балете до 1777 года.
Множество профессиональных танцовщиков приехало в Россию вслед за балетмейстером Францем Хильфердингом, чья деятельность освещена в предыдущей книге. В 1758 году он привез с собой танцовщицу Сантину Дзануцци, за которой последовал танцовщик Пьер Обри и женился на ней. Сантина Обри исполняла ведущие роли в балетах Хильфердинга, уехала вместе с ним в 1764 году, а потом вернулась и выступала в балетах Анджьолини. Например, в 1768 году она играла в его аллюзионном балете «Побежденный предрассудок» роль Русской Минервы, под которой подразумевалась Екатерина II.
Танцовщик Луи Мекур и его жена Жанна-Кампи Мекур танцевали в 1756—1758 годах в Вене и отправились оттуда с Хильфердингом в Петербург. Луи Мекур ставил балеты
247
комедийного жанра между 1761 —1766 годами одновременно с Таолато, уроженцем Вены Леопольдом Парадизи, французом Пьером Гранже. Жанна Мекур выступала в этих балетах партнершей выдающегося русского танцовщика Тимофея Бубликова.
Примечательно сложилась в России судьба малоизвестного итальянского танцовщика Франческо Кальцевары. Мариан Ханна Уинтер упоминает в своем обширном и доскональном труде, что Кальцевара был танцовщиком венского Бургтеатра в 1756 году, с начала 1757 года вошел в петербургскую труппу Джованни Батиста Локателли, к концу того же года возвратился в венскую труппу Хильфердинга, а в 1760—1761 годах поставил несколько балетов в Ораниенбауме.1 В Ленинградской государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина сохранился французский экземпляр одного из его сценариев со следующим названием: «Прометей и Пандора, героико-пантомимный балет, придуманный и поставленный господином Кальцевара, балетмейстером его императорского высочества, великого князя всея Руси, данный на театре его императорского высочества 1 августа 1761 года в Ораниенбауме».2 Из названия следует, что Кальцевара состоял на службе у наследника престола, будущего несчастливого императора Петра III.
Программу открывает список действующих лиц, в котором имена иностранных танцовщиков и танцовщиц перемежаются именами русских, скорее всего крепостных исполнителей. Достаточно сказать, что роль Прометея значится там за г. Бе-люцци, роль Венеры — за его женой, г-жой Белюцци, а роль главной героини — Пандоры отдана м-ль Евдокии: фамилия ее не упомянута, как постоянно бывало тогда с актерами русской балетной труппы. Из «танцующих Граций, Игр и Смехов» названы по порядку:
господа госпожи
Петрушка3 Анисья
Вавила Агр афена
Леконт Прасковья
Эстрофен Трансинор
1 Winter М. Н. The Pre-Romantic Ballet, pp. 93, 97. Исследовательница ошибочно называет Ораниенбаум Ораниенбергом.
2 ЛГПБ. Ис 71—j— .Любезно сообщено Л. А. Линьковой.
3 Итальянский балетмейстер, узнав имя танцовщика от него самого, возможно, не подозревал, что оно звучит уничижительно.
248
Далее сообщено, что музыка принадлежит г. Старцеру, декорации— г. Франсуа Градации, а машины — г. Бергонци.
«Прометей и Пандора», поставленный заезжим балетмейстером в загородной резиденции русской столицы, был ровесником первых действенных балетов Новерра и Анджьолини и во многом с ними перекликался. Это лишний раз свидетельствует, что идеи нового искусства носились в воздухе. Балет Кальцевары содержал семнадцать сцен, где главенствовала пластическая пантомима, украшенная танцами.
«Посреди сельской местности,-—сообщает сценарий, — высится на пьедестале статуя Пандоры. Прометей любуется творением своих рук, а лишь один шаг отделяет такое чувство от любви». Небо оставалось безучастным к мольбам героя, что давало актеру повод воплощать гамму разнообразных чувств. Наконец Амур, сжалившись над страдающим Прометеем, спускался с неба на колеснице и советовал похитить небесный огонь, чтобы с его помощью оживить статую. «Переход от небытия к жизни легче вообразить, нежели передать,— пояснял автор сценария.— Между тем Пандора выражает в это мгновение все, что только возможно себе представить. Чудеса природы потрясают и ошеломляют ее. Особенно поражена она фонтаном, в котором отражается ее образ». Нимфы танцуют, «желая развлечь ее». Она видит Прометея, пораженная стрелой Амура, бросается в объятия возлюбленного, чтобы «вместе с ним, и в движениях и в танце, выразить охватившее ее счастье». Соперником Прометея становился Юпитер, соблазненный красотой Пандоры. Прометей призывал на помощь титанов, извечных врагов Юпитера. Пандора оставалась верна своей любви и отвергала претензии отца богов. Все это предлагало исполнителям множество пантомимных монологов и диалогов, а в десятой сцене разворачивалась массовая картина восстания титанов. Прометей побуждал их «взгромоздить все горы одна на другую, чтобы добраться до неба». Юпитер, во главе войска богов, бросал молнии в титанов и погребал их под обломками «ими же нагроможденных скал».1 Тут Рок приказывал Юпитеру вернуть Пандору Прометею. 'В отместку Юпитер дарил ей золотую шкатулку, в которой, согласно мифу, были спрятаны «губительные страсти, раздирающие человечество». Пандора ужасалась и отчаивалась. Прометей гневался и страдал. Но
* Симптоматично, что сходную сцену содержал последний балет итальянского хореографа Сальваторе Вигано «Титаны» (1819).
249
Амур утешал и соединял их, чтобы балет мог окончиться совместными плясками людей и богов.
При известной наивности в трактовке темы, далеко уводившей от первоисточника — античного мифа, балет Кфльцевары являл собой последовательно развернутую пьесу. Композиция включала в себя несколько сюжетных линий, которые разветвлялись, чтобы собраться в конце. Балетмейстер ставил перед исполнителями задачи, предполагавшие мастерство и в области пантомимы, и в области танца. «Прометей и Пандора» — не важнейший, но и не маловажный пример того, что наступление действенного балета велось широким фронтом, одновременно захватывая отдаленные центры европейского театра. Кроме того, этот пример еще раз доказывает, что русской сцене принадлежало значительное место в общем развитии балетного искусства того времени — и как площадке новаторских экспериментов, и как форуму отстоявшихся достижений.
Особо складывалась история московского балета. До конца XVIII века она пестрела именами итальянцев. Итальянские учителя преподавали в первой московской балетной школе, организованной при Воспитательном доме в 1773 году. Итальянские балетмейстеры ставили балеты на сцене Петровского театра, открытого в 1780 году. Первым преподавателем школы был Филиппо Беккари, ранее танцевавший на петербургской сцене.
С 1778 года его заместил Леопольд Парадизи, обязавшийся обучать воспитанников «в карактерах серио, комик и демика-рактер».1 Однако среди названных жанров, по-видимому, преобладали комедийный и демихарактерный, поскольку через год ученики Парадизи показались в балетах «Говорящая картина», «Рыбаки», «Голландский балет». Среди первых выпускников школы, принятых в Петровский театр, были Арина Собакина, Гаврила Райков, Василий Балашов, Иван Еропкин. Райков и Балашов прославились как комедийные и демихарактерные танцовщики, повернувшие иноземную науку в русло отечественного искусства. Оба отличались в русской пляске, умело обобщая и театрализуя ее народную основу.
Между тем и школа и театр продолжали держаться принципов итальянского виртуозного стиля, часто устремляясь к гротеску и буффонаде, иногда опосредованным в духе английской
1 Всеволодский В. История театрального образования в России Спб., 1913, с. 265.
250
пантомимы. Об этом свидетельствовал, например, балет-пантомима «Арлекин, сделанный колдуном из сожаления». 5 мая 1781 года «Московские ведомости» обещали, что в третьем действии этого спектакля «Арлекин 8 раз будет переменяться в разных одеждах так искусно, что никак приметить невозможно. Все сие будет с музыкой, пением, игранием бранднера, английскими танцами».
С 1782 года школьное обучение перешло в руки Козимо Морелли. Он и его брат Франческо Морелли ставили комические балеты на сцене Петровского театра. В то время обрела популярность комическая опера. Но разница между практикой балетного и оперного русского театра в комедийном жанре была огромна. Комическая опера привлекла внимание русских литераторов и музыкантов. Они создали самобытные образцы, отчетливо отмеченные печатью русской культуры. Комические балеты сочиняли иноземные профессионалы, часто пользуясь затертыми общеевропейскими штампами. Об этом говорили названия балетов: «Солдатский балет» (1785), «Мельник, или Молодой офицер» (1787), «Волынка» (1790), «Хитрая чепеч-ница» (1794), «Купидоновы обманы, или Влюбленный прика-щик» (1795). С 1796 года балеты того же типа ставил новый балетмейстер Петровского театра Пьетро Пинюччи. Причудливо переведенные названия уводили к репертуару итальянской, австрийской, английской сцены, освоенной балетмейстерами-гастролерами во время их странствий.
Потому танцовщики Москвы открывали для себя благодарные возможности, сочиняя и исполняя русские пляски в национальных комических операх, богатых сценами плясового характера. Однако же виртуозностью танца и умением его театрализовать они были обязаны своим иноземным учителям. Виртуозность академического порядка понадобилась им, когда на московскую сцену проник жанр «серьезного» балета. Это было связано с деятельностью в России самого крупного представителя семейства итальянских танцовщиков и хореографов Соломони.
«Соломони (в разных вариантах, среди прочих., Саломон, Саломони, Соломоне) образовали одну из наиболее влиятельных династий европейского танцевального мира,— пишет Мариан Ханна Уинтер.— Поскольку их карьеры были одинаково продолжительны, частично совпадали во времени, а двое наиболее значительных из них были к тому же полными тезками, их трудно рассортировать хронологически. В 1760 году три поколе
251
ния — дед, отец, сын — находились в действии».1 Можно добавить, что отсутствие точных данных позволяет усомниться в том, что трое Соломони принадлежали к разным поколениям. По крайней мере Франческо и Джузеппе Соломони-старший могли быть братьями. В 1746—1747 годах оба танцевали на сцене лондонского театра Друри Лейн, и первый из них («дед») пережил второго («отца») на несколько лет. Последнее сведение о нем гласит, что в 1782 году он покинул пост балетмейстера берлинской Оперы, который занимал с 1766 года.
Джузеппе Соломони-старший, известный как Джузепетто венский и Джузеппе Соломони португальский (он был балетмейстером в Лиссабоне с 1752 по 1755 год), родился в 1710 году, поскольку известно, что он умер в 1777 году, в Вене, когда ему было 67 лет. Он работал там периодически между 1748 и 1764 годами и, по словам Уинтер, «его вклад в венский балет, до приезда Анджьолини, уступал только достижениям Хильфер-динга».2 О его знакомстве с творчеством Анджьолини свидетельствовала трехактная «Семирамида». Поставленная в Венеции по сценарию Метастазио на музыку Бартоли, она была откликом на недавнюю венскую премьеру балета Глюка — Анджьолини «Семирамида», но являлась пышным зрелищем с множеством танцев.
Даты жизни Джузеппе Соломони-младшего неизвестны. В 1750-х годах он танцевал в Вене, затем работал хореографом в Милане и Модене, а в начале 1780-х годов английский импресарио Майкл Маддокс пригласил его в Москву. Там он выступал на сцене Петровского театра, сначала как танцовщик, потом как хореограф. Кроме того, он ставил балеты на сцене театра Шереметевых в Кускове и обучал танцам его крепостных актеров. Соломони работал там преимущественно в комедийном жанре, являвшем смесь традиций итальянской комедии дель арте с опытом венской балетной сцены. Об этом говорят названия его постановок. Балеты «Арлекин, рождающийся из яйца», «Сумасшедшие» и «Живой мертвец» вводили в обиход жанр итальянской пантомимы. «Дон Жуан» повторял венскую постановку балета Глюка хореографом Анджьолини. Балет «Фламандские увеселения» мог быть навеян одноименным балетом Новерра. А балеты «Сила бога любви», «Скитающиеся цыгане» и «Мельник» скорее всего перекликались с постановками Хиль-
1 W int е г М. Н. The Pre-Romantic Ballet, р. 93.
г Ibid.
252
фердинга, прекрасно известными Соломони. Это уже ориентировало московскую публику на хорошие образцы. Кроме того, Соломони показал москвичам несколько трагических балетов Новерра, в том числе «Медею и Ясона» (1800), «Горациев и Ку-риациев» (1802), «Мщение за смерть Агамемнона» (1805).
В 1790 году Соломони возвратился в Италию и был записан в книгах церковного колледжа Сан-Карло города Модены как «Джузеппе Соломони, венецианец, балетмейстер», что позволяет считать его уроженцем Венеции. Затем он вновь уехал в Россию и продолжал работать в антрепризе Мэддокса до 1805 года, после чего след его затерялся. Две его дочери — одна скрипачка и композитор, другая — примадонна немецкой труппы — остались в России.
Заметную роль в русском балете сыграл венецианец Джузеппе Канциани. В 1771—1774 годах он работал танцовщиком и балетмейстером в Гофтеатре Мюнхена. С 1775 по 1777 год был балетмейстером театра Сан-Бенедетто в Венеции и поставил там множество балетов. Среди них в 1775 году значились трагический балет «Инеса де Кастро» и пастораль «Непостоянный», в 1776 году-—трагический балет «Линцео» и героикопантомимный «Порция», в 1777 году трагический балет «Кориолан». В 1778 году появились балеты более легкого жанра — «Камчадальские дикари», «Прибытие Венеры на остров Кипр», «Переодетая возлюбленная». Кроме того, в 1776 году Канциани сочинил балеты для оперы Дмитрия Бортнянского «Креонт».1
В 1778 году Канциани переехал в Болонью, где сразу же поставил балетные сцены в «Альцесте» Глюка и выступил в них как первый танцовщик. Превосходный профессионал, Канциани не обладал оригинальным талантом. «Его постановка,— сообщает о танцах «Альцесты» Алоиз Мозер,— как будто бы не пришлась по вкусу зрителям, если судить по письмам одного из корреспондентов либреттиста Кальцабиджи».2 В конце того же года Канциани переехал в Милан на амплуа танцовщика и балетмейстера. Вместе с балетмейстером Клодом Леграном он поставил балет с музыкой Луи де Байю «Умиротворенный Аполлон, или Возвращение солнца после падения Фаетона», который был представлен после оперы Сальери «Признанная Европа» на торжественном открытии театра Ла Скала. Н'а сцене Ла
1 См.: Mooser R.-A. Annales de la musique et des musiclens en Russie au XVIIIme siecle. Geneve, 1951, t. 2, p 252.
2 Ibid.
253
Скала Канциани показал балет М. Стабингера «Покинутая Калипсо», два балета Ф. Алессандри «Порция» и «Венера на Кипре», другие балеты и танцы в операх. Из Милана он вернулся в Венецию и все в том же 1778 году получил приглашение в Петербург.
К тому времени русская балетная сцена предъявляла хореографам серьезные требования, превосходя в том большинство итальянских театров. Эта сцена уже знавала таких хореографов, как Хильфердинг и Анджьолини, под руководством которых в Петербурге выросла одна из самых профессиональных балетных трупп Европы. Канциани и был вызван туда на место Анджьолини, временно покинувшего Россию. С Канциани приехали две танцовщицы — его жена Мария Казасси и Катерина Бонафини, на которой он женился после смерти Казасси в 1789 году.
Первые два года Канциани ставил балеты для опер Паэзи-елло и Каноббио, а в 1781 году сочинил большой балет «Адмет и Альцеста», музыка которого неизвестна. В 1782 году испортились его отношения с директором императорских театров В. И. Бибиковым, он подал в отставку и уехал в Венецию. Он поставил там в 1783 году несколько балетов, в том числе «Торжествующий Купидон, или Аполлон и Дафна» и «Великий подвиг Геракла, или Адмет и Альцеста», вероятно повторявший петербургскую постановку «Адмета и Альцесты». Осенью 1783 года он вновь появился в Петербурге и занял место учителя танцев Театральной школы.
Здесь и обнаружился главный дар Канциани. Знакомый с разными школами европейского академического танца, он сумел обобщить их опыт и отобрать то, что наиболее отвечало природе и характеру его русских учеников. «В результате,— пишет Мозер,—26 февраля 1785 года комитет зрелищ, констатируя превосходный прогресс его учеников, решил окончательно ангажировать его как учителя танцев в школе и заключить с ним контракт на два года с 1 марта того же года».1
В течение двух лет Канциани был только преподавателем школы. Но в 1787 году, когда Анджьолини окончательно покинул Россию, дирекция императорских театров предложила ему контракт балетмейстера с тем, чтобы он совмещал постановочную и преподавательскую деятельность. К тому времени Канци-
1 Moose г R.-A. Annales de la musique et des musiciens en. Russle au XVIIIme siecle, t. 2, p. 253.
254
ани имел возможность досконально изучить творчество передовых балетмейстеров: на русской сцене, кроме спектаклей Анджьолини, шел репертуар Новерра, пропагандируемый его учеником Шарлем Ле Пиком. Канциани пользовался открытиями больших мастеров как добросовестный и обладающий вкусом компилятор. В 1789 году он сам написал сценарий и поставил балет «Ариадна и Бахус» с музыкой Каноббио. В 1790 году ему принадлежали наравне с Ле Пиком балетные эпизоды в синкретическом зрелище «Начальное управление Олега», поставленном по сценарию Екатерины II с музыкой Сарти, Каноббио и Пашкевича.
Канциани, интенсивно работая в петербургском театре и школе, гастролировал как балетмейстер в крепостном театре графа Н. П. Шереметева. В начале 1790-х годов он поставил на сцене шереметевского поместья Кусково трагический балет «Инеса де Кастро», в котором участвовали лучшие силы высокопрофессиональной крепостной труппы. В 1791 году он показал на петербургской сцене свой последний большой балет с музыкой Каноббио «Пирам и Тисба». В 1792 году Канциани, получив 500 рублей пенсии в год, уехал на родину. Там он возобновил на сцене театра Сан-Самуеле «Пирама и Тисбу» и поставил балеты «Наказанное вероломство», «Суд Париса» и Другие.
В истории русского балета Канциани чтят как учителя, из класса которого вышли многие таланты, прежде всего первый русский балетмейстер И. И. Вальберх.
Однако среди итальянских служителей музы Терпсихоры первое место в России XVIII века по праву занимает Гаспаро Анджьолини, работавший там как балетмейстер и педагог. Он отправился туда на смену Францу Хильфердингу в 1766году и провел там в общей сложности около пятнадцати лет: с 1766 по 1772, с 1776 по 1779 и с 1782 по 1786 год. В Петербурге и Москве Анджьолини ставил трагические и героические балеты-пантомимы, аллегорические и анакреонтические балеты, полу-характерные и комические балеты, танцевальные интермедии в операх. Эту значительную полосу творчества Гаспаро Анджьолини исчерпывающе осветил А. А. Гозенпуд на страницах фундаментального труда «Музыкальный театр в России».
Тщательное и глубокое исследование Гозенпуда помогает установить, что в России хореограф вплотную подошел к реализации своих теоретических замыслов. Так получилось потому, что молодая русская сцена предоставила ему гораздо большую
255
свободу действий, чем австрийская. Руководство театра и зрители полагались на Анджьолини, не выдвигая готовых встречных требований. А подвинутые Хильфердингом русские актеры явили собой такую благодатную и отзывчивую творческую среду, о какой только можно было мечтать. Анджьолини воспользовался возможностями сполна и позже распространил накопленный здесь опыт на свою деятельность в театрах Западной Европы. Потому позволительно считать, что приезд этого хореографа в Россию отчасти положил начало и обратному влиянию русского балета на судьбы европейской хореографии. Разрастаясь и ширясь в XIX веке в творчестве Дидло, Перро и других крупных балетмейстеров, это влияние исподволь готовило эпоху Мариуса Петипа, когда русский академический балет занял ведущие позиции в мировом хореографическом процессе.
Первый же балет, «Отъезд Энея, или Оставленная Дидона» (Петербург, 1766), к которому Анджьолини сам сочинил музыку, ставился с учетом ошибок «Семирамиды». Основой сценария послужила опера Метастазио — Манфредини, а в предисловии хореограф повторил свои мысли о необходимой краткости балетного действия, об изъятии второстепенных персонажей. Вместе с тем «Оставленная Дидона» почти вдвое превысила по времени «Семирамиду» из-за того, что танцевальный материал увеличился.
Балет начинался «величественным танцем» Энея и его полководцев: воины демонстрировали свою доблесть, а также радость по поводу предстоящего похода. В следующей картине Дидона, ожидая Энея, заводила с прислужницами «серьезный и постоянный танец». Узнав об отказе Энея явиться, она гневалась; весть, что он приближается, радовала ее. Эти эпизоды завершались «благопристойными, веселыми любовными танцами», которые вместе с тем контрастно предваряли приход Ярба. Во второй половине балета пантомима вытесняла танец. Дидона пыталась возбудить ревность Энея, делая вид, что благосклонна к притязаниям Ярба. Но Эней оставлял ее и уплывал из Карфагена. Ярб приказывал поджечь и разорить Карфаген. Дидона закалывалась на берегу и провожала угасающим взором флот Энея. Балет заканчивался разрушением Карфагена посредством многих театральных эффектов, обычно именовавшихся в афишах «великолепным спектаклем».
Танцы возникали только в первой половине «Оставленной Дидоны». Но, превосходя и количеством единственный танцевальный номер «Семирамиды», они прежде всего качественно от
256
него отличались. Возвращаясь к большей творческой свободе «Каменного гостя», Анджьолини приближался здесь к воплощению своей мысли: искусство жеста должно аккомпанировать прекрасному танцу. Он увеличил содержательную и смысловую нагрузку танцевальных эпизодов. Народ «Семирамиды» плясал в честь бога Ваала, как мог бы плясать по любому другому торжественному поводу. Протагонистами танцев «Оставленной Дидоны» были ее главные герои. Танец Энея уже обладал чертами портретности. А перекличка величественной пластики героя с воинственно ликующей пластикой мужского кордебалета прямо относилась к завязке действия: воины славили своего вождя за то, что он предпочел долг любви. Экспозицией образа Дидоны также был ее танец, сопровождаемый кордебалетным танцем прислужниц. Самое определение его как «серьезного и постоянного» высвечивало приметы нрава Дидоны, готовило постепенное развитие характера и неминуемую развязку ее судьбы. Кроме того, оба танца, противопоставленные, намечали дальнейший ход действия к конфликту лирической страсти и героического долга. Действенные характеристики перемещались в танец, открывая то новое, что А. А. Го-зенпуд проницательно определил как «психологизм, выросший на почве классицизма и нарождающегося сентиментализма».1
Книга Гозенпуда дает всесторонний анализ этого и других спектаклей Анджьолини. Среди них «Армида и Ринальдо» на музыку Раупаха (1769), а также балеты на музыку самого хореографа: «Семира» по трагедии Сумарокова (1772), «Ариадна и Тезей» (1776), «Китайский сирота» по трагедии Вольтера (1777). Исследователь показал, как совершенствовалось мастерство хореографа. «В балете «Китайский сирота»,— пишет Гозен-пуд,— Анджьолини опирался на философскую и гуманистическую трагедию Вольтера, утверждающую идеи нравственного долга и победы человечности над насилием и жестокостью». В «Армиде и Ринальдо» Анджьолини «переключает внимание зрителей на психологически-действенную сторону балета. Все театральные чудеса и превращения выполняют только сюжетную функцию и не становятся самодовлеющими».2
О живом и творческом интересе Анджьолини к фольклору приютившей его страны свидетельствовала постановка балета, состоявшего из разных русских танцев. Он сочинил этот балет
1 Г озенпу д А Музыкальный театр в России, с. 220.
2 Там же, с. 223.
13 в Красовская
257
в 1767 году, через год после первого своего приезда в Россию, собрав и самостоятельно обработав народные плясовые мотивы. Но особое место заняла «Семира». Подобно польской «Ванде» и датской «Лагерте», она явила собой пример обращения к легенде, возникшей на материале национальной истории. В этом балете хореограф воспользовался богатством петербургского театра и его труппы и создал зрелище, где пантомимные монологи и диалоги героев разворачивались на фоне грандиозных массовых сцен и сражений. Князья ОскольдиОлег боролись за киевский престол. Рядом с этой главной темой балета, вступая с ней в конфликт, развивалась тема трагической любви Семиры, сестры Оскольда, и Ростислава, сына Олега. Коллизия любви и долга давала повод для психологизации характеров. К финалу хореограф сгущал трагизм ситуации. У Сумарокова умирающий Оскольд просил Олега соединить браком Семиру и Ростислава. В балете Семира падала «бесчувственна на тело Оскольдово». А. А. Гозенпуд, показывая самостоятельность танцевальной версии «Семиры», устанавливает, что работа Анджьолини предвосхищала «лучшие страницы будущего романтического балета». Он пишет: «Несмотря на то, что постановка «Семиры» была единственным опытом создания героико-патриотического балета на русском материале, значение этого спектакля едва ли можно переоценить. Анджьолини доказал возможность воплощения русской героической темы в музыкальном театре».1 Действительно, балет «Семира», поставленный к концу первого периода службы Анджьолини в России, выводил на сцену легендарные образы русской истории, надолго опережая даже оперный театр.
Но столь «экзотический» материал мешал «Семире» появиться за пределами русского театра. Зрители западноевропейского балета были сведущи в мифологии, хорошо знали античность, даже экзотика Турции и Китая, далекая, правда, от подлинности, была на разные лады опробована литературой и смежными искусствами. Россия долго еще оставалась неизведанной, и не по балетному спектаклю нужно было начинать знакомство с этой страной. Другие балеты, поставленные в России, Анджьолини воспроизводил позднее на западноевропейской сцене, ибо проведенные там годы явились для него временем плодотворных поисков.
1 Гозенпуд А. Музыкальный театр в России, с. 231.
258
Параллельно с деятелями итальянского балета в России XVIII века подвизались мастера французской хореографии. Видным представителем ветви французского балета, к которой, правда, было привито немало других отростков, стал ученик Новерра танцовщик и балетмейстер Шарль Ле Пик. Прежде чем попасть в Россию, он исколесил много стран; по сути дела, даже родился в пути.
С начала 1740-х годов в ковент-гарденской труппе Джона Рича выступал партнером Барберины Кампанини танцовщик Ле Пик. Афиши его объявляли как «известного танцовщика из Франции».1 Затем он гастролировал в Неаполе, где в 1744 году родился его сын Шарль. Мальчик обучался танцу, сопровождая отца в поездках по театрам разных стран, и рано вступил на самостоятельный путь. Отец, по-видимому, провел последние годы жизни в Вене: в архивах венского театра сохранилось свидетельство о Марии-Еве Пик, «вдове придворного танцовщика», скончавшейся в 1774 году.2
В мае 1761 года семнадцатилетний Шарль Ле Пик был принят фигурантом Штутгартского театра. Там его заметил Новерр и поручил в 1763 году партию одного из четырех борцов в балете «Смерть Геракла». Но уже в 1764 году молодой танцовщик отправился в Варшаву, а затем в Вену, где оказался участником последнего балета Хильфердинга «Эней в Италии» (1765). Постоянной партнершей Ле Пика и его первой женой стала танцовщица Анна Бинетти. Молодая пара выступала в Венеции и Милане, а в 1773 году попала на родину Ле Пика — Неаполь. «Сначала его чуть было не освистали,— писал современник о дебютах Ле Пика.— Неаполитанцы не считали, что он танцует, ибо он совершенно не прыгал по нашей чудовищно громадной сцене. Но так как у него прекрасная фигура, он понемногу приручил их и обратил в свою веру весь народ».3
Вряд ли неаполитанцев можно было обратить «в другую веру» оттого лишь, что у Ле Пика была хорошая фигура. Скорей их привлекла манера танца, смело противопоставленная практике итальянцев, которые по старинке соревновались в виртуозных, но прискучивших публике номерах. Кроме того, Ле Пик почти сразу выступил как хореограф, предложив действен
1 См.: W i п t е г М. Н. The Pre-Romantic Ballet, р. 126.
г Ibid.
3 Цит. по: Moose г R.-A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siecle, t. 2, p. 496.
13*
259
ные балеты взамен дежурных балетных антре. За годы странствий он изучил постановки Новерра, Хильфердинга и Анджьолини. Они стали основой репертуара, который предложил Ле Пик неаполитанским зрителям. Обладая завидной памятью, бесценным для балетного деятеля даром, он на оригинальность не претендовал, а довольствовался тем, что запомнилось. В 1773—1774 годах Ле Пик ставил балеты «Армида», «Орфей и Эвридика» и «Адель де Понтье»,- Он до конца жизни пользовался накопленным и прежде всего пропагандировал наследие учителя.
Учитель, который был старше ученика на семнадцать лет, со своей стороны, о нем не забывал. В 1776 году, потерпев неудачу с первой постановкой в Париже, он вызвал туда Ле Пика, нуждаясь, может быть, и в его таланте, и в его нравственной поддержке. О том, что Новерр не обманулся, свидетельствует отзыв Гримма о Ле Пике в роли пастушка, влюбленного в пастушку — Гимар, на премьере балета «Капризы Галатеи». Похвалив Галатею — Гимар, Гримм задержался на ее партнере. «Ле Пик не оставляет желать лучшего в роли пастуха,— писал он.— Очаровательная внешность, стройный стан, движения самые непринужденные и легкие, точность — чистейшая, живейшая и естественная,— вот преимущества, которые отличают талант этого нового мима. Если он и не танцует совсем как Отец вседержитель, говоря словами Вестриса, то, по меньшей мере, его танец можно назвать танцем короля сильфов. Если он и не обладает всем благородством, всей выразительностью Вестриса, всей силой и апломбом Гарделя, то, пожалуй, в его искусстве есть нечто более блестящее и нежное. У него грация и легкость особенно торжествуют в демихарактерном танце, а это жанр нового балета. Прелестный актер собирается покинуть нас, чтобы услаждать этой зимой Италию. Но ангажемент, заключенный им с Королевской академией музыки, позволяет верить, что он вернется весной».1
Ле Пик в Париж не вернулся. Башомон объяснил это в своих «Секретных мемуарах» тем, что Ле Пик сам того не захотел, так как «зарабатывал в Неаполе тридцать тысяч ливров в год, имея титул первого танцовщика». Сравнивая его с Гаэта-ном Вестрисом, Башомон находил, что Ле Пик «не так велик,
1 Correspondance litteraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, t. 9, pp. 254—255.
260
как Вестрис, но бесконечно более молод, вследствие чего обладает и большей гибкостью и мягкостью движений».1
Новерр иначе объяснял, почему его протеже не вернулся в Оперу. «Ле Пика чествовали,— писал он,— его называли Аполлоном танца. Но внутренняя клика Оперы, которую я называю шкатулкой Пандоры, Сплотилась и нашла причины, заставившие его отказаться от сделанных ему блестящих предложений. Он вернулся в Неаполь...» (IV, 84—85). Там он по свежей памяти поставил балет Новерра «Горации и Куриации».
В ту пору на горизонте Оперы всходила звезда Огюста Вестриса. Талантливый юноша был готов занять роли демихарактер-ного жанра, в которых отличался Ле Пик. Сначала Вестрису это не так уж удавалось. Во всяком случае, летом 1780 года, когда Новерр возобновил «Капризы Галатеи» и дал ему роль пастушка, Гримм не преминул'- вспомнить Ле Пика: «Как бы ни был блестящ, восхитителен, возвышен талант достойного сына бога танца, не удивительно, что в его возрасте он не овладел еще в этом жанре всей чувствительностью, всей нежной приятностью движений, какие Ле Пик проявлял с такой грацией и легкостью».2 Между Тем Огюсту Вестрису исполнилось тогда двадцать лет — возраст не такой уж беспомощный для танцовщиков, чья сценическая жизнь коротка. Теперь Ле Пик был на столько же старше Вестриса-сына, на сколько старше его самого был Вестрис-отец. Как видно, главной причиной служила не молодость Вестриса-сына, а перемены в эстетике балетного театра. Гримм ценил манеру Ле Пика, еще тяготевшую к жеманной стилистике рококо. А манера Огюста Вестриса уже содержала в себе приметы иной чувствительности и отличалась другой грацией, другой легкостью. Там было больше динамики и силы, необходимых типу воздушного танцовщика, предвестником которого явился Вестрис. Потому он и уступал Ле Пику в ролях, построенных на технике партерного'танца и строго условной пантомимы.
Кстати, не кто другой, как Новерр, отчетливо различал исполнительскую манеру двух танцовщиков. Разбросанные по страницам его труда характеристики Ле Пика и Вестриса слагаются в мозаичные, но проницательные портреты. Новерр
1 Цит. по: Moose г R-A.Annales de la musique et des musiclens en Russie au XVIIIme siecle, t. 2, p 496.
2 Correspondance litteraire, philosophique el critique de Grimm, t. 10, p. 302.
261
признавал талант Огюста Вестриса. Больше того, он словно бы против воли любовался им, хотя в целом эстетическая природа танца Вестриса оставалась ему чужда. Иное дело Ле Пик — свидетель и участник былых триумфов. Его достоинства Новерр утверждал как эталон и видел равного только в Гаэтане Вестрисе — другом исполнителе своих балетов. Он писал, что танцовщик «должен быть отлит по форме граций и вылеплен, как Вестрис-отец и Ле Пик. Эти двое довели свое искусство до такого совершенства, что им нельзя было подыскать замену и не было средств им подражать и следовать по их стопам» (II, 109). В другом месте, поясняя, какой должна быть конечная степень совершенства, Новерр ставил в пример одного Ле Пика: «Пропорции его стана были так же прекрасны, как и благородство лица, чарующая гармония движений, изысканная законченность исполнения, тем более поражавшая, что всегда была внятной, хотя грация скрадывала напряжение тела» (IV, 84). Называя лучших танцовщиков своей эпохи — Дюпре, Лани, Вестриса-отца и Доберваля, перечисляя жанры, в которых те отличались, Новерр выводил Ле Пика вперед. Возможно, здесь играла роль его благодарность Ле Пику, но много значило и другое. Ле Пик до встречи с Новерром не имел того опыта, какой имели остальные названные танцовщики. Он оказался тем сырым материалом, из которого балетмейстер вылепил, «по форме граций», идеального, на его вкус и взгляд, исполнителя. Потому Ле Пик и виделся ему «Протеем танца, воссоединившим все жанры», актером, чья «легкость, мягкость, гармоничность всех движений придавали ему облик божества» (II, 158).
Время изысканной, подчас жеманной грации, время, когда танцовщик вел себя на сцене так, будто он и вовсе не танцует,— это время подходило к концу. В 1780 году, когда Гримм вспоминал Ле Пика, тот был уже не нужен в Опере, чья консервативность иной раз неожиданно граничила с открытиями нового. Кроме того, покровитель Ле Пика — Новерр дослуживал там последние дни. В 1781 году он отправился в Лондон, куда вскоре к нему приехал Ле Пик. В мае 1782 года Новерр поставил для его дебюта балет «Аполлон и музы», рекомендуя своего ученика как Аполлона танца.
Дебют был ответственным экзаменом на место в труппе, где встретились танцовщики Антуан Бурнонвиль, Пьер Гардель, Луи Нивелон — ровесник младшего Вестриса и популярный характерный танцовщик англичанин Симон Слингсби. По предыдущим сезонам Лондон знал Жана Доберваля и обоих Вестри-
262
сов. В рецензии говорилось, что Ле Пик «имеет больше совершенств и меньше недостатков, чем любой из танцовщиков, когда-либо виденных в Англии». В частности, «свободой выразительности» он превосходит старшего Вестриса, а младшего — почти во всем. Его способность радовать зрителей угрожает соперничеством Слингсби, а простота манеры представляется верхом изысканности. Наконец, самая походка его — «вне всяких сравнений».1
Ле Пик оказался одним из фаворитов лондонского сезона и получил бенефис, для которого Новерр поставил балет «Апеллес и Кампаспа». Когда в конце 1782 года Новерр покинул Англию, Ле Пик стал балетмейстером Королевского театра.
Он дебютировал постановкой pas de deux для себя и танцовщицы Гертруды Росси, только что приехавшей в Лондон. Новая партнерша (в 1789 году она стала второй женой Ле Пика) немедленно завоевала успех. «С первых же шагов,— писал критик,— она раскрылась как превосходная мастерица пантомимы, по крайней мере, в том духе грациозной наивности, что присущ характеру, изображенному ею, а именно — характеру сельской нимфы».2
Затем Ле Пик ставил большие балеты, преимущественно повторяя репертуар Новерра и Анджьолини. Новерру принадлежали «Персидские супруги», «Суд Париса», «Любовь Александра и Роксаны», Анджьолини — «Семирамида» и «Каменный гость» Глюка. Собственные балеты Ле Пика особой художественной ценности не представляли. Как правило, их выручала Гертруда Росси, часто затмевая и исполнительское искусство партнера. В балете «Похищение сабинянок» она выступала в роли Эзилы и, по словам одного критика, «очаровала публику до экстаза». Другой критик, описывая, как Эзила — Росси терзалась между любовью к отечеству и страстью к Ромулу — Ле Пику, восхитился «мастерским примером игры, на какую способна пантомима». Он же высоко оценил виртуозность танцовщицы в сольной чаконе, ее «необыкновенную элевацию в перекрещивающихся кабриолях, ее непостижимые пируэты и повороты на кончиках пальцев».3
Превосходная техника танца и актерская выразительность Гертруды Росси все же не всегда спасали Ле Пика. В 1785 году
1 Цит по: L у п ha m D. The Chevalier Noverre, p. 104.
2 Цит no: Guest I. The Romantic Ballet in England, p 18.
3 Ibid.
263
он сочинил балет «Макбет», но не соразмерил смелость попытки с собственными возможностями балетмейстера-режиссера. Критики деликатно отнеслись к его Макбету и к леди Макбет — Росси. Последнюю даже похвалили за «силу, с какой она подговаривала Макбета на убийство». Но в целом балетная интерпретация шекспировской трагедии смахивала на пародию. В частности, лондонские зрители разразились хохотом, когда явившиеся Макбету призраки нараспев и с итальянским акцентом начали возглашать: «Макабет! Макабет!» 1 2 Спектакль был снят после премьеры.
Вместе с тем Ле Пик не оставался равнодушен к переменам, которые диктовало время. Мало-помалу он перестраивал свои исполнительские принципы в демихарактерном жанре. Об этом говорила уже цитированная похвала за «простоту манеры». Такая манера была нова и обеспечила успех его Алексиса — главной роли балета «Дезертир», поставленного Добервалем для Королевского театра в 1784 году. Дуэт Росси и Ле Пика в «Дезертире» был так хорош, что Доберваль публично расцеловал танцовщика в конце премьеры.
К демихарактерному жанру принадлежал и лучший спектакль Ле Пика на лондонской сцене—«Обманутый опекун» (1783). Балетная комедия по мотивам «Севильского цирюльника» Бомарше на музыку Мартини была обязана успехом знакомству Ле Пика с испанским фольклором. Незадолго до переезда из Неаполя в Лондон балетмейстер посетил Испанию и обнаружил там невиданное богатство пластики. «Формы испанского танца, который называется «классическим», начали развиваться во второй половине восемнадцатого века,— пишет Гест.— Технические новшества французской и итальянской школ были привиты тогда к старинным формам местных танцев, благодаря чему возникли новые, например болеро, распространившееся около 1780 года». Болеро «заняло место в ряду таких чувственных и порывистых танцев, как фанданго, качуча и се-гедилья с ее множеством разнообразных форм. Элевация, за-носки, пируэты, pas de bourree и прочие заимствования у классического балета придали испанскому танцу изощренность и такую широту лексики, какой не ведали танцовщицы других народов».5 Отмечая обратное воздействие испанского национального танца на европейский балетный театр, Гест справедливо
1 Guest I. The Romantic Ballet in England, p 19.
2 Ibid., p 121.
264
относит наибольшую интенсивность процесса к эпохе романтического балета, то есть ко второй четверти XIX века. Одним из первых балетмейстеров, обогативших балет испанским фольклором, он называет Шарля Ле Пика. А это позволяет, в свой черед, предположить, что Ле Пик, будучи в Испании, ввел в обиход тамошних танцоров начатки французской и итальянской «классики».
В балет «Обманутый опекун» Ле Пик ввел сольное фанданго для Росси и сегедилью, которую исполнял вместе с нею. Спектакль имел такой успех, что в том же сезоне балетмейстер Симоне поставил танцевальный дивертисмент «Испанский завтрак».
«Обманутого опекуна» возобновляли и после отъезда Ле Пика из Англии. «Два танца «Обманутого опекуна»,—сообщает Гест,— в конце концов слились в pas de trois, известное как Испанские развлечения. Шарль Дидло, Мадлен Гимар и Дюкне танцевали его в 1789 году, Огюст Вестрис, мадемуазель Хил-лигсберг и Мозон — в 1791 году. Деге, который в 1799 году был главным танцовщиком в Мадриде, возобновил его в 1807 году для себя, своей жены и мадемуазель Паризо, а затем повторил в 1810-м. Последний раз оно было исполнено в 1814 году, через тридцать один год после того как его впервые станцевали Ле Пик и г-жа Росси».1
Можно добавить, что к тому времени Ле Пика уже восемь лет не было в живых.
Последние годы жизни Ле Пик провел в России. Его и Гертруду Росси в 1786 году пригласил русский посол в Лондоне по желанию Екатерины II. Ле Пику шел пятый десяток, но он подписал контракт на положение первого танцовщика, поскольку пост балетмейстера, только что покинутый Анджьолини, занял Джузеппе Канциани. Однако в декабре 1786 года Ле Пик поставил два балета для.бенефиса Гертруды Росси: «серьезный балет Александр и Кампаспа» Новерра и «балет-пантомиму Французский дезертир», несомненно повторявший «Дезертира» Доберваля. В 1789 году Ле Пик показал на петербургской сцене «Медею и Ясона» Новерра. Современник, описав постановку, добавил: «Я, в окончание хвалы сему балету, скажу только то, что здесь все говорят, что от начала таковых представлений такого балета никогда еще не было».2 В 1790 году Ле Пик вместе
1 G ие st /. The Romantic Ballet in England, p. 122.
2 Жизнь и приключения Андрея Болотова.— Русская старина, 1873, т. IV, приложение, с 700.
265
с Канциани ставил балеты, игры, состязания и марши в грандиозном спектакле «Начальное управление Олега», поставленном по сценарию Екатерины II в петербургском Эрмитажном театре. В 1791 году Потемкин устроил в честь взятия Измаила празднество в Таврическом дворце. Ле Пик поставил для него торжественный выход и танец двадцати четырех придворных пар.
Державин писал об этой пляске: «Славный Пик искусством своим сообщил ей всю приятность как в важных, так и в веселых телодвижениях».1 В конце сам маститый балетмейстер исполнил соло.
В 1792 году Канциани покинул Россию, и обязанности балетмейстера перешли к Ле Пику. Перед ним открылись возможности, которым могли позавидовать балетмейстеры других театров Европы. Его постоянным сотрудником стал превосходный композитор Висенте Мартин-и-Солер. Спектакли оформлял Пьетро Гонзага, как раз в 1792 году приехавший в Петербург.
В распоряжении балетмейстера была дисциплинированная, хорошо обученная труппа. Он начал с пятиактного трагического балета «Оставленная Дидона», который более четверти века назад ставил Анджьолини на собственную музыку. Роли Энея и Дидоны исполняли Ле Пик и его жена. Постановка относилась к числу тех, которые было принято именовать в афишах «великолепными спектаклями». В ней, как сообщает Мозер, «помимо всего кордебалета, на сцене появлялись 98 фигурантов, взятых из армии, четыре сержанта, три трубача из кавалергардского полка, четыре барабанщика из Преображенского полка, хор и оркестр русских инструментов, который неизвестно что делал в этом карфагенском действии».2 Кроме того, по ходу действия пускали фейерверк, и на сцене появлялись живая лошадь и искусственный слон с сидящим на нем ребенком. Действие трагедии, должно быть, тонуло в этой эффектной зрелищности, далеко уступая «Дидоне» Анджьолини по образной силе и психологической глубине содержания.
Столь же пышно был поставлен в 1793 году балет «Амур и Психея» по сценарию Новерра. Спектакль имел большой успех и держался в репертуаре до 1799 года.
1 Де ржав ин Г. Р. Соч. Спб., 1864, т 1, с. 399—400.
! М о oser R.-A. Annales de la musique et des musiciens en. Russie au XVIIIme siecle, t. 2, p. 599.
266
В 1799 году Ле Пик поставил «Танкреда» — свой последний пантомимно-героический балет в пяти актах. Там опять-таки, кроме всей труппы, было занято 85 детей и 112 статистов. Роль Аменаиды исполнила Гертруда Росси, роль Танкреда — Ле Пик. Ему стукнуло тогда пятьдесят пять лет, но, «готовясь к этой роли, он брал уроки фехтования».1 Вслед за тем Ле Пик был отстранен от должности балетмейстера. Ее занял бездарный Пьер Шевалье, муж фаворитки Павла I, певицы Шевалье.
Ле Пик продолжал служить в петербургском театре как танцовщик. Он делил репертуар с Иваном Вальберхом и приехавшим в 1801 году Шарлем Дидло. Оба были моложе Ле Пика на двадцать с лишним лет. В истории русского балета Ле Пик не сыграл такой же значительной роли, какая выпала на долю этих двух выдающихся мастеров. Но и он сделал многое, подготовив для них почву. Он пропагандировал произведения крупнейших западноевропейских хореографов, преподавал в столичной школе и в крепостном театре Н. П. Шереметева, занимавшем первое место среди крепостных театров России. Наконец, Ле Пику принадлежала мысль издать в России «Письма о танце» Новерра.
«Мне следует, по справедливости, отдать должное и отплатить благодарностью моему ученику Ле Пику за то чувство признательности, которое он блистательно проявил к своему учителю и другу,— заявлял Новерр на страницах петербургского издания.— Это редкое чувство загорается и сверкает одно мгновение в случае крайности и нужды, но потухает навсегда в большинстве учеников, едва лишь самолюбие советует им покинуть учителей и вычеркнуть из памяти нежные заботы, труды и усилия, которым те предавались, чтобы обеспечить существование ученика и его репутацию. Ле Пик проявил ко мне это чувство, хотя я и считал, что оно погасло. Он не писал мне двадцать лет, но помнил, что я занимался письмами о моем искусстве, украшал его новыми постановками и пытался подвести честный итог путешествиям, предпринятым моим воображением. В начале этого года Ле Пик мне написал. Он объявил, что возобновил для торжественного открытия нового и великолепного театра мой балет Медея, посвятив программу Александру I, что постановка понравилась его императорскому ве
1 Moose г R.-A. Annates de XVIIIme siecle, t. 2, p. 719.
la musique et des musiciens en Russie au
267
личеству... Ле Пик воспользовался обстоятельствами, чтобы испросить у императора разрешения посвятить ему мой труд» (II, 169).
Ле Пик не порывал с русским театром до конца жизни. Он умер в Петербурге 29 сентября 1806 года, в пору, когда Валь-берх и Дидло уже вводили русский балет в преддверие романтизма. Но и спустя одиннадцать лет после его смерти можно было прочитать афишу петербургского спектакля, где, среди других постановок, значился «Геркулес, трагический балет в 4 действиях, соч. Лепика».1
На рубеже XVIII—XIX веков западноевропейский балетный театр находился в поре расцвета. В течение второй половины XVIII века он освоил сложную форму действенного спектакля — достижение, по своей значительности равное в сфере музыки завоеваниям композиторов-симфонистов. Ведущие хореографы эпохи выдвинули принцип самостоятельного многоактного балета, объединяющего в себе выразительные средства поэзии, музыки, живописи, пантомимы и танца. Они создали жанры балетной трагедии, драмы, комедии. Они основали ряд национальных театров и школ, вступивших в соревнование с балетной академией Франции. Два крупнейших мастера — Жан-Жорж Новерр и Гаспаро Анджьолини выступили с разработкой эстетико-теоретических взглядов, полемически дополнив, уравновесив и завершив сделанное друг другом. Оба эти хореографа определили и выразили важнейшие поиски и свершения времени.
Деятельность каждого закончилась к исходу породившего ее века. На сцену поднимались мастера еще одного поколения. Они убежденно выражали и удовлетворяли запросы следующего этапа развития, и реформы Новерра и Анджьолини отступили в прошлое под натиском новейших художественных идей. Имя первого вошло в историю, имя второго было несправедливо и надолго забыто. Но и те, кто числил себя учениками Новерра, несли дальнейшие перемены в эстетику танца. То провозглашая Новерра своим учителем, то открыто с ним споря, устремляясь то вслед за ним, то через его голову, молодые мастера шли дальше. Самый спор мог возникнуть лишь после новерровских реформ и выражал зовы времени, которое выдвигало свои, новые идеалы и свои, новые задачи перед искусством хореографии.
1 Северный наблюдатель, 1817, ч. 1, № 12, с. 392.
268
Наступала эпоха великих переворотов в жизни европейского общества, а ей сопутствовали коренные сдвиги в литературе и искусстве, в том числе в искусстве балета. Теперь парижская Опера все чаще уступала пальму первенства балетным театрам других стран, упорно сохраняя за собой титул балетной Академии мира. Но географическая карта балета вновь перекраивалась, и в каждом очаге кипела и бурлила жизнь.
Этому периоду в истории балета будет посвящена третья часть настоящего исследования: «Балетный театр преромантизма».
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*
АБЕРТ Анна Эмили, современная американская исследовательница музыки — 122, 196
АГАТА Мигель дель, испанский танцовщик, хореограф — 102
АГРАФЕНА, русская танцовщица — 248
АКВИДЕНТИ, итальянский танцмейстер — 29
АЛЕКСАНДР I (1777—1825), царствовал с 1801 г — 98, 267
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629—1676), царствовал с 1645 г,—245
АЛЕССАНДРИ Феличе (1742—1798), итальянский композитор — 254
АЛЛАР Мари (1742—1802), французская танцовщица — 41, 46, 50, 51, 56—58, 60, 61, 67, 163, 176, 185, 197
АЛЬБАНИ Франческо (1578—1660), итальянский художник — 167
АЛЬФЬЕРИ Витторио, граф (1749—1803), итальянский поэт, драматург — 30, 141
АНАКРЕОНТ (ок. 570—478 до н. э.), древнегреческий поэт — 169
АНДЖЬОЛИНИ Доменико Мария Гаспаро (1731—1803), итальянский хореограф — 12, 13, 20—23, 25, 27, 29, 30, 38, 39, 89.
94, 95, 100, 102—105, 116, 117, 120, 121, 124, 135—162, 194, 199, 210—231, 237—239, 247, 249, 252, 254—258, 260, 263, 265, 266, 268
АНДЖЬОЛИНИ Пьетро, итальянский танцовщик, хореограф — 29
АНИСЬЯ, русская танцовщица — 248
АННА ИОАННОВНА (1693-1740), царствовала с 1730 г.— 246
АРАЙЯ Франческо (1709 —ок, 1770), итальянский композитор — 246
АРЕЦЦО Гвидо д' (ок. 990—ок. 1050), итальянский музыкант — 220
АРИОСТО Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 198, 215
АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н, э.), древнегреческий философ — 123, 136, 216
АРНУ Мадлеп-Софи (1740-1802), французская певица — 175
ЛРТЕАДА Эстебан де (1747—1799), испан ский ученый - 28, 93, 94
ЛСПЕЛЬМАЙР Франц (1728—1786), австрийский композитор •—21, 51, 121, 123, 125, 166
АССЕЛЕН, французская танцовщица — 185
* Имена, данные о которых отсутствуют, как правило, принадлежат мохе Новерра — второй половине XVII1 в.
270
БЛЙЮ Луи де, французский композитор — 134, 253
БАЛАШОВ Василий Михайлович (1762— 1835), танцовщик — 250
Балеты и дивертисменты
АГАМЕМНОН — см. ОТМЩЕННЫЙ АГАМЕМНОН
АДЕЛАИДА, или АЛЬПИЙСКАЯ ПАСТУШКА — 78. 206
АДЕЛЬ ДЕ ПОНТЬЕ— 125, 134, 201. 207, 235, 260
АДМЕТ И АЛЬЦЕСТА — 48, 103, 104, 175, 254
АЛЕКСАНДР И КАМПАСПА —см. АПЕЛЛЕС И КАМПАСПА
АЛЬЗИРА, или АМЕРИКАНЦЫ — 23. 160
АЛЬЦЕСТА - 21
АМУР И ПСИХЕЯ — 161, 202, 207, 238, 240, 266
АМУР-КОРСАР — 82
АНЕТТА И ЛЮБЕН — 64, 66, 179, 181 — 183. 203
АПЕЛЛЕС И КАМПАСПА — 55, 62, 125, 131, 165—169, 176, 196 , 201, 202 , 211, 235, 263, 265
АПОЛЛОН И МУЗЫ — 201. 262
АРИАДНА И БАХУС - 60, 255
АРИАДНА И ТЕЗЕЙ—257
АРИАДНА НА ОСТРОВЕ НАКСОСЕ — 159
АРЛЕКИН, РОЖДАЮЩИЙСЯ ИЗ ЯЙЦА — 252
АРЛЕКИН, СДЕЛАННЫЙ КОЛДУНОМ ИЗ СОЖАЛЕНИЯ —251
АРМИДА — 260
АРМИДА И РИНАЛЬДО —257
АТИЛЛА — 160
БАЛЕТ ОБ ОРФЕЕ И ЕВРИДИКЕ — 245
БАЛЕТ РАЗНЫХ НАЦИЙ — 138
БАЛЕТ ХАРАКТЕРОВ С ИГРОЙ В ЖМУР-
КИ - 138
БАХУС И АРИАДНА—23
БЕЗДЕЛУШКИ - 147, 184, 185, 196, 201
БЕЛТОН И ЭЛИЗА - 132, 135. 187
БРИТАННИК — 23
ВАКХ И АРИАДНА — см. АРИАДНА И БАХУС
ВАНДА, КОРОЛЕВА ПОЛЬШИ — 25 236 258
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА или АДМЕТ И АЛЬЦЕСТА — 254
ВЕЛИКОДУШНЫЙ АЗИАТ —237
ВЕНЕРА И АДОНИС — 78. 204
ВЕНЕРА НА КИПРЕ —254
ВЕРБОВЩИК — 240
ВНОВЬ СОЕДИНИВШИЕСЯ ВЛЮБЛЕННЫЕ — 201
ВОЛШЕБНАЯ ГИРЛЯНДА — 29
ВОЛШЕБНИК — 29
ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ ЦИРЦЕИ —29
ВОЛЫНКА —251
ГЕРКУЛЕС — 267
ГЕРМАН И ДОЛМОН — 240
ГИЛАС И СИЛЬВИЯ — 235
I ИПЕРМНЕСТРА, или ДАНАИДЫ — 120
ГОВОРЯЩАЯ КАРТИНА—250 ГОЛЛАНДСКИЙ БАЛЕТ-250 ГОРАЦИИ И КУРИАЦИИ — 125, 170—173, 177, 228, 229, 235, 253, 261
ГРАЦИИ — 211
ДЕЗЕРТИР — 65, 135, 191, 264. 265
ДИАНА И ЭНДИМИОН — 138 ДИДОНА — см. ОТЪЕЗД ЭНЕЯ. . . ДОН ЖУАН — см. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ДОН КИХОТ — 129, 130
ДОН КИХОТ У ГЕРЦОГИНИ — 129
ЕВТИМИЙ И ЭВХАРИСА — 119, 166, 202. 230
ЖЕРТВЫ АМУРУ—202
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЦИРЦЕЕ — 159
ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ —252
ЖИЗЕЛЬ — 182
ЖИТЕЛИ ОСТРОВА КАМКАТЕЛЬ — 236
ЗАВОЕВАНИЕ СКАЛЫ ГАЛТАР -35
ЗЕФИР И ФЛОРА — 118
ЗНАМЯ — 238
271
ИГРЫ ЭГЛЕИ — 32
ИДОМЕНЕЙ - 23
ИЗБРАННИЦА — см ПОРА НЕПОРОЧНОСТИ
ИНЕССА ДЕ КАСТРО — 253, 255
ИСКАТЕЛЬНИЦА УМА - 58, 64, 65, 579— 182
ИСКУССТВО, ПОКОРЕННОЕ ПРИРОДОЙ — 30, 238, 239
ИСПАНСКИЙ ЗАВТРАК - 265
ИСТОЧНИК ЮНОСТИ —71, 76, 79
ИФИГЕНИЯ — 148
ИФИГЕНИЯ В АВЛИДЕ - 205, 206
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ — 125, 210, 211
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ — 38, 104, 140—146, 148—151, 159, 194, 238, 239, 252, 257, 263
КАМЧАДАЛЬСКИЕ ДИКАРИ — 253
КАПРИЗЫ ГАЛАТЕИ— 58, 63, 71, 81, 103, 169, 170, 260, 261
КИТАЙСКИЙ ПРАЗДНИК — 71, 73-76,
79, 80, 198
КИТАЙСКИЙ СИРОТА — 239, 257
КЛЕОПАТРА — 148
КОРИОЛАН - 253
КОРОЛЕВА ДОБРОДЕТЕЛИ — см ПОРА НЕПОРОЧНОСТИ .
КОРОЛЬ НА ОХОТЕ — 159, 238, 239
КРЕСТЬЯНСКИЙ ВАЛЕТ — 138
КУПИДОНОВЫ ОБМАНЫ, или ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ ПРИК-АЩИК — 251
ЛАГЕРТА — 25. 240—243, 258
ЛИНЦЕО — 253
ЛОРЕНЦО — 161
ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ МАРСА И
ВЕНЕРЫ — 22
ЛЮБОВНЫЕ ПРОДЕЛКИ ЗЕФИРА—2Э
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРА И РОКСАНЫ — 263
ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ — 38
МАКБЕТ — 245, 264
МАТРОСЫ-ЛИЛИПУТЫ - 80
МЕДЕЯ И ЯСОН — 48, 50, 58, 111—121,
141, 150. 166, 168, 175, 176, 188, 201, 207, 235. 241, 253, 265, 267
МЕЛЬНИК — 252
МЕЛЬНИК, или МОЛОДОЙ ОФИЦЕР — 251
МИРЗА И ЛИНДОР — 186-188
МИФ ОБ ОРФЕЕ И ЭВРИДИКЕ — 22
МЩЕНИЕ ЗА СМЕРТЬ Al АМЕМНОНА — см. ОТМЩЕННЫЙ АГАМЕМНОН
НАКАЗАННОЕ ВЕРОЛОМСТВО — 255
НЕВЕРНЫЙ ФАВН — 78
НЕПОСТОЯННЫЙ — 253
НИНА, или СУМАСШЕСТВИЕ ОТ ЛЮБ-
ВИ — 244
НИНЕТТА ПРИ ДВОРЕ — 182, 183
ОБМАНУТЫЙ ОПЕКУН — 264, 265
ОСТАВЛЕННАЯ ДИДОНА — см. ОТЪЕЗД ЭНЕЯ- . .
ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ ХРИСТОФОРОМ
КОЛУМБОМ — 138
ОТМЩЕННЫЙ АГАМЕМНОН — 123—125,
143, 148, 210, 212, 215, 216, 230, 235, 253
ОТЪЕЗД ЭНЕЯ, или ПОКИНУТАЯ ДИ ДОНА — 30, 159, 256, 257, 266
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА—21, 111, 260
ОХОТА ГЕНРИХА IV— 154, 159, 215, 238
ПАРА ЗАСТЕНЧИВЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ -237
ПАФИО И МИРРА —30
ПЕРВЫЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, или
ВЛАСТЬ ЛЮБВИ — 190
ПЕРЕОДЕТАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ — 253
ПЕРСИДСКИЕ СУПРУГИ — 263
ПИГМАЛИОН — 23, 220
ПИР ДИАНЫ — 36
ПИРАМ И ТИСБА — 255
ПОБЕДА ЛЮБВИ НАД РАВНОДУШИ-
ЕМ — 105
ПОБЕДА НЕПТУНА—111, 112
ПОБЕЖДЕННЫЙ ПРЕДРАССУДОК —
247
ПОКИНУТАЯ ДИДОНА - 238, 239
ПОКИНУТАЯ КАЛИПСО—254
272
ПОРА НЕПОРОЧНОСТИ, или ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ИЗБРАННИЦА В САЛАНСИ — 65, 132—135, 189 / -
ПОРЦИЯ — 253, 254
ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ— 121
ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК— 263
ПРАЗДНЕСТВА, иди РЕВНрСТЬ В СЕ-
РАЛЕ — 21, 81, 82, 84, 86, 115, 116
ПРАЗДНИК ГИМЕНЕЯ —21, 121
ПРАЗДНИК МИРЗЫ —см МИРЗА И линдор
ПРАЧКА И МЕДНИК — 240
ПРИБЫТИЕ ВЕНЕРЫ НА ОСТРОВ
КИПР — 253
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СЕРАЛЕ — 148
ПРИКЛЮЧЕНИЯ САНЧО ПАНСА НА ОСТРОВЕ БАРАТОРИЯ — 129
ПРИНЦ ДЕ НУАЗИ — 52
ПРИЧУДЫ КУПИДОНА И БАЛЕТМЕЙСТЕРА — 240
ПРОВАНСАЛЬСКИЕ МЕЛЬНИКИ — 36
ПРОВАНСАЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК —203
ПРОМЕТЕЙ И ПАНДОРА— 248, 250
ПСИХЕЯ И АМУР — 105—108, 118
РАЙМОНДА — 90
РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА, или НАКАЗАННОЕ ЛЮБОПЫТСТВО —243
РЕВНИВЕЦ БЕЗ СОПЕРНИКА— 126, 127
РЕВНИВЫЙ КАЗАК —38
РЕВНОСТЬ В СЕРАЛЕ —см ПРАЗДНЕСТВА .
РЕНО И АРМИДА— 47, 119, 201
РЕСПУБЛИКАНЕЦ— 161
РИНАЛЬДО И АРМИДА — 103
РОЛЬФ СИНЯЯ БОРОДА — 243 ,
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА — 243
РЫБАКИ — 250
СВАДЬБА ФЕТИДЫ — 78
СВЯТЕЙШАЯ РЕЗНЯ, или ЖЕРТВЫ ВАТИКАНА— 161
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ - 31
СЕМИРА — 25, 257, 258
СЕМИРАМИДА — 13, 29, 102, 137—139,
148—159, 227, 239, 252, 256, 257, 263
СИГРИД — 243
СИЛА БОГА ЛЮБВИ — 252
СИЛА ЛЮБВИ И ПОДОЗРЕНИЯ — 240
СИЛЬВИО, ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ — 161
СКАЗКА О ВАКХЕ И АРИАДНЕ —30
СКИТАЮЩИЕСЯ ЦЫГАНЬ! — 252 *
СЛАДОСТНАЯ МЕСТЬ — 238
СМЕРТЬ ГЕРАКЛА- 21, 48, 105, 108—
ПО, 116, 121, 141, 164, 259
СМЕРТЬ КЛЕОПАТРЫ — 160
СМЕРТЬ ЛИКОМЕДА— 120
СОЛДАТСКИЙ БАЛЕТ—251
СОЛДАТЫ И МАРКИТАНТКИ — 138
СОН ДЕМОКРАТА — 161
СОЮЗ ЛЮБВИ И ИСКУССТВ — 53
СОЮЗ ПАСТУХОВ — 78
СПАРТАК — 109
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА — 90
СУД ПАРИСА— 38, 118, 255, 263
СУМАСШЕДШИЕ — 252
ТАНКРЕД — 266
ТЕЛЕМАК НА ОСТРОВЕ КАЛИПСО -236
ТЕМПЕЙСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА — 202
ТЕМПЕЙСКИЕ СУПРУГИ — 203
ТОРЖЕСТВО АЛЕКСАНДРА В ИНДИИ -160
ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ КУПИДОН. или
АПОЛЛОН И ДАФНА — 254
ТРИУМФ НЕПТУНА —49
ТУАЛЕТ ВЕНЕРЫ, или ПРОКАЗЫ АМУ-
РА,— 71, 78, 81, 178
ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ — 31, 135, 181
УМИРОТВОРЕННЫЙ АПОЛЛОН — 30, 253
ФЕДРА — 161
ФЕТИДА И ПЕЛЕЙ - 44, 148
ФЛАМАНДСКИЕ УВЕСЕЛЕНИЯ — 71, 77, 252
273
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕЗЕРТИР - 265
ФУРИИ И ГЕНИИ, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В СЧАСТЛИВЫХ ЛЮБОВНИКОВ — 238
ХАРАКТЕРЫ ТАНЦА - 42
ХИТРАЯ ЧЕПЕЧНИЦА — 251
ЦЕЙЛОНСКИЙ ИДОЛ - 240
ШАЛОСТИ ЛЮБВИ — 206
ЩЕДРОСТЬ АЛЕКСАНДРА — см. АПЕЛЛЕС И КАМПАСПА
ЭКСПРОМТ ЧУВСТВ — 81
ЭНДИМИОН - 51
ЭНЕЙ В ИТАЛИИ —259
ЭНЕЙ И ЛАВИНИЯ —21
ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ — 159
ЭРНЕЛИНДА — 55
ЯРМАРКА — 238
ЯСОН И МЕДЕЯ— см. МЕДЕЯ И ЯСОН
Б АЛ ОН Жан (1676—1739), французский танцовщик — 23, 170
БАРОН М. А., французский историк танца — 171
БАРТЕЛЕМОН Франсуа-Ипполит (1741— 1808), французский композитор — 185, 201
БАРТОЛИ, итальянский композитор — 252
БАРТОЛОЦЦИ Франческо, итальянский художник, гравер — 115
БАУМГАРТНЕР, австрийский композитор — 125
БАШОМОН Лун-Пети де (1690—1771), французский писатель — 47, 57, 60, 260
БЕЖЛР (Бергер) Морис (р. 1927), французский хореограф — 92, 93, 208
БЕККАРИ Филиппо, итальянский танцмейстер — 250
БЕЛЕЦКИЙ Игорь Валентинович (р. 1932), музыковед — 104
БЕЛЮЦЦИ, итальянская танцовщица —
247, 248
БЕЛЮЦЦИ, итальянский танцовщик —
248
БЕРГОНЦИ, итальянский машинист сцены — 249
БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР Жак-Анри (1737—1814), французский писатель —131
БЕРТОН Пьер-Монтан (1727—1789), французский певец, композитор — 41
БЕРТОНИ Фердинанд Жозеф (1725—1813), итальянский композитор — 238
БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770—1827) — 205
БЖЕЗИНСКИЙ Адам, польский танцовщик — 235
БИБИКОВ Василий Ильич (1747—1787), деятель русского театра — 254
БИКЛЕР, австрийский композитор — 125
БИНЕТТИ Айна, итальянская танцовщица — 29, 235, 238, 259
БЛАЗИС Карло (1795—1878), итальянский танцовщик, хореограф — 100
БЛАМОН Франсуа-Колин де (1690—1760), французский композитор — 60, 163. 164
БЛЕЗ Адольф (?—1772), французский композитор — 133
БЛОНДИ Мишель (1675—1747), французский танцовщик — 219, 221
БОГУСЛАВСКИЙ Владислав (1838—?), польский писатель — 233
БОКЕ, французский художник —76, 80, 83—85. 102, 109, 115
БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (1738— 1833), мемуарист — 265
БОМАРШЕ (Карон Пьер-Огюстен де, 1732—1799), французский писатель — 99, 264
БОМОНТ Сирнл Уильям (1891—1976), английский историк балета — 59, 62, 65, 67, 100
БОНАФИНИ Катерина, итальянская танцовщица — 254
БОРТНЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (1757—1825), композитор — 253
БОШАН Пьер (1636—1705), французский танцовщик, хореограф — 44, 218, 219
БРАНИЦКИЙ Яп Клемент (1688—1771), польский магнат, владелец крепостного театра — 233
274
БРЕЙН Кориолис де, голландский хореограф — 31
БУАЛО (Депрео Никола, 1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма — 66, 154, 216
БУАМОРТЬЕ Жозеф-Боден де (1691— 1765). французский Композитор •—129
БУБЛИКОВ Тимофей £емеиовнч (ок, '748—1815), русский танцовщик — 248
БУРИАН К В , современный английский историк балета — 239
БУРНОНВИЛЬ Август (1805—1879), датский танцовщик, хореограф — 240—245
БУРНОНВИЛЬ Антуан (1760—1843), французский танцовщик, хореограф — 36, 201, 262
БУТИЛЬЕ Максимилиан-Жан (1745—1811), французский драматург — 166
БУХОН, семья голландских танцовщиков — 31
БУШЕ Франсуа (1703—1770), французский художник — 69, 72, 169, 178
БЬОРН Мария Кристина (1763—1837), датская танцовщица — 242
ВАБИЛА, русский танцовщик — 248
ВАЛИНСКИЙ Ежи, польский танцовщик — 235
ВАЛЬБЕРХ Иван Иванович (1766—1819), танцовщик, хореограф — 243, 255, 267, 268
ВАН ДЕР ШТЕЛЬ, семья голландских танцовщиков — 31
ВАТТО Жан-Антуан (1684—1721), французский художник — 185
ВЕРГИЛИЙ Марон Публий (70—19 до и э ), древнеримский поэт — 197
БЕРРИ Пь&сро, граф (1728—1797), итальянский государственный деятель — 120, 211
ВЕСТРИ Томазо, отец Гаэтана Вестриса — 43
ВЕСТРИС Анджьоло Мария Гаспаро (1730 — 1809), итальянский танцовщик — 102, 109
ВЕСТРИС Гаэтан (Вестри Гаэтано Апол-лини Бальтазаре, 1729—1808), французский таниовшнк итальянского проис-
хождения — 29. 41—58. 60 , 67, 102. 109 НО, 112, 114, ng, 121, 135i 157j 158j
163, 164, 167, 174-177, 193—195, 197 201 221, 234, 235, 260—263
ВЕСТРИС Огюст (Марн-Жан-Огюстен, 1760—1842), французский танцовщик — 44, 51. 57, 185, 187, 207, 261-263, 265
ВЕСТРИС Тереза (1726—1808), француз-сквя танцовщица — 43, 46, 47, 52
ВИГАНО, итальянский танцовщик — 144
ВИГАНО Сальваторе (1769—1821), итальянский танцовщик, хореограф — 195, 205, 208, 223, 235, 249
ВИЖЕ ЛЕБРЕН Элизабет (1755—1842), французская художница — 44, 53, 56,
59—61
ВИЛЬГЕЛЬМ IH ОРАНСКИЙ (1650— 1702), штатгальтер Нидерландов с 1672, король Англин с 1688 г.— 31
ВИМ ДЮ ВАЛЬГЕ Анн-Пьер-Жак де (1745—1819), директор парижской Оперы в 1778—1790 гг.— 177
ВИНКЕЛЬМАН Иоганн Иоахим (1717— 1768), немецкий эстетик — 106, 111
ВИППЕР Борис Робертович (1888—1967), искусствовед — 71
ВОЛЬТЕР (Аруэ Франсуа-Мари, 1694— 1778), французский пнсвтель — 16, 19, 20, 23, 24, 43, 70, 81, 84, 98, 100, 120, 123, 126, 137, 148—154, 160, 207, 209, 215, 216, 227, 242, 257
ВОЛЬФ Эрнст (1735—1792), немецкий композитор — 125, 133
ВСЕВОЛОДСКИЙ (Гернгросс) Всеволод Николаевич (1882—1962), театровед — 250
ВЫСОЦКА Татьяна (1894—1970). польская исследовательница балета — 233— 236
ГАЙДН Франц Йозеф (1732-1809), австрийский композитор — 121
ГАЛЕОТТИ (Томазелли) Винченцо (1733— 1816), итальянский хореограф — 25, 29, 30, 237—245
ТАЛЛИНН Джованни Андреа (1730— 1805), итальянский хореограф — 69, 70
ГАЛЛОДЬЕ Луи (1733-1803), французский танцовщик, хореограф — 34, 35
275
ГАМИЛЬТОН Уильям (1704—1750), шотландский поэт, жил во Франции — 52
ГАРДЕЛЬ, мать Максимилиана н Пьера Гарделей — 55, 165
ГАРДЕЛЬ Клод, французский хорео4 граф — 52
ГАРДЕЛЬ Максимилиан-Леопольд-Филипп-Жозеф (1741—1787), французский танцовщик, хореограф — 25, 41, 43, 52— 56, 58 , 64, 67, 127, 157, 164, 165, 167, 168, 177—183, 185, 186, 188—191, 197, 200, 201, 203, 260
ГАРДЕЛЬ Пьер-Габриэль (1758—1840), французский танцовщик, хореограф — 54, 58, 116, 118, 191, 201, 203, 204, 207, 262
ГАРДИНИ Анчнлла, итальянская танцовщица — 30
ГАРРИК Дэвид (1717—1779), английский актер- 79—81, 97, 100, 102, 120, 123, 135, 171, 207
ГВОЗДЕВ Алексей Александрович (1887— 1939), театровед— 11
ГЕЙЛ Джозеф (р. 1919), американский музыковед — 14
ГЕЙНЕЛЬ Анна Фредерика (1753—1808), французская танцовщица — 167, 174—177
ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод-Адриан (1715—1771), французский философ — 70 Р
ГЕОРГ II (1683—1760), король Англии С 1727 г,— 80
rfJtHEP Саломон (1730—1788), .швейцарский поэт, художник — 190
ГЕСТ Айвор (р. 1920), английский историк балета — 10, 11, 14, 55, 175, ' 176,. 201, 263—265 ’ ; '
ГИМАР Мари-Мадлен (1743—1816), французская танцовщица — 50, 51, 55, 56, 58— 67, 167, 170, 176, 179-182, 185—187, 189, 197, 203, 260, 265
ГИМАР Фабиен, отец Мари-Мадлен Гимар — 58
ГЛАЗУНОВ Александр Константинович (1865—1936), композитор — 90, 97
ГЛИНКА Михаил Иванович (1^04—1857), композитор — 13
ГЛЮК Кристоф Виллибальд (1714—1787), австрийский композитор — 13, 21, 22, 2о,
27, 37, 54. 58, 88-9Q, 99, 102-105, 116, 121, 122, 125, 137, НО—148, 155, 156, 159, 165, 166, 170, 183, 191—200, 205, 227, 23§, 239, 252, 253, 263
ГОЗЕНПУД Абрам Акимович (р. 1908), музыковед, театровед, литературовед — 13, 255, 257, 258
ГОЛЬДОНИ Карло (1707—1793), итальянский драматург — 30, 196
Г,ОМЕР, древнегреческий поэт VIII—VII вв до н. э.— 223
ГОНЗАГА Пьетро Готтардо (1751—1831), итальянский художник-декоратор — 266
ГОНКУР Эдмон (1822—1896), французский писатель — 60, 61, 63—66, 180. 187
ГОРАЦИЙ Флакк Квинт (65—8 до и э), древнеримский поэт — 137, 142, 216
ГОССЕК Франсуа-Жозеф (1734—1829), французский композитор — 125, 186, 187
ГОТЬЕ, французский драматург — 129
ГОЦЦИ Карло, граф (1720—1806), итальянский драматург — 30
ГРАДАЦИИ Франческо (1729—1793), итальянский художник-декоратор — 249
ГРАНЖЕ Пьер, французский танцовщик, хореограф — 237, 248
ГРАНЬЕ Франсуа (1717—1779), французский композитор — 21, 82, 126, 169
ГРЕЗ Жан-Батист (1725—1805), французский художник— 133
ГРЕТРИ Апдре-Эриест Модест (1741— 1813), . французский композитор — 53, 125, 128, 133, 134, 182, 188, 243
ГРИЗИ Карлотта (1819—1899), итэльян-ская танцовщица — 44
ГРИММ Фридрих Мельхиор, барон (1723— 1807), фраицузский писатель—17, 18, 39, 50, 51, 53, 55—57, 63, 65, 116, 120, 131, 133. 157, 165-170, 174, 175, 178, 179, 182, 186—192, 194, 195, 197, 260—262
ГРОССАТЕСТА Гаэтано, итальянский хореограф — 29
ГУИДИ Аитопия, итальянская танцовщица — 238, 239
ГУЛЬЕЛЬМО, итальянский танцовщик — 121
276
I УСТАВ 111 (1746—1792), король Швеции с 1771 г,— 34-36
ДАВИД Жак-Луи (1748—1825), французский художник—172
Д’АЛАМБЕР Жан-Лерон (1717—1783), французский математик и философ—17
ДАЛЕЙРАК Никола (1753—1809), французский композитор — 128, J24.4
ДАРБ Иогаипсс Антон Петер Пауль (1750—1815), датский композитор — 239
ДАСЬЕ Эдуард-Эмиль-Габриэль (1876— 1952), французский искусствовед — 42
ДЕГЕ Андре-Жан-Жак, французский танцовщик — 265
ДЕЗОРМЬЕ, французский композитор — 166
ДЕ ЛАРШ, французский хореограф — 37
ДЕЛЛЕР Флориан Иоганн (1729—1773), австрийский композитор — 21, 111, 169
ДЕПРЕО Жан-Этьен (1748 -1820), французский танцовщик — 61, 66, 67
ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (1743— 1816), поэт — 266
ДЕРРА ДЕ МОРОДА Фрндерика (1897— 1978), австрийская исследовательница балета — 14
ДЕ САНТИС Франческо (1817—1883), итальянский литературовед — 16
ДЖОВАНЕТТИ Р., итальянский композитор — 138
ДЗАНУЦЦИ'Сантина — см Обри
ДИДЛО Фредернк-Шарль-Луи (1767— 1837), французский танцовщик, хореограф—36, 66, 90, 195, 202, 205, 208, 209, 223, 244, 256, 265, 267, 268
ДИДРО Деии (1713-1784), французский писатель — 17—19, 39, 50, 68, 75, 98, 99, 1 11, 126, 127. 134—436, 152, 214
ДОБЕРВАЛЬ (Берше) Жан (1742—1806), французский танцовщик, хореограф — 25, 26, 29, 31, 32, И, 58, 66, 100, 102, 130, 135, 164, 180, 181, 185, 188, 189,
191, 201, 203. 205, 207, 208, 244, 262, 264, 265
ДУГЛАС Роберт, английский театровед — 175
ДУНИ ‘ Эджидпо Ромоальдо (1709—1775), итальянский композитор — 128, 179
ДУРАЦЦО Джакомо, граф (1718—1795), директор венского^театра^-139
Д ЭГИЛЬОН Эммануэль*Apwaii, герцог ' (1720.-1788), французский военный и государственный деятель —
ДЮБО Жан-Батист (1670—1742), французский эстетик, аббат — 155
Дюбуа Нинон — см. Леклерк
ДЮКНЕ, французская танцовщица — 265
ДЮМЕНИЛЬ (Мартам Мари-Франсуаза, 1713—1802), французская актриса — 158
ДЮМЕНИЛЬ Сесиль (? —1781), французская танцовщица — 181, 182
ДЮПРЕ, французский танцовщик — 144
ДЮПРЕ Жаи-Дени (1706—1782), французский танцовщик — 69
ДЮПРЕ Луи (1697—1774), французский танцовщик — 43, 44, 47, 69, 70, 157, 221, 233, 262
ДЮПРЕ Максим, французский танцовщик, хореограф — 233
ЕВДОКИЯ, русская танцовщица — 248
ЕВРИПИД (ок 480—406 до и э.), древнегреческий драматург — 112
ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ (1519-1589), королева Франции с 1547 г.— 18
ЕКАТЕРИНА И (1729—1796), царствовала с 1762 г,— 247, 255, 265, 266
ЕРОПКИН Иван, русский танцовщик — 250
ЖИБЕР, французский композитор — 166
ЖЮЛЬЕН Адольф (1845 -1932), французский музыковед, театровед — 53
ЗАГУРСКИЙ Борис Иванович (1901 — 1968), музыковед — 246
ЗОЛОТНИЦКИЙ Давид Иосифович (Р-1918), театровед— 118
ЗОРИНА Елизавета, танцовщица — 246
ЙОМЕЛЛИ Никколо (1714-1774), итальянский композитор — 102, 103, 105, 111, 112, 120, 121
277
КАВОС Катсрино (1775—1840), русско-итальянский композитор — 90, 243
КАЗАЛИ Джованни Батиста (?—1792), итальянский композитор— 166
КАЗАНОВА Джованни Джакомо (1725— 1798), итальянский мемуарист — 137, 138
КАЗАССИ Мария (?—ок. 1789), итальянская танцовщица — 254
КАЗЕЛЛИ Франческо, итальянский танцовщик — 121, 235
КАЛЬЦАБИДЖИ Раиьери (1714-1795), итальянский драматург — 103, 140, 141, 146, 253
КАЛЬЦЕВАРА Франческо. итальянский хореограф — 161, 247—250
КАМАРГО Мари-Анн де Кюпи де (1710— 1770), французская танцовщица — 57, 67, 70
КАМПАНИЯМ Барберипа (1721—1799), итальянская танцовщица — 70, 246, 259
КАМПАРДОН Эмиль (1834—?), французский литератор — 76
КАМПИОНИ Антонио, итальянский танцовщик, хореограф — 30
КАМПРА Аидре (1660—1744), французский композитор — 74, 81, 153, 175
КАНОББИО Карло (1741—1822), итальянский композитор — 254, 255
КАНЦИАНИ Джузеппе, итальянский хореограф — 30, 161, 253—255, 265, 266
КАПОН Гастон, французский театровед — 44—47, 51, 52, 174
КАРЛ II Евгений (1728—1793), герцог
Вюртембергский с 1737 г.— 98, 101
КАРЛ XII (1682—1718), король Швеции С 1697 Г — 68
К АРМОНТЕЛЬ Луи Каррожис (1717— 1806), французский художник —58
КАСТИЛЬ-БЛАЗ (Блаз Франсуа-Анри-Жозеф. 1784—1857), французский театровед- 102, 103, 193, 194
КАУНИЦ Венцель Антон, киязь (1711— 1794), австрийский государственный деятель — 139
КАЮЗАК Луи де (1700-1759), французский писатель - 40, 82, 98, 99. 143, 166, 207, 215
КЕГЛЕР ХОРСТ (р. 1927), немецкий му. зыковед — 14
КЕЛЛИ Майкл (1764—1826), английский певец, композитор — 206
КЕННИНГАМ Полли — см. Хюс
КЕРУБИНИ Луиджи (1760—1842), итальянский композитор — 66, 205
КИНО Филипп (1635—1688), французский драматург — 25, 197, 218
КИРСТАЙН Линкольн Эдвард (р. 1907), американский деятель балета — 195
КИССЕЛЬГОФ Анна (р. 1938), американская исследовательница балета — 14
КЛАРВИЛЬ, французская танцовщица — 52
КЛЕР, французская танцовщица — 144
КЛЕРОН (Лерис де Латюд Клер-Жозе-фина-Ипполит, 1723—1803), французская актриса — 84, 158
КОЛЛЕ Шарль (1709—1783), французский драматург — 76
КОЛОМБО Джованни Батиста Инпоченцо (1717—1793), итальянский художник — 109
КОМО Антонио, итальянский хореограф — 37
КОНСТАНТИНИ Тонина, итальянская танцовщица — 246
КОРНЕЛЬ Пьер (1606—1684), французский поэт, драматург — 23, 170—173, 178, 216
КОЭН Сельма Джейн (р. 1920), американская исследовательница балета — 14
КРЕБИЙОН-старший (Жолио Проспер, 1674—1762), французский драматург — 23, ИЗ, 126, 157
КРИСТИНА (1626—1689), Королева Швеции в 1645—1654 гг,— 35
КРИСТУ Мари-Франсуаза (р. 1925), французская исследовательница балета — 53
КРОГ Торбен (р. 1927), датский историк балета — 240, 242, 243
КУНЦЕН Фридрих Людвиг Эмилнус (1761—1817), немецкий композитор, работал в Дании — 237
КУАЛЬО Джованни Мария, итальянский художник — 142
278
КУПЕР Марти, современный английский музыковед — 159
КУРЦ Даниэль, польский хореограф — 235, 236
ЛД БОРД Жан-Беижамен де (1734— 1794), французский композитор — 50, 51
ЛАБРЮИЕР Жан Де (1645—1696). французский писатель — 52
ЛАВАЛЬ Антуан-Бандьсрн. французский танцовщик — 42
ЛАНДЕ Жаи-Батист (?—1748). французский танцмейстер — 33, 36. 246
ЛАНИ Жан-Бартельми (1718—1786), французский танцовщик, хореограф — 29, 44, 49. 69, 70, 163, 262
ЛАНИ Лунза-Мадлен (1733—1777), французская танцовщица — 29, 69, 70
ЛАНКРЕ Никола (1690—1743), французский художник — 185
ЛАПОРТ Жозеф де (1713—1779), французский писатель, аббат — 76
ЛАРОШФУКО Франсуа де, герцог (1613—1680), французский писатель — 117
ЛЕБРЕН ЛуН-Себастнан (1764—1829), французский композитор — 201
ЛЕБРЕН Шарль (1619-1690), французский художник — НО
ЛЕВАШЕВА Ольга Евгеньевна (р. 1912), музыковед — 133, 134
ЛЕВИНСОН Андрей Яковлевич (1887— 1933), историк балета — И, 228
ЛЕВЬЕ Нанси, французская танцовщица — 48, 102, 105, 109, 114, 150, 156
ЛЕГРАН Клод, французский хореограф — 30, 253
ЛЕДУ Франсуа Габриэль, французский хореограф — 25, 234—236
ЛЕЙДЕНС Адриан, современный голландский искусствовед — 31
ЛЕКЕН (Кен Анри-Лун, 1729—1778), французский актер — 84, 127, 157
ЛЕКЛЕРК (Дюбуа Нинон), французская танцовщица — 34, 35
ЛЕКОНТ, французский танцовщик — 248
ЛЕМОНЬЕ Пьер-Реиэ (1731—1796), французский поэт, драматург — 53
ЛЕНОТР Андрэ (1613—1700), французский архитектор — 87
ЛЕНУАР, французский архитектор— 101
ЛЕПИ, французский танцовщик — 106, 109, 174, 175
ЛЕ ПИК. французский танцовщик — 259
ЛЕ ПИК Мария-Ева (?—1774), мать Шарля Ле Пика — 259
ЛЕ ПИК Шарль-Феликс-Рейигарт-Огюст (1749—1806), французский танцовщик,
хореограф — 29, 62, 102, 116, 170, 201, 202, 207, 234, 235, 238, 244, 255, 259—268
ЛЕССИНГ Готхольд Эфранм (1729—1781), немецкий писатель, эстетик— 111, 136, 150—152
ЛЕСЮЕР Жан-Франсуа (1760—1837), французский композитор — 205
ЛИВАНОВА Тамара Николаевна (р. 1909), музыковед — 71, 72, 74, 111
ЛИЛИ Джон (1553—1606), английский драматург — 166
ЛИНХЭМ Дерик (1913—1951), английский историк балета —10, 13, 59, 63, 71, 73, 76. 79, 80, 97, 103, 104, 125, 126, 134, 141. 172, 173, 178, 179, 189, 207, 208, 217, 263
ЛИНЬКОВА Людмила Андреевна (р. 1935), исследовательница балета — 13, 248
ЛОЙКО Антоний, польский танцовщик, хореограф — 233
ЛОКАТЕЛЛИ Джованни Батиста (1715— 1785). итальянский антрепренер — 37, 247, 248
ЛОЛЛЕ Нильс Иеисен (1751—1789?), датский композитор — 237, 240
ЛОНЖЕПЬЕР Илер-Бернар де Рокелен, барон де (1659—1721), французский драматург — 113
ЛОРАН Пьер-Жан, французский хореограф — 243
ЛОУСОН Джоан (р. 1907), английская исследовательница балета — 147
ЛУКИАН (ок. 117 —ок, 190), древнегреческий писатель — 155
279
МИГЕЛЬ Пармення, современная исследовательница балета —57
МИЛЛЕР Мари-Анна (1770—1833), французская танцовщица — 204
МИЛЛЕР Эрнест, французский композитор — 191, 205, 206
МИЛОН Луи-Жак (1766—1845), французский хореограф — 54, 244
МИНКУС Алоизнй Людвиг (1826—1917), композитор — 130
МИНЬОТТИ Пьетро, итальянский композитор — 37
МИШО Пьер (1895—1956), французский историк балета — 11, 44, 179
МОЗЕР Роберт Алоиз (1876—1969), швейцарский музыковед — 13, 253, 254, 259, 261, 266, 267
МОЗОН, французская танцовщица — 265
МОКУЛЬСКИЙ Стефан Стефанович
(1896—1960), театровед — 180
МОЛЬЕР (Поклеп Жак-Батист, 1622— 1673) — 126, 138, 141, 216
МОННЕ Жан (ок, 1710—1785), французский антрепренер — 69—71
МОНСИНЬИ Пьер-Александр (1729— 1817), французский композитор — 125, 128, 133, 135, 199
МОНТЕР Барбара, современный американский литературовед — 14
МОР Лилиан (1915—1967), американская исследовательница балета — 14
МОРЕЛЛИ Козимо, итальянский хореограф — 251
МОРЕЛЛИ Франческо, итальянский хо реограф — 251
МОЦАРТ Вольфганг Амадей (1756—1791) — 147, 184, 185, 196
МУРЕ Жан-Жозеф (1682—1738), французский композитор — 40
МУЦАРЕЛЛИ Антонио (1744—1821), итальянский танцовщик, хореограф — 29
НАНСИ — см. Левье Нанси
НАПОЛЕОН БОНАПАРТ (1769-1821) — 67
НЕСТЕРОВ Андрей Алексеевич, танцовщик — 246
?яо
ЛЮДОВИК XIV (1638—1715), король Франции с 1643 г — 31, 57
ЛЮДОВИК XV (1710-1774), король Франции с 1715 г.— 74
ЛЮДОВИК XVI (1754—1793), король
Франции в 1774—1792 гг — 63
ЛЮЛЛИ Жан Батист (1632—1687), французский композитор — 25, 33, 41, 46, 47. 87, 104, 197, 218, 224—227
МАГРИ Дженнаро, итальянский хореограф — 54
МАДДОКС Майкл (1747—1822), английский антрепренер — 252, 253
МАЗАРИНИ герцог — 57
МАЙР Иоганн Симон (1763—1845), итальянский композитор — 189
МАЛИНСКА Марианна, польская танцовщица — 233, 235
МАНФРЕДИНИ Винченцо (1737—1799), итальянский композитор— 256
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА (1755—1793), королева Франции в 1774—1792 гг—59, 121, 135, 169, 203
МАРИЯ-ТЕРЕЗИЯ (1717—1780), императрица Австрии — 217
МАРМОНТЕЛЬ Жаи-Фраисуа (1723— 1799), французский писатель —158
МАРСЕЛЬ р —1759), французский танцовщик — 69, 70
МАРТИНИ Джованни Батиста (1706— 1784), итальянский композитор — 264
МАРТИН И СОЛЕР Висеите (1754—1806), испанский композитор — 266
МЕПОЛЬ Этьен Никола (1763—1817), французский композитор — 205
МЕКУР Жаниа Кампй, французская танцовщица — 247, 248
МЕКУР Лун, французский танцовщик, хореограф — 247
МЕНЕТРИЕ Клод-Франсуа (1631—1705). французский эстетик — 98, 106, 107
МЕССЬЕ, французский композитор — 238
МЕТАСТАЗИО (Трапассн) Пьетро Антонио Доменико (1698—1782), итальянский поэт, драматург— 16, 88, 153, 196, 252, 256
ИИВЕЛОН Луи (ок 1760—J838), французский танцовщик — 66, 187, 201, 262
НОВЕРР Жан-Жорж (1727—1810), французский хореограф — 9—13, 20, 21, 23, 25—30, 36, 38, 39, 41, 47—51, 54—59, 62— 64, 66—135, 137—141, 143, 146-149. 152— 161, 163—231, 234, 235, 238, 239, 241, 244, 246, 249, 252, 255, 259—263, 265—268
НОВЕРР Жан-Люис, отец хореографа — 68
НОДЕН, французский хореограф — 37
НОРКУТЕ Эйба Каэтаиовна (р. 1935), театровед — 13
ВЬЕРИ Пьетро, итальянский хореограф — 31
ОБРИ Пьер, французский танцовщик — 247
ОБРИ Пьер (1874—1910), французский музыковед —• 42
ОБРИ (Дзануцци) Сантина (1738—ок, 1783), итальянская танцовщица — 247
ОГИНСКИЙ Михал Клеофас, граф (1765—1833), польский композитор, владелец крепостного театра — 233
Оперы н оперы- балеты:
АЗОЛАН — 60
АЛЕКСАНДР И РОКСАНА - 196
АЛЬЦЕСТА —41, 88, 104, 122, 165, 170, 253
АМАДИС — 46
АПЕЛЛЕС И КАМПАСПЛ — 166
АПОЛЛОН И ДАФНА — 189
АРМИДА— 25, 46, 47, 58, 197, 238
АСКАНИО НА АЛЬБЕ—196
БАЙКА ПРО ЛИСУ, КОТА, ПЕТУХА ДА _ БАРАНА—122
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА — 153
ГАЛАНТНАЯ ЕВРОПА—81
ГАЛАНТНЫЕ ИНДИИ —46, 69
ГРЕЧЕСКИЕ И РИМСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА— 60, 163
ДАНАИДЫ — ИЗ
ДАРДДНЮС — 52
ДВОЙНОЕ ИСПЫТАНИЕ, или
НЕТТА ПРИ ДВОРЕ — 182
ДЕЗЕРТИР — 133
К.ОЛИ-
ДЕМОФОНТ- 120, 121
ДОБРАЯ ДОЧКА — 196
ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ИЗБРАННИЦА —
133, 135
ДОН ЖУАН - 238
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК — 122
ИЗБРАННИЦА — см. ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ИЗБРАННИЦА
ИСМЕНА И ИСМЕНИЙ — 50, 52
ИФИГЕНИЯ - 179
ИФИГЕНИЯ В АВЛИДЕ — 66. 165, 192, 193, 195
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ— 90, 147, 159, 191, 198—200
КАМПАСПА — 166
КАСТОР И ПОЛЛУКС - Od
КОРОЛЕВА ГОЛКОНДЫ — 199
КРЕОНТ — 253
I,
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ — 105
НИНА, илй СУМАСШЕСТВИЕ ОТ ЛЮБ-
ВИ — 244
ОЛИМПИАДА — 103
ОРФЕИ И ЭВРИДИКА - 90, 122, 144—
146. 165, 194, 195, 238
ОСАДА ЦИТЕРЫ — 146, 147
ОСВОБОЖДЕННАЯ ЦИТЕРА- 195
ПАРИС И ЕЛЕНА — 122
ПИЛИГРИМЫ ИЗ МЕККИ — 148,
ПОКИНУТАЯ ДИДОНА — 111
ПРАЗДНЕСТВА ГИМЕНЕЯ И АМУРА — 166
ПРИЗНАННАЯ ЕВРОПА — 30, 253 ,
ПРИТВОРНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ — 184
РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА — 134, 243
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИЗБРАННИЦА.
или ПРАЗДНИК РАЗУМА — 133
281
РОЛАНД — 198
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА - 243, 244
РЫБАКИ — 237
САНЧО ПАНСА - 129
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК —203
СЕМИРАМИДА—105
СИЛЬВИЯ — 41, 58
СМЕРТЬ БАЛЬДЕРА — 237
ТАЙНЫЙ БРАК— 206
ТА НКР ЕД — 238
ФИДЕЛИО - 205
ХОЛЬГЕР ДАНСКЕ — 237
ЭРНЕЛИНДА, ПРИНЦЕССА НОРВЕЖСКАЯ — 55
ЭХО И НАРЦИСС - 200
ПАВЕЛ I (1754—1801), царствовал с 1796 г.— 267
ПАВЛОВА Анна Павловна (1881—1931), танцовщица — 57
ПАГАНИ, итальянская танцовщица — 144
ПАНИН Петр Иванович, граф (1721— 1789), военный и государственный деятель — 127
ПАПИЛЬОН ДЕ ЛА ФЕРТЕ Дени-Пьер-Жан (1727—1794), министр двора Людовика XVI — 63
ПАРАДИЗИ Леопольд, австрийский танцовщик, хореограф — 248, 250
ПАРИЗО, французская танцовщица — 265
ПАРФЕ Клод (1701 — 1777), французский историк — 113
ПАРФЕ Франсуа (1698—1753), французский историк — 113
ПАШКЕВИЧ Василий Алексеевич (ок. 1742—1797), композитор — 255
ПАЭЗИЕЛЛО Джованни (1729—1799), итальянский композитор — 121, 203, 244, 254
ПЕЗЕЙ Алексаядр-Фредермк-Жак Массоп, маркиз де (1741 — 1777), французский писатель — 133
ПЕЛЕН Маргерит-Анжелика, французская танцовщица — 56, 61, 67
ПЕРГОЛЕЗИ (Драги) Джованни Батиста (1710—1736), итальянский композитор — 121
ПЕРРО Жюль-Жозеф (1810—1892), французский танцовщик, хореограф — 44, 255
ПЕРСЕЛЛ Генри (1659—1695), английский композитор — 202
ПЕРСЮИ Луи-Люк Луазо де (1769—1819), французский композитор — 244
ПЕРУДЖИНИ Марк Эдвард (1876—1948), английский историк балета — 44, 57, 61, 65
ПЕТИПА Мариус (1818- 1910), танцовщик, хореограф — 45, 90, 97, 130, 255
ПЕТР III (1728—1762), царствовал с 1761 г,—248
ПЕТРУШКА, русский танцовщик — 248
ПИНЮЧЧИ Пьетро, итальянский хореограф — 251
ПИЧЧИНИ Никколо (1728-1800), итальянский композитор — 179, 184, 196—198
ПЛИНИЙ-старший Ган Секунд (ок. 24— 79), древнеримский ученый, писатель — 166
ПОЙНЗИНЕ Антуан-Александр-А ири
(1735—1769), французский драматург — 166
ПОМПАДУР (Пуассон Жанна-Антуанетта), маркиза де (1721—1764), с 1745 г. фаворитка Людовика XV -—74, 81
ПОМПЕАТТИ Анджело, итальянский хореограф — 37
ПОТЕМКИН Григорий Александрович, князь (1739—1791), военный и государственный деятель — 266
ПРАМ Кристеи Хенриксен (1756—1821), датский поэт — 240—242
ПРАСКОВЬЯ, русская танцовщица — 248
ПРЕВИЛЬ (Дюбус Пьер-Лун, 1721 — 1799), французский актер — 69, 70, 138
ПРЕВО Франсуаза (1680-1741), французская танцовщица, хореограф — 23, 40, 41, 170
ПРИЙСТ Джозиас (? —1734), английский хореограф — 202
282
ПРОДОМ Жак-Габриэль (1871 — 1956),
французский музыковед — 146
ПУЖЕН Лртюр (Паруас-Пужен Франсуа-Огюст- Артюр, 1834—1921), французский музыковед — 184, 185
ПУНТ Ян, голландский танцовщик, хореограф — 31
ПУССЕН Никола (1594—1665), французский художник — 195
ПЬЕРО делла Франческа (ок. 1420—1496), итальянский художник— 195
ПЮВИНЬЕ (1735—?), французская танцовщица — 69
РАДЗИВИЛЛ Иероним Флориан, киязь (1759—1786), владелец крепостного театра в Польше — 233
РАДЗИВИЛЛ Михаил Казимир, киязь (1702—1762), владелец крепостного театра в Польше — 233
РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749— 1802), писатель —212
РАЙКОВ Гаврила Иванович, танцовщик — 250
РАМО Жан-Филипп (1683—1764), французский композитор — 46, 52, 53, 69, 74, 87, 89, 105, 166, 175, 197, 226
РАСИН Жан (1639-1699), французский поэт, драматург — 23, 126, 192, 216
РАУПАХ Герман (1728—1778), немецкий композитор — 257
РЕБЕЛЬ Жаи-Фери (1661—1747), француз* ский композитор — 40, 52
РЕЙНА Фердинацдо (1899—1969), французский историк балета —30
РЕйНАЛЬ Гийом-Тома-Фраисуа (1713— 1796), французский историк, аббат — 132
РЕНЬЕ Аири-Франсуа-Жозеф де (1864— 1936), французский писатель —60
РЕНЬЯР Жан-Франсуа (1655—1709), французский драматург — 33
РИБУ Луи (1722—1759), французский актер — 157, 158
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич (1844—1908), композитор — 122
РИНАЛЬДИ Антонио —см. ФОССАНО
РИНАЛЬДИ Джулия, итальянская танцовщица — 246
РИЧ Джон (1682-1761), английский ак-тер-мим, антрепренер — 259
РИЧАРДСОН Семюэл (1689—1761), английский писатель — 196
РОДОЛЬФ Жаи-Жозеф (Рудольф Иогаин Йозеф, 1730—1812), французский композитор немецкого происхождении — 21, 50, 51, 103, 105, 109, 111, 166, 169
РОЗЕНСТАНД Гойске (1752-1803), датский критик — 239
РОЗИНГ МАЙКЛ (1756—1818), датский актер — 242
РОСЛАВЛЕВА (Реиэ) Наталия Петровна (1907—1977), историк балета — 13
РОССИ Гертруда, итальянская танцовщица — 263—267
РОССИНИ Джоаккиио Антонио (1792— 1868), итальянский композитор — 205
РОШФОР Жан, французский танцовщик, хореограф — 32
РУДЖАНО, итальянская танцовщица — 144
РУДОЛЬФ Иоганн Иозеф — см. Родольф Жаи-Жозеф
РУЖИЦКА Магдалена, польская танцовщица — 235
РУССО Жаи-Жак (1712—1778), французский писатель— 16—18, 39, 84, 131, 214, 219
РЫМИНСКИЙ Михаил (?—1798), польский танцовщик — 233—236
САККО Аидреана, итальянская танцовщица — 247
САККО Джованни Аитоиио (1708—1788), итальянский танцовщик, хореограф — 37, 38, 161, 235, 247
САККО Либера, итальянская танцовщица — 247
САКСОН Грамматик, датский летописец XII в.—240
САЛЛЕ Мари (1707—1756), французская танцовщица, хореограф — 23, 40—42, 53, 65, 67, 69, 82, 116, 137, 158, 202, 226
САЛЬЕРИ Аитонио (1750—1825), итальян* ский композитор — 30, ИЗ. 253
283
САНТЛОУ Эстер (ок 1690—1773), апглий ская танцовщица, актриса - 27, 65
САРТИ Д/кузеппе (1729—1802), птальян ский композитор — 37, 255
СЕВИНЬЕ Мари де Рабоген Шанталь, маркиза де (1626—1696), французская писательница — 133
СЕДЕН Мишель Жан (1719—1797), французский драматург — 128, 135, 191, 243
СЕН ЛЕЖЕ, французский хореограф —31
СЕРВАНТЕС де СААВЕДРА Мигель (1547—1616) — 128, 130, 131
СЕРГЕЕВА Аксинья, русская танцовщи ца — 246
СЕСИЛЬ — см Дюмениль ,
СИМОНЕ, французская танцовщица — 20»1
СИМОНЕ, французский танцовщик, хореограф — 265
СИТАНСКА Дорота, польская танцовщица — 235, 236
СКАРЛАТТИ Доменико (Г6®5—1757),
итальянский композитор — 121, 148
СКИПИНГ Мерн (р 1902), английская г танцовщица, хореограф, историк балета — 33—35
СЛЕЙТЕР Каролина, голландская танцовщица — 31
СЛЕЙТЕР Шарлотта, голландская танцовщица — 31
СЛИНГСБИ Симон, английский танцовщик — 262, 263
СЛОНИМСКАЯ Ида Исааковна (р 1903) — 13
СЛОНИМСКИЙ Юрий Иосифович (1902— 1978), историк балета — 12
СЛОТСБЕРГ Шарлотта, шведская танцов щнца — 35
СМИРНОВ Борис Александрович (р 1918), театровед — 13
,СОБАКИНА Арина, танцовщица — 250 СОВЕР Мари-Луиза, французская танцов
? щнца, -актрисе — 70
GOBTEP Франсуа, французский танцовщик, хореограф — 102
СОЛИНЬИ, французская танцовщица — 34
СОЛЛЕРТИНСКЙЙ Иван Иванович
(1902—1944), музыковед — 11, 98, 99, 117, 153, 154
СОЛОМОНИ Джузеппе старший (1710— 1777), итальянский танцовщик, хорсо граф — 29, 251—253
СОЛОМОНИ Джузеппе младший, итальянский танцовщик, хореограф — 116, 251, 252
СОЛОМОНИ Франческо, итальянский танцовщик — 251, 252
СПОНТИНИ Гаспаре (1774—1851), итальянский композитор — 205
СТАБИНГЕР Маттиас (1750 е—1815), не меикнй композитор — 254
СТАНИСЛАВ I ЛЕЩИНСКИЙ (1677-1766), король Польши в 1704—1764 гг — 52
СТАНИСЛАВ-АВГУСТ ПОНЯТОВСКЙИ
(1732—1798), король Польши в 17-64— 1795 гг — 234, 235
СТАРЦЕР Йозеф (1726—1787), австрийский композитор — 20, 51, 121, 125, 129, 134, 170, 172, 173, 249
СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович (1882— 1971), композитор — 122
СТУПНИКОВ Игорь Васильевич (р 1932), литературовед — 13
СТЮАРТ Леонора, датская актриса — 242
СУМАРОКОВ Александр Петрович (1717— 1777), "поэт, драматург— 25, 257, 258
СУРИЦ Елизавета Яковлевна (р 1923), историк балета — 13
ТАЛЬОНИ Карло, итальянский танцов щиь — 29, 30
ТАНИ Джино, современный итальянский историк балета—'12, 138, 139, 146, 161, 162^ 223
ТАОЛАТО Альвизо, итальянский танцовщик, хореограф — 161, 247, 248
ТАССО Торквато (1544—1595), итальянский позт — 215
ТАЦИТ Публий Корнелий (ок 55—ок 120), древнеримский нсторнк — 117
ТЕЙЛОР Уильям (1763—1834), деятель английского театра, литератор — 202
284
ТЕНИРС Давид младший (16K1-H69D),
фламандский художник--77, 178
ТЕОДОР (Крепе Мари Мадлен, 1760—
1799), французская танцовщица — 201
ТИЗЕНГАУЗ Карл, граф, содержатель крепостного балета в Польша—234,’ 235
•ТИМОФЕЕВА Авдотья, русская * тайцов щица — 246, 247
ТИРСО ДЕ МОЛИНА (Телье^ Габриель, 157Р—1648), испанский драматург — 141
ТОСКАНИНИ Луиза, итальянский танцовщица — 108, 109, Ц4
ТОСКАНИНИ Уолтер, современный рик балета — 13, 120, 212 ' " л
TO1IOPKQB Афанасий, танцовщик — 246
ТРАНСИНОР, танцовщик — 248
ТРАЕТТА Томазо (1727—1779), итальяи ский композитор — 238 ,
ТРИАЛЬ Антуан (1736—1795), французский певец, композитор — 41
ТУРКИ, итальянский танцовщик — 144
ТУРСКА Ирена (р 1912), польская исследовательница балета — 233
УАЙТХЕД Уильям (1715—1785), английский драматург— 171
УИВЕР Джон (1673—1760), английский хореограф—22, 27, 116, 137, 202
УИНТЕР Мариан Хаппа (р 1910), английская исследовательница балета—10, 13, 32, 48, 54. 102, ПО, 119, 144, 145, 171, 172, 198, 211, 248. 251, 252, 259
УЛЬРИКА ЭЛЕОНОРА (1688—1744), корэ лева Швеции с 1719 г — 33
УОЛПОЛ Орейс (1717—1797), английский писатель — 175
УРИО Жозеф (1713 -1788), французский литератор — 48, 49, 108 — 110, 112, 114
ФАБИАН И Микеле, итальянский хорео граф — 29
ФАВАР Марн Жюстина (1727—1772), фрак цузская актриса - 64, 65
ФАВАР Шарль-Сим..* (1710—1792), французский драматург — 64, 69, 82, 128—
130, 133, 135, 146, 147, 179—182
ФЕЙЕ Рауль (1660—1710), французский хореограф — 219
ФИЛИДОр (Диникан Франсуа Андре 1726—1795), французский кЬмпозитор — 55, 125, 128-130, 133
ФЛОКЕ Этьен Жозеф (1748-1785}, французский композитор — 53, 60
ФОКИН Михаил Михайлович (1880— 1942), танцовщик, хореограф — 78, 422
ООЛЬЯЦЦИ Марйя Тереза (1733—1792), итальянская танцовщица — 29, 137—139, 228
ФОНВИЗИН Денис Иванович (1^44— 1792), ццеатель — 127 ! ш
ФОРТИ Джузеппе, итальянский anfrpfcnpe нер — 237 м ? >
ФОССАНО (Ринальди Аитоцио)Н|п^альй'й-ск-ий танцовщик, хореограф 361, 246 s
«ФРАГОНАР Жац Оноре ,41732—1806), Французский художник59, 60, 72 * и ’
ФРАНКЕР Франсуа’(T698—1787f, француз ский композитор — 52
ФРИДРИХ II (1712—1786), король Пруссии с 1740 г — 70
ФРОССАР, французская танцовщица — 34
ФРОССАР Луи, французский танцовщик — 34, 35
ФЮЗЕЛЬЕ, французский драматург-сценарист — 163
ХАГМАН Софи, шведская танцовщица — 35
ХАРТ, композитор при польском дворе — 235
ХАРТМАН Иоганн Эрнст (1726—1793), датский композитор — 237
ХИЛЛЕР Иогани Адам (1728—1804), немецкий композитор — 125
ХИЛЛИГСБЕРГ, танцовщица в Лондоне — 204, 265
ХИЛЬФЕРДИНГ Франц Антон Кристоф (1710—1768), австрийский хореограф-12, 13, 20, 23, 37, 94, ИЗ, П6, 121, 128, 137—140, 142, 159, 160, 213, 214, 219, 247, 248, 252—256, 259, 260
ХОЛЛИ, австрийский композитор — 125
ХОЛЬНИЦКИЙ Стефан, польский танцовщик — 235
285
ХЮС (Кснииигем) Полли де, голландская танцовщица — 32
ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (1840-1893). композитор — 90, 97
ЧЕГОДАЕВ Андрей Дмитриевич (р. 1905), искусствовед — 71
ЧИМАРОЗА Доменкко (1749—1801), итальянский композитор — 121, 206
ЧИСТЯКОВА Валерия Владимировна (р. 1930), театровед, историк балета— 13
ШАЛЛ Клаус (1753—1835), датский композитор — 237. 240, 242—245
ШЕВАЛЬЕ, французская певица — 267
ШЕВАЛЬЕ (Пейкан де Бриссоль Пьер), французский танцовщик, хореограф-267
ШЕКСПИР Уильям (1564—1616) — 80, 100, 123, 215, 243, 245, 264
ШЕНЬЕ Марн-Жозеф (1764-1811), французский поэт — 117, 118
ШЕРЕМЕТЕВ Николай Петрович, граф (1751—1809), владелец крепостного театра— 115, 116, 234, 252, 255, 267
ШЕСТАКОВ Вячеслав Павлович, советский эстетик — 17
ШЛЫКОВА-ГРАНАТОВА Татьяна Васильевна (1773—1863), крепостная танцов. щица — 115
ШЛЯНЦОВСКИЙ Франтишек, польский танцовщик — 235
ШТЕЙБЕЛЬТ Даииэль (1765—1823), не-
мецкий композитор — 243
ШТЕЛИН Якоб (1709—1785), деятель русского искусства — 246
ЭВАЛЬД Йоханнес (1743—1781), датский писатель — 237
ЭЛЕР, французский композитор — 166
ЭСТРОФЕН, танцовщик — 248
ЯКОБСОН Леонид Вениаминович (1904 — 1975), танцовщик, хореограф — 109
Красовская В.М.
К78 Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра.— Л.: Искусство, 1981.—286 с., 32 л. ил.
В книге рассматривается западноевропейский балетный театр второй половины XVI[I века, творчество выдающихся балетмейстеров Новерра и Анджьолини.
Книга рассчитана на специалистов, а также на любителей балета.
Вера Михайловна
КРАСОВСКАЯ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР
Очерки истории
ЭПОХА НОВЕРРА
Редактор С В Дружинина. Художественный редактор А. И. Приймак Технический редактор М. С Стернина. Корректор М X Липкииа
ИБ Ns 1256
Сдано в набор 27.10 80 Подписано к печати 25 02 81. М-14389 Формат 60Х84’/щ Бумага типографская № 1. Для иллюстраций мелованная. Гарнитура литературная. Печать высокая Усл. п л. 20,46 Уч.-изд. л. 19,31. Изд № 423 Тираж 25 000. Зак. тип. Ns 2197. Цена 2 р. 40 к.
Издательство «Искусство», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский, 28. Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполнграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191126, Ленинград, Социалистическая ул , 14.